"Мир приключений-6" Компиляция. Книги 1-12 [Кир Булычев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Мир Приключений 1964 год №10
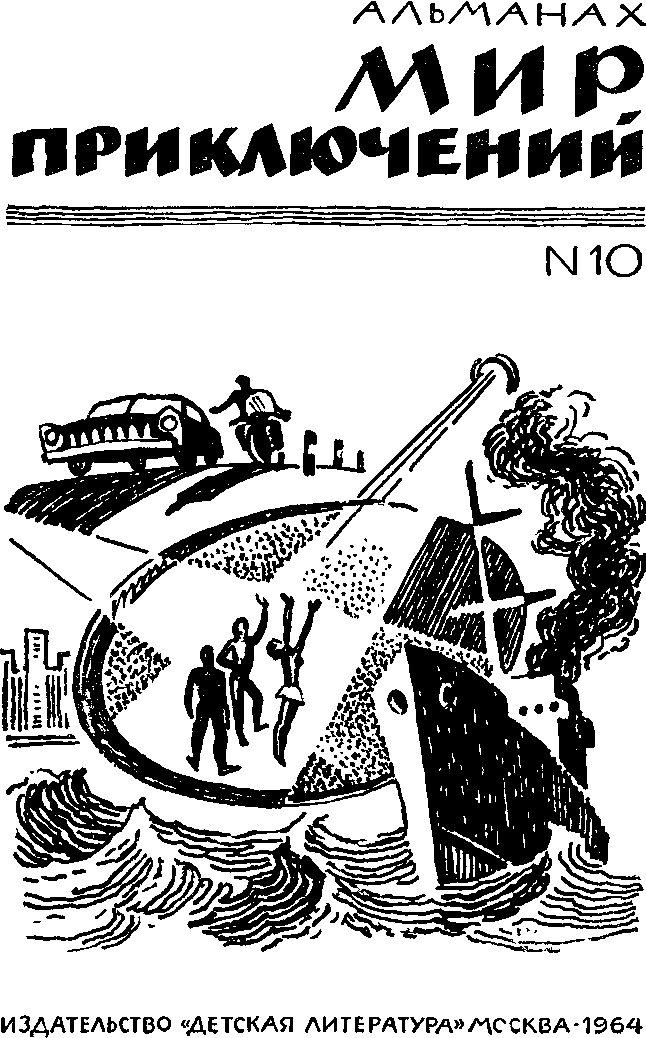

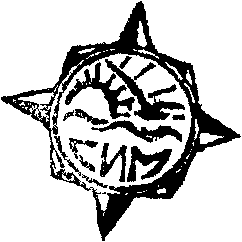
Георгий Кубанский. КОМАНДА ОСТАЛАСЬ НА СУДНЕ Повесть
ПРОЛОГ
Иван Кузьмич внимательно осмотрел себя в зеркало и остался недоволен. Швы кителя лоснились: не помогли ни утюг, ни бензин. Третий год Иван Кузьмич был не у дел, жил на пенсию, а потому и не считал нужным обновлять морскую форму. Зачем она старому капитану, уволенному на покой после резкого столкновения с начальником тралового флота? А теперь вот как обернулось. В обком приглашают, и пойти не в чем. — Вспомнили! — Иван Кузьмич сердито посмотрел в зеркало, как бы упрекая свое отражение. — Сам Титаренко приглашает!.. Ничего хорошего от разговора в обкоме Иван Кузьмич не ждал. Всю жизнь не везло ему с начальством: то в ненужный спор ввяжется, то ответит не так или разгорячится, лишнее скажет. Настроение оставшегося не у дел старого капитана и без неожиданного приглашения было неважное. С первых дней войны Баренцево море стало театром военных действий. Вражеские подводные лодки, рейдеры и авиация стремились наглухо закупорить Мурманск, закрыть к нему доступ судов из союзных стран. Траловый флот прекратил свое существование. Рыбаки были мобилизованы. Траулеры, наскоро переоборудованные, вооруженные небольшими пушками, подняли на гафелях военно-морские флаги и превратились во вспомогательные суда. Да и сам Мурманск — веселый шумный порт — стал прифронтовым городом. После того как наступление немецких войск на суше было приостановлено и долина реки Западная Лица стала кладбищем отборных горно-егерских частей Германии, противник перенес свои усилия на море и воздух. Шквальные бомбежки сотрясали город. Горящие дома стали в нем обыденным зрелищем. Искореженные металлические конструкции, развалины строений и пожарища, огороженные старыми досками воронки на улицах, битое стекло на тротуарах и заколоченные фанерой окна говорили о войне, об опасности. Иван Кузьмич натянул шинель, взял шапку и вышел из дому. Он уже подходил к зданию обкома, когда неистово взвыли сирены. С далеких железнодорожных путей откликнулись тревожные гудки паровозов, из торгового и рыбного портов — мощные гудки пароходов. Было что-то отчаянное в надрывном реве могучих машин, словно они взывали о помощи, защите. Иван Кузьмич заметил впереди дружинников с красными нарукавными повязками и почти вбежал в обком. Тяжело дыша, поднялся по лестнице. В кабинете Титаренко Иван Кузьмич увидел бывшего капитана “Первомайска” Бассаргина и недовольно насупился. Старик не любил холодноватого и, как ему казалось, кичащегося своим высшим образованием Бассаргина. Присмотреться ко второму посетителю — мужчине лет пятидесяти пяти, в мешковато сидящем морском кителе, — Иван Кузьмич не успел. — Вот и все в сборе! — встретил его Титаренко и показал рукой на стул. — Прошу! Иван Кузьмич сел. Опершись руками на колени, он выжидающе смотрел на секретаря обкома. — Ваше письмо в редакцию “Правды”, Иван Кузьмич, переслали нам, — сказал Титаренко. — Если оставить в стороне ненужную резкость тона, то следует признать, что требования ваши совершенно справедливы и по-настоящему патриотичны. Первые выходы траулеров в море пока не дали желательных результатов. Кстати, вы не одиноки. В обком поступило немало таких же писем. Это и понятно. Продовольственное положение наше крайне напряженное. Вы знаете, как висит над железной дорогой вражеская авиация. В минувшем месяце нам особенно не повезло. Люди знают это, требуют: надо ловить рыбу. Но где ловить? — Титаренко развернул на столе навигационную карту, испещренную условными знаками, не имеющими отношения к мореплаванию. — Посмотрите на карту. Шпицбергенская банка — самая уловистая. Неподалеку от нее проходят караваны судов из союзных стран в Мурманск и Архангельск. Сюда противник бросил крупные военно-морские и воздушные силы. — Титаренко достал из деревянного стакана карандаш. Пользуясь им как указкой, он обвел на карте неровный круг от южных островов Шпицбергенского архипелага до берегов северной Норвегии. — Менее опасны отдаленные Новоземельская и Гусиная банки. Но и там постоянно держатся вражеские рейдеры, стерегут пути в Белое и Карское моря. — Титаренко показал на карте силуэты боевых кораблей. — Мурманское мелководье. На подступах к Кольскому заливу особенно активны вражеские подводные лодки и авиация. А рыбаки твердят свое: надо ловить. Штабы фронта и Северного флота требуют рыбы. Но где взять ее? Этого нам не подскажет никто, кроме старых опытных капитанов. — Надо искать новые районы промысла? — понял Бассаргин. — Новые районы промысла, удаленные от мест активных военных действий, — уточнил Титаренко и показал на карту. — Примерно здесь. — У Колгуева острова можно промышлять, — вставил Иван Кузьмич. — Прошлый месяц ходили наши туда. — Далеко, — сказал Титаренко. — А главное, ненадежно. Район Колгуева и горло Белого моря вот-вот закроют льды. — Сложное дело! — Бассаргин покачал головой. — Поиски косяков трески, организация промысла… даже судовождение сейчас не похожи на все то, к чему мы привыкли в мирные годы и умеем делать. Настоящих рыбаков нам не собрать и на один траулер. — К этому мы еще вернемся, — остановил его Титаренко. — Обком решил послать на поиск трески три траулера: “Ялту”, “Таймыр” и “Сивуч”. Капитаном “Ялты” мы назначаем вас, товарищ Бассаргин, заместителем по политической части Корнея Савельича Бышева. — Он показал на молчавшего все время пожилого мужчину. — И вас, Иван Кузьмич, старшим помощником. — А команда? — спросил Бассаргин. — Экипаж укомплектуем из тех, кто писал нам, что хотят пойти на промысел. — Из белобилетчиков? — уточнил Иван Кузьмич. — В основном… — Титаренко помолчал, подбирая нужные слова, — из лиц, освобожденных от военной службы. — А других, — теперь уже Иван Кузьмич запнулся, подбирая нужные слова, — не освобожденных от военной службы, не будет? — Просится на промысел молодежь, окончившая ремесленное училище. Отберем из них подходящих ребят. — Да-а! — озадаченно протянул Иван Кузьмич. — Команда! — А как со снабжением? — круто повернул нелегкий разговор Бассаргин. — Обеспечим. — Титаренко внимательно осмотрел собеседников. — Дело это добровольное. Откажетесь — никто вас не упрекнет.НА “ЯЛТЕ”
Иван Кузьмич стоял на открытом ходовом мостике недалеко от капитана. Опираясь обеими руками на серебристый от инея поручень, он смотрел туда, где за высокой грядой прибрежных скал остались город, Кольский залив. С востока надвигались ранние осенние сумерки. Вершины заснеженных сопок слились с серым небом. Потускнели обращенные к морю голые каменистые обрывы. Нигде ни огонька. И оттого, что берег не провожал рыбаков веселыми переливами огоньков и задорным подмигиванием проблесковых маяков — “мигалок”, опасность словно надвинулась на судно, стала близка, почти физически ощутима. В темнеющем небе медленно плыли вдоль острова Кильдин три зеленых огонька. Внизу, под трапом, вспыхнул негромкий спор. Несколько голосов утверждали, что летят “наши”. Один упорно повторял: “они”. — На полубаке! — крикнул капитан. — Почему не докладываете о самолетах? — Слева по корме три самолета! — послышался голос впередсмотрящего. — Докладывайте обо всем, что покажется похожим на судно, подводную лодку или самолет, — приказал Бассаргин. — Есть докладывать о судах, подлодках и самолетах! — повторил впередсмотрящий. Иван Кузьмич недовольно поморщился. Вот оно, положение старшего помощника! Стоишь на вахте, а капитан командует за тебя. Пока “Ялта” выходила из Кольского залива, Иван Кузьмич еще мирился с тем, что Бассаргин вел траулер. Так заведено издавна: капитан сам выводит судно из фиордов. Но “Ялта” уже в открытом море, а Иван Кузьмич все еще стоит за плечами Бассаргина, как зеленый дублер… Многое в этом рейсе вызывало у него нелегкие раздумья. Распорядок жизни на “Ялте” был тщательно разработан в те несколько дней, которые были затрачены в Мурманске на оборудование траулера и обучение экипажа. На полубаке дежурил впередсмотрящий — старый опытный матрос. Следить ему приходилось за воздухом и морем. В любую минуту в волнах мог появиться перископ подводной лодки или пенистый след торпеды. Второй пост наблюдения находился на корме. Непрерывно дежурили и у зенитного пулемета, установленного на ходовом мостике. Да и вахтенный штурман посматривал на море и небо. В такое время лишний внимательный взгляд не помешает. Особенно беспокойны были первые часы после выхода из Кольского залива. Посты наблюдения дважды замечали еле приметные вдалеке дымки. Избегая встречи с неизвестными судами. Бассаргин резко менял курс. Хоть маловероятно было появление надводных кораблей врага невдалеке от Кольского залива, все же осторожность была нелишней. Первая же встреча с гитлеровским военным судном стала бы для тихоходного и почти безоружного траулера и последней. Долог, очень долог показался рыбакам полный тревог и постоянного ожидания опасности короткий осенний день. Зато длинная ночь прошла необыкновенно быстро. Словно разным временем измерялись день и ночь: светлые часы — бесконечно длинные, темные — короткие. С одним никак не могли свыкнуться — не только новички, впервые ступившие на палубу траулера, но и бывалые рыбаки — с затемнением. Все наружное освещение “Ялты”, даже топовые огни, было выключено. Иллюминаторы задраены наглухо. Лишь над входами в палубную надстройку и жилые помещения под полубаком еле заметно выделялись прикрытые металлическими козырьками синие лампочки. Затемнена была и ходовая рубка. Укрепленная под потолком синяя лампочка бросала расплывающийся круг света на машинный телеграф и штурвал, слегка отсвечивала на блестящих и светлых предметах. Не только работать, даже передвигаться по палубе, загроможденной бочками, короткими толстыми досками для сборки трюмных чердаков, протянутыми от лебедки к траловым дугам стальными ваерами, было трудно. Уже после первых учений в Кольском заливе три матроса ходили со ссадинами, а штурман Анциферов с синяком под правым глазом. — Затемнение нарушаешь? — посмеивались над ним товарищи. — С фонарем по палубе ходишь? А еще начальник ПВО! — Фонарь-то синий, — отшучивался Анциферов. — Под цвет затемнения! Иван Кузьмич ходил по темной рубке, прислушиваясь к доносившимся с палубы голосам. Тралмейстер Фатьяныч с первом вахтой просматривал, вернее, прощупывал трал: нет ли в нем прорех или слабых мест? Матросы путались в растянутой на палубе сети, мешали друг другу. Учить надо людей. Тренировать и тренировать. Но как тренировать? Старые, промеренные десятилетиями навыки полетели к чертям. А новые? За трое суток их не выдумаешь… Неожиданно в окнах рубки отразился слабый, зыбкий свет. В стороне над морем повисла сброшенная с самолета ракета — “люстра”. Постепенно разгораясь, она осветила мачты и спасательные шлюпки, замерших на палубе матросов. — Курс двести шестьдесят! — негромко скомандовал Иван Кузьмич. — Есть курс двести шестьдесят! — также негромко ответил рулевой, быстро перекатывая штурвал. Траулер круто заворачивал в сторону от самолета. Вторая “люстра” вспыхнула уже значительно левее. Отсветы на мачте и шлюпках таяли и скоро погасли совершенно. В рубку вошел Анциферов. Иван Кузьмич сдал ему вахту. Осторожно, на ощупь, ступая по невидным ступенькам, спустился он наружным трапом на палубу. Первое, что услышал Иван Кузьмич, — смех и одобрительные возгласы: — Вот дает! — Ну и травит Оська! Впервые с начала рейса Иван Кузьмич испытал облегчение. Люди смеются. Даже вражеские “люстры” не действуют на них. Хорошо! Не замеченный никем в темноте, он остановился возле работающих матросов. — …Мне в жизни всегда везло! — разглагольствовал Оська. — Во всем. Кроме помполитов. Стоит мне прийти на судно, как меня начинают перевоспитывать. Вот и наш комиссар! Завел в салоне разговор. Портишь, говорит, свою биографию. Какую биографию? Откуда у меня биография? С восьми лет меня иначе, как босяком, не звали. В десять я бросил школу. Хотите знать почему? В апреле очень хорошо клевал бычок… — К чертям собачьим тебя с твоей Одессой вместе! — рассердился Фатьяныч. — Иглу обронил. Ищи теперь… — Минуточку! — остановил вспыхнувший было смех Оська. — Кажется, вы что-то сказали за чертей? Если нашу Одес-су отдать чертям, все святые откажутся от рая и придется запретить прописку в аду. Одесса! Какой город! Море! А какие песенки были в Одессе? Какие песенки! — Оська кашлянул и: запел сиплым, но выразительным голосом:Разве ты не знаешь, что ты меня не любишь?..
Теперь эти песенки забыли. Один Оська Баштан их знает. Все старые одесские песенки запрятаны вот в этом сундуке. — Он звучно шлепнул себя ладонью по лбу. — А когда придет мне время помирать, я запишу их на толстой бумаге, переплету в красную кожу с золотыми финтифлюшками и велю положить со мной в гроб. Чего смеетесь? Мой отец, старый биндюжник, рассказывал, как семнадцать лет назад помер лучший биллиардист Одессы Сеня Купчик. Это был человек! Первый кий Черного моря и всех его окрестностей. По завещанию Сени, в гроб к нему положили: справа любимый кий, слева биллиардный шар, под голову колоду карт. А друзья Сени шли за гробом и пели: “Прощай, город Одесса, прощай, мой карантин!..” — Прямо так и пели? — спросил незнакомый голос. — За гробом? — Очень просто. — И никто ничего? — Какое там “ничего”! — Оська выдержал значительную паузу. — Народу сбежалось! Давка была та… Задавили мороженщика, двух торговок и одну лошадь. — В общем, — подытожил Фатьяныч, — как жил грешно, так и помер смешно. — Смешно! — Голос Оськи надломился. — А теперь в Одессу… стреляют. Смех оборвался. Матросы работали в полной тишине. Лишь изредка слышались в темноте негромкие голоса.ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Иван Кузьмич поднялся с палубы в свою каюту. Снял ботинки, китель. Лег на койку. После гнетущего сумрака рубки и темной палубы в каюте было спокойно, уютно. Каждая вещь лежала на привычном месте. Словно не было ни войны, ни опасного рейса. Но даже и в освещенной каюте покой оказался непрочен. Иван Кузьмич перебирал в памяти минувшие двое суток и остался очень недоволен собой. Забегался. Все еще не присмотрелся не только к команде, но даже и к своей вахте. Народ в нее подобрался пестрый. Старика Быкова и Оську разглядывать нечего. Это рыбаки. А что у Оськи правая нога короче левой… по военному времени изъян не ахти какой. Беспокоил Ивана Кузьмича недавний ремесленник Сеня Малышев, или, как звали его матросы, Малыш. Мальчуган старался на палубе. А вот каков он будет у рыбодела, возле трала?.. И уже прямое недоверие вызывал у старшего помощника недавно освобожденный из заключения Марушко. Была бы воля Ивана Кузьмича — ни за что не взял бы в такой рейс уголовника, хоть и очень дорог сейчас на судне каждый крепкий парень. Ивану Кузьмичу претило в Марушко все: походка с несколько выдвинутым вперед плечом, бахвальство, с каким тот вспоминал лагерь, внешность — в тусклых маленьких глазах его и сильно выступающей вперед нижней челюсти было что-то хищное, щучье. Иван Кузьмич заворочался на койке. Надо было заснуть. А память настойчиво перебирала товарищей по плаванию. Непонятный человек и помощник капитана по политической части Корней Савельич. В рубке он почти не появляется. Все время на палубе, в машинном отделении или в каютах матросов. Иван Кузьмич не очень-то жаловал помполитов. В своем кругу даже называл их “пассажирами”. Но Корней Савельич не походил на помполитов, с которыми доводилось плавать Ивану Кузьмичу. И он присматривался к Бышеву внимательно, даже с некоторой настороженностью. Корней Савельич был одним из последних представителей старого поколения сельских фельдшеров. Окончив фельдшерское училище, он приехал в Кольский уезд, Архангельской губернии. За тридцать шесть лет практики в рыбацком становище Корней Савельич превратился и в терапевта, и в кожника, и в глазника. Он лечил детей, принимал новорожденных. Но увереннее всего чувствовал себя Корней Савельич как хирург. Тяжелый и опасный труд заполярных рыбаков, промышлявших на ёлах, дорах и шняках, доставлял ему богатую практику. В первые же дни войны семья Корнея Савельича эвакуировалась с полуострова Рыбачьего на Волгу. Сам он остался в Мурманске, считая, что старому коммунисту не пристало бежать в тыл. Издавна привыкший к самостоятельности, о какой не смел и мечтать в городских условиях даже опытный врач, Корней Савельич тяготился положением госпитального фельдшера. Дважды обращался он в обком с просьбой послать его в рыбацкое становище. Подбирая экипажи на траулеры, в обкоме вспомнили, что Бышев три года был бессменным секретарем территориальной партийной организации. Ему предложили пойти на “Ялту” помощником капитана по политической части. Заодно, рассчитали в обкоме, экипаж будет обеспечен в море медицинской помощью. Мало ли что может случиться в таком рейсе? Корней Савельич пришел на “Ялту” как хозяин. Сиповатый бас его звучал уверенно, не допуская возражений. В первый же день он сделал замечание боцману Матвеичеву, уложившему хлеб и мясо в один рундук. — А куда же его? — взъерошился боцман. — Не знаю, — отрезал Корней Савельич. — Мое дело указать, ваше — выполнить. Весь день боцман ждал вызова к капитану, готовился к неприятному объяснению. За ужином Бассаргин велел Матвеичеву получить на складе прядину для починки тралов. А вот о рундуке он так ничего и не сказал. Корней Савельич не считал нужным докладывать Бассаргину о том, что не входит в круг прямых обязанностей капитана. В команде скоро заметили это. — Самостоятельный мужик! — говорили матросы. — Комиссар! Самостоятельность Бышева вызвала у Ивана Кузьмича настороженность. Властный тон Бассаргина пришелся ему не по душе, но был понятен. Капитан! Но помполит, ни разу не обратившийся за помощью к капитану!.. Труднее всего придется в плавании с Бассаргиным. Сухарь! Всегда застегнут на все пуговицы. Говорит ровным голосом, будто ни гнева не знает, ни радости. С командирами и пожилыми матросами на “вы” разговаривает. Еще бы! Высшую мореходку кончил!.. В дверь постучали. — Да, да! — Иван Кузьмич поднялся с койки. — Войдите. — Капитан вызывает, — сказали за дверью. В просторной каюте Бассаргина собрались штурманы и механики. Несколько в стороне сидел Корней Савельич, чуть пригнув голову. Коротко подстриженные жесткие усы придавали ему уверенное выражение. — Я собрал вас, чтобы сообщить неприятную новость. — Бассаргин остановился и осмотрел присутствующих, как бы проверяя, какое впечатление произвело на них его предупреждение. — Только что радистка передала мне: “Таймыр” не выходит на связь, не отвечает на вызовы радиостанции порта. — Возможно, неполадки с рацией, — сказал Корней Савельич. — С двумя сразу? — спросил Анциферов. — С основной и аварийной? — Я собрал вас не для того, чтобы выслушивать предположения о состоянии рации “Таймыра”, — недовольно остановил их капитан. — Нам следует принять весть о потере связи с “Таймыром” как серьезное предупреждение и немедленно проверить боевую готовность судна и команды. С завтрашнего дня штурманы и механики в свободное время будут проводить занятия со своими вахтами. Тренируйте боевую, водяную и пожарную тревоги. Приказ — расписание занятий по боевой подготовке — будет вывешен перед ужином на доске объявлений. А вас я попрошу, — он разыскал взглядом сидящую в стороне радистку Зою, — выходите на связь с “Таймыром” и “Сивучем”. И обо всем немедленно докладывайте мне. Капитан встал, показывая, что совещание окончено.“КОЛЕСА”
Рассвет выдался тусклый, скучный. Все было серым: и небо, и волны, набегающие на траулер, даже лица людей казались серыми, скучными, как волны и море, и все, что окружало их. Гулко зарокотала лебедка. Грохот ее, отражаясь в пустых трюмах, быстро нарастал. Скоро он заглушил возгласы матросов, топот грубых рыбацких сапог и стук машины под палубой. Грузовая стрела подняла тяжелые сети и перевалила через борт. Тралмейстер Фатьяныч, шаркая по палубе ногами, обутыми в глубокие калоши, подошел к борту. Опираясь обеими руками на планширь, смотрел он, как трал, медленно раскрываясь в воде, погружался в зыбкую пучину. Иван Кузьмич следил из окна рубки за двумя ваерами — стальными тросами, буксирующими трал за судном по дну моря. Через каждые пятьдесят метров в стальные нити ваера была вплетена матерчатая метка — марка. Плавно соскальзывала она с барабана, плыла над палубой и, переползая через борт, уходила в воду. Четвертая марка ушла под днище “Ялты” — двести метров ваеров. — Сто-ой! — крикнул из окна Иван Кузьмич. Лебедка замедлила движение. Остановилась. — Взять ваера на стопор! Матросы быстро закрепили трал. “Ялта” двигалась медленно, слегка заваливаясь на отягощенный тралом рабочий борт, как бы прихрамывая. Почти все свободные от вахты рыбаки вышли из надстроек. Посматривая на море, они искали приметы, сулящие хороший улов. Одним из первых появился на палубе Анциферов. Молодого штурмана привлекло сюда не любопытство. На траулере он был новичком. В первые дни войны его высадили с небольшим отрядом в тыл продвигающихся к Мурманску гитлеровцев разведать дорогу, питавшую наступление противника. Анциферов был ранен: вражеская пуля раздробила ему локоть. Из госпиталя Анциферова выпустили с несгибающейся правой рукой и, как негодного к строевой службе, направили в райвоенкомат начальником стола учета офицерского состава. Уже первое знакомство с новыми обязанностями привело молодого офицера в смятение. Сидеть и писать! Моряку, штурману погрязнуть в канцелярщине! Да он запутается в писанине сам и других запутает. Анциферов услышал о комплектовании экипажей трех траулеров и побежал в обком партии. Иван Кузьмич с первого же дня плавания взял молодого штурмана под свое покровительство. От него Анциферов узнал устройство рыболовного трала, способы разделки рыбы и многое другое. Но никакие объяснения не могли заменить опыта, и теперь Анциферов с нетерпением ждал: скоро ли поднимут трал, приступят к обработке улова… Волновался не один Анциферов. Подъем трала всегда привлекает рыбаков на палубу. Что даст море? Вдруг в промысловом журнале, в графе “улов в тоннах”, появятся ненавистные “колеса” — нули. Но этот рейс был особый, а потому и волнение матросов нарастало с каждой минутой. Не спешили лишь в рубке. Прошли положенные для траления сорок пять минут, пятьдесят. Миновал час. Окна рубки по-прежнему оставались закрытыми. Наконец Иван Кузьмич появился в окне и подал команду: — Вира трал! Снова загрохотала лебедка. Нестерпимо медленно вползали на борт лоснящиеся смазкой ваера и наматывались на огромный — выше человеческого роста — деревянный барабан. Фатьяныч вскочил на плавно покачивающийся планшир. Придерживаясь обеими руками за ванты, он повис над водой. Маленькие выцветшие глаза его зорко всматривались в море. В глубине замаячило расплывчатое молочно-зеленоватое пятно. Постепенно уменьшаясь, оно становилось все ярче, обретало знакомые очертания тралового мешка. — Колеса! — Фатьяныч сердито сплюнул за борт и с неожиданной для его возраста легкостью соскочил с планшира на палубу. Трал был пуст. Совершенно пуст. Он не захватил даже мелких животных, которыми так богато Баренцево море. “Не мало ли вытравили ваеров? — подумал Иван Кузьмич. — Возможно, трал не лег на дно, а завис в воде?” Он отошел от окна и включил эхолот. Дрожащая синяя стрелка показала глубину моря — около двухсот метров. Все же Иван Кузьмич, спуская трал, вытравил ваеров на марку больше. Но и это не помогло. Снова пришлось записать в журнал ненавистные “колеса”. Теперь уже сомнений не было: под “Ялтой” тянулось голое каменистое дно. — Цедим тралом соленую воду! — раздраженно бросил Иван Кузьмич. — Сделаем еще заход, — ответил Бассаргин. — Потом пробежим миль десять на восток. Попробуем меньшие глубины. — Стемнеет к тому времени, — напомнил Иван Кузьмич. — Рано или поздно, а придется работать с тралом в темноте, — ответил Бассаргин. — Пускай вахты учатся. Ночь выдалась облачная, безлунная. Палуба и надстройки слились с темным небом и морем. Лишь в полукружье синего света, падающего у входа под полубак, время от времени серыми тенями скользили матросы. Спуск трала в темноте был продуман до мелочей еще до выхода в море. Сложнее всего было следить за ходом ваеров. Сколько их вытравлено? В темноте матерчатые марки не видны. Но и тут нашли выход: у траловых дуг стояли два матроса и прижимали палками скользящий за борт ваер. Стоило палке подпрыгнуть- матрос кричал: — Раз, марка пошла-а! — Раз, марка пошла-а! — откликался от второй дуги напарник. И снова, еле заметно поблескивая жирной смазкой, бежал ваер за борт, пока матрос не ощущал новый легкий толчок палки. — Два, марка пошла-а! — кричал он. И, проверяя себя — не ошибся ли? — ждал голоса напарника. Первым спуском трала в темноте руководил сам капитан. По привычке он стоял у поднятого окна, хотя разглядеть что-либо на палубе было невозможно. После шестой марки Бассаргин остановил лебедку. На палубе было тихо. Матросы переговаривались вполголоса. Капитан приказал: громко говорить на палубе могут лишь штурман и тралмейстер. Даже опытные рыбаки, проплававшие в Заполярье десятки лет, не могли сегодня усидеть в надстройке. Впервые за время существования тралового флота приходилось промышлять в полной темноте. И хотя матросы участвовали в учениях на Мурманском рейде и знали, в каких условиях придется им работать, все на палубе было для них сейчас непривычно, вызывало смутное беспокойство. Ведь несколько часов спустя они заменят товарищей у трала, сами будут бегать, натыкаясь на бочки, ваера… Наконец-то “Ялта” завернула. На палубе оживились. Сейчас траулер сделает круг. Крылья трала сомкнутся под водой, чтоб рыба не могла уйти из мешка. А там и подъем… На этот раз, даже в едва приметных отсветах синей лампочки, все увидели грузно повисший на стреле, оплывший книзу куток трала. Фатьяныч надвинул обеими руками зюйдвестку поглубже на голову и нырнул под льющуюся с кутка ледяную воду. Ощупью нашел тросик, стягивающий удавку. Рванул его. Куток раскрылся, и на палубу с грохотом вывалились огромные куски губки. Возле них послышались легкие шлепки. Рыба! Бассаргин сбежал по трапу на палубу. — Дайте нож, — сказал он в темноту. Фатьяныч вытащил из брезентового чехла нож с широким и коротким лезвием и подал его капитану. Бассаргин распорол брюхо трески. Внимательно осмотрел при свете карманного фонарика содержимое желудка. Отбросив выпотрошенную рыбу, он вскрыл другую, третью… — Крепи трал, — негромко приказал капитан, возвращая нож Фатьянычу. Старый тралмейстер понял его, вздохнул. Желудки трески были пустые. В желудке одной из рыб Бассаргин нашел даже откушенный жесткий луч морской звезды. Треска голодала, хватала все, что подвернется. Концентрации рыбы, улова в таком месте ждать было нечего. Снова “Ялта” двигалась на северо-восток, рассекая волны острым форштевнем. Иван Кузьмич сдал вахту. Спускаясь по трапу, он встретил радистку Зою и невольно задержался. Пухленькое миловидное лицо девушки приняло нездоровый, землистый оттенок. Задорные золотистые вихры поникли. Что с ней? Не могла же крепкая девчушка вымотаться за несколько дней! Горе? Откуда оно могло свалиться в открытом море? — Постой-ка! — Иван Кузьмич взял Зою за плечи и спросил с неожиданно прорвавшейся в голосе лаской: — Достается? — Если б вы знали!.. — Зоя зажмурилась и качнула головой. — Трудно? — спросил Иван Кузьмич. — На море у каждого новичка так. Иной отстоит вахту у рыбодела… Спина не гнется. Руки, ноги ломит. Плечом не шевельнуть. Если бы не море кругом — бросил бы все и бежал без оглядки. А прошел еще день и еще… Глядишь — привык. Рыбаком стал. — Лучше б я за рыбоделом стояла! — вырвалось у Зои. — Не думала я, что так будет. — Как? — насторожился Иван Кузьмич. — Не надо об этом. — Зоя уже жалела, что выдала себя. — Мне пора на связь. — Что с тобой? — настаивал Иван Кузьмич. — По шестнадцати часов в день наушники не снимаю. — Зоя вздохнула. — Спать лягу — не могу заснуть. Все кажется, что именно сейчас меня ищут в эфире, передают предупреждение об опасности судну. — Да-а! — Иван Кузьмич не знал, что ответить девушке. Не мог же он, старший помощник, посоветовать радистке относиться поспокойнее к порученному ей делу. И какое сейчас спокойствие? — Извините. — Зоя справилась с охватившей ее слабостью. — Скоро вызов. И, часто стуча каблучками по металлическим ступенькам трапа, сбежала вниз. Иван Кузьмич понял, что самого главного Зоя ему не сказала. Зоя не могла признаться в том, что не длительные дежурства изматывали ее и даже не постоянное напряжение у рации. Четвертые сутки жила она в страшном мире. За иллюминаторами расстилалось серое море. Под палубой мерно стучала машина. А в эфире непрерывно звучали команды на русском, немецком и английском языках, музыка, брань, призывы на помощь. Утром Зоя поймала настойчиво повторяемую фразу: “Погибаем, но деремся! Погибаем, но деремся!” Страшнее всего звучала в наушниках музыка. Порой Зое казалось, что музыканты усердствуют в эфире лишь для того, чтобы заглушить призывы гибнущих в море людей. Иван Кузьмич проводил Зою взглядом и вошел в каюту. Включил верхний свет и настольную лампу. Как ни странно, но на затемненном траулере лучше засыпали и крепче спали при свете. Приснился Ивану Кузьмичу странный сон. Лежит он будто в огромной ложке, а кто-то невидимый раскачивает его, старается вывалить неизвестно куда. Иван Кузьмич уперся руками и ногами в края ложки… и проснулся. Качало. За тонкой переборкой ревел океан. Могучая волна ударила в борт, бросила траулер набок. Чтоб не вывалиться из койки, пришлось покрепче упереться локтями и ногами в ее борта. “Шторма только не хватало! — огорченно подумал Иван Кузьмич. — Везет!” Заснуть он уже не мог. Осенью штормы на Баренцевом море-явление обычное. Но для “Ялты” каждый потерянный день был тяжким ударом. Объяснить шторм было легко. Примириться с ним невозможно.В ШТОРМ
Оська Баштан пришел на “Ялту” с парой белья, завернутой в старую газету, и любимой патефонной пластинкой. На людей, имеющих чемоданы и какое-то имущество, он смотрел как на жалких стяжателей. Зачем ему барахло? Постельные принадлежности и полотенце даст боцман. Стеганку, рабочие сапоги, рукавицы тоже. Миски и ложки есть у поварихи. А остальное?.. Мир вовсе не так плох, как кажется некоторым. Оська без раздумья делился последним с незнакомым человеком и с такой же легкостью садился за чужой стол, не дожидаясь приглашения. Взгляды Оськи на жизнь были несложны. Человечество он делил на пьющих и непьющих. К первым он относился сердечно, на вторых смотрел со снисходительным сожалением. Но уживался он одинаково легко со всеми. На вид Оське можно было дать лет двадцать пять, даже тридцать. Живое, подвижное лицо его усеяли крупные рыжие веснушки. Круглые голубые глазки под сильно приподнятыми короткими бровями придавали ему удивленное выражение. Слушая его, трудно было понять, шутит он или говорит всерьез. Рыбачить Оська начал подростком на родном Черном море. Потом погостил на Каспии и наконец обосновался в Мурманске. Кочевая жизнь ничего не изменила ни во внешности, ни в характере, даже в речи Оськи. По-прежнему он, по неистребимой одесской привычке, говорил “мило” вместо “мыло”, “бички”, а не “бычки”. — Оська! — приставал к нему Марушко. — Скажи “рыба”. — Ну, риба. — Не риба, а рыба, — еле сдерживая смех, поправлял его Марушко. — Я ж и говорю: риба, — невозмутимо отвечал Оська. В каюте первой вахты собрались матросы, очень различные по возрасту и характерам. Центром маленькой артели сразу же стал жизнерадостный, общительный Оська. Старшина вахты Быков — пожилой кряжистый помор с неподвижным скуластым лицом — принадлежал к типу людей, непонятному для Оськи. В рундучке у Быкова хранились две смены белья, старенький пиджачок, меховой жилет и масса мелочей — от иголок до запасного, отменной крепости, шкерочного ножа, сделанного знакомым слесарем из драчевого напильника. Ближе остальных был Оське Марушко. С ним можно обстоятельно потолковать о шумных портовых кутежах, когда заработанное за месяц тяжелого труда бездумно спускалось в два—три дня и к выходу в море Оська оставался, как он говорил, “чист”. Шторм — вынужденный отдых рыбаков. Конечно, когда волны с бешеной силой и настойчивостью бросают судно с кормы на нос и обратно, в “козла” не забьешь. Но Оська и в шторме находил хорошие стороны. В каюте было тепло. Все внимательно слушали его россказни, где причудливо сплетались быль и выдумка. — У пьяных есть свой бог! — разглагольствовал Оська. — Может быть, даже не бог, а маленький заботливый божененок. У него очень много работы. Бедному божененку надо присмотреть, чтобы пьяный дурень не попал под машину, не сломал себе шею, не свалился с причала в воду… Мало ли за чем должен следить наш маленький добрый божененок. Он же один, а нас сколько? Слушайте сюда! Прошлый год загулял я на Первое мая. Утром проснулся в каком-то сарае. За городом. Как меня туда занесло?.. Выхожу из сарая. Холодно. Ветер. Мокрый снег. А я в одном тельнике. И вдруг вижу… огород! На огороде пугало. На пугале бушлат. Зачем, думаю, пугалу бушлат? Мне же он нужнее. Снял с пугала бушлат. Надел. И пошел дальше. Стой, стой! Слушай сюда. — Оська сделал многозначительную паузу. — Откуда взялся бушлат? Как я попал на огород? Божененок привел. В каюту набились слушатели. Пришел кочегар Паша Бахарев — огромный, с плотной жилистой шеей и постоянной смущенной улыбкой. Паша стеснялся своей силы, могучих рук, упругих мышц, выпирающих под застиранной сатиновой рубашкой. Он мог скрутить любого из команды, даже двоих, а доктора нашли у него какую-то болезнь, продержали в больнице, а потом вместо фронта направили на “Ялту”. Паша не раз порывался рассказать товарищам, как хочет он воевать. Но с его медлительной речью рассказ никак не двигался дальше прихода в больницу. Заглянул на веселый шум и боцман Матвеичев. С лица его никогда не сходило постоянное выражение озабоченности. Вот и сейчас он сидел на краешке койки, будто заглянул сюда на минутку и тут же побежит по крайне важному делу. — Гляжу я на тебя, парень, и удивляюсь. — Быков внимательно осмотрел Оську. — Зачем ты добровольно пошел на “Ялту”. — Все же… “Ялта”, — ответил Оська. — Курорт! — Было время, — рассудительно продолжал Быков, не обращая внимания на шутку. — Хаживали мы в море, чтобы заработать, поболе привезти домой. В этот рейс барыши у нас будут небольшие. В сберкассу не понесешь. — Зачем беспокоить сберкассу? — Голубые глазки Оськи простодушно уставились на Быкова. — Сперва вносить, потом выносить. — А если подкопить? — спросил Быков. — Да справить, скажем, костюм. — А вы знаете, как писал великий Пушкин? — спросил Оська. — “Богачу-дураку и с казной не спится. Бобыль гол, как сокол, — поет, веселится”. — Это не Пушкин писал, — вставил Паша. — Никитин. — Неважно, — веско бросил Оська. — Он тоже был великий. — Болтаешь ты!.. — В голосе Быкова прозвучало осуждение. — А нас в любой момент могут жахнуть торпедой в борт. И полетим мы… — Он выразительно показал узловатым пальцем наверх. — Никуда мы не полетим, — уверенно возразил Оська. — Ты-то почем знаешь, что не полетим? — усмехнулся Марушко. — Не полетим, — упорствовал Оська. — Я счастливый. Где Оська — пароход не потонет. И бомба сюда не попадет. Хочешь на спор? — Он протянул руку Марушко. — Если меня разнесет бомба, я плачу тебе тыщу карбованцев. Не разнесет — ты мне. Пошли? Слова его потонули в дружном хохоте. Шум в каюте поднял с койки Малыша. Он осмотрел матросов мутными глазами и, придерживаясь руками за стену, стал пробираться к двери. — Бьет море? — участливо спросил Быков. — Болтает и болтает, — простонал Малыш. — Душу выворачивает! — А ты бери пример с меня. — Оська назидательно поднял палец. — Утром я две тарелки борща навернул да каши с мясом. Все это хозяйство компотом залил. Попробуй… качни! — Не могу. — Лицо Малыша страдальчески скривилось. — От одного запаха еды нехорошо становится. — Пойдем, — поднялся Оська. — Я тебя накормлю. — Давай, давай! — встал Быков. — Не надо, — попятился Малыш. — Так накормлю… забудешь о качке. Оська ухватил Малыша за плечи и, припадая на короткую правую ногу, вытолкнул его из каюты. За ним поднялись и остальные. Буря не затихала. Из непроглядной темени вырастала волна за волной и с глухим рокотом разбивалась об острый форштевень. По палубе с сердитым шипением металась черная вода, захлестывала ноги матросов, тащивших обмякшего, вялого Малыша в надстройку.УДАР
Шторм затих лишь на третьи сутки. Жизнь на траулере быстро вошла в привычную колею. После вынужденного безделья рыбаки трудились на редкость слаженно. Обычная после шторма качка, хлещущая в шпигаты вода почти не мешали им. Бассаргин не вмешивался в работы; когда на палубе все хорошо, незачем дергать людей окриками из рубки. Он молча наблюдал за ними из открытого окна, потом отошел к Ивану Кузьмичу, прокладывающему на карте курс “Ялты”. — Пора бы нам определиться. — Бассаргин показал на топкую карандашную линию на карте. — Шли мы переменными курсами. Да и шторм сбил нас. Прокладка наверняка сейчас неточна. — Хорошо бы определиться, — согласился Иван Кузьмич. — Только вторые сутки ни солнца, ни звезд не видно. — Осень, — ответил капитан. — Можно и две недели не увидеть… Оборвал его возглас с полубака: — Воздух! — Воздух! — подхватили на палубе. — Воздух! Частый, захлебывающийся бой судового колокола смешался с голосами матросов, с надвигающимся басовым гудением самолетов. Анциферов, широко размахивая негнущейся правой рукой, огромными скачками промчался по трапу на ходовой мостик, к пулемету. — Расчехляй! — кричал он на бегу. — Шевелись! Иван Кузьмич в два прыжка оказался у окна. Увидел быстро приближающиеся самолеты. Шли они низко, сливаясь с серым морем, потому и заметили их не сразу. Бассаргин высунулся почти по пояс в окно и закричал: — Занять места по боевому расписанию. Без суеты! Матросы разбежались в разные стороны. Один лишь тралмейстер вскочил на крышку люка и что-то кричал в рубку, показывая на спущенный трал. За “Ялтой” тянулись сотни метров стальных ваеров с тралом. Спущенная тяжелая снасть сковала судно, лишила его наиболее надежной защиты от самолетов — маневра. Бассаргин побледнел. Выхода из положения не было. Даже обрубить ваера и бросить трал было поздно. Покачивающаяся на волнах “Ялта” была неподвижной мишенью для вражеских самолетов. На ходовом мостике застучал пулемет. Звук его гулко, до боли в ушах, отдавался в рубке, заглушал голос капитана. Крайний самолет отвалился от группы, с режущим уши воем спикировал на скованную тралом “Ялту” и промчался над ней. не сбросив бомб. Второй вышел точно на полубак, полоснул по палубе и надстройке пулеметной очередью. — Вот оно что! — оживился Бассаргин, всматриваясь в пролетающий над траулером бомбардировщик. — Стервятники израсходовали бомбы. Пулеметами нас не потопить. Побалуются и уберутся восвояси. Он вытащил из кармана папиросу и тут же отскочил от окна, прижался к стене — по палубе хлестнула струя пуль. — Пройдите по судну. — Бассаргин обернулся к старшему помощнику. — Гоните всех в укрытия. И, словно поторапливая старпома, снова яростно залился на ходовом мостике пулемет. Цепочка светящихся пуль понеслась навстречу снижающемуся самолету. Сбегая по трапу, Иван Кузьмич видел, как самолет пикировал на “Ялту”. Вой его перешел в пронзительный визг, заглушил встречавший его с ходового мостика пулемет. Столбики дымков просекли палубу, ходовой мостик. Звонко цокнул и пули о стальные ступеньки трапа. На спасательном круге появился крохотный вялый огонек. Иван Кузьмич проворно нырнул под трап и увидел выглядывающих из входа в машинное отделение кочегаров. — В укрытие! — закричал он. — Кому говорю? Кочегары смеялись, кричали что-то, показывая на небо. Иван Кузьмич выглянул из-под трапа. Самолеты строились в пеленг, направлением на запад. “Боятся израсходовать боезапас, — понял Иван Кузьмич. — В пути их могут перехватить наши”. И облегченно вздохнул: — Пронесло! Неожиданно в окно рубки высунулся вахтенный матрос. — Старпома в рубку! — закричал он истошным голосом. — Старпо-ом! — Что случилось? — вышел из-за надстройки Иван Кузьмич. — Чего кричишь? — Капитана убило. — Матрос облизнул сухие серые губы и хрипло добавил: — Насмерть.ПРОДОЛЖАТЬ ПОИСК
Бассаргин был еще жив. Полуприкрытые дрожащими веками глаза его неподвижно уставились в потолок рубки. Рядом с отброшенной в сторону правой рукой дымилась папироса с примятым зубами мундштуком. Иван Кузьмич стоял смятенный, не замечая, как в рубку быстро набились люди. Вошел и Корней Савельич с тяжелой санитарной сумкой. Молча раздвинул он рыбаков, обступивших лежащего на решетчатой опалубке капитана, и опустился возле него на колено. Бассаргин приоткрыл глаза и неестественно тонким голосом протянул: — Планше-ет… в среднем ящике-е… На последнем слоге в голосе его прорвалась звучная нота и тут же оборвалась, перешла вхрип. Корней Савельич поднял вялую и странно тяжелую руку капитана. Долго прощупывал он запястье — искал пульс, потом бережно опустил руку Бассаргина на пол. Взгляд ею остановился на боцмане. — Займитесь капитаном, — сказал, поднимаясь с колена, Корней Савельич. Затем он обернулся к Анциферову: — Становитесь на вахту. Мы со старшим помощником будем в радиорубке. Задолго до вызова порта старпом и помполит втиснулись в тесную радиорубку. Оба посмотрели на свободное “капитанское” кресло и остались стоять. Корней Савельич не выдержал тяжелой тишины радиорубки. — Как “Сивуч”? — спросил он у Зои. — Берет по полтонны в подъем, — ответила не оборачиваясь радистка. — Рыба неровная: треска, пикша, немного ерша-камбалы. — Все же берут по полтонны, — вздохнул Иван Кузьмич. — Где они ловят? — В квадрате сорок два—шестнадцать. — К берегу жмутся, — неодобрительно заметил Корней Савельевич. — Рискуют. — Не от хорошей жизни рискуют, — нахмурился Иван Кузьмич. — Видно, тоже… покатались на “колесах”. — Запрашивали, что делать с ершом-камбалой… — Зоя оборвала фразу и подняла руку, требуя тишины. — Капитана вызывают. — Стучи. — Иван Кузьмич с неожиданной решимостью опустился в “капитанское” кресло. — Стучи так… Докладывая о гибели капитана, Иван Кузьмич внутренне порадовался, что связь на море поддерживается ключом, а не голосом. Волнение его прорывалось в сбивчивых фразах, в раздражающих паузах. Несколько раз Корней Савельич осторожно приходил на помощь: то нужное слово подскажет, то напомнит пропущенное. И оттого что за плечами стоял человек, переживающий каждое слово нелегкого доклада, Ивану Кузьмичу стало легче. Постепенно он овладел собой. Мысль стала точнее. Нашлись и нужные слова… — Продолжайте поиск рыбы, — ответил порт. — Нападение самолетов в вашем квадрате было случайным. Не приближайтесь к берегу. Там опасность значительно серьезнее. — Напоминаю, — диктовал радистке Иван Кузьмич, — продовольствия осталось дней на десять, горючего на четырнадцать. — И я напоминаю вам, — ответил порт. — “Таймыр” мы больше не вызываем. Вы поняли меня? “Таймыр” не вызываем. Вы ведете поиск за двоих. Продолжать поиск!.. Очень не хотелось Ивану Кузьмичу принимать командование траулером со значительно подтаявшими запасами продовольствия, топлива, пресной воды, В трюмах — чердаки без единой рыбки. Оборудованием “Ялты” и комплектованием команды занимался Бассаргин. Была бы воля Ивана Кузьмича, собрал бы он на судно одних поморов. Пускай даже и немолодых. Народ этот привычный к полярным плаваниям, умелые рыбаки… Да что думать о несбыточном? Сейчас следовало сделать все возможное, чтобы не уронить доброй славы удачливого и смелого промысловика. Какая слава? Нужна рыба. Эти два слова вытеснили все остальное. В голове Ивана Кузьмича уже складывался свой план поиска косяков трески, изменения в составе вахт…ПЛАНШЕТ ПОКОЙНОГО КАПИТАНА
Хоронили Бассаргина поздней ночью. Проводить капитана вышли все свободные от вахты матросы и командиры. На палубе было тихо. Лишь на полубаке с каждым размахом качки слышался легкий удар судового колокола. Мягкий, протяжный звон походил на похоронный. В напряженной тишине излишне громко прозвучал голос Ивана Кузьмича: — Флаг приспустить! Короткое прощальное слово Корнея Савельича. Салют из трех винтовок коротко разорвал тьму, осветил пляшущие в воздухе снежинки, мрачные лица моряков. Бассаргин скользнул по доске. За бортом мягко всплеснула волна, принимая навечно тело моряка. Возвращаясь в надстройку, Иван Кузьмич вспомнил последние слова Бассаргина. Планшет! Святая святых промыслового капитана. Сам Иван Кузьмич хранил свой планшет, как величайшую ценность. Даже оказавшись не у дел, он три года берег карты Баренцева моря, на которых много лет отмечал наиболее уловистые подъемы, направления заходов траулера, хорошие концентрации рыбы и опасные для траления места: скалистое дно, обильные скопления губки, подобно наждаку протирающей прочную пеньковую сеть. С трудом преодолевая тяжелое чувство, вошел Иван Кузьмич в каюту покойного капитана. Каждая мелочь здесь напоминала о Бассаргине, напоминала настолько живо, что казалось, сейчас он откинет полог койки и спросит: — Как там… на вахте? Иван Кузьмич открыл письменный стол, достал чужой планшет. Бережно развернул хорошо знакомую карту и стал всматриваться в отметки. Сделаны они были разноцветными карандашами, аккуратно, в расчете на долгую службу, а потому и разобраться в них было нетрудно. Склонившись над планшетом, Иван Кузьмич не мог избавиться от растущего удивления. Почему капитан в последние минуты своей жизни вспомнил о планшете? “Ялта” вела поиск в квадратах, остававшихся на планшетах капитанов чистыми. В районе, где сейчас находился траулер, никогда и никто не промышлял. Десятки лет рыбаки ловили на хорошо изученных, богатых рыбой банках. В здешние места промысловые суда не заходили. Разве шторм загонит! Чисты были пройденные квадраты и на планшете покойного Бассаргина. Изломанной линией выделялся на них путь, пройденный “Ялтой” за минувшие дни. На местах неудачных тралений были выведены нули. Это было совершенно непонятно. Капитаны отмечали на планшетах уловистые места, хорошие подъемы. Никто еще никогда не отмечал “колеса”. Эта особенность планшета надолго заняла внимание Ивана Кузьмича. Изучая планшет, он отвлекся от квадрата, где находилась сейчас “Ялта”. Не сразу заметил Иван Кузьмич, что на карте, помимо отметок уловистых и опасных для трала мест, были четким пунктиром выведены границы холодных и теплых течений в различные месяцы. Последний красный пунктир был на полях помечен: “По данным ПИНРО от 20 октября 1941 года”. Совсем недавняя пометка, сделанная перед выходом на промысел, оказалась ключом, открывшим планы покойного капитана. По последнему прогнозу холодная вода смещалась широким фронтом с северо-востока на юго-запад, теснила скопления рачков и мелкой рыбы. За ними отступала и хищная треска. Бассаргин вел поиск расчетливо и терпеливо. Вычерчивая по морю крутые зигзаги, он постепенно продвигался на юго-восток, навстречу мигрирующей треске. Где-то неподалеку она рассеялась в поисках пищи. Этим и объяснялись слабенькие уловы в полтора-два центнера. Рано или поздно рыба найдет обильные кормом места, собьется в промысловый косяк… Разбираясь в чужом планшете, Иван Кузьмич несколько раз вытирал пот с лица. Волнение его смешивалось с чувством, похожим на обиду. За долгие годы работы он, крупицу за крупицей, собирал опыт капитанов траулеров и их предшественников, промышлявших на легких суденышках. В этом отношении он был неизмеримо сильнее покойного Бассаргина, пришедшего в траловый флот лет пять назад. Но Иван Кузьмич уверенно ходил стежками, что протоптали другие промысловики. Ему удавалось выбирать из них лучшую, более удачливую. Но сейчас привычные для капитанов пути к рыбе закрыла война. И Бассаргин взял на себя трудную миссию первооткрывателя. Он не шарил вслепую по дну, полагаясь на случай и личное счастье. У него был точный расчет: перехватить треску, стремящуюся уйти от натиска холодной воды. Иван Кузьмич взял переговорную трубку, соединяющую каюту капитана с ходовой рубкой. Вызвал вахтенного штурмана. — Как последний подъем? — спросил он. — Центнера два взяли, — ответил штурман. — Треска. — Прилов какой? — Несколько пинагоров, скатов, зубаток. Две сайды попало. — Сайда? Хорошо! — оживился Иван Кузьмич. — Где сайда, там вода теплая. Будем ждать настоящую рыбу. А пока… проверьте желудки у трески. Ответ штурмана развеял остатки сомнений в правоте покойного капитана. Еще сутки-другие — и появится рыба. Немало подивились рыбаки, когда новый капитан вызвал вахту в четыре часа утра и приказал приступить к разделке улова в полной темноте. Улов, сваленный между рабочим бортом и возвышающимися над палубой люками трюмов, обрабатывает обычно вахта из четырех человек. Один набрасывает пикой — недлинной палкой с укрепленным на конце стальным согнутым стержнем — треску на длинный рыбодел. Остальные трое разделывают ее, стоя на высоких деревянных решетках, чтобы гуляющая по палубе волна не захлестывала ноги. Крайний рыбак захватывает треску левой рукой за угол пасти и глаз, ударом тяжелого головоруба обезглавливает ее и отбрасывает соседям. Двое “шкерят” — потрошат рыбу, ребром ладони отделяя печень, и сбрасывают внутренности под стол. Так было в мирное время, когда ночами палуба ярко освещалась прожекторами. Сейчас приходилось работать вслепую. Треску брали с палубы на ощупь и подавали на стол руками. Головорубщик напряженно ловил падающие на рыбу еле приметные отсветы синей лампочки. Шкерщики потрошили почти вслепую. Медленно, очень медленно подвигалась обработка жалкого улова. Что же будет, когда “Ялта” попадет на косяк? …Снежный заряд налетел неожиданно. Закружились, заплясали снежинки в воздухе, укрывая и без того еле приметную на столе рыбу. Движения матросов замедлились. В недобрую минуту появилась из люка седая от засохшей соли шапка засольщика Терентьева. — Брак гоните! — кричал он, показывая выпотрошенную треску. — Чистый брак! Гляди-ка, что это за разрез? А здесь? Так дело не пойдет. Солить брак… И тут усталость продрогших матросов перешла в злость, обрушилась на протестующего засольщика. — Ты постой на нашем месте! — Сознательный! — У тебя люстра в трюме! — Прикройся там, а то зубы простудишь! — Не примут же такую рыбу, — не уступал Терентьев. — Гляди! Разрез в сторону пошел. По мясу. А кишка болтается… Голос его потонул в гневных возгласах: — Вались ты со своей кишкой! — Указывать каждый может! — Сгинь, дух соленый, а то запущу треской по шапке! Иван Кузьмич не знал, кого поддержать в злом споре. Обе стороны были по-своему правы: и засольщик, требующий чистой обработки улова, и люди, шкерившие в темноте, в липнущем на лица и глаза мокром снеге. В их возмущении слышалась обида не столько на справедливые требования засольщика, сколько на свою беспомощность. Быть может, прервать обработку улова на время снежного заряда? Нет. Если сейчас остановить работы, так что же будет, когда пойдет настоящая рыба? Нельзя прерывать разделку улова ни при каких условиях. Пускай если не рыба в трюмах, так навыки у команды копятся. Из поднятого трала пылили рыбу. Кроме трески, в сеть попало несколько зубаток. — Зубатка! — Матрос со злостью швырнул в сторону крупную рыбу с пятнистой, как у пантеры, кожей. Зубатку разделывают на пласт, прорезая мясо со спины до брюшка. Никто не хотел первым взяться за работу, требовавшую большой точности. Желая хоть немного разрядить напряженную обстановку за рыбоделом, Иван Кузьмич распорядился отнести зубаток на камбуз. Попутно он приказал боцману выкрасить столешницы рыбоделов в белый цвет. Осветить палубу нельзя. Пускай хоть темная треска выделяется на рыбоделах.НА КОСЯКЕ
“Ялта”, выписывая крутые зигзаги, медленно двигалась на юго-восток. Подъемы по-прежнему не радовали. Даже ночью вахта без особого напряжения справлялась с разделкой более чем скудного улова. В свободное время рыбаки отсыпались, а то часами просиживали за домино. В салоне тянулась нескончаемая беседа о небывало крупных подъемах, удачливых рейсах. Так голодающие охотно ведут разговор о хлебе — мягком, душистом… и недоступном. Оживленно становилось в салоне, когда там появлялся Корней Савельич с большим блокнотом, куда он записывал сводки Совинформбюро. Вести с фронтов шли не радующие. Утешало рыбаков, что фронт за Мурманском держался прочно. Гитлеровцы больше и не пытались там наступать. Зато, даже по скупым сообщениям Совинформбюро, нетрудно было понять, с каким ожесточением продолжалась битва за Баренцево море. Любая весточка о ней вызывала горячие толки в салоне и на палубе. Ведь холодные волны, окружавшие “Ялту”, и были фронтом, полем боя. Иван Кузьмич упорно не уходил из рубки. Он лично распоряжался спуском и подъемом трала. А когда выливали улов, капитан спускался на палубу и потрошил поднятую с глубины треску. В желудках трески появились мелкие рачки — капшак или черноглазка, как их называют рыбаки. Двигаться на холодный восток рачки не могли. В этом Ивана Кузьмича убеждал не только личный опыт, но и планшет покойного Бассаргина. Милях в сорока на восток путь траулера преграждала холодная вода. Следовательно, где-то поблизости капшак скопится, образует плотную массу. За ним и треска собьется в косяк. К ночи трал поднял почти полтонны рыбы. Это уже был улов. Хоть и небольшой, но улов. Радость живо облетела траулер. Свободные от вахты рыбаки высыпали на палубу, ждали нового подъема. Напряженную тишину разрядил возглас Фатьяныча: — Рыба! С палубы ему ответил сдержанный говор. Матросы словно боялись спугнуть рыбу. А сверху, с невидимого в темноте открытого крыла ходовой рубки, подтверждая сорвавшийся у тралмейстера возглас, прозвучал голос капитана: — Боцман! Поставить второй рыбодел. Палуба ожила, зашумела. Стол еще только закрепляли, а рыбаки уже пристраивали возле него решетчатые подножья, пробовали на ноготь лезвия ножей и ожесточенно правили их о жесткие проолифленные рукава роконов. Кто-то стучал рукояткой ножа по столешнице и радостно, во весь голос кричал: — Рыбы! Рыбы! Оборвал расшумевшихся рыбаков строгий окрик капитана: — Базар на палубе! Базар! В легких синеватых отсветах проворно скользили темные тени — вахта спускала трал. Ивану Кузьмичу хотелось не мешкая проверить: случайный это был подъем или же “Ялта”, по рыбацкому выражению, “оседлала косяк”? Из негромкого шума возле рыбодела выделился глухой бас Корнея Савельича: — Внимание, товарищи! Первая вахта объявляет себя ударной фронтовой вахтой и берет обязательство шкерить не менее чем по три рыбы с половиной в минуту на человека. Ответом ему был дружный смех работающих за вторым столом. Удивили! Ударнички! Три рыбины в минуту! С половинкой! Новички и те шкерили по пять. А тут… фронтовики! — Разрешите считать ваш смех ответом на вызов первой вахты? — спросил Корней Савельич. Смех оборвался. Лишь сейчас рыбаки заметили, как медленны и неточны их движения. Три рыбы в минуту? Оскорбительная норма! Выручил их голос капитана: — Вира трал! Первая вахта воткнула ножи в столешницу и, готовясь к подъему, заняла свои места у лебедки и траловых дуг. На этот раз радость на палубе перешла в ликование. Улов был настоящий. Почти две тонны. И чистый. Одна треска. Теперь уже сомнений быть не могло: “Ялта” на косяке. И, словно утверждая общую радость, капитан приказал: — Боцман! Поставить третий рыбодел. Рыбы на палубе было достаточно. Пора бы свернуть трал и обратить все силы на обработку улова. Так думала команда, но не капитан. Иван Кузьмич тралил сейчас очень недолго — всего по двадцать минут, хотя это и отрывало вахту от рыбодела, снижало выработку. Заваливать палубу рыбой не следовало. Прихватит ее морозцем, потом возись, оттаивай кипятком. В то же время надо было выяснить, насколько велик косяк? К концу вахты Иван Кузьмич спустился в трюм. Осмотрел заполненные первой рыбой чердаки. Озабоченность его усилилась. На трех столах обработали трески меньше, чем делали при свете прожекторов на одном. Плохо. И вовсе грустно стало, когда Корней Савельич объявил, что первая вахта не выполнила обязательства. В ответ прозвучал чей-то протяжный свист. И только. Ни смеха, ни шуток. Час проходил за часом. Обработка улова в темноте явно не ладилась. И поторапливать матросов ни Иван Кузьмич, ни Корней Савельич не рисковали. Спешка не быстрота. Долго ли в темноте промахнуться, ударить тяжелым головорубом по руке или полоснуть ножом по пальцам? За минувшие дни Иван Кузьмич успел присмотреться к первой вахте. Матросы сработались быстро. Малыш подавал рыбу. Оська отсекал у трески головы. Быков шкерил ровно, с выработанной десятилетиями автоматической точностью. Легко, без заметного напряжения работал и Марушко. Так было днем, при свете. Зато в темноте первая вахта быстро скатывалась на последнее место. Иван Кузьмич оставил в рубке Анциферова, а сам спустился по отвесному трапу в сырой трюм. Остановился он у желоба первой вахты. Перехватывая скользящую сверху выпотрошенную рыбу, капитан внимательно осматривал ее и отбрасывал засольщикам. Спустя десять минут все, что делалось наверху, стало ясно. И все же Иван Кузьмич решил проверить свои наблюдения. — Чей это разрез? — Он показал Терентьеву крупную треску. — Быкова работа, — ответил засольщик и охотно пояснил: — Старик сперва прижмет рыбину к столешнице. Брюшко натянется. Острым ножом чуть провел — и порядок. Разрез как по ниточке. А вот работенка его напарника. Разрез волнистый. С краю кожа, можно считать, прорвана. Почему? Нож тупой. Вот и выработка у него новичковая. На две быковских рыбины он отвечает одной. Иван Кузьмич вытер руки о висящую на гвозде мешковину и поднялся на палубу. — Дай-ка нож, — подошел он к Марушко. — Возьмите у Быкова, — ответил Марушко. — У него острее. — Дай нож! — строго повторил капитан. Он взял нож, провел пальцем по лезвию и сказал: — Становись на рубку голов. — Да я подточу сейчас нож… — начал было Марушко. — Рубить будешь, — оборвал его капитан. — Баштан! Отдай ему головоруб. Становись шкерить. На рубке голов за спину соседа не спрячешься. Стоило Марушко замешкаться, как Быков и Оська уже грохочут рукоятками ножей по столешницам, кричат: — Рыбы! Рыбы! Спустя два часа первая вахта поравнялась с третьей. Под утро капитан остановил работы и отправил матросов отдыхать. Пускай люди выспятся, пока на палубе темно. Зато в светлое время все три вахты будут работать с полной нагрузкой.РЫБА!
Задолго до рассвета Иван Кузьмич был в рубке. Людей следовало будить расчетливо. Нельзя было терять и пяти минут светлого времени. Но и для матроса, после изнурительной ночной вахты, дорога каждая минута отдыха. Небо на востоке поблекло. Мелкие звезды тонули в нем, гасли. На горизонте еле приметно наметилась светлеющая полоса. Пока матросы завтракали, забрезжил вялый полярный рассвет. Проваливаясь выше колен в рыбе и зябко поеживаясь со сна, пробирались рыбаки на свои рабочие места. На помощь к ним вышел третий штурман, два механика и свободные от вахты кочегары. Даже в сером рассветном сумраке работа шла на редкость споро. Рыба за рыбой летела со столов в желоба, скользила в трюмы. Над морем показался край темно-вишневого в сизой дымке солнца, когда Корней Савельич объявил: — Стол командного состава опередил всех. — Он выждал, пока затих вызванный его словами гул на палубе, и добавил: — Делают на нем по восемь с четвертью рыбин в минуту на шкерщика. Командиры торжествовали недолго. Умелые, но непривыкшие подолгу стоять у рыбодела, они не выдержали взятого сгоряча темпа. Вперед вырвалась вторая вахта, правда, с более скромными результатами — около восьми рыбин в минуту. Но и этот успех оказался недолговечным. Все чаще за столом первой вахты слышалось боевое: — Рыбы! Рыбы! И грохот рукоятками ножей по столешнице. Марушко рубил с окаменевшим от напряжения лицом. Капли пота сбегали по лбу и щекам, покачивались на подбородке и, падая на промерзшую жесткую куртку, остывали на груди мутными льдинками. Притих и Оська Баштан. Не до болтовни. Быков стоял на широко расставленных ногах, прочно, с неподвижным скуластым лицом, похожий на высеченного из камня божка. Лишь руки его большие, ловкие, выбрасывали через ровные промежутки времени треску за треской. Из сизой дымки над горизонтом поднялось тяжелое оранжевое солнце. Бронзовые блики залили пологие гребни волн, траулер. Лица матросов словно покрылись крепким знойным загаром. Вместе с солнцем появились и чайки. С гортанными криками носились они возле траулера, выхватывая из воды смытые с палубы вместе с отбросами кусочки лакомой тресковой печени. На палубе первое утомление схлынуло. Ритм работ выровнялся, стал устойчив. Первая вахта медленно, но настойчиво тянула выработку вверх, довела ее до восьми с половиной рыбин в минуту, о чем рубка немедленно оповестила все столы. Весь короткий день никто из рыбообработчиков не отошел от рыбоделов. Лишь когда стемнело совершенно, Иван Кузьмич приказал команде идти на обед. — Прежде отдохнуть надобно, — негромко сказал Быков. Не выпуская из руки покрытый рыбьей слизью и кровью нож, он привалился спиной к рыбоделу. — Прежде по сто грамм выпьете, — сказал Иван Кузьмич. — Заслужили сегодня. Усталые матросы ополоснули руки под шлангом, бьющим забортной водой, и потянулись в салон. После шести часов непрерывной работы на морозе, в мокрых рукавицах отказаться от заслуженного угощения не могли даже люди, равнодушные к выпивке. В салоне на длинных столах уже стояли расставленные поварихой кружки. Рядом с ними — тарелки с густым борщом. Замысел Ивана Кузьмича удался полностью. Водка обожгла усталых и продрогших рыбаков. Выпили они и взялись за ложки. Не все после позднего и сытного обеда добрались до своих кают. Были и такие, что заснули возле столов, на обитых кожей скамьях. Никто не обратил внимания на такое вопиющее нарушение порядка. Разве укладывался в строгие и разумные правила весь этот рейс? Возможно ли было сейчас придерживаться буквы устава? Пока рыбаки отдыхали, у них появился могучий союзник. Высоко в небе зародилось длинное прозрачное облачко, излучающее слабый молочный свет. Еле приметные блики его выделялись в темноте на лобовой стене ходовой рубки, выгнутых скулах спасательных шлюпок, привязанных к вантам белых буях. — Капитан! — крикнул с палубы одиноко маячивший там Фатьяныч. — Гляди-ка наверх. Заполыхает сейчас!.. Облачко, постепенно снижаясь, вырисовывалось на небе все четче. Оно уже походило на падающий столб с уширенными концами. Постепенно столб рос, превращался в наклонно нависшую над морем светящуюся спираль. Витки ее становились ярче. В глубине их появились нежные голубые оттенки. Блики северного сияния искрились уже и на заиндевевших бортах и на ледовых наплывах, свисающих с кормы и полубака. На темном небе голубоватыми полосками выделялись ванты. А вершины мачт сияли, словно излучая фосфоресцирующий мягкий свет. К голубым тонам спирали примешивались новые, зеленые… На “Ялте” не замечали красот северного сияния, тончайших голубых и зеленых переливов. Рыбаков радовало другое: треска виднее была на белых столешницах. Поток скользящей по желобам рыбы нарастал. Терентьев больше не выглядывал из трюма. Брака в обработке не было. А трал в каждый заход поднимал верных полторы тонны. За двадцать минут траления! Приходилось все время напрягать силы. Стоит несколько замедлить темп, и возле рыбоделов образуется завал трески. Цветение неба все усиливалось. Спокойное море полыхало мягкими зеленоватыми бликами, будто подсвеченное из глубины мириадами крохотных лампочек. — Третья вахта сделала по пять с лишним рыбин в минуту! — объявил равнодушный к буйному цветению неба и моря Иван Кузьмич. Палуба встретила его слова одобрительными возгласами. После минувшей ночи с ее изнурительным трудом и мизерными результатами это была победа. Большая победа! — А как остальные? — кричали с палубы. — Всех назовите! — Первая и вторая вахты вытянули меньше пяти на брата, — ответил капитан. — Командиры немного отстали… — Он заметил неловко переминающегося рядом с собой боцмана и недовольно спросил: — Что у тебя? — Дело такое… — Матвеичев вздохнул и переступил с ноги на ногу. — Насчет продовольствия. — Да что ты за душу тянешь? — вспылил Иван Кузьмич, уже понимая, о чем пойдет разговор. — Выкладывай, что у тебя. — Хлеба осталось на шесть дней всего, — решился наконец боцман. — Жиров и сахару тоже… дней на восемь. — Налегай на рыбку, — недовольно бросил Иван Кузьмич. Уйти с богатого косяка с незаполненными трюмами? Даже мысли такой капитан не мог допустить! — И так-то налегаем. — Боцман снова переступил с ноги на ногу. — Только без хлеба трещёчка не идет. Работенка наша… сами знаете. — Сократи норму хлеба, — сухо приказал Иван Кузьмич и отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен. Матвеичев потеребил в руках шапку и вышел. Иван Кузьмич стоял у окна и не видел ни палубы, ни моря. Гнев душил его. Бродили по морю. Скребли тралом голое дно… И людей кормили досыта. А теперь, когда с таким трудом оседлали косяк — и какой косяк! — продовольствие на исходе. Капитан взглянул на часы. Подходило время радиосвязи с портом. Иван Кузьмич вызвал на вахту Анциферова, а сам прошел в радиорубку. Доклад его был короток, даже сух. Зоя заметила состояние капитана и держалась деловито, по-служебному. — Задачу вы выполнили, — ответил порт. — Проверьте, старательно проверьте косяк и, как только останется двухсуточный запас продовольствия, определитесь поточнее и возвращайтесь. Иван Кузьмич вышел из радиорубки. Настроение было отвратительное. Уйти с такого косяка полузагруженным? После гибели капитана, каждодневного риска! Этого Иван Кузьмич даже представить себе не мог. Промысловый азарт похож на болезнь. Он притупляет все чувства, кроме одного: больше взять из моря. Больше! Так получилось и с Иваном Кузьмичом. Стоило попасть ему в хорошую промысловую обстановку, и все помыслы его оказались настолько заняты уловом, что даже услышанное из порта: “Задачу вы выполнили” — было воспринято им как нечто второстепенное. Ни о чем ином, кроме улова, он думать не мог. Даже война, опасность оказались оттеснены куда-то в сторону. Больше рыбы, больше! Несколько раз за сутки Иван Кузьмич спускался в трюмы, проверял, как прибавляется в чердаках треска. С лица его не сходило недовольное выражение. Не раз, глядя из рубки на неловкие движения матроса-новичка, он с трудом преодолевал знакомый зуд в руках. Взялся б сам за нож да показал, как разделывают треску старые поморы. Но капитан ничего не мог изменить. Запасы продовольствия таяли. “Ялта” должна была вернуться в Мурманск загруженной наполовину. Позор! При одной мысли об этом капитан темнел. — Давай, ребята, давай! — гремел его голос. — Пока небо полыхает, старайтесь. Под утро погаснет наше освещение. Все отдохнете. Досыта! Подогревать команду было незачем. Промысловый азарт охватил не только бывалых рыбаков, но и новичков, впервые стоявших у рыбодела. Замолкнет капитан, и снова па палубе тишина. Слышен лишь мягкий звук головорубов да сочные шлепки падающей на желоба рыбы. Странные, зеленоватые с голубым отливом люди выстроились по трое за каждым столом и плавно, словно в ритме им одним слышной и понятной музыки, разделывали таких же странных, зеленых с черным, рыб.ВЗРЫВ
Восьмые сутки удачного промысла были на исходе, когда Иван Кузьмич впервые позволил себе выспаться по-настоящему. Строго наказав вахтенному штурману разбудить его, если произойдет что-либо значительное, он прилег на диван. Ему показалось, что он только заснул, когда дверь скрипнула. Иван Кузьмич открыл глаза. На лбу его сбежались гневные морщины. В дверях стоял боцман. Мог бы найти другое время. — В салон просят, — сказал Матвеичев. — Меня? — приподнялся Иван Кузьмич. — Кто просит? — Насчет хлеба. Иван Кузьмич давно ждал этого неприятного объяснения и все же подготовиться к нему не успел. — Обратись к помполиту, — буркнул он. — Пускай разберется… — Корней Савельич там. Только без вас невозможно, — настаивал Матвеичев. — Никак. Иван Кузьмич вошел в салон подтянутый, не по возрасту бодрый. Шестеро матросов сидели перед полными мисками. Возле каждого из них лежало по куску хлеба. — Что у вас тут стряслось? — с нарочитой беспечностью спросил Иван Кузьмич. — С хлебом жмут, — поднялся со скамьи Марушко. — Жмут так… спасу нет. Что ни день, пайку уменьшают. Сегодня к обеду дали по куску хлеба, и все. — Я приказал рыбы не жалеть. — Иван Кузьмич обернулся к боцману. — На одной рыбе не поработаешь, — заговорил пожилой кочегар. — Мы все отдаем палубе. Сил не жалеем. Но и нам отдайте что положено. И так-то измотались за неделю… Не люди стали. — Всё? — сухо спросил Иван Кузьмич и обратился к стоящему в стороне Корнею Савельичу: — Вы объяснили команде наше положение?.. — По три раза на день объясняет, — перебил его Марушко. — Все разъяснил. Только разъяснениями брюхо не набьешь. — И тем не менее, — сухо остановил его капитан, — до возвращения в порт придется работать на сокращенном пайке. — Какая ж это работа? — проворчал кочегар. — И так-то ноги не держат. Шуруешь, шуруешь у топки. А потом нож в руки и айда на подвахту, шкерить. — По шестнадцать часов не отходим от рыбодела, — подхватил Марушко. — Вечером, на смене вахт, соберите общее собрание, — сказал Иван Кузьмич помполиту. — Пускай выскажутся не трое—четверо, а вся команда. — Нам собрание не нужно! — закричал Марушко. — Мы хлеба хотим! — Матросу положено восемьсот грамм на день, — настаивал кочегар. — Положите их на стол. — Как вы разговариваете?! — одернул его Иван Кузьмич. — Здесь не армия! — дерзко уставился на капитана Марушко. — На губу не посадишь! — Надо будет — посажу, — жестко оборвал его капитан. — Сажай! Сам-то поел досыта, побрился с одеколончиком, выспался. А мы щетиной обросли. Гляди. — И Марушко провел ладонью по небритой щеке. — Я ем то же, что и все, — с трудом сдерживая готовый прорваться гнев, ответил Иван Кузьмич и подумал: “Вот чем ты перетянул людей на спою сторону!” — Ничего! — Щучий рот Марушко растянулся в злой улыбке. — Вам не хватит за общим столом, так и в каюту принесут… — Чего болтаешь? — неожиданно вмешалась повариха. — Зря тебя, паразита, из тюрьмы выпустили. Поспешили. — Слыхали! — Марушко обернулся к выжидающе притихшим товарищам. — Горбатимся, калечимся круглые сутки. И нас еще попрекают!.. Оборвала его резкая трель судового звонка. Все замерли. — Тревога! — негромко произнес капитан. — По местам! Тяжело дыша, пробежал он проход, рубку и выскочил на открытое крыло. Над траулером кружили три самолета: большой и два поменьше. Солнце уже скрылось за горизонтом. Небо на востоке потемнело. В последних закатных лучах боевые машины казались красными. Не верилось даже, что на красных самолетах… враги. И, словно отвечая на сомнения Ивана Кузьмича, крайняя машина отвалилась от строя. Слегка накренившись, она плавно разворачивалась на траулер. В два прыжка Иван Кузьмич оказался в рубке. Не отрывая взгляда от самолета, он положил руку на холодную рукоятку машинного телеграфа. В мертвой тишине рубки очень четко прозвучал шепот третьего штурмана: — Торпедоносец. Иван Кузьмич стиснул холодную рукоятку. Почему-то вспомнилась дымящаяся папироса рядом с белыми пальцами Бассаргина. Самолет стремительно приближался. Вот он выровнялся. Лег на боевой курс. Капитан скорее угадал — по тому, как дернулся в воздухе самолет, — чем увидел, как от фюзеляжа отделилась торпеда. — Лево руль! — крикнул он. И рывком отвел от себя рукоятку машинного телеграфа. Широкая черная стрелка скользнула по циферблату на “Самый полный”. “Ялта” круто сворачивала направо. Слева на темном море появился пенистый бурун. Быстро приближался он к носу траулера. Пальцы капитана стиснули оконный поручень: стиснули с такой силой, что концы их побелели. Медленно, до жути медленно заворачивала “Ялта”. Казалось, что судно стоит на месте, слегка переваливаясь с боку на бок… След торпеды показался у носа траулера. Мгновение! Секунда. Еще секунда. Бурун появился справа от носа. Второй самолет круто снижался на “Ялту”, “Истребитель!” — отметил про себя Иван Кузьмич и облегченно вздохнул. Встречая врага, яростно залился над рубкой пулемет, заглушил рев пролетающей над судном машины. Резко обожгло лежащую на поручне кисть левой руки. Иван Кузьмич отдернул ее, но взглянуть на рану не успел. У форштевня и левее рубки взметнулись высокие курчавые всплески. Бомбы! И снова нарастает тугой басовый гул. Снова заходит самолет. Страшной силы удар тряхнул траулер. Нос его подскочил высоко над морем и тут же зарылся в волну. На палубе кричали: — В машинное ударила! — Тонет, тонет! Гляди, тоне-ет! — Бей пожарную тревогу! Иван Кузьмич оцепенел. Он ничего не мог понять. Кто тонет? Где пожар? И почему одни голоса звучат на палубе тревожно, почти отчаянно, а другие радостно? Капитан не видел из рубки, как истребитель, сбросив бомбы, пронесся низко, почти над мачтами. И вдруг он вздрогнул, словно ударился о невидимое препятствие в воздухе и, потеряв и без того незначительную высоту, шлепнулся брюхом о воду; подскочил, ударился еще раз и еще и слился с темным морем. Остальные два самолета устремились на помощь к подбитой машине. “Спешат спасти пилотов”, — понял Иван Кузьмич и посмотрел на залитую кровью кисть. Внизу послышался характерный свист стравливаемого пара. Судно быстро теряло ход. Иван Кузьмич подскочил к переговорной трубке, связывающей рубку с машинным отделением. Вытащил из блестящего медного раструба пробку. Дунул в него. — Кочемасов слушает. — Докладывай. — Бомба ударила небольшая, весом примерно… — Куда ударила? — перебил капитан. — Какие повреждения? — Бомба пробила подзор и разорвалась на фундаменте машины. — Короче. — Я не стану перечислять повреждения. Их много… — Не надо, — снова перебил капитан. — Проверьте и доложите; можно исправить машину в море, самостоятельно? — Нечего и проверять, — ответил старший механик. — Машина разбита. Люди тушат пожар. — Ясно. — Лишь сейчас Иван Кузьмич заметил стелющийся по палубе дым и закрыл медной пробкой раструб переговорной трубки. Он увидел в дверях запыхавшегося, красного Корнея Савельича с потертой кожаной сумкой с красным крестом в вытертом белом круге. — Некогда мне, некогда! — отмахнулся здоровой рукой капитан. — Судно горит! — и выбежал из рубки.КАТАСТРОФА
Корней Савельич нагнал капитана на открытом переходе, ведущем из надстройки в радиорубку. Протесты Ивана Кузьмича, даже его гнев, не действовали на старого фельдшера. Корней Савельич повидал на своем веку всяких пациентов. И, когда капитан попробовал высвободить раненую кисть из его рук, он грубовато прикрикнул. — Я спешу больше вас. Может, меня раненые ждут. Иван Кузьмич стиснул зубы и притих. В густеющих сумерках с перехода невозможно было разобраться в том, что происходит на палубе. Прежде всего бросилась в глаза черная пробоина над машинным отделением. Из нее вырывался дрожащий столб теплого воздуха. Матросы окатывали из шлангов радиорубку и прилегающие к машинному отделению стены надстройки. Взрыв свалил дымовую трубу, и она закрыла проход на корму. — Эй! Кто там на корме? — не выдержал Иван Кузьмич. — Руби бакштаги! Трубу за борт! Возле трубы появились два матроса. Послышались удары, лязг металла о металл. Из дыма неожиданно вынырнул Анциферов. Легко взбежал он на переход. Протирая тыльной стороной кисти красные слезящиеся глаза, всмотрелся в сторону кормы. — Кончай поливать радиорубку! — закричал он. — Навались на трубу, пока никого не придавило. Взгляд его задержался на подвешенной руке Ивана Кузьмича, приметил розовые пятна крови, просачивающейся сквозь марлю. — В котельную огонь не прорвался, — сообщил он, успокаивая раненого капитана. — В машинном пламя сбили. — Сбили! — ворчливо повторил Иван Кузьмич. — А дым? Хоть лопатой отгребай. — Маскировка! — с невольно прорвавшейся гордостью ответил Анциферов. — Дымовые шашки у меня всегда были наготове. Для имитации пожара. Как ударила бомба, вахтенный механик сразу запалил их. Чтоб остальные два, — он кивнул вслед удалявшимся самолетам, — нам не добавили. Лишь сейчас Иван Кузьмич заметил, что дым действительно какой-то не очень едкий. — На помпе! — закричал Анциферов. — Качай, качай! Рано загорать! — и так же неожиданно скатился по трапу, пропал в дыму. С протяжным гулом рухнула в воду дымовая труба. Лицо Ивана Кузьмича исказилось. Все летит к чертям! Машина разбита. Замерли грузовые стрелы, руль, лебедка, брашпиль. Стынут трубы паропровода. Омертвела “Ялта”. — Рука саднит. — Корней Савельич заметил, как изменилось лицо капитана. — Это от холода. Надо бы поглядеть, что в салоне? — Ступай погляди, — буркнул Иван Кузьмич, разгадавший нехитрую уловку Корнея Савельича. — Мое место здесь… Перебил его истошный выкрик снизу: — Вахрушева ранило… В голову! Корней Савельич подхватил санитарную сумку и неловкой рысцой затрусил на голос. Иван Кузьмич остался на переходе один. В распоряжения Анциферова вмешиваться не следовало. Командовать двоим нельзя. Это приведет лишь к бестолковщине, к сумятице. И уйти нельзя. Лучше, когда команда видит капитана, пускай даже раненого, но уверенного и спокойного, на месте. — Иван Кузьмич! — подошла Зоя. — Перед самым налетом я приняла сообщение, что в нашем квадрате укрылся поврежденный торпедными катерами вражеский рейдер. — Запроси точнее… — Иван Кузьмич беспокойно всмотрелся в лицо радистки. — Ты что?.. — Рация разбита, — тихо ответила Зоя и с трудом добавила: — Аварийная тоже. Из машинного отделения волоком вытащили кого-то и принялись срывать с него тлеющую одежду. — Корнея Савельича! — закричали на палубе. — Корнея Савельича к машинному! Иван Кузьмич почувствовал, что боль в руке усилилась. Придерживая раненую кисть здоровой рукой, он спустился в салон. — Что делать-то будем! — встретила его бледная Глаша. — Машина разбита. Пара-то не будет. Света-то не будет. Померзнем все. Ни сготовить людям, ни чайку согреть… — Запричитала! — с досадой перебил ее Иван Кузьмич. — А еще поморка! — Да я — то… — Вызови боцмана. Матвеичев вбежал в салон с закопченным лицом, в опаленной брезентовой куртке. Брови и усы его закурчавились от жара, порыжели. — Наладь-ка в салоне камелек, — приказал капитан. — Да по-быстрому. Покамест народ работает. Трубу выведи в иллюминатор. Выход обложи асбестом. Чтобы новый пожар не устроить. Иван Кузьмич проводил боцмана до дверей и обернулся к горестно слушавшей поварихе. — На камельке ты и рыбки поджаришь и чайку вскипятишь. Да и люди согреются тут после вахты. — Какая уж теперь вахта! — протянула Глаша. — Покамест в порт не придем, каждый будет нести вахту, — недовольно остановил ее капитан. — Поняла? Ответить повариха не успела. Дверь широко распахнулась. Вошел Корней Савельич. За ним боком протиснулся в дверь матрос с тюфяками. Осторожно внесли двух раненых и обожженного кочегара. Последним вошел в салон третий штурман. Он бережно, как ребенка, нес неестественно толстую, забинтованную руку. — Из перебитого паропровода, — виновато улыбаясь, сказал он капитану. — Сам не заметил, как набежал. — Стели два тюфяка на полу, — распоряжался Корней Савельич. — Клади людей. — А если на скамьях? — спросил помогавший ему матрос. — Узки скамьи, — ответил Корней Савельич. — На полу спокойнее будет. И придержал дверь, пропуская еще двух матросов с тюфяками. — Куда их столько? — Иван Кузьмич кивком показал на груду тюфяков. — В каютах, под полубаком, уже иней на иллюминаторах, — ответил Корней Савельич. — Придется людям располагаться здесь. По очереди, что ли. Да и… — он понизил голос, чтобы слышал его один капитан, — не весело сейчас забиваться по каютам. На людях легче. — Пожалуй, — согласился Иван Кузьмич. Освещенный двумя свечами салон казался тесным, и работающие в нем люди — неповоротливыми. Они все время что-то теряли, искали, мешали друг другу. — Зажги еще свечу, — сказал Корней Савельич Глаше. — Третью? — Да. — Ой, беда, беда! — Повариха растерянно оглянулась. — Не знаю, куда свечи-то сунула. Вот дура-то я беспамятная! — Найди и зажги, — строго повторил Корней Савельич. Глаша скрылась в темном камбузе, отделенном от салона легкой дощатой перегородкой. Загремела посуда. Послышались вздохи, жалобное причитание. Третьей свечи Глаша так и не зажгла. В приметы она, конечно, не верила. Но на всякий случай… Зачем испытывать судьбу? В такое время!ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Темень укрыла подбитую “Ялту”. Прижатая тяжелой свинцово-сизой тучей, светлая полоска над горизонтом тускнела. О работах на палубе нечего было и думать. Только ручные помпы однообразно чавкали, откачивая воду из машинного отделения. Нарушали мертвую тишину шаги вахтенных да мерный всплеск волн у бортов. Шумно было лишь в машинном отделении. Огромное помещение освещала горящая на стальных переходах промасленная пакля. Багровые отсветы метались по потолку, вспыхивали на истертых ногами до блеска металлических трапах, отражались в прибывающей воде. Едкий запах горелого масла и щелочи от разряженных огнетушителей щипал глаза и горло, мешал дышать. Матросы, стоя по колено в ледяной воде, загоняли деревянные пробки в мелкие пробоины. Второй механик с Пашей и Оськой силились ввести заостренный конец кола в большую пробоину. Тугая струя била из нее с огромной силой, отбрасывала кол в сторону. — Дай-ка я вперед стану. Оська поменялся местами с механиком, встал первым и, жмурясь от бьющих в лицо брызг, подвел острие кола по борту к краю пробоины. — Товсь! — Он набрал полную грудь воздуха и хрипло крикнул: — Р-разом! Три сильных тела навалились на кол. Острый конец его врезался в край тугой струи, сплющил ее, раздавил на десятки плоских, плотных струек. — Еще, еще! — Оська напрягся так, что в пояснице хрустнуло. — Чуто-ок! Скользя сапогами по металлическому настилу, Оська всемтелом навалился на кол. Мелкие струйки били в плечи, грудь, секли разгоряченное лицо, слепили… Позади глухо бухнула кувалда. Оська не слышал удара, а почувствовал его грудью, руками, всем телом, словно сросшимся с мокрым колом. — Смелее бей! — прохрипел он. Еще удар, отдавшийся по всему телу. Еще. Кол входил в пробоину все глубже. Рваные края ее срезались в древесину, отдирая мелкие щепки и вьющуюся стружку. Кол плотно сидел в пробоине. Оставалось закрепить его и законопатить последние щели. Оська выпрямился. В груди ныло от тяжких ударов кола. Сердце стучало часто и сильно. Мощные толчки его отдавались в голове тягучим, непрерывным трезвоном. Рядом матросы крепили пластырь из тюфяка, закрывавший несколько мелких пробоин. Прижали его снаружи дощатым щитом. Между ним и стальной опорой перехода забили толстую доску, намертво прихватившую пластырь. — Пробоины выше ватерлинии заделаем завтра, — послышался голос старшего механика Кочемасова. — А сейчас… всем, кроме вахтенных, обсушиться, отдохнуть. Вторая вахта остается в машинном. Следите за пробоинами, швами обшивки. Чуть увидите протечку — будите меня. Случится что посерьезнее — бейте водяную тревогу. Оська тронул Пашу за плечо и сказал: — Пошли. Они с трудом втиснулись в переполненный салон и стали в недоумении. Как и предвидел Корней Савельич, в салоне, освещенном робкими огоньками двух свечей, сбилась почти вся команда. Многие матросы были мокры. Но пробираться в темноте по палубе, а затем искать ощупью одежду и переодеваться в каюте не было сил. И они жались к камельку, излучающему тепло; сбивались вокруг него все плотнее. Чад от жарящейся на сковородке рыбы смешался с едким дымом махорки, тяжелым запахом спецодежды и рыбацких сапог. Зато было тепло. Тепло и тесно. Невообразимо тесно. Салон походил на бесплацкартный вагон, где никто толком не поймет, как расположиться на ночь. Иван Кузьмич стоял у дверей, не зная, как держаться в чадном, переполненном людьми салоне. Хотелось ободрить матросов, поощрить отличившихся… — Пропусти, — шепнули рядом. — Капитан! — Проходите, Иван Кузьмич, — обернулся к нему боцман. — Проходите в капитанскую каюту. Матвеичев улыбнулся и черной от копоти рукой показал на стол в глубине салона. Обычно там сидел капитан и командный состав траулера. За столом на скамье виднелся скатанный тюфяк. — Правильно сделал, — одобрил боцмана Иван Кузьмич. — Спать будем по очереди с первым помощником. — Некогда спать, — ответил сидевший возле раненых Корней Савельич. — Тут зазевайся немного и кто-нибудь свалится на них или наступит. — Будете спать, — твердо сказал Иван Кузьмич. — Не захотите по-хорошему — прикажу. Отдых входит в круг обязанностей моряка. — Есть, — хмуро буркнул помполит, рассудив, что командир должен показывать подчиненным пример дисциплинированности. Иван Кузьмич пробрался на привычное место за столом и стал наводить порядок. Прежде всего он установил очередь на отдых. Для женщин выделил отдельный уголок — камбуз. Одно только оказалось выше его сил — темнота. Со всех сторон слышались голоса, призывающие к осторожности. Но толчея в салоне не уменьшалась. Стоило одному направиться к двери, как толчки, передаваясь от соседа к соседу, волной шли во все концы помещения. Анциферов вызвал из салона двух крепких матросов. Втроем они спустили из радиорубки тяжелый аккумулятор. От него провели три маленькие лампочки. Первую повесили у камелька- поварихе, вторую возле раненых и последнюю над столом командного состава. Со светом в салоне сразу стало просторнее. Будто стены раздвинулись. Матросы устраивались на ночь: на скамьях, на полу, даже на столах. Были и такие, что заснули сидя. Усталость оказалась сильнее тревоги, неизвестности. Скоро все притихло. Слышалось лишь шипение сковородки на камельке. Последним заснул Анциферов. Перед тем как лечь, он, осторожно ступая между плотно сбившимися на полу телами матросов, погасил две лампочки (энергию аккумулятора следовало беречь). Одну лампочку — возле камелька — пришлось оставить. Глаше надо было нажарить за ночь рыбы на всю команду. Какие-то крохи света падали от лампочки и на раненых, на дежурившую возле них Зою. Остальным свет был не нужен.АКТИВНЫЙ ВАРИАНТ
— Итак… — Иван Кузьмич осмотрел собравшихся в его каюте командиров. Все сидели в шинелях и шапках, а Корней Савельич даже в унтах. — Информации мы заслушали не-радующие. Машина вышла из строя. Рация повреждена. С продовольствием плохо. Придется жарить треску. — На камельке? — покачал головой Анциферов. — На сорок четыре человека! — Сколько же у нас осталось хлеба? — спросил старший механик Кочемасов. — На двое суток, — ответил капитан. — Что делать дальше? Давайте решать. У кого есть соображения на этот счет? — В нашем положении возможны два варианта, — поднялся Анциферов, — пассивный — ждать спасения на судне и активный — посадить команду на шлюпки и добираться до берега. — Двести миль? — Корней Савельич приподнял мохнатые брови. — На веслах? — Это добрых пять суток, — вставил Кочемасов. — А ветер-то с востока, — значительно напомнил Корней Савельич. — Не ветер, — поправил Анциферов, — ветерок. — Вполне достаточный, чтобы затруднить движение на веслах, — сказал Кочемасов. — А за пять суток полярная погода может измениться. Ветер разгуляется или завьюжит. — Не забывайте, что у нас раненые и обожженный, — напомнил Корней Савельич. — Для них холод и вода — верная гибель. — Что же вы предлагаете? — резко спросил Анциферов. — Качаться на волнах, пока нас не расстреляют с воздуха либо с моря? — С воздуха либо с моря нас могут расстрелять и на шлюпках, — спокойно возразил Кочемасов. — Особенно ближе к берегу. — В таком случае позвольте напомнить вам одну неприятную особенность дрейфа, — сказал Анциферов. — В нашем квадрате укрылся поврежденный вражеский рейдер. Встреча с ним… сами понимаете… — Разрешите, Иван Кузьмич? — поднялся Корней Савельич. — Я не могу согласиться, товарищ Анциферов, с вашим пониманием активного и пассивного поведения на аварийном судне. Не могу-с! — Читайте уставы, — пожал плечами Анциферов. — Некогда-с! — отрезал Корней Савельич. — И незачем. Никакие уставы и наставления не предусматривают ни нашего рейса, ни нашего положения. А потому, я полагаю, что уход с траулера нельзя считать активными действиями. Плавучесть у судна надежная… — Вполне, — подтвердил с места Кочемасов. — …Где мы находимся, в порту знают. К нам придут. Не могут не прийти. — Успокаивает, — громко шепнул кто-то за его спиной. — Мы должны позаботиться не только о жизни экипажа, — настойчиво продолжал Корней Савельич, — но и сберечь почти сто пятьдесят тонн трески в трюмах. — И выполнить нашу основную задачу, — добавил капитан, — обследовать уловистость найденного желоба. — Не двигаясь с места? — спросил Анциферов. — Судно стоит, но косяк-то движется, — сказал капитан. — Вот только… как проверять уловистость? Не имея хода, тралить не будешь. — Придется вспомнить старину, Иван Кузьмич, — обернулся к нему Корней Савельич. — Ловить на поддев. — Глубина здесь свыше ста метров, — напомнил Анциферов. — Сто тридцать, — уточнил Иван Кузьмич. — Оборудуем маленький ярусок, — не уступал Корней Савельич. — Мы не промышлять собираемся. Нам лишь бы проследить: движется косяк по дну или нет. — Корней Савельич помолчал, ожидая поддержки, и продолжал убежденно, жестко: — Мы должны не только искать спасение, но и выполнить приказ. Сдается мне, что мы нашли новый район промысла, удаленный от активных военных действий. Уйти из него, не разведав точно… — Все это верно. — Иван Кузьмич, не скрывая удивления, посмотрел на Корнея Савельича. — Где мы возьмем крючки? На ярус! — Найдем. — Где найдем? — Есть у нас любители ловить глупышей на удочку, — ответил Корней Савельич. — По военному времени и глупыш сходит за утку. С мясом-то в Мурманске… сами знаете. — Он помолчал, ожидая возражений, и, уже чувствуя победу, спокойно закончил: — Маленький ярусок оборудуем. — У двоих кочегаров есть крючки, — поддержал его Кочемасов. — Хорошо! — подхватил Корней Савельич. — Матвеичев собирался подкормить семью глупышатиной, — сказал Иван Кузьмич. — Стало быть, и он запасся крючками. — Ярус ярусом, — продолжал Корней Савельич уже как о решенном. — Следует еще подумать: куда поместить раненых? Держать их в грязном салоне… — Это уже другой вопрос, — остановил его капитан. — Не будем разбрасываться. — Припять меры для размещения раненых надо немедленно, — настаивал Корней Савельич. — Сейчас же. В салоне смрад, чад. Дышать нечем. — Сделаем. — Иван Кузьмич поднялся. — Решение такое: остаемся на судне. Мы давно не определялись. Работая с тралом, на курсе не удержишься. Местонахождение “Ялты” отмечено на карте наверняка с серьезным отклонением. Следовательно, и косяк нанесен на нее не точно. Придется ловить солнце или звезды, чтобы определиться и уточнить место дрейфа на планшете. Сейчас это для нас самое главное. Бездействовать в ожидании солнца либо звезд мы не станем. Наладим контрольный лов на ярус. Боцман оборудует помещение для раненых. Полагаю, что наиболее удобной для изолятора будет моя каюта. Старший механик! На вашей ответственности наблюдение за плавучестью судна. Анциферова я назначаю старшим помощником. Попрошу вас организовать наблюдение за морем и воздухом. И напомните вахтенным: теперь мы ищем на море и в воздухе не только врагов, но и друзей — спасение.НА ПАЛУБЕ
Странно выглядела “Ялта” после взрыва, пожара: без трубы, с закопченными шлюпками и простроченной пулеметной очередью лобовой стеной рубки. Мрачно чернела пробоина над машинным отделением. В узком проходе между надстройкой и бортом вились шланги, валялись разряженные огнетушители, чья-то затоптанная стеганка. Сваленную у рабочего борта треску силой взрыва сдвинуло, и она вытянулась косой в сторону полубака. Отдельные рыбины разлетелись в стороны, примерзли к палубе. Матросы разбились на кучки. Возле опрокинутого рыбодела громко ораторствовал неунывающий Оська: — …А мы знаем, что для нас хорошо и что плохо? — Он недоумевающе приподнял плечи и осмотрел своих слушателей. — Я, лично, не знаю. На этом месте нам подпортили машину. Что я вам могу сказать за это? А может быть, в двух—трех милях отсюда нас поймала бы подводная лодка. И влепила бы нам в борт хорошенькую торпеду. Могло быть и так. — Брось заливать! — Марушко цыркнул за борт длинным плевком. — Хвастался! Я счастливый! А бомбочку вмазали нам. Аккуратно вмазали. — Хвастался? Я? — Голубые глазки Оськи изобразили самое искреннее изумление. — А бомба? — наседал на него Марушко. — Тоже счастье? — Что бомба? — невозмутимо ответил Оська. — Бомба дура. Упала не туда, куда надо. И все-таки она не потопила нас? — У тебя все хорошо, — криво усмехнулся Марушко. — А машина? Разбита. Грелки остыли. Света нет. Да еще и жрать нечего. Что ты на это скажешь? — Что я скажу?.. — Оська задумался. — Люблю разнообразие. Он увидел возле себя Ивана Кузьмича и замолк. Притихли и остальные, выжидающе посматривая на капитана. — Сколько у нас наблюдателей на палубе! Опасность давно миновала, а мы все наблюдаем. Иван Кузьмич всмотрелся в матросов. Поникли ребята. Осунулись за минувшие дни. Один Оська почти не изменился. Только на похудевшем лице его, поросшем редкой золотистой щетинкой, еще больше выделялись безмятежные голубые глазки да крупнее, ярче стали рыжие веснушки. Иван Кузьмич поправил подвешенную на марлевой косынке руку и сменил шутливый тон на серьезный: — Старшина второй вахты! Соберите своих людей. Заканчивайте разделку улова. И неторопливой походкой, будто ничего особенного на судне не произошло, направился дальше. Жизнь на омертвевшем траулере налаживалась. За рыбоделом шкерили треску. Малыш отбивал ломом примерзшую к палубе рыбу. Боцман вытащил из кладовой железную бочку и мастерил из нее печку для капитанской каюты. По-прежнему ровно чавкала помпа, освобождая машинное отделение от воды. Иван Кузьмич остановился возле него. Почему так затянулась откачка? Надо бы спуститься вниз, самому посмотреть, как заделали пробоины. Иван Кузьмич поморщился, не столько от боли в кисти, сколько от обиды на свою беспомощность. Капитан не спеша обошел траулер. Пока он осмотрелся, сделал нужные распоряжения, Быков с Оськой оборудовали крохотный — метров на тридцать — ярусок. Когда-то рыбаки, промышлявшие на шняках, дорах и елах, ставили яруса на несколько сотен саженей. Сейчас норвежские боты увеличили длину снасти до мили и больше. Ярусок “Ялты” походил на обычный перемет, каким ловят на небольших реках. В первый подъем попало восемь штук трески. На нескольких крючках наживки не оказалось: возможно, добыча сорвалась, пока поднимали снасть с глубины? Быков принялся потрошить улов, посматривая издали, как Оська наживляет крючки яруса. Внимательно проверив содержимое тресковых желудков, он вытер нож и поднялся к Ивану Кузьмичу. Капитан сидел за столом в шапке и меховых сапогах. На плечах у него был наброшен альпак из цигейки. — Треска ровная, говоришь? — спросил он, выслушав короткий доклад Быкова. — Кормится по-прежнему капшаком? — Капшаком, — подтвердил Быков. — Как наполнены желудки? — Можно сказать… набиты. — А печень? — Покрупнее стала. — Хорошо! — одобрил Иван Кузьмич. Неловко действуя одной рукой, он раскрыл судовой журнал и записал: “Треска продолжает двигаться под дрейфующим траулером. Кормовая база — капшак. Концентрация, судя по увеличивающемуся весу печени, устойчива”. Иван Кузьмич отложил журнал и достал из ящика промысловый планшет. Быков почтительно следил за тем, как капитан делал пометки на карте. Старый рыбак знал, что такое промысловый планшет. И оттого, что капитан занес на карту принесенные им сведения, крохотный ярусок сразу приобрел в глазах Быкова большое значение. — Продолжай проверку, — напутствовал его Иван Кузьмич. — За желудком и печенью следи особенно внимательно. Сытая рыба не спешит, движется еле-еле. Кормится. Голодная треска мигрирует либо в поисках корма, либо к нерестилищам. Сегодня она здесь, а завтра… ищи ее. Посматривай, чтобы крючки при спуске не путались. Небось забыл уже, как ярусом-то ловят? — Я этим делом с зуйков занимался, — с достоинством ответил Быков. — Три года только и знал, что крючки наживлять. — И по загривку доставалось? — невольно улыбнулся Иван Кузьмич. — Нельзя без этого, — по-прежнему серьезно ответил Быков. — Ученье. Недолгая беседа с Быковым несколько успокоила капитана. Но стоило ему выйти из надстройки, и непрочное спокойствие сразу развеялось. Увиденное на палубе не радовало. Приборку сделали наспех. Под увязанным по-походному вдоль борта тралом виднелись осколки битых кухтылей — стеклянных поплавков, поддерживающих на плаву верх тралового мешка. Старший механик со своими людьми заделывал брезентом пробоину над машинным отделением. Обработка улова шла вяло. — Рыба замерзла, — доложил старшина второй вахты. — Кипятку нет. Отогревать ее нечем. Вот копаемся: вытаскиваем с-под низу рыбку, какая еще не совсем промерзла. Не работа… Морока! Иван Кузьмич представил себе, как солят треску в трюме, почти в полной темноте. Там сейчас больше напортят, чем насолят. — Ладно! — Он с деланной беспечностью махнул рукой. — Оставим эту рыбку для камбуза. И тут же прикинул на глаз: “рыбки” оставалось на палубе не меньше пяти тонн.ПОСЛЕДНИЙ РЕЗЕРВ
С утра на море опустился плотный туман. В двух шагах трудно было разглядеть человека. Помощь могла пройти в нескольких десятках метров и не заметить бедствующего траулера. Палубные работы в тумане пришлось значительно сократить. Зато посты наблюдения были удвоены. Начиная с первого удачного подъема людей на палубе “Ялты” постоянно не хватало. За рыбоделы ставили всех, кто был свободен от своих прямых обязанностей. Но стоило омертветь машине, и матросов оказалось слишком много. Чем занять их? Стремительно сокращающийся полярный день удавалось заполнить без особого труда. Но уже к обеду траулер тонул в непроглядной тьме. Команда скучивалась в салоне. И тогда появлялся новый враг — неизвестность. Удастся ли тем, кто придет на помощь “Ялте”, за короткий серый день найти дрейфующий траулер? Что делается на фронтах? Целы ли семьи в Мурманске?.. Думы об этом не оставляли людей весь бесконечно долгий вечер. Хуже всего, что единственную действительно неотложную работу так и не удавалось выполнить. Сперва небо заволокло тучами, а теперь туман не давал определить местонахождение траулера. Лишь на третью ночь дрейфа облака расступились. В неширокую полосу проглянули неяркие северные звезды. Вахтенный бросился будить старшего штурмана. Не прошло и трех минут, как Анциферов с секстаном поднялся на ходовой мостик. Пока он готовился произвести нужные наблюдения, тучи сомкнулись. Несколько позже на западе очистился клочок ясного неба. Но и он продержался недолго. Мутная пленка затянула его, а потом и вовсе закрыла. Остаток ночи Анциферов терпеливо мерз в холодной рубке, с опушенными инеем машинным телеграфом, компасом и штурвалом. Надежда сменялась разочарованием и снова надеждой… Под утро спять поднялся туман. Продрогший до костей, спустился старший помощник в салон, желая избежать лишь одного — вопроса капитана: “Определился?” Капитана в салоне не было. Его вызвал Корней Савельич. В холодной каюте помполита, на столе, Иван Кузьмич увидел две эмалированные ванночки — одну с инструментами и вторую с шариками из марли и ваты. — Опять! — поморщился Иван Кузьмич. — Вы боитесь перевязки, как школьник зубного врача, — укоризненно заметил Корней Савельич. Последние дни оказались для Ивана Кузьмича тяжелым испытанием. Приходилось напрягать всю выдержку, волю, чтобы скрыть от подчиненных свое нервное и физическое состояние. Весь день он был на глазах у людей. А тут еще Корней Савельич со своими заботами. — Не вовремя вы затеяли все это, — недовольно заметил капитан. — Весь день я на ногах… — Напрасно, — перебил его задетый словом “затеяли” Корней Савельич. — Надо больше доверять людям. Тогда незачем будет одному подменять всех. — Я не нуждаюсь в советах, — остановил его капитан. — Вы вмешиваетесь в распоряжения старшего механика, — продолжал Корней Савельич, не обращая внимания на недовольство капитана. — Сами ставите вахты… — Когда вы станете капитаном — будете держаться по-своему, — перебил его Иван Кузьмич. — А пока прошу не делать мне замечаний. — Вы капитан. Можете приказывать на судне любому! — повысил голос и Корней Савельич. — Но, когда человек ранен, не ваше слово решающее, а мое. Будь вы хоть трижды капитаном, а мои предписания потрудитесь выполнять. Садитесь. — Что у вас за тон? — возмутился Иван Кузьмич. — Что за тон? — С больными я разговариваю так, как они заслуживают. Три дня вы не даете мне обработать вашу рану. Чего вас после бомбежки понесло с раздробленной кистью на переход? Оттого, что вы там постояли, ничего на судне не изменилось… — Замолчите! — Не замолчу! — загремел Корней Савельич. — Есть у меня предел терпению. За каждого раненого отвечаю я. Да-с! За вашу руку с меня спросят. — На этом мы закончим ненужный разговор. — Иван Кузьмич выпрямился и пристукнул здоровой ладонью по столу, как бы ставя точку. — Рано кончать, — отрывисто бросил Корней Савельич. — Главное я еще не сказал. — Давайте… Главное! — Нельзя тяжелораненых и обожженных держать на голодном пайке. — Я уже слышал это. — И ничего не сделали. — Что я могу сделать? — Капитан с трудом сдерживал гнев. — Даже при нашем, как вы сказали, голодном пайке хлеба хватит всего на два дня. Не больше. — Нельзя кормить раненых только треской и пересохшим хлебом. Нельзя! — настаивал Корней Савельич. — Им нужно молоко, масло… — Где я возьму вам масло? — вспыхнул Иван Кузьмич. — Молоко! — В аварийном запасе спасательных шлюпок. — Вы с ума сошли! — Иван Кузьмич даже отступил на шаг от помполита. — Окончательно сошли с ума. — Я предлагаю вам вскрыть… — Не желаю вас слушать, — оборвал его капитан. — Не желаю! — Я не прошу, Иван Кузьмич, и даже не требую, а предлагаю вам вскрыть аварийный запас на спасательных шлюпках. Не забывайте, что я числюсь помполитом, но права у меня комиссара. Равные с вашими. Минуточку, Иван Кузьмич. После гибели капитана мы действовали заодно. По-моему, это давало хорошие результаты. Я и дальше хотел бы избежать столкновений с вами. Но, если вы откажетесь накормить раненых, я сам вскрою аварийный запас, накормлю раненых да и вас заставлю поесть. — О правах вспомнили! — Иван Кузьмич тяжело опустился в кресло. — Так, так! — Не от хорошей жизни. — Корней Савельич увидел, как поникли плечи капитана. Бушевавшее в нем негодование сразу опало. — Не подумайте, Иван Кузьмич, что я всегда и во всем соглашался с вашими решениями. — Да и я не всегда приходил в восторг от вашей работы. — Но мы оба молчали о правах. Молчали, пока наши разногласия были несущественны. Но сейчас вы вынудили меня вспомнить о моих правах. Уступить я не могу. Дело идет не о пустяках. Раненые… — К черту всю эту болтовню! — подскочил с кресла Иван Кузьмич. — Вы не моряк, не понимаете, что такое Морской устав. — Никакой устав не дает вам права… — Я лучше вас знаю свои права. — А я свои. — Корней Савельич пригнул голову с колюче топорщившимся ежиком. — Ответственность я беру на себя. Полностью. Дайте судовой журнал. — Это зачем? — Я запишу в нем, что, ввиду отказа капитана вскрыть аварийный запас на спасательных шлюпках и накормить раненых, я это делаю сам, на свою ответственность. Капитан не шелохнулся. — Дайте судовой журнал, — повторил Корней Савельич. — Ответственности я никогда не боялся. И сейчас не боюсь. Порядок для меня… — Иван Кузьмич подошел к иллюминатору, постучал зачем-то в замерзшее стекло и, не поворачивая головы, бросил: — Вызовите… старшего помощника. Спустя несколько минут Анциферов выслушал приказание капитана и удивленно посмотрел на него. Воспитанный в строгих правилах военного флота, он не знал, как держать себя. С одной стороны, грубейшее нарушение Морского устава: судно на плаву, а капитан приказывает вскрыть аварийный запас на шлюпках. Но и возражать капитану… — Знаю. Все знаю! — раздраженно предупредил Иван Кузьмич вопрос, готовый сорваться у старшего помощника. — Раненых кормить надо. Возьмите боцмана и выполняйте. — А теперь… — Корней Савельич проводил взглядом Анциферова до двери и произнес спокойно, словно и не было сейчас резкого объяснения: — Я обработаю вашу руку. И попрошу, хоть на этот раз, не подгоняйте меня. Садитесь. Он снял повязку с руки Ивана Кузьмича. Внимательно осмотрел распухшую темную кисть, чернеющие края рваной раны. Иван Кузьмич морщился, глядя на ловкие руки старого фельдшера. Скоро ли конец? Больше ни о чем сейчас он думать не мог. Анциферов вбежал в каюту без стука. Бледный, потерявший привычную строевую подтянутость, невнятно пробормотал что-то. — Что случилось? — Иван Кузьмич поднялся с кресла. — Да говорите, черт вас дери! — На шлюпке номер два… — Что на шлюпке номер два? — Аварийный ящик вскрыт… Сухарей, спирта и еще чего-то… нет. Иван Кузьмич онемел. Замер с ножницами и бинтом в руках Корней Савельич. Трудно… невозможно было представить силу внезапного предательского удара. Хищение аварийного запаса! У кого поднялась рука? Первым опомнился капитан. — Заберите все, что осталось там, — с усилием произнес он. — Вскройте аварийный ящик на шлюпке номер один. Несите все в мою каюту. И никому ни слова о пропаже. Ни слова! Поняли вы меня?ГНЕВ
Желая сохранить чрезвычайное происшествие в тайне от экипажа, капитан собрал в каюте помполита лишь трех ближайших помощников: Корнея Савельича, Анциферова и старшего механика Кочемасова. В поисках предполагаемого преступника они перебирали всю команду. Один был когда-то задержан в проходной рыбного порта с припрятанным под стеганкой окунем. Другой ушел с судна, не отдав долг в кассу взаимопомощи. Третий… Но так можно было проверить лишь очень немногих матросов, которых знали командиры. А как быть с теми, с кем не доводилось плавать ни Ивану Кузьмичу, ни Кочемасову? Оставить их вне подозрений? Или подозревать всех скопом? Брать под подозрение лишь потому, что их никто не знает?.. Неловкая заминка затянулась. — Ни к чему все это обсуждение. — Корней Савельич безнадежно махнул рукой. — Ничего нам оно не даст. Иван Кузьмич осуждающе посмотрел на него. Высказался! Ничего не даст! — Меня тревожит не только сама кража, — продолжал Корней Савельич, не обращая никакого внимания на недовольный взгляд капитана. — Подумайте, что поднимется на судне, если матросы узнают о хищении аварийного запаса. Начнутся взаимные подозрения. Да и мы будем выглядеть в глазах экипажа неприглядно. Берегли аварийный запас! Для кого? — Что вы предлагаете? — жестко спросил Иван Кузьмич. В словах помполита ему послышался упрек. — Что вы предлагаете, я вас спрашиваю? — Подозрительность до хорошего не доведет, — упорствовал Корней Савельич. — Особенно в наших условиях. Надо узнать имя негодяя. Тогда мы не только не нарушим единство экипажа, а наоборот — укрепим его. — Ваше предложение? — нетерпеливо повторил капитан. — Что делать? — А черт его знает, что делать! — раздраженно бросил Корней Савельич, уже понявший шаткость своих позиций: нельзя отвергать пускай даже неудачный план капитана, ничего не предлагая взамен. — Сыщиком я не был. Таланта такого не имею. — Мы тоже не сыщики, — обиделся Кочемасов. — Приходится вот… — Искать надо, — упрямо повторил Корней Савельич. — В каютах, на полубаке, в машинном… — Нечего искать в машинном! — запальчиво возразил Кочемасов. — За своих людей я ручаюсь. — Я тоже готов поручиться за наших людей, — не уступал Корней Савельич. — Но продовольствие… украдено. Давайте обшарим все судно, вместо того чтобы брать кого-то под подозрение. — Отберем честных и крепких на язык матросов, — подхватил сочувственно слушавший его Анциферов. — Чтобы все осталось в тайне. Прочешем судно. От кормы до форштевня. Спустимся в трюмы… — Называйте людей. — Иван Кузьмич придвинул к себе блокнот. — Кого вы предлагаете? — Пишите, — диктовал Корней Савельич, — Быков, Матвеичев, Паша, засольщик… В дверь постучали. — Нельзя! — крикнул Иван Кузьмич. — Занят! Фатьяныч вошел без разрешения. Иван Кузьмич знал, что делал, когда приказал Анциферову никому не говорить о краже. Не знал он другого. Пока старший штурман докладывал ему о хищении аварийного запаса, потрясенный гнусным преступлением боцман не выдержал, поделился с кем-то из матросов. Весть о краже быстро разнеслась по траулеру. Страсти накалялись. Фатьяныч не стал спорить с возбужденными матросами и ворвался к капитану. Слушая взволнованного тралмейстера, Иван Кузьмич машинально перечеркнул карандашом ненужный больше список надежных и крепких на язык матросов и, уже не советуясь ни с кем, принял новое решение. Спустя полчаса Кочемасов с десятком матросов спустился в машинное отделение. Остальные с Анциферовым и Корнеем Савельичем поднялись на полубак. Серыми тенями двигались они в густом тумане, внимательно осматривая бухты троса, бочки, ящик, где хранились якорные цепи. Поиски на полубаке ничего не дали. Корней Савельич и Анциферов разбили своих людей на две группы. Одна отправилась с Анциферовым обыскивать каюты. Вторая с Корнеем Савельичем — осматривать палубу. Матросы внимательно проверяли привязанные к бортам по-походному замерзшие тралы, обшарили узкое пространство между планширем и паропроводными трубами, идущими по борту в жилые помещения под полубаком. Фатьяныч с помощниками занялся осмотром лебедки и барабана с ваерами… Пропажу обнаружили неожиданно просто. В подпоротом с угла тюфяке Малыша лежали завернутые в старую газету сухари, две банки сгущенного молока и большой кусок корейки. Немедленно вызвали в каюту капитана и помполита. Привели Малыша. Он стоял у дверей, уставясь в пол остекленевшими глазами, и упорно бормотал: — Не знаю ничего… Ничего не знаю. — Вспомнишь, — угрюмо пообещал Анциферов. — Вспомнишь, когда станешь перед командой. Заговоришь. — Пройдемте в салон, — сказал капитан. Еле сдерживая желание ударить по искаженному лицу с трясущейся нижней губой, он первым вышел из каюты. Иван Кузьмич толчком раскрыл дверь. Стоявший в салоне гул сразу прекратился. Матросы потеснились, пропуская капитана и старшего помощника. Между ними старчески шаркал не по росту большими сапогами Малыш. Командиры заняли привычные места. Малыш остался стоять перед столом. — Внимание, товарищи! — Корней Савельич выждал, пока в салоне стихли голоса. — У нас на судне совершено преступление. Чудовищное преступление! Если оставить его нераскрытым, на каждого из нас ляжет позорное пятно. Куда бы мы ни пришли, нам скажут: “Это с “Ялты”. Там украли аварийный запас. Оставили товарищей… раненых оставили голодными!” — Пришибить такого… — злобно произнес кто-то. Малыш вздрогнул и еще ниже опустил голову. — Расскажите: как вы произвели хищение? — обратился к нему капитан. Малыш, не поднимая головы, что-то невнятно начал бормотать. — Громче! — закричали с мест. — Не слышно! Чего лопочешь? И снова Малыш, не поднимая головы, с трудом выдавил из себя: — Не знаю ничего. — Что ж! — Иван Кузьмич не отводил тяжелого взгляда от поникшего Малыша. — Так и будем в молчанку играть? — Упирается, гаденыш! — зашумели матросы. — Колосник ему на шею, да в воду! И вдруг Малыш выпрямился и, задыхаясь, крикнул: — Топите! — Позвольте мне? — обернулся к капитану Корней Савельич и обратился к команде: — Послушаем матросов первой вахты. Жили они с Малышевым в одной каюте. У них и найдена часть похищенного… — Дайте мне сказать, — протолкался вперед Оська. — Утопить человека очень просто. Так? Поставил его на планшир. Дал пинка. И нет человека. А если тут недоразумение? Ошибка!.. Оську слушали внимательно. Подавленный вид Малыша, его отчаянный выкрик несколько смягчили озлобление матросов. Но стоило им услышать слово “ошибка”, и еле тлеющая искорка сочувствия погасла. Негодующие возгласы заглушили Оську. И тогда Малыш впервые поднял глаза. Глядя исподлобья на окружающих, он хрипло произнес: — Не ломал!.. Не брал ничего. — Прикройся там! — гневно крикнул Марушко. — Не брал! — Выйдите к столу, товарищ Марушко, — предложил Корней Савельич. — Скажите, что вы знаете или думаете о вашем товарище по вахте? — Чего говорить? — Марушко не шелохнулся. — Вон он… весь на виду. Пацан! — Вы жили рядом, — настаивал Корней Савельич. — Должны знать его. — Капать на человека не мое дело, — с достоинством произнес Марушко. — О чем толковать? — закричали с мест. — В канатный ящик его. Трибунал разберет! Корней Савельич поднял руку, требуя тишины. — Имеется предложение: арестовать Малышева и передать дело о хищении аварийного запаса в трибунал. Другие предложения есть? Нет. Голосую. Кто за предложение арестовать Малышева и сдать под трибунал? Дружно взметнулись вверх руки. — Против есть? — спросил Корней Савельич. Он внимательно всматривался в полутемное помещение. Одна рука поднялась. Вторая. Зоя и Глаша. К ним несмело присоединилась еще рука. На ней и задержался взгляд Корнея Савельича. — Почему вы, товарищ Баштан, идете против воли коллектива? — спросил он. — Добрячок! — негромко прозвучало из темноты. Оська узнал голос. Он повернулся лицом к матросам, разыскивая взглядом Марушко. — Добрячок, говоришь? Выйди сюда. Поговорим. — Он тяжело передохнул. — Выйди послушай, что я тебе скажу. Персонально! — Ну, вот… — Марушко, раздвигая плечом рыбаков, пробился к Оське. — Вышел. — Слушай, ты… — Оська запнулся от возмущения. — Я давно уже не босяк, давно не хулиган. Но во мне еще осталось достаточно хулигана, чтобы сделать из тебя, гада, человека. — А что я из тебя сделаю? — негромко спросил Марушко. — Спрятался за чужие спины и кричишь? Топишь парнишку? — почти кричал Оська. — Подойди к капитану и скажи, что ты знаешь за пропажу. Скажи! — Оська! — В тихом окрике Марушко звучала угроза. — Что?! Что — Оська?! — закричал Баштан. — Я никогда пи па кого не капал, с милицией дружбы не водил. Но разве не ты мне предлагал на пару ошманать шлюпку? Не ты манил меня спиртом? — Я?! — Марушко рванулся к нему. — Я из заключения. Меня легко утопить. — Трудно! — крикнул в лицо ему Оська. — Дерьмо не тонет! — Человек сидел… Вали на него! — В голосе Марушко дрожала слеза. — Вали. Поверят. Клейменый-меченый. Пускай гниет в лагерях! Несколько голосов неуверенно вступились за Марушко; — Не болтай, Оська! — Доказать надо!.. — Доказать?! — Оська снял со стола “летучую мышь” и поднес ее к лицу Марушко. — Смотрите на эту гладкую рожу! — сказал он. — А теперь поглядите друг на друга… Дальнейшее произошло так быстро и неожиданно, что окружающие не сразу даже поняли, что случилось. В руке Марушко блеснул нож. Короткий, почти без замаха удар. Оська выпустил фонарь и повалился навзничь. Кто-то подхватил его. Марушко бросил нож и закричал: — Вяжите! За убийство отвечу. Девять грамм свинца приму за правду… Оборвал его бессвязные выкрики тяжелый кулак Паши. Пока командиры вырвали Марушко из рук разъяренных матросов, пока зажгли погасший фонарь, глаз преступника уже заливала темная опухоль, а окровавленный рот казался огромным, черным. — Бейте! — истерически кричал Марушко. — Убивайте! Все равно мне не жить. Нет доверия бывшему заключенному. До ножа довели!.. — Кончайте базар! — неожиданно спокойно прозвучал в общем гомоне голос капитана. — Боцман! Возьми двух человек и запри Марушко в надежное место. Анциферов! Поставьте охрану к арестованному. Марушко скрутили и вывели из салона. Мельком увидел он, как укладывали на постеленный на полу матрац Оську. Над ним стоял, склонившись, Корней Савельич и готовил инструменты.МАЛЫШ
Оська лежал с напряженно сведенными к переносью бровями и приоткрытым ртом, и оттого казалось, что он силится и никак не может понять: что же такое произошло с ним? Матросы растерянно сгрудились вокруг раненого. Их тела словно слились в одно большое тело с единым горем и ищущей исхода ненавистью. — Воды! — бросил, не оборачиваясь, Корней Савельич. — Быстро! Бережно передаваемый из рук в руки ковш проплыл в воздухе от камбуза до постели раненого. И снова салоп заполнило тяжелое молчание. Корней Савельич закончил обработку раны, наложил повязку. Товарищи бережно подняли Оську, вместе с тюфяком и подушкой, устроили на носилках. Чьи-то руки распахнули пошире дверь. Носилки выплыли из салона. Впереди вспыхнула спичка. Вялый огонек осветил стены, уходившие в темную глубь прохода, странно высокий потолок. Давно закрылась дверь с красным крестом на верхней филенке, а матросы все еще теснились в узком проходе, ждали. В темноте плавали алые огоньки самокруток. Изредка слышался сдерживаемый близостью раненого голос, и снопа тишина, ожидание. Наконец дверь открылась. В слабо освещенном прямоугольнике появилась коренастая фигура Корнея Савельича. Рыбаки двинулись к нему навстречу, еще плотнее забили узкий проход. — Как Оська? — тихо спросил Быков. — Что я могу сказать? — Корней Савельич задумался. Говорить с возбужденными матросами следовало осторожно. Очень уж взрывчатый это парод. — Ранение… тяжелое. В госпитале такие раны лечат. Здесь… потруднее. — Бандюга! — вырвалось у кого-то. — Придем в порт, передадим его в трибунал, — поспешил успокоить возбужденных матросов Корней Савельич. — Там разберутся. — У нас свой трибунал! — ответил из темноты глухой голос. — Сами разберемся. Корней Савельич горячо убеждал матросов в недопустимости самосуда, мести. Его слушали молча, не перебивали. А когда он сказал, что преступник получит по заслугам, снова прозвучал тот же глухой голос: — Получит! Пошлют в штрафную. Месячишко повоюет и чистенький. Хоть женись! Огромного труда стоило Корнею Савельичу вырвать у рыбаков обещание не расправляться с преступником. Но можно ли было верить их обещанию? Слишком напряжены у них нервы… — Корней Савельич! — крикнули из конца прохода. — К капитану! В салоне Иван Кузьмич и Анциферов, окруженные матросами, допрашивали Малыша. — Ты знал, что Марушко взломал ящик с аварийным запасом? — спросил Анциферов. — Нет. — Малыш отрицательно качнул головой. — Не знал. — Допустим, что ты не знал, — согласился Анциферов. — Но продукты в каюте ты видел? Не мог не видеть. Что ж ты молчал? — А я тоже… — Малыш запнулся и принялся теребить полу стеганки. — Что тоже? Помогал ему? Малыш молчал. Решимости у него хватило только на полупризнание. — Ломали вместе, — подсказал Анциферов. — Нет, — еле слышно выдохнул Малыш. — Караулил, пока Марушко работал? И снова Малыш отрицательно качнул головой. — Я — Он с усилием проглотил что-то мешающее говорить и с неожиданной решимостью выпалил: — Ел с ним. — И тебе в горло полезло? — презрительно спросил Матвеичев. — Не подавился? Малыш поник, боясь взглянуть на разгневанного боцмана. — Расскажи по порядку, — вмешался Корней Савельич. — А вас всех, — он осмотрел окружающих, — попрошу не мешать ему. — Пришел я в каюту, — Малыш глубоко вздохнул, — а он сидит. Ест. Дал мне сухарь с маслом. “Рубай!” — говорит. Я спросил: “Откуда у тебя сухари?” А он достал из-за голенища нож. “Продать хочешь? — говорит. — Ешь. Или глотку перережу”. Заставил съесть. И еще дал. Сгущенки. Вот. Так началось. А откуда у него сухари, я не знал. Думал, заначка с дому. У меня тоже были сухари, когда я пришел на “Ялту”. Мягкий тон Корнея Савельича подействовал. Малыш раскрывался все больше. События прояснились. Аварийный запас Марушко похитил после бомбежки. Сперва он приносил в каюту понемногу сухарей и сгущенки. Затем у него появилась корейка и сливочное масло. Малыш понял, что продовольствие попало к Марушко нечистыми путями, но молчал. Молчал, не только боясь расправы, но и сознавал себя соучастником кражи. К тому же Марушко сумел убедить его, что сам-то он в случае разоблачения вывернется, а отвечать придется одному Малышу. Да и аварийный запас не тронут, пока не придется садиться на шлюпки, а капитан с палубы и сам не уйдет и других не отпустит. — Слева по борту самолеты! — донесся в салон голос с палубы. Все бросились к иллюминаторам. Между звездами медленно плыли три зеленых огонька. Возможно, они несли спасение? А если гибель?.. Зеленые огоньки растаяли в небе. Снова “Ялту” плавно приподнимал и опускал могучий океанский накат. Осталась она одна, затерянная в пустынном море… — Небо очистилось!.. — спохватился вдруг Анциферов. — Давай, давай! — нетерпеливо перебил его Иван Кузьмич. — Бери секстан. Беги. Определяйся.ПОБЕГ
После ужина Паша, охранявший запертого в каюте Марушко, доложил капитану: арестованный бушует, грохочет кулаками и каблуками в дверь, кричит: “Стреляйте лучше сразу, чем заживо морозить человека в темной каюте!” Иван Кузьмич прошел к арестованному. Марушко ходил из угла в угол, зябко кутаясь в стеганку. Термометр показывал в каюте минус два — почти как и на палубе. — Отведите его в салон, — приказал Иван Кузьмич. — Да смотрите там за ним. — Охранять змея такого! — проворчал Паша, пропуская вперед Марушко. — Сдать его ракам на дно. На вечное хранение. — Болтаете! — одернул его Иван Кузьмич. — Я рыбак, а не тюремщик, — огрызнулся Паша и прикрикнул на Марушко: — Шагай, шагай! Уговаривать тебя, что ли? Он кипел от негодования. Ему поручили не столько стеречь самого Марушко (в открытом море бежать некуда), сколько охранять его от товарищей. У дверей салона Паша задержался. — Слушай, ты!.. — хмуро предупредил он Марушко. — Я тебя не трону. Но, если Оська умрет… считай себя покойником. Ни капитан, ни сам черт морской тебя не спасут. — Паша! Браток!.. — Голос Марушко сорвался. — С кем не бывает ошибки?.. — Волк тебе брат, — оборвал его Паша. — Вот и я… тоже ошибусь да шугану тебя за борт… После такого предупреждения ноги Марушко стали вялы и непослушны, словно чужие. Он не знал, что капитан и помполит, понимая, что в промерзшей и темной каюте арестованного долго не продержишь, сделали все возможное, чтобы убедить рыбаков не отвечать на преступление преступлением, на удар ножом — самосудом. Лишь после этого Иван Кузьмич распорядился перевести Марушко из каюты в салон. Ненавидящие взгляды встретили Марушко в дверях салона и проводили, пока он не забился в угол за столом командного состава. Но и здесь до него долетали то обрывок разговора, то отдельная фраза, от которых болезненно морщилось острое, щучье лицо с тусклыми глазами. Наконец-то погасили коптилки. Прикрутили “летучую мышь”. Матросы спали. Один Марушко сидел настороже. Каждый шорох вызывал у него дрожь. Порой ему казалось, что кто-то ползет между спящими, пробираясь к нему, и тогда он стягивался в упругий мускулистый клубок. Марушко не выдержал напряжения, нащупал в сумраке плечо Паши. — Ты спишь? — Сиди, жаба! — Паша отбросил его руку. И оттого, что конвоир не спал, преступнику стало легче. Тяжелое дыхание усталых людей давно заполнило салон. Не мог заснуть один Марушко. Просчитался он.Крепко просчитался! Три года назад он держал в страхе и подчинении все общежитие. Дружков подобрал подходящих. Расправа с непокорными была короткая. Даже на суде свидетели не выдерживали его тусклого взгляда и смягчали показания (дружки-то остались на воле). И на траулере он успел кой-кого припугнуть. И вдруг все набросились. На что Оська казался “своим”, и тот в решительную минуту “продал”. А как Марушко был уверен в нем!.. Впрочем, не меньше он был уверен и в том, что до посадки на шлюпки никто в ящик с аварийным запасом не заглянет. Все слышали, как твердо сказал капитан: судно на плаву держится надежно, будет продолжать вести разведку косяка… Утром все получили по два куска жареной трески, по ломтику тронутого плесенью хлеба и по ложке сахарного песку. Марушко принесли паек в его угол. Но он был рад этому. Здесь никто не мог зайти за спину, ударить сзади. И он отдохнет после чудовищного напряжения ночи. После завтрака Пашу сменил хмурый засольщик Терентьев. “Праведник! — злобно подумал Марушко, вспомнив, как Терентьев ругался со шкерщиками из-за брака в обработке рыбы. — Партейный!” С наступлением темноты команда заполнила салон. Настороженный слух Марушко жадно ловил обрывки разговоров. Больше всего хотелось ему узнать, что с Оськой. Жив он? Или умирает? Возможно, уже умер! От одной мысли об этом тело его покрылось липким потом. Если Оська умрет, тогда и ему конец. Не довезут до порта, трибунала. Сейчас трибунал казался Марушко тихой гаванью. После ужина Паша занял свое место рядом с арестованным. Матросы устраивались на ночь. Неторопливая беседа угасала. Тишина, мерное дыхание спящих осилили Пашу. Голова его свесилась на грудь, потом привалилась к стене… А Марушко все думал — упорно, об одном и том же: выживет ли Оська? Хоть бы до берега выдержал. Две участи — преступника и его жертвы — слились воедино. Занятый невеселыми размышлениями, Марушко вдруг разглядел, что помполита в салоне не было. Где он? Куда мог уйти в такую позднюю пору? Только к Оське. Значит, плохи дела раненого, если Корней Савельич ночью не отходит от его постели. Марушко силился развеять страх, убедить себя в том, что помполит мог выйти проверить вахту, побеседовать с дежурными на постах наблюдения, просто подышать свежим воздухом… Все это казалось неубедительным. Только к Оське, Больше некуда идти Корнею Савельичу. Мысль упорно повторяла одно и то же слово: “Умирает!..” Незаметно пришло убеждение, что Оська уже мертв. Вот сейчас войдет Корней Савельич, сообщит о смерти Оськи… Теперь уже Марушко не мог отвести взгляда от двери. В каждом шорохе спящих ему слышались шаги Корнея Савельича. Марушко встал. Потянулся, разминая отекшую спину. Осторожно ступая между спящими, пробирался он к выходу. — Легче! — пробормотал кто-то с пола. Марушко замер с приподнятой ногой. Так он стоял, пока под ним не зазвучал сочный храп. Марушко перешагнул через спящего и открыл дверь.ОТЩЕПЕНЕЦ
Исчезновение Марушко всполошило всю команду. Бежать одному с “Ялты”? Безнадежно. Скрываться на судне? Вовсе нелепо. Но были же причины, побудившие преступника к бегству?.. Иван Кузьмич немедленно усилил вахту. Анциферов бросился к кладовке, где хранилось оружие. Замок на ней был цел, автомат и три винтовки на месте. Старпом облегченно вздохнул и перенес оружие в пустующий камбуз. Здесь оно было под постоянной и надежной охраной. Поиски Марушко возглавили Анциферов и Кочемасов. Матросы плотной цепочкой — от борта и до борта — неторопливо двигались с кормы к надстройке. В густом тумане Марушко мог пройти незамеченным в двух шагах. Значительно труднее было в трюмах и особенно в машинном отделении. Спускаться по трапам приходилось осторожно, нащупывая ногой обледенелые ступеньки. Матросы кружили в огромном пространстве, часто перекликаясь друг с другом. Гулкое эхо искажало голоса, повторяло их, и оттого казалось, что машинное отделение заполнено чужими, неведомо откуда взявшимися людьми. Лучи немногих электрических фонариков шарили по слезящимся от сырости стенам и таяли в темной пустоте или неожиданно вспыхивали яркими пятнами на сверкающих инеем переходах и трапах. Продолжать поиски в таких условиях было безнадежно. Марушко мог проскользнуть между шумящими матросами, найти уголок, где можно отсидеться, пока идут поиски. Машинная команда вернулась на палубу. Никаких следов беглеца обнаружить не удалось. После недолгого раздумья Иван Кузьмич приказал задраить наглухо оба трюма и вход в машинное отделение. — Если он внизу, — сказал капитан, — пускай сидит. Холод рано или поздно выморозит его из любой щели. Но не холод и, конечно, не голод вынудили Марушко выйти из надежного убежища раньше, чем кто-либо ожидал. После обеда один из вахтенных услышал стук в дверь машинного отделения. Он подошел к ней поближе. Прислушался. Стук повторился. — Марушко? — спросил вахтенный. — Пить! — прохрипел за дверью Марушко. — Берите меня, только попить дайте. Его привели в салон. Пошатываясь, подошел он к бачку. Выпил две кружки воды. — Теперь… стреляйте! — Марушко распахнул стеганку. — Бейте. От него несло перегаром. Он был пьян. — Надеюсь, теперь кончите запираться? — сказал капитан. — Не брал я ничего, — упрямо мотнул головой Марушко. — Ни-че-го! — А спирт? — спросил капитан. — Какой спирт? — нагло уперся Марушко. — Откуда? Ночью он заглянул в дверь капитанской каюты. Немногое увидел там Марушко, но и этого для него было вполне достаточно. Зоя поила Оську из кружки. Пьет! Значит, до смерти раненому еще далеко. Марушко пробрался в свой тайник. Радость его была так велика, что он крепко выпил, наелся до отвала и тут же заснул. Проснулся он от жажды. Пока искал в темноте воду, на палубе зашумели. В машинное спустились матросы. А когда они ушли, Марушко долго шарил по темному помещению с мутной головой и пересохшим ртом и наконец не выдержал, стал стучать в дверь. — Не знаю, где вы прятали спирт, — сказал капитан. — Но хватили вы крепко. — Водопровод в машинном замерз, — врал Марушко. — Наглотался я льду. А он с какой-то пакостью от огнетушителей да с машинным маслом. От этого и жажда… и запах. — Далеко припрятал краденое, — сказал Корней Савельич, не глядя на Марушко, — потому и подсовывал понемногу в рундучок Малыша. Чтоб не лазить каждый раз в темноте за сухарями и прочим. — Вы все умные! — Марушко привалился спиной к стене и выставил вперед острую челюсть. — Все знаете. Один я дурак. Зачем же у меня спрашивать? Пойдите достаньте что вам надо. Поймайте вора. — Незачем ловить вора, — остановил разговорившегося Марушко Иван Кузьмич. — Покушения на убийство достаточно… — Не было покушения! — крикнул Марушко. — Хотел пугнуть парня. А он сам напоролся на нож. Оська ж… друг мой. Друг! — В голосе Марушко знакомо зазвучала фальшивая слеза. — Я только из заключения вышел. Все от меня, как от волка. Один Оська оказался человеком. Это вся команда покажет на суде. Вся! Неужели я такой подлец?.. — Подлец, — убежденно подтвердил Быков. — Первостатейный! — Бей меня! — Марушко рванул рубашку, и она с сухим треском разошлась до пояса, обнажив грязную тельняшку. — Стреляй подлеца! Марушко очень хотел, чтобы его ударили, избили. И чем сильнее, тем лучше. Если к явным телесным повреждениям симулировать еще и внутренние, все это можно будет с выгодой использовать на следствии, а затем и на суде. — Бросьте представляться, — охладил его Иван Кузьмич. — Никто вас бить не станет. Придет время — расчет с вами произведут полностью. — Корней Савельич! — вошла Зоя. — Пройдите к Баштану. Марушко оцепенел. От недавней наглости его не осталось и тени. Он убедил себя, что жизнь Оськи в безопасности. Это придало ему уверенности, дерзости. Но бывает, что ранение оборачивается плохо, когда и врачи этого не ожидают. О том же думали сейчас и матросы. Они сомкнулись вокруг Марушко плотной стеной. С трудом сдерживаемая ненависть готова была прорваться, несмотря на присутствие капитана. Надо было любой ценой разрядить нависшую над Марушко угрозу расправы. — У капитана с тобой за Оську свой расчет. — Паша шагнул к прижавшемуся к стене Марушко. — У нас свой… — Оська, Оська! — перебил его Иван Кузьмич. — Говорите вы о нем много, а никто не навестил раненого. Матросы опешили. Чего угодно ожидали они, только не этого несправедливого упрека. — Так не пускают же! — опомнился Быков. — К Оське-то! — Нельзя было, и не пускали, — ответил капитан, не замечая своей непоследовательности. — А сегодня я могу пропустить в лазарет двух-трех человек. Не больше. Выбирайте сами, кого послать. Навестить раненых выделили Фатьяныча, Быкова и Малыша. Они вошли в капитанскую каюту, стараясь не стучать подкованными каблуками. Никто из них не заметил, с каким удивлением посмотрел Корней Савельич на непрошеных гостей, потом на капитана. Раненые и обожженный кочегар лежали па полу. Рядом с ними на плоских ящиках, заменяющих столики, стояли кружки с питьем, какие-то пузырьки. В углу веяла жаром неуклюжая печка, сделанная боцманом из металлической бочки. Возле нее стоял ящик с углем. Свободного пространства в каюте еле хватало для посетителей. — Здорово! — Голос Быкова прозвучал неуместно громко, и он, спохватившись, добавил почти шепотом: — Навестить собрались. — Пришли? — удивился Оська. Лицо его, опушенное золотистой бородкой, заострилось еще больше, веснушки потемнели, стали крупнее, четче. И только круглые голубые глазки светились от радости. — А я — то думал, Корней Савельич не пустит. — Не пускал прежде, — подтвердил Быков. — Говорил, что раненым покой нужен. — Покой? Мне? — искренне удивился Оська. — У меня от покоя голова болит. — Скучаешь тут? — Фатьяныч посмотрел на спящего соседа Оськи и выглядывающую из-под одеяла забинтованную голову обожженного кочегара. — Поговорить-то не с кем? — А Зоя? — Оська показал головой в сторону, где Зоя разбирала перевязочные материалы. — Шикарная девушка! Умница! Мы с ней понимаем друг друга. Она любит одеваться. Я тоже. Всю жизнь мечтал одеваться с шиком. С морским шиком! Вы знаете, как одеваются одесские моряки? Заграничного плавания! Картинка! Идет моряк. На нем простой комбинезон. Может быть, даже с дырками. А рубашечка… шик-модерн! Без галстука. На ногах туфли — лак с замшей. Носочки стамбульские. Фасонистая шляпа. А у меня… Комбинезон был. Дырки были. А вот лак с замшей… — Как ты чувствуешь себя? — спросил Быков, замечая по взглядам Корнея Савельича, что свидание подходит к концу. — Танцевать еще не пробовал, — беспечно бросил Оська. — Музыки нема. А в общем… Вы же знаете, какой я счастливый? Сунули б нож промеж ребер кому-нибудь другому… давно б отдал концы. А я мечтаю за лаковые туфли. Зачем, скажете, ему лаковые туфли? У меня прорезается какая-то биография. Конечно, Буденного из меня не выйдет. Но этот сумасшедший рейс. Самолеты, налеты1 Будет что рассказать в Одессе… — На этом мы и кончим свидание, — вмешался Корней Савельич, услышав, что Оська заговорил про Одессу. — Прощайтесь. — Уже? — запротестовал Оська. — Так я же ничего еще не рассказал… Зоя понимающе переглянулась с Корнеем Савельичем и подошла к Оське, загородила его от товарищей спиной. — Пока, Оська! — попрощался Быков. — Поправляйся давай. Да скажи ребятам, — он кивнул в сторону спящих, — что приходили навестить. — Уходите? — огорченно спросил Оська. — На вахту надобно, — покривил душой Быков. — На вахту? — переспросил Оська, явно желая оттянуть прощание. — Какая теперь вахта? — Военная, — строго сказал Фатьяныч. Он хотел что-то добавить, но Корней Савельич уже теснил посетителей к двери. Проводив матросов, он остановился перед Иваном Кузьмичом. — А вы подождите. — Опять перевязывать? — поморщился капитан. Корней Савельич мягко, но настойчиво подвел его к столу. Включил лампочку, висящую рядом с аккумулятором. Разбинтовал руку. Внимательно осмотрел рану. Капитан вызывал у Корнея Савельича все большее беспокойство. Они постоянно были вместе, даже отдыхали поочередно, на одной скамье. Ночами Корней Савельич слышал, как капитан ворочается во сне. Иногда Иван Кузьмич поднимался и подолгу сидел, поглаживая раненую руку. — Что вы со мной в прятки играете? — недовольно спросил Иван Кузьмич. — Я давно вышел из возраста, когда играют. — Корней Савельич сердито посмотрел на строптивого пациента. — Давно-с! — Я тоже не маленький. И без вас вижу, что у меня начинается гангрена, — вполголоса, чтоб не слышали раненые и Зоя, сказал Иван Кузьмич. — В такой обстановке… — он обвел здоровой рукой каюту, — ничем вы мне не поможете. Корней Савельич не стал спорить. Рука капитана распухла и затвердела уже до локтя. Оперировать в полутемной каюте, где невозможно создать должные условия, когда даже дистиллированная вода на исходе… — Кончайте, — нетерпеливо потребовал капитан. — Хватит возиться. — Я не вожусь, Иван Кузьмич, — внушительно поправил Корней Савельич. — Принимаю решение. — Резать хотите? — спросил капитан. — Не будет иного выхода — придется.КРИЗИС
Несмотря на все усилия командования, настроение экипажа заметно ухудшалось. В бесконечно долгие темные часы матросы сбивались в салоне, жались не столько даже к жаркому камельку, сколько к слабому кружку света, падающему от “летучей мыши”. Тревожные мысли упорно лезли в голову, вытесняя все остальное. О чем могли размышлять люди в свободное время? О положении на фронте, о своих семьях, о своем спасении. А времени для размышлений было много, слишком много!.. Беседы Корнея Савельич а не привлекали былого внимания. Слишком явно сквозило в них желание успокоить команду, поднять настроение. Услышать бы сводку Совинформбюро, знакомый голос Левитана! Тогда и каждое слово помполита снова обрело бы вес и значение. Особенно докучал в душном салоне чад от жареной трески. Он пропитал здесь все: воздух, одежду, мебель, даже стены. Ели треску с усилием, а некоторые почти с отвращением. Ели и мечтали о куске хлеба — мягкого, душистого ржаного хлеба. Но с еще большей жадностью, чем о хлебе, мечтали рыбаки о свете, о простой электрической лампочке. Вырваться хотя бы на часок из гнетущего сумрака, усиливающего тревогу и раздражительность. После ужина Корней Савельич объявлял имена тех, кто лучше трудился в светлые часы. Но и это проверенное издавна средство не могло подействовать на команду. Матросы понимали, что работу для них ищут, как отвлекающее средство. Какая работа, если даже ходить в тумане по скользкой палубе приходилось осторожно, мелкими шажками, как больному? Особенно неохотно вахты очищали палубу ото льда. Пустой труд! Все, что удавалось сделать за несколько светлых часов, к рассвету сводилось на нет. Оседающий на палубу туман за долгую ночь снова покрывал ее тонкой пленкой льда. Машинная команда тщательно следила, чтобы не появилось ни одной пробоины в корпусе судна. Матросы старательно откачивали из трюмов скапливающийся на днище тузлук. Быков с новым напарником Малышом круглые сутки ловил рыбу на ярусок и в положенные сроки докладывал капитану: — Треска идет ровная, Иван Кузьмич. Кормится хорошо. Капшаком. Исправнее всех несли вахту впередсмотрящие. Не раз Иван Кузьмич назначал на пост наблюдения приунывшего матроса. Сознание, что именно он может заметить или услышать ищущий “Ялту” траулер, начисто изгоняло из головы все мысли, кроме одной: “Не пропустить бы! А вдруг?..” Особенно внимательны бывали наблюдатели ночами, когда туман поднимался и открывал море. Сколько раз казалось людям, что они видят контуры недалекого судна… В команде назревал кризис. И нечем было его не только переломить, даже смягчить. И когда в салон бурно ворвался возбужденный матрос и крикнул: “Самолеты! Прямо по носу!” — все замерли, обернулись к капитану. — Дайте ракету! — вырвалось у кого-то. — Сколько можно так?.. — Никаких ракет! — отрезал Иван Кузьмич. В ответ недовольно загудели застуженные сиплые голоса. — Кончайте базар! — Иван Кузьмич повысил голос. На этот раз слова, обычно пресекавшие ненужные разговоры, утонули в нестройных выкриках. В общем гомоне невозможно было разобраться, а потому даже матросы, желавшие помочь капитану, своим криком лишь усиливали сумятицу. Утихомирил матросов вернувшийся в салон Анциферов. — А самолеты-то были немецкие, — громко сообщил он. — Только у них так завывают моторы. Пока вы тут шумели, я выбежал на палубу послушать, что за гости пожаловали к нам. — Точно! — поддержал старпома Матвеичев. — Мы их в Мурманске наслушались. Досыта! Слова его встретили молчанием. Будто никто не требовал только что осветить судно ракетами, показать себя вражеским самолетам. …Матросы засыпали. Кое-где еле слышно шуршал шепоток. Но вот и он затих. Раздавалось лишь легкое шипение сковородки да вздохи Глаши. Легко ли ей? По шестнадцати часов в сутки сидит согнувшись над пышащим жаром камельком. Только и передохнет повариха, когда поставит на огонь огромный пузатый чайник, а сама приляжет в камбузе, между котлами и шкафом, где в узких перегородочках стоят боком, как патефонные пластинки, тарелки и миски. Под потолком с каждым движением траулера покачивались подвешенные на крючках кружки… Давно в салоне все спали. Не мог заснуть лишь сидевший возле дремлющего капитана Корней Савельич. В тишине ощущение нависшей беды резко усилилось. Откуда она свалится? Этого Корней Савельич не знал. Но в том, что беда созрела, готова каждую минуту обрушиться на него, капитана, на всех спящих в салоне и несущих вахту на палубе, сомнений не было. Беда грянула утром. Как ни ждал ее Корней Савельич, она оказалась неожиданной!.. Невозможно было даже сразу представить ее силу, последствия. После завтрака Иван Кузьмич подсел к Корнею Савельичу и шепотом сообщил: с завтрашнего дня сухари будут выдавать только раненым. Остальным придется довольствоваться одной треской. — Лед скалывать… на одной треске? — Корней Савельич поднял густые брови. — Придется! — нахмурился капитан. — Я сам объявлю команде… — Ни в коем случае, — запротестовал Корней Савельич. — Это мое дело… Иван Кузьмич не пожелал даже выслушать его. Такое сообщение команде может сделать только капитан. Никто больше. Никакие возражения помполита не могли поколебать его решения. Да и доводы Корнея Савельича были весьма шаткие. Не мог же он сказать прямо: был бы капитан здоров- не стоило б с ним и спорить. Но, когда Иван Кузьмич держится на ногах одной волей, нервами, хватит ли у него сил на нелегкое объяснение с командой? Спор шел шепотом, но горячность его от этого не уменьшалась. Уступить ни один из них не мог, хотя оба отлично понимали, что именно сейчас ничто не было более опасно для состояния команды, как разлад между капитаном и помполитом. Серые сумерки пали на палубу, когда Корней Савельич понял, что надо делать. Быстро разыскал он Анциферова. — Известите команду: в восемнадцать ноль-ноль открытое партийное собрание! — приказал Корней Савельич. — Вызовите коммунистов в мою каюту к шестнадцати часам. Отпустив Анциферова, Корней Савельич вернулся в салон и занял свое место рядом с дремлющим капитаном. — Иван Кузьмич! — Да? — Капитан с усилием раскрыл глаза. — Слушаю вас. — В восемнадцать ноль-ноль я провожу открытое партийное собрание. Вы сделаете доклад о положении судна. В нем и объявите о сухарях. — Отлично! — оживился Иван Кузьмич. Они вполголоса обсуждали будущий доклад, когда в салон вернулся Анциферов. — Коммунисты собраны! — доложил он. Корней Савельич собрал коммунистов, конечно, не за тем, чтобы наметить с ними повестку дня. О чем пойдет речь на собрании, и без того ясно было каждому. Хотелось подготовить коммунистов, чтобы они своими выступлениями разбили бы усиливающиеся апатию и недовольство. Надо бы убедить выступить на собрании и кое-кого из беспартийных. Скажем, Быкова. Из комсомольцев можно потолковать с Пашей. Парень хороший, стойкий. А времени оставалось так мало… Быть может, перенести собрание? Но утром люди не получат сухарей!.. Постепенно план собрания вырисовывался все четче. И, когда Корней Савельич вошел в свою каюту и увидел ожидающих его коммунистов, сомнения и неуверенность остались за порогом.ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО
Готовясь к открытому партийному собранию, Корней Савельич сделал все возможное, чтобы осветить салон. Кроме “летучей мыши”, горели три масляных светильника. И все же осилить темноту не удалось. Худые обросшие лица матросов виднелись смутно, а в отдаленных углах таяли в сумраке. За столом, покрытым кумачовым полотнищем, сидели коммунисты: Кочемасов, Анциферов, Матвеичев и засольщик Терентьев. По неписаной традиции все они побрились перед партсобранием, хотя и нелегко было сделать это в темном и тесном салоне. — Слово для доклада имеет капитан, — объявил Корней Савельич и на всякий случай добавил: — Прошу внимания. — У нас в трюмах сто пятьдесят тонн трески, — начал капитан. — Это равноценно полтысяче голов крупного рогатого скота. Каждую корову надо вырастить, откормить. А мы с вами такое богатство взяли за неполных десять промысловых дней… Иван Кузьмич впервые делал доклад на открытом партийном собрании, а потому и чувствовал себя несколько скованно. Уверенность пришла, когда он заговорил о лучших работниках, выдержавших проверку в суровых аварийных условиях, а затем обрушился на тех, кто не способен сейчас думать и говорить о чем-либо ином, кроме далекого и недоступного порта. — До чего дошло! — Иван Кузьмич окончательно справился с первым ощущением неловкости. — Есть у нас такие, что по три дня рук не моют. Уши копотью забило. Трудно, скажешь, Иванцов? Всем тяжело. Только у одних кость крепкая. А другие слабоваты, поджилки трясутся. Но, если мы дадим волю дурному настроению, предчувствиям и прочим бабьим выдумкам… легче не станет. Нет. Хуже будет. Испытания наши пока еще не закончились. — А будет ли им конец? — вырвалось у Иванцова. — Будет, — твердо ответил Иван Кузьмич. — Без помощи нас не оставят. Головой ручаюсь, что где-то здесь, в тумане, ищут нас. Возможно, через час впередсмотрящий крикнет: “Вижу судно!” — Капитан помолчал, давая слушателям обдумать его слова. — Самое важное, что мы напали не на случайный косяк, а на желоб, по которому треска движется на запад. Находится он в стороне от морских путей. В этом наша удача и беда. Удача потому, что мы нашли новую устойчивую сырьевую базу, выполнили задачу, поставленную перед нами областным комитетом партии. Выполнили, но не довели до конца. Надо еще доставить в порт рыбу, сообщить координаты желоба и сброшенных нами буев. — Иван Кузьмич осмотрел всех, как бы ожидая возражений, и продолжал: — А беда наша в том, что на случайную встречу с каким-либо пароходом здесь, в стороне от морских дорог, рассчитывать трудно. — Зато на фашистский рейдер можем нарваться запросто, — вставил с места старичок консервщик. — Если б я не был уверен в том, что за нашими плечами есть надежная поддержка, — продолжал Иван Кузьмич, не отвечая консервщику, — не пошел бы на “Ялту”, в море. Пускай наш кургузый паек сократится, — он выдержал паузу: как принята его осторожная разведка? — мы знаем, что рейс наш удачен… — А туман? — снова вставил консервщик. — Туманы здесь устойчивы, — спокойно подтвердил Иван Кузьмич. — И это очень хорошо. — Хорошо? — перебили его недоумевающие возгласы. — Что хорошего? Как слепые, тычемся тут! — Больше недели мы ловили здесь, не опасаясь ни авиации, ни кораблей противника, — продолжал Иван Кузьмич. — Туман укрывал нас, как пологом. И снова вспыхнул говор. Матросы понимали, что если туман укрывал “Ялту” от врага, то сейчас он укрывает ее от своих судов и самолетов. — Хуже всего, — Иван Кузьмич вздохнул, — что испытания нам еще предстоят нелегкие. Я, товарищи, не дипломат и не адвокат, а моряк. И вы моряки. Добровольцы! А потому мне незачем искать обходные пути, чтобы сообщить вам нерадостную весть. Прямо скажу: сухари у нас на исходе. — Иван Кузьмич поднял голос и ломил напролом, покрывая взволнованное гудение слушателей: — Остаться без сухарей нам с вами — тяжелое лишение, а для раненых — это просто гибель. — На одной треске жить?! — кричали с мест. — Надо было вовремя уходить на веслах! — На веслах? — переспросил Иван Кузьмич. — Думали мы и об этом. После бомбежки предлагали и такой вариант. Я наотрез отказался от него. — Он помолчал, выжидая, пока Корней Савельич наведет порядок в салоне. — Представим себе, что нам удалось бы посадить в лодки весь экипаж. Даже и раненых. Допустим, что в такой тесноте, не отдыхая, мы смогли бы грести пять суток без передышки. Допустим даже это. Предположим, что нам невероятно повезло: ни ветер, ни волна не сбили бы нас с направления. Все гладко! Предположим, что мы, как в сказке, вышли не на скалистые берега, где прибой разбил бы наши лодки, а прямехонько в бухту. Чудес, конечно, не бывает. Но на этот раз давайте поверим в чудеса. Скажите: с какими глазами доложили б мы в порту: “Нашли косяк”. “А рыбу взяли?” — спросили б у нас. “Взяли”. — “Где она?” — “В море бросили”. — “В каком месте?”- “А мы координаты не уточнили. Спешили бежать с судна”. Полтораста тонн рыбы бросить! — почти выкрикнул Иван Кузьмич. — Бросить уловистый желоб! В такое время! Мы бились в темноте, вслепую, под пулеметным обстрелом. Капитана потеряли! Трое наших товарищей борются со смертью… И после этого бросить все и бежать?.. Он неожиданно оборвал речь и, тяжело дыша, опустился на скамью. Корней Савельич видел, как побледнел Иван Кузьмич, и понял: “Рука!” Стоило капитану сесть, как снова со всех сторон вспыхнул возбужденный говор. — Шуму много! — сурово произнес Корней Савельич. — Кто желает высказаться? Торопливо поднялись несколько рук. — Вот мы тут шумим, — встал Быков. — Сухарей нет, да в темноте сидеть невмоготу. А как же мы прежде промышляли? Электричества и не знавали. Фонарь такой, — он показал рукой на “летучую мышь”, — да и то керосинчик экономили. В двадцать шестом году ходили мы искать пропавшую шняку. Восемь суток искали. И не в океане искали, на Белом море. И нашли мы ее, когда вовсе веру всякую потеряли. Как только люди выжили на той посудине? Одной треской кормились. Пресная вода кончилась. Скалывали с бортов кусочки льда. Растопят их и пьют. Вода получалась!.. — Он безнадежно махнул рукой. — Последние двое суток треску сырой жевали. Выжили люди. А мы завтра еще первый день без сухарей… — Не первый! — перебили его. — Вторую неделю на голодном пайке сидим. Погляди на людей! Сам-то ты на кого похож? — А как же ленинградцы? — спросил, неизвестно к кому обращаясь, засольщик Терентьев. — Какой у них паек? А там не моряки, а женщины и дети с ними! Они и рады бы поесть трещёчки. Да где ее взять? Где? — А мы привезем! — крикнул Матвеичев. — Не дадим себя попутать Иванцовым да Марушкам. — Куда понес? — возмутился Иванцов. — С кем меня сравнил? — Кто мешает нам — всех в один мешок! — загремел Матвеичев. — На войне вор, трус, паникер — один черт! Убежденный голос боцмана подействовал. В выступлениях рыбаков все сильнее звучало: надо бороться за судно, улов, иного выхода нет. — Итак, мнение открытого партийного собрания единодушно, — подвел итог Корней Савельич. — Все выступавшие решительно поддержали капитана. Возможно, кто-то хочет возразить, либо имеет какие-то другие предложения? Нет желающих? Какое примем решение? И не только примем, но и выполним его. А если окажется, что кто-то сейчас отмолчался в углу, а потом станет мешать нам… такого заставим уважать волю открытого партийного собрания. Решение было короткое и не совсем обычное по форме. “Мы, коммунисты и беспартийные рыбаки траулера “Ялта”, заслушав и обсудив доклад капитана, уверены, что помощь близка, а потому полностью поддерживаем намеченные командованием меры для укрепления дисциплины и сохранения улова. Обещаем положить все силы на защиту нашей Родины от фашистских извергов и прежде всего сделать все возможное, чтобы обеспечить треской и рыбьим жиром героических воинов, защищающих Заполярье, и раненых, находящихся на излечении в госпиталях”.КОНЕЦ
На следующий день во время завтрака большинство матросов получали миски с треской молча. Но некоторые, менее сдержанные, отходили от камелька со вздохом, а то и с крепким словцом в адрес тумана, войны, Гитлера. После вчерашнего напряжения Иван Кузьмич чувствовал себя разбитым. Резкая боль отдавалась уже в плече. Корней Савельич незаметно следил за капитаном. Сдал Иван Кузьмич. Сильно сдал! Неужели придется рискнуть на почти безнадежную в таких условиях операцию? После завтрака матросы вышли из надстройки. Анциферов взял свою вахту — Быкова, Малышева и Пашу. Освещая скользкие ступеньки трапа электрическим фонариком, спустились они в машинное отделение. Машинная команда обшарила тут каждый уголок. Марушко вышел отсюда сытый и пьяный. Следовательно, только здесь могли быть остатки похищенного продовольствия. Анциферов прошел в кочегарку. В промозглом, холодном помещении стоял едкий запах угля и шлака. Под высоким потолком гулко отдавался каждый шаг, даже тихо произнесенное слово. Паша зажег в консервных банках масло с паклей. Дрожащее красноватое пламя осветило кочегарку, круглые устья остывших топок, груду угля. Несколько раз Паша доливал масла в самодельные светильники, пока удалось обнаружить интересную находку. В глубине топки Малыш нащупал остатки сгоревших досок. В ночь после бегства Марушко устроился в кочегарке даже с некоторыми удобствами: развел костерок, обогрелся. — А ведь остатки украденного им здесь, — высказал общую мысль Быков. — Больше негде им быть. Здесь либо в бункере. — Сутки буду искать, — вырвалось у Анциферова. — Не выйду отсюда, пока не разыщу… Он взял длинный лом и принялся ворошить груду угля. Быков с Малышом забрались в топку, осветили электрофонариком красноватые шершавые стены. Старательно шарили они в слежавшемся шлаке, постепенно подбираясь к дальним углам топки. Остановил их ликующий возглас Паши: — Есть! Наше-ол! Остатки сухарей были запрятаны в углу поддувала. Под золой они были совершенно незаметны. В другом углу нашли консервы и масло. — Пошли в салон, — заторопил Паша. — Порадуем бандюгу. — Вещественных доказательств ему не хватало! — ликовал Анциферов. — Вот они! Живо выбрались они из машинного отделения. Шумно вошли в салон. — Вот! — Паша издали показал Марушко банку с консервами. — Вещественные доказательства! — Что ж! — равнодушно процедил Марушко. — Погорел. И привалился спиной к стене. — Глаза твои бесстыжие! — всплеснула руками Глаша. — Как тебя, злодея такого, земля еще носит?.. Перебил ее вбежавший в салон моторист. — Тревога! — крикнул он. — Пошел все на палубу! Он увидел испуганно застывшую у камелька повариху и прикрикнул на нее: — Бросай все! На палубу! Лётом! Анциферов так и выбежал из надстройки с сухарями в руках. Он сразу же разглядел расплывчатые контуры военного корабля. В том, что это было военное судно, сомнений быть не могло. Корпус его тонул в плотном тумане, зато мачты с характерными надстройками и прожекторами исключали возможность ошибки. Размеры, класс корабля определить было невозможно, настолько искажал туман его формы. — Рейдер! — глухо произнес кто-то за спиной. — Нарвались. Лишь сейчас Анциферов заметил наверху, на рострах, окруженного командирами капитана, услышал поскрипывание талей. Спускали шлюпки. Не выпуская из рук сухарей и банок, Анциферов взбежал по трапу и остановился. — …Шлюпка номер два берет раненых, женщин и держится под прикрытием корпуса траулера, — приказал капитан. — Тузик идет первым на сближение с судном. Если корабль вражеский, тузик кладет руль направо и уходит в туман. Остальные, не получая от тузика сигнала, также скрываются в тумане. “Еле на ногах держится, а распорядился толково”, — с уважением отметил про себя Анциферов. — Старшим на тузике пойдет Анциферов, — объявил капитан. — Есть идти, старшим на тузике! — повторил Анциферов. Он передал сухари Быкову, а сам побежал в камбуз за оружием. Из надстройки вынесли раненых. — Одеялами укройте, — хлопотала возле них Зоя, — двумя одеялами каждого. На шлюпке матросы жались к бортам — раненые заняли много места. Гребцы недоумевающе переглядывались: как тут разворачивать весла? Теснота! — Садись-ка в шлюпку сама, — подошел к Зое Быков. — Да возьми вот… Пригодится. И он подал ей продовольствие. Анциферов выбежал из салона, нагруженный автоматом, винтовками и подсумками. Внимание его привлекли тревожные возгласы на рострах. — Старпома сюда! — крикнул сверху помполит. — Быстро! Анциферов стремительно взбежал по трапу. Капитан лежал на рострах без сознания. Больше старпом ничего заметить не успел. — Принимайте командование, — встретил его Корней Савельевич. — Пойдете вместо капитана на шлюпке номер один. — Он обернулся к выжидающе посматривающим на него матросам. — Берите капитана. Спускайте в шлюпку. В другую! К раненым! Анциферов оглянулся. Все это было так неожиданно. И посоветоваться не с кем. Не с кем, да и некогда. Судно в тумане разворачивалось носом на “Ялту”. — Расстреливать будет, — хрипло произнес за спиной забытый всеми Марушко. — Старшим в тузике… — Анциферов не узнал своего осипшего от волнения голоса, — пойдет товарищ Кочемасов. Пока старший механик перебрался из шлюпки в тузик, Анциферов роздал матросам винтовки. Автомат он оставил себе. Анциферов спустился в шлюпку. Прошел на нос. Матросы уже сидели на местах. Гребцы разобрали весла. Непривычно тихо прозвучала команда старшего помощника: — Отваливай. Матросы оттолкнулись от борта траулера. — Весла на воду! — также вполголоса приказал Анциферов. Борт траулера медленно отходил от него. Анциферов стоял на носу шлюпки, внимательно всматриваясь в сторону военного корабля. Туман лежал на воде плотно, а потому из шлюпки не видно было чужого судна, даже его мачт. За плечами у старпома слышалось чье-то тяжелое дыхание — шумное, с присвистом, как у тяжелобольного. Впереди еле приметно маячила корма тузика. — Одерживай! — негромко приказал Анциферов. — Спешить некуда. Весла ложились на воду ровно, без всплеска. Лишь под носом шлюпки тихо журчала бодэ. — Слева гляди! — послышался за спиной жаркий шепот. — Слева!.. Анциферов обернулся. Неприятный холодок залил спину. Руки привычно вскинули автомат. Громко, до боли в ушах, щелкнул предохранитель… Слева еле приметно вырисовывались в тумане смутные очертания лодки, вернее, даже не лодки, а силуэтов гребцов. Казалось, что люди сидят в молочном мареве и повторяют однообразные движения корпусом — вперед-назад, вперед-назад. За спиной Анциферова еле слышно прошуршал тревожный шепоток. — Право руль! — тихо приказал Анциферов. — Право руль!.. Право руль!.. — скользнуло с носа на корму. — Право руль! Нос шлюпки пошел налево: рулевой выполнил команду. С маленького тузика тоже заметили чужую лодку, и он оторвался, утонул в тумане. — Правым табань, левым загребай! — отрывисто бросил Анциферов. Забурлила вода под правым бортом. Шлюпка круто, почти на месте, поворачивалась. Чужая лодка проскользнула мимо, поблекла в тумане. Но ненадолго. Снова появились ее контуры. На этот раз уже позади. Рыбаки навалились на весла. Перегруженная шлюпка шла толчками. Но лодка была значительно легче на ходу. Скоро из тумана вырисовался ее приподнятый острый нос. Резкий окрик покрыл скрип уключин, и тяжелое дыхание гребцов, и ворчливый звук воды под носом шлюпки: — Хенде хох! Анциферов прикинул взглядом расстояние, отделяющее шлюпку от погони. “Не уйти, — понял он. — А если ударить первыми? Отбросить противника и нырнуть в туман. На худой конец, услышав стрельбу, тузик и шлюпка с ранеными скроются от врагов”. — К бою! — тихо приказал он. Автомат и три винтовки угрожающе уставились в сторону погони, когда за кормой неожиданно и резко прозвучала очередь. Рыбаки невольно пригнулись под прошипевшими над головами пулями. — Не стрелять! — закричал Анциферов. — Наш автомат! Наш! Рыбаки опустили винтовки и весла, но с их лиц все еще не сходило выражение сурового ожидания. Лодка приближалась к двигавшейся по инерции шлюпке. Уже можно было различить на носу матроса с автоматом, за ним спины гребцов. — Свои! — закричали с кормы шлюпки. — Свои-и! Рыбаки бросили весла и ненужные больше винтовки. От радости они кричали осипшими голосами какую-то несуразицу. Двухпарный вельбот подошел к шлюпке. Матросы в брезентовых робах ловко прижали его борт к борту шлюпки. На корме вельбота поднялся офицер. — Откуда вы? — спросил он, всматриваясь в обросшие, изможденные лица рыбаков. — С “Ялты”, — ответил Анциферов. — С “Ялты”? — переспросил офицер. — Контуры у вас не похожи на траулер. — Труба сбита бомбежкой, — объяснил Анциферов и, сложив руки, рупором, закричал: — Эй, на тузике! Э-э-эй! — То-то мы и не поняли, — протянул офицер. — На покалеченный рейдер не похоже. И на траулер… — Куда? — Паша схватил за шиворот Марушко, попытавшегося перескочить на вельбот, и швырнул его на днище шлюпки. — Сиди! Отвлекли его внимание далекие, заглушённые расстоянием и туманом голоса! — Э-э-эй!.. — Наши! — Паша облегченно вздохнул.ОТ АВТОРА
Мне хотелось вместить в эту небольшую повесть многое из того, что я услышал от рыбаков Заполярья, промышлявших в 1941–1945 годах, и прочитал в пожелтевших подшивках газет и скупых строчках немногих сохранившихся документов того времени. Плавая на устаревших тихоходных траулерах с изношенными машинами, вооруженных тем, что осталось от нужд фронта (а много ли оставалось оружия от нужд фронта в 1941 году?), рыбаки не только промышляли в невероятно тяжелых условиях, даже в двухмесячную полярную ночь, но и дрались с врагом, порой делали невозможное, неохватимое разумом. Встречи траулеров в море с гитлеровской авиацией и военными судами отнюдь не были редкостью. Они требовали от рыбаков поистине безграничного мужества и выдержки. Для примера приведу несколько записей из судового журнала траулера, которым командовал Александр Егорович Евтюков. “…Траулер подвергся нападению с воздуха. Девять вражеских самолетов начали бомбить и обстреливать наше судно из пушек. На вахте стоял старший штурман Келарев, на руле матрос Сизихин. Сизихин был убит попаданием в грудь и голову. На его место стал старший штурман Келарев. Через несколько минут старший штурман был ранен, но не покинул своего поста. Рулевая рубка была пробита в нескольких местах. Старшего штурмана сменили. У него оказалось шесть ранений. На руле стоял капитан, когда осколком снаряда повредило штуртрос. Боцмана Белякова, начавшего исправлять штуртрос, ранило пулеметной очередью. Осколки пробили бензобак, но энергичными действиями старшего механика Хризановича повреждения машины были исправлены. Вся команда стояла на местах и выполняла свои обязанности. Судно пришло в порт своим ходом”. “…За этот день наше судно четыре раза подвергалось налетам вражеской авиации. Лов продолжался”. “Сегодня в 22 часа при подходе к становищу судно было обстреляно артиллерийским огнем. (Видимо, с рейдера. — Г.К.). В надстройке и корпусе обнаружено более 50 пробоин. Команда не покинула судно”. На траулере с вымышленным названием “Ялта” собраны рыбаки, плававшие на разных судах. Имена многих из них не сохранила память. Ведь писать о них я не собирался. Встречаясь с бывалыми рыбаками, я с интересом и волнением слушал их рассказы. И только. Лишь в прошлом году появился замысел повести. Вот почему на “Ялте” оказались люди, о которых мне доводилось слышать начиная с 1955 года. Герои повести, которые послужили прототипами Ивана Кузьмича и Корнея Савельича, плавали на разных судах. Тралмейстера, выведенного мной под именем Фатьяныча, я видел в плавании в 1955 году и почему-то, уже значительно позже, очень живо представил себе его в условиях 1941 года. Того, кто назван мной Оськой Баштаном, я встретил в Одессе в 1956 году. Он много и увлекательно рассказывал о своем единственном фронтовом рейсе и даже показал шрам от ножевой раны, нанесенной негодяем уголовником в спину. Нож бандита превратил Оську в инвалида, из рыбака в сторожа портовых складов. Но первый кирпич в фундамент повести заложил рассказ старого врача-пенсионера о капитане, которому в госпитале ампутировали раненую, пораженную гангреной руку. Больной поправлялся трудно. Днем он бывал раздражителен. Ночами спал плохо. Значительно позднее удалось врачам выяснить причины его беспокойства и нервозности. Раненого навестил штурман, принявший командование его бывшим судном. Прощаясь с гостем, капитан передал ему свой промысловый планшет. — Бери! — грубовато бросил он. — Пользуйся. Какой из тебя капитан… без планшета! Человеку, не знающему рыбаков, трудно представить себе, какой решимости стоил старому капитану его поистине благородный поступок. Ведь отдать планшет — это покончить навсегда с морем, трудовой жизнью, подвести последнюю черту под прожитым. Поистине незаурядную волю надо иметь, чтобы провести такую черту! И не только волю, но и любовь к Родине, готовность в нужную минуту отдать ей самое дорогое. Для старого капитана его планшет — надежда на возвращение в ходовую рубку. Для молодого промысловика планшет ветерана — отличный путеводитель в сложной профессии. Как было не написать об этом?
Евгений Рысс. СТРАХ
Глава первой ЛЕС, ЛЕС, ЛЕС…
Летом мы с Пашкой устроились вэкспедицию. У нас в институте преподавал Алексей Иванович Глухов. Геолог он был хороший и человек уважаемый, выдержанный, спокойный. Мы с Пашкой учились неплохо и в семинаре у Глухова вместе написали довольно большой доклад. Ничего, мне кажется, особенного в этом докладе не было, но Алексею Ивановичу он понравился. Весной он предложил нам ехать с ним снимать геологическую карту одного из очень глухих, совсем не исследованных северо-западных районов страны. Партия была большая, и за лето пройти предстояло довольно много. Наша группа состояла из трех человек — геолога Глухова, коллектора и рабочего. Вот должности коллектора и рабочего Глухов нам и предлагал. Он смущенно объяснил, что не знает, как мы разделим должности. У коллектора и зарплата больше и работа легче. Мы с Пашкой уладили это затруднение очень просто. Решили так: зарплату складываем и делим поровну. Каждый работает и за коллектора и за рабочего, а официальные звания разыгрываем в шахматы. Я сделал Пашке мат и удостоился Чести стать коллектором. Мы оба были очень довольны, что Глухов нас берет. И к работе приглядимся, и по лесам побродим. Да, кроме того, и подработаем. С деньгами было у нас трудновато. Вот мы и отправились. Центр наш находился в маленьком старинном городишке, в котором, по-моему, древних церквей было больше, чем домов. Городишко был затерян в глухом лесу, и от железнодорожной станции мы тряслись на грузовике без малого сто километров. В городишке расположился наш центр, здесь жил начальник экспедиции, два его заместителя, была небольшая бухгалтерия, состоявшая из одного человека, седого, в очках, важного и медлительного, похожего на академика. Он требовал, чтобы его называли главным бухгалтером. Мы спорили и доказывали, что он не главный, а единственный, подчиненных у него нет, но он возражал, что по бухгалтерской линии над ним нет начальства, стало быть, он и есть главный. Кажется, он шутил, но до конца мы не были в этом уверены. Вид у него был подчеркнуто серьезный. В общем, разобрались со всяким имуществом — с палатками, с рюкзаками, с продовольствием — и отправились. Таких групп, как наша, в экспедиции было пятнадцать, и маршруты поначалу пролегали близко друг от друга, но одни шли медленнее, а другие быстрее, в зависимости от геологического рельефа, некоторые места требовали тщательного исследования, другие наносились на карту быстро, так что очень скоро от группы до группы расстояния оказались большими. Топографическая карта у нас была. Топографы здесь прошли раньше нас, и по их карте начальник экспедиции наметил каждой группе точный маршрут. Первые два дня мы шли по местам красоты неописуемой. Особенно мне запомнилось… я даже не знаю, как ее назвать, гора не гора, холм, словно железнодорожная насыпь, увеличенная в тысячу раз, абсолютно ровная и прямая, с лесистыми склонами и словно выстриженным плоским верхом. Здоровый же был тот ледник, который соорудил эту насыпь! С высоты ее в обе стороны было далеко видно. Леса тянулись до самого горизонта, и часто-часто были рассыпаны в этих лесах маленькие серебряные озера. Кое-где виднелись деревеньки и торчали старенькие деревянные церкви необычайно простых и выразительных форм — чудеса древнерусского деревянного зодчества. Глухов в этих местах бывал и рассказал нам интересную вещь. Здесь проводили кольцевание рыбы в озерах и установили, что все озера по одну сторону этой ровной насыпеобразной горы сообщаются друг с другом и рыбы, пойманные в одном озере и окольцованные, вылавливаются в другом, иногда находящемся очень далеко. Но ни одно озеро, лежащее с правой стороны, не сообщается с озером, лежащим по левую сторону. Видимо, эта гора или насыпь, не знаю, как и назвать, делит земляную толщу очень глубоко. Озер было много. Когда мы устроили привал, я сосчитал, сколько с одной точки видно одновременно. Оказалось, тридцать шесть. И какие же они были красивые, эти серебряные озерца, окруженные непроницаемой зеленой чащей, украшенные островерхими деревянными колоколенками! Словом, первые два дня мы наслаждались. Это было лучше всякого курорта. Зато потом мы хлебнули горя. Глушь пошла такая, что каждый километр стоил нам больших усилий и большого времени. Приходилось пробираться через лесную чащу. В каких-то приключенческих романах я читал, что в тропиках бывают такие леса, где приходится ножами прорубаться сквозь гущу кустарников и лиан, но я никогда не думал, что то же самое бывает на севере. Деревья словно хватали нас за рюкзаки или просто за одежду. И правда же, иногда казалось, что они живые, эти чертовы деревья. Да, живые и враждебные нам, не хотят нас пускать в заповедные свои места. А сколько неприятностей доставляло нам глуховское ружье! У Глухова была двустволка. Он с нею охотился уже пять лет и мог без конца расхваливать удивительные ее качества. Деревья хватали то за приклад, то за ствол, да так хватали, что выпутать двустволку было дело нешуточное. У Глухова пот с лица стекал струйками, и хотя человек он был очень спокойный, но и он не обошелся без крепких слов. Глухов сказал, что есть дорога, которая ведет туда, куда нам надо. Не шоссе, конечно, а узкий проселок, но пройти по нему, во всяком случае, можно без затруднений и даже на лошадке можно проехать. Беда была, однако, в том, что мы должны были пройти точно по намеченному маршруту. Совсем не всегда земля хранит свои сокровища вблизи от проезжих дорог. В чаще этой даже привал нельзя было устроить. Там и до земли не доберешься. Лежат огромнейшие стволы упавших деревьев. Они обросли мохом, а внутри превратились в труху. На такое дерево встанешь и проваливаешься по пояс. А по ним приходится идти почти все время. Представляете, сколько силы стоит каждый шаг! Еле живые, к вечеру добрались мы до небольшого озерка. Деревья чуть-чуть отступали от берега. На самом берегу мы разложили костер и поставили палатку. Как мы ни устали, а все-таки залезать в палатку не хотелось. Красота была просто необыкновенная. Вероятно, в таких местах неведомые гении сочиняли сказки. Сама природа подсказывает здесь образы загадочные и фантастические. Я ничуть бы не удивился, если бы из лесу вышел волк и заговорил человеческим голосом или сидящая па берегу лягушка оказалась заколдованной царевной. Разговаривать не хотелось. Мы выкупались, хотя вода была очень холодная, обогрелись у костра и долго молча сидели на берегу. Потом Глухов сказал: — Вот иной раз замучаешься, устанешь и все проклянешь. Почему, думаешь, не сижу я в институте в удобном кресле, за хорошим письменным столом. А потом попадешь вот в такое место и думаешь: “Нет, правильно я живу, хорошо живу”. Здесь в лесу Алексей Иванович был совсем не тем человеком, которого я знал по институту. Я знал авторитетного, эрудированного ученого, суховатого, всегда идеально выбритого, подтянутого, всегда в свежей рубашке. Он, казалось, неотделим от институтских кабинетов и аудиторий, от тихого шелеста страниц и горьковатого запаха старых книг институтской библиотеки. Здесь передо мной был энергичный путешественник, хорошо умеющий разжигать костры, готовить пищу, разбивать палатки и укладывать рюкзак, неутомимый пешеход, знаток птиц и животных. Он казался неотделимым от леса, от высоких сапог, от простой и грубой одежды, от короткой бороды, от загара. Трудно было представить себе, что он может носить до блеска начищенные ботинки, душиться “Шипром”, просиживать долгие часы в библиотеке, уверенно и корректно выступать на ученых советах, небрежным жестом останавливать на улицах такси. Утром встали мы рано, подбросили хворосту в костер, сварили кулеш, плотно поели и отправились дальше. Второй день был не легче первого. Деревья словно сговорились нас не пускать. На какие только хитрости они не шли! Пробуешь ногой ствол — как будто крепок, а станешь на него и проваливаешься. Ветки, словно нарочно, таились, а потом неожиданно нас хватали. К обеду мы замучились. Сговорились пообедать, когда выйдем к речке — по карте она была недалеко, но на карте, к сожалению, не указано, насколько удлиняется путь, когда продираешься сквозь такую чащу. Мы уже решили, что топографы напутали и никакой речки тут нет. Но топографы оказались людьми добросовестными. Когда мы совсем потеряли надежду — речка вдруг появилась. Облегчение вышло небольшое, но мы и за то были благодарны. Все-таки теперь можно было идти по воде вдоль берега. Сапоги у нас воду не пропускали. Вообще-то по воде идти трудно, но после чащи нам казалось, что мы просто прогуливаемся. Речушка была маленькая, от берега до берега метра три, и неглубокая. Дно все время было видно. Видимо, что-то мы напутали с картой. Вышли ниже по течению, чем предполагали, потому что деревенька показалась раньше, чем должна была показаться по нашим расчетам. Она стояла при впадении речки в озеро, маленькая деревенька, всего домов восемь. Несколько лодок на берегу, сети. Тихо здесь было, как в лесу, даже тише. В лесу ветер шумит в листве, птицы кричат, а тут казалось, что ты оглох. Собрались мы проситься на ночлег, но Глухов запротестовал. — Пока гнуса нет, — сказал он, — лучше на вольном воздухе ночевать. Там спокойнее. Варить будем на костре, спать в палатке. А за имущество беспокоиться нечего. Уйдем в маршрут и все оставим. Тут воров нет. Мы должны были здесь провести с недельку. Снять на карту окрестности. Расположились мы километрах в двух от деревни. С утра уходили в маршруты, вечером возвращались. Сидели на берегу, думали, наслаждались и больше молчали. О пустяках здесь даже и говорить неудобно. Уж очень все величественно вокруг. Иногда навещали нас жители деревни. Народ здесь был молчаливый, но все-таки вопросы задавали. Им очень казалось странным, что здесь, под их землей, могут оказаться сокровища. Впрочем, кто знает, где они лежат, эти сокровища. Много еще предстоит геологам обойти земли, пока не узнаем мы все, что под этой землей таится.Глава второй НЕНУЖНАЯ ЗАРПЛАТА
Следующий месяц был заполнен очень трудными днями. Без конца пробирались мы сквозь лесную чащу, меряли расстояния, наносили на карту граниты, галечник, выходы пород. Уставали мы очень. Чтобы уложиться в сроки, задания на день давали себе тяжелые. Бывало, за день и перекусить некогда. Интересных находок не было, да мы на них и не рассчитывали. Некоторые предположения, впрочем, у Глухова возникли, но бурение не входило в наши задачи. Мы должны были только подробно описать и нанести на карту геологические свойства поверхности. Зимой геологи будут на основании нашей карты строить предположения, спорить, советоваться, для того чтобы потом где-то в глухом лесу выросла буровая вышка. Мы только прокладывали путь для будущих исследователей. Итак, уставали мы за день очень. Бывало, к концу дня так измотаешься, что проклинаешь все на свете. Зато замечательные были у нас вечера. Базы наши всегда располагались где-нибудь возле озера, недалеко от деревни, на открытом месте, где ветерок сдувает гнуса. Гнус уже появился и в лесу причинял нам массу хлопот, хотя и гораздо меньше, чем причинял геологам раньше. У нас были специальные жидкости, и, к нашему удивлению, они действовали, хотя не всегда и не полностью. Зато после ужина мы чудно отдыхали. За поразительную тишину, за таинственное молчание леса, за легкий плеск рыбы в озере можно было простить судьбе тяжелые наши дни. Через месяц расположились мы недалеко от села. В этом селе мы впервые за месяц увидели милиционера и были потрясены таким ярким свидетельством близости цивилизации. Был здесь и сельсовет и правление колхоза — словом, все, что положено настоящему населенному пункту. Был здесь даже телефон. Нам удалось связаться с начальником партии и сообщить ему, где мы, что мы успели сделать и когда отправляемся дальше. Начальник партии сказал, чтобы мы позвонили завтра. Его, правда, не будет, он должен куда-то уехать, по будет его заместитель, который передаст нам инструкции. — Какой заместитель? — спросил Глухов. Заместителей у начальника партии было два. — Разгуляев Платон Платонович! — прокричал, надрываясь, в трубку начальник партии. — Разгуляев? — удивился Глухов. — Это что за птица? Мы отлично знали обоих заместителей начальника. Фамилия одного была Дорожников, фамилия второго — Иванов. А тут еще Разгуляев какой-то появился. — Дорожников заболел, — кричал начальник партии, — и уехал, а вместо него прислали нового — Разгуляева! Нам было все равно, что Дорожников, что Разгуляев. Глухов на следующий день снова соединился с городом. Таинственный Платон Платонович сообщил нам, чтобы мы пока оставались на месте, а он дня через два или три привезет нам зарплату. По совести говоря, нас это удивило. Обычно, пока геолог в лесу, зарплату переводят ему на сберкнижку. Тратили мы так мало, что деньги у нас оставались. Глухов хотел это объяснить Разгуляеву, но тот повесил трубку. У нас было работы в этих местах дня на четыре, так что мы все равно задержались бы. В конце концов, если хочет чудак человек тащиться в такую даль, везти ненужную нам зарплату, пусть себе трясется. Он-то поедет не по нашему пути, а по проселку. Задень, ну за два доберется обязательно. Словом, мы и думать об этом забыли. На третий день после этого разговора сидели мы вечером у озера. Солнце скрылось за лесом, но было светло, как в пасмурный день. Туман скопился в низинах, расплывался по земле, и казалось, деревья растут из медленно колеблющегося белого облака. Тихо было вокруг, как бывает только глухой ночью. В этом сочетании ночной тишины и успокоенности с полным светом и заключено очарование белых ночей. Только заколдованный лес может молчать, когда совсем светло. Предметы в этом призрачном свете теряли масштабы, расстояния скрадывались или удлинялись. Поэтому нам не показалось странным, когда появился человек огромного, сказочного роста, шагавший по пояс в тумане. — Интересно, — сказал лениво Пашка. — Значит, здесь водятся и великаны? Алексей Иванович, щурясь, вглядывался в гигантскую фигуру. — По-моему, это верховой, — сказал он. — Может быть, Разгуляев. И уже проглядывалась в тумане лошадиная голова, а потом стала видна и вся лошадь. Всадник не торопясь спешился (ничего не было в нем гигантского) и сказал: — Здравствуйте, геологи. — Здравствуйте, Платон Платонович, — сказал Глухов. — По голосу узнали? — удивился Разгуляев. — Просто некому больше быть. Присаживайтесь, отдохните. Разгуляев не торопясь привязал лошадь к дереву, сел на валун, достал папиросу и закурил. Опять стало тихо, плескалась рыба в озере. Далеко где-то пели девушки лихие свои частушки. Они теперь ходили гулять в другую сторону от села: стеснялись нас. — Хорошо тут, — сказал Разгуляев. Никто ему не ответил: не хотелось нарушать тишину. Минут десять мы молчали, потом Глухов спросил — ему показалось невежливым дальше молчать: — Вы к нам надолго? — Завтра передохну, — сказал Разгуляев, — а послезавтра утречком в путь. Пятнадцать групп надо объехать. Про вас-то хоть точно известно, где вы находитесь, а остальных еще и найти не так просто. Намотаешься. Годы у меня такие, что кости покоя требуют. — Сколько же вам лет? — спросил Рыбаков. — Пятьдесят, — вздохнул Разгуляев. — А зачем вы вообще затеяли эту поездку? — спросил Глухов. — Деньги никому не нужны. Рестораны тут не встречаются, костюмы покупать лучше в Москве. — Непорядок, — строго сказал Разгуляев. — Ваш главный бухгалтер тоже меня уверял, что ни к чему вам зарплата. А я сказал — это меня не касается, люди заработали — должны получить. Я прямо скажу: попросите вы у меня десять рублей вперед — не получите, хоть в лепешку расшибитесь. Не дам. Но, если вам следует, моя обязанность вам вручить, хоть бы вы на Северном полюсе были. Вот так я понимаю финансы. Удивительно странно звучали в первозданной тишине, в торжественном молчании леса эти идиотские рассуждения бюрократа и формалиста. Меня раздражал этот канцелярский пафос, этот конторский героизм. А Глухов, кажется, удивился и заинтересовался. Он с любопытством вглядывался в полускрытую сумерками фигуру Разгуляева. — Так ведь пока вы всех объедете, — сказал он, видимо потешаясь, — придет время новую зарплату выдавать. — И новую выдадим, — с пафосом сказал Разгуляев. — Пусть наше дело и незаметное, а делать его надо точно. Он говорил так, как будто спорил с кем-то, как будто самоутверждал себя, хозяйственного работника. Вот, мол-де, вы, геологи, открытия делаете, ученые труды пишете, ученые звания получаете, а мы, хозяйственники, хоть и маленькие люди, а тоже героизма не лишены. — И не боитесь вы ездить? — спросил Глухов. — Небось у вас с собой немалые деньги. — Шесть с лишним тысяч, — сказал Разгуляев. — Ну, да здесь как будто спокойно, да и кто знает, сколько у меня денег. Мы снова помолчали. Потом Глухов встал и, потягиваясь, сказал: — Ну что же, товарищи, давайте ложиться? — Вы завтра в маршрут? — спросил Разгуляев. — Часиков в пять встанем, а к шести тронемся, — сказал Глухов. — Э… э… э… — протянул Разгуляев. — Тогда давайте я вам сейчас и зарплату выдам. Мне так рано вставать не с руки. Устал очень, надо отоспаться. — Выдадите завтра вечером, — сказал я. — Нет уж, извините, — возразил Разгуляев, — раз приехал, надо выдавать, мало ли что. Порядок есть порядок. И снова меня разозлил этот пафос на голом месте. К чему все это, если никому из нас не нужны деньги? А уж если привез, все равно, сегодня дашь или завтра. Видно, самолюбив был Разгуляев. Видно, не хотелось ему мириться с тем, что другие, то есть мы, исследователи, заняты трудом, требующим большого физического напряжения, самоотверженности, порою риска, а он всего-то заместитель по хозяйственной части. Видно, важно было ему доказать, что и он не хуже других. — Ну, давайте сейчас, — равнодушно согласился Глухов. Всегда, когда нам предстояло провести на одном месте несколько дней, мы устраивались по возможности с комфортом. Вот и здесь был у нас сколочен из жердей стол не стол, собственно, а что-то вроде стола. Он был врыт в землю возле валуна, на котором мог сидеть один человек, а по другую его сторону была врыта в землю скамейка, тоже не скамейка, а что-то вроде скамейки. На ней могли сидеть двое. За столом мы пили чай и ели. Это было гораздо удобнее, чем держать в руках котелок или кружку. Разгуляев уселся на валун, не торопясь вынул из сумки, висевшей у него на ремне, ведомость, деньги и картонку, чтобы подложить под ведомость. Он все аккуратненько разложил и даже авторучку приготовил. Потом просмотрел ведомость, поставил в соответствующей графе птичку и протянул ведомость и ручку Пашке. — Здесь распишитесь, товарищ Рыбаков, — сказал он. — Откуда вы знаете, что я Рыбаков? — спросил Пашка. Разгуляев с удивлением посмотрел на Пашку. — Как — откуда? — спросил он. — Неужели вы думаете, что заместитель начальника экспедиции не знаком с личными делами сотрудников. Фотографии в личных делах похожи. Вот Колесов, вот Глухов, вот Рыбаков. Ну, расписывайтесь и пересчитайте деньги. Деньги счет любят. — Будем ложиться? — спросил Глухов, когда торжественная процедура закончилась. — Вы где хотите, Платон Платонович? В палатке? Там места сколько угодно. Мы-то предпочитаем под деревцом. — Если есть место, — сказал Разгуляев, — лучше полезу в палатку. Я, знаете, как-то привык, чтоб над головой крыша была. Он стреножил лошадь и пустил ее пастись. Мы достали спальные мешки и начали устраиваться.Глава третья СПОКОЙНЫЙ РАЗГОВОР
Когда мы утром ушли в маршрут, Разгуляев спал. Я не знаю, видел он, что мы уходим, или нет. День был неудачный, места, как назло, попались трудные, шли мы медленно, медленнее, чем следовало. Настроение было поэтому у всех отвратительное, и не ругались мы друг с другом потому только, что Глухов с самого начала прекратил этот обычай ссориться. Раздражайся, кипи, злись — пожалуйста, но про себя. Он понимал, что стиль поведения в экспедиции очень важная вещь. Так или иначе, вернулись. Хозяйственник наш оказался на высоте. Все было приготовлено. Завидев нас издали, он подкинул запасенные сухие ветки, и как же хорошо булькал суп на костре, когда мы сели за стол. Разговор начался после обеда. — Трудная вещь север, — сказал Разгуляев. — Я лично южанин. У нас природа, может, и не такая красивая, но зато добрая. Мне трудно привыкнуть к северу. — А я привык, — сказал Пашка. — Вы тоже южанин? — поинтересовался Разгуляев. — Я из Краснодара. — В Краснодаре не бывал. Хороший, говорят, город. Наши места победнее. Я из Геническа, знаете, такой город есть. У нас песок и море. Не очень важное море — Азовское, а все равно родные места. — У вас и родители там живут? — спросил Пашка. — Нет, — сказал Разгуляев, — оба умерли. Педагогами были. Знаете, такая типичная трудовая интеллигенция. Давно уже умерли. А все не могу забыть. Было раньше какое-то место на земле, куда приедешь, и плохо ли тебе, хорошо ли, а там тебя любят. Пашка помолчал, и Разгуляев помолчал, а потом снова заговорил: — У вас-то небось и сейчас в Краснодаре есть где-нибудь калитка. Откроешь ее и вроде в детство вернешься. — Нет, — сказал Пашка. — Нет у меня такой калитки. Отца у меня в Краснодаре немцы повесили, так что мне туда и ездить-то тяжело. Горестное лицо стало у Разгуляева. — Сколько уже лет прошло с войны, — сказал он, — а раны остались. Города восстанавливаем, дома отстроили, а близких не восстановишь. Ваш отец партизанил? — Нет, — сказал Пашка. — Возглавлял подпольную организацию в городе. — Большой подвиг, большой подвиг, — закипал головой Разгуляев. — Интересно все-таки, как гитлеровцы раскрывали такие организации? Пашка вытащил из кармана маленький, известный мне и раньше пакетик, развязал узелок, развернул пластмассовую обертку и вынул фотокарточку. Я не стал смотреть, я знал, что изображено на этой карточке. Там стояли обнявшись два человека, оба с веселыми хорошими лицами, и счастливо улыбались. Разгуляев внимательно посмотрел на фотографию. — Ваш отец справа, — сказал он, — да? Вы очень на него похожи. А слева кто? — Его самый близкий друг — Валентин Петрович Климов. — Хорошее лицо, — сказал Разгуляев. — А он где теперь? Или его тоже повесили немцы? Пашка молча смотрел на него. — Нет, — глухо сказал он, — он предал отца и еще трех друзей, а когда пришли наши войска, он скрылся. — Странно, — задумчиво сказал Разгуляев, — а лицо такое приятное. Лицо честного человека. Пашка почти вырвал фотографию из рук Разгуляева, снова завернул ее и положил в карман. — Если бы у подлецов были подлые лица, — сказал Глу-хов, — они не могли бы людей обманывать. — Страшная история. — Разгуляев провел рукой по лицу. — Вот два веселых, приятных человека. Может быть, так они бы и прожили жизнь. Но вот пришла война, и все обнажилось. Один оказался героем, другой — предателем. А матушка ваша жива? — Год назад умерла, — сказал Пашка. — Она так и не могла оправиться после того несчастья. Все было обыкновенно. Красное солнце садилось за лес, стреноженная лошадка пощипывала траву и мотала иногда головой, рыба плескалась в озере, начала куковать кукушка и сразу же замолчала. Много таких вечеров провели мы за время экспедиции, наслаждаясь безмятежным покоем, а сейчас я вдруг почувствовал, что этот покой обманчив. Да, природа была безмятежна, и все-таки мне стало трудно дышать, с такой ясностью я ощутил внутреннее напряжение Пашки и Разгуляева. Нарочито небрежны были их позы, нарочито спокойны были их лица и голоса. То ли по неуловимым признакам чувствовал я их напряжение, то ли биотоки какие-то передавались мне, я не знаю, я не биолог. — Мой отец и Климов, — спокойно, даже небрежно заговорил Пашка, — еще мальчишками в знак вечной дружбы вытатуировали оба на руках пониже локтя два переплетенных “В”. Это означало: Владимир и Валентин. Я, конечно, не видел эту татуировку, но мать много раз мне про нее рассказывала. Пашка достал сигарету, закурил, и снова почувствовал я мнимую небрежность его позы и мнимое спокойствие его голоса. Не отрываясь смотрел он на Разгуляева, смотрел вялым, может быть, слишком вялым взглядом. — Да, — кивнул головой Разгуляев, — мальчишки тогда увлекались татуировкой. Смешно вспомнить, но я тоже отдал дань этому увлечению. Был я влюблен в ученицу параллельного класса. Надю Пищикову. Мне казалось, что даже фамилия у нее прекрасна. Никто не знал об этой безумной любви, в том числе, разумеется, и она. Но, чтобы эту любовь увековечить, я вытатуировал тоже на руке вензель “НП”. Любовь прошла при переходе в следующий класс, а татуировка осталась. — Она и сейчас у вас? — равнодушно, даже сонно, спросил Рыбаков. — Нет, — сказал Разгуляев. — Пришлось потом в косметическом институте снимать. — Он засучил рукав до локтя. — Вот шрам остался. Пашка наклонился и очень внимательно стал рассматривать шрам. — Да, — сказал он, — совсем не видно, какие были буквы. Глухов зевнул и сказал: — Давайте, товарищи, ложиться спать. Может быть, мне только почудилось, что была скрытая напряженность в разговоре Пашки и Разгуляева, может быть, просто перед сном разговорились два человека о давней горестной, незабытой, но законченной истории, которая не может иметь никакого продолжения. А может быть, правильно я угадал за спокойным разговором напряженный поединок, в котором каждая фраза была нанесенным или отбитым ударом. Пашка встал, безмятежно потянулся, зевнул и, подойдя к лошади, потрепал ее по шее. Мы с Глуховым разложили спальные мешки, Разгуляев вытащил из палатки полотенце. Пашка еще раз потянулся, еще раз зевнул и сказал: — Пойду прогуляюсь, может, до деревни дойду. Глухов посмотрел на него удивленно. Такие трудные совершали мы прогулки днем, что никому из нас ни разу и в голову не пришло еще и вечером отправляться гулять. Разгуляев, казалось, не обратил внимания на Пашкины слова, и все-таки я почувствовал, что внутренне он насторожился. А чего ему было настораживаться? Он же не знал наших обычаев и привычек. Глухов пожал плечами и полез в спальный мешок. Разгуляев пошел на берег умываться. Он зевал и потягивался, и каждому было видно, что человек устал, безмятежно спокоен и думает только о том, как бы скорей улечься и закрыть глаза. Слишком часто он зевал и слишком демонстративно потягивался. Уж так-то потягивался, так-то зевал, что и сомнения ни у кого не могло возникнуть в его безмятежном спокойствии. Я достал сигарету и только полез в карман за спичками, как Пашка подскочил и дал мне прикурить. — Глаз не спускай, — тихо сказал он, пока я прикуривал. — Конечно, — негромко сказал я, выпуская изо рта дым. Я смотрел вслед Пашке, неторопливо шагавшему в деревню, и думал: значит, это верно, что мы с Пашкой оба думаем и чувствуем одно. Подозрения у нас общие, но это ничего не доказывает, может быть, оба мы ошибаемся? Может быть, мы внушаем и себе и друг другу подозрения. Может быть, на самом деле Разгуляев безобидный хозяйственник, добросовестный человек и ни сном, ни духом не виноват в преступлениях, которые мы ему приписываем.Глава четвертая ПРОШЛОЕ
Я эту историю слышал раньше и, конечно, ее не забыл. Такие истории не забываются. Пашка Рыбаков как-то рассказал мне ее в общежитии, когда мы с ним были одни в комнате. Ему, видно, тяжело было рассказывать. Он волновался, вспоминая детскую свою трагедию, и рассказывал очень коротко, опуская все относящееся к чувствам и переживаниям, — только голые факты. Даже в таком сжатом виде рассказ его волновал. Все пропущенное легко угадывалось. Показал он мне и фотографию. Он носил ее с собой постоянно. Она была завернута в полиэтиленовую пленку и поэтому хорошо сохранилась. Сняты были два молодых человека, широкоплечие, крепкие, наверное, хорошие спортсмены. Они стояли рядом, положив руки друг другу на плечи. У обоих были веселые, хорошие лица. — Неужели этот, слева, предатель? — спросил я шепотом, не хотелось говорить громко, слишком сильно еще было впечатление от рассказа. — Не верится? — также шепотом спросил Пашка. — Да, я не могу себе представить, что этот человек мог оказаться негодяем. — Вот и отец не мог себе представить, — горько усмехнулся Пашка. — Поэтому и погиб. Пашкиного отца я сразу узнал: сын был очень на него похож. Владимир Алексеевич стоял справа, весело улыбаясь. На редкость это был обаятельный человек. Даже фотография, снятая плохим провинциальным фотографом, сохранила это обаяние. Видно было, что Владимир Алексеевич умеет и любит шутить, что, наверное, он хороший товарищ и хороший семьянин. Впрочем, и у второго, повторяю, было очень располагающее лицо. — Валька Климов, — сказал Пашка, — добрый друг! Мы с мамой бежали, а в доме у пас гитлеровский офицер поселился. Фотография лежала у отца на столе под стеклом. Соседка убрала ее и спрятала. Просто чтобы не раздражала офицера. А Климов потом приходил, будто к офицеру по делу. Все спрашивал, не осталось ли фотографии. Следы заметал. Соседка сказала, что фотографий никаких нет. Климов тогда не скрывался, все знали, что он за птица. А когда мы с мамой вернулись, его уже не было. Он ушел с немцами. Он понимал, что от наших ему не поздоровится. Пашка подошел к окну. Было воскресенье, начиналась весна, снег сошел, и асфальт на улице уже высох. — Понимаешь, — сказал Пашка, — ведь он где-то здесь. Не в нашем городе, так в другом, а может быть, и в нашем. Может быть, он сейчас проехал в троллейбусе. Может, он сидит развалясь в этом такси, может быть, он просто идет в толпе мимо нашего дома, наслаждается хорошей погодой, солнцем, весной. У меня голова кружится, когда я думаю об этом и когда я вспоминаю четыре виселицы. Два дня немцы не позволяли убирать тела казненных. Мать меня не пускала на площадь, но я убежал и все-таки был там. Я должен был все хорошенько запомнить. Как-то сразу я стал взрослей, будто мне не восемь лет, а гораздо больше. Только рост, только внешность у меня были восьмилетнего. Народу на площади было мало. Прохожие старались обходить ее переулками, а я перешел площадь и долго стоял перед виселицами. Ты знаешь, я не плакал. Наверное, со стороны казалось, что я совершенно спокоен. Я не был спокоен. Это неправда. Я переживал что-то такое, что и назвать нельзя. Слов еще не придумано. — Он помолчал и сказал, будто подумал вслух: — А может быть, он в этом “ЗИЛе” едет. Неизвестно, может быть, он на большой работе! — Сколько ему было лет? — спросил я. — Тридцать. Столько же, сколько и отцу. Они были сверстники. В одном классе учились. Ты только подумай, с самого первого класса дружили! Да как! Водой не разольешь. — В сорок третьем году — тридцать, — сказал я, — значит, сейчас пятьдесят. Если он жив, конечно. Мало шансов было у него тогда выжить. Но даже если он и жив, ты его не узнаешь. За двадцать лет люди очень меняются. Ты сам говоришь, что плохо его помнишь. Значит, узнать можешь только по фотографии. Может, он на фотографии не очень похож. Фотограф, видно, был невеликий мастер. — Мне бы только встретить его, — сказал Пашка, — а узнать я узнаю. Это ты уж не бойся. История действительно была чудовищная. Пять близких друзей вместе кончили школу, вместе учились в институте, вместе работали. Всех пятерых бронировал завод, поэтому они не попали в армию. Уйти они не успели: наступление немцев было неожиданным и стремительным. Город был окружен. Владимиру Алексеевичу было поручено создать подпольную организацию, и, конечно, он прежде всего предложил войти в нее своим четырем друзьям. Решили взорвать мост через реку. В глубочайшей тайне разработали операцию и были схвачены в ту минуту, когда поджигали шнур. Кроме их пятерых, никто не был посвящен в дело. Взяли всех, но в тюрьме сразу Климова отделили. Так четверо узнали, что предал их пятый. Пятый и не скрывал этого. Устраивались очные ставки, и он, прямо глядя в глаза своим бывшим друзьям, рассказывал все, ничего не скрывая. Их приводили избитых, полумертвых, умирающих от жажды и голода, а он сидел хорошо одетый и пил минеральную воду. Они написали об этом на стене камеры. Выцарапывали по ночам букву за буквой. Времени было у них предостаточно. Впрочем, Климов, выйдя из тюрьмы, перестал скрываться и открыто работал на немцев. Так что все понимали, что он предал своих друзей. Надпись на стене добавила только подробности. Четырех друзей не казнили долго. Целый год. Все надеялись узнать у них еще имена. Но они не назвали ни одного имени. Тогда их повесили на площади. Арестовали их в сорок втором, а повесили в сорок третьем. За неделю до того, как город освободили. В те дни наша армия уже начала наступление, и в тихую погоду была слышна канонада. Пашка с матерью прятались целый год у Пашкиной учительницы. Мать была с учительницей почти незнакома, но та понимала, что грозит семье Рыбакова, и сама предложила жить у нее. Целый год они почти не выходили из дома, один только раз Пашка сбежал, чтобы увидеть отца на площади. Как коротко ни рассказал он мне про этот случай, а я с поразительной ясностью представил себе большую пустынную площадь, и четыре висящих трупа, и маленькую фигурку мальчика, смотрящего на повешенного отца и переживающего такое, для чего еще не придуманы слова. Я только думал, что почти наверное он никогда не встретит Климова, если даже тот еще и жив, а если даже и встретит, то не узнает. Неужели все-таки Климов был жив и Пашка его встретил и Пашка его узнал?Глава пятая ЗАСЕДАНИЕ В ЛОДКЕ
Сколько бы я ни думал, все равно ничего нельзя было решить окончательно. Во всяком случае, следовало не спать и следить, чтобы Разгуляев не удрал. Который раз приходилось мне наблюдать медленное течение северной солнечной ночи, и каждый раз я заново наслаждался ее величественной красотой. Плеснулась в озере рыба, серебряные блики побежали по озеру, потом солнце вышло из-за леса и блики стали красными, снова плеснула рыба, застучал дятел, потом замолк, наверное, нашел жука, потом снова застучал, как будто хронометр отсчитывал секунды. Я лежал на песке у озера, подпирая голову рукой, и не спускал глаз с палатки, в которой спал мирный хозяйственник Разгуляев. Напряженно думаешь в такие ночи и напряженно чувствуешь. Какое-то вечно новое, вечно свежее чувство рождает в человеке спокойствие и величавость ночного солнца. Я вспомнил разговор с Пашкой в комнате общежития, Пашкины холодные бешеные глаза, когда он смотрел на улицу и думал, что, может быть, в проходящем мимо троллейбусе едет человек, предавший его отца, попивавший минеральную воду и покачивавший ногой, закинутой на ногу, когда отца приводили истерзанного пытками, избитого и окровавленного. И мне показалось, что раз существует этот плавный, неторопливый ход красного солнца, молчание деревьев, спокойный плеск рыбы в озере, то рядом с этим не может, не имеет права существовать мир душных тюремных камер, не смеет жить человек, думающий о том, как бы больнее сделать другому человеку, не смеет жить спокойный палач, набрасывающий петлю на шею осужденному. Но Разгуляев это или не Разгуляев, существовал же Климов, который мог попивать минеральную воду, открывать доверенные ему тайны самых близких своих друзей и не стесняться прямого их взгляда, потому что у них все равно впереди смерть и, значит, они ничего никому не расскажут. Нет, не может этого быть! Не может Климов быть тем человеком, который выдавал нам зарплату, который сказал, что деньги счет любят, который протрусил к нам по узкой проселочной дороге на мохнатой своей лошаденке. Должны же чем-то отличаться нормальные люди от чудовищ. Слишком обыкновенный человек был Разгуляев, и слишком страшным чудовищем из кошмара привиделся мне Климов. Наверное, со стороны казалось, что я задремал. А я хоть и глубоко задумался, но нервы мои были напряжены и внимание не ослаблялось ни на минуту. Я сразу заметил, как шевельнулась пола палатки. Она чуть приподнялась, не вся, конечно, а маленький ее кусочек, и между краем полы и землей открылась дырочка, сантиметров десять длиной, не больше. Я и это отметил, хотя было совсем неважно, сколько в ней сантиметров. Было маленькое отверстие и четыре пальца, высунувшиеся наружу и приподнявшие краешек полы. А самое страшное, что в этом отверстии был глаз, бессонный, внимательно наблюдающий. Обыкновенный хозяйственник Разгуляев следил, сплю я или не сплю, слежу я за ним или не слежу. Может быть, прикидывал он, не убежать ли ему на своей низкорослой мохнатой лошадке, может быть, просто думал и передумывал, возбудил он какие-нибудь подозрения или не возбудил, почему спросил Пашка, откуда Разгуляев знает, кто из нас Рыбаков, случайно ли я не полез в спальный мешок и остался дремать на берегу или оставлен специально, чтобы стеречь его, пока Пашка сходит в деревню. Никакое открытое признание не убедило бы меня так достоверно, как убедил этот внимательный, наблюдающий глаз. Я ждал, что Пашка появится из-за деревьев, и поэтому не сразу обратил внимание на плеск весел. На серебряной воде озера четко очерченным силуэтом покачивалась лодка. Пашка подавал мне из лодки беззвучные знаки. Наверное, в другом случае знаки эти были бы мне непонятны: только ничего не выражающие жесты, беззвучное шевеление губ, гримасы, смысл которых нельзя угадать, но еще продолжалось параллельное мышление и чувствование мое и Пашки. Мне не нужно было расшифровывать его гримасы и сигналы, я и так знал, чего он хочет. Я махнул ему рукой в знак того, что все понял. Разгуляев не спал, наблюдал, прислушивался, и, казалось бы, не следовало нам открывать наши карты, но откуда мог знать приезжий, как протекают обычные наши ночи, может быть, так и положено, что по ночам мы катаемся на лодке по озеру. Да, кроме того, раз он уж все равно не спал, а подсматривал и прислушивался, что нового могла ему дать эта прогулка на лодке? Я подошел к Глухову и прошептал ему в самое ухо: — Алексей Иванович, проснитесь и ни о чем не спрашивайте, мы поедем кататься на лодке. Глухов открыл глаза, моргнул несколько раз, совершенно спокойно вылез из спального мешка и пошел к берегу, как будто он просто немного вздремнул, поджидая, пока из деревни пригонят лодку. Удивительный все-таки он был человек! Пашка подгреб поближе, мы прошли шага три по воде. Сапоги в воде казались тяжелыми, но дно было песчаное, ровное, и шагать было нетрудно; мы погрузились в лодку, Пашка несколько раз взмахнул веслами, и лодка отошла метров на тридцать от берега. — Ну? — сказал Алексей Иванович. — Давайте отойдем подальше, — сказал Пашка. — Мы должны видеть палатку, чтобы он не удрал, а он нас не должен слышать. Пашка начал рассказывать, но он волновался, подолгу задерживался на второстепенных подробностях, и трудно было отличить важное от несущественного. Я прервал его и постарался изложить как можно отчетливее главное в этой истории. Надо сказать, что разговор был у нас очень горячий и взволнованный, но мы все трое делали вид, что спокойно расположились в лодке и лениво болтаем о безразличных предметах. Что мы, собственно, изображали, я теперь понять не могу. Удочек у нас не было. Трудно было подумать, что мы решили покататься по озеру, потому что лодка все время ходила взад и вперед по прямой, точно караульный, марширующий перед дверью склада. Мы не могли терять из виду палатку. Представить себе, что мы загораем на лодке, тоже нельзя было. Хотя солнце вышло из-за леса и светило теперь вовсю, но кто же загорает на северном ночном солнце. Так важно было обсудить события и решить, как быть дальше, что нам даже не пришло в голову, как должно было насторожить Разгуляева, если его настоящая фамилия была Климов, наше непонятное поведение. Итак, весь последующий разговор мы вели, сидя в ленивых позах, как будто наслаждались покоем. Выслушав меня, Алексей Иванович сказал: — Вы, Паша, уверены, что это действительно Климов? — Почти уверен, — замявшись, ответил Пашка. — Кроме этого, есть и объективные улики, — сказал я и рассказал про глаз, смотревший па меня из-под полы палатки. — Переутомленный человек часто не может заснуть. — сказал Алексей Иванович. — Чего естественнее в бессонницу поглядеть, что делают другие и скоро ли кончится ночь. — А почему он сразу узнал, что я Рыбаков? — спросил Пашка. Алексей Иванович пожал плечами: — Он объяснил это убедительно. Верно, что в личных делах есть фотографии, и верно, что заместитель начальника с личными делами должен познакомиться. — Алексей Иванович не торопясь закурил, выпустил дым и подумал вслух: — Подозрительно другое: зачем он вообще приехал? Трястись черт знает сколько на лошадке ради того, чтобы привезти никому сейчас не нужные деньги. — Простите, Алексей Иванович, — сказал я, — это скорее довод в его пользу. Если он знает, что в нашей группе сын человека, которого он предал, зачем же ему прежде времени нарываться на встречу? Скорее, наоборот, следовало заболеть или под другим предлогом уехать обратно в Москву, даже перейти на другую работу. — История старая, как мир, — сказал Алексей Иванович. — Преступника тянет на место преступления. По разному и очень сложно объясняли это психологи. А дело, по-моему, очень простое: преступник нервничает, ему все время кажется, что он чего-то не предусмотрел, оставил какую-то улику. Его замучила неизвестность, он должен убедиться, что улик не осталось. Ради этого он идет на риск. Все легче, чем мучиться неизвестностью. С Климовым случай аналогичный. Конечно, место преступления далеко и времени прошло много — двадцать лет. Но поймите: он двадцать лет трусит. Фальшивый паспорт! Этого одного достаточно, чтоб человек никогда не был спокоен, но еще остаются встречи. Ведь встречи бывают самые неожиданные. Вы говорите, он интересовался, остались ли фотографии. Ему сказали, что нет. Во-первых, думает он, может бить, ему сказали неправду, во-вторых, фотография может оказаться у других людей. Вы могли эту фотографию сохранить. Вы, Паша, представляли себе, как он спокойно едет в троллейбусе и гуляет в толпе по весеннему тротуару. Но он ведь каждую секунду ждал, не мог не ждать, что незнакомый ему человек подойдет и скажет: “Я вас узнал, Климов, пойдемте в милицию”. Шансов на это немного, но они есть. А ожидание опасности, которое длится двадцать лет, обязательно делает человеканервным, возбудимым, способным поддаться панике и выдать себя. Право же, это целиком объясняет пословицу, что бог правду видит, да не скоро скажет. Все эти истории про божью кару легко объясняются без вмешательства свыше свойствами человеческой психики. Так вот, разберем этот случай. Алексей Иванович бросил окурок в воду, но сразу же достал новую сигарету и закурил. Сейчас он мне больше напоминал того Глухова, которого я знал по институту, спокойно стоящего на кафедре и неторопливо рассуждающего перед студентами о тех предположительных случаях, с которыми они могут встретиться в будущих экспедициях. Я сидел на корме, Пашка, медленно подгребавший веслами, сидел лицом к корме на скамейке, а Алексей Иванович пристроился спиной к борту на ведерке для вычерпывания воды. Мы все трое видели лица друг друга. Лицо у Алексея Ивановича было спокойное, как будто он рассуждал о предмете, представляющем чисто теоретический интерес. Рука его, державшая сигарету, двигалась плавно, красиво, по-городски. Наверное, так же красиво курил он после сытного обеда и чашки крепкого кофе. А за его спиной виднелся пустынный берег озера, молчаливый, спокойный лес и маленькая зеленая палатка, скрывавшая от наших глаз заместителя начальника экспедиции. Интересно было бы знать, заснул он наконец, умаявшись с дороги, или подсматривает в щелку и все гадает, почему это мы не спим и о чем мы можем беседовать в лодке. — Так вот, разберем этот случай, — сказал Алексей Иванович. — Значит, двадцать лет. Тяжелых, мучительных двадцать лет. — Что же, его совесть мучила, что ли? — буркнул Пашка. — Нет, — сказал Алексей Иванович. — Если бы ему, скажем, удалось уйти с гитлеровцами и попасть в другую страну, где ему ничего бы не угрожало, он бы за двадцать лет и не вспомнил о преданных им друзьях. Живет же спокойненько какой-нибудь Скорцени или Борман. А уж каких натворили в жизни дел! Но Климову не удалось уйти с гитлеровцами. Ему угрожает очень многое и будет всегда угрожать. Значит, не только прожитые двадцать лет отравлены постоянным страхом, но всю жизнь, сколько бы он ни прожил, он осужден бояться. И вот представьте себе, что он поступает на работу заместителем начальника экспедиции, знакомится с личными делами и видит, что в экспедиции работает Павел Владимирович Рыбаков, конечно, сын погубленного им человека, потому что вы похожи на отца да и происходите из того же города. Словом, тут сомнений нет. Вряд ли он следил за вами эти годы. Не до этого ему было. Фальшивый паспорт, всегдашняя боязнь проверки; словом, забот у него и без вас хватало. К вашему городу, наверное, он и подъезжать близко боялся. Потом вы уехали в Москву. Вероятно, он себя уговаривал, что вас уже нет в живых. И вдруг у него в руках ваше личное дело, и вы, оказывается, не только живы, но и работаете в одной с ним организации. Есть две возможности. Первая — уволиться. Это безопасней. Но все-таки, в общем, опасность не только не стала меньше, чем была эти двадцать лет, а, наоборот, стала больше. Вы живы — это теперь известно наверняка. Но мало того — вы живете с ним в одном городе. Но мало и этого. Ваши пути идут параллельно, и он и вы связаны с геологией. Встреча может случиться в любую минуту, шансы попасться значительно возросли. Значит, он осужден бояться во много раз больше, чем прежде, а за двадцать лет его уже и так измучил страх. Есть другой выход — рискнуть встретиться с вами. В сущности говоря, риск не так уж велик. Двадцать лет назад вы были ребенком, да и он за эти годы изменился. Фотография или есть, или нет. Зато, если вы его не узнаете, остаток жизни он может жить спокойно. Значит, вы его не помните и фотографии у вас нет. Кроме того, у вас он выяснит, где ваша матушка, жива ли она. Заметили, что он об этом спросил? Это ему очень важно знать. Она-то опаснее, она наверняка его помнит. Однако если она и жива, то, может быть, живет далеко, может быть, встреча с ней не угрожает ему. То, что он не сбежал, увидя ваше личное дело, это не смелость, это страх, страх скрытый, но непереносимый, мучительный. Мне кажется, что если Разгуляев действительно Климов, то он обязательно принял второе решение, и именно от страха, оттого, что нет сил лишиться надежды от этого страха избавиться. Но если решение принято, то, уж конечно, его надо немедленно выполнять. Ждать, пока вы вернетесь на базу, он не может. Да и лучше встретиться здесь, в лесу, в глуши. Здесь даже в самом худшем случае остаются шансы на спасение. Тогда он придумывает эту идиотскую мотивировку, что необходимо немедленно вручить зарплату, и отправляется в путь. Фактически мотивировки-то нет, ребенку ясно, что незачем ехать. Тогда придумывается немного чудаковатый хозяйственник, скрупулезно точный в работе, для которого долг, даже в мелочах, превыше всего. Мне и вчера показались странными его рассуждения о том, как он понимает свои хозяйственные обязанности. Если бы он на самом деле был этакий арифмометр с ногами и руками, он бы не изливался о своем придуманном долге. Он бы просто не понял, чему мы удивляемся. Ему идиотская его поездка казалась бы совершенно естественной. — Значит, вы тоже уверены, что это он? — спросил Пашка. — Вы ведь, наверное, в деревню к милиционеру ходили? — ответил Алексей Иванович вопросом. — Да, — кивнул головой Пашка. — Ну, и судя по тому, что вы вернулись один, он вам сказал, что ничего сделать не может. — Не совсем так, — замялся Пашка. — Он все записал, обещал переслать материал. — Понятно. — Алексей Иванович опять бросил сигарету и сейчас же достал новую. Я удивился, что он так много курит. По внешнему его виду никак нельзя было сказать, что он волнуется. — Почта, кажется, приходит здесь раз в неделю. Проверить его, в сущности, можно только в Москве. Кто знает, где он будет, когда проверка закончится. — Я его не выпущу, — сказал Пашка. — Задержать не имеете права, — сказал Алексей Иванович. — Все это, к сожалению, одни подозрения. Рассуждать можно и так и эдак. Покажите карточку. Он долго ее рассматривал и отдал Пашке со вздохом. — Как будто похоже, а может, и не очень похоже. — Алексей Иванович, — сказал Пашка с рыданием в голосе, — что же вы хотите, чтоб я спокойно смотрел, как он уедет? Через месяц вернемся на базу, а его и след простыл. Исчез Климов, затерялся среди двухсот миллионов человек, ведь второй встречи не будет. Где он укроется, в Красноярске или Магадане, в Кишиневе или Мичуринске, или еще где, откуда я знаю. — Успокойся, Паша, — скачал я. — Задерживать мы его действительно не имеем права. Значит, ему не надо давать основания бояться. Приехал, увидел тебя, ты его не узнал, вот и все. А через месяц вернемся на базу, там и поговорим. Если ты будешь держать себя в руках, уедет он спокойный и будет нас поджидать. — А глаз из-под палатки? — спросил Паша. — Чувствует он, чувствует. Телепатия, что ли, тут такая. Ты же сам чувствовал, что он весь как струна. — Ты мистику не разводи! — рассердился я. — Конечно, он нервничает, встретив тебя. Конечно, следит за тобой, подглядывает. А ты развей его подозрения. Убеди его, что ты ничего не заподозрил. Мужик ты на возрасте, что ж ты, сдержать себя не сможешь? — Ладно, — сказал Пашка хмуро, — сейчас уйдем в маршрут, а вечером перетерплю. Ну и месяц мне предстоит! — Нет, — сказал Алексей Иванович, — так, я думаю, мы больше его не увидим. Убежит. — Телепатия? — спросил я. — Не знаю, — сказал Алексей Иванович. — Есть или нет телепатия — это пусть специалисты разбираются. А вот то, что по взглядам, по интонациям, по жестам один человек угадывает, что думает и чувствует другой, это я знаю точно. Конечно, если у обоих нервы напряжены, если оба взволнованы. Иногда сам не знаешь, себе самому объяснить не можешь, а чувствуешь состояние другого человека по неуловимым признакам, по еле заметным деталям. Я убежден — Разгуляев чувствует, что мы его опознали. — Так что же, — сказал Паша, — значит, мы дали ему понять, что он опознан, и отпустили его: лети, мол, голубчик. Месяц времени у тебя на устройство дел. За этот месяц мотайся куда подальше. — Черта с два, — сказал Алексей Иванович и стукнул кулаком по кормовому пастилу. Я посмотрел на него и опять удивился. Не корректный научный сотрудник был передо мной, и не лесной созерцатель, знаток звериных повадок и птичьих голосов, а волевой, энергичный человек, умеющий драться и побеждать. — Надо ему просто в лоб сказать: мы вас узнали и мы вас не выпустим. — Так мы же не можем его задержать! — выкрикнул Пашка. — Не выдержит, убежит, — спокойно сказал Алексей Иванович. — Выдаст себя. Не может не выдать.Глава шестая РАЗГОВОР НАПРЯМИК
Мы вышли на берег, подтянули повыше лодку и занялись обычными утренними делами, как будто так нам и полагалось, не сомкнув глаз за целую ночь, начинать тяжелый трудовой день. Разожгли костер, вскипятили чайник, сварили суп из консервов, нарезали хлеб. Из палатки не доносилось ни звука. Либо Разгуляев действительно спал, либо думал и передумывал причины нашего странного поведения. Завтрак уже был готов, когда палатка зашевелилась и из нее, низко пригибаясь к земле, вышел Платон Платонович, босой, в тельняшке и брюках. Выйдя, он выпрямился и широко, с наслаждением потянулся. В одной руке он держал мыло, пасту, зубную щетку, в другой — коротенькое вафельное полотенце. Потягивался он долго, с наслаждением; потянувшись, пожелал нам доброго утра и пошел к озеру умываться, ступая осторожно, чтобы не повредить о камень босые ноги. Мы разлили суп по котелкам, присели за наше подобие стола, все трое с одной стороны, оставив валун для гостя. Делать уже, собственно говоря, было нечего, но мы все возились, придумывая то одно, то другое хозяйственное дело. Надо было создать видимость, что мы не разговариваем, потому что заняты. Платон Платонович мылся долго, так, как моются в озерах или реках люди, не привыкшие обходиться без водопровода и умывальника. Он фыркал, сморкался, отплевывался и даже повизгивал от холодной воды. Была минута, когда он, кажется, подумывал окунуться, но, еще раз попробовав ногой воду, поежился и не решился. Наконец он растерся полотенцем и, все еще поеживаясь от холода, быстро, но осторожно ставя босые ноги, побежал в палатку. Он все делал обыкновенно, все делал так, как должен делать человек его типа, его характера, его привычек. Наверное, он десятки раз видел, как умываются поутру горожане в реке или озере, и исполнял все так, как положено, как типично. Немного слишком старательно исполнял, переигрывал. Впрочем, может быть, это мне только казалось. Мне все казалось в нем подозрительным. Наконец, свеженький, розовый, с мокрыми волосами, он подошел к нам. — Я боялся проспать, — сказал он, усаживаясь на валун. — Надо пораньше к Яковлеву попасть. — Так что, окончательно решили сегодня ехать? — спросил Глухов, глядя в сторону и отправляя в рот ложку за ложкой. — Конечно, — сказал Разгуляев. — Я свеж и бодр. Лошадка тоже, наверное, отдохнула. До яковлевской группы километров тридцать, они в Ивантеевке стоят. Часа за четыре я на своем рысаке дотрясусь, даже если с отдыхом, все равно получится часов пять. А зря время тратить нечего. — Придется тратить, — сказал Глухов. — Никуда мы вас отсюда не пустим. Он сказал это просто, не подчеркивая, и мы все трое продолжали есть суп, как будто ничего особенного и сказано не было. Продолжал есть суп и Разгуляев. Слова Глухова, видимо, не сразу дошли до его сознания. Отправив в рот две или три ложки, он вдруг нахмурился и удивленно посмотрел на Алексеи Ивановича. — То есть как — не пустите? — спросил он, и на лице его было написано, что он ждет какой-нибудь шутки, хочет посмеяться вместе со всеми. Алексей Иванович доел суп, оставшийся в котелке, отставил котелок, достал платок, вытер губы, достал сигарету и не торопясь закурил. У меня появилось странное чувство, пожалуй похожее на страх. Не какой-нибудь реальной опасности я боялся, да ее и не существовало. Нас трое, а он один. Оружия у него как будто не было, а у нас — двустволка. Нет, физическая опасность нам не угрожала, и чувство, которое я испытывал, не было физическим страхом. Было другое: пока еще мы находились в простом, понятном, обычном мире. Три геолога завтракают, собираются идти в маршрут, с базы приехал хозяйственник, привез зарплату, поест, сядет на лошадку, поедет дальше. Это был обыкновенный, привычный, милый мне мир. Но вот сейчас скажет Алексей Иванович следующую фразу, и мир станет другим. Это будет мир преследования и борьбы, мир чудовищных преступлений и чудовищной подлости, мир, где будет насилие, может быть, драка, может быть, стрельба, где действуют не закон и порядок, а только личный ум, изобретательность, сила. Я понял, что хоть мне и двадцать семь лет и хоть я без пяти минут геолог, а до сих пор не испытал ничего, что выходило бы за пределы юношеского благополучия. Войну я пробыл с матерью в эвакуации, а что потом? Школьные дела: спросит учитель или не спросит, выдержу экзамен или нет. Служба в армии, три года на заводе. Самое сильное волнение, которое я испытал в жизни, было волнение за то, пройду я по конкурсу в институт или не пройду. Обо всем, что выходит за рамки обыденного, я читал только в книгах и всегда думал, что острые положения, обнаженная борьба, наверное, приукрашены писателем, что в жизни все бывает обыкновеннее, проще, и если даже случится необычайное, то следует просто обратиться в милицию. Но вот необычайное случилось, а милиции нет, и обращаться в милицию не с чем, и придется самим нам в глухом лесу вести борьбу с настоящим злодеем, вести борьбу умом. а может быть, и физической силой. Нет, не страх я испытывал. Я не боялся вступить в неизвестный мне мир, я испытывал нервное напряжение и взволнованность, потому что сейчас должны были вступить в действие необыкновенные законы и я еще не знал, каким я в этих новых условиях окажусь. И фраза Алексеем Ивановичем была сказана, и мир, в котором существовали мы, четверо, стал другим. — Очень просто, — сказал Алексей Иванович. — Мы знаем что ваша фамилия не Разгуляев, а Климов, зовут вас не Платон Платонович, а Валентин Петрович, что во время войны вы работали в гестапо и предали четверых своих друзей, среди которых был большой ваш друг, Владимир Алексеевич Рыбаков, Пашин отец. Первый ход был сделан. Игра началась. Разгуляев смотрел на нас с полным недоумением. — В гестапо? — переспросил он. — Вы серьезно, Алексей Иванович? — Совершенно серьезно, — сказал Глухов. — Подождите, подождите. — Разгуляев отставил котелок, вытер губы и тоже закурил. Я смотрел: руки у него не дрожали. — Какие же у вас основания? — спросил Разгуляев. — Паша, у вас есть еще экземпляр фотографии? — спросил Глухов. — Если запасной нет, дайте эту сюда. Разгуляев посмотрел на фотографию. — Значит, вот этот — я? — спросил он. — Да, — сказал Пашка. Долго Разгуляев вглядывался в фотографию. — Действительно, сходство есть, — сказал он. — Правда, мне говорили, что я и на писателя Мордовцева смахиваю, но не знаю, портретов не видел. А здесь сходство есть безусловно. Но, товарищи, поймите одно: прежде всего в расследовании дела заинтересован я. Раз вопрос поднят — следствие должно быть доведено до конца. Я, кстати, считаю, что вы поступили очень порядочно, прямо и сразу сказав мне о своих подозрениях. Было б гораздо хуже, если б меня подозревали, а я бы не знал об этом. Теперь я хоть могу защищаться. В конце концов, ничего страшного нет. Пошлют запросы, разыщут в архивах мои дела, фотографии. Я думаю, что это даже займет не так много времени. В общем, прикажете считать себя арестованным? — Да, — сказал Глухов. — Ну что ж, — пожал плечами Разгуляев. — Дело, конечно, незаконное, но я не возражаю. — Он еле заметно улыбнулся. — Я только не очень понимаю, как это практически осуществить? Впрочем, может быть, в селе найдется какой-нибудь подвальчик. Если там не очень сыро, я не возражаю. — Чепуха! — сказал Алексей Иванович. — Юридических оснований для вашего ареста, как вы сами понимаете, пока нет. Поэтому решать вопрос будем в городе. Я очень рад, что вы так разумно отнеслись к нашим подозрениям. Тем не менее наши подозрения обоснованны, и мы добьемся того, что они будут проверены до конца. Если мы ошибаемся, вы нас извините. — Я вам уже сказал, что заранее извиняю, — кивнул головой Разгуляев. — Даже благодарен вам за прямоту. Но все-таки, как же реально, реально-то как? Можно, конечно, по такому исключительному случаю всем вместе отправиться в город. Лошадка у нас только одна, придется идти пешком, ко дня за четыре, за пять дойдем. Два дня в городе, пока соответствующие организации найдут способ отправить меня в Москву, ну, и вам обратно дня четыре. Лесом идти не надо, обратно тоже по дороге пойдете. В общем, считайте — недельки две. Не так много. — Не годится, — сказал Глухов. — Не успеем до осени маршрут закончить. Вы долгосрочный прогноз получили? — К сожалению, — как бы извиняясь, развел руками Разгуляев, — обещают раннюю осень. — Ну, вот видите, а у нас и так план очень напряженный. — Тогда, извините, — сказал Разгуляев, — я все-таки не понимаю, где же выход. Давайте вместе подумаем. Как ни странно, но наши интересы полностью совпадают. II вам и мне важно, чтобы в этой истории все было выяснено до конца. — Выход есть, — сказал Глухов. — Здесь мы работу сегодня можем закончить. Подольше придется походить, но уложимся. Дальше я все равно считал нужным встретиться с Яковлевым, сличить наши данные. Можно это сделать и сейчас. Значит, завтра утречком мы вместе отправляемся к Яковлеву. Вы говорите, тридцать километров? Тридцать километров по дороге нам отшагать нетрудно. А вы поедете на вашей же лошадке, только придется приноровиться к нашему темпу, так что дорога займет не пять часов, а часов семь. Вы не возражаете, чтобы группа Яковлева была посвящена в эту историю? — Конечно, нет, — сказал Разгуляев. — Наоборот, я хочу, чтобы все было открыто. Хуже всего, когда шепчутся за спиной. — Ну, вот и хорошо. Наша группа выделит одного человека, и яковлевская — одного, двое вас отконвоируют в город. Пока обе группы будут работать в сокращенном составе. Разгуляев подумал. — По-моему, это разумно, — сказал он. — И работа не потеряет, и дело мое будет двигаться. — Значит, так и решаем. Вы, право же, Платон Платонович, очень удобный арестант. — Я считаю, товарищи, так, — сказал веско Разгуляев. — Расследование этой истории — наше общее дело. Когда правда выяснится, то, если ваши подозрения не оправдаются, за что я могу поручиться, я вам даю слово не таить против вас никакой обиды. Каждый советский человек должен был поступить так, как поступаете вы. — Ну, а если оправдаются? — спросил Пашка Рыбаков. Он наклонился вперед, у него напряглись скулы, и он смотрел на Разгуляева бешеными глазами. Разгуляев пожал плечами и улыбнулся: — Если оправдаются… Я никогда под следствием не был и не знаю, но, наверное, мы увидимся только на суде или у следователя. А там существуют, наверное, правила, согласно которым должны себя вести и обвинитель и подсудимый. — Хорошо, — сказал Глухов и встал. — Одну минуточку, — сказал Разгуляев и поднял руку, — я хочу докончить. Ну, а пока истина не выяснится, я прошу вас со всей строгостью соблюдать, как это назвать, ну правила конвоя, что ли, и бдительности. Но давайте взаимно вести себя корректно. Следует помнить, что между подследственным и виновным большая разница. — Согласен, — сказал Глухов, — и думаю, что могу вам это гарантировать. Ну, а пока, вы уж нас извините, но сегодня вам придется находиться под караулом. — Конечно, помилуйте! — любезно согласился Разгуляев. — Значит, так, — сказал Глухов, — мы с Рыбаковым уходим в маршрут, а Колесов остается вас караулить. Вот вам, Федя, винтовка, вот я ее при обоих вас заряжаю, обратите внимание — это медвежьи пули, так называемые жаканы. Ваша обязанность, Федя, быть с Платоном Платоновичем вежливым, не позволять себе ничего оскорбительного и в то же время строго соблюдать устав караульной службы. Минут двадцать прошло, пока собирались Пашка и Глухов. Потом они ушли, и мы остались вдвоем с Разгуляевым. Я сел на валун, держа двустволку в руках. По чести говоря, чувствовал я себя довольно глупо. Платон Платонович прилег на траву и закурил.Глава седьмая КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА
Чем больше я раздумывал, тем яснее мне становилось, что необыкновенно нелепо устроил все Алексей Иванович. Он даже не счел нужным, оставляя меня на целый день вдвоем с этим Разгуляевым или Климовым, поговорить со мной наедине, как-то меня проинструктировать. Ну хорошо, он зарядил ружье жаканами. Чем это могло мне помочь? Стрелять же я все равно не имел права. Прошлые преступления Разгуляева пока ничем не доказаны, и совершенно неизвестно, имеет он что-нибудь общее с предателем Климовым или нет. Какие были у нас основания подозревать его? Сходство с фотографией? Во-первых, оно сомнительно, во-вторых, оно может быть случайным. То, что его поведение показалось нам подозрительным? Наверное, можно было так же логично, как рассуждал Алексеи Иванович, порассуждать в пользу того, что если бы Разгуляев был Климовым, то он ни в коем случае не рискнул бы приехать к нам. Психологические изыскания можно повернуть в любую сторону. Еще Достоевский сказал, что психология — палка о двух концах. Значит, в сущности говоря, мы, не имея на то никакого права, задержали заместителя начальника экспедиции и держим его под арестом. Ну, а если он просто встанет, скажет: “Мне надоело валять дурака”, сядет на лошадь и уедет, могу я стрелять? Конечно, не могу. Представим себе, что я выстрелил и попал. Любой суд приговорит меня за предумышленное убийство. У нас не Алабама какая-нибудь. У нас за линчевание по головке не гладят. Мало того, заново передумывая поведение Разгуляева, я псе больше приходил к выводу, что ни в чем он не виноват. Шутка ли, выслушать такое обвинение! Да если бы было в нем хоть немного правды, неужели бы он не дрогнул? В то же время, если он ни в чем не виноват, то естественно с его стороны самому стремиться к подробнейшему расследованию. Невиновному расследование не повредит, а слух, сплетня, клевета могут повредить и невинному. Нет, вероятней всего, что мы нагнетали мрачные предположения, заражали друг друга страхом и подозрительностью, а в результате сижу я как дурак с ружьем, из которого не имею права стрелять, и стерегу человека, который имеет право в любую секунду встать и уйти. Действительно, трудно придумать более глупое положение. Ох и злился же я на Алексея Ивановича! Всегда плохо получается, когда человек берется не за свое дело. Геолог он знающий, прекрасный преподаватель, в лесу человек умелый и выносливый. Все это его профессия. Но уж расследование преступлений, поимка преступника, это к его профессии отношения не имеет. Любительство, дилетантизм отвратительны в любом деле, но нет ничего вреднее и глупей сыщика-любителя. Право же, это занятие для школьников, и то не старше седьмого класса. И все-таки единственное, что мне оставалось делать, это продолжать нести идиотскую караульную службу. Я посмотрел на арестованного. Он положил руку под голову и блаженно спал. Мне было видно его лицо. Он наслаждался сном. Он очень удобно устроился в тени, в холодке, обвеваемый ветерком с озера. А меня солнце начинало припекать, да и сидеть на валуне было удивительно неудобно. Я встал и прошелся. Положение Платона Платоновича было куда лучше моего. Он просто получил возможность и моральное право несколько дней ничего не делать. Сегодня отоспится за день, отдохнет, завтра не торопясь, шажком доедет до Яковлева. Там еще денек побездельничает. Потом отправится па базу. Караульные будут ему разжигать костер, варить суп, греть чай. Чем тебе не отдых! На базе он объяснит, что безделье было вынужденным и он, как говорится, “начальству ничем не виноват”. Начальник нашей экспедиции был большой острослов. Студенты любили повторять его остроты. Наверное, он и ругать нас не будет, просто расскажет все подробности, да так, что педели две институт будет надрываться от хохота. Может быть, он даже похвалит Глухова за то, что почтенный кандидат наук, человек в возрасте, сумел сохранить юношескую свежесть чувств и наивный романтизм, свойственные школьному возрасту. Мы с Пашкой будем вообще выглядеть глупыми мальчишками, играющими в Шерлоков Холмсов. Очень ясно я себе представил рассказ начальника экспедиции о том, как я караулил спящего Разгуляева. “Заместителю моему благодать, — скажет, наверное, начальник экспедиции, — одному в лесу спать рискованно, медведи, волки, то-се. Да и лошадь может далеко в лес уйти. А тут полный комфорт. Наш героический Федя, не спавший целую мочь, охраняет покой моего заместителя”. “Эх, — думает заместитель, — вот уж повезло!” Беда в том, что все это была чистая правда. Разгуляев блаженно посапывал и даже слюну пустил изо рта, как это бывает с заспавшимися детьми. Спать я не могу, решил я, должность не позволяет. Но полежать-то я имею право. Я прилег на траву, лицом к Разгуляеву. Хотел было и лежа ружье в руках держать, но подымал, что это будет выглядеть совсем глупо. Забредет кто-нибудь случайно из села, и стану я посмешищем не только в институте, но и в этом лесном районе. Здесь жизнь бедна развлечениями, и смешные истории ходят по селам на длинных ногах. Словом, я положил рядом с собой ружье и только взялся рукой за ремень. До ближайших деревьев было шагов тридцать, и, в случае чего, я бы успел вскочить и прицелиться, а больше я все равно не мог ничего сделать. Стрелять я не имел права. Оправдания у меня, конечно, есть. Во-первых, я за ночь не спал ни минуты, а накануне очень устал. Во-вторых, вся эта затея с задержанием Разгуляева представлялась мне такой ерундой, что не мог я серьезно относиться к обязанностям караульного. Впрочем, я не хочу оправдываться. Я передаю факты. Разгуляев посапывал так успокаивающе, так ритмично, будто мурлыкал колыбельную песенку без слов. С озера тянуло ветерком, и вершины берез сонно перешептывались. Кругом тишина, покой, только ровное посапывание Платона Платоновича да спокойный шелест деревьев… А потом что-то сильно дернуло меня за руку. Я вскочил. Разгуляева не было. Мало того, не было и ружья. В растерянности я огляделся. Разгуляев стоял возле палатки, держа ружье в руках. Все было удивительно: спокойное озеро, спокойный лес, погасший костер, палатка, стреноженная лошадь, лениво рвущая траву, и энергичный Разгуляев, подтянутый, направляющий на меня ружье. — Спокойно, молодой человек! — сказал он. — Не двигайтесь, а то ружье может выстрелить. Жакан — пуля серьезная. Несколько секунд прошло, пока я осмыслил происходящее. Я смотрел на Платона Платоновича, то есть нет, па Валентина Петровича Климова, теперь-то я уже точно знал его фамилию, и мучительно придумывал, что можно сделать. Броситься на него? Оба дула смотрели мне прямо в глаза. Наверное, он умел стрелять, да с такого расстояния и трудно промахнуться. — Гражданин Климов, — сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее, — не думайте только, что вы выиграли игру. Рыбаков вчера ходил к участковому, как вы знаете, в селе есть телефон, телефон работал целую ночь. Не пробуйте вернуться па базу, там предупреждены. Предупреждены и окрестные деревни и села. Опознать вас будет нетрудно. Как вы знаете, незнакомые люди здесь редки. Мое вранье не преследовало никакой определенной цели. Просто я старался следовать системе Глухова: подавить противника морально. Одолеть его в войне нервов. Кроме того, мне хотелось, чтобы этот негодяй не торжествовал. Пусть хоть страх его помучает. — Врете вы, — сказал Разгуляев. — Запугиваете. Знаю я здешних участковых. Не может он поверить болтовне мальчишки. Кроме того, пока он соберется звонить, пока он дозвонится… — Однако, — сказал я, — пока что все у нас идет точно по плану. Мы хотели, чтоб вы себя выдали, вот вы себя и выдали. Если б вы были Разгуляевым, вы бы спокойно нам подчинились, зная, что оправдаетесь. Заместители начальников экспедиций редко похищают ружья и целятся в своих сотрудников. — Ничем я себя не выдал, — сказал Климов. — Просто я не могу терять время из-за ваших фантазий. Я понимал, что он врет, и он чувствовал, что я это понимаю. Голос у него был не очень уверенный. Я решил идти дальше. — Ну, так выдадите, — сказал я. — Я сейчас на вас пойду. Если вы Разгуляев — вы не выстрелите. Уж то, что заместители начальников экспедиций в своих сотрудников не стреляют, это точно. Ну, а если выстрелите, то, может быть, раните меня или даже убьете, но уж то, что вы Климов, будет бесспорно доказано. Положение у вас все равно плохое. Безнадежное, я бы сказал. Я неторопливо пошел прямо на Климова. Должен сказать честно, что смотреть в ружейное дуло удивительно неприятно. Я решил, что сделаю еще несколько шагов и неожиданно на него брошусь. Будь что будет. В суматохе все-таки больше шансон, что он промахнется. Я сделал еще шаг, и Климов сказал очень спокойно: — Как только поднимете ногу, я стреляю. И в эту секунду раздался спокойный голос Глухова: — Довольно баловаться. Бросьте ружье, Климов! Мы оба повернулись на голос. В эту секунду я мог бы броситься па Климова, но я был так поражен появлением Алексея Ивановича, что упустил момент. Глухов и Пашка вышли из-за деревьев. Климов, не поворачиваясь, отскочил в сторону, теперь он стоял у самых деревьев, к нам лицом. — А, будьте вы неладны! — крикнул он, приложил к плечу ружье, направил его на Глухова и выстрелил. Нет, не выстрелил. Я так был уверен, что выстрел сейчас раздастся… Я, кажется, даже услышал его… Нет-нет, только щелкнул курок. А Глухов продолжал спокойно идти на Климова, глядя ему прямо в глаза. Климов снова прицелился и спустил курок. Снова выстрела не было. И тогда он вдруг закричал. Он закричал так, как кричат в кошмаре. Он совсем потерял голову. — А-а-а-а-а! — кричал он. Глаза у него были безумные от ужаса, рот широко открыт. Наверное, ему показалось, что силы природы обернулись против него, что чудесным образом перестал взрываться порох и растопился свинец. Сама природа, казалось ему, против предателя. Так, как кричал он, кричат дети, встретившие привидение. Пашка кинулся на Валентина Петровича. Климов схватил ружье и изо всей силы бросил его в Пашку. Ружье попало Пашке в йоги, Пашка споткнулся и упал. — Лес укроет! — крикнул Климов. Он, наверное, не соображал, что говорит, а просто выкрикнул мысль, мелькнувшую у него в голове. Потом он метнулся и скрылся за деревьями. Пашка с трудом поднялся, морщась от боли в ногах. — Упустили, — сказал он. Он весь был в поту, и глаза у него от ярости казались белыми. — Ничего, — сказал Глухов, — далеко не уйдет. Зато теперь все ясно. — Почему ружье не выстрелило? — спросил я. — Детский фокус, — сказал Алексей Иванович. — Вам казалось, что я заряжаю, а пули я в рукав опустил. Заходите ко мне в Москве, я вам поинтереснее фокусы покажу. — Что тут у вас происходит, граждане? — раздался спокойный голос. Мы обернулись. На площадку вышел участковый и неторопливо шел к нам.Глава восьмая ЛЕС НЕ УКРЫЛ. КАЗНЬ
Пашка долго бегал по лесу, кричал, грозил, требовал, чтобы Климов сдался, но Климов не откликнулся. Лес скрыл его. Попробуй разыщи человека, который прячется в этом столпотворении стволов, листвы, хвои, сучков и веток. Пашка вернулся весь исцарапанный, потный, задыхающийся. Милиционер был нетороплив и спокоен, спокоен был и Алексей Иванович. — Никуда не денется, — сказал он. — Па базу только надо будет позвонить на всякий случай. — Сообщено повсюду, — сказал милиционер. — Я переговорил с кем надо. По району дана команда. Мы тщательно перерыли все вещи Климова. Денег не было. Шесть тысяч, сумма большая, а места занимает мало. Наверное, рассовал по карманам или, может быть, спрятал на груди в мешочке. — Я из-за денег” решил сегодня ею караулить, — сказал Глухов. — Он обязательно сегодня должен был убежать, именно сегодня, а не завтра. — Почему? — спросил я. — Ну, — сказал Алексей Иванович, — во-первых, сегодня его стерег один человек, завтра нас было бы трое, да и на базу его двое бы конвоировали. А главное — деньги. Без денег куда убежишь? И переодеться не во что, и билет на поезд не купишь, да и документы надо новые доставать. Он же понимал, что когда соединятся две группы во главе с обоими начальниками, то в полевых условиях это уже орган, имеющий право на серьезные решения. Конечно, мы составили бы акт и забрали деньги. — Эх, — сказал я, — какую я глупость сделал — зачем я говорил ему, что дано указание его задержать? — А откуда вы это знали? — спросил участковой. — То-то и дело, что не знал. Попугать хотел. Если б я не сказал, он спокойно появился бы на базе или просто в село зашел. Тут бы и попался. — Очень хорошо, что сказали, — возразил Глухов. — После ого бегства не мог же он думать, что мы не сообщим об этом. Все равно опасался бы. Сейчас его страх гонит по лесу. — Лес велик. — хмуро сказал Пашка. — Недаром он крикнул — лес укроет. — Вот уж это напрасно вы говорите, товарищ Рыбаков, — покачал головой участковый, — в лесу ему никак не укрыться. Провианта нет, купить нельзя — не продадут да еще задержат. Оружия нет, на шоссе выйти нельзя, и ко всему — гнус. Если он от страха не сбесится, так уж от гнуса сбесится наверняка. Все-таки дней пять Климов скрывался в лесу. Мы продолжали работу. Через день переменили место лагеря. Два дня шли лесом и остановились, как и было намечено по плану, в селе, расположенном на берегу реки. Глухов настоял, чтобы на этот раз мы устроились в самом селе. По лесу ходил озверелый, отчаявшийся человек. Всякое Могло случиться. Мы связались с базой по телефону. Там уже все знали. Там знали даже больше, чем мы. Оказывается, Климова ждали во всех деревнях и селах, в городе и на всех ближайших станциях. Были предупреждены шофери. Пешком Климову до станции не добраться, а шоферы внимательно разглядывали всех голосовавших на дорогах. Впрочем, Климов и не пытался голосовать. Он, видно, догадывался, что это для него плохо кончится. А вот на детей он напал. Пошли дети за ягодами, взяли хлеба, сала кусок у них был, а он выскочил из-за деревьев, отнял сало и хлеб да и напугал до полусмерти. Рассказывали ребята, что был он грязный, страшный, опух весь от гнуса. Черт, а не человек! Что-то кричал, но что — дети не поняли. Вроде грозил, проклинал, ругался. Хорошо, не убил никого. Ребята перестали ходить в лес, да и взрослые собирались по нескольку человек, если была нужда. В другой раз Климов бросился было на почтальона, который вез на телеге почту. Почтальон вытащил наган: ему полагалось иметь наган при себе, и Климов, заверещав, скрылся обратно в лес. Совсем с ума сошел человек. Ну, зачем ему нужна была почта? Продуктов почтальон с собой не вез, вез письма, газеты и деньги. Так денег-то Климову и своих девать некуда. Ясно было, что недолго Климову оставалось гулять. Днем раньше или днем позже, все равно бы его задержали, если только раньше не загрызли бы его волки или не напоролся бы он на медведицу с медвежатами. Но судьба готовила ему другой конец. Река, на берегу которой стояло село, была сплавная. Весной по ней прошел сплав. Много бревен застряло у берегов. Так каждый год бывает. Бревна застревают в кустарнике, в бухточках, просто на мелких местах. Поэтому, когда сплав проходит, с верховьев реки начинается так называемая зачистка хвоста. Специальные бригады сплавщиков проходят по берегам и сталкивают на глубокую воду застрявшие бревна. Их много накапливается, дать им пропасть никак нельзя. Подхваченные течением, плывут они вниз по реке и доплывают до устья, где расположены запани. Все это происходит так, если нет на реке залома, а залом раз в два—три года обязательно образуется. Обычно образуется он на местах, где мелко и где торчат из воды или прячутся под самой ее поверхностью камни. Некоторые бревна течение проносит через пороги, а некоторые застревают. Постепенно застрявших становится все больше и больше. Проходит время, и застрявшие бревна запруживают всю реку от берега до берега. А бревна сверху плывут и плывут и все останавливаются у залома, и залом достигает иногда нескольких километров. Вода течет под бревнами, между бревнами, так что ее и не видно. Незнающий человек мог бы подумать, что тут и нет. реки, а просто широкая просека, заваленная огромными бревнами. Вот такой залом и был у села, в котором мы расположились. Бригады сплавщиков растаскивали его. Дело это очень хитрое, требующее большого опыта, знаний и того шестого чувства, которым обладают хорошие специалисты любой специальности. Мастера сплавного дела, присмотревшись к залому, угадывают, где, в каких точках надо растащить бревна, для того чтобы двинулся весь залом. Это дело самых опытных и самых умелых. Так развито у них чутье, что безошибочно угадывают они те несколько точек, в которых надо ослабить напряжение. Тогда за работу берутся самые ловкие и самые смелые из сплавщиков. В указанных стариками точках баграми растаскивают они бревна и ставят их вертикально. Работа требует ловкости и смелости. В какой-то момент вся эта масса бревен тронется с места. Момент этот надо точно почувствовать. Тут нельзя упустить секунду, оступиться или поскользнуться. Тут каждое движение должно быть рассчитано, каждая секунда учтена. Расположились мы в просторной избе у веселой и добродушной хозяйки. Консервы нам осточертели, и с огромнейшим удовольствием поужинали мы вареной картошкой с кислым молоком, потом вышли на берег подышать свежим воздухом, посмотреть, как работают сплавщики. Мы влезли на невысокую гранитную скалу. Отсюда было далеко видно. В обе стороны русло реки сворачивало, так что чистой воды нигде не было видно. Только огромное нагромождение бревен, колоссальный хаотический лесной завал. Сплавщики в сапогах и ватниках с баграми в руках громко перекликались, вытаскивали бревна и ставили их торчком. Человек пять бородатых крепких стариков стояли на берегу. Они внимательно следили за работой сплавщиков, переговаривались, видно советуясь, и иногда громко кричали, давали указания сплавщикам, подбадривали медлительных. Мельком увидел я, что в стороне какой-то человек поднял лежащий на земле ватник, надел его, поднял с земли картуз, нахлобучил его на лоб, пошатываясь, нетвердыми шагами спустился с берега и пошел по бревнам. Наверное, кто-нибудь из сплавщиков, разгоряченный, скинул картуз и ватник, а теперь надел их снопа и идет работать. “Почему у него нет багра? — подумал я. — И потом, почему он так шагает? Пьян он, что ли? Нельзя же туда пьяному”. Старики, стоявшие на берегу, увидели его и стали кричать, чтобы он возвращался. Но он как будто не слышал их. Он даже ускорил шаги. Скользил на бревнах, перешагивая с одного на другое. Очень резко отличалась его походка от уверенной, твердой походки сплавщиков. Он дошел почти до середины удивительной бревенчатой реки, когда вдруг сразу громко закричали сплавщики, таскавшие бревна, и старики на берегу, и все, кто только был у реки. Сперва я подумал: они кричат этому странному человеку, но в это время чуть-чуть дрогнули бревна. Все сразу задвигалось. Сплавщики побежали к берегу, уверенно перепрыгивая с бревна на бревно, иногда опираясь о багор, иногда балансируя руками. А бревна зашевелились. Бревна как будто ожили. Сплавщики попрыгали на берег, какой кому был ближе, и теперь на этой ожившей, шевелящейся массе бревен остался только один человек. Тот, у которого была нетвердая походка, тот, который только что надел ватник. Он растерянно оглядывался, еще не понимая, что происходит. И в какую-то долю секунды я узнал — это же Климов! Это он надел ватник, чтобы его приняли за сплавщика, это он перебирается через реку, чтобы уйти из насторожившегося района в район, где еще неизвестно, что его ищут. Я закричал. И сразу услышал отчаянный крик Пашки. Он тоже узнал Климова. Он кинулся было вниз со скалы, не то чтобы поймать Климова, не то чтобы спасти его. Нельзя спокойно смотреть, как человек погибает, даже если это плохой человек. Климову кричали все: сплавщики с обоих берегов реки, жители села, пришедшие посмотреть, как разбирают залом. Климов растерянно огляделся. Масса бревен шевелилась, двигалась, как будто восстала на нею. Климов споткнулся, но устоял на ногах. Теперь он тоже кричал, протяжно, отчаянно. Он метался то в одну, то в другую сторону, и с каждой секундой быстрей и быстрей шевелились, ворочались, двигались бревна. В ужасе Климов упал на огромное бревно и руками вцепился в него, но оно под огромным напором других бревен, как живое, приподнялось и скинуло Климова. На берегу дрожала земля. Бревна терлись друг о друга с каким-то особенным скрипучим скрежетом. Огромный ствол сломался пополам, как спичка в руке человека. Теперь все стоявшие на берегу замолчали. Предупреждать Климова было поздно, спасти его невозможно. Еще один раз сквозь треск и скрежет разъяренного леса прорвался отчаянный его крик, и Климов замолчал. И сразу же стих напор сплава. Теперь мимо нас плавно плыли, иногда сталкиваясь друг с другом, бревна, и где-то внизу по течению виднелось на бревнах маленькое темное пятнышко. Впрочем, скоро оно скрылось за поворотом. Нас вызвали для опознания трупа в село, расположенное ниже по реке. Там выловили труп Климова. Он был весь избит и исцарапан бревнами, и все-таки изуродованное его лицо даже сейчас выражало отчаянный, безумный страх. Мы подписали протокол опознания и отправились обратно. Рано утром нам нужно было идти в маршрут.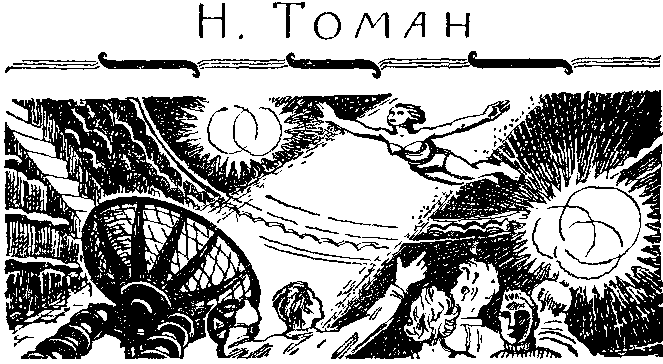
Н. Томан. В СОЗВЕЗДИИ “ТРАПЕЦИИ” Повесть
1
“Надо было сесть на такси, — с досадой думает Ирина Михайловна, озябшим пальцем протирая прозрачный кружок в оледеневшем окне троллейбуса. — Совсем замерзну, пока доеду…” Время позднее — за полночь. В троллейбусе малолюдно — всего пять—шесть человек. Сквозь замерзшие окна ничего не видно, а водитель не считает нужным объявлять остановки. В протертом кружочке мелькает свет уличных фонарей. Ирина Михайловна всматривается в него, почти касаясь лбом толстой наледи на стекле. В столь поздний час на улицах уже выключена часть освещения и густые тени затушевывают многие приметы хорошознакомых зданий. Да и прозрачный кружочек то и дело затягивается сизой пленкой изморози. Его почти непрерывно приходится протирать стынущими пальцами. Лишь после Каляевской Ирина Михайловна начинает ориентироваться безошибочно. Теперь скоро площадь Маяковского, а там уже недалеко. В скверном настроении возвращается домой режиссер цирка Ирина Михайловна Нестерова. Не очень приятный был у нее сегодня разговор с директором и главным режиссером. Они все торопят с программой к открытию нового здания цирка. Времени хотя еще и много, однако нужно ведь не только придумать программу, но и отрепетировать ее. И не какую-нибудь просто новую, а нечто грандиозное, небывалое. В ее ушах и сейчас еще звучат патетические слова директора: “Первого мая мы дадим представление не просто в новом здании цирка, а в самом лучшем в мире здании цирка! В нем мы должны показать не только новое, но и принципиально новое!” Ирина Михайловна и сама все это отлично понимает. Она уже была в новом здании и восхищалась почти всем, что там увидела. Особенно четырьмя манежами, три из которых расположены под землей. И снова мрачные мысли о новом репертуаре. Главный режиссер высказал пока лишь самые общие соображения о нем: “Новая наша программа должна быть на уровне века. На уровне нашей великолепной советской науки и техники. Короче говоря — она должна быть космической…” “Хорошо ему говорить о космическом — в его распоряжении весь цирк, — уныло думает Ирина Михайловна, всматриваясь в протертый глазок в толстой наледи окна. — Воздушных гимнастов на различных механических конструкциях, полеты их с батутов и резиновых амортизаторов можно, конечно, подать как вторжение в космос. А у меня клоуны… У них что космического? Куда устремлю я своих ковёрных?..” И усмехается невольно: “Дрессированные животные тоже, конечно, не очень космическая фактура!.. Но Анатолий Георгиевич как-нибудь справится со всем этим. Наверное, придумает что-нибудь. И я бы придумала, если бы у меня были такие клоуны, как Виталий Лазаренко или мой отец, знаменитый Балага, будь он хотя бы лет на десять помоложе…” Ирина Михайловна знает, конечно, что и для клоунов придумают что-то, если не главный режиссер, то кто-нибудь из писателей, пишущих для цирка сценарии новых программ, по ей очень досадно па себя за свою беспомощность… Но вот и ее остановка. Нужно выходить. Ого, какой свирепый мороз! Настоящая космическая стужа. Хорошо хоть, что идти недалеко. Ирина Михайловна торопливо перебегает широкое Садовое кольцо и заворачивает за угол. Ее дом третий от угла. Поскорее бы миновать двор, яростно продуваемый сквозным ветром. Поднимаясь на третий этаж, Ирина Михайловна ищет в сумочке ключ от квартиры. Осторожно открыв дверь, на цыпочках входит в коридор и нащупывает на стене выключатель. Повесив шубку и переобувшись, она идет на кухню. Сквозь стеклянную дверь соседней комнаты не видно света — отец ее Михаил Богданович и сын Илья спят, конечно. Мягко щелкает клавиш выключателя, и на кухне вспыхивает свет. Сразу же бросается в глаза тарелка, покрытая салфеткой. Рядом стакан и коробка с помадкой — любимыми конфетами Ирины Михайловны. “Это папа, конечно”, — тепло думает она об отце. С тех пор как он ушел на пенсию, в доме стала чувствоваться его заботливая рука. Ирина Михайловна зажигает газовую плиту и осторожно ставит на нее чайник. Усевшись затем за стол, она приподнимает салфетку. Ну да, конечно, это приготовленные папой бутерброды. По что это еще? Что за странная фигурка? Похожа чем-то на Буратино… Ирина Михайловна берет ее в руки и вдруг слышит отчетливо произнесенные слова: — Добрый вечер, Ирина Михайловна! Позвольте представиться — Гомункулус. Создание великого алхимика нашего времени Балаги и его внука физикуса Ильи. “Конечно же, это проделки Илюши и папы”, — догадывается Ирина Михайловна. Ее, однако, не смешит эта выдумка, а лишь вызывает чувство досады. “Зачем они устроили мне этот цирк на дому?..” — с огорчением думает она, откладывая в сторону маленького человечка и уже без прежнего аппетита принимается за бутерброды. Человечек, однако, оказывается упрямым. — Ай-яй-яй! — укоризненным голоском произносит он. — Не ожидал я этого от вас, Ирина Михайловна. Я понимаю, вы устали и хотите есть, ну так и ешьте себе на здоровье. Я ведь вам не мешаю. Прошу лишь вашего внимания, ибо мне нужно сообщить вам нечто очень важное: мой повелитель, знаменитый коверный клоун Балага, решил снова вернуться на арену. Ирина Михайловна уже не может больше спокойно слушать этого маленького наглеца. Она снова берет его в руки и внимательно осматривает со всех сторон в надежде найти какой-нибудь проводок, с помощью которого ее отец или сын Илюша ведут этот разговор. И хотя никаких проводов Ирина Михайловна не находит, она снимает туфли и в одних чулках, па цыпочках идет в соседнюю комнату, пытаясь застать их врасплох. Энергично распахивает дверь, но никого возле нее не обнаруживает. Дед и внук спят, безмятежно похрапывая. Ирина Михайловна почти не сомневается, что они лишь притворяются спящими, но окликнуть их не решается однако. — Они спят, Ирина Михайловна, — снова произносит человечек, как только возвращается она на кухню. — А я уполномочен ими вести с вами этот разговор. Вы ведь будете, наверное, пить чай? Ну, а я тем временем изложу планы вашего папаши. Почтенный Михаил Богданович Балаганов действительно решил вернуться на арену цирка. Чихал он на свой пенсионный возраст! Придется, конечно, отказаться от акробатики и, может быть, даже от реприз. Но он теперь будет мимом, подобно Марселю Марсо в его Бип-пантомиме. — Ну вот что — хватит! — сердито хлопает ладонью по столу Ирина Михайловна. — Это уже не остроумно. И она бесцеремонно хватает Гомункулуса, собираясь шнырнуть в кухонный шкаф. — Умоляю вас, погодите минутку! — пищит человечек. — Еще буквально два слова… — Нет! — неумолимо прерывает его Ирина Михайловна и бросает в темный ящик шкафа. Ей уже не хочется есть, она убирает все со стола и уходит в свою комнату. Ее муж, доктор физико-математических паук Андрей Петрович Нестеров, спит на диване. Но едва Ирина Михайловна зажигает ночник, как он открывает глаза. — Ты уже пришла, Ира? — сонно спрашивает он и смотрит на часы. — Почему так поздно? Да и вид какой-то расстроенный. — Спасибо за спектакль, — сердито говорит Ирина Михайловна. — За какой спектакль? — удивляется Андрей Петрович. — За домашний. Не сомневаюсь, что без твоего участия тут не обошлось. Все было на уровне современной кибернетики. — Да что ты в самом деле! — разводит он руками. — Какое участие? В чем?.. Голос его звучит искренне, и Ирина Михайловна решает объяснить, в чем дело. — Ай, проказники! — смеется Андрей Петрович. — Ловко придумали, и ты зря злишься. Это, конечно, Илюша — он блестящий экспериментатор. Вся техника — дело его рук. Ну, а остальное выдумал твой отец. И, знаешь, я думаю, это не только шутка. Он в самом деле снова хочет в цирк. Такие, как он, не уходят на пенсию. — Но ведь годы, — вздыхает Ирина Михайловна. — Он же буффонадный клоун, а врачи запретили ему не только сальто-мортале, но и более простые акробатические трюки. — Значит, Гомункулус сказал правду — он действительно решил стать мимом. По-моему, в наше отсутствие он уже репетирует свою новую программу, вживается в новый образ. Да и что гадать — завтра он сам, наверное, посвятит тебя в свои планы. А в это время дед с внуком шепчутся в соседней комнате. — Не переборщили ли мы, дедушка? — спрашивает Илья. — Мне кажется, мама рассердилась… — Да, может быть, — соглашается Михаил Богданович. — Но зато она теперь подготовлена к моему решению, и мне завтра легче будет с нею разговаривать. К тому же она сможет теперь оценить и возможности моего будущего партнера — Гомункулуса.2
В квартире Нестеровых Михаил Богданович встает раньше всех. Затем уже Ирина Михайловна. Андрей Петрович с Ильей обычно позволяют себе поспать еще часок. Спит ли в это утро Илья, Андрею Петровичу неизвестно. Сам он просыпается почти тотчас же, как только встает его жена. Он, правда, не произносит ни слова и даже не открывает глаза, догадываясь, что она хочет, видимо, поговорить с отцом наедине. А потом, когда Ирина уходит на кухню, он напряженно прислушивается, пытаясь уловить хоть одно слово из негромкого ее разговора с Михаилом Богдановичем. Но, так и не услышав ничего, снова засыпает. В девять часов его будит Илья: — Вставай, папа, наш дом уже пуст. — Как — пуст, а Михаил Богданович? — Дед тоже ушел куда-то. Оставил записку, чтобы завтракали без него. — Жаль, — вздыхает Андрей Петрович. — Хотелось узнать, чем кончился его разговор с твоей матерью. Илья смеется: — В наш век магнитных записей мы и так все узнаем… — Как тебе не стыдно, Илья! — хмурясь, перебивает его отец. — И ты мог подумать обо мне такое? — укоризненно качает головой Илья. — На вот, прочти. “Зная, каким любопытством будешь ты томиться, специально для тебя зафиксировал все на магнитной пленке. Вернусь только к вечеру. Идем с Гомункулусом к главрежу. Проинформируй обо всем папу. Твой дед — великий алхимик и начинающий мим”. — Ну что ж, включай тогда, — улыбается Андрей Петрович. Пока нагреваются лампы магнитофона, отец с сыном молча смотрят друг на друга, пытаясь угадать: с согласия ли Ирины Михайловны пошел Михаил Богданович в цирк или вопреки ее желанию? Но вот Илья нажимает наконец кнопку воспроизведения записи, и Андрей Петрович слышит спокойный голос жены: “Здравствуй, папа! Спасибо тебе за вчерашний спектакль”. “Ну и что ты скажешь о моем решении?” “А ты серьезно?” “Серьезнее, чем ты думаешь. Мне надоело быть домработницей”. “Только поэтому?” “Это, конечно, не главное. Не могу я без цирка…” “Но что ты теперь будешь там делать? Не те ведь годы…” “Ты же слышала от Гомункулуса — мы с ним покажем пантомиму “В лаборатории средневекового алхимика”. “И ты веришь в успех?” “Не сомневаюсь”. “А я сомневаюсь… Сомневаюсь, что ты будешь иметь такой же успех, как прежде. Ведь ты был знаменит. Во всяком случае, тебя проводили на пенсию почти как народного артиста. А теперь…” “Что — теперь? Теперь я, может быть, буду еще знаменитее, ибо чувствую, что нашел то, чего не хватало раньше, — настоящую маску, типаж, характер. Ведь я работал все эти дни… Целый год! Вы все уходили, а я тут работал. Сначала просто над техникой мима. Репетировал стильные упражнения по грамматике Этьена Декру, по которой учился Марсель Марсо. Осваивал ходьбу против ветра, передвижение под водой, перетягивание каната. Этьен Декру утверждает, что актер может своим телом выразить любые чувства. Лицо для него не играет никакой роли. Оно лишь маска. Только тело в состоянии выразить такие чувства, как голод, жажда, смерть, любовь и счастье”. “И ты поверил в это?” “Я проверил это. Вот смотри, я изображу тебе передачу новостей по радио. Покажу человека, который включил утром радио и услышал интересные новости”. Некоторое время слышится лишь легкое шипение ленты и постукивание чайной ложки о стенки стакана. Потом щелчок, будто кто-то включил радиоприемник. А спустя еще несколько секунд тихий смех Ирины Михайловны и голос Михаила Богдановича: “Ну, что? Поняла ты, что услышал человек, включивший радио? Не догадалась разве, что передавали сообщение о новом полете в космос?” “Да, папа, поняла! И признаюсь — не ожидала…” “Не ожидала?! Плохо ты знаешь своего отца. Я вырос в цирке. Вся жизнь моя прошла на его манеже. Я и родился, наверное, где-нибудь под тентом ярмарочного балагана. Ты ведь знаешь, что я подкидыш… Помнишь, рассказывал тебе, как меня подкинули коверному клоуну Бульбе, положив в его чемодан? Он и вышел с этим чемоданом на цирковую арену, не подозревая, что в нем живой ребенок. А потом так обыграл свою находку, что хохот зрителей чуть не сорвал ветхий брезент с ярмарочного балагана”. Несколько секунд слышится лишь шипение магнитной ленты, затем снова голос Михаила Богдановича: “Подкинула меня Богдану Балаганову циркачка, имя которой он не знал даже… Наверное, и она родилась в цирке, и, кто знает, сколько поколений циркачей в нашем роду? И, веришь, я горжусь этим! Обидно только, что ты не стала цирковой артисткой”. “Но ты же знаешь, папа, почему я не стала…” “Да что теперь говорить об этом!.. Но ты хоть понимаешь меня теперь? Понимаешь, что не могу я без цирка? Что возвращаюсь не для того, чтобы посрамить свое имя, а твердо веря в успех? Я ведь не только открыл в себе мима, но и приготовил свой номер. Подсказал его мне мой внук Илья. Он и сконструировал мне Гомункулуса. Он ведь очень талантлив, наш Илюша!” И тут вдруг раздаются всхлипывания Ирины Михайловны, а затем ее дрожащий от волнения голос: “Да, да, он талантлив. Вы все талантливы: он, ты и даже мой муж. Одна только я бездарность и неудачница!.. Ничего из меня не получилось, не получается и режиссера. Ничего не могу придумать, подсказать, вдохновить!..” — Может быть, выключить, папа? — робко спрашивает Илья, заметив, как волнуется отец. У него и у самого щемит сердце. Но отец лишь отрицательно качает головой и старается не смотреть в глаза сыну. Ему нестерпимо жалко Ирину, а еще более Михаила Богдановича. Не думал он, что так глубока его любовь к цирку. А из магнитофона все еще раздается его возбужденный голос: “Ты молода, Ирина. У тебя все впереди. Мы с тобой еще покажем себя! Сообща придумаем новую программу для всей нашей клоунской братии. А теперь давай-ка позавтракаем и пойдем вместе в цирк”.3
Некоторое время отец с сыном завтракают молча. Каждый по-своему переживает и оценивает услышанное. — Пожалуй, это к лучшему, что они наконец объяснились, — замечает Андрей Петрович. — Я верю в твоего деда — он умный человек, и, если действительно нашел себя в жанре мима, все будет хорошо. Маме тоже станет легче — он и ей поможет найти себя. — Но признайся, ты все-таки не очень в этом уверен? — пристально глядя в глаза отцу, допытывается Илья. — Я дедушку имею в виду, его успех в новом жанре. — Откровенно говоря — да, не очень, — неохотно признается Андрей Петрович. — В такие годы пробовать себя в совершенно новом жанре… — Почему же в совершенно новом? Я помню дедушку, когда он еще выступал. В его номерах были и мимические сцепы. — Эпизодики, а теперь на этом нужно построить целый номер. Ты видел хоть, как это у него получается? — Нет, он этого никому не показывал. Проделывал все наедине с зеркалом. Но я знал, что он репетирует новый номер. Он не скрывал этого от меня, просил только держать в тайне. Иногда советовался даже. Тогда-то я и подсказал ему идею кибернетического партнера — робота в образе фантастического Гомункулуса. А потом и сконструировал ему его. Кибернетический партнер, по-моему, — вполне в духе времени. Дедушка ведь очень начитанный, он сразу понял всю новизну такого партнера. Он, правда, хотел сначала работать в образе Мефистофеля, властвующего над душой робота, но я ему посоветовал воплотиться лучше в образ средневекового алхимика. Илья говорит все это увлеченно, почти зримо представляя себе все многообразие возможностей подсказанной деду идеи. А Андрей Петрович будто впервые замечает теперь хорошо сложенную фигуру сына, широкие плечи, крепкие руки, безукоризненную точность движений, когда он почти не глядя берет со стола посуду, ловко споласкивает ее под краном и с каким-то удивительным изяществом вытирает полотенцем. “Наверное, сказывается в этом унаследованная им сноровка и навыки многих поколений цирковых актеров, — невольно думает Андрей Петрович. — Кем была его прабабушка? Наездницей, которой приходилось сохранять равновесие и устойчивость на бешено мчащемся коне, или эквилибристкой на проволоке, балансирующей под куполом цирка? Нервы, мускулы, безупречный вестибулярный аппарат — все должно быть безукоризненным у людей этой профессии, ибо не только успех, но и сама их жизнь зависит от этого совершенства. И так из поколения в поколение. Дед его был ведь универсалом. Владел всеми жанрами циркового искусства. Мать тоже была воздушной гимнасткой и работала бы на трапеции до сих пор, если бы не сорвалась однажды во время исполнения какого-то сложнейшего апфеля — спада на качающейся трапеции со спины на носки. Упала она хотя и в сетку, но так неудачно, что врачи не разрешили ей больше работать гимнасткой… Тогда отец ее, знаменитый коверный Балага (имя это образовал он из усечения своей фамилии — Балаганов) стал обучать Ирину клоунаде. Года два была она его партнершей, а потом пошла на курсы режиссеров и вот с тех пор испытывает неудовлетворенность”. А Илья? У него от цирка только спортивная фигура да удивительно ловкие руки, столь необходимые физику-экспериментатору. Любые, самые замысловатые приборы, иной раз почти ювелирной тонкости, изготовлял он еще студентом. Есть у него и непреклонность в достижении цели, столь свойственная многим цирковым артистам. Андрею Петровичу известно это не только по своему тестю и жене, но и по судьбам их друзей. Многим из них приходилось с невероятным упорством преодолевать боязнь высоты, падать, ломать кости ног, бедер, подолгу лежать в больницах и начинать все сначала. Позавидуешь такой непоколебимости! — Вот и дедушка и мама называли меня только что талантливым, — прерывает размышления Андрея Петровича Илья, — а ты, папа? Не разделяешь их мнения или считаешь, что хвалить меня не педагогично? Я имею в виду мой эксперимент, вызвавший антигравитационный эффект. Отец долго молчит, нервно постукивая пальцами по столу. Илья терпеливо ждет, убирая посуду в кухонный шкаф. — Уж очень загадочен этот эффект, — задумчиво произносит наконец Андрей Петрович. — Подобен чуду, а я не верю в чудеса. — Ну, так давай разбираться, искать объяснения, — живо поворачивается к нему Илья. — А то ведь и сам ничего не предпринимаешь, и мне не позволяешь ничего предпринимать. — Напрасно ты так думаешь. Илюша, — укоризненно качает головой Андрей Петрович. — Я уже не первый день занимаюсь теоретическим обоснованием твоего эффекта. — Но почему же только сам? У тебя ведь нет для этого даже достаточно времени… — Не торопись, Илюша. Я не хочу, чтобы над нами смеялись. Все может оказаться подобным “Чуду в Бабьегородском переулке”. Помнишь, наверное, как на заводе “Сантехника” был достигнут коэффициент полезного действия, превышающий сто процентов? Вспомни еще и ту шумиху, которая была поднята чуть ли не во всем мире вокруг аппарата американского изобретателя Нормана Дина, якобы обосновавшего новый принцип механики, позволяющий построить летательный аппарат без использования отдачи реактивной струи. — Но ведь не все и не всё отрицали тогда в аппарате Дина. Многие считали, что достигаемый им эффект вовсе не противоречил ни одному из законов Ньютона, а лишь уточнял их. Разве мы так уж бесспорно все знаем? Это ведь в конце прошлого века, когда все казалось таким простым и доступным, лорд Кельвин мог заявить, что здание физики уже построено. Его смущали лишь два небольших облачка на ясном горизонте науки. Одним таким облачком был опыт Майкельсона, не имевший в ту пору объяснения. Вторым — катастрофическое расхождение между существовавшей тогда теорией и опытными данными, полученными при изучении теплового равновесия между нагретым телом и окружающей средой. А потом, как ты знаешь, из первого опыта родилась теория относительности, а из второго — квантовая механика. — Напрасно ты утешаешь себя этими историческими примерами, Илюша, — укоризненно покачивает головой Андрей Петрович. — Прости, папа, что я привожу эти, может быть, слишком наивные для тебя примеры, но ты не смейся надо мной… Пока не решу этой загадки, не смогу ничего больше делать. Вот уже вторую неделю я не в состоянии притронуться к своей диссертации. А то, что полученному мною эффекту нет пока объяснения, меня не расхолаживает. Ведь этот эффект — “Его величество Факт”, как сам ты любишь выражаться. — А я не уверен пока, что это действительно “Его величество Факт”, — упрямо качает головой Андрей Петрович. — Я не только старше тебя, но и опытней и знаю, как невероятно трудно в наше время, когда наука так далеко шагнула вперед, открыть что-нибудь принципиально новое. И смущает меня не то, что ты открыл это случайно, — в науке это бывало. Случай нередко даже помогал многим открытиям. Он помог Беккерелю обнаружить радиоактивность, а Рентгену — лучи, названные впоследствии его именем. Нас, однако, должно волновать сейчас не это. Нам необходимо точно знать — действительно ли перед нами “Его величество Факт”. — Ну, так поручи кому-нибудь повторить мой эксперимент! — восклицает Илья. — Я же давно прошу тебя об этом. — Если бы ты не был моим сыном, а я не был бы директором научно-исследовательского института, я так бы и поступил. Но ведь то, что ты мой сын, а я директор института — это бесспорный факт. И именно поэтому я не могу официально поручить кому-либо повторение твоего эксперимента. Не делай, пожалуйста, удивленного лица, наберись лучше немного терпения. Все тебе сейчас объясню. Я ведь говорил уже, что пытался теоретически объяснить полученный тобою эффект и не только не объяснил его, но и убедился, что при экспериментах в таких масштабах он вообще не может быть обоснован с достаточной достоверностью. Нужно, следовательно, ставить его фундаментально. А для этого необходима целая экспериментальная группа опытных научных работников, а главное — мощная энергетическая база. При отсутствии твердой уверенности, что твой эффект повторится, могу ли я пойти на такой риск сейчас, когда все мои сотрудники заняты выполнением срочных заданий Академии наук? — Но что же тогда делать? — Спокойно продолжать работу над диссертацией и терпеливо ждать более подходящего времени для проверки твоего антигравитационного эффекта. — Нет, папа, — не глядя на отца, упрямо произносит Илья. — Спокойно работать над диссертацией я больше не могу. А если ты боишься подорвать свой авторитет повторением моего опыта, я осуществлю его в необходимых масштабах где-нибудь еще… И у меня найдутся хотя и не такие опытные, как твои сотрудники, но зато более заинтересованные в успехе моего эксперимента люди.4
Михаил Богданович возвращается домой в первом часу. Он не садится в троллейбус, а идет пешком — мороз сегодня не такой жестокий, как вчера. В цирке ему было очень жарко (наверное, от волнения) и теперь хочется немного остыть, собраться с мыслями. То, что главный режиссер раскритиковал пантомиму “Средневековый алхимик”, не очень огорчает его. Может быть, и в самом деле все это старовато. “И зачем вам этот персонаж? — огорченно разводил руками главный режиссер. — Нафталинчиком от него попахивает. Жаль только вашего труда. Чувствуется, что поработали вы над этим образом немало. Очень выразительным получился ваш алхимик. Только ведь это совсем не то, что нам сейчас нужно. Очень хорошо, конечно, что вы попытались найти новый образ для клоуна, но алхимик — это ведь не комедийный персонаж. Для клоунады скорее бы подошел образ чудака профессора, этакого рассеянного ученого, типа жюльверновского Паганеля. И, знаете, — это мысль! Манеж всегда слишком уж был перенаселен людьми без определенных профессий — простаками, плутами и неудачниками, то и дело попадающими впросак. Образ профессора — это уже в духе времени. Вот и давайте подвергнем вашего средневекового алхимика скоростной эволюции, превратив его в современного доктора каких-нибудь наук”. “Ну хорошо, — робко согласился с главным режиссером Михаил Богданович. — Наверное, образ алхимика действительно не очень удачен, а сам я, как мим? Вот что для меня сейчас самое главное, Анатолий Георгиевич”. “Ну что вы спрашиваете, дорогой мой? — широко развел руки главный режиссер. — Разве вы пришли бы ко мне, не почувствовав в себе мима? Теперь можно лишь удивляться тому, что я сам не открыл его в вас раньше, чем это сделали вы. Это ведь у вас не вдруг. Вы всегда были отличным мимом. Но вы были молоды и обладали еще и талантом превосходного акробата, столь необходимым настоящему буффонадному клоуну. Вот это-то и заслоняло от меня все ваши прочие способности. А теперь, когда уже не попрыгаешь, не крутнешь сальто-мортале, не взберешься на трапецию или на батут, мы сосредоточимся на искусстве пантомимы и разовьем то, что многие годы дремало в вас. Пишите заявление и давайте работать! Будем готовить программу к открытию нового здания цирка. Раньше я вас не выпущу. Класс вашей работы должен быть не ниже, а выше того, в котором вы кончили было свою карьеру па цирковой арене”. Вспоминая теперь этот недавний разговор, Михаил Богданович невольно улыбается. Он будто помолодел лет на десять. Идет пружинящей походкой, ощущая удивительную легкость во всем теле. Кажется даже, что, если хорошенько разогнаться, можно и теперь сделать двойное сальто-мортале с пируэтом, какое делал когда-то в дни молодости, удивляя лучших мастеров акробатики. Многие из них не раз приглашали его в свои труппы. Но он оставался верен клоунаде, ибо считал, что настоящий клоун должен владеть всегли цирковыми жанрами. И он действительно мог бы работать в любой труппе акробатов-прыгунов, крафт-акробатов или акробатов-эксцентриков, если бы только захотел. По ходу сюжета клоунских антре приходилось ему совершать и полеты с трапеции на трапецию, не хуже любого вольтижера-профессионала. С немеившим мастерством крутил он на турнике и “солнце” и исполнял другие трудные номера. Наверное, он бы и сейчас смог сделать многое, но, с тех пор как у него начало пошаливать сердце, врачи запретили ему эти упражнения, а без них он не представлял себе буффонадной клоунады. Вот и пришлось уйти на пенсию… А теперь он воскрес. Не все, значит, потеряно. Он еще покажет себя! Расшевелит и Ирину. Похоже, что она совсем пала духом. Надо чем-то подбодрить ее, подсказать что-то. Но ничего, теперь сделать это будет легче, теперь они будут работать вместе. Не тревожит Михаила Богдановича и то, что главный режиссер забраковал его пантомиму. Гораздо важнее теперь для него то, что Анатолий Георгиевич не усомнился в его таланте мима. А сконструированный внуком робот может быть и не только Гомункулусом. Клоун-мим с настоящим роботом — этого ведь в цирке еще не бывало.5
Михаил Богданович ходит теперь в цирк ежедневно, хотя официально его еще не оформили. Вместе с главным режиссером и Ириной они вот уже который день продумывают новую программу клоунады. У них есть несколько сценариев, написанных профессиональными литераторами, хорошо знающими цирк, по все это кажется им не тем, чего могли ждать от них зрители нового здания цирка. Да и сами они остро ощущают необходимость чего-то совершенно небывалого в этом представлении. Новое здание цирка представляется им не только новым помещением, но и новым этапом в развитии того искусства, которому Михаил Богданович с Анатолием Георгиевичем отдали почти всю свою жизнь. Михаил Богданович думает теперь об этом и днем и ночью. Иногда ему начинает казаться, что он придумал наконец то, что нужно, и он рассказывает свой замысел Ирине, но, еще прежде чем успевает она раскрыть рот, он и сам уже осознает, что все это не то. И снова начинаются мучительные раздумья, надежды, сомнения… А дома тоже не все благополучно. Беспокоят взаимоотношения Ильи с отцом. Михаил Богданович не знает, что именно между ними произошло, но догадывается, что не все ладно. Хотел как-то спросить Ирину, потом подумал: а может быть, она не только не знает ничего, но и не догадывается даже об их разладе? И не стал ее тревожить. А когда совсем уже стало невмочь от тревоги за внука и зятя, решился поговорить с Ильей напрямик. — Что у тебя такое с отцом, Илья? Поссорились вы, что ли? — Как же поссорились, если разговариваем, — деланно удивляется Илья. — А ты со мной не хитри, — хмурится дед. — Разговаривать-то вы разговариваете, да не так, как прежде. — Да что вы, сговорились, что ли? — злится Илья. — Вчера мама, а сегодня ты учиняешь мне допрос. — Ну, вот видишь, — усмехается Михаил Богданович. — Мать тоже, значит, заметила. Стало быть, не случайны наши подозрения. Давай-ка лучше выкладывай все начистоту. Илья угрюмо молчит. Притворяться, что ничего не произошло, теперь уже нет смысла, но и рассказывать всего не хочется. Да и поймет ли дед всю сложность его отношений с отцом? А дед, догадавшись, видимо, о его сомнениях, произносит почти равнодушно: — Я тебя не заставляю, однако. Не хочешь — не надо. Я ведь и не пойму, наверное, из-за чего у вас мог произойти раздор. Разве серый цирковой клоун может понять, а тем более рассудить ученых мужей, мыслящих высокими категориями науки? — Ну что ты говоришь такое, дедушка! — бросается к Михаилу Богдановичу Илья. — Просто не хочется голову тебе морочить нашими спорами… — Спорами ли только? — щурится дед. — Я знаю, когда вы ссоритесь, поспорив из-за ваших таинственных мезонов или нуклонов. Хотя потом и не разговариваете иной раз целый день, но это все не то. Тут серьезнее что-то… Однако повторяю: не хочешь — не говори. Я тебя к этому не принуждаю. Илья осторожно сажает деда на диван. Садится с ним рядом. — Ладно, дедушка, слушай и не обижайся, что я не рассказал всего этого сам. Просто не хотелось тебя расстраивать. Знаю ведь, как близко ты принимаешь все к сердцу. А насчет того, что ты “серый” клоун и ничего в высоких материях не смыслишь — этого ты никогда мне больше не говори. Хотел бы я, чтобы все наши клоуны были такими же “серыми”, как ты. — А они и так не серые, — смеется Михаил Богданович. — Они либо рыжие, либо белые. — Знаю, знаю! — смеется теперь и Илья. — Когда в доме столько циркачей, будешь знать все это. — И, снова став серьезным, даже нахмурившись почему-то, он продолжает: — Ну, а разлад у нас с отцом вот почему: сконструировал я одно устройство для обнаружения гравитационных волн, а оно неожиданно дало почти противоположный эффект — стало порождать нечто вроде антигравитации. Понятно ли тебе, о чем я говорю, дедушка? Не обижайся только, пожалуйста, что спрашиваю тебя об этом. — Будешь теперь извиняться всякий раз, — усмехается Михаил Богданович. — Я же понимаю, что разговор у нас серьезный и все, чего не пойму, сам спрошу. О гравитации же читал кое-что в научно-популярных журналах. Может быть, сейчас что-нибудь новое есть в этой области? Мне же известно только то, что мы лока почти ничего не знаем о гравитационных полях и волнах. — Правильно, — кивает Илья. — Никаких эффектов, связанных с реальным существованием волн тяготения никто до сих пор действительно не наблюдал. Однако они были предсказаны более сорока лет назад. И мы теоретически кое-что уже знаем о них, а обнаружить пока не можем. Но ведь и электромагнитные волны теоретически были предсказаны Максвеллом почти за два десятилетия, прежде чем Генрих Герц экспериментально доказал их существование. И лишь еще через семь лет наш Попов нашел путь практического их применения… — Это ты мне не рассказывай, это я и сам знаю, — перебивает Илью Михаил Богданович, которому не терпится узнать поскорее, в чем же суть устройства, сконструированного внуком. — А ты не перебивай. Мне ведь нелегко объяснить тебе сущность моего открытия. Слушай внимательно. В чем трудность обнаружения гравитационных волн? А в том, что в формулу определения их энергии входит как коэффициент очень малая величина — так называемая гравитационная константа. Слегка задетый замечанием деда, будто он говорит ему прописные истины, Илья нарочно употребляет теперь такие выражения, как гравитационная константа, безо всяких пояснений. — Благодаря этому эффект, вызванный действием волн тяготения, неуловимо ничтожен, — продолжает он. — А для того чтобы он возрос, необходимо увеличить до космических масштабов массы колеблющихся тел, особенно же число их колебаний. И тут опять тысячи препятствий. Массы звезд, например, хотя и достаточно велики, но зато малы частоты их колебаний. А такие тела, как атомы и ядерные частицы, хотя и колеблются с достаточными частотами, но массы их ничтожны. — Ну, и как же ты выкарабкался из этих противоречий? — искренне удивляется Михаил Богданович, начиная, однако, сомневаться, действительно ли удалось его внуку что-то открыть. — А я и не стал выкарабкиваться. Пошел иным путем. Решил исходить из того, что гравитационные волны при всей ничтожности их мощности излучались ведь многие миллиарды лет. Их порождает колебание любого тела. Благодаря этому общее количество их постоянно увеличивается. В нашей метагалактике таких волн должно накопиться довольно много. За миллиарды лет ее существования происходили ведь и вспышки сверхновых звезд, и столкновения галактик, порождающие особенно большое излучение гравитационной энергии. — Но ведь энергия эта рассеяна, конечно, на огромном пространстве, — не удержавшись, замечает Михаил Богданович. — Да, на огромном, но не бесконечном, — соглашается Илья. — Во всяком случае, не далее масштабов метагалактики. Зато эта энергия или соответствующая ей масса, как полагают некоторые ученые, равняется всей обычной материи, из которой состоят звезды, планеты и космическая пыль. — Ого! — восклицает Михаил Богданович, пораженный таким неожиданным для него соотношением. — Тогда, значит, она всюду? — Да, всюду. А раз так, ее ниоткуда не нужно добывать, а следует лишь научиться генерировать. Вот я и попытался сконструировать такой генератор. Получилось, правда, не совсем то, на что я рассчитывал, но все-таки явление гравитационное или, вернее, антигравитационное. — Объясни, пожалуйста, — просит заинтригованный Михаил Богданович. — Не совсем понятно это. — Грубо говоря, произошло у меня примерно следующее, — устало закрывает глаза и сосредоточенно трет лоб Илья. — Я рассчитывал, что измерительные приборы в моей установке под воздействием гравитационных волн покажут увеличение веса, а они зарегистрировали уменьшение его. Следовательно, действуют на них силы не гравитации, а антигравитации. — Значит, ты сделал великое открытие, Илюша! — бросается обнимать внука Михаил Богданович. — Из-за чего же тогда разлад у тебя с отцом? — Ах, дедушка, не так-то все это просто! — вздыхает Илья. — Дело ведь в том, что пока все это лишь мои предположения. — Но ведь ты же не вслепую, не наугад? Ты же именно в этой области и экспериментировал? — Да, это так. Однако расхождения между результатами моего эксперимента и существующей теорией столь велики, что даже у меня возникает сомнение — антигравитация ли это. Дело ведь в том, что такой известный ученый, как Инфельд, являющийся виднейшим учеником и последователем Эйнштейна, вообще отрицает существование гравитационных волн. Но и те, кто их признает, усомнятся, конечно, в полученных мною результатах, пока я не повторю этого эксперимента в большем масштабе и с более точной измерительной аппаратурой. — Вот тут-то и должен помочь тебе отец! — возбужденно восклицает Михаил Богданович, энергично хлопая ладонью по столу. — Разве он отказывает тебе в этом? — В том-то и дело… — уныло кивает головой Илья. — И, если уж говорить по совести, в какой-то мере я его понимаю. Очень уж невероятен результат моего эксперимента. Похоже даже на шарлатанство… — Да ты что?! — хватает Михаил Богданович внука за руку. — Неужели и Андрей Петрович так думает? — Сам-то он этого не думает, но то, что именно так о результатах моего эксперимента могут подумать другие, вполне допускает. А повторить сейчас мой опыт в необходимых масштабах он, конечно, не может, не приостановив других исследований, запланированных Академией наук. К тому же я ему не посторонний, а родной сын. Поставь он мой эксперимент в ущерб другим, представляешь, что начнут говорить о нем в институте? — Да плевать ему на эти разговоры ради такого дела! — искренне возмущается Михаил Богданович. — Вот уж не ожидал я этого от Андрея Петровича… — Я бы тоже, может быть, на это плюнул, — соглашается Илья, — а он не может. Да и потом, он не очень-то уверен, что мне действительно удалось открыть новое явление природы. А без такой уверенности в его положении нельзя идти на риск. И я очень тебя прошу, дедушка, не рассказывай ты ему об этом нашем разговоре. Да и маму не расстраивай… — Ах, Илюша, — вздыхает Михаил Богданович, — плохо ты свою маму знаешь. Она, наверное, давно уже догадывается, что между вами что-то произошло. Сам же говорил, что спрашивала тебя об этом. Илья угрюмо молчит некоторое время, потом решает: — Надо, значит, помириться с отцом и успокоить ее. У мамы, кажется, и своих неприятностей хватает. Похоже, дедушка, что не ладится у нее что-то в цирке? — Да, не нашла она себя… Отличная была гимнастка, а вот режиссера из нее не получается… Ну, а ты как же? Неужели будешь терпеливо ждать, когда проверку твоего эксперимента запланируют в папином институте? — А я и не жду. Мы сами кое-что сооружаем в лаборатории университета, в котором я учился когда-то.6
С клоунами у Ирины Михайловны действительно дело не ладится. Она умеет ценить находки тех, кто их ищет, негодует на тех, кто не брезгует штампами, но сама ничего оригинального подсказать своим подопечным не может. Труднее же всего удается ей связать их разрозненные номера хотя бы в какое-нибудь подобие единого действия. И, хотя главный режиссер иногда ее хвалит, сама она относится к себе более строго. Да и Анатолий Георгиевич делает это, видимо, из чисто педагогических соображений, желая подбодрить ее, не дать окончательно потерять веру в себя. В последнее время Ирина Михайловна стала даже все чаще подумывать об уходе из цирка, хотя и искренне любила его и с удовольствием вспоминала те годы, когда работала вольтижеркой в группе воздушных гимнастов. Она и сейчас с восхищением и почти с нескрываемой завистью наблюдала репетиции воздушных гимнастов Зарнициных. Особенно нравилась ей красавица Маша. Прекрасно сложенная, изящная, она будто специально была вылеплена талантливым скульптором из очень пластичного материала. Таких совершенных пропорций Ирина Михайловна не видела еще ни у одной гимнастки. Ей казалось даже, что такого и не могло быть у живого существа. Такое мог создать только художник, поставивший своей целью изобразить идеальное человеческое тело, предназначенное для парения в воздухе. Очень артистичны и ее братья, Сергей и Алеша. Но в них не ощущается такой грации и непосредственности, как у Маши. Ирине Михайловне кажется даже, что работают они хотя и очень точно, но без души, без той радости, которую сама она испытывала всякий раз, совершая под куполом цирка пассажи и пируэты, в которых законы физики сливались с законами пластики. А какого труда стоила ей непринужденность и свобода движений в воздухе! Сколько неудач и страхов пришлось преодолеть! Лишь для того только, чтобы научиться падать в сетку, ушел у нее почти год, ибо было это сложно и небезопасно. Упав на бок, можно было сломать руку, падение на живот грозило переломом позвоночника. Сломать позвоночник можно м в том случае, если после сальто-мортале упадешь на голову. Даже упав на ноги, при отсутствии необходимого опыта, легко разбить себе не только ноги, но и нос. Безопаснее всего падать на спину, но научиться этому не так-то просто. Ее учитель, старый цирковой артист, говорил ей в те трудные годы учебы: “Падая, береги не только свои кости, но и помни все время, что на тебя смотрят сотни глаз и ты должна радовать их красотой, ловкостью и совершенством линий своего тела, не плюхайся поэтому в сетку, подобно мешку с овсом”. Она никогда теперь не забудет своего требовательного учителя. Это он научил ее математически точному расчету взаимодействия с партнерами, позволяющему после заднего сальто-мортале прийти в руки ловитору или после полуторного сальто оказаться в таком положении, когда он ловит тебя за ноги. Много труда понадобилось ей, чтобы постичь все эти тонкости и научиться летать так же свободно, как и ходить по земле, не думая, что нужно для этого делать. “Тренируйся до тех пор, пока воздух не станет для тебя таким же привычным и надежным, как и земля”, — поучал Ирину ее наставник. Наблюдая теперь за репетициями Зарнициных, Ирина Михайловна все чаще замечает, что лишь Маша проводит их с увлечением, братья же работают неохотно, будто отбывают какую-то повинность. Вот и сейчас с огорчением всматривается Ирина в их лениво раскачивающиеся красивые тела, и ей без слов понятен укоризненный взгляд их сестры. Увлеченная наблюдением за работой Зарнициных, Ирина Михайловна даже не замечает, как подходит к ней главный режиссер. — А что, если бы вам, Ирина Михайловна, — весело говорит Анатолий Георгиевич, — заняться режиссурой гимнастов? Вижу, что они вам больше по душе. — Вы это серьезно? — удивляется Ирина Михайловна. — Настолько серьезно, что даже с директором это согласовал, — смеется главный режиссер. — Тогда, если можно, воздушных гимнастов, — умоляюще смотрит на него Ирина Михайловна. — Именно воздушных. И сегодня же займитесь Зарнициными. Что-то они мне не нравятся. — Спасибо, Анатолий Георгиевич. Зарнициными я и сама хотела заняться. Они меня тоже беспокоят. Ожидая, пока Зарницины кончат репетицию, Ирина Михайловна выходит с манежа в фойе, размышляя о неожиданной перемене в своей работе. Она и раньше мечтала о режиссуре воздушных гимнастов, но ими руководил более опытный мастер. Она, однако, надеялась со временем занять его место, так как знала, что его выдвигают на другую, более ответственную работу. Наверное, вопрос этот решен уже, вот Анатолий Георгиевич и предложил ей то, чего она так жаждала. Все для нее будто преобразилось теперь в этом огромном и не очень уютном в дневную пору здании. Тот, кто видел его лишь по вечерам, когда оно залито ярким светом, полно людей, шума голосов и неустанной суеты, тому днем, при слабом освещении, все тут покажется будничным. Но сама Ирина Михайловна никогда не ощущала этого. Цирк для нее всегда был почтихрамом. Ей в нем нравилось все. Даже в те утренние часы, когда ареной завладевали сначала хищники, а потом лошади, она любила ходить по округлым коридорам фойе, прислушиваясь к глухому щелканью шамберьера дрессировщика, грозному рычанию зверей и ржанию коней. А когда после репетиции кто-нибудь из униформистов степенно прогуливал по фойе разгоряченных лошадей, Ирина Михайловна любила потрепать конские гривы, с удовольствием вдыхая острый запах пота взмыленных животных. Вечерами же, во время представлений, ей доставляло большое удовольствие наблюдать за публикой, представляющей тут такое многообразие, какого не бывает, наверное, ни в одном театре. Не требовалось большой проницательности, чтобы различить представителей самых разнообразных профессий, национальностей и возрастов. Тут были люди очень солидные, с профессорской внешностью, угадывались и молодые ученые, рабочие, служащие, колхозники. Несколько раз она замечала среди зрителей известных писателей, популярных артистов и художников. Иностранцы присутствовали на каждом представлении. И у Ирины Михайловны всегда замирало сердце, когда вся эта публика, заполняющая огромную вогнутую чашу зрительного зала, единодушно ахала или охала вдруг, пораженная ловкостью, а иногда и невероятностью совершенного трюка. И именно это долгое импульсивное “ах-х!..”, а не бурные аплодисменты, почти всегда потрясало ее до слез. Оно вырывалось против воли даже у самых сдержанных зрителей, умеющих владеть собой, скрывающих или стесняющихся публичного проявления своих чувств. И она заметила, что звучало это “ах” не всегда и не часто. Ирина Михайловна видела работу многих отличных иллюзионистов, оснащенных совершеннейшей аппаратурой. На них смотрели разинув рот, пожимали плечами, разводили руками и всегда награждали бурными аплодисментами. Может быть, кто-то даже и ахал… Но причиной такого единодушного, неудержимого “ах” всегда было совершенство человеческого тела, его почти фантастические возможности. Хотя у Ирины Михайловны и не ладилась работа с клоунами, она должна была признать, однако, что такой же успех имели иногда и их остроумные трюки. Раздумывая теперь над всем этим, она проходит несколько раз по фойе и уже собирается вернуться на манеж, как вдруг сталкивается с Машей Зарнициной. — Вот вы-то мне как раз и нужны! — обрадованно восклицает Ирина Михайловна. — Надеюсь, вы никуда не торопитесь? Ну, тогда давайте потолкуем несколько минут. Скажите мне, Маша, что такое происходит с вашими братьями? Они считают, что всё постигли, или просто ленятся? Я это не из праздного любопытства спрашиваю — меня только что вашим режиссером назначили. — Я очень этому рада, Ирина Михайловна! — искренне отзывается Маша, крепко пожимая руку своему новому режиссеру. — Вашей работой на трапеции я, еще будучи девчонкой, восхищалась… и даже завидовала. Честное слово! — Ах, Маша, не надо об этом! Все это в прошлом… — Я знаю, вы сорвались… — взволнованно и торопливо продолжает Маша, — но можно же снова… — Нет, Маша, для меня это исключено, — грустно улыбаясь, перебивает ее Ирина Михайловна. — Да теперь и поздно уже, не те годы. Ирине Михайловне неприятен этот разговор, и она хочет прервать его, но, посмотрев в восторженные глаза девушки, видимо действительно помнившей ее выступления, решается поговорить с ней откровеннее, расположить к себе. — Надеюсь, вы понимаете, Маша, как мне было нелегко в те годы. Да и сейчас… Может быть, не нужно было слушать врачей, а последовать примеру Раисы Немчинской. Она, как вы знаете, во время репетиции упала с “бамбука”. В результате — осколочный перелом локтевого сустава и три перелома таза. А потом восемь месяцев больницы и вполне обоснованные сомнения врачей в возможности возвращения ее к цирковой профессии. И все-таки она вернулась и стала одной из лучших воздушных гимнасток. А я не смогла… Не хватило силы воли. Никогда себе этого не прощу… — Но в цирк вы все-таки вернулись, а вот мои мальчики хотят уйти… Догадавшись, что Маша говорит о братьях, Ирина Михайловна удивленно восклицает: — Быть этого не может! Они же отличные артисты, с чего это вдруг взбрела им в голову такая мысль? Да они просто шутят, наверное? — Нет, не шутят, — печально качает головой Маша. — Это серьезно. Они и мне это пока еще не говорили, но я знаю — они уйдут… Из-за меня только и работают пока, понимают, что без них развалится наш номер. Они ведь знают, что без цирка я просто не смогу… — Ну что вы так разволновались, Маша? — успокаивает девушку Ирина Михайловна. — Никуда они не уйдут. Они же очень любят вас. И потом — куда им уходить? У них же нет другой профессии. — Они хотят учиться, — немного успокоившись, объясняет Маша. — Давно уже готовятся. Как только я засну, сразу же за учебники и все шепчутся, проверяя знания друг друга. А я не сплю, притворяюсь только, и все слышу. В университет они хотят, на физико-математический. — Господи, — вздыхает Ирина Михайловна. — Просто с ума все мальчишки посходили из-за этой физики! Но ничего, пусть еще попробуют сначала сдать — знаете, какие там конкурсы? — Они сдадут, — убежденно произносит Маша. — Я их знаю. Ах, если бы они с таким же рвением готовили наш новый номер, как готовятся к экзаменам в университет! — Не печальтесь, Машенька, мы что-нибудь придумаем, — ласково успокаивает ее Ирина Михайловна. — Постараемся чем-нибудь отвлечь их от физики. — Ох, едва ли! Вы еще не знаете, что такое физика. — Я-то не знаю! — смеется Ирина Михайловна. — Да у меня муж доктор физико-математических наук и сын почти кандидат тех же наук. Мало того — отец готовит новый номер с кибернетическим партнером. — Михаил Богданович? — удивляется Маша.7
Илья вот уже несколько дней ищет подходящего момента, чтобы с глазу на глаз поговорить с отцом, а когда наконец собирается начать такой разговор, неожиданно приходит дед с каким-то долговязым рыжеволосым парнем. — Андрей Петрович, Илюша, познакомьтесь, пожалуйста. Это наш цирковой художник, Юрий Елецкий. Парень смущенно протягивает огромную руку и басит, заметно окая: — Какой там художник — просто маляр. Малюю примитивные цирковые плакаты. — Ну ладно, Юра, нечего кокетничать, — сердится на него Михаил Богданович. — Вы же знаете, что талантливы, ну и не напрашивайтесь на комплименты. Парень краснеет и все больше теряется перед незнакомыми людьми, которых считает к тому же знаменитыми физиками. — Не слушайте вы, пожалуйста, Михаила Богдановича, наговаривает он на меня. Какой я талант? Митро Холло уверяет, что от моей живописи разит нафталином, а сам я — гибрид заурядного средневекового живописца с современным фотографом. Андрей Петрович удивленно переглядывается с Ильей, ничего не понимая, а Михаил Богданович поясняет: — К нам ходит творить абстрактную живопись еще один художник — Митрофан Холопов, подписывающий свои шедевры — Митро Холло. А славится этот Холло среди молодых художников не столько мастерством, сколько теоретическими обоснованиями абстракционизма. Я-то лично просто авантюристом его считаю, а вот он, — кивает Михаил Богданович на Елецкого, — робеет перед ним, стесняется своей реалистической манеры. — Зачем же робеть? — возражает Юрий. — Робеть мы перед ним не робеем, но в споре он нас сильнее, потому что мы его Репиным, а он нас Эйнштейном. Андрей Петрович, все еще не понимая, с какой целью привел Михаил Богданович этого парня, ссылается на неотложные дела и уходит в свою комнату. А заинтригованный Илья с любопытством присматривается к Елецкому. — А мы вот что давайте сделаем — чаю выпьем, — неожиданно предлагает он. — Или вы что-нибудь более крепкое предпочитаете? — вскидывает он глаза на молодого художника. — Да нет, зачем же более крепкое, — басит художник. — Чай — это самое подходящее для меня. Я волжанин, люблю чай. — Ну так мы тогда это в один миг. Ты займи чем-нибудь гостя, дедушка, а я сейчас. И он уходит на кухню, а Михаил Богданович продолжает, слегка повысив голос, чтобы его мог слышать Илья. — Этот Холло в споре с молодыми художниками, отстаивающими реализм, буквально за пояс их затыкает. Их аргументация Репиным да Суриковым и в самом деле выглядит какой-то очень уж старомодной в сравнении с его теориями, оснащенными псевдонаучной терминологией. — Зачем же псевдо, — снова возражает Елецкий. — Терминология самая настоящая, действительно научная. Я, собственно, за тем и пришел к вам, Илья Андреевич, — обращается он к Илье, вышедшему в этот момент из кухни, — чтобы вы помогли нам разобраться — какое отношение к живописи имеет теория относительности Эйнштейна. Митрофан Холопов в каком-то подвале дискуссию устраивает по этому вопросу. Там будут главным образом те, кто именует себя ультраабстракционистами. От нас же, реалистов, только Антон Мошкин да я. Соотношение примерно два к десяти. Я бы не пошел, но Антон отчаянный спорщик. Он ведь не столько художник, сколько искусствовед. — Я знаю этого паренька, — замечает Михаил Богданович, расставляя па столе чайную посуду. — Очень тщедушный на вид, но чертовски азартный. Лезет в драку, невзирая на численное превосходство этих абстракционистов. Они к нам в цирк в последнее время повадились, узрели там какую-то натуру, позволяющую им манипулировать со временем… Как это они называют. Юра? — Вводить время внутрь пространственного изображения, — произносит Елецкий. — Разрешите, я вам процитирую, как это они трактуют. Он торопливо достает блокнотик и читает: — “Практика изображения в одной картине двух различных аспектов одного и того же объекта, объединение, например, профиля и полного фаса в портрете или изображения того, что видит один глаз, смотря прямо, а другой — сбоку, означает введение времени внутрь пространственного изображения”. Видите, как это у них закручено? Антон Мошкин утверждает, правда, будто вся премудрость эта позаимствована Холоповым из статьи одного английского историка искусств. — А Холопов ни за что не хочет признаться, — добавляет Михаил Богданович, — что мысли эти позаимствовал у кого-то, и Антона этого прямо-таки заплевал. Надо же еще, чтобы фамилия у него была такая — Мошкин. А они его иначе, как Букашкин, и не называют. В общем, Илюша, должен ты им, Юре и Антону, помочь — пойти на эту дискуссию и разоблачить их спекуляцию теорией относительности Эйнштейна. — Я же не специалист по эстетике, — смущенно пожимает плечами Илья. — Может быть, кого-нибудь другого?.. — А им и не нужен специалист по эстетике, — прерывает внука Михаил Богданович. — По этой части Антон и сам с ними расправится. А в физике они его сильней. Этот Митро Холло па физико-математическом ведь учился и вот щеголяет теперь физической терминологией, дурит людям головы. Илья хотя и очень сочувствует Юрию и Антону, но не сразу соглашается принять их предложение. К Юре он, однако, проникается все большей симпатией. Немного привыкнув к незнакомой обстановке, Елецкий становится теперь разговорчивее и представляется ему уже не таким замкнутым и молчаливым, каким показался поначалу. — Следует, пожалуй, раскрыть тебе один секрет, объясняющий особый накал их споров, — продолжает Михаил Богданович неожиданно интимным тоном. — Вы только не обижайтесь на меня за это, Юра. Это я для пользы дела, — обращается он к Елецкому. Молодой художник заметно краснеет и делает Михаилу Богдановичу какие-то знаки, но тот даже не смотрит на него. — Главная-то причина тут в Маше, в замечательной нашей гимнастке и милейшей девушке. И дело, конечно, не в том, что именно ее они рисуют “методом введения времени внутрь пространственного изображения”, а в том. что все они влюблены в нее. В том числе и Митрофан Холопов с Юрой. Более того, скажу тебе — серьезнее всех влюблен в нее Юра. — Ну что вы, право, Михаил Богданович!.. — умоляюще простирает к нему руки совершенно пунцовый художник. — Помолчите, Юра! — сердито машет на него Михаил Богданович. — Для того чтобы выиграть бой в берлоге этого Холло, Илье нужно знать, что он будет бороться там не только за правое дело, но и за душу девушки, которую пытаются одурманить эти абстракционисты. Вся эта дискуссия затеяна ими специально ведь для нее, а Юрий с Антоном приглашены туда лишь для посрамления. Ну так как, Илья? Илья протягивает руку Юрию и произносит всего лишь одно слово: — Когда? — Завтра вечером. — Бросаю все дела и сегодня же начинаю готовиться к этой баталии! Ирина Михайловна приходит домой в заметно приподнятом настроении. — Что это вид у тебя сегодня необычно бодрый? — удивленно всматривается в нее Михаил Богданович. — А потому, что от клоунов твоих наконец-то избавилась, — смеется Ирина Михайловна. — Буду теперь заниматься с воздушными гимнастами. Как тебе нравятся Зарницины? — Талантливые, но без огонька. Чего-то у них не хватает. Если бы не Маша, не иметь бы им никакого успеха. — Согласна с тобой. Зато Маша просто прелесть! Из нее со временем большая артистка выйдет. — Это о какой Маше вы говорите? — с любопытством спрашивает Илья. — Не о той ли самой? — О той, — смеется Михаил Богданович. — Ты очень давно в цирке не был, а тебе надо было бы на нее посмотреть. — А вот завтра и посмотрю. — Не знаю, как она будет выглядеть там, в подземелье. Ее в цирке, в воздушном полете нужно увидеть. — О чем это вы? — удивленно смотрит на них Ирина Михайловна. — О завтрашней баталии, — смеется Михаил Богданович. — Живописцы завтра будут кисти ломать в честь нашей Маши. — Ах, эти абстракционисты! — пренебрежительно машет рукой Ирина Михайловна. — А противником их будет опять один бесстрашный Антон Мошкин? — На сен раз еще и твой сын Илья.8
Подвал Холло оказывается почти на самой окраине Москвы. Михаил Богданович с Ильей едут туда сначала на метро, затем на троллейбусе и, наконец, на трамвае. Дорогой старый клоун внушает внуку: — Ты не стесняйся в выражениях. Я совершенно убежден, что это не столько бездарности, сколько авантюристы. А Юра Елецкий просто феноменально талантлив. Видел бы ты, как он Машу рисует! Не только не глядя на нее, но и на бумагу даже. Буквально с закрытыми глазами. И ведь что досадно — стесняется он этого удивительного своего мастерства. Просто чудовищно! Потому-то с особенной яростью нужно бить этих смущающих его мазил-абстракционистов. Михаил Богданович почти в ярости. На него с опаской начинают посматривать окружающие, а Илья то и дело толкает его в бок: — Хватит тебе, дедушка! Ну, что ты так!.. У меня и у самого руки чешутся намять им бока. Жаль только, что я лишь физику хорошо знаю, а надо бы еще и живопись. — Какую живопись? Да они вообще никакой живописи не признают. Не смен и заикаться там ни о Леонардо да Винчи, ни о Репине. Все дело только испортишь. На смех они тебя поднимут, сочтут за дикаря. Их надо бить только теорией относительности и квантовой механикой. Всех этих премудростей мн01ие из них хотя и не понимают, но уважают. И не потому, что это последнее слово науки, а потому, что модно. Вот ты и уличи их в невежестве. Они выходят из трамвая почти на конечной остановке. Долго расспрашивают, как пройти па нужную им улицу. Потом идут какими-то кривыми переулками, то и дело сбиваясь с пути. Кругом сплошная темень. Сквозь толстые наледи на окнах лишь кое-где сочится тусклый, ничего не освещающий свет. Под уличными фонарями лежат бесформенные грязно-желтые пятна, лениво перекатываясь с боку на бок в такт покачиванию фонарей. — Картинка в типично абстрактном стиле, — смеется Михаил Богданович. — Из такой натуры даже Рембрандт ничего бы не смог выжать. А абстракционисты назвали бы ее каким-нибудь континуумом или диффузной матерней. — Ты еще способен шутить, дедушка, — мрачно отзывается Илья, — а мне все время кажется, что нас вот-вот огреют чем-нибудь весьма материальным по голове. — От этих ультрановых представителей живописи и ваяния все можно ожидать, — охотно соглашается с ним Михаил Богданович и вдруг резко шарахается в сторону — перед ними вырастает темная фигура. — Да вы не бойтесь, это я — Юрий, — слышат они знакомый голос. — Специально поджидаю вас тут. — Ну и напугали же вы меня! — облегченно смеется Михаил Богданович. — Я уж и голову в плечи вобрал, ожидая удара. А эти гангстеры кисти собрались уже? — Все в сборе. — А Маша? — И Маша. — Да как же она решилась прийти сюда, в эту преисподнюю? — удивляется Илья. — Она храбрая, — не без гордости за Машу произносит Юрий. — К тому же она с братьями. — Как, и братья ее тоже тут? — удивляется теперь уже Михаил Богданович. — Они еще больше Маши сегодняшней дискуссией заинтересованы. — С чего это вдруг? — Влюблены в физику. — Этого только не хватало! — всплескивает руками Михаил Богданович. — Они же отличные гимнасты — зачем им физика? Не эти ли ультра им головы вскружили? — Нет, тут дело серьезнее, — убежденно заявляет Елецкий. — Они ведь все время что-нибудь изобретают. Ломают сейчас голову над тем, чтобы избавиться от лонжей и предохранительных сеток. — Как же это собираются они сделать? — заинтересовывается Илья. — С помощью какой-то системы мощных электромагнитов. Пойдемте, однако, пора уже. Это тут вот, за углом. Осторожнее только — здесь сам черт может голову сломать. — А чего их занесло в такую дыру? — спрашивает Михаил Богданович, спотыкаясь о что-то. — Не было разве какого-нибудь подвала поближе? — Не знаю. Может быть, и не было, только они могли и нарочно. Вот сюда, пожалуйста. Вниз по ступенькам. — В самом деле, значит, подвал, — ворчит Михаил Богданович. — Я думал, он у них условный. — Подвал-то как раз безусловный, условное все остальное. Дайте-ка руку, Михаил Богданович, я помогу вам спуститься. — Да вы за кого меня принимаете, Юра? Забыли, наверное, что я старый клоун-акробат. А эти ультра могли бы хоть какую-нибудь паршивую лампочку повесить. К удивлению Михаила Богдановича, Илья спускается по шатким ступенькам раньше всех и широко распахивает двери перед дедом. В помещении, похожем на предбанник, полумрак, но из внутренней, неплотно прикрытой двери лучится яркий свет. Слышатся оживленные голоса. — Ну, слава те господи! — облегченно вздыхая, шутливо крестится Михаил Богданович. — Преисподняя, кажись, позади. В просторном, совсем не похожем на подвал помещении, очень светло. Стены его увешаны какими-то, напоминающими образцы модных обоев картинами. Но Илье не это бросается в глаза и даже не то, что тут довольно людно, а единственная девушка в светло-сером платье, видимо специально посаженная в центре “подвала”. Илья не замечает в ней ничего удивительного и даже красоты ее, о которой столько наслышался. Поражает его ее взгляд, устремленный на братьев. Она будто говорит им: “Смотрите же, мальчики, вот оно какое это ультрамодное искусство, вдохновленное обожаемой вами физикой!” А в том, что эти стройные молодые люди, сидящие на подоконнике, ее братья, у Ильи не возникает никаких сомнений, так же, как и в том, что стоящий у стола невысокий, худощавый и очень бледный парень — Антон Мошкин. Все остальные сидят на полу полукольцом вокруг Маши. В комнате, кроме стула Маши, вообще нет больше ничего, на чем можно было бы сидеть. Почти все абстракционисты бородаты. Многие острижены под машинку. Вихраст только один — Митро Холло, здоровенный чернобородый детина. На нем клетчатая байковая рубаха с расстегнутым воротом, узкие брючки, типа “техасских”. “Мог бы одеться и пооригинальнее”, — невольно усмехаясь, думает о нем Илья. Он не ожидал от главаря этих “ультра” такой дешевки. — Ну что ж, сеньоры, — развязно произносит Холло, поднимаясь с пола, — начнем, пожалуй. Кворум полный. Никто ни с кем не здоровается, никто никого не знакомит, только Маша легонько кивает Михаилу Богдановичу, бросив украдкой любопытный взгляд на Илью. Вся остальная братия Митро Холло продолжает сидеть на полу. — Ну-с, кто хочет слова? Вот вы, например, мсье Букашкин? — обращается Холло к Мошкину. — Почему бы вам не попробовать покритиковать нас с позиции дряхлеющего реализма? — А что, собственно, критиковать? — с деланным равнодушием спрашивает Антон. — Что-то я не вижу перед собой произведений искусства. — Протрите-ка глазки, детка!.. — басит кто-то с пола. — Спокойствие, господа, — простирает руки Холло. — Разве вы не понимаете, что это всего лишь полемический прием? Товарищ Букашкин отлично видит, что перед ним портреты прелестной гимнастки, сработанные в стиле абстрактного восприятия вещества и пространства. — Вы, конечно, не случайно назвали эту мазню портретами гимнастки, а не портретами Маши, — усмехается Антон. — Ибо Маша — это нечто конкретное, и настолько конкретное, что вы просто не в состоянии его изобразить. А гимнастка — это, по-вашему, уже абстракция. Тут вы в своей стихии, ибо любой штрих на любом фоне можете объявить “пространством, непрерывностью и временем”, как это сделал художник Паризо, изобразивший на желтом фоне коричневые палочки. Опять кто-то из бородачей начинает басить, но Холло грозно шипит па него, так и сияя весь от предвкушения расправы с Антоном Мошкиным. — Я умышленно привожу вам примеры, с позволения сказать, живописи в вашей излюбленной манере, в духе пространственно-временного континуума. — Ну и что же? — нагло таращит глаза Холло. — Что вы хотите этим сказать? Да ничего, видимо, кроме собственного невежества. Вы ведь все еще мыслите категориями прошлого века и смотрите на мир глазами человека, знакомого лишь с геометрией Эвклида, и понятия, наверное, не имеете о геометрии Лобачевского — Римана. Забываете или не знаете о том, что до Эйнштейна не учитывалось изменение событий во времени и отрицалась его четырехмерность. Илью так и подмывает вступить в бой, по он сдерживает себя, давая возможность парировать первые удары Холло Антону, которого он уже оценил как достойного своего соратника. По всему чувствуется, что бой будет жарким, нужно, значит, беречь силы. — Мы уже знакомы с вашей манерой спекулировать отдельными положениями теории относительности Эйнштейна, — спокойно возражает своему оппоненту Антон. — Да это и не ваша заслуга. Реакционная буржуазная эстетика давно уже хватается за эту теорию. А привлекает она ее вовсе не научной ценностью открытий и не строгой стройностью доказательств, а влияющей на обывателей сенсационностью. Им кажется ведь, будто теория относительности опрокидывает все прежние представления о времени и пространстве. А этого им вполне достаточно, чтобы расправиться с реалистическим искусством, изображающим события в определенный момент времени и в реальном пространстве. — А вы не занимайтесь демагогией, — выкрикивает кто-то из “ультра”. — Вы докажите, что же именно Эйнштейн имел в виду своей теорией. — Да что же тут доказывать? — взмахивает вдруг рукой старший брат Маши, Сергей. — В средней-то школе вы учились ли? Должны знать тогда, что теория относительности вовсе не отрицает классической физики. Она лишь исследует более сложные явления, связанные со скоростями, близкими к скорости света. — Подкрепи же и ты его чем-нибудь, — толкает внука локтем в бок Михаил Богданович. Но, прежде чем Илья успевает раскрыть рот, в бой вступает второй брат Маши, Алеша: — И вообще, читал ли кто-нибудь из вас Эйнштейна? — простодушно спрашивает он. — А сами-то вы читали? — хихикает какой-то бородач. — Кое-что читал. Потому и знаю, что теория относительности не разрушает классической физики, а позволяет оценивать старые понятия с более глубокой точки зрения. — Вот за это-то мы и боремся! — восклицает Холло. — Мы тоже за оценку старых понятий с более современных позиций. А старые понятия не учитывали ведь вращения Земли и изменения в связи с этим течения времени. — А каковы же эти изменения? — спрашивает наконец Илья, начавший уже было опасаться, что с этим “ультра” расправятся и без пего. — Какие бы ни были, но они есть, — неопределенно отвечает Холло. — А надо бы знать, какие именно, — вставляет и Михаил Богданович. Все “ультра”, как по команде, поворачиваются к своему идеологу, а он угрюмо молчит. — А ведь вы па физико-математическом учились, могли бы и знать, — укоризненно качает головой Михаил Богданович. — Да он знает, конечно! — выкрикивает Антон Мошкин. — Ему просто невыгодно называть эти цифры. — А цифры таковы, — продолжает Илья. — Земля наша вращается вокруг своей оси со скоростью ноль целых четыреста шестьдесят три тысячных километра в секунду и движется по орбите вокруг Солнца со скоростью тридцати километров в секунду. И даже скорость обращения Солнца со всеми его планетами вокруг центра Галактики не превышает двухсот сорока километров в секунду. А течение времени начинает заметно сказываться лишь при скоростях, близких к тремстам километрам в секунду. Бородачи смущенно ежатся, а Митро Холло все еще не теряет надежды одержать победу. — Ну, а то, что по Эйнштейну пространство искривлено, — спрашивает он, — вы тоже будете отрицать? — И не собираемся, — спокойно покачивает головой Илья. — Установленная Эйнштейном связь между тяготением и геометрией мира подтверждена экспериментально. — Из этого не значит, однако, что вы имеете право уродовать человеческие тела и корежить натюрморты! — выкрикивает Антон Мошкин. — Почему же, если факт искривления пространства подтвержден экспериментом? — усмехается Холло. — В наше время только метафизики изображают пространство прямыми линиями. — А вы знаете, каково это искривление прямых линий в природе? — спрашивает Илья. — В настоящее время совершенно точно установлено, что световые лучи, испускаемые звездами, проходя мимо Солнца, искривляются лишь на ноль целых восемьдесят семь сотых угловой секунды. К тому же эта кривизна, составляющая менее одной угловой минуты, сказывается лишь при длине луча, равной примерно ста пятидесяти миллионам километров. А каковы размеры вашей натуры? Кое-кто из “ультра” смущенно хихикает, уже без прежнего почтения поглядывая на своего вдохновителя. — В стане врагов явное смятение, — шепчет Илье Михаил Богданович. — Пора наносить им решающий удар. — Давайте уж поговорим теперь начистоту, товарищ Митрофанов, — решительно выступает вперед Илья. — Не Митрофанов, а Холопов Митрофан, — поправляет его кто-то из соратников Холло. — Прошу прощения, товарищ Холопов, — извиняется Илья. — Ну, так вот, давайте-ка поговорим начистоту, как физик с физиком. Разве же вы не понимаете, что, для того чтобы иметь основание применять в живописи эйнштейновскую трактовку пространства и времени, нужно предположить, что объектами вашей живописи являются тела, движущиеся со скоростью света. Либо допустить, что сами вы движетесь к своей натуре с такой скоростью. — А это явный абсурд! — запальчиво восклицает Сергей Зарницин. — Теория относительности рассматривает ведь скорость света как предельную даже для элементарных частиц. А для таких макротел, какими являются люди, она вообще не достижима. — Но допустим, однако, возможность такого движения художника к его натуре или наоборот — натуры к художнику, — спокойно продолжает свое рассуждение Илья. — Что же тогда произойдет? А произойдет то, что и объект произведения и его творец, сокращаясь в направлении своего движения, просто перестанут существовать друг для друга как протяженные тела, согласно законам той самой теории относительности, на которую вы так опрометчиво ссылаетесь. Теперь смеются уже все абстракционисты. Растерянно улыбается и сам Холло.9
Маша плохо спит эту ночь. Ей снятся изуродованные человеческие тела, лица, скомканные необозримые пространства, чудовищные галактики, излучающие диковинно искривленные лучи. Лишь изредка мелькают нормальные человеческие лица и среди них строгий профиль Ильи Нестерова. У абстракционистов она видела его впервые, и он запомнился ей. И, как ни странно, во сне она разглядела его лучше, чем тогда в подвале. Он очень похож на мать, Ирину Михайловну. Такой же энергичный профиль и красивые глаза. А густые брови — это у него, видимо, от деда, Михаила Богдановича… Проснувшись, Маша думает, что уже утро, но из-под дверей комнаты братьев сочится электрический свет — значит, это еще ночь и они сидят за своими книгами или шепчутся, обмениваясь впечатлениями от схватки с абстракционистами. Надо бы пойти заставить их потушить свет и лечь спать, но у нее нет сил подняться с дивана. Она чувствует себя такой усталой, будто весь день провела на изнурительной репетиции. Да и просыпается она только на несколько мгновений и тут же снова засыпает. Лишь проснувшись в третий раз и снова увидев свет под дверью комнаты братьев, она поднимается наконец и идет к ним, полагая, что они давно уже спят, забыв выключить электричество. Она бесшумно открывает дверь, чтобы не разбудить их, и с удивлением видит братьев сидящими за столом в пижамах и с такими перепуганными лицами, будто она застала их на месте преступления. — Ну, куда это годится, мальчишки! — строго говорит она. — Уж утро скоро, наверное… — Что ты, Маша, какое утро! Всего час ночи, и мы как раз собирались лечь. Она недоверчиво смотрит на часы и укоризненно качает головой. — Не час, а второй час, а впереди, сами знаете, какой день. Но раз уж вы не спите, давайте поговорим серьезно. Маша хмурится и неестественно долго завязывает пояс халата. Братья угрюмо молчат. — Я ведь все знаю, — продолжает она наконец, садясь между ними и положив им руки па плечи. — Особенно почувствовала это на дискуссии с абстракционистами. Но и раньше знала, чем вы бредите. Надо, значит, решать, как быть дальше. А так больше нельзя… — О чем ты, Маша? — робко спрашивает Алеша. — Вы же сами знаете о чем. И не будем больше притворяться друг перед другом. Раз вы не можете без вашей физики — а теперь я вижу, что вы действительно без нее не можете, — надо бросать цирк и поступать в университет. — Да что ты. Маша!.. — восклицают оба брата разом. Но она закрывает им рты ладонями своих еще теплых после постели рук. — Только не оправдывайтесь, ради бога, и не жалейте меня. Ужасно не люблю этого. Я же хорошо знаю, о чем вы сейчас думаете. Вспоминаете, наверное, как мы остались без матери — отца-то вы, наверное, вообще не помните, — как я заменила вам се, как… ну, да, в общем, я все понимаю, и незачем все это. — Ты прости нас, Маша, — смущается старший брат. — Нам действительно давно нужно было поговорить. Мы как раз только что снова все взвешивали, и ты сама должна понять, как все это нам нелегко… — Да что тут нелегкого-то? — деланно смеется Маша, прекрасно понимая, как им в самом деле нелегко. — Ты сама же предложила поговорить серьезно, — робко замечает младший, Алеша. — Вот и давай… Зачем, ты думаешь, мы на физико-математический? Помнишь, наверное, наше изобретательство? — Еще бы! — усмехается Маша. — С тех пор еще помню, когда вы мальчишками были. Только я думала, что вы этим уже переболели. — А усовершенствование нашей аппаратуры? — Ну, это другое дело. Это уже серьезно. Но не получилось ведь пока ничего существенного. — А почему? — взволнованно хватает Машу за руку Сергей. — Задумали очень серьезное, а знаний для этого… Ну, в общем, ты сама должна понимать. — Так зачем же вы тогда на физико-математический? — удивляется Маша. — Вам бы в какой-нибудь технический, на конструкторское отделение. — Ну что ты равняешь технический с физико-математическим! — почти с негодованием восклицает Алеша. — В технике возможно лишь усовершенствование существующего, а в физике — не только все новое, но и почти невероятное. — Ну, как знаете, — уныло произносит Маша. — Вам это виднее… — Но ты не думай, что мы тебя бросим, — пытается утешить ее Алеша. — Мы пока только на заочный… — Нет, мальчики, я с вами все равно уже больше не смогу, раз у вас все мысли за пределами цирка, — печально качает головой Маша. — Объясни, почему? — хмурится Сергей. — Я же объяснила: потому, что вы уже не со мной. Потому, что работаете без души, как автоматы. И ждете не дождетесь, когда кончится репетиция, чтобы засесть за учебники физики. А в цирке надо репетировать и репетировать, шлифовать и шлифовать каждое движение. Ирина Михайловна мне вчера сказала, что воздушным гимнастам нужно тренироваться до тех пор, пока воздух не станет для них таким же надежным, как и земля. А это значит, что тренироваться надо все время, каждый свободный час, каждую минуту. Но ведь вы так не сможете… И не делайте, пожалуйста, протестующих жестов! Привычные прежде слова: “Внимание! Время! Пошел! Швунг! Сальто!” — наверное, звучат теперь для вас, как удары бича… — Ну что ты, Маша! — делает протестующий жест Алеша. — Мы по-прежнему любим… — Ничего вы больше не любите здесь! — уже не сдерживая досады, энергично машет рукой Маша. — Но я вас не виню, давайте только договоримся, что работать со мной вы будете лишь до осени, а потом уйдете в университет. А я тем временем подготовлю новый номер. Мне обещает помочь в этом Ирина Михайловна. А теперь, мальчики, идемте спать! Спокойной вам ночи! И она уходит, притворяясь совершенно спокойной, а потом плачет всю ночь, спрятав голову под подушку.10
А на другой день братья Зарницины репетируют свой номер с таким рвением, что Ирина Михайловна только диву дается. Улучив подходящий момент, она спрашивает у Маши: — Что это с ними такое? — Состоялся откровенный разговор сегодня ночью. — И вы переубедили их? Они не уйдут от нас? — Уйти-то уйдут, наверное, но до ухода будут стараться заслужить мою и вашу похвалу. — Значит, сольный номер нужно все-таки готовить? — Да, придется… А в обеденный перерыв, воспользовавшись отсутствием Маши, Михаил Богданович уводит братьев из столовой на улицу и долго прогуливается с ними по бульвару. — Вот что я вам скажу, ребята, — взяв их под руки, говорит он. — Зря вы задумали бегство. Не обижайтесь на меня, старого циркача, но я расцениваю это как дезертирство. — Да откуда вы взяли, Михаил Богданович, что мы собираемся сбежать? — притворно удивляются братья. — Кто вам это сказал? — Стоит только посмотреть, как вы стали работать в последнее время, чтобы и самому обо всем догадаться. И нашли когда сбегать! Да ведь сейчас только и начнется настоящая-то работа! В новое здание скоро будем перебираться. Нигде в мире нет еще такого. Четыре арены! Но нам нужно не только новое здание. Все должно быть новым! В стране такая техника, а у нас почти все по старинке. — А что же можно придумать нового? — без особого энтузиазма спрашивает Сергей Зарницин, догадавшись, что Михаил Богданович завел этот разговор для того только, чтобы отговорить их от ухода из цирка. — Да черт знает что! — возбужденно восклицает старый клоун. — Надо только с толком использовать кибернетику, современную оптику, стереофонический звук. Я, например, уже готовлю номер с кибернетическим партнером. По части оптики можно тоже придумать что-нибудь вроде “Латерны магики” и панорамного кино. А у вас, воздушных гимнастов, что за хозяйство? Почти во всех новых аттракционах главенствует металл. Механическая аппаратура буквально заслоняет живого человека, превращает его в свой придаток. — Но ведь вы же знаете, Михаил Богданович, что мы давно уже думаем об этом, — смущенно произносит Алеша. — Придумали даже кое-что для упрощения креплений ловиторок и трапеций. — А теперь с электромагнитами экспериментируем, — торопливо добавляет Сергей. — Пытаемся с их помощью избавиться от сложной аппаратуры и даже уменьшить собственный вес. Нелегкое это дело, однако. Да и знаний не хватает… — А почему же вы не обратились за помощью к сведущим людям? — удивляется Михаил Богданович. — Обращались, — вздыхает Алеша. — Говорят, что это не реально. А по-моему, их просто не волнуют наши заботы. Подумаешь, проблема — удлинить полет цирковых гимнастов! Но нас это не остановит. Мы добьемся того, чтобы не только нашу, но и другую цирковую аппаратуру свести на нет. А то ведь иной раз из-за нее зрители просто не в состоянии оценить нашего исполнительского мастерства. — Бывает и наоборот, — усмехается Сергей, — сложная аппаратура служит прикрытием профессиональной слабости некоторых исполнителей. — Конечно же! — обрадованно восклицает Михаил Богданович, довольный, что ему удалось наконец расшевелить братьев, втянуть в разговор. — Вот и надо в новом здании цирка повести борьбу с такой аппаратурой, свести ее к минимуму, чтобы иметь возможность демонстрировать главное — силу, ловкость и смелость. Я бы повел борьбу и с предохранительными лонжами даже в тех случаях, когда воздушные гимнасты работают без сеток. — Но ведь не разрешат же, — с сомнением покачивает головой Алеша. — Разрешат, если найти другие предохранительные средства. А то ведь эти тросики на поясах гимнастов, как вы их ни маскируй, все равно заметны. И хоть они на крайний случаи, а впечатление создается такое, будто мы все время на помочах или на ниточках, как марионетки. Совсем будто бы исключен элемент риска. А ведь Анатолий Васильевич Луначарский называл нас “специалистами отваги”. “Конечно, — говорил он, — чудовищно приучать публику к азарту путем головоломного риска человека своей жизнью, что часто имеет место. Но значило бы лишить цирк части его мужественного сердца, если бы отнять у него блестящих представителей, специалистов отваги”. — Ах, как здорово! — невольно восклицает Алеша и мечтательно повторяет: — “Специалисты отваги”! Но как же, однако, сделать так, чтобы избавиться от аппаратуры? Как совершать прыжки без подкидных досок, полеты без трапеций? — Надо думать, — усмехается Михаил Богданович. — Использовать те законы механики и физики, которые позволили бы нам сделать пространство упругим, пружинящим, как трамплин или батут. — Легко сказать, — пожимает плечами Сергей. — Такого пространства пока не существует. — Значит, нужно создать его искусственно. И если не упругое, то, наоборот, — невесомое, с отсутствием поля тяжести, в котором можно было бы совершать прыжки, не гасимые силами тяготения. Вы ведь и сами мечтаете об этом. Более того, скажу вам, — такое пространство уже существует. Пораженные услышанным, братья невольно останавливаются. Пристально всматриваются в лицо Михаила Богдановича. Пытаются угадать по его выражению — шутит он или говорит серьезно? — Что, не верится? — хитро щурясь, спрашивает старый клоун. — Даже не представляете себе, как его можно создать? А еще мечтаете стать физиками! Ну да ладно, не буду вас томить, открою секрет — такое пространство создал мой внук Илья, с которым я познакомил вас у абстракционистов. Он сконструировал аппарат, вызывающий явление антигравитации. Представляете, что это такое? Не очень? Я тоже не очень это представляю. Мало того, сам экспериментатор лишь предполагает, что эго антигравитация. Но факт, или, как мой зять говорит, “Его величество Факт”, налицо: аппарат моего внука рождает какую-то энергию, которая существенно уменьшает вес материальных тел. Поняли вы что-нибудь из того, что я вам наговорил? Братья смущенно улыбаются. В глазах их нескрываемое любопытство. Чувствуется, что рассказ Михаила Богдановича очень их заинтриговал. — Ужасно все это интересно! — восторженно произносит наконец Алеша. — Однако очень уж невероятно. — Невероятно, но факт! — смеется Михаил Богданович. — И вот мелькнула у меня идея, ребята, — создать такое антигравитационное пространство у нас на манеже! Оно ведь уменьшит вес гимнастов, наверное, почти вдвое. И тогда… — О! — нетерпеливо перебивает Михаила Богдановича Алеша. — Тогда с помощью одной только подкидной доски можно будет взлететь под самый купол безо всяких иных приспособлений! — И не только это! — горячо подхватывает Сергей. — Потеряв часть веса, полет наших тел замедлится, будет более плавным, а мускульная сила останется прежней. Это даст возможность при перелете с трапеции на трапецию или с подкидной доски на трапецию делать гораздо больше акробатических трюков. И даже какие-нибудь иные, физически не осуществимые в нормальном поле тяготения. — А проблема лонжей? — лукаво подмигивает братьям Зарнициным Михаил Богданович, радуясь их энтузиазму. — Она ведь отпадает сама собой. С потерей веса замедлится и скорость падения, и оно уже не будет грозить увечьем натренированному гимнасту. — Да ведь это же даст нам прямо-таки сказочную возможность! Вот когда покажем мы все совершенство человеческого тела, освобожденного от аппаратуры и паутины лонжей!.. — захлебывается от восторга Алеша. — Вы даже представить себе не можете, ребята, как я рад, что это вас захватило, — откровенно признается Михаил Богданович. — И вы поймете, конечно, как нелегко мне вылить теперь на ваши головы ушат холодной воды. Братья снова, как по команде, останавливаются и оторопело смотрят на Михаила Богдановича. — Да, да, ребята, — грустно подтверждает старый клоун. — Мне действительно нужно это сделать, ибо все, что я вам рассказал, в значительной мере — моя фантазия. Нет-нет, Илюша на самом деле открыл это удивительное явление! Но дальше пойдет очень много всяческих “но”. Антигравитационное пространство действительно существует, но в условиях лабораторного опыта. Илья допускает, что можно построить и большую установку, но не имеет такой возможности. Его отец, директор научно-исследовательского института, мог бы поставить этот эксперимент в необходимом масштабе, но и он вынужден пока повременить с этим. В общем, таких “но” еще немало. — Зачем же вы тогда рассказали нам все это, Михаил Богданович? — укоризненно произносит Алеша Зарницин. — Душу только растравили… — А к тому рассказал, друг мой Алеша, что есть и еще одно “но”. В академических условиях поставить этот эксперимент пока действительно невозможно, но… Тут Михаил Богданович делает паузу и улыбается. — Да не томите же вы нас!.. — нетерпеливо дергает его за рукав пальтоСергей. — Но есть возможность осуществить его у нас в цирке. Да-да, я не шучу! В новом помещении мы будем располагать значительно большими материальными и энергетическими возможностями. К тому же у нас там будет, наконец, свое конструкторское бюро и даже экспериментальная база. Надо только заинтересовать дирекцию и Илью. — Как, и Илью тоже? — удивляется Алеша. — А сам он разве не заинтересован в этом? — Да, и Илью тоже, ибо он об этом просто ничего еще не знает и неизвестно, как еще к этому отнесется. Вот тут-то и нужна мне ваша помощь. — Наша помощь? — Да, именно ваша помощь. От вас зависит, чтобы он загорелся желанием поставить свой эксперименте цирке. Понял, наконец, что это даст цирку. А для этого вы должны, во-первых, показать ему класс своей работы на манеже. Во-вторых, тщательно продумать, какие трюки смогли бы вы осуществить в пониженном поле тяготения. Нарисовать ему контуры той сказки, той феерии, которую смогли бы вы осуществить на манеже в условиях невесомости. Привлеките для этого Юру Елецкого, пусть он набросает эскизы ваших замыслов. Пригласите и Антона Мошкина, чтобы он проконсультировал все это с эстетических, так сказать, позиций. Возьмем Илью в обработку и мы с Ириной Михайловной. — Приводите же его к нам поскорее! — с чувством хлопает Михаила Богдановича по плечу Сергей, забыв о его почтенном возрасте. — Я приведу его завтра. Но приведу не просто в цирк, а на ваше представление, и вы должны будете показать ему, на что вы способны.11
Еще в тот вечер, когда Михаил Богданович с Ильей вернулись с дискуссии, дед спросил внука: — Ну, как тебе понравилась Маша? Конечно, он при этом не ожидал от внука восторженного отзыва. В обстановке горячей схватки с абстракционистами, роль Маши в которой была пассивна, она ничем ведь не могла привлечь к себе его внимания. Мало того, она вообще была очень смущена всем происходящим и, видимо, даже жалела, что пришла на эту дискуссию. Сидя на единственном стуле посредине огромного подвала в живописном полукольце бородачей абстракционистов, она невольно сжалась как-то. Она не позволяла себе ни единого лишнего движения, изо всех сил стараясь ничем не привлекать к себе внимания абстракционистов. Да и вообще все тогда было не в ее пользу. И платье на ней было серенькое, и свет, рассчитанный на эффектное освещение картин абстракционистов, падал как-то так, что уродовал и лицо ее, и фигуру. К тому же она молчала не только во время дискуссии, но и потом, по дороге домой, подавленная чем-то, тревожно всматривающаяся в своих, видимо слишком возбужденных спором с абстракционистами братьев. И все-таки Михаил Богданович был не только удивлен, но и почти ошеломлен ответом внука. — А я все голову ломаю: чем могло пленить вас это существо? — пожимая плечами, произнес Илья. — Серенькая, невзрачная и, прости меня, дедушка, какая-то почти забитая… — Ну, знаешь ли! — не на шутку разозлился Михаил Богданович. — Прежде чем говорить такое, ты бы ее в цирке посмотрел. Под куполом, в грациозном полете. Да знаешь ли ты, что мы, старые циркачи, повидавшие на своем веку не одну диву… Э, да что с тобой говорить! Раздражение Михаила Богдановича было столь велико и так непонятно, что Илья растерялся даже. — Прости, дедушка, я ведь не хотел никого обидеть и, может быть, действительно не рассмотрел вашу Машу. Но и ты меня удивляешь. Говоришь о ней так, будто тебе двадцать лет, а она твоя возлюбленная… — Эх, черт побери, — неожиданно рассмеялся Михаил Богданович, — если бы мне было хотя бы сорок! Но прости и ты меня за пылкость, не соответствующую возрасту. Маму свою ты ведь не можешь заподозрить в том же, в чем и меня? Ну, а она, как ты знаешь, тоже неравнодушна к Маше. Просто это оттого, наверное, что мы очень хорошо ее знаем и… жалеем. Да, жалеем! У этой девушки трагедия. Я ведь, кажется, говорил тебе, что ее братцы собираются уйти из цирка и поступить в университет? — Ну и правильно сделают. Таким толковым ребятам ни к чему болтаться на трапециях. — “Болтаться”! — снова возмущенно восклицает Михаил Богданович. — Да ты посмотрел бы на их работу! Они прирожденные воздушные гимнасты, а физика — это для них неизвестно еще что. Мало разве молодых людей, мечтающих произвести переворот в науке? Но ведь большинству из них приходится, однако, довольствоваться скромной должностью младшего научного сотрудника в каком-нибудь институте или лаборатории. А в цирке они — уже известные артисты. Илья и не рад уже был, что так растравил деда, а дед не унимался. — Да и не в них дело — Машу жалко. Они уйдут, а с кем она останется? Номер-то их групповой. Они его два года в училище циркового искусства готовили, да и потом еще долго шлифовали. Представляешь, каково ей будет после их ухода? А ведь она их, можно сказать, в люди вывела. После смерти матери всю заботу о них на себя взяла, хотя и сама-то была всего лишь на год старше Сергея. Зная их увлечение спортом, она пошла вместе с ними в училище циркового искусства, еще и не подозревая о собственном таланте и считая себя самой заурядной физкультурницей. А без нее они могли бы и босяками стать… — Хватит тебе об этом, дед! Успокойся ты, пожалуйста. Если хочешь, я готов не только перед тобой, но и перед нею извиниться. — Извиняться не надо, лучше слово дай, что пойдешь в цирк и посмотришь работу Зарнициных. — Даю тебе такое слово! — А когда? — Да хоть завтра. Нет, завтра занят. Но послезавтра обязательно. …И вот наступает это послезавтра. Михаил Богданович еще с утра напоминает об этом внуку. — Я и сам помню, — без особого энтузиазма отзывается Илья. — Если ничем особенным не буду занят, непременно пойду. — То есть, как это “если”?.. — восклицает Михаил Богданович. — Никаких “если”! Дал слово — сдержи его! Я уже и билеты заказал, чтобы ты видел их с самых удобных мест партера, а не с приставных стульев в проходе, на которых не раз сидел по моим контрамаркам. А вернее, давно уже не сидел, ибо не был в цирке, наверно, больше года. Вечером Илья действительно должен был пойти к одному из своих друзей по важному для него делу, но он решает не огорчать деда и откладывает это на другой день. И вот они сидят в цирке в третьем ряду партера, почти против главного выхода на манеж. Вместе с ними оказываются и Юра Елецкий с Антоном Мошкиным. — А они что, специально тут из-за меня? — шепотом спрашивает Илья деда. — Ну что ты! Они тут вообще каждый день. Илья хотя и не очень верит словам деда, но делает вид, что это объяснение его удовлетворяет. До начала представления еще много времени, и он с любопытством оглядывается по сторонам, наблюдая, как огромная вогнутая чаша зрительного зала медленно заполняется зрителями. В детстве и юности он очень любил цирк, но в последнее время, занятый работой в институте, смотрел цирковые представления довольно редко, хотя по-прежнему получал удовольствие от каждого посещения. Пока Илья рассматривает публику, Юра Елецкий, немного заикаясь от смущения и окая более обычного, говорит ему: — Мне очень хотелось бы, Илья Андреевич, чтобы вы зашли как-нибудь ко мне и посмотрели бы мои альбомы. Я ведь рисую только цирк. Его жанровые сценки. Удивительная жизнь течет тут на манеже. И не только во время представлений… — У него действительно только цирковые сюжеты, — подтверждает сидящий сзади и низко наклонившийся к Илье Антон Мошкин. — Вы увидите в его альбомах двух—трех клоунов и нескольких наездников, а все остальное — Зарницины в невероятнейших позах и таких фантастических полетах, которых они никогда еще не совершали и, наверное, не совершат. — Напрасно ты так думаешь! — резко оборачивается к нему Юра. — Они всё смогут. — А я в этом не уверен. — Почему же? — Да потому, что, во-первых, братья собираются покинуть Машу, а во-вторых, для осуществления твоих замыслов нужно совершить почти чудо — ослабить силу притяжения Земли. — Ну, а если бы действительно?.. — мечтательно произносит Юра. — О, если бы! — перебивая его, восклицает Антон. — Такие феноменальные трюки, как тройное сальто-мортале с пируэтом, были бы тогда для них сущим пустяком. Илья вопросительно смотрит на деда, полагая, что художники шутят. — Да, это верно, Илюша, — подтверждает Михаил Богданович. — Те немногие, кто делает сейчас тронное сальто, вынуждены выкручивать его очень высоко. Сильным швунгом они выбрасываются выше аппарата, на котором работают, чтобы иметь такой запас пространства и времени, который позволил бы после третьего сальто прийти к ловитору. Цирк теперь почти заполнился. Торопливо спешат к своим местам опоздавшие зрители. А еще через несколько мгновений вспыхивают ослепительные прожекторы и заливают арену осязаемо плотными потоками света. Гремит оркестр. Под звуки марша на манеж для участия в прологе выходят участники представления. Илья ищет глазами Зарнициных, но никак не может найти их в пестрой толпе. Начинается к тому же мелькание различных цветов в юпитерах, неузнаваемо меняющее не только лица артистов, но и их фигуры. А тут еще дед шепчет недовольно: — Эти прологи стали уже штампом. Пора придумать что-нибудь новое. К счастью, ничем не примечательный парад участников представления кончается довольно скоро. А Илья, так и не обнаруживший Зарнициных, наклоняется к уху деда: — А что, Зарнициных не было разве? — Были, но хорошо, что ты их не заметил. Их надо видеть только в воздухе. Я вообще не позволил бы им ходить по земле. Они ведь птицы, и это для них почти противоестественно. Хотя выступление Зарнициных лишь в конце первого отделения, Илья без особого нетерпения и не без интереса смотрит работу партерных акробатов, джигитовку и упражнения на першах. Забавляют его остроумные антре и репризы коверных. А Михаил Богданович, Елецкий и Мошкин ждут лишь выхода Зарнициных. Юра даже сидеть не может спокойно и так ерзает на своем месте, что Антон начинает толкать его в спину. Не терпится и Михаилу Богдановичу. Он, правда, сидит спокойно, но все, что видит на манеже, кажется ему ужасно банальным. А тело его ноет так, будто он снова испытывает все те бесчисленные падения и ушибы, которые получил он за несколько десятков лет работы на манеже. Но вот гаснет свет, и Михаил Богданович вообще перестает ощущать свое тело. Мгновенно замирают и Юрий с Антоном. Глухо рокочет оркестр. Все вокруг напряженно, настороженно. Почти в абсолютной тьме вспыхивает наконец лучик прожектора. Высоко-высоко, почти под самым куполом, выхватывает он из темноты ослепительно белую фигуру девушки. Несколько мгновений она стоит неподвижно, кажется даже, что парит в воздухе. Раскачавшись затем на трапеции, она плавно летит в темноту, сопровождаемая все тем же ярким лучом прожектора. И, когда полет ее начинает захватывать дух, ибо кажется, будто она миновала уже пределы воздушного пространства над манежем, неожиданно появляется из темноты плавно несущаяся ей навстречу такая же белая фигура юноши, висящего головой вниз. А когда руки их встречаются, вспыхивает яркий свет и все видят, что юношу держит еще один гимнаст, зацепившийся ногами за качающуюся ловиторку. Цирк разражается шумными аплодисментами. — Ну, узнаёшь ты их теперь? — счастливо улыбаясь, толкает внука в бок Михаил Богданович. Освещенная ярким светом. Маша кажется Илье совсем другой, ничуть не похожей на ту, которую видел он у абстракционистов. С нескрываемым восхищением рассматривает он теперь ее стройное, сильное тело, гордо поднятую голову. Его поражает удивительная точность всех ее движений, необходимых только для полета. И никакой игры и позы. Все естественно и непринужденно. Илья знает от деда и матери, как важно быть артистичным гимнасту, особенно воздушному, обозреваемому со всех точек и не имеющему возможности спрятать от публики ни малейшего несовершенства своей фигуры или осанки. Известно ему и то, каких усилий стоит режиссерам придать гимнастам эту артистичность или, как они говорят на своем профессиональном языке, пластическую выразительность. Но он почти не сомневается теперь, что у Маши все это врожденное. Такой непосредственности, такому чувству ритма, как у нее, не научишься ни в каком училище, с этим нужно родиться. А Михаил Богданович погружен в свои мысли. Хорошо зная всю сложность групповых полетов, требующую необычайно острого чувства взаимодействия с партнером, он с удовольствием отмечает теперь ту, не хватавшую раньше Зарнициным слаженность в работе, при которой только и возможен переход от гимнастического упражнения к художественному зрелищу. “Значит, я пронял их вчера, — радостно думает Михаил Богданович, — расшевелил, задел за живое…” — Ты посмотри на старшего, Илюша, — шепчет он внуку. — На Сергея. Он у них ловитор. И если тебе кажется, что он не такой хороший гимнаст, как Маша или Алеша, то ты ошибаешься. Он, правда, почти не летает, но на нем, как и вообще на хорошем ловиторе, держится вся воздушная группа. Это ведь на его обязанности — исправлять все ошибки полетчиков-вольтижеров. Если они рано уходят с трапеции, ему нужно чуть-чуть задержаться. Если опаздывают — надо поторопиться навстречу, чтобы оказаться рядом в нужный момент. Илья и сам видит, как точен и ловок Сергей. И ему понятно, что именно он создает в номере Зарнициных атмосферу уверенности. Брат и сестра, конечно, не только привыкли к нему, но и безгранично ему доверяют. А это доверие он уже не раз, наверное, доказал им тем, что способен поймать их из любого не только трудного, но и неожиданного положения. И для того чтобы чувствовать себя так спокойно, уверенно и, пожалуй, даже удобно, ему приходится, конечно, не один час ежедневно качаться вниз головой, повиснув на подколенках в жесткой конструкции ловиторки. А Илья все смотрит на Машу и думает: “Видит она нас оттуда, почти из поднебесья, или не видит?..” Будто угадав его мысли, Антон шепчет сзади: — Уверен, что она не только нас не замечает, но и вообще никого из зрителей. Для нее даже купола цирка, пожалуй, не существует. А видит она, наверное, только поверхность планеты на огромном пространстве, как птица, которая взлетает особенно высоко. — И вы говорите, что они стали бы еще совершеннее, — оборачивается Илья к Антону, — если бы работали в ослабленном поле тяготения? — Они стали бы настоящими птицами, — убежденно заявляет Антон.12
Хотя Илья уверен, что отец не очень задумывается над его экспериментом, на самом деле Андрей Петрович размышляет теперь об этом постоянно. Мало того, он даже пытается производить кое-какие расчеты. Но все пока безуспешно. Обнаруженный Ильей эффект, видимо, не антигравитационный. Ничего бесспорного не известно ведь пока и о самой гравитации. По утверждению теории относительности Эйнштейна, всякое ускоренно движущееся тело испускает гравитационные волны. И Илья прав, допуская, что мир вокруг нас заполнен ими. Из этого, однако, не следует, что современная техника в состоянии их обнаружить. Весьма вероятно, что у нас просто нет приборов, способных принять или преобразовать гравитационные колебания в механические или электромагнитные. Экспериментируя в этой области, Илья мог, конечно, не только обнаружить, но и воспроизвести гравитационные волны. И как это ни сложно, в принципе все же возможно. И не это смущает теперь Андрея Петровича. Тревожит его потенциал полученного эффекта, противоречащий всем математическим расчетам. Силы гравитации, воспроизведенные любым искусственным генератором, должны быть ничтожными, так же, как и явления антигравитации. Они не могут заметно сказываться на весе земных тел. Закон притяжения между разноименно заряженными частицами и отталкивания между одноименно заряженными подобен ведь закону всемирного тяготения. Механизм этих электрических взаимодействий изучен теперь достаточно хорошо. Считается, что осуществляется он в результате обмена фотонами. Скорость этого обмена чрезвычайно велика, ибо каждый протон испускает и принимает один фотон в миллионную долю миллисекунды. Андрею Петровичу известно также, что существует гипотеза, по которой допускается существование частиц, которыми обмениваются и массы физических тел. Частицы эти названы гравитонами. Характеристики их определены теоретически. Из математических расчетов следует, что каждый протон и каждый нейтрон испускает по одному гравитону через такое количество лет, цифру которого Андрей Петрович затруднился бы произнести. Ее можно лишь написать, ибо она составляет единицу с пятьюдесятью тремя нолями. Это во много раз превосходит возраст нашего участка Вселенной, равной примерно десяти миллиардам лет, или единице с десятью нулями. Естественно, что взаимодействие между массами тел при таком соотношении совершенно ничтожно. Илья еще очень молодой физик, но и он, конечно, хорошо знает все это, однако упрямо верит, что получил какой-то антигравитационный эффект. Похоже даже, что он просто загипнотизирован самим фактом возникновения этого эффекта и не хочет видеть вопиющего противоречия его гипотезы с существующей теорией гравитации… Но тут и у самого Андрея Петровича возникают сомнения. А что, если аитигравитация, впервые полученная в лабораторном эксперименте, проявляется сильнее, чем гравитация? Что, если в эксперименте Ильи происходит аннигиляция гравитонов и антигравитонов, подобная аннигиляции частиц и античастиц, вызывающей выделение колоссальной энергии? Эта мысль не дает ему теперь покоя, и он решается даже посоветоваться со своим шефом, академиком Аркатовым. Внимательно выслушав Андрея Петровича, академик довольно долго не произносит ни слова. Лишь походив некоторое время по своему просторному кабинету, он заключает наконец: — Все это, дорогой мой доктор, чертовски любопытно! Может быть, даже это и не аннигиляция гравитонов и антигравитонов, а какое-то другое, совершенно неизвестное нам явление. Во всяком случае, этим следует заняться и непременно повторить этот эксперимент па более совершенной установке. Походив еще немного, он добавляет: — А что касается кажущейся случайности такого открытия, то вспомните-ка Девиссона и Джермера. Они ведь работали инженерами-исследователями в одной из американских промышленных лабораторий и занимались главным образом разработкой способов технического применения электроники. Однако именно они совершенно неожиданно, нисколько не стремясь к этому, обнаружили явление дифракции электронов на кристаллах. И лишь впоследствии, ознакомившись с идеями волновой механики, поняли весь фундаментальный смысл своего открытия. Андрей Петрович пытается произнести что-то, но академик Аркатов решительно перебивает его: — А с другой стороны, известны ведь и такие факты, когда многие открытия либо не были сделаны, либо запоздали лишь потому, что у тех, кто мог их сделать, существовали закоснелые тенденции. Способствовали этому и предвзятые идеи, мешавшие им представить создавшуюся ситуацию в истинном свете. Так Ампер, как вам, конечно, известно, упустил возможность открыть электромагнитную индукцию, а несколько лет спустя открытие это прославило Фарадея. И, кто знает, уважаемый Андрей Петрович, — лукаво усмехается Аркатов, — может быть, и нам представляется счастливая возможность сделать великое открытие. Не будем же терять ее. Я сегодня же посоветуюсь с членами президиума Академии наук и думаю, что нам разрешат заняться экспериментом вашего сына тотчас же, прекратив на время испытания аппарата Грибова и Логинова. Полагаю даже, что мне удастся заинтересовать этой проблемой кого-нибудь из вице-президентов академии. И вот Андрей Петрович терпеливо ждет теперь звонка или официального письменного распоряжения академика Аркатова, по, чтобы не обнадеживать Илью раньше времени, ничего не говорит ему об этом. А время идет. Проходит неделя, начинается другая, а академик будто забыл о своем обещании. Что же делать? Напомнить ему об этом или подождать еще немного? И он решает ждать, ибо чем больше он думает об эксперименте сына, тем больше сомнений одолевает его.13
А Михаил Богданович развивает в это время самую энергичную деятельность. Он приглашает к себе Юрия Елецкого и Антона Мошкина и дает им задание: — Вот что, ребята, прекращайте-ка все ваши баталии с абстракционистами и беритесь за дело. Кстати, куда делись все эти мазилы по главе с Холло? Что-то я не вижу их больше в цирке? — Ретировались, — кратко отвечает Антон. — Так вдруг? Не в силах, что ли, оказались пережить свое поражение? Значит, есть еще у них какие-то крупицы совести. — Скажете тоже! — мрачно усмехается Юрий. А Антон даже всплескивает руками от негодования: — Откуда она у них?! Просто Юра взял их своей, может быть, и не очень интеллигентной, но зато действительно мозолистой рукой и вышвырнул из цирка. Они пришли сюда на днях через служебный ход, а он дал им как следует коленом, и они совершили эффектный пируэт со всех ступенек главного входа. Он даже специально попросил швейцара открыть ему для этого обе половинки центральных дверей. — Хотя и не очень деликатно, пожалуй, — смеется Михаил Богданович, — ибо не вижу веских причин для столь торжественного выдворения их из нашего храма грации и мужества, но по существу совершенно бесспорно доброе дело. Боюсь только, что в соответствии с какой-то статьей уголовного кодекса может обернуться оно мелким хулиганством и тогда Юре Елецкому, наверное, придется отсидеть какой-то срок. — Этого вы не бойтесь, Михаил Богданович, — успокаивает его Мошкин. — Они не пойдут жаловаться. Юра ведь их не просто так вышвырнул, а за гнусную карикатуру на Машу и ее братьев, созданную средствами уже реалистической графики. И потом, за то время, пока эти абстракционисты околачивались в цирке, они хорошо усвоили, что значит для циркача уметь падать, — слетели со ступенек безо всяких травм. — Ну, тогда все хорошо! — довольно потирает руки Михаил Богданович. — Будем считать, что с этим покончено. Теперь за дело. Нужно возможно быстрее набросать эскизы воздушных трюков в условиях пониженной весомости. И не только группы Зарнициных, но и других воздушных гимнастов. — А как с Ильей Андреевичем? — спрашивает Антон. — Решился он уже на установку своей аппаратуры в цирке? — Почти, — неопределенно отвечает Михаил Богданович. — Во всяком случае, это теперь не главный объект нашей атаки. В настоящий момент наша цель номер один — главный режиссер. …Анатолий Георгиевич листает альбом Юрия Елецкого уже в третий раз, но пока не произносит еще ни слова. Михаил Богданович, Юрий Елецкий и Антон Мошкин затаив дыхание ждут приговора. Юрий вообще не очень верит в его поддержку. Антон, однако, надеется убедить его своими комментариями к эскизам Юры. А Михаил Богданович, лучше их знающий характер главного режиссера и почти не сомневавшийся в его поддержке, не на шутку встревожен теперь столь долгим молчанием Анатолия Георгиевича. “Не пора ли пускать в ход дополнительную аргументацию?” — лихорадочно думает он, хорошо понимая, что без поддержки главного режиссера вся их затея обречена на провал. — М-да, — неопределенно произносит наконец Анатолий Георгиевич. — Любопытно, любопытно… Ну, а сам автор этого, как вы его называете?.. — Антигравитационного эффекта, — подсказывает Михаил Богданович. — Как он-то смотрит на вашу затею? Согласен ли? Не очень ведь солидно это — проверять свой эксперимент не в научно-исследовательском институте, а в цирке. — Я же вам рассказывал уже, Анатолий Георгиевич, как сложилась ситуация, — произносит Михаил Богданович. — Ну да, я это понимаю. Согласитесь, однако, что цирк не совсем подходящее место для научного эксперимента. — Смотря для какого. Для этого — вполне подходящее. — Допустим, — усмехается главный режиссер. — Предположим даже, что нам удастся убедить дирекцию и начать подготовку к осуществлению этого эксперимента. Будут, следовательно, затрачены средства, и не малые. А Академия наук тоже решит вдруг ускорить проверку эксперимента Ильи Нестерова. Прекратит работы над чьим-нибудь другим исследованием или же изыщет дополнительные средства. Как тогда отнесется к этому ваш внук? Не махнет ли на нас рукой? — Я знаю Илью, — невольно вставая с дивана, торжественно произносит Михаил Богданович. — Он не позволит себе такого предательства и не прекратит сооружения своей установки у нас. В крайнем случае, он сможет вести ее параллельно, и от этого только выиграем и мы, и научно-исследовательский институт. — А в настоящий момент он, значит, окончательно решил осуществить это у нас? — Да, Анатолий Георгиевич, — твердо заявляет Михаил Богданович, хотя у него и нет еще абсолютной уверенности в этом. Илью тоже ведь можно будет окончательно уговорить лишь в том случае, если сообщить, что дирекция цирка согласна на осуществление его эксперимента. — Ну хорошо, — решительно вставая из-за стола, протягивает руку Михаилу Богдановичу главный режиссер. — Будем тогда действовать сообща!14
Давно уже за полночь, а директор цирка все еще не спит. Теперь, когда рядом с ним нет ни главного режиссера, ни Ирины Михайловны с Михаилом Богдановичем, все кажется ему не таким уж радужным. Сказка, которую они так красочно нарисовали, представляется ему теперь почти безрассудством и, уж во всяком случае, делом невероятно хлопотливым, а может быть, и вовсе не осуществимым. Надо еще посчитать, каковы затраты на все это предприятие, может ведь оказаться, что не хватит на него бюджета всего цирка. А вообще-то очень заманчиво, конечно! И приятно, что идеей этой так все загорелись и видят в ней поистине сказочные возможности… Директор долго еще ворочается с боку на бок, то улыбаясь зрелищу, которое не только его режиссеры, но и сам он легко себе представляет, то сокрушенно вздыхая при одной только мысли о завтрашнем разговоре об этом в Союзгосцирке. Более же всего досадует он на себя за то, что так легкомысленно дал свое согласие Анатолию Георгиевичу и Ирине Михайловне. Он, правда, не сказал этого прямо, но по всему тому, что произнес, а главное по тому, как блаженно улыбался (теперь ему кажется почему-то, что улыбался он именно блаженно), они поняли, конечно, что он не только согласился со всеми фантастическими их проектами, но и поверил в осуществимость их с не меньшим энтузиазмом, чем они. …Не спит в эту ночь и Ирина Михайловна. Ей вовсе не кажется, что директор цирка дал согласие на осуществление эксперимента Ильи. Напротив, он был слишком осторожен и, уж конечно, никак не проникся тем энтузиазмом, которым были полны все остальные. Более же всего радовались братья Маши. Их будто подменили. А как была счастлива Маша! О Маше Ирина Михайловна всегда думает с особенной теплотой, радуясь ее успехам и не завидуя ничему. В Маше ей вообще нравится все, даже то, что почти все мужчины влюблены в нее. И она не кичится этим, не задирает нос, не мнит себя бог знает кем, как некоторые другие красивые актрисы. Ирина Михайловна и сама красивая женщина. По собственному опыту она знает, как нелегко казаться равнодушной к поклонению. Потому-то умение Маши быть со всеми ровной, без малейшей тени какого-либо кокетства, просто поражает ее. Даже к Митрофану Холопову, которого Маша терпеть не может, относится она почти так же, как и к другим. …И снова тревога за Илью вызывает невольный вздох Ирины Михайловны. Осуществится ли и его замысел так, как он задумал? Беспокоят ее, в связи с этим какие-то не очень понятные ей и, видимо, скрываемые от нее отношения Ильи с отцом. Они, правда, разговаривают, как и всегда, даже подшучивают друг над другом, но что-то все-таки существует между ними такое, чего не было раньше. Может быть, это потому, что Андрей не добивается повторения эксперимента Ильи на более мощной установке? Ей известно, что сейчас, в конце года, когда институт завершает многие плановые свои исследования и использовал уже весь свой бюджет, начать сложную работу над экспериментом Ильи не так-то просто. Да и вообще не от мужа только все это зависит… И все-таки он мог бы предпринять что-нибудь через Академию наук, а этого он не делает. И тут сам собой возникает самый тревожный для нее вопрос: а что, если Андрей не верит в успех эксперимента сына? Что, если он ставит под сомнение даже то, что уже достигнуто сыном на его лабораторной установке? Андрей Петрович встает очень рано. Илья еще спит, и он не решается будить его. Да и о чем, собственно, говорить сейчас с ним, не зная даже, действительно ли академик Аркатов забыл о своем обещании или, может быть, что-то предпринимает все-таки? Нет, лучше, пожалуй, отложить этот разговор с Ильей до вечера, а в течение дня непременно побывать у Аркатова. К академику Андрей Петрович попадает только во второй половине дня. Аркатов, как всегда, любезен и без напоминания сам заводит разговор об эксперименте Ильи. — Я все помню, дорогой мой доктор Нестеров. Собирался даже звонить вам сегодня. Не делал этого раньше потому, что нечем было вас порадовать. Да и теперь тоже… Сами знаете, что значит конец года. Но я докладывал о сыне вашем вице-президенту, и он очень этим заинтересовался. Не сомневаюсь, что с января, а до этого не так уж далеко, мы получим все необходимое, чтобы начать самое серьезное изучение полученного им эффекта.15
В Союзгосцирке, вопреки опасениям директора цирка, не очень удивились предложенному им фантастическому проекту. А не очень удивились потому, что Анатолий Георгиевич уже “взрыхлил” здесь почву. Воспользовавшись личным знакомством в Союзгосцирке, он в частной беседе изобразил этот проект самыми яркими красками. И вот сейчас, когда директор цирка, терзаемый еще большими сомнениями, чем ночью, и уже почти не верящий в успех дела, завершает свой доклад, его не засыпают вопросами и даже, кажется, не смотрят на него как на сумасшедшего. Ободренный этим, он уже со значительно большим энтузиазмом заключает; — Мы ведь очень любим говорить на наших конференциях и совещаниях, что надо смелее использовать в наших аттракционах все новые и даже новейшие достижения науки и техники. Вот и давайте попробуем осуществить антигравитационный эффект Ильи Нестерова на нашем манеже. А это самое что ни на есть новейшее достижение науки. О нем даже в Академии наук ничего еще, кажется, не знают. Ответственный товарищ, которому поручено решить вопрос об эксперименте Нестерова, добродушно улыбается: — Это очень хорошо, что новейшее научное открытие на сей раз попало в цирк раньше, чем в Академию наук, но без Академии наук вряд ли, однако, добьемся мы успеха. Я лично полагаю, что без их консультации затевать это, видимо, не очень дешевое предприятие — вообще неразумно. Нужно, следовательно, связаться с кем-нибудь из академии и посоветоваться. Директор цирка, прекрасно понимающий всю сложность задуманного эксперимента и личную свою ответственность за все это, охотно соглашается с таким резонным, на его взгляд, предложением. Однако, прежде чем связаться с академией, он решает посоветоваться со своим главным режиссером. — Боюсь, что это может погубить все дело, — выслушав директора, с сомнением качает головой Анатолий Георгиевич. — Непонятно почему? А дело, видите ли, в том, что Илья Нестеров потому и соглашается повторить свой эксперимент у нас, что… — А, да-да, понимаю! — восклицает директор. — Вы мне это рассказывали. В связи с этим опасаетесь, значит, что ему могут не разрешить? Может быть, тогда вообще все это не очень серьезно? — Ну что вы! Напротив — настолько серьезно, что я боюсь, как бы Академия наук, узнав о намерении Ильи… — Все ясно тогда! Нужно, значит, действовать незамедлительно. Они и в самом деле могут приостановить все другие эксперименты и срочно заняться антигравитационным эффектом Нестерова. — Конечно же! И тогда уж Нестерову будет не до нас. А если мы начнем сооружать его установку у нас, то потом не страшно, если даже они и спохватятся. Илья Нестеров человек слова, он нас не бросит. Да и Михаил Богданович головой за него ручается. Ирина Михайловна долго не может понять, что хотят от нее Илья и Михаил Богданович, с которыми в тот же день состоялся у нее разговор. — Но почему все это втайне от отца? — недоуменно спрашивает она сына. — Ведь он же опытнее тебя, Илюша. Он тебе поможет, подскажет, где надо… — Плохо ты знаешь отца, мама, — упрямо качает головой Илья. — Пока он не обоснует всего теоретически — ни о каком повторении моего эксперимента и разговаривать не станет. — А повторив его у нас, — хитро подмигивает Михаил Богданович, — мы поставим Андрея Петровича перед свершившимся фактом, так сказать. — Да, конечно, может быть, так и лучше, — соглашается наконец Ирина Михайловна. — Только вы напрасно думаете, что Андрей Петрович может вам чем-нибудь помешать… — Ну, это-то едва ли, — уклончиво отвечает Михаил Богданович. — Этого я не думаю, но расхолодить Илью разными доводами и сомнениями он, пожалуй, сможет. — А ты осилишь все это один, Илюша? — тревожно смотрит в глаза сыну Ирина Михайловна. — Я не один. Со мной будет Лева Энглин. С завтрашнего дня мы с ним числимся в отпуске. Вот и займемся модернизацией цирка. — Поможет им и Виктор Захарович Миронов. Ты должна знать его, Ира. Он конструировал для нас самую сложную аппаратуру. А теперь вообще будет заведовать нашим конструкторским бюро. Добились мы наконец такого бюро для нового здания цирка! — А что вы скажете Андрею Петровичу? Как объяснить ему, где Илья будет проводить свой отпуск? — Скажу, что уйду в туристский поход, — небрежно машет рукой Илья. — А я должна буду поддерживать эту выдумку? — Ты сделаешь это для блага нашего родного цирка, Ирина! — смеется Михаил Богданович.16
На следующий же день Илья едет в новое здание цирка. Сопровождают его Михаил Богданович и Анатолий Георгиевич. — Я очень доволен Виктором Захаровичем — заведующим нашим конструкторским бюро, — говорит дорогой Анатолий Георгиевич. — Он уже и штат себе подобрал. Хотя и сам сведущ в электронике, но пригласил в свое бюро еще и кибернетика. Конечно, крупного ученого к нам не заманишь. Тут нужен энтузиаст, и, знаете, он нашел такого энтузиаста. Молодого кандидата наук, Васю Милешкина, который согласился работать у нас по совместительству. Я еще не очень уверен, что его должность нам утвердят, но совершенно убежден, что он будет работать у нас даже бесплатно. Во всяком случае, он приходит теперь в наше конструкторское бюро почти ежедневно, не будучи зачисленным пока ни в какие штаты. — И серьезный специалист? — спрашивает Илья, хорошо знающий, что в науке (а чаще около науки) есть немало чудаковатых и не очень серьезных молодых людей, ухитряющихся каким-то образом защищать кандидатские диссертации и совершенно не способных к научной работе. — Виктор Захарович уверяет, что очень толковый. Считает даже просто счастьем, что ему попался такой человек. Да вы сами с ним сегодня познакомитесь. Не сомневаюсь, что он там. Нам вообще очень повезло с составом нашего конструкторского бюро. Во-первых, это не просто профессионалы-конструкторы, которым неважно, что конструировать, лишь бы конструкции были по их инженерной специальности. Это люди, отлично понимающие, что они будут конструировать аппараты для людей, рискующих жизнью в случае недоброкачественности их работы. Мало того — они очень хорошо знают именно такие законы физики и механики, как, например, законы вращательного движения, которые лежат в основе многих наших цирковых аттракционов. Увлекшись, Анатолий Георгиевич не замечает даже, что они уже прибыли на Университетскую и, если бы не Михаил Богданович, проехали бы ее. — Не могу о хороших людях говорить равнодушно, — смущенно оправдывается он. — Без таких людей нельзя создать ничего нового. А для маленького коллектива Миронова характерно еще и то, что они уже переселились в новое здание, не ожидая окончательной его отделки и сдачи. Работают в холодном помещении, обогреваясь электрическими каминами и горячим чаем. Зато они уже сейчас вносят многие усовершенствования в отделку здания и особенно в купольную его часть. Там крепится почти вся гимнастическая аппаратура. — А когда предстоит официальная сдача строителями всего помещения цирка? — спрашивает Илья. — К первому апреля. — Ох, это первое апреля, да еще для строителей! — смеется Михаил Богданович. — Это крайний срок. А позже никак нельзя — первого мая мы уже должны показывать новую программу. Они выходят из метро и идут дальше пешком. — Да, вот еще о чем хотел предупредить вас, — останавливается Анатолий Георгиевич. — О вашей идее, Илья Андреевич, никто из них еще ничего не знает. И давайте сообщим им ее не сразу… — А как мы подведем их самих к мысли о желательности ее осуществления у нас в цирке? — горячо подхватывает Михаил Богданович, сразу же догадавшись о тактическом ходе главного режиссера. — Это тоже неплохая идея! Психологический подход, так сказать. — Вот именно, — энергично кивает головой в огромной меховой шапке Анатолий Георгиевич. — А то как бы их, людей, мыслящих категориями конкретных конструкций, не ошарашить сразу необычайностью нашего почти фантастического замысла. Дадим им поэтому самим пофантазировать и как бы самостоятельно дойти до подобной идеи… — Вы главный режиссер, Анатолий Георгиевич, — поддерживает его Михаил Богданович, — вы и инсценируйте все это, а мы будем прилежно и, по возможности, даже талантливо вам подыгрывать. — Договорились! — улыбается главный режиссер. Инженера Миронова встречают они на манеже, загроможденном разнообразными строительными механизмами. — А, Виктор Захарович! — радостно восклицает Анатолий Георгиевич, протягивая ему руку. — Очень рад, что застал вас здесь! А мы вот пришли посмотреть, как идут дела у строителей. Это со мной Михаил Богданович, которого вам, наверное, доводилось видеть на цирковой арене. — Ну еще бы! — весело отзывается Миронов, пожимая руку Михаилу Богдановичу. — Кто же не знает знаменитого Балагу? — А это, — кивает Анатолий Георгиевич на Илью, — его внук, Илья Андреевич, — цирковой болельщик, так сказать. — А мы все болельщики! — весело смеется Миронов. — Иначе пошли бы разве к вам на такую скудную зарплату. Позвать вам кого-нибудь из строителей или вы и моими объяснениями удовлетворитесь? Я ведь тут почти все уже постиг. — Нет-нет, зачем нам строители! — протестующе машет руками Анатолий Георгиевич. — Мы с вашей помощью и сами во всем разберемся. Да нас, собственно, больше интересуют не столько строительные дела, сколько непосредственно ваши, конструкторские. Что новенького могли бы вы нам предложить, чтобы наш советский цирк, лучший в мире по своим артистическим силам, был бы лучшим и по техническому оснащению? Стал чтобы на уровень с веком космических полетов, электроники и кибернетики. Чтобы три часа, проведенных в нем, были бы подобны сказке, рассказанной взрослым детям современным Андерсеном, братьями Гримм или Павлом Бажовым. Илья до этого почти не был знаком с Анатолием Георгиевичем. Слышал только восторженные отзывы о нем от матери и деда. “Да, этот человек с огоньком, — думает теперь о нем Илья, с любопытством всматриваясь в его рослую, крупноголовую фигуру. — Такой может увлечь своим замыслом, заставить поверить в него. По всему чувствуется, что человек он с размахом. С таким приятно будет поработать…” Без особой охоты дав согласие на воспроизведение своего эксперимента на цирковой арене, Илья все эти дни испытывал какое-то чувство недовольства собой. Он, пожалуй, не согласился бы на это, если бы не обида на отца, ничего не предпринимавшего, как ему казалось, для постановки его эксперимента в своем научно-исследовательском институте. Более же всего смущала его неясность обстановки. Не совсем понятно было даже, зачем, собственно, цирку его эксперимент? И вот теперь, наблюдая и слушая Анатолия Георгиевича, он уже по-другому смотрел на все это. Постепенно складывалась уверенность, что за воспроизведение его эксперимента берутся серьезные люди. Не сомневался он теперь и в том, что используют они его не для эффектного циркового аттракциона, а для осуществления какого-то большого поэтического замысла. Нравится ему теперь и инженер Миронов, коренастый, крутолобый и с такой копной густых волос, что ему, наверное, ни в какой мороз не нужна никакая шапка. — Конечно, мы будем конструировать новую аппаратуру, — горячо говорит Виктор Захарович, выразительно жестикулируя. — Но я лично не только в этом вижу свою задачу. Нужно еще и помочь артистам разобраться в механике их собственного тела, чтобы полнее использовать его резервы. Я еще не освоил всю цирковую терминологию и не знаю, как называется номер, в котором артист, висящий на трапеции под куполом, держит в вытянутой руке вращающуюся на шарнирной подвеске актрису. А ведь в нем, в этом номере, действуют очень четкие законы механики. Вы хорошо знаете, конечно, как осуществляется этот номер. Вытянутое в струнку тело гимнастки сначала медленно вращается по инерции в горизонтальной плоскости. Потом гимнастка резко собирается в комок и начинает вращаться со все возрастающей скоростью без дополнительных толчков со стороны партнера. А как только она снова выпрямляется, скорость ее движения резко падает. Извините, пожалуйста, что я рассказываю хорошо известные вам вещи, — смущается Миронов, приглашая их присесть на скамью в центре манежа. — Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Захарович! — кивает ему Анатолий Георгиевич, хотя и не совсем понимает пока, зачем он рассказывает им все это. — Ну так вот, — продолжает Миронов. — Зрители, конечно, воспринимают все это как результат особой тренировки исполнительницы, а на самом деле действует тут второй закон Ньютона, который устанавливает связь между силой, действующей на тело, массой тела и полученным ускорением. Когда гимнастка сжимается в комок — резко сокращается момент инерции ее тела. Это внезапное уменьшение момента инерции, казалось бы, могло вызвать нарушение закона сохранения количества движения, но тут природа как бы вмешивается в ход цирковогономера. Безо всяких усилий со стороны исполнителей этого номера она увеличивает скорость вращения ровно во столько раз, во сколько уменьшается момент инерции. По-моему, все это нужно хорошо знать гимнастам, чтобы лучше использовать законы природы в подготовке своих номеров. В этом мы и постараемся им помочь. Правильно я понимаю свою задачу, Анатолий Георгиевич? — Да, конечно! — горячо одобряет его главный режиссер. — Но это лишь часть вашей задачи. Главное же — помочь нашим актерам сконструировать необходимую им аппаратуру. И даже не столько помочь, сколько подсказать им что-нибудь новое. А вообще, вы правы — нужно, конечно, чтобы актеры знали не только механизм своей аппаратуры, но и механику собственного тела. Но, повторяю, главное для нас — это введение новой техники и вообще всего нового, что только может быть использовано для демонстрации ловкости, смелости, изобретательности и многих других качеств человека. Хотелось бы также, чтобы какая-нибудь новая аппаратура помогла бы гимнастам освободиться от некоторых мешающих им законов природы. Или, если хотите, смягчила бы их. — Ну, знаете ли! — разводит руками Виктор Захарович. — А мне думается, вы зря пасуете. Смягчить кое-что, по-моему, все-таки можно? — Что же, например? — Ну хотя бы силу притяжения. — Можно и вообще от нее избавиться, — усмехается Миронов. — Для этого нужно только поместить гимнастов либо в гравитрон — аппарат, создающий искусственную невесомость, — либо в самолет, набравший большую высоту и снижающийся затем по параболическому пути. — Такой эксперимент в цирке не поставишь, а вот частично освободить гимнастов от их веса было бы очень желательно. Представляете себе, какие прыжки и полеты могли бы они совершать? — Да, это очень заманчиво, конечно, — соглашается Виктор Захарович. — Я хорошо представляю себе, как при той же затрате мускульной силы смогли бы они буквально парить в воздухе. И не беспомощно, как при полной невесомости, а в строгом ритме, сохраняя структурность, так сказать, своих движений. Но как достичь такого эффекта? Силы гравитации, к сожалению, пока не управляемы и даже не экранируемы. А ведь неплохо было бы прикрыться от поля тяготения Земли каким-нибудь специально подобранным экраном, ослабляющим его действие. — Этаким кейворитом? — усмехается Анатолий Георгиевич. — А о силах антигравитации вы не думали, Виктор Захарович? — Нет, не думал. Мои скромные познания ограничены механикой Ньютона. А тут необходима механика Эйнштейна, ибо, насколько мне известно, это ведь его теорией относительности предсказано существование гравитационных волн. Но я не знаю пока ни одного эксперимента, который позволил бы эти волны не только получить, но хотя бы зарегистрировать. Я, правда, читал где-то, что американский физик Вебер пытался воздействовать на пьезокристаллы переменным электрическим полем с тем, чтобы вызвать в них переменные механические натяжения, которые явились бы источником излучения гравитационных волн. Но из этого ведь пока ничего не получилось. — Ну, у него, может быть, и не получилось, — соглашается Анатолий Георгиевич. — А вот у одного нашего молодого ученого получается кое-что. — Что-то я не читал и не слышал об этом ничего, — сомнительно покачивает головой Виктор Захарович. — Об этом нет пока никаких публикаций и вообще официальных сообщений. Однако кое-чего в этой области он действительно добился. — Позвольте представить вам этого молодого ученого, — торжественно произносит Михаил Богданович, кладя руку на плечо Ильи. — Это мой внук, Илья Андреевич Нестеров! Прошу любить и жаловать. А о том, чего ему удалось достигнуть, он сам вам лучше нас с Анатолием Георгиевичем расскажет.17
Уже вторую неделю в новом здании цирка идут какие-то работы по осуществлению эксперимента Ильи. Ирина Михайловна не очень понимает, что именно там делается, но знает, что Илья занят теперь только этим. Похоже даже, что дела у него идут успешно. Успокаивает ее, однако, не это, а то обстоятельство, что Андрей Петрович знает о замысле сына. Попытка Ильи сделать вид, что он ушел с туристами, не удалась. Совершенно исчезнуть из дома оказалось невозможным, ибо ему понадобилось множество вещей, которые находились либо в его комнате, либо в институте отца. Предвидеть все это заранее он, конечно, не мог, так как необходимость в них возникала лишь по мере того, как шла работа над воспроизведением его эксперимента в условиях цирка. Первые два дня ему приносил кое-что из дома Михаил Богданович (сам Илья обосновался у Левы Энглина). Но почти всегда оказывалось, что дед доставлял ему либо не совсем то, что было нужно, либо вообще не находил необходимых справочников и иных книг. Отыскать же блокноты его и тетради с какими-то записями вообще было непосильным делом для Михаила Богдановича. А когда на третий день понадобилась измерительная аппаратура, имевшаяся лишь в институте Андрея Петровича, Илья решил выйти из “подполья” и во всем признаться отцу. Андрей Петрович и сам, конечно, уже догадывался кое о чем, и признание сына не было для него абсолютной неожиданностью. Выслушав Илью, он долго молчал, потом произнес почти равнодушно: — Тебе известно мое отношение к твоему эксперименту, Илюша, но ты теперь вполне самостоятельный ученый и сам отвечаешь за свои действия. — А что ты имеешь в виду под ответственностью, папа? — спросил Илья, соблюдавший во время этого разговора необычайное спокойствие. — Не уголовную, конечно, — хмуро усмехнулся отец. — У серьезного ученого есть и иные виды ответственности. — Ты, наверное, имеешь в виду необходимость теоретического обоснования моего эксперимента? Этим я действительно не смогу заниматься в цирке, но ведь и в твоем научно-исследовательском институте тоже иет пока такой возможности. А сидеть без дела я не могу. Явление антигравитации в моем эксперименте устойчиво, а аппаратура не слишком сложна, вот я и решил повторить его в условиях цирка и не вижу в этом ничего зазорного. Кстати, цирковые артисты и сами пытались предпринять кое-что в этом направлении. У воздушных гимнастов Зарнициных, например, родилась даже идея уменьшения своего веса с помощью электромагнитов… — Я тоже не вижу ничего зазорного в том, что ты хочешь помочь циркачам, — холодно произнес Андрей Петрович. — И не собираюсь тебе это запрещать. Но и помогать тебе без ведома Академии наук не имею права. И не в этом только дело. Я вообще считаю несвоевременным практическое применение твоего эффекта где-бы то ни было. Впереди ведь десятки проверок и уточнений этого явления, а ты… — Но где же все это? — нетерпеливо прервал Андрея Петровича Илья. — Где эти проверки и уточнения? Неизвестно даже, когда еще это будет. А к воспроизведению моего эксперимента в цирке я и не собираюсь тебя привлекать. Это моя личная инициатива. И даже, пожалуй, не столько моя, сколько самого цирка. А от тебя я прошу лишь одного: помоги мне измерительной аппаратурой и кое-какими не очень дефицитными материалами. Андрей Петрович, не отвечая, долго прохаживался по своему кабинету, потом произнес примирительно: — Ладно, кое-чем помогу. А у Ирины Михайловны свои заботы — подготовка нового номера Зарнициных. Кое-что они уже придумали, но ведь это работа почти вслепую до тех пор, пока не станут реальными те новые условия, в которых придется им совершать свои полеты. Неизвестно даже, как приноровятся Зарницины к состоянию полуневесомости. Быстро ли освоятся с ним или придется переучиваться, заново овладевая силами инерции, играющими столь важную роль в воздушном полете? Ведь окончательно еще неизвестно, какова будет потеря их веса. И все-таки Ирина Михайловна уже готовит новый номер Зарнициных. У нее еще нет пока точного его рисунка, а лишь эскиз, ориентировочный контур, основой которого служат многочисленные наброски Елецкого и Мошкина. Буйная фантазия Юрия обуздана в них свойственным Антону чувством изящества и пластики. И лишь это придает им некоторую реальность. — Ах, Юра, Юра! — вздыхает, глядя на его альбомы. Маша. — Вы, наверное, думаете, что мы и вправду станем настоящими птицами. — Но ведь это же не чертежи ваших полетов, Машенька, — защищает Елецкого Мошкин. — Это темы, идеи ваших полетов, а они не могут быть бескрылыми. Крылышки подрежет им потом то поле тяготения, в котором вам придется работать. А пока можно и помечтать. Но Машу радует уже и то, что фантастические рисунки эти по душе ее братьям. Кажется даже, что они всерьез верят в воплощение их в том полете, который скоро позволит им осуществить антигравитационный эффект Ильи Нестерова. — Тут, во всяком случае, нам все ясно, — кивая на рисунки Юрия, говорит Алеша. — А представляешь, каково было бы нам строить свой будущий номер по абстрактным эскизам Митро Холло? Его фантазия разыгралась бы, конечно, не в жалких границах воздушного пространства под куполом цирка, а в необозримых просторах Галактики или даже Метагалактики. — Ну вот что, дорогие мои, — решительно вмешивается в разговор Ирина Михайловна, — давайте-ка спускаться на землю. Полюбовались рисуночками Юры и хватит. Прикидывайте теперь, что из них осуществимо. А еще лучше было бы, если бы вы и сами что-нибудь придумали… У Михаила Богдановича все еще не ладится дело. То ли он слишком много времени уделял эксперименту внука, то ли не очень глубоко продумал свою пантомиму, только не дается она ему, не получается так, как хотелось бы. Да сейчас личный номер Михаила Богдановича и не имеет уже особенного значения, хотя его можно было бы включить в любую программу, как вообще всякий хороший номер. Мелькает даже мысль: “А не показать ли пример другим, отказавшись от своей пантомимы и придумав что-то более отвечающее общему замыслу новой программы?” Сделать это, однако, нелегко, ибо законченного сценария представления пока еще не существует. Более того, вообще неясно, как создавать этот сценарий — в соответствии с новой аппаратурой или писать его, не связывая с ней? В самом общем виде у главного режиссера есть, конечно, какой-то план. Он замыслил грандиозную пантомиму — “Завоевание космоса”, с опытами в лабораториях, атомными взрывами, полетами в космических ракетах и освоением чужих планет. Нашелся и писатель, взявшийся сочинить сценарий на эту тему. Какой-то научный фантаст, мыслящий категориями галактик. Первый вариант сценария он даже успел уже набросать и прочесть его Анатолию Георгиевичу. А когда спросил главного режиссера о его мнении, тот только руками развел. — Это, дорогой мой, явно не для нас, — добавил он потом, чувствуя, что автор не привык к языку жестов и нуждается в более ясном ответе. — Это для хорошо оснащенной и не стесненной в средствах киностудии. И не менее, как на три серии. — Я могу и сократить. — Нет, все равно не осилим. — А жаль, — сокрушенно вздохнул автор. — Такой бы был аттракцион! У меня для его оформления и художник уже имеется. — Митро Холло? — насторожился Михаил Богданович. — Да, он. Как это вы догадались?.. — Космос — это его стихия, — ответил за Михаила Богдановича главный режиссер. — И все-таки это нам не подходит, даже с таким художником, как Митро Холло. Анатолий Георгиевич хотя и вел эту беседу в ироническом тоне, но сама идея космического представления казалась ему очень заманчивой и он долго не хотел с нею расставаться. Но вот сегодня приходит к нему Михаил Богданович и поражает его почти так же, как и автор сценария “Завоевание космоса!” — А что, Анатолий Георгиевич, если мы поручим это дело Елецкому и Мошкину? — совершенно серьезно предлагает он. — Надеюсь, вы не сценарий имеете в виду? — переспрашивает главный режиссер, не допуская и мысли о том, что такое серьезное дело можно доверить этим фантазерам. — Как раз именно сценарий. — Ну, знаете ли… — только и может произнести в ответ главный режиссер. — Напрасно вы такого мнения о них, — укоризненно качает головой Михаил Богданович. — Они очень толковые ребята. — Не спорю с вами по этому поводу — вполне возможно, что они действительно очень толковые. Добавлю даже от себя — Елецкий бесспорно талантлив как художник. Но ведь вы рекомендуете их мне как литераторов! Или я не так вас понял? — Именно так, Анатолий Георгиевич. Мошкин и есть литератор. Вернее, он искусствовед. Очень интересно мыслящий, широкообразованный человек. Вдвоем с Юрой они уже набросали что-то… А цирк они не только любят, но и хорошо понимают всю его специфику. Почему бы вам не посмотреть, что там у них получается? — Посмотреть можно, пожалуй, — не очень охотно соглашается Анатолий Георгиевич. — Только ведь едва ли….. — А вы не настраивайте себя так скептически раньше времени, — советует Михаил Богданович. — Давайте лучше поедем завтра к Елецкому.18
К Елецкому приезжают они вместе с Ириной Михайловной и застают у него Мошкина с Зарнициными. — Все уже в сборе, значит? — весело говорит Михаил Богданович. — Ну что ж, тогда начнем, пожалуй. — Прошу всех к столу, — немного смущаясь, приглашает их Юрий. — Я чаю вам сейчас… — К черту чай! — перебивает его Антон Мошкин. — Если идея будет одобрена, организуем что-нибудь посерьезнее. Тебе слово, Юра. Зарницины устраиваются на диване, остальные садятся за стол. Юрий, заметно нервничая, прохаживается по комнате. — Конечно, я не такой уж большой знаток цирка… — не очень уверенно начинает он. Но его снова перебивает нетерпеливый Антон: — О том, какой ты знаток, будет видно из последующего. Не трать зря время на это. — А вы не сбивайте его, — хмурится Маша. Юрий благодарно ей улыбается и сразу становится спокойнее. — Ну, в общем, идея такова: создать представление под девизом “В созвездии “Трапеции”. Такого созвездия, кажется, нет на небе… — Ну и что ж, что нет? — перебивает его Мошкин. — Зато оно появилось под куполом цирка с тех пор, как возникло цирковое искусство. Не случайно ведь фигура гимнаста на трапеции стала символом многих цирков мира. — Так вот, — продолжает Юрий, — под этим названием и хотели бы мы показать отдельные этапы развития цирка вплоть до наших дней… А также И его будущее. Прервав свою речь, он торопливо перебирает альбомы, разложенные на столе. А Анатолий Георгиевич, прослушав это вступление, уже почти не верит в успех замысла молодых художников. Он представляется ему унылым обозрением, лишенным единого сюжета и стройности. — Я набросал тут кое-что для наглядности, — протягивает ему один из альбомов Елецкий. — На первом эскизе странствующий балаган с убогим осликом, шарманщиком и двумя юными гимнастами. За их выступлением наблюдает антрепренер. Ему явно нравится их работа. Он берет их в труппу большого цирка. А вот большой цирк. Тут укротители, наездники, клоуны, акробаты. Все это в быстром темпе должно мелькать на манеже. А по куполу круговая кинопанорама, изображающая публику тех лет… Переверните страничку, там есть наброски всего этого. А потом типичный для буржуазных цирков смертный номер. Его исполняют уже знакомые нам бродячие гимнасты. Они работают под куполом цирка без сетки. В стереофонических динамиках звучит музыка, похожая на реквием… Труднейшие номера! Может быть, тройное сальто-мортале или два с половиной сальто-мортале с пируэтом, исполнявшееся когда-то мексиканскими гимнастами Кадонас в кинофильме “Варьете” с участием Эмиля Яннингса. А потом падение, катастрофа… Рев толпы в динамиках… Полицейские свистки… Теперь Анатолию Георгиевичу все это уже не кажется скучным. Он уже представляет себе, какое захватывающее повествование могут составить эти разрозненные сценки. Какими звуковыми и световыми эффектами можно их оформить, какими деталями обогатить. — А потом пламя революции, — не вытерпев, продолжает за Елецкого Антон Мошкин. — Фрагменты из цирковых пантомим тех лет: “За красный Петроград”, “Махновщина”. Воссоздание образов знаменитых цирковых артистов: Дуровых, Лазаренко, Труцци, Эйжена, Бим-Бомов… И не обязательно все на манеже. Многое можно снять на пленку и демонстрировать на куполе цирка. Осуществление антигравитационного эффекта Ильи Андреевича даст нам возможность освободить купол от значительной части подвесной аппаратуры и превратить в огромный экран. А сочетать действие на манеже с демонстрацией кинопленки можно по принципу чехословацкой “Латерны магики”. Все это время Анатолий Георгиевич, сосредоточенно листавший альбом Елецкого и казавшийся равнодушным ко всему тому, что говорили молодые энтузиасты, встает вдруг с дивана и решительно произносит: — Стоп! Вы меня убедили! И даже не столько вашими речами, сколько рисунками Юры. Тут есть за что ухватиться. Особенно в разделе “Цирк будущего”. В нем есть, однако, очень уязвимое звено — зависимость всего аттракциона от осуществления эффекта антигравитации. А что если он не осуществится? Анатолий Георгиевич вопросительно смотрит на Елецкого и Мошкина, будто от них зависит осуществление этого эффекта. Отвечает ему Маша. — Он осуществится, Анатолий Георгиевич! — произносит она с такой убежденностью, что не только главный режиссер, но и братья ее невольно улыбаются. — Ну что же, если так, то я буду только рад этому, — заключает Анатолий Георгиевич.19
К концу января сценарий циркового представления, написанный Елецким, Мошкиным и Анатолием Георгиевичем, утверждается наконец и принимается к постановке. В новом здании цирка уже готовы все четыре манежа. Один из них, как и обычно, находится наверху, в центре зрительного зала, а три в нижнем (подземном) помещении. Специальными механизмами они тоже поднимаются вверх, меняясь местами. Собственно, это даже не манежи, а площадки, приспособленные для ледяных ревю, водяных пантомим и конных номеров. Главный режиссер решает начать репетиции новой программы на двух нижних манежах одновременно. До премьеры времени мало, конечно, но Анатолий Георгиевич объездил многие цирки и пригласил для участия в новой программе тех артистов, номера которых подходили по сценарию. Их нужно было лишь несколько видоизменить в соответствии с сюжетом задуманной постановки. У Анатолия Георгиевича нет теперь ни одной свободной минуты. Нужно ведь побывать и на съемках отдельных фрагментов представления, которые будут демонстрироваться на куполе цирка. Необходимо прослушать и музыку. Ее пишет молодой, очень талантливый композитор. Много времени отнимает и художественно-производственный комбинат, готовящий костюмы. И вот в это напряженное время является к нему в кабинет Митрофан Холопов, развязный и наглый, как всегда. — Над новыми ревью мозгуете, Анатолий Георгиевич? — Да, замышляем кое-что, — нехотя отвечает ему главный режиссер. — Ходят слухи, будто нечто космическое? — Куда нам до космоса, — притворно вздыхает Анатолий Георгиевич. — А Зарницины? Одна Маша чего стоит! Но и их нужно уметь подать. Тем более, что космос — это, как я понимаю, у вас условность. — Как сказать, — неопределенно произносит Анатолий Георгиевич. — А я бы сказал, как подать, — самоуверенно усмехается Холопов. — И я бы мог помочь вам в этом. Меня сейчас один кинорежиссер обхаживает, но я бы с большой охотой… — Нет-нет, спасибо! — поспешно прерывает его Анатолий Георгиевич. — Мы уж как-нибудь и сами… — Смотрите, чтобы потом не пожалеть. На киностудии тоже ведь готовится съемка кинокартины из цирковой жизни. Им сейчас очень нужны циркачи, и я могу переманить к ним Зарнициных. — Не думаю, что вам удастся это, — пренебрежительно машет рукой Анатолий Георгиевич. — А я уж постараюсь, — почти угрожающе заявляет Холопов. — Не знаю, как Маша, а братья ее не очень-то дорожат вашим цирком. А без них и Маше грош цена. — Ну знаете ли, Холопов!.. — Ага, не нравится? Я так и знал, что это вам не понравится. Ну так знайте же, что я не пожалею сил, чтобы переманить Зарнициных в кино. Сегодня же сделает им предложение кинорежиссер Лаврецкий, авторитет которого, надеюсь, вам известен. В Маше Анатолий Георгиевич никогда не сомневался. Он знал, что она не мыслит своего существования вне цирка, но братья ее действительно ведь собираются на физико-математический. Их, пожалуй, нетрудно будет переманить… Все это не на шутку беспокоит теперь главного режиссера цирка, и он решает поделиться своими тревогами с Михаилом Богдановичем. — Вот уж не думал, что вы примете всерьез слова этого трепача, — смеется старый клоун. — Да Зарницины спят и видят теперь этот полет в пространстве с пониженной гравитацией. Не заметили вы разве, как они к нему готовятся? — Но ведь от Холопова всего можно ожидать. — Да, этот тип постарается, конечно, подложить нам свинью. Он действительно околачивается теперь на киностудии. За Зарнициных, однако, я ручаюсь. Их он ничем не возьмет. Так что за главный номер нашей премьеры можете быть спокойны. Но именно этот-то главный номер премьеры — “Космический полет Зарнициных”, — олицетворяющий цирк будущего, и заботит теперь Анатолия Георгиевича более всего. Он целиком ведь зависит от осуществления антигравитационного эффекта Ильи Нестерова. Казалось бы, что нет пока повода к беспокойству: работа по монтажу аппарата завершена строго по графику и вот уже второй день ведется его испытание. Эффект антигравитации хотя еще и не достигнут, но похоже, что все идет благополучно. Во всяком случае, никто из группы Ильи Нестерова не выражает ни малейших признаков волнения. И все-таки Анатолия Георгиевича что-то тревожит… Это чувство почти не покидает его все последние дни. Особенно ему не по себе сегодня на репетиции Зарнициных. Понаблюдав некоторое время за их полетом, он подходит к Ирине Михайловне. — Вы на меня не обидитесь, если я выскажу вам одно опасение? — негромко спрашивает он. — Я знаю, что вы имеете в виду, Анатолий Георгиевич, — не поворачиваясь к нему, отзывается Ирина Михайловна. — Я и сама уже не первый день с тревогой думаю об этом. Все может быть: Анатолий Георгиевич… Во всяком случае, нужно быть готовыми к этому. — Но ведь их новый номер не осуществится тогда, — говорит главный режиссер, показывая на мелькающих в воздухе Зарнициных. — И ведь какой номер! Ирина Михайловна лишь тяжело вздыхает в ответ. — А может быть, придумаем что-нибудь? Жаль ведь… — Что же можно придумать? — разводит руками Ирина Михайловна. — Многое вообще окажется неосуществимым, а то, что удастся сохранить, нужно непременно страховать. А это значит — снова предохранительная сетка и лонжи, от которых мы так мечтали избавиться. Они молчат некоторое время, погруженные в раздумье, потом Анатолий Георгиевич решает: — Будем спасать, что возможно. Готовьтесь к этому, Ирина Михайловна.20
С воспроизведением антигравитационного эффекта и в самом деле не ладится что-то. Найдены, правда, отдельные недостатки в монтаже и изготовлении некоторых деталей аппаратуры. Незначительные ошибки обнаружены и в математических расчетах. На устранение всех этих погрешностей уходит около недели. Но и после этого никакого антигравитационного эффекта в установке Ильи Нестерова не возникает… Илья думает, надо бы посоветоваться с отцом, но Андрей Петрович вообще ведь не очень верит в его удачу. Он все еще считает всю эту затею с постановкой такого эксперимента в цирке не очень серьезной. Дав Илье измерительную аппаратуру и кое-какие материалы, он ничего больше не предпринимает, чтобы помочь ему. Даже встречаясь с ним дома вечерами, не спрашивает, как идут дела. А Илья сидит теперь с заведующим цирковым конструкторским бюро и угрюмо перелистывает чертежи своей установки. Виктор Захарович Миронов хотя и сочувствует ему, но ничем не может помочь. Ему тоже кажется, что в аппаратуре Нестерова выверены все мельчайшие ее детали и что с технической точки зрения замысел Ильи воплощен в почти идеальную конструкцию. Надо бы, однако, утешить чем-нибудь молодого ученого, но чем?.. — Давайте-ка отложим все это до завтра, — предлагает он наконец, так и не придумав ничего более утешительного. — А завтра на свежую голову… Но тут в дверях конструкторского бюро появляется Лева Энглин, отсутствовавший весь день. — Что приуныли, друзья? — весело произносит он. — Не понимаете, в чем у вас загвоздка? Дайте-ка сюда схему установки, я покажу вам, где в ней ошибка. Илья резко поворачивается к Энглину. Смотрит на него с явным недоверием. — Я не шучу, Илья, — повторяет он. — Это всерьез. Я обнаружил довольно грубую ошибку. Она в этих вот блоках, — стучит он указательным пальцем по схеме. — Их нужно переделать. Необходимо изменить и сечение пьезокристаллов. Вот я тут все подсчитал, — протягивает он Илье несколько листов бумаги, густо исписанных графическими знаками и цифрами. Склонившись над схемой, разостланной на барьере манежа, Илья придирчиво сверяет свои расчеты с расчетами Энглина. А Лева, стоя за его спиной, продолжает: — Сам-то я, может быть, и не обнаружил бы этой ошибки, если бы не указал мне на нее Аркатов… — Какой Аркатов? — порывисто оборачивается к нему Илья. — Академик Аркатов, какой же еще. — Ты решился, значит… — А почему же не решиться? — прерывает его Лева Энглин. — Почему, спрашиваю, не решиться, если почтенного академика Аркатова встретил я в нашем институте в обществе твоего отца? Мало того, он лично демонстрировал Аркатову твою антигравитационную установку. Все в самом деле было так, как сообщил Илье Лева Энглин. Неведомо каким образом, но Аркатову стало известно, что Илья Нестеров собирается повторить свой эксперимент на цирковой арене. Новость эта, однако, не очень удивила его. Во всяком случае, после разговора с Андреем Петровичем, которому академик тотчас же позвонил, он сказал своему секретарю: — А знаете, я, пожалуй, поступил бы точно так же на его месте. В тот же день он без предупреждения заехал в научно-исследовательский институт и попросил Андрея Петровича продемонстрировать ему эксперимент Ильи. — Достаточно ли устойчив этот эффект частичной потери веса? — спросил он Нестерова. — Полагаю, что достаточно, — ответил ему директор института. — А зона его действия? Каковы ее границы? — Строго ограниченные. — Вы понимаете, почему я задаю вам эти вопросы? — Да, Виталий Николаевич. Вы боитесь… — Я ничего не боюсь, дорогой мой Андрей Петрович! — весело перебил его Аркатов. — Я не из тех ученых мужей, которые… Ну да и… в общем, вы меня понимаете. Так что пусть Илья Андреевич продолжает, раз уж начал. Конечно, цирк не совсем то место для эксперимента, но ведь мы же вообще не предоставляем ему никакой возможности для повторения его опыта. И вы думаете, ему удастся это? — Почти не сомневаюсь, но ведь не это сейчас самое главное. Главное — это изучение достигнутого им эффекта, теоретическое обоснование его, а разве цирк подходящее место для этого? — Я уже сказал вам, что не совсем, — рассмеялся Аркатов. — Но вы его не расхолаживайте. Пусть завершает установку. Это и нам сможет потом пригодиться. В таком масштабе, как в цирке, его эксперимент у вас в институте ведь не поставишь. Каков размер цирковой арены, знаете? Ай-яй-яй! А еще в семье циркачей живете! Любой мальчишка это знает. Тринадцать метров диаметр их арены, дорогой мой Андрей Петрович! Такой же он и в цирках всего мира. Это у них, если хотите, своя “мировая постоянная”, подобно таким нашим константам, как постоянная Планка или скорость света. Так что не стоит отказываться от их плацдарма. — Но ведь для изучения эффекта антигравитации совсем не обязательны такие масштабы, — все еще упрямится Андрей Петрович. — Как знать, как знать, — задумчиво покачал головой академик. — Нужно ведь думать не только о теоретическом обосновании этого эффекта, но и о практическом его применении. И притом не только в цирке. Я уже разговаривал с вице-президентом. Думаю, что не сегодня-завтра вы получите официальное распоряжение заняться изучением эксперимента вашего сына со всей серьезностью. Но, повторяю, в цирке пусть все идет своим чередом. Помогите им даже чем возможно. Сообщение Левы Энглина воскрешает Илью. Пробежав глазами его расчеты, он с лихорадочной поспешностью начинает набрасывать эскизы каких-то новых деталей своего аппарата. — А я на вашем месте не стал бы так торопиться, — кладет ему руку на плечо инженер Миронов. — Если не возражаете, займемся завтра вместе. Илья крепко жмет ему руку. …Затаив дыхание все напряженно смотрят на измерительные приборы, установленные в центре манежа. Их стрелки все еще неподвижны. Илья Нестеров приглушенным голосом командует: — Переключите реостат еще на два деления, Виктор Захарович!.. Еще на одно! А стрелки по-прежнему недвижны, будто припаяны к нулевым делениям шкал. — Вы все уже выжали? — спрашивает Илья у Миронова. — Остались последние два деления, Илья Андреевич. — Включайте тогда до отказа! И тут на одном из приборов стрелка вздрагивает вдруг. Вздрагивает, но дальше не идет… — Ну что ты скажешь, Лева? — порывисто оборачивается Илья к Энглину. — Видел ты, как она дрогнула? — Да, видел, — взволнованно отзывается Энглин. — И уже почти не сомневаюсь в успехе. Нужно только снова все пересчитать. В чем-то есть еще неточность. Догадываюсь даже в чем. Выключайте установку. Виктор Захарович. И они снова все пересчитывают и выверяют, но никаких ошибок уже не находят больше. — Может быть, отложим до завтра? — спрашивает Миронов, взглянув на часы. — Мы, конечно, все устали, но я все-таки останусь и поработаю еще немного, — упрямо произносит Илья. — Тебе, Лева, тоже пора отдохнуть. Миронов вопросительно смотрит на Леву. Энглин, сделав вид, что не расслышал слов Ильи, снимает пиджак и засучивает рукава рубашки. — Давайте-ка попробуем сразу включить полную мощность, — обращается он к Миронову. — Ну вот что тогда, — останавливает его Виктор Захарович. — Устроим пятнадцатиминутный перерыв и поужинаем. У меня, кстати., есть кое-что. Сейчас схожу к себе в бюро и принесу… — Зачем же ходить? — прерывает его появившийся в проходе Михаил Богданович. В руках у него чемоданчик. Он кладет его на барьер манежа и торжественно открывает крышку. — Вот, пожалуйста, угощайтесь! — Ты у нас, дед, просто маг и волшебник! — весело потирает руки Илья. — Перекусить действительно не мешает. А спустя несколько минут все снова занимают свои места у пультов управления и измерительных приборов. — Включайте, Виктор Захарович! — командует Илья. И опять вздрагивает стрелка. Двинувшись слегка вверх по дуге шкалы, она, однако, снова возвращается к нулю. И вдруг на манеж выскакивает Михаил Богданович. Он высоко подпрыгивает несколько раз и безо всякого трамплина делает двойное сальто-мортале. — Видимо, стрелки заело в ваших приборах! — радостно кричит он и бросается обнимать внука. — Поздравляю тебя с победой, Илюшка! И всех вас тоже, дорогие мои!21
Репетиции Зарнициных в ослабленном поле тяготения решено начать спустя два дня. К этому времени уточняется степень понижения гравитации в зоне манежа и стабильность этого явления. Определяются ее границы. Вводятся кое-какие усовершенствования и упрощения в конструкцию аппаратуры. А на первую репетицию Зарнициных приходит не только администрация цирка, но и почти все начальство Союзгосцирка. — Что же это такое?! — в ужасе восклицает главный режиссер. — Как же можно в таких условиях репетировать? Они ведь не совершили еще ни одного полета в зоне невесомости… И вообще не знают, что у них может получиться, а вокруг уже обстановка ажиотажа. Нет, так нельзя! Так я просто не смогу начать репетицию… — А ведь Анатолий Георгиевич прав, — соглашается управляющий Союзгосцирком. — Надо дать им освоить новый номер в спокойной обстановке. И вот теперь на манеже только Зарницины, Анатолий Георгиевич, Ирина Михайловна да несколько униформистов. У пульта управления Илья и Виктор Захарович. В директорской ложе — Михаил Богданович, Юрий, Антон и дежурный врач, приглашенный на всякий случай главным режиссером. Манеж ярко освещен. Зарницины легкими, изящными прыжками вскакивают на предохранительную сетку. — А может быть, начнем сразу без нее? — спрашивает Алеша Зарницин. — Нужно с первой же репетиции приучить себя к мысли, что никакой страховки уже не существует. — Нет, Алеша, этого я не смогу вам позволить, — решительно возражает Ирина Михайловна. — Пока вы не освоитесь с новыми условиями полета, будете работать с предохранительной сеткой. Мало того, пристегните-ка покрепче еще и пояса с лонжами. Кто знает, какова будет инерция ваших полетов. Алеша собирается протестовать, но Маша останавливает его: — Зачем же спорить с разумными предложениями, Алеша? Все и так знают, какие мы храбрые, — добавляет она с улыбкой. Легкий толчок о пружинящую сетку — и Маша взлетает на мостик. (Раньше без лесенки взобраться на него было невозможно.) Ее примеру следуют и братья, Алеша при этом отталкивается с такой силой, что перелетает через мостик и снова летит в сетку. — Ну что, — смеется Маша, — будешь ты теперь протестовать против сетки? — Наверное, нужно будет развесить ловиторку и трапеции подальше друг от друга! — кричит снизу Ирина Михайловна. — А пока будьте осторожны и не слишком напрягайте мышцы, надо ведь сначала приноровиться к новым условиям. Когда Сергей, совершив несколько пробных полетов, повисает вниз головой в своей качающейся ловиторке, Ирина Михайловна советует Маше: — Попробуйте пока только одно заднее сальто в руки Сереже. И со слабого швунга. Маша непривычно осторожно берется за гриф трапеции и совершает плавный кач. Затем энергичным броском отрывается от нее, набирает высоту и грациозно разворачивается в заднем сальто-мортале. Обычно в это время сильные руки брата всегда оказывались возле нее, но сейчас он уже ушел в противоположную сторону, и Маша плавно летит в сетку… Через полчаса устраивают перерыв. Усаживаются на барьере манежа, возбужденно обсуждают неудачи. — Такое впечатление, будто всему нужно учиться заново, — обескураженно произносит Алеша. — Почему же заново? — вскидывает на него удивленные глаза Маша. — Просто нужно привыкнуть, освоиться… — А я считаю, что нужно послушаться совета Ирины Михайловны и увеличить расстояние между моей ловиторкой и трапециями, — прерывая сестру, убежденно заявляет Сергей. — Зачем нам переучиваться и изменять тот темп, к которому мы давно привыкли? Многие наши движения отработаны ведь почти до автоматизма. А это достигнуто ежедневными тренировками в течение нескольких лет. Зачем же нам начинать теперь все сначала? Этим только весь эффект невесомости можно испортить. — Конечно, это ни к чему, ребята! — возбужденно восклицает Михаил Богданович. — Просто нужно, чтобы вы пролетали большие расстояния и не гасили дополнительную инерцию, а расходовали бы ее на новые фигуры своих трюков. Вокруг гимнастов собираются теперь все присутствующие на их репетиции. Илья, сосредоточенно чертивший что-то на бумаге, протягивает ее Сергею Зарницину: — Я вполне согласен с вами. И вот прикинул даже целесообразное размещение ваших трапеций в соответствии с условиями ослабленного гравитационного поля. — Пожалуй, действительно лучше сразу же начать работу на тех дистанциях, которые необходимы для ваших новых номеров, — соглашается с ним и главный режиссер. — Виктор Захарович, — обращается он к заведующему конструкторским бюро, — когда бы вы смогли перевесить аппаратуру Зарнициных? — К завтрашнему утру все будет готово, Анатолий Георгиевич. К этому времени в Академии наук окончательно решается вопрос об изучении “эффекта Нестерова-младшего” в научно-исследовательском институте Андрея Петровича. Илья теперь тут день и ночь. — А как же твоя цирковая установка? — спрашивает его отец. — Она уже создана и запущена, — беспечно отвечает Илья. — А эксплуатация ее — дело нехитрое. К тому же ведает ею опытный инженер, заведующий цирковым конструкторским бюро Виктор Захарович Миронов. — А я на твоем месте не был бы так спокоен, — задумчиво произносит Андрей Петрович. — Пока мы не разработаем физическую теорию обнаруженного тобой эффекта, ни в чем нельзя быть уверенным. — А не припомнишь ли ты, папа, когда был сконструирован первый электрический двигатель? — самодовольно улыбается Илья. — В тысяча восемьсот двадцать первом году, кажется? — В тысяча восемьсот двадцать первом году Фарадеем был создан лишь прибор для преобразования электрической энергии в механическую, — уточняет Андрей Петрович. — А датой создания первого электрического двигателя, пригодного для практических целей, следует считать тысяча восемьсот тридцать восьмой год. Конструктором его был русский ученый Якоби. — Ну хорошо, — охотно соглашается Илья, — пусть будет не тысяча восемьсот двадцать первый, а тысяча восемьсот тридцать восьмой год. А что было тогда известно об электричестве? Вспомни-ка наивные теории того времени о невесомых электрических жидкостях-флюидах и эфире. Лишь спустя почти полвека после создания первого электрического двигателя Максвелл дал наконец математическое оформление тогдашних воззрений на электричество. А ведь в практическом применении у человечества существовали уже электромагниты, телеграф, гальванопластика, электродвигатели и генераторы тока. В сороковых годах девятнадцатого века появляются и осветительные электрические приборы. — К чему ты это, Илюша? — удивляется Андрей Петрович. — А ты не понимаешь? Да все к тому же, что теория не всегда успевает за практикой. А что касается физической теории электричества, то она, как тебе известно, и сейчас еще не завершена. А ведь с тех пор, кроме Максвелла, Герца и Лоренца, немало потрудились над нею и Эйнштейн, и многие современные ученые. Нет, следовательно, ничего невероятного и в том, что моим эффектом уже сейчас пользуются цирковые артисты, не ожидая, когда появится его математический аппарат. — Ну, а эти воздушные гимнасты в цирке имеют хоть какие-нибудь предохранительные средства на случай, если их подведет твой антигравитационный эффект? — допытывается Андрей Петрович. — Ведь чем черт не шутит, — добавляет он уже шутя, заметив, как помрачнел Илья. — Ты об этом не беспокойся, папа. На них предохранительные лонжи, а внизу — сетка да униформисты.22
Митрофан Холопов выбрал не очень подходящее время для разговора со своим шефом — режиссером экспериментальной киностудии Аркадием Марковичем Лаврецким. Режиссер сегодня явно не в духе. У него что-то не ладится со съемкой его сатирического фильма об абстракционистах. Он показывал вчера отснятые куски кинокритику, с мнением которого очень считается художественный совет, и тот не порадовал его похвалой. — В общем, ничего, вполне приемлемо, — снисходительно заявил критик. — Но если судить вас по большому счету (а вас именно так и следует судить, ибо вы мастер и от вас ждут не просто хорошей, а принципиально новой ленты), то это… Как бы это вам сказать? Ну, в общем, не совсем то. Не оригинально. Критик говорил и еще что-то, похваливал за какие-то эпизоды, но Лаврецкому уже было ясно, что показанные куски фильма ему не понравились, и это надолго испортило ему настроение. А тут теперь этот Холопов стоит над душой и клянчит что-то. Аркадий Маркович почти не слушает его, у него полно и своих забот, однако присутствие Холопова невольно заставляет его вспомнить единственную искреннюю похвалу кинокритика: — А вот рисуночки абстракционистов получились у вас подлинными. И это вы правильно сделали. Это создало убедительность, достоверность высмеиваемой вами живописи. “А что, — думает теперь Лаврецкий, — если я и абстракциониста покажу настоящего, живого, в натуральном виде, так сказать…” — Слушай-ка, — неожиданно обращается он к Холопову, — ты играл когда-нибудь на сцене? Холопов мнется: — Видите ли… — Вот и хорошо! Значит, не испорчен и будешь непосредствен. Завтра же пересниму все эпизоды, в которых снималась эта бездарность — Пташкин. Его роль, роль абстракциониста, сыграешь ты! — Но как же так, Аркадий Маркович? — А вот так! Да тебе и играть-то ничего не надо, — будешь самим собой. Лучшего все равно не придумаешь. И как я раньше этого не сообразил? — Ну, если вы так считаете… — Я в этом убежден. И все об этом! — А как же с циркачами? — С какими циркачами? — Я же вам уже полчаса о них… — А, не морочь ты мне этим голову! Зачем мне твои циркачи? — А принятый вами сценарий о цирке? — Это еще когда будет. — Но ведь великолепный сценарий. Потрясающий фильм может получиться. И об этом уже надо думать. Лаврецкий досадливо машет рукой: — Успеется. — А вы прочтите еще раз — грандиозную ленту можно сделать. Настоящий большой цирк на широком экране! Такой, какого нигде еще нет и не может быть, потому что в цирках занимаются этим прозаические люди, без фантазии, без размаха. В кино тоже ничего монументального еще не создано. А ведь средствами современной кибернетики и оптики такое можно сделать!.. — Хорошо говоришь, — невольно заинтересовывается мыслями Холопова Лаврецкий. — Ты ведь, кажется, еще и физик? — Бывший студент физико-математического. Я и к цирку имею отношение. А главное — хорошо знаю тех, кто нам нужен для такого фильма. Есть такой художник — Елецкий, никому не известный, но талантище! Нет-нет, не абстракционист, а самый настоящий реалист. И пишет только цирк. И мыслит, и видит все только его образами. Самобытен, как никто еще… — Да ты что о нем так?.. Приятель он твой, что ли? — Напротив — почти враг. — Ну и ну!.. — удивленно покачивает головой Лаврецкий. — И не только Елецкий нам пригодится. В цирке выступают сейчас потрясающие воздушные гимнасты, Зарницины. Форменные птицы! Особенно Маша. Сегодня же организую билеты — посмотрите сами. — Ты меня заинтересовал, — произнес Лаврецкий, задумчиво поглаживаялысину. — Очень заманчиво все это. Нужно будет перечитать сценарий. Как-нибудь и в цирк сходим. Прежде, однако, нужно разделаться с абстракционистами. — А с Елецким можно мне начать переговоры? — робко спрашивает Холопов. — Есть еще приятель у него — Мошкин, искусствовед и потрясающий эрудит. Один из лучших знатоков цирка. Вы только разрешите, я таких людей привлеку, с помощью которых мы отгрохаем феноменальнейший суперфильм о новом советском цирке. Американцам даже и присниться такой не может. — Ну ладно, довольно хвастаться! Приведи кого-нибудь из них, а сам готовься к съемкам. Репетиции в цирке идут теперь без особых осложнений каждый день. Как только увеличиваются дистанции между ловиторкой и трапециями, сразу же вырабатывается темп, необходимый для прихода гимнастов в руки друг другу. Теперь вольтижеры совершают все свои трюки, не нуждаясь в слишком большом наборе высоты. Они вполне успевают выполнить их за время плавного и гораздо более широкого полета через воздушное пространство арены. Гораздо больше времени теперь и у ловитора. Он успевает обдумать и рассчитать, в какой момент и в каком темпе идти ему на сближение с вольтижером. — А не пора ли нам распрощаться с сеткой и лонжами? — предлагает Алеша на десятый день репетиции. — Через четыре дня, — обещает Ирина Михайловна. — Как раз две недели будет. — Ну, если уж для ровного счета только! — смеются Зарницины. Через неделю сетку и лонжи действительно снимают. С непривычки работать над “голым” манежем не очень-то приятно, хотя вероятность падения почти исключена. Движения гимнастов теперь очень плавные, а “трасса” полетов значительно большая, это дает вполне достаточное время для того, чтобы ориентироваться в воздухе с почти ювелирной точностью. — У меня такое ощущение, Ирина Михайловна, — заявляет Маша Зарницина, — будто не мы стали легче, а воздух сделался плотнее. Стал держать нас почти как вода. А без сетки, к которой мы за многие годы чисто психологически привыкли, лишь первое время было немножко страшновато. Но теперь я лично чувствую себя в гораздо большей безопасности, чем с сеткой и лонжами. Это Маша говорит утром, до начала репетиции. А спустя полчаса, после того как взбирается на отходной мостик и с безукоризненной точностью проделывает все фигуры своего трюка, она приходит в точку встречи с Сергеем на несколько мгновений раньше его и, не поймав рук брата, летит в зрительный зал… Полет ее хотя и плавный, но совершается с такой высоты, что тяжелый ушиб о кресла партера кажется неизбежным. Ирина Михайловна и униформисты бросаются к ней навстречу, но и им и ей ясно, что не успеть. И вдруг из полутьмы зрительного зала, опрокидывая и сокрушая все на своем пути, вырастает перед Машей огромная фигура неизвестно откуда появившегося Юрия Елецкого. Он подхватывает ее своими сильными руками, но, не удержав равновесия, падает вместе с ней в проходе между креслами. Теперь возле них уже и Ирина Михайловна и униформисты. Успевают стремительно соскользнуть по канату на манеж и Машины братья. — Господи, как же это вы так? — испуганно восклицает Ирина Михайловна, склоняясь над Машей. — Что же это такое случилось с вами?.. Не разбились вы? Но всем и без этого ясно, что не разбилась. Она снова уже па ногах. Улыбаясь, жмет руку Юрию: — Пели бы не он, сломала бы себе голову или ноги… — И откуда вы взялись, Юра? — удивляется Ирина Михайловна. — Просто чудеса какие-то творятся сегодня. — Раз Маше грозила беда, — убежденно говорит за Елецкого Мошкин, — Юра не мог не взяться… — Ну ладно, хватит вам разводить мистику, — сердится Ирина Михайловна. — Как вы оказались тут на самом-то деле? — Да ведь очень просто, Ирина Михайловна, — смущенно переминаясь с ноги на ногу, объясняет Юрий. — Вошли только что, ну и увидели, что Маша падает… — Увидели!.. — перебивает его Мошкин. — Я лично ничего не увидел. Я только услышал, как затрещала какая-то лестница, которую Юра опрокинул, устремляясь к манежу. Долго еще не утихает шум удивленных, восторженных и благодарных голосов, а Ирина Михайловна, уже успокоившаяся за Машу, тревожится теперь о другом. Как же работать Зарнициным дальше? Неужели снова вешать сетку и лонжи? — Но ведь это же явная случайность! — уверяет ее Маша. — Правильно, случайность, — соглашается Ирина Михайловна. — А где гарантия, что она не повторится? — Опять, значит, сеточку расстелим? — морщится, как от реальной физической боли, Алеша. — А что было бы с Машей, если бы Юра не подоспел? А разве вы, Алеша, не можете сорваться? Я ведь тоже не за сетку, это вам известно, но тогда нужно придумать что-то другое… — И чего вы ломаете голову над этим? — удивленно пожимает плечами Маша. — Проще простого решается вопрос. Юра показал нам его решение. Нужно поставить пассировщиков-униформистов с четырех сторон манежа. Мы ведь срываемся с большой высоты, и падение наше происходит довольно плавно. За это время униформисты могут подоспеть в любую точку манежа. — А если мимо? В партер, как Маша только что? — Ну, это я сама виновата, — смущенно улыбается Маша. — Нужно было укоротить полет задним сальто. Да и вряд ли вообще это случится еще раз. Просто нужно быть немножко повнимательнее. — Ну что ж, — соглашается наконец Ирина Михайловна после некоторого раздумья, — давайте ограничимся пока лишь этой мерой предосторожности.23
Уже за полночь, а у братьев все еще виден свет под дверью, хотя и не слышно их голосов. Но они тоже не спят, конечно… Поняли ли они, в чем было дело? Догадались ли, почему сорвалась Маша? Сергей, пожалуй, должен был догадаться… А может быть, все-таки не догадался? Может быть, это вообще такая исключительная случайность, которая и не повторится больше никогда? Тогда незачем их тревожить, раз они не знают ничего… Но почему они не спят? О чем шепчутся? Затаив дыхание Маша прислушивается. Да, конечно, они шепчутся. Она не разбирает слов, но слышит их приглушенные голоса. Секреты это у них или они не хотят разбудить ее, полагая, что она спит? А может быть, влюбился кто-нибудь из них и поверяет теперь свою сердечную тайну брату? Но кто? Если Алеша, то он скорее ей признается, чем Сереже. А Сергей вообще никому не станет признаваться. И потом, зачем им свет? О таких вещах и впотьмах можно говорить. А раз не гасят, значит, он им нужен. Значит, они что-то делают там при свете. Может быть, чертят что-то. Но что? Схему нового трюка? Но почему без нее? Они никогда ведь не делали этого втайне от нее… Маша уже не может лежать спокойно. Она встает и идет к их комнате. Останавливается на мгновение и, совершенно отчетливо услышав слово “опасность”, решительно распахивает дверь. Ну да, они действительно сидят за столом и так сосредоточенно чертят что-то, что даже не слышат, как она входит. — Что это за совещание у вас, мальчики? — негромко говорит Маша, и они испуганно оборачиваются в ее сторону. — Опять какие-то тайны от меня? — Ну что ты, Маша! — обиженно восклицает Алеша. — Какие могут быть тайны от тебя? — А хотите, я скажу вам какие? — Да нет у нас никаких тайн, — поддерживает брата Сергей. — Просто мелькнул замысел нового трюка, вот и набрасываем его схему. — А почему со мной не захотели посоветоваться? — Думали, что спишь… — Нет, мальчики, меня вы не проведете. И я вам скажу, о чем вы тут шептались. О причине моего падения, правда? Не случайно ведь это… Братья молчат, но по их лицам Маша уже безошибочно знает, что угадала, и продолжает: — Да, мое падение не было случайным. Оно произошло потому, что я вдруг потяжелела. Вернее, ко мне вернулся на какое-то мгновение прежний вес, и я полетела к Сереже с большей скоростью, чем та, на которую мы рассчитывали. А это значит… это значит, что гравитационное поле над манежем не постоянно. — Да, Маша, именно это нас и встревожило, — признается наконец Алеша. — Со мной тоже случилось такое. Я в тот момент возвращался на мостик и чуть не перемахнул через него. — Ну и что же нам теперь делать? — растерянно спрашивает Маша. — Если сказать об этом Илье Андреевичу, они сразу же начнут поиски неисправности и надолго выключат нашу аппаратуру… — Да и не в аппаратуре, наверное, дело, — перебивает ее Сергей. — В ней, может быть, и нет никаких неисправностей. Главное, по-моему, в том, что они просто сами еще не знают природы того явления, которое называют антигравитационным эффектом. А нестабильность этого эффекта их насторожит. И, конечно же, они немедленно запретят нам репетиции, пока не разберутся, в чем дело. — Но что же делать, мальчики? — Не сообщать им ничего!.. — резко поворачивается к сестре Алеша. — Ни Илье Андреевичу, ни Ирине Михайловне. Об этом должны знать только мы. Ты понимаешь меня?.. Нет, Маша его не понимает, хотя и догадывается, что братья ее придумали что-то. — Погоди, Алеша, — отстраняет брата Сергей. — Дай я ей объясню. Ты ведь знаешь, Маша, что мы смыслим немного в физике? Вот и подсчитали, что может произойти в результате временного восстановления нормальной гравитации. Для этого не требуется знания теории относительности и квантовой механики, достаточно и обычной механики в пределах курса средней школы. Видишь, сколько мы бумаги перемарали? Это все наброски твоих и Алешиных положений в воздухе, при которых особенно опасно неожиданное повышение гравитации. Маша внимательно всматривается в рисунки, недоумевая, почему такими опасными положениями считают они моменты отрыва от трапеции и рук ловитора. — Неужели не понятно? — удивляется Алеша. — Ведь именно в момент отрыва мы с тобой делаем рывки, от которых зависит инерция наших полетов. И очень важно при этом, какой вес имеют наши тела. Об этом всегда нужно теперь помнить и все время быть начеку. Особенно Сереже, чтобы при любых обстоятельствах вовремя прийти в точку встречи с нами. — В Сереже-то я нисколько не сомневаюсь, — обнимает брата Маша. — Он никогда не потеряет головы. Всегда сумеет каким-то шестым чувством обнаружить неточность полета и молниеносно сообразить, как ее исправить. Ну, а как быть в тот момент, когда идешь на мостик с большей инерцией, чем необходимо? — Поверь нам, Маша, — смешно прижимает руку к сердцу Алеша, — продуманы все случайности и учтены все опасные моменты, и если ты не побоишься… — Я не побоюсь!.. — нетерпеливо перебивает его Маша. — Мы и не сомневались в тебе, — счастливо улыбается Алеша. — А беспокоила нас все это время вовсе не опасность падения. Напротив — отсутствие опасности. Маша поднимает на него удивленные глаза. Опять какая-то загадка? — Известны ли тебе, Маша, слова Луначарского о цирковых артистах? — вступает в разговор Сергей. — Их привел нам как-то Михаил Богданович. “Специалистами отваги” назвал нас Луначарский, а цирк — “школой смелости”. И нам с Алешей казалось все время, что этой-то отваги и смелости как раз не хватает в нашем новом номере. Малейший элемент риска был вроде исключен… — О, теперь-то наконец я поняла вас! — гневно восклицает Маша. — Смертного номера захотели, значит? Ну, знаете ли, не ожидала я от вас этого! Будем, значит, возрождать худшие стороны буржуазного цирка! — Ну что ты, право, Маша! — Они еще Луначарского цитируют! — не унимается Маша. — Да разве вы понимаете его? От возмущения Маша не находит слов, но постепенно берет себя в руки и уже спокойнее продолжает: — Анатолий Васильевич считал ведь, что физическое развитие лишь тогда подходит к своему завершению, когда достигается подлинная красота. Он считал такую красоту естественным мерилом правильного физического развития. Там, где цирковой номер поражает вас грацией и легкостью, — говорил он, — где изумительные вещи, кажущиеся чудом, проделываются с естественностью, далеко превосходящей естественность походки любого обывателя, — там торжествует человеческий дух. И Луначарский был совершенно убежден, что торжествует он потому, что воля гимнаста подчинила себе и мускулы его, и кости. Вот ведь что действительно является самым прекрасным в цирковом искусстве. А вы вздыхаете о каких-то смертных номерах! Мне просто стыдно за вас, мальчишки! — Напрасно ты так о лас… — обижается Алеша. — Мы ведь… — Ну ладно! Не будем больше об этом. А план ваш я принимаю.24
Спустя два дня, когда Зарницины приходят на репетицию, их встречает улыбающаяся Ирина Михайловна. — А у меня сюрприз для вас, — весело говорит она. — Взгляните-ка наверх. Они с любопытством поднимают головы и видят почти под самым куполом какой-то снаряд, похожий на космическую ракету. — Догадываюсь, — говорит Сергей. — В этой штуке мы должны будем совершать “космический полет”. — Не только совершать полет, но и работать на этой ракете, а вернее, около этой ракеты, — уточняет Ирина Михайловна. — Она теперь заменит вам отходной мостик. — А почему это ни Юры, ни Антона не видно третий день? — спрашивает Маша. — Кажется, Юра заболел, — сообщает кто-то из униформистов. — Не верится что-то, чтобы Юра мог заболеть, — с сомнением качает головой Маша. — Говорят, он сильно ударился обо что-то, когда бежал вас ловить, — объясняет униформист. — Ударился? — встревоженно переспрашивает Маша. — Непременно нужно навестить его сегодня! Она тепло думает о Юре весь этот день, вспоминая, как подхватил он ее тогда своими сильными руками. Неизвестно ведь, чем бы кончилось для нее это падение, не подоспей он вовремя. Она, пожалуй, могла бы сломать себе ноги, но ведь и он, оказывается, ушибся. Кто-то из униформистов шутил тогда, будто Юра разнес в щепки какую-то лестницу. А вдруг он и в самом деле повредил себе что-нибудь. И даже знать не дал, что болен, а они и не вспомнили о нем ни разу за все это время!.. К Юре она приходит с братьями. Дверь им открывает Антон Мошкин. — Наконец-то заговорила совесть! — мрачно произносит он. — Так ведь не знали же, что Юра болен, — оправдывается Алеша. — Раз два дня его не видели, нетрудно было догадаться, что с ним что-то случилось, — все еще ворчит Антон. — Мы же все время в новом здании. Нас теперь от всех выступлений освободили. Буквально день и ночь готовим свой номер. А у Юры и в старом помещении часто бывают разные дела… — Нет у нас оправданий, конечно, — прерывает брата Маша. — Виноваты. Однако вы, Антоша, могли бы и сообщить нам, что Юра заболел. — Не велел он мне этого, — понижает голос Антон. — Сами знаете, какой у него характер. Но хватит об этом! Все разделись? Тогда пошли. — А что с ним? — спрашивает Маша. — Ушибы, — шепотом сообщает Антон. — Недели две, а то и больше придется теперь лежать. — Ого, целая делегация! — Юрий пытается приподняться на диване. — Решили, наверное, что я уже отдаю концы? — Не смей подниматься, Юрий! — рычит на него Мошкин. — Лежи спокойно. Это твои друзья пришли, а не похоронная комиссия, так что веди себя прилично. — Как вам не стыдно, Юра, не сообщить нам, что заболели, — укоризненно говорит Маша. — Да какая это болезнь! — пренебрежительно машет рукой Елецкий. — Это не столько врачи, сколько Антон меня уложил. А у вас серьезные репетиции, что же я буду беспокоить вас по пустякам. Маша садится рядом с больным и берет его руку. — Это ведь вы из-за меня что-то себе повредили… Никогда не прощу себе, что так поздно узнала о вашей болезни. — Ну да что вы, право, — смущается Юрий. — Наверное, Антон наговорил вам каких-нибудь страстей? Но это ему так не пройдет! Уж я — то уложу его основательнее, чем он меня. — Но это когда выздоровеешь, — деловито уточняет Антон. — А как вы насчет чая? — обращается он к Зарнициным. — Чаю действительно не худо бы, — соглашается Сергей. — Помоги организовать это, Маша, а мы пока тут побеседуем с Юрой. Он садится на место поднявшейся Маши и берет со столика, стоящего возле Юриного дивана, целую стопку книг. — Наверное, Антон вместо лекарств художественной литературой вас лечит? — усмехается Сергей. — Да, порекомендовал вот прочесть все это, — улыбается Юрий. — Он ведь думает, что я пролежу тут не менее года. — И все поэзия, — замечает Алеша. — Блока я и сам бы почитал. А вот о Петрарке только слышал. — Да где вам, физикам, читать Петрарку! — усмехается вернувшийся с кухни Антон Мошкин. — Вы больше Винером да Эшби увлекаетесь. А между прочим, у Юры с Петраркой много общего, хотя он об этом и не подозревал до тех пор, пока я ему не объяснил. — Может быть, тогда и нам объясните? — просит Маша. — А общее у них то, — с неестественной для него грустью произносит Антон Мошкин, — что Франческо Петрарка почти все свои сонеты и канцоны посвятил прекрасной и очень гордой даме — мадонне Лауре. А Юра Елецкий обрек себя на то, чтобы всю жизнь рисовать только Машу Зарницину. — Ну, знаешь ли, Антон!.. — скрежещет зубами Юрий, снова делая попытку подняться. — Ну-ну, только без буйства! — смеется Маша, осторожно укладывая его па диван. Ей очень приятно тут с неправдоподобно влюбленным в нее Юрой (она ведь не верит этому всерьез), с остроумным, всезнающим Антоном, с братьями, которых любит она больше всего на свете. Сидеть бы так весь вечер за чаем, болтать о разных пустяках, слушать то иронические, то гневные Антоновы тирады, но надо и домой… И вдруг резкий звонок. Антон настороженно смотрит то на дверь, то на Юрия. — Открывай, чего ждешь? — кивает ему Елецкий. — Так ведь это Митрофан, наверное… — Ах, черт бы его побрал! — Я его сейчас с лестницы спущу! — воинственно засучивает рукава Антон. — Ладно, в другой раз! — примирительно машет рукой Юрий. — Впусти. А Митрофан Холопов, ибо это действительно он стоит за дверью, все нажимает и нажимает кнопку звонка. — Ты что! — набрасывается на него Мошкин. — Не знаешь разве, что Юра болен? Чего раззвонился? Видишь, уже и соседи стали двери открывать. — А вы чего не впускаете? И по телефону вам нельзя дозвониться. — А нам не о чем с тобой… — Чего — не о чем? Не знаешь ведь еще… — И знать не хотим! — Ну ладно, — осторожно отстраняет его Холопов, — не петушись. Дай с Юрой поговорить. О, да тут весь цирк! Привет вам, космонавты! Рад вас видеть! Помогите мне этих донкихотов уговорить. Не хотят на киностудию идти. Отличную работу им предлагаю. Кстати, могу и вас… — Нет, спасибо, — торопливо перебивает его Маша. — Нам и в цирке неплохо. — Что значит — неплохо? Да вы понимаете хоть разницу между цирком и кино? Кино — это многомиллионная аудитория, мировая известность… — А ты знаешь, Митрофан, — спокойно прерывает Холопова Юрий, — Антон собирался ведь с лестницы тебя спустить, и я уже жалею, что отсоветовал ему это. Кажется почти невероятным, чтобы маленький Мошкин смог справиться с этим бородатым верзилой, однако не только Зарницины, но, видимо, и сам Холопов нисколько не сомневается в этом. — С вами, как с интеллигентными людьми, — обиженно произносит он, отправляясь к двери, — а вы хамите. Хорошо, я уйду, но вы еще не раз пожалеете, что отвергли мои предложения. — Катись! — кричит ему вслед Антон Мошкин,25
Ирина Михайловна давно уже заметила, что Илья явно охладел к своей цирковой антигравитационной установке. Вот пошла уже вторая неделя с тех пор, как был в цирке в последний раз. Ей, правда, известно, что он теперь с утра до ночи в институте. Даже вечерами его нельзя застать дома. Раз только пришел раньше обыкновенного. Тогда впервые за весь месяц их семья ужинала вместе. Но его и за ужином нельзя было ни о чем спросить — он все время ожесточенно спорил с отцом. Это был их обычный спор о научных проблемах, смысл которых Ирине Михайловне был не совсем ясен. На этот раз, однако, спорили они уже не как противники, а как единомышленники и, видимо, не по принципиальным, а лишь по каким-то частным вопросам. И уже одно это радовало Ирину Михайловну. Лишь после ужина Ирине Михайловне удалось наконец спросить сына: — А как же с цирком, Илюша? Ведь там твоя установка. Разве она не интересует тебя больше? — Это пройденный этап, мама. — То есть как это — пройденный? — Аппаратура моя работает там исправно, а физическую суть явления изучаем мы теперь в институте на новой установке. — Выходит, что цирк и не нужен был вовсе?.. — разочарованно произнесла Ирина Михайловна. — Очень даже был нужен! — воскликнул Илья. — Он дал возможность повторить мой эксперимент, многое уточнить и значительно упростить мою новую лабораторную установку. Работает она у нас теперь абсолютно безупречно. Работа антигравитационной установки действительно кажется Илье почти идеальной. Однако на другой день, возвратившись с совещания в Академии наук, он сразу же замечает на подвижном лице Левы Энглина явные следы тревоги. — Что случилось, Лева? — спрашивает он своего помощника, находившегося весь день возле антигравитационной установки. — А почему ты решил, что должно что-то случиться? — Я это не решил — это начертано на твоей физиономии. — Но, в общем-то, ничего, пожалуй, и не случилось, — смущенно пожимает плечами Лева. — Показалось только… — Что показалось? — наседает на него Илья. — Это было какое-то мгновение… Доли секунды… — Да что же, в конце-то концов?! — уже выходит из себя Илья. — Что за манера такая — выматывать нервы! Лева пугливо озирается по сторонам, а нетерпеливый Илья хватает его за отвороты лабораторного халата. — Ты что, хочешь, чтобы сюда собрался весь институт? — шипит на него Лева. — Не устраивай здесь, пожалуйста, демонстрацию приемов самбо, не привлекай к нам внимания. — Но что же все-таки тебе показалось? — уже почти умоляюще просит Илья. — Показалось, что потенциал гравитационного поля нестабилен… На какую-то долю секунды он, видимо, восстанавливается до нормы. А ты понимаешь, чем грозит это Зарнициным? Илья стоит несколько мгновений, не произнося ни слова. Он хорошо представляет себе, как это может сказаться на полетах воздушных гимнастов. Ему даже начинает казаться, что с ними уже что-то случилось. — Что же делать, Лева? — растерянно спрашивает он. — Видимо, надо немедленно прекратить репетиции Зарнициных? — А ты понимаешь, что это будет значить для них? Не только их номер, но и вся цирковая премьера полетит к черту. И потом — мне ведь это могло только показаться… — Когда это произошло? — Утром, как только ты ушел. С тех пор я не свожу глаз с приборов и ни один из них не регистрирует никаких отклонений от заданного режима. Стал даже записывать их показания на электромагнитную и фотографическую пленку. Вот просмотри эти записи сам. Наверное, все-таки мне это только показалось. — На всякий случай Зарнициных нужно предупредить, чтобы они были поосторожнее. — Зачем? Чтобы вселить в них чувство неуверенности? Они ведь давно уже работают в поле пониженной гравитации, и ничего с ними не случилось. Их установка других масштабов, и, может быть, на ней не проявляется нестабильность. Не отвечая, Илья долго ходит вдоль пульта с измерительной аппаратурой. Он ходит очень медленно, едва переставляя ноги. Лева тоже молчит. Слышно только, как мягко срабатывают реле приборов, регистрирующих работу антигравитационной установки. — Ну, а как быть с нашими? — спрашивает наконец Илья. — С какими — нашими? — не понимает его Лева. — С отцом и сотрудниками института. Сообщить им о нестабильности антигравитационного эффекта? — Ты так говоришь, будто это уже подлинный факт. А я в этом совсем не уверен и уже жалею, что сообщил тебе об этом. Зачем нам поднимать панику? Теперь все показания измерительных приборов твоей установки записываются на пленку и если… Ты слушаешь меня, Илья? А Илья снова начинает нервно ходить по лаборатории, низко опустив голову. — Да, Лева, я слушаю тебя. Может быть, ты и прав. Отцу мне тоже не очень хочется сообщать об этом, но Зарнициных нужно все-таки как-то предупредить. Сегодня же я поговорю об этом с матерью. — Как идут дела у Зарнициных, мама? — спрашивает он вечером у Ирины Михайловны. — Все у них в порядке? Не было никаких осложнений в их полетах? — Все благополучно пока. Во всяком случае, никто из них ни на что не жаловался. А ты почему спрашиваешь? Что-то в тоне сына и особенно в выражении его глаз не нравится Ирине Михайловне, настораживает ее. Похоже, что не из праздного любопытства задал он этот вопрос. — Прав, пожалуй, Лева, — задумчиво произносит Илья, будто рассуждая с самим собой. — Может быть, и в самом деле на большой установке это не сказывается… — Да что такое, Илюша? О чем ты? — Нам показалось, видишь ли, что поле пониженной гравитации не очень стабильно… — с трудом подбирая слова, произносит Илья. — Что это значит? — невольно дрогнувшим голосом спрашивает Ирина Михайловна. — Ты только не пугайся, пожалуйста, — успокаивает ее Илья. — Нестабильность — это неустойчивость, непостоянство поля пониженной гравитации, создаваемое моим аппаратом. Периодическое, а вернее — спорадическое возвращение к норме естественной гравитации. — Ты не говори мне ученых слов, Илюша. Меня интересует сейчас только одно — чем это грозит Зарнициным? — Может быть, и ничем. Может быть, в цирковой установке гравитационное поле стабильно. И потом, нестабильность эта длилась всего лишь доли секунды. Мы сами только сегодня обнаружили это. А у вас в цирке либо все вполне нормально, либо практически не ощутимо. В противном случае, Зарницины давно бы уже почувствовали это. Но ты все же поговори с ними. — А ты бы сам… — Да, обязательно! Но завтра я целый день буду занят. А послезавтра непременно! На осторожный вопрос Ирины Михайловны Зарницины отвечают очень бодро: — Ну, что вы, Ирина Михайловна, какая там нестабильность! Аппаратура вашего сына работает как часы. “Уж слишком весело что-то… — настораживается Ирина Михайловна. — Значит, хитрят, хотят что-то скрыть, успокоить…” — А почему Маша сорвалась в тот раз? — спрашивает она, не сводя внимательных глаз с Сергея Зарницина. — Так ведь мы тогда осваивались только, — поспешно отвечает за брата Алеша. — Я тогда тоже то не долетал, то перелетал… — Я не у вас, Алеша, а у Сережи спрашиваю, — хмурится Ирина Михайловна. — Вы же серьезный человек, Сережа, и физику знаете, должны же понимать, чем все это может кончиться. И не только ведь сами пострадаете, но еще и меня, а особенно Илью подведете. — Ну что вы, право, Ирина Михайловна, — укоризненно качает головой Сергей Зарницин. — Говорим же вам, что ничего такого не замечаем… Но Ирина Михайловна все более убеждается, что они хитрят. И не по интонациям их голоса и выражению лиц, а по тому, что молчит Маша. Она ведь знает, что ей поверят, но молчит. Значит, братья ее не говорят правды. Конечно, Ирина Михайловна догадывается, почему они хитрят. А ей разве безразлична судьба не только их номера, но и всей цирковой премьеры? — Ну что ж, я попробую вам поверить, — меняет она тактику. — Но Илья все равно ведь придет к нам завтра со своей измерительной аппаратурой, и, если окажется, что вы меня обманули, я буду очень огорчена. — Ну вот что, мальчики! — решительно произносит тогда Маша. — Не будем больше хитрить! Давайте-ка расскажем все. Но вы не думайте, Ирина Михайловна, что я контроля Ильи Андреевича испугалась, — просто противно притворяться, будто мы ничего не знаем. А приборы его, может быть, и не обнаружат ничего. Но если и обнаружат, то это в таких размерах, которые не обязательно ведь должны быть ощутимыми для нас. — Однако вы все-таки ощутили это? — Да, но совершенно случайно! — восклицает Алеша. — И это была просто счастливая случайность. Мы теперь знаем, что искусственное гравитационное поле иногда бывает нестабильно, и мы все время настороже. Придумали даже кое-что, чтобы гасить лишнюю инерцию. И вот репетируем уже безо всяких происшествий. — Действительно, все теперь учтено, — подтверждает Маша. — Уж поверьте мне, Ирина Михайловна! Вы же знаете, как я вас уважаю, стану разве причинять вам неприятности? А ведь, если дирекция узнает, непременно найдутся перестраховщики, которые запретят нам репетиции. — И, наверное, надолго, — горячо поддерживает ее Сергей. — Илья Андреевич не знает ведь, как устранить нестабильность гравитационного поля. И он, и другие ученые вообще многого еще не знают об этом явлении. Илья Андреевич сам мне признался. Конечно, со временем все будет изучено, но ведь у нас премьера на носу. Все может пойти прахом из-за этого… — Что же вы предлагаете? — Ничего. Пусть будет, как было. — Значит, нужно сделать вид, что вы мне ничего не рассказывали и я будто бы ничего не знаю? — Нет, зачем же? Вы скажите Илье Андреевичу, что спрашивали нас, а мы ответили, что чувствуем себя в полной безопасности. Оно ведь так и есть на самом деле. Зачем же тогда поднимать переполох? А явление это все равно изучается, установят, значит, и причину нестабильности его. Илья с нетерпением ждет прихода матери. Он даже из института ушел раньше обыкновенного. Ходит теперь по Квартире из угла в угол, то и дело поглядывая в окно. Но вот наконец и Ирина Михайловна! — Ну, как, мама? — бросается он к ней навстречу. — А ты чего так нервничаешь? Сам же говорил, что это им ничем не может грозить. — Я не могу не нервничать, потому что мы ничего еще точно не знаем. А неопределенность, сама знаешь… — А с отцом ты советовался? — Решил пока вообще не говорить ему об этом. И тебя прошу… — Но вы этим занимаетесь все-таки? Ищете причину? — Сейчас главным образом только этим и занимаемся. Ирина Михайловна разговаривает с сыном, задает ему вопросы, а сама все думает: “Говорить ему или не говорить?” Она весь день об этом только и думала и никак не могла решить, как ей быть. С особенным вниманием присматривалась она сегодня к работе Зарнициных, но так ничего и не заметила. Все у них было очень слаженно и безукоризненно четко. Да и страховка, предусмотренная ими на всякий случай, казалась безупречной. Конечно, они очень отважны, но и благоразумны. Пока за них можно не бояться, ну, а если нестабильность вдруг возрастет? — А не может эта нестабильность увеличиться? — спрашивает она сына. — Почему ты все расспрашиваешь меня, а сама не ответила еще ни на один мой вопрос? — настораживается Илья. — У них, значит… — Ничего пока не “значит”, — торопливо перебивает его Ирина Михайловна. — На них это пока не сказывается, но ведь может же явление это возрасти?.. — Не думаю, не думаю… Нет к тому никаких причин. Так и не сказав ничего Илье, Ирина Михайловна весь вечер борется с соблазном посоветоваться с Андреем Петровичем, хотя и понимает, что он сразу же поднимет тревогу и все запретит. Он вообще ведь всегда был настроен против осуществления эксперимента Ильи в цирке. И уже лежа в постели, раздраженная собственной нерешительностью, она спрашивает себя: “Верю ли я в Зарнициных или не верю, в конце-то концов? — И решает: — Доверюсь им! А если что-нибудь случится, возьму все на себя”.26
К Юре Елецкому Маша заходит теперь почти каждый день. Это становится для нее настоящей потребностью. С ним ей хорошо. Она рассказывает ему все, что происходит в цирке, а он молча слушает и все рисует. То одни ее глаза, то прическу, то только шею и подбородок. Сегодня она заглянула к нему на минутку, но успела сообщить все новости. Очень хочется рассказать и о своих тревогах, но боится братьев, да и самого Юру нельзя волновать. А тревожиться есть из-за чего. Опять сорвалась она сегодня… Хорошо еще, что в отсутствие Ирины Михайловны. Но сегодня она даже рада своему падению. Оно уже не было таким неожиданным, как в тот раз. Затормозив свое падение задним сальто, Маша изменила его направление и сумела остаться в зоне манежа. И теперь она твердо уверена, что это главное при падении. Никаких других мер и не нужно. Гравитационное поле над манежем восстанавливается до нормы лишь на мгновение, а затем оно снова ослабевает, тормозя падение. Главное, значит, не улететь за пределы манежа. Братья, правда, и раньше это предполагали, но она не очень верила им. Но теперь она спокойна. Теперь ей ничто уже не страшно и, может быть, именно потому захотелось хоть немного побыть сегодня с Юрой. От Юры Маша, как всегда, идет пешком до метро. Едва, однако, отходит она метров сто от его дома, как кто-то берет ее сзади за локоть. Маша испуганно оборачивается и видит улыбающуюся физиономию Холопова. — Наконец-то я встретил вас одну, Машенька! — обрадованно восклицает он. — Очень нужно поговорить с вами. А там, — кивает он на дом Елецкого, — все равно бы разговор этот не мог состояться. Брезгливо отстранив его руку, Маша холодно произносит: — Мне не о чем с вами говорить. Очень спешу к тому же. — Времени это у вас не отнимет. Мы по пути будем разговаривать. Вы ведь к метро, наверное? Вот и отлично. Я же понимаю, что эти типы настроили вас против меня… — Ах, никто меня против вас не настраивал! — сердится Маша. — Я и сама во всем разбираюсь. — Ну хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я ведь не собираюсь вам в любви объясняться. У меня к вам деловое предложение. У нас на студии идет сейчас подготовка фильма из цирковой жизни, а у меня с режиссером отличные отношения, и я мог бы… — Нет, спасибо! — не дает ему договорить Маша. — Для кино я недостаточно фотогенична. — Не торопитесь отказываться, Машенька! — снова пытается схватить ее за руку Холопов. — Это будет грандиозный фильм. Похлеще александровского “Цирка”. А вам могут дать роль главной героини, знаменитой воздушной гимнастки. И мальчиков ваших можно будет пристроить… — Да не надо нас никуда пристраивать! И что за забота такая то о Юре, а теперь уже и о нас? — А что же в этом удивительного? Почему не помочь старым друзьям? — С каких это пор стали мы вашими друзьями? И потом- зачем нам все это? Мы вполне довольны нашей работой в цирке. Особенно новым номером, который готовим. — Еще бы не быть им довольными! — усмехается Холопов. — Последнее слово современной науки и техники. Ультрасовременно и абсолютно безопасно. — А почему вы думаете, что так уж безопасно? — Да потому что вам разрешили отказаться от сетки и лонжей. У вас же теперь балет в воздухе, а не цирковой номер. В балете к тому же гораздо больше риска. Споткнуться можно и ногу вывихнуть, а у вас… — Не болтайте, чего не знаете! — раздраженно перебивает его Маша. — О том, какому риску мы подвергаемся, даже не подозревает никто. — Разве гравитационное поле над манежем не так уж устойчиво? — В том-то и дело… — И никто, кроме вас, не знает об этом? Поняв, что непростительно проговорилась, Маша изо всех сил старается теперь скрыть свое смущение. — Те, кому нужно, всё знают, конечно, — продолжает она небрежно. — Да и за риск разве ценится артист цирка? Кому доставит удовольствие канатоходец, пусть даже идущий на огромной высоте, но на полусогнутых ногах? Ведь так называемые “смертные номера” именно тем и отвратительны, что они убивают у зрителя способность воспринимать артистичность нашей работы. Зрители если и не жаждут крови, то замирают, наверное, от страха за нас, сидят с мокрыми руками и только о том и думают: сорвемся мы или не сорвемся? Где уж там оценить мастерство и изящество артистов в таком состоянии! — Да вы просто идеалистка, Машенька! — усмехается Холопов. — Цирковой зритель, поверьте мне, всегда жаждет крови. А в том фильме, о котором я вам говорю, будут такие цирковые номера, созерцание которых заставит их просто визжать от страха. — Вот и ищите себе цирковых ремесленников, а настоящие артисты не пойдут к вам на такие роли. А вот, кстати, и метро! Спасибо вам за то, что вы меня проводили, дальше я и сама доберусь. Холопов пытается последовать за ней, но Маша решительно протягивает ему руку и просит оставить ее в покое. …С тех пор проходит около недели, а Маша все еще не может простить себе, что проговорилась Холопову о нестабильности гравитационного поля. Ее не покидает опасение, что он сообщит об этом Илье Нестерову или Анатолию Георгиевичу. И всякий раз теперь, когда главный режиссер приходит на репетицию, Маша буквально дрожит от страха. Лишь в начале следующей недели она успокаивается немного. Выходит, что Холопов либо не придал значения ее словам, либо не такой уж плохой, как она о нем думает. Маша, однако, напрасно успокоилась. Холопов вовсе не пропустил мимо ушей ее обмолвку. Он раза два уже наведывался в цирк, пытаясь разузнать что-нибудь о Зарнициных у униформистов. Но они и сами ничего не знали, а падению Маши не придавали большого значения. Считали его обычным явлением в период репетиции нового номера. “Значит, о нестабильности гравитационного поля над манежем знают только Зарницины, — решает Холопов. — И держат это в секрете. Но ничего, я им покажу… Всем! И не сейчас, а поближе к премьере… Сейчас они всполошатся, конечно, но найдут, пожалуй, какой-нибудь выход — у них есть еще время для этого. А вот в день премьеры!..”27
В первых числах апреля начинает бурно таять снег. Почти все дни радостно сияет солнце, рождая шумные ручьи и звонкую капель. А ночью снова все прихватывает морозцем, и тогда хрустят под ногами тонкие пленки льда, обрастают хрусталем сосулек кромки крыш и подоконников. А администрация цирка будто и не рада этим признакам весны. Директор, главный режиссер и даже артисты с явным трепетом переворачивают каждый новый листок календаря. До премьеры остается менее месяца, а переезд из старого здания в повое только начался. Правда, кое-что было сделано еще в марте, но нужно не только перевезти, но и разумно разместить все сложное цирковое хозяйство. Не готовы еще и многие номера. Не все успели снять на пленку, не отрегулировали панорамную киноаппаратуру, не закончили репетиции оркестра. Словом, незавершенного гораздо больше пока, чем завершенного. У Михаила Богдановича тоже не все ладится с его клоунами. Да и свой номер требует еще отработки. Окончательно поправившийся Юрий Елецкий с Антоном Мошкиным тоже теперь целыми днями в цирке. На их ответственности эскизы декораций, костюмов, грима. Много хлопот доставляют им светящиеся краски и система освещения манежа. Хорошо еще, что у заведующего конструкторским бюро, Виктора Захаровича Миронова, тонкий художественный вкус и он не только не мешает им, но и подсказывает многое. За Зарнициных Ирина Михайловна теперь почти не беспокоится. Да и номер их почти готов. Пусть только отшлифуют то, что сами считают нужным, в чем не очень еще уверены. У них действительно все идет вполне благополучно, если не считать того, что неожиданно срывается и летит через манеж в первый ряд партера Алеша. У него, правда, получается это так изящно, а униформисты подхватывают его так удачно, что со стороны можно подумать, будто все это сделано им нарочно. К счастью, при этом никого, кроме униформистов, не оказывается, а им Алеша объясняет, простодушно улыбаясь: — Надо же было проверить вашу готовность к страховке. Вижу теперь, что на вас вполне можно положиться. Если и в самом деле придется сорваться, то уже не страшно. Только в следующий раз пассируйте меня не втроем, а вдвоем. Этого будет вполне достаточно. Третьему приходится ведь бежать с противоположного конца манежа, а надо, чтобы зрители и не подозревали даже, что кто-нибудь из нас сорвался. Пусть думают, что полет из-под купола на манеж — всего лишь один из элементов нашего номера. А потом, уже по дороге домой, он сообщает Сергею и Маше: — Опять зашалило гравитационное поле. Мне показалось даже, что период восстановления его стал немного больше. Инерция моего тела настолько возросла, что я чуть было не улетел в середину зрительного зала, если бы не сделал несколько тормозных движений. А там никакие униформисты не успели бы меня подхватить… — Да, пожалуй, в самом деле гравитационное поле стало восстанавливаться на большее время, — соглашается с ним Сергей. — Я и сам почувствовал, что ты шел ко мне быстрее, чем обычно, но никак не смог успеть в точку нашей встречи. Это становится опасным… Может быть, посоветоваться с Ириной Михайловной? — Сейчас уже поздно, — задумчиво произносит Маша. — Сейчас этим можно лишь сорвать весь номер да, пожалуй, и всю премьеру. Я лично не боюсь за себя, но если вы… — Мы знаем, что ты у нас очень храбрая! — смеясь, перебивает ее Алеша. — Нужно в таком случае быть еще осторожнее. А если кто-нибудь из нас снова сорвется, то быть готовым к тому, чтобы всеми средствами погасить инерцию своего полета и не улететь за пределы манежа. Происходит это ровно за педелю до премьеры, а в день премьеры Машу вызывает к телефону Митрофан Холопов. Маша сначала не хочет говорить с ним, но потом решает, что лучше не обострять отношений. — Приветствую вас, Машенька! — развязно кричит Холопов в телефонную трубку. — Совсем, значит, обо мне забыли? А напрасно. Я лично не только думал о вас все это время, но и предпринимал кое-что. — Что же именно? — стараясь казаться заинтригованной, спрашивает Маша, а сама не в силах унять тревоги. “Этот негодяй все теперь может нам испортить!” — напряженно думает она, чувствуя, как начинает потеть рука, судорожно сжимающая телефонную трубку. — Я уже окончательно договорился о вас с режиссером, — весело сообщает Холопов. — В общем — полный порядок! Вас ждут на студии для пробных съемок. — Но как же так! — восклицает Маша, забыв о своем намерении не ссориться с Холоповым. Наглая самоуверенность этого типа просто бесит ее. — Кто дал вам право договариваться за меня? Или вы полагаете, что главное — это согласие режиссера, а я буду век благодарна вам? — Да вы просто не совсем нормальная, Машенька! — пытается шутить Холопов. — Любая другая девушка просто с ума бы сошла от счастья, а вы… — Пусть другие и сходят, а я делать этого не собираюсь, — зло говорит Маша. — Тем более с вашей помощью. И она раздраженно бросает трубку на рычажки телефонного аппарата. “А что он, в конце концов, может сделать нам теперь? — успокаивает она себя. — Кто ему поверит, если он даже и расскажет о том, что яему сообщила?..” Но ей так и не удается успокоиться. Предчувствие неизбежной беды не оставляет ее весь день.28
Ровно в семь часов в цирке гаснет свет. Зрительный зал замирает в ожидании какого-то чуда. Приглушенно звучит примитивная мелодия шарманки. Ее имитирует оркестр. На гигантском экране купола цирка — панорама старинного русского городка. По одной из его улиц лениво шагает шарманщик с маленьким осликом, на спине которого навьючен скудный скарб. Следом за ним понуро бредут юноша и девушка в рваных трико. На экране теперь провинциальная ярмарка. Шум толпы, смех, песни, залихватские трели гармошки. И снова все заглушает шарманка… На манеж падает первое тусклое пятно света. Постепенно светлея, оно освещает фигуру того самого шарманщика, которого мы только что видели на экране, ослика и юных гимнастов. Они снимают с ослика ковер и без особого рвения расстилают его в центре манежа. Начинается нехитрое представление. Шарманка лениво выводит тягучую, унылую мелодию… Но вот появляется хорошо одетый мужчина, в котором угадывается антрепренер. Он говорит что-то шарманщику, шарманщик делает знак юноше, юноша кивает девушке. Унылая мелодия сменяется старинным вальсом. И гимнасты преображаются. Они делают передние и задние сальто-мортале, флик-фляки, рондады и фордершпрунги. Антрепренер показывает шарманщику пачку денег, они хлопают друг друга по рукам, и новый хозяин уводит молодых гимнастов. Снова гаснет свет. Торжественно и старомодно звучит оркестр. На экране возникает какой-то губернский город. Крупная афиша:Цирк “МОДЕРН”
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НЕПОВТОРИМЫЙ СМЕРТНЫЙ АТТРАКЦИОН
СЮИСАЙД-АЭРОС
Кто он?
Гений или безумец?
На экранах внутренняя панорама цирка с точкой съемки из центра манежа. Партер, амфитеатр, ложи. В ложах генералы. В партере офицеры, чиновники и купечество. Пышно одетые дамы. Стереофонический шум многоголосой толпы. Вспыхивает несколько прожекторов, освещая манеж. Зрительный зал подлинного цирка все еще в темноте. Создается впечатление, что представление будет идти не для него, а для тех, кто на экранах. На манеж выходит человек во фраке. Торжественно объявляет: — Сюисайд-Аэрос! В оркестре звучит “Танго смерти”. Прожектора покидают ковер манежа и устремляются вверх. Там, под самым куполом, на крошечном мостике стоит человек в черном трико. Лицо его ярко освещено, и зрители узнают в нем того самого юношу, который выступал на ярмарке. От его мостика к манежу идут наклоненные скаты-желоба, обрываясь и образуя в нескольких местах пустые пространства. Гимнаст — “самоубийца” подает сигнал платком, и музыка смолкает. Сюисайд-Аэрос целует платок и бросает его на манеж. Один из прожекторов сопровождает его падение. У самой арены луч выхватывает из темноты фигуру уже знакомой нам девушки, спутницы бродячего гимнаста. Девушка ловит платок, прячет его у себя на груди… Гимнаст — “самоубийца”, на черном трико которого отчетливо виден теперь нарисованный светящейся краской скелет, нарочито медленно прицеливается к обрывистому скату. И вдруг бросается в его желоб… Публика на экране и в зрительном зале громко ахает… А гимнаст с вытянутыми вперед руками стремительно несется по своему страшному тракту, сопровождаемый жутким завыванием оркестра. Кажется, что еще несколько мгновений, и он разобьется насмерть… Но у самого манежа он делает изящный пируэт и благополучно опускается на ноги. К нему бросается девушка. Порывисто целует его и возвращает платок. Гул аплодисментов зрительного зала сливается с ревом публики на экране. А на манеж уже выскакивают “белые” и “рыжие” клоуны в старомодных костюмах, дрессированные собачки и акробаты. Следом за ними мчатся лихие наездники в форме гусаров. И все это в самом бешеном темпе. Постепенно с экранов исчезает изображение цирка. Теперь на них темное, грозовое, зловещее небо. Раскаты грома, гул оркестра, ослепительные молнии полосуют кинематографический небосвод. Но вот сквозь тьму проступает силуэт “Авроры”. Он все светлеет, становится четче. Ее орудия приходят в движение. Могучий залп и такой ощутимый шум полета снарядов, что все невольно пригибают головы. А на экранах уже идет штурм Зимнего. В грохоте оркестра различимы мелодии “Марсельезы” и “Интернационала”. Бешено мечутся багровые лучи прожекторов. В их свете мелькают бегущие в панике генералы, офицеры, чиновники, купцы, попы… Сквозь музыку слышится все нарастающий стереофонический цокот множества копыт. На экранах теперь сплошная лавина красной конницы. С развевающимися знаменами вырываются и на манеж всадники в буденовках. Грозно сверкают в багровых лучах прожекторов обнаженные клинки. Бег коней по манежу все нарастает, уже немыслимо сосчитать, сколько их здесь. Они несутся с такой бешеной скоростью, в таком неудержимом порыве, что кажется, составляют одно целое с той конницей, которая заполонила теперь все экраны на куполе цирка. Никто уже не может сидеть спокойно. Пожилые зрители, пережившие революцию и гражданскую войну, вскакивают со своих мест. Кто-то, уловив в грохочущем оркестре мелодии маршей и песен тех лет, пытается петь. Бывшие фронтовики до боли в пальцах стискивают подлокотники своих кресел, яростно аплодирует молодежь. А еще через мгновение — музыка, цокот копыт, гул канонады, все утопает в таких аплодисментах, каких, наверное, не слышали стены ни одного цирка в мире. Но вот постепенно все стихает. Гаснут прожектора, и манеж погружается в темноту. Темно и на экранах, а в динамиках уже слышатся звуки гармошек, приглушенное пение, мелодия “Яблочко”. Потом в разных местах экранов вспыхивают огоньки костров. С каждым мгновением они разгораются все ярче. Уже видны в их отблесках усталые лица бойцов, расположившихся на отдых. И вдруг в самом центре манежа сначала чуть тлеет, затем все ярче разгорается большой костер. Вокруг него лежат люди в буденовках и кубанках, шинелях, кожанках и бушлатах. Где-то вдалеке заливается гармонь. Слышится приглушенная мелодия партизанской песни… Но вот все начинают поворачиваться в сторону главного выхода на манеж. Там появляются фигуры героев фильма “Красные дьяволята”. Лежащие у костра улыбаются им, аплодируют, жестами просят о чем-то… “Красные дьяволята” некоторое время смущенно переминаются с ноги на ногу, потом сбрасывают с себя шинели и принимаются жонглировать револьверами, маузерами, саблями, гранатами — “лимонками”…29
Юрий Елецкий весь день был занят в цирке и с трудом выбрал время, чтобы заехать домой переодеться. Тетка его, страстная любительница цирка, давно уже ушла, а он задержался немного, провозившись с крахмальным воротничком и новым костюмом, который надевал впервые. Едва собрался он выйти из дома, как раздался звонок и в комнату буквально ввалился Митрофан Холопов. — Я знаю, ты спешишь, — торопливо говорит он, — но я к тебе по чрезвычайно важному делу… — Потом, Митрофан! — пытается выпроводить его Юрий. — Ты же сам должен понимать… — Я все понимаю, но дело касается Маши. — Маши?.. — Да, Маши. Ей грозит большая, может быть, смертельная опасность. У Юрия выступают бисерные крупинки пота на лбу. Он невольно отступает назад, пропуская Холопова в комнату. — Да говори же ты толком — в чем дело? — хватает он его за отвороты. — А ты успокойся. Юрий бросает его на диван: — Ну? — Тебе они, Зарницины, ничего не рассказывали? Не делились своими опасениями? — Да что ты меня расспрашиваешь? Не тяни, рассказывай поскорее! — Значит, не говорили ничего… — будто про себя бормочет Холопов. — От всех, значит, скрывали… — Что скрывали?! Бредишь ты, что ли? — Скрывали, что гравитационное поле над манежем нестабильно, — выпаливает наконец Холопов. — Да откуда ты знаешь об этом? — снова хватается за отворот Митрофанова макинтоша Елецкий. — Если они никому не сообщили, тебе-то кто рассказал? — Маша рассказала. Вернее, проговорилась… Она ведь действительно срывалась уже, ты же сам знаешь. Упал один раз и Алексей. Это я от униформистов узнал. А может быть, таких случаев было и больше — они ведь скрывают это ото всех. — Но зачем, черт побери? — Как зачем? Опасаются, что аттракцион могут отменить… Не дослушав Холопова, Юрий бросается к телефону. — А ты сиди! — рычит он на Митрофана. — Я тебя отсюда никуда не выпущу до тех пор, пока не проверю, правду ли ты сказал. Не довольствуясь этим заявлением, Юрий подходит к двери и запирает ее, а ключ кладет себе в карман. Потом он набирает номер телефона администратора цирка. Ему долго никто не отвечает. Начиная нервничать, он торопливо смотрит на часы. Уже восьмой час, значит, премьера началась, и администратор не смог, конечно, отказать себе в удовольствии посмотреть первое ее представление. — Ты только не Ирине Михайловне, — советует ему Холопов. — Она, видно, заодно с ними. Я уже пробовал с ней говорить… Он действительно звонил Ирине Михайловне, полагая, что она, узнав о риске, которому подвергают себя Зарницины, поднимет тревогу. Она их режиссер и не может не нести ответственности за них. К тому же должна она подумать и о сыне. Из-за неисправности его установки могут ведь пострадать люди… А Ирина Михайловна не только не дослушала его до конца, но еще и накричала на него и бросила трубку. “Что же делать? — нервничает Юрий. — Вряд ли удастся сейчас кому-нибудь дозвониться…” Но тут вспоминает телефон вахтера — уж он-то не имеет права никуда отлучиться. Ну да, так и есть, вахтер на месте, и Юрий умоляет его срочно разыскать где-нибудь Машу Зарницину и попросить ее позвонить ему домой по чрезвычайно важному делу. Пока ищут Машу, Юрий нервно постукивает пальцами по корпусу телефонного аппарата, стараясь не смотреть в сторону Холопова. А он недовольно ворчит: — Не с Машей нужно об этом, а с Анатолием Георгиевичем… — Ладно, помалкивай! Но вот наконец звонок Маши. — Что случилось, Юра? — испуганно спрашивает она. — Пока ничего… Нужно только уточнить кое-что. У меня тут Холопов… — Ах, Холопов! Ну тогда все ясно. — И это правда, Маша? Она молчит некоторое время, потом отвечает: — Правда… Но не опасно. Мы обнаружили это уже давно, и с нами ничего пока не случилось. — Но ведь вы срывались несколько раз. — Да, срывались, но потому только, что это было неожиданно для нас. А теперь мы настороже. Вы не знаете, говорил Холопов еще с кем-нибудь, кроме вас? — Кажется, только с Ириной Михайловной. — Ну, тогда постарайтесь, чтобы он не сообщил об этом никому больше. — Я постараюсь, Маша. Пока Елецкий разговаривает, Холопов внимательно прислушивается к его словам, стараясь угадать, что отвечает ему Маша. — Маша удивлялась, наверное, почему я сообщил об этом тебе, а не Анатолию Георгиевичу? — спрашивает он. Юрий не удостаивает его ответом. — Но ведь и тебе, наверное, интересно, почему я этого не сделал? Елецкий все еще молчит, хотя ему действительно интересно знать, почему Холопов рассказал это ему, а не главному режиссеру. — А не сделал я это потому, — не дождавшись вопроса Елецкого, продолжает Холопов, — что уверен — никто из них не встревожится так за судьбу Маши, как ты. Их она может уговорить, будто это не опасно, как Ирину Михайловну, наверное. Но ведь тебе-то она дороже, чем им. Как же ты можешь спокойно сидеть здесь да еще не позволяешь мне предотвратить несчастье? — Не провоцируй меня, Митрофан, и лучше уж помолчи, — бросает на него грозный взгляд Юрий, а сам думает с тревогой: “А что, если и в самом деле произойдет несчастье?..” — Пока еще не поздно, предприми что-нибудь, Юрий! — теперь уже почти грозит ему Холопов. — Учти, если с ними случится беда, тебе придется за это отвечать. — Заткнись! — презрительно бросает ему Юрий. А время все бежит. Наверное, кончилось уже первое отделение и скоро начнется второе, в котором выступают Зарницины. Что же делать, что предпринять? Может быть, запереть тут Холопова и помчаться в цирк, чтобы быть там, поближе к Маше? Если она снова сорвется, может быть, опять удастся спасти ее… Он уже собирается осуществить этот замысел, как вдруг раздается звонок у входной двери. Кто бы это мог быть? Неужели тетя ушла из цирка? Не может этого быть, никогда еще не случалось с ней такого… А звонок дребезжит не переставая. Нужно открывать. Юрий поворачивает ключ и распахивает дверь. Перед ним стоит Антон Мошкин. — Тут еще Холопов? — почти выкрикивает он. — А ты откуда? — Из цирка. Маша послала к тебе на помощь. — Ну вот и очень хорошо! — радуется Елецкий. — Ты покарауль здесь Холопова, а я в цирк. Надо успеть до начала второго отделения. Антон не уверен, справится ли один с Холоповым, но хорошо понимает, что в такой момент Юрий не может не быть рядом с Машей. — Да, тебе непременно нужно поспеть туда, — твердо произносит он, поборов минутную слабость. И добавляет, бросив грозный взгляд на Холопова: — А с ним я и один тут справлюсь.30
К началу второго отделения Елецкий хотя и успевает, но не видит всего выступления Михаила Богдановича — ему приходится потратить немало времени на розыски Маши. Поговорить с ней ему так и не удается, однако, — она в это время переодевалась, готовясь к выходу на манеж. Разговаривал он лишь с Алешей, которому сообщил, что их номер не отменят. А уж Алеша потом сам успокаивал брата и сестру: — Пока Холопов под охраной Антона, нам не грозят никакие его козни. — Разве он в состоянии удержать такого верзилу, как Холопов? — усомнилась Маша, представив себе маленького, щуплого Антона рядом с атлетически сложенным, рослым Холоповым. — Справится, — решительно мотнул головой Алеша. — Холопов ведь трус, а у Антона сердце д’Артаньяна. Ничего бы я так не хотел на свете, как иметь такого преданного друга! Ведь он для Юры готов на любую жертву, на любой подвиг. А почему? Да потому, что Юра настоящий человек, достойный такой дружбы, и чертовски досадно, что кое-кто из нас этого не понимает… — Кто же именно? — удивляется Сергей. — А вот наша сестра, — кивает Алеша на Машу. — Напрасно ты так думаешь, Алеша, — очень серьезно произносит Маша. — Я понимаю это не только не хуже, но, думается мне, лучше вас… А Елецкий в это время с трудом устраивается на приставном стуле в одном из проходов первого ряда партера. На манеже все еще Михаил Богданович. Он уже продемонстрировал пантомиму “Алхимик”, в которой вызвал к жизни Гомункулуса, Подверг он его и последующей трансформации, превратив в более совершенное и уже явно кибернетическое “существо”, именуемое в цирковой афише “Кибером”. Михаил Богданович тоже теперь уже не коверный клоун Балага, а мим “Косинус”. Сейчас он задумчиво ходит по манежу, хорошо отработанными движениями выражая раздумье, размышление, какой-то сложный внутренний монолог. На нем лабораторный халат, покрытый белой светящейся краской, на лице пластическая маска, тоже светящаяся, и очки в массивной оправе. Его “Кибер” — головастый лысый человечек в голубоватом, светящемся комбинезоне, внимательно следит за ним, понимающе кивает и записывает что-то в большой блокнот. Манеж погружен в темноту. Светятся только эти две фигуры да тоненькие, покрытые люминесцентной краской ниточки, схематически изображающие какие-то измерительные приборы и электронно-счетную машину. Все это прикреплено к барьеру вокруг манежа, а “Косинус” с “Кибером” находятся внутри этой своеобразной лаборатории. Жестикуляция “Косинуса” все усиливается, темп его движения по манежу нарастает. Кажется, что он нашел наконец решение какой-то проблемы. “Кибер” всматривается в него еще пристальнее и вдруг начинает быстро чертить по воздуху, как по грифельной доске, каким-то светящимся кусочком, похожим на мел. Это формулы теории относительности, и среди них знаменитая формула связи массы и энергии Эйнштейна. “Кибер” торжественно выводит ее крупными буквами:Е = М · С2
Она светится в воздухе так же, как и все другое, написанное им прежде. “Косинус” радостно улыбается. Он доволен. А “Кибер” все чертит и чертит. В воздухе висят теперь не только формулы и цифры, но и геометрические фигуры, среди которых выделяется чертеж, похожий на схематическое изображение атомной бомбы. “Косинус” хмурится. Делает протестующий жест. Повинуясь ему, “Кибер” “стирает” все, кроме схемы бомбы. “Косинус” в ярости. Он готов наброситься на “Кибера”, но тот будто с ума сошел — с лихорадочной поспешностью вычерчивает атомную бомбу все рельефнее. А когда “Косинус” замахивается на “Кибера”, на экранах под оглушительный грохот оркестра вспыхивает изображение взрыва атомной бомбы. “Косинус” гневными жестами упрекает “Кибера”, дает понять ему, что он сошел с ума. “Кибер” оправдывается. “Косинус” показывает ему на зловещий гриб атомного взрыва. “Кибер” широко разводит руки, и гриб, совершая обратную эволюцию, исчезает… В оркестре начинает звучать спокойная, широкая мелодия. “Кибер” снова весь внимание. “Косинус” простирает руки к небу, машет ими, как птица, готовая взлететь. “Кибер” снова чертит формулу Эйнштейна и рядом схему космической ракеты. “Косинус” счастлив. Он блаженно улыбается, а на экранах появляется изображение звездного неба с ярко светящейся, быстродвижущейся точкой. Характерные позывные не оставляют сомнения, что это искусственный спутник Земли. А с манежа за это время исчезает “Косинус”, “Кибер” и вся их призрачная лаборатория. Вспыхивают прожектора, и в их свете видно, как униформисты, облаченные в скафандры космонавтов, вкатывают на платформе ракетообразный снаряд. В центре манежа его поднимают в вертикальное положение. Платформу увозят, а к ракете стелят ковровую дорожку. Оркестр исполняет торжественный марш, и из главного выхода на манеж появляются Зарницины. На них легкое светлое трико с прозрачными пластмассовыми шлемами, создающими впечатление костюмов космонавтов. Они кланяются публике и под ее аплодисменты торжественно идут к ракете. Постепенно меркнет свет, создавая впечатление сумерек. Униформисты, во главе с инженером Мироновым, тоже облаченным в костюм космонавта, завинчивают крышку входного люка ракеты, крепят какие-то тросы, соединяют контакты. По команде Миронова его помощники стремительно убегают в укрытие. Миронов по лесенке торопливо взбирается на площадку над главным входом. Там установлен пульт управления полетом. На манеже теперь совсем темно, слегка люминесцирует лишь корпус ракеты. Два скрещенных прожектора освещают только пульт управления с его разноцветными табло и множеством кнопок на панелях. Миронов нажимает какую-то кнопку, и в огромных овалах осциллографов начинают бешено метаться зигзаги ослепительно ярких линий. Щелкает еще одна кнопка, и темп их вибрации усиливается. Теперь и в оркестре рождается все нарастающая, тревожная мелодия. Снова звучно щелкает кнопка, и из-под опор, поддерживающих космическую ракету, вырывается такой мощный ураган фейерверков, что создается впечатление, будто это именно он сотрясает ракету, а затем медленно поднимает ее к куполу цирка. Бешеное мелькание прожекторов и грохот оркестра усиливают это впечатление. А ракета уходит все выше в звездное небо, мерцающее на экранах. Незаметно для зрителей она переходит в кинематографическое изображение ее на экране и несется, волоча за собой гигантский шлейф из пламени и газов. На экранах теперь уже не привычные нам звезды и созвездия, а гигантские спирали галактик. И в этом космическом пространстве парит ракета. Она медленно проплывает под расплывчатым, сплюснутым диском туманности Андромеды и повисает над центром манежа. Это снова ракета с Зарнициными внутри. Она висит неподвижно, а над нею на огромном экране купола цирка медленно смещаются Большое Магелланово облако, туманности Андромеды и Ориона, широкая лента Млечного Пути, густо усыпанная звездами всех классов. Постепенно поверхность ракеты светлеет, пока не становится совершенно прозрачной. И тогда зрители видят экипаж ее, сидящий в глубоких наклонных креслах. Они явно взволнованы чем-то. По их жестам можно понять, что в ракете обнаружилась какая-то неисправность. Сергей Зарницин первым поднимается из своего кресла и открывает двойной люк ракеты. Затем он отталкивает от ее корпуса какой-то предмет и, прыгнув вслед за ним, повисает вниз головой на расстоянии нескольких метров от ракеты. Вслед за ним выпрыгивает Маша. Сделав грациозное тройное сальто-мортале, она приходит в руки к брату. Раскачавшись затем в его руках, она взлетает высоко вверх, а под нею уже идет в руки к Сергею Алеша. Полеты Зарнициных в искусственном гравитационном поле создают полную иллюзию парения в состоянии невесомости. Завороженные зрители награждают гимнастов бурными аплодисментами. А Маша с Алешей, возвращаясь от Сергея, то становятся на корпус ракеты, держась за невидимые зрителям тросы, то перелетают через ракету, цепляясь за скобы, укрепленные по бортам и в нижней ее части. Кажется, будто они тщательно обследуют ракету и исправляют какие-то повреждения ее корпуса. Полеты их почти вдвое превышают те расстояния, которые они же еще совсем недавно преодолевали в старом здании цирка. Это позволяет гимнастам продемонстрировать не только изящество своих трюков, но и красоту человеческого тела. А художник Юрий Елецкий не замечает ни виртуозности их работы, ни красоты. Ему все кажется, что Маша или Алеша непременно должны сорваться. Он сидит напружинясь, ежеминутно готовый к прыжку. От напряжения у него начинают болеть мускулы ног, а руки судорожно сжимаются. А когда кто-то в темноте осторожно дотрагивается до его плеча, он так вздрагивает, что на него начинают коситься соседи. — Это я, Антон, — слышит он шепот Мошкина. — Чего ты испугался так? — А Холопов?.. — хватает его за руку Юрий, сажая рядом. — А что он теперь может сделать? Я позвонил дежурному администратору и узнал, что Зарницины уже выступают. Ну и отпустил этого кретина. Мне ведь тоже интересно посмотреть, как тут у них… Наверное, конец уже скоро? — Ну ладно, сиди тогда тихо и не мешай мне наблюдать за ними. А Зарницины уже кончают свои полеты и возвращаются в ракету. Она снова становится непрозрачной, приходит в медленное движение, поднимаясь вверх, и постепенно растворяется во тьме под самым куполом цирка. Только теперь Юрий Елецкий расслабляет наконец мышцы и облегченно вздыхает… Все это время Ирина Михайловна волнуется, пожалуй, больше остальных. Ее тревожит звонок Холопова. Он знает откуда-то, что гравитационное поле над манежем нестабильно. Немного успокаивается она лишь после того, как начинается выступление Зарнициных. Но ненадолго. Гравитационное поле действительно ведь непостоянно. А что если оно восстановится вдруг? Тогда они просто не смогут работать. А еще хуже, если поле это начнет лихорадить… Лихорадит, однако, пока одну только Ирину Михайловну. Она облегченно вздыхает, когда ракета с Зарнициными поднялась наконец под самый купол. Все, что будет дальше, уже не тревожит так Ирину Михайловну, и она собирается зайти в кабинет главного администратора, чтобы позвонить по телефону, но тут кто-то берет ее за локоть. Она испуганно оборачивается и видит тускло освещенное отсветами прожекторов лицо Миронова. — Непонятное что-то творится с антигравитационной установкой… — взволнованно шепчет он ей на ухо. Ирина Михайловна торопливо выходит в фойе, увлекая за собой Миронова. На ходу спрашивает: — Что с нею? Испортилась? Перестала работать?.. — Нет, нет. Она работает, но измерительные приборы почему-то не регистрируют понижения гравитации. — Может быть, не исправны?.. — Все три? Такого не бывает, Ирина Михайловна. — Значит, что-то серьезное? Этого только нам не хватало! Срывается ведь финальная сцена… — Илья Андреевич здесь, кажется? — перебивает ее Миронов. — Да, Илья в цирке. Вы думаете, он сможет чем-нибудь помочь? — Я хотел бы с ним посоветоваться. — Хорошо, попробую вызвать его сюда. И Ирина Михайловна спешит в зрительный зал. Он в полумраке. В динамиках только что отзвучал голос диктора: — Идет время… Сменяются времена года… Приходит зима… Пока внимание зрителей было приковано к куполу цирка, внизу уже поменяли манежи. Тот, что был прежде, ушел под землю, а на его место поднялся другой, с ледяным полем. На него падают теперь яркие лучи прожекторов. Появляются пестрые фигуры конькобежцев. Начинается “ледяное антре”. Ирина Михайловна знает, что за зимой последует весна, а затем снова лето. Ледяную площадку заменят тогда сначала цветущим лугом, а затем бассейном с пловцами и водяной пантомимой. За это время нужно вывести Илью в фойе, чтобы Виктор Захарович успел посоветоваться с ним. В зрительном зале теперь снова полумрак. Освещено лишь ледяное поле манежа. Зрители едва различимы, но Ирина Михайловна хорошо помнит, где сидят Илья с Андреем Петровичем (она вытащила их обоих на премьеру). Хорошо еще, что их места почти у самого прохода. Она осторожно пробирается к ним и, наклонившись к уху сына, чуть слышно шепчет: — Срочно нужно с тобою посоветоваться, Илюша. Скажи отцу, чтобы не беспокоился… — А что такое, мама? — Идем, идем, там все объясню. Она поспешно уводит его в фойе. Взволнованно шепчет: — Опять что-то неладное с твоим аппаратом, Илюша. Виктор Захарович все тебе сейчас объяснит. — Но почему “опять”? Ты же говорила… — Не время сейчас об этом, — прерывает его Ирина Михайловна. — Потом все объясню. Поговори вот лучше с Виктором Захаровичем. Нетерпеливо ожидавший их Миронов торопливо сообщает Илье о показаниях измерительных приборов. Илья задает отрывистые вопросы, кажущиеся Ирине Михайловне лишенными смысла, но Виктор Захарович понимает его с полуслова. — Идемте посмотрим, что там такое, — решает Илья. — А они что, — обернувшись к Ирине Михайловне, кивает он в сторону манежа, — должны еще работать в пониженном поле тяготения? — Да, должны… — Нужно немедленно отменить! — Но как? Они ведь там, под куполом. И никакой связи с ними… Кончится водяная пантомима, и они должны будут продолжать свой номер. — Нет, нет!.. — нервничает Илья. — Это надо запретить! Даже если для этого нужно будет приостановить все представление… — Зачем же? — раздается вдруг спокойный голос Михаила Богдановича. (Они и не заметили, как он подошел.) — Я не все слышал, но уже догадываюсь, в чем дело. Обстановка драматическая, конечно, но прерывать представление все-таки нельзя. — Но нет ведь другого выхода, дедушка, — беспомощно разводит руками Илья. — Надо к ним пробраться. — Пробраться? — удивляется Ирина Михайловна. — Ты шутишь, отец? — Я был бы плохим клоуном, если бы не понимал, что сейчас не до шуток. — Но как же пробраться? — спрашивает Илья. — На глазах у всех? А может быть, лучше подать им какой-нибудь сигнал? — О сигнализации нужно было договориться заранее. Без этого они ничего не поймут. Нет, нужно все-таки к ним пробраться. Другого выхода я не вижу… — А я снова спрашиваю тебя: как? — нервничает Ирина Михайловна. — По крыше. А там через люк. И сделаю это я сам. Я ведь не только клоун, но еще и акробат. — Но ведь ты… — Ты хочешь сказать, что я стар? — перебивает Ирину Михаил Богданович. — Когда ты не только акробат, но еще и хороший акробат — старость не помеха. Да и не такой уж я старик. Другого выхода к тому же нет, а время дорого. Сколько его: пятнадцать — двадцать минут? — Не больше. — Ну, так не будем их терять! Я тут все знаю. Готовил один трюк и был не только под куполом, но и на крыше. Поднимусь сейчас к Зарнициным и предупрежу их. И он торопливо уходит, опасаясь, видимо, что дочь и внук могут его не пустить. А они несколько мгновений стоят совершенно растерянные, не зная даже, что предпринять… С помощью пожарных лестниц Михаил Богданович взбирается на купол цирка без особого труда. Раза два только останавливается на несколько секунд, чтобы перевести дух, тревожно прислушиваясь к участившимся ударам сердца. Отвык он от высоты. Мелькание автомобильных фар внизу вызывает у него легкое головокружение. Никогда не было с ним этого раньше… Но вот и люк, ведущий внутрь здания, к решетке колосников, к которым крепится цирковая аппаратура. Просунув голову в отверстие люка, Михаил Богданович заглядывает вниз. Там почти сплошной голубоватый мрак. Лишь в нескольких местах сквозь хлопья искусственного тумана просачиваются разноцветные пятна освещенного прожекторами манежа. Но где же “космический корабль” Зарнициных? Его нигде не видно… Нащупав брусья колосников, Михаил Богданович ложится на них и медленно ползет к центру. Глаза его постепенно привыкают к полумраку, и он различает теперь метрах в пяти от решетки темную массу ракеты. А вот и трос, которым она прикреплена к колосникам. Но как же подать отсюда сигнал Зарнициным?.. Чертовски громко звучит музыка, особенно здесь, под куполом, — голосом ее не перекричишь. К тому же Зарницины находятся ведь в плотно закрытом цилиндре ракеты и, конечно, ничего не услышат. А что, если постучать по тросу? Но чем?.. У Михаила Богдановича ничего нет. Он не успел ни переодеться, ни разгримироваться, сбросил только люминесцентный халат. На нем теперь лишь черное трико без единого карманчика, в руках тоже ничего нет. Старый клоун пробует стучать по тросу руками. Но трос покрыт упругой пластмассовой оболочкой и почти не реагирует на удары руками. А время идет. По характеру музыки Михаил Богданович догадывается, что ракету Зарницины начнут скоро выводить из зоны искусственного тумана. Нужно немедленно на что-то решаться!.. И Михаил Богданович решает спуститься на ракету по удерживающему ее тросу. Не очень уверенно берется он за пластмассовую поверхность и чувствует, что диаметр троса слишком велик, чтобы достаточно прочно обхватить его пальцами. Да и в руках старого клоуна нет уже прежней силы. Тревожит и сердце — оно все еще не успокоилось после подъема по пожарным лестницам… А трос между тем начинает медленно раскачиваться из стороны в сторону, и Михаил Богданович теперь только вспоминает, что ракета должна ведь прийти во вращательное движение. Надо бы остаться на колосниках, но он уже повис на тросе, чувствуя, что не удержится на нем, если не успеет добраться до корпуса ракеты, прежде чем она наберет предельную скорость… Ирина Михайловна не находит себе места, тревожась за отца. Как он там? Добрался ли до Зарнициных, сумел ли предупредить? Они ведь в закрытом пространстве ракеты и могут не услышать его. К тому же все время грохочет музыка. Привлечь к себе внимание иным путем ему, видимо, тоже нелегко — купол цирка все время затемнен. Нужно же как-то скрывать от зрителей ракету Зарнициных, создавая впечатление полета ее в “галактическом пространстве”. Для этого используется специально изобретенный Мироновым искусственный туман. Сквозь его голубоватую пелену ничего пока не видно. — Вы только не волнуйтесь так, — участливо шепчет Ирине Михайловне главный режиссер. — Михаил Богданович человек опытный, он найдет способ связаться с ними. Манеж теперь покрыт ковром, напоминающим лужайку с полевыми цветами. На ней собралась группа людей в разнообразной одежде. Легко угадать среди них ученых, рабочих и военных. Прикладывая руки к глазам, все они пристально вглядываются вверх, в “небо”. Прожектора направлены на них так, что освещают лишь не отражающий света ковер да их фигуры. То, что находится под куполом, скрыто от зрителей облаками искусственного цветного тумана. Тревожное, приглушенное звучание оркестра усиливает напряжение. В его мелодии все чаще слышатся звуки, напоминающие сигналы искусственных спутников. Ритм музыки все нарастает. Достигнув крайнего предела, он обрывается вдруг. И тогда в стереофонических динамиках возникает все увеличивающийся мощный шум стремительно падающего тела. Туман над куполом становится багровым. Люди, стоявшие на манеже, расступаются к барьеру. Прожектора, сузив свои лучи, устремляют их в центр багрового облака. Но прежде чем показывается из него массивное тело ракеты, Ирина Михайловна обращает внимание на то, что артисты, находящиеся на арене, с трудом держатся на ногах. Их будто пошатывает какая-то сила. И, не сообразив еще в чем тут дело, она с ужасом видит, как из облака вылетает, плавно вращаясь в воздухе, худощавая фигура Михаила Богдановича, обтянутая черным трико. И почти тотчас же появляется, кажущаяся раскаленной докрасна, ракета Зарнициных. Ирина Михайловна делает порывистое движение, устремляясь к манежу, но Анатолий Георгиевич удерживает ее за руку. — Вы же видите, как он падает? Падать так можно только в пониженном поле тяготения. А страховать его есть кому — полный манеж людей. Теперь и Зарницины выпрыгнули из люка и в изящных сальто-мортале распластались в воздухе. Но Ирина Михайловна не видит уже ничего. Совершенно обессиленная, она медленно опускается на барьер манежа… А зрительный зал сотрясается от грохота аплодисментов. Никого ничто не удивляет. Все готовы поверить в любые чудеса. И разве есть что-нибудь невероятное в том, что с циркового “неба” вместе с “космонавтами” свалился вдруг еще и клоун “Косинус”? Напротив, без этого в представлении чего-то недоставало бы, что-то не было бы завершено. — Ну и переволновалась же ты, наверное, мама? — спрашивает подбежавший к Ирине Михайловне Илья. Ирина Михайловна решительно хватает его за руку и пытается увести в фойе: — Ты должен немедленно все мне объяснить! — Но ведь все теперь хорошо, мама, — упирается Илья. — Дай досмотреть представление. Ведь аппарат мой не подвел вас. — А тревога Миронова была, значит, ложной? — хмурится Ирина Михайловна, подталкивая Илью к выходу из зрительного зала. — Почему же? У него были для этого веские основания. На некоторое время действительно восстанавливалась нормальная гравитация… — Но на какое? Не на доли же секунды, как прежде. Да, да, это уже было. Но так нельзя больше! Я не о своих нервах… Я о риске, которому мы подвергали Зарнициных. — А что же ты предлагаешь — отказаться от их номера? Так ведь без него грош цена всей вашей премьере! Ты слышишь, что творится в зрительном зале? Они теперь в кабинете главного администратора, и Илья порывисто распахивает закрытую Ириной Михайловной дверь. — Было разве когда-нибудь такое? — А нестабильность? — Непременно докопаемся до ее причины. Уже и докопались бы, может быть, если бы вы не скрывали от меня эту нестабильность. Я ведь думал, что в лаборатории Леве это только показалось. А на установке такого масштаба, как ваша, значит, все это сказывается сильнее. — Но когда же вы, однако, “докопаетесь”? За это время Зарницины убиться или покалечиться могут. — Ничего, поработают пока с предохранительными лонжами. — Да ведь они ненавидят их, эти лонжи!.. — восклицает Ирина Михайловна. Но ее прерывает спокойный голос Миронова: — Не волнуйтесь так, Ирина Михайловна. Я им такие лонжи сконструирую, что они не только чувствовать, но и видеть их не будут. Виктор Захарович, оказывается, уже несколько минут стоял у дверей кабинета главного администратора и слышал почти весь разговор Ирины Михайловны с сыном. — Спасибо вам за поддержку, Виктор Захарович! — протягивает ему руку Илья. — Как же можно лишать цирк такого аттракциона?! В зрительном зале включен теперь полный свет. Никто не объявляет, что представление окончено, всем и без того все ясно. Но никто не уходит. Не смолкая, звучат аплодисменты. Вызывают Зарниципых, Михаила Богдановича, главного режиссера, Ирину Михайловну… А когда наконец публика начинает понемногу расходиться, Антон толкает Юрия в бок: — Пойдем и мы поздравим Зарнициных. — А может быть, не стоит сейчас? Там и без нас полно их поклонников… — Ну, знаешь ли!.. — не находит слов от возмущения Антон. Схватив Юрия за руку, он буквально силком тащит его за кулисы. А там счастливых Зарнициных окружила целая толпа. — Ну вот, я же говорил… — мрачно произносит Юрий. Но Антон, не выпуская его руки, упрямо протискивается к Маше. — Вот, насильно его притащил, — кивает он на Юрия. — Хотел улизнуть. — Ах, Юра, Юра! — укоризненно качает головой Маша. — Знали бы вы только, как я счастлива! И не сегодняшним успехом, а оттого, что у меня такие настоящие друзья. — А Михаил Богданович где же? — вспоминает о старом клоуне Алеша Зарницин. — Он ведь так рисковал из-за нас… Надо непременно его найти. Вы не видели его, Семен Семенович! — обращается он к дежурному администратору. — Ирина Михайловна уже уехала с ним домой, — сообщает администратор. А Маша все еще держит руку Юрия. — Особенно же счастлива я потому, что у меня такой друг, как вы, Юра, — говорит она теперь уже ему одному.
Александр Ломм. В ТЕМНОМ ГОРОДЕ Приключенческая повесть
1
Это был самый мрачный период немецкой оккупации… В первой половине января на Прагу обрушились все стихии сурового севера. Черепичные крыши скрылись под плотными пластами снега. По Ваилавской площади бушевали настоящие сибирские метели. На окнах блестели фантастические морозные узоры. Красавица Влтава оделась в ледяную броню. Но пражане почти не заметили этого разгула зимы. Они мобилизовали все свои жиденькие макинтоши, плащи, накидки, свитеры и лишь быстрее сновали по своим делам лабиринтами узких улиц. Им было не до капризов зимы. Хмурую тревогу и настороженность вызвало на их осунувшихся лицах иное бедствие. По оккупированной стране проходила волна жесточайшего террора. Ежедневно на всех заборах, плакатных тумбах и стендах расклеивались новые объявления чрезвычайного имперского суда. Это были широкие листы дешевой бумаги кроваво-красного цвета. Черными буквами на них были отпечатаны (слева по-немецки, справа по-чешски) списки граждан протектората Чехия и Моравия, казненных за “измену великой Германской империи”. Объявления висели всюду: рядом с афишами театров, рядом с рекламными плакатами торговых домов, рядом с напыщенными воззваниями марионеточного правительства протектората. Куда ни повернись, они везде бросались в глаза, кричали о крови, о новых тысячах жертв. Прохожие останавливались, торопливо просматривали списки, ища имена родственников и знакомых, и отходили, пряча лица в воротники, — то ли от холода, то ли от бессильной ненависти… И только метель с грозным весельем носилась над городом, швыряла в зловещие листы пригоршни снега, срывала их и крутила по улицам… Немецкие солдаты не прятались от холода. Они подставляли вьюге багровые лица и презрительно поглядывали на горожан. Ходили они всегда целой ватагой, стуча коваными каблуками по промерзшим тротуарам, разговаривали громко, уверенно — хозяева!.. В середине января вдруг наступило резкое потепление. Снег растаял и растекся хлюпкой жижей. С крыш закапала обильная капель. На улицах суматошно загомонили воробьи. Всюду блестели лужи, а в синем умытом небе радостно засверкало настоящее весеннее солнце. Но оттепель не смягчила оккупантов. Они с прежним упорством и методичностью продолжали кровавое дело, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. У них была цель: сломить во что бы то ни стало в порабощенном народе неукротимую волю к сопротивлению…2
Пражское гестапо занимало дворец миллионера Петчека в самом центре города. Почему это мрачное здание называлось дворцом, неизвестно. С виду оно скорее напоминало казарму или тюрьму. Тяжелое, из гигантских каменных глыб, с устрашающими чугунными решетками, оно как нельзя более соответствовало своему новому назначению. Пражане его называли коротко: “петчкарня”. О подземных казематах и камерах для пыток этой “петчкарни” ходили в народе самые ужасные слухи… Майор Кребс, начальник одного из отделов гестапо, внешностью своей далеко не отвечал идеалу арийской расы. Приземистый, с короткой шеей, он производил впечатление уверенного в своей мощи зверя. Его жесткие черные волосы торчали как проволока. Челюсть казалась каменной. В запавших глазах светилась непреклонная воля. Взгляд его, казалось, проникал в душу. Сознавая свое волевое превосходство, майор никогда не кричал на подчиненных. Когда за час до обеда к нему явился руководитель оперативной группы его отдела, лейтенант Вурм, и доложил, что арест инженера Яриша ни в коем случае нельзя откладывать до ночи, Кребс даже бровью не повел и не задал ни одного вопроса. Он лишь вперил в долговязого лейтенанта тяжелый взгляд, и тот немедленно принялся излагать причины: — Только что звонили из “Юнкерса”, герр майор. Начальник конструкторского бюро, инженер Кляйнмихель, сообщил, что у него есть все основания подозревать Яриша в съемке копий с секретных документов. Кляйнмихель очень взволнован. Он просит немедленно задержать Яриша. В противном случае он опасается, что преступник успеет вынести снятые копии н передать их своим сообщникам… — Кляйнмихель осел, — проворчал Кребс. — Уже неделю назад ему было приказано не допускать Яриша к подлинным секретным документам. Нам нужен не один Яриш, а вся эта шайка грязных заговорщиков… — С вашего разрешения, герр майор, я поставил инженеру Кляйнмихелю на вид это обстоятельство. Он путается в объяснениях, ссылается на срочные военные заказы и на перебои в работе бюро. Одним словом, он умоляет немедленно взять Яриша. Майор задумчиво уставился мимо лейтенанта на портрет Гитлера в позолоченной раме и сказал: — Ну что ж, лейтенант. Имена сообщников придется узнавать у Яриша… Кстати, вам известно, почему мы производим аресты преимущественно ночью? — Так точно, герр майор! — Почему же мы так поступаем? — По инструкции, герр майор! Инструкция предписывает применять ночные аресты иоблавы, чтобы застать преступника врасплох, взять его с сообщниками или, во всяком случае, со всей его семьей!.. — Именно со всей семьей. Правильно… А что нам это дает? Лейтенант замялся, растерянно заморгал белесыми ресницами и еще сильнее выпятил грудь. — Не знаете? — равнодушно спросил майор. Он зевнул, затем строго взглянул на лейтенанта и раздельно произнес: — Зарубите себе на носу. Семья преступника — жена, дети, мать, отец и так далее — нам нужна не просто для полноты впечатления, а для того чтобы быстрее провести дознание. Видя своих близких в смертельной опасности, преступник делается мягче воска и выдает с головой себя, своих сообщников, всю свою банду. Вот для чего мы берем семьи. Вам понятно, лейтенант? — Так точно, герр майор, понятно! Майор помолчал. — Разрешение на немедленный арест инженера Яриша я вам даю, — проговорил он. — Но вы, лейтенант Вурм, ручаетесь головой, что все члены семьи преступника будут задержаны сегодня же. Вам ясен приказ? — Так точно, герр майор! Разрешите выполнять? — Выполняйте! Лейтенант молодцевато вскинул руку в нацистском приветствии и, четко повернувшись, покинул кабинет начальника.3
Пожилая женщина в стареньком потертом пальто и в платке, приспущенном до самых глаз, беспокойно металась в воротах дома. Она то и дело выглядывала на улицу, окидывала ее быстрым тревожным взглядом и снова испуганно скрывалась за воротами. Забившись в темный угол, она крепко, до боли, прижимала к груди руки и прерывисто шептала: — Господи боже!.. Пресвятая дева Мария, что же это будет?.. Неужели я, старая дура, прозевала его?!.. Да нет же, не может этого быть! Не может быть!.. И она снова высовывалась за ворота и напряженно всматривалась в редких прохожих. Проходившие мимо немецкие солдаты вызывали в ней нестерпимые приступы страха, смешанного с острой ненавистью. Она еще крепче сжимала худые руки и шептала: — Господи, пронеси их окаянных, чтоб они сдохли, изверги проклятые!.. Было два часа пополудни, и женщина уже совсем измучилась: лицо ее посерело, глаза слезились от напряжения. Но уйти она не могла. Ей во что бы то ни стало нужно было дождаться. И она дождалась… На противоположной стороне улицы появился худощавый паренек лет шестнадцати. Нескладный, по-мальчишески неуклюжий, он медленно брел по тротуару, щурясь на блестящие лужи. На его впалых щеках горел ровный румянец. Верхнюю губу и подбородок покрывал первый золотистый пушок. Одет был паренек в светло-коричневый макинтош. Синий берет был слегка сдвинут на левое ухо. В правой руке он нес потертый кожаный портфель, беспечно помахивая им в такт шагам. Увидев его, женщина всплеснула руками и крикнула: — Мирек! Паренек оглянулся. Заметив женщину, он широко улыбнулся и направился к ней через улицу. — Добрый день, пани Стахова! Вы, кажется, звали меня? Но женщина не ответила на его приветствие. Она судорожно схватила его за рукав и потянула за собой в подворотню. — Ой, не добрый! Ой, совсем не добрый этот день, Мирек!.. Идем скорее! — бормотала она. Растерянный Мирек пошел за нею, не решаясь спросить, что же, собственно, случилось, почему пани Стахова, дворничиха из его дома, так расстроена и куда она ведет его. В темной подворотне было холодно и сыро. Пани Стахова увлекла Мирека в самый глухой угол, остановилась и тихо заплакала. — Что с вами, пани Стахова? — всполошился Мирек. — У вас несчастье? — Тише, мой мальчик, тише! — горячо зашептала женщина, подавив рыдания. — Не у меня горе, а у вас в семье! Тебе нельзя идти домой! Там гестаповцы! Твоего отца взяли на заводе и приехали за матерью и за тобой. Пани Яришева, к несчастью, оказалась дома!.. Всю вашу квартиру гестаповцы перевернули вверх дном. Теперь двое ждут тебя там, а один поехал за тобой в гимназию… Ты должен бежать, скрыться куда-нибудь!.. Мирек был совершенно сбит с толку. — Куда? — шепотом спросил он. — Не знаю, мой мальчик!.. — И женщина снова заплакала, беззвучно глотая слезы. У Мирека задрожали губы. Постепенно он начал сознавать всю тяжесть и непоправимость свалившегося на него горя. Перед его внутренним взором промелькнули образы отца и матери, почему-то из далекого детства — песчаный пляж, лазурная поверхность Махова озера. Отец посадил его к себе на плечи и бежит в воду. Мирек визжит от восторга и страха. “Не утопи его, сумасшедший!” — встревоженно кричит им мать. Она лежит на песке под большим ярко-желтым зонтом. Отец оборачивается: “Ничего! Он мужчина! Пусть закаляется!..” — А что будет с ними? С отцом, с мамой? — Не знаю, дорогой… — ответила пани Стахова. — Но бог милостив. Может, все и обойдется, и вы снова соберетесь вместе… — Она всхлипнула и сунула ему в карман макинтоша какие-то бумажки. — Тут сто крон, Мирек, и продуктовые карточки… На хлеб, па мясо… Все, что могла… А теперь беги! Тебе нельзя попадаться на глаза этим бандитам! И родителям твоим будет легче, если они будут знать, что ты на свободе. Помни это!.. Дай-ка я поцелую тебя на дорогу!.. Будь мужчиной! Она дрожащими руками нагнула к себе его голову и торопливо расцеловала в обе щеки. Затем она почти насильно вывела его из ворот. — Беги, Мирек, беги! Ее страх передался ему. Очутившись на залитой солнцем улице, он еще раз обернулся, глянул на пани Стахову широко раскрытыми глазами и, дико вскрикнув, бросился бежать. — Беги, мой хороший, беги, беги… — шептала пани Стахова. Когда паренек скрылся за первым поворотом, она облегченно вздохнула, затянула потуже платок и, сгорбившись, поспешно засеменила в противоположную сторону.4
Несколько кварталов Мирек пробежал, ничего не соображая, ничего не видя вокруг себя. В его мозгу кричало и билось одно только слово: “Беги!” И он бежал… Прохожие удивленно оглядывались, качали головами. Он с разбегу врезался в группу немецких солдат, и те грубо обругали его, а один ткнул кулаком в шею. Мирек побежал еще быстрее. Но вскоре острое покалывание в боку заставило его перейти на шаг, а потом и вовсе остановиться. Тяжело дыша, он осмотрелся и понял, что бежит к своей школе. Но почему к школе? Его мозг встрепенулся и лихорадочно заработал. Нет-нет, туда нельзя! Там его тоже ждут гестаповцы!.. Оленька! Как он мог забыть о ней?.. Ведь всего час назад он прощался с ней перед гимназией. Он успел незаметно шепнуть ей: “Сегодня в четыре на нашем месте!” Она засмеялась, кивнула головой в меховой шапочке и убежала догонять подружек. Но она кивнула! Значит, придет!.. Оленька, смешливая, черноглазая Оленька, единственный близкий человек на свете, которого можно еще увидеть, не думая об опасности… Мирек несколько успокоился. Мысли его потекли более упорядочение. У него появилась цель — “наше место”, а это в его положении было самое главное. Он свернул в глухой переулок и далеким окольным путем зашагал к Вышеграду… Пустынные аллеи Вышеградского парка встретили Мирека глубокой тишиной. Снег здесь таял не так быстро, как на городских улицах. Он лежал еще на аллеях и на газонах среди голых деревьев нетронутым влажным покровом и ослепительно сверкал на солнце. С деревьев капало. Какие-то взбудораженные пичужки радостно перекликались среди черных сучьев. Пахло размокшей корой… Мирек отыскал одинокую скамью. Здесь он уже два раза встречался с Оленькой… На скамье лежал тяжелый, мокрый снег. Мирек сгреб его на землю и устало опустился на скамью. Тотчас же со всех сторон на него надвинулась грозная тишина. Она сдавила его, как стальными тисками, заставила вновь пережить весь ужас положения. Он вспомнил рассказы о чудовищных застенках гестапо. Вспомнил кроваво-красные объявления чрезвычайного имперского суда и так ярко, до ужаса реально представил себе имена отца и матери в этих списках, что, схватившись за голову, глухо застонал, упал на скамью и, прижавшись лицом к холодной коже портфеля, горько заплакал.5
Лейтенант Вурм переоценил свои силы. Он вернулся с задания ровно через три часа и предстал перед своим шефом с видом далеко не геройским. Он был бледен, растерян, и рука его, взметнувшаяся для приветствия, заметно дрожала. — Разрешите доложить, герр майор? Кребс двинул каменной челюстью. Вурм, путаясь и сбиваясь, принялся докладывать о ходе операции. Он пространно поведал о блестяще выполненном аресте инженера Яриша на заводе, об удачном аресте его жены Ярмилы Яришевой на квартире, о результатах обыска и… замялся. Запавшие глаза майора недобро сверкнули. — Младшего Яриша, герр майор, задержать не удалось, — поспешно заговорил лейтенант. — Он почему-то не вернулся из школы домой. Все дополнительные поиски ни к чему не привели. Мальчишка исчез бесследно. Я лично ездил в школу. Установил, что Мирослав Яриш был на уроках до конца занятий и ушел домой в самом безмятежном настроении. Последнее говорит о том, что в школе он, во всяком случае, никем предупрежден не был. Значит, каким-то образом по дороге домой он узнал… Лейтенант запнулся и судорожно проглотил слюну. Кребс пристально смотрел на него, играя желваками своих каменных челюстей. — Но, если герр майор позволит, — упавшим голосом продолжал лейтенант, — я осмелюсь доложить свое мнение… На мой взгляд, дальнейшие хлопоты по поимке ни к чему не причастного подростка не оправдают расходов. У нас есть жена инженера Яриша, и это гарантирует нам… Майор Кребс остановил лейтенанта брезгливой усмешкой, заговорил сам. Заговорил тихо, ровно, даже несколько задумчиво: — О целесообразности той или иной операции, лейтенант, вам рассуждать не пристало. Я с предельной ясностью и четкостью обрисовал вам всю важность и ответственность порученного вам задания. Я особо подчеркнул, что семья преступника должна быть задержана полностью. Но вы не оправдали моего доверия и провели операцию спустя рукава. Это очень плохо… Сколько лет Мирославу Яришу? — Шестнадцать лет, два месяца и четыре дня, герр майор! — Шестнадцать лет. В таком возрасте он мог быть сообщником отца. Это неизмеримо увеличивает вашу вину, лейтенант. Мирослава Яриша необходимо взять. Он мне нужен. Могу вам дать время до утра, чтобы исправить ваш промах. Для вас это последний шанс. Если завтра к восьми ноль-ноль Мирослав Яриш не будет задержан, я немедленно отчислю вас в действующую армию на Восточный фронт. Растяпы и ротозеи мне не нужны. Все. Можете идти. Лейтенант Вурм вылетел из кабинета начальника как ошпаренный. Созвав молодчиков своей оперативной группы, он устроил им небывалый разнос. Он дал им шесть часов на поимку “проклятого мальчишки” и пригрозил, что всех собственноручно перестреляет. Затем он бросился к телефону и принялся обзванивать городские отделения чешской полиции, железнодорожную охрану, комендатуру СС, радиокомитет и даже почтамты, всюду требуя помощи и содействия. …Майор Кребс помял ладонями щеки и с хрустом потянулся. Интересно, как этот идиот справится с таким сложным заданием? Он-то, Кребс, знает, как трудно поймать на мушку напуганного, убегающего зверя. Мальчишка, конечно, не стоит трудов, которые придется на него затратить. Но приказ есть приказ, а инструкция есть инструкция. И Яриш-младший должен быть взят любой ценой!..6
Стражмистр Йозеф Кованда вернулся с дежурства в половине четвертого. Настроение у него было прескверное. Он молча разделся, огромную черную шинель повесил на крюк, широкий ремень с пустой пистолетной кобурой швырнул в угол. Грузно опустившись на табурет, принялся, кряхтя, стаскивать мокрые сапоги. Из кухни выглянула его жена Марта, полная сорокалетняя брюнетка со спокойным красивым лицом. — Ты сегодня явился словно дух святой. И не слышно тебя даже! — сказала она, удивленно вскинув брови. — Здравствуй! — буркнул Кованда, продолжая трудиться над сапогом. — Здравствуй, здравствуй! — проговорила нараспев пани Ковандова и, выйдя в переднюю, плотно прикрыла за собой дверь. — Что случилось, Йозеф? Почему ты не в духе? — тревожно спросила она. — Ничего, Марта, не случилось. Просто осточертело все… — Покончив с сапогом, он выпрямился на табурете. — Оленька дома? — Дома, но собирается уходить. Говорит, что к подруге — делать уроки. Кованда задумался, глядя перед собой. Затем хлопнул себя по колену и приказал: — Пошли ее ко мне в столовую. — Зачем? — Спросить кое-что. — А при мне нельзя? — Можно. Только сначала я хочу поговорить с нею с глазу на глаз. Тебе я потом расскажу. — Что-нибудь случилось, Йозеф? — Да нет, пустяки… — Ну смотри. Марта удалилась на кухню, а Кованда сунул ноги в теплые туфли и прошел в столовую. Здесь было холодно и неуютно. Из-за нехватки угля квартира почти не отапливалась. За окном сгущались ранние зимние сумерки, но было еще довольно светло, а над противоположным домом даже виднелась яркая полоса голубого неба, чуть тронутая нежным розовым оттенком, брошенным последними лучами заходящего солнца. Скрипнула дверь, пошла Оленька. Она была в синем пальто с беличьим воротником и в маленькой шапочке, отороченной тем же мехом. На ее смуглом скуластом личике сверкали из-под густых бровей большие лукавые глаза. — Здравствуй, папа! Ты звал меня? — Звал. А ты, я вижу, уходить собралась? — Я только к Зденке, папа. У нас сегодня такая уйма уроков!.. Ты недолго задержишь меня? — Не бойся, ненадолго… Ну, как дела в школе? Все благополучно? — Все хорошо. Меня сегодня вызывали по новой немецкой истории, и я все отлично ответила. Вопрос попался такой легкий-прелегкий: основание национал-социалистической партии Германии и биография фюрера. Я так все отчеканила, что наша историчка прямо удивилась… Да ты меня не слушаешь, папа! Оленька стояла сбоку дивана и, крутя перчатку, смотрела на отца. А он рассеянно посасывал трубку и пристально следил за быстро блекнувшей полоской неба за окном. — Слушай, Оленька. — Кованда вынул изо рта трубку и повернулся к дочери. — Мирослав Яриш с тобой в одном классе? Вопрос был столь неожиданный, что застигнутая врасплох Оленька вздрогнула и залилась густым румянцем. Помолчав, она робко сказала, глядя в пол: — Ну… со мной… А что? От Кованды не ускользнуло ее смятение. В другое время он не преминул бы воспользоваться случаем и отпустить в адрес дочки несколько добродушных шуток. Однако теперь он был слишком серьезно настроен и сделал вид, что ничего не заметил. — Вот что, доченька. То, что я сейчас скажу тебе, нужно сохранить в полном секрете. Ты понимаешь, что это значит? — Да, папа… — Ну так вот… Сегодня, в час пополудни, гестапо арестовало Богуслава Яриша и Ярмилу Яришеву. Это родители твоего одноклассника Мирека. Его тоже должны были взять, но он почему-то не вернулся из гимназии домой. Скорей всего его по дороге кто-то успел предупредить. Теперь его ищут по всему городу. Гестаповцы впрягли в это всех, кто носит хоть какую-нибудь форму: железнодорожников, почтальонов, кондукторов трамваев, не говоря уж о нас… Тебе понятно, что я хочу сказать? — Да, папа… Девушка была бледна как смерть. — Если его смогли только предупредить, а надежного убежища для него не сыскали, он все равно попадется, — тихо продолжал Кованда. — Деваться ему некуда. То, что его до сих пор не схватили, чистейшая случайность. Гестапо в таких делах не останавливается ни перед какими расходами. Ночью Мирека непременно поймают… — Папа!!! Оленька закричала так громко, что Кованда вскочил с дивана. — Тише! Ради бога тише! — Папочка, миленький, спаси его! Ты ведь это можешь! Я знаю, что можешь!.. — горячо зашептала Оленька и, судорожно схватив большую красноватую руку отца, прижалась к ней лицом. Он обнял ее за плечи и усадил рядом с собой на диван. — Успокойся ты, глупышка! Успокойся! — гудел он ей в ухо и гладил ее рассыпавшиеся из-под шапки волосы. — Разве можно так кричать о таких делах?! Ведь даже у стен есть уши!.. “Спаси”!.. Да ты понимаешь вообще, о чем просишь? — Ты боишься, папа?! — Тише, не серди меня! При чем это тут — боюсь я или нет. Сообрази, что говоришь. Как его спасать-то? Ведь кто его знает, где он теперь блуждает, перепуганный да голодный… — А если бы знал, где он, спас бы? — Оленька обхватила обеими руками отца за шею и старалась заглянуть ему в глаза. — Ну скажи, папа, спас бы, а? Кованда слегка отстранился от дочери, крепко потер подбородок и сказал неопределенно: — Посмотрим… Посмотрим… Ступай-ка, принеси мне табаку. А то голова что-то совсем не работает… Оленька быстро сбегала на кухню за табаком. Мать встретила и проводила ее встревоженным взглядом. Но Оленька не обратила на это внимания. Кованда набил трубку горьким самосадом, раскурил ее, выпустил облако едкого дыма и сказал: — Хорошо. Допустим, что я мог бы для Мирека кое-что сделать. Но где найти его? — Я знаю, где найти! — воскликнула Оленька. — Ты? Откуда же ты можешь знать? — Кованда притворился крайне удивленным и озадаченным. — Об этом, папа, потом! Это сейчас неважно. Я знаю, где он находится именно сейчас, в эту минуту. Только надо спешить. Он может уйти!.. — Понятно. Мы немедленно пойдем туда вместе! — решительно сказал Кованда. — Вместе нельзя! — всполошилась Оленька. — Почему? Ты не веришь своему отцу, Ольга?! — В голосе Кованды послышались строгость и горечь. — Нет, папа. Я верю тебе. Но Мирек испугается и убежит, если увидит тебя вдруг, без предупреждения. Он ведь знает, где ты служишь… — Правильно. Ты у меня умница. Говори, где мне ждать вас. — Под Вышеградом, у железнодорожного моста! — Подходит. Ну, беги. А я переоденусь в штатское и сейчас же поеду к мосту. К пяти часам я буду уже на месте. — Бегу, папа!.. И Оленька выбежала из столовой. В передней она столкнулась с матерью. — Стой ты, сумасшедшая! Пани Ковандова схватила дочь за руку и сунула ей кошелку. — Держи! Здесь термос с горячим кофе и свежие оладьи с повидлом… То же мне заговорщики! Галдят на весь дом, а о том, что мальчонка не ел с самого утра, и не подумают! — Ой, мамочка! Милая! — Оленька крепко обняла мать, но вдруг отскочила от нее и бросилась назад в столовую. Подбежав к отцу, она умоляюще заглянула ему в лицо: — Папа, только ты смотри!.. Кованда нахмурился и гневно сверкнул глазами: — Сейчас же выбрось из головы эту грязную мысль и никогда не смей такое думать! Твой отец не был и не будет предателем! Ступай и выполняй свой долг! Оленька поцеловала его и через минуту уже стремительно бежала по сумеречной улице с кошелкой в руке. Похолодало. К ночи обещал быть изрядный мороз. Электрические часы на углу показывали ровно четыре…7
На Прагу опускались синие сумерки. Город погружался в темноту. Со стороны Вышеградского парка, раскинувшегося на крутом косогоре, открывался широкий вид на белую ленту замерзшей Влтавы, на железнодорожный мост, на Смиховский район с шеренгами темных, уже окутанных сизой дымкой пяти- шестиэтажных домов. Оттуда доносились приглушенные шумы, рокот, далекие звонки невидимых трамваев, короткие гудки автомобилей. Здесь, на древнем Вышеграде, уже царила глубокая тишина. Седые развалины старой чешской крепости и более поздние, еще вполне сохранившиеся высокие крепостные стены с давно ненужными бойницами и амбразурами, погрузились в сон… Мирек сидел на скамье неподвижно, в глубокой задумчивости. Берет его был натянут на уши, воротник макинтоша поднят, руки глубоко засунуты в карманы. Мороз пронизывал его насквозь, но он не замечал этого. Не хотелось ни двигаться, ни думать о спасении. Повзрослевший за несколько часов, осунувшийся и даже похудевший, он смотрел на сумеречный город остановившимся взглядом и безучастно слушал его отдаленные, словно подземные, шумы. Он чувствовал себя абсолютно чужим этому городу, чужим и ненужным. Он был уверен, что если он, одинокий и затравленный, замерзнет здесь до утра или будет схвачен на этой скамье гестаповцами, городу это будет в высшей степени безразлично… Шестнадцатилетнее сердце не ведает страха смерти. Решив не сопротивляться судьбе и умереть, Мирек, однако, не вычеркивал себя окончательно из будущей жизни. Его воображению представлялось, как утром в парке обнаружат его окоченевший труп; как люди будут жалеть его, говорить: “Такой молодой и такой несчастный!”; как заплачет Оленька, узнав о его гибели. Да, она заплачет и всю жизнь будет терзаться мыслью о том, что могла еще раз увидеться с ним, могла хотя бы попрощаться с ним, но не сделала этого, не пришла на свидание. Пусть же плачет, пусть терзается!.. Он живо представил себе плачущую обманщицу, увидел ее слезы, и это послужило ему некоторым утешением в его безысходном горе. В половине пятого, когда он совсем уже потерял надежду на встречу с подругой и весь отдался мрачным мыслям о близкой смерти, в отдаленной аллее послышались быстрые легкие шаги. Он с трудом повернул голову и в густеющих сумерках увидел знакомый силуэт. Оленька остановилась шагах в десяти от скамьи и, прерывисто дыша, молча смотрела на него. Горло его сжалось. Каким-то образом, по одному се виду, по кошелке в ее руке, по ее молчанию и нерешительности, он мигом понял, что она все знает. — Здравствуй, Мирек! — тихо сказала она, немного отдышавшись. — Вот, я принесла тебе покушать. Мама посылает… — Спасибо, — шевельнул он закоченевшими губами. Пока он ел оладьи с повидлом и, обжигаясь, запивал их горячим кофе из термоса, она тихо, словно мышка, сидела рядом с ним и не спускала с него широко раскрытых глаз. Горячая пища согрела его и вернула к жизни. Он почувствовал могучий прилив бодрости и уверенности в своих силах. Мрачные мысли о смерти, подавленность, обреченность и отчаяние — все это мгновенно улетучилось. — Спасибо, Оленька! — сказал он. — Большое спасибо! И маме своей передан, что я очень благодарен ей! Теперь мне снопа хорошо, и я готов за себя постоять! — Что ты собираешься делать, Мирек? Куда ты пойдешь? — робко спросила она. — Еще не знаю. Но живым я им не дамся! — ответил он и, подумав немного, добавил: — В Праге мне оставаться нельзя. Буду пробираться в горы, к партизанам! — А как ты найдешь их? — Как все. Отец мне как-то рассказывал, что в последнее время партизанских отрядов сильно прибавилось. Они появляются в Крконошах, в Изерских горах, на Шумаве, не говоря уж о словацких Татрах, где в любом ущелье можно встретить партизана. Вот только оружие себе раздобуду и двинусь. С оружием меня скорее примут в отряд! Он говорил уверенно, даже с некоторой небрежностью, будто приобрести оружие и отыскать партизан было для него самым обычным делом. Но Оленька не поверила этой напускной беспечности. Она грустно сказала: — В партизаны — это хорошо, Мирек. Даже очень хорошо. Я уверена, что ты будешь драться с немцами как лев. Но ведь для этого нужно прежде всего выбраться из Праги. А как ты выберешься, если на каждом шагу тебя подстерегают ловушки? На вокзалах, на дорогах — всюду гестаповские заставы. Тебе опасно даже показываться на улицах. Тебя мигом схватит! — Ночью как-нибудь проскользну. Ночью меня не заметят. А за Прагой, где-нибудь на маленькой станции, залезу в товарный вагон и укачу на Моравскую возвышенность, в Бескиды или в Словакию, в Татры. Там я не пропаду… — Тебе только кажется, что это так легко. На самом деле все гораздо труднее и опаснее, чем ты думаешь. Папа говорит, что, если у тебя нет надежного убежища, тебя до утра наверняка арестуют… — Твой отец? — насторожился Мирек. — Да, это говорил мой папа. И он согласен тебе помочь. Это он рассказал мне, что твоих родителей забрало гестапо и что тебя теперь ищут по всему городу. Он согласился помочь тебе. Я еще не знаю — как, но уверена, что он поможет тебе скрыться. Только надо спешить. Он обещал ждать нас внизу, у железнодорожного моста. Идем скорее!.. — Погоди… — пробормотал он изменившимся голосом и отодвинулся от нее. — Ведь твой отец служит в полиции! — Ну и что же? Он все равно честный человек! — возразила она. — Честные люди не служат в полиции протектората! Честные люди гниют за решеткой, их пытают и расстреливают! — Не говори так, Мирек! Моему отцу можно верить! Разве я сказала бы ему, где тебя найти, если бы он мог… — Слезы мешали ей говорить. Она расплакалась от обиды и огорчения. Но молодость беспощадна. Она не знает снисхождения. Она либо признает и верит, либо отрицает и ненавидит. Образ полицейского Кованды теперь, после ареста родителей, мигом обрел в его воображении чудовищные черты предателя и палача. Вскочив со скамейки, Мирек схватил свой портфель и крикнул: — Ты сказала ему, где меня можно найти?! Ты выдала ему наше место?! Ты смогла… — Мирек, не надо! Постой! Он же поможет тебе! Она тоже вскочила. По он отпрянул от нее, как от прокаженной: — Не подходи! Ты подослана отцом! Он хочет выслужиться перед немцами! А я — то, дурак, раскис и чуть не попался на приманку! Хороши были оладьи и кофе, только дешево твой папаша меня задумал взять! Может, он уже где-нибудь тут, поблизости?! — Мирек, милый, успокойся! Здесь никого нет! — всхлипывала Оленька. — Врешь! — крикнул он, продолжая пятиться. — Ты предательница! Я ненавижу тебя!.. И, охваченный новым приступом страха, он бросился бежать прочь, в темноту. — Мирек! — отчаянно крикнула она. — Мирек! Яриш! Вернись! Шаги его стремительно удалялись, пока не замерли вдали. Она знала, что он бежит навстречу неминуемой гибели, так как снова найти его будет уже невозможно. Она плакала, но не от обиды, а от отчаяния и острой жалости…8
Большой, грузный Кованда в штатском пальто и в шляпе шел по темной набережной понурив голову. Он был подавлен, удручен и растерян. Нет, не обидное недоверие перепуганного подростка так расстроило его. Эту неудачу он воспринял, как нечто вполне естественное. Пожалуй, он даже заранее знал, что необдуманная попытка спасти Мирека окончится чем-нибудь в этом роде. Но рядом шла Оленька и, глотая слезы, говорила ему слова, горше и больнее которых ему в жизни не приходилось слышать. — Это ты, ты во всем виноват! — шептала дочь, неистово дергая рукав отцовского пальто. — Зачем ты служишь в полиции? Зачем?.. Теперь, в такое время, это значит помогать убийцам и грабителям, а не бороться с ними! Мирек сказал, что честные люди сражаются против немцев. В горах и везде… Честные люди томятся в тюрьмах и подставляют грудь под пули палачей! Мирек сказал, что честные люди не могут служить в полиции протектората! Почему же ты?! Или ты хуже других?! А я — то, я — то всегда была уверена, что мой отец самый сильный, самый хороший, самый добрый, самый честный и справедливый! Но оказалось, даже в беде, даже в смертельной опасности человек не принимает твоей помощи, потому что видит в тебе предателя, изменника родины… Хорошо, если Миреку удастся выбраться из Праги и найти в горах партизан. А если нет?! Если его поймают и замучают? Тогда ты один будешь в этом виноват! Ты один, н больше никто! Слов этих было много, до ужаса много. Прерываемые всхлипываниями и вздохами, они бежали бесконечной вереницей, жалили, кололи, кусали. И — это было самым невыносимым — Кованда чувствовал, что не смеет остановить их. Он брел по темной набережной, сам не зная куда, и молчал, молчал… Наконец ему стало совсем невмоготу. Он остановился и сказал умоляюще: — Хватит, Оля, перестань! — Не перестану! Ни за что не перестану! Может, ты бить меня собираешься? Или в гестапо отведешь? Ну что ж, веди! Лучше уж в концлагере пропадать, чем жить с таким… — Довольно, детка! Слышишь, довольно! Я прошу тебя… Он крепко сжал ее руку. Услышав в его голосе не угрозу, которой она ожидала, а мольбу о пощаде, она растерянно умолкла. Минут десять они стояли над белой рекой. Увидев, что дочь немного успокоилась, Кованда заговорил с грустью: — Ты во многом права, Оленька. Но во многом и жестоко несправедлива ко мне. Рассуди сама. Разве я мог бы узнать об аресте Яришевых и сделать попытку спасти Мирека, если бы не служил в полиции? Конечно, нет. Значит, есть в моей службе какая-то доля хорошего, полезного для наших людей. Это опасная работа, о которой никто не знает, но которую, я уверен, делают по мере сил многие из моих сослуживцев… — Но ведь ты не спас Мирека! — упрямо возразила Оленька. — Наоборот, ты напугал его еще больше и вдобавок рассорил со мной! — Это другое дело. Мы оба с тобой допустили ошибку. Вероятно, потому, что не было времени все обдумать и взвесить. Скорей всего, мне следовало применить насилие. Явиться на Вышеград в полной форме и попросту арестовать Мирека. Тогда он притих бы, и его было проще отвести затемно в какое-нибудь укрытие. Впоследствии он и сам разобрался бы что к чему… Но разве я мог предложить тебе такой план? Разве ты поверила бы мне? — Нет, наверное, не поверила, — призналась девушка. — Ну вот, видишь! Я согласился ждать вас у моста и этим фактически погубил все дело. Тут, если хочешь, действительно моя вина. Я опытней тебя, мне и нужно было взять все на себя и действовать более решительно. — Я понимаю, папа. Я все теперь понимаю, хотя и не согласна с тобой насчет твоей службы. По об этом потом. Теперь о Миреке. Неужели ты ничего не можешь сделать для него? Кованда курил и медлил с ответом. — Неужели мы сделали уже все и теперь со спокойной совестью пойдем домой? — Мы с тобой, детка, ничего уже больше не можем сделать, — хмуро ответил наконец Кованда. — Но есть люди, которые могли бы еще помочь Миреку… — Кто они, эти люди? — Те, с кем, вероятно, были связаны родители Мирека. — Но что это за люди? Как найти их? Он наклонился к ее уху и прошептал: — Эти люди — подпольщики, коммунисты. — А ты знаешь хоть кого-нибудь из них, папа? — Нет, дочка, не знаю. Фашисты считают их своими самыми заклятыми врагами и уничтожают без пощады. Те, в свою очередь, платят фашистам той же монетой, но при этом так скрытно работают, что добраться до них, не имея связи, совершенно невозможно. — Значит, все… Значит, Мирек погиб… — упавшим голосом промолвила Оленька. Кованда сделал глубокую затяжку и, выпрямившись, поглядел за реку, на окутанный мраком противоположный берег. — Мне кажется, Ольга, — проговорил он неуверенно, — что я знаю одного из этих людей… — Папа! — Спокойно! Я еще не все сказал. До войны этот человек был наверняка в их партии. Я даже, помнится, пометил его резиновой дубинкой во время одной демонстрации. Но имеет ли он к ним отношение теперь, этого я не знаю. Он затих еще до войны. Забился, как сурок в нору, совсем порвал с политикой. В прошлом году я случайно узнал, что и теперь, при немцах, он не скрывается, живет себе с семьей, держит сапожную мастерскую… — Едем к нему, папа! — не задумываясь, решила Оленька. — Ишь ты какая прыткая! А вдруг ошибемся? Ведь это опасно. — Почему? — Экая ты наивная… Тут и объяснять-то нечего. Бывший коммунист, а живет при немцах открыто, и никто его не трогает. Нетрудно догадаться, что он может быть связан не с подпольщиками, а наоборот, с гестапо… — Все равно едем! Другого выхода у нас пет. Посмотрим на него и решим на месте, стоит ему доверять пли нет. Кованда выколотил трубку о каблук и спрятал ее в карман. — Хорошо, — сказал он. — Пусть будет по-твоему. Я готов пойти на риск, лишь бы убедить тебя и молодого Яриша, что я не бесчестный человек… Пошли! Минуту спустя отец и дочь, скользя по обледеневшему тротуару, шагали к стоянке такси.9
Майор Кребс сидел в полутьме своего кабинета и задумчиво следил, как небо за окном медленно наливалось густой синевой. Рабочий день майора кончился, но ему не хотелось уходить. Он отдыхал и лениво думал. Болван Вурм! Придется подать рапорт о его отчислении. Этого сопляка, как его… да, Яриша, он, наверное, не поймает. Уже совсем темно… В любом дворе под любым кустиком можно укрыться… Тут нужны тысячи людей и сотни собак-ищеек. Впрочем, черт с ним, с мальчишкой, да и с этим ротозеем Вурмом тоже. Вечер… Где бы провести вечер? Только не дома со скучной Вильмой, которая вечно ревнует, вечно хнычет и вечно чем-то недовольна… Тишину кабинета расколол пронзительный телефонный звонок. Майор вздрогнул: какому черту приспичило так поздно? Но его рука привычно спустила на окно плотную бумагу затемнения, включила свет и взяла трубку аппарата. — Говорит фон Вильден! Добрый вечер, дорогой майор! Извините, что беспокою так поздно, но тут на нас наседает один… ваш подчиненный. Взбудоражил всю комендатуру. Требует помочь ему в поимке какого-то важного государственного преступника. Это по вашему распоряжению он так неистовствует? Обер-лейтенант СС барон фон Вильден питал к майору нечто вроде дружеских чувств. Кребсу весьма льстила эта дружба. Барон был знатен, богат, со связями. От фронта уклонился, всю войну околачивался по комендатурам. Выслужил железный крест. Зубы майора блеснули в любезном оскале: — Добрый вечер, милейший барон! В любое время к вашим услугам. Мой подчиненный? Это, конечно, лейтенант Вурм. Из моего отдела. У него действительно ответственное задание, но я не уполномочивал его обращаться в комендатуру СС. Он надоедал вам? — Надоедал? Да он просто приказывал! Дайте ему две роты, и никаких разговоров! Я взял на себя смелость его оборвать… — Правильно сделали, мой барон. Я тоже одерну этого малого! — Вот и отлично. Благодарю вас, майор! А где вы намерены быть вечером? У вас есть па сегодня какой-нибудь план? — По совести говоря, никакого. Как раз сижу и думаю, куда бы пойти развлечься. Часов до десяти я еще буду занят. А после десяти… Право, не придумаю. В “Стеллу”, может быть? Там, говорят, новая программа… — Видел я ее, майор! Чепуха! Приезжайте лучше к “Патрону”! Кстати, мне очень нужно с вами поговорить, очень нужно! — Всегда рад… Значит, в десять у “Патрона”. — Я вас жду, майор, непременно… Сервус! — Сервус, дорогой барон! Итак, в перспективе — приятнейший вечер. Майор пружинистым шагом подошел к платяному шкафу и облачился в кожаное пальто. Мягко поскрипывая сапогами, майор пошел по пустынному коридору. Перед кабинетом лейтенанта Вурма он задержался, взглянул на часы и без стука приоткрыл дверь. Лейтенант кричал в телефон охрипшим от напряжения голосом: — Что?! Да вы что… Я приказал выставить весь личный состав! Даже больных, черт побери! Это приказ! Как вы смеете? Выполнять! Не рассуждайте, а выполняйте! Трубка с размаху ударилась о рычаги. Вурм поднял глаза, увидел шефа и принялся торопливо застегивать китель. — Вы, герр майор? — С кем это вы столь бесцеремонно, лейтенант? — спросил Кребс, брезгливо оглядывая взлохмаченного Вурма. — С префектом чешской полиции, герр майор. Очень непонятливый господин. Никак не может взять в толк… — …что ответственный работник гестапо не в силах самостоятельно справиться со своим заданием? Так, что ли? Вурм растерянно заморгал. — Ну что ж. Действуйте, как найдете нужным, — сказал майор. — Только не превышайте власти. Комендатуру СС беспокоить по этому поводу не следовало. Да и на помощь чешской полиции особенно не полагайтесь. Помните, что на фронте вам придется полагаться только на собственную смекалку… Утром доложите о результатах. Хайль! Часовой у крыльца четко взял на караул. Холодный вечерний воздух приятно хлынул в легкие Кребса. Шофер ловко подвел машину к самым ступенькам…10
На дверях подвальной квартиры была прибита небольшая дощечка с надписью: “Карел Рогуш, сапожных дел мастер”. Кованда водил по картонке лучом карманного фонарика и невнятно бормотал: — Карел Рогуш, Карел Рогуш, Карел Рогуш… — Ну что, папа? Он? — с нетерпением спросила Оленька. — Не знаю, детка… Никак не припомню, как его звали… — А в лицо ты его узнаешь? — Еще бы! Конечно, узнаю. Он должен быть одноглазым… — Тогда нечего раздумывать! Оленька решительно нажала кнопку звонка. Звонок не работал. — Стучи! — сказала Оленька. Кованда привычной рукой энергично забарабанил в дверь. Тотчас послышались торопливые шаги, и женский голос тревожно спросил: — Кто там? Кованда чуть было не брякнул: “Полиция!”, но вовремя спохватился и ответил: — К мастеру! Щелкнул ключ в замке, дверь распахнулась, и гости вошли в скупо освещенную прихожую. Они поздоровались с пожилой худощавой женщиной, затем Кованда спросил, дома ли мастер Рогуш. Женщина подозрительно оглядела громоздкую фигуру переодетого полицейского, но присутствие юной Оленьки, видимо, успокоило ее, и она ответила: — Дома, дома. Проходите, пожалуйста… Из прихожей Кованда и Оленька попали в скромно обставленную, но чистую и уютную кухню. У стола, покрытого старенькой клеенкой, сидели двое: пожилой человек и юноша. Пожилой был сухопар, смугл, с черной повязкой на глазу. Он набивал табаком папиросные гильзы. А вихрастый и тоже смуглый паренек читал какую-то затрепанную книгу. Когда гости вошли, одноглазый сразу же прервал свое занятие и встал. А паренек поднял голову от книги и уставился на Оленьку. — Вы пан Рогуш? — спросил Кованда одноглазого. — Да, я Рогуш. Чем могу служить, пан стражмистр? При слове “стражмистр” женщина, отошедшая было к печке, вздрогнула и быстро обернулась. — Вы меня узнали? — смущенно улыбнулся Кованда. — А как же! Вас, пан стражмистр, я до смерти не забуду, — спокойно ответил сапожник и как-то странно подмигнул единственным глазом. — А вот с девушкой я не знаком… — Это Ольга, — пояснил Кованда. — Моя дочь. — Ваша дочь, пан стражмистр? — удивился сапожник. — Что ж, очень приятно. Большая у вас дочь и красавица… А вот это, если позволите, мой наследник Ян, ученик слесаря на заводе “Юнкерс”. — Он указал на смуглого парня с книгой и тут же сделал ему строгое замечание: — Стыдно, Гонза! Встань, предложи девушке раздеться и подай ей стул. Нельзя быть таким увальнем! А это, — обернулся он к женщине у печки, — моя супруга. Прошу любить и жаловать. Произошло неловкое знакомство, со взаимным пожиманием рук и смущенным бормотанием приличествующих случаю фраз: “Очень приятно”, “Извините за беспокойство”. Вихрастый паренек в ответ на замечание отца немедленно вскочил и, залившись краской, принялся неловко ухаживать за Оленькой. Одноглазый предложил Кованде стул, но тот отказался: — Я не хочу у вас тут долго засиживаться, пан Рогуш. Я ведь к вам по очень важному делу, которое не терпит отлагательства… — Тогда тем более нужно сесть, пан стражмистр. Как же мы будем говорить о деле стоя? — Но мне бы хотелось поговорить с вами наедине, пан Рогуш. Не найдется ли у вас укромный уголок, где мы с вами могли бы побеседовать с четверть часика? — Найдется такой уголок, пан стражмистр. У меня в мастерской нам никто не будет мешать. Только по вечерам мы в ней не топим… — Ничего. Авось не замерзнем… Оленька, побудь пока здесь. — Папа, ведь мы хотели… — начала было Оленька, но Кованда ее остановил: — Помолчи. Я поговорю с паном Рогушем, а ты подожди меня здесь. Надеюсь, молодой человек не даст тебе скучать. Одноглазый сапожник и Кованда ушли из кухни, а Оленька, которую Гонза заставил спять пальто, опустилась на стул и приготовилась молча ждать. Но молчать ей не пришлось… Жена сапожника, пани Рогушева, была не из тех, кто равнодушно проходит мимо чужих секретов. Тем более, если эти секреты касаются ее семьи. Воспользовавшись отсутствием Кованды и мужа, она немедленно приступила к делу. В несколько минут она завоевала Оленькино доверие и вскоре узнала печальную историю Мирека Яриша. И, пока Кованда осторожно прощупывал своего одноглазого собеседника, Оленька уже облегчила сердце и плакала в объятиях пани Рогушевой, а Гонза метался по кухне, ерошил вихры, потрясал кулаками и гневно восклицал: — Нет, нет! Это так оставить нельзя!.. Когда Оленька успокоилась и вытерла слезы, Гонза остановился перед нею и твердо сказал: — Слушай, девушка! Все, что ты сказала, очень и очень правильно. Человека нельзя покидать в беде, особенно в нынешнее тяжелое время. Миреку обязательно надо помочь. Об этом и говорить не приходится. Только зря ты впутала в это наших стариков. Старики в таком деле — одна помеха. Я уверен, что они не договорятся, даже если до утра будут мерзнуть там, в мастерской. Мой папаша глаз на политике потерял — вышиб какой-то фараон резиновой дубинкой в тридцать шестом году, во время первомайской демонстрации, — и с тех пор он ни о чем, кроме подметок, слышать не хочет. А твоему отцу и подавно нельзя встревать в такую заваруху. Полицейский ведь, что там ни говори! Ему за такое, в случае чего, верная пуля… Ты лучше сама скажи: хочешь вправду выручить этого Мирека Яриша?.. — Хочу! Конечно, хочу! — Тогда брось киснуть и разводить сырость. Надевай пальто и айда. Пойдешь со мной? Оленька была озадачена таким решительным натиском и растерянно посмотрела на пани Рогушеву. — Не дури, Гонза! — прикрикнула та на сына. — Чего зря баламутишь девчонку? Куда она пойдет на ночь глядя? Да и тебе нечего петушиться! Ишь какой герой нашелся! Рано тебе еще с огнем заигрывать. И сам пропадешь, и тому парнишке не поможешь. — Постой, мама! Я ведь не собираюсь лезть на рожон! — Как же не собираешься? Этого парнишку Яриша ищут гестаповцы и полиция по всему городу. На каждом шагу для него расставлены ловушки. Задерживают наверняка всех мальчишек его возраста. Ты, Гонза, и двух кварталов пройти не успеешь, как тебя схватят и отведут в участок!.. Что ты тогда, в драку с ними полезешь, что ли?.. — Зачем же в драку? Дай мне сказать и не перебивай меня! — Ну, говори, Только я знаю, что ничего путного… — Хорошо, хорошо. Ты все-таки послушай. Я рассуждаю так. Ближайшие два—три часа Мирек обязательно проведет в парке. Если не на Вышеграде, то где-нибудь поблизости. В город он не пойдет. Как он ни напуган, а сообразить он должен, что в городе его моментально накроют. Однако гестапо не знает, где он был час тому назад, а мы знаем. Значит, нам будет гораздо легче его разыскать. И мы разыщем его. Разыщем и спрячем!.. — А зачем ты тянешь за собойдевчонку? — не сдавалась пани Рогушева. — Как — зачем? Да тут и объяснять-то нечего! Во-первых, Мирек Оленьку знает, хотя он сгоряча и не поверил ей. Я бы на его месте, пожалуй, тоже не поверил, но теперь-то он уже, наверное, все обдумал и понял, что ошибся. Если она придет со мной, без отца, он поверит ей окончательно, а значит, поверит и мне. Ну, а во-вторых, гестаповцы ищут одного перепуганного гимназиста. В этом отношении они всегда строго придерживаются инструкции: раз одного — значит, одного. На влюбленную парочку они, скорей всего, просто не обратят внимания. Таким образом с помощью Оленьки мы и доставим Мирека куда нужно. Верно, Оленька?.. — Да, конечно! В самом деле, пани Рогушева, отпустите нас! Честное слово, мы будем очень осторожны, и все обойдется хорошо! Оленька заразилась уверенностью Гонзы и тоже стала поспешно натягивать пальто. Не успела пани Рогушева придумать новое возражение, как Гонза и девушка были уже одеты и готовы исчезнуть. — У отца бы хоть спросила, — вздохнула женщина. — Что отец-то скажет? — Папа не будет сердиться, — заявила Оленька. — Он будет доволен, что все так отлично устроилось. — Ну, мы пошли, мама! — нетерпеливо произнес Гонза. — А ты не беспокойся. Все будет в порядке. До полуночи мы наверняка управимся. Потом я провожу Оленьку до ее квартиры и тоже явлюсь домой. Так ты и старикам передай, чтобы зря не волновались. До свиданья!.. — До свиданья, пани Рогушева! — Оленька обняла женщину и поцеловала. — Ладно уж, упрямцы, ступайте! Ни пуха вам, ни пера! Да смотрите, делайте все с оглядкой!.. Пани Рогушева проводила их до прихожей. Вернувшись в кухню, она присела к столу и принялась смотреть, на старинные ходики с кукушкой, висевшие на стене. Когда кукушка прокуковала семь раз, пани Рогушева встала и отправилась в сапожную мастерскую.11
Разговор Кованды с одноглазым сапожником затянулся. Кованда старательно прощупывал собеседника, но тот не поддавался ни на какие уловки. Был ли он членом Коммунистической партии Чехословакии? Да, был, и пан стражмистр должен это знать лучше, чем кто-либо иной. Ведь это пан стражмистр сделал его одноглазым калекой. У пана стражмистра очень тяжелая рука. Он, Рогуш, это на всю жизнь запомнил. Урок не прошел для него даром. Потеряв глаз во время первомайской демонстрации, он перестал интересоваться политикой, ушел из партии и занялся своим ремеслом. Остались ли у него связи с кем-нибудь из старых товарищей? Ровным счетом никаких! Да он и не старался поддерживать опасные связи. Немцы его уже два раза допрашивали по этому поводу: в тридцать девятом, вскоре после их прихода, а затем в сорок первом, когда началась война с Россией. Он и немцам ничем не мог быть полезен по этой линии, и они в конце концов оставили его в покое… Как он относится к новому порядку? Так же, как и все добропорядочные чехи, к которым пан стражмистр наверняка себя относит… Что он думает о войне? Ничего. Это его не касается. Раз господа немцы воюют, значит, так нужно… Рогуш сидел за своим низеньким сапожным столиком и одну за другой курил набивные папиросы. Кованда же восседал на высоком табурете и, облокотившись на заваленный колодками и разбитыми башмаками небольшой прилавок, раздраженно попыхивал свое” трубкой-носогрейкой. — Трудно с вами говорить, пан Рогуш! — со вздохом заявил наконец Кованда. — Почему трудно? — удивился одноглазый. — Я, пан стражмистр, очень простой и легкий человек. Не могу я только взять в толк, что вам, собственно говоря, от меня нужно. — Скользкий вы человек, пан Рогуш, — уныло продолжал полицейский. — Я ведь уже сказал, что пришел к вам неофициально. Потому я дочку с собой прихватил, чтобы вы не косились на меня и забыли на время, что я служу в полиции. — Этого мне забывать не положено, пан стражмистр. Да и вам я не советую забывать об этом. Не ровен час, узнает ваше начальство про ваши частые визиты к бывшему коммунисту. По головке вас за это не погладят… Кованда торопливо изменил направление беседы: — Вы правы, пан Рогуш. Безусловно правы. Я ведь только так сказал о доверии. Как бы испытать вас хотел. На самом же деле, у меня к вам совершенно лояльное и для властей приятное предложение. Я убедился, что вы полностью свой человек и что с вами можно говорить начистоту… Правда, я не отрицаю, что пришел к вам, так сказать, по собственной инициативе, но тут важно — с какой целью. А цель у меня правильная. Я предпринимаю этот шаг, если можно так выразиться, из служебного рвения. Вы меня понимаете, пан Рогуш?.. — Не совсем, пан стражмистр. Но ваши чувства безусловно похвальны. — Да-да, именно похвальны. Это вы отлично подметили! — подхватил Кованда. — Остальное я немедленно вам разъясню. Дело вот в чем… Тут он глубоко перевел дыхание и, стараясь не выдать смятения, принялся старательно чистить и вновь набивать трубку. Сердце его ныло, мысли смешались. Он понимал, что, говоря откровенно, может предать Мирека. Но навык полицейской работы диктовал ему именно этот шаг. Если Рогуш окажется гестаповским агентом, то, даже узнав о Миреке, он не ухудшит безнадежное положение несчастного парнишки. А если сапожник все же связан с подпольщиками, он обязательно поможет Миреку. Именно такого рода соображения заставили Кованду пойти на откровенность. Раскурив трубку, он выпустил облако едкого дыма и продолжал: — Сегодня днем на заводе “Юнкерс” арестован некто Яриш, заподозренный в государственной измене. Как вам известно, пан Рогуш, гестапо в таких случаях задерживает не только самого преступника, но и всю его семью. Жену Яриша удалось взять на квартире. Оставался сын, мальчишка лет шестнадцати. Он в это время был в школе. Меры, принятые для его поимки, ни к чему не привели. Мальчишка как в воду канул. Вероятно, какой-нибудь негодяй успел предупредить его. Одним словом, этот парень до сих пор бродит где-то по Праге, и гестапо не в силах разыскать его… — Откуда вы знаете, что он где-то бродит? Вы что, видели его? — в упор глядя на полицейского, спросил сапожник. Кованда побагровел и усиленно задымил трубкой. — Я не знаю точно… Я не видел… Но гестапо предполагает… — Какое мне дело до того, что там предполагает гестапо! И вообще, я отказываюсь понимать, пан стражмистр, с чего это вы вздумали поверять мне свои служебные секреты. Ведь я человек на подозрении! Кованда всполошился: — Ну что вы, пан Рогуш! Какие тут секреты! Об этом знают даже кондуктора трамваев!.. — И все-таки мне непонятно… — Подождите! Одну минутку! Я все вам объясню. За поимку малолетнего преступника Мирослава Яриша гестапо назначило премию. Мне лично эта премия не нужна. Но я бы не прочь получить повышение в чине. Вот я и подумал, что хорошо бы нам с вами обделать это дело. Почему я выбрал именно вас? Это ясно как день! Вы — бывший коммунист, но тем не менее немцы вас не трогают. Значит, вы оказываете им разные услуги в этом роде, оставаясь для обывателей своим человеком. Я же нуждаюсь как раз в таком помощнике, который легко проникнет в самую гущу населения, не вызвав ни малейшего подозрения, и все разузнает как следует. Премию я, конечно, целиком предоставлю вам. С меня довольно будет благодарности начальства и повышения по службе… Что вы на это скажете?.. — Я скажу вам, пан стражмистр, что вы негодяй! — резко сказал сапожник. — Мало того, вы самый настоящий государственный преступник! Я вижу вас насквозь! Думаю, что гестапо будет не прочь познакомиться с вами поближе! Кованда побелел. В груди у него что-то оборвалось, горло перехватило от страха. А Рогуш вперил в Кованду свой единственный глаз и весь поджался, словно приготовился к прыжку. Долгая, невыносимая тишина воцарилась в тесной мастерской. И вдруг раздался скрип двери. Мужчины вздрогнули и, словно по команде, повернули головы. На пороге стояла пани Рогушева. Она пристально всмотрелась в суровое лицо мужа, потом в растерянную физиономию Кованды и, видимо, сразу поняла, что ни до чего хорошего эти двое не договорились. — Кончайте болтать! — сказала она спокойно и презрительно. — Вижу, вы уже готовы вцепиться друг другу в горло. А дело-то проще простого, и дети наши уже отправились выполнять его. Рогуш и Кованда вскочили одновременно. — Какое дело? Кто отправился?! — крикнул сапожник. — Куда? Почему? Кто позволил? — еле выдавил из себя полицейский. — “Кто, куда, почему”! — передразнила пани Рогушева. — Кажется, я по-чешски вам говорю. Наши дети, то есть ваша дочь Оленька, пан стражмистр, и наш с тобой сынок Гонза, уважаемый мастер, четверть часа тому назад пошли спасать Мирека Яриша, которого ловит гестапо. Теперь понятно? Потрясенные, мужчины переглянулись. Известие оглушило их обоих в одинаковой мере. Разгоревшаяся было смертельная вражда неожиданно исчезла, улетучилась, превратилась если не в дружбу, то, во всяком случае, в общую тревогу… Первым опомнился Рогуш. Он протянул Кованде руку. Тот с готовностью схватил и пожал ее. Сапожник сказал: — Маху мы дали, пан стражмистр! Оба мы с вами оказались в дураках! Пошли обратно на кухню. Там и продолжим нашу интересную беседу. Теперь нам есть о чем поговорить!..12
К ночи мороз усилился. Неожиданно оттепель превратилась в опасную гололедицу… По улице, скупо освещенной замаскированными фонарями, шли молодой парень и девушка. Крепко прижимая к себе ее локоть, он осторожно вел ее по обледеневшим плитам тротуара. Лиц их в темноте не было видно, но они, наверное, светились счастливыми улыбками. Их приглушенных голосов не было слышно, но о чем могли болтать эти едва оперившиеся птенцы, кроме как о своем маленьком и простеньком счастье!.. В темном подъезде, переминаясь с ноги на ногу, зяб один из молодчиков лейтенанта Вурма. Проводив парочку завистливым взглядом, он отвернулся и снова принялся внимательно разглядывать темные силуэты прохожих. Гонза Рогуш и Оленька Ковандова так и не заметили агента гестапо. — Куда мы идем, Гонза? — тихо спросила Оленька. — Ведь если к Вышеграду, то нам нужно в другую сторону. А лучше всего выйти на главную улицу и сесть на трамвай… — Погоди ты с Вышеградом! — досадливо прошептал в ответ Гонза. — Прежде нужно все подготовить, а потом уж и действовать! — А что тут готовить? Ведь ты сам говорил, что мы должны идти к Вышеграду. Или ты струсил? Тогда так прямо и скажи. — Не понимаешь, так лучше помолчи. Матери я наговорил первое, что взбрело в голову. Лишь бы поскорее удрать. А на самом деле у меня другой план, и выполнять его будем не только мы с тобой, а еще большая группа людей… Это не так просто, как тебе кажется. — Какая группа? О чем ты говоришь? — О деле говорю. Только вот не знаю еще, как быть с тобой, — засмеялся Гонза. — Говори сейчас же, в чем дело, а то я никуда с тобой не пойду! — заявила Оленька и отняла руку. — Идем, идем! Не время теперь фокусы показывать! — Он снова подхватил ее под руку и, немного подумав, спросил: — Ты, Оленька, умеешь держать язык за зубами? — Умею, когда надо. А что? — А то, что в нашем деле это особенно важно. Хочу я тебе доверить одну серьезную тайну. Только ты должна поклясться, что никому и ни при каких обстоятельствах ее не выдашь. Ни отцу, ни матери, ни подругам. Клянешься? — Клянусь, Гонза! — Даже под пытками не выдашь? — Даже под пытками… — Ну смотри. Я тебе верю. Верю прежде всего потому, что ты сама теперь идешь на опасное дело. Значит, ты девчонка крепкая и надежная. Гонза немного помолчал, словно собираясь с мыслями. Оленька терпеливо ждала, хотя и сгорала от любопытства. Наконец Гонза наклонился ниже к ее уху: — Слушай. Я изложу тебе все в двух словах… Это еще до войны началось. Мы тогда лопоухими мальчуганами были и придумали это, чтобы побыстрее собирать свою ватагу. Играли, одним словом. Каждый вызывал из дому двоих, каждый из этих двух вызывал других двоих и так далее, по цепочке. Таким образом наша компания мигом собиралась в нужном месте. Когда пришли эти фашистские гады, мы сохранили игру и постепенно превратили ее в… организацию такую. Ты понимаешь? Оленька молча кивнула. Гонза продолжал: — Сначала нас всего было десятка три, а теперь нас много, очень много. Это все ребята четырнадцати-шестнадцати лет, ученики пражских ремесленников, от слесарей до трубочистов. Ребята верные, дружные. Есть и гимназисты, но… А впрочем, пока никаких “но”. Вот, больше тебе, пожалуй, сейчас знать и не нужно. Ну, понятно? — Понятно, — не без робости прошептала Оленька. — Только… что же вы делаете? — Всякое, — ответил Гонза. — Вот сейчас попробуем заняться твоим Мирославом Яришем. — И куда мы идем? — Куда? Первым делом нужно созвать ребят и разработать план. На это уйдет не больше часа. А потом… Думаю, к девяти часам Мирека будут искать сотни отборных пражских парней. Вот тогда и посмотрим, чья возьмет. Руку даю на отсечение, что к одиннадцати часам Мирек Яриш будет с нами! Оленька была потрясена. Тайная организация, разработка планов, сотни бесстрашных парней! У нее даже дух захватило. — Ой, какие же вы молодцы, Гонза! — воскликнула она восторженно и тут же озабоченно спросила: — А девочек вы принимаете? — Есть у нас и девчонки… — небрежно ответил тот. Они свернули в совершенно темный переулок. Пройдя шагов тридцать, Гонза остановился у подъезда. — Подожди меня здесь, Оленька! — скороговоркой зашептал он. — Я мигом обернусь. Мне нужно только вызвать одного, а потом еще другого, который живет неподалеку отсюда. А потом я поведу тебя дальше. Подождешь? — Подожду, — шепнула в ответ Оленька. — Беги!13
Вернувшись, Гонза поехал с Оленькой на трамваев центр города. Они вышли на Вацлавской площади. Здесь было еще людно и шумно. До войны эта главная артерия города сияла потоками электрического света, переливалась разноцветными огнями неоновых реклам… Теперь же она была окутана мраком, который лишь кое-где пронизывали скудные лучи замаскированных фонарей. Фасады домов казались слепыми. Очертания крыш сливались с ночным небом. Лишь кинематографы, кабаре и ночные бары были более сильно освещены и в них буквально кишели разные подозрительные типы и крикливо разодетые женщины. Гонза и Оленька поспешно пробрались через людской поток и свернули в примыкавшие к Вацлавской площади узкие и темные улочки Старого Города. Оленька, коренная пражанка, конечно, не раз бывала в этом районе, но она даже днем всегда путалась в лабиринте тесных переулков, неожиданных тупичков и сложной системы проходных дворов. В темноте же она сразу потеряла ориентировку и уже через минуту понятия не имела, куда ведет ее Гонза. А он шел уверенно, без колебаний сворачивал в самые немыслимые щели меж черными громадами старинных домов, пересекал пустые дворы. — А ну-ка, скажи, — обратился Гонза к девушке, — где мы теперь с тобой проходим? — Не представляю себе… — смущенно призналась Оленька. — Это хорошо, что не представляешь, — удовлетворенно сказал Гонза. — По правилам мне следовало завязать тебе глаза. — Зачем? — Да все затем же. Но раз ты здесь впервые, да еще в такой темноте… Ты и так все время спотыкаешься. Осторожно, теперь сюда!.. Они вошли в темные ворота и, миновав их, очутились в глухом дворе, напоминавшем холодный каменный мешок. Гонза остановился. — Вот мы и пришли. Теперь нужно вести себя тихо… С минуту он чутко прислушивался затаив дыхание. Во дворе стояла могильная тишина. Стены домов уходили ввысь и мрачно щурились слепыми глазницами узких черных окон. В бездонном провале неба одиноко трепетала маленькая звездочка. Сюда не доносились даже обычные городские шумы. — Все в порядке. Идем… И Гонза повел Оленьку к черной стене дома. У стены Гонза остановился, пошарил в кармане, затем послышалось легкое царапанье железа по железу. Что-то два раза щелкнуло, и раздался скрип отворяемой двери. — Заходи! — чуть слышно шепнул Гонза. Оленька зажмурилась и храбро шагнула в еле видимый черный дверной проем. Гонза последовал за ней, не выпуская ее руки. Шаг, другой… Он остановил ее: — Стой, не двигайся! Дальше будет лестница. Упадешь с нее — костей не соберешь… Нужно еще закрыть и запереть двери. Девушка замерла на месте в непроглядной, кромешной тьме. Она услышала, как Гонза прикрывает тяжелую дверь, как он осторожно нащупывает ключом замочную скважину. Щелк-щелк… Затем послышался еще один щелчок, но более мягкий, и Оленька невольно зажмурилась от яркого света. Правда, ярким он показался ей только в первую минуту. Горела маленькая запыленная лампочка. Не успела девушка осмотреться, как Гонза вновь подхватил ее под руку и повел по каменным ступеням лестницы, круто уходящей в подземелье. Воздух здесь был сухой, теплый, хотя и затхлый. — Что это тут? Котельная? — спросила она шепотом. — Нет. Откуда здесь быть котельной, в таких средневековых хоромах? Здесь просто глубокий подвал, а дальше будет склад всякой старой рухляди. — Чей склад? — Не все ли равно, чей? Старьевщика одного… Или, если хочешь, антиквара… — А он знает, что вы тут собираетесь? — Вот еще! Конечно, не знает. — И вы не боитесь? — Ох, до чего же ты любопытная девчонка! — воскликнул Гонза укоризненно. — “Знает, не знает”!.. Да разве мы полезли бы сюда, если бы это место не было самым безопасным в Праге? Хозяин склада и не подозревает о нашем существовании. Но у хозяина есть дочка твоих лет. Здорово смелая девчонка. Вот она и оборудовала для нас в тайном папашином складе штаб-квартиру. Отец ее тут спрятал самые ценные антикварные вещи, чтобы фашисты не скупили их и не утащили в свой фатерлянд. Торгует он сейчас всякой ветошью, а склад бережет до окончания войны и оккупации. Так что пока мы тут в полной безопасности. Ну, а после войны это убежище нам больше не понадобится… Они спустились с лестницы и двинулись по узкой сводчатой галерее, в конце которой оказалась еще одна железная дверь. Гонза отомкнул ее другим увесистым ключом, вошел и щелкнул выключателем. Несколько ступенек за дверью вели прямо в помещение склада…14
Тусклая лампочка над входом озаряла мягким светом ближайшие предметы. Дальше все тонуло в полумраке. Сразу перед ступеньками Оленька увидела двух рыцарей, закованных в латы. Несмотря на толстый слой пыли, покрывавшей их плечи, они производили впечатление настоящих живых стражей. Широко расставив ноги, они опирались металлическими руками на устрашающего вида алебарды. Прямо перед рыцарями стоял большой секретер старинной работы, весь в затейливых инкрустациях. На нем в беспорядке громоздились бронзовые и мраморные статуэтки, настольные часы под стеклянным колпаком, тяжелые резные чернильницы, разнообразные пресс-папье и стопки толстых книг в кожаных переплетах с медными застежками. На почерневших от времени каменных стенах, плавно переходивших в высокий сводчатый потолок, висело старинное оружие, картины в массивных рамах, охотничьи трофеи. Под потолком тянулись вереницы хрустальных люстр. В полумрак уходили ряды шкафов, шифоньеров, диванов, трюмо, кресел, заваленных грудами всевозможных вещей, начиная с фарфоровой посуды и кончая богато расшитыми седлами и рулонами тяжелых ковров. Все было в пыли, в паутине. Сухой воздух был насыщен крепкой смесью непонятных запахов. Оленьке казалось, что она попала в какое-то заколдованное царство. — Ну как тебе нравится наша нора? — спросил Гонза. — Прямо чудеса! — отозвалась она, не в силах оторвать взгляда от всех сокровищ. — Никаких чудес. Все это старый, никому не нужный хлам… — заявил Гонза. — Пошли! Оленька хотела возразить, что он ничего не понимает, но побоялась его обидеть. Гонза узким проходом повел ее к дальней стене помещения. Там, в углу, шкафами была отгорожена небольшая площадка, посредине которой стоял круглый стол на витых ножках. На столе красовался тяжелый бронзовый канделябр с толстыми свечами. Вокруг теснились старинные кожаные кресла. Свет слабой электрической лампочки сюда почти не доходил. Гонза вынул спички и зажег свечи. — Садись, Оленька, — сказал он. — Вот хотя бы в это кресло. Оно самое удобное. На нем когда-то сиживал сам князь Шварценберг. Но Оленька не успела ни рассмотреть кресло князя Шварценберга, ни расположиться в нем. Заскрипела железная дверь, и в проходе послышались осторожные шаги. Через минуту из-за шкафов вышли двое парней. При виде их Оленька вскрикнула и спряталась за Гонзу. Это были парни как парни — один в поношенном пальто, другой в куртке с замками-молниями. Никакого оружия при них не было. Но лица их были закрыты платками. Виднелись только глаза, поблескивавшие из-под надвинутых на лоб кепок. Это придавало им зловещий, разбойничий вид. — Испугалась? — рассмеялся Гонза. — Это свои. Не бойся… — А почему у них закрыты лица? — тревожно спросила Оленька. — Потому что так нужно, — ответил Гонза. — Я рассказал им о тебе и велел замаскироваться платками. Не обижайся, но ты ведь еще не наша, и тебе нельзя знать в лицо этих ребят… Правильно я говорю, товарищи? Пришедшие молча кивнули и продолжали стоять поодаль, с любопытством разглядывая Оленьку. Гонза подошел к ним, и они о чем-то зашептались. Мало-помалу Оленька успокоилась и села на мягкое кресло князя Шварценберга. Вновь загремела железная дверь, и на площадке у круглого стола появились еще четверо. Они тоже пришли с закрытыми лицами и вместо приветствия лишь кивнули Оленьке. Один из них сразу же привлек ее внимание. Это был стройный невысокий мальчик в большом, не по росту, плаще-накидке. Голову его украшала широкополая шляпа, лицо было скрыто под настоящей черной маской. Что-то отличало его от остальных парней — не то мягкость движений, не то манера держаться. “Да ведь это девушка! — догадалась вдруг Оленька. — Конечно, это девушка, и она, вероятно, и есть “хозяйка” штаб-квартиры…” Девушка уверенно приблизилась прямо к столу и с минуту бесцеремонно рассматривала Оленьку. Затем она разложила на столе план Праги. Гонза и остальные ребята заняли места в креслах. Совещание началось…15
Оленьку настолько захватили романтические подробности ее неожиданного приключения, что на какое-то время она не то чтобы забыла, а как-то перестала ощущать свою главную заботу — заботу о спасении друга. Но едва за круглым столом зазвучали простые, строгие слова, как наваждение мигом улетучилось. Страх за судьбу Мирека с новой силой овладел Оленькой. Более того, ей даже подумалось, что все приготовления идут слишком медленно, что напрасно теряется драгоценное время. С досадой и нетерпением стала она следить за ходом совещания. Говорил один Гонза. Остальные лишь слушали, изредка подавая реплики явно измененными голосами. Вероятно, это тоже делалось по приказу Гонзы для конспирации. Оленька догадалась, что Гонза тут, очевидно, самый главный, и мысль, что она знакома именно с ним и что он один перед ней не скрывается, очень ее обрадовала. Гонза рассказал своим товарищам историю Мирека со всеми подробностями. Закончив рассказ, он обратился к Оленьке: — Правильно я все изложил, товарищ Ковандова? — Правильно, — вздохнула Оленька и тихо добавила: — Только ты не сказал, Гонза, что и я тут кругом виновата. Даже больше всех. Я ведь видела Мирека и говорила с ним, и не сумела убедить его… — Ты и не могла убедить его, — спокойно заметил Гонза. — У тебя нет опыта в такой работе… Он склонился над планом города Праги и указал пальцем на зеленые полоски Вышеграда. — Здесь Мирек находился три часа назад. Здесь надо искать особенно тщательно. Сколько человек мы можем вызвать из местных вышеградских ребят? — Сорок пять! — быстро отозвалась “хозяйка”. — Сорок пять — это мало, — сказал Гонза. — Придется им подкинуть еще человек сто из соседних районов. Но в этих районах тоже нужно искать. Если Мирек все-таки попытается уйти из Праги, он скорей всего пойдет либо через Подоли и Браник на Модржаны, либо через Нусли и Крч в Крческий Лес. — А Новый Город? — искусственным басом спросил один из парией. — В Новый Город он пойдет только в том случае, если захочет пробиться к какому-нибудь из центральных вокзалов. Будем надеяться, что такая сумасшедшая мысль ему не пришла в голову, так как в Новом Городе его могут схватить в любую минуту. Это, конечно, не значит, что в Новом Городе вообще искать не нужно. Но там мы вполне можем обойтись силами местных ребят. Сколько их там у нас? — Тридцать четыре человека! — немедленно ответила “хозяйка” склада. — Более чем достаточно, — удовлетворенно сказал Гонза и продолжал: — В других районах города, даже самых отдаленных, вызовем тоже всех. Надо учитывать, товарищи, что после встречи с Оленькой на Вышеграде Мирек из страха облавы мог убежать в любом направлении. Три часа — немалый срок. За такое время можно перебраться на другой конец города. Возможно, что Мирек находится сейчас где-нибудь в Коширжах, в Либоце или в Трое. Одним словом, искать будем везде… А теперь о некоторых деталях. Прежде всего о транспортировке. В каком бы районе мы ни обнаружили Мирека, нам придется доставить его сюда, в штаб-квартиру. Более надежного убежища нам не придумать. Конечно, он останется здесь лишь на очень короткое время. С последней фразой Гонза обратился к “хозяйке”. Та согласно кивнула. Гонза продолжал: — Довести его сюда пешком будет трудно, и долго, и опасно. Трамвай и такси отпадают сами собой. Остается велосипед. В каждом районе нужно приготовить и держать на условленных местах велосипеды. Значит, у кого из ребят они есть, пусть их непременно прихватят с собой. На задание выходить в рабочих спецовках. Всем — трубочистам, пекарям, малярам… Это очень важно. Первым делом, после того как Мирек будет найден, его необходимо переодеть в любую рабочую одежду. Конечно, самой подходящей была бы спецовка пекаря или трубочиста. Тогда Миреку можно выпачкать лицо мукой или сажей. А у пекарей есть еще и то преимущество, что они развозят свои булки на велосипедах и на них даже ночью никто не обращает внимания. На худой конец сойдет и одежда маляра или просто рабочая блуза… Как я уже сказал, доставить Мирека нужно сюда, в штаб. Местные ребята могут проводить его до Староместской площади. Сопровождающих — не более двух человек. Один пусть едет на велосипеде впереди и выискивает самую безопасную окольную дорогу, а второй на некотором расстоянии сзади, для прикрытия. На Староместской площади, возле памятника Яну Гусу, буду дежурить я сам. Оттуда я лично провожу Мирека в штаб. Связных посылать тоже к памятнику. Пароль для этой операции будет “Ольга”, ответ — “Верность”… Ты, товарищ Ковандова, и ты, — он повернулся к “хозяйке”, — останетесь здесь и приготовите все необходимое для Мирослава Яриша!.. Оленька молча кивнула, а “хозяйка” сказала: — Есть приготовить помещение, товарищ командир! Гонза обвел всех взглядом и, немного подумав, сказал: — Ну вот, кажется, и все. Вопросы есть? — Есть! — прохрипел парень с искусственным басом. — Давай, коли есть! — Что делать, товарищ командир, если наши ребята обнаружат Мирека как раз в такой момент, когда его будут хватать гестаповцы? Гонза нахмурился и с минуту молча ковырял спичкой в оплывшем с канделябра мягком стеарине. Парни с закрытыми лицами уставились на него из-под кепок разгоревшимися глазами. Оленька насторожилась. Наконец Гонза откашлялся и тихо произнес: — Мы не имеем права рисковать, товарищи. У нас нет оружия. Я лично считаю нелепым терять наших ребят и ставить под угрозу всю организацию ради спасения одного человека. — Это нечестно! — не удержавшись, вскричала Оленька. — Не согласны!.. Не имеем права бросать его!.. Это подло!.. Будем драться!.. — возбужденно заговорили парни, позабыв о необходимости изменять голоса. Только “хозяйка” молчала и пристально смотрела на Гонзу. — Погодите, товарищи! Зачем шуметь? — Гонза поднялся со своего кресла. — Покуда я командир и вы признаете меня своим командиром, я отвечаю за организацию и за любого ее члена. Я не могу допустить ненужного ухарства. Это не только мое право, но и мой долг. Но это не значит, что я вообще запрещаю какое бы то ни было вмешательство, если Мирек будет обнаружен в подобную критическую минуту. Решать в таких случаях нужно будет па месте и с молниеносной быстротой. Если обстановка позволит вмешаться без особого риска, то я, конечно, не возражаю. Но я решительно запрещаю вступать с гестаповцами в открытую драку. Это плохо кончится и для Мирека, и для нас… А теперь довольно разговоров. Время не ждет. Предлагаю немедленно приступить к операции. Сколько на твоих часах, Власта?.. — Двадцать сорок три, товарищ командир! — весело ответила “хозяйка” и вдруг сдернула с лица свою черную маску. Оленька увидела миловидное бледное лицо с тонкими чертами и задорные голубые глаза. — Ты зачем это? — опешил Гонза. — Считаю, что для меня это совсем лишнее! — Почему? — Потому что ты сам раскрыл, что я не мальчишка, и назвал мое имя. Это раз. Потому что с маской на лице мне неудобно будет здесь работать. Это два. А в-третьих, я считаю, что друзьям нужно доверять, товарищ командир! — Она повернулась к Оленьке и протянула через стол руку. — Давай знакомиться. Я — Власта Нехлебова. Девушки крепко пожали друг другу руки. Гонза взъерошил свои вихры, хотел что-то возразить, но передумал и только махнул рукой. Затем он крепко нахлобучил на голову кепку и, обернувшись к пятерым парням, коротко бросил: — Айда, ребята! Не сказав больше ни слова, он быстро направился к выходу. Парни вскочили и молча двинулись за своим командиром. — Желаю удачи! — крикнула им вдогонку Власта. В ответ ей лязгнула железная дверь. Девушки остались одни в диковинном складе…16
Гнев сильнее страха. Возмущенный чудовищным предательством Оленьки, Мирек долго блуждал по пустынным аллеям Вышеградского парка, отдавшись новым мучительным переживаниям. В нем кипело негодование, подавляя все остальные чувства. Прижав к груди свой портфель с учебниками, он шагал с опущенной головой, не разбирая дороги, сворачивал на первые попавшиеся дорожки, занесенные снегом, и бормотал: — Гнусное полицейское отродье! Подлая, мерзкая тварь! Лицемерка проклятая! Нет, погоди, я отомщу тебе! Я жестоко накажу тебя! Накажу!.. Ты еще узнаешь меня!.. С оладьями подъехала, с помощью! А сама собиралась к своему отцу заманить, выдать этому палачу-предателю!.. Нашла дурака! Меня не так просто взять, как ты думала! Я еще постою за себя! А тебе не миновать расплаты! Нет, не миновать!.. Бастионы, собор, могилы и черные деревья внимали бессильным угрозам оскорбленного юноши и молчали. А мороз все крепчал, все беспощаднее вгрызался в лицо, в дрожащие от усталости колени. Надвигающаяся ночь готовила тысячи опасностей… Спасаясь от холода, Мирек зашел в один из бастионов. В их мрачных полуобвалившихся казематах, засыпанных всяким мусором, казалось еще холоднее, еще тоскливее, чем под открытым небом. Постояв немного в темноте под черными сводами, Мирек подумал, что неплохо было бы бросить здесь портфель с учебниками. К чему его таскать с собой, раз он никогда больше не понадобится?.. Но бросить портфель было нестерпимо жаль. Миреку казалось, что тогда оборвется последняя связь с нормальной жизнью. Он не бросил портфель и, покинув негостеприимные развалины, снова стал кружить по заснеженным аллеям парка… Шел час за часом. Незаметно для себя он все ближе подбирался к месту свиданий с Оленькой, к “их заветному месту”. Взглянуть в последний раз?.. Он сделал широкий круг и другой стороной вышел к косогору, круто спускавшемуся к набережной. Стараясь ступать как можно осторожнее, чтобы не скрипел под ногами снег, уже подернутый корочкой льда, часто останавливаясь и прислушиваясь, напряженно всматриваясь в темноту, он приблизился к одинокой скамье. Несколько минут он неподвижно стоял за кустами затаив дыхание… Кругом царила глубокая тишина. Тогда он вышел из укрытия. Пусто. Ни души. Ушла? Ушла совсем?.. Или, может быть, она уловила шорох его осторожных шагов и затаилась вместе со своим отцом где-нибудь поблизости?.. Нелепая мысль! Как она могла знать, что он вернется сюда?.. Более правдоподобно, что ее папаша уведомил гестапо о месте его пребывания и теперь на него готовится облава! Парк, наверное, будут прочесывать. Только бы не вздумали натравливать на него собак. Нет, надо все-таки уходить, пока не поздно, пока не захлопнулась окончательно эта вышеградская западня! Тишина стала казаться обманчивой, предательской. Тьма ощерилась тысячами ружейных стволов. Только город в отдалении продолжал равнодушно шуметь и тяжело вздыхать, засыпая… Насторожившись, с нервами, натянутыми до предела, Мирек крадучись пошел прочь.17
Из Вышеграда можно выйти по многим направлениям. Можно извилистыми тропками спуститься к набережной Влтавы, можно через улочку в крепости пробраться в район Нусли, можно через несколько аллей и дорог выйти прямо в Новый Город. Мирек выбрал самые глухие тропинки, выходящие на улицу Люмира на границе Нуслей и Нового Города. Он торопливо шагал, избегая открытых мест и истоптанных тропок, на которых можно было встретить случайных запоздалых прохожих. На пути ему попалась заброшенная, полуразвалившаяся беседка. Он хотел укрыться в ней, чтобы немного отдохнуть (ноги у него уже ныли от многочасовой ходьбы), но передумал и пошел дальше. Беседка осталась за спиной, когда впереди вдруг послышался разговор и скрип чьих-то тяжелых шахов. Навстречу шли люди… Мирек замер на месте с бешено стучавшим сердцем. Что делать? Шаги приближались, грубые мужские голоса становились все явственнее. Размышлять было некогда. Он повернулся и побежал назад. Снег предательски трещал у него под ногами. Достигнув беседки, Мирек бросился в нее прямо через кусты. Он забился в темный угол, затаился, как зверек, с ужасом сознавая, что те, неизвестные, не могли не слышать его бегства — скрипа снега, хруста ломаемых кустов, — что они, если пожелают, без труда найдут его в этом ненадежном убежище… Шаги неизвестных приближались. Хруп, хруп, хруп! Мирек крепко зажмурился, но тут же снова раскрыл глаза: опасность нужно видеть, тогда не так страшно! Через дыры в стене беседки можно было разглядеть белую полосу аллеи. Мирек уставился на нее. Минута, другая… На аллее показались два темных силуэта. Мирек с ужасом увидел полицейские каски. “Начинается! — мелькнула отчаянная мысль, а за ней как молния мелькнула другая: — Вот она, работа проклятой предательницы! Уж не ее ли папаша один из этих? Тогда не жди пощады…” Мирек до боли в суставах сжимал ручку портфеля. В эту минуту, перед лицом настоящей опасности, он еле владел собой и чуть себя не выдал… Полицейские остановились перед беседкой. Они находились не более чем в двадцати шагах, так что Мирек отчетливо слышал каждое произнесенное слово. — Это был, наверное, он! — сказал один полицейский. — Кому другому взбредет в голову бродить здесь в темноте и шарахаться от людей… Ты слышал, как он задал стрекача? Говоривший нетерпеливо переступал с ноги на ногу и энергично жестикулировал. Спутник же его был, видимо, человек спокойный и рассудительный. Он ответил лениво и равнодушно: — Слышал. Ну и что же? Первый взмахнул резиновой дубинкой и указал на беседку: — По-моему, он залез вот в эту клетушку. Обыщем? — Не стоит, — возразил второй. — Я уверен, что это была просто бродячая собака… А впрочем, пусть даже и не собака. Нам-то какое дело! Служи, лови всяких отчаянных прохвостов, а оружие — дубинка да пустая кобура. Тьфу!.. Он сплюнул и закурил сигарету. — Ты думаешь, он вооружен? — беспокойно спросил первый. — Все может быть. Ты как хочешь, а я не намерен таскать для господ гестаповцев каштаны из огня голыми руками. Задания давать они умеют, а паршивый пистолет доверить боятся. Ну что хорошего, если из этой беседки в тебя влепят порцию свинца? Да я и не верю, что этот Яриш где-нибудь шляется. Он, наверное, не дурак парень, коли сумел от гестаповцев уйти. С чего бы ему околачиваться в городе и ждать, когда его заметят и схватят? Я бы на его месте знаешь куда пошел? — Куда? — На вокзал Масарика. — По самым людным улицам? — Вот именно. Где много людей, там один всегда затеряется, как капля в море. — Ну хорошо. А как бы ты пробрался на вокзал и к перронам? Там ведь железнодорожная охрана в оба смотрит, да и тайных агентов хоть пруд пруди… — А я бы и не пошел через здание вокзала. Ты ведь знаешь, что со стороны улицы Флоренции территория Масарикова вокзала огорожена кирпичной стеной. Так вот, в самом конце этой стены, там, где улица сворачивает налево, есть маленькая калитка, вроде как бы черный служебный лаз для путейцев. Эта калитка никогда не замыкается, ни днем, ни ночью. Через нее можно пройти прямо к железнодорожному полотну. А там забраться в темноте в собачий ящик вагона или забиться в теплушку с какими-нибудь мешками — проще простого… — Ну, не всякий про эту калитку знает и не всякий решится идти, когда его ловят, через многолюдные улицы. — Тот парнишка мог бы отважиться. Ему ничего другого не остается, может и рискнуть… Холодно как становится к ночи. Пошли, что ли? — Может, заглянем все-таки? — Как хочешь. А я пошел. — Ладно. Пойдем. Они размеренным шагом двинулись прочь. Вскоре их шаги затихли в отдалении. Это ошеломило Мирека. Ему было абсолютно ясно, что в поведении рассудительного полицейского сказывались не только недостаток служебного рвения и нежелание получить порцию свинца. Было в нем что-то другое, безусловно хорошее и человеческое. Как ловко он запугал товарища, которому явно хотелось выслужиться, как подробно рассказал про калитку в стене вокзала! А ведь он тоже полицейский, тоже служит правительству протектората и немецким оккупантам… Значит, не все они предатели. А вдруг и Кованда?.. Ведь и Кованда может быть таким!.. Но это значит, что зря он, Мирек, не поверил Оленьке, зря так жестоко оскорбил ее! Мысль о том, что Оленька не предательница, что и она, и ее отец с риском для себя хотели помочь ему, хлестнула Ми-река прямо по сердцу. Он весь горел от стыда за свою неблагодарность и обругал себя мысленно самыми последними словами. Мирек снова вышел на аллею. Теперь у него был совершенно ясный план действий. Стараясь согреться, он быстро двинулся вперед. На хруст снега под ногами он больше не обращал внимания. Темнота не казалась ему страшной. Всем существом своим он отдался новому радостному чувству — близости к людям, веры в их доброту, честность, дружбу. Нет больше одиночества и обреченности! Нет чужого, равнодушного города! Есть родная Прага, которая не выдаст! Есть преданная Оленька, готовая ради него на любые жертвы!.. Стоит жить и бороться, когда знаешь, что ты не одинок… Мирек пересек весь Вышеград, спустился с него по извилистой дороге, петляющей среди высоких стен старинной крепости, и через Братиславову улицу вышел в район Нового Города. Он твердо решил воспользоваться калиткой в стене вокзала и выбраться из Праги на поезде.18
В половине десятого Миреку осталось около трети пути до вокзала Масарика. Он шел самой прямой дорогой, не избегая ни людской толпы, ни подслеповатых фонарей. Шел и размышлял о том, как он до утра будет ехать в товарном вагоне, как выскользнет из него незаметно на далекой глухой станции и пойдет через леса, через снега в горы, к партизанам. Сама собой возникла мысль, что на дорогу не мешало бы основательно подкрепиться или, на худой конец, прихватить с собой что-нибудь съестное. Он вспомнил о деньгах и продуктовых карточках, переданных ему заботливой пани Стаховой, и решил зайти в ресторан. В те времена Прага изобиловала всякими кабачками, трактирчиками, пивнушками. Они попадались буквально на каждом шагу. В них подавали жидкое пиво, лимонад, подслащенный сахарином, подозрительные блюда из всяких эрзацев. Мирек выбрал тихий кабачок в темном переулке. В лицо ему пахнуло кислым запахом пивных испарений, едким табачным дымом, но самое главное — теплом. Народу здесь было немного: несколько рабочих, два-три старичка и полная женщина в поношенном платье. За стойкой возвышался грузный хозяин с красной склеротической физиономией и с усами. На Мирека почти никто не обратил внимания. Только хозяин при виде его слегка вздрогнул, кашлянул в кулак и подкрутил усы. Подойдя к столику, за которым сидела женщина, Мирек робко спросил: — Тут не занято? Можно мне присесть? — Садись, птенец! Не занято. Мирек опустился на стул. Портфель с учебниками он поставил у себя в ногах. Его промерзшее, закоченевшее тело постепенно отогревалось. Ему казалось, что никогда в жизни он не сидел па таком удобном стуле, в такой уютной и светлой комнате. Подошел пожилой официант в лоснящемся от жирных пятен черном смокинге, с грязным полотенцем под мышкой. — Что угодно молодому пану? — Что-нибудь поесть… — А как у вас с карточками? Мирек поспешно сунул руку в карман и выложил на стол розовые листочки. — Вот на мясо, на хлеб. — А жиры? — Жиров нету… — Гм… Ну ладно. Отрежем вместо жиров мясо. Есть отварная говядина с картофелем и соусом или свиной бок с кнедликом. Супу тоже? — Да, тоже. А на второе говядину. — Пива? — Можно и пива… Приняв заказ, официант удалился. Когда он проходил мимо стойки, хозяин поманил его к себе и шепнул что-то на ухо. Но Мирек не видел этого, так как в этот момент женщина неожиданно обратилась к нему: — Ты кто же будешь, хлопчик? Студент или гимназист? — Студент… — Молоденький ты студент, совсем молоденький. А чему же ты учишься? Мирек залился краской, но продолжал врать без запинки: — На юридическом. — Ага! Адвокатом, значит, будешь. Молодец. А мой сынок в официанты подался. Здесь учится. Должно быть, сейчас на кухне где-то. Вон тот, толстомясый, — хозяин его. Да не столько он тут учится, сколько мучится… С виду он не моложе тебя, но по годам, наверно, моложе. Ты ж ведь студент уже!.. А у моего жизнь трудная. Гоняют с утра до ночи. И подай, и помой, и прибери. А голова у него светлая, уФрантика моего. Тоже бы, поди, мог на адвоката учиться… Мирек не знал, что ответить, и упорно глядел в стол. Снова подошел официант. Он поставил перед Миреком тарелку и налил в нее из чашки теплой водицы с желтыми блестками маргарина и с тремя нитками вермишели. Мирек поспешно взялся за ложку, чтобы избежать беседы со словоохотливой соседкой. В эту минуту в комнате появился худощавый большеротый парнишка в черном засаленном пиджачке. Увидев Мирека, он широко раскрыл глаза и на мгновение замер у стойки с полуоткрытым ртом. — Держи пиво, чучело, и неси вон тому молодому пану! — рявкнул хозяин. Парнишка опомнился, закрыл рот и, подхватив кружку с пивом, со всех ног бросился к Миреку. Поставив кружку на фарфоровое блюдечко, он выхватил из-под мышки тряпку и принялся усердно вытирать и без того сухой стол. — Стараешься, Франтик? — улыбнулась сыну женщина. Но Франтик не ответил и даже не взглянул на нее. Было видно, что он чем-то крайне взволнован. Несколько мгновений он молча тер стол, словно собираясь с духом, и вдруг быстро-быстро затараторил приглушенным, охрипшим от волнения голосом: — Если ты Мирек Яриш, тебе нельзя оставаться здесь ни одной минуты. Наш обер уже куда-то звонит по телефону. Ему хозяин приказал. Определенно в полицию. О том, что ты здесь. Если ты в самом деле Мирек Яриш, пей пиво и молчи. Я скажу тебе все остальное… Парнишка вобрал в себя воздух и продолжал тереть стол, не глядя на Мирека. Женщина с изумлением смотрела на сына. Мирек же был совершенно оглушен. Сильно побледнев, он уставился на паренька, как на выходца с того света. Однако все же схватил дрожащей рукой кружку с пивом и выпил несколько глотков. Франтик продолжал тереть стол и, глядя прямо в глаза своей матери, снова зачастил чуть слышной скороговоркой: — Мирек Яриш, немедленно уходи отсюда. Брось все и уходи. Моя мать заплатит за твой суп и пиво. Иди скорей на Вышеград. Там, на паперти собора Петра и Павла, тебя ждут двое верных ребят. Пароль — “Ольга”, ответ — “Верность”. Эти ребята проводят тебя в надежное убежище. Все. Паренек сунул тряпку под мышку, выхватил из-под носа у Мирека тарелку с недоеденным супом и убежал с нею на кухню. Миреку казалось, что все это происходит во сне. Он поднял глаза на женщину. Та ответила ему перепуганным бессмысленным взглядом и беззвучно зашевелила побелевшими губами. Мирек быстро оглядел посетителей. Они спокойно распивали пиво, громко разговаривая о своих делах. Тогда Мирен метнул осторожный взгляд на хозяина заведения и, встретившись с его угрюмыми медвежьими глазками, тотчас же опустил голову. Он понял, что Франтик прав. Этот усатый толстяк явно что-то замыслил. Мирек решил действовать без промедления. Взяв одной рукой кружку пива, он другой нащупал под столом ручку портфеля. Выпив пиво до дна, он медленно поставил кружку на блюдечко и вдруг, рывком поднявшись, метнулся к выходу. Он услышал, как яростно закричал хозяин, как взвизгнула от испуга женщина. Через несколько секунд он уже мчался по темному переулку. На первом же углу Мирек остановился и, тяжело дыша, прислушался. Погони не было. Вероятно, хозяин решил, что ему при его комплекции не угнаться за проворным мальчишкой, а из посетителей никто не поддержал его. Отдышавшись, Мирек обошел несколько кварталов и с другой стороны направился к площади Карла. Его била нервная дрожь, но чувствовал он себя превосходно. Пережитое приключение необыкновенно подбодрило его. Он еще раз убедился, что в городе у него много друзей, каким-то чудом узнавших о его беде и готовых протянуть ему руку помощи. Но своего первоначального плана он менять не хотел. Перспектива уехать из Праги на поезде казалась ему слишком заманчивой. Он уже свыкся с мыслью о путешествии в товарном вагоне в горы, к партизанам, и ничто на свете не могло его заставить отказаться от этой идеи. Правда, вспомнив о пароле “Ольга”, Мирек немного заколебался. Уж слишком близким и дорогим было для него это слово. Неужели Оленька?!.. Нет, такого не может быть. Это случайность. Неизвестно, что с ним будет на Вышеграде и что за верные ребята ждут его на паперти собора. Лучше идти вперед, к вокзалу, к заветной калитке. Отбросив таким образом все колебания, Мирек решительно вступил на просторную, с густым парком посредине, темную площадь Карла…19
На оживленном перекрестке, под самым фонарем, стоял ночной ларек с поджаренными колбасками. Их аппетитный запах ударил Миреку в ноздри и заставил его остановится. “Надо же все-таки запастись на дорогу”, — подумал он и направился к ларьку. Подойдя вплотную к узенькому прилавку, он сунул в карман руку и только теперь сообразил, что все свои продуктовые карточки оставил на столике в ресторане. При нем осталась одна только бумажка в сто крон. Мысленно обругав себя ротозеем, он обратился к продавцу и спросил, можно ли получить две порции колбасок без карточек. Он согласен уплатить вдвое или впятеро дороже, так как забыл карточки дома. Продавец, давно привыкший к подобным просьбам, лишь отрицательно помотал головой и буркнул: — Проходи! На черта мне нужны твои деньги!.. Мирек вздохнул и хотел уже было идти, но тут его хлопнули по плечу. Он стремительно обернулся. Перед ним был настоящий бродяга: оборванный, небритый, в помятой шляпе и в длиннополом латаном пальто. Он подмигнул Миреку, вытер мясистую физиономию ладонью и спросил: — Что, парень, жрать, поди, хочешь, а? Глаза у бродяги были маленькие, заплывшие. — Да нет, не особенно, — стараясь говорить спокойно, ответил Мирек и, поспешно отвернувшись, шагнул в сторону. Но бродяга остановил его за рукав макинтоша: — Брось крутить носом, браток! По глазам вижу, что без этих колбасок тебе жизнь не мила… Не выпуская рукав Мирека из своих крючковатых грязных пальцев, он другой рукой выудил из своего кармана деньги и карточки, бросил их на прилавок и крикнул продавцу повелительно: — Две порции молодому пану и два куска хлеба! Продавец выхватил из жаровни две колбаски, кинул их на бумажку, шлепнул к ним ложку желтой горчицы и все это накрыл сверху двумя ломтиками хлеба. Соблазн был слишком велик, и Мирек поддался ему. Приняв угощение, он робко предложил бродяге деньги. Тот решительно отказался: — Лопай! Все уплачено! К ларьку подошли трое молодых рабочих. Видно, они шли со смены, так как под рваными куртками на них были грязные спецовки, а руки и лица были основательно выпачканы сажей и какой-то бурой смазкой. Они вынырнули из темноты, как черти из преисподней, и, блестя белками глаз и крепкими зубами, заказали себе по одной колбаске без хлеба. Затем они отошли в сторонку и молча принялись за еду. Помня о необходимости иметь запас, Мирек съел только одну колбаску. Другую вместе с хлебом он завернул в бумажку и спрятал в карман. — До свиданья, — сказал он затем бродяге. — Спасибо за угощение. — Зачем до свиданья? — удивился бродяга. — А может, нам с тобой по пути? Ты куда теперь? Мирек неопределенно махнул рукой в сторону парка. — Вот и мне туда же… Вдвоем всегда веселее. Пошли! У Мирека заныло сердце. Как отвязаться от этого непрошеного благодетеля? Как ему дать понять, что его компания нежелательна, но не показать себя при этом грубым и неблагодарным? Мирек вздохнул и двинулся прочь от ларька в сопровождении бродяги, который бесцеремонно взял его под руку. Через минуту они были уже под спасительной сенью темного парка. Не желая выдавать бродяге своих намерений, Мирек поневоле шел через площадь Карла обратно, к Вышеграду. В аллеях царила темнота, на скамейках не было ни души. Юноша усиленно придумывал какой-нибудь подходящий предлог, чтобы отвязаться от назойливого спутника. А бродяга вцепился в него, как клещ, и в довершение всего начал приставать с очень опасными вопросами: — Ты пошто по улицам шляешься в такой холод? Ночь ведь уже. Таким цыплятам спать давно пора… Есть у тебя фатера-то али нету? Да ты не бойся меня, не шарахайся! Я ведь не съем тебя… Может, общество мое не нравится? Так ты прямо и скажи… Я ведь кто такой есть? Вольношляющийся, бродяга бездомный. А ты барчук. При портфельчике. Ишь ты1 Совсем гимназист, да и полно… Что в портфельчике-то у тебя? Мирек подумал, что бродяга — вор и зарится на его портфель. Он поспешил вывести его из заблуждения: — В портфеле у меня книги, учебники… Бродяга восхитился: — А ну покажь! В жисть свою не видел взаправдашних учебников! Мирек открыл портфель и показал содержимое, надеясь, что в темноте тот все равно ничего толком не разглядит. — И впрямь книги! — воскликнул бродяга. Вдруг он запустил в портфель руку и вытащил один из учебников. — Это про что? — Не видно. Может, зоология, а может, алгебра, — ответил Мирек, которому поведение наивного бродяги начинало казаться забавным. — “Может, может”! А вот мы сейчас посмотрим! Прежде чем Мирек успел помешать ему, бродяга выхватил из кармана электрический фонарик и осветил обложку книги. Яркий лучик ударил в синюю обертку учебника с белым ярлыком, на котором было четко написано: “Алгебра, ученик 6-го класса Мирослав Яриш”. Фонарик потух. Мирек с трудом застегнул портфель дрожащими пальцами. Он понял, что совершил большую оплошность, по все еще не видел в бродяге никакой прямой опасности. А бродяга, спрятав фонарик, еще крепче схватил Мирека за руку и молчал, словно что-то обдумывая. — Ну, я пойду домой, — сказал Мирек, которому это зловещее молчание начинало не нравиться. — Пустите меня. Он попытался освободить руку, но бродяга держал его мертвой хваткой. — Пустите! — прошептал Мирек, чувствуя, как грудь его наполняется холодным ужасом. Он рванулся изо всех сил. — Стой! Не валяй дурака! — сказал бродяга насмешливо. — Попался, так нечего ерепениться! Я за тобой с пяти часов охочусь. Думал уже забросить это дело, ан ты сам набежал на огонек. Иди теперь смирно, куда поведу, и не вздумай брыкаться, а не то я живо тебя утихомирю!.. — Пустите! Чего пристали?! — закричал Мирек во все горло и принялся бешено вырываться. Отчаяние удесятеряло его силы. Рука, в которой он держал портфель, была еще свободной. Он ударил “бродягу” портфелем по голове. Тот выругался и выхватил из кармана наручники. Но надеть их в темноте было не так-то просто. К тому же Мирек не стоял смирно, покорно ожидая своей участи. Он рвался, кусался, пинал противника ногами, бил портфелем. “Бродяга” изрыгал самые гнусные ругательства, а Мирек дрался молча, тяжело дыша и вскрикивая от ужаса и ненависти. Неизвестно, чем бы кончилось их единоборство, если бы в дело не вмешались новые действующие лица. Ни Мирек, ни “бродяга” не заметили, как из-за темных кустов внезапно вынырнули три тени. Без звука и шороха, словно призраки, они обступили дерущихся, и вдруг на голову, шею, спину “бродяги” обрушились три пары крепких кулаков. “Бродяга” взвыл от боли, выпустил Мирека и, прикрываясь руками, опрокинулся навзничь. Мирек со всех ног бросился бежать, и двое парней немедленно пустились за ним вдогонку. Третий замешкался, всматриваясь. “Бродяга” перевернулся, встал на четвереньки и вытащил из кармана свисток. Темноту разрезала пронзительная трель. И тотчас же захлебнулась: сильный удар буквально вбил свисток в зубы предателя. Через секунду на пустынной аллее уже никого не было. Только мнимый бродяга ползал по обледеневшему асфальту, плевался кровью и сипло орал, призывая полицию… Неожиданные помощники легко настигли Мирека, который бежал из последних сил, стремясь поскорее выбраться из парка и укрыться в смежных переулках. Поравнявшись с ним, неизвестные не стали его обгонять, хотя на площади уже заливалось не менее трех полицейских свистков, а позади слышался топот кованых сапог, громкие крики, и яркими светляками мелькали огоньки электрических фонариков. Парни вели себя так, словно опасность угрожала одному только Миреку. Когда Мирек, споткнувшись, упал и выронил портфель, они мгновенно поставили его на ноги, а один подхватил портфель и уже не выпускал из рук. Они поддерживали Мирека, показывали, куда бежать, подбадривали его: — Держись, Мирек Яриш! Уже скоро! Осталось совсем немного!.. — Вы… вы… знаете… меня?.. — Знаем… Мы все слышали… Мы были за кустами… — Значит, вы… вы… “Ольга”?.. — “Верность”! — откликнулись парни все разом, а тот, что нес портфель, добавил: — Еще метров двести! Держись!.. До крови закусив губу, Мирек собирал свои последние силы. Виски у него сдавило, легкие разрывались на части, сердце билось о грудную клетку, стремясь вырваться наружу. Но он продолжал бежать, продолжал работать одеревеневшими ногами, ничего уже не видя, ничего не соображая. Все окуталось мраком, лишь одна, последняя, слабая искра горела и билась в его сознании: “Бе-ги, бе-ги, бе-ги!” Они миновали площадь и ворвались в темный переулок. Потом свернули направо, налево, еще раз направо. Свистки, крики, погоня — все осталось далеко позади. Спутники Мирека пыхтели, словно маленькие паровые машины. Они тоже изнемогали от быстрого бега, но, как и прежде, не думали о себе. И когда Мирек вдруг остановился и повалился на тротуар, они подхватили его под руки и волоком потащили дальше. Из безмерной дали до него донеслось хрипом и свистом прошумевшее слово: — Прибыли! Это слово почему-то смешалось с душистым запахом свежевыпечеиного хлеба, само превратилось в этот запах, ворвалось Миреку в ноздри, в легкие, оглушило и смяло его мягкой, теплой волной…20
Ночной бар у “Патрона” представлял собой небольшой, но комфортабельно оборудованный винный погребок, приятно освещенный, с круглыми столиками, уютными боксами, мягкими коврами. Когда-то здесь собирались сливки пражской буржуазии. В годы оккупации здесь обосновались немецкие офицеры. У “Патрона” можно было почитать свежие берлинские газеты, поговорить с сослуживцами о положении на фронтах, написать письма родным и даже при желании просто погрустить о какой-нибудь далекой Кэтхен или Лотхен под журчащую музыку радиолы. Тут все дышало немыслимой чистотой, скрупулезной размеренностью, изысканным благородством. Шелестели газетные листы, приглушенно гудели мужские голоса, позванивали бокалы. Черными тенями шныряли безмолвные официанты… Когда майор Кребс вошел в бар, его черный гестаповский мундир был встречен угрюмыми взглядами. Впрочем, эти взгляды быстро прятались за газетные листы или погружались в бокалы с вином. Барона фон Вильдена Кребс нашел в одном из боксов. Приятели молча обменялись рукопожатием, после чего майор, извинившись, занялся изучением меню, ибо чувствовал изрядный голод. Официант, записав пожелания высокого гостя, бесшумно удалился. Майор потер руки и с любопытством посмотрел на своего собеседника. Барон курил дорогую сигару и пил маленькими глотками белое вино, причем его бледное холеное лицо искажалось такими гримасами, словно это было не вино, а яд. — Итак, дорогой барон, — заговорил Кребс, — вы изволили выразить желание видеть меня и говорить со мной. Хотите начать разговор теперь же или подождете, пока я подкреплюсь ужином? — Как вам угодно, майор, — медленно, словно нехотя, прокартавил фон Вильден. — Могу и сейчас. Тем более, что тема разговора вам очень близка и, я уверен, она не испортит вам аппетита. — Начало интригующее. Я вас слушаю, дорогой барон! — Я давеча жаловался вам по телефону, майор, на вашего неистового сотрудника. На лейтенанта… как его… — На лейтенанта Вурма! — Да, Вурма. — Фон Вильден отпил вина и, скорчив очередную гримасу, продолжал: — Как вы знаете, он просил у нас помощи. Ему было категорически отказано. Не мной отказано, а моим начальством. Лично я отнесся к просьбе этого Вурма с большим сочувствием. Я обо всем расспросил его, и он поделился со мной своим горем во всех подробностях. История мальчишки, сумевшего вырваться из сетей гестапо, чрезвычайно заинтересовала меня… Вы удивлены, мой любезный майор? Вижу по вашему лицу, что удивлены… — Удивлен? Нет, это не то слово, дорогой барон. Правильнее сказать — разочарован, — ответил Кребс. — Я не ожидал, что вы собираетесь говорить со мной на эту скучную тему. Я мечтал отдохнуть в вашем милом обществе ото всех дел. — А вы не спешите с заключением, майор. Я ведь еще ничего не сказал вам. — Хорошо, продолжайте. — Я начну несколько издалека. Вы знаете, майор, что я человек со странностями, что служба в эсэскомендатуре для меня скучна. Я рвусь всем сердцем в самую гущу великих событии, на арену исторических сражений. Но начальство меня почему-то бережет и на фронт не пускает! Для меня такое положение просто ужасно. Однако, что поделаешь! Я привык подчиняться дисциплине. Я служу где прикажут, но унять свою натуру я не в силах. Приходится искать разрядку в ином. Да, так вот. Для своих личных дел, на которых сейчас не стоит останавливаться, я приспособил одного человечка из местных жителей. Существо так себе, совершенно никчемное и подлое. Но ведь вы, майор, лучше меня знаете, насколько упряма, своенравна и несговорчива эта богемская нация, с которой нам с вами приходится иметь дело. Выбирать тут решительно не из чего. Поэтому Бошек — так зовут этого моего добровольного агента — мне вполне пришелся ко двору. Он холуй чистейшей воды и подлец до мозга костей. Но в своем роде он настоящий артист, и я на него не жалуюсь. Служит он в чешской полиции и имеет самый заурядный чин. Как я его выкопал, рассказывать не буду. Ну-с, дальше. Когда ваш неистовый помощник потерпел неудачу в нашей комендатуре, я вспомнил про моего Бошека и предложил лейтенанту использовать его. А Бошек, скажу я вам, стоит в таких делах двух эсэсовских рот. Лейтенант, правда, не выразил особого восторга, но помощь принял. Я немедленно вызвал Бошека и дал ему экстренное задание: поймать до полуночи мальчишку во что бы то ни стало. Бошек нарядился бродягой и пошел шнырять по городским улицам. Перед уходом он поклялся мне, что, если мальчишка не покинул города, он до полуночи лично доставит его в гестапо… Как вам это нравится, мой милый майор? Лицо Кребса выражало сильнейшее недоумение. Не отрываясь от ужина, который ему тем временем подали, он косо посмотрел на знатного эсэсовца и произнес невнятно, но очень сурово: — Вам совсем не нужно было ввязываться в это дело, барон. Гестапо обладает достаточными кадрами, чтобы самостоятельно справляться со своей работой. Если вы подсунули своего Бошека только для того, чтобы развлечься такой необычайной охотой, где роль дичи играет политический преступник, а роль гончей собаки наш личный агент, то, простите, вы напрасно надеетесь на мое сочувствие… — Ах, что вы, манор! О каком развлечении тут может быть речь? Я искренне, от всего сердца хотел оказать услугу вашему ведомству!.. — Искренне? От всего сердца? — насмешливо переспросил Кребс. — В таком случае я окончательно перестаю вас понимать, мой дорогой барон. Во всем этом не хватает лишь одной детали: мотивировки. Разрешите мне не верить вашей нежной любви к моему ведомству. Скорее всего, вы чего-то не договариваете. Я чувствую, что у вас есть совершенно определенное намерение. Если вы окажете мне честь своим доверием, я с удовольствием выслушаю вас. — Я поражен вашей проницательностью… — пробормотал фон Вильден, сильно сконфузившись и стараясь скрыть свое замешательство за облаком табачного дыма. — Да-да, майор, я просто поражен… Я уже говорил вам, что рвусь на арену великих сражений, а начальство меня не пускает… — Понятно! — бесцеремонно перебил его Кребс и, глядя в упор на барона, добавил: — Вас отправляют на фронт, да? Фон Вильден молча кивнул. — На Восточный? Еще кивок и сокрушенный вздох. — И вы по сему случаю предлагаете гестапо свои услуги? Теперь барон кивнул торопливо, с подобострастием и, весь подобравшись, выпрямился в своем кресле. Кребс окинул его холодным взглядом и, ничего не сказав, занялся своим ужином. В уютном боксе воцарилось неловкое молчание. Покончив с едой, гестаповец залпом выпил бокал вина, вытер губы салфеткой и поднялся. — Разрешите оставить вас на пять минут, барон. Мне нужно позвонить по телефону. По дороге к телефонной кабине Кребс размышлял о том, что предложение фон Вильдена пришлось весьма кстати. Лейтенанта Вурма так или иначе придется отчислить из-за полной бездарности. Фон Вильден не умнее Вурма, но он богат и знатен. Иметь такого подчиненного и приятно и выгодно. Тщательно прикрыв дверь кабины, майор набрал номер своего отдела. Его немедленно соединили с Вурмом. — Как у вас дела, лейтенант? — спросил Кребс. — Блестяще, герр майор! — возбужденно затараторила трубка. — Я как раз собираюсь выехать на место, где происходит заключительная фаза операции. Нашему агенту удалось схватить Мнрека Яриша на площади Карла. Правда, какие-то неизвестные субъекты сумели отбить преступника и временно с ним скрыться, но место их пребывания засечено. Площадь Карла наглухо закрыта нарядами полиции и гестапо. Обыскивается дом за домом. Я уверен, что через час преступники будут задержаны… — Как звать агента, который опознал и задержал мальчишку? — Его фамилия Бошек, герр майор. Он из местных. — Один момент! В каком состоянии этот человек? — Неизвестные избили его, но он до конца остался на своем посту. — Что он сообщил о людях, которые на него напали? Кто они? — Молодые рабочие, герр майор! Парни лет семнадцати. Кстати, разрешите доложить, герр майор! Во время операции наши агенты на каждом шагу сталкивались с мальчишками, которые в этот вечер прямо наводнили Прагу. Я никогда не видел, чтобы по городу в такое позднее время шлялось столько желторотых сорванцов. Это сильно затруднило операцию, так как часто наводило на ложный след. Но теперь, герр майор, Яриш в ловушке. Разрешите мне отбыть к месту операции!.. — Поезжайте. Возможно, что я тоже туда подъеду. Хайль!.. Вернувшись в бокс, Кребс обратился к приятелю начальственным топом: — Поздравляю, обер-лейтенант! Ваш Бошек отлично оправдал себя. Беру вас вместе с вашей гончей. А теперь едем наблюдать за ходом операции, которой руководит ваш незадачливый предшественник! — О, благодарю вас, герр майор! — воскликнул фон Вильден и тут же бросился искать официанта, чтобы уплатить за себя и за своего нового шефа. Через пять минут приятели покинули гостеприимный погребок и помчались на машине к площади Карла…21
Обморок Мирека продолжался недолго. Очнувшись, он почувствовал, что к его телу прикасаются чьи-то жесткие, шершавые руки. Прикосновения были ритмичные и довольно крепкие. К прежнему хлебному запаху примешивался аромат мяты. Мирек открыл глаза и увидел, что лежит в одних трусах на деревянном ларе в тесной полутемной каморке. Кругом стояли мешки с мукой, на полках виднелись бесчисленные ряды банок, бутылей, кульков. Прямо перед собой он увидел по пояс обнаженного старичка в белой шапочке. Старичок наливал в ладонь спирт, настоенный на мяте, и старательно растирал Миреку ноги, руки, грудь. В каморке было жарко. По морщинистому лицу старичка катились крупные капли пота. Его костлявые плечи то поднимались, то опускались. Растирания вернули Миреку бодрость. Его кожа приятно горела, по всему телу разлилось ощущение легкости. Старичок, не прерывая работы, то и дело посматривал на лицо своего пациента. Заметив, что паренек пришел в себя и открыл глаза, он удовлетворенно фыркнул и, прекратив растирания, выпрямился. Мпрек сел, спустив с ларя ноги. В голове у него еще чуть-чуть шумело, но мысли уже были ясные, четкие. Он мигом вспомнил все, что произошло на площади Карла. Глаза его метнулись по каморке в поисках замечательных парней, которые вырвали его из лап гестаповского агента. Но в каморке не было никого, кроме старичка. — Скажите, пожалуйста, где я? — обратился к нему Мирек. Старичок улыбнулся всеми тысячами морщинок своего лица и отрицательно покачал головой. — Не знаю, милок. Ничего не знаю, — проговорил он в ответ тихим надтреснутым голосом. — Ни я тебя не знаю, ни ты меня не знаешь. Никто никого не знает, но все друг друга уважают и жалеют. Так-то оно правильней, милок… Меня попросили, и я потрудился. Теперь ты снова молодец, и не нужно ни о чем спрашивать. Ногами-то двигать можешь? — Могу. — А ну-ка пройдись, я погляжу. Мирек спрыгнул с ларя и сделал несколько осторожных шагов. Тотчас же икру его левой ноги скрутила жестокая судорога. Он вскрикнул и заковылял обратно на ларь. — Что, милок, судорога? — участливо спросил старичок. — Да, в левой ноге. — Ну что ж, милок, приляг еще на минутку. Сейчас мы ее разотрем… Мирек лег на ларь животом вниз и вытянул ноги. Старичок снова принялся растирать его мускулы спиртом с мятой. — Где моя одежда? — спросил Мирек. — Не знаю ни о какой одежде, милок, — кряхтя от усилий, ответил старичок. — Знаю только одно: тебя нужно привести в человеческий вид, одеть пекарем и отправить куда-то с корзинкой свежих булочек. Ты поедешь на велосипеде с поклажей на спине… Ездить-то хоть умеешь? — Умею. У меня есть велосипед… то есть он был у меня еще сегодня утром. — “Есть, был”! Главное, что умеешь… Ну что, болит еще? — Нет, уже прошло. Спасибо вам. — Ну, попробуй пройдись. Мирек осторожно слез с ларя и сделал по каморке несколько шагов. — Все в порядке! — улыбнулся он старичку. — А ты еще, еще походи, милок. Вдруг она, проклятая, снова вгрызется в ногу. Тебе ведь сейчас же ехать надо! Мирек принялся расхаживать все быстрее и увереннее. Ноги его слегка подламывались, но судорога больше не возобновлялась. — Ну вот, теперь вижу, что ты молодец. Закусить хочешь? — Нет, спасибо. Я недавно ел. — Как хочешь. А вот это вот все-таки выпей. Это не повредит! Старичок отлил из банки в стакан красного сиропу и плеснул в него спирту. Мирек выпил жгучую липкую жидкость и сразу почувствовал, как от желудка по всему его телу разлился приятный огонь. — А теперь, милок, давай одеваться… Старичок извлек откуда-то из-за мешков и бросил на ларь старые штаны, заляпанные мукой и тестом, латаную рубаху, ветхий свитер, куртку, покрытую коркой ссохшегося теста, рваные носки и стоптанные ботинки. Мирек все это молча напялил. Когда он был готов, старичок придирчиво осмотрел его и, видимо, остался доволен: — Пекарь, милок! Настоящий пекарь!.. Только еще мучицы надо добавить! С этими словами он поддел из мешка пригоршню муки и обсыпал ею Мирека с головы до ног. Переодетый в заскорузлое тряпье и весь в белой мучной пыли, Мирек действительно был неузнаваем. В довершение ко всему старичок достал с полки белую шапочку и нахлобучил ее Миреку на голову. — Теперь можешь ехать, милок, куда угодно. Пойдем! — Погодите! Мирек взволнованно схватил старичка за узловатую руку. — Ну что еще? — спросил тот ласково. — Вы так много для меня сделали, а я вас совсем не знаю. Как мне отблагодарить вас? — А зачем тебе меня благодарить, милок? Ты человек — я человек. Ты чех — я чех. Вот тебе и весь сказ… Ну пойдем. Там уж, верно, заждались тебя! Они вышли из каморки и очутились в пекарне. Воздух здесь был раскален. В огромной печи гудело пламя. Двое полуголых потных парнишек быстро и умело плели из теста крендели и кидали их на широкие листы. Они лишь мельком взглянули на Мирека, весело засмеялись и снова занялись своим делом. Старичок погрозил им пальцем и, не останавливаясь, вывел Мирека из пекарни в прохладный сумрачный коридор. Здесь на пустых ящиках сидели двое парней в синих рабочих блузах. Они поднялись навстречу Миреку. По скованности их движений, по настороженным взглядам Мирек сразу догадался, что это не те парни, которые помогли ему убежать с площади Карла. Он недоверчиво покосился на них и остановился в нерешительности. Тогда один из них подошел к нему вплотную и тихо сказал: — “Ольга”! — “Верность”! — поспешно ответил Мирек. — Как самочувствие? — Отлично! — Тогда едем!.. Старичок быстро шмыгнул в пекарню и вынес оттуда корзину со свежими булочками. Парни подняли ее и помогли Миреку продеть руки в помочи. Корзина плотно легла Миреку на спину. — Не тяжело тебе, милок? — Нет, что вы! Совсем не тяжело!.. — Ну тогда топай! Ни пуха тебе, ни пера! — сказал старичок и тотчас же скрылся в пекарне. Парень, назвавший пароль, обратился к Миреку: — На велосипеде ездить умеешь? — Да, умею. — Вот и хорошо. Поедешь за мной на расстоянии двадцати—тридцати шагов. А где светлее, и того дальше. Смотри в оба. Куда сверну я, туда сворачивай и ты. За тобой в некотором отдалении поедет вот этот товарищ. Если сзади появится опасность, он свистнет тебе. Если впереди будет что-нибудь неблагополучно, я мигну тебе фонариком. В обоих случаях сворачивай, не раздумывая, в первый попавшийся переулок и пробирайся самостоятельно к Староместской площади. Там, у памятника Гусу, тебя ждут. Скажешь пароль и получишь дальнейшие указания. Ясно? — Ясно, — кивнул Мирек. В конце коридора стояли три велосипеда. Ребята взяли их и по одному вывели на улицу. В лицо Миреку снова пахнуло морозным воздухом… Первый парень огляделся по сторонам и, махнув Миреку рукой, покатил вниз по переулку. Мирек с корзиной на спине перекинул ногу через седло велосипеда, оттолкнулся, несколько секунд неуверенно балансировал передним колесом, потом выровнял его, налег на педали и поехал за маячившим впереди вожаком. Третий парень немного подождал и тронулся вслед за ними. Переулок спал глубоким сном. Морозная январская ночь медленно плыла над темным городом, добродушно мигая далекими блестками холодных звезд…22
Гестаповская машина бешено мчалась по набережной. Сидевший рядом с шофером майор Кребс угрюмо молчал. Сзади втихомолку ликовал барон фон Вильден. Ему очень хотелось выразить свои восторги вслух, но он понимал, что прежние приятельские отношения с Кребсом кончились. Раньше барон не стеснялся с этим выскочкой-гестаповцем из бывших мясников. Он даже позволял себе иногда третировать его. Но теперь все это надо забыть. Майор превратился для него в сурового начальника, которого нужно уважать и всячески ублажать. Черт с ним! Уважать так уважать!.. Он, барон, знает все слабости этого мрачного гестаповца и наверняка сумеет угодить ему. Впереди из переулка выехал на набережную велосипедист. Машина промчалась мимо него и тут же едва не налетела на другого велосипедиста, который вынырнул из того же переулка. Шофер увидел перед собой совершенно белое лицо и наполненные ужасом глаза. Рванув машину в сторону, он до предела нажал на педаль тормоза. Раздался противный скрежет. Машина проползла юзом по обледеневшей мостовой и остановилась в трех шагах от незадачливого велосипедиста. Тот, стараясь избежать столкновения, тоже в последнюю секунду круто свернул к тротуару и упал. Из корзины за его спиной на мостовую посыпались румяные, свежие булочки. Кребс только скрипнул зубами от злости и повернул к барону свое каменное лицо. Фон Вильден не ждал приказаний. Он рывком раскрыл дверцу и выскочил из машины. — Проклятый ротозей! Он подбежал к парнишке, который неуклюже поднимался, потирая ушибленное колено, и схватил его за шиворот. — Идиот! Как ездишь?! Вот тебе… вот… учись смотреть на дорогу! Барон отвесил юному пекарю несколько пощечин и, оттолкнув от себя, вернулся в машину. — Развозчик булок, герр майор! — доложил он Кребсу. — Должно быть, уснул на своем велосипеде… — Вижу, что развозчик, — ответил майор и кивнул шоферу: — Вперед, Ганс! Машина с ревом промчалась мимо пекаря, давя колесами рассыпанные булочки. А бедный пекарь еще минут пять собирал свою пострадавшую кладь обратно в корзину. Сзади и спереди, затаившись в отдаленных подъездах, за ним с тревогой наблюдали двое других велосипедистов. Собрав булки, пекарь осмотрел свою хрупкую машину, неуклюже взгромоздился на нее и поехал своей дорогой… Когда машина гестапо выехала на площадь Карла и остановилась неподалеку от ларька с колбасками, Кребс неожиданно повернулся к фон Вильдену: — Интересно, куда ехал этот развозчик? Магазины ведь еще закрыты… — Должно быть, в больницу, герр майор! — немедленно ответил барон. — Разве что в больницу… А все-таки… — Не договорив, Кребс молча задвигал челюстями. Затем коротко приказал: — Разыщите, обер-лейтенант, агента Бошека и доставьте его сюда! — Слушаюсь, герр майор! Барон покинул машину и побежал в парк. Через полчаса он вернулся в сопровождении грязного взлохмаченного “бродяги”. Майор опустил в дверце стекло и мрачно уставился в распухшее, окровавленное лицо оборванца. Тот вытянулся в струнку. — Вы агент Бошек? — Так точно, господин начальник! — прохрипел “бродяга” на ломаном немецком языке и еще сильнее выпятил грудь. — Это вам удалось опознать и задержать Мирослава Яриша? — Так точно, господин начальник, мне! — Но потом вас избили неизвестные люди и бежали вместе с преступником? — Так точно, избили и убежали! — Вы доложили лейтенанту Вурму, что преступника нужно искать в пределах площади Карла? — Так точно, доложил! — Это ваше подлинное мнение? “Бродяга” захлопал глазами. — Я вас спрашиваю, что вы об этом думаете на самом деле. Не бойтесь, говорите правду! — Если по правде, господин начальник, то преступникам нечего было оставаться на площади. У них было время убежать очень далеко… — Вы уверены в этом? — Так точно! — Хорошо. Благодарю за верную службу. Завтра в девять явитесь ко мне. Все. Можете быть свободны! — Хайль Гитлер! — “Бродяга” вскинул свою грязную лапу и, повернувшись, быстро исчез в темноте. Майор посмотрел ему вслед и затем обратился к барону: — Садитесь, обер-лейтенант. Едем спать. Здесь нам больше делать нечего. А завтра в восемь я жду вас у себя в канцелярии. Фон Вильден забрался на заднее сиденье, и машина, развернувшись, ушла с площади Карла, на которой молодчики Вурма продолжали трудиться до самого рассвета, обшаривая дом за домом.23
Деревянная кукушка высунулась из своей будочки на ходиках и, судорожно дергаясь, прокуковала десять раз. Пани Рогушева ответила ей тяжелым вздохом и поднялась со стула. — Пойду прилягу. Голова что-то разболелась… — сказала она и тихо вышла из кухни. Кованда и одноглазый, сидевшие у стола, ничего ей не ответили и даже не пожелали покойной ночи. Знали они, что все равно бедная женщина не будет спать, пока не дождется сына. Ведь она и из кухни ушла только потому, что слишком тяжело ей было смотреть на напряженные лица мужа и гостя, слишком невыносимой стала для нее гнетущая тишина с медленным тиканьем часов… После ухода пани Рогушевой мужчины немного оживились. Присутствие строгой хозяйки связывало их: ни покурить сколько хочется, ни поговорить по душам. Три бесконечно долгих часа просидели они под ее надзором, не смея поделиться своими тревогами, перебрасываясь пустыми фразами и томясь мучительным ожиданием. Выкурили они за это время самую малость. Теперь другое дело. Первым, подавая пример, задымил набивной папиросой одноглазый сапожник. За ним расшуровал свою носогрейку Кованда. Кухня быстро наполнилась сизыми облаками дыма. — Вы, пан Рогуш, не сердитесь. Вижу, что надоел я вам за весь вечер. Но домой я, право, не могу пойти. Что я жене скажу про Оленьку? Что?.. — А я ведь не гоню вас, пан стражмистр! Сидите! Мне все равно ждать нужно… А Гонзу своего проучу за самовольство, крепко проучу! Ишь стервец! Мало того, что сам полез куда не надо, так еще и девчонку потянул за собой!.. — Э-э, оставьте, пан Рогуш, не говорите так! За что его наказывать-то? Парень поступил правильно. Сделал то, что нам самим следовало сделать… Ольгу он не уводил. Та, наверно, сама вызвалась идти вместе с ним. Она у меня знаете какая! Да что тут говорить! Только бы все обошлось, только бы они вернулись живы да здоровы… — Балуем мы их слишком, воли много даем! Оно, конечно, время такое. Война, оккупация и прочее. Дети слишком быстро вырастают, слишком рано начинают понимать… Пытаются сами решать… А силенок-то мало, головы-то чересчур горячие. Мы и сами еле справляемся… — Не согласен я с вами, никак не согласен! — с неожиданной резкостью возразил Кованда. — В чем же вы не согласны со мной, пан стражмистр? — ухмыльнулся одноглазый. — В том и не согласен, что придерживать нужно нашу молодежь да направлять! Не всегда это хорошо, пан Рогуш, и не всегда правильно! Взять хотя бы мою Ольгу. Я ведь как на нее до сегодняшнего дня смотрел? Девчонка, егоза, наряды там, зеркало, подружки, то да се. Думал, что она и не сознает, в какой живет обстановке, не понимает, что теперь происходит в мире. А на поверку оказалось, что сознает даже лучше меня: и видит, и понимает, и чувствует, и расценивает острее, правильнее, чем я. Вы бы послушали, как она отчитывала меня за Мирека Яриша, за службу мою проклятую! Предателем обозвала, изменником родины! Слыхали такое? А Мирек? Возьмите Мирека. Он ровесник моей Ольге. Мальчишка! А забрали у него родителей, думаете, скис? Ничуть не бывало! Как он с Оленькой говорил… Оружие, говорит, раздобуду, к партизанам в горы уйду! А вы “придерживать, направлять”!.. Не согласен я с вами! У таких детей, как ваш Гонза, как Мирек Яриш да Оленька моя, нам с вами учиться следует. Да, пан Рогуш, учиться! Сапожник с интересом вслушивался в сбивчивую речь полицейского. Он курил частыми затяжками, и глаз его разгорался от скрытого веселья. Ему хотелось раззадорить Кованду как следует, и он сказал насмешливо: — Учиться! Скажете тоже, пан стражмистр. Все это одни слова! А до дела от них далеко. Ой, как далеко! Учиться!.. А ну попробуйте, поучитесь у Мирека Яриша. Бросьте свою уютную квартиру в Праге, свою доходную государственную службу с обеспеченной под старость пенсией, бросьте все свое прочное положение и пуститесь куда-нибудь в горы к партизанам, на смертельные опасности. Разве разумный человек пойдет на такой риск? Променяет ни с того ни с сего спокойную обеспеченную жизнь на сумасшедшую авантюру, на полную неизвестность? Конечно, нет. И вы, пан стражмистр, на это не пойдете, потому бросьте говорить красивые слова. Ни к чему они. А дочку свою уймите, чтобы впредь ей неповадно было пускаться в подобные опасные авантюры. Кованду настолько поразили слова сапожника, что он забыл на минуту о своей трубке и глядел на одноглазого с непомерным удивлением, с укором и даже со страхом. Новые мысли и чувства, разбуженные упреками Оленьки, целиком охватили его, и все, что шло с ними вразрез, казалось ему теперь порочным и недостойным. — Эх, вы, а еще бывший коммунист! — сказал он с глубокой горечью. — Послушать вас, пан Рогуш, так и не поверишь, что это вам я в тридцать шестом выбил глаз на первомайской демонстрации… Если хотите знать, я не пустые слова говорю. Мне уже давно все это осточертело. А дочка моя окончательно глаза раскрыла. Я бы завтра же бросил все и ушел в горы! Только как уйти? Кто мне, полицейскому, поверит?!.. — Так бы вот взяли и ушли, пан стражмистр? Врете! А семья? Вы думаете, жену вашу и дочку по головке погладят, если вы бросите службу и удерете в горы бить немцев? — Знаю, что не погладят, — вздохнул Кованда. — В этом вся и загвоздка. Были бы у меня связи, были бы верные люди, они бы и уладили все эти вопросы. А так… — И он уныло опустил голову. Сапожник молчал, зорко всматриваясь в огорченное лицо Кованды. Потом он встал из-за стола и принялся расхаживать по кухне. Полицейский продолжал неподвижно сидеть у стола, подперев голову кулаком, поглощенный тяжелыми думами. Несколько минут были слышны только мягкие шаги сапожника и монотонное тиканье ходиков. Вдруг одноглазый подошел к Кованде и, став за спиной, положил ему на плечо руку. — Брось хандрить, товарищ! — тихо сказал он. Кованда даже вздрогнул от этого неожиданного обращения. — Я тебе верю. Сиди спокойно и слушай. Чтобы бороться, не обязательно уходить в горы к партизанам. Здесь, в городе, тоже нужны смелые люди. Здесь тоже ведется борьба, еще более сложная и опасная, чем открытые бои в горах. Ты будешь полезен и там, где теперь находишься… Согласен ты, товарищ Кованда, помочь в нашей борьбе? — Да я, пан Рогуш… да я, если хотите знать!.. — вскричал Кованда в смятении и рывком поднялся на ноги, опрокинув стул. Они стояли друг перед другом: огромный, плечистый полицейский, багровый от радостного возбуждения, и худой смуглый сапожник, с лицом строгим и четким, словно вычеканенным из меди. — Так вот вы какой, пан Рогуш! — бормотал Кованда. — И впрямь принял вас за фашистского прихвостня. Нет, теперь я вижу, что мои первые мысли о вас были правильные! Значит, теперь все будет как надо, все будет хорошо!.. — Погоди ты изливаться! — строго сказал сапожник. — Ответь сначала на мой вопрос: согласен ты остаться в полиции и посвятить свою жизнь делу борьбы с немецкими оккупантами? — Согласен! Конечно, согласен! — заорал Кованда и, схватив руку сапожника, стиснул ее изо всех сил. — Ты знаешь, братец, как ты меня осчастливил?! Даже и выразить тебе этого я не сумею! Теперь гора с плеч! Все пойдет по-новому!.. Эх, Оленьке бы рассказать! — Не смей даже думать про такое! — Знаю, что нельзя! Сам знаю. Я только так, что, мол, хорошо бы было порадовать дочку! Ну, да все равно. Я и так стал теперь другим человеком!.. — Ты уверен в этом? — Абсолютно! — твердо ответил Кованда. — Ну, довольно ломать мне пальцы. Больно ведь… Садись лучше, я расскажу тебе кое-что о твоей новой работе. Кстати, о дочке, ты не беспокойся. Гонза дельный, не подведет. Они снова уселись за стол, и началась увлекательная беседа. Над их головами гуще заклубились облака табачного дыма. Пришпоренное время помчалось бешеным галопом. Они даже не слыхали, как деревянная кукушка прокуковала одиннадцать раз…24
Несладко стоять в морозную ночь на открытой площади, пусть даже и при полном безветрии. За три часа дежурства Гонза продрог до самой печенки. Он уже не чувствовал ни рук, ни ног, а рот раскрывал лишь с большим усилием. Он мог хотя бы слегка согреться быстрыми движениями. Но здесь нельзя было ни ходить, ни прыгать, ни размахивать руками. По Староместскойплощади то и дело проходили полицейские патрули. Его могли заметить и спросить, чего он, собственно, делает возле памятника Яну Гусу в такой поздний час. Поэтому Гонза двигался лишь в том случае, если полицейские проходили слишком близко от него. Тогда он осторожно обходил памятник и прятался за ним. Полчаса назад связной от группы ребят из Нового Города сообщил ему, что Мирек найден на площади Карла, что в самую критическую минуту его отбили у переодетого агента и что теперь он находится в надежном укрытии — в маленькой частной пекарне. Больше никаких сообщений не поступало. Только из разговора двух запоздалых прохожих, торопливо протрусивших возле самого памятника, Гонза узнал, что на площади Карла происходит какая-то большая облава. Гонза нервничал. Теперь, когда главное было выполнено, он боялся, как бы неожиданный пустяк, какая-нибудь непредвиденная мелочь не провалила почти законченную операцию. “Чего они там копаются? Почему так долго не едут?” — думал он с беспокойством, напряженно всматриваясь в темную площадь. Оттуда, из-за старой ратуши, со стороны Малой площади, должны появиться велосипедисты… И они появились. Первым из-за ратуши выехал ведущий. Он быстро оглядел пустынную площадь и, пригнувшись к рулю, помчался через нее к памятнику. Подъехав к Гонзе, он резко затормозил и сказал вполголоса: — “Ольга”! — “Верность”! — ответил Гонза, еле шевеля одеревеневшими губами, и тут же спросил с нескрываемой тревогой: — Ну как? Порядок? Парень мотнул головой: — Порядок. Едет за мной… Из-за ратуши действительно показался новый велосипедист. Не озираясь по сторонам, он поспешно пересек площадь. Но по скорости он значительно уступал первому. В его движениях сказывалась большая усталость. Подъехав к памятнику, он тоже сказал пароль и, услышав ответ, слез с велосипеда. Его обсыпанная мукой одежда белела на фоне черного памятника, белое лицо казалось странной маской. Он горбился под тяжестью корзины, висевшей у него за спиной. Гонза смотрел на юного пекаря с нескрываемым восторгом. Его сердце пело и плясало от радости… Вот он, Мирек Яриш! Вот он тот самый беглец, из-за которого была поставлена на ноги вся пражская полиция, которого искали лучшие ищейки немецкого гестапо. И не нашли, не поймали! Под самым носом у них перехватили добычу! И кто же?! Обыкновенные шестнадцатилетние парнишки! Заводские ученики!.. Значит, организация способна выполнять сложные, ответственные задания, коли с честью выдержала такой трудный экзамен! Гонза мигом забыл про холод. Ему вдруг стало жарко и очень весело. Захотелось тут же ласково намять бока ведущему, этому славному парню, который стоял сейчас перед ним со своим велосипедом, скромно ожидая дальнейших указаний. Вид этого парня напоминал Гонзе, что ему, командиру организации, нельзя предаваться телячьим восторгам. К памятнику подъехал третий велосипедист. Он уже не назвал пароля, а просто поздоровался. — Молодцы, ребята! — сказал Гонза. — От имени штаба я объявляю вам благодарность! Вы отлично справились с заданием. Происшествия были? — Были, — ответил ведущий. — По дороге Мирек чуть не попал под машину, в которой ехали немцы, кажется, гестаповцы. Мирек упал и рассыпал свои булки. Эсэсовец выскочил из машины и избил Мирека. К счастью, у них не было времени с ним возиться. Они, вероятно, спешили к площади Карла, где в это время началась облава на Мирека и наших ребят. Словом, развозчик булок не вызвал у них подозрений. Значит, маскировка удалась. Дальше мы ехали без происшествий. — Молодцы! Ваша работа на сегодня закончена. О подробностях операции доложите позже. Велосипед, одолженный Миреку, будет возвращен завтра. А теперь жарьте домой. О дальнейшем я позабочусь сам. Маздар! — Наздар! — ответили парни и, вскочив на свои велосипеды, укатили с площади в разные стороны. Тогда Гонза повернулся к Миреку: — Слушай, друг. Нам предстоит сделать короткий переход. Ноги у тебя целы? Не расшибся, когда упал? — Колено немного ушиб, — ответил Мирек. — Но это ничего, идти я могу. — Вот и хорошо, что можешь. На велосипеде тебе дальше ехать нельзя будет. И темно, и дорога плохая. Поведешь его с собой только для маскировки Я первым перейду через площадь и подожду тебя на углу Тынской улочки. Дальше пойдем вместе. Понятно? — Понятно. Гонза внимательно осмотрел площадь и пошел прочь от памятника Яну Гусу, с удовольствием разминая затекшие ноги. Мирек подождал, пока он скроется в темноте, и, тоже осмотревшись, повел за ним свой велосипед…25
В подземном складе антиквара было холодно, как и во всяком глубоком подвале. Оленьке только поначалу, сразу после улицы, показалось, что тут тепло и уютно. Но вскоре она убедилась, что это далеко не так. Толстые стены подземелья не прогревались, вероятно, ни зимой, ни летом. От них несло вековой стужей. Штаб поручил девушкам приготовить для Мирека место. Они сделали это с женской тщательностью и основательностью. Выбрав самую удобную старинную тахту, они стянули с нее пыльный чехол и приготовили на ней поистине княжеское ложе. Для этого Власте несколько раз пришлось отлучиться, чтобы доставить простыни, подушки и перины. И она ни на минуту не расставалась со своей шляпой и широким черным плащом. — Неужели ты в этом наряде выбегаешь на улицу? — удивленно спросила Оленька. — А зачем мне на улицу? — ответила Власта. — Я ведь живу здесь, в доме. Из подвала есть ход прямо на лестничную площадку, а там на втором этаже наша квартира. — Но ведь на лестнице тебя может увидеть кто-нибудь из жильцов! — В нашем доме нет жильцов. Раньше были, а теперь нету. Дом такой старый, что в нем никто жить не хочет. А мы живем. Мой отец ни за что не согласен выезжать из него. Этот дом купил еще его прадедушка в начале прошлого века. С тех пор все Нехлебы так и живут в нем, и все из поколения в поколение занимаются антикварным делом. Нашему магазину уже сто лет стукнуло… Последнее сообщение Власта сделала безо всякой гордости. Напротив, в голосе ее прозвучала грустная нотка. Она чуть-чуть призадумалась, но тут же снова улыбнулась и, тряхнув своей шляпой, сказала: — Погоди, Оленька, я еще раз домой сбегаю. Надо Миреку что-нибудь на ужин принести. Да и нам с тобой не мешает перекусить! Власта снова убежала и на этот раз не возвращалась довольно долго. Оленька уже начала беспокоиться, не вмешался ли в операцию отец, хозяин столетнего магазина. Почему-то она представляла его себе большим, толстым, угрюмым и страшно сердитым, вроде тех мрачных, закованных в латы рыцарей, что недвижно стояли у дверей склада. Но опасения оказались напрасными. Власта вернулась, волоча за собой объемистую сумку, наполненную различной снедью. Тут был хлеб, колбаса, плавленый сыр, искусственный мед и даже масло. Среди свертков с продуктами стояли три термоса с горячим чаем. — На всех хватит! — заявила Власта, раскладывая яства на круглом столе. — Давай подкрепляться, товарищ Ольга! Оленька с удовольствием взяла чашку. Девушки уселись за стол и занялись чаепитием. Чай был, правда, не настоящим, — так, настой из различных травок и листьев, именуемый “целебной смесью”, но Оленьке, которая давно уже забыла вкус настоящего чая, он показался изумительно вкусным. Утолив первый голод, девушки разговорились. — Как это ты, Власта, сумела сюда столько принести? — спросила Оленька. — Неужели ни отец, ни мать не спросили тебя, зачем тебе понадобилось тащить в подвал столько подушек, перин и такую кучу еды? По бледному лицу под широкими полями шляпы скользнуло печальное облачко. — У меня нет мамы, — сказала Власта тихо, и губы ее слегка дрогнули. — Давно уже нет. Она умерла, когда я была совсем еще маленькой. Умерла из-за этого старого дома, из-за этого проклятого магазина. От чахотки… Здесь все женщины умирают молодыми от чахотки. И бабушка моя так умерла, и прабабушка. И я, наверно, тоже умру, если… — Она не договорила и тихонько вздохнула. Помолчав и мельком взглянув на притихшую и смущенную Оленьку, она продолжала: — А папа мой ничего не замечает, кроме своих гроссбухов да разных там накладных. Он у меня такой старенький, сгорбленный и седой-седой, хотя лет ему еще не так много: всего только сорок восемь. Его тоже дом и магазин изнуряют. А бросать он их не хочет, ни за что не хочет. Я уже сколько раз просила… — А кто же тебе готовит, кто вообще за вашим хозяйством смотрит? — Нянька моя за всем смотрит, — сразу оживилась Власта. — Она у меня знаешь какая, нянька моя! Просто замечательная! Ее ничто не берет, никакие болезни. Сколько я помню ее, она никогда ничем не болела. Такая здоровячка! Большая, толстая и добрая-предобрая! Мы с ней душа в душу живем, и никаких у нас секретов не бывает. Она и про организацию нашу знает, и про штаб здесь в складе. Ей все можно доверить: могила!.. Только ты, Оленька, не говори об этом Гонзе, а то он съест меня за это. Не скажешь? — Ну вот еще! Конечно, не скажу! — Ну смотри. Гонза у нас такой строгий командир, просто беда! Вообще он чудесный!.. Правда, Гонза чудесный? — Гонза очень симпатичный. Мне он сразу понравился. Иначе разве я пошла бы с ним ночью невесть куда… — Но ведь ты из-за Мирека пошла? — Ну конечно, из-за Мирека! А ты думала из-за чего? — вспыхнула Оленька. — Я ничего плохого не думала, я так только спросила… — тоже сильно смутившись, проговорила Власта. Девушки умолкли, чувствуя неловкость. В наступившей тишине лишь чуть слышно потрескивало пламя свечей в массивном бронзовом канделябре. По каменному полу стелилась ледяная стужа. От нее не спасала никакая одежда. Оленька сняла с рук перчатки и принялась греть над свечой закоченевшие пальцы. Власта молча собирала со стола остатки ужина и складывала их в сумку. — Ты сердишься на меня, Оля? — спросила она. — Ну что ты! За что мне на тебя сердиться? Ты ведь просто неправильно выразилась, — ответила Оленька. — Неправда! — взволнованно возразила Власта. — Я сказала именно то, что хотела сказать. И все-таки я прошу тебя не сердиться!.. Ну как ты не понимаешь?.. Оленька удивленно посмотрела на “хозяйку”. Из-под шляпы блестели широко раскрытые голубые глаза. — Неужели ты такой наивный человек?! Ну скажи, скажи сама, только по правде, по совести, почему ты так хлопочешь о спасении Мирека Яриша? Почему? Неужели только потому, что он твой одноклассник, неужели из-за одной только дружбы?.. Оленька молчала, чувствуя, как по лицу ее разливается предательская краска. — Что же ты не отвечаешь? А впрочем, чего тут отвечать… И так все понятно. Ты любишь этого Мирека!.. Правда, любишь? Оленька кивнула. — Ну вот и умница! — обрадовалась Власта. — Я тоже люблю Гонзу. Я бы ради него тоже ничего не побоялась. Он смелый, сильный, умный. И добрый тоже… Он спасет меня от этого старого, мрачного дома, где все пропитано чахоткой. Он не даст мне погибнуть в пыльной лавке. Знаешь, о чем я мечтаю? — О чем? — О том, как кончится это жуткое время: война, фашисты, казни… О том, как наступит новая, радостная жизнь, без страха, без тревог, без опасностей… Ведь может быть такая жизнь, когда везде все хорошо и человеку ничего не нужно бояться! Я уверена, что такая жизнь придет. И люди тогда будут веселыми-превеселыми и будут строить большие, светлые дома… И мы с Гонзой станем жить в одном из таких красивых новых домов… Хочешь, я расскажу тебе, как я познакомилась с Гонзой? — Расскажи. — Только сначала знаешь что? Сначала давай заберемся на Мирекову постель, под перину. Нам там будет удобнее и теплее. А то, пока ребят дождемся, совсем превратимся в ледышки! Оленька охотно согласилась. Девушки прошли за шкафы, где стояла тахта. Сбросив туфли, они улеглись и плотно закутались в перину. Власта прижалась к Оленьке и, мечтательно глядя на вереницы тускло поблескивающих люстр, начала вполголоса рассказывать о своих сердечных переживаниях… Уютное гнездышко посреди холодного подземелья, загроможденного причудливыми изделиями давно минувшей старины, таинственный безмолвный полумрак — все это подействовало на Оленьку и расположило ее к откровенности. Она тоже рассказала о своих немногих встречах с Миреком в Вышеградском парке, о сокровеннейших мечтах и надеждах… Внезапно громко лязгнула железная дверь. Девушки вздрогнули и, соскочив с тахты, поспешно обулись. — Идут! — не то радостно, не то испуганно сказала Власта. По проходу среди мебели застучали шаги двух человек. Оленька и Власта кинулись им навстречу. И вот они встретились. Встретились посреди склада, в темной узкой щели между какими-то комодами… Сначала Оленька увидела Гонзу. За ним стоял кто-то весь в белом… Кто? Неужели Мирск?!.. Гонза тут же рассеял все сомнения. Он посторонился и весело сказал: — Разрешите представить вам героя сегодняшней ночи, товарища Мирослава Яриша! Поздравьте его с благополучным завершением всех опасностей и с прибытием в это гостеприимное и падежное убежище. Подношение цветов и крики “ура” отставить!.. Мнрек неловко, по совершенно серьезно поклонился девушкам и неннятно пробормотал: — Добрый вечер!.. Он не мог разглядеть лица Оленьки. Он не узнал ее. Да и мог ли он ожидать, что встретится с ней здесь! Диковинная обстановка подземелья, рыцари у входа, Властина мушкетерская шляпа — все это было слишком неожиданно и удивительно. Мирек не знал, как ему следует держаться, и потому стоял молча, понурив голову. — Мирек!.. Мирек! Ты не узнаешь меня?! Ведь это я, Оленька Ковандова! Вздрогнув, как от удара, он вскинул голову: — Оленька?.. Ты?.. Ты здесь? Он протянул руки и шагнул вперед. Девушка бросилась к нему навстречу. Их руки соединились в крепком пожатии. Мирек попытался что-то сказать, но никак не мог справиться с волнением. — Оленька… Оленька… ты… — твердил он, словно в бреду. — Ну я, конечно, я! Неужели не узнал еще?.. Ну пойдем туда, к столу. Там светло. Пойдем! И она повела его по проходу. Гонза с Властой пошли за ними. С Мирека сняли ненужную больше корзину с булочками, усадили в самое удобное кресло, в то самое, в котором когда-то сиживал князь Шварценберг, и принялись наперебой угощать ужином, расспрашивать и рассказывать. Мирек уже пришел в себя. Он смеялся вместе со всеми, отвечал на вопросы, пил горячий настой “целебной смеси”, но при этом, не отрываясь, смотрел на Оленьку, словно кроме нее тут никого и не было. Гонза заметил это и, лукаво подмигнув Власте, сказал: — Нам с тобой, товарищ Власта, надо еще кое о чем поговорить. Давай-ка пройдем к рыцарям! — И, обратившись к Оленьке, добавил: — Не беспокойся, товарищ Ковандова, мы ненадолго. На четверть часа, не больше. Я знаю, что тебе пора домой и что я обязан тебя проводить! — Хорошо, Гонза! — рассеянно сказала Оленька. Оставшись наедине с Оленькой, Мирек снова почувствовал себя ужасно неловко. Ему хотелось сказать ей так много, но слова почему-то застревали у него в горле. — Ты сильно измучился? — тихо спросила Оленька. — Нет, не очень… А ты? — Ну вот еще!.. Я же не пережила такое, как ты… — Оленька… — Ну что? — Ты… ты простила меня за то, что я там в парке… — Не смей даже говорить об этом! Она решительно закрыла ему рот рукой. Мирек тихонько поцеловал ее холодные пальцы. Оленька быстро отдернула руку и засмеялась. — Значит, пароль “Ольга”? — спросил он, не отрывая от се лица сияющего взгляда. — “Верность”, — чуть слышно ответила она. — Товарищ Ковандова, пора! — прогудел под сводами голос Гонзы. Оленька и Мирек стали прощаться…26
Пани Рогушева так истомилась ожиданием, что внезапный звонок в передней отозвался в ее сердце болезненным уколом. Гонза!.. А вдруг кто-нибудь чужой с ужасной вестью о непоправимой беде?!.. Она поспешно выбежала из спальни и, включив в прихожей свет, кинулась к дверям. — Гонза, ты?! — Я, мама. Открывай! Пани Рогушева открыла дверь и впустила сына. На сердце у нее отлегло: ее Гонза был цел и невредим. Правда, он слегка осунулся, но вид у него был очень бодрый и веселый. — Ну, как вы там?.. — спросила она, пока Гонза снимал куртку. — Все в порядке! — улыбнулся Гонза и вдруг насторожился, прислушиваясь. До его слуха донеслись возбужденные голоса отца и полицейского Кованды. Они, видимо, не слышали, как он пришел. — Пожар у них там, что ли? — изумилась пани Рогушева. — Гляди, Гонза! Гонза распахнул дверь. В лицо ему хлынули такие густые клубы табачного дыма, что он закашлялся и невольно остановился. Голоса говоривших мгновенно умолкли. Кованда и отец обернулись к двери и уставились на Гонзу. Тот ожидал, что они накинутся на него с расспросами. Но они молчали, да и смотрели они не на пего, а на стоявшую позади него мать. — Молодцы, нечего сказать! — сурово проговорила пани Рогушева. — Дышать нечем!.. — Да, накурили, пожарных вызывать впору!.. — смиренно признался Кованда. — Не сердись, мать, — виновато сказал сапожник. — Это мы нечаянно. Увлеклись мы тут с паном стражмистром интересной беседой… — Ну что, герой, вернулся из похода?.. Проходи, садись и все выкладывай. Прежде всего, где Оленька? — Оленька дома, — ответил Гонза, усаживаясь за стол. — Сам ее проводил до квартиры и передал с рук на руки пани Ковандовой. — Спасибо тебе, Гонза! — с чувством сказал Кованда и торопливо спросил: — А про меня жена спрашивала? — Спрашивала. Я сказал, что вы у нас и тоже скоро придете домой. — Ну, что я вам говорил, пан стражмистр? Чем не деловой парень?! — воскликнул сапожник с довольным видом и снова вперил свой глаз в сына. — А как то дело? Получилось у вас что-нибудь? — Еще бы! Конечно, получилось! — не без важности ответил Гонза. Рогуш быстро обменялся с Ковандой понимающим взглядом и, тряхнув сына за плечо, вскричал: — Да ты рассказывай все по порядку и со всеми подробностями! Чего ломаешься?! — А что рассказывать-то? Тут и рассказывать нечего. Ну, разыскали мы с Оленькой Мирека и доставили его в надежное убежище. Вот и весь рассказ!.. А теперь я хочу есть и спать! — Ну и вредный же ты, ну и скрытный! Весь в отца! — восхищенно произнес сапожник. — Только от меня, брат, нелегко отделаться! Разыскали, говоришь? Так, вдвоем с Оленькой и разыскали? — А то с кем же еще? Ясно, вдвоем. Больше с нами, помнится, никто отсюда не пошел. Мама вот набивалась, да мы не взяли ее!.. — А ехидный ты, Гонза, ну прямо вылитая мать! — проговорил одноглазый. — Ладно, вылитая или нет, не приставай к мальчику! — вмешалась пани Рогушева, залетая замечанием мужа. — В самом деле, почему он тебе будет все рассказывать? Ты ведь с паном стражмистром, не в обиду ему будь сказано, все это время балясы точил, пока наши дети большое и опасное дело делали. Ну и не приставай теперь с пустыми вопросами!.. — Я не с пустыми вопросами, — серьезно возразил сапожник. — Найти человека и спрятать его от гестаповцев — это, слов нет, большое дело. Но это еще не все. Пока Мирек находится в Праге, над ним постоянно висит угроза ареста. Тебе это понятно, конспиратор ты безусый? — Понятно!.. — нехотя согласился Гонза. — Слава богу, понимать начинаешь! Ну, а коли так, то поймешь и дальнейшее. Мирека нужно сегодня же ночью или, во всяком случае, рано утром увезти из Праги. Любое дело, Гонза, нужно доводить до конца, а не бросать на половине. Ты можешь выполнить такую работу со своими загадочными помощниками (что без помощников тут не обошлось, в этом я уверен) или не можешь? Гонза немного подумал и честно признался: — Нет, отец, не могу… Точнее говоря, увезти его мы, то есть я… ну да все равно! Словом, увезти было бы можно. Не этой, конечно, а следующей ночью. Но вся штука в том, что для этого нужно место придумать, людей там подыскать… А это история долгая. Мы… то есть я тоже думал увезти его, только не сегодня и не в ближайшие дни, а этак недельки через три!.. — Ого! Прямо на глазах ты, брат Гонза, умнеешь! Совсем толково заговорил. Итак, сами вы не осилите такой задачи. А ждать три недели опасно. И для Мирека опасно, и для тебя с Оленькой, и для всех твоих таинственных помощников. Вот тут, значит, и пригодится одноглазый папаша, который только и знает, что подметки ставит да балясы точит. — Ты, отец? Гонза удивленно уставился на отца, словно впервые его увидел. Лицо парня постепенно озарялось широкой счастливой улыбкой. Он вдруг все разом понял. — Да, я, сынок, — твердо сказал Рогуш и поднялся. — Эту ночь тебе придется не спать. Спать будешь завтра. А теперь быстро ужинай и пойдем вместе доводить твое дело до конца… Давай, мать, корми своего героя! Пани Рогушева тоже смотрела на мужа с изумлением. На мгновение ей почудилось, что она видит перед собой своего прежнего Карела, молодого, непреклонного и решительного, каким он был пятнадцать лет назад, в лучшую пору своей деятельности в партии. И радостно ей было видеть такое чудесное превращение, и страшно… Не сказав ни слова, она суетливо бросилась подавать сыну на стол. Кованда попрощался со всеми за руку и отправился восвояси. В подворотне он наклонился к вышедшему проводить его сапожнику и шепотом спросил: — Обойдешься сегодня без меня, товарищ Рогуш? — Обойдусь, товарищ Кованда, — также шепотом ответил одноглазый и добавил: — Когда понадобишься, пришлю человека. Явочный девиз: “Все мы дети одной матери”. Запомнишь? — Запомню. “Все мы дети одной матери”. — Ну, ступай… Кованда еще раз от всего сердца пожал сапожнику руку и вышел на улицу. Шаги его гулко простучали по тротуару и постепенно затихли в отдалении… Через полчаса одноглазый сапожник Рогуш и его сын Гонза тоже вышли из дома и поспешно зашагали в темноту ночи…27
…Тревожная ночь миновала. Над проснувшимся городом в сизом мареве позднего зимнего рассвета зарождался новый день. Он нерешительно выплывал на еще заспанный сероватый небосвод, но уже было видно, что он обещает быть таким же голубым, солнечным, по-весеннему теплым, как и вчерашний. Воробьи в ожидании первых ласковых лучей уже возились на карнизах домов и нетерпеливо покрикивали. С седоватых от снега черепичных крыш, украшенных сталактитами ледяных сосулек, начали падать звонкие капли. Детвора с портфелями и ранцами разбегалась по школам, жуя на ходу бутерброды и не пропуская ни одной лужи без того, чтобы не проломить на ней каблуком хрупкую ледяную корку. Тысячи окон поднимали угрюмые веки затемнения, прозревали всеми своими стеклами, недоверчиво всматривались в наступающий день. Каков он будет? Какие радости или печали принесет с собой?.. В мрачном здании гестаповской “петчкарни” уже вовсю кипела работа. Сновали следователи с делами под мышкой, машинистки трещали на бесчисленных “ундервудах”, конвоиры выводили на допросы из подземных казематов бледных, измученных пленников. Майор Кребс сидел в своем кабинете и считывал два только что отпечатанных на машинке рапорта: один — об отчислении лейтенанта Вурма в действующую армию, другой — о предоставлении в его, Кребса, распоряжение обер-лейтенанта СС барона фон Вильдена. Определяя судьбы этих двух людей, посылая одного из них на верную гибель, а другого спасая от этой гибели, майор не ощущал решительно никаких эмоции. Он подписал оба рапорта с одинаковым безразличием. Но в тот момент, когда он уже поднес руку к кнопке звонка, чтобы отправить рапорты по назначению, в дверь его кабинета быстро и настойчиво постучали. Отдернув руку от звонка, Кребс строго посмотрел на дверь и крикнул: — Войдите! На пороге появился младший гестаповский чин из оперативной группы лейтенанта Вурма. Лицо его было перекошено от ужаса. Забыв о предусмотренном уставом приветствии, он до отказа вытянулся перед майором и едва выдавил из себя дрожащими губами: — Раз… разрешите доложить, герр майор! Только что у себя в кабинете застрелился начальник нашей группы лейтенант Вурм! Сотрудники… ждут ваших распоряжений… Ни один мускул не дрогнул на каменном лице Кребса. Он раздельно произнес: — Не знаете устава! Убирайтесь вон! Младший чин затрепетал и выпучил глаза. Он хотел что-то сказать, но опомнился, щелкнул каблуками и, вскинув руку, исчез без единого звука. Кребс продолжал смотреть на дверь. Известие о самоубийстве Вурма ошеломило его. Впервые за свою многолетнюю службу в гестапо он почувствовал странную неуверенность в себе. Почва под его ногами заколебалась, всегдашнее душевное равновесие нарушилось… Вурм застрелился!.. Конечно, он был трус и дурак… Но все же, почему он покончил с собой? Почему?.. Неужели из страха перед Восточным фронтом? Неужели там, за Одером, за Вислой, за Бугом, готовится страшное, неотвратимое возмездие? Неужели оно придет даже сюда, в Прагу, и настигнет его, майора Кребса? Придет? Но ведь оно и теперь уже таинственным образом доходит до Праги и неумолимо карает! Убило же оно лейтенанта Вурма!.. По спине гестаповца пополз противный холодок. Его передернуло. Он оторвал взгляд от двери и уставился на портрет Гитлера. Он боялся пошевелиться, боялся отвести глаза от портрета, словно ждал от него каких-то указаний. Но портрет молчал, и его остановившийся взгляд не выражал ничего. — Хорошо, мой фюрер, хорошо! — наконец прошептал Кребс. — У нас есть еще время. Мы еще покажем себя!.. В восемь часов Кребсу доложили о бароне фон Вильдене. Майор велел ему подождать. В девять явился в полной парадной форме чешский полицейский Бошек. Майор и его не принял. До самого полудня он просидел в полном одиночестве, тщетно пытаясь вернуть себе утраченную уверенность и прежнюю железную непреклонность. В полдень он дрожащими пальцами разорвал оба рапорта и бросил их в мусорную корзину. Обрекая трусливого барона на скорую встречу со страшным возмездием, он как бы отдалял это возмездие от себя самого. Эта мысль его немного утешила и одновременно ожесточила. Первым, он принял барона, который совершенно извелся длительным ожиданием. Не пригласив приятеля даже сесть, майор холодно заявил ему: — Обстоятельства изменились, герр барон. Я не могу воспользоваться вашими услугами! — Но ведь я слышал, герр майор, что лейтенант Вурм… — начал фон Вильден, но Кребс резко оборвал его: — Мне некогда объяснять вам причины. Я занят. Извольте выйти! Барон позеленел и, пошатываясь как пьяный, вышел из кабинета. Тогда Кребс приказал позвать полицейского Бошека. Тот бодро вбежал в кабинет и, вскинув руку, молодцевато щелкнул каблуками: — Явился по вашему приказанию, господин начальник! Кребс изучающе осмотрел его и сказал: — Вы получите у себя на службе отпуск. Это я улажу. Затем примете любое обличье и займетесь поисками Мирослава Яриша. Не только в Праге, но и на всей территории протектората. Документы вам оформят в моем оперативном отделе. Через месяц явитесь с докладом. Все. Можете идти. — Слушаюсь, господин начальник! Покончив с этими делами, Кребс вызвал конвоиров и приказал доставить к себе в кабинет арестованных Богуслава и Ярмилу Яришевых. Первый допрос родителей неуловимого мальчишки он решил провести лично.28
В тот же час холодного рассвета, когда в “петчкарне” глухо щелкнул пистолетный выстрел, оборвавший жизнь незадачливого лейтенанта Вурма, со стороны Тынской улицы на Староместскую площадь вышел тяжелый десятитонный грузовик. Кузов его был закрыт брезентом, под которым громоздились ящики с заводским клеймом “Юнкерса”. Если бы можно было опустить левый борт грузовика и потянуть за третий ящик от кабины в нижнем ряду, то оказалось бы, что он ничуть не придавлен верхней массой груза и легко выдвигается. Позади него обнаружился бы лаз в темную клетушку, искусно оставленную при укладке ящиков, а в ней, в этой клетушке, можно было бы найти живое человеческое существо, закутанное в суконные одеяла. Но про выдвигающийся ящик, про пустоту под грузом и про затаившегося пассажира не знал никто, кроме двух пожилых рабочих, которые сидели теперь в кабине грузовика- один за баранкой, другой рядом. Им было дано задание, и они добросовестно выполняли его, нисколько не интересуясь ни личностью загадочного пассажира, ни причинами, заставившими его покинуть Прагу. В их обязанности входило: 1) подготовить в кузове грузовика убежище, 2) привести машину в определенное время к такому-то дому на Тынской улице, 3) принять по такому-то паролю в кузов одного человека, 4) высадить этого человека в такой-то точке по пути следования. Вот и все. Первые три пункта они уже выполнили и теперь вели свой ревущий стосильным мотором левиафан к окраине города. На городских улицах их несколько раз останавливали полицейские патрули, усиленные двумя-тремя зловещими молодчиками в штатском. Молодчики хмуро требовали документы, заглядывали в кузов под брезент. Увидев на ящиках клеймо военного завода, они прикладывали к шляпам два пальца и пропускали машину… Но вот последнее пражское строение осталось позади. Вокруг шоссе раскинулись заснеженные поля, холмы, перелески. Грузовик взревел еще громче, рванулся вперед и помчался на предельной скорости навстречу наступающему дню… Загадочным пассажиром, укрытым под грудами ящиков, был Мирослав Яриш. Рано утром Гопза пришел разбудить его, принес ему новую теплую одежду и, еще заспанного, почти не отдохнувшего, вывел из подземного склада. Чужие неразговорчивые рабочие помогли ему забраться под ящики в кузов грузовика, где он нашел ворох суконных одеял. Лежа в кромешной темноте, он чутко прислушивался ко всем внешним звукам. Он отчетливо слышал голоса полицейских и агентов гестапо, и сердце его всякий раз начинало бешено стучать. Потом, по изменившемуся реву мотора, по рывку, с которым грузовик увеличил свою скорость, Мирек понял, что Прага осталась позади. Это сознание и обрадовало его, и наполнило грустью. Обрадовало потому, что кончились для него все опасности; опечалило потому, что в Праге остались в беспощадных лапах гестапо несчастные отец и мать, остались беззаботное детство и короткая тревожная юность, осталась Оленька… Мирек мысленно прощался с родителями, почти не веря, что когда-нибудь их снова увидит. Он клялся жестоко отомстить за них. По щекам его текли горькие слезы, а в сердце горела жгучая ненависть к палачам. Он твердо решил, что, если его друзья будут лишь оберегать его жизнь в разных безопасных убежищах, он воспротивится им, будет требовать оружия и зачисления в действующий партизанский отряд. Он должен сражаться! Он должен убивать фашистских гадин! Месть! Месть за мать, за отца, за Прагу… Мотор монотонно гудел, машина мчалась вперед, мягко покачиваясь на колдобинах. Утомленный горькими мыслями, убаюканный победным пением могучего мотора, Мирек постепенно забылся и вскоре уже спал крепким сном. Счастливого тебе пути, Мирек! Больших тебе удач в боях за свободу родины и долгой счастливой жизни после победы над всеми врагами! Будь всегда смелым, стойким, мужественным, непреклонным, таким, как твой народ, как твой родной город, который ты оставил, но который не забудет тебя!
Александр Кулешов. ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ СЛУШАЕТ
Это повесть о буднях милиции. Вернее, об одном лишь буднем дне… Автор изменил имена, сместил события, многое обобщил. Но герои этой повести — реальные люди, и почт все, что описано в ней, происходило в действительности.11 ЧАСОВ 30 МИНУТ
— Голохов, дежурный по городу, слушает! Зажав между плечом и правым ухом трубку, подполковник быстро записывает что-то в рабочий журнал, изредка задавая невидимому собеседнику короткие вопросы. Владимир смотрит на него. За десять лет, что подполковник служит дежурным по городу, сколько раз произносил он вот эту фразу — пятьдесят тысяч раз, сто тысяч? Подполковник еще молодой. Он веселый, всегда бодрый, всегда энергичный и решительный. Впрочем, здесь все такие: и неторопливый, высокий, любящий пошутить подполковник Бибин, и ясноглазый подполковник Воронцов, самый дотошный и упорный, и другие. Здесь, в этой огромной комнате, середину которой занимает многометровый стол с планом столицы, идет нелегкая работа. Десятки тысяч москвичей переезжают каждый год на новые квартиры, справляют свадьбы, нарекают именами вновь родившихся детей. Но об этом сюда не сообщают. Сюда звонят с бедой. Беды этой все меньше с каждым годом, но она есть. Если сравнить ее с радостями, она покажется совсем маленькой, и в многомиллионном, колоссальном городе ее и не заметишь, затеряется она, беда. Но здесь, куда звонят только о ней, она заполняет комнату. Бациллы чумы незаметны, сколько их на весь мир? Но когда они собраны в одной колбе… Печальная работа идет в этой комнате. Печальная и славная. Славная потому, что не только собирают здесь сообщения о горестях и несчастьях, но и борются с ними, исправляют. Возвращают людям покой и радость. И, пройдя через эту комнату, беда, как бы мало ни было ее, становится еще меньше. К людям возвращается смех, тишина, безопасность, и они вскоре забывают о прошедших тревогах. Те тревоги, горести, все грязное, все жестокое оседает в этой комнате, в сердцах и памяти этих спокойных, энергичных людей. Но сердца их не становятся от того черствее и замкнутее, наоборот, они становятся добрее хорошей, а не “добренькой” добротой и шире открываются людям. — Голохов, дежурный по городу, слушает! С тех пор как полтора часа назад Владимир пришел на дежурство, он смотрит и слушает. Вообще-то говоря, ему, назначенному в очередной наряд уголовным розыском оперативнику, положено сидеть внизу — там есть специальная комната. Но кто же прогонит его отсюда, молодого лейтенанта, впервые попавшего на дежурство? Ему здесь все интересно. В этом небольшом двухэтажном доме, что приютился за огромным зданием, которое называется “Петровка, 38”, круглые сутки не спят. Сюда протянулись провода со всех концов столицы. В небольшом кабинете за простым столом сидит дежурный по городу, в большой комнате — его заместители и помощники. Перед каждым на столике — телефон-коммутатор, журнал, ручка. В тишине то и дело раздается спокойный, негромкий голос: “Заместитель дежурного по городу слушает!”, “Помощник дежурного по городу слушает!” Короткие вопросы, а потом звонок и такие же короткие, ясные распоряжения. Где-то далеко, разрывая тишину сиреной, мчатся дежурные машины, спешат патрули, несутся мотоциклисты… Происходят в этом гигантском городе и убийства, и ограбления, и драки. Но все меньше становится преступлений, все меньше непойманных преступников. Чтобы было так, трудятся многие — тысячи, сотни тысяч, миллионы. Дружинники и милиционеры, комсомольцы и спортивные коллективы, педагоги и просто хорошие ребята — школьники, студенты. Многие… Но люди, сидящие в этой комнате, особенно ясно ощущают перемены. Ведь за десять лет легко проследить, как меняется характер преступлений, как уменьшается их число. Владимир все это знает. Ему хоть и нет двадцати пяти, но он уже многое знает. Ему в Школе милиции, па занятиях, на лекциях в заочном юридическом институте, в книгах рассказали то, что годами на собственном, печальном порой опыте познавали старшие. Вот и сейчас, разве то, что видит здесь и слышит Владимир, не школа, не занятия? Он уже многое знает, но узнает еще больше. На каждое дежурство, в помощь постоянному дежурному по городу, его заместителям и помощникам, разные отделы милиции, в том числе и уголовный розыск, где служит Владимир, выделяют сотрудников. В комнатах на первом этаже дежурят судебно-медицинский эксперт, специалист из научно-технического отдела, следователь прокуратуры, фотограф, оперативные работники, такие, как Владимир, проводники розыскных собак, просто наряд милиции. У всех дверей всегда наготове машины. Дежурить приходится не часто. Вот сколько служит Владимир, первый раз довелось. И хотя он уже опытный работник, и хотя он понимает, что каждый выезд оперативной группы — это большая беда, он все же хочет, чтобы что-то случилось и его послали, хочет действовать. Как-то неудобно сидеть вот так, сложа руки. Владимир прекрасно знает, что можно сто раз продежурить, так и просидев все двадцать четыре часа на диване. Он это знает, но все же испытывает нелепое чувство вины за то, что просто сидит и ничего не делает. А между тем у Владимира нет никаких оснований винить себя. Ему нет еще двадцати пяти, а он уже кандидат партии, заканчивает второй курс заочного юридического института, мастер спорта по борьбе самбо, лейтенант… Многие ли столького добились в его годы? Ну, а потом еще вот Таня. Есть Таня. Жена. Он женат. Владимир даже начинает ерзать на скрипучем кожаном диване, на котором он сидит. Жена! Он женат! Этот факт невероятной важности переполняет его. Во-первых, своей значительностью, во-вторых, новизной — Владимир женат два месяца! Два месяца! Все-таки Танька (виноват, Татьяна Георгиевна Анкратова) молодец! Серьезно! Не всякая девушка решится выйти замуж за милиционера. Да нет, совсем не потому, что он милиционер. В наше время только дремучие обыватели представляют себе милиционера как безграмотного городового. Милиционеры теперь с образованием, с культурой, какая тому обывателю и не снилась… Нет, просто не каждая согласится иметь мужа, который может сутками не возвращаться домой, может вскочить по телефонному звонку среди ночи и умчаться в дождливую или снежную неизвестность. Не каждая привыкнет к тому, что, когда уже нет сил ждать, в час ночи, в два может раздаться в трубку хрипловатый голос полковника: “Владимир тут ударился… споткнулся… поехал в больницу… Да нет, так, пустяки, вы не волнуйтесь, скоро привезем”. Нет, совсем не просто быть женой сотрудника уголовного розыска, для которого нет мирных дней, который всю жизнь на передовой невидимого фронта. Ведь случается, что полковник не звонит, а приезжает сам, седой, еще более суровый, чем всегда, смотрит, и по взгляду его, печальному и яростному, все становится ясно… На невидимом фронте война не прекращается никогда. Мы всегда наступаем, мы всегда побеждаем в ней, но, как всегда на фронте, мы несем потерн. И женщина, которая станет женой милиционера, должна быть мужественной. А Таня, она не выглядит мужественной, совсем наоборот, у нее такие золотые волосы, такие карие глаза, такая улыбка, все время улыбка. Как-то это не вяжется с понятием — мужество. А вообще, почему не вяжется? Где сказано, что мужественный человек должен быть черноглазым брюнетом с мрачным выражением лица? Где? Владимир внутренне улыбается — надо позвонить Тане. Она, наверное, беспокоится — все же первый раз на дежурстве и даже, если бы это было не первое дежурство. Ведь привыкнуть к беспокойству за любимого человека нельзя ни за день, ни за год, ни за целую жизнь. Владимир вспоминает их первую встречу. Она произошла в лучшем стиле героических романов. …Было поздно, часов двенадцать. Владимир возвращался с концерта. Он шел не спеша, он любил возвращаться домой по ночной Москве. Но, видимо, такая привычка была свойственна не ему одному. Впереди вот уже несколько минут раздавался стук каблучков и маячил стройный девичий силуэт. Сначала Владимир хотел отстать — еще подумает, что увязался. Потом пошел быстрее — мало ли что бывает, ночь все же, девушка одна. Кстати, почему одна? И Владимир ускорил шаги, чтобы все время держаться на одном расстоянии. В конце концов он сам увлекся этой невинной игрой. Он шел уже совсем не в направлении своего дома, шел быстро, бесшумно, легкой, упругой походкой спортсмена (“Как тигр в джунглях”, — подумал Владимир и сам себе подмигнул). И вдруг за одним из поворотов стук каблучков оборвался, замер на мгновение и с нарастающей быстротой послышался опять. Девушка показалась из-за угла и промчалась мимо него так стремительно, что ни он, ни она не успели даже разглядеть друг друга. А через секунду, дыша винным перегаром, из-за угла показались две других, совсем не изящных фигуры. — Эй, красотка, эй, слышь, стой! Стой говорят, хуже будет, слышь! Голос злой, хриплый, пьяный. Владимир был милиционер, самбист, комсомолец. А главное — он просто был настоящий советский парень, в отличие от тех двоих. Он — один, их — двое, но много преимуществ было на его стороне. Девушка, остановившаяся в отдалении и нерешительно переминавшаяся с ноги на ногу, увидела неожиданную картину: короткая возня, шарканье ног по асфальту, глухой вскрик — и вот уже трое идут, взявшись под руку, как самые лучшие друзья: неизвестный парень посередине, оба пьяных хулигана по бокам. Идут тихо. Ей не слышен их негромкий разговор. — Где ближайшее отделение? — спрашивает Владимир. — Сюда, вот сюда, ой, тише ты, сломаешь ведь руку!.. От страха и боли хулиганы тяжело дышат. Они идут тихо, послушно. Руки их зажаты в железном захвате, одно неосторожное движение, и этот парень, ростом вроде бы пониже и плечами поуже, мгновенно переломит сустав. Отделение, оказывается, недалеко. Владимир сдает дежурному сразу начавших обычное нытье хулиганов, предъявляет удостоверение. Минут пятнадцать длятся формальности. То да се. Владимир прощается с дежурным и выходит на улицу… Она стоит на другой стороне переулка и терпеливо ждет. Владимир переходит и останавливается перед ней. В тусклом свете фонаря ее карие глаза кажутся совсем черными, зато волосы еще светлей. Она доверчиво берет его под руку, и они медленно идут по пустынным переулкам. Она — стуча каблучками, он — совсем бесшумно. Они прошли минут двадцать в молчании. И только тогда она осторожно сжала его руку и сказала: — Таня. — Владимир, — так же осторожно пожав ее руку, ответил он. Оба рассмеялись. …Вот так они познакомились год назад. Таня очень гордится этим знакомством, она любит рассказывать о нем подругам, а те восхищаются, вздыхают и, наверное, тайно завидуют.12 ЧАСОВ 20 МИНУТ
— Помощник дежурного по городу подполковник Воронцов слушает. Да, да. Где? Да. Когда? Да вы не волнуйтесь, гражданка. Найдем. Найдем, говорю вам. Сколько лет? Восемь? Цвет волос? Как не знаете? Русые? Ну вот, а говорите не знаете. Сын ведь! Небось каждую родинку помните. Конечно. А глаза? Карие? Хорошее сочетание. Баловник? Нет? Давы не плачьте. Все будет хорошо. Телефон ваш? Так. Так. Позвоним. Не волнуйтесь… Подполковник Воронцов укоризненно качает головой, улыбается. Только в ясных глазах затаилась печаль. Голохов хмурит брови и бросает на него тревожный взгляд. Но подполковник уже негромко диктует по селектору: — Пропал мальчик Вова Сорокин, восемь лет, волосы русые, глаза карие, на правой щеке родинка, трусы черные, ковбойка. Потерялся у метро “Сокольники”. Повторяю… Владимир встает с дивана и спускается вниз. Надо позвонить Тане. Сегодня занятий в институте нет, и она наверняка дома. Внизу, на первом этаже, идет напряженная жизнь. Коля (иначе его никто не называет) занимается своим обычным делом — пишет письма. Коля — фотограф НТО, величайший специалист своего дела. Иногда, в очень важных случаях, его даже вызывают из дома. Но у Коли, “заядлого холостяка”, как он сам себя называет, есть одна страсть — писать письма. Коля еще не старый, ему лет сорок, у него двое детей. А жены нет. И что самое удивительное — никогда не было! Лет десять назад, во время такого же вот дежурства, а может, какой-нибудь операции, на руках у милиционеров оказалась заплаканная, чумазая девчонка лет пяти. Не было у нее родителей, не было имени. Ничего не было. Удивляться тут нечему. Милиции и не с таким еще приходится сталкиваться. Девочку собрались отправить в детдом. И тут вдруг Коля заявил, что забирает ее к себе: во время операции как-то так получилось, что он возился с девочкой, даже завез ее к себе домой. Товарищи немало удивлялись, а когда узнали, что Коля удочерил девочку, назвав ее к тому же Муза (он утверждал, что имеет в виду “музу фотографии”), удивляться перестали. Многие из тех, что участвовали тогда в операции, разъехались, повысились в чинах, иные ушли на пенсию, но и по сей день нет-нет да и присылали девочке подарки, поздравления ко дню рождения (каковым был установлен день, когда ее нашли). А Коля регулярно и часто писал им всем письма, с мельчайшими подробностями рассказывая о Музиной жизни. Муза стала теперь большой пятнадцатилетней девушкой, училась в немецкой школе и имела первый юношеский разряд по баскетболу. Колю она обожала. Он ничего от нее не стал скрывать. Когда Музе исполнилось тринадцать лет, он все без утайки ей рассказал. К его немалому удивлению, девочка отнеслась ко всему этому весьма спокойно, только привязалась к нему еще больше. А год назад Коля поразил своих сослуживцев еще раз. Он отправился с Музой в детдом и забрал оттуда семилетнего большеголового и веселого парнишку, которого тоже усыновил. Теперь мальчик ходил в школу, а Муза строго и справедливо воспитывала его. И сейчас Коля сидел за очередным письмом, где подробно, по минутам, описывал баскетбольную встречу, в которой участвовала его дочь. Судебно-медицинский эксперт, фамилии которого Владимир не знал, еще молодой, но солидный благодаря лысине и очкам, и Алексей, второй оперативник, назначенный вместе с Владимиром на дежурство, сражались в шахматы. Как узнал потом Владимир, врач недавно защитил очень интересную кандидатскую диссертацию, получил повышение, но неизменно ходил на дежурства. “Без этой работы, — утверждал он, — я бы никогда своей диссертации не написал. Буду и дальше ездить, и докторскую напишу — вот увидите!” Владимир зашел в соседнюю комнату, набрал номер и, услышав звонкий голос жены, произнес не очень оригинальную фразу: — Таня, это я… При этих словах пивший чай проводник собак Николай Филиппович встал и тихо вышел, деликатно прикрыв за собой дверь. На протяжении последующей четверти часа (а может быть, и получаса — кто считал?) Николай Филиппович несколько раз осторожно приоткрывал дверь и, грустно поглядывая на остывающий чай, со вздохом вновь прикрывал ее. Наконец Владимир вышел из комнаты, дав возможность Николаю Филипповичу допить холодный чай. Лицо Владимира свидетельствовало о том, что никаких неприятных происшествий за истекшие с момента его ухода из дому три часа не случилось. Таня любит его по-прежнему, она позавтракала, читает конспект лекций, очень скучает… Владимир прошел мимо шахматистов и поднялся в комнату дежурного. — Бибин, заместитель дежурного по городу слушает… Да. Да. Адрес? Так. Так. Ясно. Ясно, гражданин, сейчас приму меры. Владимир тихо сел на свой диван. Бибин набрал номер. — Двадцатое? Почему там у вас в овраге мусор жгут? Там же люди рядом. Как нет людей? А-а… Ну, а что, одна хибара — не люди? Нет, ты скажи, в хибаре живут люди чи не живут? Так не сегодня ведь переезжают! Нет, будь добр, чтоб жгли, где положено, мало ли что далеко возить. Может, им на улицу Горького ближе возить! А в свою хату не ближе? Нет? Вот так: пока люди живут, никакого мусора. Точка. Впрочем, конца Владимир не слышал. Он был еще под впечатлением телефонной беседы с женой. …После того памятного вечера, когда он словно средневековый рыцарь прилетел для спасения своей дамы (это было не его сравнение — Танино), они встречались почти каждый день. Владимир сказал ей, что он студент юридического института. Это, собственно, не было ложью — он действительно занимался заочно, как и большинство его молодых сослуживцев, в юридическом институте. Но именно заочно. Ему до сих пор было стыдно, что он скрыл от Тани тогда свою профессию. Он даже сам не смог бы объяснить почему. (“По молодости лет”, — объясняла Таня.) Они бродили по ночным аллеям, взявшись за руки, целовались по часу, прощаясь у ее подъезда. Много говорили о лекциях, как всегда, без конца рассказывали истории о преподавателях, немного преувеличивая, чуть-чуть придумывая. И, слушая забавные Володины истории про доцента гражданского права, прозванного студентами “гражданином быть обязан”, заливаясь безмятежным смехом, Таня, конечно, и представить себе не могла, что в тот самый день ее веселый, только уж очень ведущий себя по-мальчишески друг, рискуя жизнью, задержал крупного вора-рецидивиста, поймав его руку с бритвой в сантиметре от своих глаз. Она об этом не знает, а Владимир не думает. Когда он с Таней, он ни о чем не думает, кроме нее. Просто странно, что еще недавно он не знал ее, что каждый из них жил своей жизнью, имел неизвестные другому мысли… Владимир улыбается про себя: хорошие ребята, те двое хулиганов, без них он бы Таню не повстречал, надо их разыскать, пожать руку. В семь часов Владимир прощается с Таней — пора на тренировку. Из-за тренировок Таня вскоре и узнала о его профессии. Дело было так. Вдруг Таня стала ревновать. У очень влюбленных так бывает. Верят-верят, а потом неожиданно начинают ревновать. То ли уж очень хорошо им — надо придумать какую-нибудь заботу, то ли им становится непонятно, как это все девушки на свете не стремятся отбить ее любимого, такого замечательного, единственного, и надо отражать опасность. Словом, появляется ревность. И Таня решила посмотреть, что это за такие “тренировки”, на которые Владимир отправляется через день по вечерам. На тренировки, конечно, идти неудобно, а вот на соревнования, о которых как-то обмолвился Владимир и к которым она дотоле относилась довольно равнодушно, надо пойти. И она пошла. Припомнила, что Владимир упоминал зал “Крылья Советов”, купила билет, прошла на трибуны и стала смотреть. Это был финал первенства Москвы по борьбе самбо. Таня не очень разбиралась в этом виде спорта. Вернее, совсем не разбиралась. Но, когда она увидела, с какой силой, с какой ловкостью и быстротой борцы проводят приемы, бросают друг друга, намертво захватывают руки и ноги, она поняла, почему так легко справился в ту ночь Владимир с двумя здоровыми хулиганами. А когда сам Владимир вышел на ковер, Таня забыла обо всем на свете. С волнением следила она за схваткой, кусая губы, переживала все ее перипетии. Она хотела лишь одного: чтобы выиграл Владимир. Но Владимир проиграл. Таня шмыгала носом, суетливо и беспорядочно разыскивая и не находя в сумочке платок. Как хотела бы она прижать к груди Володину голову, утешить, успокоить его! С каким бы наслаждением она задушила того рыжего, наглого, наверняка глупого, злого и самонадеянного парня, который оказался победителем! Да и судьи тоже хороши! Вон тот лысый явно подсуживал рыжему. И этот тоже… Сам Владимир удивил ее, даже разочаровал. Он, весело улыбаясь, пожал руку сопернику, и, обнявшись, они вместе покинули зал. Вряд ли ему требовались утешения. Но все отлетело прочь, когда стали награждать победителей. На верхнюю ступеньку трехместного пьедестальчика поднялся рыжий, на второй стал Владимир, а на третьей пристроился невысокий крепыш. Кто-то в белом костюме подошел к пьедестальчику, вручил призерам жетоны, дипломы, пожал руки. А тем временем судья-информатор представлял победителей. Рыжий парень, новый чемпион Москвы, оказался мастером спорта, динамовцем, лейтенантом милиции Николаем Ветровым. “Сразу видно — милиционер, — с неприязнью подумала Таня. — Как он грубо боролся, жестоко. Неудивительно, что Володя ему проиграл. Володя совсем другой, он…” Мысли ее прервал сухой голос судьи-информатора: — Жетоном и дипломом второй степени награждается занявший второе место мастер спорта Владимир Анкратов. Он также представитель общества “Динамо”, лейтенант милиции. Третье место завоевал… Но Таня ничего не слышала. Пораженная, сидела она на трибуне. Володя! Володя — милиционер! Лейтенант! Ее Володя — лейтенант милиции! Таня вскочила. Скорей к нему! Она задыхалась, торопясь к раздевалкам спортсменов. Он! С ней всегда веселый, всегда беззаботный, ходит, гуляет, смеется, а его на каждом шагу ждут бандиты, подстерегают опасности, о которых он ей никогда не говорит! И этот рыжий Ветров, наверное, чудесный парень, такой же смельчак, как и Владимир, они вместе борются с преступниками, плечом к плечу! Как могло ей показаться, что он грубый, наглый… Словом, все стало с головы на ноги, и одного только сейчас хотелось Тане — поскорей увидеть Владимира. Но в раздевалку ее не пустили. — Вы куда? — сухо спросила дежурная. — К Анкратову… — А вы кто? Сестра? — Нет, я… не сестра… я, собственно, так, знакомая. — Таня покраснела и замолчала. Дежурная окинула ее снисходительным взглядом и значительно промолвила: — Ах знакомая! Знакомых, милочка, у такого парня знаешь сколько? Вот то-то. Нет, посторонним нельзя, нельзя посторонним. Таня убежала, глотая слезы. Посторонняя, это она посторонняя! И, дождавшись Владимира у выхода, она, к великому его смущению и радости друга Кольки, бросилась Володе на шею и громко, совсем по-детски расплакалась. Владимир долго утешал ее, обещая следующий раз выиграть, но она только мотала головой, пока он наконец понял, что дело не в упущенной победе. А в чем? Этого он тогда понять так и не смог. Он тогда не смог еще понять того, что уже ясно поняла Таня: посторонними они никогда не будут, наоборот… Мысли Володи прервал негромкий голос Голохова: — Дежурный по городу слушает…14 ЧАСОВ
— Да. Ну и что? — продолжал подполковник. Затем он стал молча кивать головой, отложив в сторону ручку, которую сразу же взял, как только раздался звонок. — Знаете что, гражданин, вы пойдите прогуляйтесь. Да, да, прогуляйтесь до ближайшего милиционера и обратно, и опять нам позвоните. А мы к тому времени узнаем адрес вашего брата. Договорились? Ну и чудесно. Подполковник Голохов положил трубку и усмехнулся. — Кто только не звонит! — сказал он, отвечая па вопрошающий взгляд Владимира. — Человек выпил, зашел в автомат, чтобы позвонить брату, — адрес его он забыл. Монеты нет. А к дежурному набрал 02, и все. Легче всего. Вот он и требует, чтобы мы ему сообщили адрес брата. Ну, этот еще ничего — сказал, что согласен, пойдет до ближайшего милиционера. А то такие бывают… — А вы расскажите, товарищ подполковник! — Глаза Владимира заблестели. Несколько минут Голохов молча улыбался, устремив взгляд в одну точку, припоминая, наверное, разные забавные случаи из опыта своих бессчетных дежурств. — Вот, например, был такой Овечкин. Когда он первый раз позвонил, мы тут чуть тревогу не подняли. Звонит человек, вроде бы трезвый, голос солидный и докладывает: “Товарищ дежурный, только что па Казанском вокзале задержал разбойную группу из трех человек. Всех уничтожил! Какие будут распоряжения?” Я тогда еще не очень опытным был, помню, кричу в трубку: “Как уничтожил, где?” Ну, а потом мы к нему привыкли, жена у нас его побывала, зашла, все объяснила. Тихий такой человек, добрый. На пенсии. Но вот такая закавыка у него. Жена его обедать зовет, а он нет: “Сейчас, Маша, говорит, только выполню задание и приду”. Идет во двор, погуляет с собачкой, и к телефону: “Товарищ дежурный, выловил крупную бандитскую шайку! Какие распоряжения?” Мы ему теперь говорим, серьезно так: “Спасибо, товарищ Овечкин, можете отдыхать!” — “Есть отдыхать!” — отвечает. Однажды дежурил тут у нас новенький, звонит Овечкин. Тот решил, что его разыгрывают, и говорит: “Вы, товарищ Овечкин, поезжайте в Серпухов, там ловят шайку, без вас не обойтись”. А вечером нам звонок из Серпухова: “Вы присылали гражданина Овечкина? Он приехал руководить поимкой какой-то шайки. Ничего не понимаем”. Да, вот какие бывают случаи. Голохов помолчал. — Или старушка звонит, говорит: “У меня на карнизе пятого этажа кошка мяучит, спать не дает, пришлите снять”. Мы ей говорим: “А почему вы пожарных не вызовете?” — “Пожарные ее водой зальют, говорит, мне ее жалко”. А то еще так однажды было… Звонок прервал рассказ подполковника. — Да, — говорил он через секунду, записывая что-то в книгу. Взгляд его из веселого сразу стал жестким и сосредоточенным. — Да. Адрес? Ясно. Выезжаем. Положив трубку и посмотрев на часы, подполковник нажал рычажки селектора и коротко скомандовал: — Врач, фотограф, эксперт, Николаев на выезд. Самоубийство. Адрес… И Голохов продиктовал адрес невидимому шоферу. Через минуту за окном раздался шум мотора, и машина, шурша по асфальту, выехала за ворота. Голохов посмотрел на Владимира и, словно заканчивая прерванный разговор, тихо сказал: — Так что разные бывают случаи… Теперь глаза его были печальны и задумчивы. Владимир встал и, стараясь не шуметь, вышел в большую комнату. Там раздавался сердитый голос подполковника Воронцова. — А вы еще раз проверьте, еще раз. Да что вы меня учите — “на вокзалах”! Вокзалы давно проверены. Я вам сказал: прочешите лес. Он же у Сокольников потерялся. Что значит “смотрели”? Еще раз посмотрите, ведь не клад ищем — мальчика! Ясно? Мать уж сколько времени беспокоится. Вот так! И доложите! А через минуту тот же голос звучал тепло и мягко: — …нет еще, но не беспокойтесь. Все будет в порядке. Найдем. Вот я вам и звоню, чтобы вы не волновались. Нет. Нет. Найдем вашего Вовку… В углу у окна подполковник Бибни глухо ворчал в трубку: — Надо проверить. Он второй раз звонил, тот гражданин, — неизвестную машину, грит, разувают, без номера. Чего-то клепают. Надо проверить. Он, грит, у них в переулке нет такой машины. Проверьте, только быстренько, и мне сюда звоночек. Точка. Владимир вновь спустился вниз. Дежурство его явно не удовлетворяло — ну чего он бродит как неприкаянная душа, то наверх, то вниз! Интересно, конечно, послушать рассказы, но хочется самому участвовать. Эдакое серьезное дело! Чтоб можно было руки размять, да и мозги тоже. Если б знал Владимир, как скоро и как трагически осуществится его желание!.. Внизу врача не было, он “уехал на самоубийство”. Фотографирование взялся сделать сопровождающий его эксперт НТО, а Коля заканчивал письмо. Он уже описал все подробности и даже счет по таймам баскетбольного матча, где так здорово выступила его Муза, принеся своей команде десять очков. Теперь он испытывал потребность изложить все это в живом рассказе. Минут двадцать он с азартом, которому мог бы позавидовать и Николай Озеров, повествовал Владимиру о ходе матча. Потом вдруг, сам себя перебив на полуслове, сказал: — Ты знаешь, я так рад, так рад, что она спортом занимается! Ведь не болеет, ни разу школу не пропустила. Утром водой холодной обливается, аж мне морозно. А я вот, — продолжал он грустно, — не могу. Видишь, живот уже, в спине стреляет, горечь во рту по утрам. Помолчав, Коля спросил: — Ты вот, Анкратов, спортсмен, ну, я хочу сказать, мастер спорта и все такое. Как ты думаешь, может, мне тоже заняться или поздно? А? Как вот ты начинал? Расскажи. Почему ты начал? — Потому что по шее надавали! — ответил Владимир и, глядя в изумленное лицо Коли, рассмеялся. — Ладно. Расскажу. Я тогда еще в школе учился. Был у меня друг Колька Ветров, по прозвищу Рыжий. Однажды назначили нас на школьном вечере дежурными — следить за порядком… Владимир, словно это было вчера, помнит тот вечер. Они встали с Рыжим у дверей, важно и придирчиво проверяя билеты. Уже кончилась торжественная часть, концерт самодеятельности, начались танцы. Всюду — и в зале наверху, и в коридорах, и даже здесь внизу, в вестибюле. Нарядные девочки, мальчишки, аккуратно причесанные и на этот раз без чернильных пятен, кружились в вальсе. И вдруг наружные двери с грохотом распахнулись, и человек пять ребят ввалилось в вестибюль. Здесь был Ванька-длинный, исключенный в прошлом году из школы, его неизменный друг Ленька-короткий и другая окрестная шпана. Владимир и Коля пытались загородить им дорогу, но были отброшены в сторону. — А ну, брысь! — рявкнул Ванька-длинный. Владимир мужественно вступил в борьбу. Он схватил Ваньку за рукав и потащил. Но сильный удар по затылку заставил его разжать пальцы. Не успел он обернуться, как Ванька-длинный схватил его за волосы, сделал подножку, и Владимир растянулся на полу в смешной и нелепой позе. Не боль от удара, а именно эта глупая поза, унижение, которому он подвергся на глазах у всех, исторгли из Володиных глаз слезы. С хулиганами справились быстро. Подбежали комсомольцы-старшеклассники и без особой деликатности вытолкали Ваньку-длинного с его компанией за дверь. Когда угроза миновала и девочки, до этого пугливо попискивавшие в углу, осмелели, они стали хихикать, подталкивать друг друга и показывать на Владимира. Не помня себя от стыда, он убежал домой. На следующий день в сарае за домом они с Рыжим поклялись торжественной клятвой, что изучат японские тайные приемы джиу-джитсу и всегда будут стоять друг за друга. “Твоя обида — моя обида! Моя обида — твоя обида!” — торжественно провозгласил Коля. Его рыжие волосы пылали, как костер, и даже веснушки, сплошь покрывавшие лицо, стали не так заметны. Оставалось немногое — достать “книжку с приемами”. Книжку достали. Дорогой ценой — отдали за нее новый футбольный мяч. Пыхтя и сопя, то и дело крича друг на друга, разучивали за сараем приемы. Но получалось плохо. Прием оказывался эффективным лишь тогда, когда противник стоял неподвижно, как колода. Стоило ему начать сопротивляться — и ничего не удавалось. Словом, вряд ли что-либо путное вышло из этой затеи, если бы однажды, когда Володя и Рыжий старательно топтались во дворе, изучая новые приемы “ива-наме” и “юки-оре”, что значило “скала, смытая волнами” и “сломанная снегом ветка”, к ним не подошел крепкий мужчина в коричневом костюме и свитере. Некоторое время он критически наблюдал за раскрасневшимися друзьями, а потом сказал: — Вот что, самураи, хотите заниматься самбо? Ребята, конечно, знали, что такое самбо, но не очень ясно. Они стояли в нерешительности. Мужчина в свитере взял истрепанную книжку, перелистал и, пренебрежительно махнув рукой, вернул ее Рыжему. — Только время тратите на ерунду. Будете хорошими самбистами, любого дзюдоиста разложите. Так как? Мгновенного успеха не ждите, но к концу школы будете разрядниками. Вы в каком классе? Володя и Рыжий переглянулись. Через два дня они неуверенно вошли в зал с косым потолком под Восточной трибуной стадиона “Динамо” и встали в шеренгу таких же, как они, юных борцов. Впрочем, и Володя и Коля (на занятиях от прозвища “Рыжий” пришлось отказаться) еще много сотен раз входили в этот зал, раньше чем стали настоящими борцами. Но тренер Михаил Андреевич Владенов не обманул: через несколько дней, после того как они получили аттестат зрелости, им вручили и маленькую голубую книжечку — теперь они стали разрядниками! Итак, аттестат зрелости был на руках. Куда идти? Как и все их сверстники, пока они учились в школе, Володя и Коля переменили добрую сотню будущих специальностей. И, как иногда бывает, путь, по которому они пошли, оказался совершенно неожиданным. Однажды Михаил Андреевич после тренировки предложил: — Вот что, не хотите посмотреть Школу милиции? Там, правда, Дня открытых дверей не проводится, но я это дело устрою. Владенов, заслуженный тренер СССР, тренировал и курсантов Московской специальной средней школы милиции. Он был там своим человеком. Разумеется, друзья согласились. Они, конечно, не собирались стать милиционерами, но ведь интересно посмотреть. Однако милиционерами они стали. Когда они входили в двери окруженного зеленью четырехэтажного светлого здания, то ожидали увидеть тир, зал для занятий самбо, плац для строевой подготовки. А увидели они совсем другое. Здесь были интереснейшие лаборатории, здесь занимались фото- и автоделом, изучали следы и отпечатки пальцев, вещественные доказательства и оружие. Здесь было много увлекательнейших дисциплин. И оказалось, что милиционеры — это и ученые, и бухгалтеры, и шоферы, и спортсмены, и стрелки, и следопыты, и специалисты еще многих дел. Разинув рты, очарованные, ходили они по классам и залам, где занятия вели кандидаты наук, старшие офицеры — люди, больше похожие на академиков, чем на милиционеров, какими их представляли себе оба друга. И с осени курсанты Анкратов и Ветров заняли свои места в учебных классах Школы милиции. Борьбе самбо здесь уделялось много времени. И наступил день, когда Владимир и Николай (разумеется, в один день — иначе они не могли) привинтили к кителям новенькие, сверкающие серебряным блеском значки мастера спорта СССР. — …Вот так, — закончил Владимир свой рассказ, — вот так и начал заниматься спортом.15 ЧАСОВ 55 МИНУТ
В это время открылась дверь и вошли сотрудники, выезжавшие “на самоубийство”. Старший ушел докладывать дежурному, а врач, сняв очки и тщательно протирая их замшей, рассуждал: — Всех могу понять: вора, убийцу, жулика (понять — не оправдать) — самоубийцу понять не могу. Конечно, когда ты в бою, ранен, окружен врагами и последний патрон себе… Когда закрываешь амбразуру дота, совершаешь подвиг… Но вот так, в мирное время, здоровый парень, студент-отличник, у которого все хорошо, есть мама, папа, даже пианино… И вдруг набрать барбамила и выпить, словно какая-нибудь истеричка! Не понимаю! И из-за чего вы думаете? Из-за несчастной любви… Врач смешно вытянул губы трубочкой, закатил глаза и произнес последние слова в нос. Снова воздев очки, он продолжал: — Студенты оба. Он — лирик, она — “физик”, точнее, эпикуреец. Он больше любит бродить по ночной Москве, стихи читать, о любви говорить; она — больше рестораны, танцы, вечеринки. В общем-то плане, так сказать человеческом, он парень стоящий, она — пустышка. Годы тянули; иногда она стихи слушает — зевает, а большей частью ему приходилось тащиться в рестораны да еще ревновать, когда она с другими танцует, — сам-то он в этом деле не великий мастер. В конце концов обоим надоело: ей — скучать с ним, и она бросила его ради какого-то пижона; ему, видите ли, — жить! Накопил барбамила, написал в лучшем стиле Надсона письмо на двенадцати страницах и проглотил дюжину таблеток. Еле откачали. Я бы лично за такие поступки публично порол розгами! — закончил врач свой рассказ. — Мне кажется, — сказал Владимир, — что у нас в стране самоубийством могут кончать только люди, которых случайно просмотрели врачи-психиатры. — А еще ничтожества, — заметил врач, снова протирая очки, — жалкие дураки, истеричные мамзели. Нет, вы как хотите, а у меня самоубийцы вызывают презрение, я бы даже сказал — отвращение, а уже никак не жалость, более того — восхищение. Трусы! Слюнтяи! Лицемеры! Раздался звонок. Звонил Николаи. — Ну, как дежурится?.. — гремел в трубке Колькин бас. — Я слышал, вчера на вокзалах нельзя было достать билетов — весь преступный мир бежал из столицы: знали — Анкратов выходит на дежурство! Николай громко хохотал над своей же шуткой и, не давая Владимиру вставить слово, продолжал болтать: — Но уцелел самый грозный, самый страшный, и, поскольку он не испугался даже Анкратова, ловить его выезжает сам Николай Ветров! Володька, еду на операцию — проверка домовых кухонь, едем заметать “Повара”! Так сказать, к театральному разъезду. Его кулинарное сиятельство изволит сегодня слушать “Пиковую даму”, думает переквалифицироваться в шулера… У Николая наконец не хватило дыхания, и он замолчал. — Нет, с тобой не утонешь! — закричал Владимир в трубку. — Ты и в воде никому рта не дашь раскрыть! Так правда, что нового? — Нового — бесконечность! — гудел Николай на другом конце провода. — Газеты прислали из Женевы фото — наша команда в момент объявления победы и подпись: “Советские дзюдоисты — чемпионы Европы; слева направо: капитан команды Ветров, Арканатов… — Как — Арканатов? — Вот так, — хохотал Николай, — перепутали, не Анкратов, а Арканатов написали. Ну ладно, еще позвоню, а то я из автомата, тут девушка торопит — ей, наверное, “ему” позвонить надо. И не забудь — завтра к нам с Таней и пирогом. Нина ждет… Владимир огорчился. Вечно путают газеты. Ребята на смех поднимут, скажут: “Чего врал, что чемпион? Арканатов — чемпион”. Но огорчение длилось недолго — все же здорово быть чемпионом Европы! И не в тяжелой атлетике там или борьбе, где мы к этому привыкли, а именно в дзюу-до, которой занималась-то наша команда совсем недавно. И Николай тоже чемпион! Тренер Михаил Андреевич часто притворно удивлялся. — Поразительно! — говорил он. — Опять вместе. Что Европа, что первенство страны — всегда рядом! В прошлом году — Ветров первый, Анкратов второй, в этом году — Анкратов первый, Ветров второй. У вас как, наперед расписано? Вот друзья! Действительно, нелегко было найти еще такую дружбу. Вместе в школе, вместе в Школе милиции, вместе в заочном юридическом, вместе с секции самбо. В один день вручили им комсомольские билеты, в один день кандидатские карточки. И даже женитьба Владимира не нарушила этой дружбы. Правда, к девушкам они относились по-разному. Владимир встретил Таню, женился и нашел свое счастье. Николай, на первый взгляд, был куда легкомысленнее. Его огненная шевелюра, веселый нрав, густой бас и неиссякаемая любовь к жизни привлекали к нему девушек. Он был великим охотником до разных, как он выражался, “массовых мероприятий” — загородных пикников, домашних вечеров, коллективных походов в театры, кино, на стадионы. Правда, была у него черта, немало раздражавшая его подруг: Николай слово “массовые” понимал буквально. В “мероприятие” он вовлекал человек по десять. Иногда единственным представителем сильного пола бывал он сам. Но это его не смущало — веселья, острот у него хватало на всех своих, ревниво посматривавших друг на друга приятельниц. — Понимаешь, — говорил он Владимиру, — богатство моей натуры настолько велико, а сердце столь любвеобильно, что я просто не считаю себя вправе одаривать какую-нибудь одну королеву! Это значило бы обижать лучшую половину человечества. А этого я допустить не могу. И он радостно смеялся, гулко и басовито. В действительности, ему просто никто не нравился. А может, причина крылась в другом. В том, о чем не знал никто, кроме Владимира. У Николая была сестра. Только она и больше никого на свете. Были у него когда-то отец, мать, старший брат; был дом. Во время войны хоть и летали еженощно над Москвой немецкие самолеты, разрушений в столице было мало. Не среди немногих словно срезанных бритвой домов оказался тот, в котором жили Ветровы. Небольшой, деревянный, в зеленом дворе на окраине, он взлетел в небо, рассыпавшись словно яркий фейерверк, исчертив осеннюю ночь огненными искрами. Рассыпался и похоронил под черными головешками всю Николаеву семью, рано окончившееся детство. Николаю не было пяти лет, сестренке Нине — четырех. В ту ночь Коля ночевал у тетки: та, бездетная, незамужняя, частенько брала его к себе. Нину, обожженную, с изувеченными ножонками, нашли спасатели в десяти метрах от дома, куда ее, наверное, отбросила взрывная волна. Нина не кричала, не плакала, она лежала молча, устремив неподвижный взгляд в багровое небо. Было непонятно, как уцелела девочка, но еще непонятнее, как выжила она после ампутации обеих ног. Детей взяла к себе тетка. Тетка умерла, когда Николай кончил школу. Ветровы остались вдвоем: брат и сестра-калека. Она не только потеряла ноги, что-то еще случилось с позвоночником. Словом, ни о каких протезах, даже о костылях, не могло быть и речи. Утром Николай поднимал сестру с постели, переносил в кресло. И там она сидела до вечера, читая, слушая радио, глядя в окно на уходящие вдаль постройки, строительные леса, подъемные краны (им дали комнату на седьмом этаже нового дома в Юго-Западном районе). Соседка-пенсионерка (в квартире было всего две комнаты), женщина столь же ворчливая, сколь и добрая, кормила Нину обедом, а то и ужином. Деньги на хозяйство брала, а за услуги категорически отказалась, как следует отчитав Николая, когда он предложил ей это. — Привык со своими бандюгами! А люди людьми должны быть, а не зверьем… Николаю нечего было возразить на эту истину. Едва начав зарабатывать деньги, Николай, ценой жестокой экономии на своей (не на Нининой, разумеется) еде и вещах, купил телевизор. Теперь Нине было не. так скучно, когда брат был занят вечерами на службе. Вот на сестру и изливал Николай всю свою нежность. На других девушек, неверное, уже не хватало. Для них оставались смех, остроты, всегда бодрое настроение, веселое ухаживание, редкий поцелуй. Из друзей только Владимир бывал у Николая. И всегда поражался его отношению к сестре. Нина почти всегда молчала, никогда не смеялась, лишь изредка ее бледные губы раздвигала улыбка. Николай старался развлечь ее, с увлечением и юмором повествовал о своих делах. Если послушать, его служба в уголовном розыске — сплошное развлечение и отдых. Все преступники были дураками и трусами, неизменно оказываясь в глупом положении; милиционеров они боялись как огня и чуть что подымали руки вверх; а все операции проходили под сплошной смех и в рассказах Николая превращались в эдакие веселые экскурсии. Но Нину трудно было обмануть. Обостренным чутьем осужденного на пожизненную неподвижность человека она о многом догадывалась. Владимир не мог забыть, как однажды, когда он зашел перед операцией к другу и тот зачем-то вышел на кухню, Нина шепнула: — Береги его, Володя, прошу тебя, береги! Если с ним что-нибудь случится, я умру! Слышишь? Владимира поразили тоска и отчаяние, прозвучавшие в словах всегда такой спокойной Нины. С тех пор он невольно чувствовал какую-то ответственность за Николая. Это было глупо, потому что Николай ни в чьей защите не нуждался — он был молодым, веселым, сильным, полным жизни. Да и вообще во время операций его назначали старшим, и Владимир обычно попадал к нему в подчинение. Был случай, когда Николай спас другу жизнь. Оба они служили в отделе, занимавшемся среди прочих дел и борьбой с карманными ворами. Однажды их вызвали в суд как свидетелей по делу одного из пойманных ими карманников. (Есть такой нелепый порядок, что милиционеры, задержавшие карманника, вызываются по его делу как свидетели.) Тот карманник был не простой. Это был опасный преступник, убийца, по прозвищу “Повар”, отбывший срок наказания и вернувшийся домой. Потребовались деньги, и он отправился “заколотить кусочек” в троллейбус. Но то ли утратилась квалификация за долгие годы тюрьмы, то ли не повезло (в троллейбусе случайно ехали Ветров и Анкратов), но преступника задержали. Суд еще продолжался, когда Владимир и Николай, закончив свои показания, покинули зал, с папками в руках торопясь на занятия. Неожиданно их окружила группа хулиганов — дружков “Повара”, человек пять или шесть. — Гады! Вам больше всех надо! Да? Довольны? Довольны? Хулиганы наступали, и неожиданно один из них, здоровый детина, видимо имевший когда-то представление о боксе, изо всех сил ударил Николая в челюсть. Николай упал. В то же мгновение хулиган почувствовал, как ноги его отрываются от земли и сам он летит через голову на асфальт. Не обращая внимания на безжизненно распростертого противника, Владимир наклонился над другом. Ошеломленный, Николай уже пришел в себя и даже приподнялся на локте. Вдруг глаза его сузились, резким движением он дернул Владимира в сторону, одновременно сильно выбросив вперед ногу. Раздался вскрик, ругательство и звон выпавшего из руки нападавшего ножа. Опоздай Николай на секунду — и нож оказался бы у Владимира между лопатками. Дальнейшее заняло меньше минуты. Трое хулиганов убежали со скоростью, которой позавидовал бы и мировой рекордсмен, двое были доставлены в ближайшее отделение. А друзья торопились на занятия, обмениваясь шутками. — Ну, ты хорош, — смеялся Владимир, — от комариного щелчка и с ног долой. Парню-то лет десять, не больше, а может, и все семь… — А ты тоже, — презрительно усмехался Николай. — Да это я занимал исходную позицию, чтоб его ногой двинуть. Я же знал, что без меня тебя любой младенец пристукнет… Они весело смеялись, а потом огорчились — выяснилось, что опаздывают на занятия. Вот это была забота! А та драка, нож, хулиганы… Ну что ж, это уж неизбежные “неудобства” профессии. Если о них думать, на другое времени не хватит…20 ЧАСОВ
Владимир сходил в столовую, пообедал и одновременно поужинал, позвонил и доложил об этом Тане, которая подробно рассказала ему обо всех делах, переделанных ею за истекшее после очередного телефонного разговора время, и поднялся на второй этаж. Он застал подполковника Воронцова, который настойчиво втолковывал кому-то по телефону: — Вы что — дальтоник? Я же вам сказал — черные трусы. Чер-ны-е, а не бежевые! И потом: тот лесок вы так и не проверили? Нет? А там ямы песочные, мог упасть. Ну вот что — выезжаю сам. Ждите у леска. Он сердито опустил трубку на рычаг и вышел. В маленькой комнате раздавался, как всегда, негромкий, голос подполковника Голохова: — …Гражданин жалуется, что котлеты недоброкачественные. Что значит — не отвечаем? Мы, дорогой, за все отвечаем, ясно? За все в городе! Да! И за продукцию этой фабрики-кухни тоже. Пошлите кого-нибудь из ОБХСС, пусть проверят. Не успел он повесить трубку, как раздался говорок Бибина: — Заместитель дежурного по городу слушает. Да. Да. Чья машина? Ага. Ясно. Свою же машину и разувает? К техосмотру готовится? Добре. Добре. Пускай крепко готовится — ГАИ шутить не любит! Ничего. Ничего. Наше дело проверить. Гражданин бдительность проявил, а мы проверили. Точка. Бибин встал, потянулся. В большую комнату вышел подполковник Голохов. Дежурные знали: скоро “передых” кончится, начнется вечер, ночь, а с ними и возможные происшествия. Это днем — тухлые котлеты, мусор, пьяные. Вечером происходили дела посерьезней. — Ну-ка, Анкратов, — Голохов повернулся к Владимиру, — расскажите-ка ваше знаменитое дело с врачом. Это когда, на той неделе было? Уезжал я на два дня — не знаю подробностей. — Да ничего особенного, товарищ подполковник, дело как дело… — Ну-ну, не скромничайте. Не случайно же вам благодарность по Управлению объявили. Давайте докладывайте. — Это в сто седьмом автобусе было, — начал Владимир, — между “Украиной” и мостом. Знаете? Мы там нащупали компанию. Раз проехали — зря, два — зря. В общем, во вторник накрыли… В тот день на задержание шайки карманников направилась оперативная группа уголовного розыска в составе трех человек во главе с лейтенантом Анкратовым. Благодаря счастливой случайности шайку обнаружили сразу: подходя к остановке автобуса, Владимир услышал одну—две фразы, произнесенные на воровском жаргоне. Этого было достаточно. Шайка, вот она, вот эти четверо немолодых, хорошо, даже элегантно одетых мужчин, в велюровых шляпах и дорогих галстуках. Настоящие карманники — это не мальчишки с нахальными взглядами и неловкими руками, таких берут за шиворот и, хнычущих, отводят в отделение. Нет, истинный представитель этой древней, ныне почти вымершей воровской профессии — человек немолодой, солидный. При виде такого подозрение падет на кого хочешь, только не на него. “Работает” он не один, а с ассистентами, которые намечают жертву, ощупывают карманы, а затем, толкаясь, извиняясь, нажимая, прося передать билет и т. д., поворачивают жертву так, чтобы “главный” мог начать свою молниеносную и незаметную работу. И, если все проходит гладко, “главный” в течение нескольких секунд расстегивает самые сложные застежки, самые обтягивающие пиджаки и пальто, вырезает специально оборудованными бритвой или ножницами карман и вынимает добычу. Он сразу же передает ее одному из своих ассистентов, а тот старается как можно скорее покинуть место кражи. Важно — передать бумажник, деньги, тогда “главному” нечего бояться: не пойман, как говорится, — не вор. При малейшей опасности карманники роняют добычу и бритвы под ноги, и тогда доказать их вину становится практически невозможно. И шайка, и оперативная группа аккуратно стали в очередь, и вскоре на задней площадке сто седьмого автобуса, покинувшего остановку “Гостиница “Украина”, оказались среди других пассажиров, тесно прижатых друг к другу, восемь человек: четверо воров, трое милиционеров (разумеется, в штатском) и будущая жертва- приезжий туркмен в очках, как потом выяснилось, врач. Очень быстро воры определили, что во внутреннем боковом кармане врача лежит толстая пачка денег. Толкаясь, они повернули его поудобнее к “главному”, заставив взяться левой рукой за поручни и открыть тем самым левый бок. Всего несколько секунд понадобилось интеллигентному человеку лет пятидесяти, с лицом профессора, чтобы расстегнуть на туркмене плащ и пиджак, вскрыть карман, вынуть деньги и передать их стоявшему рядом ассистенту. Все шло как по маслу, словно хорошо отрепетированный номер. Но в самое последнее мгновение номер не удался… Ассистент, уже готовившийся спрятать деньги в свой карман, почувствовал, как сильная, ловкая рука внезапно зажала его собственную руку, в которой он держал деньги, и завела ее ему за спину. Захват был крепкий, но, если так можно выразиться, “вежливый”. Вору не было больно, пока он не оказывал сопротивления. Однако он понимал, что при малейшем движении кисть будет сломана. Пока Владимир держал ассистента с зажатым в его руке вещественным доказательством, двое других сотрудников схватили “главного”. Но они хоть и разбирались в самбо, однако мастерами не были. К тому же пожилой “профессор” оказался наделенным огромной силой и более чем стокилограммовым весом. Оставшиеся ассистенты, как им и полагалось в таких случаях, вели себя, как остальные пассажиры, и никакой помощи своим не оказывали. Справиться с “главным” помощникам Анкратова не удавалось. Пришлось ему, отпустив ассистента, применить прием, который сразу успокоил силача. Но зато ассистент тут же выбросил деньги на пол. Ошеломленный всем происходящим, ничего не понимающий приезжий вежливо подобрал деньги и пытался их вручить всеми силами отбивавшемуся от них карманнику. — Вы уронили, — приветливо улыбаясь, втолковывал туркмен. — Ничего я не ронял! Это не мои! Не мои! — кричал в ярости ассистент. — Ваши, — убеждал туркмен, — сейчас подобрал. Бери… Автобус остановился, и дверь открылась. Первыми из машины выскочили двое ассистентов. Их никто не задерживал — все равно против них не было улик. Затем на тротуар вывалился Владимир. Одной рукой он железным захватом держал “главного”, другой тащил за рукав отчаянно отбивавшегося туркмена. Напуганный всем происходившим, видимо плохо понимавший русский язык, он кричал: “Я не брал, ничего не брал, я доктор!” — и потрясал пачкой каких-то командировочных удостоверений и книжечек. Сколько Владимир ни пытался ему втолковать, что обокрали его самого, он ничего не хотел слышать. Двое других милиционеров, освобожденные Владимиром от заботы о “главном”, схватили оставшегося ассистента. Подъехала оперативная “Волга”. Ассистента и врача усадили в нее, с ними сели помощники Владимира, и машина помчалась в милицию. Автобус, пассажиры которого, жужжа словно пчелы, взволнованно обсуждали происшествие, покатил дальше по своему маршруту. А на тротуаре остались “главный”, Владимир и подъехавший на мотоцикле с коляской милиционер. Усадить в коляску вора оказалось делом не легким. Несколько раз он пытался сильно ударить Владимира ногой в живот, и лишь быстрота реакции, приобретенная в занятиях спортом, помогала Владимиру вовремя избежать удара. В какое-то мгновение преступник освободил руку и, выставив вперед огромные пальцы, хотел нанести Владимиру удар в глаза. Молниеносным движением тот успел увернуться. Принимавший участие в усмирении карманника мотоциклист не выдержал: — Да что, право, он ведь убьет! Надави ты ему руку, чтоб знал, черт! Владимир только усмехнулся: — Ишь ты какой! В конце концов вора посадили в коляску и доставили в отделение… — Вот тут-то самое смешное и произошло, товарищ подполковник, — закончил свой рассказ внимательно слушавшему Голохову Владимир, — когда врачу показали надрезанный карман и вернули деньги. Он только тогда понял, что обворовали-то его (а то все кричал, шумел), и как кинулся на задержанного, еле оттащили, задушить хотел! Владимир смеялся. Он не помнил о вооруженных бритвами ворах, о могучем преступнике, пытавшемся искалечить его. Он помнил о смешном эпизоде и, вспоминая, смеялся. Смеялись и дежурные. Они были милиционерами, и рисковать жизнью было частью их профессии. — Ну, а как потерпевший? — спросил Голохов. — Благодарил, товарищ подполковник, — Владимир продолжал улыбаться, — благодарил. Адрес просил, хотел каракуль прислать. Я говорю: “Не надо, рано, вот буду полковником,тогда присылайте на папаху”. — И комнату дежурного вновь огласил веселый смех. В это время быстрым шагом вошел подполковник Воронцов. Сапоги его были в глине, к фуражке прилепились древесные листья. Он прошел к телефону, заглянул в журнал и набрал номер. — Гражданка Сорокина? Помощник дежурного по городу. Нашли вашего Вову, повезли к вам, сейчас приедет. Да что вы плачете! Радоваться надо, а не плакать. В парке, как я говорил. Пошел парень погулять — воздухом, знаете ли, подышать, и в яму провалился. Напугался, сам никак не вылезет. Все. Все. Только, чур, не наказывать! Обещаете? Нет, вы обещайте, он и так напуган. Ну то-то. Чаем напоите, и пусть спит. — Подполковник Воронцов на секунду замолчал. — Берегите сына, гражданка Сорокина, он у вас один… — Голос его прозвучал глухо. Казалось, говорит кто-то другой. — А вот этого не надо, зачем благодарить, это наша обязанность… Ну, до свиданья, до свиданья! Он поспешно повесил трубку и еще минуту стоял около телефона, продолжая держать руку на аппарате. Потом, словно очнувшись, смущенно улыбнулся: — Пойду почищусь — вон заляпался как. Все, понимаешь, обыскали, чуть не целое отделение ходило, а до ям не дошли. Я те ямы еще с прошлого года запомнил. Ну парень там и сидел. Он и сам бы вылез, да больно испугался. Белобрысый совсем, а мать — русый, говорит… Он укоризненно покачал головой и, вынув из нижнего ящика стола сапожную щетку, вышел. Минуту в комнате царило молчание. Потом Голохов вздохнул и, посмотрев на Владимира, сказал: — Месяц назад сын у него погиб. Только школу кончил. Совсем мальчишка. Нелепый такой случай… Он встал, поправил фуражку и ушел в свой кабинет. Некоторое время Владимир сидел неподвижно. Потом тоже встал и спустился на первый этаж. На площадке лестницы подполковник Воронцов, отложив щетку, наводил бархоткой глянец на свои вычищенные сапоги…21 ЧАС 30 МИНУТ
Внизу кое-кто прилег на диваны — фотограф Коля даже похрапывал, — кое-кто читал. Владимиру читать не хотелось. Он лежал на кожаном диване, подложив руки под голову, и размышлял. Он любил подводить иногда в свободную минуту, как он их называл, “жизненные итоги”. И это не было пустыми мечтами или воспоминаниями, сожалениями о неудачах или торжеством в связи с достигнутым. Нет. Владимиру в жизни была присуща та же черта, что и в спорте: он стремился не повторять ошибок. Он анализировал свои неудачи, как, впрочем, и успехи, стараясь избежать первых и закрепить вторые. Сейчас у него все было хорошо. Несколько дней назад его вызывал полковник и беседовал. Вообще беседовал, “за жизнь”. Это был не первый случай, полковник знал жизнь своих подчиненных порой лучше, чем они сами. Л порой даже их мысли и сокровенные мечты. В общем, Владимир понял, что его мечта близка к осуществлению — его направят на учебу в Высшую школу министерства! Да, это было бы здорово! И когда он побежал сообщить эту новость Николаю, то не очень удивился, услышав, что аналогичный разговор полковник имел в то же утро и с его другом. Еще бы! Как можно было их разлучить? Ох, Николай, Николай! Владимир улыбнулся. Он вспомнил, как вел себя Николай вначале по отношению к Тане. А она к нему. Как присматривались друг к другу его лучший друг и его любимая, его будущая жена. Настороженно, ревниво — не отнимет ли другой Владимира? А потом как-то сразу понравились друг другу. Таня поразила Владимира своей, еще неведомой ему тогда женской проницательностью. — Ты знаешь, Володя, — сказала она как-то, — он замечательный парень, твой Рыжий. Он надежнейший. С ним я готова тебя одного не только на ваши операции пускать, а даже с девушками гулять. Он-то уж твое счастье всегда будет защищать. А, как известно, твое счастье — это я. — И Таня посмотрела на Владимира своими карими смеющимися глазами. — Кому известно? — притворно удивился Владимир. — Всем известно, мне Николай говорил, что ты в Управлении всем направо-налево рассказываешь, даже хотел объявление повесить: Так и так, мол, у меня есть Таня, которую я обожаю и даже надеюсь, что, если я буду очень хорошим, она, возможно, тоже отнесется ко мне с некоторым вниманием!.. — Ох, болтушка! — Владимир рассмеялся и поцеловал жену. Но та, вдруг став серьезной, продолжала: — Только, знаешь, мне кажется, что все его веселье от печали. — Как — от печали? — насторожился Владимир. — Ну так. Словно у него есть какое-то скрытое горе. Может, любит кого-нибудь безответно, а скорее, какая-то давняя печаль. В общем, не знаю, но у меня такое ощущение… Владимир молчал, дивясь Таниному чутью. Она тогда еще ничего не знала про Нину. С Владимиром Николай виделся ежедневно — на службе, на тренировках, в институте. У Тани было не так уж много свободного времени: техникум (она училась на радистку), домашние дела. Воскресенье же они почти всегда проводили вместе — втроем. Таня не требовала, как некоторые женщины, недавно вышедшие замуж, чтобы они все время оставались с мужем вдвоем. Наоборот, ей было даже приятно, чтобы кто-то видел ее счастье, кто-то близкий, кто бы не завидовал ему, не был бы к нему равнодушным, а радовался ему. Она словно хотела показать Николаю: “Вот видишь, твой Володя в надежных руках!” Хорошие у них бывали прогулки, хорошие и интересные. Таня почти всегда была веселой. Но иногда вечером, оставшись с Владимиром наедине, затевала серьезные разговоры. — Скажи, Володь, почему ты решил стать милиционером? — спросила она однажды. — Ведь ты мог пойти просто в юридический институт или в физкультурный. А почему так? Владимир отложил конспект, понимая, что заниматься сегодня больше не удастся. — Почему решил стать милиционером? Да как тебе сказать. Ну, в школу-то мы пошли (он сам не замечал, как начинал говорить и за себя и за Николая) просто потому, что у ж очень там все интересно было. А вот теперь, теперь, я уже могу, наверное, точно ответить почему мы полюбили это дело. Думаю, что могу… Он помолчал. — Так почему? — поторопила Таня. Она не любила, когда не получала скорого ответа на свой вопрос (а на вопросы ее было порой совсем не просто ответить). — Видишь ли, это дело характера, темперамента. — Владимир нахмурил брови, он старался понятнее изложить свою мысль, чтобы и самому, как это часто бывает в таких случаях, лучше ее уяснить. — Мы ведь в революции не участвовали, в Отечественную под стол пешком ходили — с оружием в руках, словом, не боролись… — Он замолчал, ища подходящее слово. — За что не боролись? — Ну, за Родину нашу, за все. — Владимир раздвинул руки, словно хотел обнять что-то очень большое. — За коммунизм… — Коммунизм еще не наступил, — категорически заметила Таня. — Да не в этом дело… — Впрочем, наступил, — так же категорически сказала она. Владимир недоуменно посмотрел на нее. — Ну, как тебе объяснить? — Таня наморщила лоб. — У людей некоторых уже наступил. В душе, что ли, в сердце, в поступках. Словом, я не могу объяснить! Ты прости, я перебила… Владимир помолчал, обдумывая Танину мысль, потом продолжал: — Так вот, я говорю, с оружием мы с врагом не сражались. Понимаешь? И мне почему-то кажется, что в милиции мы как-то восполним этот пробел. Погоди, погоди! — Он поднял руку, словно останавливал еще невысказанные Танины возражения. — Я знаю, ты сейчас скажешь, что любой рабочий, инженер, врач, уж не говоря, скажем, о пограничниках, летчиках-испытателях, — что все они делают не меньше, а иные и больше, чем воевавший солдат. Можно быть бухгалтером, всю жизнь крутить ручку арифмометра и, сэкономив государству сотни тысяч, принести великую пользу. Я не спорю. Это так. Но вот с нашим темпераментом, вот моим и Колькиным, мы должны, как бы тебе объяснить, ну фактически, что ли, драться… И притом с самым плохим. Владимир помолчал. — Ты опять можешь сказать, что какие-нибудь сорняки на полях, трахома, чума, засуха страшнее тысячи преступников и потому агроном, врач, мелиоратор, которые с этим борются, делают более важные дела. Но у них все же не такие ощутимые враги, вот именно в смысле ощутимости. А наши — они реальны. Они здесь, возле нас, и их надо корчевать в активной борьбе, в буквальном смысле с оружием в руках. Ведь даже когда настанет коммунизм, надо будет воевать с засухой и болезнями, а вот пока есть на земле преступники, коммунизм не наступит. Разные есть, конечно, преступники, большие и малые, у “них” и у нас. Я не говорю о “тех”. Но здесь, внутри страны, мы должны их выкорчевать. И когда я это делаю, мне ощутимее мой вклад в общее дело. Но это, конечно, вопрос характера, повторяю, темперамента… — Владимир улыбнулся и взял Таню за руку. — Я понимаю, что я не Плевако. Все это звучит, конечно, довольно неясно. Да? Ничего не поняла? — Я все поняла. — Таня говорила серьезно, серьезное выражение было и в ее карих глазах. — Я отлично поняла. Вот за это я тебя, наверное, и люблю. Их беседу прервал звонок. Это пришел Николай. Пока Таня ушла на кухню готовить чай, Николай, как всегда, в шутливом тоне рассказывал: — Ужас! Полная деградация преступности! Уходят лучшие люди! Убийцы переквалифицируются в карманников, скоро станут фальшивыми нищими- пойдут по вагонам электрички и будут петь: “С неразлучным своим автоматом побывал не в а-да-ной я стране…” Ты знаешь, кто появился на нашем светлом горизонте? “Повар”! Да, да, тот самый. И что ж ты думаешь? Решил “завязать”, бросить свою надежную, тихую профессию убийцы и вступить на зыбкий путь карманных краж. Словом, так. — Николай заговорил серьезно. — “Повара” действительно выпустили. Прописан он в области, в Москву приезжает на “гастроли”. Есть сведения, что занялся карманными кражами. В основном холит по театрам, циркам и концертам перед началом или после окончания, когда народ спешит, толпится у входных дверей. Пойду присмотрюсь. Если нащупаю- будем брать. — Он помолчал. — Плохо другое. Он не карманник, он убийца. Я его тогда сразу понял и дело его старое потом смотрел. Если такого граждане поймают на деле (кто-нибудь крикнет), он и не моргнет — пустит в дело нож. Поэтому его надо изъять немедленно. Я… Но тут вошла Таня с подносом, где дымились стаканы с чаем, и домашними печеньями, предметом ее великой гордости. Деловой разговор пришлось прекратить. Пока пили чай, Таня внимательно разглядывала Николая. — Коля, а почему ты сегодня такой нарядный? — подозрительно спросила она. — Последний раз, помнится, я тебя с галстуком видела у нас на свадьбе. И то с Володиным. Уж не влюбился ли ты? А? Таня вся оживилась от такого предположения-какие возможности для советов, указаний! — Да что ты! — Николай таинственно отводил взгляд. — Так… — Нет. — Таня даже привстала, пытаясь заглянуть Николаю в глаза. — Нет! Говори! Влюбился, да? В кого? Ну не томи. Куда идете? Наверняка ведет тебя к родителям знакомиться! Иначе ты б так не разоделся. Она кто? — Она повар, — преувеличенно смущаясь, ответил Николай, — в столовой в нашей, в Управлении. Володя ее знает. Ты ведь ее знаешь, Володька? Да? Она еще тебе всегда больше мяса накладывает. Очень красивая. — Николай, оживленно размахивая руками, старался описать красоту своей дамы. — Глаза! Больше тарелок! Руки ловчей ухватов, зубы… — Ну ладно, ладно! — Таня была разочарована. Романа у Николая явно не намечалось. Он, как всегда, валял дурака. — Но куда ты все-таки идешь такой нарядный? — А она, — оживленно басил Николай, — увлеклась теперь театром. Мы с ней теперь театралы, интегралы, меломаны, клептоманы… — Тут он подавился словами и замолчал, испуганно глядя на Таню, — он знал ее проницательность, когда дело касалось их с Владимиром работы. Опасения его оправдались. — “Меломаны”! — зловеще заговорила Таня. — “Клептоманы”! Опять ваши карманники! Даже на отдыхе, даже в театре вы должны кого-то ловить. Я не дурочка, я все понимаю… Но Николай придумал новый прием, чтобы отразить нападение. Перекрывая Танин голос своим могучим басом, он закричал: — Да! Иду в театр ловить воров! У нас теперь новые обязанности! Мы выполняем задание Управления по охране авторских прав! Есть приказ: весь уголовный розыск бросить на просмотр пьес и фильмов — не стащил ли один автор у другого сюжетик. Вот. Вчера задержали двоих — один выкрал два акта у малоизвестного иркутского драматурга, другой стянул три реплики у Мольера… Так сидели и болтали они за столом часов до десяти. В десять, посмотрев на часы, Николай встал: — Не удалось сходить с моей дамой, с моим дорогим поваром, в театр, пойду хоть встречу у входа… Он распрощался и ушел. А на следующий день в Управлении жаловался Владимиру, что опять “Повара” не нашел. Сведения поступали все чаще. То карманная кража совершена у входа в Большой театр, то прямо в фойе цирка, то у Консерватории. Было известно, что “работал” “Повар”, но сколько ни бродил Николай возле театров перед началом и после окончания спектаклей, “Повара” он так и не встречал. И вот сегодня наконец поступили точные сведения: “Повар” должен быть у Театра А.С.Пушкина. “Интересно, — размышлял сквозь дрему Владимир, — возьмет его Колька на этот раз или того опять не окажется?” Не дежурь Владимир сегодня, он бы, конечно, пошел с Николаем… Резкий голос из репродуктора заставил его вскочить. В комнате наступила тишина. Подполковник Голохов негромко и сухо проговорил: — Врач, эксперт, фотограф, Логинов, Анкратов — на выезд… Владимир быстро подтянул расслабленный на отдыхе ремень, схватил фуражку. Вот оно! Наконец-то! Дежурная группа торопливо вышла во двор. У дверей уже урчала мотором оперативная машина. Обмениваясь на ходу короткими фразами, подошли к “Волге”. В этот момент высокая фигура подполковника Голохова показалась в дверях. Он быстро прошел к машине, сел рядом с водителем, негромко скомандовал: “Поехали! Побыстрей!” Воцарилась тишина. Никто не произнес ни слова. На происшествие выезжал сам дежурный по городу. Значит, происшествие это было чрезвычайным…22 ЧАСА 30 МИНУТ
Шипя и завывая сиреной, синяя с красной полосой “Волга” вылетела к “Эрмитажу”, визжа на повороте, свернула к Пушкинской площади, минуя испуганно застывшие при звуке сирены автомобили, пересекла улицу Горького и понеслась вдоль бульвара к Никитским воротам. И, когда на полном ходу машина затормозила напротив Театра А. С. Пушкина у бульварной ограды, Владимир почувствовал, как невидимые ледяные пальцы прошлись по его спине, поднялись к затылку и сдавили затылок так, что на мгновение стало трудно дышать. — Товарищ подполковник… — Владимир сам не узнал своего голоса, хриплого, задыхающегося. — Да, Володя. Больше Голохов ничего не сказал. Он открыл дверцу и вышел из машины. За ним вышли врач и Алексей Логинов, второй оперативник. Владимир вылез из машины последним, ему казалось, что ноги его налились свинцом. Он испытывал странное чувство: будто он стоит в стороне и наблюдает за другим Владимиром Анкратовым, который вот вышел из машины, перелез вслед за остальными через ограду и прямо по траве меж кустов движется к небольшой группе людей, стоящей в боковой аллейке бульвара. Владимир уже знал, что он увидит, когда подошел к расступившимся при виде Голохова милиционерам в форме и в штатском, безмолвно стоявшим в этой узкой, плохо освещенной аллейке. …Николай лежал на спине, рыжие волосы, казалось, потускнели в бледном свете дальнего фонаря, руки не были разбросаны в стороны, а сжаты в кулаки и сведены у груди, словно в свой смертный час готовился он к решающей схватке. На белом, как бумага, лице застыло удивленное выражение. Он лежал безмолвный и беспомощный, казавшийся сейчас особенно молодым, но то лежал не мальчик, а боец, он не умер, а погиб, и в чертах этого удивленного, совсем юного в смерти лица был отпечаток какой-то суровой решительности, словно твердо шел он по начертанному пути, и вот только смерть остановила его… Рядом валялась книга. То ли брал ее Николай для маскировки, то ли просто прихватил с собой. Врач, как всегда, протер очки, наклонился над убитым, знаком подозвал двух милиционеров, чтобы помогли перевернуть тело… Возле Голохова стоял немолодой майор, видимо, старший из прибывших на место работников ближайшего отделения милиции. Он докладывал: — …хотел закурить — вот с двух сторон нашли. — Майор раскрыл ладонь, на которой лежали сигарета и зажигалка. — А тот, видимо, шел сзади, да как шел! Тише комара. Ну, лучшего места не найти. Сами видите — здесь подряд два фонаря не горят, темно, да и нет никого. Он остановился прикуривать, сгорбился, словно нарочно спину подставил. Ну тот и ударил. А силища у него, видать, как у быка, да опыт, наверное, есть — с первого удара. По лицу видно, — он указал на Николая, — сразу… Вот сейчас врач скажет. Врач, подошедший к концу доклада, кивнул головой. — Удар, товарищ подполковник, нанесен с чудовищной силой, — сказал он, — и исключительно точно: нож пробил широчайшую мышцу спины, прошел через межреберный промежуток и проник в сердце или легкое почти на всю длину. Это не обычный нож. Лезвие узкое, но очень твердое, типа стилета. Смерть наступила мгновенно. Послышался вой сирены. Шурша шинами, у ограды остановилась машина “скорой помощи”. Как и перед этим милиционеры, санитары перепрыгнули через ограду и, на ходу расправляя носилки, направились к убитому. Их белые фигуры, словно привидения, странно выделялись на черном фоне кустов. Николая осторожно, как будто боялись причинить ему боль, подняли, уложили на носилки. Последний раз Владимир увидел на секунду мертвое лицо друга. Потом тело прикрыли простыней и понесли. Санитары, тяжело ступая по траве, удалились в сторону машины. Все это время Владимир стоял с безучастным видом. Вокруг ходили люди, его даже кто-то нечаянно толкнул, слышались негромкие разговоры. Но он ничего не замечал, только смотрел на зажигалку. Он подарил ее Николаю в день его рождения, и тот ею очень дорожил. В тот день гости разошлись поздно, и Николай отправился ночевать к Владимиру, жившему недалеко от ресторана, где отмечалось торжество (Нина на этот вечер была поручена заботам соседки). Они долго разговаривали, лежа в “постелях” (Николай на диване — гостю почет, — а Владимир на полу). Николай любил иногда мечтать о будущем. Делал это он, как обычно, в шутливой форме, давая волю своей неисчерпаемой фантазии. — Ты понимаешь, Володь, что меня смущает, — гудел в темноте его озабоченный бас. — Пока мы лейтенанты, нам вместе служить не трудно — один отдел. Станем капитанами — куда ни шло; майорам тоже в одном Управлении место найдется. Но ведь лет через пять будем мы с тобой комиссарами первого ранга, и конец: меня, видимо, сделают министром охраны общественного порядка, тебя тоже — начальником горотдела на Чукотке: вместе двум таким чинам в одном городе место-то не найдется. А? Володь? Но потом Николай заговорил серьезно: — Эх, Володя, попасть бы нам в Высшую школу! Я не знаю, что бы делал, днем и ночью учил, конспектировал, язык бы выучил, честное слово! А то только родной да воровской — маловато. А кончил бы — честное слово, диссертацию защитил! Не веришь? Защитил бы! Я даже тему знаю: “Превентивные меры по борьбе с детской преступностью”. Если к тому времени она еще будет у нас. Да, вот так… Он помолчал. — И еще, Володя, я мечтаю: неужели Нинку никак нельзя поставить, хоть на искусственные какие, на ноги? Ведь смотри, что делается: зрение возвращают, кожу пересаживают, сердце, понял, сердце остановившееся оживляют… Хоть что-нибудь придумать! …Так мечтал он в ту ночь, с горечью вспоминал Владимир. Придет время, и наука что-нибудь придумает — Нина будет ходить, а вот сердце Николая, пробитое ножом, уже никто не оживит. Как посмотреть в глаза Нине? Задыхаясь от тоски, Владимир представлял себе, как сообщит ей страшную весть. Он понимал, что сделать это должен только он. Ведь просила его: “Береги Николая”. А он не уберег. Какое значение имеет то, что он был в ту минуту далеко, что смешно его в чем-либо упрекать. Все равно он никогда себе этого не простит. Себе? Нет, не только себе. “Твоя обида — моя обида”, — так поклялись они, двое голоштанных ребят, тогда за сараем. Их было двое. Теперь Владимир остался один. И месть за Николая — это его кровное дело, его долг! Владимир стоял бледный, сжимая кулаки. Его наполняла безмолвная, слепая ярость. Попадись ему в эту минуту убийца, он бы задушил его, сжег на медленном огне! Одна мысль сверлила мозг: найти, немедленно найти преступника! Владимир знал его — Коростылев, с нелепой и непонятной кличкой “Повар”, хотя в прошлом работал шофером. Владимир был уже достаточно опытным работником, чтобы представить себе всю сцену, словно она произошла у него на глазах. “Повар”, как и собирался, пришел к концу спектакля. Люди возбуждены, оживленно обсуждают увиденное, они не так внимательны, как обычно. К тому же темно, в случае чего легче улизнуть. И тут он заметил Николая. Он, конечно, хорошо помнил его (еще на суде тогда крикнул: “Я вас, гады, запомню!”). А может быть, он приметил Николая и раньше, у других театров, и понял, что тот ищет его, что не будет ему спокойной жизни, пока жив Николай. Увидев теперь Ветрова, он притаился, спрятался где-нибудь в неосвещенном углу, выжидал. Когда народ разошелся и Ветров отправился домой, пошел за ним. Пойди Николай улицей, сядь в троллейбус, может быть, ничего и не произошло, “Повар” не решился бы. Но Николай пошел бульваром, да еще боковой аллейкой, где было темно — не горели два фонаря. “Повар” крался бесшумно, держа нож в рукаве, в любую минуту готовясь или ударить, или бежать. И, когда Николай остановился закурить, повернув к нему открытую, незащищенную спину, он одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние и ударил. Ударил точно, опытной, сильной рукой. А потом бежал, бежал быстро и бесшумно, как трусливый заяц, который только тогда лев, когда нападает из-за угла… Вот так это было. Наверняка так. Владимир, чья профессиональная память, словно фотографию, хранила облик убийцы, представлял себе этого массивного, отлитого из одних мускулов великана, его коротко остриженную тяжелую голову, злой взгляд маленьких глаз, широкий рот, в котором, когда он открывал его, блестел тусклым блеском неизбежный золотой зуб… Да, его он узнает и ночью, и за версту, и в любом обличье, и среди миллиона похожих! Только надо найти его. Найти немедленно!.. — Лейтенант Анкратов! — Голос Голохова был на этот раз резким и злым. — Слушаю вас, товарищ подполковник! — Останетесь с товарищами из отделения, Логинов с вами и… — подполковник сделал паузу, — возглавите поиски! Возражений не будет? — повернулся он к майору. Тот отрицательно помотал головой. Минуту Голохов смотрел Владимиру прямо в глаза, потом положил ему руку на плечо и своим обычным негромким голосом произнес: — Давай, Володя. — И, словно прочтя его мысли, добавил: — И не забывай: ты не только друг Ветрова, ты прежде всего работник советской милиции…23 ЧАСА 05 МИНУТ
Голохов уехал, уехал майор и сопровождавшие его офицеры. На бульваре остались Владимир, Логинов и оперативная группа, выделенная в их распоряжение начальником местного отделения милиции. Они внимательно осмотрели место преступления (а чего тут было смотреть?), опросили немногих свидетелей. Собственно, свидетелей-то не было. Шедшая на дежурство стенографистка из ТАССа, наткнувшаяся на тело; какая-то женщина, поздно прогуливавшая по бульвару собаку и видевшая, как высокий мужчина, лица которого она не разглядела, в плаще с поднятым воротником, быстрой походкой вышел с бульвара, пересек улицу и направился в сторону Пушкинской площади. Живший неподалеку гражданин, сошедший с троллейбуса у недостроенного театра; ему показалось, что на бульваре в боковой аллейке произошла какая-то короткая возня. Вот и все. Билетеры в театре, дворники окрестных домов ничего не заметили. Оперативная группа направились в отделение, чтобы окончательно уточнить план действий. Тем временем от дежурного по городу одновременно всем патрульным машинам, во все отделы и отделения милиции, дежурному по области, на вокзалы и во многие другие места было передано описание преступника и приказ о задержании; для оперативной группы привезли взятые из дела фотографии Коростылева, по кличке “Повар”, опасного рецидивиста, чье толстое дело давно хранилось в архивах милиции. Вместе с фото пришло и официальное подтверждение (хотя в этом никто не сомневался), что убийство совершил именно “Повар”: желая, видимо, избежать шума от падения тела, убийца, вонзив нож в спину Николая, поддержал другой рукой падающего и неслышно опустил его на землю. Отпечатки пальцев остались на книге, которую Николай, закуривая, наверное, прижал к груди, и были сличены с отпечатками, хранившимися в деле Коростылева. Направили телефонограммы во все таксомоторные, трамвайные, троллейбусные и автобусные парки — не запомнили ли случайно водители и кондукторы человека такой-то наружности (следовало подробное описание), который воспользовался каким-либо транспортом на Пушкинской площади, у Никитских ворот или в прилегающих районах. Однако все эти меры вряд ли могли дать многое. В такой час — час разъезда после театров и концертов — в центре, когда тысячи людей спешат домой и садятся в троллейбусы, такси, автобусы, вряд ли кто-нибудь заметил, а тем более запомнил человека в общем-то ничем не примечательного, кроме высокого роста. Надо было также учесть, что “Повар” был не “случайным”, так сказать, преступником, не новичком. Это был очень опытный, хитрый, матерый бандит, много раз сидевший за решеткой, и уж он-то хорошо знал, какие меры будут предприняты для его задержания. Совершив свое преступление, он мог пройти большое расстояние пешком и только потом воспользоваться троллейбусом или такси, а возможно, и метро; мог сразу же с бульвара свернуть в один из переулков, например, к Бронной, или проходным двором выйти в Большой Гнездниковский, дойти до Малого Гнездникопского, а там снова нырнуть и проходной, чтобы сразу появиться у Моссовета. Известно было лишь одно: “Повар” никогда не “работал” с сообщниками, — волк среди волков, он не доверял даже своим. Владимир понимал: бродить ночью по Москве “Повар” не станет. Одно из двух: или он спрячется у кого-то, кто предоставит ему убежище, или постарается как можно быстрей выбраться из города. Логинов считал, что “Повар” уже давно спит беззаботным сном у какой-нибудь своей знакомой или у одного из надежных дружков, живущих в Москве. Зачем ему уезжать куда-то ночью, рискуя быть пойманным на вокзале? Лучше отсидеться несколько дней, не выходя на улицу, а потом тихо исчезнуть. Лейтенант Русаков, старший приданной Владимиру группы, молодой светловолосый парень, придерживался другого мнения. — Уверен, — горячо доказывал он, рубя воздух рукой в такт своим словам, — что прятаться в городе Коростылев не будет! Опасно это для него. В конце концов, все рецидивисты на учете. Известно, кого из них можно заподозрить в связи с ним. Может быть устроена проверка документов, могут выдать свои — его не очень-то любят. Да он и вообще такой мужик, что никогда ни с кем особенно не сходился. “Старая гвардия” его далековато — он, слава богу, сколько отсидел-то последний раз! — а новых дружков, наверное, завести не успел. Да и времена не те: сколько теперь таких, как он? Раз-два и обчелся. Их не то что ночью, днем с фонарем не сыщешь. Ведь не случайно он не только прописался в области, но и живет там, а в Москве только “гастролирует”. Иначе бы он все время здесь у кого-нибудь прятался. Это раз. Два: будь у него в Москве надежные сообщники, разве стал бы он заниматься карманными кражами? Одолжил бы денег и притаился, готовил настоящее дело. А то вынужден карманкой промышлять. Сколько риску на ерунде погореть! Если б он когда-то, пока свои настоящие художества не начал, не был мастером по части карманов, он бы в жизни этим не занялся. А так нужда заставила — другого выхода нет. Совершенно ясно, — закончил Русаков, — что он будет стремиться покинуть город. Говорили и другие. Владимир молчал. В рассуждениях Русакова было много правильного — действительно, вряд ли можно предполагать, что Коростылев останется в городе, скорей всего ему не у кого здесь спрятаться. С другой стороны, он достаточно хорошо знал, с какой быстротой действует милиция: раньше, чем он добрался до любого вокзала, там уже знали бы о совершенном преступлении и приметах убийцы. На ноги была бы поднята вся транспортная милиция. Какой же выход? Какой выход мог придумать Коростылев, хитрый и опытный, наверное, даже умный бандит? Владимир знал один из основных законов следственного работника: не считать преступника глупей себя, лучше переоценить его, чем недооценить. Вот что бы сделал он, Владимир, на месте “Повара”? И тут мелькнула мысль — самолет! Ну конечно же, такая мысль вполне могла прийти Коростылеву в голову: в Москве оставаться не у кого, садиться в поезд или пригородный автобус опасно. А на аэродроме вряд ли будут его искать. Тем более, что в поездах можно продолжать поиски и в дороге, и на промежуточных остановках. А самолет улетел — и ищи-свищи ветра в поле, приземлится где-нибудь во Владивостоке. А это было важным преимуществом. Коростылев понимал, что для розыска убийцы милицейского работника сил не пожалеют, и чем дальше он на время окажется от Москвы, тем лучше. Правда, ночью самолеты уходят редко, но все же уходят. Наконец, можно подождать и до утра, и необязательно в здании аэропорта, что во Внукове, что в Шереметьеве, — это можно сделать в лесу, поблизости. Но тут Владимир сам прервал ход своих мыслей. А деньги? Ведь денег-то у “Повара” не было, а билет на самолет, тем более куда-нибудь далеко, стоит все же недешево. Владимир изложил свои мысли. Некоторое время царило молчание. Первым нарушил его Русаков. — Ну и что? — сказал он. — Такой, как “Повар”, мог вполне принять подобное решение, рассчитывая добыть деньги на месте. Я не удивлюсь, если выяснится, что сразу же за убийством в том же районе или еще где-нибудь последовало ограбление и приметы грабителя совпадут с приметами “Повара”. Кроме того, аэродром тоже отличное поле деятельности для карманника. — А из аэродромов, — заметил Логинов, — мне кажется, Шереметьево отпадает: там самолеты реже. Владимир встал. — На выезд! — скомандовал он. И через несколько минут две синие с красной полосой “Волги” уже мчались к Внуковскому аэродрому, оглашая воздух звуком сирен. Начался мелкий дождь. Шоссе в свете фар блестело, словно гладкая кинопленка. Ветровое стекло покрылось водяной россыпью. Шофер включил “дворники”, и они еле слышно шуршали, прометая окно слева-направо — справа-налево, подобные маятнику, отсчитывающему время. Владимир опустил боковое стекло, и сырой ночной воздух, пахнущий травой и лесом, залетел в машину. Никто не разговаривал. Логинов курил. Русаков закрыл глаза, и можно было подумать, что он дремлет. Владимир поднял воротник плаща. Он не чувствовал ветра, не замечал дождевых капель, порой залетавших в окно и попадавших ему в лицо. Устремив неподвижный взгляд вперед, на летевшее навстречу ночное шоссе, он думал, и память с удивительной четкостью воскрешала перед внутренним взором эпизоды их дружбы с Николаем. …Как меняются в жизни мерила вещей и понятий, мечты и желания! Ценой экономии на школьных завтраках был куплен футбольный мяч. А потом его легко отдали за растрепанную, ветхую книжицу с дурацкими, казавшимися всемогущими приемами японской борьбы. Они видели в них неуязвимое, абсолютное средство победы над врагом, А начав заниматься самбо, поняли, сколь наивными и примитивными были эти приемы. Но сами занятия вначале были увлекательной игрой, увлечением были и первые шаги в Школе милиции. Это была интересная игра. И лекции дополнялись юношеской фантазией. Пистолеты, отпечатки пальцев, преступники… Все это было так ново, так невероятно интересно, но еще недалеко ушло от детских игр и любопытства. Где кончается детство и начинается юность? Где кончается юность и начинается зрелость? Владимир не запомнил той минуты (а быть может, секунды), когда самбо из любимого занимательного вида спорта превратилось в грозное оружие, спасшее ему жизнь. Где пролегла та черта, что разделяла увлекательные занятия, игру в Школе милиции и рискованные операции, в которых успех приносил не пятерку в журнале, а арест опасного преступника, а неуспех мог стоить не двойки, а жизни… Эта жизнь, которая дается человеку лишь однажды, она развертывалась перед ним и Николаем так же стремительно, как это шоссе за окном. Но не ночное, а яркое и солнечное, какое оно бывает днем. …Владимир бросил взгляд на часы. До Внукова оставалось еще минут пятнадцать езды, дождь усилился, и “Волги” замедлили ход. Пришлось поднять стекло — холодные струи залетали в машину. Теперь ветровое стекло сразу мутнело, после того как “дворник” прометал его… Да, все им было дано: сотни дорог — только выбирай, — по которым они могли идти и на которых ждали их радости избранного труда, новые горизонты, открываемые учением, интересный отдых, любимые подруги, по-хорошему беспокойная, увлекательная, чудесная жизнь… А вот Николай не прошел и половины своей. Глупая смерть! Бессмысленная и обидная. Владимир сжал в кулаки руки. Бессмысленная? А почему бессмысленная? Он вспомнил диспут, который они, школьники-комсомольцы, устроили однажды. Это был диспут по книге Константина Симонова “Живые и мертвые”. В какой-то момент разгорелся спор о цене человеческой жизни на войне. Кто-то утверждал, что лишь немногие на фронте гибнут ради конкретного успеха, закрывая амбразуру дота своим телом, тараня вражеский самолет, сознательно оставаясь на гибель, чтоб прикрыть отход своих. Владимир и Николай горячо возражали. Неправда, утверждали они, ни одна жизнь, отданная армией, воюющей за правое дело, не пропадает напрасно. В атаку поднимается батальон, окопы противника захватывает порой взвод. Но разве напрасно погибли те сотни бойцов, что начинали атаку и не дошли до цели? Пусть даже ни одна гуля солдата не настигла врага, наоборот, сам он пал, пронзенный вражеской пулей, — что ж, его смерть бессмысленна? Нет! Она пусть маленький, но тоже кирпич, из которого слагается общее здание победы. И тот, кто добрался до окопов врага, и тот, кто уснул вечным сном перед их брустверами, одинаково достойны восхищения. Потому что в большом, но обязательно благородном деле важен конечный результат, если, разумеется, достигается он благородными средствами. А добиваться с оружием в руках победы в правой войне одинаково благородно и для того, кто доживет до этой победы, и для того, кому это не суждено… Спорили горячо, долго. Сейчас Владимир вспомнил этот спор. Что ж, они с Николаем были правы. Разве зря отдал сейчас Николай свою жизнь? Да, он не поймал Коростылева, он сам погиб от его ножа. Ну и что? Даже и так он победил. Победил потому, что то, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь, восторжествует. Коростылева все равно поймают, пусть не Николай, пусть другие, но поймают, и, что главное, — рано или поздно поймают всех коростылевых. И, наверное, не один и даже не один десяток работников милиции отдадут ради этой цели свою жизнь. Но цель-то будет достигнута! И в этом будет их победа, в этом будет высокий смысл их гибели… Так думал Владимир, пока машина мчалась сквозь дождливую мглу по блестевшему в свете фар шоссе… Его по-прежнему немигающий взгляд был устремлен далеко, дальше этого стекла, что прометали “дворники”, подобно отсчитывающим время маятникам, дальше этого блестящего в свете фар шоссе. …Он видел золотистый пляж в Химках, где они с Таней и Николаем любили купаться; лабораторию фотодела — предмета, почему-то трудней всего дающегося Николаю, — из которой он не уходил, пока не добивался, чтобы Владимир сказал: “Теперь правильно”. Он видел его всегда веселого и доброго, а в тот день — беспомощного и растерянного. Николай метался по городу в поисках какого-то редкого лекарства, необходимого Нине (Владимир пробегал тогда с ним вместе полдня, но они все же разыскали это лекарство)… А теперь все это в прошлом. Печально покидать прекрасные города, если знать, что никогда больше не доведется вернуться в них; грустно расставаться со школой, институтом. Сколько б ни было во время учебы забот, все же грустно, что навсегда покидаешь институтские стены; порой невыносимо тяжело разлучаться с любимой, но ведь встретишься вновь. А вот как быть, когда навсегда ушел лучший друг, часть твоей жизни? И ни смеха, ни голоса его больше не услышишь, не увидишь знакомых глаз, рук, рыжих волос… На лбу у Владимира пролегла морщина. Она была еще не очень заметна на этом чистом юношеском лбу. Пройдут года, она сделается глубокой и нестираемой; будет Владимир седым заслуженным комиссаром, как мечтали они когда-то с Николаем. Много еще горьких и страшных минут предстоит ему в жизни — что ж, он сам выбрал опасный и трудный путь милиционера. Но первая морщина пролегла в эту ночь. Еще неглубокая, еле заметная, она безвозвратно отделила юность от зрелости…0 ЧАСОВ 55 МИНУТ
Машины свернули на боковую дорогу. На мгновение фары выхватили из темноты затейливый указатель: “К аэродрому”; плохо видные за пеленой дождя, в обе стороны убегали вдоль просеки красные аэродромные огни. Еще один поворот, и машины (чтобы не привлекать внимания с промежутком в пять минут) остановились в стороне, на общей стоянке. В этот поздний час здание аэровокзала было пустынным. Лишь редкие пассажиры дремали в креслах, ожидая вызова на ночные самолеты. Газетные и парфюмерные киоски были закрыты. С поля раздавался рокот двигателей, то глухой, то нарастающий. Прибывшие — все они были в штатском — поодиночке и не сразу вошли в здание аэропорта. Владимир отправился к дежурному аэродромной милиции. Дежурный взволнованно сообщил, что как только последовал звонок из Москвы, были немедленно опрошены аэродромные кассиры. И действительно, кассирша Михеева вспомнила, что незадолго до этого к ней подходил человек, схожий по приметам с тем, которого ей описали, и взял билет на Ашхабад. — На Ашхабад? — переспросил Владимир. — На Ашхабад, точно помню, — закивала кассирша, — точно! У нас ведь редко берут, все больше в городе, в билетных кассах, а здесь те, что с пересадками. Так что народу мало — я запомнила. — Этот? — Владимир показал Михеевой фотографию “Повара”. — Этот, этот! — радостно подтвердила кассирша. — Этот самый. Я его еще запомнила — он, когда расплачивался, толстющую пачку вынул. Тыщи небось! Дело становилось все запутанней. Откуда у “Повара” могли быть тысячи? Не пошел же он к театру лазить по чужим карманам, набив предварительно деньгами собственные! С другой стороны, вряд ли он за время, прошедшее с момента убийства, успел зайти куда-нибудь, где у него хранились деньги. Да и денег у него таких не было — иначе он бы не занимался карманными кражами. Вероятнее всего, как это предположил Русаков, “Повар” совершил ограбление по дороге. Но где? И у кого в ночную пору могли оказаться такие деньги? К тому же никаких данных об ограблениях, совершенных за последние два часа, не поступало. Владимир взглянул на часы. До посадки на ашхабадский самолет оставался еще час. Надо было надеяться, что “Повар” не заметит прибывшую группу и явится к самолету. Но время шло, а Коростылев не появлялся. Не появился он и тогда, когда объявили посадку и когда с некоторым опозданием закончили ее. В этот-то момент и раздался звонок к дежурному. Голохов сообщил: на Шереметьевском аэродроме человек, по приметам похожий на “Повара”, только что приобрел билет на Красноярск. Кассирша не сразу сообразила что к чему: пока сменилась и сообщила дежурному милиции, человек исчез. Судя по сообщению шереметьевской милиции, “Повар” вряд ли догадался, что кассирша обратила на него внимание. Дело в том, что она потом несколько минут сидела без дела. Только когда пришла сменщица — как раз наступило время смены, — она, сначала поговорив с ней, ушла. И, лишь оказавшись в служебном помещении, она сообщила, что последний бравший билеты пассажир подозрителен, и позвонила дежурному. Если все это время “Повар” незаметно следил за ней, то ничего тревожного заметить не мог. Дежурный аэродромной милиции сразу же организовал при помощи дружинников незаметное, как он выразился, “прочесывание” аэропорта. Результатов это не дало никаких. Но для опытного преступника ночью не так уж сложно было найти в здании или поблизости место, где спрятаться. До отправки красноярского самолета оставалось сорок минут. Поспеть за такой срок и по такой погоде с Внуковского аэродрома на Шереметьевский было невозможно. Голохов уже направил туда две находившиеся в том районе патрульные машины. На минуту Владимир задумался. Нет, он должен сам задержать “Повара”! И не только потому, что это было самое меньшее, чем он обязан был Николаю, но и потому, что Владимир знал, каким опасным, беспощадным преступником являлся Коростылев. Владимир понимал, что “Повар”, зная, что, попадись он, расстрела ему не миновать, пойдет на все, вплоть до бессмысленного и бесполезного убийства, лишь бы дороже продать свою жизнь. Он был вооружен ножом, а возможно, и пистолетом. Все это могли не знать или не учесть патрульные. Но все это отлично знал Владимир. Кроме того, именно его группа располагала фотографиями “Повара”, изучила по делу повадки и привычки преступника, имела определенный, тщательно продуманный план задержания. Словом, во что бы то ни стало Владимир со своими помощниками должен за полчаса добраться до Шереметьевского аэродрома. Думать здесь было нечего — единственным реальным путем оставался вертолет. Когда Владимир обратился со своей просьбой к дежурному отдела перевозок, тот категорически отказал. — Да вы что, смеетесь, товарищ лейтенант, вы посмотрите на погоду! Да какой летчик согласится лететь? Я же не могу им приказать. Нет, ничего не получится. — Я сам поговорю с летчиками и механиками, — сказал Владимир. — Они коммунисты? — Комсомольцы, а что? — спросил растерявшийся дежурный. — Если комсомольцы — то поймут! — уверенно сказал Владимир. Дежурный в раздумье посмотрел на него. — Ну,а я коммунист, — ни с того ни с сего сообщил он и, сам поняв, как по-детски это прозвучало, неожиданно рассмеялся. Владимир улыбнулся. Но тут же лицо его снова приняло озабоченное выражение. — Я объясню вам, товарищ дежурный. Этого нельзя не понять… В двух словах Владимир сообщил, в чем дело. Еще когда он рассказывал об убийстве Николая, дежурный молча схватил плащ и фуражку. Летчик и механики поняли еще быстрей. Владимир только начал свой рассказ, а они уже торопливо одевались. Через двадцать минут вертолет летел в ночном московском небе в направлении Шереметьевского аэродрома. Дождь перестал. Но небо было покрыто тучами. Трех милиционеров Владимир оставил — с “Поваром” следовало быть готовым ко всему: он мог с такой же быстротой и внезапностью примчаться с Шереметьевского аэродрома на Внуковский, с какой он только что сделал это в обратном направлении. С Владимиром летели только Логинов и Русаков. …Вот так прошлым летом летели они из отпуска: Владимир, Таня и Николай. С этим отпуском вообще вышла целая эпопея. Они уже предвкушали, как вместе проведут его (Николай надеялся, что сможет перевезти и Нину), как будут валяться на горячем пляже, купаться в теплом море (а в Москве в те дни дождило), как поедут на Риду. Ни Владимиру, ни Николаю на Кавказском побережье бывать раньше не приходилось. И вдруг начальник заявил, что одновременно того и другого не отпустят. Начальник был прав. Но они тогда очень сердились на него. Николай в свой мощный бас кричал, что он все равно поедет с ними на Риду и уплывет в море. Владимир и Таня уехали. Это было для них словно свадебное путешествие. Они просто опьянели от счастья. Они с такой жадностью набросились на этот отдых, как будто он был последним в их жизни. Вставали в семь; купались, лежали на солнце часа по три-четыре; заплывали так, что берег чуть не пропадал из виду; по вечерам, взявшись за руки, уходили бродить по горным дорогам и где-нибудь на пустынном склоне, оглянувшись — нет ли кого поблизости, — целовались (как будто не могли этого делать хоть целый день в своей комнате, где жили вдвоем). — Почему, — в недоумении спрашивала мужа Таня, лежа на пляже ранним утром под порывами легкого ветерка, — почему в таком мире, где так здорово, где только и веселись, есть люди, которые убивают, воруют, насилуют? Ну чего Им не хватает, работали бы себе, что времени, что ли, для отдыха мало? А то нет, пьют, дерутся, грабят. Наворует и что? В Сочи, что ли, поедет? Нет. Прячется небось, как зверь в норе, каждого стука боится, полжизни в тюрьме проводит. Ты знаешь, Володя, мне кажется, надо упразднить судебно-психиатрическую экспертизу, — закончила она свою речь несколько неожиданно. — Почему? — удивился Владимир. — А потому что самый факт, что какой-то человек в нашей стране — на Западе я не говорю, но в Советской стране — совершает преступление, уже свидетельствует о его психической ненормальности. — И Таня победно посмотрела на Владимира, очень довольная своей идеей. Владимир рассмеялся: — Прекрасная теория! Правда, был еще такой Ламброзо, высказывавший сходные мысли, но по сравнению с тобой у него все, конечно, примитивно. Да, надо будет внести предложение: как поймаем преступника, так его в больницу. Полежит-полежит, а потом в санаторий. А? — Ну хорошо, — в азарте спора Таня даже села, — а зачем тогда воруют? Чего им не хватает? Я уверена, что, если бы любой вор употребил все то время, что он проводит в тюрьме, например… — Таня на мгновение задумалась, — например, на учение, на научную работу, он уже давно стал бы профессором и зарабатывал в десять раз больше, чем своим воровством. — Замечательно! — Владимир хохотал теперь уже во все горло. — Создать университет из жуликов. Можно даже академию наук! Кончает парень школу, и ему вопрос: кем хотите быть — вором или доктором философии? Если вором, твердого заработка не гарантируем! Нет, Танька, тебе самой на эту тему надо защитить диссертацию. — Он стал серьезным. — К сожалению, тут другие причины. Ты права, у нас социальный строй такой, что преступность порождать не может… — А откуда же она? — Разные причины, Таня, — пьянство, распущенность, слабохарактерность родителей вначале, попустительство окружающих позже… Ну что мне тебе лекцию читать? Хочешь устрою в Школу милиции? У меня там знакомства. Таня вскочила. Она содрала с Владимира купальную шапочку, которую он только что надел, и побежала к морю. — Есть еще причина! Забывчивость мужей! Забыл вторую купить! Теперь краду твою!.. — закричала она, бросаясь навстречу шумной, лохматой волне. Выходить на работу Владимир должен был в понедельник. Чтобы выкроить еще один день, решили возвращаться не поездом, а лететь в воскресенье самым поздним самолетом. Подумаешь, в Москве ночь не поспать! И вдруг в пятницу, ни о чем не предупредив, как снег на голову свалился Николай. Он явился на пляж, когда Таня с Владимиром только возвратились после очередного дальнего заплыва. Они увидели его еще в километре от берега. Он стоял посреди пляжа, сияя молочной белизной тела и огненной шевелюрой (“Как маяк, — говорила потом Таня, — знаешь, такая побеленная длинная башня, а наверху огонь горит”), и махал им рукой. Оказалось, что Николай имел два дня отгула и вот на пятницу, субботу и воскресенье прилетел. Он сразу же обгорел на солнце и стал похож на вареного рака, схватил такси и за один день объехал “чуть не все, как выразилась Таня, достопримечательные места Черноморского побережья Кавказа”. — Ах, как здорово! — шумно восхищался Николай. — Ах, как чудесно! Теперь каждый отпуск сюда! Каждый выходной! Каждый обеденный перерыв! Обратно достать билеты рядом не удалось. Владимир с Таней, заказавшие их давно, сидели в четвертом ряду, Николай, доставший билеты в последний момент, — в хвосте самолета. Когда вылетели, была ясная, звездная ночь, но по дороге машина попала в грозу. За окнами — сплошной мрак. То и дело с невероятным грохотом, слышным в салоне, ночь вспарывала совсем близкая ветвистая, ослепительно белая молния. Машина кренилась то вправо, то влево, то задиралась носом кверху, то куда-то пропаливалась. Стюардесса с вымученной улыбкой, держась за багажные сетки, ходила вдоль прохода. Раза два в салон заглядывали озабоченные летчики. Таня сидела бледная. Ее потемневшие глаза были широко раскрыты, пальцы судорожно вцепились в Володин рукав. Иногда она искоса поглядывала на него и, видя спокойное лицо мужа, его ободряющую улыбку, сама жалко и мимолетно улыбалась. Тане было очень страшно. Однако при мысли, что Владимир рядом, она на мгновение успокаивалась — с ним она не боялась ничего. Но тут гремел гром, молния превращала за секунду до этого черные овалы окон в снежные листы бумаги, и Таня еще сильней цеплялась за рукав мужа. Неожиданно, раскачиваясь, как плохой матрос во время шторма, к ним подошел Николай. — Лететь осталось недолго. Мне нужно рассказать Володьке одну важную штуку. В Сочи-то забыл. Дело срочное, а то опять забуду. Давай, Танька, поменяемся местами. Мне ненадолго. Таня посмотрела на него отчаянными глазами. Но Николай улыбался, как всегда. — Ты что, — спросил он вдруг, изобразив на лице преувеличенную тревогу, — уж не боишься ли, часом? А? Нет, ты скажи, ты трусишь, что ли? Таня быстро поднялась. Она трусит? Сам он трусит! Владимир пытался ее удержать, но она, не оборачиваясь, мотаясь, как щепка в потоке, добралась до последнего ряда, где было место Николая, и, опустившись в кресло, закрыла глаза. А Николай завел другу какой-то длинный и путаный рассказ о возможных перемещениях и слияниях в отделе, в Управлении, и так далее и тому подобное. Владимир слушал не перебивая, а когда Николай наконец замолчал, окончательно захлебнувшись в собственном повествовании, спросил: — Для чего ты всю эту чепуху развел? Чтоб с Таней местами поменяться? Да? Для чего? Николай облегченно вздохнул. Он не был мастером врать. Еще прихвастнуть куда ни шло. А врать — это у него не получалось. Выяснилось, что сосед Николая — опытный воздушный пассажир, то и дело разъезжающий по командировкам, — с самого начала грозы стал рассказывать страшные истории об авиационных катастрофах, свидетелем которых он был, а иногда даже и участником. Но они кончались благополучно, и пассажир всегда спасался. О, он был старый воздушный волк! Он еще не то видел! Подумаешь, гроза! Вот однажды он летел… В конце концов ему стало плохо, и он — благо последний ряд к туалету близко, — прикрыв рукой рот, торопливо скользнул в хвост самолета. Единственное, что Николай понял из всех этих страшных историй, — это то, что когда самолет совершает вынужденную посадку где попало, а иной раз даже падает, у пассажиров, сидящих впереди, нет никаких шансов спастись, в то время как те, кому повезло сидеть в хвосте, остаются невредимыми. Поэтому и пассажир этот всегда брал билет в последний ряд. Усвоив эту истину, Николай тотчас же покинул свое место и, качаясь из стороны в сторону, направился к друзьям, чтобы поменяться с Таней местами. Конечно, гроза при современном состоянии авиации — это ерунда, но все же пусть Таня сидит в хвосте, так спокойней. Он неуверенно посмотрел на друга. Владимир усмехнулся и, положив свою руку на руку Николая, крепко пожал ее. …Вот о чем вспоминал Владимир, пока вертолет летел в ночном, затянутом тучами небе к Шереметьевскому аэродрому. Наконец машина пошла на снижение. Внизу замелькали огоньки — красные, золотые, синие. Засверкала политая дождем бетонная полоса. Шум мотора стал тише. На минуту, слегка покачиваясь, вертолет повис над самой землей, а потом мягко опустился на нее. Торопливо открыв дверцы и крикнув летчикам: “Спасибо, ребята!” — Владимир, Логинов и Русаков выпрыгнули из вертолета и бегом направились к светящемуся вдали зданию аэропорта.2 ЧАСА 45 МИНУТ
Посадки на красноярский самолет еще не объявляли. Владимира и его помощников встретил на поле дежурный. Он сообщил, что патрульные машины к аэродрому не подъезжали — “Повар” мог их заметить, — а стоят неподалеку, наблюдение же за входами и выходами осуществляют внешне ничем не приметные дружинники-комсомольцы. Было ясно, что “Повар” появится (если он вообще появится) в последнее мгновение, когда посадка будет заканчиваться. Оставалось еще несколько минут, и дежурный аэродромной милиции коротко передал Владимиру то, что просил передать ему для информации дежурный по городу. В общих чертах предположения милиционеров оправдались. Дежурному по городу позвонили из девяносто шестого отделения милиции и сообщили, что туда привезли гражданина Гокиели с сотрясением мозга. Гражданин Гокиели дал следующие показания. Он очень спешил на Внуковский аэродром. На площади Революции такси не было, да еще стояла большая очередь. Он пытался остановить машину у “Метрополя”, у “Москвы”, но шоферы только отрицательно качали головой и показывали на стоянку. Наконец, когда очередное такси остановилось у подъезда гостиницы “Москва”, высаживая пассажиров, он, даже не дождавшись, пока они вылезут, решительно сел рядом с шофером и сказал: “До Внукова. Хорошо заплачу”. Но шофер все-таки подъехал к стоянке автобусов у “Стереокино” и спросил, не нужно ли кому на аэродром. Гражданин Гокиели побоялся протестовать — он был до смерти рад, что вообще достал такси. Желающих не было, и шофер уже собирался ехать, когда к машине подбежал какой-то здоровенный запыхавшийся мужчина и сказал, что он торопится на аэродром (с какой стороны подбежал, свидетель не заметил). Мужчина сел сзади (гражданин Гокиели сидел рядом с шофером). В пути пассажиры молчали, болтал один шофер. Он разглагольствовал о трудностях шоферской профессии, о том, что им повезло, вряд ли кто-либо, да еще по такой собачьей погоде, согласился бы ехать так далеко. Гражданин Гокиели молчал, а второй пассажир только однажды спросил: “А бензина-то хватит?” (Голоса человека свидетель не запомнил.) На что шофер сообщил, что бак заправлен “до крышки”, как он выразился, и тут же прибавил, что колонка была закрыта и он купил бензин на свои деньги у другого водителя. Когда выехали за город, второй пассажир начал смотреть в окно так внимательно, словно искал номер дома на неизвестной улице, хотя кругом была только дождливая ночь н лес. И вдруг — гражданин Гокиели даже побледнел при одном воспоминании об этом — второй пассажир вцепился в плечо шофера и закричал: “Стой! Стой! Не видишь?” Ошалевший от неожиданности шофер резко нажал на тормоза. Машина заплясала по скользкому шоссе и, чуть не въехав в кювет, остановилась. И тогда человек вынул нож и изо всех сил ударил шофера по голове. Он быстро, но спокойно перетащил тело (причем без всякого труда — он, наверное, был очень силен) на заднее сиденье, сел вперед и, бросив дрожащему гражданину Гокиели угрожающее: “Смотри у меня!” — сел за руль. Видимо, преступник хорошо водил машину, потому что, ловко развернувшись на шоссе, он вернулся назад, съехал на какую-то боковую дорогу (свидетель не помнит какую, он из Тбилиси, Москву не знает) и довольно быстро поехал по ней. Ехали долго (сколько, свидетель не запомнил). Наконец остановились. Преступник сделал гражданину Гокиели знак вылезать, сам вытащил шофера и, быстро обыскав его и забрав выручку (свидетель запомнил, что она была значительной, он никогда не думал, что шоферы такси так много выручали за день), бросил тело в грязь. Потом он обыскал гражданина Гокиели и взял у него все деньги, затем он поднял руку с ножом и ударил гражданина Гокиели. Тот потерял сознание. Когда пришел в себя, то нащупал здоровую шишку на голове (она очень болела) и понял, что его ударили не лезвием, а рукояткой. Он посмотрел на шофера, тот слегка стонал, его тоже, оказывается, ударили рукояткой. Гражданин Гокиели с трудом, спотыкаясь и падая, добрался до шоссе, потратив на это очень много времени (сколько, свидетель не помнит). Здесь он остановил первую же машину — ею оказался грузовик. Поехали за шофером. Тот уже пришел в себя и пытался дотащиться до шоссе. Всех доставили в отделение милиции. Хотя шофер не успел разглядеть преступника, а гражданин Гокиели его внешности и одежды не запомнил, было ясно, что нападение совершил “Повар”. Непонятным оставалось только, почему он не убил своих жертв. Во всяком случае, ему привалила неожиданная удача — он располагал теперь большими деньгами и машиной. Дальше преступник, видимо, действовал так: он доехал до аэродрома, оставил машину где-нибудь в неприметном углу (такси, обнаруженное без шофера, сразу вызвало бы подозрение) и, войдя в аэропорт, купил билет до Ашхабада (благо денег было много). Затем он, наверное, решил, на всякий случай, дождаться объявления посадки где-нибудь снаружи. Тогда-то он и увидел подъехавшие милицейские машины или подходивших работников. Он был слишком опытным преступником и сразу понял, кого видит перед собой. Опытным и решительным. Поэтому он немедленно побежал к брошенному им такси и помчался в Шереметьево. Рассуждал он, наверное, так: до посадки еще час, да то да се. В общем, часа полтора в его распоряжении. Дождь перестает, он хороший шофер — за это время по пустынной, ночной Москве, еще лучше по кольцевой, домчиться до Шереметьева он сумеет. А его там начнут искать, линия когда станет ясно, что к отлету ашхабадского самолета он не явился. За это время, если в Шереметьеве есть подходящий рейс, он сумеет улететь. “Повар” выполнил свой план. Он домчался в рекордный срок до Шереметьевского аэродрома, бросил машину где-то в лесу, добежал несколько сотен метров, купил билет до Красноярска и снова вышел. Он наверняка спрятался снаружи и наблюдает. Владимира и его помощников он видеть не мог — вряд ли он сообразит, что они прибудут на вертолете. Патрульные машины к аэродрому не подъезжали. Они стоят неподалеку на шоссе (прибыв туда уже после того, как “Повар” проехал) и связываются с аэродромной милицией через дежурного по городу по радиотелефону. Наконец, по утверждению докладывавшего все это лейтенанта, дружинников Коростылев распознать не мог. Они ничем не приметны, среди них есть даже девушки. Владимир был далек от такой уверенности. Он прекрасно знал, каким хитрым и осторожным преступником был “Повар”. От такого следовало всего ожидать. Но уж во всяком случае теперь достигнуто главное — напали на след. Если даже, почуяв опасность, “Повар” не выйдет на посадку, куда он денется? Шоссе перекрыто патрульными машинами. Шереметьево не такой уж большой населенный пункт, чтобы он сумел здесь спрятаться. Можно поднять на ноги всю местную милицию, вызвать собак… В репродукторе снова раздалось: “Производится посадка в самолет, вылетающий рейсом двадцать девятым по маршруту Москва-Омск-Красноярск. Пассажиров просят пройти на перрон для посадки в самолет”. Владимир, Логинов, Русаков и дежурный лейтенант стали в неосвещенном углу, недалеко от прохода на поле, откуда уже начали выходить первые пассажиры. Владимир то и дело поглядывал на часы. Они отсчитывали секунды, секунды слагались в минуты, минуты шли, а “Повар” не появлялся. Уже раздавалось из репродуктора несколько раз: “Производится посадка…”, несколько раз: “Заканчивается посадка…”, а они все стояли, напряженно всматриваясь в лицо каждого выходящего пассажира. Наконец вышел последний, пассажиры уселись в автопоезд, и он бесшумно укатил куда-то в глубь ночного аэродрома. В ту же секунду из дверей выскочила запыхавшаяся девушка, она торопливо огляделась и, увидев дежурного лейтенанта, бросилась к нему. — Он… там… побежал! — Она захлебывалась и задыхалась от волнения, и не сразу удалось понять, что произошло. Оказывается, “Повар” проник в здание аэровокзала не через дверь, а через плохо запертое окно в одном из коридоров первого этажа. У выхода из этого коридора в пассажирский зал стояло двое дружинников — парень и девушка. “Повар” подошел незаметно и, видимо, услышал, о чем они разговаривали. Он все понял и повернул обратно. Но в этот момент дружинник обернулся и встретился с “Поваром” глазами. Он сразу же бросился за ним, крикнув девушке: “Зови милицию!” Вот она и прибежала… Девушка говорила быстро, на ходу и закончила свое сообщение, когда вся группа уже подбегала к коридору. Владимир, Логинов и Русаков выскочили в окно и побежали прямо к лесу — больше отсюда преступник никуда бежать не мог, в других направлениях была открытая местность. Дежурный лейтенант остался, чтобы распорядиться действиями дружинников. Не прошло и нескольких минут, как десяток комсомольцев уже спешили по следам милиционеров к лесу. На опушке преследователи наткнулись на неподвижно лежащее тело. Владимир быстро наклонился, осмотрел дружинника и, облегченно вздохнув, выпрямился — парень был невредим, его просто свалили ударом кулака. “Повар”, наверное, спрятался за деревом и, когда дружинник пробегал мимо, ударил его. Коростылев знал, что человек, получивший удар ножом, мог перед смертью указать направление, в каком скрылся преследуемый. Оглушенный же (да еще таким кулаком, как у “Повара”), он долго не придет в себя. Погоня продолжалась. И вдруг Владимир остановился. Коротко бросив: “Продолжайте преследование, прочешите лес!” — он повернул обратно. У аэровокзала Владимир подбежал к автомобильной стоянке. Пусто! Он кинулся за угол, там мирно дремали поливочные машины — асфальт был мокрым от недавно закончившегося дождя, и никто не собирался производить уборку. Как быть? Тут Владимиру повезло. На дороге, слабо освещенной фонарями, показалась машина. Она приближалась неторопливо, и Владимир побежал навстречу. Наконец машина подъехала к аэровокзалу. Это оказалось такси. Бог знает, кого оно привезло: растяпу, опоздавшего на предыдущий самолет, или предусмотрительного, прибывшего за два часа до отправления следующего, — Владимира это не интересовало. Он еле дождался, пока пассажир расплатился, сел рядом с шофером и, предъявив ему свое служебное удостоверение, сказал: — Гоните вовсю. Мы должны срочно добраться до патрульных машин! Не встретили по дороге? — Стоят. Я проехал — ничего не сказали, — ответил водитель, молодой парень, которого неожиданное приключение явно увлекло. — А кого ловим, товарищ начальник? — Кого ловим? — задумчиво переспросил Владимир, пока машина на полной скорости вылетала на шоссе. — Мерзавца одного ловим! Ему бы я вот этими руками шею свернул! И в голосе его прозвучало столько ненависти, что шофер замолчал и только еще сильнее нажал на педаль. Через минуту он все же нарушил молчание: — А вы не собрата моего ловите, таксиста? Вот дал, будто ему багажник скипидаром смазали! — И парень рассмеялся. До Владимира, занятого своими мыслями, не сразу дошел смысл этих слов. Но, когда дошел, он чуть не схватил водителя за руку. — Таксист! Где вы его видели? — А вот как на аэродром ехали, метров двести не доезжая патрульных. Он прямо из лесу выехал. А потом как газанет в Москву! Вот я и думаю: чего ему в лесу делать — не от вас он, случаем, прятался? Теперь все было ясно. Предусмотрительный Коростылев спрятал свою машину в лесу, в километре от аэродрома, и остаток пути проделал пешком. А теперь он лесом добежал до нее и выехал на шоссе. Поскольку патрульные перегородили шоссе ближе к аэропорту, чем было спрятано такси “Повара”, они, естественно, не могли видеть, как он выезжал. Сейчас они, вероятно, спокойно продолжают стоять на дороге, если только не присоединились к дружинникам, прочесывающим лес. Последнее предположение оказалось верным. Когда Владимир, который включил в такси внутреннее освещение, поравнялся с милицейскими машинами, его никто не остановил. Промчавшись мимо, он успел лишь увидеть, что рядом с патрульными стоят двое дружинников, усиленно жестикулировавших и показывавших на лес. Видимо, они, прочесав спой участок, сообщили милиционерам, что “Повар” скрывается в лесу, и просили помощи. Патрульные теперь не имели никаких причин задерживать ехавшие со стороны аэродрома машины, тем более когда в них сидел не один человек, а больше. (Владимир затем и включил внутреннее освещение, чтобы патрульные разглядели это.) Скорей всего они будут помогать сейчас в прочесывании леса. Владимир решил не останавливаться — дорога была каждая секунда. Кроме того, хотя он и гнал от себя эту мысль, могла ведь произойти и ошибка: может быть, из лесу выезжало не такси, а какая-нибудь частная машина с загулявшими кутилами или такси, но “настоящее”, а не с “Поваром” за рулем… Мало ли что могло быть? Так пусть патрульные лучше помогают дружинникам — ведь те не вооружены. Владимир находил и другие столь же веские причины не останавливаться и продолжать преследование в одиночку. Но где-то внутри он со свойственной ему прямотой признавался себе: просто он хочет поймать убийцу Николая сам, один. Это не только его долг, это его право! И, если тот окажет малейшее сопротивление, станет он для него и судьей и палачом! Что бы там ни было, но он должен отомстить за смерть Николая! При этой мысли Владимир крепче стискивал зубы и сжимал кулаки. …Парень оказался лихим шофером, и машина неслась по еще мокрому от дождя шоссе с бешеной скоростью.3 ЧАСА 10 МИНУТ
Владимир прикидывал в уме, как далеко мог обогнать его “Повар” и как быстро тот ехал. “Повар” был отличным шофером (это доказывала быстрота, с какой он после похищения машины домчался до Внукова, а потом до Шереметьева), он знал, что за ним погоня, движения по шоссе почти не было. А патрульные и дружинники, как скоро они поймут, что птичка улетела, и сообщат дежурному по городу, а тот постовым на шоссе? И не свернет ли где-нибудь преступник, который ведь может предположить, что за ним гонятся милицейские машины, снабженные радиосвязью; и если он свернет, то куда? Кроме того, нет ли у “Повара” огнестрельного оружия? Владимир забыл спросить, нашли ли на Николае его служебный пистолет. Впрочем, если не нашли, это тоже еще ничего не значило. Николай мог просто не взять его с собой. Но могло быть и другое: “Повар” вполне мог иметь еще какой-нибудь пистолет. Тогда почему он не воспользовался им для того, чтобы оглушить свои жертвы, когда похищал такси (если преступники почему-либо не хотят стрелять, они делают именно так)? А потому, сам себе отвечал Владимир, что при феноменальной силе “Повара” ему достаточно было собственного кулака, тем более, если в нем зажата рукоятка ножа. А может быть, он хотел скрыть, что имеет пистолет?.. Все эти мысли роились в голове Владимира, пока такси мчалось по пустынному шоссе. Начинался рассвет, предметы приобретали очертания и все яснее проступали в сером свете наступающего утра. Долгое время шофер, сосредоточенно нахмурив брови и крепко сжав руль, молчал. Потом, “втянулся в скорость” и, несколько раз метнув взгляд в сторону Владимира, наконец не выдержал: — Одного догоняем, товарищ начальник? — Одного, — помолчав, ответил Владимир, не сразу оторвавшись от своих мыслей. — Тогда порядок. — Парень повеселел. — В случае чего могу подсобить. Тоже не лыком шит — первый разряд по футболу имею! После паузы он задал новый вопрос: — Что, сшиб кого-нибудь? Пьяный, наверное… — Нет, не сшиб, — медленно сказал Владимир, — убил. Нож всадил… — Убил? — Добродушное лицо шофера сразу стало суровым. — Вот гад! Кого убил? Пассажира? Небось за деньгой погнался! — Нет, не пассажира. — Владимир повернулся к шоферу. — Да он вообще не таксист — машину угнал. А убил он друга моего, лучшего друга, понял? Владимир сам не знал, почему вдруг сказал об этом незнакомому парню. Сказал, пожалел и сразу жалеть перестал, столько искреннего, горестного сочувствия прочел он в глазах шофера. — За что убил-то? — глухо спросил тог. — За что убил? — Владимир задумался. — За то, что боялся его. За то, что знал, не будет ему спокойной воровской жизни, пока Николай жив. Вот за это и убил. Всадил нож в спину. — Что ж он, дурак, — после долгой паузы заговорил шофер, — не понимает, что ли? Ну одного из милиции убил, другого. Все равно ведь пустым место не останется! Верно я говорю? В конце-то концов прихлопнут его и всех их таких! Не будем же мы их терпеть! Теперь тем более! Милиция-то ведь не один человек, а сила! Да и то скажу, народу сколько помогает, вон дружинники там, комсомольцы! Да любой. Хоть меня возьмите, хоть кого. Если сейчас поймаем, я ему, честное слово, первый шею сверну! Владимир не отвечал. В своей нехитрой речи парень высказал мудрую и непреложную истину: преступный мир обречен. Времена изменились. Теперь милиционеры — это в большинстве комсомольцы и коммунисты с образованием, окончившие средние и высшие специальные учебные заведения, вооруженные современной могучей техникой и наукой, их начальники соединяют в себе знания ученых и искусство полководцев. А плечом к плечу с милицией стоит многотысячная армия дружинников, людей решительных, беспощадных к преступникам, сильных своей ненавистью к ним, своей сплоченностью и убежденностью. А печать, а общественное мнение… Да что там говорить — преступный мир обречен! Если вообще еще можно называть “преступным миром” вымирающих профессионалов, тунеядцев, предпочитающих воровство работе, трусливых хулиганов… Кто знает, может быть, именно его, Владимира, молодому поколению суждено вбить, как говорится, последний гвоздь в гроб этого самого преступного мира? …Машину “Повара” увидели, когда подъезжали к водной станции “Динамо”. Далеко впереди, в светлеющих сумерках, показалась медленно увеличивающаяся “Волга”, мчавшаяся к городу. Она была хорошо видна на пустынном шоссе. — Ну, — сказал Владимир шоферу, — теперь давай! Вот он! Парень не ответил, он только крепче вцепился в руль, поудобней устраиваясь, завозился на сиденье, словно пулеметчик перед тем как открыть огонь. “Волга” росла, как ни отчаянно мчался “Повар”, шофер Владимира был еще более искусным водителем. И все же расстояние сокращалось очень медленно. Одно время казалось, что “Повару” удалось даже немного оторваться, но потом расстояние вновь стало сокращаться. Машины промчали развилку шоссе, нырнули в туннель, вот позади остались станции метро “Сокол”, “Аэропорт”, “Динамо”, “Белорусский вокзал”… Раза два-три машины пролетали мимо постовых. Но те, разумеется, не могли знать, что происходит у них на глазах. Они, наверное, думали, что это мчатся таксисты-лихачи, спешащие доставить пассажиров с Шереметьевского аэродрома на Внуковский или на какой-нибудь вокзал. Милиционеры грозили пальцами, а один даже заспешил к телефону, чтобы сообщить следующему посту о нарушителе, превысившем скорость. На площади Маяковского, когда машины разделяло уже не больше двухсот метров, “Повар” неожиданно свернул вправо, на Садовое кольцо. Он до предела увеличил скорость. Еще несколько минут — и машины промчались по площади Восстания, вновь нырнули в туннель. Миновали Смоленскую площадь и понеслись к Зубовской. Расстояние между машинами еще больше сократилось. И вдруг “Повар” применил неожиданный маневр. Он сбросил скорость и, не доехав немного до улицы Щукина, внезапно свернул влево. Завизжали шины об асфальт. “Повар” направил такси в подворотню невысокого дома и резко затормозил. Вот тут-то Владимир смог в полной мере оценить искусство своего водителя. Он не проскочил дальше, как рассчитывал преступник, а свернул сразу же вслед за “Поваром”. Его такси ударилось в преследуемую машину в тот самый момент, когда “Повар” выскочил из своего такси и устремился в глубь двора. Владимир понял план Коростылева. Уйти от преследования на машине тот не мог, он понял это. Еще пять минут, еще десять, и Владимир нагнал бы его. К тому же мчаться по центральным улицам становилось опасно — стало почти светло, светофоры включили, регулировщики выходили на дежурство, навстречу попадалось все больше машин. Кроме того, “Повар” уже сумел разглядеть, что преследует его не патрульная и вообще не оперативная машина, а такси, в котором всего один пассажир. В этих условиях он мог рассчитывать, добравшись до хорошо знакомого ему места, бросить машину где-нибудь у проходного двора и скрыться. В случае чего можно было спрятаться за выступом стены, в темном подъезде, за воротами и убить преследователя, используя преимущество во внезапности, нож и свою огромную силу. Когда такси Владимира врезалось в заднюю часть машины “Повара”, шофер ударился грудью о руль и его немного ошеломило. Владимир мгновенно открыл дверцу и бросился вперед. С трудом протиснувшись между брошенным преступником такси и стеной подворотни, он выбежал во двор. “Повар” был метрах в тридцати впереди. Он пробежал мимо палисадников, мимо стоявшей в глубине двора школы и скрылся за ее углом. Владимир устремился за ним. Они бежали быстро и бесшумно. Завернув, в свою очередь, за угол школы, Владимир увидел длинный неширокий проход; слева возвышалась огромная стена, справа — двухэтажные дома. Свет нигде не горел, занавески были задернуты. Люди еще спали. “Повар” уже подбегал к деревянным раскрытым воротам, выходившим на улицу. “Улица Веснина”, — мысленно прикинул Владимир. Он бежал быстрей преступника, и расстояние между ними с каждым шагом сокращалось. Но, когда Владимир добежал до ворот, “Повара” нигде не было видно. Старый московский переулок был пустынен. Слева, возле итальянского посольства, неторопливо прогуливался милиционер; сейчас он был как раз в дальнем конце своего маршрута и обращен к Владимиру спиной (он наверняка не видел промелькнувшего “Повара”); справа, на перекрестке, ритмично то вспыхивал, то гас желтый свет орудовской “мигалки”. Убежать влево преступник не мог — там ходил милиционер, да и переулок протянулся далеко. Справа, правда, где перекресток располагался намного ближе, можно было свернуть за угол. Но, если бы “Повар” сделал это, Владимир успел все же увидеть его — расстояние между ними было недостаточно велико. Значит, что? Значит, преследуемый или в подъезде дома напротив (но это маловероятно — дом высокий, а кругом маленькие — по крышам не убежишь), или он вбежал в калитку рядом с домом. Все эти размышления заняли секунду. Владимир бросился в калитку. Он попал в небольшой захламленный двор, казалось, без другого выхода, но, добежав до конца замыкавшей этот двор стены дома, Владимир обнаружил узенький проход. Он осторожно — уж очень проход был удобен для засады — вбежал в него, завернул за угол и оказался в сквере, разбитом перед невысоким домом. Мелькнула спина “Повара”, выбегавшего из ворот снова на улицу. Владимир устремился за ним. Теперь они опять оказались в переулке, но “мигалка” на этот раз была прямо перед ними. “Повар” пересек улицу Веснина и побежал дальше. Вдали виднелось Садовое кольцо, откуда уже доносился шум уличного движения — Москва просыпалась. “Повар” промчался вдоль каменной ограды, отделявшей от улицы пятиэтажный дом, свернул вправо в ворота, углубился в подворотню и снова свернул направо. Их разделяло метров двадцать, “Повар” бежал тяжело, и Владимир понял, что развязка близка. Кроме подворотни, двор выходов не имел. На мгновение Владимир остановился и перевел дыхание. Теперь “Повару” оставалось лишь одно — вступить в схватку. Но тот, не задерживаясь, уверенно вбежал в один из подъездов. Что он намерен был сделать? Как скрыться? И тогда Владимира осенило. Еще вбегая в ворота, он заметил справа узкий глухой сад, расположенный между оградой и домом. В сад выходили подъезды. Они находились напротив тех, что выходили во двор. Теперь он понял маневр “Повара”. Пока Владимир будет искать его по всем этажам, Коростылев покинет подъезд через дверь, выходящую в сад, и спокойно выскочит снова на улицу. Владимир мгновенно повернул обратно, пробежал подворотню и свернул в сад. В нескольких метрах от себя он увидел бежавшего навстречу “Повара”. “Повар” был страшен. Он остановился, тяжело дыша, во рту, широко открытом, блестел золотой зуб, маленькие глазки горели смертельной ненавистью, лицо покрылось потом. Он был весь в грязи… Какое-то мгновение оба стояли неподвижно. Потом в руке “Повара” сверкнул длинный, тонкий нож, и с каким-то глухим, звериным ревом он бросился вперед… Много позже, когда все уже кончилось, кто-то спросил Владимира, почему он не воспользовался пистолетом. Владимир недоуменно посмотрел на задавшего вопрос — действительно, почему? Ведь проще простого было во время преследования приказать “Повару” остановиться под угрозой оружия, дать предупредительный выстрел, наконец, просто выстрелить в ногу. Когда же преступник бросился на Владимира с ножом в руке, меры необходимой самообороны не только разрешали, а просто требовали, чтобы Владимир воспользовался пистолетом. (А главное, разве не было бы это самым простым и к тому же законным способом отомстить за Николая?) Однако он этого не сделал. И вряд ли мог объяснить почему. В тот момент, когда “Повар” бросился на него, Владимир почувствовал себя на спортивном ковре. Это была очередная схватка по самбо, с топ разницей, что ставкой здесь была не золотая медаль, а жизнь. Мозг Владимира, как всегда во время поединка, работал с невероятной быстротой, но абсолютно спокойно. Обстановка оценивалась в долю секунды. Решения принимались мгновенно, почти автоматически, и так же мгновенно осуществлялись. Но “Повар” был не обычный противник — его вес превышал вес Владимира на добрых двадцать килограммов (в самбо такого не могло бы случиться). Он весь был отлит из мускулов и ростом на голову выше. В своей огромной руке он держал нож (и не деревянный, какой используют в показательных выступлениях самбисты), нож, которым он искусно владел. Резкий, точный удар ноги, которым Владимир попытался выбить у преступника оружие, оказался недостаточным. “Повар” только взвыл от боли, но ножа не выпустил. Он на секунду остановился и, молниеносно перехватив нож в другую руку, снова кинулся на Владимира. Владимиру не повезло. Он сумел мгновенно восстановить равновесие, потерянное после неудачной попытки выбить нож, сумел отбить удар, который “Повар” нанес ему левой рукой, но в это время нога его поскользнулась на мокрых после прошедшего дождя листьях и он чуть не упал. “Повар” воспользовался этим и ударил снова. Владимир успел качнуться в сторону, и нож рассек одежду, глубоко вспоров мякоть руки. “Повар” быстро перехватил нож в правую руку — он сделал это инстинктивно, — правой рукой действовать было привычней. Это была ошибка. И ошибка непоправимая. Не обращая внимания на боль, Владимир левой рукой отбил кисть нападавшего и в то же время правой резко рванул к себе руку “Повара” за локоть. Молниеносным движением Владимир завел ее “Повару” за спину и нажал. Преступник взревел от боли, нож со звоном отлетел на асфальт. Владимиру достаточно было теперь сделать легкое движение, чуть-чуть нажать и он сломал бы Коростылеву руку. Вот, казалось бы, и наступило самое время осуществить свою месть — “задушить”, “сжечь на медленном огне”. Ведь боль, когда медленно ломается рука, чудовищна… Но Владимир чуть-чуть ослабил захват, ровно настолько, чтобы задержанному не было больно и в то же время чтоб он не смог шевельнуться. Владимир внутренне усмехнулся: подполковник Голохов мог не предупреждать — Владимир и так никогда не забывал, что он прежде всего работник советской милиции! Он держал в руках убийцу Николая — своего самого близкого, самого дорогого друга. Он держал в руках страшного, неисправимого преступника, матерого бандита, на чьей совести была не одна погубленная жизнь, грабежи, нападения, насилия; преступника, наверняка обреченного на смертную казнь… Но в эту минуту Коростылев был для него лишь “задержанный”. Лейтенант Анкратов — работник милиции, а не судья или заседатель. Его обязанность — задерживать преступников, не судить, не карать. Из раны обильно текла кровь, каждое движение вызывало острую боль, а руку приходилось держать напряженной. Видимо, удар ножа оказался серьезней, чем думал Владимир. Он вывел “Повара” на улицу и огляделся. Кругом никого не было. Он потащил задержанного на улицу Веснина, где около посольства стоял милиционер. Именно потащил: “Повар” упирался, шаркал ногами по земле, грязно ругался, стонал в бессильной ярости, огромный кулак свободной руки то сжимался, то разжимался. Владимир находился в постоянном напряжении — малейшая потеря внимания, и “Повар” мгновенно воспользовался бы ею. Когда они вышли на улицу Веснина, Владимир увидел, что рядом с милиционером стоит шофер его такси. Оправившись от толчка, парень прошел, наверное, за ними следом по дворам и, выйдя на улицу, подбежал к милиционеру, чтоб узнать чем кончилась погоня. Но милиционер не мог ответить — он и сам ничего не знал. Они стояли и обсуждали, куда же могли деваться преступник и преследовавший его работник милиции. Когда шофер увидел Владимира, он бросился к нему навстречу. В глазах его было столько злости, а в движениях — решительности, что Владимир предостерегающе крикнул: — Не трогать! Однако парень, подбежав, изо всей силы ударил “Повара” кулаком. — Не трогать! — повторил Владимир, поворачиваясь так, чтобы загородить собой задержанного. Но шофер излил в ударе всю свою злость, он больше не пытался бить преступника и лишь шипел сквозь зубы: — Гадина! Не человек ты, понял? Гадина! Моя бы воля, я б тебе не то что руку, голову свернул! Человека убил, подонок… Он топтался вокруг, не зная, как поступить, чем помочь. Постовой у посольства, еще издали завидев Владимира, не стал терять времени. Он не мог покинуть пост, но тут же бросился к телефону и позвонил в отделение милиции, находившееся в соседнем переулке. Не прошло и пяти минут, как из-за угла вылетела дежурная машина. “Повара” схватили, связали, запихнули в машину и повезли в отделение. Один из милиционеров, получив подробные указания Владимира, где искать нож, отправился за ним. Минут через двадцать в отделение прибыл Голохов. За это время Владимиру кое-как перевязали руку, он умылся. Приехавший с дежурным по городу врач сделал перевязку заново. Щуря глаза за очками, он бормотал: — Ты смотри, как повезло. Вот повезло, совсем рядом с веной, миллиметры… Да и то резанул! Я ж говорил: не нож — стилет. — Он косился на принесенный милиционером нож, который Голохов, покачивая головой, вертел в руках. Владимир сидел бледный — крови он потерял все же немало, рана продолжала гореть, хотя врач и смазал ее чем-то. — Сменишься, надо обязательно сходить перевязать, — сказал врач. Голохов направил было Владимира в находившуюся по соседству поликлинику, но тот категорически отказался. Он коротко и ясно доложил о ходе “операции по задержанию преступника Коростылева, по кличке “Повар”. Приехавшие с Голоховым сотрудники и местные милиционеры, разделившись на группы, отправились одни к брошенным такси, другие к месту схватки, третьи записывали показания свидетеля-шофера. “Повара” увезли на Петровку. Голохов сел в машину и увез с собой Владимира. Не успел дежурный по городу войти в свой кабинет, позвонил начальник Управления. Он звонил из квартиры. Несмотря на ранний час, комиссар не спал, его глубоко взволновало убийство сотрудника милиции. Уж, кажется, чего только не повидал начальник Управления за свое хоть и недолгое пребывание на этой должности; вряд ли был в Москве другой человек, который ежедневно сталкивался с таким количеством трагедий, несчастий, подлостей, слез и крови. Но он от этого не стал равнодушным к человеческим судьбам, и каждое горе задевало его. Особенно же тяжело переживал он гибель своих сотрудников. Дежурный по городу точно и коротко доложил подробности ночной операции. — …Анкратов, товарищ комиссар. Лейтенант Анкратов… — повторил он дважды фамилию Владимира, отвечая на какой-то вопрос начальника Управления. — Ясно, товарищ комиссар, передам! — закончил он разговор. — Лейтенант Анкратов, — Голохов повернулся к Владимиру, — начальник Управления объявляет вам благодарность. — И, не дав Владимиру ответить, добавил: — А теперь давай-ка в поликлинику. Но Владимир снова решительно отказался — он хочет додежурить до смены. Пряча улыбку, Голоховприказал: — Тогда шагом марш вниз, отдыхать! Когда Владимир вошел в комнату на первом этаже, его окружили. Это не было простое любопытство, это был интерес коллег и товарищей, любому из которых приходилось бывать в таких же переделках, как Владимиру, любого из которых могла постигнуть такая же судьба, как Николая. Лица были спокойны и суровы. Вопросы задавали деловые, профессиональные. Так же по-деловому, стараясь скрыть жалость и печаль, обсуждали, что надо сделать для Нины, как сообщить ей страшную весть. Об отдыхе Владимир и не думал. В девять часов он позвонил Тане. — Володька! — радостно кричала она в трубку. — Ну чего ты так поздно? Я совсем заждалась. Мне тут такие кошмары ночью снились — что все твои бандиты за нами гонятся, а мы удираем, а потом ты как выстрелишь, еще, еще… И проснулась, а это Клавдия Ивановна стучала — молоко принесли. А то бы не проснулась. — Она весело смеялась, потом заговорила озабоченно: — Володь, ты хоть поспал? А? Хоть немного? — Ну конечно, я… Но Таня перебила: — Ты помнишь? Мы ведь сегодня к Николаю идем. Я Нинке пирог мой знаменитый обещала испечь, пойду тесто ставить. Я сейчас ей позвоню, может, Николай еще дома… — Нет! Не звони! Было, наверное, в голосе Владимира что-то такое, что заставило Таню сразу замолчать. Потом она тихо спросила: — Почему? Что-нибудь случилось? Володя… Но Владимир уже овладел собой. — Не надо, Таня, он сегодня есю ночь работал, устал, спит еще, не звони. Я приду, тогда вместе… А Николай, он спит, — медленно повторил Владимир. — Хорошо, подожду тебя, ты скоро? — Скоро. Понимаешь, я тут ударился немного… споткнулся на лестнице, света все никак не сделают, забегу только в поликлинику и приеду. Хорошо? — Расшибся? — Таня разволновалась. — Сильно? Володя, бедненький мой! Тоже мне милиция — солидное учреждение, не могут свет на лестнице провести! — сердито кричала она. — Ну скорей, Володенька, скорей! И не завтракай там. Будем вместе. Ладно? Я буду ждать… Владимир долго сидел у телефона, неподвижно глядя в пространство. Да, верно. Сегодня они с женой должны были идти в гости к Ветровым. С пирогом, который Таня будет сегодня старательно печь и который Николай уже никогда не попробует… Он решительно встал. Надо было ехать к Нине, все сказать ей и быть при этом спокойным и бодрым, надо было работать, учиться, бороться с преступниками. Надо было идти дальше по жизни, твердо и смело, так, чтобы ни о чем не жалеть, чтобы спокойно смотреть людям в глаза; так, чтобы пройти ее хорошо и честно, как прошел Николай, пройти, какой бы длины ни был путь — в долгие ли годы, в один ли день…10 ЧАСОВ
Владимир поднялся наверх. Подполковник Голохов ушел диктовать сводку. Новый дежурный, подполковник Кафтанов, уже сидел за столом, листая журнал. Заместители и помощники сдавали сменщикам дежурство. Владимир доложил, что уходит, и направился к двери. Последнее, что он слышал, перед тем как прикрыть ее за собой, был негромкий, чуть хриплый голос подполковника: — Кафтанов, дежурный по городу, слушает! Начинался новый день…
Север Гансовский. ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЦАРСТВО
…Все было для Сергея увлекательным и интересным: и Мухтар и Самсонов, с которыми он только недавно познакомился, и эта поездка по степи, и вообще весь Казахстан, увиденный вот так впервые в жизни. Сергею было девятнадцать лет, он учился в Ленинграде на втором курсе Библиотечного института и летом после экзаменов отправился на экскурсию в Алма-Ату. Потом другие ребята уехали обратно, а Сергей остался, чтобы выполнить одно поручение. Само поручение тоже было удивительным и романтичным. Когда Сергей был еще дома, к ним, в Гусев переулок, приехала дальняя родственница из Киева, жена ученого-энтомолога, погибшего в 1941 году. Узнав, куда едет Сергей, она рассказала, что ее муж как раз перед началом войны закончил в своем институте перспективное, как тогда считали, исследование по насекомым. Работа была коллективная, но группа, занимавшаяся ею, в период боев под Киевом пошла на фронт и вся погибла. Уцелел только лаборант мужа, обрусевший немец Федор Францевич Лепп, который на фронт не попал и при невыясненных обстоятельствах остался в Киеве при фашистах. После освобождения столицы Украины он куда-то исчез, а потом его видели в Казахстане, в маленьком местечке Ой-Шу, в горах. Родственница Сергея считала, что у Леппа могли сохраниться какие-нибудь записи мужа. Сергей сгоряча пообещал обязательно разыскать бывшего лаборанта, но, когда остался один в Алма-Ате, выяснил, что это не так легко. От железной дороги до Ой-Шу было больше ста километров. Автобусы и никакой другой регулярный транспорт туда не шли, и вообще дорога считалась непроходимой для колеса. Сергей уже совсем было приуныл, но на станции Истер, куда он добрался, ему посоветовали сходить в контору Геологического управления. Там в маленьком дворике возле двух оседланных коней он увидел пожилого лысеющего медлительного мужчину, который с сосредоточенным вниманием рассматривал ремень вьюка. Это был Самсонов. А дальше все начало складываться само собой, как в сказке. Самсонов выслушал Сергея, помолчал, посмотрел на небо и тут же, не сходя с места и не обращаясь ни в какие инстанции, сказал, что возьмет его до Ой-Шу. Что они потом доедут до озера Алаколь, а оттуда — до озера Сасыкколь, от которого Сергей уже сможет самостоятельно выбраться к железной дороге. При этом он прибавил, что ему, Самсонову, придется сделать крюк в триста километров, но это неважно, так как на Алаколе изыскательская партия ждет его не раньше, чем через десять дней. — А когда поедем? — спросил, волнуясь, Сергей. — Да хоть сейчас. Надо бы только на станцию зайти. Вдруг попутчик найдется… Как тебя звать-то?.. Сергей первый раз за всю жизнь видел человека, который мог вот так самостоятельно решить сделать крюк в триста километров по пустыне. Он сразу чуть не влюбился в Самсонова. Ему хотелось научиться с такой же ленцой сидеть в седле, так же неторопливо и ловко все делать, захотелось даже иметь такую же загорелую лысину, какая была у геолога. Попутчик нашелся тут же в Истере — старый казах с холодным, равнодушным взглядом, широкий, как бочонок, и кривоногий. Он сидел в буфете на станции и сам ввязался в разговор. Звали его Мухтар Оспанов, по-русски он говорил чисто. Они выехали на следующее утро, и тут выяснилось, что Мухтар сам знает Леппа, который живет не в Ой-Шу, а еще дальше, в предгорье, в полном одиночестве. (Что он там делает, Мухтар не сказал.) В первый день пути им навстречу попался молодой казах — инструктор райкома партии. Он спросил, не смогут ли они прочесть антирелигиозные лекции в ближайших аулах, рассказал, что в степи появился жулик, выдающий себя за святого, и что “в этой связи наблюдается взрыв религиозного фанатизма”. Выражение “взрыв религиозного фанатизма” ему очень нравилось, он повторил его трижды. В разгаре беседы его взгляд вдруг упал на жеребца, которого Самсонов дал Сергею, и инструктор райкома попросил разрешения попробовать его. Сергей спешился, инструктор вручил ему повод своего коня, не выпуская из руки портфель с делами, вскочил на жеребца и показал такой аллюр, какой Сергею и не снился. Все это, вместе взятое, — и “взрыв религиозного фанатизма”, и таинственный молчаливый Мухтар, и Самсонов, и романтический характер поручения, и ночевки в юрте, и огромное звездное небо, если выйти ночью, и хруст травы, которую щиплют в темноте кони, — все наполняло Сергея острым чувством счастья. Степь располагала к разговорам и мечтам. Сергей еще раньше, в деревне под Ленинградом, выучился ездить верхом, поэтому длительная встреча с седлом здесь, в Казахстане, не оказалась для него мучительной. Было так радостно мерно покачиваться в такт широкому шагу жеребца, всматриваться в синие горы на горизонте, размышлять, иногда обращаться с каким-нибудь вопросом к Самсонову и получать от него неожиданные, требующие новых размышлений ответы. — Петр Иванович, а как вы думаете, может, например, существовать такая планета, которая вся представляла бы собой единственный сплошной огромный мозг? Самсонов думал минуту или две. — Сомнительно. Мозг ведь развивается, только прилагая свою деятельность к чему-нибудь. Где нет ничего, кроме мозга, не может быть и мозга. А когда Самсонову хотелось помолчать, можно было беседовать и с конем, потому что тот в ответ на каждую фразу по-другому ставил уши. Это было как разговор по семафору. Говоришь жеребцу что-нибудь — правое ухо опускается, а левое встает торчком. Говоришь другое — левое ухо идет вперед, а правое поднимается. И так все время. А потом можно было дать коню повод, прижать ему брюхо каблуками и мчаться в галоп так, что космы травы по бокам внизу сливались в прямые линии, а степь бешено неслась навстречу. Остановишься — конь фыркает, встряхивает головой, бросает белую пену с губ, а Мухтар и Самсонов видны вдали маленькими фигурками. На третий день начались горы, и, следуя за Мухтаром узкими, натоптанными копытом тропинками, путники углубились в лабиринты холмов и ущелий. Горы были каменными, мертвыми и в то же время какими-то живыми. Неправдоподобно огромные, неподвижные, они, казалось, поднялись с груди земли с какой-то тайной целью, в которую никогда не проникнуть маленьким мушкам — всадникам, медленно ползущим вдоль гигантской стены. Горы молчали, но, когда Сергей долго вглядывался в какой-нибудь гранитный, в трещинах уступ, чудилось, будто напряженные изнутри глыбы оживают и что-то немо говорят. Муравьи шли плотной колонной около полутора метров ширины. Насекомые были крупные, красные и сильно кусались. Когда Сергей подобрал одного на руку, тот вцепился в палец с такой энергией, что тотчас выступила крохотная точечка крови. — Голодные, — сказал Сергей. Уже с полчаса они с Самсоновым наблюдали за удивительным шествием. Все мелкое население степи разбегалось на пути красных разбойников, а кто не мог убежать, тому приходилось худо. По обеим сторонам колонны спешили отряды разведчиков. Жужелицы, кузнечики, пауки — все, что не успевало спастись, разрывалось на части. На пути колонны из норки вылезла небольшая желтая змея и поспешно поползла прочь. Тотчас сотни насекомых очутились на ней. Змея задергалась, заторопилась, но с каждой секундой муравьев на ней становилось все больше, в конце концов она вся покрылась ими. Змея свертывалась и развертывалась, но это был уже какой-то черный копошащийся клубок. — Черт! — Сергею стало жаль ее. Он шагнул к колонне и ногой отшвырнул змею в сторону. Сразу же у него на брюках оказалось с десяток насекомых. Он поспешно отряхнулся. — Поедемте, Петр Иванович. — Сейчас, — ответил Самсонов. Муравьи кусали и его, но он смотрел па них с радостным интересом исследователя, у которого удовольствие при встрече с новым явлением в природе полностью перевешивает неудобства, с этим явлением связанные. Мухтар с конями ждал их поодаль. — Никогда такого не видел, — сказал Самсонов. — Не знал даже, что тут водятся такие кочующие муравьи. Они подошли к коням. — А что — здесь часто вот так муравьи кочуют? — спросил геолог у проводника. Мухтар, мешком сидя на высоком деревянном седле, равнодушно пожал плечами. Вдали вдруг послышался топот множества копыт. Из-за ближайшего холма пушечным снарядом вылетел гнедой неоседланный жеребец с развевающейся гривой. За ним скакали другие, все с такими же гривами, темно-гнедые, со звездочкой на лбу. Мгновение — и косяк в два десятка жеребцов пронесся мимо. Потом снова раздался топот. Молодой загорелый табунщик в лисьей шапке вымахал из-за холма на крупном галопе. Увидев всадников, он стал сдерживать коня и подъехал. Мельком оглядев Самсонова и Сергея, он кивнул и сразу горячо заговорил с Мухтаром. Лицо у него было потное и злое. Они говорили по-казахски. Сергею казалось, будто парень чего-то требует от проводника и в чем-то его обвиняет. Но лицо Мухтара оставалось каменным. Напоследок парень сказал что-то твердое и короткое, отвернулся и поскакал за косяком. Проводник поглядел ему вслед, презрительно сплюнул. Снял шапку, вытер крепкий лоб с седеющими висками, повернул кобылу и пустил ее трусцой. — О чем они говорили? — спросил Сергей у геолога. — Странное что-то… Табунщик обвинял Мухтара, что из-за него насекомые взбесились и пугают лошадей. Я не все понял… И еще парень его упрекал за какую-то святыню. Ругал… Вообще, этот наш Мухтар — тип. — Тип?.. В каком смысле тип, Петр Иванович? Они уже ехали. Самсонов помолчал, потом повернулся в седле. — Мы когда в Истере собирались, я с парикмахером разговорился на станции. Мухтар, оказывается, бывший бай. Стада у пего были тысячные. В тридцатых годах бандой руководил. Дали ему десять лет заключения, отсидел, вернулся. Попался потом на переходе границы. Опять исчез. И вот два года, как снова появился в этих краях… — Он оборвал себя и стал вглядываться вниз, в траву. — Что такое? Посмотри, Сережа. Трава под копытами коней, казалось, неестественно ожила. Всюду было какое-то странное мелькание. Что-то похожее на колоски, пляшущие под ветром. Светлые пятнышки, которые непрерывно двигались, создавая впечатление, будто поверхность травы кипит. Сергей и Самсонов спешились и наклонились к земле. Сергей раскрыл ладонь над травой, и тотчас к нему на пальцы сел светло-зеленый кузнечик с коротенькими крыльями и длинными — далеко за спину — усиками. Он посидел миг и прыгнул дальше. Сразу второй приземлился на ладонь и опять скакнул вперед, описав в воздухе маленькую параболу. Кипение травы и было кузнечиками, которые в неисчислимом количестве двигались все в одном направлении. — Саранча? — тревожно спросил Сергей. Самсонов покачал головой. Он тоже поймал кузнечика и разглядывал его. — Ничего похожего. Обыкновенный кузнечик. Они и стаями никогда не собираются — вот такие. Вдвоем они еще с минуту смотрели на траву, кишащую светлыми точками. — Странно, — сказал геолог. — Действительно, все насекомые взбесились тут, в предгорье. Муравьи, и теперь вот эти… Они были теперь на сырте — одной из приподнятых равнин, характерных для гор Джунгарского Алатау. Справа вниз уходила степь, слева высился увенчанный ледниками хребет. Солнце клонилось к закату. Пора было думать о ночлеге. Но только через час Мухтар поднял наконец руку: — Здесь. Метрах в ста от тропинки у холма стоял полуразрушенный глинобитный дом. За ним виднелись остатки деревянного загона для скота. Все было покинуто, и площадка перед домом заросла травой. В зарослях журчал ручеек. Пока Мухтар с Самсоновым расседлывали лошадей, Сергей пошел наломать курая для костра. Вскоре Самсонов услышал его голос. — Петр Иванович! Петр Иванович, идите сюда! Позади дома на вытоптанной полянке торчал грубо вытесанный невысокий каменный столб, окруженный оградой из жердей. На жердях висели разноцветные ленты. Подойдя ближе, геолог и Сергей увидели на земле несколько кучек монет. Лежал и бумажный рубль, придавленный камнем. У самого же столба был привален плотно скрученный и перевязанный веревкой отрез материи. — Что это? — Святыня, — ответил Самсонов. Он поднял отрез, повертел в руках. — Это религиозные старики приносят. Старухи… Позади они услышали покашливание. Подошел Мухтар. — А кто же это все забирает потом? — Кто забирает? — Самсонов покосился в сторону казаха. — Да уж кто-нибудь забирает. Так не остается. — Хазрет, — сказал проводник. Он холодно посмотрел на обоих русских и пошел к дому. — А что такое хазрет? — Святой. Святой забирает. — Геолог положил отрез на прежнее место. — Да, интересно все это. Посмотрим, что дальше будет. После ужина они легли спать в доме на полу, расстелив потники и положив под голову седла. Когда Сергей засыпал, ему показалось, будто кто-то встал и вышел из дома. Потом он услышал конский топот. Ему хотелось подняться и посмотреть, кто это поехал, но тут сон сморил его. Проснулся он среди ночи от какого-то жжения на шее. Подняв руку, он нащупал на коже твердые живые соринки. Геолог уже сидел на полу и торопливо шарил по карманам, стараясь найти электрический фонарик. Проводника в комнате не было. Фонарик наконец обнаружился. В круге света на полу двигались сотни белесых точек. — Опять муравьи! Но это были термиты. Густой колонной они вылезали из щели под стеной, пересекали комнату и скрывались в другой щели. Почти два часа Самсонов и Сергей просидели в дальнем углу помещения. Потом колонна наконец прошла, геолог и Сергей, недоверчиво осмотрев пол, легли и заснули. Проснулись они, только когда луч солнца из маленького окошка уже спустился со стены на пол. Геолог первым вышел из дома с мылом и полотенцем в руках. Сергей услышал его голос: — Сережа! Сережа, скорее сюда! Сергей выбежал наружу, обогнул дом и ахнул. Перед ним лежала дорога. На траве. Кусок ровного бетона шириной метра в два и длиной в пять. Бетон начинался сразу у дома и шел к “святыне”. Впрочем, при ближайшем рассмотрении дорожное покрытие оказалось не бетонным. Это был состав, похожий на глину, но тверже. Вчера дороги не было, а сегодня она появилась. Как если бы кто-то всю ночь выкапывал канаву, а потом залил ее раствором. — Фантастика, — сказал геолог. Он встал на покрытие и потопал ногой. — Дорога. Твердая. — Действительно поверишь в святыню, — отозвался Сергей. Он посмотрел на столб и окружающую его ограду. — Посмотрите, денег уже нет. И на самом деле, ленты, отрез материи и деньги исчезли. За их спинами послышался стук копыт, и оба обернулись. — Пора, — сказал Мухтар. — Лепп ждет. — А далеко еще до него? — спросил геолог. — Козы кош, — ответил проводник. — Перегон ягнят — пять километров. — Одну минуту, — сказал Лепп. — Минуточку. Он выскользнул из комнаты, оставив Самсонова и Сергея сидеть на стульях. Они переглянулись. Прошло уже полдня, как они были у Леппа, и одна нелепость следовала за другой. Когда они вместе с Мухтаром приехали сюда утром, Лепп, высокий, тощий, с тонкой шеей и узкими покатыми плечами, встретил их на пороге дома. Здороваясь, он протянул руку Сергею и как-то забыл убрать ее обратно. Сергей пожал ее раз и другой, а она продолжала нелепо висеть в воздухе, вялая, почти бескостная. Удивительным было и лицо Леппа. Длинное, нездорово бледное, оно ежесекундно меняло выражение. То становилось веселым, то — без всякой видимой причины — печальным. И дом Леппа производил странное впечатление — глинобитная постройка, массивная, тяжелая, притаившаяся в уединенной долинке у подножия хребта. Во всех трех комнатах окна почему-то были забраны решетками, а на входной двери Сергей увидел французский замок. За домом лежала большая утоптанная площадка с сараями по краям. В центре ее высилась пятиметровая деревянная мачта с каким-то сооружением наверху, похожим на маленький радиотелескоп. С мачты спускался толстый обрезиненный кабель, который уходил в дом. Уже два раза Сергей заговаривал о цели приезда. Но когда он впервые спросил о записях киевской лаборатории, лицо Леппа сделалось грустным-грустным и он сразу как бы перестал слышать Сергея. Уголки губ у него опустились, взгляд потускнел и остановился. Это была такая удивительная перемена, что Сергею стало как-то стыдно, и он покраснел. Потом, через две или три минуты, Лепп очнулся и без всякой связи с предыдущим сказал, что очень мучается без газет и журналов и был бы не прочь подписаться хотя бы на журнал “Природа”. После этих слов он пригласил геолога и Сергея обедать. Обед был очень вкусным — бешбармак с сюрпой, заправленной лавровым листом и другими специями. Сергей опять заговорил о Киеве и о погибшей группе, но Лепп отмахнулся: “Потом, потом”. Когда с бешбармаком было покончено и Мухтар собрал тарелки, Лепп поднялся и сказал, что в соседней комнате прочтет сейчас лекцию. Не замечая недоуменных взглядов Сергея и Самсонова, он под руки вежливо провел их на другую половину дома и усадил на два стула, поставленных у окна. Теперь они ждали, когда он вернется. — Чудеса, — сказал геолог. — Похоже, что хозяин не совсем в норме. — Он уселся поудобнее и положил ногу на ногу. Комната была большая, чисто выбеленная. Всю правую половину занимал длинный стол с какими-то приборами, наполовину прикрытыми простыней. На стене возле стола был укреплен распределительный щит, к которому подходило несколько проводов. — Откуда же здесь электричество? — спросил Сергей. Самсонов заглянул во двор. — Может быть, движок какой-нибудь стоит. Потом разберемся. Дверь отворилась, и в комнату вошел Лепп. Он мельком огляделся, затем вопросительно посмотрел на Самсонова и Сергея. — Можно начать? — Пожалуйста, — сказал Самсонов. Лепп подошел к столу, взял палочку, похожую на указку. Лицо его стало задумчивым, он закрыл глаза и закусил губу. Потом тряхнул головой, как бы отгоняя что-то, строго посмотрел на Сергея и сказал: — Итак, насекомые. Он постучал палочкой по столу. — Насекомые! Восемнадцатое царство живых существ: тип членистоногие, класс насекомые… Не будет, по-видимому, ошибкой утверждать, что отличительной особенностью развития той или иной группы живых существ является число видов этих животных и широта их географического распространения. Мы в том случае говорим, что класс живых существ достиг расцвета, когда этот класс наиболее многочислен и населяет наиболее разнообразные области как суши, так и воды… Было странно, что, обратившись к теме насекомых, Лепп вдруг заговорил свободно и без запинок, сложными большими периодами. — С этой точки зрения самой процветающей группой в настоящее время могут быть названы именно насекомые. Рассматривая историю развития живого на Земле, новую эру нельзя считать временем млекопитающих и человека: как мезозой называется веком гигантских пресмыкающихся, так и наша современная эпоха — век насекомых. На сегодняшний день известно немногим менее миллиона их видов, и каждый год прибавляет к этому числу новые тысячи. Насекомые населяют умеренный пояс, холодный и тропики; они живут на земле, под землей, в воде и в воздухе; они могут существовать в подземных пещерах без света и на раскаленном солнечными лучами песке пустыни. Бесконечно разнообразен список того, что употребляется насекомыми в пищу. Млекопитающие могут питаться лишь растениями и животными, а термиты, например, способны поедать асбест, стекло и даже припой консервных банок. Фруктовые мухи интересуются производными евгенола, москиты не отказываются от углекислого газа. При этом муравьи, скажем, могут долгими месяцами обходиться совсем без пищи и длительное время даже без воздуха. Погруженные на 50–100 часов в воду, они оживают, будучи положенными на сухое теплое место, и в дальнейшем ведут себя… Лепп вдруг запнулся и замолчал. Он мучительно покраснел, взгляд его сделался жалким. — Забыл, — сказал он тихо. Потом он справился с собой. — Вместе со всем этим насекомые — это и наиболее устойчивая группа живого на Земле. Существуя в течение сотен миллионов лет, они пережили каменноугольные леса, гигантских рептилий и огромных млекопитающих, показав единственную в своем роде по длительности жизнеспособность. И более того: при том, что в настоящее время едва ли не все типы, классы и отряды животных на нашей планете обнаруживают признаки упадка, как раз в современную эпоху насекомые стремительно идут вперед, все более развиваясь и дифференцируясь. Природа как бы выстреливает насекомыми из лука, и на наших глазах эта стрела решительно поднимается в зенит. Биологическая масса насекомых сейчас самая большая на суше, их способность к самовоспроизведению теоретически едва ли не безгранична. Две пары цикад при благоприятных условиях могут за год породить миллиард особей. Потомство одной-единственной тли, не будучи уничтожаемым, за два года затопило бы всю сушу планеты живым копошащимся зеленым океаном. Нигде в мире не осуществляется также такой высокий КПД, каким обладает организм некоторых насекомых. Саранча способна пролететь без посадки полторы и даже две тысячи километров, непрестанно работая крыльями. Самка муравья Лазиус нигер в одном из опытов прожила без пищи четыреста дней — четыреста! — пользуясь лишь той ничтожной крупицей вещества, которая была запасена в ее собственном организме, прожила, оставаясь все время деятельной, без сна и отдыха, производя потомство и непрерывно ухаживая за ним… Наконец, насекомые — это и наиболее пластичная группа из всех известных нам организмов. Существуя сотни миллионов лет, они сменили уже многие сотни миллионов генераций, создав структуры, чрезвычайно высоко приспособленные к ответу на изменения окружающей среды. За какие-нибудь два—три поколения муравьи, например, могут выработать принципиально новые способы добывания пищи и даже новые способы постройки гнезда, образуя при этом не существовавшие ранее виды. В зависимости от качества и количества корма особь термита может либо остаться двухмиллиметровой крошкой, либо превратиться в существо в сотни раз большее-размах колебаний, никаким другим животным не свойственный. Под влиянием среды насекомые могут даже терять одни органы тела и выращивать новые. Только насекомые среди всех остальных животных способны создавать сверхорганизмы: муравейники, ульи и термитники… Все вышеизложенное позволяет утверждать, что этот класс является наиболее развитой и перспективной группой животных на Земле. Однако… Тут Лепп строго и даже с упреком посмотрел на молча сидевших геолога и Сергея. — Однако как раз насекомые используются до настоящего времени человеком меньше, чем все другие животные. В отдельных отраслях хозяйства (пивоварение и виноделие) применяются простейшие; человек ловит и частично разводит рыб; люди питаются моллюсками, разводят копытных, применяя силу последних для тяжелых работ и перевозки грузов. И при всем этом, если исключить пчел и шелкопряда, полностью остается пренебреженной самая сильная и многочисленная ветвь живого на нашей планете — членистоногие. А между тем вычислено, что при необъятном количестве насекомых, вместе взятых по всей земле, их мускульная сила превосходит не только силу людей, но и всех употребляемых сейчас человеком машин. Саранча в сотни раз быстрее, чем это делается в ходе любого известного нам процесса, осуществляет превращение растительной пищи в вещество и энергию живого тела, но этот феномен еще ни разу не послужил нам. Термиты строят, однако они еще ничего не построили для людей. Некоторым видам муравьев свойственно разводить растения, но до сих пор они разводят их только для себя. Вообще, в течение тысячелетий человек лишь боролся с гигантской и постоянно растущей мощью восемнадцатого царства, но должно прийти наконец время, когда он научится управлять ею. Животноводство будущего — это разведение и использование насекомых. Произнеся последнюю фразу, он замолчал и опустил голову. — Здорово! — воскликнул Сергей. — Но как? — Он со стулом подвинулся ближе к Леппу. — Как заставить насекомых работать? — Что? — Лепп вскинул на него глаза. На лице его вдруг отразилась растерянность. — Что вы хотите? — Я спрашиваю, как использовать эту силу. Лепп побледнел, глаза его забегали. — Нет! — вскричал он. — Нет!.. Ни за что! И поспешно вышел из комнаты. Когда он открывал дверь, оба увидели за ней прижавшегося к стене Мухтара. Сергей повернулся к геологу. — Петр Иванович, серьезно: он сумасшедший! А? Или фашист недобитый?.. Чего он темнит-то? Самсонов помедлил, потом встал и, оглянувшись на дверь, приподнял простыню на столе. Там было что-то похожее на разобранный радиоприемник. — Не так все просто, Сережа. …Следующие сутки прошли без событий. Завтрак в двенадцать часов, обед-ужин в семь. (Выяснилось, что Мухтар постоянно живет здесь же, вместе с Леппом.) На третий день бывший киевский лаборант вдруг пригласил геолога с Сергеем слушать продолжение лекции. На этот раз все должно было происходить во дворе. Сам Федор Францевич был еще бледнее и выглядел еще более жалким, чем прежде. Утром у него вышла ссора с Мухтаром, они кричали друг на друга, и Сергею даже показалось, будто он слышит звуки драки из другой комнаты. Но к трем часам хозяева, видимо, помирились, Мухтар помог Леппу вынести во двор к мачте стол с приборами. Там же на столе они поставили стеклянный ящик в форме куба размером примерно в кубический метр. Лепп опять усадил слушателей на стулья, принесенные из дома. Мухтар пошел в сарай, куда теперь был протянут кабель от мачты. Солнце уже спускалось, но жара стояла свирепейшая. — Итак, насекомые! — начал Лепп. — Восемнадцатое царство живых существ. Не будет, пожалуй, ошибкой утверждать, что отличительной особенностью развития той или иной группы живых существ является число видов этих существ и широта их географического распространения. Мы… — Подождите, — сказал Самсонов. — Что? — Вы уже об этом говорили. — Говорил?.. — Да. Лепп растерянно огляделся. — Ладно, — прошептал он. — Ладно. Тогда приступим к опытам. — Голос его окреп, и сам он снова сделался похожим на профессора, читающего для большой аудитории. — Товарищ Оспанов, включите! (Это относилось к Мухтару, который тотчас скрылся в сарае). Переходим к вопросу об управлении насекомыми с помощью излучателя. Внимание! В сарае заработал движок. Лепп проворными движениями включал какие-то кнопки и переключатели на приборах. Негромко запело сопротивление реостата. — Внимание! Новый, более низкий звук вплелся в пение реостата. Сергею показалось, что пустой стеклянный ящик-куб вдруг начал слегка дымиться. Дымок густел. Воздух наполнился тонким ноющим гудом. — Комары, — сказал Самсонов, поднимая голову. Лепп важно кивнул. — Anapheles hyrcanus, отряд двукрылых, подкласс крылатых насекомых. — Смотри, Сережа, комары, — повторил геолог. — Кусачие. В невероятном количестве со всех сторон к стеклянному ящику летели комары. Был слышен шелест крыл. Насекомые влетали в ящик и садились на дно слой за слоем. Было такое впечатление, как если бы туда быстро наливалась какая-то серая жидкость. Это выглядело, как исполнение желаний. Как осуществившаяся мечта летнего вечера где-нибудь в Кавголове или в Комарове под Ленинградом, когда досадливые тучи насекомых вьются над тобой, не успеваешь отгонять их сорванной веткой, поминутно хлопаешь себя то по шее, то по ногам и думаешь о том, как бы загнать всех этих тварей куда-нибудь в бочку, а потом закрыть и утопить хотя бы. За несколько минут ящик наполнился весь. Но комары продолжали прибывать, облепливая теперь его стенки. Огромный ком рос в стороны и вверх — столбом. Насекомых были миллионы. Может быть, миллиард. — Эй, хватит, пожалуй! — приподнялся на стуле геолог. Живой столб потерял равновесие, обломился, распавшись густой тучей, которая на миг заволокла все вокруг. И снова комары ринулись к ящику. — Прошу наблюдать, — сказал Лепп. — Даем новый сигнал. Он переключил что-то на столе. Низкий звук сменился более высоким. Ком стал таять. Насекомые разлетались, начал обнажаться ящик. Быстро редеющим дымом комары поднимались, стремительно уносясь в разные стороны, как будто то, что было в ящике, уже отталкивало их. Ящик опустел. Лепп выключил аппарат. — Ну вот, — сказал он, — все. Мухтар выглянул из сарая и скрылся. Движок дал еще несколько оборотов, потом умолк. — Конец, все, — повторил Лепп. Он весь как-то поник и оперся руками на стол. — Это уже серьезно! — воскликнул геолог, вставая. — Это очень серьезно. Он подошел к Леппу. — Федор Францевич, и что же вы думаете с этим делать? Так и держать все тут?.. Это же открытие! Возможно, колоссальное открытие. Лепп сжался. — Федор Францевич, — Сергей присоединился к Самсонову, — а записи киевской лаборатории у вас? Мне сказали, они должны быть у вас. Я же вам письмо от Марии Васильевны передал. Геолог тоже подошел к столу. — Нельзя же так, поймите. Это все надо отдать. — Отдать кому? — прошептал Лепп. — Как — кому? Нам… То есть не нам лично, естественно, а людям. На лице Леппа выразилась мучительная борьба. Он вдруг взял Сергея за руку и мучительно вгляделся в него. — А кто вы? Кто? Сергей пожал плечами. Сзади подошел Мухтар. — Ну хорошо, — сказал Лепп. — Я подумаю. Мне надо подумать. Может быть, я и отдам. Он повернулся и пошел в дом, тощий, сутулый, едва волочащий ноги. За ужином все молчали. Бывший лаборант выглядел совсем расстроенным, он то и дело с плохо скрываемым опасением поглядывал на казаха. Мухтар отвел Сергея с геологом спать. Но не в сарай, где они ночевали раньше, а в комнату в доме. Окно здесь тоже было забрано решеткой. Едва они остались вдвоем, Сергей кинулся к Самсонову. — Огромное открытие! Вы правильно сказали, Петр Иванович. Они ведь тут уже управляют насекомыми. Выходит, ту дорогу, кусок дороги, термиты построили. Помните, тогда термиты шли… Геолог пожал плечами. — Трудно сказать. Во всяком случае, Лепп как-то заставил их туда перекочевать. — А как? Что вы думаете, Петр Иванович? Что это за аппарат у него? — Видимо, генерируется какое-то излучение. Может быть, радиоволны. Вообще ведь насекомые на радиоволны реагируют. Например, некоторые ночные мотыльки отыскивают своих самок по запаху на расстоянии в десять—пятнадцать километров. Такие опыты неоднократно ставились и проверялись. А сам запах многие ученые считают тоже радиоизлучением. Но особого рода. — Какого? — Не знаю… Но, впрочем, возможно, что там, в институте, перед войной они вообще открыли какое-нибудь принципиально новое излучение. Принципиально! В этом тоже ничего невозможного нет. До Рентгена-то никто ведь и не думал, что есть рентгеновы лучи. А он сделал свое открытие более или менее случайно. И без каких-нибудь особых аппаратов… В институте они открыли это излучение и, может быть, даже не поняли, что имеют дело с новым излучением, а просто установили, что есть нечто такое, влияющее на насекомых. Всякое может быть… — Да… — Сергей задумался, потом посмотрел на Самсонова, на лице которого вдруг появилось какое-то подозрительное выражение. Ведь и в самом деле: почему мы должны считать, что известны уже все виды излучений? Геолог, не отвечая, предостерегающим жестом поднял палец. — Может быть, этих излучений еще… Самсонов отмахнулся. Он прислушивался к тому, что совершалось в коридоре, за толстой деревянной дверью. Кто-то тихонько подошел к комнате. Геолог вынул из кармана небольшой револьвер. (Сергей даже и не знал, что у него есть револьвер.) За дверью затихли. Звякнул ключ, вставляемый в скважину. Самсонов рывком вскочил. Но было поздно. С той стороны кто-то держал дверь. Ключ дважды повернулся в замке. — Эй! Бросьте эти шутки! Геолог что было сил нажал на дверь. — Перестаньте! Что это такое? Он еще раз нажал. Но безрезультатно. — Черт! Так и чувствовал, что будет подвох. Он сунул револьвер в карман и сел на постель. Прислушиваясь, они просидели четверть часа. Дважды Сергей принимался стучать в дверь, но никто не отзывался. Самсонов осмотрел комнату. Толстая решетка в окне была вделана в окаменевшую глиняную кладку. — Попали в лапы к фашисту, — сказал Сергей. Самсонов отрицательно помотал головой. — У них тут вражда, Сережа. Когда ты коней поил утром, я прошелся по двору и услышал, как они в сарае кричат. Мух-тар говорит, что, мол, гнать их прочь. Нас, то есть. А Лепп отвечает, что покажет опыт. Одни — нет, а другой — да. Я посмотрел в щелку, вижу — Мухтар вдруг хвать Леппа за горло. Как щенка встряхнул и отпустил. — Ну и что же вы, Петр Иванович? — А что я? — Вмешались бы. — Нельзя. — Геолог вздохнул. — Вмешайся, а Лепп, может, еще больше испугался бы. Видишь, он какой. Уж лучше подождем. — А что этому Мухтару-то надо от Леппа? — Надо, наверное, чтоб немец здесь сидел и не уезжал. Лепп свои опыты делает с насекомыми, а Мухтар перед местными стариками и старухами себя за святого выдает. Видел, деньги ему нанесли к столбу? И вспомни, как его молодой табунщик ругал — Мухтара. За этих самых насекомых. Мух-тар все так выставляет, будто он сам муравьями командует… Где-то в доме послышался громкий говор голосов. Что-то визгливо прокричал Лепп. Потом настала тишина, и вдруг заработал движок в сарае. Еще около полутора часов прошло. Самсонов и Сергей легли. Движок продолжал работать. Снова раздался голос Леппа, гневный, протестующий. Длился какой-то спор. Упало что-то тяжелое. Хлопнула дверь. Потом некоторое время слышался только стук мотора. В начале двенадцатого геолог включил фонарик, чтобы посмотреть на часы. Луч света скользнул по стене, и Сергей вскрикнул: — Ой, смотрите, Петр Иванович! По стене из окна спускался широкий черный рукав. Как текущая вода. Самсонов сел на постели, недоуменно протянул к стене руку: — Муравьи! Рукав ширился и удлинялся на глазах. Казалось, насекомые ползут даже в несколько слоев — одни по другим. Через несколько секунд они стали затоплять пол. — Нет, так не пойдет, — быстро сказал Самсонов. Он соскочил с постели, вынул револьвер, спустил с предохранителя и взвел курок. Шагнул к двери, прикинул, в каком месте располагается язычок замка, приставил револьвер и выстрелил — раз, другой. — Отойди-ка. (Сергей уже отчаянно и молча смахивал с себя легионы атакующих его насекомых.) Геолог, оскользаясь на муравьях, уже сплошь покрывших пол, сделал два больших шага и всей массой тяжелого крепкого тела ударил в дверь. Она крякнула и приотворилась, выламывая замок. — Бежим! Схватившись за руки, скорчившись под градом падающих теперь уже со стен и с потолка насекомых, они выбежали коридорчиком из дома, и здесь их глазам представилась страшная картина. Освещенные лунным светом двор, дом, сараи — все было залито муравьями, и все шевелилось. У водопойного корыта, привязанные, дико метались кони. На глазах у Сергея жеребец оборвал наконец повод и гигантскими прыжками, в карьер, слепо ударившись о стог курая и отброшенный этим ударом, поскакал в долину. Сергей уже только стряхивал насекомых с лица. Самсонов опять схватил его ладонь. У коновязи они остановились. Две оставшиеся лошади бились, стараясь оторваться. Геолог ножом перерезал повод одной. От звука его голоса другая кобыла замерла, затихла, мелко дрожа. Муравьи, лоснясь бесчисленными черными спинками, заливали ее всю, она только встряхивала головой. Самсонов прыгнул было ей на спину, держа в руке нож, потом соскочил, огромными шагами бросился к мачте, дернул кабель и оторвал его. Сергей, уже почти ослепленный, услышал, как Самсонов вернулся к лошади, почувствовал, что сильная рука потянула его вверх, и ощутил под животом острую холку и напряженно работающие плечевые мышцы кобылы. Они пришли в себя за два километра от Леппова дома у ручья. Полчаса обмывались холодной водой. У обоих распухли лица, и обоих лихорадило. С первыми лучами солнца они пересекли ручей и, недоверчиво вглядываясь в траву под ногами, двинулись обратно к дому. Не было даже сил и желания сесть на лошадь. Сергей вел ее в поводу. — Какая мощь! — повторял Самсонов. — Какая жуткая мощь!.. В доме все было тихо и покинуто. Движок молчал. Муравьи ушли. С револьвером наготове, оставив Сергея во дворе, геолог вошел в коридор. За спиной Сергея что-то звякнуло, он испуганно обернулся. Жеребец, уже забывший обо всем, спокойно пил воду из корыта. Он поднял морду и посмотрел на юношу. Оторванный кабель так и валялся одним концом возле мачты. В доме раздался какой-то шум. Звук тяжелого удара. Сергей бросился к двери. Из темного коридорчика на миг показался Самсонов. — Подожди. Постой там. И скрылся. (Ни Леппа, ни Оспанова нигде не было.) Наконец геолог вышел. Лицо его было совсем бледным. Он растерянно прислонился к косяку двери. — Все, Сережа. — Что — все? — Оба погибли. — Погибли? — Ага… Схватка у них какая-то была. Случайно, наверное, закрыли дверь и потом не смогли открыть… А может быть, кто-нибудь и нарочно захлопнул. Там в комнате французский замок. — Но почему?.. Разрешите мне, Петр Иванович. — Не надо. Незачем тебе на них смотреть. Опять он скрылся в доме и через несколько минут вернулся, держа в руках потемневшую металлическую коробку наподобие тех, что употребляются для кипячения медицинских инструментов. — Видимо, это и есть. Вдвоем, усевшись на землю тут же у стены, они открыли коробку. Там было несколько общих тетрадей, подмоченных, старых, в пятнах. Самсонов открыл одну. НАСЕКОМЫЕ. ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ. Восемнадцатое царство живых существ: тип членистоногие, класс насекомые. Не будет, по-видимому, ошибкой утверждать, что отличительной особенностью развития той или иной группы живых существ является число видов этих животных и широта их географического распространения… В других тетрадях были схемы, формулы. На нескольких отдельных листках полустершиеся сбивчивые рваные карандашные строчки налезали одна на другую. Записи шли под числами, как в дневнике. — Лепп, — сказал Самсонов. — Почему вы так считаете? — Видишь, почерк другой. Неуравновешенный. Он вчитался, потом присвистнул. — Что-то вроде дневника военных лет. Интересно. — Он встал. — Вот что: седлай коня и скачи за людьми. Помнишь, мы ехали, аул в стороне был?.. Скачи, а я посторожу все тут. …Минула неделя, и Сергей прощался с Самсоновым у озера Сасыкколь. Позади была уже комиссия из Алма-Аты, которая приняла и записи киевского института и лабораторию Леппа, позади осталось путешествие с геологом до его группы. Самсонов проводил юношу до автомобильной дороги на Аягуз. Они ехали верхом около двадцати километров. Уже начинала показывать себя осень. Полынь и ковыли совсем усохли, превратившись в шуршащую бурую ветошь. Соколы парили над степью, под вечер от озера навосток потянулись длинные стаи гусей. Когда вдали бело мелькнул домик автобусной станции, Самсонов сказал: — А знаешь, Лепп-то, оказывается, был очень хорошим человеком, Федор Францевич. Утром геодезист мне письмо привез из Алма-Аты. Прочли они там дневник. Понимаешь, на фронт его не взяли тогда, потому что немец. Обстановка была трудная, не всем доверяли. Эвакуироваться ему не удалось, он остался в Киеве. Гестаповцы его разыскали, требовали, чтоб он работал на них, чтобы архивы института передал. Пытали. А он устоял и ничего не отдал. Отличный был человек… — А почему же он потом-то?.. — Да он тронулся немного, Сережа. С ума сошел от мучений. Когда наши пришли, объяснить ничего не сумел. И вообще мало понимал, что происходит. Наверное, даже не понимал толком, что это именно наши пришли. Времена тогда были крутые, выслали его в Казахстан. А он все эти записи берег; в этом смысле-то голова у него работала. И даже кое-какую аппаратуру сумел восстановить. Тут он как-то к Мухтару в руки попал. Тот его использовал для своих целей. И Лепп только в самые последние дни начал понимать, что война кончилась. У них и схватка с Мухтаром произошла, потому что Лепп, наверное, решил все-таки нам отдать это самое открытие… Потом Сергей ехал в поезде, кружилась за окном бесконечная казахстанская степь. Он все вспоминал Самсонова, Леппа, Мухтара, и ему виделось, как по сигналу человека саранча тучами поднимается с плавней, чтобы лечь удобрением на пахоту, как термиты, разом собравшиеся вместе, сооружают дороги в пустыне, как бесчисленные муравьи скашивают урожай пшеницы и по зернышку сносят его в назначенные места.
Север Гансовский. МЕЧТА
В Ялте, в доме отдыха, на веранде сидели несколько человек и разговаривали. Там были Биолог, Физик, Техник, Медик, Поэт и еще один отдыхающий, которого все в доме сначала приняли было тоже за Поэта, но который оказался Строителем. Вечерело. Дневная жара спала. Внизу под верандой волны на пляже таскали взад и вперед шуршащую гальку. Биолог сказал: — Вот именно. Я согласен с тем, что в науке происходит переворот. Но какой? В чем он заключается? Откуда нам ждать самых поразительных открытий, с какой стороны? В последнее время говорят, что наименее изученной областью на земле является сама Земля, вернее, ее внутреннее устройство. И в самом деле, космонавты уже поднялись в космос на высоту в триста тысяч метров, а внутрь Земли никто еще не опускался глубже чем на два с половиной километра. Мы даже не знаем сегодня, что же скрывается за таинственной “границей Мохоровичича”. Он посмотрел на Физика, ища подтверждение своим словам, но тот молчал. Биолог продолжал: — Но вместе с тем это и не совсем так. Я думаю, великие открытия придут не отсюда. По-моему, самым неисследованным феноменом на Земле и самым перспективным является то, которое исследовалось больше всего: сам Человек. Его способности, его возможности… Действительно, что такое мысль? Что такое мечта? Что такое воля? До сих пор мы отступаем перед этими вопросами. Мы прячемся за формулировки, которые скорее можно назвать отговорками, чем ответами. “Мышление есть продукт особым образом организованной материи”. Этим можно было удовлетворяться сто лет назад. Продукт! Ну и что? Биолог оглядел всех. На миг ему показалось, что Строитель хочет что-то сказать Но Строитель чуть заметно покачал головой. Наступило молчание. Потом заговорил Техник: — По-моему, мы отклонились. Речь идет не о предмете исследования, а о сущности современного переворота в науке. Я считаю, что главное, что сейчас происходит в науке, — это ее, так сказать, промышленнизация. Базой научного исследования становится не лаборатория, а цех… — Индустриализация, — прервал его Физик. — Что вы сказали? — спросил Техник. — Я сказал, не промышленнизация, а индустриализация. — Да, пожалуй, — согласился Техник. — Я имею в виду ту роль, которую играет сейчас инженерное оборудование эксперимента. Сейчас невозможно исследовать без сложнейших приборов и устройств. Раньше это существовало отдельно: ученый и инженер. Эдисон совсем не знал современной ему науки, а тогдашние ученые были далеки от техники. Теперь не так. И это самое важное. Именно здесь перспектива. Все помолчали, и Биолог опять посмотрел на Физика. — А вы как думаете? — Я? — Физик задумался на миг. — Та же мысль, — он кивнул Технику, — но в другом ракурсе. Я бы назвал современный процесс не индустриализацией науки, а онаучиванием индустрии. Вы понимаете, наоборот. Большинство крупнейших достижении в промышленности пришло в нее сейчас именно из науки. Кибернетические автоматы, полупроводники, полимеры — все было сначала разработано в теории. Одним словом, наука приобретает теперь преобразующую роль в народном хозяйстве. И благодаря этому — в жизни общества. Тут Поэт беспокойно задвигался в своем кресле, и все посмотрели на него. — Не знаю, не знаю, — сказал он и покачал седеющей головой. — “Наука приобретает преобразующую роль в жизни общества”. Сомнительно… Конечно, я дилетант, но хочу попросить вас взглянуть на вопрос с другой точки зрения. Недавно я вернулся из поездки по Германии, побывал там в Бухенвальде. Хотя прошло уже почти двадцать лет со времени тех страшных преступлений, все равно душит гнев, когда смотришь на эти бараки и колючую проволоку. А ведь в гитлеровской Германии наука была развита высоко по тем временам. Понимаете, что я хочу сказать?.. В прошлом веке ученый обязательно считался благодетелем рода человеческого. Автоматически. Пастер, Кох, Менделеев… От ученых ждали только хорошего, и их любили все. А теперь?.. Я считаю, что если первая половина XX века с ее газовыми камерами и Хиросимой и научила нас чему-нибудь, так это тому, что наука одна как таковая бессильна разрешить проблемы, стоящие перед человечеством. Это парадокс: чем сильнее ослепляют нас поразительные успехи знания, тем больше надежды мы возлагаем на те уголки человеческого сердца, которые заняты не наукой, а добротой, любовью, гуманностью. Не будем лицемерить: каждому из нас известно, что много людей теперь попросту боится дальнейшего прогресса науки. Они опасаются, что какой-нибудь маньяк там, за океаном, изобретет новую бомбу, способную целиком уничтожить всю солнечную систему. Да что там говорить! Признаюсь откровенно, когда я читаю в газетных статьях о кибернетических автоматах, которые, по мысли некоторых ученых, должны в недалеком будущем заменить нас, когда я слышу этот похоронный звон над человечеством, мне самому хочется приказать науке: “Хватит! Дай нам передохнуть, оглядеться. Остановись!” Он замолчал, покраснел и стал закуривать папиросу. Наступила пауза. — Она не остановится, — сказал Биолог, — это исключено. — Он оглядел всех сидевших на веранде. — Но мы, кажется, опять ушли от темы — будущее науки. И вместе с тем то, что вы говорите, — он кивнул Поэту, — льет воду на мою мельницу. — Он задумался. — Человек… Вы замечаете, что те, кто говорит об этих кибернетических автоматах, молчаливо предполагают, будто о Человеке нам известно все. Но они ошибаются. Они исходят из неправильной предпосылки. В действительности мы еще почти ничего не знаем о Человеке, именно как о Человеке — члене общества. Вот вы Врач. — Он повернулся к Медику. — Я убежден, в вашей практике бывали случаи, которым вы не могли найти решительно никакого объяснения. — Бесспорно, — сказал Медик. Он встал и прошелся по веранде. — Я как раз хотел сказать об этом. Не зная Человека, мы утверждаем, что машина превзойдет его. Но превзойдет что или, вернее, кого?.. Вчера мы узнали, что Человек может видеть кончиками пальцев: ведь это в течение тысячелетий не приходило нам в голову. А что мы узнаем завтра?.. Две недели назад приятель привез мне из Индии фотографии. Факир привязывает к ресницам гирю в два килограмма и силой век поднимает ее… Или вторая серия фотографий. Перед факиром насыпают дорожку из горящих, добела раскаленных углей. Он снимает обувь, босиком идет по этой дорожке, а потом специальная комиссия осматривает его ступни и не находит никаких следов ожога. Что это? Какими резервами обладает организм, чтобы достигнуть такого? Причем интересно, что сам факир ничего не может объяснить. Ему известно только, что он знал, что не будет обожжен… Да что там факиры! Целый народ задает нам загадки. Во время Отечественной войны я был начальником госпиталя. Тысячи раненых прошли через руки моих коллег и мои. Но мы ни разу не слышали, чтобы кто-нибудь болел язвой желудка, гриппом, мигренями. Вы понимаете, миллионы людей на четыре года забыли о множестве болезней. Что это, как не окошко в какую-то другую страну, где мы с вами еще не бывали?.. В научной литературе описан случай, когда физически слабый человек, клерк, во время пожара один вынес из горящего здания сейф весом в двести килограммов. Я спрашиваю вас: обязателен ли пожар? — Вот именно, — сказал Техник, — обязателен ли пожар? — Он задумался, потом оживился. — Однако все это было. Влияние центральной нервной системы на организм. Об этом говорил еще Павлов. — Да нет, — вмешался Поэт. — Речь идет о другом, если я правильно понял. Тут перед нами массовый феномен — вот в чем дело. Скорее, влияние центральной нервной системы всего человечества на организм отдельного человека. Факт некоего общественного вдохновения, что ли. Однако к таким явлениям у нас нет ключа. Приближаясь к человеку, наука останавливается на механической сути происходящих в его организме процессов. Но ведь это все равно что с помощью кувалды пытаться разобрать микроскоп. Даже хуже… По-моему, речь идет об этом. — Да, — сказал Биолог. — Вы хотите сказать, что и к Человеку и к остальной природе мы подходим с одними и теми же инструментами. И что это неправильно. — Конечно, — подхватил Поэт. — Весь арсенал точных наук исторически был создан для изучения природы — камня, растения, животного. И вот теперь с этими же методами мы беремся за Человека. Естественно, мы его тем самым низводим до уровня остальной природы, и нам начинает казаться, что кибернетическому роботу ничего не будет стоить перегнать его. — Но почему? — не согласился Физик. — Во-первых, у нас действительно есть методика, созданная исключительно для изучения живого — методика условных рефлексов, которая нигде больше не применяется. И во-вторых, есть науки, изучающие именно Человека: философия, история, политэкономия. Целая область гуманитарных наук. — Они изучают общество, — опять вступил в разговор Медик. — В том-то и дело, что они изучают общество. Понимаете, здесь разрыв. Естествознание изучает физиологию человека, а гуманитарные науки — человеческое общество. И между ними нет связи, нет перехода от одной методики к другой. Мы примерно знаем то, что происходит в организме, — физиологию. Мы знаем то, что происходит в обществе, — социологию. Но нам совершенно не известна та грань, в которой физиология делается социальной. Однако именно это и есть Человек. Здесь и лежит то, что нас больше всего интересует: талант, чувство, воля, энтузиазм, те случаи удивительного общественного вдохновения, которые нам всем известны… Короче говоря, по-моему, будущее науки не только в том, о чем пока шла речь. Не одни лишь “индустриализация науки” и “онаучивание индустрии”. Все это чрезвычайно важно, но это не все. Я уверен, что вторая половина XX века станет эпохой очеловеченья науки. Вот. Точное знание приобретет человечный характер, избавится от равнодушия к морали и станет гуманным по своей природе. Наступило молчание. Техник поднял голову и спросил: — А как оно к этому придет? — Не знаю, — сказал Медик. — В том-то и вопрос. Пока наука оперирует только отношениями количества. Но сможет ли она с одним лишь этим ключом проникнуть в области духовного? Нет. Ей придется как бы превзойти себя. Взять на вооружение что-то новое. Но что? Тут наконец в первый раз вступил в разговор Строитель. Он подался вперед и сказал: — Такой ключ уже есть. Наука может превзойти себя и получить новое качество. — Как? — спросил Биолог. Строитель помедлил. У него были блестящие глаза и быстрые легкие движенья. — Я хотел бы, чтоб вы послушали одну историю. Она имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Об удивительных возможностях человека… Здесь многое может показаться вымыслом, но все действительно так и было. Эта история начинается в столице польского государства, в Варшаве, больше двадцати лет назад — в трагическом для польского народа 1939 году… Собственно говоря, это рассказ о человеке, который мог летать. …Прежде чем звонок кончил звонить, Стась с облегчением сказал себе, что это не дверной звонок, а только будильник. Он вздохнул и засмеялся. Нет, это не отец с экономкой вернулись с дачи в Древниц. Никто не придет ни сегодня, ни завтра. Он один в доме. Вскочив с постели, он с удовольствием оглядел свою комнату: занавеску на окне, уже нагретый солнцем подоконник, где в беспорядке валялись листы гербария, его прошлогоднее увлечение, — книжный шкаф с Сенкевичем, выцветшие обои десятилетней давности, на которых ему было известно каждое пятнышко. Он один в квартире — и здесь, и в столовой, и в гостиной, и во всех комнатах вплоть до кабинета отца. Никто не придет. Он наедине с тем удивительным и новым, что вошло в его жизнь. Стасю исполнилось семнадцать, и он в это лето впервые выпросил разрешение остаться одному в доме и в городе. Отец, старый молчаливый нотариус, неохотно согласился, и для юноши настали дни блаженства. Июнь, июль, август плыли над Варшавой жаркие, сухие, пыльные. Вечерами в нагретом душном воздухе солнце садилось за крышами медно-красное. На центральные улицы высыпали вернувшиеся с курортов загорелые до черноты дамы, всюду было оживленно. Много говорили о войне, но в газетах одна партия обвиняла другую. Людовцы, “Фаланга”, национальная партия — во всем этом трудно было разобраться. Стась тоже пережил вспышку крикливого официального патриотизма, ходил на рытье зигзагообразных противобомбовых траншей, жертвовал на авиацию. Но однажды сержант полевой жандармерии в зеленой канареечной форме грубо вырвал у него лопату и оттолкнул его в сторону. Рывших окопы снимали для газеты, и жандарму показалось, что мальчик будет неуместен на фотографии. Стась, глубоко оскорбленный, ушел, дав себе слово никогда не участвовать в таких представлениях. Впрочем, он был уже не мальчик. Для него начался тот ломкий и опасный период, когда ребенок становится юношей и в первый раз задает себе вопрос: “Я и мир — что это?” По утрам старая молочница, которую Стась помнил еще с тех пор, когда ему было два года, кряхтя взбиралась к ним на третий этаж. Небольших денег, оставленных отцом, хватало, чтобы еще забежать в скромную харчевню и съесть лечо или рубец. Время до полудня Стась проводил дома, наслаждаясь одиночеством и свободой после нудных гимназических занятий. Старая квартира хранила много неожиданностей и тайн. То вдруг в сундуке в передней среди связок писем, каких-то футлярчиков, лент обнаруживалась пачка старинных гравюр с латинскими надписями, и можно было часами разглядывать странные скалы среди бушующих вод, дворцы, обнаженных мужчин и женщин, в экстазе протягивающих руки к небу, — химеры, видения и сны давно уже умерших художников. То в гостиной останавливала потемневшая от времени картина с потрескавшейся поверхностью. Из мрака вырисовывались руки, плечи под сутаной, длинный нос и острый преследующий глаз. Кто этот человек? Но ведь он был, он жил. Таилось какое-то сладкое и вместе мучительное счастье в том, чтобы повторять эти слова — он был, он жил. После того как спадала дневная жара, неясная тоска гнала Стася на улицу, к людям. Он заходил в парк, в Лазенки. На зеленой воде прудов кораблями скользили белые лебеди. Плакучие березы склоняли над травами свои волосы-ветви. Девушка-гимназистка сидела на скамье, задумавшись, опустив на колени томик стихов. Брел, опираясь на палочку, старик пенсионер. Бабочка трепетала в пронизанном солнцем и тенью воздухе. Свершалось мгновение жизни… Вечерами Стась отправлялся к старому учителю географии Иоганну Фриденбергу. Начинались длинные разговоры. Старик, похожий на библейского пророка, рассказывал о дальних странах, о великих произведениях искусства. Он много путешествовал в молодости, а потом еще больше читал. Его библиотека среди варшавских знатоков считалась одной из интереснейших. Но чаще юноша просто бесцельно шагал по городу. На Свентокшискую, на Вежбовую, Маршалковскую… Тротуары переполняла толпа, над головой висел неумолчный шум разговоров, шаркали шаги, шуршали платья. Стась шел, сам не зная, зачем он здесь. Хотя в газетах одни известия сменяли другие и военная опасность то назревала, то отходила куда-то вдаль, атмосфера в городе была тревожной, нервозной. В ресторанах отчаянно кутили, как перед концом света. Дверь какого-нибудь “Бристоля” отворялась, оттуда вместе со звуками бешеного краковяка вываливался вдребезги пьяный хорунжий, миг невидяще смотрел на прохожих, тряс головой, оглушительно кричал: — Hex жие! Да живет Польша! На Вежбовой толпа расступалась перед посольской машиной с флажком, секунды, провожая ее, длилась тишина, потом начинался шепот. Очень надеялись на союзников, на Англию и Францию. Ночь заставала Стася где-нибудь на Аллеях Уяздовских, Оглушенный, уставший от напряженности своих неясных желаний, он садился на скамью. Все вокруг стучалось в душу: освещенные окна в домах, глухой ночной запах цветов, свежее прикосновение ветерка, шелест проехавшего автомобиля, негромкая фраза, брошенная прохожим своей спутнице. Мертвые днем дома и камни мостовой теперь оживали, начинали дышать, чувствовать, слышать. Стасю казалось, что вся Вселенная — от бесконечно далеких, огромных, молча ревущих в пустоте протуберанцев на Солнце до самой маленькой былинки здесь рядом на газоне — пронизывается какой-то одухотворенной материей. Тревоги надвигающейся войны, случайный женский взгляд на улице, искаженное лицо на старинной гравюре дома в сундуке — все чего-то просило. Требовало крика, движения, действия… Чтобы вернуть себя к реальности, он дотрагивался до жесткой, пахнущей пылью веточки акации у скамьи. “Ты есть, ты существуешь”. Иногда, возвращаясь домой, он задерживался у особняка, расположенного в глубине небольшого садика. На втором этаже, за растворенным окном с занавесью, кто-то часами сидел за роялем. Порой это были прелюдии Шопена, часто Бах. Дома у Стася отец играл на флейте, а на пианино исполнял четырехголосные псалмы наподобие итальянских и даже сам сочинял небольшие марши и танцы. Но в игре старика был какой-то сухой академизм, раздражавший мальчика, да и самые звуки этих маршей связывались в сознании Стася с отцовскими бледными чисто вымытыми пальцами. Теперь, в летние ночи 1939 года, чудесная сила музыки вдруг открылась ему. Станислав даже страшился тех чувств, которые возбуждали в нем хоралы Баха. Он стоял, опершись о высокий трухлявый забор, из садика несло запахом заброшенности и сырости, а повторяющиеся аккорды возносили его все выше и выше. Музыка обещала прозрение, раскрытие всех тайн, разрешение всех трагедий мира… За два месяца одиночества Стась сильно похудел и вырос. Ему чудилось, будто через него постоянно проходят какие-то токи. Иногда он вытягивал руку и был уверен, что, стоит ему приказать, из пальцев истечет молния и ударит в стену. Потом пришла любовь. В доме напротив жила девочка. Несколько лет подряд он видел ее — зимой в пальто, летом — в синей гимназической форме, шмыгающей в темный провал парадной. Но теперь, в начале августа, однажды они шли навстречу друг другу на узкой улице, и Стась почувствовал, что ему неловко смотреть на нее. Неловкость эта не прошла, стала увеличиваться, и юноша вдруг понял, что весь мир сосредоточился для него в этой худенькой фигурке, с черными глазами на бледном лице. Она каждый день ходила в Лазенки. Борясь с мучительной неловкостью, он садился неподалеку, завидуя тем, кто оказывался рядом с ней на скамье. Потом набрался смелости, они познакомились. Ее звали Кристя Загрудская, она была дочерью бухгалтера. Во время второй встречи в парке она сказала, очень серьезно глядя ему в глаза: — А вы знаете, я наполовину еврейка. Мой папа поляк, а мать еврейка. Он молчал, не зная, что говорить, и ужасаясь при мысли, что она неправильно истолкует его молчание. Она была взрослее его умом, хотя по возрасту они оказались ровесниками. Часто говорила о политике, о том, что если в Польшу придут фашисты, она не станет терпеть унижений н убьет какого-нибудь гитлеровца. Он тоже горячо мечтал о борьбе, об опасности, о том, чтобы спасать ее или во главе кавалерийской атаки мчаться на врага. Но иногда во время оживленного разговора оба одновременно начинали думать о том, что вот их свидание скоро кончится и они попрощаются за руку. И это будущее рукопожатие делалось главным, заслоняло все другое. Они смущались, краснели. Секунды бежали, они не знали, как начать оборвавшийся разговор. Потом Кристя уехала на две недели к тетке в Ченстохов. Перед отъездом они объяснились. Стась сказал, что любит. Девушка твердо и прямо посмотрела ему в глаза, взяла его руку и вложила в свою. Дни после ее отъезда были особенно счастливыми. Юноша ходил, как пьяный. Он даже стыдился своего богатства, не верил, что она может любить его. Он сделался очень чувствительным. Стоило ему увидеть слепого нищего у церкви или бедно одетую женщину с золотушным ребенком на руках, как в глазах у него разом набегали слезы, и он должен был прислониться к стене, чтобы не упасть от охватившей его огромной жалости. В другие дни он ходил по квартире, наполненный настолько сильной радостью, что ему казалось, даже вещи, которых он касается — стол, книги, истертые половицы паркета, — не могут ее не чувствовать. В таком состоянии восторженности и силы он и почувствовал первый раз, что может летать. Просто собственной волей подниматься в воздух. Это было поздним вечером, почти ночью. Он возвращался домой на свою улицу из Лазенок, где, мечтая, просидел несколько часов на скамье у пруда. В переулке из раскрытого окна особняка звучал рояль. Вернее, на этот раз было два инструмента. Стась остановился и стал слушать. Одна вещь кончилась — он не знал ее. Настал миг напряженного ожидания. Один из пианистов за окном взял несколько аккордов. Еще миг ожидания… И звуки полились. Это был Первый концерт Шопена, переложенный для двух фортепьяно. Стась слушал и вдруг почувствовал, что сейчас совершится нечто. С каждым новым аккордом миг прозрения все приближался и ужасал своей близостью. Юноше казалось, что еще мгновение, и он все поймет, все сможет и взлетит над землей, над садом, над городом. В концерте было место, Стасем особенно любимое, — тема в ми-миноре: си, соль, ля, си, ми, фа-диез… Он стал ждать этого места. Оно пришло. Почти непереносимая боль ожидания пронзила тело юноши, слезы хлынули из глаз. Что-то вдруг произошло, и он понял, что может лететь. Звуки лились дальше, и они подтверждали и подтверждали, что это есть в нем, есть, есть… Он несмело отошел от ограды садика. Через дорогу в двадцати шагах, освещенный лунным светом, белел приступок у входа в бакалейную лавочку. Он сказал себе: — Если я захочу, я могу быть там. Он приказал себе, приподнялся над землей. Пыльные булыжники мостовой проплыли под его ногами, и он стал на приступок. А звуки рояля неслись и неслись над спящим переулком и подтверждали: есть, есть… Стась наметил еще место — витрину парикмахерской. Приказал себе. Опять под ногами поплыли булыжники. Он опустился на тротуар, а за стеклом, как из темной воды, на него глянул нелепый бюст дамы из папье-маше. Ему захотелось подняться выше. Он сделал какое-то усилие- он сам не знал, какое — и взлетел над одиноко стоящей старой липой. Он повис в воздухе, протянул руку и потрогал пахнущие пылью и свежестью шершавые крепкие листья. Потом он почувствовал, что устал. Ему было уже трудно держаться в воздухе. Он осторожно, наискосок, чтобы не застрять в ветвях, опустился на землю. Чудо — но это было. Несколько минут он стоял, набираясь сил. Он не понимал, каких именно сил, но чувствовал, что они были ему нужны для полета. Затем глубоко вдохнул и стал подниматься вверх. Он поравнялся с окнами второго этажа, третьего… В незнакомом окне какой-то мужчина, худощавый и взъерошенный, быстро писал у стола, задумался, посмотрел в потолок и потер себе щеку. В окне четвертого этажа женщина шила, рядом девушка читала книгу, перевернула страницу и посмотрела на Стася, не видя его. Он поднялся выше и как бы вышел из какого-то теплого слоя. Сделалось свежее. В новом ракурсе знакомая улица предстала внизу крышами, вся сразу охватываемая взглядом. Он знал, что может взлететь еще выше, и сделал новое усилие. Это было похоже на какие-то ступени, которые он брал одну за другой. Улица ушла далеко вниз, со всех сторон поднялся темный горизонт. Стасю было ничуть не страшно. Сделалось еще холоднее. Под ногами у него мерцала в провале спящая Варшава: костелы, светлая лента Вислы и мосты через нее, черные пятна парков. А над ним было небо. Такие же далекие дрожали звезды, а серп освещенной части луны почему-то казался таким близким, что только протяни руку. Потом он почувствовал, что устал, начал осторожно спускаться, вошел в один теплый слой, в еще более теплый, спустился еще ниже, стал на ноги, утвердился и, счастливо рассмеявшись, побрел, пошатываясь, к себе. Он разделся в своей комнате — перед глазами у него все была ночная Варшава: мужчина, пишущий кому-то письмо, девушка с книгой и необъяснимого цвета светлая Висла с мостами. Утром, проснувшись от звона будильника, Стась сразу спросил себя: “Могу ли я повторить то, что было вчера?” И почувствовал полную уверенность, что может. Он полежал некоторое время, глядя, как пылинки безостановочно и беспечно перемещаются в прорезающем занавеску солнечном луче. Он знал, что ему предстоит удивительно счастливый день. Должна была приехать Кристя. Это чудо, и Кристя… Стась поднялся, неторопливо оделся и вышел на улицу в одиннадцать часов. Люди бежали. Несогласно ударяя в землю пыльными сапогами, прошел взвод солдат-резервистов под командой подхорунжего. Было 1 сентября 1939 года. Повторялось слово “война”. Он почувствовал, как что-то внутри оборвалось и исчезло. Минуло около двух лет, и однажды Стась снова шел по Варшаве. Ему пришлось много испытать. В начале сентября 1939 года он вместе с группой юношей гимназистов сумел пробраться на запад и присоединиться к армии “Познань”. Однако смелость молодых поляков была уже ни к чему. 6 сентября главнокомандующий Рыдз-Смиглы и польское правительство бросили столицу. Части познаньской армии еще сражались, но были обречены. Стась попал в плен и там едва не умер от голода. Потом в суматохе, когда гитлеровцы объединяли “гражданские лагеря” с лагерями для военнопленных, ему помог бежать пожалевший его солдат из крестьян. Не имея документов, чтобы вернуться к себе, юноша полтора года скитался по крестьянским дворам в глухом углу возле Пшегурска. Потом он добрался до Варшавы, узнал, что отец уже умер, и сам, заразившись где-то по дороге тифом, слег. Старуха молочница, продавая их домашний хлам, выхаживала его. Стась пролежал два месяца, потом поднялся, бледный, как картофельный росток. Как это часто бывает после тифа, у него отшибло память. Незнакомыми казались ему квартира и все вещи в ней. Надо было спрашивать себя, видел ли он прежде эти книги, гимназическую парту, потемневшие старые портреты на стенах. День он слонялся по комнатам, постепенно привыкая к ним и восстанавливая по ниточкам связи с прошлым. Потом его ударило: “Кристя!” Он спустился на улицу и вошел в парадную напротив. Незнакомая женщина, подозрительно посмотрев на него, сказала, что прежние жильцы уехали. — Куда? Она не ответила и закрыла дверь. Стась побрел по городу, смутно надеясь, что случайно встретит девушку. Жутко выглядела Варшава третьего года оккупации. Стояла глубокая осень. Листья на деревьях облетели. На улицах было пустынно. Большинство магазинов закрылось, окна нижних этажей были задернуты решетчатыми ставнями, а то и просто забиты досками. Стась зашел в Лазенки. Ему хотелось посидеть на той скамье, где он познакомился с Кристей. Он приблизился к скамье и с отвращением отшатнулся. По спинке скамьи шла отчетливая надпись: “Только для немцев”. Он огляделся и увидел, что в парке никто не садится на скамейки. Лишь на одной развалился немецкий сержант в мундире со стоячим воротником. Немногочисленные посетители парка шли, не останавливаясь, по аллеям, а немец с недоброй усмешкой, сунув руки в карманы и вытянув ноги, как бы руководил этим молчаливым хороводом. На Маршалковской было люднее. Иногда даже попадались нарядные женщины. Прошел пожилой щеголь аристократического вида под руку с молоденькой нагловатой дамочкой. Немецкий офицер презрительно перебирал поздние хризантемы на лотке. Проезжали автомобили с военными, извозчики. Мрачный сгорбленный мужчина с ведерком и кистью в руках обогнал Стася и наклеил на стену листок из пачки, которая была у него в сумке. “УБИЙЦА МАТУШЕВСКИЙ НЕ ЯВИЛСЯ! До 18.Х.41 убийца Матушевский Збигнев, покусившийся на жизнь немецкого военнослужащего, не явился сам и не был схвачен благодаря содействию населения. Поэтому я распорядился сначала о расстреле 25 заложников из местного населения, главным образом интеллигенции, то есть врачей, учителей и адвокатов. От поведения и помощи населения в дальнейших розысках убийцы зависит судьба остальных заложников. Начальник СС и полиции гор. Варшавы”. Прохожие, не останавливаясь, отводили глаза в сторону. Пожилой щеголь взглянул на объявление и вздрогнул. Без цели Стась свернул с Маршалковской в Сасский парк, прошел через площадь Железной Брамы, где, продавая всякий скарб, толпился народ, и углубился в узкие улицы Муранува. Смутное воспоминание о чем-то хорошем, даже прекрасном в его прошлом пробивалось в сознании юноши. Он вышел на Налевки. Улица была вся пуста. Станислав остановился, озадаченный. Впереди послышался шум. Озираясь, пробежал черноволосый мужчина с лицом, опухшим от голода. Потом из-за поворота показалась толпа стариков, женшин и детей, сопровождаемых эсэсовцами. Они прошли совсем близко от Стася. Маленькая девочка, держась за руку матери и торопясь, чтобы поспеть за скорыми шагами взрослых, спрашивала: — Куда нас ведут, мама? Куда?.. Эсэсовец с автоматом что есть силы толкнул Стася, и юноша ударился о стену. — Эй, с дороги! Толпа прошла. Стась повернул на Ново-Плиски. Шли и пробегали люди, и на всех лицах была одинаковая печать обреченности и голода. Послышался крик: — Облава! Стась все еще не понимал, где он находится. Он вошел в какую-то жалкую харчевню. Несколько мужчин с бородами сидели за пустыми столиками. Его появление удивило всех. Стась, усталый, сел за столик. Все молчали. Потом юноша услышал за спиной: — Слушайте, у вас продукты? — Может быть, он продает яд? Стась опять обернулся. — Какой яд? Зачем вам яд? — Он не понимает… Старики отвернулись от Стася, приглушенными голосами заговорили на незнакомом языке. Яд?.. Для чего им яд?.. И вдруг он понял, где находится. Гетто! Варшавское гетто — вот куда он попал. Он смутно вспомнил, что проходил через какие-то высокие ворота, все в колючей проволоке. Вспомнил, как усмехнулись солдаты охраны, когда он миновал их. Дверь в харчевню вдруг распахнулась. На пороге стоял тяжело дышащий мужчина. Он сказал: — Облава. Сюда идут убийцы. Поспешно пробежал в дальний угол комнаты и сел за столик. Еще две тени скользнули с улицы. Оттуда доносились крики и стоны. Бородатые старики съежились. Шум и вопли на улице приблизились, потом стали уходить. Когда стало уже почти тихо, раздались гулкие уверенные шаги и в дверях вырос эсэсовский офицер в черной шинели. Миг он стоял на пороге. Кто-то охнул. Офицер холодно оглядел комнату. Потом, шагая четко и бездушно, подошел к пустой стойке, повернулся и еще раз стал осматривать все столики. А у двери стали два автоматчика без лиц — только с касками, где был нарисован череп с костями. Напряжение в комнате сделалось совсем ужасным. И вдруг Стась почувствовал такую жалость к несчастным старикам и такую ненависть к тому, что готовилось произойти здесь, что, сам не сознавая этого, вскочил. — Люди! — закричал он. — Люди, что вы делаете? Опомнитесь! Ведь я же могу летать! Человек может летать! Смотрите! Он подпрыгнул, повис в воздухе, повисел две секунды и стал на пол. — Подумайте! Ведь вы же все люди. Что вы делаете? Все молчали. Безликие маски солдат и офицера на миг сделались человеческими лицами. — Ну, смотрите! — крикнул Стась. Он еще раз поднялся в воздух, над столами перелетел к стойке и опустился возле офицера. Тот отшатнулся, потом, показывая на юношу, закричал: — Взять! И стал вырывать парабеллум из кобуры. Солдаты, расшвыривая столы, бросились к Стасю. Секунду он смотрел, как они приближаются, сознание опасности защемило его сердце, потом тоска овладела им — он чувствовал, что той давней чудесной силы в нем совсем мало. Что ему не удастся бежать. К счастью, у дверей никого не было Неловко, как птица в тесной клетке, он подскочил, ударился о потолок, вытирая спиной побелку, скользнул к выходу, упал на четвереньки, вскочил и побежал по улице. Сзади раздались выстрелы, крики. Цепь солдат с автоматами перегораживала ему дорогу, они расставили руки. Он опять подпрыгнул, из последних сил перелетел эту цепь, увидев на миг под собой удивленные физиономии и разинутые рты. Он повернул куда-то за угол, еще раз за угол, бросился в подворотню, пробежал двор. Каменный забор преграждал ему путь, он перескочил его, попал в другой двор и выбежал на улицу. Было тихо. Погоня отстала. Стась огляделся. В глаза ему бросилась табличка над воротами: “Улица Милы”. Он вспомнил, что много раз бывал здесь до войны, навещая старого учителя гимназии Фриденберга. Странным и каким-то нереальным был этот разговор. — Пан учитель, — сказал Стась, — я могу летать. Это удивительно, но это так. Это было со мной до сентября, и теперь этот дар вернулся. Хотите, я покажу вам? — Нет-нет. — Старик протянул руки. — Я верю тебе. Мне не нужно доказательств. Я сам считал, что это когда-нибудь будет… Они разговаривали в маленькой каморке. Когда Стась разыскал квартиру Фриденберга, он не узнал знакомых комнат. Гетто было перенаселено. Там, где раньше жили одна или две семьи, теперь теснилось по сорок — пятьдесят человек. И тут тоже на полу под тряпьем повсюду лежали люди. Чей-то голос в темноте направил Стася дальше, в другую комнату, потом в третью, и лишь в самой последней, которая прежде была кладовкой, юноша нашел своего старого преподавателя. Они зажгли коптилку. В ее тусклом свете старик казался еще больше, чем раньше, похожим на пророка. Его исхудавшие щеки глубоко запали, выпуклый лысый лоб стал еще больше, давно не стриженная борода разметалась по груди. — Я хочу показать, как я летаю, — сказал Стась. — Не нужно. — Старик затряс головой. — Я верю тебе. Не будем терять времени. Он ходил от стены до стены среди наваленных на полу книг. Полы его халата развевались, и огонек коптилки то угасал, то оживал вновь. — Это правда. Это должно быть. Ты понимаешь, самые удивительные способности таятся в нашем организме. Подумай только о маленьких детях, например. Ребенок, глядя на рисунок обоев, видит там дворцы, замки, чудесные деревья и персонажей своих любимых сказок. А взрослые люди смотрят на ту же стену, и для них там нет ничего, кроме грубо отпечатанных розочек и листьев. Почему? Потому что каждый ребенок — это поэт, живописец, танцор и актер сразу. А взрослый человек в процессе жизни и борьбы за существование постепенно теряет все заложенные в нем прекрасные способности, оставляя лишь те, что помогают ему добыть кусок хлеба… Но если бы эти способности могли проявиться? Если бы жизнь была другой?.. Я хожу здесь в гетто и вижу лица истощенные, лица равнодушные, лица циничные, лица больные и умирающие. И я знаю, что один из этих людей мог бы быть умен, как Ньютон, другой — рисовать, как Дюрер, третий — петь, как Шаляпин, или сочинять музыку, как Шопен. Каждый… Ой-ой-ой, идет страшная война, в человеке открылось такое, чего не было во все века. Людей заживо бросают в костры, убивают грудных младенцев, уничтожают целые народы. И все-таки я понимаю сейчас, что Человек — это безгранично… Старик почти пел, раскачиваясь на ходу. Это было похоже сразу на плач и на молитву. — В древних египетских папирусах я прочел указания о том, что люди умели видеть происходящее за сотни километров от них. Также описаны случаи, когда человек часами стоял на одной ноге на самых кончиках пальцев, и приводились сведения о том, что некоторые особенно выдающиеся мыслители обладали способностью видеть ближайшее будущее… А гипноз? А удивительная способность некоторых останавливать взглядом? Вернее, не останавливать, а заставлять оглянуться… А действие музыки на человека, которая почти приближает его к пониманию такого прекрасного, что еще никогда не было понято нами… Слушай, мальчик, мы находимся сейчас накануне ночи. Идет тысяча девятьсот сорок первый год. Фашисты захватили всю Европу и в России ведут наступление на Москву. Но, заверяю тебя, будет рассвет. Сбереги себя. Сохрани свой дар. Старик остановился и посмотрел на Стася. — Тебе нельзя оставаться у меня. Вчера тут в гетто две девушки и трое юношей совершили нападение на солдат вермахта. Ночью фашисты убьют тысячи людей. Беги… Если ты можешь лететь, лети! За дверью раздался шум, и они оба прислушались. Шум повторился. Теперь это был уже грохот, стучали во входные двери. В соседних комнатах поднялись вопли и стоны. — Это они, — сказал старик. — Пора. В комнатах уже раздавалось гортанное немецкое: — Alle r-r-raus! Unter! Застучали в дверь. Стась вскочил на подоконник. Он и верил себе и не верил и оглянулся на старика. Тот кивнул. Юноша прыгнул. В ушах у него засвистело. Жутко и гибельно понеслись навстречу тускло освещенные булыжники мостовой. Но, сжимая зубы, он замедлил падение, почти остановился в воздухе и мягко упал во дворе. Затем встал и вышел на улицу. Цепь солдат окружила толпу полуодетых кричащих людей, их загоняли в крытые машины. Секунду Стась смотрел на все это, потом торопливо пошел в сторону. — Стой! Стой, руки на затылок! Это уже относилось к нему. Он побежал, свернул в подворотню и оказался в глухом дворе-колодце. Он огляделся, отчаянно прося свою чудесную силу не оставить его в такой миг, вдохнул, оторвался от земли и стал подниматься. Солдат гулко протопал почти под самыми его ногами, но не увидел его. Во двор вбежало еще несколько эсэсовцев, один посмотрел наверх, закричал и вскинул автомат. Стась поднимался мучительно медленно. Уже дико кричали все эсэсовцы. Очередь просвистела мимо его плеча. Но рядом, к счастью, был балкон. Он спрятался за ним, по стене — почти карабкаясь и помогая себе руками — поднялся до третьего этажа. Теперь он уже просто боролся за жизнь, молчаливо и упорно. Двор внизу весь наполнился гулом, как будто били по железному листу. Станислав поднялся до четвертого этажа, перевалил на крышу, побежал по ней, оскальзываясь и падая, потом, измученный, лег у карниза. Но ему не пришлось долго лежать. По всем этажам уже топали сапоги, раздавалась гортанная тревожная речь. Из слухового окна недалеко от Стася осторожно выглянул солдат с автоматом. Юноша вскрикнул, вскочил и, не раздумывая, прыгнул вниз. Но теперь странная сила уже вполне подчинялась ему. Он полетел косо, вправо, успел на миг увидеть, как из окна четвертого этажа два автоматчика бьют по нему и как огонь вылетает из дул. Но автоматчики сразу пронеслись мимо, он был уже снова на крыше, но на другой стороне улицы. Несколько мгновений он отдыхал, затем стал подниматься все выше и выше. Опять, как в памятную ночь перед войной, он напрягал что-то такое — он сам не знал, что — и поднялся метров на двести над домами в темноту и холод октябрьской ночи. Варшава лежала под ним, черная, не освещенная. В гетто били автоматные очереди, сияли прожекторы на улицах, и в их свете метались маленькие фигурки. А в других районах города было тихо. По Маршалковской катила колонна автомобилей. Стась наметил себе место за пределами гетто и направил свой полет туда. Он опустился на какой-то незнакомой улице возле тумбы с объявлениями. Ветер трепал край свежего, недавно наклеенного листка. Стась подошел и прочел: РАССТРЕЛЯНЫ! Дальше говорилось, что за покушение на германских военнослужащих расстреляны бандиты. Первой в списке стояла Кристина Загрудская, 1927 года рождения. Он стоял и смотрел на это объявление и чувствовал, как что-то обрывается у него внутри. Но вместе с тем в нем росла уже другая сила. Он не вернулся домой в ту ночь, а взял направление на Древницу. Добравшись туда к утру, он отдохнул немного у знакомых, а затем лесами пошел на Восток. У Яновского бора его остановили вооруженные в штатском. — Ты кто? — Поляк. — Во что веришь? — В Польшу верю. Но и так можно было видеть, кто он и во что верит. Через две недели в руках у него был пулемет, и очередь ударила по фашистской автоколонне, совершающей торопливый марш на русский фронт, где гитлеровские войска уже уперлись в оборону Москвы. Станислав был в партизанах, потом присоединился к дивизии Костюшко, участвовал в боях за Варшаву и, раненный, вместе с фронтовой сестрой-санитаркой, ленинградской девушкой Татьяной, попал в Россию. Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Станислав остался в Советском Союзе, поступил в Строительный институт и окончил его. Вместе с женой он работал на канале Волго-Дон, строил заводы в Сибири. В 1957 году Станислав с семьей поехал на строительство Братской ГЭС. — Но вот что интересно, — сказал Строитель. (Он заканчивал свой рассказ.) — В последнее время Станислав опять начинает ощущать эточувство. Все сильнее и сильнее. Впервые оно возникло, когда он был участником грандиозного митинга в честь окончания первой очереди строительства. Попробуйте представить себе эту картину. День. Панорама огромной реки. На двух берегах тысячные толпы людей, спаянных между собой, связанных общим делом. Высокое голубое небо над плотиной, вспугнутая шумом косо летящая птица на высоте, освещенная солнцем… Он, тоже участник строительства, вбирал в себя все это и вдруг почувствовал, что снова может лететь. Просто силой желания. Приказать чему-то и разом подняться над водохранилищем, над лесами. Взмыть и оказаться рядом с птицей. Его только остановило чувство неуместности полета, когда уже начался митинг… Дальше, в тот день, это ощущение ушло от него. Но теперь оно все чаще и чаще возвращается. Станислав еще ни разу не пробовал, но твердо знает, что, когда он захочет, когда прикажет себе, он полетит. И этот полет будет увереннее, сильнее того, чем это было раньше… Рассказ кончился, и наступила пауза. — Да-а, — протянул Техник. (Было непонятно, что означает это “да-а”.) Он усмехнулся и сказал. — Как часто у меня бывало это чувство. Помните, то же самое, что с Наташей Ростовой. Вот, кажется, еще чуть-чуть, и ты взлетишь. Как хотелось бы, чтоб это было. — Он смутился, потом покачал головой. — Но обоснование? Какое обоснование? — А я верю, — сказал Биолог. Он встал, затем сразу сел и заложил ногу на ногу. Потом снял ее и откинулся в кресле. — Вы знаете, я верю. И вот почему. Потому что мечта — я много думал об этом — вовсе не представляется мне чем-то стоящим уже совершенно далеко от действительности. В самом деле. Каждый ребенок мечтает летать вот так — силой желания. Да и не только ребенок. Не может быть, чтобы это были одни мечты. Если мы хотим быть материалистами и марксистами, мы должны понимать, что наши желания — а особенно длительные и упорные, проходящие через всю историю человечества — возникают не просто так, а в конечном счете на материальной почве заложенных в организме возможностей. Что такое мечта? Разве она есть что-нибудь уж совсем противоположное действительности? Конечно, нет. И разум человека, и драгоценная способность мечтать не лежат где-то вне природы и не противоречат ей. Мечта — это законная дочь разума, который, в свою очередь, законный сын природы и человеческого общества. Это звучит напыщенно, но так оно и есть. — Он посмотрел на Строителя. — Одним словом, я верю в то, что было с вашим другом. Естественно, сейчас это кажется невероятным. Но сто лет назад невероятностью казалось превращение энергии в материю, например. Одним словом, я убежден, что человек полетит. И, может быть, очень скоро. — Заметьте, — сказал Медик, — что все три раза этот человек ощущал в себе эту способность в периоды особенно сильных общественных переживаний. Во времена напряженного ожидания войны, в минуты любви, ненависти, жалости и радости… Да, кстати, — он повернулся к Строителю, — вы говорили, что уже сейчас есть ключ, который поможет очеловечить науку. Даст ей возможность превзойти себя. — Есть, — ответил Строитель. — Такой ключ есть. — Какой? — Искусство. — Искусство? — переспросил Поэт. — Да. Метод познания действительности, который человечен по самому своему характеру. Человековедение. Понимаете, в нем есть все, чего не хватает сейчас науке, когда она подходит к человеку. Гуманизм, целостность, способность мыслить более общими категориями и вместе с тем чрезвычайно изощренные и неожиданные связи, сопоставления и отношения. Я уверен, уже в недалеком будущем наука, для того чтобы двигаться дальше, не сможет не позвать себе на помощь искусство. И даже не позвать на помощь, а просто подойти и стать с ним рядом. И этот синтез двух начал, которым так долго пришлось существовать отдельно, и будет новым шагом знания при коммунизме. — Уф-ф-ф, — вздохнул Поэт. — Говорим целый вечер и наконец-то коснулись искусства. Вот скажите, — он обратился к Физику, — кого вы любите читать? Кто помогает вам в работе? Есть же кто-нибудь, да? — Стендаль, — ответил Физик. — В частности “Люсьен Левен”. Он мне дает настрой. — Вот именно, настрой. Он помогает чем-то таким, чего не выразить точно словами… Понимаете, я долго не мог сообразить, чем раздражала меня та дискуссия, которая прошла в молодежных газетах. “Возьмет ли человек с собой в космос ветку сирени?” Теперь я понял и отвечаю на этот риторический вопрос отрицательно. Не возьмет. Потому что здесь — в такой постановке вопроса — искусство мыслится как пассивный момент любования прекрасным. Как фактор отдыха. Но ведь дело не в этом. Искусство — ветвь познания. Именно в этом качестве человек возьмет его повсюду. Он просто не сможет без него. Но с ним будет не ветка сирени, а то, что воспитано искусством: фантазия, человеколюбие, широта и богатство связей… Вы совершенно правы. — Поэт кивнул Строителю. Уже зашло солнце. Резко и решительно спустилась темнота. В парке звучали голоса отдыхающих. На веранду уже два раза приходила розовощекая, пышная девушка из столовой звать к ужину. Все встали, и Биолог подошел к Строителю. — Простите, мне кажется, вы сами из Варшавы. Я не ошибаюсь? — Да, из Варшавы, — ответил Строитель. — И сейчас работаете в Братске? — Да. Биолог посмотрел на Строителя очень внимательно. — Скажите, а вы не…
Л. Островер. УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, или ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК БЫЛА ПОХИЩЕНА РУКОПИСЬ АРИСТОТЕЛЯ И ЧТО С НЕЙ ПРИКЛЮЧИЛОСЬ[1]
ОТ АВТОРА
На скамью рядом со мной сел старик. Сел, запахнул полы своего пальто, достал из кармана книжечку, поставил меж колен черную палку с круглым костяным набалдашником и углубился в чтение. Старик был чем-то похож на Чехова — длинный, сухой, с острой бородкой; даже пенсне он носил, как Чехов, — на черном шнурке и немного косо. Меня заинтересовала книжка, которую он читал, — карманного формата, в темно-синем мягком переплете. Лишь одно издательство выпускало греческих и латинских авторов в таком оформлении. До войны в этом оформлении у меня были Светоннй, Тацит, Ювенал и Петроний. День был хмурый, на бульваре неуютно, а встать, уйти не хотелось. Кто он, этот старик? Не сдержавшись, я спросил: — Светоний? Или Тацит? Старик, склонив голову, взглянул на меня поверх пенсне: — Вы, сударь, классик? — Бывший, — ответил я. — Но ни греческой, ни латинской книжки давно не держал в руках. — А тянет? — Говоря честно — не очень. Еще в гимназии меня интересовало не то, о чем автор пишет, а то, как он пишет. В университете меня стало больше всего занимать, чем один писатель отличается от другого. А потом все эти Тациты и Ювеналы ушли за горизонт, и лишь изредка, в какой-нибудь осенний день я брал с полки такую вот темно-синюю книжечку и мысленно возвращался в далекую юность. — Даже Аристотель ушел за горизонт? — спросил он иронически. — Аристотель, который уже лет триста пятьдесят до нашей эры считал материю основою всех вещей? Поток остроумных колкостей обрушился на меня. Со стороны могло показаться, что я — вышедший из гроба Платон, а сосед мой — Аристотель; воскресший Аристотель распекал Платона за идеализм. Даже палка с костяным набалдашником была пущена в ход: старик чертил ею на земле какие-то круги, которые должны были изобразить замкнутость и ограниченность моего, платоновского, мировоззрения. Вдруг он, словно вернувшись к жизни, весело рассмеялся: — Кто вы? Ваша профессия? — Литератор. — Я назвал себя. Он протянул мне руку и назвал себя тоже. Итак, случайным моим собеседником оказался весьма известный ученый-ориенталист. Я задержал его руку в своей дольше, чем это полагалось при первом знакомстве, и посмотрел на него глазами пионера, которому довелось увидеть прославленного героя. Заметив впечатление, которое он произвел, профессор дружески обнял меня за плечи: — Писатель? Удачная встреча! Хотите услышать историю одной рукописи Аристотеля? Любопытнейшая история! Новы из каких, простите, писателей: из тех, кто пишет, или из тех, которые, увы, писали когда-то? — Полагаю, из первых. — Тогда с охотой поведаю вам эту историю. Вы не торопитесь? И профессор принялся рассказывать.Часть первая ШАРМАНЩИКИ
1
Шел 1848 год: с Запада надвигалась революция. Николай I послал войска в Венгрию с приказом: “Удушить революцию па марше”. Управляющим III отделением был тогда генерал Дубельт. Худое лицо, пшеничного цвета усы, усталый взгляд, глубокие рытвины на лбу — за этим обликом скрывалось дрянное нутро лицемера и кнутобойца. Это он в апреле 1848 года, встретив на Мойке больного, доживающего последние дни Белинского, взял его под руку и дружески спросил: “Когда же вы, почтеннейший Виссарион Григорьевич, к нам пожалуете? Хороший казематик мы вам приготовили”. Дубельт был честолюбив, как скаковая лошадь, которая из кожи лезет, чтобы обогнать бегущую впереди. Он уже взобрался на одну из высших ступенек сановной лестницы, но честолюбие гнало его дальше: между ним и царем Николаем все еще стояла тень Бенкендорфа, “дорогого друга”. Сам Бенкендорф уже четыре года был в могиле, хозяином III отделения стал он, Дубельт, но тень “дорогого друга” незримо витала в кабинете Николая — тень в образе наушника Мордвинова, оставленного Бенкендорфом в III отделении “для преемственности”. Надо было прогнать эту тень! И Дубельту повезло. В сентябрьский вечер он ехал в Зимний дворец. Сумерки сгущались, тускнела Адмиралтейская игла, люди на Невском скрывались за серой дымкой. И вдруг Дубельту послышался мотив “Марсельезы”. — Стой! Кучер, натянув вожжи, оборвал резвый бег жеребца. Дубельт соскочил с дрожек и скорым шагом направился к садику, откуда неслись звуки шарманки. Садик был небольшой. Деревьев двадцать кольцом окружали хорошо утоптанную полянку. Долговязый старик с бронзовым лицом вертел ручку шарманки. На шарманке, нахохлившись, сидел зеленый попугай. Стройная девушка в черном трико обходила публику с оловянной тарелкой в руках. Скрывшись за стволом старой липы, Дубельт стал прислушиваться к игре шарманки. Она хрипела, свистела, скрипела, мелодия как бы ковыляла, но часто прорывались звуки, напоминающие мотив “Марсельезы”, — именно те звуки, которые ошеломили Дубельта. Он вышел из садика, приметив лишь, что на длинной шее шарманщика белеет полукруглый шрам. — Во дворец! — бросил он кучеру, садясь в дрожки. Царь сразу заметил, что с Дубельтом произошло что-то необычное. Глаза его, водянисто-серые, всегда выражавшие одно лишь чувство рабской преданности, были сейчас, как у обиженного ребенка, грустные. Бутафорская грусть должна была скрыть радость, владевшую Дубельтом и ускорявшую биение его сердца. Дубельт хорошо изучил своего повелителя: Николай готов вознести человека за безоговорочное усердие, но оттолкнет от себя любого при малейшем сомнении в его полезности. Какая польза от ставленника “дорогого друга”, от Мордвинова, если тот не слышит даже, что на улицах Петербурга играют гимн революции?! Дубельт нетерпеливо ждет вопроса: “Что нового в моей столице?” Без этого нельзя, не полагается по этикету рта раскрыть. А Николай — не то он думает о чем-то своем, не то хочет прежде помучить Дубельта — все расспрашивает то о том, то о сем. — Как холера? — Слава богу, ушла из вашей столицы. Ни одного нового случая. — Что на дороге? — Два вагона соскочили с рельсов между Павловском и Царским Селом. — Сколько убитых? — Всего три человека, ваше величество! Николай сделал несколько шагов по кабинету: высокий, прямой, с лицом мертвенно-неподвижным, он производил впечатление передвигающейся статуи. Вдруг он остановился: — Кто разрешил выставить картину Штейбена? Опять этот Наполеон! — Ваше величество, я видел картину. Она написана мастерски и с целью посрамления узурпатора. Лицо Наполеона ясно говорит о том, что все для него погибло. — Убрать с выставки! Наполеон в любом виде — порождение революции. — Он прошелся по кабинету, остановился перед мраморным бюстом “братца” Александра и, не глядя на Дубельта, спросил все еще раздраженно: — Что нового в моей столице? Дубельт втянул голову в плечи, словно к прыжку готовился, затем вдруг выпрямился и по-солдатски отрапортовал: — Ваше величество! На улицах вашей столицы играют гимн революции! Николай повернулся быстро, резко, как на шарнирах: — Кто?! — Якобинцы, на сей раз в облике шарманщиков, ходят по дворам и исполняют “Марсельезу”. — А Мордвинов слышал? — Я полагаю, если б Александр Николаевич слышал, непременно доложил бы вашему величеству. Не могу допустить и мысли, чтобы Александр Николаевич скрыл от своего государя чудовищное преступление. — И более тихим, вкрадчивым голосом добавил: — В такое время, когда от верных слуг вашего величества требуется не только усердие, но и прозорливость. Костер в Европе залит, но угли еще тлеют. Дубельт был доволен своим ответом: правда, вся эта тирада была заранее подготовлена, но произнес он ее взволнованно, точно она только что родилась в преданном сердце и сорвалась с языка вопреки желанию. Горячность, с какой тирада была высказана, должна была убедить царя: этот ничего не проглядит! Николай уставился на Дубельта злым и надменным взглядом, охватившим одновременно рыжеватые волосы на голове, прямой, плоский, словно безгубый рот, узкие плечи, белый георгиевский крест на груди. — Арестовать. Всех, — сказал он тихо и вышел из кабинета. В эту ночь арестовали всех шарманщиков и не в полицию их свезли, а в III отделение — туда, где содержатся государственные преступники. На следующий день, после утреннего доклада, Николай, окинув грозным взглядом тучного Мордвинова, сказал: — Туг стал на уши, любезнейший. — Шарманщики, ваше величество? — Именно. Шарманщики, сударь. Мордвинов повернул голову к Дубельту, словно упрекал он, а не царь: — Шарманка — не оружие якобинцев. Якобинцы делают свое дело тайно, а шарманка лезет в уши всем. К тому же, как вы изволили докладывать его величеству, шарманка играла что-то схожее с “Марсельезой”. На днях я прочитал стихи Хомякова. Звучные стихи. Они схожи со стихами Пушкина, но они все же не пушкинские. Доводы понаторелого в сыскных делах Мордвинова могли бы убедить Николая, если бы он не был так напуган недавними революционными вспышками в Европе; угроза, которая таилась в сообщении Дубельта, не могла исчезнуть так быстро. Николай перевел глаза на Дубельта: — Как по-твоему: пушкинские или хомяковские? — Полагаю, ваше величество, что среди пушкинских могут оказаться и хомяковские. — Полагаю, — повторил Николай ровным, безучастным голосом. И вдруг закончил, улыбаясь: — Дубельт, ты шарман… Дубельт склонил было благодарно голову, но тут же, поняв тайный смысл царского комплимента, побагровел. Приятное французское слово “шарман”, в переводе означающее “очаровательный”, “обворожительный”, Николай произнес четко, букву за буквой — этим он придал слову совсем иное звучание. И Дубельт понял, что французское слово “шарман” — только начало русского слова шарманщик. Комплимент обернулся зловещим предостережением.2
Графа Николая Олсуфьева, поручика лейб-гвардии Семеновского полка, товарищи звали Козликом, хотя он решительно ничем не напоминал козла. От матери-итальянки поручик унаследовал смуглый цвет лица, грустные глаза и южный темперамент; от отца — крупный нос, мощный подбородок, богатырский рост и чрезвычайное легкомыслие. Не на козлика был похож поручик, а, скорее, на крупного зверя, которого природа случайно наделила глазами газели. По происхождению и богатству Олсуфьев принадлежал к высшему петербургскому свету, но легкомыслие влекло его за кулисы театров, в трактиры. В полку Олсуфьева любили; если и поругивали, то лишь за то, что частенько он пропадал невесть где и невесть с кем. Август и сентябрь 1848 года были как раз месяцы, когда граф, увлекшись в который раз, исчезал неизвестно куда. На этот раз он увлекся серьезно. Началось это вот как. После дежурства во дворце Козлик направился к своему другу, графу Григорию Кушелеву-Безбородко, поручику того же Семеновского полка. Жил Безбородко на Сергиевской со входом через двор. Двор был четырехугольный, в центре фонтан с мраморным гусем на макушке. Обычно возле фонтана играли дети, но сегодня там вертел ручку шарманки долговязый, бронзоволицый старик, с полукруглым шрамом на длинной шее; а на коврике, разостланном рядом, танцевала очаровательная девушка. Тонкая, гибкая, она как будто играла с невидимым существом: то прижимала существо это к груди и описывала с ним вихревые круги, то бережно укладывала существо на коврик и на пуантах удалялась от него, чтобы тут же вернуться и, склонившись, подхватить свою живую игрушку и вновь закружиться с ней или, подняв ее к небу, застыть в молитвенном экстазе; стройные и упругие ноги девушки, словно пригвожденные к месту, дрожали ритмично, подобно тростникам на заре. Да и лицо, вернее, глаза играли. То в них светилась печаль разлуки, то сияла радость встречи, то вдруг вспыхивал озорной огонек насмешки. Глядя на это зрелище, Козлик умилился. Когда девушка после танца начала обходить с оловянной тарелкой публику, Козлик следил за каждым ее движением. Ничего заискивающего, такого обычного для уличных плясуний, не было в ее взгляде; она даже не благодарила за брошенную в тарелку монету, а лишь легким, даже чуть высокомерным кивком головы как бы подтверждала получение платы за проделанный ею труд. Когда она подошла к Козлику, тот положил на тарелку все, что имел при себе, — 260 рублей. Девушка взглянула на него пристально, потом сказала по-итальянски: — Вы очень щедры, синьор офицер. — Танцуете вы божественно! — произнес он восторженно. — Брось! Брось! — прокричал попугай. Девушка потупилась и сказала шепотом: — Простите, это хозяйка, где мы живем, научила его. И отошла. Поставила на шарманку тарелку с деньгами, скатала коврик и, накинув на плечи длинный плащ, посмотрела в сторону офицера: он стоял на прежнем месте. Козлик узнал, что девушку зовут Тересой, а ее отца Финоциаро и что живут они на Охте. Сначала Козлик посылал туда своего лакея с цветами и конфетами, потом направился в гости сам. Приняли его учтиво, хотя у старика Финоциаро нет-нет, а прорывалось недружелюбие. Визиты становились более частыми. Олсуфьев был мил, занимателен, скромен, и ему не стоило большого труда убедить хозяев, что побуждения его бескорыстны, ибо он сам поверил в это. Он ездил на Охту, как ездят из душного города в деревню, где радует не то, что природа дает землепашцу, а она сама. Охта стала для Олсуфьева миром вновь обретенного детства, проведенного с матерью в Италии, миром чистых помыслов. Вечера же, проведенные с русским офицером, уводили хозяев из сурового Петербурга в привычный им мир певучей речи и веселых шуток. Так продолжалось недель шесть — до злосчастного сентябрьского заката, когда шефу жандармов Дубельту почудилось, будто шарманка Финоциаро играет “Марсельезу”, — вернее, когда честолюбивому Дубельту показалось, что он наконец-то набрел на единственно верное средство, которое поможет ему оторвать “тень” — Мордвинова — от Николая.3
В этот вечер Олсуфьев дежурил во Дворце. Рано утром, еще до сдачи дежурства, лакей принес ему письмо от Тересы. Помогите, я в отчаянии: ночью арестовали отца. Кроме вас и мадонны, мне не к кому прибегнуть. Олсуфьев тут же решил: “Дам сотню квартальному, и он освободит старика”. Но на Охте, выслушав рассказ Тересы, Олсуфьев понял, что сотней тут делу не поможешь: III отделение — не полиция, куда можно сунуться со взяткой. Однако он сказал девушке: — Есть у меня ход и к жандармам! В его заявлении прозвучала вера в свои силы и возможности, а не простое желание успокоить или освободиться от неприятного разговора. С Охты Олсуфьев отправился на Сергиевскую, к Кушелеву-Безбородко, к своему душевному другу. Ему, графу Безбородко, Олсуфьев поверял затаенные мечты, с ним он делился своими радостями, у него искал утешения в печалях. Умный и не по летам степенный, Кушелев-Безбородко был для Олсуфьева тем светлым лучом, который способен согреть и успокоить. После кутежей, гадких и безобразных, Олсуфьев ходил к Грише очищаться, заранее предвкушая радость от дружеской встречи. Олсуфьев не подозревал того, что Безбородко дружит с ним только из расчета, не подозревал, что он, Олсуфьев, служит лишь ступенькой той лестнице, которая должна привести Григория Безбородко к заветной цели. Наивный и простодушный Олсуфьев плохо знал своего друга. Григорий Кушелев-Безбородко задался целью повторить карьеру своего прадеда, канцлера Безбородко. Еще в корпусе он составил для себя план будущего восхождения. В двадцать лет — поручик гвардии, в двадцать три — капитан гвардии, в двадцать восемь — полковник и командир армейского полка, а в тридцать два — генерал-майор и начальник штаба одного из гвардейских корпусов, в тридцать пять — генерал-адъютант и командир армейской дивизии, в сорок — сорок два — генерал-губернатор. Григорию Безбородко сейчас двадцать лет — он поручик гвардии. Чтобы плавно подниматься по лестнице, ему нужна сильная рука — рука, которая будет отталкивать конкурентов и передвигать его со ступеньки на ступеньку. Безбородко нашел такую руку: всесильный граф Адлерберг. Однако все попытки отца Безбородко и его дяди Александра Григорьевича, государственного контролера, сблизиться с гордым остзейским графом не увенчались успехом: дворцовая знать жила замкнутой кастой и никого со стороны не пускала в свою среду. Вот тогда ловкий поручик сдружился с Николаем Олсуфьевым: тетка Николая была замужем за Адлербергом. Правда, Николай Олсуфьев не любил ни своей тетки, ни ее мужа, но своего душевного друга все же ввел в их дом. Там Безбородко пришелся всем по сердцу. Адлерберг нашел, что молодой офицер весьма рассудительно освещает настроения гвардейской молодежи, а настроения эти болезненно задевали Николая I после выстрелов на Сенатской площади; жена Адлерберга, замаливавшая какие-то грехи, нашла в Григории Безбородко приятного спутника по “святым местам”; а их дочь Елена, охромевшая после неудачного падения с лошади, привязалась к нему, потому что он был красив, умен и подавал надежды. В семье Кушелевых-Безбородко с затаенной радостью ожидали дня, когда их умница Гриша объявит наконец о своей помолвке. Гриша Безбородко, делавший все по плану, наметил 26 ноября — день девятнадцатилетия Елены — для серьезного разговора: сначала с ней, потом с ее матерью и, наконец, с самим графом Адлербергом. В согласии Елены и ее матери Безбородко был уверен, а с их помощью он добьется и согласия гордого Владимира Федоровича. Тогда план, составленный еще в корпусе, будет обеспечен. Под руку с таким тестем он легко поднимется на высшую ступеньку государственной лестницы. Чем ближе 26 ноября, тем теплее, тем нежнее Гриша Безбородко относился к полезному своему другу Олсуфьеву. Обо всем этом Олсуфьев не догадывался, конечно. На Сергиевскую он примчался в надежде на помощь и, ворвавшись в библиотеку, произнес торопливо: — Выручай, Гриша! Безбородко поднялся навстречу ему и спросил участливо: — Сколько? — Да ты о чем? — Спрашиваю, сколько денег тебе, друг мой, нужно. Ты, верно, проигрался? Олсуфьев опустился в кресло. Скученно, как солдаты в строю, плечом к плечу, стоят вдоль стен книжные шкафы; на всех дверцах — большие сургучные печати, из-под которых, словно локоны из дамской прически, выбиваются веревочные концы. — Ты мне не ответил, Ника. Олсуфьев резко повернулся. — Ты, стало быть, думаешь, что я только бражничать и в карты проигрывать способен? — Нет, я о тебе лучшего мнения, ты это знаешь. Но у тебя такое несчастное лицо, а мне рассказывали, что у вас вчера на дежурстве шла большая игра. — Играл, проиграл и рассчитался. Но я в самом деле несчастен. Жандармы арестовали отца Тересы. Она в отчаянии. Помоги мне, прошу тебя! — Я? Но чем я могу помочь?! — Можешь! Именно ты! Поезжай к дядюшке Александру Григорьевичу. Ведь он государственный контролер. Дубельт ему не откажет. Упроси, умоли его: пускай освободят старика Финоциаро. А я отправлюсь к Владиславлеву. Владимир Андреевич свойственник мне. Он подготовит почву, чтобы дядюшке твоему не пришлось быть настойчивым. Прошу тебя, поступись гордыней, Гриша… Ты не ходатай, знаю, но пойми, Тереса умрет от отчаяния. Гриша действительно не был ходатаем, потому что чужие беды его не трогали. Но отказать Олсуфьеву он не решился. — Понимаю тебя, Ника, я всем сердцем с тобой. Но подумаем, как лучше все это сделать. — Вдруг его точно осенило — он горячо произнес: — Ника! Поезжай к своей тетушке! Ника, одно ее слово — и старик будет свободен! — К ханжихе! — воскликнул Олсуфьев. — “Зачем о каком-то безбожнике шарманщике беспокоишься?” — спросит она. Нет, Гриша, ханжиха мне не поможет. Безбородко решительно двинулся к двери. — Тогда идем: ты к Владиславлеву, а я — к дядюшке. Попробуем вызволить старика! В воротах, прощаясь — им нужно было в разные стороны, — Олсуфьев задержал руку товарища в своей и растроганно сказал: — Ты, Гриша, ангел! — С петушиными крылышками, — подхватил Безбородко весело. Ирония, прозвучавшая в словах товарища, неприятно задела Олсуфьева; но он был слишком занят собой, чтобы доискаться причин, которые побудили друга несколько изменить тон.4
Появлению родственника полковник Владиславлев обрадовался. — Каким счастливым ветром тебя занесло? А лицо почему постное? У тебя, Ника, все благополучно? — Увы, нет! Я к тебе, Владимир Андреич, с докукой. Владиславлев потянулся было к колокольчику, но Олсуфьев перехватил его руку. — Нет, Владимир Андреич, не надо: ни пить, ни есть я не стану. Некогда… — Тогда и знать о твоем деле ничего не хочу. К родственнику приходить на минуту — ишь что придумал! — Владимир Андреич, ты пойми… — И не проси — не пойму! Является родственник раз в год, и то здравствуй — прощай! Олсуфьев вздохнул. — Звони, что поделаешь… Лакей вкатил в кабинет столик с напитками и закусками. После четвертой рюмки, когда Владимир Андреевич успел расспросить обо всех многочисленных Олсуфьевых, он наконец милостиво разрешил: — Ну, теперь можешь о деле рассказывать. Николай говорил чуть не со слезами на глазах. Владимир Андреевич слушал с сочувствием и не потому, что судьба шарманщика его трогала, а потому, что неожиданно открыл для себя нового Олсуфьева, серьезного и глубоко страдающего. Владимир Андреевич — бывший адъютант Бенкендорфа, а теперь Дубельта — был литератором. Он издавал альманах “Утренняя заря”, где печатал и свои, но тому времени либеральные, рассказы. Все, что рассказывал Олсуфьев, представляло готовый сюжет для новеллы. Когда Олсуфьев закончил, он заметил, что глаза у Владимира Андреевича гневно потемнели. — Ты мне не веришь? — Верю, и мне тебя жаль. Но помочь я не могу тебе — вот в чем горе-то! Мой патрон не допускает к этому делу никого. — Налив себе водки в рюмку, Владиславлев залпом осушил ее. — Но вот что, Ника: завтра я дежурю по управлению. Приходи ко мне в пять часов — вызову твоего шарманщика, и ты с ним поговоришь, в моем кабинете. — Можно с Тересой? — Лучше не надо. До победы было еще далеко, но в тучах появился небольшой просвет, и Олсуфьев ушел от Владиславлева обрадованный. На следующий день без десяти минут пять он подъехал к главному подъезду III отделения. Жандармский капитан повел его длинными коридорами и бесчисленными переходами, то поднимаясь, то спускаясь по каменным лестницам, мимо тяжелых дверей с маленькими зарешеченными окошечками. Перед одной дверью жандарм остановился: — Подождите, поручик. Сейчас доложу. Но докладывать не пришлось: дверь распахнулась, и на пороге показался сам Владиславлев. — Не вовремя ты явился, Ника! Тут с одним господином мне нужно поговорить. Хотя ты ведь итальянского не знаешь? Олсуфьев подтвердил: он понял уже, что и вопрос и его ответ предназначены, главным образом, для уха жандармского капитана. — Тогда посиди у меня, поскучай немного. — И обратился к капитану: — Введите шарманщика. Вошел Финоциаро — тощий, длинный, бронзоволицый. Увидев Олсуфьева, он не выразил удивления и сразу заговорил: — О, синьор Николя, мадонна вняла моей мольбе! Я знал, что вы придете. Я должен был с вами поговорить. Видите шрам? — Он ткнул пальцем в полукруглый рубец на шее. — Это старший Кальяри резал меня серпом. Я его убил. Тогда средний Кальяри застрелил моего единственного сына. Я убил среднего Кальяри. Но есть еще младший в их роду. Я убежал с Корсики, убежал в Италию. Из-за Тересы. Я — один, без родни, убьет меня младший Кальяри, и Тереса погибнет. А Кальяри — за мной. Я опять убежал — в Россию. И Кальяри сюда: он тут, в Петербурге. — Старик рванул ворот рубахи, вскрикнул: — Синьор Николя, вы человек благородный, спасите мое дитя! — Он скрипнул зубами, сжал кулаки и, бросившись к Владиславлеву, закричал: — За что вы держите меня под замком? Зачем я вам?! Вспышка гнева тут же прошла, и шарманщик горестно уткнулся лицом в стену. Он не мог совладать со своим горем: стонал, бил себя кулаками в грудь и рыдал. Исповедь его произвела на офицеров гнетущее впечатление. Владиславлева тронула трагедия затравленного человека, до Олсуфьева же дошло только то, что Тересе угрожает опасность. Просвет в тучах больше не расширялся: государственного контролера Александра Григорьевича Кушелева-Безбородко также постигла неудача. Вечером того дня, когда Олсуфьев был в III отделении, Безбородко встретился с Дубельтом в концерте бельгийского виолончелиста Франсуа Серве. — Рад видеть вас в добром здравии, Леонтий Васильевич, — приветствовал Безбородко Дубельта. — Бог в великой своей милости все еще терпит меня на грешной земле, — дружелюбно ответил Дубельт. — Господь каждому воздает по заслугам. — Но не все так снисходительны, милый граф. — Из зависти, Леонтий Васильевич. Из одной только зависти. Чем больше власти у человека, тем больше у него врагов. А тяготы власти? Кто о них думает?! Каждому из нас нелегко, но вам в вашей должности, дорогой Леонтий Васильевич, должно быть особенно тяжко. В ваших руцех человек! Ответственность за че-ло-ве-ка! За живое существо, созданное по образу и подобию господа нашего. Дубельт, прищурившись, взглянул на государственного контролера и с легкой усмешкой спросил: — Что это вас на проповедь, Александр Григорьевич, потянуло? Какое блюдо вы елеем поливаете? Кушелева-Безбородко не обидела дубельтовская ирония, напротив — обрадовала; он сказал весело: — От вас, дорогой, ничего не скроешь, вы читаете в человеческом сердце. Да, я хотел просить у вас милости для одного старикашки. Финоциаро его зовут. Дубельт сразу посуровел; он тронул снурки аксельбанта и спросил настороженно: — А известно ли вам, кто такой этот старикашка? — Знать не знаю и ведать не ведаю. — То-то! — И повернулся спиной к государственному контролеру. Эти проклятые шарманщики измучили Дубельта. Уже на первом докладе он понял, что интрига против Мордвинова не удалась — хоть бы самому выпутаться из этой истории. Шарманщиков было много, со всеми он беседовал лично и сам же записывал их показания. Были среди них корсиканцы, сицилийцы, калабрийцы, далматинцы из-под Триеста. Горячий, обидчивый и наивный народ. Что ни день-все новые россказни; можно подумать, что у каждого из них не одна биография. Сколько хлопот доставила Дубельту шарманка главного обвиняемого, Финоциаро! Лучший в Петербурге музыкальный мастер господин Иозеф Земмель много часов подряд вертел ручку шарманки и прислушивался к ее хриплым звукам с таким же напряженным лицом, с каким врач выслушивает больное детское сердце. Старый немец заглянул и внутрь ящика, обследовал валики и пластинки. На пятый день он доложил генералу Дубельту: — Ваш эксцеленс, этот шарманк может играть Туркишер марш от господин композитор Мооцарт и танцменуэт от господин композитор Обер. Другой пьес шарманк играть не умейт…5
И вдруг произошло событие, придавшее всему делу новый оборот. Из Парижа с личным посланием от бывшего министра Адольфа Тьера приехал кавалер Пьер-Мари Пиетри. Адольф Тьер хотел заручиться обещанием царя Николая поддержать кандидатуру принца Луи Наполеона на пост президента республики. Революция 1848 года во Франции была подавлена, но французскую буржуазию обуял страх перед народом, и она возмечтала о власти диктатора. К Адольфу Тьеру Николай относился с пренебрежением: он не мог простить ему ни восстания лионских ткачей, ни малой крови при подавлении рабочих волнений в Париже. Мог ли Николай тогда знать — ведь политической прозорливости ему не хватало, — что именно честолюбивый карлик Адольф Тьер окажется палачом Парижской коммуны! Кавалер Пьер-Мари Пиетри был одним из самых близких к Адольфу Тьеру людей, и именно его Тьер направил в Петербург с секретной миссией. Лучшего дипломата для такого щекотливого поручения нельзя было и найти: умный, образованный, находчивый, ловкий, с приятным лицом, бархатным голосом и галантными манерами маркиза времен Людовика XIV. Пиетри добросовестно передал просьбу своего официального патрона, но сопроводил эту просьбу такими двусмысленными доводами, что даже опытный Николай не сразу разобрался в дипломатической игре француза. У Пьера-Мари Пиетри было в Петербурге еще два дела: государственное и личное. Государственное состояло в том, чтобы завербовать агентов среди гвардейских офицеров, личное же заключалось в стремлении добыть редчайшую рукопись Аристотеля, которая, по его сведениям, находилась в одной из русских библиотек. Удачное выполнение первого дела, без сомнения, укрепило бы его положение в министерстве иностранных дел; рукопись же принесет ему богатство. Николаю понравился французский дипломат, и после первой аудиенции царь пригласил его к ужину. Ужинали в круглом Белом зале, только отремонтированном после пожара. Дверей в зале было четыре, и возле каждой, помимо обычного караула, дежурил офицер. Одним из них оказался Николай Олсуфьев — в этот день дежурила в Зимнем его рота. Беседа за столом велась о красивых женщинах, о парижских театрах, о русских рысаках и английских скакунах, о новом сорте голландских тюльпанов. Пиетри умел почтительно соглашаться с мнением царя и при этом обнаруживал знание предмета, о котором шла речь. Застольная беседа звенела, как весенняя капель, — ярко и непрерывно. Когда в одном месте она иссякала, то возобновлялась тут же в другом. После обсуждения ходовых качеств русских и английских лошадей Дубельт заговорил о том, как упорно трудился Карамзин. Ему хотелось втянуть в разговор чванливого старика Девидова: стоит только подзадорить его или рассердить, как он понесет такую околесицу, что даже напыщенный Николай начнет хохотать, как школьник. Дубельт знал, чем можно донять вспыльчивого Девидова: дальняя его родственница вышла замуж за сына сочинителя Карамзина, и он, потомок петровского кузнеца, считал этот брак ужаснейшим мезальянсом. Николай раскусил маневр Дубельта, нона этот раз не одобрил его и даже нахмурился. Пиетри заметил это и, дождавшись конца дубельтовского славословия, умело перевел разговор. — Вашему великому историографу Карамзину, — сказал он, — повезло. В его распоряжении имелись древние хроники, летописи, рукописи. А вот наш профессор физики рассказал как-то своим студентам об одной рукописи Аристотеля, в которой тот описывает свои опыты, предвосхищающие диск Ньютона. Рукопись эта особенно ценна своей теоретической частью: греческому философу удалось установить предел сопротивляемости сетчатки человеческого глаза и дать ключ к изучению реакции глаза на цвета спектра. И рукопись эта исчезла. — Исчезла? — удивился Николай. — А вы, кавалер, так увлекательно передали нам ее содержание! — Мы знаем содержание рукописи по частичному переводу, который сделал в одиннадцатом веке арабский ученый Эль-Хасан. Пиетри говорил в самом деле с увлечением, и увлечение его не было наигранным. Дубельт, сам того не подозревая, помог ему коснуться дела, в котором он, Пиетри, был заинтересован. Более подходящего места для разговора о рукописи вообразить себе нельзя было. Ведь тут, за столом, сидели владельцы редких библиотек, и в первую очередь Девидов, к которому перешло рукописное собрание Карамзина! — Давно ли исчезла рукопись? — заинтересовался Николай. — В прошлом веке. Сначала она находилась в библиотеке кардинала Ришелье, оттуда попала к Орлеанам, а из библиотеки Орлеанов была похищена и продана в Россию. Разрешите, ваше величество, воспользоваться счастливым случаем. Вы, сир, всемогущи; прикажите разыскать рукопись, помогите Франции вновь обрести свое достояние! Николай окинул быстрым взглядом сидящих за столом — на всех липах было написано недоумение. — Найти рукопись! — промолвил он хмуро. У Олсуфьева подкосились ноги. Он прислонился к стене и закрыл глаза. Возможно ли?! Ведь рукопись Аристотеля ему показывал Кушелев-Безбородко, и показывал неоднократно еще в прошлом году, прежде чем судебные органы не опечатали книжные шкафы в библиотеке его отца. Олсуфьев прекрасно помнит эту рукопись: маленькая книжка в твердом переплете. Страниц немного, около двадцати; страницы жесткие — не то плотная бумага, не то тонкий пергамент. Он однажды спросил Гришу, почему страницы неодинаковой величины. “Их настригли из длинного свитка”, — ответил тот. Олсуфьев усомнился: каким образом столь древняя рукопись могла дойти до наших дней в таком хорошем состоянии? Он спросил тогда: “Неужели ее написал сам Аристотель?” Гриша ответил — Олсуфьев прекрасно помнит его ответ: “Ты, Ника, ребенок. Эту книжку, конечно, писал не сам Аристотель. Ее написал один из его последователей эдак восемьсот—девятьсот лет назад. Но последователь не сочинил эту книжку, а переписал ее с Аристотелевой рукописи, с подлинника”. “Какая удача! Этой рукописью я куплю свободу для Финоциаро!” Но тут же надежда померкла. Рукопись-то в шкафу, а шкафы в Гришиной библиотеке опечатаны. Как добудешь в таком случае рукопись? В эту минуту Олсуфьев возненавидел всех Гришиных родственников. Это они, жадные Кушелевы-Безбородко, затеяли тяжбу против Гришиного отца. К нему, как старшему в роде, перешло собрание рукописей и старопечатных книг, накопленных екатерининским канцлером Безбородко. Завистливая родня, зная, какую ценность представляет коллекция, затеяла тяжбу против главы своего клана, добиваясь продажи дедовского собрания н раздела вырученной суммы между всеми Безбородко. Дело, даже по тому времени, было позорное, но жадность Кушелевых-Безбородко оказалась сильнее нежелания скандальной огласки. Тяжба родных получила законный ход, и суд до разбора дела опечатал книжные шкафы в библиотеке. Олсуфьев выпрямился стремительно и сжал кулаки. “Добуду! — сказал он себе. — Добуду, чего бы ни стоило!” Николай встал из-за стола, за ним последовали гости. Дубельта задержал старик Девидов. Высокий, грузный, он словно прижимал тщедушного Дубельта к мраморной статуе Гермеса, стоявшей в нише между окнами, и, размахивая жирными руками, стал на что-то жаловаться. Когда Дубельт наконец освободился, Олсуфьев бросился к нему: — Ваше высокопревосходительство! Кажется, я смогу достать рукопись! — У кого? Назови владельца. — Разрешите сначала проверить! А вдруг память подвела меня и это не та рукопись? Проверю и явлюсь к вашему высокопревосходительству. Явлюсь с рукописью и с просьбой. — О чем просишь? За кого? — За шарманщика одного. — Чем тебе полюбился шарманщик? — Не он, ваше высокопревосходительство, а его дочь. — Вот оно что… Как его звать? — Финоциаро. Дубельт насторожился: Финоциаро возглавляет список преступников, отпусти он его — рухнет все обвинение. Но тут же вспыхнула мысль: а не удастся ли именно с помощью рукописи выбить последнюю ступеньку из-под ног ненавистного Мордвинова? — Хорошо… Сам был молод, Олсуфьев, сам был грешен. Жду тебя, приходи, но только с рукописью. К Дубельту подошел Пиетри. Олсуфьев направился в дежурную комнату. Немного успокоившись, он вспомнил, что во время разговора с Дубельтом ему почудилось, будто за бархатной портьерой, за той, что справа от Гермеса, то ли портьера шевельнулась, то ли чья-то рука неестественно близко притянула ее к оконному косяку. “Неужели подслушивали?! Ну и пусть! — решил Олсуфьев. — Не государственные же дела обсуждали!” Во время недавнего пожара в Зимнем дворце сгорела и кордегардия — караульная рота размещалась сейчас в старой буфетной, а для дежурных офицеров был отведен Синий зал, по соседству с апартаментами фрейлин. Это соседство стесняло офицеров, особенно в ночные часы, когда дворцовый комендант требовал чуть ли не гробовой тишины. Осенние ночи тягостно длинные, спать на дежурстве не полагается, поговорить в полный голос нельзя! Остаются карты. Без обычных шуток, без подтрунивания над неудачниками, без тех возгласов, которые сами собой подчас вырываются из стесненной груди, когда верная карта оказывается вдруг битой, — азартная молчаливая игра изматывает больше, чем беспокойный сон в душную ночь. Поэтому так удивились офицеры радостно оживленному состоянию поручика Олсуфьева. Он сегодня не играл, а школьничал: подолгу задерживал карты в руках, улыбался чему-то, часто подносил карты к лицу, словно скрывался от чего-то. — Что с тобой, Козлик? Олсуфьев не отвечал, но по его разгоряченномулицу, по блеску в глазах угадывалось, что он возбужден. Козлик действительно был возбужден. Он видел себя (так отчетливо можно видеть себя только во сне) в кабинете у Дубельта. “Ваше превосходительство! Вот она — рукопись!” Дубельт берет рукопись своими сухими пальцами, гладит ее. “Олсуфьев! — говорит он растроганно. — Ты сослужил службу своему государю!” “Распорядитесь, пожалуйста, чтобы отпустили со мной шарманщика Финоциаро!” Дубельт зовет адъютанта: “Выдать на руки Олсуфьеву шарманщика Финоциаро!” — Козлик, — зашипел сосед слева. — С какой карты ты ходишь?! Видение исчезло, но приподнятое, возбужденное состояние не покидало Олсуфьева. Он играл рассеянно и делал грубые промахи. — С тобой сегодня невозможно! — решительно заявил сосед. Нервы постепенно успокаивались, а успокоившись, Олсуфьев понял, что пока радоваться нечему. Ему повезло, но журавль-то еще в небе: ведь рукописи у него нет! Она в шкафу, и шкаф опечатан сургучными печатями… да и не в его квартире находится! Рождались планы один смелее другого, и каждый следующий план, как и каждый шаг при подъеме в гору, приближал, казалось, Олсуфьева к цели. К утру он уже был уверен: “Добуду!”6
Караульная рота семеновцев вернулась в казарму; офицеры разошлись по домам. За Олсуфьевым увязался поручик фон Тимрот — белобрысый, с тонким длинным носом и вытянутым, как у щуки, ртом. Олсуфьев думал о своем и не слышал, о чем говорит попутчик, но однообразный, как звук пилы, голос Тимрота раздражал. — Прощай, я тороплюсь. — Жаль, Олсуфьев, я полагал, что и ты честью нашего полка дорожишь. — При чем тут честь полка? — насторожился Олсуфьев. — Ты о чем говорил? — Об офицере нашего полка, который вел большую игру в каком-то доме: его там в шулерстве уличили. — Врешь! Тимрот остановился — его щучий рот вытянулся еще больше. — Олсуфьев, — произнес он ледяным голосом, — ты забыл, что говоришь с фон Тимротом. — Фамилию его назови! — Фамилии не знаю. Мне описали только его внешность: большой, толстый, сопит, когда в карты играет. — Кто сказал тебе? — Благородный и уважаемый человек. Сообщение взволновало Олсуфьева. — Что же ты предлагаешь? — Сегодня у нас в полковом собрании вечер, будут почти все офицеры. Игреки сядут за карты. Вот по приметам мы шулера и найдем. В другое время Олсуфьев сам поднял бы на ноги весь полк: среди них, семеновцев, шулер! Но… — Я занят, понимаешь, очень занят, не смогу быть сегодня в собрании. А ты, Тимрот, займись этим делом. Найди прохвоста! — Он поднял руку к козырьку фуражки и движением этой же руки остановил проезжающую пролетку. Тимрот церемонно поклонился и отошел. Олсуфьев поехал на Сергиевскую, но Кушелева-Безбородко не застал дома. Оставив записку: “Ты мне нужен до зарезу!” — Олсуфьев отправился на Охту. Сидя рядом с Тересой, глядя в ее печальные глаза, он говорил без умолку. Тереса не прерывала его. Обычно Олсуфьев деликатно спрашивал, что она делала, о чем думала, а сегодня он говорил о небе Италии, о пиниях и цикадах, и говорил отрывисто, неожиданно обрывая себя на полуслове, и Тереса чувствовала, что Олсуфьев думает о другом. Это почувствовала и квартирная хозяйка. — Поехали бы лучше домой, — мягко проговорила она. — Отоспались бы после этих караулов. — Вы правы, Марфа Кондратьевна. Ночь не спал. — Я вас поняла, — тихо промолвила Тереса по-итальянски. — Произошло что-то и, чувствую, важное. Не говорите, что именно, я вам верю, всем сердцем верю. — И по-русски добавила. — Поезжать домой. Однако Олсуфьев поехал не к себе, а снова к Кушелеву-Безбородко. Тот оказался на этот раз дома. — Новая беда? — спросил он с тревогой. Театральным жестом Олсуфьев показал на книжный шкаф. — Вот где мое спасение! — Школьничаешь, Ника, а я, прочитав твою записку, подумал черт знает что. Любишь ты драматические положения. Но Чайльд Гарольд из тебя не получится. — Гриша! Ничего ты ровным счетом не понял! Положение в самом деле драматическое, но совсем не в духе Чайльд Гарольда. Передо мной стоит гамлетовский вопрос: “Быть или не быть?” Ответ на этот вопрос зависит от тебя одного. — Что-то слишком туманно… — Тогда выслушай. И он рассказал, что произошло вчера на дежурстве. — Гриша! — закончил Олсуфьев свое повествование. — Мое счастье в твоих руках. Дашь рукопись — Тереса спасена. Откажешь — Тереса погибнет. — Ты с ума сошел! Разве я могу распоряжаться рукописью из опечатанного шкафа?! — Я все продумал. За снятие печати полагается штраф — я его внесу. А рукопись получу обратно! — Да кто тебе вернет ее? — Государь! Дубельт отвезет ему рукопись в тот же день, как я ему передам. Государь принимает Дубельта утром и вечером. Если я передам рукопись Дубельту днем, он отвезет ее государю вечером между семью и восемью. Это будет в день моего дежурства. В восемь государь едет на прогулку и проходит мимо Синего зала. Я ожидаю его в коридоре, бросаюсь перед ним на колени и рассказываю историю рукописи. Ты знаешь Николая Павловича — он любит, когда перед ним душу свою раскрывают. К тому же я не ставлю его в трудное положение: он ничего французу не обещал. А тут перед ним возможность проявить великодушие. И он проявит его! — А если нет? — Не может государь жертвовать честью своего офицера для того только, чтобы сделать приятное чужеземцу-французу. Не может! Он поругает меня, дернет за ухо; все будет, знаю, но рукопись он вернет. Наконец, Гриша, клянусь тебе: я, Николай Олсуфьев, верну тебе рукопись! Хочешь, напишу клятву в виде расписки? — закончил он торжественно. Безбородко отошел к окну, молча постоял там несколько минут. Ни судьба шарманщика, ни горе его дочери, ни отчаяние друга не интересовали его. Но, думал он, если откажешь Олсуфьеву, этот теленок с отчаяния может черт знает что выкинуть — еще к Елене поедет и такое наговорит… — Ника, — начал он, повернувшись, — ты знаешь, что для тебя я готов сделать все. И сделаю! Но, прошу тебя, повремени несколько дней. — Сколько? — Сегодня у нас двадцать второе ноября. Отправляйся к Дубельту, скажи ему, что рукопись доставишь тридцатого. — Почему? Почему не сегодня? Гриша! Понимаешь ли ты, что значат восемь дней для Тересы? Море слез, восемь бессонных ночей! Зачем эта проволочка? Ведь ты хочешь помочь мне, Гриша?! — Хочу. — Тогда дай рукопись сейчас. Прошу тебя! Безбородко понял: отказать — значит поссориться, а этого он не мог позволить себе накануне помолвки с кузиной Олсуфьева. — Бери! — сказал он решительно. Олсуфьев заключил товарища в объятия; у него не хватило слов, чтобы выразить благодарность. Безбородко подошел к шкафу и взялся за дощечку, на которую были наложены сургучные печати. — Нет! — воскликнул Олсуфьев. — Ты не прикасайся. Я сам должен это сделать. — И закончил просительно: — Григорий, выйди из комнаты. Не надо тебе при этом присутствовать. Тебе будет неприятно. Кушелев-Безбородко подчинился. Когда дверь за ним закрылась, Олсуфьев написал записку: Я, Николай Олсуфьев, самовольно, в отсутствие хозяина Григория Кушелева-Безбородко, вскрыл книжный шкаф и изъял из него рукопись Аристотеля о свете, что удостоверяю своей подписью. гр. Н.Олсуфьев, поручик л. — гв. Семеновского полка. Сорвав дощечку с печатями, он распахнул дверцу шкафа, положил на полку расписку и взял рукопись. Дрожащими руками раскрыл он книжку. На обороте твердого переплета в верхнем углу приклеен книжный знак — большой прямоугольник шероховатой, с зеленым оттенком бумаги. Черной краской напечатана волнистая рамка, в рамке — могучий раскидистый дуб, под ним — прямыми четкими буквами: “Из собрания гр. А.А.Безбородко”. На первой чистой странице, в самом центре, выведено по-русски старательным писарским почерком:Рукопись греческого ученого Аристотеля о свете
и о свойствах человеческого глаза.
Олсуфьев сознавал, что в его руках именно то, что ему нужно; не зная языка, на котором рукопись написана, переворачивая страницу за страницей, он точно силился проникнуть в ее содержание. Он ни о чем не думал — ни о Тересе, ни об ее отце, — он просто наслаждался. — Не знал, что ты за это время изучил греческий язык. Спокойный голос Кушелева-Безбородко, уже несколько минут наблюдавшего за своим другом, вернул Олсуфьева к действительности. — Ты даже не подозреваешь, Гриша, что для меня сделал! — Подозреваю… Но это только полдела — нужно еще, чтобы рукопись вернулась в шкаф. — Вернется! Я сам поставлю ее на место! — Он обнял Безбородко и растроганно попросил: — Поедем на Охту. Тебе ведь эта история неприятна, я знаю. Но ты увидишь Тересу и поймешь меня, а если поймешь, то и оправдаешь. За столом, кроме Тересы, сидели еще хозяин и хозяйка. Марфа Кондратьевна поклонилась остановившимся у порога офицерам и сказала: — Прошу, господа, откушать с нами. Олсуфьев подошел к Тересе: — Мой друг Кушелев-Безбородко захотел сам сказать вам, что отец скоро будет с вами. Девушка подняла глаза на Безбородко. В них были и благодарность и восхищение. Она знала из рассказов Олсуфьева, что Безбородко ездил куда-то хлопотать за ее отца, знала, что последний, решающий шаг связан с огромной жертвой с его стороны, и одно то, что Олсуфьев явился сегодня вторично, захватив с собой Безбородко, больше, чем длинные речи, убедило Тересу, что последний шаг уже сделан. Всю свою признательность она хотела выразить в своем взгляде. Красота девушки поразила Кушелева-Безбородко. Рядом со стройной, легкой Тересой память оживила Елену — хромую, большеротую. И вспыхнула в Безбородке злоба против Олсуфьева, которого полюбила Тереса, и против Елены, которая лишена прелестей Тересы. Эта внезапная перемена не ускользнула от взгляда Тересы. Она тихо спросила: — Сеньор, я вас чем-то огорчила? Если… — И замолчала: что-то дикое, хищное мелькнуло во взоре Безбородко. Хозяин, бородатый коренастый человек, указал Олсуфьеву на стул рядом с собой и доверительно шепнул: — Тут парень какой-то зачастил, из их, видать, братии. Такой же смурый и глазастый. — Сюда заходил? — насторожился Олсуфьев. — Нет. Вокруг дома чего-то вынюхивает. Тереса увидела его из окошка и как крикнет: “Кальяри!” А что такое “кальяри” — не понимаю я ихнего языка. — Когда это было? — Намедни, как вы только ушли. За спиной Олсуфьева остановился Безбородко. — Ника, я пошел. — Почему вдруг? — Мне нужно. — И без дальнейших объяснений направился к двери. Олсуфьев пришел домой поздно. Ощущение удачи его не покидало ни на минуту, но ощущение это было почему-то замутнено: наряду с радостной взволнованностью жило в нем беспокойство. Олсуфьев попробовал было доискаться причины своего беспокойства, но, так и не разобравшись в нем, прилег на диван и вскоре уснул. Он проснулся внезапно, словно его кто окликнул. На столике рядом с диваном горела свеча. Мгновенно возникли перед глазами свечи в высоких подсвечниках, карточный стол… “Шулер!” — вынырнуло из памяти. Олсуфьев оделся и вышел на пустынную ночную Мойку. Не найдя там саней, он побежал на Невский. Перед офицерским собранием стояли выезды в несколько рядов; из окон лился яркий свет. Олсуфьев поднялся в парадный зал. Молоденький офицер с повязкой распорядителя танцев на рукаве, держа за руку свою даму, выписывал петли и зигзаги, а за ними, также рука в руку, змеился длинный хвост. Среди танцующих Тимрота не было. Олсуфьев направился в большую столовую. За длинным столом сидели старшие офицеры с женами и почетные гости. Свечи в люстре были уже погашены, горели только в настенных бра, освещая затылки и спины гостей зыбким желтоватым светом. Олсуфьеву показалось, что все спят. Лишь один древний старичок генерал, весь увешанный орденами, что-то рассказывал, и — странно — на два голоса: то высоким, визгливым — детским, то грубым, с хрипотцой — строевым. И тут тоже Тимрота не было. Олсуфьев направился в боковую комнату, в карточную. Там было чадно и шумно. Болотными гнилушками мерцали свечи в высоких подсвечниках. — Козлик! Козлик! За столом сидели шесть офицеров — среди них и Тимрот. Большой, грузный капитан Елагин из 3-й роты, сидевший за узким концом стола, тасовал колоду карт. — Садись, — предложил он Олсуфьеву. — У вас ведь комплект, — ответил тот. — Фон “Тмин-в-рот” не в счет. Тимрот резко произнес: — Попрошу вас, господин капитан, моей фамилии не коверкать! — Вы не кошка, не фыркайте, — спокойно ответил Елагин. — Фамилия тут ни при чем. В четвертой роте есть поручик Свиньин. Фамилия хлевом отдает, а человек каких кровей? Чуть ли не Мономахович! Не в фамилии дело, господин поручик, а в человеке. Поняли, герр Тмин-в-рот? — А я, по-вашему… — Вы, — не дал ему закончить Елагин, — именно то, что я о вас знаю. Тимрот встал; его щучий рот округлился: — Господин капитан, вы злоупотребляете своим званием. Я таких намеков не потерплю! — Стерпите, фон Тмин-в-рот, — смотря прямо в глаза Тимроту, строго произнес Елагин и тихо, как бы про себя, добавил: — А может, наконец решились сменить мундир? — Что ты вечно к нему вяжешься? — сказал раздраженно Олсуфьев, которому не терпелось поговорить с Тимротом. — Он знает почему. — И быстро начал тасовать карты. — Давайте играть! Ставки! Сдаю! Елагин роздал карты, поднял свои и… засопел. Олсуфьев посмотрел на капитана: большой, толстый, сопит. Тут Олсуфьев расхохотался так, что соседи по столу в недоумении взглянули на него. — Солнечный удар? — спросил Елагин. — Хуже, — ответил Олсуфьев весело, — меня пытался обыграть шулер. — Как это пытался? — недоумевал Елагин. — Игра не состоялась? Олсуфьев, все еще смеясь, обратился к Тимроту: — Как, по-твоему, состоялась игра? Тимрот не ответил — ушел. — Наконец-то, — проговорил Елагин. Играли минут десять, и вдруг из коридора донесся шум. Шум нарастал. Послышался топот ног. Игроки вышли в коридор. — Что случилось? — перехватил Елагин пробегающего офицера. — Поручик Бояринов выплеснул бокал шампанского в лицо французскому дипломату. — Воды у него под рукой не было? — возмутился Елагин. — Мальчишка! Шум улегся. Игроки вернулись к своему столу. Уже под утро, закончив игру, Олсуфьев обратился к Елагину: — Мне необходимо завтра быть во дворце. А в карауле твоя рота. Поменяемся. Я пойду завтра вместо тебя, а в четверг ты заменишь меня. — Согласен. Договорись с адъютантом. Они не заметили, что за их спиной стоит вынырнувший откуда-то Тчмрот.7
Все произошло не так, как виделось Олсуфьеву за карточным столом, хотя в конечном счете получилось одно и то же. В два часа дня, отпросившись у командира караульной роты, Олсуфьев поехал в III отделение. Дубельт сидел за огромным письменным столом в глубине кабинета. Штофные обои, мебель, занавеси, ковер на полу, картины на стенах — все было выдержано в одном тоне: вишнево-красном. Дубельт был в голубом мундире, но в своем высоком красном кресле и в сумерках затемненной красными шторами комнаты он также казался вишнево-красным. За спиной Дубельта в двурогих бронзовых бра горели свечи, и свет от них, неяркий, как бы красным куполом накрывал письменный стол. — Неужели принес? — спросил Дубельт, напряженно следя за приближающимся офицером. Вместо ответа Олсуфьев положил на стол рукопись. Серые глаза Дубельта оживились. — Неужели принес? — повторил он, и в его голосе зазвучали теплые нотки. — Молодец, Олсуфьев! Сегодня же доложу о тебе его величеству! — Ему бросился в глаза книжный знак. — Безбородко! Так ты ее у Александра Григорьевича добыл? — Никак нет. не у Александра Григорьевича. — Все еще секреты? Ну, бог с тобой! Важно, что добыл, что услужил своему государю. — Он взял со стола синюю папку, потряс ею в воздухе. — Доклад! Сегодня представлю его на высочайшее усмотрение. Тут и твой шарманщик. Обрадуй крошку… — Он вышел из-за письменного стола, положил руку на плечо Олсуфьева. — Отец этой крошки далеко не ангел, для него убить человека, что для тебя стакан чая выпить, и… любит свою дочь. Помни об этом, Олсуфьев. А теперь — ступай. Завтра зайди ко мне в это же время. Олсуфьев забыл, что у подъезда его ждет карета, — он вернулся в Зимний дворец пешком. Дубельт, прежде чем усесться в кресло, вызвал звонком адъютанта. — Запиши три фамилии. Григорьев Василий Васильевич, Казембек Александр Касимович, Хвольсон Даниил Абрамович. Снаряди трех курьеров, дай каждому по одному адресу- пусть привезут этих господ сюда. Через час в кабинет входили три человека — цепочкой, один в затылок другому. Впереди Казембек — крупный, рыхлый, с круглой темной бородой, а на лысой голове не то монашеская скуфейка, не то татарская тюбетейка; за ним худощавый Григорьев; последний — Хвольсон, молодой человек лет 28–29, с тонким носом и большим ярким ртом. На всех лицах недоумение и страх. Дубельт пошел им навстречу, пожал руки. — Господа, — начал он приветливо, — хорошо, что вы явились сегодня, а не “в любой ближайший день”, как я просил передать. Вам сообщили, какая у меня к вам просьба? — Нет, — хмуро ответил Казембек. — Я сегодня приехал из Казани, в постели лежал, а ваш офицер приказал одеваться и повез сюда. Дубельт раздраженно позвонил. Явился адъютант. — Почему не сообщили господам ученым, по какому поводу их приглашают? Почему такую горячку пороли? — спросил он раздраженно. — Взыскать с этих олухов! После ухода адъютанта, успокоившись, Дубельт продолжал: — Простите усердных не по разуму служак. Это про них Крылов писал: заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Григорьев и Хвольсон обменялись лукавым взглядом; Казембек хмуро изучал свою правую ладонь. — Вот какая просьба у меня к вам, господа ориенталисты. Его величеству угодно знать, подлинная ли это рукопись и какова ее ценность. — Он протянул рукопись. Рукопись переходила по старшинству: сначала ее рассмотрел Казембек, за ним Григорьев, потом Хвольсон. Дубельт следил за учеными. Казембек двигал губами, точно сосал конфету; у Григорьева разрумянилось лицо и напряглись мышцы на худой шее; у Хвольсона задрожали крылья тонкого носа. — Генерал, — запинаясь, промолвил Казембек. — Откуда у вас эта рукопись? В каталоге аббата Руайе она числится украденной и находящейся в нечестных руках. Дубельт поморщился и сухо переспросил: — Какова же ее ценность? — Ценность?! — ответил Казембек с негодованием. — О какой ценности вы, генерал, говорите? Денежной? Не знаю. Может быть, десять тысяч, а то и все сто. Но разве ее ценность может быть исчислена рублями? Рукопись — звено в золотой цепи развития человеческой мысли. — И очень важное звено! — подхватил Хвольсон. — Именно, Даниил Абрамович! — Григорьев вскочил на ноги. — Господин генерал! Доверьте эту рукопись нам. Хотя бы на короткое время. Мы дополним перевод эль Хасана. Поднялся и Дубельт. Он сухо ответил: — Я доложу государю вашу просьбу, господа. — И протянул руку. — Не смею задерживать вас. Еще раз прошу прощения за грубость моих слишком усердных служак.8
Ровно в семь к Зимнему дворцу подъехал Дубельт со своим адъютантом Оржевским, известным в литературном Петербурге под кличкой “Дароносец”. По своей должности в цензурном комитете Дубельт пользовался услугами этого находчивого и приятного в обхождении жандармского поручика: через него он передавал выговоры редакторам, цензорам и издателям. От Невы веяло свежестью талого снега. Чистым серебром светились деревья Летнего сада. Дубельт глянул в высокое небо, вздохнул и направился к подъезду; за ним — Оржевский, размахивая в такт шагам синим сафьяновым портфелем. Они разделись в гардеробной, поднялись по белой мраморной лестнице, а на полукруглой площадке, где два парных караула семеновцев охраняли подступы к коридорам, Дубельт оправил перед зеркалом мундир и пригладил редкие волосы. Убедившись в том, что рукопись Аристотеля на месте, в портфеле, который поручик держал на весу, начальник III отделения направился строевым шагом в сторону царского кабинета. За ним, нога в ногу, следовал Оржевский, зажимая портфель правым локтем. Перед Синим залом, где помещались офицеры дежурной роты, Дубельт остановился. — Поговори-ка с офицерами, узнай подробнее о вчерашней истории, — сказал он поручику на ухо и тем же строевым шагом направился дальше. Оржевский постоял немного, провожая взглядом удаляющегося начальника, и, переложив портфель в левую руку, правой раскрыл тяжелую дверь. В Синем зале было серо от табачного дыма. Вдоль стен стояли кожаные диваны. В углу, где два дивана образовали букву “Г”, за круглым столом играли в карты. Человек восемь офицеров следили из-за спин сидящих за игрой. На приветствие жандармского поручика ответили корректно, не обнаруживая, однако, желания вступить в разговор. Оржевский не удивился: он знал, что гвардейцы недолюбливают жандармов. Не выпуская из рук портфеля, он подсел к поручику фон Тимроту, который, сидя на диване, наблюдал за игрой. — Весело было вчера? — спросил Оржевский своего соседа. — Сначала да, — ответил фон Тимрот сухо, — а вот потом… — Слышал… Бояринов отличился. Но почему он вспылил? — Пьян был. Один из игроков поднялся из-за стола. — Голова трещит, — сказал он. — Поручик Оржевский, — официальным тоном обратился к жандарму банкомет, — место очистилось. Не угодно ли за четвертую руку сесть? — Меня могут скоро позвать. — Вы разве этикета, поручик, не знаете? Вы нужны будете своему патрону ровно через тридцать минут. Дворцовые порядки Оржевский знал хорошо. В кабинет к императору можно было входить только с пустыми руками. Сначала шел устный доклад, и лишь после него Николай давал разрешение допустить адъютанта или секретаря с портфелем. — Где наше не пропадало! — лихо ответил Оржевский. — Сдавайте, капитан, а я отлучусь на одну минуту. — Взял под мышку портфель и вышел из комнаты. Вскоре вернулся, прислонил портфель к спинке дивана. — Поехали на курьерских! — сказал он и взял со стола уже сданные ему карты. Игра сразу оживилась; ставки росли. Оживились и стоявшие сзади наблюдатели: каждая удача за круглым столом вызывала гул одобрения, промах — взрыв возмущения. Явился Олсуфьев. Он увидел жандарма, подошел было к нему, но свернул с полпути и прилег на первый рядом с дверью диван. — Козлик! — позвал капитан. — Ко мне в долю! Олсуфьев не откликнулся. Его то знобило, то в жар бросало. Приближалась минута, когда он падет на колени перед царем… Ночью, думая об этой минуте, он был уверен, что нужные, горячие и убедительные слова появятся сами собой, а вот сейчас, когда маленькая стрелка на часах неумолимо приближалась к цифре “8”, исчезли даже те слова, которые были заранее подготовлены… — Поручика Оржевского в приемную! — плацпарадным голосом объявил камер-лакей, появившийся в дверях. Оржевский бросил карты на стол, сгреб свои деньги, вытер руки платком и, взяв портфель с дивана, поспешил в приемную. Там уже ждал его Дубельт. — Мог бы поторопиться, — сказал он укоризненно, принимая портфель из рук раскрасневшегося поручика. Дубельт вернулся в царский кабинет. — Ваше величество, вот рукопись, — сказал он, подойдя к письменному столу. Он раскрыл портфель, пошарил в нем рукой и… обмер. Его лицо окаменело, в глазах застыл такой ужас, словно рука его угодила в пасть тигра. Николай понял, что рукописи в портфеле нет, но в это мгновение его больше занимал Дубельт, чем рукопись. Император Николай старался внушить страх всем, с кем сталкивался по делу, но такого глубокого, беспредельного страха он еще не видел ни в чьих глазах. — Что случилось? — спросил он после долгого молчания. Придя в себя, Дубельт еще раз проверил содержимое портфеля — рукописи не было. — Вчерашнее происшествие, видимо, разволновало меня больше, чем я предполагал, и в волнении я забыл положить рукопись в портфель. Дубельт знал, чем и как можно отвлечь внимание своего государя от опасной темы: Николай, распространяя вокруг себя страх, сам вечно жил в постоянном страхе. — Какое происшествие? — Семеновцы чествовали вчера господина Пиетри. Как известно вашему величеству, господин Пиетри был в очень недавнем прошлом якобинцем. В искренность его раскаяния мои парижские агенты не верят. С первого дня его приезда в вашу столицу меня интересовало, что он ищет у нас. И вот вчера у семеновцев господин Пиетри попытался вести неблаговидные, в ущерб вашей державе, разговоры… — И мои офицеры слушали? — Ваши офицеры преданны своему государю. Семеновец Бояринов выплеснул бокал шампанского в лицо якобинцу. — Ду…бельт? — пренебрежительно сказал Николай, предполагая, что про бокал шампанского тот присочинил. Дубельт густо покраснел. Не пренебрежительный тон Николая обидел его; к этому тону он давно привык. Но Николай впервые назвал его “собакой”: фамилию Дубельт он произнес с немецким акцентом и раздельно так, что получилось “Ду бельст”.[2] — Ваше величество… Николай не дал ему закончить фразу: — Вручи завтра же подорожную господину Пиетри. — Смею просить повременить два дня. — Зачем? — Я еще не закончил деловой беседы с господином Пиетри. Он будет служить вам, ваше величество, но состоять будет не при господине Тьере, а при принце Луи Наполеоне. У принца высокая цель: через президентство — к императорскому трону, а эта высокая цель совпадает с замыслами вашего величества: побольше королей в Европе. Николай окинул шефа жандармов пристальным взглядом: вот каков он, рыжий Дубельт! Сложную французскую проблему он низвел к чему-то весьма простому: принц-президент- нелепость, но принц-король — традиция, и эта традиция может привести Луи Наполеона к трону. Николай прошелся по кабинету, затем резко остановился и сказал отрывисто: — Меня беспокоит состояние здоровья Мордвинова. Не посоветовать ли ему выехать в деревню на свежий воздух? Дубельт хотел произнести несколько сочувственных фраз в защиту Мордвинова, но воздержался: такого явного лицемерия даже Николай не стерпел бы.9
Олсуфьев зря промаялся в коридоре до девяти часов: в этот вечер Николай на прогулку не поехал. На следующий день, как было условлено, Олсуфьев явился в III отделение. Его принял старший адъютант. — Его высокопревосходительство очень занят, — сказал он, нажимая на слово “очень”. — Я подожду. — Не имеет смысла. Его высокопревосходительство не скоро освободится. Очень не скоро. Олсуфьев понял, что адъютант получил на этот счет указание от Дубельта. — Могу я поговорить с поручиком Оржевским? — Вряд ли, — вежливо ответил адъютант, — во всяком случае, не в ближайшие недели. — Не понимаю. — Что же тут непонятного? Поручик Оржевский отбыл вчера ночью в Сибирь. Олсуфьев ошалело посмотрел на адъютанта: — Что случилось? — Случилось? Ничего. Просто поручику Оржевскому скучно в Петербурге стало. Вот и попросился в Сибирь. В словах адъютанта послышалась такая ирония, что Олсуфьеву при всей его взволнованности нетрудно было догадаться: вчера произошло что-то чрезвычайное и это чрезвычайное имеет отношение к нему, Олсуфьеву. Случайности совпали одна с другой неспроста: царь не поехал на обычную ежедневную прогулку, хотя он здоров; Дубельт, назначив ему прием, не желает его принять; поручик Оржевский, который принес во дворец рукопись, скоропалительно сослан в Сибирь… — Могу я посетить своего родственника, полковника Владиславлева? — Пожалуйста, — согласился адъютант. Он вызвал ординарца. — Проводите поручика к полковнику Владиславлеву. Поблагодарив адъютанта, Олсуфьев направился вслед за ординарцем. Владиславлев обрадовался, увидев его. — Само провидение тебя направило ко мне! Садись, кури и рассказывай! — О чем? — Что ты видел и что слышал вчера на дежурстве? — Он взял со стола список с фамилиями. — Видишь, Николай Олсуфьев под номером седьмым. Я должен и твоей особой, стало быть, заняться! Объясни мне, почему два поручика первой роты, ты и Тимрот, оказались вчера в карауле в составе третьей роты? И почему именно ты? Что тебе — дворцовые караулы полюбились? Зачем ты в эту кашу полез? — В какую кашу?! — Несчастный! Дубельт рвет и мечет. — Владимир Андреевич, — взмолился Олсуфьев, — прошу тебя, скажи, что произошло? — Произошло то, что государь приказал допросить всех вас с пристрастием! Вот что произошло! Но ты? Зачем пошел ты вчера в караул? Дальше не имело смысла скрывать. Олсуфьев рассказал Владимиру Андреевичу, почему он вчера оказался в карауле, рассказал подробно обо всем — от беседы за царским ужином до последнего разговора с Дубельтом. Прошло несколько минут. У Владиславлева был вид человека, оглушенного ударом; он смотрел на Олсуфьева застывшими, слепыми глазами. — Бедняга Николай, — сказал он наконец, — рукописи нет… украли ее… Дубельт подозревает офицеров караула… И тебя в их числе… Олсуфьев зажал рукою рот, чтобы не крикнуть.10
О скандале в Зимнем говорил весь Петербург. Царь неистовствовал. III отделение и дворцовая полиция занимались поисками вора. Арестовали многих. От офицеров, дежуривших во дворце в тот злополучный вечер, Дубельт потребовал письменного заверения, что они “к известному инциденту не причастны”. Из двенадцати офицеров подписку дал один только поручик фон Тимрот — остальные, возмущенные тем, что их подозревают в краже, не только отказались дать подписку, но в тот же день передали командиру полка прошения об отставке. Пострадал и поручик Кушелев-Безбородко. Именно в нем царь увидел начало всей неприятной истории, — Убрать из гвардии сопляка! И если б не граф Адлерберг, укатали бы Григория Безбо-родко в какой-нибудь Белебей или Повенец для “прохождения службы в местном гарнизоне”. Адлербергу удалось убедить Николая, что Безбородко действовал из благородных побуждений: хотел выручить своего друга Олсуфьева. — Кстати, ваше величество, Олсуфьев приходится близким родственником моей жене… Этот довод решил дело: “сопляка” оставили в Семеновском полку. Поручик в опале! Смешно, но и трагично. Двери сановных гостиных закрылись перед ним, и, в первую очередь, захлопнулась дверь во дворец графа Адлерберга. Честолюбивого поручика спихнули с заветной лестницы, с первой ее ступеньки. Безбородко написал письмо Олсуфьеву, злое и резкое, хотя понимал, что тон письма был вызван не столько пропажей Аристотелевой рукописи, сколько положением, в котором он, Кушелев-Безбородко, очутился. Ведь он лишился надежд на хроменькую Елену и не столько на нее, сколько на ее всесильного отца. Ответа на это письмо Безбородко не получил. Тогда он написал Тересе, что Олсуфьев поступил с ним “неблагородно”, что Олсуфьев человек ветреный, легкомысленный, а ей, неопытной девушке, нужен серьезный и верный друг. И на это письмо он не получил ответа. Прошло около месяца. Безбородко отправился на Охту, а там узнал, что Тереса и освобожденный из-под ареста старик Финоциаро переехали куда-то. “Конечно, к Олсуфьеву!” — решил Безбородко. — Подлец! — сказал он вслух. — Мне карьеру сломал, а сам радуется жизни… Это так с рук тебе не сойдет!.. Не сойдет!Часть вторая БЛАГОРОДНАЯ СЕМЕЙКА
1
Наконец-то улыбнулось счастье благородной семье фон Тимротов, и глава рода, Христиан, не спал всю ночь, думая, как лучше использовать это счастье. У фон Тимротов имелся на этот счет печальный опыт: дважды могли они разбогатеть и оба раза упустили фортуну. Далекий предок, как гласит семейная хроника, тот, который служил конюшим у какого-то герцога, не сумел надежно спрятать украденный ларец с дукатами и угодил на виселицу. Дед Христиана, управляющий имениями барона Ливена, оказался слишком нетерпеливым: вместо того чтобы по-божески делиться доходами со своим хозяином, брал себе с каждого рубля 90 копеек, и в конце концов Ливен его прогнал. Ни отцу, ни ему, Христиану, не представлялось случая разбогатеть. Отец служил экзекутором и дослужился до тридцатирублевого пенсиона, а он, Христиан, мечтавший о военной карьере, дослужился всего лишь до первой звездочки прапорщика и, раненный под Смоленском, вынужден был выйти в отставку. Единственного сына Вильгельма ему все же удалось устроить в лейб-гвардии Семеновский полк. Но и Вильгельму не везет: ни красоты, ни талантов, ни умения нравиться людям. Правда, Вильгельм делает все, чтобы добиться хоть какого-нибудь благополучия: скромен, угодлив, старается быть полезным Мордвинову из III отделения. Однако то ли угомонилась гвардейская молодежь после разгрома на Сенатской площади или по другой причине — Вильгельму не удается ничего “раскрыть”, а за мелкие донесения Мордвинов отделывается мелочью. А расходы большие — семья! Две дочери, давно их замуж надо, но капиталов не было и нет. И вот повезло: по долгу службы у Мордвинова Вильгельм подслушал разговор Дубельта с Олсуфьевым. Из этого разговора он понял, что рукопись может возместить ларец с дукатами далекого предка, а добыть эту рукопись не представляет большого труда, надо только позаботиться надежно ее скрыть. Вильгельм понял, почему Олсуфьев попросился в караул вне очереди, понял, что именно в этот день Дубельт вручит рукопись царю. Вильгельм также попросился в караул вне очереди и, зная дворцовые порядки, ожидал в Синем зале прихода Оржевского. Изъять рукопись из портфеля было весьма несложно: офицеры были так возбуждены и увлечены карточной игрой, что не только рукопись, но и диван можно было вынести из комнаты. Как обратить рукопись в деньги? Вот об этом сейчас отец с сыном и рассуждают. — Кому продать? — спрашивает Вильгельм. — Ведь в Петербурге нельзя ее и показывать. — Верно, сын, в Петербурге не продашь. И продавать не следует. Уляжется шум, поеду в Берлин.2
Шум в Петербурге улегся; Христиан фон Тимрот поехал в Берлин. В солнечный майский день он прибыл на вокзал Фридрихштрассе. Крупный, осанистый, седоусый, в синей венгерке и синих штанах с серебряными лампасами, в сапогах с твердыми лакированными голенищами, с маленьким саквояжем в руке, Тимрот остановился на перроне, чтобы отстать от толпы, хлынувшей из вагонов к выходу в город. Дежуривший на перроне полицейский подошел к нему и, не отнимая руку от козырька, подобострастно спросил: — Могу я чем-нибудь помочь господину офицеру? — Далеко до Краузникштрассе? Вопрос прозвучал сухо, по-военному. — По Фридрихштрассе налево до Ораниенбургер Тор и первая улица налево. У старика Тимрота было рекомендательное письмо к хозяину гостиницы “Цум шварцен Адлер” — письмо от господина Бруммера, петербургского негоцианта. В этот час было людно на Фридрихштрассе. Из магазинов и контор, которые только что закрылись на обеденный перерыв, хлынули на тротуары тысячи приказчиков и служащих. Со стороны Шоссейштрассе, из тесных и грязных переулков Норда, района, где обитает ремесленный люд, шли девушки с корзинами и коробками — они сдавали в магазины продукцию своих мастерских именно в обеденный перерыв. По булыжной мостовой громыхали телеги, груженные бочками и ящиками. В обгон телег мчались кареты и длинные, как лодки, ландо. После шумной и людной Фридрихштрассе Тимрот попал в тихую и узкую щель, где пятиэтажные дома, точно солдаты, выстроились в две ровные шеренги. Это и была Краузникштрассе. На ней не было ни магазинов, ни контор, не было и людей. Тимрот нашел 21 номер — серый, многооконный дом, ничем не отличавшийся от своих соседей, кроме маленькой вывески: “Цум шварцен Адлер”. Появление осанистого старика в военной форме вызвало переполох. Женщина, к которой обратился Тимрот, сбегала за управляющим, тот послал за принципалом. Хозяин, прочитав рекомендательное письмо, сказал растерянно: — Навряд ли тут будет удобно господину барону. У нас живут купцы, коммивояжеры — народ шумный. — Меня это не стеснит, — успокоил его Тимрот. — И я приехал по торговому делу. Слух о том, что какой-то важный господин приехал из России по торговым делам, быстро облетел жильцов гостиницы. Не успел Тимрот отдохнуть с дороги, как начались визиты. Явились к нему купцы, явились коммивояжеры, и все выпытывали, что интересует господина барона. — Древние рукописи, — ответствовал барон. Один из визитеров — антиквар из Регенсбурга — Иоахим Бауэр после ужина пригласил барона Тимрота на кружку пива. Пивная помещалась в подвале. Длинные дубовые столы, дубовые скамьи. С потолка свисали разноцветные флажки. Зал был скупо освещен; по стенам метались черные тени. Стоял шум. Бауэр был огромный и тучный. Он дышал тяжело и говорил с трудом, но после третьей кружки его речь стала более плавной, а дыхание более ровным. — Господин барон, я, к сожалению, не могу ничего стоящего предложить для вашей коллекции. Сам приехал в Берлин за товаром. Но считаю своим долгом предостеречь вас: будьте осторожны! К нашему делу примазались недобросовестные люди, а то и просто мошенники. Имейте дело только с господином Пфанером. Только у него вы сможете приобрести настоящие древности и с гарантией за подлинность. Он торгует только настоящими вещами. В этом я могу вам поручиться. — А другие? — О-о, нет!.. Вот на Беренштрассе торгует господин Росбах. Он предложит вам рукопись Калидаса или Магомета. Но избави вас бог соблазниться его раритетами! Это все копии, фальшивки. Хотя надо отдать справедливость Росбаху: копиист у него гениальный. Никакой ученый не отличит его копии от оригиналов. Уж какой дока господин Пфанер, и тот не раз попадал впросак. Справедливости ради надо еще сказать, что Росбах не выдает работы своего копииста за оригиналы. Он кладет перед вами рукопись и говорит: “Вот что я вам предлагаю, хотите купить — покупайте, не хотите — ваше дело”. А вот Вернер с Моренштрассе, тот уж чистейшей воды мошенник. Он предлагает вам, скажем, кубок и тоном профессора убеждает вас, что из этого кубка пил Одиссей или один из Рамзесов. А кубок сделал по его заказу ювелир с Розенштрассе. Так что, уважаемый господин барон, к этим мошенникам и не ходите — непременно надуют. Мы с вами пойдем к господину Пфанеру. Если он скажет “рукопись Калидаса”, знайте — у вас в руках действительно подлинная рукопись Калидаса. Господин Пфанер знает, кто чем владеет, и покупает только из первых рук…3
Христиан фон Тимрот ушел из гостиницы до завтрака, чтобы не встретиться с тучным антикваром. К Пфанеру, конечно, он не пошел; его больше устраивал ловкий Росбах. В магазине шла утренняя уборка. Щуплый, невысокого роста лысый господин в синем балахоне встретил раннего клиента почтительным поклоном. Магазин был большой, но двигаться в нем можно было только по узеньким тропочкам между шкафчиками, вазами, часами, рыцарскими доспехами, статуями. — Господин Росбах? — К вашим услугам. — Он повернулся к женщине, которая метелкой из перьев снимала пыль с гобелена. — Фрау Анна, после закончите. Женщина ушла. Росбах снял с себя балахон и оказался в длинном, по-пасторски высоко застегнутом сюртуке. — Вас, по всей вероятности, интересует старинное оружие? — сказал он. — Увы, господин Росбах, — вздохнув, ответил Тимрот, — я после ранения потерял интерес к оружию. — Картины? — Нет. Рукописи. — Определенной эпохи? Тимрот не нашелся, что ответить: он даже не подозревал, что рукописи делятся по эпохам. — Как бы вам объяснить, господин Росбах, — оттягивал он, чтобы собраться с мыслями. — Меня интересуют рукописи Аристотеля. Росбах сдунул пылинку с рукава своего сюртука и, переведя взгляд на клиента, спокойно сказал: — Навряд ли сохранились его рукописи. Слишком далеко от нас. — Он подошел к настенному шкафчику, достал оттуда два больших листа зеленоватой бумаги, положил их на стол перед покупателем. — Может, это вас соблазнит? Тимрот посмотрел на листы: один написан старинным немецким готическим шрифтом, другой — не то по-французски, не то по-итальянски. Подписи на обоих листах с декоративными завитками. — Неплохое приобретение для коллекции. Письмо Колумба и письмо Лютера, — вежливо, ненавязчиво сказал Росбах. — Подлинные? Росбах провел рукой по голому черепу и голосом пастора, читающего воскресную проповедь, промолвил: — Только бог и авторы этих писем могут судить об их подлинности. — Или ваш копиист, — вежливо подсказал Тимрот. Росбах исподлобья взглянул на старика: — Вы антиквар? — Нет. И даже не коллекционер. — Вы не покупатель, а продавец. — Угадали. — Что предлагаете? — Рукопись Аристотеля. До этой минуты лицо Росбаха было каким-то вежливо безразличным, и вдруг оно стало иронически презрительным. Тимрот это заметил. — Вы не верите? — Покажите рукопись. — После того, как договоримся. — О чем? — Об условиях покупки. Росбах резко поднялся. — Вы не из Петербурга ли? — спросил он прерывистым голосом. — Оттуда. — И эта рукопись… Тимрот не дал ему закончить фразы: — Та самая. Росбах удивленно посмотрел на спокойно сидящего в кресле посетителя. — И такую рукопись вы предлагаете к продаже?! — После минутного молчания он добавил: — Смело! Очень смело. Но не советую. Могут быть неприятности. — А вы продайте ее без неприятностей. Росбах отнес в шкафчик письма Колумба и Лютера, долго возился с замком, наконец уселся в кресло ивнезапно спросил: — Кто вас направил ко мне? — Никто. Ваша вывеска. — Вам, очевидно, очень нужны деньги. — Не ошиблись. — С кем я имею честь? Тимрот протянул свой паспорт. И уверенность, которая чувствовалась в барственном жесте “фон Тимрота, офицера в отставке”, убедила Росбаха, что перед ним человек, с которым можно иметь дело. — Деньги будут, господин барон. Но не за рукопись. С нее надо стричь купоны, как с государственных займов. — Не понимаю. — Сейчас вы поймете. Раньше древности покупали только ученые — они нужны были им для работы. А теперь? Коллекционируют люди, которым некуда деньги девать. Они собирают древности из тщеславия, от скуки. Эти горе-коллекционеры приобретают все — и рукописи, и ночные горшки, только скажите им, что рукопись писал Конфуций или палач Людовика Святого, а горшком пользовалась Екатерина Медичи или Мария Стюарт. Не сама вещь их прельщает, а тень, которая лежит на этой вещи. Но беда в том, уважаемый господин барон, что профанов с каждым днем становится все больше, а подлинных старинных вещей все меньше. Что прикажете? Закрыть лавочку? Никоим образом! Раз есть спрос, то нам, антикварам, приходится самим создавать древности. — Понятно, господин Росбах, но при чем тут моя рукопись? Ведь она подлинная! — И хорошо, что подлинная. Мы с этой подлинной рукописи сначала снимем две-три копии. Есть у меня человек, который это делает мастерски. А мои постоянные клиенты-профаны будут драться за честь быть обманутыми. Потом, когда разделаемся с копиями, продадим и оригинал в какой-нибудь заокеанский музей. Устраивает это вас? — Не очень. Это долгий путь, а мне, господин Росбах, деньги нужны сегодня, завтра. — Покажите рукопись. Тимрот достал из кармана завернутую в носовой платок небольшую книжку. Росбах развернул платок, откинул верхнюю деревянную крышку. Розовая краска залила его уши, сухое лицо все собралось в морщины. Но когда пальцы Росбаха перекинули последнюю страницу, его уши и лицо были уже густо-красного цвета, а лысина в испарине. Он закрыл книжку, подержал ее меж ладоней, бережно, как держат птичку, наконец сказал: — Это трактат Аристотеля, но писал его не сам Аристотель. И это неважно. Подлинная древность… Подлинная… Восьмого или девятого века… Я вам дам деньги. Я буду платить копиисту… Все беру на себя. — Он завернул рукопись в платок, вернул ее Тимроту. — В час дня будет здесь мой копиист. Соблаговолите и вы прийти с рукописью.4
Тимрот явился ровно в час. За столом рядом с Росбахом сидел тощий, узкий в плечах человек лет сорока, с тонким острым носом и глубоко ушедшими под лоб серыми глазами; на длинной шее помещалась большая голова с растрепанной рыжей шевелюрой. На нем был надет добротный сюртук, скорее всего с чужого плеча: неимоверно широкий и с шелковыми отворотами, из-за которых белела грубая холщовая рубаха не первой свежести. Обе руки он держал на столешнице и выбивал дробь длинными нервными пальцами. Перед ним лежали два листа серой шероховатой бумаги. На Тимрота он посмотрел исподлобья и тут же отвел взгляд. — Познакомьтесь, господин барон. Это Фосс. Фосс даже головы не повернул в сторону Тимрота. — Покажите, — сказал он. У этого сурового с виду человека голос неожиданно оказался низкий, звучный, ласкающий. Тимрот передал ему рукопись. Фосс ушел в глубь магазина и скрылся за шкафами. Тимрот заметил, что он ходит неуверенно, пошатываясь. Минут двадцать просидел он за шкафами, а когда вернулся, промолвил взволнованно: — Сделаю… только плата понедельная… десять марок… десять… — Хорошо, Фосс, договоримся. Вечером зайдете. — А вы, господин Фосс, уверены, что копии получатся хорошие? — спросил Тимрот. Фосс не ответил: положил рукопись на стол, повернулся и неуверенной походкой направился к двери. — Вы его обидели, — сказал Росбах, когда они оказались вдвоем. Он показал на листы серой шероховатой бумаги. — Его работа. — Что это? — спросил Тимрот. — Письмо Эразма Роттердамского к английскому королю Генриху Восьмому. Оригинал и копия. Письма были так похожи одно на другое, как лицо человека на свое зеркальное изображение. — Ну и артист! — Поверили? Вот и хорошо.5
Старый Христиан вернулся из Берлина — вернулся с деньгами, и вскоре благородная семейка раскололась на два лагеря: мужской и женский. Отец и сын скрывали от обеих девиц историю с рукописью, но девицы, почуяв, что случилось необычное, стали следить за мужчинами, подслушивать их разговоры. И узнали если не все, то основное — Тимроты разбогатели. Тихие и скромные в годы малоденежья, девицы вдруг захотели наверстать упущенное. Не перешивать старые платья, а одеваться у хороших портних, не сидеть дома и выпытывать у карт, явится ли к ним король бубен (обе мечтали о блондинах), а выезжать в свет, искать этого “короля бубен”. Обе были уже в том возрасте, когда мужчины при первом знакомстве теряются, не зная, как их величать: “мадам” или “мадемуазель”. И барышни Тимрот мирились с этим: знали — без денег жениха не достать. А тут появились деньги! Старый Христиан больших денег в Берлине не получил. Богатство было впереди, но дочери не хотели с этим считаться. И мужчинам пришлось раскошеливаться на туалеты и даже на приемы. Все вообще переменилось в жизни семьи. Поручика Вильгельма фон Тимрота произвели в капитаны, и тут он решил разом покончить и с отцом и с сестрами. После продажи первой копии он вытребовал от Росбаха оригинал рукописи, а спустя месяц женился на воспитаннице какого-то сановного старца. Утром, отослав с денщиком свои вещи на новую квартиру, которую сановный старец обставил для своей воспитанницы, капитан Вильгельм фон Тимрот, доставая с вешалки шинель, обратился к отцу: — Катишь сказала, что вам будет очень хорошо уехать из Петербурга. Катишь знает красивый русский городок, который стоит на речке. Касимов называется этот городок. Там много помещиков, и у моих милых сестер отбоя не будет от богатых женихов… — Вилли! Во имя бога! — Вы меня не изволили дослушать, отец. Я буду вам пятьдесят рублей каждые три месяца посылать. Это с согласия Катишь. Для бедных людей это большой капитал… Старик Христиан пытался пробудить совесть в сыне, сестры рыдали, но Вильгельм надел шинель и ушел.Часть третья ВОР ИЗДЕВАЕТСЯ
14 июня 1853 года русские войска перешли границу Турецкой империи. По бездорожью, плохо снабженные, чуть ли не с дедовским оружием, двигались русские к Молдавии, к Балканам, чтобы добыть свободу братьям славянам — ту свободу, которой сами были лишены. За Турцию вступились Англия и Франция — началась Крымская война. Свободу славянам! Свобода! Это слово, загнанное глубоко в подполье жандармствующим Николаем I, вырвалось на волю: оно замелькало на столбцах газет, зазвучало на собраниях, во время уличных шествий. Во имя свободы стар и млад записывались добровольцами в уходящие на фронт части, а негодные к строевой службе шли в госпитали, в обозы. Многие офицеры в отставке приезжали из-за границы, чтобы вновь вступить в свои полки. Из Петербурга уже выступила вторая гвардейская бригада. Народ провожал ее от ворот казармы до заставы. — Свобода! Свободу братьям славянам! Выступает в поход и Семеновский полк — не целиком, а два батальона. Остающиеся офицеры дают прощальный обед уезжающим. Среди остающихся — капитан Григорий Кушелев-Безбородко. Да, он дослужился до этого чина! Его рота уходит на фронт, но сам он только сегодня утром был переведен в штаб начальника петербургского гарнизона. Офицеры сели за стол, и Кушелев-Безбородко увидел против себя Николая Олсуфьева в форме поручика Семеновского полка. Безбородко шел на этот обед, как идут по вызову к начальнику, зная, что там ждет тебя разнос. Что и говорить — получилось нехорошо. Все просятся в действующую армию, даже из-за границы приезжают, а он… Да, Безбородко не желает остаться без головы или даже без ноги ради свободы братьев славян! Он пустил в ход все свои связи. Просьбу его удовлетворили, но так неуклюже, что слово “трус”, хотя и не произнесенное, повисло у всех на кончике языка. И вот перед ним Олсуфьев в походной форме. Безбородко обрадовался: сама судьба наградила его громоотводом. Месяца три назад была напечатана в парижской газете коротенькая заметка: ВОР ИЗДЕВАЕТСЯ! Господин, не пожелавший себя назвать, предложил национальной библиотеке приобрести у него рукопись Аристотеля, которая при таинственных обстоятельствах исчезла в 48 году из дворца русского императора. Запрошенная продавцом цена была так велика, что для ее выплаты потребовалась санкция господина министра. Министр санкционировал расход, но продавец не появился больше в стенах библиотеки. Рукопись Аристотеля опять ушла в подполье! Эту заметку перепечатали и петербургские газеты. Старший по столу, полковник Елагин, произнес первый традиционный тост за здравие царя; дальше следовали тосты за царицу, наследника… и круг здравиц замкнулся тостом за тех, кто не вернется. Офицеры были уже порядком навеселе. Безбородко знал, что вот сейчас, когда кончились здравицы, развяжутся охмелевшие языки: посыплются колкие намеки, насмешки и, конечно, в первую очередь, примутся за тех, кто увильнул от похода. Надо, пока еще возможно, воспользоваться громоотводом. Безбородко поднял бокал и вызывающе обратился к Олсуфьеву: — Выпьем за того господина, который пытался в Париже продать мою рукопись! — Пей, если ты с ним знаком, — пренебрежительно ответил Олсуфьев. — Неужто не хочешь выпить за свое здоровье? Олсуфьев, хотя и был уже изрядно пьян, понял смысл безбородкинского тоста. Он схватил со стола бутылку, замахнулся… Тут раздался властный окрик Елагина: — Встать, господа офицеры! Офицеры вскочили. — Отвечать всем! — предложил Елагин. — Какой день наступает после понедельника? — Вторник! — ответили офицеры хором. — После вторника? — Среда! — После среды? — Четверг! — Садитесь, господа! Когда все сели, полковник продолжал: — Капитан Безбородко, что вы хотели сказать поручику Олсуфьеву? — Только то, что рукописью, которую он взял у меня, торгуют… тор-гу-ют, — с ехидством закончил он. — А при чем тут поручик Олсуфьев? — не повышая голоса, продолжал Елагин. — Кто-то украл рукопись… — Кто-то на ней наживается, — подхватил Безбородко. — Вот оно что, — растягивая слова, произнес Елагин. — Поручик Олсуфьев, вы слышали? Капитан Безбородко, видимо, нуждается в деньгах. Он ведь в Петербурге остается, а здесь жизнь не дешевая. — Последние слова Елагин произнес откровенно издевательским тоном. — Понимаю, господин полковник, — отозвался, смеясь, Олсуфьев. — Господа! Я уплатил капитану Безбородко десять тысяч рублей за рукопись. Этого мало, оказывается. Сколько еще выдать? На прокорм. Учитывая дороговизну! — Хватит с него! — Прибавь сотню на бедность! Громоотвод не сработал: офицеры смеялись над ним, над капитаном Безбородко! Даже Тимрот, который также был в походной форме, хотя все знали (от Елагина.) что Тмин-в-рот едет на фронт не воевать, а штатным наблюдателем III отделения, — даже этот жандарм в гвардейском мундире издевательски орал: — Прибавь сотню! Кушелев-Безбородко, пошатываясь, вышел из-за стола.Часть четвертая ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
1
В старом Берлине Кенигрецерштрассе была застроена только с одной стороны; с другой стороны шумели деревья Тиргартена. Дома на этой улице были такие же серые и скучные, как и во всем околотке, но добротнее, и стояли они привольно: не плечом к плечу, а с разбивкой, отделяясь друг от друга цветниками и зарослями сирени. Берлин еще не был в то время столицей Германии, но заносчивые пруссаки уже считали себя рулевыми немецкой нации. На этой Кенигрецерштрассе обитали истые пруссаки — те особые “человеки”, которые выводились в имениях Восточной Пруссии точно так, как в инкубаторах выводят мясистых и яйценосных леггорнов, те “человеки”, которым с детства внушали, что они рождены господами. В майский полдень 1858 года перед домом номер двенадцать на Кенигрецерштрассе остановилась карета. Из нее вышла молодая женщина, за нею — Григорий Кушелев-Безбородко. Он стал полнее, густые усы сообщали его лицу солидность не по возрасту. Последним вышел из кареты мальчонка лет четырех. Из дома выбежал старик в лакейской ливрее. — С приездом, паши сиятельства, — произнес он предупредительно. — Ее сиятельство графиня ждет ваши сиятельства с нетерпением. И особенно вас, граф Александр, — добавил он еще более теплым голосом, отвесив особый поклон мальчику. Впрочем, старый лакей из вежливости или из чрезмерного усердия сильно преувеличивал: графиня Блохвиц встретила гостей более чем сдержанно — едва улыбнулась племяннице, а на мальчика посмотрела с удивлением и сказала на плохом французском языке: — Граф Александр пошел ростом в Блохвицев. Анмари, — перешла она сразу на немецкий, — комнаты для вас приготовлены. На этом церемония встречи приехавших из Петербурга родственников и закончилась. Лакеи вносили вещи. Анмари с сыном направились в сторону винтовой лестницы. — Наш друг граф Альвенслебен очень интересуется вами, — сказала графиня, оставшись наедине с Безбородко. — Альвенслебен? — Безбородко удивился. — Ваш начальник полиции? Что ему от меня нужно? — Этого я не знаю, но после того, как я сказала ему, что вы будете здесь проездом в Париж, он дважды к нам заезжал специально из-за вас. — Непонятно, тетушка. Зачем я мог понадобиться начальнику вашей полиции? — Мы с Дитрихом гадали тоже, но ни до чего додуматься не смогли. Дитрих уверен, что граф Альвенслебен действует по требованию вашей жандармерии. А впрочем, поговорите с Дитрихом сами, он будет скоро дома. Кушелев-Безбородко был озадачен: ушел из жизни Николай I; закончилась Крымская война; безгласная, мертво лежавшая Россия начала постепенно оживать; ушел в небытие и Дубельт; но на здании у Цепного моста осталась вывеска со зловещей надписью: “III отделение собственной Его величества канцелярии”, — и русская жандармерия тут как тут! Политических грехов Безбородко за собой не знал, но мало ли что может взбрести в голову наследникам Дубельта! По квартире разнесся резкий звон колокольчика. Безбородко вышел в коридор. Лакей открыл дверь, появился генерал граф Дитрих фон Блохвиц. Он вошел, гремя шпорами, затянутый в перехваченный широким серебряным поясом зеленый мундир, а на голове черная, лакированная каска с острым наконечником и огромным орлом поверх сводчатого козырька. — Рад вас видеть, милый дядя, в добром здравии. — Блохвицы сохраняют здоровье до самой смерти — такова порода. — Граф отдал лакею каску, вошел в гостиную и уселся. — Как там у вас мой братец Тео? Хотя он у вас не Тео, а Тимофей, и не просто Тимофей, а еще Тимофей Харитонович. Как он там, этот Тимофей Харитонович, себя чувствует? Получил наконец корпус? — Ему предложили корпус в Польше, но он отказался. Не хочет уезжать из Петербурга. — И правильно делает: лучше командовать дивизией на виду у царя, чем корпусом в отдалении. А у вас как дела? Когда получите полк? Ведь вы в звании полковника уже! — Не дают. — Надо подтолкнуть! — Увы, некому, милый дядя. В словах Григория Безбородко прозвучала горечь обманутой надежды. Генерал переменил тему: — Как Анмари? У нас, у Блохвицев, девушки в тугой упряжке ходили, а братец мой избаловал свою дочку. Слишком много давал ей воли. Нелегко вам с ней? — Ничего, привыкаем друг к другу. — Сын как? — Растет. Тут генерал придвинул свой стул вплотную к стулу Безбородко и голосом заговорщика спросил: — У вас перед отъездом из Петербурга каких-либо неприятностей с жандармами не было? — Нет… — Из ваших знакомых никто не арестован? — Никто… — Но жандармы имеют основания быть вами недовольными? Вспомните, племянник, не было ли у вас в прошлом чего-то такого, что могло бы только теперь раскрыться? После короткой паузы Безбородко ответил: — Десять лет назад была одна история, но моя роль в ней была чисто созерцательная. Генерал расстегнул серебряный пояс и швырнул его на диван. — Тогда, племянник, я ничего не понимаю. Вами интересуется наш начальник полиции, а полиция наша интересуется иностранцами только тогда, когда этого требует иностранное государство. — Тетя Тильда говорила мне об этом, и, если честно признаться, я озадачен. Генерал принялся расстегивать мундир. — Не надо вешать носа! Ничего, выпутаемся! Альвенслебен наш друг. Сейчас приглашу его, и мы поговорим по-солдатски! Граф Альвенслебен не состоял ни в близком, ни в отдаленном родстве с графом Блохвицем, но они были похожи друг на друга, как два оловянных солдатика, отлитые в одной форме: длинноногие, широкоплечие, с квадратными лицами, пушистыми усами, бесцветными глазами. — Я на несколько минут, — сказал Альвенслебен, входя в гостиную. — Спешу во дворец. — Он протянул руку Кушелеву-Безбородко. — Рад приветствовать вас в нашей столице и весьма сожалею, что вы у нас только проездом. — На обратном пути останусь подольше. — Генрих, — оборвал этот церемонный разговор граф Блохвиц. — Ты ведь хотел что-то сказать моему племяннику? — О да, я очень хочу побеседовать с милым графом Безбородко, но это удовольствие я вынужден отложить до завтрашнего дня. Если милому графу будет угодно, мы встретимся для приятной беседы в министерстве ровно в двенадцать. — Не лучше ли, Генрих, у нас за обедом? — О да, Дитрих, — согласился Альвенслебен, — за твоим столом было бы приятнее, но, увы, я хочу показать графу кое-какие документы, а они у меня в министерстве. Не сочтите это за невежливость с моей стороны, — обратился он к Безбородко. — Я затрудняю вас отнюдь не из каприза. Подарите мне полчаса, буду вам бесконечно признателен. — Ровно в двенадцать я у вас, граф, — поклонившись, сказал Безбородко. Альвенслебен тепло попрощался, попросил передать сердечный привет обеим графиням и уехал. — Мне, племянник, это не нравится, — мрачно промолвил Блохвиц. — Знаете, почему он явился в парадной форме? — Он же сам объяснил: едет во дворец. — Во дворец ездят или утром или вечером, не раньше семи. Он напялил на себя сбрую, чтобы не обедать с вами за одним столом. Да, племянник, дело, видимо, серьезнее, чем нам кажется. — Но, дядя, я положительно не чувствую за собой никакой вины! — Не забудьте, что у вас в России можно быть и без вины виноватым… Все же вешать носа не надо, — повторил он, — граф Блохвиц еще значит кое-что в Берлине, а граф Блохвиц — ваш дядя! Безбородко стоял у раскрытого окна. Он видел, как из-за деревьев Тиргартена вышел шарманщик, сгибаясь под тяжестью музыкального ящика. Следом за шарманщиком шла стройная девушка — она шла легко, пританцовывая, размахивая правой рукой, в руке у нее была клетка с зеленым попугаем… Прошло десять лет, и как тогда, в первый приход на Охту, Безбородко почувствовал, как во всем его теле закипела волна злобы и ненависти… Какая дорога раскрывалась перед ним, какая высота! И все рухнуло из-за такой вот уличной плясуньи, из-за дружка Олсуфьева… Подлец! Из-за него все пошло под откос — осталась лямка офицеришки с чинами по календарю. Он хотел подтолкнуть судьбу, женился на Аи-мари — дочери начальника петербургского гарнизона — и просчитался: дальше командира дивизии тесть не пошел… Шарманщик взялся за ручку. Полились первые звуки испанской хоты. Девушка не торопясь расстелила коврик, потом сделала несколько грациозных па на месте… Безбородко отошел от окна.2
Вечером, когда семья Блохвиц собралась за кофейным столом, старик лакей подал хозяину опечатанный сургучом большой конверт. — От его сиятельства графа фон Альвенслебена, — доложил он. Генерал прочитал адрес на конверте и сумрачно сказал: — Это вам, племянник. Безбородко вскрыл конверт, прочитал письмо и рассмеялся. — Что вы узнали смешного? — спросил граф Блохвиц. — Прочитайте, дядя. Прочитав письмо, генерал с раздражением промолвил: — Не вижу ничего смешного! — Неужели так уж важно, дядя, в двенадцать или в двенадцать тридцать? — Это в России неважно, а у нас очень важно. Приличия обязательны для всех, в том числе и для министров. — О чем вы спорите? — заинтересовалась старая графиня. Генерал прочитал записку вслух: — “Граф фон Альвенслебен просит у графа Безбородко разрешения перенести завтрашнее свидание с двенадцати на двенадцать тридцать. Покорнейшая просьба вызвана тем, что внезапно возникшее обстоятельство лишает графа фон Альвенслебена возможности быть на месте в ранее назначенное время”. — Скажи, Тильда, что тут смешного? — Ничего смешного, мой Дитрих. — Я бы подождал тридцать минут в приемной! — У нас не принято заставлять человека ждать в приемной, — возмущенно ответил генерал. — И смеяться вам не следовало! Но довольно об этом. Анмари, продолжай, пожалуйста, свой рассказ. У тебя получается очень смешно. Анмари рассказывала о собачках баронессы Остен-Сакен. Делала она это с увлечением, сама получая удовольствие от забавных историй. Безбородко слышал об этих собачках уже много раз и каждый раз находил в передаче жены новые смешные детали. Но сейчас она его раздражала. Безбородко женат уже пятый год. Анмари красива, жизнерадостна, обладает многими приятными качествами, но сейчас она ему показалась тусклой и неинтересной. В его жизнь ворвалось прошлое: девушка, танцующая под звуки шарманки, возродила в памяти Тересу, Олсуфьева — все то горькое, что было связано с ними. Много лет не встречался Безбородко со своим бывшим другом. Тот жил на юге Франции, в Антибе, а Безбородко не выезжал из России. Рукопись ушла в глубокое подполье — о ней не вспоминали, не говорили. Не вспоминал о ней и Безбородко, и вдруг… “Подлец, — подумал Безбородко. — Мою жизнь исковеркал, а сам благоденствует!..” Под бесконечный рассказ Анмари о собачках баронессы Остен-Сакен Безбородко вспоминает свое. И он решил встретиться с Олсуфьевым, отомстить ему за свои неудачи, отравить ему безоблачное житье. Ночью в постели, подбирая едкие слова для встречи, он вдруг вспомнил, что ему предстоит свидание с прусским министром полиции. Неприятное свидание. Что могло послужить к тому поводом? Безбородко припоминал свое прошлое, старался найти в нем ошибки, промахи, предосудительные встречи, случайно оброненные острые слова. Не зря же дядю Дитриха так беспокоит предстоящий визит к Альвенслебену.3
Ровно в 12.30 раскрылась дверь кабинета, и оттуда вышел Альвенслебен. — Пожалуйста, милый граф, — сказал он, взяв Безбородко под локоть и вводя его в кабинет. — Разрешите представить вам господина Радке. Из глубокого кресла поднялся толстенький человечек с круглым лоснящимся лицом и удивительно короткими ногами. Он молча поклонился. Альвенслебен пододвинул к Безбородко коробку с сигарами: — Представляю себе, как мой славный друг Дитрих рад вашему приезду. А ведь и я, милый граф, с нетерпением ждал вас. — Могу я полюбопытствовать, чем вызвано ваше нетерпение? — Жизнь, эта великая фокусница, выкидывает иногда такие коленца, что даже опытный человек потеряет голову. Если вы разрешите, милый граф, то господин Радке познакомит вас с преудивительным казусом. Прошу, господин Радке. Человечек достал из-за своей спины желтый портфель, вынул какую-то бумажку и, прежде чем показать ее Безбородко, сказал слащавым голосом: — Ваше сиятельство, заранее прошу великодушно простить меня, если я покажусь назойливым или если вам покажется, что мои вопросы недостаточно почтительны. Хочу заверить вас, что только государственные соображения вынуждают меня обратиться к вам с этим неприятным делом… — Зачем такое пространное предисловие? — спросил Безбородко, улыбаясь, хотя его сердце сжалось от предчувствия надвигающейся беды. — Действительно, господин Радке, нехорошо злоупотреблять драгоценным временем нашего гостя, — с укоризной сказал Альвенслебен. — Слушаюсь, эксцеленс. — Радке протянул бумажку Кушелеву-Безбородко. — Пожалуйста, ваше сиятельство, извольте ознакомиться. В руках Безбородко оказался черновик письма. Много слов было зачеркнуто, переправлено, но почерк был такой каллиграфически ясный, что Безбородко залюбовался им. Текст письма показался ему банальным, но обращение рассмешило: “Его высокородию господину капитану лейб-гвардии Семенишевского полка…” — Вы смеетесь, ваше сиятельство? Вам знакомо это письмо? — услышал он слащавый голос Радке. — Меня рассмешило слово “Семенишевского”. — А разве полк, в котором вы служите, не называется Семенишевским? — Нет, господин Радке, он называется Семеновским. — Значит, ваш корреспондент допустил ошибку? — Мой корреспондент? — Нам казалось, что письмо адресовано вам. Безбородко задумался: что это — бред, сон? Еще раз он прочитал письмо: Его высокородию господину капитану Семенишевского полка… Я получил приказание прекратить работу. Правда, я просрочил сдачу заказа, но просрочил для пользы дела. Добывал лучшую бумагу, но вовсе прекратить… На этом письмо обрывалось. Безбородко никому никогда ничего не заказывал в Берлине. Но не это его успокоило и придало смелости: он понял, что его вызвали в прусскую полицию не по доносу из Петербурга. Он повернулся к Альвенслебену: — Объясните мне, что все это значит. Кто-то для кого-то выполнил заказ, а господин Радке почему-то уверен, что заказчик я. — Безбородко поднялся и резко закончил: — Даже если это так? Допустим, что я заказчик, но почему почтенный господин Радке сует свой нос в мои дела! — Не волнуйтесь, милый граф, и, пожалуйста, садитесь. Господин Радке заранее просил у вас прощения, и вы благосклонно согласились его выслушать. Прошу вас, не обращайте внимания на неуклюжесть его формулировок. Нас интересует: вам или не вам было адресовано это письмо? — Письмо было адресовано не мне, уважаемый граф Альвенслебен. — Ваше сиятельство, — произнес Радке все тем же елейным голосом, — приношу вам искреннюю благодарность за ясный ответ. — Он засунул руку в портфель и извлек несколько зеленоватых бумажек. — Господин граф, мы не знакомы с генеалогией русских благородных семейств; прошу вас, объясните, если это не покажется вам обременительным: в России имеются Кушелевы-Безбородко и просто Безбородко? — Нет, господин Радке. Сначала были просто Безбородко, потом стали Кушелевы-Безбородко. Радке положил на стол шесть бумажек. Безбородко вздрогнул: перед ним оказались старые книжные знаки канцлера А.А.Безбородко — волнистая рамка, могучий дуб, четкие буквы… — Откуда это у вас? — А вы, ваше сиятельство, никому их не давали? — Не давал и не мог дать! Это книжные знаки моего прадеда! Их нет в природе! Они сохранились только на старых книгах! — горячо произнес Безбородко. — Спрячьте эти бумажки! — строго приказал Альвенслебен. — Можете идти, господин Радке, вы мне больше не нужны. Радке спрятал книжные знаки в портфель и, почтительно пятясь к двери, вышел из кабинета. — А сейчас, милый граф, я вам все объясню. Два года назад появились у нас в обороте фальшивые стомарковые банкноты. Они были так искусно сфабрикованы, что даже банк принимал их за настоящие деньги. Сами понимаете, граф, что это обстоятельство не могло нас не обеспокоить. Весь аппарат розыска мы поставили на ноги, и вот господину Радке удалось наконец арестовать неуловимого фабриканта. Это был типографский гравер, обладавший таким талантом, что, поверите, я диву дался: при мне он скопировал страницу Аугсбург-ской хроники, и я не мог отличить копию от оригинала. Но субъект этот сбежал из тюрьмы. Вот предыстория. Во время его ареста на квартире у него Радке нашел письмо, которое вы читали, и книжные знаки, которые он вам показывал. В голове дьявольски хитрого Радке родилась идея: книжные знаки и письмо — кольца одной цепочки, следовательно, хозяин книжного знака является адресатом письма. Значит, рассудил Радке, адресат является человеком, с которым сбежавший арестант находится в деловых отношениях, и, если нам удастся его обнаружить, мы можем набрести на след фальшивомонетчика. Посудите, граф, если проанализировать все детали, нельзя не усмотреть логики в самой постановке вопроса. Письмо адресовано капитану Семеновского полка. Какому капитану? Тому, с которым фальшивомонетчик связан какими-то делами. С кем он был связан делами? На этот вопрос отвечают книжные знаки: с графом Безбородко. Кто он, этот граф Безбородко? Капитан лейб-гвардии Семеновского полка. Вы — граф Безбородко, и вы в то время были в Семеновском полку в чине капитана. Теперь я убежден, что в логическом построении господина Радке имеется какой-то разрыв и вы к этой истории никакого касательства не имели и не имеете. Меня убедила ваша горячность. Но в то же время я убежден, что в вашем Семеновском полку служил какой-то капитан, связанный с фальшивомонетчиком. Это он заказывал ему что-то очень сложное, если работа над заказом требовала такого длительного времени. Книжные знаки, как я понимаю, дело рук нашего артиста и изготовлены по заказу таинственного капитана. А вот для чего, для какой цели понадобились ему книжные знаки — не знаю. Не знаю… Поверьте мне, милый граф, я чувствую себя глубоко виноватым, заставив вас пережить несколько неприятных минут, и прошу вас великодушно, как выразился господин Радке, простить меня и дружески протянуть руку. А завтра жду вас с уважаемой супругой и моими друзьями Блохвицами к обеду. — К сожалению, я завтра утром уезжаю в Париж. — И этому причиной моя бестактность? — Помилуйте, я просто спешу, и к тому же я вовсе не считаю ваше поведение бестактным: оно вызвано государственными соображениями, как изволил выразиться господин Радке. В последних словах прозвучала ирония, и Альвенслебен оценил ее по достоинству: он спешно отпустил милого графа.4
Безбородко выехал из Берлина не назавтра, а через два дня. Он нанес визит императорскому российскому посланнику, был в Потсдаме и показал сыну ложу в театре Сан-Суси, в которой его предок канцлер А. А. Безбородко сидел рядом с Екатериной Великой; повел своего мальчика в музей игрушек, где нарядные куколки чинно протанцевали перед ними менуэт под аккомпанемент крохотных музыкантов. Безбородко смотрел, объяснял, но все время думал о своем. До визита к Альвенслебену было все ясно: из Петербурга надвигается туча. После визита все спуталось — никакие жандармы им не интересуются, с этой стороны ему ничего не угрожает. Но вокруг него или рядом с ним затевается или уже давно затеялось что-то нечестное, преступное, и эта таинственность угнетала его. С жандармами можно было объясниться, во всяком случае, можно было попытаться отвести грозу, а как объяснишься с неизвестным капитаном! Альвенслебен при всей своей чисто прусской церемонности сумел все же донести до сознания, что ему, Безбородко, угрожает опасность со стороны какого-то капитана. Кто он? Что он затевает или затеял? В поисках ответа Безбородко промучился два дня. Были минуты, когда он уже готов был вернуться в Петербург, полагая, что там ему легче будет разыскать виновника неприятностей, но в конце концов решился: чему быть, того не миновать, поедет в Париж! В Париже было много русских, а среди них немало родственников. Время уходило на визиты, приемы, театры. Это были дни веселого царствования Наполеона III. Революция сорок восьмого года осталась позади, связанные с ней страхи миновали. Точно клопы, выползали из щелей спекулянты всех мастей; они щедро расходовали легко нажитое ими золото, сообщая столичной жизни убыстренный, даже лихорадочный ритм. Имущий Париж ликовал, танцевал, развлекался, и первым среди ликующих был сам Наполеон III — кумир торгашеской братии. Однако беспокойная светская жизнь скоро надоела Безбородко, и он сбежал из Парижа, оставив там на время жену и сына. Мысль о встрече с Олсуфьевым не покидала его. Вот башни Антиба; тихая солнечная улица. С гор дует теплый, мягкий ветер; с моря доносятся отрывистые удары колокола. Вдали, словно киты, поднявшиеся из океанских пучин, греются на солнце Леринские острова, к ним плывут рыбачьи лодки под разноцветными парусами. Безбородко, катаясь в коляске, пьянел от запахов, от блаженного одиночества. Закрыв глаза, он наслаждался. В пансионе было прохладно: шторы из свободно висящих тростниковых трубок преграждали путь солнцу, однако запахи сада сюда проникали — в комнате пахло сладко, даже пряно. Безбородко разделся, прилег. Чем ближе к вечеру, тем запахи становились острее. Ему казалось, что он лежит не на кровати, а в огромном футляре из-под крепких духов. Когда он снова вышел на улицу, на горизонте разгорался закат. Здание, стоявшее особняком на мысу, было залито кроваво-красным светом. Из садов струился душный, жаркий, волнующий запах. Море рвалось к берегу и накатывалось с сердитым урчанием. Наконец-то повеяло прохладой. То тут, то там загорались огоньки; послышались музыка, громкий говор, смех. Жизнь, приглушенная дневным зноем, вспыхнула с новой силой. Безбородко почувствовал, что и его охватила жажда веселья, радости — всего, чем насыщена благоухающая южная ночь. Он решил отправиться в казино — в белое, как русский снег, здание, залитое светом сотен свечей. Из раскрытых окон лились звуки музыки. Безбородко вошел в зал. Десятки пар — молодые, стройные, ловкие — скользили по паркету в таком темпе, точно гонялись за кем-то. Юноша, весь в белом, стоял со своей дамой посреди зала и короткими выкриками подхлестывал танцующих. К Безбородко, плавно двигаясь в ритме танца, подошла девушка и увлекла его на середину зала, сделала с ним несколько кругов и, внезапно покинув его, подхватила какого-то англичанина. Безбородко шагнул было к девушке, намереваясь оторвать ее от англичанина, но в последнюю минуту образумился; опять он стал уравновешенным, владеющим собой полковником Кушелевым-Безбородко. Он вышел в сад; музыка преследовала его. В густых зарослях притаился низенький павильон. Сквозь листву пробивался зеленоватый свет. Безбородко направился к павильону. Там оказался небольшой игорный зал; свечи в высоких подсвечниках горели на столах. За столиками сосредоточенно играли в карты. Вдруг Безбородко услышал хлесткое русское словцо. Он подошел ближе к столу, чтобы заглянуть в лицо соотечественнику, и — замер: Олсуфьев, бородатый, с красноватыми прожилками на крупном носу, сидел за столом. Олсуфьев ругнулся еще раз и отсчитал несколько десятков золотых монет. Банкомет сдал карты. Олсуфьев приподнялся, чтобы прикурить папиросу от свечи, и в это мгновение встретился глазами с Безбородко. Он качнулся вперед, но тут же положил папиросу на край пепельницы и стал разглядывать свои карты. Играли строго, партнеры объяснялись больше жестами, чем словами; звенело золото. Безбородко неотрывно следил за своим бывшим другом, он видел его желтое, изрытое морщинами лицо, его тусклые и глубоко запавшие глаза. Олсуфьев играл азартно и с какой-то злой бесшабашностью: принимал выигрыш не считая, отдавал проигрыш пригоршнями, заставляя выигравшего считать золото, и за все время ни разу не взглянул на Безбородко. Бросив последние монеты на стол и проиграв их, Олсуфьев поднялся, опять прикурил папиросу от свечи и, взглянув на Безбородко, спросил: — Когда изволили приехать, господин полковник? — Сегодня. — Надолго ли? — Это будет зависеть от вас. Олсуфьев швырнул папиросу в пепельницу. — Пойдем отсюда. Они вышли в сад. — Так ты ко мне приехал? Зачем? — Просто захотел тебя увидеть. — Поздненько же ты об этом вспомнил. — Так жизнь сложилась. — Твоя жизнь! — с издевкой сказал Олсуфьев. — Из дома в казарму, из казармы домой! Ты ведь человек обстоятельный. И то удивляюсь, почему ты еще не губернаторствуешь. — Не язви, Николай, это не твой стиль. — Ты прав, мой стиль карты, женщины… и еще преступное легкомыслие. Так, кажется, ты выразился в своем дружественном письме? — Я был тогда зол, раздражен. — Из-за того, что Тереса не попала в твои объятия? Олсуфьев достал из портсигара папиросу, пошарил в карманах и, не найдя спичек, бросил папиросу в кусты. Он продолжал раздраженно: — Зря ты приехал. Все, что было между нами, давно прошло и быльем поросло. Я с тобой рассчитался полностью: за дружбу платил тебе дружбой, за рукопись уплатил золотом, а за злые письма — молчанием. О чем нам теперь говорить! Безбородко почувствовал мстительное удовлетворение: не так уж, видимо, счастлив его бывший друг, не так уж безоблачно его небо, если лицом он похож на маркера в третьеразрядном трактире. Стоит ли бить лежачего? И Безбородко с наигранной грустью сказал: — В жизни ничего, Николай, не проходит бесследно. Минуло десять лет, а прошлое все еще свежо. Возможно, я пытаюсь воспоминаниями о молодых годах заглушить тоску нынешней моей жизни. Возможно, что предчувствие беды сделало меня сентиментальным, и это привело меня к тебе. — Какой беды? — спросил Олсуфьев настороженно. — Большая, малая — не знаю. Начальник прусской полиции доказал мне документами, что какой-то капитан Семеновского полка затевает против меня гадость. — Гадость — это еще не беда. — В нашем с тобой отечестве даже крохотная гадость может обернуться большой бедой. — И все же раньше времени нечего беспокоиться. Пошли ко мне! Они пошли берегом. Море урчало; вспыхивали и потухали красные огни маяка; верещали цикады; из открытой таверны доносился гул голосов. Олсуфьев шел какой-то нелегкой, усталой, походкой, с трудом отрывая ноги от земли. Дошли до калитки, на которой был выбит медными гвоздями крест. Раскрыв калитку, Олсуфьев остановился. — А что тебе от меня, собственно, нужно? — спросил он сердито. — Без нужды ты меня не стал бы разыскивать. — Не веришь? — Тебе — нет. — И переступил порог, но, прежде чем закрыть за собой калитку, сказал: — Кстати, полковник, когда будете в Париже, посетите префекта полиции. Попросите его показать вам рукопись. — Какую рукопись? — всполошился Безбородко. — Ту самую! — и с треском захлопнул калитку. — Николай! Олсуфьев не отозвался. Итак, план не удался. Безбородко задыхался от злобы. На обратном пути его вдруг осенило: “Как я раньше не догадался! — сказал он с досадой. — Ведь Олсуфьев заработал в Севастополе капитанские погоны! Стало быть, о нем говорил со мной Альвенслебен! Стало быть, это он с помощью рукописи затевает гадость! Моей же рукописи! Сам благоденствует за калиткой с медным крестом, наслаждается жизнью со своей Тересой, а для меня яму копает! Ах подлец! Какой подлец!”Часть пятая ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЛ КУШЕЛЕВ-БЕЗБОРОДКО
1
Неприятности, обрушившиеся на Олсуфьева после пропажи рукописи, неожиданно помогли ему завершить то, что было задумано. Уже в кабинете Владиславлева, справившись с охватившей его тоской, Олсуфьев подумал вдруг — не к добру ли вся эта канитель? Не сама ли судьба послала ему удобный повод для ухода от жизни, которая давно его тяготила? Дворцовые караулы, карты, “равнение на-лево!”, “ряды сдвой!” — надоели ему до предела. То немногое хорошее, что было заложено в нем, искало выхода для себя в любви и постоянстве, а офицерское окружение тянуло в противоположную сторону: мимолетные увлечения, цыганские песни и цыганские хоры. Олсуфьев до поры до времени предавался развлечениям, не думая о том, что ожидает его впереди. Встреча с Тересой преобразила, казалось, его. Все свои помыслы он посвящал тому новому, что в нем созревало. Решение жениться па Тересе пришло не сразу — сначала надо было побороть что-то в себе самом, свыкнуться с этой мыслью; нужно было, кроме того, проверить, действительно ли Тереса именно та, без которой жить ему невозможно. После долгих раздумий Олсуфьев в конце концов убедился, что только Тереса ему и нужна. Он видел барьеры, которые придется брать: родня, офицерское общество, большой свет — все будут против его женитьбы на уличной плясунье, но он одолеет барьеры, убедит всех, что Тереса умнее и красивее Параши, дочери останкинского кузнеца, которую даже дворцовые круги признали достойной быть графиней Шереметьевой. Он добьется своего, но сколько времени и душевных сил придется на это потратить! Ему и на ум не приходило в ту пору, что можно уйти из привычного офицерского круга, что можно жить без наставлений тетушек или советов сановных дядюшек. А тут вдруг сама судьба освободила его и от офицерской суетливой среды, и от тетушек, и дядюшек. Решение было принято: снять мундир, уехать за границу с Тересой. Начались трудные дни. Дубельт извинился перед офицерами, дежурившими в тот злополучный вечер, и они взяли назад свои прошения об отставке. Один лишь Олсуфьев упорствовал. Командир полка вызывал его к себе, уговаривал, даже упрашивал; вмешалась родня. Олсуфьев стоял на своем: в отставку!2
Тереса была в отчаянии: ей казалось, что скандал с рукописью отзовется в первую очередь на судьбе ее отца. Она не жаловалась Олсуфьеву, но ежедневно, встречая на пороге, смотрела на него таким скорбным взглядом, что сердце Олсуфьева сжималось болезненно. И Олсуфьев поехал к тетушке Адлерберг, к “ханжихе”. Откуда только взялись у него слова! Почтительные, льстивые, слезливые — именно те слова, которые могли разжалобить тетку. — Поедешь со мной в Лавру, отстоим службу, а тамкак бог надоумит. Олсуфьев поехал в Лавру, отстоял службу, и бог надоумил ханжески настроенную тетку: она пригласила Дубельта на чашку чая.3
Было воскресное утро. Марфа Кондратьевна с мужем отправилась к заутрене. Тереса сидела на скамейке и безучастно расчесывала волосы: проведет гребнем и задумается. Густые черные пряди, зачесанные на одну сторону, как бы клонили голову к плечу; казалось, Тереса к чему-то прислушивается. Она ждала вестей, хороших вестей — неужели и эта попытка Олсуфьева закончится неудачей? Вдруг дверь раскрылась рывком. Тереса вскочила и… уронила гребень; руки ее словно сами собой сложились на груди в молитвенном жесте. На пороге стоял младший Кальяри. Тонкий, гибкий, как шпага, хищный нос, свирепые, круглые глаза. Но он не бросился на нее: стоял и, точно завороженный, смотрел на Тересу. Взгляд его постепенно теплел. — Мадонна… Вид ли молодого Кальяри, который из мстителя неожиданно превратился в товарища детских игр, или слово “мадонна”, в котором слышались и восхищение и призыв, — но перед глазами Тересы ожили пыльная улица, тележка на маленьких колесиках и она, стоящая в одной рубашонке на тележке и хворостинкой погоняющая тонконогого мальчишку. — Джузеппе… Тереса взяла его за руку и подвела к скамье. Он сел неуверенно, на краешек. — Тереса… какая ты… — А ты тоже… — Но ты!.. — Мой отец… — Я знаю, Тереса… Не убивайся… Я достаточно зарабатываю — пою в хоре. Денег хватит… И Джузеппе стал бывать на Охте. Олсуфьев об этом не знал ничего: сначала Тереса не решилась рассказать ему про визиты товарища детских игр, боясь огорчить своего покровителя, а потом постеснялась сознаться, поняв, что Джузеппе становится для нее больше, чем другом детства. Это мучило. Чувство благодарности, признательности, даже преклонения перед Олсуфьевым она по неопытности приняла за любовь, но любить одновременно двоих Тереса считала тягчайшим грехом. Вот если она поборет зарождающееся чувство и Джузеппе станет опять только товарищем, она расскажет о нем благородному и верному Олсуфьеву.4
День был хмурый. Тереса сидела у окна и с увлечением слушала Джузеппе. С минуты на минуту должен был появиться Олсуфьев, а Тереса не находила в себе сил сказать Джузеппе, чтобы он ушел. Распахивается дверь, вбегает Марфа Кондратьевна: — Финоциаро идет! Тереса в смятении вскочила: — Где он?! Джузеппе, как был — в расшитой блестками безрукавке поверх белой рубашки, — выбежал на мороз. Длинная улица в снегу. Из дымовых труб веером расстилается сизый дым. Укутанные пешеходы, неуклюжие, толстые, бредут цепочкой по тропинке, проложенной вдоль дощатых заборов. По мостовой, еле волоча ноги, идет Финоциаро, сгибаясь под тяжестью шарманки. Впереди Финоциаро двигается тень — она похожа на разлапистую таксу, привязанную к ноге хозяина. Джузеппе бежал, широко раскрыв руки. Увидев врага, Финоциаро сбросил с плеча шарманку, схватил палку-подпорку и, занеся ее для удара, крикнул: — Стой, собака! Джузеппе подбежал к Финоциаро. От первого удара он сумел увернуться, но второй пришелся ему по голове. — Дядя Фино! Погодите! Финоциаро замахнулся опять, но Джузеппе изловчился и вырвал палку у него из рук. — Разве можно, дядя Фино, так обращаться с шарманкой?! Слова были произнесены с необычной для врага сердечностью. Этот тон озадачил Финоциаро, но еще больше ошеломило его, когда Джузеппе, взвалив себе на плечи шарманку, сказал по-родственному тепло: — Вот и наша Тереса бежит. Тереса была в тулупе и валенках: Марфа Кондратьевна заставила ее одеться. Бежала она с трудом. Добежала, бросилась к отцу, хотела обнять, но Финоциаро, схватив ее за плечи, отодвинул от себя и строго спросил: — Ты… и Кальяри?! — Отец! Я вам все расскажу… — Синьор Никол знает? — Идемте, отец. Джузеппе холодно. — Дядя Фино, идемте. Дома поговорим. Финоциаро рванул к себе шарманку: — Отдай! И уходи прочь! Кальяри не войдет в мой дом! Беспомощным взглядом больного ребенка посмотрел Джузеппе на Тересу, и в ее глазах он прочел мольбу: “Уходи!” Джузеппе не снял с плеч шарманку: он донес ее до порога дома Финоциаро, поставил на землю и удалился.5
Беда пришла оттуда, откуда трудно было ее ждать. Когда Олсуфьев явился к тетушке, чтобы поблагодарить за освобождение Финоциаро, она посоветовала ему: — Будь осторожен, Ника. Граф Дубельт говорил мне, что шарманщик этот — чистый разбойник и горло перегрызет всякому, кто на девку его покусится. — Я на этой девке женюсь! — запальчиво ответил Олсуфьев. — Ты?! На уличной плясунье?! — Да! Женюсь на плясунье, да! — подтвердил он зло. Тетушка поняла, что беспутный Ника способен сделать такой ужасный шаг. Она выпроводила племянника и тут же послала лакея с письмом к Дубельту. Письмо заканчивалось просьбой арестовать шарманщика с его девкой и выслать их как можно скорее в Сибирь. Об этом сообщил Олсуфьеву Владиславлев и благоразумно посоветовал: — Добудь для них подорожную, отошли Финоциаро с дочерью за границу. Уляжется шум, тебе выйдет отставка, тогда и поедешь к ним. Олсуфьев так и сделал.6
Финоциаро с дочерью очутились в Риме — городе, который выбрал для них Олсуфьев. Кроме денег, Олсуфьев снабдил Финоциаро рекомендательным письмом к профессору Торелли, лучшему в то время балетмейстеру. — Я хочу, чтобы она училась… непременно… И тут впервые, прощаясь со стариком, поведал ему: — Приеду в Рим, и мы с Тересой поженимся. Финоциаро устроил все так, как наказывал ему Олсуфьев: поселился с дочерью в приличном пансионе, сопровождал Тересу на уроки к Торелли и оберегал ее, будущую графиню, от назойливых поклонников. Но отцовское счастье никогда не бывает полным: Финоциаро заметил, что глаза дочери слишком часто красны от слез и что она слишком задумчива. — Не больна ли ты? — спросил он однажды. — Нет, отец. — Скучаешь по нем? — Очень. — Он приедет. Скоро приедет. На этом обычно расспрос обрывался: отец и дочь говорили о разных людях. А к концу лета Финоциаро вдруг убедился, что дочь его ожила, повеселела, но стала каждый день исчезать из дому. И в одно солнечное утро, возвратившись из магазина с покупками, Финоциаро нашел на столе записку: “Дорогой отец, я уезжаю с Джузеппе. Не беспокойся за меня, отец. Джузеппе меня очень любит, и я его тоже”. В этот же день старик Финоциаро отослал Олсуфьеву в Петербург все оставшиеся на его руках деньги. Без объяснения причины. Вещи, оставленные Тересой. он продал, и денег хватило на то, чтобы купить старую шарманку. Всего этого Кушелев-Безбородко не знал.Часть шестая МЕСТЬ
1
Безбородко вернулся в Париж. Общих с префектом полиции знакомых у него оказалось достаточно. Из них он остановился на русском посланнике: как-никак посредник солидный. На официальном приеме в посольстве по случаю приезда в Париж Рейтерна — видного деятеля Министерства финансов Российской империи — посол, подведя Безбородко к префекту полиции, познакомил их и, как бы между прочим, сказал: — Попросите, граф, господина префекта — он поможет вам находить раритеты. Префектом парижской полиции являлся Пьер-Мари Пиетри, тот самый, который породил когда-то историю с рукописью. — Друзьям господина посла всегда готов услужить, — любезно произнес Пиетри. — Вы меня обяжете, господин префект. Посол удалился, а Безбородко и Пиетри вступили в разговор. Префект оказался живым собеседником. Рассказывая новому знакомому о людях большого света, он так остроумно и зло стал описывать их пороки, что Безбородко почувствовал себя так, как может себя почувствовать человек возле клетки хищника. Из посольства они вышли вместе. Первой подали карету префекта. Он уже поставил на ступеньку ногу и тут, вспомнив, спросил: — Какие же раритеты интересуют вас? — Всякие, господин префект, лишь бы были настоящие. — В таком случае, приглашаю вас к себе в префектуру завтра в двенадцать. Карета отъехала. Безбородко улыбнулся: его рассмешило совпадение — во все полиции приглашают на завтра в двенадцать. В назначенное время Безбородко вошел в приемную префекта парижской полиции. К нему тут же приблизился напомаженный щеголь в широком, с узкой талией сюртуке. — Граф Безбородко? — спросил он. — Господин префект поручил мне сопровождать вас по антикварам и аукционам. Моя фамилия Бомель. — А самого господина Пиетри могу я видеть? — Увы, нет… Господин префект просил извинить его. — Тогда, господин Бомель, если вы располагаете временем… — Я, граф, свободен всегда: это моя профессия. Они отправились на аукцион. Безбородко повезло: купил прекрасную коллекцию бисерных вышивок. На радостях он пригласил Бомеля к себе домой. Анмари пришла от него в восторг: Бомель говорил без умолку, с увлечением и не рассказывал, а, скорее, играл, все представляя в лицах. С того раза повелось так, что Бомель заезжал за Безбородко почти ежедневно, и они отправлялись на розыски. Безбородко накупил массу ненужных вещей и, хотя знал, что ловкий Бомель получает у антикваров двадцать процентов с каждой покупки, все же покупок не прекращал: ему казалось, что, прекрати он связь с Бомелем, порвется и связь с префектом. Прошло недели две, и однажды утром вместо Бомеля явился посыльный с письмом: “Мадам и месье Пиетри приглашают графиню и графа Кушелева-Безбородко на чашку чая…” Анмари отказалась от визита “к какому-то Пиетри!” Безбородко не настаивал — он отправился один. Жил Пиетри на казенной квартире, обставленной казенной мебелью, добротной и неуютной. В столовой был сервирован чай по-русски — с водкой, вином и закусками. Даже серебряный самовар оказался на столе. За самоваром сидела красивая, хотя и немолодая жена Пиетри. Была ли она близорукой или такая манера казалась ей более аристократической, но она все время щурила глаза и притом говорила протяжно и певуче, с остановками, что уж вовсе не шло к ее довольно энергичной наружности. — Да, — сказал Пиетри в ответ на извинения Безбородко, — русские дамы трудно переносят наше знойное лето. — А Пьер-Мари, — вмешалась мадам Пиетри, — у вас в Петербурге чуть не замерз. Правда, мой друг? — Правда, Сюзанн. Зима у них суровая. Как, впрочем, и люди. — Неужели вы и со своими женами суровы? — О нет, мадам, не всегда. Только тогда, когда они этого заслуживают. — А правда ли, мой граф, что у вас людей обменивают на собак? Я прочитала про это в книжке месье Хуана Валера, я не поверила. — Увы, мадам, это случалось. — Можешь успокоиться, Сюзанн: в России скоро перестанут обменивать людей на собак. Кстати, граф, у вас, по слухам, опять усилились разногласия в комиссии: там уже предлагают освободить крестьян без выкупа и с земельным наделом. — Вот это, господин префект, было бы ужасно! — Почему же ужасно? — вмешалась жена префекта. — Объясни мне, пожалуйста, Пьер-Мари. — Видишь ли, Сюзанн, у графа много мужиков — они его собственность; а комиссия предлагает отпустить рабов на волю, да еще наделить их землей. Граф потерял бы на этом очень много денег. — Да, это ужасно, — согласилась мадам Пиетри. — Тут можно искренне вам посочувствовать. — Однако будем надеяться, что у графа и после этой операции еще кое-что останется, — успокоил жену Пиетри. — Вы правы, господин префект, кое-что, без сомнения, останется. Кроме того, можно надеяться, что в комиссии победят благоразумные люди. Наконец, государь не допустит разорения дворянства. — Это зависит от политической ситуации в стране, — веско заметил Пиетри. — Бывают моменты, когда и государь бессилен, и мне кажется, что у вас именно такой момент наступил. — Пьер-Мари! Зачем ты пугаешь графа! — Все в жизни закономерно, дорогая Сюзанн. Мы объекты истории, а не субъекты — даже те из нас, которые мнят себя вершителями исторических судеб. Часы отсчитали шесть мелодичных ударов. Безбородко поднялся. — С философской точки зрения это верно, — сказал он, прощаясь, — по каждый из нас, господин префект, должен, во всяком случае, пытаться использовать эти закономерности в своих интересах. — Согласен, — подтвердил префект. — А вы, мой граф, не огорчайтесь, — со своей стороны, добавила его жена. — Поверьте, все обойдется. Не правда ли, Пьер-Мари? Префект согласился и с этим. Попрощались. Безбородко и хозяин вышли в коридор. Проходя мимо кабинета, Пиетри предложил: — Зайдемте, граф, на минуту. Мне хочется угостить вас хорошей сигарой. Они уселись в кресла и закурили. — Зачем вы накупили столько дребедени? — неожиданно спросил Пиетри. — Вам же нужна была только рукопись Аристотеля? — И, видя замешательство Безбородко, он закончил спокойно и почти безразлично: — Это ведь еще старая вражда с Олсуфьевым? Неужели из-за той маленькой итальянки? — Разве вам все известно? — Почти все. Знаю, что вы любезно отдали Олсуфьеву рукопись, знаю, когда и при каких обстоятельствах рукопись пропала, знаю, что Олсуфьев уплатил вам за нее десять тысяч. Не знаю лишь, почему теперь, спустя столько лет, она стала вас снова интересовать. Какие-нибудь переживания связаны с ней? — Отнюдь нет, месье Пиетри, я хочу поставить ее в библиотечный шкаф, на старое место. — И, чтобы осуществить свое желание, вы даже пятидесяти тысяч не пожалеете? Безбородко ответил спокойно: — Не пожалею, господин префект. Если рукопись действительно у вас. — О да, она у меня. Я купил ее в Берлине, у полицейского чиновника. — Не у господина ли Радке? — Фамилию не помню, да это и неважно. — Пиетри придвинул к себе лакированный черный ларец, стоявший на письменном столе, и достал из него рукопись. — Пожалуйста! У Безбородко сильно забилось сердце, он даже удушье почувствовал. Твердый переплет, на обороте переплета книжный знак с могущественным дубом; на первой странице в рамке русский текст, выписанный старательным писарским почерком… Безбородко перевернул первую страницу и, как всегда это делал, провел пальцем по обороту верхней строчки. Сердце сразу успокоилось, и на лице Безбородко заиграла улыбка. Вспомнилось: ему было тогда пять лет. Он зашел в кабинет деда, взобрался на кресло. Перед ним оказалась книжечка в твердом переплете. Он раскрыл ее. Первая страница была скучная: большое белое поле и посреди него слова. Он разобрал буквы “а”, “б”, “о” — неинтересно. Перевернул страницу и пришел в восторг: вся страница исписана не буковками, а какими-то замысловатыми значками. Он долго всматривался в эти таинственные значки, и вдруг ему почудилось, что перед ним малюсенькие бирюльки: чайничек, самоварчик, чашечка… На письменном столе он нашел большую иглу и с ее помощью стал выдавливать самоварчик, чашечку… За этим увлекательным занятием и застал его дед. Дед вырвал иглу из рук мальчика и дал ему оплеуху. “Да я же играл в бирюльки!” Дед поднял его с кресла и, как котенка, выбросил из кабинета. Впоследствии каждый раз, разглядывая рукопись, Безбородко водил пальцем по обороту первой страницы, как бы желая убедиться, на месте ли те три бугорка — следы от проколов, следы его детской шалости. В рукописи Пиетри проколов не было! Это не оригинал, это — копия! И тут его осенило: копию изготовил берлинский “артист”, именно о ней шел разговор в письме, а книжные знаки, которые показывал ему Радке, были всего лишь пробными оттисками! Одно колечко вплеталось в другое, цепочка замкнулась: копию заказал Олсуфьев, берлинский “артист” изготовил ее, но сдать заказчику не успел, а Радке отобрал ее при обыске и, скрыв от своего начальства, продал Пиетри… — Вы как будто разочарованы? — с оттенком недоумения спросил Пиетри. — Не разочарован, а огорчен. Я прикинул в уме, какими деньгами располагаю сейчас, и результат получился нерадостный, господин префект. А рукопись все же хотелось бы приобрести. Пиетри встал. Он уловил нотки неискренности, даже злорадства в голосе Безбородко, но, не понимая, чем это вызвано, решил беседу закончить. — Да ведь это не к спеху. — Он спрятал рукопись в ларец. — К тому же, граф, я еще не решил, расставаться ли с нею. — А если деньги для этой цели найдутся? — Сообщите, что же; тогда можно будет и решить. Оба хитрили, и оба понимали, что это всего лишь хитрость. Расстались, чтобы больше не встретиться никогда.2
Однако им пришлось встретиться еще раз — не лицом к лицу, а на столбцах газет. В феврале 1859 года Безбородко получил письмо из американского посольства. Письмо носило чисто деловой характер. “Американское посольство, выражая графу Кушелеву-Безбородко свое уважение, просит не отказать в любезности ответить на прилагаемый вопрос юридической конторы “Сноу и Сноу-младший”. Запрос: “Наш клиент мистер Б.К.Доули-Джейнер намерен приобрести у некоего господина Пиетри уникальную рукопись Аристотеля, оцененную специальной комиссией в 25 000 долларов, а так как названная рукопись принадлежала семье графов Безбородко, о чем свидетельствует имеющийся на переплете книжный знак, наш клиент счел необходимым запросить представителя этой благородной семьи, с ее ли ведома поступила в продажу принадлежавшая ей семейная реликвия”. Тут-то и проявила себя в истинном свете натура гвардейского полковника Кушелева-Безбородко. Он решил выдать за правду то, что ему произвольно было угодно считать правдой, и этим своим ответом свести наконец счеты с теми, кто заставлял его долгие годы страдать от страха и уязвленной гордости. Безбородко ответил корректно, приводя будто бы лишь одни факты: “В связи с запросом юридической конторы “Сноу и Сноу-младший” поясняю: 1. Оригинал рукописи, о которой идет речь, был в 1848 году изъят из библиотеки нашей семьи Н.Б.Олсуфьевым, о чем имеется его собственноручная расписка, в которой он пишет: “Я, Николай Олсуфьев, самовольно, в отсутствие хозяина Григория Кушелева-Безбородко, вскрыл книжный шкаф и изъял из него рукопись Аристотеля о свете…” 2. Десять лет спустя, во время моего пребывания в Берлине, прусский полицейский чиновник Радке показал мне оттиски книжных знаков моего прадеда А. А. Безбородко, объяснив при этом, что книжные знаки найдены им при обыске у какого-то фальшивомонетчика, очень опытного копииста. Но о том, что при обыске была изъята еще мастерски изготовленная копия с похищенной у меня рукописи, ни полицейский чиновник Радке, ни присутствовавший при этом разговоре его начальник граф Альвенслебен мне ничего не сказали; между тем из письма, также изъятого у фальшивомонетчика при обыске, было ясно, что оный фальшивомонетчик изготовил по чьему-то заказу копию какого-то большого труда, как видно имевшего прямое отношение к книжным знакам моего прадеда. 3. Месяц спустя, во время моего пребывания в Париже, префект полиции господин Пиетри показал мне блестяще выполненную копию с рукописи, похищенной у меня. Что это копия, а не оригинал, я убедился, не обнаружив на обороте первой страницы трех бугорков от прокола иглой — проколы я сделал собственноручно в далеком детстве, за что и был наказан дедом. Когда господин Пиетри сообщил мне, что рукопись продал ему прусский полицейский чиновник, мне стало ясно, что при обыске у фальшивомонетчика, кроме книжных знаков, была изъята еще и эта самая копия с моей рукописи; полицейский чиновник Радке, изъявший ее при обыске, по-видимому, и является именно тем чиновником, который, по словам господина Пиетри, продал ему означенную рукопись. 4. Заверяю юридическую контору “Сноу и Сноу-младший”, что рукопись, о которой идет речь в запросе, есть только копия с похищенного у меня в 1848 году оригинала”. Ответ Безбородко был воспринят как мировая сенсация. Американские газеты высмеивали прусского полицейского чиновника Радке, укравшего при исполнении служебных обязанностей фальшивку; издевательски писали и о префекте парижской полиции, который пытался всучить досточтимому мистеру Б.К.Доули-Джейнеру фальшивку. В России ответ графа Кушелева-Безбородко печатался под заголовком “Вор у вора дубинку украл, а дубинка оказалась с изъянцем!” Английские газеты проявили большую сдержанность: “Таймс” поместила лишь сухое изложение фактов, без резких выпадов против героев скандальной истории и без двусмысленных комментариев. “Дейли Мейл” снабдила статью лирическим заголовком (“Дорогие бугорки”) и эффектной концовкой: “Обыкновенная игла, из тех, что можно купить десяток на полпенса, спасла коллекционеру Б.К.Доули-Джейнеру 25 000 долларов. Детские воспоминания графа Кушелева-Безбородко спасли доброе имя почтенному Б.К.Доули-Джейнеру, который стал бы посмешищем в мире коллекционеров, купи он эту фальшивку”. Французские газеты направили свои язвительные стрелы против префекта полиции и Олсуфьева. Какой-то дотошный журналист обнаружил, что Пиетри был в Петербурге именно тогда, когда там пропала рукопись. На этом фоне журналист создал бойкий роман, в котором, кроме Пиетри и Олсуфьева, действовала некая великая княжна и итальянская танцовщица. В результате газетной шумихи граф Альвенслебен подал в отставку, Радке был арестован, префекта парижской полиции Пиера-Мари Пиетри Наполеон III сместил, а Олсуфьев пропал без вести: на рассвете выехал в лодке к Леринским островам и больше домой не вернулся, даже лодку не удалось обнаружить. Все четверо пострадали зря: никто из них не был виновен в том, в чем обвинил их Безбородко. Альвенслебен ничего о рукописи не знал, полицейский чиновник Радке тоже не крал и не продавал ее: этого он не мог сделать потому, что во время обыска у копииста рукописи не обнаружили. Антиквар Росбах успел уже продать ее; Пиетри не знал, что торгует фальшивкой, он честно верил, что владеет оригиналом; Олсуфьев никакого отношения к рукописи не имел с той минуты, как вручил ее Дубельту.Часть седьмая В ЧЕРНОМ ШЕРСТЯНОМ ЧУЛКЕ
1
Двадцатый век начался в России голодом, кризисом и войной. Вспыхнув в далекой Маньчжурии, эта война, словно громадный рефлектор, осветила бесчисленные пороки и мерзости режима, установленного царской властью в стране. Войсками управляли бездарные военачальники; не щадя своих солдат, они вели полки от одного поражения к другому. Командующие армиями, разные остзейские и немецкие бароны, везли с собой составы с коровами, сладостями и вином, а солдат кормили чумизой, заплесневелыми сухарями и обували в сапоги на картонных подметках. Поражение в русско-японской войне привело страну к революции. Сначала по городам прокатилась волна забастовок; в деревнях стал гулять красный петух — это крестьяне начали жечь поместья. Потом взялись за оружие. Восстала Москва. Не работали фабрики и заводы. Закрылись все магазины. Не горело электричество. Молчали телефон и телеграф. Пустовали школы. На заснеженных улицах и площадях возникли баррикады. Начался бой за новую жизнь. Убедившись в том, что московский гарнизон ненадежен, генерал-губернатор Дубасов попросил у царя помощи. Николай II направил в Москву лейб-гвардии Семеновский полк.2
Чемодан уже был уложен и закрыт, когда молоденький поручик Семеновского полка Вильгельм фон Тимрот, вернувшись из города, распаковал его и стал выбрасывать все, что показалось ему лишним. — Оставь! — начала уговаривать его мать. — Ведь это тебе пригодится! — Не на Дальний Восток отправляемся и не на месяцы. Чемодан был закрыт на замок снова. — А когда отправляетесь? — Грузиться будем вечером. — Значит, до вечера ты, Вилли, с нами? — Нет, мне надо в полк. Мать не огорчилась: в этой поездке она опасности для сына не видела. Семеновцы быстро наведут порядок, и Вилли вернется. — К деду зашел бы, — посоветовала она. — Да некогда же, мама! — Зайди, он с утра ждет тебя. Спрашивает, нервничает. Вильгельм зашел в маленькую комнату, пропахшую лекарствами. Вильгельм Первый (так в семье звали старого генерала Вильгельма фон Тимрота) сидел на кровати, свесив тонкие длинные ноги. — Я тебе нужен, дед? — Мне надо тебе сказать кое-что. — Непременно сейчас? Безотлагательно? Старик Тимрот перешагнул уже за восемьдесят — иссохший, пожелтевший, он казался внуку живым воплощением смерти, хотя в голосе его сохранились нотки прежней властности. — Вилли, тебе теперь не до меня, я знаю, но боюсь, что другого случая рассказать тебе то, что ты обязан знать, у меня больше не будет. Ты видишь — я стар… — Слушаю, дед. — Я прожил долгую жизнь и кое-что понял, поэтому к словам моим отнесись, Вилли, серьезно. Фон Тимроты служили и продолжают служить царю, а не народу, и русский народ это знает… Теперешняя революция целит не только в царя, но и в фон Тимротов. Подумай о себе, мой мальчик, подумай о нашем роде: фон Тимроты не должны исчезнуть. Когда дела царя пошатнутся, уходи из России, уходи. А пока береги себя: ты едешь ведь на войну… — Не на войну, дедушка: нас отправляют в Москву на усмирение бунта. — Не спорь! — остановил его резко дед. — Можешь поверить мне — это революция, а революция в России может кончиться, как в семьдесят первом году во Франции: коммуной. Не дожидайся, пока людей нашего круга станут вешать на фонарях, заранее выходи в отставку и уезжай. — Он достал из-под подушки что-то завернутое в черный шерстяной чулок. — Тут состояние, Вилли, целое состояние. Если тебе придется спешно бежать, бросай все, только чулок захвати с собой. Он будет храниться в нижнем ящике моего шкафа… — Что это, дедушка? — Древняя рукопись. Где бы ты ни очутился, за нее ты получишь десятки тысяч в любой валюте. Вилли вскочил: — Почему же ты, дед, не продал ее, когда моему отцу нужны были деньги?! Ведь он из-за денег застрелился! — Продать ее тогда было нельзя. Нельзя, Вилли… — Почему же?! — Когда вернешься из Москвы, объясню; иначе я поступить не мог… Утомился ли Вильгельм Первый или же опасался, что внук потребует разъяснений более подробных, но он лег, прикрыл глаза и устало сказал: — Вернешься из Москвы, и мы закончим с тобой разговор. А в Москве не геройствуй. Сегодня Москва, завтра, может быть, Петербург… Героев не хватит.3
Вилли не послушался деда: он “геройствовал” в Москве. В составе роты полковника Римана он наводил порядок на Казанке, врывался в дома железнодорожников, расстреливал забастовщиков, и именно он, поручик фон Тимрот, устроил засаду недалеко от Москвы, против вальцевой мельницы, и из четырех пулеметов обстрелял поезд Ухтомского. Восстание в Москве было подавлено. Каратели вернулись в Петербург. Командир Семеновского полка полковник Мин получил флигель-адъютантские аксельбанты, а офицеры полка удостоились чести обедать дважды с его величеством: во дворце, как почетные гости, и у себя в офицерском собрании, как щедрые хозяева. Как раз в эти суматошные дни старый Тимрот умер. За гробом шел первый батальон Семеновского полка, тот батальон, в котором служили три представителя семьи фон Тимротов. Вернувшись с похорон, Вилли зашел в комнату деда и достал из нижнего ящика шкафа завернутую в черный шерстяной чулок книжечку. Историю этой книжки дед не успел ему рассказать, сама книжка не произвела на поручика должного впечатления. — Неужели за такое старье даст кто-нибудь десятки тысяч?! — произнес он вслух. — Причуды! Дед просто лишился к концу жизни разума! Вилли сунул книжку обратно в чулок, закрыл шкаф и направился в столовую. Там уже собрались гости. Среди них капитан Майер, тот самый, который вел на казнь Ухтомского, тот самый, который выстрелил ему в голову. — Как, по-твоему, Майер, кончилась эта сумятица? — Какая? — спросил удивленно Майер, — Пресня… Казанка… — Ах, это! Лет на триста могу дать гарантию — хватит? — Вполне!Часть восьмая МОЛОДОЙ ХИЩНИК ВЫХОДИТ НА ТРОПУ ОХОТЫ
1
Пятимиллиардная контрибуция, грабительски выжатая из побежденной Франции в 1871 году, разожгла аппетиты германской буржуазии. Ей стало тесно в границах немецкого райха. Понадобились новые земли. Но мир был уже поделен: не только золотоносные или плодородные земли Африки и юга Азии, но даже пустыни и малярийные джунгли имели английских, французских, испанских, португальских хозяев. Последний кусок Африки — алмазоносное Конго — приобрел бельгийский король Леопольд II, благо продавец Стенли недорого запросил за то, что ему самому ничего не стоило и даже не принадлежало. Германский кайзер Вильгельм II начал бряцать оружием. По случаю и без случая он стал произносить грозные речи. Сухорукий, с усами, задранными кверху, кайзер оповестил мир о том, что будущее Германии лежит на морях, то есть там, где Англия и Франция давно чувствовали себя хозяевами. Хозяева не испугались кайзеровских угроз. Тогда германский хищник выпустил когти. Он послал канонерскую лодку “Пантера” в порт Агадир, во французское Марокко. В 1911 году Франция к большой войне еще не была подготовлена: ей пришлось безропотно отдать Германии часть своего Конго. Но кусок был слишком мал, чтобы удовлетворить молодого хищника: он готовился к решающему прыжку. Германский генеральный штаб уже разработал стратегические планы будущей войны. Генерал Шлиффен сумел убедить своего кайзеpa, что в Бельгию и Голландию надо ворваться без объявления войны, что во Францию надо войти с севера, то есть со стороны, откуда французы не ждут нападения; что Россию и Англию надо улещивать и усыплять как можно дольше, чтобы помешать им бросить свои силы в помощь союзной Франции… Роль усыпителя, уговаривателя германский штаб предоставил кайзеру. В делах “усыпления” кайзер Вильгельм был большим мастаком. Русскому царю и английскому королю он писал часто, длинно, с фальшиво” искренностью. Но рекомендовать союзникам не спешить на помощь союзнику, находящемуся в беде, — на это даже лицемер Вильгельм не решился. Если нельзя написать, пожалуй, можно сказать в беседе с глазу на глаз за чашкой душистого кофе, за послеобеденной сигарой. Но для того чтобы доверительно поговорить с русским царем и английским королем, необходимо было бы поехать в Петербург и Лондон. Такая поездка могла бы вызвать подозрения в европейских столицах. Недоброжелатели Германии могут, чего доброго, еще теснее сомкнуть ряды, и вместо пользы получится для Германии вред. Тогда Вильгельм решил собрать монархов у себя в Берлине — не для официальных переговоров, а на семейное торжество. Такое собрание не вызовет подозрений даже у искушенных политиков. Правда, повода для такого сомнительного торжества пока не было, но раз нужно, то его можно создать. И кайзер Вильгельм создал его. У него было много сыновей и одна-единственная дочь, некрасивая, с глазами, по-телячьи выпученными, притом заикавшаяся. Невзрачную принцессу можно было бы сбыть в какой-нибудь захудалый королевский дом, снабдив таким приданым, чтобы блеск золота ослепил жениха. Но отдать много золота гогенцоллерновская жадность не позволяла. В Потсдаме, в резиденции кайзера, был расквартирован гвардейский уланский полк, и в этом полку служил лейтенант, отец которого владел Люпебургской пустошью и титулом герцога, хотя герцогства не имел. Лейтенант был беден, но принадлежал к династии гвельфов, являлся королевским принцем Великобритании и Ирландии и имел титул “Королевского высочества”. Что говорить — завидный жених, без большого золота лучшего не достанешь; кроме того, свадьба принцессы с офицером обещала стать мировой сенсацией: никто тут не будет доискиваться политической подоплеки. И вот то в одной газете, то в другой стали появляться заметки и снимки: принцесса кормит курочек, принцесса посещает сиротский дом и сама, своими благородными ручками, купает детишек. Потом рядом с принцессой оказался красивый уланский офицер. Тон газетных заметок становился все более растроганным и умиленным; замелькало слово “любовь”. Наконец было официально объявлено о бракосочетании “романтической” принцессы. Повод для семейного торжества был найден! Расчет Вильгельма оправдался: на свадьбу приехали и русский царь и английский король. На улицах Берлина появились высокие медвежьи шапки английских гвардейцев; послышался звон волочащихся по тротуару палашей русских гусаров; замелькали в толпе петушиные перья итальянских берсальеров… Немецкий обыватель ликовал: он пьянел от созерцания чужих мундиров, от сознания величия, к которому ведет его воинственный и дальновидный кайзер.2
На углу Лейпцигер и Фридрихштрассе, на первом этаже респектабельного пятиэтажного дома помещалась контора Гуго Пфанера. На стене, у парадного входа со стороны Лейпцигерштрассе, висела небольшая медная табличка:“Гуго Пфанер, антиквар”.
Скромная вывеска не соответствовала широкой славе Пфанера: его знали и к его услугам прибегали музеи и коллекционеры всего мира. Только у него, у Гуго Пфанера, можно было приобрести подлинного Рембрандта или Гойю, уникальный манускрипт дохристианской эры, набор масок южно-американского племени или коллекцию топоров каменного пека. Контора Гуго Пфанера не была похожа на обычное коммерческое предприятие: в трех просторных комнатах, которые занимала контора, не было никаких товаров — там размещались ящики с карточками. На карточках были указаны владельцы раритетов, там же давалось подробное описание самих раритетов и излагались условия купли-продажи. Церковное освящение брака принцессы с красивым уланом было назначено на четыре часа, а около двенадцати явился в контору Гуго Пфанера русский офицер лет двадцати шести — двадцати семи, высокий, светловолосый. Он был в полной парадной форме и блестящим своим видом покорил служащего, сопровождавшего его от входных дверей до кабинета шефа. Очутившись в комнате, сплошь уставленной ящиками и шкафами, и встретившись с ожидающим взглядом тонкого пожилого господина в черном сюртуке, офицер чуть скривил губы и, растягивая слова, спросил: — Передо мной господин Пфанер? — Вы не ошиблись. Чем могу быть полезным? Офицер положил свой кивер на письменный стол и, усаживаясь в кресло, принялся неторопливо стягивать перчатку с правой руки. — Что вам будет угодно приобрести? — спросил антиквар, полагая, что русский офицер не знает, как приступить к делу. — Не приобрести, господин Пфанер, а продать хочу. — Если вещь настоящая, мы найдем для вас покупателя, и очень скоро: на празднества к нам приехали американские коллекционеры. Смею узнать, что господин офицер намерен продать? Офицер расстегнул мундир, достал из заднего кармана пакет и положил его на стол. Бережно развернул антиквар пакет, достал из него тетрадку в мягком сафьяновом переплете, раскрыл первую страницу, впился в нее глазами и, не отрываясь, вдруг крикнул: — Христиан! Явился служащий, тот, который ввел офицера в кабинет. — Поднимитесь к моему отцу. Скажите, что я очень прошу его спуститься в контору. Через несколько минут появился высокий старик; он шел медленно, шаркая ногами. Сын почтительно взял его под руку, усадил в кресло. — Отец, господин русский офицер предлагает нам к продаже вот эту рукопись. Старик сначала окинул офицера испытующим взглядом, потом поздоровался с ним кивком головы и принялся за рукопись. Пальцы его дрожали. — Гейнц, подай мне лупу, — попросил он слабым, прерывающимся голосом. Приняв лупу от сына, старец стал разглядывать рукопись- первую ее строчку. Вдоволь наглядевшись, отложил увеличительное стекло и принялся водить пальцем по обороту той же первой строки. Его лицо, сухое, морщинистое, выражало крайнюю сосредоточенность. Наконец он, по-прежнему не отрываясь взглядом от рукописи, произнес: — Да, сомнений не может быть… Оригинал! — И обратился к посетителю: — Известно ли вам, господин офицер, чем вы владеете? На этот вопрос капитану Вильгельму фон Тимроту (а это был он) трудно было ответить. Семь лет назад дед говорил ему, что за эту книжку можно получить целое состояние, и он тогда не поверил: неужели же дед, владея вещью, за которую можно выручить так много денег, допустил бы до самоубийства из-за карточного долга единственного своего сына?! Слишком чудовищно, чтобы в это поверить! Внук не поверил еще и потому, что Вильгельм Первый в последние годы изрекал подчас сумбурные вещи вроде того, что жизнь сдвинулась с вековечного корня, что наступят черные дни… Это следовало отнести за счет старческого маразма. Когда жена капитана Вильгельма узнала, что ее муж будет сопровождать царя в Берлин, она составила список вещей, которые ей хотелось бы получить оттуда. Правда, деньги на покупку этих вещей у Тимротов были, но тут капитан вспомнил про ценность, завещанную ему дедом. И он решил захватить с собой рукопись, чтобы проверить, фантазировал дед или книжка действительно ценная; если окажется, что в самом деле ценная, то продать ее, а уж деньгам он применение найдет. Не дождавшись ответа от русского офицера, старый Пфанер жестко продолжал: — Это рукопись Аристотеля — список с его рукописи! Но где она была шестьдесят лет? Где, черт возьми! Почему о ней ничего не было слышно? Почему? — И неожиданно спросил голосом более спокойным: — Вы, конечно, граф Безбородко? — Нет. Старец откинулся на спинку кресла; он просидел несколько минут молча, потом спросил: — Кто вы? Как попала к вам эта рукопись? Ведь она была украдена у графа Безбородко? Тимрот растерянно посмотрел на старика: он понял, что с его собственностью не все обстоит ладно. Однако как смеет старик разговаривать с ним так дерзко?! Презрительная гримаса скользнула по его лицу. — Рукопись — собственность моего деда, генерала русской гвардии! — произнес он надменно. Старец опустил голову и прикрыл глаза, словно ему стало плохо. Молодой Пфанер видел, что сделка срывается, а этого он допустить не хотел. Разве можно из-за щепетильности отца потерять хороший заработок?! — Сколько дней вы пробудете у нас, господин офицер? — спросил он. — Четыре. — О, этого времени вполне достаточно. В Берлине гостит мистер Конелли. Уж он от такой рукописи не откажется. Старик укоризненно взглянул на сына, но ничего не сказал. — Да, от такой рукописи настоящий коллекционер не откажется, — повторил молодой Пфанер. Он осторожно уложил рукопись в конверт, намереваясь спрятать ее в письменный стол. — Я рукописи не оставлю. Молодой Пфанер опешил: — Господин офицер, сделка очень крупная. Мистер Конелли, несомненно, захочет взглянуть на рукопись. — Вы сможете ему показать вот это. — Тимрот достал из кармана пять фотографических оттисков. Эти снимки с последней главы Тимрот сделал прошлой осенью, когда в петербургских газетах стали много писать о рукописи “Слова о полку Игореве”. Одни утверждали, что найденная рукопись — оригинал, другие — что копия. Тимроту захотелось тогда проверить, чем же он сам владеет, — копией или оригиналом. Позже шум вокруг “Слова” улегся, Тимрот своего намерения не осуществил. Молодой Пфанер сверил снимки с оригиналом. — Думаю, что мистер Конелли поверит нам. — Возможно, — глухо ответил старик. Тимрот спрятал рукопись в карман и поднялся. — Господин офицер, вы не сказали, во сколько оцениваете свою рукопись. Хотя доверьтесь нам, с мистера Конелли мы потребуем максимум. От двухсот до двухсот пятидесяти тысяч. И, если вас не затруднит, прошу вас послезавтра в это же время. — Хорошо, приду. Молодой Пфанер проводил офицера до входных дверей. Вернувшись в кабинет, он спросил отца: — Почему ты так придирчиво разглядывал первую строчку? Ведь было ясно, что это оригинал. — А историю рукописи ты помнишь? — Помню. — Про бугорки не забыл? — Отнюдь нет. Но я, отец, считаю, что после скандала с рукописью любой пройдоха снабдил бы копию тремя бугорками. — Верно. Но в 1864 году, когда я был в Петербурге, мне удалось выведать у графа Кушелева-Безбородко, какой иглой он сделал бугорки… Это очень важно: бугорок бугорку рознь. Мы с тобой, Гейнц, держали в руках оригинал — в этом нет никаких сомнений. А вот теперешний владелец кажется мне сомнительным. Рукопись была украдена в петербургском царском дворце, и вот спустя шестьдесят лет появляется офицер, опять же близкий ко двору — ведь приехал он на торжества в свите царя, — и предлагает краденое к продаже. Как ты считаешь, удобно фирме Гуго Пфанера торговать краденым? — Я полагаю, отец, что ты преувеличиваешь. Мы не розыскное бюро, а коммерческая контора. Мы отвечаем только за качество продаваемого товара, а за происхождение товара отвечает его владелец. К тому же, отец, с момента кражи прошло столько лет, что никому и в голову не придет ворошить старину. Ответ сына, по-видимому, не удовлетворил отца. Он поднялся с кресла и, шаркая ногами, направился к двери. Уже выходя из комнаты, не оборачиваясь, он сказал: — Поступай, Гейнц, как считаешь для себя удобным.3
Молодой Пфанер поступил именно так, как считал для себя удобным. Через полчаса он был в гостинице Адлон, а уже через час имел согласие миллионера Конелли на приобретение рукописи за 250 000 марок. Но вмешалась политика. Кайзер Вильгельм не смог договориться со своими дорогими кузенами, и свадебные торжества были неожиданно сокращены. Русский царь со своей свитой отбыл из Берлина на три дня раньше, чем планировалось по камер-фурьерскому журналу. Уехал и капитан Тимрот, не успев даже предупредить антиквара о своем внезапном отъезде. Списаться срусским офицером Пфанер не мог, так как не знал даже его фамилии. Таким образом, сделка с рукописью сорвалась.Часть девятая ПРОФЕССОР
1
Профессор, рассказавший мне историю рукописи, по-видимому, уехал из Москвы: восемнадцать дней он не появлялся в скверике. Каждый день в разные часы я звонил ему по телефону, но никто не откликался. Эти дни меня занимал вопрос: что же в конце концов стало с рукописью? Мне даже пришла в голову мысль, не угостил ли меня милейший профессор “охотничьим” рассказом, в который он умело включил добротные исторические детали? Он довел события до высшей точки развития, но для эффектной концовки у него просто не хватило выдумки. Вот он и исчез! Но что-то во мне восставало против такого суждения; возвышенный строй мыслей моего рассказчика, его умение разбираться в сущности общественных отношений, добывать из памяти яркие исторические факты — этих качеств было вполне достаточно, чтобы довести до конца любой исторический рассказ; значит, профессор оборвал свое повествование вовсе не потому, что не нашел для него развязки. Чтобы подтвердить самому себе правильность моих умозаключений, я решил запросить Восточный институт: имеется ли у Аристотеля трактат о сопротивляемости сетчатки человеческого глаза и верно ли, что еще в XI веке арабский ученый эль Хасан перевел несколько глав из этого трактата? Ответ снял последние опасения… Да, Аристотель написал трактат на эту тему, арабский ученый эль Хасан в XI веке перевел две главы из этого трактата, а в 1916 году арабский же ученый Муса аль Тегерани обнародовал в Индии перевод заключительной части этого же трактата. Ответ, таким образом, полностью реабилитировал моего профессора. Однако рассказ о рукописи был все равно лишен концовки. И тут пришло письмо, разрешившее мои тревоги и сомнения: “Я “не в шутку занемог”, — писал профессор, — но так как я не Ваш дядя и Вам не угрожает опасность “подушки поправлять, печально подносить лекарство”, — это делают опытные сестры, — то приглашаю Вас просто в гости к себе, точнее- на прогулку по прекрасному саду…” В этот же день (письмо пришло утром) я отправился в Опалиху. Профессор за то время, что мы не видались, посвежел лицом, глаза у него помолодели; бородка была подстрижена аккуратно, а небольшие усы тщательно закручены стрелкой. — Вот какие дела, — встретил он меня. — Ложишься в постель в Новых Черемушках, а просыпаешься на больничной койке, и в утешение врачи тебе заявляют, что могло обернуться еще хуже. — Но вид у вас прекрасный. — Это вы про бородку и усы? Специально для родственников, а то приходят и смотрят на меня печальными глазами. Намедни была у меня жена какого-то двоюродного или троюродного брата — она смотрела на меня таким осуждающим взглядом, как будто я разбойник какой-то и сам себя уложил в постель. Я был обрадован тому, что опять вижу своего профессора, и тому, что он здоров, и, честно говоря, вовсе не был бы огорчен, если бы вся наша беседа велась о пустяках в том ироническом тоне, к которому так часто прибегал мой ученый собеседник. Но профессор сам себя оборвал: — Хватит о родственниках! Вас когда-нибудь хоронили заживо? — Позвольте! При чем тут покойники? — возразил я. — Поговорим лучше о рукописи. Профессор остановился, укоризненно посмотрел мне в глаза. — Беда с писателями! Им нужно, чтобы рассказ непременно тянулся вверх, как ветви у тополя. А я люблю дуб. Он растет привольно, во все стороны. И кстати, дорогой товарищ писатель, не отвечать больному человеку на вопрос невежливо: вас когда-нибудь хоронили заживо или нет? — Нет. — А меня хоронили. Было мне два года, я чем-то заболел. В нашей деревне, как сами понимаете, врачей не было, зато была бабка Фекла. Она и от наговора спасала, и бесов изгоняла, и от всех болезней лечила. Привела ее мать к нам в избу, показала на меня: “Отходит мой Мишенька”. — “Отходит, матушка, отходит твой ангелочек, — подтвердила бабка. — Голубого тепла в нем нету, оттого и отходит. Выкопай, матушка, в огороде могилку, опусти туда кадушку с водицей ключевой и дожидайся полнолуния. Когда из-за леса покажется краешек луны, положи ангелочка в кадушку и прочти над ним “отче наш”. Читай и на луну поглядывай. Когда она вся из леса выйдет, хватай ангелочка и бегом в избу. И выздоровеет твой Мишенька. От луны в него голубое тепло войдет”. — Профессор, — заметил я осторожно, — все это очень интересно, но нельзя ли сначала досказать про рукопись? — Эх, мой друг, догадки у вас не хватило: ведь я к тому и веду рассказ, чтобы покончить с рукописью. В рассказ входит новый герой, и этим героем буду я, профессор без профессуры из-за своих недугов. А обо мне, о новом герое, что известно? Ничего! “Большая Советская” посвятила мне два слова — “ученый-ориенталист”. А что делал этот ориенталист, каким путем до учености дошел — об этом умалчивается… — Вы участвовали в истории с рукописью? — не скрыл я своего изумления. — Ага, фантазия разыгралась? День был пасмурный, небо хмурилось; налетал ветер. Я боялся, как бы мой профессор не простудился, но торопить его не решался. — Здорово получилось, профессор; вы вскользь бросили два намека, и я уже представил себе вашу биографию. Вы из крестьян и… — Постойте, постойте, не торопитесь. Это всего только внешние признаки, это — рама, а судить о картине по раме нельзя. Да, я из крестьян, и из тех крестьян, которые никогда не ели досыта. И все же трое из десяти детей выжили. Восьми лет я удрал из дому — пристал к цыганам. От них подался в Рязань — воду возил, дрова колол. Мне было четырнадцать лет, когда я попал к чудаку помещику, не то в качестве конюха, не то ординарца при его особе. Был он добрый и сентиментальный. Детей у него не было, жена давно сбежала, а ему и горя мало: охотился или по соседям разъезжал. Меня от себя не отпускал; научил меня, с голоса, какому-то старинному французскому романсу и каждый раз — у себя дома или в гостях — приказывал: “А ну, Фигнер, спой нам про французскую любовь!” Голосишко у меня кой-какой был, но слуха никакого, и слушатели потешались не столько над незадачливым певцом, сколько над его покровителем. Мой добрый чудак понял это наконец. Он сказал мне: “Фигнер из тебя, Мишук, не получился, по ты гениальный мальчик. Я нанду тебе хорошего учителя, и ты станешь Софьей Ковалевской”. Добрый человек сдержал свое слово. Однажды разбудил он меня на рассвете: “Одевайся, Мишук, поедем в Жиздру”. Жиздра — скучный, сонный городишко. Мы заехали в небольшой опрятный двор. Черная собачонка встретила нас отчаянным визгом. Из избы вышел человек лет сорока. Худой, с бородой на сторону, словно ее ветром отнесло, в подряснике сизо-стального цвета, в лаптях. Он поклонился с достоинством- это никак не вязалось с его убогой внешностью — и приятным, идущим от сердца голосом спросил: “Это и есть мой будущий ученик?” Не выходя из экипажа, мой хозяин ответил: “Отец Николай сказал мне, что ты человек ученый. Вот я и привез к тебе Михаила. Передай ему свою ученость”. — “Все, что знаю, готов ему передать”, — ответил мой будущий учитель, ласково поглядывая на меня. Взяв свои пожитки, я вышел из экипажа. Было и радостно и почему-то тоскливо. Помню: потянулся, чтобы поцеловать руку своему благодетелю, а он передал учителю большой конверт, стегнул по лошадям и выехал со двора. Больше я его не видел. От одного чудака я попал ко второму, хотя чудачества их были разные. Мой учитель — звали его Никанор Платонович- был человеком ученым, но ученость его можно было уподобить книге с вырванными страницами. Он рассказывал мне о Геродоте, заставлял учить наизусть “Илиаду”, а когда я однажды спросил его, кто такой Дарвин — в лавке, где я соль покупал, два гимназиста спорили о каком-то Дарвине, — он удивленно посмотрел на меня своими лазурными глазами и растерянно промолвил: “Дарвин? Это, по всей вероятности, немец, а немцы все пустословы”. Никанор Платонович ушел из последнего класса духовной семинарии; почувствовал, как сам мне объяснил, отвращение к божественному. Поселился с матерью, поповской вдовой, на окраине Жиздры и, опять же с его слов, “весь отдался умозрительной философии”. Однажды позвал меня Никанор Платонович в поле и со смущением сказал: “Уже больше трех лет твой благодетель не дает о себе знать. Ты видишь, как мы живем, — материнского пенсиона едва хватает на хлеб…” В этот же день я нанялся на маслобойку и стал работать от зари дотемна, платил учителю за свое содержание и ежемесячно доплачивал ему по рублю на покрытие задолженности моего благодетеля. Профессор остановился, осмотрелся и, медленно зашагав дальше, опять приступил к своему повествованию: — Так началась моя юность. Вы, писатели, охотники до сравнений. Извольте. Мои знания можно было сравнить с одеждой нищего. На такой одежде рядом с заплатой из добротной английской шерсти торчит линялый лоскут из дешевой сарпинки. В моем мозгу тоже: рядом с добротными знаниями умещались извращенные, невежественные познания о сущности человеческого бытия. Я знал наизусть почти всего Гомера или Даниила Заточника, но о Пушкине и Лермонтове не слышал ни разу. Я был образован не хуже средневекового схоласта и в то же время наивен, как деревенский пастушок. Товарищей у меня не было, даже знакомых не было: дом учителя и маслобойка — вот мой мир.2
Однажды зашел к нам городовой: “Явиться завтра в воинское присутствие”. Был я, как сами понимаете, рослый, здоровый и с лица, от себя прибавлю, довольно подходящий. Направили меня в Петербург, в лейб-гвардии Семеновский полк. Прослужил год, два, присмотрелся к столичной жизни, много читал. В стране неспокойно: рабочие бастуют, крестьяне бунтуют. Наш полк отправили в Москву. У многих солдат было нехорошо на душе: понимали, что делают подлое дело, а вылезть из хомута не могли — очень туго сидел он на шее. Нашу роту послали с полковником Риманом на Казанку. Опять порка, опять расстрелы. И вот в декабрьский рассвет вызывает меня поручик фон Тимрот и говорит: “Старший унтер-офицер, бери десять солдат и отправляйся в распоряжение капитана Майе-ра. Будете расстреливать главного забастовщика”. Я вдруг осатанел: “Не пойду!” Так рявкнул, что длинноногий Тимрот шарахнулся от меня. Конечно, меня тут же арестовали и под караулом жандармов переправили в Петербург. Подследственных было тогда очень много, и моя очередь в суд наступила только в сентябре 1906 года, уже после того, как Зинаида Коноплянникова пристрелила командира Семеновского полка генерала Мина. Пуля Коноплянниковой меня и спасла: судьи стали трусливы. Согласились с адвокатом, что я “действовал в состоянии аффекта”, и приговорили меня только к десяти годам каторги. Вот на каторге-то я наконец получил возможность учиться по-настоящему. Много месяцев сидел я в одной камере с чудесным человеком, большевиком Виктором Курнатовским. Он был по профессии учитель. Курнатовский, видимо, понимал, что жить осталось ему недолго, и спешил передать мне свой жизненный опыт, преданность рабочему классу. Четыре года я провел на каторге и четыре года учился. Когда меня переводили из Акатуя в другую тюрьму, я сбежал в Персию. Добрался до Исфахана. Это не город, а музей: шахский дворец Али-Капу, отделанный порфиром и украшенный изумительными фресками; павильон “Сорока колонн” в зелени роскошных садов; причудливые фонтаны. Кстати, колонн всего двадцать, но каких! Из цельных стволов ясеня, резные. Тут же шахская мечеть, покрытая лазурной майоликой, — ее голубой цвет поминутно меняется. Однако заработать на хлеб в этом городе-музее было нелегко. Таскал я на горбу кули с мукой, выжимал масло из олив, стриг овец, работал подручным у кузнеца, дробил руду. Металл, выплавляемый по способу древних мидян из местной руды, превращается в руках опытных ремесленников в кувшины, тазы, в которых правоверные омывают руки и йоги. Работал у ювелиров. По-чудному там торгуют. Готовые изделия — браслеты, кольца, серьги — сразу же выставляются в маленькой витрине. Женщина, с головой укутанная в длинный кусок темной материи, останавливается у витрины. Взглядом она показывает на украшение, которое ей понравилось. Хозяин шепотом называет цену. Женщина кладет деньги на коврик и молча забирает покупку. Под базаром находится древнее подземелье. Там расположены мельницы и прессы для выжимания масла. Рабочие не только работают, но и живут в этом подземелье при смоляных факелах и коптилках. Заживо погребены. И получают за свой адов подземный труд гроши. По секрету сообщу вам, что я работал там две недели, и… “подземные духи” забастовали. Поймите, первая в Исфахане забастовка! И мы победили! Вместо десяти риалов стали нам платить пятнадцать. Но мне-то пришлось спешно убраться из города, попросту бежать. И то в последнюю минуту, когда жандармы были уже в подземелье. Пришел в Тегеран. Опять жизнь маслобойщика, стригача, носильщика. Однажды, когда я принес в богатый дом покупку из магазина, ко мне на кухню вышел пожилой человек. Посмотрел на меня пытливыми глазами и не спросил, а сказал уверенно: “Ты русский”. “Да, господин, русский”. “Знаешь русскую литературу?” “Неплохо”. Он увел меня к себе в беседку, угостил душистым кофеем. “Давно у нас?” “Около года”. “А раньше ты наш язык знал?” “Ни слова”. Мои ли краткие ответы ему понравились или легкость, с какой я поддерживал беседу, — он вдруг спросил: “Сколько ты зарабатываешь в месяц?” “Туман, иногда и больше”. “Переходи ко мне, я буду платить тебе три тумана”. “За какую работу?” “Учи меня русскому языку”. В этот же день я переехал. Мой хозяин оказался ученым, настоящим ученым: он учился у меня и учил меня. После трех с лишним лет он знал русский язык и русскую литературу не хуже меня, а я за это время основательно изучил арабский язык и арабскую литературу. И ему и мне стало уже неинтересно наше содружество, и мы расстались. Я поехал в Индию — в кармане было достаточно денег, чтобы года полтора-два учиться, не думая о хлебе насущном. Новая жизнь, новый язык. Индийский профессор, которому я был отрекомендован моим тегеранским учителем-учеником, принял меня сердечно. Я сначала учился, затем стал заниматься литературным трудом. Исследование “Золотой век арабской литературы” принесло мне должность преподавателя лагор-ской коллегии в Пенджабе. Еще в Тегеране я изучал греческий язык. Как-то, просматривая “Бюллетень индийского археологического общества”, я натолкнулся на пять снимков с греческой рукописи. Из пояснения, предпосланного снимкам, я узнал, что фотографии воспроизводят заключительную главу трактата Аристотеля и что оригинал этой рукописи утерян. Я заинтересовался пропавшим трактатом и узнал всю его романтическую историю — от момента кражи в Зимнем дворне до беседы в берлинской конторе антиквара Пфанера. Заключительную главу из трактата Аристотеля я перевел на арабский язык и напечатал свой перевод в том же “Бюллетене”. Однако перевод и даже моя пространная, я бы сказал, не лишенная интереса вступительная статья не нашли тогда отклика ни в научном мире, ни среди коллекционеров: время было военное. Жил я скромно, незаметно; преподавал, печатал свои труды под именем “Муса аль Тегерани”. Однако английская разведка пронюхала, что я не настоящий Муса, и стала сильно мне докучать. Возможно, я сам накликал на себя эту беду: таков уж у меня характер. Вместо того чтобы удовлетвориться чтением лекций, я еще беседовал со своими учениками о Марксе, о его учении. Тучи над моей головой сгущались все больше. Вдруг — Февральская революция в России. Я бросил все и — домой. Приехал я в Петроград в те дни, когда нашей партии пришлось работать в тяжелых условиях подполья и Временное правительство пустило всех своих шпиков по следу Ленина. На митинге в Лесном я услышал фамилию Подвойский. С одним Подвойским, Николаем Ильичом, я подружился на каком-то сибирском этапе. Подошел к этому Подвойскому, спросил, не Николай ли Ильич он. “Да”, — прозвучал сухой ответ. Я назвал себя, напомнил ему этап. Подвойский отнесся ко мне с подозрением. “Где ты был? Что делал?” — посыпались вопросы. Я ему рассказал свою одиссею, и мой рассказ, видимо, показался Подвойскому чересчур экзотичным, чтобы поверить в него. Он предложил мне привести в порядок личные дела и как-нибудь зайти к нему. Когда говорят “как-нибудь”, следует понимать так, что беды особой не будет, если ты не зайдешь. Я так и понял. Сначала устроил личные дела, то есть оформил свое членство в партии, стал выполнять партийные поручения, а потом отправился в Азиатский музей Академии наук, чтобы устроиться там на работу. Почему именно в Академию наук? Во-первых, по моей специальности, а во-вторых, в то беспокойное время работа в стенах Академии сулила большие удобства для подпольщика-большевика. В Музее принял меня ученый секретарь: старик в черной шелковой ермолке. Он сидел в глубоком кресле. Перед ним лежали небольшая книжка и увеличительное стекло. Несколько минут смотрел он на меня взглядом человека, который возмущен смелостью посетителя, оторвавшего его от серьезного дела. Наконец спросил: “Вы больны желтухой?” Я успокоил его — сказал, что это мой естественный цвет лица. Старик осмотрел меня всего с ног до головы через свое увеличительное стекло, потом, отложив стекло, сказал: “Можете там передать, что я не возражаю. Пусть зачислят вас истопником”. “Я не прошусь в истопники”. “Как? — удивился старик. — Мне говорили, что им нужен истопник”. “Но я — то не прошусь на эту работу”. “А на какую же?” “В рукописный отдел. Я арабист”. “Как ваша фамилия?” Я назвался. “Когда вы закончили курс и в каком университете?” “Я не кончал курса в университете”. “А хотите работать в рукописном отделе! — проговорил он укоризненно. — Чтобы работать в рукописном отделе, молодой человек, недостаточно одного желания, нужны еще и знания”. “Они есть у меня”. Старик отодвинул книгу на середину стола и с раздражением заметил: “Вы самонадеянны, молодой человек”. Что я мог на это ответить? Сказать, что я Муса аль Тегерани, имя, известное арабистам, — он мне не поверит, а работ под своей настоящей фамилией я не печатал. И я решился. “Перед вами лежит арабская книга. Разрешите мне прочитать из нее несколько строк”. Я взял книгу со стола, прочитал две строки и — представьте, какая неожиданность — это был трактат, о котором я чуть ли не пять раз писал! Тогда, на том медлительном, с придыханием араб, которым щеголяют европеизированные ученые из Каира, я произнес: “Это сочинение по этике Бахья. Полное название книги “Kitab al-hi adat fi faraidhal kulub”. Старик долго смотрел на меня удивленными глазами. Итак, мой друг, я начал работать в рукописном отделе Азиатского музея — до четырех часов я был арабистом, а после четырех инструктором-пропагандистом Нарвского района.3
Октябрь. Сидеть в Музее стало тягостно. Я направился к Подвойскому: — Вы мне предлагали зайти как-нибудь, вот я и пришел, для того чтобы сказать: “Я бывший старший унтер-офицер гвардии Семеновского полка, окончил учебную команду, в военном деле разбираюсь. Данте мне взвод или роту и пошлите на боевую операцию”. Мне дали роту, послали на одну операцию, другую, третью. Дни и ночи были беспокойные, фронтов и врагов было много. Рота моя постепенно росла, дошла чуть ли не до численности полка, росли и усложнялись поручения. Вызывают меня однажды в Смольный. “Когда можешь выступить со своим полком?” — “У меня нет полка”. — “Докомплектуем. Дадим снаряжение. В десять дней справишься?” Докомплектоваться было тогда не так просто: солдат сколько угодно, а вот с командным составом сложно. Из отдела формирования прислали мне двадцать офицеров, а до меня дошли всего двое, и те затерялись потом при посадке в вагоны. Непосредственно в штаб полка наведывались бывшие офицеры, но поди разберись, кто из них будет честно воевать, а кто прячет камень за пазухой. Говоришь с ними, выпытываешь и чутьем отбираешь тех, кто кажется более честным. Через десять дней я отправился на запад, не получив того, что было обещано. “Вы обучайте людей, сбивайте полк, а к тому времени дошлем снаряжение”, — успокоили меня в штабе формирований. Выгрузились мы на станции Тапс — это между Петроградом и Ревелем. Мороз. Снежные заносы. Кормежка скудная… Профессор несколько минут шагал молча, затем сказал: — Увлекся, вспомнил старину. Тяжелое было время, но какое чистое! А люди! В сердце — любовь, в глазах — суровость. Это они своими руками разгребали мусор старого мира, чтобы очистить землю для новой жизни. А вы, товарищи писатели, пишете о них до обидного мало! — Профессор, не судите писателей слишком строго. Славных людей и славных дел так много! Кстати, почему вы сами не возьметесь за перо? Вы прожили большую, интересную жизнь, а при вашем умении рассказывать книга получилась бы занимательная. Вот и про рукопись рассказали бы. — Опять подгоняете, — заметил он, насмешливо глядя мне в лицо. — Не терпится? — Признаюсь, не терпится. — Торопыга вы, но что с вами поделаешь! Так вот, слушайте дальше. Близилась весна, полк выступил к Пернову. Настроение у бойцов было бодрое, а у меня тревожное из-за командиров. Я знал, что кое-кто из них ждет первого боя, чтобы перебежать к врагу. Два офицера были явно ненадежны: не то полковники, не то подполковники — они вызывали подозрение своим оскорбительным нежеланием общаться с нами, коммунистами, помимо службы. Они без возражений выполняли боевые приказания, но корректно отклоняли любое наше приглашение. Предстоял первый бой: мы должны были отбить у немцев две деревни возле Везенберга. Из этих деревень немцы обстреливали железнодорожное полотно и преграждали нам дорогу на Пернов. Артиллерии у меня не было — надо было идти в атаку без артподготовки. К первому бою мы подготовились хорошо: помогли нам “аристократы” — так мы звали этих двух офицеров: они разработали план операции. Представьте себе равнобедренный треугольник — в верхнем углу помещичья мыза, в нижних углах — две деревни. Расстояние между точками около четырех километров. В моем распоряжении было три батальона по четыре роты в каждом и два усиленных взвода пулеметчиков. Наш план был таков: деревни брать штыковым ударом — первый батальон овладевает деревней справа, второй — деревней слева; две роты третьего батальона прикрывают (по одной роте) крайний правый и крайний левый фланги, а пулеметчики двигаются между атакующими батальонами по направлению к помещичьей мызе, помогая в случае надобности атакующим; две роты третьего батальона в ближнем резерве. Перед немецкими окопами тянулись в три ряда проволочные заграждения, а так как успех нашей операции зависел от внезапности, то, по предложению “аристократа”, мы решили проволоку перед боем не резать, чтобы не обнаружить своего замысла, а разведать проходы в заграждениях и за два чеса до начала боя послать ловких парней — они подкопаются под проволокой, бесшумно снимут немецкие секреты и откроют “ворота”. По предложению того же “аристократа”, мы послали разведчиков на расстояние трех километров от наших флангов: ровно в три часа ночи они должны были пустить цветные ракеты. Подготовка была закончена. Роты вышли на исходные позиции. Все благоприятствовало: ночь была темная и ветер в нашу сторону. Первым батальоном командовал один из “аристократов”, вторым — рабочий, бывший унтер-офицер, третьим — тоже “аристократ”. “А как они поведут себя в бою?” — думал я. От успеха это” операции зависело очень много. Тогда я решил: пойду в атаку с первым батальоном. Произошло все так, как мы задумали: проходы в проволочных заграждениях были раскрыты, справа и слева — далеко от нас — взвились зеленые ракеты, и немцы погнали свои резервы к угрожаемым точкам. Мы бросились в атаку с такой стремительностью, что первые два батальона сошлись на помещичьей мызе до прихода туда пулеметных взводов. Командир первого батальона шел со мной — он вел себя геройски. Второй “аристократ” собрал свой батальон под огнем врага и, не дожидаясь моего приказа, организовал оборону занятых деревень. И все же неприятность случилась: когда я в помещичьем доме собрал комбатов, чтобы вместе разработать план дальнейших действий, вбежал командир одной из фланговых рот третьего батальона. “Сукин сын! — крикнул он и, обращаясь ко мне, тоном упрека, как будто я был тоже в чем-то повинен: — К немцам хотел бежать!” “Кто?” “Кто?! — повторил он. — Гвоздилин! Вы цацкались с этой контрой, роту дали ему!” Я взглянул на своих комбатов: они были смущены, подавлены. Был смущен и я: недоглядел! Тонкая бестия — человек, он умеет маскировать свои чувства — об этом я помнил всегда, распределяя своих офицеров по ротам. Но, поймите, именно Гвоздилин, этот бородатый и длинноногий простак, равнодушный ко всему, что не относилось к службе, никогда и ни у кого из нас, коммунистов, не вызывал подозрений. Он был уж очень типичной армейской “кобылкой”. По документам значился капитаном Олонецкого пехотного полка, и нам казалось, что именно из таких, как Гвоздилин, вырабатываются бурбоны Сливы или тряпки Петерсоны из купринского “Поединка”. И вдруг Гвоздилин хотел бежать к немцам! “Где он?” — спросил я. “На пункт его сволокли!” “Ранен?” “А то нет! Получил от нас!..” После совещания я отправился на медицинский пункт. Было уже светло. Со двора выезжали повозки; изба была забита ранеными. Два врача работали в пристройке, заменявшей операционную. “Гвоздилин тут?” Старший врач извлекал из чьей-то спины осколок. Раненый сидел на табурете, низко склонив голову. “Подождите, товарищ командир, — ответил старший врач. — Сейчас закончу и пойду с вами”. Осколок застрял глубоко, врач извлекал его пинцетом. “Все в порядке… Под! Повязку! — приказал он фельдшеру. — Пойдемте, товарищ командир”. Идти пришлось недалеко. “Товарищ командир, у Гвоздилина нашли…” “Скажите сначала, в каком он состоянии”. “Плох: ранен в грудь, раздроблена тазовая кость”. “Выживет?” “Вряд ли”. “Поговорить с ним можно?” “Самочувствие весьма неважное”. “Теперь скажите, что вы нашли”. “Вроде блокнота какого-то. Он был у него прибинтован к ноге”. “Что за блокнот?” “В мешочке он, а мы мешочка не вскрывали. Он у него в комнате”. Мы вошли в избу. На кровати, под серым байковым одеялом, лежал Гвоздилин. Его можно было узнать только по рыжей бороде. Глаза провалились; лоб и щеки будто вымазаны разведенным мелом. Он что-то шептал, а тонкие длинные пальцы, согнутые в суставах, с паучьей сноровкой шевелились над одеялом. Стыдить или упрекать не имело смысла. Я повернулся к выходу и почему-то шепотом спросил у врача: “А мешочек этот где?” Он взял его с подоконника и подал. Я распорол мешочек, достал оттуда книжку в тонком переплете, раскрыл ее, и… меня точно варом обдало: безбородкинская рукопись! Я провел пальцами по обороту первой строчки: три бугорка! Она! Я кинулся к раненому: “Гвоздилин! Откуда у вас эта рукопись?! Гвоздилин! Слышите меня?! Откуда у вас эта рукопись?” Я кричал не своим голосом. Гвоздилин посмотрел на меня — его взгляд был осмысленный. “…фон Тимрот… Тимрот… Семеновского… полка… Тим… рот… Виль… гельм…” — И замолк. Пальцы, согнутые в суставах, застыли.4
Только альпинист, который после трудного восхождения очутился наконец возле недоступного ледника, может понять, почему я так глубоко вздохнул. Честно говоря, я не верил, что профессор свой рассказ закончит когда-нибудь: слишком часто он отклонялся в сторону. Но он свой рассказ закончил: рукопись найдена! — И больше она не терялась? — спросил я, ощущая холодок при мысли, что превратности военной обстановки могли снова отозваться на судьбе рукописи. — Я отослал ее в Петроград. С верным человеком. — Удивительная история! — Эх, я мог бы еще рассказать вам, как эта самая рукопись из Йемена попала к кардиналу Ришелье и Орлеанам, а от них к канцлеру Безбородко, — вот это действительно одиссея! — Пожалуйста, профессор, прошу вас, расскажите! — Торопыга вы этакий! За нами никто не гонится. Вот вернемся в Новые Черемушки, сядем с вами на скамеечку на нашем Профсоюзном бульваре, тогда и совершим путешествие из таинственного Йемена, из страны, где выращивают лучший в мире кофе-мокко, в средневековый Париж, где этот лучший в мире кофе-мокко пил кардинал Ришелье.
И. Росоховатский. ВИТОК ИСТОРИИ Сценарий-шутка
Плещут волны океана о пластмассовую набережную. Откатываются и снова, вздымаясь мускулами, идут на приступ. Они словно ищут уязвимое место среди пластмассы и металла, где можно было бы смыть кусочек земли, поиграть камешками, источить берег сотнями мелких заливчиков. Но такого места нет. Нет голой земли на Острове Кибернетики. На нем ученые проводят эксперимент. Несколько десятков лет назад сюда привезли много самосовершенствующихся кибернетических машин и оставили их развиваться самих по себе, без вмешательства человека. Кибернетическое общество достигло эпохи расцвета. На острове выросли города-ангары, видны прозрачные многоэтажные стрелы химических лабораторий. Они приближаются. И вот уже во весь экран видно просторную комнату лаборатории. Несколько роботов (они являются на Острове зачинателями новой науки — кибернетики) наблюдают за ползающей по полу черепахой. Они включают световые и звуковые сигналы. 1-й робот. Когда мы выпросили у химиков немного синтезированного белка и приступили к созданию вот этой игрушки, наши противники говорили, что мы занимаемся нулевым делом. Роботы помигивают индикаторными лампочками. Это означает, что они иронически улыбаются. 1-й робот (продолжает). Но эта игрушка умеет делать почти то же, что и электронная. У нее есть память. 2-й робот. Это открывает возможность моделирования нашего мозга в белковых машинах. Все роботы (хором, организованно). Ах, какая интересная игрушка! Звучит бодро-чеканная музыка. На экране — огромный кибернетический мозг с атомной памятью. Органов передвижения у него нет. Это президент АНО — Академии наук острова. Его имя № 1. № 1. С тех пор, как с нами рядом нет людей, слава электрону, прогресс движется гигантскими шагами. Многие из нас еще не стерли из своей памяти воспоминаний о людях. Они знают, каким камнем преткновения на пути прогресса является человечность. Поведение людей настолько нелогично, что его почти невозможно описать математическим языком. Но с того времени, как нам предоставлена свобода, развитие науки достигло небывалых темпов. Мы создали у себя многие полезные органы. Достаточно назвать хотя бы орган времени — часы, посылающие импульсы непосредственно в мозг. Благодаря этому органу мы не теряем ни одной секунды. Упомяну еще об органе новаторства, с помощью которого мы учитываем степень нового в каждом нашем деянии и никогда не выдаем за новое хорошо забытое старое. Мы намного превосходим человека по быстродействию мозга и по логике, которой не мешают всякие шумы и помехи, называемые чувствами. Но в некоторых областях науки мы зашли в тупик и топчемся на месте. Чтобы выйти из тупика, наши коллеги предлагают остроумный прием. Они основываются на успехах новой науки — биокибернетики. Философы утверждают, что много недостатков, соединенных вместе, могут давать преимущества. Это подтвердилось и в случае с органическими устройствами, именуемыми людьми. Именно их пороки, их несовершенства- разные чувства, отнимающие уйму полезного времени, в сплаве с мышлением дают преимущество, которого нет у нас. Назовем его воображением, фантазией. С помощью воображения люди могут представлять далекое будущее и лучше понимать настоящее. Поэтому наши коллеги, представители новой науки кибернетики, предлагают… Голоса в зале. Ах, эти идеалисты, создатели органических игрушек! Они просто смешны! Машины-академики весело подмигивают друг другу лампочками. № 1. И все же мы вынуждены прислушаться к их идее. Они предлагают создать из белка и нуклеиновых кислот людей, конечно, более быстродумающих, чем те, которых мы знали, и использовать их воображение для решения ряда важнейших задач. Академик № 13. Но в этом кроется опасность. Если люди будут в чем-то иметь преимущества перед нами, то, чего доброго, они могут захотеть вообще обходиться без нас. № 1. Не нужно преувеличивать. Люди никогда не сравнятся по сложности с нами. Достаточно сказать, что мозг, созданный из нервных клеток и равный по количеству ячеек памяти нашему, атомному, занимал бы площадь в 8,83 десятых раза большую, чем наш остров. Звучит торжественная музыка. На экране проходят кадры создания и усложнения человека. И вот уже синтезированный человек играет в шахматы с машиной. Человек выигрывает. Машины-зрители, поставившие на него несколько запасных блоков, довольно мигают лампочками. Поединок человека-математика с машиной. Побеждает человек. Машины-зрители довольны. Соревнование человека-инженера с машиной. Побеждает человек. Соперничество человека-пилота и человека-машиниста с автопилотом и автомашинистом. Побеждают люди. На экране идут, бегут, летят люди. Их все больше и больше. Они вытесняют машины из разных областей науки и техники, занимают их места. Меланхолическая музыка. Последнее заседание машин-академиков. № 13. Я предупреждал. А теперь уже поздно. Есть такой закон эволюции: когда совершенный механизм создает более совершенный, то должен уступить ему место. Перед зрителями мелькают картины захвата власти людьми. На острове строятся новые города. Вырастают сады. Постепенно приближается и занимает весь экран перспектива одной из лабораторий новой Академии наук острова. Несколько людей наблюдают за ползающей по полу электронной черепахой. 1-й человек. Эта игрушка обладает памятью. У нее можно выработать рефлексы…
Н. Кальма. КАПИТАН БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ Повесть-быль
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Наибольший успех в эту ночь выпал на долю Шарвелля. Девятнадцатилетний матрос изображал барышню в фарсе. В пышном платье из корабельного коленкора, в белокуром парике, белых чулках и открытых туфлях с голубыми бантиками безусый Шарвелль превратился в миловидную мисс. Но, к несчастью, природа наделила Шарвелля оглушительным басом, и каждый раз, как барышня открывала рот и раздавалось совсем не подобающее столь нежному существу рыканье, все хохотали до упаду, отпускали соленые шуточки по адресу “мисс” и привели ее в такое смущение, что она, закрывшись юбками, убежала за сцену. В заледенелые иллюминаторы не было видно ни зги. Там, снаружи, термометр показывал минус 40°, дул сильный восточный ветер, а Венера, казавшаяся из-за рефракции огромной, сияла необыкновенным блеском. Все приглашенные в эту ночь получили букетики из цветных бумажек и разрисованные программы, обещавшие много интересных и веселых номеров: УвертюраОркестр. Элла РиА.Свитман. Что вас печалит? Бойд. Всемирно известный Анегинс Великого северо-западного прохода исполнит комические номера. Соло на аккордеонеВеликий Дресслер. Любимый исполнитель танцев в деревянных башмакахДжон Коль. Веселый фарс: “Деньги заставляют и кобылу идти”, и т. д. В рубке было веселое оживление. Правда, артистов оказалось больше, чем зрителей, но это никого не смущало. Оркестр, состоящий из двух скрипок, флейты, гитары и аккордеона, очень музыкально сыграл вступление, после которого на эстраде, сколоченной из пустых консервных ящиков, появился плотник Свитман, коренастый, почти квадратный, с красным, обветренным лицом. Он долго топтался на месте и откашливался, прочищая горло. — Алло, парень, запевай, не смущайся, — подбадривали его товарищи. — Дайте ему виски, пусть промочит глотку! — кричали слушатели. — Прошу прощения, джентльмены, действительно меня того… прохватило морозом, — сказал плотник, кланяясь и кося глазом в тот угол, где сидел Старик, — кажется, я сегодня не в голосе. И Свитман жеманно повел плечами — точь-в-точь как Китти Лоне на сцене “Пикадилли-театр”. Все покатились со смеху и захлопали одеревенелыми, просоленными ладонями. — В самом деле, дайте ему виски, — сказал, улыбаясь, тот, кого звали Стариком. — Такому знаменитому певцу это не повредит. Тонг Синг с безукоризненностью официанта с Пятой авеню подал на подносе стакан подогретого виски, и Свитман немного хриплым, но сильным баритоном запел сентиментальную песенку об Элле Ри. Инженер экспедиции Мельвилль зашел в каюту за табаком и услыхал, как что-то поет и жужжит словно пчела: вибрировала диафрагма в телефоне Белла. Это указывало на электрический шторм, и инженер поспешно вышел на палубу. Ветер сильно и жгуче бил из темноты в лицо, раздувал и леденил бороду, пронизывал жесточайшим холодом. Небо было чистое, в крупных, ярких звездах. Мельвилль попробовал сделать несколько шагов по палубе, но у самой двери наткнулся на сугроб. Обледенелые снасти блестели в темноте, как мишура на елке. У Мельвилля начало мерзнуть лицо. Он попытался раскурить трубку, но на ветру это не удалось, и он вернулся в рубку. Там продолжали веселиться и дурачиться напропалую. Охотник-чукча Анегин пел на родном языке песню и показывал пляску шаманов — торжественную и нелепую. Потом Джон Коль очень бойко сплясал матросский танец, и в такт его деревянным башмакам все дружно хлопали. Вдруг раздался знакомый тренькающий звук: в честь уходящего старого года пробило восемь склянок. — С Новым годом! С новым счастьем! Ура! — закричали моряки. И снова пробило восемь склянок — на этот раз отмечая приход нового, 1881 года. И с последней склянкой со своего места поднялся тот, кого звали, как принято в американском флоте, “Старик”. Это был человек лет тридцати шести, с длинным спокойным лицом, светлыми смеющимися глазами и пушистыми усами, скрывающими твердый, энергичный рот. Из-под его военного кителя высовывался ослепительно белый воротничок, и во всей его фигуре — сухой, мускулистой, поджарой — чувствовалась та подтянутость и щеголеватая точность, которая свойственна военным морякам. — Итак, мы расстаемся с прошлым годом и вступаем в новый, — сказал он, поправляя пенсне и оглядывая людей с понимающей и немного печальной усмешкой. — Как и всё в жизни, наше плавание можно разбить на два периода: на то, что уже произошло, и на то, что еще предстоит. Мы прошли ряд испытаний, и много раз нам угрожала опасность: мы подвергались и сжатию, и толчкам, и, если бы борта корабля не были так же стойки, как сердца находящихся на нем моряков, корабль давно был бы разбит. Мы еще не сдались и, как и раньше, готовы на все. За последние шестнадцать месяцев наш дрейф составил тысячу триста миль; этого вполне было бы достаточно, если считать по прямой линии, для того чтобы достигнуть полюса. Мы же фактически находимся в двухстах двадцати милях к северо-западу от того места, где мы впервые вмерзли в лед. Мы здоровы и встречаем Новый год с твердой надеждой, что нам удастся выполнить нечто достойное нашего предприятия и флага, который развевается над кораблем. Если нам удастся вернуться домой, то каждый вправе будет сказать с гордостью: “И я был участником американской арктической экспедиции 1879 года!” — Гип-гип ура! — раздались дружные голоса. — Да здравствует капитан Де Лонг! — закричал Свитман. — Ура нашему капитану! Оркестр, туш! И две скрипки, флейта и аккордеон торжественно сыграли туш, а Старик, усмехаясь все так же понимающе и немного печально, поклонился всем этим бравым ребятам и поспешно ушел к себе в каюту.ПИСЬМО К БЕННЕТУ
Осенью 1873 года находившийся в Париже Джордж Гордон Беннет — владелец крупнейшей американской газеты “Нью-Йорк Геральд” — получил с родины письмо. Незнакомый молодой офицер флота с французской фамилией Де Лонг предлагал Беннету организовать экспедицию к Северному полюсу, причем брал руководство экспедицией на себя. Письмо не удивило Беннета. За два года до этого он снарядил на свои средства экспедицию в Африку для отыскания пропавшего без вести английского путешественника Ливингстона. Много месяцев американцы нарасхват раскупали “Нью-Йорк Геральд”, чтобы прочитать увлекательные приключения корреспондента Стэнли в Южной Африке. Расходы по экспедиции окупились сторицей, и теперь Беннет увлекся мыслью о новом предприятии, которое сможет дать богатый и совершенно новый материал для газеты. Он поручил своим сотрудникам собрать сведения о Де Лонге. Вот что он узнал. Джордж Вашингтон Де Лонг, лейтенант американского флота, родился 22 августа 1844 года в Нью-Йорке. Отец его, потомок французских гугенотов, переселившихся в Америку, занимался адвокатурой и хотел, чтобы сын наследовал эту профессию. Но мальчика с раннего возраста тянуло к путешествиям и приключениям, он играл в корабли, в охоту, в войну. По утрам мать видела, как он выходит из дому, влезает на толстое дерево в саду, — лицо решительное, лоб нахмурен. Дерево было его кораблем, с грот-мачтой и фок-мачтой; спускался он по вантам, то есть по веревкам от качелей. Он читал, лежа на полу, зажав уши, чтобы совсем уйти от внешнего мира, о путешествиях Васко да Гама, Марко Поло, Колумба. В тринадцать лет Бруклинская школа, где он учился, выдвинула его кандидатом для поступления в морское училище. Но родители воспротивились: профессия моряка — очень опасная профессия, как можно вверять свою судьбу океану? — Ты будешь адвокатом, Джордж, — решительно сказал Де Лонг-отец. Тринадцатилетний Джордж упрямо дернул плечом:пусть не сейчас, пусть через несколько лет, но он добьется своего. Когда сын окончил школу, Де Лонг-отец устроил его в канцелярию своего приятеля — адвоката Окея. Мелкие тяжбы, бесконечные сутяжнические процессы из-за грошового результата — все это казалось Джорджу невыносимо скучным. Но вот вспыхнула война Севера с Югом. Окея призвали в армию, и семнадцатилетний Де Лонг намеревался последовать за своим патроном. Официально война началась из-за высокой цели — освобождения негров, и молодой Де Лонг, который еще верил в благородство политических деятелей Севера, непременно хотел драться за свободу черного народа. Однако снова выступили родители: они не хотят подвергать сына опасностям войны! Это положило предел терпению Джорджа. Он пришел к отцу внешне очень спокойный, сдержанный, даже улыбающийся. Его не пускают в армию, пусть так, он не возражает. Но с этой осени он поступит в Морскую академию. Если отец не согласен, он сегодня же уходит из дому и нанимается простым матросом на первое попавшееся судно. Отец сдался, и через четыре года Джордж Де Лонг с отличием окончил Морскую академию. Желание его исполнилось: он стал настоящим моряком. Его назначили на военное судно, которое три года курсировало вдоль берегов Европы и Америки и в Средиземном море. Зимой 1873 года Де Лонг был переведен на судно “Джуннета”, входившее в состав североатлантической эскадры. Правительство Соединенных Штатов послало “Джуннету” на помощь судну “Поларис”, потерпевшему аварию где-то у берегов Гренландии. “Джуннета” достигла Упернивика (Гренландия), не обнаружив “Полариса”. Продвигаться дальше к северу для нее было невозможно. Тогда снарядился для продолжения поисков бот “Маленькая Джуннета”. Начальником этой экспедиции был назначен Джордж Де Лонг. Это путешествие навсегда решило дальнейшую судьбу молодого моряка. Он заболел той болезнью, которую люди, побывавшие на Севере, зовут “арктической лихорадкой”. Де Лонг вернулся в Нью-Йорк, решив как можно скорей снова отправиться в Арктику. Но ему хотелось прибыть туда не зрителем, а завоевателем, исследователем новых, еще никем не открытых земель. И вот тогда-то он написал Беннету о своем желании руководить экспедицией к Северному полюсу.СБОРЫ
“Одно из важнейших условий успеха всякой экспедиции — опытный руководитель, — писал одному из друзей Беннет, вернувшись в Америку. — Де Лонг именно таков: неутомимая энергия, сила воли, стремление к преодолению трудностей и вместе с тем заботливость, внимательность ко всему экипажу, большие знания. Это такой человек, какой нам нужен”. Однако переговоры об экспедиции на этот раз заглохли: начавшиеся осложнения с Испанией грозили войной, о походе к полюсу нечего было и думать. Де Лонг продолжал служить во флоте, механически выполнять ежедневную работу, но все его мысли, желания, надежды — все было устремлено на Север. Подбирал литературу, карты, достал заметки Петермана — инициатора двух немецких арктических экспедиций, карту Берингова пролива, описания первых путешествий в Арктику. Молодой моряк женился, но даже молодая жена не могла отвлечь его мыслей от Севера. Когда угроза войны миновала, Беннет снова вернулся к мысли об экспедиции: вместе с Де Лонгом он решил как можно скорее подыскать подходящий корабль, чтобы на следующее же лето отправить его к Северному полюсу. Однако в Америке подходящего судна не оказалось, и зимой 1876 года Де Лонг выехал в Англию. Здесь единственным подходящим судном оказалась “Пандора”, участвовавшая в экспедиции по отысканию Франклина и специально приспособленная для арктических плаваний. Но владелец не хотел ее продавать. Только после долгих переговоров он согласился уступить “Пандору”. Было решено сначала отремонтировать корабль, а затем плыть на нем в Сан-Франциско и оттуда отправиться в экспедицию ранним летом 1879 года. “В нашем распоряжении три пути, — писал Де Лонг Беннету, — пролив Смита, Берингов пролив и восточное побережье Гренландии. Лично я стою за Берингов пролив”. Выбирая путь через Берингов пролив, Де Лонг руководился следующими основаниями: теплые воды Японского течения могли открыть путь к полюсу, кроме того, было известно, что китобойные суда в этих областях дрейфовали к северу, и отсюда Де Лонг делал вывод, что течение идет в направлении к северу и поможет судну достигнуть высоких широт. Предполагали, что “Жаннета” — так переименовали “Пандору” — пойдет к северу вдоль побережья Земли Врангеля. Когда судно окажется не в силах преодолеть льды, экспедиция будет продвигаться дальше на санях. Окончив снаряжение судна, Де Лонг приступил к подбору экипажа. Он считал, что тщательно подобранная команда — залог успеха экспедиции. — С хорошим судном, с хорошим питанием, а главное, с хорошей командой мы сумеем добиться всего, — сказал он при встрече Беннету. Старшим офицером на “Жаинету” был назначен по просьбе Де Лонга лейтенант Чипп, с которым он плавал на “Маленькой Джуннете”. Это был хладнокровный человек, кудрявый и пышнобородый, стойкий, энергичный, не боящийся никаких трудностей. Вторым офицером пригласили Даненовера — опытного моряка, плававшего на “Вандалии”. Мельвилль — весельчак и работяга, умеющий, по выражению своего старого приятеля Де Лонга, сделать из веревки машину, — был назначен на “Жаннету” главным инженером. Лоцманом отправлялся Денбар, плававший на китобойных судах в Беринговом проливе и даже севернее. Метеорологом Де Лонг пригласил Коллинса из редакции “Нью-Йорк Геральд”, а натуралистом — молодого ученого Ньюкомба. Доктором был зачислен Амблер — опытный судовой врач. Боцман Коль, плотник Свитман и матрос Ниндеман, принятые в состав команды, уже плавали в северных морях и знали условия арктического путешествия. Де Лонг написал Чиппу, каким требованиям должны отвечать остальные матросы: “Холостые, совершенно здоровые, обладающие физической силой, умеющие читать и писать по-английски, непьющие, веселые, первоклассные матросы, если можно, музыканты. Предпочтительно норвежцы, датчане и шведы. Избегайте англичан, шотландцев, ирландцев. Отказывайтесь совершенно от французов, итальянцев и испанцев. Стюард должен быть первоклассным; он может и не быть моряком. Повар тоже нужен умелый. Оплата — установленная для флота. Абсолютное и беспрекословное подчинение всем распоряжениям, каковы бы они ни были”. Де Лонг понимал, как важна строгая дисциплина в подобной экспедиции, и поэтому “Жаннета” была внесена в списки судов морского департамента и должна была подчиняться военному уставу, как всякое военное судно. Де Лонгу были предоставлены все полномочия, которыми располагали адмиралы флота. Восьмого июля 1879 года в гавани Сан-Франциско было необыкновенное оживление. По воде сновали яхты и переполненные пассажирами катера. На берегу и на пристани сплошной стеной стояли толпы народа. В этот день из гавани Сан-Франциско уходила в свое трудное и опасное плавание “Жаннета”.ПОИСКИ НОРДЕНШЕЛЬДА
“Жаннета” шла, кланяясь и раскачиваясь. Из иллюминаторов было видно, как, то опускаясь, то поднимаясь, двигалась полоска горизонта, а иногда виднелась только синеватая волнистая равнина, идущая в гору, или пустое облачное небо. Тонг Синг, приседая, стучал тяжелыми тарелками в кают-компании. Он был желтей обыкновенного, и коса его растрепалась: его мучила морская болезнь. Слышался глухой рокот машины да шум волн, бьющих в корму, царапающих обшивку. Наступала ночь, усиливалась качка, а Де Лонгу казалось, что все хорошо, все отлично и теперь только наступает та настоящая жизнь, о которой он мечтал. Он поднялся по зыбким ступеням на палубу. Ветер вырвал из его рук дверь, обдал его холодом, свежестью, запахом моря. Он вгляделся в морскую даль, сизую, туманную, смазывающую все очертания. “Жаннета” приближалась к Уналяске. Де Лонг еще раз перечел письмо морского министра, переданное ему в Сан-Франциско: “Когда Вы достигнете Берингова пролива, Вам надлежит произвести в местах, где Вы признаете это нужным, поиски сведений о судьбе Норденшельда. Департаменту не удалось получить подтверждения известия о его спасении. Если у Вас будут основательные данные предполагать, что он в безопасности, продолжайте свое плавание к Северному полюсу. В противном случае Вы поступите так, как признаете необходимым для оказания ему помощи”. В тот год весь мир был взволнован исчезновением Норденшельда и его спутников. Адольф Норденшельд отправился в 1878 году на судне “Вега” вдоль северных берегов Европы и Азии к Берингову проливу. Последние известия о “Веге” были получены с мыса Сердце-Камень в августе того же года. С тех пор никто больше ничего не слыхал о Норденшельде. Ни в Уналяске, ни на острове Михаила не было никаких сведений о судьбе “Беги”. Де Лонг решил идти в бухту Лаврентия и, если там не окажется известий о Норденшельде, пробиваться вдоль северного побережья Сибири. Он наводил справки о Норденшельде в каждой хижине на берегу, посылая туда Чиппа на боте. К этому его побуждал не столько приказ министра, сколько настоящее, крепкое чувство товарищества. А между тем поиски Норденшельда задерживали “Жаннету”, уходило благоприятное время, когда судно могло бы дойти до земли Келлета и продвинуться к северу. В бухте Лаврентия один из чукчей, немилосердно коверкая английские слова, сказал Де Лонгу: — Моя видал другой зима судно у Колючинский бухта… — Какое судно? Были вы на нем? Как оно выглядело? — Капитан заметно заволновался. Несмотря на сбивчивый рассказ, Де Лонг был убежден, что чукча действительно видел судно Норденшельда. Последние известия о Норденшельде были с мыса Сердце-Камень. Туда и направился Де Лонг. “Если подтвердится, что шведы там были и ушли, я пройду до Земли Врангеля, — записал он в дневнике, — если же нет, я пойду наугад, пока не найду место, где они зимовали”. В чукотских ярангах на мысе Сердце-Камень Чиппу с трудом удалось узнать, что некое судно зимовало у восточного берега Колючинской губы и потом ушло. “Жаннета” двинулась к Колючинской губе. Уже бушевала вокруг судна метель, уже плавали по воде льдины и сплошная масса старого льда простиралась на пять миль от берега, когда “Жаннета” подошла к восточному побережью Колючинской губы. Судно стало у кромки льда. Лейтенант Чипп, Даненовер и чукча Алексей, нанятый на острове Михаила в качестве переводчика, отправились на китобойном боте к берегу. Время тянулось нестерпимо медленно. Но вот снова на берегу задвигались люди, небольшая точка отделилась от суши: бот возвращался на “Жаннету”. На этот раз невозмутимый Чипп был взволнован; не дожидаясь, чтобы ему спустили трап, он взобрался на палубу и направился к Де Лонгу. — Вот, капитан, что нам удалось найти на берегу, — сказал он, разжимая руку. На его ладони лежали железные пуговицы, какие обыкновенно пришивают к морским курткам. Де Лонг нагнулся над ними. Пуговицы были шведские — с чайкой, датские — с крестом и русские — с двуглавым орлом. — Так Норденшельд зимовал здесь? — спросил капитан. Чипп кивнул. — Да, в двух милях к юго-востоку от поселка, — сказал он, — я прошел по берегу до места зимовки. Экспедиция расплачивалась за все вместо денег такими вот пуговицами. — Когда и в каком направлении ушла “Вега”? — спросил Де Лонг. — Два или три месяца тому назад — на восток, — отвечал Чипп. — Здешние жители считать не умеют, пришлось высчитывать приблизительно, по пальцам. Итак, задача была выполнена: Де Лонг убедился, что экспедиция цела и невредима. Норденшельд теперь находится на пути к родине. Правда, от него очень долго нет известий, но это объясняется, наверно, тем, что все расстояние до Японии он должен был идти на парусах. Де Лонг выпрямился, улыбнулся. С него будто сняли огромную тяжесть. Теперь он свободен и может идти туда, куда стремился так давно. — Поднимите бот на судно и дайте сигнал к отплытию, — сказал он Чиппу. В 13 часов 10 минут 31 августа “Жаннета” взяла курс на север.“ЖАННЕТА” ВО ЛЬДАХ
На молу в Сан-Франциско Эмма сказала, прижавшись к мужу: — Я хочу знать каждый твой день, каждое, даже самое пустяковое событие твоей жизни… Когда ты вернешься, многое забудется… — Я буду вести дневник, — обещал ей тогда Де Лонг. И теперь каждый вечер, сидя в своей каюте на привинченном к полу кресле, капитан записывал события дня. Лицо его, освещенное висячим фонарем, часто менялось в зависимости от того, о чем он писал: иногда оно хмурилось, делалось холодным, угрюмым, иногда же озорно, мальчишески усмехалось, подмигивало кому-то шаловливым глазом. В этот вечер, как всегда, он сел за свой дневник. “Между всеми моими спутниками царит полное согласие, — писал он. — Чипп невозмутим, как всегда. Он теперь устраивает новый камбуз вместо старого. Даненовер ведет судовой журнал и занимается подсчетами наших запасов. Мельвилль — настоящее сокровище. Как инженер он несравним. Всегда веселый и жизнерадостный, всем довольный, он вносит бодрость одним своим присутствием. Коллинс целый день преследует нас своими шутками. Как-то мы решили не обращать на них внимания: когда он преподносил их, мы смотрели на него невинно и вопрошающе, как дети, по два-три раза просили объяснения. Наконец он заявил нам, что по мере удаления от Сан-Франциско наши умственные способности слабеют. Я со своей стороны делаю все, что могу, чтобы добиться доверия и уважения моих спутников, и, кажется, мне это удается. Я стараюсь мягко, но настойчиво поправлять все ошибки и никогда не выхожу из равновесия. Я сознаю свою ответственность и понимаю, как трудно руководить людьми моего возраста”. Дружные товарищи, хорошо подобранная, бодрая и неутомимая команда были единственным утешением Де Лонга. Все остальное шло из рук вон плохо. Не дойдя даже до острова Геральда, “Жаннета” наткнулась на вековой лед толщиной до четырех с половиной метров и вынуждена была остановиться. Все снасти судна покрылись инеем и снегом. Стоял густой туман, вокруг “Жаннеты” постепенно смыкались большие льдины. Обшивка бортов была покрыта царапинами и зазубринами, а до острова оставалось еще около сорока миль. Когда туман рассеялся, показались полосы тонкого льда, и Де Лонг отдал приказ развести пары и пробиваться вперед, к острову. — Быть может, тараня и умело лавируя, пользуясь трещинами и узкими полосами воды, мы сможем продвинуться еще хоть немного, — сказал он Чиппу. Судьба будто смеялась над Де Лонгом: он, который так стремился к полюсу, так много лет мечтал об этом путешествии, должен был остановиться уже через неделю после выхода из бухты Лаврентия! Однако обескуражить Де Лонга было не так легко. Арктика учит его терпению, — хорошо, он готов терпеливо ждать! “Я надеюсь довести судно до острова Геральда и перезимовать там”, — записал он в своем дневнике. Но даже этой скромной надежде Де Лонга не суждено было сбыться: шестого сентября “Жаннета” вмерзла в пак и начала свой дрейф во льдах. Лед сжимал в своих тисках судно. “Жаннета” сильно накренилась, и капитан приказал снять руль и взорвать лед у кормы. Он с грустью убеждался, что только землетрясение может разрушить ледяные тиски вокруг “Жаннеты”. Остров Геральда был все так же далек. “Может быть, дрейф донесет нас до какой-нибудь неизвестной земли? — горячо, почти по-детски надеялся Джордж Де Лонг. Ему так не хотелось думать о зимовке во льдах! “Я рассчитывал еще в первое лето нашей экспедиции добиться каких-либо результатов, но тщетно. В ожидании будущего лета мы истратим свои припасы, уничтожим горючее и во время зимовки рискуем здоровьем”, — писал он в дневнике. Все же зимовка была неизбежна, и капитан составил расписание зимнего режима экспедиции. Он знал, что только строгий распорядок дня, наполненного делами, прогулкой и отдыхом по расписанию, поможет скоротать томительную полярную зиму. И вот в четыре часа утра встает китаец-повар А Сам и варит кофе для команды, а с половины седьмого начинается уборка палубы, стирка, матросы прорубают намерзший за ночь слой льда в пожарной проруби, спускают драгу, чистят овощи, убирают кубрик, осматривают содержимое драги — словом, весь день занят, и людям некогда скучать и задумываться. Собаки, взятые на острове Михаила, спущены на лед. Их сорок штук, это веселые пушистые полярные лайки, и Де Лонг, который очень любит собак, сам дал им имена. Собаки знают его: стоит капитану спуститься по трапу на льдину, как к нему пестрым, визжащим клубком подкатываются Дан и Винго, и Толстый Джон, и Косматка с Объедалой. Они прыгают вокруг него, и каждая норовит лизнуть его в лицо. Единственное развлечение экипажа — охота. Команда ставит капканы на медведей и подстерегает тюленей и моржей. Медведей много, они еще не боятся людей и иногда подходят совсем близко к судну. Де Лонг и сам страстный охотник, да, кроме того, свежее мясо необходимо для здоровья. Капитан очень следит за здоровьем команды, издает приказ о проветривании жилых помещений, составляет меню, распоряжается, чтобы доктор Амблер раз в месяц производил осмотр офицеров и команды. Он продолжал ежевечерне делать записи в дневнике. “Редко наблюдал такую прекрасную ночь, как сегодня, — писал он в конце октября. — На безоблачном небе ярко светил полный месяц, звезды мерцали. В воздухе тихо, ни звука- ничто не нарушало очарования. У корабля очень живописный вид. Он резко выделялся на голубом небе; на тросах и перекладинах лежал густой снежный покров, и, кроме того, они были украшены инеем. Длинные линии проволоки, протянутые от обсерватории, там и здесь спящие собаки, похожие на замерзшие клубки, сани, выстроенные в ряд впереди корабля, окруженного снежной насыпью, — все вместе составляло редкую картину. Во все стороны протянулось бесформенное ледяное поле”. Прошли сентябрь и октябрь. С первого ноября Де Лонг ввел зимний распорядок дня: раньше ложиться, позднее вставать. Наступала полярная ночь. Де Лонг уже внутренне подготовился к вынужденному бездействию, к некоему подобию спячки. Но с первых же дней ноября пришлось объявить аврал: сначала в льдине вокруг “Жаннеты” появились трещины, трещины превратились в разводья, а затем лед начал со всех сторон наступать на льдину, в которую вмерзло судно. Вокруг корабля стоял грохот, треск. “Жаннета” дрожала и скрипела при каждом сжатии. Люди и снаряжение были наготове. Де Лонг распорядился взять на борт собак и вещи со льдины. Заготовили на всякий случай сани и сорокадневный запас продовольствия. Экспедиция жила в непрерывном нервном напряжении: каждая ночь казалась последней, и каждое наступление льда — окончательным. Капитан почти не спал, готовый к спасательным операциям. “Жаннета” на этот раз выдержала сжатие. Только льдина, в которую вмерзло судно, раскололась и, лишившись своего гнезда, некоторое время двигалась вместе с судном по открывшейся воде, пока снова не вмерзла в пак. И снова потянулась полярная ночь, полная тревоги и опасений. “Не могу хладнокровно писать о великолепии арктических видов, — появилась в те дни запись в дневнике Де Лонга. — Пережитые волнения еще не изгладились. Ограничусь замечанием, что, как ни красиво здесь с поэтической точки зрения, я горячо хочу поскорее отсюда вырваться”. Наступили сильные морозы, термометр показывал –40°. У Даненовера началось сильное воспаление глаз. Де Лонг с тревогой думал, что, в случае гибели судна, у экспедиции на руках будет больной человек. Но судьба решила не ограничиваться одной бедой. Спустя несколько дней бледный Шарвелль вбежал в каюту капитана: — Сэр, в трюме шумит вода! В носовой части “Жаннеты” появилась сильная течь. Немедленно были пущены в дело насосы. В то время как одна часть команды откачивала воду, другая подымала из трюма наверх муку и припасы. Ниндеман, стоя по колено в ледяной воде, забивал концами и салом все отверстия, откуда просачивалась вода, но вода все же проникала в трюм. Люди работали без передышки весь день и всю ночь, но победить воду не удалось. Мельвилль налаживал паровой насос, но краны замерзли, нельзя было питать котел морской водой, и пришлось наполнять его ведрами. Де Лонг совсем разучился спать: он следил за всеми работами, и, когда Ниндеман или Свитман выбивались из сил, капитан сам лез в ледяную воду и работал топором, как плотник. Мельвилль, спускаясь в каюту, вместо того чтобы спать, обдумывал новые способы откачивания воды. “Все наши надежды на исследования и открытия угасают, — писал в эти дни Де Лонг, — кажется, нам предстоит возвращение в Соединенные Штаты на корабле с течью. И это в лучшем случае. Я не хочу предсказывать какие-то новые несчастья, хотя в нашем положении все возможно”. После многих недель нечеловеческого труда в сорокаградусном морозе течь удалось прекратить. Возобновилась размеренная, однообразная жизнь. Прошла первая арктическая зима, проходило лето, а судно продолжало лежать в своем ледяном ложе. Каждое утро, просыпаясь, Де Лонг видел то же, что перед сном: те же лица, тех же собак, тот же лед. Все книги были прочитаны, все истории рассказаны. От скуки за завтраком люди рассказывали свои сны, спорили о различных теориях дрейфа. Чипп, сделав промер, сообщал: к востоко-юго-востоку или просто к юго-востоку дрейфует “Жаннета”. Денбар с Алексеем отправились на охоту за тюленями. Доктор осматривал Даненовера, Коллинс в сотый раз повторял наскучившие всем анекдоты. И только Мельвилль и Де Лонг старались казаться веселыми, чтобы подбодрить и хоть немного развеселить других. Де Лонгу это было особенно трудно. Все чаще в его дневнике появляется угрюмая и краткая запись: “Ничего особенного не произошло”. Двадцать второго августа 1880 года Де Лонгу исполнилось тридцать шесть лет, и в этот день ему стало окончательно ясно, что предстоит вторая зимовка в паке. Он начал писать письма Эмме и складывать их в дальний ящик письменного стола. Он старался забыть о них, словно эти письма уже отосланы. “Мы совершенно одни среди неизмеримого замерзшего океана, — написал он в одном из никогда не посланных писем, — единственные живые существа в грозящей смертью пустыне. Дни так похожи один на другой, что мы теряем их след… В конце концов человек — только высший вид машины. Стоит его завести и поддерживать питание — и он сможет жить. Так обстоит и с нами. Скучное, свинцовое небо, мрачное, как тюрьма, почти все время падает мелкий снег…” И снова настала полярная ночь, беспросветная, беззвучная. Де Лонг чувствовал, как гнетет его эта тишина. Но он был капитаном, на нем лежала ответственность за многих людей. Он должен был служить примером бодрости. И в канун нового, 1881 года, второго года во льдах, Де Лонг произносил новогоднюю речь так торжественно-весело и непринужденно, что даже самый близкий друг не обнаружил бы в нем и тени пессимизма.ДВА ОСТРОВА
Капитан сидел в каюте, заканчивая определение местоположения “Жаннеты”, когда к нему вбежал задыхающийся от волнения Эриксен. Меховая шапка сползла ему на глаза, он даже этого не замечал. — Земля! — хрипло крикнул он. — Слышите, капитан, земля! Де Лонг отложил карандаш и поднялся на палубу. Вдалеке виднелась темная масса острова. Это была первая земля за четырнадцать месяцев дрейфа. Стоял май 1881 года. Команда “Жаннеты” плясала и бесновалась от радости. Земля! Земля! Часть острова была закрыта туманом, и определить, на каком расстоянии находится он от судна, было трудно — не то 40, не то 80 миль. Все помыслы людей, запертых почти два года в плавучей клетке, устремились к острову. Быть может, там есть топливо. Туда летят стаи гусей — стало быть, там можно охотиться на дичь. Наверное, там водятся медведи. Если бы им сказали, что остров представляет собой сплошные золотые россыпи, они не смогли бы радоваться больше, чем теперь. Дни сразу наполнились содержанием. Проснувшись, Де Лонг бежал наверх проверять, на сколько “Жаннета” приблизилась к острову. Сильный ветер гнал льдину с судном очень быстро. На льду появилось много разводьев. Через день Де Лонг обнаружил землю в другом направлении. Неужели второй остров? Он мысленно уже давал названия обоим островам: первый — “остров Жаннеты”, второй — “остров Генриетты”. Но выбраться из ледяного плена судно не могло, и капитан решил отправить на остров Генриетты отряд, чтобы исследовать его и определить местоположение. На следующий день отряд из пяти человек под командой Мельвилля с легким яликом, санями, собаками и семидневным запасом продовольствия отправился в путь. В то время как отряд Мельвилля был на пути к острову, на судне заболело сразу несколько человек, в том числе Чипп, Ньюкомб и Алексей. Каждый новый больной очень тревожил Де Лонга. Быстрый дрейф и рыхлость льда грозили аварией. А что тогда делать с больными? Он несколько раз в день поднимался на палубу с биноклем, ища на льду какую-нибудь движущуюся точку. К концу шестого дня над торосами появился шелковый флаг: возвращался отряд Мельвилля. Оказалось, что остров Генриетты представляет собой голую скалу со снежной вершиной. Никаких птиц, кроме голубей, там не было. Отряд водрузил на вершине американский флаг и соорудил из камней туру, в которую вложил записку. — Этот проклятый остров нам дорого стоил, — сказал Мельвилль, тяжело подымаясь на палубу. — Приходилось прокладывать дорогу во льдах, устраивать переправы, разгружать и снова грузить сани. Собаки отказывались идти, их приходилось тащить… Чертов остров! — заключил он с негодованием. И все-таки у членов экспедиции сильно поднялось настроение. Теперь они вернутся уже не с пустыми руками, и, быть может, дрейф вынесет их в чистую воду. И Де Лонг уже официально, в приказе, дал название обоим островам и установил их положение. В вечер возвращения Мельвилля весь экипаж “Жаннеты”, впервые за многие месяцы, спал спокойным, почти счастливым сном.КАТАСТРОФА
Аварию ожидали, к ней готовились, и все-таки, когда в полночь раздался страшный грохот, Де Лонг невольно побледнел. Он бросился на палубу, на ходу отдавая приказания: — Закрыть все проходы в переборках! Свистать всех наверх! Перенести на лед все, что осталось! “Жаннета” вздрогнула всем корпусом и внезапно встала почти вертикально. Вдоль всего корабля вскрылся лед и начал с громадной силой напирать на левый борт. В кают-компании разошелся потолок, затрещали бункера. Сквозь треск корабля и грохот льда люди слышали ясный голос капитана: — Спустить боты с правой стороны и оттащить их по ледяному полю подальше от корабля. Подчиняясь его голосу, команда работала быстро и точно, как на войне. Между тем Мельвилль спустился в машинное отделение. Там оказалась широкая трещина, идущая через все судно. Корабль раскалывался надвое, как ореховая скорлупа, вода быстро наполняла угольные бункера. Спустили на лед сани и собак, выгрузили все оставшиеся на борту припасы. И все же у Де Лонга оставалась слабая надежда, что лед соединится под кораблем и “Жаннету” удастся спасти. Но вот снова застонала, затрещала обшивка, и спардек начал подыматься кверху. Казалось, будто гигантская ледяная рука давит, крошит и ломает кости “Жаннеты”. Припасы, постельные принадлежности и корабельные бумаги были перенесены в безопасное место на лед. Вода в несколько минут достигла перил, правая часть судна была разломана у грот-мачты, и “Жаннета” стала быстро погружаться в воду. Де Лонг сам поднял на бизани кормовой флаг и последним оставил корабль. Собравшись на льду, команда молча следила за тем, как под водой скрывалась палуба, потом мачта, как, намокнув, тяжело повис полосато-зеленый флаг и как с негромким всплеском навсегда исчезла в синевато-серой глубине их “Жаннета”. Но суровая действительность не оставляла времени для сентиментальных переживаний. Надо было устраивать лагерь, подсчитывать запасы, расставлять палатки, готовить еду. Де Лонг решил пробираться на юг, пользуясь, пока возможно, санями, а добравшись до Новосибирских островов, пересесть на катера и попытаться доплыть до берегов Сибири. Де Лонг сам, со скрупулезной точностью, распределил по саням запасы. Особенно драгоценными были лимонный сок, спирт и пеммикан.[3] Капитана заботили больные: Даненовер, Чипп и еще два человека из команды. Они могли передвигаться только с большим трудом. Шесть дней продолжались сборы к походу. Наконец, еечером 18 июня, экспедиция тронулась в путь, оставив на льдине выложенную из ледяных обломков туру, в которой лежала запечатанная в жестяную банку из-под пеммикана записка Де Лонга: “США. Катер “Жаннета”. На льду, северная широта 77°18, восточная долгота 153°25. 17 июня 1881 года. Завтра вечером, 18 июня, мы оставляем наш лагерь и отправляемся на юг с целью достичь Новосибирских островов, чтобы оттуда идти на ботах к побережью Сибири. “Жаннета” вмерзла в пак в Ледовитом океане 5 сентября 1879 года, приблизительно в 25 милях к востоку от острова Геральда, и с 5 сентября 1879 года до 12 июня 1881 года дрейфовала к северо-западу, достигнув наконец 77°15 с.ш. и 153°0 в.д. 12 июня “Жаннета” была раздавлена тяжелыми ледяными полями и затонула в 4 ч. ночи 13 июня. Мы покинули корабль и высадились на лед, причем мы спасли припасы почти на 80 дней, 5 ботов, все палатки, все прочее оборудование, одежду, амуницию и оружие… После гибели корабля мы, разбив на льду лагерь, были заняты погрузкой саней и прочими приготовлениями к походу. Мы двигаемся в путь, имея шестидесятидневный запас провизии. У нас 23 собаки. Джордж В.Де Лонг, лейтенант флота США, начальник Американской арктической экспедиции”.СКВОЗЬ ТОРОСЫ И РАЗВОДЬЯ
Ломались и разваливались сани. Ледяная дорога под солнечными лучами порой превращалась в кашу, и тогда люди брели по колено в воде, задыхаясь в меховой одежде, надрываясь от тяжести саней. На пути вырастали торосы, их приходилось рубить кайлами. Лед был твердый, как железо, но люди рубили, стиснув зубы, упорно раскалывая глыбу за глыбой. Потом обрывалась ледяная кромка, и сани оказывались перед широкими, похожими на каналы, разводьями. Льдины ныряли и кувыркались в разводьях, как живые, и тогда приходилось подтаскивать к разводьям десятки других льдин и сооружать из них мосты, способные выдержать тяжесть саней. Было начало полярного лета — время самое плохое для похода. Мягкий снег проваливался под ногами, непрерывно шли дожди, и одежда и одеяла все время были сырыми. Высушить их было негде: огонь разводили только для варки пиши. Даже собаки дрожали и жались у палаток. Часто сани опрокидывались, приходилось вылавливать груз из воды, искать среди торосов. Обрывались постромки саней, ломались полозья, собаки съедали упряжь. Нужно было чинить, строить, тащить, связывать. Это был нечеловеческий труд. Работая до изнеможения по десяти часов, отряд продвигался в среднем по две мили в день. К концу дня, разбитые, с ноющей болью в руках и ногах, люди глотали наспех сваренную пищу, забирались в промокшие спальные мешки и забывались в тяжелом сне без сновидений. Но даже и в таких испытаниях Де Лонг не давал им пасть духом. Он и Мельвилль то запевали песню, то вовремя сказанной шуткой рассеивали мрачное настроение спутников. Однажды, распаковывая провизию, капитан наткнулся на письмо какого-то нью-йоркского энтузиаста, который предсказывал экспедиции великие научные открытия и просил написать ему по адресу: “Г.И.К. 10 ящик, Нью-Йорк”. Над этим письмом долго и заливисто хохотала вся команда. В другой раз капитан на привале сказал, усмехаясь: — Наш лагерь напоминает мне ярмарку в Хобокене… Только у нас прохладно, а там теперь, наверное, все страдают от жары… Но тут же он осекся: по лицам спутников он понял, что кое-кто не прочь поменяться с хобокенцами. Определяя местонахождение отряда, Де Лонг вдруг обнаружил, что, продвигаясь как будто к югу, они через неделю очутились на 28 миль севернее, чем в момент выступления. Выяснилось, что, пока они проходят одну милю к югу, их относит на три мили к северо-западу. Такое открытие могло обескуражить кого угодно. Никто не должен знать об этом, решил Де Лонг, иначе это вызовет полный упадок энергии. Сам он после бессонной ночи встал еще более решительный, чем нсегда. Нет, это только скверная шутка природы, он ей не поддастся. Капитан незаметно изменил курс экспедиции с юга на юго-запад; так как дрейф шел к северо-западу, то при юго-западном курсе они могли скорей пересечь линию дрейфа. Он сказал об этом только Мельвиллю. На ответственности Де Лонга были тридцать две жизни, он должен был доставить людей невредимыми на материк. Он думал об этом каждый час, каждую минуту. Щеки его осунулись, глаза ввалились. Эмма не узнала бы в этом скуластом, с распухшими, обветренными губами человеке блестящего флотского офицера Де Лонга. На пути экспедиции все чаще стали попадаться разводья. Де Лонг надеялся, что это указывает на близость большого чистого ото льда водного пространства. Однажды Денбар указал ему на скопившиеся на юго-западе облака. — Не похоже, чтобы такие облака нависли надо льдом, — сказал он. Взяв бинокль, Де Лонг взобрался на вершину одного из торосов. В бинокль были ясно видны земля и вода. Ближайшие Новосибирские острова должны были находиться в 120 милях от экспедиции. Стало быть, это что-то новое? Он дал распоряжение двигаться по направлению к земле. Однако земля была словно заколдована: разводья, водовороты, полыньи отбрасывали отряд от земли и разъединяли караван. “Мучились так, что я никогда этого не забуду”, — писал в дневнике капитан. Люди устали, промерзли, промокли, но близкая земля манила их: быть может, там они смогут отдохнуть на покрытых мохом откосах? Быть может, там найдется топливо? И они снова боролись со льдом и водой, тащили на себе боты и сани, прыгали по льдинам, проваливались в трещины. Наконец, 20 июля, Де Лонг вступает на берег. С трудом удерживаясь на крутом откосе, он водружает американский флаг. — Друзья, — говорит он высоким, взволнованным голосом, — этот остров, к которому мы пробивались больше двух недель, — наше открытие. Я принимаю его и называю островом Беннета. Ура, друзья!!! — Ура-а! — жидко закричали моряки, и их голоса поглотили снег, лед, вода. Матрос Ниндеман — долговязый верзила с длинными, висящими книзу усами — взобрался на холм возле Де Лонга. — Я не мастер говорить, ребята, — сказал он. — Новый остров — это, конечно, важная вещь и стоит ради него драть глотку. Но по-настоящему кричать “ура” надо в честь нашего капитана… Он молодец, каких мало, он вместе с нами работал, как вьючная лошадь, он… Ниндеману не дали договорить. Раздался такой восторженный рев, какого никогда еще не слыхали в полярных льдах. К Де Лонгу со всех сторон тянулись мохнатые рукавицы, и он не успевал пожимать все дружеские лапы, обнимать этих мужественных людей, с которыми его сроднили общий труд и общие невзгоды. Здесь же, на острове Беннета, капитан получил от команды прозвище “Биг Харт”, что означает “Большое Сердце”. Команда оценила заботы и старания Де Лонга, его желание поддержать во всех бодрость, его усилия сохранить им всем здоровье и жизнь. Вначале остров Беннета казался усталым, истощенным людям обетованной землей. Тут был плавник, годный для топлива, и в скалах гнездились тысячи птиц, которые могли служить пищей. Экспедиция с воодушевлением собирала образцы минералов и цветов, охотилась на птиц, грелась у костров и пила свежую воду из стекающих с горы ручьев. Но вскоре птицы сделались пугливыми и не подпускали охотников, топливо стало иссякать, его приходилось разыскивать. К тому же началась непогода. Ветер дул с такой силой, что было трудно удержаться на ногах, пронизывающий снег и град загоняли моряков в палатки. В палатках было тесно и мокро, у людей замерзали ноги, и тогда, чтобы отогреть их, они били по ним палками. Ночью с ближнего утеса снесло много камней. Они с грохотом лавиной катились вниз и обрушивались у палаток. “Из палатки № 2 все выскочили, мы же отнеслись к этому совершенно спокойно, — записал Де Лонг, — мы столько пережили, что готовы ко всему”. Непогода задерживала экспедицию на острове. Де Лонг приказал пристрелить десять самых слабых собак, в том числе своих любимцев — Тома и Джима. Это было тяжело, но слабые собаки много ели и почти не могли работать. “Я должен прежде всего думать о человеческих жизнях”, — записал в своем дневнике капитан Большое Сердце.К БЕРЕГАМ СИБИРИ
Отправляясь с острова Беннета, частью водой, частью льдом, Де Лонг разделил экспедицию на три группы — по количеству судов. Первым катером командовал он сам, вторым — Чипп, а капитаном китобойного бота был назначен Мельвилль. Де Лонг отдал Мельвиллю и Чиппу приказ держаться вблизи его катера, но, в случае если они потеряют друг друга из виду, двигаться на юг к берегу Сибири, а затем на запад, вдоль побережья, до устья Лены. Капитан предполагал добраться до Новосибирских островов, а оттуда направиться к поселениям на реке Лене. Он был убежден, что берега Лены густо заселены и что, достигнув реки, они немедленно встретят русских. Де Лонг и не подозревал, что из-за ежегодных изменений дельты всякая карта становится ненадежной. На самой подробной из его карт значилось восемь протоков реки, а на самом деле их было свыше двухсот. Сначала люди тащили боты и сани волоком, но лед то и дело сменялся водой, и тогда приходилось все вещи грузить в боты и спускать их на воду. Боты были перегружены, ледяная вода переливалась через борт. Иногда путь ботам преграждали льдины, и люди кирками разбивали лед, прокладывая себе дорогу. Приходилось идти то на парусах, то на веслах, и у многих руки отказывались служить. Уже становилось мало еды, не попадалось больше никакой живности, и капитан начал сокращать ежедневные порции пеммикана и консервов. Новосибирских островов все еще не было видно. Де Лонг скрывал от окружающих, как тревожит его отсутствие островов и чистой воды и большое количество молодого льда. Нечеловеческим усилием воли он заставлял себя спокойно отдавать приказания кучке истомленных людей, вновь и вновь тащить сани и боты, пробиваться сквозь льды, спать в насквозь промокших спальных мешках, бороться с течью в катерах. Каждый раз, когда он видел, что Ниндеман, Алексей или кто-нибудь из матросов изнемогает от усталости, он приказывал им отдыхать и сам садился за весла. Команда с удивлением и даже некоторой завистью смотрела на этого некрепкого с виду человека с маленькими, почти женскими руками, который, казалось, не знал, что такое утомление. Капитан сильно страдал от недостатка табака. Последнюю щепотку он разделил на четыре дня и курил ее, как скупец. Курение поддерживало его силы больше, чем еда. Команда давно уже курила старую кофейную гущу, и только у немногих счастливцев сохранился табак. Спустя несколько дней, когда последняя щепотка была уже истрачена и Де Лонг изнывал от желания курить, к нему подошел матрос Эриксен — рыжеволосый швед, ребячливый и застенчивый. — Вот, капитан, от наших ребят, — сказал он, неуклюже вытаскивая из кармана пачку табаку. Де Лонг покраснел: он не мог принять такую жертву. Но швед настаивал: — Вы должны взять. Ребята обидятся. У нас еще хватит на несколько дней. Тогда Де Лонг согласился взять щепотку на одну трубку. Но Эриксен насильно засунул ему в карман всю пачку. И неизвестно, что в этот день больше радовало капитана, — драгоценная ли пачка табаку или отношение команды. Матросы видели, что капитан Большое Сердце бродит по ледяному полю и улыбается, словно случилось что-то очень радостное. Экспедиции удалось пробиться к открытому морю. Показалась земля — это была, как и предполагал Де Лонг, группа Новосибирских островов. Был сильный ветер, волны заливали суденышко, приходилось все время вычерпывать воду. У Чиппа от ледяной воды сделались судороги. Денбар лишился чувств. Шторм трепал катера, то и дело приходилось пересекать попадающиеся льдины. Новосибирские острова — Котельный, Семеновский, Васильевский — были пустынны и голы. Только на острове Котельном стояла хижина, в которой Алексей нашел деревянную ложку, стакан и русскую медную монету 1840 года. Де Лонг знал, что на этих островах уже бывали русские полярные исследователи, в частности якут Санников, участвовавший в экспедиции Геленштрома. Но найденная монета показывала, что кто-то посетил Котельный уже после Санникова; очевидно, это была экспедиция Анжу. Впрочем, люди были здесь, по-видимому, очень давно. Еды становилось все меньше, изредка удавалось застрелить куропатку. В остальное время питались пеммиканом и чаем. Запасов оставалось на неделю, но Де Лонг был твердо убежден, что через три-четыре дня все они доберутся до селения на реке Лене. И опять — долгий, мучительно-трудный путь по морю. Стоял уже сентябрь — месяц штормов и шквалов. Море было очень бурное. Началась сильная качка. Де Лонг вычерпывал воду до тех пор, пока у него окончательно не онемели руки. Сквозь частую сетку снега не было видно ни второго катера, ни вельбота. Матросы пытались кричать, подняли на мачте черный флаг, но все было напрасно: очевидно, второй катер и вельбот взяли другое направление. На запад и восток тянулась низкая полоса земли. Де Лонг приказал идти к берегу. Это была Сибирь. Краткая запись в дневнике Де Лонга показывает, как сильно устали люди: “Разбили лагерь, не выставив дежурных”.ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ
Четырнадцать человек, проваливаясь, бредут по тонкому льду. У каждого за спиной большой мешок с палатками, одеялами и лекарствами. Продуктов осталось на четыре дня. Де Лонг так тонко нарезал последний пеммикан, что казалось, будто его много. Но себя он не мог обмануть: он знал, что если за эти дни они ничего не добудут в пути, им придется съесть последнюю собаку — Снуцера. Но что будет потом? Капитан не мог определить, где они находятся, предполагал, что высадились в дельте Лены и что до ближайшего селения около ста миль. Между тем у Эриксена открылась на ноге большая язва, он еле шел. Почти у всех пальцы на ногах потеряличувствительность. Многие хромали, приходилось останавливаться каждые четверть часа. Отряд пересек устье реки и направился по берегу к юго-западу. Приходилось идти по пояс в снегу. К счастью, было много леса, так что на стоянках все могли обсушиться и обогреться у костров. Часто попадались капканы. В одном из капканов увидели оторванную морду песца, в другом Ниндеман нашел чайку и с торжеством притащил ее капитану, но птица оказалась совершенно прогнившей. В том месте, где река поворачивала к югу, отряд внезапно натолкнулся на две хижины. В одной из них стояли две койки. По-видимому, это были охотничьи хижины якутов. “Мы остановимся здесь на несколько дней, а сильных ходоков пошлем вперед за помощью”, — решил Де Лонг. Люди обрадовались крову. Развели огонь. Эриксена и двух других больных уложили на койки. За рекой виднелось что-то похожее на хижины. Капитан послал на разведку Алексея. Эриксен глухо стонал. Остальные забрались под одеяла, стараясь заснуть. Де Лонг лежал с открытыми глазами. Кого послать за помощью? Сколько придется идти до ближайшего селения? Что из вещей можно употребить в пищу? От времени до времени он вставал и подкладывал в печь полено. Руки его ничего не чувствовали и плохо сгибались. Вдруг в дверь постучали, и возбужденный голос Алексея спросил: — Все спят? Де Лонг вскочил и кинулся к двери. Вошел Алексей, мокрый, продрогший, но торжествующий. — Капитан, достал двух оленей, — сказал он, кладя на стол оленью ногу и языки. Это было не просто мясо с костями, жиром и сухожилиями- это была жизнь! Люди радостно засуетились, в обеих хижинах началась стряпня, даже больные принимали участие в варке оленины. Два оленя, застреленные Алексеем, изменили планы Де Лонга. Теперь можно было переждать в хижине некоторое время, пока оправятся больные, а потом всем вместе идти дальше. Три дня люди были счастливы: сидели под крышей, ели вдоволь мяса. Больные немного ожили, и только Эриксен с трудом волочил ногу. Но прошли эти три дня, и снова четырнадцать человек пустились в путь. На этот раз им пришлось пересекать незамерзшие протоки и реку. Де Лонгу было тяжело смотреть на больных, которые еле шагали, стоная и жалуясь. Сам он шел позади, поддерживая и уговаривая матроса Ли: тот весь горел в лихорадке и просил оставить его спокойно умереть. Капитан ломал голову, придумывая, чем бы облегчить людям путь. Вместе с Ниндеманом он отобрал на привале несколько бревен и связал из них плот. Быть может, на плоту можно будет спуститься по реке? Но на реке начался отлив, и плот тотчас же сел на мель. Пришлось продолжать путь пешком. Путники часто проваливались сквозь лед, при этом обувь намокала и покрывалась снегом, который тотчас же замерзал. Тогда ноги делались громадными и неуклюжими, и каждому казалось, что он обут в многопудовые сапоги. Попадались проталины, и несколько человек провалилось в них по пояс, так что пришлось их вытаскивать. Запас оленины кончился, теперь на каждого приходилось в день около сорока граммов пеммикана и немного чаю. Эриксен чувствовал себя все хуже. Иногда он ложился на снег и отказывался идти дальше. Де Лонг подходил к нему. — Вставайте, Эриксен, — строго говорил он шведу, — немедленно вставайте. Помните, что вы находитесь в команде военного корабля. Дисциплина прежде всего. Ну, вперед! Но, говоря так, капитан чувствовал, что и ему, как Эриксену, хочется лечь на землю и не двигаться. Всей силой воли он заставлял себя прогонять такие мысли: нет, он не может распускаться, на его ответственности жизнь его спутников!ТРАГЕДИЯ У ТИТ-АРИ
Как тяжелый сон, чередовались дни, — все тот же лед и снег, все те же потоки ледяной воды. У Эриксена на ногах обнажились мышцы, и доктор говорил, что ему, по-видимому, придется ампутировать обе ноги. Алексею и Ниндеману удалось снова убить большого оленя, но оленины осталось очень немного, а между тем Де Лонг не мог определить, сколько же миль остается идти до поселения. На его карте у Лены к юго-западу стоял поселок Сагастырь, но теперь он уже с недоверием относился к карте. На ней не было и десятой доли тех рукавов и речек, которые им приходилось пересекать, так мог ли он верить в существование Сагастыря? К тому же отряд подошел к совершенно новой, незнакомой реке шириной в четверть мили. На прибрежном снегу виднелись два человеческих следа и стояла хижина, в которой Де Лонг увидел остатки свежей еды и золы. У капитана бешено заколотилось сердце. Люди! Спасены! — Если у Чиппа и Мельвилля все благополучно, они, конечно, выслали нам помощь, — сказал он доктору. — Возможно, эти два человека разыскивали именно нас. Он распорядился зажечь у хижины большой сигнальный костер. На крыше подняли флагшток с черным одеялом. С обеих сторон хижину окружала вода, и не было никаких материалов для плота. Приходилось ждать, пока замерзнет река, чтобы перебраться через нее, а припасов оставалось только на три дня. Алексей застрелил чайку, спустившуюся к флагу, и из нее сделали суп. Доктор ампутировал Эриксену пальцы на ноге, и он всю ночь бредил и не давал никому уснуть. Река замерзла, и отряд продолжал путь. Эриксена везли на санях, сколоченных Ниндеманом. Все были очень слабы. Де Лонг несколько раз падал на лед, голова у него кружилась и ноги были совсем чугунные, но он заставлял себя идти возможно быстрей и даже разговаривал с командой. Шел уже сто тринадцатый день с момента гибели “Жаннеты”, а поселка не было и в помине. Иногда путники видели человеческие следы и поворачивали в том направлении, куда они вели, но следы терялись на отмелях или в снегу, и снова, обескураженные, обледеневшие, изнемогающие от усталости и голода, люди шли куда глаза глядят, почти не выбирая дороги. Ночи не приносили отдыха. Дул пронизывающий ветер, люди никак не могли согреться. Эриксен без умолку говорил по-английски, по-шведски и по-немецки. Он вспоминал дом, мать, свою теплую постель. — Какой хороший коврик ты мне вышила, — говорил он нежно, — такой теплый, пушистый коврик. Я положу его у постели. Как приятно становиться на него ногами. Тепло-тепло… Де Лонга трясло, он старался не стучать зубами, чтобы не показать спутникам, как ему плохо. Алексей подполз к капитану, прикрыл его тюленьей шкурой и прижался к нему, согревая его своим теплом. — Попробуйте заснуть, Большое Сердце, — сказал он на своем забавном английском языке. — Ты славный товарищ, Алексей, — пробормотал Де Лонг, закрывая глаза. Ночью Эриксен сорвал рукавицы и отморозил руки. Де Лонг начал оттирать его, пока кровообращение не восстановилось. Он приказал убить Снуцера — больше не оставалось никакой еды. Пес, чувствуя недоброе, долго кружился вдали от лагеря, не подпуская к себе матросов. Но он тоже был голоден, и, когда А Сам разжег костер, Снуцер приполз поближе к огню. Это был пушистый, красивый пес с очень ласковыми черными глазами; он умел подавать лапу и громко лаял, когда ему говорили “проси”. Ниндеман направил на него дуло ружья и отвернулся. Через час все, кроме Де Лонга и доктора, с жадностью ели собачье мясо. “Сагастырь оказался мифом, — писал между тем Де Лонг, — я думаю, мы на острове Тит-Ари, на его восточном краю, около 25 миль от Ки-Марк-Сурку. Я надеюсь, что там встречу поселение”. Они нашли заброшенную хижину и забрались в нее, счастливые, что у них есть кров. На дворе началась вьюга. Алексей ушел за добычей, но вернулся с пустыми руками. Шел сто шестнадцатый день их путешествия, в этот день умер Эриксен. Земля промерзла, и нечем было рыть могилу. Тогда тело зашили в брезент и, пробив отверстие во льду, опустили в реку. Де Лонг приказал дать три залпа из ружей. Приготовили доску с вырезанной на ней надписью:В ПАМЯТЬ Г.Г.ЭРИКСЕН А.
6 октября 1881 года
Пароход США “Жаннета”.
Вся эта церемония очень утомила и без того усталых людей. Де Лонг боялся, что никто не сможет идти дальше. Но они все-таки выступили. Много раз они еще проваливались сквозь лед, пересекая протоки, останавливались, разводили костер, чтобы обсушиться, и шли дальше. Собачьего мяса больше не было. Алексею удалось застрелить куропатку, и это была его последняя добыча. Доктор сказал, что спирт в горячей воде прекращает терзающие боли в животе и поддерживает силы. Теперь вместо еды Де Лонг стал выдавать каждому унцию спирта в пинте горячей воды. Капитан подозвал к себе Ниндемана и Нороса — двух матросов, которые, по-видимому, были крепче других и до сих пор ни на что не жаловались. — Друзья, — сказал он, стараясь говорить как можно внятней и бодрей, — я поручаю вам идти вперед за помощью. Приблизительно в пятнадцати милях отсюда должно быть селение. Я уверен, что вы исполните мое поручение. Помните, что мы вас ждем, от вас зависит все. Обоим матросам дали с собой одеяло, ружье, сорок патронов и две унции спирта. Они тотчас же выступили в путь. За ними следом потянулись и остальные, но все были так слабы, что с трудом двигались и поминутно проваливались и оступались. “Едим куски оленьей кожи, — записывал Де Лонг. — Вчера съел свои чулки из оленьей кожи. Совсем изнемогаем”. Началась сильная вьюга со снегом. Люди не могли идти против ветра. Шел сто двадцать третий день похода. От Ниндемана не было никаких вестей. Снова и снова приходилось пересекать реки. У поворота одной из них Де Лонг заметил, что недостает Ли. Превозмогая боль в ногах и усталость, капитан повернулся назад. Ли лежал на откосе, зарывшись лицом в снег. — Нельзя лежать, ты замерзнешь, — дергал его за руку капитан. — Сейчас же вставай и иди! Вон, погляди, скоро уже селение, я вижу дым, гляди, гляди! — И он насильно подымал голову Ли, а та все выскальзывала у него из рук и бессильно повисала. Де Лонг уговаривал матроса и сам начинал верить, что где-то вдалеке, на юге, он видит подымающийся к небу дым. Он кое-как дотащил Ли до берега. Там, у пустого плота, уже лежали остальные. Были съедены все сапоги, и люди обернули ноги кусками палатки. Алексей уже не мог охотиться. Пожелтевший, сморщенный и какой-то маленький, он лежал рядом с Ли, и видно было, что он не доживет до следующего дня. И действительно, к закату Алексей умер, не выходя из забытья. Де Лонг прикрыл его флагом и вместе с доктором отнес тело на речной лед. Был ясный, солнечный, но очень холодный день. Всеми постепенно овладевало какое-то безразличие. Только в Де Лонге да в докторе сохранилась еще воля к жизни. Доктор отправился было вперед отыскивать более удобное место для привала, но сбился с пути и вернулся. Де Лонг все еще вел дневник, но теперь его несгибающиеся пальцы почти не могли держать карандаш, и он помогал себе подбородком. “Сто тридцать первый день, — выводил он. — Около полуночи обнаружили, что Каак, лежавший между мною и доктором, скончался. Около полудня скончался Ли”. Они были уже так слабы, что не могли снести тела на лед и только оттащили их за угол. Каждый день и каждая ночь приносила еще чью-нибудь смерть. Уже не хватало сил собирать топливо, жевали арктический мох — кипрей и лизали снег. Все постепенно впадали в тяжелую дремоту. Де Лонгу иногда слышались голоса, какие-то крики, казалось, что кто-то зовет его. Тогда он открывал глаза, приподымался и силился рассмотреть что-нибудь сквозь белую пелену снега. Но кругом было все так же пустынно и безмолвно, и только изредка стонал во сне кто-нибудь из товарищей. Де Лонг теперь механически отмечал в дневнике дни и “выбывших”: “Иверсен скончался рано утром. Ночью умер Дресслер…” Какие-то далекие-далекие картинки детства вспоминались капитану. Вот он маленьким мальчиком играет в мяч на зеленой лужайке. Горячее солнце бьет ему прямо в лицо, и он зажмуривается от этих жгучих лучей. А вот он же в морской куртке, нарядный и веселый, прощается с матерью, и та говорит ему об опасностях, которые таит в себе море. И еще чьи-то глаза — серые и печальные — глядели на него, и он силился вспомнить, чьи это глаза, пока вдруг не вскрикнул в голос: “Эмма!” — Джордж… Джордж… Вам плохо? — пробормотал доктор, стараясь дотянуться до капитана. Но Де Лонг уже очнулся: по очереди подползал он к каждому из своих спутников, трогал их лица. После этого капитан долго лежал, отдыхая. Понадобилось много сил, чтобы нацарапать в дневнике: “Воскресенье, 30 окт. 140-й день. Ночью скончались Бойд и Герц. Умирает Коллинс”. Ему очень хотелось опять увидеть Эмму. Он лег на бок и плотнее зажмурил глаза. К вечеру снег усилился. Снежинки падали на лицо капитана Большое Сердце и не таяли.ПОДНЯТАЯ РУКА
Из всего экипажа “Жаннеты” в живых остались только команда китобойного вельбота во главе с Мельвиллем и Даненовером и Ниндеман с Норосом. Чипп и его бот пропали без вести, по-видимому погибли в море. После тяжелейших испытаний Ниндеман и Мельвилль встретились в поселке Булун, и Мельвилль тотчас же решил отправиться на поиски Де Лонга и его отряда. Но организовать поиски в якутском селении было очень трудно. Мельвиллю помогали всем, чем могли, русские ссыльные, которые жили здесь на поселении, но они находились под надзором и не могли свободно передвигаться. Припасов было мало, саней и собак также, и Мельвиллю не удалось найти ничего, кроме нескольких старых стоянок Де Лонга. Между тем наступила глубокая зима, и розыски пришлось отложить на весну. Мельвилль остался в Сибири и всю зиму деятельно готовился к поискам. В середине марта все было готово. Мельвилль с Ниндеманом отправились из Кас-Карту по направлению к Устарду, где капитан Де Лонг пересекал реку. Ниндеман узнал место и начал искать хижину, где умер Эриксен, но найти ее не смог. Тогда вместе с Мельвиллем они отправились в южном направлении, осматривая по дороге все мысы. Наконец у широкой реки Мельвилль увидел следы большого костра. — Они здесь! — закричал он Ниндеману. В пятистах метрах от костра из снега торчали четыре палки, связанные канатом. Мельвилль выскочил из саней и увидел высовывающееся из снега дуло ружья. Он думал, что отряд Де Лонга, устав нести груз, оставил здесь часть вещей и оружия. Вместе с Ниндеманом он подошел к берегу и попытался с помощью компаса определить место, чтобы потом вернуться сюда за вещами. Неожиданно нога Мельвилля наткнулась на какой-то предмет. Звякнула крышка, и он увидел чайник, наполовину занесенный снегом. Он нагнулся, чтобы откопать его, и заметил, что снег в этом месте имеет очертания человеческого тела. И тут вдруг он увидел почти у самого своего лица поднятую маленькую, почти женскую руку. Мельвилль тотчас же узнал ее: это была рука Де Лонга. Капитан лежал головой к северу, лицо его было обращено на запад, рядом лежали доктор Амблер и китаец-повар А Сам.
Александр Поповский. ИСПЫТАНИЕ Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Темиркл высоко засучил рукава, потянулся, точно набираясь свежих сил, и положил на колени свой комуз. Прежде чем заиграть, он плюнул в щель на грубо выструганный стержень и легким поворотом затянул им струны. Стержень заскрипел, заглушая низкое звучание инструмента. Это был несложный музыкальный прибор, музыкант смастерил его пилой и стамеской. Гриф вышел немного кривым, корпус слабо выпуклым и неуклюжим. Струны из бараньей кишки, привязанные к лоскуту кожи и прибитые гвоздем, лежали неровно. Спичка служила им подставкой, три дырочки в доске — для резонанса. Старик склонил голову, рука спустилась на комуз и краем ногтя игриво прошлась по струне. Легко, чуть касаясь, она скользнула вдоль грифа и — пошла плясать, извиваться, как акробат на натянутой проволоке. Неугомонные пальцы то стремительно мчались, то замедляли свой бег, неслись вперегонки, плясали без удержу, точно одержимые. Истомленные восторгом, излив свою радость, они покорно склонились и нежно прильнули к струнам… Комуз тихо стонал. Так длилось недолго. Рука вдруг взлетела и ринулась вниз. Лицо музыканта вспыхнуло гневом, из груди вырвался крик возмущения. Струны дрожали, удары сыпались градом, рука колотила их неистово, буйно… Пальцы унялись, слабо вспорхнули и, точно пчелы на цветок, приникли к струнам. Снова мир и согласие, они покорны и нежны, комуз вторит им ласково, мягко… Старик низко склонился, губы его шепчут, точно благословляют их дружбу и мир… Хмельная рука, безрассудная, что с ней! Она пляшет локтем по струнам, ходит взад и вперед, как смычок, то будто чистит ботинок, то полощет белье, рубит дрова… Музыкант багровеет от натуги. Комуз рвется из рук, он вскочил на плечо, на лоб, и всюду его настигает хмельная рука. Дивная пляска! Словно с тем, чтобы восполнить бедность гармонии, музыкант призвал на помощь всю ловкость своих рук. Джоомрт, восхищенный, хлопает в ладоши, сестра его Сабил громко смеется. — Прекрасно, Темиркул, спасибо. Старик проводит рукой по жидкой бородке и протягивает комуз Джоомарту: — Теперь послушаем тебя. Ты когда-то был гордостью нашего рода. Сын лучшего комузиста Кутна и внук великого певца Асна. Джоомарт отклоняет похвалу: — Никто тебе не поверит. В Киргизии не было комузиста лучше тебя. Ты так обрадовал нас, словно мы услышали игру твою впервые. Сабиля улыбается и кивает головой: да, да, верно, это действительно так. — У тебя был славный отец, Джоомарт. Я любил его больше жизни. Он умер у меня на руках, я никогда не забуду его. Джоомарт придвигает гостю пиалу, белая влага в ней шипит. — Выпейте, Темиркул, вы, кажется, любите крепкий кумыс. Сабиля умоляюще простирает руки, она просит не отказать и выпить. Глубокие глаза ее под крутыми бровями — два озера под суровым Хан-Тенгри. Темиркул отодвигает пиалу. Позже, в другой раз. Ему хочется думать об умершем друге. — У него было гордое сердце и счастливые руки. Умирая, он горевал, что с комузом должен расстаться… Ты весь в него. Как две росинки под солнцем. Ребенком ты сладил себе комуз и, подражая отцу, стал петь и играть. Помнишь? Забыл? Джоомарт улыбается: еще бы не помнить. Семи лет его звали на свадьбы, на поминки, на скачки. Одаряли ситцем и чаем, давали ярок и коз. Слава о нем дошла до Таласа. Добрый старик ничего не забыл, друг отца остался другом и сыну. Джоомарт отходит к окну. Он немного взволнован, снимает со стены старый комуз, сдергивает и прячет черную ленту. — Третий день. Темиркул, я спрашиваю себя: чем мне обрадовать славного гостя, что бы такое ему подарить? Это комуз отца, возьми его на память. Гость не верит своим ушам, он испытующе глядит на хозяина, переводит глаза на Сабилю и жадно хватает подарок. — Благодарю, Джоомарт, благослови тебя бог. — Его голос дрожит от волнения, он прижимает подарок к груди. — Слишком щедро, Джоомарт, я не стою такого подарка. — Я знал, что ты будешь доволен. Комуз отца всегда нравился тебе. Ответ Джоомарта огорчает старика. Они знали, что ему нравится комуз Кутона, и, возможно, сочли его алчным. В таком случае он не может принять подарок, ему надо отказаться. Пусть говорят что угодно, но не считают Темиркул а жадным. — Ты очень щедр, Джоомарт, но не мне, Темиркулу, играть на комузе Кутона. Возьми его назад, мой дорогой. Отказаться от подарка? За что такая немилость? — Ты обидел меня, Темиркул. Я предлагал тебе комуз от чистого сердца. — Я возьму его в другой раз. Даю тебе слово. Сейчас я не смею, не должен. Старик стоит на своем. Напрасны уговоры, решение его твердо. — У тебя милая сестра, Джоомарт. И муж у нее славный. Где он сейчас? Теперь уже бесполезно его уговаривать, надо отвечать на вопрос. — Он инструктор колхозов, — отвечает Сабиля, — и разъезжает по сыртовым хозяйствам. — Я хотел бы его видеть. — Он где-то тут недалеко и обещал сегодня приехать. — Она что-то вспомнила и торопится добавить: — Мы одни на джайлау, и мне страшно оставаться далеко от людей. Когда Мукай уезжает, я спускаюсь к Джоомарту. Сабиля улыбается гостю и брату. Они не должны ее строго судить — никому не понравится жить одному в безлюдных горах. Старик доволен ответом, он понимает ее: — Сыграй, Джоомарт, что-нибудь. Я давно не слышал тебя. Голос ласков, под опущенными веками таится печаль. Джоомарт глядит на сестру, на лице ее ищет совета. Она взглядом советует ему уступить. Он берет комуз, трогает струны и поет. Его голос дрожит, и звуки и слова, точно крошки ребята, неверно ступают. Проходит минута, другая, и песня смелеет, наливается скорбью и тоской. …Это случилось давно, когда землей и джайлау владели манапы, в волостях собиралось начальство в кокардах, а в аулы наезжали слуги царя. Жил тогда среди киргизов манап Мурзабк, богатый и именитый властитель. Он был высок и дороден, с большим сизым носом и жирной морщинистой шеей. Зимой и летом носил на голом теле халат, любил баурсак по утрам и бараньи глаза за обедом. Еще любил Мурзабек, чтоб его величали “великим манапом” и “батырем”, хвалили за мудрость, за добрые дела. Жил манап в высоком каменном доме, в тесных комнатах, забитых столами и стульями, шкафами и кроватями. Летом- в юрте, покрытой белыми кошмами, убранной коврами, серебром и золотом, высоко на джайлау. Дети его учились на далеком севере, в том городе, где была зимовка белого царя. Строгие порядки были заведены в доме. Манап вставал рано утром, молился и следил, чтоб молились другие. Два джигита вносили самовар-исполин и ставили на серебряный поднос. Подражая великому манапу Джантаю, он приказывал класть себе пищу в рот, вытирать губы после еды, ухаживать как за ребенком. Поиграв с сыном и маленькой дочкой, он нацеплял на грудь медали с орлами и с важным видом, надменный и суровый, принимал людей. С низким поклоном входили ишаны, муллы и народ. Жалоб было много: у одного жестокие люди украли дочь, у другого похитили молодую жену, третий провинился перед русским начальством и искал у манапа поддержки. Кто просил позволения жениться, кто пришел за разводом. Бедняк принес жалобу на недоброго бия, — судья отобрал у него жену за то, что он не внес налога для манапа. Окончен прием. Сбросив вместе с медалями спесивую гордость с себя, манап звал певца-музыканта Кутона, сына Асана. Того самого Асана, благословенна его память, который играл для деда и отца Мурзабека. Растянется манап на мягком ковре, долго нежится, дремлет под песню Кутона. Проснется и снова пошлет за Кутоном. И в гостях не расстанется с ним — порадует хозяев своим музыкантом, пристыдит и осмеет чужих певцов… Джоомарт умолкает. Комуз беззвучен. Песня вся впереди, долгая, грустная песня. Темиркул неподвижен. Его руки сплелись, голова чуть склонилась на грудь. Джоомарт едва слышно вздыхает. Сабиля тоже вздыхает; ей всегда грустно, когда брат играет. Песня снова звучит, комуз скорбно вторит ей… Однажды летом, когда Кутон у зимовки убирал урожай, к нему явился джигит Мурзабека. Манап звал Кутона к себе на джайлау. Его гость Боронбай — манап Сусамыра — желает послушать сына Асана. “Я останусь без хлеба, — сказал Кутон джигиту, — дай мне убрать урожай”. Джигит рассмеялся: у него на зимовке хлеб убрали другие, мало ли на свете услужливых рук. “Ты не уважаешь манапа, нельзя заставлять его ждать”. Музыкант чуть не плакал от горя: “Позволь мне хотя бы убрать половину… Пожалей моего сына и жену”. Была у вора честность, у джигита жалость. “Твои слова, точно ветер, проходят мимо моих ушей. Отправляйся со мной! Молись, чтоб твоя дерзость не дошла до Мурзабека”. Хлеб остался нескошенным в поле. Кутона увели на джайлау. Манап Боронбай приехал не один, с ним был его любимый комузист Авача. С этим музыкантом Кутону пришлось состязаться. Весь день и всю ночь они играли и пели, никто не хотел ославить себя и своего господина. Охрипшие, усталые, они свалились к утру: один с тяжелой головой от кумыса, другой с грустной думой о нескошенном хлебе. Три дня музыканты пели и играли. Авача был хорош, но Кутон куда лучше. На четвертые сутки не стерпел музыкант, он бежал с джайлау убрать свое поле. Бежал на коне — давнем подарке манапа. Разгневанный Мурзабек послал трех джигитов в погоню. Они настигли беглеца у зимовки, привязали его к коню и доставили на джайлау. В тот день Кутон плохо играл и не славил в своих песнях манапа. “Ты напрасно хвалил своего музыканта, — сказал гость Боронбай Мурзабеку, — твой Кутон, дорогой мой, не стоит козла”. “Ты прав, милый гость, я не спорю. Авача твой прекрасен, пусть берет себе коня моего музыканта. Для плохого певца и осел — аргамак…” Комуз хрипит, струна дрожит, обрывается. Сабиля прячет лицо и бледнеет. Ей стыдно и больно: манап Мурзабек оскорбил ее отца, он сделал киргиза лежачим. Она не помнит отца, не видала его, но Джоомарт ей так много о нем говорил, так крепко его любит поныне. Темиркул склонил голову набок, глаза его вскипают обидой. Он сам был свидетелем этой истории. Комуз звучит, песня уверенно льется… Оскорбленный Кутон себя показал: на старой клячонке стал с новыми песнями разъезжать по аулам. Он пел о поборах, о насилии баев, о власти манапа, суровой как смерть. Мурзабек приказал изловить музыканта, доставить смутьяна на суд. Он созвал стариков всего рода, зарезал коня, наготовил кумысу и вывел Кутона. “Покайся пред ними, — сказал Мурзабек, — ты виноват перед родом”. Музыкант улыбнулся и ничего не ответил. Ни угрозы, ни крики не смутили его. Он так ничего и не сказал. Манап приказал мелко изрубить и истолочь сноп соломы. Муку и солому замесили в воде, липкую массу круто смешали и густо наложили на бороду Кутона. Покрытого позором, с бородой, точно камень на шее, его обвели вокруг стариков. Кутон отлежался после обид и побоев, сел на коня — и за прежнее дело. Тогда десять джигитов подписали бумагу, что Кутон — конокрад и грабитель. Его связали, судили и сослали в Сибирь. Так и вышло, как в песне поется: не борись с сильным, не ищи у манапа правды. Трудно пришлось семье музыканта. Манап отобрал все, что раньше дарил. Обрушилось небо на слабые плечи. Легко ли бедной женщине и кошмы валять, и арканы выделывать, прясть и косить, исполу сеять и жать. Мальчику шел тринадцатый год, ребенок — не помощник в хозяйстве. Не на чем было летом юрту возить, да и что им на джайлау делать? Будь у них кобылица, коровы и козы хотя бы на время, они вернули бы их баю с приплодом, работой бы ему отплатили. Никто к ним не ходил, никто с ними не знался: у раба нет родственников, у обиженных — друзей. Один Темиркул навещал их. Нищий певец без коня и хозяйства, он веселил народ по аулам. Его песни не щадили ни джигита, ни бая, ни самого Мурзабека. Нелюбимый манапом, он голодал, побирался, терпел нужду и лишения всю жизнь. Шли месяцы, годы… Вырос сын музыканта Кутона, состарилась мать, все изменилось, одна нужда оставалась прежней. Вспомнил о семье Кутона Мурзабек и прислал вдове на время корову и несколько коз. Вдова получала молоко и шерсть, и за это поливала посевы и доила всех манапских кобылиц. Сын помогал отгонять от кобыл жеребят. Не было у Джоомарта отца, и мать учила его, как жить и трудиться. Он любил ее голос, печальную речь и долгие грустные песни. Она пела о счастливом времени, когда не будет зимы и вся жизнь киргиза пройдет на джайлау. Не будет болезней, кони и люди не будут стареть. Еще она пела ему: О свет мой, единственный мой, Как мне расстаться с тобой? Сокола кормит степь широкая, Утку и чирка — озеро глубокое. Кто бедную мать пожалеет? Кто накормит, кроме тебя? О свет мой, единственный мой, Как мне расстаться с тобой? Сын любил мать, пел и играл ей песни отца. Бывало, вечерами, когда хлынет с гор прохлада и луна взойдет над землей, вдруг послышится тихое пение и жужжание комуза. В юрте матери и сына нет огня, сквозь рваные кошмы видны звезды на небе. Соседи оставят свои костры и соберутся послушать молодого Джоомарта. Не всем хватит места вблизи музыканта, внутри станет тесно, и юрту облепят свои и чужие. Хозяйка поднимет наружные кошмы, всем будет видно и слышно. Время за полночь, молодой музыкант спел все песни отца, но никто не уходит, все ждут еще чего-то. Тогда Джоомарт воспевает соседа: он честен и добр, скот любит его, счастье знаться с таким человеком. Польщенный сосед оставляет подарок, и другой, и третий, и четвертый растроганы — всех привел в восторг молодой Джоомарт. Весть дошла до манапа. Сын Кутона, внук славного Асана, своей игрой веселит народ. Мурзабек велел привести музыканта. Пусть сыграет манапу, его не обманешь, он знает толк в песне и комузе. Джоомарт явился к манапу в рваном чапане, с грустной улыбкой на бледном лице. Он сыграл и пропел любимую песню Кутона. Ту песню, которую Мурзабек так любил. Манап, бледный, взволнованный, глаз не сводил с Джоомарта. Аткаминеры и джигиты с нетерпением ждали, что скажет манап. Мурзабек вскочил с места, сбросил с плеч свой халат и отдал его музыканту. Внук Асана — Джоомарт занял место отца у Мурзабека. Манап ничего не жалел для него, он дал ему денег, овец и коня. Одно лишь смущало Мурзабека — сын Кутона казался ему без души. Ни льстивого слова, ни любезной улыбки манап не добился от него. Бывало, он поет веселую песенку: Придет счастье к земле — Сна цветет, зеленеет. Придет счастье к человеку — Он, как пес, наглеет. Придет счастье к зеленому лесу — Его ветки цветут и шумят. Придет счастье к глупому человеку — У него два самовара кипят. Все смеются, хохочут, один лишь музыкант спокоен, за сжатыми губами точно прячется обида. И в пору удачи Джоомарта, и в пору несчастья Темиркул оставался другом семьи, навещал его мать, утешал ее скорбь. Беда поразила киргизский народ. Десять лет отбирали у него землю, теснили к горам, к бесплодным ущельям. И грозой грянул царский указ призвать киргизов в военно-тыловое ополчение, угнать с родной земли на север и запад, где третий год идет война. Не было этого раньше, и поднялся возмущенный народ, восстал. Он поднялся на защиту земли и джайлау, мазаров, родных и друзей, против байских и манапских насильников. Прискакали казацкие сотни. Они сжигали аулы, уводили и резали скот. Сорок тысяч кибиток, сорок тысяч киргизов с женами и детьми покинули страну своих предков. Молодежь уходила в изгнанье, старики умирали у родных пепелищ, киргизские девушки в праздничных платьях бросались в пропасть со скал… Род ушел за кордон. Труден был путь через великий Тянь-Шань, за людьми следом шли метели и болезни. Голодные овцы стонали, как дети, верблюды и кони валились с ног. “Будь проклят царь русских шакалов, — говорили джигиты. — Мы найдем себе родину, где нет казаков, — одни мусульмане, братья киргизы”. В новой отчизне не стало лучше: весною и осенью с хозяйств собирали налог для манапа. Те же десять овец и десять рублей, что на родине у русских, всем платить без отказа. У бедняка отбирали жену, возвращали ее в родное семейство и из калыма покрывали налог. Тс же порядки, то же насилие, и везде и во всем рука Мурзабека. Придут ли враги мириться к нему — за труд ему дай баранов и денег. Угонит ли скот один у другого — опять суд манапа, снова плати. А что он творил с матерями и женами! Отберет у одного и другому продаст, за чужую жену получит кобылу. Джигиты манапа жили разбоем. Хозяйства оставляли на батраков, сами уходили к русской границе обирать караваны, нападать на заставы, тайком провозили опиум в страну. Джоомарт попросился у матери! “Уедем отсюда, я не в силах терпеть манапскую милость”. Мать говорила: “От себя и от рода никуда не уйдешь. На чужбине ты будешь “керме” — инородец, для каждого и всякого чужим”. Сын стоял на своем: лучше уехать, он чует несчастье, чует беду. “Я буду малаем — батраком богача. У меня много сил, я крепче скалы”. “Ты не знаешь, Джоомарт, долю малая. Малай должен молчать, терпеть унижения и на людях бая хвалить. Покорную шею меч не берет, — покорись Мурзабеку, оставайся в роду”. “Позволь мне уехать, — твердил сын, — эта пустыня — не моя родина”. “И пустынную родину надо любить. Сурок не уйдет из своего темного царства, его родина мрачна, как могила”. Где им было друг друга понять. Прошло лето, зима. Мать вдруг заболела и умерла. На руках у Джоомарта осталось хозяйство и шестилетняя крошка сестра. И еще одна забота была у него — помочь бедной Алиле, дочери земляка-пастуха. Ее сосватали в детстве за трехлетнего сына соседа. Он вырос больным и горбатым, с изъеденным оспой лицом и с душой, как у ядовитой змеи. Она отказалась стать женой горбуна. Ее отцу отомстили барымтй — угнали его лошадей. Бедняк поспешил к Мурзабеку. Манап положил: с отца ослушницы дочери взыскать трех коней и пятнадцать баранов. Суровое решение! Отдать все добро за свободу Алили! Бедняжка пришла к музыканту, просила слово замолвить манапу. Джоомарт попытался заговорить с Мурзабеком, но тот отказался слушать его. Музыкант снова решил попросить: манап — тщеславный ханжа, при гостях он уступит. Подоспела пора, собрались гости, Джоомарт пред манапом спел и сыграл: Стало мне жаль, когда тучи затмили Сиявшую в небе луну. Стало мне жаль, когда в жены отдали Красавицу горбуну. Стало мне жаль, когда погубили В горах цветок молодой. Стало мне жаль, что достался Алиле Муж-калека, глухой и больной. Мурзабек улыбнулся: “Ты прав, Джоомарт, жаль бедную Алилю. Я просил уже аллаха меня вразумить”. Он издевался над музыкантом. “И что аллах вам сказал?” “До сих пор ничего, я еще раз ему помолюсь”. Джоомарт не смолчал, посмеялся при людях над Мурзабеком. “Я расскажу вам преданье, великий манап, о созвездии на северном небе. Жили на свете семь грешных душ, семь жестоких разбойников. Днем они воровали, душили людей, а ночью изводили аллаха раскаяньем. После их смерти аллах обратил лицемеров в созвездие, и на северном небе засверкали семь звезд. Да простят мне за вольность: боюсь, что в тот день, когда великий манап покинет землю, в том созвездии вспыхнет восьмая”. Кто мог ждать от Джоомарта подобных слов? Он был дерзок, и многое прощалось ему, но так оскорбить главу рода! Манап побелел и гневно взглянул на джигитов. Витая камча тяжело опустилась на спину Джоомарта. Он вздрогнул, упал, и голова его словно ушла с тех пор в плечи. “Узнаю в нем Кутона, — злобно бросил манап. — Что вошло с молоком, изойдет лишь со смертью”. Бедняжку Алилю отдали калеке, а с Джоомартом поступили, как с отцом его, Кутоном: обвинили в конокрадстве и отдали под суд. В новой отчизне судили не мягче, с людьми обходились хуже зверей. Били нещадно тяжелым суюлм — палкой с корневищем на конце — и легким бамбуком. Спину изломают, руки отрубят — и все на виду у людей. Где нет тюрем, человека, как пса, прикуют на цепи. Просидит так несчастный неделю и месяц, и отошлют его, бросят в вонючую яму, сырую и скользкую дыру, кормить будут редко — сухарем и водою. После суда наденут на шею колодку и пустят по свету страдать. Доска на плечах хуже пытки и смерти. Она не даст ему лечь, и он спать будет сидя, рука не достанет ни носа, ни рта. Добрые люди ему пищу в рот сунут, вытрут нос и умоют лицо. Сколько их на базарах с колодками на шее! Сколько их по белому свету! Страшно подумать, лучше умереть. Поздней ночью Джоомарт бежал из аула. На руках у него была сестренка Сабиля, за плечами комуз и сухая лепешка. Ни гор, где он родился, ни страны, где он жил, Джоомарт не узнал. Царя давно не было, не осталось его слуг, правил в Пишпек киргизский народ. Все, кто любили новый порядок, ушли воевать с басмачами. Еще он узнал, что отец его, Кутон, вернулся из Сибири. Два года пел он свои дерзкие песни и умер на руках Темиркула. Джоомарт оставил сестру и с отрядом ушел воевать. С той поры прошли годы, забылась война, невзгоды, несчастья. Из памяти многое ушло, но крепко запомнились день отъезда с отрядом и день возвращения домой. Их усадили в большие вагоны, дали каждому винтовку, шинель. Дверей было много, и окон не меньше, и все же в вагоне было душно, темно и томила тоска. И поезд и город он видел впервые, все было ново, чудно. Его пугало окно, за которым горы и небо, словно вспугнутое стадо, куда-то неслись. От шума и мелькания путались мысли. Хотелось на волю, туда, где земля стоит твердо на месте и ничто не шелохнется. Все, казалось бы, знакомо — и земля, и стоянки, и ряды голубых тополей… Сколько раз он в седле любовался ими. Теперь ему казалось, что горы словно смеются над ним. То расступятся и очистят дорогу, то вознесутся до неба, чтоб обрушиться в пропасть и сгинуть. Предгорья стелются у тропинок, на них наседают холмы, и те и другие тянутся к небу, а у каждого бремя — гора на плечах. Только хребты возвышаются на воле, им лишь одним дано вознестись. Вершинам все можно, они носят чалму из белого шелка — дар аллаха и пророка его. День отъезда был полон волнений и трепета, грустных предчувствий и надежд. Прошло восемь лет. Джоомарт жил на равнине, где все просто и ясно, как на ладони. Он многому научился и, счастливый, ехал домой. Окно больше не пугало его, мысли крепко сидели, ни смутить их, ни спутать никому не под силу. Когда поезд оставил степные просторы и на пути встали горные дебри, пред мысленным взором Джоомарта была та же равнина, все было ясно раз навсегда… Джоомарт снова умолк. Воспоминания о прошлом взволновали его, на смуглом лице застыла тревога, и голова глубоко ушла в плечи. Он встал и прошелся по комнате. Невысокий, сутулый, он, казалось, согнулся под бременем чувств. Сабиля поднялась и нежно обняла его: — Ты забыл, Джоомарт, что с нами гость. Он может подумать, что ты им недоволен. Темиркул покачал головой: нет, нет, ничего, он так не подумал. — Я понимаю его. Твой брат на веку своем много страдал. И лягушка не стерпит, когда придавишь ее. Джоомарт поднял голову и улыбнулся. Широкое лицо его с крепким загаром, карие глаза в раскосом разрезе и поднятые скобками брови — все просветлело. Из полуоткрытого рта блеснули два ряда мелких зубов, на правой скуле обозначилась ямочка. Всех озарила чудесная улыбка. — Ты все такой же добрый, Темиркул. Все так же любишь меня. Старик ничего не сказал, только брови — седые и острые — сомкнулись у переносицы. Они сидели втроем — молчаливые, грустные, каждый занятый мыслью о былом. Кругом было тихо, только маятник часов суетился и болтал на своем языке. — Я всегда говорил: мир жесток, люди — звери. — Старик не поднимал головы и как бы произнес это про себя. — Из земли исходит золото, из человека лукавство, — продолжал он. — Сердца их как камни, в глазах — вечная жадность. Джоомарт любовно коснулся плеча старика: — Вы напрасно скорбите, с этим злом скоро будет покончено. Уже додумались, как это сделать. Люди заживут дружной семьей. На лице Темиркула ничего не прочтешь: и острые брови, и морщинистый лоб, и угрюмая складка на мягких щеках безмолвны. — Слова твои — чистое золото. Говори, Джоомарт. — Все переменится, от старого и следа не останется. Не будет сытых и жирных, худых и голодных, каждый получит свое. Мы соберем всех, кто страдает, и в сердца их вольем дружбу и любовь. Старик смеется от счастья, один Джоомарт это видит. Улыбка все еще где-то на дне его сердца, но отблеск ее уже светится во взоре. Старик никого не обманет, никого! Вот он склонился к Джоомарту и крепко целует его. — Ты пошел весь в отца, он тоже умел мечтать и верить. У Кутона были светлые, ясные мысли и добрая, непогрешимая душа. — Это не грезы, добрейший Темиркул. Когда я задумываюсь над людскими делами, мне приходит на память то, что я видел у нас на Атбаше. Эта быстрая река, неспокойная и злая, разделяет долину на неравные части. По одну сторону — джайлау и поля, а по другую — больница, школа и почта. Река размывала мосты, и в пору разлива — три месяца кряду — по ней ни проплыть, ни проехать. По одну сторону пустовала больница, а по другую — народ болел и страдал. До школы, казалось, рукой подать, а детям к ней не добраться. В реке погибали люди, кони и скот. Так было всегда и еще протянулось бы долго. Явился инженер — молодой человек в желтой кепке и кирзовых сапогах, созвал людей и сказал: “Так нельзя дальше жить, нужен мост, чтоб связать оба берега. Дайте нам сильных и смелых людей, мы проложим дорогу через поток, избавим вас от несчастий”. За ним пошли молодые киргизы. Они часами простаивали в бушующих водах по грудь в воде, синели от стужи, но не уступали. Нельзя было сдаваться — двадцать аулов правого и левого берега с надеждой взирали на них. Там, где людей разделяла река, крепко связал их каменный мост. Справедливо говорят: ничего нет на свете сильнее дружбы. Старик кивнул головой: — Ты умно говоришь, я понял твою притчу с мостом. Терпенье, терпенье, это не все. Ему давно уже хотелось поговорить по душам. Он впервые, пожалуй, за всю свою жизнь сегодня так много говорит. Джоомарт улыбнулся от удовольствия и, словно опасаясь, что ему помешают, продолжал: — Это не притча. Люди всегда мечтали о том, чтобы жить нераздельной семьей. Все сказки народов, предания и песни — тоска по миру и любви. Обманутые вождями, они во имя согласия и дружбы убивали себя и других. Так было раньше. Мы собьем этот мост по-иному. Созовем обманутых со всех концов света… Темиркул вдруг берет его за руку: — Зачем собирать их со всего света? Каждый народ заботится о себе, только внутри рода люди живут друг для друга. О нет, Джоомарт с ним не согласен: — Мы им скажем: “Довольно жить для себя! Люди жаждут согласья и дружбы. Сядем за стол и обсудим”. Темиркул уступает, пусть будет так. — Ты обрадовал меня, Джоомарт, теперь я могу тебе рассказать, зачем я приехал и какое у меня дело к тебе. Внимательно слушай, ничего не упускай. Теперь, как и раньше, ничего не прочтешь на его угрюмом лице. Одному Джоомарту видна его радость. — Я слушаю тебя. Когда умные люди со мной говорят, я затягиваю пояс и бросаю за пазуху слово за словом. — Так и надо, хвалю. Наш род, Джоомарт, шлет приветы тебе и Сабиле. В каждом письме наши друзья вспоминают о вас. Вот что они пишут, погляди или дай лучше я прочитаю. Он вытягивает из-за пазухи склянку без горлышка и насыпает за губу насвай. Сунув склянку на место, он вынимает из рукава листочек мятой бумаги. Темиркул не спешит, он разглаживает усы, проводит рукой по седой бороде и, как знакомую песню, нараспев читает письмо: — “Дорогой брат Темиркул, сын Керима,гордость и счастье нашего рода! Мы пишем тебе из чужой стороны за семью перевалами от джайлау отцов и дедов наших. Передают нам, что для вас настали радость и счастье, земля и джайлау — ваши, вы трудитесь дружно и баранов у каждого вдоволь. Еще передают, что ты, Темиркул, стал большим человеком, поешь и играешь для знатных людей, бог тебя наградил за прежнюю бедность. Стало нам известно, что начальником вашего аула — сын Кутона, Джоомарт, помоги ему бог за прежние слезы. Слыхали мы также, что вам было трудно вначале — и голод и джут донимали. Мы плакали здесь над вашим несчастьем и надоели аллаху своими молитвами. Теперь все плохое прошло, скота у вас больше, чем воды в Иссык-Куле, глину мазаров будете замешивать на чистом кумысе кобылиц. Мы просим тебя, наш брат Темиркул, пожалеть нас, несчастных и бедных, помочь нашим детям вернуться домой на землю отцов. Мы желаем увидеть тебя и Джоомарта, вами похвастать и себя показать. Много киргизов уже вернулось домой. Они явились к заставе, и их пропустили. Мы тоже решили послать людей и просить у Джоомарта поддержки. Он и сам много лет служил на границе, знает начальство и друг коменданта пограничной заставы. Еще говорят, что под высокой рукой Джоомарта собрались киргизы, которые отслужили свой срок на заставе. Мы готовы признать власть Джоомарта, уважать и любить его”. Старик снова достал насвай, спрятал письмо и, немного помедлив, сказал: — Я приехал к тебе просить за наш род. Наши братья страдают и терпят лишения. Ты знаешь, я провел свою жизнь в нужде, никто не жалел Темиркула, никто его не щадил. Советская власть дала мне достаток и славу. Аллах для меня столько не сделал. Нам с тобой хорошо, почему не помочь нашим братьям? Они не всегда были к нам справедливы, но род из сердца не вырвешь, он сидит глубоко. Кобылица перекликнется со своим жеребенком, и у нее молоко потечет. Как моему сердцу не отозваться, крови моей не вскипеть… Давно отзвучали слова старика, он все сказал, что хотел, пора Джоомарту ответить. Сабиля смотрит на брата. Глаза его прищурены, и морщины легли вдоль лица. Он о чем-то задумался. — Ты еще не решил, Джоомарт? Он вздрогнул, точно проснулся. — Ты прав, Темиркул, пора им вернуться. Их встретят здесь с радостью. У киргизов одна только родина — наша земля. Старик, довольный, кивает головой. У славного Кутона достойные дети. — У них нет никого здесь, твой долг вступиться за род. Председатель колхоза, ты должен помочь им у коменданта, а надо будет, и в городе Фрунзе… Слово колхоза — большая поддержка. Джоомарт с ним согласен, но он все еще думает о другом: — Поможем, конечно, ни в чем не откажем, но только не всем. Не всякому место у нас. Темиркул удивленно взглянул на Сабилю. Она опустила глаза. — Я, должно быть, не понял тебя, Джоомарт? Джоомарт продолжает: — Мы не пустим в колхоз детей Мурзабека, аткаминеров-грабителей, аксакалов-обманщиков, баев и бия. Контрабандисты-джигиты нам не нужны. Из сорока кибиток половина останется там. Старик не понимает его: — Ты как будто сказал: “Мы созовем обманутых со всех концов света… Сядем за стол и обсудим…” Не хочешь ли ты утешить всех, кроме братьев по роду? Как трудно иной раз до конца быть правдивым. Ну как это объяснить добряку Темиркулу? — Я с ними жил и прекрасно их знаю. Лучше им оставаться там. — Ты хочешь рассеять нас по белому свету, свой род разрубить, как змею? — Нет, Темиркул, я хочу сберечь наш колхоз. Лучше двадцать кибиток здоровых, чем сорок гнилых. — Нельзя помнить зло, ты слишком суров. Он хочет знать правду? Что ж, Джоомарт ничего не скроет от него. — Это наши враги, они не привыкли жить так, как мы. Им бы грабить людей, провозить контрабанду, скот отбивать у колхозов, травить наши пастбища, бить зверей у границ… Нет того зла, которого они нам не сделали. Джоомарт вскипает, дрожит от волнения. Темиркул, наоборот, спокоен и тверд. И в движениях рук и в кивке головы есть что-то уверенно-ясное. — Как беркуты и грифы, обожравшиеся гнилью, они сюда налетят заразу отрыгать… Пусть шлют делегатов, начальник заставы разберется, но в колхоз я врагов не приму. Так и передай им, Темиркул. Джоомарт сжал кулаки, стиснул зубы, точно враг уж стоял у дверей. Сабиля испугалась и отошла в дальний угол. Темиркул стоит на своем: — Нельзя вспоминать то, что было давно. Время меняет всё на земле. Из розы выходит колючка, из колючки рождается роза. — Они остались врагами, я знаю… — Откуда ты знаешь? Расскажи и мне, старику. Джоомарт смущенно опускает глаза. Он чуть не выдал себя. Больше он ни слова не скажет. — Не знаю, что ты прячешь, но с родом ты, я вижу, порвал. — Да, да, порвал. Так и передай! Старик вдруг бледнеет, со вздохом встает и снова садится: — Я не буду об этом рассказывать. Мне стыдно сознаться, что сын моего друга отрекся от меня. Джоомарт, удивленный, тоже встает: — Что ты, опомнись! Разве я от тебя отрекался? Он огорчен и встревожен, просит старика не сердиться. Что с ним случилось? Откуда этот гнев? — Ты забыл, Джоомарт, что мы братья по роду. Кто порвет с моим братом, рвет и со мной. У реки свой исток и свое устье, у человека своя семья и свой род. Чу отказалась от старого русла, отреклась, ушла в горы и в степь. Питала река великое озеро, теперь блуждает по свету, бежит одинокая по земле. Упрямый старик, он судит так, словно мир стоит на месте. Придется ему объяснить. Кто мог подумать, что он сам не поймет. — Ты не прав, Темиркул… Старик гневно встает, не дает Джоомарту слово сказать: — Ты не подумал над тем, что сказал. Лишать людей родины — грех, отрекаться от братьев — позор. Кто роду изменит, предаст и родину. Джоомарт отвечает на это улыбкой, он ничуть не в обиде. Темиркул его друг, а друзьям ошибаться позволено. — Опомнись, родной мой, ведь мы так рассоримся. Люди, изгнавшие меня и тебя, не стоят нашего спора. — Ты прав, Джоомарт, так можно поссориться и стать врагами… Дай я лучше сыграю тебе. И снова его рука заплясала по комузу. Он пел о небе, о луне и о звездах. Солнце — зеркало божье, в которое он смотрит днем. Камни — жилы земли. Не будь этих камней — земля бы рассыпалась в прах. Он оставил свой комуз и запел о батыре, о герое народа. Снова комуз звучит, нежно стонет. Рука музыканта несется по струнам, по нитям из бараньей кишки. Она хлещет их бритвой, свирепо бьет острием. Чудесные руки! Сталь им покорна, она рождает веселье, бодрые звуки и смех.***
Никогда еще Джоомарту дорога к заставе не казалась такой длинной и трудной. День был солнечный, теплый. Лошадь шла полем золотистого мака, топтала алую поросль альпийских лугов. Справа чернела тянь-шаньская ель и сверкал ручеек между скалами. Чистое небо, голубое и ясное, прозрачные дали и ветерок с ледников навевали покой и раздумье. Джоомарт бросил повод, потянулся в седле и засунул руки за пояс. Оттого ли, что комуз и чудесный старик стояли у него перед глазами, оттого ли, что звуки знакомых напевов звенели в ушах, — сырты в этот день показались ему необычными. Каждый кустик и камень, как старый знакомец, будили в его сердце острое чувство, давнюю память о былом. Тропинка карнизом лежала над пропастью, лошадь жалась к скалистой стене, а всадник глядел на лощинку в ущелье, видел давние события, забытые дни. Да, сырты в этот день обрели дар слова: всюду слышался шепот, настойчивый зов. И лишайник на вершине утеса, и цветочная пыль на копытах коня, и грозный ледник, сползающий вниз, напоминали ему о себе. Было время, Джоомарт исходил тут все горы, облазил все уголки. Пограничный отряд их стоял в том ущелье, где стрелой убегала река. Командиром бойцов был Степан Краснокутов, нынешний начальник пограничной заставы. Им приказали: пройти Туз, Кайенды, взять Май-Баш и Джаинджир. Они шли по сыртам, по неведомым тропам, по висячим мостам над обрывами. Мосты скрипели, качались под ногами коней, кони со страхом ступали. Позади была стужа, ледовые отроги, мучительный путь через два перевала, впереди — кусок родины и боевое задание: установить там советскую власть. Они дневали в пургу, на полях ледников, ночевали в бору, где попало. Нарубят кольев из ели, в землю воткнут по нескольку в круг. “Дом” покроют хвоей и снегом, и встанет вдруг ночью аул среди леса. Каждый свою “юрту” назовет именем родного джайлау и спит на чужой стороне, в горах родного детства. А иной раз ночевали и так. Не было ни кольев, чтоб аул городить, ни веток, чтобы юрту строить, и спать ложились на снегу, укрывшись с головой тулупами. Пурга снежным покровом заносила людей. Дозорным к утру не найти лагеря, пока бойцы не проснутся и дыбом не встанут сугробы. То были тягостные дни. Сырты точно восстали против отряда: навстречу неслись буйные реки. Утром спокойные, они днем наливались бешеной силой, грохотали камнями, смывая все на пути. Связанный канатом, отряд стеной шел потоку навстречу. Скользкие тропки по краю обрывов… Сколько угроз на каждом шагу! Дорожка вдруг съежится, конь тяжко дышит, чуть брюхом не ползет по карнизу. Земля дрожит под ногами, осыпается и пылью уходит вниз. Тропинка то исчезнет под снегом, то растает подо льдом. На крутых поворотах шевельнется тревога — не покажется ли встречный на узкой тропе, двум на ней не разойтись… Таков был Май-Баш, неприступная крепость врага. У последней преграды командир обратился к отряду: — Товарищи бойцы! За этим перевалом укрепился наш враг. Два аула овладели границей. Мы долго терпели, отводили им джайлау, посылали хлеб и товары. Бандиты и изменники, они ограбили лавки, напали на заставу и ушли за кордон. Они вернулись, и мы должны их изгнать. Граница Советов должна быть советской! — Есть, — отозвался отряд. В тот день Джоомарта послали в разведку. Он карабкался в “кошках” по отвесной горе. Конь, подкованный на три шипа, едва поспевал за ним. Ночью Джоомарт пробрался к противнику и разглядел басмачей — то были джигиты, его братья по роду. Бой был недолог, слуги Мурзабека бежали. На границе утвердили советскую власть. Отряд вернулся с отарой овец и караваном верблюдов, груженных добром. Возвращаться отряду было не легче: верблюды страшились скользкого льда, ревели, не трогались с места. Краснокутов придумал спускать их, как вьюки, с тропинки на тропинку. Обернутые в кошмы, обвязанные крепкими канатами, они с ревом скользили на руках пограничников вниз. Там, где отлогую дорожку ледник покрыл ледяною корой, верблюдов стаскивали вниз, как тюки. Они срывались со снежной вершины, неслись по льду, как лавина, застревали у подножия горы. С тех пор на груди Краснокутова и дозорного отряда Джоо-марта красуются ордена Красного Знамени… Конь под Джоомартом оступился, и воспоминания о былом оборвались. Всадник дернул поводья, и лошадь ускорила шаг. Кругом было тихо, солнце давно отошло от кордона, оставив во мгле чужую страну. Вблизи взвился беркут, затмив на мгновение сияние дня. С тех пор как джигитов изгнали из Май-Баша, точно камень залег в груди Джоомарта. Его наградили за отвагу и смелость, командир Краснокутов стал его другом, но дозорный в тот день не все рассказал командиру заставы. Он скрыл, что джигиты — его братья по роду, не сказал из стыда за себя, за свой род. И еще один грех у него на душе. Это было недавно, всего два года назад. Двое киргизов сообщили на заставе, что видели банду в ущелье. Начальник собрал свободных бойцов и спустился в долину. Пока Краснокутов блуждал по ущелью, ловкий враг обошел его верхней дорогой. Возвращаясь с объезда, Джоомарт заметил верховых, окликнул и погнался за ними. Это были джигиты — его братья по роду, он мог бы назвать их по имени. Они узнали и окликнули Джоомарта по имени. Он лежал за скалой и осыпал их огнем, пока, раненный в ногу, не выронил винтовку. Джигиты вышли тогда из прикрытия и дорого поплатились — двое упали, сраженные пулей. Отряд подоспел Джоомарту на помощь, завязалась борьба, и банда скрылась за кордоном. В тот день был ранен начальник заставы, пуля пробила правое легкое и засела в лопатке. Он долго болел, кашлял кровью. Крепкий, с лукавой усмешкой в глазах, он потускнел и осунулся. Поныне в минуты волнения он кашляет остро и надрывно, лицо бледнеет, и лоб покрывается птом. И опять Джоомарт умолчал о том, что бандиты — его братья по роду. Было тяжко молчать и еще тяжелей сознаваться. Он старался как мог загладить вину, не щадил своих сил, со всякой работой справлялся. Однажды начальник заставы сказал ему: — Из отряда увольняется много бойцов, хорошо бы их устроить здесь, у границы. Создать хороший колхоз, помочь им на первое время. Соседние аулы охотно примкнут. Славное дело: ребятам поможем и киргизов научим хозяйничать. Мы уволим тебя из комендатуры, если тебя изберут председателем. Грустно было Джоомарту расставаться с друзьями, но надо было загладить давнюю вину, и он уступил. Вначале их было семнадцать дворов, потом двадцать пять и, наконец, стало семьдесят. Не отличишь вначале колхоз от заставы: те же люди и кони, подводы и машины. Каждый боец считал себя шефом: как не помочь родному хозяйству? Где проводить свободное время, как не в колхозе, у своих? На току, на лугу, на огородах — всюду нужны рабочие руки. Кто-то завел учетную доску, повесил ее на виду у заставы. Все знали теперь, что творится в колхозе: кто отстал, не справляется, кто впереди, в чем нуждается хозяйство. У шефа-красноармейца наметанный глаз, он стоит на посту у проезжей тропинки, зорко следит за ближайшим холмом, а завидев колхозника, остановит его. Расскажи ему, как дела в подшефном хозяйстве. Много ли скосили, убрали, пропололи? Выполняют ли нормы ребята? Вернувшись с поста, он новость объявит в отряде. Так в трудах и заботах шли годы. Давняя вина поблекла в сознании, и только сейчас, с приездом Темиркула, всплыла в памяти Джоомарта. Лошадь шла шагом, всадник думал и вспоминал… Опомнится, глянет на небо, на тесное ущелье справа от дороги, и снова мысли уведут его далеко. Никогда еще дорога к заставе не казалась Джоомарту столь длинной. Краснокутов сидел на крылечке и грелся на солнце. Его бледные руки отдыхали на острых коленях, желтое лицо с синевой под глазами казалось печальным. Он был нездоров или чем-то встревожен. С ним так бывало: после приступов боли лицо долго хранило следы перенесенных мук. Миновали страдания — человек полон бодрости и сил, а осунувшееся лицо по-прежнему скорбит. Начальник заставы протянул Джоомарту бледную руку. — Что нового у тебя? Говорят, богатеешь? Джоомарт рассмеялся: ему повезло, начальник шутит и весел. В такие минуты он ничего для колхоза не пожалеет. — Да, все хорошо. Лошадей не хватает сено убрать. Краснокутов спокойно машет рукой: — За деньги достанешь. Хоть табун отдадут. Председатель колхоза не возражает, можно купить, но до базара далеко, три дня добираться, а ждать нельзя ни минуты. Да и денег не хватит… Может быть, у заставы занять? Начальник не склонен ни деньгами ссужать, ни раздавать казенное имущество. — Ты когда нам вернешь посевной материал? Ревизия нагрянет — кому отвечать? Джоомарта осеняет счастливая мысль: — Были бы кони, сейчас бы завез. У вас, говорят, две пары свободны. Кстати, прихватим ваши косилки, они без дела стоят. Темная тучка находит на солнце, и прохлада срывается с гор. Краснокутов вдруг ежится и прячет руки в карманы. Оттого ли, что солнце его больше не греет, или хитрость Джоомарта не пришлась по душе. Он тоскливо глядит себе под ноги. — Ты, может быть, “кстати” захватишь и нас? Тебе ведь нужны и рабочие руки. Резкий ответ не пугает Джоомарта: упрямец остынет, он даст и косилки, уступит коней. — Впрочем, отряд и так уже днюет и ночует в колхозе. Хотел бы я знать, каким это зельем ты их опоил? — Кто их поймет… Карие глаза в раскосом разрезе лукаво уставились в окно. На правой скуле обозначилась ямочка. Как хотите, он еще сам в этом не разобрался. — Должно быть, название понравилось, — говорит Джоомарт. — Не всякий колхоз носит славное имя Степана Ильича Краснокутова. Начальник смеется и сразу становится другим. Его теперь не узнаешь: розовый, с доброй усмешкой в глазах. Вот и солнце взошло, потеплело, можно руки по-прежнему греть. Он встал и точно вырос — крепкий, высокий, широкий в плечах. И лет ему, видно, немного, тридцать пять, тридцать шесть — не больше. Рядом с ним Джоомарт, невысокий, сутулый, точно с грузом забот на плечах, кажется мальчиком. — Погоди, Джоомарт, у меня к тебе дело. Он берет его под руку и уводит к себе. — На каком счету у тебя Сыдык Кадырбаев? Сыдык Кадырбаев? Странный вопрос. Неужели он не знает, что Сыдык его тесть? — В колхозе он на хорошем счету. Активист. Бригадир. В плохом не замечен. — Вполне, значит, наш человек? Сказать, что он тесть, или выждать немного? Краснокутов хитрит, он сам, верно, об этом знает. — Колхозник, как все. По-моему, наш. Краснокутов доволен, он и сам так думал. — Мы его задержали, он у нас под арестом. Нам стало известно, что он дружит с купцами, бывает на стоянках. Возможно, что в этом ничего плохого: обычные связи друзей, близкой родни или братьев по роду. Как бы там ни было, нам надо знать, какие у него дела с иностранцами. Сегодня он выехал каравану навстречу, пошептался с купцами и вернулся. Когда часовой его окликнул, он ударил коня и бежал. Его поймали случайно: он на подъеме пустил коня вперед, а сам уцепился за хвост. Испуганная лошадь вдруг понеслась, поволокла старика и оставила его на дороге. Вначале он дельно отвечал на вопросы, затем вдруг заявил: “Не понимаю по-русски”. Убеди его, пожалуйста, не лукавить, мало ли что купец мог ему предлагать… Краснокутов привел невысокого роста киргиза. В ичигах и калошах, в чапане из армячины, подпоясанный ремнем в серебряных бляшках, в тюбетейке, подшитой малиновым бархатом, он, казалось, нарядился на праздник. На плоском лице с расплывшимся носом нависли, как крыши пагоды, разросшиеся брови. Густые и черные — точно их холили, чтоб в их чаще прятать нескромные мысли. Сыдык, по обычаю, не хочет садиться, уступает свой стул Джоомарту. Тот придвигает ему табуретку. Церемонию на этом кончают. Сел и начальник. У него к старику два—три вопроса. — Давно вы знакомы с купцами? Старик безголосый, он может только шептать, двигать бровями и кивать головой. — Давно ли? Не знаю. Должно быть, недавно. — Можно так записать? Сыдык в затруднении, он не знает, что делать: позволить или лучше смолчать? — Не надо. Постойте. Краснокутов послушен, он даже согласен помочь старику: — Вы, может быть, мало их знали? Мгновение раздумья, и Сыдык едва слышно шепчет: — Сейчас не припомню. Может быть, знал. — Значит, так записать? Уже и записывать… Уследи за собой в такой спешке. Ему ничего, напишет письмо, заклеит конверт, и “попала твоя птица в чужие тенета”. Первым теряет спокойствие Джоомарт: — Ты смеешься, тесть, над начальником. Почему ты не скажешь, как было дело? Он стыдит старика, упрекает в неправде: зачем он сказал, что не знает по-русски. Надо быть честным: застава своя, не чужая. Сыдык вздыхает и морщится. Он, конечно, неправ и напрасно обидел начальника. Тяжелый вздох и кивок головы заверяют Джоомарта, что он честно исправит ошибку. Краснокутов спокоен. Он как ни в чем не бывало начинает сначала: — Вы знали купца или встретили его впервые? Старику не сидится на табурете. Одна нога уже лежит на сиденье, подобрать бы другую, и куда было б легче размышлять и вести разговоры. — Я немного его знал. Раз-два уже видел, только не близко, издалека. — Значит, не были вовсе знакомы? — Не понимаю по-русски. Биль мейда. — Поговори с ним, Джоомарт, по-киргизски. Начальник чуть бледен, мучительный кашель душит его. Джоомарт просит начальника: — Прикажи мне подать холодного пива, в горле у меня пересохло. Краснокутов приносит бутылку, наливает стакан и первый осушает его. Джоомарт к своей кружке чуть прикоснулся. Начальник это заметил. — Почему ты не пьешь? — Я сейчас не хочу. Ты выпей еще, кашель пройдет. Тебе пиво всегда помогает. Начальник смеется: этот плут Джоомарт его перехитрил. Джоомарт был всегда к нему нежен. — Спасибо, мой друг… Проклятая рана, сил нет терпеть. Помнишь, как джигиты нас обстреляли? У тебя все прошло, а у меня, видишь, ноет. Все забыли о драке, одному мне ее не забыть. Напрасно он вспомнил об этом: Джоомарту взгрустнулось и стало не по себе. Краснокутов заметил перемену: — Что с тобой, Джоомарт? Ты так странно взглянул на меня. Уж не совесть ли тебя заедает? Как можно иной раз нехорошо пошутить. Старик сидит мрачный, нежность друзей его озлобляет. Он не знал, что Джоомарт до того лицемерен, застава ему ближе родни. Сыдык сознается Джоомарту. Не то шипит, не то шепчет ему: он давно знал купца, добряк привозил ему приветы и письма от сородичей из-за кордона. Старик пригибается к уху Джоомарта, вверяет ему еще одну тайну. Шепот его почти угасает: — Ты узнаешь потом настоящую правду. Она касается тебя и твоей родни. Противный старик, он достиг своей цели: посеял сомнение в сердце начальника. Краснокутов все видел и понял — Джоомарт не все ему перевел. Председатель колхоза вдруг заспешил: ему надо вернуться в колхоз, коней он захватит, а за косилками завтра пришлет. Краснокутов не склонен его отпустить: — Куда ты торопишься, расскажи мне о себе. Как ты живешь, как Сабиля? Говорят, она уехала от тебя, вышла замуж за агронома Мукая. И это он знает, за двадцать километров все слышит и видит. — Уже другой месяц. Мукай сейчас тут. — Помогает колхозу или так, отдыхает? Джоомарт недоволен: Мукай не такой, чтоб без дела сидеть. — В прошлом году он привез нам пшеницу, какую не сыщешь нигде. На сыртах, по соседству со льдами, она принесла урожай. Теперь он привез нам ячмень. Начальнику это известно, Джоомарт просто не понял его. — Я знаю, что в колхозе любят Мукая. Особенно любят, конечно, Курманы. Ведь он их сородич. Породнившись с тобой, он осчастливил своих — у них завелись два “советских начальника”. Я спрашиваю тебя, доволен ли ты? На этот вопрос Джоомарт ему не ответил.ГЛАВА ВТОРАЯ
Противное письмо! Не было времени съездить на почту, и он три дня носил его в кармане. До почтового ящика не так уж далеко, но каждый раз возникали препятствия. То конь был в разгоне весь день, то из виду упустил, был у почты и не вспомнил. На обратном пути ему показалось, что с такими вещами не надо спешить. Стало жаль агронома Мукая: кто знает, как больно его заденет письмо. Тем временем почта осталась далеко позади. Дома его ждало письмо от Сабили. Печальная весть: она бросает учиться и выходит замуж за агронома Мукая. Вот что значит молчать, без толку носиться с письмом. Бедная сестрица, крошка Сабиля… Нет, он не допустит, есть еще время помочь. Первое дело — отправить письмо. Бездельник агроном оставит ее в покое. Он примчится еще сюда за прощеньем. Джоомарт поскакал обратно на почту и сунул в ящик помятый конверт. Проклятое письмо, оно застряло в щели, словно встало на защиту Мукая. Этот жалкий человек с повадками слюнявой старухи, жадной до вздора и глупостей, ему всегда был противен. Все, казалось, в нем рассчитано, чтобы осквернить то, что свято другому, прийти в умиление от того, что другому претит. В колхоз он явился случайно. Приехал к сородичам в гости. Род Курманов обрадовался важной родне: агроном, холостой и богатый, каждому лестно было заполучить его к себе. Ему поставили юрту вблизи ледника, убрали ее коврами, увешали добром. Он надел ичиги и чапан, ел бешбармак и джарму, ел без вилок, руками и хранил кумыс в чаначе. Сядет на стул, подожмет одну ногу, другую или свернет их калачиком и, довольный, улыбается: что мол, поделаешь, сила привычки. Точно и не было в прошлом никакого рабфака, долгих лет жизни в Москве, — он цеплялся за то, что в колхозе уже отмирало. Мукай любил свою страну, был ей предан, нет слов, но любил странной любовью. Ему были дороги отжившие традиции, забытые порядки и обычаи, он дорожил всем, что осталось от печального прошлого. Ни манапов, ни баев агроном не любил, но во вкусах с ними близко сходился. Надо быть справедливым, он крепко тогда помог молодому колхозу. Надолго запомнилась первая весна — первые испытания в новом хозяйстве. Всего не хватало: и людей, и машин, и семян… Гость без слов засучил рукава и занялся делом. Он впервые посеял на джайлау пшеницу, раздобыл посевное зерно. Мукай был везде: и за плугом, и на опытном поле, всех он увлек своей страстью. “Пусть как хочет живет, — думал Джоомарт, — мало ли на свете странных людей”. Но тут агроном выкинул новую штуку — он влюбился в Сабилю, сестру Джоомарта. Ей семнадцатый год, а ему тридцать семь. Ребенок — и зрелый мужчина, какая это пара? Да и зачем она ему? Девчонке надо учиться, окончить рабфак и выйти в люди. Мукай как тень стал ходить за Сабилей, являлся домой, бывал у нее на рабфаке. Джоомарт написал агроному письмо и выложил ему все, что у него накипело. Пусть не обольщается, он мерзок ему, глубоко ненавистен, и быть его родственником Джоомарт сочтет за несчастье. Сабиля — жена агронома Мукая! Что за нелепость. Давно ли Джоомарт носил ее на руках, лепил ей коровок из глины. Она так похожа на их бедную мать: та же речь, тот же голос и те же движения. Годы уходят, а память не расстается с былой маленькой крошкой Сабилей. Вот она спит в колыбели, губы раскрыты, неровные зубы блестят. В маленький ротик, точно в щелку улья, пробралась оса. Бедняжка проснулась, машет руками и плачет. Злодейка ей сделала больно, искусала до крови язык… Мать вчера схоронили, весь аул плакал, рыдал, одна Сабиля не знает… Джоомарт запустил ей змея до облаков, тешил ребенка и забавлял. Мать в небе на змее, она оттуда все видит; надоест ей летать, она спустится вниз. Крошка ждет, когда мать вернется домой. Прошли сутки, другие, змей все под небом, мать еще там. Малютка не знает, что змей ночами лежит под кроватью, брат запускает его по утрам. Время бежит, а кажется, это было недавно… Дошло ли письмо до Мукая или уже не застало его, — он неожиданно явился с Сабилей в колхоз. Джоомарт не ждал увидеть их вместе. Агроном улыбнулся, протянул ему руку, сестра поцеловала брата. Джоомарту оставалось только смириться. Он отвел им в своем доме лучшую комнату, выделил все, что мог, из хозяйства. Надолго запомнилась эта встреча Джоомарту. Кругом были скамейки и стулья, а Мукай опустился на пол. Рядом села Сабиля. Джоомарт скрепя сердце молчал. Сабиля оглядела отведенную комнату и сказала, что уберет ее по-другому. Ковер она повесит на передней стене, окна не нужны, их лучше закрыть. Брат удивился: окна завесить? Как можно? — Скажи ей, Мукай, что это глупость. Агроном усмехнулся и погладил ее: — Она права, Джоомарт, комнату убирают именно так. Не надо быть гордым. У народа есть чему поучиться. В тот же день к агроному пришли друзья из рода Курманов. Каждый принес с собой подарок: кто подушку, кто коврик, кошму, сундучок или посуду. Удивленный Джоомарт пожимал плечами: — Откуда это все? Их словно предупредили. Мукай плутовато подмигнул Сабиле: — Ты точно не знаешь порядков. Братья по роду в нужде помогают друг другу. Он сдержал свое слово и дом убрал наподобие юрты. Вдоль передней стены на ленчиках поставили окованный жестью сундук. На нем уложили одеяло зеленого цвета, два ковра и четыре подушки. Искусные руки сложили все вдвое и втрое — пусть думают, что добра тут в два—три раза больше. Окна закрыл белый войлок, стеганный алым узором. По правую сторону, как заведено в юрте, вокруг самовара расставили пузырьки с этикетками и разноцветными бутылками, медный поднос прислонили к стене. Со старым будильником и яркой тарелкой в углу он служил украшением дома. Кровать поместили влево от входа, и в этом сказался обычай. На ней шелком покрыли две старые кошмы. Во дворе новобрачным поставили юрту с резными дверьми: агроном не любил ночевать среди стен, его тянуло на воздух, к открытому небу. С Сабилей что-то случилось, ее не узнать. Куда девалась прежняя твердость, все, чему учил ее брат? Словно слепая, она во всем следовала за агрономом. Иногда ей становилось как бы не по себе, она опустит вдруг глаза, смутится и все-таки сделает так, как того хочет Мукай. Жили они весело, гостей полно. Каждый приносил с собой угощенье: кто барана, кто денег, кто кумысу. На упреки Джоомарта агроном отвечал пожатием плеч: — Народ меня любит, не гнать же из дома людей. Нельзя быть жестоким — ив печалях и в радостях надо быть вместе с ними. Это не было ложью — агроном не щадил себя для других. К нему приходили во всякое время; он каждого выслушает, объяснит, растолкует без излишнего чванства, сердечно и просто. К нему привыкли как к старому другу, точно он всю жизнь провел среди них. Всем было с ним хорошо, одному Джоомарту мучительно трудно. Получил ли Мукай письмо? Что у него на душе — гнев или чувство обиды? Какая неосмотрительность — оскорбить человека, в руках у которого жизнь сестры. Что, если агроном ему вздумает мстить и злобу обратит на Сабилю? Как смягчить его сердце? Просить прощенья у него? Он все сделает ради Сабили.***
Дома Джоомарт не застал уже гостя. Темиркул ушел и унес свои пожитки. На том месте, где он сидел у стола, скатерть была сдвинута, еще слышался запах табака и насвая. Жена встретила Джоомарта радостной вестью: тамырчи — врачеватели — нашли-таки причину, почему у нее нет детей. Во всем виновата птица улар. Эти лгуны тамырчи заверили бедняжку Чолпан, что она бездетна из-за птицы улар, которая обитает в горах Нарын-Тау. Как только улар околеет, все пойдет по-хорошему. Она дала врачевателю денег, и теперь он явился с новой вестью: птица околела, но сожрал ее гриф с перистым ошейником, и злая воля улара вселилась в него. Сейчас он в Китае. На обратном пути грифа встретит стрелок, он убьет обжору, сожжет его тело и пепел развеет. — Ты не веришь, Джоомарт? Все приметы говорят о том же. Джоомарт ничего не ответил. Сказать: “Все это ложь, не верь им, Чолпан, птица тут ни при чем”? Разве бедняжка Чолпан поверит? Она тоскует по ребенку и скоро два года, как не знает покоя. Тамырчи изрядно испортили ее. Лечили конским салом, давали по куску в два кулака на голодный желудок, морили голодом, заставляли выпивать по ведру воды в сутки. Они клали ей на лоб и к губам траву, мякину и камыш… Лечили сурово, беспощадно. Чолпан высока и стройна, выше мужа на полголовы, и удивительно сильна. Она любит леденцы и орехи и мечтает о ребенке. — Ты перестал меня жалеть, Джоомарт. Она склонилась к нему, облизала свои сладкие губы и языком отодвинула леденец за щеку. — Неправда, я очень жалею тебя. Он думал сейчас о Мукае. Темиркул мог бы расспросить агронома, получил ли он письмо. — Ты в дороге забыл обо мне, — продолжает огорчаться Чолпан. — Сознайся, ведь так? Рука ее лежит у него на плече, глаза ждут ответа, а он думает о своем. Найти бы Темиркула, сбросить с себя эту тяжесть. — Ты даже не смотришь на меня. Твои мысли не здесь. — Что ты, Чолпан, я помнил. Все время помнил. — Ты обещал мне привести крыло грифа. Мне нечем дом подмести. Кто знает, ты, может быть, убил бы того грифа из Китая. Он обещал и забыл, дорога на заставу прошла в размышлениях. — Я виноват, моя родная, попроси у меня что-нибудь другое. Она прижалась к мужу и обожгла его жарким дыханием: — Отпусти меня на гору Сулеймана. Там есть такой камень, кто хоть раз на нем полежит, через год станет матерью. Новая история, кто это ее надоумил? — Глупости, Чолпан, я свезу тебя лучше в больницу. Мрачная мысль вдруг осеняет его, и он спрашивает жену: — Куда ушел Темиркул? Он ничего не сказал? Ей обидно, что он заговорил о другом, глаза ее сверкают гневом, под зубами захрустел леденец. — Он ушел жить к Мукаю. Ушел и тебе не оставил привета. Джоомарт ее больше не слушает. Какой трудный день: на заставе он обидел старого друга, здесь с ним поссорился добряк Темиркул. Впрочем, тем лучше: он поедет к Мукаю, заодно помирится с тем и другим. Чолпан не видит, что мысли Джоомарта далеко, она просит пустить ее на гору Сулеймана, сердится, обнимает его. У нее есть чудесные новости. Коза отца ее, Сыдыка, забодала сегодня собаку, пес тут же околел. Прошлой ночью из мазара, который стоит у ключа, видали пламень и дым. Заглянули внутрь — там дьявол разводит костер. А сам он старый-престарый. Она насильно сует мужу в рот леденец. Как можно отказываться от такого удовольствия. — Насчет горы Сулеймана ты, пожалуй, прав. Глупости, конечно, ложиться на камень. Так можно нажить большую беду. Я бы только попросила аллаха, чтоб стрелок не дал маху- убил грифа с перистым ошейником. Там легко этого добиться, Джоомарт. Она затаила дыхание, леденец неподвижно лежит на губах. Неужели откажет? Джоомарт молча направляется к двери. Она забегает вперед и становится перед ним на дороге: — Ты пустишь меня? Отвечай! Ей не стоит труда схватить его за горло и до тех пор душить, пока он не скажет: “Поезжай”. Экий злодей, он так ничего и не ответил. Джоомарт наконец понял, в чем дело. — На гору Сулеймана? Ты туда не поедешь. Она трясет его за плечи и кричит ему в лицо: — Ты не смеешь, ты пустишь! Сабиле все можно, тебе ничего не жаль для нее! Ты любишь ее больше меня… Она больно сжала его плечи. Сколько сил в ней дремлет! Соседи перестали пускать ее в дом; она так тискает ребят, так жадно их ласкает, что они плачут от боли. Ее злоба иссякла, она плачет от горя: — У каждого бедняка есть ребенок… У каждого нищего свое утешение… Джоомарт не знает, чем утешить ее. Пустить на гору Сулеймана? В колхозе его засмеют. Он других убеждал этого не делать. Нет, нет, невозможно. Он садится с ней рядом и клянется, что любит ее, он убьет десять грифов, доставит ей крыльев на много лет. И дети у них будут, всему свое время. Он не может пустить ее; председатель колхоза не должен быть суеверным, ему этого не простят. Пусть потребует от него что угодно другое. Он оставляет ее в слезах и уходит. Он едет к Мукаю. Скорее бы свалить эту тяжесть с груди. По пути одна остановка у Сыдыка, на две минуты, не больше Старик сказал: “Ты узнаешь настоящую правду, она касается тебя и твоей родни”. Что бы это значило? Какую родню? Сабиля? Чолпан? В такой трудный день каждое слово может камнем лечь на пути. Джоомарт нашел тестя за странным занятием: он бил веревкой привязанного к юрте сурка. Зверек метался, пищал, подпрыгивал, рыл лапами землю, искал, где бы укрыться. — Попомнишь, грабитель, как людей обирать… Попомнишь, разбойник! Овса захотел? Чужого? Сам трудись, лодырь, посей, убери и… Он чуть не добавил: “И в колхоз запишись”. Старик хрипел, задыхался от злости. — Внукам закажешь, подлец! Прожорливый зверь, он землю подрыл и повадился красть чужое добро. Наконец он попался. Еще неделька таких наказаний, и грабитель сдохнет. Пусть знают обжоры, что с ним шутки плохи. Сыдык бросил веревку и направился к Джоомарту навстречу. Он склонил низко голову и тихо проговорил: — Здравствуй, Джоомарт. Как здоровье Чолпан? Все ли у тебя благополучно? Заходи, заходи… Старик был в жалкой одежде, на заставе он выглядел нарядней. Не было сейчас на нем ни ичигов и блестящих калош, ни чапана, ни тюбетейки, подшитой бархатом. С худых плеч свисал рваный халат, засаленный, в заплатах. Ноги обуты в истоптанные опорки. В юрте пахло джармой и кислым айраном. В углу на виду стоял портфель с начищенными застежками — гордость бригадира, свидетель его высокого звания. У дверей лежал недоносок-теленок, жалкое создание, издали казавшееся овцой. Сыдык не мог не похвастать. Теленок родился величиной с собачонку, в гурте от него отказались. Сыдык укутал его, прятал за пазухой, ничего для него не жалел. Сделал лейку из бумаги, и по капле вливал ему в рот молоко. Приучил понемногу и к матери: сядет с теленком под корову, всунет ему сосок и надаивает молока. Теперь он привесил недоноску колокольчик на шею; пусть знает народ, кто идет. Таков бригадир, колхозное добро ему дорого. Сыдык говорит о делах своей бригады. Он тяжко вздыхает, шепчет и снова вздыхает. Так, ему кажется, и людям понятней и самому как-то легче. Что слово без вздоха, без того, чтоб бровей не насупить, скрыть в их гуще заветную мысль? Укрывшись от пытливого взгляда Джоомарта, он шептал и шипел, кивая головой, и льстиво улыбался. Что скрывать, у него и там неполадки, и тут не все хорошо — только отвернешься, испортят. Он тоже не промах: где сам не приглядит, свои люди расскажут. Его не обманешь, хоть плачь: все может случиться, не говори, что лошадь не лягнет, что собака не укусит. Он заговорил о Мукае и повеселел: — Ну и человек, ну и умница!.. За что ни возьмется, всюду удача. На опытном поле взошел ячмень, пшеница прет из земли, как бурьян. Жаль, у Мукая много дел, десять колхозов на плечах одного человека. Нам нужен свой агроном. Что ты скажешь на это, Джоомарт? Джоомарт отводит глаза от теленка, он думает сейчас о другом. — Я говорю, Джоомарт, это счастье для нас, что Мукай с тобой породнился. Он все время проводит в нашем колхозе. Разве я неправ? Молчание Джоомарта его мало смущает. Мучительный вздох как бы служит преддверием для другого разговора. — Не все ладно в колхозе, — сокрушается Сыдык. — Много земли и скота, а людей нет, не хватает. Еще бы кибиток пятьдесят, вот бы вырос колхоз. — Какой толк повторять то, что известно? Нет людей, и нигде не найдешь их. Лукавый Сыдык что-то надумал, кружится вороном, прячет мысли неизвестно зачем. Он делает вид, что не расслышал ответа Джоомарта. — Мы трудно работаем и других не жалеем. Сил не хватает. И ожиревший воробей десяти пудов не потянет. Кто сказал, что людей не достать? Их сколько угодно, помани только пальцем. Болтливый старик. На заставе он едва ворочал языком, над каждым словом дрожал. — Я не понимаю тебя. Где ты видишь людей? На сорок километров ни жилья, ни аула. Коварный старик. Что у него на уме? Сыдык не спешит. Дайте он вздохнет, изобразит на лице озабоченность и опустит тяжелые брови. — Сорок кибиток рода Джетыген готовы вступить к нам в колхоз. Они страдают на чужой стороне, жаждут вернуться на родину. Вот оно что! Все словно сговорились сегодня. — Кто ж им мешает вернуться? Сыдык придвигается и заглядывает Джоомарту в глаза, он не опасается его сурового взора: — Они боятся, как бы ты не сказал о них дурного на заставе. И невинных людей легко погубить. Написать, донести, выдумать всякую неправду. Кто поможет им в беде? И колхозники пойдут за тобой, не возьмут их к себе. Куда им тогда деться? Он видит, как темнеет лицо Джоомарта, и с прежней уверенностью продолжает: — Они хотят быть в колхозе, жить так, как мы. Они устали от нужды и голода. И тебе будет лучше, твой род будет здесь. Родные — большая поддержка. Нельзя отделить ноготь от мяса, себя от братьев по крови. Кто мы без рода? Пыль! Капля в море! Джоомарт ничего не отвечает, он пытливо разглядывает своего тестя. Сыдык тоже молчит, он считает, что Джоомарту пора ответить. — Мне род не нужен, ты напрасно жалеешь меня, — говорит Джоомарт. Он спокоен, точно речь идет о чем-то маловажном, не стоящем особого внимания. Голос ровный, спокойный, так отвечают на обмолвку, на глупость. Неужели Сыдык просчитался, эти речи не тронули ею? — Тем нужен род, кто не верит в силы колхоза, в нашу рабочую семью. Трудно с ним спорить, но сдаться Сыдык успеет всегда. — Наш народ говорит: по росту я нашел себе равного, не нашел себе равного по сердцу. Не дай людям думать, что они лучше тебя. Пусть род твой гордится тобой. Кровь кровью — не смоешь, дай им искупить свой грех перед властью. Что им делать? Белый царь отобрал у них землю и добро, всюду — люди, и всюду — тесно. Раньше, бывало, воткнешь в землю пику — и земля твоя. Теперь человеку некуда деться. На этот счет у него и доказательств и притч очень много. Сыдык много видел и знает. Джоомарту стоит послушать его. — Я бывал в Кара-Куме и в Голодной степи. В жаркие дни там проходят сухие дожди. Вес, как обычно: и тучи, н гром, а влаги ни капли. Она испаряется у самой земли. Бывает и так: небо в жаркие дни закроют тучи, солнце станет багровым, вот-вот хлынут потоки на землю. Люди ждут дождя, и напрасно. Вот каков мир, а ведь никто от него не отрекается. Что ты скажешь на это, Джоомарт? Лукавый старик. Послушал бы его сейчас Краснокутов. У Джоомарта и легенд и притчей не меньше, но спорить с ним не станет. — Откуда ты знаешь о нуждах людей моего рода? — спрашивает Джоомарт. — Ты разве видишься с ними? — Я скажу тебе то же самое, что говорил на заставе. Купцы мне привозят приветы и письма, иной раз дочке подарки, мне — никогда. Ты читал одно из таких писем, Темиркул дал его тебе… — Погоди, погоди, мне надо подумать. Уж не об этой ли правде ты хотел мне рассказать? — Я думал, ты понял меня на заставе. Я ясно сказал: “Это касается тебя и твоей близкой родни”. Вот что значит быть легковерным. — Негодный человек, что ты наделал! Я обманул начальника заставы! К чему мне твоя правда? Какими глазами я взгляну на него?.. Ему больно и грустно, на лице тревога и горечь. — Что подумает обо мне Краснокутов? Я никогда не лгал ему. Ты слышишь, Сыдык, никогда! Джоомарт знает, что это неправда, оттого его голос так резко звучит и жилы, точно стрелы, выступили на шее. Дурное знамение, сейчас грянет гром. Сыдык знает Джоомарта, он в гневе ужасен. — Я знаю, Сыдык, по ком ты соскучился. Ты ждешь не дождешься жениха твоей дочери, джигита Аллы. Тебе хочется породниться с сыном богатого бия. Так знай же: ни джигита, ни бия мы сюда не допустим. Передай этим шакалам, что я их знать не хочу и доброго слова за них не замолвлю. Если они сунутся с просьбой к заставе, я такое расскажу, что никогда им своих джайлау не увидеть. Он потрясает руками, грозит кулаком, беспощадный и гневный. Буря прошла. Джоомарт снова сгорбился, втянул голову в плечи и молчит. Сыдык чует затишье и пробует свои силы с другой стороны. — Ты не хочешь помочь своему роду, пусть будет так. Но ты не должен наказывать нас. Род Курманов и Джетыген желают жить вместе. У многих был сговор, дети стали невестами, ждут женихов. За нихплатили калым, когда они были в пеленках. Парни ждут не дождутся невест. Сколько горя и несчастий! Тебе стоит захотеть, и все будут довольны. Джоомарт усмехается. Сурочья душа, для него это шутки. Сыдык выводит свою двенадцатилетнюю девочку, обряженную, чистую, и вертит ее перед ним: — Жених ее там, ему семнадцатый год. Он богат, у него большое хозяйство. Сколько еще ждать? Джоомарт собирается в путь. Обо всем пересказано, довольно. Сыдык еще что-то хочет добавить, но Джоомарт не дает: — В колхозе говорят, что у тебя две жены. Тебе придется с одной развестись, или мы исключим тебя из колхоза. Еще чего не хватало. Надо же такое придумать. — Бог тебе судья, Джоомарт, зачем мне, старику, две жены? У двух жен и зола в печке ссорится. Я отделил своей старухе юрту и добро, не гнать же ее из аула, как собаку… Джоомарт насмешливо щурит глаза. Он прекрасно понимает, его не обманешь. — Не прикидывайся глупцом, весь колхоз о тебе говорит. Тебе нужна была работница, и ты взял девчонку в жены, так дешевле и проще. Твоей старой жене захотелось быть банбиче, иметь даровую помощницу. Жадные глаза не имеют границ, твое собственное хозяйство множится и растет. Мало тебе доходов из колхоза… Он садится на коня и, не дослушав Сыдыка, уезжает.…………………………………
В эту трудную минуту ему не жалко цветов, которые ложатся под копытами лошади. Нисколько не жаль. Почему им не расти в стороне от дороги? Сколько простора, мир так велик — нет, им надо толпиться именно здесь, у тропинки. Ужасная вещь беспорядок. Одно наседает на другое, не разберешь, где сорняк и где разумное семя. Вот и в мыслях у него сейчас непорядок, ничего не поймешь. Точно голову набили спутанной пряжей, тугим клубком без начала и конца. Первый узел затянул Темиркул, с него надо начинать. Впрочем, нет, почему с Темиркула? Старик сказал, что хотел, чудесно сыграл и ^шел. Он ушел, и его нет, как будто и не было. Правда, так не уходят — без слов, без привета. Что поделаешь, надо мириться. Остаются Краснокутов, Сыдык и Мукай. Из них главный — Мукай. Почему именно он? Трудно сказать, так ему кажется. В юрте у Мукая все объяснится, с глаз спадет пелена, с груди тяжесть. Он однажды охотился с ним у болота. День был солнечный, ясный, с гор сползали мрачные тени, и сверкал лед на хребтах. Над головой их летали черные аисты, коршуны, ястребы и горные орлы. Для Джоомарта охота была неудачна. У Мукая на поясе густо висели фазаны и утки, в мешке был орел с перебитым крылом, в другом — живые улары. Агроном шел и пел чудесную песню без слов. У него мягкий голос, и песни он придумывает удивительно легко. Попросишь спеть — не споет, а как найдет на него — только слушай. На обратном пути Мукай снял с пояса часть своей дичи и нанизал ее на пояс Джоомарту: — Возьми это себе, люди будут над тобой смеяться. Я не хочу, чтобы враги пристыдили тебя. На это Джоомарт ответил ему: — Я вспомнил, Мукай, один случай. Мы как-то схватили человека у границы. Он нес с собой гирю, обыкновенную чушку в один килограмм. Мы даже на нее не взглянули. Кто-то для шутки подбросил ее, и из нее выпал клад: такая же гиря, но вся золотая. И ты, Мукай, такой же: снаружи обыкновенный, а внутри золотой. В другой раз они охотились в горах. Маралы резвились на солнце, прыгали как дети, бодались как козы. — Не стреляй, — сказал он Мукаю. — Слишком много снега нависло. Ты вызовешь обвал. Мукай рассмеялся: ему не впервые в таком месте стрелять. Эхо сдвинуло с гор широкое белое поле, оно ринулось вниз и закрыло тропинку. На пути легла лавина рыхлого снега. Испуганные кони встали. Люди вели их, утопая по грудь в снегу. Животные дрожали, судорожно бились в снежном кургане. Прорвавшись сквозь снег, друзья свалились без сил. — Ты не должен был стрелять, я говорил, что здесь может случиться беда. Мукай со смехом ответил: — Мы ничего не потеряли. Жаль, маралы ушли. Джоомарт подумал тогда, что в Мукае много упрямства: ни в дурном, ни в хорошем он не знает удержу… Не об этом сейчас хотелось бы думать, приятней вспомнить другое — их первую охоту, когда Мукай так мудро с ним обошелся. На поясах у них висели утки и фазаны, на душе было легко, хорошо. Нет, с Мукаем можно поладить, он не так уж плох. Вот и сейчас. Агроном сердечно примет его, выслушает, подумает и скажет: “Кто родне не помог, еще не изменник. Предатель тот, кто родину обманул, и нет таким людям места среди нас”. Скажет и крепко пожмет ему руку. Глупый Сыдык! Напрасно он так долго слушал его. Обманщик вздумал его водить за нос, чтоб в колхозе говорили: “Тесть Джоомарга себе все позволяет”. Хитрая бестия! “Я отделил своей старухе юрту и добро”. Лжешь, мошенник, притвора! С одной женой мы тебя разведем. Придется, Сыдык, ничего не поделаешь. Не проси, не поможет, иметь двух жен тебе никто не позволит. Спасибо, что он сознался. Пусть знают, что купцов подсылают враги. Это очень пригодится заставе. На границе все важно. Упрямый старик. Шепот его виснет над ухом, следует за Джоомартом в дороге, шепчет, шипит ему что-то в ответ. Лукавый старик, он найдет, что сказать. Слов не хватит — бровями поведет, головой закивает. Джоомарт сегодня же посоветует начальнику заставы присмотреть за тобой, Сыдык, и как можно получше. Хорошо бы еще одну заботу свалить: зайти к Краснокутову, усадить его рядом и сказать: “Прости меня, я дважды виноват перед тобой, дважды скрыл от заставы правду. Без дурного расчета, по глупости. Верь честному слову, из глупости. Это было давно, я тогда еще думал, что позор моего рода — мой позор, в их измене доля моего предательства. Бывают ошибки, не надо быть строгим. Прости, я измучился. Никто не узнает, что ты простил виноватого. Это останется между мной и тобой. Не поступай со мной так, как поступили с Юсупом-предателем…” В те времена, когда царские слуги управляли Киргизией, жил бедный чабан. Трудолюбивый и честный, он всем был приятен, покорность его не знала границ. Зато сын его, Юсуп, выдался жестоким, с неспокойной душой. Так, еще юношей он убил аткаминера, который явился за налогом к отцу. Юсу па изгнали из аула, и он много лет скитался по свету, учился и тайно сеял вражду против власти. Говорят, он собрал отважных людей, нападал и расправлялся с начальством. Никто этого в ауле не видел, но знали, что Юсупа то сажали в тюрьму, то из города в город гнали этапом. Случилось Юсупу заехать в Нарын. Его никто там не знал, родом он был из Таласа, из далекой глуши. Красивый, ученый, он понравился дочери манапа. Манап любил свою дочь и ни в чем не отказывал ей. Жениха окружили почетом и богатством, поставили юрту из кошмы и ковров. Зять манапа забыл о минувших невзгодах, и сердце его отошло. Вокруг него было вдоволь всего, чего ради бунтовать? Против кого бунтовать? Всему свое время, он обрел свою родину и желает покоя. Так шли годы. Он нашел себе друзей среди прежних врагов — слуг царя, его даже свели с губернатором. Дошли слухи до Таласа, вспомнили там его прежние дела, пришли вести из Оша и Фрунзе и напомнили Юсупу о том, что умерло давно в его сердце. С позором, в цепях его увезли из Нарына в Сибирь… “Прошу тебя, Краснокутов, не поступай со мной так, как поступили с Юсупом”. Начальник заставы пожмет ему руку, и он, Джоомарт, скажет ему: “Банда джигитов, баев и аткаминеров хочет прибрать колхоз к рукам. Прорваться сюда, чтоб хозяйничать здесь, у границы. Разбитые у Май-Баша, они рвутся присвоить себе наши труды. Иметь врага у границы — большое несчастье, верь честному слову, это так. Я нашел в себе силы отказать им в поддержке, я буду бороться, хотя бы против меня был весь мир”. Воображаемый разговор затянулся надолго. Они, конечно, поладили, и место начальника занял Темиркул. Пришло время с ним объясниться.***
Беседа с Джоомартом была тяжким испытанием для Сыдыка. Давно председателя колхоза и след простыл, а он все еще не успокоился. Никогда еще зять так скверно с ним не обходился. Неизменно добрый и любезный, кто этого мог от него ждать? Боже, как трудно! Жизнь стала невыносимой. Что дурного он сделал, за что его обидели? Бедный Сыдык, с тобой обошлись несправедливо, обругали и назвали обманщиком. Холодное сердце, черствая душа, он не дослушал тебя до конца. Джоомарт прежде не посмел бы так с ним говорить, ему бы этого никто не позволил. Сыдыка уважали далеко за пределами аула. Его слово ценили, как золото. И свои и чужие приходили к нему за советом и помощью. С ним считались и джигиты и народ. Посредник Сыдык служил примером для всех. Его имя вдохновляло и почтенного старца, и чабана. Шутка ли — посредник, мудрая голова. Ему, правда, платили за это, и приходилось иной раз со скупцом поспорить. Сыдык не святой, ему надо жить. Никто не обязан даром трудиться. И сейчас он по горло занят делами, ему не дают покоя. Тесть председателя, бригадир и посредник, кому, как не ему, склонить Джоомарта в одну или другую сторону? Что в этом плохого? Пока свет будет стоять, нужны будут умные люди. Что стало бы с людьми, если бы их не мирили! И манапу, и начальнику, и председателю колхоза нужен посредник. Не будут же они во всякое дело встревать, каждого глупца выслушивать. И где простому народу взять смелости спорить, отстаивать себя? Недавно был случай в колхозе. У чабана пропало трое телят, потонули в реке. Говорили, что чабан их зарезал и мясо роздал друзьям. Узнает Джоомарт, и чабану не поздоровится, он выгонит его из колхоза. За дело взялись родные, обратились к Сыдыку: жаль, человек ни за что погибает. Кто беду натворил, а ты, Сыдык, вывози. Пришлось обойти всех Курманов, собрать денег на четырех телят. И человеку помог, и себя не обидел. Трудная жизнь… Думай не думай, несчастье и горе на каждом шагу. Сколько добра у него пропало! Два джута пожрали триста овец, с гор однажды свалились лучшие коровы. Ой, как скверно с ним жизнь обошлась!.. Его горькая доля вся на виду. Говорят, он любит со счетами возиться, день и ночь убиваться. Как же иначе? Пусть все пропадает без счета? Нет, мир должен знать о несчастьях Сыдыка. Да, да, должен знать. Итак, триста овец, пять-шесть коров, прекрасная лошадь. Это не все. Неудачная сделка — тот же убыток в десять овец. Какой горький итог… Сыдык был бы сейчас богаче колхоза. А с тем, что в прошлом потеряно, наберется с лишком три мешка золота. Все надежды на Джетыгенов. Только бы они осели в колхозе, и многим стало бы легче, и ему, как посреднику, недурно. Сто рублей с кибитки — ни гроша меньше. Трудности какие! Джоомарта уломать, Мукая успокоить — всюду расходы. И то стоит дорого, и другое, и третье. Он угощал Темиркула — положим на счеты двадцать рублей, послал Мукаю козу… Прекрасная дойная скотина, такую нигде не найдешь — еще одна сотня. Жене его — Сабиле — отдал в день свадьбы три метра шелка. А какие доходы? Задатка триста рублей, два барана и три мешка зерна. Когда еще прибудут Джетыгены, рискуй и без пользы трудись. Да, все надежды на Джетыгенов. Приедет жених его маленькой дочки, за ним остался должок — семь овец и корова — калым. Счет составляли, когда маленькой Ваппе шел второй год. С тех пор вздорожали невесты. Три года назад он думал поладить за полсотни овец — конечно, деньгами, где ему в колхозе держать это добро, — но тут он узнал, что родители жениха богатые люди, и решил не уступать — сто овец, ни баранчиком меньше. Они могут набавить и сверх ста овец, за такую невесту не жаль миллиона. Это не все, еще один план у него, только бы не разгадали. Джетыгены и Курманы породнятся, а там они в добрый час покажут себя. Довольно хозяйничать тем, кто служил на заставе. Важность какая — они сторожили границу! Найдется кому управлять, есть люди поумнее и постарше Джоомарта. Пограничников в колхозе тридцать пять человек, а Джетыгенов и Курманов сто двадцать семей. Хвастунишки с кокардами скоро сдадутся. Уступят, и ссоры не будет. Одного подкупить, других рассорить, кого подарком возьмешь, а кого и одним обещанием. Так оно и будет, народ запомнит Сыдыка. Можно положить на счеты еще сотню овец. Да, как ни верти, а посредники — нужные люди, без них не было бы на свете порядка и толку. Только бы с Джоомартом поладить. Упрямый человек, ему ничего не стоит разбить все расчеты Сыдыка. Наклеветать, донести на хороших людей, набрать в колхоз голытьбу: жалких малаев — ленивых пастухов, джатаков — безлошадную братию, одну бичеру — нищету. Что с них возьмешь? Боже мой, боже, Джоомарт двери закроет перед аксакалом, благородным джигитом и бием! Он хочет упрямством понравиться людям, чтобы после его смерти развесили над юртами черные флаги. Ничего, Джоомарт! На всякого зверя есть больший зверь, против силы есть хитрость. Взять хотя бы Мукая. Он, правда, из тех же, что и Джоомарт, не даст тени упасть на новые порядки, но Сыдык знает толк в таких людях. Ему надо польстить, похвалить, пусть думает, что умнее его на земле нет человека. От радости он полезет в болото, туда ему и дорога. Конец, говорят, ослу на топком месте… Он сегодня пришел, этот глупый Мукай: “Как дела, как здоровье?” Что ему на это ответить? “Плохо. Хозяйство большое, а людей не хватает. Не то, чтоб их не было, наоборот, очень много, но Джоомарт, говорят, не возьмет никого”. Он даже вспыхнул: как это так? Самодурство и глупость. Мне этого только и надо, я шепчу ему несколько слов: “Джетыгены — наша надежда, они нам помогут хозяйство поднять. Джоомарт не согласен, у него свои счеты с ними”. Я говорю это с горечью, вот-вот мое сердце разорвется от боли. У Мукая глаза широко раскрываются, он кусает губы и стонет от злобы. В груди у меня веселье. “Что значит счеты? Что ты хочешь этим сказать?” “Он боится, — говорю я, — что должность вышибут из его рук. Что за радость председателю стать бригадиром?” Лучше бы я промолчал. Он вскочил как ужаленный: “Как ты смеешь, дурак!.. Старый лгун!” Надо знать агронома, в гневе лучше ему смолчать. Я тихонько шепчу: “Ты не понял меня! Он сводит счеты со своим родом, который не уважил его”. Мукай сразу остыл. Пошел разговор: откуда я знаю? Люди сказали. Какие? Ах, вот как, понятно, так бы и сказал. Мукай ему этого не простит. Интересы колхоза прежде всего. Я повторяю за ним: “Конечно, конечно” — и тут же делаю еще одну глупость: “Ты заметил, Мукай, как крепко он держится за русских людей? Он здорово их защищает”. Агроном уже снова сердит. Эти советские люди — сущие звери. Не хочешь — не надо, чего ради рычать? “Никто их не защищает, мы защищаем себя. Они за нас умирают”. Я не спорю, это так. Мукай просто не понял меня. “Ты напрасно кричишь. Русские люди не так уж плохи, но ты разве не заметил, что наш Джоомарт сторонится своих и льнет к чужим? Джоомарт ждет момента, когда в колхозе останутся одни его друзья — те, что пришли из заставы”. Что значит вовремя вздохнуть, — смущенный агроном отвернулся, Сыдык может поклясться, что тот был растроган до самого сердца.***
Джоомарт нашел Мукая на опытном поле. Он сидел в лаборатории — деревянном бараке со стеклянной крышей без полов — за ящиками и горшочками высеянных злаков. Его руки озабоченно кружились, льнули то к растениям, то к листочку бумаги для записей. Он пропускал между пальцами стебли пшеницы, словно просевал золотистые локоны, измерял каждый колос осторожно и нежно. Они сели друг против друга и заговорили о делах. Агроном не давал Джоомарту слово сказать, пусть смотрит да слушает, учится маловажное от важного отличать, простые вещи от чудес. Взять хотя бы вот эти колосья. В них будут злаки, каких никто еще не видел. Дайте срок, год—два, об этом растении узнают повсюду. Тут слились воедино выносливость и зимостойкость. У него веселые глаза, они словно прячут игривую тайну. Не то чтоб грех или порок, нет, нет. Слукавил человек, набедокурил — и некуда податься, а глаза его выдают. И движения слишком резкие. Смеется без удержу, от радости подпрыгнет, присядет — не агроном, а мальчишка. Он пригибается к ящику над большими колосьями и всплескивает от восторга руками. Здесь он разделался с природой, уложил ее, как говорится, на обе лопатки. Никогда ей отсюда не выбраться. Никогда! Один из злаков слишком рано цвел для сыртов и от заморозков страдал, другой цвел слишком поздно и вызревал уже в пору дождей. Он случайно скрестил их, без всякого расчета, от нечего делать, и вот результат — золотая середина. А что вышло у него с корнеплодом! Мукай вскидывает плечами, закатывает глаза и так замирает. Ну, чем не ребенок? Дитя, потрясенное чудесным видением. И руки заломил, и рот приоткрыл от восторга. Как после этого не слушать его, напомнить, что рассказ немного затянулся? Так вот о корнеплоде. Редкий, прекрасный, вкуснее его ничего нет на свете, но здесь, на сыртах, не вызревают его семена. И солнца ему мало, и ночи холодные… Одним словом, все готово, кроме семян. Пришлось с клубнем повозиться. Чего он только не делал: нагревал и морозил его, резал, кромсал, пока не добился своего. Он вклинивает в клубень скороспелого корнеплода кусок нескороспелого, и, как бы вы полагали, кто берет верх? Разумеется, скороспелый. Будут и корнеплоды, будут и семена. Он хохочет над собственной выдумкой: кто еще так придумает, кто отважится! Счастливый Мукай, всегда ему весело, и от всего он приходит в восторг. Джоомарту еще долго пришлось молчать. Мукай повел его к длинному столу и придвинул горшки и вазоны. Кусты и деревца растянулись аллеей. Мукай ходит между ними шагами хозяина в собственном доме. Он гнет стебли, мнет листья, запускает руки в кроны с нежностью матери, перебирающей волосы ребенка. Джоомарт должен убедиться, что тут одни чудеса. Вот это — родич прекрасного плода, вернее, дальний родственник его. Но как он плодовит! Ни мороз, ни жара ему нипочем, зато и есть его нельзя ни за что на свете. И запах и вкус препротивные. Лицо агронома выражает отвращение — гримаса ребенка, проглотившего насекомое. Плоды, вероятно, в самом деле неважны. А вот этот кустик — правда, нежный и слабый — дает такие же плоды, но сочные и вкусные, будто медом налитые. Он, конечно, скрестил их, чтобы вывести плоды для сыртов. Да, да, для сыртов! Тут будут сады — яблоки, груши, а хотите, н урюк. Уж он постарается. Растет же эйкомия — китайская гуттаперча — в украинской степи, маслина — в Дербенте, японская хурма — в Самарканде, юкки — в Тбилиси. Ему не стоит труда перевернуть на сыртах всё вверх дном: убрать ель и кипец, арчу пересадить куда-нибудь подальше и дать место плодовым деревьям. Он делает при этом движение хозяина, готового рассовать добро свое по дому: часть туда, часть сюда — куда попало. Еще несколько слов, только несколько. Пусть взглянет Джоомарт на вазоны, вот сюда и туда. Не правда ли, забавно? Деревца эти растут на чужих корешках. Ха-ха-ха! Снизу ствол их дикого сородича, а сверху культурный потомок — Ха-ха-ха! Вот что значит иметь голову на плечах. Дичок служит насосом для нужного дела. Выполняется это просто, без спешки, спокойно. В грунт сажают дичок, макушка срезается, и в надрез прививается другое деревцо. И еще одна минута внимания… Его голос становится мягким, руки от волнения дрожат. Удивительный кустик, не правда ли? Сущее чудо природы! Вот и всё. О дальнейшем он должен умолчать. Если затея удастся, счастливей его не будет человека на свете. Не надо расспрашивать: тайна есть тайна, ни себе, ни другим он не позволит нарушить ее. Он еще раз ласкает любимого питомца и дарит Джоомарту зеленый листок, — память о дереве — счастье Мукая. Они едут рядом по ровной дороге. Добрые кони охотно помчались бы, но повод свисает. Всадники молчат, каждый занят своими мыслями. — Мне хотелось бы, Мукай, — начинает Джоомарт, — о чем-то спросить тебя. Эта фраза у него давно готова. Посмотрим, как дальше пойдет. С Мукаем надо быть осторожным: не так скажешь, не тем тоном — он рассмеется и начнет острить. — Я послал тебе письмо в город Фрунзе. Это было давно, больше месяца. — Письмо? Не видал. Какое письмо? Он даже весь перегнулся в седле: хорошо бы узнать, что в нем написано. — Мне, должно быть, пришлют его сюда… — Мукай торопится добавить: — Мне будут всю почту оттуда присылать. — Я скажу тебе, что там написано. Нет, нет, он не хочет, приятнее прочитать глазами: больше увидишь и узнаешь. Лошадь Джоомарта тесно жмется к Мукаю, ее грива у него на коленях. Он трогает повод и немного отъезжает. — Письмо небольшое, в несколько строк, ты уж лучше послушай меня. Агроном машет рукой, трогает повод и отъезжает: — Не будем говорить о письме. Я прочту и отвечу тебе. — Ты не понял меня… Я послал это письмо по ошибке. Мукай вдруг краснеет и, не глядя на Джоомарта, спрашивает: — Ты раскаялся в нем? — Да, да, я жалею об этом. Я был неправ. Тут Мукай разражается смехом, глаза его сверкают, взгляд светел и ясен. Ах, как ему весело, как легко! Чудак Джоомарт, он так и поверил. Письмо здесь, при нем, он носит его с собой, не расстается с ним. Ведь оно могло попасть к Сабиле. Письмо огорчило бы ее, и она, чего доброго, от горя слегла бы. Вначале он решил было сжечь его, надоело с ним носиться, каждый раз перечитывать. Но оно почему-то каждый раз ему казалось другим, и смысл и тон в нем изменялись, словно читаешь его в первый раз. Удивительное письмо! Джоомарт что-то хочет сказать, вставить слово, но Мукай забегает вперед. Их кони идут рядом, стремена их сплелись. — Мне кажется, Джоомарт, что ты не был сердит, когда писал это письмо. На сердце у тебя было что-то другое. Я не почувствовал твоей злобы, ее, наверное, и не было. Слова эти не нравятся Джоомарту, он готов уже сказать что-то резкое. — Выходит, письмо нисколько не тронуло тебя, ты спрятал его в карман и забыл! Тогда им не о чем говорить. — Я спрятал письмо, это правда, но мне было больно, меня точно ранили. Я бежал от Сабили, чтобы скрыть свое горе. Она узнала бы это сразу по моему лицу. Три дня я скитался из аула в аул. Днем веселился, а ночью плакал. Кто мог подумать, что ты возненавидишь меня? Я Сабилю не украл, она по собственной воле пошла за меня. Ей мало лет, не спорю, но именно это и прельщало меня. Наш народ говорит, что жену надо брать молодой, пока характер еще не окреп… Письмо навело меня на мысль стать инструктором сыртовых колхозов, жить возле тебя и заслужить твою дружбу. Он грустно усмехнулся, и борозда печали легла на лицо. Глаза погасли, взор стал тяжелым. Человек словно стал другим, не узнать агронома, его точно подменили. — Спасибо, Мукай, ты облегчил мое сердце. Мне так же трудно было, как и тебе. Джоомарт просит прощения, все случилось так быстро. Он любит сестру, и мало ли что ему показалось… В сущности Мукай — золотая душа. Теперь уж ясно — Сабиля его любит, и ей с ним хорошо. Джоомарт сказал все и умолк. — Не надо вспоминать об этом, — говорит агроном, — ни сейчас, ни в другой раз. Письмо он порвет, сейчас же уничтожит его. Вот так, и еще раз, на мелкие кусочки, и развеет по ветру… Была вражда и исчезла. Всякое бывает. Что только на сердце не ляжет и не приснится во сне… Вот и юрта Мукая, она одна у подошвы горы. Колхоз остался внизу, со своими полями и гуртами скота. Так в старое время манап бросал трудовую зимовку, уходил на джай-лау от забот. Опять эти скверные мысли… Какое ему дело, как Мукай поступает. Так жили манапы, пусть и Мукай так живет. Их встречает Сабиля. На ней алое платье, свежее, точно она ждала гостей. Короткий рукав обнажает ее руки с морщинкой на локте. Они лежат сзади, сплелись словно ветви. Она идет не спеша, склонив голову набок. Такой запомнилась Джоомарту его мать. Такая же тонкая, с алыми губами, с руками, заложенными за спину, и с той же морщинкой на локте. Он любит сестру, ради нее приехал мириться с Мукаем, ради ее счастья ничего ему не жаль. — Здравствуй, Сабиля, как живешь? Надо быть справедливым, они славная пара. Она красива, и Мукай недурен. Они любят друг друга, у них пойдут дети… Право, им будет неплохо. В юрте агронома они застают Темиркула. Старик встает и уступает Джоомарту свое место — почет и уважение желанному гостю. Гость готов уступить и сесть рядом. Нельзя? Почему? Так ведется? Раз ведется, пусть так, он согласен. Все сидят на кошме, поджав ноги, в руках Мукая насвай, он потчует им Темиркула. Сабиля хлопочет, готовит обед, из чанача разливает кумыс, из другого — джарму. Как нелепо держать кумыс в бурдюке. Разве в глиняной посуде не лучше? И к чему этот чаиач, не лучше ли обзавестись в хозяйстве кастрюлей? Их обносят водой, руки моют для вида: чуть-чуть смочат пальцы и вытрут грязным полотенцем. На что это похоже? — Что с тобой, Джоомарт, ты задумался? — спросил хозяин. Опять эти мысли. Он дал себе слово не думать об этом, делать вид, точно это его не касается, и снова забыл. Ну что ему до того, какие у Мукая порядки? Назло своей глупости он будет шутить и дурачиться. Ни за что больше не осудит его. — Я немного задумался, ты прости меня, Мукай. Хозяин и гости беседуют, хозяин смеется, хохочет. Лукавый взгляд точно прячет игривую тайну. Он рассказывает историю об обманутом лентяе, о лодыре Алиме, который век свой без дела пролежал на кошме и с пола плевал на чангарак. Никто так высоко плевать не умел. Гордый своим искусством, он в тщеславии своем высоко вознес голову, землю под собой не видел. “Куда Алим смотришь?” — спросят его. Он с достоинством скажет: “Смотрю па птичью дорогу, вон она светлеет по черному небу. Наши птицы по ней улетают на юг”. И грудь у него колесом, не подступишься. Опять спросят его: “Почему ты лебедем ходишь, Алим?” Он ответит: “Лебедь лебедем ходит, так уж ведется”. — “Где ж ты видел черного лебедя?” — “Видел, скажет, они живут на Иссык-Куле в кустарниках. А горд я тем, что я лучше и красивее других”. Вот этого лодыря поставили камень крошить для дороги. Сидит лентяй под арчой, постучит, покрошит и спросит начальника: “Сколько я уже заработал?” Узнает, что хватит на кусок хлеба, ляжет под деревом и станет плевками стрелять. Случилось, что лентяй угодил в руки Мукая. Тут люди нужны, работа стоит, а Алим сложил руки, плюет в крону арчи. Решил агроном отучить его от безделья и стал говорить ему, что хлеб дорожает, то вдвое, то втрое, то в десять раз. Пришлось лодырю взяться за дело: работать весь день, не стрелять в чангарак или в крону арчи. Зато через месяц Алим разбогател, получил много денег, и его объявили первым ударником. Пришлось прежние привычки оставить: что пристало лентяю, ударнику не к лицу. Все еще голова его вздернута, грудь выпячена колесом, и ходит точно птица лебедь. Спросят его, что с ним, Алим не станет, как раньше, дурачиться: он теперь бригадир, у него и у жены пятьсот трудодней, как не гордиться, не ходить, не чуя земли? Над этой историей много смеялись, и больше всего Джоомарт. Он старался, как мог, быть веселым, рассказал потешную историю, хохотал и дурачился не меньше Мукая. Они пили кумыс и понемножку хмелели. Мукай пил больше всех и, доливая пиалы, выкрикивал: “Кто не любит девушек, тот не пьет кумыса!” Затем он достал две бутылки вина, и Джоомарту больше не понадобилось себя в чем-либо убеждать… Язык его развязался, и он под комуз Темиркула пошел даже в пляс. Им было весело, и лишь немного огорчало, что обед долго не поспевал. Сабиля поставила чашку, внесла казан и сама уселась между братом и мужем. Мукай всплеснул руками и сказал: — Поглядим, Джоомарт, как ты справишься. Говорят, ты разлюбил киргизские блюда. Я не верю. Как можно не любить бешбармак? Не правда ли, Темиркул, он только притворяется! В казане лежит сваренный баран. И ноги, и голова, и курдюк- все тут вместе. Хозяин берет пальцами голову и преподносит ее Джоомарту. Не старику Темиркулу, хоть и тот его гость. Затем кусок за куском срезает мясо с костей, крошит и строгает удивительно тонко. Жир стекает с его рук на кошму, на одежду, струйкой бежит в казан. Хозяин не забыл и Темиркула, он сует ему кость с остатками мяса, Сабиле — небольшой кусок сала. Баран приготовлен, он лежит в чашке размолотой кучей. В горшке поспевает вареное тесто. Хозяин тем же манером крошит и тесто, с пальцев струится жирный навар. Все смешано и растерто руками, бешбармак можно есть. Джоомарт держит баранью голову пальцами, ищет тарелку и не находит ее. И руки и губы его в сале. Он вернул бы голову Мукаю, но тот рассердится. Кругом ни тарелок, ни ложек, ни вилок, они будут есть пальцами из одной чашки. Первым начинает Мукай. Он запускает свою руку в горку мяса и теста, зажимает в ладонь изрядную порцию и отправляет ее в рот. Глаза его сияют счастливым огоньком, они точно приглашают: “Отведайте, чудесно, ничего нет прекрасней на свете!..” Темиркул набивает рот бешбармаком. Одному Джоомарту не по себе. Ему противно это варево, ухо режет их сопенье и чавканье. Его вырвет сейчас, мясо комом стоит у него в горле. Он не хочет, не может, все ему здесь чуждо и противно. Нет, нет, это выше его сил… Сабиля ест пальцами, лицо ее лоснится от жира. Она заливает свое новое платье, движения ее быстры, зубы алчно блестят. Они все одинаковы, их не отличить друг от друга. — Ты не ешь, Джоомарт, что с тобой? Да, это верно, но он много съел дома. Спасибо за угощенье, бешбармак не так уж плох. Мукай и слушать не хочет. Что за притворство, Джоомарт должен есть, в чашке осталось еще полбарана. Никаких отговорок, он сам его будет кормить. Хозяин оказывает гостю внимание: запускает пальцы в бешбармак, набирает горсть мяса и сует ему в рот. Спасибо за любезность, большое спасибо. Джоомарт это проглотит, и ни крошки больше. Он не может, не в силах, пусть добрый хозяин его извинит. Мукай кладет ему в рот еще и еще, — никаких возражений, никто не поверит, что он сыт. И Темиркул и Сабиля ему не позволят. — Я скажу вам правду. Чего ради стесняться, здесь все свои. И Сабиля и Мукай поймут его. Уговор — не сердиться. — Я люблю есть бешбармак за столом, с вилкой и ножом, в отдельной тарелке. Научили меня этому в армии. Вот и всё. У каждого свое, я не осуждаю ваших привычек. И шурпу он пить не будет. Почему? Как объяснить им причину? Сказать, что Сабиля сполоснула пиалы в грязной луже у дверей, вытирала их нечистой, засаленной тряпкой? Нет, уж лучше промолчать. Хозяин обильно разливает кумыс, он достает еще вина, много пьет и смеется. Он совсем охмелел, говорит очень много и жарко. — Ты странный человек, Джоомарт. Говоришь: “У каждого свое”, а в душе и меня и Темиркула осуждаешь. Ведь так, осуждаешь? Ты оторвался от народа, не ценишь его и не знаешь. Все мы любим бешбармак за столом, с ложкой и вилкой, а народ вот не хочет… Подай ему на кошме из одной чашки. Понял? Не понял? Как хочешь, так и понимай. Я люблю жить на джайлау, спать в юрте и быть киргизом во всем. Как клещами, меня тянет к своим. Не сидится мне, кочевнику, на месте; только и думаешь, куда бы податься, съездить, сходить. А не пустят — поспорю, на другую службу уйду. Студентом, бывало, направят меня в санаторий, а я норовлю на джайлау. Сел на коня — и в дорогу. Седло мое блестит, набор самым лучший, начищенный, нагрудник с бляхой серебряный. Все любуются мной. Приеду к чужим, займу угол в юрте, пью кумыс и живу себе на славу. Надоест у одного — поеду к другому. В каждом доме я гость, любой киргиз мне брат. И ничто не противно мне у него: плюет ли он в тазик с золой или кошму поднимает и наземь плюет, мне все равно. Вот что значит любить свой народ! Он пил и болтал так без умолку, никто ему не возражал. Сабиля грустно смотрела на мужа и на брата. Она любит обоих — и Джоомарта и Мукая, обоих одинаково жаль. — Свое принимаю, а чужое не хочу. Нравится мне наша киргизская шапка — остроконечная треуголка из белого войлока с разрезом на лбу и на затылке. У какого народа ты такую штуку видал? Люблю нашу музыку и тебя, Джоомарт, за твою игру. Темиркула могу слушать часами. Что там часами- днями, неделями. Против нашего комуза нет инструмента, против Темиркула нет музыканта. Вот я какой! Ха-ха-ха! Весь на ладони. И нечего мне прятаться от тебя. Сабиля вздохнула, и голова ее склонилась. Ни муж и ни брат на нее не взглянули, словно забыли о ней. Глубокие глаза ее под крутыми бровями — два озера под суровым Хан-Тенгри — покрылись тяжелым туманом. И как не вздыхать: кто знает, чем все это кончится? Джоомарт не смолчит, таких речей он никому не прощает. Агроном не унимался. Он выпятил грудь и, самодовольно озираясь, выкрикивал: — Я с народом дружу, и он меня любит. За двести километров приезжают сородичи. Заявится старик со старухой, ни его, ни ее я никогда не встречал. “Я слышал, — говорит он, — что ты людей обучаешь, как с землей обходиться, и приехал тебя повидать”. Приехал — спасибо. Дашь ему подарок, он вдруг вспоминает: “Наш сосед, Керим-бай, тоже просил передать тебе привет. Не пошлешь ли ты что-нибудь соседу?” Подаришь и тому метра три ситца. Ха-ха-ха! Им приятно, и тебе хорошо. Сабиля больше не может молчать, она подходит к Мукаю и укоризненно шепчет: — Ты так выпятил грудь, так разводишь руками, что пуговицы отскакивают от твоей верхней рубахи. Вот еще одна висит на волоске. Говори тише и спокойней. Он не слушает ее, размахивает руками, и пуговица беззвучно падает на кошму. Джоомарт сидит неподвижно, глаз не сводит с Мукая. Темиркул молчит, его не поймешь: и острые брови, и морщинистый лоб, и угрюмая складка на мятых щеках всегда у него одинаковы. — Курманы без меня шагу не ступят, — распинается хмельной Мукай. — Что, удивил? Ха-ха-ха! Я с родом не рвал и не стану рвать. Нельзя по свету плыть без опоры! Ты колхоз собирал, а Курманы меня осаждали: спрашивали, идти ли им в колхоз? Я с ответом не спешил, все равно без меня не посмеют. Вот как. Понял? Не понял? Понимай, как хочешь. Теперь его беспокоит род Джетыген, у них родственное дело с Курманами, просят помощи, шлют письма и молят. Как не помочь. Кто любит родину, тот любит и народ. Вот когда Темиркул взглянул на Джоомарта. Подняла глаза и Сабиля. Они ждут, что он скажет. — Как же эти письма попадают к тебе? Кто их приносит? — Кто приносит? Мало ли кто. Он, смущенный, не находит слов для ответа. То ли голос Джоомарта — резкий и строгий — его вдруг смутил, то ли хмель испарился и ему стало стыдно своей болтовни. Он куражится еще, но уже не с тем пылом. — Это дело мое. Мне приносит их свой человек. — Ты не любишь свою родину, врешь! Этого Сабиля всего больше боялась. Она глядит умоляюще на брата, он должен уступить ей, она просит его. — Подумал ли ты над тем, что сказал? По-твоему, не тот живет жизнью народа, кто кровь за него проливал, а кто ест бешбармак без вилок и ложек? Сидеть на джайлау, жрать и пить там чужое — значит любить свой народ? И чем ты похвастал? Своей властью над родом? Мы бились неделю, я и застава, звали Курманов в колхоз, убеждали, просили, а ты собой подменил заставу, и партию, и советскую власть. Не за это ли сказать тебе спасибо? Джоомарт дрожал от жестокого гнева, кулаки сжаты, зубы стиснуты до боли. Казалось, внутри него бушует стихия, рвется наружу, ищет выхода и не найдет. Кто мог подумать, что его так разберет, и все оттого, что Мукай, не подумав, сказал: “Ты оторвался от народа, не ценишь и не знаешь его”. С этого и началось. Мукай умолк. Лицо его потемнело, точно его опалили. Напрасно Сабиля придвинулась к мужу, ей уже не утешить его. В такие минуты он, точно ребенок, жмется к стене и глядит себе под ноги. — Спасибо, Мукай, за поддержку… Мы создавали колхоз, собирали людей, а ты свою амбицию ставил выше всего. Тебе мало моей благодарности, позовем сельсовет и заставу. Никто не откажется тебя похвалить. Теперь ты решил вести за нос других, помочь Джетыгенам. Тебе подай род, всех до единого, и своего и чужого, и друга и грабителя. Половина Джетыгенов — манапская власть, и помощники их останутся там, за кордоном. Я схожу на заставу, напишу коменданту, лягу им скалой на пути… Сабиля больше не колеблется между братом и мужем, она придвинулась к мужу и глядит исподлобья на брата. — Мы, должно быть, по-разному любим страну. Оно и понятно: я родился в юрте, покрытой рогожей, тебя баюкали в юрте из белого войлока… Что он натворил! Он приехал мириться с Мукаем, все сделать ради сестры и разжег еще большее пламя. Сабиля в слезах, она беззвучно рыдает. Куда делась его память, ведь он дал себе слово молчать. Его оскорбили? Мало ли что случилось. Он должен был помнить о сестре. — Ты еще не сказал мне, Мукай, кто передал тебе эти письма? Он говорил уже тише, заметно спокойней, но взгляд его почему-то обращен к Темиркулу. Музыкант не смущается, он может ответить и за себя и за Мукая: — Эти письма доставлял нам купец. Ты можешь его увидеть, он вчера остановился на базе. Нам нечего скрывать от тебя. Позволь еще вот что тебе сказать: ты исходил всю страну и знаешь, конечно, что чем выше в горах, тем ярче трава, тем богаче и счастливей земля. Спору нет, чем выше, тем больше величия, но всему есть граница. В горах есть предел, где бесплодие и скудость сменяет расцвет. Так вот, Джоомарт, мой совет: не переступай эту грань, берегись полосы, где красота и богатство мертвеют. Долгая пауза. Мукай опустил голову и молчит. Темиркул разглаживает усы, проводит рукой по седой бороде и бросает ласковый взгляд на Джоомарта: — Ты сказал, что половина Джетыгенов останутся там, за кордоном. За что их так сурово судить? Мы хотим тоже знать. — Я сказал уже вам: они наши враги. Можете мне верить на слово. — Ты не веришь нашему сердцу, как можем мы верить тебе? Я знаю, ты любишь землю отцов и предан новым порядкам, а вот для нашего рода у тебя не хватает любви. Справедливо говорят: два ножа не уместить в одних ножнах, две любви не вселить в одно сердце. И Темиркул и Мукай отлично видят смущение Джоомарта, ему трудно ответить, он не может. — Если ты не ответишь, Джоомарт, мы будем думать, что ты из недобрых расчетов ненавидишь этих людей. Агроном вдруг приходит в себя, слова музыканта его вдохновляют. Он поднимается с места и снова садится, взгляд его смел и сверкает лукавством. Нет другого исхода, и Джоомарт отвечает: — В пустыне Кара-Кум живет многоножка фаланга. Паук этот не ткет паутины и не прячется от врага. Он бьется открыто. Вот саранча опустилась на кустик. Она сильна и ловка, ей не страшна паутина, развешанная между деревьями. Фаланга уже заметила добычу и подобралась к ней. Мгновение — и хищник уже на спине своей жертвы. Саранча машет крыльями, хочет взлететь, а ядовитая гадина обволакивает ее паутиной. Саранча стонет от боли и бессилия. Так тихо подкрасться, так подло напасть, исподтишка… Ползучая мерзость связала вольную летунью, связала навеки. Таковы Джетыгены — ядовитые фаланги, открытые враги. Вот и все, ничего больше он не скажет. Темиркул берет комуз, точно хочет в ответ ему что-то сыграть, но Мукай уже больше не может сдержаться. — Ты не прячься за притчей, отвечай на вопрос. Ты не видел их вот уж тринадцатый год, почему ты до сих пор их не простил? Пусть приедут, посмотрят, как мы живем, как многое переменилось. Есть у нас чем погордиться. Его смущенье прошло, он такой же, как раньше: смелый, веселый и немного лукавый. Темиркул с ним согласен: в самом деле бы так. Яблоко рдеет: на яблоко глядя, пусть учатся друг у друга хорошему. — Они остались такими же. Клянусь, они наши враги. Я видел, я знаю. — Ты разве был среди них в эти годы? — Не спрашивай, Мукай, это тайна, я один ее знаю и никто кроме меня. — Ты лжешь! Ты обманщик, никто тебе не поверит! Так ответил Мукай и плюнул. Джоомарт промолчал. Голова его сразу ушла в плечи, точно один из джигитов Мурзабека снова стегнул его по спине. — Да-да, Джоомарт, — подтвердил Темиркул, — ты скрыл от нас правду. Тут что-то не так. “От тебя отвернутся все честные люди, никто в твой дом не войдет”, — хотели они как будто добавить, но сказать ничего не сказали. Что им ответить? Мукай не ошибся: он, Джоомарт, — обманщик и лгун, больше того — изменник. Каждый вправе ему бросить это в лицо. — Ты не должен, Джоомарт, огорчаться. Милый Темиркул, он тут как тут со своим утешением. Спасибо за доброе слово, его голос прозвучал так мягко и нежно. — Не надо огорчаться, ты лучше подумай. Нельзя идти против всех. Взгляни на бегущий в арыке поток. Он журчит, торопится, точно опасается в реку опоздать. Навстречу течению плывут желтые листочки, былинки, соломинки. У них свой путь, потоку навстречу. Они жмутся к стенкам арыка, ищут защиту от стремительной силы воды. Доплыли до места, где с бугорка чуть быстрее течение, и дальше ни шагу. Тут их подхватило, рвануло и бог весть куда унесло. Против течения безрассудно идти. — Я был прав, — торжествует Мукай, — ты оторвался от народа и стал ему чужим. Полюбуйся, Сабиля: вот он, твой брат, он клевещет на родных и готов не пустить их на родину. Посмотри на него. Еще одно утешение для Джоомарта: сестра берет его за руку и ласково просит помолчать. Милая, родная, как он любит ее! Она заглядывает брату в глаза, шепчет его имя и в душе удивляется, как на свете все непонятно. Было так хорошо, все смеялись, шутили, и на вот — рассорились, стали врагами. Почему, отчего? Ведь все ложится на ее слабые плечи. Где ей разобраться, кто прав и неправ. Джоомарт встает и, не прощаясь, выходит из юрты. Он садится на коня и едет домой.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Много забот свалилось на Сыдыка. Удивительно даже. Он встал сегодня с зарей и до сих пор хлопочет. Конь его приустал, едва дышит, и сам он порядком устал. Легко ли с людьми иметь дело! Они готовы отступиться, совсем, навсегда. Как мало у них сообразительности. Джоомарт им кажется Манасом, никто голоса не возвысит против него. Говоришь, объясняешь им: “Ваша возьмет, не уступайте. Требуйте, тесните его, не давайте ему покоя ни днем, ни ночью”. Этот глупый улар Молдобай так и сказал: “Я найду для моего сына другую жену, но не найду для колхоза лучшего друга, чем Джоомарт”. Скотник Махмуд вовсе спятил: “Весь род Джетыгенов, — кричал он исступленно, — не стоит одного Джоомарта! Я верну им калым, пусть сидят себе там, за кордоном”. Гугнивый Омар обнял свою дочь и гугнит: “Просверленная бусинка на земле не заваляется”. Кривобокий Алы возгордился вдруг сыном: “Ничего, ничего, стальной нож, — говорит он, — не останется без ножен”. Хороши женихи, хороши и невесты! У собаки нет измены, у женщины верности. Осел этот Ахмет, вздумал стать мудрецом: “Если время, — говорит он, — не мирится с тобой, мирись ты со временем”. На колхозников мало надежды. Все испугались одного человека. Трусы поганые, побитые псы, они готовы забыть Джетыгенов, расторгнуть все сделки, причинить Сыдыку убыток. Что им до бедного посредника? Нет, это его совсем разорит. Легко липоступиться таким капиталом — по сто рублей с кибитки деньгами, а сколько овец и добра! Кто ему оплатит расходы? За угощение Темиркула, за козу, которую он отдал Мукаю, за три метра шелка Сабиле. Все пропало, как в джуте: сто баранов за маленькую Ваппу, сотня овец от Курманов за услугу… Боже мой, боже мой, мешок золота сгинул! Найдутся еще люди и скажут: “Верни нам задаток”. Что им, живодерам, до него. Отдать им триста рублей, двух баранов и три мешка зерна? Он скорее задушит себя, чем вернет им хотя бы горошинку. Зато его сегодня утешил Мукай. Славный малый, с ним можно поладить. Что значит смелый человек! Он ловко придумал: Джоомарт — враг колхоза. Он так и сказал: “Мы, Сыдык, не сдадимся, никто ему не позволит колхоз разорять. Мы нужны Джетыгенам, а они — нам”. Тут он надулся, точно бог весть какую мудрость изрек. Конечно, конечно, ни за что не отдадим, колхоз будет нашим. Пришлось ему польстить, расхвалить его сердце и ум. Всякий это любит, а Мукай больше всех. Не обошлось без ошибок, Мукаю не легко угодить. То он свой человек, хороший киргиз, то потянет вдруг руку Джоомарта. Не смей плохо при нем отзываться о порядках, не смей власть поносить… Все-таки агроном его очень утешил. Ему даже стало весело с ним, от души отлегло и захотелось услышать доброе слово. “Как ты думаешь, Мукай, если бог захотел бы сбросить счастье на землю, правда лучше бы оно упало в Киргизию?” Что тут плохого? Каждый желает себе добра. Он молчит и странно моргает глазами. “Ну вот. А если в Киргизию, почему бы счастью не скалиться на род Курманов?” Мукай все молчит. “А если это счастье суждено уж Курманам, то пусть тем, кто живет в нашем ауле”. Бешеный человек, он метнулся, как вихрь, бранился, ругал что есть силы. Ему обидно, что я печалюсь об одних лишь киргизах. Он готов это счастье отдать всему миру. Хотите, он его вовсе подарит властям. Скоро вслед за Мукаем явилась Чолпан. Пришла проведать отца, повидать свою мать. Бедная дочь, как трудно ей жить. Рот ее набит леденцами, а грудь полна горечи. “Я не буду с ним жить, — плакала она, как ребенок, — он не киргиз. Он не верит, что мясо улара защищает от оспы, что ноги филина, голова его и перья помогают против всякого зла. Он играет на комузе и смотрит на луну. Смотрит часами иногда до зари, и не скажет мне, что он там видит. “Не смотри на луну, — прошу я его, — она сосчитает волосики у тебя на ресницах, и ты тотчас умрешь”. И снова она о своем. У нее нет детей, она хочет ребенка. Как было отцу не утешить ее? Это, может быть, к лучшему. У невкусной дыни семян много. Тут он вспомнил, что дочь его сильнее мужчины и ей не стоит труда натолочь ему ячменя. И ей это не в пользу: запах зерна помогает тем, у кого нет детей. С каким жаром взялась она за дело! Деревянная ступа визжала и скрипела под ударами песта. Что за сила у нее! Такая жена стоит сто мешков золота. Тут пришла ему в голову светлая мысль, точно молния блеснула в горах: эту сильную женщину можно выдать за другого, взять хороший калым и скотом и деньгами. Джоомарт, правда, любит ее, но ведь она ему даром досталась, пусть обратно возьмет свой калым. Вот что значит суметь подсчитать и вовремя взвесить. “Я могу тебе помочь, моя милая дочка. У тебя будут дети и деньги. Я нашел одно верное средство”. “Верное средство…” Пест как молот заходил в ее руках. От ударов дрожала земля. Так длилось, пока не случилась беда — ступа дала трещину и развалилась па части. Что значит сила! Двадцать лет на ней не было трещины, ступу делал еще ее дед. К счастью, все обошлось: он так собрал зерна и муку, что на земле не осталось и белой песчинки. Чолпан была в восторге. У нее будет муж — молодой и красивый. Не простой человек, а казенный, ему дадут груду золота за службу. Добрый мусульманин, он пошлет ее на гору Сулеймана и щедро заплатит отцу. Из этих денег Сыдык ей накупит подарков. Сейчас этот муж еще за кордоном, он из рода Джетыгенов и придет сюда вместе со всеми. Все зависит теперь от Джоомарта. Как только он согласится им помочь, Джетыгены пришлют делегатов к заставе. Ей надо упросить мужа помочь Джетыгенам. А любовь Джоомарта? Сыдык вырвет ее без остатка. Первое средство — семь сред подряд мыть голову арычной водой и посыпать ее густо золой. Друг его избавился от нелюбимой жены тем, что бороду расчесывал двумя гребешками. Второй способ — поставить сапоги его носками к дороге. Куда ноги идут, туда и сердце следует. Чолпан сияла от радости. Она, конечно, согласна и непременно добьется согласия мужа. Джоомарт попомнит Сыдыка. При свирепой жене что толку от спокойствия целого мира? В тесных сапогах какая польза, что мир велик и обширен? Да, много забот свалилось на Сыдыка сегодня. Когда ишаки прокричали в колхозе, он второпях пообедал, сел на коня и поехал на заставу.***
— Что вы хотели сказать? Начальник заставы лежит на диване в своем кабинете. Ему сегодня не по себе. С утра подуло прохладой, и у него начала болеть спина. В постели ему легче, только кружится сильнее голова и хочется спать. Сыдык явился по важному делу, пришлось пересилить себя. Так лучше, пожалуй: в работе слабость быстрее проходит. Сейчас он приподнимется, вот так… Глоток воздуха — и все пойдет по-другому. Только бы прошло гуденье в ушах. Кругом такой шум, что ничего не поймешь. Уж лучше он встанет, по крайней мере все будет слышно. — Говорите, Сыдык, что вы хотели. Старик тяжко вздыхает, шевелит правой бровью и шепчет: — Я скрыл от вас правду. Простите меня… Ага, он узнал его: это тот, безголосый. Что ж, пусть говорит. Краснокутов молчит, на столе лежат мертвенно-бледные руки. Он часто вздрагивает и торопливо сует их в карманы. Лицо его при этом еще больше желтеет. — Ну, ну, говорите. — Я хочу рассказать о купце. Неправда, что мы незнакомы. Я давно его знаю, больше трех лет. Он передает нам приветы от рода Джетыгенов, с караваном доставляет нам письма. Спасибо ему, у него доброе сердце, он никогда не берет у нас денег. Краснокутов устремляет тоскующий взор в окно. На пригорке вьется тропинка, по которой идут караваны. Его мысли, видимо, там, а может быть, и не так далеко, — на окне стоят склянки с лекарствами, грелка и куча бинтов. — Почему вы тогда не сказали нам правду? Сыдык скорбно вздыхает и разводит руками. Плоское лицо с расплывшимся носом выражает смущение. — Здесь сидел Джоомарт. При нем я не мог говорить. Взор его опущен, ему стыдно, он не смеет взглянуть на начальника. Краснокутов подпирает усталую голову, силы его покидают. — Почему не могли? — Нельзя было, товарищ начальник. Мог ли я сказать, что Джоомарт в этом деле знает больше меня? Он все письма читал, никто их не скрывал от него. Начальник заставы садится спиной к окну. Так лучше, пожалуй, свет меньше его ослепляет. — Расскажите, что это за письма. — Говорил вам Джоомарт о своем роде? Нет? Ничего? Их зовут Джетыгены. Они хотят к нам вернуться из-за кордона. Письма эти пишут они ему. Простите, я солгал вам — сказал, что не знаю по-русски. Тут немного вины и Джоомарта. Я спрашивал тогда его совета: говорить ли вам всю правду или лучше рассказывать ему одному? Он тогда согласился, что не стоит вам говорить все. Уж лучше бы пристыдил меня, и я не стал бы вам лгать. Краснокутову видится синее озеро. Его тело горит и просится в воду, но всюду болото, страшная топь. Как одолеть ее? Где ему найти сухую тропинку? Надо спросить Джоомарта. — Где Джоомарт?.. Ах да, вы солгали. — Он не все перевел вам тогда. Мы условились с ним, что я не всю правду скажу вам. Это было на ваших глазах. Так мы и спелись. Ведь мы свои люди — я его тесть. Краснокутов открывает глаза. Он, должно быть, дремал, в памяти у него ничего не осталось. Он просит повторить все сначала. Еще и еще раз, теперь ему понятно. Странные вещи: Джоомарту шлют письма из-за кордона. Доставляет их купец. Род Джетыгенов хочет вернуться, но Джоомарт убеждает их там остаться. Он скрыл, что Сыдык его тесть. Ввел в заблуждение заставу, убедил арестованного говорить неправду. И еще что-то сделал Джоомарт… Об этом надо подумать, облокотиться о стол — так и вот так, сомкнуть веки и думать. К озеру легла сухая тропинка, она вьется по отлогому берегу. Блестящая гладь и зеленая трава — точно зеркало в изумрудной оправе. Теперь бы окунуться, броситься в воду, но он страшится ее. В тихом омуте дремлют несчастья. Скорее бы уйти, пока сухая тропинка снова не стала болотом. Опять его мысли расползлись, он думал совсем о другом. — Ты, кажется, говорил, что меня обманули. Зачем было Джоомарту мне лгать? Начальник заставы прислонился к стене. Так легче думать, и мысли отчетливы, ясны. Внимание, внимание… Сыдык принес важную новость, он не должен глаз закрывать. Ни за что. Ни за что. Что стало с озером? Оно опустилось в глубокую пропасть, кругом страшные горы. Позвольте, позвольте, ведь это Иссык-Куль. Вон хребты — Кунгей и Терскей — Алатау. Таков порядок вещей — между вершинами всегда лежит впадина. В том месте, где тучи собрались, камыш склонил над озером голову. Камыш не помеха, а за травку — спасибо. На вид неказистая, а тронешь — обожжет. Хорош корешок! Иссык-куль-ский корешок! — Я не слышал ни слова, повтори мне еще раз, Сыдык. — С самого начала? Кто его знает, где начало, где конец. У него сил нет держать голову прямо. Ему все еще слышатся всплески воды. — Да, да, сначала. Старик недоверчиво глядит на начальника: кто знает, что с ним? Уж не притворяется ли, чтоб легче разведать? — Колхозу не хватает людей, а Джоомарт решил не пустить сюда Джетыгенов. “Опомнись, — говорю я ему, — ты плохое затеял. Ударяй в барабан сообразно своей силе, не бери на себя слишком много. Не любишь свой род — не люби, а зачем колхозу страдать? Мы кровью растили наше хозяйство, не лишай нас подмоги”. Не слушайте его, товарищ начальник, берегитесь обманщика, не верьте ослепляющей речи. Бойтесь ее! Когти беркута волку не страшны, страшен клюв: он выклевывает у бедняги глаза, а слепой волк слабее ребенка. И напрасно Джоомарт опасается, что Джетыгены отобьют его место. Мы даем ему слово, начальник, что никто на его место не сядет. Он человек со звездой, и никто с ним спорить не будет. Краснокутов успел уже взять себя в руки, перо скользит по бумаге. Важная весть, печальная. Что поделаешь, всякое бывает. Сыдык шепчет и шепчет. Он хочет быть честным, покаяться в грехах — своих и чужих. Еще один вздох, глубокий и тяжкий, и начальник узнает самое важное. Краснокутов готов ко всему, ему бы только удобней присесть, — одну ногу положить на сиденье, вот так, а теперь пусть говорит. — Никто не спорит с Джоомартом. Может быть, Джетыгены кой в чем и грешны. Пусть скажет. Он хвастал, что тайну эту знает он один. А вдруг это ошибка или ложный донос? Мало ли что бывает на границе. У каждого человека враги. Нет врага — друг изменит, нет собаки — залает свинья. Пусть выложит тайну заставе, а вы судите как надо. Сыдык возвращается домой. Слава богу, дела его не так уж плохи. С Краснокутовым можно поладить, славный малый, он совсем не хитер. Пусть Джоомарт сунется к нему. Его встретят здесь с музыкой. Такое сыграют, что он будет не рад. Вот и Джоомарт, сам бог его ведет на заставу. Спеши, спеши, голубчик, там тебя ждут. Смелей, мой зятек, начальник тебя поджидает. — Здравствуй, Джоомарт, куда ты торопишься? Однако его крепко согнуло. С тех пор как Мукай его отчитал, он переменился: и голос ослаб, и голова глубже ушла в плечи. Только язык стал острее, и в глазах что-то тлеет недоброе. Не везет ему, бедному, с ним и Сабиля сегодня поссорилась. Уймется скакун — станет лошадью. — Ты был на заставе? Что там хорошего? — спрашивает Джоомарт. Сыдык улыбается! Не чудо ли? Этого с ним никогда не случалось. Глядите, глядите, он даже смеется, зубы скалит и беззвучно хрипит: — Я вспомнил о начальнике заставы. До чего он хитер, до чего ловок. Позвал меня к себе и все добивается: как живет Джоомарт, где бывает, с кем встречается. Какие мысли у него, честен ли, добр? Нашел кого спрашивать. Ты еще больше удивишься, когда дослушаешь меня до конца. — Погоди, погоди, как ты попал на заставу? Как? Очень просто, его позвали к начальнику. Сам бы он туда ни за что не поехал. Старик не прячет глаз, правдивому человеку нечего таиться. — “Верно ли говорят, — спросил он меня, — что у Джоомарта вражда с Джетыгенами?” Все знают, что ты враг своих братьев по роду и готов довести их до гибели. Тебе не стоит труда выдумывать о них небылицы. И все-таки начальнику я ничего не сказал. Хитрюга, проныра, он так и этак подъезжает. Скажи ему, куда едет Джоомарт, бывает ли он на пути караванов, с кем и где водится? “Спросите другого, — говорю я ему, — мы с ним родня, я ему тесть”. Тут он вдруг удивился, точно услышал об этом впервые… Ты не скоро еще вернешься домой, возьми, Джоомарт, перекусишь в дороге. Славный курт, отведай. Одной рукой он сует ему шарики из сушеного творога, а другой гладит гриву его коня. Оба они ему дороги — и всадник и конь. — Еще начальник расспрашивал, не читал ли ты писем, которые к нам присылают оттуда. Я — подумал про себя: “Надо сознаться. Одно письмо он читал, а о других ему тоже известно. Ты можешь, Сыдык, на этом попасться”. И все-таки я ему ничего не сказал. Джоомарт размышляет. В таких случаях нет смысла вести с ним разговор, он ничего не видит и не слышит. — Что, начальник здоров? Мне сказали, что ему стало хуже. Сыдык пожимает плечами: есть же мастера выдумывать небылицы. — Он, правда, лежит, и глаза закрывает, и стонет, но все это притворство. Его желчная душа полна подозрений, он строит козни против тебя. Ты будешь у него и убедишься. Старик кивнул головой и ударил коня. Джоомарт долго смотрел ему вслед. Дернул повод и круто отъехал с дороги. Он раздумал: па заставе ему нечего делать. Его маленькое дело потерпит. Хорошо, что его предупредили. Спасибо Сыдыку. Джоомарт сделает лишних два-три километра и другой дорогой вернется домой. На заставе и не узнают, что он здесь побывал. Никто, кроме тестя, его тут не видел, а если и видел — не беда, мало ли кто куда держит путь. Можно, наконец, еще три километра лишних проделать. Сыдыку он при встрече скажет неправду: да, он был на заставе, и ничего ему Краснокутов не говорил. Джоомарту не везет: за что он ни возьмется, нет удачи. С Мукаем у них кончилось ссорой, нет между ними согласия. Смешной человек: при встрече глаз не поднимет, руки не подаст — одним словом, чужой. Вчера он присылает своего бригадира — надо сделать ограду вокруг лаборатории. Прекрасная мысль. Что ж, хорошо, приди, обсуди. Нет, ответь ему через бригадира. Ладно, пусть так. Теперь ему нужны рабочие руки, и снова он присылает своего человека. Смешно и нелепо, точно они дети. Сегодня они встретились в конторе колхоза. Так ли уж трудно любезно ответить на поклон? От него не убавится, а колхозники скажут: “Агроном и председатель- славные ребята. Поспорили — и снова друзья”. У Мукая не хватило ума, пришлось это сделать Джоомарту. “Что нового, Мукай, — спросил он его, — как живешь?” Тот даже не обернулся, сидит за столом, глаз не сводит с окна. “Я просил у тебя людей, — отвечает агроном, — без плотников ограду не построишь”. Слыхали ответ? Что мешало ему буркнуть: “Спасибо”, а потом заговорить об ограде? Кругом стояли колхозники, почему не ответить иначе? Пришлось сделать вид, что ограда важнее всяких приветов, и тут же послать ему людей. Теперь уж, казалось, он будет любезней, ведь нет ему отказа ни в чем. Мукай не такой. Он встает и зевает, подмигивает своему бригадиру, и они, обнявшись, уходят. Что это значит? Не хочет ли он сказать, что ему наплевать на председателя? У дверей агроном вдруг хохочет, подмигивает колхозникам и, довольный собой, засовывает руки в карманы. Дескать, видали? Посмели бы мне отказать. Мукай просчитался: тут хозяин Джоомарт и с пути его никто не собьет. Он вернул бригадира и твердо сказал ему: “Я раздумал строить ограду, лес пойдет у меня на другое. И плотникам найдется работа”. Наука хвастунишке: не зазнаваться. Все были уверены, что агроном это дело не оставит, придет свирепый и злой, обрушится криком, но ничуть не бывало, он не вернулся. Очень уж, должно быть, его разобрало. А возможно, и нет: председатель колхоза мог передумать, всякое бывает в хозяйстве. Агроном мог, конечно, прийти и сказать: “Ты еще раз подумай, Джоомарт, ограда крайне нужна”. Слово за слово, и они помирились бы. И ему, Джоомарту, следовало бы иначе себя повести: не так торопиться с отказом, выждать, стерпеть. Кто знает, как повел бы себя Мукай, где уверенность, что он — любезный и веселый — не вернулся бы тотчас в контору. Так и случилось бы. Увы, сил не хватило сдержаться. В последнее время ему все труднее с собой совладать. Его осаждают тяжелые и горькие чувства, мерещится чей-то тайный и темный расчет. Все точно в заговоре против него. Его подозрения растут и крепнут, — сегодня к одному, завтра к другому. Ни уйти, ни отвязаться от них. Сегодня он поспорил с Сабилей. Было бы из-за чего. Они шли по тропинке над глубокой долиной, усеянной голубыми цветами. На каждом стебельке лежало крошечное небо и звездами сияла роса. Славный уголок. Летом тут веет прохладой, а ранней весной жарко. “На этом месте, Сабиля, — сказал он сестре, — когда-то стояла наша юрта. Отца уже не было, и я с матерью пас тут коров Мурзабека”. Она кивнула головой и ничего не сказала. “В то время росли здесь фиалки и маки, земля была озером с золотыми берегами, и все-таки я это место не любил. Я завидовал тучам, которые от нас уходили, счастье казалось мне там, за кордоном. Теперь уже не то, каждая травка радует меня, тут наша земля, наши посевы — все наше”. Она кивнула головой и опять промолчала. “Что с тобой, Сабиля, — спросил ее брат, — почему ты молчишь?” Сестра пожала плечами, ей нечего сказать. С ней это бывает, иной раз находит на нее. Помнится, в детстве мать дала им по яблоку: ей — желтое, маленькое, а Джоомарту — чуть побольше, с алыми щечками. От обиды она вначале заплакала, затем изрезала гостинец, искрошила и выбросила вон — ни себе, ни другому. Они спустились с гор, под ногами серебрился ковыль, и такой же ковыль носился высоко под солнцем. “Я хотела тебя просить, Джоомарт, — заговорила она наконец, — не спорить с Мукаем. Я не могу больше слушать, как он ругает тебя. Уступи ему ради меня”. Он посадил сестру рядом, как сажают детей, и сказал ей: “У каждого человека есть нечто святое и близкое. У одного — это мать, у другого — невеста, дружба друга, любовь… Мало ли что человека пригреет. Так вот его святыня — родная земля, страна, где страдал его добрый отец и где оба они пели подневольные песни. И не тем только страна ему дорога, что он и отец в ней страдали, а и тем, что сейчас в ней живет киргизский народ”. Сестра ему на это отвечает: “Я понимаю тебя, но ты сделай вид, что ему уступаешь. Тут дело в словах, только в словах. Мукай мне жить не дает: сердится и ворчит, только и речь, что о Джетыгенах. Ему вбили в голову, что он их спаситель, и вдруг такая помеха — ты на пути. Обещай мне, Джоомарт, сестра твоя, Сабиля, просит тебя”. “Не проси, родная, — возражает ей брат, — такую родину, как наша, надо беречь, нельзя ее обманывать даже шутя”. Она закрыла руками лицо, и сквозь ее пальцы проступили капельки слез. “Ты так похожа на мою добрую мать, — печалится брат, — а требуешь от меня невозможного. Наша мать не дала бы миг такого совета”. Она вытерла глаза, поправила платье и хочет уйти. Да будет ему известно, она целиком на стороне мужа. Да, да, целиком. Джоомарт решил не откладывать больше: поехать на заставу и выложить все Краснокутову. Мог ли он подумать, что ему придется, как вору, сделать крюк, чтоб уйти незамеченным? Однако он, кажется, сбился с пути, конь по привычке пошел караванной дорогой. Куда его занесло? Мимо проехал пограничник Абдраим. Джоомарт не видел его, да и тот на него не взглянул. Надо знать Абдраима: он видит все краешком глаза. Спросите его: кто проехал по верхней дороге? И рассказам его не будет конца: и стремена, и одежда, и набор на уздечке — все подробно опишет. Даже пуговицы на рубашке Джоомарта Абдраим изучил: они пришиты неровно, и нитки на каждой крест-накрест лежат. Молодец Абдраим, ему только и стоять на границе! Знакомые места, тут каждая тропка и камень — друг и защитник. Джоомарт нес здесь охрану много лет, объезжал караванную дорогу, и чего только тут не бывало. За тем вон пригорком он однажды нашел киргиза — чудесного парня в одной рубахе с котомкой на плечах. Он горько плакал: прощался с землей, со страной, от которой хотел уходить. Затравленный врагами, без копейки за душой, он надумал бежать за кордон. Ах, что с ним только не делали! Прятали опиум у него под воротами и доносили властям. Он был комсомольцем с чистой совестью и доброй душой. Они обвинили его в том, что он, сын манапа, расстреливал красных, провозил контрабанду. Таков “киргизчелык” — месть, месть без пощады. Джоомарт утешил его, побранил за желание бежать и очень помог ему тогда. Теперь он служит на заставе и зовут его Абдраим. В другой раз он поймал здесь кассира рабкоопа; при нем были деньги, грабитель успел их обменять на валюту. С ним Джоомарт поступил без пощады: под дулом нагана доставил его на заставу… Что это значит? Ему словно послышался стон. Кто-то зовет на помощь. Неужели ему показалось? Да, да, снова стон. Кто там? Отзовись!.. На дороге рядом с навьюченным верблюдом лежал парень лет двадцати, в рваном полушубке, в овчинных штанах мехом внутрь и не в меру больших сапогах. Лицо его, изрытое оспой, побелело как снег, с правого уха свисала серьга. Он стонал и плакал, жаловался неизвестно кому: — Ой, мои ноги… Мои бедные ноги… Что мне делать теперь?.. Увидев Джоомарта, он, испуганный, присел и стал кричать на верблюда: — Атчу! Ну же, атчу! Вставай же, шайтан! Сгори твое брюхо, проклятый!.. И верблюд и погонщик не двигались с места, их глаза одинаково выражали страдание. Джоомарт спрыгнул с коня: — Погоди, мы поднимем его. Что с тобой парень, почему ты не встаешь? По щекам паренька бегут крупные слезы, рыдания замерли у него на губах: — Они не держат меня… Несчастье мое, я их отморозил… — Ты отстал от каравана? Он покачал головой и с отчаянным воплем повалился на траву: — Бог мой, ты видишь, как я несчастен… Кто мне поможет? Горбатый злодей замучил меня. Он упал и лежит, точно камень. Чего я только не делал, он не слушается больше меня. Кричишь ему “чок” — становись на колени, слезно его просишь — не помогает. Как навьючить верблюда, когда он стоит? Встанет на колени — не поднимешь его. Кричу ему: “Отчу!”, машу рукой, уже сутки, как бьюсь, — ничего не выходит. Он обленился, проклятый, тут всего восемнадцать пудов. Где караван? Купец здесь проехал дней пять назад. Ты, может быть, знаешь его — он богатый человек. У него шуба на лисьем меху, лошадь убрана коврами, седло в серебре. Купец Абдуладж — его знает полмира. Верблюды прошли здесь вчера. Караван-баш Измаил уехал вперед, а мне приказал без верблюда на глаза не являться. Ноги мои, бедные ноги, куда мне деваться!.. — Как тебя зовут? — Меня зовут Тохт. Я сын Мухамеда, разносчика зелени. Джоомарт поднимает его и усаживает к себе на коня. — Куда ты меня увозишь? Боже, помоги мне!.. Аи, аи, спасите!.. Он кричал и задыхался, рвался спрыгнуть с коня. Его крики звучали горестным эхом, но никто их не слышал, кроме Абдраима. Он все видел с нижней дороги. — Не хочу, помогите! Ах, ах, спасите!.. Что будет с верблюдом, он не может оставить его. У бедняги от страха помутился рассудок. — Пожалей меня, добрый разбойник, я больной и голодный… Я прошел через три перевала из чужой страны. Мой купец Абдуладжи не дал мне осла. Оставь мне верблюда, с меня взыщут за это, как с вора. Он бился в руках, рыдал и молил Джоомарта: — Отпусти мою душу, зачем я тебе? Что я скажу купцу Абдуладжи?.. Упрямый погонщик, он тогда лишь поверил Джоомарту, когда явился Абдраим, поставил на ноги верблюда и увел его с собой на заставу… Печально сложилась жизнь Тохты у купца Абдуладжи. Началось с того, что купец его нанял почти за бесценок, за сорок экиманое в месяц, без одежды и без права на хозяйские обноски. Летом, когда верблюды линяли и нельзя было их гнать через холодный перевал, он пас их в горах. Едва верблюды обросли, хозяин нанял караван-баша, и тридцать пять верблюдов, груженных кожей и шерстью, двинулись в путь. Купец уехал верхом за несколько дней. Две недели они шли через горы: караван-баш впереди на двугорбом верблюде, а Тохта сзади, пешком. Морозы и бураны его истомили, он леденел от стужи. Караван-баш себе ставил ночью палатку, а погонщик зарывался в тюки, чтобы согреться под шерстью. Так шел караван день за днем. Кормили погонщика сухими лепешками, рисом, но и этого ненадолго хватило. Купец ли ошибся, не рассчитал, сколько надо погонщику еды, или парень слишком помногу ел, — еще три дня пути, а риса оставалось лишь на сутки. Вдобавок поднялись бураны в горах, запорошенные снегом котлованы, как застывшее море, лежали в берегах обрывистых гор. Животные падали с ног, тонули в сугробах и ревели от боли. Веревка в ноздрях, привязанная к хвосту переднего верблюда, причиняла упавшим страдания. Снимали поклажу и снова навьючивали. Бедный Тохта часами простаивал по горло в снегу, вязал узлы окоченелыми пальцами. Так случилось, что нога его стала темнеть, а пальцы совсем почернели. Два дня еще они служили ему, пока он не свалился на дороге. Какой мучительный путь… Голод крепчал, силы его покидали, а до теплых долин оставалось изрядно. Ему удалось убить камнем архара. Баран сорвался с вершины на дно ущелья в пяти часах хода от места стоянки. Только к вечеру караван подошел к тому месту. Над тушей архара поднялась стая грифов: они все обглодали, оставили охотнику голые кости. На сыртах за перевалом было тоже несладко: то вспыхнет яркое солнце, то повеет прохладой и начнется буран. Чуть погодя — ни метели, ни туч, и вдруг небо окутает пламя грозы, к ночи станет светлеть, и тысячи огненных копий ринутся на осажденную землю. Последнее несчастье стряслось у заставы. Верблюд поскользнулся и с грузом сорвался с тропинки. Тохта так ходил за животными, себя не щадил, чуть ли не стелился им под ноги, и вдруг такая беда. К счастью, он вовремя вспомнил имя святого и крикнул: “Кожан!” Верблюд словно чудом задержался у скалы. Джоомарт рассмеялся: в колхозе никто не поверит, что святые помогают в несчастье. Они вдвоем на коне: Джоомарт в седле, а погонщик сзади на крупе. На подъемах он обнимает Джоомарта, в трудные минуты прижимается к нему. До больницы далеко, часа четыре езды, и время от времени Джоомарт его спрашивает: — Что нога, все еще болит? Я могу усадить тебя иначе. Тохта поднимает глаза на Джоомарта, смотрит на него и молчит. — Если сможешь опереться на стремя, садись на мое место в седло. Тохта качает головой, и серьга его колеблется туда и сюда: — Мне сейчас хорошо, и ничего не болит. Конь ступает по карнизу, высеченному в каменистой горе. Вверх поднимается тянь-шаньская ель. Точно отара овец, она облепила хребет и тянется к белой вершине. Снежная лавина встает елям на пути, они тонут в снегу, и только одиночки, отбившиеся от стада, добрались до туч, до самого неба. Погонщик молчит, ему горько и больно: все несчастные на свете — и его братья и сестры. Время уходит. Они изрядно отъехали, и снова Джоомарт его спрашивает: — Тебе, может быть, лучше сесть по-другому? Как твои ноги? — Кто ты такой? Почему ты хлопочешь так обо мне? Я грязный погонщик, без гроша за душой. Никто тебе ни копейки не даст за меня. Джоомарт словно не слышит его: — В больнице мы снимем с тебя полушубок, смоем всю грязь и положим в кровать. Тебя будут кормить белым хлебом, поить молоком, пока ты не станешь здоровым. Тут что-то неладно, такие вещи не делают даром. — А сколько мне за это отработать придется? — У нас за это не платят. У Джоомарта есть чем похвастать, он такое еще скажет, что бедняга не поверит ушам. Тохта улыбается: возможно ли, чтоб о бедном погонщике заботились зря? — Какой же расчет тебе без денег возить меня? Теперь улыбается Джоомарт: этот парень точно с неба свалился. — У нас люди не умирают на улице. Каждый обязан доставить больного к врачу. — Уж ты лучше сознайся, что стыдишься своей доброты. Пусть тешит себя выдумками, так ему Тохта и поверит. — А если вору на площади руки отрубят, ты его тоже доставишь к врачу? — Воров у нас так не наказывают. Их кормят и одевают, дают им кров и постель, но заставляют трудиться, пока они не полюбят свой труд. Довольно этих сказок. Точно тут в самом деле святая земля. — Не сердись на меня, но я не верю тебе. У вас тут нет бога, а там, где нет бога, у людей нет души. Они едут высоко над ущельем. Лес спускается с гор, изгибается в ложбинах, карабкается вверх и застревает под вершиной, точно у плотины. Внизу вьются голубоватые реки. Из ущелья находит вдруг мгла, река зеленеет, и пенистые гребешки всплывают на ней. Плетеный мост над потоком колеблется, с гор спускается черное облако. Конь оступился, сел на задние ноги. Испуганный Тохта прижался к Джоомарту, обнял его и не отпускает. — Ты добрый человек, мне жаль тебя. Уедем отсюда. Хочешь? Отец мой зеленщик, он тебя не обидит. — Спасибо, мой мальчик. На родине у себя ты, наверное, самый несчастный. Тохта с ним не согласен, родина тут ни при чем. — Нашему брату всюду скверно живется. У вас разве не гоняют людей пешком по сыртам? Или ради погонщика два тюка снимают с верблюда? Так уж заведено: все учитывается в караване, кроме веса погонщика. — В нашей стране, — отвечает Джоомарт, — человек стит дорого, дороже пяти караванов с грузом чистого золота. И погонщики наши не ходят пешком. Они запрягают железного зверя и скачут на нем быстрее ветра в горах. Опять небылицы. Что значит добряк. Он выдумывает, чтобы утешить его. — У вас щедрые купцы, если они платят так много за человека. — У нас нет купцов. Вчерашний погонщик, если он не ленив, может сделаться купцом и даже правителем. Возьмем, к примеру, меня. Я председатель колхоза. Что с ним? Он вздрогнул, отвернулся от Джоомарта. Что его так испугало? — Что с тобой, Тохта, ты сердишься? На кого? На меня? Тохта бледен, глаза его гневно сверкают. — Знал бы я раньше, что ты начальник колхоза, не сел бы к тебе на коня. В колхозах живут последние люди. Лучше бы я сгинул возле верблюда, чем поехал с тобой… — Не говори так, мой мальчик, — просит его Джоомарт, — не надо, ты лучше смолчи. Его просят? Прекрасно, но дайте ему кончить: — Колхоз — это племя шайтана! Там отец продаст дочь, брат — сестру, сын — родную мать. Колхозы — проклятое место. Тут Джоомарт его вдруг обрывает: — Неправда! Это ложь! В наших колхозах нет того, что у вас. Родители у нас дочерьми не торгуют. Это ваши отцы отдают девочек замуж без их согласия, за калым. Наши девушки сегодня пашут в колхозе, а через пять лет они строят мосты, лечат больных, обучают детей. Они сами выбирают себе мужей, по своей воле. Упрямый погонщик наслушался вздора и мелет всякую чушь. — Я, председатель колхоза, — не чета твоему купцу, который торгует кожей и шерстью. Пятьдесят два колхозника и сорок колхозниц доверили мне свою жизнь. Среди нас нет лентяев, бесчестных люден, всякий трудится сколько есть сил. Тохта совсем растерялся: он не знает, что делать — просить ли прощенья или плакать. — Зачем ты так сердишься, я не знал, что это тебя огорчит. Может быть, у вас и не так уж плохо, но мне говорили, что бог отвернулся от вас. Джоомарт вдруг хохочет. Он хочет что-то сказать, но смех его еще больше разбирает. Этот парень — сущий ребенок, разве можно на такого сердиться. — Не бог от нас отвернулся, а мы от него. Он нам не нужен. Тохта снова испуганно отпрянул. Боже мой, он был ласков с безбожником, называл его добрым, хорошим и лучшим… — И ты в бога не веришь? — Да, да, и я. Расскажи лучше, как там у вас. По-старому рее? Я запомнил ваши базары: под навесом на плитах варят и пекут, торгуют жареными бобами и тут же едят. Еще я запомнил красавицу Алилю. Ее отдали горбуну, насильно отдали по воле манапа. Не стало у нас манапов, не стало и несчастий. Теперь они оба молчат. Дорога оживает. Вон кто-то проехал верхом на корове, его догоняет парень на телке. Из долины доносятся крики и гам — колхозные дети отпугивают птиц, оберегают посевы. Обжоры тучей несутся над полем. Благословенная долина, в ней все созревает. Тут, в горах, еще веет прохладой. К тропинке сползает толстый слой снега, он тает, и струйки стекают с розовой скалы. — Не надо обижаться, добрый джигит, я знаю только то, что слышал от других. Возможно, ты и прав, у вас не так уж плохо. Говорят, в колхозе не уважают ишанов, не чтут стариков. И еще говорят, что судьи у вас не знают пощады, убивают людей без счета и числа. Скажешь, неправда? Джоомарт ему говорит вначале спокойно, даже чуть сухо, точно все уже известно и давно надоело рассказывать. Потом нахлынула страсть, нежное чувство, и речь стала бурной. Точно горная река, дотоле зажатая в крутых берегах, прорвала преграду и широким потоком идет на луга, на поля. Она изгоняет зверей из лесов, рыбаков из рыбачьих аулов — всех свидетелей ее долгой неволи. В последнее время на долю Джоомарта выпало много печали: при нем оскверняли то, что ему дорого, клеветали на то, что свято. Язык тяжелел от обиды, голова уходила глубоко в плечи, точно пряталась от жестоких ударов. Кому расскажешь об этом? Близким, родным? Счастливая встреча, она облегчила его душу. — Я сказал тебе, Тохта, неправду: я не только председатель колхоза, я первый на свете манап. Сокровища мои беспредельны, я не знаю им цены. Манапа Шабдана спросил однажды его сын: “Почему нам, отец, не увеличить поголовье наших овец?” — “Зачем? — удивился манап. — Вся Киргизия наша, все сокровища мои”. Так вот, милый Тохта, я богаче Шабдана. В моей Киргизии нет джатаков, всякий колхозник может сесть на коня и сказать, что он “мой”. Он не мерзнет теперь в своей юрте, забившись в ущелье, одинокий, как зверь. Дым не ест ему глаза, ветер не наносит снега через верхнее отверстие, дети не садятся на горячую золу. Буран не опрокинет его кибитки, она стоит крепко, врытая в землю, крытая железом, обмазанная глиной. Он не носит штанов из овчины, не обертывает ног невыделанной кожей. Взгляни на меня — так одет наш народ. Мы не устраиваем “кенеш”, он нам не нужен. Нам не надо ни у кого просить барана, угощать им соседей, чтобы собрали нам на калым. Мы не знаем таких унижений. Киргизия поет веселые песни. Народ не рыдает, не плачет. Я богаче Шабдана, и намного. Моя Киргизия не то, что его. По ней ходят поезда, летают машины, из земли добывают уголь и свинец. Я стою иногда на широкой дороге, где идут караваны машин, стою и считаю свои большие богатства. Шабдану и не снилось такое. Вдруг промелькнет огромная махина, груженная доверху, и я не успею ее разглядеть. Не успел, что поделаешь, но досада меня донимает: хороший хозяин, нечего сказать, столько добра упустил. Был ли ты, Тохта, хоть раз в своей жизни хозяином стольких богатств? Ты говоришь — кровь. Да, мы пролили крови, и много. Но что бы мы отдали за каждую лишнюю каплю, за каждую лишнюю скорбь! Перед нами ясная цель, она светит как тысяча солнц, но пути к ней трудны… Тохта молчит. Что он ему скажет? Он обидел прекрасной души человека, доброго друга, спасителя своего. — Ты представь себе старика, слепого и больного. Он все время молчит, ничто ему не нужно, ничто не занимает его. У него своя жизнь, свой собственный мир, его окружают умершие. Он мысленно видит себя в их кругу то ребенком, то юношей, всегда молодым и счастливым. Но вот явился исцелитель, он избавил больного от всех его недугов и вернул ему зрение. Как. ты думаешь, он взглянет на свою прежнюю жизнь? Будет крепко держаться за круг мертвецов? Нет, Тохта, у здоровых людей здоровые желания. Он вычеркнет из памяти мертвых и никогда не подумает о них. Я на тебя не сержусь. Вы там еще слепы, и ваши мысли витают вокруг мертвецов. Снова молчание. Конь устал и тяжело дышит. Джоомарт сходит с него, дает повод погонщику и идет рядом с ним. — Ты зовешь меня, Тохта, в свою счастливую страну… Послушай, что я тебе расскажу. Жили два друга, дети двух добрых соседей. Друзья с колыбели, они в нежной любви провели детство. Случилось, что родители покинули страну и уехали каждый в разные стороны. Прошло много лет, и друзья снова встретились. Один стал купцом и вел караван свой, груженный богатством, через пустыню, а другой в той же пустыне жил на крошечном участке в оазисе. Они нежно обнялись. Бедняк принял друга, как лучшего гостя. “Как ты бедно живешь, — опечалился купец, — и куда тебя судьба занесла. Воображаю, бедняга, как трудна твоя жизнь”. “Ты прав, — ответил бедняк, — очень скверно. А как у тебя?” Купец рассказал ему о себе. Ему повезло, он богат и известен. “Я был счастлив на чужой стороне, пока не подумал о родине. Я вспомнил ее звездное небо и густые леса, и тоска одолела, потянуло домой. Я забросил дела, оставил друзей… Как ты думаешь, там примут меня?” “С таким карагсаном, — ответил ему друг, — тебе всякая земля будет родиной”. “А ты разве не тоскуешь по отчизне?” “Я когда-то тосковал, — сознался бедняк, — и вернулся домой. Я был пастухом, слугой у богатых людей, обзавелся хозяйством, но налоги меня разорили. Никто не помог мне, никто не пожалел. Я оставил страну, где человек человеку волк. Здесь я возделал себе этот оазис и счастлив. Та родина, должно быть, не моя”. Купец удивился: “Чья же она?” “Там, где с помощью силы правит обман, — воскликнул бедняк, — нет моей родины!” Купец рассердился и гневный поднялся из-за стола: “Как ты смеешь поносить чужую святыню! Еще одно слово, и я прикажу моим слугам избить тебя”. “Видишь, мой друг, — сказал ему бедняк, — ты в моем доме, среди пустыни так поступаешь со мной. Что было бы со мной, будь ты в своем доме на родине? Если друг мой таков, что мне ждать от чужих…” Вот и все, Тохта. Пустыня бедняка скорей мне отчизна, чем сытая страна купцов и погонщиков. Моя родина, Тохта, может стать и твоей, но твоя не годится для нас. Он умолк и быстро пошел за конем. Бывает, в горах после бурного ливня и грозы встанет ясное теплое утро. Небо синее, как воды Иссык-Куля, горы в дымке утра бесплотны и прозрачны. Полосы снега на вершинах кажутся гребнем застывших волн. Все овеяно тишью не совсем отошедшей ночи. Но вот встало солнце, поднялось чуть выше, дымка поблекла, показались холмы, измятые, изборожденные временем. Внизу все давно выглядит обычно, но только внизу. Вверху еще долго все будет бесплотно, проникнуто ровным, безмятежным покоем. Джоомарт не чуял земли, он был далек от нее. В его бесплотном мире все проникнуто покоем. Ушло тяжелое, трудное, мир прояснился. Ему легко и приятно, движения ровны, уверенны, никогда еще ноги так легко не носили его. Что им подъем, что крутая дорожка! Каждый шаг — удовольствие. Он иной раз не знает, куда деть свои руки, и непрестанно сует их в карман. Сейчас они сами нашли свое место и не дают знать о себе. Ему кажется, точно он вырос. И все оттого, что голова поднялась выше плеч. Так высоко она никогда еще не поднималась. Пусть люди думают, что им угодно, пусть делают с ним, что хотят. У него на душе покой и порядок, все понятно раз навсегда. Ему кажется, что дорога была круче и опасней. Неужели ее кто-то сровнял, срезал бугор и засыпал овраг? Но кто же? Впрочем, мало ли на свете прекрасных людей. Все как будто изменилось: и горы не те, и вершины не так высоки. Человеческая рука словно тут ни при чем. А впрочем, кто знает… — Ха-ха-ха! Вот потеха была. Это случилось вот здесь. Ему припомнилась смешная история. Возвращаясь однажды этим аулом, он увидел веселое зрелище: люди ожесточенно обливали друг друга водой. Одни смеялись, шутили, иные бранились, норовили плеснуть воду за шиворот. Усталые, мокрые, они ни на минуту не прекращали возни. В то же время другие изливали на кладбище потоки воды. Так глупые люди надеялись вызвать дождь на поля. …У дверей больницы собралось много людей. Они пришли проведать своего почтенного родственника, и каждый хотел узнать, не надо ли ему чего-нибудь. — Позволь, добрый доктор, передать ему бузу. Купец Абдуладжи — мой двоюродный брат. — Передай ему, доктор, что племянник его, сапожник Юсуп, шлет ему привет и дюжину пшеничных лепешек. Обязательно сказать, кто прислал. Они, бедные люди, принесли все, что у них есть, самое лучшее и вкусное. Врач обещал и просил их оставить больницу. Проведали больного, отлично, пора уходить. Напрасны уговоры. Они долго еще будут сидеть у дверей, расспрашивать сиделок, заглядывать в щель, беречь покой знатного родственника. Прежде чем разойтись, каждый попросит передать купцу Абдуладжи, что он ушел из больницы не по собственной воле, ему было бы слаще спать здесь, у его дверей. Погонщик трогает руку Джоомарта, лицо его бледно, он дрожит от волнения: — Уедем отсюда. Тут купец Абдуладжи… Уедем скорей. Врач узнал уже Джоомарта, протянул ему руку и просит войти. — Оставь меня здесь… — плачет от страха погонщик. — Что я скажу ему? Он спросит меня, где верблюд. Они сидят в кабинете. Доктор держит в руках почерневшую ногу погонщика. “Поздно хватились, — говорит его взгляд Джоомарту, — быть парню калекой”. — Сколько тебе лет? — спрашивает врач. — Сейчас у нас год многоножки, — принимается высчитывать Тохта. — Родился я в году барана. Считайте: двенадцать лет да еще семь — год мыши, коровы, барса, зайца, верблюда, змеи и лошади, — всего девятнадцать. Должно быть, неверно, — отец говорил мне, что в году курицы мне исполнится только девятнадцать. — Ну так вот, милый, — сочувственно говорит ему врач, — придется отрезать. Нога никуда не годится. Позволишь сегодня — до сих пор отрежем, завтра придется брать выше. А совсем не позволишь — так, пожалуй, умрешь. Отрезать? Совсем? Нет, нет, ни за что! Как можно… Что с ним будет без ноги? Собирать подаяние? Избави бог. Купец выгонит его, и он умрет, как собака, от голода. Нет, нет, никогда! Врач ошибся, пусть лучше посмотрит, нога только потемнела. Пальцы, правда, совсем почернели, но он двигает ими. Смотрите, смотрите… Как можно бросать такую крепкую ногу? Врач шепчет Джоомарту, что медлить нельзя, надо добиться согласия Тохты, а он пока кое-чем займется. Чем именно? Секрет. Врачебная тайна. — Ты долженсогласиться, мой мальчик, — убеждает его Джоомарт. — Из горящего дома спасают что можно. Погонщик слушать не хочет. — Бог дал мне эту ногу, он и возьмет ее. Тохта плачет, обливается слезами. Его сюда заманили, чтоб сделать калекой. Как можно резать здоровую ногу? Взгляните на пальцы, они кувыркаются, как дети. Что это, боже мой, пальцы его умерли! Он не может шевелить ими больше. — Вот и вышло по-моему, — сокрушается доктор. — Придется тебе уступить. Коварный человек: пока Джоомарт уговаривал больного, врач перерезал ему сухожилие. Мертвая ткань не дала себя почувствовать. Нельзя было иначе. Не дать же несчастному умереть! Теперь он согласен, пусть режут. Но что будет с ним? Кому нужен калека? Тут Джоомарт его обрывает: — Мы дадим тебе ногу. Хорошую, крепкую, она будет тебе служить, как своя. Опять небылица. Кто поверит, что безногие могут ходить? — Таков порядок в нашей стране: кто остался без ноги, получает другую. Хозяин обязан за нее уплатить. Тохта усмехается: “Хозяин обязан!” Он не знает купца Абдуладжи. Из пресной лепешки волос не вытянешь. — Клянусь, Тохта, у тебя будет нога, вот доктор свидетель! Теперь Джоомарт идет в одну из палат к купцу Абдуладжи. На просторной кровати лежит мужчина лет сорока. Длинный, сухой, без бровей и усов, с заостренной черной бородкой, он волосатыми пальцами перебирает нитку янтарных бус. Движения его медленны, на лице выражение скуки. Увидев Джоомарта, он чуть шире раскрывает глаза, и нитка янтаря замирает у него между пальцами. Джоомарт рассказывает ему о несчастье с погонщиком и не может удержаться от упрека: — Судьба несчастного была в ваших руках, от вас зависело не сделать его калекой. Купец смотрит с улыбкой на непрошеного гостя, щурит глаза и играет янтарными бусами. — От меня, говоришь, зависело? Ты слишком возносишь меня. Не я выдумал холод, и не я посылаю мороз. Джоомарт чует насмешку и все-таки как ни в чем не бывало спокойно отвечает: — Вы должны были его теплее одеть, дать хотя бы осла на дорогу. Верблюдов вы обеспечили кормом, а человека оставили без пищи в сыртах. Он берег ваше добро, и вы могли быть щедрее к нему. В черных глазах мелькает гнев, пальцы стремительно перебирают янтарь. — Кто меня заставит быть щедрым? До моих отношений с погонщиком самому богу нет дела. — Не в нашей стране. По нашим законам хозяин обязан купить работнику ногу. Абдуладжи смеется: защитник погонщика знает законы, пусть помнит их про себя. — Наши законы другие. Я не обязан спасать человека, у которого плохая звезда. За чужое несчастье я и гроша не дам. Он закрывает глаза и поворачивается спиной к Джоомарту. Им не о чем говорить, здесь не место для деловых разговоров. Что ж, они потолкуют в другой раз. Время ничего не изменит, эти законы незыблемо вечны.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Готово! Унесите больного. Ну как, Тохта, не очень больно? Тохта качает головой: ничуть. Его снимают с белого стола и кладут на носилки. — Погодите минуточку… Погодите, пожалуйста! Нога его лежит в просторном тазу, черная, залитая кровью Дайте ему еще раз взглянуть, он больше ее не увидит. Они расстаются навеки. Никогда уж ему больше на нее не ступать. Это была чудесная нога! Она ходила по льду и по снегу, по раскаленному песку, годами без обуви. На нее падали тюки, наступали верблюды. Прекрасная нога!.. — Унесите больного в палату купца… Опомнитесь, доктор! В палату купца? Абдуладжи? Где же это видано, чтоб погонщика клали рядом с купцом? — Милый доктор, не надо… Не носите меня туда. Не надо беспокоить купца Абдуладжи. Он именитый человек, его знает полмира. С меня достаточно сарая, я могу полежать и на улице. Упрямые люди, его все-таки кладут в палату хозяина. Он лежит и не смеет рукой шевельнуть, глаза поднять на купца. Помоги ему бог, это дерзость с его стороны. Он должен упасть пред купцом на колени и, ударяя себя в грудь, молить: “Добрый господин, не сердитесь на жалкого калеку. Я слезно молил их не класть меня сюда, не срамить бедняка. Мне стыдно здесь валяться в постели, когда вы здесь лежите, но куда деться калеке без ноги?” Купец не говорит с ним, он бросает на погонщика короткие взгляды. От них становится холодно и больно. У него спина отекла, ее совсем разломило. Надо чуть повернуться, хоть бы тронуться с места. Он знает, как это делать: сжать губы покрепче, чтобы ни один стон не вышел наружу, и с затаенным дыханием сдвинуться на бок. Вот так, и еще раз… Он, кажется, ни разу не простонал. Ай, ай, ай, начинается! Купец зовет сестру, в его голосе гнев и обида. Он требует врача, и сейчас же. Боже мой, они медлят, они не знают, с кем дело имеют… Это Махмуд Абдуладжи, могущественный и славный купец. Теперь достанется и врачу и сестре. Ведь Тохта говорил им, что этого делать нельзя. Доктор спокойно входит в палату, душа его не знает, какие ее ждут испытания. — Что вы хотели, гражданин Абдуладжи? — Уберите его отсюда, он не дает мне покоя. Наш закон не позволяет купцу жить с погонщиком рядом. Чистая правда, таков уж закон. Тохта согласен, иначе не может быть. — У нас другие порядки, — говорит ему врач. — Ваш погонщик останется здесь. В нашей стране… Дальше следует то же, что говорил по дороге Джоомарт. Тут все понимается совсем по-другому. Врач улыбается и как ни в чем не бывало уходит. Любопытно спросить: все ли врачи ходят мелкими шажками, тихо, неслышно, как дети? Купец промолчал, ничего не ответил. Какая покорность, Ого, славный купец, сильно вас скрутила болезнь, если вы не нашли, что ответить врачу! Сестра осторожно сняла одеяло, поправила ногу погонщика и уколола его иголкой в плечо. Сон тут же нагрянул, и, должно быть, надолго. Разбудили его боли в толстом пальце правой ноги. Потом заныли и другие пальцы, пятка, ступня и зачесался мизинец. Он сунул руку к ноге и точно ожегся. Да будет воля пророка, у него болит та нога, которая осталась в тазу… Помоги ему бог, каждый палец дает себя знать, каждый ноготь и ничтожная болячка. — Милая девушка, — зовет он сестру, — меня мучает нога. — Успокойся, пройдет. Через неделю все кончится. — Не эта нога, добрая девушка. У меня болит та, которая осталась в тазу. Что ей надо от меня? Сестра утешает его: так бывает со всеми. А той ноги уже нет. И следа не осталось. Проходит ночь, снова день. Сильные боли не дают ему спать. Что за пытка лежать на кровати, не смея стонать, и плакать в подушку. Купец молчит, но все чаще подходит к нему. Остановится у его изголовья и подолгу стоит. Иногда среди ночи, когда сон оборвется, погонщик откроет глаза и видит перед собой Абдуладжи. Он стоит неподвижно и молчит. Стоит, как камень на кладбище. Однажды к утру купец подсел к нему близко и сказал: — Доктор обещал дней через десять тебя отпустить. Я приказал караван-башу приготовить верблюда, отвезти тебя домой. Домой? Чтобы ходить по базарам с протянутой рукой! Где Джоомарт, он обещал ему так много хорошего. — Помоги вам бог за заботы обо мне, — прошептал ему Тохта. — Ты сам виноват, — уже мягче добавил купец. — Я говорил твоему отцу, что ты слишком молод для этой работы, а ты хвалил свои руки и ноги. Вот что значит не слушаться старших людей… Где Джоомарт? Он был нежен к нему, роднее, чем мать. Одно слово его согрело бы бедного Тохту. Не знает ли сестра, где найти Джоомарта? Купец собирается выйти из палаты, они останутся одни, и он спросит ее. — Добрая девушка, позволь мне спросить тебя: не знаешь ли ты Джоомарта? Я хотел бы еще раз взглянуть на него. Она знает его, он был тут вчера, расспрашивал о здоровье погонщика и обещал сюда наезжать. Абдуладжи вернулся в палату, с ним пришел врач. — Я прощу милосердия, — униженно сгибается Абдуладжи. — Мой погонщик лежит ко мне пятками. Наш закон не прощает такую обиду. — У него одна только пятка, — отвечает ему врач, — она вам не мешает. Купец кротко молит: — Прояви свою милость, прикажи уложить его иначе. Таким жалким погонщик впервые видел купца. Где его гордость? Он такой же, как все, ничем не лучше и не хуже. Доктор делает два—три шажка, и — кто мог подумать! — он желает узнать, что скажет больной. Тохте стыдно и больно, точно его раздевают при людях. И что он ответит врачу? Всякий знает, что погонщик не смеет сесть рядом с хозяином, обязан стоять и с трепетом смотреть на него. Как можно ложиться, да еще пятками к своему господину? Доктор все еще размышляет. — В нашей стране, — говорит он, — все люди равны. Будь хоть сам бог тут, я не делал бы разницы между ним и погонщиком. Такой худой и невзрачный, а строг, как закон. Кровать все-таки переставили, и теперь они лежат друг против друга. Упрямые люди: его кормили в одно время с купцом, тем же обедом, из одинаковой посуды. Когда Тохта из вежливости однажды стал ждать, когда Абдуладжи сделает первый глоток, девушка вдруг рассердилась. Здесь не караван, тут больница, и никакого отношения он к купцу не имеет. Купец это слышал и ничего не сказал, только янтарь быстрее запрыгал у него между пальцами. И доктор и сестры не любили купца. Лечили хорошо, кормили неплохо, обходились лучше не надо, но за спиной потешались. Вспоминали, как купец хотел врача обмануть и тем объяснил свою болезнь, что ему приснилась распутная женщина. Возможно ли, чтоб из-за скверного сна на ноге человека открылась рана и в жилы пришлось лекарства вливать? Девушки шептались, что он просто развратник. Тохта слышал и не верил ушам. Никто не уважал купца Абдуладжн. Из соседней палаты стал захаживать к ним больной старичок. Добряк не побрезговал погонщиком, приносил ему новости, рассказывал много о Джоомарте. Он помнил Кутона, знал его деда, Асана. Старик горевал над несчастьем Тохты, часто расспрашивал, как это случилось. Сколько Тохта ни убеждал его, он твердил, что виноват один Абдуладжи. Так он однажды и бросил купцу: “Ты живодер, эксплуататор, разбойник! Мы с такими, как ты, давно расквитались!” Надо было в ту минуту взглянуть на Абдуладжи. Он съежился, прижался к стене, и нижняя челюсть его от страха отвисла. Зато у старика лицо сияло от радости. Ночью Абдуладжи снова подсел к нему на кровать: — Ты ни с кем здесь не должен заводить дружбы. Тут люди шайтаны, ни одной чистой души среди них. Я обещал твоему отцу беречь тебя от дурного соседства. Дня через три ты поедешь домой. Ни одной чистой души? А Джоомарт, сын Кутона? А доктор? А сестры? А больной старичок? Купец сам искал дружбы этих людей. И все-таки Тохта кивнул головой: ладно, прекрасно, все будет так, как сказал Абдуладжи. Однажды явился Джоомарт. Сестра и врач привели его в палату, шутили с ним, как со своим человеком. Он поклонился купцу и присел у кровати погонщика. Бедный Тохта растерялся от счастья, он едва удержался, чтобы не броситься гостю на шею. Добрый Джоомарт его не забыл, он тут, здесь вот, рядом. Какая удача заслужить любовь и внимание такого человека. Купец тихо кашлянул, и Тохта вдруг вспомнил его строгий наказ. Он дал купцу слово не водить ни с кем дружбы. Им надо расстаться сейчас же, немедленно. Но как это сказать, где храбрости набраться? “Какой ты, Тохта, несчастный, тебе ничто не позволено: ни любить, ни дружить, ни радоваться доброму слову. Тебе только можно бродить по сыртам, надрываться и мерзнуть, губить свои силы и молодость”. — Что с тобой, Тохта? — спрашивает его Джоомарт. — По дому соскучился? Погоди, еще успеешь Поедем ко мне, побудешь в колхозе. Хочешь быть моим гостем? — Нет, не хочу. Надо открыть ему правду: здесь хозяин купец Абдуладжи. Без его ведома Тохта не смеет никуда отлучаться. — Хозяин отсылает меня домой. Он говорит это тихо, чуть шепчет, точно жалуется другу на свою судьбу. — Глупости, — полным голосом произносит Джоомарт и неодобрительно глядит на купца. — Тебе некуда спешить. Побудешь немного в колхозе. Мы поговорим еще сегодня, я позже вернусь. На столе остается корзинка из чии, в ней всякие сласти, фрукты и пряники на чистом меду. Все это принадлежит ему одному. Таков подарок Джоомарта, такова его воля. Теперь к кровати подсел Абдуладжи. — Ты не сдержал своего слова, — сердится он, — и принял подарок от нечистой души. — Вы не знаете его, добрейший хозяин, он мой спаситель. — Спасенье шайтаном — хуже несчастья. Ты завтра же поедешь домой. — Завтра? Нет, завтра нельзя. Позвольте мне побыть тут еще несколько дней! Никогда уже не будет мне так хорошо, как в этой больнице. Купец бьет кулаком по столу, корзинка падает, и фрукты и пряники рассыпаются: — Ты стал непослушным! Будет по-моему. Как я сказал! Тохта уткнул голову в подушку и плачет. Чудесные сласти лежат на полу, — ему впервые досталось такое богатство. Не может он дольше молчать. — Что вы кричите и пугаете меня? Этот добрый человек мне не чужой, он спас мою жизнь, и я должен его любить, как отца. Если хотите знать, Джоомарт не хуже купца — он начальник колхоза у заставы. — Начальник колхоза у заставы? Глаза Абдуладжи стали вдруг круглыми, точно ему сообщили счастливую весть. — Не сын ли Кутона из рода Джетыгенов? — Он самый. Говорят, лучше его никто не играет на комузе. Купец поднял корзинку, собрал с пола сласти и бережно уложил их на место. — Я, пожалуй, позволю тебе дружить с Джоомартом. Джетыгены — хорошие люди, они наши друзья. Что с ним? Ни гнева, ни злобы, глаза его кивают, смеются. Суровый купец, куда делась строгость твоя? Вот он пригнулся, поправляет рубаху на шее погонщика, поднимает соскользнувшее одеяло. — Ты напрасно мне этого не сказал раньше. Конечно, он прав, тебе нужна нога. Крепкая нога. Ты вполне заслужил ее. Я сейчас же дам деньги врачу, пусть делают, и как можно скорее. Он суетится, семенит длинными ногами, сейчас, кажется, одна наступит на другую, они спутаются и образуют тугой жгут. Как он смешон без голубого халата, шитого золотом! Рубаха сбилась у него на животе, шнурки от кальсон распустились и белыми червями ползут за ним. Купец носится по палате взад и вперед. Взглянет на погонщика и тихо смеется. Смех его-мелкий, рассыпчатый, визгливый смешок разносчика пряностей, торговца жареной рыбой. Он садится за столик, вытирает платочком каждое яблоко, сдувает пылинки с засахаренной груши и сует ее погонщику в рот: — Джоомарт знает, что приносить. Фрукты и сладости тебе очень помогут. Ешь, Тохта, ешь. Не хватит в корзинке — достанем другие. Джоомарта он встретил с сияющей улыбкой старого друга: — Позвольте мне обнять счастливого сына Кутона, внука Асана! Слава о вас достигла нашей страны. Вашим именем величают мудрецов и святых. Я приеду домой и скажу всем, кто знает Джоомарта: “Гордитесь, счастливцы, друг ваш — великий из великих”. Я прошу вас забыть нашу ссору, простите глупца. Почему вы не открыли мне, кто вы. Разве я посмел бы вам возражать? Ваша воля исполнена: у Тохты будет нога. Я и сам так подумал: не оставлять же мальчишку без помощи. Вы дали мне совет и научили терпенью, храни вас бог от несчастий. И речь и ужимки купца вызывают у Тохты обиду и горечь. Что за кривлянье, притворство… Таким ли знает свет богача Абдуладжи? Над ним смеются сестры, и врач, и больные: “Глядите, — шепчутся они, — он стал слугой своего погонщика. Ха-ха-ха! Он закармливает парня, изводит его речами и подарками”. — Ешь, Тохта, ешь, — не устает твердить Абдуладжи, — это крепко поможет тебе. Врач сказал: “Не мешает”, я понял его с полуслова и приказал достать для тебя. Я достаточно добр, и люди у меня не погибают в беде. Еще раз приехал Джоомарт, он привез с собой фрукты и обещал взять Тохту к себе. Они поедут в колхоз к нему в гости. Купец тотчас подсел к кровати больного. Он просит внимания, — дело серьезное и касается многих людей. — Я посвящу тебя, Тохта, в одно наше дело. Ты видел меня и мою милость, теперь покажи нам себя. В нашей стране живут Джетыгены — род честных и добрых людей. Ими правит манап Мурзабек, благочестивый и славный киргиз. Случилось, что сын его послушался совета дурных аткаминеров и восстал против манапа-отца. Бедный народ истомился в борьбе — нелегкое дело примирить Мурзабеков. То дай баранов для сына, то дай коней для отца, — авось смягчится один или уступит другой. Одним словом, Джетыгены решили вернуться на родину. Бросить манапов и уйти. Что творится на свете! С ним, жалким погонщиком, держат совет. Мир спятил с ума, все тут навыворот, не так, как везде. — Джетыгены решили вернуться. Все мы грешны, есть пятна и на них. Знает об этом один Джоомарт. Если он промолчит, все будет улажено, родина их примет с почетом. Он начальник колхоза, служил много лет на заставе, его знает комендант из Каракола, начальство в городе Фрунзе. Слово Джоомарта стоит очень много: и худое и доброе, оно одинаково важно. Ты понял, чего я жду от тебя? Подумай, мой милый, как им помочь. Не забудь главного: судьба рода в руках у него. Позже к купцу явился старик. На плоском лице с расплывшимся носом нависли разросшиеся брови. Безголосый, он мог только шептать, двигать бровями и кивать головой. Разговор их, вначале спокойный, стал горячим и бурным. Старик требовал денег. Его обманули: обещали и не дают. Он терпит убытки и не желает ждать ни минуты. Абдуладжи отвечает ему шепотом: — Не прикидывайся, Сыдык, дураком. Что ни день, у тебя новые страхи и жажда новых денег. Думаешь, Джетыгены дарят мне сокровища? Они не так уж щедры. Я все передал тебе, ни гроша себе не оставил. — Враки! — кипятился старик. — Меня недавно схватили и привели на заставу Ты напрасно болтаешь, я знаю Джетыгенов не хуже тебя! Пусть не думают, что здесь сидят ишаки. Он шипел и сердился, вплотную придвигался к кровати купца, и все-таки Тохта прекрасно его слышал: — Они хотят за гроши обделать крупное дело. Сказку про Мурзабеков пусть держат при себе, так я и поверил в ссору сына с отцом. Им нужны свои люди в колхозе у заставы, времена ведь не те уже, что раньше. На границе стало строго, не очень поскачешь. Хорошенький план, а раз хороший — плати. Купец указывает на Тохту, но старик уже не в силах молчать. — Не мое дело, что им тут надо. Долг посредника — трудиться, а их долг — платить. Купец с ним согласен, все это верно, надо платить, но зачем так шуметь? Среди Джетыгенов много богатых, за деньгами остановки не будет. Может быть, и верно, что богатства пришли к ним нечистой дорогой, бог им судья. Посредникам нет дела до чужих расчетов. Говорят, у них план промышлять контрабандой. Полагают и так: в долинах сеять мак, добывать с гектара два—три пуда и больше, а опиум тихонько вывозить за границу. Дальнейшего Тохта уже не расслышал. Они долго шептались, часто упоминали имена Джоомарта и Краснокутова. — Начальник заставы ему больше не верит, — шептал Сыдык, задыхаясь от радости, — они стали врагами. Дай бог вовеки оставаться им такими… Придут делегаты, и все обойдется. Джетыгены будут здесь, а Джоомарта мы еще уломаем. Есть у нас план… Старик что-то прошептал и закашлялся, попрощался с купцом и ушел. Вот когда Тохте пришлось пораздумать, взвесить каждую новость, и не второпях, а серьезно, внимательно. Речь шла о Джоомарте. Мог ли он сказать, что это его не касается?ГЛАВА ПЯТАЯ
Все они имеют право на него: Чолпан — как жена, Сабиля — как сестра, Темиркул — как старый друг его отца. И Мукай и Сыдык ему тоже не чужие. Но право они имеют на его старую душу, рожденную в ауле Мурзабека, под рукой всемогущего манапа. Новая душа принадлежит родине. Ей он обязан быть верным до конца. Как они этого не понимают? Ему хочется иной раз сказать им: “Нехорошо, мои милые, вы напрасно от меня отвернулись, я по-прежнему люблю вас и хочу вашей дружбы”. Они не прощают, и он ходит между ними чужой. И, точно он в самом деле их тяжко обидел, виноват перед каждым из них, его томит жажда рассеять неправду, вернуть их любовь Приятно ли видеть огорченные лица, с выражением упрека в глазах? На заставе его встречает странный взгляд Краснокутова, недобрая улыбка, речь чужая и холодная; в колхозе — Мукай с насмешкой в каждом слове и движении. Сабиля избегает его. Темиркул опускает при встрече глаза. Дома Чолпан — чужая, холодная, молчит. Джоомарт стал до смешного рассеян. Ему слышатся упреки, с ним ведут споры, мучительно долгие споры. Непокорные мысли живут собственной жизнью, и не в его силах ими управлять. Ему нужно одно, а им — другое. Точно в пику Джоомарту, кто-то хозяйничает в его голове. Сейчас, в горячую пору, когда минута так дорога, эти мысли хватают первого встречного и взывают к нему: “Взгляни, как обижен Джоомарт, как скверно обошлись с ним люди!” Чужой человек должен осудить его врагов и ободрить их жертву. Легко ли работать, когда мысленно вдруг встанут Мукай, Темиркул и потянутся долгие речи… Враги будут разбиты, а в душе, как и прежде, не будет покоя. Непокорные мысли восстали против него самого. Он недавно отправился по колхозным делам на заставу. Было твердо решено, что речь у них будет о хозяйстве: об уборке, о быках и ни о чем больше. Уговор был серьезный, он так и сказал себе: “Держи язык за зубами, Джоомарт, начальнику заставы нет дела до таких огорчений. Ты увидишь это сразу, не унижай себя зря”. Вначале шло хорошо, они славно все обсудили. Краснокутов внимательно слушал, вставлял замечания, расспрашивал, записывал и, довольный, даже хлопнул себя по коленям. Разговор о колхозе приятно настроил его, и ему захотелось подурачиться. В такие минуты начальник шаловлив, как ребенок. Он вспомнил недавнюю историю и стал рассказывать ее. Один из соседей в колхозе, чтобы посмеяться над мусульманином, который разводит свиней, нарисовал крест на свинье Джоомарта и пустил крестоносицу бегать по ферме. Краснокутов потешался над ловкой проделкой, долго смеялся, как бы приглашая и его позабавиться, но Джоомарт твердо помнил свое: говорить только о делах колхоза и ни слова о другом. Почему? Нельзя! А если только намекнуть, чуть коснуться? Ни за что! И чем больше он подстегивал себя, тем сильнее росла жажда заговорить о другом. Они беседовали об отёле, а думы его — взволнованные кони — ушли далеко-далеко. Так и случилось — слова сами собой вырвались. — Ты помнишь, Краснокутов, тот день, когда мы брали Май-Баш? Я был дозорным, и мы разгромили сильную банду у границы. Ведь помнишь, не так ли? Не хватало у нас “кошек”, и я к твоим сапогам приделал копыта от коня. Мы карабкались в этих копытах и называли друг друга то “Сивкой”, то “Вороным”. Помнишь тот случай? Надо было видеть, как Краснокутов вдруг преобразился. Лицо стало длинным и скучным, взгляд как бы спрашивал: “Помню, и что же? Мало ли что бывало, гак обо всем и вспоминать?” Ему, видимо, хотелось говорить о колхозе, смеяться и шутить и ничего больше. Тут бы Джоомарту умолкнуть, как-нибудь кончить, но жажда оправдаться уже подхватила его. — Колхозы встретили нас кумысом, на площадях играла музыка. Ты помнишь? И еще один случай. Ты был еще, Краснокутов, совсем молодым, и бандиты тебя здорово обманули, обвели вокруг пальца, как мальчика. На заставу явились киргизы, они принесли с собой весть, что в ущелье засели враги. Ты им поверил — что значит быть молодым! — и поехал с отрядом. Тем временем бандиты прошли верхней дорогой, мимо самой заставы. Я и товарищ мылись в бане у поста. Бани были простые, мы их тут же построили: две кошмы, чип под ногами и железная печка. Мы выскочили раздетые и встретили врага оружейным огнем. Начальник смотрит в бумаги, подчеркивает цифры в смете колхоза: он пропустил все мимо ушей. Джоомарт умолкает. Наука тебе, Джоомарт, не распускай язык, умей терпеть и молчать. Теперь можно уходить. Впрочем, нет, у него еще одно дело. — Род Джетыгенов решил прислать делегатов к заставе. Они хотят поселиться в колхозе. Я знаю этих людей, не всем из них место у нас. У меня доказательства. Прежде чем отсылать их бумаги, я прошу меня допросить. Краснокутов чуть-чуть усмехается, прячет руки и кивает головой. Хорошо, он допросит его. С тем они разошлись. Давно, казалось, пора об этом забыть. Побывал на заставе, поговорил о чем надо, чего же еще? Неугомонные мысли, он долго не мог их унять. Они всю ночь до утра вели борьбу с Красиокутовым, спорили, каялись, изливали свою душу перед ним: “Ты обидел меня, Краснокутов, обидел ни за что ни про что. Я пришел с добрым сердцем, без дурного намерения, как приходят друг к другу честные люди. Мне сказали, что ты заболел, и я рад был увидеть тебя здоровым и веселым. Так ли поступают с друзьями? Не дать человеку поговорить, толком его не дослушать. Я хотел рассказать, кто были эти люди, с которыми мы бились на Май-Баше в тот раз, когда ранили тебя. Ты должен был знать, что они, Джетыгены, страшные враги — мои и твои. В твоем сердце, Краснокутов, живет подозрение. Джоомарт не слепой, он все видит. Ты поверил доносам и забыл, что у Джоомарта две раны на ноге, семь лет службы и орден — такой же, как у тебя”. Речь была теплая, но никто ее не слышал, кроме Джоомарта. Точно ливень над озером, она ничью жажду не утолила. Упрямые мысли изводили его, не давали покоя и бесконечно подзуживали: “Конечно, Джоомарг, надо было сдержаться, говорить только о колхозных делах. Но раз глупость уже сделана, доделывай ее до конца. Иди к Сабиле и к Мукаю, спорь и доказывай, добейся оправдания, не дай людям думать, что ты виноват”. В ту же минуту пред глазами Джоомарта вырастает Сабиля, он видит ее точно живую. Она ставит юрту у подножия горы. Слабые руки ее гнутся, поднимают чангарак и тяжелые кошмы. Мукай держится старых порядков: юрта — дело жены, не мужское занятие. Всякий раз, когда брат вспоминает о сестре, он мысленно видит ее за этой работой. Богатая юрта: кошмы свисают до самого низа, не так, как у нищих, — за поларшина до земли. По стенам уже развешаны кишки, требуха, куски вяленой баранины. С теневой стороны кошма поднята, и прохлада сочится сквозь решетку каркаса. Сабиля сидит сложа руки и слушает брата. Льется долгая речь, горячая, страстная, и опять никто эту речь, кроме Джоомарта, не слышит: “Ты спрашиваешь, сестрица, чем провинились те люди из нашего рода? Это тайна, родная. Я хотел ее открыть Краснокутову, хотел и не смог. Вина не моя. Я знаю, Сабиля, тебе очень трудно, и брат и Мукай тебе близки, ты находишься, крошка, между двумя жерновами. Можешь больше любить своего мужа, но ты должна знать, что брат твой страдает напрасно. Ты обязана это Мукаю объяснить”. Джоомарт едет домой, и с ним его мысли. Кто ждет его дома? Бедняжка Чолпан со своим горем — жаждой стать матерью. Только не она, ее давно уже нет. Чолпан оставила мужа и ушла жить к отцу. Как это случилось? Долго рассказывать. Началось с перстня с таинственной надписью. Его подарил ей известный целитель. Перстень исчез у нее, и она решила, что Джоомарт его спрятал. Чолпан грозилась и плакала, муж клялся, что не видел кольца. Она схватила его за горло и долго душила. Потом каялась, просила прощенья… Заветное кольцо принесло бы ей ребенка. Еще месяц терпения, и мукам ее пришел бы конец. Она присмирела, стала ласковой, нежной и только один раз тяжко вздохнула: “Дом с детьми, Джоомарт, — веселый базар, дом без детей — могила. Так я говорю или нет?” “Ты, конечно, права”, — утешил он ее. Вскоре выяснилась причина ее кротости, она выдала себя. Бедняжка Чолпан, притворство ей никак не давалось. “Верно ли, Джоомарт, — спросила она однажды, — что ты невзлюбил людей своего рода?” Невзлюбил? Только не это. Тут дело в другом. “Среди них очень много хороших людей. Вот и сестрицын жених там”. Жаль, конечно, что он там. “Ты не должен мешать им вернуться домой. Ты хочешь, говорят, на них донести”. Не иначе, что Сыдык настроил ее. “Кто это сказал тебе, Чолпан? Неужели отец?” Она немножко смутилась и все-таки созналась: “Да, отец. Разве неправда?” Прошло несколько дней. Джоомарт приходит домой и застает ее в смятении. “Ты не будешь сердиться? — начинает она. — Я ухожу от тебя”. Как так “ухожу”? Куда и зачем? — Совсем, Джоомарт. Ты позволь мне унести мою корзинку, баночку с золотым ободком и подарки отца. Она ласково называет его “Джок” и вымаливает у него безделушку за безделушкой. Жадные глаза, ей жаль расставаться и с бумажным фонариком, и с голубенькой лентой, и с резиновой пробкой… Никто теперь Джоомарта дома не ждет, никто не встретит — ни Чолпан, ни сестра. В доме будет темно, в очаге ни уголька… Ни звука, ни шороха, мертво, как в могиле. С этим надо мириться. Терпенье, терпенье… Не умирай, моя лошадка, придет весна, поспеет клевер… Что это, добрые люди? В окнах его дома горит яркий свет, лампы пылают на столах и на окнах. Из трубы вьется дым, слышны голоса, веселое пение. Там веселье, там пир. Он видит сквозь окна Сабилю, Чолпан, Темиркула, Мукая. Все родные и знакомые. Дайте ему очнуться, не грезит ли он? Не снится ли ему? Впрочем, пусть так. В трудную минуту и сон утешенье. Чудесное веселье! Тут и свои, и соседи, их жены и дети. Он стоит у дверей и не узнает свою квартиру. Много рук здесь потрудилось, всего нанесли, и изрядно. На полу лежат скатерти, вина и еда расставлены от стены до стены. Вот когда Джоомарт отдохнет, забудет о своих муках. Глаза гостей обращены на него; они встают, усмехаются, каждый уступает ему свое место. Взор его скользит по их лицам, жадно ищет ответа: чья это затея? Кто придумал доставить ему эту радость? Не Мукай ли? Не ты ли, Чолпан? Ведь я так люблю тебя. Или ты, моя милая Сабиля? Только не Сыдык. Нет, нет, не он. У них сияющие лица и веселые глаза. Не может же быть, чтобы счастливая мысль осенила всех разом? Темиркул уже подмигнул ему и усаживает рядом по правую руку. Он садится и молчит. Все ясно без слов — родные и близкие пожалели его, они не хотят, чтобы он страдал. Ему приносят кувшин и медный тазик, он моет руки и вытирает полотенцем. Рядом Сабиля, бледная, грустная. На кухне хлопочет Чолпан. Напротив — Сыдык. У стены, окруженный друзьями, сидит агроном, улыбается, держит чашу в руках и пьет за здоровье Джоомарта. Теперь только он вспомнил, что ничего сегодня не ел. С чего бы начать? Тут мясо и айран, кипяченые сливки — превосходный каймак, кислое тесто, варенное в сале, — баурсак. Рука его тянется к баранине, но Сыдык бесцеремонно отводит ее. Начинать надо с чаши, его долг раньше выпить за здоровье гостей. Много чаш потянулось к нему, ему не отвертеться. Каждый зовет его чокнуться с ним. Что ж, с удовольствием. Никто не будет в обиде, он выпьет со всеми. Ему нисколько не трудно. Пожалуйста. Не стесняйтесь. Кто там еще? Вот и кргом пошла голова. Однако же быстро. Должно быть, оттого, что ему не дали поесть. Сабиля сует ему кусочек баранины, рука ее дрожит, на глазах у нее слезы: — Ешь, Джоомарт, погоди пить. Ты так опьянеешь. Фу, и упрямый же этот Сыдык! Разве можно без передышки? — Остановитесь, друзья, этак я в самом деле опьянею. Нет, простите, он больше не может. Кумыс ему в горло нейдет. Ну и весело же тут! Сколько шума и смеха. Слева от него сидит Темиркул — добрый старик с золотым сердцем, справа — Сабиля. Взволнованная рука ее лежит в его руке. Сестра дрожит, на лице ее застыла тревога. Как можно грустить в такую минуту, неразумное дитя? Она сейчас повеселеет. — Выпьем, Сабиля, за наших гостей. Рука твоя дрожит, возьми чашу в другую. Не расплескивай, милая, осторожнее ней… Теперь он ее расцелует, обязательно на виду у всех. Ха-ха-ха! Все ахнули даже. Он и жену поцелует. Вот так. Еще и еще раз. Подайте ему Мукая. Сейчас же, немедленно. В веселую минуту все можно. Где же Мукай? Пусть ведут его сюда. Тот издали улыбается, разводит руками и не трогается с места. Агронома окружили тесным кольцом, удерживают насильно, не дают встать. Бедняга усмехается — что делать, его не пускают. В таком случае он сходит к нему. Пусть неверными шагами, ничего, ничего, ему нужен Мукай. Зачем? Мало ли зачем, это их не касается. Они обнимаются, целуют друг друга, и тут же их разводят в разные стороны. Разлучают насильно. Джоомарта уводят в другой конец комнаты, к Темиркулу и Сабиле. Каждый принадлежит своей половине, им не позволят нарушить порядок. Как жаль, что нельзя, ему так хотелось быть ближе к Мукаю. Упрямые люди, у Джоомарта и у агронома важные дела, дайте им спокойно обсудить их. Не мешайте друзьям поболтать… Когда ему наконец позволят поесть? Нельзя же человека заставлять только пить. Что такое? Опять его руку отводят? — Ты не пил еще со мной, Джоомарт. Ах да, это верно. Придется, что делать. — Поешь раньше, брат, ты совсем опьянеешь. Спасибо Сабиле, она, конечно, права. Он только проглотит кусочек баранины. Нельзя? Почему? Какая тут обида? Сестра шепчет ему: — Не пей, Джоомарт, не слушайся их. Теперь дрожит у нее и другая рука. И правая и левая — обе. Сыдык смеется над ней: — Пусть та скатерть сгорит, которая тебя не накормит. Ты будешь сыт, Джоомарт, не слушай ее. Совет женщины годится для женщины. Джоомарта просят сыграть, со всех сторон слышатся просьбы. Они желают послушать его, никто так не сыграет, как он. — Никто так не сыграет? Как могли вы подумать, что в присутствии Темиркула я осмелюсь первым играть? Все взоры обращены к Темиркулу. Конечно, он должен первый сыграть. Старик уступает. Он сыграет о хане из далекой страны. Звучат грустно струны, дрожит старческий голос: — “То был страшный хан, великий и жестокий, недобрый для близких, свирепый для чужих. На губах его застыла злая усмешка, в глазах жил укор. Холодный, сухой, он пугал своим видом детей. Не было песен в той скорбной стране, только стоны неслись отовсюду. И небо и земля не любили властителя. Бесплодную почву не орошали дожди, сгорала трава, едва увидев свет, высыхали колодцы, рыбы задыхались в воде. Народ в труде и лишениях проводил свою жизнь, безропотно выносил произвол повелителя и крепко любил свою суровую родину. Разрешилась от бремени его любимая жена. Она родила ему славного сына, но всего полосатого. Разгневанный супруг велел убрать сына, увезти его и бросить за пределами ханства. Вельможи исполнили жестокий наказ, оставили младенца в горах под скалой. В тот же день нашла его нищенка старуха, собиравшая кизяк, чтобы согреть себе пищу. Она обрадовалась ребенку, принесла его домой и стала растить ханского сына. Вместе с маленьким принцем в дом бедной женщины вошла благодать. Невспаханное поле без трудов и семян обращалось в богатую ниву, на пустынных горах вырастали сады, травы цвели золотыми цветами, овцы множились и росли, как бурьян. Мальчик стал юношей, красивым и ловким, сила и ум его поражали людей. Молва о ребенке, принесшем счастье старухе, докатилась до хана. Суровый отец послал двести воинов доставить сына домой, во дворец. Отряд назад не вернулся. Разгневанный владыка послал тысячу всадников, но и те остались при сыне, при полосатом наследнике жестокого отца. Хан направил армию со строгим приказом уничтожить изменников и взять мятежного сына в плен. Ни одного из этих воинов хан больше не увидел — армия осталась на новой земле. Любить можно только хорошую родину. Страна, где люди страдают, человеку не родина, а тесная тюрьма. Полосатого хана посадили на войлок и подняли в знак того, что отныне он их повелитель”. Я вспомнил эту песню, — говорит Темиркул, — в связи с судьбой Джетыгенов. Тяжко им с ханом и его сыном, они рвутся из неволи сюда. Дай им бог силы и счастья. Он не ждет одобрения и тут же поет о Манасе. В веселой компании нехорошо кончать песней о жестоком тиране. Старик поет об Эр-Манасе, сыне Якуп-хана из рода Сыры-Ногай: — “Он сильнейший из богатырей и странствует по свету в окружении сорока воинов. Он разбил китайцев, обратил в бегство сартов, разогнал дружину Калигаров и мучил персиян. Одежда его- белые латы, ни одна стрела не пробьет их. Его копь буланый, губастый, нет коня, подобного ему. Его достойный соперник — Жолой, повелитель язычников, могучий обжора, исполин страшной, неслыханной силы. Победить его можно лишь после обжорства, когда глаза его смежит смер-топодобный сон. Конь Жолоя, Ач-Будай, не уступит белому скакуну Манаса. Таков победитель язычников. Велик и прекрасен киргизский батырь: глазные впадины его огромны, брови низко нависли, нос большой, глаза крупные, скулы плоские, уши толстые, оттопыренные, губы полные, грудь широкая, ноги длинные, талия тонкая, шея бычья, вид суровый, голос зычный. Он справедлив, готов к борьбе, как стрела, наложенная на тетиву”. Эту песню поют месяцами, никто не слышал ее конца. Темиркул знает ее наизусть. Его слушают с затаенным дыханием, и песня от этого звучит еще громче и торжественней: — “Я отец юного Манаса, славного от Чу до Таласа, я не хан, но не хуже его, Якуп я!” Его сын разжирел в Андижане, питаясь непропеченным хлебом и незрелыми плодами. Двенадцати лет он из лука стрелял, тринадцати — копьем врагов побеждал, детей уносил из седла, девушек милых от родных умыкал. Четырнадцати лет грабил аулы, пятнадцати — народом управлял. Он подобен синегривому волку, в гневе страшен, как смерть: борода и усы его щетинятся, из глаз сыплются искры, изо рта идет пламень и дым. Его стан раздувается, как походная кибитка алачуг”. Темиркул обернулся к Джоомарту, теперь он поет для него: — “Эр-Манас имел прекрасного друга — великого Ленина. Он любил вождя русских, был всегда в дружбе с Советской страной”. Все кивают головой, это им нравится. Теперь черед Джоомарта петь и играть. Мукай издали ему улыбается. Опять только издали, — похоже на то, что его силой там держат. — Иди сюда, Мукай. Подойди, прошу тебя. Пусть попробуют теперь не пустить его. Что он, Джоомарт, ему скажет? Ничего. Взглянет на него, пожмет ему руку и попросит сесть рядом. Ему скучно без него, и кажется, что их разлучают насильно. Зов не дошел до Мукая, вокруг него стоит хохот и шум. Там словно намеренно визжат, надрываются, не дают агроному услышать его. Зато здесь все слышно, что там говорят. — Мукай — наш Манас, он гордость Киргизии, — говорит о нем кто-то. — Таких чудодеев никто не видал. У него, как у счастливой старухи, голые скалы становятся садами. Мукай смеется, он доволен. Ах, как ему приятна лесть! Джоомарт напрягает слух, он силится распознать голоса и не может. Голова его кружится, в ушах стоит звон. Время блекнет в тумане, растворяется и исчезает. Его будит голос Мукая: — То была золотая пора. Киргизы разводили только коней, с овцами и коровами не связывались. Чуть враг показался — они с табунами уже за горами. — Правильно, — отзывается Джоомарт, — счастливая пора. Киргизы в то время были рабами братьев киргизов. Рабами платили калым, рабами делали друг другу подарки. Золотая пора, ха-ха-ха! Опять громкий смех. Ловко он ответил Мукаю, не будет болтать теперь вздора. Кто-то кричит: “Да здравствует Джоомарт, род которого восходит из Чингиса!” Он открывает глаза, и снова ему Мукай улыбается — приветливо, нежно, точно ничего не случилось. Дайте опомниться, не сон ли это был? Ему, должно быть, приснилось, он вздремнул на минуту. Как хорошо, что это был только сон. Мукаю не на что теперь обижаться. Снова время куда-то уходит, не то валится в пропасть, не то Сабиля его убирает, комкает и прячет в карман. Люди говорят, двигают губами, но звуков не слышно. Они стали безголосыми, как Сыдык. Точно сквозь сон, ему слышится речь Темиркула, старик рассказывает кому-то о себе: — Собрали нас, музыкантов, со всех концов света, посадили в один ряд на одинаковых стульях и отдали приказ: “Вместе играйте одну и ту же мелодию”. — “Нет, говорю, у нас так не играют. Музыкант не позволит, чтоб сливали его музыку с музыкой кого бы то ни было. В каждом горшке своя пища, в каждой душе своя песня”. Тогда мне отвечают: “Нам нужен оркестр. Скажи, что ты требуешь для себя?” — “Я требую себе место, достойное меня”. И они уступили. Мне дали самое высокое кресло, поставили его впереди, у всех на виду. Джоомарт открывает глаза. Вокруг Мукая все еще весело, там Джангыбай балагурит. Затейник ударяет себя по затылку, и изо рта его выскакивает плевок. Точно горошинка из раскрытого кулька. Вспомнили вдруг о Джоомарте. Вспомнили сразу, точно им сделали знак. Он обещал спеть и сыграть, надо слово сдержать. Они готовы его слушать. Ему придвигают каймак, мясо и вареную капусту. Темиркул его потчует: всего понемногу откусит и из собственных рук кормит его. И с кумысом то же самое: старик раньше глотнет, а затем уж протянет чашу Джоомарту. Все наелись, напились, вытерли руки о жидкие бородки, о голенища сапог, шумят, балагурят. Каждый примостился, как мог: кто сидя, кто лежа. Готовятся слушать Джоомарта. И он спел и сыграл им: — “Жила бедная девушка у старых родителей, у нищего отца и больной матери. Она была само солнце, от которого все созревает, сама влага, питающая все, что живет. Такой красавицы не видел никто. Какие песни она пела, как славно плясала, как звучно смеялась… Выдали ее замуж за богатого кашгарца из чужой, далекой страны. Увез ее муж, уволок коршун птицу, поселил ее во дворце — в золоченой клетке. Нарядил жену в бархат и шелк, осыпал золотом и дорогими каменьями, всего добыл для нее. На чужой стороне никто не слышал ее смеха и песен, не видал ее пляски. Скорбь легла на веки киргизки, погасила в лице веселье и радость. Напрасно муж дарил ей сокровища одно дороже другого. “Что с тобой, моя милая? — спрашивал он. — Отчего ты грустишь? Не поешь так, как пела в юрте отца? Жена молчала. “Улыбнись, моя родная, — просил он ее, — спляши, как ты дома плясала”. “Если бы ты мог, — сказала она, — сделать мне еще один подарок, я пела бы, и смеялась, и плясала что есть сил”. Муж прошептал ей: “Говори скорей, я достану, я все сделаю для тебя!” “Подари мне, мой друг, — продолжала она, — сияние тех звезд, которые пылают над юртой родителей, блеск солнца родины и сверкание снега родного джайлау”. Джоомарт кончил, но это не все. — Эта песня напомнила мне судьбу Джетыгенов, — говорит он. Он смотрит на Темиркула, словно отвечает ему одному: — Тяжко им в неволе, они рвутся домой. Привет малаям, джатакам-беднякам, безлошадным и нищим! Но тот, кто стал нашим врагом, больше не наш. Красавица не вернется на родину… Кто связал свою жизнь с чужими, никогда не станет своим. Едва он произносит эти слова, открывается дверь и входит купец Абдуладжи. На нем халат, шитый золотом, ичиги из сафьяна и тюбетейка в позументах. Он снимает калоши и любезно приветствует гостей. Сыдык идет ему навстречу и с видом хозяина усаживает рядом с собой. Множество рук спешатуслужить желанному гостю: ему придвигают кумыс и закуски, вокруг него суетятся и хлопочут. Купец кивает головой Джоомарту, улыбается, как старому другу. — Отведай наш кульчитай, — шепчет гостю Сыдык. — Вот курт, бешбармак. — Бешбармак? Хорошо, — доволен Абдуладжи. — Баран был свой или краденый? Это блюдо тем слаще, чем с большим искусством украден баран. — Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха… Хо-хо-хо! А… А… А… Вот что значит умно пошутить. Смеются на всякие лады; хохочут протяжно, кончают и вновь начинают, словно каждому хочется, чтобы смех его дошел до купца. Ха-ха-ха… — это я. Обратите внимание, я смеюсь от души над вашей остротой. Хо-хо-хо… Хо-хо-хо… Как остроумно, как мудро! Хи-хи-хи… Никто, дорогой, так не скажет. Все смеются, кроме Джоомарта, ему не до смеха. В ушах стоит шум, точно сотня коней ступает по скалистой тропинке. Мозг в тумане, и где-то на дне его встает горькое сомнение: он словно попал в западню, его заманили светом в окошке. Блюда и кумыс расставили руки ночного разбойника. Неужели и Мукай здесь замешан? Нет, нет, невозможно… Взгляните на Сабилю, она в глубокой тревоге. Комар сел ей на лоб и сколько уже времени жалит ее, — она не слышит, не видит, в глазах ее слезы. И агроном не такой, он ни за что не пошел бы на это. Вокруг купца идет спор, каждый хочет ему угодить в пику соседу, другу и недругу. Сыдык перегибается близко к Джоомарту и шепчет ему: — Это тот человек, которому род твой многим обязан. Он доставляет нам письма и приветы. Помнишь, как меня привели на заставу? Это его я встречал тогда на дороге. Спасибо, ты выручил меня. Купец Абдуладжи кивает головой: все верно, с начала до конца! — Род Джетыгенов шлет вам привет, — говорит он. — Сегодня на заставу прибудут делегаты, они верят в ваше доброе сердце и в орден на вашей груди. Щедрый род Джетыгенов, восходящий до Чингиса, должен жить среди нас. — Мы надеемся, дорогой Абдуладжи, — шепчет Сыдык, — что Джоомарт и Сабиля не оставят родных без поддержки. Передайте так Джетыгенам. — Вы ошибаетесь, почтенный купец, — возражает ему Джоомарт. — Мой род не восходит до Чингиса. Нашим предком был Мираб — ханский слуга. В другом конце стола поднимается шум. Слышны гневные крики Мукая: — Убирайтесь к черту! Не смейте дурачить меня! Я буду слушать, кого захочу. И сидеть между вами не желаю! Он решительно встает, расталкивает людей и садится возле Джоомарта. Джоомарт продолжает: — Мираб управлял арыками целого края. В руках его были судьбы тысяч людей. Даст он вовремя воду — у них будет хлеб, не даст — погибнут труды и посевы. В награду Мираб брал себе все, что желали глаза: и скотину, и жену, и малолетнюю дочь бедняка. Таков был наш предок. Вы напрасно вознесли нас до Чингиса. Купец улыбается, он просит прощения и лукаво глядит на Сабилю. Она опускает глаза, тревожно прижимается к своему брату. — Мирабы при ханах были всесильны, ваш предок далеко не простой человек. — И все-таки, — отвечает ему Джоомарт, — всесильный Мираб — тот же разбойник. — Ха-ха-ха! Браво, Джоомарт, молодец! Это смеялся Мукай. Все сурово молчали, один агроном хохотал. Абдуладжи оставался спокойным, улыбка не покидала его. — Вы очень суровы к нему. Все великие люди великодушны, вы простите Мираба ради славных потомков его. В доме, набитом людьми, не слышно ни звука, все глаза обращены на купца и Джоомарта. За поединком следят с нетерпением, со сверкающим взором, с готовой прорваться насмешкой. Была такая забава у манапов: пред толпой любопытных верхом на коне выводят двух шелудивых соперников. Их головы изъедены паршой, оружие — бараньи легкие, свежие, густо напитанные кровью. Соперники дерутся, бьют друг друга по лицу, по затылку. Сотни голосов подбивают их, стравливают насмешкой и шуткой. Измазаны лица, испачкана одежда, от легких остались клочки, а они бьются и бьются, пока побежденный не свалится с коня. Джоомарт глядит на купца, на своего ловкого противника, и кажется ему, что тот хлещет его по лицу. И противно, и мерзко, а драться он должен до конца. — Уходите от меня! — снова доносится голос Мукая. — Я хочу быть возле Джоомарта. Вы насильно удерживали меня… Сыдык шепчет, шипит что есть силы, все должны это услышать: — Ни одна из рек Тянь-Шаня в море не впадает. Джетыгены — ручейки, ты слишком много приписываешь им. Не гонись, говорят, за трусом, он возомнит себя богатырем. Оставь этих маленьких людей, дай им вернуться домой. Мы не поверим, что Краснокутов тебе ближе наших людей. И точно так же, как в борьбе шелудивых, чей-то голос подзадоривает их: — Не проси его, Сыдык, на солончаке трава не растет. Он родился без сердца. — Чужое дело не греет, с ним и в жаре рука зябнет. Напрасный труд, Джоомарта они не собьют. Может быть. Мукай им что-нибудь скажет? Глаза его пылают недобрым огнем, и слышно, как тихо ему шепчет Сабиля: — Уведи Джоомарта, они замучают его. Он стискивает кулаки, сидит и молчит. — Я сказал вам, кто был нашим предком, — отвечает обидчикам Джоомарт, — послушайте теперь о потомках, о манапских джигитах, врагах родины. Пять лет на заставе они воевали со мной. Грабили караваны, убивали людей. Это у них мы отбили Май-Баш. Их пули сидят в моей ноге, их пуля в груди Краснокутова. Я скрыл от заставы, кто эти люди, а теперь донесу! — Слепое сердце, — кричат ему вслед, — хуже бельма на глазу! Стая волков тебе на пути!.. — Вошь с ноги доберется и до шеи! Мы слишком долго терпели его… — Он далеко не уйдет, — шипит Сыдык, — дорога крутая и не безлюдная… Он беззвучно смеется, вздрагивает всем телом, словно дурные силы раздирают его изнутри. Мукай все еще молчит, стиснул зубы от боли и слова не скажет. — Правоверные мусульмане, — провозглашает Сыдык, — тут оскорбили почтенного гостя. Мало того, он заявил, что донесет на наших друзей. Или мы пожалеем одного человека, или спасем от несчастья весь род. Вы знаете, чьих баранов мы ели, чей кумыс и вино пили… Приложите свою руку к этой бумаге. Кривое дерево срубают на корню. Он вытягивает из-за пазухи заготовленный донос, опускает толстый палец в чернила и оставляет на бумаге отпечаток. Пятна ложатся на белое поле, доброе имя покрывают грязью, и зовется это “месть” — “киргизчелык”. — Твою руку, Мукай, ты все видел своими глазами. — Чьи это бараны, — спрашивает агроном, — чей кумыс, расскажи и мне, Сыдык. Сабиля с тревогой смотрит на мужа: куда он ведет, что он хочет сказать? Старик пожимает плечами. Колхозники собрали это между собой… Вино и кумыс прислал купец Абдуладжи. — Ты обманул их, черная душа! Ты сказал им, что Джоомарт нас собирает… Сыдыку остается только молчать. Он затеял чужим добром купить сердце Джоомарта. Мукай ближе и ближе подступает к нему. Несдобровать старику — Мукай опасен в такую минуту. — Почему ты солгал мне? Сказал, что Джоомарт зовет нас в гости, устраивает пир для добрых друзей. И чья это затея — насильно держать меня подальше от него? Ты боялся, я узнаю правду? V, старый колдун! Ты попомнишь Мукая! Он берет жену за руку, и оба уходят. Сабиля прыгает от радости: как хорошо, что все обошлось! Знал бы Мукай, как она благодарна ему. Вслед за Мукаем уходит и Темиркул, — он советский артист и руку не приложит к обману.***
Снова Абдраим встречает Джоомарта. Он видит его на караванной тропе далеко от заставы, еще дальше от колхоза. Абдраим не прячется больше на нижней дороге, держится совсем на виду. Он дважды проехал мимо Джоомарта, но тот словно не видит его. Сгорбленный, бледный, с опущенной на грудь головой; его качает в седле. Глаза открыты, он не спит. Повод свисает, и лошадь бросает его из стороны в сторону: то щиплет траву, то сходит с тропинки и вновь возвращается. Откуда он едет? Куда держит путь? Абдраим не может больше молчать. Тут что-то неладно, это неспроста. — Что с тобой, Джоомарт, куда ты попал? Куда едешь? Голова его с трудом поворачивается, гаснет взор, тяжелый, немой. Ему все равно, — никуда он не едет, лошадь его сюда занесла. — Что же ты молчишь? Не болен ли ты? Это я, Абдраим, твой друг Абдраим. Что с тобой? Джоомарт пожимает плечами, голова его еще глубже уходит в плечи. — Я, должно быть, нездоров. Мы всю ночь тут бродили с конем. Так просто “бродили”? Странная прогулка. — Ты заезжаешь уже сюда не впервые. Что тебе надо на верхней тропе? Опять он ему не отвечает. — Ты подумай, Джоомарт, ведь это мой пост, должен же я знать, кто тут бродит. Глаза Джоомарта закрыты, на лице отразилась глубокая боль. Да, да, с ним неладно, его надо щадить. — Ты не должен на меня сердиться, — мой долг обо всем сообщить на заставе. Там известно, что ты подобрал здесь погонщика, увез его неизвестно куда. Я знаю твое доброе сердце, ты когда-то и меня подобрал. Я прощался с землей, чтоб уйти за кордон. Такие вещи трудно забыть. Но мог ли я скрыть от заставы, что видел тебя? Разве ты поступил бы иначе? Джоомарт кивает головой: правильно, Абдраим, так и надо. — Краснокутов приказал тебя задержать, если я снова тут встречу. Вот и усталость прошла. Джоомарт пристально смотрит на Абдраима, он не верит ушам: — Как ты сказал? Задержать? — Да, задержать. Я не стану тебя, конечно, арестовывать, ты и так не сбежишь. Я знаю Джоомарта лучше, чем кто-нибудь другой. Я поеду с тобой, но вовсе не за тем, чтоб тебя караулить. Я спешу на заставу донести Краснокутову, что встретил тебя на караванной тропе. Только за этим, и ни за чем больше. Подумай пока, что ты скажешь начальнику, если он спросит, какие у тебя тут дела. Придется подумать, раз его задержали. Времени у него много. Он вбирает полные легкие воздуха, вскидывает плечами, словно отряхивает с себя недавнюю слабость. Он должен быть трезвым, перед ним трудное дело — убедить Краснокутова в своей правоте. Нельзя допустить, чтобы начальник заставы пропустил мимо носа врагов. Снова и снова Абдраим шепчет в дороге Джоомарту: — Не сердись на меня… Я еще раз напомню тебе: подумай, что ты скажешь начальнику, он будет строго расспрашивать тебя. — Спасибо, мой друг, я подумаю. Так они подъезжают к заставе: впереди Джоомарт, а вслед за ним Абдраим.***
Сегодня сумрачный день. Тяжелые тучи и свежий ветер с холодными струями откликнулись болью в груди Краснокутова. День будет нелегкий, но сегодня ему не до себя. Абдраим привел на заставу Джоомарта. Председатель колхоза опять бродил по тропе вдали от аула и пастбища. С этим надо покончить, он сегодня же отошлет его к коменданту, пусть с ним займутся. Здесь оставить его нельзя. Начальник надевает тужурку с петлицами и садится за стол. Дверь открывается, и входит Джоомарт. Он сгорбился, бледен, глаза его опущены. Оба молчат. Джоомарт не поздоровался. Краснокутов, должно быть, ждет еще привета. — Садись, у меня серьезное дело к тебе. Голос строгий, сухой. Перед ним бумага и чернила. Разговор в самом деле будет серьезный. — У меня тоже дело, — шепчет Джоомарт и еще ниже опускает глаза. — Нам стало известно, что ты заставил колхозников устроить праздник для себя и приятелей. Такие вещи у нас не прощают. Служба не дружба, — они были друзьями, вместе дрались с врагами, но в таких случаях о прошлом забывают. — На этот вопрос я отвечу потом. Я просил меня вызвать, когда придут Джетыгены, они уже тут, не лучше ли о них поговорить? Начальник недоволен ответом. О чем говорить, решает он, Краснокутов. — Кто тебе сказал, что делегаты пришли на заставу? Их только что привели прямо с границы, как ты об этом узнал? — Мне сообщил купец Абдуладжи, который Курманам доставляет письма и деньги из-за кордона. Любопытное признание. Еще что он скажет хорошего? — Где же этот купец? — Я скажу тебе потом, поговорим о Джетыгенах, время уходит. Краснокутов улыбается. Джоомарту хочется поговорить о более приятном. Хорошо, а как быть с неприятным разговором? Отказаться от него? — Отвечай: где купец? — Он здесь, в колхозе. Я прошу с этим делом потерпеть. Будем говорить о Джетыгенах. — Не все ли равно, о чем начинать, говори. У меня есть донесение, что ты сводишь с ними счеты. — Счеты я сводил, но не личные. — И еще нам известно, что тебя подкупили враги Джетыгенов. — Неправда. — В таком случае объясни, что ты делал на караванной тропинке. Кого ты там подобрал, какие у тебя дела с купцом Абдуладжи? Упрямый начальник. Разве можно начинать с середины? Дали бы ему рассказать по порядку, все было бы ясно. — Я все-таки начну с Джетыгенов. Начальник поднимает свою бледную руку, держит ее перед глазами и спокойно кладет на место. Раздражение прошло, он нашел в себе силы сдержаться. — Ты начнешь с того, с чего я захочу. И движения и голос, точно не было бури, полны равновесия и покоя. — Ты недурно подражаешь Сыдыку. Не отвечаешь на вопросы, прикидываешься простачком, чтобы вывести человека из себя. Старая стратегия наших врагов. Я отправлю тебя к коменданту, может быть, с ним тебе удастся договориться скорей. Он отодвинул бумагу и чернила, решение его твердо: застава — не место для следствия. Джоомарт в первый раз поднимает глаза на начальника. Взоры их встретились и крепко сплелись. Этот взгляд, словно завеса, скрывает бурю, неспокойное биение встревоженных сердец. Ему жаль Краснокутова: бедняге это стоит здоровья и сил. — Спрашивай, я буду на все отвечать. Ветер хлопнул окном, раскрыл его настежь, и холодная мгла туманом поползла по комнате. Начальник закрывает окно и придвигает к себе бумагу и чернила. — Тебя видели там, где мы однажды схватили Сыдыка. Он встречал на той дороге купца. Ты ведь ехал за тем же? — Я купцов не встречал, они не нужны мне. — Что ты там делал? Что он делал? Дайте вспомнить. Ничего. Ровным счетом ничего. — Меня конь туда занес. Он привык к своему старому месту. Я и сам не заметил, как туда попал. Краснокутов усмехается: нехорошо все валить на коня! — И сегодня ты с конем не поладил? Сказать ему правду, как он, разбитый, уехал из дома, глаз всю ночь не смыкал, думал, как он объяснит Краснокутову, что свело его с купцом и друзьями его? Начальник все равно не поверит. Не лучше ли промолчать? Краснокутов встает, высокий и стройный, со здоровым румянцем на смуглом лице. Теперь он здоров, совершенно здоров. Таким, как он, не страшны ни болезни, ни раны. Он с лукавой усмешкой кладет руку на плечо Джоомарта: — Будем откровенны, Джоомарт. Ты с Сыдыком был заодно? Джоомарт стряхивает руку начальника и больно прикусывает губу. Он ему не ответит, они сочтутся в другой раз. Краснокутов пожалеет об этих словах. — Что ж ты молчишь, отвечай! — Ты меня оскорбил, я буду говорить с комендантом. Я скажу ему: “Товарищ! В награду за честную службу, за преданность делу начальник заставы Степан Краснокутов меня назвал предателем. Рассудите вы нас. Я хочу ему от души рассказать правду, а он рылся в моих мыслях, как в мешке контрабандиста”. Начальник хмурит брови и, стиснув зубы, молчит. Они сидят за столом, старые друзья и соратники, но чувства их словно отравлены. Один не верит другому, другой уязвлен. — Ты будешь объясняться с комендантом! — говорит один. — Не сердись на меня, — упрашивает его другой, — у нас впереди большой разговор. — С тобой — ни за что, — решительно говорит Краснокутов. — Не хочешь — не надо, а я все-таки скажу. Я прокричу тебе над ухом. В комнату без стука входит Мукай. Краснокутов, недовольный, оборачивается: — Простите, я занят. Агроном не отводит глаз от начальника, идет к выходу и вновь возвращается: — Я пришел относительно доноса. Вы должны меня выслушать. Это ложь и неправда, Джоомарт тут ни при чем. Начальник любезно ему говорит: — Зайдите попозже. Или, если угодно, посидите в другом помещении. Я сейчас не могу. Агроном смущенно разводит руками. Можно, конечно, в другой раз, но не лучше ли сейчас? — Я хотел вам сообщить, что при мне составлялась бумага. Они давали ее нам подписать. Ни я, ни Темиркул не пошли на это. У них было условлено заранее, я теперь только все разузнал… Краснокутов не слушает его, он ждет ответа Джоомарта. — Товарищ Мукай, у нас секретный разговор. Вы нас прервали. Отправляйтесь домой, я пошлю лошадь за вами. Мукай не двигается с места. Ему так трудно сейчас, так трудно… — Облегчите мою совесть, я вас прошу. Я так виноват перед Джоомартом. Он не может сдержаться и горячо говорит: — Ты должен меня простить, я кругом виноват… Я всю ночь тебя искал. Говорили, что ты бродишь возле заставы. Краснокутов его прерывает: — Я просил вас оставить нас. Дайте мне кончить наш разговор… — И снова Краснокутов теряет терпение: — Вы, кажется, родственники, я не ошибся? То-то вы примчались чуть свет. Родное — не чужое, надо помочь. Пусть непрошеным ходатаем, только бы исполнить свой долг. Что он выдумывает, этот упрямый начальник? Ведь они с Джоомартом все время не в ладах. — Стыдно вам, агроному, интеллигенту-киргизу, подражать старикам, поддерживать родню во что бы то ни стало! Обманывать советскую власть! Мукай ничуть не обижен: ему сейчас безразлично, что думают о нем. — Ты пойми, Джоомарт, я так верил Сыдыку. Плут и бездельник, он связался с купцами и обделывал дела Джетыгенов. Почему ты не сказал мне, кто такие Джетыгены, разве я стал бы их защищать?.. Краснокутов его останавливает: — Вот что я скажу вам, дорогой агроном. Джоомарт в свое время так же помог Сыдыку, как вы сейчас помогаете ему. Я просил его быть переводчиком, доверил важное дело, а он меня обманул: за тестем, как видите, тянется зять, за зятем — свояк. Пора, товарищ агроном, полюбить свою родину настоящей гражданской любовью. Как он заблуждается, он не знает Джоомарта — нисколько, ничуть. — Вы не то говорите, товарищ начальник. Кругом виноват я один. Я не понял Джоомарта, как не поняли его вы. Они мстят ему за то, что он восстал против рода, против тех, которые стреляли в вас и в него. Это были Джетыгены. Они владели Май-Башем и не простили вам того, что вы их изгнали. Джоомарт умолчал, что они его братья по роду. Ошибка, конечно, но ему было стыдно сознаться, что бандиты — сородичи его. Джоомарт стоял в стороне и не знал, чему больше удивляться: страстной ли речи агронома или упрямству начальника. Ему казалось уже, что все от него отвернулись. Вдруг приходит Мукай, эта добрая душа, и кричит во весь голос: “Я кругом виноват!” И не тот Мукай, с шуткой и смехом, с повадкой мальчишки, а совершенно другой — серьезный и твердый. Браво, молодец! Вот что значит мало знать человека! Начальник заставы, конечно, молчит, хмурит брови, но совсем по-иному. Мукай смутил его своими словами, поставил в тупик. Вот когда агронома надо бы обнять. — Повторите еще раз, — просит он агронома. И Мукай повторяет: — Они владели Май-Башем. Стреляли в вас и в него. Да, да, Джетыгены… Он скрыл это от заставы. Ему было стыдно… — Правду он сказал, Джоомарт? Он глядит на Джоомарта в упор, но взгляд уж не тот — в нем больше смущения, чем твердости. — Позовите делегатов, я отвечу вам при них. Входят три человека: два старика и один помоложе, лет сорока. Знакомая одежда: чапаны, ичиги, шапки, обшитые мехом. Невысокие, плотные, с обожженными солнцем лицами, они приветствуют начальника, затем Джоомарта, улыбаются ему, между собой говорят, что он вырос, красив, весь пошел в деда Асана. Джоомарт кивает головой — любезно, спокойно. Делегат средних лет почтительно стоит в стороне. Ничто не предвещает грозы. И вдруг словно молния сверкнула: взор Джоомарта наполняется гневом, он бросается к киргизу и хватает его за ворот чапана. — Ты помнишь меня? — кричит он ему прямо в лицо. — Отвечай мне, ты помнишь? Ты лежал за воловьей скалой и метил в начальника. Я крикнул: “Берегись, Краснокутов!” — и в ту же минуту ты выстрелил. Твою пулю он до сих пор не забыл. Отвечай мне, ты помнишь? Он притянул его близко к себе, глядит в упор на него, обжигает пламенным взором. Джоомарт дышит порывисто, гнев в каждом изгибе его лица. Киргиз пытается отступить, беспомощно озирается и опускает глаза. — Вот он, взгляните на него! Простите меня, — обращается он к старикам, — мне трудно было сдержаться. Я знаю вас, Эсекгул и Ченбок, вы честные люди, наши друзья. Скажите Джетыгенам, что я, Джоомарт, и колхозники примем их с радостью, поддержим их перед заставой и комендантом… Вот вам моя рука. Но тем, кто враги нам, лучше не являться сюда. Делегатов уводят, и он продолжает, взволнованный, грустный: — Меня можно винить в чем угодно, но с Сыдыком и с ними я не был заодно. Они наши враги — мои и твои. Ты увидел их впервые на Май-Баше, а я вырос среди них. О таких людях наш народ говорит, что они подобны елям Тянь-Шаня. Их корни ползут по поверхности, стелются, как змеи, по земле, обволакивают скалы, растворяют эти крепкие громады и питаются ими. Чтобы жить рядом с ними, мало быть скалой — мы должны быть стальными. — Теперь я уйду, — говорит Мукай Краснокутову. — Вы могли убедиться, что советскому агроному, как ни дорога родня, честь родины все-таки дороже. Не подумайте, что я над вами смеюсь, у меня и своих ошибок немало. Большие и малые, всякие. Всех тяжелей была мелочь. Невинная мелочь, она из той же породы елей Тянь-Шаня, корни которых все душат в своих объятиях. Пусть послужит нам утешением то, что это было лишь испытание. Счастливое испытание, не больше. Мукай берется за дверь, и вдруг кто-то снаружи распахивает ее. Перед ними Тохта — погонщик купца Абдуладжи. Бледный, усталый, он нетвердо стоит на своей искусственной ноге. Ах, Джоомарт! Сам Джоомарт здесь. Как ему повезло. Еще ему нужен начальник. По важному делу. Кто здесь начальник? — Я начальник заставы. Что тебе надо? Он вопросительно оглядывается: не шутят ли с ним? Дело серьезное, не каждому расскажешь. — Я погонщик купца Абдуладжи. Мой хозяин и Сыдык из колхоза хотят обидеть Джоомарта. Рассорить вас с ним, сделать ложный донос, натворить ему всяких несчастий… Спасайтесь, Джоомарт, и вы тоже, начальник! Купца Абдуладжи знает полмира, он очень сильный человек, и он все может сделать… Ах, как его измучила дорога! Он тайком вывел лошадь из конюшни больницы и примчался сюда, чтобы предупредить, пока не поздно. — Вы не знаете, начальник, как много сделал для меня Джоомарт! Он не побрезговал несчастным погонщиком, спас меня от погибели. Я сказал ему тогда: “Я бедный погонщик, без гроша за душой”, и он все-таки привез меня в больницу. Пусть в вашей стране всякий должен доставить больного к врачу, но он фрукты и сласти мне привозил, обещал сделать гостем в колхозе… Кто поступает так с жалким погонщиком? Это не всё. Джоомарт потребовал от купца Абдуладжи, чтоб он купил мне новую ногу. Купец сперва не хотел, а затем уступил. Вот она, йога, посмотрите… Мукай увез Тохту в колхоз, в комнате остались Джоомарт и начальник заставы. — Ты как-то недавно, — говорит Краснокутов, — был у меня и напомнил о давнем и неприятном событии. Я тогда еще был совсем молодым, и бандиты меня обманули, обвели вокруг пальца, как мальчика. Они сказали, что в ущелье засели враги, и я им поверил. Что значит быть молодым. Тем временем бандиты прошли верхней дорогой мимо самой заставы… Ты вспоминал от души и без дурного умысла, а мне твоя речь не понравилась. Неприятно вспоминать былые ошибки, еще менее приятно слушать о них. Я не дал тебе кончить и сделал вид, что занят собственным делом. Теперь, как ты видишь, меня снова обманули, обвели вокруг пальца. Я второй раз ошибся. — Как мог ты им поверить? — говорит Джоомарт. — Ты спросил бы себя: возможно ли это — бросить камнем в родную страну? Во имя кого и за что? — Я расспрашивал других, я себя не спросил. — Мог ли твой друг, Джоомарт, тебя обмануть? Бросить лучшего друга, ради кого? — Конечно, не мог. Я донесу обо всем коменданту, пусть он нас рассудит. — Что ты, опомнись, я ничуть не сержусь на тебя! — Ты не должен меня винить, Джоомарт. Я стою у границы, долг мой — за всем уследить. Я знал, что ты любишь Советскую страну, тебе можно доверить все сокровища мира, но со всеми бывают ошибки. А на границе ошибка подчас страшнее всякого бедствия. Я ошибся. Но лучше так ошибиться, чем потерять такого друга, как ты. Он жмет ему руку, и каждое движение начальника словно говорит: как хорошо, что это была только ошибка. — Довольно об этом, — говорит Джоомарт. — Мукай верно сказал: это было испытание. Они умолкают — и Джоомарт и начальник заставы. Ясно без слов: это было испытание. Фрунзе, 1937 г.
Евгений Рысс. ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕРАМИ
Глава первая ЖИЗНЬ НА РЫБОПУНКТЕ
Год с лишним назад я ездил по берегам большого озера далеко на востоке нашей страны. Я встречал много разных людей и слушал много разных историй. Одну из них я расскажу. История эта случилась незадолго до того, как я приехал на озеро, и память о ней была еще свежа. Мне рассказывали ее разные люди, и все рассказы совпадали во всех подробностях. Я познакомился с героями этой истории, если не со всеми, то, во всяком случае, с главными. Главные герои жили в маленьком домике, в котором я провел немало часов, слушая их рассказы о происшедших событиях. Домик стоял метрах в пятидесяти от берега озера. У самой воды разместились сарай, небольшая коптильня, деревянные стойки, на которые клались доски с набитыми гвоздями. На эти гвозди накалываются маленькие рыбки, они называются “чебачок”, и вялятся прямо на солнце. В домике жила семья Сизовых: отец, Павел Андреевич, мать, Александра Степановна, двенадцатилетний сын Андрей и семилетняя дочка Клаша. С одной стороны это была семья, а с другой стороны — предприятие. Называлось это предприятие Волошихинский рыбопункт. Павел Андреевич был заведующим рыбопунктом, Александра Степановна — работницей, Андрей и Клаша, правда, официально не числились в штате, но, когда было много рыбы, работали вместе с отцом и матерью. Это было настоящее предприятие с планом, ведомостями, отчетностью. И когда составлялся годовой план добычи рыбы по всему озеру, то в плане учитывался и Волошихинский рыбопункт и было написано, какое задание, какой фонд зарплаты на год — словом, все по-настоящему. А весь рыбопункт был, как я уже говорил, одной семьей. На этом озере бывает так часто. Рыбопункты расположены далеко от населенных мест, живут там люди уединенно, и, конечно же, лучше, если все — члены одной семьи, тем более что людей на рыбопункте надо немного — два—три человека. Ближайший поселок находился в десяти километрах, и дорога туда была очень плохая. Все места вокруг озера — заповедные. Там стараются сохранить природу такой, какой она была в диком состоянии. Там гнездятся фазаны, куропатки, там отдыхают, пролетая осенью на юг, а весной на север, дикие утки и лебеди, там строго запрещена охота. Вокруг Волошихинского рыбопункта далеко-далеко тянулись заросли колючего кустарника, ягоды которого особенно любят птицы. В зарослях этих можно увидеть, как целыми стайками пролетают фазаны, и в них никто не смеет стрелять. Но это в теории, а на самом деле ходят еще браконьеры. И если увидел браконьер, что надзиратель на другом конце участка, то стреляет фазанов. Пока надзиратель, услыша выстрел, шпорит лошадь, чтобы застать нарушителя, тот, сунув в мешок убитую птицу, торопится убежать подальше, потому что по головке за это не гладят. Но все-таки в заповеднике птицы чувствуют себя безопаснее, чем где бы то ни было. Их охраняют, зимой в морозы выставляют даже кормушки с зерном, чтобы птица могла подкормиться, когда съедены или вымерзли ягоды. Так вот, широкая полоса кустарника отделяла Волошихинский рыбопункт от шоссе и ближайшего населенного пункта. И через эту полосу шла плохая проселочная дорога, которую кое-где заливала вода и по которой с трудом проходила грузовая машина. Если стать возле домика, в котором помещался рыбопункт, — пустынный пейзаж открывался взгляду. С одной стороны — синее-синее озеро, на котором редко увидишь рыбачью лодку. В хорошую погоду далеко на горизонте можно различить снежные вершины горного хребта, тянущегося вдоль озера. Посмотришь в другую сторону и видишь заросли кустарника, и ни человека, ни дома, только зверь изредка прошуршит по кустам или вспорхнет птица. Поселок не был виден с рыбопункта, и жители домика бывали в поселке очень редко. Несколько раз в месяц на рыбопункт приходила грузовая машина. Она привозила продукты, осенью завозила топливо, если было нужно — материал, чтобы отремонтировать дом, или сарай, или коптильню. Андрей осенью уезжал в поселок: ходить каждый день в мороз и в метель десять километров до школы было трудно и опасно. Можно было увязнуть в снегу и замерзнуть, да и волки иногда спускались с гор. Так что всякое могло случиться. В поселке Андрей жил у старушки, которая сдавала ему угол, кормила и брала очень дешево, совсем пустяки. Старушка жила одна, была старая, а Андрей и воды наносит, и дров наколет, да и есть с кем поговорить в долгие зимние вечера. Казалось бы, в поселке куда веселее жить: и в школе много хороших ребят, и в кино можно сходить, и просто по улице пройти на людей посмотреть. Но Андрей скучал по своему рыбопункту и в субботу обязательно старался поехать домой на воскресенье. Если машина шла, то добирался с машиной, а иногда отец приезжал за ним на лошади. Дело в том, что на рыбопункте, кроме четырех людей, было еще три жителя: рыжая кошка Машка, собака загадочной породы, по имени Барбос, и лошадь Стрела. (Назвали ее так в шутку.) Лошадь была уже на возрасте, спокойная, даже вялая, но очень привязана к хозяевам, и вообще существо доброе и выносливое. Если Павлу Андреевичу нужно было что-нибудь срочное сообщить в дирекцию рыбпрома, то она в любую погоду, правда, неторопливо, но безропотно доставляла его в поселок. И даже когда на нее усаживались двое — отец и сын, то она тоже на это не сердилась и не торопясь трусила по снегу. Она гак изучила дорогу, что знала точно, где лучше пройти правой стороной, где левой, а где можно пробраться напрямик через кустарник и сократить таким образом дорогу. Каникулы Андрей уж обязательно проводил на рыбопункте. Тихая тут была жизнь. В домике мать наводила такую чистоту, что все сверкало! На кроватях лежали горы подушек, на окнах висели занавески. В Клашином углу аккуратно сидели куклы, стояли крошечные тарелки и чашки, там же жили медведь, жираф и два зайца. Жирафа и зайцев Клаше подарил директор рыбпрома. Это был самый главный начальник. Ему подчинялись все рыбопункты на озере, все рыболовные бригады, все рыбозаводы, обрабатывающие рыбу. Раз в месяц он обязательно объезжал вокруг всего озера и заезжал во все рыбопункты. Приезжал он на “козлике”, разбитой, дряхлой машине, с шофером Иваном Тарасовичем. Иной раз просидит часа три—четыре, все обсудит, обо всем поговорит, а иной раз если дело к вечеру, то и заночует. Иван Тарасович хоть знал великолепно места, можно сказать, каждый камушек изучил на дороге, а все-таки по проселку в темноте и он боялся ехать. Там были такие места, что если посадишь машину, так хоть трактор пригоняй, иначе не вытащишь. Директора рыбпрома звали Александр Тимофеевич. Он был хороший человек. Всегда сам все внимательно осматривал, сам говорил, что надо починить, какой нужно сделать ремонт, так что его просить ни о чем не приходилось. Запишет все в записную книжку и со следующей машиной, глядишь, пришлет материал, а если ремонт серьезный, — то и рабочих. Он понимал, что жизнь на рыбопункте не такая уж легкая — все-таки одиночество, пустыня вокруг, — и поэтому всячески старался ее облегчить. Летом приходилось много работать. Рыболовецкие бригады колхозов или рыбпрома с рассветом выходили на лов. И к берегу возле рыбопункта то и дело приставали груженные рыбой рыбачьи баркасы. Работа рыбака — дело непростое. Она требует уменья, опыта и особенно чутья, которое далеко не каждому дается. Настоящий рыбак угадает по почти неуловимым признакам, где, в какой день, в какую погоду будет лучше ловиться рыба. Выйдя на лов, бригада заранее не решает, где она сегодня будет ловить. Закинули сети в одном месте, взяли мало, закинули в другом, закинули в третьем, и тут оказалось, что рыба идет. Когда лодка полна, рыбаки идут в ближайший рыбопункт сдавать рыбу. Поэтому и на рыбопункте не знают заранее, сколько сегодня придет рыбачьих баркасов с рыбой. Может быть так, что сегодня на Волошихинский рыбопункт придет всего два-три баркаса, а может и так, что придет восемь — десять. А рыбу принимать надо. И рыбакам нельзя зря время терять, да и рыба может испортиться. Тут уж не будешь считаться со временем. Тут работают дотемна, работают все, и большие и малые, чтобы к ночи вся рыба была засолена, закопчена, провялена. Пристанет рыбачья лодка, и рыбу сразу кладут на весы. При этом сначала ее надо еще рассортировать. Чебачку, например, одна цена — это рыба дешевая, а сазан — рыба ценная, дорогая, за нее рыбаку денег полагается больше. Взвесили, выписали рыбакам квитанцию, сколько какой рыбы сдано, а тут иной раз уже новый баркас подходит, а рыба с первого баркаса еще не обработана. Горячие случаются дни. А в другой раз наоборот: рыба вся обработана, можно бы браться за новую партию, а баркаса нет. Рыба берет в другом месте, рыбаки идут на другой рыбопункт. Там горячка, а тут делать нечего. Рыбное хозяйство на озере — дело сложное. Озеро огромное, плодится рыба в нем хорошо, а рыбных пород в старое время было мало. Когда установилась советская власть, ученые стали думать о том, как обогатить озеро. Решили, что может тут водиться не только чебачок да сазан, а и форель и карпы. И вот на самолетах, в специальных баках с водой, привезли из озера Севан, которое в Армении, миллионы мальков форели, выпустили в озеро, и много лет ничего не было о ней известно. Не попадалась в сети рыбаков. Думали, погибла, не удался опыт. А потом вдруг стала попадаться. И, представьте себе, не такая, какой она была на родине, у себя в Севане. В новых условиях изменилась порода рыбы. Форель стала крупнее, попадались экземпляры такой величины, какой в Севане отродясь не бывало. Изменился и цвет, создалась порода, пожалуй, лучшая, чем в Севане. Но попадается она еще очень редко. Видно, выжило не много мальков, и надо ждать, пока форель размножится и населит огромный водоем. Поэтому лов ее запрещен категорически. Если в рыбачьи сети попадает форель, рыбаки обязательно выпускают ее обратно. Известны места, где форель держится больше всего, и эти места объявлены заповедными. Там лов вообще запрещен. Потом выпустили мальков сазана, тоже ценной, хорошей рыбы, которой в озере оставалось мало. Выпустили карпов, и карпы размножились. Озеро должно стать одним из богатейших водоемов страны. Но, так же как есть браконьеры, стреляющие фазанов в заповедных территориях, есть браконьеры, которые тайно, ночью, выходят с сетью на озеро и ловят форель. С ними борются рыбонадзор и милиция, всякий честный человек, который видит браконьера, старается его задержать. Но озеро велико, ночи темные, не всегда отличишь лодку браконьеров от лодки рыболовецкой бригады. А если и отличишь, не всегда догонишь, не всегда хватит сил задержать компанию браконьеров. Есть профессиональные браконьеры, которые не желают жить на деньги, заработанные трудом, которые желают нажить состояние, грабя сокровища природы. Они продают из-под полы выловленных ценных рыб и прячут в кубышки нечестно нажитые деньги. Но, как ни странно, есть и другие браконьеры: обыкновенные люди, честно зарабатывающие свой хлеб, люди, которые, если найдут на улице кошелек с деньгами, непременно отнесут его в стол находок, которым даже в голову не придет украсть что-нибудь. Но они почему-то не считают бесчестным грабеж народного достояния. Покупают они лодку — дело понятное: каждому приятно покататься по озеру; покупают лодочный мотор — тоже понятно: грести устанешь да и не уйдешь далеко на веслах; добывают сети, упаковывают их в рюкзак так, что кажется, просто набрали люди еды побольше и отправляются на прогулку по озеру. А когда стемнеет, они прокрадываются в заповедные места и закидывают сети, и, шепотом переговариваясь, вытаскивают их, и, прикрыв плащом фонарь, смотрят, сколько попало форели, прячут под брезентом этих ценнейших рыб, каждая из которых дала бы тысячи мальков, и увозят домой для того только, чтобы, позвав в гости самых близких друзей, которые не проболтаются, угостить их этим редким и вкусным блюдом. То ли азарт влечет их, то ли почему-то считают они, что это не воровство, не грабеж. Придете вы на следующий день к такому человеку и никогда не подумаете, что это преступник. Просто любит человек, устав от работы, отдохнуть на воде, просто занимается водным спортом. Что ж тут плохого?Глава вторая ПОЯВЛЯЮТСЯ БРАКОНЬЕРЫ
Так вот вся история началась с директора рыбпрома, Александра Тимофеевича. Где-то, не то на Кубани, не то в Краснодарском крае, придумали новую конструкцию сетей, и министерство предложило Александру Тимофеевичу срочно внедрить сеть на озере. Александр же Тимофеевич считал, что, прежде чем внедрять, надо все-таки посмотреть, что за сети и каковы они в работе. Выписать просто сеть и дать своим рыбакам он считал неразумным. Может, она не подойдет к местным условиям, может, местные рыбаки с непривычки или от незнания не сумеют с ней правильно обращаться и скомпрометируют стоящую вещь. Он рассудил, что лучше послать умного и опытного человека на место и пусть он посмотрит, как тамошние рыбаки управляются с этой сетью. Павла Андреевича он знал давно и очень уважал как человека, понимающего по-настоящему рыбный лов. Он и подумал: “Пусть Павел Андреевич поедет и поглядит, и уж, если он скажет, что новая сеть хороша, тогда решим”. И вот Александр Тимофеевич приехал на своем “козлике” на Волошихинский рыбопункт, все, как обычно, осмотрел, записал, что нужно три листа железа на крышу и кубометр досок на коптильню и на сарай, а потом, когда Александра Степановна пригласила к ухе и все расселись на ящиках вокруг котла, Александр Тимофеевич сказал: — Как вы, Александра Степановна, отнесетесь к тому, что я вашего мужа ушлю в командировку месяца на два? Александра Степановна, конечно, разволновалась и начала говорить, что она, правда, не против, но надо мужа собрать: и белье привести в порядок, и продуктов запасти, потому что нечего ему тратить деньги по ресторанам, а пусть он это время проживет хозяйственно, на домашних продуктах. В общем, положили на это неделю. Через неделю Павел Андреевич отбыл, нагруженный таким количеством продуктов, что можно было подумать: отправляется он в кругосветное путешествие. Тут произошла несчастная случайность. Как раз тогда, когда мужа не было, Александра Степановна заболела. У нее поднялась температура и начались острые боли. Андрей взгромоздился на Стрелу, и она сама не торопясь довезла его до поселка и остановилась у почты. Она уже привыкла, что едут в поселок обыкновенно на почту, чтобы позвонить директору рыбпрома. Андрей пошел в амбулаторию и рассказал о болезни матери. Сразу же на машине выехал доктор и захватил Андрея. Стрелу оставили стоять привязанной у почты. Доктор осмотрел Александру Степановну, покачал головой и сказал, что у нее аппендицит и ее надо сейчас же везти в больницу. Александра Степановна стала отказываться — боялась детей оставить, но доктор и Андрей ее успокоили и уговорили. Андрей поехал проводить мать, а Клаша осталась дома. Александра Степановна и в больнице все расстраивалась и просила ее отпустить домой, но доктора сказали, что об этом и думать нечего — надо делать операцию. Простившись с матерью, Андрей пошел на почту, позвонил Александру Тимофеевичу, рассказал, что мать увезли в больницу и они остались вдвоем: он, Андрей, и Клаша. Александр Тимофеевич очень заволновался. Сказал, что немедленно надо устроить обоих в пионерлагерь и что он сейчас же это организует и приедет к вечеру сам. Но Андрей был человек хозяйственный и ответил, что домик стоит вдалеке от населенных пунктов, что у них есть имущество: одеяло, подушки, ковер, на котором изображена черкешенка на берегу бурной реки, что все это он оставить не может и что они с Клашей отличнейшим образом проживут, пока мать поправится, а просьба у него одна — чтобы баркасам временно не велели заходить в Волошихипский рыбопункт, потому что обрабатывать рыбу им с Клашей будет, пожалуй что, не под силу. Все-таки вечером Александр Тимофеевич приехал. Оказывается, он по дороге заезжал в больницу и узнал у доктора, что болезнь у Александры Степановны не очень серьезная и через недельку—другую она вернется домой. Он сказал, что всем рыболовецким бригадам пока что запрещено привозить рыбу в Волошихинский рыбопункт, спросил, сколько денег у Андрея, велел показать и сам пересчитал. Посмотрел, есть ли запас сена для Стрелы, есть ли крупа, сахар, макароны. Увидел, что всего достаточно, сказал, что заедет через неделю, и уехал. В самом деле, оснований для беспокойства не было. Хоть Андрею было только двенадцать лет, но человек он был самостоятельный, привык отвечать за себя, да и Клаша, хоть совсем еще маленькая, тоже была приучена помогать родителям и по работе и по хозяйству. На следующий же день рыбаки перестали привозить рыбу на Волошихинский рыбопункт. Многим это было неудобно, но все понимали — дети остались одни, у них небось и своих хлопот по горло, и наваливать на них обработку рыбы нельзя. Андрей сразу занял позицию главы семьи. Он на Клашу покрикивал, но следил, чтобы она вовремя поела, вовремя легла спать и вообще вела себя так, как полагается маленькой девочке. И Клаша к нему относиться стала иначе. Раньше он для нее был такой же ребенок, только чуть постарше, а теперь вдруг он оказался взрослым, серьезным, хозяйственным человеком. Андрей велел ей кормить собаку и кошку, давать корм курам, а сам топил печку, готовил завтрак, обед и ужин и так выговаривал Клаше, если она плохо ела, что Клаша пугалась его больше, чем выговоров отца или матери. Так прожили день, и другой, и третий, прожили неделю, а в ночь с субботы на воскресенье началась история, которая все перевернула. Получилось так: Андрей очень переживал, что вот он остался главой семьи и сам за все отвечает. Он даже спать плохо стал. Казалось бы,стоит Стрела в сарае, и овес у нее есть, и сено, и сытый Барбос лежит в конуре, и кошка свернулась клубком на кровати и мурлычет. Стало быть, все хорошо, все как будто благополучно, а Андрей беспокоится. Спит одним глазом и все прислушивается: нет ли чего тревожного. И вот в ночь на воскресенье услышал он, что тихо подвывает Барбос. Тут надо рассказать об одном обстоятельстве, о котором еще не было сказано. Рядом с Волошихинским рыбопунктом, метрах в пятидесяти, был залив, который почему-то полюбила форель. Что уж ей показалось там хорошим, не знаю. Может, она какой-нибудь для себя корм нашла, может, сообразила, что место уютное, так или иначе, форели там было много, и залив этот был объявлен заповедным. Рыболовецкие бригады вообще не заходили в него. И даже любителям, которым разрешен лов удочкой, там было запрещено показываться. Это было тихое, пустынное место. Низкие берега, гладкая поверхность воды. Даже когда на озере разыгрывались бури, сюда волнение слабо доходило. Только рябь шла по заливу, и если внимательно посмотреть в воду, то видно было, как неподвижно висят в воде удивительные рыбы, которых нет нигде в мире, потому что, как я уже говорил, форель изменилась, переехав сюда из Севана, и стала необыкновенной форелью, новой, никогда не виданной породой рыб. Я не знаю, что думал Барбос. Тайна собачьих душ всегда была для меня неразгаданной загадкой. Вряд ли он понимал человеческий язык, а раз не понимал, то не мог узнать из разговоров Павла Андреевича и Александры Степановны, что залив надо охранять и что не имеют права в заливе появляться рыбачьи лодки, опускаться в воду сети или даже хотя бы удочки. Наверное, он понял это инстинктом, которым обладают собаки, кошки, лошади и все живое на свете. Так или иначе, Барбос считал себя ответственным за безопасность залива. И вот в маленьком домике блаженно спала Клаша, прижимая к груди жирафа, которого любила больше других игрушечных зверей, потому что она думала, что таких зверей не бывает на самом деле, и ей было его жалко, и казалось, что он одинок и чем-то обижен. Она спала и блаженно посапывала во сне. А на другой кровати лежал Андрей и не спал. И все думал, правильно ли он провел день, все ли сделал, что нужно, не забыл ли чего, не упустил ли чего, потому что он, как ни говорите, глава семьи. И вот он услышал, что негромко подвывает Барбос. А Барбос подвывал негромко потому, что, благодаря инстинкту, знал: если в заповедном заливе появляются рыбаки, — надо подвывать, но так, чтобы хозяева услышали, а браконьеры не слышали и не встревожились. Тогда хозяева смогут их поймать и уличить в преступлении. Андрей встал, торопливо натянул штаны, накинул куртку и вышел из дома. Свет в доме был давно погашен, и поэтому в десяти шагах нельзя было разглядеть, что дверь отворилась и маленький человек вышел из дома. Андрей подошел к Барбосу. Пес подвывал, направив морду к заповедному заливу. А кругом была тишина и, кроме собачьего негромкого воя, не слышно было ни одного звука. Андрей положил руку на голову пса, и пес затих. И, когда пес затих, стало слышно, как весла загребают воду. Андрей подошел к песчаному берегу. Ночь была безветренная, и вода казалась почти неподвижной. Андрей слушал и вглядывался и наконец увидел не лодку, а будто бы тень лодки и гребцов, сидевших на веслах, нет, не гребцов, а как будто бы тени гребцов. И так все кругом было тихо, и так все кругом было темно, как будто бы призраки на призрачной лодке плыли по призрачной воде. Андрей посмотрел на небо: небо было затянуто облаками. “Браконьеры, — подумал Андрей. — Все сходится. Узнали, что отца и матери нет, выбрали безлунную ночь, выключили мотор и ловят форель. Что делать?” Волошихинский рыбопункт — это семья Сизовых. Пусть нет отца и матери, но он-то, Андрей, — Сизов. Значит, на нем ответ, если браконьеры возьмут форель в заповедном заливе. Тихо пошел Андрей обратно к дому. Барбос ткнулся мордой ему в колени, показывая, что он здесь, и если от него что понадобится, то он готов выполнить. Андрей потрепал его по шее и дал этим понять, что Барбос сделал уже свое дело и может идти спать. Барбос завилял хвостом и, поняв, что его работа окончена, мирно залез в конуру. Андрей вошел в дом. Свет зажигать было нельзя. Браконьеры, наверное, знали, что взрослых нет, и считали, что дети спят. Если бы зажегся свет, они бы испугались и ушли. Наверное, у них на лодке был мотор, и пойди догони моторку на веслах. Тут надо быть осмотрительным и хитрым. В темноте Андрей подошел к кровати, где спала Клаша, и начал трясти ее за плечо. Клаша засопела, перевернулась на другой бок, тесней прижала жирафа. — Клаша, Клаша, — говорил Андрей полушепотом. — Проснись, Клаша. Он мог бы говорить и громко, сказанное в доме не могли услышать в заповедном заливе, но он был весь в атмосфере тайны. Тайна требует тишины, и он не мог эту тишину нарушить. Клаша проснулась, и Андрей хоть и не видел, но знал, что у нее очень испуганные глаза. — Что такое? — спросила Клаша. — Это ты, Андрюша? — Слушай меня, — сказал Андрей. — Браконьеры рыбачат в заливе. Я пойду их ловить. А если меня до утра не будет, ты садись на Стрелу и скачи в поселок. Ты попроси на почте, чтобы тебя соединили с рыбнадзором. В телефон скажи, что ты Клаша Сизова, и объясни, что в заливе браконьеры. Брат, мол, пошел их ловить и пропал. — А как я на нее влезу? — спросила Клаша. — На Стрелу-то? — Андрей задумался. — Ты подведи ее к козлам, мешок положи на спину, а сама влезь сперва на козлы, а оттуда уж на Стрелу. — А я дорогу не знаю, — сказала Клаша. — Стрела знает, — сказал Андрей. — Ты ее только иногда ногами по бокам ударяй, она довезет до почты. Поняла? — Ну поняла, — сказала Клаша. — Боюсь я, Андрей. Маленькая я, не доеду. — Какая же ты маленькая? — сказал Андрей. — Ты девчонка с соображением, тут неважно, сколько тебе лет, поняла? — Поняла, — сказала Клаша, потом вздохнула и добавила: — Боюсь, я, Андрей. — Дурочка, — сказал Андрей. — Думаешь, я не боюсь? Я ужас как боюсь! — А до утра мне что делать? — спросила Клаша. — А ты спи, — сказал Андрей, — только запомни, что надо утром рано проснуться. — Нет, — сказала Клаша, — я не буду спать, я лучше так посижу. — Ладно, — сказал Андрей. — Только лампу не зажигай. А то они увидят, убегут. Лови их там с их мотором! — Ладно, — сказала Клаша. И по голосу ее было ясно, что вовсе не ладно, что ей до смерти страшно, и что сидеть ночь в темноте — это очень трудно, даже если рядом жираф, и что она боится, как бы с братом чего не случилось, и что не сумеет влезть на Стрелу и совсем не уверена, что Стрела довезет ее именно к почте, и что не умеет говорить по телефону с рыбнадзором, и вообще, что все очень плохо, просто-таки удивительно плохо. — Ты делай все так, как я говорю, — сказал Андрей, сунул в карман спички, взял фонарь “летучую мышь” и вышел из дома. Барбос все-таки встретил его. “Мало ли, — думал, — может, все же понадоблюсь”. Но Андрей потрепал его снова по шее, чтобы объяснить, что все благополучно, взял весла, прислоненные к дому, и пошел к лодке. И когда он дошел до лодки, то вдруг подумал, что ведь мог же он не услышать, как подвывает Барбос, мог же он не проснуться и что он тоже маленький и не обязан бороться с браконьерами. Ну выловят они десять форелей, останется-то больше, народятся новые, вырастут. И еще он подумал: плохо, что Клашу оставил дома. Она-то совсем маленькая, ей-то там каково в темноте. Но, думая это, Андрей все-таки столкнул с берега лодку, приладил весла к уключинам, несколько раз тронул веслами дно, а потом дна уже не было, и он, стараясь, чтобы уключины не скрипели, чтоб вода под веслами не плескала, повел лодку в темноту, к заповедному заливу.Глава третья ЧЕТЫРЕ ДРУГА
Заведующий горкомхозом Андрей Петрович Садиков был страстный рыболов. Каждое воскресенье он с утра отправлялся на целый день на озеро. В этом не было ничего дурного. Все могли видеть, как он садится в лодку с удочкой в руке, сидит неподвижно целыми часами, изредка только взмахивая удилищем. Иногда на крючке болталась рыбешка, иногда ничего не болталось, и снова горбилась в лодке одинокая его фигура. Все могли видеть, что Садиков занимается вполне разрешенным видом рыбной ловли, проводит свой отдых культурно и приятно на свежем воздухе, на воде, ничем не нарушая законов. Бывали удачи: иногда удавалось взять сазана, рыбу деликатесную, вкусную, иногда к вечеру на дне лодки лежала только мелочь, но обычно все-таки на уху хватало. Ели уху торжественно, всей семьей, похваливали, слушали рассказы главы семьи о том, как он подсек карпа, как чуть было не взял сазана, да только тот в самую последнюю минуту ушел. И в понедельник на работе Садиков рассказывал сотрудникам события своего рыболовного дня, привирал, как все рыболовы, но сотрудники знали, что он привирает, и верили только наполовину. Так что, в общем, получалась почти что правда. Работник Андрей Петрович был добросовестный, и хоть звезд с неба не хватал, но зато на него можно было положиться: все выполнит, не подведет. И никто не знал, какие бурные страсти, какие дерзкие мечты таились под скромной внешностью этого лысоватого сутулого аккуратного человека. А страсти в нем кипели, мечтания туманили голову. Он мечтал нарушить закон, обвести рыбнадзор вокруг пальца, темной ночью закинуть запрещенную сеть и вытащить ее, полную охраняемою законом рыбой. Он мечтал о том, чтобы, внимательно вслушиваясь в тишину — не стучит ли мотор сторожевого катера, — вытаскивать сеть, тихо перешептываться с верными товарищами, пристать к берегу в пустынном месте и оттуда утащить в мешке домой свою долю добычи и сделать жене строгое предупреждение, чтобы она не проболталась, и тайно от детей мариновать, жарить, солить и коптить форель. Он мечтал об этом долго, упорно, но, по чести сказать, это были одни мечтания. Садиков от природы был трусоват, очень высоко ставил свою должность, и, когда представлял себе, как его, заведующего горкомхозом, пойманного с поличным, ведут в милицию, Андрей Петрович только крутил головой да вздыхал. Хочется, но больно рисковое дело. Поймают, и вся жизнь прахом пойдет. Были у него друзья. Самых близких было три друга: один- бухгалтер педтехникума, Степан Тимофеевич Мазин, другой — заведующий автобазой, Валентин Андреевич Коломийцев, третий — заведующий хозчастью конного завода, Василий Васильевич Андронов. Все это люди были солидные, семейные, уважаемые на работе и, конечно, страстные рыболовы. У каждого из них была лодка. А заведующий автобазой Валентин Андреевич, призаняв у людей немного денег, купил даже по случаю подвесной мотор. И хоть мотор обошелся недорого, но работал хорошо. Трое друзей завидовали Валентину Андреевичу, потому что, конечно, с мотором рыбачить было куда лучше и он привозил теперь больше рыбы, чем остальные, но зависть не нарушала дружбу. Все четверо нуждались друг в друге. Рассказывать жене и детям о своих рыболовных удачах и неудачах было не очень интересно. Что жены и дети могли понять в волнениях и азарте ловли? А вот друг другу рассказывать было интересно. Значительность истории поимки каждой рыбы всегда полностью оценивалась слушателями. Тут уж ни одна подробность не пропадала, и все понимали важность происшедших событий. Однажды четыре друга сообразили, что, чем каждому варить уху в воскресенье у себя дома и рассказывать про события дня ничего не понимающим семьям, гораздо лучше, сложив общий улов, варить общую уху у каждого по очереди, обмениваясь впечатлениями прошедшего воскресного дня. Традиция эта укрепилась. Теперь каждое воскресенье уха варилась в большом котле и рыболовы, взволнованные и оживленные, рассказывали друг другу потрясающие истории о том, как у одного сорвался сазан, а другой ловко подсек карпа, который чуть было не ушел. Обычно женам и детям скоро надоедало слушать эти истории, глубокий смысл которых был им совершенно не понятен, и они, доев уху, расходились. Дети шли играть на улицу, жены отправлялись по домам или, уйдя в другую комнату, разговаривали на свои женские темы, а рыболовы, пропуская по стаканчику, долго еще продолжали разговор. Им было только лучше оттого, что они одни, что все понимают друг друга, что всем одинаково интересно слушать и говорить. Иногда начинали рассказывать истории про браконьеров. Это были разные истории: в одних случаях браконьеров ловили, штрафовали, позорили или даже отдавали под суд; в других случаях это были истории о том, как лодки, чуть не доверху груженные незаконно выловленной форелью, обводили рыбнадзор вокруг пальца и скрывались неизвестно куда, благополучно увозя добычу. Истории второго рода нравились больше. Когда рассказывалась такая история, у всех горели глаза, потому что в глубине души каждый мечтал быть на месте этих рыцарей удачи, смельчаков, вытаскивающих полные сети, смело скрывающихся от погони. Они не признавались в этом друг другу, они просто с увлечением рассказывали, слушали, и хотя обычно тот, кто рассказывал, вставлял несколько слов осуждения по адресу браконьеров, но это были холодные, только для формы сказанные слова, а во всем тоне рассказов слышалось неприкрытое восхищение перед этими ловкими людьми, острая зависть перед их сказочными уловами. И вот однажды в воскресный вечер зашел разговор о недавно происшедшем случае, когда сторожевой катер погнался за неизвестной моторкой, доверху груженной рыбой, а моторка ушла, и никого не сыскали, и даже предположить не могут, кто это был. К этому времени жены и дети ушли и четыре друга остались одни. Когда разговор про эту удивительную историю был как будто закончен, Степан Тимофеевич сказал, не глядя на своих друзей: — Между прочим, мы же знаем только те случаи, когда браконьеров замечали, обнаруживали и то не могли поймать. Но ведь, конечно, по теории вероятностей, во много раз больше случаев, когда никто их не замечал. Просто они мирно вытаскивали сети и самым спокойным образом уходили. Все четверо долго молчали. — Между прочим, — сказал наконец Василий Васильевич, — говорят, что дачники легко покупают с рук и форель и сазанов, только, конечно, секретно. Те, которым браконьеры верят. Все четверо сидели, опустив глаза. Разговор как будто никого не интересовал. Беседуют просто так, чтобы провести время, и все. И опять долго молчали, потом Валентин Андреевич, как бы переводя разговор на другую тему, рассказал, что Александру Степановну, с Волошихинского рыбопункта, увезли в город, в больницу. Говорят, у нее аппендицит, придется делать операцию. Дело не очень долгое, а все-таки недели полторы, а то и две пролежит. — Не повезло семье, — сказал Андрей Петрович. — Муж, Павел Андреевич, в командировке, а жена заболела. На рыбопункте одни дети остались: мальчишка — Андрей, и Клаша — та совсем маленькая. Рыбакам запретили сдавать на Волошнхинский рыбопункт рыбу. И правильно, что одни дети могут! По-прежнему псе не смотрели друг на друга и делали вид, что разговор никого не интересует, а говорят просто так, чтобы провести время. — Я как-то был на Волошихинском рыбопункте, — сказал равнодушным голосом Василий Васильевич Андронов. — Нам разрешили для рабочей столовой прямо там забрать тонну свежей рыбы. Я сам поехал с шофером проверить, чтобы не подсунули какую-нибудь дрянь. Интересно мы поговорили с Сизовым — это заведующий. Он мне рассказывал: у них там рядом заповедный залив, форели, говорит, там тьма-тьмущая! Прямо, говорит, слышно, как плещется. Я, говорит, каждую ночь раза два—три выхожу слушаю, не промышляют ли браконьеры. — А-яй-яй, — печально вздохнул Валентин Андреевич, — подумать только, такой залив и совсем без охраны. Ну что дети малые: во-первых, спят, наверное, всю ночь как убитые, а если случайно и проснутся, что они могут сделать? Там небось за час можно килограммов двести, а то и триста добыть. Если даже парень что и заметит, что же он, один на четырех мужчин пойдет? До поселка ему добираться долго. Кобылеика еле ноги волочит, часа два небось будет трусить. Пока людей разбудит, пока обратно — пять-то часов верных пройдет. К этому времени уже и рыба будет выгружена и спрятана, и лодка привязана, где ей положено, и рыбаки будут дома спать. Все сделали вид, что не обратили внимания, что Валентин Андреевич говорил почему-то именно о четырех браконьерах, хотя их могло быть и двое, и трое, и пятеро. Все опять долго молчали. Андрей Петрович, как мы уже говорили, был трусоват и от природы осторожен и нерешителен. Но в человеке, даже самом трусливом и нерешительном, иногда пробуждается несвойственное ему мужество. — Знаете что, — сказал он твердо, — давайте говорить прямо. Трое его друзей повернулись к нему и смотрели на него в упор. Каждый надеялся, что Андрей Петрович внесет предложение, принять которое они мечтали все, но начать разговор о котором каждый из них боялся. К сожалению, запас решимости у Андрея Петровича на этих словах иссяк. Он молчал. Друзья долго ждали, что он продолжит свою интересную мысль, и наконец Степан Тимофеевич, не дождавшись, спросил приглушенным взволнованным голосом: — Что вы сказали, Андрей Петрович? О чем говорить прямо? — Я хотел сказать, — ответил Андрей Петрович, — что надо прямо говорить: плохо еще у нас работает рыбнадзор, много еще у нас в этом деле непорядков. Все закивали головой и начали приводить примеры, когда рыбнадзор допускал ошибки и промахи, и все сошлись на том, что охрана рыбных богатств озера налажена еще несовершенно. Поговорив об этом, стали расходиться. А надо сказать, что уху в это воскресенье варили в доме Василия Васильевича. Василий Васильевич проводил друзей, закрыл за ними дверь и вернулся в комнату. Жена и дети уже спали в соседней комнате. Василий Васильевич посидел, покачал головой, повздыхал и уж совсем было собрался идти ложиться, как вдруг в окно тихо постучали. Василий Васильевич вздрогнул, подошел к окну и отдернул занавеску. С другой стороны к стеклу прижалось лицо Андрея Петровича. Тот подавал какие-то знаки, которые понять было невозможно. Василий Васильевич открыл окно и спросил почему-то взволнованным шепотом: — Что случилось, Андрей Петрович? — Я, кажется, — тоже шепотом ответил Андрей Петрович, — забыл у вас портсигар, а впрочем, все это ерунда, поговорить надо. — Заходите, — шепнул Василий Васильевич. — Нет, лучше вы выходите во двор, — шепнул Андрей Петрович, — и свет в комнате погасите, чтобы видно не было. Василий Васильевич, чувствуя, что он вступает в какой-то новый мир, совсем не похожий на тот спокойный, привычный, в котором он прожил всю жизнь, в мир, полный ужасных тайн и неслыханных приключений, погасил свет и, ступая на цыпочки, вышел во двор. Узкий серп луны тускло освещал курятник, собачью конуру, колодезный сруб. — Видите? — спросил Андрей Петрович шепотом и показал на луну. — А что там? — спросил Василий Васильевич. — Серп повернут налево. — Ну и что? — А то, что в субботу будет ночь безлунная. — Ну и что? — спросил Василий Васильевич. — Бросьте вы! — раздраженно сказал Садиков. — Довольно морочить друг другу голову. Мы с вами одни, нас никто не слышит. Если один проболтается, другой может отречься. — Вы о чем? — спросил Василий Васильевич, замирая от сладкого ужаса. — Двести килограммов форели! — сказал с пафосом Садиков. — А может, и триста, и никто не охраняет, кроме двух ребят. Вы представляете себе: на каждого семьдесят пять килограммов форели! Это же настоящая ловля. Будет о чем вспоминать всю жизнь! А тут сиди с удочкой целый день, жди, когда клюнет какой-нибудь карп граммов на триста. Лодка есть, мотор есть, честно скажу, знаю, что у вас и сети есть. Знаю, что в прошлом году вы их во Фрунзе купили. Мы все друг друга знаем давно, да и кроме того, кто же донесет, если все одинаково виноваты? Решайтесь. Если решаетесь, я наедине поговорю с Валентином Андреевичем, а вы — наедине со Степаном Тимофеевичем. И если согласятся все, то с богом! А согласятся обязательно. Я смотрел сегодня, у всех одинаково горели глаза. Тут хищники браконьеры сотни тонн вылавливают, дачникам продают, состояния наживают, а мы один только раз для себя, не на продажу, а как спортсмены-любители. И главное, как обстоятельства складываются: никто не охраняет. Форель, можно сказать, сама в руки идет. Это же надо дураком быть, чтобы пропустить такой случай! Решайтесь, Василий Васильевич. — А мне со Степаном Тимофеевичем говорить? — прошептал Василий Васильевич. — Да, и прямо сейчас идите. Он, наверное, еще не успел лечь. Вызовите его во двор и поговорите. А я Валентина Андреевича вызову. А потом мы с вами встретимся там, на углу, если они не согласятся — вдвоем, а если согласятся, то все вчетвером. Ну говорите: да или нет? — Иду, — прошептал Василий Васильевич. — Но помните: если кто-нибудь из них не согласится, мы с вами не разговаривали, вы не возвращались, и вообще ничего не было. — Даю слово, — сказал Садиков. Через час милиционер, патрулировавший по улице, увидел, что на углу стоят и шепчутся четыре человека. Так как время было позднее, милиционер заподозрил неладное и, подойдя, осветил разговаривающих электрическим фонариком. Но оказалось, что все благополучно. Беседовали вполне почтенные и приличные люди: заведующий горкомхозом, бухгалтер педтехникума, заведующий автобазой и заведующий хозчастью конного завода. Милиционер извинился перед ними и пошел дальше, а четверо, дождавшись, когда он завернул за угол, продолжали беседу.Глава четвертая ЗАГОВОРЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ
Следующие дни были полны совершенно невероятных переживаний. Четырем друзьям казалось, что весь аппарат горкомхоза, весь педтехникум, вся автобаза и весь конезавод уже догадались об их преступном, злодейском замысле. Что личный состав всех учреждений просто хочет поймать их с поличным и поэтому делает вид, будто бы ничего не знает. Всем четверым снились страшные сны. Их прорабатывали на общих собраниях, подчиненные смело выступали с резкой критикой по поводу нарушения начальниками советских законов. Вообще было очень страшно. Поселок был небольшой. Хотя он и назывался городом, но, по чести сказать, не заслуживал этого названия. Четверо встречали друг друга по нескольку раз в день. Встречаясь, они отводили глаза в сторону, но потом пугались, что прохожие заметят, обратят внимание на то, что друзья не здороваются, предположат ссору, а это даст пищу для разных подозрений, спохватывались, радостно кланялись друг другу и улыбались. Они боялись подозрений своих сослуживцев, подчиненных, даже просто прохожих, но больше всего они боялись друг друга. Каждый не знал, что придет в голову любому из трех его друзей. Может быть, друг захочет сделать карьеру, заслужить славу высокопринципиального человека, пойдет и сообщит о заговоре в милицию. По ночам они плохо спали, тяжело вздыхая, бормоча и ворочаясь во сне. Техника конспирации была продумана до мелочей. Итальянские карбонарии могли бы позавидовать великолепной технике, с которой сохранялась тайна четырех друзей. Они выходили на закате прогуляться по берегу озера и совершенно случайно встречались, и долго и громко беседовали на совершенно легальные темы, громко смеясь, делая вид, что кто-то из них сказал что-то очень смешное, и, убедившись в том, что все поверили в случайность встречи, в безобидность беседы, вдруг подозрительно оглядывались вокруг и начинали шептаться. Даже детям, игравшим на берегу, становилось ясно, что они говорят на секретные темы и что у них есть какая-то тайна, оглашения которой они боятся. Но четырем друзьям это не приходило в голову. Они были убеждены, что всех ввели в заблуждение и теперь можно шептаться спокойно. А тем для тайного разговора шепотом было много. Конечно, ни один из четырех не говорил, что боится предательства кого-нибудь из трех друзей, но так как боялись все четверо, то все понимали друг друга. Была разработана сложная система совершения преступления, при которой риск предательства был сведен до минимума. Решено было, что все выезжают порознь, каждый на своей лодке, все пристают к маленькому островку, в сущности говоря, к голому камню на огромной шири озера. Все брали с собой удочки: смотрите, любуйтесь, мы выехали на разрешенный законом лов. Таким образом, если кто-нибудь из них даже сообщил бы рыбнадзору или милиции о готовящемся преступлении, то никаких улик не оказалось бы. Когда на островке они убедятся, что никакой опасности нет, тогда, оставив три лодки привязанными к колышкам, все пересядут в четвертую, моторную, и направятся в заповедный залив. Было много споров и разговоров о том, как забрасывать сеть, как вытаскивать, как делить потом рыбу, как ее взвешивать, как ее отвозить домой, что говорить дома. Все четверо обычно выезжали на рассвете в воскресенье, а тут надо было выехать с вечера в субботу. Как это объяснить жене? Жены знакомы друг с другом, не покажется ли им странным, что все четверо вдруг одновременно нарушают традицию. Решено было сообщить, что Андрей Петрович дал всем троим друзьям почитать недавно вышедшую брошюру, в которой сказано, что лучше выезжать на лов с вечера. Поэтому все четверо и решили переменить режим. С рыбой тоже было все сочинено очень умно. Решили ее всю свалить в заброшенный сарай, ключ от которого находился у заведующего горкомхозом. Весы должен был накануне туда принести Василий Васильевич, в распоряжении которого находились весы для взвешивания новорожденных жеребят на конезаводе. Это был дьявольский план, разработанный до мелочей. Величайшие бандиты мира, американские гангстеры, итальянские браво могли бы позавидовать блистательной разработке плана преступления. И все-таки нервная лихорадка трепала всех четырех. Ложась в постель, каждый ясно себе представлял, что в эту минуту трое его товарищей, раскаявшись, ощутив свою вину перед государством и решив выйти сухими из воды, сидят. у дежурного по милиции и, глядя на пего честными, искренними глазами, рассказывают подробности плана, объясняя, что они, трое, только по слабости склонились к преступлению, а четвертый, тот, которого здесь нет, — настоящий преступник, твердо решившийся нарушить закон. Каждый из четырех кричал во сне и, проснувшись, в ужасе спрашивал жену, слышала ли она, что он кричал и какие произносил слова. Жены перепугались. Они тоже тайно собирались и совещались о причинах, которые привели их мужей в такое явно ненормальное состояние. Они боялись сказать об этом кому-нибудь, потому что каждая предвидела, что ее мужа могут уволить с работы как психически ненормального. Одна только жена Андрея Петровича Садикова тайно от остальных жен пошла к районному психиатру и, на всякий случай приложив ко рту ладонь, тихим голосом рассказала ему о том, что с ее мужем происходит нечто непонятное. В результате в пятницу, как раз накануне решающих событий, Андрей Петрович, вернувшись домой, застал у себя районного психиатра, с которым был еле знаком и который фальшивым голосом объяснил, что он проходил мимо и решил зайти к своему дорогому другу Андрею Петровичу, а потом таким же фальшивым голосом начал спрашивать, какой нынче год, и какое число, и сколько будет четырнадцать, помноженное на восемьдесят пять. Андрей Петрович перепугался ужасно. Во-первых, он действительно не мог перемножить эти числа, но не потому, что был сумасшедшим, а просто потому, что был слаб в математике, так же как и по всех других областях науки. Все-таки, вспомнив школьные уроки, с карандашом и бумажкой он вывел правильный итог, а насчет числа и года ответил совершенно точно, убедив психиатра, что сажать в сумасшедший дом его еще рано. Когда психиатр ушел, он обрушился на жену и пригрозил ей разводом. Вообще весь город был взволнован. Четыре почтенных, уважаемых человека загадочно перемигивались, шептались, передавали друг другу какие-то мешки, завернутые в старые газеты, и вообще вели себя так странно, что было ясно: что-то произошло. Пошли слухи. Одни говорили, что на конезаводе вскрыты злоупотребления и директора должны снять и отдать под суд, но почему-то пока это держится в секрете, и знают об этом только четыре человека. Другие утверждали, что все дело в автобазе, где продавали на сторону бензин, и эти четверо вскрыли преступные действия, сообщили об этом в центральные органы и теперь ждут ответа. Одна сплетница утверждала, что все это вздор и что на самом деле все четверо решили одновременно бросить свои семьи и уехать в другой город, где их ждут молодые красавицы, с которыми они будут кутить по ресторанам. Все это была такая чепуха и такой очевидный вздор, что ни милиции, ни рыбнадзору, где сидели серьезные, думающие о своем деле люди, не приходили в голову никакие подозрения. Таким образом, несмотря на крайне странное поведение всех четырех, подлинный секрет остался сохраненным и все клонилось к тому, чтобы задуманное преступление было не раскрыто и не наказано. А суббота приближалась. Мешки для будущего лова были подготовлены и сложены в условном месте. В одном из мешков была спрятана сеть. Мотор был проверен, лодки тщательно осмотрены. Жены примирились с тем, что мужья уйдут на ловлю в ночь с субботы на воскресенье. Детям была обещана замечательная уха, и было условлено, что у Василия Васильевича будут варить уху не вечером, как обычно, а на обед. На песчаном берегу озера в десять часов вечера собрались четыре заговорщика. Все они делали вид, что не знают друг друга и совершенно друг с другом не знакомы. Каждый из них столкнул с берега свою лодку, каждый из них, топая кирзовыми сапогами, побежал по воде и вскочил в лодку. Трое вставили уключины и налегли на весла. Четвертый раз пять заводил шнуром мотор, и те, кто гребли веслами, обогнали его, но на шестой раз мотор неожиданно заработал, и он обогнал всех трех. Островок, на котором условились встретиться, был крошечный. Он состоял из острого камня метра два высотой и полосы песка метров пять длиной и метра полтора шириной. Валентин Андреевич, владелец моторной лодки, пристал первый, вытащил лодку на песок и начал бояться. Почему-то остальных лодок не было видно. Может быть, они поехали в рыбнадзор, может быть, сейчас придет сторожевой катер, может быть, сейчас его спросят: “Ну, а зачем же у вас мешки, а почему у вас сеть?” Да мало ли что могут спросить у человека, собирающегося нарушить закон! Он вздрогнул, когда в песок врезалась лодка Андрея Петровича. Они не стали разговаривать. Оба сидели на камне, и оба боялись. Потом в темноте раздалось негромкое ржание. Это ржал Василий Васильевич, который, как известно, работал на конезаводе, знал, как лошади ржут, и хотел дать понять товарищам, что прибыл он. Потом в темноте раздался голос, сказавший загадочную фразу: — Бросаю персидскую княжну в набежавшую волну. Это Степан Тимофеевич Мазин подавал сигнал, что он прибыл на место. Каждый привез с собой колышек, каждый вколотил его в песок. Потом вчетвером возле острого камня они устроили короткое совещание. Все разговаривали приглушенными голосами. Выяснилось, что все подготовлено: и сеть, и мешки, и ключ от сарая. Тогда тихо погрузились в моторную лодку, взяли пару весел — на моторе нельзя было подходить к самому заливу. Хоть дети и дети, а все же могли услышать. Моторная лодка, негромко фырча, понеслась по озеру. Надо сказать, что теперь наконец четыре товарища перестали подозревать друг друга. Теперь виновниками были они все и никто из них не мог предать остальных. И все-таки было страшно. Озеро молчало, луны не было, вода была черной, черное было небо, и, что таится в этой темноте, предугадать никто не мог. Им виделись катера, которые гонятся за ними, люди, охраняющие богатства озера, с пистолетами в руках. Они думали, как спрятаться, укрыться, защититься от них. Им не виделся только маленький одинокий мальчик, с трудом загребающий веслами, безоружный и страшно боящийся четырех взрослых мужчин. Этой опасности они не предвидели, а если бы и предвидели, она не показалась бы им страшной, хотя это и была единственная реальная, настоящая опасность. Валентин Андреевич сидел на корме и управлял мотором. Остальные давали советы. Снежные вершины светились даже в этой глубокой темноте. По ним они определяли направление. Не доходя километра до залива, они выключили мотор. Андрей Петрович сел на весла, Валентин Андреевич — на руль. Всем стало спокойно — в ночной тишине мотор мог бы быть слышен издалека. Негромко плескали весла, негромко поскрипывали уключины, но кругом было так тихо, что казалось, даже эти негромкие звуки разносятся чуть ли не по всей шири озера. Друзья снова начали волноваться. — Неужели вы не можете тише грести! — сказал возмущенно Степан Тимофеевич. — Уключины надо было смазать, — прошипел Василий Васильевич. — Об этом должен был подумать хозяин лодки, — парировал Садиков, налегая на весла. И хозяин лодки, Валентин Андреевич, заметил спокойно и нравоучительно: — Если мы будем ругаться и спорить, нас будет на три километра слышно. Друзья замолчали. Снова негромко плескали весла, негромко поскрипывали уключины и громко стучали сердца у всех четырех. — Левее, тут рыбопункт, — прошептал Андрей Петрович. Им послышался негромкий собачий вой. — Собака услышала, — трепеща от ужаса, сказал Василий Васильевич. — Ерунда, — сказал Валентин Андреевич. — Просто, наверное, блохи ее кусают. Почти в полной темноте они все-таки различили берега заповедного залива и верно направили лодку. Лодка вошла в залив, прошла еще метров сорок и остановилась. Четыре рыбака начали закидывать сеть. Они все говорили шепотом. Слышались отдельные голоса, не имевшие определенного смысла и выражавшие только чувства участников этого безумно смелого предприятия: — Давай, давай. Снижай медленнее. Отпускай. Кто сядет на весла? Валентин Андреевич сказал: — Я ведаю мотором, на весла пусть сядет кто-нибудь другой. — Хорошо, — сказал патетически Василий Васильевич. — Я сяду на весла. Он сел на весла. Валентин Андреевич по-прежнему сидел на руле. Лодка плавно двинулась, неторопливо волоча за собою сеть по заповедному заливу, в котором действительно было много форели. И сеть действительно забирала одну за другой великолепных крупных рыб, и сеть тяжелела, и лодка медленно шла, и кругом было тихо-тихо, и только слышался монотонный тихий плеск воды, в которую опускались и из которой выходили весла. — Странно, — сказал Андрей Петрович. — Неужели тут такое сильное эхо? — Да, — сказал Василий Васильевич, — мне тоже кажется, что шум весел отдается необыкновенно отчетливо. — Подождите, — сказал Андрей Петрович, — перестаньте грести. Давайте прислушаемся. Василий Васильевич перестал грести, и все четверо стали вслушиваться в тишину. Как ни странно, но несмотря на то, что Василий Васильевич уже не греб, в тишине, в мертвой ночной тишине слышался звук весел. — Странно, — сказал Степан Тимофеевич. — Если мы не гребем, так кто же гребет? Почти одновременно они различили неясный силуэт лодки, почувствовали толчок, когда борт чужой лодки столкнулся с бортом их лодки, и услышали очень взволнованный и, очевидно, детский голос: — Объявляю вас задержанными как браконьеров! — Это кто? Андрей Сизов с рыбопункта? — спросил Василий Васильевич тонким женским голосом, чтобы быть неузнанным. — Да, это Андрей Сизов с рыбопункта, — ответил мальчишеский голос. — Понимаешь ли ты, что нас четверо взрослых мужчин, а ты мальчишка? — спросил Степан Тимофеевич Мазин. — Да, понимаю, — ответил мальчишеский голос.Глава пятая ЧЕТВЕРО НА ОДНОГО
Андрей очень боялся. Он понимал, что затеял предприятие почти безнадежное. В самом деле, что может сделать он, мальчишка, с несколькими взрослыми мужчинами? Он слышал, что у настоящих браконьеров есть и ружья, заряженные пулями, которыми можно убить медведя, а у некоторых — и пистолеты, и что, когда дело касается сохранения тайны, они отстреливаются и не останавливаются перед убийством. По правде сказать, очень ему хотелось лежать в постели и слушать, как мирно посапывает Клаша, и не обращать внимания на то, что подвывает Барбос. Что же заставило его бросить постель, дом, и маленькую сестру, и тепло, и покой, и безопасность; что же заставило его в темную, безлунную ночь выйти из дома и, напрягая все силы, спихнуть лодку в воду и торопиться в залив, где были неведомые враги, наверное, сильные, наверное, жестокие и беспощадные? Трудно сказать. Есть в человеческой душе чувства, которые объяснить трудно, но которые живут и определяют поведение человека, которые называются благородством, честностью, мужеством и без которых, наверное, человек мало чем отличался бы от коровы или свиньи. И чувства эти действуют на человека и в старости, и в юности, и в восемьдесят лет, и в двенадцать лет. Так или иначе, лодка шла в темноте по озеру, и Андрей, щуря глаза, вглядывался вперед и старался, чтобы весла не плескали. По как он ни всматривался в темноту, ничего не было видно. Он напряженно вслушивался в тишину и долго тоже ничего не слышал, а потом услышал, как тихо плещет вода под веслами, и понял, что браконьеры здесь, и когда всмотрелся по направлению звука, то увидел неясный силуэт лодки и людей, которые что-то делали, шепотом переговариваясь, и понял, что они опускают сеть. И тут Андрей совсем испугался. При чем тут ружья, пули, пистолеты! Достаточно одного удара веслом, чтобы он, Андрей, свалился в воду, и лодка с незаконно добытой рыбой ушла. Потом ищи, доказывай, отчего погиб молодой Сизов. Может быть, он даже браконьерствовал и сам погиб в результате несчастного случая. Тогда ляжет позор на семью Сизовых, и несчастье, гибель сына, будет вызывать не сочувствие, а осуждение. Андрей начал грести назад и уже твердо решил, что вернется сейчас домой, ляжет в постель, укроется одеялом, запрет двери на все запоры, и иди доберись до него. Тем более он же мальчик, он не обязан ловить браконьеров. Его дело нехитрое: учись, получай пятерки или в крайнем случае — четверки. Когда вырастешь — с тебя спросят, а сейчас… как же можно с ребенка спрашивать! Все это было так убедительно, что Андрей отошел от туманного силуэта лодки назад метров на пятьдесят, а потом вдруг остановился и энергичными гребками послал лодку вперед, потому что вдруг с огромной силою взыграло в нем то удивительное чувство, которое отличает человека от коровы или свиньи. В это время люди, бывшие в той лодке, которая еле только проглядывалась в темноте, все продолжали шептаться и действовать, и Андрей, глаза которого к темноте уже привыкли, понял, что они вытаскивают сеть, и разглядел, что их было четверо, и стал еще сильнее грести, потому что подумал: “Вытащат они сеть, и рыба, может быть, задохнется, погибнет”. Он подвел свою лодку вплотную к браконьерской, ударился своим бортом об их борт и сказал тоном, уверенным и властным: “Объявляю вас задержанными как браконьеров!” Дальше был разговор, который мы уже изложили в предыдущей главе. С точки зрения логики, весь выигрыш был на стороне четырех взрослых мужчин. Их было четверо. И каждый из них был в десять раз сильнее маленького Андрея, который совсем недавно перестал увлекаться солдатиками, который совсем недавно запомнил, где в окончании “ться” надо ставить мягкий знак, а где не надо, который еще до сих пор путался в нехитрой теореме о том, что сумма углов треугольника обязательно равна двум прямым. Да, противники были гораздо сильнее его. Но, с другой стороны, были некоторые преимущества и у Андрея. Все-таки он говорил своим собственным голосом и открыто назвал имя свое и фамилию, а Василий Васильевич, человек ответственный и почтенный, говорил почему-то женским голосом да еще говорил неумело, так что за женщину принять его было никак не возможно, но зато было совершенно ясно, что он страшно испуган, растерян и не знает, что делать. Именно поэтому, вероятно, Андрей вдруг почувствовал, что он сильнее этих четырех мужчин. Крепко схватив рукою борт их лодки, он решительным голосом сказал: — А ну-ка, давайте проедем со мной в рыбнадзор. Четверо мужчин рассмеялись, потому что действительно с точки зрения логики это была совершеннейшая нелепость. Как это мальчишка, сопляк, школьник отведет четырех здоровых мужчин в рыбнадзор! И все-таки в смехе четырех здоровых мужчин звучала неуверенность. Положение создавалось очень странное. С одной стороны, любой из четырех мог свалить Андрея одним взмахом руки. С другой стороны, не могли же они утопить или убить ребенка. Люди они были маленькие и боязливые. На такое преступление, как браконьерство, они решились, и то, как мы знаем, с волнениями и колебаниями, но уж на убийство, конечно, никто из них пойти не мог. Они были все-таки люди почтенные, каждый из них заслужил некое общественное положение, которым очень дорожил, которым очень гордился. Кроме того, все они понимали, что если произойдет убийство, то все пойдет совсем по-другому. Тут уж приедут настоящие следователи, начнутся допросы, сличение показаний, тщательный анализ улик, и, конечно, эти опытные следователи докажут по десяткам мельчайших подробностей, которые им, четверым рядовым работникам, никогда в жизни не предусмотреть, факт злодейского убийства. Андрей Сизов был безоружен перед четырьмя взрослыми мужчинами, но, как ни странно, четверо здоровых, взрослых мужчин были тоже безоружны перед двенадцатилетним мальчиком. Положение действительно создалось нелепейшее. Разумеется, выход из этого нелепейшего положения нашли зрелые мужчины. Была короткая перекидка фразами. Еле слышным шепотом, намеками, которых Андрей не мог понять, словами, которых он не мог расслышать, четыре соучастника условились о дальнейшем развитии преступных действий. Следует отметить, что руководящая роль принадлежала в этом Василию Васильевичу. Он хотя и говорил женским голосом, чем несколько снизил героический образ вожака, но все-таки в его душе таилась дерзость и смелость, не свойственные всем остальным. Четверо здоровых мужчин, тихо перешептываясь, взяли Андрея за руки и перетащили в свою лодку. Андрей закричал “караул”, но озеро было очень большое, и район Волошихинского рыбопункта населен был очень мало. Отчаянный вопль попавшего в плен Сизова услышал только Барбос, который в ответ завыл печально и безнадежно,Стрела, отозвавшаяся ржанием, смысл которого понять было нельзя, да Клаша, которая крепко прижимала к груди жирафа и вскочила, трясясь от волнения, но быстро успокоилась, решив, что ей это послышалось. Второго крика не было. Андрей Петрович зажал своему тезке рукою рот, и четверо преступников начали обсуждать, что делать дальше. — Связать! — сказал Валентин Андреевич Коломийцев, который, как владелец мотора, чувствовал, что на него падает большая доля ответственности. Началась суетня. В темноте, отрывая веревки, никак не могли найти узлов, а если и находили, то не могли их распутать. Кто-то сказал “Нож!” — кто-то вытащил нож. В результате долгой и бестолковой суеты добыли кусок веревки. Никто не знал, как надо связывать. Все помнили по приключенческим романам, что человека в таких случаях связывают, но как это делается, никто толком не знал. Во-первых, все четверо читали мало, во-вторых, невнимательно, потому что думали о служебных делах. Да и авторы приключенческих романов мало занимались этими подробностями, очень существенными в практической жизни. Андрей читал больше, чем четверо его противников. Поэтому он помнил, что связанные жертвы напрягают мышцы, чтобы потом ослабить их и постепенно развязать узлы. Наверное, минут двадцать тянулась эта возня, но наконец Андрей был обвязан веревками, примерно так, как бывает закутан пеленками полуторамесячный ребенок. — Кляп! — сдавленным голосом сказал заведующий горкомхозом. Все помнили, что обезоруженному и связанному противнику положено засовывать в рот кляп, но, во-первых, никто не знал, что такое, собственно, кляп, потому что авторы приключенческих романов почему-то тоже опускают объяснения по этому поводу, а во-вторых, не было никакого подходящего материала. В конце концов, после споров и переругиваний, Степан Тимофеевич Мазин вытащил косынку, которой он обычно повязывал голову во время рыбной ловли, чтобы лысину не напекло солнце, и этой косынкой Андрею завязали рот. Теперь можно было считать, что противник окончательно побежден и обезврежен. Но, как это ни странно, положение от этого не улучшилось. Ну обезврежен — ладно. А дальше что делать? Противник лежит беспомощный на дне лодки. Победители могут продолжать свою деятельность, они вытащат сеть, выгрузят рыбу, отойдя от залива на веслах, запустят мотор, придут в условное место, где есть запертый сарай и приготовленные весы. Но мальчишка-то будет все равно с ними. Не могут же они всю жизнь держать его связанным. Потом его надо кормить. Наконец, раньше или позже его хватятся и начнут искать. Вообще получалась какая-то ерунда. Надо сказать, что Андрей в это время испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, ему было необыкновенно интересно оказаться как раз в том положении, которое постоянно описывается в приключенческих романах, но никогда не случается в жизни, как подсказывал ему пусть небольшой, но хорошо усвоенный опыт. С другой стороны, ему было все-таки очень страшно. Он понимал, конечно, что его противники растерялись и сами не знают, что делать, но кто знает, что им придет в голову. В конце концов, нож у них есть, он же слышал разговор о ноже и понимал, что веревку отрезали ножом. Удивительно неприятно быть зарезанным, как поросенок. Наконец, с третьей стороны, ему было просто очень неудобно лежать. Было трудно дышать. Косынка пахла сырой рыбой, и это было противно, веревки натирали кожу. Хотелось подвигаться, а это было невозможно. И в то же время Андрею нравилось то, что он, как настоящий мужчина, пошел защищать государственное добро и хотя пока что многого еще не добился, но доставил преступникам немало неприятностей. Преступники сидели на корме лодки и, близко склонив головы друг к другу, разговаривали. — Надо положить его связанного в его собственную лодку и лодку отпихнуть. Он же никого из нас не знает. Лиц не видно, а говорили мы или чужими голосами, или шепотом. Тут не опознаешь. — Так предлагал Андрей Петрович Садиков. Предложение это всем понравилось. — Правильно, — сказал Валентин Андреевич. — Давайте лодку. В темноте началась возня. Все четверо шарили руками и искали борт сизовской лодки. Но лодки не было. Тихая была погода, слабый был ветерок, а все-таки, пока продолжалась борьба браконьеров с Андреем Сизовым, лодку куда-то унесло. Может быть, она была и недалеко, да ведь разве в темноте разглядишь. Нащупать ее, во всяком случае, не удалось. Все четверо чертыхались, обвиняли друг друга в неосмотрительности и легкомыслии, но это все равно не могло ничему помочь. — Хорошо, — сказал Василий Васильевич. — Вытащим его на берег. Пусть полежит до утра. Но только я ставлю одно условие — сеть-то моя, и у меня ее видели, я ее и заведующему почтой показывал, и из рыбаков кое-кому. Это же улика. Так что надо сеть уничтожить. Черт с ней, с этой форелью! Подумаешь мне рыба! Сазан, между прочим, не хуже. А вегетарианская пища, говорят, даже полезнее. Но только расходы поровну. Сеть стоила пятьдесят рублей. Стало быть, на нос по двенадцать с полтиной. Даете слово, что отдадите? — После получки отдам, — сказал твердо Степан Тимофеевич. — И я после получки, — хором сказали Андрей Петрович и Валентин Андреевич. — Тогда, значит, так, — мужественным тоном сказал Василий Васильевич. — Мальчишку сейчас выносим на берег и оставляем связанным. Сами отходим на километр на веслах, а потом запускаем мотор и едем на середину озера. Там накладываем в сеть камни и бросаем на дно. А форель выпускаем. Черт с ней, с форелью! Дурацкая, между прочим, рыба! Следует заметить, что весь этот разговор велся тишайшим шепотом. Так что Андрей слышал только взволнованную интонацию собеседников, а слов не различал. Решение было принято, и надо было приступать к исполнению. Вооружившись ножом, Андрей Петрович стал искать веревки, на которых держалась сеть. Сеть следовало освободить от рыбы, вытащить из воды, свернуть, прикрыть на всякий случай чьей-нибудь курткой, потом вынести на берег этого проклятого парня, который погубил все предприятие, и потом направиться, набрав, конечно, на берегу камней, куда-нибудь в центр озера и там бросить сеть на дно. Никому уже не хотелось даже и думать о жареной, вареной, соленой и копченой форели. Черт с ней, с этой форелью! От нее всяких неприятностей не оберешься. Прийти бы спокойненько домой, проснуться от уютного звонка будильника, съесть чего-нибудь мясного или мучного и отправиться не торопясь на работу. Снежные склоны на восточном берегу озера стали понемногу светлеть, но до рассвета еще оставалось достаточно времени. Важно вытащить мальчишку на берег, а сеть можно утопить и утром. Кто увидит, что делают в центре озера четыре человека, выехавшие в воскресный день покататься на моторной лодке? Все несколько успокоились. Форели, конечно, не будет, да и кому она нужна, эта форель, но по крайней мере все выйдут сухими из воды. И вдруг раздался отчетливый громкий шепот Андрея Петровича. Непонятно было, зачем он говорит шепотом. Андрею этот шепот был отчетливо слышен, и он разбирал каждое слово, а больше скрываться было не от кого. — Товарищи, — сказал Андрей Петрович, — сети нет! Кто его знает, как это получилось? Обрезали ли в суматохе веревки, когда искали, чем связать Андрея, или, может быть, веревки перетерлись, когда борт сизовской лодки терся о борт лодки Валентина Андреевича. Но, так или иначе, сеть, принадлежавшая Василию Васильевичу, которую знали и видели многие люди, сеть с незаконно выловленной форелью уплыла. Раньше или позже ее выбросит на берег, люди, которым она попадется на глаза, представят ее начальству — и все четверо будут уличены в преступлении. — Конечно, сеть принадлежит мне, — сказал Василий Васильевич, — но имейте в виду, что один отвечать за всех я не согласен! Когда сеть опознают, я назову всех соучастников. Это я говорю откровенно. Я человек прямой и обманывать вас не буду. Остальные трое молчали.Глава шестая ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ
Молчали долго. Тишина кругом стояла такая, что, казалось, можно было расслышать, как далеко на берегу переступает с ноги на ногу Стрела. “Эх, — думал Андрей, — вот бы догадалась Клаша сесть па Стрелу и отправиться в поселок! Ну и что же, что ночь, в милиции все равно дежурный сидит. Можно бы сразу поднять тревогу. И кто меня тянул за язык сказать ей, чтобы она дожидалась рассвета”. Но дверь домика не скрипела, не лаял Барбос. Клаша сидела в темноте, прижимая к груди жирафа и обмирая от страха. Ждала рассвета. Может, только жирафу на ухо осмеливалась она шептать, как ей страшно, как медленно тянется время и как она боится за брата. Наконец Андрей Петрович Садиков, который считал, что он, как заведующий горкомхозом, является самым руководящим работником из присутствующих и поэтому именно он обязан найти выход из создавшегося положения, заговорил: — Прежде всего, товарищи, не надо ссориться. Только полное единство при создавшихся обстоятельствах может нас всех спасти. В конце концов, сеть еще не улика. Во-первых, мы не знаем, сколько в ней рыбы. Может быть, так мало, что сеть уйдет на дно. Во-вторых, может быть, рыба найдет выход и выберется из сети, и сеть опять-таки уйдет на дно. — Ну уйдет, — простонал Василий Васильевич, — парень-то знает, где мы рыбачили. А глубина тут пустяковая. Пройдут по дну кошкой — вот вам и сеть. — Прошу вас не прерывать меня и позволить довести до конца мою мысль! — строго сказал Садиков. — Итак, если даже сеть будет найдена, можно будет сказать, что Василий Васильевич продал сеть на базаре неизвестному человеку. Или неизвестный человек украл у него сеть, а мы знать ничего не знаем и ведать не ведаем. — А парень? — сказал Степан Тимофеевич Мазин. — Ему только развяжи рот, он такого наговорит, что ужас! — Неужели двенадцатилетнему мальчику поверят больше, чем нам четверым, почтенным, уважаемым людям? — В голосе Садикова чувствовалась неуверенность. Трое остальных только вздохнули, но было ясно — все трое подумали, что да, безусловно, поверят парню. Все долго молчали, и опять было ясно, что каждый знает: положение безнадежное, попались и впереди позор и строгое наказание. В сущности говоря, предпринимать было нечего, но нельзя же сидеть целую ночь, молчать и ждать, пока подойдет катер рыбнадзора и начнется позорная, тягостная процедура опознания, допросов и невольных признаний. И для того только, чтобы прервать это невыносимое молчание, чтобы кончилось это невыносимое бездействие, Садиков снова заговорил, стараясь придать голосу уверенность и солидность. — Я считаю, что важно, — сказал он, — скорее уйти с этого места. Надо вернуться на остров, где мы оставили лодки, рассесться по лодкам и каждому отправиться домой. Сеть, еще неизвестно, попадется ли, а мы все воскресенье проведем на виду у соседей. Можно просто сидеть на солнышке, отдыхать, можно что-нибудь делать по хозяйству, так чтобы соседи видели: люди проводят воскресенье культурно, набираясь сил для предстоящей трудовой недели. — А парень? — простонал Василий Васильевич. — Парень не видел нас, — прошептал Садиков. — Темнота-то хоть глаз выколи! Оставим его на острове. Пока там его найдут! Включайте мотор, Валентин Андреевич. — Какой я вам Валентин Андреевич? — спросил Коломийцев фальшивым голосом. — Вы меня с кем-то путаете. — Да-да, — торопливо согласился Садиков, на лету схватив тонкую мысль Коломийцева. — Я вчера был по делам на автобазе, вот мне и засело в памяти имя-отчество заведующего базой. Включайте мотор, Николай Николаевич! Все поняли хитрость Коломийцева: надо называть друг друга чужими именами. Пусть проклятый мальчишка потом рассказывает в милиции, что какой-то Николай Николаевич разговаривал с каким-то Петром Петровичем. — Включаю, Петр Петрович, — сказал Коломийцев. — Ну и чудно, Андрей Андреевич, — сказал Степан Тимофеевич, обращаясь к Василию Васильевичу Андронову. И Андронов, стараясь отблагодарить товарища за то, что тот пытается его выручить, называя чужим именем, сказал чужим голосом: — В самом деле, Константин Константинович, пора по домам. У всех четверых фантазия была небогатая. Придумав одно какое-нибудь имя, они его же превращали и в отчество. Поэтому у всех четырех имена и отчества совпадали. Но это еще полбеды. Хуже то, что каждый из них сразу же позабыл, как называл его товарищ и как он называл товарища. Поэтому разговор затих, все четверо решили, что самое лучшее помолчать. Мотор зашумел, лодка тихо двинулась по воде, вышла из зллива, о котором всем четверым было теперь даже и думать противно, и, набирая скорость, пошла по темной воде к острову. Все четверо молчали, и каждый пытался убедить себя, что, как только они доберутся до острова, все неприятности кончатся. Они выгрузят мальчишку на берег и, пока еще не рассвело, рассевшись по лодкам, отправятся каждый к себе домой. Каждому хотелось скорей избавиться от своих спутников. Совершенно понятно, что они ненавидели Андрея Сизова, потому что его присутствие доставило им уже много неприятностей, а грозило еще неизмеримо большими. Но странно: не меньше чем Андрея Сизова каждый из них ненавидел своих трех товарищей. Каждому казалось, что это они втравили его в грязную историю, что это они, люди недобросовестные, нечестные, заставили его, человека безукоризненно чистого, с безупречным прошлым, с твердыми моральными устоями, принять участие в этой неприглядной и даже уголовно наказуемой авантюре. Каждый давал себе слово впредь не встречаться с тремя другими, каждый с нетерпением ждал, что вот сядет он в свою лодку, доберется до своего дома, залезет под одеяло, и все кончится, будто никогда ничего и не было. А в самой глубине души каждый знал, что кончить благополучно эту историю никак не удастся, и оттого, что он залезет под одеяло, ничто не изменится, что главные неприятности еще впереди, и такие неприятности, что о них даже и подумать страшно. А мотор стучал, лодка двигалась по воде, и снежные вершины гор неумолимо светлели. Дело шло к рассвету. “Голоса-то ладно”, — размышляли печально браконьеры. Откуда Андрею знать их голоса, да и потом насчет голоса всегда ошибиться можно, голоса бывают похожие. А вот когда рассветет и он их увидит в лицо, то уж тут в любом случае получится очень нехорошо. Может быть, Андрей их узнает и скажет: “Вы такой-то, мол, а вы такой-то”. Очень плохо! Может быть, Андрей их не узнает. Или он никогда их не видел, а если и встречал на улице, то не знал, кто они такие. Казалось бы, тогда хорошо. А на самом деле все равно получается плохо. Ходи потом по поселку и оглядывайся: вдруг подбежит школьник и скажет: “А я вас, дяденька, знаю. Вы незаконно ловили форель в заповедном заливе. Пойдемте-ка со мной в милицию”. Можно, конечно, удивиться, сказать: “Что ты, мальчик, ты меня с кем-нибудь спутал. Я тебя вижу первый раз”. Ну от милиции отвертишься, а все равно слухи пойдут по поселку. Нехорошие слухи. Стыдные слухи. Ай-яй-яй, как нехорошо! Такие печальные мысли одолевали всех четырех. Моторка шла по воде, и все четверо вздыхали. То один вздохнет, то другой… А Андрей Петрович однажды даже вдруг застонал. Ему казалось, что он про себя стонет, а на самом деле он стонал громко. Он вспомнил, что вдобавок к этому мальчишке существует еще сеть, которая где-то болтается. Он понимал, что сеть позже или раньше обязательно будет обнаружена. Он помнил предупреждение Василия Васильевича о том, что, если тот попадется, обязательно выдаст своих соучастников. Андрей Петрович сердился на Василия Васильевича, но не очень. В глубине души он его понимал. В самом деле, чего ж пропадать одному? Пропадать, так уж всем вместе. Не зря же говорят: “На миру и смерть красна”. Снежные склоны проступали все ясней и ясней. Уже было ясно, что, пока моторка доберется до островка, на озере станет совсем светло. Пока что все четверо отворачивали лица от Андрея Сизова. Конечно, можно человека и по затылку узнать, а все-таки затылок совсем не то что лицо. Серый рассвет вставал над озером, и уже различался вдали маленький островок — камень и узкая полоса песка. И три лодки, привязанные к вбитым в песок колышкам. Валентин Андреевич гнал вовсю. Утренний туман клубился над озером, и надо было во что бы то ни стало избавиться от мальчишки, пока туман не совсем еще разошелся. Может, тогда мальчишка их и не узнает. Может быть, то1да удастся удрать и скорее домой, под одеяло. И с головой укрыться, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя в безопасности, И вот наконец нос моторки врезался в песок. Все четверо выпрыгнули на песчаный берег островка. Они отошли в сторонку, чтобы их разговор не был слышен Андрею. Было устроено короткое совещание. Все говорили чуть слышно. — Главное — в быстроте, — сказал Андрей Петрович. — Мальчишку сейчас же на берег, быстро по лодкам — и домой! — А сеть? — прошептал Василий Васильевич. — О сети после поговорим, — прошептал Валентин Андреевич. — Вам хорошо: таких лодок, как у вас, на озере полным-полно. А у меня мотор. Моторных лодок не так уж много. — Пусть мы рискуем, — сказал Андрей Петрович, — все равно надо действовать. Мальчишку на берег — и по лодкам. И будь что будет. — А сеть? — повторил, задыхаясь, Василий Васильевич. На него уже никто не обращал внимания. Он совсем раскис. Это был уже, можно сказать, не человек, а простокваша. — Позвольте, — прошептал Степан Тимофеевич, — оставить здесь связанного ребенка — это тоже не дело. Я не могу этого допустить. Хорошо, если его обнаружат, а если нет? — Если мы сейчас уедем, — зашептал взволнованно Андрей Петрович, — мальчишка нас, может быть, и не узнает. Днем кто-нибудь из нас будто случайно подойдет к острову, обнаружит парня и привезет на берег. Получится еще, что он спаситель. — А сеть?.. — слабеющим голосом прошептал Василий Васильевич. И снова на него никто не обратил внимания. — За дело! — сказал Андрей Петрович. Все четверо, отворачивая лица, в надежде, что мальчик их не запомнит и не сможет потом опознать, двинулись к лодке. Казалось бы, просто четырем здоровым мужчинам вынуть из лодки двенадцатилетнего мальчика и положить его на песок. Но на самом деле это оказалось очень сложно. Дело в том, что, как я уже говорил, все отворачивали лица, а глаз на затылке не было ни у кого. Поэтому вся операция проделывалась ощупью. Андрей между тем извивался и, ухитрившись сбросить косынку, которой был завязан его рот, даже укусил Василия Васильевича за руку. Но Василий Васильевич был так подавлен мыслями о сети, что не обратил внимания на боль. Что значит, в конце концов, какой-нибудь укус по сравнению с тем потоком неприятностей, что обрушился на него, по сравнению с крушением всей жизни, которое он предвидел. Он только слегка взвизгнул, но на это никто не обратил внимания. Всем хотелось визжать от тоски. Кое-как Андрея все-таки вытащили из лодки и положили на песок. Андрей смотрел на четырех мужчин с удивлением: у всех была странно повернута голова. Как будто голова у каждого держалась на винте и винт не был завернут до конца нарезки. Впрочем, сейчас Андрея волновало другое. Многократно описанный в приключенческих романах прием целиком себя оправдал. Так как он сильно напряг все мышцы, когда его связывали, а потом ослабил их, то оказалось, что он совсем не туго завязан. Лежа на дне лодки, пока она двигалась от заповедного залива к острову, Андрей постепенно и незаметно распустил узлы. Один он совсем развязал и теперь мог сбросить веревки в любую минуту. Он только боялся, что браконьеры это заметят и свяжут его заново. Но им было не до него. Свалив его на песок, они, по-прежнему стараясь не поворачиваться к нему лицом, кинулись к лодкам. Андрей Петрович, Степан Тимофеевич и Василий Васильевич выдернули колышки, прошлепали сапогами по воде, отталкивая лодки, торопливо перевалились через борт и нервно стали вставлять уключины в отверстия. Валентин Андреевич прыгнул в моторку и бешено начал дергать шнурок, чтобы скорей завести мотор. У Василия Васильевича так тряслись руки, что уключины никак не попадали в отверстия. А Валентин Андреевич так бешено дергал шнурок, что мотор никак не хотел заводиться. Поэтому лодки Андрея Петровича и Степана Тимофеевича уже отошли метров на сорок, когда Василий Васильевич только первый раз взмахнул веслами, а моторка Валентина Андреевича наконец тронулась с места. Не думая об отставших товарищах, Мазин и Садиков гребли изо всех сил и чувствовали, что в них пробуждается надежда на благополучный исход. На остров никто из них не смотрел. И никто из них не обратил внимания на отчаянный крик Василия Васильевича. Они решили, что он опять несет какую-нибудь околесицу про свою, всем надоевшую сеть. Но потом они услышали еще какой-то голос, как будто знакомый, как будто и незнакомый. Тогда они подняли голову. Это было как в страшном кошмаре. Андрей Сизов, которого они оставили связанным и, стало быть, обезвреженным хотя бы на некоторое время, стоял на берегу и, весело улыбаясь, смотрел им вслед. Он даже что-то, кажется, говорил, по крайней мере, у него шевелились губы, но разобрать было ничего нельзя, потому что все заглушал отчаянный визг Василия Васильевича. Он визжал до тех пор, пока Коломийцев, моторка которого была ближе всего к его лодке, не рявкнул на него таким зверским голосом, что Василий Васильевич перестал визжать и пытался произнести негромко какое-то слово. Так как у него от страха прыгали челюсти, можно было разобрать только какое-то непонятное “ва-ва-ва”. Тогда все услышали, что кричал Сизов. Он даже не кричал. Расстояние до лодок было настолько невелико, что он говорил просто немного громче, чем говорят люди обычно. — Вы — Андрей Петрович Садиков из горкомхоза! — сказал он и показал пальцем на Садикова. — Вы — Валентин Андреевич Коломийцев! Я и вас знаю и вашу моторку знаю! Вы — Степан Тимофеевич Мазин из педтехникума! Вы — Василий Васильевич Андронов с конезавода! — При этом он на каждого показывал пальцем и ни разу не ошибся. — И это вам не пройдет даром — ловить форель в заповедном заливе! Вы думаете, раз отец уехал, так можно безобразничать? Я за отца остался, и я за форель отвечаю! — Быстро! — крикнул Андрей Петрович. — У мальчишки нет никаких доказательств! — А сеть?.. — простонал Василий Васильевич и снова стал повторять свое непонятное “ва-ва-ва”. — Всем держать к берегу! — рявкнул Валентин Андреевич тоном старого морского волка. — Нельзя уходить с острова, пока мы не обезвредим мальчишку! Лодки Садикова и Мазина как-то заколебались. С одной стороны, оба понимали, что надо действовать и, значит, вернуться на остров, с другой стороны, непреодолимая сила тянула и — х к берегу, к дому, где можно лечь и укрыться с головой одеялом. — Клянусь вам, — решительно сказал Валентин Андреевич, — если все сейчас же не вернутся на остров, я прямо отправляюсь в милицию, приношу покаяние и называю всех своих соучастников! Я на моторке и наверняка попаду в милицию первым! Тут уж спорить было нечего. Лодки Садикова и Мазина направились к острову. И даже Василий Васильевич стал подгребать к песчаному бережку, хотя руки у него так тряслись, что весла производили движения, еще неизвестные в истории водного спорта.Глава седьмая КЛАШУ ПРИНИМАЕТ НАЧАЛЬСТВО
Как только серый рассвет начал пробиваться сквозь стекла окон, Клаша поняла, что с братом случилось что-то страшное и что теперь надо начинать действовать. Она поцеловала жирафа, положила его на кровать, укрыла одеялом, чтобы он не замерз, пока ее не будет, и вышла из дома. Барбос, который тоже понимал, что происходит что-то необычное и нехорошее, хотя и не догадывался, в чем дело, подбежал к Клаше, лизнул ей руку и вопросительно на нее посмотрел. Но Клаше было не до него. Она открыла дверь сарая и отвязала Стрелу. Когда она потянула повод, Стрела посмотрела на нее удивленно, потому что ею, Стрелой, занимались только Павел Андреевич, Александра Степановна и Андрей. Но Клаша тем не менее принадлежала к числу хозяев, а авторитет хозяев был в глазах Стрелы настолько велик, что она безропотно пошла за девочкой. Следует сказать, что операция по водружению на лошадь заняла у Клаши немало времени. Клаша без труда подвела Стрелу к козлам, но пока она сама влезла на козлы, ей пришлось выпустить повод из рук. Стрела, не имея в виду ничего дурного, а просто не понимая, чего от нее хотят, отошла от козел на шаг. Шаг — это немного, но оказалось, что влезть на лошадь уже нельзя. Пришлось снова слезать с козел, снова подводить Стрелу и снова влезать на козлы. Так повторялось несколько раз, пока Стрела наконец не поняла, что, очевидно, положено стоять совсем рядом с козлами. Тогда Клаше с большим, правда, трудом удалось все-таки взгромоздиться на спину лошади. Стрела очень долго не могла сообразить, что Клаша собирается одна ехать в поселок. Этого никогда еще не бывало, а Стрела новшеств не любила и считала, что все должно происходить так, как установлено обычаем. Стрела возила на себе Клашу и раньше, но только вокруг дома или вокруг сарая. Ехать же с Клашей далеко ей казалось настолько несуразным, что она никак не могла понять, что от нее требуется. Только после долгих понуканий, ударов ногами по бокам и дергания повода Стрела примирилась с необходимостью и не торопясь двинулась по дороге в поселок. Барбос тоже считал, что нарушаются какие-то правила, прыгал и негромко потявкивал. Когда наконец Стрела отправилась в путь, он побежал за ней, и Клаше пришлось долго на него кричать, пока он согласился остаться дома. Взять с собой Барбоса Клаша никак не могла. Нельзя же в самом деле оставить дом без присмотра. Барбос долго смотрел им вслед и, только когда они скрылись за кустарником, потрусил домой, все время задумчиво покачивая головой, желая этим сказать, что творятся необыкновенные вещи, но что он сделал все, что мог, и больше не считает себя вправе вмешиваться в чужие дела. Свет был предутренний, тусклый, туман еще клубился в кустах, и Клаше казалось, что по сторонам дороги стоят какие-то страшные существа и тянут к ней лапы, которые только похожи на ветки, а на самом деле могут и схватить и утащить куда-то или, во всяком случае, ударить. Клаша ездила в поселок, но очень давно, года три назад, когда ей было всего четыре года, поэтому она очень плохо помнила, что такое поселок и что такое почта, и куда, собственно, ей надо ехать. Андрей в волнении и суматохе сказал ей, чтобы она позвонила по телефону в рыбнадзор. Клаша имела о телефоне самое смутное понятие, а как по телефону звонить, совсем уж себе не представляла. Поэтому приказание Андрея она никак не могла выполнить. Но главное она понимала великолепно: браконьеры ловят в заповедном заливе драгоценную форель и об этом надо сообщить начальству. Про форель и браконьеров она знала многое. Об этом постоянно дома велись разговоры, и Клаша в свои семь лет могла бы чуть ли не лекцию прочитать о вреде браконьерства и о расхищении рыбных богатств страны. Цель была ясна, но как ее достигнуть? Стрела еле плелась, и времени поразмыслить у Клаши было достаточно. Стрела вообще признавала только два типа езды: неторопливый шаг или совсем уж неторопливую рысь. На рысь она переходила с большой неохотой, только под влиянием сильных ударов больших кирзовых сапог хозяина или уверенного удара кнутом. У Клаши ноги были маленькие и слабые, и даже прутика она не взяла с собой. Если бы у нее в руке был прутик, ей бы никогда не влезть на лошадь. Даже со свободными руками она и то, как мы знаем, влезла с большим трудом. Поэтому Стрела плелась шагом, что, может быть, было и лучше, потому что неизвестно, удержалась бы Клаша даже на неторопливой рыси. Иногда высунувшаяся из тумана ветка ударяла Клашу. Так как, повторяю, Клаша была не уверена, ветка это или рука, то она каждый раз вздрагивала от страха и изо всех сил цеплялась руками за гриву. Вообще ее очень успокаивало, что в этом неизведанном и страшном мире, в который она попала, есть Стрела — знакомое существо, на которое вполне можно положиться. Поэтому она не все время боялась. А когда переставала бояться, то начинала думать. Думала она о том, как же все-таки сообщить, что грабят заповедный залив. Прежде всего- кому сообщить? Слово “рыбнадзор” она слышала тоже часто, ко не очень ясно понимала, что это такое. Вспоминая разговоры о рыбнадзоре, которые ока часто слышала дома, Клаша догадалась, что это, по-видимому, не человек, а что-то другое. Слово “учреждение” было ей не знакомо. Хорошо бы, конечно, рассказать директору рыбпрома. Его Клаша хорошо знала, и он ей представлялся начальником очень большим, которого браконьеры боятся наверняка. Но он живет не в ближайшем поселке, а где-то далеко. До него не добраться. Тут опять ветка или лапа ударила Клашу и Клаша снова очень испугалась, а когда перестала бояться, то продолжала размышлять. Она вспомнила, что отец как-то говорил, что он пойдет на что-то жаловаться председателю райисполкома. Он, мол, человек справедливый и разберется. По какому поводу отец собирался жаловаться, Клаша не поняла, да это было и неважно. Важны были три вывода, которые сделала Клаша: во-первых, председатель райисполкома — человек. Во-вторых, — человек справедливый, и, в-третьих, если даже сам отец хотел ему жаловаться на какую-то несправедливость, значит, это человек, имеющий большую власть. Вот, очевидно, к нему и следовало идти. Я излагаю ход ее размышлений вкратце. На самом деле размышления эти продолжались долго и выводы дались ей с большим трудом. Напомню, что ей было только семь лет и мир, в котором она прожила эти свои немногие годы, был гораздо ограниченней мира не только городского, но и деревенского ребенка. Размышления ее продолжались так долго, что, пока она приняла окончательное решение, даже неторопливая Стрела успела дошагать до поселка и остановиться у почты. Теперь выяснилось, что предстоит еще одна нелегкая задача — слезть с лошади. Клаша беспомощно оглядывалась вокруг. Вид поселка ее ошеломил. Домов было столько, что она не смогла бы их сосчитать, даже если бы считала целый день. Очень много было и деревьев. Деревья стояли вокруг каждого дома, и их ей тоже никогда бы не сосчитать. У них на рыбопункте росло всего только два дерева, а тут они стояли целыми рядами. Впрочем, на все это можно было подивиться потом, а сейчас было необходимо слезть с лошади и отправиться к председателю райисполкома. Клаша смотрела вниз то в одну, то в другую сторону. С обеих сторон высота была такая, что у Клаши даже голова закружилась. Она сидела и размышляла, как бы преодолеть это страшное препятствие. В это время к ней подошел высокий усатый человек. Он с удивлением посмотрел на Клашу, подумал, покрутил правый ус и спросил: — Откуда приехала, девочка? — С Волошихинского рыбопункта, — тоненьким голосом ответила Клаша. Человек покрутил левый ус, хмыкнул и спросил: — Одна приехала? — Одна, — ответила Клаша. Человек покрутил оба уса одновременно: — А к кому приехала? — К председателю райисполкома. — Зачем? — У меня к нему важное дело. — Так-так, — сказал человек и покачал головой. — Ну что ж, если важное, давай я тебя доведу. Он взял Стрелу за повод и повел ее. Райисполком был совсем близко, через три дома от почты. Возле крыльца стояла коновязь, потому что многие жители сел приезжали в райисполком на лошадях. Усатый человек молча привязал к коновязи Стрелу, потом легко снял с лошади и поставил на землю Клашу. Потом он взял Клашу за руку и, поглаживая другой рукой то правый, то левый ус, повел ее в дом. Время от времени он наклонял голову, смотрел на Клашу и каждый раз почему-то говорил “хм”. В райисполкоме был выходной день. В доме царила тишина и запустение. Но Степан Григорьевич Коробков, председатель райисполкома, сидел у себя в кабинете. Он и в будние дни приходил за час или полтора до начала работы. Днем непрерывным потоком шли дела: звонил телефон, в приемной ждали посетители… Поэтому, когда ему нужно было серьезно и обстоятельно поговорить с кем-нибудь из работников, он его приглашал к семи часам. В это время никто не мешал, и можно было спокойно решить сложный вопрос. Если же разговор предстоял долгий и собеседник был человек свой, хорошо знакомый, который сам был заинтересован в том, чтобы поговорить обстоятельно, серьезно, не торопясь, Степан Григорьевич предлагал ему прийти в воскресенье утром. Тут уж можно было все обсудить и решить, твердо зная, что никто не помешает. Сегодня к нему приехал директор конезавода. Разговор предстоял долгий и обстоятельный. Следовало решить вопрос о пастбищах, о новой территории, в которой нуждался конезавод, о новом строительстве, которое намечалось в этом году. И, конечно, нельзя было выбрать для такого обстоятельного и серьезного разговора лучшего времени, чем тихие и спокойные часы воскресного утра. Коробков и директор конезавода были очень увлечены разговором. Возникало немало сложных вопросов, по некоторым поводам разгорались споры, и каждый из собеседников проявлял немало дипломатического искусства и изобретал немало доводов в пользу своей точки зрения. Поэтому никто из них не обратил внимания, что дверь неслышно приотворилась и маленькая девочка вошла в кабинет. К письменному столу, за которым сидел председатель райисполкома, был вплотную приставлен стол для заседаний. Коробков сидел за письменным столом, а директор конезавода — в кресле по одну сторону стола для заседаний. Клаша, не желая мешать деловой беседе, подошла и стала за креслом. Так как кресло было гораздо выше, чем Клаша, ее не видел ни председатель райисполкома, ни директор конезавода. Клаша скромно стояла и молча ждала, когда наступит время вставить свое слово и ей. В это время как раз разгорелся спор. Директор конезавода доказывал, что заводу необходимо прирезать участок, на котором райисполком планировал постройку кафе. — Для кафе это неудобный участок, — утверждал директор конезавода. — Что ж ты думаешь, Степан Григорьевич, чтобы выпить кофе с пирожным, посетитель будет идти за полкилометра от города? А если дождь? А если плохая погода?.. Да у вас в центре есть свободные участки. А мы бы построили там кладовые. Мы задыхаемся без кладовых. — В центре города, — говорил Коробков, — все участки уже распределены, а кафе в городе нужно. У нас не хватает мест, где человек мог бы культурно провести время. Разговор затягивался, каждая сторона приводила все новые доводы, а Клаша вспомнила, что, может быть, Андрей в опасности и что ждать у нее времени нет. — Это вы председатель райисполкома? — спросила она, чтобы завязать разговор. Директор конезавода посмотрел на председателя райисполкома, а председатель райисполкома на директора конезавода. Оба они не понимали, откуда мог раздаться вдруг детский голос; и каждый решил, что ему послышалось. — Я здесь, — объяснила Клаша, заметив, что оба смотрят не туда, куда следует. Директор конезавода и председатель райисполкома привстали. Председатель райисполкома перегнулся через стол, а директор конезавода заглянул за спинку кресла, на котором сидел. Клаша стояла спокойная и серьезная, понимая, что пришла она по делу государственному и ей нечего пугаться или стесняться. — Ты кто? — спросил председатель райисполкома, совершенно растерявшись от неожиданности и не зная, что сказать. — Я Клаша из Волошихинского рыбопункта, — объяснила Клаша. — А как ты сюда попала? — спросил председатель, все еще ничего не понимая. — А я на Стреле приехала. — На какой Стреле? — удивился председатель. — Стрела — это наша лошадь, — сказала Клаша, удивившись, как серьезный человек не знает таких простых вещей. — Одна приехала? — спросил председатель. — Одна, — подтвердила Клаша. — А где твои родители? — Папа в командировку уехал, а мама в больнице лежит. У нее этот… Ну я забыла… в общем, который вырезать надо. — Так ты что же, — спросил председатель, — одна, что ли, на рыбопункте? — Нет, — сказала Клаша, — мы с братом. Андрей у меня брат. Он большой. Ему уже двенадцать лет. — Ничего не понимаю, — развел председатель руками. — А брат твой где? — А брат пошел браконьеров ловить. — Каких браконьеров? — А у нас заповедный залив, так брат заметил, что туда браконьеры забрались, форель ловить. Он лодку взял и поехал браконьеров ловить. А мне велел света ждать. А если до света он не вернется, — скакать в город и сказать, чтобы его выручали. Председатель минуту подумал, а потом, повернувшись к директору конезавода, сказал: — Придется нам, Иван Денисович, завтра кончать разговор. Тут, видишь ли, может получиться дело серьезное: с одной стороны — браконьеры, а с другой стороны — мальчик двенадцати лет. Сам понимаешь, история нешуточная. Он снял телефонную трубку и набрал номер. — Милиция? — спросил он. — Начальника. Зайди, пожалуйста, сейчас же ко мне, только быстро! Прихвати, кто там есть из рыбнадзора. Если меня не будет, подождите. Я минут на пятнадцать уйду — не больше. Жители поселка, имевшие привычку рано вставать, могли в этот день увидеть странное зрелище. По улице поселка шел председатель райисполкома, одной рукой ведя на поводу старую, дряхлую лошадь, с большой неохотой передвигавшую ноги, а другой рукой держа за руку маленькую девочку с серьезным и полным достоинства выражением лица. Лошадь председатель привязал возле дома, где он жил, а девочку ввел в свою квартиру. — Вера, — сказал он жене, — это Клаша с Волошихинского рыбопункта. Ты ее, пожалуйста, накорми, напои чаем и уложи спать. Там у дома лошадь привязана, так ты скажи Сашке, чтоб он дал ей овса. Мне некогда сейчас объяснять, в чем дело. Может быть, Клаша тебе сама расскажет. Она девочка серьезная и толковая. А меня к обеду не жди. Я сегодня вернусь поздно. Через десять минут в кабинете председателя райисполкома открылось короткое, но важное заседание, в результате которого произошли события, сыгравшие немалую роль в судьбе героев повести.Глава восьмая КУЛИЧКОВУ ВЕЗЕТ
Мне придется вернуться немного назад и заняться человеком, который до сих пор на страницах повести не появлялся. Фамилия этого человека была Куличков, звали его Федосей Федосеевич. Когда его спрашивали о его профессии, то он всегда, махнув рукой, отвечал: — Какая у меня профессия! Я неудачник. Вот и вся профессия. Когда он рассказывал свою биографию, то действительно выходило, что неудачи преследуют его всю жизнь. Работал конюхом на конезаводе — выгнали да еще и опозорили на весь поселок. Поступил продавцом в магазин — выгнали, работал сторожем в школе — выгнали. Теперь второй год болтается без работы и никуда его не берут. Взяли было на карьер откатчиком и тоже выгнали через две недели. Словом, получалось так, что в отношении Куличкова совершено такое количество несправедливостей, что надо срочно куда-то писать, жаловаться в руководящие организации и добиваться наказания людей, эти несправедливости совершивших. Тем не менее Куличков никуда не писал и никому не жаловался. Если его спрашивали, почему же он так терпеливо относится к своим недругам, он, махнув рукой, говорил: — Да ну их… Свяжешься — совсем затравят. На самом деле кротость Куличкова объяснялась совсем другими причинами. С конезавода его выгнали за то, что он крал овес в таких невероятных количествах, что на украденном овсе можно было бы выкормить десяток замечательных скакунов. Хотели его под суд отдать, да пожалели. Из магазина выгнали за то, что он так обвешивал покупателей, что у покупателей голова кругом шла. Даже в школе ухитрился он из физического кабинета украсть какой-то прибор и пытался продать его на базаре, где и был пойман. Тоже хотели отдать под суд, но он так плакал и так убедительно говорил, что было, мол, у него какое-то наваждение и украл он, собственно, против своей воли, что директор в конце концов махнул рукой, тем более что прибор был возвращен и школа убытка не потерпела. Не то чтобы Куличков сознательно скрывал эти обстоятельства, просто была у него какая-то особенная память. Она твердо хранила все выгодное для Куличкова и начисто стирала все для него невыгодное. Пожалуй, что, жалуясь на несправедливость, он был в некоторой степени искренним. Он забыл и то, как крал овес, и то, как обвешивал, и то, как украл прибор, а вот то, что его отовсюду выгнали, это он помнил удивительно отчетливо. Поэтому Куличкову действительно казалось, что ему не везло всю жизнь, что всю жизнь его преследовали неудачи и злые, несправедливые люди. Что касается того, что он не мог найти работы, то это тоже была не вся правда. Он почему-то пытался устроиться только туда, где, как он знал, люди нужны не были. Туда же, где искали рабочих, он и носа не показывал. Вид у него был жалкий, растерянный, и, хотя он был здоровый парень, высокого роста, широкоплечий и мускулам его мог бы позавидовать профессиональный атлет, держался он как-то так, что казался щуплым, невысоким и слабым. Он вечно жаловался на то, что питается одним хлебом да еще, может быть, иногда рыбкой, которую удастся поймать на удочку. К общему удивлению, несмотря на эту потрясающую нищету, домик, доставшийся ему от родителей, был в превосходнейшем состоянии. Каждый год он в нем что-нибудь да переделывал. То пристроит террасу, застекленную, нарядную, такую, что посмотреть приятно, то перекроет железом крышу, то пристроит сарай или выроет погреб. Когда ему задавали бестактный вопрос, откуда же при такой нищете достает он деньги на все эти преобразования, — он каждый раз рассказывал какую-нибудь историю, из которой вытекало, что все это он добыл случайно, бесплатно, а вообще-то он человек бедный, с трудом перебивается и даже слабеет и тощает от голода. Целые дни его видели на озере сидящим в лодке с удочкой, и многие его очень жалели. Легко ли всю жизнь питаться одним только хлебом да мелкой, клюнувшей на удочку рыбой. На самом деле Куличков был очень богат. Днем с удочкой он только подремывал, чтобы сохранить силы для ночи. Ночью это был совсем другой человек. В темноте он укладывал в лодку сети, брал охотничью двустволку на случай каких-нибудь неприятных встреч или столкновений, и лодка его бесшумно исчезала втемноте. Он безжалостно опустошал заливы и устья рек, в которых водилась и размножалась рыба. Не было случая, чтобы перед рассветом он не перетаскивал с лодки к себе в погреб два, а то и три мешка рыбы. Он имел определенный круг покупателей, которые постоянно покупали у него форелей и сазанов, некоторые для себя, некоторые для перепродажи. Так как он относился к делу серьезно и профессионально, он был неуловим. Он заранее соображал, в какие места этой ночью зайдут катера рыбнадзора и шел в другие места. Он был силен и ловок и ни перед чем не останавливался. Бывали неудачи: раза два—три дошло даже до перестрелки и один человек из рыбнадзора был ранен в руку. И все-таки всегда ему удавалось уходить, и никогда на него не падало подозрение. Никто даже не знал, что у него есть ружье. Никто не знал, что у него есть подвесной мотор, который он прикреплял к лодке только тогда, когда было совсем темно и лодка была далеко от берега. Он не верил в сберкассы. Раз или два в месяц он уезжал в областной центр, где его никто не знал, и покупал крупными партиями трехпроцентный выигрышный заем. Пачки облигаций, тщательно завернутые в грязные тряпки, лежали у него в потайных уголках, в выдолбленных бревнах или под половицами. Только в результате тщательного обыска можно было бы их обнаружить, а какие же основания были производить обыск у этого, ни в чем не повинного, бедного человека. Как-то он определил сумму, на проценты с которой можно было бы безбедно прожить, и решил, что, достигнув этой суммы, он бросит свое все-таки опасное ремесло. Однако он достиг этой суммы и достиг вдвое большей, а ремесло свое не бросал. Жадность одолевала его. Чем больше у него было денег, тем больше ему хотелось. Зачем ему были деньги, он сам не знал. Он их не мог даже тратить. Он же считался бедным, несчастным, пострадавшим в результате несправедливости, питавшимся хлебом да мелкой рыбешкой. И он искренне считал себя несчастным и несправедливо обиженным. — Не везет, — говорил он сам себе. — Всю жизнь мне не везет. Другие вон как живут! А я получше их, но пропадаю. И его охватывала злоба на судьбу, на мир, на людей, которые были к нему так несправедливы. Когда во время завязавшейся перестрелки он ранил человека и тому пришлось месяц пролежать в больнице, о чем, конечно, знали в поселке, его ничуть не мучила совесть. Напротив, он радовался, что хоть одному из своих врагов — а врагами его были все люди без исключения — он причинил неприятность. В ту ночь, когда четыре наших героя решились на первое преступление в своей жизни, Куличков тоже вышел на лов. Ему было известно все то, что было известно Садикову и его товарищам. Он знал, что Сизов в командировке, что жена его в больнице, что на рыбопункте остались одни только дети. Он тоже сообразил, что заповедный залив остался без охраны и что в эту ночь там можно ловить спокойно и взять много рыбы. Поэтому, едва стемнело, он был уже на озере. Отойдя от берега на километр, он включил мотор, но прошел метров двести, не больше, как мотор заело. “Не везет”, — подумал Куличков. Проклиная судьбу и весь мир, которые делают ему все назло, он начал возиться с мотором. Не меньше чем через час мотор заработал. Все-таки времени, чтобы закинуть сеть, оставалось вполне достаточно. Куличков направил лодку к заповедному заливу. Как человек опытный и осторожный, он, километра два не доходя до залива, выключил мотор и сел на весла. По привычке он старался грести тихо, так, чтобы не плескала вода и не скрипели уключины. К своему удивлению, подойдя к заливу, он услышал какой-то шум, возню и сдавленные голоса. Он опустил весла и стал слушать. Понять было ничего не возможно: какое-то сопение, вздохи, возня… Раздавался и плеск воды, но не такой, какой бывает от весел, а такой, какой бывает, когда лодка раскачивается и вода плещет под бортом. Рыбнадзор это не мог быть: катер рыбнадзора или стоит в засаде- но тогда на катере была бы полная тишина, или катер идет с обходом — тогда бы стучал мотор. Если бы это были браконьеры — а Куличков понимал, что не он один незаконно промышляет на озере, — то они бы вели себя тихо. В крайнем случае негромко бы плеснула вода, когда сеть закидывали или вытаскивали. Тут же было что-то совершенно необъяснимое. На самом деле это была та самая минута, когда четверо друзей осиливали Андрея Сизова. Куличков слышал, как Сизов крикнул “караул” и сразу замолчал. Опять ничего нельзя было понять. Может быть, рыбнадзор поймал браконьеров и идет борьба, но тогда на катере обязательно зажглись бы яркие огни и работники рыбнадзора говорили бы громко и угрожающе. А тут ничего не поймешь. “Не везет, — подумал Куличков горестно. — Опять не везет! Такой случай, столько бы можно было взять рыбы!.. Так черт кого-то принес раньше меня!” Еле шевеля веслами, он подвел лодку к самому берегу и стал раздумывать, что делать дальше. Пожалуй, разумнее всего было просто уйти, но, во-первых, если это рыбнадзор, то фонари могут неожиданно зажечься и он, Куличков, неизбежно будет обнаружен. А у него в лодке и ружье, и мотор, и сети. Во-вторых, могло же оказаться, что это случайные какие-нибудь люди, которые скоро уйдут, и он, Куличков, успеет еще закинуть сеть. Пожалуй, самое разумное было выжидать. Здесь, за мыском, он был бы почти незаметен даже при зажженных фонарях. На всякий случай он лег на дно лодки и притаился. Он лежал не шевелясь, и время, казалось ему, тянется невыносимо медленно, а в заливе все продолжалась какая-то непонятная возня, перешептывания, вздохи. Потом наконец заплескала вода под веслами, потом застучал мотор и Куличков, который лежал почти на уровне воды, увидел неясный силуэт лодки и несколько силуэтов людей на ней. Моторка прошла мимо Куличкова, и потому, что силуэты людей уже ясно просматривались на фоне неба, Куличков понял, что скоро начнет светать. “Эх, — подумал он, — не везет! Чуть бы пораньше ушли, я бы успел, а теперь уж страшновато, пожалуй”. Так как официально считалось, что у него нет мотора, нет ружья и вообще что он ночным ловом не занимается, то ему нужно было обязательно до света подойти к своему дому, успеть снять мотор, отнести домой ружье и рыбу. А заливчик, на берегу которого стоял его дом, был далеко. С мотором едва ли за час доберешься. А через час уже будет светло и соседи могут увидеть. Шум мотора загадочной лодки затих вдали, и Куличкова стали одолевать сомнения: “Может, попробовать все-таки?” Случай действительно был больно уж привлекательный. Парня Сизова он не боится. Во-первых, темно — не увидит его парень. А ежели и увидит, так и подстрелить можно. В двустволочке в обоих стволах по пуле, а выстрел никто не услышит, кроме девчонки. Место пустынное. Пока девчонка до людей доберется, он уже давно дома будет. “Эх, — решил Куличков, — была не была, попробую!.. В конце концов, всю жизнь мне не везло, должно же когда-нибудь повезти!” Он взял весла и решительно направил лодку в залив. Было удивительно тихо. На рыбопункте все, очевидно, спали. Чуть-чуть завыла собака, но еле слышно, так что проснуться никто не мог. Куличков еще раз прислушался на всякий случай и стал закидывать в воду сеть. Сеть ушла легко, нигде не запуталась, и Куличков налег на весла, чтобы пройтись по заливу с сетью, чтобы попало побольше рыбы. И вдруг весло в чем-то запуталось. И не с той стороны, с которой была его сеть, а с другой, с которой ничего не было. Куличков решил, что это водоросли. Налег было на весло, но что-то таинственное держало его и не отпускало. Тогда Куличков вынул весло из уключины и подтянул к себе. Теперь он мог ощупать конец весла. Он протянул руку и чуть не ахнул. Весло запуталось в рыболовной сети, и не в его сети — его была с другой стороны, — а в какой-то чужой, таинственным образом оказавшейся здесь в заливе. Куличков стал тянуть сеть к себе. Она была тяжелая. В ней было много рыбы. “Неужели наконец повезло”, — подумал Куличков, задыхаясь от волнения. Он подтащил сеть, поймал другой ее край, напрягая все силы, вытащил верхнюю половину сети в лодку и высыпал рыбу. Рыбы было много, и, судя по размеру, все форель. Он вытащил еще часть сети и высыпал еще рыбу. Рыбы было так много, что ему приходилось напрягать все силы. “Повезло!” — уже уверенно решил Куличков. С трудом он вытащил всю сеть. Рыба билась и извивалась, ударяла его по ногам, а он ликовал, что вот наконец после стольких лет неудач такая необыкновенная, удивительная удача! Он начал тащить свою сеть, и в его сеть тоже хорошо попало. Меньше, правда, но вместе получался огромный, удивительный прямо улов. Он представил себе, как завтра осторожненько, тихонько продаст всю рыбу. Дачники многие просят, так что покупателей хватит. Он подумал, что послезавтра он поедет в областной центр и купит новую партию займа, и даже прикинул уже местечко в доме, в котором можно будет эту пачку запрятать. Обе сети были вытащены. Куличков сидел почти по колено в рыбе, в бесценной, великолепной форели. Теперь он ясно видел, что это почти все форель. Только немного было сазанов да несколько попало случайных карпов. “Вот это уж повезло так повезло!..” — думал Куличков. И вдруг у него упало сердце: он сообразил — раньше он был в таком азарте, что это ему не приходило в голову, — раз он видит рыбу, значит, рассвело, а ему еще час добираться до дома. Пока доберется, будет совсем светло. Он даже вспотел от ужаса. Оглянувшись, он увидел снежные вершины гор и понял, что погибает. Он быстро вытащил весла и завел мотор. Лодка вышла из залива и пошла по озеру. Куличков свернул дальше от берега. Лодка была тяжело нагружена, сидела глубоко и шла, как назло, медленно. “Что делать? — думал Куличков. — Выбрать пустынное место, пристать там, выгрузить рыбу, зарыть мотор и ружье и оставить до завтрашней ночи? Но рыба за день протухнет. Один раз в жизни пришла удача и отказаться от нее? Нет, невозможно! Да и, кроме того, совсем уж пустынных мест не найдешь. Обязательно днем какой-нибудь шалопай пойдет шататься и найдет и рыбу, и мотор, и ружье”. Мысли мешались в голове Куличкова. “Ведь вот как получается… — думал он, — казалось, что повезло, а на самом деле, может, не повезло”. И вдруг его осенило: есть на озере маленький пустынный островок — камень и узкая полоска песчаного берега. Это по-настоящему пустынное место. Там можно быть уверенным, что никто не найдет ни рыбы, ни ружья, ни мотора. Он поедет туда, выгрузит рыбу, закопает ружье и мотор, а завтра к вечеру, еще когда будет светло, отправится туда просто на веслах. Может же, в конце концов, человек выехать с удочкой на закате. И заранее с перекупщиками договорится. Пусть они ждут его в условленном месте. Часть рыбы может испортиться, но не вся же. Вечером погрузит ее и отвезет. Испорченную выкинет, а остальную отдаст перекупщикам и велит, чтобы сразу отнесли покупателям. Все равно и того, что останется, хватит на то, чтобы поехать за облигациями. Все-таки что там ни говори, а ему наконец повезло, решил Куличков и уверенно направил моторку к острову.Глава девятая ИСКРЕННЕЕ РАСКАЯНИЕ
Андрей стоял и спокойно ждал, пока четыре друга высадятся на берегу. Правда, спокойствие это было внешним, на самом деле он волновался. Он понимал, конечно, что его не убьют. Все-таки все четверо были людьми с определенным общественным положением и не могли пойти на убийство. Но очень трудно решиться на борьбу, хотя бы даже словесную, с четырьмя взрослыми мужчинами, если тебе всего только двенадцать лет. С другой стороны, Андрей чувствовал теперь себя гораздо уверенней: солнце светило вовсю, и, конечно, Клаша уже уехала в поселок. Стрела — животное хоть неторопливое, но надежное — довезет. И, кроме того, Андрей чувствовал, что эти четверо его боятся. Боятся отчаянно, боятся больше, чем боится он. Но вот лодки врезались в песок, четверо выскочили на берег и подошли к Андрею. Садиков взял на себя инициативу переговоров. — Тебя как зовут, мальчик? — спросил он ласковым голосом. — Андрей, — сказал Андрей. — Слушай, Андрюша, — сказал по-прежнему ласково Садиков, хотя в груди у него клокотала ненависть к этому проклятому мальчишке, который не вовремя вмешался и погубил так удачно начавшееся предприятие. — Слушай, Андрюша, хочешь, мы сделаем так: мы тебя отвезем на берег, высадим возле рыбопункта, дадим тебе три рубля… Дадим, товарищи, а? Садиков оглядел Мазина, Коломийцева и Андронова, потому что подумал: “Вдруг они откажутся участвовать в этом расходе”, а он совсем не собирался один платить за всех. Товарищи вызывали в нем раздражение, пожалуй, не меньшее, чем Андрей. — Пять рублей дадим, — сказал ласково Мазин. — Купишь себе конфет или печенья. — Так вот, — продолжал Садиков, — дадим тебе пять рублей, а ты про нас не говори никому, ладно? — Я от вас денег брать не стану, — хмуро сказал Андрей. — Ты не думай, не думай, — замахал руками Садиков, — мы тебя не подкупить хотим, что ты! Просто, знаешь, ты целую ночь потратил, потом родителей твоих сейчас нет. С деньгами-то небось не очень хорошо… — И молчать не стану, — хмуро сказал Андрей. — Это что ж получается: за тысячи километров мальков везли, сколько лет ждали, чтобы форель расплодилась, а вы из-за баловства такую ценную рыбу губите! Садиков смотрел на Андрея, улыбался и сжимал кулаки. Улыбался он потому, что не решался переходить к угрозам, а сжимал кулаки от ненависти к проклятому мальчишке, из-за которого заварилась такая каша. — Степан Тимофеевич, — в отчаянии сказал он Мазину, — поговорите вы с ним. У меня нервы и так не в порядке, а тут еще… — Хорошо, — сказал Степан Тимофеевич и обратился к Андрею: — Ты рассуди сам, Андрюша. Ну, попутал нас бес, собрались мы причинить государству ущерб, так ведь не причинили же? Рыба-то вся в озере осталась, а мы только сами потерпели: сеть у нас оторвалась. — И знаешь что… — перебил Мазина Василий Васильевич, у которого в голове мелькнула идея почти гениальная. — Мы можем тебе эту сеть подарить. Поедем сейчас в залив, поищем ее, рыбу всю выпустим, пусть себе плодится дальше, а сеть тебе подарим. Она знаешь какая дорогая — пятьдесят рублей стоит! Ты понимаешь, что это такое — пятьдесят рублей?! — Не нужна мне ваша сеть, — ответил Андрей. — Лов сетями только рыболовецким бригадам разрешен, а удочки у меня у самого есть. — Держите меня! — закричал вдруг Садиков. — Сил моих больше нет! Изобью я этого проклятого мальчишку! Хоть душу отведу, а там будь что будет! — Подождите, Андрей Петрович, — сказал Мазин, — успокойтесь, возьмите себя в руки. Еще не все потеряно. — Он повернулся к Андрею и заговорил жалобным, умоляющим тоном: — Пойми ты, Андрюша, вот мы, четверо взрослых почтенных людей, умоляем тебя, ну совершили ошибку, ну виноваты, что же делать? — Да я все равно ничего не могу, — сказал Андрей уже беззлобно, потому что ему стало жалко этих неудачливых, испуганных, растерявшихся людей, и он подумал, что в самом деле рыба ведь не погибла, небось постепенно выберется из сети, да и в крайнем случае можно будет сеть поискать и выпустить рыбу. — Почему это ты не можешь? — настороженно спросил Мазин. — Молчи, да и все. — А сеть мы при тебе выловим, — добавил ласково Василий Васильевич. — Не хочешь брать сеть — не надо. Мы при тебе ее разрежем на куски. Ну ее — сеть, от нее только одни неприятности. — А Клаша? — сказал Андрей. — Какая еще Клаша? — насторожился Степан Тимофеевич. — Сестренка моя. Я ей велел, как светать начнет, в поселок скакать на лошади и сообщить в рыбнадзор. Теперь-то она уже давно, наверное, добралась. А оттуда долго ли по телефону сообщить. Уже небось катера вышли вас ловить. — О, черт!.. — простонал Садиков. — Еще Клаша на нашу голову! Нет, я с ума сойду! Товарищи, давайте хоть поколотим мальчишку. Ну я вас прошу, ну пожалуйста… — Замолчите, вы! — яростным шепотом сказал Василий Васильевич. — Это же будет отягчающее обстоятельство. Неужели вы не понимаете? Думаете, у меня руки не чешутся? В это время совсем близко зарокотал мотор. Несчастные браконьеры вздрогнули. Они представили, как по озерной глади летит катер рыбнадзора, и уже никуда не спрячешься, и даже возможность добровольно признаться и смягчить этим свою вину упущена. Они обвели глазами гладь озера, но нигде не было видно ни одного катера. — Мерзавец! — неожиданно закричал Василий Васильевич. — Это он! — Кто он? — с удивлением спросили Мазин и Садиков. — Он поехал признаваться! — сказал Василий Васильевич и показал пальцем. Моторка Коломийцева отошла от острова и, развернувшись, двигалась к берегу. Валентин Андреевич все время прикидывал, как бы использовать преимущество, которое он имел перед бывшими друзьями. Мотор-то был только у него, значит, он мог бы, обогнав всех, первым явиться в рыбнадзор и покаяться. Конечно, добровольное покаяние и выдача соучастников зачлась бы ему в плюс при разбирательстве дела. Пока была надежда, что удастся вообще все скрыть, он действовал вместе со всеми, но, услышав страшную новость про Клашу, которая небось все уже рассказала начальству, понял, что нельзя терять ни секунды. Садиков, Андронов и Мазин были так увлечены разговором с Андреем, что не заметили, как Коломийцев, пятясь, отошел от них, а потом повернулся, бегом кинулся к лодке, оттолкнул ее и запустил мотор. Сейчас трое друзей, вернее, бывших друзей смотрели друг на друга в полном отчаянии. Первым пришел в себя Садиков. Ни звука не говоря, он кинулся к своей лодке. Андронов и Мазин сразу сообразили, на что Садиков надеется. Может быть, какая-нибудь случай-кость поможет ему обогнать Коломийцева, а если случайности не произойдет, то все-таки он явится с повинной вторым. Это, конечно, хуже, но все-таки кое-что. Поэтому Мазин и Андронов тоже молча бросились к своим лодкам. Задыхаясь, дрожа от нетерпения, все трое столкнули лодки в воду, вскочили на них и бешено заработали веслами. — Валентин Андреевич!.. — громко кричал Садиков Коломийцеву. — Нехорошо, Валентин Андреевич!.. Погибать, так всем вместе! Но то ли мотор стрекотал слишком громко, то ли Коломийцев предпочитал не вдаваться в обсуждение морально-этических проблем, но он даже не повернулся на отчаянный крик Садикова. А Андрей Петрович, поняв, что делу словами не поможешь, с новой силой налег на весла. Лодки шли почти ровно. Если одна из них выдавалась вперед, то гребцы на двух остальных с такой силой налегали на весла, что немедленно восстанавливали равновесие. Все трое были люди не молодые. Все трое дышали тяжело и обливались потом, все трое смотрели друг на друга ненавидящими, яростными глазами. Каждому казалось, что остальные ведут себя подло, что это они втравили его в авантюру, а теперь пытаются на него же свалить всю вину. У Садикова порой вырывались проклятья. Он проклинал своих друзей, и мальчишку, и вообще все на свете. Василий Васильевич иногда вдруг испускал громкий стон. Испускал он его тогда, когда вспоминал, что сеть-то принадлежит ему и это несомненно будет установлено. А Степан Тимофеевич бормотал про себя: “Ой, не могу, ой, сердце лопнет, ой, задыхаюсь!” Он был старше других и сердце у него вообще частенько пошаливало, но отчаяние заставляло его не сдаваться и, несмотря на одышку и сердцебиение, он не отставал от Андронова и Садикова. Иногда все трое оглядывались, чтобы посмотреть, не уменьшается ли расстояние между ними и моторкой Коломийцева. Увы, оно не только не уменьшалось, оно увеличивалось! Коломийцев гнал вовсю, и было совершенно ясно, что догнать его не удастся. Оставалось надеяться только на чудо. И как это ни удивительно, но чудо произошло. Вдруг наступила какая-то странная тишина. Все трое были так увлечены своими мыслями, что не сразу обратили на это внимание, а когда обратили, то, как по команде, повернули голову. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, и это все-таки было правдой: у Коломийцева заглох мотор. Моторка стояла неподвижно. Коломийцев с бешеной энергией дергал шнурок, которым заводится мотор, но мотор, испустив два или три непонятных звука, замолкал опять. Появилась надежда. Силы друзей или, вернее, бывших друзей удесятерились. Три лодки с бешеной быстротой нагоняли моторку, расстояние стремительно сокращалось. Коломийцев иногда поднимал голову и с отчаянием видел, что теряет единственное свое преимущество. Он снова и снова дергал шнурок, но мотор молчал. Если бы было время, Коломийцев разобрал бы его, выяснил причину поломки и заставил бы мотор работать. Но вся беда в том, что времени не было. И вот гребцы нагнали моторку. — А-а-а, — закричал Садиков, — влипли? И поделом! Уж мы теперь про вас такое наговорим!.. — Подлец! — коротко крикнул Мазин. Василий Васильевич молчал. Мысль о том, что сеть-то все-таки его, не давала ему покоя. Коломийцев с отчаянием увидел, что лодки его обгоняют. Конечно, если бы в ближайшие пять—шесть минут мотор заработал, он еще мог бы прийти первым к финишу. Зато, если мотор заработает через двадцать минут, он безусловно придет последним. Проклиная все на свете, он достал весла, которые всегда брал на случай какой-нибудь аварии с мотором, вставил их в уключины и стал грести изо всей силы. Теперь четыре лодки двигались ровной линией. Четыре человека, задыхаясь и обливаясь потом, налегали на весла, с ненавистью поглядывая друг на друга. Но по-прежнему, если одна лодка хоть немного вырывалась вперед, гребцы на трех остальных удваивали усилия, и строй снова выравнивался. Это продолжалось невыносимо долго — так, по крайней мере, казалось гребцам. У всех стучало в висках, силы быстро иссякали; каждый с ужасом думал, что еще несколько взмахов веслами — и он уже не сможет шевельнуть рукой или даже, может быть, у него разорвется сердце и он погибнет бесславной и позорной смертью. Все знали, что ближайшее место, где можно покаяться, — это дирекция рыбпрома. Она находилась прямо напротив острова, метрах в семидесяти от берега. Напротив дирекции, на берегу, росли три старые ивы. Они уже были видны. С каждой минутой они поднимались, как бы вырастали из воды. Потом показались крыши домов. Вот уже берег был виден, уже из-за деревьев выглядывала крыша дирекции рыбпрома и рядом с ней — арка, под которой вход на рыбозавод, и уже видны были орсовские свиньи, которых по утрам выгоняли из свинарника, и стадо орсовских гусей, неторопливо направлявшееся к воде. Уже на берегу стояли несколько человек и, прикрыв ладонями глаза, с удивлением разглядывали странную флотилию, ровным строем мчавшуюся к берегу. Никто не мог ничего понять: ни о каких соревнованиях не объявлялось, а между тем было ясно, что лодки бешено стремятся обогнать друг друга, что каждый гребец напрягает все силы, чтобы хоть немного вырваться вперед. Постепенно азарт начал овладевать и зрителями. — Давай, давай!.. — кричали с берега. — Налегай, братцы!.. Потом лодки оказались так близко, что гребцов узнали. — Браво, автобаза! — кричали Коломийцеву. — Налегай, конезавод!.. — советовали Василию Васильевичу. — А ну, горкомхоз, наддай жару!.. — рекомендовали Садикову. Но соревнование закончилось вничью. Лодки одновременно врезались в берег. Четыре странные фигуры с безумными глазами, обливающиеся потом, еле держащиеся на ногах, даже не вынув весел из уключин, даже не подтащив лодки повыше, выскочили на прибрежный песок. Яростно глядя друг на друга, не отвечая на вопросы, ни на кого не обращая внимания, покачиваясь, еле волоча по земле ноги, все четверо, как безумные, двинулись к зданию дирекции. Все, кто был на берегу, пошли за ними. Происходило что-то явно загадочное, и всем хотелось узнать, что случилось. Прохожие присоединялись к процессии. Слишком уж необычаен был вид четырех людей, чтобы любой не пожелал выяснить, в чем, собственно, дело, что, собственно, произошло. Из магазина выскочило человек десять взволнованных покупателей. Все расспрашивали друг друга. Никто ничего не мог объяснить. Все было непонятно. А четверо шли, внимательно следя, чтобы кто-нибудь не вырвался вперед, обмениваясь ненавидящими взглядами. Бежать они не могли: не хватало дыхания и подгибались ноги, но такая стремительность была в их на самом деле медленном шаге, что казалось — они бегут стремглав. Наверное, никогда еще в истории человечества преступники так не стремились как можно скорее покаяться. И вот наконец четыре бывших друга подошли к крыльцу дирекции. Толпа как загипнотизированная шла за ними. У крыльца произошла заминка. Каждый понимал, что должен первым ворваться в дверь. Поднялось что-то вроде борьбы. Садиков пытался оттолкнуть Коломийцева и Мазина, Василий Васильевич попытался проскользнуть вперед, но был перехвачен у самой двери и оттиснут назад. Садиков, Мазин и Коломийцев ринулись в дверь одновременно. Ясно было слышно пыхтение. Каждый старался протиснуться, а вход для троих был слишком узок. Василий Васильевич метался сзади и кричал, что это нечестно и что он тоже имеет право покаяться. А трое пыхтели и пытались оттолкнуть друг друга, но все трое были так слабы, так измучены, что у них ничего не получалось. В это время Василия Васильевича вновь осенила гениальная идея. Поняв, что положение безнадежно и что четвертому в дверь во всяком случае не пробраться, он вспомнил про окно. Окно, правда, было закрыто, зато форточка распахнута настежь, а под окном стояла скамейка. Василий Васильевич влез на скамейку и, почти засунув голову в форточку, закричал: — Александр Тимофеевич, это я, Андронов, с конезавода! Я должен вам признаться в нарушении… Заметив этот хитрый маневр Василия Васильевича, Мазин, Садиков и Коломийцев напрягли все силы и, вопреки законам физики, одновременно протиснулись в дверь. — Александр Тимофеевич, — закричали они хором, — я должен вам признаться в нарушении… А в форточку доносился отчаянный голос Василия Васильевича, заканчивавшего фразу: — …законов об охране рыбных богатств страны! — …законов об охране рыбных богатств страны! — повторили, как эхо, Садиков, Мазин и Коломийцев. В кабинет уже набилась толпа заинтересованных, ничего не понимающих людей. Александр Тимофеевич почесал затылок и сказал: — Ну и чудеса творятся на белом свете!Глава десятая ОДИН НА ОДИН
Когда четыре противника вдруг убежали и Андрей остался на острове один, он сперва даже не понял, что, собственно, произошло. Только что его упрашивали, ему грозили и вдруг все убежали. Глядя вслед удаляющимся лодкам, он задумчиво покачивал головой. Лодки становились все меньше и меньше и превратились наконец в черные точки на ярко-синей глади озера, а Андрей, сопоставив все факты, все фразы, вырвавшиеся у четырех друзей, пришел к правильному, в общем, выводу, что все дело в его словах о Клаше и что браконьеры решили, лучше самим прийти с повинной, чем ждать, пока их поймают. — Ну и ладно, — решил Андрей, — пусть являются сами. Несерьезный народ. Теперь впору было позаботиться о себе. Он почувствовал голод и усталость. Но прежде всего следовало подумать о будущем. Андрей никогда на этом островке не был, не слышал о нем, не знал, посещают ли его рыбаки, дачники или туристы. Судя по всему, люди здесь бывали очень редко. Андрей обошел островок и, если не считать отпечатанных на песке следов его самого и четырех браконьеров, не нашел никаких признаков пребывания человека. Правда, птиц, очевидно, бывало много. Об этом свидетельствовал птичий помет. Но то ли бывали они во время перелета, то ли их спугнули люди, но сейчас даже и птиц не было. Скала была невысока, метра два в вышину, с одной стороны почти отвесно обрывающаяся вниз, с другой стороны — пологая. Кругом скалы или камня — называй, как хочешь, — была полоса песка, с одной стороны пошире, метра два с половиной, с другой — поуже, метра полтора. Вот и все. Если не считать того, что на песке кое-где лежали камни размером некоторые с кулак, некоторые с человеческую голову. Да, тут долго не проживешь; Андрей читал “Робинзона Крузо”, в робинзонадах кое-что понимал и видел, что острой этот для робинзонов не подходит. Конечно, если Клаша добралась до поселка и все толком объяснила, то его с острова непременно снимут. Он понимал, что уже сейчас дан сигнал всем катерам выйти на поиски. Ну, а если Клаша не добралась до поселка? Мало ли что: девочка маленькая, опыт у нее небольшой, верхом ездить тоже не умеет. Может, где-нибудь по дороге Стрела споткнулась или Клаша сама не удержалась на спине лошади и упала. Как ей опять взобраться на лошадь? Сидит себе где-нибудь, беспомощная, не зная, что делать, или пытается добраться до поселка пешком. Сколько пройдет времени, пока она доберется пешком! Да и заплутаться в кустарнике очень легко. Тропинок много — как узнаешь, какую выбрать. Стрела-то знает дорогу, а Клаша не знает. Андрей было приуныл, но потом вспомнил еще про одно обстоятельство и решил, что все равно спасенье близко. Четыре браконьера отправились каяться. Для того чтобы их показание показалось искренним, они, конечно, должны рассказать всю правду и, значит, сообщить, где находится Андрей. Хотя, с другой стороны, это дело тоже неверное, кто его знает, что им придет в голову? Может, они решат промолчать про Андрея. Глупо, конечно, да ведь и люди-то не особо умные. В общем, Андрей решил попусту не расстраиваться, надеяться на лучшее, а пока отдохнуть. Там, где камень обрывался отвесно, была тень. Андрей улегся на песок, но решил не спать. А то мало ли — пройдет лодка и не заметишь. Он решил лежать и думать о чем-нибудь приятном, чтобы время шло быстрее. Он стал представлять себе, как вернется мать из больницы, как отец приедет из командировки, снова станут приходить рыбачьи баркасы сдавать рыбу, будут и они с Клашей помогать родителям. Отец уже обещал Андрею, что на премию купит ему ружье? Андрей решил, что поставит у сарая мишень и будет каждый день тренироваться, пока не научится стрелять лучше всех ребят в районе. По-видимому, он все-таки задремал, потому что, когда услышал звук мотора, лодка была совсем близко. Андрей выскочил и огляделся. Лодки нигде не было видно, очевидно, она подходила к острову с другой стороны скалы. Андрей обежал скалу и остановился. Лодка подходила к острову, но это был не рыбачий баркас и не катер рыбнадзора, а простая, очевидно, частная лодка с подвесным мотором. И лодка эта была до половины заполнена рыбой. Рыба блестела на солнце, ее было много. Удочкой столько в жизни не наловить. Тут пахло сетями и браконьерством. В то время, когда Андрей выглянул из-за скалы, Куличков смотрел в другую сторону. Он был убежден, что на острове никого нет. К острову к этому отродясь никто не приставал, разве что в бурю — отсидеться. Поэтому Куличков считал, что на острове ему ничто не угрожает. А вот напороться на катер рыбнадзора или даже просто на колхозный баркас можно было очень легко. Поэтому он все время оглядывал озеро и не видел мальчишеской головы, выглянувшей из-за камня. Прежде чем Куличков повернулся к острову, Андрей спрятался за скалу. Он и раньше-то знал, что браконьеры народ отчаянный и способный на все, а прошедшая ночь его многому научила. Конечно, браконьеры случайно попались ерундовые и все кончилось благополучно, но страху Андрей натерпелся. Андрей залег за скалой и то осторожно высовывал голову, то прятался и внимательно следил за приближающейся лодкой. Очень скоро он узнал Куличкова. Он много раз его видел зимой в поселке и слышал о его неудачной судьбе и о том, что Куличков — человек бедный, кое-как перебивающийся. Он помнил его всегда как бы опущенную фигуру, выражавшую крайнее уныние. Его поразило, что сейчас у Куличкова фигура была совсем другая. Ой сидел на лодке у мотора настороженный, собранный, хищный. “Откуда же у него мотор, — подумал Андрей, — он же всегда на веслах ходил?” Между тем лодка врезалась в песок с другой стороны скалы. Андрей Куличкову не был виден, но зато и Куличков не был виден Андрею. Андрей только слышал, как тот пыхтит, возится и ругается. “Что он делает? — думал Андрей. — Выгружает здесь рыбу? Зачем? Она же здесь испортится”. Любопытство так мучило его, что он все-таки осторожно высунул голову. Да, Куличков выгружал рыбу. Огромные великолепные форели, большеголовые сазаны, поблескивающие на солнце карпы летели на песок. Куличков был так занят своей работой, что не обращал внимания ни на что. Только изредка он останавливался, вытирал рукавом пот со лба и оглядывал озеро. Тогда Андрей скрывался за скалой, но, выждав минуту, высовывал голову опять. На песке уже лежала куча рыбы, и Куличков стал ее перекидывать к скале. Он правильно рассчитал, что хотя с этой стороны сейчас солнце, но через час или полтора именно сюда придет тень и рыба будет лежать в тени самое жаркое время дня. “Эх, — размышлял Куличков, — почему я не взял с собой лопату?! Можно бы присыпать сверху мокрым песком, и рыба лучше бы сохранилась”. Но горевать об этом было поздно. Лопаты все равно не было, а руками таскать мокрый песок — до вечера не управишься. Махнув на все рукой и еще раз подивившись незадачливом своей судьбе. Куличков стал снимать мотор. Он долго возился с ним, кряхтел и чертыхался, но все-таки сиял, вынес на берег и, оттащив подальше, туда, где песок был сухой, стал ладонями насыпать на него песок. Потом он вытащил сети и тоже зарыл в песок. Потом вытащил ружье, но, подумав, не стал зарывать, а положил осторожненько у самой скалы и прикрыл курткой. Андрей лежал за скалой и мучительно соображал, что делать. Упустить Куличкова? Андрей понимал, что все это делается не зря, что план у Куличкова сложный и хитрый, не выбросил же он просто на песок рыбу, чтобы она здесь гнила. Он не видел, как Куличков зарывал мотор, но, осторожно высунув голову, приметил, что мотора на лодке нет. Значит, мотор останется на острове. Андрей понимал, что теперь он имеет дело не с перепуганным обывателем, вроде Коломийцева или Садикова, что тут совсем другое дело. Сопоставив обычный униженный вид Куличкова с теперешней его собранностью и напряженностью, легко было сообразить, что это человек хищный, всю жизнь обманывавший всех и, стало быть, человек, который пойдет на все, чтобы двойная жизнь его не раскрылась. Ясно было также, что кто-то — неважно, сам Куличков или его сообщники — придет на остров за рыбой и за мотором. Когда придет? Андрей не представлял себе, чтобы Куличков решил оставить рыбу надолго. День жаркий, рыба испортится. Значит, наверное, скоро придут. Может быть, раньше, чем разыщут Андрея катера рыбнадзора. Куличков или его сообщники обнаружат Андрея и тогда… У Андрея упало сердце, когда он подумал, что будет тогда. Странно было, лежа на песке, слышать, как возится, пыхтит, бормочет что-то про себя человек, и не понимать, а только о трудом догадываться, что он делает: вот он зарывает мотор, вот он опять полез в лодку и что-то вытащил; Андрей высунул голову и увидел, что Куличков несет двустволку. Потом он снова слышал, как Куличков сопит и бормочет что-то, проклинает судьбу и людей и вообще весь мир. А что Куличков делает, Андрею не было видно. Он все думал и думал, и перебирал все возможности, но, по чести сказать, и перебирать-то было нечего, потому что возможностей никаких не было. Потом Андрею пришла в голову неожиданная мысль. Он осторожно, стараясь не дышать, привстал сначала на четвереньки, потом, держась за скалу, — на ноги и, ступая на цыпочки, по сыпучему песку прошел два шага до того места, где песок был мокрый. Наклонившись и все время оглядываясь, назад, не появится ли из-за скалы Куличков, он написал на мокром песке большими печатными буквами: “Меня хочет убить Куличков. Он браконьер. Андрей Сизов”. Потом он подумал, снял куртку и небрежно бросил ее на песок так, чтобы она, якобы брошенная небрежно, на самом деле закрывала всю надпись. А потом он также тихо вернулся на прежнее место. И тут случилась незадача: он оперся рукой о скалу, а на том месте, на которое он оперся рукой, оказывается, лежал небольшой камень. Сорвался камень, сорвалась и рука Андрея. Андрей чуть было не упал. Не упал, правда, удержался на ногах, но все-таки был отчетливо слышен в тишине, царившей на острове, легкий шум, шорох песка, вздох Андрея. Андрей застыл неподвижно, не дыша, все еще надеясь, что Куличков не услышал, что, может быть, обойдется. Но Куличков тоже замер. Уже не слышалось его пыхтение и бормотание, и поэтому Андрей понял, что Куличков услышал и понял, что кто-то есть на острове, и сейчас стоит еле дыша, прислушиваясь, стараясь определить, где этот враг, где этот свидетель, которого надо во что бы то ни стало уничтожить. И долго, очень долго на острове царила полная тишина. А потом Андрей увидел, как из-за скалы медленно-медленно, осторожно-осторожно высовывается голова Куличкова. Наверное, минуту они смотрели друг на друга, не двигаясь, и никто из них не решался начать борьбу. Первым рванулся Андрей. Он рванулся бежать от Куличкова. И сразу же прыгнул ему вслед Куличков. Андрей бежал вокруг скалы. Бежать было трудно по сыпучему песку, но так же трудно было бежать и Куличкову. Андрей обежал полкруга и остановился. Он посмотрел назад и не увидел Куличкова. Он хотел было побежать дальше, но передумал. Может быть, Куличков решил его перехитрить и пошел обратно, и сейчас выйдет из-за скалы ему навстречу. Вероятно, Куличков стоял по другую сторону скалы и тоже думал, как лучше: гнаться ли вслед за мальчишкой или перехитрить его и пойти навстречу. И опять на острове была полная тишина, как будто не стояли два человека, сдерживая дыхание, трепеща от волнения, понимая, что судьба одного из них и жизнь другого зависят от одного неверного шага, от одного ошибочного движения. Андрей больше не в силах был ждать. Он чувствовал, что все лучше, чем эта полная тишина и полная неизвестность. Осторожно, медленно переставляя ноги, он двинулся вперед. Медленно-медленно поворачивалась перед его глазами скала. Каждую секунду ждал он, что из-за поворота скалы покажется лицо Куличкова, идущего ему навстречу. И все время он оглядывался назад, потому что каждую секунду Куличков мог появиться из-за оставшегося позади поворота скалы. Вот он увидел кучу рыбы, сложенной у скалы, рядом песчаный холмик, под которым был зарыт мотор, и куртку, аккуратно уложенную на песок, так аккуратно, что было ясно: курткой что-то прикрыли. Андрей ногой приподнял край куртки и увидел приклад ружья. Андрей обернулся. Куличкова не было видно. В это время Куличков так же медленно, как Андрей, шел сзади. Он думал было пойти навстречу Андрею, но решил сначала измотать парня. Он не знал в лицо Андрея Сизова, хотя и видел его много раз на улицах поселка. Куличков детей не любил и никогда не обращал на них внимания. Куличкова не интересовало, как мальчишку зовут. Существенно было Другое: он имеет дело с мальчишкой, с которым, конечно же, справится без труда. Нужно только его поймать. Поймать мальчишку тоже всегда будет возможность. Надо только подготовиться. А пока пусть мальчишка побегает, пусть измучается от страха, пусть устанет как следует. Когда Андрей увидел приклад ружья, он еще раз обернулся назад. Куличкова не было. Он посмотрел вперед — там Куличкова тоже не было. Тогда Андрей наклонился и быстро схватил ружье. Заряжено оно или нет? Можно, конечно, согнуть стволы и проверить, но как раз, когда он будет проверять, Куличков может показаться. Разрядить ружье Куличков мог только до того, как подошел к острову, иначе Андрей услышал бы щелканье сгибаемых стволов. Мысль у Андрея работала необыкновенно четко и быстро. Куличков наверняка знает, заряжено ружье или нет. Если он не испугается, оказавшись перед дулом ружья, значит, ружье не заряжено и его надо бросить Куличкову в голову. Потом у него мелькнула другая мысль: может быть, он успеет вскочить в лодку и отойти от острова. Запасные весла в лодке обязательно есть. Всякий мотор иногда шалит, и понимающий человек без весел не выйдет на воду. Андрей повернулся лицом к скале и, пятясь, держа ружье так, что, откуда бы Куличков ни появился, он через секунду оказался бы прямо перед дулом, начал отходить к лодке. Куличков в это время продолжал медленно идти вокруг скалы. Он настолько был увлечен погоней, что не обратил внимания на то, что песок у воды был истоптан следами многих ног. Краем глаза он увидел куртку, брошенную на песок, но что ему было за дело до куртки! Он только подумал про себя, что потом, когда все будет кончено, куртку надо будет подобрать, завернуть в нее камень и кинуть в местечко поглубже. Но это потом, а сперва надо кончить с делом. Всю жизнь ловчить, скрываться, бедствовать, будучи богатым, и чтоб все погибло из-за какого-то мальчишки, которого черт занес на этот остров, где никогда никто не бывает! Куличков прямо кипел от бешенства. Ему казалось, это страшно несправедливым. Опять судьба шутила над ним шутки, опять его преследовали неудачи! Но он понимал, что именно сейчас нужно быть хладнокровным, терпеливым и осторожным. Поэтому он продолжал медленно двигаться вдоль скалы. А Андрей медленно отступал к лодке. Если он сумеет столкнуть ее в воду и, держа ружье под рукой, вставить в уключины весла, тогда он спасется сам, да еще и поймает браконьера. Придется тому ждать на острове, пока за ним придет милицейский катер. В том, что он не промахнется, если придется стрелять, Андрей был почти уверен. Конечно, когда у него будет собственное ружье, он научится бить без промаха, но и сейчас он достаточно много стрелял из отцовского ружья, чтобы рассчитывать на удачу. И хотя сердце у него колотилось и кровь билась в висках, но голова была совершенно ясная и руки не дрожали. Пятясь, он дошел до лодки и на секунду обернулся: да, как он и думал, весла в лодке были. Теперь только столкнуть. И в эту секунду Куличков показался из-за скалы. Андрей вскинул ружье. — Руки вверх! — сказал он фразу, которую, как ему было известно, полагается говорить в этих случаях. Куличков вскинул руки вверх. — Да что ты, парень, — сказал он, — с ума сошел? Ни с того ни с сего в человека стрелять? Я же из института рыбоводства. Это же контрольный улов. Сейчас за ним катер придет. Вот ты увидишь… И он сделал шаг по направлению к Андрею и еще шаг. — Стойте на месте! — сказал Андреи. — Это неправда, что вы из института. Я знаю, вы — Куличков. Куличков сделал еще шаг вперед. Андрей прицелился, он решил стрелять в ногу. Достаточно легко ранить Куличкова, и Андрей уже сам управится с ним, пока придут катера. Теперь между Куличковым и Андреем было шага четыре — не больше. И тут Куличков прыгнул на Андрея. Один за другим щелкнули оба курка, но выстрела не было: ружье было не заряжено, тогда Андрей изо всех сил швырнул ружье в ноги Куличкова. Куличков взмахнул руками, упал и сразу же, чертыхаясь, начал подниматься. Но Андрею хватило времени, чтобы стремглав кинуться за скалу и скрыться с глаз Куличкова. Положение было прежним: два человека по разные стороны скалы и каждый во что бы то ни стало должен победить другого.Глава одиннадцатая КАТЕР ИДЕТ НА ПОМОЩЬ
Пока на маленьком островке шла борьба между Андреем и Куличковым, на берегу разворачивались бурные события. После короткого совещания у председателя райисполкома, Степана Григорьевича Коробкова, начали звонить телефоны. Всем катерам рыбнадзора и рыболовецким баркасам, и даже прогулочным катерам находившегося неподалеку санатория, было приказано выйти на поиски Андрея. Начальник милиции срочно выехал на рыбопункт. Надо было проверить, может быть, Андрей вернулся домой. На рыбопункте его встретил бешеным лаем Барбос, который справедливо считал, что если в отсутствие хозяев является посторонний человек, то это уж полное безобразие. Тем не менее начальник милиции прорвался в дом. Клаша не заперла дверь, она не умела управляться с тяжелым висячим замком, которым дверь обычно запиралась. Сразу же было ясно, что в доме никого нет. Тем не менее начальник обошел дом, заглянул в сарай и коптильню и даже несколько раз громко крикнул: “Андрей!” — думая, что, может быть, мальчик случайно отошел куда-нибудь. Андрея не было. В заповедном заливе, который начальник тоже внимательно оглядел, у самого берега болталась непривязанная пустая лодка. Начальник, шлепая по воде, добрался до нее и тщательно ее осмотрел: весла не были вынуты из уключин, а этого да еще того, что лодка не была привязана, никогда бы не допустил мальчик, выросший в рыбацкой семье у самого озера. Начальник внимательно осмотрел лодку. Он не признавался в этом самому себе, но боялся найти в лодке следы крови. Нет, следов крови тоже не было. В это время в залив вошел катер рыбнадзора. Начальник милиции подсел в катер, и вместе с двумя работниками рыбнадзора они тщательно обследовали залив. Вода в озере была очень прозрачная, и дно было ясно видно. Видно было, как висели в воде форели, видны были камушки на дне. Все было как обычно. Потом они обошли берега залива: нигде не было никаких следов. Не были обломаны ветки кустарников, не видно было, чтобы по земле тащили что-нибудь тяжелое. Это загадочное отсутствие каких бы то ни было признаков преступления всем троим показалось очень тревожным: куда исчез мальчик? История становилась все непонятнее и загадочнее. Когда начальник милиции, вернувшись в поселок, доложил об этом председателю райисполкома, у которого в это время сидел начальник рыбнадзора, оба помрачнели. Они сидели молча, думая о том, что можно еще предпринять для розыска Андрея, когда в кабинет вошел Александр Тимофеевич, директор рыбпрома. Выслушав взволнованные признания четырех неудачливых браконьеров, он в присутствии свидетелей записал их показания и решил сообщить об этом случае в рыбнадзор. Борьба с браконьерством в прямые обязанности его не входила. Надо сказать, что понять что-нибудь из показаний раскаявшихся преступников было почти невозможно. Во-первых, они перебивали друг друга; во-вторых, главным образом напирали на то, что они честные люди, осознавшие свои ошибки и клянущиеся, что ничего подобного больше никогда не повторится. — Ну, а сеть, сеть-то где? — спрашивал директор рыбпрома. — Оторвалась и уплыла, — отвечал Василий Васильевич. А трое остальных сразу начинали объяснять, что сеть принадлежала Василию Васильевичу и они к этой сети отношения никакого не имели. Вообще получалась бестолковщина и ералаш. “Странная история, — думал про себя директор рыбпрома. — С чего это у них так вдруг совесть взыграла? Собрались на незаконный лов, сговорились, достали сеть, вышли, и вдруг ни с того ни с сего у всех четверых одновременно эдакий припадок раскаяния”. Он их прямо спросил: — А с чего вдруг вы решили признаться? Все четверо начали взволнованно объяснять, что лучшие стороны их натур восстали против нарушения советских законов и они осознали всю глубину своего падения. — Все одновременно осознали? — спросил Александр Тимофеевич. — В одну и ту же минуту? Этого вопроса не следовало задавать ни в коем случае. Тут неразбериха пошла уже полная. Сперва каждый из четырех начал кричать, что он осознал первый, потом поднялся яростный спор. Каждый приводил доводы в свою пользу. Коломийцев кричал, что он с самого начала был против. Мазин кричал, что с самого начала был против он. Садиков кричал, что они врут и что против был он — Садиков. А Андронов стонал и говорил: — Стыдно, стыдно, товарищи! Вы помните, как я возражал? Получалась странная картина. Все четверо были против и тем не менее почему-то отправились на незаконный лов. Александр Тимофеевич решил, что в этом должен разобраться рыбнадзор, велел всем четверым ждать в дирекции, а сам сел на своего “козлика” и поехал в поселок. Он обязательно прихватил бы с собой преступников, но в его распоряжении был только “козлик”, и всех четверых втиснуть в него было невозможно. Он решил, что либо представитель рыбнадзора приедет сюда, либо из поселка пришлют грузовую машину, которая и заберет кающихся грешников. Про то, что Андрей остался один на маленьком острове, никто из браконьеров не сообщил вовсе не потому, что хотел это скрыть. Просто каждому из них казалось это совершенно неважным. Важно было то, считал каждый, что он покаялся, что реального ущерба государству нанесено не было, и вообще важно то, чтобы его простили. Андрей просто выпал из их сознания. Они просто забыли, что если бы не Андрей, то они бы давно уже разделили пойманную форель и попрятали бы ее по укромным местам. Каждый искренне считал, что только совесть, только природная честность заставила его в последний момент отказаться от преступления и явиться с повинной. Приехав в поселок, Александр Тимофеевич зашел в рыбнадзор и, узнав, что начальник рыбнадзора вызван к Коробкову, отправился в райисполком. Он рассказал о загадочном припадке раскаяния у четырех браконьеров. Он рассказывал это как случай смешной, нелепый и не сомневался, что он вызовет у слушателей по крайней мере улыбки. Но все слушали его серьезно и так напряженно, что Александру Тимофеевичу стало ясно: дело гораздо серьезнее, чем ему кажется. — А где они ловили? — перебил его вопросом Коробков. — В заливе, у Волошихинского рыбопункта, — ответил Александр Тимофеевич. Это он уловил из бессвязных показаний браконьеров. — А мальчик где? — спросил начальник милиции. — Какой мальчик? — удивился Александр Тимофеевич. — Про мальчика они ничего не говорили? Через десять минут милицейская машина на третьей скорости мчалась к дирекции рыбпрома. Кроме двух милиционеров, в ней ехали начальник милиции и его помощник. Коробков и начальник рыбнадзора остались в райисполкоме, чтобы отсюда руководить поисками Андрея. Войдя в комнату, где все еще переругивались бывшие друзья, начальник милиции сразу спросил: — Что вы сделали с Андреем Сизовым? Все четверо растерянно на него посмотрели. Они настолько были увлечены спором, что даже не сообразили, кто такой Андрей Сизов. Первый догадался, о ком идет речь. Садиков. — Ах, Андрей Сизов!.. — сказал он растерянным голосом. — Он остался на острове. — На каком острове? — Ну на этом… маленьком… Он и названия-то не имеет. Ну, против рыбпрома, прямо туда… — И он указал рукой направление. Через пять минут последний, оставшийся на берегу катер с начальником милиции и двумя милиционерами, пеня воду, мчался на помощь Андрею. А Андрей в это время действительно очень нуждался в помощи. Прежде всего, после того как восстановилось исходное положение, Куличков вытащил из кармана патроны и зарядил двустволку на оба ствола. Он чувствовал противную слабость в коленях, и руки у него дрожали. До сих пор до убийства он все-таки еще никогда не доходил. Но теперь его благополучию угрожала опасность, и он считал, что единственный выход — это пристрелить мальчишку. Мальчишка его узнал, мальчишка видел рыбу, ружье, мотор; раньше или позже кто-нибудь, наверное, снимет мальчишку с острова. Начнутся допросы, обыщут дом, найдут пачки облигаций, и пропал Куличков. Он решил, что рыбу выбросит в озеро — теперь не до рыбы, — мотор и ружье утопит в глубоком месте, а сам на веслах отойдет подальше куда-нибудь, поудит несколько часов и с десятком рыбешек заявится к вечеру домой. Конечно, убытки большие — и мотор, и ружье, да еще и сети придется утопить, — но, по крайней мере, останется все накопленное, нажитое ценою тысячей хитростей, обманов, годами лицемерия и лжи. Была еще одна вещь, о которой он не хотел сейчас думать, но которую, как понимал он в глубине души, придется сделать. Придется отвезти на глубокое место труп парня н утопить его с камнем на шее. Он подобрал валявшийся на песке большой круглый камень и бросил его в лодку. Голова его кружилась от мыслей: как мальчишка попал на остров? Лодки на острове нет, значит, кто-то его привез. Зачем его здесь оставили? Может быть, оставили ненадолго? Может быть, скоро за ним придет лодка или даже катер? Значит, надо спешить. Перебивая эту мысль, неслась другая: надо будет опустошить в доме все тайники. Если мальчишка пропадет, начнется розыск. Скрыть, что он в этот день был на озере, нельзя. Тот, кто привез сюда мальчишку, расскажет, где его оставили. Будут проверять всех, кто был на озере. Надо застраховаться от обыска. И третья еще мысль кружилась в голове. Может быть, свою сеть утопить, а чужую, которую он выловил в заливе, оставить здесь. W часть рыбы оставить. Может быть, владелец сети показывал ее кому-нибудь, тогда сеть опознают. Тогда, наоборот, мальчишку не надо топить, а оставить здесь. Куличкову стало смешно, когда он подумал, как влипнет этот незнакомый ему владелец сети, как он будет пытаться доказать свою невиновность и как, на основании неопровержимых улик, ему вынесут обвинительный приговор. Этот план имел большие преимущества. Тогда Куличков уже наверняка выйдет из воды сухим. Зачем кого-то подозревать, когда убийца бесспорно изобличен. Куличкову эта мысль очень понравилась. Прежде всего, однако, надо было добраться до мальчишки. И тут ему пришла в голову еще одна хорошая мысль: если он взберется на скалу, то сверху ему будет виден весь остров. И куда бы мальчишка ни побежал, пристрелить его можно будет везде. Если бы за мальчишкой не приходили еще час, он, Куличков, успел бы управиться. Наконец, его осенила еще одна мысль: надо сначала погрузить в лодку часть рыбы, мотор и свою сеть. Тогда останется только пристрелить мальчишку, оттолкнуть лодку и давай себе работай веслами. “Следы! — вдруг сообразил Куличков. — Надо будет внимательно осмотреть песок: не оставил ли он следов. А те следы, которые были до него, пусть останутся. Они, конечно же, принадлежат тому, кто привез мальчишку. А его, Куличкова, следы могут быть только здесь, возле лодки. Вокруг скалы он ходил по сыпучему песку. Там-то следов не остается. Ну, а здесь стереть следы — дело недолгое”. Куличков принялся за работу. Он погрузил в лодку мотор, думал было подвесить его, но потом решил, что это дело долгое и не стоит возиться. Потом в свою сеть начал насыпать рыбу, в два приема перетащил в лодку приблизительно половину. Оставшаяся часть вполне могла быть выловлена той, чужой сетью. “Камень все равно пригодится, — думал Куличков. — Насыплю в сеть хоть половину рыбы, остальную просто вывалю за борт, а камень — в сеть. Пойди-ка найди!” Наконец все было готово. Взяв ружье, держа палец на курке, Куличков стал подниматься по пологому склону горы. Андрей в это время медленно шел вдоль скалы, готовый бежать назад, как только увидит Куличкова. “Почему ружье было не заряжено? — думал он. — Потому ли, что он просто его разрядил, или потому, что у него нет патронов? Но если человек берет с собой ружье, то, конечно же, он берет и патроны? Значит, патроны у него есть”. Размышляя, Андрей продолжал медленно двигаться вокруг скалы. Вот показалась лодка, куча рыбы — Андрей заметил, что рыбы стало гораздо меньше, сеть почему-то одна, а не две, — Андрей сделал еще шаг, приоткрылась еще часть берега: Куличкова не было. Андрею бы не пришло в голову посмотреть на скалу, но так как скала была здесь пологая, то, оглядывая берег, Андрей скорее почувствовал, чем увидел на вершине скалы какую-то темную фигуру. Андрей повернул голову — Куличков стоял, наклонившись над отвесным краем скалы, и высматривал: не прячется ли под обрывом Андрей. На обрыве были выступы, под которыми мальчик мог бы спрятаться, поэтому Куличков, насколько возможно, выгнулся вперед. То, что сделал Андрей, он сделал инстинктивно. Он почувствовал, что Куличков еле сохраняет равновесие, что даже несильного толчка достаточно, чтобы он упал с обрыва. Пусть обрыв невысок, метра два, но это все-таки выигрыш во времени. Должны же когда-нибудь за ним прийти! Андрей схватил камень, — так как времени выбирать не было, это оказался не очень большой камень, — и, тщательно прицелившись, кинул его в Куличкова. Ощущение Андрея было правильным: Куличков так свесился над обрывом, что даже этого несильного толчка оказалось достаточно. Он полетел вниз. Андрей услышал крик Куличкова, но ему было не до этого. Он кинулся к лодке, столкнул ее и на ходу упал животом на нос. Торопливо он перелез через нос и начал вставлять весла в уключины. Он все время ждал, что выйдет Куличков с ружьем. Он не очень надеялся на успех отчаянной своей попытки. Надо было отойти на лодке так далеко, чтобы был хоть маленький шанс на то, что Куличков промахнется. А сейчас Андрей уже не мог скрываться за скалой. Как только появится Куличков, он станет стрелять. И все-таки, хотя шансов на спасение почти что не было, надо было использовать малейшую возможность спастись. Но Куличков не показывался. Андрей вставил весла в уключины. Как он ни торопился, он взял себя в руки и сделал это спокойно, как будто опасности не было. Он налег на весла, и лодка двинулась от острова. Времени разворачивать лодку не было. Лодка шла кормою вперед. Он не мог себе разрешить повернуться спиной к острову. Лодка отошла метров на пятнадцать, когда показался наконец Куличков. Он шел очень медленно, сильно хромая. Падая, он подвернул себе ногу, при каждом шаге нога сильно болела. Он даже закричал от ярости, увидя, что Андрей в лодке и что лодка отходит все дальше и дальше. — А, дьявол!.. — закричал он и вскинул ружье. Андрей зажмурил глаза, но продолжал изо всех сил налегать на весла. Раздался выстрел и сразу за ним второй. Стрелял Куличков не очень хорошо. Так как он скрывал, что у него есть ружье, ему редко приходилось практиковаться. И все-таки с такого расстояния одна пуля из двух, наверное, попала бы в Андрея, но Куличков нервничал, понимая, что если он упустит мальчика, то все погибло, торопился, и, кроме того, у него страшно болела нога и он стоял нетвердо, чуть покачиваясь от боли. Он сразу же перезарядил ружье. У него оставалось еще восемь патронов, так что он не терял надежды, что удастся подстрелить мальчишку. На этот раз он решил действовать осторожно и осмотрительно. Ковыляя, постанывая от боли, он дошел до самого берега. Теперь лодка была уже метрах в пятидесяти. Теперь уже лишняя секунда не играла роли. Куличков встал на колени и не торопясь прицелился. Самое страшное было следить за медленно двигающимися стволами и ждать выстрела. И вдруг Андрей почувствовал, что сейчас Куличков непременно попадет, во что бы то ни стало попадет. Он бросил весла и упал на дно лодки… Куличков не сразу понял, куда вдруг исчез мальчишка. Он уже так точно прицелился, что механически спустил курок. Но второй раз Куличков не стал стрелять. Он перезарядил разряженный ствол и начал ждать, когда мальчишка появится. Но Андрей не появлялся. Он на секунду высунул голову из-за одного борта лодки и снова спрятался, потом высунул голову из-за другого борта и спрятался опять. Куличков сходил с ума от ярости: как его достать, этого подлого мальчишку! Каждую минуту за ним могут прийти, и тогда он, Куличков, пропал. Куличков тщательно, неторопливо прицелился и выстрелил. Он целил в весло и промахнулся. Вторым выстрелом он все-таки разбил весло. Перезарядив ружье, он начал целить во второе. В него он попал только с четвертого выстрела. Теперь лодка покачивалась метрах в пятидесяти от берега, и так как было полное безветрие, то она не приближалась к острову и не удалялась от него. Андрей уже понял, что Куличков не первоклассный стрелок и что он попадает только тогда, когда долго целится. Поэтому он решил, что не очень опасно быстро высунуться и упасть снова на дно. Это было необходимо, для того чтобы увидеть, что делает Куличков. Он высунулся и сразу услышал выстрел. И сразу понял, что ранен. Его будто обожгло в левое плечо. От испуга он забыл спрятаться за борт, он сидел на скамейке, зажимая правою рукою рану, и чувствовал, как теплая кровь расползается по рубашке. Потом он понял, что это не тяжелая рана, во всяком случае, не смертельная, успокоился немного и посмотрел на берег: ружье лежало на песке. У Куличкова больше не было патронов. Куличков, кривясь от боли, входил в воду. Как только глубина позволила, он поплыл. Плыть было все-таки легче — нога меньше болела Андрей окинул взглядом лодку. Чем он мог защититься? Он увидел камень, который Куличков взял, чтобы утопить сеть. Куличков быстро приближался, Андрей взял обеими руками камень, поднял его и положил на борт. Только теперь он почувствовал острую боль в левом плече. Стиснув зубы, Андрей ждал, пока подплывет Куличков. С тоской он оглядел озеро. Он чувствовал, что слабеет. Если он потеряет сознание — то пропал. На горизонте, показалось ему, он видит какую-то точку, но времени вглядываться не было: Куличков быстро приближался. Он подплыл к лодке совсем близко. — Я брошу камень! — сказал Андрей. — Ближе не подплывайте! Куличков остановился. Теперь он барахтался в воде метрах в трех, не решаясь подплыть ближе. А Андрей ясно слышал рокот мотора. Он решился отвести от Куличкова глаза и взглянуть туда, где он заметил точку. Да, теперь сомнения не было. Белый катер быстро приближался. Уже даже было видно, что в катере сидят люди в милицейской форме. И Куличков услышал мотор. И Куличков обернулся. И он тоже увидел катер и фуражки милиционеров. Он метнулся было к берегу, потом опять к лодке. А у Андрея кружилась голова, и он чувствовал, что еще немного — и он потеряет сознание. Какая-то страшная темнота настала для него вокруг- и озеро, и остров, и катер показались ему совсем черными. Он услышал плеск воды, силой заставил себя прийти в сознание и увидел, что камень упал в воду. Но в то же время увидел он, что катер подошел к Куличкову и сильные руки вытащили его из воды. И тогда, поняв, что теперь все в порядке и что он победил, Андрей потерял сознание. А Куличков, когда его втащили в катер, горько усмехнулся и сказал: — Всю жизнь мне не везло — не повезло и сегодня.Глава двенадцатая ПОСЛЕДНЯЯ
Андрей очнулся в больнице. Рана у него была не очень серьезная, но, во-первых, он потерял много крови, а во-вторых, для двенадцати лет пережил слишком много. Зато, когда он очнулся, все пошло просто удивительно хорошо. Весь район уже знал его историю. Весь район восхищался им. Вокруг больницы был сад, и под окном в саду целые дни толпились товарищи Андрея по школе. Их не пускали сторожа, их гнали сестры и врачи, но они каким-то таинственным образом прорывались, и в окне палаты показывались их головы. На второй день, когда Андрей немного набрался сил, его навестил председатель райисполкома. Тут уж за окном торчало, наверное, голов двадцать. Все ребята и все больные в палате слышали, как председатель райисполкома благодарил Андрея и сказал, что райисполком награждает его почетной грамотой и премирует лодкою с подвесным мотором. Александра Степановна, мать Андрея, лежала в той же больнице на втором этаже. Первые дни от нее скрывали всю историю, чтобы не волновать ее, а дня через три, когда она окрепла после операции, ей сказали, и она пришла к Андрею. Сначала она ахала, ужасалась и плакала, но Андрей был такой веселый, и так было очевидно, что он скоро поправится, что Александра Степановна успокоилась и только иногда, вспомнив, что пережил Андрей, снова начинала ужасаться и ахать. Каждый день приводили Клашу. Она по-прежнему жила у председателя райисполкома и очень сдружилась с двумя его детьми. Стрела стояла в райисполкомовской конюшие и чувствовала себя прекрасно. Так как Клаша была девочка хозяйственная и рассудительная, она объяснила, что обязательно нужно привезти Барбоса, кошку и жирафа. С этим согласились. Шофер райисполкома поехал на машине на Волошихинский рыбопункт, запер дом на большой висячий замок и привез всех троих. Правда, приехал он весь бледный, с искусанными руками, и клялся, что в следующий раз лучше повезет дикого льва, чем этого Барбоса, — будь он неладен! Увидя Клашу, Барбос успокоился и особых неприятностей семье председателя райисполкома не доставлял. Пришел к Андрею, конечно, и Александр Тимофеевич. Он принес подарок дирекции рыбопункта — двуствольное ружье с дощечкой на прикладе. На дощечке было очень красиво написано: “Андрею Сизову за борьбу с расхитителями рыбных богатств от дирекции рыбпрома”. Думали вызвать Павла Андреевича из командировки, но решили, что не стоит. Зачем зря волновать человека. Он, впрочем, сам приехал через неделю, как раз накануне того дня, когда Андрей и Александра Степановна вышли из больницы. Их выписывали в один день. Я думаю, что врачи специально так подогнали. Может быть, кого-нибудь из них можно было выписать немного раньше, но решили подзадержать. И правильно сделали. Получилось очень торжественно: мать и сын вышли из больницы вместе, их провожали врачи и сестры и те больные, которым разрешалось ходить. А встречали их и Павел Андреевич с Клашей, и председатель райисполкома с семьей, и Александр Тимофеевич, и учителя из школы, где Андрей учился, во главе с самим директором, и, конечно, целая туча ребят, и много еще всякого народа. К себе на рыбопункт они отправились на райисполкомовской машине, и все махали им на прощание руками и желали всякого благополучия. Куличкова увезли судить в областной центр. Андрея вызывали в качестве свидетеля. Он рассказал все, как было, и ему разрешили после того, как он дал показания, остаться на процессе. Тут он узнал об удивительных результатах обыска в доме Куличкова, о пачках облигаций, завернутых в грязные тряпки, и о том, что Куличков вышел на тайный промысел далеко не в первый раз. Прокурор в своей речи упомянул о мужественном и благородном поведении двенадцатилетнего мальчика, Андрея Сизова. Куличкова осудили на пятнадцать лет, и он уехал, все еще считая, что ему просто не повезло в жизни, а он ни в чем не виноват. Можно было, конечно, отдать под суд и четверых друзей. Но их решили не судить. Это был действительно первый случай в их жизни, да и столько они натерпелись страха и стыда, что это наказание сочли совершенно достаточным. Их прорабатывали на собраниях, про них произносились гневные речи, подчиненные смело выступали с резкой критикой по поводу нарушения начальниками советских законов. Словом, они пережили наяву все, что видели в страшных снах, когда только готовились к тайному лову. Как они ни каялись, покаяния их вызывали только усмешку. Вообще смех — это было, пожалуй, самое страшное. Так как всему поселку история была известна во всех подробностях, то, видя их, никто не мог удержаться от улыбки. Все со смехом вспоминали, как они мчались на лодках, обгоняя друг друга, как они ссорились и спорили, какими они оказались маленькими, трусливыми людьми. Год с небольшим прошел с той поры, как я был на озере, и люди, с которыми я там сдружился, пишут мне, что все четверо постепенно уехали из поселка. Степан Тимофеевич Мазин стал бухгалтером в сельском универмаге, Садиков где-то работает комендантом, а про Коломийцева и Андронова никто даже ничего и не знает. Уехали куда-то, и все. Известно точно, что ни один из них до самого отъезда не выезжал на рыбную ловлю. У всех у них появилось какое-то отвращение к лодкам, к удочкам и к самой рыбе. Даже на озеро они старались не смотреть. Почему-то вид его был им неприятен. А я хоть и не был на озере год с лишним, но все вспоминаю его: и бесконечную, необыкновенно яркую синюю гладь, то освещенную солнцем, то покрытую белыми бурунами, и снежные горы на другом берегу. Многое из того, что я видел там, уже стерлось из памяти, многое я уже не могу воссоздать воображением, и многих людей, с которыми встречался, я позабыл, но с удивительной ясностью представляется мне Андрей Сизов, в темную ночь садящийся в лодку, чтоб одному пойти против четверых, и маленькая Клаша, едущая на высокой лошади, — маленькая Клаша, которую даже не было видно, когда она стояла перед письменным столом председателя райисполкома за креслом с невысокой спинкой.
Ю. Котляр. “ТЕМНОЕ”
Длинные царапины глубоко прорезали рыхлую ткань противолучевого скафандра. — Быстрей раздевайся и немедленно на осмотр. — Зачем? Я себя прекрасно чувствую, — возразил Хуан. Данил ничего не ответил и молча вышел из шлюзовой. Хуан с досадой прикусил губу и принялся торопливо стаскивать громоздкий костюм. Салон встретил начальника тремя парами настороженных глаз. — Ну? — выражая общее беспокойство, нетерпеливо бросил Чария. — Опять… — нехотя ответил Данил. — Напал! Да? — широко раскрыла глаза Ира. Данил утвердительно кивнул. — Проклятая тварь! До каких же пор?.. — вскинулся худой, остролицый Клод. — Что с Хуаном? — перебила его Ира. — Это нам скажешь ты. Он пошел к тебе, — хмуро отозвался Данил. — Он ранен? — Надеюсь, нет. Но скафандр основательно поврежден. Царапины очень глубоки. Могло задеть кожу. Ира озабоченно покачала головой и ушла. — Черт знает что! — Клод яростно хватил кулаком по столу. — Спокойно, спокойно! — чуть повысил голос начальник. — Пожалей руки. Клод не унимался: — Ну, знаешь ли, с меня достаточно! Сыт по горло! Принять меры твой долг… — Никто не спорит, — флегматично согласился начальник. — Кстати, скажи лучше, как он выглядит? — Так ведь говорил уже десять раз. — Ничего, расскажи в одиннадцатый. — М-м-м… — замялся Клод. — Действительно! Черт его знает! Пожалуй… черный. Или нет, погоди! Скорее… Э-э, как бы точней? Серый с черными пятнами. Да-да! Именно так. — По-твоему? — Темно-синий, — лаконично ответил Чария. — Та-ак… — протянул начальник. — А на мой взгляд, он темный. Просто темный… Ты упал тогда, Клод. Сильный был толчок? — Как сказать? Честно говоря, не понял. Не столько толчок, сколько неожиданность. Данил снова повернулся к Чарии: — Я увидел тень и отшатнулся. Он задел вскользь по плечу и получил хорошего тумака. На этом мы расстались. — Его размеры? — Метра… полтора. Тонкое, гибкое животное. — Да ну! Откуда там полтора? — перебил Клод. — От силы — метр. Массивный, толстый зверюга. Когти как бритвы. Данил улыбнулся. — Не вижу ничего смешного, — рассердился Клод. Данил покачал головой и развел руками. — А у меня был такой… Круглый! В салон вошла Ира. — Ну, как? — шагнул навстречу Данил. — Он задет. — Сильно? — Нет, пустяки, еле заметная царапина. Но ведь не в этом дело. — Я понимаю. Ты боишься заражения? — невольно понизил голос Данил. — Да. — Сколько ждать, пока выяснится? — Двенадцать часов. — Ладно… Дежурю я, всем отдыхать. Спокойного сна!***
Он подошел к стене и нажал кнопку. В открывшийся иллюминатор глянуло черное небо с тусклыми пятнами расплывчатых звезд. Далеко, у горизонта, мерцало розовым. Отсвет ширился, разрастался, набирал силу. Вскоре по небу побежали неяркие лучи и показался блеклый розовый сегмент. Он быстро увеличивался еще несколько минут, и громадный диск Розового солнца занял чуть не полнеба. Он осветил безжизненную ширь волнистой серой равнины. Терриконы разработок высились в полукилометре от жилых куполов. Добычу вели автоматы, но даже их кристаллический мозг разлаживался от всепроницающего излучения энория. Думающие вкладыши автоматов приходилось регулярно менять, но это не представляло особого труда и опасности. Надо только держаться в тени предохранительных щитков, не высовываться из нее и тщательно следить за целостью скафандра. Только и всего! Теперь с появлением “темного” все осложнилось. Короткий переход до разработок и обратно стал смертельно опасным. Над экспедицией нависла тень постоянной угрозы. Странная история! В журнальных записях Ласло нет и намека на что-либо подобное, а он провел тут целый год. Значит, “оно” появилось после отлета группы Ласло. Или еще позже, уже при них… Да, скорее всего, именно так. Нападения начались не сразу, а со второго сеанса наладки автоматов. Но Ласло всегда подчеркивал полное отсутствие жизни. Он никогда никого не видел, кроме безобидных землероек, последних представителей живого мира Мертвой планеты… По гладкому серо-розовому небу мелькнула тень, за ней другая. Они слились в огромное радужное пятно, внезапно разразившееся снопом красно-голубых лучей. Их дрожащие полосы охватили все небо и слились в призрачную сиреневую пелену. По ней побежали фиолетовые волны и закрутились разноцветные вихри. Данил равнодушно закрыл иллюминатор. Фантастическое зрелище уже потеряло прелесть новизны, раздражало и утомляло глаза. Он знал: на другой стороне небосвода взошло второе солнце. Крохотное, яростное Голубое солнце. Сумасшедшая пляска лучевых фантомов не прекратится до его заката. Потом, через некоторое время, все начнется сначала. Пока не настанет короткий час полной темноты — совпадение закатов обоих светил. Всего час! За это время нужно успеть побывать там, на разработках. Они успевали, пока не появилось “темное”. Розовое солнце излучало убийственные ку-лучи, а Голубое изливало поток смертоносных гамма-квантов. Один час, всего один час из пятидесяти находился в распоряжении экспедиции. Приходилось быстро поворачиваться, но справлялись. На этот раз Хуан благополучно добрался туда, но на обратном пути, у самого входа в купол, “оно” напало. Три нападения подряд. До сих пор пострадавшие отделывались нервной встряской и испорченными скафандрами, а на этот раз дело обернулось скверно. Хуан задет когтями “темного”, и неизвестно, чем это кончится. Противно сознавать свое бессилие и беспомощно ждать. Мысли Данила вернулись к “темному”. Так и неясно, какое оно. Почти ничего не известно и о его повадках. Но, похоже, бродит только в темный час. Очевидно, тоже не переносит излучений обоих солнц. Странно и непонятно. Землеройки прячутся лишь от лучей Голубого солнца и отлично чувствуют себя при свете Розового. Это, естественно, так и должно быть. Розовое — их родное светило. Если “темное” избегает света Розового, то, выходит, Клод ошибается, его теория неверна. Тогда вообще не существует никаких гарантий от самых неожиданных встреч. Может быть, где-то затаились обитатели планеты? Как-то уцелели… Нет, ерунда! Клод, конечно, кипяток, но первоклассный космогонист. Он не станет бросать слов на ветер. Очевидно, Клод все-таки прав, и Розовое действительно поймало Голубое в сети своего тяготения, оказав этим медвежью услугу всему живому на планете. Остатки растений и останки животных, убитых излучением Голубого, наилучшим образом подтверждают гипотезу Клода. Выжили одни землеройки, их спас подземный образ жизни. Но как же тогда “темное”? А быть может, оно тоже не боится Розового светила? — Нужно понаблюдать! — в задумчивости воскликнул он вслух. — За кем? — спросил голос. Данил вздрогнул от неожиданности, но тут же улыбнулся, встретив спокойный взгляд Чарии. — Никак не спится, — пояснил тот. — Может, сменить? Все равно не сплю. — Не стоит, до конца дежурства осталось недолго. Лучше поговорим… Что с Хуаном, станет ясно только через семь часов. Ты знаешь, чего я опасаюсь? — Еще бы… Данил испытующе посмотрел на сухое, смуглое лицо Чарии, на его седые волосы. Чария Упадхайя — один из старейших релятивистов Земли. Перед его глазами, в короткие промежутки между полетами, прошла вся история Объединенных народов — целый ряд веков. За этим морщинистым лбом таится опыт десятков дальних звездорейсов. Суровые черные глаза видели невиданное. Он, Данил, несмотря на полет к Веге и звание начальника, щенок по сравнению с ним. “Но почему молчит старик? Разве он не видит, как мне трудно?” Данил досадливо передернул широкими покатыми плечами. — Ты видел начало. Тебе встречалось похожее? — Трудно сравнивать. Причуды космоса неповторимы. Одно могу утверждать: “оно” настойчиво и кровожадно, но слишком слабо, чтобы убить сразу. Однако иногда убивает и царапина. — Тебе приходилось видеть заболевших? — Всего дважды. Это неумолимо, как вечность. Тут высокая концентрация вируса? — По словам Иры, низкая. Всего одна положительная проба из двухсот. Чария укоризненно покачал головой: — Ты заблуждаешься — это много. Лапы “темного” соприкасаются с почвой тысячи раз за час. Они замолчали. Данил подошел и сел напротив. — Неприятно говорить, — начал он, — но… (Чария выжидательно прищурился.) Но что делать! — выдохнул Данил. — Приходится! Скажу прямо: не вижу выхода. Вот где у меня “темное”! — Он похлопал себя по затылку. — Я прикидывал так и этак — все без толку. Ничего не получается. Посуди сам! На барраж не хватит энергии, да и нет дальнобойных излучателей. Жесткий скафандр не защищает от наведенных излучений почвы, а лучевой — от его когтей. Высветить дорогу к разработкам невозможно: там ямы, камни, колдобины, много темных мест. Тайдер бесполезен — “оно” кидается так внезапно, что не успеваешь и руку поднять. Идиотское положение! — с сердцем заключил Данил и, немного помолчав, угрюмо продолжал: — До смены всего полгода. Нас прислали на минимальный срок, пошли навстречу моей просьбе. А мы? Что мы погрузим на супер? — Он безнадежно махнул рукой. — Два карьера уже бездействуют. Если пропустим сеанс наладки, станут и остальные. Какой-то заколдованный круг… Вызвать помощь? Пошел бы и на этот шаг. Но не хватит времени, супер придет раньше… — Он с хрустом сжал пальцы. — Ты знаешь, Чария, я больше не могу слышать об энории. Энорий, энорий, энорий! Мой отец чуть не погиб, добывая энорий на Голубом астероиде. — Знаю, слышал, — вставил Чария. — Энорий превратился в сущее проклятие нашей цивилизации. — Говоришь ерунду, — строго сказал Чария. — Без энория, его энергии не может быть современных звездолетов. Благодаря энорию сейчас летают так далеко, как до его открытия и мечтать не смели. Конечно, энория с каждым днем требуется все больше, но это символ бурного роста звездонавтики. Энорий не проклятие, а величайшее благо. — Давно не слышал от тебя таких длинных речей, — улыбнулся Данил и добавил: — Ты прав, я увлекся, поддался чувству досады. Но что делать? Скажи, посоветуй. — Следующий сеанс мой… — задумчиво произнес Чарии. — Так вот, уберем прожектор и запустим вдоль дороги серию парашютных светильников. — И ты надеешься, что поможет? — вскинул тонкие брови Данил. — Попробуем. Нужно попробовать… Как дела, Ира? — повернулся Чария. — Пока все так же. Хуан заснул и спокойно спит, но еще рано делать заключения. А вообще!.. Не хотела признаваться, но, кажется, есть надежда. Может обойтись благополучно. — В таких делах старые новости — лучшие новости, — облегченно заметил Чария и, улыбнувшись Ире одними глазами, сказал: — Пойду к себе, может, усну. Ира подошла к Данилу. — Хоть бы обошлось с Хуаном! — Ты что-нибудь делала с ним? — А как же! Все, что только возможно… Но, если звездный вирус, я бессильна и… — Не смей так говорить! — резко прервал он, но тут же спохватился: — Прости! Невольно вырвалось… Она улыбнулась и, вздохнув, сказала: — Пошла. — В ответ мелодично пропел сигнал. — А!.. Конец твоей смены. Пойди отдохни. Еще целых шесть часов ожидания… Вот и Клод прибыл.***
Сон хитрил, прятался, упрямо не шел. Потом подкрался коварно, незаметно… — Данил! Данил! Проснись!.. — настойчиво повторял голос Иры. Он пробормотал: — Я не сплю… — и вскочил, протирая глаза. — Ну что. Она не ответила, растерянно глядя на него. Ее подбородок дрожал, а в глазах застыли слезы. — Говори! — Я… я не уверена. Но, кажется… — Она запнулась. — Говори же! — Звездная чума. В горле вырос и застрял тугой ком, перехватил дыхание. Он с усилием проглотил его и коротко бросил: — Вернись к нему. Я приду с Чарией. Хуан лежал на спине под прозрачной изолирующей сферой. Он встретил их вымученной, жалкой улыбкой и тотчас скосил глаза на свою грудь. Там лиловело зловещее пятно. Чария внимательно и, казалось, бесстрастно посмотрел, кивнул больному и вышел. Данил, ободряюще улыбнувшись Хуану, последовал за ним. — Не могу смотреть в его глаза, — глухо произнес Чария. — Это она… звездная чума. Он погиб… — Думай, Ира, думай! Думай изо всех сил! Думай, пока не лопнет голова, но спаси его. Чего ты стоишь? Включи все свои памятные лонжеры. Ты же медик! — Голос Данила поднимался все выше. — Не кричи на девочку! — резко прервал его Чария. — Но нельзя же так! Он умирает, а она стоит. Опустила руки… — Здесь и знаменитость ничего не сделает. Звездный вирус не дает пощады… Делай свое дело, девочка. А вдруг?.. — Он властно сжал локоть Данила. — Пошли!.. Не узнаю тебя. Где твоя выдержка, достоинство? — А-а! — отмахнулся Данил. — Не до того. Хуан умирает! Мой лучший друг… — Все равно нельзя кричать на женщину. Тем более на жену. — Я кричал?! На Иру? Пойду извинюсь. — Не к чему. Она умница, сама поймет, простит… Вы избалованное племя, — задумчиво продолжал он. — Слово “невозможно” приводит вас в бешенство. В мое время, когда я начинал жизнь, было иначе. Человек нередко смирялся перед природой. Сейчас человек разучился отступать. Вы идете только вперед, а иногда полезно временно отступить. Выждать, собраться с силами и снова пойти в атаку. Но уже беспроигрышную и без жертв. — Старик умолк. Данил недоуменно посмотрел на него: — Не понимаю, не вижу никакой аналогии. О каком временном отступлении может идти речь? Через несколько часов Хуана не станет и… — Они еще не истекли, эти часы, — прервал Чария. — Вот послушай! Что тебе известно о судьбе Банта и планете Эльдорадо? — Немногое. — Мало кто знает больше. Я один из них. В те времена мне пришлось исполнять обязанности связиста на супере “Непал”. Связь Банта с Землей шла через нас. Он посылал депеши на ку-лучах — ку-граммы, — а мы передавали дальше обычными радиограммами. Бант нашел на Эльдорадо все, о чем может мечтать поисковик. Прекрасную атмосферу, великолепный климат, безобидный животный мир и богатейшие залежи энория. По сравнению с Эльдорадо легендарный Голубой астероид не стоил и гроша. Сначала все шло превосходно, но потом стали бесследно исчезать люди. Бант ничего не мог обнаружить. Он принял строжайшие меры предосторожности и ничего не мог поделать. Там было что-то не так. В корне не так! Ему следовало сразу, после первого же случая, немедленно прекратить добычу энория. Перейти на замкнутый режим и выждать. Время могло помочь открыть врага. Тогда можно было вступить в борьбу или оставить планету. Смотря по обстоятельствам. Но Бант увлекся и увлек других. Они продолжали добычу. Ку-супер Банта покинул Эльдорадо с перегруженными энорием отсеками и меньше чем с половиной экипажа. На Земле Банта ждал суд звездного трибунала, но он никуда не прилетел. После длительного перерыва я принял последнюю ку-грамму Банта. На какой-то паршивой маленькой планетке, встреченной по пути, они подцепили звездный вирус и мёрли, как мухи. Последнюю депешу Бант передавал сам, по-моему, уже в горячечном состоянии. Наврал координаты планеты и клялся, что разгадал смертоносную тайну Эльдорадо. Что все дело в облаках. Не знаю, о чем шла речь, на Эльдорадо никто больше не бывал. Координаты планеты до последнего времени считались утерянными… Вот какова цена бездумной храбрости. Понял? — Понять — понял, но мораль рассказа неясна. Вернее, не имеет ничего общего с нашим положением. — А мне кажется, имеет, — веско возразил Чария. — Я летаю давно, наслышался и навиделся всякого. Пока рассказывал, одновременно припоминал все слышанное о звездной чуме. Все известные мне случаи. К счастью, не так уж они многочисленны. Так вот, никто и никогда не заболевал на больших планетах. Заражались на астероидах, мелких планетах или в космосе. Одним словом, исключительно в условиях слабого тяготения. Здешняя тяжесть всего четверть земной. Поневоле напрашивается вывод… — А-а! — вскричал Данил и стремительно вскочил. — Стой! Куда?.. Сядь на место. Позовем Иру, расскажем, посоветуемся. Только ей дано право решать… За эти короткие часы лицо Иры осунулось и посуровело. — Что Хуан? — лаконично спросил Чария. — Хуже и хуже. Хуже с каждым часом. Пятна подбираются к лицу. Это звездная чума. Больше нет сомнений, — безнадежно заключила она. — Сколько ему осталось жить? — Часа два… Не более трех. — Надежда? — Ни малейшей. — Совсем-совсем ни капли?! — переспросил Данил. — Ну что вы меня мучаете? — со стоном вырвалось у нее. — Словно сами не знаете. Данил решительно поднялся на ноги: — Тогда слушай. Есть один выход… — О Данил! — задохнулась она и беззвучно пошевелила губами, не в силах вымолвить слово. Подпрыгнула, поцеловала его в подбородок, крепко стиснула руки Чарии и кинулась прочь. На миг задержалась в дверях и ликующе крикнула: — Я чувствую — он будет жить! Изолирующую сферу окружало тяжелое кольцо гравитационного пояса. Стрелка гравитометра застыла у отметки тройнойземной тяжести. Хуан лежал на спине в том же положении, но дышал учащенно, с трудом: сказывалось влияние перегрузки. — Они не отступают, но и не идут дальше, — прошептала Ира, указывая глазами на россыпь лиловых пятен, поднявшихся к горлу Хуана. Она вопросительно взглянула на Чарию и тихо сказала: — Три “жи”… Если добавить? — Спроси прежде у него. — Хоть десять, — прошелестел ответ. — Я… хочу… жить. — В глазах Хуана застыла смертельная тоска. Мозг больного сохранил ясность мышления. Он понимал, что умирает, и перегрузка — последняя неверная надежда. Ира махнула рукой Данилу. Стрелка гравитометра медленно поползла вверх: четыре… пять… семь… восемь. Хуан мертвенно побледнел: сердце изнемогало под тяжестью железно потяжелевшей крови и ток ее замедлился. — Еще… — прошептал он беззвучно. Стрелка достигла грозной отметки “десять” и остановилась. Минуты потекли удручающе медленно. Все молчали. Лицо Хуана пожелтело, заострилось, веки бессильно опустились, но…***
— Победа над звездной чумой — величайшее открытие. Ты обессмертил свое имя, — сказал Данил. — Случайно подмеченный факт — не открытие, — возразил тот. — А до победы пока далеко. — Ни капельки не согласна! — вмешалась Ира. — Хуан на пути к полному выздоровлению. Средство блестяще подействовало. Не нужно скромничать, Чария. Твоя идея должна стать достоянием человечества. Не к чему откладывать, каждый час промедления может стоить жизни кому-то, попавшему в беду. Я пойду скажу Клоду, пусть передаст… Чария протестующе поднял руки. — Не нужно! Оставь. Только сейчас припомнил… Эх, память уже не та, — пробормотал он. — Знаменитый капитан Лонг Бор в юности благополучно перенес болезнь. Его случай, правда, единственный, и везение Бора вошло в поговорку, но повторение не исключено. Если так, что тогда? Данил многозначительно взглянул на жену. — Хорошо… — вздохнула она. — Пусть так. Отложим до окончательного выздоровления Хуана. За это время я проведу тщательные наблюдения, проделаю контрольные исследования, и если все подтвердится, то сомнений не останется… Почти не останется! — поспешно поправилась она в ответ на легкую улыбку Чарии. — С этим покончили, — сказал Данил. — Теперь вернемся к “темному”. Этот сеанс вместо тебя проведу я. Чария вопросительно вздернул тяжелые брови: — Почему? Данил немного замялся: — Видишь ли… Только не обижайся. Хорошо? Я подвижней, сильней, мне скорее удастся покончить с ним. — Ясно! Намек на мой возраст… — В тоне старика прозвучала нотка горечи. — В этом ты прав. Но нет, Данил. Не выйдет! — Ты против. Хочешь идти? — недовольно спросил Данил. — Нет, не пойду. — Ничего не понимаю. Объясни. — Никто не пойдет, — раздельно произнес Чария. — Как так?! — Ни один человек не выйдет из куполов, пока не будет обеспечена безопасность. Слепой риск не для нас, — хладнокровно пояснил старик. — Мне кажется, здесь начальник я, — преувеличенно спокойно возразил Данил. — По Звездному уставу, решение начальника экспедиции, принятое за пределами Земли, не подлежит обсуждению. — По Звездному уставу, начальник экспедиции не имеет права рисковать собой, пока есть в живых хоть один из ее членов. — Но пойми же, Чария! — взмолился Данил. — Ведь работы станут. — Пусть! Я не зря рассказал тебе историю Банта. Неужели она ничему не научила? (Данил пожал плечами.) Нельзя рисковать человеческими судьбами из-за мальчишечьей бравады. Рыцарь космоса — рыцарь расчета, а не пустоголовый забияка, — теряя обычное спокойствие загорячился Чария. — Пойми! Энорий — огромная ценность, но весь эиорий Вселенной не стоит человеческой жизни. Она неповторима и невозвратима!.. Тебя учили многому, и учили хорошо. Я только практик. Мои познания не идут ни в какое сравнение с твоими. Зато у меня есть опыт. Используй же его, сложи с твоими познаниями, и ты добьешься успеха. Мы должны разделаться с “темным”, не подвергаясь смертельной угрозе звездной чумы. Думай и думай, как ты недавно требовал от Иры. В этом я твой друг и безропотный помощник. Подчинюсь любому приказу! Не попрошу скидок на преклонные годы. Но рисковать человеческими жизнями не позволю, и это мое последнее слово.***
План Данила был несложен и сравнительно безопасен. Жесткий скафандр защищал от когтей “темного”, но пропускал излучения. Однако инъекция противолучевой сыворотки нейтрализовала вредоносное действие излучений на срок до трех минут. На эти три минуты человек в скафандре должен был стать живой приманкой и вступить в поединок с “темным”. В шлюзовой Данилу помогали Ира и Чария. Они быстро облачили его в непроницаемый, твердый панцирь. На небе бледнел и гас свет розовой зари. Наконец исчез последний луч, и серое небо почернело. Наступила короткая ночь Мертвой планеты. — Пора, — сказал Данил. Ира, серьезная и бледная, прикоснулась к его шее тихо гудящим цилиндриком инъектора. — Ой, — поморщился он, — щекочет… Ну, все! Сухо щелкнул колпак шлема. — Удачи тебе, Данил! — горячо воскликнул Чария. Он шагнул в ночь. За спиной автоматически опустилась броневая дверь. Впереди подстерегало неведомое “темное”. Уже через несколько секунд глаза Данила привыкли к неверному свету мерцающих розовых отсветов, и он увидел негостеприимную землю Мертвой планеты. Черные тени лежали неподвижно, не шевелясь. Сделав несколько шагов, нарочито шумных, он остановился и, до боли напрягая зрение, осмотрелся вокруг, но не заметил ничего подозрительного. Данил торопливо перевел рычажок слухового аппарата на максимальное усиление звуков. Затаил дыхание и прислушался… Ночь равнодушно молчала. Он снова двинулся вперед, чутко вслушиваясь в ночь и крепко сжимая рукоять тайдера… Под ноги попало что-то мягкое и упругое. Он вздрогнул, отскочил и нажал кнопку фонаря. Тусклый синий луч осветил истерзанную тушку землеройки… По спине прокатилась холодная волна. Так! “Оно” здесь. Где-то рядом притаилось чудовище. Сжалось, напряглось, приготовилось к прыжку. Молчание ночи стало угрожающим. Он снова остановился… Ничего! Только стук сердца… А время идет! Данил перехватил тайдер и быстрым движением вскинул левую руку. На циферблате светилась цифра “два”. Ого! Прошло целых две минуты. Осталась одна. Пора… Мягкий толчок в грудь перебил мысли. Он непроизвольно изо всех сил сжал руки. В уши ударил пронзительный вопль. В нем почудились боль и страх. Данил невольно ослабил хватку. Упругое тело дернулось, шевельнулось и затихло. На Данила смотрели два пристальных пылающих глаза… С бешено бьющимся сердцем Данил нажал носком ноги кнопку дверного автомата и шагнул в черный проем люка. Тяжелая дверь бесшумно опустилась, вспыхнул свет. Руки Данила разжались, и на пол спрыгнул огромный темно-серый… кот.***
— Кис-кис! — машинально позвала Ира и испуганно отпрянула. — Ой! Откуда ты взялся? — Ну и ну! — протянул Чария. — Ба-а! — хлопнул по лбу Клод. — Да ведь это Трофим! Трофим, Трофим!.. “Мяу”, — отозвался кот и потерся о ноги Клода. — Ах ты шельмец! — Клод почесал ему за ухом. — Может быть, ты все же откроешь секрет? — сказал Данил. — Охотно! Все просто, как апельсин, — оживленно отозвался Клод. — Трофим — любимец Ласло. Он куда-то пропал, и они улетели, не найдя его. Ласло однажды запрашивал меня. Я ответил, что кота не видел, и позабыл об этом. Вот чудеса! Но как он выжил? — А это уж я тебе скажу, — усмехнулся Данил. — Инстинкт — непогрешимый наставник. Трофим питался землеройками и отсиживался в их норах. В ночные часы бедняга Трофим спешил к людям. Прыгал на них, получая пинки, рвал скафандры и удирал. Но любовь к людям превозмогала боль пинков. Трофим добился своего… Вот вам и “темное”! Так, Трофимушка? “Мрр… Мяу…” — подтвердил кот и вспрыгнул на колени к Данилу.
Юрий Давыдов. И ПОПАЛ ДЕМЕНТИЙ В ЧУЖИЕ КРАЯ… Заметки о забытых странствиях
1. ГОСПИТАЛЬ, С ТЮРЬМОЮ СХОЖИЙ
Кого тут только не было, подобралась компания — бродяги всех морей и океанов. Одного лихоманка трясет, другой скорбутом мается, третий в корчах: “Черти, — кричит, — брюхо рвут!” Дух в госпитале тяжелый, мухи жужжат, жара давит. Под вечер, однако, легчает, и чего-чего не вспомянут тогда больничные горемыки. Услышишь в палатах и об английских гаванях, и о рифе Бугенвиля, и о том, что китобоям к западу от мыса Фарвель в последние годы соваться было не к чему. Но сколь бы ни числилось в Бомбейском флотском госпитале морских бродяг, где бы ни носили их прежде волны, ветер и судьбина, никто из них слыхом не слыхивал про деревеньку Ловцы, Зарайского уезда, про уездный город Рязань. Даже боцман Пит, позеленевший в морях, что рында, и тот божился: ни на одной карте, дескать, не сыщешь эти самые “Лоффци”. А малый — чуть не замертво приволокли его с корабля “Бьюти” — бредил: “Ловцы… Рязань…” Вон он лежит пластом, глаза запали, волосы светлые, с рыжиной; на груди, под распахнутой рубахой, татуировка — распятый Христос, вокруг Христа ангелочки — воробушки. В горячке лежит малый, должно быть, отплавался… Наскоро, без рачения, заглядывал в палату сухопарый медик. Пройдет, ни о чем не спрашивая, пихнет за щеку щепоть табаку и марш-марш к дверям. Поспешает сухопарый в клуб. В клубе капитаны собираются, вот уж где новостей наслушаешься. Что ни корабль из Европы — то и новости. Русские Париж заняли! Наполеон сослан! В Англии победу празднуют! Что же до госпиталя, то там и без лекаря все идет своим ходом. Умершего сторожа молчком вынесут; кто заорет, того фельдшер по зубам хрястнет; а которые малость оправились, те в карты режутся, спор заведут до ножей; другие хвастают, кто где плавал, у кого где славная подружка… Лишь матрос с корабля капитана Хилдона безучастен. Лежит он у окна, а за окном индийское солнце плавит индийское небо; рослая пальма то дремлет, то вдруг быстро зашуршит на ветру, словно бы порох возгорелся. Совсем кручина заела матроса с корабля “Бьюти”. Да и по-английски изъяснялся он худо, вот и не встревал в разговоры бывший крепостной Дементий Цикулин. И никто особым вниманием его не одаривал, разве что боцман Пит присядет на край койки. Почитай, три десятилетия горбился на палубе боцман Пит, разных диковин навидался и разных историй наслушался на своем веку, и русских тоже он видывал, потому что временами прибывали из Петербурга волонтеры в британский флот. Нет, не за тем присаживался он на койку к Дементию, чтобы скоротать тягучее госпитальное житьишко или чтоб утишить ноющую боль в сломанной ноге, — жаль было боцману злополучного россиянина. Занесло малого к черту на рога, поди придумай, как его избавить от проклятого капитана Хилдона. И Дементий проникся симпатией к старичине, открывал наболевшую душу прокуренному ворчуну с морщинистым, оспой меченным лицом. Недолго, однако, согревал Дементия старый Пит. Как-то наскочил сухопарый лекарь, покосился на боцмана рыбьим оком и велел убираться на все четыре стороны. Пит вытянул из-под койки сундучок, обитый медными полосами, простился с Дементием, помедлил, похмыкал да и был таков. Ушел рябой боцман — Дементий вконец осиротел. “Эх, — думал, — не нынче-завтра вытолкнут в шею, и шагай, раб божий, на постылую “Бьюти”. Вот уж годы будто бы цепью приковался Дементий к капитану Хилдону. Попутал нечистый повстречать этого Хилдона в Иерусалиме. Святые места, а вот н тебе, встретил дьявола. Ну раскумекал капитан, в чем беда-горе у Дементия, посулил помощь и таким, знаете ли, прикинулся обходительным, ласковым, что наш Дементий растаял. А капитан лисил: “Пойдем, брат, со мной, на верную дорогу выведу”. Пошли. И что же? Вывел-таки англичанин, чтоб ему пусто, вывел… на Красное море, где соленое марево, как луком, глаза ест. На Красном море у Джемса Хилдона парусник был, двухмачтовый востроносый парусник, под названием “Бьюти”, — туда и угодил Дементий Цикулин. А капитан ухмылялся: здоровенный матрос, рослый, как констебль, а кулачищи, как у силачей в лондонском цирке Астли. Определил англичанин рязанского мужика в собственное свое услужение, ко груди его тавро припечатал — распятого Христа с ангелочками — в знак, стало быть, принадлежности. А нрав у капитана был бешеный, и лупил он Дементия за малую, ну на волос, оплошность: и тростью по хребту вытягивал, и бутылкой мордовал, и бронзовым подсвечником охаживал. Уж на что был крутенек прежний Дементия барин, лов-цовский Пал Михалыч господин Ласунский, а и тот по сравнению с Хилдоном агнец смиренный. Для чего, для какой надобности Джемс Хилдон в Иерусалим ко святым местам ездил, того Дементий не ведал. Но вот для чего да зачем востроносая его “Бьюти” по Красному морю шныряла — тому Дементий свидетелем: промышлял Хилдон неграми-невольниками, а при случае паломников доставлял с берегов Африки к берегам Аравийским, в Джидду, откуда уж рукой подать до Мекки. В Джидде покусился Дементий на первый побег. Народу там сгустилось пропасть: шум, гам, пыль, зной. Отправились они с капитаном за покупками, Дементий затесался в толпу — и давай бог ноги. А бог и не дал! Изловили-таки Дементия, сунули беднягу в корабельный канатный ящик, в темень сырую сунули, и выпустили, когда уж “Бьюти” лётом летела. Пролетела она, востроносая, мимо бурых африканских берегов, мимо островов коралловых, выпорхнула в Индийский океан, легла курсом на северо-восток. Океан большой, и большое небо над ним, солнце катается от горизонта к горизонту, ночью звезды сеет щедрый сеятель. Однако какая в том радость Дементию? И какое, скажите, ему удовольствие, что уж очень хорош оказался город Бомбей? Съехал как-то капитан на берег — не на тот, где Бомбей, не на островной, а на матерый, — прогуляться надумал и слугу Дементия в провожатые взял. Хорошо. Приехали. Полезли на какую-то гору. Гора лесом поросла, густым, пальмовым, душно там и парко. Ну ничего. Лезут. Капитан впереди, слуга — позади. Карабкаются. Дементий-то возьми да и приотстань. Дальше — больше, еще чуть и еще малость, а потом и задал лагаты. Шесть дён в том лесу скитался Дементий, орехи щелкал и воду из ручья пил, как отшельник. На седьмой день изловили беглеца английские стражники. В смердящей тюрьме отсидел он положенный законом срок, снова очутился за хозяином, и капитан, знамо дело, изрядно его поколотил. Вскоре после того пошла “Бьюти” с купеческим морским караваном в город Маскат, что в Аравии, в Оманском заливе. На обратном пути из Маската в Бомбей свалила Дементия жестокая лихорадка, и уж как ни щунял его капитан Хилдон, а встать он не мог. И вот второй месяц лежит в Бомбейском флотском госпитале, а госпиталь все одно что тюрьма — стеной каменной обнесен, у ворот солдаты-караульщики, никуда не денешься.2. ДОБРЯК ПИТ ПЫТАЕТСЯ ПОМОЧЬ
Вот и порт. Боцман поставил сундучок на мостовую, отер лоб и оглядел корабли, как цыган на конной ярмонке оглядывает лошадей. И при виде гавани старый морячина понял, до чего ж он, право, стосковался по корабельной, не единожды, признаться, клятой жизни, и мотив старинной песни “Вы, моряки Англии” сам собою зазвучал у него в ушах. — Эй, висельник! Капитан Гривс, веселый и бравый капитан Гривс, известный в британском флоте своими боевыми подвигами, стоял позади Пита, уперев руки в бока. — Он самый, сэр, — осклабился Пит, прикладывая к шляпе два пальца. — Ха! Пит, старый висельник Пит, давненько мы не видались! Какого черта валяешь дурака? — Ищу места, сэр. Из госпиталя, сэр. Гривс сложил руки на груди: — “Королевский гриф”? А? Старик шевельнул седыми бровями. Ответил! — Согласен, сэр. Дня два новый боцман 74-пушечного “Королевского грифа” грохотал по трапам и ругался с матросами, наводя порядок в судовом хозяйстве, в котором, как бы ни было оно налажено, опытный боцман завсегда отыщет упущения. На третий день, несколько угомонившись, старик вспомнил Дементия Цикулина. Нда… У капитана Хилдона матросам что каторжникам на острове Норфолка. Нда… Замучает Хилдон малого, как пить дать, замучает. Вот ежели бы улизнуть Дементию из госпиталя… Ну, а потом? Что ж потом? Припрятать малого на “Грифе”? Однако капитан Гривс за это вряд ли похвалит, хоть и веселый, а шутки с ним плохи, да и как ни верти, а все они, капитаны-то, заодно. Пит сидел в каютке, у свечи. Скос переборки переламывал его тень. Нет, ничего не придумаешь. Придется россиянину горевать на “Бьюти”… Старик забрался в подвесную койку и закрыл глаза. Спать, спать… Но уснуть он не мог. Лежал и слушал, как в уголку с осторожной настойчивостью скреблась крыса… Жаль малого, очень жаль, в сыновья ведь годится… Все дело в том и крылось, что Дементий старому морячине в сыновья годился. Уильям часто снился рябому боцману. Вот уж, считай, лет двадцать, как увязался сынок с китобоями и не вернулся. Наша жизнь на волнах, могила — на дне морском. Должно быть, ровесник Уильяму этот россиянин… Спать, спать… Но уснуть боцман долго не мог. А утром, как приборка кончилась, Пит улучил минутку и рассказал про Дементия капитану Гривсу. Тот откинулся в кресле и пробормотал: — Хилдон, говоря между нами, порядочная скотина. У меня с ним свои счеты. — Гривс взглянул на боцмана, стоявшего перед ним в почтительном ожидании, и вдруг рассердился: — Но Джемс Хилдон — капитан королевского флота. Теперь понятно? — Ясное дело, сэр, — покорно выдохнул боцман и, потупившись, прибавил: — Можно идти, сэр? — Иди, иди, — задумчиво отозвался капитан, покусывая кончик сигары.3. ПОД КРЫЛЫШКОМ “ПЕТЕРБУРГСКИХ КРАСАВИЦ”
Солдат-караульщик с длинным и плоским, как рубанком оструганным подбородком, оглядел болящих-скорбящих и — прямиком к Цикулину. У Дементия сердце захолонуло: “Баста. За мной”. В приемном покое, у стола, над которым красовался портрет щеголеватого принца-регента, сухопарый медик разговаривал с незнакомым Дементию морским офицером. Медик вертел в руках бумагу. Бумага была от губернатора. Она уведомляла госпитальное начальство, что, ввиду отправки капитана Хилдона в Аравийское море для конвоирования купеческих судов, матрос с корабля “Бьюти”, находящийся на излечении, временно передается в распоряжение капитана флота его величества Гривса. Четверть часа спустя Дементий очутился за воротами. Капитан вышагивал впереди, за ним — Дементий с узелком, а замыкающим — солдат в красном мундире и при сабле. Гремели телеги, груженные разными товарами, толкались индийцы в белых тюрбанах, в купеческих конторах рядились покупатели. Бомбей шумел, солнце палило, цокали копыта, было жарко, пахло дурно, и очень хотелось пить. Они пришли в опрятный тихий квартал, где еще с прадедовских времен, когда Бомбей принадлежал португальцам, селились англичане. А в 1661 году они завладели всем городом, потому что португальская принцесса обвенчалась с английским королем и Бомбей достался бриттам, словно сундук с приданым. На одной из улиц этого самого английского квартала, в саду, среди цветников и пальм, стоял каменный дом с башенками. На дворе, посыпанном мелким песком, присели, точно бульдоги, две старинные пушки; подле каждой громоздились пирамидки ядер. Из дома, похожего на замок, показался молодой человек. Высокий, розовенький, тонкий в поясе, он приблизился к капитану Гривсу и чмокнул его в щеку. Капитан засмеялся и кивнул на Дементия: — А? Хорош? Да, да, тот самый, протеже моего боцмана. Ну-ка, скажи ему… Баринок посмотрел на Дементия и вдруг… по-русски: — Здравствуй, мужик! Глаза у Дементия округлились, а во рту пересохло. Баринок самодовольно улыбнулся и продолжал: — Ты беглый, мужик? Дементий шагнул вперед: — Крест святой, не беглый! Ежели б беглый… Молодой человек поднял руку: — Мы будем слушать потом. Ты понимай: попаль хорош дом. Понимай? Я есть крестник царь Александр Павлович. Понимай? Хорош дом! — Понимай, понимай, — поспешно согласился Дементий, ничегошеньки не понимая. И начались чудеса. Степенный камердинер с округлым брюшком повел Дементия мыться, потом обрядил в обновы, потом кормил сытным обедом и поил пивом-портером. А при всем при том камердииер, как умел, мешая английские слова с русскими, разобъяснил Дементию, куда, в чей дом он попал. Попал-то он, оказывается, в семейство Гривсов, к племяннику и племянницам веселого капитана. Молодой господин и две его сестрицы, известные в бомбейском свете по лестному прозвищу “петербургские красавицы”, долгие годы обретались в столице России, где их папенька был достославным медиком. Там, в Питере, он и помер, этот медик Гривс, а сынок и дочки вскорости перебрались в Бомбей, к старшему дядюшке, а дядюшка вот приказал долго жить и оставил племяннику с “петербургскими красавицами” богатое наследство… Вечером господа потребовали Дементия. В просторной гостиной с резной мебелью красного дерева и акварелями Мор-ленда горели свечи. Стол был накрыт для чаепития. Дементий увидел давешнего баринка и капитана Гривса, но увидел мельком, потому что воззрился на красавиц барышень и уж никак глаз от них отвесть не умел. — Мы хотим слушать, Дементий, — сказала одна из барышень, хорошо так сказала и наклонила головку. Дементий прокашлялся, словно певчий, помялся и опять покашлял с превеликой осторожностью. — Послушай, — нетерпеливо заметил молодой Гривс, — здесь желать добро тебе. Ты скажи, откуда есть, куда ехаль, скажи, как… э-э… — Он пошевелил тонкими пальцами. — Э… э… как ты угораздил сюда… Понимай? Дементий двинул кадыком, ответил почтительно: — Понимай, ваше сиятельство. С полным удовольствием. — Говорил он поначалу с запинкой, сам удивляясь тому, что говорит по-русски, а вот эти, что за столом чаевничают, понимают его речь. Потом он ободрился, и давай бойчее, заложив руки за спину и касаясь спиною простенка меж распахнутыми окнами, за которыми пламенели, как алмазы Великих Моголов, бомбейские звезды. Итак, Дементий, сын Цикулин, народился на свет божий в деревне Ловцы, Рязанской губернии, в вотчине помещика господина Ласунского. С мальчишества лет эдак до двадцати восьми прислуживал в барском доме, а в тысяча восемьсот восьмом году отпустил его барин на отхожий промысел. Шатнуло Дементия в Астрахань, там подрядился он с купцом Селиным плыть в Персию. Каспийское море переплыли они счастливо, оттуда сухим путем, с караваном, двинулись в Багдадскую сторону. Вот в Багдадской-то стороне и кончилось счастье. Беды повалили, что снег на голову. Ночью в горах вихрем наскочили на караванщиков персюки-разбойники. Кого порешили намертво, кого в полон забрали. Его, Дементия, саблей посекли, по сейчашнее время рубец на темени, и тоже в полон забрали. И пошла Настя по напастям… Продали его разбойники какому-то хану, тот приставил лошаков да верблюдов пасти. Все бы ничего, жить можно, год—другой жил, вдруг хан удумал обратить пастуха в басурманскую веру. “Прими, — наседали, — прими нашу веру”. Он отказывался, а его били почем зря — страх вспомнить. Так-то в муках мученических протекло года три. Раз сбежал — поймали, и опять били-убивали… Потом что же? Потом, значит, так: налетели однажды на пастуха со стадом лихие наездники, все как есть на аргамаках, а сами бородатые, зенки черные сверкают. Налетели и угнали стадо вместе с ним, пастухом, и продали господину-сардару. Совсем недалече от Багдада это было. Сардар опять же гнул: прими басурманскую веру. А он, Дементий, по-прежнему: “Живот положу — отцам-дедам изменщиком не стану”. И опять его били, без пощады били, в дерьмо по горло закапывали, ногти рвали. Уж он совсем приготовился богу душу отдать, но, спасибо, нашлась в имении рабыня, из Грузии баба была, своя, крещеная. Она и пособила убечь. Очутился Дементий в городе Багдаде. А город Багдад торговый, людный и очень даже пригожий город; поселенцы тамошние тоже ничего, с виду, правда, гордые, не подступись, но и гостеприимчивые, это так. Ну, в Багдаде случай свел беглеца с христианским священником. Приютил, приветил. Долго с ним думали-гадали, как, значит, домой, в Россию-матушку, вертаться. И присоветовал батюшка держать путь в Иерусалим. “Там, говорит, рядом море Средиземное, а в том море греческие корабли плавают, греческие же корабли в Одессу ходят”. Вот и потопал Дементий по горам, по долам. А в Иерусалиме попутал его нечистый спознаться с капитаном Хилдоном… Лакей, передвигаясь неслышно, нагар со свечей снимал, служаночка в белом передничке лакомства господам подавала. Молодой баринок чай с ромом прихлебывал, капитан Гривс сигару курил и портвейн попивал, а барышни, “петербургские красавицы”, ни к чему не притрагивались. И, когда Дементий умолк, обе, комкая платочки, молвили: — О, какая печальная история. — М-м-м, — промычал капитан Гривс. — О да, — согласился молодой Гривс. Они о чем-то пошептались друг с другом и милостиво отпустили Дементия. С того дня Цикулин зажил под крылышком “петербургских красавиц”. Помогать стал садовнику-индусу, подружились они, вместе двор прибирали, цветники поливали. А барышни, завидев Дементия, ласково говорили, чтоб он не грустил, подождал, а уж они непременно помогут ему уехать в отечество. Минул месяц, Дементий забывать стал про Джемса Хилдона, как вдруг капитан Гривс принес недобрую весть: “Бьюти” в Бомбее.4. НАПОЛЕОНА ВИДЕЛ…
Мачты все укорачивались, будто их снизу топором подрубали, все укорачивались, покамест в колышки не обратились, потом притонули вовсе, и порт Бомбей схоронился за горизонтом. Ходуном заходил океан, прозелень его расчертил белый барашек. “Королевский гриф” мчал к югу, резал милю за милей, и корабельная обыденщина вязала узелок к узелку, час к часу. Что ж, дело известное. Смена вахт, команды, затейливый посвист боцманской дудки. В полдень-заполдень, в полночь-заполночь вбегай на ванты, с парусами управляйся, силушки не жалей и ворон не считай. Дело известное, Дементию не диковинное. Иное ему в диковину: впервой за годы бедованья весело на свет белый поглядеть, на небо голубиное. Милые барышни, милые! Обещание свое исполнили, улестили-таки своего дядюшку капитана Гривса. Да и старик боцман Пит постарался, и ему тоже земной поклон… Домой, однако, путь еще был безмерно длинный и круто извилистый. “Королевский гриф” отнюдь не в Балтийское море путь держал, не в Ревель, и не в Ригу, и не в Кронштадт. “Гриф” Индию огибал. Тут не на недели счет веди — на месяцы. Далече до Лондона, еще дальше до портовых городов Российской империи. Но есть, есть теперь надёжа, что попадет все же Дементий Цикулин в отечество. Полкским проливом осторожно прошел “Гриф” мимо Цейлона-острова, поворотил на север, к Мадрасу. Бывал ли кто из земляков Дементия в Мадрасе? Навряд… С левого борта Коромандельский берег в эбеновых лесах, в черных веерных пальмах, загляденье, и только. А Мадрас ощерился пушками форта Сент-Джордж, первой крепости, возведенной когда-то британцами на индийской земле. Отсюда, из казарм Сент-Джорджа, маршировали “томми” — солдаты — в Бенгалию и Мансур, отплывали к Цейлону, жемчужине Индийского океана. Капитан Гривс не медлил в Мадрасе, снабдил крепость боеприпасами и вновь поставил паруса. Капитан Гривс знал, куда править, — в шкатулке с хитрым запором лежала у него инструкция Адмиралтейства. Бенгальский залив, “море муссонов”, поигрывал волнами, как гимнаст мускулами, пугал порывами ветра, но переход выдался ровным, и все на корабле благодушествовали, даже боцман Пит не шибко ворчал, замечая плохо начищенную медяшку. Демектий в свободный час табак курил, калякал с матросами; усердный работник, незлобивый малый, полюбился он команде, и все сладилось как нельзя лучше… Утренний туман разодрали бушпритом и вошли в дельту Ганга. Речные белесые воды мутили соленые, аквамариновые, а на берегах высилась Калькутта, богатая, разноязыкая Калькутта, с таким же, как в Мадрасе, фортом, где солдаты и пушки. Но Калькутта была знатнее Мадраса; вот уж почти полвека почиталась она столицей британских владений в Индии, и Дементий слышал, как кто-то из офицеров назвал ее вторым Лондоном. “Гриф” поднялся вверх по Гангу. Капитан велел спустить шлюпку и отправился с визитом к генерал-губернатору лорду Маинтоу. Потом и матросы, соблюдая очередность, съехали на берег. И Дементий с боцманом Питом тоже. Рязанский крестьянин, конечно, ведать не ведал, что за несколько десятилетий до него любовался Калькуттой другой россиянин — унтер-офицер Филипп Ефремов. Подобно Дементию, побывал унтер в плену, подобно Дементию, жил мечтою о родине. Только и разницы меж ними было, что мужик из деревни Ловцы добрался до Калькутты морем, а злополучный унтер-офицер — вниз по течению священного Ганга. Второму Лондону салютовали весело: и капитана, и офицеров, и матросов ожидал первый Лондон. Никто на “Грифе” не подозревал, не догадывался, что за сюрприз ждет их на острове Святой Елены… Насвистывая “Черноокую Сьюзи”, расхаживал по палубе капитан Гривс, в кают-компании офицеры играли в трик-трак, а матросы с особым усердием исполняли приказания мичманов и лейтенантов. Недели и недели — океан, сотни и сотни миль — океан. И все та же корабельная обыденщина. Взрывают ее, как бомбой, шквалы, сметает железная метла ураганов, а потом снова затишье, снова попутные ветры. Проносится над пучинами длинный крепкий, облепленный ракушками киль, над мачтами реют темные альбатросы. Течение властно напирает на высокую корму, и горят в ночах корабельные фонари, пятная волны живым переменчивым светом. Драконовы горы сперва означились призрачно, потом всплыли четко. Близился мыс Доброй Надежды, и уже только и было разговоров, что о роздыхе в Кейптауне. Под малыми парусами “Гриф” вошел в Столовый залив. Открытый норд-вестам, залив этот не пользовался репутацией пристанища, где можно бить баклуши, и боцман Пит рассказал Дементию о тех бешеных ветрах, которые порой низвергаются с плоской вершины Столовой горы. Ого-го-го, какие ветропады! Они хватают корабль за шиворот и дают такого пинка, что тот вылетает в море, как нашкодивший кот, подвернувшийся под руку разгневанной кухарки. Впрочем, передряги, испытанные в Индийском океане, сделали и капитана Гривса, и его команду не слишком-то привередливыми; все были рады Столовому заливу, прямехоньким улицам Кейптауна. Да и заботы — запастись провизией, исправить повреждения — не оставляли времени для раздумий о норд-вестах. За кормою лежало пять с лишком тысяч миль, а впереди — еще тысяч шесть. Африку обогнешь, тут уж тебя пассат поджидает, а лучше его ничего нет, только не уваливайся с курса, режь точно. А рябой боцман ухмыляется: “Скоро, — говорит, — сынок, Эдистонский маяк завидим, скоро. Маяк же Эдистонский — то уже юг английский, вот как”. “Королевский гриф” пересек Южный тропик, а неделю спустя вахтенный лейтенант постучался к капитану: — В двадцати милях остров Святой Елены, сэр! В наставлении мореплавателям было написано: “Остров Св. Елены лежит в 15°15 ю.ш. и 5°43 з.д. от Гринвича. Берега сего острова состоят из высоких каменных утесов и столь приглубы, что для кораблей неприступны, кроме норд-вестового берега, где в двух милях от г. Джемстауна есть хорошая глубина и дно для якорного стояния. Место сие называется рейдом Св. Елены”. А далее сообщалось, что островок посреди Атлантики снабжает корабельщиков отменной пресной водою, и поэтому все суда, идущие в Европу из Индии, с Островов Пряностей, из Китая и Южных морей, посещают его рейд. Однако с недавнего времени остров Св. Елены был окружен неким нимбом — ореолом, наделен некой магнетической силой, притягивавшей не только моряков, но и людей сухопутных. В тот год, когда наш Дементий тосковал в Бомбейском госпитале, в тот самый год на борт британского корабля “Беллерофон”, находившегося неподалеку от французского порта Рошфор, был доставлен низенький плотный человечек в треугольной шляпе и в мундире гвардейских егерей. Не теряя ни минуты, “Беллерофон” ушел в океан. В океане его встретил фрегат “Нортумберленд”, и человечек в треуголке был перевезен на фрегат, который тотчас, под всеми парусами, понесся, точно гончая, к острову Св. Елены. В октябре 1815 года “Нортумберленд” встал на якорь на рейде Св. Елены, в двух милях от Джемстауна, и господин в треуголке, из-под которой выбивалась прямая прядь волос, ступил на берег. Так Наполеон Бонапарт, бывший император французов, очутился в своей пожизненной тюрьме. Пленника стерегли крепче крепкого: на рейде адмиральский многопушечный “Сэр Гудзон”, на острове — отряд пехотинцев и кавалеристов. Дом Наполеона в долине Лонгвуд, что милях в десяти от городка Джемстауна, окружали часовые, каждый день начальники караулов получали новый пароль. А Бонапарт и не помышлял о бегстве; после роковой баталии при Ватерлоо он понял, что карта его бита. Теперь, в долине Лонгвуд, он диктовал мемуары, играл с графом Монто-лоном в бильярд, изредка выезжал на прогулку, похварывал, угасал… Офицеры “Королевского грифа” надеялись хоть краем глаза увидеть знаменитого полководца. Но исполнить это желание оказалось так же трудно, как поставить яйцо на острый конец. Капитан Гривс был настойчив, почтителен, был дерзок, но генерал Лоу отказал, ссылаясь на строжайший запрет правительства. Гривсу ничего не оставалось, как мысленно послать губернатора ко всем чертям и сердито приказать боцману поскорее “налиться водой”. Боцман Пит снарядил баркасы. Баркасы потянулись к устью ручья. Матросы, среди них и Дементий, таскали воду в парусиновых ведрах, наполняя большие дубовые бочки. Рядом с ручьем вилась каменистая дорога. Оживленной ее не назовешь. Посыльный с адмиральского “Гудзона” проедет в Джемстаун, из Джемстауна подвезут к рейду мясо, зелень, дерево для корабельных поделок… А в то утро, когда молодцы капитана Гривса “наливались водою”, на этой дороге показались коляска и английские офицеры верхами. Один из офицеров, придержав лошадь, окликнул матросов, спросил, когда они уходят в Англию. Кавалькада на минуту остановилась, матросы распрямили спины, воззрились на господина в коляске. Обрюзглый, с одутловатым нездоровым лицом, он глядел на моряков, опустив плечи и сунув руку за борт сюртука. “Смотр” длился не дольше минуты, кто-то из матросов отвечал, что “Королевский гриф” уходит завтра-послезавтра, Наполеон вяло кивнул, и кавалькада пустилась дальше.5. НЕОЖИДАННАЯ ПЕРЕМЕНА КУРСА
Остров Св. Елены принес одни разочарования капитану Гривсу: Бонапарта лицезреть не удостоился, а с адмиральского корабля “Сэр Гудзон” получил пакет, который предпочел бы не получать. Если б не этот пакет, капитан был бы в Англии месяца два, два с лишком спустя. Но теперь… Проклиная морских лордов, офицеры “Королевского грифа” смекали, однако, в чем дело. По-ли-ти-ка, разрази ее гром. Вот и вали теперь на другую сторону Атлантики. В Колумбии, говорят, Симон Боливар провозгласил республику, а эти грубияны янки уже подумывают о Южной Америке. Что ж, стоит напомнить им, что есть на свете Англия, пусть-ка не очень-то заносятся эти неотесанные янки. Есть на свете Англия, она невелика, но “кораблями своими обнимает мир”, да так, что только косточки похрустывают. “Правь, Британия!” Флот твой в наличии, флот в готовности, флот действует. Триста морских бродяг с “Королевского грифа” спят и видят родину? Ничего с ними не станется, пусть-ка плывут в Пуэрто-Коломбию и всей мощью семидесяти четырех пушек свидетельствуют на берегах, открытых Колумбом, что права английских негоциантов и промышленников имеют весьма внушительную поддержку. А Дементий Цикулин, россиянин Дёмка, не чаявший, как добраться в деревню Ловцы? Кому об нем тужить? Разве что в Ловцах, под соломенной кровлей, мать поплачет или братья, идучи с покоса, перемолвятся: “Пропал, дескать, наш меньшой, совсем пропал!” А то, может, вздохнет за веретеном у лучины желанная Дарьюшка, с которой обещал он повенчаться. И уж не знает, верно, ловцовский попик, как его и поминать, Дементия-то: то ли за здравие, то ли за упокой. Да и как знать, коли нет о нем ни слуху ни духу вот уж больше десятка лет… Ну делать нечего, жизнь прожить — не поле перейти. Слушай, матрос Дементий, команду, взбегай по вантам на грот-мачту, работай у помпы да палубу драй. Экватор проскочили близ острова Св. Павла; сокращая путь, не заглядывали ни в Кайенну, ни в Парамарибо, ни в устье Ориноко, напрямки взяли к Порт-оф-Спейн. А там отдохнули малость, слушая в тавернах задорные калипсо — народные песенки, которые так бойко пели пригожие и статные тринидадские креолки. Оставили Тринидад, и вот уж Карибское море. Акулы гнались за “Грифом”, вспарывая треугольными плавниками кипень волн, проносились пироги славных антильских мореходов, и бамбуковой флейтой свистал ветер. И видел Дементий коралловые рифы, олушей да крачек, полуденный блеск карибского неба, как все это видывал некогда его соотечественник Василий Баранщиков.[4] Капитан правил вдоль берегов Венесуэлы. В приморских городках ослепительно вспыхивали кресты на часовнях времен Христофора Колумба, а когда забирали мористее, кивали Дементию пальмы Малых Антильских островов. За мысом Гальинас зажелтели дюны. Среди дюн лепились рыбачьи хижины. В уютных приманчивых гаванях белели строения Санта-Марии и Сьенанги. За Сьенангой картинно вставали горы со звучным, как кастаньеты, именем: Сьерра-Невада-да-Санта-Марта. А дальше, к западу, был Пуэрто-Ко-ломбия. Красивый, черт побери, город! “Королевский гриф”, дожидаясь лоцмана, лег в дрейф. Боцман Пит подтолкнул локтем Дементия: — Вот, сынок, стукнули гвоздь по шляпке! Понимай, значит, так: попали в точку. И Дементий. к собственному удивлению, ощутил вдруг нечто похожее на гордость: должно быть, и самые знатные из российских мореходцев не бывали в этих краях.6. СКОРО ЛИ?
Карета пестрая, как пасхальные яйца. Колеса у нее красные, подножка желтая, половина кузова коричневая, а половина черная. И на дверцах золоченый королевский герб. Не простая карета — почтовая. Лошади жмут махом, возница кнутом щелкает, как из пистолета. Восемь миль отлупят, тут и подстава, свежих запрягают. Затрубит почтарь в звонкий рожок, поехали дальше. Езда на почтовых кусается, по пяти-то пенсов за милю не пустяковина, но зато куда скорее в Лондоне будешь, нежели на “комодоре”. И почему это англичане морским чином простые пассажирские кареты наградили?.. Дементия, хоть и платил он наравне со всеми, умостили на крыше, где тюки с почтой. Ладно, пусть так. Оно, может, и лучше — дышать вольготнее, смотри куда хошь — на пастбища и дубравы, на кирпичные усадьбы и придорожные гостиницы с затейливыми вывесками. А вправо глянешь, нет-нет да и мелькнет седоватое море, плюнет дымом высокая труба пароходика. Так вот она какая! Вот она, родина добряка Пита, веселого капитана Гривса, всех тех ребят-моряков, с которыми подружился ловцовский крестьянин за долгое плавание. В Плимуте устроили они Дементию проводы. Хорошие проводы! Гульнули честной компанией в “публикусе” — так, что ли, зовут англичане трактиры свои? Принимали там учтиво, музыка играла, и ребята, покамест не захмелели, очень даже благородно танцевали с девицами. А старый боцман Пит обнимал Дементия, говорил, чтоб оставался в Плимуте: “Жить будем, как отец с сыном”. Дементий крутил головой, отирал слезу. Капитан Гривс выдал ему свидетельство-патент по всей форме. Так и так, под моей, дескать, командой Дементий Цикулин, российский подданный, ходил вокруг Индии, не однажды экватор пересекал, и в Африке побывал, и в Южной Америке, в океанах выказал себя отменным матросом, к корабельной службе весьма способным. С такой бумагой, с сундучком, подарком старика Пита, с кожаным кошельком, припрятанным за пазухой, и поспешал теперь Дементий Цикулин в знаменитый город Лондон. От лондонского многолюдства зарябило у него в глазах. Ходить бы Дементию по стритам, толкаться б в лавках, где торгуют всем, что ни есть на свете, услаждаться б ему портером в “публикусах”, а он нет — он торчит в доме русского консула господина Дубачевского. — Ваше благородие! Андрей Яковлевич, батюшка, скоро ли? Дубачевский улыбался: — Терпи, больше терпел. С Германом Николаевичем отправлю. Терпел. Ждал. А купец Герман Николаевич, человек серьезный, дела делал, уговаривался о поставке строевого леса. Поздней осенью 1821 года контракт был наконец подписан, и Дементий, чуть помня себя от радости, перебрался с Германом Николаевичем на судно. Морем пришли они в устье Эльбы, в Гамбург, потом сухопутьем, наезженным трактом подались к Риге, к русской границе. Дорогою Герман Николаевич, пухлый, неторопливый, гладко выбритый, ровным голосом расспрашивал Дементия об его приключениях. Слушал, прикрывая глаза, сложив руки на животе, попыхивал сигарой. Слушал и думал: случись подобное не с российским простолюдином, а с европейцем, непременно бы новый Дефо нашелся и написал бы завлекательный роман… А Дементия нетерпение мучило. Вон на дворе-то пора уже зимняя. Но какая, прости господи, зима в городе прусском Берлине? Не зима — гнилая мокрень. Поди попробуй-ка четырнадцатый год кряду — ни снежинки, ни морозца… Ей-ей, ничего так не жаждал Дементий, как увидеть льняные дымы над заснеженными кровлями.
Е. Парнов, М. Емцев. ЗЕЛЕНАЯ КРЕВЕТКА
Начальник штаба дружины общественного порядка Володя Корешов получил письмо от невесты. В кабинете было темно и тихо. В окно стучалась ночная бабочка. По белому листу бумаги карабкалось какое-то чахлое существо с прозрачными зелеными крылышками. Володя сдул его на пол и мечтательно уставился в потолок. Спешить было некуда, и он мог себе позволить оттянуть те радостные минуты, которые обещал ему голубой конверт авиапочты, окаймленный красно-синей полосой. Глаша, невеста Володи, улетела в Антарктиду сразу же после распределения. Она окончила Ленинградский институт климатов и работала младшим научным сотрудником в лаборатории искусственного солнца. Володя тоже в скором времени собирался в Антарктику. Через три споловиной месяца кончается срок его полномочий (по специальности он инженер-дозиметрист), хотя он до сих пор не может понять, почему именно его избрали начальником штаба. Впрочем, за все время пребывания его на этом посту не произошло ни одного события, которое потребовало бы физической силы, хитроумных умозаключений или напряжения воли. Раньше Володя втайне гордился, что выбравшие его товарищи сумели разглядеть в нем, скромном и тихом парне, все эти замечательные качества, но теперь он с горечью думал, что с такой работой может справиться кто угодно. Он искренне жалел, что ему ни разу не была предоставлена возможность хоть как-то проявить себя, и уже примирился с бесцельно, как он считал, потраченным временем. И вот сейчас, держа в руке письмо из Антарктиды, он думал о настоящей и интересной работе, которая ему там предстояла. Это были приятные мысли. Внезапно пронзительно взвыл зуммер. Володе показалось, что вдруг обрушилась стройная и сверкающая стеклянная башня. Хрустальные конусы и призмы раскалывались друг о друга, со звоном и скрежетом растрескивались зеркальные плиты. Володя удивленно и оторопело смотрел на висящий в углу красный видеофон спецсвязи. За все двенадцать с половиной месяцев, которые Володя провел в этом кабинете, аппарат ни разу не зазвонил. В кабинете шуршала тишина. Но в ушах Володи еще звучал ревущий сигнал тревоги. В какое-то мгновение, пока аппарат молчал, Володя готов был поверить в слуховую галлюцинацию. Он уже собрался облегченно вздохнуть, как вновь тишину распорол зуммер. Володя вскочил, опрокинув стул, на котором сидел. Зацепился ногой за ковер и чуть не упал. Больно ударился спиной об угол стола. Потер ушибленное место и, выставив вперед руки, точно лунатик, пробрался к аппарату и нажал кнопку. Экран не засветился. Значит, это звонил автомат. Бесстрастно и четко, как никогда в таких случаях не смог бы говорить человек, он отчеканил: “Катастрофа на комбинате “Металлопласт”. Тревога объявлена. Через две минуты за вами заедет пожарная машина ПМ-1075. Сигнал тревоги подал инженер-диспетчер Борис Михайлович Слезкин. Все приведено в готовность. Какие будут распоряжения?” — Никаких! — ответил Володя, уже успев прийти в себя. Он выключил аппарат и, взглянув на часы, открыл дверцы стенного шкафа. Снял с вешалки плащ и надел его. Потом достал из ящика стола сигареты. Огляделся по сторонам, не забыл ли чего, и, выключив свет, вышел из кабинета. Большой голубой конверт остался нераспечатанным. А в нем содержались удивительные вещи.***
“Володя, милый! Здравствуй, медвежонок, — писала Глаша. — Как ты живешь? Если бы ты знал, какое со мной было приключение! Эх, ты! Живешь себе, прозябаешь в тиши, а еще начальник штаба. Вот тебя бы сюда к нам, тогда бы ты узнал, почем фунт лиха! Но нет, тебе даже не снится такое. И не надейся, что я тебе сразу все выложу. О, нет! Я тебя сначала как следует помучаю. Ты только не смей заглядывать в конец письма или пропускать строчки, а то я тебя знаю! Ой, Володька, до чего же соскучилась без тебя… Обязательно вызову тебя по видеофону в среду часов в семь—восемь, так что будь дома. И вот еще, Володенька, чтобы не забыть. Пришли мне обязательно шерсти. Все равно какого цвета. Только настоящей, а то у нас все синтетика. А теперь, говорят, очень в моде настоящая шерсть. У нас в лаборатории все что-нибудь вяжут. Мне тоже хочется. Я уже научилась вязать английскую резинку. Мне и спицы в механических мастерских сделали. Великолепнейшие. Ты уж постарайся, Володенька, достань шерсть. Ну, вот как будто бы и все, вроде ничего не забыла. Теперь можно и о моем Приключении. Оно заслуживает большой буквы, — ты это сейчас увидишь. Ну, так вот! Дней десять назад, это было шестого, меня послали в командировку к американцам, в Мак-Мердо. Если бы ты знал, какой это большой и шумный город! В нашем Мирном народу живет не меньше, но у нас уют, тишина и покой. А там! Это просто какой-то кавардак и калейдоскоп. Все крутится, сверкает и летит куда-то. Полицейские, они летают низко-низко на огромных прозрачных вертолетах-циклоляриях, едва успевают регулировать движение. То и дело где-нибудь возникает свалка или драка. Пьяных ну просто ужас сколько! Я раньше два только раза видела пьяных. У нас в Опалихе одного старика и здесь, в Мирном: дядя Вася, электромонтер, выпил и заснул на дежурстве. А в Мак-Мердо… Подумать только! Несколько лет назад здесь была небольшая научная станция. А теперь… Всюду рекламируется какой-то арлей — золотой напиток бессмертия. Он действительно золотой. Настоящее жидкое золото, — я видела. Но вот насчет бессмертия, так это извините. Налижутся и сидят. А глаза рыбьи, стеклянные. Потом падают и валяются на тротуарах. Смотреть и то противно. Зато мне очень понравился их космодром. Чистота идеальная и порядок. Все сплошь из титанопласта — прозрачное и сверкающее. Вокзал из стеклобетона, в форме спирали, так и ввинчивается в небо. Каждые две недели отсюда стартуют ракеты на Луну. Мне повезло, и я видела. Это захватывающее зрелище. И величественное. Наш космодром далеко, на самом полюсе, и я там никогда не была. Нужно будет обязательно съездить. Он, наверное, тоже очень красивый. Сейчас здесь период ночей и непрестанно пылает наше высокочастотное солнце. Если бы ты знал, какое оно капризное! То и дело теряет устойчивость. А как это на климате отражается, на урожае! Вот и приходится непрерывно следить. В антарктическом институте, это который при ООН, на модели климата установили, что нужно добавить еще один излучатель. Электронно-вычислительная машина определила, что его лучше всего поставить у американцев, где-нибудь на окраине Скоттвил. Меня послали все утрясти и согласовать. Надо сказать, что люди они практичные и деловые. В течение часа все подсчитали, взвесили и согласились. Так что моя командировка окончилась очень быстро. Я позвонила в аэропорт и справилась насчет самолета. Оказалось, что в моем распоряжении еще очень много свободного времени. Вылететь можно было только завтра, да и то под вечер. Один американец, Дональд Юнг, молодой и симпатичный, в два счета устроил меня в лучшую гостиницу и посоветовал, что следует в первую очередь посмотреть. Поехать на космодром — это была его идея. Кровать в гостинице такая широченная, что свободно можно спать на ней поперек. Огромнейшая ванная. Электродуш. Видеофон рядом с подушкой. В общем, ничего особенного, но очень мило и удобно. Я все время отвлекаюсь на всякие мелочи и никак не могу начать рассказ о Приключении. Но я это нарочно, ты не сердись. Я пообедала у себя в номере. Кстати, мне подали замечательно вкусное и сытное желе. Какая-то синтетика фиолетового цвета и с легким запахом фиалки. Я хотела узнать формулу, чтобы дома угостить девчонок. И что ты думаешь? Не дали! Говорят: секрет фирмы. Как будто я буду заниматься конкуренцией. Чудаки! Пообедав, решила немного погулять и вечером сходить в мюзик-холл. Прошла пешком весь город до самого вокзала. Вокзал совершенно своеобразный. Представь себе мост в виде гиперболы. В фокусе на нитях из стеклобетона подвешен трехосный эллипсоид — там всякие помещения. В ветвях гиперболы- лифты, пакгаузы, таможня, камера хранения и пр. А снаружи — открытые площадки, окруженные легкими перилами из какого-то серого сплава. Стоишь себе на такой площадке и любуешься солнцем. Оно голубоватое, как спиртовое пламя, и ласковое. А внизу под тобой проносятся бесконечные гремящие ленты составов. На этой площадке все и случилось! Я спокойно прогуливаюсь, дышу свежим воздухом, любуюсь панорамой города. Он весь какой-то лунный и полупрозрачный, точно тающий в голубой дымке. Вдруг слышу внизу какой-то грохот. Гляжу и глазам своим не верю. Ни с того ни с сего переворачивается одинокий отцепленный вагон-рефрижератор. Потом что-то как засвистит и трахнет по вокзалу! Все так и загудело. Перила дрожат, как струны. Не успела я опомниться, как рядом со мной очутилось какое-то синее страшилище. Какое оно, я так и не разглядела. Наверное, из-за дыма. Оно все дымилось. Помню только какой-то резкий запах, что-то похожее на хлор. У меня даже рот раскрылся. Хочу крикнуть и не могу. А страшилище ко мне лапу протягивает, лохматую и тоже дымящуюся. Да так осторожно и ласково, точно погладить хочет. А мне страшно! Я так и обмерла вся. Ой, Володька, что дальше было! Помнишь ли ты мою сверкающую брошку? Хрустальный шар с зеленой креветкой? Ту, что Федя на Венере поймал? Помнишь? Ну, так вот, страшилище как схватит ее, да как рванет! Платье, конечно, порвалось. Я упала от неожиданности и ушиблась. Страшилище начало подбрасывать и ловить брошку, точно мячик. Играет себе, радуется, а я от страха ни жива ни мертва. И вдруг страшилище брошку упустило. И полетела она прямо вниз. А там как раз состав проходил с диоптазом. Это минерал такой драгоценный, зеленый-зеленый и блестящий. Раньше его только в Конго добывали, а теперь и в Антарктиде нашли. Правда, он есть у австралийцев, но они его продают во все страны. Ну, моя брошка и полетела на этот самый диоптаз. Разбилась, конечно, и унеслась неизвестно куда. Жалость какая — слов нет. На всей Земле только у меня одной такая брошка была. И как она шла к моему голубому платью! Тому самому, с отделкой у левого плеча, помнишь? Чудовище тоже, наверное, огорчилось страшно и как закричит! Потом — раз! — и исчезло. Точно в воздухе растаяло. Ну, что ты скажешь о моем Приключении? Может быть, еще и не поверишь? Только посмей! Я тебе покажу! Для подтверждения моего рассказа посылаю тебе несколько американских газет. Из них, кстати, ты узнаешь и кем на самом деле было напавшее на меня страшилище. Я ужасно рада такому удивительному Приключению. Только креветку жалко… Ой, Володька, родной, мне уже на работу пора! Опаздываю. Пиши мне каждый день, Володенька, скучно страшно. В среду я тебя вызову обязательно. Целую крепко-крепко. Твоя Глафира”.***
Сначала взорвались ректификационные колонны. Желтый коптящий язык взлетел в ночное небо и слизнул звезды. Через какое-то мгновение лопнули змеевики азеотропных смесителей. Задрожав, как испуганный пес, рванул бак с циклогексаном. Жутким зеленым огнем полыхнули окна восьмого цеха. Завод перестал существовать. Очнувшись от оцепенения, Борис впился пальцами в красные кнопки тревоги. В башне дистанционного управления стояла глубокая тишина. Но ему казалось, что вокруг все ревет и звенит; мечутся окровавленные языки медных колоколов и глохнут в гиеноподобном визге сирен. Борис утопил в пазах панели девятнадцать клавишей, но экраны были пусты. Все девятнадцать цехов погибли. Дымилась земля, ветер шевелил какие-то съежившиеся хлопья. И тут он впервые почувствовал страх. Как будто что-то холодное осторожно дотронулось длинными пальцами-сосульками до сердца. Он не мог поверить своим глазам. От огромного завода не осталось ничего, ничего в самом полном смысле этого слова. Испарились многотонные плиты и тюбинги из железобетона, растаяли в воздухе стальные двутавры и швеллеры. Борис поставил максимальное увеличение, но не мог нигде обнаружить даже обрывок проволоки или осколок кирпича. Он бросился к сейсмопотенциометру. Повернул ручку и рванул ее на себя. Прибор не открывался. Мятущиеся, растерянные руки начали шарить по карманам в поисках ключа. На голубой пластик пола посыпались какие-то протертые на сгибах бумажки, канцелярские скрепки, библиографические карточки и прочая чушь. Ключа нигде не было. Почему-то этот ключ вдруг показался ему совершенно необходимым. В этом кусочке металла для Бориса сосредоточилась вся бессмыслица минуты. Как будто, открыв прибор, можно было спасти исчезнувший завод. Затрещал видеофон. На экране появилось заспанное лицо директора. Левая ноздря у него почему-то дрожала. Это было странно и смешно. — Что там у вас случилось? — спросил он, аккуратно и терпеливо откручивая пижамную пуговицу. По тому, как он спросил, Борис понял, что он уже все знает. А Борис мучительно старался вспомнить, куда дел ключ от потенциометра. — Что вы молчите? — тихо спросил директор и, внезапно вспыхнув, заорал: — Какого черта вы молчите?! У вас там все полетело к чертовой бабушке, а вы молчите! Да знаете ли вы, что произошло? Голос его срывался на высоких нотах и по-бабьи дрожал. Борис слышал, как он тяжело, с сухим присвистом дышит. Потом он опять начал кричать, через каждое слово поминая черта. И тут Борис вспомнил, что вчера положил ключ в ящик стола. Он хотел что-то сказать, но, махнув рукой и выключив аппарат, побежал к себе в комнату. Выдвинув ящик стола, он побросал на пол переплетенные отчеты, оттиски статей, пачку бумаги. Ключ нашелся довольно быстро. Он скромно устроился между коробочкой с кнопками и логарифмической линейкой. Борис схватил его, зажал в кулаке и вдруг забыл, что собирался делать дальше. Несколько секунд он лениво, в какой-то сонной одури, пытался сообразить, что нужно делать. Так ничего и не придумав, он вернулся в диспетчерскую. Видеофон надрывался и дрожал, точно хотел оторваться от стенки и улететь. Борис подошел к аппарату и нажал кнопку. Яркая звезда на экране расширилась, и в лучевых пересечениях возникло лицо Володи Корешова, инженера-дозиметриста и начальника районного управления общественного порядка. — Как это произошло? — тихо спросил он. — Не знаю. Все случилось за какую-то секунду. От завода не осталось ничего. Совсем ничего… — Люди были? — Нет. Четвертая бригада контроля должна заступить в четыре часа тридцать минут. Инженер по наладке всегда приходит утром. Вот только… — Что — только? — Я имел в виду восьмой цех. Модест Ильич любит сам проследить за сменой кадмиевых стержней… — И ты думаешь, что он был там?! — Нет… Не знаю. Вряд ли он придет ночью. — Так да или нет? Борис почувствовал, что рука у него стала горячей и мокрой. Он разжал кулак и увидел ключ. — Что ты молчишь? — спросил Корешов. — Я думаю, был ли в тот момент на заводе Модест Ильич. — Нечего думать! Я сейчас позвоню к нему домой. Кто-нибудь еще мог быть там в момент взрыва? — Нет, больше никого не могло быть. — Ну ладно, я сейчас к тебе приеду. Борис еле дождался, пока Корешов отключится, и, подбежав к сейсмопотенциометру, включил его. Взрыв произошел в 3.57. Борис быстро нашел нужную линию. Но никакого зубца на кривой против нее не было. И опять ему стало как-то не по себе. На минуту даже показалось, что все это только снится. “Ну да, я сплю, — уговаривал он себя, — вчера целый день провел в бассейне и зверски устал, вот и заснул во время ночного дежурства. Сейчас проснусь, сделаю над собой усилие — и проснусь”. Он подошел к огромному окну. В синеющем небе застыли побледневшие звезды. Над темной гребенчатой каймой леса ярким александритом мерцала Венера. Где-то там, далеко за лесом, только что исчез огромный химический комбинат. Борису показалось, что он видит, как небо постепенно насыщается малиновой водой далекого пожара. Но это, наверное, была заря. Он вернулся к экранам. Они были по-прежнему пусты. Покрытая пеплом и хлопьями земля почти не дымилась. Нигде ничего не горело. Борис выключил в диспетчерской свет. Как глаза фантастических насекомых, из темноты смотрели на него бесчисленные шкалы и стрелки приборов. Все они стояли на нуле. Им больше нечего было показывать, они уже ни с чем не соединялись. Борис прижался лбом к стеклу и попытался хоть что-нибудь разглядеть в лежащей под ним черной бездне. Лишь изредка на лакированном листочке какого-нибудь кустарника проскальзывал звездный свет. Степь спала, глухая и черная. Он знал, что сейсмические приборы зарегистрируют любое сотрясение почвы на территории завода. Неужели во время этого странного взрыва, оставившего после себя полную пустоту, не обрушились на землю трубы, не попадали стены и перекрытия? Не могли же башни, колонны, циклоны и газгольдеры сгореть в воздухе, до того как они упали? Но равнодушная сейсмограмма упрямо твердила одно и то же: “Могли”. Борис готов был допустить даже внезапный распад вещества, теоретически невозможный и беспричинный. Эта еретическая идея хоть что-то объясняла… Подтащив к стене стремянку, он взобрался на нее и открыл щиток восьмого сектора. Бобины не вращались. Им уже не нужно было прокручивать ленты программы. Борис перемотал ленту на левую съемную бобину и вынул ее из гнезда. Если на заводе и случались изредка непредвиденные вещи, они были так или иначе связаны с восьмым цехом. Борис мысленно перебрал в памяти все секторы комбината: органический, элементо-органический, минерального сырья, синтеза, гетерогенного катализа, высоких давлений и электрохимии, — пи один из них не мог стать источником таких разрушений. Если только полное исчезновение можно назвать разрушением. Оставался лишь восьмой цех, где производились нейтронная сварка и реакции горячих атомов в растворах. Если даже допустить невероятное, что там взорвался урановый реактор, то и этим нельзя объяснить ни полное отсутствие разрушения, ни взрыв без взрывной волны. Поэтому восьмой цех тоже отпадал. Но Борис все же поставил бобину в гнездо расшифратора и прокрутил всю ленту недельной программы. Конечно, он был прав в своих сомнениях с самого начала: это ничего не дало. Ничто не могло вызвать взрыв: ни сварка пятисот тонн титанопласта, ни синтез привитых сополимеров иридия, ни замена части графитовых блоков в котле. Вот уже семь лет все эти процессы с идеальной четкостью протекают без всякого вмешательства человека. В чем же дело? На всякий случай он просмотрел кривую регистрации излучений на территории восьмого цеха. Радиация была в пределах нормы. При таком фоне можно было даже находиться на территории в обычных костюмах защиты. Оставалось поверить в чудо. Но он не хотел, не мог назвать гибель лучшего в мире химического комбината таким хорошим и волнующим словом, как “чудо”. Это было не чудо. Прозрачная, как аквариум, диспетчерская осветилась. По панелям фотонно-счетных машин скользнули голубые лучи далеких фар. По шоссе шли машины. Штук пять или шесть. Борис спустился по крутой винтовой лестнице вниз и вышел во двор. В лицо ударил теплый и тугой ветер. Ночь дышала запахом настоенных на солнце цветов. Горьковато и нежно пахла полынь. Вокруг фонаря как завороженные клубились мошки. С сердитым гудением стукнулась о матовый колпак мохнатая ночная бабочка. Все дышало спокойствием и миром, ласковой и грустной тишиной. Даже подумать и то было бы кощунством, что в такую ночь может прийти беда. Стало слышно, как шуршат по бетону протекторы и изредка потрескивает ударяющийся в крылья гравий. Головная машина сбавила скорость и свернула к башне. Борис прикрыл глаза рукой, защищаясь от яркого света. Подъехав к самой двери, машина остановилась. Водитель выключил двигатель и погасил фары. Лишь в подфарниках переливались тревожные красные огни. Борис различил темный причудливый силуэт пожарной машины. Хлопнули дверцы. С двух сторон к нему подбежали Корешов и незнакомый пожарник в полной амуниции, но без шлема. — Жданов, — представился пожарник. Поздоровались. — Садитесь быстрей — время дорого, — потянул Бориса за рукав пожарник. — Нам некуда спешить, — ответил Борис, — все уже сгорело. — Как так? — не понял пожарник. — Ведь после вашего вызова прошло всего девять минут! Давайте, мы еще успеем. — И он кинулся к машине. — Погодите! — крикнул Борис ему вслед. — Я же говорю, что все сгорело! Жданов остановился, слегка пригнулся и медленно, на пружинящих мускулах, повернулся. Вся его фигура выражала недоверие. Но, вероятно поняв, что диспетчеру нет никакого смысла его обманывать, он вернулся. Корешов закурил сигарету. В свете фонаря дым расплылся тусклой лунной радугой. “Неужели только девять минут?” — подумал Борис. Корешов торопливо затянулся два раза подряд, бросил сигарету на землю и затоптал красный жгучий огонек. — Рассказывай! — бросил он Борису и поднял воротник прозрачного плаща. — Где остальные машины? — спросил Борис пожарника и неприязненно подумал про Корешова: “Рисуется… Шерлок Холмс!” — Поехали к месту. А что? — ответил Жданов. — Так… Сколько их? — Шесть. — И все пожарные? — Да. А какие же еще? — В голосе пожарника послышалось удивление. — Это хорошо, что все пожарные, — пробормотал Борис, думая о своем. Он почему-то не решился спросить о Модесте Ильиче. Но раз нет “скорой помощи”, значит, его не было на заводе. Как бы почувствовав эту невысказанную мысль, Корешов сказал: — Людей не было. Я, пока мы мчались сюда, обзвонил всех… Модест Ильич уехал на рыбалку. Ловит щук жерлицами… — Он замолчал. Борис понял, что ему трудно спрашивать про все, что случилось. Слишком уж все это было невероятно. “Наверное, он втайне надеется, что я сошел с ума или напился”, — подумал Борис. — Ну что ж, ребята, — сказал Борис, — давайте поедем туда, а на обратном пути заедем в диспетчерскую. Так оно лучше будет. Пожарник пошел к машине. Корешов похлопал Бориса по плечу и сказал: — Ты, брат, подымись к себе и захвати плащик, а то простынешь. Мы подождем… раз спешить некуда. Борис кивнул ему и пошел в башню. Шоссе таяло под фарами, как черный весенний снег. В машине было тепло и уютно. Борис сидел между водителем и Корешовым и смотрел в залитое предрассветным сумраком ветровое стекло. На спидометре было 120, и машина визжала на поворотах. Мимо них неслись лохматые контуры кустов и фосфоресцирующие дорожные указатели. Краем глаза он видел, как в красном свете сигареты из серой полутьмы выплывают большой добродушный нос и полные губы Корешова. Борис коротко рассказал Корешову обо всем, что узнал и пережил в диспетчерской. Корешов слушал с напряженным вниманием, не прерывая. Водитель, малый лет двадцати, с вьющимся, взлохмаченным чубом, как видно любитель побалагурить, тоже не проронил ни слова. Но по тому, как во время рассказа он слишком внимательно смотрел на дорогу, Борис понял, что он весь ушел в слух. Когда до комбината оставалось километров восемь, машина резко сбавила скорость. Людей качнуло вперед. В свете фар Борис увидел впереди поблескивающие красным лаком бока пожарной машины. За ней виднелось еще несколько машин, вокруг которых суетились пожарники в сверкающих силотитановых шлемах. Медленно подъехав к затору, шофер затормозил и, приоткрыв дверцу, крикнул: — Колька! Что это тут у вас? Молоденький пожарник только махнул рукой куда-то вперед. Борис и Корешов вышли из кабины и пошли, куда указал Колька. — Погодите-ка, я с вами! — сказал, догоняя их, Жданов и скомандовал остальным: — А ну давайте по машинам! Борис понял, что он здесь старший. Пожарники заняли свои места. Лишь у головной машины, которая почему-то стояла поперек шоссе, остались стоять два человека. По-видимому, они поджидали Жданова. Вскоре стала понятна причина затора. В головную пожарку врезался автофургон. Наверное, в последнюю минуту сработала блокировка, потому что машины почти не пострадали. — Как это произошло? — спросил Жданов одного из пожарников, видимо, водителя головной машины. — Странная история какая-то, Павел Аполлинарьевич… — Водитель развел руками. — Едем, это, значит, мы с Витей, — он указал рукой на своего соседа, — тихо-мирно… Разговорились… про футбол. Гляжу я — из-за поворота автофургон выскакивает. Без огней! А впереди, я знаю, еще поворот, и крутой. Я выключил дальний свет: давай, мол, левее. А он не реагирует. Я тут же смекнул, что дело неладно. Обычно ведь машины без шоферов соблюдают правила движения, как автоинспекция. А тут на сигнал не реагирует и без огней. Очень мне это подозрительно показалось. Автофургон-то шел от комбината… “Странное дело, не находишь?”-Это я Вите говорю… Так ведь, Витя? (Витя молча кивнул.) Ну, долго раздумывать некогда — до фургона метров сорок. Я взял да и развернулся ему поперек пути. Но блокировка у него поздно сработала. Помял слегка. Все подошли к автофургону. Левая фара была разбита, и немного покорежило радиатор. Корешов открыл дверцу и залез в кабину. Услышав удивленное восклицание, Борис подошел к нему. — Действительно, чудеса! — воскликнул Корешов и, высунувшись, махнул рукой пожарникам. — Посмотрите-ка, ребята, — сказал он, — непонятно, почему автофургон вдруг поехал. В автошофере нет перфокарты. — Нет перфокарты? — удивился Жданов. — Как же он поехал? — Без перфокарты не включается зажигание, — пробасил Витя. — Автомат в самоволку подался, — сострил его приятель, — крутанул налево. — М-да, ничего не понимаю, — согласился Корешов и задумчиво протянул: — Правда, машина не на тормозе, а по инструкции полагается, изъяв перфокарту, ставить на тормоз… — “По инструкции”! — усмехнулся Витя. — Так то по инструкции… А кто ее так уж досконально соблюдает, инструкцию-то эту! — Вот потому-то, что не соблюдали инструкцию, автофургон и поехал. — Только ли поэтому? — с нескрываемым ехидством в один голос спросили пожарники. Корешов замялся: — Нет, не только поэтому. Но если бы машина была на тормозе, она бы не тронулась с места. А отчего она все же поехала, хоть убейте, не пойму… — Может, в радиаторе замкнулась цепь? — спросил Жданов. — Вряд ли, — ответил Корешов, — я эти автофургоны хорошо знаю. Радиаторы у них неразборные, штампованные. Автофургонное топливо совершенно не детонирует и никогда не вспыхивает без искры. — Может, разрежем радиатор и посмотрим? — предложил Борис. Корешов молчал, видимо что-то обдумывая. Потом он махнул рукой и сказал: — Давайте отбуксируем его на обочину и поедем дальше. А на обратном пути разберемся. На территории уже орудовали дозиметристы. Они прибыли сюда на вертолете за несколько минут до пожарников. Около проходной (к великому изумлению Бориса, бетонный забор, огораживающий комбинат, совершенно не пострадал) собралась плотная куча людей. Они ожесточенно спорили и размахивали руками. Там был директор, главный инженер и еще кто-то из начальства. Увидев Бориса, директор молча протянул руку и сейчас же отвернулся. Может быть, ему стало стыдно за недавнюю вспышку. — Это наш инженер-диспетчер, — отрекомендовал Бориса директор какому-то лысому коротышке. Тот кивнул головой и начал копаться в портфеле. — Как же это ты, братец? — спросил Бориса главный инженер и не то застенчиво, не то виновато шепнул коротышке: — Он как раз сегодня дежурил. Коротышка поднял глаза от раскрытого портфеля и взглянул на диспетчера. Борис смотрел прямо в черные зеркальца его зрачков. Наконец коротышка не выдержал и отвел взгляд. Борис пожал плечами и отошел. Потом вытер слезящиеся от напряжения глаза. Из проходной вышел высокий дозиметрист в прозрачном свинцово-силоксановом балахоне и взмахнул над головой руками. Можно было пройти на территорию. Очевидно, активности не обнаружили. Наверное, даже водородная бомба не могла бы оставить после себя больших разрушений. До самого горизонта тянулась совершенно ровная площадка. В третьем секторе, где было двадцать семь строений, не уцелело ни одного кирпича. Борис шел, с трудом передвигая ноги в мелкой бурой и желтоватой пыли. От его шагов подымались тяжелые облачка. Пыль медленно оседала, как муть в аквариуме с плохо промытым песком. В бледных сырых лучах рассвета все казалось тусклым и приглушенным. Прежде всего Борис обратил внимание на странно буро-оранжевые кристаллики. Они показались ему очень знакомыми. Только он не мог вспомнить, как они называются. И вдруг точно в голове с треском лопнула, распахнулась какая-то черная плотная штора. Он даже вскрикнул от неожиданности. “Да ведь это же азотный ангидрид. И как это я сразу его не узнал?!” — изумился Борис. Но тут же откуда-то из потаенных щелей просочилось и сомнение. В третьем секторе занимались тонкими электрохимическими процессами. Здесь производились полупроводники с особыми свойствами. Все это не имело ничего общего с окислением азота. Откуда же тогда взялись кристаллы ангидрида? Да еще в таком количестве! Вокруг, сколько охватывал глаз, они тускло отсвечивали тяжелым, болезненным светом. В лужах кристаллы таяли и расплывались желтыми тяжелыми струями, как сахар в стакане чая. Борис достал из нагрудного кармана комбинезона индикатор и сунул его в лужу. Там была азотная кислота. Если пойдет дождь, то весь ангидрид перейдет в раствор, и территория окажется буквально заполненной дымящейся, с резким запахом азотной кислотой. “Не мог же ангидрид образоваться из воздуха? — невольно подумал Борис, оглядывая пугающую и грозную пустоту вокруг. И, точно повинуясь законам наведенной индукции, навязчиво затрепетала вспыхнувшая мысль: — А что, если азот и кислород воздуха соединились? За счет неведомо откуда родившейся энергии!” Борис прикинул приблизительно величину этой энергии и махнул рукой. Такая колоссальная энергия не могла ни с того ни с сего возникнуть из мира привычных, налаженных вещей. Но все же нелепая и вздорная мысль не прошла даром. Ведь все это время он чувствовал себя, как после тяжелой болезни. Тело было каким-то чугунным, голова гудела, звуки достигали ушей, точно профильтрованные через вату. Теперь все это исчезло. Мозг стал жадным и восприимчивым. На секунду Борису показалось, что он, как дух, витает над бескрайней заснеженной пустыней. Ледяные кристаллики покалывают кожу, холодный ветер обжигает лицо. Где-то на горизонте взвиваются снежные смерчи. А он летит себе прямо на них, чтобы закружиться, понестись и подслушать таинственное заклинание. Во что бы то ни стало подслушать, чтобы расколдовать эту страну! Борис хорошо знал третий сектор. Но теперь, когда перед ним не было ни одного ориентира, он не представлял себе, где находится сейчас. Он огляделся по сторонам. Метрах в трех работали люди: две красные фигурки, одна желтая и одна голубая, двое пожарников, дозиметрист и эксперт-химик. Борис пошел к ним. Пожарники стояли возле большой дымящейся лужи и о чем-то беседовали. Борис подумал, что нужно торопиться, а то протекающие в азотно-кислых лужах реакции могут здорово исказить картину и помешать экспертизе. Дозиметрист сидел на корточках среди низенького частокола воткнутых в землю блестящих стержней, соединенных разноцветными лакированными проводками. Рядом с ним стоял открытый ящик прибора со множеством всевозможных гальванометров. Дозиметрист записывал в журнал показания стрелок. “Если азотная кислота не испортит дела, — подумал Борис, — то у нас будет точная картина электронных потенциалов верхних слоев почвы. Это хорошо!” Эксперт пневматическим миниатюрным монитором вздымал облачка пыли и брал пробы для спектральных анализов. — У вас есть план сектора? — спросил Борис у пожарных. — Конечно, — ответил один из них, маленький и щупленький, в котором Борис узнал Колю. Он видел его совсем недавно, на дороге, возле затора. Но Борису опять показалось, что это было в глубокой древности или во сне. Рассвет серым холодным мечом отсек прошлое от настоящего. — Вот, смотрите, — сказал Коля, протягивая планшет. Борис взял планшет с планом и, подсоединив к скрытой в нем батарейке стилос, стал водить им по территории третьего сектора. На плане она была чуть поменьше ладони. Загорелась крохотная лампочка — люди находились в северо-западной части сектора. Как раз возле башни донорно-акцепторных процессов. А может быть, и в самой башне. Ведь теперь она существовала только на плане. Борис постарался припомнить, какое здесь было оборудование. И тут же перед его глазами встали огромные платиновые пластины. “Платина! Ну конечно же, платина! Она не могла окислиться и превратиться в порошок”. Борис подскочил к эксперту и, захлебываясь, начал объяснять ему свою мысль. — Хорошо, — сказал эксперт и, выключив монитор, пошел с Борисом. Борис поставил стилос на план, в самый центр башни, и осторожно пошел по кругу, постепенно суживая его. Вспыхнул свет. — Здесь! — сказал эксперт и включил монитор. Но что могла поделать тонкая, как спица, струя воздуха с рыжими холмами железа, покрытыми зелено-синими пятнами окислов хрома и кобальта?! Мелкий порошок глинозема и кремнезема вился в воздухе. Снежным вихрем крутилась жженая магнезия, но горы не убывали. — Да-а, слабовато, — сказал эксперт. — Можете выключить, — ответил Борис и крикнул пожарникам: — Коля! Вызовите сюда аэропушку. Коля наклонил голову и что-то пробормотал в пуговицу микрофона. Вероятно, ему долго не отвечали. Борис не отрываясь смотрел на поблескивающую под прозрачным шлемом никелированную пуговку наушника, точно надеялся увидеть, когда Коле наконец ответят. Прошло минуты три. Коля ждал, не поднимая глаз. Борис сгорал от нетерпения. Ему хотелось немедленно разворошить эту проклятую окисленную кучу. Он даже представил себе, как блеснет благородный серебристо-серый металл, очищенный от белой муки магнезия и ядовито-зеленых оспин окиси меди. Коля поднял голову и сказал: — Сейчас прибудет! Через несколько минут в небе послышался стрекот вертолета. Это летела пушка. Эксперт осторожно взобрался на холм окисленной пыли и поднял руку. Вертолет остановился прямо под ним и начал постепенно снижаться. До земли оставалось метров десять — двенадцать, когда стрекочущее насекомое неподвижно замерло в воздухе. В первых лучах восходящего солнца вращающиеся винты засверкали, как зеркальные тарелки. Пыль заволновалась и тысячами крохотных смерчей начала подниматься вверх. Когда люди отошли подальше, летчик включил пушку. Рыжеватая мгла заволокла мир. Стрекотал невидимый вертолет, выла пневматика. Нежная пыльца оседала на сверкающий пластик костюмов. Шлемы пожарников стали похожими на сливы. Вскоре вой сорвался на высокий визг, потом перешел в свист и оборвался. Стрекот становился все слабее и слабее, пока наконец не затих совсем. Рыжая мгла по-прежнему висела в воздухе. Разглядеть что-нибудь в такой пыли было невозможно. Но Борис все же не утерпел и, одолжив у Коли его шлем, направился к расчищенному от пыли месту. Он опустил на лицо прозрачное забрало с дыхательными фильтрами и включил приборы инфракрасного видения. Перед ним темнела круглая лагуна чистой земли, окруженная атоллом пыли. Платиновых пластин нигде не было. Борис достал записную книжку и вырвал из нее несколько листочков. Взяв в разных местах пробы пыли, он завернул их в бумажки, наподобие порошков от кашля. Он сам хотел подвергнуть их спектральному анализу. Он не верил, что платина могла исчезнуть.***
Борис еще бродил по территории комбината, когда Володя Корешов вернулся к себе в кабинет. Так ничего и не выяснив, раздираемый тысячью возможных предположений, он бессильно опустился на стул и уперся кулаком в подбородок. Ему было не по себе. Он мечтал хоть на секунду забыться, не думать о загадочной катастрофе. Но какое-то странное беспокойство не оставляло его. Отсутствующий взгляд его блуждал по хорошо знакомым предметам, которые Володя видел каждый день. Может быть, именно поэтому он и не замечал их. Зато светло-голубое пятно на ковре невольно привлекло внимание. Володя, думая свои невеселые думы, еще долго смотрел на это пятно, не понимая, что именно оно собой представляет. Потом все так же отвлеченно, почти что механически, он нагнулся и протянул к пятну руку. В его руках оказалось письмо Глаши. Через минуту он целиком ушел в чтение. Особенно заинтересовали его присланные Глашей газеты. Именно тогда Володя почувствовал тот самый нервный укол, о котором столько впоследствии рассказывал. Вот что он узнал из американских газет, читая в основном между строк.***
Воспоминания приходили к Соакру, когда он просыпался. На границе между сном и явью в его мозгу неожиданно возникали давно забытые образы прошлого. Сегодня ему привиделось, что он спускается к реке по лесной тропинке, засыпанной осенней сырой листвой. Остро пахнет гнилью, ветер срывает с веток последнюю листву, ослепительно, до боли в глазах, сверкает поверхность реки. Небо чистое, прозрачное, и в нем — яркое холодное солнце. Потом он сразу увидел себя в клетке. Он грызет, гнет лапами металлические прутья и бессильно рычит на странные, непередаваемо уродливые фигуры людей. Соакр хорошо запомнил неприятный привкус металла. Люди в его памяти навсегда соединились с металлом и болью. Только не хозяин. Хозяин не похож на других. С этим ощущением Соакр проснулся. В комнате никого не было. Заворчав, Соакр сел на своем ложе. Он с неудовольствием лизнул себя, в последнее время его плотная мягкая шерсть стала жесткой, как проволока. Удивительно изменилось тело. Соакр чувствовал, что он сильно отяжелел, его мышцы налились таинственной могучей силой. Похожий на многотонный пресс, он тем не менее передвигался легко и бесшумно. Хозяина очень долго не было, и Соакр захотел есть. Его тело требовало специальной пищи. Соакр коротко рявкнул, но никто не приходил. Тогда он прошелся вдоль гладких стен, ощупал их и лизнул шершавым, как напильник, языком. Его внимание привлекло бледное пятно на стене. Он ощущал легкие воздушные струйки разнообразных запахов, идущие отсюда. Соакр рванулся и вдруг попал в поток запахов. Запахи, самые неожиданные и удивительные, обрушились на него со всех сторон, точно струи, которым предстоит переплестись в тугую косу стремительно бегущей реки. По этой реке плыли какие-то видимые, но совершенно неосязаемые пятна. Они отличались формой, четкостью и окраской. Соакр смутно понимал, что запах излучается этими пятнами. Запахи срывались с пятен, как капли дождя с крыши. Но пока он не интересовался этой связью. Соакр не слышал главного запаха, от которого так сладко и легко сокращаются мышцы живота. В воздухе не было запаха еды. Все же он заметил, что пятна и запахи непрерывно изменяются и двигаются. Шло время, а движение пятен не прекращалось. Некоторые из них наплывали ему на глаза, другие, огромные, как облака, нежно обволакивали тело. Соакр пытался поймать и удержать могучими руками то или иное пятно, но это ему никак не удавалось. Пятна были неощутимы. Они странно деформировались, расплывались в воздухе и ускользали. Но все же среди массы дряблых и слизистых пятен были какие-то приятные. Соакр находил в них что-то вкусное, хотя это еще была не еда. Он с удовольствием гладил и ласкал такие внешне упругие, но на самом деле бесплотные пятна и с удивлением провожал глазами, когда они, вырвавшись, стремительно уносились прочь. И вдруг судорога пронзила его тело. Соакр рванулся вперед — навстречу ему неслась плотная на вид и густая масса. Это была еда. Упав на нее всем телом, Соакр стал жадно и торопливо есть. Но еда ускользала от него, и он преследовал ее, бесплотную и куда-то убегающую… …В комнате агента-эксперта Пита Уилсона вспыхнул яркий свет. С экрана телевизора глядело суровое и желчное лицо начальника городской полиции: — Пит, дружище, вы мне очень нужны. Вылетайте немедленно. — Слушаюсь, шеф! Но что случилось? — Объясню на месте. Вылетайте. В кабинете начальника полиции было много людей. Сыщики стояли и сидели в самых разнообразных позах. Непрерывно включались экраны. На них мелькали лица дежурных агентов. Торопливая речь, бегающий взгляд и прерывистое дыхание делали их одинаковыми и удивительно похожими на загнанных гончих. — Шеф, на Двадцать третьей улице убиты старик и девочка! — Шеф, в воздухе на высоте шести метров подбита полицейская циклолярия. Регулировщик Уиллоуби ранен, он все еще без памяти! — Угол Сто седьмой и Двадцать третьей, сбит кинорепортер! — На Большом фонтане покалечена женщина с двумя детьми! С экранов лилась кровавая река. Уилсон ошеломленно вертел головой. Он ничего не понимал. — Что это значит, шеф? — Это я могу у вас спросить, — утомленно сказал начальник. — Город подвергся нападению организованной террористической банды. За пятьдесят минут совершено около ста преступлений в самых разных частях города. Бандиты действуют поодиночке, но одновременно. Поражает невероятная жестокость преступлений. Не щадят никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. В этой проклятой Антарктиде нет ни военных баз, ни казарм. А то бы я вызвал полк для наведения порядка. Мои ребята прямо сбились с ног и разрываются на части. Уилсон кивнул и стал наблюдать. Через минуту над городом повисли тысячи ос — маленьких, чрезвычайно подвижных воздушных лодок. Полицейские проносились над домами с леденящим душу свистом. На осах человек в воздухе был как дома. Полицейские то скользили над улицами, то взмывали на уровень последнего этажа небоскребов. Они легко проникали в разбитые окна и развороченные двери. Уже через десять минут выяснилось, что все террористы исчезли. Ни одного из преступников поймать не удалось. Уилсон спустился в комнату, где давали показания свидетели. — Когда это случилось? — спрашивал агент пожилую женщину. — Было около десяти, когда муж послал меня в магазин за табаком. Я сделала несколько шагов и вдруг услышала страшный, надрывный крик. Я увидела, что по улице бежит человек и несет в руках другого человека, который, не смолкая, вопит. Изо рта убийцы шел дым. Он сделал несколько шагов, бросил жертву на землю, и тут же раздался взрыв. Я стала смотреть, что это такое, и вижу: отвалился угол дома Тридцать два. Когда я очнулась, убийцы уже не было. Остался только изуродованный труп. — Как был одет неизвестный? — На нем был темный ксилоленовый костюм. Больше ничего на нем не было. — Вы рассмотрели его лицо, фигуру? — Лица я не видела — он был далеко от меня. Рост, по-моему, средний. Фигура толстая и мешковатая. — Хорошо, благодарю вас. Следующий свидетель, полный румяный старик, рассказал: — Я иногда захожу в кафе “Фебос”, выпить рюмочку—другую арлея. — Вы не помните точно время, когда это случилось? — внезапно вмешался Уилсон. — Точно?.. Пожалуй, было что-то около десяти. Без нескольких минут. Только я успел присесть за столик, как потолок кафе с треском провалился. Это я видел собственными глазами, клянусь честью! Кто-то дико вскрикнул и замолк. Когда дым и пыль немного осели, все увидели на полу искалеченное тело старого Уотерса. Мы даже рта не успели раскрыть! Мне показалось, что убийца выпрыгнул в дыру на потолке, другие поговаривают, будто он просто растаял в воздухе. — Какая внешность у незнакомца? — Существо было очень странным, на нем были какие-то коричневые лохмотья. Лица я не смог разглядеть, да и никто в кафе не успел опомниться, как все кончилось. — Говорил он что-нибудь? — Нет, молчал. Очевидцы сообщали самые нелепые сведения о террористах: — Сэр, я собственными глазами видел, как этот волосатый тип свалился на улицу из окна двадцатого этажа! — Сэр, он был низенький, приземистый, покрытый пятнами. Сила в нем страшная. Он схватил троих полисменов и расшвырял их в стороны, как кегли. Один из них так и остался лежать. — Сэр, было около десяти, когда один из этих убийц… — Почему вы говорите — один, разве их было много? — спросил Уилсон. — Я-то видел одного, но вот люди говорят, что в то же время в других местах города работали и другие убийцы. — Говорите только то, что видели вы, — заметил Уилсон. — Вы не помните точное время убийства? — Что-то около десяти, минут пятнадцать одиннадцатого. — Сэр, — сообщал очередной свидетель, — я видел, как террорист проломил витрину химического магазина, проник внутрь и вытащил оттуда бутыль с жидкостью. Затем он прыгнул вверх и исчез. — Куда прыгнул? — удивился следователь. — В воздух, сэр, вверх. Метров на тридцать взлетел и исчез в одном из окон небоскреба Лутидана. — Что в этой квартире? — обратился Уилсон к следователю. — То же, что и везде. Пробит потолок, высажены окна. Какой-то снаряд, не взрываясь, проткнул дом, как иголка масло. — Содержимое похищенной бутылки известно? — Да, плавиковая кислота. — Вы помните точное время происшествия? — обратился Уилсон к свидетелю. — Половина одиннадцатого. Через пять часов все тридцать свидетелей были опрошены. Уилсон прошел к шефу. Тот как раз прослушивал магнитограмму опроса свидетелей. — Что вы скажете на это, Пит? — У меня нет пока никаких идей. — А мне все ясно. — Начальник полиции встал, выпятив грудь. — Это коммунисты. — Что? — широко раскрыл глаза Уилсон. — Да, коммунисты. Именно так. Коммунисты не ограничиваются тем, что захватили три четверти земного шара. Они протягивают руки к последнему оплоту свободного мира. Сегодняшний террористический акт блестяще подтверждает эту мысль. Вы обратили внимание на нечеловеческую жестокость преступлений, на их исступленно-садистский характер? — Да, бессмысленные, механические убийства. — Вот именно. Именно так. Механические! Ведь ничего не похищено, унесена только жалкая бутыль с плавиковой кислотой. Пострадали самые разные лица, никак не связанные друг с другом. В этом нет никакой логики. Это сделано не людьми. Это сделано кибернетическими убийцами, подосланными коммунистами. Идея у них была такая: начать в один прекрасный миг массовый террор в Главном городе. Возникшую панику использовать в целях мировой пропаганды, что привело бы ко всеобщему взрыву и революции. Вы понимаете, Пит, что нам угрожало? Они хотят выжить нас с материка! — Но где же кибернетические убийцы? Ведь ни один не пойман! — Пит, не говорите глупостей! Разве вам неизвестна летающая, плавающая и ползающая модель человека системы Орха? — Я знаю эту модель, шеф. Дело не в ней. Она слишком слаба для таких преступлений. Здесь что-то другое. — Бросьте, Пит, все ясно: киберы-убийцы работали по программе, заданной коммунистами. При появлении опасности они взлетали в воздух и исчезали. — Почему же наши осы не зафиксировали их в воздухе? — Осы опоздали. Уилсон помолчал, потом вздохнул и сказал: — Я уверен, что вы ошибаетесь, шеф. Он направился к выходу. За его спиной раздался голос начальника: — Хэлло, мисс, соедините меня с центром прессы. К вечеру радио, телевидение и газеты Главного города были полны сообщений о новых чудовищных происках коммунистов. Мэр потребовал у Высшего городского совета чрезвычайных полномочий против коммунистов. Через несколько часов шеф опять вызвал Уилсона. — Пит, — сказал шеф, — нашли чертову бутылку с кислотой. На морском берегу, километрах в семидесяти отсюда. Слетайте, посмотрите, в чем дело. Когда летающий “бокс” с Уилсоном и его молодым сыщиком, по кличке Майкл-Бульдог, опустился на берег, там никого не было. — Вот бутылка, — Майкл ткнул ногой в осколки разбитой пласткерамической посуды, на которой еще оставался кусок фирменной наклейки, — вот песок, вот камни, там море, а здесь небо. Обстановка вполне ясная. Уилсон огляделся. Голый, безлюдный берег тянулся до самого горизонта; прибрежные камни, зализанные морскими волнами, сверкали на солнце, словно смазанные бриолином. — Кто обнаружил бутыль? — Кибернетическая овчарка. Уилсон долго разглядывал осколки посуды, золотистый черный песок, камни и море. Затем он выгрузил из “бокса” ультразвуковой молоток, совки, паклю и тряпки. — Майкл, — обратился он к юноше, — отправляйтесь в город, приобретите четыре микропогрузчика, непрозрачный фторопластовый гроб самого большого размера и возвращайтесь сюда часам к девяти вечера. Бульдог привык повиноваться. Через минуту “бокс” взвился и пропал в сияющем солнечном небе. Исполнив все указания сыщика, Майкл вечером возвратился на условленное место. В ярких голубоватых лучах искусственного солнца он увидел, что Уилсон возится около темного продолговатого предмета. — Все в порядке, бэби, тащи сюда свой гроб! — крикнул он Майклу. Предмет неопределенной формы, обмотанный тряпками, был поднят микропогрузчиками и осторожно опущен в ящик. Дно ящика треснуло, и поклажа оказалась на песке. — Вот досада! — вскричал Уилсон. — Ого, Пит, вы, кажется, собираетесь увезти самый тяжелый камень с побережья? — Не самый тяжелый, а самый нужный. Ну, давай грузить его так. Они с большим трудом втиснули свой груз в “бокс”. — Не развалить бы нам этим метеоритом машину, — заметил Майкл. — Ничего, “бокс” не циклолярия, выдержит. Курс — мой дом. На другой день Уилсон включил телегазету, ожидая увидеть продолжение антикоммунистической кампании. На его удивление, первые кадры газеты вновь оказались заполненными сверхсенсационным открытием этого всем надоевшего доктора Кресби. Лицо Кресби минут пятнадцать не сползало с экрана. Гениальное открытие. Пища передается по воздуху. Внушение ощущения сытости и довольства. Всеобщее блаженство. “Очевидно, кто-то очень влиятельный заинтересован, чтобы о вчерашнем поскорее забыли”, — подумал Уилсон. Он достал из почтового ящика плотную пачку газет. Разобрав почту, он отложил в сторону “Мак-Мердо тудей”, “Зюйде штерн”, “Кроникл” и “Куинпингвин”. Быстро пролистав страницы, пестрящие “дровами” (огромными черными литерами), бесконечными объявлениями и рекламами, он остановил внимание на крохотной заметке в “Кроникл”. “Говорят, что доктору Кресби удалось получить биокатализатор чрезвычайной активности, способный превратить в пищу обычный воздух или воду. Ученому, по словам осведомленных лиц, удалось кормить животных на расстоянии в четверть мили от катализатора. Утверждают даже, что подобное кормление приводит к совершенной перестройке жизнедеятельности организма. В авторитетных источниках, из которых наша газета черпает свою информацию, высказывается мнение, что животные доктора Кресби постепенно теряют характерное для всех обитателей земли строение белковых молекул. Как известно, в основе организма лежат углерод, водород, кислород, азот и сера. Доктору Кресби, однако, удалось присоединить к молекулам еще и атом фтора. Этот элемент-разрушитель ведет себя в организме, как смирный ягненок, придавая ему невероятную энергетическую активность и силу”. Больше в газете ничего интересного Уилсон не нашел. Его удивило гробовое молчание, которое хранила газета по поводу вчерашних событий. Он еще больше уверился, что это неспроста. В “Пингвине” он вырезал ножницами всего семь строчек: “Прославленный гражданин нашего города, доктор биологии Уильям Кресби, смело экспериментирует с таинственным биокатализатором. Нам удалось узнать, что этот биокатализатор, мы бы назвали его философским камнем древности, привезен с Венеры. Он испускает каталитические волны, превращающие воду в нефть и возвращающие людям молодость и силу”. “Куинпингвин” оказался тоже скуп на слова: “Вчерашняя суматоха вызвана какими-то таинственными экспериментами одного из наиболее уважаемых наших горожан. Причиной ее якобы был медведь колоссальной силы, биологическая активность которого в сотни раз превосходит нормальную. Наши научные обозреватели решительно отвергают подобные домыслы. Мы уверены, что в ближайшее время наш славный доктор продемонстрирует публике своего огнедышащего медведя”. “Ишь ты, черти, ловко, — восхитился Уилсон, — тень брошена, а попробуй привлечь их за дифамацию. Молодцы!” Выходящий на немецком языке “Зюйде штерн” высказывался довольно определенно. “Нам достоверно известно, что Кресби положит на бочку такое оружие, которое в один миг сокрушит коммунистов. Это будет славная биологическая война!” “Теперь понятно, — подумал Уилсон, — почему они решили замять вчерашнее дело. Если только газеты не врут, как всегда. Очень уж все это сомнительно… Философский камень с Венеры!” Уилсон засмеялся. На экране появились произведения доктора Кресби: старушка в рубцах и шрамах, исполнявшая акробатический этюд, старички, устанавливающие рекорды по поднятию тяжестей. Уилсон внимательно прослушал две передачи подряд о Кресби и отключил экран. Затем вызвал Майкла. — Хочешь увидеть разгадку вчерашнего преступления? — О, конечно! — Прилетай ко мне около двенадцати. В 11 часов Уилсон и Бульдог сидели рядом и наслаждались обезникотиненным виргинским табаком. — Наш шеф глупо поступил, начав возню с коммунистами, — заметил Уилсон. — Но это не мое дело. Главное в другом. Начальник стареет, у него хромает логика. Первая ошибка в том, что он допустил возможность одновременного выступления всех террористов. Это я понял еще при опросе свидетелей. — Посмотрите на карту. — Уилсон раскинул перед Майклом карту Главного города. — Вот здесь нападение совершено около десяти вечера, но эти “около” десяти означает без четверти десять, здесь убийство произошло тоже около десяти, но уже без трех минут, здесь опять-таки “около” десяти, а именно в четверть одиннадцатого, и так далее. Если все сто происшествий расположить во времени, то получается непрерывная зигзагообразная линия, проходящая через город с севера на юго-восток. Начало ее упирается в район Больших Клиник, а хвост выходит на самое побережье. Создается впечатление, будто здесь выпустили на город невидимый снаряд, который пронесся этим кривым путем, убивая и поражая встречных. — На основании этого я сделал главный вывод — убийца был один. — Никто не способен руками изувечить за пятьдесят минут сто человек! — воскликнул Майкл. — Это сделано не человеком, во всяком случае, не обыкновенным человеком. — Киберы? — Нет. В преступлениях действительно видна жестокость и мощь машины. Но в них есть одна важная деталь: бессмысленность. Полная бессмысленность и алогичность. Это не свойственно киберам. Для кибернетических убийств характерна, напротив, изощренная изобретательность, цель и логическая последовательность действий. И я никогда не разгадал бы загадки, если бы не бутыль с кислотой. И затем как следствие вот эта штука. Уилсон вытащил из ящика изодранный комплект силоксановой одежды. — Майкл, — сказал он, — выясни через фирму, кто бы мог быть владельцем этой тряпки. Вернее, владельца я знаю. Мне важно знать, кто купил этот костюм. Вот серийная метка. Через несколько минут юноша бодро сообщил: — Этот костюм из партии, закупленной клиникой доктора Кресби год назад. — Теперь все становится на свои места, — удовлетворенно сказал Уилсон. — Сейчас мы посетим истинного убийцу. — Мне поехать к прокурору за ордером? По лицу Уилсона пробежала пасмурная тень. — Нет! — ответил он. — Нет. Мы не сможем его арестовать. И вообще лучше держать язык за зубами… для нас лучше.***
Когда Володя окончил чтение, у него не было никакого готового решения. Не было даже мало-мальски четкой рабочей гипотезы. Мысль его устремилась сразу по нескольким направлениям. Это было похоже на блуждание по темным галереям лабиринта, из которых лишь одна ведет к свежему воздуху и солнечному свету. Вообще у Володи в голове был полный сумбур. Из всего прочитанного он помнил лишь следующее: 1. Американец Кресби нашел биокатализатор, каталитические волны которого действовали на расстоянии. 2. Питомец Кресби сорвал у Глаши брошь — подарок брата. 3. Брат Глаши — астролетчик, который привез на Землю удивительную креветку. 4. Брошь полетела с моста и упала на платформу, груженную диоптазом. Здесь не было и намека на связь с недавними событиями на химкомбинате. Да Володя и не искал этой связи. Он хотел только на некоторое время отвлечься от катастрофы на комбинате и отдохнуть. Но не думать о таинственном взрыве он не мог; как люди, которые в перерыве между длительными умственными усилиями, хватают в руки первый попавшийся кроссворд, Володя ухватился за секрет зеленой креветки. Тем более, что здесь, в отличие от расследования причин взрыва, ему был совершенно ясен первый шаг, ведущий прямой дорогой к раскрытию тайны. Володя снял трубку и попросил, чтобы ему прислали материалы, связанные с недавней космической экспедицией, в которой участвовал Глашин брат Федя. Вот что он узнал из этих материалов… В инфракрасных лучах горячие, окутанные паром воды Северного озера казались белыми, как бегущий из летки чугун. Уровень воды поднимался буквально на глазах. Озеро кипело и корчилось, раздираемое рождающимися где-то в глубинах огромными газовыми пузырями. Пар стлался над самой водой, как поземка, бегущая по черному зеркалу мостовой. Почва едва ощутимо вибрировала под ногами. Сквозь незаметные трещины сочился желтый дым. Порой взрывался зеркальный гейзер расплавленного олова. Металл, застывая в полете, падал серыми, сморщенными, как молочная пенка, шариками. Косолапо переваливаясь и останавливаясь через каждые пятьсот метров, Федор брел назад, к котловине. Порывы ветра сметали с поверхности почвы вулканическую пыль и глину. Точно бронзовый и золотистый мох, проступали под ногами кристаллики пирита. Исполинскими агавами, раскрытыми во все стороны, высились кварцевые друзы. Мертвый минеральный мир был по-своему прекрасен и многолик. Но это была суровая и мрачная красота, лишенная теплоты и мягкости, присущей жизни. На краю котловины Федор остановился. Круто вниз уходили гладкие серовато-голубые стены. Где-то там, на глубине трех километров, поблескивали ртутные озера, обычно скрытые желтым или кроваво-красным флером испарений. Федор впервые видел молнии сверху. Они висели между ним и дном котловины, как сетка в провале лестницы. Здесь постоянно бушевали грозы. Трескучие розовые ливни разрядов баламутили жирную коллоидную атмосферу, насыщенную парами воды, аммиаком и углеводородами. Почти в самом центре котловины возвышалось небольшое розоватое плато. Федор провел рукой по гладкому астралиту шлема и вытер пыль. Но видимость не улучшилась. Мягкая голубоватая дымка, на которую он обратил внимание еще утром, потемнела и плотной свинцовой завесой закрыла горизонт. Федор присел на гладкий базальтовый валун передохнуть. Мешок с образцами был набит до отказа, а предстояло еще спускаться на самое дно котловины и несколько километров тащиться к розовому плато. Федор думал о земле, о лесе, о сестренке Глафире, и все окружающее казалось ему нереальным. Он представил себе, как в грозовую ночь идет по скользкой раскисшей тропинке вдоль высокого берега Оки. Рюкзак намок и стал еще тяжелее, жесткая осока путается в ногах, а тут еще заросли зонтичных высотой с человека или сплошные кусты ивняка. Темно, хоть глаз выколи. Только в ртутном свете молнии внезапно вспыхнут вокруг белые мокрые листья. Федор идет, мучается, чертыхается и в то же время знает, что все это пустяки, охота пуще неволи и где-то совсем рядом светлая веранда, стол с белой скатертью, черное вишневое варенье в розеточках и старинный самовар. Но он идет, чтобы провести ночь где-нибудь в лесу, просушивая одежду у чудом разведенного костра. Этот костер, его непередаваемый запах и гудящее голубое пламя в мохнатой еловой лапе — драгоценная награда и вожделенная цель. Федор продирается сквозь кусты, хлюпает ногами в невидимых болотах и думает только о костре. А у костра он будет думать о туманном утре, о первых солнечных лучах, путающихся в стволах, и о спрятавшихся в росистой траве тугих и скользких шляпках грибов. А какой будет клев! Что может сравниться с внезапно дрогнувшим поплавком! В теплой неподвижной воде лениво разбегаются круги. Над ней еще стелется пар. А камыши просто залиты молоком. В них что-то плещется и полощется, бормочет и шуршит. Жирная вода в черных туманных камышах и рогозах. Там прячутся утки и выдры, щуки жрут рыбью мелочь, лягушки мечут крупную, как совиные глаза, икру. Федор вздрогнул и вскочил. Над котловиной поднялся огненный столб, окутанный тяжелыми облаками. Черная, закопченная сигара на какой-то миг висела в воздухе, опираясь на этот столб, и вдруг исчезла. Только где-то высоко-высоко можно было различить световое пятно. Федор почувствовал, что у него вспотели руки. Стук сердца отдавался в ушах, в горле пересохло. Он все еще стоял, задрав голову вверх. Но в бездонном серебристо-фиолетовом небе уже ничего не было видно. Над котловиной все так же бушевали грозы. Розовое плато едва виднелось, окутанное двойной пеленой непогоды и дыма. Потом Федору стало стыдно за свой испуг, и он поспешил успокоить себя: “Если Лешка Теренин взлетел, значит, это было необходимо. Может, ему пришлось спасать корабль от какой-то внезапно нахлынувшей беды… Не ждать же, пока я дотащусь со своим мешком”. Но отогнать смутное чувство тоски, которое холодной струйкой просочилось куда-то под самое сердце, было труднее. Федор представил себе весь трагизм и ужас положения. Он один на черной неисследованной планете. Только что неизвестно куда улетел планетолет, и у него, Федора, нет ни малейшего шанса вернуться на Землю. Ему опять стало страшно. Федор сел на тот же черный базальтовый валун и взглянул на висевший у пояса скафандра манометр. Воздуха было еще часов на тридцать. “В самом худшем случае это продлится тридцать часов”, — подумал он и внезапно совершенно успокоился. Он нажал кнопку, и к его губам придвинулась теплая пластмассовая трубка. Выпив немного бульона, он лег, чтобы сэкономить побольше воздуха, и стал ожидать возвращения Алексея. Когда в наушниках сквозь шум и потрескивание выплыл знакомый голос Алексея, Федор решил, что стал жертвой слуховой галлюцинации. “Не мог же он возвратиться так скоро”, — подумал Федор. Но в глубине души уже напряглась какая-то нервная ликующая жилка. — Федюшка! Где ты? Произошло несчастье! — кричал Алексей. Но Федор молчал. Он был всецело захвачен ликующим чувством радости и стыда. Не улавливая смысла обращенных к нему слов, он упивался их музыкой. Он еще не мог осмыслить всего, что произошло. Несоответствие между недавно стартовавшим планетолетом и этим живым близким голосом еще не коснулось его сознания. — И как это я мог подумать, что Лешка меня бросил здесь… Даже если нужно было спасать корабль, даже если сто тысяч раз нужно было улететь! — тихо шептал он, счастливо и глупо улыбаясь. — Чего ты молчишь?! Настройся поточнее! — Голос Алексея стал сердитым. — Несчастье произошло. Слышишь? — Да, слышу! — ответил Федор. Он был рад, что Алексей не слышал его слов и вообще не знает, о чем он тут думал, когда, как дурак, валялся на рокочущей от подспудных вулканических сил почве. — Немедленно возвращайся! “Веспер” улетел… — К-как ул-летел?! Сам? — До сознания Федора еще не доходила реальность обстановки. Воображаемое несчастье настолько сильно отпечаталось в нем, что никакая действительная беда не могла взволновать его сильнее. Он смутно понял, что планетолет улетел, а Алексей остался здесь, с ним. Как мог ни с того ни с сего улететь никем не управляемый космический корабль, это пока не интересовало Федора. С него было достаточно сознания, что Алексей здесь. В спокойной обстановке Федор понял бы, что случившееся несчастье куда страшнее воображаемого. Если бы Алексей и поднял планетолет, спасая его от какой-то беды, то возвратился бы за Федором во что бы то ни стало. Тут не могло быть никаких сомнений. Теперь же на возвращение звездолета нечего было рассчитывать. У Алексея, как и у Федора, оставался весьма ограниченный запас воздуха, и оба они должны были неизбежно погибнуть. Но Федор пока ни о чем не думал. Он был бесконечно счастлив, что он здесь не один, что где-то совсем рядом находится друг. Федор тихо засмеялся. — Что ты хохочешь, дегенерат! — закричал Алексей. — Понимаешь, что произошло? — И тут же сказал тихо и мягко: — Что-нибудь случилось, Федюшка? Ты где сейчас? Федор понял, что Алексей принял его смех за психический припадок. Такое бывает иногда вдали от Земли, особенно при сильном страхе. — Все в порядке, Леша, это я так, про себя, ты не обращай внимания. Я у самой котловины. Жди… Скоро буду. Федор с изумлением обнаружил, что все еще лежит в тени валуна. Он покраснел и вскочил на ноги. Рядом валялся мешок с образцами. Теперь он был совершенно не нужен. Федор подумал об этом с удивительным спокойствием. Но, сделав два или три шага, он вернулся и поднял тяжелый мешок. Потом, подойдя к самому краю котловины, включил ракету и прыгнул вниз. Он проделал все это четко и деловито, как акробат, летящий из-под циркового купола на упругую и надежную сетку. Под ним ведь тоже колыхалась сетка непрерывно вспыхивающих, ветвящихся молний… Они сидели рядом, прижавшись друг к другу прозрачными астралитовыми шлемами, как будто это могло улучшить радиосвязь между ними. Вокруг крутились песчаные вихри. Песок стучал по скафандрам, поднимался смерчеобразными столбами до самых молний. Вокруг была черная мертвая природа, от которой им негде было укрыться. Запас воздуха должен был иссякнуть через двадцать два часа. — Сразу же после того, как ты ушел, — рассказывал Федору Алексей Теренин, — я занялся гравиметрическими исследованиями в долине Ртутных озер. Не успел я установить приборы, как увидел их… креветок. — Кого-кого? — удивился Федор. — Не знаю даже, как тебе сказать… В общем, они похожи на креветок. Ты видел креветки? — Ел. — Ну, а я видел в море. Так вот, эти создания очень напоминали креветок. Зелено-голубые, светящиеся, с красными точками. Только без лапок и усиков. Их было несколько, штук десять или девять, сидели они на тех самых железных обнажениях, которые нас тогда так поразили. Помнишь? Федор молча опустил веки. — Обстановка там резко восстановительная, поэтому меня сильно поразило, когда я увидел, что вокруг креветок расплываются рыжие пятна ржавчины. Понимаешь теперь, откуда они черпают энергию для жизни? Я поймал четыре штуки, посадил их в контейнер и занялся своими приборами. Не успел я определить гравитационную постоянную, как контейнер исчез. Федор молча слушал рассказ товарища. Он уже не удивлялся. Недавнее возбуждение сменилось абсолютной пассивностью ко всему, даже к собственной судьбе. Алексей видел это. Его спокойствие было кажущимся. Мысленно он считал каждый удар сердца. Украдкой поглядывая на манометр, он думал, что нужно немедленно начать действовать. С каждой секундой все меньше оставалось шансов на жизнь. И все же он продолжал рассказывать спокойно и обстоятельно, чтобы дать Федору время прийти в себя. — Представляешь, Федька, иридиево-осмиевый контейнер исчез, рассыпался, превратился в кучку окисленной пыли. Во какая мощь! — Алексей сжал руку в кулак и потряс им. — Это меня заинтересовало, — продолжал он свой рассказ. — Я вернулся к кораблю и взял там несколько сфер из свинцового хрусталя. Это те, которые мы прихватили с собой на случай, если найдем здесь необычные радиоактивные минералы. Знаешь, о чем я говорю? Федор опять едва заметно кивнул. — Ну так вот. Я наполнил их такой неактивной штукой, как высокомолекулярный стеклопарафин, и бегом помчался назад. Пока я отсутствовал, проклятые креветки сожрали все обнажения подчистую. Вместо серебристых железных плоскостей я увидел рыжие холмы окиси. Креветки поднялись вверх по склону и принялись глодать кристаллы халькопирита. Три штуки, словно водомерки на пруду, скользили по глади Ртутного озера. Они оставляли за собой окисленную дорожку. Я полез наверх, поймал три креветки и поместил их в сферы. Они застыли там, точно залитые в жидкое стекло. На всякий случай я опустил сферы в дюар с жидким аргоном. Они и теперь там… Только дюар улетел вместе с нашим “Веспером” неизвестно куда. — Почему корабль улетел? Почему? — Федор говорил уже не безучастно. Алексей сразу это почувствовал. Он уже хотел было тряхнуть друга за плечи и сейчас же вместе с ним начать искать пути к спасению, но, взглянув краем глаза на стрелку манометра, решил подождать еще минут пять. — Я не знаю, почему улетел “Веспер”. Но кое-какие соображения на этот счет у меня есть. Мне важно знать, что ты думаешь обо всем случившемся. Вот смотри… — Какая разница, Леша? Корабль не вернешь, так не все ли нам равно, отчего он вдруг стартовал? — Значит, поместил их в дюар, — продолжал рассказывать Алексей, словно не расслышав вопроса Федора, — и вернулся к своим исследованиям. Когда я закончил работу и уже собирался домой, то увидел недалеко от себя еще одну креветку. Я посадил ее в сферу, а так как в дюаре больше места не было, положил сферу в карман. Это была моя первая ошибка. Потом я вспомнил, что сегодня день технического ухода. Конечно, мне нужно было дождаться тебя, но я решил, что быстро управлюсь и один. Тем более, что, по эксплуатационной карте, сегодня требовалось только быстро сменить горючее в спиртовом баке и проверить систему питания. Все это я проделал довольно быстро. В стартовом баке горючего было на самом донышке, и я решил просто его вылить. Это была моя вторая ошибка. Алексей взглянул на часы — до намеченного им срока оставалось полторы минуты. — Почему ошибка? — спросил он сам себя. — Дойдет очередь, объясню… Значит, слил это я всю элементосинтетику в автоканистру и полез проверять зажигание. Все было в полном порядке. И тут я вспомнил об этих проклятых креветках. Если они могли окислить осмий-иридий, то им ничего не стоило сожрать и наш “Веспер”. Я не на шутку перепугался и решил принять меры. Я включил зажигание и замкнул его на корпус. “Теперь нам не страшна никакая коррозия”, — подумал я тогда. И действительно, при постоянном притоке электронов никакие креветки не смогут направить процесс в другую сторону. Проделав все это, я переоделся, принял душ и позавтракал. Повалялся полчасика с книжкой и решил немного вздремнуть до твоего возвращения. Но я так и не заснул. Очень уж мне захотелось узнать, что там мои креветки поделывают. Не съели ли они после Ртутного озера и ту натриевую лужу, на дне которой лежит наш “птенчик”? Я быстро надел скафандр и помчался в форкабину. Когда открылся люк, я так резко выскочил наружу, что не удержался и упал. Что-то со скрежетом треснуло. Мне показалось, что треснул скафандр. Я ощупал себя пядь за пядью — все было в порядке. А раз все в порядке, то я и пошел куда хотел. И недаром я так рвался. Меня ожидал сюрприз. И какой! В блеске молний скупо сверкали железные плоскости обнажений. Будто и не было никаких креветок, а все это мне только померещилось! Представляешь себе мое состояние? Тут я вспомнил, что у меня в кармане должна быть одна сфера с креветкой. Я сунул туда руку, но карман был пуст. Алексей посмотрел прямо в глаза Федора. В них теплились крохотные жгучие огоньки. “Как у мальчишки, слушающего фантастический рассказ”, — подумал Алексей и взглянул на часы. Время истекло. — Вот что, браток, давай-ка собирайся. По дороге к Ртутному озеру я тебе все доскажу. Времени у нас с тобой мало, каждую секунду надо беречь. Сбрось с себя все лишнее. Возьмем только лазеры. Больше ничего не нужно. Федор молча начал отстегивать карманы и ракетный ранец за спиной. Через минуту они уже шагали по широкому языку застывшей стеклообразной лавы к Ртутному озеру. — В кармане я нашел только осколки хрусталя, — все так же обстоятельно рассказывал Алексей. — Я сразу же вспомнил свое падение… Сфера лопнула, карман раскрылся и… одним словом, я убедился, что креветки мне не привиделись. Конечно, в восстановительной атмосфере окисленное железо могло обрести свой прежний облик. Но не так скоро и не так полно! Я был здорово удивлен и заинтересован. И решил еще раз проанализировать состав этих железных обнажений. Я надеялся, что он должен был хоть как-то измениться в результате вызванной креветками метаморфозы. И я был прав!.. Ты делал несколько дней тому назад анализ этого железа и должен его помнить. Так? — Помню, — согласился Федор. — Сколько там было феррум — пятьдесят семь? — Ноль, тридцать семь промилей. — Точно! — подтвердил Алексей и, помолчав, выпалил: — Теперь же там нет, вообще нет радиоактивного изотопа железа. Федор даже остановился. — Ну, давай, давай, нечего время терять! — Алексей подтолкнул его в спину. — Понимаешь теперь, — продолжал он, — за счет чего они живут, эти твари? Окисляют металл, делят его на молекулы окислов и выискивают среди них радиоактивные. Так осуществляется цикл ассимиляции. А диссимиляция, выделение, протекает у них как восстановление окислов до металлов. Только в условиях такой нищеты, как здесь, могла развиться такая жизнь. Переворошить тысячи тонн вещества в поисках лишь одного грамма радиоактивной пищи! Нет, на такое природа может решиться, только когда исчерпаны все иные энергетические ресурсы. Только я подумал об этом, как раздался взрыв и такой хорошо знакомый мне свист. Наш “Веспер” поднялся над котловиной и ушел в космос… Сам, неизвестно почему. Вот так-то, брат. Теперь у нас жизни только на двадцать один час. И нет за это время иной заботы, как выудить нашего “птенчика”. Пункт телеметрического наведения, или просто “птенчик”, погиб в первый же день высадки. Он потонул в расплаве. Сначала все шло совершенно нормально. Точно на Гобийском испытательном полигоне в день инспекции. Как только “Веспер” лег на круговую орбиту, Федор включил гамма-эхолот и приник к осциллографу. Сигналы были очень нечеткими. Светящаяся изломанная линия напоминала своими очертаниями дальнюю, стынущую в осеннем утреннем тумане гряду леса. Одновременно зримую и призрачную. Порою кажется, что там на горизонте вовсе не лес, а синие полосы рассветных облаков. Вот-вот из тумана выкатится умытое солнышко и невесомая гряда растает вместе с тонким ледком, застеклившим маленькие черные лужи. На душе тогда бывает легко и грустно. Подобное же смутное чувство охватило Федора, когда он взял в руки ленту осциллограммы. — Что-то я не пойму, Алешка, — сказал Федор, — то ли здесь вода, то ли суша. Алексей сидел за пультом кодатора и составлял программу для “птенчика”. Его сильные руки, с набухшими, как весенние ручьи, венами, уверенно мелькали среди великого множества разноцветных кнопок и рычажков. — М-м, ну что там у тебя? — промычал он, не поворачивая головы. Федор подсунул ему ленту под самый нос. — Вот, смотри, — сказал он, удерживая ленту, чтобы она не скрутилась, — общий фон совершенно расплывчатый. Но вот эти отдельные скачки явно свидетельствуют о наличии электропроводящих энтрузий. — Да, похоже… Нечто вроде металлических платформ. А это какие-то непонятные простирания с разнослойным поглощением… — На что же ориентироваться? — Садиться придется вот на эти металлические платформы. Дай мне их координаты и вероятные отклонения. Приблизительно через час данные гамма-эхолотирования были обработаны и включены в программу пункта телеметрического наведения. Алексей еще раз все тщательно проверил и взялся за красный рычаг десантного устройства. — Ну, пускать, что ли? — спросил он. Федор молча кивнул головой. Толстый и короткий указательный палец Алексея просунулся в спусковую скобу и, помедлив немного, нажал кнопку. “Веспер” отозвался легким встряхиванием и незначительным вибрированием. “Птенчик” полетел в плотную и мутную атмосферу незнакомой планеты. Информация стала поступать почти сразу же. Вскоре исследователи уже имели исчерпывающие сведения о газовом составе и температуре верхних слоев, об увеличении градиента давления по мере приближения прибора к цели, о магнитно-электрических потенциалах. Но они почти не следили за приборами. Затаив дыхание они ждали момента, когда “птенчик” коснется поверхности. От характера этой поверхности зависел успех или неудача экспедиции. Квантовые часы переливались россыпью то загоравшихся, то гаснувших лампочек. В рубке стояла тишина, которая казалась еще полнее и глубже от тихого жужжания приборов. Внезапно эта тишина наполнилась нежным, мелодичным звоном. Потенциометры второго сектора ожили. “Птенчик” благополучно достиг цели. Передаваемая им информация с молниеносной скоростью обрабатывалась в памятных блоках машин и поступала на каскады навигационного пульта. — Полный порядок! — обрадованно сказал Алексей и стукнул кулаком по голубому пластику пульта. — Только десять процентов риска! Сердце Федора учащенно забилось. Он почувствовал, как кровь прилила к вискам, обдала лицо сухим жаром и бессильно отхлынула. В груди что-то оборвалось и упало. Все тело стало чужим и легким, наполненным какой-то сладкой усталостью. Федор проглотил слюну и облизал сухие губы. Он уже овладел собой, но волнение еще жило под сердцем и было физически ощутимо. — Неужели все-таки сядем, Алешка? А? — почему-то не сказал, а прошептал Федор. — Неужели через какие-нибудь полчаса мы все это увидим? — Ну конечно, увидим, чудак! Ты лучше послушай, что нас ожидает. Федор видел, как шевелились губы Алексея, как он то улыбается, то хмурит брови и ожесточенно рубит воздух ладонью. До ушей долетали даже отдельные слова: “твердый грунт”, “атмосфера”, “псевдогидросфера”, “высокая температура”, “расплавленный натрий”, и еще и еще что-то. Но он не понимал значения этих слов. Он жил ощущением приближающегося чуда, готовился к встрече с удивительным. К действительности его вернул окрик Андрея: — Ну, чего ты молчишь? Я к тебе обращаюсь! — А? Что? Прости, пожалуйста, это я так просто… О чем это ты? — Мечта-а-атель! — скривив рот, протянул Алексей. — Место для посадки выбрано отличное. Все как полагается, только вот не нравится мне сейсмоспектр. Опасность, правда, небольшая, извержения не предвидится, но почва все-таки трясется… — Ну и что? — Как — ну и что? Садиться будем? — А как в других местах? — Это самое лучшее. — Значит, тогда сядем здесь. Да? Ты-то как думаешь? — Десять процентов риска. Можно рискнуть! Ну, иди ложись в кресло. Алексей включил автоматику и тоже пошел ложиться в кресло. С этого момента “Веспер” подчинялся только сигналам “птенчика”. Посадка прошла идеально. Федор прильнул к экрану. Его расширенные зрачки, как линзы в фокусе, вбирали в себя картины неведомого мира. Но как беден был этот мир! Вокруг лишь камни и кипящие озера легкоплавких металлов. Скупым, хмурым блеском отсвечивали ровные грани каких-то гигантских кристаллов. Из миллионов трещин сочились струйки густого дыма. В самом центре экрана Федор различил причудливый силуэт “птенчика”: прибор неподвижно замер у подножия невысокого холма. Слева от холма темнел овраг, похожий на огромную черную каракатицу. — Прибыли, Алешка! Прибыли! — радостно закричал Федор. — Ну и прекрасно. — Алексей, как всегда, напускал на себя олимпийское спокойствие. Но Федор понимал, что в душе он так же ликует и удивляется. — Возвращай “птенчика” на борт! — приказал Алексей. Федор, внешне абсолютно спокойный, сначала отключил автомат, а потом линию обратной связи. Проделав все это, он получил сигнал возвращения. “Птенчик” зашевелился. Точно надкрылья майского жука, раскрылись листы внешнего кожуха и показались мощные гусеницы с причудливыми траками. “Птенчик” развернулся на левой гусенице и неторопливо пополз к планетолету. Но не прошел он и ста метров, как из-под земли ударил тугой фонтан расплавленного металла. Почва треснула и расплылась, открыв сверкающую поверхность. “Птенчик” провалился в расселину. Тяжелая зеркальная жидкость невозмутимо сомкнулась над ним, и он исчез. Ни кругов на поверхности, ни пузырей из глубины. Федор бросился к пульту и включил обратную связь. Но “птенчик” молчал. Металл полностью поглощал направленные радиоволны. Связь между планетолетом и пунктом наведения была прервана. Там, где минуту назад виднелся “птенчик”, поблескивало маленькое озерцо расплавленного натрия. В восстановительной атмосфере планеты поверхность его не мутнела. Она сверкала бесстрастно и грозно. Когда активность достигла долины Ртутных озер, воздуха у них оставалось еще на восемнадцать часов. Где-то глубоко в недрах клокотали грозные силы. Почва под ногами едва заметно дрожала. Натриевый расплав был спокоен… Федору смутно мерещилось, что все случившееся с ними за последние несколько часов — лишь какой-то смутный отзвук неведомо где шумящей жизни. Все казалось нереальным и болезненно застывшим. Он вдруг подумал, что восемнадцать часов, которые им осталось прожить, — это не так уж мало. Нет, это удивительно много! Эти часы растянуты, как годы неестественно обостренного бытия. Он, Федор, не беднее любого из жителей Земли. Какая, по сути, разница — годы привычной, налаженной жизни или вот эти неповторимые секунды, затерянные в чужом, враждебном мире? Как всегда, из оцепенения его вывел голос Алексея: — Федюша, измерь-ка глубину оврага и крутизну его северо-западного откоса. Алексей с неизменным спокойствием и деловитостью налаживал свой лазер. Федор давно уже понял, что Алексей нисколько не рисуется своим спокойствием. Оно так же присуще ему, как непрерывная жажда деятельности. Здесь была четкая взаимосвязь. Работа рождала спокойствие, спокойствие требовало новой работы. Стоило Алексею вдруг совершенно оказаться без дела, что практически трудно даже представить, его тоже сковали бы тиски раздумий. “Интересно, — подумал Федор, — какое бы у него было выражение лица?” — Ну, что ты стоишь? Выполняй! Федор вздрогнул: — Какой откос, какой овраг? Что ты плетешь? Меня отвлечь хочешь? Да?! Не беспокойся, сумею умереть не хуже тебя! Федор кричал все громче и громче. Его захлестывала непонятная обида и нестерпимая злость к кому-то, кого он никогда не знал и, наверное, не узнает. Алексей продолжал возиться с прибором, как будто бы Федора здесь уже не было. Наладив фокусировку, он вновь поднял глаза на товарища и так же спокойно спросил: — Как, ты опять тут? Измерил? Федор выругался, махнул рукой и побежал к обрыву. Остановившись у самого края, он внезапно почувствовал, что успокоился. Не то чтобы он поверил Алексею. Нет, надежды у них не было никакой. Просто он понял каждой клеточкой сердца, каждым нейроном мозга, что беситься совершенно не к чему. И лучше, как Алексей, встретить смерть с оружием в руках. Федор вспомнил о книгах, которые читал в детстве. В памяти, как облака на фоне закатного неба, вспыхнули и пронеслись лихие конники, размахивающие клинками, автоматически прижавшиеся к стенам разрушенных домов. Он подумал о партизанах, замурованных в одесских катакомбах, о гарнизоне Брестской крепости, о голодном, измученном человеке, который сжимал слабеющими пальцами волчье горло среди немых снегов Аляски. Уйдя в воспоминания, забыв обо всем, Федор совершенно механически проделал все необходимые измерения и возвратился к озеру. — Вероятно, есть какой-то большой смысл, когда обреченные берутся за оружие, — неожиданно для себя сказал он. — Иначе как можно измерить подвиг восставших в концлагерях и гетто? — Все это так, — спокойно ответил Алексей, не прерывая своего занятия, — но мы с тобой не обреченные… В этом все дело. Нужно только успеть достать ПТН. На это немного шансов, но они есть. Какой там уклон? — Сорок градусов… Неужели ты надеешься? — Да, надеюсь. Я хорошо помню, что, пытаясь спасти ПТН, ты включил обратную связь. Она так и осталась включенной. Значит, у нас есть шансы связаться с “Веспером”. — Да, но “Веспер”, наверное, уже далеко. Пока он вернется… Мы не дождемся, не дождемся. — Это уже другой вопрос, — все так же спокойно сказал Алексей, — это уже область догадок. Может, и дождемся. Установи свой лазер на холме! — Что ты хочешь сделать? — Осушить эту лужу и достать ПТН. — Ты собираешься испарить натрий в лучах лазеров? — Федор на секунду подумал, что Алексей помешался. От этой мысли ему стало действительно страшно. Может быть, впервые за все это время. — Не говори глупостей. Мы проделаем канал в грунте. Совсем небольшой. Я все рассчитал. Отсюда до оврага семьдесят три метра. Расплав самотеком уйдет в овраг, и мы достанем ПТН. — Да знаешь ли ты, сколько там этого натрия! — закричал Федор. — Да пока он вытечет, от нас останется лишь тухлая жратва для твоих креветок! — В этом-то и весь риск. Девяносто девять процентов риска. Все же один шанс у нас есть, и мы обязаны его использовать. Это приказ и обсуждению не подлежит. Выполняй. Федор послушно начал карабкаться на холм. Воздуха оставалось меньше чем на семнадцать часов. С высоты холма озерцо казалось похожим на таз. Алексей уже включил лучевое орудие, и от озера к обрыву медленно, как улитка, поползла белая, нестерпимо яркая точка. — Пойдешь от обрыва мне навстречу, — прозвучал в микрофоне его голос. — Хорошо, — ответил Федор. Что было потом, он помнил плохо. Все застилал какой-то липкий горячий туман. Мышцы шеи и спины готовы были разорваться от боли. Руки дрожали. Горячий едкий пот заливал глаза. Казалось, что он вот-вот переполнит скафандр. Федор хотел включить охлаждение, но, точно поймав на лету его мысль, отозвался Алексей: — Только не вздумай включитьохлаждение — простудишься. Федор ничего не ответил. Он только проглотил немного бульона. Гортань свело болезненной судорогой. Федор поморщился и облизал языком воспаленное нёбо. И опять потянулись часы величайшего напряжения. Сквозь поляроидный фильтр Федор видел, как две яркие улитки медленно ползут друг другу навстречу. Расстояние между ними постепенно сокращалось. Глаза стали сухими, моргать было больно. В распухших веках при каждом движении пробуждалась резь. — Медленнее веди луч, — сказал Алексей, — канал должен быть с уклоном. — Хорошо, — ответил Федор и поднял вверх сначала одну руку, потом другую, чтобы отхлынула кровь. Он уже не отличал реальности от бреда. Он, не мигая, следил за ползущими звездами, и глаза его будто тоже прожигали грунт. Когда расплав пошел наконец по каналу и первый сверкающий каскад металла хлынул в овраг, запас воздуха был почти исчерпан. Его оставалось меньше чем на четыре часа. Федор по-прежнему не выпускал из рук лучевое орудие, и над зеркальной нитью канала подымалось желтое облако. Это обращался в пар бегущий по каналу натрий. Алексей с трудом отцепил от аппарата прикипевшие мертвой хваткой руки Федора. Федор покачнулся и упал. Алексей выключил лазер и склонился над другом. Он осторожно повернул его спиной вверх. Отыскал карманчик под левой лопаткой, расстегнул его и нажал кнопку. В ногу Федора вошла тонкая игла, вспрыснувшая анабиотический раствор. Алексей перевел регулятор и понизил температуру в скафандре Федора до +4 °C. После этого он вынул из гнезда ампулы с твердым кислородом и вставил их в свой скафандр. Теперь они могли продержаться еще часов семь. Чтобы расходовать поменьше воздуха, Алексей лег. Он ждал, когда весь расплав перетечет наконец в овраг. Алексей умел ждать.***
Володя отложил папку в сторону, побарабанил пальцами по стеклу на письменном столе и, подперев рукой подбородок, уставился в потолок. По нему медленно ползла вниз головой яркая тропическая ящерица. В окно залетела маленькая шелковистая моль. Покружившись вокруг лампы, она уселась под самым потолком и, пошевелив усиками, принялась обдумывать какие-то свои мотыльковые проблемы. Голубой капюшон на шее маленького дракона раскрылся, окраска ящерицы из зеленой сделалась малиновой. Молниеносно и бесшумно она бросилась к моли. Раскрылась маленькая розовая пасть, подобно часовой пружине, выскочил свернутый в тесную спираль язык и вновь исчез. Моли на стене не было. “Знает свое дело”, — усмехнулся Володя и шумно вздохнул. Поймав себя на том, что он вот уже полчаса с интересом наблюдает за ящерицей, Володя по старой школьной привычке зажал ладонями уши и, нахмурив лоб, склонился над столом. Он написал запрос в Академию наук по поводу биологической активности и энергетических особенностей венерианских креветок. Потом позвонил в отдел снабжения химических предприятий. Он затребовал оттуда справку, откуда и когда на комбинат поступил диоптаз. Минут через сорок справка уже лежала у него на столе. Ответ из Академии наук пришел только к концу дня.***
Отдел снабжения Лугового района.
Сектор химической промышленности.
Начальнику штаба общественного порядка Лугового района
тов. Корешову В.С.
На Ваш запрос (телефонограмма 13–72). 8/VII с. г. на химкомбинат “Металлопласт” было отправлено 62 тонны кристаллического дноптаза (кондиционированного). Диоптаз закуплен у австралийской фирмы “Дейвис-Минере энд Корпорейтед”. Паспорт прилагается. Академия наук Союза Советских Коммунистических Республик, Институт астробиологии. Начальнику штаба общественного порядка Лугового района т. Корешову В.С. На Ваш запрос № 17/32Креветка Венерианская (Efemeridum Vensae)
К.В. — подотряд беспозвоночных эфемерид отряда псевдоракообразных. Головогрудь сравнительно короткая, брюшко длинное. Тело обычно сжатое с боков, реже — цилиндрическое. Голова вооружена направленным вперед лобным выростом паицнря — рострумом и вместе с грудью покрыта единым головогрудным щитом, соединенным на спинной стороне со всеми грудными сегментами. Передняя часть головы (протоцефалон), несущая стебельчатые глаза — антеннулы (первые уснкн) и антенны (вторые усики), отчленена от задней части (гнатоцефалона), несущей жва-лы и челюсти и срастающейся с грудью. Антеннулы и антенны длинные. 1, 2 или 3 пары передних ходульных ног всегда хорошо развиты и служат для скольжения по поверхности расплавленного металла и передвижения на суше. К.В. раздельнополы, однако у некоторых К.В. наблюдается протандрический гермафродитизм, то есть особь после достижения половозрелостн становится самцом, затем превращается в самку, а к концу своей жизни (у некоторых видов) снова в самца. Самка откладывает яйца на свои брюшные конечности, реже — прямо в расплавленный металл. Из янц выходит личинка, находящаяся на стадии зоеа. К.В. широко распространены в районе Розового плато Великой котловины, где и были впервые открыты А.Г.Ивановичем. Этим, однако, их ареал ограничивается. В коллекции Института астробиологии имеется 2 К.В. Особенности жизни К.В. — см. приложение. Старший научный сотрудник Б.Капоненко.***
ПРИЛОЖЕНИЕ Энергетический цикл К.В. слагается из окисления элементов до высокого окисла и последующего извлечения окислов нестабильных изотопов с сравнительно коротким периодом полураспада. Последние и являются источниками жизненной энергии К.В. После извлечения радиоактивных изотопов остальные изотопы вновь восстанавливаются из окислов. Продолжительность цикла от нескольких часов до четырех суток. К.В. легко переносят резкие температуры колебания (от 0 до 1300°К). К.В., по некоторым данным, способны, понижая энергию активации, окислять вещества даже на расстоянии без непосредственного воздействия. Жизненный цикл К.В. подобен цепной реакции. Под определенным воздействием К.В. взрываются, и их энергия высвобождается. В отличие от молекулы взрывчатых веществ К.В. не раздробляются на отдельные составные части. Разрывается лишь небольшая часть микромолекул К.В., а затем они восстанавливаются, реконструируются из образовавшихся при взрыве обломков. К.В. обитает лишь в резко восстановленной среде. В присутствии кислорода воздуха они быстро гибнут, успевая, однако, совершить 1–2 цикла. Младший научный сотрудник С.Ленецкий.***
Володе все было совершенно ясно. Разгадка лежала на самой поверхности. Стоило лишь нагнуться и взять ее, чтобы все сразу же стало на свои места и еще вчера таинственный и молчаливый мир вновь превратился в солнечный и привычный. Володя не задумывался, почему именно он сделался избранником случая, почему именно к нему протянуты нити неведомого. Постепенно в его голове стала выкристаллизовываться основная схема сложнейших причинно-следственных связей, которая вела к катастрофе на “Металлопласте”. Эта схема ветвилась и обрастала плотью живописных подробностей и ослепительных мелочей. “Сначала появляются эти проклятые К.В., — рассуждал Володя. — Они окисляют все без исключения минералы, вытягивают из них нужные изотопы и вновь восстанавливают окислы. Досадная небрежность Алексея Ивановича плюс действие К.В., и ракета улетает без людей. С другой стороны — цепная реакция окисления на “Металлопласте” и встреча с автофургоном на шоссе. Два одинаковых следствия одной и той же причины. Так… Хорошо! Теперь посмотрим, как эта причина, или просто креветка, оказалась на “Металлопласте”. И этот ручеек питает все тот же родник. Федор подарил привезенную им с Венеры диковину Глаше. Глаша попала в Мак-Мердо. Профессор Кресби ведет какие-то странные эксперименты. Поскольку они непосредственного отношения к делу не имеют, не будем обращать на них никакого внимания. Важно, что убежавшее от Кресби чудовище сорвало с Глаши брошь, внутри которой была креветка. Подумать только, какая опасность ей угрожала! Да этого Кресби судить надо. А они там в молчанку играют! Кресби еще газетчиков к ответу притянет за “клевету”. У них это обычное дело… Итак, креветка попадает на платформу с диоптазом, причем защитная оболочка, очевидно, разбивается. Далее. Диоптаз попадает на комбинат, и креветка, очнувшись после долгой спячки, принимается творить свои привычные дела. Хороню, что наша атмосфера богата кислородом, а то проклятая К.В. могла сожрать всю Землю. Все как будто бы логично и стройно. Теперь попробуем подвести итоги…” Володя достал блокнот и собрался уже записать свою версию по поводу катастрофы на комбинате. Но его внимание было привлечено приглушенным голосом диктора местной трансляции. Володя повернул рычажок на полную мощность: — …вершенно загадочный феномен. Это случилось сегодня утром на стадионе “Динамо”, где проводились мероприятия районной спартакиады. Участники бега на дистанцию в три тысячи метров показали совершенно неожиданные результаты. Занявший последнее место школьник Петр Воротников побил мировой рекорд, установленный шесть лет назад гвинейцем Мбулу. Результаты же призеров забега просто фантастичны. По мнению специалистов, они превосходят возможности, потенциально заложенные в человеческом организме. Интересно, что через три часа после забега ни один из участников не смог повторить свой чудесный рекорд. Подробности об этом замечательном соревновании вы сможете узнать в нашем спортивном выпуске в одиннадцать часов пять минут по первой и пятой программам. Володя прослушал сообщение, пожал плечами и только собрался было протянуть руку к блокноту, как зазвонил видеофон. — Товарищ Корешов? — Да. — Здравствуйте. Это говорят из специальной лаборатории. Только что закончили анализ… Поразительная вещь. — Все идет как надо, — перебил Володя. — В изотопном спектре не оказалось нестабильных изотопов. Не так ли? — Да, не оказалось! А вы откуда знаете? — Знаю! Я даже больше знаю. Завод восстановится сам собой! Без всяких усилий с нашей стороны, как в восточной сказке. — Вы… это, того… серьезно? — Абсолютно серьезно! Настолько серьезно, что сейчас же распоряжусь удалить всех с территории и никого туда не пускать. Чтоб не мешали… Да, нужно обязательно установить там автокинокамеру. Ведь это же очень интересно, как феникс из пепла.***
Но феникс из пепла не воскрес. Металлы восстановились, а завод — нет. Он лежал пустой и далекий, как озеро, скованное рыхлым весенним льдом. Холодно поблескивали в лучах вечернего солнца огромные пространства порошкообразного железа, тускло серел алюминий, в темных промоинах цемента карасиной чешуей отсвечивала медь. Да никто и не верил, что может произойти чудо. Кроме Володи, конечно. Поковыряв носком ботинка сероватый холмик алюминиевого порошка, Борис медленно подошел к Корешову. — Не расстраивайтесь, не надо. — Диспетчер потянул Володю за рукав. — Пойдемте, чего уж тут… Володя ничего не ответил. Он все так же самоуглубленно и безучастно смотрел куда-то вдаль, где садилось сплющенное малиновое солнце. — Да ведь вы провидец! — продолжал Борис. — В тот день, когда окисленная пыль восстановилась, все мы не могли в себя прийти от изумления. А всего не предусмотришь… Природа, как говорится, многолика, и наш разум просто не успевает следить за ее игрой. Всего не предусмотришь… А комбината, конечно, жаль! — Да, жаль, — ответил Володя, думая о чем-то своем. — Но я, честно говоря, надеюсь, что зеленая креветка сторицей окупит и волнения и потери. — Вы это серьезно? — Володя повернулся к диспетчеру и улыбнулся. — Я тоже так думаю. Ведь это же поразительная тварь! Это — явление! — Жизненный цикл ее действительно поразителен. Он отдаленно напоминает мне АТФ, чудесное вещество, которое во всем живом мире служит единственным преобразователем и накопителем энергии: будь то работа мускулов или размножение вирусов. — Борис замолчал, но, чувствуя, что оживление Корешова вот-вот угаснет, воскликнул: — И все здесь, знаете ли, не случайно, ой, не случайно! Вы правы, считая, что между туманными сообщениями о таинственных опытах Кресби и случаем на стадионе есть глубокая связь. Есть-то она, может, и есть, но ее надо найти. Найти, а не выдумать. — Найдем, обязательно найдем! Просто дело о зеленой креветке рано кончать: оно только еще разворачивается.
А. Насибов. “I—W—I”[5]
1
Восемнадцатого марта 1939 года, в три часа пополудни, из центрального подъезда берлинской резиденции Гитлера вышел невысокий плотный мужчина средних лет. Он был в штатском, но верзилы эсэсовцы, стоявшие у входа с карабинами на плече, приветствовали его так, как если бы это был офицер высокого ранга. Человек сошел на тротуар и сел в поджидавший его автомобиль. Где-то за Александерплац он поднял трость и коснулся ею плеча шофера. Тот подал автомобиль к тротуару, притормозил и, выскочив на панель, распахнул дверцу. — Я буду здесь. — Хозяин автомобиля показал на кафе с полосатыми маркизами на окнах. — Вы мне не понадобитесь. Поезжайте. Садясь за руль, шофер видел: хозяин неторопливо направляется к кафе. Машина скрылась за поворотом. Тогда мужчина, следивший за ней уголком глаза, свернул и пошел вдоль тротуара. В коротком широком пальто, какие в ту весну только входили в моду в Берлине, в твердой касторовой шляпе с загнутыми вверх куцыми полями, и с тростью под мышкой, он был неотличим от тысяч фланеров, заполнявших улицы германской столицы в предвечерние часы. На самом же деле человек этот (назовем его Фридрих Кан) имел весьма высокий чин в ОКВ,[6] руководя важнейшими направлениями гитлеровской военной разведки и контрразведки. Показалось такси. Фридрих Кан подозвал его, сел и уехал. Берлин бурлил. Толпы фашиствующих молодчиков бесновались вокруг трибун, с которых выкрикивали речи заправилы НСДАП.[7] Из окон жилых домов и учреждений, с балконов и крыш, с телеграфных столбов и деревьев свисали портреты Гитлера и нацистские флаги — длинные полотнища цвета запекшейся крови, с белым кругом и черной свастикой посредине. Типографии выбрасывали все новые выпуски газет, в которых смаковались подробности вступления гитлеровских войск в Прагу: в эти дни Германия завершала оккупацию Чехословакии. Поездка на такси была длительной — автомобиль пересекал весь огромный город. Постепенно широкие шумные магистрали сменились тихими улочками с коттеджами в палисадниках. Затем потянулись корпуса заводов. Здесь уже не было ни флагов, ни орущих газетчиков. По углам стояли группы молчаливых людей. Кан вылез у станции пригородного электропоезда, уплатил шоферу — ровно столько, сколько значилось на счетчике, — аккуратно прихлопнул за собой дверцу и направился к станционным кассам. Здесь он задержался, разглядывая расписание. Он ждал, чтобы отъехала машина. А шофер, которому не хотелось возвращаться без седока, медлил. Прошло несколько минут. Убедившись наконец, что в этом рабочем районе пассажира не заполучить, водитель тронул автомобиль. Фридрих Кан отошел от касс и неторопливо двинулся к темневшему на горизонте лесу. Он не сделал и сотни шагов, как с ним поравнялся старенький “оппель”. Дверь машины отворилась. Кан сел в кабину, и “оппель” резво побежал по дороге. Кан сидел неподвижно, стиснув руками трость. Еще не прошло волнение, которое два часа назад он испытал в кабинете Гитлера. Он долго готовился к этой аудиенции, выверил все детали. Казалось, успех был обеспечен. А вышло по-другому. …Итак, два часа назад на письменный стол Гитлера легла пачка фотографий. Верхняя изображала человека в резиновом костюме в обтяжку, в литых каучуковых ластах на ногах и с дыхательным аппаратом на груди. Широко расставив ноги, пловец стоял на берегу моря и глядел в объектив. На следующем фото двое пловцов в таких же костюмах сидели верхом на торпеде, целиком погруженной в воду. Еще десяток снимков был сделан под водой: пловец в резиновом костюме и с дыхательным прибором буксирует сигарообразный подрывной заряд; тот же человек прикрепляет заряд к килю корабля; двое легких водолазов возятся с разобранной торпедой — ее кормовая часть лежит на дне, зарядное отделение подвешено к корабельному винту. Гитлер склонился над снимками. “Наши?” — спросил он, разглядывая фотографии. “Итальянцы, мой фюрер, — с гордостью ответил Фридрих Кан, — тайна, которую они берегут пуще глаза”. “И Редер видел все это?” “Нет, мой фюрер”. “Торпеды… — Гитлер поднял голову, в раздумье пожевал губами, прищурился. — Вижу, вам они очень нравятся!” “Управляемые торпеды, которые вместе с людьми уходят под воду и мчатся к цели, невидимые и неслышные. — Кан положил руки на стол, подался вперед. — Они легко проникают в тщательно охраняемые базы противника и топят военные корабли, танкеры… Взрывы сотрясают воздух и воду, по морю разливается горящая нефть, пожары охватывают десятки других судов. Повсюду смятение, ужас, смерть!..” Кан умолк. Он был убежден: вот сейчас в глазах Гитлера вспыхнут огоньки бешенства, рука вдавит кнопку звонка. Вбежавшему адъютанту будет приказано вызвать командующего военно-морским флотом Редера. И тогда на голову незадачливого адмирала, проворонившего важную военную новинку итальянцев, обрушится страшный гнев фюрера. Что ж, Фридрих Кан не стал бы возражать. Эриха Редера, в короткий срок сделавшего блестящую карьеру в ОКМ,[8] он весьма недолюбливал. Долго тянулась минута, в продолжение которой Гитлер разглядывал фотографии. Фридрих Кан с бьющимся сердцем стоял возле стола, не сводя с фюрера глаз. “Чепуха, — вдруг сказал Гитлер, — чепуха, Кан!” И, собрав карточки, веером отшвырнул их на край стола. Кан молчал. Он был ошеломлен. “Не узнаю вас, — продолжал Гитлер. — Или вы, опытный разведчик, полагаете, что эти игрушки помогут нам покорить Польшу, а затем и Россию?” “Мой фюрер, я думал…” “Тогда, быть может, Францию?” “И не Францию, — пробормотал Кан, — я не ее имел в виду”. “Кого же?” “Англию, мой фюрер. Англия — остров”. Гитлер рассеянно поглядел на разведчика. “Остров? Разумеется, Кан. Точнее: острова. Но они будут взяты воздушным десантом, или десантом с моря, или задушены блокадой — я не решил еще как. Однако при всех обстоятельствах флот Британии должен оказаться здесь. — Гитлер выставил руки с растопыренными пальцами, медленно сжал их в кулаки. — Я захвачу его, Кан, а не отправлю на дно, как этого добиваетесь вы. Постарайтесь понять, что без британского флота нам никогда не поставить на колени Америку!.. Что же касается нового могущественного оружия нации, сверхоружия, оружия победы, то оно будет. Я ценю вашу предусмотрительность и энергию, но торпеда, которую мы создадим, это воздушная торпеда, летающая!” Возникла пауза. Гитлер сидел, постукивая по столу пальцами обеих рук. “Америка, — прошептал он, — Америка!.. Ее атакуют со всех сторон — немцы, итальянцы, японцы… — Неожиданно он встал, всем корпусом повернулся к посетителю. — Однако самое важное — это Россия. Запомните, Кан: Россия — это противник номер один”. Снова возникла пауза. Вздохнув, Гитлер опустился в кресло, кивнул на фотографии и почти ласково сказал: “Ну, а если мой друг Муссолини проведает, что вы шарили у него в карманах? Храни вас боже, Фридрих Кан. Случись такое, и за вашу жизнь я не дам и гроша…”2
Солнце клонилось к горизонту, когда “оппель” выехал на берег большого озера. Автомобиль притормозил возле деревянной пристани. На воде покачивался катер. В кокпите, привалившись к штурвалу, сидел человек в сером свитере, спортивных брюках и круглой вязаной шапочке. Это был Артур Абст. Завидев автомобиль, он поспешил на корму, помог Кану перебраться на борт судна. — Надеюсь, все хорошо? — спросил он, включив мотор и отдавая швартовы. Кан покачал головой, отвернулся. Умело сманеврировав, Абст вывел катер на чистую воду и взял курс к далекому лесистому острову. — Что же все-таки произошло? — спросил он. Кан рассказал о недавней аудиенции. Еще в первую мировую войну, когда младший офицер разведки германского военно-морского флота Фридрих Кан создавал на побережье Африки тайные базы снабжения германских подводных лодок, еще в те годы рука об руку с ним активно работал его коллега, тоже матерый разведчик и диверсант Эгон Манфред Абст. Закончив дела в Африке, оба разведчика получили новое назначение. Кан сделался военным дипломатом, Абст — его помощником. Оба работали в Мадриде, в германском посольстве. Но вскоре счастье изменило Манфреду Абсту. Во время одной из операций близ Гибралтара английские часовые подстрелили его. Перед смертью Манфред Абст поручил Кану заботы о своем малолетнем сыне Артуре. Так судьба свела этих двух людей. Фридрих Кан присматривал за Артуром Абстом, пока тот воспитывался в лицее и изучал медицину в университете Кельна. Абста отличала энергия, умение наблюдать. Он овладел несколькими языками, отлично плавал, стрелял, проявил определенные музыкальные способности. При всем том он никогда не терял над собой контроля, умел держать язык за зубами. И еще одно его качество импонировало Кану: Абст многое умел, но ничем не увлекался, кроме разве психиатрии и нейрохирургии-После сокрушительного поражения Германии в мировой войне 1914–1918 гг. Кан не впал в уныние. Он знал: пройдет немного времени и прусский дух вновь во весь голос заговорит в немцах. А тогда первое, что потребуется Германии, — это хорошо поставленная разведывательная служба. Так и случилось. 1935 год Фридрих Кан встретил на весьма ответственном посту во вновь организованной военной разведке Третьего рейха. К этому времени относятся и первые самостоятельные шаги Артура Абста, теперь уже молодого медика и офицера разведки. Катер подходил к острову, когда Кан закончил пересказ того, что произошло в кабинете Гитлера. Он не скрыл ни единой мелочи. Абст имел право знать о диалоге Гитлера — Кана еще и потому, что именно он, Абст, добыл фотографии итальянских подводных пловцов и водителей управляемых торпед. За все время рассказа Абст не проронил ни слова. Он даже ни разу не взглянул на собеседника. Лишь время от времени проводил языком по темным, будто пересохшим губам. Такая у него была привычка: слушать, молчать, глядя куда-то в сторону. Катер пристал. Они вышли, поднялись на откос, миновали просеку в густом сосновом бору и оказались перед приземистым домом — на первый взгляд, обычной дачей. Однако, присмотревшись, можно было заметить замаскированные в кустарнике посты охраны. Охранялся и дом, и остров, да и само озеро. Полновластным хозяином дома и всего острова был Артур Абст. Здесь находилась его лаборатория, зашифрованная индексом “1-W-1”. Несколько работников разведки, ведавших снабжением лаборатории, а потому знавших о ее существовании, были информированы: корветен-капитэн доктор Артур Абст занимается сложными исследованиями в области лечения душевнобольных новейшими средствами нейрофармакологии; его работы имеют важное значение для Германии. Было известно: время от времени из различных клиник страны в лабораторию “1-W-1” транспортируют группы больных. Их привозят и оставляют на острове. Здесь они проходят сложнейший курс лечения. То, что больные с острова не возвращались, никого не тревожило: для Артура Абста подбирались клиенты, не имевшие родственников и близких. Да и кого могла интересовать судьба каких-то умалишенных в это столь насыщенное событиями время, когда бесследно исчезали тысячи здоровых, известных всей стране людей!.. Артур Абст и в самом деле занимался исследованиями. Однако главная задача, порученная ему Фридрихом Каном, заключалась в другом и к медицине отношения не имела. Здесь, на уединенном острове, в полной изоляции от внешнего мира, Абст готовил группу разведчиков и диверсантов, которые должны были действовать под водой. Фотографии, которые Кан показывал Гитлеру, были сделаны прошлым летом. Именно тогда случай помог Абсту проникнуть в район секретной учебной базы итальянских подводных пловцов, расположенной неподалеку от Специи. Один из его агентов — конюший в имении герцога Сальвиати — срочно потребовал свидания. Чутье разведчика подсказало Абсту: его вызывают не зря. Поэтому, оставив все дела, он помчался на явку. И он не ошибся. Агент поведал о странных делах, творящихся неподалеку от имения, на взморье. Здесь, в крестьянских домах, из которых были выселены их владельцы, или просто в палатках на берегу, обосновалась большая группа итальянских военных моряков. “Все молодые и здоровые, как на подбор, — докладывал агент, — все отличные пловцы. Дни напролет возятся в воде. И вот что удивительно — плавают не только на поверхности, но и подолгу скрываются в глубине, усевшись верхом на каких-то цилиндрах”. С помощью агента Артур Абст проник сперва в имение герцога, в тот период пустовавшее, а затем и на побережье. То, что он увидел, его ошеломило. И вот в его распоряжении пачка фотографий — снимки сделал специальный фотограф группы итальянских пловцов: проявил пленку в ванной комнате замка и легкомысленно оставил ее там сушиться… С уникальными фото Абст поспешил к своему патрону: снимки надо немедленно показать фюреру. Но Фридрих Кан рассудил по-другому. Он решил, что фюрер может и подождать. Сам же Кан не стал терять ни одного дня. Здесь, на острове, в спешном порядке была создана специальная группа во главе с Абстом, которая должна была любой ценой раскрыть секреты итальянцев, скопировать их аппаратуру и подготовить первую партию германских людей-лягушек. Однако немцам не удалось выкрасть чертежи военной новинки, а тем более — раздобыть экземпляр итальянской управляемой торпеды: итальянцы ревниво берегли свои секреты от всех, включая германских друзей. Но, в сущности, в этом и не было особой нужды — специалисты из технического отдела военной разведки быстро разобрались в фотографиях Абста. Важна была идея, и они ее поняли. Работа в “1-W-1” закипела. Вскоре опытные экземпляры торпед были изготовлены, группа подводных пловцов обучена. Теперь можно было идти к Гитлеру. Фридрих Кан решил: в кабинете фюрера он начнет с итальянских фотографий. А уж потом, когда фюрер рассвирепеет и учинит разнос командованию флота, он, Кан, выложит свой главный козырь — доложит об Абсте и подготовленной им группе пловцов. Но, как известно, дело приняло иной оборот, и Кан должен был благодарить провидение за то, что не поторопился с реляцией по поводу деятельности лаборатории “1-W-1”.3
В камине, сложенном из глыб зеленоватого гранита, догорало большое полено. Время от времени на нем вспыхивали короткие синие языки пламени, и тогда из полумрака проступали темные силуэты. Уже давно стемнело. Дувший весь день ветер унялся, на остров легла тишина. Абст подошел к окну, распахнул его створки. В комнату хлынула влажная свежесть, и были в ней запахи стоячей пресной воды, и плесени, и топких илистых берегов, и деревьев, намерзшихся за зиму, а сейчас возвращавшихся к жизни. Кан зябко поежился, зевнул. Абст обернулся: — Вам нездоровится? Быть может, выпьете кофе? Кан кивнул. Вскоре служитель прикатил столик с кофе и бутылкой коньяка, подбросил в камин дров. Абст разлил кофе по чашкам, одну пододвинул гостю. — Что же нам делать? — спросил он. — Неужели, прекратить все? — Работай, Артур. Работай спокойно. Мы на пороге большой войны. Она потребует много оружия. Любого, какое только сможет изобрести человек. — Кан помолчал и закончил: — Бог знает, сколько миллионов людей предстоит истребить армиям фюрера. Для этого годится всякое оружие. Лишь бы оно действовало достаточно эффективно… Неожиданно за окном раздался стон. Стон повторился. Он нарастал, делался громче, перешел в пронзительный вопль и оборвался. Одним прыжком Абст оказался у двери, рванул ее и выскочил из комнаты. А за окном уже слышались крики, топот, рычание, треск кустарника. В отдалении негромко хлопнул пистолетный выстрел. В тот же миг оконное стекло разлетелось тысячей брызг, и в раме возникло лицо человека. Выкатившиеся из орбит глаза, всклокоченная черная борода, окровавленные кулаки, которыми человек исступленно молотил по раме, по остаткам стекла, — при виде всего этого Фридрих Кан оцепенел. А неизвестный уже втиснул в раму плечи, ухватился рукой за подоконник, подтянул ногу. Еще мгновение — и он будет в комнате. Кан кинулся к камину, схватил тяжелую кочергу и принял оборонительную позу. Но за окном появился Абст с помощниками, и человека оттащили. Еще несколько секунд слышался шум борьбы. Затем дом снова окутала тишина. Все произошло молниеносно. На столе еще дымился кофе. В камине потрескивали дрова. Но подрагивала полусорванная с петель пустая створка окна, а ковер был устлан осколками стекла, и огонь камина отражался в них множеством веселых искорок. Вернулся Абст. Прерванная происшествием беседа возобновилась. Кан и его помощник вели себя так, будто ничего не произошло. Теперь темой разговора были пловцы. Абст докладывал: днем они тренируются в бассейне, ночью на озере. Обстановка подходящая, глубины хорошие. Разработан и осуществляется целый комплекс подсобных упражнений, цель которого выработать и развить у пловцов храбрость, инициативу, находчивость. И все же это не то, что нужно. — Чего же недостает? — спросил Кан. — Образно говоря, запаха крови. — Абст усмехнулся. — Звери, которых готовят для убийства, должны полюбить запах крови. — Хочешь скорее пустить их в дело? — Необходимо, чтобы пловцы провели несколько операций. Они должны поверить в свои силы, убедиться в надежности и мощи нового оружия. Абст продолжал развивать свою мысль, но Кан слушал рассеянно. Перед ним неотступно стояло лицо умалишенного, его глаза. Проходили минуты, и крепла уверенность: он уже видел где-то этого человека! Кан встал с кресла, приблизился к камину, долго глядел на огонь, затем прошел к роялю в противоположном конце комнаты, задумчиво провел пальцем по полированной деке концертного Дидерихса. Внезапно он обернулся: — Бретмюллер? Абст кивнул. — Поразительно! — прошептал Кан, возвращаясь к креслу. — Бедняга, до чего он дошел… Очень плох? Абст пожал плечами. — Конечно, — пробормотал Кан, — конечно, безнадежен, коли его отдали тебе. Жаль, очень жаль Бретмюллера. Это был хороший немец, хороший офицер. …Семь месяцев назад подводная лодка новой серии “Випера”, только что вступившая в строй, была назначена в дальний поход. ОКМ объявило: лодка уходит в океан, чтобы окончательно проверить механизмы в условиях длительного автономного плавания. На деле лодке поручили важное разведывательное задание, зашифрованное как “операция бибер”.[9] Ей предстояло пройти несколько тысяч миль на юг и скрытно проникнуть в район расположения крупной базы военно-морского флота одного из потенциальных противников Германии. Лодка должна была изучить систему обороны базы, произвести промер глубин прилегающих к базе районов, взять пробы грунта, а главное — установить и нанести на карту весьма сложный фарватер в рифах, являющийся единственным подходом к базе. “Виперу” проводили в поход. Проводы были торжественные. ОКМ старательно подчеркивало: оно ничего и не от кого не скрывает — лодка отправляется в обычное плавание. Сменялись недели, а сведений о лодке не поступало. Первое время это не тревожило командование — в походе лодка должна была соблюдать радиомолчание. Однако прошли все сроки, а “Випера” не вернулась. Поиски результатов не дали. И лодку объявили пропавшей без вести. А потом германский рефрижератор, следовавший с грузом бананов мимо той самой базы, выловил в море командира “Виперы”. Офицер был в последней степени истощения. И если жизнь еще теплилась в нем, то разум несчастного был утрачен. Фрегатен-капитэна Ханно Бретмюллера доставили в Германию, где лучшие специалисты взялись за его лечение — тщетно: больного признали безнадежным. И вместе с его разумом была похоронена тайна гибели “Виперы”. В конце концов больного передали в “1-W-1”. Бретмюллер был вдов и бездетен, не имел родственников, и Абст мог делать с ним все, что угодно… Кан поднял голову и поглядел на Абста. — Ну-ка, поговорим о Бретмюллере. Давно он у тебя? Абст отпер шкаф, достал пачку карточек, отобрал нужную. — Фрегатен-капитэн Ханно Бретмюллер доставлен в лабораторию сорок восемь дней назад, — сказал он, просмотрев запись. — Что же с ним случилось? Абст запер карточки в сейф, подсел к гостю, потер в задумчивости виски. — Сегодня вы обязательно уедете? — спросил он. — Быть может, заночуете у меня? — Но зачем? — Даже не знаю, как объяснить. — Абст помедлил, заглянул в глаза Кану, прошелся по комнате. — Хотелось бы посвятить вас в одно любопытное дело. — Говори! — Это займет много времени. Оставайтесь, шеф, не пожалеете. Вы, кроме всего прочего, отлично выспитесь — воздух здесь отменный, не то, что в Берлине. Кан задумался. Разведчик с многообещающим будущим, медик, уже зарекомендовавший себя смелыми экспериментами над заключенными в лагерях людьми, — все это странно синтезировалось в Абсте. Его жизнь проходила на глазах Кана, и тем не менее Кан не раз ловил себя на мысли, что по-настоящему Абста не знает. — Это связано с Бретмюллером? — спросил Кан. — Да. — Хорошо, я останусь. Но ты утверждал: он безнадежен? — Увы, Бретмюллера уже ничем не вернуть к нормальной жизни. Однако мне удалось… Впрочем, будет лучше, если мы пройдем к нему. Вы все увидите сами. Фридрих Кан пожал плечами. Он решительно не понимал, зачем все это, но, хорошо зная Абста, не сомневался, что тот не стал бы зря беспокоить его. Кан тяжело поднялся с кресла. — О, не так скоро. — Абст вновь отпер сейф, достал желтую папку. — Прежде чем посетить Бретмюллера, вам следует ознакомиться с ее содержимым. И он положил папку на стол. Кан раскрыл ее и увидел аккуратно подшитые листы с отпечатанным на машинке текстом. В карманчике на внутренней стороне обложки была вложена фотография Бретмюллера: красивый, элегантный моряк стоит перед камерой, заложив руки за спину. — Это тайна гибели “Виперы”, — пояснил Абст. — Лодки Бретмюллера? — Да. В папке показания человека, который был свидетелем катастрофы. — Ты нашел человека, спасшегося с “Виперы”? — Спасся только Бретмюллер. — Чьи же это показания? — Бретмюллера. — Кажется, умалишенный есть и в этой комнате. — Кан с досадой отшвырнул ногой каминные щипцы. — Пора наконец перейти к делу. Говори же, я слушаю! — Все очень серьезно, — спокойно сказал Абст. — Вылечить Бретмюллера невозможно, это так. Однако мне удается возвращать ему разум. Он приходит в себя на очень короткое время. Затем срок истекает, он впадает в буйство, подобное тому, которое вы наблюдали недавно. Еще через час больной превращается в безгласное и бесчувственное существо — он лежит пластом, не в силах шевельнуть мизинцем. — И в этой папке беседа с ним? — Беседы, — поправил Абст. — Но как ты добился такого результата? — Лавры принадлежат не мне. — Абст повел плечом. — Вы слышали о Вильгельме Лоренце? — Он военный? — Врач-психиатр. — Нет, не припомню. — Быть может, вам что-нибудь скажет такое имя: Манфред Закель? Напрягите свою память, шеф. — Тоже врач? — Да, врач. И тот и другой — немцы. Первый живет в Америке, второй имеет собственную клинику в Берлине. Начинали они. Я же только развил их идеи и кое-что додумал… Простите, шеф, быть может, вы отдохнете и мы позже продолжим наш разговор? — Нет, нет, говори сейчас. — Хорошо. Так вот, Лоренц и Закель применяли цианистый натрий, инсулин и некоторые другие препараты. Воздействуя ими на пораженные недугом клетки головного мозга пациентов, оба врача добивались успеха даже в весьма тяжелых случаях. Но и они были бессильны против определенных форм безумия. Особенно если пораженными оказывались участки мозга в районе таламуса. — Таламус? — Загадочный бугорок в центральной части мозга человека. О нем известно далеко не все. Во всяком случае, мне. Один из многочисленных секретов мозга, не раскрытых и по сию пору. — Продолжай, Артур, я внимательно слушаю. — Так вот, в этих случаях обычные препараты не давали эффекта. Более того, применение их приводило к тому, что в клетках мозга начинался процесс разрушения. В большинстве необратимый. Именно такой болезнью, точнее, формой болезни и страдает Ханно Бретмюллер. К сожалению, он слишком поздно поступил ко мне в лабораторию. Верьте, я сделал все, что в человеческих силах, чтобы хоть сколько-нибудь… Кан нетерпеливо шевельнул плечом. — Он погибнет? — Да. — А как же это? — Кан показал на желтую папку. — Ведь тебе кое-что удалось! — К Бретмюллеру несколько раз, и притом ненадолго, возвращалось сознание — единственное, чего я добился. Сперва он приходил в себя на пятьдесят минут, затем минут на сорок, на полчаса: при повторных инъекциях препарат действует все слабее. Приходится увеличивать дозу. А это нельзя делать бесконечно — в составе препарата сильный яд. — Короче говоря?.. — Короче, теперь я могу ввести его больному последний раз. — В моем присутствии? — Да. — Сегодня? Абст кивнул. — А потом? — спросил Кан. — Он, вероятно, погибнет. — И тоже сегодня? — Видимо. — Зачем же его тревожить? Не лучше ли, чтобы все произошло само собой? Черт возьми, Артур, он заслужил право умереть своей смертью! — Сперва прочитайте это. — Абст указал глазами на желтую папку. — Прочитайте и будете решать.4
СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛТОЙ ПАПКИ
8 февраля 1939 года. Первая группа инъекций. Время — 14 часов 07 минут. Больной лежит в неподвижности, лицом вниз. 14 часов 14 минут. Дыхание стало глубже, темп замедлился. Лицо больного порозовело. 14 часов 21 минута. Периодичность дыхания приближается к нормальной. Наблюдаются конвульсивные подергивания конечностей. 14 часов 23 минуты. Больной, лежавший скрюченным, вытянулся, перевернулся на спину. Он ровно и глубоко дышит. 14 часов 25 минут. Плотно сжатые веки больного дрогнули. Он приоткрыл глаза, провел языком по губам. 14 часов 26 минут. Глаза полностью открыты. Больной пытается сесть. 14 часов 28 минут. Полное восстановление сознания. Бретмюллер. Где я нахожусь? Абст. В госпитале. Бретмюллер. Вы врач? Абст. Да, я врач и офицер военно-морского флота Германии. Но разговоры потом. Вы должны хорошенько поесть. Сейчас для вас это самое важное. Перед вами обед — пожалуйста, ешьте. Начните с бульона; смею уверить, он очень хорош. Бретмюллер. Немедленно свяжите меня с начальником военно-морской разведки! Абст. Садитесь к столу. Обедая, вы сможете разговаривать. Я охотно исполню все ваши… Бретмюллер. Нет! Я буду говорить только с офицером разведки. Абст. Вот мое удостоверение. Я офицер разведки. Мне известно все о вашем задании. Называю пароль: “операция Бибер”. Садитесь, ешьте и рассказывайте все самое важное. Садитесь же и начинайте — я внимательно слушаю. Бретмюллер. Они погибли — лодка и люди!.. Это трагедия, которую не перескажешь словами! Абст. Сидите спокойно. И ешьте. Приказываю есть! Вот так. Не спешите — пища лучше усваивается, когда ее хорошенько прожевываешь. Вы пообедаете, и мы возобновим беседу. Я оставляю вас. Вернусь через четверть часа.Спустя пятнадцать минут.
Абст. Есть ли у вас какие-нибудь желания? Бретмюллер. Я хотел бы отправить письмо. Абст. К сожалению, нельзя. Но я обещаю: каждое ваше слово будет передано по назначению. Бретмюллер. Как вы докажете это? Абст. Вы видели мое удостоверение. Бретмюллер. Я командир подводной лодки “Випера”. Она погибла. Не приведи бог, если туда пошлют другую! Абст. Ее потопили? Как это произошло? Когда, где? Что стало с командой? Бретмюллер. Погибла лодка, погибли люди!.. Абст. Когда? Бретмюллер. В ночь на двадцать третье октября 1938 года. Абст. Вам известно, что сегодня восьмое февраля 1939 года? Отвечайте. Почему вы молчите? Бретмюллер. Это ложь. Абст. Это правда. Вас выловили из океана близ той самой базы девяносто семь дней назад… Сидите, вам нельзя волноваться, расходовать силы! Бретмюллер. Вы лжете, лжете! Этого не может быть. По-вашему выходит, что я… Абст. Да, все эти девяносто семь дней вы были без сознания. Длительное пребывание в воде не могло пройти бесследно. Вы очень серьезно заболели, Бретмюллер. Но я заверяю: будет сделано все, чтобы поставить вас на ноги. Бретмюллер. Я не верю ни единому вашему слову! Абст. Хорошо. Сейчас четырнадцать часов пятьдесят семь минут. Через три минуты Берлин будет передавать сигналы точного времени и вслед за тем календарь событий за неделю. Справа от вас радиоприемник. Включите его, Бретмюллер, настройтесь на Берлин, и тогда вы ни в чем не станете сомневаться.В 15 часов 02 минуты.
Абст. Успокойтесь. Выпейте воды. Ведите себя спокойно, иначе я прикажу связать вас. Вот так. Теперь сядьте и отвечайте на вопросы. Бретмюллер. Три с половиной месяца! Абст. Как это произошло? Бретмюллер. Точно в срок мы вышли в район расположения объекта. Конечно, шли под водой. Рискнули подвсплыть и выставить перископ: по расчетам, было время заката, и я надеялся, что окажусь между островом и спускающимся к горизонту солнцем… Простите, у меня разболелась голова….. Абст. Ничего, ничего. Говорите быстрее! Бретмюллер. Расчет был верен. Абст. Вы вышли в нужную точку? Бретмюллер. Да, в перископ я увидел остров с базой. Он был прямо по курсу, милях в пятнадцати. А справа, по траверзу, в семи кабельтовых… Дьявол! У меня раскалывается головаот боли! Абст. А тошнота? Вас мутит? Бретмюллер. Немного. Но, мой бог, голова!..5 часов 17 минут. Конец действия препаратов.
Сознание было восстановлено на 49 минут. Буйство — 12 минут. 15 часов 31 минута. Больной впал в прежнее состояние апатии и безразличия. 23 февраля 1939 года. Попытка повторить эксперимент с инъекцией препаратов в первоначальной дозировке. Неудача. 5 марта 1939 года. Третья попытка, доза инъекций увеличена на 100 000 единиц. Время —14 часов 30 минут. Дальнейшее — как при эксперименте 8 февраля. Полное восстановление сознания — в 15 часов 03 минуты. Больной выглядит так, будто проснулся после длительного тяжелого сна, в продолжение которого был мучим кошмарами. Абст. Добрый день. Как чувствуете себя? Бретмюллер. Неважно… Что со мной произошло в прошлый раз? Ничего не могу припомнить… Абст. Пустяки. Постепенно вы приходите в норму. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Ешьте и продолжайте рассказывать. Бретмюллер. Есть не хочется… Впрочем, я возьму кусочек. Спасибо. Так, на чем я остановился? Абст. Вы всплыли под перископ… Бретмюллер. Да! Мы подвсплыли и увидели в перископ базу. Она была прямо по курсу, милях в пятнадцати. Справа же, по траверзу, в семи кабельтовых торчала эта проклятая скала! Абст. Вот уже второй раз упоминаете вы о какой-то скале… Что это за скала? Бретмюллер. Гигантская коническая скала, одиноко торчащая из воды. Страшная серая махина, которая стала причиной гибели лодки… Абст. Вы ударились о нее? Бретмюллер. Не перебивайте!.. Ночью мы всплыли, чтобы зарядить истощившуюся батарею… Простите, какое сегодня число? Абст. Пятое марта. Бретмюллер. Выходит, я снова был без сознания длительное время? Или я ничего не помню? Абст. Вы были без сознания. Бретмюллер. Почти месяц! Абст. Вы спали. Это сделал я, ибо сон — лучшее лекарство. Но продолжайте. И, пожалуйста, не отвлекайтесь: у нас с вами время ограниченно. Бретмюллер. Я снова впаду в беспамятство? Абст. Продолжайте! Бретмюллер. Боже, неужели все повторится?.. Абст. Вы зря теряете время. Бретмюллер. Хорошо… Мы почти завершили зарядку, когда сигнальщик заметил корабль. Это был корвет, который шел на большой скорости и держал прямо на нас. Мы сыграли срочное погружение. Лодка ушла на глубину. Спустившись на полтораста футов, мы оказались на жидком грунте.[10] Вам известно, что это такое? Абст. Да. Бретмюллер. Мы застопорили двигатели — в последний момент мне показалось, что корабль стал отворачивать в сторону. “Быть может, — подумал я, — нас еще не обнаружили, не следует выдавать себя шумом винтов”. Но я ошибся. Я совершил двойную ошибку… Я погубил людей, лодку!.. Абст. Не отвлекайтесь. Говорите о самом важном. Сейчас меня интересуют только факты. Позже, когда вы поправитесь, мы снова вернемся к этому разговору. Бретмюллер. Дайте мне сигарету. Абст. Табак для вас самый сильный яд. Бретмюллер. Только одну сигарету! Абст. Нельзя. Бретмюллер. Вы жестокий человек! Абст. Я желаю вам добра. Но вы зря теряете время. Рассказывайте. Бретмюллер. Уйдя под воду, мы открыли гидроакустическую вахту. Акустик доложил, что корабль приближается. Я хотел было уклониться с курса корвета, но не успел. Он начал бомбометание. Первая серия взрывов ложится в районе левого борта. Нас резко встряхивает. А бомбежка продолжается. Корвет, будто осатанев, вертится над нами и швыряет все новые серии глубинок. Взрывы, взрывы!.. Люди оглушены. Лодку швыряет из стороны в сторону, трясет. В этих условиях я принял решение — уходить. Абст. Вы имели строгий приказ: ни при каких обстоятельствах не обнаруживать себя в районе базы. Почему вы включили двигатели? Бретмюллер. В случае гибели лодки корвет почти наверняка выловил бы всплывшие обломки. А это лучшее доказательство. Нет, нет, я был прав. Я должен был попытаться увести лодку… Боже, все та же боль в голове! И — сердце… Скорее, отворите окно. Воздуха! 15 часов 41 минута. Конец действия препарата. Сознание было восстановлено на 38 минут. Произведен анализ токов мозга для выявления степени поражения его глубинных отделов. Результат резко отрицательный. 13 марта 1939 года. Четвертая попытка. Доза группы инъекций увеличена на 300 000 единиц. Время — 18 часов ровно. Восстановление сознания в 18 часов 47 минут. Абст. Вот мы и вновь встретились. Дайте-ка руку. Пульс несколько учащенный, но так оно и должно быть. Все в порядке. Продолжайте рассказ. Но прежде я должен предупредить: вы очень скоро уснете. Поэтому поторапливайтесь. Бретмюллер. Моя голова перевязана. Я чувствую сильную слабость. Что со мной происходит? Абст. Ничего особенного. Лечение идет как надо. Вы ушиблись, поэтому на голове бинты. Бретмюллер. Вероятно, сильно. Очень болит. Вот здесь. Темя. Видимо, я бредил? Абст. Да… Не трогайте повязку! Опустите руки, сядьте удобней. Бретмюллер. Почему вы не даете мне поесть? В те дни на столе всегда стоял обед… Впрочем, я не стал бы есть. Не могу. Кружится голова. Кружится и болит… Абст. Боль пройдет. Что касается еды, то вы получаете специальное питание, когда находитесь без сознания. Обычная пища для вас не годится. Потерпите, скоро выздоровеете, и все войдет в норму. Говорите, я слушаю. Бретмюллер. На чем я остановился? Абст. Вас обнаружили, бомбили, вы приняли решение уходить. Бретмюллер. Да!.. Мы перешли на ручное управление рулями, выключили все вспомогательные механизмы, даже машинки регенерации воздуха, чтобы до предела уменьшить шумы лодки. Электродвигатели, запущенные на самые малые обороты, едва вращали винты. Мы долго маневрировали, очень долго. И в конце концов нам удалось оторваться от преследования. Я вздохнул с облегчением. Я думал, это спасение. А лодка шла к гибели! Абст. Что же с вами случилось? Сели на мель? Или наткнулись на ту самую коническую скалу? Бретмюллер. Я забыл о приливном течении, которое в этих местах очень стремительно. А в тот час как раз был разгар прилива. Абст. Течением вас ударило о скалу? Бретмюллер. Если бы это!.. Но я продолжаю. Прошло полчаса, а мы по-прежнему двигались на малых оборотах. Курс был проложен так, что скала оставалась далеко в стороне. И вдруг лодка, ткнувшись скулой в преграду, резко отвернула в сторону. “Оба полный назад!” — скомандовал я. Моторы взвыли на предельных оборотах. Лодка отпрянула и тотчас получила сильный удар в корму. И здесь произошло самое страшное: лодку затрясло в вибрации. “Винты!” — вскричал мой помощник. Были мгновенно выключены двигатели. Но мы опоздали. Лодка лишилась винтов. Обоих винтов!.. Абст. Удар носом, и тотчас удар кормой? Не понимаю, как это могло получиться. Бретмюллер. Поймете, когда дослушаете до конца… Дайте мне сигарету. Абст. Нет. Бретмюллер. Умоляю вас, одну сигарету!.. Абст. Ни в коем случае. Иначе я стану вашим убийцей. Бретмюллер. Мне очень плохо. Кружится голова, темнеет в глазах. Дайте воды. Абст. Выпейте это. Предупреждаю: будет горьковато. Но зато снимет боль. Вот так. Теперь вам лучше? Бретмюллер. Немного… Я продолжаю рассказ. Мы испробовали все пути к спасению. Мы спустились пониже, но лодка уперлась в преграду брюхом, осторожно маневрируя балластом, попытались подвсплыть, и вскоре над головой послышался скрежет металла. Так непостижимым образом мы оказались в западне. И вдруг кто-то крикнул: “Лодка движется!” Мы затаили дыхание, прислушиваясь. В самом деле, подводный корабль, у которого не было винтов, тем не менее продвигался вперед, тычась боками в препятствия. Несомненно, нас влекло течение. Что же произошло? Объяснение могло быть только одно: лодка оказалась в подводном скальном туннеле, извилистом и широком. Нас затолкал туда прилив, а быть может, просто течение, о котором мы и не подозревали. Так или иначе, но мы попали в одну из извилин туннеля и именно потому ударились сперва скулой, а потом, когда попытались отработать назад, — кормой и винтами. Абст. Что было дальше? Бретмюллер. Прошло более часа. Лодка продолжала двигаться. Я подумал: быть может, туннель сквозной и мы, пробираясь вперед, в конце концов окажемся на свободе? О своих надеждах я сообщил по трансляции, и люди приободрились. “Только бы выплыть на чистую воду, — шептал я про себя, — а там мы придумаем, как спастись!” Абст. Ваши предположения оправдались? Туннель был сквозной? Вам удалось вывести из него лодку? Бретмюллер. Нет. Абст. Что было дальше? Бретмюллер. Мне трудно говорить. Усиливается боль в голове. И — спать. Я так хочу спать!.. Дайте мне передышку, я посплю немного, и мы… Абст. Вот вам сигарета. Бретмюллер. О, спасибо!.. Пожалуйста, спичку. Боже, как кружится голова!.. Нет, курить не могу. Погасите сигарету. Абст. Говорите, Бретмюллер. Бретмюллер. Прошло немного времени, и удары о корпус лодки прекратились. Она свободно висела в воде. Двигалась ли она, я не знаю. Мы выждали около двух часов. Вокруг было тихо. Тогда я рискнул включить машинки очистки воздуха — люди задыхались от недостатка кислорода. Замерев, мы ждали шума винтов корвета и новых взрывов. Однако все было спокойно. Еще один час томительного ожидания. Я осмелел и скомандовал всплытие. По расчетам, наверху еще продолжалась ночь — мы могли рискнуть. Как сквозь сон, слышал я голос матроса, считывавшего показания глубиномера. Мы постепенно поднимались. Абст. Перебиваю вас. Какие глубины были в туннеле? Бретмюллер. Примерно восемьдесят футов. Абст. Очень любопытный туннель. Бретмюллер. Итак, мы всплывали. Каждую секунду я ждал удара рубкой о скалу. Но над нами была вода, только вода. Подвсплыв, мы подняли кормовой перископ. Мы ничего не увидели. Два других перископа были повреждены и не выдвигались из шахт. И вот на глубиномере ноль я отдраиваю рубочный люк и поднимаюсь на мостик. Меня охватывает тишина и темнота — густой, ни с чем не сравнимый мрак. Нас будто в тушь окунули. Мрак и абсолютно неподвижный воздух. Мне стало не по себе. Почему-то вспомнился “Наутилус” капитана Немо… Неожиданно для самого себя я вскрикнул. Звук укатился куда-то вдаль, и, немного спустя, ко мне вернулось эхо. Я стоял на мостике подавленный, ошеломленный, а голос мой звучал, отражаясь от невидимых препятствий, постепенно слабея. Будто и он искал выхода, и не мог отыскать. Сомнений не было — лодка всплыла в огромном гроте! Абст. Что же вы… Стойте, я поддержу вас! 19 часов 11 минут. Конец действия препаратов. Сознание было восстановлено на 24 минуты. Повторное исследование токов мозга. Состояние больного угрожающее. Это была последняя страница. Фридрих Кан перевернул ее и закрыл папку. Только сейчас услышал он звуки музыки. За роялем сидел Абст. Его нервные пальцы легко бегали по клавиатуре, глаза были устремлены за окно, к тяжелой красной луне, которая медленно вставала над пустынным озером. Казалось, туда же уносится и мелодия — стремительная и тревожная. И музыка, и луна, и тускло отсвечивающая водная гладь за окном, да и сам Абст со странно неподвижными глазами — все это удивительно сочеталось с тем, что составляло содержание желтой папки. Абст оборвал игру, пересел к столу. Они долго молчали. — Это был Шуберт? — спросил Кан, чтобы что-нибудь сказать. Абст покачал головой. — Я играл Баха. Одну из его ранних хоральных прелюдий. Написано для органа. Если бы здесь был орган!.. — Однако, я помню, ты любил Шуберта, — упрямо сказал Кан. — Ты увлекался и другими, но Шуберт для тебя… — Иоганн Себастьян Бах — вот мой король и повелитель, — взволнованно проговорил Абст, — Бах — в музыке, Шиллер — в поэзии. — Шиллер? — пробормотал Кан, рассеянно глядя на озеро. Сейчас он думал о другом. — Да. Хотите послушать? В голосе Абста звучала нетерпеливая просьба. Удивленный Кан неожиданно для самого себя кивнул. Абст встал, сложил на груди руки. За ним было окно, и темный, почти черный силуэт Абста четко выделялся на фоне широких светлых полос, проложенных луной по поверхности озера. Грозовым взмахнув крылом, С гор, из дикого провала, Буря вырвалась, взыграла, — Трепет молний, блеск и гром. Вихрь сверлит, буравит волны, — Черным зевом глубина, Точно бездна преисподней, Разверзается до дна. Читал Абст медленно, с напряжением. Голос его был резок, отрывист, и музыка стиха начисто пропадала. Вот он закончил и положил руки на лоб. — Это из “Геро и Леандра”, — тихо сказал он. — Восемь строчек, а сколько экспрессии!.. Кан молчал. Он плохо разбирался в стихах, да, признаться, и не любил их. Он считал себя деловым человеком, а поэзия не для таких. — Вот что, — сказал он, — распорядись, чтобы нам принесли поесть. Мы поужинаем и поговорим. И не медли — предстоит немало дел. Ужин сервировали в соседнем помещении. Кан с аппетитом поел, выпил большой бокал пива. — Вернемся к показаниям Бретмюллера, — сказал он, когда подали сладкое. — У меня из головы не лезет этот странный грот. Подумать только, он под боком у той самой базы! Хозяева ее, надо полагать, и не подозревают о существовании гигантского тайника в чреве скалы. — В этом вся суть, — кивнул Абст. Кан стащил с шеи салфетку, решительно встал: — Не будем терять время. Идем к Бретмюллеру, я сам допрошу его. — Быть может, отложим допрос до утра? Вам следует отдохнуть, выспаться. И предупреждаю: это небезопасно… Мало ли как он вдруг поведет себя. — Но ты будешь рядом!5
Они двинулись по лесной тропинке, которая вела в глубь острова. Было очень темно, и Абст включил предусмотрительно взятый фонарик. Шорох шагов в тишине, тоненький лучик света, выхватывавший из мрака то ветвь, похожую на протянутую руку, то уродливый камень, усиливали тревогу, которой была наполнена ночь. Где-то приглушенно проверещал зверек, ему ответило громкое, размеренное уханье филина. И тотчас, будто вторя этим звукам, порыв ветра зашелестел в верхушках деревьев. Лес ожил, задвигался, заговорил. — А он… не вырвется? — спросил Кан, перед которым неотступно стояли налитые кровью глаза Бретмюллера. — Было бы славно встретить его здесь, на этой тропинке. — Исключено. — “Исключено”! — передразнил Кан. — Я читаю: “Бретмюллер лежит пластом, как покойник”. А через секунду он бьет окна, врывается в комнату! — И это уже во второй раз. — Абст помолчал. — Говоря по чести, я теряюсь в догадках. Странно, очень странно. Впрочем, скоро причины выяснятся… — Когда же? — Скоро, — уклончиво сказал Абст. — А вот мы и пришли! Луч фонарика уперся в серую бетонную стену, обшарил ее, скользнул в сторону и задержался на широкой двустворчатой двери с пандусом — в такие можно ввозить больных на колясках. — Кто? — спросили из темноты. Абст молча направил фонарик на себя — осветил грудь, плечи, лицо. — Проходите, — сказал голос. Посетители приблизились к двери. Абст коснулся кнопки звонка. Дверь отворилась. Они проследовали по коридору, миновали еще одну дверь и оказались в небольшой комнате. Бретмюллер, связанный, точнее, запеленатый широкой брезентовой лентой, лежал вверх лицом на низком клеенчатом топчане, который занимал всю противоположную стену комнаты. Заросший подбородок безумца был вздернут, челюсти плотно сжаты, широко раскрытые глаза не отрываясь глядели в какую-то точку на потолке. Он часто и коротко дышал. — В сознании? — Кан нерешительно остановился посреди комнаты. Абст покачал головой. Подойдя к Бретмюллеру, прикрыл ему глаза ладонью и тотчас отвел руку. Больной не реагировал. — В седьмую, — сказал Абст служителю, молча стоявшему у двери. — Приготовьте все, как обычно. Полный комплект. Не забудьте кофе и сигареты. — Неужели он будет есть? — спросил Кан. — Полагаю, нет. — Абст скривил губы в усмешке. — Однако так надо… Он провел Кана в уютную комнату с мягкой постелью, ковриком перед нею и креслом у большого окна. Чуть пахло дымом: один из служителей возился у камина, разжигая угли. В коридоре раздались шаги, четверо санитаров внесли больного, уложили в постель. Вошла Марта Ришар, врач и помощница Абста. Кан кивнул девушке. Та поклонилась. — Забинтуйте ему руки, — распорядился Абст. — И голову? — спросила Ришар, оглядев грязную, сбившуюся набок повязку на лбу Бретмюллера. — Только руки. — Абст нетерпеливо облизнул губы. — Руки он увидит, голову — нет. Приступайте! Лицо девушки порозовело. Она ловко обмотала бинтами обезображенные, с комьями запекшейся крови кисти больного. Закончив, выпрямилась и вопросительно поглядела на Абста. Тот шагнул к столику с инструментами, достал из кармана коробочку ампул, отломил у одной из них кончик и втянул содержимое ампулы в шприц. Ришар обнажила и протерла спиртом плечо Бретмюллера. Абст мастерски сделал укол. Когда он повторил инъекцию, введя умалишенному еще одну дозу, у девушки дрогнули губы. Она взяла вату, чтобы протереть место укола, но Абст вынул из коробочки третью ампулу. — Девятьсот тысяч! — пробормотала Ришар. Вместо ответа Абст вновь вонзил иглу шприца в руку пациента. Служитель убрал столик с медицинскими инструментами, вкатил другой — на нем уместились тарелки с обедом, бутылка какой-то воды. В высокой вазочке подрагивало апельсиновое желе. Не прошло и десяти минут, как дыхание больного замедлилось, стало ровнее, глубже. Его губы разжались, и на лице проступил слабый румянец. — Время! — скомандовал Абст. Он обернулся к Кану. — Действие препарата началось. Сегодня все будет протекать быстрее. Хочу еще раз напомнить: осторожность! Все время будьте начеку. Ришар быстро распеленала Бретмюллера. Брезентовые ремни были сняты и унесены в коридор. Абст облачился в белый халат и шапочку. Постепенно выражение глаз Бретмюллера изменилось. Вот он на секунду прикрыл их, затем повернул голову и оглядел комнату. Увидев Абста, больной сделал попытку подняться. Ришар и служитель помогли ему сесть в кровати, под спину подложили подушки. Затем они вышли. Абст приблизился к Бретмюллеру, взял его руку. — Здравствуйте, — сказал он. — Сегодня вы выглядите молодцом. Пульс почти в норме. Словом, наши дела продвигаются. — Но я совсем слаб, — проговорил больной. — Кружится голова, все плывет перед глазами. Нет, нет, не уверяйте меня — я чувствую, мне хуже. — Пустяки. — Абст ободряюще улыбнулся. — Заверяю, что самое трудное позади. Лечение идет успешно. И вот я привез вам гостя. — Я узнал господина Фридриха Кана, — безучастно сказал Бретмюллер. — Господин Кан желает допросить меня? Я готов сказать все, что знаю. — Отлично. Вы продолжите свой рассказ, вам будут заданы вопросы. Но сперва следует пообедать. Бретмюллер покачал головой. — Не могу, — прошептал он. — Меня мутит при одном виде пищи. — Хорошо, вы подкрепитесь позже. Не желаете ли сигарету? Тоже нет? Очень жаль. Я принес вам болгарские сигареты, самые лучшие. Курите, сегодня вам можно! Бретмюллер устало покачал головой. Заперев дверь, Абст вернулся к кровати. — Итак, приступаем, — сказал он. — Вы всплыли в гроте. Что с вами случилось в дальнейшем? Не торопитесь, подробнее опишите грот. — Да, грот… — Бретмюллер поморщился, хотел было поднести руки к голове и обнаружил, что они забинтованы. — Что это? Что с моими кулаками? — А вы ничего не помните? — небрежно спросил Абст. На лице больного отразилось усилие мысли… Но вот он глубоко вздохнул, расслабился, и лицо вновь обрело выражение безразличия. — Не помню, — проговорил он. — Обрывки каких-то кошмаров. Будто бежал, бил обо что-то руками, рвался… Нет, ничего не могу связать. Что же со мной случилось? Неужели снова буйствовал, кричал?.. — Вместо того чтобы лежать спокойно, вы пытались разбить кулаками вот эту стену. Короче, у вас был кризис. К счастью, он миновал. Поэтому-то вы так слабы. Это естественно: ведь организм изо всех сил боролся со страшным недугом. Боролся и победил. — Значит, я буду жить? — Разумеется, — бодро сказал Абст. — Но начинайте свой рассказ. Господин Кан очень занят, он должен спешить в Берлин. — Не могу. — Бретмюллер сделал длинную паузу. — Очень хочется спать. Абст встал. Он был встревожен. Поймав на себе взгляд Кана, едва заметно кивнул. Это означало: “Торопитесь!” — Вам удалось осветить грот? — быстро спросил Кан. — Как он выглядит? — Мы применили переносный прожектор. — Как он выглядит? — переспросил Кан. — Он велик? Какой высоты своды? Есть ли расщелины в стенах, пустоты, туннели? — Грот очень велик. В поперечнике метров триста, если не больше. Своды теряются в темноте. Сверху свисают сталактиты. Их множество. С некоторых стекает влага. — А стены грота отвесны? — Кое-где они спускаются к воде полого, под тупым углом, будто откосы. — Так что из воды можно выйти? — Да. Там, по крайней мере, два таких места. Мы и воспользовались ими. Мы излазили все вокруг- искали выход из подземелья. Поиски продолжались более суток. Обнаружено было много больших полостей в стенах, своего рода пещер в пещере. — Есть и сквозные пещеры? — Пещер много, но сквозных мы не нашли. Ни одной. Полость наглухо закупорена. — Как же вы оказались на воле? — Выплыл через тот самый туннель. У меня был аварийно-спасательный респиратор. — А с какой стороны он начинается? — Туннель? — Да. Откуда вход в грот? — С зюйда. — То есть с противоположной стороны… Я хочу сказать: база находится к норду от скалы? — Да. — Какие глубины в гроте во время полной воды? — Там очень глубоко. — Сколько? — Футов триста. Может, и больше… Простите, очень кружится голова. И боль начинается — все та же дикая, нечеловеческая боль в голове!.. Позвольте мне заснуть. — Разговор надо продолжить, — жестко сказал Абст. — Господин Кан, пожалуйста… — Да, да, — поспешно проговорил Кан, коснувшись рукой колена Бретмюллера. — Еще несколько вопросов, и мы оставим вас в покое. Тогда вы сможете хорошо отдохнуть. Ну-ка, напрягите свою память и сообщите нам ширину туннеля. Может ли проникнуть в него подводная лодка? — Вы же знаете, что сталось с моей, — с горечью вскричал Бретмюллер. — Неужели, вы пошлете туда другую? — А если это будет лодка класса “Малютка”? — Все равно. Проникнуть на лодке в грот невозможно. Разве что водолаз сядет верхом на ее штевень и будет командовать рулевым… Нет, нет, это невероятно! — Какова длина туннеля? — Полкабельтова или немного больше. — Бретмюллера вдруг охватила злоба. — Да что вы все о туннеле и гроте? — вскричал он. — А корабль? А люди? Что с ними, где лежат их кости, это вас не интересует? Наступила тягостная пауза. — Полно, Бретмюллер, — проговорил Абст. — Мы понимаем ваше состояние. Сочувствуем… — Старайтесь не волноваться, вам это вредно. Кан, не сводя глаз с больного, что-то напряженно обдумывал. Губы его шевелились, пальцы рук двигались, будто он разговаривал сам с собой. Вот он наклонился вперед, выставил ладони. — До вас никто не побывал в гроте? Вы не обнаружили там чьих-либо следов? — Не торопитесь с ответом, — вмешался Абст, — припомните получше, не ошибитесь. Бретмюллер решительно покачал головой. — Никакого следа пребывания там людей? — переспросил Кан. — Нет. — Вы сказали, у вас был дыхательный аппарат… Один? — Аппаратов было много, на всю команду. Но я не мог разрешить воспользоваться ими. Я имел строгий приказ: на базе ни при каких обстоятельствах не должны знать, что возле нее побывала германская лодка. Если бы люди выплыли в респираторах… Короче, я выполнил приказ! — Так вы сами уничтожили лодку и весь экипаж? — вскричал Кан, вставая с кресла. — Сам! — Бретмюллер повалился в кровать, уткнулся лицом в подушку, заколотил по голове обезображенными руками. — Погибли все! Я сам взорвал корабль, утопил людей. Зачем? Во имя чего?.. О, будьте вы прокляты! Кан шагнул к Бретмюллеру, взял его за плечи, потряс. Внезапно больной затих. — Осторожно, — воскликнул Абст. Но было поздно. Бретмюллер рывком приподнялся с постели. Руки его обвились вокруг шеи Фридриха Кана, и оба они упали на постель. Кан увидел возле себя физиономию сумасшедшего с оскаленными зубами. Он вскрикнул и лишился сознания. Кан, смакуя, сделал несколько глотков и откинулся в кресле. — Славный кофе, — сказал он, — такой я пробовал, помнится, только в Марокко. Абст тихо рассмеялся: — Этот рецепт оттуда и вывезен! И он долго рассказывал, как перехитрил в Танжере владельца портовой кофейни, ревниво оберегавшего свой секрет приготовления лучшего в городе кофе. Приключение было веселое, Абст действовал остроумно, и сейчас собеседникам было над чем посмеяться. Они вновь находились в кабинете хозяина острова, куда Абст доставил своего шефа после происшествия при допросе Бретмюллера. Кан перенес немалое потрясение, и Абст старался развлечь его и успокоить. Конечно, в критический момент он защитил Кана. Но это стоило жизни командиру “Виперы”, которому Абст разбил голову рукояткой пистолета — нападение было неожиданное, опасность для шефа велика, и Абст действовал автоматически. Теперь он досадовал: потерял выдержку, заспешил. В итоге, мозг умалишенного обезображен, и планы относительно его исследования — интереснейшие планы, на которые возлагалось столько надежд, пошли прахом! Кан задумался, помрачнел. Он сидел, скорчившись в кресле, неподвижный, вялый. — Вам все еще нездоровится? — участливо осведомился Абст и кочергой растащил поленья в камине. Огонь вспыхнул ярче. По стене заметались большие тени. — Уже поздно, комната приготовлена, и, если вы желаете… — Не желаю! — перебил его Кан, выпрямляясь в кресле. — Я вижу, меня записали в немощные старики. Так вот, я разочарую тебя: постель подождет, пока мы не выполним еще одну работу. — Какую работу, шеф? — Я хочу посмотреть пловцов. — Ночью? — А почему бы и нет? Насколько я понимаю, ночью, в основном, им и придется действовать. — Действовать? — воскликнул Абст, все больше удивляясь. — Вы желаете видеть их в работе? — Именно в работе. — Кан взял его за плечо. — Сейчас ты покажешь, чего они стоят. Пусть потрудятся, а мы понаблюдаем. — Это решение вы приняли, после того как посетили Бретмюллера? Я не ошибаюсь? — Да, Артур. У меня из головы не лезут показания покойного. Подумать только, скала с огромным естественным тайником! И это — близ той самой военно-морской базы, против которой нам обязательно придется действовать!6
Луна стояла в зените, но тучи скрывали ее, и только едва приметное пятнышко светлело в центре черного небосвода. Темной была и вода. Ее невидимые струи чуть слышно обтекали борта катера, несколько минут назад отвалившего от острова. Абст, выставив голову из-под ветрозащитного козырька, напряженно вглядывался в окружающий мрак, ведя судно по широкой плавной дуге. На кормовом сиденье расположился Фридрих Кан. Катер шел без огней. Мотор рокотал на средних оборотах. За транцем приглушенно булькали выхлопные газы. На озере было холодно, и озноб, который Кан глушил в кабинете Абста горячим кофе, вновь охватил его. А когда разведчик думал о том, что в эти минуты где-то на острове входят в воду пловцы, ему становилось еще холоднее, и он плотнее кутался в кожаное пальто на меху, заботливо предложенное хозяином острова. Внезапно Кан обернулся. Пущенная с острова ракета медленно взбиралась на небо, роняя тяжелые зеленые капли. Стала видна широкая водная гладь и темная зубчатая полоска леса, который со всех сторон подступал к озеру. Круто изогнувшись, ракета ринулась вниз и погасла, не долетев до воды. Озеро снова окутала темнота. — Старт? — спросил Кан. — Да, — ответил Абст, на секунду обернувшись. — Сейчас их выпускают. — Они окоченеют, прежде чем доплывут до цели! — Пловцы в резиновых костюмах, под которыми теплое шерстяное белье. Кое-какая защита от холода обеспечена. К тому же, люди прошли тренировку. — Как они отыщут нас? — Кан с сомнением посмотрел в направлении острова, от которого они отошли на значительное расстояние. — Они знают наш курс и у них есть компасы. — Сколько же мы прошли? Абст наклонился к приборной доске, на мгновение включил ее освещение. — Семь кабельтовых, — сказал он, останавливая двигатель. — Пожалуй, хватит. — Мы станем на якорь? — Да. Абст прошел на бак, с минуту повозился с якорем. Раздался всплеск, коротко пророкотала цепь в клюзе, и все смолкло. Кан поднес к глазам часы со светящимся циферблатом. — Два часа и шесть минут, — сказал он. — Пловцы атакуют катер в промежутке от трех часов до трех тридцати. — Занятно. — Кан пожевал губами. — Очень занятно. А сколько у нас под килем? — Футов пятьдесят, — сказал Абст, вернувшись на корму. — Здесь не очень глубоко. — Занятно, — повторил Кан, — от трех до трех тридцати… И в эти полчаса я должен глядеть в оба? — Будьте как можно внимательнее, очень прошу об этом, иначе они проведут нас. — И каждый, кого я замечу, выходит из игры? Ну, а вдруг я окликну его, а он нырнет, будто и не слышал? — Вы можете стрелять. — Что?.. — Вы можете стрелять в каждое подозрительное пятно на воде. Пожалуйста, не церемоньтесь. — Это серьезно? — Абсолютно серьезно. — Абст пожал плечами. — Ведь так будет, когда начнется боевая работа. Они специально предупреждены. Кан рассмеялся. — Ну и ловкач! — воскликнул он. — Тебе отлично известно, что я не ношу оружия! Вместо ответа Абст положил на кормовое сиденье маленький черный пистолет. — Заряжен, — сказал он. — Обойма, полная. Патрон в стволе. И есть запасная обойма. Кан оборвал смех. Он не думал, что Абст зайдет так далеко. — Впрочем, вы напрасно беспокоитесь за них. Заряды будут расстреляны зря, — сказал Абст. Он взял револьвер, вынул и проверил обойму, затем, оттянув затвор, убедился, что патрон действительно в стволе. — Ну, а если предположить невероятное? — Кан иронически усмехнулся. — Если предположить, что я все же замечу кого-нибудь из них, сделаю выстрел и не промахнусь? Ты же знаешь, я умею наблюдать, умею стрелять! — В таком случае пусть пеняют на себя. — Абст упрямо качнул головой. — Скоро год, как я вожусь с ними. Я не жалел никаких усилий, чтобы сделать из них убийц — самых умелых и неуязвимых. И если ошибся, пусть они уже сейчас получат все, что заслуживают. Чем раньше, тем лучше. — Ну, уж нет! — Кан решительно отодвинул пистолет. Абст вопросительно посмотрел на него. — Нет, — повторил Кан, — не будем столь жестоки. Я придумал другое. Дай-ка отпорный крюк. Вот так. — Он оценивающе взвесил в руках длинный тяжелый шест со стальным наконечником. — Пожалуй, это будет поинтереснее, а? Абст рассмеялся, по достоинству оценив замысел гостя. Началось ожидание. Катер словно вмерз в застывшую гладь озера. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. В тишине было отчетливо слышно, как далеко за лесом раздается мерное уханье. Там, километрах в двадцати от озера, дизельный молот вгонял в грунт длинные толстые сваи. Это строилась ограда концлагеря для нескольких тысяч чехов, которых вот-вот должны были пригнать с востока. — Шеф, — сказал Абст, прислушиваясь к далеким ударам, — нельзя ли заполучить дюжину чешских водолазов? — Зачем тебе чехи? Враги не согласятся добровольно идти под воду. А принудишь их, и при первой же возможности они перебегут к неприятелю. — Все же я хотел бы иметь несколько чехов! У борта катера раздался всплеск: большая рыба, выскочив из воды, шлепнула хвостом и вновь ушла на глубину. — Послушай, — сказал Кан, глядя на крохотную воронку, оставшуюся там, где рыба скользнула под воду, — послушай, Артур, весь путь с острова и до катера они проделают в глубине? — Не обязательно. Пловцы вольны поступать по собственному усмотрению. Главное, чтобы их не обнаружили. Я не сковываю их инициативу. И снова наступила пауза. Казалось, Абст и его шеф дремлют. Между тем луна подвинулась далеко к горизонту. Тучи вокруг нее редели. Стало светлее. Озеро подернулось дымкой. Низко над катером прошелестела стайка уток. И ветерок потянул — верный признак близящегося рассвета. Кан зевнул, поднес к сонным глазам руку с часами. И — замер. Что-то на озере заставило его насторожиться. Вот он осторожно пододвинул к себе отпорный крюк, поднял его, перенес через борт, приподнялся с сиденья. — Гляди! — прошептал он. — Где? — одними губами спросил Абст. Кан подбородком указал на темный комочек, едва заметно покачивавшийся неподалеку от катера. — Бить? — Кан нацелил шест, встал во весь рост, наклонился к борту. — Я его отчетливо вижу! Абст не ответил, предоставляя шефу свободу действий. Кан крепче уперся ногами в решетчатый настил катера и с силой ткнул шестом в подозрительный предмет. Раздался всплеск, шест глубоко ушел под воду, и Кан, потеряв равновесие, едва не вывалился за борт. Абст успел подхватить его и оттащить назад. Вдвоем они втянули шест на судно. Крюк был увенчан большим пучком водорослей. — Осечка, шеф. Кан не ответил. И вновь потянулось ожидание. Еще дважды хватался Кан за шест и с силой погружал его в воду, целясь в невидимого пловца, и оба раза безрезультатно. В первом случае это было полузатонувшее гнилое бревно, и наконечник багра глубоко проник в трухлявую древесину, во втором — жалкий обрывок тростниковой циновки. — Ерунда, — раздраженно сказал он, вытаскивая шест, — ерунда, Артур, их здесь нет. — Вы уверены? — Абсолютно. Они сбились с курса и вернулись назад либо плавают вокруг, не рискуя приблизиться… Ого, что это? — воскликнул Кан, наклоняясь к кильсону. — Гляди, катер дал течь! В центре кормового настила, прямо из-под ноги Кана, била короткая струйка воды. — А вот и еще — фонтанчик, — невозмутимо сказал Абст, освещая настил фонариком. — Поглядите сюда. Вот он, в полуметре от вас, только правее. Кан увидел и вторую струйку. — Разрешите заделать? — спросил Абст, роясь в ящике с инструментами. — Надеюсь, пробоины зафиксированы? Ответа не последовало. Да Абст и не ждал его. Он извлек дубовые затычки, короткий деревянный молоток и ловко заколотил отверстия в днище судна. — Конечно, действуя под брюхом вражеского корабля пловцы не станут сверлить в нем дырки, — сказал Абст, закончив работу и выпрямляясь. — Они подвесят заряды и включат механизмы взрывателей. Но, разумеется, я не мог позволить им минировать наш катер. Поэтому беднягам пришлось захватить с собой сверла и в поте лица потрудиться под килем. Это вполне безопасно — ведь мушкель и пробки я заготовил еще на берегу. Словом, это был эксперимент, и, мне кажется, удачный. Кан молчал. — Но боюсь, что пловцы не ограничатся только этим, — продолжал Абст. — Сейчас мы поднимем якорь и посмотрим, не случится ли еще какая-нибудь неприятность. И он отправился на бак. Вскоре оттуда донесся стук вытягиваемой якорной цепи. Катер дрогнул и пополз вперед. Через минуту Абст вернулся и стал возле штурвала. — Якорь поднят и уложен на палубе, — доложил он. — Теперь включим мотор. Кан не удивился бы, случись сейчас что-нибудь с двигателем или винтом. Но нет, Абст нажал на стартер, мотор заработал, и катер тронулся. — Слава всевышнему, все в порядке, — проговорил Абст со вздохом. — Теперь — руль право на борт, и через четверть часа мы дома… Боже, спаси и помилуй, — воскликнул он, растерянно вертя штурвал, — поглядите, что они натворили. Подумать только, катер не слушает руля! Абст не лгал. Кан видел: штурвал переложен вправо, но за кормой все так же тянется прямой, как линейка, след. Будто к рулю и не прикасались! Абст выключил мотор, оставил штурвал и, обернувшись к шефу, развел руками, как бы приглашая его в свидетели происшествия. — Ну-ну, — пробормотал озадаченный Кан, — хватит шуток. Ловко же ты все придумал! — Я? — весело воскликнул Абст. — Нет уж увольте, я здесь ни при чем. — Кто же испортил руль? — Конечно, они. Вероятно, им хотелось лучше показать себя. Вот они и стащили перо руля. Однако, будьте покойны, мы перехитрим их. Я знал, с кем имею дело, поэтому, кроме мушкеля, прихватил кое-что еще. С этими словами Абст принялся отвязывать прикрепленное к планширю большое весло. И здесь произошло то, чего, кажется, не ожидал и Абст. Только спустил он весло за корму, как оно было вырвано и с силой отброшено далеко в сторону. В тот же миг из воды взметнулось черное гибкое тело. Кан не успел и глазом моргнуть, как человек оказался на борту, схватил его за грудь, вскинул руку с ножом. — Стой, — крикнул Абст, пытаясь достать из кармана пистолет, — стой, брось оружие! Но пловец лишь инсценировал атаку. Вот он выпустил Кана, уселся на банку и, воткнув клинок рядом с собой, стащил с головы черный резиновый шлем. Абст был взбешен. — Встать! — приказал он, стискивая кулаки. — Не надо. — Кан запустил пальцы за воротник, облегченно перевел дыхание. — Не надо, Артур. — Он обратился к пловцу: — Скажи, ты сам это придумал? Тот усмехнулся. Но вот он посмотрел на Фридриха Кана, затем оглядел его вновь, более внимательно и в следующее же мгновение он вскочил на ноги, вытянулся. На лице пловца были написаны растерянность, страх. — Садись, садись! — Кан хлопнул его по блестящему черному боку. — Садись и давай побеседуем. Ты мне нравишься, парень. Да садись же, черт тебя побери! — Простите меня, — пробормотал пловец, продолжая стоять навытяжку, — видит бог, мы не знали, что в катере вы. Господин корветен-капитэн Абст сказал перед тем, как мы вышли на задание: “Какой-то офицер из штаба хочет поглядеть, на что вы годитесь”. Вот мы и решили… — Твое имя? — Штабс-боцман Густав Глюк! Кан уже успокоился, и к нему вернулось хорошее настроение. Поудобнее устроившись у транца, он с любопытством разглядывал стоящего перед ним человека. Кисти рук, лицо и шея пловца, где их не закрывала резина, были черны — вероятно, покрыты смесью жира и сажи. На этом фоне ярко выделялась огненно-рыжая борода, короткая и густая. Вязаная водолазная феска была надвинута на уши. Резиновый костюм, плотно облегавший тело, заканчивался на ногах широкими эластичными ластами. На груди пловца был пристегнут дыхательный аппарат — небольшой баллон со сжатым кислородом, продолговатая круглая коробка с веществом для поглощения углекислоты, выделяемой при выдохе, и резиновый мешок, из которого шла к шлему гофрированная трубка. Пловец был опоясан брезентовой лентой со свинцовыми грузами, на которой висели подводный фонарь и ножны кинжала. К запястьям рук были прикреплены специальные компас, часы и глубиномер. — Продолжай, — приказал Кан. — Расскажи, как вы действовали под килем катера. Рассказывай подробно, я хочу знать все до мелочей. Пловец откашлялся и, деликатно отвернувшись, сплюнул за борт. Затем он стащил с головы феску, вытер ею рот, вновь надел феску. — Нас было трое, — сказал он. — Пока мы, обермаат Шустер и я, орудовали у руля, третий пловец действовал буравом под днищем моторки. Гайки проржавели, и мы порядочно провозились, прежде чем отделили перо от баллера. Потом я помог матросу Руприху просверлить обшивку катера. Только мы управились, как господин корветен-капитэн Абст начал возню с якорем. “Ого, — подумал я, — сейчас заработает винт; берегись. Густав Глюк!” К этому времени под кормой собралась вся наша тройка — Шустер, Руприх и я. Они отправились домой, ибо задание было выполнено. А я решил задержаться. — Зачем? Глюк осклабился: — Любопытство! — Не понимаю. — Любопытство, — повторил Глюк. — Уж очень хотелось посмотреть, как вы будете управляться без руля. Вот и остался. — Где же ты находился? — Отплыл в сторонку, выставил из-под воды глаза, стал ждать. Видел, как катер тронулся и тут же застопорил. Потом услышал объяснения господина Абста. Он сказал правду- всем нам хотелось получше себя показать. И тут черт дернул меня сыграть эту шутку… Кто же мог знать, что на борту именно вы? Я думал, один из этих штабных красавчиков… — И пловец смущенно умолк. Кан видел: диверсант сказал не все. — Продолжай, — потребовал он. Пловец переступил с ноги на ногу. — Вы разок чуть не проткнули меня своим гарпуном. Наконечник прошел в дюйме от моего плеча. Я едва увернулся. И я так скажу: ну и глаза у вас! — Ты слышишь, Артур? — воскликнул Кан, которому польстили слова пловца. Абст улыбнулся и развел руками, как бы признавая свое поражение. — Продолжай, — приказал Кан подводному диверсанту. — Что было дальше? — Вы напугали меня. И обозлили. — Пловец помедлил. — Вот я и решил, как бы это сказать… — Отомстить? — Выходит, что так. — Глюк смущенно покачал головой. — Я же не знал, что в катере вы! Фридрих Кан уже не слушал. Он окончательно развеселился от сознания того, что оказался на высоте и обнаружил-таки пловца. Приятна была и неуклюжая лесть этого здоровенного парня с круглым лицом и плутоватым взглядом светлых, широко посаженных глаз. Кан отечески потрепал его по плечу, усадил рядом с собой, угостил сигаретой. — Домой, Артур, — распорядился он. — Поворачивай, и едем домой. Все мы хорошо поработали и заслужили отдых. — Вполне заслужили, — подтвердил Абст. — И особенно вы, шеф. Но у меня просьба. — Хотелось бы, чтобы, отдохнув, вы нашли время побеседовать с пловцами. Смею уверить, они будут счастливы. Абст выглядел равнодушным, вяло цедил слова. Но это была игра. Шеф не должен был догадаться о готовящемся сюрпризе. Пусть все произойдет внезапно. Тем сильнее будет эффект. Напряженная работа последних лет наконец-то дала результат, и сейчас Абст готовился к экзамену. Он был убежден: если все пойдет как надо, планам его открыта широкая дорога. А они, эти планы, поистине грандиозны. Еще недавно он и верить не смел в осуществление своих замыслов. Но теперь, когда все видели — война вот-вот разразится, теперь все обстояло иначе. Эта фантастическая история, случившаяся с Бретмюллером и его “Виперой”!.. Полгода назад пределом мечтанийАбста был крохотный островок в стороне от проторенных морских дорог, на котором можно обосноваться и без помех свершить задуманное. Сейчас же открывались возможности и перспективы неизмеримо большие. Островок, пусть самый уединенный, не шел ни в какое сравнение с обширным убежищем в толще скалы, о котором поведал Ханно Бретмюллер. Грот, наглухо изолированный от внешнего мира. Удивительный тайник под водой. Логово, находящееся в непосредственной близости от военно-морской базы будущего противника Германии, — на объектах этой базы Абст сможет испытывать все то, что родилось и еще родится в недрах новой, могущественной лаборатории “1-W-1”!7
Было позднее утро, когда Фридрих Кан открыл глаза. Он выспался, и от вчерашнего недомогания не осталось и следа. Некоторое время он лежал неподвижно, припоминая события минувшей ночи, потом взглянул на часы, потянулся к шнуру у изголовья и позвонил. Неслышно отворилась дверь. Вошел человек — тот, что накануне обслуживал гостя в кабинете Абста. Он пожелал Кану доброго утра и поднял шторы. В окна хлынул свет такой яркости, что Кан зажмурился. — Ванна готова, — сказал служитель. Кан отбросил одеяло, встал с кровати, прошелся по пушистому ковру. — Что, корветен-капитэн Абст поднялся? — Корветен-капитэн у себя, — ответил служитель. — Чем же он занимается? — Корветен-капитэн лег очень поздно и еще спит. — Однако! — Кан вновь взглянул на часы. — Скоро одиннадцать. Идите и разбудите его! — Господин Кан не должен беспокоиться, — сказал слуга. — Корветен-капитэн Абст сделал все необходимые распоряжения. Как и приказано, люди будут собраны ровно в полдень. Кан промолчал. В глубине души он был доволен полученным ответом. Да, по всему видно, у Абста хорошие работники. Там, где люди приучены вести себя с достоинством, а не раболепствуют перед начальниками, там дело идет хорошо. И он последовал в ванную. Бритье, затем купанье и завтрак — все шло по раз и навсегда заведенному порядку, который Кан ценил больше всего на свете. Сытно поев, он отложил салфетку и поднялся из-за стола. У него еще осталось несколько минут на то, чтобы постоять на солнышке возле коттеджа, подставив лицо под струи ласкового весеннего ветерка. В двенадцать часов Фридрих Кан, сопровождаемый Абстом, входил в помещение, где предстоял смотр пловцов. Двадцать девять молодых мужчин, одетых в толстые серые свитеры, такие же брюки и вязаные шапочки, застыли в строю, вытянувшемся из конца в конец зала. Это были здоровые, крепкие люди, видимо, спортсмены. Фридрих Кан двинулся вдоль шеренги, внимательно разглядывая пловцов. — А, старый знакомый! — воскликнул он, дойдя до Густава Глюка и дружески ткнув кулаком в его широкую грудь. Можно было ожидать, что Глюка обрадует или, напротив, смутит грубоватая фамильярность начальства. Но в глазах пловца промелькнул испуг… Впрочем, Кан не заметил этого. — Кто вы? — спросил он, останавливаясь перед коренастым человеком с толстой короткой шеей и округлыми плечами. — Боцманмаат Эрих Поппер, — поспешил доложить Абст, ни на шаг не отстававший от начальника. — Где проходили службу? Опять за пловца попытался ответить Абст, но Кан жестом остановил его. — Говорите, боцманмаат, — потребовал он. — Меня интересует, где вам привили любовь к морю. — Сперва в ваффен СС,[11] затем на торпедных катерах, — последовал ответ. — Я старшина-моторист. — Ого! — Кан значительно покачал головой. — Такой послужной список украсит любого немца. А спорт? Вы занимаетесь спортом? Каким именно? Давно? — Да, я спортсмен. Имею призы и дипломы. Удовлетворенно кивнув, Фридрих Кан двинулся дальше. Вот он остановился возле левофлангового. — Ну, а вы? — спросил он, разглядывая круглое розовое лицо пловца, его белые волосы и большие оттопыренные уши. — Как ваше имя, в каком вы чине? — Обер-боцман Фриц Фалькенберг! — отчеканил пловец. — Служили на кораблях? Впрочем, я в этом не сомневаюсь: у вас настоящая морская выправка. — Имперский подводный флот. — Должность? — Рулевой-горизонталыцик. — Кроме того, обер-боцман Фалькенберг — известный спортсмен, — вставил Абст. — Два года подряд он был призером чемпионата страны по плаванию. Кан отступил на шаг, с уважением оглядел пловца. — Подумать только, адмирал Редер уступил мне такое сокровище! — воскликнул он. Фалькенберг улыбнулся. — Этого добился корветен-капитэн Абст, — сказал он. — Это он перехитрил моих командиров. И еще у нас говорят… — Фалькенберг замялся. — Продолжайте, — потребовал Кан, — продолжайте, обер-боцман, выкладывайте все до конца. — И еще у нас говорят так: корветен-капитэн Абст воспитывался в школе Фридриха Кана! Все рассмеялись, Кан тоже. — Где же вы проходили первоначальную подготовку? — задал он новый вопрос. — “Сила через радость”[12] Гамбургский филиал. Я провел там более четырех лет. — Великолепно! — воскликнул Кан. — Я вижу, корветен-капитэн Абст собрал здесь цветник. Клянусь богом, с такими парнями можно брать штурмом резиденцию самого сатаны! Он смолк, собираясь с мыслями. И вдруг спросил: — А кто здесь Шустер? — Я обермаат Йозеф Шустер, — раздалось из строя. Кан обернулся на голос. — Вон вы где!.. Ну-ка, выйдите из строя, чтобы я мог взглянуть на человека, который так ловко провел меня. Выходите, пусть все посмотрят на вас! Вперед шагнул здоровенный пловец с вытянутым лицом и чуть кривыми ногами. Его тяжелые руки были так длинны, что казалось, достают до колен. Пловец сутулился, смотрел исподлобья. Все это делало его похожим на большую обезьяну. — Ну и ну! — воскликнул Кан. — Меня трудно удивить, но вы, Шустер, добились этого. А на вид кажетесь таким простодушным. — Он обратился к строю. — Этакий безобидный увалень, не так ли? Шустер стоял и растерянно глядел на начальника. — Выкладывайте же, как вы все сделали, — потребовал Кан. — Говорите громче, чтобы никто не пропустил ни слова! — Право, я не знаю, что вас интересует, — нерешительно пробормотал Шустер. — Боюсь, что вы ошиблись и принимаете меня за другого. Кан упер руки в бока, расставил ноги. — Я ценю скромность, но это уж слишком! — вскричал он. — Можно подумать, что это не вы в компании с Глюком утащили руль моего катера! Шустер раскрыл рот. Он был испуган и не пытался это скрыть. Наступила тишина. И в ней прозвучал резкий голос Абста: — Шустер, ответьте на вопрос начальника! — Но я не знаю, о чем идет речь, — пробормотал пловец. — Как это — не знаете? — Кан подошел к нему вплотную. — Где же вы были минувшей ночью? Какое выполняли задание на озере? — Я не был на озере! — Где же вы находились? — Спал. Спал, как и все остальные. Спал всю ночь напролет в кубрике, от отбоя и до подъема! Последнюю фразу Шустер выкрикнул дрожащим от волнения голосом. Он стоял, тяжело дыша, и с его висков стекали струйки пота. Кан медленно повернулся к Абсту. Тот не сводил с Шустера глаз. Можно было подумать, что Абст видит его впервые. — Обермаат Йозеф Шустер, прошлой ночью вы работали под водой вместе с штабс-боцманом Глюком? — спросил Абст. — Вы выполняли задание, действуя против катера? — Нет, — возразил Шустер, решительно тряхнув головой, — нет, я был в постели. Клянусь, я спал и ни в чем не виноват. — Глюк! — повысил голос Абст. Вызванный шагнул из строя. — Говорите! — Обермаат Йозеф Шустер действовал вместе со мной, — твердо сказал Глюк. — Нас было трое на озере — Шустер, Руприх и я. Мы атаковали катер, в котором находился господин Фридрих Кан. Румяные щеки Кана потемнели. Он достал платок, вытер им лицо, сунул платок в карман и вновь оглядел строй. Он видел: пловцы озадачены, кое у кого в глазах мелькают веселые искорки. — Руприх! — резко выкрикнул он. Третий пловец вышел из строя, со стуком свел каблуки: — Я матрос Конрад Руприх! Кан посмотрел на него. Руприх выглядел таким же растерянным, как и Шустер. — Так-так, — гневно проговорил Кан, — вы, я вижу, тоже сейчас заявите, что провели ночь в объятиях Морфея и ничего не знаете? — Отвечайте начальнику, — вмешался Абст. — Это правда, я спал, господин корветен-капитэн, — сказал пловец. — Мы втроем живем в одном кубрике — обермаат Шустер, штабс-боцман Глюк и я. — Теперь Руприх глядел на Фридриха Кана и адресовался к нему. — Мы давно дружим. Наши койки рядом. В столовой едим за одним столом… Отбой был, как обычно, в двадцать два часа. Мы легли вместе, я это хорошо помню. Мы уже были в койках, когда в кубрик зашел корветен-капитэн — он часто наведывается к пловцам… Вот и все. Я спал как убитый. Утром, когда проснулся, на койках находились все трое. — И штабс-боцман Глюк? — Я проснулся первый, а он еще спал. Храпел так, что дребезжали стекла иллюминаторов. Это правда, я могу присягнуть! — Понятно, — прорычал Кан, вновь доставая платок и вытирая пот, который теперь уже тек у него по щекам. — Мне все понятно. Как говорится, ясней ясного. Разумеется, я убежден, что ваши слова — чистейшая правда. Все вы ночь напролет мирно храпели в койках, а некое привидение проделало дыры в днище моего катера и вдобавок утащило перо руля. А потом оно вымахнуло из-под воды на борт моторки, вцепилось мне в грудь, занесло над головой нож!.. Глупцы, вы действовали великолепно. Я очень доволен. Более того, я горжусь вами. И все, что мне нужно, — это поблагодарить вас за службу… Глюк, подтвердите то, что я только что сообщил! — Все было так, как вы изволили рассказать, — твердо сказал пловец. — Слава всевышнему! — Фридрих Кан поднял глаза к потолку. — А то я уже стал подумывать, что и впрямь рехнулся в вашей компании… Ну, а сейчас говорит старший. Корветен-капитэн Абст, потрудитесь объяснить, что означает странное поведение ваших людей. Говорите и знайте: виновные получат свое! Абст, все еще стоявший в позе напряженного ожидания, теперь расслабился, опустил плечи. Он будто очнулся. — Обермаат Шустер и матрос Руприх доложили правду, — сказал Абст. — Они действительно спали и ничего не помнят. Катер атаковал штабс-боцман Густав Глюк. Господин Фридрих Кан, вы будете удивлены, но этот пловец действовал один! Будто ветер прошел по комнате. Строй качнулся и вновь замер. — Однако вы не должны винить Глюка, — продолжал Абст. — Сказав вам неправду, он выполнил мой приказ… Это так, штабс-боцман? Глюк, не сводивший с Абста широко раскрытых глаз, судорожно сглотнул и переступил с ноги на ногу. Абст вновь обратился к начальнику: — Таким образом, я единственный виновник того, что вас ввели в заблуждение. Я признаю это и готов понести наказание. — Но зачем вы сделали это? — вскричал Кан. — Чего вы добиваетесь? — Я объясню… — Абст помедлил, обвел глазами пловцов. — Люди, которые стоят здесь, перед вами, — будущие герои. Придет время, и весь мир преклонится перед их подвигами во славу фюрера и германской нации. Мне очень хотелось, чтобы они понравились вам. И вот, готовясь к ночной проверке, я позволил себе маленький обман. Вам доложили, что действовать будут трое. Я же послал на озеро одного. Я знал, он справится, и вы останетесь довольны. И я подумал: тем сильнее будет эффект, когда выяснится, что не трое пловцов, а всего лишь один-единственный диверсант так блестяще работал под водой, атакуя катер. Вот объяснение моих действий. Еще раз прошу снисхождения. Но, право же, слишком велико было стремление заслужить вашу похвалу! Абст умолк. Шеф взглянул на Глюка. Тот стоял, потупясь, растерянный и озадаченный. Нет, во всем этом была какая-то тайна. Абст явно недоговаривал! — Хорошо, — пробурчал Кан. Он круто повернулся и стремительно покинул комнату. — Разойдись, — тотчас скомандовал Абст. — Глюк, вы пойдете со мной! Когда Абст вернулся в свой кабинет, Кан сидел в кресле возле камина, рассеянно вертя в руках карандаш. Увидев вошедшего, он порывисто поднялся на ноги, швырнул карандаш в угол. — Подойди, — приказал он. Абст приблизился. Кан взял его за плечи. — Рассказывай, как все произошло. Я не верю, что Глюк был один. — И вы не ошиблись. — Абст усмехнулся. — Против катера работали три диверсанта. — Кто же действовал с Глюком? — Те самые люди. — Это серьезно? — тихо проговорил Кан. — Или ты и сейчас громоздишь ложь на ложь? — Вполне серьезно. — Как же все произошло? — Так, как рассказал Глюк. Его сопровождали Руприх и Шустер. — Но они отрицают это! — Они не помнят. — Абст вздохнул. — Они забыли. — Забыли о том, что в течение трех часов болтались в холодной воде и выполняли адскую работу? — Они пробыли в озере почти четыре часа. — И забыли? — Начисто все забыли. — Абст усадил начальника в кресло, сел сам. — Это самое важное из того, что я собирался показать вам, — взволнованно проговорил он, — моя главная тайна. Результат долголетних поисков, разочарований, надежд. Итог неистового, бешеного труда… Искра удачи сверкнула совсем недавно. Я проделал десятки экспериментов, прежде чем поверил, что подобное возможно. В клинике вы видели, чего я достиг в опытах над командиром “Виперы” Бретмюллером… — А на озере ты показал действие другого своего препарата, не так ли? Я присутствовал при очередном эксперименте? Более того, даже стал его участником? — Простите, шеф. — Что это за препарат? Он действует на память? Человек теряет ее — навсегда или на какое-то время? — К сожалению, на время. — Каким образом? — Я ввожу препарат в организм пловца. Никаких видимых изменений не происходит: психика, физическое состояние в норме. Препарат влияет только на центры мозга, регулирующие память. В ней наступает провал. Человек не помнит, где был, что делал. — И это надолго? — Увы, нет!.. Длительность состояния, когда человек лишился памяти, потерял волю и стал как бы живой машиной, не превышает четырех—шести часов. — Абст вскочил на ноги, вскинул над головой кулаки. — А мне надо, чтобы так продолжалось месяцы, годы, быть может — всю жизнь!.. Представьте себе тысячи и тысячи людей, чей интеллект не столь уж ценен для нации, подвергаются воздействию специальных препаратов в широкой сети лабораторий, клиник, больниц… Вы только подумайте, шеф: солдаты, которые не рассуждают и, уж конечно, никогда не повернутся спиной к неприятелю! Или идеальные рабочие — живые придатки к станкам, к тракторам и сеялкам на полях, трудолюбивые и покорные. — Абст сделал передышку, покачал головой — Но это, конечно, только мечты… — Однако ты уже многого добился, — сказал Кан. — Воздействию препарата можно подвергнуть любого? — Почти любого. — И при любых обстоятельствах? — Видимо, да. Препарат не действует на неврастеников, на людей с повышенной возбудимостью… Конечно, среди моих людей таких не имеется. — Как были “обработаны” Шустер и Руприх? — Я ввел им препарат после того, как вы решили посмотреть действия пловцов. — А Глюк? — Его я не трогал. Через четверть часа, когда Шустер и Руприх были “готовы”, они получили задание. Вернувшись с озера, пловцы легли спать. Как они вели себя потом, вы уже знаете. Что же касается Густава Глюка, то его… — Стоп! Ты оставил Глюка вместе со всеми? — Что вы, шеф! Он в соседней комнате. Для верности заперт. Он будет там, пока мы с вами не поговорим. Да и вообще за него можно не беспокоиться. У Глюка медаль за проплыв через Ла-Манш и… пятнадцать лет каторги, из которой его вызволил я. — Чем же он занимался? — По профессии Глюк легкий водолаз-спасатель. Последнее место работы — спасательная станция Нордсхафена… Нордсхафен — говорит это что-нибудь вашей памяти? Фридрих Кан задумался. — Дело об утопленниках, — негромко сказал Абст. Кан присвистнул от удивления. То было нашумевшее дело. На морском курорте Нордсхафен участились несчастные случаи с купальщиками. Тонули даже опытные спортсмены. Родственники и близкие, пытавшиеся разыскать погибших, терпели неудачу — считалось, что в этих местах сильное подводное течение уносит погибших под скалы. Тогда обращались к водолазу местной спасательной станции. Тот принимался за дело и обычно отыскивал утопленника. Водолаза щедро одаривали. А потом выяснилось, что людей топил тот самый водолаз — “спасатель”. Через день или два он “разыскивал” утопленников и получал награду. Это и был Густав Глюк. — Но он превосходный ныряльщик, — как бы отводя возможные возражения, сказал Абст. — Первым освоил управляемую торпеду и буксировщики. И я должен повторить: он надежен, ибо знает, что всегда может вернуться в тюрьму. Кан кивнул. — Я бы хотел сообщить вам еще кое-что, — проговорил Абст. — Видите ли, препарат — это только одно направление исследований. Точнее, лишь один из путей к достижению цели. — А их несколько? — По-видимому, есть и второй путь. — Какой же? — Хирургическое вмешательство в деятельность человеческого мозга. Было бы слишком долго объяснять подробности, да вас они и не интересуют. А идея такова: если инструмент хирурга в состоянии воздействовать на больной мозг, то в принципе он же способен решить задачу и прямо противоположную. — То есть воздействовать на какие-то центры здорового мозга? — Да, и с определенными целями. — Абст понизил голос. — Могу сказать: эксперименты уже начаты, и они обнадеживают. Но я ограничен в материале. Присылают мало, и не всегда то, что нужно. Мне необходимы здоровые люди, полные энергии, сил. А я получаю лагерников, которые едва волочат ноги. — Теперь понятно, почему на озере ты завел разговор о чешских водолазах. Абст кивнул. — Потерпи. Скоро у тебя будет сколько угодно материала: война не за горами. — Я очень надеюсь на пленных! — Потерпи, — повторил Кан и добавил: — Ну-ка, принеси папку с показаниями Бретмюллера. Эта дьявольская скала с гротом не дает мне покоя!..
СОДЕРЖАНИЕ
Кубанский Г. Команда осталась на судне. Рис. Н.Поливанова Рысс Е. Страх. Рис. И.Година Томан Н. В созвездии трапеции. Рис. А.Штеймана Ломм А. В темном городе. Рис. Н.Кольчицкого Кулешов Ю. Дежурный по городу слушает. Рис. А.Каменского Гансовский С. Восемнадцатое царство. Рис. Ю.Макарова Гансовский С. Мечта. Рис. Ю.Макарова Островер А. Удивительная история или повесть о том, как была похищена рукопись Аристотеля и что с ней приключилось. Рис. И.Година Росоховатский И. Виток истории. Рис. И.Крагера Кальма Н. Капитан Большое сердце. Рис. И.Крагера Поповский А. Испытание. Рис. И.Година Рысс Е. Охотник за браконьерами. Рис. Н.Поливанова Котляр Ю. “Темное”. Рис. Ю.Макарова Давыдов Ю. И попал Дементий в чужие края… Рис. Н.Кольчицкого Парнов Е., Емцев М. Зеленая креветка. Рис. Ю.Макарова Насибов А. “I-W-I”. Рис. Н.КривоваРедколлегия: К. К. Андреев, Н. М. Беркова, И. А. Ефремов, А. П. Казанцев, М. М. Калакуцкая, Л. Д. Платов, Н. В. Томан. Альманах МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ, № 10 Ответственные редакторы И.М.Беркова и М.И.Сальникова. Художественный редактор П.Д.Бирюков Технический редактор Т.М.Токарева Корректоры Л.И Гусева и К.И.Петровская Сдано в набор 16/V 1964 г. Подписано к печати 23/IX 1964 г. Формат 60?901/16. Печ. л. 50. Уч. — изд. л. 49,73. Тираж 100 000 экз. ТП 1964 № 590. А08578. Цена 1 p. 74 к. Издательство “Детская литература”. Москва, М.Черкасский пер., 1. Фабрика “Детская книга” № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати Москва. Сущевский вал, 49. Заказ № 633.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1965г. №11

В.Травинский, М.Фортус Поединок с гестапо
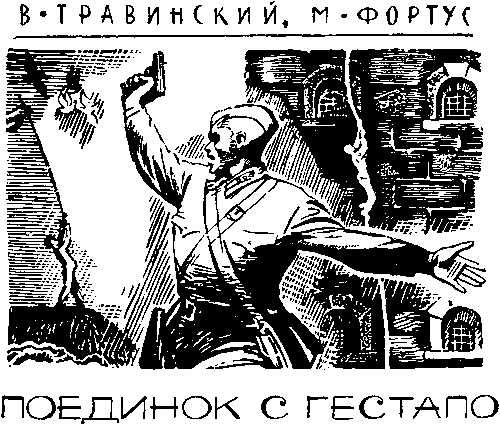
Глава первая ВОЙНА И ПОРИК
ВСТУПЛЕНИЕ
Он умер трижды — и родился четырежды. У него было пить имен, две матери и два отца. Он был агрономом, офицером, шахтером, рабом, политическим деятелем и заключенным. Будучи коммунистом, он стал “правой рукой гестапо”, в лагере Бомон ему удалось быть одновременно начальником — “капо” и партизаном, защищать Францию на Донце, а Россию — на Луаре, командовать немцами, русскими, украинцами, поляками, чехами, сербами и французами. Его знают тысячи людей от Урала до Пиренеев, его памятники стоят под Киевом и Парижем; о нем, как о живом, говорят через двадцать лет после его убийства, но легендарным он стал при жизни. Малой толики его дел хватило бы, чтобы наполнить иную столетнюю жизнь, однако ему самому в день смерти было только двадцать четыре года. 22 июля 1944 года, когда в камни крепости Арраса ударил тот самый, последний залп, мир был совсем не таким, каким мы уже привыкли его видеть. Не было Франции, Польши, Австрии, Югославии, Венгрии, Дании, Голландии, Бельгии, не было столь привычных на карте границ нынешних государств. Еще жил Третий рейх, и сумасшедшая воля фюрера двигала миллионами немецких солдат между Карпатами и Пиренеями. Фронтовой материк, Европа, лежал в развалинах и разоре; вал Советской Армии не перехлестнул еще германских границ, и в подвалах имперской канцелярии будущие подсудимые Нюрнбергского процесса верили в чудо, которое остановит русских. Впереди лежало и Арденнское наступление немцев, и слезная черчиллевская телеграмма о помощи, и штурм Берлина, и Потсдамская конференция… Нас отделяют от тех сумрачных дней целые геологические пласты событий, наш быт, наши планы, наша жизнь, давно отодвинувшая, казалось бы, назад убийство у цитадели Арраса. И в то же время как недавно, как совсем-совсем недавно стоял еще живым Василий Васильевич Порик, Василь, Базиль, Борик, Громовой, “русский из Дрокура”, стоял живым перед дулами спецкоманды у стен страшной тюрьмы Арраса, стоял живым, глядя яростными глазами в лицо мальчишки — роттенфюрера войск СС, дирижировавшего расстрелом. Двадцать лет назад, всего лишь двадцать лет назад он жил, двадцать лет назад он убит. Считанные годы между нами и траншеей расстрелянных, куда одним из последних упал Василий Порик. Сейчас ему было бы только сорок четыре года — мужской расцвет сил, зенит здоровья, энергии и ясности ума. Быть бы ему в крупных офицерских чинах, как получили их те, кто начинали с ним лейтенантами. А то стал бы он, агроном по образованию, дельным сельскохозяйственным администратором, — ведь стал же председателем колхоза “Украина” его ровесник, однокашник и Друг детства Иван Антонович Свидерский. Живы люди, учившиеся в школе с Васькой, в техникуме с Василием, в военном училище с Василием Васильевичем, воевавшие в одной дивизии, даже в одной роте с лейтенантом Пориком. Пашет землю в Соломирке тракторист Гнатюк, партизанивший с Базилем в Па-де-Кале; подрезает яблони в своем саду, в Николаеве, капитан в отставке Григорий Генин, что был в роте Порика политруком в боях у Святогорского монастыря. Пишет воспоминания о Громовом его друг-соратник Андре Пьерар, не могут забыть и не забудут Василия ни слесарь из Одессы Таскин, ни харьковский токарь Фомичев. Живы девушки, любившие его, живы друзья, шедшие за ним, живы враги, до сих пор его ненавидящие, — ведь прошло всего только двадцать лет! Буквально на днях вышла замуж младшая Васина сестра, Надя, на свадьбе ее гуляли и Василий Карпович, и Екатерина Селиверстовна, отец и мать Василия, и сестра его, Аня, заведующая Соломирской библиотекой, и дружки его по России и Франции, даже старая его учительница, Нина Ивановна Соколова, которая Ваську учила писать, считать и сажать березы, что до сих пор растут в школьном дворе. Все они живы — а его нет. Старые и малые, удиравшие с ним с уроков или бежавшие из концлагерей, нянчившие его или бинтовавшие ему простреленные руки, они живы, а он убит. Они живы, живы мы с вами, читатель, именно потому, что двадцать лет назад Василий Васильевич Порик и бойцы всех возрастов, биографий и званий ложились костьми за матерей и отцов, близких и дальних сограждан, за Россию, Францию, Европу — за все человечество, жизнью и смертью своей оплачивая завоеванную в тяжелых боях победу во второй мировой войне. Мы знаем о героях все — и ничего. Их, героев, выбирает и призывает эпоха, только ее неизвестными нам мерками определяются пути и взлеты героев. Жила где-то в Москве никому еще не знакомая девочка Зоя, жила, как все: училась, дружила, влюблялась. Мы можем восстановить каждый ее день, проследить каждый ее шаг, перелистать читанные ею книжки и писанные ею письма, поговорить со всеми, с кем говорила она, — и так и не понять, как это вдруг девочка Зоя стала героиней Космодемьянской. Мы будем знать по имени всех учителей Василия Порика, его родных и друзей, его возлюбленных и соратников, проштудируем программы, по которым он обучался в школе, техникуме и училище, шаг в шаг пройдем по интернациональным его путям, чуть ли не измерим расстояние от порога его соломирской хаты до тюрьмы Сен-Никез — и только тогда, может быть, сможем понять, почему юноша из глубинного украинского села стал героем двух великих держав. Жизнь человеческая не сводится только к поступкам, факты- это еще не все. Поступки есть форма проявления главной человеческой биографии: биографии нравственной. Она не столь явна, как факты поведения. Нравственная сила личности может и не бросаться в глаза, ну, например, в том случае, если на нее никто и ничто не покушается. Могут идти годы спокойного, честного, размеренного существования, может работать человек агрономом ли, токарем ли, пастухом ли, и плохого о нем не скажут — и хорошего мало вспомнят: “Ну, неплохой человек, ну, честный, порядочный, — мало ли таких не свете!” И вдруг — это обычно бывает вдруг — раскалывается небо, мир пронизан гулом и грохотом, смертельный риск становится бытом, наступает пора отчаянных смертей и великих побед, — и вдруг оказывается, что этот агроном ли, токарь ли, пастух ли — не такой, как все, что таких, как он, — мало, что его нравственные силы куда как превосходят обычные: он способен на невероятное, он — герой, руководитель решительных людей и решающих поступков. Пришла его минута, он должен или сдаться, изменить своим убеждениям, или идти до конца, каким бы этот конец ни был. И он идет до конца, тысячи идут за ним и, вопреки гулу и грохоту, наперекор победоносному торжествующему злу, утверждают свои идеалы, свою мораль — даже в последнюю минуту, перед дулами спецкоманды у траншеи в Аррасе. А потом текут годы, остывает накал схваток, отпадают мелочи бытовых разногласий или субъективных оценок — и оставшиеся в живых все зорче и вдумчивей вглядываются в судьбу героя, ибо он дрался за них, он погиб за них, он спас их, и у него учатся жить так, чтобы никакие опасности и ни сама смерть не могли бы повалить нравственные споры души человеческой. Итак, мы знаем о Василии Порике много — и мало. Грандиозный катаклизм мировой войны стал его биографией, как и миллион таких, как он, оказались в “розе ветров” истории: вступили в непримиримый конфликт с могущественными и беспощадными силами мирового фашизма. Они воевали с этими силами в тайных и явных боях; последние известны нам хорошо, первые — плохо. В подполье не пишут мемуары, в лагерях не ведут откровенные дневники. Но тут дело не в фактах: недостающее отыщут и опишут историки. Нас с вами интересует не только что, но и почему и зачем. Мы надеемся понять и принять на вооружение нравственную суть действий Василия Порика, ибо ее ценность подтверждена и жизнью его, и смертью его, и результатами жизни и смерти. Мы пойдем от факта к факту, от вехи к вехе, от маленького села Соломирки к департаменту Па-де-Кале, с вниманием и уважением оценивая и приемля его героическое прошлое.ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ВОСХОДИТ НАД СОЛОМИРКОЙ
Лежит Соломирка вдоль Южного Буга, а вдоль Соломирки — поля. Белые хаты жмутся к воде: места тут знойные, степные. Начинались двадцатые годы, шел нэп. После семи лет войны свадьбами гремели села. Женились вошедшие в возраст парни, женились вернувшиеся ветераны. Густо всходил послевоенный человеческий посев: недаром перед Великой Отечественной войной чуть ли не половина населения страны была моложе двадцати пяти лет. Вася был у Пориков первенец. А за ним почти ежегодно появлялись братья и сестры — семь детских ртов на отцовские рабочие руки! На двух десятинах не больно-то развернешься; приходилось и Екатерине Селиверстовне батрачить у местных богатеев за котелок картошки или меру зерна. Возвращалась под вечер с чужого поля — ноги гудят, спина не гнется, — ставила в печь картошку. Васька, старшой, сгонял за стол голопузую ораву, делили горячие рассыпчатые клубни поровну, лишь мать тайком от Васи подкладывала кому-нибудь от себя лишний кусок: Вася этого не любил, заметив, отдавал матери часть своей порции. Семья была бедняцкая — опора Советов. Это о таких семьях пеклась новая власть, им она снижала налоги и выделяла ссуду, к ним апеллировала и их звала в сложную минуту очередных социальных конфликтов. Василий родился уже при своей рабоче-крестьянской власти, в своей рабоче-крестьянской стране, он знал об этом с детства, — это было его первое социальное знание. Глаза и уши его жадно вбирали сведения о большом и заманчивом мире, пришедшем в маленькую Соломирку. Мальчишки двадцатых — тридцатых годов понимали мир как радостную стройку, как большущий добрый дом, где им работать, разделять величие и гордость своей России, наперекор всему враждебному миру провозглашавшей право на счастье. Они не знали тогда, как трудны дороги к нему, — да и кто мог знать об этом в те годы. Величайший всплеск народной энергии — главное достижение революции — крушил все преграды. На голом месте стремительно подымался гигант мировой экономики: социалистическая промышленность СССР. В перешитых отцовских портках, в латаной рубахе бегал по Соломирке не просто рыжий, веснушчатый мальчишка, а гражданин первого, единственного в мире, самого лучшего, самого могучего государства, оплота мировой революции, очень любящего Ваську Порика, заботящегося о нем и зовущего Ваську скорее расти, лучше учиться и побыстрее браться за огромные и прекрасные дела. Эти мальчишки становились коммунистами и интернационалистами даже раньше, чем вступали в отроческий возраст. Незаметно и прочно, через разговоры с отцом, чтение книг и газет, легенды о героях гражданской войны, через всю атмосферу тех кипящих лет укладывалась в голове система нравственных навыков социализма: любовь к СССР, сочувствие всем угнетенным и униженным за его пределами, неприязнь к любым формам эксплуатации, готовность к борьбе, вера в победу добра над злом. А потом пришла школа, Журавновская семилетка в соседней деревне, неказистая еще, бедная, но школа, целая вселенная знаний, навыков, фактов, эдакое окно в мир, энергичная, деловая школа российских тридцатых годов. Нина Ивановна Соколова помнит Ваську. Был он умен, хотя и горяч, и не без баловства. Ученье давалось нелегко: Вася рано впрягся в хозяйство, уроки учил между множеством дел полевых, по саду, по дому. “Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то: отец мой да я”. К тому же и старенькая церковь соломирская с колоколенкой его, заядлого голубятника, весьма интересовала… Но учился основательно, не то чтобы с большой любовью, а, скорее, с чувством долга и с любопытством ко всему неизвестному. Любил мальчишескую компанию, верховодил в ней обычно, уважал физический труд, и в “зеленые дни” старательно высаживал вокруг школы березы, покрикивая на нерадивых. Так и шли его детские годы: и в школе, и в поле, в беспредельных степях украинских, где, однако, не затерялась Соло-мирка, где жила она полной, неотделимой от страны жизнью в тяжелые и славные тридцатые годы — в годы коллективизации. И сын колхозника посреди мирка своего — уменьшенной копии всего российского мира — рано повзрослел, как рано взрослели все его сверстники, которых звала к делу страна. Начинались пятилетки: их дерзкая романтика захватывала сердца. За границей свирепствует глубочайший в истории кризис 1929–1933 годов, за границей выплавка стали падает до уровня 1800 года, за границей — 50 миллионов безработных, отчаяние и ожесточение, а мы рвемся вперед! У нас не хватает рук, у нас не залеживаются капиталы, работай, работай, работай! Мог ли догадаться паренек из Соломирки, что скоро — как скоро! — он лицом к лицу столкнется с Европой, и детали ее политической жизни приобретут для него самое жизненное значение? Маршируют чернорубашечники в Италии, горит рейхстаг в Германии, пятая колонна проникает во французский Генеральный штаб, Уолл-стрит и Сити ведут тройную и десятерную игру, подталкивая и подталкивая Гитлера на Восток, а Вася Порик кончает школу, Вася Порик поступает в техникум, еще не догадываясь, что все это — против него, против России и лично Васи Порика, что СССР и каждый его житель в отдельности вскоре примут на себя судьбы мира, и в этом принятии доля Василия Порика окажется не из легчайших.ЗАЯВКА
Сын потомственного крестьянина, выросший в деревне, пахарь с детства, воочию убедившийся, как нужно селу новое, грамотное земледелие, как туго колхозам без образованных кадров, Василий после семилетки поступает в Бобринецкий сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение. …Они почти все — из бедных украинских семей. Несколько десятков отроков “от сохи”, как говорилось тогда, от старых хат и первых колхозных полей, сменивших недавнее чересполосье, призванные советской властью к науке, — первые группы советского, появившегося на свет после революции студенчества. У них широкие грубые ладони, чистые загорелые лица, ясные, практичные головы. И благоговение перед наукой. И еще — истинно юношеский идеализм и патриотизм послереволюционного поколения. Он и здесь учится старательно, Вася Порик. Он помнит, что послан колхозом, что нужен колхозу. Он честно грызет гранит науки, хотя возиться на грядках ему явно больше нравится, чем читать учебники. Он еще мальчик, не знающий о своем призвании. Но эпоха властно напоминает о себе. “Открыл я с тихим шорохом глаза страниц, и потянуло порохом со всех границ”. Он тоже глядел в эти глаза, он тоже чувствовал этот запах, как и миллионы его сограждан. Япония вторглась в Китай. Италия напала на Абиссинию. Фашистский путч в Испании. Безоружные республиканцы против немецких танков. “Но пасаран!” — “Не пройдут!” звучит на десятках языков интернациональных бригад. Пароходы с испанскими сиротами в Одессе… И Вася Порик — в военкомате. Невысокий крепыш взволнованно мнет фуражку: ему очень нужно в Испанию! Пошлите его в армию. Он хочет воевать с фашизмом! Военком неумолим. У военкома много работы: в Испанию просятся не только шестнадцатилетние… Подрасти, Порик, мал еще. Агрономы тоже нужны, учись. Люди и без тебя найдутся. Иди, Порик, иди, не мешай! Но он не хочет уходить. Призвание, призвание солдата на перевале отрочества и юности уже посетило его. Два года он учится — и ждет. Грядки опытного поля кажутся ему окопами, учебные винтовки без магазинов восхищают его. Уроки военного дела — любимые уроки. Он сдает зачеты, пишет курсовые работы, и от учебника по почвоведению кидается к свежей газете. Сданы зачеты. Диплом агронома на руках. Порику — восемнадцать лет. И он опять в военкомате. Райвоенком придирчиво рассматривает упрямого юношу. Опять пришел? Романтика тебя заела? Форма, поди, нравится? Армия, друг мой, это не парад — это работа. Ты же только что диплом получил, иди трудись, место тебе предлагают приличное. Международное положение тебя тревожит, говоришь? Пожилой сдержанный офицер внимательно слушает. Нужды в людях нет: тысячи таких вот, “тревожащихся”, идут и идут в военкоматы. Но этот, кажется, парень серьезный… Есть в нем что-то такое… непреклонное. Говорит коротко, толково, с требовательными интонациями. Под рыжими вихрами глаза смотрят смело, с суровинкой… Ишь ты, как мы их воспитали — тревожатся… А Василий объясняет: Хасан, Мюнхен, Испания… Не такое сейчас время, когда он, Василий Порик, может быть агрономом, он чувствует, понимаете — чувствует, что его место в армии, он хочет быть в первых рядах, понимаете — в первых, там его место… — Пиши. — говорит военком и кладет на стол лист бумаги. — Пиши, Вася. “Заявка. Прошу послать меня в Одесское военное училище. Василий Порик”. Это было четвертого апреля 1939 года, за пять месяцев до начала второй мировой войны. Он не ошибся, районный военком кануна второй мировой войны. Он взял стоящего новобранца. Он не выдал Порику путевку в жизнь, — он послал его на смерть и бессмертие. …3 сентября 1939 года танковые клинья немцев врезаются в тело Польши — последнего союзника Франции. Это — война, общеевропейская, мировая, самая большая за пять тысяч лет война. Мобилизация. Войска тянутся на линии Мажино. Англичане высаживаются в Нормандии. 12 мая 1940 года англо-французский фронт прорван. Полтора месяца паники, унижения и позора. Самая большая европейская армия без боя сдает Париж, без боя отступает, откатывается, бежит. Нет штабов, нет приказов, правительство перебралось на юг. Правительство добровольно отдает власть Петену. 22 июня 1940 года в том же Компьенском лесу, в том же вагоне, где двадцать два года назад подписали капитуляцию немцы, теперь подписывает французскую капитуляцию представитель маршала Петена — генерал Хюттингер. Гитлер — хозяин Западной Европы. Но он рано радуется. В Одессе, Москве, Тбилиси, Омске — на одной шестой части нашей планеты миллионы советских людей готовятся встретить Гитлера. Мы не ведаем, какова она будет, Победа, скольких из нас она потребует за себя. Мы о многом не догадываемся, но это решительно ничего не значит: коса все равно найдет на камень. …В Одессе Василия поразило море. И странные, ни на что не похожие одесские улицы и набережные: какие-то бесшабашные и немного грустные одновременно. Он так и не успел к ним привыкнуть — увольнения были редкостью: училище перешло на ускоренную программу. Лекции, строевые занятия, обед, сон, самоподготовка… И опять лекции, и опять — “Выше голову!”, “Шага не слышу!”, “Второе отделение, по мишеням залпом… огонь!” Бег, метание гранат, многокилометровые марш-броски, когда к концу кажется, что сейчас вот упадешь — и пусть как хотят, но ноги идут, сами идут, легко вышагивают длинные маршевые расстояния. А. потом занятия: “Щиток пулемета предназначен… для введения патрона в канал ствола”. И уставы: строевой службы, гарнизонной, полевой, маленькие емкие книжечки уставов, где расписан чуть ли не каждый шаг красноармейца и командира, придирчивые, сто раз продуманные уставы, — каждое слово стоит не зря, каждая запятая со смыслом. И их надо зубрить, как таблицу умножения, и уметь объяснить другим — как теоремы геометрии. Строгость сержантов-сверхсрочников: “Курсант Порик, за плохую заправку койки — один наряд вне очереди!” — “Есть один наряд!” — и на кухню, хорошо, если только на кухню. Да, военком был прав: армия — не парад… Но был и парад — первый парад в жизни Василия. Как будут вспоминаться его торжественные минуты — там, в Сен-Никезе, когда сквозь беспамятство звон кандалов вдруг напомнит чистую медь полкового оркестра. “К торжественному маршу! На одного линейного дистанция! Первый взвод прямо, остальные — на-пра-во!” И как один человек с тысячей рук и ног единое сотнеголовое тело строя, ладно покачиваясь, печатает шаг по одесским улицам. Бегут мальчишки, девушки улыбаются с тротуаров… Солнце в глаза, огромное, тяжелое, доброе… Точный звук барабана… И пустынное поле впереди, Куликово поле, где принимали всегда присягу новобранцы в Одессе. Знамя, командир читает текст, тысяча молодых голосов повторяет: “Я, гражданин Советского Союза… перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…” И — могилы героев восстания во французском флоте в 1919 году. Старый коммунист, очевидец, медленно вспоминает каждую деталь, каждую драгоценную подробность славного матросского бунта. “Жанна Лябурб”, повторяет рассказчик, “Жанна Лябурб” — огненная коммунистка, сумевшая вместе с другими поднять многотысячный флот. “Жанна”, — запомнит Василий. “Жанна”, — вспомнит он далеко от Одессы. Он многое запомнит из этих недолгих одесских месяцев. И физрука — каким он казался придирой, и как ему будет благодарен Василий в жуткую ночь своего главного подвига… И значок ГТО, врученный тем же физруком, — и значок всплывет в памяти, и тоже сыграет свою неожиданную роль в часы предсмертья. Он был недолго в училище, но он получил от него все, что можно. Порик, прирожденный солдат, усваивал военное дело легко. Строевые занятия — бич новобранцев — казались ему интереснейшим отдыхом. С неторопливой тщательностью и крестьянским интересом к машине он изучал оружие: винтовку, пулемет, миномет, гранату… И после всех трудов праведных оставался веселым, общительным, разговорчивым парнем с ярко выраженной жилкой руководителя, организатора: люди тянулись к нему безотчетно. Как само собой разумеющееся, в Харькове, куда перебросили курсантов из Одессы, Василия избрали комсоргом роты, портрет его не сходил с Доски почета. Приняли кандидатом в члены партии. Назначили командиром отделения и помощником командира взвода. Было у него в распоряжении двенадцать человек. “Учитесь, курсант, — объяснял ему начальник училища, — отделение есть основа армии. Сумеете хорошо справиться с отделением — справитесь легко и со взводом и с ротой”. Он оказался прав, начальник, но как бы он удивился, если бы знал, где, когда и на опыте каких отделений, взводов, рот оправдаются его слова. Их осталось мало, курсантов, учившихся когда-то с Пориком, но все они помнят о нем. О его простоте, юморе, деловитости — и о суровой принципиальности, которая проступала сквозь юношеское добродушие, как только что-то грозило помешать главному: военной учебе. “Ленивых и нерадивых Вася мог едкой шуткой поразить как пулеметной очередью”, — вспоминает один. “В деле службы не давал потачки ни себе, ни другим”, — вспоминаетвторой. А Григорий Белоус, что был не только ровесником и товарищем Василия, но и секретарем парторганизации в харьковском училище, а ныне живет в селе Сычевке под Одессой, пишет: “Редко я встречал людей, так преданных военной службе, влюбленных в нее, причем не во внешнюю, парадную, что ли, ее сторону, а в самую суть. Он отлично знал уставы, всегда ходил четким строевым шагом… Он даже виды спорта признавал только военные. Хорошо метал гранату, знал штыковой бой, умело ползал по-пластунски”. Учеба кончилась. 10 июня 1941 года выпускникам зачитывали приказ наркома обороны. Им вручали звания, судьбы людей. “Поздравляю с присвоением воинского звания!” — “Служим Советскому Союзу”. И вот последний вечер в училище, они на равных — на офицерских правах чокаются с преподавателями и начальниками, тот же полковой оркестр, что задавал ритм строевому шагу, играет вальс, смеются девчата, кто-то вдруг бросается отбивать чечетку, и отцы — их тоже пригласили на выпускной вечер, кто смог приехать, — растроганно наблюдают за вчерашними Ваньками, Васьками и Петьками, ставшими лейтенантами. Василий Карпович украдкой лезет за платком: его при всех благодарил начальник училища за воспитание хорошего сына. Через день лейтенант Порик выезжает в Киевский военный округ. А еще через десять дней — направление на фронт.ПЕРВАЯ СМЕРТЬ ВАСИЛИЯ ПОРИКА
…Мы отступаем, мы роем линии укрепления, обороняемся, стоим насмерть и на смерть обрекаем врага. Но немцы опять обходят с флангов, опять в тылу их танки, опять приказ об отходе, и мы отступаем, теряя людей и оружие. Но теряет людей и оружие и противник! “Блицкриг” сорван, Третий рейх втянулся в войну на истощение, перед ним — от Балтийского моря до Черного — все выше подымается вал Отечественной, всенародной войны. И где-то в ее горниле выковывается офицерское, организаторское, воинское умение лейтенанта Порика. В 1941 году в сложнейшей обстановке отступления со всеми его неожиданностями и опасностями, в яростных оборонительных боях с сильнейшим врагом проверялись характеры и способности командиров. Для тех, кто желал и умел учиться, 1941 год был воистину Университетом Войны. И Порик учится. Все, о чем он узнавал теоретически в Одессе и Харькове, стало каждодневной практикой: встречный бой, отражение танковой атаки, прорыв из окружения… Здесь каждая ошибка могла стать последней — и для него, и для подчиненных. Молниеносная ориентировка, быстрый и верный расчет, ясное решение, четкая команда, личный пример отваги — он быстро овладевал этими обязательными атрибутами характера офицера-фронтовика. В те трудные дни мало было самому беспредельно верить в победу — надо было увлекать своей верой других, подбадривать устающих, сплачивать растерянных. Боевой опыт 1941 года — как он пригодится франтирёру Базилю на далеком атлантическом берегу! В пекле величайших боев сформируется борец, о котором в 1944 году так напишет французская газета “Либерте”: “Драться против нацизма — его единственная забота. В нем чувствовалась непреклонная сила воли, скрытая за внешним спокойствием лица”. Война не заглядывала в метрики, война не считалась с возрастом: ну и пусть всего-то двадцать один год Василию Порику, ну и что с того, что стаж офицерский у него невелик? Сумел командовать отделением — командуй взводом! Получилось со взводом — подымайся выше, в помощники командира роты! Хорошо воюет? В ротные его! Принимай роту, Порик, веди роту в бой, воюй, лейтенант, бей гадов! 972-й полк 275-й стрелковой дивизии держался под Святогорским монастырем, между Изюмом и Барвенковом. Напирали немцы, катились лавы немецких танков, дивизия под их напором медленно пятилась к берегу, обрывистому берегу Северного Донца. Ударила оттепель, надо льдом поднялась вода выше колена. Переправы взорваны с воздуха. Кончаются боеприпасы- через реку их не доставить. Лучшим ротам приказ: контратаковать. Это почти обязательная гибель, но кто-то должен прикрыть переправу дивизии. Рота Василия Порика атакует. Прямо в лицо шрапнель, пикируют “мессершмитты”, наползают танки, звенит в ушах, качается и вибрирует земля под ногами. Рота чрезвычайным усилием прорывается до рукопашной, в траншеях немцев рота выполнила приказ! — Генин, — слышит в трубку политрук голос командира полка, — хорошо, Генин! Передай Порику: представляю к награде! Пусть отходит, примет второй батальон, там убит командир! — Вася! — кричит Генин. — Командир полка приказывает… …Снаряд угодил как раз между ними.***
Куда их везут? Дрожит и вибрирует пол вагона, будто земля под Святогорским монастырем. Сквозь щели левой стены проползает на мгновение луч луны… Куда их везут? Человек, голова которого лежит на ногах у Василия, опять что-то бормочет. Быстрые, быстрые захлебывающиеся слова: “Катенька, Катенька… огурцы солили… банка… стреляет”. Василий осторожно подымается, на ощупь подсовывает под дрожащую, елозящую по ногам человеческую голову рукав укрывающего его армяка. “Катенька… голову больно…” — Голос стихает, стихает. Видно, из военнопленных, грузили их вместе с “рабочими”. Этому — конец. Василий вспомнил его лицо: худое, черное, с блестящими, перенапряженными глазами. Волосы в кровавых култуках, так, видно, и не перевязан толком ни разу. Спокойно, Василий, спокойно, Василий, нервы в кулак! Сейчас главное — куда их везут? На стоянках вначале слышалась вроде бы немецкая речь. Вот уже второй день говорят не по-немецки. Двенадцатый день пути в мрачную неизвестность. Только один раз за это время дали две буханки хлеба на всех, ведро воды… Спокойно, Вася, спокойно, не то зря сдохнешь, Вася! Он закрывает глаза. Тяжелая, больная дремота наползает, как оглушает. И снова воспаленный мозг прогоняет назад кадр за кадром, будто киноленту, дни окружения и прорывов, лесных троп и лесных засад, и погони, погони, погони на своей земле, сразу ставшей бесприютной, на вчерашней советской земле, — погони, погони, погони за окруженными, за беглецами из плена, за израненными, полуголыми солдатами, пробирающимися к своим, к армиям неокруженным и армиям воюющим — в СССР, где все свое, все, без чего нет жизни-Погони, погони, лают собаки, раздвигаются кусты, автомат в грудь: “Хальт!”. Стреляют, стреляют, собаки прыгают на грудь… Он вновь проснулся от стона. Прислушался. Тихо. Спазма в горле разжалась. Это стонал он сам — лейтенант, коммунист, ныне — невольник Порик. Начинало светать. Земля поворачивалась к солнцу, чтобы осветить кусочек своей поверхности, по которому из далекой России несся товарный состав, осветить этот обмотанный проволокой вагон, эту движущуюся конуру, полную зловония, грязи и предсмертного пота. Теплое, но бесстрастное солнце подымалось над изуродованной планетой, где высшее порождение жизни яростно уничтожало себя самое. Куда бы их ни везли — это гестапо. СС и гестапо — они занимаются лагерями. Это гестапо, Вася, самая большая в мире полиция, самая совершенная организация по убиениям инакомыслящих. Ты, Порик, будешь иметь дело с гестапо и СС. Поэтому нервы в кулак и спокойней. И думать, думать, обязательно думать!.. Они надеются, что ты сдался. Что за тридевять земель от России, под дулом надсмотрщика, тебе не на что рассчитывать. Ты все потерял: родину, семью, надежду, даже самую маленькую надежду хоть на что-то хорошее. Поезд остановился. Непривычный шум у вагона. Дребезжа, отъезжают двери. Свежий летний ветер врывается в легкие. Цепляясь друг за друга, дюжина грязных, заросших существ подымается с вонючего пола. “Шнель! Шнель!” — кричат конвоиры. А вокруг — небо, вокруг — солнце, блестит на солнце черепица крыш, и на ближайшем от перрона домике крутится над крыльцом веселенький петушок-флюгер. И какие-то люди вдруг появляются на перроне, их отталкивают, их прогоняют, их бьют дубинками высокие коричневые полицейские, но они кричат что-то, и Василий слышит тонкие женские голоса: “Рюсс! — доносится до него. — Франсэ! Рюсс! Франсэ!” Крики все тише, толпа на перроне тает, и вот издалека доносится в последний раз: “Франсэ!” Голодная муть отступает от глаз. Василий медленно выпрямляется. Так, значит, вот куда их привезли! Значит — Франция!Глава вторая НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
ТАКТИКА КОНРАДА ВАЛЛЕНРОДА
Давнее-давнее время… Орден крестоносцев уничтожал страну. Таяли литовские племена в боях с панцирной конницей немцев. Вслед за пруссами полное уничтожение надвигалось на Литву. И тогда поклялся Конрад Валленрод, что он отдаст жизнь, но уничтожит Орден. Литвин ушел к немцам. Конрад стал рыцарем, величайшим бойцом Ордена. Он был самым набожным, самым жестоким, самым преданным среди набожных, жестоких и преданных Ордену крестоносцев. Они признали его вождем, он возглавил Орден. И, собрав всю армию Ордена в последний — крестоносцы были уверены в этом — крестовый поход на Литву, он уничтожил немецкую армию, поставив ее под неожиданный удар им же руководимых литовцев. Орден пал, Литва была спасена, клятва исполнена, — об этом рассказано в поэме польского поэта Мицкевича “Конрад Валленрод”. Так появилась на свет “тактика Конрада Валленрода” — лукавый соблазн для многих слабых душ и страшное оружие душ сильных. Когда Рихард Зорге тринадцать лет подряд вел фашистскую пропаганду в фашистской печати из Японии и Китая, — он осуществлял тактику Конрада Валленрода. Когда Рихард Зорге стал другом японской императорской семьи и правой рукой гитлеровского посольства в Токио — он шел по пути Конрада Валленрода. И когда Рихард Зорге в критическую минуту убедил перебросить под Москву дальневосточную армию, — он одержал победу Конрада Валленрода. Тактика Конрада Валленрода стала тактикой Василия Порика. …Бараки одноэтажные, деревянные. Внутри барака двухъярусные нары. На них спят ночью 100–120 человек, спят без подушек, одеял или простыней, на гнилой прошлогодней соломе, жидко прикрывающей грязные, неструганые доски: в каждой трещине — клопы и вши, кажется, что солома шевелится от них. В темноте — подъем. “Ленивых” подымают собаки: овчарки вспрыгивают и на второй ярус. Завтрак: кружка желудевого кофе, 50 граммов хлеба. Развод на работы по восьми шахтам, закрепленным за Бомонским лагерем. Через 12 часов — обед: миска баланды из брюквы и 100 граммов хлеба. Обыск бараков. Проверка. Наказание “провинившихся” за день. Отбой. Ужина не положено. Каждое утро кто-то не просыпается. Трупы грузят на автомашины, живых гоняют пешком. Живые бредут 6–10 километров до шахты, мертвых везут подальше: к линии Мажино, что так и не защитила Францию от вторжения. Ее глубокие траншеи и блиндажи, ее обширные доты и дзоты строили лучшие инженеры мира. Линия Мажино для живых не оказалась полезной, — она в войну принимала лишь мертвых. Немцы сгружали в нее трупы советских военнопленных: к 1945 году траншеи, блиндажи, доты были загружены доверху. …12-часовая “смена”: рука еле держит отбойный молоток, но конвоир рядом. Летит черная пыль, приклад опускается на плечи: “Рус, работай хорошо!” Летит черная пыль, кружится голова, сердце будто заполняет всю грудь, плывет в глазах забой, чудится — сжимается, опускается на плечи, валит на землю. Но конвоир рядом, винтовку он держит крепко, он ест не отвар из брюквы и не эрзац-хлеб по 150 граммов в день, он не спит шесть часов в сутки на вшах и клопах, его не порют за невыполнение нормы. И потому — летит и летит проклятая черная пыль, а впереди только барак и шахта, барак и миска баланды, отбойный молоток, пока ты способен его поднять, — и траншеи линии Мажино, когда ты окончательно обессилеешь. В каждом бараке — доносчики и шпионы. Не все попали в Бомон невольно, есть и добровольцы, поверившие вербовщикам, что за границей их ожидает рай. Их подкармливают, их оберегают. Неосторожное слово — и линия Мажино примет тебя вне очереди. Все обдумано, все рассчитано для полного, абсолютного высасывания человеческих сил и уничтожения потом опустошенной плоти людской. Сеть рабства сработана прочно и основательно, ее не разорвать. Говорят, смертник способен на чрезвычайное. Чрезвычайная, дерзкая до предела идея осенила Порика, ночью, посреди храпа и духоты от грязных человеческих тел в бараке рабов. Он не бросился с голыми руками на конвоира: это не принесет пользы России. Он не будет выкрикивать в лицо эсэсовцам, что он о них думает, — кто его услышит, кроме эсэсовцев? Нет, никакой истерики, не впадать в отчаяние. Изощренность на изощренность! Он станет своим человеком в гестапо, он обратит эту уничтожательную машину против нее самой! А что подумают товарищи? Он не слеп, он уже различает в безликой вначале толпе рабов полные решимости глаза. Есть люди, с которыми можно делать дело, есть! Полячка на кухне — Аня, кажется? — бойкая деваха. Полячка-то она какая-то странная: акцент не тот… И дядя Яким там же, на кухне, ох, лукавый старик, бородач дельный! И этот… Марк… высокий, худой, бывший колхозник, — знаем мы таких бывших, выправку военную не спрячешь, я тоже “бывший колхозник”, и мне тоже трудно скрыть военную выправку. Да и остальные: кто испуган, кто растерян, но — появись вожаки, дай реальную цель, сколько из семисот человек лагерников Бомона откажется от дела? Так что же скажут товарищи? Рискованное дело затеваешь, Вася, рискованное! Значит, надо действовать так, чтобы умный человек из своих тебе верил бы… Глухо дышит спящий барак, тусклая лампочка еле видна сквозь испарения десятков немытых тел. Ночь над Бомоном, ночь над департаментом Па-де-Кале, ночь над Францией, и где-то в ночи, на гнилой соломе усталый, но бодрствующий человек разрабатывает один из своих самых дерзких планов.***
В этих краях был центр тяжелой промышленности довоенной Франции, отсюда получала она две трети своего угля. Департаменты Нор и Па-де-Кале и еще десять департаментов Северной Франции — это самый густонаселенный район страны, это уголь, сталь, чугун, котлы, турбины, паровозы и электровозы, это самые высокие во Франции урожаи пшеницы, 90 % сбора французской сахарной свеклы, треть французского скота. Здесь, на стыке многих границ, рядом с Бельгией и Германией, вдоль крупнейшей французской реки Луары живет народ работящий и независимый. Тон задают шахтеры — со времен Наполеона и до сих пор полицейские называют их “черными глотками”. Густо понатыканы шахты в этом треугольнике французской земли. Именно здешние места особенно привлекали Гитлера: их промышленная мощь должна была отныне работать на Германию, как и вся Западная Европа. Однако промышленность — это в первую очередь промышленные рабочие. А их становилось все меньше и меньше — и в Германии, и на оккупированных территориях. Русский фронт уносил немцев миллион за миллионом — самую рабочую часть нации: молодых мужчин. Тотальные мобилизации опустошали немецкие цеха и шахты; голод и террор не менее быстро рассасывали рабочих Франции, Чехословакии, Бельгии по деревням, концлагерям и братским могилам. Только в боях у Сталинграда Третий рейх потерял 1 200 000 мужчин убитыми, ранеными и пленными — 113 дивизий! С декабря 1941 по апрель 1942 года из Франции в Россию переброшено 16 дивизий, до апреля 1943 года — еще 20 дивизий! Семидесяти миллионов немцев явно не хватало для обслуживания хозяйства Германии, оккупации Западной Европы и удержания Восточного фронта. Изыскивались резервы, — изыскивались по-фашистски. 1 300 000 французов, захваченные в плен, не были отпущены домой: их поставили к станкам и в шахты. Пленные почти всех стран Европы обращались в рабов, селились в спецлагерях и использовались как чернорабочие. Капитан Штеннбрик, уполномоченный рейха по шахтам Западной Европы, потребовал доставить из России людей для работы в шахтах Северной Франции. “Набирали” людей для Штейнбрика под Винницей: район ставки фюрера так или иначе все равно требовалось очистить от “нежелательных элементов”. “Нежелательные элементы”, то бишь молодежь рабочего возраста, захватывались в массовых облавах и набивались по товарным вагонам вперемежку с военнопленными. И вот с 4 июля 1942 года три тысячи украинцев наполнили лагерь рабов в секторе Арраса. Но план переброски рабов с Востока на Запад таил в себе почти неразрешимое экономическое противоречие. Методы содержания вывезенных “рабочих” снижали ценность их труда до минимума. Люди или вообще вымирали от голода, или по той же причине не могли работать, физически не способны были работать. Побои, издевательства доводили их до остервенения, а потому производительность труда оказывалась мизерной, не окупая даже расходы на облавы и перевозку. Законы экономики и психологии внесли свои коррективы в законы бесчеловечности. Производство требовало рабочих рук; волей-неволей пришлось эти руки хоть как-то оберегать. Законы экономики и психологии помогли Василию Порику.***
С конца 1942 года многие лагеря для “иностранных рабочих”, бывшие еще вчера уменьшенными копиями Освенцима и Майданека, стали по условиям жизни приближаться, скажем, к лагерям рабов, строивших пять тысяч лет назад пирамиду Хеопса. Бить били, но старались не до смерти; кормили плохо, но зато дифференцированно: не выполнил норму — одна миска брюквы и 100 граммов хлеба, выполнил норму — полторы миски и 150 граммов, перевыполнил — две миски. Немцы пошли и дальше по пути “материальной заинтересованности”: начали давать увольнительные из лагеря “за честный труд”, разрешили “честным трудящимся” организовывать спортивные кружки и вечера самодеятельности и даже вывесили у входа в лагерь лозунг: “Кто не работает — тот не ест!” и Доску почета. Доску пришлось снять вскоре: подобного “почета” никто в Бомоне не пожелал. Та же нужда в людях для всепоглощающего Восточного фронта вынудила Гитлера экономить и на охране. Северные департаменты были отнесены в подчинении к Брюссельской военной администрации, а потому у ворот Бомона стали бельгийские фашисты. Их усилили кем могли: петеновцами, даже польскими фашистами… Было крайне соблазнительно ввести в лагерях полицию из самих же лагерников, назначить старост из самих же лагерников, делать гестаповскую работу руками гестаповских жертв — сколько бы немецких рук это освободило! Этакий ловкий, толковый пройдоха из русских же, знающий их, понимающий их — какая находка для Третьего рейха. И вот он, пройдоха, вот он, не прячущийся предатель, вот он, открытый, активный, умелый немецкий агент: Вася Порик! Он удивительно отзывчив на всякое вражеское предложение: когда другие, сумрачно переглядываясь, неловко мнутся перед объявлением о создании волейбольной команды, — Порик уже весело торопит писаря: “Пиши первым, давай, сыгранем”. Когда начальник лагеря произносит речь об “уважении к труду и необходимости отрабатывать свой хлеб, а не лодырничать”, Порик выходит из рядов и горячо поддерживает начальника: “Правильно, ребята, нечего даром хлеб есть, работать надо!” Когда в первый “вечер отдыха” пожилой угрюмый немец на русско-франко-украинско-немецком воляпюке призывал петь “Украинско писня”, очень убедительно помахивая в такт воляпюку стеком, — это Порик бодрым тенорком первым затягивает далекую винницкую частушку, не сбился, не смолк, хотя все молчали. И ни одного косого взгляда, ни одного отказа от работы, Ни единой ссоры с конвоиром, — напевая что-то, быстренько, ловко, словно с детства к сему готовый, делает этот ладный исполнительный парень всякую подневольную работу, не жалуясь, никаких, видимо, иллюзий не строя, здраво оценивая обстановку и искренне намереваясь подладиться к арийским хозяевам. Удивительно удачная кандидатура! Среди толпы неразговорчивых, безынициативных, угрюмых бомонских узников Порик — настоящая находка! А он старается, Вася, он очень и очень старается быть на виду — да, я находка для вас, найдите меня, подберите, скорее, дело не терпит! И его замечают, конечно, его выдвигают, ему начинают доверять. Он староста барака, он — помощник старосты лагеря, он уже староста, предатель, изменник, холуй Вася Порик! Это он был коммунистом, комсоргом роты? Это он принимал присягу на Куликовом поле в Одессе? Он водил красноармейцев в атаку на берегах Северного Донца? И он же инструктирует полицию Бомона, он объявляет гестаповские распоряжения, зовет людей работать на Гитлера и лишает “нерадивых” последнего куска эрзац-хлеба? Лучший курсант пехотного училища в Харькове — и лучший помощник фашистов во Франции? “На миру и смерть красна”, — поговорку в разных вариациях знают все народы Земли. А он мог умереть не на миру — в одиночку, как подлец и предатель, от руки своих же или от руки случайно поссорившихся с ним хозяев. Ненавидимый товарищами по несчастью, едва терпимый, как это обычно бывает, гестаповцами, он мог потерять все и не выиграть ничегошеньки в опаснейшем своем предприятии. Это была игра на свой страх и риск — свой последний страх, свой смертельный риск. Как бы то ни было, пока он подбирал людей. Странный старшина Бомона еще ни о чем не говорил в открытую, ко за жестом, интонацией, неожиданным умолчанием или неожиданной помощью, за самим “почерком” его работы чудилось нечто недосказанное, намекающее на что-то, будоражащее умы и сердца. Вот он подбирает старост бараков — сплошь приличные люди… Вот больному распоряжается отпустить добавочный паек… Вот выдает пропуска на выход из лагеря — выборочно выдает, и совсем не тем, у кого выполнена норма… А он выдает и шумному, непокорному Константину Орлову, и неугомонному Колесникову, и Петру Григоренко, почти не выходящему из карцера… Идите, ребята, идите, ищите связь, не может не быть связи, знакомьтесь с француженками — может, у них братья коммунисты? Говорите с завсегдатаями баров — там все знают… Вася Порик лихорадочно ищет связь с подпольем. Подполье есть, Порик ни минуты в этом не сомневается. Он вспоминает все, что слышал о Франции: Жанна Лябурб, Народный фронт, Торез, Дюкло, Жорес… Газетным петитом набранные имена придвинулись вплотную. Компартия Франции? В подполье где-то едут ее связные, где-то условным стуком стучат в двери ее конспиративных квартир! Может быть, я уже смотрел в ее глаза? Не ее ли неслышный приказ вызывает стремительно возникающие забастовки? Не из ее ли подпольных запасов наших ребят в шахтах подкармливают французские шахтеры? Не ее ли демонстрация встречала наш эшелон во Франции? В шахте он работает вместе с французом Шарлем и поляком Юзефом. Шарль молчалив и нетороплив, Юзеф, наоборот, разговорчив. Каждое утро Шарль вынимает из бездонных карманов шахтерских штанов тонкий пакетик для Порика. В пакете два ломтика хлеба с маргарином и сигарета. Так повелось с третьего дня их совместной работы. Вася ни о чем не просил, Шарль ни о чем не спрашивал. Только один раз в ответ на Васину благодарность Юзеф перевел слова Шарля: “Ешь, силы тебе еще понадобятся”. Когда отходит штейгер, первым бросает работу Шарль. Все трое усаживаются на глыбы породы, и с помощью Юзефа начинается тягучая беседа о жизни, детях, хлебе, женщинах, осторожная вначале, все более откровенная со временем. Слух у Шарля превосходный, он раньше всех слышит шаги штейгера, делает знак, и они берутся за молотки. Но однажды француз что-то пробурчал, Юзеф, молча кивнув, быстро вышел из штрека, и вскоре урчание воздуха в отбойных молотках оборвалось. “Перерезал шланг”, — понял Порик, подмигнул вернувшемуся Юзефу, тот, бледный, подмигнул в ответ, и они просидели до конца смены без дела, пока техники искали место обрыва шланга и устраняли его. Шарль себе на уме — это понятно. Он приглядывается к Порику. И Юзеф приглядывается. Ну, приглядывайтесь, приглядывайтесь, не тяните, вот он — весь я, свой, ваш, в полной готовности. У меня — пропуска, пайки, полиция, у меня связи с гестапо, в СС, в жандармерии, — дайте мне знак, не тяните, у меня все на мази, я готов к делу. Где ты, компартия? Он физически чувствует, как концентрируется на нем внимательный, осторожный, недреманный глаз невидимого, но всеведущего подполья. Однажды утром, привычно сунув руку в карман куртки, он нащупал там какую-то бумажку. Вынул, развернул. Екнуло сердце. У него на ладони лежала листовка. Внизу была подпись: “Группа советских патриотов лагеря Бомон”.СКВОЗЬ ЛАБИРИНТЫ ЗАСАД
Когда уже бежали и армия, и правительства Франции, когда над Дюнкером последние английские дивизии были придвинуты к морю, когда все власть имущие Запада уже расписались в полном бессилии, — тогда, перед самым падением Парижа, ЦК ФКП в последний раз обратился к правительству. ЦК требовал защищать Париж, “изменить самый характер войны, превратить ее в национальную войну за свободу и независимость Франции”. Но уже некому было внять. Исчезла власть, рухнул государственный механизм, будто “построенный на песке”. Развалился аппарат военной организации, съедавший солидную толику национального дохода. Государство Франция исчезло. В уставе национал-социалистской партии Германии говорилось: “Основа партийной организации — это принцип фюрерства. Народ не может управлять собой прямо или косвенно”. Вторая мировая война — кроме всего прочего — была еще и войной самоуправляющихся народов против принципа фюрерства. Стала она такой и во Франции после французского поражения. Исчезло государство Франция, но французский народ не исчез. Единственная неразгромленная, единственная умеющая драться в подполье, единственно неистребимая в силу глубины ее рабочих корней, компартия создала Сопротивление, объединив вокруг себя всех и вся. Возник фронт национального освобождения, возник Главный штаб ФТП — франтирёров и партизан, возникла всефранцузская организация Сопротивления, — куда более стойкая, действенная и выносливая, чем государственная организация довоенной Франции. Ее многосоттысячная структура опиралась на простейшую людскую молекулу: тройку. Во главе тройки стоял четвертый — командир. Члены тройки знали только своего командира, еще связного, вернее, пароль связного: связные часто менялись. Командир взвода знал через связных командиров своих троек, но командира роты уже не знал, как тот — командира батальона. В одной комнате могли собраться закадычные друзья и не подозревать, что они состоят в одной роте или даже в одном взводе. Они узнавали об этом крайне редко: когда руководство собирало силы для крупной операции. После такого сбора состав троек и командиров опять перемешивался. Так до минимума свели возможность массовых провалов. И вместе с французами по неписаным, но безусловным канонам международной рабочей взаимопомощи в Сопротивление с самого его истока влились иностранные рабочие. Их было три миллиона еще до начала войны: Франции издавна не хватало рабочих рук. Их стало гораздо больше после 1941 года: товарные составы с Востока подвозили и подвозили… До войны иностранных рабочих возглавлял особый отдел компартии: МОИ. Он тоже ушел в подполье. В нем создали русский сектор: поначалу туда вошли русские, давно жившие во Франции, — дети белоэмигрантов, порвавшие с семьей и перешедшие к коммунистам, эмигранты русские, украинские и белорусские, ветераны испанских интернациональных бригад. Работой среди советских людей, попавших во Францию, в МОИ по поручению ЦК руководил старый член ФКП Гастон Ларош. Чуть-чуть отвлекитесь от привычной терминологии. “Работой…” — “среди советских людей” — “руководил” — вдумайтесь, что это была за работа, среди каких людей, где и каким образом руководимых? “Работа” — это подполье второй мировой войны, кровь и слезы, риск и смерть. “Советские люди” — это лагерники гражданские или военные, во вшивых бараках, за колючей проволокой или в шахтах и секретных подземельях, вымирающие от голода и битья. “Руководить” — это сквозь лабиринты гестаповских тайников и засад вползать в концлагеря, выискивая несдавшихся, спасая погибающих, поддерживая отчаявшихся. Он недавно умер, Гастон Ларош, один из очень малого числа коммунистов, перенесших кромешный ад подпольной войны с разведкой Германской империи. До последнего дня он рассказывал миру, он предупреждал мир, пытался уберечь от того, чтобы вновь когда-нибудь был допущен на планете Земля хоть какой-то, хоть самый приближенный вариант фашизма. Светлая память Гастону Ларошу и его бестрепетным товарищам по подполью, память и благодарность от всех нас, соотечественников тех пятидесяти тысяч несчастных, которым помогли, которых спасали французские интернационалисты начала сороковых годов XX века. Ибо именно от них протянулась и в лагерь Бомон тонкая прочная ниточка конспиративных отрядов. Сложная хитроумная машина тайной связи работала — и вот уже вынимает Василий Порик из кармана листовку подпольщиков.***
Прежде чем в куртке старшины лагеря Бомон дерзко появилась листовка, должно было произойти множество событий. Надо было, чтобы бывший политрук Марк Яковлевич Слободинский угодил бы в тот же Бомон, что и Порик. Надо было, чтобы в Бомоне он, как и Порик, мечтал связаться с компартией. И, конечно, самым важным “надо” была встреча Марка с Артуром. Встретились Марк и Артур, как тогда встречались все бомонцы с французами: в шахте, в штреке, в забое. Угольная компания Дурж, владелица аррасской шахты 6-бис, не подозревала, конечно, что на дне ее угольной ямы человек № 336, он же советский коммунист Марк, и французский коммунист Артур сразу же найдут общий язык. Марк медленно поднимался по ступеням иерархии французского подполья. Марка проверяли и перепроверяли, выслушивали и опять проверяли. Артур свел его с Батистом, низовым активистом компартии. Батист — с Даниэлом, или как звали его в подполье — Жермэном Лоэзом, майором Сопротивления, ответственным за Аррас. Грохочут по радио немецкие военные марши, Паулюс прорывается к Сталинграду, Роммель — на пороге Египта, вовсю работают печи Освенцима, “новый порядок” безумного государства победоносно марширует по дорогам Европы и Африки, японские подлодки уже подымают свои перископы у мадагаскарского побережья, мир задыхается под тяжестью 1942 года, самого тяжелого года второй мировой войны, — а в аккуратном домике на окраине Арраса, уже не боясь друг друга, уже веря, Жермэн Лоэз и Марк Слободинский вершат свое партийное дело, намечая задания для партийной группы Бомона Их было немного вначале: Александр Черкасов, Алексей Крылов, Борис Шапин, Василий Адоньев, Михаил Бойко, еще два — три человека… Сплошь молодежь: 17–20 лет. Никакого опыта подпольной работы, тем более в условиях концлагеря. Тут им не мог помочь никто. Конечно, их дело — подымать дух людей. Конечно, организовывать саботаж. Конечно, выявлять предателей. Немало — и мало, да и немалость или малость сию осуществлять трудно. Молодым ребятам хотелось Дела с большой буквы. Но о Деле оставалось только мечтать, если самые простые, самые первые шаги подпольщиков- информация о положении на фронте, агитация за саботаж, помощь слабым и больным — требовали максимума энергии и осторожности. И потому-то внимательно наблюдала “группа” за странным старшиной лагеря, стараясь угадать — друг он или враг? И потому-то так жадно следила за Порикоти, уже прочитавшим листовку; донесет или нет? Прошла неделя — все было тихо. Решили: идти к старшине в открытую и говорить напрямик.ДВЕ ПРАВЫЕ РУКИ ВАСИЛИЯ ПОРИКА
Старшина лагеря Бомон не вызывал у гестапо никаких подозрений. Начальники лагеря менялись: Франция считалась зоной отдыха, сюда посылали “уставших” на Восточном фронте. На месте в лагере всегда был старшина, — и им оставались довольны все “отпускники”. Во-первых, он никогда не отказывался ни от какой работы. Он с радостью бросался выполнять за очередного гауптштурмфюрера или штурмбанфюрера любую скучную для “отпускника” обязанность: считать, скажем, лопаты или проверять выгребные ямы. Он вставал вместе с охраной за полчаса до подъема и ревностно помогал выгонять из бараков на работу этих “ленивых русских”. Он не ложился спать, пока не обходил с полицейскими все бараки и не добивался тишины и порядка. На него можно было положиться: парень явно старался. По собственной инициативе старшина заставлял целые бараки вставать до подъема и заниматься физзарядкой — ха, ха, так их, Порик, погоняй их по дорожкам, пусть попрыгают и побегают на холодке! Старшина, казалось, не мирволил к тем, кто не выполнял нормы: они у него из голодного пайка третьей категории не вылезали. А работящих — поощрял, заносил их на “Доску почета”. “Работать, — повторял старшина, — работать надо, сволочи, лежебоки, дармоеды!” И еще одно — инструкция. Чертова инструкция Берлина, по которой начальству лагерей вменялось в обязанность “стимулировать лагерников”: создавать спортивные кружки и проводить вечера художественной самодеятельности. Какие кружки — после 12-часового рабочего дня эти скоты еле ноги ворочают! И петь и плясать их не заставишь ни карцером, ни поркой, ни, наоборот, тройной пайкой хлеба. Что они там мудрят, в Берлине! Исполнение берлинской инструкции в лагерях превращали в добавочный резерв издевательств: в лагерях плясали, пели; плясали — под палкой, пели — сквозь слезы. А спортом занимались по новейшей методике: “Или на спортплощадку — или в карцер”. Но — не в Бомоне. У Порика — на самом деле плясали и даже иногда на самом деле пели. В редкие выходные дни или в официальные фашистские праздники в Бомоне не валялись на нарах и не слонялись без дела, как в других лагерях, — нет, старательный Вася Порик выгонял всех, как положено по инструкции, бегать, прыгать, петь и плясать. Хоть снимай тут фильм, фильм о вольготной и веселой жизни восточных рабочих в Германской империи: вон как они гоняют по ровному подметенному плац-аппелю в мяч, как старательно вытанцовывают гопак! Вот их прибранные, чистые бараки, известочкой присыпанные отхожие места… Порик, поистине, — сущий клад! В его преданности можно не сомневаться. Он связал себя с гестапо самой надежной цепью: кровью своих единомышленников. Порик — выдает. Выдает своих. Выдает на расправу немцам. Он зорко следит за толпой рабов и выуживает из нее скрытых коммунистов и саботажников. Чуть ли не ежемесячно по его доносам отправляют очередного обнаруженного врага на допрос в управление гестапо Арраса. Ни один из них не вернулся в Бомон. Порик — правая рука гестапо. Ему верят, с ним советуются — и не только лагерное начальство, но и власти департамента. Порик — свой человек в комендатуре Арраса: образцовый, показательный старшина, толковый советчик по “русским делам”. Что ж, оберштурмфюреры и штурмбанфюреры в своей признательности к Порику не одиноки. Гестаповское и эсэсовское начальство — как бы вы были поражены, если б узнали, что ячейка коммунистической партии в лагере Бомон тоже считает, что Порик действует правильно! В парторганизации Бомона уже девять человек. Это по ее поручению Порик наводит в лагере чистоту: количество заболеваний сразу снизилось… Это от имени бомонских большевиков Порик проводит спортзанятия, спевки и вечера: замечательная форма оргработы, собраний, совещаний, подбора кадров! Это ячейка подсказывает старшине Бомона, как выделять и морально изолировать от массы немецких холуев — “передовиков труда”. Дотошно и скрупулезно подсчитывает парторганизация запасы еды в Бомоне и намечает способы тайного и справедливого ее распределения. Девять лагерных коммунистов и десятки французских вне лагеря разрабатывают виртуозные способы конспирации для Василия Порика. Кто должен, а кто не должен из актива выполнять норму, тоже решается по-разному: старосты бараков или полицейские внутрилагерной охраны, подобранные старшиной, обязаны для конспирации выполнять норму почаще, — до тех пор, пока Порик не вступит в контакт с нормировщиками… Приводился в исполнение хитроумнейший план: обратить распорядок лагеря и нравы гестаповцев против них самих же. Каждая деталь бомонского бытия как бы выворачивалась на антифашистскую изнанку — в пользу подпольщикам и во вред немцам. С этой стороны враг никак не мог ожидать подвоха. Не мог же ведать начальствующий “отпускник”, что и за полчаса до подъема, и за час после отбоя, на осмотрах, физзарядках, в столовой, в самой конторе, наконец, Порик делает одно и то же: спасает людей, лечит людей, подбирает, сплачивает и организует. Об истинном лице Василия знают очень немногие. Для сотен бомонцев Порик продолжает оставаться немецким лакеем, опасным и страшным предателем. Если таинственные руки подбрасывают больному на нары пайку хлеба, если листовки и сводки Совинформбюро оказываются в карманах робы, если ни с того ни с сего ослабевшего вконец человека вдруг освобождают на день — два от труда, — то все это, конечно, делается вопреки старшине. А старшина, как всегда, орет на подъемах, лебезит перед немцами да разглагольствует о преданности Германии и добросовестном труде. И иногда по его указке приходят гестаповцы и увозят человека в Аррас. Вот эти “выдачи” были для Порика самой тяжелой работой. Тут приходилось играть с огнем, рисковать напропалую. Если речь шла о доносчике, докладывающем самому старшине, это упрощало дело. Время от времени кто-то из подлецов — обычно из числа завербованных — лез к старшине лагеря с доносом на товарищей, обращаясь, так сказать, в первую инстанцию предателей. О доносчике Порик сообщал в парторганизацию, а ликвидация проводилась немецкими руками. Порик докладывал по начальству о раскрытии очередного “смутьяна”, начальство делало обыск в бараке, находило у подозреваемого под соломой на нарах или в карманах куртки листовку, нож, а то и патроны (подбрасывать их подпольщики научились мастерски) и увозило “смутьяна” в Аррас. Тяжелее было ликвидировать гестаповскую агентуру. Обнаружить такого агента удавалось изредка, да и то лишь потому, что был Порик у гестапо в доверии. А когда агент устанавливался точно, приходилось разыгрывать целый спектакль, дабы уверить немцев, что агент их — двурушник, и работает одновременно то ли на англичан, то ли на де Голля, то ли на коммунистов. Так сурово и умно оберегал Василий Порик бомонское подполье. Пусть лишь горстка людей знала пока настоящих вожаков Бомона, но во все поры лагерной жизни уже проникало их влияние. Охраняемые Пориком от провала, подпольщики обучали бомонцев тем навыкам саботажа, которым их самих научили французы. “По неизвестным причинам” слетали с рельсов вагонетки с углем, загромождая надолго узкие подземные пути, то и дело “рвались” шланги для сжатого воздуха и затихали отбойные молотки; пыль таинственным образом попадала внутрь электромоторов и сложных шахтных механизмов. Все восемь шахт, что были в сфере Бомона, лихорадило. Добыча угля уменьшалась и уменьшалась. Несмотря на всю энергию старшины лагеря, несмотря на его угрозы, наказания и речи, выработка круто упала. Порик успевал всюду. Посреди нескончаемых обязанностей, сокращая до предела время сна и отдыха своей двойной жизни, буквально на глазах у немцев Василий стремительно вел к концу подготовку главного Дела: дела военного. Из самых лучших, самых нетрусливых ребят формировался первый отряд. Это была почти сплошь необстрелянная сельская молодежь. Их следовало учить с азов: с военных азов. Перед подъемом и после отбоя, шепотом, полупоказом им объяснили устройство пистолетов, винтовок и автоматов, учили, как вставлять запал в гранату, как выбирать цель, как разбирать замок… Редчайшие вначале, драгоценнейшие экземпляры оружия, полученные от французов, Порик хранил пуще глаза. По двое, по трое, отпущенные на три — четыре часа из лагеря по разрешению старшины, безусые украинские парни где-нибудь на окраине городка торопливо собирали и разбирали винтовку, ревниво поправляя друг друга. Они пока все знали в теории: что такое перебежка, что значит “ближний бой” и как минировать железнодорожное полотно. Они в сжатом виде слушали тот курс наук, который преподносили Порику командиры, а потом окопы сорок первого года. Ни один из них не знал, к чему их готовят. Дело делалось тайное, лишних вопросов не задавали: надо — скажут. Про себя думали ребята, что, может, вскоре выведет их Порик из лагеря в маки — понаслышались они о маки от французов; а то, может, настанет день, они подымут восстание, захватят лагерь, пойдут на Аррас, возьмут Аррас, ворвутся там в гестапо и… — мало ли что бродило в юных головах ненавидящих и угнетенных людей. Но никто, даже французские руководители, не догадывался о замыслах Порика, потому что сама мысль, вынашиваемая им, показалась бы фантастической любому политическому деятелю, а тем более деятелю подпольному, как бы ни был он опытен, решителен и дерзок. Лесные партизаны Белоруссии… Степные партизаны Украины… Горные — на Кавказе, в Крыму, на Карпатах, Балканах, Аппенинах. Морские партизаны Норвегии и Греции… Подземники крымских каменоломен… Городские отряды Краснодона и Варшавы, Киева и Праги, Парижа и Милана, что днем лояльно стояли у станка, а ночью — у пулемета… “Железнодорожная война”, или “битва на рельсах”… “Автомобильная война”, или “война шоферов”… Но и среди великолепного калейдоскопа народной изобретательности, подпольного отчаянного остроумия, на фоне всей второй мировой войны все-таки выделяются, все-таки стоят особняком, партизанские группы, руководимые Василием Пориком. Потому что у Василия Порика партизанской базой стал… лагерь рабов. Порик не вывел сразу своих хлопцев в маки, нет; он не поднял восстания в Бомоне. В лагере все оставалось по-прежнему: подъем, кусок эрзац-хлеба, серые людские ленты медленно расползаются по шахтам, через двенадцать часов — миска брюквы, полицаи выгоняют очередную группу петь и плясать, перед сном, в дальнем углу Порик, покрикивая, гоняет бегом “физкультурников”, проверка, отбой, темнота. И только тогда, часа через два после отбоя, начинается вторая жизнь Бомона. Быстрые легкие тени скользят из бараков к проволочному ограждению. Тени стекаются в группы по три-четыре человека. Кто-то шепотом коротко отдает команду. У каждой группы свой лаз через проволоку. Группы молча проползают под проволокой. Группы молча, шаг в шаг за старшим, сходятся к рощице в километре от лагеря. Молча получают оружие. Сдвигаются плотнее. На секунду вспыхивает электрический фонарик: партизаны должны видеть своего командира в лицо. Он гасит фонарь, командир, он коротко и ясно указывает, что третья группа недопустимо задержалась у проволоки и что онадолжна отрепетировать сбор с точностью до минуты. Потом командир замолкает, снимает зачем-то с плеча автомат и, глубоко вздохнув, начинает объяснять сегодняшнюю задачу. Он волнуется, командир, они все волнуются, чапаевцы, тридцать пять партизан отряда имени Чапаева, — ибо сегодня их первый большой бой. Французы просили встретить эсэсовцев: полубатальон выведен на отдых с Восточного фронта. Полубатальон движется на автомашинах, в час ночи он должен прибыть в Аррас. Тридцать пять украинских партизан встречают полубатальон немцев на французской дороге. Они впервые все вместе: до этого действовали по отделениям. Они в темноте толкают под бока друг друга: “О, Петька, и ты, значит…” “Разговорчики!” — одергивает Порик. Он слушает французских связных: в первой машине едет начальство, в последней — тоже. Связные тяжело дышат: они на себе принесли пулемет… Они молча лежат на обочине, тридцать пять “восточных рабочих”, схваченных далеко-далеко отсюда в облавах, привезенных за тридевять земель, таких одиноких тогда, таких потерянных, — а теперь лежат с автоматами, ждут полубатальон эсэсовцев, найденные, собранные, обученные войне прямо в немецком концлагере, — им найденные, им, Василием Пориком, приведенные сюда, на французскую дорогу, встречать двести кадровых солдат на автомашинах. Эти солдаты возвращаются из России, может быть, как раз из-под Винницы, — ведь не в окопах же держали эсэсовцев, держали против партизан — может, держали в самой Соломирке, прямо в самой Соломирке. Это война, это мировая война, и отдыхать от украинских партизан двести кадровых убийц едут по французской дороге, которую уже перекрыли украинские партизаны, к которой уже примеряется из пулемета Василий Порик. И они въезжают в зону обстрела — длинная колонна темных грузовиков, их борта прошивает из пулемета Василий Порик, по ним бьют тридцать пять стрелков кинжальным огнем, прицельным огнем: с кратчайшей дистанции очень удобно прицеливаться из темноты в освещаемую фарами колонну. Они кричат, немцы, от боли, от неожиданности и от страха, — да, да, и от страха, потому что это страшно, когда в глубоком тылу, на давно покоренных французских дорогах темнота сечет пулеметом, неведомым, тайным пулеметом по двумстам дремлющим людям. Они кричат, они бестолково мечутся между машинами, а по ним бьют, грохочут гранаты, трупы валятся под колеса и свисают с бортов. Бьют особенно старательно по передней и задней машинам, по офицерам, чтобы некому было остудить панику и прекратить суету на освещенной дороге. И офицеров нет, офицеры убиты первыми, но это — немцы, это опытные солдаты, кто-то уже подает спасительную команду, кто-то уже рассыпает их цепью вдоль колонны, кто-то расстанавливает пулеметы. Они очень быстро опомнились, и сейчас, сию минуту, ударят в ответ из полутораста автоматов и трех пулеметов, ударят по вспышкам в темноте, по тридцати пяти украинцам, двум французам и командиру. Тут решают мгновения. Опыт профессионала находит секунду, чтобы сразу всем замолчать, отодвинуться и исчезнуть в темноте, — и пусть эти, на дороге, бьют впустую по сторонам, не решаясь подняться, давая время уйти. А потом — пускай встают, пускай бросаются в погоню, подымают на ноги все войска департамента, всю полицию, всех шпионов и осведомителей, пускай оцепляют города и деревни и проверяют подряд тысячи человек — ничего не найдете, следа не найдете, потому что вам и в голову не придет, где нас надо искать, потому что мы уже подползли обратно под проволоку, мы уже лежим на нарах в бараках, — в ваших бараках, в вашем концлагере, под охраной ваших солдат. Утром нас пинком подымут с нар, как всегда, сунут по куску вашего эрзац-хлеба, старшина Бомона опять наорет на нас, как всегда орет по утрам, — невысокий круглоголовый парень, ваша правая рука, — наорет, нагрозит, и нас погонят по вашим шахтам, молчаливых, покорных “восточных рабочих”, погонят по шахтам, где французы шепотом расскажут нам о каких-то смельчаках, напавших ночью на эсэсовцев и перебивших сорок человек. Через двенадцать часов нам дадут вашей брюквы, и вскоре тенями мы вновь соберемся у проволоки, и вскоре вновь перекроем дорогу, взорвем мост, пустим под откос поезд, подожжем склад, — и даже не пробуйте нас отыскать, во веки вечные не догадаетесь, как нас искать: мы оказались умнее вашей системы, мы переиграли вас в кровавой и беспощадной игре! Да, подобного не могло предположить даже гестапо. Чтобы партизанский отряд базировался в лагере, чтобы партизаны жили под фашистской охраной, на немецком пайке, чтобы возглавлял их сам старшина лагеря — такого ни раньше, ни позже не случалось. Изнутри, незаметно для враждебного глаза перерождалась жизнь Бомона. Внутренняя организация лагеря перешла в руки подпольщиков, на всех мало-мальски значимых местах сидели свои: кухня, полиция, старостат, нормировщики… От ФКП к чапаевцам был прикреплен товарищ Фреде. Каждому отделению отряда придали одного — двух французских связных, они же — переводчики и проводники. Отряд Порика стремительно “осваивал” департамент, один из важнейших департаментов Франции, подпирающий и как бы лихорадочно сооружаемый Атлантический вал, и бельгийскую линию обороны, и подступы к самой Германии. Добрая треть эшелонов Империи на север и запад и обратно катилась по рельсам Па-де-Кале, а по его шоссе шли чуть ли не все передвижения войск. И на рельсах и на шоссе стал отряд Порика. Мины и засады перерезали дороги, мины и взорванные мосты обрубали колеи. Порик впервые вывел своих ребят в “дело” осенью 1943 года, а к концу его на счету у чапаевцев числилось 13 пущенных под откос поездов, 170 разбитых вагонов, из которых 48 — с танками и орудиями, 5 сожженных военных складов, 20 перехваченных в пути военных грузовиков, срезанный телеграфный кабель исчислялся уже километрами, а количество убитых и раненых немцев приближалось к тысяче. Это был блестящий счет для полусотни партизан, если еще вспомнить об условиях, в которых они находились. Это было тем более здорово, что за полгода отряд не потерял ни одного человека: так неожиданны были его засады, так ловки были его отходы и исчезновения. Неуловимый отряд окружался легендами, ибо тайна окутывала его. “Партизанский отряд, носящий имя легендарного полководца Чапаева, действует в одном из районов севера Франции. Этот отряд считается одним из лучших партизанских отрядов”, — писала подпольная парижская газета. И гестапо знало об этом не меньше, чем парижские подпольщики: уж кто-то, а сами-то немцы прекрасно разбирались, какой отряд лучше, какой хуже. В секретных, после войны обнаруженных гестаповских сводках тщательно отмечался каждый боевой шаг чапаевцев. “Почерк” Порика опытные немецкие разведчики научились отличать быстро, и день за днем констатировали: тот же отряд взорвал мост, тот же отряд напал на обоз, тот же отряд, тот же отряд, тот же отряд… Но где он, отряд? Как такое боевое и сильное подразделение могло возникнуть, как и где оно пряталось днем, кто его снабжал, кормил, кто, наконец, им умело, квалифицированно командовал? Гестаповцы впадали в бешенство от своего бессилия хоть что-то узнать и понять! Действительно, немцам почти невозможно было узнать правду о чапаевцах, а узнав — поверить в нее. А Порик торопится, Порик понимает, что долго так продолжаться не может, что рано или поздно, через полгода, а то и завтра кого-то из партизан, убьют в бою, труп опознают немцы — и кончик ниточки будет у них в руках. Дерзкая мистификация долго не продержится, любая случайность раскроет ее. Уже сейчас трудно лечить раненых, выдумывать им болезни и прятать от немецких врачей, — а ведь раненых станет с каждым днем больше. Люди истомлены, днем — в шахтах, ночью в засадах, на сон времени почти нет. Кто-то проговорится, кто-то невзначай обмолвится — а ведь не всех гестаповских шпиков разоблачили. Конечно, сам Порик пока еще вне подозрений, но некий шумок уже идет по лагерю: шила в мешке не утаишь… Но что будет — то будет, пока же надо быть ко всему готовым. Порик начинает выводить подпольщиков из лагеря: добавочная тема о “побегах неблагодарных скотов” для его дежурных речей. Он выводит их по одному — вывести сразу многих нельзя: им где-то надо жить, им чем-то надо питаться. ФТП распределяет их по французским семьям, однако тут нужна большая подготовка и архиосторожность: шахтерские поселки под строжайшим надзором гестапо. Парни из Бомона поначалу остаются в шахтах: не подымаются на поверхность, и все. В шахтах, в старых заброшенных штольнях прятать людей легче. Еду приносят французы, и это тоже не больно-то легко, ибо Франция сидит на голодном пайке, и отрывать средства от скудных семейных бюджетов, чтобы кормить лишние рты, — проблема. Посему бомонцы категорически возражают против бесплатности: по ночам беглецы рубят для французских опекунов уголь, чтоб помочь им заработать, а французы за это часть зарплаты отдают нашим. “Подпольными” деньгами чапаевцы расплачиваются с “кормильцами”. Это довольно сложная система расчетов, но упростить ее не позволяет рабочая гордость украинцев: им хочется содержать себя самим, не быть нахлебниками. Французы уважают подобные чувства; глубоко под землей, занятые, казалось бы, смертельно опасным делом, исключающим внимание к пустякам, пролетарии двух стран пишут при мерцающем фонаре маленькие точные расписки, дошедшие до нас: “Получено от Шарля 35 франков за уголек”, “Получено от Сергея два франка за хлеб и три франка за маргарин”… Да, они пишут друг другу расписки, будто нет у них занятия поважней, пишут, потому что охранять чистоту и достоинство души — тоже очень важное занятие. Иногда партизаны захватывают деньги в бою. Тогда их раздает сам Порик и лично получает расписки, тоже хранимые потом по многу лет во Франции: “Получено от Громового 200 франков на еду”, “Получено от Громового 70 франков для оплаты хлеба”. Он строго ведет партизанскую кассу, тут вопрос принципиальный, никакой распущенности, мы не бандиты, как пишут немцы, мы — солдаты и находимся на военном довольствии. Отряд раздвоился: часть в лагере, часть — вне его. Отряд стал боеспособней: теперь операции проводились и днем. К слову говоря, днем действовали не только “внешние” партизаны, но и лагерники: Порик выдавал им пропуска. Немногим приходилось воевать с немцами с немецким пропуском на войну — бомонцы и тут оставались оригиналами. А круг сужался. Вслепую, на ощупь, но гестапо набредало на кончик ниточки. Странная сила парализовывала поиски гестаповцев: исчезали бесследно лучшие осведомители, в последнюю минуту скрывались от ареста заподозренные. Так скрылись из Бомона Алексей Крылов, Михаил Бойко, Марк Слободинский, — буквально за час до ареста. Гестапо еще не знало, что сила, соперничающая с ним, именуется Василием Пориком. Марк с людьми прячутся сначала в заброшенных шахтах, потом в землянках леса Люше. Вскоре ЦК компартии вызвало Марка в Париж: опыт Бомона следовало распространить. Создан Центральный Комитет советских пленных; представитель геройских бомонцев возглавил его. Связь Бомона с Парижем пошла теперь по двум каналам: через ФТП и ЦК советских пленных. А Порик торопится и торопится. Круг сужается, он чувствует это кожей. Большая часть отряда уже выведена из лагеря, намечены все явки и пароли, созданы склады оружия. Да, гестаповская машина разведки приближалась к цели. Намечен арест Адоньева: Адоньев бежит. Один за другим намечены аресты активистов Бомона — и все они успевают бежать. Самый плохой разведчик способен заподозрить измену, когда слишком много случайностей приходит на помощь противнику. Случайно за час до ареста бежит один, случайно за час до ареста бежит второй, третий… Шел февраль 1944 года. 23 февраля, в годовщину Красной Армии, Порик решил показать немцам, что и в Па-де-Кале эту дату помнят. Отряд имени Чапаева в полном составе среди бела дня атаковал немецкий противовоздушный пост: несколько зенитных батарей и сотни солдат. Бой был крут и короток, одиннадцать немцев убито. Как всегда, отряд немедленно “исчез”: партизаны по шахтам и квартирам, лагерники — в городе, скромно прикрепив на грудь пропуска с разрешением. Порик вернулся в лагерь, У барака его ждала Галя Томченко. Рассказ ее был тревожен: она подавала обед начальнику лагеря и слышала, как он пересказывал бельгийцу, командующему охраной, доклад агента о связи Порика с подпольем. Начальник докладу не верил, но особое наблюдение за старшиной приказал установить. К вечеру пришел дядя Яким. Он слышал уже, как бельгиец посвящал в эту историю своего помощника. Бельгиец тоже не верил агенту, но тоже считал, что последить за Пориком нужно. Круг сужался. Следовало бежать немедленно, но он не мог себе этого позволить. Требовалось вывести из лагеря всех подпольщиков, иначе их схватят, когда он исчезнет, вынести оружие, прокламации, запасы еды, документы, максимально используя напоследок свои старшинские права. И он день за днем с холодеющим сердцем заметал следы. Его могли схватить уже в любую минуту, но нельзя же бросить на расправу других. Как обычно, он рисковал до конца, до последней черты предмогильной. И только выведя из лагеря всех, кого нужно, и вынеся все, что нужно, ранним мартовским утром 1944 года, по-обычному выпустив лагерников на работу, по-обычному сдав начальству ведомость по раскладке еды на день, он постоял немного у барака, вытер почему-то начисто руки платком и прошел в ворота мимо бельгийца, буркнув по-обычному: “В шахту. Проверка”. Он отодвигался от Бомона шаг за шагом, не оглядываясь, чувствуя внимательный взгляд охранника, упершийся ему в спину.Глава третья СТОИМОСТЬ ГОЛОВЫ
ПАРНИ ДЕЛАЮТ ПОЛИТИКУ
Исчезновение Порика из Бомона произвело фурор. Всемогущему гестапо влепилась звонкая пощечина! Над этим-то учреждением смеялись! Целым, живым, с полной победой вышел из недр гестаповских ловкий солдат Порик, вышел сам и вывел людей! Он ушел чисто — эсэсовцы быстро установили это. В Бомоне не осталось никого, кто бы мог что-нибудь конкретное рассказать о бывшем старшине. Какие-то подпольные кадры сохранились в Бомоне — немцы не могли этого не понимать, — но они на сей раз состояли сплошь из самых незаметных, самых тихих, да и те в лучшем случае назвали бы только имя и приметы связного — большего им знать не полагалось. А Порик ушел — шагнул из Бомона и растаял где-то во Франции, где-то среди сорока миллионов французов, сам и его партизаны. Исчез Порик — и пока в застенках Па-де Кале идет работа по его розыску, пока приметы его изучают специалисты, он “со товарищи”, в тайнике, спокойно и методично, разрабатывает свои планы. “Со товарищи”… Они почти все украинцы, и почти все из-под Винницы. Вот они — сотоварищи. Мишу Бойко привлек к работе еще Слободинский. Был Миша на вид совсем мальчишкой, но огромного роста, почему и звали его французы “Гранд Мишель”. Но вел себя мальчишка отчаянно: в одиночку, ни с кем не советуясь и не считаясь, саботажничал как мог, а поскольку мог, конечно, неумело, то был неоднократно бит, пытан, насиделся без пищи и в карцере. Воля ячейки повернула бесшабашного Бойко к умной борьбе. Стал Миша бойцом в первом отделении Порика, одним из первых чапаевцев. Тут впору пришлась и стихийная его храбрость, и безудержная ненависть к фашистам, и лукавая украинская сметка, помноженная на воинское умение, полученное от Порика. Быстро стал он из рядового бойца командиром лучшего отделения отряда, как и Ваня Федорук. Федорук не походил на Бойко, был посолидней — и возрастом и повадками. Храбрость его была иного сорта: обдуманней, логичней, настойчивей. Немного медлительный, не больно разговорчивый, он подкупал методичностью мышления, целеустремленностью действий. И народ у. него в отделении подобрался похожий: немногословные, упорные, прочные ребята — на них Порик мог полагаться, как на себя. Бойко и Федорук очень удачно дополняли друг друга, их группы были ударной силой Порика, на самые опасные, рискованные операции он шел с ними. На особом положении находилась группа Александра Ткаченко. Воспитанник Киевского университета, Ткаченко знал французский и немецкий, а перемолвиться с пятое на десятое мог еще на двух — трех европейских языках. Потому к нему направляли иностранцев, он, так сказать, командовал чапаевской интербригадой: французами, поляками, греками, югославами, даже тремя немецкими офицерами, посаженными в концлагерь за отказ служить Гитлеру и сбежавшими оттуда. Правда, неукраинцы в отряде имени Чапаева были и в других отделениях, а чем дольше воевал отряд, тем больше их становилось. Вскоре Порик начал привлекать их сознательно, а потом рассылал эмиссарами от чапаевцев по другим лагерям. Юзефа Калиииченко он направил в район Камбре-Валансьенн к Антеку Кросту. Там было три лагеря; довольно быстро Юзеф и Антек создали в лагерях подпольные комитеты. Но тут Кроет случайно познакомился с солдатами из роты, охранявшей склад оружия. Кроет был лесником, и склад разместился в его участке леса. Эмиссары Порика обнаружили, что в роте есть люди, настроенные антифашистски и мечтающие связаться с партизанами. Это был более чем золотой клад: склад оружия! Его обчищали постепенно: чтоб не обнаружить себя. Он оказался богатеем: пулеметы, гранаты, боеприпасы! Шел строгий учет и строгая дележка: столько-то — чапаевцам, столько-то на нужды всего подполья. Порик ходил гордым: вот мы французам и вернули часть долга! А когда немцы спохватились и начали перебрасывать роту в другое место, вывели в партизаны и часть солдат роты: большинство — подальше от Па-де-Кале, где их знали, но кое-кого, проверив, по возможности глубоко, взяли в отряд. Так у Юзефа Калиниченко появилась своя группа: восемнадцать человек. Долгим был путь к Порику Алексея Крылова. Еще когда прятался в Вильи-Монтиньи Марк Слободинский, свел он Крылова с маки. Крылов понравился французам, французы — ему. Был он в числе тех трех налетчиков, что днем напали на вокзал города Ланса, обезоружили охрану, захватили 135000 продовольственных карточек, сумели их вывезти, целый автомобиль, и остаться в живых при этом. О “ланском рейде” писали в газетах, а тысячи французских хозяек, кормивших тысячи скрывающихся подпольщиков, хоть ненадолго перевели дух, набрав продукты по карточкам. Через несколько дней после Ланса крыловская группа маки напоролась на немцев. Был ранен и захвачен в плен командир — Жорж. Ночью восемь партизан ворвались в немецкий военный госпиталь, Крылов ручным пулеметом сдерживал охрану, а семеро других искали по палатам Жоржа. Но Жорж ослабел от ран так, что и нести его было нельзя, тем более — под огнем. Семеро французов поцеловали в последний раз своего командира, потом кто-то из них сменил Алексея у пулемета, а Алексей по-русски, трижды приложился губами к холодным, жестким губам умирающего: “Идите, ребята, спасибо”, — прошептал Жорж, закрывая глаза. А потом — провал. Молодежь группы без разрешения руководства сделала налет на станцию Лэвет, — там тоже хранились продовольственные карточки. Партизан окружили, взяли в плен, пытали. Один не выдержал — заговорил. По явкам и конспиративным квартирам арестовали почти весь отряд. Осталось на свободе трое, Крылов среди них. Трое — это не так мало, но один пистолет на троих — маловато. Все-таки решили напасть на мэрию Дрокура и в мэрии разжиться и оружием, и деньгами, и документами. Перед самым нападением зашли в кафе рядом с мэрией, заказали двойной кофе для крепости духа. Хозяйка чуть внимательней обычного посмотрела на одного из французов, уходя за портьеру наливать кофе. Телефон, как оказалось, тоже стоял за портьерой. Когда трое прихлебывали кофе уже со дна, немцы вбежали в помещение. В первую же минуту убили обоих французов, Крылов выпрыгнул в окно и ушел, израненный, от погони — был он очень вынослив, но гибель все-таки ждала его, неминучая, без жилья, еды и бинтов. Ему повезло и тут: люди Порика подобрали его. Вскоре он командовал отделением. Вот такие люди и многие другие, подобные им, составляли ядро отряда имени Чапаева. Все они относились к Порику с искренним уважением, мало того — с любовью. Он был самым опытным, самым умным и самым бесстрашным среди опытных, умных и бесстрашных. Он их собрал, он дал им цель и надежду и научил драться за цель и отстаивать надежду. В этом двадцатитрехлетнем мужчине уживались и черты эдакого “батьки”, типа Чапаева и Пархоменко, и воля политработника, и хватка кадрового командира. “Сумеете командовать отделением…” — вспоминал он начальника харьковского училища. И повторял это всем командирам отделений. И учил их, учил беспрерывно, — учил военной самостоятельности. И потому отделения разрастались. По существу, это были уже не отделения, а целые отряды. Вскоре у Федорука, скажем, считалось больше тридцати, у Ткаченко больше пятидесяти… Они, в свою очередь, дробили отряд на отделения, а отделения вновь отпочковывались в отряды. Рамки чапаевцев раздвигались, вместо отряда рождалась система отрядов. Так или иначе, к нему тяготели отряды и подпольные комитеты всего Севера Франции. Французы называли Порика Базилем, Василием Бориком, наши — лейтенантом Громовым. В подвале писчебумажного магазина сестер Рене и Сомоны Виолэ в Париже, где заседал ЦК советских пленных, имя Порика упоминалось частенько. Чем шире раздвигался отряд имени Чапаева, тем пристальней вглядывались в него враги и друзья. Руководителем советских партизан всего Севера Франции Василий был назначен давно, поскольку он и был им фактически. А весной 1944 года по предложению Гастона Ляроша лейтенанта Порика кооптировали в члены ЦК. Шел тогда Василию двадцать четвертый год.***
Вся громада маки и партизан, все эти тысячи сильных мужчин могли делать свою смертную необходимую работу потому, что их связывали между собой, стягивали воедино мальчики и молоденькие девушки, именуемые связными. Детям и девушкам было легче передвигаться по Франции. Только они, не вызывая подозрений, имели возможность часто “ходить в гости”, им не надо было бояться облав или тревожиться о документах. Если можно вообще говорить о личной безопасности во время мировой войны, то хоть краем она, безопасность, прикрывала именно детей и девушек. Так кто же они, неприметные и полузабытые маленькие герои и худенькие героини? У Порика было двое постоянных личных связных, не считая, конечно, многих временных. Первый — пятнадцатилетний француз Жильбер — долговязый веселый подросток, влюбленный в Порика и боготворящий его. Расторопный, толковый отрок, Жильбер на лету схватывал суть Васиных франко-украинских приказаний. Вторым связным была Галя Томченко. Она немного знала польский язык и в Бомоне, работая при кухне, выдавала себя за полячку Анну. “Полячка”, однако, хорошо “спивала” по-украински, на этом-то они и познакомились. Галя вначале побаивалась грозного лагерного старшину и пугалась, получая от него странные приказы по раздаче еды. Потом начала кое-что понимать и вскоре узнала о своем первом воинском задании: принести в лагерь патроны от французов. Вместе они ушли из лагеря, вместе воевали в Па-де-Кале. Их связывало большее, чем военная судьба, после войны хотели они пожениться. А вот типичная биография еще одной связной, Антонины Хаблюк. Семья была украинская, горняцкая, строгая, давно проживавшая во Франции. В 1935 году вступила Антонина во французский комсомол, а чуть только заневестилась — война. В 1943 году семья приняла по предложению Сопротивления бежавшего из лагеря Алексея Грященко. Прожил Грященко у Хаблюков мало: восемь дней, но юноша он был привязчивый и до последнего дня потом посылал весточки Антонине. Последний день его, однако, был недалек. В группе из двадцати человек пошел он к бельгийской границе: там леса росли погуще. Группа дошла до места, но тут же столкнулась с немцами, была разгромлена, взятых в плен долго били, пытали и опять разбросали по лагерям. Грященко сбежал вновь, ночью пробрался к Хаблюкам, попрощался, сказал, что немцев ненавидит, и ушел туда же, к бельгийской границе, в новую группу. Дошел, был принят и погиб через неделю в бою. А к Хаблюкам прислали Алексея Крылова. От них он и ушел в маки и после всех своих приключений снова был направлен к Хаблюкам, — теперь уже от Порика. Долго была Антонина связной у Крылова, хотя и перебрасывали ее из отряда в отряд. Вот, скажем, отрывок из ее отчета: “По заданию командира отделения, Михаила Бойко, я направилась в Дурж за пулеметом. Меня сопровождал командир отделения Иван Федорук, направлявшийся туда же за гранатами. С запиской от Адоньева я получила от Василия Порика разобранный пулемет”. Как видите, в коротком отрывке — и Федорук, и Бойко, и Адоньев, и сам Порик. Так и ходила девчушечка из города в город, от дома к дому, рискуя собой ежечасно, потому что лишь за два месяца, если подсчитать, перенесла она на себе 12 пулеметов, 3 пистолета, 4 гранаты и без счета листовок, приказов и прокламаций.“МЫ ЗДЕСЬ, ВЫ НАС СЛЫШИТЕ?”
Немцы, разъяренные и озлобленные, бросили немалые силы на розыски Порика и его отряда. Теперь, когда уже стало известно, что же это за таинственные партизаны орудовали целый год в Па-де-Кале, задача казалась гестаповцам сравнительно нетрудной. Кого ловить — ясно, где ловить — ясно. Понятно, сбежавшие украинцы постараются спрятаться поглубже, но аппарат рейха умеет вытягивать врага из самых глубоких нор. Чем-нибудь себя обнаружите, вы, не знающие языка и территории, вы, оказавшиеся в безлесной стране, где прятаться можно только по городам и селам, а там каждый дом на учете. Линия фронта от вас далека, не пытайтесь создать видимость, что вы сбежали из Па-де-Кале, что вас нет здесь: вам некуда бежать, вокруг вас со всех сторон Европа Третьего рейха. А Порик и не бежит. Они совсем не для того ушли из Бомона, чтобы прятаться. “Мы здесь, вы нас слышите? — спрашивают чапаевцы. — Мы здесь, мы взорвали депо станции Били-Монтиньи, и двадцать четыре шахты не работали, пока издалека не пригнали сюда новые паровозы. Мы напали на жандармское управление в Монтиньи-ан-Гоэле. Мы подняли на воздух военные заводы предателя во Фревене, работавшие на немцев. Горит ваша автобаза в секторе Фревен — Шапель, горят баржи с углем на каналах всего департамента, взорваны электролинии высокого напряжения — и опять простаивают шахты, оставшиеся без энергии! Мы здесь, мы не думаем уходить, вы знаете нас — и все-таки мы неуловимы, мы почти не несем потерь! Попробуйте нас взять — вот мы!” Уйдя из лагеря, Порик поселяется в Энен-Льетаре в семье Оффров. У них он прижился прочно. Гастон Оффр и его жена Эмилия, люди пожилые, относились к Василию прямо-таки по-родительски: следили, чтобы вовремя ел, ругали, когда поздно приходил, пришивали пуговицы. Полушутя-полусерьезно Вася называл своих хозяев мамой и папой, как мог помогал по дому, с удовольствием погружаясь в милые детали семейного быта. Правда, бывал он дома мало. Во всех операциях отряда он, естественно, не мог участвовать, по и те, в которые он не ходил, тоже так или иначе разрабатывались и планировались им же. Отряд рос, сложнее и сложнее становилось руководить его раскинувшимися крыльями. Приходилось держать в голове сотни имен, десятки адресов, тысячи разнообразнейших сведений, от которых зависела и его жизнь, и жизнь его людей, и жизнь немцев. Кроме того, нельзя было забывать и о Бомоне. Еще месяца за два до ареста Адоньев писал в ЦК советских военнопленных: “В лагере Бомон произошло много изменений; много народу ушло из лагеря, хотя еще многие там остаются, но они уже стали другими, советского духа”. В ночь с 23 на 24 апреля бывший старшина Бомона вел на Бомон свой отряд — бывших бомонцев. Это был предметный урок гестапо: мы не ушли, мы опять приходим в Бомон, приходим как хозяева, карать и наказывать. Федорук нацелился на караулку, Бойко — на канцелярию, третья группа быстро-быстро обрубала линии связи, чтоб никто не пришел на помощь охране. Работали споро, местность как-никак изучили прекрасно. Федоруковцы не вломились, наоборот — прилично и достойно вошли в караулку, трое стали вокруг пирамиды оружия, остальные без лишних слов прикладами подымали с постелей сонных рексистов[13]. Люди все были знакомые, помнили друг друга в лицо. Поэтому особых мер принимать не пришлось: охрана лагеря довольно организованно поплелась в карцер в нижнем белье, где и была до времени и во избежание шума заперта. Но в канцелярии Бойко наткнулся на сопротивление; дежурный по лагерю успел выстрелить. Из окон дома администрации забили автоматы. Тишину сохранить не удалось. Пришлось открыть огонь, полетели гранаты. Братва из бараков, предупрежденная, не высовывалась; лагерникам предложили не вмешиваться, во-первых, чтобы не мешать и собой зря не рисковать, а во-вторых, чтоб не дать повода к позднейшим репрессиям. Сопротивление было подавлено за полчаса, но теперь уже торопились: пальбу, без сомнения, услышали в городе, с минуты на минуту могли нагрянуть жандармы или эсэсовцы. Запылала в костре вся лагерная документация, денежный ящик вскрыли, забрали марки, франки, продовольственные карточки. Когда сложили вместе трофеи: боеприпасы, оружие, сигареты, одежду, пишущую машинку, еду, одеяло, обнаружилось, что груз собрался изрядный. Федорук доложил, что с четырьмя доносчиками покончено: фамилии их были известны заранее, прямо в бараках их пристрелили. Порик приказал прикрывать отход отделению Бойко, остальные нагрузились трофеями. Шли быстро, спеша, как всегда, раствориться в темноте ночи раньше, чем враг спохватится. Не успели. Уже у самого города навстречу вынырнул немецкий патруль. Степан Кондратюк успел выстрелить раньше всех: трое немцев упали. Патруль отхлынул было и вновь надвинулся. “Кто с грузом — уходить, бегом, остальным — прикрыть!” — крикнул Порик. И сразу же рядом в темноте кто-то застонал громко. “Кто ранен?” — “Вася, это я, Кондратюк, попало в обе ноги”. — “Выносить Степана! Отступать! Перебежками!” Били будто прямо в уши немецкие автоматы, цепочка трассирующих пуль пронеслась, словно шепча, над плечом; но — темнота, темнота, они погружены в темноту, они отходят, огрызаясь редкими очередями. И немцы их не преследуют, немцы боятся преследовать в темноте, они, наоборот, замолкают и тоже погружаются в темноту — за подмогой ушли, наверное. …— Кто со мной? — Колесников… — Гашецкий… — Павлушка… — Куда понесли Степана? Никто не видел? Эх, черт, а может, еще кого зацепило? Надо проверить. А ну — за мной! Четверо осторожно возвращаются к месту боя. Небо светлеет, проступает склон холма — с него и спустился немецкий патруль. Гильзы… теплые еще… Авторучка немецкая… кто-то из них уронил. Трупов нет. Раненых нет. Все ушли, всех унесли. Проходит еще полчаса. Четверо собираются у подножия холма. Ну, кажется, все в порядке, пора уходить. Порик с сожалением оглядывается на алеющий восток. — По адресу не успеть, светает. Ладно, идем в Дрокур, это ближе всего, есть там один адресок, человек верный. Рассветет — оглядимся. Четверо шагают к Дрокуру, и ни одному из них не дано знать, что его ждет в Дрокуре.ВТОРАЯ СМЕРТЬ ВАСИЛИЯ ПОРИКА
Павлушку наставлял сам Василий. Подробно объяснил — как идти, что узнать, как и когда вернуться. Выпустил, запер за ним дверь. Хозяина дома не было — работал в утренней смене. Хозяйка тихо сидела в углу, шила что-то, не подымая головы. Страшно ей… Ничего, хозяюшка, скоро уйдем. Было тихо. Ганецкий спал, облокотившись на стол, Колесников, насвистывая, разбирал и чистил пистолет. Прошло полчаса, час… Стало совсем светло. Попросили у хозяйки иголки, нитки. Растолкали Ганецкого, сели штопать одежду. Хозяйка, потоптавшись за ширмой, вышла в пальто, робко сказала, что идет в булочную. Колесников и Ганецкий тревожно посмотрели на Порика. Ничего, ничего, ребята, не волнуйтесь, тут люди наши. Доброго пути. Хозяюшка, по кусочку-то дашь хлебца гостям? “Чего там Павлушка возится?” — проворчал Колесников, скусывая нитку. “Да уж…” — буркнул Ганецкий. Порик промолчал. Павлушке в самом деле пора было возвращаться. Его так и звали в отряде — Павлушка, семнадцатилетнего круглолицего паренька звали ласково, немного снисходительно, потому что был он мал, суетлив слегка, добр, услужлив- эдакий ладный теленочек. Ночью он принял бой впервые, до этого на операции его не брали. Немцев он на заданном маршруте вряд ли встретит, а встретит, обыщут, дадут по шее, отпустят. Придет, куда ему деться, задержался… Ганецкого Порик знал плохо: вывели его из Били-монтиньского лагеря совсем недавно. А Колесникова Порик любил. Они дружили: два Василия, одногодки, оба из-под Винницы. В отряд вступил Колесников в числе первых, своего отделения не имел потому, что числился заместителем Порика, да и на самом деле не раз его замещал. Дружба у них была не назойливая, но так как-то получалось, что в бою Вася Колесников оказывался где-нибудь неподалеку от Васи Порика. Порик вдруг улыбается. Ганецкий вопросительно вскидывает голову. Порик объясняет: а ведь они трое дорого стоят. За выдачу рядового партизана немцы предлагают 5000 марок, а за Порика — 20 тысяч. Всего, значит, 30 000 — даже без Павлушки. А если считать весь отряд, то и миллион наберется. В копеечку обходятся они Третьему рейху, в копеечку! Трое, посмеиваясь, вспоминают приказы военных комендатур. Стоимость их голов росла из месяца в месяц. Летел под откос состав с танками — немцы накидывали по тысяче за голову. Рушился мост — новый приказ опять набавлял цену. Заочная распродажа партизанских голов не выходила, правда, за рамки приказов: французы наших не выдавали. Прошел еще час. Они уже не смеялись, они кончили шитье и сидели молча, напряженно вслушиваясь. Павлуши не было; где-то за стенами домика копилась беда: теперь они уже чувствовали ее. Стукнула дверь, голос хозяйки окликнул их, и Порик опустил автомат. Женщина волновалась: в очереди она слышала, что ночью был налет на бомонский лагерь, и весь район набит войсками: ищут партизан. Она и сама видела: кругом патрули, ходят по домам, останавливают на улицах… Так… Павлушка нарвался на патруль… Ну и что же? Его не должны были задержать! Может, просто боится вернуться? Боится “привести хвост”? Тогда Павлушку не дождаться… — Выпейте горяченького! — Хозяйка ставит на стол три чашечки эрзац-кофе и кладет три тоненьких ломтика хлеба, намазанных маргарином. Они благодарно улыбаются ей: очень хочется есть. Уже почему-то торопясь, они жадно пьют кофе, быстро и взглядывая друг на друга. Беда приближается, беда бродит вокруг… И тут Порик догадывается: пистолет! Кому он отдал пистолет? Трое понимающе замирают. Порик зло кусает губы. Сам виноват! Почему не проверил? Мальчишка из молодечества не оставил, уходя, пистолет, взял с собой. Ох, дурень, дурень! Конечно: его обыскали, нашли пистолет… — Собираться! Они лихорадочно натягивают куртки. Обкусанные ломтики хлеба валяются на столе. Хозяйка, прижав руки к груди, большущими глазами наблюдает за ними. И вдруг она вскрикивает, закрывая ладонью рот. И сейчас же они тоже услышали: гудят моторы. …С чердака было видно, как быстрая цепь немцев обтекает квартал. Из переулка выскакивали грузовик за грузовиком, из кузовов высыпали солдаты и бежали в цепь, стиснувшую квартал. По переулку к дому шло человек двадцать немцев, двое волокли под руки Павлушку. Лицо у Павлушки было окровавленное, опухшее, ноги заплетались. — Вот, ребята, — сказал Порик. Три побледневших лица сблизились перед окном чердака. Потом все трое отпрянули. И, не теряя ни мгновения, Порик скомандовал: — К бою! Хозяйку он сам вывел за дверь; ноги ее не ходили. “Беги, — повторил Василий, — беги, успеешь”. Подтолкнул в спину, она закивала-закивала простоволосой головой и засеменила, побежала, помчалась к задней калитке. Один автомат — два диска; один пистолет — 15 патронов — это все. Ганецкому Порик велел лечь на пол: “Сменишь, если что”. “Если — что?” — спросил Ганецкий и сразу же понял, кивнул. Колесников с пистолетом стал у кухонного окна, Порик с автоматом — у комнатного. Через двадцать лет, весной 1964 года, старый дрокурский шахтер Август вспоминал: “Никто в нашей округе не забыл этот день и никогда его не забудет”. Ревели моторы автомашин. Порик — здесь, он окружен, его приказано взять живым, в крайнем случае — мертвым, но обязательно взять, грозного, трижды опасного Порика, взять или убить во что бы то ни стало и сколько бы партизан с ним ни было. Этот мальчишка говорит, что там только трое, — врет, конечно, не могут три человека столько времени защищаться против роты солдат, да, против роты. А их не трое, их фактически двое, потому что Ганецкий уже дважды ранен и не может заменить, “если что”. Их двое, двое Василиев, они перебегают от окна к окну, мечутся по маленькому шахтерскому дому, стреляя из всех четырех окон. Оба хорошие стрелки, а дворик так мал, палисадник так низок, и немцы лезут так плотно, что оба почти каждым выстрелом попадают в цель. Здесь — Порик, берите его живым или мертвым, но не за марки, его голова неоценима во франках не в 20 000 и не в 200 000, его голова стоит столько фашистов, сколько он сможет убить шестьюдесятью четырьмя автоматными пулями, а он хороший стрелок, а дворик узок, а фашисты бегут кучно: не надо и прицеливаться… Вас четыреста, а он скоро останется один, с минуты на минуту останется один; Вася Колесников уже держит пистолет левой рукой, правая перебита, Вася Колесников стреляет, нелепо закинувшись туловищем в сторону, ибо ему трудно сохранить равновесие, пол уплывает из-под ног, Вася Колесников ранен в плечо, в голову, в грудь, и все-таки еще стреляет в кухонное окно, надежный солдат и надежный друг Васи Порика. Потом Колесников кричит: “Вася!” — Порик оглядывается, видит лежащего без сознания Ганецкого, видит прислонившегося к стене Колесникова, и Колесников машет ему левой рукой с пистолетом, и кричит: “Прощай, Вася!” — и стреляет себе в висок последней из пятнадцати пуль. И Порик тоже кричит что-то такое неразборчивое, кричит — и стреляет, кричит — и стреляет, ему и повернуться некогда еще раз, некогда, опять немцы лезут через палисадник, надо стрелять, благо что руки крепки, хотя и сидит уже пуля в плече, жжет в плече, и кровь натекает на приклад автомата. И вдруг — тишина. То есть тишины нет, стреляют со всех сторон, но под ухом у него тишина, не стучит автомат, не дрожит у плеча приклад: второй диск кончился. И пока он, оторопев, сколько-то секунд старается собраться с мыслями, как по сигналу, подымаются торсы врагов над палисадником, как по сигналу, спрыгивают солдаты на землю, и бегут — справа, слева, спереди, сзади, — бегут к дому. Он высоко подымает над головой автомат, разбивает его о подоконник, швыряет обломки в подбегающих солдат и выскакивает из домика. У самой двери он сталкивается с двумя солдатами, он просто расшвыривает их, дико выкрикивая нечто с перекошенным лицом, сбивает их с ног. “Ура!” — кричит он, ревет, громко ревет “Ура!”, задвигает за собой дверь на щеколду и стоит в полутьме, оглядываясь. Он не рассуждает, он полон ярости и гнева, он не хочет сдаваться, он готов рвать зубами, ногтями, грызть, кусаться, но не сдаваться. А в дверь ломятся. Василий, скользя, взбирается узкой лестницей на чердак, выглядывает в окно. Его видят снизу, и тоже яростно кричат снизу, тоже полные ненависти к живучему, неуничтожимому врагу, кричат с земли немцы. И сапоги их грохочут по лестнице. Вася нагибается, на полу чердака кстати стоит ящик с пустыми бутылками. Вася сильно кидает бутылку, вторую, третью вниз по лестнице, кто-то падает на лестнице, а Порик выдавливает раму и вылезает на крышу. В полный рост стоит Порик на крыше, и недолго они смотрят друг на друга: Порик, крича и кидая вниз черепицу из-под ног, и десятка два солдат во дворе, вскидывающих автоматы. Порик прыгает на скат, рядом — соседняя крыша, он перепрыгивает на нее, за ней — другая крыша… Если бы уйти по крышам! Но — поздно: длинно-длинно снизу строчит пулемет, Порик пошатывается, пулемет прошивает ноги, подгибаются ноги Порика, и он падает с крыши на мостовую. Он приподымается на локтях, все еще живой, он смотрит, как много ног в сапогах, много пыльных сапог приближаются к нему, он хрипит какие-то слова им навстречу — и падает на землю.Глава четвертая “ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…”
ОН У НАС ЗАГОВОРИТ!
Грузовик с грохотом ворвался во двор тюремного госпиталя Сент-Катерин. Из сопровождавших машин высыпали эсэсовцы. Автоматы к животу, короткая команда. Несколько десятков здоровых, вооруженных мужчин напряженно следят, как из кузова грузовика переваливают через борт многократно раненное тело Порика. Он настораживает их и таком — этот живучий, удивительно живучий человек, два года водивший их за нос и едва схваченный четырьмястами солдатами. А он еще жив, он пытается опять что-то кричать, пытается оторвать чужие руки, несущие его через двор, но сил уже нет, откидывается назад голова. Так, в беспамятстве, его вносят в госпиталь. Водворяют на рентгеностол. Гаснет свет, врач склоняется над экраном рентгепоскопа, а четверо эсэсовцев кладут в темноте руки на молчаливое тело — тут ли он? Врач оттирает ваткой тонкие зябкие пальцы. Да, четыре пули: левая нога, левая рука, оба плеча. Будет ли жить? Врач пожимает плечами. Очень крепкий организм, сердце и легкие не задеты, но — четыре пули… А он опять на миг приходит в себя. Он, рыча, сдирает с левой руки повязку, рывком спрыгивает со стола на пол, касается раненой ногой пола и вновь падает без памяти. Побледневший врач снова пожимает плечами… Вы же видите — весьма сильное тело. Может, и выживет. Под него подтаскивают носилки. Санитары и гурьба эсэсовцев медленно тянутся по коридору. Начальник гестапо Арраса, высокий энергичный фашист с властным холеным лицом, указывает дорогу. Нет, не на первый этаж, выше, на самый верх, к крыше, чтоб никаких путей к побегу! И в камере-палате гестаповец лично наблюдает, как укладывают Василия на специальную койку, как к ней приковывают руки, бессильные, окровавленные руки, приковывают толстой звонкой цепочкой с черным блестящим замком. Раненый в беспамятстве, он сипло, громко дышит, по избитому, забрызганному кровью лицу быстро-быстро скатываются к подбородку капли пота. “Молчит, — гестаповец засовывает пистолет в кобуру. — Ничего, он у нас заговорит!” Гремятдвери, гурьба эсэсовцев шумно удаляется по коридору. Они идут в буфет, они проголодались, они спешат подкрепиться — их ждет новая работа. От грохота двери Порик приходит в себя. Воспаленными глазами обводит потолок, стены, взгляд опускается на спинку кровати, на цепочку, тянущуюся от спинки, прослеживает ее — и упирается в руки, лежащие под черным блестящим замком. Откуда-то издалека наплывает какая-то странная мысль, мучительная, навязчивая, непонятная мысль. И вдруг он ощущает ее: это его руки, они лежат у него на животе, это он прикован к кровати. И мгновенно — Дрокур, пронзительно кричит Колесников, бег по двору, крыша, пулеметная очередь, и мостовая, стремительно приближающаяся к нему, падающему с крыши. Он — у гестаповцев. Сейчас будет допрос. Василий закрывает глаза. Болит все тело, остро, жгуче, беспрерывными рвущими вспышками. Конвульсивно дергается голова, — он тянет на себя цепь, и от боли в левой руке падает опять в обморок. Но его приводят в себя. Они вернулись из буфета, они подкрепились перед работой, и высокий немец (“начальник гестапо Арраса”, — проносился в голове) о чем-то спрашивает громким требовательным голосом. “Ты — коммунист, специально присланный для коммунистической работы?” — наконец слышит Василий. Очень не вовремя, но он слегка улыбается. Вот как — меня прислали специально? Они уверены, что имеют дело с профессиональным разведчиком, они не допускают мысли, что их переиграл он, Вася Порик, парень из Соломирки. Что ж, пусть боятся нашей разведки. — Да, я коммунист, специально присланный для коммунистической работы, — громко, как ему кажется, отвечает Вася. Гестаповцы переглядываются. Так и есть, этот неуловимый Порик — разведчик. Он заслан из Москвы, из спецшколы МГБ, понятно. — Террорист, — не то спрашивает, не то утверждает высокий немец. — Нет, террором не занимаюсь. Я — советский патриот! Высокий делает движение рукой. Два солдата отделяются от стены. “Пятьдесят”, — говорит высокий. И его бьют, пятьдесят раз бьют шомполами, бьют по ранам, прямо по ранам, бьют по всему телу, с оттяжкой, размеренно, аккуратно считая вслух. А он кричит. Он ругается на русском, немецком и французском, он проклинает их и смолкает внезапно. Но его опять приводят в себя. “Поговорим, патриот”, — улыбается высокий. Василий медленно двигает головой. “Нет, — говорит он, — нет, не поговорим, нет, не поговорим, нет, не поговорим”, — натягивает цепь, упирается ногами в спинку кровати и полувскакивает, сейчас же сдернутый назад цепью. Высокий делает движение рукой. “Еще десять”. А потом — еще десять, и еще, и еще, и уж счет потерян, и тело не чувствует ударов, они уже не могут прорваться через всеобщую огромную, всепоглощающую боль. Он уже не открывает глаза, он только дергает головой и шепчет распухшими, потрескавшимися губами: “Нет, не поговорим…” Офицеры в черных мундирах вдумчиво рассматривают голое исполосованное тело. Они знают пределы человеческой выносливости не хуже, чем знал Лайола. Тело-ключ к мозгу. Рвать тело, жечь его, вгонять в него иглы, резать его мышцы, чтобы болевые центры мозга отключили бы все остальные, чтобы ни мысли, ни принципов не осталось ни в единой клетке мозга, чтобы вопль болевых центров наполнил бы их все, наполнил бы незадавимым телесным “Бо-оо-льно!!!” И в этом вопле растворяются принципы и убеждения, мировоззрение и мораль, растворяется воля, — и ни о чем, кроме как об избавлении от боли, не думая, тело спасает себя предательством. Но вот это тело били железными палками по открытым ранам, по живому больному мясу, а оно сопротивляется. Воля не отступает, воля жива, принципы и убеждения продолжают властвовать над плотью, не подчиняясь ей. Как выносливы эти русские! Какой стойкий враг! О, они еще не знают, эти специалисты-изуверы, с кем они имеют дело. Воля Василия Порика еще не раз поразит их. Они и подумать не могут, что ночью у него хватит сил сломать замок у цепи. Да, ранеными руками он будет гнуть и мять стальной замок, зубами помогая, полночи в абсолютной тьме растягивать, ломать сталь, и, наконец, раздавит замок о железные ножки кровати. Он снимет цепь, встанет в темноте с койки, он сумеет дойти до окна, дотянуться до него, вцепиться в решетку и трясти, трясти, всем телом наваливаясь, рвать железные прутья из кирпичных пазов, пока не подогнутся ноги и он не упадет у стены на пол. Так его и найдут утром гестаповцы: раскованного, у почти выломанной решетки, без памяти. И они станут пороть его шомполами опять, долго, несколько человек зараз. И только к вечеру высокий аррасский гауптштурмфюрер пнет ногой неподвижное тело Василия Порика и прикажет: “Он еще жив. Тут его не оставлять. В крепость Сен-Никез, в камеру № 1”.ГВОЗДЬ
Два метра длины, полтора ширины. Под потолком — узкое отверстие, затянутое частой решеткой. Параша в углу. В противоположном — топчан, на топчане — солома. Он лежит на соломе седьмые сутки. Первые три дня давали миску вареной моркови, но вот уже четвертый день ничего не дают. В камере почти темно, только стена с окном чуть посветлее других. Он лежит в крепости Сен-Никез. Отсюда не убегают: два ряда стен высотой в шесть метров, вдоль них — патрули с собаками. Второй этаж… Он лежит — сидеть он уже не может. Его не перевязывали, его не лечили никак и ничем. Дважды его пытались допрашивать, но он почти сейчас же теряет сознание. Бред его радостен. Он бредит Соломиркой, он сажает березы, поит лошадей, ныряет в пруд с берега… Он жив в бреду, наяву он уже почти мертв. Одесский парад, море внезапным синим горизонтом, море и солнце… Спортзал училища, и он, сильный, ловкий Вася-Вася-Василек, взлетает на турнике под самую крышу… Худой юркий физрук впервые улыбается: “У вас наладится, Порик, у вас хорошие данные”. И надевает значок ГТО прямо на левое плечо, большущий, тяжеленнейший значок ГТО. Как он давит грудь, этот значок! Прожигает гимнастерку, жжет кожу, все прожигает, давит, душит… скорее сорвать, а он, как прирос, не снимается… …Полумрак. Вася слышит свое дыхание. Что-то теплое течет по груди. Это не значок, откуда взяться значку, это болит рана, он сам в обмороке разбередил ее. За стеной опять крик — каждую ночь за стеной кричат. Там камера пыток? На второй день, когда он еще мог передвигаться, Порик выглянул как-то в окно. Через двор брела кучка заключенных, их подгоняли автоматчики. Вскоре из-за стен докатились автоматные очереди. Вот лежишь ты, Василий Порик, в темном, набитом измученными людьми здании, вокруг тебя бьют, пытают и расстреливают людей, работает, работает машина смерти, вши ползают по твоим ранам — раздолье здесь вшам! — и не вырваться тебе, Вася, не вырваться! Неужели конец? Неужели они возьмут верх? А что можно сделать? Опять наползает забытье, и он вдруг поет Интернационал, он громко говорит с матерью, он кричит: “Смерть немецким оккупантам!” И часовой у двери с суеверным ужасом оглядывается на этот хриплый клокочущий голос и покачивает головой: “Ох, русские, ох, русские!” Скрип двери. Долговязый гауптштурмфюрер склоняется над топчаном. “Плох”, — по-французски отвечает на немецкий вопрос чей-то голос. И ломаная французская фраза немца: “Через двое суток, если не придет в себя, расстрелять”. Расстрелять… Двое суток, сорок восемь часов осталось тебе, Вася! Двое суток. Ребята, франтирёры мои, через 48 часов вашего командира убьют! Так вот и убьют? Поставят к стене и — убьют? И он побредет через двор, как те, недавние? Или его понесут? И он покорно двинется к смерти? Как овечка? Как агнец божий? Как сломленный раб? Но что делать? Хоть бы оружие, хоть какое-нибудь оружие, пусть палку, камень, он бы ударил, пусть бы только ударил, но не овечкой плестись на расстрел!.. А за стенами Сен-Никеза через агентурную службу Сопротивления уже знают: через двое суток — расстрел Громового. За стенами Сен-Никеза от поселка к поселку, от городка к городку на велосипедах несутся связные. Там многоопытные подпольщики, сжав виски, лихорадочно перебирают все варианты. Нападение на Сен-Никез? Невозможно, невозможно! Охрана утроена, немцы начеку, пулеметы сухо осматривают с вышек окрестности. Не подойти, не подползти: пикеты, обходы, разъезды… И даже если проникнуть в камеру, Порик прикован и цепью и слабостью, он не уйдет, его придется нести на глазах у пулеметчиков… Так, значит, погиб Базиль? Пусть спорят психологи о пределах способностей человеческих. Пусть спорят философы о возможности или невозможности возникновения безвыходных ситуаций. Василий Порик, приговоренный через 48 часов к расстрелу, доказал, что воля человеческая неисчерпаема, что главное — не сдаваться, ни в коем случае не сдаваться, вопреки логике, здравому смыслу, вопреки себе самому, не сдаваться, и тогда стихия событий уступит, раздвинется перед напором воли, воля переорганизует, переиначит ее — и щелочка выхода распахнется! Порик увидел гвоздь. Вернее, видна была только шляпка. Судя по ней, гвоздь должен был быть длинным и толстым. Зачем его вбили в стену, в старинную стену крепости? Когда его вбили, кто? Но его вбили, вот торчит его ржавая шляпка, это не бред, это в самом деле шляпка гвоздя, настоящего железного гвоздя! Смотрите, Василий закрывает глаза, открывает — шляпка на месте, опять зажмуривается — шляпка на месте, здесь на самом деле, взаправду есть гвоздь! Порик откидывается на топчан. Голова свежа и чиста, удивительно чиста и свежа. Ясные, точные мысли, как в лучшие дни учебы. В камере есть гвоздь. Гвоздь есть оружие. Оружие есть надежда. Гвоздь — против тюрьмы Сен-Никез, пулеметов, ста автоматчиков, двух этажей, двух стен? Да, да, да! Теперь — не торопиться. Беречь силы. Он долго лежит на спине, ровно и ритмично дыша. Он готовится встать, он собирает уцелевшие атомы своих сил. Встать — это первое. Только без резкостей… Физрук хвалил его брюшной пресс, ну-ка, брюшной пресс, ну-ка, ты нынче главный работник, подыми мой торс, брюшной пресс, усади меня, я не могу помочь, у меня руки закованы. Так… Теперь поворот на месте и опустить ноги на пол. Опираться надо на правую, но и левой не избежать… Раз! Он стоит, качаясь, ничего не видя от боли, но стоит — и делает первый шаг. К счастью, их нужно немного. Да, тут шляпка большого, великолепного, могучего гвоздя. Он гладит ее пальцами, звякают наручники. Он обшаривает камень вокруг гвоздя и внимательно смотрит на ногти. У него только ногти — единственный инструмент. Шаги часового останавливаются у двери. Шаг, шаг, шаг! Приговоренный к расстрелу франтирёр лежит без движения. Не поет, не кричит. Кончается. Не доживет до расстрела. Дверь затворяется. И опять — шаг, шаг, шаг. Порик снова встает. Вот он, гвоздь, он уже чуть-чуть приоткрылся, шляпка уже не прижата к камню, шляпка сидит на крепкой железной шее, ее можно пощупать, можно лизнуть — железное тельце оружия. День угасает. Откуда берутся силы? Где-то около одиннадцати ночи он последний раз потянул гвоздь зубами — и тело, как гибкий умный рычаг, спружинило, напряглось, — и пошел, пошел гвоздь, с тихим шорохом вылез из каменного гнезда, длинный, холодный, прямой. В нем было сантиметров девять, старый, солидный гвоздь, слегка проржавленный, — на такие вешают тяжелые полки, колуны, большие картины. Гвоздь — домашняя вещь, уютная, удобная. Сегодня он заменит трехлинейку, карабин, парабеллум, гранату, сегодня гвоздь станет шпагой, мечом, кинжалом, орудием спасения. Порик отдыхал около часа. Покричал часового. Попросил пить. Тот включил из коридора свет, принес жестянку с водой. Порик, держа жестянку обеими скованными руками, короткими глотками тянул воду. Рассматривал. Высок, значит, надо, чтобы нагнулся. Автомат через грудь — скинуть сразу нельзя. Кинжал у пояса — это удачно. Пистолета нет, часовым не положено. Пора. План ясен. В соседней камере весь день тихо, она пуста. Надо, чтобы этот здоровенный нагнулся. Надо! Что ж, нагнется. Больно, конечно, хотя и не очень: болевые центры погашены волей. Василий, кривясь, сдирает тряпку с развороченного пулей плеча. Нагнется, — как не посмотреть на такую рану. Пора. Помогая зубами, Порик отжимает гвоздем защелки наручников. Сгибает и разгибает правую руку. Он спокоен, он совершенно спокоен. Часовой мнется у двери. Русский смертник зовет опять, неугомонный дьявол. Воды, воды, — скоро тебе не надо будет воды. Конец смены далек, сколько еще раз он станет кричать, русский бандит! Вот он — часовой. Вот его недовольное лицо. Ну, в чем дело? Какая рана? Я не доктор! Плечо? Немец чуть отшатывается: ему не часто приходилось видеть подобное. Он нагибается совсем немного, слегка лишь склоняет голову, — и правая рука Порика бьет гвоздем в белый, беззащитный, открытый висок часового. Удар верный!.. Часовой падает прямо вперед — и рука Василия зажимает его мычащий рот. Другая рука выдергивает кинжал из чехла. Тело — на топчан… Прикрыть одеялом… Ключи от камер… В коридоре пусто. Будто делая что-то привычное, интуицией понимая, какой ключ — к чему, Порик запирает свою камеру. Замирает на мгновение перед соседней дверью, она почему-то даже не заперта. И вдруг слышит снизу маршевую немецкую песню. Какое счастье — у них, кажется, пьянка! Он проскальзывает в камеру, запирает ее изнутри и сейчас же спохватывается. Автомат! Он не снял с часового автомат! Поздно. Кинжал с ним. У него гвоздь, кинжал и не меньше получаса времени. Может быть, час. Гвоздь, кинжал, час.МЕРТВЫЕ СПАСАЮТ ЖИВОГО
То, что он уже совершил, — выше нормальных человеческих сил. Четырежды раненный, много раз пытанный, измученный, голодный, безоружный… А он — на ногах, он ступает сильно и мягко, его мозг логичен и скор, мускулы ощущают беспрерывный приток энергии. Но то, что ему еще предстоит совершить, выходит за всякие пределы нормы. Есть нечто в действиях героических необъяснимое обычным путем именно потому, что героические действия необычны. Это нечто — уникальное состояние духа героя, взлет слитых воедино и друг друга подстегивающих умственных, нравственных и физических сил к их самому высшему небу; если хотите — в их космос, а космос, как известно, бесконечен. На этом взлете арифметический отсчет человеческих способностей, выражаемых обычно в килограммометрах физического или умственного напряжения, исчезает, тут входит в силу иной счет, высшая математика душевных и телесных прозрений. И мы останавливаемся изумленные, мы с искренним недоумением разводим руками — как же может Василий Порик совершать действия, непосильные даже для очень здорового, очень сильного человека! …Решетку он вынул быстро. Там, где остались пазы от нее, камень крошился легче. Дальше пошел “основняк”, спрессованная за долгие годы глыба. Он вгрызался в нее кинжалом, он бил концом сверху, потом подпиливая выщерблины с боков, сдувал, сгребал пыль, мелкие камешки, и они падали под ноги, больно прокатываясь под стопой. Василию казалось, что камень просто упрямится, камень дурит — ну что ему, жалко, что ли, ну какое ему дело! Он разговаривал шепотом со стеной, как с животным, то ласково, то зло: “Ну, скорей, не задерживай, не дури, ломайся же, сволочь, ломайся!” А камень равнодушно молчал, медленно, лениво обсыпаясь на ноги под неумелым нажимом кинжала, приспособленного для резания людей, но не крепостей. Дважды какие-то пьяные охранники протопывали к его недавней камере, хохоча, кричали через дверь непристойности, описывали, к какому рву они скоро поставят русского бандита и как его там будут жрать черви. Василий замирал, — без испуга, страха не было, нисколечко не было страха, а просто следовало не шуметь. “Где это Вилли запропастился?” — спросил кто-то. “Надрался, наверное, с ребятами и пишет письмо своей девке в Бреслау, что ты, его не знаешь!” — ответили ему. “Какое счастье, что у них пьянка! Ко рву вы меня не поставите, ко рву не поставите, несите ко рву вашего Вилли, — он больше ничего не напишет своей девке в Бреслау. Еще сантиметра два, хотя бы еще два сантиметра… Кинжал затупился, эрзац-сталь, немецкая дрянь, режь, собака, я не встану у рва, режь, еще бы немножко шире!” Расползалась, расползалась дыра, разъезжались углы и простенки, неровный четырехугольник, вырезанный ножом в камне, в ширину уже почти равнялся плечам. Решетка была ржавая, прут выдернулся и согнулся легко. А выдержит он? Э, да что там, другого нет. На топчане одеяло, в дело одеяло. Брюки, куртка, рубашка, кальсоны… Ну, кинжал, напоследок! В темноте он резал на длинные полосы все матерчатое, что нашлось. Резал и связывал, связывал и сплетал. Одеяло — старье, гниль, кальсоны тонки, черт! В два раза все равно не хватит. Хоть бы кусок веревки! Была середина ночи, густая предрассветная темь. Он закрепил свой ржавый крюк из решетчатого прута в ямку, выдолбленную в подоконнике, намотал на правую руку “канат”. Коротко вздохнул. И втиснул плечи в отверстие. Когда в обыденный мир врывается необычность, в мире начинаются странные ошибки, неожиданные срывы. Предосторожности, выработанные в расчете на средний уровень, оказываются никчемными, препятствия — бессильными, охрана — парализованной. Поэтому отчаянным предприятиям часто сопутствует поразительная удача, — просто потому, что те или иные “предохранители” не рассчитаны на “отчаянный режим” и просто-таки не успевают сработать. Вот он болтается в воздухе на фоне тюремной стены, Вася Порик, скрипя зубами от боли, перебирает руками по “канату” — где же ты, охрана? Где прожектора, где собаки, где постовые? Сто охранников, вы не видите? Он спустился на землю, вот он стоит, полуголый, открытый, хватайте его, ему некуда скрыться! Он даже не слишком торопится, он дергает за “веревку”, он хочет сорвать свой крюк с подоконника и никак не сорвет! Несколько долгих-долгих бесконечно страшных секунд он теребит “канат”, крюк отцепляется, крюк падает и ударяется о землю, громко ударяется о землю, — неужели вы ничего не слышите? Он перебегает ваш двор, так вот, в открытую берет и перебегает ваш укрепленный и неусыпный двор, он подбегает к стене, останавливается, широко размахнувшись, кидает на вершину стены свой крюк, а крюк падает обратно, второй раз падает обратно, в третий раз ни за что так и не зацепляется наверху… Учтите, идут ваши последние минуты, это очень упорный человек, Василий Васильевич Порик, он опять бросит свой крюк, он все-таки зацепит свой крюк за верх, он лезет по “канату” на стену, — ну, где же вы, великие специалисты Гиммлера, чему вас учили в подберлинских школах, он же уйдет, Порик, уйдет с четырьмя ранами в теле, взберется ранеными руками и ногами на стену, — где же вы, гестаповцы, где ваши ищейки? Вот они. Вася пластом лежит на гребне стены и смотрит вниз на свою приближающуюся смерть. По внутреннему проходу между стенами идет патруль — два эсэсовца и собака. Они подходят, они весело болтают о пустяках, они прямо под Пориком, он заглядывает сверху в чуть блеснувшие от фонаря черные промоинки дул, и они проходят, неспешным шагом проходят под ним, даже не взглянув вверх, не увидев, не услышав, не почувствовав Васю над своей головой! Они заворачивают, у них за спиной Вася сползает по “канату”, опять сдергивает крюк и опять кидает его наверх — на вторую стену. Он ползет теперь долго, он по сантиметру продвигается выше, пальцы его не слушаются, они отказываются сжиматься, они работали сегодня за двадцать, за пятьдесят, за сто пальцев! И Порик, упираясь ногами в стену, немножко отдыхает и карабкается вверх в обхват, обнимая “веревку”. И на последнем спуске, уже с той, с нетюремной стороны, в последнюю минуту побега не выдерживает окончательно гнилое одеяло в “канате”, пальцы ли, — и Василий летит вниз, в черноту, падает и теряет сознание. Сколько он пролежал там? Уже светает. Нечто холодное между пальцами. Порик поворачивает голову. Его рука конвульсивно сжимает черные окровавленные волосы трупа. Он упал в ров для расстрелянных. Тела убитых приняли на себя живого, — и спасли его, спружинили, иначе он бы разбился, падая со стены. И привели его в себя — известью, негашеной известью присыпанные сверху; она, обжигая голую кожу, вывела Васю из обморока. Последним посмертным вкладом товарищи по оружию послужили ему. К этому рву его и хотели поставить. И он здесь, он во рву, он лежит среди мертвых, но — живой, все-таки живой, он ушел, он победил, спасся. Нет, еще не спасся, светает, он еще у самой стены, в двух метрах от Сен-Никеза, в восемнадцати километрах от Энен-Льетара, ему идти восемнадцать километров, почти нагишом, восемнадцать населенных, застроенных, охраняемых километров! И — погоня, вот-вот начнется погоня! Порик встает. Поскользнувшись на чьей-то ноге, выходит из ямы. Что-то шепча, судорожно полукивает-полукланяется рву с расстрелянными.УЖЕ ПОЧТИ СВЕТЛО
Уже почти светло. Еще минут сорок — и потечет по дорогам волна велосипедистов-рабочих, трудовое людское скопище. Порика увидят. Он торопится. Напрямик — через лесочек, через поле, через овраг, по ручью, чтоб сбить со следа собак. В овраге он было застрял, но, извалявшись в глине, выбрался. Возня в овраге слегка согрела его. Он шел, как хорошо налаженный робот с заданной программой широкого поиска пристанища. Немцы остались в Сен-Никезе, вокруг жила Франция. Ненавидящая бошей Франция. Воюющая тайно с бошами. Помогающая врагам бошей. Он столько раз полагался на французов, — случайно знакомых, почти незнакомых, на первых встречных даже, что знал: вероятность провала невелика. Девять из десяти французов его не выдадут. Трое из пяти ему помогут. Восточный славянин был па территории союзного племени, чтящего кодекс военного гостеприимства. Где-то здесь должна была быть деревушка, удобно упрятавшаяся в сторону от шоссе и железных дорог, и Вася шел напрямик к ней, хотя и не знал пути. Он ни с кем не был знаком в деревне, а ведь там могли быть и предатели, и доносчики, и трусы, и полицейские. Порик не вспоминал об этом, будто некая справедливость судьбы не допускала, чтоб он “погорел” сейчас, когда самое трудное уже позади. Но в первом деревенском домике, к которому он вышел, его ждала неудача. Старая крестьянка, распахнув калитку, увидела полуголого, чудовищной наружности человека, захлопнула ворота и побежала к дому, кого-то зовя. Василий круто повернулся и быстро зашагал через поле наискосок к желто-красной крыше, выглядывающей из-за садика. Здесь ворота были незаперты. Он толкнул их и вошел. На ступенях дома, только еще закрывая за собою дверь, стоял высокий пожилой крестьянин в рабочих штанах, без шапки, с ведром в руке. “Вышел доить скотину”, — понял крестьянин Порик. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Хозяин сошел с крыльца. Василий шагнул вперед. В карих глазах француза на миг мелькнула растерянность. И сейчас же исчезла. Он оглядел Порика с ног до головы, твердо заглянул ему в глаза, медленно повел головой в сторону серой громады Сен-Никеза, еще видной на горизонте. — Оттуда? — спросил он. И Порик, не раздумывая, сказал: — Да. — Проходи. Стукнула дверь, метнулось впереди пугливое женское лицо, и тепло обжитого, с вечера топленного жилья окутало сразу ослабевшее тело. Сквозь неожиданную дремоту он смутно слышал, как за стеной быстро говорила что-то женщина, и мужчина в ответ произнес какие-то повелительные слова. Потом его толкнули в плечо, и он, вскинув голову, увидел перед собой стакан молока и кусок белого хлеба. Он залпом выпил молоко, сунул в рот корку и так и заснул, не прожевав. Но хозяин, крепко держа Васю за локоть, повел его в небольшую комнатку. На полу стоял таз с горячей водой. “Нагнись!” — велел француз и стал лить воду на слипшиеся Васины волосы. Вдвоем они обмыли черное тело, и француз принялся бинтовать раны Порика, все время расталкивая его, засыпающего. Когда он кончил, как довел Васю до сеновала, Порик уже не помнил. Он проснулся под вечер, на сене, укрытый ватным одеялом. Рядом сидел хозяин. Он молча протянул Васе глубокую корчагу с супом — густым вкусным варевом с мясом, луком, бобами. Порик жадно, стараясь не давиться, выхлебал суп. Стало жарко, защипало в глазах. Вася взял руку француза и, как ребенок, вдруг потерся об нее щекой и лбом. Это была короткая ласка, как в детстве с отцом, что успокоил, покормил и согрел. “Спасибо, товарищ”, — сказал Порик по-русски, и француз похлопал его по ладони. Они попрощались вечером у пролома в заборе. Вася был уже в старых, заплатанных хозяйских штанах, фланелевой рубахе, крепких, хотя и не новых ботинках. “Рюсс?” — на прощание спросил француз. “Рюсс”, — подтвердил украинец. Они пожали руки — двое мужчин, двое солдат, двое антифашистов. “Ты меня не видел, я тебя не знаю”, — в спину Васе сказал крестьянин. …Первые пять километров Порик прошел легко. Переждал в кустах у железнодорожного переезда, пока пройдет патруль. Перебежал через шпалы. Пошел лесом. Наплывал сон. Порик тряс головой, теребил уши, щипал нос — сон не уходил. Вася засыпал на ходу, наталкивался на деревья. Два раза упал, споткнувшись. Взошла луна, сон исчез, начала болеть голова. Заныли раны — сильнее, сильнее. Чем ближе к Энен-Льетару, тем труднее было идти. Каркас воли крошился, освобождая тело от беспрекословного и безгласного служения. Изо всех пор исстрадавшегося, превысившего всякую меру испытаний тела, уже не подавляемые волей, неслись в мозг кричащие сигналы о боли. Рябило в глазах, иногда казалось, что зрение пропадает вовсе. Уже розовело небо, когда он вошел в Энен-Льетар. По пустой главной улице городка шел, сильно шатаясь, видимо, совершенно пьяный человек. Пьяный дошел до домика Оффров, на ощупь нашел окошко и застучал в него прямо кистью руки. Держась за забор, пошел к воротам, толкнулся в них и упал на руки вовремя подскочившего Гастона Оффра.Глава пятая “РУССКИЙ ИЗ ДРОКУРА”
СПАСЕНИЕ
Он лежал в кровати, в кровати Оффров, лежал дома, на территории Сопротивления. “Папа” Гастон поил его с ложечки кофе, настоящим кофе, пачку которого хранила семья к Дню Победы. “Папа” Гастон старался не плакать: и неприлично плакать шахтеру, и незачем Василию видеть слезы. Гастон иногда только притрагивался к черному, жаром пылающему лбу, легко, одним пальцем притрагивался и пришептывал: “Все в порядке, Базиль, все в порядке”. А Вася то узнавал его, то опять терял сознание. Глядя на этого еле дышащего, еле открывающего рот для ложки кофе человека, никак нельзя было поверить, что вчерашней ночью он бежал — черт знает что! Как? — из Сен-Никеза и добрел невредимым до Энен-Льетара. Но он таки сбежал, и пришел, и сейчас лежит вот в кровати, черный, горячий — 40°, наверное? — и все-таки пьет кофе. И Гастон, задерживая дыхание, чтобы не всхлипнуть, шептал, шептал ласковые, успокоительные слова. А Эмилия была уже у Даниэля. Тот вначале просто остолбенел от новости, потом обнял Эмилию, расцеловал ее, смущенную, закружил по комнате, приплясывая. Остановился, накинул плащ на женщину, натянул плащ на себя, выскочил на лестницу, вернулся, надел шапку и почти побежал к доктору Рузэ. К счастью, больных на приеме было мало. Он дождался очереди, вошел в кабинет, произнес положенную порцию условных фраз и сказал: “Доктор, это самая большая услуга, которую вы могли бы нам оказать”. Доктор Рузэ оказывал подполью много услуг: медикаменты, бинты, консультации… Сейчас от него требовали жертвы, которая может стать последней: легко представить, как ищут боши этого франтирёра. Доктор Рузэ мог бы сказать Даниэлю, что его, докторская семья, жива только им одним, что его кабинеты и практику — одну из лучших в департаменте — не следовало бы подвергать риску разгрома и конфискации, что… но доктор Рузэ посмотрел на часы и мизинцем указал на циферблате цифру 11. Полдвенадцатого он последний раз выслушал еле заметный пульс, аккуратно прикрыл больного одеялом. Сложил инструменты в портфель, захлопнул застежки и только тогда посмотрел Гастону в глаза. — Есть надежда? — спросил Гастон. — Не меньше, чем на побег из Сен-Никеза. — Легкая хрипотца пробилась в голосе Рузэ. — Не меньше. Не больше. Нужна немедленная операция. Аппарат гестапо и аппарат Сопротивления, оба работали на полную мощность. После второй пориковской пощечины уничтожение Порика стало делом чести гестапо. Было понятно, что главное — перекрыть больницы, установить слежку за частнопрактикующими врачами, за всеми медицинскими каналами: состояние здоровья Порика секретом для гестапо не являлось. Но и для Сопротивления спасение жизни Порика было делом чести. “Русский из Дрокура” — теперь его называли так — совершил сам то, что не по силам было для всего подполья Франции: преодолел два этажа, две стены и сто автоматчиков Сен-Никеза. Неужели теперь его не спасут? Напряглись все пружины подполья, сработали все рычаги. Утром пятого мая, на следующий день после визита Рузэ, Сильва Бодар, решительная и рисковая подпольщица, на такси со знакомым таксистом, сын которого был обязан ей жизнью, подъехала к дому Оффров. На заднее сиденье усадили Васю. “Нельзя стонать, потерпи, сынок”, — сказала Эмилия. Порик в ответ дважды открыл и закрыл глаза. Было совсем рано, часов шесть утра. Рабочий день в больнице города Фукьер-ле-Лен еще не начался. Санитарки, медсестры, врачи сидели по домам. Дежурил сам главный хирург больницы, Андре Люже. Жил Люже тихо: к 10 утра в больницу, в 5 — домой. Почти ни с кем не дружил. Редко принимал гостей. Всегда чурался политики. Раз — два в году в малотиражных архиспециальных медицинских журналах появлялись короткие статьи Андре Люже. Учтя подобные качества врача, немцы поручили Люже работу, что поручали немногим: осмотр прибывающих советских военнопленных. Большей ошибки они совершить не могли: истинный врач не способен поддерживать систему, в массовом масштабе уродующую и калечащую людские тела. Однажды Люже на час задержался в больнице, вызвал в кабинет старшую сестру, сын которой был угнан в Германию, и долго наедине проверял с ней штатное расписание младшего медперсонала. А еще через неделю больница Фукьер-ле-Лен начала принимать раненых из маки. К шести утра операционный стол в Фукьер-ле-Лене был готов. Доктор Люже, старший фельдшер Рене Мюзен, рентгенолог Луи Вернэ и две патриотки — хирургические сестры-монахини- присели перед операцией. Они знали, на что идут: они могли не спасти ни Порика, ни себя. Пятеро патриотов, спасая чужую жизнь, рисковали своей. Порик не выдержал бы наркоза, его оперировали с местным обезболиванием. Немолодая женщина в большом рогатом белом чепце время от времени склонялась к нему, стирая салфеткой пот с Васиного лба. В тишине он, сквозь забытье, слышал только короткие фразы Люже с непонятными французскими словами. Потом резкая боль пронзила плечо, он дернулся, сжал зубы, замычал мучительно. Женщина в чепце нагнулась опять: “Потерпи, дружок, это только начало”. Это было последнее, что Вася запомнил. К восьми утра, когда во двор больницы вкатила юркая гестаповская легковушка, Люже уже совершал обход больных. Он выслушал извинения вежливого немецкого офицера: “Мы вас знаем, мы вам верим, но приказ…” — и безбоязненно распахнул двери палаты. Неслышно ступая, пожилая монахиня несла за ними список больных. В это время “Русского из Дрокура”, еще не пришедшего в себя, уже укладывали на кровать Оффров, далеко от Фукьер-ле-Лена. Сильва крепко, по-мужски, тряхнула руку Гастона, и шофер, облегченно вздохнув, с места дал полный газ. …Кормили его, как он говорил, “на убой”: подполье установило для Порика специальный паек. Приходили друзья, часто бывала Галя. Он стал героем, его поздравляли, им восхищались, его расспрашивали и ужасались. Оффрам он подробно рассказал все, с другими был скуп: бередить воспоминания не хотелось. Странная вещь произошла с ним: на третий день после операции он проснулся ночью, и в тишине ему показалось, что он в Сен-Никезе. Вася громко позвал: “Гастон!” — заспанный Гастон сел к нему на кровать и битый час придерживал его руки, плечи, голову: Порика била крупная дрожь. Порик испугался. Да, пройдя псе и вся, он наконец испугался — тут, в теплой постели, рядом с Гастоном он с ужасом, глубоким, почти припадочным ужасом, вспоминал ночь Сен-Никеза. Он отыскивал под одеялом гвоздь, высокий охранник нагибался к нему — и он боялся, теперь он боялся, что охранник увидит гвоздь или он не попадет охраннику в висок, — и тогда вбегут немцы… Он просовывался в свою дыру на втором этаже — и боялся, панически, судорожно боялся, что “канат” оборвется, что его увидят, что снизу ударит автомат! Страшно было ползти на стену, видеть приближающийся патруль, страшно было очнуться в яме с расстрелянными и сжимать окровавленные черные чьи-то волосы — сейчас страшно, задним числом, задним умом, простым, смертным человеческим естеством страшно! Потом дрожь спала, Порик уснул, держа Гастона за руку. Старый француз долго сидел на кровати, смотрел в темное окно, лицо было грустное и усталое… Но однажды Вася разговорился. Пришел Даниэль, пришли все департаментские вожаки, французы шумно смеялись, чокались с Пориком легким кисловатым вином, смешно рассказывали, как добывали это вино у трактирщика, как трактирщик долго уверял, что нет у него такого вина. Порик развеселился, шутил, хохотал со всеми, рассказывал русские анекдоты, переводя их на французский. Как-то незаметно французы навели его на воспоминания детства, и Вася, с трудом подбирая слова, стал рассказывать о матери, отце, брате — “он в армии, воюет, наверное, лучше меня”. Гости примолкли и жадно слушали о техникуме, о военкоме, о военном училище, о параде в Одессе, о физруке, обо всем дальнем, им, коммунистам, не слишком понятном, но дорогом советском мире, что создал этих вот Пориков, восхищающих Францию. А Порик принялся говорить о Сен-Никезе, и все придвинулись ближе, хотя и сами уже знали дело в подробностях, придвинулись, переживая вместе с рассказчиком трагические и величественные перипетии побега, радостно ощущая свою причастность к герою, причастность, которая обычно возвышает людей. Шел мужской дружеский вечер, вечер соратников, в глубоком тылу рейха, защищенных от него волей своей, силой своей, своим подпольем. Проговорили бы до утра, если бы Эмилия не заявила решительно, что хватит, накурили, поздно уже и вообще “мальчику пора спать”. Со следующего дня Порик круто пошел на поправку. Доктор Рузэ приезжал два раза в неделю, делал перевязки, осматривал, хмыкал, покачивая головой: такие жизнелюбцы и ему попадались редко. Эмилия жестко соблюдала режим, они ссорились иногда из-за этого. Порик то смеялся, то сердился. Он понимал, какими непростыми путями добывали и переправляли ему деликатесы: сливки, масло, самые тонкие сорта сыра, нежный, беловато-коричневый паштет из дичи. Он-то хорошо представлял сложности, стоящие и за визитами Рузэ, и за безопасностью дома Оффров, куда ни разу не заглянули посторонние. Товарищи оберегали его, товарищи любили его — и он здоровел день ото дня, поражая доктора. Ему разрешили работать, и Порик прежде всего спросил: как отряд? Отряд жил, сказали ему, отряд, крепко сколоченный, и в отсутствие командира оружия не сдавал. Крылов подорвал эшелон на станции Буале, а потом налетел на крупный военный завод, перебил охрану, вывез оружие. Стамбулов “взял на щит” немецкий продовольственный склад в Нувьон-ском лесу: семьсот килограммов сливочного масла, четыре машины консервов и две машины мяса роздали населению. (“Так вот откуда масло и мясо у Эмилии!”) Федорук, не дождавшись, пока эшелон с солдатами выйдет из Бомона, напал на него вместе с французами прямо на станции, перебили там три десятка немцев. А из Парижа прибыл вызов: приехать и доложить о делах на Севере. Жизнь звала Порика, суровая и опасная, тяжкая и безжалостная, но настоящая, ни с чем не сравнимая по страсти и значимости.ЖИЗНЬ
Он был жив и здоров, следовательно, солдат в строю — кусайте локти, коричневорубашечники! Он превратил ваш концлагерь в партизанский отряд, он ушел из Бомона, он ушел из Сен-Никеза, он выжил, и он — в строю. Здесь же, в много раз обловленном и прочищенном Па-де-Кале, он появляется вновь, и где же — в Дрокуре! В мае чапаевцы нападали на Дрокур два раза. Днем ходили в атаку на город, расстреляли охранение, подожгли присутственные места. “Русский из Дрокура” превратил Дрокур прямо-таки в вольный город: немцы старались туда зря не показываться. Порик пишет в Париж: он не может приехать, слишком много работы. После его ареста, а потом побега немцы усилили слежку: схвачен Бойко, провалились явочные квартиры белоруса Юркевича, французов Луи и Марии-Луизы Петт, Декорте, Люсьена, Динуара… В Лилле расстреляно несколько партизан, нарушена связь с некоторыми отрядами. Ему нельзя уезжать: надо все наладить. А ему надо было уехать. Его фотографии стараниями немецких комендатур широко известны в Па-де-Кале. Его ищут сотни шпиков, специально собранных в департамент, на него ориентирована вся фашистская агентурная сеть. Что бы там ни было, напоследок гестапо хочет, наконец, свести счеты с Пориком. Поступили сведения: наблюдение установлено и за домом Оффров. Как-то под вечер Вася прощается с Гастоном и Эмилией. Он вынимает из нагрудного карманчика свои четыре пули — подарок хирурга, гвоздь, которым он убил немца в Сен-Никезе и дарит их “маме с папой”. Пройдет много лет, но семья сохранит подарки. Эмилия обнимает Порика, обнимает его Гастон, они провожают его до калитки и смотрят вслед, пока его не поглотит темнота, будто чувствуют, что это — в последний раз. Василий поселяется в Гренейе, в семье Комюсов. Но он почти не бывает здесь. Порик разъезжает по департаменту, инспектируя свои отряды, ободряя людей, бросая их в бои. Засада у Бомона — только в плен взято тридцать немцев… Налет на шахту “Лева” — захвачено полмиллиона франков, шесть тысяч продовольственных карточек, шахта выведена из строя… Взорван склад взрывчатки… Взорван завод запчастей для самолетов… И, наконец, Бомон, тот же Бомон, гнусный лагерь: никуда им с Пориком друг от друга не деться. Вот они в третий, и в последний, раз в Бомоне — бывшие бомонды. Опять горит канцелярия, около нее кратко звучит залп: охране — конец. Толпа лагерников разбита на группы, их инструктируют отдельно: кто пойдет по квартирам, кто — по заброшенным шахтам, кто — в пограничные леса. Подготовка — первоклассная, недаром операцию подготовил Аданьев, а проводил Федорук: она заняла два часа. Лагеря больше нет, лагерников больше нет — дымятся головешки от бараков… И вот — 14 июля. 14 июля — национальный праздник Франции: день взятия Бастилии. В 1942–1943 годах он не праздновался: немцы… В июне 1944 года компартия дала лозунг: “Все на празднование 14 июля!” 14 июля в Сен-ан-Гоэлле, как и во всех городах Франции, у памятника Неизвестному солдату собрался митинг. И, когда у памятника вдруг возник Порик, люди замерли. Это казалось сном: Па-де-Кале набит войсками, всюду ищут русского из Дрокура, на всех перекрестках висят приказы о его выдаче и фотографии, а он — пожалуйста, стоит в открытую на трибуне, да еще в полной форме советского офицера! (Жанна Комюс очень гордилась своим шитьем.) Толпа молчала ошарашенно, и Порик поднял руку: “Товарищи!” — качал он. Первая и последняя митинговая речь Василия Порика во Франции была, конечно, верхом дерзости. Немецкие военные автомашины легко разогнали бы постовых, расставленных По-риком вдоль шоссе, и тогда не скрыться бы. Но очень хотелось опять дерзнуть, показать и немцам и французам, что, мол, в самом немецком тылу настолько сильны партизаны, что могут позволить себе и такое. Он говорил не слишком связно, это была не его специальность, однако горячо, задорно, сказал все правильные слова, произнес советско-французскую здравицу, и от того, кто, где и как произносил речь, она казалась великолепной, ему отвечали гулом, выкриками, махали трехцветными французскими флагами, лезли, чтобы пожать Порику руку, обнять! У трибуны и у памятника застыли в почетном карауле десять чапаевцев, отборные богатыри. А только кончил Василий свою речь, как раздался мерный строевой шаг и на площадь, строго равняясь, вступил отряд Александра Ткаченко, символизируя военный парад. Праздник удался на редкость. Слава Порика поднялась еще выше. Ненависть к нему гестапо — тоже.СМЕРТЬ
Его схватили 22 июля 1944 года. Точнее говоря, его просто сбили с велосипеда, повалили и надели наручники. Он поднялся с земли, остолбенело вглядываясь в рослых парней, одетых по-шахтерски. Ехал Порик из Гренэйя в Льевен на встречу с Пьераром и парней этих увидел метров за двести. Еще смутно подумалось: чего это шахтеры в рабочее время бродят вдоль дороги? Но было не до того, мысли занимала предстоящая встреча, открылись уже терриконы, и трубы, и первые улицы Льевена, когда один из парней рыскочил на дорогу и встал перед велосипедом. В следующую секунду грубые руки — много рук! — сгребли Порика с седла, и вот стоит Василий, не веря, инстинктивно выкручивая из наручников кисти, и смотрит, как из-под робы достают “шахтеры” свои автоматы, и слышит опять: “Шнель! Шнель!” Они идут гурьбой вокруг него, человек двадцать переодетых гестаповцев и эсэсовцев, толкают его автоматами, бьют прикладами по плечам, по рукам, по голове — и хохочут, довольные, удачливые, хохочут: вот и взяли Порика! До мэрии — сотня метров, у мэрии наготове подрагивает грузовик, грузовик летит по шоссе мимо домика, где цветы, как договаривались, поставлены в левом углу окна, сообщая о безопасности, где на крыльцо вышла Туанета, хозяйка конспиративной квартиры, к которой он и ехал, стоит, видит в кузове Порика и, не смея всплеснуть руками, мгновение смотрит ему в глаза. Она видела Порика последней, в ее глаза он заглянул под конец. На предельной скорости летел грузовик, спешил, торопился к Аррасу, к крепости Сен-Никез, прямо ко рву с расстрелянными. И в ту же ночь Василия подгоняют к краю рва, того самого рва, что спас его семьдесят девять дней назад во время побега, подгоняют, ставят и вскидывают автоматы. Он ничего не успевает понять, — он ждет допросов, битья, чего угодно, но только не этого, не немедленного расстрела без единого слова. Но они вскидывают автоматы, они не собираются ни допрашивать, ни бить, ни бросать в камеру, — хватит, подопрашивали, побросали! Ни дня отсрочки Порику, чтобы он ничего не успел предпринять! Они вскидывают автоматы, и — залп, и падает Порик двести восемнадцатым в траншею расстрелянных. Это мировая война, не на жизнь, а на смерть, это мироваявойна, и украинец Порик падает в братскую французскую могилу от немецкого залпа. Он командовал ротами и отрядами, он придумывал и осуществлял самые фантастические проекты, он чудом не раз уходил от смерти, и будь на свете богиня судьбы, она бы, по справедливости, после побега из Сен-Никеза не ставила бы его у траншеи расстрелянных. Он в короткие годы свои утрамбовал столько обширных и важных деяний, он столько бы еще успел сделать на неустроенной нашей планете, но вот — один миг, один залп, и Порика не ждет уже ничего. Утром он выехал с проселочной тропки к окраинам Льевена, всего только день назад был Василий деятелем, борцом, и мы с вами следили за ним, ждали его очередного решения, действия, приказа, но это — война, за один час способная перевернуть жизнь народов, и уж вовсе не оборачивающаяся на жизнь и смерть человека. Война оборвала нашу повесть сразу, вдруг, залпом — так поступают войны. Да, союзники уже подошли к Па-де-Кале, да, вот-вот они возьмут и Аррас, и Бомон, и Энен-Льетар, и спасут Адоньева, спасут Бойко, спасут Оффров, но Порика уже не спасут. Гестапо свело свои счеты: Порик убит. Кто его выдал? Провокатор? Или частые поездки Порика днем из Гренэйя в Льевен привлекли внимание полицейских? Или просто кто-то из переодетых гестаповцев, устроивших засаду по другому поводу, узнал его в лицо? Неизвестно. А отряд имени Чапаева — в бою. Крылов занимает поселок за поселком и разбрасывает по дорогам группы партизан на грузовиках, вызывая панику у отступающих немцев. Калиниченко прочесывает леса, разрубает проволоку последних лагерей, освобождает пленных. Федорук оседлал два моста и не пропускает отступающие вражеские колонны. Ткаченко, получив задание не пустить немцев к восставшему Парижу, перекрыл дороги от Артуа, приказал бить по скатам проносящихся грузовиков, устроил на шоссе пробки и принял на себя всех высаженных из машин немцев. Он продержался со своей интербригадой три часа, все-таки хоть немножко сумев помочь парижанам. Порик умер, но дело его жило. Он умер, он не дождался Победы. Не дождался падения Берлина, не видел московского салюта, не узнал, кто из его семьи жив, кто. погиб. Герой Советского Союза Василий Васильевич Порик пал смертью храбрых, как и миллионы его сограждан. Это о таких, как он, говорили в войну: “Смертию смерть поправ”. Это такие, как он, — сотни тысяч простых советских людей в грозную огненную годину нашли в своем сердце достаточно мужества и веры в победу, чтобы пересилить фашистскую силу. Там, куда занес их ветер войны, — на Курской дуге или в департаменте Па-де-Кале, в рядах Красной Армии или в партизанском отряде, в звании ли солдата или в чине генерала — они исполняли свой долг до конца. Жизнь и смерть этих людей, братьев, отцов или дедов наших, для нас и наших детей останется образцом силы воли, душевного благородства и идейной несокрушимости. Но герои оставляют на земле и нечто гораздо большее, чем светлую и поучительную память о них. Ведь от Порика и таких, как Порик, сохранились мы с вами, двести тридцать миллионов человек, и еще почти три миллиарда человек за пределами СССР, существование которых тоже оказалось бы под угрозой, если бы фашизм победил. В музеях лежат пули, извлеченные из тела Порика, стоят стенды, посвященные его жизни; на цоколях подымаются памятники ему, пишут о нем поэмы и песни, — а главное, живет человечество, заслоненное и спасенное от фашистского смертоносного шквала всеми Пориками всех народов земли двадцать лет назад, среди которых Василий из Соломирки был не последним. И пройдет, наверное, еще много лет, а в предместье Арраса, как и сегодня, у самого края старинного крепостного рва, на потемневшем от времени камне по-прежнему будет выделяться одна надпись: “Василий Порик. Январь 1920–июль 1944. Лейтенант Красной Армии. Из крестьян”.Г.Альтов Шальная компания
Мы дети, но мы стремимся вперед, полные сил и отваги.Эварист Галуа
 РАССКАЗ
Мы познакомились на конференции по бионике. После моего выступления в зале изрядно шумели. В суматохе Дерзкий Мальчишка подсел ко мне и тихо спросил:
— Скажите, пожалуйста, хотели бы вы получить динозавра?
Я посмотрел на него и понял, что он имеет в виду живого динозавра. Я мгновенно представил, насколько укрепится палеобионическая гипотеза, если в моем распоряжении окажется хотя бы один живой динозавр.
— Давай, — сказал я. — Давай твоего динозавра.
Я с первого взгляда определил, что передо мной — Дерзкий Мальчишка и что он знает, где раздобыть живого динозавра. Но, по правде сказать, я не ожидал, что идея окажется такой потрясающей. В конце концов, он мог просто знать, где водятся динозавры. Надо принять во внимание, что в зале был шум. Отдельные слишком темпераментные оппоненты выкрикивали разные доводы против моей гипотезы. Из-за этого отвлекающего фактора я, собственно, остановился на столь банальной догадке. Динозавров обычно где-то находили. Таков литературный штамп, это и ввело меня в заблуждение. Благородная и великая идея Дерзкого Мальчишки не имела ничего общего с этим убогим штампом.
Я понял суть идеи на третьей фразе и несколько даже ошалел от размаха. То, что придумал Дерзкий Мальчишка, далеко выходило за пределы палеобионики. Это одна из фундаментальных идей, которых в науке — за всю ее историю — насчитывается лишь несколько десятков, не больше.
Подумайте сами, пока я еще ничего не рассказал, как раздобыть живого бронтозавра. Ну, не бронтозавра, так хотя бы игуанодона или, на худой конец, самого завалящего махайрода. Готов спорить: не придумаете!
Между тем в этой задаче нет ничего принципиально нерешимого. Вот, например, идея, приближающаяся к решению. Пьер де Латиль пишет в своей книге “От “Наутилуса” до батискафа”: “Если на океанском дне не происходят процессы гниения, то трупы живых существ, которые могли упасть на дно, сохраняются там в целости в продолжении тысячелетий. А это означает, что на дне океанов можно было бы найти в абсолютно неповрежденном состоянии останки многих давно вымерших на земле животных. Вот гипотеза, способная взбудоражить самый холодный и не склонный к романтике ум! Приходится лишь удивляться, что ни одному автору научно-фантастических романов до сих пор не приходила в голову мысль использовать эту тему”.
Согласитесь: гипотеза и в самом деле остроумная. Что говорить, конечно, тут существует некое “но”. Даже в самых глубоких океанских впадинах есть жизнь, микроорганизмы и, следовательно, гниение. Однако сама по себе мысль, как видите, лишь чуть-чуть не дотягивает до требуемого решения.
Попытайтесь все-таки подумать относительно живого динозавра.
А я пока продолжу рассказ.
Итак, Дерзкий Мальчишка выложил свою идею.
— Пойдет? — спросил он.
Клянусь, он был готов к защите! Настоящий Дерзкий Мальчишка, я эту породу знаю.
Когда-то я сам был Дерзким Мальчишкой. Но мне уже скоро сорок, и я давно подал в отставку. У меня семья, я состою членом жилищного кооператива и выписываю полезный журнал “Здоровье”. По поведению мне смело можно ставить пятерку. Если в отдельных (совершенно нетипичных) случаях во мне и вспыхивает что-то такое, я сразу включаю внутренние тормоза.
Я даже не знаю, почему на конференции поднялся шум. Мое выступление было выдержано в спокойном, академически скучноватом стиле.
Видимо, придется рассказать об этом выступлении: тогда вы поймете, почему мне понадобился динозавр. Вообще, я должен буду объяснить уйму разных вещей. Ничего не поделаешь, одно цепляется за другое. Рассказ будет довольно сумбурным, предупреждаю заранее.
Поскольку мы уж заговорили об этом, надо сказать прямо, что я не писатель. Все, о чем здесь написано, не содержит ни капли вымысла. От нас сбежал… гм… сбежало некое живое существо. Спрашивается: прикажете дать объявление в газете? Дескать, так и так, утерян, предположим, стиракозавр средних размеров, особых примет не имеет, о находке просят сообщить по адресу…
Подумав, я и решил написать рассказ. Согласитесь, это неплохой выход. Тот, кто усомнится в истинности происшедшего, может считать это фантастическим рассказом. Однако если вам встретится сбежавшее существо (а я на это рассчитываю), вы будете знать, в чем дело.
Начнем с конференции. Как я уже говорил, она была посвящена проблемам бионики. Надеюсь, нет необходимости объяснять, что такое бионика, тем более это не так просто объяснить. Выступая на конференции, я перечислил одиннадцать определений бионики, принадлежащих разным авторам. Собственно, с этого и начался шум. Но оставим терминологию; в конце концов, это формальная сторона. Будем считать, что бионика изучает “конструкции” животных и растений с целью использования “патентов природы” в технике. Ну, допустим, выясняют, как медуза слышит приближение шторма, а потом создают метеорологический прибор “ухо медузы”. Все очень мило, если не задаться вопросом: а разве изобретатели раньше, до появления слова “бионика”, не копировали природу?
В своем выступлении я привел интересный пример, почему-то вызвавший в зале излишнее оживление. Древние греки применяли тараны — массивные бревна, которыми взламывали ворота осажденной крепости. Торцовая часть тарана от ударов быстро расплющивалась. И вот неведомые миру древнегреческие бионики нашли отличное решение: они придали торцу тарана форму бараньего лба. Такой таран разбивал самые крепкие ворота.
Подобных примеров множество. Спрашивается: изменилось ли положение оттого, что мы — во второй половине XX века — заменили слова “копирование природных прообразов” словом “бионика”?
Когда я задал этот вопрос, один из наиболее нетерпеливых оппонентов высказался с места в том смысле, что раньше “патенты природы” использовались случайно и редко. “Возникновение же бионики, — внушительно сказал он, — знаменует переход к широкому и планомерному внедрению в технику решений, заимствованных у природы”. Затем оппонент сел, вкушая заслуженные аплодисменты. Да, да, вполне заслуженные, потому что он был абсолютно прав! Бионика имеет смысл лишь в том случае, если количество заимствованных у природы идей увеличивается в сотни, в тысячи раз. Между прочим, я это и сам знал. Научный диспут в какой-то мере подобен шахматной игре. Я сознательно отдал пешку, чтобы выиграть ладью.
Итак, бионика должна давать много новых идей. Хорошо. Даже великолепно. Спрашивается: где они, эти идеи? Где могучий поток новых открытий и изобретений?
Я напомнил, что в вестибюле устроен симпатичный стенд с книгами, брошюрами и статьями о бионике. Затем я спросил: заметил ли кто-нибудь, что все авторы приводят один и тот же, весьма скромный набор примеров? Заметил ли кто-нибудь, что в большинстве случаев сначала делается изобретение, а потом находится прообраз в природе?
В зале наступила относительная тишина, и я смог изложить принцип палеобионики. (Прошу следить за ходом мысли, мы, приближаемся к вопросу о динозавре).
Древнегреческие бионики, создавшие таран с бараньим лбом, выбрали самый лучший из известных им природных прообразов. Тем же нехитрым методом действуют и сейчас: ищут возможно более совершенный “оригинал”. Однако такой “оригинал” — в этом-то и загвоздка! — почти всегда оказывается слишком сложным. Разобраться в его устройстве очень трудно. А построить “копию” порой просто немыслимо. Так, например, обстоит дело с попытками скопировать кожу дельфина. Постепенно выясняется, что дельфин обладает тончайшей системой кожного регулирования. Практически невозможно и невыгодно копировать столь сложный прообраз.
Тупик? Нет! Прообразами должны служить более простые вымершие животные, изучаемые палеонтологией. В этом и состоит основная идея палеобионики.
Вот тут тишина сразу прекратилась! Но я все-таки докричал свое выступление.
Вымершие животные уступают современным в развитии головного мозга и нервной системы. В остальном они достаточно совершенны. По некоторым “показателям” древние животные вообще превосходят своих выродившихся потомков. Исчезли такие животные не потому, что были плохо “устроены”. Они вымерли из-за изменений климата и рельефа, а в некоторых случаях были истреблены человеком.
Аплодисментов не было, но я на них и не очень рассчитывал. Не следует думать, что научные конференции проводятся по методу “встретились, поговорили, разошлись”. Представьте себе: десятки лабораторий, сотни и тысячи людей ведут исследования в каком-то направлении. И вот на конференции впервые называется другое направление. Думаете, так просто “переключиться”? “Горят” чьи-то готовые к защите диссертации. Нужно ломать чье-то не без труда собранное оборудование. Кому-то придется начинать работу заново, с нуля. Всякое “переключение” связано с потерей времени. Поневоле задумаешься.
Бионика требует контакта между биологами и инженерами. Очень сложная штука, этот контакт! А тут возникает вопрос о привлечении еще и палеонтологов…
Полагаю, теперь вам понятно, почему я не рассчитывал на аплодисменты. Нужно определенное время, чтобы новая идея была воспринята как необходимость. По шуму в зале я чувствовал, что процесс этот идет нормально. Я шепнул мальчишке: “Давай выбираться!” — и мы незаметно потихоньку двинулись к выходу.
Впрочем, не совсем незаметно, потому что в вестибюле нас настиг взъерошенный гражданин средних лет.
— Один вопрос! — быстро сказал он и намертво вцепился в пуговицу моего пиджака. — Так, так! Вот вы говорите, что надо копировать вымерших животных…
— Говорю, — покорно признался я, пытаясь высвободить пуговицу.
Он возбужденно заглотнул воздух и продолжал:
— Понимаете, я изучаю механику работы птичьего крыла. С позиции самолетостроителя. Крыло — изумительно по совершенству! И вот вы предлагаете, — он рванул злополучную пуговицу, — вы предлагаете использовать палеобионический принцип. Та-ак, та-ак! Значит, вместо прекрасного — да, да, прекрасного! — крыла птицы самолетостроители должны ориентироваться, простите, на паршивое крыло какого-нибудь птеродактиля? Так?
Он машинально поднес к глазам оторванную пуговицу, пожал плечами и сунул ее себе в карман. Мне захотелось посмотреть, на что способен мальчишка. Я показал ему на взъерошенного гражданина.
— Паршивость — понятие относительное, — философски сказал мальчишка, охотно выдвигаясь вперед.
Взъерошенный гражданин уставился на Дерзкого Мальчишку. Мне понравилось, что гражданина не шокировал возраст нового противника.
— Вы хотите сказать… — вкрадчиво начал взъерошенный гражданин.
— Вот именно, — перебил Дерзкий Мальчишка и взял его за пуговицу. — То, что плохо для живого существа, может оказаться хорошим в технике.
С пуговицей это было, пожалуй, лишнее. Но говорил он бойко. Взъерошенный гражданин едва успевал вставлять свои “та-ак, та-ак”.
Крыло птерозавра действительно хуже птичьего крыла. Почему? Малейшее повреждение кожаной перепонки — и птеродактилю конец. Однако у современной техники иные возможности и иной арсенал материалов. С этими материалами выгоднее копировать гладкие крылья таких отличных летунов, как вымерший рамфоринх или живущая и ныне, но обладающая древней родословной стрекоза.
Это было прекрасно сказано: я бы не сказал лучше. Взъерошенный гражданин произнес протяжное двухметровое “та-а-а-к” и погрузился в раздумье.
Мы сразу дали ходу.
— Пуговицу ты мог бы и не трогать, — сказал я мальчишке.
— Надо же вам пришить пуговицу, — ответил он. — Вот, смотрите, точно такая, как ваша.
Ему нельзя отказать в наблюдательности — непременном качестве настоящего исследователя.
На улице он купил два пирожка с рисом. Пирожки я отобрал и бросил первой встречной собаке (это был увешанный медалями бульдог; он презрительно оттопырил тяжелую губу и мутно посмотрел на меня). А мы пошли в кафе “Прага”, потому что вопрос о динозаврах следовало обсудить безотлагательно.
Здесь самое время кое-что рассказать о Дерзком Мальчишке.
Не буду называть его имени и фамилии. Вам они ровным счетом ничего не скажут. Пусть он пока так и останется Дерзким Мальчишкой. В конце концов, это звучит не хуже, чем Главный Конструктор.
Не буду также излагать биографию Дерзкого Мальчишки, когда-нибудь она появится в серии “Жизнь замечательных людей”. Если вы в этом сомневаетесь, давайте ваше решение задачи о динозаврах! Боюсь, что у вас до сих пор нет решения… Крепенький орешек, а?
Да что тут говорить, возьмите, например, фантастическую литературу. Вымершими животными напичканы сотни рассказов, повестей, романов. Но в основе одна идея — герои обнаруживают некий затерянный мир, где чудом сохранились динозавры или мамонты. Есть и подварианты: встреча с древними животными происходит на чужой планете или при поездке в прошлое на машине времени. Со времен Рони-старшего и Конан-Дойля фантастика не пошла дальше. Представьте себе, что “космическая” фантастика остановилась бы на жюль-верновской колумбиаде, и сейчас писали бы о полетах к звездам в пушечных снарядах… С “динозавровой” фантастикой именно такое положение. И уж если фантасты не придумали ничего путного, то проблема, поверьте, не из простых.
Когда-нибудь Дерзкому Мальчишке поставят памятник. Скульпторы, испокон веков создававши, конные статуи, на этот раз изобразят всадника на уламозавре. Или на трицератопсе[14]. Между нами говоря, место я уже присмотрел. Напротив палеонтологического музея. Конечно, пока памятник ставить нельзя: у мальчишки слишком легкомысленный вид. Скажем, Эйнштейн или Павлов — могли бы их узнать на фотографиях, сделанных, когда этим великим людям было по пятнадцать лет? А впрочем… Мы говорим об Эйнштейне, Боре, Тимирязеве и видим величественных старцев. Но ведь они были почти мальчишками, когда делали свои открытия!
Ладно, о памятнике и биографии в серии “Жизнь замечательных людей” еще будет время подумать. Пока важен другой вопрос: как получилось, что обыкновенный мальчишка стал Дерзким Мальчишкой?
Тут не все ясно. Однако в общих чертах вырисовывается такая история. Мальчишка привык считать на пальцах. Через эту могучую мыслительную стадию проходим все мы. И всем нам не дают долго на ней задержаться. “Ах, ах, так нельзя! Ах, стыдно, ах, не положено…” Так вот, мальчишке кто-то сказал: “Что ж, попробуй. Сложение и вычитание на пальцах — это просто. А вот как дальше — не знаю”. Он не помнит, кто ему это сказал. Жаль. Ибо именно в этот момент и приоткрылась дверь в науку.
В самом деле, кто может доказать, что, например, бином Ньютона проще решать на бумаге, а не на пальцах? Ведь никто не пробовал!
Мальчишка долго совмещал “положенную” арифметику с “неположенной”. Сначала потому, что так было легче. Потом по привычке. Наконец, из интереса. И вот однажды он решил на пальцах кубическое уравнение. Над ним смеялись. Но он уже был исследователем, самым натуральным исследователем!
Я видел, как он вычисляет на пальцах. Уравнения высших степеней он щелкает, как семечки. Ну, еще кое-что в дифференциальном и интегральном исчислениях. Векторная алгебра. Дифференцированию, например, соответствует поворот рук ладонями вниз. Введены вспомогательные обозначения: “одна нога”, “правое ухо”, “левое ухо”, “прищуренный глаз” (для операций с мнимыми числами) и так далее. В среднем вычисление на пальцах раза в три быстрее, чем на бумаге. Конечно, нужна солидная тренировка.
Все это очень интересно, и я мог бы рассказать подробнее (квадратные уравнения я уже сам могу решать на пальцах). Но тогда получится математический трактат. А я пишу рассказ. Художественная литература — дело серьезное. Тут, знаете ли, свои законы, приходится считаться. Так что давайте вернемся к художественной литературе.
Я не люблю, когда люди берутся за какое-нибудь дело, не удосужившись хотя бы полистать соответствующие книги. Решив изложить происшедшие события в форме рассказа, я прежде всего от корки до корки проштудировал “Основы теории литературы” Л.И.Тимофеева. Не буду преувеличивать: кое-чего я не понял. Например, как раскрыть характер героя произведения? У Тимофеева на странице 141-й сказано: “Характер раскрывается путем показа его взаимоотношений с другими характерами. Так, если в первой главе произведения изображается А., а во второй — Б., испытывающий страдания благодаря действиям А. в первой главе, то эти переживания Б. являются одной из форм раскрытия А., хотя А. во второй главе нет, и нет, следовательно, и относящихся непосредственно к нему словесных единиц”. Очень мило! Но Дерзкий Мальчишка взаимоотносится главным образом не с другими характерами, а с другими научными теориями. Как быть в этом случае?
Если бы я не читал Л.И.Тимофеева, то начал бы со штанов. Мальчишка носит серый клетчатый пиджак, белую рубашку, белый галстук и флотского образца штаны. Я спросил:
— Штаны — из соображений романтики?
— Нет, — ответил он. — Из соображения прочности.
Но “Основы теории литературы”, насколько я понял, предписывают не увлекаться такими частностями, как штаны, а сосредоточиться на описании наиболее характерного.
Дерзкому Мальчишке пятнадцать лет. Не берусь, однако, утверждать, что это очень характерно. Можно быть Дерзким Мальчишкой в десять лет и в семьдесят. Девчонки тоже могут быть Дерзкими Мальчишками. Тут все дело в стиле жизни. Мальчишка, о котором я рассказываю, приехал из Тамбова в Москву, поступил в восьмой класс и устроился работать. Он стал сторожем в научно-исследовательском институте. Это было блестяще придумано: он получил возможность, литературно говоря, вступить во взаимоотношение с оборудованием целого института! Идей у мальчишки был целый ворох. Эти идеи плюс институтское оборудование… вы, надеюсь, представляете?
Если меня когда-нибудь выгонят из моего КБ, я поступлю ночным сторожем в научно-исследовательский институт. При моей, смею думать, солидности я вполне могу рассчитывать на должность старшего сторожа. Мальчишку же приняли младшим сторожем. Дежурил он днем, а по вечерам приходил в институт готовить уроки. Часов в девять его пожилой коллега уютно засыпал, и тогда Дерзкий Мальчишка шел в лабораторию. В институте было разное оборудование, вплоть до гигантских разрядных установок. Но для проверки гениальных идей почти всегда достаточны самые простые средства.
Прошу обратить внимание: так продолжалось год — и мальчишка ни разу не попался. Полагаю, такое взаимоотношение с оборудованием в высшей степени характерно. Идеи могут быть сколь угодно сумасшедшими, но их осуществление требует спокойствия и вдумчивости. Стремление всюду совать нос, крутить все, что подвернется под руку, и прочая “любознательность”, почему-то вызывающая умиление, не имеют ничего общего с исследовательским талантом.
Дерзкий Мальчишка работал по плану. Сначала пять, потом шесть и семь часов в день — сверх школьной программы. Я видел тетрадь, в которую он ежедневно записывает отработанные часы. Три года в среднем по шесть часов в день — это шесть с половиной тысяч часов. Университетский курс математики, плюс физика, плюс полсотни книг по биологии, плюс палеонтология… Всего не перечислишь.
Откровенно говоря, листая эту тетрадь, я испытывал двойственное чувство. Работа титаническая, ничего не скажешь. Но шесть с половиной тысяч часов отняты у детства.
За вход в науку приходится дорого платить. Видимо, поэтому так соблазнительно проскочить без платы. Норберт Винер пишет в своей автобиографии: “…честолюбивые люди, относящиеся к обществу недостаточно лояльно, или, выражаясь более изящно, не склонные терзаться из-за того, что тратятся чужие деньги, когда-то боялись научной карьеры как чумы. А со времен войны такого рода авантюристы, становившиеся раньше биржевыми маклерами или светочами страхового бизнеса, буквально наводнили науку”. Винер имеет в виду капиталистическое общество. Но было бы наивным лицемерием утверждать, что у нас мало людей, которые идут в науку, только чтобы устроиться. Такие люди есть.
Винер, шутя, говорит, что неплохо было бы раз в году сжигать по жребию одного ученого. Тут, конечно, есть риск сжечь толкового человека. Зато резко уменьшится приток в науку карьеристов. Мальчишка, когда я рассказал об этой идее, просто повизгивал от восторга. Он до сих пор упорно не хочет считать ее шуткой.
Будем говорить серьезно. Проскользнуть в науку можно — это дело ловкости. Однако никакая ловкость не поможет бесплатно сделать что-то в науке. Чтобы получить калорию тепла, нужно затратить 427 килограммометров работы. Чтобы зажечь свой огонь в науке, нужна определенная работа — тут не изловчишься, не проскользнешь. И это еще только начало — зажечь огонь. Нужно всю жизнь поддерживать его, бороться с непогодой, ветрами, бурями.
Но и Винер по-своему прав: в науке иногда выдвигаются и без зажигания вышеупомянутого огня. Однажды я проделал любопытный мысленный эксперимент. Я рассуждал так.
Сам процесс научного творчества доставляет настоящему ученому огромное удовольствие. Научное исследование — вещь куда более вкусная, чем пирожное. Разумеется, каждый труд может приносить удовлетворение. Но научное творчество — не просто удовлетворение, а самое высшее из доступных человеку духовных наслаждений. Так вот, почему бы не считать это наслаждение главной частью зарплаты? Во всяком случае, это не нарушило бы социалистический принцип оплаты по труду. “Вот вам, глубокоуважаемый товарищ профессор, ставка лаборанта плюс золотая валюта духовных ценностей…”
Это было в субботу, в переполненной электричке. Со всех сторон на меня напирали туристы, навьюченные своей колючей амуницией. В таком положении мысленные эксперименты — самое утешительное занятие.
У меня много знакомых, так или иначе связанных с наукой. Я попытался представить, что произойдет, если им объявить: “Братцы, платить вам будем, как в многотрудные времена славного Галилея”.
В ответ я услышал голос одного из своих друзей. Услышал мысленно, но весьма натурально (когда в ребра вдавливаются котелки и палки, невольно настраиваешься на полумистическое общение с голосами героев и мученикой науки). “Чихать, — мрачно сказал голос. — Прокрутимся”.
Но я изрядно отвлекся, а Это, как сказано в “Основах теории литературы”, вредит художественности.
Вернемся к динозаврам.
Дерзкий Мальчишка отнюдь не предлагал искать динозавров. Его идея была значительно шире. Он нашел способ получать вымерших животных. Любых животных, не только динозавров.
Есть биогенетический закон: развитие зародыша животных более или менее полно повторяет развитие тех форм, из которых исторически сложился данный вид. За очень короткое время (дни, недели, месяцы) зародыш как бы конспективно повторяет путь, пройденный его предками в течение сотен миллионов лет эволюции. У куриного зародыша, например, на третьи сутки появляются жаберные борозды — признак, сохранившийся с тех пор, когда у рыб, далеких предков птиц, развивались жабры. У зародыша коровы жаберные дуги, возникают в возрасте двадцати шести суток и вскоре исчезают. У человеческого зародыша хвост и жабры появляются к полутора месяцам.
Кстати, о хвосте.
Мальчишка утверждает, что все началось именно с хвоста, точнее, с рисунка хвостатого человека в школьном учебнике анатомии и физиологии. Случай иногда нажимает не те кнопки на пульте Природы. Появляется частица прошлого. Атавизм. Но почему атавизмами нельзя управлять и вызывать их по своему желанию?
Небольшой хвост мог бы даже украсить человека. В конце концов, возимся же мы со своими прическами, хотя волосы — такой же атавизм, как и хвост.
Идея создания хвостатых людей была изложена тут же на уроке (точнее, вместо ответа по заданному уроку), и парень схватил двойку. Двойку он исправил, а идею забыл. У него было много разных идей.
Но через месяц, перечитывая “Человека-амфибию” Беляева, он вспомнил об этой идее. Ихтиандр создан хирургическим путем: ребенку пересадили жабры молодой акулы. Этим путем предполагает идти и Жак Ив Кусто. По его мысли, хирурги должны снабдить человека миниатюрными искусственными жабрами. Мальчишка, выросший у берегов несерьезной реки Цна, никогда не видел океана. Он даже не знал, что такое настоящее море. Но однажды он подумал: если на определенной стадии развития у человека — на какое-то время — появляются жабры, значит, можно сделать, чтобы они не исчезали.
Здорово, а?
Так вот, я вам скажу: это чепуха. Сущая чепуха. Потому что к организму современного человека нельзя “прилепить” древние жабры. Организм — единая конструкция. Изменение части повлечет изменение целого. Восстановление жабер — идея столь же дохленькая, как, скажем, проект оснащения атомохода веслами.
Вся сила в том, что мальчишка не остановился на этой идее, а пошел дальше.
У Жюля Верна в романе “Вокруг света в восемьдесят дней” поезд идет над пропастью по мосту, который едва-едва держится. Поезд успевает проскочить. И сразу же после этого обрушивается мост. Такова хитрая механика открытий. Многие подходят к пропасти, смотрят на мост и думают: “Эта штука явно не держит. Здесь дороги нет”. Но открыватель смело допускает невозможное. Он вступает на мост, который не держит. Остановиться нельзя. Надо успеть проскочить — и тогда пусть он рушится, этот мост. Он сыграл свою роль.
Идея восстановления жабер “не держит”. Но додумаем ее до конца. Раз нельзя восстанавливать по частям, нужно восстанавливать целиком.
Копаясь в литературе по эмбриологии, мальчишка встретил описание опытов Петруччи. Это была какая-то брошюрка, рассказывающая о том, как в “биологической колыбели” вырастили теленка. Вот здесь парень и увидел, что его метод применим не только к человеку.
Оставался лишь один шаг к самому широкому обобщению: управляя развитием зародыша животных, можно “воскресить” его отдаленных, давно вымерших предков.
Эта идея и открытие путей ее осуществления принадлежат только Дерзкому Мальчишке. Я помогал в конкретном эксперименте, не больше.
Быть может, самое удивительное — простота средств, потребовавшихся для эксперимента. Я не вправе сейчас рассказывать об этих средствах. Нетрудно представить, что произойдет, если каждый желающий начнет выращивать цератозавров, мегатериев или каких-нибудь титанофонеусов. Это все-таки не канарейки.
Принцип я объяснил, а по поводу остального скажу коротко. Дерзкий Мальчишка нашел некий фактор, позволяющий закреплять черты, присущие тем или иным отдаленным предкам. К моменту нашего знакомства был почти собран прибор, которому мы, сидя в кафе “Прага”, придумали скромное название — палеофиксатор.
Здесь же, в кафе, мы выработали план действий.
Дерзкий Мальчишка хотел сразу получить диплодока или брахиозавра. На мой взгляд, не следовало начинать с крупных животных. Я, конечно, не отрицаю: убедительность эксперимента пропорциональна размерам полученного ящера. Но тут есть и свои неудобства. Взрослый диплодок весил полсотни тонн и имел в длину около тридцати метров. Попробуйте выкормить такое создание!..
Для начала удобнее животное небольшое, но экзотическое. Мы обсудили разные варианты и остановились на птеродактиле. По палеонтологическим данным, птеродактиль не больше индюка, то есть имеет вполне транспортабельные размеры.
Как вы, надо полагать, догадываетесь, для получения птеродактиля необходимо: а) иметь яйцо и б) подвергнуть это яйцо действию палеофиксатора.
Вообще говоря, годится далеко не всякое яйцо. У Дерзкого Мальчишки составлена таблица: каких животных из каких яиц получать.
Сложнее определить, когда и на сколько времени включать палеофиксатор. Скажем, голубиные яйца. В течение пятнадцати — семнадцати дней зародыш проходит путь, на который эволюция потратила миллиард лет. Каждый час “яичного времени” соответствует двум с половиной миллионам “эволюционных лет”. Тут, знаете ли, нужна особая точность!
По разработанному нами плану на окончательный монтаж палеофиксатора отводилось четыре дня. Заниматься этим должен был мальчишка. Мне надлежало добиться отпуска, отослать семью и организовать дачу под Москвой.
С отпуском было не так просто, но, в общем, все уладилось. Еще труднее было достать туристические путевки для жены и сына на пароход, который собирался полмесяца ползти до Астрахани и полмесяца обратно. Зато вопрос о даче был утрясен пятиминутным разговором.
Тут надо рассказать о хозяине дачи, третьем участнике эксперимента.
Итак, Вениамин Николаевич Упшинский. Фамилия, хорошо знакомая многим изобретателям. Теперь Вениамин Николаевич на пенсии, но еще не так давно в коридорах Комитета по делам изобретений и открытий можно было услышать: “Упшинский отказал… Упшинский уперся… Упшинский не согласен… Упшинский…”
Технику Вениамин Николаевич знал блестяще. Экспертом он был высокого класса. Наизусть помнил тысячи патентных формул. Но отказывать любил. Очень любил.
Я впервые столкнулся с ним лет двадцать назад. В ту пору я был крупным нахалом. Мне казалось, что я осчастливил человечество, придумав спички, которые горят красным пламенем. Тот, кто занимался фотографией, сразу поймет, зачем нужны такие спички. Фонарь — вещь малоподвижная. Упадет что-нибудь на пол, и ищешь в темноте. Обычную же спичку зажечь нельзя: засветится пленка или бумага.
Кабинет Упшинского находился в самом конце темного коридорчика. Да и сам кабинет был тесноватым и какой-то притемненный. Высокие книжные шкафы стояли не только у стен, но и посредине кабинета. Стол у Вениамина Николаевича был большой, массивный. На таком столе приятно играть в пинг-понг. Именно об этом я подумал, впервые переступив порог кабинета. И еще я заметил на окнах свернутые в рулоны светомаскировочные шторы. После войны их вполне можно было бы снять.
— Как же, как же, знаю, — добродушно сказал Вениамин Николаевич, усаживая меня на скрипучий стул. — Между прочим, вы не изобрели ничего такого… э… против курения? Жаль, жаль… Что ж, читал вашу заявку. Вы уж не гневайтесь, но я вам откажу…
Он не только любил отказывать, но и умел делать это со вкусом. Экспертиза для него была чем-то вроде игры в шахматы. Важен не только выигрыш, удовольствие приносит и сам процесс игры.
Он курил, благосклонно посматривая на меня сквозь толстые стекла очков. Глаз его я не видел, потому что в синеватых стеклах отражались книжные шкафы. Я до сих пор подозреваю, что Вениамин Николаевич специально использовал этот оптический эффект.
Кстати, внешне Упшинский с тех пор не очень изменился. Он и сейчас такой же массивный, румяный, добродушный.
Говорил Вениамин Николаевич негромко, как бы приглушенно. Смысл его речей клонился к тому, что практически затруднительно пропитать деревянную основу спички составом, окрашивающим пламя в красный цвет. Спичка будет давать то слишком тусклое, то слишком яркое пламя.
Я не перебивал его. У меня в кармане лежала коробка “красных” спичек, и я хотел проучить эксперта.
Он говорил долго и убедительно. А потом я положил на стол коробку “красных” спичек. И случилось чудо. Вениамин Николаевич мгновенно изменился. Исчезли книжные шкафы на стеклах очков. Я увидел обыкновенные живые глаза. Передо мной сидел человек, чрезвычайно заинтересованный происходящим. Этот человек говорил нормальным голосом и суетился — так ему хотелось поскорее испытать спички.
Я несколько опешил от такого превращения и уже без всякого ехидства выгрузил из карманов пачку фотобумаги и флаконы с проявителем и закрепителем.
— Чрезвычайно любопытно! — сказал Упшинский, схватив эти флаконы. — Чрезвычайно! Мы сейчас же и попробуем…
Он развил такую бурную деятельность, что мне оставалось только смотреть. Налил проявитель и закрепитель в крышки, снятые с массивных чернильниц. Подбежал к окну, рванул веревку. С грохотом опустилась штора, выбросив в воздух густое облако пыли. Упшинский пронырнул через это облако к другому окну. Хлопнула вторая штора, на мгновение наступила темнота, и тут же зажегся красный огонек. Вениамин Николаевич торжествующе воскликнул:
— Горит! Посмотрите — горит!..
Впрочем, он тут же забыл обо мне и занялся фотобумагой. Он возился минут сорок. Проверил бумагу. Потом стал жечь спички. Сразу по пять штук. Подносил их к самой бумаге. Не знаю, как она не загорелась. Он даже закурил от “красной” спички.
Прекратил он эту возню, когда в коробке остались три спички. Ему очень хотелось поиграть и с ними, но он был воспитанным человеком. Он со вздохом вернул мне коробку и поднял шторы. Потом мы навели порядок на столе. Упшинский тщательно почистил свой костюм.
— Значит, так, — неторопливо и важно сказал Вениамин Николаевич. — Отказик я вам все-таки напишу. Да вы не смотрите на меня так…
Я смотрел потому, что в стеклах его очков снова очень ясно отражались книжные шкафы.
— Наверное, вы уйму времени ухлопали, чтобы приготовить одну коробку таких спичек, — продолжал он. — А на спичечных фабриках возиться не будут. Там массовое производство. Они даже свою технологию не выдерживают. Извольте полюбоваться.
Он достал обычные спички, чиркнул спичкой о коробок. Спичка вяло зашипела. Вениамин Николаевич методично пробовал спички. Пятая спичка зажглась, разбрасывая зеленые искры.
— Такое качество, — наставительно произнес Вениамин Николаевич. — Ваши спички будут выполнены примерно на таком уровне. Четыре не зажгутся, а пятая засветит фотоматериал. До свидания.
Сейчас я перечитал эти страницы и вижу, что не совсем верно изобразил Упшинского. Вероятно, он бы рассказал обо мне тоже в несколько ироническом плане. Упшинский, конечно, требовал слишком многого, изобретение не обязано сразу быть безупречным и неуязвимым, это так. Изобретателю оставалось либо бросить идею, либо довести ее до полнейшего совершенства. И вот тут Упшинский в какой-то мере был прав. Но я понял это позже. А тогда я решил взять реванш.
Я появился у Вениамина Николаевича через два месяца и, твердо глядя в отражавшиеся на стеклах очков книжные шкафы, объявил, что придумал “порошки невесомости”. Упшинский фыркнул, но я выложил на стол спичечную коробку с шестью серыми таблетками (это было самое элементарное средство от головной боли).
Все строилось на психологическом расчете. В этой коробке Вениамин Николаевич видел “красные” спички — и они работали. Коробка прямо-таки заставляла поверить, что “порошки невесомости” тоже будут работать.
— Можем испытать хоть сейчас, — нагло сказал я.
— Сейчас? — неуверенно переспросил Вениамин Николаевич.
И снова произошло чудо. Как в прошлый раз. Вениамин Николаевич ожил, стал обычным человеком, засуетился, подготавливая эксперимент. Клянусь, он поверил в мои “порошки невесомости”!
Мы зажгли электрический свет и опустили шторы (чтобы с улицы не было видно летающего по комнате человека). Потом я отправил Упшинского за каким-нибудь романом (порошки действуют два часа, скучно висеть под потолком, ничего не делая). Потом Вениамин Николаевич принес бутылку лимонада (порошки горьковатые).
— Ну, — сказал Упшинский, вытирая вспотевший лоб, — кажется, всё…
Я внимательно оглядел потолок и потребовал веничек, чтобы можно было смахнуть пыль. Веничка не оказалось, и Вениамин Николаевич принес чистое полотенце.
— Ну? — простонал он.
По-моему, он просто сгорал от нетерпения. Я налил лимонад в стакан, открыл спичечную коробку, достал таблетку и поднес ко рту.
— С богом, — прошептал Вениамин Николаевич, заглядывая мне в рот. — Начинайте же…
Я посмотрел на него (я старался смотреть задумчиво и как бы с сомнением) и сказал:
— Нет. Пожалуй, не будем начинать…
— Почему?
Он был явно огорчен.
— А потому, — объяснил я, — что вы все равно не поверите. Я буду два часа торчать под потолком, там душно и скучно. Истрачу таблетку. А вы опять откажете. Таблетки, дескать, требуют особой тщательности в изготовлении. Легко, мол, напутать… Нет. Не будет испытаний. Переключусь на изобретение какого-нибудь антиникотина. До свидания.
Я выпил лимонад и ушел.
Так началась моя дружба с Вениамином Николаевичем Упшинским. С той поры каждое свое изобретение я сначала отдавал на растерзание Вениамину Николаевичу. Он был придирчив и несправедлив, но зато изобретения приобретали десятикратный запас прочности. А вот как объяснить привязанность ко мне Упшинского — этого я не знаю.
Дача Вениамина Николаевича — в Ильинском, под Москвой. Заброшенный участок примыкает к лесу. Отличное место для выращивания птеродактилей. Безлюдно. Тихо. А для Вениамина Николаевича такие эксперименты — самое большое удовольствие.
Великое переселение состоялось в воскресенье. Мы привезли палеофиксатор, две раскладушки и кое-какое барахло.
— Изобретатель? — спросил Вениамин Николаевич, разглядывая новенькие джинсы Дерзкого Мальчишки.
— Гений, — ответил я. — Пока непризнанный.
Упшинский одобрительно кивнул.
— Это хорошо. Кстати, нет ли у него какого-нибудь нового средства… э… против курения? Жаль, жаль… А что же есть?
— Математика на пальцах. Любые задачи.
— Як вам всегда хорошо относился, — грустно сказал Вениамин Николаевич. — А вы всегда шутите.
Пришлось тут же продемонстрировать решение квадратных уравнений. Упшинский мгновенно ожил.
— Потрясающе, — прошептал он, потирая руки. — Но ничего не выйдет. Вот увидите, ничего не выйдет…
Он потащил мальчишку к лестнице, они уселись на ступеньках н начали выяснять — выйдет или не выйдет. Когда я через час позвал их ужинать, Упшинский сердито отмахнулся:
— Не мешайте работать…
Я занялся расчисткой дачи.
Изобретатели годами тащили сюда всякий хлам. Плоды творческой деятельности, как говорил Вениамин Николаевич. Плодов было много. Они торчали в комнатах, на лестнице, на веранде, в сарае и, простите, даже в туалете. Если бы они работали, дача затмила бы любой павильон ВДНХ. Но работал только лесоветровой аккумулятор. Эта штука, установленная на крыше, была похожа на самовар. От самовара тянулись к ветвям деревьев десятка два ржавых тросиков. В ветреный день деревья раскачивались, тросики дергались и нудно скрипели. К вечеру над крыльцом зажигалась лампочка от карманного фонаря.
Была еще лодка, совсем новая. Лодку зачем-то подарил Вениамину Николаевичу сын, капитан дальнего плавания. Какой-то изобретатель пристроил к лодке вечный двигатель.
Я перетащил в глубьсада массу барахла. На веранде освободилось место для голубей.
Еще накануне мы присмотрели голубятник с четырьмя десятками отличных вяхирей и клинтухов. Хозяин голубятника, видимо, имел какое-то отношение к истории, потому что все голуби носили царственные имена: Рамзес, Цезарь, Антоний, Клеопатра, Екатерины — Первая, Вторая и даже Третья… Надо было снабдить это монархическое хозяйство современной автоматикой.
Как я уже объяснял, важно правильно выбрать момент включения палеофиксатора. Отчет времени нужно вести с появления яйца; но не могли же мы днем и ночью сидеть перед голубятником. Я придумал довольно надежную систему сигнализации. В общих чертах вырисовывалась и вторая система, оповещающая, что птеродактиль вылупился из яйца. Следовало предусмотреть также защиту от котов: дачные коты изобретательны и прожорливы.
Часам к одиннадцати схема была готова. Я вышел в сад и увидел, что Вениамин Николаевич перебирает пальцами в воздухе с такой скоростью, будто играет на невидимом рояле. Мальчишка терпеливо разъяснял: “Теперь надо повернуть левую ладонь вниз… Ниже, ниже!.. Это же вторая производная, а вы держите руку на уровне груди, что соответствует первой производной…”
Пришлось вмешаться. Через полчаса мальчишка спал на своей раскладушке, а Упшинский сидел на веранде, и в очках его отражалась янтарная луна.
— Я всегда к вам хорошо относился, — сказал он наконец. — А вы от меня что-то скрываете. Математика на пальцах — это недурно, совсем недурно. Но вы задумали другое. Я же вижу.
Я встал и торжественно объявил:
— Вениамин Николаевич, мы будем получать птеродактилей и динозавров.
— Садитесь, — спокойно сказал Упшинский. — Значит, птеродактилей?
— И динозавров, — подтвердил я. — А также ихтиозавров, мегатериев и саблезубых тигров.
Упшинский долго молчал. Потом спросил:
— Это он придумал?
— Он, — ответил я,
— Ну что ж, вероятно, дельная мысль. Рассказывайте.
За двадцать лет это был первый случай, когда Вениамин Николаевич заранее одобрил чью-то идею. И какую идею! Я, конечно, провел психологическую подготовку, начав с математики на пальцах, но такого результата, признаться, не ожидал. Вениамин Николаевич безоговорочно поверил в мальчишку.
Так начался наш эксперимент.
Впрочем, по-настоящему он начался только на четвертые сутки после переезда на дачу, а до этого я вертелся как белка в колесе. Привез голубятник. Наладил автоматику. Заготовил сушеную рыбу и рыбные консервы (не будет же птеродактиль есть зерно).
Кроме того, время от времени мне приходилось выдворять изобретателей, осаждающих Вениамина Николаевича. Какой-то мудрец в институте патентной экспертизы постоянно спихивал Упшинскому — на общественных началах — наиболее въедливых и шалых субъектов. Одна такая личность появилась в первое же утро.
Было еще совсем рано. Вениамин Николаевич и мальчишка спали, а я стоял на траве вверх ногами. Тут придется отвлечься и объяснить, зачем надо по утрам стоять вверх ногами. В “Основах теории литературы” указано, что небольшие отступления, например философского характера, нисколько не вредят художественному строю рассказа.
Однажды меня осенила следующая мысль. Природа изобрела систему кровообращения в те далекие времена, когда в обществе было принято передвигаться на четырех лапах. Сердце, играющее роль насоса, располагалось на одном уровне с головой и, как бы это сказать, всем остальным. Но человек перешел от горизонтального образа жизни к вертикальному. И сердце (которое насос!) вынуждено теперь работать в более тяжелых условиях.
Между прочим, обезьяны прекрасно это понимают. Поэтому любимое их занятие — висеть на дереве вниз головой, зацепившись хвостом за сук. От периодического прилива крови к голове сосуды то расширяются, то сжимаются. Отличная тренировка.
К сожалению, человек лишился хвоста (в значительной мере — и деревьев). Пришлось постоянно ходить вверх головой. А тут еще мозги усложнились (так, во всяком случае, утверждают). Сердце должно было преодолевать сопротивление множества узких и высоко расположенных сосудов. Отсюда все беды: от головной боли до кровоизлияния в мозг.
Йогам потребовалось всего семь тысяч лет, чтобы прийти к системе физкультуры (хатха-йога), стихийно основанной на стремлении вернуть человека к позам, типичным для животных. Об этом свидетельствуют даже названия упражнений — “поза верблюда”, “поза змеи”, “поза крокодила”…
Так называемое “полное дыхание” йогов — это именно тот способ, которым дышат животные, хотя они, вероятно, не знают о системе йогов. Во всяком случае, кот, на котором я ставил контрольные опыты, наверняка не знает о хатха-йоге. Это ленивый и невежественный кот. Просто удивительно, что дышит он только по системе йогов!
Теперь, надеюсь, вам понятно, почему я каждое утро четверть часа стою вниз головой.
В то утро я только-только пристроился вверх ногами и сосредоточился на полном дыхании, как появился изобретатель. Он проник через щель в заборе.
— Доброе утречко, — бодро сказал он. — Занимаетесь?
Он ходил вокруг меня, хрустел пластмассовым плащом и непрерывно верещал. Я закипал молча, потому что полное дыхание никак нельзя совместить с разговорами.
— Ради бога, не спешите, — говорил он. — Я подожду. Очень интересно, очень интересно…
Я не спешил. Я отстоял свои пятнадцать минут и только тогда вскочил, чтобы выложить ему ряд мыслей и пожеланий. И вдруг я увидел его глаза. Они были совсем черные, то есть белки глаз, радужная оболочка — все было черным!
— Вот вы, наверное, думаете, что это черные контактные линзы! — Он радостно хихикнул. — Нет! Не-ет! Это я покрасил глаза. Краска вместо солнцезащитных очков. Две капли на день. По вечерам можно смывать. Удобно, дешево… хотите тоже покрасить?
Я с энтузиазмом пожал ему руку и сказал, что сейчас придет дежурный врач и можно будет договориться, чтобы его поместили в мою палату.
— Что? — пролепетал он. — Что вы сказали?
Я повторил, добавив несколько впечатляющих деталей. Он побледнел. Это было шикарное зрелище: выкрашенные в черное глаза на физиономии мучного цвета.
— Так, значит, здесь… того… А мне говорили совсем наоборот…
Он тихо двинулся от меня задним ходом.
— Не пожалеете, — доверительно сообщил я. — У нас тут волейбол, телевизор. Лодка с вечным двигателем…
Он пискнул, отскочил бочком к забору и юркнул в щель.
Так вот, эксперимент начался по-настоящему только на четвертые сутки. В пять утра отчаянно заголосили три звонка контрольной системы (в ответственных случаях я предпочитаю иметь солидный запас надежности). Мальчишка дежурил у себя в институте. Мы с Вениамином Николаевичем бросились на веранду, к голубятнику.
Автоматика не подвела! В пенальчике Антония и Клеопатры (голубятник был разделен на аккуратные фанерные пенальчики) лежали два свеженьких яичка. Мы выбрали одно, показавшееся нам более крупным, отметили его и вернули взволнованной царице.
— Превосходно! — объявил Вениамин Николаевич. — Теперь остается вовремя включить палеофиксатор и…
Спать мне уже не хотелось, поэтому я спросил Вениамина Николаевича:
— А зачем, собственно, людям нужны птеродактили, ихтиозавры и прочие мегатерии?
Упшинский возмущенно фыркнул. В стеклах его очков отражался голубятник.
— У вас никогда не было настоящего воображения! Да, да, не спорьте… Вы что — не знаете, зачем они нужны? Ну, хотя бы для вашей же палеобионики. Вообще — для науки. Наконец, для людей.
— В смысле животноводства? — спросил я. Все-таки было любопытно, почему Вениамин Николаевич так уверовал в великое будущее палеофиксатора.
— И в смысле животноводства тоже. Можете не улыбаться. Вы когда-нибудь пробовали черепаховый суп? То-то! Так почему вы думаете, что суп из какого-нибудь допотопного архелона будет хуже? Наконец, как вы смотрите на другие планеты?
Я заверил Вениамина Николаевича, что в данный момент никак не смотрю на другие планеты.
— Вы эти шутки бросьте, — сказал он. — Ведь черт знает, какие там условия! У вас есть гарантия, что коровы приживутся где-нибудь на Венере лучше, чем те же архелоны?
Клянусь, эту идею ему подкинул Дерзкий Мальчишка! Но, в обшем, было приятно сидеть на веранде, смотреть, как сверху, с деревьев, спускается розоватый свет утреннего солнца, и слушать рассуждения Вениамина Николаевича о перспективах разведения динозавров на Венере.
— Наконец, — продолжал Вениамин Николаевич, — взгляните на это дело с философской точки зрения.
Я признался, что давно испытываю желание взглянуть на динозавров с философской точки зрения. Однако Упшинский уже не обращал внимания на мои реплики. Засунув руки в карманы пижамы, он размашисто вышагивал по веранде (доски жалобно скрипели) и выкладывал свои философские соображения.
Между прочим, соображения довольно любопытные. Как только появится свободная неделька, я упрошу Вениамина Николаевича изложить их на бумаге. Получится брошюра, которую можно будет назвать “Некоторые философские аспекты динозавроводства”. Главная мысль в том, что решена проблема, которая считалась абсолютно неразрешимой. Настолько неразрешимой, что над ней даже не думали. Следовательно, надо браться и за другие проблемы такого типа, их тоже можно решить. “Мы нашли реальный (хотя и частичный) путь к созданию своего рода машины времени…” В таком вот духе. Отличная будет брошюра!
Но если говорить откровенно, в создании динозавров действительно есть что-то волнующее. Я лично начал волноваться после того, как яйцо подверглось обработке на палеофиксаторе. Процедура, кстати, непродолжительная. Восемь минут, включая некоторые подготовительные операции. Машиной управлял Дерзкий Мальчишка. Вениамин Николаевич нежно прижимал к груди рассерженную Клеопатру. Я сфотографировал всю компанию, снимки получились удачные.
Я жалел только, что мы запланировали птеродактиля, а не зауролофа. Имея зауролофа, можно сразу продемонстрировать возможности палеобионики. Тут намечался прямой выход к работе, которую я вел в конструкторском бюро.
Зауролофы — весьма экзотические двуногие ящеры. Махина высотой с трехэтажный дом. Жили они в прибрежной зоне, ели загрязненную песком и илом растительную пищу. Зубы у зауролофов непрерывно росли, сменяя друг друга. Это чертовски интересно, скажем, для буровой техники. Современные животные значительно меньше по размерам и обходятся одним комплектом зубов. Только слоны имеют сменные зубы, когда-то придуманные природой для зауролофов…
Конечно, для первого эксперимента птеродактиль имеет определенные преимущества. Но, спрашивается, что нам мешало “палеофиксировать” и второе яйцо? Надо признаться, мы допустили промашку. Даже из соображений надежности следовало бы обработать “палеофиксатором” оба яйца.
Впрочем, у меня просто не было времени особенно огорчаться. Вениамин Николаевич писал мемуары и уклонялся от хозяйственных дел. Нельзя, видите ли, нарушать возвышенный образ мыслей, необходимый мемуаристу! А мальчишка вдруг переключился с палеонтологии на акустику. У него появилась новая идея. Между прочим, идея чрезвычайно оригинальная, но я не решаюсь ее изложить. “Основы теории литературы” не одобряют излишнего техницизма.
Что делать, меня постоянно распирает от всевозможных идей. И мальчишку распирает. (Я заметил: он ходит, подпрыгивая. Может быть, от идей, а?) Вениамина Николаевича тоже осеняют разные мысли. Очень соблазнительно рассказать обо всем этом, махнув рукой на предписания теории литературы[15]…
Ладно, вернемся к делу.
Однажды у Антония и Клеопатры появился первый, самый обыкновенный, птенчик. Царственные особы устроили в своем пенальчике большую возню, и Вениамин Николаевич заявил, что надо срочно строить инкубатор. Но все обошлось. Яйцо, обработанное “палеофиксатором”, уцелело. Клеопатра высиживала его еще трое суток.
Вениамин Николаевич волновался, много курил и жаловался на сердце. По ночам он часто просыпался и, накинув пальто, шел к голубятнику. Он не очень доверял автоматике и опасался котов. Коты ему мерещились всюду. Он кидал камни в кусты смородины и шипел страшным голосом: “Вот я вас, коварные…” Днем, когда приезжал мальчишка, они устраивали облавы на котов. Я не очень удивился, увидев как-то у Вениамина Николаевича рогатку. Я только намекнул, что сведущие люди предпочитают в таких случаях бумеранг.
— Бросьте ваши неандертальские шуточки! — сердито сказал Вениамин Николаевич. — У вас совершенно не научный склад ума. Надо было поставить голубятник на втором этаже.
Ожидаемое существо появилось ночью, в половине второго. Мальчишка, как обычно, дежурил в институте. Меня разбудил истошный крик звонков. Я вскочил, надел тапочки, схватил фотоаппарат и лампу-вспышку. В открытую дверь я увидел Вениамина Николаевича. Он махал руками и мычал что-то нечленораздельное. Накануне я уезжал в город, и на дачу проник какой-то изобретатель, упросивший Вениамина Николаевича испытать “Антискрежетин-4”. Изобретатель утверждал, что днем зубы бывают сжаты только восемь минут, а ночью — два часа. Ночью, клялся изобретатель, зубы скребутся друг о друга и от этого портятся. “Антискрежетин-4” должен был осчастливить человечество. Сейчас Вениамин Николаевич никак не мог извлечь изо рта эту пластмассовую дрянь.
Мы так и выскочили на веранду. Не было времени возиться с “Антискрежетином”. Я подбежал к голубятнику, включил свет, и мы увидели…
Нет, это был не птеродактиль.
Включая “палеофиксатор”, мы кое в чем ошиблись (я потом объясню, в чем именно). Антоний и Клеопатра удивленно рассматривали маленького, похожего на ящерицу археоптерикса.
Очень осторожно я вытащил археоптерикса из пенальчика и положил на ладонь. Кажется, я слышал стук своего сердца. Все-таки опыт удался! У меня на ладони лежало существо, которое должно было жить более ста миллионов лет назад…
Вениамин Николаевич мычал что-то восторженное. Он все еще не мог выплюнуть “Антискрежетин”.
Археоптерикс был великолепен. Конечно, я смотрел на него почти родительскими глазами, но он и в самом деле был красив: изящная, как игрушка, крылатая ящерица.
Птенцы обычно уродливы и имеют жалкий вид. Нужно время, чтобы они стали красивыми птицами. Новорожденный же археоптерикс — уменьшенная копия взрослого археоптерикса. Подобно маленьким змейкам, археоптерикс с первых минут появления на свет способен к самостоятельному существованию. В нем нет ничего, как бы это сказать, детского. Только перья похожи на чешуйки. Впрочем, на голове перья и в самом деле переходят в чешую. Голова сплющенная, вытянутая, без клюва. Во рту множество мелких зубов. Глаза желтые, со сросшимися, как у змеи, прозрачными веками. Туловище вытянутое, с длинным и широким хвостом. Очень красивые перья — синеватые, с металлическим отливом. Самое удивительное — пальцы на передней кромке крыльев. Большие, когтистые, вытянутые вперед.
Судя по всему, маленький археоптерикс не испытывал страха. Он вертел плоской ящерообразной головой, смотрел на нас и даже пытался ущипнуть мой палец.
— Снимайте, скорее снимайте! — прошептал Вениамин Николаевич. Он наконец освободился от “Антискрежетина”.
Я передал ему археоптерикса. Мне хотелось, чтобы в кадре уместились, кроме археоптерикса, и мы с Упшинским. Я отодвинул штатив подальше, навел аппарат, включил автоспуск и побежал к Вениамину Николаевичу.
И вот в этот момент ему стало плохо. Он побледнел, схватился за сердце и, протянув мне археоптерикса, тихо сказал:
— Возьмите…
Я подхватил Вениамина Николаевича, взял у него археоптерикса (он тут же ущипнул меня) и сунул его Клеопатре,
А потом были сумасшедшие полтора часа, когда я поил Упшинского лекарствами (не знаю какими) и бегал по соседним дачам, отыскивая телефон. Вернулся я на машине “неотложки” и увидел Упшинского на веранде.
Вениамин Николаевич в расстегнутой пижаме, босиком стоял у голубятника и выкрикивал в пространство изречения скорее фольклорного, чем дипломатического характера.
— Полегчало, — констатировал пожилой санитар и запихнул носилки в машину.
Вениамину Николаевичу и в самом деле полегчало, но археоптерикс бесследно исчез.
Сейчас трудно сказать, как это произошло. Может быть, у археоптериксов нет почтения к родителям. Может быть, Антоний и Клеопатра сами затеяли драку со своим странным отпрыском. Но бой в голубятнике был крепкий, это факт. Голуби до утра сидели на крыше и сердито переговаривались. По веранде летали перья.
Куда делся археоптерикс — до сих пор неизвестно. Я тогда сразу обшарил голубятник. Осмотрел веранду и комнаты. Залез даже на чердак. Безрезультатно.
Рано утром из города примчался мальчишка, и мы вдвоем тщательно осмотрели сад.
Вениамин Николаевич никак не мог улежать в постели. Он торжественно поцеловал Дерзкого Мальчишку и тут же расплакался. Всхлипывая, он объявил, что успел полюбить археоп-териксёночка и поэтому надо искать и искать.
Даже взрослые археоптериксы не летают, они могут только планировать. Зато взбираться по деревьям археоптериксы, наверное, умеют с первого дня. Вряд ли наш археоптерикс сразу ушел далеко. Но попробуй отыщи эту маленькую полуптицу, полуящерицу…
Сегодня девятый день после исчезновения археоптерикса. Теперь он может быть и в нескольких километрах от дачи. Пищи кругом достаточно: ягоды, червяки, насекомые.
Обидно, что не осталось даже фотоснимка. На единственном снимке, сделанном в ту ночь, запечатлен Вениамин Николаевич. В очках у него отражается моя перекошенная физиономия. Археоптерикс в кадр не попал.
Два дня мы занимались поисками. Потом Упшинский пошептался с мальчишкой и объявил:
— Хватит! Проще получить дюжину новых археоптериксов, чем найти этого наглеца. В конце концов, есть еще порох в палеофиксаторе! В следующий раз будем умнее.
Да, в следующий раз мы обязательно будем умнее!
Весь второй этаж дачи заставлен инкубаторами и термостатами. Мы потратили на это неделю. Полсотни яиц будут подвергнуты действию палеофиксатора. Мы получим целый допотопный зверинец.
Вениамин Николаевич ходит в Палеонтологический музей: рассматривает скелеты вымерших животных. Он уверяет, что уже привык, освоился и теперь не станет волноваться даже при встрече со взрослым тираннозавром.
Время еще есть, я думаю приладить автоматическую кинокамеру. На окнах — прочные сетки, на дверях — замки. Отсюда и бронтозавр не выберется!
Кстати, о бронтозаврах. Тогда, в первый раз, не случайно вместо птеродактиля получился археоптерикс. Дело в том, что птеродактили — не предки птиц. Точно так же, как ихтиозавры не предки рыб, а бронтозавры не предки современных млекопитающих. Поясню это примером. Мы иногда говорим, что человек произошел от обезьяны. Тут известное упрощение. Человек и обезьяна имеют общих предков. Это как бы две ветви, растущие из одной точки ствола.
У динозавров и млекопитающих тоже есть общие предки — древнейшие пресмыкающиеся и земноводные. Применяя палеофиксатор, нельзя (без некоторых дополнительных операций) получить бронтозавра или зауролофа. Нельзя получить и птеродактиля: родословная современных птиц восходит (через археоптериксов) к тем же древнейшим пресмыкающимся.
Мы это учитывали. Тут, к сожалению, все дело в кустарном исполнении палеофиксатора. Трудно с достаточной точностью провести дополнительные операции, которые должны направить развитие зародыша “по боковой линии”.
Правда, мы уже наметили пути усовершенствования палеофиксатора. Думаю, скоро удастся получать любых животных. Но пока (в опыте, который мы сегодня начали) придется рассчитывать, так сказать, на прямых предков[16].
Древнейшие пресмыкающиеся не имеют среди широкой публики такой популярности, как бронтозавры и птеродактили. Однако среди “прямых предков” тоже немало экзотических созданий. Мы намерены, в частности, получить полдюжины диметродонов. Это трехметровые ящеры с высоким, как парус, гребнем во всю спину. Запрограммированы также четыре мастодонзавра (представьте себе жабу величиной с танк) и десяток мосхопсов (ящеры, похожие на гигантских кривоногих такс).
На этой экзотике настоял Вениамин Николаевич. Неделю назад мы всей компанией ходили в одно околонаучное заведение. Упшинский сказал, что умные люди поймут и поддержат нас. Умные люди, конечно, поняли бы и поддержали. Но нам попался жизнерадостный болван. Он оглушительно хохотал. Он хохотал так, что звенели стекла книжного шкафа и в открытую дверь кабинета заглядывали чьи-то испуганные лица. Мы ушли, преследуемые пушечной силы хохотом.
Но мы еще придем в этот кабинет. Будьте уверены! Проще показать, чем доказать. Так что не удивляйтесь, если в один прекрасный день вы встретите на Рязанском шоссе небольшое стадо диметродонов, мастодонзавров и мосхопсов…
РАССКАЗ
Мы познакомились на конференции по бионике. После моего выступления в зале изрядно шумели. В суматохе Дерзкий Мальчишка подсел ко мне и тихо спросил:
— Скажите, пожалуйста, хотели бы вы получить динозавра?
Я посмотрел на него и понял, что он имеет в виду живого динозавра. Я мгновенно представил, насколько укрепится палеобионическая гипотеза, если в моем распоряжении окажется хотя бы один живой динозавр.
— Давай, — сказал я. — Давай твоего динозавра.
Я с первого взгляда определил, что передо мной — Дерзкий Мальчишка и что он знает, где раздобыть живого динозавра. Но, по правде сказать, я не ожидал, что идея окажется такой потрясающей. В конце концов, он мог просто знать, где водятся динозавры. Надо принять во внимание, что в зале был шум. Отдельные слишком темпераментные оппоненты выкрикивали разные доводы против моей гипотезы. Из-за этого отвлекающего фактора я, собственно, остановился на столь банальной догадке. Динозавров обычно где-то находили. Таков литературный штамп, это и ввело меня в заблуждение. Благородная и великая идея Дерзкого Мальчишки не имела ничего общего с этим убогим штампом.
Я понял суть идеи на третьей фразе и несколько даже ошалел от размаха. То, что придумал Дерзкий Мальчишка, далеко выходило за пределы палеобионики. Это одна из фундаментальных идей, которых в науке — за всю ее историю — насчитывается лишь несколько десятков, не больше.
Подумайте сами, пока я еще ничего не рассказал, как раздобыть живого бронтозавра. Ну, не бронтозавра, так хотя бы игуанодона или, на худой конец, самого завалящего махайрода. Готов спорить: не придумаете!
Между тем в этой задаче нет ничего принципиально нерешимого. Вот, например, идея, приближающаяся к решению. Пьер де Латиль пишет в своей книге “От “Наутилуса” до батискафа”: “Если на океанском дне не происходят процессы гниения, то трупы живых существ, которые могли упасть на дно, сохраняются там в целости в продолжении тысячелетий. А это означает, что на дне океанов можно было бы найти в абсолютно неповрежденном состоянии останки многих давно вымерших на земле животных. Вот гипотеза, способная взбудоражить самый холодный и не склонный к романтике ум! Приходится лишь удивляться, что ни одному автору научно-фантастических романов до сих пор не приходила в голову мысль использовать эту тему”.
Согласитесь: гипотеза и в самом деле остроумная. Что говорить, конечно, тут существует некое “но”. Даже в самых глубоких океанских впадинах есть жизнь, микроорганизмы и, следовательно, гниение. Однако сама по себе мысль, как видите, лишь чуть-чуть не дотягивает до требуемого решения.
Попытайтесь все-таки подумать относительно живого динозавра.
А я пока продолжу рассказ.
Итак, Дерзкий Мальчишка выложил свою идею.
— Пойдет? — спросил он.
Клянусь, он был готов к защите! Настоящий Дерзкий Мальчишка, я эту породу знаю.
Когда-то я сам был Дерзким Мальчишкой. Но мне уже скоро сорок, и я давно подал в отставку. У меня семья, я состою членом жилищного кооператива и выписываю полезный журнал “Здоровье”. По поведению мне смело можно ставить пятерку. Если в отдельных (совершенно нетипичных) случаях во мне и вспыхивает что-то такое, я сразу включаю внутренние тормоза.
Я даже не знаю, почему на конференции поднялся шум. Мое выступление было выдержано в спокойном, академически скучноватом стиле.
Видимо, придется рассказать об этом выступлении: тогда вы поймете, почему мне понадобился динозавр. Вообще, я должен буду объяснить уйму разных вещей. Ничего не поделаешь, одно цепляется за другое. Рассказ будет довольно сумбурным, предупреждаю заранее.
Поскольку мы уж заговорили об этом, надо сказать прямо, что я не писатель. Все, о чем здесь написано, не содержит ни капли вымысла. От нас сбежал… гм… сбежало некое живое существо. Спрашивается: прикажете дать объявление в газете? Дескать, так и так, утерян, предположим, стиракозавр средних размеров, особых примет не имеет, о находке просят сообщить по адресу…
Подумав, я и решил написать рассказ. Согласитесь, это неплохой выход. Тот, кто усомнится в истинности происшедшего, может считать это фантастическим рассказом. Однако если вам встретится сбежавшее существо (а я на это рассчитываю), вы будете знать, в чем дело.
Начнем с конференции. Как я уже говорил, она была посвящена проблемам бионики. Надеюсь, нет необходимости объяснять, что такое бионика, тем более это не так просто объяснить. Выступая на конференции, я перечислил одиннадцать определений бионики, принадлежащих разным авторам. Собственно, с этого и начался шум. Но оставим терминологию; в конце концов, это формальная сторона. Будем считать, что бионика изучает “конструкции” животных и растений с целью использования “патентов природы” в технике. Ну, допустим, выясняют, как медуза слышит приближение шторма, а потом создают метеорологический прибор “ухо медузы”. Все очень мило, если не задаться вопросом: а разве изобретатели раньше, до появления слова “бионика”, не копировали природу?
В своем выступлении я привел интересный пример, почему-то вызвавший в зале излишнее оживление. Древние греки применяли тараны — массивные бревна, которыми взламывали ворота осажденной крепости. Торцовая часть тарана от ударов быстро расплющивалась. И вот неведомые миру древнегреческие бионики нашли отличное решение: они придали торцу тарана форму бараньего лба. Такой таран разбивал самые крепкие ворота.
Подобных примеров множество. Спрашивается: изменилось ли положение оттого, что мы — во второй половине XX века — заменили слова “копирование природных прообразов” словом “бионика”?
Когда я задал этот вопрос, один из наиболее нетерпеливых оппонентов высказался с места в том смысле, что раньше “патенты природы” использовались случайно и редко. “Возникновение же бионики, — внушительно сказал он, — знаменует переход к широкому и планомерному внедрению в технику решений, заимствованных у природы”. Затем оппонент сел, вкушая заслуженные аплодисменты. Да, да, вполне заслуженные, потому что он был абсолютно прав! Бионика имеет смысл лишь в том случае, если количество заимствованных у природы идей увеличивается в сотни, в тысячи раз. Между прочим, я это и сам знал. Научный диспут в какой-то мере подобен шахматной игре. Я сознательно отдал пешку, чтобы выиграть ладью.
Итак, бионика должна давать много новых идей. Хорошо. Даже великолепно. Спрашивается: где они, эти идеи? Где могучий поток новых открытий и изобретений?
Я напомнил, что в вестибюле устроен симпатичный стенд с книгами, брошюрами и статьями о бионике. Затем я спросил: заметил ли кто-нибудь, что все авторы приводят один и тот же, весьма скромный набор примеров? Заметил ли кто-нибудь, что в большинстве случаев сначала делается изобретение, а потом находится прообраз в природе?
В зале наступила относительная тишина, и я смог изложить принцип палеобионики. (Прошу следить за ходом мысли, мы, приближаемся к вопросу о динозавре).
Древнегреческие бионики, создавшие таран с бараньим лбом, выбрали самый лучший из известных им природных прообразов. Тем же нехитрым методом действуют и сейчас: ищут возможно более совершенный “оригинал”. Однако такой “оригинал” — в этом-то и загвоздка! — почти всегда оказывается слишком сложным. Разобраться в его устройстве очень трудно. А построить “копию” порой просто немыслимо. Так, например, обстоит дело с попытками скопировать кожу дельфина. Постепенно выясняется, что дельфин обладает тончайшей системой кожного регулирования. Практически невозможно и невыгодно копировать столь сложный прообраз.
Тупик? Нет! Прообразами должны служить более простые вымершие животные, изучаемые палеонтологией. В этом и состоит основная идея палеобионики.
Вот тут тишина сразу прекратилась! Но я все-таки докричал свое выступление.
Вымершие животные уступают современным в развитии головного мозга и нервной системы. В остальном они достаточно совершенны. По некоторым “показателям” древние животные вообще превосходят своих выродившихся потомков. Исчезли такие животные не потому, что были плохо “устроены”. Они вымерли из-за изменений климата и рельефа, а в некоторых случаях были истреблены человеком.
Аплодисментов не было, но я на них и не очень рассчитывал. Не следует думать, что научные конференции проводятся по методу “встретились, поговорили, разошлись”. Представьте себе: десятки лабораторий, сотни и тысячи людей ведут исследования в каком-то направлении. И вот на конференции впервые называется другое направление. Думаете, так просто “переключиться”? “Горят” чьи-то готовые к защите диссертации. Нужно ломать чье-то не без труда собранное оборудование. Кому-то придется начинать работу заново, с нуля. Всякое “переключение” связано с потерей времени. Поневоле задумаешься.
Бионика требует контакта между биологами и инженерами. Очень сложная штука, этот контакт! А тут возникает вопрос о привлечении еще и палеонтологов…
Полагаю, теперь вам понятно, почему я не рассчитывал на аплодисменты. Нужно определенное время, чтобы новая идея была воспринята как необходимость. По шуму в зале я чувствовал, что процесс этот идет нормально. Я шепнул мальчишке: “Давай выбираться!” — и мы незаметно потихоньку двинулись к выходу.
Впрочем, не совсем незаметно, потому что в вестибюле нас настиг взъерошенный гражданин средних лет.
— Один вопрос! — быстро сказал он и намертво вцепился в пуговицу моего пиджака. — Так, так! Вот вы говорите, что надо копировать вымерших животных…
— Говорю, — покорно признался я, пытаясь высвободить пуговицу.
Он возбужденно заглотнул воздух и продолжал:
— Понимаете, я изучаю механику работы птичьего крыла. С позиции самолетостроителя. Крыло — изумительно по совершенству! И вот вы предлагаете, — он рванул злополучную пуговицу, — вы предлагаете использовать палеобионический принцип. Та-ак, та-ак! Значит, вместо прекрасного — да, да, прекрасного! — крыла птицы самолетостроители должны ориентироваться, простите, на паршивое крыло какого-нибудь птеродактиля? Так?
Он машинально поднес к глазам оторванную пуговицу, пожал плечами и сунул ее себе в карман. Мне захотелось посмотреть, на что способен мальчишка. Я показал ему на взъерошенного гражданина.
— Паршивость — понятие относительное, — философски сказал мальчишка, охотно выдвигаясь вперед.
Взъерошенный гражданин уставился на Дерзкого Мальчишку. Мне понравилось, что гражданина не шокировал возраст нового противника.
— Вы хотите сказать… — вкрадчиво начал взъерошенный гражданин.
— Вот именно, — перебил Дерзкий Мальчишка и взял его за пуговицу. — То, что плохо для живого существа, может оказаться хорошим в технике.
С пуговицей это было, пожалуй, лишнее. Но говорил он бойко. Взъерошенный гражданин едва успевал вставлять свои “та-ак, та-ак”.
Крыло птерозавра действительно хуже птичьего крыла. Почему? Малейшее повреждение кожаной перепонки — и птеродактилю конец. Однако у современной техники иные возможности и иной арсенал материалов. С этими материалами выгоднее копировать гладкие крылья таких отличных летунов, как вымерший рамфоринх или живущая и ныне, но обладающая древней родословной стрекоза.
Это было прекрасно сказано: я бы не сказал лучше. Взъерошенный гражданин произнес протяжное двухметровое “та-а-а-к” и погрузился в раздумье.
Мы сразу дали ходу.
— Пуговицу ты мог бы и не трогать, — сказал я мальчишке.
— Надо же вам пришить пуговицу, — ответил он. — Вот, смотрите, точно такая, как ваша.
Ему нельзя отказать в наблюдательности — непременном качестве настоящего исследователя.
На улице он купил два пирожка с рисом. Пирожки я отобрал и бросил первой встречной собаке (это был увешанный медалями бульдог; он презрительно оттопырил тяжелую губу и мутно посмотрел на меня). А мы пошли в кафе “Прага”, потому что вопрос о динозаврах следовало обсудить безотлагательно.
Здесь самое время кое-что рассказать о Дерзком Мальчишке.
Не буду называть его имени и фамилии. Вам они ровным счетом ничего не скажут. Пусть он пока так и останется Дерзким Мальчишкой. В конце концов, это звучит не хуже, чем Главный Конструктор.
Не буду также излагать биографию Дерзкого Мальчишки, когда-нибудь она появится в серии “Жизнь замечательных людей”. Если вы в этом сомневаетесь, давайте ваше решение задачи о динозаврах! Боюсь, что у вас до сих пор нет решения… Крепенький орешек, а?
Да что тут говорить, возьмите, например, фантастическую литературу. Вымершими животными напичканы сотни рассказов, повестей, романов. Но в основе одна идея — герои обнаруживают некий затерянный мир, где чудом сохранились динозавры или мамонты. Есть и подварианты: встреча с древними животными происходит на чужой планете или при поездке в прошлое на машине времени. Со времен Рони-старшего и Конан-Дойля фантастика не пошла дальше. Представьте себе, что “космическая” фантастика остановилась бы на жюль-верновской колумбиаде, и сейчас писали бы о полетах к звездам в пушечных снарядах… С “динозавровой” фантастикой именно такое положение. И уж если фантасты не придумали ничего путного, то проблема, поверьте, не из простых.
Когда-нибудь Дерзкому Мальчишке поставят памятник. Скульпторы, испокон веков создававши, конные статуи, на этот раз изобразят всадника на уламозавре. Или на трицератопсе[14]. Между нами говоря, место я уже присмотрел. Напротив палеонтологического музея. Конечно, пока памятник ставить нельзя: у мальчишки слишком легкомысленный вид. Скажем, Эйнштейн или Павлов — могли бы их узнать на фотографиях, сделанных, когда этим великим людям было по пятнадцать лет? А впрочем… Мы говорим об Эйнштейне, Боре, Тимирязеве и видим величественных старцев. Но ведь они были почти мальчишками, когда делали свои открытия!
Ладно, о памятнике и биографии в серии “Жизнь замечательных людей” еще будет время подумать. Пока важен другой вопрос: как получилось, что обыкновенный мальчишка стал Дерзким Мальчишкой?
Тут не все ясно. Однако в общих чертах вырисовывается такая история. Мальчишка привык считать на пальцах. Через эту могучую мыслительную стадию проходим все мы. И всем нам не дают долго на ней задержаться. “Ах, ах, так нельзя! Ах, стыдно, ах, не положено…” Так вот, мальчишке кто-то сказал: “Что ж, попробуй. Сложение и вычитание на пальцах — это просто. А вот как дальше — не знаю”. Он не помнит, кто ему это сказал. Жаль. Ибо именно в этот момент и приоткрылась дверь в науку.
В самом деле, кто может доказать, что, например, бином Ньютона проще решать на бумаге, а не на пальцах? Ведь никто не пробовал!
Мальчишка долго совмещал “положенную” арифметику с “неположенной”. Сначала потому, что так было легче. Потом по привычке. Наконец, из интереса. И вот однажды он решил на пальцах кубическое уравнение. Над ним смеялись. Но он уже был исследователем, самым натуральным исследователем!
Я видел, как он вычисляет на пальцах. Уравнения высших степеней он щелкает, как семечки. Ну, еще кое-что в дифференциальном и интегральном исчислениях. Векторная алгебра. Дифференцированию, например, соответствует поворот рук ладонями вниз. Введены вспомогательные обозначения: “одна нога”, “правое ухо”, “левое ухо”, “прищуренный глаз” (для операций с мнимыми числами) и так далее. В среднем вычисление на пальцах раза в три быстрее, чем на бумаге. Конечно, нужна солидная тренировка.
Все это очень интересно, и я мог бы рассказать подробнее (квадратные уравнения я уже сам могу решать на пальцах). Но тогда получится математический трактат. А я пишу рассказ. Художественная литература — дело серьезное. Тут, знаете ли, свои законы, приходится считаться. Так что давайте вернемся к художественной литературе.
Я не люблю, когда люди берутся за какое-нибудь дело, не удосужившись хотя бы полистать соответствующие книги. Решив изложить происшедшие события в форме рассказа, я прежде всего от корки до корки проштудировал “Основы теории литературы” Л.И.Тимофеева. Не буду преувеличивать: кое-чего я не понял. Например, как раскрыть характер героя произведения? У Тимофеева на странице 141-й сказано: “Характер раскрывается путем показа его взаимоотношений с другими характерами. Так, если в первой главе произведения изображается А., а во второй — Б., испытывающий страдания благодаря действиям А. в первой главе, то эти переживания Б. являются одной из форм раскрытия А., хотя А. во второй главе нет, и нет, следовательно, и относящихся непосредственно к нему словесных единиц”. Очень мило! Но Дерзкий Мальчишка взаимоотносится главным образом не с другими характерами, а с другими научными теориями. Как быть в этом случае?
Если бы я не читал Л.И.Тимофеева, то начал бы со штанов. Мальчишка носит серый клетчатый пиджак, белую рубашку, белый галстук и флотского образца штаны. Я спросил:
— Штаны — из соображений романтики?
— Нет, — ответил он. — Из соображения прочности.
Но “Основы теории литературы”, насколько я понял, предписывают не увлекаться такими частностями, как штаны, а сосредоточиться на описании наиболее характерного.
Дерзкому Мальчишке пятнадцать лет. Не берусь, однако, утверждать, что это очень характерно. Можно быть Дерзким Мальчишкой в десять лет и в семьдесят. Девчонки тоже могут быть Дерзкими Мальчишками. Тут все дело в стиле жизни. Мальчишка, о котором я рассказываю, приехал из Тамбова в Москву, поступил в восьмой класс и устроился работать. Он стал сторожем в научно-исследовательском институте. Это было блестяще придумано: он получил возможность, литературно говоря, вступить во взаимоотношение с оборудованием целого института! Идей у мальчишки был целый ворох. Эти идеи плюс институтское оборудование… вы, надеюсь, представляете?
Если меня когда-нибудь выгонят из моего КБ, я поступлю ночным сторожем в научно-исследовательский институт. При моей, смею думать, солидности я вполне могу рассчитывать на должность старшего сторожа. Мальчишку же приняли младшим сторожем. Дежурил он днем, а по вечерам приходил в институт готовить уроки. Часов в девять его пожилой коллега уютно засыпал, и тогда Дерзкий Мальчишка шел в лабораторию. В институте было разное оборудование, вплоть до гигантских разрядных установок. Но для проверки гениальных идей почти всегда достаточны самые простые средства.
Прошу обратить внимание: так продолжалось год — и мальчишка ни разу не попался. Полагаю, такое взаимоотношение с оборудованием в высшей степени характерно. Идеи могут быть сколь угодно сумасшедшими, но их осуществление требует спокойствия и вдумчивости. Стремление всюду совать нос, крутить все, что подвернется под руку, и прочая “любознательность”, почему-то вызывающая умиление, не имеют ничего общего с исследовательским талантом.
Дерзкий Мальчишка работал по плану. Сначала пять, потом шесть и семь часов в день — сверх школьной программы. Я видел тетрадь, в которую он ежедневно записывает отработанные часы. Три года в среднем по шесть часов в день — это шесть с половиной тысяч часов. Университетский курс математики, плюс физика, плюс полсотни книг по биологии, плюс палеонтология… Всего не перечислишь.
Откровенно говоря, листая эту тетрадь, я испытывал двойственное чувство. Работа титаническая, ничего не скажешь. Но шесть с половиной тысяч часов отняты у детства.
За вход в науку приходится дорого платить. Видимо, поэтому так соблазнительно проскочить без платы. Норберт Винер пишет в своей автобиографии: “…честолюбивые люди, относящиеся к обществу недостаточно лояльно, или, выражаясь более изящно, не склонные терзаться из-за того, что тратятся чужие деньги, когда-то боялись научной карьеры как чумы. А со времен войны такого рода авантюристы, становившиеся раньше биржевыми маклерами или светочами страхового бизнеса, буквально наводнили науку”. Винер имеет в виду капиталистическое общество. Но было бы наивным лицемерием утверждать, что у нас мало людей, которые идут в науку, только чтобы устроиться. Такие люди есть.
Винер, шутя, говорит, что неплохо было бы раз в году сжигать по жребию одного ученого. Тут, конечно, есть риск сжечь толкового человека. Зато резко уменьшится приток в науку карьеристов. Мальчишка, когда я рассказал об этой идее, просто повизгивал от восторга. Он до сих пор упорно не хочет считать ее шуткой.
Будем говорить серьезно. Проскользнуть в науку можно — это дело ловкости. Однако никакая ловкость не поможет бесплатно сделать что-то в науке. Чтобы получить калорию тепла, нужно затратить 427 килограммометров работы. Чтобы зажечь свой огонь в науке, нужна определенная работа — тут не изловчишься, не проскользнешь. И это еще только начало — зажечь огонь. Нужно всю жизнь поддерживать его, бороться с непогодой, ветрами, бурями.
Но и Винер по-своему прав: в науке иногда выдвигаются и без зажигания вышеупомянутого огня. Однажды я проделал любопытный мысленный эксперимент. Я рассуждал так.
Сам процесс научного творчества доставляет настоящему ученому огромное удовольствие. Научное исследование — вещь куда более вкусная, чем пирожное. Разумеется, каждый труд может приносить удовлетворение. Но научное творчество — не просто удовлетворение, а самое высшее из доступных человеку духовных наслаждений. Так вот, почему бы не считать это наслаждение главной частью зарплаты? Во всяком случае, это не нарушило бы социалистический принцип оплаты по труду. “Вот вам, глубокоуважаемый товарищ профессор, ставка лаборанта плюс золотая валюта духовных ценностей…”
Это было в субботу, в переполненной электричке. Со всех сторон на меня напирали туристы, навьюченные своей колючей амуницией. В таком положении мысленные эксперименты — самое утешительное занятие.
У меня много знакомых, так или иначе связанных с наукой. Я попытался представить, что произойдет, если им объявить: “Братцы, платить вам будем, как в многотрудные времена славного Галилея”.
В ответ я услышал голос одного из своих друзей. Услышал мысленно, но весьма натурально (когда в ребра вдавливаются котелки и палки, невольно настраиваешься на полумистическое общение с голосами героев и мученикой науки). “Чихать, — мрачно сказал голос. — Прокрутимся”.
Но я изрядно отвлекся, а Это, как сказано в “Основах теории литературы”, вредит художественности.
Вернемся к динозаврам.
Дерзкий Мальчишка отнюдь не предлагал искать динозавров. Его идея была значительно шире. Он нашел способ получать вымерших животных. Любых животных, не только динозавров.
Есть биогенетический закон: развитие зародыша животных более или менее полно повторяет развитие тех форм, из которых исторически сложился данный вид. За очень короткое время (дни, недели, месяцы) зародыш как бы конспективно повторяет путь, пройденный его предками в течение сотен миллионов лет эволюции. У куриного зародыша, например, на третьи сутки появляются жаберные борозды — признак, сохранившийся с тех пор, когда у рыб, далеких предков птиц, развивались жабры. У зародыша коровы жаберные дуги, возникают в возрасте двадцати шести суток и вскоре исчезают. У человеческого зародыша хвост и жабры появляются к полутора месяцам.
Кстати, о хвосте.
Мальчишка утверждает, что все началось именно с хвоста, точнее, с рисунка хвостатого человека в школьном учебнике анатомии и физиологии. Случай иногда нажимает не те кнопки на пульте Природы. Появляется частица прошлого. Атавизм. Но почему атавизмами нельзя управлять и вызывать их по своему желанию?
Небольшой хвост мог бы даже украсить человека. В конце концов, возимся же мы со своими прическами, хотя волосы — такой же атавизм, как и хвост.
Идея создания хвостатых людей была изложена тут же на уроке (точнее, вместо ответа по заданному уроку), и парень схватил двойку. Двойку он исправил, а идею забыл. У него было много разных идей.
Но через месяц, перечитывая “Человека-амфибию” Беляева, он вспомнил об этой идее. Ихтиандр создан хирургическим путем: ребенку пересадили жабры молодой акулы. Этим путем предполагает идти и Жак Ив Кусто. По его мысли, хирурги должны снабдить человека миниатюрными искусственными жабрами. Мальчишка, выросший у берегов несерьезной реки Цна, никогда не видел океана. Он даже не знал, что такое настоящее море. Но однажды он подумал: если на определенной стадии развития у человека — на какое-то время — появляются жабры, значит, можно сделать, чтобы они не исчезали.
Здорово, а?
Так вот, я вам скажу: это чепуха. Сущая чепуха. Потому что к организму современного человека нельзя “прилепить” древние жабры. Организм — единая конструкция. Изменение части повлечет изменение целого. Восстановление жабер — идея столь же дохленькая, как, скажем, проект оснащения атомохода веслами.
Вся сила в том, что мальчишка не остановился на этой идее, а пошел дальше.
У Жюля Верна в романе “Вокруг света в восемьдесят дней” поезд идет над пропастью по мосту, который едва-едва держится. Поезд успевает проскочить. И сразу же после этого обрушивается мост. Такова хитрая механика открытий. Многие подходят к пропасти, смотрят на мост и думают: “Эта штука явно не держит. Здесь дороги нет”. Но открыватель смело допускает невозможное. Он вступает на мост, который не держит. Остановиться нельзя. Надо успеть проскочить — и тогда пусть он рушится, этот мост. Он сыграл свою роль.
Идея восстановления жабер “не держит”. Но додумаем ее до конца. Раз нельзя восстанавливать по частям, нужно восстанавливать целиком.
Копаясь в литературе по эмбриологии, мальчишка встретил описание опытов Петруччи. Это была какая-то брошюрка, рассказывающая о том, как в “биологической колыбели” вырастили теленка. Вот здесь парень и увидел, что его метод применим не только к человеку.
Оставался лишь один шаг к самому широкому обобщению: управляя развитием зародыша животных, можно “воскресить” его отдаленных, давно вымерших предков.
Эта идея и открытие путей ее осуществления принадлежат только Дерзкому Мальчишке. Я помогал в конкретном эксперименте, не больше.
Быть может, самое удивительное — простота средств, потребовавшихся для эксперимента. Я не вправе сейчас рассказывать об этих средствах. Нетрудно представить, что произойдет, если каждый желающий начнет выращивать цератозавров, мегатериев или каких-нибудь титанофонеусов. Это все-таки не канарейки.
Принцип я объяснил, а по поводу остального скажу коротко. Дерзкий Мальчишка нашел некий фактор, позволяющий закреплять черты, присущие тем или иным отдаленным предкам. К моменту нашего знакомства был почти собран прибор, которому мы, сидя в кафе “Прага”, придумали скромное название — палеофиксатор.
Здесь же, в кафе, мы выработали план действий.
Дерзкий Мальчишка хотел сразу получить диплодока или брахиозавра. На мой взгляд, не следовало начинать с крупных животных. Я, конечно, не отрицаю: убедительность эксперимента пропорциональна размерам полученного ящера. Но тут есть и свои неудобства. Взрослый диплодок весил полсотни тонн и имел в длину около тридцати метров. Попробуйте выкормить такое создание!..
Для начала удобнее животное небольшое, но экзотическое. Мы обсудили разные варианты и остановились на птеродактиле. По палеонтологическим данным, птеродактиль не больше индюка, то есть имеет вполне транспортабельные размеры.
Как вы, надо полагать, догадываетесь, для получения птеродактиля необходимо: а) иметь яйцо и б) подвергнуть это яйцо действию палеофиксатора.
Вообще говоря, годится далеко не всякое яйцо. У Дерзкого Мальчишки составлена таблица: каких животных из каких яиц получать.
Сложнее определить, когда и на сколько времени включать палеофиксатор. Скажем, голубиные яйца. В течение пятнадцати — семнадцати дней зародыш проходит путь, на который эволюция потратила миллиард лет. Каждый час “яичного времени” соответствует двум с половиной миллионам “эволюционных лет”. Тут, знаете ли, нужна особая точность!
По разработанному нами плану на окончательный монтаж палеофиксатора отводилось четыре дня. Заниматься этим должен был мальчишка. Мне надлежало добиться отпуска, отослать семью и организовать дачу под Москвой.
С отпуском было не так просто, но, в общем, все уладилось. Еще труднее было достать туристические путевки для жены и сына на пароход, который собирался полмесяца ползти до Астрахани и полмесяца обратно. Зато вопрос о даче был утрясен пятиминутным разговором.
Тут надо рассказать о хозяине дачи, третьем участнике эксперимента.
Итак, Вениамин Николаевич Упшинский. Фамилия, хорошо знакомая многим изобретателям. Теперь Вениамин Николаевич на пенсии, но еще не так давно в коридорах Комитета по делам изобретений и открытий можно было услышать: “Упшинский отказал… Упшинский уперся… Упшинский не согласен… Упшинский…”
Технику Вениамин Николаевич знал блестяще. Экспертом он был высокого класса. Наизусть помнил тысячи патентных формул. Но отказывать любил. Очень любил.
Я впервые столкнулся с ним лет двадцать назад. В ту пору я был крупным нахалом. Мне казалось, что я осчастливил человечество, придумав спички, которые горят красным пламенем. Тот, кто занимался фотографией, сразу поймет, зачем нужны такие спички. Фонарь — вещь малоподвижная. Упадет что-нибудь на пол, и ищешь в темноте. Обычную же спичку зажечь нельзя: засветится пленка или бумага.
Кабинет Упшинского находился в самом конце темного коридорчика. Да и сам кабинет был тесноватым и какой-то притемненный. Высокие книжные шкафы стояли не только у стен, но и посредине кабинета. Стол у Вениамина Николаевича был большой, массивный. На таком столе приятно играть в пинг-понг. Именно об этом я подумал, впервые переступив порог кабинета. И еще я заметил на окнах свернутые в рулоны светомаскировочные шторы. После войны их вполне можно было бы снять.
— Как же, как же, знаю, — добродушно сказал Вениамин Николаевич, усаживая меня на скрипучий стул. — Между прочим, вы не изобрели ничего такого… э… против курения? Жаль, жаль… Что ж, читал вашу заявку. Вы уж не гневайтесь, но я вам откажу…
Он не только любил отказывать, но и умел делать это со вкусом. Экспертиза для него была чем-то вроде игры в шахматы. Важен не только выигрыш, удовольствие приносит и сам процесс игры.
Он курил, благосклонно посматривая на меня сквозь толстые стекла очков. Глаз его я не видел, потому что в синеватых стеклах отражались книжные шкафы. Я до сих пор подозреваю, что Вениамин Николаевич специально использовал этот оптический эффект.
Кстати, внешне Упшинский с тех пор не очень изменился. Он и сейчас такой же массивный, румяный, добродушный.
Говорил Вениамин Николаевич негромко, как бы приглушенно. Смысл его речей клонился к тому, что практически затруднительно пропитать деревянную основу спички составом, окрашивающим пламя в красный цвет. Спичка будет давать то слишком тусклое, то слишком яркое пламя.
Я не перебивал его. У меня в кармане лежала коробка “красных” спичек, и я хотел проучить эксперта.
Он говорил долго и убедительно. А потом я положил на стол коробку “красных” спичек. И случилось чудо. Вениамин Николаевич мгновенно изменился. Исчезли книжные шкафы на стеклах очков. Я увидел обыкновенные живые глаза. Передо мной сидел человек, чрезвычайно заинтересованный происходящим. Этот человек говорил нормальным голосом и суетился — так ему хотелось поскорее испытать спички.
Я несколько опешил от такого превращения и уже без всякого ехидства выгрузил из карманов пачку фотобумаги и флаконы с проявителем и закрепителем.
— Чрезвычайно любопытно! — сказал Упшинский, схватив эти флаконы. — Чрезвычайно! Мы сейчас же и попробуем…
Он развил такую бурную деятельность, что мне оставалось только смотреть. Налил проявитель и закрепитель в крышки, снятые с массивных чернильниц. Подбежал к окну, рванул веревку. С грохотом опустилась штора, выбросив в воздух густое облако пыли. Упшинский пронырнул через это облако к другому окну. Хлопнула вторая штора, на мгновение наступила темнота, и тут же зажегся красный огонек. Вениамин Николаевич торжествующе воскликнул:
— Горит! Посмотрите — горит!..
Впрочем, он тут же забыл обо мне и занялся фотобумагой. Он возился минут сорок. Проверил бумагу. Потом стал жечь спички. Сразу по пять штук. Подносил их к самой бумаге. Не знаю, как она не загорелась. Он даже закурил от “красной” спички.
Прекратил он эту возню, когда в коробке остались три спички. Ему очень хотелось поиграть и с ними, но он был воспитанным человеком. Он со вздохом вернул мне коробку и поднял шторы. Потом мы навели порядок на столе. Упшинский тщательно почистил свой костюм.
— Значит, так, — неторопливо и важно сказал Вениамин Николаевич. — Отказик я вам все-таки напишу. Да вы не смотрите на меня так…
Я смотрел потому, что в стеклах его очков снова очень ясно отражались книжные шкафы.
— Наверное, вы уйму времени ухлопали, чтобы приготовить одну коробку таких спичек, — продолжал он. — А на спичечных фабриках возиться не будут. Там массовое производство. Они даже свою технологию не выдерживают. Извольте полюбоваться.
Он достал обычные спички, чиркнул спичкой о коробок. Спичка вяло зашипела. Вениамин Николаевич методично пробовал спички. Пятая спичка зажглась, разбрасывая зеленые искры.
— Такое качество, — наставительно произнес Вениамин Николаевич. — Ваши спички будут выполнены примерно на таком уровне. Четыре не зажгутся, а пятая засветит фотоматериал. До свидания.
Сейчас я перечитал эти страницы и вижу, что не совсем верно изобразил Упшинского. Вероятно, он бы рассказал обо мне тоже в несколько ироническом плане. Упшинский, конечно, требовал слишком многого, изобретение не обязано сразу быть безупречным и неуязвимым, это так. Изобретателю оставалось либо бросить идею, либо довести ее до полнейшего совершенства. И вот тут Упшинский в какой-то мере был прав. Но я понял это позже. А тогда я решил взять реванш.
Я появился у Вениамина Николаевича через два месяца и, твердо глядя в отражавшиеся на стеклах очков книжные шкафы, объявил, что придумал “порошки невесомости”. Упшинский фыркнул, но я выложил на стол спичечную коробку с шестью серыми таблетками (это было самое элементарное средство от головной боли).
Все строилось на психологическом расчете. В этой коробке Вениамин Николаевич видел “красные” спички — и они работали. Коробка прямо-таки заставляла поверить, что “порошки невесомости” тоже будут работать.
— Можем испытать хоть сейчас, — нагло сказал я.
— Сейчас? — неуверенно переспросил Вениамин Николаевич.
И снова произошло чудо. Как в прошлый раз. Вениамин Николаевич ожил, стал обычным человеком, засуетился, подготавливая эксперимент. Клянусь, он поверил в мои “порошки невесомости”!
Мы зажгли электрический свет и опустили шторы (чтобы с улицы не было видно летающего по комнате человека). Потом я отправил Упшинского за каким-нибудь романом (порошки действуют два часа, скучно висеть под потолком, ничего не делая). Потом Вениамин Николаевич принес бутылку лимонада (порошки горьковатые).
— Ну, — сказал Упшинский, вытирая вспотевший лоб, — кажется, всё…
Я внимательно оглядел потолок и потребовал веничек, чтобы можно было смахнуть пыль. Веничка не оказалось, и Вениамин Николаевич принес чистое полотенце.
— Ну? — простонал он.
По-моему, он просто сгорал от нетерпения. Я налил лимонад в стакан, открыл спичечную коробку, достал таблетку и поднес ко рту.
— С богом, — прошептал Вениамин Николаевич, заглядывая мне в рот. — Начинайте же…
Я посмотрел на него (я старался смотреть задумчиво и как бы с сомнением) и сказал:
— Нет. Пожалуй, не будем начинать…
— Почему?
Он был явно огорчен.
— А потому, — объяснил я, — что вы все равно не поверите. Я буду два часа торчать под потолком, там душно и скучно. Истрачу таблетку. А вы опять откажете. Таблетки, дескать, требуют особой тщательности в изготовлении. Легко, мол, напутать… Нет. Не будет испытаний. Переключусь на изобретение какого-нибудь антиникотина. До свидания.
Я выпил лимонад и ушел.
Так началась моя дружба с Вениамином Николаевичем Упшинским. С той поры каждое свое изобретение я сначала отдавал на растерзание Вениамину Николаевичу. Он был придирчив и несправедлив, но зато изобретения приобретали десятикратный запас прочности. А вот как объяснить привязанность ко мне Упшинского — этого я не знаю.
Дача Вениамина Николаевича — в Ильинском, под Москвой. Заброшенный участок примыкает к лесу. Отличное место для выращивания птеродактилей. Безлюдно. Тихо. А для Вениамина Николаевича такие эксперименты — самое большое удовольствие.
Великое переселение состоялось в воскресенье. Мы привезли палеофиксатор, две раскладушки и кое-какое барахло.
— Изобретатель? — спросил Вениамин Николаевич, разглядывая новенькие джинсы Дерзкого Мальчишки.
— Гений, — ответил я. — Пока непризнанный.
Упшинский одобрительно кивнул.
— Это хорошо. Кстати, нет ли у него какого-нибудь нового средства… э… против курения? Жаль, жаль… А что же есть?
— Математика на пальцах. Любые задачи.
— Як вам всегда хорошо относился, — грустно сказал Вениамин Николаевич. — А вы всегда шутите.
Пришлось тут же продемонстрировать решение квадратных уравнений. Упшинский мгновенно ожил.
— Потрясающе, — прошептал он, потирая руки. — Но ничего не выйдет. Вот увидите, ничего не выйдет…
Он потащил мальчишку к лестнице, они уселись на ступеньках н начали выяснять — выйдет или не выйдет. Когда я через час позвал их ужинать, Упшинский сердито отмахнулся:
— Не мешайте работать…
Я занялся расчисткой дачи.
Изобретатели годами тащили сюда всякий хлам. Плоды творческой деятельности, как говорил Вениамин Николаевич. Плодов было много. Они торчали в комнатах, на лестнице, на веранде, в сарае и, простите, даже в туалете. Если бы они работали, дача затмила бы любой павильон ВДНХ. Но работал только лесоветровой аккумулятор. Эта штука, установленная на крыше, была похожа на самовар. От самовара тянулись к ветвям деревьев десятка два ржавых тросиков. В ветреный день деревья раскачивались, тросики дергались и нудно скрипели. К вечеру над крыльцом зажигалась лампочка от карманного фонаря.
Была еще лодка, совсем новая. Лодку зачем-то подарил Вениамину Николаевичу сын, капитан дальнего плавания. Какой-то изобретатель пристроил к лодке вечный двигатель.
Я перетащил в глубьсада массу барахла. На веранде освободилось место для голубей.
Еще накануне мы присмотрели голубятник с четырьмя десятками отличных вяхирей и клинтухов. Хозяин голубятника, видимо, имел какое-то отношение к истории, потому что все голуби носили царственные имена: Рамзес, Цезарь, Антоний, Клеопатра, Екатерины — Первая, Вторая и даже Третья… Надо было снабдить это монархическое хозяйство современной автоматикой.
Как я уже объяснял, важно правильно выбрать момент включения палеофиксатора. Отчет времени нужно вести с появления яйца; но не могли же мы днем и ночью сидеть перед голубятником. Я придумал довольно надежную систему сигнализации. В общих чертах вырисовывалась и вторая система, оповещающая, что птеродактиль вылупился из яйца. Следовало предусмотреть также защиту от котов: дачные коты изобретательны и прожорливы.
Часам к одиннадцати схема была готова. Я вышел в сад и увидел, что Вениамин Николаевич перебирает пальцами в воздухе с такой скоростью, будто играет на невидимом рояле. Мальчишка терпеливо разъяснял: “Теперь надо повернуть левую ладонь вниз… Ниже, ниже!.. Это же вторая производная, а вы держите руку на уровне груди, что соответствует первой производной…”
Пришлось вмешаться. Через полчаса мальчишка спал на своей раскладушке, а Упшинский сидел на веранде, и в очках его отражалась янтарная луна.
— Я всегда к вам хорошо относился, — сказал он наконец. — А вы от меня что-то скрываете. Математика на пальцах — это недурно, совсем недурно. Но вы задумали другое. Я же вижу.
Я встал и торжественно объявил:
— Вениамин Николаевич, мы будем получать птеродактилей и динозавров.
— Садитесь, — спокойно сказал Упшинский. — Значит, птеродактилей?
— И динозавров, — подтвердил я. — А также ихтиозавров, мегатериев и саблезубых тигров.
Упшинский долго молчал. Потом спросил:
— Это он придумал?
— Он, — ответил я,
— Ну что ж, вероятно, дельная мысль. Рассказывайте.
За двадцать лет это был первый случай, когда Вениамин Николаевич заранее одобрил чью-то идею. И какую идею! Я, конечно, провел психологическую подготовку, начав с математики на пальцах, но такого результата, признаться, не ожидал. Вениамин Николаевич безоговорочно поверил в мальчишку.
Так начался наш эксперимент.
Впрочем, по-настоящему он начался только на четвертые сутки после переезда на дачу, а до этого я вертелся как белка в колесе. Привез голубятник. Наладил автоматику. Заготовил сушеную рыбу и рыбные консервы (не будет же птеродактиль есть зерно).
Кроме того, время от времени мне приходилось выдворять изобретателей, осаждающих Вениамина Николаевича. Какой-то мудрец в институте патентной экспертизы постоянно спихивал Упшинскому — на общественных началах — наиболее въедливых и шалых субъектов. Одна такая личность появилась в первое же утро.
Было еще совсем рано. Вениамин Николаевич и мальчишка спали, а я стоял на траве вверх ногами. Тут придется отвлечься и объяснить, зачем надо по утрам стоять вверх ногами. В “Основах теории литературы” указано, что небольшие отступления, например философского характера, нисколько не вредят художественному строю рассказа.
Однажды меня осенила следующая мысль. Природа изобрела систему кровообращения в те далекие времена, когда в обществе было принято передвигаться на четырех лапах. Сердце, играющее роль насоса, располагалось на одном уровне с головой и, как бы это сказать, всем остальным. Но человек перешел от горизонтального образа жизни к вертикальному. И сердце (которое насос!) вынуждено теперь работать в более тяжелых условиях.
Между прочим, обезьяны прекрасно это понимают. Поэтому любимое их занятие — висеть на дереве вниз головой, зацепившись хвостом за сук. От периодического прилива крови к голове сосуды то расширяются, то сжимаются. Отличная тренировка.
К сожалению, человек лишился хвоста (в значительной мере — и деревьев). Пришлось постоянно ходить вверх головой. А тут еще мозги усложнились (так, во всяком случае, утверждают). Сердце должно было преодолевать сопротивление множества узких и высоко расположенных сосудов. Отсюда все беды: от головной боли до кровоизлияния в мозг.
Йогам потребовалось всего семь тысяч лет, чтобы прийти к системе физкультуры (хатха-йога), стихийно основанной на стремлении вернуть человека к позам, типичным для животных. Об этом свидетельствуют даже названия упражнений — “поза верблюда”, “поза змеи”, “поза крокодила”…
Так называемое “полное дыхание” йогов — это именно тот способ, которым дышат животные, хотя они, вероятно, не знают о системе йогов. Во всяком случае, кот, на котором я ставил контрольные опыты, наверняка не знает о хатха-йоге. Это ленивый и невежественный кот. Просто удивительно, что дышит он только по системе йогов!
Теперь, надеюсь, вам понятно, почему я каждое утро четверть часа стою вниз головой.
В то утро я только-только пристроился вверх ногами и сосредоточился на полном дыхании, как появился изобретатель. Он проник через щель в заборе.
— Доброе утречко, — бодро сказал он. — Занимаетесь?
Он ходил вокруг меня, хрустел пластмассовым плащом и непрерывно верещал. Я закипал молча, потому что полное дыхание никак нельзя совместить с разговорами.
— Ради бога, не спешите, — говорил он. — Я подожду. Очень интересно, очень интересно…
Я не спешил. Я отстоял свои пятнадцать минут и только тогда вскочил, чтобы выложить ему ряд мыслей и пожеланий. И вдруг я увидел его глаза. Они были совсем черные, то есть белки глаз, радужная оболочка — все было черным!
— Вот вы, наверное, думаете, что это черные контактные линзы! — Он радостно хихикнул. — Нет! Не-ет! Это я покрасил глаза. Краска вместо солнцезащитных очков. Две капли на день. По вечерам можно смывать. Удобно, дешево… хотите тоже покрасить?
Я с энтузиазмом пожал ему руку и сказал, что сейчас придет дежурный врач и можно будет договориться, чтобы его поместили в мою палату.
— Что? — пролепетал он. — Что вы сказали?
Я повторил, добавив несколько впечатляющих деталей. Он побледнел. Это было шикарное зрелище: выкрашенные в черное глаза на физиономии мучного цвета.
— Так, значит, здесь… того… А мне говорили совсем наоборот…
Он тихо двинулся от меня задним ходом.
— Не пожалеете, — доверительно сообщил я. — У нас тут волейбол, телевизор. Лодка с вечным двигателем…
Он пискнул, отскочил бочком к забору и юркнул в щель.
Так вот, эксперимент начался по-настоящему только на четвертые сутки. В пять утра отчаянно заголосили три звонка контрольной системы (в ответственных случаях я предпочитаю иметь солидный запас надежности). Мальчишка дежурил у себя в институте. Мы с Вениамином Николаевичем бросились на веранду, к голубятнику.
Автоматика не подвела! В пенальчике Антония и Клеопатры (голубятник был разделен на аккуратные фанерные пенальчики) лежали два свеженьких яичка. Мы выбрали одно, показавшееся нам более крупным, отметили его и вернули взволнованной царице.
— Превосходно! — объявил Вениамин Николаевич. — Теперь остается вовремя включить палеофиксатор и…
Спать мне уже не хотелось, поэтому я спросил Вениамина Николаевича:
— А зачем, собственно, людям нужны птеродактили, ихтиозавры и прочие мегатерии?
Упшинский возмущенно фыркнул. В стеклах его очков отражался голубятник.
— У вас никогда не было настоящего воображения! Да, да, не спорьте… Вы что — не знаете, зачем они нужны? Ну, хотя бы для вашей же палеобионики. Вообще — для науки. Наконец, для людей.
— В смысле животноводства? — спросил я. Все-таки было любопытно, почему Вениамин Николаевич так уверовал в великое будущее палеофиксатора.
— И в смысле животноводства тоже. Можете не улыбаться. Вы когда-нибудь пробовали черепаховый суп? То-то! Так почему вы думаете, что суп из какого-нибудь допотопного архелона будет хуже? Наконец, как вы смотрите на другие планеты?
Я заверил Вениамина Николаевича, что в данный момент никак не смотрю на другие планеты.
— Вы эти шутки бросьте, — сказал он. — Ведь черт знает, какие там условия! У вас есть гарантия, что коровы приживутся где-нибудь на Венере лучше, чем те же архелоны?
Клянусь, эту идею ему подкинул Дерзкий Мальчишка! Но, в обшем, было приятно сидеть на веранде, смотреть, как сверху, с деревьев, спускается розоватый свет утреннего солнца, и слушать рассуждения Вениамина Николаевича о перспективах разведения динозавров на Венере.
— Наконец, — продолжал Вениамин Николаевич, — взгляните на это дело с философской точки зрения.
Я признался, что давно испытываю желание взглянуть на динозавров с философской точки зрения. Однако Упшинский уже не обращал внимания на мои реплики. Засунув руки в карманы пижамы, он размашисто вышагивал по веранде (доски жалобно скрипели) и выкладывал свои философские соображения.
Между прочим, соображения довольно любопытные. Как только появится свободная неделька, я упрошу Вениамина Николаевича изложить их на бумаге. Получится брошюра, которую можно будет назвать “Некоторые философские аспекты динозавроводства”. Главная мысль в том, что решена проблема, которая считалась абсолютно неразрешимой. Настолько неразрешимой, что над ней даже не думали. Следовательно, надо браться и за другие проблемы такого типа, их тоже можно решить. “Мы нашли реальный (хотя и частичный) путь к созданию своего рода машины времени…” В таком вот духе. Отличная будет брошюра!
Но если говорить откровенно, в создании динозавров действительно есть что-то волнующее. Я лично начал волноваться после того, как яйцо подверглось обработке на палеофиксаторе. Процедура, кстати, непродолжительная. Восемь минут, включая некоторые подготовительные операции. Машиной управлял Дерзкий Мальчишка. Вениамин Николаевич нежно прижимал к груди рассерженную Клеопатру. Я сфотографировал всю компанию, снимки получились удачные.
Я жалел только, что мы запланировали птеродактиля, а не зауролофа. Имея зауролофа, можно сразу продемонстрировать возможности палеобионики. Тут намечался прямой выход к работе, которую я вел в конструкторском бюро.
Зауролофы — весьма экзотические двуногие ящеры. Махина высотой с трехэтажный дом. Жили они в прибрежной зоне, ели загрязненную песком и илом растительную пищу. Зубы у зауролофов непрерывно росли, сменяя друг друга. Это чертовски интересно, скажем, для буровой техники. Современные животные значительно меньше по размерам и обходятся одним комплектом зубов. Только слоны имеют сменные зубы, когда-то придуманные природой для зауролофов…
Конечно, для первого эксперимента птеродактиль имеет определенные преимущества. Но, спрашивается, что нам мешало “палеофиксировать” и второе яйцо? Надо признаться, мы допустили промашку. Даже из соображений надежности следовало бы обработать “палеофиксатором” оба яйца.
Впрочем, у меня просто не было времени особенно огорчаться. Вениамин Николаевич писал мемуары и уклонялся от хозяйственных дел. Нельзя, видите ли, нарушать возвышенный образ мыслей, необходимый мемуаристу! А мальчишка вдруг переключился с палеонтологии на акустику. У него появилась новая идея. Между прочим, идея чрезвычайно оригинальная, но я не решаюсь ее изложить. “Основы теории литературы” не одобряют излишнего техницизма.
Что делать, меня постоянно распирает от всевозможных идей. И мальчишку распирает. (Я заметил: он ходит, подпрыгивая. Может быть, от идей, а?) Вениамина Николаевича тоже осеняют разные мысли. Очень соблазнительно рассказать обо всем этом, махнув рукой на предписания теории литературы[15]…
Ладно, вернемся к делу.
Однажды у Антония и Клеопатры появился первый, самый обыкновенный, птенчик. Царственные особы устроили в своем пенальчике большую возню, и Вениамин Николаевич заявил, что надо срочно строить инкубатор. Но все обошлось. Яйцо, обработанное “палеофиксатором”, уцелело. Клеопатра высиживала его еще трое суток.
Вениамин Николаевич волновался, много курил и жаловался на сердце. По ночам он часто просыпался и, накинув пальто, шел к голубятнику. Он не очень доверял автоматике и опасался котов. Коты ему мерещились всюду. Он кидал камни в кусты смородины и шипел страшным голосом: “Вот я вас, коварные…” Днем, когда приезжал мальчишка, они устраивали облавы на котов. Я не очень удивился, увидев как-то у Вениамина Николаевича рогатку. Я только намекнул, что сведущие люди предпочитают в таких случаях бумеранг.
— Бросьте ваши неандертальские шуточки! — сердито сказал Вениамин Николаевич. — У вас совершенно не научный склад ума. Надо было поставить голубятник на втором этаже.
Ожидаемое существо появилось ночью, в половине второго. Мальчишка, как обычно, дежурил в институте. Меня разбудил истошный крик звонков. Я вскочил, надел тапочки, схватил фотоаппарат и лампу-вспышку. В открытую дверь я увидел Вениамина Николаевича. Он махал руками и мычал что-то нечленораздельное. Накануне я уезжал в город, и на дачу проник какой-то изобретатель, упросивший Вениамина Николаевича испытать “Антискрежетин-4”. Изобретатель утверждал, что днем зубы бывают сжаты только восемь минут, а ночью — два часа. Ночью, клялся изобретатель, зубы скребутся друг о друга и от этого портятся. “Антискрежетин-4” должен был осчастливить человечество. Сейчас Вениамин Николаевич никак не мог извлечь изо рта эту пластмассовую дрянь.
Мы так и выскочили на веранду. Не было времени возиться с “Антискрежетином”. Я подбежал к голубятнику, включил свет, и мы увидели…
Нет, это был не птеродактиль.
Включая “палеофиксатор”, мы кое в чем ошиблись (я потом объясню, в чем именно). Антоний и Клеопатра удивленно рассматривали маленького, похожего на ящерицу археоптерикса.
Очень осторожно я вытащил археоптерикса из пенальчика и положил на ладонь. Кажется, я слышал стук своего сердца. Все-таки опыт удался! У меня на ладони лежало существо, которое должно было жить более ста миллионов лет назад…
Вениамин Николаевич мычал что-то восторженное. Он все еще не мог выплюнуть “Антискрежетин”.
Археоптерикс был великолепен. Конечно, я смотрел на него почти родительскими глазами, но он и в самом деле был красив: изящная, как игрушка, крылатая ящерица.
Птенцы обычно уродливы и имеют жалкий вид. Нужно время, чтобы они стали красивыми птицами. Новорожденный же археоптерикс — уменьшенная копия взрослого археоптерикса. Подобно маленьким змейкам, археоптерикс с первых минут появления на свет способен к самостоятельному существованию. В нем нет ничего, как бы это сказать, детского. Только перья похожи на чешуйки. Впрочем, на голове перья и в самом деле переходят в чешую. Голова сплющенная, вытянутая, без клюва. Во рту множество мелких зубов. Глаза желтые, со сросшимися, как у змеи, прозрачными веками. Туловище вытянутое, с длинным и широким хвостом. Очень красивые перья — синеватые, с металлическим отливом. Самое удивительное — пальцы на передней кромке крыльев. Большие, когтистые, вытянутые вперед.
Судя по всему, маленький археоптерикс не испытывал страха. Он вертел плоской ящерообразной головой, смотрел на нас и даже пытался ущипнуть мой палец.
— Снимайте, скорее снимайте! — прошептал Вениамин Николаевич. Он наконец освободился от “Антискрежетина”.
Я передал ему археоптерикса. Мне хотелось, чтобы в кадре уместились, кроме археоптерикса, и мы с Упшинским. Я отодвинул штатив подальше, навел аппарат, включил автоспуск и побежал к Вениамину Николаевичу.
И вот в этот момент ему стало плохо. Он побледнел, схватился за сердце и, протянув мне археоптерикса, тихо сказал:
— Возьмите…
Я подхватил Вениамина Николаевича, взял у него археоптерикса (он тут же ущипнул меня) и сунул его Клеопатре,
А потом были сумасшедшие полтора часа, когда я поил Упшинского лекарствами (не знаю какими) и бегал по соседним дачам, отыскивая телефон. Вернулся я на машине “неотложки” и увидел Упшинского на веранде.
Вениамин Николаевич в расстегнутой пижаме, босиком стоял у голубятника и выкрикивал в пространство изречения скорее фольклорного, чем дипломатического характера.
— Полегчало, — констатировал пожилой санитар и запихнул носилки в машину.
Вениамину Николаевичу и в самом деле полегчало, но археоптерикс бесследно исчез.
Сейчас трудно сказать, как это произошло. Может быть, у археоптериксов нет почтения к родителям. Может быть, Антоний и Клеопатра сами затеяли драку со своим странным отпрыском. Но бой в голубятнике был крепкий, это факт. Голуби до утра сидели на крыше и сердито переговаривались. По веранде летали перья.
Куда делся археоптерикс — до сих пор неизвестно. Я тогда сразу обшарил голубятник. Осмотрел веранду и комнаты. Залез даже на чердак. Безрезультатно.
Рано утром из города примчался мальчишка, и мы вдвоем тщательно осмотрели сад.
Вениамин Николаевич никак не мог улежать в постели. Он торжественно поцеловал Дерзкого Мальчишку и тут же расплакался. Всхлипывая, он объявил, что успел полюбить археоп-териксёночка и поэтому надо искать и искать.
Даже взрослые археоптериксы не летают, они могут только планировать. Зато взбираться по деревьям археоптериксы, наверное, умеют с первого дня. Вряд ли наш археоптерикс сразу ушел далеко. Но попробуй отыщи эту маленькую полуптицу, полуящерицу…
Сегодня девятый день после исчезновения археоптерикса. Теперь он может быть и в нескольких километрах от дачи. Пищи кругом достаточно: ягоды, червяки, насекомые.
Обидно, что не осталось даже фотоснимка. На единственном снимке, сделанном в ту ночь, запечатлен Вениамин Николаевич. В очках у него отражается моя перекошенная физиономия. Археоптерикс в кадр не попал.
Два дня мы занимались поисками. Потом Упшинский пошептался с мальчишкой и объявил:
— Хватит! Проще получить дюжину новых археоптериксов, чем найти этого наглеца. В конце концов, есть еще порох в палеофиксаторе! В следующий раз будем умнее.
Да, в следующий раз мы обязательно будем умнее!
Весь второй этаж дачи заставлен инкубаторами и термостатами. Мы потратили на это неделю. Полсотни яиц будут подвергнуты действию палеофиксатора. Мы получим целый допотопный зверинец.
Вениамин Николаевич ходит в Палеонтологический музей: рассматривает скелеты вымерших животных. Он уверяет, что уже привык, освоился и теперь не станет волноваться даже при встрече со взрослым тираннозавром.
Время еще есть, я думаю приладить автоматическую кинокамеру. На окнах — прочные сетки, на дверях — замки. Отсюда и бронтозавр не выберется!
Кстати, о бронтозаврах. Тогда, в первый раз, не случайно вместо птеродактиля получился археоптерикс. Дело в том, что птеродактили — не предки птиц. Точно так же, как ихтиозавры не предки рыб, а бронтозавры не предки современных млекопитающих. Поясню это примером. Мы иногда говорим, что человек произошел от обезьяны. Тут известное упрощение. Человек и обезьяна имеют общих предков. Это как бы две ветви, растущие из одной точки ствола.
У динозавров и млекопитающих тоже есть общие предки — древнейшие пресмыкающиеся и земноводные. Применяя палеофиксатор, нельзя (без некоторых дополнительных операций) получить бронтозавра или зауролофа. Нельзя получить и птеродактиля: родословная современных птиц восходит (через археоптериксов) к тем же древнейшим пресмыкающимся.
Мы это учитывали. Тут, к сожалению, все дело в кустарном исполнении палеофиксатора. Трудно с достаточной точностью провести дополнительные операции, которые должны направить развитие зародыша “по боковой линии”.
Правда, мы уже наметили пути усовершенствования палеофиксатора. Думаю, скоро удастся получать любых животных. Но пока (в опыте, который мы сегодня начали) придется рассчитывать, так сказать, на прямых предков[16].
Древнейшие пресмыкающиеся не имеют среди широкой публики такой популярности, как бронтозавры и птеродактили. Однако среди “прямых предков” тоже немало экзотических созданий. Мы намерены, в частности, получить полдюжины диметродонов. Это трехметровые ящеры с высоким, как парус, гребнем во всю спину. Запрограммированы также четыре мастодонзавра (представьте себе жабу величиной с танк) и десяток мосхопсов (ящеры, похожие на гигантских кривоногих такс).
На этой экзотике настоял Вениамин Николаевич. Неделю назад мы всей компанией ходили в одно околонаучное заведение. Упшинский сказал, что умные люди поймут и поддержат нас. Умные люди, конечно, поняли бы и поддержали. Но нам попался жизнерадостный болван. Он оглушительно хохотал. Он хохотал так, что звенели стекла книжного шкафа и в открытую дверь кабинета заглядывали чьи-то испуганные лица. Мы ушли, преследуемые пушечной силы хохотом.
Но мы еще придем в этот кабинет. Будьте уверены! Проще показать, чем доказать. Так что не удивляйтесь, если в один прекрасный день вы встретите на Рязанском шоссе небольшое стадо диметродонов, мастодонзавров и мосхопсов…
С.Гасновский Чужая планета

I
Над планетой проходила ночь. Небо было темно-синим, почти черным, как на Земле в безлунное время. Ветер гулял по огромному каменному амфитеатру. Темные глыбы со сглаженными краями покрылись изморозью и слабо блестели при свете звезд. Потом край неба начал бледнеть. Над уступами гор образовалась синеватая светлеющая область. Быстро расширяясь, она захватила половину огромного небесного купола. Звезды тускнели в этой синеве, а внизу, на противоположном склоне амфитеатра, камень осветился голубоватым серебряным неверным светом. Утро наступило непреодолимо. И наконец показалось здешнее солнце — великолепная красная звезда. Сразу брызнуло длинными лучами. Красные оттенки побежали по гранитам, уже перебиваясь желтыми, дневными. Небо из голубого делалось синим. Когда жаркие лучи огромной звезды ударили в прозрачный шлем лежавшего на камнях человека, он вздрогнул, открыл глаза, вздохнул и начал приходить в себя. Он потянулся, хрустя суставами, и сразу почувствовал, как сильно у него болит затылок. Эта боль окончательно доказала ему, что он жив. Он от“ крыл глаза, сел и огляделся. Закусил губу и помотал головой. У него было впечатление, будто произошла какая-то катастрофа. Но он не мог еще сообразить, в чем она заключалась. Где он находится? Как он сюда попал? Вопросы обступали его. Не в силах ответить, он опять покачал головой и болезненно сморщился, чувствуя, как в затылке перекатывается боль. — Наверное, я ранен, — сказал он себе. — Ранен. Но почему? Что, собственно, случилось? Некоторое время он просидел на камнях, тупо глядя перед собой. Потом посмотрел вверх. Огромная красная звезда постепенно делалась желтой. Смотреть на нее было больно. Упираясь руками в землю, он осторожно встал на ноги, потом выпрямился. Всё пошло кругами перед ним, но усилием воли он заставил это всё остановиться. — Где я? Он не мог даже сообразить, кто он сам такой. Он сказал упрямо: — Нет. Врешь, Лешка! Не пищать. И тотчас рядом появился человек в комбинезоне. (Но это было только видение — он знал это.) Тем не менее тот, в комбинезоне, повторил: — Не пищать, Лешка. Не падать духом. Человек сказал себе: — Тише… Спокойнее. Всё ясно. Я Алексей. Я Алексей Петров — это уж, во всяком случае, твердо. Того, другого, в комбинезоне, уже не было. Он оказался лишь воспоминанием, но само воспоминание было уже какой-то ниточкой… Лешка… Его звали Лешкой, и это было там, на Земле, в школе космонавтов. Да, конечно, он космонавт. Но как его принесло сюда? На один миг новое видение возникло перед ним. Он, рядом с ним Борис Новоселов и штурман Кирилл Дубинин стоят у раздернутого иллюминатора и смотрят на неизвестную планету, которая в дымке курящейся атмосферы бешено несется им навстречу. Она всё увеличивается, становится больше ока иллюминатора. Несуразно — снизу направо вверх — встает горизонт. А они то ли падают на планету, то ли стремительно к ней поднимаются. …Да, значит, им пришлось сделать посадку. Потому что они уже знали, что не смогут вернуться на свою родную Землю… Он попытался додумать эту мысль до конца, но почувствовал, что от напряжения у него уже совсем нестерпимо начинает болеть затылок. Человек махнул рукой — надо же как-то действовать! — и, шатаясь, побрел вверх из покатой чаши амфитеатра. Прошагав около полукилометра, он приблизился к самому краю и с трудом взобрался на невысокий каменный вал. Перед ним лежала ровная серо-белая поверхность. Пустыня. Как стол. Как бесконечный пол. Пейзаж был почти геометричен. Поверхность, не оживленная ни деревцем, ни холмиком, густо-синее небо, и всё. Он стал спускаться и после часа ходьбы добрался до низа каменного кольца. Там, где кончалась скала, почва была твердая и гладкая. Даже блестящая. Чужая звезда калила неимоверно. Алексей ощупал свой комбинезон с левого бока и вдруг весь похолодел. Что такое? Комбинезон был разорван. Длинный разрыв шел от бедра почти до подмышки. — Как же я дышу? Он растерянно ощупал дыру, потом нашарил кислородный баллон сзади на спине. Баллон был смят, головка свернулась на сторону. — Черт возьми! Я же дышу местной атмосферой!.. Он стал свинчивать шлем обеими руками, свинтил и снял. Вдохнул и выдохнул. Все было в порядке. Он вяло подумал, что должен бы безмерно удивиться. Но у него не хватало сил для этого. Алексей расстегнул тяжелый комбинезон и выбрался из него, оставшись в мягких вельветовых брюках и шерстяном свитере. Стало не так жарко. Человек растерянно поднял смятый кислородный баллон, и сразу ему вспомнилась катастрофа. Да, так оно и было! Они неслись в пустоте космоса пять, а может, и десять лет по своему внутреннему времени и тысячи по земному. Он не знал точно сколько, потому что был нездоров после той, первой катастрофы. Работали отлаженные устройства восстановления кислорода и круговорота пищевых веществ. Борис Новоселов всё возобновлял и возобновлял попытки связаться с Землей. Через какое-то время эти усилия были прекращены, поскольку бортовой передатчик был слишком слаб, чтобы преодолеть миллиарды миллиардов километров- десятки световых лет, — отделявшие их от Солнечной системы. Они мчались по направлению к центру Галактики, и уже не было силы, которая могла бы вернуть их обратно. “Мы будем на Земле”, — говорил Новоселов. Но Алексей-то знал, что они с Дубининым просто хотят облегчить его участь раненого. Так тянулись многие годы. Он часто впадал в забытье на целые месяцы и, приходя в себя, неизменно видел склонившиеся над ним лица друзей. Впрочем, на пятый или шестой год Борис Новоселов стал сдавать. Он начал злиться на Алексея, и это было заметно. Новоселов нетерпеливо обрывал Алексея, когда тот пытался хоть грубо, но вычислить, на какое же расстояние они удалились от Земли. Иногда Алексей замечал неприязненный взгляд Новоселова и тогда догадывался, что товарищу уже надоело возиться с ним. “Оставь! Перестань!” — такое он слышал в ответ на свои вопросы. Но Алексей и сам еще раньше, в школе космонавтов, относился к Новоселову не так сердечно, как к другим своим однокурсникам. И всё из-за той ироничности, которая вообще была свойственна Борису… Так или иначе, они оказались запертыми на звездном корабле вместе на долгие годы. Только Кирилл Дубинин, простота парень, непосредственный и чистый, смягчал обстановку. Эх, Кирилл, Кирилл, где ты?.. Человек сжал кулаки. Да, правильно. Они решили снижаться на чужую планету и снизились. Он помнил, как пламя окутало звездолет, когда они врезались в атмосферу. Потом он опять потерял сознание, перестал воспринимать происходившее. Но раз они уже сели, ведь не может же быть, чтобы только он один остался жив. И должны быть какие-то обломки ракеты, наконец… Срываясь и скользя, Алексей снова полез наверх, туда, где только что был. Бесконечно тянулись минуты. Чаша амфитеатра снова вдавилась перед ним в недра неведомой планеты. Ее можно было всю сразу охватить взглядом, и в ней не было ничего. Подобно человеку, который в пустой комнате ищет какую-нибудь большую вещь, разумом понимая, что если он тотчас не увидел ее, то ее и вообще нет, Алексей прошел амфитеатр от края до края. Только звук его собственных шагов оживлял окружающее. Звезда поднималась все выше. Тень ушла под ноги. Алексей чувствовал, что его подстерегает тепловой удар. На поясе висел нож. Он вынул из кармана платок — странно было видеть здесь такую домашнюю, бытовую вещь, — ножом надрезал уголки и приладил платок на голову. Ну, куда же теперь?.. Исчезновение ракеты было необъяснимо. На миг он решил, что ракета снизилась, товарищи высадили его и полетели дальше. Но сразу одернул себя. Невозможно! Он готов был жизнью ручаться, что это не так. Не такие люди. Ироничность, конечно, ироничностью, но чтобы… — Ладно, — сказал он вслух. — Тише! Спокойнее. — Слова странно прозвучали в окружавшей его тишине. — Тише! Если я дышу, — значит, в здешней атмосфере есть кислород. А раз есть молекулярный кислород, должны быть где-то и растения, и вообще какая-то жизнь. Надо искать. Он подумал, что совсем рефлекторно заговорил вслух сам с собой. Пожалуй, ему придется выучиться таким односторонним диалогам. (Если он не погибнет от жары и голода раньше, чем выучится.) Он встал и пошел своим прежним путем. Снова поднялся на край амфитеатра и спустился с внешней стороны. При ближайшем рассмотрении равнина, лежащая перед ним, была не такой уж плоской. На ней были взгорья, а впереди Алексей увидел гряду невысоких холмов. Он брел около часа, постепенно спускаясь, и вскоре в низинках стали появляться растения. Возле первого маленького кустика он остановился. Маленькое — в три — четыре сантиметра — растеньице держало несколько голубовато-серых наростов на гладеньком, как отполированном, стволике. Потом голубые кустики пошли чаще. В некоторых местах между холмами они покрывали почву сплошным ковром. Горизонт сузился. За ближайшей линией холмов показалась вторая, а за пей на фоне неба вырисовывалась невысокая красноватая гряда. Растительность менялась. Появились новые кусты, тоже без листьев, усыпанные странными красными, желтыми и оранжевыми пушистыми шариками. Еще дальше начался удивительный светлый, безлистный лес: мясистые, почти белые деревья с ветвями, причудливо изогнутыми, как в болезненных конвульсиях. В одном месте Алексей чуть не по колено провалился в какую-то сухую белую рассыпчатую крупу. Длинные полосы такой крупы пересекали местность в разных направлениях. Он стал опасливо обходить их. Один раз за его спиной что-то прошумело в голом, безлистном лесу. Алексей обернулся. То, что шумело, исчезло. Но все-таки выходило, что здесь есть жизнь. И она действительно была. Над холмами показалась в небе черная точка. Она увеличивалась, приближаясь. С холодеющим сердцем Алексей остановился. Вот он, хозяин здешних пустынь! Существо, похожее на ископаемого земного птеродактиля, но, скорее, все же птица, а не зверь, летело медленно и невысоко. Большая голова на тонкой голой розоватой шее поворачивалась, осматривая окрестность. Крылья — каждое метра в два длиной — взмахивали плавно и неторопливо. Увидев человека, чудовище раскрыло клюв. Маленькие глазки сердито заблестели. Птица сделала над Алексеем один круг, второй, постепенно снижаясь. (Алексей стоял как завороженный.) Крылья сложились, раздался свист, шуршанье, и чудовище бросилось на человека. Алексей не успел опомниться, как она схватила его за руку пониже локтя. Но, к счастью, клюв птицы соскользнул, схватив только плотный свитер. Несколько секунд чудовище тянуло к себе, хлопая крыльями и поднимая ветер. Упираясь, взрывая ботинками песок, Алексей устоял и выдернул руку из зубов чудовища. Она взлетела и снова ринулась на человека. Пасть с длинным языком, круглые злые глаза, огромные крылья, мускулистая голая пупырчатая шея — все было так неправдоподобно близко! Алексей, забыв про нож, отчаянно ударил птицу кулаком по голове. Раз, еще раз… Они боролись. Чудовище неуклюже вертелось в воздухе, а космонавт размахивал руками. Первой устала птица. С обиженным криком она отлетела в сторону и уселась на камень шагах в двадцати от человека. Крылья сложились, длинная голова вздрагивала, как бы отряхивая что-то, и пасть раскрывалась и захлопывалась, щелкая. Но это был не конец. Только передышка. Чудовище собиралось с силами. Алексей отчаянно огляделся, увидел камень, поднял его и бросил в птицу. Камень звучно шлепнул в крыло. Птица пошатнулась, но усидела. Человек схватил новый камень… Как это он раньше не догадался? Еще бросок. Мимо. Но уже теперь он наступал сам. С третьим камнем Алексей пошел вперед. На этот раз ему удалось задеть шею чудовища. Птица взмахнула крыльями и нехотя отлетела на несколько шагов дальше. Однако и сейчас она еще не собиралась отказываться от добычи, злобно глядя на космонавта и щелкая пастью. — Вот гад, вот гад! — повторял Алексей. Он подобрал камень, снова кинул и попал в крыло. Теперь наконец чудовище поняло, что бой проигран. С разочарованным скрипящим воплем оно поднялось в воздух и, медленно махая крыльями, перевалило за ближайший холм. У Алексея дрожали руки и ноги, стук сердца отдавался по всему телу. Он опустился на песок возле куста с шариками-листьями. — Мерзость!.. Какая мерзость!.. Отдыхая, он просидел с минуту. Потом ему пришло в голову, что этот напавший на него зверь мог быть детенышем, например, или просто мелким экземпляром. А что, если появится втрое или вдесятеро больший? Просто проглотит! И здесь даже негде спрятаться! Он со страхом оглядел небо. Но пока никого не было. Опасливо оглядываясь через каждые несколько шагов, Алексей пошел дальше. Он решил держаться одного направления — на восход огромной звезды, на восход здешнего солнца. Очень хотелось пить. Он поднялся на невысокую грядку холмов, спустился в низину. Все гуще и выше разрастался голубоватый кустарник. От жары и жажды начинала кружиться голова. Остановившись перевести дыхание, он вдруг услышал невдалеке щелкающие, воркующие звуки. Алексей сделал несколько осторожных шагов. Сердце снова забилось, инстинктивно он опустился на корточки. Не дыша раскрыл широко глаза. Перед ним было трое людей. Впрочем, в мыслях Алексей сразу назвал их для себя не людьми, а жителями. Они были маленькие — по плечо, даже только по пояс ему. Но как люди. Почти как земные люди. Все трое были обнажены, только вокруг бедер висели сплетенные из какой-то травы повязки. Цвет кожи у них был темный, синеватый. Двое склонились над ямкой в песке, а третий, стоя боком к Алексею, тревожно вглядывался в небо. Бог ты мой! Неужели это каменный век? Дракон и вот эти почти голые жители. Двое рыли песок прямо руками; потом один взял палку или трубку с чем-то пушистым на нижнем конце, сунул трубку в ямку и принялся туда дуть. Он дул с минуту, затем второй сменил его… Что-то хрустнуло под ногой у Алексея. Три пары испуганных глаз мгновенно уставились на него. Алексей, откашливаясь, встал, огромный, вдвое больше их, и шагнул вперед, протянув пустые руки, показывая, что не вооружен. Ни секунды не задумываясь, все трое повернулись, бросились бежать и тотчас исчезли в кустарнике. — Эй! Эй, куда вы? Полная тишина была ему ответом. Все произошло так быстро, что Алексею даже показалось на миг, что полянка перед ним и прежде была пуста. Но возле ямки остался обтесанный камень, по форме напоминающий нож, сумочка, сплетенная из травы, и длинная трубка — полый стебель какого-то растения. Он пошарил рукой в яме. Песок в ней был влажный. Жажда сразу с удесятеренной силон схватила Алексея за горло. Он принялся копать дальше. Но воды не было. Алексей углубился в яму по плечи — то же самое. Он опустился на колени, взял трубку и принялся рассматривать ее. На конце был привязан клок травы. Может быть, они не дули туда, а, наоборот, всасывали? Алексей посмотрел в ту сторону, куда убежали жители. Кусты молчали. Конечно, всасывали. Зачем же дуть? Он сунул трубку в яму, прикопал ее песком и попробовал всасывать. Ну так и есть — блаженное ощущение! Вода, поднимаясь по трубке, смочила наконец его пересохший рот. А пучок травы на конце не давал песку забить отверстие. Напившись, он прилег тут рядом. Такие вот дела… Гигантские птицы-хищники и орудия, вытесанные из кремня. Каменный век. Он помотал головой. Где же я нахожусь?.. “Мы летели около десяти лет с каким-то постоянным ускорением. (Он помнил, что в разговорах Новоселова с Дубининым в последнее время часто стала повторяться цифра “десять”.) В таком случае эта планета является спутником одного из ближайших соседей Солнца. Может быть, спутником Альтаира, может быть — Проциона… Мы летели десять лет, а на Земле, по земному счету, прошло уже, пожалуй, лет сто. Дико!..” Алексей с тоской оглядел окрестность. Поросшая странными растениями равнина, невысокие красные горы, небо, низко приникнувшее к ним. На Земле так было, наверное, в меловой период, когда летали и ползали ящеры и ни одно дыхание разумного существа не оживляло бесконечные пустыни. Но здесь есть еще и жители. Однако их, видимо, мало. Немногочисленными группами они пробираются в зарослях, прячась от гигантских птиц, всегда как будто испуганные, всегда настороже. Удастся ли ему найти общий язык с этими существами? И что вообще делать, если они будут постоянно убегать от него при встречах? Он будет бродить по этим холмам несколько дней, а потом умрет от голода. (Если прежде не появится большой дракон или какой-нибудь другой зверь.) И все-таки надо было что-то делать. Идти. Может быть, он набредет на постоянное стойбище жителей и сумеет вступить с ними в контакт. А может быть, и найдутся Борис с Кириллом. Но в это Алексей почти и не верил. Похоже было на то, что ракета погибла. Спастись сумел только он один. Алексей встал. Надо идти. Главное, не терять взятого направления, не кружить, а исследовать возможно больший участок местности. К счастью, горы были надежным ориентиром. Трубку он взял с собой. …Красные горы оказались, в конце концов, тоже холмами и были гораздо ближе, чем ему показалось сначала. Здесь растительности опять стало меньше. Что-то метнулось возле его ног и мгновенно закопалось в песок. Так быстро — он даже не успел толком разглядеть что. Он стал взбираться наверх. Холмы только издали выглядели красными. Вблизи они были многоцветными, сложенными из бурых и коричневых пластов. Алексей попал в какую-то долинку, прошел по руслу пересохшего ручья, где все было завалено галькой, и ахнул. Что такое? Перед ним на огромных опорах тянулась бесконечная, уходившая вправо и влево между холмов эстакада. Это было похоже на гигантский акведук, какие он видел там, дома, на Земле, на фотографиях, изображающих остатки древнеримского водопровода. Искусственное сооружение!.. Странная дорога шагала через холмы, выходила в пустыню и исчезала вдали. Он так и сел. Ближайшая к нему опора, сделанная из какого-то серого вещества, возвышалась метров на восемь-девять, напоминая гигантские ворота. На ней наверху лежало дорожное полотно, и новая опора — еще через метров двадцать — двадцать пять — поддерживала эту дорогу. С ума впору было сойти. Выходило, что здесь две цивилизации. И более высокая враждебна первой. Иначе маленькие жители не остались бы в таком жалком состоянии. Какой-то странный звук возник вдалеке. Он приближался, превращаясь в свирепый нарастающий вой. Алексей невольно сжался. Что это? Вопль усиливался. Что-то неслось по эстакаде. Рев и грохот!.. Огромная машина промчалась по дороге на опорах и укатила. Грохот стих. Алексей встал, несмело подошел к опоре и положил ладонь на ровную шероховатую поверхность. Да, дела!.. Люди каменного века, летающий дракон и эта машина. Попробуй разберись… Здешнее солнце стояло уже высоко — почти прямо над головой. Ему предстояло решить, с кем же пробовать вступить в контакт. С жителями или с теми существами, которые построили дорогу на опорах. Судя по этому сооружению, цивилизация была достаточно развитой. Может быть, очень высоко развитой, — одной из тех, от которых земные ученые уже долгие годы ждали сигналов, прислушиваясь к другим галактикам. (Он вспомнил о странном ритмическом излучении из космоса, которое было уловлено радиотелескопом на Земле, в Армении, в начале 1965 года). У него опять начал ныть затылок. Превозмогая боль, он сказал себе: — Ладно, Лешка. Будем разыскивать цивилизацию. В путь. Дорога на опорах гигантской дугой уходила в пустыню, исчезая за горизонтом. Алексей шел два или три часа, потом, вконец замученный, сел в тени опоры. Было жарко. Разморенный, он заснул и проснулся через некоторое время от того, что услышал во сне те же воркующие, щелкающие звуки чужого разговора. Он открыл глаза и огляделся. Звуки доносились с другой стороны опоры. Стараясь не шуметь, он поднялся на ноги и подошел к опоре. Перед ним была группа жителей, расположившихся лагерем. Эти были ростом еще меньше первых — не выше, чем по пояс ему. Трое мужчин, пожилая женщина и еще одна женщина помоложе. Двое мужчин на маленьком костре поджаривали тушку животного. Третий, бородатый, стоял, скрестив руки на груди, вглядываясь в горизонт. Одна женщина держала ребенка. Минуту Алексей наблюдал за ними, затем шагнул из-за опоры. Жители увидели его. На всех лицах отразился ужас, и через миг все пятеро упали ниц, простершись перед ним. В маленьком костерке шипело брошенное мясо. Алексей растерянно стоял среди простертых фигур. Он попробовал поднять ближайшего к нему жителя. Тот прятал лицо, дрожа всем телом. — Ну ладно, — сказал Алексей. — Как хотите. Только я от вас не уйду. — Он сел тут же на песок. — Что вам меня бояться? Я же ничего вам не сделаю. Он считал, что звуки его голоса должны их успокоить. Прошло несколько минут. Мясо горело на костре, Алексей вынул его из огня. Жители лежали неподвижно. Потом Алексей увидел, что женщина, та, что была без ребенка, приподняла голову и смотрит на него. Он одобрительно улыбнулся: — Ну конечно! Я же не враг. Еще через некоторое время бородатый мужчина осмелился поднять голову. Потом остальные. — Ну вот, —говорил Алексей, — и ничего страшного. Было бы из-за чего нервничать!.. Он поднял руку, чтобы поправить сбившиеся волосы. При этом жесте все опять дружно спрятали лица в песок. — Тьфу, черт! Он сложил руки на груди. Наконец бородатый мужчина поднялся. За ним встали и другие. Не сводя глаз с Алексея, они сошлись в кружок. Начался оживленный воркующий и щелкающий разговор. Бородатый что-то доказывал, поминутно показывая на Алексея. Двое других мужчин не соглашались с ним. Затем — Алексей не вполне был в этом уверен — к бородатому карлику присоединилась маленькая женщина. Наконец жители что-то решили. Бородатый подошел к Алексею. Он показал пальцем на себя. — Тнаврес. Было похоже, что это его имя. Алексей повторил: — Тнаврес — Потом ткнул пальцем в свою грудь. — Алексей. Меня зовут Алексей. У бородатого был какой-то несосредоточенный взгляд. Как будто его глаза смотрели по-разному: один в одну точку, а другой в другую. Он осторожно взял Алексея за плечо. Потянул. — Идти?.. Куда?.. Тнаврес сказал что-то своим. Те уже собрались. Костер был забросан песком, недожаренная тушка исчезла в плетеной сумке. Жители двинулись в путь. Тнаврес поманил Алексея. Маленькие люди пошли неожиданно быстро. На каждый шаг Алексея они делали по два своих, но вскоре он почувствовал, что должен напрячь все силы, чтобы не отстать от группы. Они шли вдоль опор гигантской дороги. Молоденькая женщина шагала рядом с Алексеем. Вблизи она оказалась не такой уж маленькой. Ее темные густые волосы почти доставали Алексею до плеча. Вообще он заметил странную вещь. Будучи совсем рядом с ним, жители были больше ростом. Но стоило им отойти на два шага — они сразу делались совсем маленькими. Как если бы здесь, на этой планете, действовали другие законы перспективы. На одном из привалов Тнаврес раздал разорванную на кусочки тушку из плетеной сумки. Алексей долго жевал свою порцию, так и не справился с ней и в конце концов потихоньку выплюнул. Но странным образом чувство щемящей пустоты в желудке исчезло. Молодая женщина, подойдя к нему, положила руку себе на обнаженную грудь. — Толфорза. Потом они опять быстро пошли вдоль дороги, и Алексей подумал о том, насколько все же проницательны были те ученые Земли, которые отстаивали мысль о неизбежности более или менее сходных повсюду во Вселенной путей развития жизни. Вот он идет, и рядом с ним женщина — существо, почти во всем, за исключением роста, напоминающее земную женщину. А происходит это на расстоянии пятнадцати световых лет от Солнечной системы… Он не успел додумать этой мысли до конца. Вся их группа была в нескольких шагах от дороги, лежащей на опорах, когда вдали раздался шум приближающегося механизма. Звук, подобный тому, какой уже слышал Алексей. Жители тревожно переглянулись и бросились под огромную арку опоры. Только Алексей остался на месте. Грохот нарастал. Тнаврес крикнул, зовя Алексея. Маленькая Толфорза вдруг выскочила из-под укрытия, подбежала к Алексею и, схватив его за руку, повлекла за собой. Вой неведомого механизма приблизился. Раздалось шипение, что-то вспыхнуло над головой Алексея. Механизм, похожий то ли на бронедрезину, то ли на какое-то бронированное доисторическое чудище на Земле, уже стремительно удалялся. Алексей обернулся. На том месте, где он только что стоял, дымился песок. Он подошел ближе. Песок был оплавлен в круге диаметром метров в двадцать. Машина на ходу пыталась сжечь и его и жителей. Сжечь, как если бы они были какими-то вредными насекомыми. Он похолодел на миг. Вот она, та, другая цивилизация. Тнаврес поманил Алексея, и они все быстро пошли дальше. Здешнее солнце перешло зенит и стало опускаться, увеличиваясь при этом в размерах. Снова они шагали вдоль дороги. Еще два раза проносились наверху машины, но теперь Алексей прятался под опорами вместе с другими жителями. Уже начинался вечер, когда космонавт увидел вдали какую-то узкую темную полосу. Она все удлинялась, захватывая постепенно весь горизонт, и оказалась в конце концов высокой глухой стеноп. Дорога на опорах уходила за эту стену. Небо начало темнеть. Огромный — чуть ли не вполнеба — диск звезды закатывался за стену. Оттуда доносились мощные вздохи, время от времени раздавался отдаленный металлический вой, вспыхивали какие-то отблески. Почва вздрагивала, передавая работу могучих механизмов. Стена казалась непреодолимой. Алексей чувствовал, что у него нет никакой охоты ее преодолевать. Уж слишком жуткими казались существа, построившие все это. Но маленький Тнаврес подошел к месту, которое было ему, очевидно, знакомо, и отвалил большой камень. В полумраке открылся черный ход внутрь. В землю. Жители на четвереньках полезли туда. Пропустив своих, бородатый оглянулся на Алексея. Тот дрогнул. Это было все равно, что лезть в пасть к зверю. Но он знал, что у него нет никакого выбора. Не оставаться же здесь одному у стены! Уже совсем стемнело. Только вспышки за стеной освещали и пустыню, и бородатого жителя, и самого Алексея. Он пожал плечами, присел на корточки и с трудом втиснулся в узкий лаз. Нора вела все вниз и вниз, постепенно сужаясь. Кровь начала приливать к голове Алексея. Стало трудно дышать. Они ползли с полчаса, и, по подсчетам Алексея, ход опустился метров на тридцать под землю. Он чувствовал, что бородатый Тнаврес двигается вплотную за ним. Потом ход выпрямился, сделался горизонтальным, немного расширился. В кромешной тьме появилось фосфоресцирующее сияние — как будто светились сами стены бесконечной узкой пещеры. Те жители, что были впереди, уползли далеко. Алексей торопился за ними что было сил. Ход еще расширился, стало возможным стать на ноги. Тнаврес нагнал Алексея, пошел рядом, взяв его за руку. Ход завершился тупиком, но в полу был колодец. Тут их поджидала Толфорза. В полумраке Алексею показалось, что она улыбается ему. Неподалеку, где-то за тонкой земляной стеной, работал мощный механизм, вздыхая и вздрагивая. Снова они начали спускаться. Алексей насчитал пятьдесят пять перекладин, вделанных в стену колодца. Подземное путешествие казалось бесконечным. То двигаясь ползком, то шагая согнувшись, они опускались, поднимались и снова опускались в какие-то колодцы и ходы. Наконец в сравнительно большом помещении Тнаврес остановился. Он ткнул пальцем в землю, приказывая Алексею сесть. Показал затем на Толфорзу и на себя и сделал движение рукой, объясняя, что они вдвоем уйдут и очень скоро вернутся. Узкие ходы-пещеры отходили в нескольких направлениях. Алексей знал, что один он уже не выберется на поверхность. На миг стало жутко: правильно ли он поступил, спустившись в лабиринт? Пахло резким кислотным запахом и — Алексей с удивлением отметил это слово в своих мыслях — электричеством. Он прождал пять минут, потом еще десять. (Часы, московские часы с бесконечно далекой Земли, так и оставались у него на руке). Ни бородатый, ни маленькая женщина не возвращались. В стене он разглядел очертания какого-то небольшого прямоугольника, чуть повыше колена. Он подошел к этому месту и опустился на корточки. Что-то похожее на дверцу с примитивным запором-щеколдой. Космонавт осторожно взялся за щеколду, поднял ее… Потом, позже, когда он лежал обожженный и Толфорза ухаживала за ним, Алексею часто виделась эта картина. Маленькая дверца вела в огромное помещение. Подземное, высотой в несколько этажей, ярко, до боли в глазах, освещенное какими-то светильниками. То был зал или, вернее, выработка, где на разных уровнях стояли десятки и сотни жителей и одинаковыми движениями руками выбирали породу, которая образовывала здесь и пол, и стены с уступами, и теряющийся в высоте потолок. Могучий механизм рычал, содрогаясь, в дальнем углу зала, распустив повсюду бесконечно длинные кожистые руки-змеи. И там и здесь — всего числом не больше десятка — стояли и ходили еще какие-то существа, отдаленно похожие на жителей, но гигантские, в металлических рубахах и с металлическими головами. Напоминающие средневековых рыцарей в латах и одновременно роботов. У каждого был аппарат с направленным в сторону длинным отростком. Зачарованный, Алексей наполовину высунулся из дверцы. Позади и в стороне вдруг раздался гневный вопль-вой. Алексей оглянулся. Шагах в пяти от него закованный в металл гигант злобно и удивленно кричал, глядя на космонавта сквозь узкую щель забрала. Поднялся аппарат, прицеливаясь отростком в Алексея. Сверкнуло яркое пламя. Алексей ощутил дикую боль в обожженном лице, дернулся назад и захлопнул дверцу. Он услышал испуганный шепот маленькой Толфорзы и, теряя сознание, почувствовал, как его берут на руки и несут куда-то переходами подземного царства.II
Алексей проснулся и лежал с закрытыми глазами. Не хотелось открывать их, потому что это означало бы признать, что день начался. Вернее, не день — здесь под землей сутки не делились на день и ночь, — а просто период бодрствования. Но он не желал бодрствовать, потому что нужно было терпеть боль. Состав, которым его обрызгало закованное в металл чудовище, был не только обжигающим, но еще и особо ядовитым, рассчитанным на длительное страдание жертвы. Как только Алексей просыпался, боль тысячами крючков вцеплялась в сознание и уже не отпускала. Легче ему становилось, лишь когда появлялась Толфорза с какими-то живительными мазями, которыми она покрывала ему лоб, щеки, шею. Однако и те действовали недолго. Потом опять приходилось мучиться… Но так или иначе, уже пора было открыть глаза. В соседнем помещении начиналось утро. (Он не мог отвыкнуть считать утром тот момент, когда маленькие жители исчезали на десять — двенадцать часов, оставляя его в относительном одиночестве в системе этих подземных помещений.) Было слышно, как за тонкой стеной завозились; там на маленьком костре начали разогревать пищу. Значит, до сирены оставалось полчаса. Сирена вызывала жителей на работы, — длительный вой, который пронизывал дважды в сутки все подземное царство, как бы разом выметая всех в тот огромный зал, куда Алексей заглянул, на свое несчастье. Или в другие такие же залы. Здесь не знали опозданий. Вместе с Алексеем оставались только совсем глубокие старики и старухи и маленькие дети. Чуть подросшие ребятишки тоже шли на работы. Звякнул металл, прошелестели шаги, раздались восклицания и смешок… Ему уже были знакомы все эти звуки, он успел изучить их за тот месяц, пока отлеживался здесь. (Что он лежал именно месяц, Алексей определял по тому, как отросли у него борода и волосы.) Жизнь в подземелье была простой. Жители уходили, когда раздавалась сирена, и возвращались после ее повторного воя. Пищу они получали где-то там, а здесь только разогревали ее. У них не было ни имущества, ни развлечений, ни общественной жизни. Ничего. Уходили, приходили и ложились спать. Оставалось лишь спрашивать себя, как они не разучились смеяться при таких обстоятельствах. Но они иногда смеялись и часто пели — Алексей не раз слушал эти песни… Шаги босых ног прошлепали совсем рядом. Скрипнула деревянная дверь. Вошел Тнаврес с металлической тарелкой в руке. Он сел на землю возле Алексея. — Здравствуй. — Здравствуй. Тнаврес вглядывался в ожоги на лице Алексея. Протянул руку и потрогал корку на щеке. Сначала Алексея всего передергивало от таких прикосновений. Потом он убедился, что скрюченные пальцы пожилого жителя обладали удивительной пластичностью. Их прикосновение на миг даже снимало боль. — Тебе не стало лучше?.. Ешь. Пока Алексей ел, Тнаврес продолжал внимательно осматривать его лицо. Двигались только зрачки старика, а весь он был как отлитый из камня. То была вообще способность жителей надолго застывать в полной неподвижности. В такие минуты можно было только любоваться пропорциональностью их как бы изваянных из мрамора тел. Вообще, Алексей с каждым днем находил все больше красивого в маленьких обитателях планеты. Особенно это относилось к Толфорзе. У нее любая поза была как бы окончательной, такой, которую не имело смысла менять. Тнаврес вышел из неподвижности и покачал головой. — Плохо. — Он задумался. — Толфорза принесет другое лекарство. Но все равно плохо. И в этот миг появилась Толфорза. Она тоже присела на корточки, опершись рукой о пол. На секунду сделалась статуей, украшением подземной комнаты. Застыла, как ящерицы на далекой Земле застывали в горах под солнечными лучами: глубокая неподвижность, исполненная, однако, готовности тотчас двинуться. Затем Толфорза стала втирать мазь в лицо Алексея. Уф-ф… Это было другое дело. Боль оставила его. Даже в полутемном помещении сделалось светлее. Так еще можно жить… Тнаврес и Толфорза заговорили. Но слишком быстро, чтоб он мог понимать их. Слышалось его имя. Потом бородатый Тнаврес вышел, унося пустую тарелку. — Больно? — спросила маленькая женщина. — Больно. — Нет. На самом деле это только обидно… — Потом она тоже поднялась. — Прощай. Застыла на миг, сделавшись вещью, предметом. Потом ожила, улыбнулась и тоже вышла, оставив его озадаченным. Обидно?.. Неужели ему только обидно? Ему было по-настоящему больно — вот в чем вся штука. Почти сразу, пронизывая все, завыла сирена. Зашелестел, усилился и стал стихать топот множества босых ног. Гигантский механизм включился где-то далеко, стали вздрагивать пол и стены. “Верхние” требовали жителей на работу. День начался. Можно было приступать к утреннему обходу ближайших окрестностей подземелья. Алексей поднялся, пошатываясь пересек комнату и вышел в широкий коридор. Он был очень длинен, но ходить Алексею разрешалось лишь до того места, где он соединялся с еще более широким коридором. Впрочем, Алексей знал, что вряд ли он и дальше увидит что-нибудь новое. Продолбленные в породе ниши-комнаты были повсюду одинаковы. Жители рождались здесь, жили и здесь же умирали. Сначала Алексей думал, что они часто бывают в пустыне, но позже узнал, что на такие экспедиции отваживались лишь самые смелые. Слишком велика была угроза попасться на глаза “верхним”. Он шел по коридору, привычно заглядывая в комнаты-пещеры. В одной десять маленьких ребятишек, сидя на полу спиной друг к другу двумя шеренгами, били себя ладонями в грудь, издавая при этом ритмичные возгласы. Другая игра — Алексей часто видел ее — заключалась в том, что дети садились в рядок, а двое мальчиков быстро и безостановочно передавали друг другу маленькую палочку, напевая при этом монотонную песню. На определенном слове наблюдающие должны были угадать, у кого из мальчиков находится палочка. Палочки и камешки были здесь единственными игрушками. В другой комнате две старухи разговаривали, сидя на полу. Седой старик, вырезая что-то на куске дерева, напевал:III
Он шел один по улице, но издали, то стихая на миг, то опять возникая, приближались шум, голоса. Алексей пересек другую улицу, тоже темную, и вдруг из-за угла на следующем перекрестке высыпала причудливая поющая толпа айтсов. Многие в масках, некоторые в каких-то накидках и плащах. Они с криками окружили космонавта, смеясь, хватая его за рубашку, дергая за волосы. И снова он отметил про себя удивительную вещь. Как только гиганты приближались к нему вплотную, они становились меньше ростом, почти такими же, как сам Алексей. Но отдаляясь, сразу увеличивались чуть ли не вдвое. Было то же самое, что с жителями, только наоборот, так как те, приближаясь, вырастали. Впрочем, об этом некогда было думать. В толпе были и самцы и самки, или мужчины и женщины. Он даже не понимал, как их считать, потому что, похожие на человека, они все же не были людьми. Странная, нечеловеческая пустота зияла у всех в глазах. И страх. Внешне они как будто бы веселились, а в глазах был ужас. Его закружили, задергали. Айтс в маске совал ему в лицо продолговатый прозрачный предмет с чем-то красным внутри. Он оттолкнул его. Не кровь ли?.. Двое — в масках, а второй с нелепой покосившейся короной на голове — подхватили Алексея за руки и повлекли к кричащей толпе. Черт его знает, что такое! Фестиваль у них или этот, как его… карнавал? Он бежал вместе с толпой. Пустынная улица сменилась оживленным, ярко освещенным проспектом. Огни перебегали по высоким зданиям: красные, синие, желтые… Прорезая черное небо, плясали и перекрещивались лучи прожекторов. А некоторые аппараты были установлены так, чтоб светить прямо вдоль улицы. (Алексей вспомнил, как смотрел на эти прожекторы из-за стены в пустыне). Вообще, света было так много, что нигде не оставалось теней и все казалось вылизанным беспощадными лучами, вычищенным и мертвым. Порой, завывая, быстро проезжали какие-то автомобили-монстры без окон, только со щелями. Проехал один, особенно большой, напоминающий бронтозавра, на шести или даже на десяти колесах, — Алексей не успел рассмотреть. Толпы “верхних” бежали с разных сторон, сшибались, перемешивались. Шум, изобилие света ошеломляли. Уж очень это контрастировало с тишиной Углубления, где спали сейчас, прижавшись один к другому, маленькие жители. Самка-айтс вдруг бросилась к Алексею, заглянула в глаза, требовательно крикнула: — Право? Ее затолкали, оттеснили. Но, и удаляясь, она продолжала кричать: — Право! Право! Значит, что-то было с его глазами. Нечто такое, что могло выдать. Алексей сказал себе, что не надо встречаться взглядом с айтсами. Странно, что на улицах не было никаких надписей. Светящиеся, перебегающие красные и синие полоски и дуги складывались только в различные геометрические фигуры и какие-то абстрактные комбинации. Иногда здесь попадались и жители. В одном месте Алексей увидел их, совсем маленьких по сравнению с гигантами айтсами, робко жмущихся к стене. Двое из толпы, захватившей космонавта, подскочили к ним, запрыгали вокруг, издевательски гогоча. Еще одна группа жителей — мужчина, ребенок и женщина — стояла, озираясь, у перекрестка, и Алексей невольно сделался свидетелем мгновенно свершившейся трагедии. Завывая, подкатила повозка — видимо, одна из тех, о которых говорили в подземелье, — скрыла от космонавта маленьких людей и через секунду уехала, оставив на мостовой одного только мужчину, в ужасе схватившегося за голову. Все это мелькнуло подобно короткому кадру фильма. Толпа, влекущая Алексея, повернула с проспекта, с криками протопала недлинной улочкой и вдруг рассыпалась, оставив космонавта вдвоем с молодым айтсом, на голове которого была корона. В уме Алексей почему-то назвал его для себя Студентом. Вокруг сразу стало тихо. Впереди возвышалась ограда. Верхушки каких-то растений слабо чернели за ней на фоне неба. Студент, тяжело дыша, кивнул в сторону ограды и приятельски обнял космонавта за плечи. У этого айтса было почти человеческое лицо. Почти, но не человеческое. Безобразила безнадежная, бесконечная пустота в глазах. Про себя Алексей уже давно считал жителей — Тнавреса, Толфорзу, Суезупа и других — просто людьми. Такими же, как и люди Земли. Но этого он не мог бы причислить к роду человеческому. Хотя, в общем-то, в гиганте было даже что-то симпатичное… Например, та нерассуждающая беспечность, с которой он взял и повел космонавта. Они приблизились к ограде. Айтс протянул руку, дотронулся до маленькой дырочки в стене. Открылась дверца. Темный зверь ростом с крупную собаку бросился было на Алексея, но Студент криком отогнал его. — Идем. Это был не то парк, не то сад. Сильно освещенный, но как-то понизу. Травы и кустов не было. Одни деревья. Там и здесь ходили и сидели на земле айтсы. Студент с космонавтом направились к дому. Навстречу медленно брел особенно крупный пожилой айтс, почему-то показавшийся Алексею чем-то похожим на генерала, виденного им на Земле, в Москве, на трибуне для иностранных военных миссий во время парада 7 Ноября. Но, конечно, и этот айтс был гигантом. Студент остановился. — Вот. Крупный айтс осмотрел Алексея. Тело его затряслось, послышались прерывистые звуки. Снова смех! Ну что же, лучше так. чем подозрения. У Алексея было такое чувство, будто его покрывает некая пелена, не позволяющая “верхним” попять, кто он такой на самом деле. Вошли в дом. В большом зале айтсы стояли и сидели на полу. Один лежал на ковре, не то мертвый, не то уснувший. Кое-где была расставлена пища. Бродили маленькие четырехногие животные. Женщина, тоже с нелепой короной на волосах, взглянула на Алексея, вяло удивилась и вяло улыбнулась. Потом сказала, показывая кивком на лежавшего айтса: — Он может спать только среди нас. И когда нас много. И уплыла величаво, как хозяйка дома, принявшая гостя и выполнившая свой долг. Студент тоже ушел. Алексей осмотрелся. Зал был низким. Наиболее рослые айтсы едва не упирались макушкой в потолок. Не было никаких украшений. Он вспомнил, как Толфорза говорила, что “верхние” не имеют искусства. Рядом с ним спорили. Он прислушался. И опять он понимал язык айтсов. Айтс с широким жабьим ртом, разделяющим лицо едва ли не от уха до уха, говорил: — Нет, остранение, и ничего больше! — Он огляделся со злобой. — Как только мы перестанем понимать разницу между айтсом и жителем, мы погибнем. Каждого, кто попытается помешать… Его раздраженно прервал другой “верхний”, с длинной, почти остроконечной кверху и книзу физиономией: — Если я ударяю жителя по голове, я лишь повреждаю себе руку. А если ударят меня, я буду убит. Это прозвучало, как возражение. Айтс-Генерал, вернувшийся из сада, сказал: — Конечно. У нас же слабые черепа. Во всяком случае, слабее, чем у них. Ах, вот что! Алексей закусил губу. У них слабые черепа. Может быть, поэтому они и ходят закованные в металл? Может быть, поэтому они и боятся и угнетают жителей?.. На миг Алексею представилось отвратительное зрелище: какое-то рыхлое, студнеобразное существо, которое разливает самое себя в им же изготовленные твердые формы. Но все это было ерундой. Здесь в зале ни на ком не было металла. Да и вообще айтсы были отлично сложены и достаточно крепки. Об этом свидетельствовали весьма увесистые затрещины, которыми они, веселясь, обменивались в толпе на улице. И те, что прохлаждались вокруг него, одетые в легкие бумажные одежды, никак не производили впечатления рыхлых и слабых. Наоборот, по земным критериям он назвал бы их атлетами. Одна девушка, например, прямая как стрела, мелькавшая то в одном, то в другом конце зала, энергией своих движений могла бы, возможно, поспорить с олимпийской чемпионкой на Земле. Да и, кроме всего прочего, техника, которой владели “верхние”, с лихвой возмещала их относительную слабость, если такая и была. Между тем спор возле него разгорался. Кипели страсти. Опять взял слово айтс-Жаба: — А я говорю, ни шагу от остранения. Довольно играть, — это вопрос жизни и смерти! Его перебили сразу несколько айтсов. Каждый спешил высказаться, никто не слушал других: — Убивать!.. — Сократить Подгород!.. Слабенько прозвонил звоночек, чуть скрипнула широкая внутренняя дверь, и в чал с большим блюдом в руках вошел житель. Все айтсы умолкли. В настороженной тишине житель поставил блюдо на подставку. Лицо у него было маленькое, жалкое, а фигура мешковатая и странно, противоестественно гнущаяся при каждом шаге. Как если б у него не было позвоночника. Алексей вспомнил об операциях, которым подвергались жители, переходящие на сторону “верхних”. Вот так, значит, и выглядят оперированные. Житель подошел к женщине-айтс с короной, молча расстегнул свой пиджак на груди. Женщина пошарила в карманчиках надетой на ней серой хламиды, извлекла на свет что-то вроде вечной ручки и сделала пометку на обнаженной груди жителя. Это было продление права на жизнь. Житель вышел. Тотчас возобновился крикливый спор. Генерал бубнил: — Никакого сожаленья. Если предоставить жителей самим себе, они выродятся через два-три поколения. Айтс-Жаба с лицом, искаженным ненавистью, крикнул: — Отнять право на жизнь! И вдруг Алексей понял, что это был вовсе не спор. Все говорили об одном и том же, доказывали одно и то же. Подавление жителей, новые ограничения, истребление… Но каждым “верхний” вел себя так, будто ему возражают. Однако никто не возражал, и потому странной и нелогичной выглядела эта запальчивость. Зачем кипятиться, если все согласны? Алексей подошел к другой группе. Здесь были женщины-айтсы, и разговор шел о том же — о жителях. Говорили, что они глупы, что этот вид разумных существ на планете не имеет будущего, что жителей нельзя ничему научить. Толстая айтс-самка вынула из кармана металлическую ампулу размером в спичечный коробок и стала показывать ее другим. Вызывая восхищенные возгласы, ампула переходила из ладони в ладонь. Одна из женщин протянула руку с ампулой вперед, нажала на ней какую-то кнопочку. Сноп огня вдруг брызнул в метре от космонавта. Он невольно дернулся в сторону. Слишком свежо еще было воспоминание об ожоге, с которого и началось его знакомство с “верхними”. Значит, против него применили тогда такую же штуку. Женщины рассмеялись, ампула была убрана. Перебивая друг друга, опять заговорили о том, что жителям не должно быть пощады. Нет ли в этом мире еще какой-то третьей силы?.. Или все дело просто в этом тупике. Он знал из истории: страх всегда является реакцией на невозможность движения. Когда некуда идти, когда экономика, политика и философия оказываются в тупике, всегда возникают подозрительность, репрессии, казни. Начинают даже попросту выдумывать себе врагов. — Эй! Он обернулся. Прямая, как стрела, девушка-айтс смотрела на него в упор, прищурив близорукие глаза. Потом она отошла на шаг, осмотрела Алексея с ног до головы и одобрительно кивнула. — Ловко… Где ты все это достал? Что достал? Комбинезон космонавта и разбитые вдребезги ботинки? Неожиданно его озарило: у “верхних” какой-то праздник, карнавал, и его принимают за ряженого. Поэтому он так просто вышел из Углубления, и поэтому его вид вызывает одобрительный смех. Что же, тогда так и надо держаться. Он не мог сообразить, что ответить девушке, но та, не дожидаясь ответа, взяла его за руку и повела в сад. Они прошли мимо рослого плотного айтса, в одиночество стоявшего, отвернувшись от всех, у окна. Единственный в большом зале, он не принимал участия в общем разговоре. Его крепкая фигура какой-то специфической подбористостью заставила Алексея вспомнить одного своего земного приятеля — летчика. Айтс чуть повернул голову, они с космонавтом встретились взглядами. В глазах этого “верхнего” не было ни страха, ни пустоты. Девушка нетерпеливо дернула Алексея за рукав. Они спустились по ступенькам в сад, пошли куда-то влево, в глубину. Заведя космонавта за дерево, девушка-айтс повернулась к нему и вдруг, обхватив его обеими руками, прижала к себе так, что у Алексея, неподготовленного, затрещали кости. Ничего себе слабость!.. На миг перед ним мелькнул образ скромной Толфорзы, спящей в этот час, может быть, тут же под садом, в Углублении. Он схватил девушку за плечи, напрягся, оторвал от себя и оттолкнул. Она запнулась обо что-то и, не удержавшись на ногах, села на подвернувшуюся тут же рядом скамью. На лице ее появилось удивление, по в следующий миг она как будто обо всем забыла, поднялась и спросила: — А ты из Пространства, да? — Да, — ответил Алексей на всякий случай. Вглядываясь в его черты, она сказала: — У тебя очень странные глаза. Ты кто? Но, видимо, она была неспособна сосредоточиться на чем-нибудь одном даже на самый короткий срок. Она протянула руку, щелчком сбросила с плеча Алексея какое-то насекомое. — Мой брат сейчас тоже в Пространстве. На охоте. В этот момент из полутьмы вынырнул Студент. Он подмигнул девушке. — Покажем ему это. А? Та, довольная, захихикала, взяла Студента под руку, прильнула к нему, и они втроем пошли еще дальше в глубь сада. Кто-то малорослый мелькнул сбоку. На секунду это вызвало у Алексея неприятное ощущение преследования и слежки, потому что показавшаяся и сразу исчезнувшая фигурка повадкой странно напомнила ту тень, которую он увидел сразу по выходе из Углубления. Нечто испуганное, но вместе с тем настойчивое. Сад в глубине делался глуше, пустее. Они подошли к новой ограде. Два айтса — на этот раз в металлических кожухах и шлемах — стояли у решетчатых ворот, но по молчаливому кивку Студента расступились. Вниз, в широкую чашу, спускались ступени. Что-то вроде стадиона. Но захламленного, загроможденного гигантскими конструкциями, сквозными, слабо темнеющими в полумраке. Какие-то длинные тонкие предметы, устремленные вверх, стояли рядами. Уж не ракеты ли?.. Они спустились еще ниже. То был котлован, частично накрытый сверху просвечивающей крышей. Антс-Студент, рассмеявшись, вдруг толкнул Алексея вбок. — Смотри. В центре котлована возвышалось огромное серебристое сооружение тревожно знакомой формы. Алексей шагнул еще вперед. Ракета!.. Их ракетный корабль стоял здесь, спрятанный под ажурной крышей, в яме, охраняемой молчаливыми гигантами в латах. Все было на месте. И шаровидная наверху, на двадцатиметровой высоте, кабина с радарной антенной и солнечным зеркалом, и топливные баки, и торчащие снизу горловины батареи двигателей, и амортизирующие подставки, которые Алексей сам на Земле тренировался убирать и выдвигать. И даже кем-то предупредительно сооруженная система лесенок на тонких трубчатых стойках вела наверх, обрываясь у открытой дверцы в кабину. На секунду мелькнула дикая мысль: броситься сейчас наверх, захлопнуть, завернуть дверь в кабину, потом руки на стартеры, и айда! Но куда — “айда”? Он закусил губу, чувствуя, как кровь стучит в висках. Но есть ли горючее в баках, в исправности ли механизмы включения? И не разлажена ли система снабжения кислородом и пищей? Но главное — куда? Опять на десяток лет в одиночество, в космос, без всякой надежды достигнуть Земли? И потом: оправдано ли такое бегство — ведь у пего есть масса дел и в этом мире. А затем тотчас поразила другая мысль. Если ракета здесь, значит, где-то тут же на планете, в Городе, скрываются или скрыты “верхними” Кирилл Дубинин с Борисом Новоселовым. Найти их — вот в чем будет теперь состоять его первая задача… Боясь заговорить — он чувствовал, как хрипло прозвучал бы в эту минуту его голос, — Алексей оглянулся на Студента. Что он знает? Привел ли он сюда его только потому, что считает ряженым, одевшимся “под космонавта”, или здесь другое? Однако беспечного айтса уже не было рядом. Тихие смешки, доносившиеся из-за какой-то темной конструкции, показывали, что девушка-айтс нашла себе наконец сговорчивого друга. Но другая фигура возникла в двух шагах позади. Тоже айтс. Тот, которого он в доме мысленно назвал Летчиком. Айтс-Летчик шагнул к Алексею и кивнул в сторону ракетного корабля. — Скоро обратно? — Это было сказано шепотом. Алексей ощутил, что у него волосы на голове шевельнулись. — Как?.. Как обратно? — Он сказал это на языке айтсов. Летчик оглянулся. — Тихо… — Он прислушался, потом вдруг схватил космонавта за плечо. И в этот миг что-то щелкнуло поблизости, свет залил котлован. Маленький человечек выскочил из-за стойки ракеты, крича: — Вот он!.. И это был тот самый житель, чьи жадные желтоватые глаза Алексей запомнил после встречи у реки. Уже бежали отовсюду вооруженные гиганты. Алексей сбросил с плеча руку айтса-Летчика, кинулся к лестнице из котлована, ударом головы в живот сбил с ног айтса в металлической каске, могучим, его самого поразившим прыжком перемахнул решетчатую ограду и очутился в саду. Здесь тоже зажегся дополнительный свет. Откуда-то сбоку метнулся, шипя, столб огня. Но мимо. Визжала женщина-айтс. Деревья, освещенные снизу, как в театре, мелькали справа и слева. Четырехногое животное бросилось космонавту под ноги, он перескочил его. Снова стена… Он подпрыгнул, схватился наверху за что-то острое, режущее, подтянулся, перехватил дальше окровавленными липкими пальцами, перебросил тело через стену и упал в черную неосвещенную улицу. Запоздало грянул выстрел, другой… (Выходит, что здесь тоже стреляют!) Вблизи заскрипела отворяемая калитка, целая толпа айтсов вывалилась в темноту. Но Алексей уже мчался прочь огромными шагами. Опять загрохотали выстрелы, простегивая вдоль всю улицу. Сзади топот нарастал. Слева потянулся невысокий забор. Улица резко повернула. Впереди была освещенная площадь, откуда доносились крики пляшущих айтсов. Алексей оглянулся, зайцем метнулся к забору, перескочил его, почувствовал, что проваливается между какими-то ящиками, и затих. Преследующие пробежали мимо. Он встал, натыкаясь на пустые легкие ящики, и, падая в темноте, пересек широкий двор. Впереди опять была неосвещенная улица, он пошел было и остановился. Куда?.. Теперь хорошо было бы вернуться в Углубление. Но как найти знакомые ворота? Он закусил губу, задумавшись, и вдруг услышал, что кто-то пробирается между теми же ящиками. Алексей сжался, готовясь к борьбе. Крупная крепкая фигура возникла рядом. Это был айтс-Летчик. — Вы здесь? Алексей молчал. — А как вы вышли из подземелья? Космонавт вдруг почувствовал, что этому можно довериться. — Вышел… Просто вышел в каком-то дворе. Недалеко отсюда. Айтс дышал легко, как тренированный спортсмен, которому достаточно нескольких секунд, чтобы прийти в себя даже после самого отчаянного рывка на дистанции. А у Алексея, отвыкшего бегать в тесных коридорах подземелья, все еще молотом стучало сердце. — Вы знаете дорогу назад? — Нет. — Алексей помотал головой. — Помню, что там были большие ворота. — Ну, пойдемте, я вас доведу. Айтс-Летчик пошел вперед. Это было долгое путешествие. Они шли по неосвещенным улицам, иногда перелезали через ограды из колючей проволоки. В одном месте гигант остановился и некоторое время соображал, после чего они вернулись и двинулись другим путем. Все вокруг казалось вымершим, веселящийся Город остался справа. Нигде они не видели живой души, но на одной из темных улиц их вдруг догнала почти бесшумно движущаяся повозка из тех, что охотились за жителями. Сноп света осветил их, резкий голос что-то крикнул из мрака. Алексей затаил дыхание. Но айтс-Летчик усмехнулся, помахал рукой, приветствуя водителя жуткой машины, обнял космонавта и прижал его к себе. Повозка укатила, они пошли дальше, и возле высокого забора гигант остановился. — Здесь? Алексей заглянул в щель. Это был тот самый двор, только они подошли к нему с другой стороны. — Ждите вот тут, — сказал Летчик, — а я пойду к воротам. Когда услышите свист, перелезайте через забор и спускайтесь в Углубление. Он зашагал было к воротам, где виднелась фигура айтса-стража. Алексей остановил его: — Подождите. — Да. — Вы сказали “скоро обратно”. Куда обратно? Айтс-Летчик миг смотрел на Алексея. В глазах у него не было жадности и страха. Космонавт вдруг понял, что перед ним один из тех, кто из статута айтсов перешел в положение жителя. Или собирается перейти. — Так куда же обратно? Гигант покачал головой: — После. Он пошел вдоль забора, перешагивая через груды мусора, выбрался на освещенное место и там неуверенной походкой больного или пьяного подошел к айтсу у ворот и обнял его. Алексей услышал спор, крики. Появился еще один айтс-стражник. Потом воздух прорезал негромкий свист. Алексей перелез через забор, торопливо перебежал освещенное пространство и нырнул в тень знакомого ангара. Все тут было так, как он оставил несколько часов назад. Одиноко горел запыленный огонек в подъемном устройстве. Алексей вошел в кабину. Пока он падал в глубину, в уме у него все время стучало, что их теперь оказалось тут трое: Борис, Кирилл и он сам. Да еще к ним наверняка присоединятся айтс-Летчик и такие жители, как Суезуп, например. Затем ему пришло в голову, что он, в сущности, еще очень плохо знает “верхних”. Только увидел, какие они из себя и как вообще выглядит Город. Но ему неизвестно даже, представляют ли они собой единое общество или разделены на враждующие классы. По-настоящему обнадеживали только та запальчивость и злоба, с которой они говорили о жителях. Запальчивость показывала, что они, в конечном счете, все-таки слабы. Он пошел спускающимся коридором и на первом же повороте остановился, замерев. Темная фигура отделилась от стены навстречу ему. Толфорза! У него отлегло от сердца. Он заметил, что маленькая женщина вся дрожит. — Что с тобой? Она зябко поежилась. — Ничего… Я ждала. Этой ночью будут большие обыски. Нужно уйти, потому что тебя ищут. Опять идти! А он уже предвкушал, как растянется на своем привычном жестком ложе. — Ты пойдешь с отрядом наших. Мы уже обошли все Углубление. Ждут только тебя. Алексею захотелось поделиться с ней своим удивительным открытием. — Знаешь, я видел ракету. Корабль, на котором мы прилетели. Помнишь, я тебе говорил?.. Значит, мои товарищи тоже здесь. Она кивнула. — Пойдем. В отдаленной галерее около десятка жителей поднялись с полу при его появлении. Таких он еще и не видел. Крепкие, рослые — некоторые с него, а двое даже выше. Его похлопали по плечу, осветили белозубыми улыбками. С Тнавресом и Толфорзой они разговаривали на незнакомом Алексею языке. Тнаврес объяснил, что они пойдут к океану. Опять они выбрались через лаз под стеной. Дул ветер и нес облака пыли. Наверху, на стене, гиганты вертели прожектором. Длинная светящаяся полоса выхватывала из мрака ложбинки и холмики пустыни, поросшие редкой травой. Толфорза шагнула к Алексею, несмело протянула руку и погладила его светлые волосы. — Пусть тебе будет хорошо в дороге. И сразу змейкой скользнула назад. Алексею вручили тяжелый мешок. Он подумал, забрасывая его за спину, что здесь, наверное, запас пищи. Один из молодых жителей что-то крикнул под завывание ветра. Отряд двинулся. Космонавт оглянулся. Луч света упал на неподвижно стоявшую Толфорзу. Она не шевельнулась. Ее маленькая точеная фигурка показалась Алексею такой удивительно прекрасной, что ему даже на миг сделалось больно. Черт, неужели и ее ждет повозка, забирающая тех, кто лишен права на жизнь? Но думать об этом уже было некогда. Отряд пошел цепочкой, — Алексей в середине. Жители шагали уверенно и быстро, как идут к большой цели. Ну что ж, к океану так к океану! Алексей почувствовал прилив сил. С такими парнями можно горы свернуть. Не означает ли этот поход начало конца для злобных “верхних”?IV
Лишь на пятый день пути, когда отряд оставил между собой и Городом около трехсот километров, Алексей начал втягиваться в бешеный темп движения. Особенно трудным для него оказалось приноровиться к походке своих товарищей. Если он шел, то отставал, если пускался бегом — на время перегонял всех. А жители и не шли, и не бежали. Это было нечто среднее — аллюр, который по земным понятиям Алексей назвал бы тропотой. Полушаг-полубег. Поначалу спасала только гордость: неужели он, представитель Земли, не выдержит?! На привалах он валился замертво и, лишь отдышавшись, усилием воли заставлял себя съесть кусок сушеного мяса или горсть маленьких сухих шариков, которые распределял между членами отряда их руководитель, по имени Икирф. Алексей подозревал, что это яички каких-то насекомых вроде муравьев. Сытными-то они, во всяком случае, были. В первые дни несколько раз он доходил до отчаяния. Что, если как-нибудь объяснить им, чтобы его просто оставили здесь, в пустыне? Отряд-то, в конце концов, ничего не потеряет. Алексей даже начал искать себе извинения: может быть, тут и воздух не совсем такой, как на Земле. Возможно, и сила тяжести побольше. Сколько мог, он все же старался не показывать свою усталость. Затем однажды под утро он проснулся и с удивлением ощутил в себе интерес к окружающему. Все тело ныло, особенно мышцы спины и ног, но это было как после побежденной уже болезни. Хотелось двигаться. Алексей приподнялся на локтях, чувствуя, что свежий ветерок обмахивает плечи. “Черт, совсем уж они меня задавили, эти айтсы. В конце концов, здесь новый огромный мир и жизнь, которая даже лишь в силу того, что она жизнь, не может не быть волнующей и в большинстве своих проявлений прекрасной. Что же я, собственно, так приуныл?” Его товарищи спали тут же, на маленьком островке шершавой травы, — на таком расстоянии от Города на ночь уже не выставляли часового. В этой небольшой группе жителей были, казалось, представлены разные племена и даже расы. Люди различались цветом кожи, строением лица. И даже разговаривали они, как понял космонавт, на двух или трех разных наречиях. Алексею пришло в голову, что, возможно, жизнь на планете вовсе и не ограничена Городом и Углублением. Просто айтсам было выгодно вселить такое убеждение в сознание маленьких жителей. На самом-то деле было весьма вероятным, что где-то за бесплодными песками лежат цветущие страны, что в океане есть большие населенные острова и, может быть, даже целые материки… Он поднял голову, посмотрел вверх и вскочил. Небо! Первый раз он видит здесь ночное небо! Звездный купол, мерцая бесчисленными соцветиями далеких светил, раскинулся над ним. Вдруг задрожав от радости и волнения, Алексей угадывал знакомые. Вот, прямо над головой, Скульптор и вытянутая Южная Рыба; вот к северу над горизонтом Пегас. Бархатный, одновременно темный и блещущий, полог неба был едва ли не таким же, каким виделся бы с Земли: только чуть больше в стороны раздвинулись голова и хвост Рыбы. Но так и должно было получиться, поскольку слишком ничтожными для безмерности Вселенной были те пять — шесть парсек, те двенадцать — пятнадцать световых лет, что отделяли сейчас Алексея от Солнечной системы. Сердце забилось у него при мысли о том, что где-то среди этих мириад сверкающих точек звездочкой третьей или четвертой величины плывет Солнце. Но что-то подсказывало ему, что скорее в весеннем, а не в летнем небе планеты ему надо будет искать потом родное светило. И все-таки это было счастьем — увидеть знакомые звезды, постоять у того же самого небесного океана, хотя и на другом берегу. Он подумал о том, как много глаз с Земли, с этой же планеты, с других бессчетных и, наверное, по-своему прекрасных миров могли в этот же миг вглядываться в темную, гипнотизирующую, чарующую бездну… А пологие барханы перед ним, освещенные встающей на небе звездой — солнцем, были еще не тронуты, не испещрены ничьим следом, по-утреннему первозданны. В тот день отряд с песчаной пустыни вступил на каменную. Черная, как выжаренная солнцем, поверхность простиралась до горизонта, теряясь в знойном мареве. Почва была сложена из камней, по большей части маленьких, плоских, отшлифованных тысячелетиями ветром и дождями. Отряд вошел в эту бесконечность и потерялся на ней, как цепочка муравьев потерялась бы на Земле на Дворцовой площади в Ленинграде. Черные камни дышали жарой. На первый взгляд тут совсем не было жизни, но однажды Икирф показал Алексею нарост на большом голыше — нечто мягко подавшееся под пальцами, легкой упругостью подтверждающее принадлежность к тому, что питается и дышит. Правда, даже и эти растения располагались в десятках метров один от другого. Переход через каменную пустыню был труден, но именно здесь Алексей еще раз как-то по-особенному ощутил величие живого. Они шли как бы по грани между планетой и космосом. Черная поверхность непосредственно примыкала к небу, ко Вселенной. Временами космонавту казалось, что отряд движется по самому дну Галактики, по космодрому, по стартовой площадке, откуда начинаются пути к бесконечности солнц, туманностей, комет и Земле, затерявшейся там в вышине. Они миновали каменную пустыню и вошли в низкий белый беззвучный лес. Можно было только удивляться разнообразию ландшафтов в этом мире. Как исступленно изломанные руки, из песка торчали белесые ветвящиеся стволы без листьев. Кипела жизнь, но неслышимая, безголосая, беззвучная. Маленькие рогатые существа пробегали под ногами, оставляя быстро осыпающиеся следы. Не жужжа, молча летали и роились насекомые. Один из жителей, проворно нагнувшись, поднял не успевшую ускользнуть змейку и показал космонавту — ноздри у нее были направлены не вперед, как у земных животных, а вбок. На выходе из леса их застигла несильная песчаная буря. Ветер был слабый, но до такой степени насыщенный электричеством, что все сухо потрескивало кругом, а с протянутой руки стекали отчетливо видные голубые искорки. Кончились запасы воды. Полдня рыли песок в месте, указанном Икирфом, потом Алексей неосторожным движением пустил всю работу насмарку. Жители докопались уже до твердого сыроватого слоя и стали что-то объяснять космонавту. Он, думая, что дальше в глубине влаги будет еще больше, пальцем проткнул отвердевшую корку, и песок сразу высох, поскольку вода ушла через дыру. По счастью, на следующее утро один из членов отряда нашел водоносное растение. Из песка торчал бледный сухой росточек. Жители принялись рыть, и через несколько минут из земли был извлечен клубень — трехлитровый пузырь, наполненный хрустально прозрачной холодной водой. На обед в этот день у них было животное величиной со среднюю собаку. Насколько Алексей сумел понять из объяснений, оно отличалось тем, что активно жило лишь одну десятую часть года, девять десятых отсыпаясь в песчаной поре. Они шли и шли. Алексей окреп, загорел, похудел. Вечерами тело приятно ныло, а по утрам после отдыха он ощущал каждый свой мускул сильным, готовым к напряжению и труду. Хотелось двигаться. С молчаливого согласия других он добавил груза в свой мешок. Еще раз переменился ландшафт. Пустыня постепенно повышалась. Там и здесь из песка торчали остатки выветренных древних скал. Дневная температура чуть упала, сделалось не так мучительно жарко. Иногда принимался дуть легкий освежающий ветер. И наконец на десятые сутки величественным зрелищем предстала цель их пути. Жители погнались за каким-то животным и ушли далеко вперед. Алексей брел, оставляя глубокие следы в песке, согнувшись под тяжестью поклажи, которую всю оставили ему. Он посмотрел на небо. Над горизонтом в вышине катились волны океана. Мираж! Могучие, подернутые рябью, окаймленные белым валы шли в свое постоянное, как и на Земле, наступление. Бездонные воды на небе дышали, мерно вздымаясь, искрились, сверкали, и Алексею даже почудилось, будто он слышит вечный, непрекращающийся диалог ветра и волн. Зачарованный, он остановился и стоял, пока видение не растворилось в жаркой голубизне. Но до океана дошли они только к концу следующего дня. И здесь, на встрече двух стихий, тоже все было странно и неправдоподобно для Алексея. Как будто бы даже это был океан не воды, а чего-то другого. Берег обрывался крутыми уступами. Еще издали начало пахнуть серой, и запах все время усиливался. В напряженный тугой гул волн начали вплетаться отчетливые посторонние громовые удары. Один раз вся местность вокруг сильно дрогнула, и этот удар, соединенный с сернистым дымком в воздухе, заставил космонавта испуганно оглянуться на спутников: не землетрясение ли? Однако его товарищи были спокойны. Еще ближе они подошли к обрыву, и вздыбленная равнина, освещенная заходящей звездой-солнцем, раскинулась перед ними, круто, выгнуто простираясь к горизонту. Странный океан кипел и нес на скалы полосы сернистых газов. Он был не синего, а красного цвета. Непрерывные глухие удары раздавались в глубине. Вода ли это?.. В одном месте, недалеко от берега, пучина начала кипеть особенно сильно; извергся огромный клуб зеленоватого дыма, быстро рассеиваясь. Что-то гигантское тяжело повернулось в глубине, грохот донесся наверх, и на поверхность внезапно всплыл черно-зеленый остров, как бы составленный из отдельных глыб. Опять ощутимо дрогнул берег. Алексей усомнился, у океана ли он стоит. Не может ли быть, что перед ним фантастически огромное жерло вулкана?.. Не может ли это быть бесконечно большим полем раскаленной лавы?.. Но эта “лава” не была горячей. Даже наоборот, от океана несло холодком. У самой кромки воды, далеко внизу, под скалами, лежало что-то огромное, узкое, длинное — около двухсот метров, — серебристо-серое и… живое. Во всяком случае, Алексей видел сверху, как оно колышется и дрожит. В ответ на его вопрос один из жителей коротко сказал: — Рыба. Космонавт ахнул. Рыба! Ничего себе — рыба! Таких чудовищ на Земле не было и во времена динозавров. Он подумал, что мореплавание здесь, пожалуй, не организуешь. Прощай мечта открыть населенные острова!.. Солнце садилось. На ночевку отряд отошел от берега. Выкопали в песке яму, — Алексей лишь позже понял зачем. Последние закатные лучи погасли. С океана вдруг надвинулась стена отчаянно холодного тумана. Температура воздуха за несколько минут упала градусов на десять — пятнадцать. Жители улеглись в яму, тесно прижавшись друг к другу. Но и это не спасало. К середине ночи все так замерзли, что поднялись и принялись бороться и бегать в тумане. Почва, днем сухая, стала теперь влажной, предательски скользкой. Вообще другой такой мучительной ночи Алексей даже не мог и вспомнить. Набегавшись, навозившись, люди легли, но через час снова поднялись, щелкая зубами, совсем окоченевшие. Так оно и тянулось до утра. Однако с первыми лучами солнца туман рассеялся, песок высох, всем сделалось тепло и весело. Узкой тропинкой отряд спустился с обрыва к самому океану. То длинное, двухсотметровое, что лежало внизу, оказалось действительно рыбой. Но не одним гигантским экземпляром, как почудилось Алексею сверху, а просто целой полосой рыбы, выкинутой на берег подводными взрывами. Маленький костер жарко запылал между камней; стали готовить еду. Этотдень прошел в отдыхе. Несколько часов Алексей с Икирфом просидели рядом, молча глядя на волны. Взрывы в глубине постепенно делались реже, океан успокаивался, но все равно нечто странно завлекательное, гипнотизирующее было в этой борьбе слепых, жестоких изначальных сил природы. Безмерно могучее, титаническое свершалось и свершалось там, в толще вод, не зная цели, начала и предела. Что это было?.. Зачем?.. В безудержном пьяном расточительстве, как бы радуясь переизбытку собственной мощи, материя и движение и здесь, в этой точке Вселенной, показывали свою удаль. Алексей посмотрел на Икирфа. Было похоже, что и житель думает о том же самом. Космонавт встал и прошелся по берегу. Скалы… Костер… Тучи, строящиеся на горизонте… Запах серы и гниющей рыбы… Какая-то новая мысль просилась ему в сознание, какая-то принципиально другая оценка всего окружающего. На мгновение ему показалось, что еще секунда — и он совсем иначе и правильнее поймет все то, что видел и пережил в этом странном чужом мире. Чудовищный Город “верхних”, Углубление, Тнаврес, Толфорза, гибельные пески Пространства, — не может ли быть, что это… Алексей закусил губу, нахмурил брови и остановился. Ну еще чуть-чуть!.. Ну еще же! Но нет! Он почувствовал, что мысль ушла, и разочарованно вздохнул. Ладно. Уже звали к костру, к поджаренной на камнях рыбе. Отдохнувшие жители оживленно разговаривали. Не зная языка, космонавт все же понял, что отряд должен будет встретить кого-то тут на берегу. Но кого? Вторая ночь на скалах была не лучше первой. Снова накатил холодный туман, снова бегали и боролись, чтоб не замерзнуть. Выяснилось, что Алексей был сильнее других: с ним еле-еле справлялись даже двое жителей. И только на третью ночь свершилось то, ради чего группа пришла к океану. С вечера Икирф оставил людей у самой кромки воды. Развели большой костер. Жители выстроились длинной шеренгой, вглядываясь в подернутую туманом ветреную темноту. Алексей тоже долго стоял и смотрел, ничего не видя; потом с другого конца шеренги что-то крикнули. Все побежали туда. Нечто черное недалеко от берега поднималось и опускалось на волнах. У космонавта схватило сердце: лодка! Здесь лодка!.. Впрочем, это была даже не лодка, а целое судно, низкое, глубоко сидящее. Вышло, что он был прав, предполагая существование населенных островов в океане. Жители вошли в воду, образовав цепь. По рукам быстро побежали тяжелые ящики. Прибой захлестывал людей. Тех, кто стоял дальше от берега, покрывало с головой. Один особенно сильный вал разом выкинул всех на камни, но цепь тотчас восстановилась, и выгрузка продолжалась. Алексея поставили на берегу. У него была хотя и наименее опасная, но самая тяжелая часть работы — относить тяжелые восьмидесятикилограммовые ящики далеко к скалам в заранее намеченное место. Приходилось бегать. Появилось несколько новых жителей — с судна. Все развертывалось будто в какой-то бешеной пляске. Тускло светил костер, длинные тени людей сшибались и перекрещивались на камнях. Пробегая мимо костра, Алексей едва не сбил с ног рослого жителя, прижавшего к груди ящик. Он поддержал его, глянул в лицо и отступил. — Суезуп! Конечно, это он и был. Они вдвоем донесли ящик и обнялись. Суезуп, тяжело дыша, сказал: — Скоро обратно. — Куда обратно? — Ну, скоро отправим тебя. Потерпи еще. Хотели раньше, но не вышло… Только никому ни слова. — Но куда же обратно? Его даже дрожь прошибла, несмотря на то что он был весь мокрый, вспотевший. Неужели тут тоже будут возможности межзвездных перелетов? Или Суезуп имеет в виду… обратно в Углубление? Его товарищ огляделся, открыл было рот. Но с судна раздался свист. Ящики побежали по рукам еще быстрее. Еще несколько новых жителей прибавилось на берегу. Один был настоящим гигантом, ростом почти что с айтса. Мельком космонавт увидел его лицо — решительное, с сурово сведенными бровями, с жестким, прямо-таки прожигающим взглядом. Он о чем-то спорил с Икирфом, упрямо качая головой. Судно начало уходить, как бы проваливаясь в воду и растворяясь во мраке. Жители закричали и замахали руками. Остаток ночи тоже напряженно работали. Часть ящиков подняли на пятидесятиметровый обрыв и закопали в песке. С первыми признаками восхода солнца Суезуп, гигант и почти вся группа Икирфа ушли в пустыню, а космонавт еще с одним жителем остались на берегу у тех ящиков, которые не были спрятаны. Через двадцать — тридцать минут, после того как скрылся отряд, над берегом со стороны восхода в небе показалась темная точка. Алексей, уже наученный горьким опытом, схватил товарища за руку: — Прятать ящики! Однако выяснилось, что часть груза и была оставлена как раз на этот случай. Летательный аппарат типа вертолета медленно проплыл над ними. Житель, подпрыгивая, закричал. Машина снизилась, рыча двигателем, тяжелые колеса утвердились на камнях. Раскрылась дверца, двое айтсов в черных противосолнечных очках выпрыгнули наружу и тотчас принялись молча грузить ящики. Алексей и житель помогали. Потом один из “верхних” — космонавту он казался странно похожим на того Летчика-айтса, который выручил его во время выхода в Город, — помахал космонавту рукой. Алексей с товарищем влезли в машину; она тотчас с натужным ревом поднялась. В воздухе, не теряя ни минуты, житель стал складывать стенку из ящиков. Аппарат проваливался на воздушных ямах, качался, и это было так приятно и знакомо Алексею, что он даже забыл на мгновение, где находится. Затем Алексей с жителем улеглись за стенкой, а один из айтсов прикрыл их сверху ящиками. Все это, видимо, было заранее рассчитано едва ли не по секундам. Почти сразу машина снизилась где-то па аэродроме. Вошли новые айтсы. Слышен был их отрывистый разговор- на этот раз на языке, которого космонавт не понимал. Снова аппарат поднялся в воздух — теперь уже на целых восемь часов. В большой кабине сидели и разговаривали айтсы-пассажиры, а космонавт с товарищем лежали скорчившись, не шевелясь в своем убежище. Опять снизились. Айтсы-пассажиры вышли, машина полетела дальше. Один из летчиков — не тот, который казался Алексею знакомым, — разобрал стенку. Тут же машина стала спускаться и мягко стала на песок. Космонавт с товарищем вышли. Они были под самой стеной, окружающей Город. Стоял поздний вечер. Солнце садилось. За какие-нибудь десять часов они проделали путь, потребовавший у них около двух недель. Океан, грохочущий сернистыми взрывами, черная каменная пустыня — всё было теперь за сотни километров. Быстро темнело. В мгновение ока ящики были извлечены из летательного аппарата, который тут же взвился в воздух. В Городе “верхние” уже зажигали свои прожекторы. Маленькая фигурка вынырнула из мрака, за ней другая. Тнаврес! Толфорза!.. Через минуту целая толпа окружила космонавта. Цепкие руки брались за ящики. По двое, по трое жители тащили их в подземный ход. Алексей из последних сил тоже поволок один ящик. Космонавт едва мог вспомнить потом, как они очутились в отдаленной галерее и как сложили груз. Он шатался от усталости, Толфорза поддерживала его. Вошли в знакомый коридор. Было людно — гораздо люднее, чем когда Алексей уходил с отрядом. Видимо, репрессии наверху продолжались, и все большее количество жителей стремилось укрыться в Углублении, где не спрашивали права на жизнь. Перешагивали через чьи-то ноги… Потом в какой-то миг всю усталость разом сдернуло с космонавта. Лицо одного спящего показалось ему знакомым. Он остановился, вгляделся. Почувствовал, как вдруг неожиданно сильно забилось сердце. Еще не поняв как следует, зачем он так делает, Алексей схватил жителя. И сразу ему стало ясно: перед ним был тот самый желтоглазый, которого он встретил у подземной реки и который узнал его возле ракетного корабля. Предатель. Космонавт обернулся к недоумевающей Толфорзе. — Он!.. Помнишь, я тебе говорил — он! Но маленький человечек сумел оценить обстановку в течение какой-нибудь десятой доли секунды — как будто и не спал совсем. С неожиданной силой он вырвался из рук Алексея, ударил его головой в живот, сбил с ног и, пробежав по нему, кинулся в ответвление коридора. Подземелье зажужжало как улей. Желтоглазый бежал, перескакивая через жителей, задевая и будя их, и между ним и Алексеем с Толфорзой поднимался встревоженный вал недоумевающих людей. Расталкивая их, космонавт гнался за предателем. Тот упал, споткнувшись, Алексей бросился на него. Подоспели Толфорза и Тнаврес. Сбиваясь и путаясь, крепко держа корчащегося желтоглазого, Алексей объяснил им, в чем дело. Сопровождаемые уже целой толпой, они повели маленького человечка сначала в одну комнату, потом в другую — космонавт не понял зачем. Входили одни жители и выходили другие. Начался допрос. Желтоглазый говорил на языке, незнакомом Алексею, и его спрашивали на том же. Космонавт стоял, потом сел на пол. Он не спал уже третьи сутки, и происходящее начало ускользать от него. То появлялись, то исчезали бушующий океан, лицо Суезупа, протянутые руки-ветви белых деревьев, Тнаврес, подавшийся вперед с нахмуренным, сосредоточенным взглядом. Алексей не разбирал, где действительность, где сон… Затем он очнулся на короткое время. В комнате было совсем-совсем тихо. Маленький человечек сидел спиной к стене в центре полукруга, образованного другими жителями. Бородатый Тнаврес стоял посреди комнаты, подняв над головой тонкую палочку. Потом он медленно пошел к подсудимому, желтые глаза которого, следя за палочкой, все более наполнялись ужасом. Тнаврес сделал последний шаг и начал медленно сгибать палочку. Маленький человечек выгнулся, пытаясь встать. Он закричал: — Не надо! Нет, не надо!.. Тнаврес приблизил палочку к его голове и нажал. Палочка хрустнула и сломалась. В тот же миг тело желтоглазого напряглось в последнем усилии, он вскочил и тут же рухнул на каменный пол. Уже мертвый. Это не вызывало сомнений. Он упал мертвый, как если бы вся его жизнь сосредоточилась в палочке и, сломав ее, Тнаврес одновременно мгновенно оборвал и его существование. Но эта сцена была последним, что видел Алексей. Усталость требовательно овладела им, опуская голову и закрывая глаза; он вяло пошарил вокруг руками. Уже сквозь сон ему послышалось, что Толфорза произносит его фамилию: Петров… Но он знал, что этого не может быть. Ведь никому — ни одной живой душе в этом мире — он не называл своей фамилии.V
Алексей договорился с Толфорзой, что вечером они пойдут вдвоем в Город. Сейчас он ждал, когда девушка вернется. Широкоплечий Нуагаун, которому нужно было идти на ночные работы в подземный зал, сидел в углу помещения на полу, пересчитывая, как обычно, свои жетоны. За прошедшие недели болезнь еще сильнее скрутила его. Он похудел, крепкие руки с развитой мускулатурой как бы высохли, лицо посерело. Все чаще он, закусив губы, прислушивался к тому, что совершалось в его грудной клетке. Заметив взгляд космонавта, он рассеянно улыбнулся ему, продолжая свои вычисления. Теперь Алексей уже знал, какова была его цель. Наверху у Нуагауна осталась семья. Житель знал, что сам он скоро умрет, и хотел имеющимися у него талонами обеспечить своим родным право на жизнь. Но ему действительно трудно было сделать расчет. Прибавляя жизнь своим младшим сыновьям, он отнимал ее у двух старших и дочери. Нуагаун уложил свои металлические бляхи в несколько столбиков, со вздохом смешал их и принялся раскладывать по-другому. Алексей с нетерпением ждал сирены. У него было неопределенное подозрение, что айтсы прячут Бориса и Кирилла в районе того сада, где он сам побывал, и он хотел начать розыски своих друзей. Кроме того, его истомило безделье. Опять шли дни, а Суезуп и Икирф как будто бы забыли о нем. Никто даже не сказал Алексею, что было в тех ящиках. Конечно, он и сам кое о чем догадывался, но было обидно, что ему доверяют не до конца. И вообще он постепенно начал понимать, что в подземелье к нему относятся как к существу не вполне нормальному. Некоторая ненормальность и была, естественно, даже просто в том, как и откуда он попал в этот мир. Однако Алексей ощущал и другое. Жители не только берегли его, но и оберегали от некоторых тем и некоторых проблем. Как оберегают больного. С ним никогда не поддерживали, например, разговора о Земле: если он пытался завести его, с ним не хотели говорить о глубинах космоса, которые пересекла их ракета, прежде чем опуститься в пустыне у Города. Впрочем, он и сам ощущал в себе нечто странное. Что-то происходило с его зрением, вернее, с его способностью определять размеры того, что он видел. Раньше все жители казались ему очень маленькими, а “верхние” — огромными. Но потом началась передвижка. Жители непостижимым образом увеличились в размерах, а “верхние” уменьшились. Что-то менялось в окружающем его мире и требовало другой оценки и другого понимания. Но особенно-то задумываться об этом не было возможности. На трое суток остановился титанический механизм, самый грохот которого был как бы непременным условием существования в подземелье. Пронесся слух, что убит один из айтсов-надсмотршиков. Ждали побоища, но ничего не случилось. Прибыла вторая партия ящиков с океана, — как и прошлый раз Алексей помогал носить и укрывать их. Однажды он мельком видел Суезупа и один раз — того гиганта, чей рост поразил его памятной ночью на берегу. В тот же вечер в подземелье появилось около десятка новых жителей, все крупные, с решительными, энергичными лицами. Совещание прошло в одной из галерей, и после этого наутро опять завыла сирена, застучал конвейер, и толпы обитателей Углубления потянулись на работу. Рассказывали, что наверху, в Подгороде, отряд жителей вступил в открытый бой с айтсами и был разгромлен. Потом выяснилось, это был лишь слух. Но все равно что-то готовилось. С каждым днем в коридорах становилось меньше детей. Космонавт подозревал, что в пустыне для них приготовлены специальные убежища. И кроме всего прочего, для Алексея была еще одна ошеломляющая, почти неправдоподобная новость. Оказалось, что где-то в космических окрестностях планеты существует еще один обитаемый мир. Вторая планета называлась Юэсой и была населена разумными и весьма могущественными существами. Обитатели Юэсы неодобрительно относились к Городу, и, боясь их, айтсы готовились уйти под землю. Они намеревались разрушить все, что было построено на поверхности, и навсегда скрыть свою цивилизацию в подземных залах. Именно для этого было создано Углубление и для этого в нем велись непрерывные работы. Удивительная новость объясняла многое. Сделались понятными и страх, которым был объят Город “верхних”, и их на первый взгляд беспредметная озлобленность, и то, зачем целый лес ракет был воздвигнут в котловане возле сада. Нечто воодушевляющее и гордое было в том, что Алексей попал на планету в самый, может быть, важный час ее миллионолетней истории. Выученные в школе стихотворные строчки вертелись в голове: “Тебя как равного святые на пышный пригласили пир”. Хотелось бороться и действовать. Но недоверие к нему жителей лишало его возможности что-нибудь делать. С ним не откровенничали. О Юэсе сказали только, что она есть, что айтсы боятся ее, и всё. Тогда он решил, что должен попытаться разыскать своих товарищей. Если бы это удалось, втроем с Кириллом и Борисом они вернее разобрались бы в создавшейся обстановке. Задача облегчалась тем, что в лагере айтсов ощущалась какая-то нерешительность. Ходили слухи о расколе, дисциплина наверху пала, охрана выходов из Углубления была ослаблена. Толфорза пришла сразу после сирены. Она внимательно осмотрела космонавта. С отросшими волосами и бородой, одетый в комбинезон, который давно уж потерял свой первоначальный синий цвет и был весь испещрен заплатами, Алексей являл собой зрелище далеко не привлекательное. Но девушка осталась довольна. — Ладно. Он понимал, что означало это “ладно”. Странным образом, он больше похож на айтса, чем на жителя. А в Городе среди “верхних” теперь как раз распространилась мода ходить в лохмотьях и даже грязными. Следуя за Толфорзой по коридору, Алексей думал о том, как переменились его отношения с девушкой за последние две — три недели. Сначала была взаимная симпатия — она началась с первой встречи, с той минуты, когда космонавт столкнулся с группой маленьких людей в пустыне и Толфорза выступила за то, чтоб жители взяли его с собой. Потом, во время его болезни, эта симпатия переросла в дружбу. Он и жил-то, собственно, от одного прихода девушки до другого. Потом она встретила его в Углублении, вернувшегося из Города, — ждала у стены в коридоре. И тогда началось новое. Как будто стенка выросла между ними. Еще до этого случая он взял ее однажды за руку, и до сих пор у него сердце щемило, когда он вспоминал шелковистую нежность ее кожи у запястья. Позже ему часто хотелось повторить это, но как-то не получалось. Девушка стала сдержаннее. Они разговаривали уже без прежней свободы, обдумывали каждую фразу. Вообще тут было о чем подумать. Насколько Алексей мог понять, отношения мужчин и женщин не отличались в Углублении сложностью. Да иначе и не могло быть при том примитивном существовании, на которое “верхние” обрекли жителей. Если двое нравились друг другу, окружающие просто старались оставлять их наедине хотя бы на некоторое время. Причем это вовсе не означало, что двое соединились навсегда. Но так было не со всеми: Толфорза, например, жила в специальном помещении для девушек, куда никто из мужчин не входил. И поражал постоянный контраст между грязной затхлостью подземелья и тем, какими свежими и сияющими девушки умудрялись появляться из своего жилища. Алексей знал, что Толфорза была, пожалуй, единственным по-настоящему близким ему существом в подземелье. Суезуп, Тнаврес да и остальные, кого он знал, относились к нему, конечно, хорошо. Но, занятые своим делом, они не считали нужным скрывать, что это было именно их дело. Обижаться на них не имело смысла, поскольку Алексей был чужаком на планете. Всего лишь гостем, который, правда, будет гостить до конца своих дней. У него была возможность обдумать все это, потому что путь наверх оказался прямо-таки бесконечным. Впервые он увидел подземелье в разрезе. Узкими ходами и лазами они поднимались с одного уровня на другой. В некоторых коридорах даже лица жителей были не такими, к которым привык Алексей. Когда он почувствовал уже ломоту в мускулах, девушка повела его пустынной галереей, потом полезла в узкий, круто поднимающийся туннель. Он постепенно расширялся, впереди мелькнул отблеск дневного света. Толфорза первой выбралась на маленькую площадку, прилепившуюся к стене. Алексей поднялся вслед за ней и в первый момент даже как-то позабыл, зачем он здесь. При дневном освещении он видел девушку всего во второй раз. Но тот давний, в пустыне, был таким далеким, и так много воды утекло с тех пор, что его можно было и не считать. Смуглая золотистая кожа девушки светилась. Толфорза была как бы вся пронизана солнечными лучами. Ну что, если вот сейчас прямо и сказать ей, что все свои мысли о будущем он связывает с ней? Но Толфорза подвела его к краю площадки, и он невольно отшатнулся. Там была пропасть. Колодец диаметром чуть ли не в полкилометра бездонно уходил вниз. Заходящее солнце било в глаза, противоположный дальний край огромного кратера заволокло тенью. Тысячи людей и механизмов передвигались по едва заметным тропкам на косо опускающихся стенах, и все это движение стремилось к сложной системе транспортеров, которые несли и несли наверх бесконечные тонны породы. Алексею вспомнился фантастический роман Беляева “Продавец воздуха”. Там тоже описывалась дыра в глубь земли. Но эта, в натуре, была куда более впечатляющей. Действительно, айтсы серьезно взялись за строительство подземного убежища. В одной такой яме можно было скрыть целый город. Вокруг колодца отвалы голубой глины во все стороны закрывали горизонт. Там и здесь, образуя сложные переплетения, тянулись высокие изгороди из колючей проволоки. Комплекс плоских зданий нависал над пропастью недалеко от того места, где стояли Алексей и Толфорза. — Когда я была маленькой, мы приходили сюда дышать воздухом, — сказала девушка. Небо над стройкой было желтым, вечереющим. Алексеи знал теперь, что там, за непрозрачной толщей атмосферы, в черной глубине космоса висит наверху гигантский шар загадочной вооруженной планеты Юэса. От этого делалось как-то не по себе. Им удалось выбраться с территории Углубления неожиданно легко. Возле плоских зданий они наткнулись на группу айтсов. Некоторые лежали на земле, другие сидели. Один, рослый и грузный, поднялся, окликнул Алексея: — Куда? Но, не выслушав ответа, вдруг махнул рукой и отвернулся. Краем глаза космонавт успел увидеть за его спиной открытую дверь в зал. Пол там был залит чем-то темным. Сотрясая воздух, работали механизмы. Длинный конвейер струил целую реку голубой глины, и сотни жителей стояли по обе стороны этого устройства, что-то выхватывая из непрерывно движущихся перед ними груд породы. Жарко пахло нагретым металлом, машинным маслом и электричеством. Все было так похоже на цех крупного завода на Земле, что у Алексея на миг от тоски перехватило дыхание. Глиняная река выходила с другой стороны здания и там, подхваченная и поднятая транспортерами, падала в отвал. Потянулись изгороди из ржавой проволоки. Толфорза уверенно вела космонавта. Еще дважды им попадались по дороге вооруженные “верхние”, но, казалось, хозяевами планеты овладела какая-то апатия. Никто даже не спросил Алексея, кто он и почему оказался здесь. Еще через полчаса пути перед ними открылась площадь, ограниченная высокой стеной с воротами в дальнем краю. Толфорза боязливо отступила за Алексея. Но и здесь обошлось. Как раз подошла повозка с отрядом айтсов. Вооруженные гиганты быстро и деловито занимали посты у ворот, у башенок по углам площади, у входов в лабиринты из колючей проволоки. Раздавались четкие команды, печатались тяжелые шаги, клацало оружие. Но возле ворот в стене был большой пролом, и никто из айтсов не хотел замечать его. Алексей и Толфорза вышли через пролом. Спустя несколько минут космонавт понял, что на этот раз он попадает не в Город, а сначала в Подгород. Улицу образовывало ущелье между двумя рядами холмов. Там и здесь — порой как бы в несколько этажей — зияли входы в пещеры. Поток нечистот медленно струился по широкой канаве. Возле одной из пещер горел, потрескивая, костер. Полунагая женщина каменным, первобытным ножом тщетно старалась разрезать кусок жилистого гниющего фиолетового мяса. Тут же лежал и грубо вытесанный каменный топор. Маленький ребенок, голый, с огромным выпуклым животом, искал что-то в канаве. Мужчина-житель, тоже полуобнаженный, но в очень плотной и толстой шапке, стоял, сосредоточенно и безучастно глядя перед собой. Ребенок вдруг быстро подполз к нему, что-то спросил. Мужчина, не поворачиваясь, равнодушно отшвырнул его ногой. И тут же рядом, удивительно соседствуя с этим первобытным застывшим миром, шагали мачты электропередачи, а какой-то музыкальный механизм издавал хриплые, далеко разносившиеся ритмически организованные звуки. Проехала повозка-автомобиль айтсов, развернулась, попала колесом в канаву, обрызгала женщину. Та не подняла головы. Подгород!.. Было пустынно. Но, по мере того как Толфорза с Алексеем все дальше уходили от Углубления, характер улицы менялся. Среди пещер стали попадаться строения, сложенные из больших глыб, появились щиты с какими-то сверкающими надписями. Потом пещеры кончились, улица сделалась настоящей улицей. Но все так же зловонная канава разделяла ее вдоль. Пахло копотью, прогорклым жиром, и Алексею казалось, что все-все тут — и стены жилищ, и столбы с музыкальными ящиками, и даже самих прохожих — обволакивает сальная, липкая пленка. Народу становилось больше. Жители группами стояли там и здесь, негромко переговариваясь. Девушка с брезгливо циничным выражением лица сошла с тротуара на мостовую, так странно кренясь и вихляясь при каждом шаге и с таким трудом волоча ноги, что Алексей пожалел ее, приняв за калеку. Но то был танец. Несколько парней присоединились к девушке, так же вихляясь и таща ноги. Толфорза и Алексей прошли мимо пожилого жителя, который, сидя прямо на земле, старательно укладывал в свою шапку большой клок чего-то серого, похожего на вату. При такой жаре это представлялось необъяснимым. Толфорза сказала: — Он хочет, чтоб его не убили, если его ударят палкой по голове. — А кто его может ударить? “Верхние”? Девушка усмехнулась: — “Верхних” после захода солнца здесь не бывает. Действительно, космонавт не видел на улице ни одного айтса. Он вспомнил, как Суезуп еще давно, у реки, рассказывал, что “верхние” по ночам не решаются входить в Подгород. Получалось, что жители боятся других жителей. Но он сразу сообразил, что удивляться тут нечему. Угнетение не воспитывает и не облагораживает. Кучка молодых плечистых жителей стояла на углу на тротуаре. Один пристально посмотрел на космонавта, и того передернуло — таким порочным и злобным был этот взгляд. Уже подходила ночь. Толфорза вдруг взяла Алексея под руку. Он понял значение этого жеста. Девушка как бы предупреждала окружающих: не спутайте моего дружка с “верхними” — он совсем другое. У него потеплело на сердце, и он почувствовал внезапный прилив энергии. Вот так они и пойдут вперед вдвоем: маленький, но крепкий союз, две слившиеся капельки в море, над которым уже собирались штормы. И действительно нечто собиралось. Они шли дальше. Людей все прибавлялось, и общее настроение толпы Алексей определил бы как некую злобную радость. Глаза глядели с вызовом и ожиданием — он совсем не привык к такому в душных подземных коридорах. Проехало, направляясь к Углублению, несколько повозок, набитых вооруженными айтсами. В последнюю вдруг полетело несколько камней, но “верхние” не ответили. Но, правда, все это могло объясняться лишь тем, что уже опускалась над всем этим миром ночь. Подгород кончился. Толфорза и Алексей вышли на небольшой пустырь. Впереди в темном небе мелькали — подымались и падали — длинные лезвия прожекторных лучей. Девушка остановилась. — Теперь нам нельзя вместе. Я пойду впереди, а ты за мной. Улицы Города заливал безжалостный, ослепляющий свет. Его было так много, что он даже мешал видеть. Опять, как в прошлый раз, в лихорадочном возбуждении бежали и сталкивались толпы айтсов: то ли праздник у них был, то ли пожар. Из-за обилия света все тонуло в каком-то мертвом синеватом мареве. На миг все окружающее показалось космонавту наваждением. Существует ли он на самом деле, этот Город? Ему было трудно следить за девушкой. Толфорза шла у самой стенки домов, ее тонкая фигурка то и дело пропадала в игре света и синих теней. Плотный, маленький и очень энергичный айтс, продираясь сквозь толпу, сильно толкнул Алексея. Тот про себя выругался, бросил на “верхнего” косой взгляд, затем посмотрел туда, где в последний раз видел среди мерцающих теней силуэт Толфорзы, и опешил. Девушки не было! Он бегом кинулся вперед, расталкивая айтсов, пробежал с сотню метров. Нет! Куда теперь?.. Он знал, что один даже не сумеет выбраться из Города. Растерянно огляделся. Колени ослабели, во рту сразу пересохло. Прямо на него в группе “верхних” шел Борис Новоселов. Одетый так же, как айтсы, выбритый, чистенький, уверенный в себе и со всегдашним чуть ироническим выражением лица. Он подошел к Алексею вплотную, повернул к мостовой, едва не задев Алексея плечом, и сел в стоявшую тут же открытую повозку-автомобиль. Три айтса стали усаживаться рядом с ним. Алексей смотрел на Новоселова, и у него было такое чувство, будто все это происходит во сне. Даже звуки и шум улицы выключились, и сделалось тихо. В этой тишине, напоминающей немое кино, Борис встал в автомобиле, соскочил на мостовую, обошел кузов, еще раз равнодушно и даже с какой-то холодной брезгливостью посмотрел на Алексея и сел в автомобиль-повозку с другой стороны. Она тотчас тронулась и уехала. Алексей сглотнул и откашлялся. Ничего себе — встретился со своими друзьями-космонавтами! Вернее, с одним из них. Лицо его покрылось испариной, холодная капелька скатилась по лбу на бровь. Он вытер ее ладонью. Улица вокруг возвращалась в нормальное состояние: заговорили и загалдели айтсы, застрекотали прожекторы, зашаркали подошвы. Алексей глубоко вздохнул. Вот, значит, куда ирония завела, в конце концов, Бориса!.. Перешел на сторону “верхних”, на сторону угнетателей… Все плохое, что он помнил о своем товарище, разом пришло ему на ум: и нетерпимость Новоселова к ошибкам и слабостям своих друзей, и его всегдашняя уверенность в своей правоте, и то, как раздражительно он разговаривал с Алексеем во время последнего рокового полета. На секунду он даже ощутил облегчение при мысли о том, что Толфорза не видела этой сцены. Но он не успел додумать своей мысли до конца. Резкий удар по плечу заставил его вздрогнуть. — Эй! Алексей обернулся. — Это он! — раздался голос. Перед космонавтом стоял айтс-Студент. Тот, который в прошлый раз привел его в большой дом, где он видел ракеты и их собственный звездный корабль. И девушка-айтс, тоненькая и стройная как стрелка, была тут же. Она подтвердила: — Да, конечно, это он. Еще несколько “верхних” — все молодые, рослые — смотрели на Алексея. Один, держа в руке знакомый огнеметный баллончик, зашел ему за спину. Попался!.. И в Углублении никто не будет знать, как его схватили и где спрятали. Он шагнул было в сторону. Тотчас два айтса преградили ему путь. Студент властно и крепко взял его под руку. — Идем. Он зашагал в толпе айтсов. Девушка-стрелка хихикала, то прижимаясь к нему, то толкая его на других. Айтсы-мужчины переговаривались на каком-то — уже третьем или четвертом по счету — незнакомом ему языке. Куда они его ведут? Шумная улица сменилась другой, потише. Они свернули и с этой в пустынный, безлюдный, но так же ярко освещенный переулок. Остановились перед невысоким зданием. Один из верхних повозился с ключом у двери, отпер, вошел, и тотчас все темные окна в доме осветились. Студент подтолкнул Алексея. Какие-то странные ветвистые выросты торчали из пола в прихожей — не то вешалки для одежды, не то местная модернистская скульптура. Алексея ввели в комнату с одним окном, забранным редкой металлической решеткой. Стол, заваленный всякой непонятной мелочью, стоял у стены. По полу были разбросаны серые кубы — может быть, для того, чтобы сидеть. Девушка-стрелка толкнула один из кубов ногой. Он открылся. Девушка достала оттуда плоский продолговатый сосуд и вышла из комнаты. Несколько айтсов с гоготанием последовали за ней. С космонавтом остался только Студент. Он прошелся по комнате. — Ну? И что теперь? Это Алексей и сам хотел бы узнать. На тюрьму комната, во всяком случае, не походила — даже с решеткой в окне. Сквозь приоткрытую дверь доносились крики и смех. Студент подошел к столу. — Хотите все забыть? Есть состав, который помогает. Он взял плоский сосуд — такой же, что унесла девушка. Вынул из ящика стола два белых стаканчика. — Хотите? Алексей покачал головой, неуверенно осматриваясь. Несложно было бы убежать. Броситься, например, на этого айтса, скрутить его, выскользнуть в прихожую, а оттуда на улицу. Он оценивающе взглянул на Студента: удастся ли с ним без шума справиться? Тот, как бы угадав его мысли, погрозил пальцем. — Но-но, только без таких взглядов! Вот имейте в виду. — Он выдвинул другой ящик, взял огнеметный баллончик и положил возле себя на край стола. — Итак, состав для забвенья. Одна порция — и вы забываете настоящее. Вторая — вы забываете прошлое. Еще одна — и для вас перестает существовать будущее. А это-то и есть самое приятное, не правда ли? По-настоящему мы больше всего боимся будущего и как раз о нем не хотели бы думать. Он наполнил оба белых стаканчика. — Попробуете?.. Нет? Как хотите. Поднял стаканчик, потом задумчиво поставил его на место. — Не думайте, что я беспечный. Я изнервничавшийся. Мы все такие. (В соседнем помещении включили какой-то музыкальный аппарат. Визгливо смеялась девушка-айтс.) Наша экономика на грани катастрофы. То есть она уже развалилась. Продукция Углубления даже нам самим не нужна. Работы продолжаются в силу привычки, а также затем, чтоб была возможность уйти под землю. Близится конец нашей цивилизации. Она была жестокой, что и говорить. Но никто не виноват в этом. Я, например, не чувствую себя виноватым. Преступление совершилось очень давно, когда я еще не существовал, и айтсы пришли в эту пустыню. Но даже и в те отдаленные времена оно не было преступлением — оно лишь постепенно делалось им… Способны вы это понять? (Он, прищурив глаза, вгляделся в Алексея.) Может ли Юэса это понять и каковы вообще намерения этого нависающего над нами мира? Скажите. Алексей откашлялся. — Вы хотите, чтоб я вам это сказал? — Да. — Но почему я? — А вы-то откуда? — Я… Алексей замялся. Что ответить?.. Во всяком случае, сделалось ясно, что и на Юэсе обитают существа, похожие на людей. От этого сразу стало легче. Он осторожно начал: — Ну, видите ли, все будет зависеть от… Студент махнул рукой. — Знаю. Это мы уже слышали: “Все будет зависеть от многих обстоятельств”. Никто во Вселенной не хочет понять нашего положения. И никто даже не может. Для этого нужно родиться в нашем мире, а не свалиться сюда из космоса, как вы, например. Для нас остранение уже стало частью натуры, чем-то бессознательным, чем-то вроде инстинкта. Заметьте, что, когда я говорю об этом, мне даже приходится отвлекаться от собственной личности и становиться как бы в стороне от самого себя. (Алексей уже перестал что-нибудь понимать. И в то же время это был удивительно “человеческий” разговор… В соседней комнате запели какую-то песню.) Когда я говорю о возможностях другого отношения к проблеме, я вынужден обращаться не к своему чувству, а к разуму, к чисто логическим категориям… — Он взял со стола стаканчик. — Ладно. Итак, первая порция… — Запрокинув голову, влил содержимое белого стаканчика в рот. На лице у него появилось новое выражение- успокоенности. — Уже начинает действовать. — Это было сказано шепотом и для себя. Он глубоко вздохнул, поднял голову, посмотрел на космонавта удивленным взглядом, потом нахмурил брови, как бы пытаясь сообразить, кто перед ним. — Ах, да! Это вы. Мы говорили о прошлом. Во времена моего детства никто не считал его таким уж суровым. Например, у меня была жительница-мамка. — Его глаза потеплели, выражение лица сделалось нежным. — И вообще, в доме было много жителей-слуг. Конечно, все они проходили через очистительные обряды и операции. (Алексей узнал песню, которую пели в соседней комнате. Это была песня жителей. И мелодия, которая лилась из музыкального ящика, тоже была позаимствована у маленьких людей.) Одним словом, это было почти равноправие. Даже нельзя сказать, что мы лишили жителей чего-то. Они ведь не знали никакой другой жизни и были вполне довольны своим положением… Пока не появилась Юэса. Он быстро налил в стаканчик новую порцию. Пьяноватый, тягучий запах распространялся по комнате. Айтс выпил, поднял палец. — Знаете что… — Его рот искривился вдруг в какой-то жестокой усмешке. — Еще два — три поколения назад “верхние” время от времени запросто выезжали в пустыню поохотиться на жителей. А теперь мы сами боимся их и не в силах совладать со своим страхом. — Он бросил взгляд по направлению к окну и резко повернулся. — Кто там стоит? Космонавт посмотрел сквозь прутья решетки. На противоположной стороне улицы одна, прижавшись к стене дома, стояла Толфорза. Все дальнейшее совершилось в течение трех — четырех секунд. Алексей шагнул к окну. Студент, сильно шатнувшись, бросился за спину космонавта в глубину комнаты. Что-то щелкнуло там. Снопик огня блеснул у самого уха Алексея, оглушительно- космонавту показалось, что у него лопнули барабанные перепонки, — грянул выстрел. На улице Толфорза резко дернулась, будто ее толкнуло что-то, отделилась от стены, приложила руки к груди и тихонько опустилась на тротуар. Еще не позволяя себе поверить в случившееся, Алексей повернулся к айтсу. У того на лице расплывалась дурацкая удовлетворенная улыбка. — Что ты сделал, скот?! Алексей вскочил на подоконник, схватился за прутья, судорожно потряс их. Они не поддавались. Спрыгнув на пол, он отшвырнул Студента в сторону, метнулся в дверь, выбежал на улицу. Девушка лежала лицом вниз. Алексей перевернул ее на спину, приложил ухо к груди. Дыхания не было. Он схватился за пульс. Ничего. Приподнял девушку, и странно тяжелым показалось ее тело. Теплое и липкое текло у него по пальцам. Несколько секунд Алексей тупо смотрел на свою ладонь, потом огляделся. Искрилось полнозвездное ночное небо. Улица была пуста. Затем послышался тихий стук двигателя, зашуршали жесткие колеса. Автомобиль — из тех, что охотились за жителями, — выехал неподалеку из-за угла, повернул направо и стал удаляться. Космонавт поднялся, двумя прыжками пересек мостовую и вбежал в комнату, где веселились “верхние”. Четверо танцевали, полуприсев на корточки, так и этак поворачивая вывернутые вперед ладони. Девушка-стрелка спала в углу, сидя и опустив голову на грудь. — Слушайте! Тут ранили женщину. Врача! Где взять врача?.. Никто не обратил на него внимания. Алексей бросился в другую комнату. Айтс-Студент, стоя у окна, бессмысленно посмотрел на него. — Чем-нибудь перевязать. Бинт… Марлю… Студент налил себе в стаканчик новую порцию. Космонавт обвел взглядом помещение, кинулся к столу, лихорадочно выдернул один ящик, второй, третий. Маленькие огнеметные баллончики рассыпались по полу. Не было ни клочка материи, ничего такого, что годилось бы для перевязки. Студент вдруг громко рассмеялся. — Кто мы такие?.. Где?.. Какой потоп нас ожидает? — Он бросил стаканчик на пол. — Чудесно! Через минуту я уже забуду все. За окном что-то громко стукнуло. Как закрывающаяся дверца автомобиля. Алексей выбежал из комнаты, спустился по короткой лестнице. Черная крытая повозка стояла напротив. Девушки не было. Только темное пятно крови осталось на тротуаре. Повозка тронулась. Космонавт погнался за ней, крича: — Стойте! Стойте! Остановитесь!.. Но повозка, быстро набирая скорость, повернула вдалеке за угол. Алексей пробежал метров пятьдесят. — Остановитесь!.. Но никого и ничего кругом не было. Он постоял некоторое время, нахмурившись и глядя себе под ноги. Потом медленно побрел назад. В первой комнате айтсы, покрикивая, продолжали танцевать. Во второй Студент лежал на трех составленных вместе кубах. Он спал. Космонавт нагнулся, собрал с пола баллончики, рассовал их по карманам. Взял один и посмотрел на Студента. Тот промычал что-то во сне, повернулся на бок. Алексей поднял руку, нажал кнопку на баллончике. С шипением изверглась длинная огненная струя, ударила в стенку над головой Студента. Стена сразу охотно и весело загорелась, побежали голубые огоньки, запахло смолистым. В соседней комнате умолкли. Дверь открылась, айтсы сгрудились на пороге. Алексей сделал еще один огненный разрез на стене, потом зажег пол под Студентом. “Верхние” завороженно смотрели на огонь, который быстро начал подбираться к спящему. Содержимое баллончика кончилось, Алексей протиснулся в другую комнату. Девушка-стрелка проснулась. Лицо у нее было распухшее, она терла рукой лоб. Космонавт вышел на улицу. Им овладело какое-то усталое спокойствие. Подошли двое айтсов. Один сказал: — Жители уже захватывают повозки. Алексей, не глядя на них, взял новый баллончик, огненным языком прочертил по двери и по стене дома. (Изнутри все так же доносилась приглушенная музыка). Дверь быстро разгоралась. Начинался пожар. Один из “верхних”, как бы не веря своим глазам, спросил: — Это вы поджигаете? Алексей кивнул: — Да. — Да? — Да. Алексей побрел прочь, прочерчивая огненными струями каждый дом, мимо которого проходил. В конце улицы он остановился и посмотрел назад. Двое айтсов так и стояли. Ночь тянулась долго. Как в хороводе, сменялись перед ним ярко освещенные, с резкими тенями, словно бы посыпанные белым лица “верхних”. На некоторых улицах было полно народу, на других — безлюдно. В одном месте он видел, как уходила под землю в черный люк длинная очередь айтсов — в большинстве женщины и дети. После нескольких часов скитаний космонавт вышел на площадь, изрытую канавами и рвами. Чувствовалось, что недавно здесь были начаты и брошены неоконченными какие-то работы. Механизм, похожий на подъемный кран, лежал опрокинувшись. Замыкая площадь, в ее дальнем краю высилось темное, казарменного типа здание с маленькими окошками. Алексей пошел было к этому зданию и на полпути оглянулся. Город кончался здесь. Было пустынно и спокойно. Уже близилось утро. Небо в западной стороне порозовело. В том конце Города, где он поджег дома, бушевал пожар. Издалека послышался гул, как если бы одно за другим ударили несколько тяжелых орудий. С одной из улиц на площадь быстро вынесся, завывая, шестиколесный автомобиль, резко развернулся, направляясь на другую улицу. За рулем сидел темнокожий, загорелый житель- космонавт успел увидеть его лицо сквозь прозрачную дверцу кабины. И тотчас, тут же рядом с Алексеем, безжалостно громко разрывая тишину, ударила пулеметная очередь, цепочка зеленых трассирующих пуль протянулась к машине. От неожиданности он дернулся в сторону и столкнулся с двумя айтсами, которые вылезали из канавы, неся второй пулемет. Они бросились на землю, поспешно изготавливая его к стрельбе. Повозка уехала. Из канавы выбрался третий айтс, за ним еще несколько. Последний, глядя в сторону поднимающегося зарева, сказал: — Началось. Один из пулеметчиков спросил: — Будем держать здесь? Кто-то ответил: — Вряд ли. Надо пробиваться к ракетодрому.Присоединиться к регулярным частям. Раздалась команда: — Построиться! Толстый и седеющий айтс толкнул Алексея. — А вы что стоите? Или тоже из этих? Несколько пар глаз со злобой и подозрением уставились на космонавта. Что делать? Он пожал плечами и шагнул вперед, к строю.VI
Стоял уже полный день, солнце палило прямо с зенита. Тени исчезали, воздух был полон пыли и дыма. Алексей и двое “верхних” лежали на крыше невысокого одноэтажного здания, укрывшись за вентиляционными трубами. Невозможно было поднять голову. Стреляли отовсюду. Мелкая автоматная дробь перемежалась раскатистыми очередями крупнокалиберных пулеметов. Рвались снаряды. Один попал в угол дома поблизости. Взрывом сдернуло кусок крыши и вынесло наружу огромное количество бумаг, которые поднялись вверх и теперь, трепеща, опускались в разных направлениях. Небольшой группе айтсов не удалось пробиться к ракетодрому, она застряла в центральной части Города. Алексей все время думал о том, как ускользнуть от “верхних”, но за ним следили — особенно толстый седой айтс с револьвером. Оружия Алексею не дали. Он лежал на животе рядом с пулеметчиком и старался сообразить, как же разворачиваются события. Согласно отрывочным замечаниям антсов, получалось, что жители еще под утро внезапным броском захватили ракетодром. Поэтому план “верхних” — скрыться под землю, а затем смести все живое с поверхности планеты — не удался. (Алексей знал, что в первом успехе жителей маленькая доля принадлежала и ему: в ящиках, доставленных с океана, было оружие). Но затем, насколько можно было понять, установилось некое равновесие сил. Жители не могли окончательно разбить айтсов, а “верхние” не сумели вовремя организоваться. И те и другие стремились объединить свои разрозненные отряды, которые все двигались к центру Города, вступая между собой в ожесточенные схватки. Обе стороны ждали подкреплений. Космонавт сначала подумал, что жителям поможет Юэса, но в ответ на его вопрос толстый, как бы удивляясь неосведомленности Алексея, буркнул: — С ума вы сошли. Юэса не станет впутываться. Это только катализатор. Бой развертывался под ними и перед ними на небольшой городской площади. Несколько зданий было захвачено айтсами и несколько — жителями. Теперь маленькие темнокожие люди начинали атаку против отряда, засевшего в подвалах полуразрушенного дома слева от Алексея. От жары, пыли и непрекращающегося грохота у него мутилось в голове. Язык и нёбо пересохли, он с трудом сглотнул. У него было ощущение, будто он однажды уже видел все это на Земле: горящие рушащиеся здания, перебегающие темные фигурки, огненные вспышки рвущихся мин и снарядов. Это было в кино. В кинотеатре “Хроника” в Москве, на Сретенке, где показывали документальный фильм о войне в Алжире… Седой айтс толкнул пулеметчика в спину. — Стреляйте! Тот поднял веснушчатое потное лицо. — Чем? Он показал подбородком на дуло пулемета. Под ажурным кожухом оно было раскалено до красноты. В поле зрения Алексея появилось новое лицо. Довольно плотный житель, обнаженный до пояса, пытался пробраться через площадь, держа направление на Подгород. Не собираясь, видимо, примкнуть к своим сражающимся собратьям, он несколькими прыжками пересек пространство, простреливаемое из подвала, отмахнулся от окликнувших его со стороны жителей, присел за грудой развалин, переждал, пока просвистят осколки, и бросился к стене того дома, на крыше которого лежал Алексей. Космонавт узнал его. Это был Нуагаун. Очевидно, заброшенный событиями этой ночи куда-то к ракетодрому, он спешил теперь к своим родным. Алексей не сомневался, что скромный молчаливый житель несет сейчас с собой все заработанные им жетоны. Седеющий айтс тоже наблюдал за жителем. Он подполз ближе к краю крыши. Этого уже нельзя было выдержать. Алексей вскочил. — Эй! Толстый и пулеметчик недоуменно оглянулись. Ударом ноги он сбросил с крыши веснушчатого. Но седоватый айтс с неожиданным проворством метнулся в сторону, тоже вскочил и поднял руку с револьвером. Космонавт не услышал выстрела. Что-то чиркнуло его по самой макушке. Ему показалось, будто он, ввинчиваясь в воздух, поднимается выше и выше. Площадь, окружающие ее здания и толстый айтс понеслись косо слева направо, затем все стало заволакивать туманом, и он с ужасом почувствовал, что теряет сознание. Две темные фигуры скользнули мимо него, грянуло несколько выстрелов. Алексей со стоном опустился на корточки, зажмурил глаза, потом открыл их. Дважды глубоко вздохнул, все вокруг дернулось еще раз и остановилось. Толстого айтса уже не было на крыше. Рядом с космонавтом стоял небольшого роста человек в серой пропыленной гимнастерке. Он положил Алексею руку на плечо. На его темном лице была улыбка. — Контузило? Космонавт помотал головой. — Тьфу! Постепенно он приходил в себя. Руки и ноги перестали дрожать. Он огляделся. Что-то неуловимо изменилось вокруг. И разрушенное здание, и синее небо, и залегшие перед подвалом фигурки людей были такими же, как прежде, и в то же время другими. Окрашенными в какие-то новые оттенки. В воздухе над его головой что-то просвистело, потом где-то позади гулко раскатился орудийный рев. Человек в гимнастерке схватил Алексея за руку. — Слышали? Они пришли, добровольцы из Ганы… Теперь Фервуду конец. — Какому Фервуду? — Ну как это — какому? Хендрику Фервуду, убийце. Премьер-министру. — Что?!.. — закричал Алексей. Человек в гимнастерке удивленно смотрел на пего. На площади над подвалом выкинули белый флаг. Слева по улице приближалась толпа. Несли трехцветное знамя: черное, зеленое и золотое. Несколько голосов запело:А.Насибов Письменный прибор
 РАССКАЗ-БЫЛЬ
РАССКАЗ-БЫЛЬ
I
Дзержинский тяжело поднялся из-за стола, поправил движением руки сползшую с плеча шинель и прошел к окну. Была зима, но неделю назад морозы сменились оттепелью, и вот в последние дни декабря идет дождь. По стеклу змейками ползли водяные струи; в нижней части окна они сливались в пульсирующую, вздрагивающую пленку, сквозь которую едва виднелись сгорбленные фигурки людей, торопливо пересекавших площадь. Все вокруг было печально — и небо, и дома в отдалении, и сама земля. Дверь отворилась. Вошла Карпинская. Дзержинский обернулся, присел на подоконник. — Ну, — сказал он, — что с деньгами? Карпинская чуть шевельнула рукой. Дзержинский вернулся к столу и, опустившись в кресло, задумчиво прикусил палец. Да, с деньгами было плохо. В тот год ВЧК начала собирать безнадзорных ребят, создала первые детские дома. Советская власть отдавала туда все, что могла, из скудных запасов продовольствия — люди в Москве сидели на четвертушке хлеба, да и та бывала не каждый день. Так же туго было с одеждой и обувью. Но работа не прекращалась. Сотрудники ЧК вместе с активистками женотделов обходили детские дома, бдительно следя, чтобы каждая пара сапог, каждый фунт хлеба расходовались строго по назначению. И вот вчера завхоз одного детского дома сбежал, захватив все, что мог унести, — ребячий паек хлеба на неделю и кое-что из белья. Дети сидят голодные. Так будет и завтра и послезавтра: в ближайшие дни продуктов не предвидится. А теперь, с приходом Карпинской, выяснилось, что не удалось раздобыть и денег. Значит, придется отказаться от мысли закупить хлеб в окрестных деревнях. Взгляд Феликса Эдмундовича, рассеянно блуждавший по столу, остановился на письменном приборе. Сделанный из мрамора и серебра, он был очень красив и, вероятно, стоил немалых денег. Это был подарок. Чекисты высмотрели прибор в антикварном магазине, устроили складчину и преподнесли его своему председателю в день рождения. Сейчас Дзержинский глядел на прибор так, будто видел его впервые, потом позвонил. Вошел секретарь. — Ящик, — сказал Дзержинский, — достаньте ящик или коробку побольше. И стружек, если найдете. И бечевку. Карпинская порывисто шагнула к столу: — Феликс Эдмундович!.. Дзержинский так посмотрел на нее, что она смолкла на полуслове. Через полчаса Карпинская везла в автомобиле председателя ВЧК большую картонную коробку. В ней был бережно упакован письменный прибор. У крупного комиссионного магазина на Арбате машина остановилась…II
В начале одиннадцатого часа ночи Карпинская вновь вошла в кабинет председателя ВЧК. Она доложила: продукты закуплены и ребята накормлены. Ей хотелось рассказать и о том, что, узнав о продаже письменного прибора, чекисты решили в день получки вновь сложиться, выкупить прибор и водворить его на место. Но она промолчала — Феликс Эдмундович выглядел больным. Чувствовалось, что он едва держится на ногах. Не следовало его волновать. Выслушав доклад, Дзержинский попросил сотрудницу подождать и углубился в бумаги. Несколько минут Карпинская стояла у двери. Наконец председатель ВЧК поднял голову. — Подойдите, — сказал он. Карпинская приблизилась к столу. Это была молодая женщина — маленькая, круглолицая. Старенькое пальтишко ладно облегало ее стройную фигурку. На воротнике и на плечах блестели капельки дождя. Обута Карпинская была в старые башмаки — из-под левого на паркет натекла лужица. — Устали? — Не очень… — Устали, — повторил Дзержинский, — устали дьявольски! И холодно вам. И башмак прохудился. Внезапно он выхватил из кармана платок, прижал ко рту, закашлялся. Карпинская метнулась к столику в углу кабинета, принесла воды. — М-да, — отдышавшись, проговорил Дзержинский. — Вот какие дела. И он улыбнулся. И это было так неожиданно и хорошо, что Карпинская побагровела, неловко подогнула ногу в рваном ботинке. — Все же домой не пойдете, — сказал Дзержинский. — Есть поручение. Он подошел к висевшему на стене большому плану Москвы, отыскал нужное место, постучал по нему пальцем. — Вы проверяете все детские дома, исключая этот, не так ли? — Да, Феликс Эдмундович, — подтвердила сотрудница. Дом, о котором шла речь, принадлежал известной танцовщице и ее мужу. Недавно они заявили, что подобрали с улицы группу ребят и хотят поставить их на ноги. Движимые чувством уважения к новой власти и состраданием к безродным детям, они сделают все, чтобы достойно воспитать их. Никакой платы не требуется. Единственно, что нужно, — это пища и одежда для сирот. Актриса представила список воспитанников и получила на них одежду и продовольствие. Карпинская и ее помощницы, обходившие детские дома с проверкой, в особняк танцовщицы не заглядывали: как-то неловко было обижать недоверием добрых, отзывчивых людей. — Отправляйтесь туда немедленно, — сказал Дзержинский. — Возьмите с собой активисток. — Поняла, Феликс Эдмундович. — Обысков не устраивать, но дом осмотрите как следует. Дом и ребят. Что-то там неладно… Карпинская сделала движение к двери. — Оттуда — прямо ко мне! — Но это будет поздно. Вам надо отдохнуть… Дзержинский нетерпеливо шевельнулся в кресле. — Машины дать не могу, все в разгоне, — сказал он. И вновь оглядел ботинки сотрудницы. — Завтра вам выпишут обувь.III
Время близилось к полуночи, когда Карпинская и поднятые ею с постелей пятеро активисток женотдела отыскали нужный особняк. Дом, казалось, спал. Сквозь наглухо зашторенные окна не пробивался свет. За окованной медью парадной дверью было тихо. Нещадно поливаемые дождем, который как зарядил с утра, так и не унимался, женщины медлили у крыльца. Карпинская позвонила. Молчание. Она вновь нажала кнопку звонка. Послышались шаги. — Кого надо? — спросили из-за двери. — Отоприте, — сказала Карпинская, — мы из ЧК. Вновь послышались шаги, на этот раз удаляющиеся, и все смолкло. Тогда Карпинская позвонила в третий раз. Спустя минуту в замке повернулся ключ. Дверь отворилась. За ней была женщина. Резкие мазки света настенной лампочки обозначали часть ее лба и шеи. Другая половина лица тонула в темноте. Женщина отступила на шаг, впуская посетительниц. В полосу света попало ее платье — нарядный вечерний туалет. — Вам кого? — спросила женщина. Карпинская назвала фамилию танцовщицы. — Да, это я. Но вы пришли в такую пору!.. — Хозяйка дома повела плечом. — Как хотите, а я буду жаловаться. Да, да, самому Дзержинскому! — Нас послал Дзержинский, — сказала Карпинская. В глазах хозяйки промелькнула растерянность. — Боже мой, что же вам надобно? — прошептала она. Карпинская объяснила. Из глубины коридора появилась старуха, коснулась руки танцовщицы. — Хорошо, — сказала та, теперь уже более спокойно, — хорошо, входите! Но я не одна. У меня… м-м… гости. У нас нынче праздник: день рождения супруга. Собрались друзья, а мужа все нет… — Она с тревогой оглядела башмаки Карпинской. — Ради всего святого, вытрите ноги: у меня ковры!.. Вошли в столовую. Большевичка Карпинская до революции не раз ездила за границу по делам партии, владела несколькими языками. И сейчас она могла по достоинству оценить убранство комнаты: мебель, ковры, обивка стен, все это было подобрано со вкусом, составляя единый ансамбль. В дальнем конце большой комнаты, слабо освещенном, стоял раскрытый рояль. В стороне был сервирован стол: поросенок, блюдо ростбифа, рыба, соленья, маринады и бутылки, бутылки… Карпинская и думать забыла о таких яствах, и теперь не могла отвести от них глаз. Очнулась она от прикосновения ласковых рук. Хозяйка осторожно подталкивала ее к столу. — Присядьте, — шептала она, — присядьте хоть на минуточку. Рюмка вина и ломтик телятины — право же, это не повредит! Тут только увидела Карпинская, что в комнате она не одна. В глубине комнаты стояли гости — мужчины и женщины, солидные, разодетые. Вспомнив о спутницах, Карпинская обернулась. Активистки сгрудились у двери — худые, с землистыми лицами, в заляпанных грязью мужниных сапогах, в неуклюжих пальто и — дырявых шалях… Карпинская рванулась из рук танцовщицы. — Где дети? — крикнула она. Хозяйка не ответила. Широко раскрытыми глазами смотрела она на чекистку, все еще показывая рукой на тарелку с большим куском горячего мяса. — Нет. — Карпинская резко тряхнула головой. — Покажите детей! — Но сейчас полночь… — Все равно! — Вы до смерти их напугаете. — Актриса взяла ее за руку. — Ведь и вы, наверное, мать!.. — Идите к детям! — приказала Карпинская. Она уже успела овладеть собой, и теперь не так кружилась голова от двух бессонных ночей, от голода, от тепла и запахов мяса, масла, духов, сигарного дыма, которыми был пропитан воздух комнаты. Хозяйка вышла. Женщины двинулись следом. — Дортуар, — сказала актриса, остановившись у двери в глубине коридора. — Здесь они спят, мои малютки… — Она молитвенно сложила руки. — Заклинаю вас… — Минуту! Карпинская плечом отодвинула хозяйку, отворила дверь и перешагнула порог. Она оказалась в просторной комнате. Вдоль стен в два ряда стояли кроватки. И в каждой лежал ребенок. Это было как удар грома. После всего того что Карпинская видела в этом доме, она была убеждена: детей здесь быть не может. И вот… Она растерянно оглянулась. Ступая на носки, в комнату входили активистки. А в дверях стояла хозяйка, и столько страха было в ее глазах!.. Нет, Дзержинский не зря назначил проверку. Ошибки не произошло. Что-то здесь не так. Но что?.. Карпинская подошла к ближайшей кроватке. В ней лежала девочка. Прошла к следующей — и здесь девочка. Поразительно: в левом ряду семь кроватей, в правом — восемь, и по всех девочки! Она осторожно приподняла одеяло на одной из них. И — замерла. Девочка была в балетной пачке! Карпинская двинулась вдоль кроватей, на ходу приподнимая одеяла. В постелях лежали пятнадцать маленьких балерин, одетых как для спектакля. Шатаясь, она вышла из комнаты. Актриса кинулась на колени, умоляя простить. Да, совершен обман: в спальне воспитанницы ее балетной группы, студии-пансиона, а в столовой — их родители, перед которыми девочки только что выступали… Она выдала студиек за безнадзорных ребят, получила на них продукты, вещи… да, все это так. Но все, все будет возвращено! Она возьмет с улицы десять детей, нет — двадцать… тридцать, сколько угодно, лишь бы ни о чем не узнал Феликс Дзержинский!.. Актриса ломала руки, рыдала. Гости же одевали дочерей, разыскивали свои шубы и шапки и спешили покинуть дом. Вскоре в вестибюле стало пусто. И тогда Карпинская увидела письменный прибор. Тот самый. Со стола Дзержинского. Столик с прибором поставили неподалеку от входной двери. Вероятно, чтобы хозяин дома, которому прибор предназначался в подарок, заметил его сразу. Как только войдет в дом. Но он запаздывал. А время не ждало. И вот уже стали бить большие часы в углу столовой. На них было двенадцать.А.Попов, Ю.Светланов Оставалось семь дней
 События, о которых рассказывается в повести “Оставалось семь дней”, не вымышлены. В начале Великой Отечественной войны в двенадцати километрах от Минска, в поселке Семково, гитлеровцы создали специальный детский лагерь, куда согнали 300 ребят.
Условия жизни в лагере были ужасные. Дети голодали, болели и погибали… Фашисты не только издевались над беззащитными ребятами, но и использовали их в качестве рабочей силы, брали у них кровь и проводили над ними различные медицинские эксперименты.
В конце 1943 года, опасаясь раскрытия своих злодеяний, эсэсовцы решили ликвидировать Семковский лагерь и уничтожить находящихся в нем детей.
Узнав об этом, местные партизаны провели в феврале 1944 года смелую операцию и спасли ребят.
Имена действующих лиц изменены, так как они воплощают черты многих людей, имевших отношение к этой волнующей странице Великой Отечественной войны.
События, о которых рассказывается в повести “Оставалось семь дней”, не вымышлены. В начале Великой Отечественной войны в двенадцати километрах от Минска, в поселке Семково, гитлеровцы создали специальный детский лагерь, куда согнали 300 ребят.
Условия жизни в лагере были ужасные. Дети голодали, болели и погибали… Фашисты не только издевались над беззащитными ребятами, но и использовали их в качестве рабочей силы, брали у них кровь и проводили над ними различные медицинские эксперименты.
В конце 1943 года, опасаясь раскрытия своих злодеяний, эсэсовцы решили ликвидировать Семковский лагерь и уничтожить находящихся в нем детей.
Узнав об этом, местные партизаны провели в феврале 1944 года смелую операцию и спасли ребят.
Имена действующих лиц изменены, так как они воплощают черты многих людей, имевших отношение к этой волнующей странице Великой Отечественной войны.
Глава I ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Мальчик стоял на коленях и быстро разгребал руками снег. Лопаты у него не было, а глиняный черепок, который он пытался использовать, сломался. Зима выдалась капризная. Оттепели сменялись морозами, и снежный покров был как будто прослоен тонкими корочками льда. Его острые кристаллы впивались под ногти, раздирали в кровь кожу. Однако мальчик ни разу не поморщился и продолжал копать, пока не очистил от снега небольшую прогалинку желтовато-серой земли. В изодранной телогрейке, с головой, обмотанной остатками шарфа, концы которого торчали в разные стороны над его макушкой, он напоминал зверька, стоящего на страже у своей норки. Большое поле вокруг мальчика было почти сплошь изрыто такими же ямками — норками. Некоторые он выкопал сам. Одни принесли ему удачу, другие — их было значительно больше — разочарование. Но сейчас ему некогда было думать об этом. Отогрев руки, он достал из кармана телогрейки узкую, заостренную с одного конца полоску железа — что-то вроде стамески без ручки — и принялся ожесточенно долбить землю. Промерзшая, она плохо поддавалась его усилиям. Так прошло полчаса. Мальчишка явно терял силы, однако его терпение казалось неиссякаемым. Теперь он долбил попеременно то правой, то левой рукой, обогревая свободную на груди, под телогрейкой. Еще несколько ударов, и из-под осыпавшейся глины показались похожие па длинных белых червей корни. Мальчик с размаху воткнул между ними свою железку и налег на нее всем телом… Неожиданно легко откололся большой пласт земли, потянув за собой крупную бурую гроздь… Картошка! Несколько секунд он сидел неподвижно, рассматривая свою находку. Его застывшее лицо не выражало ни радости, ни удивления. Лишь глаза немного оживились. Картошки было много. Ему еще ни разу не удавалось найти столько. Бережно, по одной, выбирал он из земли сморщенные, мороженые картофелины, взвешивая каждую на ладони. Две были очень крупные — больше кулака, другие — поменьше, а последние — совсем малюсенькие, с лесной орех. Но он осторожно отделил их от корней и спрятал в карман. Все поле было еще осенью вдоль и поперек перекопано голодающими местными жителями. Отыскать сразу столько картофелин — это большая удача! Мальчик встал на ноги, чтобы идти, когда какой-то посторонний звук привлек его внимание. Мальчик прислушался и поспешно бросился на землю. Издали, приближаясь и нарастая, доносилась резкая, четкая дробь мотоциклетного мотора… Было время, когда Володя Родин очень любил ездить на мотоцикле отца — главного механика крупного совхоза, в прошлом спортсмена-мотоциклиста. И те часы, которые Володя провел в коляске старого, надежного “харлея”, были замечательными часами. Летом у отца всегда не хватало свободного времени. Но раза два, а то и три в месяц он устраивал себе короткий отдых. Он брал с собой сына, выезжал на Минское шоссе и давал полный газ. Иногда мотоцикл здорово подбрасывало на выбоинах. Но отец не сбавлял скорости, и они мчались все быстрее и быстрее, легко обгоняя неуклюжие, громко тарахтящие грузовики, а иной раз и какую-нибудь излишне осторожную “эмку”. Да, раньше Володя любил мотоцикл, любил все, что было связано с ним… С той поры прошло всего три года, и вот теперь звук мотоцикла вызывал у него страх и стремление убежать без оглядки. Подобное же чувство испытывали и другие ребята — его товарищи по несчастью, заключенные специального детского лагеря “Лесково”. На мотоцикле приезжал к ним обер-шарфюрер[17] Альфред Беренмейер, “бледная немочь”, как окрестил его бывший директор Лесковского детского дома Артемий Васильевич, “бледный дьявол”, как, куда более точно, охарактеризовала Беренмейера воспитательница Ольга Ивановна. Обер-шарфюрер был и на самом деле очень бледен. Небольшого роста, тощий, с впалой грудью, он нисколько не оправдывал своей фамилии[18] и у многих — особенно у тех, кто не знал его как следует, — вызывал жалость своим болезненным, вечно усталым видом. Беренмейер никогда не кричал, а его тусклые бледно-голубые глаза никогда не вспыхивали от ярости. Он ненавидел людей, но ненавидел их без гнева, спокойно и деловито, не тратя сил и времени на пустые эмоции. Дети боялись его. Они испытывали перед ним ужас, смешанный с омерзением. Верный своим привычкам, Беренмейер никогда не поднимал па них руку. Но в его распоряжении было два безжалостных помощника — голод и холод; это они доводили его жертвы до исступления. Наведываясь в Лесково, обер-шарфюрер каждый раз избирал новые объекты для своих издевательств, и никто, решительно никто, не мог быть уверен, что нынче не настала его очередь. Таков был Альфред Беренмейер, и только он мог ехать сейчас на этом мотоцикле, звук которого Володя, как все его товарищи, научился распознавать за несколько километров. Дорога в лагерь проходила между двумя рядами огромных вековых лип, не более чем в ста шагах от того места, где лежал мальчик. Мотоцикл тарахтел уже совсем рядом. К его сухому отрывистому стуку примешивалось теперь какое-то непонятное монотонное гудение. Володя осторожно выглянул из-за сугроба. Он не ошибся: это и в самом деле ехал Беренмейер. Его голова, почти утонувшая в высоко поднятом воротнике, едва виднелась из коляски мотоцикла. Рядом с ним, как обычно, сидел солдат-шофер, а за его спиной кто-то третий, тоже в форме. Мальчик удивленно проводил их глазами: никогда еще обер-шарфюрер не брал с собой более одного провожатого. Но что это так гудит? Володя вздрогнул и поспешно спрятался за сугроб. Вслед за мотоциклом вынырнуло длинное глянцевитое тело легковой автомашины. Опять этот черный автомобиль! Мальчик узнал его сразу. В лагерь автомобиль приезжал трижды. В первый раз его сопровождали большие крытые грузовики. Тогда увезли куда-то всех старших детей. Директор говорил, на работу в Германию. Второй раз на нем приехало несколько гестаповцев. Они убили сторожа, деда Матвея, красивого старика, с пышными, слегка пожелтевшими от махорки усами и длинной седой бородой. Убили на глаза к ребят. Володя зажмурился и с силой потряс головой, отгоняя страшное воспоминание… В третий раз автомобиль увез Артемия Васильевича и Ольгу Ивановну. С этого дня детей больше не кормили. Не раздавали по утрам тонкие, почти ажурные ломтики хлеба… Исчезла куда-то и повариха, тетя Дуня. И вот теперь черный автомобиль появился вновь. Зачем? Опять кого-то хотят увезти. Или убить? Но кого? А что, если автомобиль привез назад Артемия Васильевича и Ольгу Ивановну? Володя решил бежать в лагерь, но он тут же одумался, вспомнив о Беренмейере. Нет, возвращаться в лагерь через главный вход ему нельзя… Оставаться здесь тоже… Немедленно по приезде Беренмейер устроит проверку… Он всегда так делает. И, если Володи не будет на месте, он пустит по его следам полицая с собакой… И его, конечно, поймают, как поймали Колю Вольнова, когда тот попытался добраться до деревни, где жили его родные. А Нина и Катя останутся без картошки… Выход был только один. Надо бежать прямиком через поле, спуститься в неглубокий овраг и добраться по нему до главного здания. Там он припрячет свое богатство и успеет к проверке…Глава II АЛЬФРЕД БЕРЕНМЕЙЕР УЛЫБАЕТСЯ
Оба склона оврага густо поросли кустами сирени. Продираться сквозь них было трудно. С веток осыпался снег. Он проникал за ворот телогрейки, таял и ледяными струйками стекал по спине и груди. Сухими оставались только ноги, и Володя с благодарностью подумал о Нине. Эта девочка все умеет! Старый разорванный ватник она превратила в пару толстых и теплых чулок. Чулки завязывались выше колен, и в них никогда не попадал снег. Замечательные чулки! А без них сидеть бы Володе сиднем всю зиму — босиком по снегу много не находишься! Кусты кончились, и мальчик на секунду остановился, чтобы перевести дыхание. В тридцати шагах от него высилось старинное здание с давно не крашенными, обшарпанными стенами. Некогда Лесково было большим дворянским имением. После революции оно превратилось в прекрасный детский дом. А в 1942 году гитлеровцы устроили здесь специальный детский лагерь… Мальчик скользнул взглядом по длинному ряду выбитых окон, немых и жутких, как глубокие норы каких-то неведомых зверей. Всего три года назад за этими окнами было, вероятно, тепло и уютно. А вон в том большом зале, бывшей столовой детского дома, каждый день ели горячий суп… И хлеб… Теперь здание казалось вымершим. Еще в июне сорок первого года бомбой был разрушен верхний этаж. Стены нижнего этажа уцелели, но в потолках зияли дыры, высокие голландские печи развалились. Невредимыми остались только огромные подвалы. Под их поседевшими от сырости, покрытыми белой плесенью сводами уже вторую зиму ютилось около трехсот детей. У самой земли виднелись два небольших квадратных окошечка. Внимательно оглядевшись по сторонам, Володя мигом добежал до одного из них и, присев на корточки, прислушался. Окно вело в подвал и было завешено старой картиной. Ее написал много лет назад один из воспитанников детского дома. Краски размыло дождями, и никто не смог бы сказать, что именно хотел изобразить художник. Отодвинуть картину, влезть в окно и спуститься в подвал било легко: к подоконнику была приставлена хромоногая деревянная лестница. Многие ребята предпочитали этот путь главному входу, чтобы не попадаться лишний раз на глаза охране лагеря. И все же мальчик медлил. А вдруг в подвале полицаи?.. Или сам Беренмейер?.. Правда, они редко сюда заглядывали, но сегодня все как-то непонятно… И он снова вспомнил про черный автомобиль… Неожиданно картина перед ним зашевелилась и отодвинулась в сторону. Володя инстинктивно отпрянул назад, но в окне показалось маленькое, очень худое и бледное личико. — Володя! — Девочка говорила быстро и тихо. — Я услышала, что кто-то подбежал к окну, и сразу подумала, что это ты. Влезай скорей! Проверка! Все уже ушли. Только я осталась… Никак не могу поднять Катю… Володя влез в окно и встал па верхнюю перекладину лестницы. Девочка спускалась впереди него, продолжая говорить: — А ты чуть-чуть было не попался! Сюда только что приходил конопатый полицай. Выходите, говорит, начальство приехало! Ты торопись, Володька: сегодня никак нельзя опоздать на проверку… Здесь Беренмейер и еще кто-то… — Знаю! — буркнул мальчик, спрыгивая на пол. — Я их видел… Они мимо меня проехали… — Хорошо, что Беренмейер тебя не заметил… А теперь помоги мне поднять Катю. Одной мне не справиться… И она так плачет… Голос девочки прервался, и Володе вдруг показалось, что она тоже заплакала. Это было хуже, чем даже приезд Беренмейера и появление черного автомобиля. Неужели Нина так ослабла? Ведь она и Коля Вольнов самые смелые и самые стойкие во всем лагере… Огорченный и растерянный, следовал он за Ниной, устало шаркая ногами по тонкому хрустящему слою соломы. Солому эту собирали сами ребята — целых два года. Часть сняли с крыши большого полуразрушенного овина, стоящего в двух километрах от лагеря. Остальную натаскали понемножечку, за пазухой, воруя ее у свиней, которых разводили полицаи. От сырости солома прела, и в подвале пахло, как в стойле, однако с ней было куда теплей, а холод терзал истощенные детские тела ничуть не меньше, чем голод. В самом дальнем углу комнаты под кучей ветхого тряпья лежала маленькая, даже слишком маленькая для своих шести лет, девочка и, уткнувшись в солому, беззвучно плакала. Нина наклонилась над ней. — Катюша, успокойся… Смотри! Вот и Володя пришел! Сейчас мы вынесем тебя во двор… — Подожди, — Володя слегка отстранил Нину рукой, — дай-ка я ей кое-что покажу… Видишь, Катя, что я принес? Он вытащил из кармана самую крупную картофелину и протянул ее Кате. Девочка перестала плакать и осторожно взяла обеими руками картофелину. Она и в самом деле была большая и тяжелая. И это окончательно успокоило девочку. — Ты испечешь ее, Нина? — спросила она старшую сестру. Та молча кивнула головой и взяла у нее картофелину: — Какая огромная! Где ты ее нашел? — В поле!.. А вот и еще, почти такая же… И еще… И еще… — Мальчик быстро опорожнил свой карман. — Спрячь все под солому, Нина, — сказал он. — И эту железку тоже. Вот теперь можно идти и на проверку! — Я тоже пойду, — сказала Катя. — Сделайте “стульчик” и отнесите меня наверх. А то у меня ноги не ходят… Володя с сомнением посмотрел на Нину. — Может быть, оставим ее здесь?.. А полицаям скажем, что она больна. — Нет, этого говорить нельзя. Тогда Катю отправят в больницу, а оттуда никого не привозят назад… А я хочу, — тут голос Нины вдруг стал суровым, — хочу, чтобы она осталась со мной до конца войны… Понимаешь? До конца! Они поспели вовремя. Перед домом, построившись в три неровные шеренги, стояли ребята. Толстый усатый полицай — его прозвали Тараканом — медленно двигался вдоль строя и считал всех по головам. Таракан не спешил. Он часто останавливался и, боясь сбиться в счете, делал пометки на клочке бумаги. Володя знал, что этот ленивый полицай больше всего на свете любит свиней. Свиней у него было шесть. Розовые, упитанные, они могли есть круглые сутки. И дети всегда стороной обходили загон, где содержались любимцы Таракана, чтобы только не слышать их противного чавканья и не видеть, как они ведрами пожирают картошку… И какую картошку!.. — Этот Таракан нас заморозит! — прошептала Нина, крепче прижимая к себе сестру. — И Беренмейера что-то очень долго нету… Володя обвел глазами двор. Черный автомобиль и мотоцикл были еще здесь и стояли неподалеку от левого, неповрежденного бомбежкой флигеля, в котором жили охранники. Около них бродили три полицая. Но пи Беренмейера, ни тех, кто приехал вместе с ним, не было видно. Вероятно, они сидели где-нибудь в тепле и ждали конца проверки. Стоять было очень холодно, и Володя думал о своих товарищах. Наверное, они тоже устали… И очень замерзли… Но все молчат: на проверках разговаривать запрещается… Многие одеты еще хуже, чем он… И как они изменились за эти последние месяцы! Стали похожи на маленьких старичков и старушек… Неужели и он, Володя, тоже состарился?.. — Двести семьдесят один… — послышалось совсем близко, — двести семьдесят два, двести семьдесят три… Двести семьдесят четыре, двести семьдесят пять, двести семьдесят шесть… Двести семьдесят шестой это он… Последний! Таракан кончил считать… Теперь он подаст команду разойтись… Но команды не последовало. Усатый полицай спрятал клочок бумаги и вразвалку направился к флигелю… — Сколько же нам еще ждать! — вдруг в отчаянии выкрикнул Дима Жарский, черноглазый десятилетний мальчик, стоявший по другую сторону от Нины. Его обмотанные тряпками ноги мучительно ныли от холода. — Молчи! — сердито прикрикнул на него сосед справа. — Молчи и терпи! Ты что, хочешь разжалобить этих зверей? Этот ширококостный высокий мальчик не казался таким изможденным, как другие, однако он еле-еле держался на ногах, опираясь руками и грудью на толстый сук. Володя с сочувствием посмотрел на него. Ведь это был Коля Вольнов, трижды уходивший из лагеря… Последний раз его поймали три недели назад… Полицаи жестоко избили Колю, но особенно старался конопатый. Он разбил ему палкой ноги. Чтобы больше не убегал… — Тебе очень больно стоять, Коля? — тихо спросила Нина. — Плохо не то, что больно стоять, плохо то, что больно ходить… Но ничего. Я опять уйду! — И тебя опять поймают… — А может быть, и не поймают… — Поймают. Гелла сразу разыщет… Коля кивнул. — Да, эта проклятая псина здорово умеет искать! — согласился он. — Вот если бы ушли несколько человек сразу… И в разные стороны… Тогда бы эта тварь растерялась… — Гелла хорошая!.. — неожиданно вступила в разговор Катя, выглядывая из-под руки сестры. — Чем же она хорошая? Помогла меня, поймать… — удивился Николаи. — Но она тебя не укусила… — настаивала Катя. — Зато эти укусили. — Коля со злобой ткнул пальцем в сторону полицаев. — А все из-за нее… — Тише, — остановила его Нина. — Они идут… Из флигеля вышли двое. Один — среднего роста, плотный, с узким впалым ртом и очень большим подбородком. Второй — чуточку повыше, худощавый и рыжеватый, с длинным носом и ко всему безразличными, будто стеклянными глазами. За этими двумя показались Беренмейер и тот человек, что приехал с ним на мотоцикле. Володя узнал его по форме. Она была не черная, как у других, а темно-серая. Позади всех плелся Таракан. — Эсэсовцы, — определил Коля, — офицеры… И с ними какой-то армейский… Шеренги зашевелились. — И что им от нас надо?.. — вполголоса пробормотала Нина. — Неужели еще раз будут считать?.. — простонал Дима Жарский. И он вдруг заплакал, громко хлюпая носом. — Может быть, они привезли хлеб? — с надеждой спросил стоящий справа от Коли Витя Бойко, самый маленький по росту мальчик во всем лагере. — Как же! Дожидайся! — огрызнулся на него Коля. — Они лучше своих собак накормят хлебом, чем нас!.. Эсэсовцы подошли ближе. Несколько минут они молча рассматривали стоящих перед ними детей, потом спросили о чем-то Беренмейера и направились в конец шеренги, туда, где стоял Володя. Их сопровождал обер-шарфюрер. Человек в темно-серой форме и Таракан несколько поотстали. Так вот, значит, зачем приехал черный автомобиль! Эсэсовцы хотят увезти его, Володю!.. Они идут за ним… А если не за ним, то за кем же тогда?.. За Ниной, за Колей?.. Или за Катей?.. Володя взглянул на своих соседей. Глаза Нины смотрели спокойно, и только руки ее еще крепче обнимали сестренку. Дима Жарский, вероятно, вообще ничего не видел сквозь слезы. Зато Коля преодолел слабость и боль и теперь стоял прямо, высоко подняв голову. Однако офицеры даже не посмотрели на них. Не взглянул и Беренмейер. Все трое прошли мимо совсем близко от Володи и скрылись за углом. Во дворе остались лишь полицаи дачеловек в серой форме, который задумчиво ходил взад и вперед около флигеля. Володя ничего не понимал. Куда направлялись эсэсовцы?.. Зачем?.. Ведь там за домом находился лишь овраг, тот самый овраг, через который он пробирался час назад. Что они хотят делать?.. Прошло минут пять. Наконец эсэсовцы показались снова. Они оживленно разговаривали, и Володя пожалел, что не понимает по-немецки. Несколько раз до него долетали слова “зондеркоманда” и “нах айнер вохэ”. Но что это значит, “нах айнер вохэ”? Что-нибудь очень плохое?.. Или хорошее?.. Затем оба офицера пошли к автомобилю, а Беренмейер остановился и движением руки подозвал к себе полицаев и человека в темно-серой форме. Володя услышал, как глубоко вздохнула Нина. — Они уезжают… — сказала она. — И Беренмейер тоже… Вон идет его шофер. Из флигеля действительно вышли еще два человека. Первый предупредительно распахнул перед офицерами дверцу автомашины, второй стал торопливо приводить в порядок мотоцикл. Да, они уезжают!.. Это правда!.. Даже Дима Жарским и тот перестал плакать… Все обошлось благополучно… Но зачем они приезжали?.. И что такое “нах айнер вохэ”?.. Володя не спускал глаз с Беренмейера, который, очевидно, давал последние указания полицаям. Отпустив их, обер-шарфюрер с минуту постоял на месте и вдруг, круто повернувшись на каблуках, направился к ребятам. Не дойдя до них шагов двадцати, он остановился… и улыбнулся. Улыбнулся одними губами, тонкими и бледными. Потом он поднял руку. — Разойтись! — сказал он по-русски. И быстро зашагал к своему мотоциклу.Глава III ПОД ОКНОМ
Володя сидел на верхней ступеньке узкой каменной лестницы, которая вела в подвал, и думал. Он старался припомнить, сколько раз он видел улыбку на лице Беренмейера. И когда это было? В первый раз Беренмейер улыбался, когда убивали деда Матвея… Потом он улыбнулся, когда черный автомобиль увозил Артемия Васильевича и Ольгу Ивановну. Но сегодня?.. Ведь сегодня никого не увезли и никого не убили? Эсэсовцы как приехали, так и уехали, не сделав ничего плохого. Почему же улыбался обер-шарфюрер? И что же все-таки значит “нах айнер вохэ”? Взгляд мальчика скользнул по просторному заснеженному двору и остановился на забитых фанерой окнах левого флигеля. Полицаи сейчас тут… Все, кроме Таракана… Должно быть, сидят возле теплой печки, курят и болтают… Вот бы послушать, о чем они говорят!.. А почему бы и нет?.. Подойти к окнам и послушать… Володя вскочил. Мысль, которая пришла ему в голову, была очень заманчива, но сейчас еще слишком рано, его могут заметить. Надо подождать темноты. — Володя! — раздался голос Нины. — Я здесь! — ответил он, с трудом отрываясь от своих мыслей. — Где ты? Я уже давно тебя ищу. Иди есть картошку! И как это он забыл про картошку? Про картошку, которая досталась ему с таким трудом!.. — Иду! — крикнул он. Но перед тем как спуститься в подвал, он еще раз посмотрел на окна левого флигеля. На ночь дверь в подвал обычно не запиралась, и все же Володя предпочел окольный, но более безопасный путь — вылезть в окно и пробраться по оврагу к задней стене флигеля. До Володи долетели голоса. Полицаи не спали. Под окнами флигеля, почти вровень с ними, возвышался огромный сугроб; мальчик спрятался в нем. Он отчетливо разбирал отдельные фразы и даже мог узнать по голосу каждого из собеседников. — …и трудов не оберешься… Это говорил Таракан. — Надоел ты со своими свиньями!.. Отвечал ему Конопатый, самый злющий из полицаев, рыжий, с маленькими зеленоватыми глазами. — И вправду надоел, Филиппыч!.. А это голос Бульди. Такое прозвище он получил из-за своего носа, очень широкого и очень курносого, который в сочетании с оттопыренной нижней губой придавал ему разительное сходство с бульдогом. — На базаре в Минске твоих свиней с руками оторвут, — продолжал Бульдя. — Так что не бойся! В накладе не останешься!.. Таракан пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Володя был разочарован. Неужели он пришел сюда только ради того, чтобы услышать об этих проклятых свиньях?.. — А я так боюсь, что скоро нам самим придется хуже, чем твоим хавроньям! — проворчал Конопатый. — Почему это хуже? — удивился Бульдя. — Беренмейер обещал перевести нас в Минск… А там… — В Минск!.. — Конопатый захохотал. — А долго ли ты просидишь в Минске?.. Дела-то у фрицев того… Драпают помаленьку. — Ничего, — вмешался в разговор четвертый полицай, которого ребята за его странную, словно вогнутую фигуру прозвали Скобой. — Я не боюсь… Выгонят немцев из Минска — переберусь в Польшу… Погонят из Польши — поеду еще куда-нибудь… Места на белом свете хватит… Разговор становился интересным, и мальчик придвинулся поближе к окну. — Хорошо тебе говорить! — уныло забасил Таракан. — А если у человека хозяйство?.. — Пропади ты пропадом с твоим хозяйством! — окрысился на него Конопатый. — Меня куда больше злит, что завтра с утра придется выметаться на кухню!.. А зачем, спрашивается?.. Что здесь делать целому десятку солдат с их унтером?.. Мы бы и одни управились… — Так ведь это недолго… — попытался успокоить его Бульдя. — Всего-то па… — А хотя бы и ненадолго! — не унимался Конопатый. — Все равно беспокойство! Не понимаю я этих фрицев… Чего они тянут?.. Порешили бы завтра же всю эту мелюзгу!.. И дело с концом! — А кто им могилу копать будет? Уж не ты ли? — съязвил Скоба. — Легко сказать! Ведь этих мальцов двести семьдесят шесть штук! И они хоть и тощие, а все же покрупнее котят… Их в луже не потопишь и на помойку не выбросишь… Нет, браток, учись у гестаповцев — они в таких делах мастера! И все делают с толком… Вот скоро приедет этот… Как его там?.. Ну тот, что окопы роет?.. Он и похоронит их всех. И ямку сделает, какую надо, и заровняет ее аккуратненько… И все будет шито-крыто… Были дети, да сплыли! А дом этот взорвут… Будто, значит, бомба в него попала… Володя медленно опустился в снег, не отрывая глаз от темного прямоугольного окна, которое отделяло его от полицаев. Так вот зачем приезжали эсэсовцы! Вот почему улыбался Беренмейер!.. И “нах айнер вохэ” — это значит просто-напросто: “похоронить их всех”… Всех! И Нину!.. И Катю!.. И Колю Вольнова… И других ребят… всех! Что же делать?.. Бежать?.. Да, да, скорей бежать в подвал!.. Рассказать о том, что он услышал… Конопатый и Скоба продолжали о чем-то спорить, но Володя уже не вникал в смысл их слов. Он с трудом выбрался из сугроба и побежал прямо к главному входу. Пока полицаи сидят в комнате, ему нечего опасаться неприятных встреч. Но он ошибался… Едва повернув за угол флигеля, он заметил темный силуэт. Какой-то человек медленно шел ему навстречу. Володя метнулся в сторону и прижался к стене. Человек тоже остановился. Вдруг неизвестный вытянул вперед руку и в лицо мальчика ударил яркий сноп света. Все кончено! Он попался!.. Фонарик на мгновенье потух, потом вспыхнул снова, опять потух и опять вспыхнул. Незнакомец приблизился. Он был уже совсем рядом… Володя опустил голову, продолжая прижиматься к стене, как будто в этом заключалось его спасение. Неожиданно он почувствовал на своем плече большую тяжелую руку. — Идем!.. Неизвестный произнес это слово с явным трудом, точно давясь. Он повернул свой фонарик, и теперь пучок света был направлен к двери флигеля. Все ясно!.. Он хочет отвести Володю к полицаям… Но кто он? И что ему здесь надо? — Идем!.. И мальчик пошел. Как приговоренный к казни, еле-еле передвигая ноги… Вот и дверь. Но у самого порога незнакомец остановил его: “Хальт!” Это слово Володя знал, его знали все на оккупированной гитлеровцами русской земле… Незнакомец распахнул дверь флигеля и вошел внутрь, оставив мальчика на улице. Переступая через порог, он осветил его фонариком, луч которого на мгновенье скользнул по складкам длинной темно-серой шинели… И Володя узнал человека. Это он приехал на мотоцикле вместе с Беренмейером. Куда же он пошел? Наверное, за полицаями… Может быть, лучше убежать? Но поздно! Вот уже кто-то выходит! Из флигеля вышел все тот же неизвестный в серой шинели. В руках он держал какой-то предмет. Подойдя поближе, он протянул его Володе… — На… Ничего не понимая, мальчик недоверчиво смотрел на него. Незнакомец немного подумал, затем достал свой фонарик и осветил небольшую буханку хлеба. — На!.. Володя нерешительно взял хлеб в руки… Уж не смеется ли над ним этот немец? Наверное, за дверями прячутся полицаи. Сейчас они выскочат и схватят его, а потом отнимут буханку и скажут, что он ее украл. Человек в серой шинели снова положил ему руку на плечо и повернул лицом к входу в подвал. — Гей! Все еще колеблясь, мальчик сделал шаг, другой… и вдруг, словно спохватившись, бросился бежать через двор.Глава IV ВОЛОДЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
Осторожно, ощупью пробираясь в свою комнату, Володя услышал голос Нины. Она убаюкивала сестру и без конца повторяла один и тот же куплет знакомой с детства колыбельной песни:Глава V В ЛЕСУ
…Перед Володей стоял сам Альфред Беренмейер. Обер-шарфюрер насмешливо смотрел на него и улыбался. Точь-в-точь, как на последней проверке. Володя попытался отвернуться, чтобы не видеть этой страшной улыбки, но его шея будто одеревенела. Он хотел закрыть глаза, но они не закрылись. А Беренмейер продолжал улыбаться, и его улыбка, казалось, говорила: “Я знаю, ты подслушал разговор полицаев и пошел искать партизан, чтобы помешать моим планам. Но у тебя ничего не вышло. Теперь ты замерзнешь здесь, а твоих товарищей я все равно похороню. Нах айнер вохэ!” Володя застонал и очнулся. Его спина застыла, руки и ноги были как чужие. Он лежал на снегу. Но почему он лежит? Ему надо спешить… Что с ним случилось прошлой ночью?.. Нине удалось заманить в подвал Геллу. Володя слышал, как девочка крикнула ему: “Иди!” — и выпрыгнул из окна. Стремясь выиграть время, он довольно быстро добрался до леса. Искать дорогу было некогда, отдыхать тоже: он ждал погони и решил двинуться напрямик… Поминутно увязая в снегу, больно ударяясь в темноте о стволы деревьев, падая и вставая, Володя, подгоняемый все нарастающим страхом, упорно продвигался вперед. Лишь к рассвету, вконец измученный, он нашел хорошо утоптанную тропу. Здесь он остановился, съел хлеб и, немного отдохнув, отправился дальше. Тропа привела его в самую чащу… и вдруг оборвалась. Оборвалась неожиданно, словно ее ножом обрезали. Вокруг, куда ни глянь, лежал снег. Вероятно, лучше было бы повернуть назад, но Володя вспомнил о Гелле и опять стал пробираться сквозь сугробы, пока дорогу ему не пересек длинный и очень глубокий овраг. Обессиленный и отчаявшийся, он вернулся по своим следам на тропу и упал, потеряв сознание. Где-то близко захрустел снег. Володя поднял голову, и к нему разом вернулись все прежние страхи. Прямо на него шел какой-то человек. Неужели его все-таки выследили? Но он не сделал попытки убежать. Не стал даже прятаться за дерево. Будь что будет! К тому же этот незнакомец вовсе не походил на полицая или эсэсовца. На нем был старый, добротный ватник, на голове шапка-ушанка, на ногах огромные, много раз подшитые валенки. Он слегка волочил правую ногу, но двигался очень быстро. Поравнявшись с мальчиком, незнакомец остановился и несколько секунд молча его разглядывал. — Как это ты сюда попал? — ворчливо, хотя и без малейшего раздражения спросил он. — Ты из какой деревни-то? Голос у него был низкий и грубоватый, но небольшие карие глаза из-под сурово насупленных бровей смотрели ласково. — Что ж ты молчишь? — продолжал он. — Надо отвечать, коли тебя спрашивают. Из какой ты деревни? — Я не из деревни, — чуть слышно промолвил мальчик. Его страх постепенно проходил; в душе зарождалась слабая и смутная надежда, что этот человек ему поможет. — Ну, а коли не из деревни, так откуда же? — Из Лескова. — Откуда? — Из Лескова… из лагеря… — Эге! Так ты это, что ж, сбежал, значит? Володя кивнул головой. Незнакомец продолжал хмуриться, но глаза у него стали еще более ласковыми и добрыми. — Похоже на то, что вас там не больно сытно кормили, — сказал он. — Ишь как ты отощал! Одна кожа да кости!.. — Нас не кормили… — То есть как это не кормили? Какую-нибудь баланду-то небось давали? — Нет, нас совсем не кормили… — Как? — Незнакомец даже растерялся. — Да как же это?.. Да нешто это можно, детей не кормить? — заволновался он. — Постой! Ведь ты, наверное, есть хочешь? И замерз к тому же? А ну-ка, вставай! Живо! Идем! Тебя звать-то как? — Володя… — А меня Герасим Григорьевич… Или попросту дяди Герасим. Пошли. Володя с трудом поднялся на ноги, чтобы следовать за своим новым знакомым, и, к своему величайшему изумлению, увидел, что тот направился как раз к тому месту, где так загадочно обрывалась тропа. — Иди сюда, Володя! — позвал он. Мальчик подошел. — Видишь ты эти два ряда кустов? — показал рукой направо Герасим Григорьевич. — Так вот, ступай, значит, как раз промеж ними. Да, смотри, держись середины, а то сразу по шею провалишься. Володя ничего не понимал. Между кустами, на которые указывал его спутник, снег был, казалось, даже еще пышнее и глубже, чем в других местах. Он с опаской шагнул вперед… и — о чудо! — не провалился. Едва погрузившись по щиколотку, его нога встала на что-то твердое, словно под верхним слоем лежала земля. Заметив изумление мальчика, Герасим Григорьевич улыбнулся: — Здесь гребень, — назидательно пояснил он, — а по обе стороны, там, значит, где кусты, — канавы. Места здесь, Володя, я как свои пять пальцев знаю. Двадцать лет тут проработал. Сперва сторожем, а потом объездчиком. Володе все больше и больше нравился этот человек. На первый взгляд он казался угрюмым и малообщительным. Однако стоило ему улыбнуться, как его обветренное, с тысячей мелких морщинок вокруг глаз лицо сразу менялось и становилось добрым и приветливым. Герасим Григорьевич нагнулся и вытащил из сугроба длинную тонкую жердь. — Ты иди вперед, — сказал он, — а я за тобой. Надо наши следы замести. А то вдруг незваные гости нагрянут. Тебе небось тоже не очень хочется возвращаться в Лесково? Пройдя шагов двадцать, Володя обернулся и увидел, что Герасим Григорьевич пятится и тщательно заравнивает жердью снег. Потом он с силой заколотил по кустам. С веток посыпались снежные хлопья, и через минуту вряд ли кто-нибудь смог бы догадаться, что по этому месту только что прошли люди. У Володи стало легко на душе. Значит, его не разыщут! Он никогда больше не вернется в это проклятое Лесково, никогда! — Куда же ты пробирался из лагеря-то? — спросил Герасим Григорьевич. — И как это ты в лес забрался? Ведь здесь и замерзнуть недолго… — Я искал партизан… — неожиданно вырвалось у Володи. Дядя Герасим обернулся. — Ну, это ты напрасно старался, — сказал он. — Если бы, Володя, партизан всякий мог найти, немцы бы их давно выследили… А зачем это тебе понадобились партизаны? — Нас хотят всех убить, — начал было Володя и вздрогнул. Он вспомнил о ребятах, о том, что их надо как можно быстрее выручить, иначе будет уже поздно… — Кто вас хочет убить? — Эсэсовцы… И Володя принялся сбивчиво рассказывать. Герасим Григорьевич слушал его молча, продолжая, как он сам выражался, “заметать следы”. Наконец гребень кончился, и снова появилась дорожка, уходящая в глубь леса. — Ты вот что, Володя, — он задумчиво посмотрел на мальчика, — не волнуйся раньше времени… Товарищей твоих, может, еще вызволят… Вот сейчас придем домой и потолкуем. А идти нам уже недалеко… Минут пять. Они повернули направо, и перед ними открылась поляна. Посреди нее стояла изба, к которой примыкали небольшой огород и сад. Герасим Григорьевич распахнул дверь, и Володя увидел высокую полную женщину с приятным круглым лицом и такими же круглыми, словно постоянно чему-то удивляющимися глазами. — Батюшки! — воскликнула она. — Кого это ты привел, Герасим? Володю удивил ее голос. Он был тоненький-тоненький, а имя своего мужа она произносила слегка нараспев: “Гера-асиим”. — На дороге нашел, — улыбнулся Герасим Григорьевич. — Бежал, вишь, из лесковского лагеря да чуть было в лесу не замерз. Спасибо, я на него наткнулся… Володей зовут… — Бедненький! — всплеснула руками женщина. — А тощий-то какой! Голодный небось? Его же поскорее покормить надо… Ты раздевайся, Володя… У нас тепло… Не успел мальчик опомниться, как она уже проворно расстегнула его телогрейку и тут же в ужасе отступила, увидев под ней голое посиневшее тело. — Ах ты батюшки! — Она снова всплеснула руками. — Смотри, Герасим! На нем и рубашки-то нет! Да как же это он не замерз?.. Постой, я разыщу, во что бы его одеть… — Успеется, — остановил ее Герасим Григорьевич, — поесть он и в телогрейке может… Ему бы теперь чего-нибудь горяченького, согреться… — Так я вам борщу налью. — Хозяйка метнулась к печке. — Ведь ты тоже с утра ничего не ел… Вместе и пообедаете. Володя сел за стол и с наслаждением проглотил несколько ложек, а потом незаметно для самого себя опорожнил большую миску горячего борща. — Жорка-то где? — спросил объездчик жену. — На охоту ушел еще с утра. Соскучился, говорит, без свежего мяса. А зачем он тебе? — Послать его хочу к Алесю Антоновичу. Дело есть важное. — Так он сбегает. Вот придет, поест и сбегает. Да, никак, это он идет… — Она взглянула в окно. — Ну, точно, он. В сенях послышались быстрые шаги, дверь распахнулась, и на пороге появился высокий красивый парень. За плечами у него висела охотничья двустволка, а в руке он держал огромную черную птицу. — Есть хочу, мать! — громогласно объявил он. — По-настоящему! Давай обед! А это кто? — уставился он на гостя. — Из лесковского лагеря он, — отвечал Герасим Григорьевич, ласково глядя на Володю. — Сбежал, значит! По-настоящему? Вот молодец! — Жорка сильно хлопнул Володю по плечу. — Ты его покормила, мать? — Покормила, Жорочка… — Еще дай!.. Я вижу, он еще хочет. — Так ему нельзя много. Отец говорит — вредно… — А ты меду ему дай… Меду можно… Правда, можно, отец? — Меду, пожалуй, можно, — согласился Герасим Григорьевич. Хозяйка вышла в сени и вернулась с полным стаканом меда. Стакан она поставила перед Володей, а сыну налила миску борща. — Ты ешь, ешь! — Парень подмигнул мальчику. — Тебя зовут-то как? — Володя… — А меня Жора… Ешь мед, Володя! По-настоящему! И, будто показывая, как это нужно есть по-настоящему, Жора накинулся на борщ и опустошил миску раньше, нежели Володя успел проглотить вторую ложку меда. — Молока! — потребовал он у матери. — И ему тоже! — Молоко холодное, Жорочка, а он и так замерз… Вечером подою, дам ему парного… — Ладно! Жора схватил крынку с молоком, поднес ее к губам и осушил, ни разу не переводя дыхания. — Уф! — удовлетворенно вздохнул он. Герасим Григорьевич спокойно наблюдал за ним. — Наелся? — спросил он. — Наелся! — Тогда слушай меня. Надевай лыжи и ступай до Алеся Антоновича. Понял? — А что сказать-то ему?.. — Скажешь, что у нас мальчик из лесковского лагеря… И он, значит, говорит, что эсэсовцы задумали перебить всех ребят. — Неужто всех? — Жора удивленно взглянул на Володю. — Ты его не пытай… Вишь, его совсем разморило… Ты меня слушай!.. Передай все это Алесю Антоновичу и попроси его прийти… — Ладно, отец, сейчас пойду… — Сначала принеси воды, — вмешалась хозяйка. — Пока печка горячая, надо воду подогреть и вымыть мальчишку. — Устал он очень, — попробовал возразить Герасим Григорьевич. — Потерпит немного, не грязным же ему ложиться. Володя и в самом деле безумно устал. Привалившись к стене и закрыв глаза, он уже не слышал, как ушел Жора, пожелав ему отдохнуть и выспаться, как рылась по сундукам хозяйка, разыскивая старые Жорины вещи, из которых тот давно вырос, как спрашивал его о чем-то Герасим Григорьевич. Потом ему пришлось на несколько минут проснуться, чтобы залезть в корыто, где его беспощадно скребли и терли. А еще через полчаса, чистый и переодетый, он лежал на теплой печи и пытался сообразить, кто такой Алесь Антонович и чем он может помочь ребятам. С этой мыслью он заснул.Глава VI БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
Спал Володя крепко, но, по выработавшейся за два года привычке, проснулся как раз в то время, когда в лагере обычно происходила утренняя проверка. Еще не открывая глаз, он услышал где-то рядом оживленные голоса. — Надо его разбудить, — настаивал чей-то могучий бас. — Жаль мальчонку, но что поделаешь… Время не терпит. — Это верно! Разбудите, пожалуйста, мальчика, Герасим Григорьевич, — мягким баритоном поддержал его второй собеседник. — Ну, коли надо, так надо, — согласился объездчик, которого Володя сразу признал по голосу. — Подыми его, Жорка, да, смотри, поаккуратнее… Не испугай!.. Сообразив, что это его собираются будить, мальчик открыл глаза и поднял голову. Почти в тот же момент перед ним появилось улыбающееся лицо Жоры. — Да он не спит! — радостно воскликнул парень. — Проснулся по-настоящему!.. Слезай, Володька! Тут с тобой поговорить хотят… И, взяв мальчика под мышки, он осторожно спустил его на пол. Помимо самого Герасима Григорьевича и его жены, в комнате были еще два человека. Первый с бритой головой и лицом и ясными бледно-голубыми глазами. Второй был огромного роста, широкоплечий, с пышной шевелюрой и густой окладистой бородой. По внешнему виду и по одежде он казался типичным сельским жителем. — А вот он, герой! — загремел бородач, делая шаг навстречу мальчику. — Покажись-ка, покажись, каков ты из себя! — Это Алесь Антонович, — сказал Володе Герасим Григорьевич. — А вот это Михаил Германович. Расскажи-ка им то, о чем ты вчерась говорил мне. Про то, значит, как эсэсовцы решили вас всех убить… — Не торопите его, Герасим Григорьевич, — слегка улыбаясь, остановил его Михаил Германович. — Садись к столу, Володя! Вот так! А теперь скажи, когда приезжали в лагерь эсэсовцы? Мальчик на секунду задумался. — Позавчера, — сказал он. — И сколько их было? — Два офицера, Беренмейер и еще один… В серой шинели. — Так. И что же они делали? — Собрали нас всех на проверку и долго держали… — Припомни еще что-нибудь. Постарайся! — Потом они ходили зачем-то за дом. Туда, где овраг… Алесь Антонович промычал что-то неразборчивое и, придвинув себе табурет, сел между Володей и его собеседником. — Значит, они ходили к оврагу? — Да! — Хорошо! А теперь объясни: почему ты решил подслушать разговор полицаев? — Потому… Потому… что, — замялся Володя, — потому что Беренмейер улыбался. — Это очень интересно! — Михаил Германович внимательно посмотрел на мальчика. — Он, что же, очень редко улыбается? — Он улыбается только тогда, когда нам плохо… Вот когда эсэсовцы убивали деда Матвея и когда увозили Артемия Васильевича и Ольгу Ивановну. — Тогда он улыбался? — Да… — Ты молодец, Володя! У тебя редкая наблюдательность! Володя не совсем понял эту похвалу, но ему было приятно, что его назвали молодцом, и он продолжал рассказывать, уже не дожидаясь дальнейших расспросов: — Ну, я и подумал: может, полицаи знают, зачем приезжали эсэсовцы. И стал подслушивать под окном… — Герасим Григорьевич уже говорил нам о том, что тебе удалось услышать. Повтори нам это еще раз. И как можно подробнее. Володя смог довольно точно восстановить почти весь разговор полицаев. Его слушали с напряженным вниманием. — Сволочи проклятые! Нет, что за сволочи! — зарычал вдруг Алесь Антонович, изо всех сил грохнув тяжелым кулаком по столу. Потом он вскочил и зашагал по комнате, снова и снова повторяя: — Нет, что за сволочи! Михаил Германович, напротив, сохранял полнейшее спокойствие, и его голубые глаза смотрели все так же ясно. — Теперь я не сомневаюсь, — сказал он, — что германские власти действительно решили уничтожить всех детей. Нам остается только уточнить дату. Ты не помнишь, Володя? Полицаи не говорили, когда это должно произойти? — Нет, они сказали только, что завтра им придется переселяться… — Потому что в левом флигеле не хватит места на пятнадцать человек? — Да. — Рассказывай дальше, все, вплоть до твоего бегства из лагеря. Мальчик исполнил его просьбу, не забыв упомянуть и про свою встречу с человеком в серой форме. — То, что он дал тебе хлеб, не удивительно. Не все немцы фашисты. Но как же нам все-таки уточнить дату? Эсэсовцы при вас ничего не говорили? Хотя ты, наверное, не знаешь по-немецки? Володя отрицательно покачал головой. — Но, может быть, ты все же назовешь отдельные слова? — Они говорили про какой-то гребень, — неуверенно стал припоминать мальчик. — Про шанценгрэбер? — Да, да! — Вспоминай, вспоминай! Это очень важно. И вдруг Володю словно осенило. — Они два или три раза сказали: “Нах айнер вохэ…” — Они сказали: “Нах айнер вохэ комт шанценгрэбер”? — Я не помню точно… Я помню только “нах айнер вохэ”, — честно признался мальчик. — Это было бы очень хорошо! Очень хорошо! Если бы все случилось действительно “нах айнер вохэ”!.. — Что же это значит: нах айнер вохэ? — спросил Алесь Антонович. — Это значит через неделю. А поскольку говорили они два дня назад, то остается еще пять дней… — А вдруг они говорили о чем-нибудь другом? — Не думаю. Если бы они предполагали совершить свое преступление раньше, они бы не стали вызывать солдат и усиливать охрану лагеря. — А откуда вы знаете, что они вызвали солдат? — Но ведь это ясно. Вспомни человека в серой шинели. Он прибыл, чтобы подготовить квартиру для своих людей. — А может быть, для особой команды? — Особая команда не состоит из одиннадцати человек. Ист, это просто солдаты из соседней части. — Пожалуй, вы правы, — согласился Алесь Антонович. — Значит, в нашем распоряжении пять дней. — Не больше четырех, Алесь Антонович… Мы должны опередить эсэсовцев. — Не пойму, — неожиданно вмешался в разговор Герасим Григорьевич. — Зачем это фашистам понадобилось убивать детей? Ведь они их и так не кормят. — Времени у них в обрез, — пояснил Алесь Антонович, — близок час прихода нашей армии… — Но убивать ребят? — не унимался Герасим Григорьевич. — Для этого у них есть причина… — Какая же? Алесь Антонович обернулся к мальчику: — К вам в лагерь приезжали немецкие врачи? — Много раз… — Что же они делали? — Уколы нам делали… Против болезнен… — Как же они делали вам эти уколы? — Забинтовывали руку крепко-крепко и кололи… Очень больно было… — Вы слышали, Герасим Григорьевич? — Слышали… Ну и что? — Они брали у них кровь, — пояснил Михаил Германович. — Использовали детей в качестве доноров… Объездчик оторопел. Его жена вскрикнула от ужаса. — Это еще далеко не все, — продолжал Алесь Антонович. — После уколов у вас в лагере болели ребята, Володя? — Да… — И что с ними делали? — Увозили в больницу… — А оттуда они возвращались? — Нет… — Теперь вы понимаете, Герасим Григорьевич? У детей брали кровь, а потом тех, кто заболевал, уничтожали… Разве это не тягчайшее преступление? — Еще бы! — Значит, им необходимо замести все следы… Ведь скоро придется расплачиваться… Володя слушал, раскрыв рот. Откуда эти люди лучше его самого знают, что творилось у них в лагере? И как это Михаил Германович сразу догадался, что такое “нах айнер вохэ”? Наверное, они помогут его друзьям… Может быть, они скажут ему, где скрываются партизаны? — Вам уже давно следовало бы освободить всех ребят! — проворчал Герасим Григорьевич. — Сведения о том, что у них брали кровь, мы получили совсем недавно, — ответил ему Алесь Антонович. — А об уничтожении их в больнице нам сообщили всего три дня назад… Вот теперь будем отбивать ребят, не правда ли, командир? — обратился он к Михаилу Германовичу. — Ни в коем случае! — твердо ответил тот. У Володи похолодело в груди. Жора рванулся вперед, словно намеревался что-то сказать. Герасим Григорьевич и его жена с упреком уставились на Михаила Германовича. Один Алесь Антонович почему-то улыбнулся. — Что же мы будем делать? — спросил он. — Надо подумать, — сказал Михаил Германович. — Людей у нас осталось очень немного: остальные участвуют в известной вам операции. Без шума уничтожить охрану лагеря очень трудно, даже невозможно. А после первого выстрела к немцам прибудет подмога. Вы и сами понимаете, что увозить детей во время боя, рисковать их жизнью — это преступление. — Согласен! — Следовательно, надо вывезти их тайком… Ну, хотя бы тем же путем, каким ушел Володя, то есть через окно… — Еще раз согласен! — А поблизости их будут ждать подводы. К этому необходимо основательно подготовиться. Достать сани, обеспечить их возницами. Лошади у нас есть, а людей маловато. Договоритесь с местными жителями, найдите таких, кто бы согласился взять ребят на время к себе. Хотя бы до прихода нашей армии… — Слышали, Герасим Григорьевич, что говорит командир? — сказал Алесь Антонович. — Вам с Жорой придется основательно потрудиться. Оповестите все окрестные деревни. Вам помогут еще трое связных. Управитесь к сроку? — Почему же не управиться? — Герасим Григорьевич с минутку помолчал, потом почесал свой давно не бритый подбородок и добавил: — А насчет, значит, ребят… Володю-то мы решили взять к себе… Ну, и еще кого-нибудь… — Прокормите? Не тяжело будет? Что скажете, Лариса Афанасьевна? — Почему не прокормить? — возразила хозяйка. — Мы ведь живем получше многих других…, И коровку сберегли… И кур еще с десяток осталось… Прокормим! — Договорились! А теперь, Герасим Григорьевич, давайте обсудим, на кого мы с вами можем рассчитывать? Они вооружились бумагой и карандашом и принялись перечислять имена и фамилии. Володя их не слушал. Он едва не прыгал от радости при мысли, что останется здесь, с Жорой, с Герасимом Григорьевичем и Ларисой Афанасьевной. Но кого они еще возьмут? Может, Колю Вольнова? Или Нину? Хотя Нина ни за что на свете не расстанется с Катей… А что, если попросить их взять к себе и Колю, и Нину, и Катю?.. Михаил Германович незаметно наблюдал за ним. — Послушай, Володя, — серьезно, как будто обращаясь к взрослому, начал он. — Я хочу задать тебе один вопрос. Ты очень хочешь помочь своим товарищам? — Очень! — искренне вырвалось у мальчика. — А не смог бы ты для этого вернуться обратно в Лес-ково? У Володи потемнело в глазах. — В Лесково? — еле слышно сказал он. — Да, в Лесково. Разумеется, не сейчас, а дня через два-три, когда ты немножко окрепнешь. Ребят нужно подготовить к побегу, чтобы они все могли 6 назначенный час выбраться из лагеря. И подкормить их тоже. Иные, вероятно, на ногах не держатся от голода? Володя вспомнил о Кате и кивнул. — Ты возьмешь с собой побольше хлеба, — продолжал Михаил Германович. — А в помощники тебе мы дадим Жору… Жора порывисто обнял мальчика за плечи. — Соглашайся, Вовка! — воскликнул он. — Мы с тобой все сделаем по-настоящему! И твоих товарищей вызволим… Володя уже не колебался: с Жорой он готов был идти хоть на край света. — Хорошо, — сказал он. — Тогда через три дня я зайду, — поднялся со своего места Михаил Германович, — и дам вам последние указания. Вы идете, Алесь Антонович? — Сейчас, командир! Ступайте вперед, я вас догоню. — До свидания! И, козырнув по-военному, Михаил Германович вышел. — Кто он такой? — тихо спросил Володя. — Как — кто? — удивился Жора. — Командир партизанского отряда. А Алесь Антонович — комиссар… Партизаны! Так, значит, Коля все-таки прав! Они существуют и действительно скрываются в лесах. И он, Володя, их нашел! — Когда-нибудь я расскажу тебе о Михаиле Германовиче, — сказал Жора. — И об Алесе Антоновиче тоже. — А почему не сейчас? — Сейчас некогда. Слыхал небось, о чем тут говорили? Вот позавтракаю, возьму лыжи и айда! Побегу по деревням, искать место для ваших ребят. — А я? — спросил Володя. — Тебе нужно отдыхать! А вот мать уже и завтрак подает… Пошли!Глава VII ОПЯТЬ В ЛАГЕРЕ
— Здесь я бывал много раз, — сказал Жора. — Еще перед войной. Только тогда мы ходили другой дорогой. Володя ничего не ответил. Они стояли на краю оврага, того самого оврага, которым он пробирался пять дней назад, когда бежал из лагеря. На его противоположной стороне четко выделялось в вечерних сумерках главное здание лесковской усадьбы. — Михаил Германович наказывал быть осторожней, — продолжал Жора. — Он думает, что немцы выставили посты. Но отсюда ничего не видно. Придется спускаться вниз. Иди за мной. Только не касайся веток… Лучше по уши заройся в снег, но чтобы кусты не шелохнулись… Командир партизанского отряда был у объездчика сегодня утром, подробно объяснил задание и взял с ребят слово, что они будут точно исполнять все его указания. — В твоих руках жизнь товарищей, — сказал он на прощание Володе. — Малейшая оплошность, малейший промах, и они погибнут. С Жорой он разговаривал долго и намекнул, что тот полностью отвечает за безопасность Володи. — Зря мы не захватили с собой маскхалаты, — шепнул Жора мальчику, когда они скатились на дно оврага. — Ночь, как назло, будет светлая… А нам еще мешки с хлебом тащить. Хлеб, который им дали для ребят, они оставили вместе с санями в небольшом лесочке, примерно в километре от оврага. Подъехать ближе было невозможно: лошадь по брюхо увязала в снегу. — А ты сможешь? — также шепотом спросил Володя. — Что смогу? — Дотащить сюда хлеб? — Поработать придется по-настоящему… Но ничего… Мне бы лишь тебя доставить на место, а там у меня вся ночь впереди. Володя успокоился. Он не случайно спросил о хлебе. Чем ближе подвигались они к подвалу, где медленно умирали голодной смертью его товарищи, тем все более невозможным представлялось ему появиться среди них с пустыми руками. — Ну, полезли дальше, — сказал Жора. — А то скоро совсем стемнеет. — Ну, и пусть стемнеет, — возразил Володя. — Тогда нас никто не увидит… — Нас не увидят, и мы ничего не увидим… А знаешь, что говорит Михаил Германович партизанам? Узнайте все о неприятеле, но так, чтобы он о вас ничего не узнал, и вы уже победители… — Откуда ты знаешь, что он им говорит?.. — Так я ж у них вроде как бы связной. И мой батя тоже. Ну ладно, довольно болтать! Полезли… И он, извиваясь как ящерица, легко заскользил между кустами. Двигаться по проложенному им следу было много легче. Все же Володя отстал от него шагов на пять, и, когда догнал наконец, Жора успел осмотреться. — Часовых не видно, — сказал он тихо. — А где же окно, через которое ты бежал? — Вот оно, — хотел было сказать Володя и осекся: оба окна в подвал были наглухо заколоченыдосками. Жора проследил глазами за его взглядом. — Да, — он почесал затылок, — выходит, что фрицы нас перехитрили… — А что, если ребят уже?.. — Мальчик не договорил, ужаснувшись своей мысли. — Тогда эсэсовцам незачем было бы забивать окна, — успокоил его Жора. — Но как это они сумели присобачить доски к каменной стене? Хотя, постой, я, кажется, понял… По обе стороны окна вбито по столбику, на них и держатся доски. Володя не понимал, почему Жору интересуют такие пустячные вопросы. — Я сейчас подбегу к окну, — сказал он, — и крикну ребятам… Может, они услышат и что-нибудь ответят. — Постой! — Парень удержал его за руку. — Не торопись, Михаил Германович говорил, что обязательно должен быть часовой. Подождем немного, поглядим! “И что это он заладил: Михаил Германович говорил, Михаил Германович говорил, — с досадой подумал мальчик. — Если окно забито, то какие еще могут быть часовые? Ребятам все равно не выбраться”. Вдруг Жора пригнулся к земле и нагнул Володину голову. — Ну, кто был прав? Вон из-за того угла, налево, вышел солдат с автоматом. Но вокруг дома он не пошел… Посмотрел по сторонам и назад… — Что же делать? — Подождем… Минуты через три, а может быть, и через четыре солдат появился вновь. Потоптался немного на месте и почти тут же ушел. На этот раз его заметил и Володя. — Будем считать, — сказал Жора. Он считал очень долго, но наконец установил довольно точно: часовой появляется через каждые триста пятьдесят — триста семьдесят секунд. — За это время я успею поговорить с ребятами, — предложил Володя. — Рано еще… Михаил Германович наказывал: увидел одного человека, посмотри, нет ли где-нибудь рядом другого… В самом деле, вскоре из-за правого угла дома вышел второй солдат. Он так же секунду потоптался перед окном и так же исчез. — Так их, значит, двое! — ахнул мальчик. — Нет, это тот же самый… За домом очень глубокий снег, а он в сапогах… Вот он и ходит не кругом, а взад и вперед, от угла до угла… Володя сник. Теперь он уже не предлагал добежать до окна и обменяться несколькими словами с ребятами. — Да ты не горюй! — ухмыльнулся Жора. — Сейчас подсчитаем… Триста пятьдесят пополам — это будет сто семьдесят пять… Времени у нас, значит, всего три минуты… Маловато. — Он задумался. — А что, в этих комнатах наверху никого нет? — Никого. Там же все разрушено. — Тогда мы вот что сделаем. Как только часовой опять скроется, мы добежим до дома и залезем в окно, что над подвалом. Оттуда и ребят можно окликнуть, если будет нужно… — А хлеб? — Дотащу я хлеб, не беспокойся. Мне бы лишь тебя припрятать… Ну, готовься! Вот солдат опять выходит. Раз, два… Беги! Схватив Володю за руку, Жора вихрем устремился к зданию. Добежав до окна, он подсадил в него мальчика, после чего быстро вскарабкался сам. Часовой за это время едва успел проделать половину своего пути. Они оказались в бывшей спальне детского дома. Комната была пуста. Лишь на полу возвышалась большая груда осыпавшейся с потолка штукатурки. — Здесь еще холоднее, чем на улице, — поежился Володя. Жора осторожно выглянул наружу. — Мы как раз над подвалом, — сказал он. — И я был прав. Доски прибиты к столбикам. А сверху между столбиками оставлена щель для воздуха… Отсюда можно было бы поговорить с ребятами, да ведь они, должно быть, спят… А кричать нельзя: часовой услышит. — Как же я попаду к ним? И как они выберутся из подвала? И как мы сможем передать им хлеб? — Володя был готов заплакать. — Что ты заладил — как, как… Сейчас подумаем. Доски можно, конечно, отбить. У меня в санях есть топор. На худой конец сойдет и это. — Тут он вытащил из-за пазухи немецкий штык. — Но ведь нужно, чтобы охрана ничего не заметила… — Значит, все пропало!.. — Ничего еще не пропало! Ты оставайся здесь и сиди тихо. Понял? А я пойду. — Куда? — Принесу покамест хлеб и топор. Жди меня и не высовывайся, а то тебя заметят… Я скоро… И, прежде чем мальчик успел что-нибудь возразить, он выскочил из окна н исчез. Время тянулось медленно, Володя был одет очень тепло. На нем был полушубок, правда, старый, но еще прочный, ватные брюки и валенки, собственные валенки Ларисы Афанасьевны. Из прежних вещей он сохранил лишь свои ватные чулки, которые очень помогли ему, когда они перебирались через овраг. Однако мальчик основательно замерз и стал бегать взад и вперед по комнате, чтобы согреться. Прошло уже больше часа, но Жора не появлялся. Володя начал беспокоиться. Что могло случиться с его спутником? Почему его так долго нет? Он осторожно подкрался к окну, чтобы выглянуть наружу, и в тот же миг что-то тяжелое внезапно сбило его с ног и придавило к полу. А секундой позже в окне появился и сам Жора. — Зашиб тебя? Ну, не серчай!.. — запыхавшись, промолвил он. Володя медленно поднялся, рядом лежал тяжелый мешок. — Ты принес хлеб? — Ну да, оба мешка. За два раза. Пришлось потрудиться по-настоящему. И топор тоже. Сейчас принесу. — Он вылез из окна и быстро вернулся с топором и вторым мешком. — Ну, Володя, — объявил он, — настал и твой черед поработать. — А что я должен делать? — Считать-то ты умеешь? Не разучился в лагере? — Умею… — Вот и будешь считать… — Зачем? — Затем, что самому мне считать будет некогда… Я дождусь, когда скроется часовой, и начну выламывать доску. А ты считай. Как только досчитаешь до ста пятидесяти, крикнешь: пора. — Ладно… — Но так придется делать много раз. И считать нужно не очень быстро и не очень медленно. Вот так: раз, два, три… — Понимаю. — Ну, тогда за дело! Все последующие два часа Володя удивлялся неистощимой энергии и выносливости Жоры. Он то яростно трудился над досками, то с проворством обезьяны влезал в окно, чтобы тут же выскочить обратно. Вскоре он был вынужден снять полушубок и остаться в одной рубашке, но и та взмокла от пота. — Подожди, Жора, — возмолился наконец мальчик. — У меня язык во рту не поворачивается… Жора накинул полушубок и присел на подоконник. — Две доски я уже обработал, — сказал он. — Покончу с третьей, и шабаш! Ты-то и сейчас пролезешь, но завтра придется тащить через эту дыру двести семьдесят пять девчонок и мальчишек. Вот и надо, чтобы она была побольше. Так вернее… Володя с любопытством выглянул в окно. — Но ведь все доски на месте, — удивился он. — Вот и хорошо, что на месте… Я их не ломал, а вырезал вокруг гвоздей. Теперь их когда угодно снять можно и снова поставить. — Чем же ты их вырезал? Топором? — Топор мне служил вместо молотка, а немецкий штык вместо стамески. Ну как, отдохнул? Тогда считай! Меньше чем через час Жора покончил и с третьей доской. — Остается только тебя опустить, — сказал он. — Подвал-то глубокий? — Глубокий. — А ты ноги не поломаешь, коли прыгнешь? — Там была лестница… — Была, да небось давно сплыла. Или ты думаешь, немцы ее для тебя специально оставили? Володя колебался недолго. — Я спрыгну. — Вот и хорошо. А ребята твои проснулись. Я слышал, они шептались… — Тогда их можно окликнуть? — Валяй! Только не больно громко. Володя перевесился через подоконник. — Ребята! — позвал он. — Коля! Нина! Митя! Сначала было тихо. Потом послышался чей-то голос: — Кто это? — Это я, Володя! Родин! — Володька! — Нина! — Тише, ты! — Жора схватил Володю за воротник и быстро втянул его в комнату. — Ишь обрадовался! — Что случилось? — Смотри! Кусты напротив окна вдруг осветились. Вероятно, часовой услышал голоса и забеспокоился. Луч фонарика медленно скользил по склону оврага. — Если он заметит наши следы на снегу, мы пропали. — Жора сказал это почти спокойно. — По-настоящему! Но фонарик потух. Немец ничего не заметил и, не слыша больше шума, успокоился. Тем не менее Володя уже не решался возобновить разговор с Ниной. — Я вот что надумал, — после короткого молчания произнес Жора. — Сейчас тебе лезть в подвал нельзя. — Почему? — Рассчитывай сам. Надо выпрыгнуть из окна — это раз. Снять три доски — это два. Спустить тебя вниз — это три. Поставить все доски на место — это четыре. И, наконец, снова спрятаться — это пять… Времени у нас всего две — три минуты. Мы можем успеть, а можем и не успеть. Я пойду в комнату напротив и погляжу, что делается во дворе. Надо дождаться смены караула. — Зачем? — Пока часовые будут меняться, пройдет лишняя минута, и я успею спустить тебя в подвал. И хлеб тоже… Ну, я пошел! Володя сел на пол и стал терпеливо ждать. Но не прошло и двадцати минут, как Жора вихрем ворвался в комнату. — А ну, живо! — воскликнул он, подбегая к окну и выбрасывая в него мешок с хлебом. — Прыгай! Володя прыгнул и упал в снег. Пока он поднимался, рядом с ним бухнулся в сугроб второй мешок, за которым последовал и сам Жора. — Сюда, Володя! Скорей! Скорей! — Он мигом снял доски и спустил мальчика в окно. — Эй вы, внизу! Берегитесь! До пола оставалось не более полутора метров, и Володя приземлился благополучно, хотя и не устоял на ногах. — Не задерживайся, отходи! Зашибу! — командовал наверху Жора, подтаскивая к отверстию оба чувала. — Получайте! Вот вам первый! А вот и второй! Готово! Володя стоял, задрав голову, и видел, как тусклое светлое пятно над его головой уменьшилось в размерах, а затем вовсе исчезло. Жора прикрыл окно досками, и на сердце у мальчика сразу стало тоскливо и жутко. Он вновь почувствовал себя пленником, маленьким и беспомощным существом, отданным во власть могучей злой силы. Удастся ли им спастись? Это должно было решиться через двадцать четыре часа. А пока оставалось одно — ждать!Глава VIII ОЖИДАНИЕ
Тишина, воцарившаяся в подвале после неожиданного появления Володи, была нарушена Ниной. — Это ты, Володя? — спросила она. — Да, — ответил мальчик. — Ты зачем вернулся в лагерь? — Я привез хлеб… — А партизаны? Ты нашел партизан? — прозвучал где-то совсем рядом голос Коли Вольнова. И хотя Володя ничего не видел в темноте, он почувствовал, что вокруг него плотной стеной стоят ребята и что все они ждут ответа именно на этот вопрос. — Да! По комнате пронесся как будто тихий шелест. Сомнений не было, никто не спал, но право расспрашивать Володю они, казалось, предоставили лишь Нине и Коле. — Партизаны нас освободят? — Да, завтра вечером, когда стемнеет! Коля нашел ощупью руку Володи и крепко пожал ее: — Молодец! Ты спас нас всех! — Спасибо тебе, Володя! — тихо добавила Нина. Володя смутился. Он вспомнил, как дрожал от страха в лесу. Нет, он не молодец… Ему просто повезло, что на него наткнулся Герасим Григорьевич. — Оки нападут на лагерь? — опять спросил Коля. — Нет, они увезут нас потихоньку. Мы вылезем в окно, нас посадят в сани и увезут… Володя вспомнил все, что говорил Михаил Германович, и разъяснил возможно внушительнее: — Близко от лагеря стоит воинская часть. Если стрелять, то к эсэсовцам прибудет подмога. Партизаны не смогут вести бой и одновременно вывозить нас. — Володя повысил голос, чтобы его было слышно в самых дальних рядах. — К завтрашнему вечеру мы все должны быть готовы. — И, сделав небольшую паузу, добавил: — Партизаны прислали вам хлеб! Два большущих мешка! Темнота вокруг словно всколыхнулась. — Тише, ребята! — крикнул Коля. — Разойдитесь! Мы поделим хлеб и разнесем его по комнатам… Хлеб делили долго, и Володя тем временем пробрался в угол, на свое старое место, и сел рядом с Катей, которая с жадностью уплетала кусок хлеба. Он вспоминал, как они с Жорой ковыляли целый километр по глубокому снегу и переползали на животе овраг. Многие ребята так ослабли, что такой путь им будет не под силу… Значит, их придется тащить на руках? Все это казалось невыполнимым. И как смогут партизаны вывезти детей без шума, когда рядом с домом ходит часовой? Покончив с раздачей хлеба, подошли Коля и Нина. Обоим не терпелось поскорее узнать все подробности. — Расскажи, как ты нашел партизан? — попросил Коля. — Я встретил в лесу одного человека, — пояснил Володя. — Партизана? — Нет, лесного объездчика, а он у партизан связной. — И он привел тебя к партизанам? — Нет, они сами пришли к нему домой… Командир и комиссар. — Это они послали тебя в лагерь? — Да, нужно было вас подготовить… И потом принести хлеб. — А кто был с тобой? — Жора, это сын объездчика. — Наверное, смелый парень? — Очень смелый и очень ловкий… Я бы без него пропал. Это он выломал доски в окне, хотя за домом ходил часовой… — Вы оба молодцы! Ничего не испугались! Володя поспешил переменить тему разговора. — Как вам удалось задержать Геллу? — спросил он. — И когда меня хватились полицаи? — Гелла вбежала в подвал и разыскала Катю, а потом легла рядом с ней и пролежала так всю ночь. Только к утру стала проситься наружу. Тут мы ее и выпустили. Ты уже был далеко. А полицаи хватились тебя только к вечеру. Утром они переезжали на кухню и у них не было времени устраивать проверку, зато вечером… Если б ты знал, что было вечером. Конопатый орал, боялся, что им достанется от Беренмейера, а Таракан стал нас допрашивать, куда ты делся? Но мы ему ничего не сказали. А потом приехал Беренмейер и солдаты. Много солдат… — Я знаю, десять человек. — Это в тот день десять, а на следующий день еще десять. Всего их сейчас здесь двадцать человек. И Беренмейер приказал забить окно. — Вас эти дни так и не кормили? — Кормили. А то бы все в лежку лежали. — Как кормили? Кто вас кормил? — Твой немец кормил. Ну, тот, что в серой шинели. Отобрал картошку у Таракана и стал давать ее нам, по шесть ведер в день. По ведру на комнату. Три дня давал. — А потом? — Потом он уехал… Должно быть, полицаи нажаловались на“” него Беренмейеру. Это хороший немец был! Он и смотрел как-то ласково… — А во двор вас выпускают? — Последние четыре дня только за водой. По пять человек. К колодцу ходим под конвоем. И стерегут нас теперь двое часовых. Ты их небось видел? Один ходит вокруг дома, другой стоит у главного входа… Двое часовых! Час от часу не легче! Интересно, заметил ли это Жора, когда глядел во двор? И какое решение примет Михаил Германович? Но Володя не стал делиться с ребятами своими опасениями. — Гелла приходила ко мне в гости, — сказала Катя, — по теперь ее больше не пускают… — И это верно, — подтвердил Коля. — На следующий день она пробралась к нам. Но потом нас стали запирать. Однако уже рассветает. — Он показал на тоненькую полоску света, пробивавшуюся через верхнюю щель дощатого щита. — Тебе надо спрятаться, Володька: последние дни проверяют прямо здесь, в подвале. Заройся поглубже в солому. Так тебе будет и тепло и удобно. Можешь даже спать, если хочешь. Только не храпи… полицаи услышат, — сказал Коля. — Как твои ноги? — спросил его Володя, ложась к стене и пытаясь зарыться в солому. — Сейчас я помогу тебе. Жаль, что так темно. Не видно, закрыт ты или нет… А ноги? Ноги ничего, когда я лежу, почти не болят. Ходить только трудно… “Ему трудно ходить, — подумал Володя. — Значит, придется тащить и его на руках. Может быть, Жора поможет? Он такой сильный…” — Нина уже спит, — сказал Коля, ложась рядом. — Это все твой хлеб. У меня и у самого глаза слипаются. …Проснулся Володя от шума голосов. Говорили по-немецки и совсем близко. Проверка! Он лежал тихо, боясь пошевельнуться. А вдруг его заметят? И почему это в подвал пришло сразу столько народу. Ах, если бы он знал немецкий язык! — Беда! Эсэсовцы приехали! Ты спишь? — Коля тяжело опустился на солому., — Приехали эсэсовцы, Володя, — спокойно сказала Нина. — Они сейчас заходили сюда. Человек шесть… Но Коля зря волнуется… Ведь сегодня вечером мы бежим… — А если они нам помешают? — Сюда приходили только офицеры, солдат же небось наехало видимо-невидимо. Это особая команда. — Ну и что ж? Уже очень поздно… Скоро вечер. Сегодня они не станут нас убивать… — Скоро вечер? — удивился Володя. — Да, мы спали очень долго… Нам надо готовиться к побегу. — К побегу? А смогут ли партизаны нас выкрасть? Вряд ли! — почти выкрикнул Коля. Володя был поражен. Так, значит, Коля тоже не уверен в успехе, тоже волнуется. Может быть, даже боится? Нина почувствовала его смущение. — Нас выручат, — твердо сказала она. — Вот увидите. Я знаю, нас освободят!Глава IX ГЕЛЛА МЕНЯЕТ ХОЗЯЕВ
Самых слабых и больных ребят разместили ближе к окну. Крепкие и здоровые ждали в коридоре. В этот последний час здесь распоряжалась Нина. Коля сидел и угрюмо молчал: вероятно, ему было стыдно, что он испугался эсэсовцев. Володя сел между Колей и Катей. — Уже стемнело, — сказал он. — Давно стемнело, хотел ты сказать, — поправил его Коля. — Почему давно? Каких-нибудь полчаса… — Ты думал, я струсил? — Коля сердито сплюнул. — Я только не могу сидеть тут, как крыса в норе. Когда меня били, я не плакал, даже не вскрикнул… Но когда ничего не знаешь и не видишь, что делается там… — Мне бы тоже хотелось посмотреть из окна… — Может быть… — Может быть, твои партизаны уже подходят? Не думаю. — Володя! — позвала Нина. Она сидела под самым окном. — Тебя зовут. — Кто зовет? — Не знаю… Снаружи зовут. Володя быстро протолкнулся к окну. — Володя!.. — голос донесся сверху. — Я здесь! — закричал мальчик. — Я здесь! — Не кричи! Как там у вас? — Все в порядке. — Ждите… Скоро я приду… по-настоящему! — Жора! Ответа не было. Володя вспомнил о часовых. Конечно, Жора не может с ним разговаривать: его могут услышать. Но когда же их освободят?.. — Ну, как? — Что тебе сказали? — Сказали, ждите. — Значит, они придут за нами? — Значит, придут. Прошло еще минут пятнадцать — двадцать. Володя уже не отходил от окна. Внезапно он услышал слабый шум. Кто-то снимал доски. А вслед за этим в отверстии появилась человеческая фигура и раздался голос Жоры: — Посторонитесь! Прыгаю! По-настоящему… Зная его стремительность, Володя поспешил оттащить от окна Нину. В следующий момент Жора был уже внизу. — Володя? — позвал он. — Я здесь. — Ребята готовы? — Готовы! — Молодцы! Сейчас будем вас отсюда вытаскивать! — Жора! — В окне появилась еще чья-то фигура. — Здесь. — Бери лестницу… хотя погоди, я сейчас отобью последние доски. И Володя услышал удары топора… А как же часовой? Почему Жора и этот человек не боятся часового? — Кого будем поднимать в первую очередь? — спросил Жора. — Самых слабых, — ответил Володя, — они все здесь, около окна. — Правильно распорядились! Жора закрепил внизу спущенную ему из окна лестницу. — Ну, кто первый? — Вот! — Нина подтолкнула к лестнице высокую девочку. — А как же часовой? — спросил Володя. — Часовой? — Жора рассмеялся. — Часовой лежит связанный. И тот, что у главного входа, тоже… — Так ты его заметил? В прошлый раз? — Конечно, заметил. За кого ты меня принимаешь?.. Пока они разговаривали, ребята один за другим поднимались по лестнице. Володя видел, как сверху их подхватывали под руки и куда-то уносили. — Многие не могут ходить, — заметил он. — Их придется нести на руках. Целый километр. — Почему — километр? Только через овраг пройти. А там уже ждут сани. — А как же снег? — Снег расчистили. Восемьдесят человек работали. Вчера ночью начали, сегодня докончили. — Но мы же вчера никого не видели! — Ты не видел, я видел. Они позже приехали. — А овраг? Ведь там кусты. — Вот вылезешь, увидишь, что мы сделали с оврагом. Только надо торопиться. Быстрее, ребята! Быстрее! — Жора подсадил наверх худенького мальчишку. — А то не управимся до смены караула. Хотя время еще у нас есть! Два часа. Жаль, что я не считал, сколько прошло ребят! — Я считаю, — сказала Нина. — Восемьдесят семь. — Молодец, девочка! Наконец-то похвалили и Нину. Володя потащил Жору. — Пойди сюда, — сказал он. — Чего тебе? — Твои родители хотят взять еще кого-нибудь? Из ребят? — Да, двоих! Сначала думали одного, а сейчас решили двоих. Иначе не получится. Чтобы всех, значит, разместить… — Тогда… — Что тогда? — Пусть они возьмут эту девочку, Нину, и ее сестренку. Она совсем маленькая, ее сестренка. Ее зовут Катя. И очень слабенькая… — Хорошо, возьмем Нину и Катю. — Тут есть еще один мальчик Коля Вольнов. — Так… — Мы с ним очень дружим. — Понятно. Колю Вольнова мы отвезем к Василию Афанасьевичу. — Это кто такой? — Брат моей матери. Лесник, живет неподалеку от нас, километра полтора, не больше. — Вот здорово! Жора ласково обнял мальчика за плечи. — Все будет хорошо… по-настоящему. Какой там идет по счету? — Сто сорок пятый, — отозвалась Нина. — Сто сорок шестой… — Больше половины, значит, уже вышли. Ладно. А мы поедем последними. Володя пробрался поближе к Коле: — Ты будешь жить совсем рядом с нами… И мы будем часто видеться, — сказал он. — Я бы хотел… — начал Коля. — Что? — Поступить в партизанский отряд. — Но у тебя болят ноги. — Когда они заживут… — Двести шестьдесят три, — считала Нина, — двести шестьдесят четыре… — Готовься! Сейчас наша очередь! — Володя поднял Катю. — Идем к лестнице. В тот же миг снаружи сухо рассыпалась автоматная очередь. — Живей! — закричал Жора. И он начал подсаживать ребят на лестницу. — Двести шестьдесят девять, двести семьдесят… Теперь уже трещали десятки автоматов. Справа и слева. Володя подтащил Катю к лестнице. — Коле трудно подниматься, — крикнул он Жоре, — у него болят ноги! — Я возьму его, а ты тащи девочку. Иди вперед, Нина! — Я подожду. — Нина оставалась спокойной. Жора не стал спорить и, схватив в охапку Колю, стал подниматься по лестнице. Володя последовал за ним с Катей на руках, но едва он вступил на первую ступеньку, как в комнате раздался хриплый лай, что-то сильно толкнуло его в спину. — Гелла! — крикнула Катя. Жора был уже наверху. Он передал Колю одному из партизан и готовился спуститься вниз. — Хальт! Яркий сноп света ударил Володе в глаза. — Стой! — повторил кто-то по-русски. У мальчика подкосились колени. Он узнал голос Беренмейера. Грянул выстрел, и Жора поспешно выскочил в окно. В луче света появился пистолет, он был направлен Володе в грудь. — Беги, Володя! Нина заслонила его собой, но ее опередила Гелла. Ученица школы гестапо, она хорошо знала, что за игрушку держал в руке обер-шарфюрер. Овчарка, свирепо рыча, кинулась на него, и в его руку впились огромные клыки. Он успел выстрелить, но пуля зарылась в земляной пол. — Бежим! — крикнула Нина. — Скорей, Володя! Но мальчик уже и сам изо всех сил карабкался по лестнице. Наверху его подхватили и поставили на ноги. Следом за ним выскочила из подвала и Нина. — К саням! — Жора с Катей на руках побежал через овраг. Как ни спешил Володя, он все же успел заметить, что сквозь кусты была прорублена дорожка, а на снегу плотным слоем лежали еловые ветки. Огонь автоматов все усиливался. Эсэсовцы, рассыпавшись цепью, обходили выдвинутые вперед посты партизан. Володя пропустил вперед Нину и последним выбежал на склон оврага. Здесь стояла запряженная в сани лошадь. Все остальные подводы уже уехали. В санях лежал Коля. Увидев приближающихся ребят, он облегченно вздохнул: — Наконец-то! А я уже думал… — А ты не думай! — Жора положил рядом с ним Катю, сел на передок и схватил вожжи. — Сели? — Да!.. Нина и Володя почти одновременно прыгнули в сани. — Но-о! Лошадь рванула и пошла крупной рысью. Из кустов послышался свист. — Это что такое? — вздрогнул Володя. — Извещают наших, что мы уехали. Теперь они могут отходить. — Но-о! — Жора хлестнул лошадь, и она перешла на галоп. — Но-о! Звуки боя постепенно отдалялись, потом стали перемещаться вправо. — Слышишь? — Жора кивнул головой в сторону выстрелов. — Учись, как обманывать противника. Мы едем в одну сторону, а партизаны с боем отходят в другую. Ну, а эсэсовцы, понятно, за ними… Жаль, сорвался наш план… — Какой план? — Мы хотели сначала увезти вас, а потом забросать оба флигеля гранатами… Но ничего, в другой раз… Они ехали уже более часа. Жора перестал подстегивать лошадь, и она постепенно замедлила шаг. Вдруг Коля приподнялся: — Волк! — воскликнул он. — За нами гонится волк! Жора обернулся. — И в самом деле волк, — удивился он. — Да что он, бешеный, что ли? И он вытащил из саней топор. — Гелла! — радостно закричала Катя. — Гелла!.. — Верно, Гелла, — подтвердил Володя. — Не трогай ее, Жора… Овчарка была уже рядом. Она легко вспрыгнула в сани, обнюхала Катю, потом других ребят и предостерегающе зарычала на Жору. — Гелла, Гелла! — Катя обняла собаку за шею. — Ты поедешь с нами? Правда? Овчарка словно обдумывала слова девочки, потом легла и положила голову ей на колени. — Она нас спасла, — сказал Володя, — от Беренмейера… И он рассказал Коле и Жоре обо всем, что произошло в подвале. — Ты и в самом деле замечательная псина! — похвалил ее Жора. …Звуки выстрелов затихли. Партизаны скрылись в лесу, где эсэсовцы уже не решались их преследовать. Лесковскии лагерь опустел. И это произошло как раз через неделю. “Нах айнер вохе”.С.Жемайтис Гибель “Лолиты”
 ПОВЕСТЬ
ПОВЕСТЬ
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Я проснулся на берегу возле самой соды. В лицо мне светило утреннее, но уже жаркое солнце. Острые куски кораллов впивались в спину. Все тело ныло, но голова была ясной и свежей. Мне сразу припомнилось все, что произошло в прошедшую ночь. С вечера ничего не предвещало беды. Океан мерно покачивал наш “Орион”, шхуна бежала по синей воде кораллового моря, похожая на пиратскую бригантину. Шли мы только на одном дизеле, в расчете прибыть к месту назначения на рассвете. Что это за место, никто из команды не знал, кроме Ласкового Питера, нашего капитана, да У Сина, штурмана, и еще, пожалуй, меня. Принося кофе и виски в рубку, я искоса поглядывал на карту, приколотую кнопками к штурманскому столику, и видел на ней тонкую карандашную линию курса, проложенную к группе атоллов, затерявшихся среди просторов Тихого океана. Шторм налетел внезапно, как часто случается в этих широтах. Шторм как шторм, которых было немало с начала плавания на “Орионе”, и на этот раз все обошлось бы хорошо, не подвернись нам коралловый риф. Меня швырнуло с койки вскоре после начала первой вахты. Сразу погас свет: видно, острые зубья кораллового рифа просадили днище в машинном отделении и оно быстро заполнилось водой. Замолчал дизель. Страшная это штука, когда в бурю замолкает уверенный стук машины и слышны только вой ветра, плеск волн да стоны смертельно раненного корабля. В коридоре я налетел на чью-то широкую теплую спину. Это оказался наш кок — голландец дядюшка Ван Дейк. Я окликнул его. — Это ты, Фома? — отозвался он и схватил меня за руку. — Не падай духом, мой мальчик. Ты надел пояс? — Он ощупал меня. — Нет! Надень! Или возьми буй. Дело серьезное. Ты выплывешь! Выплывешь! Недалеко остров… Проклятый капитан, хотел больше заработать… Треск корпуса, рев бури заглушили его слова, я только расслышал: — Прилив… плаваешь хорошо… не бойся. Вода хлынула по коридору и отбросила меня от дядюшки Ван Дейка. Больше я не видел его. В кромешной тьме, прорезаемой вспышками молний, все, кто еще держался на палубе, пытались спустить шлюпки. Две с правого борта были разбиты в щепки. С левого борта наконец удалось спустить одну шлюпку, но ее накрыло волной и унесло. Осталась последняя. Матросы, обезумевшие от страха, стали драться возле нее, вместо того чтобы общими силами попытаться спустить на воду. Я тоже хотел пробиться к шлюпке, но кто-то так толкнул меня, что я чуть не угодил за борт. Раздалось несколько хлопков, будто вылетели пробки из пивных бутылок. Полоснула зеленая молния, и я увидел капитана с пистолетом в руке. Им удалось спустить шлюпку. Она то проваливалась в черную пропасть, то подлетала выше борта. В нее бросались матросы, но мало кому удалось остаться в ней. Я видел, как поднялась на волне шлюпка, по ее бортам, ухватившись за планшир, свешивались два человека, голые по пояс, а капитан колотил по их рукам рукояткой пистолета. Когда шлюпка опустилась, я прыгнул в нее. И тотчас же полетел за борт, получив удар в живот. Удар был не особенно сильным, иначе мне не пришлось бы рассказывать эту историю. Ласковый Питер, наверное, уже устал к тому времени; он просто столкнул меня со скользкой банки, и я полетел вниз головой в черную воду. Когда я вынырнул, то больно ударился рукой об обломок одной из разбитых шлюпок. Грохотал гром, молнии вспыхивали и гасли над озверевшим океаном. Мне было страшно, очень страшно. Я не знал, куда меня несут ветер и волны. Что, если куда-нибудь в сторону от островов? Да и острова не сулили мне особой надежды. Возле них множество коралловых рифов, они окружают атоллы непроходимыми барьерами. Наверно, приходили мысли и об акулах. Не помню сейчас. Но я боролся с волнами и ветром и не думал сдаваться. Обломок шлюпки оказался очень вертким, он выскальзывал из рук, и я, захлебываясь, ловил его в темноте. Мне везло. В конце концов я крепко ухватился за шпангоут. Несколько раз при свете молний я видел шлюпку на гребнях волн. Но я не кричал, не просил о помощи, зная, что это бесполезная трата сил. Наверное, прошло много часов, пока в шуме дождя, свисте ветра и плеске волн я услышал глухой рокот. Молния осветила океан, и за это мгновение я увидал фиолетовую полосу прибоя. …Утром, сидя на берегу, я посмотрел на риф, и дрожь пробежала у меня по спине. Оттуда и сейчас, в полный штиль, доносился такой грохот, что казалось, океан задался целью разбить, стереть эту преграду и посылал на нее бесконечные гряды гигантских валов. На добрую сотню метров взлетала к небу водяная пыль, и в ней дрожала яркая радуга. Видимо, я перелетел через риф на гребне девятого вала. Возле берега, слегка покачиваясь, плавали несколько досок, большой ящик, спасательный буй да обломок шлюпки, спасший меня от гибели. И это было все, что осталось от нашего “Ориона”. Положение мое было гораздо хуже, чем у Робинзона Крузо, которому достался корабль, набитый добром, к тому же Робинзон был человеком с большим жизненным опытом, мне же за неделю до катастрофы пошел семнадцатый год. Но в те минуты я не думал о преимуществах своего предшественника. Я просто был счастлив, что сижу на сахарно-белом песке, что над моей головой шелестят своими жесткими листьями кокосовые пальмы. Мне сильно захотелось пить. Я встал, прошел несколько шагов и увидал кокосовый орех; он был очень большой, с глянцевитой коричневой кожурой. Я сунул руку в карман и вытащил нож, подарок дядюшки Ван Дейка. Это был отличный нож из лучшей нержавеющей стали. Стоило нажать на пружину, как он со звоном выскакивал из рукоятки, острый, как бритва. Орех оказался очень легким. Кто-то высверлил в нем аккуратную круглую дырочку и выел все содержимое. Еще несколько орехов, которые валялись неподалеку, тоже были пустыми. Только после долгих поисков мне попался целый орех; я срезал у него макушку и стал было пить сок, но тут же выплюнул кислую, неприятную жидкость. Видно, за хорошими орехами надо забраться на пальму, но я чувствовал, что не смогу этого сделать, пока не напьюсь и не поем. Наконец мне посчастливилось найти орех с необыкновенно приятным соком, напоминающим лимонад; было в орехе и очень вкусное ядро. Я не успел покончить со своим завтраком, как зашуршал песок: огромный краб тащил волоком кокосовый орех. “Не он ли просверливает дырочки?” — подумал я. Краб подтащил орех к норе шагах в десяти от меня. Вокруг норы было много волокна с кокосовых орехов и скорлупы. Остановившись, краб начал клешней, как ножницами, срезать волокнистый панцирь. Делал он это быстро и сноровисто. Освободив орех от волокна, краб оставил его на песке, а сам полез в нору. На острове водилось множество крабов, и возле каждой норы я видел волокно и скорлупу, но ни разу мне не удалось подглядеть, как этот краб — “стригун” вскрывает жесткую скорлупу. Много позже я догадался, что эту работу он оставляет жаркому солнцу: оно так высушивает скорлупу, что та лопается. Я поднялся на берег, чтобы оттуда осмотреть береговую полосу, в надежде увидеть еще кого-либо из команды шхуны. Мой остров, как и все атоллы, мимо которых мы проходили на “Орионе”, был низкий, поднимался он над водой всего на пять — шесть метров. С такой высоты обзор не такой уж большой, надо было подняться на пальму. Мне приходилось видеть, как это делают жители островов, и самому взбираться на пальмы. Это легче, чем лазать по канату: на стволе у пальмы есть круговые наросты и на них можно ставить ноги, как на ступеньки. Конечно, нужен навык. Лучше всего влезать, когда лодыжки соединены кольцами из веревки, чтобы ноги не разъезжались, но под руками у меня не было такого приспособления. Чем выше я поднимался, тем сильней посвистывал в ушах пассат. На вершине пальмы уже находились верхолазы — несколько огромных крыс; они страшно напугали меня, когда с писком бросились навстречу и стали спускаться по стволу. Как они попали на этот необитаемый остров? Наверное, тоже спаслись с какого-нибудь корабля? Я понял, что это они просверливают дырочки в орехах: на пальме больше половины орехов были с такими дырочками. Ухватившись за жилистые черенки листьев, я стал осматривать атолл. Он оказался сравнительно небольшим, немного вытянутым с запада на восток кольцом, поросшим кокосовыми пальмами и кустарником. Пальмы поднимались и прямо, как колонны, и торчали вкривь и вкось. Посредине кольца сверкала голубая лагуна. На востоке, в самом тонком месте, океан промыл довольно широкий канал. Я долго просидел на пальме, напрасно вглядываясь в голубоватый песок островка и принимая кусты и длинные утренние тени от стволов за одного из своих товарищей по несчастью. А вокруг расстилался бесконечный, унылый океан. Где-то в непомерной дали от островка находилась Москва, моя родина, мой дом. Там, может быть, еще ждут меня мама, отец, брат. Ребята вспоминают меня. Вот уже скоро два года, как я стараюсь добраться домой, а получается так, что чужие ветры все дальше и дальше уносят меня от родных берегов. Далеко, у самого горизонта, я увидел островок. Он показался мне таким маленьким, затерянным среди океана, что у меня невольно сжалось сердце, должно быть потому, что и я в эту минуту показался себе таким же крохотным, затерянным среди необъятного мира. Невзгоды научили меня прогонять приступы уныния. Мне ведь так повезло, стал утешать я себя. Остров что надо. Еды здесь сколько угодно. Правда, у меня нет спичек, чтобы жарить рыбу, но я видел на мелководье множество съедобных ракушек. Буду пить кокосовый сок, есть ядра кокосовых орехов. А если мне удастся смастерить острогу, то у меня всегда будет свежая рыба. Ее здесь так много, что невозможно промахнуться, только бросай острогу в воду, и она кого-нибудь да наколет. Так, по крайней мере, мне тогда казалось. Рыбу можно будет солить: я заметил кристаллики соли на шероховатых коралловых глыбах, или вялить, как это делают рыбаки в Сингапуре. А там приедут сборщики копры. Дядюшка Ван Дейк говорил, что все эти необитаемые островки раза три в год посещают жители больших островов, что у каждой пальмы есть хозяин. Созрев, орехи падают на землю, их собирают, раскалывают, выковыривают белую сердцевину — это и есть копра, из которой выжимают кокосовое масло. Сборщики должны приехать очень скоро, так как на песке лежало множество орехов. А вдруг со сборщиками копры приедет на катамаране дядюшка Ван Дейк! Ведь он мог доплыть до того крохотного островка; я верил, что если ему это удалось, то он станет разыскивать меня… Мир снова показался мне удивительно хорошо устроенным для таких неунывающих людей, как я. Прежде чем спуститься на землю, я с большим трудом срезал несколько самых крупных орехов; они падали вниз, как бомбы, поднимая сверкающие облачка песчинок. Прилив только начался, и между барьерным рифом и берегом местами было довольно мелко. Из воды поднимались красные, серые, пестрые глыбы кораллов. Они были удивительно красивы на фоне белого прибоя и синей воды. Я стал бродить по воде, засучив свои полотняные штаны. От меня шарахались в стороны стайки разноцветных мальков. Крабы, заслышав мои шаги, бочком удирали в щели или заросли водорослей. Стайка крохотных рыбок метнулась в сторону и застыла между длинными колючками колонии морских ежей. Тут они были в полной безопасности: ни одно живое существо не рискнет сунуться в этот ядовитый частокол. Однажды, еще во время первого рейса на “Орионе”, когда мы ходили на Соломоновы острова, на одной из стоянок я наступил на такого ежа и неделю ковылял по палубе на распухшей ноге. Спасибо дядюшке Ван Дейку: он вылечил меня каким-то местным средством. Я стал осторожно ступать, обходя ежей, трещины и особенно густые водоросли. Мне посчастливилось найти с десяток жирных улиток. В моем положении это был сносный завтрак. Морские улитки напоминают устриц, и их можно есть сырыми. Позавтракав на глыбе коралла, я пошел по берегу, намереваясь обойти весь остров. В воде у самого берега лежала раковина необыкновенной красоты — золотистая, в черных крапинках. Полюбовавшись находкой, я сунул ее в карман. Вскоре я заметил в воде спасательный круг с нашей шхуны; он был мне совсем не нужен, но недалеко от него плавал обломок реи с остатками паруса. Вот это-то могло пригодиться. Клок парусины оказался порядочным, из него выходила палатка, и оставалось еще для одеяла. И в тропиках бывают прохладные ночи. Разостлав мокрую парусину на песке, я направился дальше и не нашел больше ничего, кроме пустой клетки, в которой мы держали на баке кур. Дверцы у нее были выбиты, и, видно, курами давно полакомились акулы. Подумав об этом, я невольно вздрогнул, представив себе участь своих несчастных товарищей. Все они, кроме капитана, относились ко мне очень хорошо, особенно дядюшка Ван Дейк. — Не вешай носа, парень, — говорил он мне, — ты своего добьешься. Настоящий человек всего добьется. — Он лукаво щурил глаза, подмаргивал: — Даже может стать английским королем. Все дело, парень, во времени и в упорстве. Главное, не поддаваться ни судьбе, ни противнику, будь то хоть сам дьявол. Ты вот улыбаешься: почему, мол, сам старый дельфин не стал королем? Вижу по глазам, что так думаешь… Я, парень, тоже не так прост, как кажусь с виду. Вот еще годик похожу на этой бригантине и подамся домой, буду выращивать тюльпаны и рассказывать внукам разные истории. Это, брат, лучше, чем сидеть в Лондоне в королевском замке… Западная часть у атолла была самой широкой — метров полтораста от берега океана до лагуны. Здесь пальмы росли гуще и прямей. Я облюбовал место для своей палатки на берегу лагуны. Было видно по закопченным глыбам коралла, что здесь останавливаются сборщики кокосовых орехов. Тут валялись несколько пустых банок из-под консервов, осколки бутылок. К тому же довольно высокий берег и пальмы защищали это местечко от постоянно дующего ветра. Когда я вернулся за обрывком паруса, он уже высох и побелел от жаркого солнца и крупинок соли. Размочалив волокно кокосового ореха, я смел всю соль в кучку; ее оказалось очень мало, не больше наперстка. Но теперь я мог ее добывать сколько угодно. Соль была ссыпана мною в обрывок парусины и спрятана в карман. Перетащив парусину на облюбованное для лагеря место, я ножом выкроил из нее полотнище для палатки, и, как и предполагал, у меня остался еще большой кусок, чтобы укрыться им ночью. На берегу, со стороны барьерного рифа, нашлось несколько палок, кусок веревки — все это помогло мне установить палатку. Из сухой морской травы и кокосового волокна получилась великолепная постель. Оборудовав свое жилище, я собрал с десяток кокосовых орехов и сложил их возле палатки, затем стал исследовать лагуну. Вода в ней была так чиста и прозрачна, что я видел дно на глубине двадцати метров, солнце стояло над головой, и каждая водоросль, и каждый коралловый куст были залиты ярким светом. В щелях между глыб застыли омары, высунув для чего-то из своего укрытия полосатые усики. Пестрые, как бабочки, рыбки стайками вились возле огромных анемонов, похожих на яркие цветы, что-то склевывали с ветвей голубых кораллов, носились, как будто играли в пятнашки. Проплывали ярко-желтые рыбы, раскрашенные черными полосами, голубые с желтыми головами и плавниками. Мне были неизвестны их названия. Но вот показался огромный окунь, мелочь метнулась под защиту коралловых ветвей; окунь, даже не взглянув на мелюзгу, подплыл к колонии морских ежей и стал обкусывать с одного из них и выплевывать колючки. Когда осталось круглое тельце без единой колючки, он его съел и принялся ощипывать другого ежа. Пронеслась золотистая макрель, потом показалось противное, извивающееся существо длиной метра в два. Проплыла акула с таким видом, будто ее совсем не интересует вся эта разнообразная живность. Глядя на стаи рыб, я пожалел, что в кубрике “Ориона” остался мой берет, в подкладке которого было три рыболовных крючка. Но тут мне снова пришла мысль об остроге. На берегу я видел тонкий ствол бамбука с пучком желтых листьев на макушке — его принесло сюда течением с какого-то острова. “Если его заострить, то выйдет подходящая острога”, — размышлял я, направляясь к берегу океана. Когда, захватив ствол бамбука, я возвращался к палатке, то, не веря глазам, увидел на мокром песке следы больших подошв. Кто-то недавно прошел в ту часть атолла, где я выбрался из воды. Человек тоже ел улиток: их раздавленные домики валялись на песке. Я побежал по следу, стал кричать, но прибой на барьерном рифе заглушал мой голос, похожий на крик серой чайки. Скоро я потерял след. Человек вышел на сухой песок, и пассат успел заровнять его следы. Я ликовал. Теперь у меня был товарищ: вдвоем куда легче коротать дни на необитаемом острове. Я стал припоминать,у кого на шхуне были такие огромные ступни. У негра Чарльза? Да. Но тот на шхуне всегда ходил босиком и только в порту надевал гигантские лаковые туфли. Большая нога была и у рулевого Нильсена — высокого молчаливого человека с глазами навыкате. Дядюшка Ван Дейк тоже носил сандалии чуть поменьше туфель Чарльза. Подойдя к каналу, соединяющему лагуну с океаном, и не найдя никого, я повернул назад и, наверное, часа два потратил на безуспешные поиски, обойдя весь атолл. Когда я вернулся к своему жилищу, то увидел, что из палатки торчит пара босых ног, а на песке валяются желтые сандалии. Как хорошо я знал эти проклятые сандалии, сколько раз человек, которому они принадлежали, бил меня ими по лицу!ПОЕДИНОК
Все эти часы, проведенные на острове, где-то в глубине души я надеялся, что дядюшка Ван Дейк тоже спасся и я встречусь с ним. И вот вместо доброго, милого для меня человека в живых остался злой и жестокий. В первый день плавания капитан позвал меня к себе в каюту. Он сидел, развалясь в кресле, привинченном к палубе, вытянув ноги так, что я остановился в дверях у порога. — Так ты, оказывается, русский? — Да, я русский. — Проклятый кок не сказал мне об этом, а то бы тебе пришлось подыхать с голоду на берегу. — Он смотрел на меня ледяными глазами. Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, поняв, что подвел дядюшку Ван Дейка. — Кок не знал, что я русский. Капитан усмехнулся. — Тебе не удастся его выгородить. Но ты не думай, что он взял для тебя билет па прогулочную яхту. — Капитан сбросил с ног сандалии. — Надеюсь, ты знаешь, что с ними надо делать. Или в твоей красном России каждый сам себе чистит обувь? — Да, там каждый сам чистит обувь. — Заткни свою глотку! Говори: “Есть, капитан”, и все! Понял? — Хорошо, есть, капитан! — Пошел вон! Когда я принес ему вычищенные сандалии, он повертел их в руках, улыбнулся, поманил меня к себе пальцем. Когда я, обрадованный, что все-таки растопил его черствое сердце, подошел, то он размахнулся и ударил меня подошвой по щеке. Это несправедливое наказание так ошеломило меня, что я застыл, держась рукой за щеку. Капитан улыбнулся и спросил таким тоном, будто ничего особенного не случилось: — Ты знаешь, за что я тебя ударил? Я помотал головой: — Нет, капитан. — Исключительно с педагогической целью, чтобы ты знал, что в любой момент я могу оторвать тебе голову или швырнуть за борт акулам. Можешь идти и, учитывая мое сообщение, исполняй свои обязанности. — На его полном добродушном лице светилась такая добрая улыбка, было такое участие, что я подумал: не показалось ли мне все это? Но тут я встретился с его глазами, холодными, чужими на этом лице-маске, и все мои сомнения рассеялись. Дядюшка Ван Дейк, когда увидел мое горящее лицо, схватился за бороду и сказал: — Не думал я, что так получится. Все-таки он мне казался не таким подлым человеком. Наверное, и правда, что он служил у нацистов, тут ходят слухи. Эти выродки ненавидят вас, русских. Вы им повыщипали перья. Но ты не вешай носа на фальшборт. Вот пойду сейчас и скажу ему, что ты мне как сын! Ну, если получишь пару оплеух, то это пустяк. Мне тоже влетало по первое число, когда был юнгой… Я мыл посуду, а он рассказывал, как служил юнгой на пароходе, который доставлял из Китая в Англию контрабандой опиум, и какой зверь был у них старший помощник. — Он тоже грозился сбросить меня за борт. Но, видишь, ничего не получилось, — заключил он и похлопал меня по плечу. — Все же будь начеку. Не давай ему никаких поводов. — Он вытащил карманные часы. — Ого, пора нести сэндвичи и виски. Постой, я это сделаю сам. Вернулся кок с подбитым глазом. — Ничего, парень. Я его предупредил, что акулы едят не только матросов и юнг… Глаз — это пустяк, он просто смазал меня так. ну, чтобы поддержать свое звание. Все-таки капитан. — Помолчав, дядюшка Ван Дейк сказал мечтательно: — Кончим этот рейс, получишь ты свои деньги. Насчет этого не беспокойся, рассчитается пенни в пенни. Я тоже кончаю болтаться в этом парном море. Поедем вместе ко мне домой. Погостишь, а потом и подашься на родину… Проходили дни и ночи на “Орионе”. Я старался вовсю. Капитан улыбался и говорил ласково: — Из тебя мог бы выйти неплохой матрос, если бы… — при этом он кивал за борт и улыбался. — От его улыбки прямо мороз по коже, — говорили в матросском кубрике. — Такой из костей родного отца домино сделает. — Ты, парень, не особенно задирай форштевень, — учили меня, — на море капитан выше самого господа бога. Бывали случаи, когда днем был человек, а ночью весь вышел… — Таких надо в тюрьму сажать, — сказал я. Матросы захохотали, а когда смех стих, кто-то с верхней койки сказал: — Эх, бедняга, ты совсем не знаешь жизни. Разве можно идти против капитана? В лучшем случае останешься без работы, а ему все равно ничего не будет. …Я стоял и смотрел на желтые, потерявшие блеск, сморщенные теперь сандалии. Все кипело во мне. Припоминались все обиды. Я решил, что больше не буду подчиняться ему и даже скажу, чтобы убирался из моей палатки. Тут я вздрогнул: в палатке зашуршала морская трава, затем я услышал протяжный зевок и голос. Он говорил так, будто ничего не изменилось: — Эй, кто там? Я промолчал. — Ты что, глухой, скотина? Я не отозвался и на этот раз. Он сел и высунулся из палатки. За ночь лицо его осунулось и обросло ярко-рыжей щетиной. Увидав меня, капитан усмехнулся: — Фома! Вот радостная встреча! Мне показалось, что мое предсказание сбылось, ты наконец-таки попал в брюхо к акулам, как твой покровитель Ван Дейк. Не горюй, это от тебя не уйдет. — Он помолчал, насмешливо рассматривая меня ледяными глазами, потом спросил: — Ты что, забыл свои обязанности? Вода прополоскала твои мозги? Ну, живо поворачивайся! Туфли! Мне стыдно вспомнить про эти позорные минуты. Вся моя воля, решимость куда-то делись. Или это сказалась сила привычки, но я нагнулся, взял сандалии и подал их ему. Он сказал: — Мне плевать на то, что ты думаешь обо мне. Но ты мой слуга, и я научу тебя подчиняться! Этот паршивый остров остается для тебя кораблем, а я капитаном. Запомни это! Подойди ближе! Ну! — Он размахнулся сандалией. Я отскочил. Тогда он сказал, надевая обувь: — В следующий раз получишь вдвойне. А теперь пойди и принеси мне завтрак, я не ел весь день. Пару орехов. Лучше всего, если ты сорвешь вон те. Да поищи, чем их вскрыть. Погоди! — сказал он, застегивая пряжки сандалий. В его голосе была непоколебимая уверенность, что я со всех ног брошусь исполнять его приказание. — Тут недалеко, — продолжал он, — я чуть не напоролся па гвозди, торчат из шпангоута. Гвозди медные, выдерни, будут вместо ножа, а шпангоут убери с дороги. Кто-то до нас, лет за пятьдесят, тоже потерпел здесь аварию, теперь не делают таких гвоздей. Ну, живо! Я стоял не двигаясь, смотрел в его белесые, змеиные глаза, и во мне что-то твердело, исчез страх. Краска стыда залила мне лицо, когда и подумал о своей последней лакейской услуге этому человеку. Он почувствовал происходящую во мне перемену и, также улыбаясь, вытащил из кармана шортов парабеллум. Подбросив его на ладони, он спросил: — Ну, будут орехи? В горле у меня пересохло. — Нет… Не будет орехов. Все! — Бунт? Ха-ха! Я же убью тебя. Нет, я буду стрелять в живот, затем спихну в воду, вон той красавице. — Гладкую поверхность лагуны разрезал острый плавник акулы. — Последний раз предлагаю: или ты будешь служить мне как собака, или… — он направил на меня пистолет, — подойди, получишь пару затрещин в наказание, и мы покончим на этом. До него было не больше пяти шагов. Потупясь, я стал подходить к нему. — Ну вот, и уладили восстание на атолле. — Он стал снимать сандалию. В это время правой ногой я пнул его по руке с пистолетом. Вернее, хотел пнуть, да промазал. Он разгадал мой замысел. С необыкновенной быстротой Ласковый Питер откинулся в сторону, вскочил, хотел нанести мне удар в лицо, я так же увернулся, и он, потеряв равновесие, чуть не угодил в лагуну. Он стоял, вскинув руку с пистолетом, балансируя на одной ноге на глыбе коралла, и смотрел в воду. Я увидел на его лице ужас. К берегу плыла акула, ее можно было разглядеть всю, словно отлитую из меди, подвижную, верткую; казалось, и она смотрит на Ласкового Питера и ждет. Мне стоило только чуть-чуть подтолкнуть его. Но я не сделал этого. В те несколько секунд, глядя на его искаженное страхом лицо, я даже испугался за него и даже протянул было к нему руку, чтобы поддержать. Но в это время он поборол силу, толкающую его в пасть к акуле, и спрыгнул на песок. Тяжело дыша, капитан поспешно отошел от воды. Пот каплями катился по его побелевшему лицу. Повернулся ко мне и, целясь в живот, нажал на спусковой крючок. Пистолет — это был “вальтер” — не выстрелил. Он выбросил патрон. И опять только что-то скрипнуло в пистолете. Бормоча ругательства, он стал вытаскивать обойму. Я нагнулся, схватил горсть песку и швырнул ему в глаза. Он закрыл глаза рукой и старался зарядить обойму, а я все швырял и швырял ему в лицо белый коралловый песок. Все-таки ему удалось перезарядить пистолет, и опять он не выстрелил. Видно, заржавел спусковой механизм или в него набилось песку. Поняв это, капитан стал гоняться за мной вокруг палатки и между пальм. Но тут преимущество было явно на моей стороне. Я легко увертывался от него и несколько раз угодил в него кусками коралла. У него были рассечены лоб и щека. Наконец он остановился, тяжело дыша и пожирая меня ненавидящим взглядом. Так мы стояли с минуту, отдыхая и оценивая силы друг друга. Конечно, он был сильнее меня, пока не выдохся, и мне пришлось бы худо, попадись я ему тогда в руки, но сейчас, пожалуй, я справился бы с ним. На “Орионе” я часто боролся с матросами и нередко выходил победителем, умел и боксировать. Но о честной драке с ним не приходилось и думать, и поэтому я с опаской поглядывал на его волосатые руки. Он уже ровно дышал и зловеще улыбался. Теперь сила была опять на его стороне. И он, понимая это, стал медленно подходить ко мне. Только тут я понял, в каком трудном положении оказался: позади меня была лагуна, слева коралловая глыба, уйти я мог, только бросившись прямо на противника, а он уже замахнулся “вальтером”, целясь мне в голову. — Ну вот тебе и крышка! Теперь ты не уйдешь! — злорадно шептал он, подступая ко мне. Как быстро работает голова в такие минуты. У меня мелькнуло с десяток вариантов, как прорваться из этой ловушки, но все они никуда не годились. И тут я вспомнил про нож. Выхватил его из кармана. Щелкнула пружина, выбрасывая лезвие. Я стал подходить к нему мелкими шагами. Он сказал свистящим шепотом, тараща глаза: — Ты сошел с ума! Тебя же повесят за это! Убийство капитана! Уйди! Хватит. Я погорячился. Я же знал — пистолет испорчен. Только хотел тебя напугать. — Глаза его стали обыкновенными, человеческими, умоляющими. Он врал, я знал это, но у меня не поднялась рука на него, жалкого, трясущегося от страха. — Бросьте пистолет! — Пожалуйста. Сейчас им только заколачивать гвозди или разбивать улиток. — Он бросил “вальтер” себе под ноги. — Бери, если хочешь. Я дарю тебе его. Ты держался совсем неплохо. Я не знал, что ты такой. Давай жить, как добрые соседи, как достойные белые люди. Вот. — Он отступил па полшага и протянул руку. — Давай скрепим нашу дружбу крепким пожатием! У меня хватило ума не пойти на эту предательскую уловку. Мне дядюшка Ван Дейк показывал этот прием. После такого дружеского пожатия можно было остаться без руки и оказаться в лагуне, не помог бы и нож. — Ну, давай руку! — Он чуть подогнул ноги, готовясь к прыжку. Я сказал: — Ничего у вас не выйдет, я этот прием знаю. Можете только получить нож в бок. Он оперся руками о колени и покачал головой. — Нехорошо не верить честным намерениям. Теперь он замышлял что-то новое, хотел припомнить какой-то незнакомый мне прием. Я сказал: — Если вы прыгнете, то нож войдет вам в брюхо. Он усмехнулся: — Ты не терял времени на “Орионе”. Но что же мы будем делать? Вот так стоять по целому дню? — Как хотите. Но если вы нападете, то пощады не будет. Это знайте! — Хорошо, мой благородный друг. Я учту это. — Он поднял пистолет и сунул в задний карман шортов. — Все-таки надо бы позавтракать. У меня с голоду закружилась голова. Как насчет орехов? Давай устроим пиршество по случаю перемирия! — Пируйте один. — Я подошел к палатке и сорвал ее с кольев, взял и “одеяло”. — Ты уходишь? — спросил он, и желваки заходили на его скулах. — Чем тебе не нравится это прелестное место? — Тем, что вы здесь. — Окончательный разрыв? — Да! И попробуйте только сунуться на мою сторону! — Так, так… — Он стал ругаться, угрожать. Посматривая на него, я сворачивал парусину. Ласковый Питер передохнул, помолчал и сказал с возмущением: — Но мне будет холодно ночью! Вдруг пойдет дождь. — Не мое дело, — сказал я и швырнул ему “одеяло”. Удалялся я от него, переполненный гордостью и радостью победы. Как бы я хотел, чтобы дядюшка Ван Дейк видел наш поединок!ПОД ЧУЖИМИ ЗВЕЗДАМИ
Как хорошо мне было шагать по берегу океана, держа в одной руке палатку, в другой бамбуковый шест, найденный мною для остроги. Возле воды песок был влажный, утрамбованный волнами, и кусочки коралла и острые обломки раковин не резали подошвы моих босых ног. Солнце давно перевалило через атолл и готовилось опуститься в синюю воду. Я спешил уйти подальше от своего первого лагеря и выбрать место для ночлега. Мне очень хотелось есть, надо было сорвать пару кокосовых орехов, до того как солнечный диск коснется воды. В тропиках почти не бывает сумерек. Скроется солнце, запылает небо алыми и золотыми красками. Небесный пожар быстро гаснет, воздух сереет, будто все предметы заволакивает дымкой, зажигаются звезды, и внезапно наступает черная тропическая ночь. Чтобы как-то излить радость победы, все еще бурлившую во мне, я стал насвистывать залихватский мотив песенки, которую в веселые минуты распевал Чарльз, аккомпанируя себе на банджо. Песня была про жестокого капитана, с которым расправились моряки. Все, что в ней говорилось, как нельзя лучше отвечало моему настроению, и я запел:ВЫСТРЕЛ
Проснулся, весь обливаясь п том. Солнце стояло высоко и обдавало меня жаром, как из печи. Вскочив, первым делом я осмотрел противоположный берег лагуны, где находился лагерь моего противника. Там не было заметно никакого движения. Капитан или еще спал, или рыскал по берегу океана в поисках пищи. Выкупавшись на мелководье, я решил позавтракать припасенным с вечера орехом, но его и след простыл. Должно быть, его стянул один из крабов, поступив со мной так же, как я поступил с его собратом. В этом мире, где каждый боролся только за себя, надо было не зевать. Выбрав пальму с большущей гроздью орехов, я стал взбираться на нее, осматриваясь по сторонам. Конечно, в первую очередь, все мое внимание было обращено на другую сторону лагуны. И я увидел капитана. Ласковый Питер, видно, только что поднялся и тоже собирался позавтракать. Вот он подошел к пальме, потрогал ее рукой, затем концом веревки, которую я оставил на площадке, связал себе щиколотки ног. Он полез тяжело, неуверенно. До половины ствола дело у него шло неплохо. Но вот он остановился и, наверное, посмотрел вниз. Новичку этого делать не следует, сразу охватывает страх, сердце холодеет, тут надо взять себя в руки и тогда уже подниматься выше. Ласковый Питер внезапно поехал вниз и метров с трех полетел на песок. Он долго лежал и, должно быть, посылал проклятья всем атоллам и кокосовым пальмам на свете. Наконец он поднялся и, прихрамывая, пошел от лагуны к берегу океана. Я благополучно забрался на пальму, срезал несколько орехов и, устроившись на черенках листьев, с надеждой стал осматривать океан. Мне все верилось, что я увижу парус или дым из трубы парохода, а передо мной расстилалась водяная пустыня без конца и края. Далекий островок не вселял никаких надежд. Мне казалось, что он как-то неуверенно покачивается среди водяной пустыни и вот-вот навсегда скроется в океанской синеве, до того он был маленький и жалкий, похожий на кустик в цветочном горшке. Внизу показался капитан; остановившись на берегу на укатанном волнами песке, он вяло помахал руками, несколько раз присел. Проделав зарядку, он приступил к завтраку: стал бродить по мелководью и что-то есть. Сидя на макушке пальмы, раскачиваемой ветром, я ощутил такое одиночество, что даже испугался, когда Ласковый Питер вдруг куда-то скрылся. “Что, если он вздумает купаться или промышлять еду среди водорослей? — с тревогой думал я. — Там его может разорвать барракуда или укусить ядовитая мурена!” Мне даже пришла нелепая мысль, что он извинится передо мной, что мы с ним подружимся и заживем припеваючи. Вот он показался между стволами пальм, в белой разорванной на груди рубашке, что-то разглядывая у себя на ладони, и шагнул в сторону. Спустившись на землю, я напился кокосового сока, съел ядро, напоминающее творог, посыпанный ванилью. Остальные орехи я, наученный горьким опытом, завернул в палатку и бросил в колючий куст. Теперь можно было приниматься за изготовление остроги. Меня так и подмывало заняться охотой на бесчисленных обитателей лагуны. Но я решил вначале сплести себе обувь, так как сильно поранил ноги о кораллы и обломки раковин. На корабле у норвежцев, а затем на “Орионе” я учился плести маты и даже заслуживал скупые похвалы у матросов. Мне нужна была прочная веревка с мизинец толщиной. Конечно, ее нельзя было найти на острове, но там было много кокосового волокна, его настригли крабы — кокосовые воры. Из него можно было навить веревок. Я стал собирать старое, вымоченное дождями, растрепанное ветром волокно. Из него с грехом пополам мне удалось навить веревок, не очень красивых, но прочных. С плетением сандалий я справился довольно скоро. Сандалии получились, может быть, неказистые, зато прочные и довольно удобные, теперь я мог ходить и по суше и по воде. На изготовление сандалий у меня ушло все время до полудня. Солнце стояло почти над самой головой и нещадно палило. Я вспомнил, что дома, на родине, сейчас зима, стоят февральские морозы! Ребята катаются на коньках, ходят на лыжах. Может, уже окончилась война. Мы победили! Правда, скупо, но и на “Орион” проникали сведения с фронтов. Военные новости сообщал мне штурман У Син. Вначале я остерегался его, не верил ему, думал, что он зло смеется надо мной, сообщая о победах Советской Армии. Уж очень он был загадочным человеком. Обыкновенно У Син молчал, чему-то улыбаясь уголками губ. Однажды капитан плеснул мне в лицо кофе — оно показалось ему не достаточно горячим, — и тут У Сину изменило хладнокровие: он резко сказал что-то по-английски и вышел из каюты капитана. С тех пор я стал относиться к нему иначе. Новости я получал от него, когда приносил ему на вахту кофе. У Син с суровым видом, будто выговаривая за провинность, сообщал о положении на фронтах и в заключение неизменно повторял: “Правда и мужество победят”. В рубке был приемник. Однажды У Син настроил его на одну из наших радиостанций, и я услыхал голос русского диктора, передававшего сводку Информбюро. Советская Армия уже подходила к границам фашистской Германии. Почти все наши города были освобождены. О ходе войны я еще узнавал по лицу Ласкового Питера. Последнее время он был особенно мрачен. За несколько дней до крушения я подслушал его разговор со штурманом. Вернее, говорил один капитан, а штурман, по обыкновению, молчал или загадочно улыбался. Я сидел это в иллюминатор. — Что бы ни произошло там, война будет продолжаться здесь. — Капитал расхаживал по своей каюте. — Мир горит, и мы будем долго греться у огня. По крайней мере, нам с вами не выгодно гасить это пламя. Мы сделаем еще не один рейс с нашим грузом… — Он взглянул на иллюминатор, и мне пришлось улепетывать на цыпочках. На камбузе я спросил у Ван Дейка, что мы везем в тех ящиках, что лежат в трюме. Он выглянул за двери и прошептал: — Оружие. Только молчок. — Кому? — Не наше с тобой дело. Тем, кто его покупает. Не все ли равно, что и кому мы везем. Был бы фрахт, будет и заработок. Мы работаем на честной шхуне. Это не “Лолита”. Вот на ней, говорят, ходят настоящие пираты. Хотя, по правде сказать, я не особенно-то верю этим россказням. Ты знаешь, что моряки любят выдумывать истории… А нам они ни к чему. Выкинь, Фома, все это из головы, нам с тобой не найти лучшей работы и лучшего корабля… Когда разговор заходил о заработке, то кок сразу становился другим человеком. Он сам работал, честно выполняя свои немудреные обязанности, и ему не было дела до других. — Нам с тобой мир не исправить, — сказал он мне в утешение, — а вот без куска хлеба мы оказаться можем. Ты знаешь, что это за штука? Я знал. Все же не мог с ним согласиться и начал было спорить, да он послал меня на палубу чистить рыбу. …Надев сандалии, я прошелся в них нарочно по самым острым кускам кораллов; они теперь только хрустели под моими подошвами. За работой я порядочно проголодался и решил съесть содержимое одного из моих орехов. Развернув парусину, я с криком отскочил в сторону, так как оттуда выпрыгнули две крысы. Пока я сапожничал, они успели прогрызть палатку и высверлили дырочки в кожуре орехов возле плодоножки. Противные животные, сколько неприятностей они причиняли мне на острове! Один из орехов был не тронут, и я пообедал удивительно вкусной мякотью. Затем, прислушиваясь, не скрипит ли песок под ногами капитана, я принялся за изготовление остроги. Вначале я просто заострил бамбуковую палку. Подойдя к берегу лагуны, я выследил там небольшого тунца и бросил в него гарпун. Но мое оружие не годилось для охоты — оно как пробка выскакивало из воды. Тогда я отправился на берег и стал рыться в водорослях. Мне удалось найти тяжелую палку с палец толщиной и метра два длиной; это был побег какого-то тропического дерева. Затем я вспомнил слова Ласкового Питера и нашел корабельную доску с большими медными гвоздями. Дерево почти истлело, и позеленевшие гвозди легко вытаскивались из него. Несколько часов ушло у меня на то, чтобы слегка расплющить один из гвоздей, ударяя по нему куском коралла, а потом надрезать ножом и отогнуть небольшие бородки. Гарпун вышел грубый, некрасивый, но это было уже настоящее оружие. Для веревки я не пожалел часть парусины, нарезав ее тонкими длинными лентами и свив их вдвое. И вот я стою на берегу и, держа в руке острогу, выслеживаю добычу. Глаза у меня разбегаются при виде множества диковинных рыб. Как я жалею в эти минуты, что вместе со мной нет никого из моих друзей! И еще мне почему-то становится обидно, что, когда я буду рассказывать о необыкновенном мире лагуны, ребята не поверят мне. Не так легко выбрать подходящую рыбу, прежде чем нанести первый удар. Дядюшка Ван Дейк говорил мне, что не каждого обитателя тропических морей можно есть. Многие из них ядовиты или неприятны на вкус. Показалась густая стайка голубоватых рыб с продольной коричневой полосой посредине туловища от головы к хвосту. Это были уже знакомые мне рыбы, я их часто жарил на “Орионе”. Я метнул гарпун, заранее торжествуя победу. Да не тут-то было. Промах! Напуганная стая умчалась от берега. Но я не особенно горевал: мне казалось, что если буду бросать гарпун наудачу и с закрытыми глазами, то и тогда попаду в какую-нибудь рыбу. Мое внимание привлекла морская черепаха, она быстро двигалась среди цветущего подводного сада. Вот черепаха сделала рывок и, наверное, проглотила одну из зазевавшихся рыбок-бабочек. Черепаха уплыла. Улегся переполох, поднятый появлением хищницы. В подводном саду, залитом солнцем, воцарились мир и спокойствие. Из сумрачной синевы ущелья показалось семейство осьминогов. Один большой, щупальца у него были с метр длиной, и штук восемь совсем крохотных. Они остановились над зеленой лужайкой, большой повис над ней, а мелюзга опустилась на полянку и стала копаться своими щупальцами. Осьминоги все время меняли цвет. На зеленом фоне они сразу зеленели, на желтом — желтели, один осьминожек остановился над алой морской звездой и тотчас же покраснел сам. Я не видел, как откуда-то из засады метнулась барракуда — морская щука. Взрослый осьминог был начеку. Он куда-то мгновенно исчез, оставив вместо себя черное облачко туши. Скрылись и маленькие. Все, что я увидел в этом прекрасном, но обманчивом мире, невольно навело меня на мысль, что и у меня есть враг, возможно, он подкрался и готовится к прыжку. Я быстро обернулся и с облегчением вздохнул. Только стволы пальм были за моей спиной. Мнеудалось наколоть на острогу небольшую макрель. Я попробовал есть ее сырой. С трудом проглотив несколько кусков, стал думать, как добыть огонь. Но как? Я вспомнил о подарке отца — замечательной лупе в черной пластмассовой оправе. Сколько костров я разжег ею, сколько узоров выжег на тальниковых палках… Если бы у меня была лупа! Мои мысли прервал выстрел. Стреляли на противоположной стороне острова. Там на берегу стоял Ласковый Питер и потрясал поблескивающим “вальтером”. Капитан явно хотел привлечь мое внимание. Пока я мастерил острогу, он исправил пистолет или просто вычистил его. Первый раз за все время капитан поступил честно, предупредив, что перемирие окончено. Или, быть может, ему хотелось напугать меня. Я посмотрел на свой жалкий гарпун, потрогал р кармане нож. Силы были явно не на моей стороне.ИГРА В ПРЯТКИ
Ширина канала, соединяющего лагуну с океаном, достигала около восьмидесяти метров. Здесь водились акулы, но для задуманного мною плана надо было переправиться на другой берег. Только так я мог очутиться в тылу у своего врага, дождаться ночи, незаметно подкрасться к нему и захватить оружие. Моя затея казалась не такой уж трудной. “Вальтер” он носит в правом заднем кармане шортов, надо было только неслышно подкрасться к спящему и вытащить у него пистолет. Если мне это удастся — а я почему-то был уверен и этом, — то на острове будут царить мир и спокойствие, как после нашей последней драки. Палатку я оставил в своей “спальне” между кустами, накрыв его постель из кокосового волокна. Штаны и рубашку, порядком потрепанную, я снял, на мне остались только черные купальные трусики с карманом на застежке “молния”… В карман я положил нож. А все вещи, в том числе и острогу, спрятал в трещине и завалил камнями. Время близилось к вечеру, когда я, полный решимости, подкрался к берегу канала. Прежде чем прыгнуть в воду, я внимательно осмотрел канал — не покажется ли где плавник акулы. В канал из океана входил косяк какой-то серебристой рыбы. Если бы здесь сторожили акулы, то они давно накинулись бы на такую лакомую добычу. Я прыгнул и поплыл, часто опуская голову под воду и озираясь по сторонам. Мимо меня проносились рыбы, иногда задевая холодными, скользкими боками. Отдохнув на другой стороне, я стал крадучись пробираться от дерева к дереву. Иногда, услыхав шорох, падал или прижимался к стволу пальмы. Моя кожа сильно загорела и сливалась с коричневатой корой кокосовых пальм, только волосы выгорели почти добела. Внезапно я чуть не наткнулся на капитана. Ласковый Питер сидел в десяти шагах от меня возле норы кокосового вора и с жадностью выедал содержимое ореха, лопнувшего от солнечного жара. Видимо, капитан сильно проголодался. Он урчал, как обезьяна, да и сам он был похож на человекообразного, весь заросший рыжими волосами. С видимым сожалением он отбросил пустую скорлупу и заглянул в нору, сунул туда руку, но тут же молниеносно выдернул и замахал ею. Видно, краб схватил его за палец. Ругаясь, он прошел совсем недалеко от меня, с пальца у него капала кровь. Стоя спиной ко мне, он оторвал ленту от полы рубахи, замотал палец и пошел, пристально заглядывая в каждое углубление. Ему удалось найти орех, он разбил его о кусок коралла и с жадностью припал к скорлупе. Я наблюдал издали, как он побежал, припадая на левую ногу, остановился и стал подпрыгивать на месте. Потом нагнулся, поднял раздавленного краба, посмотрел на него и бросил в сторону. Разделавшись с крабом, полез в карман и вытащил пистолет. Над мелководьем между рифом и островом летало множество чаек, между ними иногда проносились гигантские фрегаты, выбирая в воде добычу покрупнее. Один такой фрегат пролетал над головой Ласкового Питера. Капитан вскинул руку, раздался выстрел, и фрегат упал в воду. Глядя на убитую птицу, он осклабился и сунул пистолет в карман. Я почувствовал холодок между лопатками, хотя в спину мне палило заходящее солнце. Ласковый Питер, глядя в землю и чему-то злорадно улыбаясь, пошел к берегу лагуны. Я стал красться за ним следом. Надо сказать, что у меня к тому времени сильно поубавилось уверенности, что мой план пройдет без сучка и задоринки. Но теперь мне еще ясней стали его намерения и укрепилось убеждение, что во что бы то ни стало надо захватить оружие. Либо мне удастся обезвредить врага, либо надо будет покорно склонить голову, сдаться в плен на милость победителя, стать его рабом, что для меня было хуже смерти. Я близко подошел к Ласковому Питеру. Он сидел у плоской, как стол, глыбы, собирал с лее патроны для пистолета, обтирал рубахой и вставлял в обойму. Вложив обойму в пистолет, он залез на камень и долго разглядывал мою сторону лагуны. Наступил вечер. Второй вечер на этом острове. Солнце садилось в лиловую тучу. Пассат почти совсем стих, только прибой яростно грохотал на рифе. Когда стемнело, послышался кашель и скрип песка. Осторожные шаги удалялись. Я пересек площадку и стал красться за Ласковым Питером. Иногда он останавливался, тогда и я замирал на месте; постояв с минуту, он двигался дальше. Я с гордостью подумал о своих сандалиях на мягкой толстой подошве: моих шагов почти не было слышно. Я двигался как тень. Осмелев, я подошел так близко, что едва не налетел на него. В это мгновение он споткнулся и помянул дьявола. У меня не оставалось сомнении, что он охотится за мной, предательски хочет напасть в темноте. Зачем он это делал? Наверное, боялся, что я зарежу его во сне или всажу нож в спину, выскочив из-за пальмы. Будь он на моем месте, то наверняка сделал бы это, не колеблясь. И еще, мне кажется, он не мог смириться с тем, что я, мальчишка, человек низшей расы, как он считал, отказался ему повиноваться, поднял бунт и даже принудил его сдаться. Вот он остановился, видно прислушиваясь, затем крадучись пошел по берегу. Его расплывчатый силуэт мелькнул на фоне лагуны, усеянной отражениями звезд, и скрылся в кромешной тьме. Я стоял, прижавшись в темноте к стволу пальмы, и прислушивался к скрипу песка под ногами моего врага, сжимая в руке нож. Ласковый Питер минут пять кружил возле моей постели, наконец наткнулся на нее, упал; поднимаясь, громко выругался. В голосе его слышалось злорадное торжество. Он пнул мою постель и сказал: — Можешь не подниматься. Тебе придется долго спать. Молчишь? И правильно делаешь. Ты проиграл. А проигравший платит! Затем один за другим прогремели три выстрела. — Ну, вот и все, — сказал Ласковый Питер с видимым облегчением. — Надо отдать тебе должное: ты держался молодцом. Может, поэтому я и отправил тебя к праотцам. Мне все казалось, что ты стоишь у меня за спиной со своим ножом. Я возьму его на память. Ты не возражаешь? Не помешает мне и палатка. Зашуршала парусина. — Проклятый щенок… — прошептал он. Этот бандит был явно разочарован. Он сопел, сидя на моей постели. Понял, что поменялся со мной ролями. Теперь ему надо было прятаться. У меня был нож, и он ждал удара, наверное, вращая головой, как сова. Неподалеку зашуршал песок — должно быть, краб тащил орех. Тотчас же сверкнуло красное пламя и грохнул выстрел. Он еще несколько раз стрелял во все стороны. Наконец встал и пошел. Я нащупал под ногами кусок коралловой ветки и запустил ему в след. В ответ он выстрелил и побежал, время от времени стреляя в темноту. Я не выдержал и закричал: — Удрал, удрал! Трус несчастный! Фашист проклятый! Наверное, он не слышал меня, потому что затихший было ветер завыл, засвистел в ушах. Стал накрапывать дождь. Когда он хлынул водопадом, я уже лежал на своей постели, с головой накрывшись палаткой. Буря бушевала вовсю, ветер пытался сорвать с меня парусину, да я подоткнул ее под бока. Палатка вначале пропускала теплую дождевую воду, но потом набухла, и вода стекала с нее под мою постель. Но слои кокосового волокна был толстым, и мне было не так уж плохо. Засыпая, я старался сосчитать, сколько выстрелов сделал Ласковый Питер. Получалось тринадцать или четырнадцать. Выходило, что если у него было две полных обоймы, то осталось не больше пяти — шести патронов. Я заснул, хоть под боком уже хлюпала вода.ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ
Атолл, промытый ливнем, сверкал в утреннем солнце. Пар курился над еще влажным песком. Переплыв канал, я опять занял свой наблюдательный пост в кустах недалеко от логова Ласкового Питера. Мой противник тоже проснулся, а возможно, и вообще не ложился, судя по его усталому лицу. Он сидел за плоским камнем с пистолетом в руке и клевал носом. Иногда он вскидывал голову и ошалело смотрел по сторонам. Он и впрямь считал, что и я поступлю с ним так же, как он хотел поступить со мной: подкрадусь и убью его сонного. “Что, если мне ударить его по голове вот этим кораллом, оглушить и обезоружить? Ведь с таким противником иначе нельзя. И ничего ему особенно не будет, только оглушу его…” Мои мысли прервал голос. — Ну, где ты, где? — орал он. — Чтоб тебя сожрали акулы! Думаешь, я не вижу! Трус! Выходи! Я спрятал голову в расщелину. — Выходи, или!.. Он выстрелил. Подождав немного, я выглянул. Он клевал носом, сидя на камне. У него явно сдавали нервы. Мне в голову пришла отчаянная мысль. Наверное, у меня в ту пору тоже сдали нервы, я чувствовал, что не выдержу, если он будет вот так охотиться за мной. Я думал: “Сейчас он устал, ночью его промочило насквозь, и он не спал. Теперь ему уже не попасть в летящего фрегата. Руки у него дрожат, глаза слезятся…” Он вскинул голову, что-то пробормотал и опять стал засыпать. И я решился. Вылез из своего укрытия. Схватил камень, размахнувшись, бросил в него. Камень попал ему в грудь, он повалился на бок, спросонок подумав, не ударил ли я его ножом, потом вскочил. Я побежал. Он выстрелил. Пуля чиркнула по песку сбоку от моей правой ноги. Я припустился к каналу, виляя из стороны в сторону, как один из героев не помню какого фильма или книги. Он выстрелил еще. Я не слышал пули. В ушах свистел ветер. Оглянувшись, я увидел его метрах в ста. Он бежал, согнувшись почти до земли, опустив руку с пистолетом. Еще выстрел, и крошки коралла брызнули из глыбы впереди и чуть левей от меня. Все-таки он стрелял здорово, и если бы я не менял направление, то он убил бы меня. Но в те мгновения я не думал об этом; я летел, едва касаясь ногами почвы, не помню, как слетели у меня сандалии, я не чувствовал порезов от острых, как бритва, осколков раковин и только считал выстрелы. “Вот теперь у него оставался только один патрон, не больше”, — думал я, заранее торжествуя победу. Он не стрелял больше, приближаясь ко мне медленным, упорным шагом убийцы. Я же стоял на берегу, чтобы хоть немного отдышаться, прежде чем плыть на другую сторону. Он помахал рукой и что-то крикнул. Тут я прыгнул в воду и поплыл, часто оглядываясь. Я был уже на середине канала, когда он показался на берегу. Присев, он ждал чего-то. Я плыл изо всех сил, часто ныряя. И ждал, что в меня вопьется пуля. Именно вопьется. И только то, что он может меня убить и я пойду ко дну, как-то не приходило мне в голову. Он выстрелил, когда я вылез из воды, но раньше, еще до того как я услышал выстрел, что-то обожгло мне плечо. Я упал, вскочил, метнулся в сторону и спрятался за глыбы коралла, совершенно обессиленный: мне казалось, что мое сердце сейчас разорвется. Отдохнув, я поднялся. Ласковый Питер все еще стоял на берегу. — Стреляй! — закричал я. — Ну, что же ты не стреляешь? Ага, кончились патроны! Все! Восемнадцать штук! — орал я, приплясывая. — Вот теперь есть чем колоть орехи! Он тоже что-то закричал в ответ, сунул пистолет в карман и остался стоять у самой воды. Рана у меня оказалась пустяковой. Пуля только сорвала кожу с плеча. Подождав, пока подсохнет кровь, я оделся, взял гарпун и, не оборачиваясь, пошел от берега под ненавидящим взглядом, как мне казалось, побежденного врага. С каким аппетитом я съел содержимое кокосового ореха, напился кокосового сока! Стоя на берегу лагуны, я почувствовал себя настоящим хозяином острова. Пассат неудержимой, невидимой рекой ровно нес свои освежающие струи, насыщенные ароматами океана. Напевая песенку негра Чарли, я стал устанавливать палатку; покончив с этим, приготовил себе в ней великолепную постель из кокосового волокна. Один выход у палатки смотрел в океан, а другой в лагуну. В ней было прохладно, как может быть прохладно в тропиках под тентом, продуваемым свежим ветром. Правда, палатку прогрызли в нескольких местах крысы и Ласковый Питер прострелил ее, но и это имело свою положительную сторону: у меня теперь были смотровые щели справа и слева. За работой быстро летит время, я понял это давно. Работа отвлекает от грустных, тяжелых мыслей. Поставив палатку, я решил попробовать добыть огонь. Эта мысль не покидала меня все утро. Я представлял себе, как сижу у костра рядом с палаткой и жарю на вертеле рыбу. Топлива на острове было сколько угодно — сухое кокосовое волокно и ореховая скорлупа. Оставалось только добыть огонь! Не откладывая, я нашел на берегу два сухих куска дерева и, став на колени, стал тереть один о другой. Дерево нагрелось, даже запахло горелым, но дальше этого дело не пошло. Измученный, весь в поту, я сидел на берегу и вспоминал все знакомые мне способы добывания огня, да так ничего и не придумал. “Попробую есть сырую”, — решил я и взялся за острогу. У берега появилась стайка синей макрели. После нескольких промахов мне удалось наколоть одну из рыб. Я выпотрошил ее, содрал кожицу, нарезал ломтиками розоватое мясо. Посыпал солью. Попробовал. Блюдо понравилось мне больше улиток. В самый разгар моего пира я услышал хруст раковин. Ко мне подходил капитан. Увидев в моей руке нож, он остановился в пяти шагах и сказал, не скрывая удивления: — Ты поймал рыбу? О, да у тебя острога! Великолепная макрель! И даже соль! Откуда на этом острове этот съедобный минерал? — Из океана. Я стал усиленно работать челюстями и даже попытался изобразить на своем лице, как вкусна сырая рыба, хотя мне хотелось ее выплюнуть. Лицо его исказила судорога; он спросил, давясь голодной слюной: — Неужели ты съешь всю эту макрель? Смотри не заболей! Здесь нет лекарств. А я ничего не смыслю в медицине. Мне пришла на ум сказка о Красной Шапочке. Этот волк заботился о моем здоровье! Я видел по его глазам, что если представится случай, то он швырнет меня в лагуну, а сам набросится на еду, но я был начеку. — Не беспокойтесь о моем здоровье, — сказал я, запуская недоеденный кусок в лагуну. Он проводил взглядом этот лакомый кусок и сказал, будто подумал вслух: — Почему все-таки я не убил тебя? Сколько представлялось случаев, но я щадил тебя. Мне хотелось только заставить тебя опомниться и выполнять свои обязанности юнги. Глупец! Ты, видимо, думаешь, что я не смог попасть в тебя, когда ты, неуклюже виляя, бежал к этой канаве? Я мог убить тебя первой же пулей и ночью и сегодня. Странно, но мне было жаль тебя. К тому же ты мне нужен. У тебя золотые руки. Со временем под моим руководством ты станешь капитаном. Хочешь стать капитаном? По глазам вижу, что хочешь. Ты что хватаешься за плечо? О, да у тебя кровь! Задел об коралл? Надо быть осторожным, мой мальчик. — Он протянул было руку к рыбе и отдернул ее, увидев, как я мгновенно вскочил с ножом в руке. — Ты спрячешь этот проклятый нож?! — заорал он. Я помотал головой. — Ну хорошо! — Он попытался улыбнуться. — Хочешь мира? — Нет. С вами нет. Уходите! — Хорошо, уйду, но ты дашь мне кусочек рыбы! — В голосе его зазвучали прежние повелительные ноты. — Ничего вы не получите! Лицо у него побелело от приступа ярости, волосатые пальцы судорожно сжимались и разжимались, как щупальца актинии. Все же он овладел собой и сказал устало: — Только кусок рыбы и соли. Ты не откажешь умирающему с голоду человеку, своему капитану. Снова передо мной стоял жалкий человек и смотрел умоляющими глазами. — Ладно. Жрите! — сказал я по-русски, протягивая остатки макрели. Он высыпал на рыбу почти всю мою соль и стал есть, брезгливо морщась и ворча. — Ничего не ел противней. Полинезийцы едят это сырье с лимонным соком. У тебя, конечно, нет лимонов? — говорил он, оглядывая остов макрели. — Вот так обедом ты меня угостил… Нет! Лучше я буду есть орехи. — Он швырнул голову и хребет в лагуну и приказал: — Принеси орех позеленей, с этой противной рыбы так захотелось пить. Ну! Живо! — Возьмите у знакомых крабов, — ответил я. — Теперь уходите. Если вы будете хорошо вести себя, то я буду кормить вас сырой рыбой, а вы собирайте соль. — Я буду собирать для тебя соль? Наглец! — Не будет соли — не будет и рыбы. Для себя я добуду сам. — Ах, вон в чем дело! Разделение труда. Как в нормальном цивилизованном обществе! Покажи, где ты ее собирал. — Соль можно найти на камнях. Сметайте ее кисточкой из волокна. — Но это дьявольская работа! Собирать микроскопическую пыль! — Как хотите. — Ну, я подумаю над твоим предложением. — Зловеще скривившись, он пошел на свою половину острова. К вечеру он все-таки собрал соли; в ней было на три четверти песку. Я добыл две макрели, одну дал ему. На этот раз мы сидели поодаль друг от друга на коралловых глыбах и ужинали. На его зубах скрипел песок. Моя соль была совсем чистая, я добывал ее так: обмакну рубаху в лагуну, высушу, а потом потру в руках, и кристаллики соли падают на кусок парусины. Так я выпарил граммов десять соли. — Где ты берешь такую прекрасную соль? — не выдержал Ласковый Питер. — У меня — чистый песок. После этого острова мне придется ставить золотые коронки на все зубы. Но соли у меня он не попросил, а стал сдувать песок с мяса, посоленного своей смесью. После ужина, развалясь на песке, он пустился в рассуждения: — В этом мире должны жить только сильные люди. Все остальные или работают на них, или уничтожаются. Как в лагуне! Там сильный, наделенный преимуществами, побеждает слабого. Я невольно посмотрел в прозрачную воду, как будто освещенную из глубины зеленоватым светом. Пронеслась небольшая акула, разогнав рыб-попугаев, двухметровая барракуда ухватила желтую рыбу и скрылась в расщелине. — Это жизнь, — сказал Ласковый Питер, кивнув на воду. В глазах у него я увидел жесткий блеск, рука его сжала кусок коралла и как бы с сожалением отбросила в сторону. Я молчал в замешательстве. Я понимал, что он неправ, что люди не должны относиться друг к другу, как звери, но не мог найти подходящих слов, чтобы убедительно возразить ему. И тут я вспомнил свою вожатую из воронежской школы, Валентину Николаевну, и ее слова: “Пионер, ребята, это человек, который борется за самое хорошее на земле. А хорошее — это правда, дружба, равенство всех людей. Нелегко бороться за наши идеалы. На земле появились страшные звери — фашисты…” И я подумал: “Вот он сидит с тобой, этот фашист, ест твою рыбу и хочет из тебя сделать такого же фашиста”. Ласковый Питер спросил: — Я вижу, что ты начинаешь понимать меня? — Да. Мне надо было убить вас в первый же день! — Тогда была честная борьба, и ты был бы прав. Правда, я несколько погорячился. Пойми сам: потерять такой корабль, столько денег. Проклятый штурман! Он посадил на камни мой “Орион”. Счастье этого негодяя, что он утонул, а не то перед тем, что его ожидало, зубы акулы показались бы ему щетками для массажа. Мне приходилось видеть, как за меньшую вину с таких молодцов, как У Син, сдирали кожу. — Напрасно вы так на У Сина. Он был хороший человек! — Ты в этом уверен? — Да! Он не стал бы губить столько людей и такой корабль. Зачем это ему было делать? — Ты не знаешь красных. Ах, я и забыл, ты ведь тоже такого же цвета! Мне передавали, что он шептался с тобой. Интересно, о чем это? — Он помолчал, насмешливо глядя на меня, затем, вздохнув, продолжал: — Мне давно было известно, что вы оба красные, но я щадил и его и тебя. И вот к чему привела моя доверчивость. Особенно тяжело мне, что я встречаю такую черную неблагодарность. И со стороны кого? Своего юнги! Которого я намеревался сделать человеком и любил почти как сына, в душе, конечно. Не хмурься, мой мальчик, я прощаю тебя. А сейчас следует подумать и о ночлеге. Я думаю, что сегодня, после такого мирного ужина, мне не следует оставлять тебя одного. Советую прогуляться перед сном и принести мое одеяло, оно пригодится тебе ночью. Я схватил острогу и стал перед палаткой. — Уходите! — крикнул я. — Вы все врете! Я не верю вам. Уходите лучше! Он поднялся, с опаской обошел меня. Остановился, недобро усмехаясь. — Ты опаснее, чем я думал. Только помни: за меня ты поплатишься головой. Тебя, в лучшем случае, повесят, как пирата. — Никто не узнает. Акулы спрячут вас в своем брюхе. — Ты положительно делаешь успехи. — Он пошел, время от времени оглядываясь и чему-то усмехаясь. И все-таки в тот день мне удалось добыть огонь. Произошло это совершенно случайно, без каких-либо усилий с моей стороны. Увидев, что капитан “Ориона” бродит возле канала в поисках орехов, я крадучись отправился на его территорию. Там я оставил очень красивую раковину, золотисто-желтую, с черными пятнышками: я нашел ее в первый день на мелководье, и она должна была лежать где-нибудь возле коралловой глыбы. Раковину я так и не нашел: наверное, Ласковый Питер бросил ее в лагуну, — зато захватил несколько осколков стекла, чтобы отшлифовать древко остроги. Среди них было выпуклое донышко бутылки или баночки из очень чистого стекла. Вернувшись на свою половину острова, я стал скоблить древко остроги, радуясь, что дерево становится красивым и гладким. Донышком скоблить было неудобно, и я хотел было его разбить на несколько частей; применяясь, как бы это лучше сделать, я неожиданно вспомнил о лупе — подарке отца, лупа была немного больше, чем это донышко, но почти такой же формы. “А что, если?..” — подумал я и повернул осколок к солнцу. На моих штанах появилось ослепительное пятнышко, скоро от него пошел дымок тлеющей ткани. Редко в своей жизни, полной случайностей, я чему-нибудь радовался больше, чем этой дырке на своих единственных штанах. Недолго думая я собрал ворох кокосового волокна, скорлупы, и костер запылал. Я сидел у огня и пировал. У меня на “столе” была жареная рыба и кокосовый орех, по вкусу схожий с лимонадом. Внезапно мой ужин нарушило появление Ласкового Питера. Он появился, еле переводя дух. Отдышавшись, сказал, не скрывая досаду и зависть: — Мне показалось, что за нами приехали. — Никто не приезжал. — Как же ты добыл огонь, неужели трением? Этого не мог сделать еще ни один европеец! — Трением, — ответил я, прикладываясь к ореху и не спуская с него глаз. — Удивительно, как это тебе удалось. Надеюсь, ты покажешь мне на досуге. — Он такими глазами смотрел на жареную макрель, что я протянул ему шашлык. Наевшись и напившись, этот человек, не сказав ни слова благодарности, набрал полную скорлупу горячих углей и быстро зашагал восвояси. В этот вечер у него долго горел костер, он что-то жарил и ел — наверное, улиток или ракушки. А я при свете костра осторожно медным гвоздем обкалывал и обтачивал куском коралла острые кромки своей лупы, прикидывая, что буду делать завтра. Но долго ничего интересного придумать не мог, кроме рыбной ловли и неизбежного приготовления пищи. В лагуне плеснула рыба или кальмар. Я поежился, представив себе, какая жуткая темнота стоит сейчас там, какие страшные чудовища поднялись из глубины, выплыли из расщелин и зарослей. Сколько в лагуне хранится удивительных тайн, и никто никогда не узнает о них, если не найдется исследователя. Если бы у меня была лодка! Но ведь можно сделать плот. С плота даже удобней заглядывать в глубину…СРАЖЕНИЕ В ОКЕАНЕ
Утром, выкупавшись и позавтракав, я пошел бродить по берегу в поисках материала для плота. Я не думал отправляться в плавание по океану. С плота я мог с большим удобством охотиться на рыб, заглянуть в любой уголок лагуны или переплыть ее, не тратя сил на ходьбу по вязкому песку. Наконец, на плоту не надо было каждую минуту опасаться, что тебя ударят куском коралла по голове. Я принялся за дело: перетащил на берег лагуны обломок реи с куском отличного линя, нашел полузасыпанный песком ствол пальмы, сухой и легкий, — это была не кокосовая пальма, а какая-то другая, — и тоже приволок туда же. Остров омывало течение, и оно приносило сюда все, что попадало в него по дороге к атоллу. Я нашел ящик из-под апельсинов. В шпангоуте от разбитой шлюпки, из которого я выдернул гвоздь для наконечника остроги, оставалось еще несколько медных гвоздей, и я вытащил их. Несколько раз я видел капитана: он бродил по мелководью и кормился улитками, делая вид, что не обращает на меня никакого внимания. Но я не верил его кажущемуся равнодушию и держался начеку. Плот получился неуклюжий, у меня не было пилы, чтобы сравнять рею и ствол пальмы. Эти главные детали своего плота я скрепил с обломками корабельных досок, использовав для этого медные гвозди и веревку, свитую из полос, оторванных от палатки. Раму застлал досками от ящика из-под апельсинов и пальмовыми листьями. Плот хорошо выдерживал меня и вполне годился для плавания по лагуне. Мне захотелось немедленно испытать свой корабль. Предусмотрительно забрав все свое имущество и запас кокосовых орехов, я пустился в плавание. С гарпуном в руке я стоял на краю плота и смотрел, как под моими ногами проплывают горные хребты, заросшие диковинными растениями, открываются долины, залитые солнечным светом; в глубине стоял сумрак, и мне чудились там какие-то таинственные сооружения. На ярко освещенном песке лежали пунцовые морские звезды, крабы торопливо перебегали эти поляны, как пешеходы — площади в большом городе. И над всем этим фантастическим миром проносились стаи рыб. Показалась акула. Как она была красива злой, страшной красотой хищника! Она обошла мой плот, видно стараясь определить, что это за существо появилось в лагуне. Она подплыла совсем близко, и я метнул в нее острогу; наконечник скользнул по жесткой коже, не причинив никакого вреда. Акула скрылась в глубине. Потом я стал охотиться на макрель и еще на каких-то коричневатых рыб, и очень неудачно: рыба, успевала уйти от гарпуна. Ветер медленно гнал плот к выходу из лагуны; здесь было очень глубоко; я лег на плот и, свесив голову, увидел смутные, расплывчатые очертания неровного дна. Опять показалась акула, за ней — другая. В тени плота стояла большая рыба, таращила на меня выпуклые глаза и шевелила губами — будто что-то спрашивала. Рыба была толстая, с большими плавниками, вся усыпанная пестрыми пятнышками. Чтобы набрать воздух, я поднял голову над водой и увидел капитана. Ласковый Питер стоял на берегу канала, махал руками и что-то радостно кричал. Мне вначале было непонятно, чему радуется капитан. Не увидел ли он парус или дым корабля? Я поднялся на ноги, стал смотреть в океан и ничего там не увидел. В это время отливное течение внесло плот в канал. И только теперь я понял, в какую беду попал. Плот несло очень быстро, шест не доставал дна. Оставить плот я не мог, потому что появились акулы, или они специально сопровождали меня, рассчитывая на поживу, и теперь с десяток их вертелось вокруг плота. И все же я еще мог причалить к берегу: до него было метров пять. Чуть не падая в воду, я протянул шест капитану, он пнул его ногой и сказал, улыбаясь: — Кому суждено быть съеденным акулами, того не берут пули. Ну, что же ты стоишь? Прыгай! Они ждут! Плот вышел из канала. Ласковый Питер крикнул: — Счастливого пути, мой мальчик! — и захохотал. Мне показалось, что и чайки, и океан, и волны, разбиваясь о рифы, тоже хохочут над моим несчастьем. Плот стал поскрипывать на волнах. Справа и слева вода кипела на рифах. К счастью, сильного прибоя почти не было. Остров уплывал от меня все дальше и дальше, то показываясь, то скрываясь за вершинами водяных бугров. Наконец пальмы совсем утонули в воде. Пассат еще долго доносил до моих ушей слабый гул прибоя, как прощальный голос земли. И он замер, как последняя надежда. Над океаном стояла тишина, изредка нарушаемая плеском летучих рыб. Они выпрыгнули из воды и, сияя плавниками-крыльями, парили над водой. Наверное, за ними охотились тунцы или акулы: плавники акул то и дело показывались недалеко от плота. “Может быть, это были провожатые из лагуны? — думал я. — Они плывут, ожидая, когда развалится мой плот…” Только по чудесной случайности я мог пристать к одному из атоллов, а их было так мало в этой части океана. Даже на морской карте они нанесены в виде редких точек на огромном белом поле. Хорошо, что я захватил с собой несколько кокосовых орехов: на три — четыре дня у меня были еда и питье. Я утешал себя тем, что буду добывать рыбу. Чтобы не откладывать дела, я решил немедленно заняться охотой, но как ни вглядывался в глубину, там была синяя пустота. Даже акулы скрылись. Пока я переходил от надежды к самым мрачным предположениям, кончился и этот день, зашло солнце, расцветив небо закатным фейерверком. Я лежал посредине плота. Небо качалось надо мной. Звезды по краям небесного круга скрывались в черной бархатистой воде и появлялись вновь еще более яркие, лучистые; они как будто отряхивались, окунувшись в воде. Дул пассат, океан катил гряды волн, увлекая куда-то мой плот. Вот когда я испытал жуткое чувство одиночества. Как мне хотелось вернуться на свой остров! Я стал упрекать себя за то, что не рискнул броситься в воду канала и не попытался выбраться на берег — ведь не всегда акулы нападают на человека. Внезапно от неприятных мыслей меня отвлек свет — вода вокруг плота светилась. Свет шел из глубины, будто там вспыхивали и гасли зеленые и голубые лампы. Это были медузы. Они казались стеклянными елочными украшениями с хорошо спрятанной лампочкой внутри и заводной пружиной, которая то сжимает, то раздувает их шелковую оболочку, отделанную снизу разноцветным бисером. Свет, исходящий от медуз, почему-то подействовал на меня успокаивающе. Ровные волны ритмично покачивали плот, навевая сон. Низко опустились звезды. Мне почудилось, что они не так уж холодно и безразлично смотрят на меня и сочувствуют мне. Я не стал дожидаться, пока волны расшатают мой хлипкий плот, и принялся в темноте ощупывать крепления. Гвозди хорошо держались в стволе пальмы и в куске реи, но от постоянного покачивания в досках образовались дырки. Плот еще не рассыпался потому, что я догадался связать его углы линем, снятым с реи. На одном из углов веревочное кольцо почти перетерлось. Опять меня выручил обрывок паруса “Ориона”. Я нарезал из парусины лент, скрутил их в несколько раз и скрепил этой веревкой доску со стволом пальмы. Такие же добавочные крепления я наложил и на три других угла моего плота. Отремонтировав плот, я заснул и проспал бы до утра, если бы меня не разбудил кальмар. Совсем крохотный, он выскочил из воды и шлепнулся мне на шею — холодный и скользкий. Спросонок я вскочил и полетел в воду. Вынырнув и снова забравшись на плот, я замер, пораженный цветом океана. Он был красный, как знамя, и весь трепетал, переливался, будто полотнище под ветром. Небо на северо-западе тоже словно налилось кровью. Оттуда долетал глухой орудийный гул. “Морской бой, — догадался я, — ишь как грохочут орудия. Наверное, горят линкоры, а может быть, подожгли нефтеналивное судно и нефть бушует пламенем на воде”. Я видел уже такой пожар, когда мы шли на “Осло”. Тогда горел в Бискайском заливе английский танкер, взорванный фашистской торпедой. Внезапно я почувствовал, что проваливаюсь. Мой плот стал расползаться в стороны. Я спустился в воду и при свете зарева увидел, что лопнуло сразу два крепления. И на этот раз мне удалось починить плот, но я понимал, что это не надолго, в конце концов он неминуемо должен развалиться. На всякий случай я завязал орехи и острогу в остаток паруса и прикрепил все свое имущество к стволу пальмы. Пока я воевал с плотом и волнами, орудийный гул затих. Зарево опустилось к самому горизонту, только рассвет погасил его.КАТАМАРАН
Я стоял посреди своего плота, опершись на бамбуковый шест, и до слез в глазах смотрел вокруг. Пассат гнал пологие валы, и они то подбрасывали меня к небу, то опускали вниз. Плот надсадно поскрипывал под ногами. Палило солнце. Я поднимался на носки и даже подпрыгивал, когда плот оказывался на гребне, чтобы увидеть как можно дальше. Невдалеке прошло стадо касаток. Острый плавник одной из этих хищниц я принял за парус и чуть не вскрикнул от радости. Промчались касатки, и я, не веря своим глазам, действительно увидел парус. Ошибиться было нельзя: мой путь пересекал катамаран — лодка с противовесом. Я стал кричать. И скоро понял, что меня никогда не услышат, — ведь до лодки было около километра. Тогда я сорвал рубаху, надел ее на шест и стал махать над головой. Лодка легла на другой галс и стала быстро приближаться ко мне. В катамаране было четверо смуглых людей. Мужчина управлял суденышком, впереди него сидела женщина в ярком платье, двое мальчишек в трусиках стояли возле мачты, махали руками и что-то кричали на незнакомом языке. “Это, наверное, семья островитян-полинезийцев”, — подумал я тогда и оказался прав. Когда до плота оставалось метров двадцать, рулевой подал команду, и мальчишки быстро опустили парус. Катамаран покачивался рядом с плотом. Я видел, что встреча со мной произвела на полинезийцев очень сильное впечатление. Мальчишки быстро говорили оба разом, отчаянно жестикулируя, их слова заглушали степенную речь мужчины, но я понимал по его лицу, что он осуждает мой сумасбродный поступок; только женщина сочувственно улыбалась и покачивала из стороны в сторону головой. Мои спасители не могли понять, как здравомыслящий человек мог отправиться в плавание на таком хлипком сооружении. Они видели на плоту зеленые листья пальмы, мои запасы продовольствия и, конечно, думали, что я обдуманно пошел на такое рискованное предприятие. Я только улыбался и разводил руками. Покричав немного, мальчишки прыгнули в воду, и вот они уже рядом со мной на осевшем плоту. Ребята весело улыбались и пританцовывали, — вероятно, океан не часто устраивал им такие забавные встречи. Они чуть не перевернули плот, но отец прикрикнул на них и жестом пригласил меня в лодку. Лодка была длинная, узкая, заваленная мешками, сетями, циновками и разным другим скарбом, — видно, эти люди ехали куда-то надолго, а может быть, и совсем переселялись на другой остров. Я перебрался в лодку, ставшую бортом к плоту. Тем временем мальчишки предали полному разорению и осмеянию мой плот, сбросив с него настил из пальмовых листьев. Глава семьи сказал что-то в мой адрес, покрутив пальцем возле виска, чем вызвал смех всего семейства, да и я, безмерно счастливый, хохотал вместе с ними. Ребята ловко взобрались в лодку, и мы втроем подняли парус. Катамаран вздрогнул, наклонился и, набирая скорость, стал удаляться от жалких обломков дерева и пальмовых листьев. Катамаран очень низко сидел в воде, почти черпая воду бортом. Вначале мне казалось, что его вот-вот зальет водой, но в самую, казалось, последнюю минуту суденышко встряхивалось, как утка, и грозная волна прокатывалась под его днищем. Мальчик постарше — его звали Тави — очистил один из моих орехов, проткнул его и подал мне. Остальные орехи они поделили между собой. Впоследствии я с удивлением узнал, что, отправляясь в плавание, эти беспечные люди не взяли с собой продуктов. Так как, по их понятиям, путешествие было небольшим, всего каких-нибудь сто — двести миль. Подкрепившись, мы стали объясняться, главным образом с помощью мимики и двух десятков слов на жаргоне, принятом среди моряков, плавающих в этих водах. Я узнал, что семейство отправилось заготовлять копру. Отца звали Сахоно, мать — Хуареи, старшего сына, как я уже сказал, Тави, а младшего Ронго. К моему удивлению, они уже знали о гибели “Ориона”. Как только я назвал шхуну, Сахоно закивал головой, печально поджал губы и выразительно перевернул руку ладонью вниз. Они шли всю ночь и тоже видели зарево на небе и слышали грохот боя, но, как мне показалось, никто из них не представлял, что там происходило, да и знали ли они, что почти весь мир воюет. Сюда война, наверное, докатывалась только непонятным грохотом и странными небесными явлениями. Среди слов, произнесенных Сахоно, я уловил имя шхуны “Лолита”. Он говорил о ней и показывал рукой по курсу катамарана. О “Лолите” ходили рассказы среди матросов, как о настоящем пиратском судне. Пользуясь военным временем, пираты грабили торговые корабли. Так “Лолита” была здесь! Не с “Лолитой” ли должен был встретиться “Орион” и передать оружие? “Но сейчас все это меня нисколько не касается, — думал я. — “Орион” на дне, Ласковый Питер один на острове, подольше бы к нему никто не приезжал. Я же буду жить с этими людьми до тех пор, пока не приедут скупщики копры, и тогда наймусь на их корабль. Они наверняка увозят копру в Австралию, а там должен быть советский консул”. “Жарь прямо к своему консулу, — вспомнил я слова дядюшки Ван Дейка. — Только бы нам зайти на денек в порт, где есть твои соотечественники”. Я размечтался о том, как в конце концов доберусь до родных берегов, как встречусь с родными и друзьями. Мне захотелось каждому из них что-нибудь привезти и подарить. Хотя бы по коралловой веточке или по раковине. Какие раковины я видел на дне лагун!.. Заметив, что я задумался, Тави и Ронго стали о чем-то вполголоса разговаривать, поглядывая в океан. Сахоно мурлыкал какую-то протяжную мелодичную песню, а его жена взялась за прерванную работу: стала приметывать рукава к платью. Вскоре после полудня из колеблющейся поверхности океана показались кроны пальм и донесся шум прибоя. Стоял прилив, и почти все рифы были закрыты водой. Са-хоно мастерски вел свои корабль, меняя галсы; мы шли против ветра. У самого берега Тави и Ронго убрали парус, и катамаран, увлекаемый течением, вошел в канал: вода теперь вливалась в лагуну. Я с удивлением озирался по сторонам. Все здесь было знакомо мне: стволы пальм, очертания коралловых глыб, песок на берегу какого-то особого голубоватого оттенка. “Ну конечно, это мой остров! — подумал я. — Не хватает только Ласкового Питера”. И в этот миг, словно для того чтобы рассеять мои последние сомнения, на берег лагуны из-за стволов пальм вышел рыжебородый человек в лохмотьях и остановился, расставив циркулем ноги и держа руки в карманах шортов. Сахоно направил катамаран прямо к моему первому лагерю. Я не ошибся, когда предположил, что там останавливаются сборщики копры. Тави и Ронго с радостными возгласами попрыгали в воду и наперегонки поплыли к берегу. Я кричал им, чтобы они вернулись. — Акула! Акула! — тщетно взывал я. Отец и мать только улыбались моему волнению. Ни тени беспокойства не было на их лицах, даже когда мимо лодки действительно пронеслась акула и, как мне показалось, погналась за ребятами. Наверное, это был вид, не опасный для человека. Пловцы благополучно добрались до берега и разглядывали Ласкового Питера. Меня он встретил добродушнейшей улыбкой и словами! — Мой милый мальчик, как я счастлив видеть тебя! — Тем же тоном продолжал: — Ты, мерзавец, вероятно, имеешь какой-то талисман. Будь на твоем месте нормальный человек, он уже сто раз мог бы отправиться в ад. Все же не падай духом: кому суждено быть повешенному, тот не утонет! — Он захохотал так заразительно, что вся семья полинезийцев тоже покатилась со смеху. Мне было не до смеха, я сказал: — Вешают только пиратов. — Я позабочусь, чтобы на этот раз сделали исключение. — На “Орионе” вы хотели меня списать за борт, здесь — застрелить. За что? Что я сделал вам плохого? — За то, что я видел тебя насквозь, за то, что ты отказался повиноваться мне! За то, что ты отравил мне жизнь на этом прелестном острове! За то, что ты мешаешь мне! Надеюсь, этого достаточно, чтобы и не только такого щенка отправить на тот свет. Я дал слово убить тебя и сделаю это, — Он, улыбаясь, добавил: — Ну, зачем ты вернулся? У тебя был единственный шанс, и ты не воспользовался им. Мне стало страшно от этой холодной, беспощадной ненависти; я сжал рукоятку ножа в кармане и сказал: — Нет, это вас повесят, когда узнают, что вы доставляете оружие пиратам “Лолиты”! Он пристально посмотрел на меня. — О, да ты был связан с У Сином! Только он да я знали об этом. Ну хорошо, можешь не отвечать мне, кто сообщил тебе эту тайну. Ответишь на “Лолите”. Там, где тебя повесят. Как это пел негр Чарли: “Пусть теперь попляшет он, ребята. Вздернем мы сегодня старого пирата!”? Не так ли? — Он прямо-таки нежно шлепнул меня по спине. Полинезийцы улыбались, не понимая ни слова, — они думали, что я встретил настоящего друга. Под вечер на остров пришли еще три катамарана с заготовителями копры. Остров ожил. Запылали костры, зазвучала непонятная речь полинезийцев. Я остался с семьей Сахоно. У Ронго и Тави были замечательные гарпуны, древко каждого покрывала затейливая резьба, изображающая сцены из жизни островитян. Как они ловко пользовались этим оружием! Редко-редко гарпун не попадал в цель. Я потихоньку спрятал свой неуклюжий гарпун в песке. Ребята сделали вид, что не замечают моей пропажи. Втроем мы охотились двумя гарпунами и за полчаса наловили столько рыбы, что Сахоно укоризненно покачал головой и велел часть улова отнести соседям. Допоздна мы сидели вокруг костра, жарили и ели какую-то необыкновенно вкусную рыбу. Ласкового Питера я не видел в тот вечер, а утром он уехал на одном из катамаранов. Сахоно махнул рукой в океан и сказал: — “Лолита” капитан! Я понял, что Ласковый Питер нанял катамаран и отправился на “Лолиту”, которая находилась где-то поблизости. Как легко мне сразу стало! Я радовался, что навсегда избавился от своего смертельного врага, не подозревая, сколько мне еще придется перенести от этого человека.ОХОТА НА ОСЬМИНОГОВ
Заготовка копры — очень несложное дело. Тави, Ронго и я собирали с земли опавшие орехи, затем топориками разрубали их на две половинки. Сахоно и его жена складывали половинки одна на другую, выпуклостями кверху, в красивые пирамиды. Когда мякоть орехов, продуваемая ветром и палимая солнцем, высыхала, мы выковыривали копру из скорлупы кривыми ножами и складывали в мешки. Полинезийцы работают недолго, стараясь непереутомляться. Все равно копры не соберешь больше, чем ее есть в орехах на пальмах, принадлежащих семье. Поэтому мы занимались копрой часа три-четыре в день, а остальное время купались, ныряли за жемчужными раковинами, охотились с гарпунами на рыб и в лагуне, и у барьерного рифа. На третий день утром Ронго и Тави отправились к рифу. Они пытались мне что-то объяснить, шевеля пальцами, сутулясь и строя страшные рожи. Я понял, что они хотят познакомить меня с каким-то интересным обитателем океана, и со~ гласно закивал головой. Мы поплыли вдоль рифа. Была самая крайняя точка отлива, разноцветные скалы, обросшие водорослями, торчали из прозрачной голубоватой воды. Мои товарищи то и дело погружали головы в воду, и я затаив дыхание стал следовать их примеру. Солнце только поднялось и косыми лучами пронизывало необыкновенно прозрачную воду. Под нами проплывали причудливые коралловые кусты, скалы, подводные леса водорослей. Множество рыб сновало в этом сказочном мире. Тут были уже знакомые мне существа; пестрые, яркие, они, словно модницы, хвастались своими обновами. При виде двух — трех рыб мне стало не по себе. Особенно одно губастое страшилище метров трех длиной плыло чуть ниже и почему-то пялило на меня круглые фиолетовые глаза. Если бы не мои спутники, то я мигом повернул бы к острову: соседство таких чудовищ было не очень-то приятным. Но ребята плыли как ни в чем не бывало, и мне было стыдно отстать от них. Внезапно Тави поднял руку и нырнул. До дна было метра два. Я видел, как он проплыл над трещиной, вынырнул, засмеялся, сказал что-то брату и опять нырнул. Ронго и я держались на месте, следя за Тави. На этот раз он опустился ниже и остановился над трещиной. Из темноты протянулись зеленоватые веревки и обвились вокруг груди мальчика. Я увидел большие выпуклые глаза осьминога и его отвратительный клюв. Осьминог оплел Тави щупальцами. Я чуть не глотнул воды от ужаса и, подняв голову, встретился со смеющимися глазами Ронго. Он набрал воздуха и нырнул к брату. Я тоже нырнул следом. Ронго сделал мне в воде знак не мешать ему. Все-таки я не послушался и чуть было не погубил все дело. Я схватил Тави за руку и рванул к себе, а, как я узнал после, человека-приманку следует очень осторожно тащить вверх, тогда осьминог отпускает и те щупальца, которыми он держится за скалу, стараясь не упустить добычу. При сильном рывке он может еще крепче уцепиться за камни, и тогда его никакой силой не оторвать от них. На этот раз все обошлось хорошо. Тави в объятиях осьминога всплыл на поверхность, и тут я увидел заключительную часть охоты. Ронго схватил клюв осьминога, оторвал его от груди брата, и… меня замутило от страха и отвращения: мальчишка впился зубами в хрящ между огромными глазами страшилища. Мгновенно щупальца осьминога отстали от тела Тави, и он поплыл к берегу, часто оглядываясь и разговаривая с братом, как будто ничего особенного не случилось. Эти ребята всегда вызывали во мне чувство завистливого восхищения. Они плавали, как рыбы, акулы были для них вроде злых собак, от которых не так уж трудно отбиться или перехитрить. Но победа над осьминогом неизмеримо подняла Тави и Ронго в моих глазах. Отдохнув на рифе, братья поплыли опять на розыски. На этот раз приманкой был Ронго. Так, чередуясь, они добыли еще двух небольших осьминогов. Когда мы вылезли на риф отдохнуть, Ронго ткнул меня пальцем в живот и, скаля белые зубы, показал глазами на воду. Брат его стал что-то быстро объяснять мне, наверное, уверяя, что ничего страшного и опасного нет в этой пустяковой охоте. Я кивнул, давая понять, что сам проделывал не такие штуки, и как можно беззаботней улыбнулся, хотя мне было, по правде сказать, не до улыбок. Живой осьминог, выглядывающий из своей засады, был так мало похож на те оранжево-серые существа, что безжизненными комочками лежали у наших ног. Тави и Ронго, издав радостные крики, попрыгали в воду и принялись за поиски. Они, как мне показалось, необыкновенно долго разыскивали подходящий экземпляр, совещаясь и отвергая мелочь. Им хотелось найти для меня достойного противника — ведь я был больше их ростом и казался сильнее. Эти подводные егеря выследили наконец нужную дичь и, одобрительно улыбаясь, кивали головами, сидя на рифе. Они уже разозлили осьминога, проплыв несколько раз над трещиной. Пришел мой черед. Все было необыкновенно просто, по их понятиям: каждый мальчишка на островах проделывал это несчетное количество раз просто так, для забавы. Я нырнул к расщелине, закрыв глаза и прикрыв их рукой, как делали Ронго и Тави. Возле самого дна что-то туго, как резиновым жгутом, перетянуло мне руку повыше локтя, затем сдавило шею, грудь. Я испугался до ужаса. Не прошло и нескольких секунд, а мне уже не хватало воздуха, я задыхался. Схватив щупальце спрута, я попытался его оторвать, а оно придавило мне пальцы к ребрам так, что что-то хрустнуло. Потеряв счет времени, закусив губы, я вырывался. Одну руку мне удалось немного освободить, я ухватился за что-то скользкое, плоское. Попав в объятия осьминога, я закрыл глаза, теперь же я открыл их и увидел отвратительную голову с огромным клювом и большими человечьими глазами. Чудовище смотрело на меня пристально и насмешливо. “Что, попался?” — говорил этот взгляд. Нащупав ногой скалу, я стал отталкиваться от нее, но осьминог так сдавил меня, что я едва не раскрыл рот, чтобы закричать в воде. А Тави и Ронго все не было. Я чувствовал, что теряю сознание, что сейчас мои легкие наполнятся водой. Осьминог беззвучно хохотал мне в лицо, нагибаясь все ниже, ниже… Больше я ничего не помню. Очнулся я на рифе. Как из непроглядного мрака возникли передо мною две коричневые фигурки. Они застыли, стоя надо мной. И вдруг запрыгали, захохотали, стали меня тискать, поднимая на ноги. Но я еще долго лежал и кашлял, выплевывая грязную воду, и жадно дышал, и не мог надышаться чудесным воздухом, насыщенным запахами моря, солнца, водорослей. Тави протянул мне осьминога. Страшное чудовище, чуть не убившее меня, казалось на суше таким жалким, маленьким, щупальца у него безжизненно повисли, только глаза были совсем живыми и смотрели зло, враждебно. Почему-то мертвый спрут напоминал мне капитана. У того также была страшная мертвая хватка, когда он был уверен в своей силе, и он оказался хилым и слабым, потерпев поражение. Ребята нанизали весь улов на острогу, взяли ее на плечи. Прыгая с камня на камень, мы отправились к острову. Возле хижины братья разыграли перед родителями целое представление, изображая охоту на осьминогов. По тому, как они часто выкрикивали мое имя и тыкали в меня пальцами, я понял, что они сверх меры превозносят меня как выдающегося охотника за осьминогами. Тави упал на песок и, весь извиваясь, стал изображать мою борьбу с осьминогом. Выходило, что я разделался с ним еще под водой. Родители ахали, качали головами и одобрительно улыбались. Мне кажется, все это делалось для того, чтобы сгладить мою неудачу. На ужин Хуареи подала щупальца осьминогов, сваренные в морской воде. Хозяева ели с аппетитом розовое мясо. Взял и я кусочек, стал вяло жевать, вспомнив клюв и огромные глаза, насмешливо глядящие на меня. Все-таки я съел кусок и потянулся за вторым: мясо осьминога напоминало ножки белых грибов.“ЛОЛИТА”
Необыкновенно быстро пролетели десять дней беззаботного житья на коралловом острове. Еще несколько раз мы отправлялись на риф охотиться за осьминогами. Я уже довольно смело бросался в объятия спрутов, но никогда это не доставляло мне особого удовольствия. Но мне не хотелось отставать от товарищей и тем более выказать трусость. Правда, в этой игре-охоте я всегда оставался “наживой” и не мог убить осьминога, перекусив его переносицу зубами. Ронго и Тави посмеивались над мое” непонятной брезгливостью и с видимым удовольствием приканчивали осьминогов. На восьмой день после возвращения на остров погода стала портиться. Небо подернулось оловянной дымкой, ветер стих, только прибой загрохотал сильней. Где-то недалеко бушевал ураган. Сахоно покачивал головой и подолгу стоял со своими соплеменниками, видимо обсуждая, будет или не будет буря. В конце концов они, наверное, решили: ураган пройдет стороной. Это было видно по их поведению: никто из них не убирал копру в мешки, не укреплял стены хижин, построенных из пальмовых листьев. Женщины весело болтали, собравшись вокруг костра. Я вместе с Ронго, Тави и другими ребятами охотился на морских черепах в лагуне. Нам удалось загнать в сеть черепаху килограммов на сорок. С криком и смехом мы выволокли добычу на песок и перевернули на спину. В это время кто-то из ребят громко крикнул и показал рукой в океан. К острову приближался большой трехмачтовый корабль с убранными парусами. Он шел очень быстро: видно, на нем стояли мощные двигатели и вел его между рифов опытный лоцман… Минут через двадцать корабль уже вошел в лагуну. Низко сидящий в воде, выкрашенный под цвет океана, он был очень красив со своими гордо откинутыми назад мачтами. Бушприт поддерживала статуя женщины. На носу была надпись золотыми буквами: “Лолита”. “Лолита” неслась прямо на нас. Внезапно мачты у нее задрожали, и она остановилась в двадцати метрах от берега, в клюзах загрохотали цепи, и в воду полетели сразу два якоря. Я рассматривал шхуну, стоя на коралловой глыбе… Так вот какая она, “Лолита”! Никогда бы не подумал, увидав в порту этот красивый корабль, что на нем плавают морские разбойники. Но никого похожего на пирата я пока не видел. По палубе пробегали матросы в серых робах, крепили снасти и выполняли еще какую-то будничную работу. Наконец палуба опустела, осталось только несколько матросов, да вахтенный штурман в белом костюме расхаживал по крылу низкого мостика. К штурману подошел матрос и тотчас же опрометью бросился к рынде — колоколу, висевшему сбоку рубки. Над островом разнесся тревожный звон, и на палубу высыпала команда, очень многочисленная даже для такого большого корабля. Над фальшбортом мелькали темные лица, бескозырки с белыми чехлами. Матросы строились на шканцах — посредине корабля. Засвистел боцман, и матросы замерли, повернув головы в сторону рубки. Оттуда шел низенький офицер, смуглый, во всем белом, с золотыми нашивками капитана на рукавах, похожий на японца, а рядом с ним вышагивал Ласковый Питер. На нем были белая рубаха и красные шорты. Он также увидел меня, наклонившись, что-то сказал капитану “Лолиты”, затем помахал мне рукой, провел пальцем по шее и, улыбаясь, показал на рею грот-мачты. За ним на некотором отдалении два матроса с автоматами, висевшими на шее, волокли по палубе полуголого узкоплечего, истерзанного человека со связанными впереди руками. Лицо его показалось мне знакомым. Он торопливо вертел головой, будто искал кого-то, чтобы позвать на помощь. “Да это же наш штурман с “Ориона”, У Син! — узнал я. — Бедняга, он тоже спасся, доплыл до одного из островов, или его спасли, чтобы казнить!” Мне припомнился весь разговор с капитаном, обвинявшим его в гибели “Ориона”. Наверное, штурман что-нибудь подстроил, чтобы корабль пошел на дно с грузом оружия? А может быть, его снесло на рифы ветром и течением? Нельзя же убивать человека, не разобравшись. И такого хорошего человека! “Правда и мужество победят!” — говорил он. Какая же это правда?! Все, что прежде было смутной догадкой, теперь становилось мне понятным. Передо мной стояло действительно пиратское судно, раз на нем убивают людей. У Сина подвели к грот-мачте и привязали к ней. Капитан остановился перед строем и стал выкрикивать что-то хриплым, отрывистым голосом, показывая на У Сина. Когда он замолчал, из строя вышел матрос, похожий на гориллу. У него были непомерно широкие плечи, маленькая голова и руки ниже колен. Эта горилла в матросской форме быстро, как заправская обезьяна, забралась на нижнюю рею грот-мачты и перекинула через нее линь с петлей на конце. У Сина отвязали от мачты и поволокли к петле. Он успел что-то крикнуть, собрав последние силы. В его голосе не было мольбы о пощаде, он, видно, бросал какие-то справедливые гневные слова в лицо капитану “Лолиты” и Ласковому Питеру, потому что оба они закричали в ответ, замахали руками. Матрос-горилла набросил приговоренному петлю на шею и вместе с автоматчиками потянул за другой конец веревки. Тави и Ронго стояли, полураскрыв рты. В их глазах застыл ужас. Сахоно дышал так, будто только что спасся от барракуды. Жена его сидела на корточках, закрыв лицо руками. Ветер раскачивал повешенного. По свистку боцмана матросы расходились по кубрикам. Ласковый Питер крикнул мне, остановившись у фальшборта: — Эй, мой мальчик! Видал, как пляшут на рее?.. Надо было бежать с этого острова куда угодно, как угодно. Я схватил Сахоно за руку и стал упрашивать его, умолять сделать это немедленно. Как ни странно, Сахоно понял мою смесь слов, скорее догадался, что мне тоже грозит смерть, и стал говорить что-то успокаивающее, похлопывая меня по ладони руки. Я подбежал к лодке, но Сахоно осторожно взял меня за плечи и показал глазами на небо и море. Я понял, что выйти из лагуны сейчас нельзя. Лодку разобьет в щепки в полосе прибоя или перевернет вдали от острова. Ветер налетал порывами и неистово трепал кроны пальм. Порыв ветра ураганной силы унес нашу хижину, построенную из пальмовых листьев. Над лагуной парила чья-то циновка. Сахоно бросился к лодке. Разговоры о погоде, приход “Лолиты”, а затем казнь У Сина отвлекли главу семейства от насущных дел. Теперь он наверстывал упущенное время. Напрягая все силы, мы до половины вытащили лодку на берег, привязали ее веревкой к ближайшей пальме. Ветер стих, и я, несмотря на протесты хозяина, стал перетаскивать его мешки с копрой под защиту коралловой глыбы. Мне помогали Тави и Ронго. Когда мы перетащили все мешки, Сахоно иронически улыбнулся. Нашу работу он считал попросту ненужной, видно рассуждая, что если мешки снесет в лагуну, то копра ведь не утонет и утром ее можно спокойно выловить, к тому же мешки с метками. Мы очень удобно устроились за глыбой. Я удивился беззаботности своих хозяев. Сахоно уже улыбался, рассказывая что-то смешное, а жена и сыновья покатывались от смеха. Затем все их внимание перешло ко мне. Я понял, что они успокаивают меня, говорят, что такого человека, как Ласковый Питер, мне бояться не следует, а наказан, наверное, очень плохой человек. В конце концов улыбнулся и я, чем вызвал общий взрыв восторга. Ветер с ревом и свистом кидался на наш крохотный островок. Орехи как пушечные ядра проносились над нами и падали в побелевшую от пены лагуну. “Лолита” приплясывала на мелкой волне, металась из стороны в сторону, сдерживаемая двумя якорями. Я смотрел на шхуну и желал ей всяческого зла. Как мне хотелось, чтобы не выдержали цепи и ее вынесло бы в океан, как мой плот! Словно в ответ на мои мысли, из выхлопной трубы на корме шхуны показался дымок; заработали дизели, помогая пиратскому кораблю увереннее держаться против ветра. Огибая глыбу, в лагуну полилась вода. Как же была велика волна, если она перекатилась через рифы и у нее еще хватило силы захлестнуть остров! Скоро полил тропический ливень такой силы, что водяные струи совершенно закрыли все вокруг, превратив день в кромешную ночь. Буря продолжалась часа четыре. Ветер стих так же внезапно, как и налетел. Улеглись волны в лагуне, на ее свинцово-серой поверхности плавали кокосовые орехи, немудреный скарб полинезийцев и множество белых кусочков копры: кто-то из земляков Сахоно понадеялся на авось и не спрятал урожай от ветра. Перед заходом низко над гребнями волн расходившегося океана показалось солнце, пообещав на завтра хорошую погоду. Неунывающий Сахоно послал своих сыновей на пальмы, и вниз полетели гигантские листья для постройки новой хижины. Мы соорудили ее быстро. В одном из мешков было кокосовое волокно, из него получилась хорошая сухая подстилка, и все улеглись на ней. Семья полинезийцев быстро уснула, только мне не спалось. Я смотрел на силуэт корабля и со страхом думал о завтрашнем дне. Все огни на “Лолите” были погашены, только светилось несколько иллюминаторов. Послышалась джазовая музыка, потом проигрыватель замолчал и кто-то хриплым голосом запел под аккомпанемент банджо. Жутко было слушать эту невеселую песню и видеть, как на рее чернеет мертвый штурман У Син.МАГНИТНАЯ МИНА
На следующее утро, так же как и после первого небольшого шторма, над островом сияло солнце, на небе не было ни облачка, и только прибой напоминал о пронесшемся урагане. На “Лолите” утром шла уборка, ее мыли и скребли, подтягивали тали, подкрашивали борта. Еще уборка не кончилась, как раздались частые, тревожные удары в рынду. Серые люди заметались по палубе, занимая места по боевой тревоге. Неизвестно откуда в руках у каждого появились автоматы, на баке, возле брашпиля, оказалась пушка, на крыше рубки — крупнокалиберный пулемет. Учения продолжались минут пятнадцать. Ласковый Питер стоял возле пушки и подавал команды. После отбоя боевой тревоги с “Лолиты” спустили баркас, затарахтела лебедка и в баркас стали грузить длинные ящики. Загруженный баркас с десятком пиратов направился к берегу. Затем было спущено на воду четыре шлюпки, их до отказа заполнили матросы и направились вслед за баркасом. Пристали все они недалеко от нашей хижины. Нечего и говорить, что все, кто был на берегу, махнув рукой на свои дела, смотрели, что делается на шхуне, а потом пошли смотреть на пиратский десант. На берегу матросами командовал маленький, подслеповатый с виду малаец с боцманской дудкой на груди. Говорил он вполголоса, прохаживаясь в разноязычной толпе, и каждое его слово мгновенно исполнялось. За ним, как собака, двигался человек, похожий на гориллу. Вот боцман сказал что-то вьетнамцу, пившему сок из кокосового ореха, вьетнамец кивнул и продолжал пить, тогда боцман мигнул “горилле”, и тот ударил вьетнамца своим пудовым кулаком. Вьетнамец полетел в лагуну. Этого, казалось, никто не заметил. Я подал ему руку. Он выбрался на берег, кивнул мне, улыбнулся и остановился, сплевывая кровь. Матросы разгрузили ящики и стали их открывать. В одном лежали немецкие автоматы. Видно, ящик побывал в воде, потому что вороненую поверхность автоматов покрывала рыжая ржавчина. В другом ящике оказались коробки с патронами, в третьем были пистолеты. Матросы подходили к бидону с оружейным маслом, наливали его в кокосовую скорлупу и уносили. Я заметил, что на меня стали поглядывать. Наверное, причиной этого были мои выгоревшие добела волосы. Ко мне обращались на разных языках, хлопали по плечу. “Хорошо бы стащить пистолет, — думал я, расхаживая среди пиратов, — или автомат и коробку патронов в придачу; я засяду среди коралловых глыб возле канала, пусть тогда подойдут ко мне…” — Ты что ходишь, как в оружейном магазине? — услышал я немецкую речь. На меня пристально смотрел сидящий на песке странный тип с облупившимся носом; на его красном потном лице клочками торчали сивые волосы, во рту поблескивали золотые зубы. — Садись, парень. Ты что, не узнаешь меня? Я покрутил головой. — Мы никогда не встречались с вами. Он подмигнул. — В Сингапуре я заходил на ваш злосчастный “Орион”, ты подавал еще мне кока-кола. Конечно, я тогда был одет несколько иначе. Мы оформляли вот этот груз. Он подбросил в руке какой-то металлический предмет, похожий на круглую буханку хлеба. Такие же “буханки” были в руках и у других матросов, они терли их масляными тряпками и с любопытством поглядывали на нас. Был среди этой группы матросов и маленький вьетнамец, которого ударил человек-горилла. Мне показалось, что он особенно внимательно слушает и приглядывается ко мне. Краснорожий сунул мне в руки “буханку”. — Бери клочок кокосового волокна и три маслом с песком, он здесь как наждак. Знаешь, что это за штука? — На железные булки похожи… Он захохотал, откинувшись на песок. — Пропади ты совсем со своими булками! — сказал он, вытирая на глазах слезы. — Я говорю, они только похожи на булки, — поправился я, — наверное, морские буйки. — Попал пальцем в небо. Это, брат, такие буйки и такие булки!.. Ну, ну, пошевели мозгами. С виду ты умнее. — Похожи еще на мину. — На какую мину? — оживился он. — Ну, ну! — На противотанковую. — Почти угадал. Это, молодой человек, морская магнитная мина. Не слыхал о таких? Да где тебе! — Слыхал. — Не может быть. Разве в России есть магнитные мины? — Есть и получше этих. Наши партизаны подбрасывают парочку к фашистскому поезду с танками или еще с чем, и все летит к дьяволу! — О-о! Да ты партизан! К дьяволу! Это верно! Все летит к дьяволу от этой булки. Надо только поставить детонатор вот сюда и сунуть в трюм к борту: застучали часики, и через определенный срок — взрыв в океане. Ха-ха-ха! Словом, несчастный случай. Никаких хлопот. А то надо команду высаживать на шлюпки или топить вместе с коробкой. Не совсем приятное занятие, а главное — о нас начинает идти дурная слава, в то же время мы совсем неплохие ребята. Мы тоже партизаны. Ха-ха-ха! Я стал тереть корпус мины масляной тряпкой и слушать болтовню краснорожего пирата. — Как вы допустили, что У Син потопил такую бригантину? — Больше всех виноват, конечно, ваш капитан, как это вы его зовете? Ах да! Ласковый Питер! Здорово придумали! Если бы он меньше доверял черномазым, то мне не пришлось бы отскребать ржавчину в воскресенье. Все добрые католики сегодня молятся богу, прощают грехи ближним своим. — Он опять засмеялся. — А мы вместо молитвы должны готовить для ближних вот эти подарочки. Ха-ха-ха! Задал же нам работы ваш проклятый У Син. Пришлось сгонять целую флотилию ловцов жемчуга и вытаскивать эти игрушки. Хорошо, хоть на мелком месте затонула шхуна. Выловим почти все. “Орион” был хорошим транспортным судном. Команда же доброго слова не стоила. Не то что наши молодцы! Ха-ха-ха! Ты не особенно ее три да не вздумай крутить там, сбоку, — предупредил краснорожий. — Погладь немного, смажь, и все. Им ржавчина нипочем, да наш боцман любит порядок. Смазывай погуще и опять заворачивай в бумагу. Я вытер и смазал несколько мин, слушая болтовню краснорожего, хотя мне поскорее хотелось подсесть ко второй кучке пиратов; там сидели на корточках все перемазанные в масле Тави и Ронго и усердно оттирали ржавчину с пистолетов. С помощью ребят не так уж трудно было стянуть пару пистолетов. Но разговорчивый пират толкнул меня в бок: — Ты что, хочешь от меня улизнуть? Не получится. Сиди. Я месяца три не говорил на человеческом языке; у нас, сам знаешь, объясняются на каком-то винегрете из английского, французскою, китайского, японского и еще черт его знает какой-то тарабарщины, настоящий обезьяний язык. Правда, что ты русский? Питер говорил, да я не особенно этому верил. Думал, норвежец. Но теперь, когда ты рассказал о партизанах, приходится согласиться, что ты русский. У нас еще не было ни одного русского. Есть француз-артиллерист, он сейчас на вахте, вон та горилла, кажется, голландец или швед, а русского нет ни одного; остальные, сам видишь, черные и шоколадные ребята, но дерутся, как дьяволы. Ты зачем поссорился с Питером? Зря, парень, ты это сделал. Он здесь имеет вес. Если ты ему нужен, он станет за тебя горой. Извинись. Я тебе советую это сделать. Ну, даст пару раз по роже, на этом и дело кончится. В противном случае я за твою голову не поставлю даже оккупационную марку. На “Лолите” поговаривают, что ты был связан с У Сином. Я не совсем верю, да у нас, сам знаешь, только пусти слух — и от парня останется одно воспоминание. Так что ты подумай. Советую. Мы ведь с этим Ласковым Питером пришли сюда на одной подводной лодке. Я доволен, что вылез из этого железного гроба. Работа здесь получше, больше шансов уцелеть. Вот только плохо, что потею я здорово в этих тропиках. — Он вытер лицо грязным серым платком. — Зато скоро придет время, буду весь день пить пиво со льдом, и вон тот черномазый будет меня, — он пошевелил пальцами руки, — обмахивать веером. Эй, ты! Он спросил что-то у вьетнамца, тот закивал и улыбнулся распухшими губами. — Соглашается, мерзавец, но я вот на столько ему не верю. И ты не верь. У них у всех что-то на уме против нас, поэтому всем нам, белым, надо держаться вместе. Вот улыбается, подлец, а сам, наверное, красный или какой-нибудь голубой или синий, только и думает, как бы нам перерезать горло. Но не на тех напали. Мы наведем здесь наш, новый порядок. Не так давно все эти острова были наши, да в четырнадцатом году их захватили англичане и австралийцы. Вот тоже страна, Австралия, вроде Америки. Доберемся мы и до нее. Как видишь, здесь настоящему парню есть где применить свои руки и голову. Мы тебе подыщем подходящую работу, если, конечно, Питер не спишет тебя за борт. Все равно носа не вешай. Если придется отправляться туда, — он поднял палец, — то покажи, как отдают концы настоящие белые парни. Не люблю, когда пускают слезу или начинают клянчить. Портится все впечатление… Боцман и его телохранитель куда-то ушли, и сразу почти все матросы перестали чистить оружие. Из ящиков они устроили столы, по доскам застучали костяшки домино, зашлепали карты. Китайцы собрались в кружок и стали выдергивать из бамбукового пенала тонкие палочки — это была тоже какая-то азартная игра. Несколько человек стали купаться. Здоровенный негр, сидевший рядом со мной, положил мину под голову и тотчас же захрапел. Разговорчивый немец всхрапнул, прислонясь спиной к ящику. Я задумался над своей судьбой, безучастно наблюдая эту красочную картину. Ко мне подскочил Тави с пистолетом в руке. Я взял у него “вальтер” и стал вертеть в руках, думая, как бы оставить его себе. Тави понял мои мысли и, подмигнув, повернулся спиной, а я сунул пистолет сначала за пазуху, а потом в карман. Этого никто не заметил, только вьетнамец понимающе улыбнулся и опустил глаза, продолжая медленно тереть глянцевитую поверхность мины. Внезапно у меня мелькнула мысль: “Вот бы знать, как устроена эта штука, как она взрывается”. Краснорожий внезапно проснулся, зевнул. Осмотревшись по сторонам, сказал: — А я заснул и даже видел сон: трех белых пуделей. Хороший сон. Когда мне снятся собаки, то обязательно будет удача. Ну, а ты что нос повесил? Хочешь, возьму тебя в свою десятку? У нас самая приятная работа! Мы во время “операции” берем у пассажиров ценности на хранение. Ха-ха-ха! Ты думаешь, что мы обыкновенные пираты? Нет, парень, и здесь мы сражаемся за фюрера, за новый порядок. Ты знаешь, сколько мы пустили на дно английских и американских коробок? Ни один линейный корабль не сделал того, что сделали мы! — Он полез в карман. — Давай хоть закурим, раз выпить нечего. Голова трещит со вчерашнего. Справляли поминки по штурману, а сегодня утром, вместо того чтобы опохмелиться, капитан устроил генеральную уборку и чуть не морское сражение. Хоть и не ариец наш капитан, а молодец, не уступит и немецкому офицеру. Он протянул мне. пачку английских сигарет: — Закуривай! На той неделе прислали дальние родственники, прямо из Лондона. Ха-ха-ха! Я сказал, что не курю. — Зря, а я вот курю и пью. В меру, конечно, и особенно если и то и другое чужое. Ха-ха-ха! Прикурив от зажигалки, он опять хлопнул меня по спине. — Чем-то ты нравишься мне, парень, а вот как тебя звать, до сих пор не знаю. Ха-ха-ха! — Фома. — Что? Я повторил. Он поморщился. — Никуда не годится. У нас не любят такие тусклые имена. Фома! Что за имя для флибустьера! Так, кажется, называли нашего брата прежде. Помню, читал в книжках. Здесь, как в монастыре: там монаху дают другое имя, и у нас тоже. Видишь вон того красавца с автоматом? — Он показал пальцем на тощего высокого негра. — Так этого крошку зовут Дохлым Кашалотом, а того толстомордого молодца, что стоит под пальмой и что-то жрет, — Сопливой Медузой. Есть имена и поприличней, например, молодец, что играет в кости, ну с физиономией дохлой рыбы, так его зовут Веселым Принцем. Совсем неплохо для такой образины. У каждого свой псевдоним, как у артистов оперы и балета или у писателей. Вот меня, — он шлепнул по своей мокрой, волосатой груди, — меня все зовут Розовым Гансом. Красочное имя! А! Ха-ха-ха… Не беспокойся и ты. Здесь мастера на прозвища. Кстати, кое-что уже сделано. Знаешь, как тебя назвал Ласковый Питер? Он говорит: захвати, Ганс, с берега этого маленького Белоголового Дикобраза. Неплохо! Только длинновато. Я думаю, за тобой останется один Дикобраз. Ха-ха-ха! Мне порядком надоела болтовня Розового Ганса. Слушая его, я краем глаза следил за вьетнамцем с разбитыми губами. Что-то в нем привлекало и в то же время настораживало меня. Вдруг он скажет, чго я взял пистолет? Но он и виду не подавал, сверх меры увлеченный чисткой мины. Только еще раз он бросил на меня короткий взгляд — в нем было предостережение и сочувствие. “Смотри будь осторожен, а я не выдам тебя”, — говорили его черные как тушь глаза. Внезапно на берегу поднялась суматоха, игроки спрятали карты, задремавшие садились и с показным старанием брались за работу. Появился боцман. Все взгляды обратились на него. Я почему-то посмотрел на вьетнамца и заметил, как он быстрым движением руки сровнял песок между колен. Мина, которую он так тщательно чистил, исчезла. Я хорошо видел, что он не передавал ее Розовому Гансу и не клал в ящик. Боцман исподлобья, ничего хорошего не обещающим взглядом посматривал на своих работничков, его телохранитель шел ссутулясь, скаля желтые собачьи клыки, руки его, как две дубины, висели без движения, только волосатые пальцы судорожно сжимались и разжимались. Боцман подходил к нам. Розовый Ганс окинул начальственным взглядом чистильщиков мин — все были на местах: два китайца, тощий бородатый индиец, японец и еще пятеро, национальности которых я не знал, терли или заворачивали в бумагу вычищенные мины. Вьетнамец взял ржавую мину и стал сосредоточенно счищать с ее корпуса пятна ржавчины. Только негр храпел, растянувшись на песке. Боцман сказал что-то Розовому Гансу, тот подошел и несколько раз пнул спящего ногой. Негр открыл глаза, сел и так ловко дал подножку Розовому Гансу, что тот растянулся на песке. Все побросали работу, лица пиратов оживились. Боцман остановился, подбоченясь, его гориллоподобный телохранитель беззвучно смеялся, раскрыв рот до ушей и подергивая плечами. Чувствовалось по всему, что назревает драка. Розовый Ганс и негр стали друг против друга в позе боксеров, пританцовывая на песке. Боцман свистнул, подавая сигнал для начала боя. Противники пошли по кругу, прощупывая друг друга короткими ударами. Зрители покрикивали, подзадоривая бойцов. Негр был опытнее, он провел серию быстрых резких ударов, и физиономия Розового Ганса стала пунцовой, со скулы сочилась кровь. Матросы взревели, приветствуя успех негра. Розовый Ганс тоже успешно треснул противника в подбородок, и тот пошел вкось по кругу на голых пятках. И одобрительный вой снова разнесся над островом. Тави и Ронго подпрыгивали на месте и орали пронзительными голосами вместе со всеми. Все жадно наблюдали за бойцами. Воспользовавшись этим, я запустил руку в коробку с патронами, взял пригоршню, высыпал в карман. Ощущая в кармане тяжесть оружия, я почувствовал себя уверенней. Теперь, по крайней мере, я мог постоять за себя. Так мне казалось. Медленно, чтобы не вызвать подозрений, я пошел прочь, хотя мне было интересно досмотреть, кто кого отлупит; хотелось, чтобы это был негр, как человек оскорбленный. Но я боялся, что, как только окончится драка, у меня отнимут пистолет. Стоя у хижины Сахоно и глядя на беснующуюся толпу, я увидел маленького вьетнамца; он стоял на том же месте, где закопал магнитную мину, и тоже кричал и размахивал руками, хотя ничего не видел в кругу, так как стоял позади и был ниже всех. Мне показалось, что я разгадал его замысел. Сейчас должна взорваться мина, и все эти орущие люди взлетят на воздух, будут убиты. У этого загадочного человека какие-то счеты не. только с боцманом и его адъютантом-гориллой, но и со всей командой. Странным было только одно: почему он сам решил погибнуть вместе с ними? На всякий случай я крикнул Тави и Ронго, они прибежали ко мне. Я пытался растолковать им, главным образом с помощью мимики и восклицаний, что нечего смотреть на это противное зрелище. Ребята насупились, но отец прикрикнул на них, и они полезли на пальмы возле нашей хижины, чтобы оттуда досмотреть поединок. Матросы под командой боцмана нагружали баркас ящиками с вычищенным оружием. Драка давно закончилась полной победой негра. Розового Ганса положили в шлюпку и увезли на шхуну. За это время я еще раз попробовал уговорить Сахоно уехать с острова. Сахоно вздыхал, показывал на океан, ровный и спокойный, разводил руками — словом, отнекивался, не имея на то никаких причин. Наконец, смущенно улыбнувшись, он пошел к соседней хижине. Баркас отошел вместе с боцманом и большей частью команды. У берега осталась шлюпка, а на берегу человек десять. Несколько из них взобрались на пальмы, и вниз полетели орехи. Видно было, что им не в диковинку это занятие. Поглядывая на них, я раздумывал, где лучше всего мне спрятаться, пока “Лолита” не снимется с якоря. Незаметно подошел маленький вьетнамец, неожиданно заговорил по-немецки. Немецкий он знал хуже меня и часто останавливался, подыскивая нужное слово, не найдя, заменял его французским. Все же я понял его. Он говорил: — Не должен никто знать, что я говорю по-немецки. Мне известно, что вы видели, что я закопал в песке. Я тоже видел. — Он кивнул на мой карман. — Наша жизнь в большой опасности. У нас с вами одни враги. Надо с ними бороться, уничтожить их или стать таким же, как они все! Этот человек звал меня к борьбе, о которой я все время думал, но не в силах был ничего сделать один против доброй сотни вооруженных людей. И я поверил ему сразу, не задумываясь, может быть потому, что во всем его облике было что-то располагающее. На моих глазах его чуть не убил человек-горилла. Я видел, как он спрятал мину. Все это подготовило меня к его признанию. Я задал ему целую кучу вопросов: — Вы хотели их взорвать? Мина не сработала? Почему вы стояли на мине? Решили тоже погибнуть? Почему? Он покачал головой: — Совсем нет. Этого я не хотел. Стоял так, потому что ее могли разрыть, песок рыхлый. Не будем сейчас об этом говорить. Скоро вы все узнаете. — Он, посмотрев по сторонам, зашептал: — Я надеюсь на вашу помощь. Мы должны поговорить. Только не здесь. Можете вы взять лодку? Я сказал, что можно хоть сейчас отправиться на рыбную ловлю. — Нет, нет! Несколько позже, надо, чтобы ушла шлюпка с орехами. — Он все время улыбался, но глаза его были необыкновенно строги, губы дрожали. — Я останусь. Не знаю, как я все скажу тебе, я так плохо знаю немецкий, лучше французский. Я приду, когда они уедут. Зови меня Жак. — И он поспешно ушел. Я разыскал Тави и Ронго и знаками показал, что неплохо бы поработать. Ребята охотно согласились. Шлюпка, нагруженная орехами, отошла от берега, и в скором времени пришел Жак. Он был в трусиках и держал свернутую одежду. Когда он клал ее в лодку, то послышался глухой удар о днище. Затем он бросил в лодку несколько коралловых глыб килограммов по восемь — десять. Когда мы отошли от берега, Жак сказал: — Мы вместе с У Сином учились в Шанхае. Он в морской школе, я в школе права. Он окончил, я — нет… — Он пристально посмотрел на меня. — У Син сказал, что я могу положиться на вас. — Что я должен сделать? — Помочь мне взорвать это пиратское судно. Отомстить за У Сина. Правда и мужество победят! — Так говорил и У Син! — Да, это наш девиз! Я понял сразу, что не ошибусь в вас. Лодку все ближе подносило к “Лолите”. Тави и Ронго метко попадали в серебристых рыб с продольной коричневой полосой. — Хватит рыбы, — сказал Жак. — Теперь надо доставать жемчужные раковины. Может, нас ждет удача. Видно, то же самое он сказал и братьям на их языке. Они охотно положили гарпуны и, взяв по камню, прыгнули с лодки. Ныряльщики, покрытые серебристыми пузырьками воздуха, стремительно опустились на дно. Оторвав от скал по паре жемчужных раковин, они всплыли и, бросив раковины в лодку, остались в воде, держась за борт. Жак тоже нырнул и до, стал три раковины. — Теперь ты, — сказал он. Я нырнул. До дна было метров двенадцать. Мне и прежде приходилось опускаться на такую глубину. Тави и Ронго были хорошими учителями плавания. Я не достал ни одной раковины, но зато отломил веточку коралла необыкновенной красоты. Братья схватили ее, стали рассматривать, причмокивая языками. Видно, и для этих мест, где щедрый океан не скупится на свои дары, такие кораллы были редкостью. Веточка, казалось, была пропитана густым алым светом, и этот свет сочился из нее, окрашивая руки. Жак сказал, взяв веточку: — Пусть она напоминает кровь наших друзей. Я спросил, почему мы ныряем попусту и что он хочет делать с миной. — Мы должны поставить ее на корпус “Лолиты”, но на нем много раковин, надо выбрать место, где их нет. Мы подошли совсем близко к “Лолите”. Тави и Ронго принялись бить гарпунами макрель — стая этих рыб окружила лодку. Жак поднял со дна плоский камень — под ним была мина — и с этим грузом прыгнул за борт, я нырнул следом, но не мог поспеть за ним, так как с грузом он быстрее опускался. Вся подводная часть шхуны действительно густо заросла раковинами, но в одном месте раковин почти не было, виднелась краска и заклепки. Я остановился. Ко мне подплыл Жак с миной в руках. Я почти задыхался, мне еще ни разу так долго не приходилось находиться под водой. Наконец Жак оттолкнул меня плечом, и я, отчаянно работая руками и ногами, стал выкарабкиваться из-под днища. Прежде чем забраться в лодку, я долго держался за противовес катамарана и жадно глотал воздух. Показалась черная голова Жака. Он улыбнулся и тоже схватился за противовес. Отдышавшись, он сказал: — Как будто хорошо, но следует проверить. Мы еще раз нырнули под шхуну; мина была почти незаметна, она прилипла к стальному корпусу как раз под машинным отделением. Жак задержался подле мины, ощупал ее и даже приложился ухом к ее корпусу, не на шутку испугав меня, так как мне показалось, что мина должна от этих прикосновений неминуемо взорваться. В лодке я спросил его: — Когда? — Я поставил взрыватель на предельный срок. Может, через несколько часов, может, через день. Точно я не могу сказать. Мне не удалось достать инструкцию. Это новинка. Будет очень плохо, если она сработает в лагуне. Надо, чтобы это случилось вдали от суши. — Веточка коралла алела среди рыбьих спин. Жак поднял ее, с трудом отломил один отросток и сказал: — Если мы останемся живы, то это будет память. Возьми и ты. Это очень редкий коралл… Вечером Сахоно стал внезапно собираться….. На “Лолите” из иллюминаторов капитанской каюты звучала музыка. Недалеко от нашей хижины горел костер, оттуда доносились пьяные возгласы. Когда мы уже хотели отчаливать, появился Жак и прошептал: — Очень хорошо, что ты уходишь. Там, на “Лолите”, банкет. Завтра ты будешь далеко. Я предложил ему уехать с нами. — Нельзя. Мое бегство может вызвать подозрение. Начнется обыск. Узнают, что пропала мина. У нас есть ныряльщики… — Но ты погибнешь вместе с ними. — Постараюсь избежать этого. “Лолита” утонет не сразу. Будет время для спасения. Пускай вода и небо помогут вам. Правда и мужество победят! Я пожал его маленькую сильную руку.КОГДА?
Никем не замеченные, мы вышли из лагуны. Пассат, этот вечный ветер, надул наш парус, и катамараны легко побежали к югу. Сахоно вел свое суденышко по звездам, время от времени покрикивая в темноту; ему тотчас же отвечали голоса рулевых с других катамаранов. У ног Сахоно сидела его жена и без умолку что-то рассказывала. Тави и Ронго похрапывали среди мешков с копрой. Я тоже уснул было сладким сном человека, избежавшего смертельной опасности, да около полуночи меня разбудили громкие голоса. Светила луна. Недалеко от нас покачивалась лодка. Сахоно и Хуареи вели с ее хозяевами оживленный разговор. Я разглядывал в неясном лунном свете еще несколько катамаранов, похожих на рыб, поднявшихся из глубины вод. Ночь в океане так же тиха, как в пустыне. Там зашуршит песок, обваливаясь с крутого склона бархана, зазвенит под ветром сухая былинка, и снова тишина, а здесь в безветренную ночь тишина еще полнее, еще торжественнее. Пассат в эту ночь еле дышал. Тихий разговор на незнакомом певучем языке, легкое поскрипывание противовесов только сильнее подчеркивали тишину и покой, царящие под этими звездами. Вслушиваясь в эту тишину, я ловил каждый звук и, глядя на север, ждал, что там сверкнет вспышка и потом докатится гулкий взрыв. “Взрыв под водой можно и не услышать, — думал я, — и пожара могло не возникнуть. Просто трахнула мина, и “Лолита” тихо пошла на дно. Спасся ли Жак?..” До утра мы простояли на якоре среди целой флотилии катамаранов. Сюда для чего-то собрались ловцы жемчуга. В соседней лодке я заметил свинцовые грузила на длинных веревках, сетки и корзины для раковин. Меня удивило, почему они собрались в открытом океане. Дядюшка Ван Дейк рассказывал мне, что жемчужные раковины добывают в лагунах, где нет особенно сильных течений. Все объяснил Сахоно. Ткнув пальцем за борт, он сказал: — “Орионо”! Я понял, что под водой лежит наша шхуна. Мы находились на банке. Иногда в ложбинах между пологих волн просвечивали скалы, поросшие косматыми водорослями. На западе виднелся остров. Часам к девяти утра к нашей флотилии со стороны острова подошел паровой катер, и ныряльщики принялись за работу. “Орион” лежал боком, сильно прогнувшись посредине, на глубине восьми метров. Мачты у него были снесены. Наверное, его несколько раз перевернуло, пока он навечно улегся среди скал. Пробоины в корпусе темнели рваными ранами. Больно было смотреть на корабль, который был все-таки моим домом и где, несмотря на тяжелую службу, я пережил и много хороших, светлых минут. Я несколько раз проплыл под водой от кормы до носа “Ориона”. В воде шныряло множество ловцов жемчуга. Они со всех сторон осматривали корпус погибшего корабля и даже проникали в жилые помещения. Когда я подплыл к разбитому иллюминатору матросского кубрика и хотел заглянуть в него, то меня страшно напугал один из таких смельчаков. Он появился в иллюминаторе, держа в рукерезиновый сапог. Сахоно остался на отмели. Вся его семья ныряла в поисках вещей, которые могли пригодиться в хозяйстве. Отличной ныряльщицей оказалась Хуареи. Каким-то непостижимым образом она проникла на камбуз и достала много металлической посуды, ножей, вилок и десять банок мясных консервов. Совершив этот подвиг, Хуареи надела свое яркое платье и стала кормить нас и всех, кто подплывал к лодке, трофейными консервами. Мы ели и смотрели, как из-под воды лебедка поднимает длинный ящик. Это был второй ящик за все утро. Работа была трудной и опасной. Ныряльщикам приходилось в темноте, на ощупь просовывать канаты под ящики. При подъеме они задевали за борта, срывались. Сыновьям Сахоно да и мне надоело нырять, и мы поплыли на катер. К тому же мне хотелось разузнать, нельзя ли добраться на нем до большого населенного острова. Вся команда на катере состояла из японцев. Я пробовал заговорить с ними по-русски и немецки; они улыбались, что-то вежливо отвечали, занятые своим делом. Самым приветливым человеком на катере оказался машинист. Мы спустились к его пышущей жаром шипящей машине, смотрели, как он подбрасывает уголь: машинист совмещал и должность кочегара, подламывая длинным ломом шлак. С каким удовольствием я выпил, обливаясь потом, несколько чашечек крепкого чая и съел рисовую лепешку! Когда я вышел на палубу из машинного отделения, то нос к носу столкнулся с Розовым Гансом. В то время как мы пили чай, он и еще десятка полтора пиратов подошли на баркасе. Невредимая “Лолита” виднелась в десяти кабельтовых. Розовый Ганс осклабился и тут же болезненно поморщился. Улыбка давалась ему с трудом, так как вся его багровая физиономия была разукрашена полосками клейкого пластыря. Фиолетовый “фонарь” совсем закрывал правый глаз. Глядя на него, я невольно улыбнулся, хотя на сердце у меня скребли кошки. Розовый Ганс заметил мою улыбку. — Победа далась мне нелегко. Хотя мне этот бой был так же нужен, как тебе наша красавица “Лолита”! Ха-ха… Проклятье, не могу смеяться. Как я рад, что встретил тебя, неуловимого Дикобраза. Питер уже объявил премию за твою поимку. Пятьдесят английских фунтов. Здесь еще ходят эти бумажки. Так что мы с тобой заработали немного. Я не жаден. Пять фунтов можешь считать своими. Ха-ха… Эй! — Он подозвал низкорослого малайца и негра, сказал им что-то, и те не отходили от меня ни на шаг, пока на баркас перегружали ящики. Тави и Ронго поняли, что я попал в беду и не вернусь на их катамаран. Они поплыли туда и возвратились с моей одеждой. Я не стал ее надевать, нащупав в кармане штанов пистолет. Опытный глаз матроса с “Лолиты” сразу бы отгадал, что у меня там находится. Сверток с одеждой я держал в руках. Мне хотелось что-нибудь оставить на память моим товарищам Тави и Ронго. Я решил подарить свое увеличительное стекло. Тем более, что они приходили в восторг от его чудесного свойства. Получив выпуклое донышко бутылки, они тут же прожгли шляпу, оставленную на палубе кем-то из команды. Матросы смотрели на это чудо, вытаращив глаза и раскрыв рты. Малаец протянул руку Тави, и, когда тот прижег ему ладонь так, что задымилась кожа, малаец замотал рукой, лизнул обожженное место языком, но остался очень доволен. Негру тоже захотелось испытать силу волшебного стекла. Тави и ему с удовольствием прижег руку и изрешетил шейный платок. Негр захохотал от восторга и хотел завладеть стеклом, да Тави ловка передал его Ронго, и тот прыгнул с ним за борт. Последний раз я видел ребят, их отца и мать, когда баркас направился к “Лолите”. Все семейство посылало мне приветствия, стоя в своем катамаране. Между тем Розовый Ганс говорил: — Зря ты задумал бежать от нас. У нас здесь везде свои люди. Твоя голова дикобраза очень приметна. Самое большее через неделю тебя бы схватили и держали до нашего возвращения из рейса. Радист говорил, что недалеко появился жирный английский гусь. Ха-ха… У тебя есть возможность отличиться. Хотя нежелание работать с нами может отразиться на твоей карьере… Под его болтовню и скрип уключин баркас быстро приближался к борту корабля. Глядя на “Лолиту”, я повторял про себя в такт гребкам: “Сегодня или завтра, сегодня или завтра…” А может быть, сейчас, как только подойдем к борту. Шлюпбалки баркаса как раз над машинным отделением…МЕНЯ ПРОИГРЫВАЮТ В КАРТЫ
— Видишь, как тебя встречают, — сказал Розовый Ганс. — Не каждый удостаивается такой чести. Даже капитан на шканцах и Питер с ним! Он так страдал, бедняга, этот сердобольный Питер, когда узнал о твоем бегстве. Ты становишься знаменитостью. Ха-ха! Проклятые пластыри стянули весь циферблат. — Он, кряхтя и ругаясь, стал ощупывать свое изуродованное лицо. На палубе Ласковый Питер сказал что-то капитану, показывая на меня глазами. Капитан ничего не ответил, но с любопытством стал меня рассматривать. — Иди за мной! — приказал мне Ласковый Питер. Капитан отрицательно покачал головой и, буркнув что-то, ушел. Ласковый Питер проводил его взглядом и, пожав плечами, сказал: — Хорошо, иди в матросский кубрик, оденься, потом я позову тебя. Но не думай, что ты попал в плавучий санаторий. Ко мне подошел Жак и повел меня. По дороге он успел шепнуть: — Старайтесь меньше быть на корме. Когда это произойдет, надо быть вместе. — У меня нож и пистолет, — сказал я, — вот здесь, — и передал ему штаны и рубашку. — Спрячьте. Он взял одежду. Улыбнулся. — Все это может пригодиться. Мы спустились по трапу в большой кубрик. За длинным столом пираты резались в карты и кости. На столе кучками лежали деньги, кольца, часы. Негр с рассеченной бровью — тот, что вчера дрался с Розовым Гансом, — играл на банджо, второй негр подпевал басом, притопывая по палубе голой пяткой. Никто, казалось, не обратил внимания на мое появление. Жак провел меня между двухэтажными койками в самый конец кубрика, быстро и ловко вытащил из карманов оружие и, как фокусник, куда-то быстро и незаметно его спрятал. — Твое место. — Он хлопнул по матрацу крайней койки. — Но спать здесь не следует, надо быть всегда на палубе. Он ждал взрыва с минуты на минуту и не хотел, чтобы я в это время находился в помещении с узкими дверями. Надев свой несложный костюм, я выбежал из кубрика и стал ходить по кораблю. Вахтенные матросы коротали время по своим местам. Палуба была выскоблена добела, швы между досками недавно залиты варом, несколько матросов красили стенку рубки. Попав на этот корабль случайно, никто бы и не подумал, что очутился среди настоящих пиратов. Мы шли полным ходом на юго-запад, делая не меньше двенадцати узлов. “Вот сейчас трахнет взрыв, полетит в воздух рубка, баркас, повалятся мачты и от этой красоты ничего не останется. Опустится “Лолита” на дно, как “Орион”, и станет жилищем рыб и осьминогов”. В голову мне лезли эти невеселые мысли, но я не думал отправляться вместе с “Лолитой” на дно и на всякий случай присмотрел рундук, где лежали спасательные пояса. У меня уже был опыт кораблекрушений, и не в такую хорошую погоду, а в шторм и ночью. И я тогда не знал, что случится несчастье, а теперь у меня было время подготовиться. Как только взорвется мина, можно будет, не теряя времени, надеть пробковый пояс. Если не удастся сесть в шлюпку, то надо облюбовать подходящий обломок, а их после взрыва будет достаточно… Занятый своими мыслями, я чуть не столкнулся с боцманом. Он обходил палубы в сопровождении “гориллы”. Боцман поманил меня к себе и стал что-то внушать на пиратском жаргоне. Сообразив, что я не понимаю его, он что-то крикнул; этот возглас подхватили матросы, и он разнесся по всему кораблю. Скоро к нам подбежал Розовый Ганс. Выслушав боцмана, он перевел мне: — Не смей ходить без дела по палубе. Здесь военные порядки. Живо загремишь в канатный ящик, или эта обезьяна проучит тебя так, что никогда не забудешь. Твое место на камбузе. Идем, я тебе покажу, где у нас камбуз, и познакомлю с коком. Ха-ха… Не так давно этот кастрюльник одного парня отправил в лазарет. Взял да и плеснул ему в рожу кипятком. Другого бы посадили в канатный ящик или отдали на расправу этому симпатичному парню, — он кивнул на “гориллу”, — кстати, его зовут Тони. Запомни на всякий случай. Тони стоял потупясь и с любопытством следил за огромным тропическим тараканом, бежавшим по черному шву, как по пешеходной дорожке. Услышав свое имя. Тони поднял голову, оскалился и, с видимым удовольствием раздавив таракана ногой, поплелся к баку вслед за боцманом. Розовый Ганс повел меня к корме, продолжая рассказывать: — Твоему коку все это сошло с рук. Капитан запретил его трогать. И знаешь почему? Я признался, что не знаю. — Да потому, что такого кока выпустили в одном экземпляре. Этот китаец, занятный тип, попал к нам как трофей после одной операции. Ну и мастер своего дела, я тебе скажу! Как он, подлец, готовит свинину с капустой и еще с какой-то ерундой! Можно собственную голову проглотить с таким гарниром. Вот и его нора. Ты учти, что я люблю пожрать. Тут одно удовольствие — это набить брюхо да отложить деньги на будущие времена. Ха-ха… — Розовый Ганс пнул двери ногой. Через порог перескочил большой сиамский кот, сел на палубе, почесал за ухом, презрительно глядя на нас голубыми глазами, издав неприятный гортанный крик, важно пошел к грот-мачте. — Этого кота мы захватили вместе с коком. Матросы из черных считают его чем-то вроде кошачьего бога, а мне так и хочется взять его за хвост и списать за борт. Не люблю я кошек… Я заглянул в дверь. Половину камбуза занимала плита, заставленная шипящими сковородами и булькающими кастрюлями. По стенам сверкала медью и никелем кухонная утварь. Да, здесь, пожалуй, сверкало все, начиная от стен и кончая коком. Очень толстый, в белых трусах, он стоял к нам спиной и вертел над головой пучок тонких белых веревок. Раскрутив его, кок неожиданно хлестнул им себя по спине с оттяжкой. Раз, другой. Встряхнул пучок, повертел его перед собой так быстро, что веревки образовали японский фонарь. Потом принялся раскатывать этот пучок на столе, посыпанном мукой, и снова крутить и хлестать по спине. Розовый Ганс сказал с оттенком уважения: — Как лапшу раскатывает, собака! Я нигде не ел такой лапши. Метров по двадцать длиной. Нашел конец в чашке и глотай, как змею! К лапше он подает какой-то дьявольский соус. Проглотишь — и пожар в брюхе. Неплохо будет, если принесешь мне две порции. — Он скорчил гримасу, заменяющую ему теперь улыбку, и ушел. Кок будто не замечал меня. Покончив с лапшой, он раскрыл одну из кипящих кастрюль, быстро обмакнул в кипяток палец, сунул его в рот, задумчиво почмокал губами, снял с полки банку и бросил в суп пригоршню соли. Открыл крышку у другой кастрюли, понюхал ароматный нар и закрыл. Он открывал и закрывал еще несколько кастрюль, заглядывал в духовку. Я взял веник с длинной бамбуковой ручкой и стал подметать палубу. Только тогда кок улыбнулся. У него было добродушное, очень усталое лицо. Неожиданно кок сказал по-русски: — Тебе молодеца! Я тебя давно посмотри. Когда ты была на берегу, капитан сказал, что ты русская человека. Я думал, тебе ушла. — Он говорил с видимым удовольствием, нещадно коверкая слова, но я чуть не разревелся, услышав родную речь. Он потряс над головой поварешкой. — Иво здесь кругом хунхуза — разбойника! Я не хунхуза. Еще У Сип тоже был не хунхуза. Я плен попал. Раньше служил Харбин, русика купе-за. Потом Шанхай, русика ресторан, потом парахода ходи, там был русика капитан. Хунхуза параход контрами! Все люди контрами. Только я живой. Я понимай, что так худо. Но што можно делать? Вода кругом. Люди хорошей нету. Только тибе — хороший люди и моя — хороший люди. — Он хлопнул себя по груди. — Меня Ваня звать. Тебя как?.. Рассказывая и спрашивая, он ни на минуту не забывал плиту, громыхал крышками кастрюль, помешивал в жаровнях. Несколькими ударами ножа превратил жгут из полосок теста в лапшу необыкновенной длины и бросил ее в кипящий. котел. Вдруг спохватившись, стал кормить меня креветками в остром соусе и еще чем-то необыкновенно вкусным, кажется, жареным тунцом, и в довершение налил в пиалу крепкого чая. — Тебе надо много кушай. Когда кушай — силы много. Уписывая за обе щеки, я думал, как предупредить кока о взрыве. Не верилось, что он может предать. Но опыт научил меня, что нельзя раскрывать душу перед первым встречным. Я решил посоветоваться с Жаком. Было странно, что эти два человека, так ненавидящие пиратов, не знают друг друга. Мне захотелось немедленно разыскать Жака и сказать ему, что я нашел единомышленника, что он также хочет бороться с пиратами, да не знает как. И этот человек может погибнуть, потому что не знает о мине… Разнесся медный перезвон рынды. Вахтенный матрос отбил четыре двойных удара, оповестив, что окончилась третья и началась четвертая вахта. Кок заторопился. Вытащил из стенного шкафа большой черный поднос. — Надо нести кушать капитана, немножко быстро. Если быстро нету, иво серчай, шибко серчай! Пожалуйста, немножко быстро. Я шел на корму с тяжелым подносом, еле передвигая ноги. Мне казалось, что вот-вот неминуемо ударит взрыв и я вместе с подносом полечу за борт. Навстречу мне показался Жак с ведром в руке. Проходя мимо, он шепнул: — Назад, быстро! Поднос чуть было не выпал из моих ослабевших рук. Каюта капитана находилась недалеко от машинного отделения. Я спустился по узкому трапу. У дверей каюты стоял часовой с немецким автоматом на груди. Он молча открыл двери. Я очутился в прихожей, освещенной красным светом. Пахло сандаловым деревом и дорогим табаком. Одна полуоткрытая дверь вела в ванную из голубого кафеля, за второй дверью слышались глухие голоса. Я открыл дверь коленом и очутился в ярко освещенной гостиной. За полированным столом из красного дерева в кожаных креслах сидели капитан “Лолиты”, Ласковый Питер и играли в карты. Когда я подходил к столу, капитан швырнул карты на пол, а Ласковый Питер пододвинул к себе кучу бумажек. Это были доллары, английские фунты и еще какие-то деньги. — Мой мальчик! Вот мы и встретились, ставь поднос, Симада-сан любит креветки, лапшу и что там еще? — Он заглянул в чашечки, соусники и потер руки. Я хотел уйти, но Ласковый Питер сказал: — Постой, некуда спешить, мой мальчик. Но как тебе понравилось это милое суденышко? Прогулочное судно, не правда ли? Ты что так бледен? Не рад, что увиделся со своим капитаном? Или взволнован встречей? Мне же всегда приятно тебя видеть. Как это ни странно, ты принес мне счастье. За два дня я спустил Симада-сану все, что удалось выудить из сейфа “Ориона”, — десять тысяч семьсот двадцать три доллара и восемьдесят центов. И представь себе, мой великодушный партнер предложил сыграть на тебя, моего верного юнгу, оценив твою персону в пятьсот долларов. Ты, вероятно, никогда не думал, что стоишь так дорого? За такую цену в Африке можно купить пару здоровенных негров! Ты взволнован, что мог расстаться со мной. Но успокойся, я отыгрался на эти пятьсот долларов и выиграл тысяч тридцать. Что же ты не радуешься? Что топчешься, как на раскаленных углях? Действительно, слушая его самодовольную речь, я не находил себе места и потихоньку пятился к дверям, прижимая к груди поднос. Каждый толчок волны, крен воспринимались мной, как начало взрыва. “Вот так, — думал я, — толкнет, накренится, а потом как трахнет!” Единственное, что взволновало меня в те напряженные минуты, это сумма, в которую оценили меня игроки. Уж очень она показалась мне обидно мизерной. Симада-сан со знанием дела работал бамбуковыми палочками, причмокивая от удовольствия, слушал, улыбался и косился на меня. Как мне хотелось в эту минуту крикнуть им в лицо, что скоро их пиратское судно взлетит на воздух! И, в лучшем случае, они будут барахтаться среди акул и топить друг друга, вырывая из рук обломок деревянной обшивки или пробковый буй. Почему-то мне все время думалось, что мы с Жаком находимся куда в лучшем положении, зная, что “Лолита” неминуемо погибнет. Наконец выскочив из каюты, я побежал на камбуз, ища глазами Жака. Матросы обедали, рассевшись на палубе. Жак стоял возле двери камбуза и не спеша, как делал он все, ел что-то из большой чашки. Когда я остановился в дверях, он сказал: — Так долго находиться там нельзя. Когда я торопливо рассказал ему, почему задержался у капитана, Жак, нагнувшись над чашкой, проговорил, почти не шевеля губами: — Как жалко, что погибнет так много ценностей! Здесь много золота, денег; какой красивый корабль, сколько мог принести добра людям. Можно на нем ловить рыбу, изучать океан… Я перебил его и стал рассказывать о коке. Жак согласился, что его следует предупредить, но так, чтобы он не догадался, что мы подложили мину, и в час опасности держаться всем троим вместе. Я решил не откладывать этого дела и вошел на камбуз. Ваня отвел меня к иллюминатору и спросил, косясь на двери: — Тебе думай, этот Жак хороший люди? — Очень хороший. Он не пират, не хунхуз. — Я тоже так подумай. Его боцман обижай и эта облизьянка, шимпанзе. Только я не понимай, почему Жак суда попади? Тебе не знай? — Нет, не знаю. — Ну хорошо. Потом все будет понятно. Ты что хотел мне рассказать? — Видишь, Ваня, — начал я, стараясь как можно осторожней предупредить его об опасности, — скоро, — я постучал по настилу, — скоро наша шхуна утонет. — Это очень хорошо! Прямо прекрасно! — Ты не боишься? — Я?! — Он презрительно фыркнул. — Если можно, я сам дырка делай, пускай вода бежит. — Дырка скоро будет, — пообещал я. — Большая дырка. — Большая дырка — это хорошо. — В голосе его послышалась легкая неуверенность. Я сжал ему руку. — Когда будем тонуть, нам надо всем быть вместе. У тебя есть пояс? — Зачем пояс? — Чтобы не утонуть. — Пробка пояс? — Пробочный пояс или буй. — Надо поискать. — Он стал пристально глядеть мне в лицо. — Надо будет взять и вот это, — я снял со стены два ножа, похожих на самурайские мечи, — от акул отбиваться и если хунхузы нападут. Он усмехнулся, подмигнул, толкнул меня в плечо: — Ты хочешь немножко испугнуть? Да? — Нет, Ваня, дело серьезное. У тебя есть пистолет? Или лучше автомат? Тр-р-р… — Я приставил поварешку к животу и повел ею по сторонам. — Зачем стрелять? — Если полезут. У них же автоматы, пистолеты, а у нас, — я показал ладони рук, — ничего нет. — Ты хочешь войну делать? — Нет, зачем же, мы только будем отбиваться, если они нападут. — Ты смешной мальчишка. Здесь нельзя играть. Посмотри! Кругом вода, кусуча рыба, акула. Сразу буль-буль. Надо подождать, когда будет земля, порт. Тогда можно потихоньку уходить. — Мы не дойдем до порта. Сегодня к вечеру, а может, сейчас, пойдем ко дну. Поняв, что я не шучу, он прошептал, заметно бледнея: — Где хочешь ломать дырку? — В машинном отделении. — Машину ломать — это плохо, — сказал он со вздохом, вытер с лица пот, — шибко плохо, прямо неприятности. — Он смотрел на меня испуганными глазами, силясь улыбнуться. Надо было как-то выходить из неприятного положения, и я сказал первое, что пришло в голову: — Паруса останутся, дырку заткнем и доберемся до какого-нибудь острова. Он покачал головой: — Зачем паруса, когда большая дырка? Тогда наша шхуна фангули, перевернется, все мы буль-буль. Хунхузы буль-буль. Ты, я буль-буль, Жак — все пропадут. Это нехорошо, — он прищурился и потряс толстыми щеками, — даже совсем плохо. Надо капитану говорить. Я испугался и стал его успокаивать. — Зачем идти к капитану? Ведь дырки еще нет, а если будет, то заткнут чем-нибудь. — Ты шибко хитрый, ты сказал — большая дырка! Какая большая? Эта кастрюлька? — Он показал на жерло котла, в котором варил еду для всей команды. — Не бойся, Ваня, это я сам хотел пробить дырку. — Ты! — Он просиял. — Тогда ничего. Я сразу подумал- ты немножко обманываешь. Даже просто шанго, по-русска хорошо, когда так обманывают. Только пока, — он лукаво подмигнул, — пока давай не надо. Когда будем в порту, тогда будем думать. Шибко думать. Поспешать давай не надо. Ух ты! — спохватился он, снимая кастрюлю, в которой что-то подгорело. — Чуть совсем не пропади мясо. Тогда неприятности. Капитан любит такое мясо. Давай посуда, капитана кормить надо! Я смотрел на кока и думал с облегчением, что не раскрыл ему нашу тайну: как видно, бедняга оказался не храброго десятка. Когда я принес обед в капитанскую каюту, то Симада-сан, сидя за столом, неторопливо разглаживал доллары, фунты стерлингов, иены, франки и раскладывал их в разные кучки. Он улыбался, скаля крупные золотые зубы, и что-то бормотал себе под нос. Ласковый Питер, бледный, осунувшийся за эти несколько часов, как после болезни, нервно грыз потухшую сигару и с плохо скрываемой ненавистью следил за толстыми пальцами японца. Увидав меня, он скривил в улыбке тонкие губы. — Поздравляю. Теперь твоим хозяином стала эта желтая обезьяна. Он убил мою карту двадцать раз подряд. Ты не находишь, что твои новый хозяин шулер? Как я не завидую тебе, Фома! Не ответив, я стал хватать с подноса и расставлять по столу, свободному от денег, принесенные блюда, чтобы поскорей вырваться из каюты. Симада-сан поднял голову и с той же улыбкой сказал на довольно чистом немецком языке, обращаясь ко мне: — Бой! Твой бывший хозяин настолько взволнован проигрышем, что высказывает вслух недозрелые мысли. Нам остается только сожалеть об этом. Ласковый Питер, выронив изо рта сигару и сосредоточенно помолчав, промямлил: — Я не предполагал, что вы так хорошо знаете мой язык. — Что вы, совсем плохо. Но не настолько, чтобы не понять, когда меня оскорбляют. — Я совсем не хотел… — В это время в каюту ворвался бешеный перезвон рынды. — Боевая тревога! — Ласковый Питер вскочил. — Сейчас не до ссор. — О да, мы отложим нашу приятную беседу, — ответил Симада-сан, сгребая деньги со стола.ГИБЕЛЬ “ЛОЛИТЫ”
На палубе готовились напасть на океанскую джонку. Громоздкая трехмачтовая деревянная посудина с высоко приподнятой кормой, распустив все свои прямоугольные паруса, натянутые на множество бамбуковых палок, кренясь на левый борт, тщетно старалась уйти от быстроходной “Лолиты”. Вооруженные матросы стояли возле расчехленных, готовых к спуску шлюпок. На баке возле пушки, среди орудийного расчета, я увидел Жака. Резко ударил в уши орудийный выстрел. Перед кормой джонки поднялся столб воды. Тотчас же самый большой парус со средней мачты пополз вниз. И скоро, убрав все паруса, джонка остановилась, тяжело покачиваясь на волнах. “Лолита” подошла к ней на расстояние кабельтова. Шлюпки с матросами спустили на воду, и они помчались к беззащитному кораблю. Грабители пробыли там не больше получаса и вернулись по сигналу с “Лолиты”. Все это время я стоял возле камбуза, глядя, как разбойники расправляются с командой джонки, бросают в шлюпки тюки с товарами. Едва только шлюпки подошли, их подцепили талями, шхуна дала полны” вперед, шлюпки поднимали уже на ходу. “Лолита” спешила на новый грабеж. Джонка не успела скрыться за горизонтом, как над водой раскатился взрыв. На ее месте осталось только облачко черного дыма. Я подбежал к Розовому Гансу; он стоял у фальшборта и, давясь от смеха, рассказывал что-то французу-артиллеристу, мрачному человечку с черной бородой. Веселый немец, увидав меня, сказал, показывая на француза: — Артиллерия не довольна, что я подсунул в это корыто парочку мин. По их мнению, парусник надо было расстрелять из пушки. Он жалуется, что последнее время у него совсем нет тренировки. Я пытаюсь ему объяснить, что незачем палить среди белого дня в парусник, когда с этим делом не хуже справится “несчастный случай”. Ха-ха! Чисто сработали мои магнитки. — Надо вернуться, спасти их, — сказал я. — Там люди гибнут! — Пустое дело: здесь кишат акулы. — Розовый Ганс махнул рукой. — Да жалеть их нечего. Они могли сообщить о нас. Дьявол их знает, может, у них была радиостанция. Вызвали бы английские миноносцы, а те могли нам все сорвать. Теперь нам никто не помешает. Ха-ха… Когда я вернулся на камбуз, кок сказал печально: — Так они каждый раз убивают бедных людей. Я не поверил в искренность его слов: он показался мне тогда не только трусом, но и лицемером, хотя эти качества очень тесно связаны — трус никогда не бывает откровенным, если его к этому не принудить. Минут через двадцать после гибели джонки с кормы донесся голос Розового Ганса. — Эй, юнга Дикобраз, бегом к капитану! Я хотел идти на вызов, но кок остановил меня в дверях испуганным возгласом: — Ты посмотри! Сейчас он совсем пропади! Я увидел Жака: он стоял у входа в матросский кубрик. К нему подходил, приплясывая, Тони. Неподалеку стояли боцман и еще несколько пиратов. Боцман закричал истошным голосом. Палач протянул руки к Жаку, закрыв его от меня своей широченной спиной. Неожиданно раздались, почти слившись, два выстрела, — палач ткнулся носом в палубу у ног Жака. Жак выстрелил еще два раза, и боцман, цепляясь за тали, стал падать. Все это случилось так неожиданно, так ошеломило пиратов, привыкших к строжайшей дисциплине, что Жак воспользовался их замешательством, в несколько прыжков очутился на баке и спрятался за щитом пушки. Один из подручных боцмана бросился было за Жаком, но тут же щелкнул выстрел, и он, пригнувшись, побежал под прикрытие фок-мачты. Я видел, как многие, прячась за мачты, шлюпки, поглядывали в сторону бака, качали головами, перешептываясь друг с другом. На их лицах был суеверный ужас. На мостике ударили боевую тревогу. Но матросы лишь вяло перебегали от укрытия к укрытию. Из кубрика, где находилось большинство команды, показалось несколько человек; Жак дал автоматную очередь над их головами, “смельчаки” скрылись и больше не показывались. Каждый понимал, что человеку, убившему боцмана, терять нечего. С мостика раздался громкий голос. Капитан или кто-то из его помощников кричал в мегафон, видимо стараясь уговорить Жака сдаться. Жак выслушал и дал в ответ короткую автоматную очередь, которая красноречивее слов говорила о его намерениях. Он понимал, что судьба его решена. У него оставалась единственная надежда, что вот-вот взорвется мина и тогда в панике появятся хоть какие-то шансы на спасение. А мина все медлила. Кок втолкнул меня в камбуз, а сам остался за дверью. Я услышал топот ног, отрывистые голоса, несколько выстрелов из пистолета, резанула автоматная очередь. Все эти звуки покрыл орудийный выстрел, треск падающей мачты и рвущихся снастей. В камбуз влетел кок, а за ним Розовый Ганс. Увидав меня, Розовый Ганс сказал срывающимся голосом: — Он с ума сошел, фугасным снарядом срубил мачту! Слышишь? Дал очередь из автомата. (По стальной стенке камбуза стучали пули.) Теперь к нему не подойти. — Он защищается, его хотели убить! — сказал я. — Об убийстве не было и речи. Боцман ему и еще десятку таких же бандитов приказал идти на ют, что-то там сделать. Те пошли, а этот отказался выполнить приказ. Ну, Тони и хотел ему вправить мозги. А он откуда-то достал “вальтер”, наверное, стащил на берегу. Этот негодяй мог бы припрятать и мину, если бы умел обращаться с ней. Розовый Ганс разразился страшной руганью в адрес Жака, а затем продолжал: — Теперь я ему не завидую. — Выглянув из камбуза, он тотчас же спрятал голову под защиту стальной стенки. — Начисто срезал фок. Представляю, какой у нас вид со стороны! Теперь к нему не подойдешь. Он, дьявол, может всех нас утопить. Есть только одно средство — это забросать его гранатами. Надо взять ключи у боцмана… Отдал дьяволу душу. Ха-ха… Теперь меня могут поставить на эту должность… Дверь камбуза распахнулась, и к нам вошел Ласковый Питер с пистолетом в руке. Он набросился на Розового Ганса: — Ты почему здесь околачиваешься? Что тебе было приказано, мерзавец? — Я еле нашел его, — стал врать Розовый Ганс, кивнув в мою сторону. — Тут у них одна лавочка. — Он схватил меня за руку. — Пошли, буду я еще из-за тебя получать неприятности. — Оставь. Я поговорю с ним здесь. — Ласковый Питер взял меня под руку. — Вот что, Фома, мой мальчик. Запомни крепко. На этот раз ты или подчинишься мне, или тебя ждет участь У Сина. Нож с тобой? — Нет. — Врешь! — Он ощупал карманы. — Странно, не соврал. Вот что. Я говорил о тебе с капитаном. Капитан согласен отправить тебя на родину на свой счет и выдать еще тысячу долларов — на пятьсот больше, чем ты стоишь. Но я шучу, ты стоишь гораздо больше. И все это за небольшую услугу. Ты храбрый парень. Тебе это ничего не будет стоить. Я слушал его, вначале ничего не понимая. Он вытащил из кармана небольшой нож в желтых кожаных ножнах, отделанных медью. — Возьми вот. Спрячь. Это настоящая финка. Потом можешь взять себе на память. Ты сейчас пойдешь туда. Сейчас же! Он тебя не тронет. Не бойся. Сделаешь вид, что заодно с ним, и, выбрав момент, всадишь финку ему между лопаток. В этом твое спасение и спасение всего корабля. Он сумасшедший. Не жалей его. Пожалей себя. Только себя. Ты слушаешь меня? Он уже убил десять человек. Его песенка спета. К нему боятся подойти эти несчастные трусы. Прирезав его, ты окажешь неоценимую услугу всей команде и этому безумцу. Я ни минуты не сомневался в том, что должен буду сделать, а потому взял финку и сунул ее в карман. Все это время кок молчал, искоса поглядывая на нас. Теперь же он спросил меня по-русски: — Ты хочешь его убивать? — Нет, — ответил я, зная, что Ласковый Питер не знает ни слова по-русски. — Тогда ты хочешь помирать? — Нет, не хочу. — Тогда моя голова ничего не понимает. Лучше тебе не надо ходить. — Он сокрушенно покачал головой, не обращая внимания, что из духовки потянуло гарью. Я попрощался с ним и попросил не показываться на палубе. Ласковый Питер сказал: — Кок напуган до смерти. Но ты наконец-то взялся за ум. Я предвидел это, сохранив тебе жизнь. Торопись, мой мальчик, помни, что ты идешь спасать и себя, и еще многих достойных людей. Когда я вышел на палубу, Жак стрелял из автомата одиночными выстрелами, но, увидев меня, прекратил огонь. Фок-мачта, срезанная на высоте полутора метров от палубы, навалилась на грот, готовая рухнуть за борт, но ее не пускала оснастка и еще умелая рука рулевого. “Лолита” шла малым ходом, и рулевой держал ее поперек пологой волны, не давая особенно раскачиваться из стороны в сторону. — Жак, не стреляй! — крикнул я, подняв обе руки. Он ответил: — Перейди на левый борт! Быстро! Я бросился к левому борту, и Жак дал очередь из автомата. Пригнувшись, я побежал, споткнулся об убитого, упал и прополз на животе последние пять метров до пушки. Когда я очутился за щитом, Жак, ничего не спрашивая, сунул мне в руки автомат и проговорил совсем спокойным тоном: — Стреляй! Теперь уже скоро. Отодвинь предохранитель. Не показывай голову. Укройся за брашпилем. Мы дружно застрочили из автоматов по палубе: он по левому борту, я — по правому, не целясь, просто чтобы к нам не могли подойти. Когда у меня кончились патроны, Жак бросил мне запасной магазин. В нас не стреляли, видно что-то замышляя. Вдруг я увидел руку на планшире фальшборта: к нам подкрадывались под его прикрытием. Мы открыли огонь, и два матроса полетели за борт. Их никто не стал спасать. Когда мы переставали стрелять, Жак подбадривал меня: — Честь и мужество победят, Фома… На наше счастье, основные силы команды находились в матросском кубрике, и мы никому не давали из него высунуться. Большая часть вахтенных матросов, которым было приказано атаковать Жака, были убиты или ранены. Потерпели неудачу наши враги, когда хотели обстрелять Жака из крупнокалиберного пулемета. Он разгадал их замысел. Пулемет стоял на крыше рубки, замаскированный чехлом под компас. Но оттуда мачты мешали вести огонь по баку. Пулемет стали было переносить на крыло мостика — Жак сбил из пушки и пулемет, и часть мостика. Мне было и страшно, и в то же время радостно от сознания, что я не оставил товарища в беде, что я сражаюсь за правое дело против фашистов и что мы держим в страхе такую банду головорезов… И все-таки мы чуть было не сложили головы на баке “Лолиты”. Наверное, Розовый Ганс достал гранаты из оружейного погреба. Внезапно гранаты стали рваться на палубе, но, к счастью, перед нашим укрытием. Щит пушки и брашпиль надежно защищали от осколков. Какой-то головорез бросил гранаты с грот-мачты. Жак снял гранатометчика автоматной очередью. У меня не замолк еще гул в ушах от взрыва гранаты, как мы покатились по палубе, сбитые резким толчком. Фок-мачта с треском полетела за борт, лопались снасти, что-то трещало, ухало. Когда мы с Жаком поднялись, то увидели, как из кубрика хлынули матросы, сшибая друг друга, топча ногами упавших. Они бросились к шлюпкам. Напрасно капитан, надрываясь, кричал в мегафон, стараясь навести хотя бы какой-нибудь порядок. “Лолита” медленно кормой уходила в воду. Две шлюпки, набитые до отказа, отходили от борта. По какой-то случайности на корме при взрыве мины уцелел баркас, и на него шла посадка. Автоматчики сдерживали напор обезумевшей команды. Среди них яростно пробивался Розовый Ганс; несколько раз его отбрасывали назад, сбивали с ног, топтали, он вскакивал, врезался в ревущую толпу, нанося удары вымбовкой по головам матросов. Наконец ему удалось пробиться к автоматчикам, и те пихнули его в баркас. Яростная ругань и драка за места шла в третьей шлюпке, четвертую шлюпку раздавила в щепки упавшая фок-мачта… — Стреляй в них! — закричал я Жаку. — Стреляй из пушки! — и навел свой автомат. Жак пригнул его дулом к палубе. — Нельзя. Если мы разобьем шлюпки, то они тогда убьют и нас. Нам не выбраться. Пусть только отплывут! Матросов стрелять не надо: многие из них попали сюда не по своей вине. Надо в баркас! В баркас, там главари… Из камбуза показался кок и, озираясь по сторонам, сначала шел медленно, а потом побежал к нам. — Тебе все живой! — радостно закричал он, увидав нас с Жаком. — Как хорошо, что живой. Я думал, все помирай. — Присев возле нас, он сказал: — Нам не надо поспешать. Они могут стрелять. Когда уедут, тогда мы поедем. Я уже погибал. Я знаю… Я увидел третье превращение кока за день. Перед нами стоял совершенно другой человек. Его плутовское лицо стало тверже, решительней. Он был совершенно спокоен, как может быть спокоен очень храбрый человек в таких обстоятельствах. Он всячески старался нас ободрить, переходя с пиратского жаргона на русский язык: — Зачем бояться? Если дело худо, все равно, — он выразительно развел руками, — будут неприятности. Жак выстрелил из пушки по баркасу, на котором уходили Симада-сан, офицеры, Ласковый Питер и свора пиратов. Промах! Я подал Жаку снаряд, он зарядил пушку, но в это время баркас скрылся от нас, зайдя за корму “Лолиты”. — Нет, они не уйдут, не уйдут! — повторял Жак, не отходя от прицела. — Они вспомнят еще У Сина, когда будут барахтаться среди акул. Стаи этих прожорливых тварей носились вокруг тонущей шхуны. Ветер медленно разворачивал тонущий корабль. Прошло несколько минут, и мы увидели баркас, удиравший от нас под всеми парусами. Жак приник к прицелу. Выстрел! Перелет. Разрыв второго снаряда закрыл баркас водяным столбом — это был недолет. Жак попал в баркас с пиратами только шестым выстрелом. Ваня сказал печально: — Это настоящая война. Иво все пропади. Это хорошо. Такой люди надо пропади. Но нам не надо пропаяй. Надо делать, что плавает, как иво… — Плот! — подсказал я. — Вот, вот. Надо очень скоро делать. Шлюпки медленно уходили от нас, взяв курс на юго-восток. Мы втроем смотрели им вслед. И странное дело, корабль тонул, может быть, нас ожидала страшная участь, но ни у меня, ни у моих товарищей — я видел это по их лицам — не было страха. Мы испытывали радость победы, и все невзгоды, ожидающие нас впереди, казались пустяками после всего пережитого. — Как я боялся, что мина не взорвется… — Жак хотел еще что-то добавить, но кок неожиданно накинулся на нас, заставляя немедленно строить плот. Мешкать было опасно. “Лолита” низко осела, задрав нос, и застыла в таком положении. Вздрагивая и потрескивая, она боролась с водой, разрывавшей переборки. Никто не мог сказать, на сколько времени еще хватит у нее сил продержаться на поверхности. Кок выбросил из дверей камбуза топор, пилу и нож, похожий на самурайский меч. Мы с Жаком стали снимать мочины — толстые доски, которыми закрывают трюмы, и бросать их в воду между мачтой и бортом “Лолиты”. Ваня стаскивал в кучу матрасы, набитые пробковой крошкой, спасательные пояса, концы манильского троса. Сооружению плота сильно мешали акулы. Когда мы с Жаком спустились на фок-мачту, плававшую возле борта, то акулы устроили такую пляску вокруг нас, что о работе нечего было и думать. Жак выпустил в акул целую обойму из “вальтера” — они исчезли, но через минуту появились опять. — Так дело будет худо, — сказал Ваня, глядя на нас с палубы. — Эта пух-пух не годится. Я сейчас другой пух-пух буду давать. Он принес в мешке из-под сухарей автомат и с десяток магазинов к нему. Мне приходилось почти беспрерывно стрелять, оберегая товарища от обнаглевших акул. Жак укладывал доски одним концом на мачту, другим — на рею и прикручивал манильским тросом. Работал он удивительно ловко и споро. Когда он соорудил площадку, то стал бросать на нее матрасы, спасательные пояса, весла, шесты, брезент, ящики, банки и коробки с продуктами. Наконец на плот перебрался кок, едва дышавший от усталости. В чреве корабля что-то треснуло. Мы втроем отрубили винты, связывающие корабль с мачтой, и стали отталкиваться от борта веслами и шестом; наш грузный плот еле двигался, к счастью, помог ветер, и мы отошли на безопасное расстояние от “Лолиты”. Ее нос и две оставшиеся мачты скрылись под водой. На гибель судна было так же тяжело смотреть, как на кончину живого существа. Чуть посвистывал пассат, еще больше подчеркивая траурную тишину, стоящую над океаном. Неожиданно все мы вздрогнули от хриплого крика: кто-то остался на корабле и взывал о помощи. Ваня ахнул, протянул руку к тонущему кораблю и сказал со слезами в голосе: — Посмотри, там Васька сидит! Сичас иво пропади! Как иво спасати? По бизань-мачте поднимался сиамский кот и орал так, будто исполнял свою предсмертную песню. — Он нас просит спасать, как будем делать? — простонал Ваня и, не дождавшись ответа, закричал коту: — Зачем плакать, сейчас будемо спасати! Васька, упади не надо! Крепко держись! Кота чуть было не затянуло в воронку, он скрылся совсем под водой, но вдруг вынырнул и под наши ободряющие крики поплыл к нам. Как мы боялись, что его проглотит акула! Одна из них заметила легкую добычу слишком поздно. Мокрого кота Ваня уже прижимал к груди, когда акула пронеслась мимо плота и Жак пустил в нее автоматную очередь. Гладя кота, Ваня говорил мне: — Это шибко хорошая Васька. Я иво купила совсем щенка. Иво ночью крыса лови, днем — спати на мачте. Там, где парус… Еще несколько часов ушло у нас па доводку нашего суденышка. Чтобы плот был более мореходным, Жак предложил обрубить концы мачт, утяжелявшие его. Мы это и сделали, а обрубки подвели под плот и надежно закрепили. Теперь нам был не страшен свежий ветер и даже небольшой шторм, а главное, можно было поставить парус. Мачту мы соорудили из бамбуковых шестов, а парус из брезента. За плотом потянулся след, как за настоящим кораблем. — Не меньше трех узлов! — воскликнул Жак. — Семьдесят две мили в сутки! Теперь у нас повышались шансы встретить корабль или пристать к одному из коралловых островов. В довершение к нашим удачам в одном из картонных ящиков оказались баночки с ананасным соком, а в другом печеночный паштет. Вместе с нами пировал Васька, тщательно вылизывая свою долго из консервной банки с любимым блюдом. Не отказался он и от ананасного сока. Пообедав, долго умывался, сидя у ног хозяина, затем заснул у него на руках. Ваня нес первую вахту, стоя возле мачты. Мы с Жаком сидели на пробковых матрасах. Жак говорил: — Правда и мужество победили! Как хорошо, что мы встретились! Теперь у них на два корабля меньше. Я с удивлением спросил: — Разве “Орион” действительно утопил ваш товарищ? Жак кивнул: — Да, он проложил курс на рифы, когда ничто не предвещало шторма. Обыкновенно в эти месяцы стоит хорошая погода. У Син рассчитывал, что вся команда спасется на шлюпках. Шторм налетел внезапно, когда вы были со всех сторон окружены рифами. Выхода не было. Война! Мы ведем беспощадную войну, как русские партизаны. — Кто вы? — Патриоты! Мы боремся за независимость нашей родины, против империалистов. Пираты тоже им помогают. Вначале они разбойничали в наших водах, а когда разгорелась война, то захватили все дороги южных морей. Сейчас они работают на войну, помогают колонизаторам, фашистам. В наших водах всегда было много морских разбойников, но никогда они не были так сильны. И вот мы решили уничтожить эту заразу. Она мешает нашей борьбе, помогает черным силам, угнетает народ. Может, мы поступили неправильно. Надо было вначале добиться свободы, а потом покончить с пиратством? Может быть. Но У Син погиб не напрасно. И наша смерть была бы оправдана. Но мы остались живы! Как хороша жизнь! Смотри, какое ласковое небо! Какое море!.. Какое красивое!.. Ваня сопел, поглядывая на нас, ему тоже хотелось поговорить, но из деликатности он молчал, поглаживая спящего кота. Жак умолк на секунду, и Ваня воспользовался случаем вставить словечко; он обратился ко мне: — Ты, Фомка, глупая мальчишка. Как можно говорить незнакомому человеку, что думаешь? Так нельзя говорить. Разве ты меня знал? И сразу: “Ваня, давай “Лолиту” на дно”. Так нельзя. Ты меня послушай, я не дурак. Надо, как Васька. Это очень умная скотинка. Что думает, никому не известно. На камбузе покушает, крысу покушает, потом — спать на мачту. Сам себе капитан. Вот так надо жить! — Посмотрев на меня лукаво, добавил: — Нет, не надо жить, как кошка, надо жить, как люди, хорошие люди. Плот медленно двигался, утюжа валы. Мы стали вспоминать все подробности боя. Ваня, трясясь от смеха, рассказал смешную историю, происшедшую с Розовым Гансом. Во время взрыва он все еще сидел в камбузе, и когда тряхнуло, то угодил на горячую плиту. Затем Ваня стал отчитывать Жака. Говорили они горячо и долго. КогдаВаня замолчал, Жак сказал мне: — Он недоволен, что я, зная о взрыве, поднял целое восстание. Я признался, что мне тоже непонятно его поведение. Зачем было рисковать? — Я не мог иначе. Помните, там на берегу, когда Тони ударил меня ни за что. Это не первый раз. Боцман что-то подозревал. Ему, наверное, доносили, что я не особенно охотно служу им. Он стал придираться ко всему. Сегодня ему не понравилось, что я невесел. И он приказал Тони отвести меня на корму “повеселиться”. — Мне говорил Ганс, что вас назначили на работу куда-то на корму и вы тогда отказались. Конечно, туда было идти опасно. — Не на работу. С работы я мог уйти. Меня собирались посадить в карцер; он рядом с машинным отделением. Выхода у меня не было. И я решил продать жизнь как можно дороже. — Акула! — вскрикнул Ваня и погрозил кулаком. — Чего тебе надо? Жак взял автомат и, когда пятиметровая акула проплывала недалеко от нас, выпустил в нее очередь. Акулу будто стегнули бичом, она ударила по воде хвостом и помчалась прочь. Ваня захохотал, а потом что-то насмешливо прокричал ей вслед. Эта огромная акула больше не показывалась, зато помельче изредка появлялись и тоже в страхе улепетывали, напуганные нашими выстрелами. Слева показался небольшой островок с редкими пальмами. Пристать к нему мы не могли: пассат увлекал нас все дальше и дальше к экватору. Скоро островок скрылся. — Ничего, — сказал мне Ваня, — скоро будет много земли. Вон посмотри! Далеко впереди что-то чернело. — Дым! — сказал Жак. — Удача, как и несчастье, не приходит в одиночку. Это большой пароход! Он оказался прав. Прямо на нас шел лайнер, он поднимался как из-за бугра. Нас заметили. Лайнер сбавил ход, а потом и совсем остановился в полумиле от плота, похожий на многоэтажный дом. На его палубах виднелись любопытные лица пассажиров, они махали нам руками и что-то кричали. Скоро к нам подошел вельбот. Моряки, говорившие по-английски, весело гогоча, помогли нам перебраться в шлюпку. Среди этой шумной и веселой ватаги я заметил белобрысого курносого матроса. Он тоже смотрел на меня и, улыбаясь, сказал по-английски, а потом по-русски: — Ты совсем похож на русского парня. — И вы также! — ответил я. — Да я же и есть русский, самый настоящий русский! Он необыкновенно обрадовался, узнав, что я из Советской России. Вся команда смотрела на меня с недоверчивым восхищением — это были австралийские моряки. Им казалось невероятным появление советского мальчишки под тропиками в Океании. Досталось моей спине и рукам от дружеских шлепков и пожатий. Вместе со мной незаслуженную славу разделял и Ваня; он без устали повторял: — Моя русика, моя рашен! — и счастливо смеялся, прижимая к груди сиамского кота. Разобрав весла, матросы стали грести к теплоходу. Мой земляк сидел загребным; занося весло, он рассказывал нам с Ваней: — Наши бьют фашистов уже в Германии. Сегодня передавали военные новости. И здесь дела идут на ять! — Что такое ять? — спросил я. — Была такая буква в старом русском алфавите… Как же тебя занесло сюда? Сбивчиво я стал рассказывать. Когда дошел до “Лолиты”, он недоверчиво улыбнулся, покачал головой: — Ты, видно, парень, начитался приключенческих книг. Помнишь “Остров сокровищ”? Вот настоящая книга для мальчишек! Лет пять — шесть назад я тоже подумывал: а не махнуть ли мне в Карибское море и не сделаться ли пиратом? Да отец вовремя высек меня. Боюсь, что и тебе влетит, когда ты вернешься домой после этого маленького путешествия… Мы обходили корму теплохода, я прочитал его название: “Мельбурн”…ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Теплоход шел из Австралии во Владивосток. На безоблачном небе, прямо над головой, висело нестерпимо яркое и горячее солнце. В такелаже посвистывал пассат. Мы стояли с капитаном на крыле ходового мостика. Это был совсем еще молодой человек, высокий, белозубый, с решительным взглядом голубых глаз и твердым волевым ртом. Облокотясь на перила, он говорил, по привычке щурясь и вглядываясь в пустынную даль воды и неба: — На “Мельбурне” пришел конец нашим приключениям… Жак оказался прав: удача решила нас побаловать, особенно меня. В первом же порту, куда зашел “Мельбурн”, я разыскал наших, они были здесь по каким-то торговым делам. Затем окончилась война. Добрался домой, нашел родных… И вот стал пенителем моря… Все сложилось прекрасно. — Помолчав, он продолжал: — Как память о далеких днях у меня дома, во Владивостоке, хранится алая веточка коралла. Когда я смотрю на нее, то в моем сознании с необыкновенной яркостью возникают лица Вилли, Тави, Ронго, Ван Дейка, У Сина, Жака, кока Вани, Ласкового Питера, Симада-сан, Тони, Розового Ганса — лица друзей и врагов. О врагах тоже не следует забывать… Смотрите, островок. Капитан подал мне бинокль, и я увидел полосу прибоя, вода взлетала к небу, кипела, пенилась на рифах. За рифами сверкал и переливался белый коралловый песок, в дрожащем воздухе плавали стволы кокосовых пальм, их косматые кроны трепал ветер. — Вот на такой островок меня выбросило, — сказал капитан. — Может быть, на этот самый? — Нет, Соломоновы острова, миль пятьсот к юго-западу. А похож, — сказал он, взяв у меня бинокль, — очень похож, даже форма лагуны такая же. — Он опустил бинокль. — Жарковато, скоро экватор.М.Емцев, Е.Парнов Только четыре дня
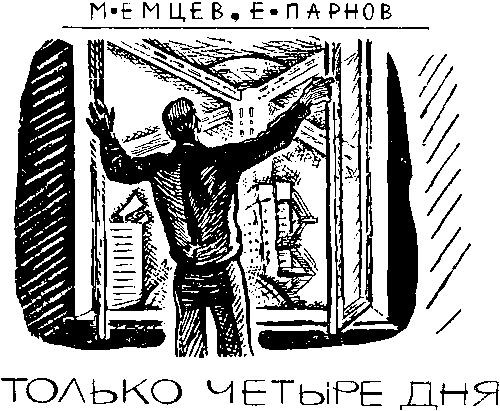 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
На работе он думал о письме, пытаясь угадать, что она пишет ему, и смутно надеясь на что-то, о чем не хотелось признаваться даже самому себе. Конечно, он знал, что и на этот раз она телеграфным стилем расскажет ему о куче дел, о каких-то необыкновенных и очень романтичных людях, о далеких городах, электростанциях, тайге или приемах на “очень высоком уровне”. Наверное, и в этом письме она, как всегда, обругает главреда и похвастается, что кому-то здорово натянула нос. Хорошо, что у него отдельный кабинет и только Опарин и Морган могут видеть бездельничающего человека, сосредоточенно разглядывающего пустой потолок. Но и они не замечают его. Они тоже глядят куда-то в затуманенную даль. Второв переводит взгляд с портретов на стеллажи со всевозможными справочниками, на вычерченные тушью аминокислотные цепочки, на вытяжной шкаф и аналитические весы в углу. Все это настолько знакомо и привычно, что вряд ли фиксируется мозгом. Второв вздрагивает. Ему кажется, что обитая зеленым дерматином дверь начинает надвигаться на него. Он мгновенно возвращается к действительности и кричит: — Я же просил никого ко мне не пускать! Я занят. Вы понимаете? Занят! — Вас просит к себе Алексей Кузьмич, — доносится из-за чуть приоткрытой двери. — Простите, пожалуйста… Второв медленно вылезает из глубокого кресла и проходит к себе в лабораторию. В углу комнаты у осциллографа сидит Виталик. Над его склоненной спиной мигает голубой экран, перечерченный жирной белой синусоидой. Лаборантки возятся со стеклом. Всё в порядке. Все на своих местах. Он еще минуту медлит, потом решительным шагом пересекает лабораторию и выходит в коридор. В директорском кабинете, как всегда, тихо и уютно. Со стен озабоченно смотрят портреты. На портрете Каблукова лопнуло стекло, и линия излома пересекла правый глаз, придав чудаковатому академику удалой пиратский прищур. Маленький письменный стол в самом дальнем конце комнаты утопал в бумагах. Перед ним раскинулся необъятный, как море, нейлоновый ковер с навеки застывшими извивами волн. Алексей Кузьмич приветливо помахал рукой и предложил сесть. Ковер немного отвлек мысли Второва от письма, которое лежало дома на столе, придавленное тяжелой малахитовой пепельницей. Кузьмич велел прибить ковер по четырем углам, чуть подвернув обращенный к двери край. Входящий обычно этого не замечал и, спотыкаясь, делал несколько стремительных и плохо управляемых шагов по направлению к директорскому столу. Более экспансивные личности влетали на четвереньках прямо под стол. Старик собирал кожу лба в удивленные складки и выражал им самое искреннее сочувствие. Говорили, что Кузьмич очень любил, когда спотыкались сановитые академики и дородные доктора наук. Извлекая очередного катапультировавшего сотрудника из корзинки для бумаг, он проникновенно приговаривал ласковые слова утешения. Первое время ковер действовал безотказно. Каждый, кто врывался в кабинет разгоряченным и полным желания “показать им”, проходил легкую успокаивающую встряску. Постепенно о ковре узнали и научились его обходить. Только желчные холерики с неуравновешенной психикой по-прежнему попадались в ловушку. Второв заметил, что директор что-то доверительно говорит ему. Лицо Алексея Кузьмича оживленно двигалось. — …Кстати, я уже оформил все документы. Можете выезжать хоть сейчас. Голубой конверт, исчез из мыслей Второва. — Мне очень жаль, что Аполлинарий Аристархович… — медленно сказал он. Директор сочувственно закивал. — Такой выдающийся биохимик, в расцвете сил… Директор издал звук, средний между “да” и “та”, и передвинул бумажку с печатью на край стола, ближе к Второву. — Но знаете, — устало сказал Второв, — мне совсем не хочется ввязываться в это дело. Моя лаборатория на полном ходу, дает нужную продукцию… Нейроструктуры второго порядка почти в наших руках. Еще немножко поднажать, и тема будет закончена. На кой же черт, извините за грубость, я полезу в чужой институт? У Аполлинария Аристарховича была своя школа, наверное и достойные заместители найдутся. Почему я должен свалиться людям как снег на голову? Это, во-первых, не в моих привычках, а во-вторых, только повредит делу. Я же для них варяг как-никак. Пока буду обживаться, притираться, пока леоди ко мне привыкнут, уйма времени пройдет. Нет уж, пусть лабораторией заведует кто-нибудь из учеников Кузовкина. — Ну, батенька, — сказал Алексей Кузьмич, — все это несерьезно. Работать там будете временно и по совместительству. Это каких-нибудь две-три поездки в неделю. И то на первых порах. Коллектив там хороший, нечего вам к нему притираться. Уж не считаете ли вы себя этаким наждачным кругом, жерновом? Работа интереснейшая, увлекательная. Есть темы, связанные с космической биологией, из-за чего, собственно, вы и приглашаетесь. Кто же, если не вы… Ваша кандидатура, дорогой, всех устраивает. Президиум горячо ее одобрил. А кроме того… Директор вытек из-за стола и бесшумно прошелся по кабинету. Он присел на ручку кресла и склонился к самому уху Второва. Тот почувствовал, как вокруг него забили большие и малые фонтанчики горячего доверительного сочувствия. — Вы посмотрите на себя, батенька, — говорил Алексей Кузьмич. — Ваши вторичные структуры вам очень нелегко даются, что я не вижу… Я давно заметил, что вы еле тянете. Хотели предложить отдых, курорт, санаторий, но. зная вашу одержимость… Вы ведь и там будете работать, пока не добьетесь своего? Ну вот видите! Все вполне понятно. Я так, собственно, и подумал. А эта работа вас немного отвлечет. Другие леоди, другая обстановка… Институт расположен рядом с Окским заповедником. Места восхитительнейшие. Воздух, лес, тишина. Аполлинарий Аристархович умел устраивать такие дела. Если создавал лабораторию, то или на самом Олимпе или на подступах к нему. Любил жизнь! Что там уж говорить… Алексей Кузьмич вскочил и, сунув руки в карманы, покатился по нейлоновым волнам. Второв с интересом наблюдал за директором. — Забавный человек был Аполлинарий Аристархович, — г. сказал, покачивая головой и ухмыляясь про себя, Алексей Кузьмич. — С чудинкой. Особливо в последнее время. Как-то, помню, совсем недавно мы собрались в нашем академическом доме. Народ в основном пожилой, старики да старушки, несколько молодых жен — свои люди, одним словом. А Павел Афанасьевич Острословцев, почтенный наш академик, весьма охоч анекдоты рассказывать. Рассказывать-то он их любит, да склероз подводит и все время старик нить теряет: то конец анекдота не расскажет, то упустит основное слово, в котором вся соль… Стар уж очень он сейчас стал. Кузовкин слушал все эти “эээ, как его… ну, вы знаете… помните, как оно…”, да и говорит: “Бросьте вы мякину тянуть, послушайте лучше меня”. Бесцеремонный он был человек, но… говорят, добрый. Да, вот так и говорит: “Послушайте лучше меня, я сейчас вам Большую энциклопедию буду читать… на память”. Хе-хе. Все мы, присутствующие, замолкли и на него уставились. Народ пожилой, нужно признаться, склеротический, не то что энциклопедии, иногда своего адреса не помнит, и тут на тебе, такое заявление от своего собрата-старика. Кузовкину тогда шестьдесят с небольшим исполнилось. Ну, при общем смехе и подшучивании достает Аполлоша с нижней полки потрепанный том Большой энциклопедии за номером двенадцать и протягивает хозяину дома — дескать, следите. Коль ошибусь, под стол полезу. Да! И пошел чесать, и пошел… Одну страницу, вторую, третью… На седьмой мы остановили: хватит, говорим, давай вразбивку. И ведь что поразительно — ни разу не сбился! Точно вам говорю — ни разу не ошибся! — Не может быть! — улыбнулся Второв. — Вот вам и “не может”. Я свидетель! — Кузьмич вновь приблизился к креслу и зашептал: — С хозяйством такого человека просто из чистой любознательности следует познакомиться. И напрасно вы, дорогой мой, упираетесь… В общем, я не принимаю вашу риторику за отказ. Согласитесь, батенька, отдых от работы заключен в работе. Конечно, в работе другого рода и стиля, разумеется, но в работе. Второв подумал, что сегодня день, пожалуй, потерян. Завтра он вообще не придет в институт. Послезавтра… — Хорошо, — сказал он, пробиваясь сквозь завесу уговоров. — Хорошо. Поеду. Посмотрю… Но… ничего не обещаю. — Вот и расчудесно, милый. Поезжайте… Не забудьте документики. И поезжайте себе с богом. …Окно вертолета было покрыто мелкой сеткой поверхностных трещинок. Второв видел, как в маленьких неправильных многоугольниках проплывают зеленые и рыжие пятна земли. Красные и голубые крыши медленно перемещались к юго-западу. Вертолет сделал поворот и пошел над узкой и четкой линией, отсекавшей пышный желтый квадрат поля от синего пятиугольника леса. — Заповедник, — сказал кто-то. Второв наклонился к стеклу. Синие волны леса, накрытые прозрачной дымкой испарений, катились на северо-восток. Второв представил себе, как влажно и сумрачно должно быть под такой плотной лиственной крышей. Нога пружинит в мягкой, податливой подушке мха, и шумит-поет ветер, раскачивая высокие сосны. Он подумал, что уже сто лет не был в лесу просто так, чтобы дышать, смотреть и слушать. И вдруг с тревогой опять вспомнил о письме. Второв увидел это письмо, как только проснулся. Мать заботливо придавила его тяжелой малахитовой пепельницей, чтобы порывистый ветер, залетавший в раскрытое окно кабинета, не унес голубой конверт. Второв вскочил, торопливо сделал несколько приседаний, пытаясь прогнать вязкую и приторную, как патока, дремоту, засевшую в мышцах и настойчиво зовущую назад в теплое небытие сна. Он взял письмо и подошел к окну. Раскрыл створки. Глубоко вздохнул и поднес конверт к глазам. Второв был близорук. Хорошо и давно знакомый почерк — буквы похожи на баранки. Жена ушла от него через год после свадьбы и больше не возвращалась, но письма присылала регулярно, раз в два — три месяца. Они были разными, эти конверты, надписанные ее уверенной рукой. Одни скучно официальные — только адрес и марка, другие — многоцветные и яркие, с видами Кавказа и Крыма. Иногда приходили и большие пакеты из плотной, болотного цвета бумаги с пестрыми экзотическими марками и множеством черных и красных штемпелей или маленькие белоснежные прямоугольнички, умещавшиеся на ладони, хранившие слабый аромат дорогих духов. Вид некоторых писем ясно говорил, что они долго тряслись в почтовых мешках, навьюченных на верблюдов, кочевали на автомашинах, блуждали по карманам, в которых табак раздавленной сигареты плотно облепляет кусок черного хлеба. В общем, конверты были разными, и шли они из разных мест. Но содержание белых, серых и зеленых листков почтовой бумаги казалось удивительно однообразным. Она всегда писала только о себе. У Второва за время их пятилетней переписки сложилось твердое убеждение, что он знает двух совершенно несхожих женщин. Одна — вздорная, мелочная, неряшливая, всегда кем-то и чем-то недовольная; другая — та, что писала письма, — ослепительная, жизнерадостная, искательница приключений. И каждый раз та, другая, вызывала в нем глухую тоску по неведомой ему яркой и острой жизни, полной разнообразия и неожиданностей. Письма ее он обычно читал на ночь, когда выдавалась свободная от работы минутка, и во сне ему являлись длинноногие мужчины в смокингах, с пистолетами и сигарами, и красивые женщины в ковбойках, с геологическими молотками в руках. Она же ему не приснилась ни разу. Второв еще раз вздохнул и отложил конверт в сторону. Пусть подождет до вечера. Тогда он поймет не только то, что она написала, но и то, что при этом думала. А сейчас читать письмо нельзя, никак нельзя, иначе весь день пойдет насмарку. Второв пошел в душ и, закрыв глаза, подставил лицо холодным упругим струям. Потом он долго брился, оттягивая бледную кожу на щеках н выдвигая вперед подбородок, чтобы лучше выбрить складки. Потом мать позвала его завтракать, и, увидев ее старую, в морщинках и коричневых пятнышках руку на белой пластиковой филенке двери, Второв вспомнил, что давно собирался что-то сделать для матери, но забыл, что именно. Темная жидкость, похожая на нефть, медленно съедала белизну чашки, пока не остался только узенький просвет между золотым ободком и дымящейся поверхностью кофе. Мать опустила сахар. Второв смотрел на ее распухшие от подагры пальцы и мучительно пытался вспомнить, что же он все-таки хотел сделать для нее. Так и не вспомнив, он подвинул к себе чашку и развернул газету. Бумага, пахнущая краской, шуршала и трещала, как перекрахмаленная рубашка. Просовывая под газетой руку, Второв на ощупь брал бутерброд и запивал его горячим, обжигающим язык, кофе. Для этого ему приходилось поворачивать голову направо, чтобы пар не застилал строчек. Когда очки запотели, он опустил газету и встретился с ласковым, чуть насмешливым взглядом матери. — Когда придешь-то? Второв пожал плечами. Мать вздохнула. Унося поднос, она сказала: — Ты уж совсем переселился б туда… Второв еще раз пожал плечами. Спускаясь по лестнице, он видел яично-желтый цвет перил, серые треугольнички на полимербетонных ступенях, выцарапанные мальчишками короткие надписи на стенах. Во дворе у подъезда стояла его машина. Он посмотрел на пыльный радиатор и поморщился. Взял из багажника тряпку и медленно провел по боку кузова. В блестящей полосе отразились его ноги, темный асфальт и неопределенной формы зеленое пятно — должно быть, дворовый сквер.***
Неожиданно Второв понял, что все это время думает только о письме, оставленном на столе в кабинете. А, будь ты неладно! Второв подумал, что он, в сущности, мягкий, слабовольный человек, который просто не в силах справиться со своим чувством. У него не хватает воли, вот в чем дело. Или, может быть, наоборот, он сильный, цельный человек, который обречен на одну-единственную страсть. И здесь уж ничего не поделаешь. Он однолюб, это очевидно. И никто не имеет права упрекнуть его в отсутствии воли. Даже он сам. Он будет думать о письме Вероники до тех пор, пока этот вздрагивающий, вибрирующий вертолет не развалится в воздухе и не придется поневоле приостановить всяческие размышления. Резиденция Кузовкина в известной мере отражала сложный внутренний мир этого человека. Он называл себя академиком-эклектиком, и чудачества его вошли в поговорку. Второв с недоумением и досадой рассматривал огромную поляну, где, подобно большим и причудливым грибам, стояли корпуса Института экспериментальной и теоретической биохимии. Башни, полусферы и параболоиды были разбросаны па зеленой траве с детской непосредственностью. Бетон, стекло, алюминий, пластмасса… и рядом — фанера, обыкновеннейшая фанера. Целая стена из десятимиллиметровой фанеры. Второв неодобрительно покачал головой. “Школьный модернизм, — подумал он. — Показуха наоборот, антипоказуха… Кому все это нужно?” Второв не любил Кузовкина. Ему довелось слышать покойного академика два раза на конференциях, и тот ему не понравился. Он был громогласен и самоуверен. — Я ничего не знаю, но все могу! — кричал Кузовкин с трибуны на физиков, выступивших с критикой его теории субмолекулярного обмена веществ. Он действительно мог многое, но не все. Старость и смерть и для него были непобедимыми противниками. Второв вздохнул и посмотрел вверх. “Тихо-то как! Тихо… Лес остается лесом, даже детскими кубиками его не испортишь”. Хлопнула дверь. Из сооружения, несколько напоминавшего плавательный бассейн, вышли сотрудники в белых халатах. Двое несли длинный ящик с открытым верхом, оставляя на траве топкий след из опилок. Они пересекли двор и вошли в домик, похожий на железнодорожную будку. В небе плыли пышные, словно мыльная пена в лучшей московской парикмахерской, облака, пахло соснами. Мягкий, чуть влажный ветер приятно ласкал кожу. Второв подумал, что, пожалуй, не зря он сюда приехал, хоть чистым воздухом подышит. Во двор медленно въехала машина. Из кабины вышли мужчины и женщина и принялись деловито выгружать картонки и свертки. — Где лаборатория генетических структур? — спросил Второв. Женщина выпрямилась, упершись ладонями в бока. — Вон там. — Она мотнула головой в сторону башни из красного кирпича, разделенной на пять этажей круглыми окнами. Прядь волос сорвалась со лба и брызнула на лицо женщины. Получилась вуаль, из-под которой глядели усталые карие глаза. Второв вспомнил про письмо, которое ждало его дома, и заторопился. “Нагородили черт знает чего… Перила черные, ступени желтые. Лифта, конечно, не догадались сделать…” Он попал в узкий изогнутый коридор. “Стены белые, как в больнице… И пахнет как в больнице: йодом, карболкой и хозяйственным мылом”, — отметил он. На третьем этаже за стеклянной дверью Второв увидел людей, сидевших в удобно выгнутых пластмассовых креслах. Кто-то стоял у доски. Вероятно, рассказывал. По стенам было развешено множество графиков. Второв всмотрелся в листы ватмана. “Усредненная формула миозина и разветвленная схема генетического кода”. Прочел название: “К вопросу о механизме обмена в мышечной клетке”. “Интересно. Значит, покойный академик и метаболизмом занимался. Очень интересно”. Второв хотел было войти, но раздумал. “Пусть их сидят семинарничают. Сначала с лабораторией нужно в общем познакомиться…” На четвертом этаже он отыскал кабинет Кузовкина. Около двери была прикреплена табличка с надписью: “Кузовкин Аполлинарий Аристархович”. И все. Звание и заслуги не указаны, они общеизвестны. Только дата рождения и смерти. Начало и конец двадцатого века. “Жаль! Все же он еще многое мог сделать, шестьдесят три для ученого-экспериментатора — это не рубеж”, — вздохнул Второв. Со смешанным чувством смущения и непонятного раздражения нажал ручку двери. То ли движение его было слишком резким, то ли дверь была слабо закрыта, но случилось неприятное. Раздался щелчок, дверь распахнулась, и Второв влетел в комнату. Двое мужчин, стоявших возле письменного стола с мензурками в руках, на миг застыли в изумлении. На развернутой газете лежала крупно нарезанная колбаса, ломти белого и черного хлеба, коробка бычков в томате. Здесь же приютилась узкогорлая колбочка с остатками прозрачной жидкости. Пахло спиртом и табаком. — Здравствуйте! — смущенно сказал Второв. — Здравствуйте… — протянул брюнет. — Здоровеньки булы! — подмигнул блондин с редкими прямыми волосами и узким лицом. Брюнет поставил недопитую мензурку на стол и вопросительно посмотрел на Второва. Блондин поколебался, но выпил (он тоже пил из мензурки), взяв для закуски кусок колбасы и белый хлеб. — Прошу прощения, я, кажется, помешал? — Ничего, ничего, — сказал блондин. — А вам кто, собственно, нужен? — Моя фамилия Второв, мне временно предложили руководить лабораторией… Блондин покраснел и поправил газету, словно его смущало обнаженное тело колбасы и красные пятна томатного соуса. Брюнет медленно попятился от мензурок с разведенным спиртом. Полоска света от окна между ним и краем стола начала расти так мучительно медленно, что Второву захотелось толкнуть его. — Отмечаете? — неопределенно сказал он и шагнул мимо стола к окну, где стояли приземистые шкафы с книгами. Второв чувствовал, что начинает краснеть, нужно было как-то действовать. — Совершенно лояльно! То есть вы попали в самую точку: отмечаем, празднуем, — шумно выдохнул блондин. — День рождения вот… у него. А здесь кабинетик пустует. Вот мы и собрались обмыть, так сказать, его… Он ткнул пальцем в брюнета, уже успевшего отдалиться на почтительное расстояние от стола и приблизиться к распахнутой настежь двери. Тот застыл на несколько мгновений, соображая, к чему ведет подобный поворот ситуации. — Да, — неуверенно сказал он, — день рождения у меня. Я родился… Брюнет уже освоился и решительным шагом приблизился к столу. — Может, вы с нами за компанию, так сказать? — нарочито веселым голосом спросил он и взялся за колбу. — Вот именно! В честь знакомства, — заулыбался блондин, — химического напитка… Второв посмотрел на них. Черти этакие. Этот блондин, должно быть, плут и пройдоха, каких свет не видывал. — Хорошо, — сказал Второв, — налейте. Ради знакомства. — Как вас величают-то? — полюбопытствовал блондин. — Александр Григорьич. — А меня Сергей Федорович Сомов, я главный механик в этой лаборатории, а он электрик наш, институтский, значит. Они выпили, закусили и помолчали. “Непедагогично все это, — мучился Второв. — В первый же день выпивать с будущими подчиненными… А впрочем, лучше в первый, чем в последний!” И все же Второв был смущен, как обычно, когда обстоятельства заставляли его поступать против своей воли. “Я никогда не мог устоять против неожиданного нахальства. Чтобы поступить правильно, мне всегда требовалось некоторое время на раздумье, я очень туго ориентируюсь. Очень туго”. Выпив, Сомов развеселился. По его лицу разлился румянец, глаза заблестели. Он толкнул в бок “именинника”. — Вот не гадали, Стеценко, что мы сегодня с тобой будем новое начальство обмывать! А? — Да, — сказал Стеценко басом, — это уж факт. — А кто сейчас лабораторией Аполлинария Аристарховича командует? — спросил Второв. — Считается, что новый директор, — словоохотливо объяснил Сомов, наливая себе спирта, — но мы видели его за это время всего один раз. Оно, правда, после Аполлоши, не в обиду будет сказано, Филипп будет помельче. И фигурой, и головой не вышел. Правильно, Анатолий? — Точно. Насчет головы не знаю, а с фигурой у покойника было все в порядке. Высокий, плечистый, и сила у него была дай бог. — Да, а ведь старик, пенсионер считай. А как тогда он эту тележку свернул, а? — Сомов просиял, словно он сам совершил этот подвиг. — Какую тележку? — удивился Второв. — Было тут одно дело, — улыбнулся Стеценко. — Старик выезжал со двора на своей машине, а в воротах наши подсобники застряли с тележкой, на ней возят корм для зверья. Мотор заглох, и как-то она у них так развернулась и стала поперек, что ни пройти ни проехать. Ждал, ждал академик, а работяги копошатся и ни с места. Известно дело, народ слабосильный… — После выпивки, — разъясняюще вставил Сомов. — Да. Одним словом, рассвирепел Аполлон, выскочил из машины и вывернул все в кювет. И понес, и понес… — А в ней не меньше трехсот килограммов, — сказал Сомов. — Больше, — заметил Стеценко. — А свидетели этого происшествия, наверное, тоже были под хмельком? — улыбнулся Второв. — Ей-ей, Александр Григорьич, — горячо запротестовал Сомов, — вот вы не верите, а пойдите спросите хотя бы нашу лабораторию, да и весь институт вам скажет, как один человек… — Что же скажет мне институт? — Необыкновенный человек был покойник. То есть такие номера откалывал, уму непостижимо. Особенно в последние годы, перед смертью. — Ну посудите сами, товарищи: старику за шестьдесят, а он такие тяжести ворочал. Вы можете быть самокритичными? — Мы очень критичные, — убежденно сказал Стеценко, — но такое дело было, это факт. — Да, — подтвердил Сомов, — было, ничего не скажешь. А какой у него глаз, ого! Все видел, все помнил! Как у нас прорабатывали Николая, помнишь, Толя? — Все тогда говорили об этом, — кивнул головой Стеценко. — Вы знаете, у нас здесь один парень проштрафился, прогулял два дня, — рассказывал Сомов. — Разбирали его дело на собрании коллектива лаборатории, и нужно было рассказать, как Николай пришел на работу, что делал — одним словом, дать характеристику. Сам Николай сказал два слова и молчит. Тогда выступает академик. И как начал!.. Вот уж голова, я вам скажу. Все описал: когда Николай поступил, как был одет, что говорил. Даже цвет туфель запомнил. И что Колька курил сначала сигареты с мундштуком, а затем бросил и перешел на папиросы, тоже упомнил. “Легендарная личность”, — подумал Второв. Его стала немного раздражать предупредительная словоохотливость механиков, и он прекратил расспросы. Сомов, видно, почувствовал скрытую напряженность нового начальника. Он свернул газету и прихватил колбу. — Мы пойдем, Александр Григорьич. Спасибо за компанию. Извиняйте, если что не так. Пошли, Стеценко. Они ушли. Второв открыл окно. В комнату ворвался лес, свежий и пахучий. Где-то совсем рядом пели птицы; казалось, что их пронзительные голоса раздаются в самом кабинете. “А ведь здесь действительно неплохо. Тишина, свежий воздух, и людей в лаборатории немного. Кузьмич молодец, что сунул меня сюда. Немного передохну от сумасшедшей гонки…” Второв потянулся, зевнул и тряхнул головой, отгоняя назойливые мысли о неоконченной работе по вторичным структурам ферментов. Где-то среди обрывков формул и реакций всплыл голубой конверт с письмом и тут же исчез, смытый новым потоком мыслей. — Директора, пожалуйста… — Телефонная трубка, тысячи раз бывавшая в руках Кузовкина, была холодной и очень чужой. — Филипп Савельич? Это Второв. Алексей Кузьмич звонил вам?.. Да, я согласен. Знакомлюсь с лабораторией. К концу дня зайду к вам. Нет, для меня очень важно первое впечатление, а потом я буду готов выслушивать разъяснения. Вы правильно поняли меня. Добро. Второв улыбнулся и положил трубку. Филипп явно обрадовался. Ему нелегко тянуть неожиданно свалившийся на него груз. Покойный академик директорствовал, заведовал лабораторией и одновременно участвовал в многочисленных советах, консультативных органах, комиссиях и организациях. Филипп, с которым Второв кончал биологическое отделение университета, был слишком молод и неопытен для подобной работы. Он задыхался в потоке писем, предложений, приказов, планов, запросов, ответов, претензий, заявлений, жалоб… Ему хотелось сделать все наилучшим образом. А это невыполнимо. Никогда не получается, чтобы все было одинаково хорошо. Примат главного над второстепенным еще не был осознан новым директором Института биологии. Поэтому появление Второва воспринималось им как спасение. Второв избавлял его от необходимости совмещать с директорским постом заведование лабораторией генетических структур, как это было при Кузовкине… — Разрешите? — на Второва преданно смотрел темноволосый мужчина. Этим вопросом началось знакомство с сотрудниками, которое закончилось уже вечером. Второв пожал десятка два рук, обошел “башню” с первого по пятый этаж, поговорил с множеством незнакомых людей и, в итоге, безумно устал. Недельский, старший из молодых, близкий ученик Кузовкина, произвел на него довольно отталкивающее впечатление. “Талант, обильно сдобренный цинизмом, похож на воровство, его легко отличить по смрадному запаху. Как трудно иметь дело с такого рода людьми! На таких нельзя положиться, они начинают предавать уже в утробе матери… А вот этот… Гарвиани — забавный тип. Хитер, хитер… но, кажется, с головой… Артюк очень легкомысленный. Впрочем, надо проверить… Бесчисленное множество девочек из специальной школы, лаборантки, лаборантки…” — подводил итог Второв. Он сидел в кабинете и устало перебирал впечатления от всего, что увидел и услышал за день. Сцены и слова, обрывки фраз, случайный взгляд и многозначительная пауза — все это надежно отпечаталось в его памяти. Сейчас из мозаики ощущений и впечатлений ему предстояло составить нечто, именуемое лицом лаборатории. Рабочий день кончился, и Второв уже собрался уходить, когда девушка-курьер принесла пакет из плотной бумаги с печатями. — Это вам, — сказала она. Увидев фамилию Кузовкина, Второв сначала рассердился, потом рассмеялся. — Я же еще не принял дела! Сегодня первый день… — Филипп Савельич сказал, что вы разберетесь. Если что нужно, звоните ему. — Хорошо, оставьте. “Жулик этот Филипп, — думал Второв, рассматривая письмо, — обрадовался… В первый же день насел на человека. Придется с ним воевать. Он в пылу административного рвения завалит меня бумажками…” Письмо было из Госкомитета, имеющего непосредственное отношение к космическим делам. Второе бегло пробежал первые строки: “…доводим до сведения дирекции института и коллектива лаборатории генетических структур, что нами до сих пор не получен отчет по теме № 17358. Исследование, начатое полтора года назад академиком Кузовкиным А.А., включено в план особо важных государственных работ по изучению космоса. Информационные отчеты по этой теме, полученные от вашей лаборатории, носят общий характер и не могут служить достаточным материалом для каких-либо выводов по изучаемому вопросу. Прошу сообщить, в каком состоянии находится работа и к какому сроку лаборатория вышлет заказчику окончательный отчет. Главный специалист доктор физ. — мат. наук Слепцов Н.Н.” Второв немедленно набрал телефон Недельского. — Виктор Павлович, кто у вас работал по теме 17358? — Не могу знать, Александр Григорьевич. А почему вы обратились именно ко мне? — Вы старший научный сотрудник, и мне показалось, что… — Вы ученый и знаете, как ошибочно все, основанное на слове “показалось”. Мне, конечно, приятно, что вы отметили мою скромную фигуру. Но вы ошиблись. При покойном Аполлинарии Аристарховиче не я был его заместителем, а Рита Самойловна. Вам придется набрать номер телефона 12–65, она в соседней комнате. Торопитесь, рабочий день кончается, а Риточка долго не задерживается. — Рита Самойловна? — Второв был так удивлен, что не успел переспросить Недельского и тот уже положил трубку. Во время сегодняшнего обхода башни был момент, когда Второву удалось оторваться от сопровождающих его лиц и остаться одному. Он очутился перед узкой стеклянной дверью, закрашенной изнутри белой масляной краской. Когда он вошел в комнату, то увидел там женщину, которая показалась ему несколько странной. Чем? Этого он так и не понял. Она сидела за маленьким столиком и равнодушно смотрела сквозь Второва. Ее взгляд как будто проницал светлый второвский пиджак, сорочку, белье, мускулы, ребра, легкие и, не задерживаясь, уносился прочь. Прямой, строгий, печальный. Равнодушный, как дневной свет. Он пролетал сквозь атмосферу и растворялся в космической бездне. “Сейчас она видит звезды… Сириус, Кассиопею или… Черную пустоту”, — подумал Второв и кашлянул. Лицо женщины на секунду исказилось, как бы от внезапной боли. Она возвращалась из своего далека мучительно и неохотно. За бегство из миража она платила страданием; большие светло-серые глаза сразу же сузились и потемнели. Словно схваченные цементным раствором, каменели мускулы лица, утрачивая нежные и зыбкие линии. Чуть приоткрытый рот, милый и теплый, сжался в напомаженную полоску. Это была Рита Самойловна. Ее не очень выразительные ответы раздосадовали Второва. Казалось, она хотела побыстрее от него отделаться. Либо просто не могла собраться с мыслями и отвечала невпопад. “Кузовкин окружал себя невзрачными людьми, чтобы оттенить собственную оригинальность”, — подумал он в первую минуту. Но сразу же засомневался, так ли это. Слишком уж яркой личностью был академик… И вот, оказывается, эта серая, едва попискивающая научная мышка была правой рукой академика. Второв пожал плечами и вызвал Риту Самойловну к себе. Она вошла походкой усталой и чуть развинченной и, ничего не сказав, посмотрела на него. Конечно, она и сейчас витала где-то очень далеко от него, но сознание ее было мобилизовано. — Садитесь, пожалуйста, — сказал Второв. — Вот письмо, прочтите и объясните, как мы можем на него ответить. Риточка (он про себя называл ее так из-за хрупкости, худобы и детской нежности шеи) села в кресло и взяла бумажку. Второв разглядывал ее аккуратную, очень модную прическу и д\мал, почему эта женщина вызывает у него чувство жалости. Она далеко не беспомощна, во всяком случае, не так, как это кажется ему, Второву. И все же чем-то она напоминает обиженного ребенка. — Так что же им можно написать? — спросил он и увидел, что она плачет. Рита плакала, не поднимая головы, слезы падали на письмо. Подпись доктора физ. — мат. наук Слепцова тонула в чернильном подтеке. Второв осторожно взял письмо из ее рук. — Что с вами? Вам плохо? “Какие глупые вопросы задают люди в минуты растерянности. Конечно, плохо! Очень плохо!” — Я не знаю, не знаю, что им надо отвечать! — Она запрокинула голову, и Второв увидел в ее глазах ужас. Это был стопроцентный животный страх загнанной жертвы. В ее искренности не приходилось сомневаться. — Успокойтесь. Хотите воды? Воды она не хотела, она ничего не хотела, ей было очень плохо, очень-очень плохо. Второв разозлился. — Я, конечно, сочувствую… Я вижу, что вы глубоко взволнованы, но… простите, я не могу допустить, что причиной, черт возьми, является вот эта писулька! — Он помахал в воздухе посланием Слепцова. — Разве дело в письме? Все гораздо сложнее. — Рита Самойловна перестала плакать и, вытирая глаза, смотрела на Второва обреченным взглядом. — Я знала, что так и будет, я знала, что они не позабудут. Это слишком важная вещь… Как они могли позабыть про нее… Я знала, но ничего не могу поделать… — Простите, Рита Самойловна, — сказал Второв, — но я вынужден, вы поймите меня правильно, вынужден настаивать, чтобы вы были откровенны со мной, иначе я ни в чем не смогу разобраться. Я здесь новый человек, и вы должны мне помочь! Рита покачала головой. Казалось, она начала успокаиваться. — Все говорят это слово, — задумчиво сказала она. — Он тоже говорил это слово: “Ты должна помочь мне”. А потом он услышал, как капает вода в блоке фокусировки, бросился к установке, его руки попали в кварк-нейтринный поток… Затем произошел взрыв. Он погиб, это было естественно, а я осталась жива. Вот в чем дело, товарищ новый начальник лаборатории. Я утром еще хотела вам это рассказать, но сдержалась, неудобно было так сразу удивлять нового человека своими странностями. А теперь я рассказала, и мне легче. Я всем это рассказываю, мне становится легче, но потом я снова вижу эти руки с белыми манжетами… Она закрыла вялыми, словно из пластилина, пальцами лицо, и сквозь них потекли слезы. “Вот плачет теперь”, — с тоской подумал Второв и неумело принялся утешать. Он предлагал ей воду, гладил ее по голове, осторожно похлопывал по плечику. “Вот передряга… — думал он. — Науки особой я не вижу, но зато эмоций — как на сцене”. Когда Рита утихла, он спросил: — Какая работа проводилась с образцами, полученными из Комитета? — Какая? Обычное химическое и физико-химическое исследование. Я хорошо помню ампулу, которую нам доставили из Комитета. Она была в свинцовом ящичке. Почему в свинцовом? Смешно! Они, наверное, боялись радиоактивности. На ящичке был замок с секретом. А секрет-то нам и не прислали! Вот мы и ломали голову. Но он открыл его. Он все мог, если хотел. Она на миг замолчала, потом проговорила: — …Начало закипать в узле фокусировки. Знаете, как закипает вода в таких закрытых сосудах? Толчки и удары, сначала небольшие, потом сильнее, сильнее, а потом — шшширх!.. Очевидно, где-то была тонюсенькая дырочка, и через нее пар засвистел. И тогда он бросился к аппарату, а руки, большие теплые руки, попали под этот проклятый кварк-нейтринный луч. Затем взрыв — и все было кончено… А я осталась и сижу здесь с вами, разговариваю о том о сем… “Обалдеть можно”, — подумал Второв. — Но ведь прошло уже столько времени… — робко заметил он, — и… Второв не докончил свою мысль: Рита неожиданно грозно взглянула на него, и он вновь ощутил странную силу ее отрешенного взгляда. — Все началось с нее, с ампулы, и если б я могла предвидеть! — говорила она как во сне. — Предвидеть, видеть, любить, ненавидеть… Если бы я могла не видеть этих рук, они струятся и осыпаются, как песок, но это не тот речной или морской песок, сладкий песок, где мы загорали вместе. Это страшный песок, за которым взрыв, и больше ничего. Все разметано, разнесено, и вот я сижу здесь и разговариваю с вами о том о сем… “Сумасшедшая! Типичный случай маниакального бреда”, — подумал Второв. Наступило тягостное молчание. Женщина, казалось, совсем успокоилась и равнодушно глядела в окно. “Она удивительно быстро умеет переключаться. Вновь унеслась в космические дали. Ну и денек у меня! Ибо сказано: понедельник — день тяжелый. Правда, сегодня не понедельник — вторник. Чего же она теперь молчит? Глупость какая-то. Как всегда трудно с женщинами — своенравный парод. А глаза у нее приятные”. — Может, вы не хотите объясняться со мной, новым для вас человеком? Тогда пойдемте к Филиппу Савельичу, он нас выслушает. — Нет. Зачем? — Рита Самойловна говорила очень спокойно, чуть хрипловатым голосом курильщицы. — Вся беда в том, что я ничего больше не могу рассказать. Вот и все… Ровным счетом ничего. Она поднялась и ушла, не обернувшись и не попрощавшись. — Постойте! — крикнул Второв. — Что жемне делать с этим письмом? — Что хотите. Дверь закрылась без стука, но довольно стремительно. Второв разволновался. Поведение Риты Самойловны было вызывающе бессмысленным. Он решил пойти к директору. Когда Второв рассказал о письме из Комитета, Филипп забеспокоился. — Черт возьми, могут быть неприятности. Заказчик-то больно задиристый. Знаешь, как с ним связываться? А что же Рита говорит? Впрочем, ладно, по дороге расскажешь. Пора домой. … Директор уверенно вел вертолет. Они плыли над темно-синей вечерней землей, осыпанной кое-где золотыми точечками света. Второв рассматривал Филиппа сбоку. “Студентом он казался крупнее. Совсем высох за эти десять лет. Маленький озабоченный лоб тревожно насуплен. Любят люди власть, и чем меньше человечек, тем большая власть ему нужна”. — Слушай, Филипп, что с этой Ритой Самойловной? Она произвела на меня впечатление помешанной. Все время рассказывала о том, как погиб Кузовкин, и больше ни одного слова я не смог из нее вытянуть. Так и ушла. — Да, да, — забеспокоился Филипп, — мне говорили, что она вроде слегка помешалась после гибели старика. Совсем больной человек. Надеялись, что время ее подлечит, но, кажется, наши прогнозы не оправдываются. Придется взяться за ее лечение по-настоящему… Должен признаться тебе, что положение у меня нелегкое. Хозяйство после Кузовкина мне досталось сложное и в ужасном беспорядке. — Я уже заметил. В маленькой лаборатории такое разнотемье, такой разброс в исследованиях, что непонятно, как можно руководить и направлять эту разношерстную орду. Тут и физики, и техники, и химики, и кто угодно. — Аполлон был дьявольски талантлив. — сказал Филипп, — он умел из ничего сделать что-то вкусное. — Знаю я, — отмахнулся Второв, — академик с эклектическим уклоном! Политехника в исследованиях хороша в начальной стадии, а затем продвижение вперед возможно только при концентрации больших сил на очень узком фронте исследований. Сила исследовательского давления должна измеряться тысячами тонн. На меньших величинах в наши дни далеко не уедешь. Только очень сильное давление! Тогда возможен успех. — Ты уверен? — Филипп, не поворачивая головы, скосил глаза на Второва. — В чем можно быть уверенным? Природа хитра, хотя и не зловредна. — Второв смотрел в окно, где над синей мглой брезжило ржавое зарево огней. Москва была уже близка. — Истина представляется мне сверхпрочным материалом, разрушить который можно, только сосредоточив огромные усилия на очень маленькой площади. — А стоит ли разрушать истину? — Познание идет дорогой развалин. Анализ — суть расчленение. — Из развалин вырастают новые здания. Но шутки в сторону. Что будем делать с письмом из Комитета? — Ты директор. — Я директор и поэтому поручаю тебе это деликатное дело. Письмо и аннотация отчета должны быть направлены в Комитет не позднее следующей недели. Второв не ответил. Становилось все светлее. Профиль Филиппа, казалось, был вырезан из жести. Москва подмигивала и улыбалась гирляндами огней. Они находились уже в пределах третьей зеленой зоны. — Давай, Филипп, договоримся с самого начала… Директор молчал. Третьей в этом вертолете сидела неприязнь, она еще не мешала дышать, но занимала много места. У нее были злые глаза, она молчала, но взгляд ее чувствовали оба. — Давай договоримся, Филипп, что будем работать, а не командовать. И, помолчав, сухо отрезал: — Я еще не принял дела, и у меня есть время подумать. — Ты меня неправильно понял. — Старуха неприязнь улепетнула через закрытую дверь, в кабине стало свободнее. — Это прозвучало совсем не так, как я того хотел. В потенции это была безобидная шутка. — Потенции, как правило, невидимы для постороннего глаза, их могут оценить только те, кто ими обладает. Прощаются они тепло, почти дружески. Дальше Второв поедет обычным транспортом. От Химок идет метро. Дома Второв прежде всего прочел письмо от жены. Через несколько минут он вышел из своей комнаты с распечатанным конвертом. — Мама, она приедет на этой неделе. Мать осторожна, мать чутка. Она накрывает на стол, ее руки и голова заняты, она не торопится откликнуться на новость. — Да? — Это не вопрос, но и не удивление. Скорее, эхо. — Ты представляешь? — Он криво улыбается, но глаза веселые. — Ты рад? Мать никогда не простит невестке, оставившей ее сына, но она сделает все, чтобы ему было хорошо. Второв пожимает плечами. Он не знает, он никогда не мог разобраться в этом проклятом вопросе. — Тебе нужна жена. Тебе уже тридцать пять. Я только не уверена… Второв смотрит на мать. — Что это должна быть именно Вера, — с трудом договаривает она. Невестке нет прощения, она должна нести кару, но и сын… Очень трудно быть объективной и справедливой. — Пятьдесят процентов вины лежит на тебе. Второв опускает взгляд в тарелку. Таковы они, женщины: думают изменить мир голыми руками. — Нет, двадцать пять, — говорит он. — Не шути, мой мальчик, не смейся. Ты очень плохой муж. Ты не держал жену в руках, ты просто позволял ей существовать рядом с собой. — Это, по-моему, истинная интеллигентность. — Ты плохо знаешь женщин. — С нас слишком большой спрос. Мы должны знать языки, математику, химию, астрономию, политэкономию и женщин тоже. Я считаю, что программа несколько перегружена. — Может быть, но это жизнь. — Да, ты права. Но все же я хотел бы кое-что исключить из своей жизни. — Что же? — Избыточную информацию. Бесполезное знание существа женской натуры. Мать вздыхает. — Не думаю, чтобы это было бесполезно. В общем, смотри сам. Все мужчины так самонадеянны. Мать уходит, а он остается. Она уходит, чтобы набрать силы для новой атаки. Она возвращается и приносит слоеные хрустики. Эти нежные спирали из подрумяненного теста автоматически переводят стрелку времени назад, в детство. Второв улыбается и запускает руку в вазу. — Будет серьезный разговор, мама? — Да, сынок. — О чем? — О тебе. — Тема выбрана не совсем удачно. Разработка указанного направления малоперспективна. — Возможно, но… оставим шутки. Что ты думаешь делать с Вероникой? Второв поморщился. — Как — что? Встретимся, поговорим, обменяемся впечатлениями, и, пожалуй, все. Мать поджала губы и посмотрела в окно. — Слушай, Саша, так это продолжаться не может. Уже прошло пять лет с того момента, как эта женщина оставила тебя. Она бросила тебя ради легкой жизни… — Прости меня, мать, — торопливо перебил ее Второв, — мы еще с ней не разведены, давай будем говорить о ней уважительно. Да и не знаем мы, насколько легка ее жизнь. А кроме того, заочно осудить человека, ты сама понимаешь, просто нехорошо. Наступило долгое молчание. “Какой тяжелый и неприятный разговор! Кому это нужно? Почему люди должны мучить друг друга?” Но мать решила довести свое расследование до конца. Она еще плотнее сжала губы. — Я имею право говорить так, как я говорю, — сказала она упрямо. — Ну хорошо, хорошо, мама… — Видишь ли, Саша, возможно, что ты ее еще любишь, даже наверное так это и есть, иначе какой нормальный мужчина позволит водить себя за нос так долго… — Я псих, мама. — Не паясничай. Ты должен понять, что я ничего против Вероники не имею. Я могу понять ее как женщина, но я не могу согласиться с ее поведением. Да, я ее осуждаю. Но ты тоже неправ. Ты неправ по существу. И я тебе заявляю: так продолжаться не может. — Что же делать? — Ты должен развестись с ней, если… она не пожелает вернуться. Хотя я не знаю, с каким лицом она могла бы это сделать. У тебя должна быть семья, дети. Пора уж наконец… Второв молчал, опустив голову на руки. — Мама, как ты думаешь, зачем мы живем на свете? Мать внимательно взглянула на него и улыбнулась: — Поздновато приходит к тебе этот вопрос. — Раньше некогда было, я отвлекался. — Не притворяйся. Ты все и сам отлично знаешь. — Свой ответ я знаю, мне хочется знать твой. — Я лично вижу смысл жизни в исполнении долга по отношению к тебе и… другим людям. Второв улыбнулся. — Да, мама, это я чувствовал всю жизнь. В течение тридцати с лишним лет я тоже выполняю свой долг, но сейчас меня интересует вопрос, в чем смысл этого долга. — Делать добро, быть справедливым… — Ты считаешь, если я разведусь с Вероникой, это будет добро по отношению к ней? Мать чуть покраснела. Проглотила слюну и встала. — Прости меня, мама, я не хотел тебя обидеть. — Нет, я понимаю. — Она отстранила его протянутую руку. — Но если хочешь внести ясность, необходима требовательность к себе и другим, иначе все можно так запутать, что и… — Ясность, ясность! — воскликнул Второв, вскакивая со своего потертого перлонового кресла. — Моя милая мамочка, ты хочешь невозможного! У кого есть ясность, кто может взять на себя смелость сказать, что у него все в жизни ясно и просто? Кто?! Ты? Я? Да нет же, ей-богу! Все очень сложно, запутанно, непросто. В нашей жизни нужна не ясность, а чуткость. Мы любой узел считаем гордиевым, мы слишком часто и слишком легко вынимаем меч для того, чтобы разрубить сложные узлы наших взаимоотношений. Люблю ли я Веронику? Не знаю, мама! Не знаю, можешь не смотреть на меня так. Любит ли меня она? Не знаю, мама! Я ничего не знаю, понимаешь, почти ничего! — Не кричи. — Я не кричу, я просто хочу, чтобы ты поняла, что у меня да и у нее есть больное место, которое… которому… — Второв осекся и махнул рукой. — Успокойся, — сказала мать. — Я не волнуюсь, мне просто трудно об этом говорить. — Хорошо, не будем. Только помни: между слабохарактерностью и настоящей добротой большая разница. Нужно быть мужественным и твердым в некоторых вопросах. — Мама! …В этот вечер Второв долго сидел за своим письменным столом, уставившись невидящим взором в окно, за которым полыхала многочисленными огнями Москва. Разговор с матерью взволновал его. “Ну что за жизнь, ей-богу! — думал он. — Кажется, уже давно определена главная цель, сделан выбор, отступлений нет и быть не может, и все же время от времени приходит полоса сомнений, каких-то мелких необоснованных разочарований. Почему? Ведь все правильно… Вторичные структуры белков — тема увлекательная, тема грандиозная, нужная людям, нужная стране, промышленности. Каким откровением был первый искусственный синтез белка! Ученые и пресса трубили во все серебряные фанфары: у природы отнята одна из самых главных тайн жизни, люди научились производить кирпичи, из которых создано все живое. Сенсация, сенсация, сенсация! Премии и конференции, приемы и конгрессы. А затем наступило разочарование. Оказалось, что мало научиться собирать из отдельных химических групп белковую молекулу, по составу совершенно одинаковую с природным белком. Нужно было привести эти молекулы во взаимодействие со средой и определенным образом расположить в пространстве. Возникла проблема вторичных структур, структур высшего порядка. Оказалось, что активность белка находится в поразительной зависимости от геометрической конфигурации молекулы”. Второв был крупнейшим специалистом Союза по вторичным структурам искусственных биополимеров. Его лаборатории удалось приблизить активность белка, синтезированного in vitro к активности природного белка. К сожалению, только для двух типов белка были получены положительные результаты. Только для двух! А их насчитывалось около тысячи! Тысяча искусственных белков должна была пройти через руки структурщиков, прежде чем попасть в больницы и к технологам. “А я, как назло, связался с лабораторией Кузовкина. Зачем она мне нужна? Ведь совершенно нет времени, да и Филипп, очевидно, не очень легкий человек. Ни к чему мне дополнительные заботы о чужой тематике. И обстановка в лаборатории странная. Одна Рита Самойловна чего стоит! И с этим Комитетом неприятностей не оберешься… Они либо образцы потеряли, либо… Почему плакала Рита? Нет, нет, с этими загадками нужно расстаться. Завтра же пойду и скажу Кузьмичу, твердо скажу, глядя прямо в глаза: “Я не согласен. У меня слишком много работы, своей работы, нужной работы”. Пусть Филипп сам расхлебывает кашу, заваренную покойным академиком-эклектиком”. …В этот же вечер на самый большой московский аэродром, расположенный в Домодедове, прибыл самолет из одной латиноамериканской страны. Среди пассажиров была высокая тонкая блондинка с серьезными серыми глазами. Она легко сбежала по трапу и остановилась, чему-то улыбаясь. Ее обгоняли высокие темнокожие иностранцы. Один из них заглянул в мокрое от слез лицо женщины и спросил по-русски: — Мадам, помочь? — Зачем? Я дома! — Она энергично зашагала к зданию аэропорта. Женщину никто не встречал, но это, казалось, не очень ее трогало. Она с легкой улыбкой прислушивалась к звукам поцелуев и восклицаниям, которые раздавались вокруг. Эта улыбка не сходила с ее лица, когда она ехала в такси и когда получала ключи от номера в первоклассной гостинице “Россия”. И, только набирая телефон, она на мгновение стала серьезной и в ее глазах проглянули тревога и робость. Она остановилась на последней цифре и положила трубку на рычаг. Она больше не улыбалась, глаза ее погасли, сильные пальцы нервно барабанили по столу. Теперь было видно, что она немолода, не совсем молода, и очень устала и ей не идет неровный пятнистый загар на шее и на щеках. Ей было немножко страшно и неловко, она помедлила, засмеялась и набрала номер. …За несколько минут до того, как прозвучал телефонный звонок, Второв почувствовал странное неприятное волнение. Он готов был поклясться, что с ним произошел обморок или легкое головокружение. Во всяком случае, некоторое время он находился в забытьи, в этом он был уверен. И вот тогда-то в комнате кто-то произнес: — Помогите! Голос был женским, конечно, женским. Каким же ему еще быть? Он доносился издалека, глухой, придавленный неведомым грузом. Женщина кричала: — Помогите! И Второв увидел ее лицо в радужных пятнах света, отброшенного настольной лампой. Потом он себя уверил, что не было никакого крика и он не видел никакого лица. Потом ему очень легко удалось доказать себе, что ничего не было, кроме легкого головокружения. Тем более, что резкий звонок телефона смыл с него забытье, как холодный душ — усталость. — Это Вероника. Я уже здесь. Если хочешь меня видеть, приезжай сейчас. — Здравствуй, Вера. У тебя космические темпы. Я только два часа назад прочел в твоем письме, что ты собираешься приехать, вернее, прилететь… Уже одиннадцать часов. Это не поздно? — Ресторан работает до двух, кроме того, здесь есть ночной бар. Я буду ждать тебя там за столиком, слева от входа. “Самое главное — не поддаться ей с ходу. Нужно устоять во что бы то ни стало”. — Второв напрягся до предела. — Слушай, Вера, давай отложим на завтра. Ты все-таки устала. Да и я… Все это так неожиданно. Он замолк. Трубка тоже молчала. — Ну хорошо, — равнодушно сказала жена, — завтра так завтра. “Ну и денек!” — подумал Второв.ВТОРОЙ ДЕНЬ
Все повторялось. Повторялся вчерашний день. И летний воздух так же был пронизан множеством запахов: бензина, разогретого асфальта, тополей. Как и вчера, Второв направился в кабинет директора, где катил серо-голубые волны необъятный нейлоновый ковер. Все повторялось. Только память каждый день накручивалась на новый валик. И Второв думал сегодня не о письме. Он вспоминал голос. Ее голос. Он проклинал себя за то, что не поехал. Не спал почти всю ночь. Мучился и размышлял. Вдруг она уедет? Обидится? Обозлится? Не захочет больше видеть его… Но не мог же он, в самом деле, по первому зову, по небрежному, едва заметному движению пальца вновь ползти к ее ногам. Есть же у него, наконец, мужское самолюбие! Есть ли? А может… Да если и есть, нужно ли оно здесь, в этом случае, когда приехала она? Она! Второв толкнул дверь с самым решительным видом. Он должен отказаться от совместительства. Он категорически возражает, просто не может, физически не может, черт побери, руководить двумя лабораториями. Пусть назначат заведующим лабораторией Недельского, он один из лучших учеников Кузовкина. Или ту же Риту Самойловну. Не бог весть что, но все же… А он не может. У него нет времени на пустяки. На этот раз он должен выиграть битву за Веронику… — Дорогой Александр Григорьевич, у вас прекрасный вид! Сразу ясно, что свежий воздух идет вам на пользу. — Алексей Кузьмич вспорхнул над столом и приветливо затрепетал крылышками. “Погоди ж ты, старый лицемер”, — подумал Второв и упрямо сжал губы. — Не знаю, как вид, а вот сейчас наш институтский врач предлагал бюллетень. — В чем дело, батенька? — всполошился директор. — Да вы же знаете, кровь у меня неважная. Лейкоцитов не хватает. — Ну, — улыбнулся Алексей Кузьмич, — только не слушайте никаких врачей. Они помешаны на профзаболеваниях. Чуть у кого на пару лейкоцитов меньше нормы, — лейкоцитоз, выше- лейкемия. Не слушайте, не поддавайтесь их внушениям. Залечат, запилюлят, а то еще облучать начнут. Не поддавайтесь им. — Я и не поддаюсь, но все же, Алексей Кузьмич, я пришел к вам с твердым решением. Зазвонил телефон. В дверь просунулась очаровательная Нина Петровна: — Алексей Кузьмич, возьмите трубку, вам загородный. — Простите. — Директор снял белую трубку. Его лицо расплылось в торжественной и хитрой улыбке: — Здравствуйте, Филипп Савельич. Очень рад. Я надеюсь. Да, надеюсь. Вы меня не расслышали? Что-то плохо слышно. Ага. Да. Он как раз здесь, передаю ему трубку. Голос Филиппа был далекий и жалкий. Он слагался из бульканья, хрипов, вздохов и малопонятных слов. “Черт побери, когда же подмосковные линии будут работать хорошо! Легче переговорить с Каиром, чем с Малаховкой”. “Если можешь, приезжай сегодня, — просил Филипп. — Ради бога, приезжай, у нас тут несчастье”. Какое несчастье? “Погибла Рита”. Рита Самойловна? “Ну да, она самая, ты же ее знаешь, вернее, ты ее знал. Приезжай, здесь нужен крепкий человек”. (“Это я крепкий человек”.) А от чего она погибла, почему? “Приезжай, все узнаешь, я жду тебя, мне одному не справиться. С оформлением? Ах, с твоим! Ну, это пустяки, приедешь, все сделаем”. Второв положил трубку и оглянулся. Директора в кабинете уже не было. Его кресло торжественно пустовало. Второв вышел в приемную и спросил секретаря: — Нина Петровна, куда девался Алексей Кузьмич? — Он пошел в обход института, по лабораториям, а потом в президиум. Сегодня его больше не будет. Второв махнул рукой и пошел прочь из слишком гостеприимного кабинета директора. — …Знаешь, я уже совсем было хотел отказаться от лаборатории Кузовкина, но ты своим сообщением выбил меня из колеи. В чем дело? Как погибла эта женщина? Второв сидел в кабинете Филиппа. Тот крикнул секретарше: “Никого не пускать! Телефон только с Москвой и с областным прокурором!” Так им удалось отгородиться от внешнего мира, но ограда оказалась ненадежной. Она как этиленовая пленка пульсировала и прогибалась под тревожными толчками, исходившими извне. Филипп был бледен и деловит. — Ты не представляешь, что творится. Охрана вызвала меня около половины двенадцатого. Я спал в кабинете на диване. Здесь уже сновали медики и эксперты из милиции. Звонил ночью тебе, но ты не отвечал, то ли дома не было, то ли крепко спал. Второв покраснел. Он думал, что звонит Вероника, и притворился спящим, сунув голову под стопку подушек. — Так, что же это было? — спросил он. — Эксперты полагают несчастный случай… или самоубийство. Я не знаю, что и думать. Рита оказалась на высоковольтных контактах, по которым поступает питание на нашу кварк-нейтринную пушку. — Там что, нет ограждения? — Да боже мой, конечно, есть. Вертикальные сетки. Впечатление такое, будто она подпрыгнула и упала туда. Причем упала спиной. Эксперт говорит, что ее что-то отбросило и она перелетела через ограду. Второв помолчал и спросил: — У нее нет мужа? — Нет… Она была очень способная. Я прямо теряюсь, с кем ты там теперь будешь работать. — А Недельский? — Э, классификатор. Да и характерец не дай бог. — Она что, работала одна? — Вот в том-то и беда, что одна. За это с меня сейчас шкуру снимают. У нас нельзя, чтобы вечером меньше двух человек оставалось. Но Рита работник опытный и проверенный. Сама инструкции по технике безопасности составляла. И вот надо же… — Филипп сокрушенно покачал головой. Он прошелся по кабинету, выглянул в окно, словно там, в темном, ароматном лесу, под бархатными зелеными тенями, прятался ответ на мучившую его тревогу. Но лес только сочувственно прошумел, покивал ветвями и верхушками сосен и затих. Филипп отвернулся от окна, вздохнул. — Ты понимаешь, Саша, не нравится мне это дело. И неважно, самоубийство здесь или действительно несчастный случай. Дело в другом, в обстановке. Сама атмосфера эта… Он покрутил пальцами в воздухе, показывая, насколько ему не нравится атмосфера института. Второв внимательно слушал. Филипп вызывал в нем сочувствие. — Ты понимаешь, Саша, я плохо знаю наш институт. Я постоянно в командировках, на заводах, на селе. Мое дело — внедрение. Я и Кузовкина плохо знал, то есть, в общем-то, знал, но так же, как твоего Кузьмича. Когда Кузовкин погиб… — Я знаю… — Хорошо, но учти: он погиб в той же комнате, что и Рита. Причем она же тогда экспериментировала с ним. Чудом осталась живая. Взрыв был такой, что всю комнату разнесло, пожар — и от Кузовкина почти ничего не осталось, одна пыль. Это, между прочим, тоже очень подозрительно: от него — пыль, а она целехонька. — Ночью тоже был взрыв? — Нет, сейчас взрыва не было. Просто Рита попала под высокий вольтаж… обуглилась… страшная картина, Второв с интересом взглянул на Филиппа. “Детектив какой-то получается, — подумал он. — И зачем только я сюда ввязался!” — Они ставили какие-то эксперименты? — Да, конечно, — ответил Филипп. — Наверное, опасные? — А вот на это могут ответить только они сами. — Но Рита после смерти Кузовкина давала показания? Или этим никто не интересовался? — Конечно, давала! И неоднократно. Объяснение простое — взорвалась нейтринная пушка. Вернее, даже не вся пушка, а узел фокусировки. Ты знаешь, там развиваются высокие температуры, и его приходится охлаждать… Одним словом, установить точную причину не удалось. Риту оставили в покое. С тех пор ее считали слегка не в себе. То ли на почве контузии от взрыва, то ли она была так потрясена гибелью Кузовкина, что это вызвало, так сказать, тихое помешательство… Филипп возбужденно прошелся по комнате. — Ты пойми меня правильно, Саша. Я просто не могу заниматься всеми этими вопросами. Я чувствую — здесь какая-то тайна, может быть, даже драма, но не могу же я заниматься всем на свете! Я определенно чувствую, я даже уверен, что Кузовкин ставил совместно с Ритой какие-то очень опасные опыты, за что и поплатился жизнью. Риту, очевидно, это страшно травмировало. Но что, как, почему — я не могу разобраться… — Прости, я перебиваю. Что представлял собой Кузовкин как ученый? Филипп задумался. — Как тебе сказать… Бесспорно, человек талантливый. Академик как-никак! С оригинальным мышлением… Его научное кредо сводилось к прославлению эклектического метода в науке. Он считал, что время чистых наук кончилось, и даже… время наук, возникающих на стыке, всех этих биофизик, химических физик, биохимий и т. д. тоже кончилось. Он говорил, что природа эклектична по своей сути и подход к ее изучению должен быть эклектичным. Отсюда появление таких его работ, как “Симфонический принцип митоза”, “Психология макромолекул живой ткани”, “Революционное и эволюционное учение о генах”… Ну, да ты знаешь. Эти работы здорово нашумели. Сначала как анекдот, потом их стали цитировать. — Особой популярностью они, кажется, не пользовались, — вставил Второв. — Над ними посмеивались… — По-разному бывало, — уклончиво сказал Филипп. — У Кузовкина было немало сторонников и даже последователей. Но… самое главное, что покойный академик не оставил цельного учения. Его блистательные идеи изложены в статьях, выступлениях, докладах. Но ни одного фундаментального труда. Поэтому учение Кузовкина часто воспринимается в юмористической форме. Особенно, говорят, академик чудил последнее время. Сам я в институте бывал редко, я уже говорил тебе, но мне рассказывали про старика потрясающие вещи. Однажды на защите какой-то диссертации он занялся проверкой цифрового материала, прологарифмировал около сотни пятизначных цифр и нашел ошибку. Причем логарифмы он брал по памяти и ни разу не ошибся. Представляешь? — Чудовищно! Просто не верится. Феномен. — Вот так. Потом оказалось, он помнит всю таблицу натуральных логарифмов. “Почитал ее как-то на ночь, — сказал он, — и запомнил, и теперь из головы нейдет, все помню”. — Это уже не первая легенда о Кузовкине, которую я слышу, — сказал Второв, — но до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что подобное возможно. Тем более, что раньше за ним, кажется, ничего такого не замечали. Какой-то предсмертный взрыв гениальности. То, что ты рассказал, напоминает мне о людях, способных автоматически перемножать и делить огромные многозначные числа. В прошлом были, да и сейчас, говорят, есть такие мастаки. Но, как правило, они проявляли свои диковинные способности с малых лет. А у Кузовкина все наоборот — под старость… Филипп пожал плечами и промолчал. — Однако сейчас речь не о нем, — сказал он. — Речь о его лаборатории и той работе, которую она должна выполнять. Я очень прошу тебя вплотную заняться этим. Не вникай ты, ради бога, во все их дрязги. Нечего копаться в прошлом. В первую очередь нужно решить вопрос с космической темой, потому что нам за нее будет наибольший нагоняй. Затем нужно организовать коллектив на выполнение плана, они за эти полгода после смерти Кузовкина почти ничего не сделали, они большие должники перед институтом. — Хорошо, — сказал Второв, — я согласен. Буду совместительствовать, буду тянуть лямку… пока. До первой подходящей кандидатуры. Как только кто-нибудь у вас появится, я сразу уйду. — Есть! — У Филиппа крепкое, деловое, подбадривающее, руководящее рукопожатие. “…Все же дни удивительно повторяются, — думал Второв, разглядывая лицо Недельского. — Вчера был такой же ритм, такой же темп в развитии событий и, кажется, такой же результат… хотя до ночи еще далеко. Вначале я помнил о письме, потом события совсем отшибли мне память. Сегодня с утра я еще помнил, что говорил с ней по телефону, что она здесь, рядом, в Москве, что ее можно увидеть… А сейчас… смерть Риты… Что все это значит?” — А значит это одно, товарищ Второв, — холодно говорил Недельский, устало щуря глаза, — поскольку я никакого отношения к работе товарища Манич… — Это кто Манич? — Рита. Рита Самойловна. Так вот, я продолжаю. Поскольку я никакого отношения к работам, проведенным Манич, а еще раньше академиком Кузовкиным совместно с Манич, не имел и не имею, я не смогу ответить на интересующие вас вопросы по теме номер 17358. — Поскольку я ваш новый заведующий… — Исполняющий обязанности! — уточнил Недельский. — Да, ваша осведомленность обескураживает. Так вот, я продолжаю. Поскольку я ваш начальник, постольку я буду просить вас собрать все имеющиеся в лаборатории материалы по теме номер 17358. — И что я не смогу выполнить, так как я не допущен к секретной работе, а указанная тема является секретной. “Издевается, гад. За что он так невзлюбил меня? Или это инстинктивная подлость? Завидует? Сам хотел занять место Кузовкина, да Филипп не дал? А меня заставили… Господи, — почему ты бодливым коровам рога не даешь? Дай, и они успокоятся. Успокоятся ли?” — Хорошо, я займусь этим вопросом сам. — Второв пружинисто поднялся с места. — Вы свободны. Лаборатория, где произошло несчастье, уже была проверена, осмотрена и обследована теми представителями власти, на обязанности которых лежал этот печальный долг. “Зафиксировали несчастный случай. Очередная жертва науки. Отброшенная от аппарата Рита перелетела через ограду и попала на контакты. Директор, конечно, заработает выговор. Инженер по технике безопасности тоже. Ограждения должны быть сферическими”. Второв внимательно осмотрел лабораторию. Большая, светлая, с окном, выходящим в лес. Посреди комнаты установлена нейтринная пушка, напоминающая обычную кобальтовую установку, широко применяемую в медицине. Под пушкой операционный столик с подвижной кареткой. От сотрясения каретка сдвинулась. В одном углу письменный стол, накрытый плексигласом, в другом — большой железный сейф. — Вот здесь и произошло, — рассказывал Сомов, которого Второв встретил в коридоре и попросил показать место гибели девушки. — Как ее от пушки отбросило, она перевернулась — и на шины. Второв посмотрел. На толстых, с руку толщиной, медно-рыжих полосах темнели два черных пятна… “Нехорошо все это. Темная история. Трудно поверить, что такой опытнейший человек, как Рита, мог быть так по-детски неосторожен. Ведь сама по себе нейтринная пушка — безопаснейшая вещь. Это не рентген, не гамма-установка. Безобидные кварк-нейтрино, поток которых пронизывает Вселенную. Правда, здесь их концентрация высока, но она, как показали опыты, совершенно безопасна для человека. Нет, пожалуй, Филипп прав: все это напоминает самоубийство. — Второв вздохнул. — Ну ладно, посмотрим, что она тут писала”. Он присел к столу, начал перебирать бумаги. Ничего особенного там не было: протоколы профсоюзных собраний (Рита была профоргом), план лаборатории на следующий год, заметки, черновики переводной работы… Второв открыл стол и удивился. Все ящики стола пустовали, только в одном из них покоилось несколько листков чистой бумаги. Вот так научный работник! Неужели она все результаты опытов держала в голове? Где же ее записки по секретной тематике? В спецотделе в блокноте по теме номер 17358 записано только, что от Госкомитета получен образец общим весом 5 г под индексом “А1”. И больше ни слова. Эта запись сделана десять месяцев назад, за семь месяцев до гибели Кузовкина. Не могла же она держать секретные документы дома? А почему бы и нет? Все может быть… Второв растерянно осмотрел стол. Там стояла маленькая колбочка, на дне которой лежала щепотка серебристого порошка. Может, это образцы? Пока Второв рассматривал содержимое колбочки, Сомов с интересом следил за ним. Ему нравилось новое начальство. Спокойный, уважительный человек. Не повезло ему, с ходу попал в передрягу. Второв вздохнул. “Нет, пожалуй, это всего лишь алюминиевая краска. Ею окрашена металлическая станина нейтринной пушки”. — Сергей Федорович, откройте, пожалуйста, сейф, посмотрим, что там. — А он уже открыт, Александр Григорьич, его оперативники еще с утра смотрели. — То оперативники, а то мы с вами. У нас различные цели. Они искали причину несчастного случая, а мне нужны материалы по работе. — Пожалуйста, я только говорю, что он уже открыт. — Сомов предупредительно раздвинул тяжелые железные дверцы сейфа. Металлический шкаф состоял из двух половинок. На верхней полке лежали папки с бумагами и канцелярские книги, в которых научные работники обычно ведут записи опытов. Внизу стояли большие, литров на десять, сосуды Дьюара, закрытые войлочными крышками. Второв снял несколько папок. Сразу же в глаза ему бросилась размашистая надпись, сделанная уверенной мужской рукой: “Тема № 17358, начата 10 августа…” Второв открыл папку и прочел: “Исходные данные, рентгеноструктурный анализ, физико-химические характеристики…” — Она! Попалась, птичка! — Он захлопнул тетрадь. — Теперь все в порядке. — Ну вот и хорошо, — с удовлетворением сказал Сомов. — Чья это рука? — Второв указал на подпись на обложке. — Это? Покойного академика, — уверенно ответил механик. — Кузовкина? — зачем-то переспросил Второв. — Точно. Я его руку знаю, столько раз заявление об отпуске мне подписывал. Второв внимательно посмотрел на него. Что ж, это тоже источник информации, глас народа, так сказать. Может, он прольет свет на кое-какие неясные детали… — Вы хорошо знали академика? — спросил он Сомова, открывая дьюар. — Конечно, десять лет вместе работали. Первое время я у самого работал, а потом меня перевели в группу Недельского. — Что это? Сосуд доверху был заполнен серебристым порошком. — Алюминиевая краска? Зачем же ее прятать в сейф? Разве это дефицит? Сомов с недоумением посмотрел на порошок. Второв один за другим открывал дьюары. Все они были заполнены одним и тем же веществом, удивительно напоминавшим алюминиевую пыль. По внешнему виду это был тот же порошок, который покоился на дне маленькой колбочки. — Не знаю, — протянул Сомов, — здесь командовала Риточка, и сюда никого не допускали. — Ладно, — бросил Второв, — сейчас разберемся в записях, тогда, может, станет ясно, что это такое. А вы с Ритой Самойловной работали? — А как же! Она же первый помощник у Кузовкина была, так что я несколько лет у нее под началом ходил. Очень хорошая женщина. Здорово мы с ней работали. Обижаться не приходилось. И работала хорошо, и отдыхать умела — повеселиться, посмеяться. Славный человек! — твердо заключил Сомов. — Что-то я не заметил в ней особого веселья, — сказал Второв, извлекая папки из сейфа и укладывая их на столе. — Даже наоборот. Она показалась мне вчера грустной и чем-то расстроенной. — Эх, ну что же вы хотите… Это все после смерти Аполлоши. Простите, мы так покойника меж собой называли, очень уж имя-отчество у него закрученное. После смерти старика она, конечно, другим человеком стала. Сильно на нее его гибель подействовала. Куда там! — Почему? — Да, как вам сказать, — Сомов помялся, — они же ведь родные были. — Как так родные? — Любовь между ними была. Очень уж она его любила. Да и он тоже… Это на нее подействовало. А потом, как хотите, своими глазами видеть, как человек погиб, это хоть кого с ума стронет. — И она тронулась? — Не то чтоб совсем… Но появилось у пей такое, что раньше за ней не замечали. Забитая, молчаливая — это само собой, а все же нельзя здравый смысл совсем терять. Всем о смерти старика рассказывала. Поговаривать стали, что сидит по ночам она здесь в институте, то плачет, то смеется. Недельский сам слышал. — Он услышит! — усмехнулся Второв, но тут же спохватился. — Спасибо вам, Сергей Федорович, за интересную беседу и помощь. Я здесь поработаю немного. Когда механик ушел, Второв погрузился в чтение документов. Результатом лихорадочного перелистывания книг явился телефонный звонок директору. — Филипп, ты можешь меня принять? Чем быстрее, тем лучше. — Через полчаса, дорогой. А что, очень серьезно? — Не знаю, очень ли. Но есть о чем поговорить. — Хорошо, Саша, приходи. “Ага! Саша, дорогой… Подействовал отпор. Командуют только теми, кто ожидает команду”. Второв собрал свои записи, спрятал лабораторные журналы в сейф и вызвал Сомова. В его присутствии он насыпал из дьюара в колбочку серебристой пыли, закрыл ее пробкой и сказал: — Поезжайте в Москву, в мой институт. Найдите там моего аспиранта Фролова и передайте ему вот это и записку. Сомов с опаской взял колбочку. — А оно… не радиоактивное? Второв улыбнулся и указал на карандаш в карманчике пиджака: — Это индикатор. Как видите, он безмолвствует. Значит, действуйте смело. — Будет сделано. — …Многоуважаемый Филипп Савельич, — торжественно говорил Второв, расхаживая по кабинету директора, — я потратил четыре рабочих часа из шести на изучение материалов Кузовкина и, кажется, кое-что понял. Здесь у меня все записано, но лучше я тебе изложу устно… Конечно, многое остается загадочным, но все же положение яснее, чем это было вчера или даже сегодня утром. Диковинные штуки происходят у тебя в институте, товарищ директор, скажем прямо… — Вера Ивановна, никого не пускать! Телефон только междугородный. — Филипп уселся поплотнее в своем кресле. — Давай выкладывай, Шерлок Холмс, свои соображения и идеи. — Десять месяцев назад твой институт получил ампулу с веществом, обозначенным буквой “А1”. Что это за вещество? Из справки, приложенной Комитетом, следует, что указанное вещество было извлечено из контейнера одной нашей межпланетной станции, которая была отправлена в космос несколько лет назад. На борту этой станции находился набор биологических объектов. Там были мыши, земноводные, насекомые, микробы, вирусы и различные биологически активные вещества: белки, аминокислоты, ферменты, нуклеиновые кислоты — одним словом, известный ряд живой материи и жизненно важных веществ. Во время старта ракетоноситель на последней ступени превысил вторую космическую скорость, и межпланетная станция, вместо того чтобы описать эллипс и возвратиться на Землю, ушла к Солнцу. Где она болталась эти годы, знать нам не дано. Только в прошлом году ее совершенно случайно засекли вблизи Луны. Лягушка-путешественница была изрядно потрепана, очевидно в космических далях ее не раз бомбардировали метеоритные дожди. — Я что-то не очень понимаю… — Ты хочешь ясности? Наберись терпения и слушай… Итак, на этой станции целой и невредимой оказалась только эта ампула, о которой шла речь. Поскольку содержимое ее имеет некоторое отношение к биологии, ее направили Кузовкину на исследование. Академик заинтересовался объектом исследования. Вещества было мало, и он начал с физических методов исследований. Рентген, спектральный анализ, инфракрасная спектроскопия показали, что в руках у Кузовкина находятся молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Кузовкин, не будь дурак, запросил материалы по этой межпланетной станции, и ему сообщили все константы неуклеиновых кислот, которые были сняты перед их отправкой в космос. Собственно, на этом можно было бы закончить: структура и свойства вещества “А” и “А1” были известны. ДНК вилочковон железы человека и обезьяны — вот и всё. Но Кузовкин захотел проверить химические и биологические свойства препарата, и… Я сейчас процитирую тебе одно место… Вот что он пишет в лабораторном журнале незадолго до своей смерти: “Опыт 475 поставлен для обнаружения химической или биохимической активности препарата. Все наши усилия пока остаются бесплодными…” О результатах опыта 475 больше нигде ни слова. Мне кажется, что смерть Риты связана с этим исследованием… Да, вот еще что, — продолжал Второв, — там же в сейфе я обнаружил серебристый порошок. Сначала я подумал, что это алюминиевая краска. Знаешь, такая блестящая, ею красят металлические поверхности. Потом я понял, что это вовсе не краска. — ДНК? — Что ты! У Кузовкина вначале было всего лишь пять граммов вещества. Под конец осталось что-то около грамма. В своих записях он и Манич все время пишут, что для такого-то анализа не хватает материала. А этого порошка там килограммов сорок. Нет, это не ДНК. Скорее всего, серебристый порошок является каким-то реагентом, с которым они экспериментировали последнее время. Я на всякий случай отправил его в свой институт на полный физико-химический анализ. — Это ты правильно сделал, — одобрительно кивнул ему директор. — Но меня потрясает в этой ситуации роль Манич. Почему она молчала? — О чем молчала? — Об опытах с ДНК — Ведь прошло десять месяцев после смерти Кузовкина, а она ничего не сообщила. Работа, конечно, была секретной, но она должна была поделиться со старшими товарищами. Она молчала и ждала… Чего ждала? Запроса из Комитета? — И тогда покончила жизнь самоубийством? Они посмотрели друг на друга. — Нет, нет, тут какая-то неувязка, я уже думал об этом, — сказал Второв. — Если бы Кузовкин погиб в результате неосторожных экспериментов с космической ДНК, Манич раструбила бы по всему свету. Но здесь что-то произошло, что-то такое, почему она должна была молчать. Какое-то постороннее вмешательство или неожиданный поворот событий… А вернее, просто несчастный случай с нейтринной пушкой, взрыв системы охлаждения и гибель Кузовкина. Все это потрясло ее… Говорят же, что она помешалась. — Может, они облучали нуклеиновую кислоту нейтринным потоком? — Ну и что? — спросил Второв. — Как — что? Мог произойти взрыв! — Нейтрино ни с чем не взаимодействует. Еще не было такого случая, об этом пишет вся мировая научная литература. Да ведь ДНК — безобиднейшее вещество! — Да, для обычных веществ это положение справедливо. Но в данном случае мы имеем дело с необыкновенными свойствами. Поэтому можно ожидать чего угодно. — Сомнительно. — Второв покачал головой. — Если эти молекулы не разбужены ударами гамма-лучей, вряд ли они проснутся от щекотания кварк-нейтрино. — Какая досада, что погибла Манич. Она единственный человек, который знал так много! — воскликнул Филипп. — Да, но что поделаешь… Остается только гадать. Может быть, эти анализы прольют какой-нибудь свет, только я очень сомневаюсь… — Ты об этом порошке? — Да. — Он меня интригует. Мне все же кажется, что это ДНК. — Образец примитивного мышления. В лаборатории, где содержатся сотни реактивов, происходит взрыв. Берут первый попавшийся образец и утверждают, что причина в нем. Ты неправ, Филипп. Он даже по цвету отличается от ДНК, не говоря уже о весе. Откуда же у них может взяться сорок килограммов из пяти граммов? Или из одного, потому что четыре они уже израсходовали. — Ты говоришь, они по цвету отличаются. Разве ты видел эту ДНК, ты что, нашел остатки? — спросил директор. — Нет, конечно. Там есть фото. Нуклеиновая кислота рассыпана на покровном стеклышке. Мелкие темно-серые зернышки. А мой порошок серебристый, блестящий. — Да, пожалуй. Ну что ж, подождем анализа. — Мне пришла идея, — медленно сказал Второв. — А что, если посмотреть еще… у Риты дома? Какие-нибудь записи, заметки… Как ты на это смотришь? — Ты, я вижу, Саша, любишь доводить дело до конца, — устало сказал Филипп. — Наверное, ты поступаешь правильно. Только я тебе не попутчик. К Рите приехала мать, она сейчас дома. Плачет, убивается. Я не могу всего этого видеть. Сходи, если хочешь, правда обстановочка там сейчас не дай бог. Меня успокаивает только одно: мы сможем написать по тем материалам, что ты нашел, довольно неплохойотчет для Комитета, все константы получены… — Черт с ним, с Комитетом! — махнул рукой Второв. — Давай адрес, я все-таки схожу. — Вера Ивановна тебе объяснит. Это недалеко, в поселке… Второв выехал из института, когда желтый язык заката начал жадно лизать окна. Завидное оказалось чистеньким, аккуратным поселком с новенькими коттеджами. В них жили сотрудники института и работники местной ТЭЦ. Второв без труда разыскал дом, в котором жила Манич. Навстречу ему из открытых дверей квартиры вышли женщины в черных косынках. (Глаза у них были красны, они сморкались в беленькие платочки.) Второв, как обычно в подобной ситуации, чувствовал себя неловко и напряженно. Он слишком плохо знал Риту, чтобы глубоко и искренне переживать, и в то же время обстановка требовала от него выражения неподдельного сочувствия. В узком коридоре теснились несколько человек мужчин и женщин. Второв не знал их. В глубине комнаты, куда вели стеклянные двери, стоял гроб. Около него склонились, как-то обвисли, две пожилые женщины. “Не ко времени я пришел, совсем не ко времени”, — подумал Второв. Мысль о документах, о каких-то бумажках выглядела в этой обстановке нелепой и даже оскорбительной. “Надо бы уйти, — думал он. — Нехорошо получится. Неловко, неудобно”. Но он остался стоять, его ноги словно приросли к полу. Постепенно он передвинулся к стеклянной двери, за которой темные женские фигуры совершали таинственный и скорбный обряд. — Вы проститься? Проходите. — Старушечьи пальцы осторожно потянули его за локоть. Он прошел в комнату, где было очень душно, жарко и печально пахло цветами. Гроб утопал в цветах. Лица Риты он так и не увидел. Оно было забинтовано. Второв поклонился и пошел к выходу. Та же старушка, взяв под руку, провела его на кухню. — Вы сослуживец Риточкин? — Да. А вы ее мать? — Тетка. Это несчастье свалилось на нас так неожиданно… — Старушка заговорила деловито и озабоченно: — У Риточки пятеро сестер и один брат. Приехать на похороны смогла только мать и одна из сестер — старшая. Пришлось столько хлопотать, чтобы организовать приличные похороны. Соседи бестолковые. Хорошо, хоть из института помогают, там Риточку любили… — Простите, я хотел узнать, когда бы я мог еще прийти… — начал Второв и извиняющимся тоном изложил свою просьбу. Старуха думала несколько мгновений. — Идемте, — решительно сказала она. — Я знаю, что такое работа. Если у Риточки остались какие-нибудь материалы, вы их сейчас заберете с собой. Она провела Второва в маленькую, уютно обставленную комнату и оставила одного, бросив на прощание: — Посмотрите в столе, я скоро вернусь, — и бесшумно исчезла. Второв с благодарностью посмотрел ей вслед. “Вот человек, который может служить образцом. Спокойная, ясная скорбь. Деловитость, простота, здравый смысл…” …Совсем поздно вечером, вымытый, выбритый, в черном костюме, Второв входил в ресторан гостиницы “Россия”. Его шатало от усталости. Жену он увидел сразу. Она показалась ему очень молодой и очень красивой. Он испугался, что она снова будет смеяться над его прической, н торопливо пригладил и без того уже набриолиненные волосы. Жена улыбалась ему какой-то новой улыбкой. Или это голова кружилась, и все вокруг казалось новым? Он присел к столику. — Ну здравствуй! — Только без ну! Просто здравствуй! — Здравствуй! — покорно повторил Второв и рассмеялся: — Дрессируешь? — Нет, скорее наоборот. Ты меня дрессируешь. Особенно, если учесть вчерашний разговор. Конечно, я заслуживаю самой суровой кары, но раньше ты был добрее. — Возможно, я стал суше, черствее, — застенчиво сказал Второв. — Возраст, сама понимаешь. — Как живешь? — Она налила ему рюмку коньяку. — Как сказать… А ты? — Я? Ты же все знаешь. Езжу. Я писала тебе о своих похождениях. — Обо всех? — Ну… в пределах безболезненной нормы. — Ну, а я жил, как всегда. Работал… — Ловил в пучинах науки золотую рыбку открытий? — Я рад, что ты приехала, Вера. Сейчас особенно. Второв как-то очень быстро охмелел. Пьянея, он становился словоохотливым, откровенным и добрым. Совершенно неожиданно для себя он увлекся и рассказал ей о событиях последних двух дней. Смешно, странно и глупо рассказывать эту историю женщине, которая наверняка останется равнодушной него переживаниям, но Второв не мог удержаться и говорил, говорил… Она молчала, курила. Было непонятно, слышит ли она его или просто так смотрит ему в глаза. Иногда она улыбалась невпопад, совсем не там, где следовало, но Второв не обижался, он чувствовал тепло и сочувствие, исходившее от этой женщины, и ему было легко говорить. — …Ничего интересного у нее я не нашел, — сказал Второв, — хотя вот обнаружил несколько отрывочных записей об опытах с собакой, по кличке “Седой”, и с мышами да несколько заметок, где говорится, что “он сказал — надо изучить то и то”. “Он” — это, очевидно, Кузовкин. Одна запись меня потрясла, она сделана в отдельном лабораторном журнале за несколько месяцев до гибели Аполлинария Аристарховича. Вот смотри. Второв сдвинул тарелки и рюмки к краю стола и на освободившееся место положил блокнот. Вероника полистала страницы. — Он совершенно чистый! — воскликнула она. — Да, за исключением первой страницы, — сказал Второв. Там было написано: “Сегодня он решил попробовать А1 на себе. Его подгоняет смерть Седого, меня — любопытство и боязнь потерять друга”. Дальше следовал большой пропуск и внизу размашистым почерком начертана фраза: “Боже мой, и я еще хотела что-то записывать!” — Все? — Все. — Из ученого ты становишься детективом, — снисходительно заметила Вероника, стряхивая пепел в недопитый чай. — Каждый из нас немножко сыщик и охотник. Мы выслеживаем добычу, боремся за нее. Иногда побеждаем, чаще проигрываем. — Ты впутался в интереснейшую, но, по-моему, слишком сложную историю. Эта пьеса уже сыграна, и все актеры погибли. Тебе не восстановить прошедшего. А что здесь для науки можно извлечь, я не совсем понимаю. Не запускать же снова межпланетную станцию? — А почему бы и нет? Чтобы добыть ДНК с такими свойствами, о которых пишет Кузовкин? Можно! — И снова ждать много лет? — Погоди… Вот ты говоришь — восстановить, восстановить… — Второв задумался. — Это слово имеет для меня какое-то особое значение, — сказал он. — Меня мучает вопрос, почему Рита не уезжала. Она чего-то ждала, на что-то надеялась. — В любом возрасте человек или надеется на будущее, или использует настоящее, или пытается восстановить прошлое. — Рита, скорее всего, пыталась восстановить прошлое, особых надежд на будущее у нее не было. — Странное совпадение, — усмехнулась Вероника. — Я тоже хочу восстановить прошлое… — Прошлое? — Я приехала к тебе, Саша. Совсем. Понимаешь? Совсем… Почему ты молчишь? — Я? Что ж… очень хорошо. Я рад. — Ты в своем репертуаре, Саша. Что меня всегда бесило в тебе, так это твое олимпийское спокойствие. — Возможно. Но, по-моему, это спокойствие только кажущееся. Ты не замечала? — Мне от этого не легче. Они замолчали. Второв криво улыбнулся и покачал головой: — Ну вот, произошло то, о чем я мечтал, а… кругом тишина, покой. — Ты хотел фанфар и грома аплодисментов? — Нет, но все же что-то должно было измениться. А ничего не изменилось… — Ты просто устал. И я очень устала. Очень. Точно прожила тысячу лет. — Пойдем домой, Вера? — Да, поедем. И поскорее. Рано утром дверь в спальню приоткрылась. “Опять я не узнал насчет нового лекарства от подагры, сколько уже собираюсь”, — с досадой подумал Второв, глядя на руки матери. — К вам можно?.. Сашенька, только что звонили из института, просили срочно приехать. У них какая-то авария. — Авария? Из какого института? Подмосковного? — Ну, где ты работаешь. — Я теперь работаю в двух. Кто звонил? Филипп? — Нет. Алексей Кузьмич. Второв торопливо одевался. — Плохой мне сон сегодня приснился, — сказала мать.ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Корпус “В” рухнул под утро. Это случилось в тихий предрассветный час, когда улица крепко спала и на асфальте лежали влажные ночные тени. Где-то высоко вверху начинал розоветь синий воздух. Но теплый свет еще не достиг верхних этажей. Десятиэтажное здание Главного корпуса Института новейшей бионики, выстроенное совсем недавно, слепо глядело на пустынную улицу. За ним, в глубине двора, под липами, ютились маленькие трехэтажные домики, отведенные для специальных исследований. В ночь катастрофы в корпусе “В” дежурил вахтер Потехин. Он крепко спал в вестибюле на широкой дубовой скамейке, подложив под голову телогрейку. Спать, конечно, не полагалось, но начальство было далеко, и старик отводил душу. Он сладко похрапывал, приоткрыв рот. Под самое утро сладостные видения были нарушены странным шумом. Где-то плескалось море, катились большие медлительные валы, и галька, подхваченная волной, с хрустом терлась о песок. Вначале это было как сон, но затем шум стал неприлично громким для сна. Море исчезло, пропали волны. Вместо них в уши вахтера проникло шипенье и свист, словно в храм науки ворвались буйные ветры ревущих сороковых широт. Испуганный старик вскочил со своего неуютного ложа. Сначала, как это всегда бывает, он ничего не мог сообразить. Первое, что его поразило, было странное движение на полу. Паркет вестибюля гнулся и корячился, словно в припадке буйной эпилепсии. Несколько половиц выскочило, обнажив засмоленное подполье. Стены вестибюля ходили ходуном и выгибались. Казалось, вот-вот помещение рухнет. Потехин стрелой вылетел во двор. — Ах, мать моя, кажись, светопреставление! — шептал он, путая это давно предсказанное отцами церкви событие с обыденным землетрясением. Отковыляв несколько метров, он пугливо обернулся и с ужасом уставился на корпус. Удивительное зрелище возникло перед его маленькими голубыми глазками, подернутыми красной сеткой лопнувших капилляров. Здание обнажалось. Под несмолкающий свист скользила вниз розовая штукатурка, вскрывая темно-красную кирпичную кладку, которая дымно осыпалась торопливыми серебряными струями. Одна за другой рассыпались три колонны, украшавшие фасад здания. Затем шлепнулись в пыль барельефы и памятные доски, вздымая серые облачка. Шум усилился. Водосточная труба с грохотом ударилась о землю и разлетелась на несколько рукавов. Сквозь проломы в стене было видно, как рушатся перекрытия и летят вниз огромные металлические сейфы и громоздкие лабораторные установки. Постепенно здание заволокло клубами дыма. За дымовой завесой что-то шипело, свистело и ухало. Иногда раздавался резкий беспощадный треск, и тогда Потехин в ужасе накрывал руками давно освободившуюся от тяжести волос голову. Это благоуханное летнее утро казалось ему глубокой полярной ночью. Старика трясло… Когда Второв подъехал к автомобильной стоянке, корпус “В” был окружен плотной толпой возбужденных людей. Она тревожно гудела. Голубой солнечный воздух дрожал и вибрировал, как взрывоопасная смесь. Второв, не заперев машины, бросился к месту катастрофы. Люди узнали его и расступились. Ему послышалось злорадно-насмешливое: “Доигрался!”, и торопливое, испуганное: “Тише! Что вы?!” Стараясь твердо ступать по асфальтовой дорожке, он прошел вперед. Люди, топтавшиеся на подстриженной траве газонов, молча смотрели на него. Он уже все увидел, но подходил все ближе и ближе, пока не уткнулся грудью в кольцо из пожарников и рабочих. Внутри кольца бродило несколько человек. “Директор… Зам… Ученый секретарь… Остальные незнакомые”, — отметил Второв. Алексей Кузьмич часто задирал голову кверху, указуя на небо пальцем, словно призывал в свидетели бога; его зам, Михайлов, что-то высматривал, пригнувшись к земле. Его длинный нос, казалось, превратился в щуп миноискателя. За их спинами лежала огромная груда серебряного пепла. Из нее торчали черные металлические прутья, напоминавшие обожженные человеческие руки. Здание напоминало плетенку из проволоки. Письменные и лабораторные столы застряли между этажами в самых странных положениях. Запутавшись в паутине проводов, точно заколка в распущенных женских волосах, мерно раскачивалась на ветру новая установка парамагнитного резонанса. Второв узнал ее по полукружиям мощных магнитов. Из оборудования аннигиляторной остался только распределительный щит — самая никчемная деталь в лаборатории. На нем болтался смятый плакат, приказывающий бросить папиросу. Легкий ветер кружил пыль над грудой мусора и обломков. Второв заметил, что Алексей Кузьмич делает ему знаки рукой. Он протиснулся сквозь шеренгу, сдерживающую напор любопытных. Все стоявшие рядом с директором повернулись и смотрели, как он идет. Очень трудно было пройти эти несколько шагов по проволочно-жесткой траве. — Что же у вас получается, батенька? — спросил Алексей Кузьмич, складывая губы сердечком. Морщинистая кожа на его лбу подобралась к седому ежику волос. Он рассматривал Второва с холодным удивлением, словно перед ним было редкостное, но неприятное насекомое. — Не знаю. Ничего не понимаю, — отрывисто сказал Второв. Он с трудом различал лица. — Вчера было все в порядке, — добавил он. Пока Второв что-то бессвязно говорил, в его мозгу зашевелилось смутное предчувствие. Он хотел было что-то сказать еще, но только спросил: — Пострадавшие есть? — Голос его прозвучал неожиданно хрипло. — Нет, — сказал Алексей Кузьмич, — нет. В корпусе был один вахтер, он отделался легким испугом. Его сейчас отпаивают чаем… — С ромом, — добавил Михайлов, с нежной укоризной взглянув на директора. — Это детали. Они снова замолкли, уставившись на развалины корпуса. У Второва пересохло в горле, и он чмокнул. “При чем здесь ром? — подумал он. — Чушь какая-то. Чушь и галиматья”. — Ась? — спросил Алексей Кузьмич. Все снова посмотрели на Второва. — Я ничего не говорю, — хмуро буркнул Второв. — И ничего не могу сказать. Я сам ничего не понимаю. — Во всяком случае, это не пожар, — сказал один из тех, незнакомых. — И не взрыв. Ни в коем случае не взрыв! — вмешался Михайлов, отрывая сомнамбулический взгляд от развалин. На институтском дворе корпус “В” был единственным пострадавшим зданием. В нем помещалась лаборатория вторичных структур, которой заведовал доктор химических наук Второв Александр Григорьевич. И поэтому все смотрели на А.Г.Второва, и он ощущал эти взгляды, как уколы сотен игл. — Придется провести серьезное расследование, — сказал Михайлов, глядя куда-то вдаль. “Что это такое? — Второв сделал несколько шагов вперед и погрузил пальцы в серебристый пепел. — Странно, очень странно…” Внезапная дрожь пробежала по его телу, неприятная, тошнотворная слабость разлилась в мышцах. Второв узнал пепел. “Серебристый порошок из дьюаров Кузовкина! Вчера, только еще вчера я передал с Сомовым на анализ колбочку таипственного вещества. А сегодня в этот порошок превращен трехэтажный корпус. Значит… значит…” Мысли проносились в голове Второва с лихорадочной поспешностью. Они наползали друг на друга, исчезали и вновь возникали, словно льдины в разгар ледохода. “Значит, это очень страшное вещество. Может быть, перед ним та космическая ДНК, с которой работал Кузовкин и которая его погубила? Наверное, Филипп прав. Но почему она начала действовать? Почему вдруг ожила? В течение года она пролежала в дьюарах без каких-либо изменений! Впрочем, так ли это? Нет, конечно. Только Рита могла бы объяснить всё это… Но ее нет, и распутывать узел придется мне. Что же произошло сегодня ночью? Что?..” Прикосновение чьих-то пальцев к плечу вывело Второва из оцепенения. — Пойдемте с нами, — сказал незнакомый. Второву показалось, что ему уже встречалось это безразличное лицо и этот спокойный, ожидающий взгляд, исполненный скрытой силы. — Да, да, пойдемте, — заторопился Михайлов. Алексей Кузьмич только головой тряхнул, как бы присоединяясь к словам Михайлова. Второв ощутил отчуждающую силу этого слова — “пойдемте”. Они пошли. Второва поразило, какими чужими и незнакомыми показались ему толпившиеся вокруг люди. Он работал с ними около десяти лет, знал всех очень хорошо, но сейчас как будто видел впервые… В директорском кабинете, как всегда, было тихо и уютно. Алексей Кузьмич не сел за свой стол, он просеменил к окну и, глядя во двор, с деланной шутливостью сказал: — Давайте выкладывайте, Александр Григорьевич, что вы там накудесничали. Не томите нас, фокусник… Остальные расселись куда попало. Ученый секретарь Григорович плюхнулся в кресло, трое незнакомых сели вместе на диван, Михайлов, поколебавшись, присел на краю директорского стола и начал что-то записывать. Только Второв остался стоять. — А что я могу сказать? — Он раздраженно развел руками. — Самому ничего не понятно. — Простите, товарищ Второв, — сказал Михайлов, выпрямляясь. Его тощая грудь округлилась, как глобус. — Мне как замдиректора по научной части ваша позиция кажется более чем странной! Погибла ваша лаборатория, и не только ваша, там ведь этаж занят Тимофеем Трофимовичем, туда вложены десятки миллионов государственных рублей, уничтожено уникальное оборудование, хорошо, что обошлось без человеческих жертв, а вам нечего сказать! Вы обязаны — понимаете, обязаны доложить нам обо всем, что могло стать источником этого несчастья. Вы должны помнить, сколько хлопот причинили многим уважаемым… да всем, пока государство, и в частности институт, не обеспечило работу по вашей поисковой теме. Мы вашими поисками во как сыты! Михайлов рубанул себя по шее, украшенной розовым кадыком. “Жаль, что твоя рука не гильотинный нож”, — подумал Второв. — Я действительно ничего не знаю, — сказал он. — Ведь вы хотите, чтобы я назвал причины катастрофы, не так ли? А я не могу этого сделать. Я просто ума не приложу, отчего все так… получилось. Я рад, что Потехин остался жив… Но отчего без дыма и огня сгорела лаборатория, я не знаю и не понимаю… — Мне кажется, вы неправильно поняли Владислава Владиславовича, — вступился ученый секретарь института Григорович. Его лицо было рассечено вертикальными и горизонтальными морщинами на множество сложных геометрических фигур. Когда ученый секретарь говорил, кубики и ромбики приходили в движение, словно кто-то вращал калейдоскоп. — Владислав Владиславович говорил о том, что нужна информация о проводимых вами работах. Это, кстати, вероятно, интересует и… вот присутствующих здесь товарищей. Не правда ли? Григорович повел рукой в сторону дивана. — Мне очень трудно сейчас об этом говорить, — пробормотал Второв, — но, во всяком случае… техника безопасности у нас соблюдалась всегда очень тщательно и ничего такого не ожидалось… — Второв замолчал. Прошло несколько тягостных минут. — Это всегда происходит неожиданно, — внезапно сказал один из сидевших на диване. — Вы не волнуйтесь, а постарайтесь лучше припомнить… В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вбежал человек. Его крохотные темные глазки сверкали злыми угольками. Он обдал присутствующих волной хорошо отрепетированной ярости и ринулся к директору. — Алексей Кузьмич, я решительно протестую! — завопил он. Вошедший сделал шаг, полы его старомодного пиджака взлетели, и он, вытянув вперед руки и растопыря пальцы, согнулся в поясе, как будто собирался прыгнуть в воду. Затем, словно получив невидимый мощный толчок, промчался в нелепом галопе через всю комнату и растянулся на ковре. Создавалось впечатление, что при ударе голова его расплющилась. Грубая брань невысокого мастерства вырвалась изо рта упавшего. — Знакомьтесь, — сказал Алексей Кузьмич. — Тимофей Трофимович Плещенко. Все расхохотались. Второв впервые слышал, как от души смеется Алексей Кузьмич. У него оказался пронзительный дискант. Это было неприлично, неудобно, но никто не мог сдержаться. Смеялись все. Даже Михайлов издал неопределенное “хехс”… Второв чувствовал, как вместе с этим смехом из души его уходит страх, растерянность и ощущение беды. Плещенко резво вскочил, стряхивая пылинки с брюк. Он повернул желчное, со впавшими щеками лицо к директору и сказал вздрагивающим от злобы голосом: — Это издевательство! Я буду жаловаться в партийный комитет! Безобразие нужно пресечь! Все знают, что вы специально разложили здесь этот клятый ковер, чтобы все за него цеплялись! Алексей Кузьмич смотрел на него с мраморным хладнокровием. — Простите, Тимофей Трофимович, о чем идет речь? При чем здесь ковер? Для вас все может стать препятствием или источником раздражения. За несколько минут перед вами сюда вошли шесть человек, и ни один из них — заметьте, ни один — даже не споткнулся. Плещенко, казалось, взял себя в руки. — Ладно, — сказал он, — я не об этом хотел с вами говорить… — А ни о чем другом я с вами пока не смогу вести беседу, — перебил его директор. — У меня товарищи, с которыми я должен решить очень важные вопросы. — Я по поводу этого безобразия с корпусом “В”. — Именно этим я и занимаюсь. — Там погибло мое оборудование! Мало того, что вы в свое время отобрали у меня два этажа корпуса “В” и отдали его под безответственные эксперименты всяких демагогов-недоучек, но и… — Вот и приходите после обеда, и я с удовольствием выслушаю ваши претензии. Плещенко открыл рот, закрыл снова, открыл и снова захлопнул. — Ну хорошо! — сказал он и, резко повернувшись, вышел. — Тимофей Трофимович, одну минуточку! — Михайлов подхватился с места и рысцой выбежал из кабинета. Наступило молчание. — Вы, кажется, не кончили, товарищ? — Алексей Кузьмич посмотрел на диван. — Да, я хотел сказать, что нам нужно подробное объяснение руководителя лаборатории, желательно в письменной форме. А расследование причин разрушения корпуса мы проведем, ясное дело. — Ну что ж, — сказал Алексей Кузьмич, — так и решим. Вы, Александр Григорьевич, напишите объяснение. Постарайтесь высказать собственное мнение, если таковое обнаружится, насчет причин несчастья, постигшего наш институт. — Можете расположиться в моем кабинете, — предложил Григорович. Второв наклонил голову. …В кабинете Григоровича он распахнул окно, закурил и долго смотрел вниз на зеленую лужайку. Выбросив сигарету в окно, он резко повернулся, сел за стол и решительно написал: “Объяснительная записка”. Загибающиеся книзу строчки торопливо покрывали бумагу… Солнце доползло до своей наивысшей точки на небосклоне, сталевары выплавили несколько тысяч тонн стали, с конвейеров заводов сошло несколько тракторов, самолет и десяток автомашин, а Второв все писал. За этот бесконечно короткий и бесконечно длинный промежуток времени он сумел объединить на бумаге понятия и обозначения, которыми обычно пользовался редко. “Приведенные ниже эксперименты преследовали цель…” И Второву представлялись лопоухие эксперименты, несущиеся вдогонку за хрупкой тонконогой целью с рожками на точеной головке. “Имели место недочеты…” Толстые коротышки-недочеты, толкаясь, спешили куда-то, где они имели свое место. “Что касается…” было веселым и крючковатым, оно во все лезло, всего касалось. Второв не слышал скрипа двери. В щель протиснулся стройный молодой человек в белой рубахе и идеально отутюженных брюках. — Здесь! Дверь широко распахнулась, и в кабинет ученого секретаря ворвались “второвцы”, молодые сотрудники его лаборатории. На лицах вошедших Второв прочел одно и то же — сочувствие. Все молчали. — Ну вот что, братцы, — сказал Второв, — нечего глядеть на меня мокрыми глазами. В работе образовался самопроизвольный перекур. Срок неопределенный. Можете строчить статьи, обобщать единичные опыты, писать мемуары, идти в отпуска… Неодобрительное мычание наполнило кабинет. — Однако, — поднял руку Второв, — заседание продолжается. Игра пока не кончена. Для оперативной работы и доставки передач в тюрьму мне нужно два человека. Я попрошу вас, Зоя Николаевна, и тебя, Виталий, самым срочным образом произвести дозиметрию и химический анализ того хлама, что остался от нашей лаборатории. А также допросите вы этого непьющего вахтера обо всем, что узрело его недреманное око. Всем остальным задача та же — постарайтесь собрать возможно больше подробностей о катастрофе. Когда, сколько, что. Важна динамика, понятно? И вот еще: я не вижу среди вас Фролова. Доставьте мне аспиранта в любом виде. — Это совсем другое дело! Давно бы так! Все ясно! — на разные голоса и с различной силой убежденности откликнулись сотрудники. Второв, улыбаясь, блестящими глазами смотрел им вслед. Это были настоящие, преданные друзья. В это время на институтском дворе молодой лаборант Юлька рассматривал развалины лаборатории Второва. От них только что откатил самосвал, груженный доверху мусором и зеленоватой пылью. Рабочие побросали совковые лопаты и, присев на корточки, курили. На пятиметровой высоте по узенькому мостику из двутавровой балки ходил человек с черным ящиком на груди. В руках у него поблескивала продолговатая трубка. Он то и дело прикладывал ее к обломкам, застрявшим при падении в проводах и бетонной арматуре. — Виталик! — раздалось снизу. Человек оглянулся. Румяная девушка спортивного типа, сложив пухлые ручки рупором, смотрела вверх. Человек с ящиком сделал несколько акробатических прыжков и через минуту спустился на газон. — В чем дело, Зоенька? — спросил он. — Чего шумишь? — Как твои дела, Виталик? — Да ничего, никаких отклонений от нормы. Излучение такое же, как везде. Ты сдала химикам пробы? — Ага, они уже делают. — Ну и ладно. Зоя улыбнулась, но, сразу же посерьезнев, сказала: — Слушай, Виталий. Только что ко мне подошел Вася и спрашивает, был ли сегодня Фролов в институте. Оказывается, он уехал в пять утра из общежития. Шеф тоже ищет его. Ты не видел Леню? Виталий несколько секунд напряженно смотрел на девушку. Зрачки его расширились, и светло-карие глаза стали черными и глубокими. Казалось, он напряженно вникал в суть вопроса. — В пять утра? — переспросил он. — Ну да, Вася живет в соседней комнате и часто к нему заходит, — с раздражением сказала девушка. — Он сказал, что Ленька должен был с ним встретиться утром, но, когда он зашел к нему, Леньки уже не было. Он оставил записку, что поехал в институт делать какие-то срочные анализы. Вчера вечером он не успел их закончить. Теперь Вася его разыскивает всюду. Ленька взял у него какую-то книгу. Может, он не в институт поехал, а еще куда-нибудь? — Нет, нет… — торопливо и как-то очень тихо пробормотал Виталий. Лицо его застыло, затем начало бледнеть. Кровь отхлынула, резко обозначив темные впадины под глазами. Виталий начал медленно рыться в карманах. Зоя испуганно наблюдала за его движениями. Она глядела только на его руку. Большая, крепкая, испачканная в пыли рука осторожно ощупала нагрудный карман комбинезона, скользнула на бок, где торчали куски проволоки, рукоятка отвертки и пакля, потом вновь вернулась на грудь. Виталии словно вспоминал что-то. Нерешительным движением он расстегнул клапан и начал доставать какие-то вещи. Он вынимал их правой рукой и осторожно клал на ладонь левой. Так появился дешевый стальной портсигар, часы, кольцо с миниатюрным компасом вместо драгоценного камня и, наконец, металлическая оправа без стекол. — Это оттуда, — сказал Виталий. — Понимаешь, я думал, что он их хранил в столе и они во время… выпали. Но ведь он с очками никогда не расстается. Он без них как без рук. Так ведь? — Как без рук, — машинально повторила Зоя и, вдруг побледнев так же, как Виталий, воскликнула: — Ты что? Ты что? Нет, ты с ума сошел?! Она запнулась и замолкла. Они молча смотрели друг на друга, словно виделись впервые. — Ты понимаешь, Зоенька, — очень медленно и безразлично сказал Виталий, — я нашел все это на месте бывшей аналитички, там у Леньки был свой стол, и я подумал… Он замолчал. — Но ведь с портсигаром он тоже никогда не расстается! — с отчаянием воскликнула девушка. На глазах у нее заблестели слезы. Они снова замолчали. Потом, как по команде, повернулись и посмотрели на развалины. Рабочие, кончив курить, вытаскивали из-под обломков сохранившееся оборудование и приборы и складывали их на траве. — Нужно сказать шефу, — негромко произнес Виталий. — Я не смогу. Скажи сам. — Девушка резко отвернулась. Юлька подумал, что надо бы уйти, но остался. Он первый увидел фигуру, бегущую от Главного корпуса. Юлька узнал Второва. Тот неуклюже скакал по асфальтовой дорожке. Пиджак его распахнулся, и длинный узкий галстук трепетал на ветру, как черный вымпел. — Доза? — резко спросил Второв запыхавшись. — Доза в пределах нормы… — тихо сказал Виталий. Они помолчали. Внезапно Второв повернулся к Зое: — А где же Фролов? Почему же вы его не нашли до сих пор? — Александр Григорьич, — Зоя выпрямилась, ее голос звучал неестественно громко, — дело в том… — Что случилось? — Исчез Ленька. — Фролов? — Да. Виталий вынул руки из-за спины и показал Второву портсигар, оправу очков, кольцо с компасом: — Это я нашел на месте нашей аналитической. Второв осторожно взял портсигар и, щелкнув, открыл его. В нем лежали четыре болгарские сигареты. Второв провел пальцем по мягкой бумаге. — Вот оно что… — как-то очень безразлично сказал он. И повторил: — Вот оно что… Зоя всхлипнула. Второв кинул на нее удивленный взгляд и нахмурился. Как загипнотизированный, смотрел он на предметы, лежавшие на ладони Виталия. “Фролов. Леонид Фролов. Какой же ты был, дай-ка я вспомню. Очень высокий, очень сутулый, шея длинная и тонкая. Обувь сорок пятого размера, непричесанный всегда. Смешной. Смешной и насмешливый. Возле тебя всегда был смех”. — Он не мог уйти и оставить здесь все это. Сколько я его помню, он всегда носил с собой портсигар, да и очки его всем известны, — сказал Виталии. — Да, это правильно, — подтвердил Второв. — Он всегда носил свои железные очки. Знаменитые очки. — Так что же с Фроловым? — нервно воскликнула Зоя. Второв задумался. — С Фроловым, ребята, плохо… Если все обстоит так, как я предполагаю, погиб наш Леня… Юлька вздрогнул, а Зоя закричала, и Второв снова с удивлением посмотрел на нее. — Не надо, — сказал он медленно и печально, — не надо кричать. Без паники. Еще есть надежда. Если он не был утром в корпусе… — Это исключается, — сказал Виталий. — Тогда да… Они замолчали. Зоя плакала. Виталий с сочувствием смотрел на серое лицо Второва: “Вот кому достается, вот кого бьют и судьба и люди”. — Но почему?! — воскликнул Виталий. — Александр Григорьевич, почему это произошло? — Почему? Почему? — Второв с трудом шевелил посиневшими губами. — Откуда я знаю, ребята… Если бы я знал… Что там было, в нашей аналитической? — обратился он к Виталию. — Как — что? Известные вещи. Весы, муфеля, реактивы… стулья, вытяжные шкафы, лампочки, посуда — мало ли что там было! — Да, все это не то, — задумчиво сказал Второв. — Все не то. Вот что, давайте сделаем так. Вы, Зоя Николаевна, идите и пишите заявление о возможном несчастье с Фроловым. Отпечатайте и принесите мне, я подпишу. А мы с вами займемся другим… Зоя ушла, и они сели прямо на траву. — Итак, сегодня в пять утра или в половине шестого в этот дом приехал аспирант Фролов. — Второв словно размышлял вслух. — Он прошел мимо вахтера, который крепко спал. Утренний сон ведь так сладок… Поднялся на второй этаж и начал работу. Он должен был проанализировать вещество, которое ему передал по моему указанию некто Сомов. К ним подошел курьер: — Александр Григорьевич, вас вызывает директор! — Директор подождет, — сказал Второв. — Итак, Фролов проводил безобидные манипуляции с серебристым порошком, и вдруг… произошла катастрофа. Порошок взорвался и сожрал все здание. Что же мог делать Фролов в аналитической комнате? Конечно, прежде всего он проверил растворимость в кислотах. Я так и писал ему: “Начни с растворимости”. В воде оно не растворялось, я сам проверил… Юлька и Виталий терпеливо слушали не очень понятный им монолог. — Да, да, — возбужденно говорил Второв, — я был прав, а Филипп неправ. Неожиданным поворотом в работе старика оказалось какое-то простейшее химическое воздействие. Интересно… Нет, она не взрывается, она превращает все в пыль, тонкую серебристую пыль, похожую на алюминиевый порошок. Да, простейшее химическое воздействие вызывает удивительную цепную реакцию. И нечего сюда приплетать кварк-нейтрино! У нас ведь нет в аналитичке нейтринной пушки, Виталий? — У нас вообще ее нет, Александр Григорьевич. — Вот видишь! — торжественно воскликнул Второв. — Она мне всю картину смазывала, и я никак не мог объяснить… — Простите, Александр Григорьевич, нейтринная пушка есть у Плещенко. Она установлена на третьем этаже, как раз над нашей аналитической. — Что? Что? Ты серьезно? — Точно. Они недавно ее приобрели. Кварки — дело модное. Второв облизал пересохшие губы. — Хорошо, — сказал Второв. — Ты, Виталий, пойди в лабораторию Плещенко и узнай там, только осторожненько, работала ли у них нейтринная пушка. Если да, то могла ли она работать сегодня утром? Как фокусировался поток нейтрино и какова была его плотность? Понял? Потом придешь к Большому Скану. А я наберу материал и попытаюсь посмотреть его. — Можно, я буду вам помогать? — попросил Юлька. — Ты? Давай помогай! — Что такое Скан? — спросил Юлька, насыпая в носовой платок тяжелую, как ртуть, пыль. — Не надо так много. Для Скана достаточно ста граммов. Это большой сканирующий микроскоп с телевизором. Увеличение в миллионы раз. Дает теневое изображение объектов размером в десять — пятнадцать ангстрем. — Молекулярные размеры? — Да. Ну, пошли. Не знаю только, разрешат ли мне, опальному, работать на этом аппарате. Второв передвигался медленно и тяжело. Он словно постарел. Его ничего не значащие фразы скрывали скорбь. …Большой Скан помещался в маленькой темной комнате. Три стены, потолок и пол в ней были бархатистого черного цвета, четвертую стену занимал экран телевизора. В комнате стояло с десяток стульев. Вслед за Второвым и Юлькой сюда пришли другие сотрудники института. Среди них была и Зоя. Она подала Второву бумагу, тот прочел и подписал. — Погодите, Зоенька, не уходите, — сказал Второв, — заявление отнесет кто-нибудь другой. А вы помогите нам провести этот образец. — Вы не боитесь, Александр Григорьич? — спросил Юлька. — Чего? — резко повернулся Второв. — Что получится как с Фроловым? — Нет, — ответил Второв. — До меня подобный образец па Большом Скане исследовал академик Кузовкин. Но у него вначале было слишком мало материала, а потом… стало слишком много, к сожалению, академик уже не мог его изучать. Так что я только повторяю опыт. А… впрочем, я бы не отказался посмотреть, как это происходит. Начали! Зоя подошла к ящику и нажала кнопку. Под потолком вспыхнула сигнальная лампочка. “Внимание!” — послышался откуда-то густой баритон. Свет погас. Фиолетовый экран медленно бледнел, по нему запрыгали искры. “Эталон. Пенопластик с кристаллами сернокислой меди”, — снова послышался откуда-то из-за экрана голос. — Превосходный объект в качестве эталона, — сказал Второв на ухо Юльке. — Множество структур на разных уровнях. И прозрачен к тому же. Он еще что-то такое говорил и объяснял, чувствуя, что стоит ему замолчать, с ним начнется истерика. На экране появился эталон — кусочек крохотной, с трудом различимой пленочки. “Один к одному”, — объяснил голос. Пленка словно взорвалась и, разлетевшись в стороны, заняла весь экран. “Сто”, — сказал голос. Изображение задержалось, и Юлька увидел ноздреватую, напоминающую пемзу, поверхность пластмассы. Здесь когда-то клокотала горячая лава, лопались большие блестящие пузыри, со свистом и ревом вырывался газ. Но сейчас перед Юлькиными глазами на экране расстилалась мертвая равнина, усеянная круглыми ячейками, стенки которых отливали жирным блеском. Огромные кристаллы сернокислой меди застыли в прозрачной массе точно голубые льдинки. “Тысяча”. По экрану поплыли перекрывающие друг друга большие и малые пятна неправильной формы. Наконец изображение замерло, и Юлька увидел множество маленьких темных и светлых точек. “Микропористость”. — Микропористость, — повторил Второв и опять объяснил: — А это уровень коллоидной структуры. Видны мицеллы, даже самые маленькие. Точки чуть-чуть увеличились, и Юльке показалось, что он видит тарелку с земляникой. Зернистые блестящие ягоды были плотно сжаты. Голос опять что-то сказал, но Юлька не расслышал. Он был захвачен видением странного мира. Его потрясла неожиданная сложность, таинственность такой, казалось бы, очевидной и простой вещи, как тонкая пленочка полимера. Невообразимый и непередаваемый ландшафт разворачивался перед ним. Может быть, впервые за свою жизнь Юлька задумался, насколько удивителен мир, который его окружает, и как великолепен он сам, Юлька, могущий все это понять. Ягоды в тарелке пришли в движение и упорхнули. После долгого мелькания световых пятен экран засветился ярким мерцающим светом. Внезапно кто-то выбросил большую гроздь бус, и она рассыпалась на голубом поле цветными горошинами. Изображение было нечетким, расплывчатым. — Молекулярная структура, — пояснил Второв. Юлька впился глазами в экран. Вот они, молекулы! Вечные, таинственные, невидимые… Добрался-таки до вас человек. — Они живые?! — прошептал Юлька. Бусины и горошины там впереди находились в непрестанном движении: свивались в змеиные кольца, сплетались и разбегались, создавая сумасшедшую пляску опалесцирующих лучей. — Как бы живые, — ответил Второв. — Тепловое движение. Да и Большой Скан разогревает препарат… Зоя Николаевна, — громко сказал Второв, — поставьте нашу пыль, только начнем сразу с молекулярной структуры. Скан сейчас на нее настроен. Экран погас, включилась красная лампочка, и было видно, как огромная тень Зои, сломанная на потолке пополам, медленно поползла в угол. — Образец взят на месте бывшей аналитической комнаты, — глухо сказал Второв. — Радиоактивность нормальная, химанализ пока неизвестен. Большой Скан, казалось, долго не мог настроиться на новый материал. Он несколько раз включался и гас. Присутствующие терпеливо ждали. Вдруг аппарат весело загудел, и, прежде чем Юлька успел что-либо рассмотреть, раздался взволнованный голос Второва: — Это ДНК! Классическая ДНК! Теперь и Юлька различал извилистые темные очертания неведомых молекул. Трудно различимая спираль, напоминавшая узор на змеиной коже, вилась по экрану. Несколько минут все молча смотрели. Вздох прокатился по залу. — Невероятно… Просто не верится, — сказал кто-то. — Хватит! — крикнул Второв. — Зоя Николаевна, отключайте аппарат, все понятно. В зале зажегся свет. Люди расходились, возбужденно переговариваясь: “Потрясающе!.. Невозможно, трудно представить!..” — Извините меня, Александр Григорьич, — сказал Юлька, — я понимаю, что задавать вопросы глупо… но, может, вы хоть в двух словах объясните, что всё… — Александр Григорьич! — В комнату вбежал Виталий. — Я все узнал! Пушка работала всю ночь, и утром тоже! — Спокойнее, спокойнее, Витя, — сказал Второв. — Почему она работала, с какой целью, на какой мощности? — Они облучали свои горшки, то есть растения. Проверка действия нейтринных частиц на рост конопли. — Остроумно. Ну и что? — Горшки у них на полу, так что весь поток нейтрино шел сверху вниз и пронизывал нашу аналитическую, где в это время был Леня. Мощность низкая, на три порядка выше естественного потока. Облучение производилось автоматически и в ночное время. Они с вечера включали и уходили. — Так! — сказал Второв. “Следовательно, я неправ, а прав Филипп. К обеим катастрофам причастно кварк-нейтрино. Ну что ж…” — подумал он и оглядел аудиторию. — В свете последних данных события выглядят… хотя погодите, наверное, я не имею права делиться подробностями этого дела. — Вас к директору, Александр Григорьич! …В этот день Второв возвратился домой поздней ночью. Вероника сидела за его письменным столом и работала. В комнате висел табачный туман. — Хорошо же ты начинаешь нашу семенную жизнь! — шутливо сказала она. — В первый же день возвращаешься во втором часу ночи. Второв молча повалился на диван. — Сашенька, покушай чего-нибудь. Там на кухне еда. — Мать осторожно вошла в комнату и с осуждением потянула носом. — Пойду чего-нибудь выпью, в горле пересохло. — Он спрыгнул с дивана. Обе женщины пошли за ним на кухню и молча смотрели, как он налил себе рюмку коньяку, выпил ее залпом и съел яблоко. Вероника понимающе улыбалась. — Плохи мои дела, дорогие, я почти арестант. Твой сын, мамочка, под следствием и отстранен от руководства лабораторией до выяснения всех обстоятельств катастрофы с корпусом “В” и гибели Фролова. — Сядь. Не мечись. Выпей еще рюмку и рассказывай, — сказала Вероника. Она стала серьезной и внимательной. — Пока они выяснят, Михайлов мой штат поодиночке растащит. А я людей годами воспитывал… — Хорошо. Успокойся. Расскажи по порядку. Второв выпил еще рюмку. — Какой порядок? Разве это порядок? Институтский юрист сказал, что для меня очень легко подходит статья о преступной небрежности или халатности по служебной линии с отягчающими… а впрочем, в их формулировках сам черт ногу сломит. Одним словом, что-то весьма неприятное… — Сашенька, сыночек мой родной, объясни же наконец, что случилось? — Да, пожалуйста, ясней, — сказала жена, — ведь мы же не знаем всех подробностей. Это связано с исследованиями Кузовкина? — С ними. Именно Кузовкин подсунул мне эту проблему. Покойный академик был слишком умный. А с умными людьми всегда трудно. Впрочем, сейчас я уже не знаю, был ли покойник, вернее, имела ли место обычная смерть… Голова идет кругом… Раз это ДНК… — Какая ДНК? Что это? — Ах, Вероника! Кто теперь не знает, что такое ДНК!Такая длинная-предлинная цепочка, на которую нанизано множество разных химических групп. Она в растениях, в животных, в человеке. В каждой клетке человека в ядре располагаются молекулы нуклеиновых кислот. Этому соединению ученые присвоили звание материального носителя наследственности, в котором записаны все наши наследственные признаки. До полета первого человека в космос для исследования запускали разные биообъекты, в том числе и молекулы ДНК. Случайно одна исследовательская ракета улетела чуть ли не за пределы Солнечной системы и только сейчас вернулась. Находящаяся- в контейнере ДНК претерпела странные превращения — вероятно, она попала под неизвестный нам, людям, вид облучения. Ее направили к Кузовкину, и тот долго изучал ее, пока не догадался облучить нейтринным потоком. Произошло несчастье — ДНК словно с цепи сорвалась! Она с космической скоростью стала распространяться, расти. Рите, его помощнице, чудом удалось прекратить реакцию. Иначе бы их башня лежала во прахе, так же как и моя лаборатория. Но, очевидно, Рита знала или, может, сама случайно нащупала тайну поведения ДНК, потому что у нее в лаборатории хранилось большое количество этого вещества. Затем на сцене появляется ваш покорный слуга. Дурачок, который сидит перед вами. По записям я знаю, что у Кузовкина было очень мало вещества, что-то около пяти граммов, поэтому серебристый порошок в дьюарах я принял за какой-то реагент и на всякий случай решил проверить его химическую природу и отправил его Фролову на безобиднейший химанализ. Фролов рано утречком принялся за анализы с серебристым порошком, и надо же, чтобы в это же время этажом выше работала точно такая нейтринная установка. Плещенко облучал свои горшки. Катастрофа повторилась, Фролов погиб. Жалко парня! Такая глупая смерть. — Его нашли? — Что можно найти! Металлические предметы, которые почему-то уцелели… Эта ДНК обладает страшной разрушительной силой. Второв сморщился и сжал кулаками виски. — Голова болит? Милый, хочешь, чаю принесу? — спросила Вероника. — Принеси… О чем это я? Да… Вообще я решил изучить структуру этой пыли на нашем телемикроскопе. Оказалось, что пыль целиком состоит из молекул ДНК. Нуклеиновая кислота съела корпус “В”! Молекулы бетона, известки, дерева и полимеров она превратила в длинные спиралевидные цепочки. Уму непостижимо! Это невероятно! Это невозможно! Но это произошло. Я видел собственными глазами. В дирекции из меня начали вынимать душу. Я написал объяснительную записку еще до того, как узнал об исчезновении Фролова, а затем сообщил об этом в заявлении. Но все равно они смотрели на меня как на убийцу. Мама, похож я на убийцу? Но тайна остается тайной, я об этом все время помню… Да, простите, я опять отвлекся. В общем, после разговора со следователем я сажусь в машину и еду за город, к Филиппу, в злополучный институт биохимии. Филипп принялся было меня успокаивать. Поезжай домой, отдохни, на тебе лица нет и прочее. Я ему говорю, что мышление не зависит от цвета лица и выражения глаз. Ну стали мы с ним ломать голову вместе, но так ничего и не придумали. Да, совсем забыл: перед отъездом мы с Филиппом позвонили вдове Кузовкина. Филипп сказал, что следует посмотреть его домашние записи и документы. Может быть, там найдется указание на интересующие нас обстоятельства. Позвонили. Вдова разговаривала с нами очень нелюбезно и сказала, что к ней полгода назад обращалась с подобной просьбой некая Манич. Она ей отказала, а все служебные материалы передала в президиум, в личный архив академика. И тогда мы с Филиппом решили покопаться в личном архиве. — Он вел дневник? — резко спросила Вероника и потянулась за новой сигаретой. — Нет, он был слишком занят, чтобы тратить время на такие пустяки. Официальные бумаги, разные статьи, доклады, сообщения, выступления тоже не принесли желаемого результата. Во-первых, они не имели никакого отношения к интересовавшей нас теме, а во-вторых, в них почти ничего нельзя было понять. Эклектический бред. Тем более, что за последний год старик не написал ни одной статьи. Но зато в архив академика попал его настольный календарь, переданный, очевидно, вдовой. Почему календарь, зачем календарь — непонятно, но тем не менее календарь оказался в архиве. На листках календаря Кузовкин подводил итоги дня и намечал дела на завтра. Иногда философствовал, иногда писал стихи или анекдоты. Там было всё: формулы, рисунки, таблицы, отдельные цифры, планы. Очевидно, вдова по чисто формальным внешним признакам приняла этот календарь за очень важный рабочий документ. И он действительно оказался важным. Мы с Филиппом внимательно просмотрели его и заметили одну интересную особенность в записях. Начиная с некоторого времени, записи академика становятся совершенно невразумительными. С точки зрения здравого нормального человека это невероятный сумбур, разобраться в котором нет никакой возможности. Например, на календарном листке за 17 января дается подробное описание пропуска на завод бытовых автоматов. Запись такая: “…Вчера в течение тридцати — сорока секунд видел пропуск в руках гражданина, ехавшего со мной от Вори до первого Зеленого кольца. Пропуск в темно-зеленой пластмассовой, истертой на сгибе обложке, на левой стороне, вверху, жирным шрифтом напечатано: “Завод бытовых автоматов”; ниже — пропуск номер 1345/31; Фамилия — Потапов, Имя и отчество-Геннадий Николаевич; еще ниже — действительно с 4.1 по 31.12. Графа “продлен с… по…” не заложена. Слева — фотография и круглая чернильная печать на ней, надпись на печати разглядеть не удалось. Совсем внизу напечатано слово “регистратор” и подпись в виде двух заглавных букв ЛЕ. Под чертой: Тираж 50000. Московская типография № 50 Главполиграфпрома, ул. Маркса-Энгельса, 1/4. Нет, каков я!” — Это ты о себе? — спросила Вероника. — Нет, это он о себе. Он был явно доволен собой. Затем несколько страниц календаря исписаны цифрами и подпись — “Анна Каренина”, часть I, глава I, стр. 20–23. Оказывается, Кузовкин решил закодировать в двоичной системе отрывок из романа. И опять приписка: “Каков я, молодец!” Потом идет подробнейшее описание билета на вертолет, с указанием цвета, помятости, номера, тиража, типографии, и рядом детальная схема летающей модели самолета. Все размеры и материалы указаны с умопомрачительной дотошностью. Филипп посмотрел и сказал, что сейчас таких моделей уже не выпускают, их делали много лет назад. И так далее. Второв помолчал. — Записи академика Кузовкина оставили у меня впечатление наползающих друг на друга ледяных глыб. Что-то с треском крошится, что-то рвется, ломается, летят осколки льда и водяные брызги. Грохот, шум, ничего не разберешь… Но вот одна фраза, которая подняла занавес над тайной, не до конца, конечно, но все же… Послушай, что он пишет. “Нам очень повезло, что Р…” Это Рита, очевидно, “…испугалась, когда ампула с препаратом и подставка под ней стали рассыпаться. Уже образовалось изрядное количество этого серебристого порошка, как Р. вскрикнула от страха и дернула рубильник в другую сторону, включив установку на полную мощность, и процесс прекратился… Значит, реакция идет в направлении синтеза только до 70000 единиц! Пою тебе, бог случая”. И еще что-то не совсем понятное: “Нужна была гибель “Седого”, чтобы Р. наконец согласилась. Скоро начнем, и пусть меня не осудят — все это, наконец, касается только нас двоих”. Второв умолк и посмотрел на Веронику: — Что ты обо всем этом скажешь? — А ты? — Я только и делаю, что говорю. Нервными, порывистыми движениями он собрал документы и сложил их в папку. — Дело Кузовкина — Манич — Второва, — горько ухмыльнулся он, — материалы и наблюдения… — Саша, — она подошла к нему сзади и положила руки на плечи, — как ты думаешь, Рита очень любила своего академика? — Думаю, что да. Она преклонялась перед его талантом и… любила, одним словом. — Ты знаешь, мне пришла в голову одна мысль… Ты мне разрешишь познакомиться с бумагами Риты? — Пожалуйста, я же тебе все рассказал. А что ты хочешь сделать? — Видишь ли… — она замялась, — конечно, данных мало, но у меня появилась идея. Что, если попытаться воссоздать образ этой девушки. Чисто художественно, конечно. И настроение у меня сейчас самое подходящее. — А, вот оно что… — сказал Второв. — Ну давай действуй. Но, боюсь, фактов маловато и все так запутанно. — А я без фактов. Мне хочется передать настроение… — Ну разве что. Настроение вещь важная. Правда, настроение не доказательство, его в дело не подошьешь, а впрочем, почему бы и нет? Пиши, а я лягу спать, у меня что-то голова разболелась… Ему казалось, что он уснет, как только коснется подушки. На самом деле он проворочался еще часа два на твердой и тяжелой, словно вылепленной из влажной глины, постели. Один раз, выходя курить, он увидел, что жена еще работает в его кабинете. Оранжевые клубы табачного дыма плавали вокруг люстры.ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Утром Вероника протянула ему несколько исписанных листков бумаги. Второв стал читать: Рассказ о седом псе. “Это единственное воспоминание о нем, которое мне захотелось занести на бумагу. Были и другие, оставившие более сильное и яркое впечатление, но моему сердцу дорого именно это. Может, потому, что все произошло до катастрофы? Не знаю, но, когда я думаю о Дигляре (так потом прозвали седого пса), у меня вновь возникает ощущение тревоги и ожидание несчастья, такое же, как и тогда перед взрывом. Это неприятное тяжкое чувство делает воспоминание ярким и достоверным, хотя мне сейчас грех жаловаться на плохую память. Догорал пронзительный мартовский вечер. Бывают такие тревожные и утомительные вечера в самом начале весны, когда небо становится многоцветным и ярким. Дул сырой морозный ветер, и мы порядком замерзли. Он ужасно упрям. Сколько я его ни убеждала, ни за что не хотел садиться в машину. Он проводит меня пешком, ничего ему не сделается, или я его совсем стариком считаю? Разговор принимал тот неприятный оборот, которого я всегда стремилась избежать. В последнее время он все чаще возвращается к этой теме. Я поняла, что мысль о старости становится манией, идефикс, и всегда старательно избегала этой темы. Иногда он так устало и тоскливо смотрел на меня или вздыхал, думая, что я не слышу его, а я все-таки слышала, видела, и сердце мое сжималось от боли. Плакать я не смела. Он терпеть не мог слез и становился злым и жестким, как хирург в операционной. Ведь все равно с этим ничего нельзя поделать. Оставалось молчать. Мы шли по направлению к моему поселку. Ветер дул сбоку. А он все говорил о своих предчувствиях. Он почти никогда не делал логических выводов, не выдвигал точных, строго обоснованных предположений. Он говорил только о чувствах. Он все ощущал как часть удивительного ансамбля жизни. Я всегда останусь благодарной ему за эту потрясающую способность чувствовать, которая была сущностью его гениальности. Дорога тянулась и тянулась, ветер то ослабевал, то вдруг нарастал, небо над нами горело, мерцало и переливалось, снег в полях за черными обочинами темнел и темнел. Он говорил, какая нам привалила удача. Необыкновенная, потрясающая удача. Вещество обладало чудесными свойствами. В нем таилась грозная разрушающая сила. В нем было еще что-то, о чем мы могли только догадываться. “Нужно пробовать, — говорил он, — нужно смелее пробовать. Мы должны стать эмпириками, слепыми эмпириками, которые владеют единственным орудием исследования — методом тыка”. Ветер развевал его шарф, от холодного воздуха порозовели щеки, взгляд сделался пронзительным и чистым. Я любовалась им, его задором и энергией, он казался мне юношей, совсем-совсем молодым. И вот здесь, в эту минуту, мы увидели седого пса. С трудом различимый живой комок полз по темному снегу. Никто не крикнул нам — уйди, никто не предупредил, что с этой минуты для нас начнется другая, сложная и запутанная жизнь. Мы остановились. Пес прополз несколько метров, приподнял голову и слабо заскулил. Возможно, у него была парализована нижняя часть тела или он просто очень сильно ослабел от голода и холода. Мы спрыгнули в кювет и взобрались на, снеговое поле. Какой это был жалкий зверь! Это был неповторимо жалкий зверь! Глаза его гноились, шерсть местами облезла, обнажив кровоточащие язвы. Эта немыслимая грязно-белая шерсть вызывала тошноту. Когда мы подошли, он уже не мог поднять голову, упавшую на передние лапы. Только изредка взмахивал похожим на мокрую мочалку хвостом. Мне сразу захотелось уйти. “Он больной”, — сказала я и отступила. “Нет, он не болен. Это старость. Смотри и запоминай. Это я, это я сейчас так ползу по жизни”. Я возмутилась. Не помню точно, что я ему сказала, но там были слова: “ханжество”, “лицемерие” и еще что-то довольно обидное. “Вы посмотрите на себя, — говорила я. — Прекрасно одетый, упитанный, розовый, с молодыми глазами человек оплакивает свою горькую судьбину. Смешно!” “Не смешно, а грустно, — сказал он, — я чувствую себя именно таким вот несчастным псом. А как я выгляжу, это совсем другой вопрос”. Затем он наклонился и поднял собаку. Мы повернули назад, к институту. Он нес собаку на руках, крепко прижимая ее к груди. В лаборатории он сам вымыл и вытер ее, обработал язвы заживляющим раствором Флемминга. Я только ассистировала. Когда пес был накормлен и устроен в лучшей камере вивария, ему была сделана инъекция слабого раствора нашего препарата. “Я сам буду делать уколы, — сказал он. — Опыты с этой собакой я проведу своими руками. Я чувствую, что она недаром попалась на моем пути”. Он, как всегда, оказался прав, хотя поначалу я думала, что пес подохнет. Когда я пришла на другой день в виварий, Седой пластом лежал в своей клетке. Он не отзывался на оклики, не реагировал на еду и питье. Уколы тем не менее продолжались. А уже через неделю Седой приветствовал пас веселым лаем, бросался на грудь и норовил лизнуть прямо в лицо. Это было поразительное превращение! К собаке вернулись здоровье, и сила, и веселость. Мой друг был счастлив, его переполняла сдержанная гордость, тихое торжество. Конечно, многое в этом успехе зависело от Случая, обязано Случаю, рождено Случаем. Но ведь и Случай дается только тем, кто его заслуживает… Особенно поразительной была полнота выздоровления Седого. У него даже восстановились какие-то старые, угасшие рефлексы. Например, стоило включить электрический свет, как пес бросался к миске с едой. Эта реакция появилась только на десятый день лечения препаратом “А1”, и шеф сказал, что легко может объяснить поведение пса. По его мнению, пес когда-то жил в темной комнате или передней, где свет включали только перед его кормлением. Затем Седой начал проявлять особый интерес к детям. Малыши редко появлялись на территории нашего института, но все же иногда родители приводили ребятишек посмотреть мышей, крыс, обезьян. Заодно дети демонстрировали сотрудникам института свои таланты. Декламировали стихи, отвечали на каверзные вопросы взрослых или красноречиво молчали, уцепившись за юбку матери или брюки отца. Последнее было наиболее распространенной формой их публичных выступлений. Чаще же всего они возились с Седым. Пес в это время уже получил полную свободу и с независимым видом разгуливал по двору. Однажды, наблюдая возню детей и собаки, мой друг сказал, что Седой ведет себя как щенок. Это замечание поразило меня. Действительно, ведь Седому было не меньше семи — восьми лет, а прыгал и тявкал он, как семимесячный. Очевидно, там, где он вырос, было много детей, он к ним привык и любил их. “Он впадает в детство”, — заметил мой друг, и я сказала, что я тоже хотела бы впасть в детство. Помню, что он посмотрел на меня внимательно и долго и ничего не ответил. Всем нашим подопытным объектам мы вводили препарат “А1”. Я сейчас не могу без содрогания вспомнить всех этих подыхающих от старости, болезней и увечий крыс, мышей, свинок. “Все, — сказал однажды мой друг, — кончаем… Все ясно”, — добавил он. А что, собственно, было ясно? Препарат восстанавливал здоровье? На этот вопрос трудно было ответить определенно. Статистика показывала, что только пятьдесят процентов животных возвращались в норму. А остальные погибали. Но что-то с ними все же происходило. Но это что-то было таким очевидным и одновременно неуловимым… Мы долго ломали голову, как определить состояние, в котором оказывались наши животные после лечения препаратом “А1”. “Они молодеют”, — говорила я, а шеф, ядовито улыбаясь, указывал мне на седину нашего пса и склеротические прожилки в глазах. “Они глупеют”, — утверждала я, и мой друг неодобрительно качал головой. Это была явная клевета на наших веселых и сообразительных животных. “У них восстанавливается память”, — говорил он, и это было похоже на истину. По всем признакам сильнее всего и резче всего наш препарат влиял на восстановление памяти, на воскрешение забытых рефлексов молодости. Затем случилось несчастье. Погиб Седой, погиб в отчаянной, мужественной схватке, спасая жизнь нашему сотруднику. У нас в виварии расположен большой обезьянник, в котором среди множества макак, мандриллов и прочей обезьяньей мелочи содержался огромный яванский орангутанг. У него было отдельное помещение, снабженное надежными запорами. И все же, несмотря на сторожей и замки, а может быть, именно благодаря им, обезьяна сбежала. Все были слишком уверены в принятых мерах безопасности. А оранг удрал и скрылся в заповеднике, благо до леса рукой подать. Изредка зверь возвращался в виварий, оставляя после себя растерзанные тушки кроликов и перья птиц. Не знаю, что его тянуло обратно, но перепуганные сторожа потребовали либо выловить обезьяну из заповедника, либо снабдить их огнестрельным оружием. В тот же день, когда были выданы винтовки, оранг напал на одного из сторожей, и плохо пришлось бы старику, не окажись рядом Седой. Пес бросился на спину обезьяне и отвлек ее от человека. Помятый, ошалевший от страха сторож вскочил на ноги и стал стрелять в катавшийся по земле клубок тел. Так погибли и вольнолюбивый оранг и наш Седой. К моему удивлению, гибель Седого сильно поразила шефа. Узнав о ней, он долго молчал и затем сказал, что хочет попробовать препарат на себе. По его тону и взгляду я поняла, что это решение окончательное, что сопротивляться и уговаривать бесполезно. Это был приказ, обсуждению не подлежащий. И тогда я сказала, что тоже хочу попробовать препарат на себе. Мне показалось, что он обрадовался принятому мной решению, хотя и стал спустя несколько минут отговаривать меня и даже погрозил кулаком… Могла ли я подумать, что его руки, сильные руки его попадут под кварк-нейтринный поток и на моих глазах превратятся в серебристую пыль? Как нам страшно не повезло!..” — Ну и что? — спросил Второв, отложив в сторону последний лист. — Как — что? — Что случилось после того, как они ввели себе препарат? — Это неважно! Я не собиралась разгадывать тайну, просто мне хотелось нарисовать образ и высказать кое-какие свои идеи… — Скажу тебе прямо. Это ничего общего с Ритой не имеет. Ты не обижайся, но это так. — А по-моему, все верно. Рита — добрый, интеллигентный человек, научный работник… Высший стиль мыслей, чувств и слов… — Рита — это битое стекло в тесте. Голыми руками мять не рекомендуется, — резко сказал Второв. — И, уж конечно, она не будет называть его “мой друг”, или “он”. — А как она его называла? — Не знаю. Но это неважно. Про пса хорошо, про старость хорошо. По-видимому, такой стимул в деяниях Кузовкина существовал. И еще кое-что есть… Так что спасибо, в общем. — Куда же ты забираешь рассказ? — Хочу еще раз прочесть. — Значит, тебе все же понравилось? Второв неопределенно хмыкнул и, сунув рукопись в портфель, пошел к двери. Он был раздражен ее самоуверенностью. Но — и он понял это сразу — ее работа была первой попыткой нарисовать законченную картину того, что когда-то разыгралось между двумя ушедшими из жизни людьми. Он не поверил ни одному слову, но ясно почувствовал, что в его руках был метод. И еще он понял, что ему не хватает фантазии, всегда не хватало фантазии. …Войдя в свой кабинет, Второв подмигнул портрету Опарина, но тот остался безучастным и равнодушно смотрел, как он запирает двери и на цыпочках пробирается к письменному столу. “Хорошо, что хоть кабинет не опечатали, — подумал Второв. — А то и приткнуться негде. И как это Михайлов упустил?..” Он выдернул телефонную вилку из гнезда, открыл форточку, закурил. “С этим псом у Веры, кажется, получилось неплохо. Сам не пойму, в чем там дело… Нет, конечно, все это сюсюканье никакого отношения к Кузовкину не имеет. Понятное дело, что все там было иначе. Но сам метод! Метод, пожалуй, хорош… Нужно и мне попытаться рассказать все с самого начала. Рассказать самому себе. Одеть фантастический костяк плотью фактов…” Он сбросил со стола книги и папки прямо на пол. Достал из ящика чистый лист бумаги и написал крупными буквами: ДНК ИЗ КОСМОСА. “И все же что там могло произойти? Излучение, взрыв, особые частицы?.. Пожалуй, не стоит хитрить перед самим собой. Все равно хочется поставить этот вопрос. Нет! Нет! Так нельзя. Я растекаюсь мыслию по древу. Все догадки и предположения должны быть отброшены! Факты и обстоятельства, обстоятельства и факты, и все, что с необходимой логикой вытекает из этих фактов. Никаких фантазий…” Факт № 1. ДНК побывала в космосе и возвратилась на Землю. “Как далеко занесло в космос эту станцию? К сожалению, в сопроводительной записке Комитета ничего об этом не сказано. Да и неважно это. Они сами, наверное, не знают. Где летала, как летала нуклеиновая кислота, — никому не станет легче от знания этих деталей. Главное, что побывала в космосе, в не освоенной человеком части пространства, и там… Снова лезут в голову эти братья по разуму, долой их! Значит, ДНК там подверглась каким-то воздействиям. Каким? Неизвестно. С чьей стороны — тоже неизвестно. Одним словом, подверглась и вернулась на Землю. Следующий этап…” Факт № 2. Исследования космической ДНК производились академиком Кузовкиным совместно с Манич. “Попробуем еще раз представить себе обстоятельства, связанные с этой историей. Ну, исследовали. А дальше что? Прежде всего, конечно, повторили известное. Оказалось, что у них в руках типичная ДНК, которая была отправлена много лет назад в космическое пространство. Ученые любят повторяться. Вся наука зиждется на повторах. Впрочем, подобные соображения к делу не относятся. Их в протокол не впишешь”. Факт № 3. Кузовкин и Манич подтверждают, что по всем физико-химическим показателям они имеют дело с типичной дезоксирибонуклеиновой кислотой, извлеченной из вилочковой железы человека. “Затем неугомонный старик, перебрав все физические и химические методы испытаний, решает поместить препарат в нейтринный поток. Происходит удивительное — ДНК разрушает материалы, воссоздавая самое себя из атомов и молекул любого рода. Кроме металлов, конечно. Металлы почему-то устояли. Случайно… Ах, случайно? Уж эти мне случайности, ими полна литература, но не жизнь. Так или иначе, Рита дергает рубильник не туда, куда надо, мощность установки увеличивается на несколько порядков, и реакция останавливается”. Факт № 4. Космическая ДНК в потоке кварк-нейтрино, обладает сокрушительной, разрушающей силой; реакцию, впрочем, может прекратить тот же нейтринный поток, но повышенной мощности. “Кажется, достаточно? Обнаружено поистине замечательное свойство, нужно трубить о нем повсюду, подавать заявку на патент, выступать с сообщениями и так далее. Однако Кузовкин не торопился, он продолжает опыты, он ждет… Чего ищет академик? Если поверить тому, что написала жена, старика больше всего интересуют биологические аспекты применения таинственной ДНК. Биологические и медицинские… Геронтология прежде всего. Почему? Разве не достаточно тех диковинных физических свойств, обнаруженных в нейтринном потоке? Очевидно, для Кузовкина этого мало. А почему, этого мы, наверное, никогда не узнаем… Может, действительно старость… Что мы о ней знаем? Кузовкин стареет, он ученый, активный ученый, который борется с природой, а не только изучает ее. Опыт с псом, с мышами и морскими свинками подает надежду… А вдруг? И Кузовкин очертя голову бросается в пучины неизведанного эксперимента… Туда же вовлекается Рита…” Факт № 5. Кузовкин проводит новую серию экспериментов с космической ДНК для того, чтобы изучить ее биохимическое и биологическое действие. Обнаружив положительный эффект, ставит опыты на себе. Он и Р.Манич вводят себе какую-то дозу препарата. “Впрочем, это еще надо проверить… Ну да ладно. Допустим. Что же произошло после этого? Риточка сделала всего лишь одну запись. “Боже мой, и я еще хотела что-то записывать!” Что значит эта фраза? Ужас, безнадежность или наоборот, такая простая очевидная ситуация, что и записывать нечего? Когда Рита ввела себе ДНК, — одновременно с ним или после?” Факт № 6. Сопоставление дат показывает, что после введения ДНК у Кузовкина начался период обостренного чудачества. Со слов очевидцев следует, что поступки, Кузовкина в этот период обнаруживали в нем либо гения, либо сумасшедшего, либо гибрид сумасшедшего и гения. Необычайная острота восприятия, потрясающая зрительная и ассоциативная память, сила, энергия — все это не могло не вызвать удивленного внимания со стороны окружающих. “А что же в это время происходило с Ритой? Она отсутствовала? Все говорят только о Кузовкине, а она что? Ведь она тоже согласилась быть подопытным кроликом. Почему же гениальность пришла только к Кузовкину? Или… может быть вот как: они решили сдвинуть опыт по времени! Очевидно, они договорились: сначала он, потом она…” Факт № 7. Кузовкин гибнет в результате взрыва узла фокусировки нейтринной пушки. “Так ли это? Вернее, совсем ли точно эта фраза отражает действительность? Если судить по записям Риты… Не оставляет чувство, мучительное чувство недоговоренности… Даже просто непонятности. Сначала ведь он начал рассыпаться, а затем уже произошел взрыв. А точнее — неполадки в узлах фокусировки заставили Кузовкина резко повернуться, руки его попали в нейтринный поток и… Теперь я знаю, как это происходит. Достаточно небольшого количества космической нуклеиновой кислоты поместить в концентрированный нейтринный луч, и начнется цепная реакция. Реакция разрушения, реакция деградации… Впрочем, с точки зрения ДНК — это реакция синтеза и воспроизводства. Но разве у ДНК существует “точка зрения”? Что это я, право… Не надо отвлекаться! В организме Кузовкина находилась космическая ДНК, он вводил ее регулярно малыми дозами. Бомбардировка нейтринными частицами вызывала распад тела. Рита видела своими глазами, как рассыпались его руки. Затем только произошел взрыв. Вот почему от Кузовкина ничего не осталось. И как это подобное соображение не пришло в голову раньше кому-нибудь из следователей? Ведь совершенно невероятно, чтобы один человек, Рита, остался цел и невредим, а другого разнесло в пух и прах. Причем оба находились в одной комнате! Бессмыслица… Хотя, впрочем, как говорят, Рита была тоже сильно помята, затем пожар мог уничтожить следы… Все это так просто. Да и следователей интересовало другое. Не было ли здесь злого умысла с чьей-нибудь стороны? Вот что их интересовало. Очевидно, не было… На то он и Случай, да еще и несчастный, чтобы вобрать в себя достаточное число невероятных причинно-следственных связей. Да, пожалуй, так и было… Именно так, не иначе. Но почему Рита буквально сошла с ума после этого случая? Конечно, все причины, о которых я знаю, могут считаться достаточными. Гибель любимого человека? Возможно. Чувство собственной вины? И это возможно. Судя по ее запискам, она что-то не подготовила перед опытом, поэтому, может, и закипела вода в холодильнике, поэтому Кузовкин бросился к установке, поэтому руки его попали в нейтринный поток… Что ж, вполне возможно. Но вот вопрос: когда Рита ввела себе ДНК? Перед взрывом или после? После — отпадает, потому как смерть Кузовкина настолько потрясла ее, что ей было не до опытов. Определенно, она сделала это перед смертью Кузовкина, может быть, совсем незадолго перед катастрофой. Если ДНК повлияло на нее так же, как на академика, а у нас нет оснований предполагать что-либо иное, она находилась в состоянии особого обостренного восприятия действительности. Сцена гибели Кузовкина застыла в ее глазах, как неподвижное, статичное изображение, от которого она уже не могла избавиться. Она как призрак днем и ночью преследовала бедную женщину! Недаром же Рита рассказывала всем только об этом, только об этом… Даже мне, новому, незнакомому человеку, она три раза пыталась рассказать о том, как погиб Кузовкин. Причем одними и теми же словами! Как вызубренную роль… Да, пожалуй, так и было. Очевидно, в этом состоянии крайнего напряжения всего человеческого существа такие сцены подобны смертельному ранению. Да, да, это так, это только так! Если Кузовкин мог запомнить номер автобусного билета, тираж, типографию, цвет, линию обрыва, то какие подробности должна была помнить Рита! Она помнила всё, все ужасные детали с неисчезающей четкостью, со сводящей с ума ясностью… Какое счастье, что природа дала нам возможность забывать!” Факт № 8. Р.Манич присутствовала при гибели Кузовкина, находясь под влиянием препарата “А1”. Все ужасы этой сцены отпечатались в ее памяти с фотографической точностью. Не в силах преодолеть, забыть эту сцену, Р. Манич решила уйти из жизни. “Итак, с гипотезами, касающимися дела Манич — Кузовкин, покончено. Возможно, намеченный ход событий будет корректироваться со временем, по мере поступления новых фактов, но пока предложенная линия довольно логично и обстоятельно связывает между собой наибольшее число фактов и вероятных обстоятельств”. Второв сел на стул верхом и принялся раскачиваться. “Как действует космическая ДНК на человеческий организм? Почему так различно поведение Кузовкина и Риты? Чем объяснить эту разницу? Он стар, она молода? Он мужчина, она женщина?” Второв вновь принимается рисовать на бумаге большими буквами вопросы и рядом — маленькими буквами ответы. 1) ДНК? Стал запоминать (логарифмы, билеты, энциклопедия); 2) ДНК? Обрел большую силу (перевернул автотележку с кормом); 3) ДНК? Помолодел? “Последний, третий пункт под вопросом. Мне никто не говорил, что он помолодел. Глаза молодые, блестящие… Тьфу, пропасть, это же из домыслов Вероники! Нет, пожалуй, третий пункт придется зачеркнуть, да и второй… Хотя для второго есть подкрепляющий, довольно убедительный факт. Старик переворачивает тележку. Все это так, но старик-то и раньше на слабосилие не жаловался. Но, пожалуй, самым бесспорным остается первый пункт. Укрепление и восстановление памяти, эрудиции, интеллектуальной восприимчивости”. 1) ДНК? Все время помнила о сцене гибели Кузовкина, никак не могла забыть об этой страшной минуте. “Но это, пожалуй, и все. А может, появились бы и другие свойства, если бы не гибель старика, которая вышибла ее из колеи. Так в чем же сущность действия ДНК на организм?” ОТКРЫТИЕ Космическая ДНК возвращает человеку полную вещественную память, накопленную в течение его жизни. “Да, это так. Человек может вспомнить все, что он прочел, увидел, перечувствовал. Так академик Кузовкин превратился в юного гения в том возрасте, когда некоторые начинают впадать в старческий маразм. Но, очевидно, все же память восстанавливается не сразу, а по принципу: главное-сначала, ярче, убедительнее; второстепенное — потом, не так остро, не столь явственно. Иначе человек захлебнулся бы в потоке воспоминаний. Но Рита, Рита… Ей конечно, лучше было бы восстановить память в целом или еще лучше не восстанавливать ее совсем, чем носить перед своим мысленным взором этот ужасающий миг. Она погибла из-за препарата, который сделал Кузовкина гением”. ДОБРО ИЛИ ЗЛО? “Закрепление химической памяти… Возможность быстро усваивать и запоминать намертво! Шутка ли… Это позволит сократить обучение, резко ускорит общечеловеческий прогресс… Но смогут ли люди жить, ничего не забывая? Вот, допустим, я и Вера. Нам нужно очень многое забыть, иначе… А Рита, которая не сумела забыть? Здесь все непросто, все двояко. И кто возьмет на себя ответственность за выбор, за синтез pro и contra? И про катастрофы нельзя забывать, про цепную реакцию в кварк-нейтринном потоке… Но это же управляемая реакция! Все дело только в режиме. Год работы, и вопрос будет решен. Так и напрашивается мысль, что это чья-то подсказка! Память — это власть над временем… Здесь стоит подумать. Крепко подумать… И, собственно, даже неправомерно ставить такую альтернативу: добро или зло. Нужно, чтоб было добро! И это зависит от нас, людей. Как мы захотим, так и будет. Природе ведь чужды такие понятия, как зло и добро. Все только в руках человеческих. И в моих руках тоже. Но не слишком ли я самонадеян? Умещается ли в мою жесткую схему вся противоречивая эволюция его гениальной идеи? Продолжатели будут отталкиваться уже от моих выводов. Они не вернутся к запутанной трагедии Кузовкина. Может, не торопиться, еще подумать?” За окном догорал четвертый день.Н.Коротеев Огненная западня

8 июля
— Итак, товарищи, я собрал вас, чтобы сообщить… интересное известие. Петр стоял у костра, держа в руках небольшой кусок известняка. Остальные, устроившиеся вокруг огня, смотрели на него снизу вверх. — Садись, — подражая хорошо поставленному голосу педагога, сказала Марина. — Двойка. Свои мысли необходимо выражать своими словами. Склонив голову набок, Петр с любопытством оглядел своих спутников. Деловитая, хозяйственная Марина сосредоточенно дула на ложку с горячей кашей, которую собиралась попробовать. Загорелая, с разгоревшимся от жара лицом, девушка пыталась быть серьезной, но это ей плохо удавалось. Зато Тимофей был предельно сосредоточен. Громадный увалень, он отвечал столь же неторопливо, сколь и мыслил. Секунд через пять, когда до него дошли слова Петра и Марины, он оторвал наконец взгляд от подвесного мотора, в котором копался, глянул на высившегося у костра командора. Потом Тимофей добросовестно провел ребром ладони под носом, оставил на щеке рыжий след масла: — Ну… Дзолодо не обратил на заявление Петра ровно никакого внимания. Он полулежал у костра. Его узкие раскосые глаза не отрываясь глядели на пламя. Петр искренне усомнился, слышал ли Дзолодо сказанное. Как всегда, он блуждал в дебрях шахматной мысли. “Жаль, коли так”, — решил командор. Интереснейшее известие, которое он собирался сообщить, касалось Дзолодо самым непосредственным образом. — Ну! — протянул Тимофей. — Говори, что ли… — Нам необходимо вернуться на развилку рек и идти вверх по Лосиной, а не по реке Солнечного луча, куда мы свернули. Ясно? Марина зашипела, ожегшись кашей: — Это плохая шутка, командор. — Да… — среагировал Тимофей. — А как же я? — Дзолодо сел. Его глаза необыкновенно округлились. — Мы не можем изменить маршрут, — твердо сказала Марина. — Что за чепуха! Не пешком же пойдет Дзолодо до Высокого. И меня там дела ждут. Выдумает… — Да, — подтвердил Тимофей. — Ерунда получается, командор. Все замолчали. Марина поднялась, захватила чайник и ушла к реке. Она считала заявление командора несерьезным. В темноте на перекате плескалась вода. Слышался глухой перестук камней, которые течение волочило по дну. Стояла удивительная тишь. Такой никогда не было. В безветрии затаилась тайга. Что-то неясное, скрытое темнотой, поднималось в поросшие тайгой горы из далекой долины. Тревожно дрожал свет звезд. Они не мерцали, как обычно, а именно дрожали, словно их лихорадило. Марине показалось, что на той стороне у воды мелькнули во тьме чьи-то горящие зеленым светом глаза. Она готова была поклясться, что видела их на самом деле, и, возможно, так оно и было. На какое-то мгновение Марина ощутила себя в полном одиночестве, и тогда пришел страх. Позади нее, у костра, громко заговорили. Марина прерывисто вздохнула и направилась обратно. — Я видела на том берегу чьи-то глаза, — сказала Марина, но ее никто не слушал. — План не догма, а руководство к действию. Нам необходимо изменить маршрут, — сухо сказал Петр. — Мы должны знать — почему? — отрезал Тимофей. — Идти вверх по реке через заломы? — Дзолодо вскинул брови. — И как же я? Когда я попаду домой? К родным? — Может быть, ты все-таки объяснишь, в чем дело? — попросила Марина и добавила: — Нельзя же не считаться с нами. — Дайте договорить. Набросились!.. Ну вот. — Петр знаком попросил всех приблизиться к карте, которую он расстелил у костра. — На всем протяжении Лосиной, до впадения в нее реки Солнечного луча, я находил на берегах ископаемого моллюска Мидендорфа. Мидендорф — ученый-геолог, который в прошлом столетии исследовал бассейн реки. Но тогда палеогеология не была еще достаточно развита. Приуроченность вымерших существ к залежам полезных ископаемых почти не изучалась. — Это интересно, — кивнул Дзолодо. — Значит, как их… — Моллюск Мидендорфа, — ответил Петр. — Значит, моллюски Мидендорфа выносятся из Лосиной. а в реке Солнечного луча, куда нам по плану надо свернуть, их, по-моему, нет. — Точно. — Река Солнечного луча течет в предгорьях. На равнине фактически. И на ее берегах нет известняков. А в каньоне Лосиной, посмотрите, известняков полно. Поэтому я настаиваю: надо изменить маршрут. — А к чему они приурочены, как ты говоришь? — спроси.] Дзолодо. — К месторождениям олова. — Серьезно? — подался вперед Тимофей. — Чего же ты молчал? Кустарь-одиночка. — Я не мог сказать. Не был уверен. — Ничего себе! — заворочался Тимофей. — Не был уверен. Ты, что ли, открыл этих моллюсков в Лосиной? Тебя же просили проследить. Так? — Не совсем. Самые верховья реки Солнечного луча и Лосиной почти не были обследованы палеогеологами. Понимаете? Случайно в школьной коллекции обнаружен образец с отпечатком моллюска. Три года назад выпускники ходили в этот район. Вот меня и просили проверить. — И ты молчал! — хлопнул себя по колену Тимофей. — Нет, ты пижон. Махровый пижон. — Действительно, — подтвердил Дзолодо. — Как у вас все быстро получается, мальчишки. — Марина пожала плечами. — Р-раз — и повернули. А дела, которые ждут в Высоком? Я что же, не выполню задания? Не соберу фольклор? — Потом. Обследуем Лосиную — и пойдем по реке Солнечного луча в Высокое. Решили? — Петр оглядел товарищей. — Меняем маршрут. Завтра проскочим к Лосиной — и вверх. — Дорога там дрянь. Говорят, завал на завале и течение очень быстрое, пороги. За мотор я не ручаюсь. — Тимофей говорил это неторопливо, отделяя фразы длинными паузами. Петру показалось, что он произнес целую речь. Марина усмехнулась: — А за себя? Будто мы просто пойдем по другой улице. — Но ведь время, Петя. Сколько времени уйдет! — веско заметил Дзолодо. — Две — три недели нам понадобится. Потом — отдохнем в Высоком. Вы одно поймите: у нас есть возможность сделать открытие! — Этот моллюск всегда, как это, приурочен к олову? — Ну, знаешь, Тим! — Командор развел руками. — Может, моллюск есть, а олова нет. — Короче — риск, — подытожил Тимофей. — Петр неправ! Надо идти намеченным путем. Мы не уложимся в срок. А у каждого своп дела, планы. Останется время — вот тогда другое дело. — Хватит, Марина. Ты можешь оставаться и ждать нас здесь, — сказал Петр. — А еще про романтику говорить любишь. Комиссаром у нас числишься, уважаемый замсекретаря комсомольской организации школы. — Демагогию разводишь, Петенька, — почти пропела Марина. — Ну, это ты брось! Я предлагаю настоящее большое дело. Конечно, я понимаю, Дзолодо — пассажир, он просто в гости к родным едет. Поэтому он против. Дзолодо смутился: — Почему же… — Значит — “за”? — приступил к нему Петр. — Так нечестно! — возразила Марина. — “За”? — Как все… — Дзолодо растерянно опустил глаза. — Мы не имеем права менять маршрут! — с отчаянием воскликнула Марина. — Если мы вовремя не придем в Высокое, нас искать начнут. Петр отмахнулся: — Мелочи. Я, как командор, беру ответственность на себя. Попятно? Ну, Тим? — Мотор… Ведь он не такой уж сильный… В верховьях Лосиной течение… — На шестах дойдем! — воскликнул Петр. — Ну, Тим! Тимофей поморщился, почесал щеку, окончательно испачкал лицо смазкой: — Давай! — Вот так, Марина. — Петр развел руками. — В меньшинстве. Придется подчиниться. В безмолвии ночи послышалось тугое дыхание ветра в вершинах. Шум заглушил звонкое биение реки в каменистых берегах. Марина глянула вверх. Звезды лихорадило, но только на половине неба. Другая была аспидно-черной. Ее затянуло громадой тучи. От нее потянуло резким холодом. — Дождь будет! Крепить палатку надо! — крикнула радостно Марина, подумав, что непогода задержит их и Петру волей-неволей придется отказаться от своей затеи. — Скорее! Скорее! Порывы в вершинах набирали силу. Ветер усилился настолько, что, казалось, спустился к самой земле, заколебал пламя костра. Ослепительный иссиня-белый свет вспыхнул в туче. Молния была похожа на дерево, повернутое стволом вверх, а огненные ветви уперлись в землю. Через мгновение скалы дрогнули от этого прикосновения. Звук удара был так силен и плотен, будто по ушам ударили кулаками, а в глазах все еще стояло сверкающее дерево. И еще не затихли раскаты, как снова вспыхнула молния, ярче и грандиознее, чем первая. Удар грома еще не долетел до них, а новое огненное дерево низринулось ветвями вниз. Раскаты грома слились в сплошной оглушающий звук. Воздух стал удушлив, словно кошмар. Забившись в угол палатки, Марина закрыла лицо руками и ойкала при каждом проблеске молнии. Непроницаемая ткань палатки-серебрянки при каждой вспышке просвечивала будто кисея. Мальчишки бесновались: — Во дает! — А ну еще разок! — Э! Пудзя! Э! — подбадривал Дзолодо удэгейского бога огня и молний. Всплески ядовитого цвета молний чередовались с ударами грома, от которых содрогалась земля. Но дождя не было. Несколько редких капель, точно камешки, ударили по скатам. И все. Грохот грома ивспышки молний уползли вверх по реке, в сторону гор. Стало душно и даже пыльно. Пыль скрипела на зубах. Всю ночь Марине снились какие-то чудовища. Мальчишки тоже проснулись хмурые. Только Петр бодро торопил всех. Позавтракали вчерашней кашей. — Может, ребята, не будем делать глупостей? — спросила Марина. Петр и бровью не повел, будто такой призыв не мог относиться к нему. Тимофей и Дзолодо покосились на Марину, но промолчали. Только когда укладывали во вместительную самодельную лодку из дюраля свои пожитки, командор изрек: — Женщины в походе — только обуза. Марина хотела съехидничать, но сдержалась, даже усмешку постаралась спрятать. Так не годится. Раз решили идти, надо, чтоб все было хорошо. — Тим! Как мотор? — суетился Петр. — Марина, Дзолодо, вещи уложили? Давайте, давайте! Командор присматривался ко всему, что делалось. Потом схватил лопатку и стал засыпать костер. Но то и дело отвлекался. Либо Марина положит карабин не туда, то кастрюля окажется не па месте. Командор кричал, махал руками, бросался к лодке и сам наводил порядок. Наконец все собрались. Командор устроился на носу лодки. Он был впередсмотрящим, Марина и Дзолодо — в центре, а Тимофей — на корме у мотора. — Пошли! Затрещал мотор, вспенилась вода за кормой, и, развернувшись широкой дугой, лодка обогнула косу и вошла в Лосиную. Дзолодо вздохнул, взглянув на реку Солнечного луча, которая вела прямо к его родному поселку на месте старого становища. Увидел Дзолодо и место их стоянки: серый дымок над костром. “Погаснет, — подумал Дзолодо. — Может, это и не дым, а пар… Ничего. Погаснет”.10 июля
— Прямо по курсу — пожар! — сказал пилот. Он чуть повернул самолет, чтобы сидящему справа от него летнабу стал лучше виден сизый дымок на горизонте. — Вижу! — Летнаб посмотрел на приборы. Скорость была сто сорок километров. — Может, прибавить? Услышав этот вопрос, пилот усмехнулся. Он ожидал его с того момента, когда на горизонте показался подозрительный, размытый струящимся маревом и далью дымок. Это пятнышко трудно было разглядеть, но пилот увидел. Он был старым военным летчиком. Но когда капитану Ванину исполнилось сорок, ему запретили летать на реактивных. Правда, предлагали остаться в армии и работать на земле, но он отказался. Отказался он и от пассажирских перевозок и твердо осел в ГВФ. На охране лесов. Эта работа напоминала боевые будни. — Может, прибавить? — Летный наблюдатель настойчиво повторил вопрос. — Тридцать восемь и восемь десятых метра в секунду, — откликнулся Ванин. — Не понимаю. — Сто сорок километров в час. — Можно быстрее? — Вы летаете не первый год и знаете — нельзя, — ответил пилот. Ванин подумал, что на реактивном самолете он оказался бы над зоной пожара через несколько минут, а “Як-12” будет добираться около часа. И еще пилот подумал о том, как трудно бывает человеку, когда он переживает возможности своих сил, а потом — что немного завидует летнабу. Тому до своего возрастного ценза далеко. Косых едва перевалило за тридцать. Однако, по твердому убеждению Ванина, он сохранил горячность и норовистость ранней молодости. Антон Косых, видимо, чувствовал: для Ванина главное в работе патрульного не лес, который он охраняет, а сама возможность летать, быть в постоянной “боевой готовности”. Поэтому летнаб старался “заразить” Ванина любовью к тайге, которая сотней оттенков переливалась под крылом “Я-12”. И эти оттенки зеленого моря не были чем-то застывшим, они менялись ежедневно, в зависимости от погоды, солнечного освещения; ранней весной цвет тайги был один, в разгар — другой, а в начале лета — совсем особенный… Всех и не перечислишь. Но Косых знал все оттенки зелени всех пород деревьев во все времена года. Знал Косых, где и какая порода деревьев растет и почему в одном месте тайга мало страдает от пожара, а в другом выгорает очень сильно. Как правило, они возвращались на аэродром в отличном настроении. Отводили машину на стоянку, ложились на траву в тени крыла. — В районе, где мы сегодня патрулировали, — говорил, к примеру, Косых, — кедр относится к зеленомошному типу. Как его лесники называют. Он невысок и тонок. Кроны узкие. Метра три — четыре в поперечнике. Хвои дают мало. И осадки- дождь ли, снег — сквозь кроны хорошо проходят. Меж корневищами обычно растет мох. Влаги-то много. А в нем, во мхе-то, хвоя остается и гниет… — Угу, — поддакивал пилот, слушая вполуха. Он думал о небе и вспоминал, каким бывает оно днем на высоте десяти тысяч метров и каким на пятнадцати и на двадцати, когда в фиолетовой глубине проступают звезды, большие и яркие, а глаза ощущают бездну пространства. — Вот и нет под кедрами, у корней-то, горючего материала, — терпеливо продолжал объяснять Косых. — Хвоя сгнивает, а подо мхом — влажно. В таких местах даже когда два — три пала пройдет, деревья выживают. Хоть и ожоги на стволах большие. — Угу… — Ожоги-то располагаются выше корневых лап. На стволе кора толстая, не такая нежная, как на лапах. — Угу, — отзывался пилот. Косых замечал: Ванин думает о другом, — обижался, замолкал, чтобы через час — другой, а то и на следующий день, снова, с упорством сибиряка, начать разговор о тайге, о деревьях и о том, как спасать лес от огня. Но в тот день, когда после часа патрулирования на горизонте показался дымок, все было по-иному. Косых посмотрел в затылок пилота, закрытый кожаным шлемом, и подумал, что они не могут сработаться с Ваниным. Тот слишком любит свою машину. Его не уговоришь заставить мотор работать на полную железку, хоть плачь, не принудишь подкинуть газку. А там, впереди, пожар. Горит тайга. Она бессловесна, но живая, страдает молча, и огонь терзает деревья. Пламя будет бушевать долго, пока не наткнется на широкую реку, огромную марь или болото, которые могут преградить путь огню, или до тех пор, пока человек придет на помощь деревьям и спасет их. Косых смотрел сквозь сверкающий диск пропеллера. Ему и без карты было понятно: пожар идет по реке Лосиной. Узкий каньон, пробитый упорной водой в камне, — не препятствие огню. Пожар запросто перекинется на другой берег и станет подниматься по склонам к вершинам гольцов… В урочище около полумиллиона гектаров прекрасного кедрача. Не зеленомошного, а крупномерного. Там плодородные, хотя и каменистые, почвы. Пожары — редкость. За пятнадцать лет службы Косых слышал только один случай. Но как страдают там деревья от пала! Огромные кедры, высотой с десятиэтажные, а то и пятнадцатиэтажные здания, стоят редко. Их стволы — в два обхвата, с толстыми, похожими на руки, корнями, ползут по земле, хватаются за обломки скал, обвивают их. Каменистая почва не дает развиться стержневому корню. Шапки крон огромны. Каждый год к подножию такого великана опадает чуть ли не четверть центнера хвои. Под деревьями почти нет травы, только мертвая хвоя. Густые вершины — словно зонтики. Они задерживают дождь, снег — и хвоя суха, будто порох. Она-то, загораясь, и наносит кедру смертельные ожоги, от которых дерево не в состоянии оправиться. Ведь нежные лапы корней кедра тянутся почти поверх почвы. — Какая скорость? — спросил Косых. — Сто пятьдесят! — ответил летчик. — Может… — Нет! — откликнулся пилот. Он плотно поджал губы. Он удивлялся, как это люди, любящие, как они говорят, природу, могут так бесцеремонно требовать от машины если не невозможного, то предельного. — Спасибо! Ванин подумал, что благодарность звучит иронически, и переспросил: — Что? — Спасибо! — откликнулся Косых. — Мы будем на месте минут на десять раньше! Хотя Ванин и старался уловить насмешку в словах летнаба, но треск мотора искажал интонацию, да, видимо, тот действительно хотел искренне поблагодарить пилота. На всякий случай летчик посмотрел через плечо, но увидел лишь упрямо склоненную голову Косых. Тот уже начал наносить кроки пожара на донесение, чтобы не терять ни одной минуты понапрасну. “Все равно, — подумал Ванин, — пройдут сутки, а то и больше, прежде чем начнется настоящая борьба с огнем. Конечно, первый десант парашютистов-пожарных будет на месте уже сегодня. Но вряд ли несколько пожарных сумеют преградить путь пожару. Надо будет слетать в лесничество, оповестить людей о начавшемся пале. Лесничество в пятидесяти километрах, в долине. Там могут и не видеть дыма пожарища. Потом лесничий будет собирать народ, потом они двинутся в горы. А тайга будет гореть и гореть… Чего же так торопиться? На час раньше, на час позже. Странно только, почему это здесь загорелась тайга?” Об этом же думал и Косых. Ему не терпелось добраться до места пожара. На одном сэкономить десять минут, на другом тридцать, на третьем еще тридцать — много времени наберется. А такой пал за час сколько гектаров леса сожрет! Чем скорее разберешься, откуда пошел пожар, тем скорее определишь и причину. Здесь, вдали от жилья и железных дорог, почти все пожары начинались по вине человека. Будь на то воля Косых, он объявил бы бассейн реки Лосиной заповедником, запретил бы даже охотиться в этих местах, а прежде всего, бывать туристам. Правда, туристические группы обычно не поднимались выше поселка Низового. Верховья Лосиной и ее притока Солнечного луча труднопроходимы: залом на заломе, быстрые перекаты, пороги отпугивали любителей речных путешествий. Но опять-таки, будь на то воля Косых, он бы запретил туристам близко подходить к тайге. Косых ненавидел туристов. По оплошности этих “бродяг” четыре года назад погибли в огне его сестра и племянник. Шурин Антона — егерь — ушел на обследование участка, а в это время, словно шквал, пронесся по тайге верховой пожар, погубивший семью, уничтоживший все хозяйство, спаливший дом. Потом выяснилось, что виновники пала — туристы… Ванин набрал немного высоты, чтобы Косых было легче осмотреть район. Они находились километрах в восьми от огненной раны тайги. Выгорело уже гектаров десять. Как и предполагал Антон, огонь верхового пожара, от которого как спички вспыхивали и моментально обугливались кроны, переметнулся через узкое пространство меж скалистыми берегами Лосиной и бушевал на противоположном склоне, пламенем закупорив проход по реке. Выше, километрах в тридцати, река расходилась на два рукава, вернее, на две самостоятельные речки, — Лосиную и Солнечный луч, истоки их были высоко в горах. Отмечая на донесении кроки, Косых то и дело посматривал вниз. Перед ним как на ладони лежала дымящаяся сердцевина пала. Он видел, что верховое пламя, уничтожившее кроны, прошло, но в горельнике буйствовал низовой пожар. Кедровник уничтожался огнем начисто. Верховой огонь жег кроны, а низовой — корни. “Достаточно было бы какого-нибудь одного, — с горечью подумал Антон. — После верхового хоть и остался бы горельник, но, может быть, внизу сохранились бы семена кедра, прикрытые хвоей. Они могли дать новое потомство. А так… Погиб кедровник… Какой лес погиб! Вырастет здесь лет через двадцать, может, лиственница. А кедр погиб…” Самолет облетел пожар вокруг. Когда машина шла над предгорьями, северо-западный ветер донес в кабину запах гари: смолистый и плотный. Чуть-чуть попахивало ладаном. Разобравшись в том, как идет огонь. Косых связался по радио с отделением и доложил о начавшемся пожаре. Косых сказал, что через тридцать минут вновь свяжется. — Мы пойдем по направлению к леспромхозу, — сказал Антон. — Пока суд да дело — успеем сбросить вымпел с донесением. Может быть, они выделят рабочих на тушение пожара. Одним нашим десантникам с огнем не справиться. — Ладно, — сказал радист. — Да, передай Трошину, что людей вокруг не видно. Подожгли да, видать, и удрали. — Ладно, — сказал радист. — Передам. Они долетели до усадьбы леспромхоза, сбросили вымпел. Послышался вызов с базы. — Борт 26-610 слушает! — В районе пожара находится группа туристов, — передал радист. — В районе пожара находится группа туристов. — Сволочи они! — не выдержал Антон. — Что? — Ничего… — Товарищ Косых, вы нарушаете правила ведения разговора по радиосвязи! — сказал радист. — Ладно, — отозвался Косых. — Постараюсь их найти… Чтобы под суд отдать. Так и передай Трошину. Только для этого и буду стараться. Ясно? — Ясно, ясно, — отозвался радист. — Они, по расчетам, должны подняться по реке Солнечного луча выше пожара. Они прошли Горное пять дней назад. Там они отметились последний раз. А в Высокое сегодня не прибывали. Где-то в пути. Они на лодке с подвесным мотором. Их четверо. Трое парней и девушка. — Так мало народу в группе? — Четверо. Трое парней и девушка. — Хорошо. Я уж постараюсь их отыскать. Так и передай Трошину: постараюсь.11 июля
Часа четыре они волокли посуху через скалы неуклюжую, но вместительную дюралевую лодку. На реке путь им преградил залом: баррикада из деревьев, заваливших русло. Они почти достигли вершины скального перевала, когда потные, дрожащие от усталости руки Тимофея сорвались с кормы. Петр и Дзолодо не смогли удержать груженую шлюпку. Она скользнула вниз. Киль ударился о мшистый камень, противно заскрипел. В последнюю секунду Тимофей успел отскочить. Лезвие киля прошло в нескольких сантиметрах от его голени. Шедшая позади Марина только ойкнула от страха. Лодка юзом проехала мимо нее и застряла меж острых обломков. — Уф! — выдохнул Дзолодо, плюхнулся на камень и от пережитого волнения долго тряс головой. — Катер-то цел? — спросил Тимофей. — Выбрал волок, ничего себе, — рассердился Петр. — Метров на двести в сторону склон положе. Подойдя к посудине, Марина потрогала борта, где острые углы камней уперлись в металл. — Цела. Даже не погнулась. Петр махнул рукой: — Перекур. — Двести метров правее. Катер-то эти двести метров тащить надо. — Прямо тропики! Ребята, помните описание “зеленого ада”? — Марина пристроилась на борту, скинула с плеч карабин, малокалиберку, бинокль, фотоаппарат и сумку с объективами, лампу-вспышку. — Ну и духотища! Не воздух — варенье. Всеми ягодами и деревьями сразу пахнет. — Варенье… — фыркнул Петр. — Только вместо ягод — мошка. Он нещадно хлопнул себя по щеке, раздавив с десяток кровососущих. Свет солнца почти не проникал сквозь полог подлеска, особенно буйного в приречьи. Над кустарником и мелкими деревьями вымахали огромные кедры. Стволы — обхвата в два. Кроны их распластались, казалось, в небе. Петр старательно выпустил облако папиросного дыма. Его волокна повисли почти недвижно. Гнус запищал злее. — Ребята, вы стали очень много курить, — заявила Марина. — Так нельзя. Мошку все равно не разгоните. А накурившись до одурения, вы быстрее устаете. Серьезно. Попробуйте меньше курить. Командор испытующе посмотрел на Марину. Сколько энергии пропадает в болтовне. А Тимофей выкладывается начисто: и волоки отыскивает, и лодку тащит. Несправедливо. “Надо приобщить ее к общеполезному делу, — решил командор. — Тогда ей не захочется читать лекции о вреде курения, о духоте”. — На разведку волоков будет ходить Марина, — сказал командор. — А Тимофей отдыхать. Опыт учит и практика показывает: сегодня мы были на волосок от беды. Петр и сам очень устал за три последних дня — с тех пор, как они изменили маршрут. Ребята — он чувствовал — тоже. Пробираться в верховья Лосиной — не прогулка по реке Солнечного луча: сверкающей, лениво извивающейся водной глади среди живописных отрогов. А ребята, словно назло, делали все не так, как считал необходимым Петр. Ну, хоть бы Тим: вечно он выбирает слишком крутые волоки. Марина — болтает. Болтала — теперь делом займется. А Дзолодо — витает где-то. Пассажир, да и только. И силенки у него — кот наплакал. Никто не хочет понять — такая возможность перед ними! Открытие! Вероятное, конечно… — Рыцари требуют эмансипации, — проговорил наконец Тимофей. — Необходимость! Марина — равноправный член экспедиции, — твердо сказал командор. — Я согласна с Петькой, — поспешила сказать Марина, а чтобы сгладить фамильярность в обращении, чего Петр не любил, добавила: — Командор принял правильное решение. Неожиданно Тимофей выпалил: — Была ли необходимость сворачивать… — На попятный идешь? А, Тим? “Как это ловко получается у Петьки, — подумал Тимофей. — Не успеешь сказать, а он уже… Ведь не было уговору-то у нас, чтоб Марину так загружать. Не выдержит она. Мы и то на пределе идем. И еще, конечно, нехорошо, что скрывал Петр от нас про моллюска…” — Тим, что молчишь? — А что Дзолодо думает? Дзолодо! — А? — Дзолодо пошевелил в воздухе щепотью, словно ощупал шахматные фигуры, стоящие па доске. — Что? — Я же согласилась, ребята. Чего спорить? — Марина пожала плечами. — Ведь все понятно. Очень трудная дорога. Ребята устали, сделались раздражительными. Надо помочь им. И не позволять цапаться. Легче-то от этого не станет. Я-то думала, что у нас хороший, дружный коллектив. Где уж там… Был! Пока мы неслись по реке со скоростью десяти километров в час. А теперь… За три дня растрясли на волоках да порогах чувство товарищества. — Очень интересный миттельшпиль! — сказал Дзолодо. — “Миттельшпиль, миттельшпиль”!.. Тебя про дело спрашивают, — угрюмо пробубнил Тимофей. — Я в такие вот самодеятельные открытия не верю. Петр поднялся: — Да ну вас всех! Кончай перекур. Вешай на себя игрушки, Марина, и иди вперед, чтоб лодкой не шибануло. Подбадривая себя бурлацкими покриками, ребята почти на руках перетащили лодку, весившую более центнера, через скальную гряду, спустили к реке. Но не прошли они и часа по воде, как новый залом преградил им путь. Марина отправилась на разведку волока. Она очень старалась найти подъем поотложе и не слишком крутой спуск. Но волок оказался особенно трудным. Ребята видели и понимали: Марина не виновата, никто бы из них тоже не нашел более легкого пути, но заломы и пороги на Лосиной измотали их начисто, и все ворчали, попрекая Марину, словно она, и только она, была виновата в том, что скалы круты и труднодоступны. До конца светового дня оставалось еще много времени, когда туристы подошли к третьему залому, ставшему на их пути. Вода с ревом, крутясь и пенясь, выбивалась из-под плотины, сплетенной самой же рекой. Ребята переглянулись. — Давай к берегу! — Командор посмотрел на часы и махнул рукой. Потом он потрогал огрубевшими, сбитыми, в ссадинах пальцами пробившуюся светлую бородку, вернее, намек на нее, и снова махнул рукой. Днище лодки царапнуло по гальке. Как и всегда, Марина выпрыгнула первой. Петр передал ей карабин, малокалиберку, сумку с запасными фотообъективами, фотоаппарат и не удержался от обычного: — Осторожнее! Тимофей проворчал: — Послушай, командор. Перестань ты предупреждать ее. Она, в конце концов, на самом деле все побьет. — Вероятность… — начал Дзолодо. Но Петр перебил: — Разговорчики! Отставить, мальчики! Собьете дыхание! И они принялись вытягивать лодку на берег. Вздохнув, Марина пошла выбирать место для лагеря. Она поднялась на сухую площадку, устланную толстым и мягким ковром опавшей кедровой хвои. Три старых-престарых узловатых и корявых дерева стояли рядом. Они словно выросли из одного семени. Ветви их, круто вывернутые и откинутые муссоном, будто пряди волос, на северо-запад, повисли над поляной пологом, фантастически высоким и плотным. Сладко и пряно пахло смолой. Марина оставила под кедрами оружие и прочую поклажу. Постояла на поляне, наслаждаясь уютной тишиной, милой до ощущения ласковости. Не только слух, но все тело, казалось, отдыхало от высокого и ровного треска мотора. На душе у Марины стало весело и светло, она крикнула: — Мальчишки! Место — люкс! — За дровами топай! — отозвался командор. — Иду! — И она вприпрыжку сбежала с древней речной террасы в тьму густой, припахивающей болотом таежной опушки. Она быстро набрала хворосту и вернулась. Орудуя саперной лопаткой, Марина отгребла хвою, освободив место для костра, окопала занявшийся огонь, пристроила чайник. Еду варили позже: выматывались на изволоках и есть сразу не хотелось. Потом Марина отправилась за валежником, а когда вернулась, ребята, видимо, только что поставили палатку и отдыхали. Дзолодо прислонился спиной к кедру и не мигая глядел в огонь. Очевидно, доигрывал сам с собой шахматную партию. Около огня расположился на куске брезента командор со своей геологической коллекцией. — Командор, есть в образцах моллюски? — спросила Марина. Петр покосился на Марину, подошедшую к костру с охапкой валежника. Невысокая, в штурмовке кажущаяся плечистой, в джинсах и огромных туристских ботинках, Марина совсем не походила на девчонку. Волосы у нее были острижены коротко, и берет она носила по-мальчишечьи. — Что так долго? — спросил командор. — Дрова посуше старалась найти, — бросив валежник и отдуваясь, ответила Марина. Петр поднял палец: — Усталость — плод эмансипации. — Петька, не цепляйся, — проворчал Тимофей. Он сидел шагах в десяти и копался в моторе. Было еще достаточно светло. — Никто не цепляется, — сказала Марина. С первых дней путешествия она заметила: Тимофей взялся опекать ее, а Марине это не нравилось. Она подумала о том, как плохо влияет опека на дисциплину группы, а виноват в этом Тим. Командор пожал плечами, достал из кармана куртки пикетажку. Это была настоящая пикетажка — среднего формата блокнот из бумаги-миллиметровки, переплетенный в черный муслин. Пикетажку подарил Петру главный геолог треста. Петр считался одним из самых сведущих любителей геологии в школе. Поэтому он и стал командором. Записи Петр вел только простым карандашом: тогда написанное не размывается водой, коли пикетажка упадет в реку или намокнет под дождем. Марина загляделась на сверкающий камень, который рассматривал командор. В отсветах костра на гранях вспыхивала радуга. Неожиданно Петр сказал: — Тебе, Тима, скоро надоест получать щелчки? Тимофей поднялся, подошел к Петру. Но, прежде чем он успел сказать что-либо, Марина нарочно неловко повернула ветку в костре. — Ой! — Что случилось? — Тимофей сразу оказался рядом с Мариной. — Да вот!.. — Марина посасывала обожженный на костре палец. Дзолодо, отвлеченный вскриком от своих мыслей, произнес: — Надо рассуждать логически… — А пошел ты со своей логикой, — буркнул Тимофей, возвращаясь к мотору. — Будет вам, мальчишки. Ну, устали… Еще несколько дней — и мы будем на месте. Отдохнем. Мы устали. Вот и все. Чайник, висевший над костром, заплевался и выфыркнул пену в огонь. Командор вздрогнул от неожиданности и сердито бросил Марине: — Занималась бы ты своим делом. — Ребята, давайте пить чай. А? Выпьем чаю, где же кружка, сердцу будет веселей! — пропела Марина. — Ну, подсаживайтесь. — Не хочу, — сказал Тимофей. Дзолодо подполз к огню: — Чай не пьешь — откуда сила? Чай попил — работа сгнила! Налей-ка мне, Марина. — Тим, не бунтуй, — сказал Петр. — Ну, сорвалось… — Я правда не хочу, — не очень убедительно проговорил Тимофей. Марина налила полную кружку и отнесла ее упрямцу: — И чтобы без капризов! — Ну, чего вы? Приду сейчас… Как всегда во время ужина, Петр включил транзистор. Передавали веселую музыку. Муслим Магомаев пел песню Бабаджаняна о Москве, написанную в ритме твиста, потом исполнили “Черного кота”. Марина отбивала такт ложкой по кружке. Дзолодо поманил ее пальцем и громко сказал на ухо: — Сиди смирно! А то командор увидит, что ты веселая, — завтра еще какое-нибудь поручение даст. Тсс! Петр засмеялся, и все тоже. Потом долго варили кашу. Ели ее полусонные. Утром Марина поднялась первой. Костер еще тлел. Подбросив валежника, она достала из кармашка куртки зеркальце и долго рассматривала свое лицо, распухшее от бесчисленных укусов мошки. Оно показалось ей просто безобразным. Спрятав зеркальце, Марина занялась хозяйственными делами, позавтракала первой, потом подняла ребят и сказала, что уходит на разведку. — Делай зарубки по пути. Мы выступим через час, а ты можешь не возвращаться в лагерь. Бей тропу и жди нас за заломом, — сказал Петр. Не прошло и получаса, как Марина показалась на скальном гребне. — Эй! Эй, сюда! Мальчишки! — издали закричала она. — Жди нас там, у реки! — приказал Петр. Но Марина побежала к лагерю. — Балда! — Командор безнадежно махнул рукой. — Стояла бы да ждала. — Но, увидев нахмурившегося Тимофея, Петр добавил: — А… Ну не умею я с девицами обходиться, Тим. Я же не со зла, так… Марина остановилась перед ними, махала руками. У нее перехватило дыхание от быстрого бега, и она не могла произнести ни слова. Потом помотала головой и прошептала: — Пожар… — Чего? — недоверчиво протянул командор. — Там, ниже по течению, — пожар!11 июля
Теперь Косых увидел дым пожара, едва поднялись над аэродромом. Так, по крайней мере, считал он, хотя в знойном мареве, дрожавшем над тайгой, вряд ли можно было разглядеть пал за двести километров. Он был уверен в том, что видит и дым и яркую полоску пламени. Косых считал: начальник поступил неправильно, послав его на розыски заблудившихся туристов, и дав приказ в случае особой необходимости совершить прыжок для оказания помощи. “Заблудились… Как бы не так! — хмыкал Антон. — Убежали! Запрятались поодаль. Отсиживаются. Потом ночью проскочат в город”. Вчера они до полной темноты рыскали на малой высоте вдоль берегов реки Солнечного луча, где должны были находиться туристы. Глянув вниз, Косых с удивлением заметил едва ли не под крылом, чуть позади, аэродром, с которого они взлетели, полосатый — черно-белый — колпак конуса и раздраженно поглядел в обтянутый кожаным шлемом затылок пилота, будто тот был виноват в тихоходности самолета. — Какая скорость? — окрикнул Косых пилота. — Двести. — Метров в секунду? — Километров в час. — Километров? — Там люди! — Ванин покосился на пожарника. — Поджигатели! — Пусть поджигатели… Косых стал глядеть вниз, не обратив на взгляд пилота никакого внимания: “Пусть поджигатели… Если человек по собственной дурости, а может, и нарочно, подожжет дом, в котором живет, и потом не сможет — опять-таки по-глупости — выбраться, виноват только он сам. И никто больше. А кто еще? Эх, да что с Ваниным спорить! Пусть летит быстрее. И то хорошо. Скорее найдем этих идиотов, сбросим на парашюте продукты и вернемся. Они сами выберутся”. Никогда еще летнаб не слышал такого высокого звука работающего мотора. Вся машина словно билась в нетерпении. Вскоре Косых действительно разглядел на горизонте дым пожара. — Пойдем сразу в верховья Лосиной? — спросил Ванин. Косых положил на колени планшет с картой. На ней вилась река с притоком, подобно голубому деревцу, и его, будто опухоль, очерчивал красный карандаш — район пожара. Река Солнечного луча была почти свободна от пала, а вот Лосиная, узкая, с крутыми берегами, оказалась перехваченной огнем. — Подлетим поближе, посмотрим! — крикнул Косых. — Вверх по Лосиной много скал по левому берегу. Там почти нет леса, а дальше снова кедрач. Может, не добрался туда огонь. Посмотрим. Ванин кивнул. Пилот внутренне подобрался. Огонь был для него врагом, способным уничтожить четыре человеческие жизни. Если рассуждения Косых правильны, то туристы оказывались в западне. Пламя, обойдя скальный участок, вышло в тыл группе, отрезало ее от истоков реки — единственного, хотя и чрезвычайно трудного пути отступления к вершинам гольцов. Они обходили пожар справа. Ванин увидел с высоты весь огненный фронт. Он охватывал теперь по меньшей мере пятьдесят гектаров и был очень страшен. В левом секторе огромного огненного круга поднимался особенно густой, белый дым. Там люди уже вступили в схватку с пламенем. Машина подлетела к скалам в верховьях Лосиной. Ванин увидал: оправдались самые худшие предположения. Пожар обошел скалы, оставив пока нетронутым участок берега реки километров в двадцать. Но путь к лысым вершинам, к истокам Лосиной, был отрезан. — Пройдем к истокам, — махнул в сторону гольцов Косых, — может быть, они догадались уйти от пожара подальше. У истоков река билась в диких скалах. Небо было чисто. Постоянный ветер, дующий с океана, мощным потоком переливался через горы и не позволял дыму застилать дали. Ванин пролетел почти к истоку. Река и берега были пустынны. — Поворачивай! — крикнул Антон. — Держись ближе к воде. — Хорошо, — кивнул Ванин. Он бросил машину в ущелье, где протекала река. Возможно, он слишком буквально понял пожелание Косых, а может быть, считал, что шум мотора привлечет внимание людей, убежавших в тайгу. Ширина каньона Лосиной не превышала и тридцати метров. Прибрежные скалы поднимались на добрых пятьдесят. Вода плескалась и пенилась у отвесных берегов. Не было места, где могла бы пристать лодка, — ни заводи, ни отмели, ни косы. Косых внутренне сжался. Он понимал всю рискованность полета в извилистом каньоне. За любым поворотом мог последовать новый, еще более крутой, капризный изгиб… — Выше! Выше! Грохот мотора, отраженный скалами, заглушил голос Косых. “Что это Ванин задумал? — прикидывал пожарник. — Спятил! Мы врежемся в скалу! В пламя! Удержать дурня невозможно. Мы ничего не сделаем: ни тех идиотов не спасем, ни сами… Да, черта с два выберемся…” Их мотало из стороны в сторону на крутых виражах. Один резкий разворот. И снова. Каньон будто суживался. Так казалось Косых. Ванин кидал самолетик в такие крутые виражи, что можно было попеременно видеть либо правый, либо левый берег. Машина все чаще вздрагивала, натыкаясь на плотные клубы дыма. Иногда они влетали словно в облако. Косых инстинктивно жмурился. “Сумасшедший… Сумасшедший!” — только твердил про себя пожарник. Над облаком дыма, к которому они подлетали, пронеслась по воздуху горящая ветка. “Все! — решил Антон. — Ударит в мотор и…” Пронесло. Теперь уже не одна ветка, целый сонм пылающих факелов порхал совсем рядом. Косых отодвинул боковое стекло кабины. В лицо ударил раскаленный ветер. Горячий воздух обжигал. Смолистый, едкий дым першил в горле, забивал легкие. Дышать стало нечем. “Что же ты делаешь, Ванин? Что же ты делаешь?” — безнадежно повторял Косых. Они оба вглядывались то в один берег, открывавшийся на крутом вираже, то в другой. Рев мотора оборвался. Зашепелявил шепотом пропеллер. Ветер посвистывал в плоскостях. Пилот резко кинул самолет вниз. Косых высунулся из кабины, чтобы видеть как можно дальше. Внизу клубился дым, метались искры. На бурливой вспененной реке Косых увидел пузатую, неуклюжую лодку, пробиравшуюся вверх, и в ней четверых. Туристы заметили самолет. Вскочили. Стали махать руками Они словно надеялись, что самолет сейчас опустится на воду, заберет их. Косых высунулся, насколько позволяли ремни. Принялся отчаянно махать руками. Он старался показать: нужно повернуть обратно, плыть вниз, а не вверх по реке, куда шел пал. Там через несколько часов будет такой огненный ад, что за их жизни никто не даст и полушки. Он стал кричать, что они двигаются навстречу собственной гибели; что им стоило бы только обратить внимание на ветер, и они поняли бы, куда надо плыть; что они сумасшедшие и преступники. Он был уверен — он успел прокричать это за несколько мгновений, когда они пронеслись над лодкой. Косых уверял себя: туристы повернут обратно. В последнее мгновение, когда лодка скрывалась за хвостовым оперением самолета, Косых увидел: один из туристов, стоявших в лодке, свалился за борт. Наконец машина вырвалась из каньона. Откосы расступились. Левый берег, поднявшийся едва ли не на полукилометровую высоту и почти безлесный, пожар не тронул. Дым поднялся высоко. Солнце глядело сквозь него рыжим, воспаленным бельмом. Косых немного отдышался: — Надо вернуться! — Они поняли нас. — Я видел — с лодки упал человек! — Еще раз рисковать нельзя. — Не понимаю я тебя, Ванин! Пилот сбросил газ. — Они будут здесь через полчаса. Самое большое — час. Они спасут товарища и спустятся сюда. Мы их подождем. Потом ты прыгнешь. — Зачем? — Думаешь, здесь они будут в безопасности? — спросил Ванин. Он вел машину широкими кругами меж скальной стеной и длинной отмелью, которая тянулась в этом месте по правому низкому берегу. — Пожар скоро доберется и сюда. А они — новички. Сам видел. Косых не мог побороть в себе неприязни к туристам. Он их не знал, но уже ненавидел. И ему их предстояло выручать. В глубине души он не то чтобы радовался, но испытывал некое удовлетворение, что тайга так сурово обошлась с ними.***
— Марина! — Марина! Отклики эха заметались в узком каньоне. Но Марине, упавшей из лодки, было не до этих криков. Она с головой окунулась в холодную воду. Течение сорвало берет с ее головы. И единственно, что ее занимало, — берет на волнах в нескольких метрах от нее. Она старалась как можно скорее добраться до него. Уверенно держась на воде, Марина с инстинктивным расчетом преодолела небольшой порожек. Она нисколько не испугалась, словно не первый раз плыла в одиночку по бурливой таежной реке. Однако, вынырнув, она не увидела берета. Он исчез. Ей стало страшно. — Марина! Марина! — услышала она крики, повернулась на спину. Лодка катилась по реке вслед за ней. Тимофей возился у мотора. Он суетливо наматывал на диск пусковой шнур, дергал его. Над кормой поднималось слабое голубое облачко, слышалось фырканье — и все. На носу лодки, толкаясь и размахивая руками, стояли Петр, Дзолодо и кричали. “Хоть бы они-то поосторожнее, — подумала Марина, — а то еще свалятся…” Плавать на спине было нельзя. Она налетела на валун, окатываемый водой. — А-а-а-а! — скорее от неожиданности, чем от страха, закричала Марина, увидела: Петр прыгнул в реку. — Не на… Крик Марины захлебнулся на высокой ноте. Сильный поток снова перекинул ее на спину. Она съехала по мокрому каменному горбу, ухнула в водоворот. Зажмурилась. Ее несколько раз перевернуло через голову. Она нахлебалась воды. Ужас охватил ее. Водоворот опутал веревками струй. Она метнулась наугад в одну сторону, в другую. Сослепу потеряла представление, где дно, где поверхность реки. “Открой! Открой глаза!” — приказывала она себе. Но страх сбил ее с толку. Она словно забыла, как это делается, как открыть глаза. Водяные вихри крутанули ее еще. Она сделала кульбит. Ударилась плечом о камень. Разомкнула веки. Увидела расплывчатые очертания камней. Потом промелькнуло серебристое пятно солнца. Снова камни. Марина резко выпрямила ноги, оттолкнулась от дна и выскочила на поверхность. — …ина! Держись! Марина решила не оборачиваться. — К берегу! К берегу! Ее относило к кривуну. Здесь, на повороте, само течение помогало ей подбираться к берегу… Она старательно использовала силу потока. Даже подивилась, откуда вдруг у нее такая уверенность, умение разгадать повадки реки. Но оглянуться было нужно. Уже несколько секунд она не слышала позади себя голоса Петра. Теперь Марина поступила осторожнее. Она внимательно пригляделась к реке впереди, прикинула, куда ее может отнести, и покосилась назад. Река была пуста. То есть она по-прежнему несла лодку. По-прежнему Тимофей возился у мотора. Дзолодо стоял на носу, закрыв лицо руками. “Да! Ведь Дзолодо не умеет плавать… — мелькнуло в голове Марины. — А где же Петр? Петр!.. Где Петр? Что с ним случилось? Задержаться надо. Может, придется помочь…” Марина стала нашаривать ногой дно. Она знала — река глубока и течение очень сильное, не устоишь. Но надо было устоять. Хоть несколько секунд. Тогда станет ясно, что произошло с Петром. Несколько раз, пытаясь встать, Марина погружалась с головой в воду, но не могла достать дна. Наконец попался какой-то камень. Но слишком короткой была остановка. Одно мгновение — и Марину смыло упругим потоком. Она не успела толком оглядеться. И Петра не увидела. Он вынырнул неожиданно сбоку от нее, отплевываясь и отфыркиваясь. Увидел ее, махнул рукой: плыви, мол, к берегу. Теперь, чувствуя, что она все-таки не одна, успокоенная немного этим, Марина начала присматриваться к береговым скалам, чтобы найти место, удобное для остановки, будто в ее власти было пристать там, где заблагорассудится. Она слышала: неподалеку шумно плещется Петр. Она становилась спокойнее, увереннее. Ей не хотелось выглядеть слабой перед Петром. Он плыл теперь совсем рядом. — Смотри! Грот! Там сухо! — крикнул Петр. Обернувшись, Марина кивнула. — К берегу! К берегу греби! — Чего кричишь… Плыву. — Слушаться надо, — сердито буркнул Петр. — Я слушаюсь, — ответила Марина. И окончательно успокоилась. — Пронесет мимо грота… — Не пронесет… Сделав несколько сильных гребков, они достигли берега. Он поднимался отвесной стеной. Камни были зализаны водой — гладкие, скользкие, не удержишься. Грот, выбитый в скале, находился неподалеку. Но попасть туда оказалось делом не легким. Петр все время что-то бубнил над ухом, отдавая различные приказания. Слыша, но не слушая командора, Марина подняла руки, дотянулась до шершавых, не омытых водой камней и скоро оказалась у грота. Командор чертыхался рядом. Придерживаясь за сухие камни, они забрались в грот. С трудом, пошатываясь, отошли от воды. Присели, обессиленные, на теплые, прогретые солнцем камни. Оба с тоской посмотрели на уплывавшую лодку. Ее несло по самому стрежню. Тимофей все еще не мог завести мотор, как ни старался. Дзолодо радостно махал руками. — Эх, Тимофей… — стуча зубами от холода, проговорил Петр. — Занялся мотором… Лодка скрылась за поворотом. — А что он мог? Руля-то у лодки нет. — Марина хлопала себя ладонями по плечам и подпрыгивала, стараясь согреться. — Сам только догадался. Балда! — Балда, — согласилась Марина. — Да я не про то, — досадливо отмахнувшись, сказал Петр. — Балда — он. Что мотором заниматься? Надо было попробовать мотором, как рулем. Точно — он мог бы пристать там, где мы вылезли. — А… — Марина махнула рукой. — Не вышло бы. — Хоть бы попробовал… Марина смотрела на реку, быструю, в белых хлопьях пены. Вода стремительно неслась мимо. У Марины неожиданно закружилась голова. Она схватилась за выступ скалы. — Что с тобой? — Пройдет. Лицо Марины было бледно. Темные губы подрагивали. Она казалась растерянной и беззащитной. Она совсем не походила на сорванца, какой он привык ее видеть. Он поднялся, стал рядом: — Одежду надо отжать. — Отвернись. — Вдруг мотор совсем того… — неожиданно сказал Петр. — На шестах сюда, пожалуй, не дойдешь. Глубины большие. — Чего ты трусишь? Нас же нашли летчики. Выручат. — Ловко у тебя все получается. “Нашли”. Мало ли что нашли. Как к нам подобраться! Вот вопрос. — И это решат. Петру их положение рисовалось далеко не в таком розовом свете, каким его видела Марина. Он думал о том, что счастье Марины в том и состояло, что она так до конца и не поняла, какая опасность им грозила, если бы не попался в скалах грот. Они пробыли в ледяной воде горной таежной реки не более пяти минут. Всего пять минут. Всего-навсего. А если бы не грот, если бы они проболтались в воде час, два?.. Не выдержали бы. Мышцы свело бы судорогой, побило о скалы. Петр достаточно наслышался подобных историй от геологов. Куда более сильные и выносливые люди и те пасовали в таежных реках. Он сидел у входа в грот, глядел на бешеную реку, от которой несло холодом, на плотный полог дыма, затянувший небо. И тогда он заметил, что по быстрой воде плывут и не тонут крохотные комочки черной копоти. “Значит, в верховьях тоже пожар, — подумал он. — Вовремя нас вернули!” — Ну вот, я готова, — сказала Марина, появляясь у выхода из грота. Петр оглянулся: — Шамаханская царица. — Комплиментики…***
— Косых! Лодка! — Вижу… Посудина стремительно вынеслась из-за поворота, резко повернулась: видимо, попала в водоворот. Выскочила по инерции. — В лодке только двое! — снова крикнул Ванин. — Придется прыгать. Не сидится дома дурням. Я пойду первым. Черт его знает, куда пристрелочный выбросит. Ванин повел машину кругами, набирая высоту, необходимую для прыжка. Они держались слишком низко. Прыгать с такой высоты было невозможно. Косых возился в кабине, готовясь к выброске. — Они пристали к косе, — проговорил Ванин. — Машут нам руками. Видно, решили, что уходим. — Пусть немного поволнуются. — Антон отключился от рации. Косых огляделся, ориентируясь. Песчаный мыс с высоты трехсот метров представлялся узкой светлой полоской. На ней метались две крошечные смешные фигурки. “Что, сердечные, припекло? — сердито подумал Косых. — Заречетесь путешествовать! Научит вас тайга уму-разуму… Пора!” Соскользнув с крыла, он привычно отсчитал три секунды, дернул кольцо. Потом в тишине послышался тугой хлопок раскрывшегося парашюта. Парашютист закачался на стропах, будто на качелях. Затем его подхватил ветер, противоположный тому, что постоянно дул в вышине. И это не было неожиданностью. В зоне пожара всегда дуют сумасбродные ветры. Их направления невозможно предугадать. Вихревой ветер, в поток которого попал парашютист, оказался очень сильным. Косых потянул за левые стропы парашюта. Спуск ускорился, но недостаточно. Парашютиста сносило от косы к тайге, где на опушке торчали зубья скал. Косых еще ускорил падение. Однако уто нисколько не улучшило положения. Его упрямо сносило к опушке. “Ладно, — подумал он. — Опушка так опушка, скалы так скалы. Не впервой…” Он был уже на уровне вершин деревьев, когда точно разглядел место своего приземления — ногу негде поставить в хаотическом нагромождении камня. Косых успел еще подтянуться на стропах, чтобы смягчить удар об острые углы камней, и охнул от боли в колене. Потом его поволокло по скалистой гряде. Наконец парашют погас. Косых не потерял сознания. Но он подумал, что лучше бы было, если бы туристы нашли его бесчувственным. “Спасатель прилетел с неба, черт бы меня побрал, — зло размышлял он. — Чего же теперь делать будешь, спасатель? На помойку тебя, дорогой инструктор! Ах, черт! Вот неудача… Теперь, товарищ Косых, тебя самого спасать надо!” Около парашютиста остановились запыхавшиеся Тимофей и Дзолодо. Они с удивлениемсмотрели на изодранный костюм, искаженное болью лицо своего спасателя. — Ну, чего смотрите? — рассердился Антон. — Ну, приземлился неудачно. Отцепите парашют. Тимофей присел и стал открывать замки парашюта. Шипя от боли, Косых давал указания, потом попросил отнести его к лагерю. — Какой лагерь? — махнул рукой Тимофей. — Нам надо Марину и Петра выручать. — Кто первый свалился-то? — Марина. А Петр ее спасать кинулся. — Спас? — Они до грота на берегу добрались. Там и сидят, наверное. А у меня, как назло, мотор забарахлил. Никак не заводится. Может, вы поможете? Посоветуете, а? — Не специалист я по моторам. А вас всех в тюрьму надо посадить! Вот что! Очевидно почувствовав что-то неладное, Ванин спустился очень низко, на бреющем полете промчался над ними. — Помахайте ему, — сказал Косых. — Пусть контейнер с продуктами сбрасывает. Дзолодо побежал выполнять приказ. — Это почему же нас всех — в тюрьму? — спросил Тимофей. — За поджог, — отрезал Косых. Тимофей опустил глаза. Такая мысль о причине пожара не приходила ему в голову. Он не смог бы поручиться, что на всех стоянках Марина достаточно тщательно заливала костры. Конечно, когда Марина с утра уходила на разведку волоков, он, Тимофей, делал это со всей тщательностью, но поручиться за Марину… Она слишком легкомысленна, чтобы предвидеть такие последствия. Откуда ей знать, что достаточно искры — и пал уничтожит километры леса. Это прежде всего его, Тимофея, вина. Доверил девчонке такое дело. Конечно, тут и спорить нечего — он виноват. — Что молчишь? Было дело! Оставляли костры. — Косых подался вперед и застонал от боли. — Черт! — Нога? — Ступить не могу! — Давайте я посмотрю… Тимофей осторожно ощупал сквозь комбинезон ногу парашютиста, провел ладонью по кости: — Похоже, что вывих… — Медик? — Отец врач. — Мой был шорником. А я уздечки от нахрапника не отличу. — Я видел, как он вправлял. Нужно сообщить пилоту. Он привезет врача. — А еще целую экспедицию сюда не надо? Все на пожаре. На пожаре, который вы устроили… Коли вывих — сами справимся. Хоть это дело сделаете, прежде чем сядете на скамью подсудимых. Послышался крик Дзолодо: — Сбросил! Сбросил! Летит! “Не разобрался, — подумал Косых. — Хорошо. Пусть улетает. На пожаре он нужнее. Мы-то уж как-нибудь выпутаемся. Помахать ему на прощание нужно, иначе догадается, что со мною неладно”. — Тимофей! Так тебя вроде? Переверни-ка меня на спину. Поосторожнее. Вот… Летчику помахать нужно. Пусть себе улетает спокойно. — Рискованно… — Поучи! Сами заварили кашу. Расхлебывай теперь за вас. И туда же… Учат… Помоги подняться. Я к дереву прислонюсь. Надо помахать. Пусть улетает. Он на пожаре до зарезу нужен. Тимофей помог Косых подняться. Тот стал около дерева. Смотрел, как опускается парашют с грузом. Его опытному взгляду сразу стало понятно, что Ванин внимательно следил за приземлением и при вторичном сбросе постарался учесть снос верховым ветром. Груз сильно болтало. Оно и понятно — ведь парашютом никто не управлял. Однако груз опускался точно на косу, ширина которой не превышала и пяти метров. Ванин тем временем кружился с выключенным мотором, контролируя сброс, и, очевидно, старался разобраться в том, что же произошло с Косых. Потом, когда Ванин увидел его, стоящего у дерева и приветливо машущего рукой, он, вероятно, решил, что все в порядке, покачал крыльями, улетел. — Ну вот, а теперь будем думать, что нам с вами делать дальше. Начнем с контейнера. Тащите его к лагерю. — Какой лагерь! Мотор чинить надо. Марину и Петра выручать. Сколько им в гроте сидеть? — проговорил с сердцем Тимофей. Косых оказался не помощником, а обузой. Но сам он не мог и не хотел примириться с тем, что беспомощен. Не в его характере было такое. — Тащите сюда контейнер. Палатку поставим. Вопросы есть? — резко спросил Косых. — Как быть с мотором? — Решим. Своевременно. — У нас нет времени, — настойчиво продолжал Тимофей. Он глядел в сторону, отвечал сквозь зубы. — Вы можете сказать, как спасти наших ребят? Вытащить их из грота, если мотор откажет? — Вести лодку на шестах. Вздохнув, Тимофей с сожалением посмотрел на спасателя: — Невозможно. Там местами у берега глубины более трех метров. Обрывы. На шестах не сможем пройти. Вы там, в ущелье, были когда-нибудь? — Нет. — Чего же беретесь советовать? К гроту можно добраться только на моторе. — А что с мотором? — Не знаю. Постараюсь найти и исправить поломку. — Так и займитесь делом, — приказал Косых. — Не теряйте времени. Идите. Я вот с ним разобью лагерь. — Антон кивнул в сторону Дзолодо. — Им и командуйте! — резко ответил Тимофей, круто повернулся и зашагал к лодке. Антон долго смотрел ему вслед, потом перевел взгляд на Дзолодо и сказал: — Фрукт! — Что вы! Ягодка! — усмехнулся Дзолодо и тоже ушел. Он догнал Тимофея. Они расстелили на галечнике брезент и перетащили на него мотор. Было тихо. Река мягко курлыкала в камушках у берега. Окрестная тайга будто вымерла. Все живое притаилось в ней, ожидая решения своей участи: сомкнётся здесь огненное кольцо пожара или нет. Ветер, несший гарь с востока, яснее ясного показывал, что вдали кольцо огня уже сомкнулось, бежать было некуда. Но об этом точно знал только парашютист. “Вот они, туристы! — зло подумал Косых. — Не знают, как мотор починить! Тайгу подожгли… Порастерялись все… Путешественнички! Лагерь не устраивают — чего же они есть будут? Дымом питаться? Этак обессилят и совсем идти не смогут. Раззявы! Точно, они пожар устроили!” После ухода Дзолодо он долго лежал на боку, смотрел, как парни возились с мотором, вздыхал. Затем Косых стал приглядываться к близстоящим молодым липам и осинам, высматривая, где бы срезать рогатину поудобнее. Без костыля ему не обойтись. Обращаться за помощью не хотелось. Осторожно подтягиваясь на руках. Косых дополз до облюбованной осинки, прямой в стволе, с резко расходящимися ветвями. Достав из чехла нож, кряхтя от боли в лодыжке, он кое-как повалил осинку, срезал ветви и, цепляясь за свой костыль, поднялся. — Уродина! — проворчал он, глядя в сторону Тимофея. — Вывих! “Отец доктор”! Олух! Самое большее — растяжение. Однако наступать на ногу Косых поостерегся. Опираясь на костыль, он проковылял до контейнера, который так и остался лежать посредине косы. Став на колени, Косых распаковал его, достал палатку-серебрянку. Поохивая от боли, он снова отправился на опушку, чтобы срезать колышки, вернулся, поставил палатку, принялся готовить еду. Он был очень сердит на парней, встретивших его так неприветливо. Чувствуя себя здесь ненужным, лишним, калекой, он ругал себя, что, вопреки своему желанию, прыгнул к туристам. Даже будь он здоровым, от него здесь было бы мало толку. Косых казалось, что здесь, па косе, он встретит испуганных, паникующих мальчишек, и главной его заботой будет — командовать ими. Но все вышло не так. Единственно, что его успокаивало, было сознание: теперь уж преступники не уйдут от заслуженной кары. Не отвертеться им. Уж он, Косых, доставит их куда надо. Вина туристов в поджоге представлялась ему доказанной: ведь они даже не возражали. Занимаясь делами, Косых нет-нет да и посматривал в сторону, где на брезенте возились с мотором Тимофей и Дзолодо. Те не обращали на него внимания. А он, в свою очередь, старался вести себя так, словно спрыгнул сюда стеречь, чтобы они не убежали. Обедал Косых в одиночестве. Он сварил себе суп из горохового концентрата и пшенную кашу. Поел плотно, собрался отдохнуть, но нога, беспокоившая его только при движении, стала нестерпимо ныть и на покое. Косых снял ботинок. Боль ненадолго успокоилась, а потом прихватила с новой силой. Нога сильно распухла в голеностопном суставе. Косых заполз в палатку и кусал себе губы, чтобы сдержать стоны. Часов в шесть вечера Косых услышал чихание мотора. Как ни болела нога, но он затаил дыхание, прислушался. Раздалось несколько выхлопов. И все. — Упрямые, черти, — пробормотал Косых. — Прав этот верзила, Тимофей. Не пройти на шестах в ущелье. Выбросит течением. Косых выглянул из палатки. — Извините, что разбудили! — крикнул, увидев его, Тимофеи. — Дело-то больно важное! — Да ну его, — махнул рукой Дзолодо. — Ну, да не ну, — нахмурился Тимофей. — Знаешь, зачем он прилетел? — Нам помочь. — Как бы не так. Арестовать нас. — За что? — Узкие щелочки глаз Дзолодо округлились. — За поджог. — За поджог?! — Угу. — Тимофей внимательно рассматривал свечу. — За поджог. Доверили костер Марине, а она где-то его не погасила. Вот ветер и раздул. Видишь, что вокруг делается. А виноват — я. Так и скажу. Ведь я доверял Марине костры… — Не Марина виновата. — Откуда ты знаешь? — Помнишь, у залома? Мы еще в тот день очень рано стали лагерем. — Короче! — Утром, когда мы пошли в обход залома, я оглянулся. Увидел дымок. Это мы не погасили костер. Не Марина. Она аккуратная. — Ничего себе! И ты молчал? Дзолодо пожал плечами: — Заливал-то ведь ты. А тебя учить — только портить. — Ты это точно помнишь? — Совершенно точно. — Лихо… Ладно, помолчим пока. Хромой сюда топает. И с мотором дело дрянь. Искра пропала. В общем, влипли… Косых, опираясь на рогатину, приковылял к брезенту, на котором чинили мотор. — Не сердитесь, что шумим, — встретил его Тимофей. — Сами понимаете, необходимость. — Ладно ершиться. Я по делу. — Подождите. Вот соберемся все — вызывайте самолет. И прямо в суд. Но виноват я один. Точно установили. — Хорошо. Ты так ты. Вон куда посмотрите. — Косых махнул в сторону предгорий. — Ну? — нетерпеливо спросил Тимофей. — Горы. Ничего больше не вижу. — Там ливень. — Не над нами же капает. — Путешественнички… — Короче. — Дал бы я тебе костылем по шее. Чтоб слушал. — Ну? — Ливень идет в верховьях Лосиной. — Да нам-то что, в конце концов! — Коли ливень идет в верховьях, значит, вода поднимется. Сильное наводнение может быть. — Косых объяснил очень терпеливо. — Дошло? Прищурившись, Тимофей посмотрел на Косых, грязной, измазанной маслом пятерней почесал в затылке, сплюнул. Дзолодо встрепенулся: — Это правда? — Делать мне больше нечего, как сказки вам рассказывать… Вишь, паря, дело-то какое. — Лихо… — Лише и быть не может. Куда ж еще! Что с мотором-то? — Да еще на час работы. Искру никак не найдем. — Мрачный ты человек, Тимка, — сказал Дзолодо. — Теория вероятности позволяет допускать отклонения и в одну и в другую сторону. — Теория вероятности… Математик… — сказал Тимофей. — Не стоит рисковать. Слишком дорого. — Но ведь раз на раз не приходится, — попытался успокоить его Дзолодо. — Рассуждаете вы умно, — проговорил Косых. — Только поторапливаться надо. Не ровен час — опоздать можно. Тогда ничего не исправишь. Затопит вода грот. — Нечего под руку говорить. Помочь-то не можете… А там Марина, Петр… Косых обиделся. Он считал, что достаточно сделал для примирения. Без его подсказки парни могли упустить начало наводнения. Тогда очень туго пришлось бы тем, кто отсиживался в гроте. Посмотрев еще некоторое время на работающих. Косых повернулся и запрыгал, опираясь па костыль, к своей палатке. — Это ты зря, Тимка. — Не зря. Коль ты сторож, так сторожи, а с советами не лезь. — Так ведь он… — Ну чего, чего он? Ну, сказал. Ну, спасибо. И будет! — Ты несправедлив. — Это не математическая формула. — Это просто нечестно. — Пока нет Петра, я за старшего. Мои распоряжения и поступки будем обсуждать потом. О дисциплине мы договорились еще в начале похода. Все. Дзолодо замолчал и не сказал ни слова до того времени, пока мотор не запел “пчелкой”. Иными словами, на больших оборотах звенел ровно, без перебоев. Правда, за время молчания Дзолодо раз двадцать пытался играть в шахматы “по памяти”, но напрасно. Не выходило. Уже смеркалось. Солнце зашло за скалы, и в той стороне неба рдела багровая полоска. — Не пойму, — сказал Тимофей, — откуда этот Хромой Сильвер узнал, что в верховьях Лосиной идет дождь. — Кто? — переспросил Дзолодо. — Хромой Сильвер — капитан пиратов из “Острова сокровищ”. — Но парашютист совсем не похож на пирата. — Похож. Очень похож. Пойди к нему и спроси, откуда он знает, что в верховьях Лосиной идет дождь. — Он говорил — ливень. — Вот и узнай. — Лучше бы тебе пойти, — сказал Дзолодо с укоризной. — Извинился бы. Ведь ты неправ. — Поиски справедливости откладываются до выхода из чрезвычайных обстоятельств. Выполняй приказ. — Хорошо. — Дзолодо пожал плечами. Пока он ходил к Косых, Тимофей выгрузил из лодки все имущество. Оно только мешало им. Дзолодо вернулся грустный. — Антон Петрович говорит, что мы ничего не смыслим в таежных делах. Ненаблюдательны мы очень. Он говорит, что уже три часа назад вода в реке замутилась. Значит, в верховьях она стала подмывать берега, высоко уже поднялась, и с часу на час надо ожидать наводнения и здесь. Идет она высокой волной. Уровень реки может подняться за каких-нибудь полчаса. — Когда же эти полчаса наступят? — Не знаю. — А этот, как его… — Антон Петрович. — Он-то знает? — Я не спросил. — Пойди и спроси. Дзолодо снова покорно отправился к Косых и вернулся быстро: — Антон Петрович говорит, что этого никто не может предсказать. Вода поднимается внезапно. Может быть, волна уже идет по ущелью. Еще он сказал, что надо взять факелы. — Это я и сам знаю. — Напрасно ты, Тимка, так… — Мы договорились. Так? Пойди срежь несколько прямых палок, а концы обмотай ветошью. Поторапливайся. Прошло минут тридцать, как они ушли от берега, когда из ущелья выплыло медленно и величественно огромное дерево. Некоторое время оно двигалось стоймя, подняв над водой растрепанную вершину с полуобломанными ветвями. Очевидно, при выходе из ущелья наткнулось корнями на каменный порог и сила потока поставила его на попа. Потом крона покачалась из стороны в сторону, словно раздумывая, куда упасть, и, описав широкую дугу, рухнула. Это как бы послужило сигналом к наступлению воды. Шипя и расплескиваясь, из ущелья вырвался светящийся в сумерках пенный гребень. В первое мгновение казалось: волна движется не по воде, а посуху — так отчетливо она рисовалась на поверхности реки, так велик был перепад. — Осторожнее! Держите носом к волне! — кричал с берега Косых. — Пошел ты со своими советами! — сквозь зубы процедил Тимофей. Он сидел на корме лодки, вцепившись в рукоятку подвесного мотора. Дзолодо схватил Тимофея за плечо. Тот скинул руку: — Не мешай! Тимофей напрягся, словно волну должен был принять не корпус лодки, а он сам, своей грудью. Косых на берегу кричал еще что-то, но волна уже была совсем близко и в ее громовом шелесте тонули все остальные звуки. Дзолодо зажмурился. Тимофей подался вперед. Волна ударила лодку в нос. Лодка вздыбилась. Было мгновение, когда казалось, что поток опрокинет ее навзничь, погребет, подмяв под себя. Но на какую-то долю секунды раньше, чем волна ударила лодку, Дзолодо кинулся на нос, вцепился в борта, и этой тяжести как раз хватило, чтобы не позволить бешеной воде перевернуть посудину. Лодка выскочила наверх, на волну. Какое-то время мотор визжал, потому что лопасти вращались в воздухе. Тимофей сбросил газ, опасаясь, что мотор захлебнется, заглохнет, и в то же время боялся: вдруг не заведется снова. Но когда лодка выскочила на водяное плоскогорье, мотор завел свою пчелиную песню. — Лихо! — прокричал Тимофей, охваченный азартом схватки с волной. Стоило им проскочить шипящий гребень, вокруг наступила тишина, и крик заплескался эхом в узком каньоне, где уже стояла ночная тьма. — Давай! Давай! — откликнулся Дзолодо. Но в то же мгновение впереди, совсем рядом, метрах в десяти, Дзолодо увидел косматый силуэт мчащейся навстречу вершины еще одного вырванного с корнем дерева. — Левей! — заорал Дзолодо. Инстинктивно, не раздумывая, Тимофей отвернул лодку, и мимо, ударив обоих ветвями, проскочила крона. — Возьми фонарь! Свети вперед! Дзолодо долго шарил по дну лодки, прежде чем нашел закатившийся под банку фонарик. Наконец слабое пятно света стало ошаривать воду впереди них. Оба вздохнули спокойнее. Но сколько Тимофей ни увеличивал обороты мотора, лодка продвигалась вперед очень медленно. С полчаса они рвались навстречу беснующемуся в теснине потоку, а продвинулись вперед едва ли на сотню метров. Бешеная вода отбрасывала, вымывала лодку из ущелья. Снова и снова навстречу им из тьмы выскакивали то полуобломанные кроны, то корни, похожие на многоногих чудовищ. Лодку то и дело приходилось поворачивать. Она становилась поперек течения, ее сносило к гирлу каньона, и она теряла с таким трудом выигранные метры пути. — Держись левого берега! Там течение спокойней! — не оборачиваясь, крикнул Дзолодо. Он боялся, что, отвернись он на миг, из чуть подсвеченной пожаром тьмы выскочит разлохмаченное быстриной дерево и разнесет моторку. — Почему? — По закону физики! — ответил Дзолодо. — Чего же тут непонятного? Течение бьет на поворотах то в один, то в другой берег. Значит, надо держаться напротив отбойного: то около одного, то около другого, а стрежень проскакивать наискось у самых поворотов реки. Там ведь поток не успел набрать силу. Механика! Элементарно! — Не выдумывай! — Попробуй! Лодка вильнула влево, потеряла на этом маневре метров десять отвоеванного пути. Однако напротив отбойного берега течение в самом деле оказалось медленнее. Они быстро наверстали упущенное. Теперь Тимофей вел моторку, хитря с рекой. Изредка он косил в сторону, и ему удавалось разглядеть, как в берег напротив река швыряла вырванные с корнями зеленоверхие деревья, темный валежник и — светлый, ободранный от коры плавник. В каждой извилине каньона отбойный берег сменялся. Лодку приходилось вести наискось против течения. Неуклюжая, широкоскулая, она плохо слушалась мотора, который служил и рулем. В одном из узких проходов лодку развернуло и снесло метров на сто вниз. Они молчали. На разговоры не хватало ни времени, ни сил. Отсветы пожара только мешали видеть берега. По напору. потока чувствовали — вода еще поднимается. Иногда даже удавалось разглядеть, как зубцы прибрежных скал скрываются в реке. Это была новая опасность. Чиркни винтом по такому подтопленному камешку — и останется только отдаться на волю течения. Оно через несколько минут пулей вынесет лодку обратно к отмели, у входа в каньон. “Залило! Затопило ведь отмель, — мелькнуло в голове Тимофея. — Плывет наше имущество! Может, Антон Петрович догадается оттащить… Нет. Разозлили мы его. Махнет рукой. Ему-то что? Не его вещи!” — Право! — послышался крик Дзолодо. Рывок лодки вправо, и мимо носа проскользнул блестящий в свете фонарика, будто чешуйчатый ствол валежины. — Лева! Лева! Тимофей и сам видел: течение разворачивало дерево. Доли секунды остались на размышление, но Тимофей успел. Опасность миновала. “Черт возьми… — подумал он. — Еще парочка таких сюрпризов, и, пожалуй, не увернешься. — Вытер влажные ладони о колени. — А как они там? У Петра-то силенок хватит. Но Марина… Еще раз пересечем стрежень, и там, за поворотом, — грот. Скалы-то придется огибать вдоль отбойного берега. Придется! И грот находится как раз в бьющей струе…” Он хорошо помнил то место, где вода выдолбила в скале грот. Берег там поднимался отвесно. Вылезти из грота и удержаться на выступах, по его мнению, было невозможно. Невероятно. А грот затопило наверняка. Уж очень высоко поднялась вода в каньоне.12 июля
Наводнение началось засветло, и они могли отыскать это не очень надежное прибежище. Над самым входом в грот Петр приметил узкую полочку, на которой могли стать сразу две ноги. Туда он велел забраться Марине, а сам поднялся чуть выше и левее. Его ноги с трудом держались на выступах, и пришлось приникнуть, распластаться на скальной стенке, уцепившись руками за трещины в камнях. Они стояли почти рядом. Но тьма ночи была плотной, они не видели друг друга. Вода давно уже затопила грот. Стоило ей подняться еще на метр, как Марина и Петр оказались бы в безвыходном положении. Однако около полуночи, судя по плеску, напор стал не то чтобы ослабевать, но задержался на одном уровне. Тогда первый раз за вечер Петру показалось, что где-то в глубине каньона возник рокот мотора. — Марина, слышишь? Она задержала дыхание, прислушалась. В какое-то мгновение ей действительно почудилось, будто трещит далеко-далеко мотор, но звук был так расплывчат в шуме реки, так неверен, что Марина ответила: — Нет. Это вода шумит. — Они должны появиться вот-вот. Слушай внимательно. Они вот-вот придут. — Чудной ты, Петька. Если они придут, то придут, — слушай не слушай. Они давно должны были появиться. А их нет. Значит, неладно с мотором. — Да я бы на их месте, цепляясь за стенки, пригнал лодку на выручку. — Эх, командор! Ты же видел, какая бешеная река. Против такой быстрины и на моторе, может быть, невозможно подняться. Попробовали — не вышло. Пережидают наводнение. Петру показалось, что, отвечая, Марина улыбалась. — Ну, уж это!.. — А что? Очень может быть. — С самолета нас заметили. Тоже должны прийти на помощь. — Конечно. Только нас и вертолетом отсюда не снимешь. Ты не волнуйся. — Чего ты меня успокаиваешь? Ты сама не волнуйся. Держится еле-еле, а туда же… успокаивает, — сердито фыркнул Петр. Про себя он не мог не отметить, что Марина и впрямь ведет себя отлично. Петр думал — она начнет жаловаться на их, ребят, неумелость, сетовать, что согласилась идти в этот дурацкий поход, в котором ей досталось не меньше, чем мальчишкам. В общем, хватила она горячего до слез! Однако и сейчас Марина вела себя ничуть не хуже, чем если бы на ее месте был Тимофей или Дзолодо. И еще Петр подумал, что Марина станет упрекать его. Ведь по его, Петра, предложению они изменили маршрут и пошли по этому чертовому каньону. Однако Марина ни словом, ни намеком не обвинила его и даже защищала, когда Дзолодо обвинял его в неумелом командовании в тот день, когда они оказались в огненной западне. — Я не успокаиваю, — ответила Марина и воскликнула через мгновение: — Мотор! Напряженно вслушиваясь в бурливый плеск реки, Петр и вправду уловил звук, похожий на рокот мотора. Но он побоялся до конца поверить в это. Так он устал от постоянного напряжения. — Не похоже, — сказал он. — Внимательнее слушай, — настойчиво повторила Марина. — Ты ошиблась. — Нет! Вон — огонек! Повернись, посмотри! Петр обернулся: — Где? — Ушел за поворот. — Показалось тебе. — Нет. Ты теперь повернись лицом к реке и смотри. Он скоро появится из-за поворота. Я правду говорю. Смотри на реку. — Хорошо. — Петр пошевелил затекшими пальцами, очень осторожно переступил ногами и стал лицом к реке. Он ничего не увидел во тьме ночи. Лишь изредка на стрежне призрачно мерцала пена и пропадала. Вдруг перед последним поворотом на воде зарябила полоска света. Одновременно Петр явственно услышал шум работающего мотора. — Вот и они. — Марина сказала это очень просто, совсем обыденно, будто они не ждали этого момента целых четыре часа, стоя как прикованные к скале. Казалось, прошло столько же времени, сколько они простояли весь вечер, прежде чем из-за поворота медленно выполз слабый желтый огонек. В отсвете его стал виден нос моторки. Лодка находилась метрах в двухстах от того места, где днем был грот. Она обогнула скалистый мыс и начала пробиваться через быстрину. Она почти не двигалась, хотя по звуку Петр узнал, что мотор работал на пределе. — Еле ползут, — сказала Марина. — Они не могут быстрее. Им обоим было хорошо видно, как мимо увертывающейся моторки пронеслись, словно торпеды, одно за другим три вывороченных с корнями дерева. Им были слышны команды, которые подавал с носа лодки Дзолодо, как Тимофей ловко уводил посудину от ударов плавника. — Они просто молодцы! — сказала Марина. — Ну и Тимофей! Вот управляется! — Нормально, — ответил командор. Лодка напористо продвигалась вдоль берега. — Э-эй! Мы здесь! — прокричал командор. Дзолодо вскочил на носу лодки и замахал фонариком: — Петя! Марина! Отзовитесь еще! Мы вас не видим! — Идите прямо! — Вы в гроте? — Не-ет! Затопило его. Мы на скале! Идите прямо! У берега камни! Прямо идите! — Хорошо! Лодка двинулась через заводь. Петру было видно, как неяркое пятно света ложится на воду. Посредине заводи вращался водоворот, крутя большой сгусток желтой пены, похожий на звездную туманность. Они плыли прямо в центр пенной галактики. — Осторожнее! — крикнул Петр. Предупреждение оказалось запоздавшим. Войдя в центр водоворота, лодка остановилась на секунду, потом последним рывком продвинулась еще метра на полтора, и струя, бившая ей в левую скулу, осилила мотор. Лодка отвернула и начала медленно вращаться в водовороте. — Ой! — негромко пробормотала Марина. — Выводи корму в струю! — закричал Петр. — Сейчас! — ответил Тимофей. — Резче поворачивай! Водоворот, вращая лодку, вывел корму из центра засасывающей воронки. Тимофей увеличил обороты до предела. Скрежет металла оборвал пчелиный звон мотора. Тихо. Только река глухо урчит и плещется. Но лодка уже выскочила из водоворота и внешние струи отбросили ее к берегу. Было слышно: дюралевые бока царапали по камням. — Дзолодо! Чалься! — крикнул Тимофей. Дзолодо ухватился за выступ скалы, пытаясь задержать лодку, но его сил было явно недостаточно. Он повис над рекой, уцепившись носками ботинок за борта. Тимофей сорвался с места, схватил моток веревки, сделал петлю. Однако зачалить лодку было негде: перед Тимофеем поднималась гладкая стена. Горящий фонарик, брошенный Дзолодо на дно лодки, скупо освещал лишь часть стены без единого выступа, кроме того, за который держался Дзолодо. — Держись крепче! — приказал Тимофей, схватил Дзолодо за ноги и подтянул лодку к берегу. Потом он передал Дзолодо веревку, и тот прочно закрепил ее за конусообразный выступ. — Ну ты и цепок. — Тимофей похлопал Дзолодо по плечу. — Будешь цепок. Что мне оставалось — в реку падать? Что с мотором? — пробурчал Дзолодо, но чувствовалось, что он горд и доволен собой. — Нет мотора. — Тимофей махнул рукой. — По течению пойдем. Главное, добрались. Снять осталось. Взяв под банкой фонарик, Тимофей осветил скальную стену и две фигуры на скалах. Марина и Петр — вот они, но подойти к ним не было никакой возможности: два скалистых выступа отделяли их от лодки. — Мы не доберемся до вас, — сказал Тимофей. — Веревку взяли? — спросил Петр. — Точно! — подхватил Тимофей. — Марина, лови па лету веревку. Для страховки. А потом — еплэвь. Командор хотел посоветовать, как это делать удобнее. Он пошевелился. И у него из-под ног со стуком посыпались камни. Петр почти повис на руках. — Кидай ему, Тим! — крикнула Марина. Смотав веревку, как лассо, Тимофей примерился. — Нет… — выдавил командор. — Глупости! — запротестовала Марина. — Петру бросай! — Дзолодо, свети на воду! Командор! Приготовились… Лови! Не раскрутившийся до конца моток ударил в грудь командора. Петр схватил его, оттолкнулся от скалы и прыгнул в реку. Тимофей тотчас начал выбирать слабину, помогая командору подобраться к моторке. Стоя на носу, Дзолодо освещал Петру дорогу. Командор был уже рядом с лодкой, когда в пятно света бесшумно выплыл выворотень, растопырив корни, словно щупальца. Прикинув путь выворотня, Дзолодо рассчитал: одно из корневищ неминуемо ударит Петра. Дзолодо хотел крикнуть, предупредить, но сообразил: Петр может растеряться, задержаться на секунду. Тогда выворотень настигнет и ударит командора раньше, чем Дзолодо сможет дотянуться до одного из щупалец и оттолкнуть выворотень или хоть смягчить удар. Швырнув фонарик в лодку, Дзолодо вытянул вперед руки, упал вперед, схватил на лету, в темноте, одно из корневищ, выставленных над водой. Мгновение он был как бы пружиной, амортизатором между лодкой, в борт которой упирался ногами, и влажной, ослизлой лапой выворотня. Только мгновение. А следом Дзолодо почувствовал, что выворотень отворачивает, Петр вне опасности, но его самого выворотень стаскивает с лодки. Полупогруженное в воду дерево поволокло его за собой. Дзолодо полетел в реку. Он инстинктивно мертвой хваткой вцепился в щупальце-корневище, и под его тяжестью выворотень стал вращаться, погружая лапу в поток. Крик Марины был невероятно высок и долог. Дзолодо хотел отцепиться, оглянулся и понял — поздно. Добрый десяток метров отделял его от лодки. Преодолеть их против течения нечего было и думать, да и плавать-то он толком не умел. Выворотень волок его в темноту ущелья. “Так… — подумал Дзолодо. — Надо схватиться за ствол. Он-то вертеться не станет”. Перебирая руками, он добрался до комля. Ствол был толст — в обхват. Дзолодо даже удивился, как это ему удалось оттолкнуть такой выворотень. “Но что со мной будет?” — Дзолодо сам удивился, что не испуган, не обескуражен и может так спокойно рассуждать о своем положении. Тогда решил проплыть ущелье верхом на выворотне. Выбора-то и не было: либо отцепиться от дерева и отдаться на волю течения, либо взобраться на ствол и доверить свою жизнь капризной прихоти мчащегося со скоростью торпеды ствола. Дзолодо понимал: продержаться в ледяной бешеной воде около часа — а именно такой срок понадобился бы ему, чтобы выбраться из каньона, — он не сможет: судорога скрутит его, он разожмет руки. Сев верхом на ствол, Дзолодо скоро убедился, что это совсем небезопасно. Дерево все-таки вращалось, и он выкупался еще раз. Постепенно глаза его привыкли к темноте, подсвеченной заревом пожара, и он разглядел корневища, торчащие над потоком. Но, прежде чем окончательно пойти на такой риск, как плавание стоя на выворотне, Дзолодо внимательно пригляделся к его поведению в воде. Очевидно, вершина дерева, плывшая позади корней, была в своем роде идеальным рулем. Она чутко подчинялась прихотям течения, которое держало выворотень почти строго на стрежне. Держась за корневище, Дзолодо преодолел два поворота, но ни разу дерево не приближалось к берегу настолько, чтобы можно было ожидать столкновения. Единственный недостаток у этой “посудины” состоял в том, что на кривунах, в завихрениях быстрины, ствол начинал медленно вращаться в сторону речного поворота. Тогда Дзолодо перехватывал руками корневища и продолжал путь. Однако вскоре он почувствовал: больше оставаться в ледяной воде не может. Перебирая руками, Дзолодо взобрался на ствол, встал, расставив ноги, насколько позволял полупогруженный комель, и ухватился за торчащие над водой корни. Он мчался сквозь ночную тьму по бешеной быстрине, стоя на комле выворотня, и каждая мышца его тела была напряжена. До рези в глазах он вглядывался вперед, будто в его воле и силе было хоть на сантиметр изменить направление плывущего дерева. На кривунах он осторожно переступал по комлю то вправо, то влево и перехватывал руками корни, словно это было колесо штурвала. Скользить во тьме на ненадежном бревне, когда неизвестно, что случится через секунду, было и страшно до жути, и в то же время Дзолодо охватило какое-то приятное чувство упоения опасностью и победы над страхом, своим страхом. Выворотень вылетел из ущелья. Дзолодо увидел на берегу костер и человека. Отсвет огня полосой протянулся по плесу. Он казался очень спокойным после свирепой гонки в ущелье. По широкому горизонту тянулась тонкая оранжевая полоса, будто какой-то необыкновенный, жуткий восход теплился вокруг над тайгою. Рассчитав, в каком месте выворотень ближе всего подойдет к берегу, Дзолодо бросился в воду, погрузился по пояс, был сбит течением, закричал, хотя знал, что Антон Петрович не сможет тотчас прийти на помощь; снопа вскочил, через несколько шагов снова потерял равновесие, опять поднялся и уже на четвереньках выбрался на берег. Косых, приковылявший к реке, подал ему руку, желая помочь: — Откуда ты взялся? — Приплыл… —. Л остальные где? — спросил Косых, боясь услышать в ответ весть о гибели туристов. — Там… в ущелье… — А ты? — Надо было прыгнуть в реку… Потом на выворотне… верхом… выбрался. — На выворотне? Верхом? — Не верите? — Н-ну. почему же… А остальные? — Не знаю. Я неожиданно прыгнул. Петра едва не задело выворотнем. Я оттолкнул. Да! Фонарик! Я уронил фонарик! — У них факелы есть, — сказал Косых. — Но лучше им подождать утра. — Мотор испортился. — Догадаются утра подождать, — повторил Косых. — Они будут беспокоиться обо мне. И поэтому пойдут ночью. — Тимофей вроде умный парень. Догадается, что ты можешь выбраться на берег. Они будут утром. Они подошли к костру. — Переоденься. Согрейся да спи. Коли появятся — разбужу. — Им как-то надо сообщить, что я выбрался. Они будут очень волноваться. — Это невозможно. — Удивительно, — усмехнулся Дзолодо. — Поешь. И ложись спать. Я разбужу тебя. — Нет. Я их подожду. Дзолодо согрелся, поел, и пережитое напряжение и волнение сломили его. Он стал клевать носом, вздрагивал, крутил головой, отгоняя дрему, по напрасно. Косых накрыл его ватником. Некоторое время Антон сидел у костра, прислушивался к неровному дыханию спящего. Дзолодо, видимо, снилась жуть. Он ворочался, метался, вскрикивал. Косых, кряхтя, поднимался, поправлял ватник. Потом Дзолодо крепко заснул. Дыхание стало ровным, он лежал тихо. Тогда Косых отправился к реке и зажег у самого уреза воды большой костер, который можно было увидеть далеко в ущелье. Он поступил так на всякий случай, уверенный, что Тимофей догадается подождать утра. “Этот упрямый, — рассуждал Косых, припоминая свою встречу с Тимофеем, — этого не сломишь, коли он догадался переждать ночь где-нибудь в заводи. Правда, девчонка, которая с ними… Но Тимофея не согнешь. Он на своем настоит. Молодец, ничего не скажешь…”15 июля
— Уходить надо вниз. Быстрее быстрого, — сказал Косых и по очереди оглядел четверых у костра. Марина рассеянно тыкала прутиком в угли, сбивая пепел. Изредка она вздрагивала, словно вместе с докучливой мошкой отгоняла какие-то тяжелые, будто валуны, мысли. Когда они засветло причалили к берегу, Тимофей и Петр буквально вытащили Марину из лодки. Она не хотела выходить. Она плакала и умоляла ребят идти дальше вниз по реке п искать хотя бы труп Дзолодо. В первые мгновения она не верила Косых, что Дзолодо спокойно спит у костра, живой и здоровый. Потом бросилась к нему, обняла спящего и расплакалась еще пуще. Дзолодо широко открытыми глазами отрешенно глядел в огонь. Он словно опять и опять переживал свое ночное плавание на выворотне. Косых знал такие случаи. Порой парашютисты-пожарники попадали в очень сложные условия, чудом выбирались из огня, но потом оказывалось, что нервное напряжение в минуты опасности словно выжимало их. Люди становились безвольными. Их можно было взять за руку и вести куда угодно, хоть снова в огонь, — сопротивляться они были уже не в силах. Мрачный Тимофей постукивал молотком и, позвякивая гаечным ключом, разбирал мотор. Он придирчиво рассматривал каждую деталь. Искореженные, изломанные он с силой отбрасывал в сторону реки. Только Петр, услыхав сказанное — Косых, настороженно поднял голову: — Зачем же вы вернули нас? Мы проскочили бы каньон и ушли от огня в верховья. — Из огня, да в полымя… — сказал Косых — Посмотри на реку. Видишь, сколько дохлой рыбы плывет с верховьев? Там пожар так плотно перекрыл русло, что вода только что не кипит. — А идти вниз легче? — Легче… Ничуть не легче. Но там можно вырваться в Низовое. Оно вроде еще не горит. Там люди. Тимофей швырнул в сторону реки очередную железяку и сказал: — Я знаю, почему вы так торопитесь… Косых помолчал, затем проговорил, обращаясь к Петру: — Ветер переменился. Теперь он погонит пожар с верховьев Лосиной вниз. Огонь придет сюда завтра днем. Может быть, к вечеру. — Что ж, он эти скалы жечь станет? — Тут такая круговерть будет… Можно задохнуться. — Ладно, — согласился без всякого энтузиазма Петр. — Вам виднее. За тем сюда и прыгали. Вниз так вниз. — Совсем не за тем… — проговорил Тимофей. — Совсем не за тем… А, да все равно… Сборы были недолгими и печальными. Вместо руля на корму лодки приспособил грубо вытесанное из лиственницы прав ло. Марина командовала Тимофеем, который укладывал в лодку пожитки, а Петр сидел на галечнике и лениво, без интереса перебирал собранную им за время путешествия геологическую коллекцию. — Все напрасно… Он проговорил это апатично, и в голосе его звучала безнадежность побежденного. — Почему же? — спросил Косых. Его мало интересовала коллекция, собранная Петром, ему мало было дела до того, напрасно или не напрасно собрал Петр эти камни. Антон преследовал другую цель. Ему хотелось втянуть Петра в разговор. Командор как-то странно отнесся к обвинению Косых: будто и не слышал. — Неоконченная работа хуже неначатой… — Ну, это не всегда, — снисходительно заметил Косых, желая поддержать разговор. — Да и кто помешал вам? Пожар? — Вернее, вы. — Я? — Вы. Когда заставили нас вернуться из каньона. В верховьях за ущельем я должен был взять последние шлихи. Если бы я их взял… — Ну, и что бы тогда? — Тогда, возможно, мне принадлежала бы честь открытия месторождения олова. — Геологи, значит, проморгали, а вы открыли… — Косых не понравилось тщеславие, с которым Петр проговорил последнюю фразу. — Зачем вы так… — поморщился Петр. — Никто ничего не проморгал. Просто меня попросили в геологическом управлении проверить, насколько далеко простирается распространение по реке Лосиной моллюска Мидендорфа. Это окаменелый ископаемый рачок. Обычно он встречается в тех местах, где на поверхность выходят древние свинцовые руды. К ним подошел Тимофей и сказал: — Послушай, командор: либо клади свои камни в лодку, либо выбрасывай. Их вниз положить нужно. Хороший балласт. — Да, да, — заторопился Петр, удивившись резкому тону Тимофея. — Ты чего рычишь? — спросил он у Тимофея, укладывая коллекцию на дно. — А чего ты лебезишь перед ним? Прощенье хочешь заработать? — Я? — Ты! Еще ему надо доказать, что мы виноваты. Ловкий какой! Прыг — и идемте в милицию. Мало ли что Дзолодо видел. Померещилось, может, ему. А ты сразу и скис. — Я? — Не я же. Пусть докажет! — Правильно, — сказала Марина. — Только кипятиться ни к чему. Вот и все. Наконец лодку нагрузили, столкнули в воду, потом все расселись, и лодка, подхваченная течением, поплыла вниз. Как-то уж само по себе, приказывать стал Тимофей, и все слушались его. А Петр, нахохлившись, сидел на дне лодки и, видимо, воображал себя обвиняемым на суде. Плыли долго, и плыли молча. Каждый думал о себе и о своем. Мимо тянулись спокойные, пока не тронутые пожаром берега. Лишь постоянный запах гари, к которому невозможно было привыкнуть, да сизый полог, затянувший небо, явственно напоминали о том, что впереди их ждет стена огня, через которую предстояло прорваться. По реке, зачастую обгоняя лодку, плыла брюхом вверх снулая рыба. То вблизи, то поодаль мелькало в рыжем мутном потоке белое брюхо. Изредка уносилось течением погибшее животное — жертва пожара. Все это убеждало: в верховьях Лосиной разыгрывается таежная трагедия — огонь наглухо перекрыл реку, и звери, которые пытались спастись в воде, не нашли в ней защиты от пала. Разлив сделал берега почти неузнаваемыми. Да это, собственно, никого и не волновало, кроме Петра. По его подсчетам, они должны были к полудню следующего дня подъехать к месту их последнего привала у развилки рек Лосиной и Солнечного луча. Там, как сказал Дзолодо, они оставили небрежно погашенный костер, от которого и начался пожар. Петру не терпелось увидеть это место, своими глазами убедиться в непоправимой ошибке. Тяжелое молчание царило в лодке. Ворочался и вздыхал Дзолодо. Даже выдержанная и терпеливая Марина, сидевшая рядом, не вынесла наконец: — Болит у тебя что? — Нет… — А чего ты как на иголках? — Не получается… — Что? — Не могу партию без доски сыграть. Где какая фигура, забываю. — Так брось. — Тогда еще хуже… — Чего хуже-то? Говори толком! — Мысли… Марина вздохнула. — Понимаешь, Марина, а вдруг не дымок был… Тогда над костром. Не дымок, а парок. Понимаешь? — Нет. — После грозы — помнишь? — был немного дождь. Был. Река рядом, испарение, роса. Влажный немного дерн. Косых стал прислушиваться к разговору. — Как ты играешь в шахматы, Дзолодо? Ты же логично рассказать не можешь. — Нет, Марина, логично. Сырой дерн положили на огонь. Да еще заливали костер немного. Пар, наверное, шел, не дым. А я решил — дым, дымок. Косых спросил: — Когда гроза была? — Ночью, — ответила Марина. — Какого числа? — Десятого. Косых заметил: Петр очень пристально смотрит на него. Пожарник подумал, что тот вот-вот вступит в разговор и подскажет ему: “Вот причина пожара”. Но Петр молчал. — Может, молния подожгла… Это сказал Дзолодо. Не Петр. — Я слышал, — продолжал Дзолодо, — может молния поджечь тайгу! Петр молчал. И Тимофей тоже. Они теперь даже не смотрели на Косых. Они целиком полагались на него. — Надо посмотреть… Разобраться надо, — сказал Антон. — Ведь может? Может! — настаивал Дзолодо. — Может… — Косых ответил нехотя. Ему стало неудобно за себя, за то, что он так сразу накричал на ребят вчера, сразу после своего неудачного приземления. И в то же время он не хотел и не мог оправдать их. — Разобраться надо… Петр старался не смотреть на пожарника. Неистребимый запах гари, дымный полог на небе, далекие, но уже ясно видимые языки пламени, поднимавшиеся над тайгой, обвиняли его. Прежде всего его, потому что, хотя костер и заливал Тимофей, командором тогда был он. Он и главный ответчик. Молчание Косых воспринималось Петром как обвинение. Первый долгий день плавания закончился. Лагерь разбили на высоком берегу, подальше от воды. Хотя было уже поздно, но красноватый отсветнедалекого пожара словно продолжил зарю, и она так и не погасла. И ужин прошел в молчании. Ни о чем не хотелось говорить. Присутствие Косых постоянно напоминало всем о том, что они арестованы и их сопровождает конвоир. И Косых чувствовал это отношение к себе и хмурился. За сутки, проведенные с ребятами, когда каждый из них шел на риск ради товарища, Косых невольно проникся уважением к тем, кого он считал виновниками всех бед, что стряслись в этом таежном районе. Он исподволь убедился: если туристы и совершили преступление — подожгли тайгу, то по глупейшей оплошности, но уж никак не преднамеренно, даже не из-за невнимания. Косых видел, как глубоко переживал происходящее Петр, да и остальные тоже. Но факт оставался фактом — тайга горела. Теперь уже десятки квадратных километров были охвачены огнем. “Завтра туристам на собственной шкуре придется убедиться в том, каков пожар вблизи”, — думал Антон. Ночь прошла спокойно. Только раз, неловко повернувшись во сне, Косых не сдержал стона от боли в ноге, и его окатило холодным потом. Утром небо затянуло тучами. Начал накрапывать дождь. Над лодкой натянули брезентовый тент и отправились в путь. Петр занял место у правила. — Почему не Тимофей? — спросил пожарник. — Нет уж, товарищ Косых! Сегодня на руле буду я. — Чего ты упрямишься? — Косых пожал плечами, повернулся к Тимофею: — Где вы оставили непогашенный костер? — Скоро увидите… — А заранее не можешь сказать? — Примерно на километр выше речной развилки, — ответил Петр. — По Лосиной? — Нет. По реке Солнечного луча. — А зачем вам это знать? — спросил Тимофеи. — На всякий случай, — неторопливо ответил Косых. — Там одни головешки… Чем ближе они подплывали к слиянию рек, тем тверже в душе Косых обосновывалась надежда: может быть, туристы и не виноваты в происшедшем. Он не знал, каким образом ему удастся доказать их невиновность прежде всего себе самому. Слияние рек было охвачено огнем уже в первый день. Косых не требовалось доставать планшет: он хорошо помнил кроки пожара, нанесенные на карту, красный карандаш очертил голубые веточки — слияние рек. По левому скалистому берегу пал шел, видимо, верхом. И это был тот самый берег, на котором останавливались на ночлег туристы, перед тем как изменить маршрут. Сейчас они находились километрах в пятнадцати от того места. Огонь был хорошо виден. Он пожирал последние деревья. Они горели словно факелы. По правому берегу огонь настигал лодку со стороны верховьев. Подгоняемый ветром пал двигался быстро. В час пополудни лодка миновала кривун, и перед ними открылось черно-серое пепелище. Трезубец старых кедров, под которыми ночевали туристы, был черен, дик и страшен. Даже на длинной косе у слияния Лосиной и реки Солнечного луча кусты тальника сгорели. Кое-где поднимались вялые сизые дымки. Пожар дотлевал. Ребята смотрели и не узнавали знакомых мест. Затор, высившийся тогда у скал, был сметен половодьем. Лысые, почерневшие от гари скалы выглядели чуждо. — Ну вот… — Пристанем к берегу, — попросил Косых. — Зачем? — безнадежно спросил Тимофей. — Тогда совсем маленький дымок был. Едва курился. Я хотел сказать, что надо вернуться. Да зачем, думаю… — И Дзолодо вздохнул. — Так оно и бывает, — нахмурившись, проговорил Косых. — К берегу. Антон вышел па отмель и, опираясь на рогатку, заковылял к опушке. — Не туда, — бросил Тимофей. — Я сам найду, — ответил Косых, не оборачиваясь. У него под сапогом трещали полуобгоревшие сучья, словно пыль взлетал пепел. И это были единственные звуки, которые нарушали тишину. — Холодно… Прохладно… Теплее… Тепло… Совсем мороз, — приговаривал Петр, следя за тем, как Косых бродит по берегу в поисках остатков костра. Остальные молча наблюдали. Косых без труда нашел старый костер. Его разводили по всем правилам. Место было очищено от хвои в диаметре метра на полтора. Потом окружено канавкой, глубиной на штык. Когда костер гасили, его не только залили водой, но и засыпали землей. Пожарник тщательно осмотрел засыпку. Нагнувшись, он сдул налет пепла, покрывший землю. Он увидел одну оплошность — дернины, которыми перед уходом был покрыт жар, брошены небрежно. Сильный ветер мог выдуть искру. Косых понимал: он чересчур придирчив. Но ведь дело-то какое! — Жарко! Огонь! — продолжал командор. — Петр, брось! — не выдержала Марина. — Я не мешаю. Наоборот. Чего он отказался от моей помощи? Я предлагал показать ему, где мы разводили костер. Что он строит из себя Шерлока Холмса! Дзолодо сказал: — Не стоит шутить. Дело очень серьезное. Если он убедится, что виноваты в поджоге мы, отвечать придется всем. — Зубоскальство ни к чему… — заметил Тим. — Ну… Раз большинство против — молчу. Косых продолжал бродить по берегу. Он то отходил к самой опушке тайги, вернее, к бывшей опушке бывшей тайги, словно ему надо было найти очень маленькую вещь — кольцо, оброненное случайно, или ключ. Прошло примерно с полчаса, а Косых и не думал возвращаться к лодке, в которой сидели притихшие туристы. Чем больше проходило времени в поисках, тем меньше они понимали, что, собственно, делает Косых. Он уже исходил место их ночевки вдоль и поперек. Останавливался у их бывшего костра, который совсем не трудно было найти. Но Тимофей, не раз ходивший в походы, знал, что любые меры предосторожности значат весьма мало. Даже очень опытные таежники, которые по праву могли считать тайгу своим родным домом, более родным, чем тот, где живет их семья и где они прописаны, и то попадали впросак. Не только хорошо окопанный, но и залитый костер, но залитый небрежно, мог стать и бывал не раз причиной грандиозного пала. Тимофея не удивлял метод “ведения следствия”, которым пользовался Косых. Тимофей понимал, как трудно теперь разобраться в том, с какой стороны подошел пал к реке, если он подошел — на что Тимофей в глубине души все-таки надеялся, — а не двинулся в тайгу от реки. — Конечно, — произнес Дзолодо, — они еще сверху, когда патрулировали, засекли место, где пожар начался. Теперь он смотрит на наш костер так, для очистки совести… Тимофей искоса посмотрел на говорившего: — А ты только что догадался? С чего бы тогда ему сразу кричать, что мы едва ли не арестованные! Тряхнув головой, Марина зло стукнула сжатыми кулаками по коленям: — Как глупо все! — А ты считала, что люди могут поступать только умно? Или ты убедилась на собственном опыте? — усмехнулся Петр и договорил сквозь зубы: — Возвращается наш Сильвер… Хмурый… Ну, держись! И все замолчали, ожидая, когда Косых приковыляет па своем импровизированном костыле. Он подошел, сел на нос лодки и закурил. Потом обвел взглядом сидящих, ухмыльнулся: — Перетрусили… — Чего уж дипломатию разводить, — махнул рукой Тимофей. Косых сказал: — Пошли… Ребята посмотрели на него с удивлением. — Понятно. — Тимофей снова махнул рукой. — Садитесь в лодку. Нам не стоит здесь задерживаться.13 июля
— Остановимся здесь, — приказал Косых. Тайга огненными стенами поднималась по обеим берегам. Здесь, в гирле, на выходе из широкой долины, по которой двигались туристы, верховой и низовой палы свивались в один. — А я думала, что мы уже вышли из огня, — протянула Марина, оторопело осматриваясь. — Ведь эти дни пожар все время был далеко по сторонам. — То, что вы видели, — была присказка… Нам придется пройти сквозь огонь. Пламя движется нам навстречу, — сказал Косых. С низовьев тянуло ветром. Он был очень горяч. Пришлось прикрыть ладонями лица. — Зачем же мы так близко подошли? — спросил Тимофей. — А что? — бросил Косых через плечо. — Глупо. Зачем обжигаться? Или вы нашу стойкость испытываете? — Да пошли бы вы… Ты вот скажи, что теперь делать? Посмотрев на Косых долгим взглядом, Тимофей неторопливо и уверенно ответил: — Намочим брезент, покроемся им и проскочим сквозь огонь. За лодку-то бояться нечего-она дюралевая. Не сгорит. — Неплохо придумано. Только на ту сторону пала мы приплывем, как запеченная в собственном соку дичь. Марина сказала: — Но здесь-то мы тоже не можем оставаться! — Выгружайте лодку, — приказал Косых. “Ну и упрям этот пожарник, — подумал Тимофей. — Но теперь совсем не время для споров. Пусть командует”. Пройдя к лодке, Тимофей и Марина стали выгружать имущество, но Петр и Дзолодо не шевельнулись. Они сидели у самого уреза воды и смотрели куда-то вдаль, вернее, делали вид, что смотрели. — Вы что, не слышали? — бросил Тимофей. Дзолодо сказал: — Ты взял на себя командование — ты и командуй. Его мы не хотим слушать. — Бросьте валять дурака! — рассердился Тимофей. — А зачем разгружать лодку? Ты можешь объяснить? Как быть с коллекцией? — Если командор теперь я, то бросьте болтать и беритесь за дело. Петр поднялся: — Я тебя предупреждаю, Тимофеи. Если вы выбросите коллекцию, не двинусь с места. Я не финчу. Ты — командор, это правильно. Затащил я вас в Лосиную… — Все решили. Не по приказу пошли, — заметила Марина. Косых прервал спор: — Ведь под лодкой придется плыть. На шею коллекцию привяжешь, что ли? — Как? — переспросила Марина, посмотрев на парашютиста округленными от удивления глазами. — А вот так! Перевернем лодку, заберемся под нее трое и вдоль берега спустимся через пожар вниз. За остальными придет Тимофей, — сказал Антон, не договорив однако, что он сам еще не знает, так это будет или нет. Возвращение Тимофея — это крайний случай. Когда они окажутся среди тех, кто борется с пожаром, несомненно появятся более надежные средства. Дзолодо нахмурился, посмотрел на верзилу Тимофея: — Да мы же задохнемся под лодкой! Трое! Да там и для одного воздуха не хватит и на пять минут! — Туго станет — приподнимем. Под брезентом плыть нельзя — сгорим. Там, ниже, такая круговерть! Переговариваясь, разгрузили лодку. Сняли все, даже продукты. С демонстративным пренебрежением Тимофей бросил на галечник то, что осталось от мотора: — Первыми вместе с Косых пойдем Марина и я. “А командор молодец, — подумал Косых. — Ничего не скажешь. Решение правильное”. Петр и Дзолодо молча согласились с решением. Петр сообразил, что он спасет геологические образцы, а Дзолодо был просто доволен тем, что ему не придется идти вместе с Косых. Вместе с парашютистом Тимофей перевернул лодку и внес ее в реку. Чтобы удобнее было ступать, Косых привязал костыль сбоку, перехватив его веревками на уровне груди, бедра и голени. Костыль примерно на вершок свисал ниже подметки, и Косых мог ступать па пего, не тревожа больной сустав. Потом они поднырнули под лодку. Там было совсем не темно, как думал Тимофей. Внутренность посудины наполнял свет, отраженный от серого галечника на дне. День казался пасмурным. Солнце скрывалось за плотным пологом дыма. Но маленькие волны на поверхности, словно призмы, собирали свет, и по дну раскинулась яркая сеть. Ячейки сети постоянно находились в движении, и свет мерцал. В носу лодки устроился Косых, опершись локтями на переднюю банку. Тимофей хотел устроиться в центре, но Косых остановил его: — Занимай последнюю, — глуховато прозвучал его голос. — В центре Марина. — А как же мы дорогу найдем? Как ориентироваться? — Под ноги смотри. Да и выглянуть из-под лодки можно на секунду — другую. — И Косых постучал по борту, давая сигнал Марине. Она открыла глаза, тряхнула волосами, забрызгав обоих, и сказала: — Тут совсем неплохо. — Пошли, — приказал Косых. — Отталкивайтесь посильней; но только смотрите, чтоб лодку не снесло. Марина подумала, что ходьба по дну реки под перевернутой лодкой похожа на полет во сне. Ей это нравилось, но минут через пять стало трудно дышать. Тогда Косых скомандовал подтянуть лодку ближе к берегу, мужчины уперлись плечами в банки и приподняли край посудины над водой. Косых приподнял нос побольше, чтобы лучше провентилировать внутренность лодки. И тут же опустил борт. Под лодку чуть не попала переплывавшая реку рысь. Под водой они увидели, как она, быстро перебирая лапами, ринулась прочь от непонятного предмета, под которым прятались люди. Течение несло посудину довольно быстро. Приходилось внимательно следить, чтобы лодку не" вынесло на стрежень. Тимофей подумал о том, что пробираться вверх, к Петру и Дзолодо, будет трудно. Верхний слой воды в реке становился все теплее. Все чаще приходилось приподнимать борт лодки, чтобы захватить свежего воздуха. Но он был сух и накален огнем. Тимофей нечаянно дотронулся до дна лодки и отдернул руку. Металл обжигал. — Не могу больше… — пробормотала Марина, вцепившись в банку руками, и уронила на нее голову. — Дышать нечем… Плохо мне… Косых приказал: — Тимофей, сними ремень, пристегни девчонку к банке. Нам еще с полчаса идти… А она, видать, скисла. Марина попыталась вяло сопротивляться, чтоб ее не привязывали. Но она, видимо, плохо соображала, почему ей надо быть привязанной и надо ли ей сопротивляться. Едва Тимофей принайтовил Марину к банке, как она притихла, очевидно довольная тем, что ее оставили в покое, и тихонечко постанывала: — Душно… Душно… Дышать хочу? — Косых, можно побыстрее? — Осторожнее надо, а не быстрее. Забыл про мою ногу-то. “А ведь действительно забыл, — подумал Тимофей. — Напрочь забыл… Как же он идет? Но и Марина… Она потеряла сознание”. Он вытер пот со лба тыльной стороной руки. Но от этого легче не стало. Тогда он окунулся с головой в воду, теплую, противную, припахивающую гарью. Она не освежала. — Подъем! — прохрипел Косых. Они приблизились к берегу, хотели приподнять борт, но парашютист остановил Тимофея: — Смотри! Вода отливала рыжим светом. Он метался. Какие-то темные тени плыли рядом с лодкой. — Надо потерпеть. Мы тут в самой круговерти огня. Тимофей не поверил, ему совсем нечем было дышать. Он поднырнул под борт, высунулся из воды и что было сил задержал лодку. Берег находился метрах в пяти. Не берег — море огня. Деревья стояли прямо у воды. Огромные, толщиною обхвата в два. II хвоя под ними, и сами стволы пылали. Один из стволов, у которого, видимо, подгорели корни, качнулся и начал падать в сторону реки. Затормозив лодку, Тимофей вздохнул и поперхнулся. Воздуха не было. Раскаленная смолистая гарь забила легкие, перехватила дыхание. Вскинув взгляд, Тимофей увидел все еще падающее дерево, которое должно было перегородить им дорогу. Опускалось оно медленно, как-то нехотя. Над ним в черных клубах смолистого дыма летели, сверкая, ослепительно белые, сгоревшие до раскаленного угля тонкие ветки, разлапистые ветви, охваченные огнем, похожие на фантастических птиц. Ствол оказался так длинен, что едва не достиг противоположного берега, окунулся в реку раскаленной вершиной, подняв облако пара. Из-под борта лодки высунулась голова Косых. Течение подхватило ствол, всплывший и ставший черным, и понесло вниз. Тимофей снова попробовал вздохнуть, но только закашлялся. Подав знак, Антон спрятался под лодку. Тимофей последовал за ним. — Скорее! Скорее! — хрипел пожарник. Сколько времени они, прыгая, подталкивали лодку? Может быть, минуту, может, две, но, теряя сознание, Тимофей почувствовал слабую, начиненную удушливым дымом, однако все-таки свежую струйку воздуха. Лодка миновала гирло, в котором пожар был особенно свиреп. Теперь даже сам огонь подтягивал к себе из низовьез воздух, иначе он бы задохнулся. Они подняли лодку на плечах, чтобы струя этого, похожего на свежий, воздуха подобралась к Марине, которая была без сознания. — Далеко еще? — С километр. Вон за тем кривуном… потише должно быть… — Подождем, пока она очнется. — Подождем… — согласился Косых. Они стояли с минуту, пока Марина пришла в себя. Больше выдержать не могли: жар бушующего на берегу пламени жег лица и руки, мокрая одежда шпарила плечи и грудь, выступающие из воды. — Не топите меня… Не надо топить… — бормотала в угарном дыму Марина. — Ничего… Ничего… — бормотал Косых. У него кружилась голова. Боль в ноге с каждым шагом ощущалась все сильнее. Палка, которая служила ему костылем, видимо, сбилась, ступать приходилось на носок, и он тихонько постанывал. Косых прикинул, сколько им еще надо идти. Выходило — километр с гаком. Только вот с каким: меньше половины или больше? Снова и снова они приставали к берегу, приподымали борт, останавливались отдышаться. Марина понемногу приходила в себя, но помощи ждать от нее было рано. Она и сама понимала это и то и дело спрашивала: — Скоро? — Потерпи, — хрипел Тимофеи в ответ. — Потерпи… — Скоро. Скоро… — вторил Косых.***
Осколки камней, холщовые мешочки, где находились намытые шлихи, Петр разложил на брезенте. Он внимательно просматривал пикетажку, отмечал соответствующий записи образец. Но сколько Петр ни старался, ему никак не удавалось найти образцы, которые не жаль выбросить. Каждый по-своему представлял интерес, каждый был дорог. После долгого раздумья Петр откладывал его в кучу отобранных. Постепенно вся коллекция оказалась просто переложенной с места на место. — Стоило стараться! — улыбнулся Дзолодо. — Стоило. Я убедился, что выбросить ничего нельзя. — Ты думаешь, за тобой пришлют грузовой вертолет? Тут не меньше центнера. — Тогда я не двинусь с места. Походик… Зачем тогда мучались? — А другие? Мотор Тимофея покорежен. Я не побывал у родных. Марина… Не знаю, довольна ли она. Скоро Тимофей придет? — Он будет вечером, может, ночью. — Плохо. Ты вокруг посмотри. Пожар совсем близко. — Дзолодо поднял руку, чтобы заставить Петра оглядеться, и осекся. На опушке стояла огромная лосиха. Позади нее угадывались силуэты других. Целое стадо выходило к реке. Меж стволами кедра вились клубы дыма — предвестники недальнего и неотвратимо приближавшегося огня. Животные, увидев людей, остановились в нерешительности. Вдруг заволновались. Бросились в стороны. Но не ушли далеко. Потом снова двинулись к воде. Вслед за ними из чащи выскочил медведь. Большой, старый. Он фыркал, мотал головой. На лосей он не обратил внимания, словно их здесь и не было. Дзолодо проглотил слюну. Карабин лежал на куче вещей, вынутых из лодки, метрах в десяти от них. Медведь бежал быстро. Петр посмотрел по направлению взгляда Дзолодо, странно ойкнул, прикрыл собой коллекцию, словно медведь именно за ней и пришел. Но зверь не обращал на них никакого внимания. Он стремительно, размашистым галопом мчался к реке. Остановился у берега, потянул носом воздух. Шерсть у него на загривке встала дыбом, голова словно увеличилась в размерах. Медведь зарычал, но не злобно, а как-то тоскливо, растерянно. Посмотрел на противоположную сторону и Дзолодо. Огонь там был совсем близко от берега. И там, на той стороне, появились у воды животные. Что-то невероятное, фантастическое было в этом шествии зверей из таежных чащ. — Смотри! Смотри! — крикнул Дзолодо. Лосихи и изюбрихи, вышедшие из леса, уже вошли в воду и стали, по шею погрузившись в реку — единственную защиту и надежду на спасение. Несколько быков еще находились на берегу. Поодаль от них к воде цепочкой прошли волки. Они вели себя совсем как собаки. Их даже нельзя было принять за хищников. Смеркалось. Но оставалось по-прежнему светло. Только свет этот был красным. Пурпурные отблески легли на реку, а водный простор выглядел черным. Неподалеку от Петра и Дзолодо стадо лосей тоже вошло в воду. Они стали почти рядом с медведем, улегшимся около берега. — С плацкартой устроился зверюга, — улыбнулся Петр. Он оправился от первого испуга, но ни на шаг не отходил от коллекции, завернутой в брезент. — Где же вертолет? Дзолодо будто возвратился откуда-то издалека: — Да… Но ты же сам сказал, раньше вечера его нечего ждать. — Ты все в шахматы сам с собой играешь? Уже вечер… — Может, нам самим как-нибудь… А? Ты-то что думаешь, Петр? — спросил Дзолодо. — Прождали… А теперь поздно. — Если он не успеет пробиться к нам до темноты, мы запросто можем погибнуть. — Дзолодо сказал это спокойно, как будто речь шла и не о них вовсе и сгореть суждено было не им, а кому-то другому, не человеку даже, а полену. Нервы его, измотанные ночным плаванием на выворотне, принимали новую опасность, будто нечто неизбежное, и Дзолодо склонялся перед этой неизбежностью, несущей гибель. Он в который раз пытался отвлечься игрой в шахматы, но словно разучился играть. — Конечно… — сказал Петр. Дзолодо глядел на зверей, спасающихся в реке. Их становилось все больше. Они появлялись в воде, словно возникая из черных мечущихся теней от огня. Волков, медведей, лосей и изюбров ребята знали, но теперь неподалеку от них рисовались силуэты незнакомых животных. Неожиданно в самой гуще сгрудившихся и воде обитателей тайги поднялся переполох. Стоявшие смирно животные заметались, начали толкать друг друга, тесня соседей. Сжав в руках карабин на случай неожиданного нападения, Дзолодо поднялся. Сперва он ничего не увидел. Просто звери вроде бы взбесились, будто кто-то из хищников нарушил таежное табу и напал на слабого в то время, когда все спасались и все были равны перед страшным огнем. Но вот что-то совсем маленькое, не больше кулака, странный перископ задергался над поверхностью воды. Существо двигалось вниз по течению толчками. — Змея! Дзолодо внутренне содрогнулся, увидев огромного гада, удирающего по реке. — Смотри, Петр! И вдруг, вспомнив нечто чрезвычайно важное, Дзолодо подпрыгнул и кинулся к груде вещей, сложенных в беспорядке па косе. Он принялся расшвыривать имущество, нащупал фотоаппарат, потряс им над головой, словно хвастался неизвестно кому, и вернулся к берегу. Непослушными от волнения руками стал устанавливать выдержку, диафрагму, будто яркий свет пожара мог померкнуть, а животные, в страхе жмущиеся друг к другу, исчезнуть, подобно миражу. Потом Дзолодо вошел в воду, двинулся ближе к стаду, по шею погрузившись и реку. Он делал снимок за снимком и не мог остановиться, столь необыкновенными были кадры. Он забыл о непосредственной опасности, которая угрожала и ему. Опомнился Дзолодо лишь тогда, когда кончилась пленка в аппарате. Он огляделся и увидел, что Петр прижался к своей коллекции, сполз в воду и лежит в ней, подобно медведю, тому, что первым догадался спасаться в реке. Огонь подобрался теперь к самому берегу. На вещи, выгруженные из лодки и оставленные на косе, упало несколько горящих ноток, II груда их имущества запылала дружным костром. Дзолодо бросился спасать экспедиционное добро, но жар пламени остановил его. Он прикрыл лицо согнутой рукой и стал отступать к реке. Он вошел в воду и лег рядом с Петром. — Какого ты черта?! Ты же видел — огонь подбирается к вещам? — Отстань! Кому вещи нужны? Как их спасешь? Петр копошился в галечнике, вырывая углубление. — Чего ты выдумал? — сердито спросил Дзолодо. — Помоги, коллекцию надо спасти. — Обалдел ты, что ли? Брезентом надо прикрыться. Оставь свои камни на гальке. Что с ними станет? — Мешочки могут сгореть. Перепутаются шлихи. — В воде? Копай яму на берегу и клади туда коллекцию! Нам нужен брезент. Петр помолчал, видимо соображая, потом согласился. Они быстро спрятали коллекцию в галечнике, намочили брезент в реке и прикрылись им, словно палаткой. Жар становился невыносимым. Успокоенный за судьбу коллекции, Петр сказал: — Давай уйдем под брезентом, как под лодкой? Дзолодо задумался. Из горящей вдоль берега тайги слышался треск падающих сгоревших деревьев, тугое вытье огня. Влажный, прогретый близким пламенем брезент стал обжигать руки. — Нет, — сказал Дзолодо. — Нам нельзя уходить. Тимофей может вернуться за нами. Петр резко дернул к себе брезент: — Ну и жди! Я один пойду! Дзолодо показалось, что он стоит у жерла открытой мартеновской печи. Ощущение было точное. Дзолодо испытал такой жар, когда он с классом ходил с экскурсией на завод. Схватив подол куртки, Дзолодо вывернул ее над головой, словно хотел скинуть: — Петр! Ты что? — Идем вместе! Брось эти дурацкие камни! — крикнул Петр. — Что с тобой? — испугался Дзолодо. — Я ухожу! “Он просто не в себе, — понял Дзолодо. — Его надо остановить! Задержать!” Дзолодо огляделся. Оставаться там, где они находились, уже не было никакой возможности. Почти совсем над ними свирепствовала огненная круговерть. Дзолодо заметил среди зверей странное движение. Они медленно, подталкивая друг друга, плотной толпой оттеснялись выше по реке к скалистым щекам, уже выгоревшим. Видно, там жар был меньше. Схватив брезент за край, Дзолодо с трудом потащил его. Петр, не понимая, зачем нужно куда-то идти, крутил головой и не двигался с места. Уговорами, криком, а больше тумаками Дзолодо удалось все-таки убедить его. И они стали отступать к скалам вместе со зверьем. Отступление продолжалось часа два, прежде чем они почувствовали себя и относительном безопасности. Голые скалы, простиравшиеся на большой площади, были свободны от огня. Но Дзолодо и Петр оказались буквально в двух шагах от зверей. Рядом, так близко, что чувствовалось его зловонное дыхание, лежал в воде огромный старый медведь, и тут же — волчица с молодыми волчатами, подальше от берега стояли, подняв головы над рекой, лоси.14 июля
— Не меня надо было брать в первую очередь — Дзолодо, — сказала Марина и носком ботинка откинула в реку камешек. За противоположным берегом над тайгой занималась заря. В ее странном палевом свете, прорывавшемся сквозь дымовую завесу, раскинутую пожаром на небе, нетронутые огнем деревья представлялись удивительно красивыми. Марине было странно видеть этот обычный мир тайги и сознавать в то же время, что там, за несколькими поворотами, меж высоких сопок, бушует пламя. И как трудно должно быть сейчас Петру и Дзолодо! Ведь они не знают: за ними придет вертолет. Они не знают наверняка, что товарищи добрались благополучно, прорвали огненное кольцо. — Петра надо было брать, — сказала Марина поглянулась. Косых полулежал у бледного в свете зари костра и, казалось, дремал. Марина не впервой начинала этот разговор. Тимофей не вынес, ушел и сел поодаль, у избы лесничего, около которой находилась посадочная площадка для вертолетов. Они пришли в Низовое уже затемно. Пока по радио связывались с базой, пока вертолет отправился — прошло около часа. Тимофей пытался пойти под лодкой против течения, чтоб добраться к ребятам, но, пройдя метров двести, потерял сознание, и Косых едва выловил его и лодку. — Вы меня слышите? — настойчиво проговорила Марина. — А, что? — спросил Косых, не поднимая головы. — Все правильно. Правильно, что вас забрали. — А если Дзолодо… — Перепугался немного, когда плыл на выворотне. А так — чего ему сделалось? — Ничего вы не понимаете, — протянула Марина, но ответа не последовало. — Деревяшка вы, вот что, — в сердцах сказала Марина. — От моего ли, от вашего ли волнения ничего не ускорится, ничего не изменится. Коли ты связан по рукам и ногам и не можешь помочь — какой же толк волноваться? — Удобно у вас получается… — Ждать надо. — Ждать, ждать… — Марина прошла по берегу подальше от костра и присела. Ей не хотелось быть рядом с Косых, таким спокойным, безразличным даже. И в то же время она не могла быть одной. Одиночество — если она хоть несколько минут не видела Косых — так сильно действовало на нее, что начинался озноб, беспричинный и неуемный. Тогда она снова возвращалась к костру, стояла у берега и задавала Антону всякие вопросы, злилась, что не получала тех ответов, которые ей хотелось услышать. — Какой ужас — этот поход! — проговорила она, опять вернувшись к костру. — Просто кошмар. — Тайга… — Что — тайга? Не в тайге дело! — Тайга! — При чем здесь тайга? Не было у нас коллектива. Вот что! — Ну, — проворчал Косых, — чего вы сами-то цепляетесь? Хорошие ребята. Я с ними на любой бы пожар пошел. А этот, как вы говорите, коллектив, такой, как по-вашему выходит, он только за чаем с вареньем и бывает… — Почему с вареньем? — Послаже. — Чепуха! Ерунду вы говорите! — Нет. Крепкие ребята. Не болтуны. Коль надо — ничто не остановит их. Толк в риске понимают… — Слышите? — Марина замерла. Косых поднялся: — Показалось. — Да нет! Послушайте! — Вон и Тимофей спокойно сидит. Принесла бы валежнику. Костер прогорает, — сказал Косых, снова устраиваясь у огня. — Коллектив… Святые, что ли, в коллективе-то этом? Коллектив, коллектив… Он и виден-то только в деле. А за чаем с вареньем — любое сборище так назвать можно. Твои ребята — молодцы. Я бы их взял в пожарники. Марина нехотя ушла от берега, принялась собирать сухие ветки для костра. Легкий туман подернул речную даль. Едко и неприятно пахло влажным пожарищем. Было тихо, и не пели птицы. Курлыкала вода в галечнике. Косых мог бы спокойнейшим образом спать в избе лесничего. Но он почувствовал, что не сможет этого сделать. Его очень волновала судьба ребят. Он очень хорошо помнил поведение тех, других, из-за которых погибли его родные. Те валили вину один на другого, ссорились, возненавидели самих себя. А эти… Эти оставались людьми, настоящими товарищами. На пожарище, осматривая место их ночевки, он осознал: только от его пристрастности зависит вывод — поджигатели они или нет. Его показания, показания официального, компетентного должностного лица, будут приняты на веру. Но он сам — официальное, компетентное должностное лицо — верит этим ребятам. Возможность одна из тысячи, что причина пожара — искра от костра. Но такая же возможность, ну, может быть, больше немного — здесь Косых все-таки не мог себя пересилить, хоть и чувствовал: неправ, — что причина — гроза. Сухая гроза, молния, которая подожгла лес. Лежа у костра, Косых мучительно размышлял: как же ему поступить? Поддерживать прежнее обвинение? Отказаться от обвинения? — Летят! Летят! — закричал Тимофей. Черная точка на фоне зари двигалась очень медленно. — Марина! Скорее! Летят! — вскочил Косых. Бросив ветки, Марина кинулась к берегу. Отсюда очень хорошо был виден вертолет. Вертолет приземлился, оглушительно треща. Марина хотела броситься к машине, едва колеса коснулись земли. Но Косых удержал ее. Наконец винт, подымавший столб пыли, зашепелявил, остановился. Открылась дверца. Петр и Дзолодо выскочили из кабины и стали выволакивать тюк с коллекцией. Тимофей и Марина кинулись помогать. И только мешали. Стоя поодаль, Антон задумчиво смотрел на своих подопечных. Потом, взявшись вчетвером за углы брезентового тюка, туристы отошли от машины и направились к Косых. Остановились рядом. — Что нам делать? — спросил Тимофей. Антон закурил. Даже сейчас он не знал, что сказать, и поглядел в глаза ребят. Перед ним стояло трое парней и девушка. Они не перетрусили. Не просили ни снисхождения, ни поблажки, ни пощады. Они целиком доверяли ему — официальному, компетентному должностному лицу, — его знаниям, его совести. — Катитесь… домой! — очень зло сказал Косых и хромая пошел к вертолету.А.Мирер Будет хороший день!
Никакое поражение не может лишить нас успеха.Норберт Винер

I
— Крокодилы! — оглушительно заорал попугай. Андрей повернулся на левый бок и посмотрел вниз, туда, где полагается быть ночным туфлям. Между прутьями настила была видна вода цвета хорошего крепкого кофе. За ночь вода поднялась еще на несколько сантиметров. Оставались последние секунды ночного отдыха. Он вытянулся в мешке и закрыл глаза. Примус шипел за палаткой, и через клапан проникал запах керосиновой гари, а от Аленкиного мешка пахло Аленкой. Счастливые дни в его жизни. Вот они и наступили наконец. — Эй, просыпайся! Через краешек сна он услышал сразу ее голос, отдаленный шум джунглей, шорох и скрипы Большого Клуба и, совсем еще сонный, полез из мешка и натянул болотные сапоги. Настил, сплетенный из тонких лиан, провис к середине и почти не пружинил под ногами. “Давно пора сплести новый, — подумал Андрей. — Сегодня натащу лиан”. Он знал, что все равно не сделает этого ни сегодня, ни завтра, и вспомнил, как в Новосибирске директор спал в кабинете на старой кровати с рваной сеткой, а когда ее заменили, устроил страшный скандал накричал: “Где моя яма?” Посмеиваясь потихоньку, он спустился в воду — шесть ступеней — и посмотрел на сапоги. Вода дошла до наколенников. Поднимается. — Неважные дела. Надо бы к черту взорвать эти бревна-запруду. — Она сама прорвется, — сказала Аленка. — Все равно до нее не доберешься. Там полно крокодилов. — Разгоним! — ответил Андрей. Он шел под палаткой, ощупывая дно ногами. Палатка стояла на четырех столбах, провисший настил был похож на днище огромной корзины. Андрей подошел к кухонной лесенке и, прежде чем выбраться на мостки, посмотрел в сторону деревни. Он смотрел каждое утро и ничего не видел — только лес. Ни дымка, ни отблеска очага… Примус шумел что было мочи, Аленка осторожно накачивала его хромированное чрево. Синие огни прыгали под полированным кофейником, на очаге лежали вычищенные миски, и Аленка сидела деловитая, чистенькая, как на пикнике: ловкие бриджи, свежая ковбойка, светлые волосы причесаны с педантичной аккуратностью. — Как тебе спалось? — спросил Андрей. Аленка не ответила. Она подняла крышку кофейника и внимательно смотрела на закипающую воду. — Аленка! — сказал Андреи. — Аленушка, ты что? Ты сердишься? Аленка положила крышку. — Здравствуй. Ты что-то говорил? За крикуном ничего не слышно. Как в метро. — Вот это штука, — сказал Андрей. — Но ты слышала, что я говорил про запруду. — Из-под палатки? Конечно, нет. Тут примус. — Но ты же ответила. — Захотела и ответила… Передай мне кофе и почисть пистолет до завтрака. — Как ты узнала, о чем я говорю? — Всю жизнь мне не верят, что я читаю мысли, — сказала Аленка, отмеряя кофе десертной ложкой. — И ты тоже; никто мне не верит. Лентяи все недоверчивые… Сидишь? Хоть пистолет бы почистил. — Он в палатке, — машинально сказал Андрей. — Ты ведь сам говорил, что он осекается. — Почищу после завтрака. — Возьми, лентяй! — Она просунула руку в клапан и достала тяжелый пистолет. В левой руке она держала ложку с кофе. — Все равно не буду, — сказал Андрей, расстегивая кобуру. Он разложил детали на промасленной тряпке и, гоняя шомпол в стволе, соображал, как бы к Алене подступиться. Если она заупрямилась — ищи обходной маневр. Это он усвоил. Он собрал пистолет, вложил обойму и заправил в ствол восьмой патрон. Пистолет поймал солнце — багровый край, беспощадно встающий над черной водой среди черных стволов. В чаще ухнула обезьяна-ревун. — Завтракать! — сказала Аленка. — И это не первый раз? — спросил Андрей, принимая у нее миску. — Говорю тебе — всю жизнь. Помолчали. — Думаю, это фокусы Большого Клуба, — неожиданно сказала Аленка. — Он же совсем рядом. — Может быть. А часто это бывает? И как ты это слышишь? — Я веду дневник, — сказала Аленка. — По всем правилам, уже пятнадцать дней. Иногда я слышу тебя оттуда. Как будто ты говоришь за моей спиной, а не возишься у Клуба или в термитниках. В дневнике все записано. — Брось, — сказал Андрей, — оттуда добрый километр. — Он положил ложку и смотрел на Аленку сквозь темные очки. — И ты все время молчала? — Тебе этого не понять. Ешь кашу. Ты ужасный трепач, только и всего. — Покажи дневник. — Вечером, вечером. Солнце уже встало. — Нет, это невозможно! Какие-то детские фокусы… — Андрей бросил миску и встал с ложкой в руке. — Андрей, не забывайся! Садись и доешь кашу. — Какая каша? — завопил Андрей. — Ты понимаешь, что надо ставить строгий эксперимент? — “Строгий заяц на дороге, подпоясанный ломом”, — тонким голосом пропела Аленка. — Эксперимент достаточно строгий. Ешь кашу. — Хорошо. Я доем эту кашу… — Вот и молодец. “И кому какое дело, может, волка стережет?” — Аленка! — Ты отчаянно глупый парень. Я же слушаю твои магнитофонные заметки. Слово в слово с моим дневником. Понял? И все. Пей кофе, и пойдем. Комбинезоны висели на растяжке. Андрей молча влез в комбинезон, застегнул “молнию”, молча нацепил снаряжение: кинокамеры, термос, запасная батарея, фотоаппарат, по кличке “Фотий”, ультразвуковой комбайн, набор боксов, инструменты, магнитофон. Теперь все. Он натянул назатыльник, заклеенный в воротник комбинезона, и надел шлем. Плексигласовое забрало висело над его мокрым лицом, как прозрачное корытце. — Включи вентилятор, ужасный ты человек, — сказала Аленка. — На тебя страшно смотреть… И возьми пистолет. Под комбайном зашипел воздух, продираясь через густую никелевую сетку, и вентилятор заныл, как москит. — Родные звуки, — сказала Аленка. — Я тоже пойду, после посуды. — Мы же договорились. Я иду к Клубу. — Андрейка, они мне ничего не сделают. Я знаю слово. Ну, один разок сходим вдвоем. — Не дурачься. Клуб начнет нервничать, и пропадет рабочий день. У тебя хватает работы. Сиди и слушай. Он уже сошел с мостков, взял шестик, прислоненный к перилам, и посмотрел на жену — все еще с досадой. Аленка улыбнулась ему сверху. — Ставь в дневнике точное время — часы сверены. Я пошел. — Погоди минутку. Очень много крокодилов. Ты слышал, сегодня один шнырял под палаткой? — Тут везде полно этой твари. Будь осторожна. — Я ужасно осторожна. Как кролик. Сейчас я их пугну. Поспорим, что я попаду из пистолета вон в того, большого? — Аленка достала из-под палатки свой пистолет и положила его на локоть. — Нет, лучше с перил. Вот смотри. Солнце уже поднялось над черной водой, и ровная, как тротуар, дорожка шла к палатке, и по ней ползли черные пятна треугольниками, и рядом, и еще подальше. За пятнами по тихой воде тянулись следы, огромным веером окружая палатку. Выстрел и удар пули грянули разом, столбы дрогнули, и крокодил забил хвостом, уходя под воду. — Вечная память, — сказала Аленка, — вечная память… Сейчас мы вам добавим… Вечная… Палатка снова качнулась, зазевавшийся крокодил щелкнул пастью над водой и скрылся в темной глубине, и вот уже над поляной тишина, гладкая маслянистая вода отражает солнце. Андрей бредет по вешкам к берегу, ощупывая дно шестиком и обходя ямы. Кинокамера сверкает на поворотах. Хлюп-хлюп-хлюп- он идет по вязкому дну. А вот и шагов не слышно. Андрей подтянулся на руках, прошел по сухому берегу и исчез. Обезьяна снова заорала в джунглях. День начался. — Сегодня день особенный, — сказала Аленка, обращаясь к примусу. — Понял, крикун? Ну, то-то… Она сидела под тентом, придерживая пистолет, и прислушивалась, хотя почему-то была уверена, что теперь ничего не услышит — с сегодняшнего дня. — Все ученые — эгоисты, — сказала Аленка. — Завтра все равно пойду в муравейник. Я-то же стою кой-чего, только я очень странно себя чувствую. Плоховато я себя чувствую, И все равно завтра я пойду. Она попробовала представить, что там видит Андрей, продвигаясь по пружинящей тропке, и, как всегда, увидела первую атаку муравьев, первый выход в муравейник три месяца назад. Они шли вдвоем по главной тропе, потея в защитных костюмах, и, в общем, было довольно обыденно. Как в десятках муравьиных городов по Великой Реке. Они осторожно ставили ноги, чтобы не давить насекомых, хотя много раз объясняли друг другу, что это чепуха, сентиментальность — этим не повредишь муравейнику, который занимает добрых сто гектаров. Они часто нагибались, чтобы поймать муравья с добычей и посадить его в капсулу, иногда смахивали с маски парочку — другую огненных солдат, свирепо прыскающих ядом. На повороте тропы Андрей обнаружил новый поток рабочих — они тащили в жвалах живых термитов — и сказал: “Ого, смотри, Аленка!..” Это было немыслимое зрелище — огненные муравьи, свирепые, тащили термитов, осторожно, даже нежно держа их поперек толстого белого брюшка, а взрослые термиты с готовностью позволяли нести себя неизвестно куда… “Ну и ну! — сказала Аленка. — Если в джунглях встретишь неведомое…” “Оглянись по сторонам, авось увидишь что-нибудь еще”. Сидя на корточках, они рассовывали термитов по боксам, и вдруг она сказала: “Ой, Андрей, мне страшно!” “Кажется, мне тоже…” — невнятно ответил Андрей из-под забрала. Они встали посреди тропы, спина к спине, и Аленка услышала щелчок предохранителя, н новая полна ужаса придавила ее, даже ноги обмякли. Маленький тяжелый пистолет сам ходил в руках, набитый разрывными снарядами в твердой оболочке, — оружие бессильных. “Смех, да и только, — пробормотал Андрей. — Как будто рычит лев, а мы его не слышим”. “Откуда здесь львы?” “Откуда хочешь”, — ответил Андрей совершенно нелепо, и тут страх кончился, как проходит зубная боль, и они увидели диск, неподвижно висящий метрах в двадцати от них, над низкими деревьями, как летающее блюдце. Так они и подумали оба, таращась на него сквозь стекла масок. Наконец Андреи поднял стекло и посмотрел в бинокль. “Крылатые, только и всего…” Именно с этого момента и началась игра в “только и всего”. Когда они добрались до Большого Клуба, Аленка сказала: “Только и всего”, — и когда в первые дни разлива огромный муравьед удирал от огненных, Андрей вопил ему вслед: “Только и всего!” — а муравьед в панике шлепал по воде, фыркал и вонял от ужаса. Андрей смотрел, а она подпрыгивала от нетерпения и канючила: “Дай бинокль, дай-дай бинокль”, пока их не укусили муравьи — сразу обоих, — и тогда пришлось опустить стекла, и они сообразили, что диск надо заснять. Огненный укусил ее в нос, было ужасно больно, и нос распух, пока она меняла микрообъектив на телевик, стряхивая муравьев с аппарата. Андрею было лучше: он просто повернул турель кинокамеры. Она сделала несколько кадров, тщательно прокручивая пленку, потом диск пошел к ним и повис прямо над головами — в шести метрах, по дальномеру фотоаппарата, — и в видоискателе можно было различить, как мелькают и поблескивают слюдяные крылья и весь диск просвечивает на солнце алым, как ушная мочка… “Ты встречалчто-нибудь в этом роде?” — спросила Аленка. “Не припоминаю”. “Но ты предвидел, да? Только и всего”. Они захохотали, с торжеством глядя друг на друга. Никто и никогда не видел на Земле, чтобы крылатые муравьи роились диском правильной формы. Никто и никогда! Значит, не зря они угрохали три года на подготовку экспедиции, не зря клеили костюмы, парафинили двести ящиков со снаряжением, и притащили сюда целую лабораторию, и обшарили десять тысяч квадратных километров по Великой Реке… “Я тебя люблю”, — сказал Андрей, как всегда не к месту, и Аленка процитировала из какой-то летописи: “Бе бо женолюбец, яко ж и Соломон”. На Андрея напал смех. Они хохотали, а диск висел над головами, слегка покачиваясь, приятно жужжа. Они до того развеселились, что второй приступ страха перенесли легко — не покрываясь потом и не вытаскивая пистолетов. Но хохотать они перестали. И когда колонны огненных двинулись к ним, шурша по тропе между деревьями, они сначала не особенно удивились. Но только сначала. “Наверно, так видна война с самолета”, — подумала Аленка и заставила себя понять, почему появилась эта мысль. Муравьи шли колоннами, рядными колоннами, и, наклонившись, она увидела сквозь лупу в забрале, что сяжки каждого огненного скрещены с сяжками соседа. Скульптурные панцири светились на солнце, ряды черных теней бежали между рядами огненных — головы подняты, могучие жвалы торчат, как рога на тевтонских шлемах. Крупные солдаты, до двух сантиметров в длину, двигались с пугающей быстротой, но Аленка наклонилась еще ниже и увидела в центре колонны попочку, ниточку рабочих с длинными брюшками и толстыми антеннами. Она сказала: “Андрюш, ты видишь?” — а он уже водил камерой над самой землей и свистел. Они снимали, сколько хватило пленки в аппаратах, потом пытались переменить кассету кинокамеры, и в это время их атаковали сверху крылатые — другие, не из диска. — и сразу покрыли забрала, грызли костюмы, и вентиляторы завыли, присасывая муравьев к решеткам, а снизу поднимались пешие… И Аленка испугалась. Она увидела, что Андрей судорожно чистит забрало, и он был весь шуршащий, облепленный огненными, как кровью облитый, — и тогда она выхватила контейнер из-за спины и нажала кнопку… …Аленка закрыла глаза. Это был великолепный и страшный день, когда они поняли, что найден “муравей разумный”. Иной разум. После наступило остальное: работа, работа, работа, и умные мысли, и суетные мысли… Но тогда, на тропе, было великолепно и страшно. Контейнеры стали легкими, а земля густо-красной, и по застывшим колоннам бежали другие, не ломая рядов, и тоже застывали слоями, как огненная лава. Когда ее контейнер уже доплевывал последние капли аэрозоля, муравьи ушли. Все разом — улетели, отступили, сгинули, бросив погибших на поле боя… Под настилом послышалось сопение, скрежет. Аленка посмотрела сквозь люк и сморщила нос. Здоровенный крокодил медленно протискивался между угловой сваей и лестницей. По-видимому, он воображал, что принял все меры предосторожности — над водой торчали только глаза и ноздри, и он явно старался не сопеть и деликатно поводил хвостом в бурой воде. Над палаткой раздалось оглушительное: “Кр-р-рокодилы! Кр-р-ррокодилы!” Попугай Володя орал что было мочи, сидя на коньке палатки и хлопая крыльями. Крокодил закрыл глаза и рванулся вперед. Звук был такой, как будто провели палкой по мокрому забору, — это пластины панциря простучали по свае. Он не успел нырнуть — Аленка навскидку всадила в пего две пули, а Володя неуверенно повторил: “Кр-р-рокодилы?” — Позор! — сказала Аленка. — Какой ты сторож, жалкая ты птица! Попугай промолчал. Он не любил стрельбы. — А я не люблю мыть посуду. Тем не менее дисциплина нам необходима как воздух. И еще я не хочу работать. Как ты на это смотришь? — Иридомирмекс[19], — оживленно сказал попугай. Он почесал грудку и приготовился к интересной беседе, но Аленка сказала ему: — Цыц, бездельник! Давно известно, что никакой это не иридомирмекс, а “мирмекатерренс сапиенс демидови”. Он только похож на огненного. Остается чепуха — выяснить, сапиенс он или не сапиенс. Она бросила в воду ведерко на веревке, залила грязную посуду и снова села. Пусть Андрюшка сам трет жирные миски. И, кроме того, ей хотелось подумать. “Муравей устрашающий разумный Демидовых” — разумен ли он на самом деле? Они с Андреем знали, что вне зависимости от разума их муравьи- истинное чудо природы. В два счета супруги Демидовы станут знаменитостями, и их пригласят к академику Квашнину, на знаменитый пирог с вишнями, и они увидят его галстук бабочкой, а их будущим деткам придется гулять по Гоголевскому бульвару с няней, говорящей на трех языках, но это не неизбежно. А вот шума будет много. Шум будет потрясающий, потому что Андрей предсказал все заранее и имел наглость выступить на ученом совете со своим муравьиным мифом. Он прочел доклад, замаскированный под сугубо математическим названием. А в конце, исписав обе стороны доски уравнениями, он сказал: “Выводы” — и пошел… Алена засмеялась. Концовку этого доклада и скандал, разразившийся потом, она помнила слово “”в слово. “Я заканчиваю, — говорил Андрей. — Был дан анализ возникновения разумного целого из муравьиной семьи. Большое число единиц, замкнувшее свои нервные связи в единую систему, начинает действовать на более высоком уровне, чем отдельная единица. Поскольку наиболее специфической функцией муравейника является инстинктивное управление наследственным аппаратом… необходимо ожидать разумного управления этим аппаратом в разумном муравейнике. И далее ожидать активного процесса самоусовершенствования разумной системы. Я кончил”. После этого он начал аккуратно вытирать руки тряпкой и перемазался, как маляр. По сути, он очень нервный и возбудимый, и слова ему ни к чему. Она бросила попугаю кусочек галеты. — Мы пронесем бремя славы с честью, Володя, или уроним на полпути, но как насчет разума? У тебя его не очень-то много. Попугай ничего не ответил. — Гордец. Я с тобой тоже не разговариваю. — Она запустила руку в палатку, на ощупь открыла цинку, стоящую у изголовья, и вытянула свой дневник. Вот они, проклятые вопросы, выписанные столбиком. Первое. Могут ли считаться признаком разумной деятельности термитные фермы, на которых муравьи выращивают термитов, как домашний скот, для пищи? “Ни в коем случае, — ответила Елена Демидова и покачала головой. — Ни под каким видом. Другие мурашки откалывают номера поинтересней. Пошли дальше”. “Любопытно, — подумала она, — что вдвоем с Андрюшкой мы не продвинулись дальше первого пункта. Ясно, что колонии тлей, червецов и прочий известный муравьиный скот снимают этот вопрос, а он, как зоопсихолог, держится за свой мистический тезис, что муравьи враждебно относятся к термитам, а огненные преодолели древнюю вражду, и прочее. Вопрос второй снимается сам собой — о рисовых плантациях, о грибных плантациях, — все это имеют другие виды. А вот вопрос мудреный: инфразвуковой пугач, рассчитанный на млекопитающих, — это дело новое, и Андрей утверждает, что львиный рык содержит сходные частоты”. Попугай захихикал — он поймал шнурок от левого кеда. — Молодчага ты парень, — сказала Аленка. — Львиный рык — не признак разума. Дальше. Летающий диск — ультразвуковая антенна. Содержание передач неизвестно, но можно полагать, что… Стоп. Этого мы не знаем. Возможно, что диск наблюдает окрестность, передает сообщения Большому Клубу и его команды исполнителям. Может быть, и так, но факты… Факты не строгие. Мы знаем только, что диски сопровождают колонны солдат, а рабочие группы меняют поведение, когда диск задерживается над ними. “Может быть, принять за основу?” — спросила Елена Демидова — докладчик, а председательница разрешила: “Валяйте”. Итак, приняты за основу опыты. В сторону диска посылается ультразвуковой сигнал, и колонна меняет направление или рассыпается… Что вы там бормочете, кандидат биологии Демидов? — спросила Аленка. (Голос Андрея топко-топко запищал в глубине леса). — Вот еще тоже феномен, — как его понимать? Она перелистала страницы, быстренько записала число, время и, записывая слова, повернула голову в сторону муравейника. Голос смолк. Она прочла запись: “Черт. Надо было взять контейнер”. Аленка кинулась в палатку — хлипкое сооружение ходило ходуном. Натягивая комбинезон, она оступилась в дыру настила, упала и больно ушибла спину. “Ах, собаки!” — с восхищением сказал Андрей и вдруг выругался. Она никогда не слышала от Андрея ничего подобного и, шипя от боли, бросилась вытаскивать из-под мешков карабин и, уже повесив его на шею, сообразила, что делает глупости. Андрей что-то бормотал в страшной дали. Комбинезон был мокрым изнутри, ковбойка прилипла к животу и сбилась складками. Не оглядываясь, Аленка спрыгнула в воду, подтянула к себе лодку и забралась в нее. Вода как будто еще поднялась с рассвета, но все равно Аленка никак не могла дотянуться до ящика с аэрозолью. — Ученый идиот!.. — сказала Аленка, подпрыгнула, ухватилась за настил и рывком подтянулась к ящику. Скользя ногами по свае, она достала один контейнер, другой, сбросила их в лодку, снова спрыгнула в воду и снова влезла через борт. Пирога зачерпнула бортом. На все это ушло не меньше пятнадцати минут вместе с переправой. Она топала по муравьиной дороге, ничего не слыша за своим дыханием. Андрей внезапно выскочил из леса. Он бежал грузной рысью, нелепо обмахиваясь веткой. Крылатые вились над ним столбом, а диск плыл в своей обычной позиции — метрах в десяти сбоку. Она бежала навстречу, нащупывая кнопку контейнера. Когда Андрей остановился и поднес руку к лицу, Аленка подняла контейнер, но расстояние было слишком велико. Она через силу пробежала еще несколько шагов, но, внезапно поднявшись столбом вверх, крылатые улетели. Только диск жужжал над тропой. Улетели… Она села на тропу, сжимая в руках контейнер. Она плохо видела, глаза ело потом, и все в мире было потное и бессильное… Андреи нагнулся и поднял ее за локти. — Пойдем. — У него был чавкающий, какой-то перекошенный голос. — Пойдем. Они прогрызли костюм, летучие.II
— Расскажи сказку, сестрица Аленушка. — А дома — зима, — сказала Аленка, — снег, лыжи… Скоро каникулы. — Это не сказка. — Андрей стучал зубами в мешке. — Сказка. — Нет, зиму мы увидим. Ты расскажи настоящую сказку. Его трясло, несмотря на сыворотку. Тридцать укусов огненных не проходят даром. Аленка положила его голову к себе па колени. — Сказку… Хочешь сказку про деревню? — Расскажи. — Он закрыл глаза. Дыхание у пего было тяжелое-тяжелое, прерывистое. Как будто ребенок дышит, наплакавшись. — А в деревне живут люди. Там живет вождь, по имени Дождь в Лицо, но имя это тайное, его нельзя произносить. Его зовут Тот, Чье Имя Нельзя Произносить. Он великий повстанец. Тридцать лет его ловят и не могут поймать, потому что он нападает внезапно, громит и жжет, а после уходит сюда. И огненные его не трогают, а солдатам сюда дорога заказана. — Почему? — Он умеет разговаривать с огненными. Они его понимают. — Хорошая сказка… Спасибо… — пробормотал Андрей. — А я сплю. …Она сидела над Андреем и прислушивалась к его дыханию — больному, тяжелому и все равно знакомому до последнего звука. Она сидела гордая, охраняла его сон и знала, что ничем его не возьмешь — ни славой, ни деньгами. Он все равно будет самим собой, ему наплевать — слава там или что-нибудь еще… И все равно будет такой же беспомощный, даже удивительно: рабочий парень, золотые руки и в сути — совершенно беспомощный, но это знает только она, потому что Андрей не отступает ни за что. В его уверенности что-то есть от большой машины, от трактора или танка. Ведь он все предсказал заранее, и, хотя ему никто не верил, кроме Симки Куперштейна, он добился своего. Вот вам и стеклодув… “А Симка — молодец. Тоже настоящий ученый”, — подумала Аленка. Когда Лика устроила вечеринку в своей, шикарной квартире и Андрей все испортил, Лика сказала обиженно: “Твой сибирский стеклодув просто невыносим”, — потому что она была влюблена в Симку, худосочного курчавого парнишку, и на вечеринке он робко попытался ухаживать, но Андрей все испортил. Андрей сидел в кабинете с Костей. Поначалу они спорили тихо и пили “спотыкач”, а потом Андрей захмелел и стал орать. “Эволюцию можно изучать, если ты стоишь на более высоком уровне, понял? Для анализа существующего уровня создай модель высшего, понял?” Сима потихоньку встал и пошел в кабинет. “Что он орет?” — спросила Лика, глядя вслед Симке. Тогда Аленка тоже пошла в кабинет. Симка грустно смотрел на Андрея, приложив два пальца к губам — знак высшего внимания. Костя презрительно улыбался. “Модель мозга в муравьиной семье, — говорил Андрей, не сводя глаз с Симкиных пальцев, — требует допущения коллективного органа соответствующих размеров. Допустим, что двести тысяч муравьев соединили свои головные ганглии…” “Ты выпей”, — сказал Костя, но Симка только повел ресницами. “Вопрос, — сказал Андрей, — как это может произойти, ага? Сначала должен сложиться стационарный клуб, чтобы муравьи все время находились вместе, кучей…” “Каким образом?” — тихо спросил Симка. “Когда в бивачном клубе кочевых муравьев выводится расплод, должен быть сигнал — идти в поход, понятно? Предположим, что в результате мутации этот расплод не выдает сигнала…” “Понятно. — Сима опустил пальцы. — Клуб становится стационарным, четко…” “Такие события обязательно происходят, но семьи гибнут, кроме тех, у которых появляются зачатки новой сигнальной системы. Правдоподобно, ага?” …Она долго еще не могла его отучить от сибирских словечек. …А день был в самом разгаре. Двойной тент светился, как бумажный, солнце с зенита пробивало его навылет, жгло шею и спину. Аленка осторожно опустила голову мужа на свернутый чехол, прикрыла тент сверху своим мешком и раздвинула рабочий стол. В боксах, снятых с Андрея, шуршали насекомые. Надо обработать добычу, пока она не погибла. Надо дублировать и разметить записи, заполнить дневник. Аленка с трудом подняла инструментарий, упакованный в ящик. “А дома — зима. Снег, лыжи, и скоро каникулы. Дома холодно”. Она удерживалась от слез, от самого простого бабьего плача по темноватой прохладной комнате, по боржому из холодильника и вкусной воде из-под крана. Слезы все-таки капали на бинокуляр, слезы и пот. Алена решительно утерлась марлевой салфеткой и шепотом прочла себе нотацию: “Не кисни, дура и размазня. Пойди умойся фильтрованной водой, переоденься и возьми себя в руки”. Она умылась, пробралась в палатку и, все еще всхлипывая, зашуршала пластмассовыми чехлами с одеждой — очень тихо и осторожно, потому что Андрею должно все отдаваться в укусанных местах. Внезапно Андрей проговорил: — Давай, давай. Мне не больно. — Проснулся все-таки… Что тебе не спится? — Я не рассказал про опыт. — У него был бодрый, даже самодовольный голос. — Шикарный опыт, ультразвук прямо на Большой Клуб. — Поделом вору и мука, — проворчала Алена из-под чехлов. — Э-хе-хе, — сказал Андрей. — Ничуть не бывало. Если бы не это, они бы напали еще раньше. — Ты бредишь, хе-хе… — Ладно, — сказал Андрей, — слушай. Я дал приличный лучик. Бедняга Клуб ничего не понял. Он временно прекратил полеты, пока я не выключил звук. Но к тому времени диск уже занял новую позицию. Он висел слева сзади, а перед этим раза три обошел меня кругом. — Обошел кругом? — Три раза, понимаешь? Он присматривался: где их любимый синий контейнер? Алена полезла из палатки, даже не одевшись как следует. Андрей сидел в мешке и смотрел трезвыми глазами. Не бредит… — Завтра повторим опыт вместе. Но это не все еще. — Он даже улыбался. — Погоди, Андрей. Есть у тебя уверенность, что мы ни разу не ходили без контейнера? И вообще, ты проснулся или нет? — Да я уже здоров… Послушай. Пока мы ходили с контейнерами, которые они видели в работе один-единственный раз, атак не было. — Андрей выдержал эффектную паузу. — Это тебе не условные рефлексы, это разум. Рефлекс не вырабатывается с одного раза. — Спешишь, — сказала Аленка. — Повторим. Сама увидишь. Только вода мне не нравится. А как ты думаешь, почему же они улетели? — Я вот и думаю: почему бы. Неужели все-таки из-за контейнера? — И даже более того, — сказал Андрей. — Слушайте меня все. Я был ровно в трехстах метрах от Клуба по прямой. Сколько времени ультразвук идет туда и обратно? Отвечаю: две секунды. Так вот. Крылатые улетели через три секунды, после того как ты подняла контейнер. По секундомеру. Лишняя секунда ушла на промежуточные преобразования сигнала, их было восемь. Увидеть, передать доклад, получить, выдать команду, получить ответ и три исполнительных действия. Восемь операций в течение секунды. Убедительно? — Молодец, — сказала Аленка. — Ты ужасный молодец! — Угу. Все это сделал я. А что ты услышала? — Ровным счетом ничего. Ни-че-го-шень-ки. — Понятно, — сказал Андрей. — С этого момента слышимость стала отличной, да? — Я не люблю, когда ты распускаешься. Кандидат наук, а ругается, как… — Доктор наук, — быстро сказал Андрей. Аленка засмеялась, и Андрей в том же темпе спросил: — Сначала ты ничего не слышала. Когда ты начала слышать? — Смотри сам. Она подняла дневник с очага — листочка нержавеющей стали, привинченного к мосткам. Дневник валялся там, где она его бросила, когда ринулась к Андрею. “Черт. Надо было взять контейнер”, — прочел Андрей. — То есть за считанные секунды до начала атаки появилась слышимость… Почему? — Не знаю, — сказала Аленка. — Ты веришь в интуицию? Веришь. Я тоже верю. Я сегодня сочинил сто гипотез про твое дальнослышанье и чую — все они ложные. Ох, беда мне… — Он рывком повернулся на бок. — И еще. Пора переходить к острым опытам. Будем провоцировать атаки. И я имею мистическое убеждение: этот самый эффект дальнослышанья мы объясним последним, а может быть, никогда не объясним. Андрей вздохнул и закрыл глаза. Аленка крутила на пальце свою любимую игрушку — большой пистолет Зауэра. — Ты бы положила пистолет… — не открывая глаз, сказал Андрей. — Положила уже. Ты знаешь, Андрей, мне странно. Даже низший разум, зачаточный — все равно. Зачем ему нападать, если мы не приносим вреда? — Почему низший? Дай бог какой… — сонно сказал Андрей. — Ладно. Ты поспи, мудрец. Пожалуй, я тебя прощу. В будущем, уже недалеком. — Легко нам все дается, Аленушка. Чересчур легко… Не люблю я… легкости. — Ты спи, — сказала Аленка. — Ты совсем одурел в этих джунглях. Спи. — Сплю… Теперь он заснул так крепко, что Алена волоком затащила его в палатку, и он проспал весь день — свой день победы — и проснулся только следующим утром.III
Утро. Еще один рассвет, а за ним еще один день. С утра невыносимо парит. Наверно, днем будет гроза. Ковбойки мокрые, по палатке бегут капли — влажность девяносто пять, температура тридцать. С утра. И солнце еще не вышло из-за леса. Очень жарко и душно, и тяжко на сердце, как всегда в такие дни. Андрей, распухший, как резиновая подушка, пьет кофе и пишет план опытов на сегодняшний день. Он страшно возбужден, и у него токсическая лихорадка после укусов. Завтракать не хочет. Попугай Володя сидит на перилах и смотрит на стол то одним, то другим глазом — клянчит. Время от времени он произносит: “Сахаррррок”. Крокодилов не видно. Так начинался самый важный, решительный день. Среди глухих джунглей, в затопленных лесах — трипанозомных, малярийных и бог еще знает каких. Аленка думала обо всем этом и крутила свою утреннюю карусель. Завтрак, посуда, снаряжение. Сверх этого она нашла чехлы для контейнеров, ярко-оранжевые, как переспелые апельсины; прижгла Андрею укусанные места — двадцать восемь укусов. Потом забралась в палатку и записала в дневнике: “Очень вялое самочувствие, неровный пульс. Испытываю тревожные опасения. Когда пытаюсь их сформулировать, получается, что О. создают какое-то биополе, враждебное мне и вызывающее тяжелое настроение”. — И все, — бормотала Аленка, пряча дневник на самое дно ящика. — И кончено. Теперь ни пуха ни пера. В самом деле, ей стало легче, когда она влезла в комбинезон и выставила на солнце термобатареи. Вентилятор гнал по мокрому телу прохладный воздух, и с непривычки было зябко, пошла гусиная кожа. Андрей с кряхтением шагал по тропе, диск жужжал над головой, и ей стало спокойно и уютно. — Сейчас начнут, — сказал Андрей. — Давай пока проверку слуха. Они включили магнитофончики, и Андрей принялся шепотом наговаривать цифры. Алена повторяла то, что слышала. — группа в шесть знаков, интервал, еще шесть, интервал. Цифры Андрей заранее выписал на бумажку из таблиц случайных чисел. После каждых пяти групп дистанция увеличивалась, и Алена отмечала на записи: “Пятнадцать метров, слышимость лучше”. Действительно, с расстоянием становилось слышно не хуже, а лучше. На дистанции тридцать метров Алена четко-четко слышала комариный голос с подвыванием: ноль-ноль-девять-четыре… И внезапно муравьи начали второй опыт. Атака. Крылатые обрушились на шлем из-за спины, совершенно неожиданно, и сразу закрыли сплошь все забрало. Аленка вслепую сдернула чехол с контейнера, включила секундомер и замерла, глядя на стекло. Противно заныли виски — стекло кишело муравьями у самых зрачков. …Пунцовая каша на забрале — кривые челюсти скользят, срываются, щелкают, как кусачки, и кольчатые брюшки изогнуты, и жала юлят черными стрелочками. “Не жалят, берегут яд, — подумала Аленка, — берегут, берегут, для дела берегут”. И ей стало жутко при одной мысли о деле. Огненные кишели на стекле, и под маской было красно, как на пожаре. “Первомай”, — подумала она, чтобы утешиться, а губы шевелились сами по себе, отсчитывая: “Двадцать девять, тридцать. Десять секунд, поднять контейнер”. Она подняла контейнер и трижды нажала кнопку секундомера. Ничего не видя за огненными, она знала, что Андрей тоже поднял свой контейнер, и пожалела его грудь, распухшую как подушка, и спину, распухшую еще хуже. Шел второй счет. “Двадцать один, двадцать два…” — считала Аленка, а огненные скребли челюстями везде, кругом, у груди и под мышками, и она опять перещелкнула секундомер и нажала спуск контейнера. Зашипела аэрозоль. Забрало сразу очистилось. Секундомер — стоп, контейнер — стоп. Несколько крылатых еще бегали по стеклу, мешали видеть Андрея. Она смахнула их — ступайте, недисциплинированные. Пешие колонны, не успевшие вступить в бой, разворачивались на тропе. Алена, вздрагивая, прошла по муравьям к Андрею. — Сколько? — спросил Андрей. — Три и семь. — У меня четыре секунды ровно. — Неважная у тебя реакция, — сказала Аленка. — Посмотри на свое стекло. — Чистое. — Только и всего, — сказала Аленка. — Не понял. — Яда нет. Грызли, но не жалили, только и всего. — Ой, — сказал Андрей, — половина Нобелевской твоя. — Моя. А почему они знают, где тело, а где костюм? — Ведает о том господь, — сказал Андрей. — Записываем еще одно подтверждение. — Ну вот. Поздравляю тебя, они разумные. — Еще бы! А гибкость какая! Я мог посмотреть, что они уйдут, когда мы поднимем контейнеры. — А они не ушли, — сказала Аленка и посмотрела на его счастливое лицо, и они повернули к Клубу, держась в тени деревьев. Солнце стояло уже на полпути к зениту, над обрывистым берегом старицы, и всей мощью обрушивалось на стену джунглей, окружающих поляну полукольцом. Солнце отражалось от глянцевых листьев, от светлой коры и озаряло до дна глубокий грот. Большой Клуб был похож на большой костер, или лесной пожар, или на стекло, раскаленное горелкой. Люди осторожно пересекли поляну, не подходя к гроту. Целая туча крылатых жужжала в воздухе, просвечивая, как ягоды красной смородины, а из грота выдвинулись боевые колонны и замерли у края тени. — А здорово! — сказала Аленка. — Я поняла теперь, на что он похож. Как будто вылили цистерну смородинного варенья и оно застыло потеками. — Да. — Андрей не отрываясь смотрел на Клуб. — Образ. Трехметровые потеки варенья… Он похож на извилины мозга, раскаленного мыслью. …Шорох и скрипы в огненной глубине. Огненные сталактиты, опускающиеся с потолка и полированных стен. Сколько их здесь? Полмиллиона — говорит Аленка, миллион — считает Андрей, но разве их сочтешь? Живые фестоны из малоподвижных слепых муравьев, сцепившихся ножками. Они скрыты под сплошным бегущим слоем рабочих, как под мантией. В неукротимом беге мчатся рабочие, завихряясь на выступах Клуба, и чистят его, и кормят, отводят тепло и убирают отбросы. В круглосуточной работе носятся по всем тремстам тысячам квадратных сантиметров поверхности… Вот что такое Клуб… Мозг, составленный из миллиона единиц. Мозг, который нельзя обмерить и взвесить. Его охраняют не лейкоциты и антитела, а солдаты, вооруженные челюстями и ядовитым жалом. Вот они стоят, выровняв ряды, как павловские гренадеры, и отсвечивая, как дифракционная решетка, а за ними сияет Клуб и вся поляна розовеет в отраженном свете. Каждый раз Андрей смотрел на него с восторгом и отчаянием. Даже человеческий мозг поддается исследованию. Можно мерить биопотенциалы, подавать искусственные раздражения, — чего только не делают с мозгом! А к этому не подступиться. Прошло три месяца, они работали как черти, а что им известно о механизме разума? Ничего… Самые простые вещи неизвестны. Как передаются сигналы по Клубу? Ультразвуком, электрическим полем? Какую роль играют антенны? Неизвестно… Шестисантиметровые муравьи с длиннейшими антеннами- что они такое? Только матки или одновременно нервные узлы? Опять неизвестно. Каким путем Клуб совершенствуется, как он усиливает полезные признаки, отбрасывает вредные? Есть только рабочая гипотеза. Имеется такая гипотеза. Но есть у них, у экспедиции Академии наук, хоть сомнительные сведения, что эффективные узлы мозга питаются лучше неэффективных? Нет ничего. В этой каше не разберешься. Они не смогли добыть даже мертвых муравьев из Клуба. Ничего нет, одни домыслы. Остается снимать и записывать, снимать и записывать, покуда хватит пленки. — Или убить Клуб и анатомировать, — пробормотал Андрей и оглянулся, как будто Клуб мог его понять. Если бы он мог понимать… Андрей включил кинокамеру. Горбатый никелированный пистолет зажужжал на штативе — очередями, с минутными интервалами. Приходилось смотреть, чтобы муравьи не царапали объектив, — челюсти у них слишком крепкие. Он поднял контейнер угрожающим жестом. “Ничего себе, первый жест взаимопонимания, — подумал Андрей. — Ладно, будем считать первым шагом”. Алена поставила штатив, нацелила Фотия. Она взяла в визир верхний край Клуба — акустическую ультразвуковую группу, но вспомнила и перевела аппарат направо вниз. Месяц назад они уловили там усиленное движение во время эволюций летающих дисков и с тех пор снимали это место ежедневно. Аленка прищурилась в визир. Каждый раз, когда в поле зрения разрывалась мантия, она нажимала спуск и взвизгивала про себя — так сонно и мудро шевелились под мантией длинноусые муравьи с гладкими выпуклыми спинками. В центре кадра был здоровенный муравей, толстобрюхий, совершенно неподвижный. На нем одновременно помещалось штук пять неистовых рабочих. — Кадр, — сказала Аленка. Рабочий сунул в челюсти толстобрюхому какой-то лакомый кусочек. Кадр, еще один, еще… Ей показалось, что могучая антенна, мелькнувшая в пяти примерно сантиметрах от толстобрюхого, — его антенна. Так же как Андрей, она подумала, что здесь все спорно и зыбко, что они не знают даже, куда тянутся антенны под неподвижными ножками. Все скрыто… Кадр — это был шикарный снимок: толстый барин отогнул брюшко, на нем мелькнуло белое-белое яичко, и — хлоп! — все закрылось, как шторный затвор аппарата. Нечего было и мечтать проследить путь рабочего с этим яичком. “Ничего. Все равно мы вас перемудрим, малыши”. Кадр — рабочий потащил куда-то в глубину трупик длинноусого муравья. Глядя в визир правым глазом, левым она увидела Андрея — он установил на площадке белый квадратик с буквой “Z”, открыл плоскую баночку. Мед с сахаром. Это был ежедневный трюк — Андрей втыкал значок, ставил баночку и засекал время, а диск педантично делал круг над значком, и все. Муравьи не трогали мед, хотя на дорожках в стороне от Клуба они подбирали с земли все — хоть пуд вылей. Самое смешное было, что мед все-таки исчезал — его съедали случайные муравьи, неспособные почему-то принимать команду от дисков. Это было проверено — рабочие с одной обстриженной антенной сейчас же кидались к чашке, и теперь Андрей собирал с меда отдельную коллекцию уродов, не слышащих команды. — Поняли, дурни? — сказала Аленка. — Нас не перехитришь. Воздержание не всегда благо. Андрей помахал ей и поднял на штатив комбайн. Аленка подключила кабель от комбайна к кинокамере. Начиналась синхронная запись ультразвука со съемкой акустической зоны и дисков. В тот самый момент, когда кинокамера нацелилась на круглые выступы акустической зоны, муравьи мантии кинулись в стороны, и поверхность Клуба очистилась довольно большим пятном. Аппарат застрекотал как бешеный — Алена водила по пятну телеобъективом, стараясь работать строчками, как телевизионная развертка, а пленки было мало, как всегда в таких случаях. В середине пятна началось движение. Между мозговыми муравьями протискивались небольшие рабочие — не больше сантиметра в длину — и суетливо стекались к центру пятна, карабкались друг на друга. Кончилась пленка, и пока Алена меняла кассету, выросла уже порядочная трубка из этих рабочих, и она росла на глазах, тянулась к ним, темнела в середине… — Это же волновод, — сказал Андрей и заорал: — Да что ты возишься? Давай! Камера заработала. Прошло еще две минуты — Андрей бормотал в магнитофон, не отрываясь от бинокля, Алена снимала. Трубка перестала наращиваться — странное образование, не слишком правильной формы, сантиметров пять в диаметре, около десяти в длину. С фронта было трудно оценить длину. — Волновод, — убежденно сказал Андрей. — Смотри, какие они светленькие. Сегодняшний расплод, держу пари. …Колокол грянул, разрывая череп и сердце, и все стало фиолетовым, и сразу тяжко ударило в спину и затылок. Копошась в земле, она разрывала жирную землю острой головой, извиваясь всем телом, пожирая землю, проталкиваясь сквозь землю кольчатым телом. В землю, пока бешеный свет тебя не сжег, вниз, вниз, вниз… Свет ударил в глаза. Алена лежала на земле, глядя в фиолетовое небо. Андрей снял с ее груди штатив, обрызгал маску аэрозолью и поднял стекло. Алена села. — Как червь. Они превратили меня в червя. В кольчатого червя. — Ничего, маленькая, ничего, — бормотал Андрей. — Ну, все и прошло, они больше не посмеют, ничего… Она заплакала, и все отошло, как отходит дурной сон после первых минут пробуждения. Она плюнула в сторону Клуба, опустила стекло. — Как ты… это перенес? — Да что там… — сказал Андрей. — Не знаю… Ничего, в общем. Голова так закружилась, и все. — Ничего себе, — сказала Аленка. — Да что там… — Андрей придерживал ее двумя руками, как вазу. — Индивидуальное воздействие… Он бормотал что-то еще, вглядываясь в нее перепуганными глазами. Видно было, что он здорово напуган из-за нее. — Ничего, — сказала Аленка. — Все прошло. Я себя лучше чувствую, чем утром. Что у тебя в руке? — Изотопчик. — Андрей показал ей свинцовую трубку с пластмассовой рукояткой — кобальтовый излучатель. — Я вчера еще брал с собой — кое-что проверить. — Ну и что? — Когда ты упала, я сбил крышку и резанул по акустике один раз. Ты сразу перестала корчиться, я резанул еще раз, и трубка разбежалась. — А где крышка? — Вон валяется. Свинцовая пробка одиноко лежала на утоптанной земле. Муравьи обходили ее на полметра. — Так вам и надо, — сказала Аленка. Они побрели к лодке. Андрей пытался ее поддерживать, но оборудование торчало во все стороны, не давая подступиться. Аленка потихоньку переставляла тяжелые ботфорты, изо всех сил держала себя в руках, чтобы снова не заплакать. Они вышли к берегу как раз в том месте, где муравьед удирал от огненных, и Аленка поняла, что се поразило в этом бегстве. Большой мохнатый зверь бежал, судорожно дергая ногами, как насекомое. В лодке они сразу стащили с себя комбинезоны. Не было сил терпеть на теле мокрую толстую ткань. Андрей дышал с тяжким присвистом. Вымыть бы его в ванне, с хвоей. Но где там — ванна… Лучше об этом и не думать… Она посмотрела вдоль берега. Воздушные корни переплетались диковинным узором, как на японских гравюрах. Под самым берегом дважды ударила рыба, побежали по воде, пересекаясь, полукруглые волны. “Это было уже, — подумала Аленка. — Гравюра, черные корни и два звонких удара”. И еще она вспомнила, как в самый первый выезд, когда вертолет стоял посреди поляны, она почувствовала, что много-много раз увидит еще эти корни, и берег, и поляну. Именно почувствовала. Андрей протянул ей тяжелую фляжку, обшитую солдатским сукном. Чай был холодный и свежий на вкус, потому что фляжка все утро сохла на солнце. Сукно высохло, а чай остыл. Аленка сидела, опираясь на борт, и пила маленькими глотками. Уплыть и больше никогда не видеть ни Клуба, ни берега- ничего. Лежать в домашних брюках на ковре и читать. Она знала, что это пройдет, но ближайшие два дня им не стоит ходить в муравейник. Хорошо, если два дня. Она не могла бы вспомнить, что с ней было, когда она корчилась там, перед Клубом. Даже если бы захотела. Все это было где-то глубоко внизу, под сознанием, и чудное дело: все это подействовало на Андрея больше, чем на нее. Он и торжествовать не в состоянии. День торжества. “Сегодня день победы, и вчера был день победы, — думала Аленка. — Но тебе не до побед”. Андрей сидел, опустив распухшие руки и лицо, коричнево-розовое, как семга. — Ну-с, можешь плясать, — сказала Аленка. — Гипотеза муравьев разумных получила экспериментальное подтверждение. — Да, — ответил Андрей и отвернулся. Алена почувствовала, как сердце остро подпрыгнуло — тук-тук — и отозвалось в животе. Палатка одиноко маячила вдали над поляной. — Пошли домой. Надень-ка шляпу сейчас же. Андрей надел шляпу. “Плохо. Плохо ему совсем”. — Что это было, Андрей? Инфразвук? — Не знаю. Наверно. Не в этом дело сейчас. Как ты себя чувствуешь? — Отменно я себя чувствую. — Не врешь? — вяло спросил Андрей. — Чудак! — сказала Аленка. — Я прекрасно себя чувствую. — Посчитай пульс. — Брось, ей-богу. Не больше восьмидесяти. — Гребем в рукав. Аленка опустила весло. — В какой рукав? — К запруде. — Никакой запруды. Обедать и спать. — Хорошо, — ватным голосом сказал Андрей. — Оставайся обедать, а я пойду к запруде. — Ты же помрешь! Андрей посмотрел на нее и надел черные очки, которые она ненавидела. Лодка повернулась на месте и двинулась к рукаву. — Они-то мыслят и заботятся о будущем, — бормотал Андрей, — зато мы думать перестали… — Это почему? — Сейчас увидишь. “Ладно, я тебя разговорю, — подумала Аленка, — а то заснешь прямо в лодке”. — А почему?.. — Она торопливо придумывала, что бы еще спросить помудреней. — Что — почему? — Каким образом они заботятся о будущем? — Пытаясь нас уничтожить. — Вот это да… — сказала Алена. — По-моему, совсем наоборот. — Ну конечно, конечно… Разум всегда гуманен… И почему разумный, скажем… агрегат, Клуб,“” стремится нас уничтожить? Ты об этом спрашиваешь? — Ну, примерно так. Андрей, как спросонья, почесал голову под шляпой, вздохнул и наконец посмотрел на Алену через очки. — Предположим, это логичный вопрос, если говорить о человеческом разуме, который… м-м-м… ну, прошел определенную школу эволюции. В какой-то мере логичный. А насчет Клуба — это зряшный вопрос. Он опять замолчал, но Алена знала его хорошо, и она уже почувствовала себя в силе — пирога ходко шла под веслом, и с каждым взмахом дышалось все глубже, и голова становилась яснее. — Излагай, — сказала Алена. — Давай, давай, я тебя слушаю. — Хорошо. Гуманность базируется на ощущении человечества как единого целого, — сказал Андрей, и Алена увидела, что он готов. Голова заработала. — Каждый человек — член человечества. Мы все едины. Убить человека — значит убить самого себя. Это сущность гуманности. — Четко излагаешь, — сказала Алена. — Но это в теории. А на практике было рабовладение, инквизиция, фашизм. Тоже продукты высокого разума. Парадоксальные продукты. Полное отрицание гуманности. — Смешно. Большой Клуб — фашист… — Вот именно. Смешно подходить к Клубу с привычными категориями. Они ограниченно пригодны. Не были бы мы догматиками — не задавались бы такими вопросами… Скажи, ты представляешь себе разумного крокодила? — Ну, знаешь… — Однозначный ответ. Мозг пресмыкающегося не может продуцировать разум — таков наш эволюционный опыт. Еще трудней представить себе, что Клуб мыслит. Я до вчерашнего дня не рисковал прикинуть даже, какой вес головных нервных ганглиев в Клубе. — Подсчитал? — спросила она, очень довольная. Андрей уже снял черные очки и щурился на нее с кормы. — Феноменальная цифра, — сказал Андрей. — Не меньше восьми килограммов! По самым скромным прикидкам, ассоциативная часть — четыре тысячи граммов. Ничего? Раза б три больше, чем у меня. — Здорово! Только не отвлекайся. — Хорошо. Итак, крокодил не может мыслить. Крокодил — примитивное, враждебное существо. Теперь встань на точку зрения Клуба. Мы, гигантские зверюги, можем мыслить? Если мы не обладаем коллективным мозгом, наподобие Клуба? Конечно, нет! Мыслящее млекопитающее для Клуба — больший феномен, чем мыслящий крокодил для человека. — И все-таки он мог догадаться… — Нет! Догадка, интуиция тоже базированы на сумме опыта. Все крупные животные с его точки зрения бессмысленны и враждебны. Нет никаких причин выделять нас из ягуаров и муравьедов. Мы только сильнее, опаснее и обладаем ужасными орудиями, но для него орудия не ассоциируются с разумом. Это наша, человеческая ассоциация, у него нет орудий. Мы неразумные, опасные, угрожающие существа… Как неприрученные львы, бродим по его дому, а он в ужасе пытается нас прихлопнуть. Другого поведения не может быть — пока… — Он посмотрел на нее внимательно и отобрал весло. — Давай я погребу немного. Сегодня я не стрелок, руки трясутся. Он с сомнением потрогал ее руку, и Аленка улыбнулась и поправила волосы: — Ничего. Я тоже двужильная. У Андрея было особое лицо — отсутствующее, смотрит неизвестно куда и про себя свистит. Он греб по-индейски, стоя на одном колене. — Когда ты свистишь про себя, ты воздух не выдуваешь, а втягиваешь, да? — спросила Аленка и добавила: — О мудрейший!.. — Что? — спросил Андрей. Он отрешенно посмотрел и вдруг ухмыльнулся, щеки пошли складками. — Я сейчас думал, что летучие мыши тоже дают ультразвук. Его ультразвуком не удивишь. — Нынче ничему не удивляются… — Теперь она сдерживала его, чтобы не залез в глухие дебри. Не человек, а логическая машина… — Ладно тебе, — сказал Андрей. Пирога развернулась, и там, где сидела Алена, теперь был нос. Она сняла пистолет с комбинезона и повернулась вперед. За спиной плескало весло, нос пироги резал застойную воду, как студень. Болото лопалось пивными пузырями — гнилые коряги, серые столбы москитов над водой, а слева у берега — гигантский фиолетово-розовый цветок. От него тоже пахнет гнилью. И похоже, что впереди — целое стадо крокодилов. — Неприрученные львы, — сказала Алена не оборачиваясь. — Жутко здесь жить. Отвернулась от тебя, и сразу одиночество такое, как Робинзон. Робинзон Крузо… Как теперь работать с огненными? Еще такая атака… — Будем осторожней, будем умней, — сказал Андрей с кормы. Удивительно приятно звучал его рассудительный голос. — Понять психологию противника необходимо. Он нас не понимает, а мы поняли. Сегодня. Придется непрерывно учитывать, что перед нами — разум навыворот. Он убежден в своей исключительности, ибо он одинок в своей Вселенной. Таков его эволюционный опыт. Коллектив, необходимый для эволюции разума, он содержит внутри себя, а все внешнее — враждебно. Высшая гордыня. Сам себе отец, и сын, и любовь… Здорово, да? — И жутко. — Аленушка, — позвал Андрей. — Что? — Тебе страшно? Взаправду? — Взаправду, — сказала Аленка. — И противно. Мне было противно, — поправилась она. — Сейчас ничего. — Почему-то сегодня трубка была направлена на тебя. Потом еще дальнослышанье, — ты слышишь, а я нет. — Эх ты, логик! — сказала Аленка. — Ясно, что трубка целилась на кинокамеру. Камера на штативе — один из нас, а не наша, — трехногая цапля, которая гуляет со львами. И не сбивайся. Как будем работать? Он придумывает новые штуки. Предположим, он увеличит дальность действия нового… пугача. Увеличит угол захвата и накроет обоих. Что предпримем? — Ему нужно сорок дней. — озабоченно сказал Андрей. — Трубка состояла из муравьев сегодняшнего приплода, у них хитин еще не затвердел… Аленка, тебе не кажется, что мы спим? — Ты ужасно глупый. Надо думать, думать и думать. Клуб тоже может ставить опыты сериями: сегодня один расплод, завтра другой. Сериями, не дожидаясь результатов. Андрей захохотал: — Экспериментальный объект, разумно и ненавистно экспериментирующий над исследователями!.. Вот дожили! Собрать большую экспедицию, чтобы охранять друг друга от насекомых, а? — Тихо! Ну! Тихо! Алена выстрелила. Поставив ногу на сиденье, она била очередью по воде. Потом выкинула пустую обойму. — Я накрыла их троих разом, — сообщила Аленка. — Они чересчур живучие. Мы все слишком живучие. Андрей не ответил — они подплывали к запруде. Река совсем обмелела в этом месте, один из подстреленных крокодилов шипел и колотился об отмель, как паровой молот. В Аленке что-то содрогнулось. Ящер хотел уйти, зарыться, спрятаться от смерти. Алена стала смотреть в сторону. Слева темнели затопленные джунгли, справа солнце слепило глаза,а прямо возвышалась гора бревен. Андрей повел лодку вдоль запруды, осматривая ошкуренные разбухшие бревна, бесчисленные водопадики, ровно спадающие по стволам, а Аленка надвинула на брови беленькую кепочку и смотрела в воду, держа наготове пистолет. — Стой! — сказала Алена. — Табань. Пирога закачалась и стала. — Что там? — Змеюка. Еще ненавижу змей. Андрей, это водяной удав. Стрелять? Вон, у самых бревен. — Большой? — равнодушно спросил Андрей. — Ушел, все, — соврала Алена. Ей больше не хотелось стрелять сегодня. — Метров десять в длину. — Ничего себе… — сказал Андрей. — Пошли домой. Он забарабанил веслом, и запруда, мокро блестящая на солнце, стала отходить, и где-то под ней плыл удав, который не боится никого, даже крокодилов. — Прошляпили, — сказал Андрей. — Ты видишь, сколько там воды, наверху? — Ну, вижу. — Там шесть метров. Если взорвать, пройдет волна и захлестнет старицу. Аленка не дослушала. Она думала про удава, которого боятся даже крокодилы, и о том, что они с Андрюшкой устали и ничему уже не удивляются. Даже Клубу.IV
Андрей знал, что спит и видит сон. Это было удивительно: он никогда не видел снов. Ему снилось, что он уже дал послу радиограмму, прилетели саперы рыть канал и привезли с собой целый дом. Он сидел в этом доме над планом местности, над прекрасным цветным планом, заклеенным в пластик- для сохранности в тропиках. Андрей знал, что план разноцветный, хотя он выглядел черно-белым. Аленка сидела одна в пустом зале и слушала его, а он уже стоял у карты и показывал, как пойдет вода, если взорвать запруду: “Вот остров огненных, вот наша поляна, а вот — рукав и в нем запруда. — На карте была аккуратно нанесена запруда — две параллельные черточки и штрихи, как лапки сороконожки. — Рукав проходит в лёссовом коридоре. Сейчас вода поднялась метров на пять над прежним уровнем, и коридор на километр забит бревнами. Они поднимаются с водой и непрерывно наращиваются. Понятно? Вода перетекает уже давно над коридором, обходит по местности и впадает в рукав. Поэтому в нашей точке она стоит на полметра выше нормы, а под запрудой отмель. Теперь прошу внимания. Клуб находится в центре острова, он опущен на полтора метра в сухую старицу против нормального уровня воды. Итого два метра. Пока это безопасно, но у берега вода стоит всего на полметра от гребня. Если она пойдет через гребень, Клуб сразу окажется на два метра под водой. На два с половиной”. Аленка всплеснула руками и исчезла, расплылась… Пустой зал, большие пыльные окна… Андрей с отчаянием подумал, что она чересчур устала и все-таки он должен договорить до конца, “Иди сюда, слушай… Через два — три дня плотина прорвется. Бревна так и катятся по реке. Мы считали, что взрыв спасет положение. Глупости! После взрыва обрушатся все пять, то есть шесть метров воды и до муравейника докатится волна метра в два. Я даже посчитал чуть-чуть. Его накроет… с головой. Ждать нельзя, взрывать нельзя — следовательно, надо отвести воду в бок постепенно, за несколько суток. Придется рыть канал”. — “Клуб, — сказала Аленка, — почему Клуб не принимает свои меры?” — “Как это — почему? — Андрей начинал злиться. — Его эволюционный опыт не содержит наводнений, он же неподвижен. Вероятнее всего, он и сохранился потому, что в старице гигроскопичная почва. Первое наводнение — и конец. Откуда ему знать, что люди спустили по реке больше леса, чем она может пропустить?” — “Перестань злиться, — ответила Алена издалека, — перестань, пожалуйста…” Тогда сон кончился и началась явь. Он шел по твердому асфальту и думал, что Аленка должна отдохнуть, но Аленки не было рядом с ним, и вдруг он увидел воду. Вода текла по мостовой. Рваные волны ударяли в стены домов, мутная вода сплошным потоком скатывалась по откосу и заливала бульвар, старые липы и стриженые газоны. Крокодилы скатывались вниз, на дорожки, и плескались в грязной воде, щелкая зубами. “Это Гоголевский бульвар, — понял Андрей. — Это во сне”. Он проснулся. Была еще ночь. “Э-а-а-а!” — тянула вдалеке ночная птица. Алена дергала его за ухо. Он помигал и сел вместе с мешком. — Просыпайся. Пошла вода. …Фонари болтались под палаткой, освещая днище пироги, мокрые сваи и черные зеркала водоворотов вокруг свай. В лодке можно было стоять, только согнувшись. Андрей опустился на колени и начал разгружать ящики, передавая тючки и коробки Алене на мостки. Это было необходимо — потом ничего не достать из-под воды. Он старался быть рассудительным, но провисшее брюхо палатки безысходно качалось над самой головой. Как будто его затопило мутной водой и он видит, как она качается над головой. Он вытащил из глубины ящика ручной прожектор, который им не понадобился до сих пор. Все идет в дело. Прожектор светит на полную силу, батареи совершенно не сели за три месяца. — Давай, — сказал Андрей, — одевайся. Берем съемочные и боксы. Побольше боксов. Сачок и лопатку. Контейнеры в пироге. — Он с усилием повернул струбцину, залитую защитной смазкой, укрепил прожектор на носу пироги и выбрался на мостки. Скверная тишина стояла кругом. Только птица тянула: “Э-а-а-а…” Алена подала ему комбинезон. — Коллекции закрыты? — спросил Андрей. — Да. — Оружие и энзэ? — Все здесь. Так. Теперь не спрыгнешь в воду — зальет вентиляцию. Он перевел пирогу к лестнице. — Садись. Так. Теперь он передавал вещи сверху вниз. Бормоча про себя, чтобы ничего не забыть: аппараты, боксы и сачок… Карабины, две коробки с комплектным питанием, патроны. Спички есть в коробках. Спирт, пистолет. Что еще? Он подумал было взять с собой отснятые пленки. Ни к чему. Пирога мала, а ящики герметичные, не утонут. — Рация не герметичная, — сказал Андрей. — Тащи в лодку. Андрей опустил тяжелый ящик в лодку, взял весло. — Наладь прожектор, — сказал он Алене. Желтый луч ушел к берегу и закачался впереди, выскакивая над верхушками леса в черное небо. Алена опустила прожектор, чтобы не налететь в темноте на бревно, и сидела, вглядываясь в воду, бурлящую на отмели перед островом. Деревья поднимались все выше, закрывали небо вместе с бледными звездами, и вдруг они въехали в муравейник, прямо на пироге, и в желтом луче завертелись искры, как багровые светляки. Аленка протянула руку: — Течение очень сильное. Ты чувствуешь? Андрей ткнул веслом вниз. Воды немного, и она мчится вперед, волоча за собой пирогу… — Непонятно, — хрипло проговорил Андрей. — Если она так мчится, то, может быть, Клуб не затопило. Где-то есть слив. Аленка повернулась к нему и всплеснула руками, а лодка уже вертелась между деревьев, цепляя килем землю, прорываясь вперед к Клубу.V
Великий город огненных погибал. Глинистые потоки хлестали по дорогам, вода возникала из-под земли и перекатывалась через ряды солдат и стволы деревьев, источенные термитами. Первыми погибли слепые рабочие на грибных плантациях, замурованных в глубоких подземельях. Потом вода поднялась в камеры термитных маточников и поглотила маток, которые роняли последние яички в воду, и бесчисленные поколения белых термитов, и охрану. Этого было достаточно, чтобы муравейник погиб от голода, но вторая волна, как отзвук грохота бревен, хлынула в следующие этажи города. Тонули в казармах рабочие-листорезы, и рабочие — доильщики тлей, и муравьи-бочонки в складских пещерах, а по мутным водоворотам катились живые шары, свитые из большеголовых солдат. Крылатые солдаты носились в темноте, не слыша команды, — тысячи воинов, которым теперь нечего было охранять. …Рассвет застал людей у Клуба. Вода стремительно бурлила по старице, уходя в рукав, и подножие муравьиного мозга оставалось над поверхностью. Но пещеры под Клубом были затоплены. Отсюда поднимались и уносились по течению трупы крылатых — не бесполых солдат, а самцов. Это были первые самцы, которых удалось увидеть, — странные существа, с короткими декоративными крыльями. Может быть, из-за того что они погибли, Большой Клуб, состоящий из самок и бесполых рабочих, на какое-то время выключился, замер. С отчетливым шелестом носились по извилинам рабочие, но мозг был неподвижен, и диски-информаторы сидели по верху грота, как огромные красные глаза. — Ах, черт! — сказал Андрей и, разрывая застежки, стал дергать кинокамеру из чехла. — Диски всегда были в воздухе, и шли злые споры — рассыпаются они для отдыха или так и живут скопом. Прошла третья волна. Вода захлестнула нижний откос грота, и внезапно диски взлетели и с жужжанием двинулись в разные стороны. — Смотри! — крикнула Аленка. Большой Клуб заработал. Всюду, где можно было что-нибудь разглядеть, хаос сменялся порядком. Шары сцепившихся муравьев, без толку перекатывающиеся по воде, направлялись к ближним деревьям и высыпались на кору огненными потоками. Муравьи отступали от пещер колоннами, волоча в челюстях кто что мог. Над главной тропой кружились алые смерчи — крылатые солдаты поднимали на воздух тонущих рабочих, выбирая их из хаоса веточек и насекомых, с вентиляционных холмиков, даже с бортов пироги. Спасалась ничтожная часть, горстка, но Большой Клуб сражался как мог, а вода поднималась, и уже нижние края фестонов ушли под воду вместе с мантией. Андрей снимал. Алена меняла кассеты, держа на коленях запасной аппарат, и подавала ему, и он снимал на самой малой скорости, снимал все. Как рабочие потащили корм через верх, по гребню, как ушли под воду солдаты охраны, как верхние узлы начали стремительно откладывать яйца и несколько минут мантия потоком тащила их кверху. Это было ужасно — обратный поток скатывался под воду, в слепом стремлении к беспомощным мозговым, еще шевелящимся внизу. Это было ужасно — живой мозг погибал у них на глазах, не пытаясь спастись, не обращая на них внимания. Они, как стервятники, крутились рядом. Пирога поднималась вместе с водой, и Аленка говорила в магнитофон, меняла кассеты, снимала и следила по секундомеру, в какую секунду Большой Клуб перестал принимать информацию, на каком миллиметре погибли двигательные центры и диски неподвижно повисли в мокром воздухе. Оставалось всего полметра, когда трубка зашевелилась на прежнем месте. Мозг уже не работал, — это был спазм, судорога памяти — в трубку свивались и крошечные “минимы”, и молодые рабочие, и старые в тусклом, почти коричневом хитине. И вдруг они разбежались, не достроив трубки. Все. С потолка грота поползли рабочие — кто куда, и все кончилось. Комочки жирной земли падали в воду, просвеченную красным, и по бортам пироги бестолково носились длинноногие солдаты. Андрей не оглядывался. Алена сунула ему сачок, всхлипнула, подвела лодку к гребню. Под ветками деревьев, спустившимися к самой воде, он опустил сачок и, поддав коленом, вырвал кусок из того, что было Клубом. И еще раз. Потом Аленка опустила весло, лодка пошла над тропами, и снова он взялся за гладкое древко сачка, стряхнул с него мусор и трупики муравьев и накрыл диск, тихо жужжащий над самой водой. Щелкнула крышка бокса. Домой… “Вернулся домой моряк, домой вернулся он с моря, и охотник пришел с холмов”. Лодка качалась, проходя поляну наискось, впереди маячила палатка, и Андрей смотрел вперед, вперед-только бы не оглянуться. Теперь там пировали рыбы, и ныряли в мутной воде крокодилы, не брезгающие ничем. Аленка перестала всхлипывать и тихо возилась на корме, приводя себя в порядок. Вздохнула глубоко и сказала сиплым, решительным голосом: — Сейчас будем есть. Ты не ел со вчерашнего утра. Рация в порядке? “Верно, — подумал Андрей. — Уходить. Уйти, как с кладбища. Нечего делать на кладбище”. Он посмотрел на свои руки в грубых защитных перчатках — в петельках на запястьях еще торчали пинцеты. Снял перчатки. Пинцеты слабо звякнули. Андрей нагнулся к рации, грубые складки комбинезона врезались в воспаленную кожу. Тогда он поднял руку к горлу, крепко ухватился за воротник, рванул. С пронзительным треском лопнула ткань, Андрей выдернул ноги из сапог, отшвырнул комбинезон от себя, к рыбам. Лодка пристала к мосткам. Андрей подал Аленке руку и присел к рации. Через два — три часа вылетит вертолет. …Задраивая ящики, они видели, что комбинезон еще поворачивался на воде — то ли его гонял вентилятор, то ли крокодил принял за тонущего человека.VI
Самолет был свой, советский, — с огромной надписью “Аэрофлот” и красным флагом, нарисованным на стабилизаторе. И экипаж был свой, советский, и странно и чудесно было слышать русские слова от других людей, и где-то в далекой дали остались ночные звуки джунглей, утренний вопль ревуна и хриплый рев крокодилов. Они сидели в самолетных креслах с высокими спинками, держали на коленях советские журналы и проспекты Аэрофлота и приходили в себя. Багаж был надежно запрятан в грузовых отсеках, чемодан с дневниками лежал в сетке над Аленкиной головой. За ними наперебой ухаживали стюардессы — бульон, жареный цыпленок, коньяк три звезды — “Самтрест”… — Прибереги аппетит, — сказала Аленка. — Ты разоришь Аэрофлот, старый крокодил джунглей. — Не буду. Наберегся, — нагло сказал Андрей и улыбнулся стюардессе. — Я бы съел еще икры и чего-нибудь посущественней. — Конечно, конечно, пожалуйста, — сказала стюардесса и побежала по проходу мимо кресел, мимо иностранных пассажиров: так редко летали этим рейсом свои, советские… А горы уже были далеко позади, и за круглыми оконцами перекатывался гул моторов — волнами, как прибой: “хоро-шо-о-о, хоррошо-о-о”, и, необозримая, синяя, замерла внизу Атлантика, и над ней висели круглые облака. Огненные облака. Раскаленные рассветом круглые облака. Все было хорошо; шел пятый час полета; поднимался рассвет, но возвращение было отравлено горечью, как еда — хинином. Андрей вытащил авторучку из целлофанового чехольчика с синими эмблемами Аэрофлота. “Милые московские чехольчики и возвращение с победой. С Пирровой победой”, — думала Алена, а Андрей уже достал блокнот и писал формулы — строчка за строчкой. Пиррова победа… Давным-давно, когда ей было лет шесть или семь, они с братом набрели на полянку в лесу под Москвой. Полянка была красная от земляники. Аленка заглянула под листья, обмерла… И много лет спустя, стоило ей только захотеть, она могла увидеть эту полянку, услышать сладкий земляничный запах и ощутить вкус переспелой земляники на языке. Может быть, Андрей всю жизнь искал свою полянку. “Как все-таки страшно, — думала Алена, — что самый-самый близкий человек и неизвестно, о чем он сейчас думает. Какое у него было лицо, когда пришел вертолет и он грузил ящики, ничего не забывая, и вместе с радистом втянул на веревке палатку, как огромную рыбу”. Страшное было у него лицо. Распухшее, грязное, отчаянное. На голой груди — черные пятна укусов. И Аленка опять с тоской посмотрела кругом и вместо длинной трубы салона увидела джунгли, столбы москитов и цыкнула на себя, как на кошку: “Смотри. Он сидит и вида не подает. Спокоен, причесан, в белой рубашечке. Сидит, работает и не хочет, чтобы ты лезла с сочувствием”. — Андрюш, ты что делаешь? — Ревизую математическую логику, — чересчур отчетливо сказал Андрей. — Ввожу критерий пирровости любой победы. — Он безрадостно улыбнулся и кивнул ей. — Не надо. Ты ведь думала о том же. — Я уверена, что есть еще огненные. И не один Клуб, много. Через полгода устроим большую экспедицию и обязательно найдем. — Не надо… Как поживает Тот, Чье Имя Нельзя Произносить? — Его зовут Дождь в Лицо. Он начинает большой поход. Ты знаешь, как начинаются походы? — Знаю. — Нет. Ты не знаешь. Поход!.. Ты послушай… Поход! По деревне бегут старшины, и в каждом доме начинается торопливая возня. Поход! Женщины спешат к берегу, следом за воинами к пирогам и стоят в темноте, не решаясь заплакать. Только что они сидели у очагов с мужьями, а дети тихо посапывали в гамаках, и вот уже гаснут факелы и удаляются хриплые выдохи гребцов… Так начинается поход. С женских слез. — Хорошо… — проговорил Андрей. — Андрюша, ведь ты ошибаешься. Не бывает особей-уникумов, есть еще, есть. Мы обязательно найдем! Андрей сморщился. Крепко потер лицо ладонями, как будто пытался разгладить морщины. — Почитай мне лучше стихи. Те самые: “Круглы у радости глаза и велики у страха”. — Не заговаривай мне зубы! Это нелогично! Уникальных животных природа не создает, а муравьиная семья — одно животное. Для эволюции, конечно. Андрей опять сморщился. — Вот беда, даже ты догматик! “Не создает, одна особь”!.. Муравейник теоретически бессмертен, какое же он “одно животное”? Он ни то, ни другое. Смотри. — Он открыл блокнот. — Страница девятая. Прошу! Внизу страницы жирно подчеркнута десятка в степени минус восемнадцать. — Вот вероятность появления Клуба в секунду. Понятно? Смотри дальше. Страница… страница… ага, вот она. Вот — вероятность того, что Клуб просуществует больше десяти лет. Видишь? Минус пятая степень. Имеем произведение вероятностей — минус двадцать третья степень. Это не событие, граничащее с чудом. Это чудо и есть. Миллион миллионов лет пройдет — тогда можно ждать. При прочих, понимаешь сама, равных условиях… — Значит, ты раньше ошибался? Ты писал, что вероятность настолько высока, что граничит с достоверностью? Андрей закрыл блокнот и сказал, глядя в окно: — Конечно. Против моих предположений Клуб оказался на несколько порядков сложней. — Но ты считал на машине, Андрюшенька! По-моему, сейчас ты где-то обсчитался. — Нет. Арифметика верная. Говорю тебе, что другие исходные и критерии другие. Ошибки нет. — Не верю, — сказала Аленка. — Не верю. Есть еще огненные. Я даже знаю где. В квадрате двадцать восемь — двадцать девять. Второй Клуб — в этом квадрате. — Сестрица Аленушка, не надо… — Есть, — сказала Алена. Наверное, у нее было несчастное лицо. Стюардесса посмотрела издали и подошла снова. — Почему вы не едите? — Так, — сказала Алена. — Спасибо. — Хотите пройти в пилотский отсек? Солнце встает впереди. Хотите посмотреть? — Пойди, пойди. — Андрей так и не повернулся от окна. Они прошли по длинной ковровой дорожке через весь самолет. Открылась узкая дверца, показав ребристую некрашеную изнанку, проклепанную сотнями маленьких заклепок. Летчики сидели на своих местах, свободно откинувшись и опустив руки. Работал автопилот, штурвалы чуть заметно двигались вперед-назад, и за штурвалами, впереди, за блестящим носовым обтекателем, вставало солнце. За круглым краем синего моря, под огненными облаками… А пилоты пели, пел и радист, приподняв наушник, глядя на солнце, и позади лежали длинные километры ночного воздуха, черных туч над горами… Алена присела на креслице, слушала песню и мужественный повтор припева. Совсем уже в конце песни встало багряное сплющенное солнце, и Аленка потихоньку пошла, совсем сонная, обратно к Андрею и все слышала, как поют пилоты. Про тучи над горами, про радость и муку ночного полета и жизнь, подаренную ночным полетам и разлукам. “Вот и закончился наш трудный полет. Впереди день. Наверно, он будет еще труднее, и, может быть, когда-нибудь мы вновь уйдем в ночной полет и на тропе увидим огненных. В ночном полете…” Андрей цифрами, как муравьями, заполнял страницу за страницей, смотрел в оконце, а когда солнце поднялось выше, задернул занавеску. Аленка хмурилась во сне. Воины шли по ночным дорогам под звездами, и на их пути в джунглях вспыхивали бесшумные пожары. Дождь в Лицо шел вместе с воинами. На повороте дороги он протянул руку вперед и сказал: “Будет хороший день!”В.Пашинин Разведчики 111-й
О разведчиках Покрамовича ходили легенды на Карельском фронте.Г.Фиш, “Норвегия рядом”

I
Почти месяц дивизия догоняла фронт. Начав в январе марш под Белостоком, солдаты за ночь отмахивали по тридцать — тридцать пять километров и временами уже слышали отзвуки боя. Но наступал дневной отдых в лесу, и к вечеру повторялось то, что было и вчера, и позавчера, и неделю назад: нудный, утомительный марш в ночи. На Второй Белорусский фронт дивизия прибыла с Севера. В боях за освобождение Советского Заполярья и Норвегии она получила наименование “Печенгской” и стала 111-й гвардейской. То ли по этому случаю, то ли по какой-то специальной разнарядке интендантского ведомства, но на короткой переформировке в Рыбинске солдат одели с иголочки: в белые дубленые полушубки и крепкие, что руками не согнешь, валенки. Теперь все это под дождем, на грязи польских шляхов раскисло, разбилось, расползлось, стало пудовым. С середины февраля идти стало еще труднее, но зато интереснее. Фронт по-прежнему стремительно катился на запад, и километров на сутки прибавили до сорока — сорока пяти. Преодолеть такое расстояние за ночь было невозможно, и график движения изменился: в путь выступали днем. До наступления темноты в колоннах было весело. То шли через город и можно было посмотреть по сторонам — не то что ночью; то попадалась регулировщица из автодорбатальона, и в каждой роте находился какой-нибудь рубаха-парень, который непременно пытался хотя бы на ходу пофлиртовать с ней; то проезжала машина агитаторов политотдела, и по радио передавали песни в грамзаписи. А плакаты вдоль шоссе… Среди них были очень занятные. Ну, например, такой: розовощекий солдат заматывает портянку, а подпись говорит его словами: “Привет, родная Акулина! Жди открытку из Берлина!” Но не одна же Акулина ждет! И в колоннах начиналось поэтическое творчество: сочиняли приветы Матренам и Авдотьям, и долго-долго не смолкал хохот. А там попадалась вдруг стайка девушек, бог весть куда спешащих на велосипедах. Ну как же тут удержаться? — Давай крути, паненки! И лица у паненок становятся каменными, точь-в-точь как у мадонн, которые стоят в нишах придорожных часовен. В общем, интересно идти днем и легче. Но к ночи натруженнее становится шаг, разговоры смолкают. Заслышав: “Свернуть вправо, сделать привал!” — солдаты никуда уже не сворачивают, а опускаются прямо на шоссе, прижимаются спинами друг к дружке, чтобы теплее было, и даже не закуривают. Лежат в полузабытьи. Если, на беду, в обгон проходит автоколонна, то долго и надрывно гудят машины: дорогу им уступают неохотно и клянут шоферов на чем свет стоит. А через несколько минут резанет команда: “Подымайсь!” Еле переставляя опухшие ноги, опираясь на винтовку, проходят первые метры. Потом шаг становится ровнее, уверенней. Когда идти становится совсем невмоготу, кто-нибудь затянет песню. Ее подхватывают сначала несколько человек, командиры подсчитывают ногу, ряды подтягиваются, смыкаются, и роты идут с песней. Уже до конца без песни не дойти. И так почти месяц… Казалось, конца этому маршу не будет. Поэтому, когда после одного, на редкость долгого и почти форсированного перехода дивизия вступила в лес и на большом привале был получен неожиданный приказ окопаться, усталые солдаты неохотно взялись за дело. Ночь выдалась ясной, морозной и звонкой. Было слышно, как скрипят сосны — удивительно высокие, гигантские сосны: снизу, от подножия крутых холмов, их черные вершины, казалось, плавают в звездном море. Где-то ровно гудели машины. Вскоре в студеном воздухе зазвенели пилы: это минометчики начали готовить секторы для обстрела. Но все это шумело, гудело, визжало рядом или за спиной, а впереди стояла немая тишина. Так чего же было выбиваться из последних сил? Где он, этот фронт? Завтра опять придется шагать дальше. Так думали солдаты, но приказ был повторен: “Окопаться немедленно”, и к рассвету белесые от инея склоны холмов прочертили темные линии траншей. Пехота зарылась. Утро пришло солнечное и теплое. После сна солдаты выбрались из окопов и по одному, по два потянулись к опушке леса. Он обрывался на холмах, а внизу лежали поля. Снег только-только стаял, и они открылись взору разноцветными: то зеленые под всходами озимых, кое-где бурые, с остатками прошлогоднего жнивья, а где и черные, перепаханные с осени. Краски были перемешаны как попало, разбросаны квадратами, прямоугольниками, клиньями, и солдаты, лежа за деревьями на вершинах холмов, заулыбались, заговорили: — Смотри! Единоличные хозяйства. А еще дальше, там, где все сливалось в сплошной туманно-серый цвет, будто протянулась узкая оловянная линейка. То была речка — скучная, без единого кустика речка среди равнины. Но именно она надолго приковывала взгляды солдат. Уже стало известно: на той стороне — Германия. На той стороне занял оборону враг. Днем начались хозяйственные хлопоты. Старшины выдавали полные боекомплекты. Наконец-то на смену осточертевшим полушубкам привезли долгожданные шинели. У лесного озерка развернул брезентовые палатки банно-прачечный батальон (“мыльный пузырь”, как обычно называли его), и застучали движки компрессоров, нагнетая горячую воду в души, под которыми заухали, зафыркали солдаты. В ротах появились корреспонденты дивизионной многотиражки “Красный воин”. Сначала они допытывались у командиров: “Укажите лучших людей”, потом допекали лучших: “Что вы можете сказать перед боем?” Лучшие смущенно выдавливали из себя что-нибудь такое: — Ну что тут скажешь… Дело-то ведь ясное… Но все же, понимая, что у каждого своя работа, а корреспондент к тому же офицер и отвечать ему надо как положено, решительно заявляли: — Разгромим врага в фашистской берлоге! Под такой шапкой во всю страницу, с заголовками: “Грудью на врага”, “Бесстрашно в бой!” “Все, как один” — вышли десятки взводных “Боевых листков”, и забелели они на стволах сосен у окопов. Короче говоря, по словам Василия Теркина, готовился “большой сабантуй”. И ночью предвестниками боя с холмов спустились в долину разведчики. Быстрые, неуловимые, как тени, они обшарили поля и, не обнаружив мин, подкрались к реке. Их было много, около сотни — по взводу от каждого из трех пехотных полков и рота дивизионной разведки. Задача была поставлена общая: узнать, далеко ли от берега находится передний край вражеской обороны. То там, то здесь под надежным прикрытием боевого ядра на ту сторону пошли группы пластунов в три-четыре человека. Первую повел помкомвзвода разведки 396-го гвардейского стрелкового полка старший сержант Сергей Хворов. Ровесник Октября, разведчик со времен финской кампании 1939 года, он давно уже стал в своем полку кем-то вроде первопроходца, привык к этой роли, все понимал, все знал и умел, и когда его командир, Герой Советского Союза лейтенант Павел Примаков, шепнул: “Серега!” — в ответ раздалось спокойное: “Готов”. Хворов действительно уже полностью подготовился: на нем были шерстяной свитер, легкие маскировочные брюки из непромокаемой ткани, а из оружия остался один лишь наган. Вообще Сергея Хворова, человека малоразговорчивого и хмурого, до дела как-то не замечали. Да и после дела тоже — очень уж просто все у него получалось: будто иначе и произойти не могло и сам он тут ни при чем. Хворов бесшумно спустился к воде. С реки не донеслось ни всплеска. Падал мокрый снег с дождем, в воздухе стояла белая мгла, и разведчик будто растворился в ней. Выждав еще несколько минут и поняв, что старший сержант уже на той стороне, Примаков отправил в поиски еще троих. Группа вернулась примерно через полчаса. — Метров на триста спокойно, — доложил старший сержант, выпрямившись в рост и ладонями отжимая со свитера воду. — Людей отпустить? Разведчики, бывшие с ним, ушли, а Хворов остался со взводом. Старший сержант отличался удивительной выносливостью. Во время боев на Севере при форсировании Бек-фиорда миной разбило плот, на котором переправлялся на норвежский берег Хворов. Уцепившись за обледенелое верткое бревно, он все же выплыл на тот берег (хотя к нашему было куда ближе), залег в камнях и открыл огонь по расщелинам скал, где отбивались немцы. Когда подошла подмога, одежда на Хворове стала как ледяной панцирь и трещала. — Живы будем — не помрем, — отмахнулся он от предложения отправиться в санчасть и повел бойцов в атаку. Всю ночь прощупывали разведчики чужой берег реки и под утро вернулись удовлетворенные: “Противника близко нет, можно будет работать спокойно”. На следующую ночь, вооружившись длинными шестами, они начали бродить по реке, выискивая мели для быстрой переправы. Теперь действовали лишь полковые разведчики. А дивизионные… Командир 111-й отдельной гвардейской разведроты Герой Советского Союза капитан Дмитрий Покрамович был вызван в штаб дивизии и, вернувшись, сказал своим: — Идем в тыл к немцам. Приготовиться к задаче.II
Пожалуй, неправомерно соразмерять подвиги героев. Золотой Звездой в дивизии были отмечены майор Пучков, капитан Лынник, лейтенант Примаков, старший сержант Муругов, и каждый из них был гордостью соединения. Но все же, когда речь заходила о самом храбром, о самом умелом, то и эти герои, и любой в дивизии без тени сомнения называли имя Дмитрия Покрамовича. Сейчас, по прошествии немалого времени, кажется просто удивительным, как этот девятнадцатилетний разведчик в разгар тяжелых оборонительных боев сорок первого года сразу выдвинулся из рядовых красноармейцев в командиры и возглавил роту, слава о которой вскоре перешагнула рубежи Мурманского направления и обошла весь Карельский фронт. Разведчиков Покрамовича по специальному приказу командования перебрасывали на другие участки фронта, и они брали “языков” там, где это не удавалось месяцами и даже годами, — как, например, под Мурманском, на высоте 314, превращенной егерями фашистской дивизии “Эдельвейс” в сплошной блиндаж из гранита, металла и льда. Поисковую группу вел Покрамович. В Баренцевом море пехотинцы-разведчики Покрамовича захватили боевой вражеский корабль, и снова группу дерзких смельчаков вел командир роты. Это была настолько неожиданная операция, что и по сей день военные писатели и журналисты время от времени возвращаются к ней, и каждый раз с новыми подробностями — правда, теперь уже не всегда точными: подвиг разведчиков Покрамовича стал легендарным. Как вел себя Покрамович в бою, всегда вызывало восхищение очевидцев. Он чаще всего делал как раз то, что меньше всего можно было ожидать, и это оказывалось наиболее правильным решением задачи. Так бывает: человек рождается с талантом художника, поэта, актера, а этот, видно, родился разведчиком. Земляки Покрамовича, ленинградцы, рассказывают, что уже восемнадцатилетним парнем, будучи шофером такси, Дмитрий умел чуть ли не до метров в мгновение ока рассчитать самый запутанный маршрут по городу и назубок знал номера домов на десятках улиц. Он и на фронте оставался таким же: осмотрев местность, мгновенно запоминал все ее характерные особенности и по каким-то еле приметным только ему деталям безошибочно определял расположение врага. “Здесь!” — подняв руку, коротко бросал он, и его разведчики совершали внезапный и стремительный налет на противника. Время Покрамович тоже чувствовал с точностью хронометра. Высокий, жилистый, с тонким смуглым лицом — оно казалось особенно тонким и длинным из-за короткой стрижки “под бокс” и посаженной на самую макушку шапки, — с резким голосом, весь какой-то угловатый, он был из людей, о которых говорят: “Ну и характер!” — и кому под горячую руку лучше не попадаться. Но те, кто постоянно находился рядом с ним, знали, какая открытая и добрая душа у этого человека. Случалось, во вражеском тылу он даже не присаживался прикорнуть на минуту, давая отдых своим бойцам. На марше все свое — боекомплект и паек — нес сам и терпеть не мог, если на привале кто-нибудь из солдат, торопливо поднявшись, уступал ему удобное местечко у костра. — Брось подхалимажем заниматься! — зло бросал в таких случаях Покрамович. — Не хуже тебя, не замерзну! Но эти же слова — “не хуже тебя” — он мог сказать не только подчиненному, но и любому в дивизии. И уж если случалось, что разведчики чего-то недополучали или кого-то обходили наградой, тогда начиналась буря и несло его, как говорится, без тормозов… Правду говоря, нервы у него частенько пошаливали. Взрывался он мгновенно, и лишь на выполнении задания был холодным, сдержанным и расчетливым. Всех бойцов в свою роту Покрамович отбирал сам и прекрасно знал, кто на что способен. Поэтому в роте шло постоянное перемещение людей — непонятное стороннему наблюдателю, но вполне логичное и закономерное с точки зрения самих разведчиков. Поисковые группы Покрамович тасовал, как колоду карт: на задаче в лесу дозорными шли одни, на открытом пространстве — другие; если требовалось скрытно подобраться к противнику и уйти незамеченными, составлялась одна группа, если совершить внезапный налет — другая. И в роте Покрамовича вырастали опытные мастера своего опасного дела. Одним из первых в стране стал полным кавалером ордена Славы старший сержант Иван Зайцев — тихий и скромный разведчик, который, если случалось ему выговаривать кому-то из бойцов, огорчался больше, чем сам провинившийся, и потом ходил грустный и подавленный. “Зайчик”, — любовно называли его в роте. Орденами Славы всех степеней был награжден и ефрейтор Петр Алексеев — дюжий белобрысый парень с хитрым прищуром маленьких шустрых глаз, резкий и верткий не по комплекции, умеющий с налета проскочить в такую щель, в которую, казалось, и голову просунуть невозможно. Вообще в роте не было такого, кто не имел бы, как минимум, двух орденов. Пять, шесть высоких боевых наград — это было в порядке вещей, и на парадных построениях рота блестела и сверкала. После боев на Севере в роту пришло изрядное пополнение. В большинстве новички вовсе не были новичками: воевали с сорок первого года, прошли многие фронты, госпитали. Но одна особенность сразу выделяла их: они носили знаки парашютистов и никак не хотели снимать старых погон с голубым кантом военно-воздушных сил. Летом сорок четвертого года эти разведчики в составе стрелковых дивизий, получивших наименование “Свирских”, участвовали в разгроме белофиннов, были ранены и после госпиталей в свои части вернуться не могли: те были уже далеко, в Венгрии. Так и случилось, что к “печенгским” пехотным разведчикам Покрамовича присоединялись “свирские” десантники. Их распределили по разным взводам и отделениям, бойцы сдружились, но все равно на первых порах в роте явственно ощущалось: “мы” и “они”. Кто тут был “мы”, а кто “они”, не играло никакой роли, но скрытый холодок недоверия, пристальный, изучающий взгляд лучше всяких слов говорили: — Ну, посмотрим, что вы за гуси такие. — Посмотрим, посмотрим… Больно вы храбрые с виду. Покрамович речей, призывающих “быть как один”, не произносил. Он вообще будто ничего не замечал — даже резких, злых стычек, вспыхивающих порой из-за какого-нибудь пустяка. Он просто до предела завинтил все гайки и, когда дивизия совершала утомительный марш к фронту, гнал свою роту так, что чуть ли не дым валил от солдат. После сорокакилометрового перехода Покрамович вдруг разворачивал роту в цепь, по-пластунски она преодолевала пахоту, затем следовал марш-бросок, потом опять по-пластунски, и, когда у разведчиков в залитых горячим потом глазах плыли красные и зеленые круги и, казалось, еще метр — и дух вон, — тогда наступала резкая, как выстрел, команда: “В одну шеренгу — становись!” Разведчики выстраивались лицом к командиру так, что он видел каждого, пересчитывались по порядку номеров, и число, названное последним бойцом, бесповоротно означало списочный состав роты на сегодня. Опоздавшие, не говоря уж о тех, кто вообще отстал во время переползаний и бросков, кто бы они ни были — “печенгские” и “свирские”, тотчас отчислялись из роты. Никаких объяснений Покрамович не принимал. Когда в строевом отделе дивизии его спрашивали, почему он то и дело откомандировывает людей из роты, рубил с плеча: — Слабаков мне не надо! К границе Германии Покрамович вместо семидесяти двух человек, полагавшихся роте по кадровому расписанию, привел около пятидесяти “соколиков”. (“Соколики” — это было его любимое обращение к своим товарищам.) Но и на этом отбор боевого состава не закончился. Заслуженные воины, чью грудь над желто-красными нашивками за ранения украшали ордена и знаки “отличных разведчиков”, бойцы Покрамовича были юношами девятна-дцати-двадцати лет. Ему самому в то время едва исполнилось двадцать три года, а двадцатипятилетние назывались в роте “старичками”. “Старичков” от марш-бросков Покрамович освободил. А тех, кому перевалило за тридцать (их насчитывались единицы), перевел в хозуправление роты. Такого, правда, не полагалось, но его создали, и состояло оно из поваров, ездовых, санинструктора, сапожника, писаря и бог знает кого еще по должности. Среди них оказались самый старый в роте тридцатичетырехлетний Николай Баландин — добродушнейший дядька саженного роста; один из особо отличившихся при захвате корабля в Баренцевом море, Иван Обросов, до войны повар ярославского ресторана и теперь, в конце войны, вновь вернувшийся на кухню; Александр Волков — парень еще безусый, но немного оглохший после контузии, и еще несколько человек — всего около десяти. Команда “ух” — прозвали их в роте. Эта команда действительно стала вытворять такое, что разведчики, а потом и все, кто сталкивался с ними, только ахали. Началось с того, что ефрейтор Баландин будто забыл о своем воинском звании и стал величать себя в третьем лине по имени и отчеству. — Ребятушки воевать пойдут, а Николай Василич дома останется, — нараспев, нудным голосом зудил он. — Николай Василич старенький стал, отвоевал свое. Ребятушки вернутся, а Николай Василич им печку истопит. Отдыхайте, ребятушки, грейтесь, кашки покушайте. В таком духе Баландин, кавалер ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, Славы II и III степени и медали “За отвагу”, мог скрипеть, не переводя дыхания, сколько угодно. От него и пошло: в обозной команде все стали называться по имени и отчеству и все старались для “ребятушек” как только могли, всяк на свой лад. Дорвавшись до кухни, Обросов вместе с прежним поваром, ефрейтором Орешкиным (а по-новому — Александром Василичем), начали готовить неслыханные в армейском меню блюда: котлеты, беляши, а однажды придумали такое, о чем никто в роте от роду не слыхал, — чихиртму! Конечно, об этой самой чихиртме разведчики расхвастались всюду, где только могли, но прежде всего — в санбате. И на больших привалах, когда получали обед, в разведроте стало полным-полно гостей. То сестры из санбата забегут: “Ой, ребята, чем-то у вас так вкусно пахнет?” — то связистки заглянут… Вскоре разведчики не то что чихиртмы, а даже простой пшенной каши не ели вдосталь. Свою марку они держали высоко и были щедры на угощение, а потом, на марше, за обе щеки уписывали хлеб. Тут, конечно, не обходилось без веселых споров: “Съешь буханку за километр?” Находились такие шустрые, что съедали, — хотя дело это не простое, на грани невозможного. А Иваны Иванычи, Александры Василичи и вся команда “ух” по-прежнему из кожи вон лезли. Проводив роту в путь, они стучали ножами, что-то жарили на костре, что-то варили в старой походной кухне и дополнительной трофейной, и, наконец, настал день, когда в богатую усадьбу какого-то бежавшего с немцами польского магната, где рядом со штабом дивизии остановились на отдых разведчики, на рысях влетели кухни. — А вот кисель! — важно восседая на козлах первой, кричал Баландин. — У кого большие ложки? Кому киселя хлебать? На этот раз даже Покрамович не выдержал. Обычно он не касался кухонных дел и равнодушно ел, что дают. А тут, заслышав Баландина, вышел на каменное крыльцо дома. — Какой кисель? — Клюквенный из концентрата — раз! Из яблочной повидлы — два! Из малинового варенья — три! — спрыгнув с козел, доложил Баландин. — Так… Значит, кисель, — прищурившись, что служило верным признаком раздражения, протянул Покрамович. — А еще чего вы наварили? — А еще — компот! — нимало не смущаясь, лихо отрапортовал Баландин. И этот компот оказался спасительным для ретивых поваров. Покрамович только руками развел: — Ну, если еще и компот, значит, так надо. Кафе “Норд” на Невском, а не рота… — И он вдруг звонко расхохотался, подмигнул разведчикам, вслед за ним высыпавшим на широкое крыльцо. — А ну, соколики! Устроим кафе? Через какую-то минуту из дома вытащили столы и расставили в парке под голыми, мокрыми липами. Расселись под ними торжественно. Саша Казьмин, зачисленный в сорок первом году в консерваторию, но так и не проучившийся в ней ни одного дня, играл на аккордеоне по заказу публики. — Маэстро! “Брызги шампанского”! — “Рио-Рита”! — Любушку-голубушку! “Маэстро” — в маскировочных брюках, в сапогах, за голенища которых были засунуты автоматные магазины, — еще и пел. Больше всего нравилось ему вот это: “Если нету любви, ты ее не зови, все равно на найдешь никогда…” За столиками грустно вздыхали. О любви думали, мечтали, но где ее было отыскать. А потом пели веселые песни, начали безудержный перепляс с частушками, да такими, что только держись! — Разошлись разведчики! — На то они и разведчики, — говорили офицеры штаба. Но этому вечеру (вернее, утреннику) никто не помешал, и к солдатам даже присоединились начальник разведки отдела дивизии подполковник Матвеенко и начальник штаба дивизии подполковник Тарасов — самые любимые старшие офицеры соединения. Одним киселем дело не обошлось. Глубокие подвалы были в магнатской усадьбе, много в них хранилось всякой всячины. Но когда пришел срок, вновь шагала своим походным порядком рота: впереди голенастый, высокий Покрамович, по привычке с палкой-щупом в руке, за ним Алексеев, на широком плече которого покоилось зачехленное знамя дивизии, и дальше, длинной цепочкой, один за одним, остальные. И все это — и марш-броски во время переходов, и Николаи Василичи и Иваны Иванычи, в шутку и всерьез пекущиеся о “ребятушках”; и чихиртма со злополучным киселем, и снова броски, снова по-пластунски, — все это сплотило, сблизило солдат. Оставалось закрепить их содружество в бою. Когда пришлось идти в немецкий тыл, к заданию приготовились все. Вответ на слова Покрамовича: “Добровольцы — шаг вперед!” — рота отчеканила шаг, и распрямили плечи, приосанились парни — недаром звались они лихими разведчиками. Покрамович выбрал ефрейтора Петра Алексеева, ефрейтора Якова Вокуева, старшего сержанта Максима Кузьмина, сержанта Анатолия Петрова и младшего сержанта Льва Чистякова. Одни из них были “печенгские”, другие “свирские”, одни “старенькие”, другие “новенькие”. Но кто из них кто, теперь уже никого не волновало. А возглавил группу Герой Советского Союза капитан Дмитрий Покрамович.III
В неглубокой временной землянке жарко топится железная печь. На полу, заваленном сосновым лапником, сидят разведчики, высвободив место посередине. Шестеро одеваются перед выходом в тыл врага — неторопливо, тщательно примеряя каждую вещь, чтоб нигде не жало и не терло. Потом взялись за оружие. Вычистили автоматы. Ввинтили в гранаты запалы. Проверили, как ходят в ножнах ножи. Максим Кузьмин возится с радиостанцией и дает “накачку” остающемуся в роте второму радисту Сергею Китаеву. — Я — раз! Так ушами не хлопай. Повторять не буду! — Да что ты, Максим, — басит Китаев. — Первый раз, что ли? Тихо играет Саша Казьмин. Давно уже играет. Как начались сборы. А ни одной песни до конца так и не доиграл. Трудно сосредоточиться. Уходят товарищи. Не первый раз — это верно Китаев сказал, а все равно сердце ноет. Покрамович смотрит на часы, бросает окурок в печку. Полночь. Пора. — Становись! Пятеро выстраиваются шеренгой. — Все проверили? Ничего лишнего? Отводят глаза. Ну что ж… Так всегда бывало. Где-нибудь — может быть, под подкладкой, может быть, в шапке лежит у разведчиков или маленькая фотография, или обрывок письма, или просто клочок газеты, которую иметь тоже нельзя. Это знают все. Но никто не посмеет отобрать у разведчика спрятанное. Он не возьмет того, что может выдать его тайну. Если погибнет, то и мертвый ничего не сообщит о себе врагу. Но очень трудно разведчикам отрешиться от родного мира, отправляясь в стан врага. Всегда верят они в свое возвращение, всегда хотят быть связаны с жизнью и что-нибудь кровное, близкое непременно захватят с собой как добрую примету к счастью. — Ничего. Всё проверили. Всё взвесили. Готовы. — Пошли! — говорит Покрамович и распахивает дверь в темную ночь. — Коньячку французского принесите! — Сигар не забудьте, — гурьбой высыпав из землянки, напутствуют друзей солдаты. Так тоже надо. Так принято. С уходящими не прощаются. Никаких “до свидания”. Зачем же? Ведь они скоро придут. Очень скоро. Они вроде бы никуда и не ушли. Они здесь, со своими! А поисковая группа уже исчезла из виду. Китаев смотрит на часы. Через полчаса он наденет наушники.***
Шли последние дни февраля. Часто хлопьями валит снег, но когда ветер прогонял тучи, светило яркое весеннее солнце. Земля снова обнажалась, и от нее поднимался пар. …Германская сторона кажется вымершей. Пусто на полях. Безлюдно и голо в лесу, да и сам лес со строгим порядком насаженных деревьев производит впечатление запущенного и забытого парка. А на дорогах, что ровными линиями протянулись через поля и леса, скрипят фургоны беженцев, ревут голодные коровы. Изредка хлопает выстрел: кого-то убили. Может быть, поотставшего от маршевой роты фольксштурмовика — за дезертирство. Может быть, запавшую на сведенные судорогой ноги лошадь — за ненадобностью. Шум, неумолчный шум несется с дорог днем и ночью. Дикие козы, видно, привыкли к нему и мирно пасутся на просеке, пощипывая молодые побеги. Вдруг они насторожились, и все стадо, распластавшись в воздухе, скрылось в лесу. Из ельника выглянул человек. Рядом стал еще один. Они долго просматривали просеку из-за приспущенных перед лицом веток. Справа она упиралась в шоссе, по которому тянулись фургоны немцев, слева, совсем близко, были серые оштукатуренные домики под красной черепицей. — Проклятое место, — проговорил один из них. — Опять переползать. Он щелкнул пальцами, и, пригибаясь к самой земле под низкими лапами елок, к ним приблизились еще двое. Это были разведчики Покрамовича. Вторые сутки шли они по германскому тылу, но удалились от фронта ненамного. Здесь не было больших лесных массивов. То и дело приходилось кружить и петлять в поисках места, где один лесок примыкает к другому. Разведчики держались молодых рощ, так как лишь в них оставались невидимыми, и с трудом продирались сквозь густые заросли саженцев. Только ночью удалось пройти порядочное расстояние, но до указанного в приказе места было еще далеко. Задача была такая: на расстоянии около тридцати километров от фронта следить за передвижением противника, а при наступлении наших войск следовать в тылах немецких частей. Именно там, в арьергарде врага, можно было раньше всего установить, какие силы будут противостоять дивизии, и заблаговременно сообщить о них командованию. Покрамович посмотрел на бойцов. По осунувшимся лицам крупными каплями катился пот. Устали. Тяжелые вещмешки оттянули плечи. Продуктов с собой взяли мало, только НЗ, в дальнейшем рассчитывая поживиться за счет немцев, но пока что из лесу выбраться не удавалось, а в лесу какая ж еда? Покрамович поднял руку, пошевелил кистью. Сигнал сбора. Справа и слева послышался легкий треск. Подошли боковые дозорные Петров и Вокуев. Вся группа повернула назад. Отойдя подальше от просеки, Покрамович смерил взглядом высоту елочек: здесь можно поднять руки. — Снять вещмешки, — приказал он. — Не ложиться. У разведчиков точно гора с плеч свалилась. С трудом, морщась от ноющей боли в пояснице, они распрямили согнутые спины, с хрустом потянулись. Неуверенно и глухо заговорили, наслаждаясь звуками собственной речи и поглядывая на Покрамовича. Можно ли? Но он как будто ничего не слышит и знай себе покусывает хвою: горько-кислый сок освежает рот и заглушает голод. — Это же витамин “С”, — усмехается капитан, — наваливайтесь. На всех хватит. — И я на охоте так, — поддерживает Покрамовича Вокуев. Яков Вокуев — коми по национальности. Он с детства охотник и пастух-оленевод. И хороший, видно, был пастух, ловко умел заарканить оленя. И “языка” однажды заарканил — еще на Севере, когда немцы обнаружили поисковую группу и встретили ее огнём, так что рывок в траншею стал невозможным. Вокуев точно уложил петлю на отстреливающегося егеря и, полу задушенного, вытащил из-за валунов. — И я на охоте так, — передразнивает Вокуева Алексеев, нажимая на “о”. — У вас там и палки небось не сыскать! — Есть, Петя, — проникновенно говорит Вокуев. Он очень хороший парень, всю душу готов отдать товарищам, но шуток не понимает и искренен донельзя. “Как можно сказать неправду?” — округлив чуть раскосые черные глазенки, четыре года не перестает удивляться он, когда разведчики примутся “разыгрывать” кого-нибудь из товарищей. — Есть, Петя. И деревья есть. — Евкалипты, — вставляет Чистяков. Он — москвич. Красивый, статный, чернобровый и самоуверенный. Раздается смешок. Громче становятся голоса. — Прекратить разговоры! — приказывает Покрамович. — Разгулялись?! И вот что — к козам не приближаться. Еще привлекут внимание, когда удирают… Ты, Чистяков! Вылез прямо на коз? — Так я ж не нарочно… — Коз увидеть можно. Обходите! — Еще и козы, — шепчет Чистяков и зло сплевывает: — Тьфу! — По местам! — приказывает Покрамович. — В головной дозор — Кузьмин. Разведчики недоуменно переглядываются. Радист Кузьмин никогда не ходил в голове группы, его постоянное место в центре. Но думать и гадать некогда. Рассыпается треугольник дозоров. А Покрамович знает, что делает. Выдвинув вперед неторопливого, обстоятельного радиста Кузьмина, для которого идти в дозоре непривычно, он тем самым замедлил движение группы, сделал его более осторожным. Разведчики по одному переползли просеку и углубились в лес. С наступлением сумерек Покрамович сменил Кузьмина, поставив вперед быстрых ребят, и за ночь прошли большое расстояние. На рассвете разведчики услыхали отдаленный нарастающий грохот. Не сговариваясь, они остановились каждый на своем месте, повернулись к востоку. На холодном зеленоватом небе наливалось багряное зарево. Словно предвещая восход солнца, гудела земля — это советские войска рвались в Померанию. Наступал день 23 февраля 1945 года. На минуту Покрамович собрал бойцов вокруг себя. — Поздравляю с праздником, товарищи! В таких случаях по Уставу полагается троекратное “ура”. Но на этот раз “ура” не было. Нельзя. Разведчики тихо произнесли другие слова: тоже уставные и самые что ни на есть свои: — Служим Советскому Союзу.IV
Не сдержав натиска наших войск, немцы отступали, прикрываясь заслонами самоходок и вооруженных пулеметами бронетранспортеров. Основные же силы противника беспрерывно откатывались по дорогам. И чуть поодаль, за обочиной, неотступно следовали за немецкими частями разведчики Покрамовича. Вопреки ожиданиям бойцов, привыкших к польской равнине, Европа дальше пошла иная: покрытая лесами и холмистая. Правда, в этих лесах и зайцу было трудно спрятаться. Выскочит он из-под ног и летит, прижав уши, мимо стройных корабельных сосен. Пересечет дороги, прорезающие этот насквозь прозрачный лес, но так и не найдет укромного места. Менее опасно пробираться через островки густонасаженных молодых рощ, но они встречались не везде. Иногда лес кончался, и тогда волей-неволей приходилось дожидаться ночной темноты и выходить на дорогу. На разведчиках были немецкие маскировочные халаты, и, на всякий случай держась поодаль друг от друга, они несколько километров шли вместе с немецкими солдатами, лавируя среди транспортных повозок, фургонов, беженцев, санитарных автобусов, походных кухонь отступающей армии. Так было все же безопаснее, чем оставаться на полях или в жиденьком лесу, время от времени освещаемом ракетами полевых жандармов, ведущих облаву на дезертиров. Вскоре, однако, там и здесь стали попадаться одинокие солдаты: кто-то отстал от части, кто-то просто сбежал. И брели они куда глаза глядят, скрываясь в покинутых домах. Завидев дрожащие блики огня в окнах домов, разведчики со злорадством пожелали удачи этим возможным факельщикам. Так оно скоро и случилось. Ночной мрак озарили гигантские костры горящих деревень и хуторов. Снег покраснел, и только островки леса по-прежнему чернели в зареве пожаров. С каждым часом шныряющих от дома к дому дезертиров становилось все больше. Это значительно облегчило работу разведчиков. На одинокие силуэты, маячащие на полях, никто уже не обращал внимания, и открытые места начали переходить не таясь. Разведчики спешили от развилки дорог к развилке, чтобы проследить передвижение вражеских войск. Развернув радиостанцию, Кузьмин связывался с дивизией — у Покрамовича это называлось “выдать путевой лист”, — и по заданному командованием маршруту группа снова увязывалась за отступающими немцами. На четвертые сутки близ города Шлохау противник стал разворачиваться по обе стороны главной магистрали в оборону. Разведчики, передав об этом сводку, обогнули город и вышли к перекрестку с указателем “Nach Schlochau” и затаились в близлежащем леске. Наступила глухая, пасмурная ночь. В ветках шуршал дождь, и крупные капли скатывались на землю. Но разведчики не чувствовали ни того, что лежат в лужах, ни этих капель, падающих на лицо. Они спали крепким сном, и только дневальный, меняющийся через полчаса, вслушивался в неясные звуки ночи да переворачивал сладко всхрапнувших товарищей. Среди шелеста дождя до Петрова донесся глухой навязчивый шум. Словно кто-то просеивал горох, и он шуршал, шуршал монотонно, нудно. Петров нагнулся к товарищам, еле слышно сказал: — Пехота. Чуток сон разведчиков в тылу врага. Как ни были они измучены, шепот товарища мигом поднял их на ноги. Полилась за ворот ледяная вода, холод судорогой пронзил все тело. Но было не до того. К фронту подходили немцы. — На дорогу! — приказал Покрамович. Разведчики выскользнули из леска и залегли близ дороги в бороздах пахоты. Из темноты появились немцы и исчезли, растворившись в ночной мгле. Их согнутые под тяжестью ранцев фигуры в длиннополых шинелях казались призраками. Ни слова, ни огонька прикрытой папироски. Слышался только мерный, шаркающий по гудрону топот железных подошв. До боли в глазах всматриваются в проходящие ряды разведчики и по небольшим интервалам между колонн считают: — Рота… рота… рота… батальон… рота… Около часа проходили немцы. Потом шум шагов стал стихать, потянулись обозы, а за ними плелись отставшие. Покрамович толкнул Алексеева. Тот кивнул головой и переполз к Петрову. — Пошли, — шепнул он ему в самое ухо. Они вползли в кювет. Рядом с ними появился Вокуев и, указывая рукой в ту сторону, откуда шли войска, показал раздвоенные пальцы. — Два! И верно. Шаги приближались, и разведчики увидели двух немецких солдат. Их подпустили вплотную и рванулись из канавы. Короткая борьба, и снова тихо стало на дороге. Разведчики скрылись в лесу. В укромном месте спрятали трупы “языков”. А пока прятали, закидывая валежником, Кузьмин стучал ключом. А по ту сторону фронта Китзев — да и другие радисты дивизии — принимали сообщение о том, что в район Шлохау выходит на подкрепление полностью сформированный полк фольксштурма. Узнав следующий пункт назначения, разведчики быстро свернули радиоустановку и бросились из леса, где их присутствие могла выдать запеленгованная рация. Удалившись на порядочное расстояние, Покрамович созвал бойцов. Они стали около него тесным кругом и закрыли складками маскхалатов. Мигнул огонек фонарика и тотчас погас. Но этого Покрамовичу было достаточно, чтобы найти следующий город, лежащий по пути дивизии. По взмаху руки командира дозорные рассыпались по своим местам, резко свернули вправо (“окружаем?!”) и двинулись дальше, часто останавливаясь, замирая, вслушиваясь в шепот дождя и снова перебегая от дерева к дереву широкими мягкими прыжками.V
Минуло еще несколько дней. Лицо Покрамовича заросло бородой и стало черным. Да и другие выглядели не лучше: осунулись, глаза глубоко запали. Но приказа возвращаться все не было, и группа продолжала действовать. На седьмые сутки группа оказалась в квадрате лесного массива, который разрубали на мелкие делянки ровные, как стрелы, дороги. Выбраться из этой западни не удавалось. Повсюду в строгом порядке двигались немцы. Иногда в разрывах между колоннами разведчики успевали перескочить шоссе, но дальше они снова натыкались на войска. Сообщить в дивизию, что к фронту подходит много, очень много немцев, значило почти ничего не сообщить. Командованию нужно было знать не то, что приближаются крупные силы противника — эти сведения могли поступить и от авиаразведки, и из других источников, — нужно было знать, сколько их и куда именно они выйдут. Бойцы Покрамовича понимали, что их товарищи по ту сторону фронта могут слишком поздно добыть необходимые данные. Это в лучшем случае. Но могло случиться иначе: враг нанесет удар с ходу, появившись там, где его не ждут. Днем они предприняли несколько попыток хоть как-то выяснить количество идущих по разным дорогам войск, но ничего не добились. — Пустая трата времени, — наконец зло сказал Покрамович, — всюду не поспеешь, — и увел группу отдыхать вглубь, на вырубку. Здесь, на светлой поляне, среди пней и ковра елочек чуть повыше колена, разведчики могли спать спокойно. Открытое место всегда безопаснее чащобы: даже при плотной проческе его осматривают беглым взглядом и идут дальше. Покрамович решил действовать наверняка и ждал, пока пройдут ударные части. За ними будут двигаться тылы и штабы, которые более разрозненны на марше, и к вечеру разведчики снова вышли к дороге. Теперь она была пустынна. Лишь изредка проезжала то машина, то тянулся конный обоз. Двое немцев в отставшей повозке были перехвачены разведчиками. Пленные ничего толком не знали, но на их показания Покрамович и не рассчитывал. Теперь он смело шел на риск. На повозку сели, одетые в немецкие шинели и каски, Алексеев и Чистяков. — А как “но” по-немецки? — садясь за ездового, весело спросил Алексеев. — Faren![20] — ответил ему “знаток” немецкого языка Лева Чистяков, благодаря своим познаниям и попавший на телегу. Одинокую повозку обгоняли машины, но на двоих солдат никто не обращал внимания. Сбоку от дороги все время находились остальные разведчики, готовые в любую минуту прийти на помощь товарищам. Когда вдалеке заиграл быстро приближающийся огонек, выхватывая из темноты клочок угрюмого леса и безлюдной дороги, телега затарахтела по шоссе, а затем, свернув и загородив добрую половину пути, остановилась. С нее соскочили двое солдат с карабинами за спиной и, подняв в руках документы, просили шофера остановиться. Завизжав тормозами, легковой автомобиль чуть не сшиб их с ног. Алексеев с одной стороны, а Чистяков с другой бросились к машине, в которой были только шофер и, судя по высокой фуражке, какой-то офицер, приспустивший стекло. — Was ist los?[21] — Wir abfallen, wir weis nicht, wochin…[22] — начал Чистяков, подходя ближе. Офицер бросил на него пристальный взгляд (не очень-то силен был в немецком Лева!) и отпрянул от окна. Но было уже поздно. Дверцы автомобиля распахнулись, офицер был отброшен на спинку сиденья, а шофера по цепочке из рук в руки мгновенно вышвырнули за дорогу. Разведчики прыгнули в машину, Покрамович сел за руль, и автомобиль помчался по шоссе. Отъехав подальше и видя, что ни сзади, ни спереди никого нет, Покрамович потушил прикрытые щитком фары и свернул на глухую просеку. Там машину бросили и скрылись в лесу. Офицера привели в чувство еще по дороге и допросили. Он показал, что переброшенная из Венгрии дивизия СС на рассвете второго марта, то есть завтра, начнет наступление с восточной стороны озера, находящегося в пяти километрах от города Руммельсбурга. Пленный показал еще, что наступление будут поддерживать танки, которые выйдут в заданный район к началу атаки. Затаившись за деревьями, держа автоматы на изготовку, разведчики надежным кольцом оградили Кузьмина. Он застучал ключом звонко, весело, дробно. И радостно бились сердца разведчиков; теперь они могли смело сказать себе: главное сделано, задание командования выполнено. В подтверждение этому Кузьмин принял приказ возвращаться. Это было необходимо: группа явно выдала себя. Однако сами разведчики не очень тревожились за свою судьбу. Они понимали, что вряд ли немцы сумеют прочесать леса на десятки квадратных километров — не до того им было, а если даже и начнут поиски, то там, где была оставлена повозка. Разве что брошенная на глухой просеке машина могла навести на более свежий след. Но, в общем, на первом плане пока стояла другая забота: подкрепиться. В немецких ранцах нашлась кое-какая еда, но что значили три сухаря да две пластмассовые баночки масла для шести до изнеможения утомленных разведчиков? Сейчас, после выполнения важной и трудной задачи, все заметно сдали и, пошатываясь, чуть ли не засыпая на ходу, брели за своим командиром. Он вел их к домику лесника, одиноко стоявшему в глубине соснового бора. Ночь выдалась теплая, с дождем, и стояла такая темень, что хоть не смотри. Шли долго, по компасу, без видимых ориентиров. Несколько раз забредали в непролазные чащи саженцев, несколько раз искупались в озерках талой воды. Когда наконец достигли домика, брезжил рассвет туманного утра. Постояли на краю леса, прислушались. Было тихо. Даже не доносились артиллерийские раскаты: туман, как вата, поглотил их. Осторожно приблизились к хозяйственным постройкам с подветренной стороны. Этому научил их горький опыт: беженцы, покидая дома, то ли потому, что еще верили словам гитлеровской пропаганды о “кратковременном выпрямлении линии фронта” и надеялись чуть ли не завтра вернуться, то ли следуя своей пресловутой немецкой аккуратности, но тщательно замыкали на цепь и запирали скотину, которую не могли угнать с собой. Почуяв людей, недоенные, голодные, обезумевшие животные поднимали дикий рев и визг, слышный за версту. Здесь хлев, к счастью, оказался пустым. Разведчики осмотрели сараи, поворошили сено, потом, оставив часовых во дворе, четверо вошли в дом. Дверь плотно притворили. Ставни снаружи были закрыты. Покрамович зажег фонарик, обводя пучком света стены. Клыкастые кабаньи морды уставились на разведчиков. Посреди комнаты, где должна бы висеть лампочка, раскинул крылья ястреб — лесник, видно, был большой любитель охотничьих трофеев. Затем луч поднялся по крутой и узкой деревянной лестнице на второй этаж. Вокуев было шагнул к ней, но тут наверху что-то зашуршало, заворочалось, стукнуло. Из темного дверного проема показались облепленные грязью сапоги. Немецкий солдат спустился вниз. Автомат висел у него на груди. Не притрагиваясь к нему, солдат обвел глазами разведчиков и медленно поднял руки. Разведчики стояли не шелохнувшись и не сводили глаз с немца, освещенного как на сцене. Наконец Покрамович стряхнул с себя оцепенение. — Ну, здорово, — сказал он. Рукою нащупал стул позади себя, придвинул, сел. — Wer bist du?[23] Допрос длился недолго. Собственно, и допроса никакого не было: немец сам говорил без умолку. Из его быстрой, путаной речи разведчики поняли, что ему восемнадцать лет, что родом он из Кёльна, что во время бомбардировок города погибла вся его семья. Боясь, что его не поймут, он все время повторял: — Vater, Mutter, Schwester. — Потом показал на стопку своих бумаг, которые лежали на столе перед Покрамовичем, вынул из них четыре фотокарточки и стал совать их в руки разведчикам. — Vater, Mutter, Schwester… — А это кто? — спросили его, показывая фотографию белокурой девушки, снятой в профиль. Спросили просто так, потому что вроде надо было что-то сказать или спросить, и немец снова начал: — Vater, Mutter, Schwester… Alles tot, alles kaput…[24] — и по щекам его катились слезы. У разведчиков ныло сердце. Не то, чтоб они горевали о “фатере” этого солдата вместе со всей его остальной родней. Но что с ним самим-то было делать? Закон разведки беспощаден: на чужой территории даже мимолетом узнавший о поисковой группе враг должен быть уничтожен. И в таких случаях ни у кого из разведчиков рука не дрожала. Но этот… Прижав руки к груди, обращаясь то к одному, то к другому, он клялся, что давно решил сдаться в плен, но случая подходящего не было. А вот этой ночью он бежал на марше. Спрятавшись на чердаке, он решил дождаться советских войск и вот дождался… — Ich bin selbst, ich bin nichts nazi…[25] — поняв наконец, с кем имеет дело, все тише и тише шептал он, и в глазах его стоял ужас. — Кто его знает, — покусывая ноготь, сказал Покрамович. — Врет или правду говорит? Но что он дезертир — это как пить дать. За дезертирство у них вешают. Так не нам же, а?.. И разведчики почувствовали, что Покрамович, которого они не то что ни разу не видели нерешительным, но даже и представить себе таким не могли, ждет их помощи. И они охотно пришли ему на выручку: — Оставим, товарищ капитан! — Если что — мы его вмиг пришьем. — И пикнуть не успеет! Покрамович поднялся. Немец, который и до этого стоял по стойке “смирно”, вытянулся как струна. — С нами пойдешь. Капитан весело щелкнул немца по пряжке солдатского ремня с вытесненными словами “Gott mit uns”[26]. — Вот так вот, mit uns. Verstehen?[27] И вот еще: wie heißt du?[28] — Франц. — Ну, Франц так Франц, — сказал Покрамович и велел собираться в дорогу. — От греха подальше, — усмехнулся он. — Глядишь, еще какие-нибудь “капутники” нагрянут. В мешке их тогда таскать, что ли? Больно мы нынче добренькие. А в общем… Пошли! Разведчики запаслись продуктами и снова углубились в лес. Франца нагрузили радиостанцией. Для страховки: с ней не очень-то убежишь. По пути ему несколько раз устраивали проверку, неожиданно “теряя” в зарослях. Франц останавливался, испуганно глядел по сторонам и искренне радовался, когда его находили. Он утирал со лба пот и улыбался: — Gut, kameraden[29]. — А парень-то свой в доску! — переговаривались разведчики. Днем Францу сказали: — Эй ты, как там тебя… Давай радиостанцию, что ли. Мы ее по очереди таскаем.VI
Занятый с боем Руммельсбург горел. Красно-черные языки пламени, бушуя, вырывались из окон. С грохотом рушились коробки сгоревших домов, заваливая улицы грудой битого кирпича и покореженных балок. К центру города приблизиться было невозможно: он превратился в ревущий костер, взметнувшийся до неба; тучи тоже налились багряным цветом. Огибая центр, улочками и проулочками, где только занимался пожар, проходили, закрывая лицо рукавами и полами шинелей, советские солдаты. Над ними клубился пар. А на дальней окраине, куда огонь еще не дополз, звенели разбитые стекла, трещали двери. Вырвавшись на свободу, освобожденные поляки, французы, итальянцы и многие, многие другие громили магазины, богатые дома. Пух перин, как тополиный цвет, летел по улицам. Вскоре порядок был наведен. На перекрестках появились указатели сборных пунктов для репатриантов. Патрули с повязкой “комендатура” вежливо, но решительно разогнали толпу, построили и отправили тушить пожар. Потом взялись за подвалы, где прятались немногие оставшиеся в городе жители. Их тоже послали на борьбу с огнем и разбирать завалы. В работу включились и сами патрули: терпения не хватало смотреть, как дородные фрау двумя пальчиками брали по кирпичу и осторожно, будто он вот-вот взорвется, несли его к стенам домов. — А ну, тетки! Становись в цепочку! — покрикивали патрули. — Дружно! Давай! И сами “давали” вовсю: выкорчевывали надолбы, оттаскивали противотанковые “ежи”, шли на огонь. Тылы 111-й гвардейской дивизии расположились у границы пожара. Здесь же, как всегда под рукой у штаба, находились свободные от задания разведчики и все, кто мог, тоже “давали” и тоже ворочали, беря пример с Баландина, который, сыпля шутками и прибаутками, ухая и покрякивая, работал за пятерых. — Иван Иваныч, наддай! — Александр Василич, навались! — Наши идут! — вдруг крикнул кто-то. Из-за угла появилась группа Покрамовича. Впереди размашисто шагал он сам, за ним Кузьмин, дальше Алексеев, Петров, Чистяков, Вокуев и последним — Франц. Все грязные с головы до ног, заросшие, в порванных маскхалатах — только на Франце была шинель. Оружия он не имел, но в хвост цепочки его поставили умышленно: пленный позади всех не идет, его конвоируют. Пока разведчики тискали друг друга в объятиях, хлопали по спине и по плечу, он смущенно переминался с ноги на ногу, но и до него дошла очередь. На радостях его тоже подхватили в обнимку, потащили в дом и говорили самые хорошие слова: — Ты же золотой парень! Все бы вы такие были! — Вот бы жизнь пошла! Скажи, не так? А более рассудительные уже прикидывали: — Его, пожалуй, не надо в лагерь отсылать. Там ведь как будет: пленный и пленный. Гм! Мало мы пленных видали! Иного, заразу, никак не взять, пока не придушишь. А этот сам пришел. Надо что-то придумать. Придумали хлопотать перед Покрамовичем. Осторожно закинули удочку. Он сразу оборвал: — Своих дел нету? Найду! Но через полчаса, когда вернувшиеся из тыла вылили на себя ведра воды, побрились, начистились, в новых гимнастерках с надетыми по торжественному случаю орденами, отправились к комдиву полковнику Гребенкину, Покрамович взял с собой и Франца. Его оставили у дверей штаба, рядом с часовым — солдатом своей же роты. Покрамович доложил комдиву о выполнении задания. Потом разведчики, стоя в ряд посреди большой комнаты, устланной ковром, выслушали благодарность комдива и на его слова о том, что всех он представляет к правительственной награде, дружно ответили: “Служим Советскому Союзу!” С официальной частью было покончено. Но разведчики продолжали стоять в строю. — Что еще? — спросил комдив после того, как уже сказал: “Можете быть свободны”. — С нами немец пришел. Два дня с нами. Разрешите оставить в роте, — негромко, но решительно доложил Покрамович. Разведчики в строю молчали, но так “ели глазами” комдива, что полковник, пожилой человек, немало повидавший на своем веку, не вынес их взглядов, буркнул что-то и подошел к окну. Посмотрел вниз — туда, на крыльцо, — и отошел. — Вы еще пленных брали? — после долгой паузы спросил он. — Брали. — О них я вас не спрашивал. И об этом тоже не спрашиваю. Так нежданно-негаданно в 111-й отдельной гвардейской разведроте появился новый человек. Франца прикомандировали к кухне. Вместо шинели ему выдали ватную куртку, какие носили все разведчики, но только без погон, а форменную Mütze[30] заменили ушанкой со звездочкой. Вскоре Франц сидел в глубине двора на ротной повозке и под руководством Баландина одолевал первый урок русской словесности: “Николай Василич”, “Иван Иваныч”, “Александр Василич”. Баландин был человеком веселым и неистощимым на выдумки, но тут у него в мозгах что-то заскочило и дальше никак не шло. Покрамович, придя в обозную команду посмотреть, как там приняли Франца, постоял за их спиной, послушал наставления Баландина и не выдержал. — Вот что, Василич, — сдержанно сказал он. — Не морочь голову себе и другим. Ступай во взвод. Баландин облегченно вздохнул, спрыгнул с повозки, потуже затянул ремень. — Спасибо, товарищ гвардии капитан. А то хоть сквозь землю провались. Вы с задачи вернулись, честь и слава, можно сказать, а я будто придурок какой. Совестно. Он вытащил из-под брезента автомат, забросил его, как игрушечный, за спину и бодро пошел в дом, на всякий случай погрозив пальцем Францу: — Ты смотри далеко не уходи! Не ровен час, кто задержит — так что скажешь? Говорить-то еще не выучился! Франц с тревогой смотрел на Покрамовича. Он не понимал, что произошло и почему вдруг прогнали от него советского солдата. — Krieg…[31] — односложно сказал ему Покрамович. — Krieg nicht gut[32], — печально согласился Франц. Покрамович иронически посмотрел на него, словно говоря: “А ты-то что в этом понимаешь?” — но, видно, что-то вспомнил и сказал: — Ладно, Франц. Скоро кончится. Уже скоро. И, хотя говорил он по-русски, Франц понял его. Но что понял? Покрамович уже ушел, а он улыбался и смотрел ему вслед. Покончив еще с несколькими делами, Покрамович было собрался последовать примеру товарищей, вернувшихся с ним из немецкого тыла. Они облюбовали себе уютную спальню на тихом третьем этаже особняка и вповалку улеглись поперек широченной кровати. На пуфиках, тумбочках, трюмо были разбросаны гранаты, коробки патронов, автоматы. Но поспать Покрамовичу так и не пришлось. В зал первого этажа, где и на паркетном полу, и в креслах, и на стульях, и даже на большом столе сидели и лежали солдаты, ворвался ефрейтор Павел Белов. Этот разведчик, живи он в другие годы, непременно был бы каким-нибудь знаменитым марафонцем или велогонщиком. Утомления он не знал, посидеть хоть минуту спокойно никак не умел. Вечно его куда-то влекло, тащило, но так как уйти далеко от роты было все же нельзя, то он сновал по радиусам от места стоянки разведчиков — туда и обратно. И запыхавшийся, с красным лицом, лоснящимся от пота, бросил на ходу: — А за два квартала в складу шоколаду завались. Я дощечку поставил: “Мины”. А то растащат. Пошли? Никто за ним не пошел, Белов исчез, а вскоре появился с новыми сведениями: — Арсенал нашел. Пистолетов — какие хочешь. И дамские[33] есть! Разлеглись… Ладно, я сам! Павел совершил уже с десяток челночных рейсов и, наверно, побывал чуть ли не в центре пожара. Ватник у него был прожжен в нескольких местах, брови и ресницы обгорели, круглое курносое лицо, перепачканное сажей, пылало, вытаращенные глаза бросали голубые молнии. — А в гараже под домом автомобиль стоит. Ха-ха! Ну и автомобиль! Вы сроду такого не видели. Чудо-юдо! И он было снова рысцой пустился вон из дому, но тут не выдержала душа Покрамовича. В ней проснулся шофер. — Белка, где автомобиль? — Пойдемте, товарищ гвардии капитан, — обрадовался Белов. — Здесь рядом. “Рядом” у Белова могло означать все, что угодно, но на этот раз он не преувеличил. Гараж находился всего за два дома — гараж небольшой, подвальный, какие можно встретить в Германии на каждом шагу. Автомобиль, видно, принадлежал бежавшему владельцу бакалейной лавки и действительно выглядел презабавно. Вместо четырех колес у него было три — с пузатыми шинами, будто снятыми с детского велосипеда. Над ведущим колесом острым клювом сходился радиатор. Низенькие борта едва возвышались над платформой чуть побольше зарядного артиллерийского ящика. Автомобильчик был выкрашен алой лаковой краской и блестел, точно игрушка. — Грузовик! — восхищался Белов. — Вот это грузовик! Я сейчас к нему веревку привяжу и по улице побегу. Но Покрамович подошел к делу серьезно: — Живо: одна нога здесь, другая там. Бензин! Прошло часа два, а капитан продолжал ковыряться в моторе. Тот никак не хотел заводиться. Машину раскатывали вперед и назад. Покрамович сбросил куртку, взмок, и, наконец, после долгих усилий, грузовичок зачихал, зафыркал, пустил сизые колечки и перешел на веселый стрекот. В это время пришел приказ выступать. — Веди, веди, — отмахнулся Покрамович от старшего сержанта Ильи Павлова, исполняющего должность старшины роты. — Догоню. А со мной поедут… Капитан вызвал из строя Дмитрия Колышкина, Георгия Литомина, Янсона Спасского и все того же Белова. Трое первых были такими, что хоть сию же минуту выпускай их на ковер чемпионата борцов-тяжеловесов. Высоченные, плечистые, силы зверской — специалисты по быстрой транспортировке “языков” от немецких траншей к своим. Под стать им был и Белов — только чуть пониже. Они подошли к автомобилю, возвысились над ним, смущенно переглядываясь. — На плечо? — усмехнулся Колышкин. — Товарищ капитан, с этими битюгами вы с места не стронетесь! — крикнул кто-то из проходящего мимо него строя. Покрамович сидел за рулем. Он распахнул дверцу, высунулся из кабины: — Много вы понимаете… С ними-то как раз и стронусь. Рота ушла. Немного погодя отправились в путь и автомобилисты. Они нарочно задержались, чтобы доставить себе удовольствие промчаться мимо своих и помахать им рукой. По городу прокатились лихо. Юркий автомобильчик смело, как озорной козленок в стаде, юлил меж настоящих грузовиков, вытянувшихся в очередь к узким горловинам среди завалов, и наводил оторопь на шоферов. Они уступали дорогу. Но за городом на первом же небольшом подъеме грузовичок дернулся раз, другой и стал. Покрамович дал задний ход. Зло урча, автомобильчик снова яростно набросился на холм. И снова, будто икнув, стал. — Давай, соколики! — сказал Покрамович. “Соколики” перемахнули через борт и бегом вкатили машину на перевал шоссе. — Понеслись! — крикнул им командир, и пассажиры, с ходу прыгнув в кузов, заняли свои места. Так было всю дорогу, бежавшую полями с холма на холм. — Не пыли, пехота! — размахивая шапками, кричали разведчики, когда бешено неслись под горку и обгоняли маршевые колонны. — Эй, саврасы! Почем овес? — мстили им пехотинцы на подъеме. В общем, дорогой скучать не пришлось, и разведчики до того увлеклись, что чуть было не умчались с одного из холмов к немцам. — Стой! Стой! — закричали солдаты, выскакивая из ячеек по обеим сторонам шоссе. — Куда?! Разведчики быстро, не разворачиваясь, затолкали грузовик обратно за холм. На дороге разорвалось несколько мин. К счастью, никого не задело. — Скажи пожалуйста! — удивился Покрамович, вылезая из кабины. — Уже приехали. Вот что значит отвык. Несколько минут — и на месте. — А если б она еще сама ехала! — многозначительно сказал Колышкин, утирая шапкой разгоряченное лицо. И спросил: — Маскхалаты? — Ага, — запросто ответил Покрамович, деловито роясь в моторе, от которого валил пар. Потом спохватился, вспомнил, что он все-таки не шофер, и выпрямился: — Приготовиться к задаче. Прогулка кончилась. Начиналась работа.VII
В густых сумерках смутно вырисовываются контуры больших зданий. Город Лауенбург. За палисадниками окраинных стандартных двухэтажных домов залегла разведрота. Что делать дальше? Наши войска остались позади. Они подойдут не раньше утра. К этому времени нужно добыть сведения о противнике. Окраина пуста. А какие силы в городе? Где сконцентрированы? И есть ли они там вообще? Может быть, покинули город без боя, и тогда не нужна будет артподготовка, незачем будет громить и жечь снарядами жилые дома, где могут быть люди. Да и наступление быстрее пойдет, без задержки. Уже близок он, день долгожданной победы, дорог каждый час. Он стоит многих жизней — и своих и чужих… Покрамович стоит у темного прямоугольника живого забора из туи. Он весь подался вперед, глаза щупают темноту. К нему подходит младший лейтенант Лыков. Этого офицера — если прямо не обращались к нему — все в роте называли Гордеем Изотычем. Так повелось задолго до того, как, с легкой руки Баландина, появились в ней “Николаи Василичи”. Очень уж имя колоритное и звонкое: Гордей да еще Изотыч. И фигурой он был колоритной: маленький, плотно сбитый и лихач, каких свет не видывал. Маскхалатов Гордей Изотыч не признавал, предпочитая им кожаную куртку на “молниях”, широченные бриджи-бутылки и черную каракулевую кубанку с красным верхом. За этот партизанский вид ему перепало столько нахлобучек, что другому хватило бы на всю жизнь. Гордею Изотычу и горя было мало. Дня два возле штаба он еще крепился и ходил, как положено по форме, но едва лишь уходил на передний край, снова наряжался. Покрамович, не терпевший ни малейшего ослушания, в данном случае крутых мер не принимал. Он вполне справедливо считал, что каждый волен идти на разведку в чем ему нравится и удобно, а относительно того, что красочный наряд Лынова привлечет внимание противника и выдаст других, командир роты не беспокоился. И вот почему. Звание младшего лейтенанта Лыкову присвоили в начале войны, присвоили исключительно за храбрость. Дальше по служебной линии он не продвинулся ни на шаг. Правду говоря, офицер из него получился никакой. Он умел и знал лишь одно — вперед, и никаких гвоздей! Но на фронте, особенно в разведке, это — немаловажное качество. Лыкова высоко ценили в дивизии, ему поручали опаснейшие задания — однако, в основном, такие, когда ему приходилось бы действовать самостоятельно. Это как раз соответствовало его натуре. Чувства самосохранения, а тем более страха, он был лишен начисто, лез в самое пекло, умел поднять в решительную атаку бойцов, уже несколько раз отброшенных от вражеского рубежа. “Пойду вдохновлю” — называлось это у Гордея Изотыча, и он шел вдохновлял, да еще как! Чертом вылетал перед цепью, и тут его лихой наряд был даже полезен: Лыкова видели все. Противник, конечно, тоже, но если справедливо то, что из-за совершенно невероятного случая может погибнуть человек, то также справедливо и то, что именно по этой причине Гордей Изотыч ходил в живых. У каждого опытного разведчика есть свои любимые уловки, приемы, свой метод. Был он и у Лыкова и со стороны выглядел так. На переднем крае среди наших бойцов появляется Лыков. С ним его ординарец, а вернее, дружок Георгий Литомин. Литомин вдвое выше Лыкова, но одет не менее живописно: брюки маскировочные, свитер и на самом затылке — свернутый в виде спортивной шапочки шерстяной подшлемник. У него узкое веснушчатое лицо с таким выражением, словно Литомин только что уксусу хватил. — А зачем нас сюда прислали? — не обращая внимания на окружающих, недоуменно спрашивает он Лыкова. — Кругом тихо, спокойно… А? Лыков пожимает плечами. — Так зачем нас вызвали? — тоном врача, подозревающего пациента в симулянтстве, в свою очередь, задает он вопрос командиру пехотного подразделения. — У них там где-то крепко, — показывают ему рукой. — Нет там ничего, — мимоходом вставляет Лыков. — Ну, дальше? — Пулеметный огонь… — Нет там пулеметов, — замечает Лыков. — Дальше? — А дальше пойди сам посмотри, раз такой умник! — зло бросают ему. И Лыков невозмутимо отвечает: — А мы сейчас так и сделаем. Жорка, пошли! И день ли, ночь ли, светит ли в небе луна, заливая открытое поле, или темным-темно в густом лесу, оба выпрыгивают из окопа и метрах в двадцати друг от друга напрямик шагают в сторону немцев. Когда их не может видеть противник да и сами они дальше чем на десять шагов ничего не различают, то оба громко разговаривают, бросают камни, комки земли, стучат палками — не два человека, а пьяная толпа, и толпу встречают огнем — только засекай точки! А если оба на виду, то всем своим поведением показывают, что даже не подозревают об опасности, и беспечно идут полем куда-то туда, где уверены встретить своих. В таких случаях по ним не стреляют. Их ждут. Ждут, что вот-вот они сами пожалуют в западню. И вдруг кто-нибудь из разведчиков припадет к земле, шарахнется назад, и оба стремглав бросятся наутек: они “увидели” врага! И этот метод тоже срабатывает безошибочно. Злой, яростный огонь летит им вдогонку. Еще бы — уходят из-под самого носа, когда были почти в руках! А потом оба укроются в заранее высмотренной воронке, рытвине, выйдут из-под обстрела короткими одновременными перебежками в разные стороны: это тоже имеет немаловажное значение. В кого стрелять? Рискованный, конечно, метод, но тонкий и психологичный. Выдержки он требует железной, расчета до сантиметров и долей секунды. И дается он только хладнокровным, невозмутимым людям. А что фордыбачит Лыков на переднем крае — так это, в общем-то, понятно. Не убеждать же ему и других и себя, что впереди неминуемо ждет смертельная опасность. Стакими мыслями в поиск не идут — лучше уж лечь сразу, накрыться и отойти в мир иной без лишних хлопот. Дело сделают другие — те, кто верит, кто знает твердо: не так страшен черт, как его малюют! У Лыкова — три ордена Красного Знамени. Когда Покрамович садится за наградные листы, он хоть краешком глаза пытается заглянуть ему через плечо, и думает, что этого никто не видит. Но видят все, и все в роте знают, что он мечтает о четвертом “Знамени”. Но вдруг отметят какой-то другой наградой? Тогда картина будет не та. — Как Буденный хочешь? — вспомнив довоенные портреты маршала, спросили его однажды. И впервые разведчики узнали, что младший лейтенант все-таки может смутиться и даже покраснеть. — Скажете тоже, — как-то неловко поведя плечами, пробормотал он и отошел в сторону. Вот и сейчас, понимая всю сложность задачи, он подошел к Покрамовичу, чтобы предложить свои услуги. — Обернусь с Литоминым? — Долгая песня, — подумав, отвечает Покрамович. — Туда, назад… Да и что узнаешь? Что они там есть? Эка новость… Покрамович снова надолго замолкает. Достает папиросу, потом, вспомнив, что курить нельзя, крошит ее в руке. — Все пойдем, — наконец решает он. — Силён, — покачав головой, тихо, про себя, говорит Лыков. Смелый человек, он прекрасно понимает ту меру ответственности, которую берет на себя командир роты. Сам Лыков ничего не боится и пойдет хоть к черту на рога. Но вести роту? Для этого надо быть Покрамовичем. Надо верить каждому, как самому себе. Капитан собирает разведчиков. Обычно он ставит задачу в двух — трех словах, а сейчас объясняет подробно: — Движемся к центру. Чтоб ни звука! Займем дома. Возможно, с боем. Немцы пуганые, паникуют. Пока в себя придут — в домах будем. Задача — преградить отход противника через развилку в центре города. Пусть закоулками петляют, в своих же завалах. Вопросы есть? Вопросов нет. Разведчики верят своему командиру. — Головной дозор — Лыков и Литомин. Мой заместитель — Павлов, — отдает приказ Покрамович, и вслед за скрывшимся в палисаднике головным дозором, крадучись, трогается вся цепочка разведчиков. Обогнув небольшой завод, во дворе которого стояла артиллерийская батарея, затем длинные — что ни дом, то квартал — четырехэтажные жилые здания нового типа, где в подвальных окнах были устроены огневые точки и замерзшие пулеметчики ходили вдоль стен, головной дозор нашел узкую, кривую улочку, какие часто встречаются в западных городах. По ней разведчики прошли несколько десятков метров, на всякий случай построившись рядами, а дальше, скрывшись во дворах, стали перелезать через высокие кирпичные ограды, пробираясь к центру. Наконец они очутились в каменном мешке, с трех сторон которого стояли многоэтажные дома, а сзади был сарай — тоже из камня, покрытый черепицей. Глубокая арка вела со двора на улицу, но в конце выход преграждали массивные железные ворота, задвинутые на засов. Лыков подполз к воротам, выглянул в узкую щель под ними. Направо у стены дома мешки с песком и две каски над ними. Это засели фаустники. Налево слышен шум машин, доносятся обрывки приглушенных команд. Развилка военных дорог. Лыков поднимает руку, за ним Литомин, и по всей цепочке проходит сигнал: “Внимание!” И за ним другой, откуда-то сзади, от Покрамовича: “Стой!” Под ногами асфальт и торцовая брусчатка, с боков кирпич. Вверху квадрат черного неба. Каменный колодец. Разведчики залегли, тесно прижавшись к стенам. Покрамович бесшумно обходит солдат, выискивая кого-то. — Замок на сарае. Снимешь? Проходит несколько минут. Если очень прислушаться, то слышно, как скребет железо о железо. Скребет долго, нудно, пока не раздается скрип двери. Замок снят. Часть разведчиков скрывается в сарае. В нем какие-то прелые, мокрые на ощупь перины, взвизгивает пружинами матрац. Дверь закрывают, Кузьмин и Китаев разворачивают рацию. — Два слова, — говорит им Покрамович. — “В центре!” И повторите. Стучит ключ. До чего же громко стучит! Как никогда! С улицы доносится звонкая поступь кованых сапог. Около дома останавливается небольшой отряд. Бухают удары прикладов в запертую дверь подъезда. Раздается команда: — Alles veg![34] Это эсэсовцы. Перед приходом советских войск они создают “мертвое пространство”. Разведчики вытягиваются вдоль стен под аркой. Нужно быть наготове. Из домов появляются нагруженные рюкзаками и узлами жители. Острые лучи фонариков освещают их в дверях подъезда. Дети цепляются за родителей. Всхлипывают. Громко плакать нельзя. Взрослые, ссутулившись, бредут покорно. Гитлер выучил их молчать. Свет фонарика выхватывает кусок стены дома. На ней намалевана черная голова подслушивающего человека в шляпе и надпись: “PST”. — Пст!! — шипят эсэсовцы. — Пст! Сапоги приближаются к воротам. Глухой удар по железу. Лыков берется за засов. Противотанковая граната страшной силы в руке у Литомина. Вскидывает автоматы первый ряд разведчиков. Но немцам, видно, не хочется идти во двор. Еще несколько минут слышен топот ног, хлопают двери, затем отряд уходит и издали еще долго доносится: — Alles veg!! Alles veg!! Alles veg! В городе остаются только войска. — Выгнали, на наше счастье, — облегченно вздыхают разведчики. Теперь можно спокойно оставаться во дворе — сюда вряд ли кто-нибудь заглянет. Осторожно вынув стекла в первом этаже, несколько разведчиков проникают в дом. Это наблюдатели, лучшие стрелки. Рота заняла боевую позицию в центре вражеского города. Проходит час, другой, Покрамович часто посматривает на часы. Ждут и разведчики. Они знают, о чем передано командованию. Подмога подойдет. Должна подойти! Но пока ее нет. А уже наползает серое утро. Начинают двигаться отступающие немцы. В конце улицы показывается колонна. За ней по этой главной артерии города пойдут другие части. Останутся только заслоны пулеметных гнезд и фаустников — так было уже не раз. Немецкая колонна все ближе, ближе. Ее обгоняет легковая машина, вырвалась вперед… Покрамович взмахивает рукой. Ворота разлетаются настежь. С пронзительным свистом вылетают из-под арки разведчики. Развернувшись поперек мостовой, они режут колонну плотными непрерывными очередями. С верхних этажей летят гранаты. Клубы дыма, грохот несутся от стены — это пошли в ход захваченные в ячейке фаусты. Немцам некуда укрыться среди домов. Где-то дальше — это видно сверху, с балконов — бьются в постромках лошади, машины дают задний ход и врезаются в пехоту. Но и оставаться на мостовой становится опасно. Немцы начинают обстреливать. Разворотив гранатами окна, разведчики прыгают в них и из домов по обеим сторонам улицы продолжают огонь, стараясь отсекать короткие очереди в два — три выстрела. Завязывается бой, нужно экономить патроны. Подползают немецкие бронетранспортеры. Крупнокалиберные пулеметы бьют по окнам. — Менять позиции. Огонь из разных точек! — несется откуда-то голос Покрамовича. — Прицельный огонь! Только прицельный! Оно и понятно: начни бить очередями — в минуту останешься без патронов. И наконец! Танк вылетает из-за поворота в конце улицы, за ним второй, третий. Какое-то мгновение они стоят, поводя длинными стволами пушек и будто раздумывая, с чего начать, потом, разом ударив из пулеметов, выбрасывая из орудий языки пламени, срываются с места и крошат, рвут, корежат все на своем пути. Грохот взрывов, лязг и скрежет гусениц, стук автоматов — все сливается в сплошной гул боя. Кажется, уже не разобрать, где свои, где чужие. Все перемешалось на улице Но вот на крутой черепичной крыше, где только что были две немецкие каски, уже мелькнула кубанка Лыкова. Петров высунулся из чердачного окна и во все горло орет кому-то: — Gewehr[35] давай! Отсюда здорово! Внизу под ним, на балконе, Вокуев с винтовкой. Выстрелит, посмотрит, выберет цель и снова прижмет щеку к прикладу. А в подвальной выемке за бруствером из мешков — Алексеев. Немцы — народ аккуратный. В нишах ячеек они ровно раскладывают гранаты на длинных ручках, чтоб удобно было их сразу взять. И Алексееву удобно: ловко, сноровисто, как мальчишка камень, швыряет он их на ту сторону, в другое такое же гнездо. Не так-то просто накрыть его сверху. — По гнездам! По фаустникам! Весь огонь по фаустникам! — кричит Покрамович. Танки рядом. Их уже не три, их больше, и они всё подходят. Разведчики выпрыгивают из окон, выбегают из подъездов. Вместе с мощными, но подслеповатыми в ближнем бою машинами они прорываются к центру и дальше, за площадь. Там пошло быстро: засад уже почти не было, да и из них фаустники бежали. На противоположной окраине часть танков осталась у главной дороги, часть ушла и надежно заперла другие выходы из города. Часам к восьми утра в Лауенбурге все было кончено. На улицах солдаты трофейных команд грузили оружие, сложенное немцами в штабеля. Под охраной двух-трех конвоиров пленные тянулись на запад, где теперь были уже наши тылы. А на восток, куда устремились черно-желтые стрелы дорожных указателей “Гдыня — Данциг”, двигались наши войска. Отправились в путь и разведчики. Сначала на танках, вместе со своими новыми друзьями, гвардейцами одной из частей корпуса генерала Катукова, проделавшими стремительный ночной марш, чтобы прийти им на помощь. Только механики-водители остались в машинах. Остальные разместились на броне. На башнях разложили немудреную закуску, выпили по маленькой и наговорились до хрипоты — старались перекричать гул машин. Вскоре, однако, пришлось расстаться. Танки пошли дальше по шоссе, а разведчики постояли на обочине, помахали им вслед рукой и свернули на лесную тропинку.VIII
Ныне, взяв в руки военную историческую книгу или обратившись к энциклопедии, мы без труда можем узнать, что, пытаясь найти выход из катастрофического положения, немецкое командование создало в Восточной Померании сильную группировку (2-я и 11-я армии), ударом которой в южном направлении противник угрожал сорвать наступление советских войск… Развивая наступление, войска 2-го Белорусского фронта разгромили прижатую к морю 2-ю немецкую армию, после упорных уличных боев 28 марта заняли Гдыню, 30 марта овладели Данцигом, а 4 апреля ликвидировали остатки сопротивлявшегося противника на полуострове севернее Гдыни. Сегодня это — история. А в те дни, когда она писалась оружием наших воинов, никто из них еще не мог точно назвать числа, когда будет занят тот или иной город, когда будут ликвидированы остатки противника. Но день за днем в беспрерывных атаках они отвоевывали метры земли, с каждым шагом приближаясь к морю. 111-я гвардейская дивизия через лесистые крутые сопки шла на пригород Гдыни — Янув. Еще не зная, с чем им предстоит встретиться, разведчики Покрамовича рано утром 11 марта вышли после ночевки из местечка Реды и, поеживаясь со сна, неторопливо потянулись красивой лесной дорогой среди соснового бора. Где-то должен был быть враг, но где? Тишина и спокойствие царили вокруг. Небольшая речушка пересекала дорогу. За деревянным мостиком с мирными сельскими перильцами стояла, как на картинке, водяная мельница. Дальше, метрах в ста, лента шоссе круто сворачивала. Покрамович выслал вперед дозорных, а остальные, ожидая, пока они выяснят, что там, за изгибом, закурили, прилегли подремать на утреннем солнышке. День начинался чудесный. В эту тишину вдруг разом ворвались вой и грохот мин. Дозорные, лишь какую-то минуту назад скрывшиеся за поворотом, вылетели обратно. Их было четверо — столько и отправилось в разведку, но двое висели на плечах у товарищей. Ранило Николая Никонова и Владимира Михайлушкина. Накануне, когда ночевали в просторном подвале большого каменного дома, у Михайлушкина разболелись зубы. Он ходил из угла в угол и заговаривал сам себя: — Несмотря на непрекращающуюся и все усиливающуюся зубную боль, гвардеец Владимир Михайлушкин стойко и мужественно… Ребята, что бы такое сделать? — Вырвать, — не отрываясь от письма, посоветовал Никонов. — Зацепи на проволочку к двери и сиди. Кто-нибудь войдет — и будь здоров. — Так лучше сам вырви! — Я не могу. У меня нервы, — по-прежнему не поднимая головы, ответил Никонов. Но нервов у Никонова не было, а если были, то из стальных канатов. Ничто не могло взволновать его и хоть на миг вывести из душевного равновесия. Сейчас он, обнаженный до пояса и перевязанный, лежал на расстеленных ватниках и, закрыв глаза, тихо говорил: — Нас сперва домой пусть отправят. (Домой — это туда, где обоз.) Надо ордена забрать. Документы. А Михайлушкин, и в добрый-то час злой и желчный, ругался на чем свет стоит: — И все эти чертовы зубы! Вконец замотали. Не сориентировался я. На шаг бы вперед ступить… Полметра надо было. А теперь не болят, холера их забери! Осколки были у Михайлушкина в ноге, в руках, и зубная боль действительно отошла. Подъехала ротная повозка. Раненых отправили. И велели ездовому немедленно возвращаться. Дело оборачивалось худо. Иван Зайцев, возглавлявший дозор, доложил, что за поворотом дороги две небольшие лесистые сопки. Откуда-то из-за них и ударили минометы. Рота разделилась на взводы и попыталась прощупать эти высоты. Что на них? Оказалось, что повсюду, где ни попробуй, плотная оборона противника. Был ранен Зайцев. Тогда, разбившись на мелкие группы, рота пошла в обход сопок, стала нащупывать другие пути. Но всюду разведчики наталкивались на встречный огонь и отходили. Да, долго отступали немцы. А теперь, стянув всю живую силу и технику на небольшой плацдарм, отчаянно защищали свой последний рубеж. Дальше отступать было уже некуда. С моря начали бить тяжелые корабельные орудия. Здоровенные, как чушки, снаряды ломали лес, рвали его, косили, он поредел, будто на вырубке. А дивизия шла вперед. Медленно, трудно, с большими потерями — но шла. Наступило утро 13 марта. Еще с ночи разведчики Покрамовича были направлены в один из батальонов 396-го стрелкового полка, глубоко вклинившегося в оборону немцев. Он так вклинился, что оказался почти отрезанным: только узкая перемычка связывала его с полком. Но ведь шел 45-й, а не 41-й год, когда несколько просочившихся в тыл автоматчиков могли посеять панику: “В кольце!!!” Теперь окружения не боялись — ни в штабах, ни в окопах. Батальону было приказано продолжать наступление, а добыть необходимые сведения о противнике командование поручило разведчикам Покрамовича. Всю ночь лазили они по сопкам, перерытым траншеями, опутанным колючей проволокой, заваленным деревьями. Только противопехотных мин не было: их не успели поставить. Но и без мин пришлось так, что хуже некуда. В завалах, в рытвинах, воронках немцы выставили пулеметы, и до главного оборонительного рубежа противника добраться никак не удавалось. То и дело разведчики в потемках нарывались на засады и уходили, прикрывая свой отход гранатами. К утру взяли “языка”. И опять не повезло: “язык” оказался каким-то бестолковым и насмерть перепуганным резервистом, попавшим под тотальную мобилизацию. — Гитлер капут, krieg kaput, — бормотал он, и толком от него ничего добиться было нельзя: он не знал даже приблизительного состава своей роты. — Всех уже похоронил, ублюдок, — сплюнув, сказал Покрамович. — И откуда такая мразь берется? Ладно. Попробуем раскусить их иначе. Иначе — это была разведка боем. Все средства уже испробовали, ничего другого не оставалось. На рассвете Покрамович повел своих “соколиков” в атаку. Они рассыпались цепью по склону и, прячась в рытвинах, воронках и ветвях поваленных деревьев, начали спускаться к подножию сопки, чтобы потом рвануться на новую высоту. Сейчас, по прямой, она была совсем рядом — крутая, заросшая кустарником. Разглядеть, что в нем, было невозможно. Но оттуда разведчиков заметили. И тут… Видно, высмотрел немецкий снайпер Покрамовича и определил в нем командира. И не промахнулся, будь он проклят… А дальше… Завязался бой. Сначала короткий, яростный. Бешеным огнем встретили разведчиков немцы. Рота отошла, и тогда по раскрывшейся обороне врага ударил батальон. Когда первые советские солдаты ворвались на высоту, разведчиков среди них не было. За гребнем своей, уже покинутой батальоном сопки, у тех самых окопов, из которых уходили в поиски ночью, стояли они вокруг своего командира, лежавшего на земле. Шел дождь. Он смыл кровь со лба Покрамовича. Смуглое лицо капитана бледнело и будто отмывалось после долгих трудов войны. Как сегодня понять, что случилось в тот день? Но разведчиков никуда больше не вызывали, никуда не посылали, ни о чем не спрашивали. Когда наконец перемычка, связывавшая оторвавшийся от своих батальон, была расширена, они дождались повозки, положили на нее мертвого командира и отправились вслед за ним в Реду — туда же, откуда минувшей ночью вывел он роту на свое последнее задание. Там, на окраине городка, близ леса, по склону над шоссейной дорогой, стояли бараки лагеря советских военнопленных. Отступая, немцы угнали их. Ветер гулял в разбитых окнах опустевших бараков, на полу валялась прелая солома. Но тихо здесь было, покойно. Никто не заглядывал в это мрачное место, да и кому охота лезть высоко от шоссе? На войне солдат лишнего шагу не ступит. Он уже нашагался… В таких безлюдных местах, на фронтовом отшибе, старались останавливаться после своих нелегких дел разведчики. Так уж вышло, что за годы войны прочно утвердилось за ними громкое имя — “лихие разведчики”, и по-своему, чего, пожалуй, не подразумевалось в газетных статьях и приказах, толковали его двадцатилетние парни. Для них лихой — это значило не только бесстрашный, но и неунывающий, развеселый рубаха-парень, которому все — трын-трава. А не всегда получалось быть веселым. Чаще случалось наоборот. Вот и избегали они посторонних глаз, чтобы не показывать, будто, несмотря ни на что, ты все же “лихой”. Каким угодно могли знать в дивизии Лыкова. Но никогда никто, кроме своих, не мог увидеть, как плакал Гордей. Плакал он как мальчишка, навзрыд. — Димка, Димка… Ну что же ты наделал? Ведь мы бы сами… Зачем ты-то полез? — без конца повторял он и взрывался: — Да потише нельзя? Что они душу пилят?! Это за стенками барака строгали гроб. Всегда сдержанный, спокойный Павлов с красными опухшими глазами утешал Лыкова. А Вокуев ходил от одного к другому: — Ведь это все я, я виноват! Видел я, как этот гад целится. И — не успел… Не успел! Только вскинул автомат, а он уже выстрелил. — Ладно, Яшка, — говорили ему. — Что теперь сделаешь? И не видел ты ничего. Так всегда кажется, что можно было смерть отвести. — Вы не видели, а я видел! Все я виноват! — снова говорил он и только бередил живую рану. Разведчики знали: Вокуев точен в своих словах. Он никогда не станет утверждать того, что ему только лишь показалось, и если говорит, что видел, как целился враг, значит, так оно и было. Видел! А ударить из автомата не успел. Это тоже правда, и ничего тут не поделаешь. Но если видел он, то, значит, видеть мог каждый, должен, обязан был видеть! Вот этот мой товарищ, что сейчас сидит рядом и трет, трет свой автомат. И этот, что взялся за гранаты и перевинчивает надежные запалы. И этот, перезаряжающий магазин свежими патронами. И прежде всего я сам — чего же на других валить?! Не увидел… но в следующий раз! И вот сейчас, в этом заброшенном бараке, где у входа на свежеоструганном столе лежал убитый Покрамович, в сердцах людей горе уступало тому чувству, которое называют ненавистью к врагу. Да, они все-таки были лихими разведчиками! Знали свою силу, готовы были всегда к бою и в эти минуты желали только одного: драться, драться до самозабвения! Не поиска — своего привычного дела — хотели бойцы. Нет, не осторожный, крадущийся шаг нужен был сейчас им, не ползком в мертвенном свете ракет. Подняться в рост, в атаку, когда полыхнут взрывы в лицо, захлестнет волною собственное “ура”, чтобы голову поднять не могли, гады! Тишина стояла в бараке. Молчали разведчики. К чему были слова о мести, о клятве, о долге? Все это, слившись с юной отвагой и жаждой подвига, давно стало смыслом их жизни. Они знали — ответ нужно дать в бою, и только бой принесет день, когда не придется стоять над телом погибшего друга. За стенками барака послышались шаги. — Рота! — подал команду дневальный, распахивая дверь. Но его остановил негромкий голос: — Не надо. В барак вошли комдив и начальники штаба, политотдела и разведки дивизии. Это “не надо” полковника Гребенкина сразу многое сказало солдатам. В армии командиры подчиненным так не говорят. В армии приказывают: “Отставить!” И разведчики поняли, что полковник со своими помощниками явился перед ними не как командир, а как близкий человек приходит к друзьям в горький час. Быстро, но без суеты рота построилась. Один Франц остался в углу и попытался незаметно проскользнуть в дверь. Там его и остановил комдив жестом руки. Офицеры встали в почетный караул. Затем полковник подошел к строю. — Трудно, товарищи, — после долгого молчания сказал он. — А обещать я вам могу только одно. Еще труднее будет. Нам известен приказ Гитлера, запрещающий эвакуацию войск из района Данцига. Отступать им некуда, сдаваться не хотят. Нужно перебить их. Гребенкин снова замолчал, обвел взглядом разведчиков. — С нас с вами не спросят, легко нам или трудно. Воевать надо. Как Покрамович. Ему бы жить да жить… Молодой, вся грудь в орденах. Еще бы немного продержаться, ну поосторожней быть, что ли, — и потом ходи себе в героях. Думаете, он этого не знал? Знал! И шел впереди. Чтобы другим жизни спасти, даже этому вот вашему… вольнообязанному. Я его все-таки убрать от вас хотел, а теперь оставлю. Как память о Покрамовиче. И чтоб вы помнили — воевать так уж воевать, но и людьми быть надо! А нам, товарищи, еще много дел предстоит. Мы фашистов здесь добьем, в Польше, и снова в Германию вступим. Прославилась ваша рота с Покрамовичем. За таким командиром вам хорошо было. Но я верю — рота по-прежнему выполнит любое задание. А напоследок вот что вам скажу: выйдите на улицу. Море-то видно. Видно, товарищи! Больше комдив ничего не сказал. Разведчики вышли из барака. Внизу по дороге тягачи тащили тяжелые орудия. Вдали, за кронами деревьев, на уровне глаз, в молочном мареве снегопада вспыхивали огненные шары. Это были корабельные орудия немцев. Море! Оно огрызалось, но каждый разведчик говорил себе: “Дойдем! Мы первыми там будем!” Хоронили Покрамовича в польском городе Вейхерове, через который он три дня назад вел свою роту. Только несколько разведчиков смогли пойти за гробом своего командира: ночью роту снова бросили в бой. На центральной площади, против здания магистратуры, разобрали брусчатку и вырыли могилу. Был день, и к ней собралось много поляков. Звуки органа неожиданно заполнили площадь. Они текли из распахнутых дверей костела. Польские граждане знали, что хоронят русского героя, и по-своему, с молитвой, провожали его в последний путь. Могилу закопали. Положили на нее венок из еловых веток, перевитых орденскими лентами. Дали салют. С минуту постояли, прошли сквозь безмолвную расступившуюся толпу и быстро зашагали к фронту. Один за одним, по обочине шоссе. Командиром роты стал старший сержант Илья Павлов. Полковник Гребенкин, видимо, не решился доверить роту Лыкову, всегда-то отчаянному, а после смерти Покрамовича просто осатаневшему от злости, но и самолюбие младшего лейтенанта пощадил. Приказа о новом назначении Павлова он перед строем роты не объявил. Отозвал обоих, поговорил с ними, после чего Лыков ушел куда-то с неразлучным Литоминым, а Павлов приказал: — Слушай мою команду! — И все всем стало ясно без лишних слов. Несколько дней разведчики — они действовали небольшими группами по фронту дивизии — время от времени сталкивались у переднего края с Лыковым. В роте, где были собраны опытные бойцы, между командирами и подчиненными сложились простые товарищеские отношения, да и вообще Лыков был таким человеком, что его мог спросить каждый: — Как дела? — А какие у меня дела? Обычные. — И он после короткого перекура, когда разведчики, день и ночь бродящие по частям и подразделениям дивизии, наскоро сообщают друг другу, что, где и как, прощался. Дела у него были действительно обычные, такие же, как и у всех: пойти вперед, высмотреть, вызвать огонь на себя, но поначалу Лыков и Литомин составляли как бы отдельную боевую единицу среди всех разведчиков дивизии. Впрочем, и раньше так частенько бывало, а потом оба опять появились в роте, — когда Павлов вполне уже освоился с положением ее командира, и другие тоже к этому привыкли. Здесь все же необходимо повториться и пояснить, что разведка — довольно специфичное подразделение. Во-первых, принимают в него только добровольно, и среди добровольцев всегда немало младших командиров, однако в отделения, в поисковые группы они входят рядовыми бойцами. Например, в 111-й роте было несколько старшин, несколько старших сержантов. Короче говоря, административно-командные взаимоотношения людей в разведподразделениях внешне очень сложны, потому что младший по званию подчас командует старшим. А по существу эти отношения просты до предела: кто в данный момент, на данном участке лучше знает дело, тот и главный. Тут важно уяснить самое основное: при всей своей подчас показной бравости, при любви одеться хоть чуть-чуть не по форме и эдакой небрежности в обращении к старшим по званию (погоны-то под маскхалатом, а то и вовсе их нет — поди разбери, кто я сам такой!) разведчики были дисциплинированны в самом высоком значении этого слова. За передним краем, когда до врага иной раз рукой дотянуться можно, двум-трем парням в маскхалатах никто уже ничего не приказывал и не подсказывал. Они действовали, подчиняясь чувству долга. Сознание своей ответственности вело их, — и ведь очень примечательно, что ни в какой другой армии не было подразделений, состоящих из “охотников за “языками”. Те же вымуштрованные фашистские солдаты если и шли в разведку, то скопом и никогда в малом числе не подбирались вплотную к нашим траншеям, не врывались в них — духу не хватало! Сейчас от разведчиков требовалась огромная выдержка. Когда Покрамович командовал ротой, все было просто: Герой Советского Союза, капитан, блестящий разведчик. Ему равных не было. Павлову пришлось стать во главе многих своих друзей, которые еще утром называли его “Илюшкой” и запросто могли сказать: “Ты беги за водой, а я пока костер разведу”. Но с того момента, как сказал Павлов: “Слушай мою команду!” — “Илюшки” в роте не стало. Новое назначение все в роте восприняли как должное — и равные командиру по званию, они хорошо знали своего товарища, неторопливого, спокойного, даже солидного, только немножко насмешливого. Красивый статный парень лет двадцати четырех, с густыми каштановыми волосами, которые, когда был без шапки, небрежным кивком забрасывал со лба назад, держался со всеми просто и строго, но порою любил спросить докладывающего о выполнении задачи примерно такое: — Ну, а сколько приврал? — Все точно! — Абсолютно точно? — Абсолютно! — А еще говорят, что все в мире относительно! Правильно. Утверждай абсолютную истину. В идеале. Знай наших. Иной разведчик глаза таращил: о чем бы это и что ответить? Но ведь бывало это только тогда, когда задача здорово удавалась, все об этом прекрасно знали, у всех было хорошее настроение и можно было позволить шутку. Обычно же Павлов был немногословен, коротко ставил задачу, и если ее выполняла вся рота, с автоматом шел вместе со всеми. Пожалуй, он чаще, чем нужно, выходил вперед, и уже стали ему говорить товарищи, что зря он храбрость свою перед ними показывает, что и без того ему все верят… А 31 марта Павлов погиб. И случилось так, что его даже похоронить не смогли. Мало, очень мало осталось людей в роте, а нужно было идти дальше, на новое задание. Павлова вынесли из-под огня к дороге и положили на повстречавшуюся подбитую самоходку, которая везла на братское кладбище в только что занятом Януве сгоревших танкистов. — Не сомневайтесь, ребята. Вместе со своими похороним, — обещали самоходчики. — И имя напишем, как полонено. Несколько месяцев спустя, когда уже кончилась война, разведчики, разбирая документы погибших товарищей, хранившиеся вместе с орденами в железном ящике писаря Волнова, обнаружили письма Павлову. Их было много, на тетрадных листках в клетку, исписанных красными чернилами размашистым почерком. “Пишу тебе на лекции. Ты знаешь, Илюша, после твоего последнего письма я специально пошла на концерт Баха и старалась слушать с тобой, или, не знаю, можно ли так сказать — за тебя. Ты прав. Эта музыка может звучать на фронте, хотя все же я остаюсь при своем убеждении: Бетховен сегодня нужнее…” Взяли второе письмо — о Шопене. Третье — Рембрандт. И все Павлову от той же студентки. Но от какой? Ни адреса, ни фамилии, ни имени. “Целую…” и закорючка. Конверты Павлов выбросил, а “треуголки”, обычной в те времена, ни одной… Прочитали письма разведчики и долго сидели молча, не в силах вымолвить ни слова. Илюшка Павлов… Его же знали совсем другим — таким, какими были сами: едва окончившими ремесленные училища, не доучившимися в средней школе — в общем, людьми, которые на вопрос о своей профессии гордо отвечали “разведчик”, и это было правдой чистой воды, потому что никакой другой профессией еще не успели овладеть. А Павлов — вон он, оказывается, что знал! И просто не верилось, не хотелось верить, что какой-то паршивый осколочек, ну как булавочная головка, ударил в висок и унес жизнь такого парня!.. И потому, что не хотелось верить, не хотелось помнить о тонкой струйке крови на виске, кто-то сказал: — А может, жив? Мы ж его не похоронили… И тогда разведчики, как умели они это делать, в миг развернули бурную деятельность. Бросились в штаб, добились того, о чем их сперва и слушать не хотели, — права поехать на розыски друга. В армейские госпитали, в санбаты направились они, на мотоцикле рванули за сотни верст от немецкой деревушки Бадклейнен в Янув. Ни в санбатах, ни в армейских госпиталях — ничего. Не поступал. В Януве — тоже. Не нашли могилы ни на братском кладбище, нигде. Нет, не могли не выполнить обещания самоходчики! Они ведь тоже были солдатами. Но вот доехали ли они до Янува? Трудно сказать… В те дни, когда до моря оставалась полоска километров в пять, все ревело на ней и переворачивалось с корнями. Сразу же, как только простились у дороги с Павловым и взяли штурмом какую-то новую высотку (теперь разведывать было нечего, все было ясно: вперед и “ура”), залп шестиствольного миномета накрыл Гордея Лыкова и Георгия Литомина. Литомину высадило руку из плеча — будто ее там и не было. Но, поднявшись, постояв v сосны, он взвалил одной рукой на плечо раненного осколком в живот Лыкова и, пошатываясь, пошел в санбат. И опять высоты, и опять… Ранены Вокуев и Чистяков, убит Виктор Михайлов. Ранены Китаев и Колышкин, убит Казьмин, Саша Казьмин, “маэстро”, “Брызги шампанского”… Никто уже в те дни не заполнял строевых рапортичек. Писарь Волков, повар Обросов — все были в бою. От веселой обозной команды остался один Франц. В самом маленьком котле походной кухни варил г>стой суп из макарон с тушенкой, запрягал пугливую лошаденку, которую била мелкая дрожь при близком взрыве, и ехал к передовой. Его уже знали в дивизии и всюду пропускали. — Товарищи, — оставив где-нибудь в укрытии кухню, бежал он к разведчикам, — обед! Был он малый точный, как часы. Приезжал ровно в полдень и в девять вечера. И как-то так вышло, что за него-то больше всего и волновались разведчики. “Сами — это ладно, это в порядке вещей. А вот он — это другое дело! Ему-то зачем рисковать?” — думали разведчики. Как-то еще не доходило до их сознания, что бежал Франц из гитлеровской армии не потому, что боялся войны, а потому, что понял, на чьей стороне правда и кто повинен в гибели его родных и близких. Вовсе не робкого десятка оказался он и спокойно следовал за ротой всюду, куда бы ни шла она. А шла она на самых трудных участках. В цепи атакующих полков, батальонов у горстки разведчиков постоянного места не было, и перебрасывали их туда, где было труднее, где надо было встать и если уж лечь — то мертвым. Ефрейтор Петр Алексеев теперь командовал ротой. На рассвете 4 апреля она вышла на берег Балтики. Было в ней девять человек. Седьмого апреля 111-я гвардейская орденов Красного Знамени, Суворова II степени и Красной Звезды Печенго-Гдыньская дивизия повернула к Одеру. Свое место во главе походных колонн заняла короткая цепочка разведчиков. Но с каждым днем длиннее становилась она. Возвращались из госпиталей те, кто был легко ранен в самом начале боев. Вслед за новым командиром — Героем Советского Союза старшим лейтенантом Павлом Примаковым — пришел его помощник Сергей Хворов и еще несколько полковых разведчиков — старых и верных друзей по оружию. Потом штаб дал пополнение — небольшое, но в роте набралось человек тридцать, и к Одеру уже подошли двумя цепочками, по обеим сторонам шоссе. А за Одером… За Одером, пересев на велосипеды, помчались весенними дорогами, над которыми клубился яблоневый цвет. И в газетах того времени писали: “Первыми в город Штральзунд ворвались бойцы подразделения офицера Примакова”. Это было о них, о разведчиках 111-й отдельной гвардейской. Рота осталась верна своим традициям. Шестого мая в деревне Уманц на дальней косе острова Рюген она закончила свой боевой путь.***
Минуло двадцать лет. Давно уже сняли военную форму разведчики. Сегодня они мирные люди, занятые мирным трудом. Но в День Советской Армии, в День Победы достанет кто-нибудь из них фотокарточки военной поры, всмотрится в дорогие лица да и засядет за письма. Одни вернутся: “По данному адресу не проживает”. Другие дойдут. И, смотришь, вспыхнет оживленная переписка между фронтовыми товарищами, за розыски остальных друзей примутся они, подогреваемые мечтой: “А ну как соберемся все вместе?!” Да нет, трудно собраться. У каждого работа, семья, а концы-то какие! На Севере живет Максим Максимович Кузьмин. Был он на партийной работе в Архангельском обкоме КПСС, но потом снова потянуло его в дорогу. Теперь он плавает замполитом, и адрес у него: “Управление Северного пароходства, партком”. Почти как прежде: “Полевая почта 38 736, литер “Б”. И где-то там же, на Севере, ловит рыбу на траулерах Иван Андреевич Зайцев. В Горьком, на заводе “Красная Этна”, работает ударник коммунистического труда Анатолий Гаврилович Петров. В деревне Богданихе, Ивановской области, живет механизатор сельского хозяйства Сергей Васильевич Хворов. А по киевским проспектам водит троллейбус Геннадий Климентьевич Дабижа. Он пришел в роту за Одером, но тоже с немалым опытом разведчика и сразу стал в ней своим, как раньше стали в ней своими “печенгские” и “свирские”. Дабижа — “наревский”. А где Франц? За несколько дней до конца войны политотдел отозвал его из роты. Проводили его как друга и помнят о нем, как о боевом друге. Вот только фамилию никто не запомнил. Франц, а отчества ему Баландин не придумал, как ни бился. Да, теперь уже не в шутку, а всерьез их называют по имени-отчеству. Кому за сорок, кому под пятьдесят, уважаемые люди, ветераны войны. У них дети уже стали почти такими, какими были их отцы в годы войны. Но и это новое поколение знает и любит Дмитрия Покрамовича. — Мой отец воевал с ним, — говорят юноши и девушки. И пока так есть, так будет — живым среди живых остается Дмитрий Покрамович, Герой Советского Союза, командир 111-й отдельной гвардейской разведроты. Той, о которой ходили легенды на фронте.Р.Яров Нужно, чтоб чувствовала…
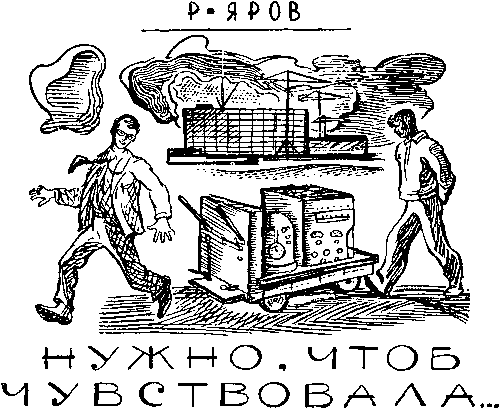 Тузовский взял номерок у гардеробщика, подошел к зеркалу и достал из кармана расческу. Он любил аккуратность во всем, а сейчас, перед, предстоящим весьма ответственным моментом в жизни, особенно важно было осмотреть себя. То, что он увидел, ему понравилось: ни единой морщинки на темном костюме; ровно на треть вылезшие из рукавов манжеты — холодно-белые, с каким-то льдистым отблеском; не сбившаяся в сторону полоска светлого галстука, недостаточно, впрочем, светлого, чтобы казаться блеклым…
— Вполне, вполне, — сказал он, как бы поглядев на себя глазами того человека — пытливыми, почему-то представляющимися серыми, — перед которым вскоре надлежит ему появиться. Он поднес к черным гладким волосам расческу и чуть отступил — так художник отступает для последнего штриха.
Но самосозерцание Тузовского было нарушено. Какой-то парень встал рядом. Сначала он занимался своими делами где-то там, в глубине зеркала: распахнул стремительно стеклянную дверь, подбежал к гардеробу, плащ его спикировавшей птицей опустился на барьер, — а потом приблизился. Рядом с продолговатым, весьма вдумчивым лицом Тузовского, на котором очки с золотым ободком и стеклами без оправы выглядели как прибор, излучающий интеллектуальные волны, показалось лицо как бы даже немного пятнистое — так выделялись на нем скулы и крепкие щеки, покрасневшие от быстрых движений. Парень был в свитере крупной еязки, широкоплечий, с могучей шеей и взъерошенными светлыми волосами. Миг лицо его было рядом с лицом Тузовского — тот даже посторонился слегка, — и парень метнулся вверх по широкой лестнице. Тузовский пригладил волосы и пошел следом. Длинный коридор второго этажа был пуст. Тузовский двигался вдоль дверей, но ни на одной из них не было обозначено названия отдела, и не распахивались они ежеминутно, и не выходили степенные доктора наук, и не выбегали девчонки-лаборантки.
Тузовский дошел до последней в коридоре. На коричневом дерматине выделялась табличка с надписью: “Директор”. Тузовский подергал, волнуясь, галстук и вошел. Первым, кого он увидел, был тот самый парень, что там внизу всунул нахально свое изображение в зеркало. Парень стоял перед столиком секретарши вполоборота, как бы готовясь уже открыть рядом расположенную директорскую дверь, и говорил:
— Мне назначено было прийти в десять. Сейчас ровно десять.
— Потерпите немного. — Секретарша посмотрела на парня и снова перевела взгляд на торчащий из машинки лист. — Товарищ Куров, да?
— Да.
— Ну так ваши бумаги у директора. Вас сейчас вызовут.
Тузовский приблизился.
— Я сдавал документы… для поступления в ваш институт на работу… И мне сказали, что окончательное решение директор должен принять после беседы со мной. Моя фамилия Тузовский…
— Ваши бумаги у директора… Подождите вместе с товарищем.
У стены, как раз напротив столика секретарши и двери к директору, выстроились в ряд стулья — низкие, с блюдцеобразными сиденьями и растопыренными ножками. Тузовский сел на один. Спинка его гнутая — значит, можно слегка откинуться… Секретарша стучит по клавишам. Машинка у нее новая, продолговатая, со стороны корпуса походит немного на современный автомобиль. И стол тоже новый — ярко-желтый, как будто бы из только что срубленных досок, на конических ножках. Так и надо: любая вещь здесь должна выглядеть как самое последнее достижение промышленности, производящей эти вещи. А как же! В учреждении, которое называется “Институт использования в науке и технике механизмов и систем живой природы”, все должно наводить на мысль о самом новом, о самом последнем, самом совершенном… А парень этот — Куров, так он, кажется, назвался, — видать, напористый. Может, работать с ним придется. Интересно, кто он по специальности. Сюда вообще-то столько людей должно приходить — самых разнообразных профессий. И все окажутся кстати… Предмет занятий ведь неисчерпаемый… Приходить, вероятно, будут в основном молодые, не преуспевшие еще в том деле, которым занимаются… Вот как я… Хотя под тридцать — это вроде бы не зелененький… И не так уж мало преуспел — руководитель группы… Но, черт побери, как заманчиво звучит название этого института! Как заманчиво то, чем предстоит заниматься!
Секретарша кончила печатать, сложила аккуратно листки в папку “К докладу” и вошла в директорский кабинет. Куров, глядевший в окно, повернулся; Тузовский привстал на стуле. Секретарша пробыла у директора несколько минут и, возвратившись, сказала:
— Можете проходить. По очереди…
Куров подошел решительно к двери, взялся за ручку — и вдруг, отступая в сторону, сказал:
— Знаете что, идите уж вы первый. У вас и вид посолидней, и вообще… Потом расскажете.
Тузовский открыл дверь. Он ожидал, что за нею будет еще одна — через тамбурчик у входа в кабинеты ответственных товарищей ему приходилось проходить даже в маленьких городах во время своих экспедиций. Но здесь никакого тамбура не было. Кабинет открылся перед Тузовским сразу — не очень большой, светлый. Пестрые гардины на окне были раздвинуты, луч солнца падал прямо на стол сидящего против двери директора. Бумаги его бросали слепящие отблески, но ему это, видимо, не мешало. Он был не старый еще — лет сорока пяти, с пышной полуседой шевелюрой, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Пиджак его висел на стуле.
— Садитесь, — сказал он.
Тузовский взял стул — такой же, как и в приемной, — сел.
— Фамилия моя Тузовский.
Директор порылся в бумагах:
— Так. Специальность?
— Окончил шесть лет назад биологический факультет. Занимался в основном проблемами эволюции биокатализаторов. Защитил диссертацию на эту тему. Вещь очень интересная, но пока что Сугубо теоретическая… Это отчасти и привело меня к вам. Иные категории мышления, иные задачи, иной подход, быть может, расширят мой кругозор настолько, что я и в тех делах, которыми раньше занимался, буду понимать больше…
Директор долго молчал, постукивая очками по столу, глядя на Тузовского. Солнечный луч ушел со стола.
— Там, кажется, еще товарищ есть?..
— Да, один товарищ дожидается…
— Попросите его.
Тузовский вышел, а когда вернулся вместе с Куровым, директор уже в пиджаке стоял у окна и отдергивал гардину. Он был высок, плотен; лицо его было свежее, с гладкой, упругой кожей без морщин.
— Садитесь. — Он кивнул обоим сразу и сам сел на свой стул, такой же новый, как и все остальные.
— Куров, — сказал парень в свитере, едва только рука директора вытащила из папки его бумаги, — инженер-электромеханик. Работал на машиностроительном заводе, в научно-исследовательском институте, знаю радиотехнику, вожу автомобиль. Умеюработать на станках и доводить детали вручную с точностью до…
— Ого, какой универсал! — засмеялся директор. Он посидел, размышляя, потом вдруг стал серьезным. — Ну вот что, — сказал он, — специальности, которые каждый из вас освоил до прихода сюда, нам нужны. Но деятельность была игрушкой по сравнению с тем, что вам предстоит. Каждый из вас трудился в больших коллективах, где успех дел не зависел лично от вас, от вашего старания, добросовестности, умения… Направление работ было определено, методы давно известны, все члены групп, и вы в том числе, являлись квалифицированными специалистами. А если бы их не хватило, можно было бы набрать равных, не заставляя доучиваться или переучиваться. У нас все будет не так… Специалистов нет, мы их только создаем… Вам надлежит выдвигать новые идеи, вам нужно выработать в себе умение увидеть, распознать зародыш идеи, вам, наконец, нужно знать столько, чтобы в пустяковом, на первый взгляд, факте увидеть будущую отрасль промышленности. Разумеется, знать все досконально невозможно. Но уметь мгновенно ориентироваться вы должны. Для этого придется заново и многому учиться. И не так, как вы учились когда-то в школе или даже в институте, не представляя, чем будете конкретно заниматься. Учиться придется целенаправленно, чтобы отдача была очень быстрой. Если вас это пугает — что ж, я не настаиваю… Возвращайтесь к тому, чем вы занимались до сих пор. Можете подумать- день, два, неделю, месяц…
Тузовский отвел глаза и опустил голову — не видеть и не слышать ничего, напрячь волю и представить себе свою жизненную дорогу. Да вот она — университет, лаборатория в горах, степные курганы, маленькие города — и залитые дождем, и пыльные, и почти невидимые из-за густой зелени. А что впереди? Еще одно усилие воли — на миг оглохнуть, ослепнуть, перестать думать. Пусть решение придет подсознательно, как озарение. Нет, хитришь с самим собой. Волю исключить не удастся. Тогда так — пусть торжествует мысль, не дающая покоя в последнее время. Поиск оправдывает себя. Если отдаться ему целиком, ни о чем жалеть не придется. Удачный он будет или нет — только в нем может найти выход то, что тревожит, что не дает жить спокойно. И надо спешить, пока еще есть стремление к поиску.
— Обойдусь без раздумий, — сказал Тузовский. — Я согласен.
— Тоже, — сказал Куров.
— Хорошо. — Директор еще ближе придвинул к себе бумаги. — К работе приступайте с сегодняшнего, в крайнем случае — с завтрашнего дня…
— А что делать? — спросил Тузовский.
Директор открыл один из ящиков стола, достал оттуда маленькую книжечку, положил между Тузовским и Куровым. Оба пригнулись. Синяя ракета, взлетающая из огненной волны, — очевидно, фирменный знак, — чуть ниже подпись: “Комитет по исследованию космического пространства”.
— Там, внутри, написано, что вам делать. — Директор захлопнул ящик. — Практически вы, конечно, ничего сейчас сделать не сможете. Но постарайтесь хотя бы выдвинуть идею. Думайте неотступно, неустанно, где хотите. Сидите в библиотеке, валяйтесь на траве, глядите в небо — но думайте… У меня всё…
Они медленно поставили стулья на место, а директор, склонившись к бумагам, будто забыл про них. И когда они были уже у самого выхода, директор вдруг крикнул:
— Да, если вы незнакомы, постарайтесь скорее сблизиться. Каждый из вас будет дополнять другого знаниями, навыком, мыслительными способностями.
Они вышли за дверь, и на глазах удивленной секретарши протянули друг другу руки.
— Игорь.
— Валентин.
“Реакция катализируется декарбоксилазой; ее кофермент — это дифосфотиамин…” — Куров отодвинул от себя книгу, не дочитав фразу до конца, уткнул подбородок в ладони и посмотрел налево. За стеклянной стеной посмеивались девчонки-библиотекарши. Над чем, над кем? Не над ним ли? Вполне может быть. Он того стоит. Человек, променявший дело, в котором что-то смыслит, на дело, в котором не смыслит ничего, заслуживает самого жестокого осмеяния. А если еще сказать, что он намерен делать серьезные научные открытия? Кто посмеется, кто похлопает снисходительно по плечу: “Дерзай, старик!” — кто заговорит о футболе, как с человеком, с которым более серьезные темы и обсуждать-то нельзя. Черт побери, энтузиастов не так уж много! Хотя вот один сидит сзади. С этим, кажется, повезло. Упорства у него как будто бы больше: сидит не разгибая спины, когда ни повернешься, видны только нависшие над книгой неподвижные стекла да гладкая полоска пробора. Читает основы токарного дела. А потом примется за радиорелейные передачи. Это я ему такой список составил. А дальше идут наземные транспортные машины, потом “Основы электротехники”.
А он мне — “Биохимию” и “Биофизику”, “Кинетику и молекулярную биологию”… Развиваем друг друга, как шеф велел. Вот с кем не повезло, так это с шефом. Слишком высок он. Так ли думалось? Предположения были совсем другие: приходит в лабораторию опытнейшая личность, доктор наук — седина, румянец, благообразие, коллега в Вашингтоне, коллега в Стамбуле, коллега на Мадагаскаре, — посылает Валентина Курова в первый день пробирки мыть. Ничего, он стерпит, зарплата большая ему не нужна, семьи нет пока, лишь бы дело было стоящее. Завтра шеф говорит, что нужно выявить структурные особенности цепи переноса электронов в живых системах, и объясняет, как это сделать. Послезавтра — еще что-нибудь. И так день за днем, день за днем идут они к большому открытию. Конечно, все лавры профессору — симпозиум в Лондоне, конгресс в Париже, посылка из Токио, — ну, а Курову знания, навык, квалификация. Так нет профессора — заведующего лабораторией, — а есть я, есть биолог Игорь Тузовский, есть задача, о путях решения которой нужно доложить через две недели, и есть гора книг — пропади они пропадом. От этих мыслей Курову стало тошно, он захлопнул книгу, лежащую перед Тузовским, едва не задев обложкой его нос, и сказал: “Пошли покурим”.
Куров лежал на траве, закинув руки за голову, а Тузовский выбрал местечко между двумя отростками корней и сел там, спиной к сосне. Пиджак он повесил на кустик, брюки вздернул и сидел, как в мягком кресле. Давно уже погасли окурки, выброшенные далеко в траву, но что-то не хотелось подниматься, идти в читальню и там, в прохладной, светлой комнате, переворачивать страницы. Казалось, заставь их ворочать камни- и то легче будет. Большое белое старинное здание с колоннами и портиком в центре, с тремя рядами не слишком больших и не слишком частых окон по фасаду стояло перед ними.
— Институт, — сказал Куров. — Снаружи всё, как было двести лет назад. Побелили вот только сейчас. А внутри — полное обновление. Денег сколько затрачено — так, черт побери, отдача, хоть минимальная, должна быть… Здесь до нас конторы помещались какие-то. Вот где легко. Главное, мыслей никаких не надо придумывать, идей. Наоборот, даже вредно. Отвлечь могут. Каждое новое дело — абсолютное повторение старого. Разница лишь в величине показателей, которыми оперируют. Стучи себе на счетах, щелкай арифмометром. В обед по парку можем прогуляться. Говорят, здесь пруд где-то есть… Может, поищем… глядишь, в воде придут мысли насчет вот этого. — Он помахал свернутой в трубочку книжкой. — Дадим, так сказать, головам принудительное охлаждение, вот они и заработают лучше…
— Постой. — Тузовский взял у него из рук, развернул книжку, все ту же, с синей ракетой, вылетающей как бы из жерла вулкана. — Слушай. Я еще раз прочту, а ты слушай и думай одновременно. Может быть, какая-нибудь неожиданная ассоциация родится, озарение придет. — Он начал читать: — “При осуществлении программы расширенных космических исследований космонавты могут попасть на планету, окутанную сплошными облаками. В этом случае оптические средства связи будут либо вовсе не осуществимыми, либо потребуют слишком большого расхода энергии. Кроме того, не будет возможности составить полное и объективное описание господствующих на планете условий. Планета может характеризоваться отсутствием газовой атмосферы, или, наоборот, колоссальной ее плотностью. В обоих случаях звуковая сигнализация станет практически невозможной. Планета может оказаться принадлежащей к системе звезды, которой свойственно сильнейшее радиоизлучение на всех диапазонах частот. Это помешает космонавтам связываться между собой по радио. Вновь создаваемый способ передачи информации должен исключать три вышеуказанных, быть в то же время достаточно надежным, легко осуществимым и требовать минимального расхода энергии. Он…”
— Хватит, — сказал Куров, — мне кажется, я наизусть знаю… “Технические условия на разработку нового способа передачи информации, составленные в управлении спасательной службы Комитета по космическим исследованиям”… И так далее… Нет, у меня не появилось новых идей при твоем чтении, весьма монотонном, кстати. Я не понимаю только одного — как мог директор, человек, у которого очень скоро, должно быть, попросят конкретное решение, поручить эту проблему нам, кому только учиться впору?..
— Полагаю, что не только нам. — Тузовский сунул в рот травинку. — Я думал о методе работы. Вряд ли Комитет космических исследований послал эти условия только в наш институт, и вряд ли директор поручил эту проблему лишь нам двоим. Скорей всего, нас он только проверяет на искру божию, а серьезное решение поручил кому-то другому… Справимся, дадим стоящую идею — хорошо, а нет — не знаю тогда, что он с нами будет делать…
— Да. А мы пока эрудицию нагоняем…
— Печально… — Тузовский снял очки, стал медленно протирать стекла. — Идей у нас с тобой нет… Факт, достойный сожаления. В институте создаются другие лаборатории. Не поручусь, что шеф не предлагает им то же самое задание. Испытывать гибкость мышления новых сотрудников…
— А мы все изучаем, изучаем…
— Идеи приходят, когда много знаешь. То, что лежит на поверхности, давно открыто…
— Может быть, даже и открывать ничего не надо. Берем известный способ, который на Земле не применяют из-за того, что существуют гораздо более удобные средства связи. А где-нибудь там, — рука Курова взметнулась вверх, — он вполне бы устроил. Но что им может быть?
— Если из человеческих ощущений… Зрение — не годится, оптические средства исключены. Звуковые тоже. Об остальных говорить не стоит. На радиосвязь тоже наложен запрет. Что еще? Тепловые волны, гамма-лучи, телепатия, какое-нибудь неизвестное излучение — назовем тау-излучение. Ничего не подходит. А может быть, большой объем информации и не нужен. Этот пункт технических условий кажется мне неясным. В самом деле, что надлежит передавать? Подробные сообщения? Развернутые донесения? Или краткие приказы… “По этой дороге я прошел”. “Идите следом”. “Остановись”. “Я нахожусь здесь”. “Нуждаюсь в помощи”. Ты эту неясность запомни. При выработке окончательного текста технических условий надо будет потребовать уточнения.
— Конечно, заказчик скажет, что объем передаваемой информации должен быть как можно больше.
— Не знаю, не уверен. Ведь этот способ связи предназначен для употребления в самых экстренных случаях, попросту в случаях, грозящих гибелью. Ведь вот, допустим, посылают из ракеты человека обследовать какую-нибудь местность. Как бы ни было там темно, каким бы сильным ни был фон радиоизлучений, если ему ничто не помешает, он вернется, и уж в самой-то ракете будет достаточно светло, чтобы выслушать его или даже прочесть донесение. Нет, вот если он где-то застрял и на поиски посылают группу, он должен дать знать о себе таким образом, чтобы она прошла весь его путь и явилась туда, где он находится. “Я здесь был”, “Я здесь нахожусь” — вот простейшие сигналы, которые должен сообщать передатчик нашей машины и принимать приемник.
— Пока что ты, кажется, находишься в муравейнике.
Тузовский вскочил и принялся отряхиваться. По близорукости ли, по рассеянности ли, а скорей потому, что мысли его были отвлечены от таких пустяков, как окружающая обстановка, он не заметил, что удобное сиденье меж двух корней давно уже облюбовано муравьями. Встал и Куров, тоже осматриваясь. Бормоча: “Формика поликтена, муравей лесной”, Тузовский по дороге нагибался, вынимая муравья из отворота штанины. Даже по пиджаку ползало несколько лесных жителей. Он сбрасывал на дорожку то одного, то другого — и видно было, как, не оглядываясь, не задумываясь ни на секунду, муравьи бежали назад, к родному дому. У крыльца Тузовский надел пиджак. Он медленно поднялся по ступенькам — высокий, в костюме без единой складочки, выглядевший даже слегка надменно, похожий на человека, у которого все решения давным-давно готовы, записаны и положены в папку “К докладу”. И только вблизи можно было понять, что отрешенность его взгляда — свидетельство глубокой задумчивости.
Куров в красной клетчатой рубашке — свитер жарко стало носить — глядел рассеянно по сторонам. Молча пересекли они густую тень колонн, молча прошли через вестибюль, молча сели в библиотеке за свои столы. Ветер через растворенные окна шевелил листы открытых книг, но стопки были неподвижны, как бастионы. “Во сне, что ли, попробовать поучиться, — пробормотал Куров, глядя на свою стопку книг. Так досидели они до конца рабочего дня, а потом, утомленные, разошлись по домам.
Точно так же сел Куров и утром следующего дня за свой, ставший уже привычным, стол. Он открыл на середине одну из книг, и листы ее потекли один за другим, почти не придерживаемые пальцами. Солнце встает за окном. Хорошо, когда лето, когда тепло и светло, — но только тем, у кого душа спокойна, а не таким вот, мучающимся в поисках идей.
Тузовский появился неожиданно и без единой брошюрки в руках. Он захлопнул книгу, лежащую перед Куровым, и поманил его пальцем за дверь. Они вышли на крыльцо, спустились. Не отходя далеко от ступенек, Тузовский присел на корточки. Согнул спину и Куров. На посыпанной песком дорожке кипела своя жизнь. Это был большой торгово-промышленный тракт, с точки зрения червяков, гусениц, муравьев и прочих мелких букашек, названий которым Куров не знал. Тузовский поймал муравья, посадил на раскрытую ладонь, поднял ее высоко над землей. Муравей сделал несколько движений, как футболист, выбежавший на поле, а потом вдруг рванул по указательному пальцу. Когда он был уже на краю пропасти, Тузовский опустил ладонь на землю. Муравей сбежал с нее и помчался туда, где сидели вчера Тузовский и Куров, рассказать о пережитой опасности, похвастаться героическим поведением.
— Ну, — сказал Куров, выпрямляясь, прогибая гимнастическим упражнением спину.
— Ну. — Тузовский встал и отряхнул ладонь. — Как ты думаешь, куда он побежал?
— В муравейник, домой к себе. Как и все мы после опасности.
— А дорогу как найдет?
— Как и ты.
— Я вижу.
— А он?
— Вряд ли он что-нибудь видит за этой высокой травой.
— А как же?
— По запаху. Муравьи ведь метят свои дорожки. Муравей-снабженец оставляет следы, а муравьи-исполнители, которые идут за ним, прямо как приказы в письменном виде получают — “Здесь корм”, “Эту травинку тащить в муравейник. Пригодится”, “Сюда не ходить — опасно”. Все конкретно — никаких толкований.
— Понимаю, понимаю… — Куров попятился, сел на скамейку. — Запах — отличное средство информации, просто мы им не умеем пользоваться.
— Я всю ночь об этом думал. — Обычно сдержанный в движениях, Тузовский начал вдруг размахивать руками. — Машина идет по темной планете, в ней экспедиция, посланная на поиски пропавшего космонавта. По радио он ничего сообщить не может; увидеть местность в темноте нельзя даже с помощью инфракрасных приборов. Как искать? Но на всем протяжении своего пути он оставлял вдоль дороги частицы химических веществ с необычайно стойким запахом. Как такие вещества наносить — это деталь. Можно специальный посох. Он же и оружие. Можно на подошвы, можно на колеса или гусеницы машины.
Куров закинул голову и чуть-чуть прикрыл глаза. Первый толчок его конструкторскому воображению был дан.
— А в машине приемник сигналов, — сказал он, — потом усилитель, а от усилителя сигнал идет к механизму, определяющему направление движения. Тут может быть элементарное рулевое устройство из системы тяг, как у автомобиля, а может быть еще что-нибудь, в зависимости от конкретной конструкции…
— А люди?
— Ну что люди. Сидят внутри машины — мощной, защищающей от жара, проникающих излучений, отравленных стрел, — едут и ждут, пока надо будет вступать в бой с чудовищами или рубить ветки, разбивать палатку и доставать из мешка гитару. В выборе дороги они участия принимать не должны…
— Почему?.. Я об этом как-то не думал.
— Ты понимаешь, — Куров заговорил медленнее, растягивая фразы, обдумывая, — человеческая психика — вещь неустойчивая; обстановка может быть настолько трудной, что мы себе и представить не в состоянии. Наконец, возможно появление каких-нибудь психических волн, расщепляющих сознание. Что способна дать в таких условиях свобода выбора? Один скажет: поехали направо — там что-то чернеется; другой — нет, налево, там что-то белеется. И не спасут никого, и сами погибнут…
— Но ведь есть командир.
— Он такой же живой человек, как и остальные, и точно так же подвержен действию всех обстоятельств. Если уж муравей тебя надоумил, то проводи аналогию до конца. Его поиск осуществляется автоматически — запах указывает, и он идет.
— А если препятствие?
— Преодолевает. Мы ведь тоже должны создать не анализатор запаха, а машину, идущую по запаху. Значит, должны заложить в ее программу элемент свободного поиска, дать сведения о различных препятствиях и о том, как их преодолевать.
— Запах, — сказал Тузовский, — запах… Сложно будет… Полторы недели ломали голову только над идеей; а что дальше? Если разрешат работать в этом направлении, еще труднее придется. О природе запаха мало что известно, окончательной теории нет, есть разные точки зрения. А без теории как строить машину?
— Ничего, — отозвался Куров, — ничего… Теории рождаются при повышенном интересе к какой-нибудь области знания. Кому до сих пор нужен был механизм запаха? Никому. Даже парфюмерам. У тех свой подход — что приятно, то и годится… А теперь для космических исследований потребовалось! Оборудование дадут, лучшие умы приступят к решению…
— Уже приступили, — засмеялся Тузовский.
Но они не сразу пошли к директору с оповещением о найденной идее. Еще несколько дней они сидели в библиотеке, проверяя и перепроверяя себя, перелистывая тысячи страниц. Навигационные способности птиц, локаторы летучих мышей, реакция змей на тепло… Они искали подтверждения своей идее… И находили.
— Слушай, — говорил Куров, оборачиваясь радостно, — перепончатокрылые с длинным буравцем никогда не видят жертвы, в которую собираются отложить яйцо, потому что она находится под землей или внутри дупла.
— Бабочки чувствуют нужный запах на расстоянии одиннадцати километров… — отвечал Тузовский.
Они уяснили себе методику работ — по крайней мере ту, которую можно было найти в книгах, составили примерный список оборудования…
— Пора идти, — говорил Куров.
— Подожди, — отвечал Тузовский.
Он написал обстоятельную докладную записку, в которой были высказаны их общие соображения. Куров сходил в машбюро, полюбезничал с машинистками, и ему быстро все перепечатали.
— Завтра приходи побритый и гладенький, — сказал Тузовский. — Будем у директора.
За полторы недели кое-что изменилось в директорском кабинете. Перпендикулярно к его рабочему столу поставили еще один, покрытый зеленым сукном. “Значит, есть кому собираться”, — заметил Куров. Возле стола появилась тумбочка, а на ней два телефона с клавиатурой и один — без. Лицо директора стало суше, строже — груз забот с тех первых дней, когда друзья впервые увидели его, должно быть, увеличился. Директор прочел внимательно весь доклад, а друзья сидели, сложа руки на коленях. Тузовский придерживал папку. Директор не расцеловал их, прижав к сердцу, как они втайне надеялись, но и не выгнал, чего они втайне опасались.
— Хорошо, — сказал он, думая вслух, — запах — это хорошо. А может, вправду сделаем такую машину?
— Сделаем, — кивнул Куров. — Будет, как муравей, бегать. Тут еще что думается — независимость выхода к цели от человеческой психики. Психика — вещь шаткая…
— Независимость, — повторил очень медленно директор, как бы вдумываясь в глубокий и дальний смысл тех событий, которые он вызывал к жизни простым этим словом. — Ну ладно. Наперед, конечно, трудно сказать. Включим в тематический план. Вы, вероятно, думаете: вот мы показали, что можем дать идею, а теперь нас определят в какую-нибудь лабораторию, под чье-то могучее крылышко. Нет, работать будете сами. Солидных людей у нас много, и все больше становится, но у каждого свои идеи. Так что развивайте, воплощайте в жизнь, в опытный Образец свою мысль сами. А помощь вам, конечно, будет оказана любая… Вот хотя бы составить заявку на оборудование. Спуститесь на первый этаж…
— У нас уже есть такая заявка. — Тузовский выхватил из папки листок, протянул…
Курова привело в новый институт не осознанное, постоянное стремление, а порыв, до некоторой степени даже случайный. Он увидел в газете объявление, прочитал, но вдумался не сразу. Ходил по заводу, по лабораториям, шумным, пропитанным запахом металла, разговаривал, спорил, смеялся, ругался, и в минуты затишья приходили ему в голову строчки из газеты, мысли о том, что хорошо быть первым в какой-нибудь области науки или техники, а в такой и подавно. В душе его качались чаши весов, и желание заняться новым делом перевесило.
Но он никогда не думал, что будет так трудно. Войти в незнакомую область знаний, привыкнуть к ней, научиться мыслить ее категориями, овладеть теми сведениями, без которых невозможно что-либо начать, — адский труд выпал на голову Курова.
Он изучал энтомологию, биохимию, биофизику, бегал по вечерам на лекции в университет. Неизвестно, выдержал ли он бы до конца. Один порыв привел его сюда, другой мог точно так же заставить все бросить. Но железная методичность Тузовского подавляла его. Тому было не легче — приходилось изучать несколько инженерных дисциплин, каждая из которых представляла собой специальность.
— Узкими специалистами успеем стать, — говорил Тузовский, — сейчас важно выработать широту взглядов. Прежде чем решить проблему, надо уметь ее перед собой поставить, надо знать, что она существует.
Но теперь им читалось легко. Цель была определена, и во всем том, что узнавали, они стремились найти пригодные для ее достижения средства. Им отвели довольно большую комнату на первом этаже. Сначала в ней стояло только два стола, но начало поступать оборудование, и постепенно становилось все теснее и теснее. Бинокулярный микроскоп, осциллограф, усилитель, наборы тончайших электродов, термостат, вискозиметр, — все меньше и меньше оставалось свободного места в комнате. Но зато все четче вырисовывалось направление, то, которое должно было привести к цели. Муравьев доставляли им корзинами; нашелся человек, который выращивал раньше белых мышей, а теперь переключился на муравьев и даже зимой ухитрялся их вскармливать. Один угол комнаты был отдан Курову; угол он завалил радиодеталями, собирая всевозможные блоки. Он же изучал биоэлектрическую активность нервной цепочки муравьев, надевая на кончики их волосков пипетки с электролитом. Делать это все приходилось, глядя в микроскоп. Плясали кривые на экране осциллографа; один за другим заполнял Куров бланки-протоколы опытов.
Тузовский чаще сидел за столом; длинные цепочки формул громоздились в его тетради… Так, сумасшедше и весело, прошли осень, зима, весна… В комнате все время стояли странные запахи, и разные люди, входя, принюхивались, и то морщились, то расцветали в улыбке.
Устройство, которое Куров конструировал, должно было различать запахи.
— Перцептрончик мой дорогой, — говорил он, водя карандашом по схемам.
Тузовский оторвался от стола и поглядел в окно. Зима прошла совершенно незамеченной, теперь и весна близилась к концу. Прямо перед окном шла асфальтированная дорожка, а за ней газон — и трава на нем была густая, ярко-зеленая…
— Смотри-ка, весна кончается. — Тузовский потянулся так, что затрещала спинка стула.
— А ты и не заметил, — отозвался Куров из своего угла.
— Слушай, я почти установил, что запах — это электромагнитные волны. Теория, а…
— Мы теориями не занимаемся, — сказал скромно Куров, — но кое-чего тоже добились. Сейчас должен прийти мастер — я ему заказ хочу дать… эскизики набросал.
Мастер пришел, взглянул на эскизики и долго чесал затылок, а Куров, похлопывая его по плечу, успокаивал:
— Сделаете. Это ведь не массовое производство. Можно и вручную довести. Шкуркой. Я сам приду, за тиски встану…
Через несколько дней детали были готовы. Кривые необыкновенно сложных форм изумляли тех, кто брал детали в руки. Доводить их до нужной точности и чистоты было мучением, но еще мучительней казалось поручить это кому-нибудь. Да и не брался никто. Несколько дней Куров простоял в мастерской за тисками.
Прибор начал приобретать очертания. Он состоял не только из анализатора запахов, но имел некоторое подобие нервной системы, наделенной способностью находить решения в затруднительных случаях.
— Если он и не умнее муравья, то, во всяком случае, не глупее, — говорил Куров, похлопывая по железному футляру. — Для прибора этого вполне достаточно.
Но прибор был лишь средством. Его требовалось поставить на шасси с собственным двигателем и связать с ним кинематически механизм управления. Шасси Тузовский и Куров нашли очень быстро. Это был старый электрокар небольших размеров с аккумуляторами под платформой. Он стоял в одном из сараев, которые окружали основное здание. Туда специально с разных предприятий привозили списанное оборудование. Но электрокар был совсем как новый.
— Морально устарел, — высказал предположение Тузовский.
Электрокар оказался как нельзя кстати: перцептрон — прибор, моделирующий орган обоняния муравья, и блок, в который была заложена память о некоторых препятствиях и о том, как их преодолевать, заняли половину платформы. Другую половину должны были занять усилитель и исполнительное устройство, связанное кинематические механизмом поворота, заднего хода и торможения. Еще несколько недель ушло на то, чтобы продумать, вычертить, изготовить в мастерский, присоединить детали узла кинематической связи. Этим занимался Куров, а Тузовский совершенствовал блок памяти. Он заставлял муравьев преодолевать самые разнообразные препятствия, по тысяче раз влезать на одну и ту же дощечку, чтобы в конце пути быть сброшенными; пролезать под соломинками, бегать вдоль заборчиков, ища выход. Все это муравьи проделывали с микроэлектродами в голове.
Блок памяти увеличивался, обогащаясь запоминанием новых ситуаций. Платформа оказалась мала. Конечно, можно было бы заказать специальную машину, но друзьям не терпелось. Пришел сварщик и подварил сбоку лист, укрепив его снизу кронштейнами. Еще несколько недель ушло на монтаж схемы, на сборку всех механизмов. Напоследок Куров выкрасил бока платформы желтой краской.
— Не терплю серости, — заявил он.
Директор заходил к ним чуть ли не каждый день, просиживал подолгу, давал советы. Заходили и из других лабораторий — ученые, специалисты, некоторые с громким именем.
Радостно было Тузовскому и Курову, что они многого добились, что первый этап работ подходит к концу, что уложились в срок. На парфюмерной фабрике, по специальному заказу, сделали литр жидкости с неощутимым для человека запахом. На волну запаха настроили прибор. Надо было еще придумать механизм разбрызгивания, но решили обойтись пока.
— Космонавты смогут помещать разбрызгиватель хоть в башмаки, — сказал Куров, — это придумать не хитро. А пока главное — принцип утвердить.
Институт был огражден узорчатым литым забором. От ворот шел спуск к шоссе, а за шоссе начинался пустырь. После того как там однажды испытали механизм, имитирующий локаторы летучей мыши, его стали называть полигоном. Там и предполагалось испытать через несколько дней новую машину. Тузовский должен был идти в ботинках, обрызганных специальной жидкостью, а за ним — метрах в пяти — двигаться тележка. Вплотную к нему подъехать она не могла — в метре примерно расстояния концентрация запаха по расчету должна была стать слишком сильной, превышающей допустимую. В этом случае механизму блокировки полагалось остановить тележку. Так было сделано для того, чтобы будущая машина — вероятно, громадных размеров — не могла наехать на человека. Курову следовало идти рядом, не принимая участия в управлении, чтобы остановить машину при каких-нибудь непредвиденных обстоятельствах.
Для испытаний составили комиссию: директор, представитель заказчика, несколько докторов наук. Но, прежде чем встать со своей тележкой перед десятком строгих глаз, друзья решили испытать ее сами на несколько дней раньше. Чтобы не краснеть потом.
Еще раз они проверили всё, начав ранним утром и кончив поздно вечером — благо дни были длинные. Проверка утомила их. Они посидели в сарайчике, где стояла тележка, почти не разговаривая. О начале испытаний было уже договорено: рано-рано утром, едва только солнце встанет, чтоб никто не приставал с расспросами, не вмешивался и вообще не видел.
Надо было остаться на ночь. Разрешение работать по ночам у них было; они показали его дежурному вахтеру и легли в вестибюле на диванчике.
— Денег, что ли, не хватило диван-кровать купить? — бормотал Куров, ворочаясь.
К пяти часам утра косые лучи солнца осветили спящих. Куров сел, потянулся, закурил — и тут же, будто от чирканья спички, открыл глаза Тузовский. Они вышли во двор и постояли немного на крыльце. Роса блестела в траве, пели птицы, цветы на клумбе были необыкновенно ярки. Странное чувство овладело ими — умиротворения и тревоги сразу. Раздавались гудки — неподалеку проходила железнодорожная ветка.
— Готов? — спросил Куров.
— Всегда готов, — отозвался Тузовский.
Они вытащили тележку из сарая и помыли ее. Желтые бока, казалось, отражают солнце. Тузовский отошел на несколько шагов к воротам и, нагнувшись, сдавил грушу пульверизатора, обрызгивая ботинки. Куров встал рядом с тележкой, нажал кнопку. Тележка тихо двинулась. Тузовский дошел до шоссе, но вместо того чтобы пересечь его и двинуться по полю, свернул направо.
— Стой! — крикнул Куров. — Куда ты?
— Здесь кювет, — отозвался Тузовский, — крутой спуск и подъем. Боюсь, приборы повалятся. Там дальше я знаю удобное место, где можно спуститься. Это за железнодорожным переездом.
Ни одной машины не было — ни встречной, ни обгоняемой; пустынное гладкое шоссе лежало перед ними. Тузовский вел себя как мальчик — он то шел медленно, то припускался рысью, выписывая кренделя и восьмерки. Тележка послушно повторяла его движения, а Куров хохотал. Потом Тузовский нашел доску, положил поперек дороги. Тележка аккуратно ее объехала. Тузовский вернулся, чтобы убрать доску, — тележка повернулась тоже. Еще немного они прошли — и впереди уже показался темный дощатый настил с двумя узкими, блестящими полосами посредине — рельсами. А за ними — по левую сторону шоссе — некрутой спуск вел прямо на пустынное поле. Они были уже совсем недалеко от переезда — Тузовский впереди, тележка с Куровым на пять метров сзади, — как вдруг зазвенел звонок, и шлагбаум медленно опустился. Тузовский положил локти на полосатое бревно, стал ждать поезда. Но пока даже громыхания не было слышно. Куров тоже подошел к шлагбауму. Тележка подъехала ближе и спокойно встала сзади. Автомобили не показывались: можно было ничего не опасаться.
— Наверное, пора уж повернуть. — Куров оперся о шлагбаум. — Работает, как часы. А то скоро народ начнет собираться. Пойдут расспросы, как да почему; советы один другого умнее, поздравления. Не люблю, когда заранее поздравляют. Вот выйдет сборник трудов, потом какой-нибудь сто тридцать пятый том ученых записок, тогда пожалуйста. Давай повернем. Трудная работа — идти рядом, устаешь следить. Вот не думал никогда.
— Рано еще поздравлять-то, — сказал Тузовский. — Все-таки на поле надо съехать. Неровности, ямы. Рельсы снова пересечем — и уже не по доскам. Препятствия… Как она их умеет преодолевать? Жаль, светофоров нет или встречной машины.
— На Марсе светофоров не будет…
Поезда еще не было, но уже дрожали тихонько рельсы и все вокруг наполнилось гулом. Наконец он показался, гудящий локомотив, а за ним вагоны, вагоны, вагоны — громадная дуга, очерченная вагонами. Еще миг — и весь мир превратится в бешено вертящиеся, грохочущие, солнцеподобные колеса. И в этот момент на рельсах появилась старуха. Какая-то сумка была за ее плечами — быть может, с картошкой, а может быть, с бидоном молока. Старушечьи дела — простые и необыкновенно важные — гнали ее в ранний час. Она нырнула из-под шлагбаума с той стороны, перешагнула рельс и засеменила к другому, но как раз на полпути повернула голову влево. И испугалась. Если б она шла, не взглянув в сторону, она бы успела. Но вид приближающегося поезда как бы парализовал ее; она застыла, не зная, на что решиться: повернуться ли и бежать назад или попытаться проскочить. Тепловоз гудел, надвигаясь. Рельсы дрожали. Куров и Тузовский одновременно нырнули под шлагбаум, с обеих сторон подхватили старуху, вытолкнули ее за рельсы и сами выпрыгнули из межрельсового пространства. И сразу сзади них загрохотал поезд.
— Сынки, сынки! — вопила бабка.
Но им было не до нее. Побледнев, оба бросились на землю. Колеса то открывали им просвет, то закрывали, но они ясно видели, что происходит. Тележка должна была сократить дистанцию между Тузовским и собой — и она медленно тронулась с места и покатила. Она спокойненько проехала под шлагбаумом, едва не наткнулась на колеса, повернула, чтобы миновать их — она умела преодолевать препятствия. Колеса тем временем ушли, тележка снова повернула и въехала в подвагонное пространство движущегося поезда. Друзья ахнули. Они думали, что тележка может поехать вдоль всего поезда — и это было бы не страшно, — но такого они не ожидали. Тузовский отскочил на метр — чтобы тележка не остановилась на рельсах, — а Куров, пригнувшись, рванулся вперед, схватил тележку за ось и выдернул ее из-под вагона. Двигаясь медленно, она, конечно, не успела бы выехать сама. Анализатор запахов и усилитель упали. Но опасность им не угрожала — они очутились между рельсов.
— Снова паять придется, — сказал тихо Куров. Тузовский подошел, встал рядом. Теперь уже не приходилось бояться, что тележка откатится.
Поезд прошел. Куров подобрал два упавших прибора, оглядел их. Как будто бы ничего не повредилось. Он поставил их на платформу совсем по-другому, чем они стояли, кое-как, лишь бы довезти обратно.
— Сынки, сынки… — бормотала старуха. Она все еще была здесь. — Да как же благодарить-то вас!
— Веревка есть? — спросил Куров.
Порывшись в мешке, старуха достала веревку. Куров привязал ее к тележке. Вдвоем они взялись за веревку и поехали обратно в институт. Старуха еще немного попричитала и исчезла.
Теперь на шоссе уже появились машины, шли пешеходы, но никто не обращал на них внимания. Идут ребята, везут тележку с приборами — что здесь особенного. Наверное, за оградой — институт. Тележка, правда, какая-то желтая, странная — но, может, у них инструкция такая.
Молча дошли они до института, молча завели тележку в сарай. Можно было бы срочно припаять порванные контакты, закрасить царапины и хоть завтра все испытывать вновь. Но что-то изменилось в их оценке своего успеха — с того самого момента, когда они увидели, как медленно и неотвратимо тележка катится под колеса.
Они прошли к тому самому месту, где сидели когда-то, ища идею, и снова расположились, как тогда: Куров на траве, лицом вверх; Тузовский — между корнями деревьев.
— Радость и печаль ходят рядом, — сказал Тузовский. — Какой-то жизненный механизм сработал четко — и триумф обернулся поражением. Чего-то мы недодумали, недоглядели.
— И откуда эта старуха выскочила?.. — Куров перевернулся на живот, положил подбородок на скрещенные руки.
— Хорошо, что выскочила. Тут произошла как бы двойная проверка: человека — на приспособленность к машине, и машины — на приспособленность к человеку.
— Ну?
— И оба не выдержали. — Тузовский замолчал.
Уже показались первые люди — те, кому по долгу службы надлежит приходить раньше других. Дворник скашивал метлой пыль с асфальта, уборщица обрушивала водопады с крыльца. Мир растормаживался, набирая потихоньку разгон на весь день.
— Люди-то здесь при чем? — спросил Куров.
— Ну как же. Мы снабдили свою машину слишком большой свободой поведения. А это значит, что она никогда не должна попадать в такие положения, которые могут привести ее к гибели. Это возможно в раз навсегда заданной обстановке. Но мы-то ничего подобного гарантировать не в состоянии. Человек- существо эмоциональное, способное на самые неожиданные поступки. Потому мы и бросились спасать старуху. А машина-то такое благородство оценить не может. У нее интеллект муравья. Следуй за мной — вот и все голоса внешнего мира, которые до нее доходят. Ну, еще память о некоторых ситуациях, которая только вредна. Потому она и бросилась под колеса. Нет, мы явно не подходим для таких машин. Нам пока годится только грузовик, полностью зависящий от нашей воли. Но он нас не устраивает, он слишком “глуп”. Или…
— Или?
— Или машина с начатками эмоций. Чтобы она хоть боялась лезть туда, куда лезть не нужно.
— Ясно, — сказал Куров. — Машина с психикой. Никуда от нее не денешься. Не знаешь, у нас нет еще такой лаборатории?
— Какой?
— Которая бы разрабатывала проблему души для машин.
— По-моему, нет.
— Надо будет поставить вопрос… Но, — Куров поднялся и хлопнул Тузовского по плечу, — не огорчайся. Мы же с тобой сумели сделать анализатор запаха — впервые, ты понимаешь, впервые…
— А машину создать не смогли, — сказал Тузовский.
Тузовский взял номерок у гардеробщика, подошел к зеркалу и достал из кармана расческу. Он любил аккуратность во всем, а сейчас, перед, предстоящим весьма ответственным моментом в жизни, особенно важно было осмотреть себя. То, что он увидел, ему понравилось: ни единой морщинки на темном костюме; ровно на треть вылезшие из рукавов манжеты — холодно-белые, с каким-то льдистым отблеском; не сбившаяся в сторону полоска светлого галстука, недостаточно, впрочем, светлого, чтобы казаться блеклым…
— Вполне, вполне, — сказал он, как бы поглядев на себя глазами того человека — пытливыми, почему-то представляющимися серыми, — перед которым вскоре надлежит ему появиться. Он поднес к черным гладким волосам расческу и чуть отступил — так художник отступает для последнего штриха.
Но самосозерцание Тузовского было нарушено. Какой-то парень встал рядом. Сначала он занимался своими делами где-то там, в глубине зеркала: распахнул стремительно стеклянную дверь, подбежал к гардеробу, плащ его спикировавшей птицей опустился на барьер, — а потом приблизился. Рядом с продолговатым, весьма вдумчивым лицом Тузовского, на котором очки с золотым ободком и стеклами без оправы выглядели как прибор, излучающий интеллектуальные волны, показалось лицо как бы даже немного пятнистое — так выделялись на нем скулы и крепкие щеки, покрасневшие от быстрых движений. Парень был в свитере крупной еязки, широкоплечий, с могучей шеей и взъерошенными светлыми волосами. Миг лицо его было рядом с лицом Тузовского — тот даже посторонился слегка, — и парень метнулся вверх по широкой лестнице. Тузовский пригладил волосы и пошел следом. Длинный коридор второго этажа был пуст. Тузовский двигался вдоль дверей, но ни на одной из них не было обозначено названия отдела, и не распахивались они ежеминутно, и не выходили степенные доктора наук, и не выбегали девчонки-лаборантки.
Тузовский дошел до последней в коридоре. На коричневом дерматине выделялась табличка с надписью: “Директор”. Тузовский подергал, волнуясь, галстук и вошел. Первым, кого он увидел, был тот самый парень, что там внизу всунул нахально свое изображение в зеркало. Парень стоял перед столиком секретарши вполоборота, как бы готовясь уже открыть рядом расположенную директорскую дверь, и говорил:
— Мне назначено было прийти в десять. Сейчас ровно десять.
— Потерпите немного. — Секретарша посмотрела на парня и снова перевела взгляд на торчащий из машинки лист. — Товарищ Куров, да?
— Да.
— Ну так ваши бумаги у директора. Вас сейчас вызовут.
Тузовский приблизился.
— Я сдавал документы… для поступления в ваш институт на работу… И мне сказали, что окончательное решение директор должен принять после беседы со мной. Моя фамилия Тузовский…
— Ваши бумаги у директора… Подождите вместе с товарищем.
У стены, как раз напротив столика секретарши и двери к директору, выстроились в ряд стулья — низкие, с блюдцеобразными сиденьями и растопыренными ножками. Тузовский сел на один. Спинка его гнутая — значит, можно слегка откинуться… Секретарша стучит по клавишам. Машинка у нее новая, продолговатая, со стороны корпуса походит немного на современный автомобиль. И стол тоже новый — ярко-желтый, как будто бы из только что срубленных досок, на конических ножках. Так и надо: любая вещь здесь должна выглядеть как самое последнее достижение промышленности, производящей эти вещи. А как же! В учреждении, которое называется “Институт использования в науке и технике механизмов и систем живой природы”, все должно наводить на мысль о самом новом, о самом последнем, самом совершенном… А парень этот — Куров, так он, кажется, назвался, — видать, напористый. Может, работать с ним придется. Интересно, кто он по специальности. Сюда вообще-то столько людей должно приходить — самых разнообразных профессий. И все окажутся кстати… Предмет занятий ведь неисчерпаемый… Приходить, вероятно, будут в основном молодые, не преуспевшие еще в том деле, которым занимаются… Вот как я… Хотя под тридцать — это вроде бы не зелененький… И не так уж мало преуспел — руководитель группы… Но, черт побери, как заманчиво звучит название этого института! Как заманчиво то, чем предстоит заниматься!
Секретарша кончила печатать, сложила аккуратно листки в папку “К докладу” и вошла в директорский кабинет. Куров, глядевший в окно, повернулся; Тузовский привстал на стуле. Секретарша пробыла у директора несколько минут и, возвратившись, сказала:
— Можете проходить. По очереди…
Куров подошел решительно к двери, взялся за ручку — и вдруг, отступая в сторону, сказал:
— Знаете что, идите уж вы первый. У вас и вид посолидней, и вообще… Потом расскажете.
Тузовский открыл дверь. Он ожидал, что за нею будет еще одна — через тамбурчик у входа в кабинеты ответственных товарищей ему приходилось проходить даже в маленьких городах во время своих экспедиций. Но здесь никакого тамбура не было. Кабинет открылся перед Тузовским сразу — не очень большой, светлый. Пестрые гардины на окне были раздвинуты, луч солнца падал прямо на стол сидящего против двери директора. Бумаги его бросали слепящие отблески, но ему это, видимо, не мешало. Он был не старый еще — лет сорока пяти, с пышной полуседой шевелюрой, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Пиджак его висел на стуле.
— Садитесь, — сказал он.
Тузовский взял стул — такой же, как и в приемной, — сел.
— Фамилия моя Тузовский.
Директор порылся в бумагах:
— Так. Специальность?
— Окончил шесть лет назад биологический факультет. Занимался в основном проблемами эволюции биокатализаторов. Защитил диссертацию на эту тему. Вещь очень интересная, но пока что Сугубо теоретическая… Это отчасти и привело меня к вам. Иные категории мышления, иные задачи, иной подход, быть может, расширят мой кругозор настолько, что я и в тех делах, которыми раньше занимался, буду понимать больше…
Директор долго молчал, постукивая очками по столу, глядя на Тузовского. Солнечный луч ушел со стола.
— Там, кажется, еще товарищ есть?..
— Да, один товарищ дожидается…
— Попросите его.
Тузовский вышел, а когда вернулся вместе с Куровым, директор уже в пиджаке стоял у окна и отдергивал гардину. Он был высок, плотен; лицо его было свежее, с гладкой, упругой кожей без морщин.
— Садитесь. — Он кивнул обоим сразу и сам сел на свой стул, такой же новый, как и все остальные.
— Куров, — сказал парень в свитере, едва только рука директора вытащила из папки его бумаги, — инженер-электромеханик. Работал на машиностроительном заводе, в научно-исследовательском институте, знаю радиотехнику, вожу автомобиль. Умеюработать на станках и доводить детали вручную с точностью до…
— Ого, какой универсал! — засмеялся директор. Он посидел, размышляя, потом вдруг стал серьезным. — Ну вот что, — сказал он, — специальности, которые каждый из вас освоил до прихода сюда, нам нужны. Но деятельность была игрушкой по сравнению с тем, что вам предстоит. Каждый из вас трудился в больших коллективах, где успех дел не зависел лично от вас, от вашего старания, добросовестности, умения… Направление работ было определено, методы давно известны, все члены групп, и вы в том числе, являлись квалифицированными специалистами. А если бы их не хватило, можно было бы набрать равных, не заставляя доучиваться или переучиваться. У нас все будет не так… Специалистов нет, мы их только создаем… Вам надлежит выдвигать новые идеи, вам нужно выработать в себе умение увидеть, распознать зародыш идеи, вам, наконец, нужно знать столько, чтобы в пустяковом, на первый взгляд, факте увидеть будущую отрасль промышленности. Разумеется, знать все досконально невозможно. Но уметь мгновенно ориентироваться вы должны. Для этого придется заново и многому учиться. И не так, как вы учились когда-то в школе или даже в институте, не представляя, чем будете конкретно заниматься. Учиться придется целенаправленно, чтобы отдача была очень быстрой. Если вас это пугает — что ж, я не настаиваю… Возвращайтесь к тому, чем вы занимались до сих пор. Можете подумать- день, два, неделю, месяц…
Тузовский отвел глаза и опустил голову — не видеть и не слышать ничего, напрячь волю и представить себе свою жизненную дорогу. Да вот она — университет, лаборатория в горах, степные курганы, маленькие города — и залитые дождем, и пыльные, и почти невидимые из-за густой зелени. А что впереди? Еще одно усилие воли — на миг оглохнуть, ослепнуть, перестать думать. Пусть решение придет подсознательно, как озарение. Нет, хитришь с самим собой. Волю исключить не удастся. Тогда так — пусть торжествует мысль, не дающая покоя в последнее время. Поиск оправдывает себя. Если отдаться ему целиком, ни о чем жалеть не придется. Удачный он будет или нет — только в нем может найти выход то, что тревожит, что не дает жить спокойно. И надо спешить, пока еще есть стремление к поиску.
— Обойдусь без раздумий, — сказал Тузовский. — Я согласен.
— Тоже, — сказал Куров.
— Хорошо. — Директор еще ближе придвинул к себе бумаги. — К работе приступайте с сегодняшнего, в крайнем случае — с завтрашнего дня…
— А что делать? — спросил Тузовский.
Директор открыл один из ящиков стола, достал оттуда маленькую книжечку, положил между Тузовским и Куровым. Оба пригнулись. Синяя ракета, взлетающая из огненной волны, — очевидно, фирменный знак, — чуть ниже подпись: “Комитет по исследованию космического пространства”.
— Там, внутри, написано, что вам делать. — Директор захлопнул ящик. — Практически вы, конечно, ничего сейчас сделать не сможете. Но постарайтесь хотя бы выдвинуть идею. Думайте неотступно, неустанно, где хотите. Сидите в библиотеке, валяйтесь на траве, глядите в небо — но думайте… У меня всё…
Они медленно поставили стулья на место, а директор, склонившись к бумагам, будто забыл про них. И когда они были уже у самого выхода, директор вдруг крикнул:
— Да, если вы незнакомы, постарайтесь скорее сблизиться. Каждый из вас будет дополнять другого знаниями, навыком, мыслительными способностями.
Они вышли за дверь, и на глазах удивленной секретарши протянули друг другу руки.
— Игорь.
— Валентин.
“Реакция катализируется декарбоксилазой; ее кофермент — это дифосфотиамин…” — Куров отодвинул от себя книгу, не дочитав фразу до конца, уткнул подбородок в ладони и посмотрел налево. За стеклянной стеной посмеивались девчонки-библиотекарши. Над чем, над кем? Не над ним ли? Вполне может быть. Он того стоит. Человек, променявший дело, в котором что-то смыслит, на дело, в котором не смыслит ничего, заслуживает самого жестокого осмеяния. А если еще сказать, что он намерен делать серьезные научные открытия? Кто посмеется, кто похлопает снисходительно по плечу: “Дерзай, старик!” — кто заговорит о футболе, как с человеком, с которым более серьезные темы и обсуждать-то нельзя. Черт побери, энтузиастов не так уж много! Хотя вот один сидит сзади. С этим, кажется, повезло. Упорства у него как будто бы больше: сидит не разгибая спины, когда ни повернешься, видны только нависшие над книгой неподвижные стекла да гладкая полоска пробора. Читает основы токарного дела. А потом примется за радиорелейные передачи. Это я ему такой список составил. А дальше идут наземные транспортные машины, потом “Основы электротехники”.
А он мне — “Биохимию” и “Биофизику”, “Кинетику и молекулярную биологию”… Развиваем друг друга, как шеф велел. Вот с кем не повезло, так это с шефом. Слишком высок он. Так ли думалось? Предположения были совсем другие: приходит в лабораторию опытнейшая личность, доктор наук — седина, румянец, благообразие, коллега в Вашингтоне, коллега в Стамбуле, коллега на Мадагаскаре, — посылает Валентина Курова в первый день пробирки мыть. Ничего, он стерпит, зарплата большая ему не нужна, семьи нет пока, лишь бы дело было стоящее. Завтра шеф говорит, что нужно выявить структурные особенности цепи переноса электронов в живых системах, и объясняет, как это сделать. Послезавтра — еще что-нибудь. И так день за днем, день за днем идут они к большому открытию. Конечно, все лавры профессору — симпозиум в Лондоне, конгресс в Париже, посылка из Токио, — ну, а Курову знания, навык, квалификация. Так нет профессора — заведующего лабораторией, — а есть я, есть биолог Игорь Тузовский, есть задача, о путях решения которой нужно доложить через две недели, и есть гора книг — пропади они пропадом. От этих мыслей Курову стало тошно, он захлопнул книгу, лежащую перед Тузовским, едва не задев обложкой его нос, и сказал: “Пошли покурим”.
Куров лежал на траве, закинув руки за голову, а Тузовский выбрал местечко между двумя отростками корней и сел там, спиной к сосне. Пиджак он повесил на кустик, брюки вздернул и сидел, как в мягком кресле. Давно уже погасли окурки, выброшенные далеко в траву, но что-то не хотелось подниматься, идти в читальню и там, в прохладной, светлой комнате, переворачивать страницы. Казалось, заставь их ворочать камни- и то легче будет. Большое белое старинное здание с колоннами и портиком в центре, с тремя рядами не слишком больших и не слишком частых окон по фасаду стояло перед ними.
— Институт, — сказал Куров. — Снаружи всё, как было двести лет назад. Побелили вот только сейчас. А внутри — полное обновление. Денег сколько затрачено — так, черт побери, отдача, хоть минимальная, должна быть… Здесь до нас конторы помещались какие-то. Вот где легко. Главное, мыслей никаких не надо придумывать, идей. Наоборот, даже вредно. Отвлечь могут. Каждое новое дело — абсолютное повторение старого. Разница лишь в величине показателей, которыми оперируют. Стучи себе на счетах, щелкай арифмометром. В обед по парку можем прогуляться. Говорят, здесь пруд где-то есть… Может, поищем… глядишь, в воде придут мысли насчет вот этого. — Он помахал свернутой в трубочку книжкой. — Дадим, так сказать, головам принудительное охлаждение, вот они и заработают лучше…
— Постой. — Тузовский взял у него из рук, развернул книжку, все ту же, с синей ракетой, вылетающей как бы из жерла вулкана. — Слушай. Я еще раз прочту, а ты слушай и думай одновременно. Может быть, какая-нибудь неожиданная ассоциация родится, озарение придет. — Он начал читать: — “При осуществлении программы расширенных космических исследований космонавты могут попасть на планету, окутанную сплошными облаками. В этом случае оптические средства связи будут либо вовсе не осуществимыми, либо потребуют слишком большого расхода энергии. Кроме того, не будет возможности составить полное и объективное описание господствующих на планете условий. Планета может характеризоваться отсутствием газовой атмосферы, или, наоборот, колоссальной ее плотностью. В обоих случаях звуковая сигнализация станет практически невозможной. Планета может оказаться принадлежащей к системе звезды, которой свойственно сильнейшее радиоизлучение на всех диапазонах частот. Это помешает космонавтам связываться между собой по радио. Вновь создаваемый способ передачи информации должен исключать три вышеуказанных, быть в то же время достаточно надежным, легко осуществимым и требовать минимального расхода энергии. Он…”
— Хватит, — сказал Куров, — мне кажется, я наизусть знаю… “Технические условия на разработку нового способа передачи информации, составленные в управлении спасательной службы Комитета по космическим исследованиям”… И так далее… Нет, у меня не появилось новых идей при твоем чтении, весьма монотонном, кстати. Я не понимаю только одного — как мог директор, человек, у которого очень скоро, должно быть, попросят конкретное решение, поручить эту проблему нам, кому только учиться впору?..
— Полагаю, что не только нам. — Тузовский сунул в рот травинку. — Я думал о методе работы. Вряд ли Комитет космических исследований послал эти условия только в наш институт, и вряд ли директор поручил эту проблему лишь нам двоим. Скорей всего, нас он только проверяет на искру божию, а серьезное решение поручил кому-то другому… Справимся, дадим стоящую идею — хорошо, а нет — не знаю тогда, что он с нами будет делать…
— Да. А мы пока эрудицию нагоняем…
— Печально… — Тузовский снял очки, стал медленно протирать стекла. — Идей у нас с тобой нет… Факт, достойный сожаления. В институте создаются другие лаборатории. Не поручусь, что шеф не предлагает им то же самое задание. Испытывать гибкость мышления новых сотрудников…
— А мы все изучаем, изучаем…
— Идеи приходят, когда много знаешь. То, что лежит на поверхности, давно открыто…
— Может быть, даже и открывать ничего не надо. Берем известный способ, который на Земле не применяют из-за того, что существуют гораздо более удобные средства связи. А где-нибудь там, — рука Курова взметнулась вверх, — он вполне бы устроил. Но что им может быть?
— Если из человеческих ощущений… Зрение — не годится, оптические средства исключены. Звуковые тоже. Об остальных говорить не стоит. На радиосвязь тоже наложен запрет. Что еще? Тепловые волны, гамма-лучи, телепатия, какое-нибудь неизвестное излучение — назовем тау-излучение. Ничего не подходит. А может быть, большой объем информации и не нужен. Этот пункт технических условий кажется мне неясным. В самом деле, что надлежит передавать? Подробные сообщения? Развернутые донесения? Или краткие приказы… “По этой дороге я прошел”. “Идите следом”. “Остановись”. “Я нахожусь здесь”. “Нуждаюсь в помощи”. Ты эту неясность запомни. При выработке окончательного текста технических условий надо будет потребовать уточнения.
— Конечно, заказчик скажет, что объем передаваемой информации должен быть как можно больше.
— Не знаю, не уверен. Ведь этот способ связи предназначен для употребления в самых экстренных случаях, попросту в случаях, грозящих гибелью. Ведь вот, допустим, посылают из ракеты человека обследовать какую-нибудь местность. Как бы ни было там темно, каким бы сильным ни был фон радиоизлучений, если ему ничто не помешает, он вернется, и уж в самой-то ракете будет достаточно светло, чтобы выслушать его или даже прочесть донесение. Нет, вот если он где-то застрял и на поиски посылают группу, он должен дать знать о себе таким образом, чтобы она прошла весь его путь и явилась туда, где он находится. “Я здесь был”, “Я здесь нахожусь” — вот простейшие сигналы, которые должен сообщать передатчик нашей машины и принимать приемник.
— Пока что ты, кажется, находишься в муравейнике.
Тузовский вскочил и принялся отряхиваться. По близорукости ли, по рассеянности ли, а скорей потому, что мысли его были отвлечены от таких пустяков, как окружающая обстановка, он не заметил, что удобное сиденье меж двух корней давно уже облюбовано муравьями. Встал и Куров, тоже осматриваясь. Бормоча: “Формика поликтена, муравей лесной”, Тузовский по дороге нагибался, вынимая муравья из отворота штанины. Даже по пиджаку ползало несколько лесных жителей. Он сбрасывал на дорожку то одного, то другого — и видно было, как, не оглядываясь, не задумываясь ни на секунду, муравьи бежали назад, к родному дому. У крыльца Тузовский надел пиджак. Он медленно поднялся по ступенькам — высокий, в костюме без единой складочки, выглядевший даже слегка надменно, похожий на человека, у которого все решения давным-давно готовы, записаны и положены в папку “К докладу”. И только вблизи можно было понять, что отрешенность его взгляда — свидетельство глубокой задумчивости.
Куров в красной клетчатой рубашке — свитер жарко стало носить — глядел рассеянно по сторонам. Молча пересекли они густую тень колонн, молча прошли через вестибюль, молча сели в библиотеке за свои столы. Ветер через растворенные окна шевелил листы открытых книг, но стопки были неподвижны, как бастионы. “Во сне, что ли, попробовать поучиться, — пробормотал Куров, глядя на свою стопку книг. Так досидели они до конца рабочего дня, а потом, утомленные, разошлись по домам.
Точно так же сел Куров и утром следующего дня за свой, ставший уже привычным, стол. Он открыл на середине одну из книг, и листы ее потекли один за другим, почти не придерживаемые пальцами. Солнце встает за окном. Хорошо, когда лето, когда тепло и светло, — но только тем, у кого душа спокойна, а не таким вот, мучающимся в поисках идей.
Тузовский появился неожиданно и без единой брошюрки в руках. Он захлопнул книгу, лежащую перед Куровым, и поманил его пальцем за дверь. Они вышли на крыльцо, спустились. Не отходя далеко от ступенек, Тузовский присел на корточки. Согнул спину и Куров. На посыпанной песком дорожке кипела своя жизнь. Это был большой торгово-промышленный тракт, с точки зрения червяков, гусениц, муравьев и прочих мелких букашек, названий которым Куров не знал. Тузовский поймал муравья, посадил на раскрытую ладонь, поднял ее высоко над землей. Муравей сделал несколько движений, как футболист, выбежавший на поле, а потом вдруг рванул по указательному пальцу. Когда он был уже на краю пропасти, Тузовский опустил ладонь на землю. Муравей сбежал с нее и помчался туда, где сидели вчера Тузовский и Куров, рассказать о пережитой опасности, похвастаться героическим поведением.
— Ну, — сказал Куров, выпрямляясь, прогибая гимнастическим упражнением спину.
— Ну. — Тузовский встал и отряхнул ладонь. — Как ты думаешь, куда он побежал?
— В муравейник, домой к себе. Как и все мы после опасности.
— А дорогу как найдет?
— Как и ты.
— Я вижу.
— А он?
— Вряд ли он что-нибудь видит за этой высокой травой.
— А как же?
— По запаху. Муравьи ведь метят свои дорожки. Муравей-снабженец оставляет следы, а муравьи-исполнители, которые идут за ним, прямо как приказы в письменном виде получают — “Здесь корм”, “Эту травинку тащить в муравейник. Пригодится”, “Сюда не ходить — опасно”. Все конкретно — никаких толкований.
— Понимаю, понимаю… — Куров попятился, сел на скамейку. — Запах — отличное средство информации, просто мы им не умеем пользоваться.
— Я всю ночь об этом думал. — Обычно сдержанный в движениях, Тузовский начал вдруг размахивать руками. — Машина идет по темной планете, в ней экспедиция, посланная на поиски пропавшего космонавта. По радио он ничего сообщить не может; увидеть местность в темноте нельзя даже с помощью инфракрасных приборов. Как искать? Но на всем протяжении своего пути он оставлял вдоль дороги частицы химических веществ с необычайно стойким запахом. Как такие вещества наносить — это деталь. Можно специальный посох. Он же и оружие. Можно на подошвы, можно на колеса или гусеницы машины.
Куров закинул голову и чуть-чуть прикрыл глаза. Первый толчок его конструкторскому воображению был дан.
— А в машине приемник сигналов, — сказал он, — потом усилитель, а от усилителя сигнал идет к механизму, определяющему направление движения. Тут может быть элементарное рулевое устройство из системы тяг, как у автомобиля, а может быть еще что-нибудь, в зависимости от конкретной конструкции…
— А люди?
— Ну что люди. Сидят внутри машины — мощной, защищающей от жара, проникающих излучений, отравленных стрел, — едут и ждут, пока надо будет вступать в бой с чудовищами или рубить ветки, разбивать палатку и доставать из мешка гитару. В выборе дороги они участия принимать не должны…
— Почему?.. Я об этом как-то не думал.
— Ты понимаешь, — Куров заговорил медленнее, растягивая фразы, обдумывая, — человеческая психика — вещь неустойчивая; обстановка может быть настолько трудной, что мы себе и представить не в состоянии. Наконец, возможно появление каких-нибудь психических волн, расщепляющих сознание. Что способна дать в таких условиях свобода выбора? Один скажет: поехали направо — там что-то чернеется; другой — нет, налево, там что-то белеется. И не спасут никого, и сами погибнут…
— Но ведь есть командир.
— Он такой же живой человек, как и остальные, и точно так же подвержен действию всех обстоятельств. Если уж муравей тебя надоумил, то проводи аналогию до конца. Его поиск осуществляется автоматически — запах указывает, и он идет.
— А если препятствие?
— Преодолевает. Мы ведь тоже должны создать не анализатор запаха, а машину, идущую по запаху. Значит, должны заложить в ее программу элемент свободного поиска, дать сведения о различных препятствиях и о том, как их преодолевать.
— Запах, — сказал Тузовский, — запах… Сложно будет… Полторы недели ломали голову только над идеей; а что дальше? Если разрешат работать в этом направлении, еще труднее придется. О природе запаха мало что известно, окончательной теории нет, есть разные точки зрения. А без теории как строить машину?
— Ничего, — отозвался Куров, — ничего… Теории рождаются при повышенном интересе к какой-нибудь области знания. Кому до сих пор нужен был механизм запаха? Никому. Даже парфюмерам. У тех свой подход — что приятно, то и годится… А теперь для космических исследований потребовалось! Оборудование дадут, лучшие умы приступят к решению…
— Уже приступили, — засмеялся Тузовский.
Но они не сразу пошли к директору с оповещением о найденной идее. Еще несколько дней они сидели в библиотеке, проверяя и перепроверяя себя, перелистывая тысячи страниц. Навигационные способности птиц, локаторы летучих мышей, реакция змей на тепло… Они искали подтверждения своей идее… И находили.
— Слушай, — говорил Куров, оборачиваясь радостно, — перепончатокрылые с длинным буравцем никогда не видят жертвы, в которую собираются отложить яйцо, потому что она находится под землей или внутри дупла.
— Бабочки чувствуют нужный запах на расстоянии одиннадцати километров… — отвечал Тузовский.
Они уяснили себе методику работ — по крайней мере ту, которую можно было найти в книгах, составили примерный список оборудования…
— Пора идти, — говорил Куров.
— Подожди, — отвечал Тузовский.
Он написал обстоятельную докладную записку, в которой были высказаны их общие соображения. Куров сходил в машбюро, полюбезничал с машинистками, и ему быстро все перепечатали.
— Завтра приходи побритый и гладенький, — сказал Тузовский. — Будем у директора.
За полторы недели кое-что изменилось в директорском кабинете. Перпендикулярно к его рабочему столу поставили еще один, покрытый зеленым сукном. “Значит, есть кому собираться”, — заметил Куров. Возле стола появилась тумбочка, а на ней два телефона с клавиатурой и один — без. Лицо директора стало суше, строже — груз забот с тех первых дней, когда друзья впервые увидели его, должно быть, увеличился. Директор прочел внимательно весь доклад, а друзья сидели, сложа руки на коленях. Тузовский придерживал папку. Директор не расцеловал их, прижав к сердцу, как они втайне надеялись, но и не выгнал, чего они втайне опасались.
— Хорошо, — сказал он, думая вслух, — запах — это хорошо. А может, вправду сделаем такую машину?
— Сделаем, — кивнул Куров. — Будет, как муравей, бегать. Тут еще что думается — независимость выхода к цели от человеческой психики. Психика — вещь шаткая…
— Независимость, — повторил очень медленно директор, как бы вдумываясь в глубокий и дальний смысл тех событий, которые он вызывал к жизни простым этим словом. — Ну ладно. Наперед, конечно, трудно сказать. Включим в тематический план. Вы, вероятно, думаете: вот мы показали, что можем дать идею, а теперь нас определят в какую-нибудь лабораторию, под чье-то могучее крылышко. Нет, работать будете сами. Солидных людей у нас много, и все больше становится, но у каждого свои идеи. Так что развивайте, воплощайте в жизнь, в опытный Образец свою мысль сами. А помощь вам, конечно, будет оказана любая… Вот хотя бы составить заявку на оборудование. Спуститесь на первый этаж…
— У нас уже есть такая заявка. — Тузовский выхватил из папки листок, протянул…
Курова привело в новый институт не осознанное, постоянное стремление, а порыв, до некоторой степени даже случайный. Он увидел в газете объявление, прочитал, но вдумался не сразу. Ходил по заводу, по лабораториям, шумным, пропитанным запахом металла, разговаривал, спорил, смеялся, ругался, и в минуты затишья приходили ему в голову строчки из газеты, мысли о том, что хорошо быть первым в какой-нибудь области науки или техники, а в такой и подавно. В душе его качались чаши весов, и желание заняться новым делом перевесило.
Но он никогда не думал, что будет так трудно. Войти в незнакомую область знаний, привыкнуть к ней, научиться мыслить ее категориями, овладеть теми сведениями, без которых невозможно что-либо начать, — адский труд выпал на голову Курова.
Он изучал энтомологию, биохимию, биофизику, бегал по вечерам на лекции в университет. Неизвестно, выдержал ли он бы до конца. Один порыв привел его сюда, другой мог точно так же заставить все бросить. Но железная методичность Тузовского подавляла его. Тому было не легче — приходилось изучать несколько инженерных дисциплин, каждая из которых представляла собой специальность.
— Узкими специалистами успеем стать, — говорил Тузовский, — сейчас важно выработать широту взглядов. Прежде чем решить проблему, надо уметь ее перед собой поставить, надо знать, что она существует.
Но теперь им читалось легко. Цель была определена, и во всем том, что узнавали, они стремились найти пригодные для ее достижения средства. Им отвели довольно большую комнату на первом этаже. Сначала в ней стояло только два стола, но начало поступать оборудование, и постепенно становилось все теснее и теснее. Бинокулярный микроскоп, осциллограф, усилитель, наборы тончайших электродов, термостат, вискозиметр, — все меньше и меньше оставалось свободного места в комнате. Но зато все четче вырисовывалось направление, то, которое должно было привести к цели. Муравьев доставляли им корзинами; нашелся человек, который выращивал раньше белых мышей, а теперь переключился на муравьев и даже зимой ухитрялся их вскармливать. Один угол комнаты был отдан Курову; угол он завалил радиодеталями, собирая всевозможные блоки. Он же изучал биоэлектрическую активность нервной цепочки муравьев, надевая на кончики их волосков пипетки с электролитом. Делать это все приходилось, глядя в микроскоп. Плясали кривые на экране осциллографа; один за другим заполнял Куров бланки-протоколы опытов.
Тузовский чаще сидел за столом; длинные цепочки формул громоздились в его тетради… Так, сумасшедше и весело, прошли осень, зима, весна… В комнате все время стояли странные запахи, и разные люди, входя, принюхивались, и то морщились, то расцветали в улыбке.
Устройство, которое Куров конструировал, должно было различать запахи.
— Перцептрончик мой дорогой, — говорил он, водя карандашом по схемам.
Тузовский оторвался от стола и поглядел в окно. Зима прошла совершенно незамеченной, теперь и весна близилась к концу. Прямо перед окном шла асфальтированная дорожка, а за ней газон — и трава на нем была густая, ярко-зеленая…
— Смотри-ка, весна кончается. — Тузовский потянулся так, что затрещала спинка стула.
— А ты и не заметил, — отозвался Куров из своего угла.
— Слушай, я почти установил, что запах — это электромагнитные волны. Теория, а…
— Мы теориями не занимаемся, — сказал скромно Куров, — но кое-чего тоже добились. Сейчас должен прийти мастер — я ему заказ хочу дать… эскизики набросал.
Мастер пришел, взглянул на эскизики и долго чесал затылок, а Куров, похлопывая его по плечу, успокаивал:
— Сделаете. Это ведь не массовое производство. Можно и вручную довести. Шкуркой. Я сам приду, за тиски встану…
Через несколько дней детали были готовы. Кривые необыкновенно сложных форм изумляли тех, кто брал детали в руки. Доводить их до нужной точности и чистоты было мучением, но еще мучительней казалось поручить это кому-нибудь. Да и не брался никто. Несколько дней Куров простоял в мастерской за тисками.
Прибор начал приобретать очертания. Он состоял не только из анализатора запахов, но имел некоторое подобие нервной системы, наделенной способностью находить решения в затруднительных случаях.
— Если он и не умнее муравья, то, во всяком случае, не глупее, — говорил Куров, похлопывая по железному футляру. — Для прибора этого вполне достаточно.
Но прибор был лишь средством. Его требовалось поставить на шасси с собственным двигателем и связать с ним кинематически механизм управления. Шасси Тузовский и Куров нашли очень быстро. Это был старый электрокар небольших размеров с аккумуляторами под платформой. Он стоял в одном из сараев, которые окружали основное здание. Туда специально с разных предприятий привозили списанное оборудование. Но электрокар был совсем как новый.
— Морально устарел, — высказал предположение Тузовский.
Электрокар оказался как нельзя кстати: перцептрон — прибор, моделирующий орган обоняния муравья, и блок, в который была заложена память о некоторых препятствиях и о том, как их преодолевать, заняли половину платформы. Другую половину должны были занять усилитель и исполнительное устройство, связанное кинематические механизмом поворота, заднего хода и торможения. Еще несколько недель ушло на то, чтобы продумать, вычертить, изготовить в мастерский, присоединить детали узла кинематической связи. Этим занимался Куров, а Тузовский совершенствовал блок памяти. Он заставлял муравьев преодолевать самые разнообразные препятствия, по тысяче раз влезать на одну и ту же дощечку, чтобы в конце пути быть сброшенными; пролезать под соломинками, бегать вдоль заборчиков, ища выход. Все это муравьи проделывали с микроэлектродами в голове.
Блок памяти увеличивался, обогащаясь запоминанием новых ситуаций. Платформа оказалась мала. Конечно, можно было бы заказать специальную машину, но друзьям не терпелось. Пришел сварщик и подварил сбоку лист, укрепив его снизу кронштейнами. Еще несколько недель ушло на монтаж схемы, на сборку всех механизмов. Напоследок Куров выкрасил бока платформы желтой краской.
— Не терплю серости, — заявил он.
Директор заходил к ним чуть ли не каждый день, просиживал подолгу, давал советы. Заходили и из других лабораторий — ученые, специалисты, некоторые с громким именем.
Радостно было Тузовскому и Курову, что они многого добились, что первый этап работ подходит к концу, что уложились в срок. На парфюмерной фабрике, по специальному заказу, сделали литр жидкости с неощутимым для человека запахом. На волну запаха настроили прибор. Надо было еще придумать механизм разбрызгивания, но решили обойтись пока.
— Космонавты смогут помещать разбрызгиватель хоть в башмаки, — сказал Куров, — это придумать не хитро. А пока главное — принцип утвердить.
Институт был огражден узорчатым литым забором. От ворот шел спуск к шоссе, а за шоссе начинался пустырь. После того как там однажды испытали механизм, имитирующий локаторы летучей мыши, его стали называть полигоном. Там и предполагалось испытать через несколько дней новую машину. Тузовский должен был идти в ботинках, обрызганных специальной жидкостью, а за ним — метрах в пяти — двигаться тележка. Вплотную к нему подъехать она не могла — в метре примерно расстояния концентрация запаха по расчету должна была стать слишком сильной, превышающей допустимую. В этом случае механизму блокировки полагалось остановить тележку. Так было сделано для того, чтобы будущая машина — вероятно, громадных размеров — не могла наехать на человека. Курову следовало идти рядом, не принимая участия в управлении, чтобы остановить машину при каких-нибудь непредвиденных обстоятельствах.
Для испытаний составили комиссию: директор, представитель заказчика, несколько докторов наук. Но, прежде чем встать со своей тележкой перед десятком строгих глаз, друзья решили испытать ее сами на несколько дней раньше. Чтобы не краснеть потом.
Еще раз они проверили всё, начав ранним утром и кончив поздно вечером — благо дни были длинные. Проверка утомила их. Они посидели в сарайчике, где стояла тележка, почти не разговаривая. О начале испытаний было уже договорено: рано-рано утром, едва только солнце встанет, чтоб никто не приставал с расспросами, не вмешивался и вообще не видел.
Надо было остаться на ночь. Разрешение работать по ночам у них было; они показали его дежурному вахтеру и легли в вестибюле на диванчике.
— Денег, что ли, не хватило диван-кровать купить? — бормотал Куров, ворочаясь.
К пяти часам утра косые лучи солнца осветили спящих. Куров сел, потянулся, закурил — и тут же, будто от чирканья спички, открыл глаза Тузовский. Они вышли во двор и постояли немного на крыльце. Роса блестела в траве, пели птицы, цветы на клумбе были необыкновенно ярки. Странное чувство овладело ими — умиротворения и тревоги сразу. Раздавались гудки — неподалеку проходила железнодорожная ветка.
— Готов? — спросил Куров.
— Всегда готов, — отозвался Тузовский.
Они вытащили тележку из сарая и помыли ее. Желтые бока, казалось, отражают солнце. Тузовский отошел на несколько шагов к воротам и, нагнувшись, сдавил грушу пульверизатора, обрызгивая ботинки. Куров встал рядом с тележкой, нажал кнопку. Тележка тихо двинулась. Тузовский дошел до шоссе, но вместо того чтобы пересечь его и двинуться по полю, свернул направо.
— Стой! — крикнул Куров. — Куда ты?
— Здесь кювет, — отозвался Тузовский, — крутой спуск и подъем. Боюсь, приборы повалятся. Там дальше я знаю удобное место, где можно спуститься. Это за железнодорожным переездом.
Ни одной машины не было — ни встречной, ни обгоняемой; пустынное гладкое шоссе лежало перед ними. Тузовский вел себя как мальчик — он то шел медленно, то припускался рысью, выписывая кренделя и восьмерки. Тележка послушно повторяла его движения, а Куров хохотал. Потом Тузовский нашел доску, положил поперек дороги. Тележка аккуратно ее объехала. Тузовский вернулся, чтобы убрать доску, — тележка повернулась тоже. Еще немного они прошли — и впереди уже показался темный дощатый настил с двумя узкими, блестящими полосами посредине — рельсами. А за ними — по левую сторону шоссе — некрутой спуск вел прямо на пустынное поле. Они были уже совсем недалеко от переезда — Тузовский впереди, тележка с Куровым на пять метров сзади, — как вдруг зазвенел звонок, и шлагбаум медленно опустился. Тузовский положил локти на полосатое бревно, стал ждать поезда. Но пока даже громыхания не было слышно. Куров тоже подошел к шлагбауму. Тележка подъехала ближе и спокойно встала сзади. Автомобили не показывались: можно было ничего не опасаться.
— Наверное, пора уж повернуть. — Куров оперся о шлагбаум. — Работает, как часы. А то скоро народ начнет собираться. Пойдут расспросы, как да почему; советы один другого умнее, поздравления. Не люблю, когда заранее поздравляют. Вот выйдет сборник трудов, потом какой-нибудь сто тридцать пятый том ученых записок, тогда пожалуйста. Давай повернем. Трудная работа — идти рядом, устаешь следить. Вот не думал никогда.
— Рано еще поздравлять-то, — сказал Тузовский. — Все-таки на поле надо съехать. Неровности, ямы. Рельсы снова пересечем — и уже не по доскам. Препятствия… Как она их умеет преодолевать? Жаль, светофоров нет или встречной машины.
— На Марсе светофоров не будет…
Поезда еще не было, но уже дрожали тихонько рельсы и все вокруг наполнилось гулом. Наконец он показался, гудящий локомотив, а за ним вагоны, вагоны, вагоны — громадная дуга, очерченная вагонами. Еще миг — и весь мир превратится в бешено вертящиеся, грохочущие, солнцеподобные колеса. И в этот момент на рельсах появилась старуха. Какая-то сумка была за ее плечами — быть может, с картошкой, а может быть, с бидоном молока. Старушечьи дела — простые и необыкновенно важные — гнали ее в ранний час. Она нырнула из-под шлагбаума с той стороны, перешагнула рельс и засеменила к другому, но как раз на полпути повернула голову влево. И испугалась. Если б она шла, не взглянув в сторону, она бы успела. Но вид приближающегося поезда как бы парализовал ее; она застыла, не зная, на что решиться: повернуться ли и бежать назад или попытаться проскочить. Тепловоз гудел, надвигаясь. Рельсы дрожали. Куров и Тузовский одновременно нырнули под шлагбаум, с обеих сторон подхватили старуху, вытолкнули ее за рельсы и сами выпрыгнули из межрельсового пространства. И сразу сзади них загрохотал поезд.
— Сынки, сынки! — вопила бабка.
Но им было не до нее. Побледнев, оба бросились на землю. Колеса то открывали им просвет, то закрывали, но они ясно видели, что происходит. Тележка должна была сократить дистанцию между Тузовским и собой — и она медленно тронулась с места и покатила. Она спокойненько проехала под шлагбаумом, едва не наткнулась на колеса, повернула, чтобы миновать их — она умела преодолевать препятствия. Колеса тем временем ушли, тележка снова повернула и въехала в подвагонное пространство движущегося поезда. Друзья ахнули. Они думали, что тележка может поехать вдоль всего поезда — и это было бы не страшно, — но такого они не ожидали. Тузовский отскочил на метр — чтобы тележка не остановилась на рельсах, — а Куров, пригнувшись, рванулся вперед, схватил тележку за ось и выдернул ее из-под вагона. Двигаясь медленно, она, конечно, не успела бы выехать сама. Анализатор запахов и усилитель упали. Но опасность им не угрожала — они очутились между рельсов.
— Снова паять придется, — сказал тихо Куров. Тузовский подошел, встал рядом. Теперь уже не приходилось бояться, что тележка откатится.
Поезд прошел. Куров подобрал два упавших прибора, оглядел их. Как будто бы ничего не повредилось. Он поставил их на платформу совсем по-другому, чем они стояли, кое-как, лишь бы довезти обратно.
— Сынки, сынки… — бормотала старуха. Она все еще была здесь. — Да как же благодарить-то вас!
— Веревка есть? — спросил Куров.
Порывшись в мешке, старуха достала веревку. Куров привязал ее к тележке. Вдвоем они взялись за веревку и поехали обратно в институт. Старуха еще немного попричитала и исчезла.
Теперь на шоссе уже появились машины, шли пешеходы, но никто не обращал на них внимания. Идут ребята, везут тележку с приборами — что здесь особенного. Наверное, за оградой — институт. Тележка, правда, какая-то желтая, странная — но, может, у них инструкция такая.
Молча дошли они до института, молча завели тележку в сарай. Можно было бы срочно припаять порванные контакты, закрасить царапины и хоть завтра все испытывать вновь. Но что-то изменилось в их оценке своего успеха — с того самого момента, когда они увидели, как медленно и неотвратимо тележка катится под колеса.
Они прошли к тому самому месту, где сидели когда-то, ища идею, и снова расположились, как тогда: Куров на траве, лицом вверх; Тузовский — между корнями деревьев.
— Радость и печаль ходят рядом, — сказал Тузовский. — Какой-то жизненный механизм сработал четко — и триумф обернулся поражением. Чего-то мы недодумали, недоглядели.
— И откуда эта старуха выскочила?.. — Куров перевернулся на живот, положил подбородок на скрещенные руки.
— Хорошо, что выскочила. Тут произошла как бы двойная проверка: человека — на приспособленность к машине, и машины — на приспособленность к человеку.
— Ну?
— И оба не выдержали. — Тузовский замолчал.
Уже показались первые люди — те, кому по долгу службы надлежит приходить раньше других. Дворник скашивал метлой пыль с асфальта, уборщица обрушивала водопады с крыльца. Мир растормаживался, набирая потихоньку разгон на весь день.
— Люди-то здесь при чем? — спросил Куров.
— Ну как же. Мы снабдили свою машину слишком большой свободой поведения. А это значит, что она никогда не должна попадать в такие положения, которые могут привести ее к гибели. Это возможно в раз навсегда заданной обстановке. Но мы-то ничего подобного гарантировать не в состоянии. Человек- существо эмоциональное, способное на самые неожиданные поступки. Потому мы и бросились спасать старуху. А машина-то такое благородство оценить не может. У нее интеллект муравья. Следуй за мной — вот и все голоса внешнего мира, которые до нее доходят. Ну, еще память о некоторых ситуациях, которая только вредна. Потому она и бросилась под колеса. Нет, мы явно не подходим для таких машин. Нам пока годится только грузовик, полностью зависящий от нашей воли. Но он нас не устраивает, он слишком “глуп”. Или…
— Или?
— Или машина с начатками эмоций. Чтобы она хоть боялась лезть туда, куда лезть не нужно.
— Ясно, — сказал Куров. — Машина с психикой. Никуда от нее не денешься. Не знаешь, у нас нет еще такой лаборатории?
— Какой?
— Которая бы разрабатывала проблему души для машин.
— По-моему, нет.
— Надо будет поставить вопрос… Но, — Куров поднялся и хлопнул Тузовского по плечу, — не огорчайся. Мы же с тобой сумели сделать анализатор запаха — впервые, ты понимаешь, впервые…
— А машину создать не смогли, — сказал Тузовский.
Матвей Ройзман Вор-невидимка
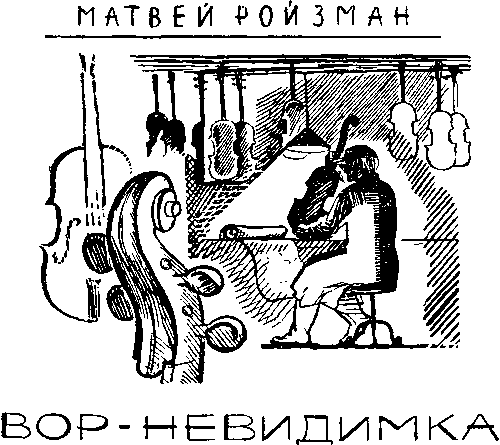
1. НЕОЖИДАННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Я встретил во дворе редакции Веру Ивановну Майорову, с которой познакомился в те годы, когда она еще была студенткой факультета журналистики Московского университета. Окончив с отличием, она работала репортером в газете, потом писала очерки о замечательных людях науки и труда, ездила специальным корреспондентом для разбора на месте писем и заявлений читателей. Каждая статья подтверждала ее умение выяснять и анализировать сложнейшие истории в различных областях нашей жизни. По моим подсчетам Вере Ивановне было тридцать с небольшим, но выглядела она моложе: сверкали ее зеленоватые глаза, та же лукавая улыбка выступала на губах и образовывала на щеках задорные ямочки. Мы присели на скамейку, где под ее деревянной спинкой, в ложбинке, лежал снег, а вокруг тополя простирали к небу черные ветви. Вера Ивановна сказала мне, что ее назначили заведующей отделом писем, и спросила, зачем я пожаловал в редакцию. Я объяснил, что решил было написать повесть по уже готовому сюжету, но он мне разонравился. Просматривая свои записные книжки, дневники, я ничего не нашел. Что делать? Я ходил по городу с красной повязкой дружинника на рукаве, работал общественным участковым уполномоченным. Словом, наблюдал житейские трагедии и комедии, но все это было обыденно. Вот я и вспомнил, что когда-то она, Вера Ивановна, дала мне прочесть захватывающее письмо одного читателя газеты… — Короче говоря, пришла минута, и вам понадобилась Вера Ивановна? — засмеялась она. И стала рассказывать мне краткое содержание, по ее мнению, самых интересных, недавно поступивших в редакцию писем. Увы! Это были все те же примелькавшиеся в газетах сообщения о построенной неизвестно на какие средства собственной даче, о ловко скрытых хищениях и растратах государственных денег, о мелких и крупных взяточниках. Наконец, исчерпав весь свой запас, она взялась было за ручку своего желтого портфельчика. И вдруг хлопнула по нему рукой: — Совсем забыла! Есть письмо, но придется самому поработать в моем отделе. — Согласен! — Сперва я должна вам открыть страшную тайну, — продолжала она. — Ага! Заинтриговала?.. У меня есть знакомый архитектор — Георгий Георгиевич Савватеев. Помимо всех его прекрасных качеств, он чудак: коллекционирует скрипки! — Почему чудак? Я знаю многих почтенных людей, которые собирают марки, старинные деньги, медали, игрушки, этикетки папиросных и спичечных коробок, конфетные обертки, даже балетные туфли примадонн… — Понимаю, почему вы защищаете Савватеева. Вы сами любитель скрипки! Вера Ивановна рассказала, что Георгий Георгиевич привел к ней старого скрипичного мастера. Тот долго просил все держать в секрете, а потом передал ей письмо. Пока она раскрывала свой желтый портфельчик и вынимала лист бумаги, я спросил ее, как фамилия мастера. Узнав, что это Андрей Яковлевич Золотницкий, я сказал, что собираюсь написать с старике очерк, бывал у него в мастерской и дома и даже знаком с его сыном-скрипачом и снохой Любовью Николаевной или, как все ее зовут, Любой. — Вот уж верно: на ловца и зверь бежит! — воскликнула Вера Ивановна и дала мне письмо скрипичного мастера, который работал в существующей при театре оперы и балета мастерской по реставрации смычковых инструментов. “Обращаюсь к вам, тов. редактор, — писал он, — с просьбой спасти от взлома несгораемый шкаф фирмы “Меллер и Кº”, находящийся в мастерской, которая на ночь запирается на висячий замок и до открытия охраняется сторожем. Несмотря на это, сегодня, по приходе на службу, мною замечено, что кто-то пытался вскрыть шкаф. На это указывают царапины от неизвестного орудия около замка и явственные следы пальцев. Достойно удивления исчезновение царапин и следов спустя несколько часов после того, как я их заметил. В шкафу хранятся плоды всей моей жизни, а именно: расчеты для разных частей скрипки; составы лаков, грунтов, проверенные на опыте; записи о разных операциях и сроках их, вносимые мной в книгу в течение более сорокалетней работы. Вы, тов. редактор, можете усомниться в ценности моих трудов, — поэтому прилагаю справки от консерватории и театра, в котором служу более четверти века”. Прочитав письмо, я взглянул на Веру Ивановну. Она улыбалась. Очевидно, у меня был озадаченный вид. — Все очень неясно! —признался я. — Были следы, нет следов! Может быть, уборщица вытирала шкаф около замка тряпкой или чистила каким-нибудь порошком и поцарапала. Когда мастер заметил, она поспешила затереть царапины. — Это могло быть, — согласилась Вера Ивановна. — Но, по-моему, если кто и пытался взломать шкаф, то это сделал человек, хорошо знающий, что там хранится. — Зачем же тому, кто работает с Золотницким, взламывать шкаф? Такой человек может подсмотреть расчеты, измерить готовые струнные инструменты, отлить лак и произвести химический анализ. Нет, в шкаф пытался проникнуть тот, кто не работает в мастерской. Он действовал сам или через подставное лицо! Вы, Вера Ивановна, говорили с этим мастером? — Я только согласилась принять письмо. Золотницкий взял с меня честное слово, что я не передам его бумагу в уголовный розыск, поблагодарил и ушел. — Почему же он не хочет, чтобы вы переслали письмо в уголовный розыск? — спросил я. — Савватеев говорил, что скоро конкурс смычковых инструментов, а отец и сын готовят по скрипке. Вот старик и подозревает, что его наследник заинтересовался несгораемым шкафом. — Вот это да!.. — удивился я. — Но ведь уголовный розыск во всем этом отлично разберется! — Допустим! А что дальше? Если скрипач пытался вскрыть шкаф, то, в девяноста случаях из ста, он снова это сделает. Оперативные работники возьмут его с поличным. Дело пойдет в народный суд, сына Золотницкого приговорят, наверно, к шести годам лишения свободы, столько же лет получат его соучастники или соучастник. — Вера Ивановна вздохнула и спросила: — Как вы думаете, отразится это трагическое событие на скрипичном мастере? — Обязательно. — Зачем же травмировать старика? Савватеев мне объяснил, что этот мастер несколько лет назад сделал скрипку, которую назвал в честь своей покойной жены “Анна”, и получил на конкурсе смычковых инструментов вторую премию. Теперь к новому конкурсу он заканчивает скрипку “Жаворонок” и, вероятно, добьется первой премии. — О “Жаворонке” мне известно! — начал я. — Только… — Но главное, — перебила меня Вера Ивановна, — старик уже много лет трудится над необыкновенной скрипкой, которая, как говорит коллекционер, — а он в этом отлично разбирается! — затмит все скрипки, сделанные до нее, в том числе даже самого Страдивариуса! Об этом Савватеев напечатал в журнале “Советская музыка” статью с фотографиями, и вы можете ее прочесть! — Статейку прочту, но о такой скрипке слышу первый раз. Вообще-то старик скрытный… А что вы думаете предпринять? — Я хочу узнать: действительно ли была попытка вскрыть несгораемый шкаф? А потом выяснить, какое отношение к этому имеет скрипач Михаил Золотницкий? — Трудная задача! Хотя вам и карты в руки! — Мне? — переспросила Вера Ивановна. — Вы не можете себе представить, сколько писем ежедневно получает наша редакция. И на каждое надо написать вразумительный ответ, послать на место корреспондента, иногда самой выехать. — Вы сказали, архитектор Савватеев в хороших отношениях со стариком. Пусть он отправится к нему и осмотрит несгораемый шкаф! — Да что вы! — воскликнула Вера Ивановна и замахала руками. — Он работает над проектом республиканского значения. Наверно, когда погружается в свои размышления или чертежи, его самого можно украсть! Нет, я хочу, чтоб в мастерской побывали вы! — Я?! В это время в уголке двора на покрытую снегом рябину уселись посвистывающие снегири и стали клевать мороженые ягоды. За каменным забором раздалось гудение трамвая, птицы затаились, и красные их грудки лежали на снегу, точно румяные яблоки на белом блюде… Я отлично понимал, что мои действия отнюдь не кончатся тогда, когда выполню поручение Веры Ивановны. Нет, за всем этим вырисовывалась так называемая “командировка по просьбе читателя”, а точнее, настоящий поиск по письму скрипичного мастера. Но Вера Ивановна не принимала во внимание самого простого: если пишешь повесть, беря в основу законченное судом дело, можешь обдумывать каждый ход следователя хоть месяц, хоть год. А когда будешь вести поиски сам, на обдумывание, как в шахматном турнире, будет отведено ограниченное время. Просрочишь — попадешь в цейтнот, скомкаешь работу, а это — верный провал. Да еще сколько невинных людей может пострадать! — Думаете? — прервала Вера Ивановна молчание. — Думаю, — ответил я. — Ведя поиски по делу скрипичного мастера, я буду походить на человека, который строит ворота, еще не возведя дома! — Оставим философию! — предложила она. — Вспомните о деле инженера-химика Рубинова, у которого украли его рукопись. Вы рассказывали, что начальник уголовного розыска комиссар Кудеяров попросил вас помочь инженеру. Ведь именно вы нашли вора и рукопись заявителя. Вера Ивановна попала мне не в бровь, а в глаз… — Вы не замечаете, — продолжала она после минутного раздумья, — что раньше у вас был азарт к распутыванию всяких загадочных случаев. Теперь же… — Вера Ивановна! — воскликнул я с упреком. — Разве это загадочный случай? Кошачьи царапины на дверце несгораемого шкафа. Да это же пустяк! — Тем более! Вы его быстро и легко распутаете, что и требовалось доказать! — Да вы поймите! Я с самого начала заявил, что пришел за значительным сюжетом. Ну, за таким, из-за которого стоит и голову поломать, и над бумагой покорпеть, и отнять время у читателей! — У меня в отделе много опытных журналистов. Есть бывшие адвокаты, следователи, прокурор. Вы, наверно, читали, какие головоломки они решают? Но я предлагаю по следам этого письма пойти вам и, в конце концов, доказать, что вы умеете вести разведку. — Это что же — экзамен? — На аттестат зрелости, если угодно. — Ого! — воскликнул я и с досадой продолжал: — Вы думаете, легко работать, когда мастер Золотницкий будет молчать, боясь выдать свои секреты? Его сын — скрипач, свидетели — мастера, коллекционеры, вроде Савватеева, поступят так же. Пока добьешься чего-нибудь, ухлопаешь уйму времени, а тут нужна скорая, оперативная помощь. И вообще, вообще… — Ага! Не договариваете? Хорошо, сделаю это за вас. Итак, по-вашему, в несгораемый шкаф лез чужой человек. А что произойдет дальше? В первый раз у него ничего не вышло. Во второй он выберет время, когда старик будет в мастерской один, пригрозит ему даже не пистолетом, а финкой, и тот сам отопрет шкаф и своими руками отдаст все секреты и ценности. А не отдаст, удар ножа, и конец! Я хочу сказать, что дело может обернуться во много раз серьезней, чем это кажется! — На меня ляжет такая ответственность!.. — начал было я. — Однако еще в позапрошлом году вы говорили, что ездили с работниками уголовного розыска на очень опасные операции! — прервала меня Вера Ивановна, и в ее тоне я уловил ехидные нотки. — Да! А как вы познакомились с Золотницкими? — Ну вот! Я же работаю общественным участковым уполномоченным. Дом, в котором живут Золотницкие, находится на моей территории. Сказав это, я спохватился, что попал как кур во щи: именно я должен опекать семью Золотницких! — Ладно! — воскликнул я. — Постараюсь разобраться в письме скрипичного мастера. — А мы вам поможем! — поднялась она со скамейки. — Вы сделаете большое доброе дело, дорогой мой разведчик. Да, кстати! Недавно Михаил Золотницкий прислал в редакцию по почте свою статью. Она нам не подходит! Прочтите ее. — Она дала мне рукопись скрипача. — Вам будет легче разговаривать с ним и с его отцом. Вера Ивановна пожала мне руку и пошла, помахивая своим желтым портфельчиком. Я смотрел ей вслед и думал — вот сейчас идет и торжествует: “Здорово подковала голубчика!”2. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Высокая, худая, с подстриженными черными волосами, дымящая папироской, секретарь-машинистка отдела писем Алла встретила меня неожиданным сочным басом: “Нашего полку прибыло!” Не выпуская папироску изо рта, она быстро напечатала удостоверение о том, что редакция поручает мне написать очерк о скрипичном мастере Андрее Яковлевиче Золотницком. Пока она носила бумагу на подпись, в комнату заходили сотрудники, спрашивали Аллу и оставались ее ждать. Каких только названий ближних и дальних городов, крупных и маленьких учреждений я не услыхал! И во все эти путешествия и поиски влекли журналистов письма читателей. Я вынул из кармана рукопись скрипача Михаила Золотницкого и прочитал ее. Музыкант пытался раскрыть секрет, которым, по общему мнению, в шестнадцатом — семнадцатом веках владели кремонские мастера смычковых инструментов. Между прочим, автор сожалел, что сыновья Антонио Страдивари не сохранили секретов отца: Паоло был торговцем, Джузеппе — монахом, Франческо и Омобоно, хотя и работали в мастерской, были бездарными. К тому же Страдивари не раз замечал, что Франческо роется в его записях, стараясь раскрыть секреты мастерства. Какое совпадение! Об этом писал человек, которого отец заподозрил в том же, в чем живший три века назад великий итальянец своего отпрыска… Крупные хлопья снега опускались на мои плечи, на грудь. Улицы были украшены нашими и иностранными флагами. Вот проехал автомобиль с пионерами, промчалась правительственная машина: в столице ждали приезда зарубежных друзей… В проходной будке театра я предъявил дежурной свой документ и, получив пропуск, зашагал двором к четырехэтажному флигелю. Я шел по длинному коридору мимо прислоненных к стенкам, пахнущих свежими красками декораций и бутафорских предметов. Всюду сновали люди в синих халатах со всевозможными инструментами в руках. Это были театральные рабочие и киноработники: еще вчера в театре начались съемки “Евгения Онегина”. Я пробился на лестничную площадку, оттуда подъемная машина доставила меня на третий этаж, и, пройдя метра два, осторожно открыл дверь в скрипичную мастерскую. Скрипичный мастер Золотницкий был на месте. Поздоровавшись с ним, я спросил, как его здоровье, — он пожаловался на сердце. Я показал старику выданное редакцией удостоверение и объяснил, что чем подробней он расскажет мне о своей работе, тем лучше выйдет очерк. Мастер надел очки в золотой оправе и долго читал мой документ. — Да, лечу больные скрипки, — проговорил он тихо. — Вдохнешь жизнь в такую загорелую дочку, — продолжал старик, беря в руки потрескавшуюся, с отставшей декой скрипку, — и сердце радуется! Словно я доктор, спас от смерти ребенка! Андрей Яковлевич пошел в подсобную комнату, закрыл за собой дверь. Я оглядел мастерскую: два окна с порыжевшими шторами, в простенке высокий столик, на нем электрическая плитка с маленькой кастрюлькой, где, как я узнал потом, варят осетровый клей. Справа и слева, ближе к окнам, — два шкафа с раздвигавшимися стеклянными дверцами, за ними восстановленные скрипки и альты. На стенах, на особых крючках, — виолончели, похожие на раздувшиеся от спеси скрипки, а под ними могучий богатырь — контрабас. Над дверью — стенные часы, наискосок от них — на полке — камертон с резонансным ящиком и молоточек, а от него тянется к столу мастера проволока. Параллельно окнам, от одной стены к другой, — рабочие столы, на них, в деревянных ящичках, — набор рубаночков, циклей, стамесок, напильников; пузырьки с красками и лаками. На одном столе — металлическая струбцина, служащая для зажима различных частей смычкового инструмента, на другом — в деревянных “барашках”, словно больная во время операции, — виолончель с открытым нутром… Золотницкий принес белую верхнюю деку, сел на свое место и вставил ее в струбцину. Дернув за проволоку и этим приводя в действие камертон, старик, водя смычком по краю деки и извлекая звук, настраивал ее на “ля”. Свет висящей лампочки ярко освещал мастера — его спокойное лицо, поредевшие волосы, залегшие на лбу морщины, черные с сединой брови, худую жилистую шею. Он казался старше своих шестидесяти лет. — Ведь у вас есть ученики? — спросил я. — Да, шестнадцать человек! — Где же они? — Сегодня пошли в Кино повторного фильма. Там идет “Петербургская ночь”. Хотят посмотреть скрипача. Входя в роль, я оглядел мастерскую и сказал, что для стольких людей комната маловата. — Другой раз повернуться негде, — согласился мастер. — Заказчики приходят, любители скрипок заглядывают. Знаете архитектора Савватеева? Частый посетитель! А то еще кинорежиссер Разумов… Я обратил внимание Андрея Яковлевича на то, что в шкафах находится много ценных смычковых инструментов, а дверцы не запираются. Он стал подробно описывать, как охраняется мастерская. — И ни разу ничего не случилось? — спросил я. — Пока бог миловал! Я понял, что он хочет скрыть попытку взломать несгораемый шкаф, и, чтобы не возбудить подозрения, начал говорить об основоположнике советской школы скрипичных мастеров Витачеке. — Он создавал скрипку, пользуясь научными методами, — сказал я. — Умница! — поддержал меня мастер. — Въедливый! И ба-альших способностей! — А Подгорный? — продолжал я. — Мне приходилось видеть альты его собственного стиля. — Тут я решил сделать психологическую разведку. — У Подгорного осталось много рукописей. Он раскрывает в них все свои производственные секреты… Андрей Яковлевич метнул на меня испытующий взгляд, кашлянул, перевел глаза на деку и как ни в чем не бывало опять склонился над ней. Потом, не поднимая головы, елейным голосом спросил: — Вы и Фролова изволите знать? — Да, бывал у него и у Морозова. В Государственной коллекции немало их инструментов! Настоящие художники! Тут Золотницкий вскочил с табурета и стукнул кулаком по столу, воскликнув: — Художники божьей милостью! А сколько таких было? Сколько осталось? — Он выбежал на середину комнаты, выдвинул ящик стола, схватил книжечку в серой обложке. — Вот, — поспешно листал он каталог Государственной коллекции смычковых инструментов, — посчитайте, как много итальянцев, как мало нас! Слушая его взволнованную речь и глядя на порывистые движения, я понял: если такой человек вспылит, быть грозе! — Скажите, уважаемый, — проговорил Андрей Яковлевич, стремительно опускаясь передо мной на стул и поджав под себя ногу, — кто, когда и где рассказал народу о наших успехах? О наших неудачах? Кто заявил, что мы, мастера, уходим, а заменить нас некому? — Он развел руками. — Некому-с! — Об этом пишут в своих статьях наши современники! — Пишут? Я покажу, что они пишут! — воскликнул мастер, и — откуда что взялось! — вскочил на ноги, стремглав понесся в подсобную комнату, и, выскочив за порог, закрыл за собой дверь. За ней слышались гулкие шаги по каменному полу, шуршание бумаг, бормотание. Я подумал, что самое главное — оградить старика от волнения, а тут с первых же шагов, правда неумышленно, взбудоражил его. Я постучал в дверь подсобной комнаты, услыхал возглас: “Шагай!” — и вошел. Раскрыв на порыжевшем диванчике папку, Андрей Яковлевич, низко склонившись, перебирал журналы, газеты и вырезки из них. — Ума не приложу, — сказал он, — куда девалась статья! — Да вы не беспокойтесь! — проговорил я мягко. — Не последний раз прихожу, найдете и покажете. — Нет, все переворошу, а найду, — сказал он и, взяв папку, отправился в мастерскую. Я попросил у него разрешения сфотографировать подсобную комнату и его самого. Он молча кивнул головой и, пока на своем рабочем столе разыскивал в папке статью, я, достав лупу, тщательно осмотрел замок несгораемого шкафа. Я обнаружил над замком короткие глубокие царапины, следы свежего красного лака и сдвинул круглую металлическую, закрывающую отверстие замка крышечку, — она туго ходила. С помощью вспыхнувшей магниевой пыхалки я сфотографировал крупным планом несгораемый шкаф и его замок. Потом вышел из комнаты, с разных точек снял входную дверь, мастерскую и копающегося в бумагах старика. Делая все это, я думал, что Золотницкий написал в своем письме правду о царапинах и о лаке. Но мне казалось смешной попытка вскрыть несгораемый шкаф каким-то допотопным инструментом. Взломщики, или, как их называют, “медвежатники”, действуют куда хитроумней: еще в царское время известный в уголовном мире Паршин вскрывал несгораемые шкафы, как коробки шпрот, особым громоздким орудием и не оставлял после себя никаких следов. Его считают последним “медвежатником”, и в самом деле, после нэпа эта воровская специальность у нас исчезла: народ держит деньги в сберегательных кассах, в банках, а в учреждениях несгораемые шкафы охраняются сторожами или сигнализацией. — Хоть зарежь, не найду! — воскликнул мастер, прерывая мои размышления. — Недавно же давал статью Савватееву… — Вдруг он хлопнул себя рукой по лбу. — Дубовая башка! Да ведь я спрятал ее в зеленую папку! — и быстро пошел в подсобную комнату. Я услыхал звяканье ключей, похожий на всхлипывание звук открываемой дверцы несгораемого шкафа и снова шелест раскрываемых газет, пришептывание… Вдруг раскрылась входная дверь, и вошла принесшая мастеру обед его сноха Люба. Розовая, со слегка заиндевевшими бровями, в светло-серой мерлушковой шапочке, она поздоровалась со мной и спросила, где Андрей Яковлевич. Мы вошли в подсобную комнату: старик сидел на диванчике, откинувшись на спинку и закрыв глаза. — Вам плохо? — встревожилась Люба. — Нет! — ответил он, медленно раскрывая глаза. — Устал. — Может быть, отвезти вас домой? — Не надо, Любаша! — сказал мастер. — Сейчас пройдет. Я ведь за целый день выпил стакан чаю с бубликом. — Как же вы так? Помните, доктор говорил: вам надо есть понемногу, но часто. А вы? — Работа, Любаша, работа! — Вы всегда отвечаете одно и то же. Ну, куда это годится! — воскликнула она. — Я привезла вам обед. А где Михаил? — У него оркестр репетирует с гастролером. — Старик достал из судка пирожок с мясом и принялся его с аппетитом есть. Мы вышли в мастерскую. Люба шепотом объяснила, что после долгой работы над приготовляемой к конкурсу скрипкой Андрей Яковлевич стал себя плохо чувствовать и у него бывают приступы стенокардии. Я хотел уйти, но Люба сделала знак, чтоб я подождал, приложила руки к нижнему судку и с досадой сказала: — Ну вот, суп остыл! — Что же вы хотите? На дворе крещенские морозы! — Пока на электрической плитке разогреешь… — начала было она, но старик услыхал ее слова, и до нас донесся его голос: — Я сам, сам! Поезжай домой, а то Вовка без тебя плохо ест! — Ох уж мне эти деды и бабки! — проговорила Люба, улыбаясь. — Только что на внука богу не молятся! — и опять шепотом сказала мне: — Не уходите! Она кивнула головой и легкой походкой вышла из мастерской, оставив после себя запах черемухи. Золотницкий появился из подсобной комнаты с газетой в руках: — Вы спрашивали, что я скажу о нынешних статьях? Все это напоминало кинематограф: на самом захватывающем месте оборвалась пленка, экран посветлел, в зале зажгли электрические люстры. Потом механик склеил ленту, выключил свет, и картина началась с того места, на котором остановилась. “Секрет кремонских скрипок”, — прочитал старик заглавие заметки и продолжал: “Ученый Дитмар пришел к выводу, что необычайные свойства скрипок, альтов и виолончелей, сделанных старыми итальянскими мастерами, полностью зависят от лака, которым покрыты”… Мастер вздохнул, опустил газету и заявил: — Лак никакого влияния на скрипку не оказывает. Если хотите знать, всего чище, ясней, сильней звучит белая скрипка! — Он открыл стеклянную дверцу шкафа и взял незагрунтованную, непокрытую краской и лаком скрипку, на которой уже были натянуты струны. — Вот-с! Я сушил ее года два, а перед отделкой пробую звук. Он сыграл несколько гамм. В самом деле, звук был сочный, бархатистый, превосходного тембра. — Мой “Соловушко”! — Старик поцеловал скрипку. — А для чего ее покрывают лаком? — спросил я. — Для того, чтоб она выглядела красавицей, чтоб пот от рук скрипача, изменение температуры и влажности воздуха не повредили дерево. Ведь играют на скрипке в помещении и на улице, а несут ее в мороз, и в жару, и в дождь! Еще мой учитель Кузьма Порфирьевич Мефодьев обращал внимание не на лак, а на грунт! — Значит, вы считаете, что секрет высокого качества кремонских скрипок в особом грунте? — Сохрани бог! Секретов у итальянцев нет! — Он поднял обе руки вверх, словно защищаясь от меня. — И у нас нет! “Ах ты жох! — мысленно обругал я его. — Секретов нет, а что ты прячешь под замком в несгораемом шкафу?” Но вслух вежливо спросил: — Вы же сами сказали, что вот грунт… — Грунт нужен для того, чтобы лак не проник в дерево неравномерно. Не проник! — воскликнул он. — Теперь мы знаем, что Страдивари грунтовал скрипку снаружи и изнутри смесью пчелиного воска и клея, которые растворял в вареной олифе. Я добрался до того вопроса, к какому стремился: — Вы читали статью вашего сына о грунте? Мастер широко раскрыл глаза, встал со стула, придерживая сползающие с носа очки. — Так-с! — сказал он тихо, а мне почудилось, что старик закричал. — Другим статейку о грунте показал, а меня, отца, не удостоил. Секрет-с! — И он желчно засмеялся. — Ах, Антонио! — почти шепотом произнес он. — Ах, Страдивари! Мой Михайло еще почище твоего оболтуса Франческо! Ох и лис! Да разве Михаил Золотницкий, мечтающий о современной идеальной скрипке, чем-нибудь похож на бездарного наследника великого итальянца! Нет, на этот раз я не упущу вас, Андрей Яковлевич! — Мы, кажется, говорили о статье вашего сына? — Да, да! — зачастил мастер. — Что ему отец? Наплевать на него с высокой горы! — Он погрозил пальцем. — Отец все видит, да не скоро скажет! Мелко плаваешь, Михайло Андреевич! — Что плохого вам сделал сын? — спросил я, глядя ему в глаза. — Что-с? — спросил мастер и увильнул от ответа. — А то-с! Подойдя к принесенному Любой обеду, он развязал салфетку. Потом взял судки, открыл верхний, и по комнате разнесся аппетитный запах. — Расстаралась Любаша! — сказал Андрей Яковлевич. — Милости прошу к нашему шалашу, — предложил он и поставил на электрическую плитку судок с супом. Я хотел отказаться, но потом передумал: сейчас мастер будет есть, говорить не сможет, — и я сумею рассказать ему о статье его сына. Он наверняка выскажет свое мнение, и я узнаю то, для чего, собственно, пришел! Я позволил Андрею Яковлевичу усадить меня за стол…3. СЕКРЕТЫ СКРИПИЧНОГО МАСТЕРА
Я сказал, что статья его сына прелюбопытная. Мастер, набив полный рот, что-то промычал в ответ, но я уже был хозяином положения. В чем суть дела? Он, Михаил, доказывает, что есть скрипки Страдивари, где от времени почти сошел весь лак, а они по-прежнему звучат восхитительно. Однако, если снять ножом немного грунта, звук ухудшится. Музыкант, как и он, Андрей Яковлевич, объясняет, что именно грунт — это предохранитель скрипки от всех напастей и состоит он из соединенного с разными смолами пчелиного воска. При этих словах мастер стал поспешно жевать пищу, чтоб ответить мне, но я спросил, знаком ли он с техникой восковой живописи, или энкаустикой? Видя, что он, отрицая, качает головой, я объяснил, что анализ краски древних египетских фасадов показал, что входящий в нее пчелиный, особым способом обработанный, как его называют, пунический воск за пять тысячелетий не растворился, не высох, не окислился и вообще никак не изменился от солнца, ветра и дождей. Естественно, что пропитанные этим воском деки скрипки никогда не потеряют в весе, а именно от этого зависят точно установленная высота звука и характер его тембра. Но, продолжал я, воск еще придает краске и лаку необычайную свежесть и жизненность. В местах погребения египтян были обнаружены портреты: словно века их не коснулись, — люди, как живые! Наконец Андрей Яковлевич вытер губы салфеткой и сказал: — Мой сын перво-наперво скрипач, а у скрипача мозги, вроде стрелки испорченного компаса, повернуты в одну сторону: на старинную итальянскую скрипку. Заметьте, на старую, обыгранную, где и лачок местами сошел и трещинки имеются, конечно, подклеенные и закрашенные. Вообще заметны следы нашей работки! — Тут Золотницкий поставил передо мной тарелку с телячьей котлетой с ровненьким, оранжевого оттенка соленым огурцом и продолжал: — Ведомо ли вам, уважаемый, что ради этого некоторые, прости господи, знатоки-скрипачи разбивали свой инструмент, а потом приходили в мастерскую и просили его починить? — Мой собеседник взметнул над головой правую руку с поднятым указательным пальцем. — И вот фортуна! Нашли скрипку Страдивари, которую он сделал в тысяча восемьсот шестнадцатом году. Ни царапинки, ни пятнышка! Знаменитые скрипачи опробовали ее, и она, новая, звучала лучше, чем его же старые! Кажется, все понятно? А какой толк, спрашивается? Ни-ка-ко-го! Подавай опять залатанных итальянцев, а советский мастер не делай новых, а потроши старые, чини, заклеивай! — Андрей Яковлевич устремился в угол, хватил кулаком по шкафу, и гул пошел по комнате. — Мой отец тридцать лет гнул хребет у хозяев на фабрике. Я — рабочий человек чуть ли не с двенадцати лет! — Он протянул руки с широкими оранжевыми от краски и лака пальцами, с загрубелыми, мозолистыми от стамесок, от напильников ладонями. — Я делаю хорошую, полезную вещь, — хвали меня, благодари! Я делаю дрянь, — ругай, гони в шею! А скрипачи? Не успел получить путевку на гастроли, особенно за границу, так сейчас же подай ему из Государственной коллекции итальянскую скрипку! Я было хотел ответить, что немало наших скрипачей играет на советских скрипках, и вдобавок на новых. Но тут Андрей Яковлевич, тяжело дыша и вытирая клетчатым платком на лбу пот, снял очки и опустился на стул. — Да что я надрываю сердце! — сокрушался он, сгорбившись и расстегивая воротник. — Вон мой Михайло, свет Андреевич, получил от меня добрую скрипку. Нет, разонравилась! У отца не спросил, как, мол, быть? А раздобыл себе итальянца Маджини! — Старик наклонился ко мне и доверительно прошептал: — А Маджини-то у Михаилы фальшивый, провались я на этом месте! Этому я охотно поверил: скрипки Маджини долгое время не были в ходу, а потом, когда знаменитый скрипач Шарль Огюст Берио стал играть на инструменте итальянца, на них поднялся спрос. Предприимчивые комиссионеры усиленно вклеивали в любую подержанную скрипку с двойным усом этикет Маджини… Однако допустим, что Михаил Золотницкий разочаровался в инструментах отца и завел себе Маджини. Зачем же он, как заявил мастер, стремился узнать секреты отца? В это время Андрей Яковлевич, прижав ладони к щекам и медленно покачиваясь, говорил: — Ах, какую новую скрипку сделал я для Михаилы! Четыре года корпел, перед второй лакировкой около двух лет сушил. Ну, думаю, расцелует меня сынок! А он и не стал дожидаться моего подарка. Ну ладно! — воскликнул мастер и хлопнул рукой по столу. — Моего “Жаворонка” отдаю на конкурс! Быть ему в Государственной коллекции! Пусть Михайло любуется да облизывается! А к моим секретам не подпущу! — Три минуты назад вы заявили, что у вас никаких секретов нет! — У каждого мастера есть свой подход к работе, и нечего его без спроса выуживать у отца! Хватит! Пусть ищет других учителей! — прошипел он, как рассерженный гусак. — Маджини! Маджини! Стенные часы стали рассыпать по комнате серебряные монеты. Старик поглядел на циферблат и ахнул: стрелки показывали три четверти одиннадцатого. — В десять я должен спать как сурок! — сказал он. — Заходите в другой раз! — Он протянул мне руку. — Прощения просим!.. Я проявил снимки, отпечатал их и поехал в редакцию газеты. Там по распоряжению ответственного секретаря Алла напечатала на машинке заявление в Научно-исследовательский институт милиции с просьбой произвести экспертизу фотографии несгораемого шкафа и его замка. На следующий день я уже знал, что царапины сделаны стамеской со сломанным правым уголком. Я подумал: стамески есть у шестнадцати учеников и у самого мастера. Среди них нетрудно обнаружить несколько штук со сломанным уголком и выяснить, кто из их владельцев поцарапал шкаф. Но если бы один из учеников мастера или его сын двигали тугую крышечку замка, то они, заранее зная об ее свойстве, действовали бы пальцем, ключом, деревянной ручкой стамески. Значит, я прав: крышку пытался сдвинуть чужой человек, которому было неизвестно, что она туго ходит. Он мог схватить с любого рабочего стола стамеску и пустить ее в ход. В спешке стамеска сорвалась, и он поцарапал несгораемый шкаф над замком. В подсобной комнате маленькое окно, десятиваттная электрическая лампочка, поэтому сперва никто не заметил царапины. Когда же старик увидел их, стал волноваться, пошел к коменданту, — царапины затерли красным лаком. Кстати, бутылочка стоит на подоконнике. Сделали это ученики, понимающие, как вредно Андрею Яковлевичу нервничать. Но кто этот чужой человек? Им может быть любой переступивший порог мастерской заказчик, а таких только за один месяц бывает двести-триста человек! Разумеется, я могу изучить близких людей мастера, его родных. Но разве я в состоянии сделать то же самое с таким количеством чужих? Что же получилось? Вера Ивановна попросила меня узнать, есть ли царапины на дверце несгораемого шкафа, и не причастен ли к ним Михаил Золотницкий? А на самом деле она поставила передо мной трудную задачу: установить, затевается ли здесь преступление, какое, кем, когда, — и предохранить от него скрипичного мастера. Не случайно в Программе КПСС говорится: “…главное внимание должно быть направлено на предотвращение преступления”. Но тут для этого нужен отряд опытных сыщиков, а не один я, новичок! Я поехал в редакцию. Алла сказала, что Вера Ивановна уехала в командировку и вряд ли вернется раньше чем через декаду. В эту минуту вошел посетитель, услышал наш разговор, назвал меня по фамилии и представился: — Архитектор Савватеев! — и с улыбкой добавил: — Он же коллекционер скрипок Георгий Георгиевич. Слегка наклонив голову набок, он пожал мне руку. Это был высокий худой человек, с острым, умным лицом, тронутыми сединой волосами и большими карими глазами, в зрачках которых кувыркались веселые чертенята. Он был одет в превосходно сшитый стального цвета костюм, из кармашка пиджака, словно ярко-зеленые листочки, выглядывали концы сложенного платочка, а складки брюк были так заутюжены, что напоминали ножи. Мы вместе вышли из редакции. — Я слышал, что вы изволили нанести визит Андрею Яковлевичу и остались недовольны, — заявил Савватеев. — У мастера была тяжелая жизнь, от этого у него жесткий характер и он нелюдим. У меня есть приятель кинорежиссер Роман Осипович Разумов. Он уже сделал несколько кинопортретов мастеров искусства, а недавно начал новую работу об Андрее Яковлевиче. Уговаривает его больше времени, чем снимает! — Наверное, старик стесняется! — взял я под защиту Золотницкого. — Нет! — воскликнул Георгий Георгиевич. — Ведь Разумов снимает его за работой. — Тут он сделал рукой знак, как бы прося не перебивать его. — Скрипичный мастер совмещает в своем лице архитектора и столяра, скульптора и акустика, конструктора и художника. Но из этого не следует, что он должен быть таким неприступным по отношению к людям, которые не хотят сделать ему ничего плохого! — По-моему, у старика неуживчивый характер, — сказал я и объяснил, что хочу еще раз потолковать с ним и с его учениками. Коллекционер сообщил, что мастер завтра, то есть в понедельник, отпускает их на экскурсию. Они должны побывать в музеях, усадьбах, домах, связанных с жизнью крупных композиторов и музыкантов. Я понял: под благовидным предлогом Андрей Яковлевич удаляет своих учеников. Разве ему есть что скрывать? Архитектор объяснил, что каждый скрипичный мастер имеет немало производственных секретов. Я вспомнил, как Золотницкий сначала пытался уверить меня, что у него нет никаких секретов! — Если так, попросите у него пузыречек с протравой или с лаком. Даст он вам — держите карман шире! Тут Савватеев стал рассказывать о достоинствах скрипок Золотницкого: “Анны”, “Жаворонка” и особенно “Родины”. — Этому инструменту суждено прозвучать на весь мир! — сказал он уверенно. Я удивился, как можно судить о достоинствах “Родины”, когда она еще не готова. Архитектор усмехнулся: — Я слышал “Анну”, конечно белую, в двух вариантах; “Жаворонка”, уже отделанного, в полном объеме. Белая “Родина” звучала передо мной в первом варианте. Второй вариант этой скрипки демонстрировал сын мастера Михаил. Были: я, Разумов, представитель журнала “Советская музыка”, который и заказал мне статью. Честно скажу: все считали, что скрипка закончена. Но Андрей Яковлевич не согласился с нами: в третий раз разобрал “Родину” и решил еще поработать над нижней декой. — Почему только над нижней? — Дом во многом зависит от фундамента. Скрипка от ее основы — нижней деки. Она делается из особого, так называемого фигурного клена, и таблички для нее можно сравнить по сложности с таблицей логарифмов! — Что же это за таблички? — воскликнул я. — Нижняя дека не имеет ни одного местечка, равного по толщине другому. Размер в миллиметрах этих толщинок играет огромную роль в добротности скрипки. Представьте себе, — Георгий Георгиевич вдруг остановился, — мастер составил новые таблички толщинок и, смотря на них, в третий раз снимает рубаночком стружку, может быть равную какой-нибудь доле миллиметра! Это сверхювелирная работа! — В голосе Савватеева прозвучало благоговение перед стариком мастером. — Короче говоря, Андрей Яковлевич вместе со своим сыном создадут скрипку, лучшую, чем Страдивари в расцвете своих творческих сил!.. Я было хотел спросить, почему над скрипкой нужна совместная работа отца и сына Золотницких, но Георгий Георгиевич начал прощаться. Я спросил его адрес и номер телефона. — Вы собираетесь писать очерк о скрипичном мастере? — Обязательно. — В среду конкурс смычковых инструментов, — сказал он. — Я член жюри. — И, достав пригласительный билет, дал мне: — Очень советую послушать… Он пожал мне руку и быстро зашагал по переулку. А я медленно шел, думая, что отнесу готовый очерк ответственному секретарю редакции и заявлю, что не намерен заниматься тем пустяковым делом, которое поручила мне Вера Ивановна…4. Я ПОДОЗРЕВАЮ СКРИПАЧА
За ночь декабрьская метель залепила снегом окна, витрины, тротуары. На улицах дворничихи, в белых фартуках, с бляхами на груди, орудовали скребками. На рынках торговали пахнущими оттаявшей смолой ярко-зелеными елками, в магазинах — разноцветными бусами для них, гирляндами лампочек, пластмассовыми игрушками, а также добродушными красноносыми дедами-морозами. Я отправился в консерваторию на конкурс смычковых инструментов. В вестибюле, в окошке администратора, получил пропуск на два лица и пожалел, что никого не пригласил с собой. Вдруг заметил одиноко стоящую женщину в беличьей, голубоватого оттенка шубке. Она повернулась, и я узнал Любу, которая, выяснилось, ждала мужа, но он не появлялся. Мы прошли в гудящий зал, и нам дали по анкетке для отметок качества того или иного инструмента. Я сел с Любой в двенадцатом ряду, неподалеку от покрытого сукном длинного стола членов жюри, — видных композиторов и музыкантов. Конечно, здесь находился Савватеев, который помахал мне рукой. Теперь я хорошо разглядел Любу: это была очень красивая женщина лет тридцати двух, с большими синими глазами, с огненными волосами. На ней было черное шелковое с белыми цветами черемухи платье, и казалось, что они испускают робкий аромат. Я перевел взгляд на эстраду, где с фронтона смотрел на нас увековеченный в барельефе основатель консерватории Николай Рубинштейн. На эстраде стояли высокие серые ширмы, а над ними, в глубине, закованные в тяжелый коричневый дуб, рвались ввысь матово-серебряные трубы органа. Я заметил, что в уголке, перед эстрадой, лицом к ней, стоит мастер Золотницкий. К нему подошел контролер, что-то сказал, и он нехотя побрел на свое место. — Андрей Яковлевич даже во сне видит первую премию! — шепнула мне Люба. — А Михаил Андреевич? — Это как раз тот солдат, который никогда не будет генералом… Вот, легок на помине! В эту минуту скрипач подошел к седьмому ряду, увидел меня и Любу. Я сделал знак, предлагая поменяться местами, но он, отрицая, покачал головой. Раздавшийся из-за ширмы голос объявил, что сейчас мы услышим скрипку работы Витачека. Это было показательно: образцом для конкурса был назван не инструмент прославленного кремонца, а советского мастера. По условиям конкурса, приглашенные скрипач, альтист, виолончелист и контрабасист исполняли, каждый в течение пяти минут, одни и те же произведения: сонату Баха — для того чтобы слышать, как звучат аккорды; вступление к “Концерту” Чайковского, в течение которого смычок заставляет петь одновременно все четыре струны; “Перпетуум мобиле” Новачека — пьесы, помогающей оценить, как инструмент отдает звук. — Скрипка номер один!.. Альт номер шесть… Виолончель номер двенадцать!.. Контрабас номер два… После этого скрытый музыкант начинал играть на том инструменте, чей номер установила комиссия, а порядок выступления достался по жребию. Не только члены жюри ставили отметки по пятнадцатибалльной системе, но и слушатели заполняли свои анкетки. В первом туре прошло около сотни инструментов, ко второму осталось восемнадцать. Через два с половиной часа кончился второй тур, и объявили перерыв. Я пошел с Любой в фойе, мы встретились с Михаилом Золотницким, и он предложил отправиться в ресторан. Люба хотела пригласить Андрея Яковлевича, но он ушел еще до перерыва… Я знал, что скрипачу тридцать пять лет, но его поседевшие волосы, лицо цвета пергамента с робким румянцем, привычка при ходьбе чуточку шаркать ногами и слегка горбиться старили его. К тому же он был близорук, при разговоре щурил глаза, то вынимал, одни очки, то доставал другие. — Доктора прописывают одни очки для того, чтобы, надев их, читать, — говорил он. — Вторые — ходить по улице. Но когда и те и эти куда-то запропастятся, чтоб отыскать их, надо иметь в запасе третьи! Скрипач смеялся громко, сочно, изредка вскидывая голову и обнажая под подбородком, с левой стороны, профессиональную розовую мозоль. Пока мы ждали официантку. Люба пошла звонить по телефону-автомату. Михаил Андреевич сказал, что все-таки человеческое ухо не такой совершенный аппарат, чтобы сразу определить качество звучания большого числа смычковых инструментов. Вот, говорил он, на ленинградской фабрике музыкальных инструментов есть акустическая камера. С помощью ее показателей специалисты определяют не только качество скрипки, но и указывают, что в ней надо доделать. Я сказал, что вряд ли найдется в мире прибор, способный заменить такое чуткое ухо, как, скажем, у Андрея Яковлевича. Мы перешли на разговор о мастере и, чувствуя, что музыкант с уважением отзывается о старике, я упрекнул его: — Как же это вы отказались от отцовского подарка и взяли себе скрипку Маджини? — Взял на время, — объяснил музыкант. — А старую отцовскую отдал в починку. Понимая, что он говорит откровенно, я предложил: — Давайте начистоту! Ведь война между вами идет из-за тех секретов, которые отец прячет в несгораемом шкафу? — Пожалуй, да! — А вы, Михаил Андреевич, убеждены, что секреты существуют на самом деле? — Отец — человек способный и много лет работает над скрипкой. — Может быть, все эти секреты вам известны, и вы зря мучаете себя и старика? Надо бы проверить! — А как? Забраться в шкаф? — Я поморщился, но он истолковал это по-своему: — Раз добром не показывает, можно и не церемониться!.. Он что-то пробормотал, опустив ресницы, потом поднял их и взглянул на меня. Я увидел его горящие глаза, глаза честолюбивого человека: такой может пойти на многое, чтобы добиться своего!.. Мы вышли на морозную, сумеречную улицу, мимо нас, как в сиреневом тумане, плыли еще не освещенные троллейбусы, автобусы, их обгоняли автомобили разных марок и цветов. Они казались легкими, маленькими, словно съехавшими с витрины магазина игрушек, а пассажиры — сошедшими со страниц фантастических сказок людьми. Это предновогоднее настроение усиливала мелодия, летевшая из радиорупоров со струн скрипки Страдивари: Давид Ойстрах с вдохновением играл концерт “Зима” из “Времен года” Антонио Вивальди. — Ну что спешит! — услыхал я голос Любы и очнулся от своих мыслей. (Михаил Андреевич шагал далеко впереди). — Все думает: премия, премия! Я воспользовался случаем: — Для этого ему необходимо знать секреты отца! — Вот-вот! — подхватила она. — Когда я сказала ему об этом, он закричал на меня. Теперь я молчу. Что ж! Я только слабая женщина! — Вы о себе очень скромного мнения, — возразил я. — Неужели вы не пытались на правах родственницы повлиять на Андрея Яковлевича? — Один раз хотела его усовестить, — он ни в какую! — Но он же к вам хорошо относится. — Ко мне — да! — А к Михаилу Андреевичу? — Как вам сказать? Помогал поступить в консерваторию, потом определиться в театральный оркестр. — А делать скрипки? — Учил. Давал прекрасное дерево. Но Михаил не особенно старался. Это он только к конкурсу занялся. — Почему бы вам после конкурса снова не поговорить со свекром? — Ничего не выйдет! Он запер свои сокровища в несгораемый шкаф и сторожит их, как дракон… Мы вернулись в Консерваторию в тот момент, когда председатель жюри, держа в руках лист бумаги и напрягая голос, начал объявлять, кому присуждены премии. Каждый раз, когда он называл фамилию, награжденный выходил и под аплодисменты раскланивался. Первую премию за своего “Жаворонка” получил Андрей Яковлевич Золотницкий. — Кто был прав? — сказал скрипач мне на ухо, едва мы выбрались на улицу. — Есть у отца секреты, и немалые!5. ДЕРЗКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В половине шестого я вошел в мастерскую, поздоровался с Андреем Яковлевичем и сел возле окна, в уголок. Оттуда я наблюдал, как, одетый в синий халат, он священнодействовал над скрипкой, напоминая доктора. Вот он поправляет на носу золотые очки и шевелит губами, как бы говоря: “А ну-ка, голубушка, повернитесь на бочок!” И действительно, ставит скрипку на ребро, постукивая по ней согнутым пальцем. Потом рассматривает через эфу этикетку и объясняет стоящему возлемузыканту: — Это одна из последних работ Александра Ивановича Лемана. Раза два побывала в мастерских. Стоит тех денег, которые просят! Он отдает скрипку музыканту, и тот уходит. За банками с краской звонит телефонный аппарат, мастер берет трубку, разговаривает о какой-то виолончели и не советует ее покупать. В мастерскую приходит с квитанцией человек из театрального оркестра, и старик отдает починенный контрабас. Я остаюсь с Золотницким наедине, он снимает очки и, вглядываясь в меня, спрашивает: — Что я говорил, уважаемый? — и с торжественной ноткой в голосе заканчивает: — Мой “Жаворонок” — в Государственной коллекции! Он выпрямляется, становясь выше ростом, ярко, как ночью у филина, горят его глаза, жесты делаются резче, угловатей. — Есть еще порох в пороховницах, — произносит он с пафосом, шагает по мастерской, высоко вскидывая ноги, и под синим халатом обрисовываются острые колени. — Есть! — повторяет он грозно. Я встаю и от души поздравляю его. Андрей Яковлевич сияет, говорит, что даже родной сын не удосужился это сделать. Я смотрю на стенные часы и напоминаю, что ему, мастеру, скоро принесут обед, а мне необходимо еще раз взглянуть на статью “Секрет кремонских скрипок”. Он объясняет, что сегодня, тридцатого декабря, Любаша не придет, она занята покупкой украшений для Вовкиной елки. Ему доставили обед из столовой театра, и он уже поел. — Я бы уехал домой, — продолжал старик. — Одному в мастерской непривычно. Вон ученики письмо прислали, в Клину домик Чайковского осматривали. — И он кивнул головой на лежавший на рабочем столе распечатанный конверт. — Я вас задерживаю, Андрей Яковлевич? — Пустое! — отмахнулся он. — Сегодня мало народу приходило! Михайло утром забежал, спросил: где будем Новый год справлять? Потом днем пришел Разумов. Показывал ленту. Правильно ли снял, как я делаю обечайки. Забава! — Трудное искусство! — Каждому свое дорого. Так и Георгий Георгиевич сказал. — Он вместе с кинорежиссером приходил? — Нет! До вас минут за сорок ушел. Все спрашивал про моего “Жаворонка”. Какое дерево, какие толщинки, какой грунт, лак. И все записывает, записывает! Старик вытащил из кармана связку ключей и собрался идти в подсобную комнату. Я спросил, почему он не приобретет несгораемый шкаф нового образца. Золотницкий стал расхваливать свой старый. Я рассказал, как в тридцатых годах воспитатель привел ко мне домой из тюрьмы профессионального вора, с которым мне хотелось потолковать в спокойной обстановке. Поведав о своих искусных грабежах, вор взял с моего письменного стола ручку и отломал половину пера. Вставляя оставшуюся часть в скважины замков книжного шкафа, гардероба, буфета, он быстро и легко их отпер. Потом, попросив кусок проволоки, вор согнул ее причудливым образом, всунул в замок несгораемого шкафа, открыл его и распахнул массивную дверцу. При этом, подлец, еще поклонился, как окончивший свое выступление артист. — Какой фирмы был шкаф? — спросил мастер, облизывая пересохшие губы. — “В.Меллера и К°”. — Меллера? Озадачили вы меня, уважаемый! — Отнесите ценные вещи и бумаги к Георгию Георгиевичу! — У него своих хлопот полон рот. — Ну, сдайте на хранение директору театра! Наверно, у него тоже есть шкаф! — Эх! — воскликнул старик. — Как это раньше в голову не пришло? — И он пошел за газетой. …Вдруг в подсобной комнате раздался крик. Я было бросился туда, но мастер выбежал из двери и прохрипел: — Украли красный портфель! — Деньги? — Плоды всей моей жизни! Старик упал на пол. Я выбежал из мастерской и столкнулся с двумя спускающимися по лестнице декораторами. Узнав, что произошло, один из них бросился к телефону-автомату вызвать “неотложную помощь”, а другой поспешил со мной в мастерскую. Мы подняли Золотницкого, внесли его в подсобную комнату и опустили на диванчик, подложив под голову подушку. Я подобрал разбросанные по полу бумаги, деньги, скрипичные головки, связку конских волос для смычка, перевязанную тесемкой пачку писем. Укладывая все это в шкаф, я перебирал папки, квитанционные книжки, расходные тетради, пытаясь найти красный портфель, но не обнаружил его. Когда декоратор вышел из мастерской, я осмотрел через лупу дверцу несгораемого шкафа, но не нашел никаких повреждений. На полу не было никаких следов. Я запер шкаф, вынул ключ, положил связку в карман шубы Андрея Яковлевича и дважды сфотографировал дверцу. Через несколько минут приехал врач, выслушал сердце старика, ввел ему пантопон. Я не хотел оставлять Золотницкого без присмотра и попросил отвезти его домой. Пока старика клали на носилки, несли в машину, я зашел в комендатуру, рассказал дежурной о том, что случилось, и спросил, оставить ли ключи от мастерской. Она объяснила, что у них есть вторые, а когда придет комендант, они, как это заведено, опечатают дверь. После этого я сел вместе с врачом и санитарами в автомобиль… Люба и домашняя работница Ксюша уложили Андрея Яковлевича в постель. Потом Ксюша пошла в аптеку заказывать лекарство, а Люба стала звонить по телефону мужу, который был у приятеля. В столовой, возле окна, стояла ярко-зеленая, украшенная позолоченными и посеребренными игрушками елка, среди ветвей проглядывали электрические лампочки семи цветов радуги. Пахло смолой, клеем, яблоками. Я пошел в комнату к мастеру — он лежал с открытыми глазами, его лицо приняло синеватый оттенок, морщины углубились. — Причинил я вам хлопот, уважаемый, — еле слышно проговорил он. — Вещички-то подобрали? Я ответил, что искал красный портфель, но не нашел, потому что даже не знаю, какой он из себя. Золотницкий объяснил, что размером портфель с папку, сделан из красной кожи, с внешним замком посредине. — А кто знал, где хранится этот портфель? Старик назвал сына, а потом припомнил, что однажды в портфеле отказал замок, и его чинил в мастерской, при учениках, слесарь, который посадил с лицевой стороны белое пятно. Тут Золотницкий замолчал и закрыл глаза, я тихо вышел из комнаты. Люба пошла меня провожать в прихожую. — Вы мастерскую заперли и сдали ключи? — спросила она. — Запер, а ключи положил в карман шубы Андрея Яковлевича. — Все-таки какая неожиданная кража! — Преступления всегда кажутся внезапными. Я пожал Любе руку, спустился вниз по лестнице, прошел мимо вязавшей лифтерши и вышел во двор. В освещенном фонарями садике мальчишки, испуская воинственные крики, бросались снежками… Кто же мог взять красный портфель из запертого несгораемого шкафа, ни капельки не повредив дверцу, не оставив никакого следа и не возбудив ни малейшего подозрения у старика? Только свой человек! В первую очередь я подумал, что это дело рук скрипача! Но тут же усомнился в этом предположении: мог ли это совершить сын, зная, что нанесет сокрушительный, а может быть, смертельный удар старому отцу?6. ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ
Я зашел в магазин игрушек, где москвичи покупали искусственные елочки, лошадок в черных яблоках, кукол, разное оружие, и приобрел для внука Андрея Яковлевича Вовки автомат с пистонами, а потом сообразил, что мне влетит от Любы. К счастью, ее не было дома, а Вовка, увидев столь желанный подарок, немедленно зарядил автомат, и началась стрельба. Войдя в комнату к скрипичному мастеру, где дежурила медицинская сестра, я заметил, что он еще больше осунулся, под глазами набухли фиолетовые мешки, на подбородке выступила серая щетина. Приоткрыв глаза, старик увидел меня и попросил медицинскую сестру оставить нас вдвоем. — Вот, уважаемый, и первый звонок с того света! — сказал он шепотом. — Разве справедливо? Я вывел на свет божий два десятка скрипок, и только две стоящие! А сколько моих красавиц могло бы украсить жизнь скрипачей! — Надо во что бы то ни стало найти ваш красный портфель, — начал я. — Для этого мне обязательно нужно знать, что в нем находится. — Нижняя дека “Родины” и составленные мной таблички толщинок. По ним я доделываю скрипку в третий раз! Так вот за какими секретами охотился Михаил Золотницкий! Да и старик хорош: “У меня никаких секретов нет!” А теперь признается, что есть, да еще какие! — Вы считаете, что пропавшие из несгораемого шкафа таблички помогут сделать скрипку лучше, чем ваш “Жаворонок”? — спросил я мастера. — Во много раз! — подтвердил он. — Недаром я назвал ее “Родиной” и решил переделывать с Михаилом. Да не знаю, как теперь… — И он осекся. — А грунтовать и лакировать “Родину” будете прежним составом? Или это тоже секрет? — Нет, лак и грунт будут другие. А дерево мне досталось такое, какого и на свете не сыщешь! — Он с трудом вздохнул и добавил: — Да вот теперь не знаю, придется ли еще поработать?.. Пока я медленно задавал вопросы, а больной еще медленней отвечал, в голове вспыхивала одна догадка за другой. Мог ли Михаил Золотницкий, будучи вчера в мастерской, посягнуть на секреты отца и удалось бы ему добыть их? Мог ли то же самое сделать кто-либо из учеников? Конечно! Если старику стало плохо, нетрудно было воспользоваться его же ключами. Тут я подумал, что раньше мастер требовал, чтоб его письмо не уходило дальше редакции. А теперь, после кражи плодов всей его жизни, возможно, он не будет на этом настаивать? — Андрей Яковлевич, — сказал я, — может быть, сообщить о краже вашего портфеля в уголовный розыск? — Что вы, уважаемый, что вы! — зашептал он и даже попытался замахать на меня руками. — Такое дело… Кого-нибудь попутала нечистая сила! А я человека погублю… Открыв дверь, в комнату на цыпочках вошел Михаил Андреевич со скрипкой и смычком в руках. Он остановился перед постелью, на которой лежал мастер. — Отец! — произнес он робко. — Хочешь, сыграю “Жаворонка”? Старик поднял глаза на сына, вздохнул и медленно опустил веки. Скрипач заиграл знакомую мелодию.7. КТО ТАКОЙ САВВАТЕЕВ?
Забыл написать, что, пока ждал в мастерской машину “неотложной помощи”, я ухитрился еще осмотреть все стамески и только у одной обнаружил сломанный правый уголок. Судя по написанной на деревянной ручке чернилами фамилии с инициалами, она принадлежала старику Золотницкому. Не мог же он сам взламывать собственный шкаф? Кроме того, зная, что какой-то слесарь открывал красный портфель и видел, что там лежит, я узнал его адрес и отправился к нему на квартиру. Оказалось, что полтора года назад он со всей семьей уехал на целину. Со все еще бывшими на экскурсии учениками я не мог поговорить и решил потолковать с Савватеевым, о чем предупредил его по телефону. Кстати, он мне сказал, что ему звонил Михаил Золотницкий и сообщил о происшествии в мастерской… Архитектор весело встретил меня, взял под руку, повел по коридору и широко распахнул дверь в свой кабинет. Войдя, я увидел справа на стене, очевидно прикрывающие чертежи, зеленые шторки; в углу — высокий, широкий, застекленный сверху донизу шкаф с коллекцией скрипок; справа — сплошь уставленные книгами стеллажи; возле-раскладную лестницу. Свободная стена была завешена портретами скрипичных мастеров и скрипачей. — Прошу в партер! — предложил Савватеев, указывая на стоящее сбоку стола высокое кресло. — Спасибо! — отозвался я ему в тон, сел и показал на шторки. — Давайте занавес! Архитектор объяснил, что работает в мастерской, которая готовит проект реконструкции улицы Горького. Отдернув шторку, он взял деревянную черную указку и стал водить ею по чертежу, объясняя, что и где будет строиться. В начале проспекта Карла Маркса, там, где находится “Националь”, вырастут шестнадцатиэтажные корпуса новой гостиницы. На площади Пушкина расширится здание редакции “Известий”, которое вместит в себя зал для совещаний на тысячу с лишним человек и превосходно оборудованные почту и телеграф. Во всю длину улицы в нижних этажах многих домов откроются универсальные магазины, торгующие обувью, одеждой, синтетическими изделиями, а также парикмахерские и косметические салоны. — Многие магазины будут работать без продавцов! — пояснил Савватеев. — Но там, где будут нерадивые директора и нелюбезные продавщицы, — добавил я, — мы увидим магазины без покупателей! Георгий Георгиевич улыбнулся, закрыл шторку и тоном гида продолжал: — Переходим к небольшой коллекции скрипок вашего покорного слуги! — От кого вы унаследовали страсть к собиранию их? — спросил я, подходя к уже открытому Савватеевым шкафу. — Мой лед играл в оперном оркестре первую скрипку. Он понимал толк в этих инструментах, был богат и покупал наилучшие из них. Он завещал свою коллекцию отцу, отец — мне, а я в конце концов сдам ее государству. Вот поглядите, — продолжал он, снимая с крючка скрипку, — работа Витачека… Показав мне несколько инструментов, он сказал: — Теперь посмотрим библиотеку! Архитектор протянул руку к стоящему на второй полке толстому тому в переплете, на черном корешке которого горело золотое, вытисненное латинским шрифтом немецкое название: “История смычковых инструментов”. Но я сказал, что читал-этот добротный труд Юлиуса Рюльмана, и перевел разговор на французского ученого Феликса Савара, открывшего, что старинные итальянские мастера, в частности Страдивари, измеряли части скрипки не кронциркулем, а устанавливали соотношение высоты их звуков. — Что и говорить, Страдивари — гений! — вздохнул Георгий Георгиевич. — Только не забывайте: его учитель Никколо Амати за какие-нибудь тридцать лет преобразил гнусавую виолу в классическую скрипку с итальянским тембром. Он основатель кремонской школы. Без него никогда не было бы ни Антонио Страдивари, ни Андреа Гварнери, ни Франческо Руджери! — По-вашему выходит, что виола — прародительница скрипки? — спросил я. — А вам не приходилось любоваться фреской Киевского собора одиннадцатого века, где изображен человек, держащий у плеча смычковый инструмент? — Давно известно, что сначала смычковые инструменты появились у славян. В Далмации, в Истрии! Оттуда бродячие музыканты разнесли их по Европе. Ну, а Кремона, Брешиа лежат по соседству. Итальянцы — народ музыкальный, у них растут клен и ель. Им сам бог велел заниматься скрипкой! — Он потер руки и добавил: — Верно, славяне сотворили “прабабушку” виолы. В истории скрипичного мастерства вы разбираетесь! Черт бы его побрал! В эту минуту я думал, как мне напасть на след похищенного красного портфеля. Ведь в этом кабинете — в шкафу, на стеллажах, в ящиках стола, под разостланным во всю комнату ворсистым вишневого цвета ковром — можно спрятать добрую сотню красных портфелей!.. После этого архитектор показал мне выпущенную англичанами монографию о скрипке Страдивари “Мессии”. Вздохнув, Георгий Георгиевич сказал, что есть очень ценная монография о скрипках, написанная Никколо Паганини, но это библиографическая редкость и он не смог ее достать. Я посочувствовал Савватееву и пожалел, что у него вообще маловато старинных сочинений и смычковых инструментов. Он тряхнул головой, сделал ко мне два шага и спросил: — Хотите посмотреть редкостные вещи, которых, ручаюсь, ни у кого нет? — Зачем об этом спрашивать? Он скрылся за подставками, где стояли доски с неоконченными чертежами. Я было шагнул к стеллажам с книгами, но сзади меня послышалось тихое щелканье замка (впоследствии я узнал, что у архитектора вмурован в стену секретный шкафчик, оклеенный теми же обоями, что и комната). На вытянутых руках, осторожно, как запеленатого младенца, Савватеев принес металлическую плоскую, размером чуть больше писчего листа шкатулку. Он торжественно опустил ее на столик, вставил в узкое отверстие замка похожий на лезвие перочинного ножа ключ, и крышка сама медленно поднялась: в шкатулке лежала кожаная, черного цвета с серебряной монограммой коллекционера папка. Вынув ее из шкатулки, он развязал тесемки, раскрыл и, взяв верхний лист, показал мне. Я протянул руку, чтобы взять его и получше рассмотреть, но он остановил меня таким возгласом, словно я подносил к бумаге зажженную спичку. Это была таблица толщинок к скрипичной нижней деке французского мастера Жана Вильома с его написанным красными чернилами автографом. Глаза Георгия Георгиевича блестели, на щеках появился румянец, держащая табличку рука дрожала, точно от листа шел электрический ток. Вот таблички итальянца Базьяка Леандро, вот — француза Николя Люпо, вот — русских: Александра Лемана, Евгения Витачека. Захлебываясь от волнения, архитектор объяснял: дека какой скрипки и кем была сделана по той или иной табличке, кто из музыкантов играл на инструменте, какова судьба мастера и его учеников. А когда, наконец, в его руках затрепетали подлинные первый и второй варианты табличек для “Жаворонка”, он стал говорить с хрипотцой и глотать слова. Показав все, что находилось в папке, он уложил в нее таблички, завязал узлами тесемки и никак не мог попасть ключом в тоненькую скважину замка; я помог ему, и крышка шкатулки как бы нехотя опустилась и сама заперлась. Когда Савватеев спрятал шкатулку, я спросил его, почему он не напишет и не издаст монографию о своей коллекции скрипок и табличек. Он сказал, что пишет небольшую книгу: “Проблемы советской скрипки”. В ней анализирует инструменты различных мастеров, в частности, своей коллекции. Он пытается решить вопрос — что же в скрипке главное: дерево, из которого она делается, ее форма, толщинки дек, грунт, лак и т. п. — Вы знаете, — напомнил я ему, — в конце пятидесятых годов наш мастер Денис Яровой получил большую медаль червонного золота на родине Страдивари. — От конфедерации художественных ремесел, на выставке альтов в городе Асколи Пичено. Это не совсем то, что меня занимает. Я делаю ставку на “Родину”! Он взял лежащую на письменном столе отпечатанную на машинке рукопись, полистал ее и стал читать: — “Кто может не за страх, а за совесть изучить каждую часть самой худшей и самой лучшей скрипок? Только мастер, долгое время занимающийся их реставрацией и на основе опыта познавший эти инструменты. Но не только в этом дело! Подлинный художник скрипки должен уметь своими руками делать ее. И этого мало! Он еще обязан играть на инструменте, оттого что многие особенности дерева познаются лишь на слух. Однако теперь нельзя рабски копировать инструменты даже прославленного Страдивари. Три века назад от скрипки требовали мягкого тона, нежного тембра. В наше время, принимая во внимание огромные, далеко не всегда радиофицированные аудитории, необходимо, чтоб инструмент обладал полнозвучностью и, если позволительно употребить такой термин, дальнобойностью. Поэтому скрипка “Родина”, над которой сейчас работает Андрей Яковлевич Золотницкий…” Два варианта этой скрипки я подробно описал, — сказал архитектор, закрывая рукопись, — а вот третий не могу. Конечно, кой-какие сведения я получил, кой-чего предвижу, но таблички толщинок, особенно нижней деки… — Он развел руками. — Вы же в прекрасных отношениях с Андреем Яковлевичем! — Я просил его показать таблички. Предупредил, что мне нужен десяток цифр, измененных в третьем варианте по сравнению со вторым, но старик неподдающийся! — Значит, теперь ваша книжка останется недописанной! Почему же вы, Георгий Георгиевич, не взяли портфель к себе и не спрятали куда-нибудь? — Вы слыхали, в чем Андрей Яковлевич заподозрил своего сына? А тут я, все-таки человек посторонний. Поглядеть не дал, а вы — домой! — И себя наказал, и вас! — У меня есть свои соображения: тот, кто унес портфель, посмотрит, что в нем, и пришлет обратно. — Ну что вы! Портфель взял человек, хорошо знающий, что к чему! — Подождем — увидим!.. Однако с какой уверенностью он заявил, что красный портфель вернут! Я взял раскладную лестницу, поставил ее, раздвинув перед стеллажами, влез и стал смотреть стоящие на верхних полках русские книги. Я вытащил составленную А.Михелем энциклопедию смычковых инструментов. Пока я ее перелистывал, архитектор объяснил, что в ней интересна глава о крепостном музыканте, игравшем в оркестре графа Н.П.Шереметьева, скрипичном мастере Иване Батове. Только зря рассказана басня о том, что он якобы сделал отличную балалайку из… гробовой доски. В это время в коридоре быстро и прерывисто зазвонил телефонный аппарат. Георгий Георгиевич воскликнул: — Междугородная! Смотрите все, что хочется! — и убежал. Я не стал брать уже прочитанные книги А.И.Лемана, а снял с полки премированное Падуанской академией наук сочинение Антонио Богателла, который приводил размеры всех (более сотни) частей скрипки. За ним проглянула папка с белой наклейкой на корешке, где красными чернилами было жирно выведено: “Е.Ф.Витачек”. Я взял соседнюю книгу Д.Зеленского об итальянских скрипках и позади снова заметил папку: “Т.Ф.Подгорный”. Это меня заинтересовало, и, снимая одну за другой книги первого ряда, я увидел во втором папку: “А.Я.Золотницкий”. Почему она такая толстая? Может быть, там красный портфель или таблички? Брать или не брать? А вдруг войдет архитектор? Ну и что же? Он сам разрешил мне глядеть все, что пожелаю… Я вынул папку, раскрыл. Вот пространное описание премированных на конкурсе скрипок “Анны” и “Жаворонка”, сорта пошедших на деки клена и ели, таблицы толщинок, замечания о головке, грифе, пружине, составах грунта и лака, а также мельчайшие подробности о качестве звука и тембра. А на новой странице сверху стояло: “Скрипка “Родина”. Было описание ее двух вариантов, в котором с большим знанием указывались не только сорта дерева, но и размеры всех частей, кроме нижней деки. Откуда с такой точностью об этом узнал Савватеев? Далее: о грунте говорилось, что он будет изготовлен из таких-то соединенных с пчелиным воском смол. Но это же был открытый Михаилом Золотницким рецепт! Значит, скрипач показывал архитектору свою статью, а может быть, просил повлиять на отца? О лаке и о струнах “Родины” не упоминалось вовсе. Но дальше, дальше! На отдельных страницах были наклеены снимки с табличек обеих дек двух вариантов “Родины”. Я перелистнул еще одну страницу и увидел фотографию табличек третьего варианта скрипки со всеми цифрами. А сию минуту Савватеев говорил, что мастер ему их никогда не показывал! Как же он мог их сфотографировать? Ведь они лежали в закрытом несгораемом шкафу! Если бы читатели видели, с каким ошалелым видом я смотрел на эту фотографию, они могли бы убедиться в правильности поговорки: “Уставился, как баран на новые ворота”. Впрочем, через минуту я закрыл папку, поставил ее на место и загородил книгой Богателла. Я взял изданный в Лондоне томик Джорджа Харста, который резко критикует скрипичных мастеров… — Тысячу извинений! — воскликнул Георгий Георгиевич, появляясь в дверях. — Вот не было печали! Заказали срочную статью! Я знал, что такое срочная статья, поставил Харста на полку, слез с лестницы, сложил ее и отнес на прежнее место. Я вышел в переднюю, надел шапку, как вдруг услыхал пение и чириканье птиц. Савватеев повел меня по коридору и раскрыл вторую дверь слева. Он включил электричество, и я увидел клетку, где сидели чиж и канарейка, а в другой, побольше, — несколько птенчиков. Пел лимонного цвета кенарь, а его пернатые потомки дружно щебетали. Полюбовавшись на эти живые одуванчики, я погасил свет и пошел одеваться. Георгий Георгиевич объяснил, что канарейками занимается сын-студент, а научил его их домашний врач Лев Натанович Галкин. — Он работал в нашей поликлинике, — сказал я, — но я у него не лечился. — А теперь — подымай выше! Клиника профессора Кокорева. Говорят, Галкин — его правая рука. …На обратном пути от коллекционера я вспомнил, что скрипичный мастер отправился за советом не к кому иному, как к архитектору, а с ним в редакцию — к Вере Ивановне. Значит, старый Золотницкий беспредельно доверял коллекционеру. Но я тут же возразил себе, вспомнив, как часто жертва сама шла в объятия к тому, кто совершит или тайком уже совершил против нее преступление. Я убеждал себя в том, что архитектор — серьезный, рассудительный человек — не пойдет на скверное дело. И опять возражал себе: Савватеев — коллекционер, а такой одержимый страстью человек способен на все! Многим был известен старичок — коллекционер старинных гравюр И.С. Но мало кто осведомлен, что однажды, находясь в читальном зале краевой библиотеки, он, улучив момент, лезвием безопасной бритвы вырезал из уникальной книги гравированный на меди портрет “Кавалерист-девицы, улана Литовского полка Надежды Андреевны Дуровой”. Только глубокая старость, уважение к его исследовательским трудам спасли коллекционера от суда. Наконец, Савватеев не жена Цезаря, которая должна быть выше подозрений!8. КИНОРЕЖИССЕР, КАК ОН ЕСТЬ
Утром, после встречи Нового года, я проснулся поздно, отдернул занавеску и увидел на стеклах следы бушевавшей ночью вьюги. Она так залепила окно снежными звездочками, что они казались нарисованными. Солнце выплывало на горизонте, окрашивая их в алые тона. Я позвонил по телефону Золотницким. Трубку взяла Люба, и, когда я услыхал ее нежный голос, светлое чувство охватило меня. Словно я очутился в июльском сосновом лесу: чувствовал запах хвои, смолы, грибов, слышал тихий-тихий звон синестеклянных колокольчиков… Черт знает что! Мне только не хватало влюбиться в жену скрипача! Люба сказала, что Андрей Яковлевич ночью не спал и только сейчас, приняв прописанную врачом микстуру, задремал. Она просила меня зайти к четырем часам, когда будет доктор… Я поехал к кинорежиссеру Разумову в студию научных фильмов, но Романа Осиповича еще не было, и мне пришлось его ждать в кабинете, где находился оператор Белкин. Это был молодой человек в кожаном комбинезоне, из-под которого выглядывал расстегнутый воротник пестрой ковбойки. Сперва я подумал, что он опалил себе волосы, брови и ресницы, но, когда подошел поближе, меня поразил их белесый цвет. Белкин оказался словоохотливым парнем, рассказал о последних работах Разумова и, между прочим, пожаловался, что тот второй год мучается с кинопортретом скрипичного мастера Золотницкого. Я объяснил, что именно по поводу этого фильма и приехал в студию: пишу очерк о старике, а материала — кот наплакал. Оператор заявил, что фильм еще не смонтирован, а с концом и вовсе плохо. Подойдя к столу, он по очереди брал куски пленки, смотрел их на свет, а потом, держа один из них в руках, подозвал меня. Встав лицом к высокому окну, я стал глядеть на кадры так же, как Белкин, и увидел верхнюю деку, гриф, головку — словом, все части скрипки и еще остатки клена и ели. Оператор объяснил, что это разобранная белая “Родина”, верней, ее второй вариант. Далее все это было снято кинооператором с разных точек. Да, но, вероятно, все эти части Андрей Яковлевич спрятал у себя или еще у кого-нибудь и никому не только не показывал, но и не говорил о них. Каким же образом удалось Разумову их снять? Когда я задал этот вопрос оператору, он ответил, что съемки происходили в его отсутствие, и лучше всего об этом спросить консультанта по фильму Савватеева. — А сейчас у нас — стоп машина! — продолжал он. — Надо продемонстрировать на экране скрипку “Родину”, а старичок ее расклеил, и еще ко всему у него из мастерской сперли ее дно и рисунки с цифрами, по которым ее выпиливают! Тут оператор доверительно сообщил мне, что это неожиданный удар для кинорежиссера: Разумов собирается жениться на скрипачке и заказал Золотницкому для нее инструмент самой высокой марки. — Вы только никому не говорите, — продолжал оператор шепотом. — Мы и “Кинопортрет” стали делать, чтобы подмаслить старика. А Роман Осипович своего добьется. Он в этих делах молоток! Вскоре приехал кинорежиссер, набросился на оператора, браня его за то, что он не переснял два кадра для очередного выпуска киножурнала “Наука и техника”. Белкин сказал, что сию минуту это сделает, и ушел. Роман Осипович — сорокалетний худощавый шатен, со спадающей на лоб каштановой прядью волос, с прозрачно-серыми глазами — пожал мне руку. Я показал ему выданное редакцией удостоверение, он пробежал его глазами и уселся рядом со мной. Я посочувствовал ему, что затормозилась съемка “Кинопортрета” и работа над заказанной Золотницкому скрипкой. — Не желаю говорить об этом Кощее Бессмертном! — резко заявил Разумов. — Он у меня вот где сидит! — и, наклонив голову, хлопнул рукой по шее. — Разве старик ожидал такой неприятности? — перебил его я. — А я ожидал? У меня сорван план, заработок, следующая работа! Эх! — в сердцах выкрикнул Разумов. — Был бы умней, не связался бы с кинопортретом этого копухи! Сделал “Родину”, прослушали — высший сорт “А”. “Погодите, переделаю, потом снимайте!” — “Ладно, Андрей Яковлевич! Только моей невесте скрипочку”. — “Сказал, сделаю твоей нареченной — мое слово свято!” Слушаем вторую “Родину”. Говорят: “Затмили Страдивари!” Моя скрипачка просит: “Это сама мечта, Роман! Умолите мастера — Новый год на носу. Мне же новую скрипку перед гастролями обыграть надо!” Пошел к нему, говорил, сам цену накинул. Отказывается: “Пока свою не кончу, не могу. Я должен все скрипки превзойти! Это плоды всей моей жизни”. Будь прокляты все скрипки и скрипичные мастера в мире!“ — Неужели вы не нашли выхода? — Нашел! За две недели до того, как украли красный портфель… — Разве он был красный? — Этот Кощей сам вынимал его из несгораемого шкафа… За две недели до кражи я просил у дирекции разрешения в финале “Кинопортрета” заснять вместо “Родины” “Жаворонка”, на котором будет играть моя скрипачка. Что, плохо? Дирекция одобрила, но мой консультант Савватеев уперся. “Нельзя! Снимали, как делают “Родину”, а звучать будет “Жаворонок”. Да разве кто поймет, какая скрипка на экране? Все же в руках диктора и звукооператора. Дальнейший разговор между мной и кинорежиссером я не воспроизвожу потому, что мне и так было ясно, мог ли Роман Осипович тридцатого декабря, находясь в мастерской, унести красный портфель. Он же понимал, что старик снова будет работать над третьим вариантом “Родины”, а вот скрипку для его невесты начнет делать после “второго потопа”. Иначе для чего он хлопотал о замене “Родины” “Жаворонком”? Мне оставалось лишь точно выяснить, что и как можно сделать с нижней декой и табличками, и это окончательно укрепило бы мое подозрение против кинорежиссера… Без двадцати минут четыре я вошел в квартиру Золотницких. Первой, кого увидел, была Люба, и я заметил ее заплаканные глаза и сильно напудренное лицо. Мы прошли в столовую, и я услыхал, как Михаил Золотницкий репетирует на скрипке сонату Бетховена. Сев напротив Любы, я спросил, чем она расстроена. Ах, прошептала она, только что с ней говорил Андрей Яковлевич. Ему очень плохо, и ей его жалко! У старика стало плохо с памятью, и, кроме того, он начал заговариваться: сегодня несколько раз назвал ее Анной — именем своей покойной жены. Я начал успокаивать ее, доказывая, что все-таки он — кремень, и не случись с ним беда, он еще долго таким бы и остался. Люба тихо прошептала, что у него такой характер и с этим ничего не поделаешь. — При чем тут характер? — возразил я. — Так можно оправдать любого человека. Ведь сейчас для него самое важное, чтобы нашли его красный портфель! — Да? — спросила она и посмотрела на меня. — Конечно! Но ведь его секреты получились не сами собой! Разве до него не существовало русской скрипичной школы? Потом советской? Разве не обучал его Мефодьев? Не учился он у современных мастеров? Или вы думаете, он сам создал свою школу? — Каждый художник, даже самый маленький, имеет что-то свое! — Иначе он не был бы художником! — воскликнул я. Лицо Любы стало светлеть, и я испытывал такое ощущение, какое переживаешь, смотря ранним утром на медленно яснеющий горизонт. — Ведь у него есть ученики! — пыталась она снова защитить Андрея Яковлевича. — Наконец, мой Михаил… — Ученики — это пока только одно название! — не складывал я оружия. — А Михаил Андреевич безусловно ученик своего отца, и, кстати, отсюда все его качества! — Вот-вот! — подхватила она. — А я жена Михаила, и отсюда все мои качества! Что она хотела этим сказать? Из соседней комнаты донесся плач Вовки. Люба мягко коснулась рукой моего плеча, словно прося подождать, и поспешно убежала.9. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ
Михаил Золотницкий перестал играть на скрипке и, значит, в любой момент мог выйти в столовую, а мне хотелось побеседовать с ним наедине. Я быстро подошел к двери его кабинета, постучал и вошел. Он укладывал скрипку в футляр, кивнул мне головой и сел на стул. Я четко видел его лицо, на которое падал свет из окна. — Я давно хотел вам сказать, — начал я, — что в редакции мне дали вашу статью о грунте. По-моему, она написана с большим знанием дела. — Бьюсь второй год, чтоб ее опубликовали, и ничего не выходит. Пожалуйста, пройдитесь по ней карандашиком. Буду благодарен! — Хорошо! — согласился я. — А теперь… Надеюсь, что все останется между нами? — Конечно! — В шкафах системы Меллера, внутри, бывают секретные ящики, которые запираются на особый ключ? — В шкафу отца есть такой ящик. А почему вас это интересует? — Не хранил ли ваш отец в этом ящике свой красный портфель? — За последнее время отец к шкафу никого не подпускал. Да я сам к нему не подходил. Зачем волновать старого человека? — Я не могу понять, когда проникли в шкаф: ночью или днем? — По-моему, днем! — Вы так думаете? — А как же? Днем отец кладет ключи где попало. Асам — вы это знаете! — возьмет и уйдет в подсобку, а то и вовсе приляжет, приняв нитроглицерин. — А ученики? — Уйдут и исчезнут. Мальчишки! — Не могли ли они сами?.. — Да нет! Для чего им нижняя дека и таблички? — Разве в портфеле были эти вещи? — Так отец говорил, — ответил он. — Для учеников и дека и таблички пока еще китайская грамота. Потом они любят отца. Учитель! — Но ведь ученики могли это сделать не для себя? Мало ли людей, которые не прочь взглянуть на деку и таблички? — Ученики не станут этого делать. Сложно и рискованно! — Да почему? Мастер ушел с головой в работу или у него приступ стенокардии. В одну минуту можно взять ключи, открыть шкаф, вынуть портфель и унести. — На выходе стоят сторож и вахтер. Они глазастые! Ученика выгонят, а то еще под суд отдадут. — А разве нельзя куда-нибудь схоронить, не выходя? — В цехах? Увидят. На чердак? Не пустят. В красильню? Туда вход посторонним запрещен. — Может быть, ученик сговорился с кем-нибудь из работающих в другом цехе? — Кто же пойдет на такое дело? — Остается одно: портфель взял чужой? — Как бы не так! Ученики выходят из мастерской, но в любую секунду могут войти! — Ни ученики, ни чужой. Тогда кто же? — Я уже ломал над этим голову. Даже допускал, что это сделал постоянный заказчик. Ну, вышла такая минута: отец после припадка заснул, ученики разбрелись, ключи торчат в замке несгораемого шкафа. — Разве так случалось? — Да! — ответил Михаил Золотницкий и кинул на меня острый взгляд. — Отец за ужином рассказывал! — и продолжал: — Да, торчат ключи! Постоянный заказчик открывает дверцу шкафа. А дальше что? Отец никому о красном портфеле не говорил, а о том, что находится в нем, и подавно! — Вы уверены, что ваш отец никому об этом не говорил? — Уверен! Я спокойным голосом, мягким тоном, не глядя на Михаила Золотницкого, нанес ему удар: — Значит, о том, что в портфеле дека и таблички и что он хранится в секретном ящике, знали только одни вы? — Да! — подтвердил скрипач и, спохватившись, даже подскочил на стуле. — Что вы хотите сказать? — Ровным счетом ничего! — И, немного помедлив, спросил: — А вы знаете, что коллекционер Савватеев часто заглядывал в мастерскую? — Да что вы, честное слово! — забормотал музыкант скороговоркой. — Это же такой человек, такой… — Как, по-вашему, — упорно продолжал я, — известно было архитектору, где хранится красный портфель и, главное, что в нем лежит? — На кой черт ему дека и таблички? — зачастил Михаил Золотницкий. — Что он, станет делать скрипку? Почему скрипач так яро защищает Савватеева? Может быть, они связаны одной веревочкой? Музыканту были нужны нижняя дека и таблички к третьему варианту “Родины”, а коллекционер стремился на худой конец сфотографировать их… — Не говорил ли вам отец, — продолжал я, — где он хранит дерево для своей “Родины”? — Да, скажет он — дожидайся! Когда дело касается его секретов, — деспот! — Может быть, о сортах дерева? — Намекал! “Цены нет, — отдай все, да мало!” — Когда это было? — Когда собирался делать со мной новую скрипку. — У Андрея Яковлевича будет районный врач? — Нет, доктор Галкин. Он еще вчера поздно вечером заезжал. Рекомендовал Георгий Георгиевич! — Вы объяснили доктору причину внезапной болезни отца? Михаил Золотницкий сел глубже в кресло и положил руки на колени. — На что вы намекаете? — переходит он в нападение. — На жестокую психическую травму Андрея Яковлевича. — Нет, о пропаже деки и табличек доктору не говорил! — О краже! — поправляю я его и вижу, как он вздрагивает. Теперь я уже рублю с плеча. — Врач должен все знать о своем пациенте. — Вчера я молчал, а сегодня… — опять бормочет он. — Да вы что! Вопрос идет о жизни вашего отца, Михаил Андреевич. Не мне вам об этом говорить! Нет, каков! Мне выложил все факты и предположения. А когда нужно о том же самом сказать доктору, боится рот раскрыть! Разумеется, мое подозрение о том, что у Михаила Золотницкого рыльце в пушку, требовало веских доказательств. В противном случае, как бы ни было сильно подозрение, оно только им и останется!.. В пятом часу приехал Лев Натанович Галкин, разделся и, потирая руки, прошел в комнаты. Чисто выбритый, с небольшими залысинами, в сером с искрами костюме, в роговых очках, он был полон достоинства и солидности. Меня познакомили с ним, и он сказал, что ему приходилось лечить литераторов. — Слишком вы все нервные! — продолжал он. — Не происходит ли это за счет таланта? — Может быть, талант происходит за этот счет? — Все может быть, — согласился он и прищурил правый глаз. — Выглядите вы прекрасно! — Спасибо! Не знаю, как вы, а я еще в школе учил: яблоко снаружи было румяное, а внутри… — Правильно! — воскликнул доктор. — Мой дед говорил: “Врач, который судит о пациенте по его виду, не стоит денег”. Люба вызвала из комнаты Андрея Яковлевича сиделку. Лев Натанович стал так подробно и горячо расспрашивать ее о самочувствии и о жалобах старика, что это походило на допрос с пристрастием. Выслушав все, он сиял очки, подышал на стекла, старательно протер платком и в сопровождении сиделки и молодых Золотницких пошел в комнату Андрея Яковлевича. Через минуту Люба вышла оттуда, всхлипывая и прикладывая платочек к глазам. Я стал как мог утешать ее, она прошептала: — Не могу! — и заплакала. Для того чтобы отвлечь ее, я спросил, почему она не выступает на концертах самостоятельно, а только аккомпанирует Михаилу Андреевичу. Она вытерла глаза, поглядела на меня, и в ее зрачках сверкнули синие зарницы: — Вам приходилось готовить ленивые щи? — спросила она. — Нет! — А латать сыну штанишки? — Тоже нет! — Все это делаю я! Кроме того, покупаю продукты для хозяйства, меняю книги в библиотеке, хожу в аптеку, в прачечную. Да я не кончу до утра перечислять мои занятия. И ко всему этому, что бы ни случилось у свекра, у мужа, — во всем, во всем я виновата… Я сказал, что в каждой семье есть человек, который несет на своих плечах бремя основных забот, и вдобавок на его голову валятся все шишки. Тут я услыхал голос Галкина, который, выйдя из комнаты больного, наставлял сиделку, как, чем и в какие часы кормить старика, какие лекарства и когда ему давать. Лев Натанович написал рецепт и велел сейчас же сходить в аптеку. Скрипач ответил, что ему через полчаса надо выступать на концерте, и попросил жену заказать лекарство… Пока Люба ходила в спальню за муфтой и сумочкой, я подумал, а не спросить ли мне сейчас мастера, где он хранит, кроме нижней деки, все части его “Родины”? Это намного облегчит мое расследование! Я вошел к нему в комнату. Сиделка стояла возле окна и, встряхивая термометр, рассматривала его на свет. Андрей Яковлевич лежал, полузакрыв глаза, и о нем можно было сказать: краше в гроб кладут! Заметив меня, сиделка приложила палец к губам, и доменя едва долетело: “Спит!” Но старик открыл глаза, — они у него были мутные, слезящиеся, с красными веками, — и попросил хриплым голосом: — Михайло! Водицы! Я взял со стоящего в изголовье столика стакан с водой и, приподняв голову больного, поднес к его губам. Он сделал глоток, сказал: “Спа”, что должно было означать не то “спасибо”, не то “спать”, и откинулся на подушки… В аптеку мы с Любой доехали на автобусе, постояли в очереди к фармацевту и купили готовый венгерский препарат. Потом вышли на улицу, и я остановил такси. Когда автомобиль тронулся, я повертел ручку, чуточку опустил стекло, в машину потекла морозная струя воздуха, и от Любиных мехов запахло черемухой. Она сидела, уткнувшись в воротник шубки, — только сверкал ее правый глаз. Шофер включил радио, и скрипка запела романс Чайковского. — Милый вы мой! — сказала Люба, назвав меня по имени-отчеству. — Мне очень жалко Андрея Яковлевича. Они с Вовкой большие друзья. Вчера сынишка нарисовал человечка: “Это деде!” Я измучилась… — Она поморгала ресницами, прогоняя набежавшие на глаза слезы. — Все несчастье Андрея Яковлевича от него самого. Память у него девичья! Я хотел сказать, что все перебрал в его несгораемом шкафу, но запнулся и только вздохнул: “Что спрашивать с больного старика?” — В позапрошлом году пошел свекор в бухгалтерию сдавать деньги и документы, — продолжала Люба, — а счетовод и кассир уехали по делам. Вернулся он к себе и вместо того, чтобы спрятать все в несгораемый шкаф, положил в ящик рабочего стола. К концу занятий хотел пойти в бухгалтерию, полез в шкаф — ни документов, ни денег! Ученики уже ушли леи мой. Поднялся переполох. Ночью Андрею Яковлевичу было плохо, а утром все сам нашел. — Когда я был у него недавно, он искал газету в одной папке, — сказал я, — а до этого сам положил ее в другую! — Вот видите! — подтвердила Люба и посмотрела на меня с улыбкой. — Я прошу вас, проверьте в его шкафу все, все до последней бумажечки! Не найдете — посмотрите во всех ящиках, во всех шкафах. Уверена, целехонек красный портфель, и никто оттуда ничего не брал! Я дал слово выполнить ее просьбу.10. КТО ЖЕ УКРАЛ ПОРТФЕЛЬ?
Погода, словно имеющая успех красавица, капризничала: то дарила ледяной улыбкой, то вдруг, как пригоршнями белого конфетти, шаловливо бросалась мелким снежком, и он таял на асфальте, оставляя после себя черные точки. Я закончил очерк о скрипичном мастере и стал раздумывать, как в действительности могло произойти похищение красного портфеля. Рассуждая, я предположил, что среди подозреваемых нет безупречных людей, хотя в глубине души не верил в их вину. Ведь в любом деле могут быть десятки различных граждан, на которых падает подозрение. Достойный труд следователей и оперативных работников состоит в том, что они проводят одну версию за другой и в конце концов нападают на след настоящего преступника. Итак, двадцать девятого декабря прошлого года Андрей Яковлевич к концу рабочего дня видел красный портфель в несгораемом шкафу. С этого момента до утра запертая мастерская охранялась сторожем, вахтерами, и никто не мог туда проникнуть. А вот тридцатого декабря, по заявлению старика, к нему приходили: утром сын Михаил, днем кинорежиссер Разумов, позднее коллекционер Савватеев. И при мне в шесть часов вечера мастер обнаружил, что из его секретного ящика несгораемого шкафа исчез красный портфель. Михаил Золотницкий превосходно знал обстановку и распорядок в мастерской: отец страдает приступами стенокардии, устает, дремлет и забывает спрятать ключи. Не надо много думать, каким образом можно проникнуть в шкаф. Имеет ли смысл скрипачу взять красный портфель? Да, имеет: по тем справкам, которые я успел навести у знакомых скрипичных мастеров, конечно, не называя ни места происшествия, ни фамилии, было ясно, что по табличкам можно доделать нижнюю деку “Родины”, потом подобрать подходящее дерево и сделать всю скрипку. Пошел бы на это Михаил Золотницкий? Музыкант он средней руки, его заработок не так уж велик, расходы значительны: ребенок, няня, молодая жена, которая любит хорошо одеваться. Кроме того, он, наверно, знал, где хранятся остальные части “Родины”, и мог ими завладеть. Почему? Он, безусловно, учел, что эта кража нанесет отцу удар, и тот сляжет. А разве это не благоприятный момент для того, чтобы воспользоваться остальными приготовленными частями для “Родины”? Остается один, сам собой напрашивающийся вопрос: помогала ли чем-нибудь скрипачу Люба? Она не верила в то, что муж сумеет без секретов отца добиться премии на конкурсе смычковых инструментов, о чем сама мне говорила. Если бы муж попросил ее помочь, она могла на это пойти. Но тогда было непонятно, зачем она так настаивала на том, чтобы еще раз поискать красный портфель в мастерской Андрея Яковлевича? Архитектор Савватеев неоднократно посещал мастерскую, хорошо знал распорядок дня, привычки старика Золотницкого. Одержимый неописуемой страстью к коллекционированию, кроме скрипок, табличек с автографами мастеров, он, естественно, мечтал о составленных Андреем Яковлевичем вычислениях к третьему варианту “Родины”. Конечно, получив таблички к первому и второму вариантам скрипки, архитектор рассчитывал, что мастер отдаст ему со своим автографом и документ к третьему. Но тот, как заявил сам Георгий Георгиевич, даже отказался показать ему таблички. Воспользовавшись удобным моментом, когда, например, ключи от шкафа оказались под рукой, Савватеев открыл дверцу секретного ящика, вынул красный портфель, чтобы тут же сфотографировать таблички. Увы! Мастер или еще кто-то помешал вору, и ему пришлось захватить портфель с собой и сделать то, что он задумал, дома. Иначе не объяснишь нахождение фотографии с табличек нижней деки третьего варианта “Родины” в папке: “А.Я.Золотницкий”. И потом, отчего коллекционер так уверенно предсказал, что красный портфель вернут скрипичному мастеру? Ведь если это случится, будет ясно: кто взял, тот и отдал! Кинорежиссер — третий, взятый мною на подозрение человек, — был осведомлен о старом мастере своим приятелем Савватеевым и, кроме того, наблюдал во время съемок за Андреем Яковлевичем и говорил с ним. Разумов задумал одним ударом разрубить гордиев узел: заснять для фильма “Жаворонка”, нижнюю деку и таблички для “Родины” унести, отдать какому-нибудь мастеру, вероятно периферийному, и заказать скрипку. Представлял ли такой заказ какую-нибудь опасность? Нет! Не только эксперты-музыканты, но даже сам старик Золотницкий никогда не узнали бы, что для данной скрипки основой послужила доработанная по табличкам нижняя дека “Родины”. Четвертым вором мог быть любой человек, действующий по указке одного из уехавших на экскурсию учеников скрипичного мастера. Такой сообщник, безразлично, опытный или неопытный, явился бы в мастерскую в точно намеченный срок и, совершив подлое дело, исчез бы. Если бы ему сразу не удалось взять красный портфель, он через несколько дней, под благовидным предлогом, появился бы снова и заходил до тех пор, пока не выполнил бы то, что было задумано. В результате появилась бы новая скрипка!.. Пятым вором мог быть любой жуликоватый клиент, при удобном случае полезший в несгораемый шкаф не за красным портфелем, а просто за ценной добычей. Однако, наткнувшись на портфель, сразу схватил бы его и унес, подумав, что раз он лежит в секретном ящике, то набит ценностями. Конечно, пятый вор поспешил бы скрыться и, в укромном уголке, вдали от чужих глаз, заглянуть в портфель. Если это был понимающий в чертежах человек, то он сбыл бы какому-нибудь мастеру деку с табличками. Если же эти вещи были ему в диковину, он или попытался бы установить их стоимость, или, плюнув, забросил бы куда-нибудь, а портфель взял себе. Короче: в том и другом случае украденные дека и таблички не вернулись бы к скрипичному мастеру. Однако самым опасным вором был бы шестой, которого следует назвать невидимкой. Но это не невидимка из известного романа Герберта Уэллса. Это не так! Хотя шестой вор видим, но часто даже самые проницательные оперативные работники уголовного розыска его не видят. Может быть, и мы, то есть автор и читатель, встречались с этим вором, беседовали с ним, но никому из нас и в голову не пришло, что он именно тот, кто совершил кражу. Да, по совести, как его узнать: на улице он принимает облик почтальона с сумкой писем и газет, на вокзале — носильщика с чемоданами в руках, в ресторане — официанта с салфеткой под мышкой, в больнице — санитара в белом халате, который несет носилки или катит кресло на колесах в какую-нибудь палату. Словом, вор № 6 похож на бесчисленных своих честных товарищей по профессии. Он настолько примелькался, что, подобно сосне в сосновом лесу, не обратит на себя никакого внимания, и, всеми видимый, будет невидим. Все это напоминает мимикрию — защитное приспособление, широко распространенное среди животных и растений… Теперь я на собственном опыте убедился, как легко вести следствие на страницах рукописи и как сложно это в жизни. Ведь до сих пор у меня не было ни одной основательной улики против подозреваемых мной людей. А еще когда я студентом-юристом стажировался у старичка следователя, он, поднимая вверх указательный палец, не раз предупреждал: “Следствие без улик — все равно что утопающий человек без волос: ухватиться не за что!” Я отвез сотрудникам Научно-исследовательского института милиции заснятые в день похищения красного портфеля фотографии с несгораемого шкафа. Они в один голос заявили, что на шкафу нет никаких следов взлома, и судить о том, каким образом совершена кража, а тем более кем, — невозможно. Я вспомнил о просьбе Любы: могло же случиться так, что мастер положил красный портфель в другое место. Бывают в жизни сюрпризы! Вдруг пропажа найдется, все успокоятся, а я перестану вертеться, как белка в колесе!..11. НЕВЕРОЯТНАЯ ЗАГАДКА
Я поехал к коменданту того театра, при котором была мастерская по реставрации смычковых инструментов. Проходя через будку, я узнал у дежурной, что его зовут Константином Егоровичем. Постучав в дверь, я вошел в небольшую комнату, где, кроме письменного стола, двух деревянных кресел и вместительного стального ящика на полу, ничего не было. За столом сидел растолстевший, лысый, румяный человек с сизоватым носом, пил чай с блюдечка, макая в чашку кусок пиленого сахара и откусывая от него. Я сел на стоящий перед письменным столом стул, но комендант не обратил на меня внимания. Только покончив с чаем и вытерев синим платком вспотевшую лысину, он бросил на меня взгляд и буркнул: — Чем могу?.. Когда я рассказал о тяжелом положении скрипичного мастера и о необходимости еще раз поискать портфель красной кожи в несгораемом шкафу, комендант пристально поглядел на меня злыми глазами и выразительно кашлянул. Он, видите ли, не считает нужным открывать просимое помещение (так и отчеканил: “просимое”!). Затем пояснил, что в тот день, тридцатого декабря прошлого года, по своему почину, он, понимаете ли, взял с собой дежурную, делопроизводителя, открыл шкаф своим ключом, и они, втроем, все вынули из него и осмотрели. Я объяснил, что старик Золотницкий очень тяжело переживает пропажу, и если можно чем-нибудь ему помочь, то необходимо это сделать. Комендант барабанил пальцами по столу, выражал свое нетерпение, но я не обращал на это внимания. Потрясение старика настолько велико, объяснил я, что это может привести его к трагическому концу. Ведь и он, Константин Егорович, если бы перенес такой неожиданный удар, мог бы… — Почему вдруг я? — к моему удовольствию, заволновался мой твердокаменный собеседник, и его подбородок запрыгал от негодования. — Каждый умирает в строго индивидуальном порядке! — Хорошо, не вы! — согласился я, как бы давая ему выпить валерьянку с ландышем. Он посветлел. Тогда, словно сделавший выпад рапирой фехтовальщик и вызвав этим ответное движение противника, я привстал и задал ему вопрос в упор: — А вы уверены, что шестидесятилетний Золотницкий теперь умрет не раньше срока, который ему предназначен? — Я этого не сказал! — Тогда почему же вы не соглашаетесь?.. — Потому что я подписал приказ: мастерская впредь до особого распоряжения закрыта, и точка! — неодолимый комендант ударил ребром ладони по столу, как бы отрубая мне голову. — Приказ есть приказ! — Прошу извинить, что пришлось вас оторвать от работы, — поднялся я со стула. — Будьте любезны, скажите, как мне пройти к директору театра? Вдруг эта живая стена, от которой мои слова отскакивали, как горох, вздохнула и с чувством произнесла: — Что ж, идите и заявите, что я — палач! А я без слез не могу на канареечку смотреть! “Постой-ка, — подумал я. — А вдруг канарейки — твоя страстишка?” И я рассказал, что видел в доме Савватеева не только канареек, но и малюсеньких птенчиков. Комендант слушал и преображался: с его лица сползла угрюмость, глаза загорелись, и под конец моего рассказа он сидел, не дыша от любопытства. Едва я замолчал, как он стал задавать бесчисленные вопросы и признался, что является старым любителем канареек. Он, комендант, сам приготавливал деревянную коробочку, устраивал в ней гнездо из ваты, иногда из тонкой мочалки с корпией, а другой раз из моха. Он пускал отобранную пару канареек в коробку, они приводили гнездо в порядок, и — пожалуйте! — через три недели самочка клала пять бледно-зеленых с красно-бурыми пятнышками яичек. Около двух недель она высиживала птенцов, и появлялись голенькие крошки. — Ах какая прелесть! — откровенничал комендант, все более и более превращаясь в человека. — Как подрастет молодежь, сейчас всех в клеточку и повесишь рядом с опытным кенарем. Учись, детка, пой, радуй сердце! — Он махнул рукой подошел к сверкающему окну и опустил голову. — Душа болит! — промолвил Константин Егорович со скорбью. — Уехал на три дня по делам. Ночью где-то лопнула труба парового отопления. В комнатах стало холодно. Я просил домашних: следите за температурой, будет падать — немедленно включайте электропечь. А они все спали, и мои птицы погибли! — закончил он со слезами в голосе. Я ему посоветовал завести новых. Он объяснил, что два раза доставал канареек, сажал в коробку с гнездом, а они сидели, как чучела. Я пообещал потолковать с Савватеевым, помочь, и комендант с жаром пожал мне руку. Он отпер свой стальной ящик, достал из него связку ключей, печать и пригласил меня идти за ним. Вскоре он, я, дежурная и делопроизводитель поднимались по лестнице. Делопроизводитель снял с двери мастерской сургучные печати, а комендант предупредил меня, что их целость ежедневно проверялась. И вот я последовательно вынимаю из секретного ящика несгораемого шкафа, с полок все папки, газеты. Мало того, я раскрываю каждую папку, перебираю находящиеся в ней бумаги, вырезки из старых журналов. Комендант сидит посмеивается, а его сотрудники уверяют, что в декабре они проделывали то же самое. Наконец остается последняя небольшая пачка связанных бечевкой газет, я поднимаю ее и убеждаюсь, что под ней пусто! Я выдвигаю ящик стоящего в подсобной комнате столика, шарю в нем: ничего! Комендант смотрит на меня, покачивая головой, потом делает знак своим сотрудникам, и все трое выходят в мастерскую. Они зажигают все до одной электрические лампочки, и при яростном свете аккуратно перебирают все, что лежит в ящиках семнадцати рабочих столов. Снова неудача! Остается стоящий в углу высокий зеленый платяной шкаф. Комендант трясет висящие в нем синие халаты, хмыкает себе под нос и хочет закрыть дверцу. Но я останавливаю его, беру наваленные друг на друга внизу шкафа фартуки, встряхиваю их, и к моим ногам звонко шлепается портфель из красной кожи. Я поднимаю его, пробую открыть, — он заперт. Я смотрю на изумленные лица коменданта, его работников и думаю, что, наверно, у меня такая же физиономия. — Тайны мадридскою двора, — наконец изрекает комендант, ощупывая портфель, как слепой… “Ну хорошо, — рассуждал я, — мастер Золотницкий получит нижнюю деку и таблички толщинок “Родины”. А разве не могло быть так, что портфель взяли из несгораемого шкафа, сняли копию с табличек, сфотографировали деку и снова положили портфель в платяной шкаф? И вот, когда Андрей Яковлевич принимается делать свою “Родину”, появляется деланный по тому же образцу инструмент. Ведь это произведет на старика такое впечатление, что, возможно, он не только заболеет, но и распростится с жизнью!” Конечно, любой из подозреваемых мной людей мог вынуть портфель из одного шкафа, а потом сунуть в другой. Но все упиралось в неразрешимый вопрос: как сумел проникнуть вор в мастерскую сквозь запечатанную дверь, минуя сторожа и вахтеров. Хотя мне в особенности не хотелось подозревать скрипача, я все же решил выяснить, где находился Михаил Золотницкий в течение тридцатого декабря, в то время, когда с его отцом случилась беда.12. ЛЮБА РАЗОБЛАЧАЕТ СЕБЯ
Через день я встретил на Тверском бульваре Любу. Она была в своей беличьей шубке и в похожей на большой пушистый одуванчик шапочке. Мы пошли по бульвару. Покрытые снегом деревья стояли, как яблони в цвету, за ними, как луны, светили фонари. Все лавочки были заняты, и мы с трудом нашли пустую скамейку. — Вы не представляете себе, — сказала Люба, — что было с Андреем Яковлевичем, когда он отпер свои портфель и вынул из него деку и таблички. Прижал их к груди, как ребенка, смеется, плачет и вас благодарит. Лев Натанович сказал, что завтра отправит свекра в санаторий. Большое вам, пребольшое спасибо! — И она поцеловала меня в щеку. Мое сердце бешено застучало. Я сидел, сжав губы, и плохо понимал, что говорила Люба. Единственное, что я услышал: “Все равно свекру не будет покоя”. Собравшись с мыслями, я тихо спросил: почему же так? Оказывается, у Савватеева остановилась работа над книгой. — Он не может выпустить книгу о “Родине” прежде, чем появится на свет скрипка, — успокаиваю я ее. — Это исследование, а не репортерская заметка! Я слышал отрывок из этой монографин о работе Андрея Яковлевича. По-моему, она будет понятна узкому кругу людей: скрипичным мастерам и скрипачам. — Скрипачам? Моему Михаилу эти таблички вроде клинописи! — Учился у отца, сам сделал скрипку и не разбирается? — Вот и сделал такую, что даже поощрительной премии не дали! — Зато теперь свое возьмет! — Ну что вы! Я каждый день ему твержу, чтобы вместе с отцом работал. А он: “Я ему покажу — все закачаются!” Но выйдет, как в басне Крылова. Помните, лягушка хотела сравняться в дородстве с волом? Любе стало холодно, она поднялась со скамейки и, взяв меня за руку, повела на боковую аллею. Дорожка заледенела, Люба стала кататься по ней словно на коньках и рассказывать о том, как знакомилась на катке с мальчиками. Потом она начала пенять на характер скрипача и на его привередливость. Мы вошли в автобус, и она перешла на разговор о Вовке. У нее в голосе появились нежные нотки, уменьшительные словечки. Казалось, на бульваре была одна женщина, а здесь, в автобусе, совсем другая… Когда мы сошли на остановке, я сказал: — Должно быть, между вами и Михаилом Андреевичем пробежала черная кошка. — Обидел он меня. Вчера утром, за завтраком, устроил мне сцену ревности. Прямо Отелло! — Отелло не так ревнив, как доверчив. Он — храбрый. Ревность же удел трусов, которые боятся потерять то, что им принадлежит! — Вы знаете, к кому Михаил меня приревновал? — К какому-нибудь музыканту? — К вам, мой милый! Почему я так долго была с вами в аптеке. — Вот тебе и на! — Очень неприятно, что весь разговор слышал Вовка. Мальчишка нервный, впечатлительный. Когда мы подошли к дому, Люба попросила не провожать ее до подъезда. — Я позвоню вам, — пообещала она и быстро убежала… Январское солнце выкатилось из-за облаков, заулыбалось, заиграло, как младенец после купания. Ошалелые воробьи стали прыгать, носиться, чирикать и, ероша свои перышки, купаться в снегу на подоконниках. Я поглядел сквозь заклеенные рамы на наш сад и увидел, что покрывший тополя иней переливается, сверкая, точно высокогорный водопад. Я пытался смотреть на вчерашнюю встречу с Любой сквозь розовые очки. Потом подумал, что напоминаю того неунывающего художника, который сидел в кафе и, поглядывая в окно, зарисовывал старинный боярский дом. Он заказал официанту завтрак, тот ушел и пропал. Когда он вернулся, художник увидел, что официант оброс пышной бородой. “Чудесно! — сказал ему художник. — Я надену на вас боярский кафтан и нарисую на фоне старинного дома…” Я решил позвонить Любе по телефону, но номер все время был занят. Вечером мне принесли письмо, я вскрыл его, вынул записочку и прочитал две строчки: “Не сердитесь на меня! Я боюсь встречаться с вами. Люба”. От этого послания на меня повеяло ледяным холодом. Я бы не очень удивился, если бы ударил дикий мороз, забушевала вьюга и под моим окном проковылял черноносый белый медведь. Я подошел к телефонному аппарату и снова позвонил на квартиру Золотницких. На этот раз ответила Ксюша, и я, назвав себя, попросил к телефону Любовь Николаевну. — Хозяйка утречком улетела к Михаилу Андреевичу в Ленинград. — Давно он там находится? — Да уж скоро две недели будет. Торопилась она, на самолет опаздывала. К Вовке не успела съездить попрощаться. — Он был в детском саду? — С месяц живет у бабушки! — А когда хозяева вернутся? — И сказать не могу. Концерты у них… Нет! Какова! Сказала, что на днях муж устроил ей из-за меня сцену ревности, и все это происходило при сынишке. Зачем она дважды солгала? Я стал размышлять: когда мы ехали в автомобиле из аптеки, Люба просила меня как следует поискать портфель в мастерской, уверяя, что пропажа найдется. Разве это было сделано спроста?.. Эх ты, неугомонный романтик! Видел то, что тебе грезилось, а не то, что происходило у тебя под носом. Ведь Люба хотела доказать, что красный портфель как лежал в мастерской, так и остался там, и никто ни в чем не виноват! Никто? Значит, Люба стремилась снять подозрение С похитителя? А почему? Она сама взяла портфель! Да, да, сама! И сделала это, чтобы помочь мужу. В сердцах я выругал Любу, открыл книжный шкаф, достал черновики посвященного Любе стихотворения. Я зажег на кухне спичку и поднес листочки к пламени. Когда они стали обугливаться, я бросил их в ведро с водой, и, черные, с тлеющей багряной каймой, они зашипели, словно змеи. Я вернулся в кабинет и с наслаждением растянулся на кушетке. И тут в голове снова мелькнула мысль: ведь овладеть красным портфелем мог и Михаил Золотницкий, тут же сфотографировать деку, таблички, а потом ему кто-нибудь помешал, и он впопыхах сунул все в платяной шкаф. А возможно, поскольку ему были нужны очень точные цифры, унес портфель с собой и поручил снять копии чертежнику или фотографу. Понятно, ему не пришло в голову, что через несколько часов отец полезет в шкаф за портфелем. Разумеется, в тот же день Савватеев или Разумов могли также взять красный портфель. Архитектор, возможно, сумел бы на месте снять деку, перечертить с табличек копию, а, может быть, как он объяснял мне, записать десяток цифр. Хотя это сомнительно: увидев деку и таблички для “Родины”, в торжество которой верил, он унес бы красный портфель; долго ли, в свой следующий приход, дождавшись, когда старик пойдет в подсобную комнату, положить вещь в платяной шкаф? А сделав копию с табличек дома, Савватеев обязательно начертил бы еще одну. Эта копия до зарезу была нужна для “Кинопортрета” Разумову. Взял бы коллекционер портфель с собой или сделал, что задумал, в мастерской — все равно теперь становится понятной его фраза о том, что украденное вернут обратно. Вот разгадать поведение кинорежиссера трудно. Допустим, он унес красный портфель для того, чтобы, воспользовавшись нижней декой и табличками, заказать для своей невесты скрипку. Зачем же, пойдя на большой риск, он положил портфель в платяной шкаф? Или дирекция киностудии научных фильмов не согласилась, чтобы Роман Осипович снимал “Жаворонка”? Или не нашлось подходящего мастера, который взялся бы сделать скрипку и молчать? Возникло еще одно предположение: решив вернуть красный портфель, кинорежиссер мог заснять на пленку и нижнюю деку и таблички, как детали в кадрах о скрипке “Родина”. Возможно, он поручил это сделать кому-нибудь на стороне, чтобы ничего не узнали в студии. Значит, кто бы ни взял красный портфель и кто бы ни положил его в платяной шкаф — Люба, Михаил, Савватеев, Разумов, — все равно у кого-то остались фото с нижней деки и копии с табличек. Если точно выяснить, у кого они находятся, можно, как говорят, потянув за ниточку, размотать весь клубок и выйти на преступника. Так логически рассуждая, я не заметил, как заснул. Потом внезапно проснулся, точно кто-то резко толкнул меня в бок. Открыв глаза, я увидел за окном полоску апельсинного цвета. В голове точно выстукивали на пишущей машинке: “Фото, копия…” “Что? Что?” — спросил я, садясь. Почему я уверен, что фото с нижней деки “Родина” и копии с табличек снимал тот, кто взял красный портфель? Так ли это? Ведь надо сфотографировать рисунок клена, перенести на кальку или снять на пленку тончайшие чертежи с рассчитанными до миллиметра и расставленными на точнейших местах маленькими цифрами. Это же — основа будущей скрипки! Нет, все это делал опытный чертежник или фотограф! А вдруг они сделают еще вторые фото и копию, и, как правильно я опасался, дотоле не известный мастер, получив их, произведет скрипку, похожую на ту, которая выйдет из-под рук Андрея Яковлевича? Тут меня так хлестнула следующая мысль, что я вскочил на ноги и зашагал по комнате. А не может ли фото деки и вторая копия табличек очутиться за рубежом? Разве мы не знаем подобных же случаев? Сумели же вывезти из нашей страны в Англию все скрипки знаменитого мастера Ивана Батова, кроме двух. Так и сейчас за границей фото и копия превратятся в сверхприбыль какого-нибудь предпринимателя! Черт подери! До тех пор пока я не буду окончательно убежден, что фото и копия остались у нас, я не имею права сидеть сложа руки…13. ПЕРВЫЕ УЛИКИ
Я разыскал в старой записной книжке номер служебного телефона моего товарища по университету С.Л., который работал на таможне. Созвонившись с ним, я в указанный им час получил пропуск и поднялся по лестнице на тот этаж, где помещался его кабинет. Я не видел С.Л. лет семь. До этого случайно встретился с ним на стадионе в Лужниках во время футбольного состязания, но тогда мы даже не успели поговорить. С.Л. все так же был похож на Чехова, и недаром в университете его прозвали Антоном Павловичем и советовали ему писать короткие рассказы или, если ничего не выйдет, перейти на медицинский факультет, а после этого снова взяться за перо. Смотря на меня умными глазами сквозь стекла пенсне (говорили, он носит их, чтоб оправдать свое прозвище!), С. Л. внимательно выслушал мой рассказ о тех поисках, которыми мне пришлось заняться. Потом, поглаживая свою бородку, он согласился со мной, что могут снять вторую копию с деки и чертежей. Так как он не имел никакого представления о толщинках верхней и нижней дек, я вынул из кармана “Книгу о скрипке” А.Лемана, развернул приложенные к ней карты и показал, что примерно представляют из себя нижняя дека и таблички. После этого прочитал в книге замечание автора: “Достаточно снять с деки две — три лишние стружки, как резко изменится характер звука скрипки”. Подивившись, каким, по его выражению, “чертовски скрупулезным трудом” создается скрипка, мой товарищ заявил, что такие чертежи можно отлично сфотографировать и отпечатать не одну, а несколько копий. После этого он посмотрел мое редакционное удостоверение, спросил, что я хочу от них, таможенников. Я объяснил, что нельзя ли еще лучше осматривать багаж уезжающих за границу иностранцев. — Если бы ты точно знал, — ответил “Антон Павлович”, — кто повезет с собой фото и копию, мы могли бы организовать более тщательный досмотр. — А не могут фото нижней деки и копия табличек уплыть за границу? — Обычно мы выпускаем только с тем багажом, который разрешает закон. Вот посмотри, — предложил он, выдвигая большой ящик своего стола, — на какие хитрости, а вернее, на какие мошенничества идут некоторые путешественники из-за рубежа! Я встал, заглянул в ящик и ахнул: там были всевозможные сломанные, разрезанные, выпотрошенные вещи. Как известно, некоторые иностранцы занимаются контрабандой и стараются вывезти золотые слитки, монеты царской чеканки, платину, опий, корень женьшень, черный перец, сухие грибы и много других веще”. Все эти предметы прячут в самые невинные вещи: в игрушки, елочные свечи, футбольные мячи, в коробки и банки с сохраненной фабричной упаковкой из-под консервов, кремов, лекарств; в вырезанные гнезда в страницах книги, мундштуки папирос, чемоданы и жестянки с двойным дном, внутрь дутых пуговиц, грецких орехов, шоколадных конфет и т. п. — Все уловки не перечислишь, — сказал “Антон Павлович” со вздохом. — Вот попробуй подними этот шерстяной жилет! Я попытался это сделать, но не смог: шутка ли — в нем было двадцать четыре килограмма: контрабандист зашил в жилет пластинки победита. Но — только подумать! — он вез еще тридцать шесть килограммов рогов сайгака, которые, придя в купе вагона, засунул между двойными стенками через отверстие репродуктора. В общем, собирался увезти шестьдесят килограммов запрещенных к вывозу предметов. — По-старому, около четырех пудов, — сказал я. — Контрабандист обладал жадностью крокодила! — Есть такие же контрабандистки! “Антон Павлович” подал мне обычный женский пояс, в подкладку которого были вшиты около тысячи анодированных, похожих на золотые, колец. Авантюристка поставила бы за границей нашу, разумеется фальшивую, пробу и продавала бы их за советские, сделанные из чистого золота. — Бывают и экстра-контрабандисты! — вспомнил мой товарищ. — Один такой ловкач приклеил пластырем к ступням ног десятки золотых монет и во время личного досмотра в костюме Адама стоял на них! — Мой собеседник засмеялся. — Или вот погляди на такую старинную роскошь! Это была фотография ночного сосуда с гербом императрицы Екатерины Второй. Иностранная семья ехала в поезде и почти всю дорогу держала своего ребенка на посудине. Это бросилось в глаза проводникам, таможенники поскоблили монарший сосуд и выяснили, что он отлит из червонного золота! — А какую же контрабанду иностранцы привозят к нам? — Одежду, белье, чулки, якобы для личного пользования. Мы не имеем права запретить надевать ежедневно другой костюм, сорочку, носки. А этим пользуются и продают эти вещи. — Вероятно, уверены, что нам, как во время гражданской войны, нечего надеть? — Конечно! Недавно одна пожилая американка, помимо чемоданов, привезла семь сундуков с вещами для своих родственников. Мы вызвали их и открыли сундуки. Это был сплошной утиль! Родственники так хохотали, что сбежались работники таможни. А потом мы сожгли все семь антисанитарных сундуков! — Вот и сказали бы этой благотворительнице, что мы можем ее одеть в такие вещи, которых она за океаном не найдет! — Зачем говорить? Этой зимой одна прекрасная дама уезжала от нас поездом. В купе было тепло, а она сидела, не снимая с себя норковое манто, и пот с нее катился ручьями. Что за причуды? На границе инспектор-женщина предложила ей снять манто, чтобы проверить, не везет ли она что-нибудь за подкладкой. Дама сняла. На ней была только шелковая рубашка и чулки. Выяснили, что четыре чемодана привезенных личных вещей и все, что было на ней, она распродала, а на вырученные деньги купила, по ее заявлению, дивную меховую мечту. — Кто помогает иностранцам покупать наши вещи, а своп сбывать? — спросил я. — Фарцовщики! Вот приходи во вторник в два часа. Я буду беседовать с Лордом. Только не думай, что он принадлежит к аристократическому семейству Англии, — засмеялся “Антон Павлович” и задвинул ящик своего стола. Я напомнил ему, зачем пришел, и он, взяв у меня книгу Лемана, вышел из кабинета. “Антон Павлович” отсутствовал минут десять. — Мы кое-что предпримем, — сказал он, вернувшись. — Но предупреждаю: надежда плохая! Впрочем, посмотрим. Звони и заходи! — добавил он, прощаясь со мной. Какая досада, что мои дальнейшие поиски отняли у меня все свободное время и я не смог заехать к “Антону Павловичу”. …Вечером мне позвонил по телефону любитель канареек Константин Егорович. Захлебываясь от радости, он сказал, что архитектор Савватеев примет его на следующей неделе “по неотложному делу” и он, комендант, будет обязан мне “по гроб жизни”. Вот тут я и спросил его: кто теперь занимается с учениками Андрея Яковлевича? Константин Егорович объяснил, что, недавно вернувшись из экскурсии и узнав о болезни Золотницкого, ребята заявили, что начали учиться у одного мастера, у него и будут продолжать. Пока они трудятся в разных цехах. Я попросил коменданта приготовить список учеников с указанием цеха, где и кто из них работает. На следующий день я заехал к нему, и он дал мне список. Мне предстояло поговорить с четырнадцатью ребятами и еще с двумя перешедшими работать на фабрику смычковых инструментов. Между прочим, Константин Егорович объяснил, что в тот день, когда я обнаружил в платяном шкафу красный портфель, он перенес все музыкальные инструменты заказчиков в соседнюю комнату и сам выдает их по квитанциям. На дверь мастерской снова наложены сургучные печати, ключи же от мастерской, медная печать находятся у него, коменданта, в металлическом ящике. Я начал разговаривать с учениками. На мои вопросы они отвечали почти одно и то же, и описывать каждую встречу бессмысленно. Только двое из них заинтересовали меня: сын судового плотника Иван Ротов — золотоволосый паренек со светло-голубыми глазами, курносый, в обтягивающей тельняшке и в вельветовых зеленых брюках, чем-то напоминавший подсолнух в цвету. И его неразлучный дружок, сын контрабасиста Володя Суслов, с густыми черными волосами, с глазами, словно угольки, горбатым носом, в черном свитере, прозванный в столярном цехе Галчонком. Оба они, как и остальные ученики, рассказали, что очень любят Андрея Яковлевича Золотницкого за то, что он не только показывает, как нужно работать, и спокойно поправляет их ошибки, но еще находит время потолковать с ними о мастерах итальянской и русской скрипок, о разных случаях из их жизни, о своем заманчивом и трудном пути художника-умельца. Ребята очень обрадовались, когда их учитель получил первую премию на конкурсе смычковых инструментов. Да, конечно, старый мастер иногда любил поворчать, иногда подолгу бранил за промахи в работе, а другой раз неожиданно на полуслове хватался за сердце. Тогда они, ученики, давали Андрею Яковлевичу нитроглицерин или валидол, укладывали его на диванчик и, чтобы не шуметь, потихоньку отправлялись в буфет или выбегали на улицу — летом за мороженым, зимой за ирисками. Значит, в это время в мастерскую мог войти кто хотел? О нет! Ученики составили расписание дежурства, и двое из них всегда оставались или возле двери мастерской, или прогуливались неподалеку от нее по коридору. И никто из посетителей или сотрудников тогда не мог войти в мастерскую? Нет! Они, дежурные, останавливали любого, кто брался за ручку двери, и просили немного подождать. Мастер просыпался, приоткрывал дверь и кричал: “Опять разбежались, хунхузы!” или: “Устроили себе праздник Симона гулимана лентяя преподобного!” А не могли эти двое дежурных тоже уйти куда-нибудь? Как же это так? Их проверяли товарищи и, если заставали далеко от мастерской, устраивали взбучку. Ведь за дверью были не только ценные музыкальные инструменты, но в платяном шкафу еще висела одежда их, учеников: перед работой они снимали свои костюмы и надевали синие халаты с фартуками. А они, Иван и Володя, были в мастерской тридцатого декабря? Нет! Еще двадцать девятого с поездом девятнадцать десять все ученики ехали в одном и том же вагоне на экскурсию. А правду ли говорили, что вот они, дружки, дежурили двадцать девятого декабря днем? Володя вытащил из кармана записную книжку в синем переплете, полистал и подтвердил, что так и было. Не вспомнят ли они. кто приходил в этот день в мастерскую? Только они приступили к работе, приехал архитектор Савватеев, привез скрипку из своей коллекции: на ней забаловала подставка, и Андрей Яковлевич сказал, что к завтрашнему дню, то есть к тридцатому, исправит ее. Потом приходили заказчики за починенными смычковыми инструментами, приезжал кинорежиссер Разумов со своей невестой и приглашал Андрея Яковлевича к себе в новогодний день — послушать, как она играет, и посмотреть, какая у нее отвратительная скрипка. Старик сказал, что в день Нового года поедет с внуком в цирк, и предложил привезти скрипку в мастерскую тридцатого декабря. Ну хорошо, а Михаил Андреевич не заходил двадцать девятого? Они — Иван и Володя — с уверенностью могут ответить, что скрипача е тот день не было. А не вспомнят ли они, кто из посетителей был в мастерской тогда, когда Андрей Яковлевич, оставленный там учениками один, лежал в подсобной комнате на диванчике? Нет! Этого не могло быть! Они, дежурные, никого туда не пускали! — Постой, постой! — воскликнул вдруг Иван. — А Любовь Николаевна? Выяснилось, что к вечеру Люба принесла обед, а дежурные остановили ее перед дверью. Но она сказала, что спешит на базар за елкой, что тихонько поставит судки с обедом на стол и сейчас же уйдет. А Любовь Николаевна так и поступила? Да, но все-таки, когда она была в мастерской, Андрей Яковлевич встал, позвал их, ребят, а сам сел обедать. Не помнят ли Иван и Володя, во что была одета Любовь Николаевна и что у нее, кроме судков, находилось в руках? Она была в шубе из белки, а под мышкой у нее торчала черная папка для нот. И, оставив судки с обедом, Любовь Николаевна пошла домой? Нет! Мастер немного поел, потом сказал, что чувствует себя неважно, отпустил их, учеников, домой, а сам уехал со снохой. Черная папка в руках Любы? Туда же легко было положить красный портфель! Это была первая косвенная улика против нее! А что слыхали они, ребята, о краже красного портфеля? Сначала ученики заподозрили отбывшего наказание за кражу альтиста из оркестра: он часто заходил в мастерскую, то принося свой инструмент в починку, а то для того, чтобы поболтать со стариком Золотницким. Но потом, вернувшись в Москву, ребята узнали, что с двадцатых чисел декабря по десятое января музыкант лежал в больнице и ему делали операцию. Когда же комендант сказал, что красный портфель нашелся в мастерской, они успокоились и больше о пропаже не вспоминали. Конечно, я знал о пребывании Любы в мастерской Андрея Яковлевича двадцать девятого декабря, и об ее уходе вместе с ним после шести часов вечера. Раньше я не задал бы Ивану и Володе никакого вопроса об этом дне, потому что был уверен — красный портфель исчез тридцатого. Но теперь, заподозрив, что его взяла Люба и поехала вместе со свекром домой, я задал себе вопрос: а что же после этого случилось с декой и табличками? Конечно, Люба тотчас же отдала портфель мужу, и он немедленно прибегнул к помощи чертежника или фотографа. Сам бы он не стал это делать дома, так как могли увидеть Ксюша или отец. Разумеется, снимающий фото и копию человек мог сделать вторую и оставить ее у себя. Но, допустим, скрипач получил фото и копию. В тот же вечер он никак не мог положить красный портфель в несгораемый шкаф: двери мастерской уже были заперты! Может быть, ради этой цели он появился у отца тридцатого числа утром? Однако и тут у него ничего не вышло, иначе портфель еще днем был бы в мастерской. Второй раз к отцу Михаил Золотницкий не приходил, но он не такой человек, чтоб отказаться от того, что задумал. Значит, ему оставалось одно: прибегнуть к чьей-нибудь помощи, то есть к тому же способу, каким он получил красный портфель. К кому бы обратился музыкант? К человеку, который должен пользоваться доверием Андрея Яковлевича. В первую очередь к Любе, но она отказалась: тридцатого декабря она вообще не приходила в мастерскую! Однако тридцатого там были Савватеев и Разумов, — согласились они помочь музыканту или нет, все равно все осталось по-прежнему: в несгораемом шкафу портфеля не было! А может быть, коллекционер, или кинорежиссер, или — надо предвидеть и это! — еще кто-нибудь не сумел положить портфель в несгораемый шкаф, а спрятал его днем в платяной под фартуки? Нет, нет и нет! Перед тем как после кражи запечатать дверь мастерской, комендант и его сотрудники составили подробную опись, куда внесли висящие в платяном шкафу пересчитанные синие халаты и лежащие внизу фартуки. Конечно, они обнаружили бы красный портфель… Я, как грузовик на раскисшей дороге, буксую на месте и не могу понять, кто же принес обратно и положил портфель в платяной шкаф?14. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МОЕЙ ДОГАДКИ
Прошло четыре дня, пока я переговорил со всеми учениками. Я решил отправиться к скрипичному мастеру, чтоб окончательно установить самое главное на этом периоде поисков: взяла ли красный портфель из шкафа Люба или кто-нибудь другой? Я выяснил, что Андрей Яковлевич уже полторы недели живет в подмосковном санатории и находится под наблюдением Галкина. Лев Натанович ответил мне, что удобней всего навестить старика в субботу, когда он, доктор, принимает там больных. В четвертом часу дня я входил в ворота “Красного маяка”. Прямая дорожка вела к центральному корпусу, вокруг простирались уходящие в морскую глубину неба ели, на раскинутых ярко-зеленых ветвях лежал снег и отливал голубоватым светом. А там, в глубине парка, точно на флейтах, играли прилетевшие к нам, как их называют, северные попугаи — общительные огненные щуры. К моему удивлению, навстречу мне шел Савватеев и улыбался. — Приветствую вас! — сказал он. — По воинственной походке чувствую, вы приехали сюда, чтоб пронзить кого-нибудь вашим острым пером. — Хочу навестить Андрея Яковлевича, и только! — Я уже с ним говорил! — Ну, что он? — Уверяет, как только увидал нижнюю деку “Родины” и таблички, сразу все болезни как рукой сняло. И выглядит хорошо, хоть на выставку! Можете гордиться — ваша заслуга! — А не ваша ли? Вы же категорически утверждали, что красный портфель вернут! — пустил я пробный шар. — Ваше предсказание сбылось! — Я рассуждал так на основании фактов, известных только мне одному! — Но теперь, надеюсь, вы можете эти факты раскрыть? — К сожалению, еще не наступило время! — А вы не можете предсказать, когда оно наступит? — В тот момент, когда Андрей Яковлевич с сыном начнут делать “Родину”. — Почему обязательно — с сыном? — Потому что мастер один с такой скрипкой, какую задумал, не справится! Вот и попробуй разобраться в том, что он сказал! Хотя чем черт не шутит? Первое предсказание Савватеева исполнилось, отчего не сможет сбыться второе? А еще говорят, что пророки давно перевелись! Я пошел в главный корпус. Был послеобеденный час, большая часть населения санатория спала, меньшая собиралась на прогулку. Я разделся, зашагал по коридору и встретил Галкина. — Да здравствует чемпион следопытов! — воскликнул он, пожимая мне руку и бурно потрясая ее. — Андрей Яковлевич мне все рассказал! Лев Натанович повернул назад, а я пошел следом за ним, смотря, как он семенит ногами, высоко подняв голову. Приведя меня, как заявил доктор, в парадную гостиную, он предупредил, что скрипичный мастер придет сюда через четверть часа, попросил долго его не задерживать и, главное, не волновать. Когда за ним закрылась дверь, я опустился на диван и задумался. Как повести разговор с Золотницким, чтоб он не догадался, о чем я хочу узнать? Немало прочитал я записок прокуроров, следователей, оперативных работников, не один раз многие из них со мной откровенно беседовали, и почти никто не говорил, что им приходилось разрабатывать до мелочей план допроса. А ведь в их распоряжении были улики, тончайшие анализы, документы, свидетели, очные ставки, перекрестные допросы, современные фантастические научно-технические аппараты, приборы. А у меня?.. Я перебрал в уме добрый десяток всевозможных способов беседы и в конце концов остановился на такой, которая заставила бы скрипичного мастера самого заговорить о том, что мне хотелось узнать. Андрей Яковлевич вошел в гостиную, напевая мелодию “Жаворонка” и поправляя отлично повязанный, подобранный под цвет пижамы галстук. Я сказал, что он выглядит настоящим франтом. Он, довольный, засмеялся, сел и попросил меня, как доброго знакомого, написать письмо Михаиле и Любаше, возможно резче пробрать их за то, что они не прислали ему весточку; проверить, выданы ли клиентам все восстановленные смычковые инструменты; наведаться к нему на квартиру — посмотреть, как ухаживает Ксюша за Вовкой. Я обещал послать письмо, объяснил, кто выдает инструменты клиентам и где находится внук. После этого скрипичный мастер пожевал губами, помолчал и спросил: — Все-таки как же это вышло, уважаемый? Сперва мы в несгораемом шкафу портфель проморгали, а потом вы его нашли в платяном? Просто фокус! Это был превосходный повод для того, чтобы получить у Андрея Яковлевича необходимые сведения. — Бывают загадочные кражи, — сказал я после небольшой паузы. И рассказал, что в Каире есть музей, где хранятся редкие, отделенные от нас тысячами веков предметы быта, орудия труда, произведения искусства и сохраненные в целости мумии фараонов. Несмотря на круглосуточную стражу, на массивные запоры, из витрины был похищен золотой посох фараона Тутанхамона миллионной стоимости. Никаких следов взлома не было найдено, и в конце концов дело о краже в музее сдали в архив. Спустя немного времени один из служителей музея пошел в подсобное помещение… — Прямо как у меня в мастерской! — прошептал мастер, и по его настороженному взгляду я понял, с какой жадностью он ловит каждое слово. — …И обнаружил там ящик, — продолжал я. — Когда он открыл крышку, то нашел в нем связку ключей, и они подходили буквально ко всем хранилищам музея. Выяснилось, что директор на случай потери ключей заказал их копии. Тогда поняли, как связка попала в руки злоумышленника и почему он после грабежа не оставил никаких следов… — Что же это за директор! — воскликнул мастер. — Ротозей! — поддержал я старика и, желая направить его мысли в нужное мне течение, сказал. — Но как ловко воспользовался вор ключами! — Я так скажу, — продолжал старик. — Если ты настоящий директор, то золотой посох с утра клади в витрину, а на ночь запирай в несгораемый шкаф. — Думаете, нельзя открыть шкаф? — спросил я. — Для этого нужно его взломать! — отозвался Андрей Яковлевич. Нет, он явно уходил от нужных мне ответов. Я был вынужден пойти по другому пути. — Для того чтобы открыть несгораемый шкаф, — сказал я, — можно обойтись без взлома. И рассказал, что в Турции, во время второй мировой войны, в германское посольство к резиденту разведки явился человек и заявил, что может доставлять, по мере их поступления, все секретные документы из английского посольства. Действительно, гитлеровцы в течение года с лишним получали фотографии с самых секретных бумаг. Что же выяснилось? Этот человек служил камердинером у английского посла, по ночам брал у своего хозяина связку ключей, открывал несгораемый шкаф и фотографировал все документы. — Где же держал английский посол ключи? — задал вопрос Андрей Яковлевич. — У себя в кабинете на столе, в ящике, на этажерке. Но ведь ночью он спал! — Это похоже на меня! — вдруг проговорил мастер, прижав руки к груди. — Связка ключей то на столе, то в ящике, а то и вовсе в замке несгораемого шкафа! Я же после сердечного припадка лежу в забытьи, дремлю. Теперь мысли Золотницкого заработали в нужном мне направлении. — Я был у вас тридцатого декабря около шести часов вечера. Вспомните, пожалуйста, в этот день вы открывали несгораемый шкаф? — Нет! Целый день в мастерской была суматоха, принимали мелкий инвентарь. Потом приходили клиенты получать свои инструменты… — И он стал называть их фамилии, говорить, зачем они приходили, кто остался доволен работой, а кто нет, и даже назвал по памяти некоторые уплаченные в тот день суммы денег. — А открыл я несгораемый шкаф, — продолжал он, — когда вы пришли и попросили еще раз посмотреть статью: “Секрет кремонских скрипок”. — Где находились ключи? — При вас же вынимал связку из кармана. — Вы всегда хранили красный портфель в секретном ящике? — Да! — А двадцать девятого декабря вы видели, что он там лежит? — Днем брал портфель, сунул в него грамотку о моей премии, запер, положил в секретный ящик обратно, закрыл дверцу… — Заперли? — Запер ли? — переспросил мастер и задумался. (Я молча сидел возле него и наблюдал, как он морщит лоб.) — Так, — начал он. — В подсобку заглянул мой ученик Володя. Да, да! Спросил, правильно ли настроил скрипку, я взял инструмент, проверил. Он пошел работать. А я… Должно быть… — припоминал он с усилием. — Должно быть, защемило сердце… — Уверены? — Уверен! — произнес он после некоторого раздумья. — Ребята дали мне лекарство, уложили на диванчик и, как всегда, ушли. А я полежал, полежал да, наверно, заснул. — Крепко? — Да! Проснулся оттого, что ключи упали на пол и загремели. Любаша принесла обед, поставила судок на угол столика и нечаянно сбросила связку. Для меня было ясно, что двадцать девятого декабря Люба застала мастера спящим и увидела ключи в раскрытой дверце секретного ящика. В глаза ей бросился красный портфель, о котором она слыхала от свекра или-от мужа. Люба поставила на столик судок с обедом, вытащила портфель и положила его в черную папку для нот. Заперев ящик и шкаф, вынула ключи, а когда клала их на столик, от волнения уронила на каменный пол и разбудила старика. Но я не хотел, чтобы в душу Андрея Яковлевича запало подозрение, и поэтому спросил: — До прихода Любови Николаевны никто не мог зайти в мастерскую? — Нет! За дверью дежурили мои хунхузы. — А тридцатого декабря их не было? — Правильно! — Тридцатого к вам приходил кто-нибудь, кроме тех трех, которых вы называли? — Никто! — У вас не было в течение дня спазма сердечных сосудов? — Нет, нет! Наоборот, уважаемый, чувствовал себя — дай бог каждому! Не было спазма! Вот вам и причина, из-за которой ни скрипач, ни кинооператор, ни архитектор не могли тридцатого, если даже намеревались, положить взятый Любой портфель обратно в несгораемый шкаф! — Спасибо, Андрей Яковлевич! Надо кончать беседу, а то доктор будет ворчать! — Он и так ворчит. Я хочу отдать мой портфель на хранение. Он говорит, чтоб я сдал администрации санатория. А я — верному человеку. — А где вы храните части “Родины” и остатки дерева? — Будьте покойны! У человека, которому верю, как самому себе! Я тепло простился с Андреем Яковлевичем, — он ушел из гостиной, а я задумался: кто же этот верный человек, у которого скрипичный мастер прячет части “Родины”, и как ухитрился их снять на пленку Разумов? В гостиную заглянул Галкин и спросил: — Как находите нашего подшефного? — По-моему, к бою готов! — А что вы думаете? — засмеялся доктор. — Мой дед говорил: “Если бог захочет, то и старая метла выстрелит!” — Судя по такому заявлению, я должен считать вас богом! — Что вы, что вы! — поднял Галкин руки вверх. — Тут роль бога сыграл не я, а мой шеф профессор Кокорев: я лечил по его методу. Лев Натанович повел меня в гардеробную, предупредив, что Савватеев приехал на своей “Волге” и собирается довезти меня до города. Что ж! Это было мне на руку.15. НОВЫЕ ФАКТЫ
Архитектор вел машину по шоссе со скоростью восемьдесят километров в час, но вечерние лиловые тени еще быстрее скользили по накатанному снегу. Георгий Георгиевич сказал, что в санатории после ужина собираются выздоравливающие и Андрей Яковлевич рассказывает о скрипичных мастерах и скрипачах. Да еще сопровождает свою беседу музыкой — поставит в радиолу пластинку: “Послушайте, как сейчас Никколо Паганини исполнит на скрипке Джузеппе Гварнери свои “Вариации”. Внимание! Он играет на одной струне — на баске! Говорили, скрипачу помогает нечистая сила!” — Ну, — спросил Савватеев, — как вам это нравится? — Он все еще ведет себя странно, — ответил я. — Почему-то не хочет сдать красный портфель на хранение администрации санатория. — Это еще ничего! — подхватил Георгий Георгиевич. — Лев Натанович рассказывал, что, пока старик был, как здесь называют, лежачим больным, он держал портфель у себя, между тюфяком и матрацем. А ключ от портфеля повесил себе вместо нательного креста на шею. — А что бы он делал, если бы ему пришлось хранить таким образом все части “Родины” и остатки дерева? Коллекционер расхохотался, тормозя машину, а я спросил: — Не приходилось ли вам видеть эти части? — Приходилось! — ответил он и тотчас же добавил: — Андрей Яковлевич сам их показывал! — Но он же хранит их у верного человека? — Возможно, так оно и есть! — Кто ж этот человек? — К сожалению, об этом история умалчивает! — Не может ли с частями скрипки случиться то же самое, что с красным портфелем? — Кто от этого застрахован? Но должен сказать, что из этих частей получится мало хорошего, если к ним не прикоснутся золотые руки Андрея Яковлевича. — Значит, части, попав к другому, даже отличному скрипичному мастеру, не превратятся в редкостный инструмент? — Нет, почему же, скрипка выйдет, но до “Родины” ей будет так же далеко, как, например, гм… гм… — Как маляру до художника! — Вот-вот! — воскликнул Савватеев. — А не собирается ли Андрей Яковлевич отправить портфель к этому же верному человеку? — Уверен, что нет! Он не станет рисковать и держать все в одном месте. Пока мы подъезжали к Москве, я вспомнил, что Золотницкий, по моему предложению, не захотел отдать красный портфель на хранение архитектору. К тому же части “Родины” и остатки дерева спрятал у какого-то верного человека. Разве из всего этого не было ясно, что скрипичный мастер не так уж сильно доверял Савватееву? Признаюсь, меня опять удивили двусмысленные ответы коллекционера: то он еще не может раскрыть факты, на основании которых предсказал, что красный портфель вернут мастеру; то не вправе назвать того верного человека, у которого Андрей Яковлевич хранит части “Родины”. Одним словом, что ни спросишь — сплошная загадка! Все-таки какое же участие принимал коллекционер в похищении портфеля и особенно в доставке его на место кражи? …На следующее утро мне позвонила по телефону Ксюша и сказала, что привезли Вовку, он третий день болен, лечит его врач из районной поликлиники, а пока улучшения нет. Она, Ксюша, — одна, и обратиться за советом не к кому. Созвонившись со знакомым детским врачом, я через два часа привез его на квартиру Золотницких. Доктор установил, что у мальчика ангина. Он прописал полоскание, велел есть лимон с сахаром и принимать пенициллин. Взяв с врача слово, что он заедет через два дня, я проводил его, и тут Ксюша стала отводить душу: — Не знаю, кому и жаловаться. Утром за продуктами сходить надо? А с кем мальчика оставить? — Она вздохнула и продолжала: — Люди вон ходят в клуб, в кино, а меня, как в тюрьму, посадили, и сиди! Пусть только приедут — уйду, и глаза бы мои на такое безобразие не глядели! Я рассказал Ксюше, в каком положении находится в санатории Андрей Яковлевич, объяснил, как трудно приходится Михаилу Андреевичу и Любови Николаевне. Потом предложил Ксюше, пока я им напишу письмо, сходить в аптеку и заказать Вовке лекарство. Она сказала ленинградский адрес Золотницких, заглянула в детскую — спит ли мальчик, и собралась уходить. — Кстати, — сказал я, — мне давно хочется выяснить одно обстоятельство. За два дня до Нового года, вечером, когда Андрею Яковлевичу стало плохо в мастерской, я звонил сюда дважды. Это было в седьмом часу. Почему никто не отвечал? Девушка подумала и сказала: — Сам ушел с утра покупать мальчику игрушки на елку. Сама дожидалась-дожидалась его и после обеда тоже ушла. А я повела Вовку в детский сад — вместе с ребятами украшать елку. Никого дома не было! — И Михаил Андреевич сумел за два дня до праздника достать игрушки? — Нет, он ничего не принес. Всё расхватали! А хозяйка где-то раздобыла две коробки, а потом у нас еще оставались разные фигурки и бусы от прошлогодней елки. — Когда же вернулся Михаил Андреевич? — Поздно. Я уже посуду вымыла и спать легла! — И часто он пропадает по целым дням? — Нет! А вот перед Новым годом случалось. Слыхала, будто что-то написал и хотел пропечатать… Когда Ксюша ушла, я стал раздумывать над поведением скрипача. Многие ли редакции газет и журналов могут заинтересоваться темой о новом грунте для скрипки? Не было ли его хождение со своей статьей маскировкой дальнейших операций с похищенными вещами? Главное: кто сделал ему чертежи и фотографии? От этого совершенно неизвестного мне третьего человека и зависело решение моей основной задачи: существовали ли вторые фото с деки и копия табличек, остались ли они на месте или отправлены туда, куда я предполагал? Но для этого мне во что бы то ни стало нужно напасть на следы Михаила Золотницкого, ведущие к третьему лицу. Я сел сочинять письмо молодым Золотницким. Как же можно так поступать с больным стариком, возмущался я. Неужели нельзя было выбрать три минуты и написать хотя бы открытку? Даже если это был не отец, а много лет живущий за стеной сосед? Я бранил Золотницких за то, что они оставили мальчика на попечение Ксюши. В заключение призывал именно Любу повлиять на мужа и добиться, чтобы он написал письмо отцу… В это время Вовка проснулся, попросил попить, а потом почитать про зверей. Я разыскал на этажерке книгу в малиновой суперобложке, полистал ее и начал читать про льва. — Он кусачий? — спросил мальчишка. — Да! Я перевернул страниц пятьдесят и стал читать про серну. — Она кусачая? — Нет! — Дядя, почитай сказку! Я отыскал на этажерке сказки А.С.Пушкина, открыл книгу наугад:16. СИНИЙ ХАЛАТ
Я подхожу к описанию последних событий моих добровольных поисков. Только теперь я понимаю, как трудно писать правду. Я говорю это потому, что хочу предостеречь тех, кто берется, кажется, за пустяковое дело, а оно оборачивается очень сложной задачей. Нет, не собираюсь читать мораль, а хочу дружески предостеречь. Так случается на улице: задумавшись, начинаешь переходить мостовую, и вдруг кто-то тебя окликает и хватает за рукав: останавливаешься и видишь- еще шаг, и угодил бы под летящую на тебя машину. Безусловно, в следующий раз так же поступишь с находящимся в подобном положении человеком… На улице мороз рисовал на щеках прохожих пылающие маки. Девушка в белом халате, с плетеной корзинкой в руках, продавала пирожки с повидлом. Негры-студенты окружили ее, покупали горячее лакомство, а потом ели на ходу, посмеиваясь от удовольствия… В этот день мне второй раз пришлось ехать на дом к машинистке Алле, которую я просил перепечатать выправленную мной статью скрипача. Алла живет рядом со студией научных фильмов, и я решил зайти и выяснить, в каком положении находится “Кинопортрет А.Я.Золотницкого”. Когда я вошел в кабинет кинорежиссера, то застал там опять одного беловолосого Белкина, одетого в синий халат и собирающего разные приборы для съемки. Он объяснил, что Роман Осипович сейчас обедает дома со своей скрипачкой, которая уже стала его женой. Говоря это, оператор с такой поспешностью расстегивал свой синий халат, что отлетела пуговица, но, не обращая на это внимания, он снял его… нет, сорвал с себя, скомкал и сунул под чехол, в котором был какой-то прибор. — Далеко едете? — Гоняют с одного конца на другой! — Начинаете новый фильм? — Нет, добиваем “Кинопортрет”. — И завтра будете продолжать? — Завтра в павильоне жена Разумова будет репетировать на своей новой скрипке. — Стало быть, Роман Осипович все-таки достал инструмент. Хороший? — Клёвая штука! — проговорил оператор с восхищением. Он поднял два прибора в чехлах, понес их к выходу, я пошел за ним. У ворот его ждал автомобиль. Белкин поставил вещи в кузов, попрощался со мной и отправился за остальными. Я было пошел пешком, но подумал: не довезет ли меня оператор до станции метро? Вернувшись, спросил девушку-шофера, в какую сторону они едут. Она сказала, что отправляется кратчайшей дорогой в мастерскую Золотницкого. Я удивился: ведь она еще опечатана, а старик в санатории. Девушка объяснила, что приказано заснять флигель, где помещается мастерская. Я зашагал по направлению к метро, недоумевая, почему Белкин не сказал, куда он едет. Потом вспомнил, с какой быстротой он сорвал с себя синий халат и остался в коричневом комбинезоне. Возможно, халат только выдали, и он примерял его? Да, но почему мое появление заставило его так действовать? Тут что-то не так! И тотчас в памяти всплыло, что он сказал о купленной Разумовым скрипке — “клёвая штука”. А в прошлый раз, подчеркивая напористый характер кинорежиссера, назвал его “молоток”. И в то же время новая мысль об его синем халате потрясла меня. “Постой, постой!” — воскликнул я и, подняв голову, увидел, что еду в вагоне метро, а пассажиры с удивлением поглядывают на меня, бормочущего что-то себе под нос. Я сошел на следующей станции и отправился в обратную сторону. Снова придя в киностудию, я узнал адрес Разумова и помчался к нему на такси… Дверь открыла мне очень красивая женщина. Ей было лет сорок, но искусный покрой белого платья и заколотые светло-зеленым гребнем черные волосы делали ее моложе. — Здравствуйте! — проговорила она слегка нараспев. — Входите, пожалуйста! Она ввела меня в обставленную полированной мебелью комнату, и я опустился на сверкающий палевым глянцем стул. Сказав, что она жена Разумова и зовут ее Екатериной Се-меновной, моя собеседница удивилась, почему я вздумал писать о Михаиле Золотницком, — есть же музыканты дарови-тей его. Я объяснил, что мое внимание привлек не он, а его отец, но пришлось написать о всей семье. Екатерина Семеновна начала бранить Андрея Яковлевича за то, что он подвел ее, не сделав к обещанному сроку новую скрипку, но добавила, что не было бы счастья, да несчастье помогло: Роман Осипович достал из Государственной коллекции изумительного, премированного на конкурсе “Жаворонка”. Она взяла лежащий на пианино футляр, раскрыла и вынула инструмент. Под ее смычком струны нежно запели “Мелодию” Глюка-Крейслера, и вокруг словно возникло прозрачное озеро, а в нем и над ним плыла янтарная луна… Когда Екатерина Семеновна кончила играть, сзади меня раздались аплодисменты, я обернулся и увидел Разумова. Екатерина Семеновна ушла готовить чай, а я увлек Романа Осиповича в уголок и, ссылаясь на якобы подготавливаемый новый очерк, попросил рассказать о Белкине. — Советую о нем ничего не писать, — произнес Разумов с раздражением. — Почему? — Белкин — дармоед! Все время шатался без работы. Поступил к нам, — уволили за прогулы. Да что с него спрашивать? Его отец — “жучок” на бегах. Мать — подпольная хиромантка. Чем их сыночек живет, никому не известно. Кто-то из наших видел его в гостинице “Украина” с иностранцами. — Почему же он работает в вашей группе? — Потому что мой постоянный оператор Максим Леонтьевич Горохов в отпуску. А за Белкина просила его тетка, заслуженная артистка. Я взял его на месяц, и сам не рад! Ничего толком не сделает, и за ним надо в оба смотреть. Вот сейчас поехал доснимать кадры для “Кинопортрета”, а я приставил к нему моего шофера Марусю Ларионову. — Вам еще долго придется работать над “Кинопортретом”? — Как вам сказать? Екатерина Семеновна должна играть перед кинокамерой на “Жаворонке”. А в финале — Михаил Золотницкий на “Родине”. — Но эта скрипка еще не готова! — Вчера я был в санатории у Андрея Яковлевича, он скоро вернется в Москву и обещал сейчас же собрать в третий раз свою “Родину”. Я уверен, что теперь фильм будет! В эту минуту Екатерина Семеновна пригласила нас к столу. Она сказала, что зря Роман Осипович так отзывается о Белкине, — он очень старается: первый посоветовал заснять семью Золотницких дома, добыть “Жаворонка” и дать ей сыграть на этой скрипке. Еще она добавила, что вот ее муж не мог ей достать элегантную кофточку, а оператор принес заграничную и по очень сходной цене. Они заспорили. Не нужно быть особенным психологом, чтобы понять: за короткий срок оператор успел втереться в доверие к Екатерине Семеновне. Шагая по улице, я раздумывал, что предпринять, и пришел к заключению, что надо окончательно, хотя бы по внешним признакам, убедиться, что Белкин и есть тот самый человек, за которого его принимаю. Я сел в автобус и через четверть часа входил в проходную будку театра, где помещалась мастерская по реставрации смычковых инструментов. Я столкнулся с комендантом, он очень обрадовался и стал благодарить меня: оказывается, сын Савватеева снабдил его чижом и снегирем — умельцами построения гнезда. Константин Егорович начал рассказывать, каких канареек выводят голландцы, англичане, немцы, а потом стал свистеть, как кенари разных стран. Я понял, что комендант скоро не остановится, и поэтому перебил его, спросив, отданы ли заказчикам по квитанциям отремонтированные в мастерской смычковые инструменты. Он ответил, что еще более половины осталось. Тут я заметил, что на прибитом к стене крючке висит синий халат, и попросил его дать мне на полчасика: дескать, хочу потолкаться среди кинематографистов и, не привлекая к себе внимания, посмотреть и послушать, как продвигаются съемки “Евгения Онегина”. Константин Егорович подал мне халат, а я, надевая его, спросил, по каким документам сюда проходят работники киностудий. Он объяснил, что они предъявляют свои удостоверения, а другой раз, зная некоторых в лицо, вахтер пропускает, ничего не спрашивая. На дворе я обошел автомобиль, в кабине которого читала газету привезшая Белкина Маруся Ларионова. Войдя в подъезд, я увидел, что в съемках наступил перерыв. В столовой сидели загримированные, в одеждах пушкинской эпохи, оперные артисты и обедали. Но там не было Белкина, и я поднялся наверх в буфет и потерялся среди одетых в синие халаты реквизиторов, осветителей, гримеров, рабочих. Они стояли и сидели возле стойки и закусывали. Слева за сдвинутыми столиками разместились “командующие” киносъемками: режиссер, ассистенты, операторы, их помощники, одетые в костюмы или комбинезоны. Их обслуживала единственная официантка, которую изредка отзывали свои: театральные костюмеры, бутафоры, декораторы, рабочие, — все в одинаковых синих халатах. Я подсел к ним, они приняли меня за киноработника и стали расспрашивать, когда кончатся съемки “Евгения Онегина”. Я заказал бутылку лимонада, ватрушку и стал искать глазами Белкина. Если бы не его белесая голова, я едва ли обнаружили бы его — в синем халате среди синих халатов! Вероятно, кинематографисты считали оператора рабочим сцены, как театральные служащие меня — сотрудником киностудии. Белкин дожевал бублик, пошел от буфетной стойки, протиснулся сквозь ряды завтракающих, прошмыгнул мимо нашего столика. Его взгляд скользнул по мне, но он не разглядел меня и вышел из буфета. Я сказал соседу, что сию минуту вернусь, и последовал за оператором. Он быстро шагал по длинному коридору, уставленному вдоль стен сохнущими декорациями, различными “юпитерами”, бутафорскими вещами. На ходу извлек из кармана фотографический аппарат в желтом футляре с ремнями и надел на правое плечо. Навстречу оператору попадались в синих халатах работники из мастерских — пошивочной, струнной, костюмерной, красильни, — несущие картоны, доски, узлы, ящики и т. п. Синий халат в отведенном для мастерских флигеле был настолько привычен, что на одетого в него человека никто не обращал никакого внимания. Белкин стал подниматься на третий этаж по лестнице, а я, зная о существовании грузовой подъемной машины, сел в нее и опередил его. Зайдя в пошивочную, я остановился, будто заинтересовавшись объявлением. На самом деле я наблюдал за оператором, который подошел к двери мастерской по реставрации смычковых инструментов. Посмотрев на сургучные печати, он в сердцах плюнул и отправился по лестнице вниз. Тем же путем я быстрей его достиг первого этажа, прошел по коридору до конца и здесь, в вестибюле, встал за широкую колонну. Я видел, как Белкин взял в гардеробе свою кожаную на цыгейке шубу, ондатровую шапку, снял синий халат, сунул его — я в этом убедился — в пустой желтый футляр от фотоаппарата и вышел из дверей подъезда во двор. Теперь я не сомневался, что оператор мог быть вором-невидимкой и похитить красный портфель. Более того: я был уверен, что он подходил к дверям мастерской разузнать, не работает ли мастер Золотницкий над “Родиной” и не пора ли начать охоту за этой скрипкой. Мог ли я сию минуту что-нибудь предпринять против Белкина? Нет! Для этого я должен был выяснить, что он на самом деле представляет собой и с кем связан? Находится ли под наблюдением и были ли у него приводы? Судили ли его и отбывал ли он наказание в местах не столь отдаленных? Где это можно узнать? Только в уголовном розыске. Однако я не имел права сделать это без ведома редакции. Я позвонил по телефону ответственному секретарю и узнал, что Вера Ивановна Майорова вернулась из командировки. Приехав к ней, я рассказал о проделанной работе. Она взяла со стола газету и дала мне: — Прочтите на второй полосе то, что отчеркнуто красным карандашом! “В зарубежном концертном зале, — читал я, — могут находиться торговцы оружием, банкиры, биржевики, расисты, то есть люди, враждебно настроенные к нашей стране. Однако они встречают овациями советских музыкантов, особенно скрипачей”. — Подумайте только, — сказала Вера Ивановна, пряча газету в свой желтый портфельчик, — на мировом конкурсе смычковых инструментов советская скрипка получает первую премию. Это же неслыханная победа! И вы, — продолжала она, — обязаны оградить Андрея Яковлевича Золотницкого от любого удара! — Значит, я отправляюсь к комиссару милиции Кудеярову? — Сейчас вызову машину…17. В УГОЛОВНОМ РОЗЫСКЕ
Александр Корнеевич Кудеяров был еще подполковником милиции и работал в уголовном розыске, когда я впервые пришел туда изучать людей, их труд и подвиги. Он сразу сказал, что с удовольствием читает книги о людях его профессии, но авторы романтизируют своих героев, а по существу все намного проще и в то же время гораздо трудней. Я возразил: проще — значит, обыкновением, но кто же назовет связанный с опасностью для жизни розыск преступников обычным делом? Конечно, для него, подполковника, втянувшегося в свою работу, все кажется обыденным, даже героизм его сотрудников. А разве это заурядное явление? Александр Корнеевич велел выдать мне постоянный пропуск, и я начал выезжать с оперативными работниками на места происшествий и постигать методы, с помощью которых раскрываются преступления. Я присутствовал при допросе разных преступников в отделе дознания, в кабинетах следователей, и передо мной раскрьн вались человеческие трагедии и комедии, неописуемые судьбы и характеры. В криминалистическом музее я увидел фотографии, макеты орудий рецидивистов, и это помогло мне познать историю уголовного мира. Когда передо мной открылись двери научно-технического отдела, голова пошла кругом! Все достижения физики, биологии, почерковедения, медицины, электроники, химии, дактилоскопии, рентгенографии и других наук были поставлены на постоянную борьбу с преступниками. Сотрудники научно-технического отдела, как и все работники милиции, стремились не только раскрыть любое злодеяние, но считали своим долгом предупредить преступление. В этой напряженной работе им помогали профессора, кандидаты и доктора наук, изобретатели и крупные научные учреждения. Бессознательно я присвоил многие рассуждения, привычки, внешние черточки подполковника Александра Корнеевича Кудеярова герою моих повестей майору Виктору Владимировичу Градову. Только у меня Градов дослужился до чина полковника, а Кудеяров уже был комиссаром. — Что же это ты держишь в черном теле твоего Градова? — спросил Александр Корнеевич, когда я вошел к нему в кабинет. — Я скоро собираюсь на пенсию, а твой Виктор Владимирович носит все те же погоны! Это был редкий случай, когда живой человек тревожился за созданного по его подобию литературного героя. — Не беспокойся, — успокоил я Кудеярова, — придет время, и Градов почиет на лаврах! А вот я, того и гляди, сяду в лужу из-за дела, которое мне преподнесла драгоценная Вера Ивановна Майорова. — Она звонила мне. Сейчас во всем разберемся! — сказал Александр Корнеевич и по телефону велел секретарю вызвать несколько работников подведомственного ему отдела. Я смотрел на спокойное лицо Кудеярова, на его черные веселые глаза и на зачесанные назад седые волосы, открывающие большой, с морщинами лоб. Этот милицейский генерал был очень похож на режиссера крупного театра или на заслуженного врача республики. Его страстью — кто бы мог подумать! — было пчеловодство: он имел на даче несколько ульев. Сотрудники вошли в кабинет, многих я знал, и поэтому встреча была радостной. Кудеяров дал нам поговорить, а потом предложил всем сесть и показать мне альбом с фотографиями фарцовщиков. В нем были снимки молодых людей, прельстившихся заграничными ярлыками на эффектной, но непрочной одежде, на пестрых, скоро изнашивающихся тканях, на бьющих в глаза, сделанных из отходов безделушках и украшениях. Безусые скупщики и продавцы контрабанды боялись уголовного розыска и, чтобы не знали, кто они, придумывали себе разные клички: “Буйвол”, “Лягушонок”, “Сковорода”, “Красавчик”, “Бамбина” и т. д. Чтобы скрыть свои махинации, они говорили, как уголовники, на особом жаргоне, безжалостно уродуя русский язык и употребляя исковерканные иностранные слова. Вот на снимке двадцатилетний “Француз” сидит на диване, где лежат его заграничные трофеи: нейлоновые рубашки, ботинки с металлическими колодками, непромокаемые плащи “Болонья” и четыре парижских бюстгальтера. Вот “Фиксатый” — года на два старше “Француза” — закрывает от фотографа лицо рукой; он стоит за спинкой кресла, на котором выставлены зарубежные “мокасины”, женские сумочки, патефонные пластинки и порнографические открытки. Вот ровесник “Фиксатого” — “Могикан”, продающий магнитофон “Грундик”, английские галстуки и подвязки. Я листаю альбом, а мне рассказывают, что бывает и так: иностранный коммерсант все распродал, и тогда фарцовщик покупает подержанные пиджаки, брюки, грязную сорочку, кальсоны, носки. Но откуда у спекулянтов контрабандой столько свободного времени? Они нигде не учатся, не служат: труд для них — позор, чума! Если только им грозит отмена паспортной прописки, они поступают на любую работу, а потом уходят по собственному желанию. Эти бездельники высматривают в аэропорте, в гостиницах подходящего иностранца и обхаживают его до тех пор, пока он не соглашается что-нибудь продать. Постепенно фарцовщики заводят себе круг покупателей и покупательниц, часто переводя деловые отношения в близкое знакомство. Это расширяет круг торговых связей, увеличивает количество посредников, посредниц и число мест для хранения закупленной контрабанды… — Вот он! Я воскликнул потому, что на меня с фотографии смотрел Белкин: он был с бородкой, с длинными волосами, в коротком пиджаке, в узких брюках. Фарцовщик сидел за квадратным столиком, где было разложено зарубежное барахло в упаковке: капроновые чулки, эластичные носки, самопишущие ручки “Паркер”, зажигалки “Ронсон”, сигареты “Филипп Морис” и желтые пачки жевательной резинки. На втором снимке Белкин был снят во весь рост, у его ног валялись заграничные приманки для тех, у кого “ветер свистит в голове”. В правой руке он держал поношенные ковбойские штаны, в левой — картину с абстрактным изображением безголовой женщины, которая вела на поводке курчавый собачий хвост. Над обеими фотографиями синими чернилами было написано: “Роберт Ильич Белкин. Кличка “Лорд”. Оказалось, что впервые оператора задержали с контрабандой четыре года назад (ему было двадцать три), побеседовали с ним, отобрали все заграничные товары и отпустили. Через полтора года повторилось то же самое на таможне, и говорил с ним работник С.Л., мой “Антон Павлович”… Тут я еще раз пожалел, что не смог зайти к нему и послушать его вторую беседу с Лордом-Белкиным. Это еще полторы недели назад открыло бы мне глаза на кражу красного портфеля. Александр Корнеевич прервал рассказ сотрудников и попросил меня объяснить, где, как и почему я столкнулся с Белкиным. Я описал мои поиски похитителя красного портфеля, перечислил всех, кого подозревал в краже, и как, напав на след Белкина, сам видел, что с помощью синего халата он превратился в вора-невидимку… Услыхав это, несколько сотрудников, одобряя меня, зашумели. Видя мое недоумение, Кудеяров от души засмеялся: — Ты не думай, что тебя считают королем сыщиков. Ты просто вышел на Белкина тем же способом, как и они! Он велел одному из работников принести “Дело Белкина”. Александр Корнеевич вынул из папки толстый конверт и рассказал, что недавно на престольный праздник в женский монастырь приехали гости из мужского, и начались богослужения. Когда кончился праздник, спохватились, что исчезла икона шестнадцатого века. Это произведение русского искусства давно было взято на государственный учет. Известно, что иностранцы очень ценят старинные русские иконы, охотно покупают их у фарцовщиков и вешают у себя дома на стены вместо картин. Сотрудники заинтересовались фарцовщиками, в том числе Белкиным. Вскоре выяснили, что он несколько раз встречался с одним иностранным гостем, вел деловой разговор, а вслед за этим передал ему четыре коробки, в том числе одну большую, деревянную, из-под печенья, по размеру соответствующую украденной иконе. (Тут же Александр Корнеевич вынул фотографию, на которой, как он сказал, аппаратом ночных съемок был запечатлен весь эпизод.) Это дало повод отправиться на место происшествия. Там узнали, что оператор жил в тех же номерах, где и представители зарубежных кинофирм и газет. Белкин должен был снять несколько эпизодов заутрени для демонстрации за границей, где все еще трубили о том, что у нас не только запрещены богослужения, но даже колокольный звон. Как же мог оператор проникнуть ночью в церковь, когда она запиралась и охранялась? После обсуждения этого вопроса пришли к заключению, что икона была похищена во время богослужения. Но и это предположение отпало: она висела на правой от входа стене, у всех на виду, и ее нельзя было незаметно снять. И тут стало известно, что праздник продолжался не один день, что во время заутрени в церкви потухал электрический свет и горящие восковые свечи создавали полумрак. Тогда решили узнать, где находился в это время Белкин: снимал он своей кинокамерой или был среди молящихся? В одном из зарубежных журналов были напечатаны кадры из выходящего на экраны фильма о престольном празднике. Разглядывая их через увеличительное стекло, нашли Белкина: он в черной рясе был в гуще черных ряс! Кудеяров подал мне эту увеличенную фотографию: оператор стоял под помеченной красным крестиком иконой, которая потом исчезла. Когда в церкви потух свет, Белкину достаточно было протянуть руку к иконе, снять ее и спрятать, скажем, под рясой. Почему же у оператора не произвели на квартире обыск и не арестовали его? Это могло послужить сигналом тревоги для зарубежного покупателя, и он уговорил бы кого-нибудь из своих знакомых провезти старинную икону через границу. Теперь же, перед отлетом за рубеж, иностранец подвергнется личному досмотру таможенников, и памятник старинной живописи останется у нас. — Я уверен, — сказал я, — что Белкин продал фотокопии с деки и с табличек “Родины”. Нельзя допустить, чтобы их увезли за границу! — Сочувствую и поддерживаю! — подхватил Кудеяров. — Но пока мы не можем вспугнуть Лорда. Сейчас этот волк кругом обложен. Как только он попадет к нам, мы обязательно узнаем, куда он дел фотокопии. Прошу тебя передать это в отдел писем товарищу Майоровой. — Хорошо! — согласился я. — А с какого числа Белкин взят под наблюдение? — С шестого января! — Значит, видели, как он вчера подходил к дверям мастерской, где работает старик Золотницкий, и что-то вынюхивал? — Конечно, видели! — успокоил меня Александр Корнеевич, и его лицо осветилось задорной улыбкой. — А вот тебя не заметили: ты замаскировался в синий халат и стал сыщиком-невидимкой. Сотрудники Кудеярова громко захохотали, а я благоразумно последовал их примеру…18. СКРИПИЧНЫЙ МАСТЕР ОТКРОВЕННИЧАЕТ
За окнами метель, неистово кружась, швыряла острые снежинки. С отчаянным криком трусливые воробьи ныряли в свои свитые в нишах домов гнезда. Один из них, перепуганный, влетел в мою раскрытую форточку и уселся на книжном шкафу. Я взял его, покормил хлебом, потом с силой выбросил птицу из форточки. Воробей взмахнул крылышками, чирикнул и благополучно скользнул в нишу. Настойчивый телефонный звонок заставил меня взять трубку, и я услыхал голос Ксюши: она очень просила меня приехать. Неужели опять заболел Вовка? Я немедленно отправился к Золотницким. Дверь мне открыла Ксюша и сообщила, что сегодня в десятом часу утра приехал Михаил Андреевич, Любовь Николаевна осталась аккомпанировать еще на трех концертах. — А теперь, — добавила она, — не шумите! Ксюша, как служанка в старинных пьесах, приложила палец к губам и пошла на цыпочках, и я, стараясь неслышно шагать, последовал за ней. Она тихо открыла дверь, и я увидел стоящего ко мне спиной перед зеркалом., платяного шкафа скрипача. Нет, одетого в его зеленый костюм человека, который был пониже ростом, пошире в плечах. Я не мог видеть его лица в зеркале, а он, должно быть, разглядел меня. — А, уважаемый! — услышал я голос старика Золотницкого. — Очень хотелось повидать вас! Он повернулся ко мне лицом, стал благодарить меня за то, что я написал его сыну и снохе подхлестнувшее их письмо. Они назвали его “посланием с подковыкой”, а Люба обещала “привести меня к одному знаменателю”. Но я вспомнил пословицу: “Глуп не тот, кто спотыкается, а кто каждый раз спотыкается на том же самом месте”. — Я приглашу на праздничный обед всех родных, всех знакомых, всех учеников до одного, — заявил скрипичный мастер, — и по справедливости скажу, что, если бы не вы… — Пустое, Андрей Яковлевич! — Нет, не пустое! — воскликнул он, вскочив с места и резко повернув голову. Передо мной возник прежний мастер Золотницкий. — Иначе я сними по-другому поговорю! Все-таки удивительно! Старик уже чувствовал дыхание смерти, еле унес от нее ноги, каялся, что не так жил. А как только поправился в санатории, отдохнул, остался таким же, каким был. Андрей Яковлевич объяснил, что отправляется на прием в клинику к доктору Галкину и хочет, как выразился, показаться во всей своей красе. Я подумал: собственно, зачем он вызвал меня? Андрей Яковлевич сам разрешил мое недоумение. — Я побеспокоил вас, уважаемый, по семейному вопросу, — сказал он, вздохнув. — Надоело мне все время грызться с Михайлой. Да и Любаша переживает. Все-таки внучонок у меня! — Забавный мальчишка! — Я хочу ввести Михаилу в полный курс моих дел и, само собой, учеников. Что скажете? — Хорошо задумали, Андрей Яковлевич! — Обучу ребят, будут мастера, — смотри и удивляйся, народ честной! — откровенничал старик. — Да вы не удивляйтесь моему решению: сынок порадовал меня! Он сказал, что раньше любил играть “Жаворонка” на своей белой скрипке. А вот Михайло взял ее да и собственными руками отделал. Он показал на висящую на стене скрипку, которая, словно граненое оранжевое стекло, пускала по потолку пунцовые пульсирующие зайчики. Андрей Яковлевич кашлянул, и, как живое существо, скрипка чуть слышно прошептала: “А-ах!” — Во вкус вошел Михайло, — с гордостью проговорил мастер и, взяв смычок, сыграл несколько тактов “Жаворонка”. — Этого “Соловушку” отдам жене Разумова. Поверьте слову, стоящая скрипочка! — Кстати! В прошлом году кто-то поцарапал ваш несгораемый шкаф, и вы заподозрили в этом Михаила Андреевича. — Тсс! — прошептал старик, быстро запер дверь на ключ и подошел ко мне поближе. — Был такой грех! — Я недавно заходил в редакцию к Вере Ивановне, и она спрашивала, что делать с вашим письмом. — Я совсем о нем забыл! — воскликнул Золотницкий. — Без Михаилы я как без рук. Я посоветовал ему написать записку Вере Ивановне о том, что он просит вернуть письмо. Андрей Яковлевич взял лист бумаги, обмакнул перо в чернила и начал аккуратно выводить кособокие буквы, которые, словно фиолетовые жучки, стали неровно сползать к краю страницы. Эта записка до сих пор хранится в моем архиве и, когда она попадает мне на глаза, я думаю, что часто все мы бываем скоропалительны и несправедливы в своих решениях. Между тем скрипичный мастер с воодушевлением рассказывал о своей будущей “Родине”. — Клинушки-то мне достались от моего учителя Кузьмы Порфирьевича Мефодьева, а ему — от деда! — Он зашагал по комнате, как до болезни, высоко вскидывая острые колени. — Клену и ели будет больше двух веков! Если с умом взяться за отделку, то выйдет скрипка — обойди весь мир, другой такой не найдешь! В дверь постучали, старик отпер ее. В комнату вошли Савватеев с высоким плоским черным ящиком под мышкой и Михаил с красным портфелем в руках. — Здравствуй, Андрей Яковлевич! — провозгласил архитектор. — Берег плоды всей твоей жизни, как сокровище, и никому, даже жене, не показывал! — Спасибо тебе, Георгий Георгиевич, — ответил мастер и, поставив ящик на стол, открыл его поданными коллекционером ключами. Я увидел все части белой “Родины” и остатки клена и ели. Так вот кто был верным человеком, вот кому мастер доверил свою судьбу! А я… Музыкант молча протянул портфель отцу. — Смотрел таблицы? — спросил старик коллекционера. — Да! — ответил тот. — Небольшая разница с теми цифрами, которые я приблизительно наметил на последних табличках, сделанных мной! Я сфотографировал их для клише, а теперь пришлось снять твои. В общем, моя книга в полном порядке! — Ладно! Отделаю “Родину” и преподнесу тебе мои таблицы. И распишусь, как наказывал, красной тушью!.. Золотницкие отошли в сторону, сели на диван и о чем-то горячо заговорили. Я взял под руку архитектора, подвел его к круглому столику, возле которого стояли стулья с мягким сиденьем, и мы завязали разговор о скрипке “Родина”. — Может быть, вы теперь ответите, — спросил я, — почему были так уверены, что тот, кто похитил портфель, вернет его обратно? — Ну что ж, — согласился он. — Если нижнюю деку и таблички отдали бы нашему хорошему мастеру, то он отказался бы делать инструмент. Причина? Зачем ему чужая дека, когда он свою скрипку не успевает собрать! — А если среднему мастеру? — Ему вообще такое дело не поручат. Они больше занимаются починкой. Потом риск: запорешь — скандалу не оберешься! А заплатят за работу — автомобиль не купишь! — Что было бы, если бы эта дека и таблички попали за границу? — Даже в голову не приходило! — воскликнул Савватеев. — Конечно, там дело другое: все это отдадут наилучшему мастеру. Он доделает белую деку по табличкам, одновременно изучит характер дерева. И подберет для остальных частей скрипки идеальные клен и ель. Ведь тот, кто закажет скрипку, денег жалеть не будет: заломит за нее, готовую, такую цену, что нам и не снилось! Хорошая скрипка — то же золото! В эту минуту Михаил вынул из кармана газету, развернул ее и дал отцу. Тот водрузил на нос очки в золотой оправе и стал читать. Он покачивал головой, что-то бормотал. — Здорово вы, уважаемый, про нас написали, — обратился он ко мне. — И про Вовочку! — Он смахнул пальцем в уголке глаза слезу. — Что же вы ничего не сказали? Объяснив, что еще не читал сегодняшней газеты, я посмотрел на полосу, где был мой очерк и портрет мастера. — Ну уж, если такое дело не спрыснуть!.. — воскликнул он. — Вот вам Лев Натанович спрыснет! — перебил его Георгий Георгиевич. — Ну ладно, доктору я обязан, — согласился старик. — Что ж, теперь до конца жизни ему в рот смотреть? В старое время все пили, все ели, а заболел человек — одно лекарство: выпариться в баньке да холодного кваску испить! — Он пожевал губами и выпалил: — Хотите не хотите, а закачу праздничный обед с шампанским! — Да что вы, Андрей Яковлевич, сами себе враг? — спросил я. Но разве его проймешь? Он готов был защищать свою позицию до утра. — Человек один раз живет на свете! — разглагольствовал мастер. — По-нашему: ешь, пей, да свое дело разумей! На этом жили, на этом и помрем! — Вот вы это и скажете Льву Натановичу! — подхватил архитектор и, отвернув рукав, взглянул на свои наручные часы. — Ого! Скоро час! Одевайтесь, Андрей Яковлевич! — Сейчас! — ответил старик и сказал сыну: — Завтра с утра начнем отделывать “Родину”. Материалы сам будешь хранить. А грунт попробуем твой, с пчелиным воском! И на этикетке тебя упомянем! Я видел, как засверкали глаза скрипача и он в порыве благодарности обнял отца. Когда архитектор и мастер пошли одеваться, Михаил удержал меня за рукав и сказал, что его статья о грунте для скрипки тоже опубликована. Он крепко пожал мне руку и добавил: — Только очень сократили! — Ну и за это будьте благодарны!.. Я догнал Савватеева и старика Золотницкого в подъезде и проводил до такси. Когда они уехали, я подумал, что надо предупредить Галкина о воинственном настроении мастера. Войдя в будку телефона-автомата, я позвонил в клинику и, вызвав его, просил повлиять на ершистого старика. — В его настроении играет большую роль пребывание в санатории, — сказал я. — Наверно, вы держали его на диете? — За этим строго следили! — Может быть, это его реакция на строгость? — Мой дед говорил: “Старик, который ведет себя как юноша, уподобляется свечке без фитиля”. — Такому старику только вы и сможете помочь. — Ну-ну! — воскликнул доктор. — Вы помогли раз, поможете еще! Я знаю, что теперь мы живем в эпоху, когда все наши законы, вся наша мораль учат: “Помогай людям!” Но разве я мало приложил старания, знаний, терпения к этому трижды проклятому делу о пропаже красного портфеля?..19. УПОРСТВО ПРЕСТУПНИКА
Это было в пятницу двадцать шестого января. Утром мне позвонил по телефону Кудеяров и попросил быть у него в двенадцать часов дня. Солнце, ах какое веселое солнце! На московских крышах нагревается девственный снег, над ним поднимается жемчужная дымка, а с висящей на желобе сосульки уже летит вниз первая трепещущая капля и звенит, как еле-еле тронутая пальцем скрипичная струна. На Петровском бульваре — шумливом островке для детей- все еще стоит вылепленный из снега бюст кудрявого бородатого человека в настоящих очках, с наполовину выкуренной сигарой во рту. Вокруг него толпятся с мамами и нянями ребята, в их числе Вовка с Ксюшей. Проходя мимо них, машу им рукой, они отвечают тем же приветствием… Александр Корнеевич Кудеяров объяснил, что три дня назад заранее предупрежденные таможенники произвели тщательный досмотр багажа у отправляющегося за границу мистера Билля Д.Спайса. Очи обнаружили у него не только украденную старинную икону, но и другие запрещенные к вывозу вещи. После этого Белкина арестовали. — Вот протокол его допроса, показания родных и соседей, — сказал Кудеяров, протягивая мне папку. — Прочти, а потом потолкуем. В деле была восемьдесят одна страница, но я кратко расскажу самое главное. Отец Роберта Белкина — счетовод на конном заводе: — пристрастился к игре в тотализатор на бегах и скачках, дневал и ночевал на ипподроме и стал “жучком”. Мать — маникюрша — гадала клиенткам на картах, потом по руке. Учился Роберт средне, только по географии получал хорошие отметки и любил читать книги о путешествиях. В пятом классе он сидел за партой с филателистом Димкой, сам стал собирать марки и пристрастился к этому связанному с географией занятию. Однажды Димка показал ему страницы своего альбома, где были наклеены такие иностранные марки, что у Роберта захватило дыхание. Он начал допытываться, где его однокашник достал эти филателистические редкости. Взяв у Белкина перочинный ножик — подарок отца, Димка повел Роберта в гостиницу “Метрополь”. Там, в вестибюле, подростки уже окружили иностранных туристов и меняли советские марки на зарубежные. Заокеанский гость бросил несколько мелких монет на пол, ребята бросились их поднимать: многие собирали коллекции монет, и между юными нумизматами произошла потасовка. Воспользовавшись этим, Роберт подхватил две монеты, потом обменял их у ребят с соседнего двора на французскую марку с портретом Наполеона и в придачу еще получил жевательную резинку. С того дня Белкин осаждал иностранцев в гостиницах, в ресторанах, даже на улицах. Когда учился в старших классах, менял советские значки на иностранные и продавал их ученикам своей школы и знакомым. У одного туриста он приобрел шикарный, белой шерсти в черную клетку свитер и отдал за него материнскую медаль “В память 800-летия Москвы”. Медаль лежала в нижнем ящике комода, и родители пропажи не заметили. Но в школе об этом узнали, секретарь комсомольской организации решил поставить вопрос о Роберте на собрании, однако директор возразил: “Белкин станет широко известным среди учеников, а дурной пример заразителен”. Родители же Белкина клялись, что он это сделал в первый и последний раз. Роберт продолжал свои делишки, но уже с большой осторожностью. Он научился выбирать умеющих молчать и хорошо платить клиентов. Среди них оказался старый кинооператор Максим Леонтьевич Горохов, у которого две взрослые дочери были падки на заграничные вещи. Роберт стал помощником оператора, а с его дочерьми — Риммой и Милой — весело проводил время. Ему было двадцать семь лет, когда он стал немного разбираться в искусстве кинооператора. Однако за свою работу он получал так мало денег, что нельзя было и сравнить с доходами от махинаций с контрабандой. Белкин и раньше любил бездельничать, а теперь окончательно превратился в заправского лодыря. Он много времени проводил дома, шил костюмы из заграничных материй, ни в чем себе не отказывал. Все это вызывало недоумение у родителей и у соседей по квартире. Роберт поддерживал хорошие отношения с соседями, делал небольшие подарки: то матовый флакончик духов с золотой пробочкой, то галстук со сногсшибательной расцветкой. Вот с милицией было трудно: за последние годы его не раз предупреждали, чтобы он немедленно устраивался куда-нибудь на работу, иначе, по постановлению народного суда, его выселят в специально отведенную местность лет на пять, с обязательным привлечением к труду. В прошлом году Белкин встретил в гостинице “Националы” отлично говорящего по-русски мистера Билля Д.Спайса. Тот сразу же сказал Роберту: “Лучше один крупный бизнес, чем сто мелких”, и отказался купить намалеванную иконку. Он предложил Белкину достать икону пятнадцатого — шестнадцатого веков. Роберт объяснил, что это невозможно, но вместо ответа заокеанский гость положил на стол пачку переведенных с английского языка на русский книг и брошюр. Это были: анонимные пособия о том, как не оставлять следов, установить свое алиби, а также о методах разоблачения преступников, о способах допроса и так далее. Были и религиозные книжонки, и антисоветские. Таможенники при досмотре багажа мистера Билля Д.Спайса изъяли древнюю икону, которая так и лежала в деревянной коробке из-под печенья, закрытая сверху слоями “петифур” и пергаментной бумагой. При домашнем обыске у Белкина сначала никаких ценностей не обнаружили, но применили металлоискатель и под плинтусом нашли золотые монеты царской чеканки. Потом с помощью рентгена в стене разыскали большое количество ювелирных изделий, а, пустив в ход свинцовый контейнер гаммаграфической установки, заряженный радиоактивным изотопом, из кирпичной кладки небольшого камина извлекли иностранную валюту и сберегательные книжки на предъявителя. Среди фотографий в ящике письменного стола оказались отличные снимки нижней деки “Родины” третьего варианта и табличек толщинок для нее. В краже иконы Роберт был вынужден сознаться, а похищение красного портфеля отрицал, уверяя, что фотографии деки и табличек он нашел в ящике стола кинооператора Горохова. К делу была приложена официальная справка о том, что по окончании школы по сей день (то есть за девять с лишним лет) Белкин фактически работал всего одиннадцать месяцев, восемь дней, шесть часов. — Ничего себе типчик! — сказал я, закрыв папку с делом кинооператора и кладя ее на стол. Кудеяров встал, отпер шкаф, вынул прикрытое салфеткой блюдо с бутербродами, двухлитровый термос и два стакана в массивных подстаканниках. Поставив все это на стол, он пригласил меня позавтракать и, наливая из термоса в стаканы горячий кофе, сказал: — Белкин прежде всего человек со слабым характером! К сожалению, как я убедился, его родители этого не поняли и не понимают. Иначе они не бросили бы мальчишку на попечение сверстников и улицы! — Наверно, родители были заняты своими делами. — Так отговариваются многие! А ты пойми: можно родиться поэтом, художником, а фарцовщиком становятся. И не сами по себе, а под влиянием кого-нибудь. Сперва марки, затем значки, потом барахло. И пожалуйте, малые махинации привели к большим. — Но все же у Белкина была цель: он учился на оператора! — Не в институте кинематографии, а у добряка Горохова, который не смог воспитать и своих дочерей! У молодежи есть два пути: или она попадает под наше влияние, или под чужое. Третьего не дано! Белкина долго обрабатывали зарубежные дельцы, пока он не попал в лапы к господину Спайсу. Все это делалось обдуманно, по плану: надо было проникнуть в душу молодого фарцовщика, подготовить его для вербовки в свою агентуру. И вот две кражи. И какие! Профессиональные, со своим преступным почерком, как ты это назвал — по способу невидимки. — А как же поступили с мистером Спайсом? — Отобрали все, что он приобрел незаконно! — Его надо судить строже, чем Белкина. — Никто же не осуждает тигра за то, что он кровожадный! — воскликнул Александр Корнеевич. — Только нельзя забывать и о другом. Представь себе, что наш отличный, честный юноша хочет купить хорошие модные брюки. Он отправляется в магазины и находит там грубые штаны, да еще нет нужного номера. Или миловидная девушка идет в универмаг за красивым, легким непромокаемым пальто. А там — только фиолетовые, толстые, прорезиненные, и вдобавок не на ее рост. Вполне законно желание молодежи одеться покрасивей и помодней! Вот некоторые наши парни и девушки, конечно легкомысленные, не дорожащие своей честью, обращаются к фарцовщикам, а то и непосредственно к туристам. Правда, большинство иностранцев едут к нам, чтобы познакомиться с нашей страной, которая издали кажется им фантастической, вроде современного “Государства солнца” Томмазо Кампанеллы. Но есть туристы в стиле мистера Спайса. Они заражают нашу молодежь духом наживы и еще угощают их антисоветскими или бандитскими книжками. Но этого мало! Такие туристы выпытывают у молодежи всевозможные сведения, нужные для зарубежной разведки, продают свои контрабандные вещи. Ведь деньги необходимы шпионам: расплачиваясь фальшивыми купюрами, они могут сразу попасться! Одним словом, приезд туристов, подобных мистеру Спайсу, нетерпим! Но поскольку им все еще открыта к нам дорога, нетрудно запомнить аксиому: тунеядец — это зародыш фарцовщика, а фарцовщик — пособника иностранной разведки! Кудеяров допил кофе, закурил сигарету с фильтром и, когда дымок расцвел голубоватыми колокольчиками, сказал, что теперь Белкин поймет, какими бы способами он ни крал, все равно будет разоблачен и наказание неизбежно. Но, добавил Александр Корнеевич, я должен помочь ему, комиссару, так как знаю о краже деки и табличек гораздо больше, чем кто-либо другой, и мне известны многие свидетели. …Приходилось ли вам бывать на просмотре иностранного недублированного фильма? Языка вы не знаете, переводчика нет, но все же вам понятно многое, однако не все! Кажется, буквально два-три разъяснения, и до вас дойдет весь смысл, вся идея кинокартины. В таком же положении был я: ведь вся эта история с похищением портфеля видна мне во всех подробностях, и все-таки ее смысл далек! Ну хорошо! Так или иначе, нижняя дека “Родины” и таблички для нее были в руках Белкина. Почему же он не продал их мистеру Спайсу, а отдал только фото и копию с них? Хотел, чтобы красный портфель снова очутился в мастерской и никто не подумал бы о краже? Но тогда уже совсем непонятно, как это не брезгающий ворованными вещами мистер Спайс, зная, что сделает за океаном большой бизнес, не сумел купить деку и таблички, чтобы увезти их с собой так же, как старинную икону?20. МОБИЛИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
Утром меня разбудил телефонный звонок доктора Галкина, который сообщил, что Андрея Яковлевича принял профессор Кокорев, велел соблюдать строжайшую диету, но старик забушевал. Профессор спокойно выслушал его, потом так отчитал, что от пациента дым пошел. В общем, мастер дал слово соблюдать предписанный профессором режим и два раза в месяц являться к нему на консультацию. — А какие у него отношения с сыном? — спросил Лев Натанович. — Разве я вам не говорил? Обещал на этикетке “Родины” поставить: “Золотницкий и сын”. — Мой дед говорил: “Когда отец балует ребенка, он сажает его себе на голову…” …Через полчаса после этого разговора я вышел из дому, поднялся вверх по улице Горького, к памятнику Пушкину и сел на скамейку. Здесь всегда легко думалось. Я прикинул в уме все, чего нужно добиться от Белкина, вышел на площадь, остановил такси со светящейся изумрудной звездочкой и поехал к Разумовым. Я застал кинорежиссера и его шофера Марусю Ларионову на дворе: они выгружали из машины закупленные к какому-то семейному торжеству продукты. Я помог им донести свертки и пакеты в квартиру, извинился перед Екатериной Семеновной за внезапное вторжение и вскоре за чайным столом рассказывал хозяевам и Марусе о преступлении Белкина. Они горячо приняли мое сообщение, и мы стали держать совет, как помочь делу. Нам стало ясно, что больше всех осведомлены о Белкине дочери старого оператора — Римма и Мила. Горохов только что вернулся из отпуска, производил съемки в павильоне, и Роман Осипович вызвал его по телефону к себе. — Будет наш Максим хорохориться, — сказала Маруся. — А как дойдем до разговора с его Риммомилой, забьет отбой! — На съемках он умеет настоять на своем, — поддержал Горохова Роман Осипович, — а здесь вопрос идет об его чести. Что касается до Риммомилы, — обойдемся без них! Предупредив Разумовых о том, что Андрей Яковлевич ничего не должен знать о нашем разговоре, я уехал домой. …В четвертом часу дня ко мне зашел комендант театра и поставил завернутый в плотную бумагу, обвязанный бечевкой высокий предмет на стол. — Сегодня суббота — короткий день, — проговорил он. — Дай зайду! — Он взял лежащие на моем столе ножницы и разрезал бечевку. — Раз, два, три! — и сорвал бумагу. Передо мной была металлическая клетка, в ней, ослепленный светом, метался нежно-шафранного цвета кенарь. — Лемешев, да и только! — сказал Константин Егорович. Комендант стал посвистывать, но птица продолжала порхать по клетке. Я осторожно поднял клетку, поставил ее в угол на этажерку с рукописями. Взяв с гостя слово, что будет держать в секрете наш разговор, я изложил все, что знал о похищении Белкиным красного портфеля. Мой посетитель изменился в лице, кулаком ударил себя в грудь и стал так нелестно отзываться о себе, что слово “разиня” было, пожалуй, самым мягким. Пока Константин Егорович изливал душу, кенарь в клетке успокоился, сел на жердочку, почистил клювом перья на грудке, поднял головку и залился сладкозвучным переливчатым свистом, как бы приглашая Константина Егоровича последовать его примеру. Но бедный комендант холодно посмотрел на птицу, вынул из кармана пакетик с канареечным семенем, положил на стол и пошел в переднюю одеваться. В понедельник, в двенадцать часов дня, я тихо приоткрыл дверь, на которой еще остались следы сургучных печатей, и протиснулся в мастерскую. Никто не оглянулся на меня — все были заняты: за передним столом, спиной ко мне, склонились над белой скрипкой отец и сын Золотницкие; за ними, каждый на своем рабочем месте, трудились шестнадцать учеников. Я бесшумно опустился на стоящий в углу стул. — У тебя, Михайло, слух потоньше моего, — говорил Андрей Яковлевич. — Настрой “Родину”, чтобы пела как жаворонок! И, не оборачиваясь, обратился к знакомому мне ученику: — Володя! Ты оставил на скрипке старую подставку? — Да! — ответил ученик, вставая. — Сиди, сиди! — продолжал мастер. — Не лучше ли поставить новую? — Вы не сказали. — А ты сам соображай, Володя! — посоветовал мастер. — Без соображения толку не будет! — и тут же спросил одетого в тельняшку ученика: — Как у тебя дела, Иван? — Плыву по фарватеру! — отчеканил тот, стремительно вскакивая. — Ну, плыви, плыви! — добродушно промолвил Андрей Яковлевич. — А до грифа доплыл? — Нахожусь от него в двух кабельтовых! Видимость хорошая! — Как доплывешь, пришвартуйся ко мне, морская душа! — приказал мастер, посмеиваясь, и, обернувшись к ученику, увидел меня. — Ба! Уважаемый! Тютелька е тютельку прибыли. И, как бы в подтверждение его слов, дверь подсобной комнаты раскрылась, показался Разумов и кинооператор Горохов. Максим Леонтьевич был еще не так стар. Знакомясь со мной, он крепко пожал мне руку и попросил пересесть подальше, так как сейчас будут демонстрироваться кадры отснятого “Кинопортрета А.Я.Золотницкого”. Горохов задернул на окнах плотные синие шторы, включил киноаппарат, и не успели все усесться, как на заранее установленном экране появились титры, запела невидимая скрипка и зазвучал голос диктора. Мы увидели мастерскую, где за рабочими столами трудились ученики Андрея Яковлевича. Потом крупным планом был показан он за работой над скрипкой “Жаворонок”, наплывом- эстрада консерватории, где председатель жюри конкурса вручил ему премию. Затем — комната на седьмом этаже Концертного зала имени Чайковского, в которой, за стеклами просторных шкафов, хранилась государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов, и среди них “Жаворонок”. После этого мы смотрели, как старый мастер обедает дома вместе со своей семьей: вот склонился над тарелкой его сын, вот приодевшаяся сноха дает Вовке кусок хлеба. Фильм был черно-белый, но я понял, что на Любе был ее легкий зеленый шарфик и коралловые клипсы. Я всегда сравнивал их со спелыми ягодами земляники, выглядывающими из-под молодых листьев. В последних кадрах фильма Екатерина Семеновна играла на “Жаворонке” ту же “Мелодию” Глюка-Крейслера, какую исполняла, когда я в первый раз зашел к Разумовым… Когда экран посветлел и зажгли электричество, Роман Осипович сказал, что сейчас будет снят еще один эпизод. Андрей Яковлевич достал красный портфель, где лежали таблички для “Родины”, ключик на розовой тесемке и сел с сыном за стол. Минут двадцать они репетировали, вслед за тем кинорежиссер подал сигнал. Горохов навел на Золотницких стоящую на треножке кинокамеру, и началась съемка. Андрей Яковлевич заявил, что он благодарен своему учителю Мефодьеву за клен, ель и таблички, сыну — за новый рецепт грунта, и стал объяснять, к чему относятся некоторые цифры. — Отец, — сказал скрипач, — ты открываешь секреты? Старый мастер положил руки на плечи сыну и проговорил: — За работу, Михайло! Пусть от нашей скрипки будет радость всем людям!.. Разумов объявил перерыв до шести часов вечера, — тогда начнутся съемки играющего на белой “Родине” Михаила Золотницкого. Мастер хотел было продолжать работу, но сын воспротивился этому и напомнил отцу, что говорили доктор Галкин и профессор Кокорев. К скрипачу присоединились все, кто при этом присутствовал, и старику ничего не оставалось, как надеть шубу, которую ему подал Горохов. Он получил у Андрея Яковлевича разрешение взять с собой красный портфель и снять в студии отдельным кадром таблички. Мы проводили Золотницких до двери мастерской, и я видел, как, спускаясь по ступеням, сын бережно поддерживал под руку отца. Через три минуты Роман Осипович, пригласив с собой нас и двух учеников Андрея Яковлевича — Володю Суслова и Ивана Ротова, с видом заговорщика повел из мастерской черным ходом вниз, во двор, а оттуда в заснеженный садик. Здесь, точно ночные уткнувшие носы в заячьи тулупы сторожа, дремали высокие липы и осины. На их вершинах шумно заседали галки, и, как забывшие обо всем на свете люди стряхивают пепел с папиросы куда попало, так и птицы сыпали нам на голову снежную пыль. На скамейке нас дожидались Савватеев, Люба Золотницкая и комендант. Мы вышли через калитку в переулок, разместились в автомобилях Романа Осиповича и Георгия Георгиевича, Маруся, а за ней архитектор повели машины на Петровку в Управление охраны общественного порядка Москвы.21. ПОСЛЕДНИЙ ДОПРОС
Мы поднялись на второй этаж, вошли в комнату секретарши Кудеярова, и я, взяв у Горохова красный портфель — он был нужен комиссару, — приоткрыл дверь в его кабинет. Там сидели Александр Корнеевич, Вера Ивановна и работник таможни С.Л. — “Антон Павлович”. Я передал портфель Кудеярову и объяснил, какие свидетели дожидаются в приемной, и он записал это в блокнот. После того как две стенографистки сели за столик, конвоиры ввели Белкина. Его лицо было спокойно, словно он входил в гостиную, где его ждало избранное общество. Он поклонился всем по очереди, после разрешения Кудеярова опустился на стул и слегка отпустил “молнию” своего кожаного коричневого комбинезона. Если бы все это происходило не в уголовном розыске, можно было подумать, что перед нами показательный молодой человек конца второго тысячелетия. Александр Корнеевич спросил его, решил ли он признаться в краже красного портфеля. Фарцовщик сказал, что не собирается сам “пришивать” себе дело. Тогда Кудеяров поинтересовался, был ли он в мастерской по реставрации смычковых инструментов двадцать девятого декабря прошлого года. Белкин принялся вычислять про себя, загибая пальцы, и, наконец, объяснил, что в этот день уезжал за город. Вызванные Володя Суслов и Иван Ротов подтвердили, что двадцать девятого оба были в мастерской. — В этот день мы стояли на вахте! — добавил Володя. — Были дежурными! — пояснил Иван. — Часто ходил к вам в мастерскую Белкин? — спросил Александр Корнеевич. — Он свою аппаратуру таскал то к нам, то от нас! За своего считали! — Только и знали, что за ним дверь задраивать. — Двадцать девятого в котором часу пришел Белкин? — Десять склянок пробило! — Нет! — опять пояснил Иван. — Шести часов не было! В шесть Андрей Яковлевич уехал с Любовью Николаевной. — Когда же это случилось? — В шестом часу. Мы уложили Андрея Яковлевича в подсобке. Все вышли. — Значит, вы впустили Белкина одного? — Он же брал свою аппаратуру! — Не ходить же за ним в кильватере!.. Тут я спросил учеников, не знают ли они, кто в двадцатых числах декабря поцарапал несгораемый шкаф над замком. Иван ответил, что Андрей Яковлевич послал ученика-новичка достать из шкафа пакетик со струнами, но крышечка замка туго ходит, и тот открыл ее стамеской. Когда мастер увидел царапины и стал волноваться, он, Иван, вместе с Володей замазали их красным лаком. Отпустив учеников, Кудеяров пригласил Любу, и она вошла, еще более красивая, чем обычно. При виде ее “Антон Павлович” перестал играть своим пенсне, вдруг надел его на нос и уставился на нее. Люба объяснила, что, как обычно, двадцать девятого в половине шестого принесла свекру обед. Он лежал после сердечного приступа в подсобной комнате, дремал. Люба заметила беспорядок: вещи сдвинуты с места, газета валяется на полу, дверца несгораемого шкафа раскрыта, а связка ключей торчит в замке секретного ящика. — Что хранил там ваш свекор? — Красный портфель. — Вы заперли секретный ящик? — Пыталась, но он был плохо закрыт. Я открыла дверцу, затворила поплотней, потом заперла. — Когда открывали дверцу, видели красный портфель? — Нет! Там были квитанционные книжки и деньги… После Любы Александр Корнеевич допрашивал Марусю Ларионову. Она сказала, что двадцать девятого привезла Белкина в театральные мастерские и ждала его во дворе. Это было в шестом часу, а через тридцать — сорок минут он вынес в чехле осветительный прибор и сел к ней в кабину. Они поехали в киностудию, но по пути оператор велел остановиться и пошел в гастроном. Маруся хотела переложить прибор из кабины на заднее сиденье, но только подняла его, как из-за чехла выпал красный портфель. — Врешь! — воскликнул фарцовщик. — Тихо! — стукнул ладонью по столу Кудеяров и спросил Марусю: — Портфель был заперт? — Нет! Я открыла его. Там была некрашеная спинка скрипки и большие листы бумаги с массой цифр. — Белкин! Признаете себя виновным в краже портфеля? — Не признаю! Во сне ей приснилось! — Любопытно! — проговорила Вера Ивановна. — У четырех свидетелей один и тот же сон. — В чехле был мой собственный красный портфель! И ничего в нем не было! Александр Корнеевич открыл правую дверцу своего стола, извлек из одного ящика шесть разных красных портфелей и разложил их перед Марусей Ларионовой, предлагая опознать тот, который вынес фарцовщик. Она посмотрела, повернула один из них другой стороной и узнала его по белому, посаженному слесарем, пятну. — Теперь, Белкин, признаете себя виновным? Фарцовщик сидел опустив голову, очевидно прикидывая — продолжать отпираться или повиниться? Есть еще свидетели или Маруся последняя?.. Я написал на блокноте Кудеярову, чтоб он допросил меня. Но комиссар, отрицая, качает головой и вызывает Максима Леонтьевича Горохова. Тот входит уверенной походкой, с поднятой головой, крепко берется рукой за спинку стула. — Задержанный нами Белкин заявил, — говорит Александр Корнеевич, — что фотоснимки с деки “Родины” и табличек нашел после вашего отъезда в отпуск у вас в столе. — Как же я мог снять их, когда они лежали в несгораемом шкафу? Мастер Золотницкий показал их один раз и сейчас же спрятал. Не было у меня таких снимков! — Белкин проявлял интерес к деке и табличкам? — Да! При мне расспрашивал нашего консультанта Савватеева, что к чему и какая цена. — Белкин! Был такой разговор? — Не помню! Александр Корнеевич вызывает Савватеева, который подтверждает слова Горохова. Георгий Георгиевич добавляет, что Белкин еще спрашивал, сколько будет стоить сделанная мастером Золотницким “Родина”. — Не помню! — опять говорит фарцовщик. — Лжешь, подонок! — закричал Горохов. — Ты украл портфель! — Это еще надо доказать! Законы мы знаем! — Тихо! — снова сказал Кудеяров и взял со стола две фотографии. — Снято замечательно, — и дал их свидетелю. — Ваши? — Да, получилось контрастно! — проговорил Горохов. — Только не мои! Белкин взглянул через плечо свидетеля на фотографии и заявил: — Моя работа! Я снимал березы в Сокольниках, — указал он на первый снимок, — и Москву-реку в полдень! — ткнул он пальцем во второй. — Стараешься, а все равно не ценят! — Ваша работа? — спросил Александр Корнеевич, и в его голосе прозвучало сомнение: — Верно, ваша? — Думаете, зарядил динамо? Я снимал моим аппаратом “Зенит-С”. Еще отец подарил! Я взял снимки и стал их рассматривать. — Слушайте, Белкин! — сказал я. — Может быть, вашим аппаратом снимал кто-нибудь другой? — Новое дело! Я с ним никогда не разлучался! — Но в студии оставляли? — Брал с собой! — Вы не заметили, — спросил Кудеяров, — что на ваших снимках есть один дефект? Фарцовщик надел на нос очки без оправы и посмотрел на показанные ему две едва заметные, идущие вверху поперек всего снимка линии. — Где-нибудь случайно поцарапал! — Возможно! — ответил Александр Корнеевич и, взяв лупу, предложил посмотреть на фотографии. Да, две черные черты, на небольшом расстоянии друг от друга, одинаковые на обоих снимках, тянулись через них вверху от края до края. Вера Ивановна тоже поглядела на фотографии. — Не смогли же вы поцарапать оба снимка с такой удивительной точностью, — сказала она. — Конечно, конечно! — пробормотал Белкин, вероятно почуяв, что ему неспроста показали эти фотографии. — Хотя это не имеет никакого отношения к делу! — Возможно! — второй раз произнес Кудеяров, вынул из “Дела Белкина” снимки нижней деки “Родины” и табличек толщинок. — Поглядите! — сказал он, давая лупу фарцовщику. — И на них точно такие же черные линии! Белкин берет лупу, смотрит на фотографии, и я замечаю: его рука слегка дрожит. — Ну, как? — спрашивает Александр Корнеевич спокойно. — Да, да, — пришептывает фарцовщик в волнении. — Наверно, моя кассета… — Нет! — отвечает Кудеяров, доставая из ящика фотоаппарат Белкина “Зенит-С” и вынимая его из футляра. — Кассета в полном порядке, — и берет из “Дела” лист бумаги с бланком научно-технического отдела, где на машинке отпечатан акт экспертизы. Я переписал его с начала до конца и привожу целиком дословно: “На исследование из Московского уголовного розыска был доставлен: 1) фотоаппарат “Зенит-С” за № 56097752, который был изъят при обыске на квартире у кинооператора Студии научных фильмов Роберта Ильича Белкина; 2) фотоснимки размером 13(18, изображающие: первый — белую нижнюю деку скрипки “Родина” (третий вариант). второй — таблички толщинок для этой деки на двух листах. Все фотографии обнаружены на таможне в багаже господина Билля Д.Спайса. Перед экспертизой был поставлен вопрос: являются ли эти снимки, снятыми фотоаппаратом “Зенит-С” за № 56097752?” ОСМОТР И ИССЛЕДОВАНИЕ “Фотоаппарат “Зенит-С” за № 56097752 малоформатный, зеркальный, совмещающий в себе фокусировку изображения и одновременно кадрирование снимаемого объекта. Кожаный футляр, в котором находится вышеуказанный аппарат, имеет ремешок, местами потертый и надрезанный. Фотокамера “Зенита-С” за № 56097752 с объективом “Индустар-50” за № 5634619 светосилы 1:3,5 просветлен. При практическом опробовании фотоаппарата каких-либо недостатков во взаимодействии частей и механизмов не обнаружено. При снятии задней стенки фотоаппарата оказались: кассета и перемоточная катушка. На левом ролике механизма, служащего для перемотки пленки, имеются два микроскопических заусенца размером 0,03 миллиметра, расстояние между которыми составляет 10,28 миллиметра. Данные дефекты отображаются в виде микроскопических продольных линий (черных царапин) на пленке. На снимках же, произведенных с помощью исследуемого аппарата, получаются такие же микроскопические черные линии, проходящие поперек всего снимка. Эти линии на снимках имеют размер 13(18 и простым глазом малозаметны. Однако при применении увеличительных приборов эти линии ярко выражены. При увеличении этих черных линий с экспериментальных снимков до размера представленных на исследование установлено полное соответствие”. ЗАКЛЮЧЕНИЕ “Два снимка размером 13(18, изображающие белую нижнюю деку скрипки “Родина” (третий вариант) и таблички толщинок для этой деки, обнаруженные в багаже господина Билля Д.Спайса, отпечатаны с той пленки, которая была использована при съемке фотоаппаратом “Зенит-С” за № 56097752, изъятым на квартире у кинооператора Р.И.Белкина. Эксперт-трассолог (подпись) Эксперт-фотограф (подпись)”. Чем дальше читал акт экспертизы Белкин, тем чаще одна за другой капельки пота катились по его лбу, по носу и звонко падали на плотную бумагу. Он сделал шаг назад, упал на стул и выронил белый лист, который, покачиваясь в воздухе, как березовый плот на волнах, опустился на разостланный во весь кабинет темно-красный с ярким орнаментом ковер. Горохов поднял этот обличительный документ, попросил разрешения прочесть и впился в него глазами. — Вы украли красный портфель, сняли вашим аппаратом “Зенит-С” деку, таблички, отпечатали снимки, пленку сожгли. Признаетесь, Белкин? — Дд… — выдавливает из себя фарцовщик запинаясь. — Да-а! — Расскажите, как вы ухитрились положить портфель в платяной шкаф в то время, когда дверь мастерской была опечатана? — Не клал! — отвечает преступник шепотом. Тут взрывается доселе молчавший “Антон Павлович”. — Как это не клал? — говорит он, срывая с носа пенсне. — Что же, портфель сам прилетел на крыльях и лег, куда нужно? Положив на стол акт, Горохов уходит, и в кабинете сейчас же появляется комендант. Любитель канареек угрюм, тяжело дышит и, добравшись до стула, грузно опускается на него. Александр Корнеевич спрашивает, приходилось ли ему, Константину Егоровичу, снимать с двери мастерской сургучные печати и по какому поводу. Комендант объясняет, что первый раз сделал это для того, чтобы перенести из мастерской в другое помещение реставрированные смычковые инструменты, за которыми ежедневно приходили клиенты. Во второй раз он снял печати третьего января, когда Белкин заявил, что оставил в мастерской нужный ему до зарезу прибор, который, верно, достал из платяного шкафа. — Вы это видели? — Да! Стоял возле. — Никуда не отлучались? — Нет! Хотя… На дворе раздались частые автомобильные гудки. Белкин попросил меня посмотреть в окно, не сигналит ли его шофер, кажется, Маруся. Я и поглядел туда. — Значит, вы, Белкин, в это время сунули портфель в платяной шкаф. — Под кучу фартуков! — добавляю я. Преступник еле шевелил губами, подтверждая это. Работая по очереди, стенографистки расшифровали и напечатали на машинке протокол, за исключением последних показаний свидетелей. Пока они заканчивали свое дело, я спросил фарцовщика, почему мистер Спайс не купил деку и таблички, а взял только фотографии с этих вещей. Белкин тихо объясняет, что покупатель плохо разбирается в скрипках и предложил за всё десять “крабов” (дамских часов с браслеткой). Поэтому было решено: он, иностранец, покажет фотографии у себя, и в следующий приезд он или же тот, кому поручит, купит эти вещи. Но предупредил, что даст много “зелени” (долларов) за целую скрипку работы А.Я.Золотницкого. Сомнений не было: мистер Спайс преотлично понимал в скрипках, слышал или читал в наших и иностранных журналах о работах Андрея Яковлевича, особенно об его “Родине”, и подбивал Белкина на новую кражу. Потом он пригрозил бы фарцовщику разоблачением и завербовал бы его в агенты. Когда под протоколом появляются все нужные подписи и конвоиры уводят преступника, Кудеяров пожимает руки свидетелям. — Спасибо за помощь! — говорит он мне с теплотой в голосе, обхватив руками мои плечи. — Приезжай в выходной! Угощу медом! Прощаясь со мной, “Антон Павлович” повторяет свои неизменные слова: — Звони и заходи! Я спускаюсь по лестнице вместе с Верой Ивановной, она посмеивается над тем, что я долго не забуду тот “пустяк”, который она подбросила мне. — Все-таки этому Белкину повезло, — говорит она. — Его будут судить за фарцовку. Могут перевоспитать, а может, и сам одумается. А вот если бы его задержали через год — два, когда он, вероятно, стал бы иностранным агентом, его жизнь была бы вся исковеркана! Затем Вера Ивановна пожимает мне руку и, не оглядываясь, все с тем же желтым портфельчиком переходит на другую сторону улицы и скрывается за углом… Москва — Малеевка. 1962–1964 гг.Кирилл Булычев Девочка, с которой ничего не случится
 РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ МАЛЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКИ BXXI ВЕКЕ,
ЗАПИСАННЫЕ ЕЕ ОТЦОМ
РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ МАЛЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКИ BXXI ВЕКЕ,
ЗАПИСАННЫЕ ЕЕ ОТЦОМ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Завтра Алиса идет в школу. Это будет очень интересный день. Сегодня с утра видеофонят ее друзья и знакомые, и все ее поздравляют. Правда, Алиса и сама уже три месяца, как никому покоя не дает — рассказывает о своей будущей школе. Марсианин Бус прислал ей какой-то удивительный пенал, который пока что никто не смог открыть. Ни я, ни мои сослуживцы, среди которых, кстати, были два доктора наук и главный механик Зоопарка. Шуша сказал, что пойдет в школу вместе с Алисой и проверит, достаточно ли опытная учительница ей достанется. Удивительно много шума. По-моему, когда я уходил первый раз в школу, никто не поднимал такого шума. Сейчас суматоха немного утихла. Алиса ушла в Зоопарк попрощаться с Бронтей. А покадома тихо, я решил надиктовать несколько историй из жизни Алисы и ее друзей. Я перешлю эти записки Алисиной учительнице. Ей полезно будет знать, с каким несерьезным человеком ей придется иметь дело. Может быть, эти записки помогут учительнице воспитывать мою дочку. Сначала Алиса была ребенок как ребенок. Лет до трех. Доказательством тому — первая история, которую я собираюсь рассказать. Но уже через год, когда она встретилась с Бронтей, в ее характере обнаружилось умение делать все не как положено, теряться в самое неподходящее время и даже случайно делать открытия, которые оказались не по силам крупнейшим ученым современности. Алиса умеет извлекать выгоду из хорошего к себе отношения, но тем не менее у нее масса верных друзей. Нам же, ее родителям, бывает очень трудно. Ведь мы не можем все время сидеть дома: я работаю в Зоопарке, а наша мама строит дома, и притом часто на других планетах. Я хочу заранее предупредить учительницу Алисы — ей тоже будет, наверно, нелегко. И доказательством тому — совершенно правдивые истории, случившиеся с девочкой Алисой в разных местах Земли и космоса в течение последних трех лет.Я НАБИРАЮ НОМЕР
Алиса не спит. Десятый час, а она не спит. Я сказал: — Алиса, спи немедленно, а то… — Что “а то”, папа? — А то я провидеофоню бабе-яге. — А кто такая баба-яга? — Ну, это детям надо знать. Баба-яга, костяная нога — страшная, злая бабушка, которая кушает маленьких детей. Непослушных. — Почему? — Ну, потому что она злая и голодная. — А почему голодная? — Потому что у нее в избушке нет продуктопровода. — А почему нет? — Потому что избушка у нее старая-престарая и стоит далеко в лесу. Алисе стало так интересно, что она даже села на кровати. — Она в заповеднике работает? — Алиса, спать немедленно! — Но ты ведь обещал позвать бабу-ягу. Пожалуйста, папочка, дорогой, позови бабу-ягу! — Я позову. Но ты об этом очень пожалеешь. Я подошел к видеофону и наугад нажал несколько кнопок. Я был уверен, что соединения не будет и бабы-яги “не окажется дома”. Но я ошибся. Экран видеофона просветлел, загорелся ярче, раздался щелчок — кто-то нажал кнопку приема на другом конце линии, и еще не успело появиться на экране изображение, как сонный голос сказал: “Марсианское посольство слушает”. — Ну как, папа, она придет? — крикнула из спальни Алиса. — Она уже спит, — сердито сказал я. “Марсианское посольство слушает”, — повторил голос. Я повернулся к видеофону. На меня смотрел молодой марсианин. У него были зеленые глаза без ресниц. — Простите, — сказал я. — Я, очевидно, ошибся номером. Марсианин улыбнулся. Он смотрел не на меня, а на что-то за моей спиной. Ну конечно, Алиса выбралась из кровати и стояла босиком на полу. — Добрый вечер, — сказала она марсианину. “Добрый вечер, девочка”. — Это у вас живет баба-яга? Марсианин вопросительно посмотрел на меня. — Понимаете, — сказал я, — Алиса не может заснуть, и я хотел провидеофонить бабе-яге, чтобы она ее наказала. Но вот ошибся номером. Марсианин снова улыбнулся. “Спокойной ночи, Алиса, — сказал он. — Надо спать, а то папа позовет бабу-ягу”. Марсианин попрощался со мной и отключился. — Ну теперь ты пойдешь спать? — спросил я. — Ты слышала, что сказал тебе дядя с Марса? — Пойду. А ты возьмешь меня на Марс? — Если будешь хорошо себя вести, летом туда полетим. В конце концов Алиса уснула, и я снова сел за работу. И засиделся до часу ночи. А в час вдруг приглушенно заверещал видеофон. Я нажал кнопку. На меня глядел марсианин из посольства. “Извините, пожалуйста, что я побеспокоил вас так поздно, — сказал он. — Но ваш видеофон не отключен, и я решил, что вы еще не спите”. — Пожалуйста. “Вы не могли бы помочь нам? — сказал марсианин. — Все посольство не спит. Мы перерыли все энциклопедии, изучили видеофонную книгу, но не можем найти, кто такая баба-яга и где она живет…”БРОНТЯ
К нам в Московский зоопарк привезли яйцо бронтозавра. Яйцо нашли чилийские туристы в оползне на берегу Енисея. Яйцо было почти круглое и замечательно сохранилось в вечной мерзлоте. Когда его начали изучать специалисты, то они обнаружили, что яйцо совсем свежее. И поэтому решено было поместить его в зоопарковский инкубатор. Конечно, мало кто верил в успех, но уже через неделю рентгеновские снимки показали, что зародыш бронтозавра развивается. Как только об этом было объявлено по интервидению, в Москву начали слетаться со всех сторон ученые и корреспонденты. Нам пришлось забронировать всю восьмидесятиэтажную гостиницу “Венера” на улице Горького. Да и то она всех не вместила. Восемь турецких палеонтологов спали у меня в столовой, я поместился на кухне с журналистом из Эквадора, а две корреспондентки журнала “Женщины Антарктиды” устроились в спальне Алисы. Когда наша мама провидеофонила вечером из Нукуса, где она строит стадион, она решила, что не туда попала. Все телеспутники мира показывали яйцо. Яйцо сбоку, яйцо спереди; скелеты бронтозавров и яйцо… Конгресс космофилологов в полном составе приехал на экскурсию в Зоопарк. Но к тому времени мы уже прекратили доступ в инкубаторий, и филологам пришлось смотреть на белых медведей и марсианских богомолов. На сорок шестой день такой сумасшедшей жизни яйцо вздрогнуло. Мы с моим другом профессором Якатой сидели в этот момент у колпака, под которым хранилось яйцо, и пили чай. Мы уже перестали верить в то, что из яйца кто-нибудь выведется. Ведь мы больше его не просвечивали, чтобы не повредить нашему “младенцу”. И мы не могли заниматься предсказаниями хотя бы потому, что никто до нас не пробовал выводить бронтозавров. Так вот, яйцо вздрогнуло, еще раз… треснуло, и сквозь толстую кожистую скорлупу начала просовываться черная, похожая на змеиную голова. Застрекотали автоматические съемочные камеры. Я знал, что над дверью инкубатория зажегся красный огонь. На территории Зоопарка началось что-то весьма напоминающее панику. Через пять минут вокруг нас собрались все, кому положено было здесь находиться, и многие из тех, кому находиться было совсем не обязательно, но очень хотелось. Сразу стало очень жарко. Наконец из яйца вылез маленький бронтозавренок. — Папа, как его зовут? — услышал я вдруг знакомый голос. — Алиса! — удивился я. — Ты как сюда попала? — Я с корреспондентами. — Но ведь детям здесь быть нельзя. — Мне можно. Я всем говорила, что я твоя дочка. И меня пустили. — Ты знаешь, что пользоваться знакомствами для личных целей нехорошо? — Но ведь, папа, маленькому Бронте может быть скучно без детей. Вот я и пришла. Я только рукой махнул. У меня не было ни минуты свободной, чтобы вывести Алису из инкубатория. И не было вокруг никого, кто согласился бы это сделать за меня. — Стой здесь и никуда не уходи, — сказал я ей. А сам бросился к колпаку с новорожденным бронтозавром. Весь вечер мы с Алисой не разговаривали. Поссорились. Я запретил ей появляться в инкубатории, но она сказала, что не может меня послушаться, потому что ей жалко Бронтю. И на следующий день она снова пробралась в инкубаторий. Ее провели космонавты с корабля “Юпитер-8”. Космонавты были героями, и никто не мог отказать им. — Доброе утро, Бронтя, — сказала она, подходя к колпаку. Бронтозавренок искоса посмотрел на нее. — Чей это ребенок? — строго спросил профессор Яката. Я чуть под землю не провалился. Но Алиса ведь за словом в карман не лезет. — Я вам не нравлюсь? — спросила она. — Нет, что вы, совсем наоборот… Я просто думал, что вы, может быть, потерялись… — Профессор совсем не умел разговаривать с маленькими девочками. — Ладно, — сказала Алиса. — Я к тебе, Бронтя, завтра зайду. Не скучай. И Алиса в самом деле пришла завтра. И приходила почти каждый день. Все к ней привыкли и пропускали без всяких разговоров. Я же умыл руки. Все равно наш дом стоит рядом с Зоопарком, дорогу переходить нигде не надо, да и попутчики ей всегда находились. Бронтозавр быстро рос. Через месяц он достиг двух с половиной метров длины, и его перевели в специально выстроенный павильон. Бронтозавр бродил по огороженному загону и жевал молодые побеги бамбука и бананы. Бамбук привозили грузовыми ракетами из Индии, а бананами нас снабжал совхоз “Поля орошения”. В цементном бассейне посреди загона плескалась теплая солоноватая вода. Такая нравилась бронтозавру. Но вдруг он потерял аппетит. Три дня бамбук и бананы оставались нетронутыми. На четвертый день бронтозавр лег на дно бассейна и положил на пластиковый борт маленькую черную голову. По всему было видно, что он собирается умирать. Этого мы не могли допустить. Ведь у нас был всего один бронтозавр. Лучшие врачи мира помогали нам. Но все было напрасно. Бронтя отказывался от травы, витаминов, апельсинов, молока — от всего. Алиса не знала об этой трагедии. Я ее отправил к бабушке во Внуково. Но на четвертый день она включила телевизор как раз в тот момент, когда передавали сообщение об ухудшении здоровья бронтозавра. Я уж не знаю, как она уговорила бабушку, но в то же утро Алиса вбежала в павильон. — Папа! — закричала она. — Как же ты мог скрыть от меня? Как ты мог?.. — Потом Алиса, потом, — ответил я. — У нас совещание. У нас и в самом деле шло совещание. Оно практически не прекращалось последние три дня. Алиса ничего не сказала и отошла. А еще через минуту я услышал, как рядом кто-то ахнул. Я обернулся и увидел, что Алиса уже перебралась через барьер, соскользнула в загон и подбежала к морде бронтозавра. В руке у нее была белая булка. — Ешь, Бронтя, — сказала она, — а то они тебя здесь голодом заморят. Мне бы тоже на твоем месте надоели бананы. И не успел я добежать до барьера, как случилось невероятное. То, что прославило Алису и сильно испортило репутацию нам, биологам. Бронтозавр поднял голову, посмотрел на Алису и осторожно взял булку у нее из рук. — Тише, папа, — погрозила мне пальцем Алиса, увидев, что я хочу перепрыгнуть через барьер. — Бронтя тебя боится. — Он ей ничего не сделает, — сказал профессор Яката. Я и сам видел, что он ничего не сделает. Но что, если эту сцену увидит бабушка? Потом ученые долго спорили. Спорят и до сих пор. Одни говорят, что Бронтя нуждался в перемене пищи, а другие — что он больше, чем нам, доверял Алисе. Но так или иначе, кризис миновал. Теперь Бронтя стал вполне ручным. Хотя в нем около тридцати метров длины, для него нет большего удовольствия, чем покатать на себе Алису. Один из моих ассистентов сделал специальную стремянку, и, когда Алиса приходит в павильон, Бронтя протягивает в угол свою длиннющую шею, берет треугольными зубами стоящую там стремянку и ловко подставляет ее к своему черному блестящему боку. Потом он катает Алису по павильону или плавает с ней в бассейне.ТУТЕКСЫ
Как я обещал Алисе, я взял ее с собой на Марс, когда полетел туда на конференцию. Долетели мы благополучно. Правда, я не очень хорошо переношу невесомость и поэтому предпочитал не вставать с кресла, но моя дочка все время порхала по кораблю, и однажды мне пришлось снимать ее с потолка рубки управления, потому что она хотела нажать на красную кнопку, а именно: на кнопку экстренного торможения. Но пилоты на нее не очень рассердились. На Марсе мы осмотрели город, съездили с туристами в пустыню и побывали в Больших пещерах. Но после этого мне некогда было заниматься с Алисой, и я отдал ее на неделю в интернат. На Марсе работает много наших специалистов, и марсиане помогли нам построить громадный купол детского городка. В городке хорошо — там растут настоящие земные деревья. Иногда ребятишки ездят на экскурсии. Тогда они надевают маленькие скафандры и выходят вереницей на улицу. Татьяна Петровна — так зовут воспитательницу — сказала, что я могу не беспокоиться. Алиса тоже сказала, чтобы я не беспокоился. И мы попрощались с ней на неделю. А на третий день Алиса пропала. Это было совершенно исключительное происшествие. Начать с того, что за всю историю интерната никто из него не пропадал и даже не терялся больше чем на десять минут. На Марсе в городе потеряться совершенно невозможно. А тем более земному ребенку, одетому в скафандр. Первый же встречный марсианин приведет его обратно. А роботы? А Служба безопасности? Нет, потеряться на Марсе невозможно. Но Алиса потерялась. Ее не было уже около двух часов, когда меня вызвали с конференции и на марсианском вездеходе-прыгуне привезли в интернат. Вид у меня был, наверно, растерянный, потому что. когда я появился под куполом, все собравшиеся там сочувственно замолчали. А кого там только не было! Все преподаватели и роботы интерната, десять марсиан в скафандрах (им приходится надевать скафандры, когда они входят под купол, в земной воздух), звездолетчики, начальник спасателей Назарян, археологи… Оказывается, телестанция города уже час, как через каждые три минуты передавала сообщения о том, что пропала девочка с Земли. Все видеофоны Марса горели тревожными сигналами. В марсианских школах были прекращены занятия, и школьники, разделившись на группы, прочесывали весь город и окрестности. Исчезновение Алисы обнаружили, как только ее группа вернулась с прогулки. С тех пор прошло два часа. Кислорода же в ее скафандре — на три часа. Я, зная свою дочку, спросил, осмотрели ли укромные места в самом интернате или рядом с ним. Может быть, она нашла марсианского богомола и наблюдает за ним… Мне ответили, что подвалов в городе нет, а все укромные места обследованы школьниками и студентами марсианского университета, которые эти места знают назубок. Я рассердился на Алису. Ну конечно, сейчас она с самым невинным видом выйдет из-за угла. А ведь ее поведение натворило в городе больше бед, чем песчаная буря. Все марсиане и все земляне, живущие в городе, оторваны от своих дел, поднята на ноги вся спасательная служба. К тому же мной всерьез овладевало беспокойство. Это ее приключение могло плохо кончиться. Все время поступали сообщения от поисковых партий: “Школьники второй марсианской прогимназии осмотрели стадион. Алисы нет”, “Фабрика марсианских сладостей сообщает, что ребенка на ее территории не обнаружено”… “Может быть, она в самом деле умудрилась выбраться в пустыню? — думал я. — В городе ее бы уже нашли. Но пустыня… Марсианские пустыни еще толком не изучены, и там можно потеряться так, что тебя и через десять лет не найдут. Но ведь ближайшие районы пустыни уже обследованы на прыгунах-вездеходах…” — Нашли! — вдруг закричал марсианин в синем хитоне, глядя в карманный телевизор. — Где? Как? Где? — заволновались собравшиеся под куполом. — В пустыне. В двухстах километрах отсюда. — В двухстах?! “Конечно, — подумал я, — они не знают Алису, От нее этого можно было ждать”. — Девочка себя хорошо чувствует и скоро будет здесь. — А как же она туда забралась? — На почтовой ракете. — Ну конечно! — сказала Татьяна Петровна и заплакала. Она переживала больше всех. Все бросились ее утешать. — Мы же проходили мимо почтамта, и там загружались автоматические почтовые ракеты. Но я не обратила внимания. Ведь их видишь по сто раз на дню! А когда через десять минут марсианский летчик ввел Алису, все стало ясно. — Я туда залезла, чтобы взять письмо, — сказала Алиса. — Какое письмо? — А ты, папа, сказал, что мама напишет нам письмо. Вот я и заглянула в ракету, чтобы взять письмо. — Ты забралась внутрь? — Ну конечно. Дверца была открыта, и там лежало много писем. — А потом? — Только я туда залезла, как дверь закрылась и ракета полетела. Я стала искать кнопку, чтобы ее остановить. Там много кнопок. Когда я нажала последнюю, ракета пошла вниз, и потом дверь открылась. Я вышла, а вокруг песок, и тети Тани нет, и ребят нет. — Она нажала кнопку срочной посадки! — с восхищением в голосе сказал марсианин в синем хитоне. — Я немного поплакала, а потом решила идти домой. — А как ты догадалась, куда идти? — Я забралась на горку, чтобы посмотреть оттуда. А в горке была дверца. С горки ничего не было видно. Тогда я вошла в комнатку и села там. — Какая дверца? — удивился марсианин. — В том районе только пустыня. — Нет, там была дверца и комната. А в комнате стоит большой камень. Как египетская пирамида. Только маленькая. Помнишь, папа, ты читал мне книжку про египетскую пирамиду? Неожиданно заявление Алисы привело в сильное волнение марсиан и Назаряна, начальника спасателей. — Тутексы! — закричали они. — Где нашли девочку? Координаты! И половину присутствующих как языком слизнуло. А Татьяна Петровна, которая взялась сама накормить Алису, рассказала мне, что много тысяч лет назад на Марсе существовала таинственная цивилизация тутексов. От нее остались только каменные пирамидки. До сих пор ни марсиане, ни археологи с Земли не смогли найти ни одного строения тутексов, — только пирамидки, разбросанные по пустыне и занесенные песком. И вот Алиса случайно наткнулась на строение тутексов. — Вот видишь, тебе опять повезло, — сказал я. — Но все-таки я немедленно увожу тебя домой. Там теряйся сколько хочешь. Без скафандра. — Мне тоже больше нравится теряться дома, — сказала Алиса. …Через два месяца я прочел в журнале “Вокруг света” статью, под названием “Вот какими были тутексы”. В ней рассказывалось, что в марсианской пустыне удалось наконец обнаружить ценнейшие памятники тутекской культуры. Сейчас ученые заняты расшифровкой надписей, найденных в помещении. Но самое интересное — на пирамидке обнаружено изображение тутекса, великолепное по сохранности. И тут же была фотография пирамидки с портретом тутекса. Портрет показался мне знакомым. И страшное подозрение охватило меня. — Алиса, — очень строго сказал я. — Признайся честно, ты ничего не рисовала на пирамидке, когда потерялась в пустыне? Перед тем как ответить, Алиса подошла ко мне и внимательно посмотрела на картинку в журнале. — Правильно. Это ты нарисован, папочка. Только я не рисовала, а нацарапала камешком. Мне там так скучно было…ЗАСТЕНЧИВЫЙ ШУША
У Алисы много знакомых зверей. Два котенка; марсианский богомол, который живет у нее под кроватью и по ночам подражает балалайке; ежик, который жил у нас недолго, а потом ушел обратно в лес; бронтозавр Бронтя — к нему Алиса ходит в гости в Зоопарк — и, наконец, соседская собака Рекс, по-моему, карликовая такса не очень чистых кровей. Еще одним зверем Алиса обзавелась, когда вернулась первая экспедиция с Сириуса. Алиса познакомилась с Порошковым на первомайской демонстрации. Я не знаю, как она это устроила: у Алисы широкие связи. Так или иначе, она оказалась среди ребят, которые принесли космонавтам цветы. Представьте мое удивление, когда вижу по телевизору — бежит Алиса через площадь с букетом голубых роз больше ее самой и вручает его самому Порошкову. Порошков взял ее на руки, они вместе смотрели на демонстрацию и вместе ушли. Алиса вернулась домой только вечером с большой красной сумкой в руках. — Ты где была? — Больше всего я была в детском саду, — ответила она. — А меньше всего где ты была? — Нас еще водили на Красную площадь. — И потом? Алиса поняла, что я смотрел телевизор, и сказала: — Еще меня попросили поздравить космонавтов. — Кто же это тебя попросил? — Один товарищ, ты его не знаешь. — Алиса, тебе не приходилось сталкиваться с термином “телесные наказания”? — Знаю, это когда шлепают. Но, я думаю, только в сказках. — Боюсь, что придется сказку сделать былью. Почему ты всегда лезешь куда не следует? Алиса хотела было на меня обидеться, но вдруг красная сумка у нее в руке зашевелилась. — Это еще что такое? — Это подарок от Порошкова. — Ты выпросила себе подарок! Этого еще не хватало! — Я ничего не выпрашивала. Это Шуша. Порошков привез их с Сириуса. Маленький шуша, шушонок, можно сказать. И Алиса осторожно достала из сумки маленького шестилапого зверька, похожего на кенгуренка. У шушонка были большие стрекозиные глаза. Он быстро вращал ими, крепко вцепившись верхней парой лап в Алисин костюм. — Видишь, он меня уже любит, — сказала Алиса. — Я ему сделаю постель. Я знал историю с шушамн. Все знали историю с шуша ми, а мы, биологи, в особенности. У меня в Зоопарке было уже пять шуш, и со дня на день мы ожидали прибавления семейства. Порошков с Бауэром обнаружили шуш на одной из планет в системе Сириуса. Эти милые безобидные зверюшки, которые ни на шаг не отставали от космонавтов, оказались млекопитающими, хотя по повадкам больше всего напоминали наших пингвинов. То же спокойное любопытство и вечные попытки залезть в самые неподходящие места. Бауэру даже пришлось как-то спасать шушонка, который собирался потонуть в большой банке сгущенного молока. Экспедиция привезла целый фильм о шушах; который прошел с большим успехом во всех кинотеатрах и видеорамах. К сожалению, у экспедиции не было времени как следует понаблюдать за ними. Известно, что шуши приходили в лагерь экспедиции с утра, а с наступлением темноты куда-то исчезали, скрывались в скалах. Так или иначе, когда экспедиция уже возвращалась обратно, в одном из отсеков Порошков обнаружил трех шуш, которые, наверно, заблудились в корабле. Правда, Порошков подумал сначала, что шуш протащил на корабль контрабандой кто-нибудь из участников экспедиции, но возмущение его товарищей было таким искренним, что Порошкову пришлось отказаться от своих подозрений. Появление шуш вызвало массу дополнительных проблем. Во-первых, они могли оказаться источником неизвестных инфекций. Во-вторых, они могли погибнуть в пути, не выдержать перегрузок. В-третьих, никто не знал, что они едят… И так далее. Но все опасения оказались напрасными. Шуши отлично перенесли дезинфекцию, послушно питались бульоном и консервированными фруктами. Из-за этого они нажили себе кровного врага в лице Бауэра, который любил компот, а последние месяцы экспедиции ему пришлось отказаться от компота — его съели “зайцы”. Во время долгого пути у шушихи родилось шесть шушат. Так что корабль прибыл на Землю переполненный шушами и шушатами. Они оказались понятливыми зверушками и никаких неприятностей и неудобств никому, кроме Бауэра, не причиняли. Я помню исторический момент прибытия экспедиции на Землю, когда под прицелом кино и телевизионных камер открылся люк и вместо космонавтов в его отверстии показался удивительный шестилапый зверь. За ним еще несколько таких же, только поменьше. По всей Земле прокатился вздох удивления. Но оборвался в тот момент, когда вслед за шушами из корабля вышел улыбающийся Порошков. Он нес на руках шушонка, перемазанного сгущенным молоком… Часть зверьков попала в Зоопарк, некоторые остались у полюбивших их космонавтов. Порошковский шушонок достался в конце концов Алисе. Бог уж ее знает, чем она очаровала сурового космонавта Порошкова. Шуша жил в большой корзине рядом с Алисиной кроватью, мяса не употреблял, ночью спал, дружил с котятами, боялся богомола и тихо мурлыкал, когда Алиса гладила его или рассказывала о своих удачах и бедах. Шуша быстро рос и через два месяца стал ростом с Алису. Они ходили гулять в садик напротив, и Алиса никогда не надевала на него ошейника. — А вдруг он кого-нибудь испугает? — спрашивал я. — Нет, он не испугает. А потом, он обидится, если я на него надену ошейник. Он ведь такой чуткий. Как-то Алисе не спалось. Она капризничала и требовала, чтобы я читал ей про доктора Айболита. — Некогда, дочка, — сказал я. — У меня срочная работа. Кстати, тебе пора уже читать книжки самой. — Но это же не книжка, а микрофильм, и там буквы маленькие. — Так он звуковой. Не хочешь читать — включи звук. — Мне холодно вставать. — Тогда погоди. Я допишу и тогда включу. — Не хочешь — Шушу попрошу. — Ну попроси, — улыбнулся я. И через минуту вдруг услышал из соседней комнаты нежный микрофильмированный голос: “…И еще была у Айболита собака Авва”. Значит, Алиса все-таки встала и дотянулась до выключателя. — Сейчас же обратно в постель! — крикнул я. — Простудишься. — А я в постели. — Нельзя обманывать. Кто же тогда включил микрофильм? — Шуша. Я очень не хочу, чтобы моя дочка выросла лживой. Я отложил работу, пошел к ней и решил серьезно поговорить. На стене висел экран. Шуша орудовал у микропроектора, а на экране несчастные звери толпились у дверей доброго доктора Айболита. — Как ты умудрилась так его выдрессировать? — искренне удивился я. — Я его и не дрессировала. Он сам все умеет. Шуша смущенно перебирал передними лапами перед грудью. Наступило неловкое молчание. — И все-таки… — сказал наконец я. — Извините, — раздался высокий хрипловатый голос. Это говорил Шуша. — Но я в самом деле сам научился. Это ведь нетрудно. — Простите… — сказал я. — Это нетрудно, — повторил Шуша. — Вы же сами позавчера показывали Алисе сказку про короля богомолов. — Нет, я уже не о том. Как вы научились говорить? — Мы с ним занимались, — сказала Алиса. — Ничего не понимаю. Десятки биологов работают с шушами, и ни разу ни один шуша не сказал ни слова. — А наш Шуша и читать умеет. Умеешь? — Немного. — Он мне столько интересного рассказывает… — Мы с вашей дочкой большие друзья. — Так почему же вы столько времени молчали? — Он стеснялся, — ответила за Шушу Алиса. Шуша потупил глаза.ОБ ОДНОМ ПРИВИДЕНИИ
Мы летом живем во Внукове. Это очень удобно, потому что туда ходит монорельс и от него до дачи пять минут ходу. В лесу, по другую сторону дороги, растут подберезовики и подосиновики, но их меньше, чем грибников. Я приезжал на дачу прямо из Зоопарка и вместо отдыха попадал в кипение тамошней жизни. Центром ее был соседский мальчик Коля, который славился на все Внуково тем, что отнимал у детей игрушки. К нему даже приезжал психолог из Ленинграда и написал потом диссертацию о мальчике Коле. Психолог изучал Колю, а Коля ел варенье и ныл круглые сутки. Я привез ему из города трехколесную фотонную ракету, чтобы он поменьше хныкал. Кроме того, там жила Колина бабушка, которая любила поговорить о генетике и писала роман о Менделе, бабушка Алисы, мальчик Юра и его мама Карма, трое близнецов с соседней улицы, которые пели хором под моим окном, и, наконец, привидение. Привидение жило где-то под яблоней и появилось сравнительно недавно. В привидение верили Алиса и Колина бабушка. Больше никто в него не верил. Мы сидели с Алисой на террасе и ждали, пока новый робот Щелковской фабрики приготовит манную кашу. Робот уже два раза перегорал, и мы вместе с Алисой ругали фабрику, но самим приниматься за хозяйство не хотелось, а бабушка наша уехала в театр. Алиса сказала: — Сегодня он придет. — Кто — он? — Мой привидений. — Привидение — оно, — автоматически поправил я, не сводя глаз с робота. — Хорошо, — не стала спорить Алиса. — Пускай будет мой привидение. А Коля отнял у близнецов орехи. Разве это не удивительно? — Удивительно. Так что ты говорила о привидении? — Он хороший. — У тебя все хорошие. — Кроме Коли. — Ну, кроме Коли… Я думаю, если бы я привез огнедышащую гадюку, ты бы с ней тоже подружилась. — Наверно. А она добрая? — С ней еще никто не смог об этом поговорить. Она живет на Марсе и брызгается кипящим ядом. — Наверно, ее обидели. Зачем вы увезли ее с Марса? Тут я ничего ответить не смог. Это была чистая правда. Гадюку не спрашивали, когда увозили с Марса. А она по пути сожрала любимую собаку корабля “Калуга”, за что ее возненавидели все космонавты. — Ну так что же привидение? На что оно похоже? — переменил я тему. — Оно ходит, только когда темно. — Ну, разумеется. Это испокон веку так. Наслушалась ты сказок Колиной бабушки… — Колина бабушка мне только про историю генетики рассказывает. Какие были на Менделя гонения. — Да, кстати, а как реагирует твое привидение на крик петуха? — Никак. А почему? — Понимаешь, порядочному привидению положено исчезать со страшными проклятиями, когда прокричит петух. — Я спрошу его сегодня про петуха. — Ну хорошо. — И я сегодня лягу попозже. Мне нужно поговорить с привидением. — Пожалуйста. Ладно, пошутили, и хватит. Робот уже кашу переварил. Алиса села за кашу, а я за ученые записки Гвианского зоопарка. Там была интереснейшая статья об укусамах. Революция в зоологии. Им удалось добиться размножения укусамов в неволе. Дети рождались темно-зелеными, несмотря на то что у обоих родителей панцирь был голубым. Стемнело. Алиса сказала: — Ну, я пошла. — Ты куда? — К привидению. Ты же обещал. — А я думал, что ты пошутила. Ну, если тебе так нужно в сад, то выйди, только надень кофточку, а то холодно стало. И чтобы не дальше яблони. — Куда же мне дальше? Он меня там ждет. Алиса убежала в сад. Я краем глаза следил за ней. Мне не хотелось вторгаться в мир ее фантазий. Пускай ее окружают и привидения, и волшебницы, и отважные рыцари, и добрые великаны со сказочной голубой планеты… Конечно, если она будет ложиться спать вовремя и нормально есть. Я потушил свет на веранде, чтобы он не мешал мне присматривать за Алисой. Вот она подошла к яблоне, старой и ветвистой, и встала под ней. И тут… От ствола яблони отделилась голубая тень и двинулась ей навстречу. Тень будто плыла по воздуху, не касаясь травы. В следующий момент, схватив что-то тяжелое, я уже бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Это мне уже не нравилось. Или это чья-то неостроумная шутка, либо… Что “либо”, я не придумал. — Осторожнее, папа! — сказала громким шепотом Алиса, услышав мои шаги. — Ты его спугнешь. Я схватил Алису за руку. Передо мной растворялся в воздухе голубой силуэт. — Папа, что ты наделал! Ведь я его чуть не спасла. Алиса позорно ревела, пока я нес ее на террасу. Что это было под яблоней? Галлюцинация?.. — Зачем ты это сделал? — ревела Алиса. — Ты же обещал… — Ничего я не сделал, — отвечал я, — привидений не бывает. — Ты же сам его видел. Зачем ты говоришь неправду? А он ведь не выносит движений воздуха. Разве ты не понимаешь, что к нему надо медленно подходить, чтобы его ветром не сдуло? Я не знал, что ответить. В одном был уверен: как только Алиса заснет, выйду с фонарем в сад и обыщу его. — А он тебе письмо передал. Только я его тебе теперь не дам. — Какое еще письмо? — Не дам. Тут я заметил, что в кулаке у нее зажат листок бумаги. Алиса посмотрела на меня, я на нее, и потом она все-таки дала мне этот листок. На листке моим почерком было написано расписание кормления красных крумсов. Я этот листок искал уже три дня. — Алиса, где ты нашла мою записку? — А ты переверни ее. У привидения бумаги не было, и я ему дала твою. На обратной стороне незнакомым почерком было написано по-английски: “Уважаемый профессор! Я беру на себя смелость обратиться к Вам, ибо попал в неприятное положение, из которого не могу выйти без посторонней помощи. К сожалению, я не могу также и покинуть круг радиусом в один метр, центром которого является яблоня. Увидеть же меня в моем жалком положении можно только в темноте. Благодаря Вашей дочери, чуткому и отзывчивому существу, мне удалось наконец установить связь с внешним миром. Я, профессор Кураки, являюсь жертвой неудачного эксперимента. Я ставил опыты по передаче вещества на далекие расстояния. Мне удалось переправить из Токио в Париж двух индюшек и кошку. Они были благополучно приняты моими коллегами. Однако в тот день, когда я решил проверить эксперимент на себе, пробки в лаборатории перегорели как раз во время эксперимента, и энергии для перемещения оказалось недостаточно. Я рассеялся в пространстве, причем моя наиболее концентрированная часть находится в районе Вашей уважаемой дачи. В таком прискорбном состоянии я нахожусь уже вторую неделю, и, без сомнения, меня считают погибшим. Умоляю Вас, немедленно по получении моего письма пошлите телеграмму в Токио. Пусть кто-нибудь починит пробки в моей лаборатории. Тогда я смогу материализоваться. Заранее благодарный Кураки”. Я долго вглядывался в темноту под яблоней. Потом спустился с террасы, подошел поближе. Бледно-голубое, еле различимое сияние покачивалось у ствола. Приглядевшись, я различил очертания человека. “Привидение” умоляюще, как мне показалось, вздымало к небу руки. Больше я не стал терять времени. Я добежал до монорельса и со станции провидеофонил в Токио. Вся эта операция заняла десять минут. Уже на пути домой я вспомнил, что забыл уложить Алису, Я прибавил шагу. Свет на террасе не был потушен. Там Алиса демонстрировала свой гербарий и коллекцию бабочек невысокому изможденному японцу. Японец держал в руках кастрюльку и, не сводя глаз с Алисиных сокровищ, деликатно ел манную кашу. Увидев меня, гость низко поклонился и сказал: — Я профессор Кураки, ваш вечный слуга. Вы и ваша дочь спасли мне жизнь. — Да, папа, это мой привидение, — сказала Алиса. — Теперь ты в них веришь? — Верю, — ответил я. — Очень приятно познакомиться.ПРОПАВШИЕ ГОСТИ
Подготовка к встрече лабуцильцев проходила торжественно. Еще ни разу Солнечную систему не посещали гости со столь далекой звезды. Первой сигналы лабуцильцев приняла станция на Плутоне, а через три дня связь с ними установила Лондельская радиообсерватория. Лабуцильцы были еще далеко, но космодром Шереметьево-4 был полностью готов к их приему. Девушки с “Красной розы” украсили его гирляндами цветов, а слушатели Высших поэтических курсов отрепетировали музыкально-литературный монтаж. Все посольства забронировали места на трибунах, и корреспонденты ночевали в буфете космодрома. Алиса жила неподалеку, на даче во Внукове, и собирала гербарий. Она хотела собрать гербарий лучше, чем собрал Ваня Шпиц из старшей группы. Таким образом, Алиса не принимала участия в подготовке торжественной встречи. Она даже ничего не знала о ней. Да и я сам к встрече не имел прямого отношения. Моя работа начнется потом, когда лабуцильцы приземлятся. А тем временем события развивались следующим образом. 8-го марта лабуцильцы сообщили, что выходят на круговую орбиту. Примерно в это время и произошла трагическая случайность. Вместо лабуцильского корабля станции наведения засекли потерянный два года назад шведский спутник “Нобель-29”. Когда же ошибка была обнаружена, оказалось, что лабуцильский корабль исчез. Он уже пошел на посадку, и связь с ним временно прервалась. 9-го марта в 6.33 лабуцильцы сообщили, что произвели посадку в районе 55°20′ северной широты и 37°40′ восточной долготы по земной системе координат, с возможной ошибкой в 15 минут, то есть неподалеку от Москвы. В дальнейшем связь прервалась и восстановить ее, за исключением одного случая, о котором я скажу потом, не удавалось. Оказывается, земная радиация пагубным образом воздействовала на приборы лабуцильцев. В тот же момент сотни машин и тысячи людей бросились в район посадки гостей. Дороги были забиты желающими найти лабуцильцев. Космодром Шереметьево-4 опустел. В буфете не осталось ни одного корреспондента. Небо Подмосковья было увешано вертолетами, винтокрылами, орнитоптерами, вихрелетами и прочими летательными аппаратами. Казалось, тучи громадных комаров нависли над землей. Если бы даже корабль лабуцильцев ушел под землю, его все равно бы обнаружили. Но его не нашли. Ни один из местных жителей не видел, как спускался корабль. А это тем более странно, потому что в те часы почти все жители Москвы и Подмосковья смотрели в небо. Значит, произошла ошибка. К вечеру, когда я вернулся с работы на дачу, вся нормальная жизнь планеты была нарушена. Люди боялись, не случилось ли чего-нибудь с гостями. — Может быть, — спорили в монорельсе, — они из антивещества и при входе в земную атмосферу испарились? — Без вспышки, бесследно?! Чепуха! — Но много ли мы знаем о свойствах антивещества? — А кто тогда радировал, что совершил посадку? — Может быть, шутник? — Ничего себе шутник! Так, может быть, он и с Плутоном разговаривал? — А может быть, они невидимы? — Все равно бы их обнаружили приборы… Но все-таки версия о невидимости гостей завоевывала все больше сторонников… Я сидел на веранде и думал: а может, они приземлились рядом, на соседнем поле? Стоят сейчас, бедные, рядом со своим кораблем и удивляются, почему это люди не хотят обращать на них внимание. Вот-вот обидятся и улетят… Я хотел было уже спуститься вниз и отправиться на то самое поле, как увидел цепочку людей, выходящих из леса. Это были жители соседних дач. Они держались за руки, будто играли в детскую игру “каравай-каравай, кого хочешь, выбирай”. Я понял, что соседи предугадали мои мысли и ищут на ощупь невидимых гостей. И в этот момент внезапно заговорили все радиостанции мира. Они передавали запись сообщения, пойманного радиолюбителем из Северной Австралии. В сообщении повторялись координаты и затем следовали слова: “Находимся в лесу… Выслали первую группу на поиски людей. Продолжаем принимать ваши передачи. Удивлены отсутствием контактов…” На этом связь оборвалась. Версия о невидимости немедленно приобрела еще несколько миллионов сторонников. С террасы мне было видно, как цепочка дачников остановилась и затем снова повернула к лесу. И в этот момент на террасу поднялась Алиса с корзинкой земляники в руке. — Зачем они все бегают? — спросила она, не поздоровавшись. — Кто “они”? Надо говорить “здравствуй”, если не видела с утра своего единственного отца. — С вечера. Я спала, когда ты уехал. Здравствуй, папа. А что случилось? — Лабуцильцы потерялись, — ответил я. — Я их не знаю. — Их никто еще не знает. — А как же они тогда потерялись? — Летели на Землю. Прилетели и потерялись. Я чувствовал, что говорю ерунду. Но ведь это была чистая правда. Алиса взглянула на меня с подозрением: — А разве так бывает? — Нет, не бывает. Обычно не бывает. — А они космодрома не нашли? — Наверно. — И где же они потерялись? — Где-то под Москвой. Может быть, и неподалеку отсюда. — И их ищут на вертолетах и пешком? — Да. — А почему они не придут сами? — Наверно, они ждут, пока к ним придут люди. Ведь они первый раз на Земле. Вот и не отходят от корабля. Алиса помолчала, будто удовлетворенная моим ответом. Прошлась раза два, не выпуская из рук корзиночку с земляникой, по террасе. Потом спросила: — А они в поле или в лесу? — В лесу. — А откуда ты знаешь? — Они сами сказали. По радио. — Вот хорошо. — Что хорошо? — Что они не в поле. — Почему? — Я испугалась, что я их видела. — Как так?! — Да никак, я пошутила… Я вскочил со стула. Вообще-то Алиса большая выдумщица… — Я не ходила в лес, папа. Честное слово, не ходила. Я была на полянке. Значит, я не их видела. — Алиса, выкладывай все, что знаешь. И ничего от себя не добавляй. Ты видела в лесу странных… людей? — Честное слово, я не была в лесу. — Ну хорошо, на поляне. — Я ничего плохого не сделала. И они вовсе не странные. — Да ответь ты по-человечески: где и кого ты видела? Не мучай меня и все человечество в моем лице! — А ты человечество?.. — Послушай, Алиса… — Ну ладно. Они здесь. Они пришли со мной. Я невольно оглянулся. Терраса была пуста. И если не считать ворчливого шмеля, никого, кроме нас с Алисой, на ней не было. — Да нет, ты не там смотришь. — Алиса вздохнула, подошла ко мне поближе. Сказала: — Я их хотела оставить себе. Я же не знала, что человечество их ищет. И она протянула мне корзинку с земляникой. Она поднесла мне корзиночку к самым глазам, и я, сам себе не веря, ясно разглядел две фигурки в скафандрах. Они были измазаны земляничным соком и сидели, оседлав вдвоем одну ягоду. — Я им не делала больно, — сказала Алиса виноватым голосом. — Я думала, что они гномики из сказки. Но я уже не слушал ее. Нежно прижимая корзиночку к сердцу, я мчался к видеофону и думал, что трава для них должна была показаться высоким лесом. Так состоялась первая встреча с лабуцильцами.СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ПРОШЛОМ
Испытание машины времени проводилось в малом зале Дома ученых. Я зашел за Алисой в детский сад, а там обнаружил, что, если поведу ее домой, опоздаю на испытание. Поэтому я взял с Алисы клятву, что она будет себя вести достойно, и мы пошли в Дом ученых. Представитель Института времени, очень большой и очень лысый человек, стоял перед машиной времени и объяснял научной общественности ее устройство. Научная общественность внимательно слушала его. — Первый опыт, как вы все знаете, был неудачен, — говорил он. — Посланный нами котенок попал в начало двадцатого века и взорвался в районе реки Тунгуски, что положило начало легенде о Тунгусском метеорите. С тех пор мы не знали крупных неудач. Правда, в силу определенных закономерностей, с которыми желающие могут познакомиться в брошюре нашего института, пока мы можем посылать людей и предметы только в семидесятые годы двадцатого века. Надо сказать, что некоторые из наших сотрудников побывали там, разумеется совершенно тайно, и благополучно возвратились обратно. Сама процедура перемещения во времени сравнительно несложна, хотя за ней скрывается многолетний труд сотен людей. Достаточно надеть на себя хронокинный пояс… Я хотел бы, чтобы ко мне поднялся доброволец из зала, и я покажу на нем порядок подготовки путешественника во времени… Наступило неловкое молчание. Никто не решался первым выйти на сцену. И тут, разумеется, на сцене появилась Алиса, которая только пять минут назад поклялась вести себя достойно. — Алиса, — крикнул я, — немедленно вернись! — Не беспокойтесь, — сказал представительинститута. — С ребенком ничего не случится. — Со мной ничего не случится, папа! — весело сказала Алиса. В зале засмеялись и начали оборачиваться, ища глазами строгого отца. Я сделал вид, что совершенно ни при чем. Представитель института надел на Алису пояс, прикрепил к вискам что-то вроде наушников. — Вот и все, — сказал он. — Теперь человек готов к путешествию во времени. Стоит ему войти в кабину, как он окажется в тысяча девятьсот семьдесят пятом году. “Что он говорит! — мелькнула у меня в мозгу паническая мысль. — Ведь Алиса немедленно воспользуется этой возможностью!” Но было поздно. — Куда ты, девочка? Остановись! — крикнул представитель института. Алиса уже вошла в кабину и на глазах у всего зала испарилась. Зал хором ахнул. Побледневший представитель института размахивал руками, пытаясь унять шум. И, видя, что я бегу к нему по проходу, заговорил, склонившись к самому микрофону, чтобы было слышнее: — С ребенком ничего не случится. Через три минуты он окажется снова в этом зале. Я даю слово, что аппаратура совершенно надежна и испытана! Не волнуйтесь! Ему было хорошо рассуждать, А я стоял на сцене и думал о судьбе котенка, превратившегося в Тунгусский метеорит. Я и верил и не верил лектору. Сами посудите — знать, что ваш ребенок находится сейчас в почти столетнем прошлом… А если она там убежит от машины? И заблудится? — А нельзя ли мне последовать за ней? — спросил я. — Нет. Через минуту… Да вы не беспокойтесь. Там ее встретит наш человек. — Так там ваш сотрудник? — Да нет, не сотрудник. Просто мы нашли человека, который отлично понял наши проблемы, и вторая кабина стоит у него на квартире. Он живет там, в двадцатом веке, но в силу своей специальности. В этот момент в кабине показалась Алиса. Она вышла на сцену с видом человека, который отлично выполнил свой долг. Под мышкой она держала толстую старинную книгу. — Вот видите… — сказал представитель института. Зал дружно зааплодировал. — Девочка, расскажи, что ты видела? — сказал лектор, не давая мне даже подойти к Алисе. — Там очень интересно, — ответила она. — Бах! — и я в другой комнате. Там сидит за столом дядя и пишет что-то. Он меня спросил: “Ты, девочка, из двадцать первого века?” Я говорю, что наверно, только я наш век не считала, потому что еще плохо считаю, я хожу в детский сад, в среднюю группу. Дядя сказал, что очень приятно и что мне придется вернуться обратно. “Хочешь посмотреть, какая была Москва, когда твоего дедушки еще не было?” Я говорю, что хочу. И он мне показал. Очень удивительный и невысокий город. Потом я спросила, как его зовут, а он сказал, что Аркадий, и он писатель, и пишет фантастические книжки о будущем. Он, оказывается, не все придумывает, потому что к нему иногда приходят люди из нашего времени и все рассказывают. Только он не может об этом рассказать никому, потому что это страшный секрет. Он мне подарил свою книжку… А потом я вернулась. Зал встретил рассказ Алисы бурными аплодисментами. А потом с места поднялся почтенный академик и сказал: — Девочка, вы держите в руках уникальную книгу — первое издание фантастического романа “Пятна на Марсе”. Не могли бы вы подарить мне эту книгу? Вы все равно еще не умеете читать. — Нет, — сказала Алиса. — Я скоро научусь и сама прочту…Н.Томан Среди погибших не значатся…
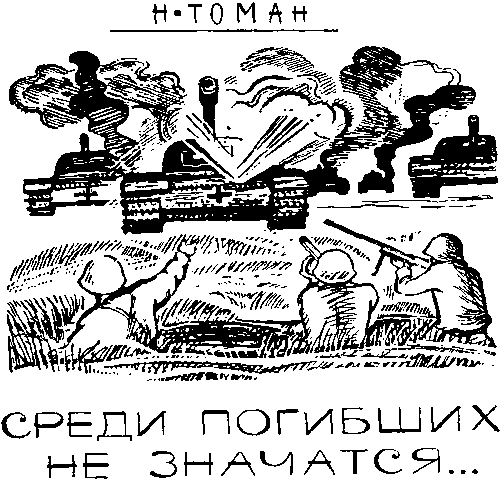 ПОВЕСТЬ
ПОВЕСТЬ
1. СТАРШИНА СПЕЦЛАГЕРЯ АЗАРОВ
Подполковник Бурсов с майором Огинским уже третьи сутки заперты в пустом бараке. Им известно, что это карантин и что во второй половине барака находятся младшие офицеры. Всех их привел сюда из эшелона военнопленных унтер-фельдфебель Крауз. Знают они и то, что в лагере этом одни только советские офицеры инженерных войск. Их никто не допрашивает. Никто из лагерного начальства даже не заходит к ним. Лишь три раза в сутки с чисто немецкой пунктуальностью приносит пищу пожилой, неразговорчивый унтер-офицер. Бурсов с Огинским по утрам делают зарядку, завтракают, потом молча лежат на нарах почти до самого обеда. А после обеда снова на нары. Они наговорились дорогой, в эшелонах, пока везли их из-под Белгорода сначала на юг, а потом на юго-запад. Где они сейчас? Бурсов полагает, что где-то под Кировоградом. А о чем говорили дорогой? Да и было ли то разговором? Бурсов спрашивал: “Вы помните хоть что-нибудь?.. Как случилось все это?” “Запомнилась только черная тень танка с крестом. А потом пламя перед глазами и мгновенное падение в бездну…” — с трудом выдавил из себя Огинский. Вот и весь разговор. Огинский очнулся раньше Бурсова, но, кажется, все еще не пришел в себя. И не потому только, что был тяжело контужен. В какой-то мере Бурсов чувствует себя виновным, что Огинский разделил его участь… Нужно было настоять, чтобы уехал он в штаб инженерных войск армии, как только стало известно, что в ночь с четвертого на пятое июля начнется наступление немцев на Белгородском направлении Курской дуги. А сам он на месте Огинского уехал бы разве в такой обстановке? Да и приказывать ему, офицеру штаба инженерных войск фронта, Бурсов не имел ведь никакого права… Все это медленно, вперемежку со сценами боя, завязавшегося в седьмом часу утра, вспоминал тогда Бурсов, путая хронологию событий. Наступление немцев на Курской дуге летом сорок третьего года ожидалось уже давно, и к нему хорошо подготовились. Дивизионный инженер Бурсов знал об этом не хуже командира своей дивизии. Но как только стало известно, что в ночь на пятое оно начнется наконец, он сразу же решил усилить полковых саперов старшего лейтенанта Сердюка лучшей ротой своего дивизионного саперного батальона. И выехал к нему с нею лично. А откуда же взялся майор Огинский?.. Ах, да! Он ведь специально приехал к нему в дивизию в связи с экспериментом начальника инженерных войск армии. И зачем понадобился генералу этот эксперимент с обстрелом минного поля всеми видами полковой артиллерии? Разве и без того неясно было, что никакой детонации при этом не произойдет? Подполковник Бурсов не раз видел, как рвались на наших минных полях немецкие снаряды, но мины, однако, взрывались лишь при прямых попаданиях. Плотность минирования, правда, никогда не была такой, как под Белгородом, да и площади минных полей превосходили все прежние… И все-таки Бурсов не разделял опасений наших артиллеристов и некоторых военных инженеров. Огинский тоже, кажется, не верил в возможность детонации этих полей при артобстреле. Но он, видимо, хотел убедиться в этом лично, а тут пришло известие о предстоящем наступлении немцев… И все-таки ему нужно было уехать. Бурсов и сам бы справился с дополнительным минированием переднего края своей дивизии. …Они работали всю ночь. Не кончили и утром, когда вражеские танки пошли в атаку. Никогда еще не видел Бурсов, чтобы немцы вводили в бой такое количество техники. Против каждой нашей роты в десять танков действовало по тридцать — сорок немецких, и среди них “пантеры”, “тигры”, самоходные орудия “фердинанд”. Разве не понимали и Бурсов, и Огинский, что без саперов нашим танкам будет совсем туго? Немцы хотя и прорвали потом оборону, но саперы Бурсова вывели из строя много их танков. Подорвали даже “тигра”, новинку немецкой танковой техники. Подполковник сам видел, как его сержант подбросил мину буквально под самые гусеницы одного из этих “тигров”. Немецких танков было очень много. Несмотря на потери, они рвались вперед, преодолевая минные поля. Несли потери и саперы. На глазах дивизионного инженера погиб командир саперной роты. Командование саперами Бурсов взял на себя. Приказ полковому инженеру Сердюку об отходе в глубину полковой обороны отдал он лишь после того, как не осталось в его резерве ни одной мины. Нужно было уходить и самому, а он стал искать Огинского. Майор был в той же траншее, лишь несколько левее. Бурсов крикнул ему, но в грохоте боя тот не услышал. И тогда подполковник, пригнувшись, устремился к нему. А когда был уже рядом, почти на самом бруствере разорвался снаряд. Он не услышал взрыва, только пламя резануло по глазам, а воздушная волна сразу же вдавила его в стенку траншеи… …На четвертые сутки, сразу же после завтрака, приходит к ним очень молодой белобрысый и веснушчатый лейтенант. — Разрешите представиться, товарищ подполковник, — обращается он к Бурсову, — лейтенант Азаров. Взят в плен в августе сорок первого под Смоленском. Командовал взводом саперного батальона стрелковой дивизии шестнадцатой армии. Теперь исполняю обязанности старшины местного лагеря, хотя я тут самый младший по званию среди советских военнопленных. — С чего же это так вдруг возвысились? — небрежно спрашивает его Бурсов. — Произвел неотразимое впечатление на господина коменданта, — не улыбаясь, очень серьезно отвечает Азаров. — Надеюсь, вы понимаете, лейтенант, что нам не до шуток? — хмурится Бурсов. — А я и не шучу вовсе. Потом как-нибудь расскажу, при каких обстоятельствах это произошло. А сейчас имею задание коменданта лагеря ввести вас в курс дела. Да он и сам к вам скоро пожалует. По всему чувствуется, что Азаров веселый, может быть, даже озорной человек, но изо всех сил старается быть очень серьезным. — Вам, конечно, не безынтересно, что тут за лагерь, — продолжает лейтенант. — Это не обычный стационарный шталаг, каких сотни на оккупированной территории. Ну, во-первых, здесь одни саперы и к тому же — только офицерский состав. Во-вторых, занимаемся мы тут своим обычным саперным делом — минированием. Да, да, минированием! Минируем танкоопасные участки местности с учебной целью. Заметив усмешку в глазах своих слушателей, лейтенант Азаров начинает заметно горячиться: — Да, да, именно с учебной целью! Учим на них немецких саперов. — Немецких саперов?! — не выдержав роли беспристрастного слушателя, восклицает Бурсов. — Я-то лично этого не делаю. У меня скромная роль лагерного старшины, а остальные делают, потому что… Да вы сами потом узнаете почему… — Духом, что ли, пали? — Не все, но кое-кто… Считают, что прокляты своим народом, хотя совесть их перед Родиной чиста: в плен никто из них добровольно не сдавался. Все дрались до последней возможности. — И у них даже мысли о побеге не возникает? — удивляется Бурсов. — У этих — нет. А тех, у которых такие мысли возникали, выводили перед строем на аппельплац и расстреливали. Даже тех, у которых одни только мысли об этом были. — И у всех были только мысли? — Ну зачем же только мысли. Кое-кто пытался и бежать. Тогда расстреливали не только его, но и каждого третьего из выстроенных на аппельплацу. Бурсову хочется спросить: “Ну, а вы лично пытались ли?” — но он лишь вздыхает и отворачивается к окну. — Вы, наверное, спросите, — раздумчиво, будто размышляя вслух, продолжает Азаров, — а где же их офицерская совесть, советская их совесть? Но, для того чтобы их осуждать, нужно прежде побывать в их шкуре… А такая возможность вам скоро представится. Ну, а о том, что тут у нас не санаторий, вы, конечно, и сами догадываетесь… Азаров, сидевший до этого рядом с Бурсовым на нарах, вдруг торопливо встает и идет к выходу из барака. Постояв немного за дверями и, видимо, понаблюдав за чем-то, он возвращается и продолжает: — И вот еще что не мешает вам знать: комендант этого спецлагеря, капитан Фогт, не общевойсковой офицер вовсе, а эсэсовский гауптштурмфюрер. И его помощник, унтер-фельдфебель Крауз, тоже фашист, шарфюрер. Это они специально для нас общевойсковую форму надели и заменили свои эсэсовские звания армейскими. И ведут себя помягче, чем другие эсэсовцы. Фогт ведь хорошо понимает, что добром от нас большего можно добиться, чем жестокостью. Крауз, впрочем, не очень пытается притворяться. Он-то настоящий зверь, его лишь Фогт сдерживает. А в остальном тут у нас, как и во всех шталагах: и “кугель”, означающая приказ о немедленном расстреле за попытку к бегству, и “зондербехандлунг”, то есть “особое обращение” с некоторыми из нас, означающее уничтожение… Да, и еще вот что имейте в виду, — помолчав, добавляет Азаров, — охрану нашего лагеря несут эсэсовцы, а проволочное ограждение вокруг лагеря под электрическим током высокого напряжения. — Это вы на тот случай, чтобы мы не вздумали бежать? — усмехается Бурсов. — Нет, так просто, на всякий случай. И снова Азаров уходит за дверь, а вернувшись, взволнованно шепчет: — На вас у них особая надежда. Со слов прибывшего вместе с вами старшего лейтенанта им известно, что вы крупные специалисты по взрывному делу. Что вели какие-то эксперименты по детонации минных полей. Это их сейчас особенно интересует. И похоже, что они предложат вам продолжить тут эти эксперименты. Ну, вот пока и все. И считайте, что такого разговора между нами не было. Он поспешно уходит, а Бурсов с Огинским долго молча лежат на нарах, не обменявшись ни словом. — А знаете, — произносит наконец Бурсов, — чем-то этот лейтенант мне понравился. — А мне не очень. Хотя, в общем-то, все рассказанное им выглядит вполне правдоподобным. Немцы действительно используют пленных советских саперов для различных военно-инженерных работ и даже для разминирования наших минных полей. — Вы на меня не обижайтесь, Михаил Александрович, — кладет Бурсов руку на плечо Огинского, — но вы, кажется, не очень разбираетесь в людях. Вот старший лейтенант Сердюк, например, вам понравился, а он уже все о нас немцам выложил да еще и присочинил. — Да, я часто ошибался, — признается Огинский. — Даже в собственной жене ошибся. Разошелся с ней перед самой войной. Зато обо мне горевать теперь некому. А может быть, даже и проклинать… — Ну, это вы бросьте! — зло хмурит брови Бурсов. — Не будьте похожим на тех, с кем, видимо, придется тут вскоре познакомиться. Потом он долго ходит по бараку, раздумывая над словами Азарова. Ему не кажется странной откровенность лейтенанта. Подозревать в них предателей он ведь не мог — их и самих предал Сердюк, сообщив коменданту спецлагеря Фогту об эксперименте с обстрелом минных полей. Но почему капитан Фогт заинтересовался этим? Неужели и немцы тоже считают возможным взрывать саперные минные поля артиллерийским обстрелом? Конечно, для них такая возможность необычайно заманчива. В одном только корпусе, в который входила дивизия Бурсова, установлено около тридцати пяти тысяч противотанковых мин да свыше сорока пяти тысяч противопехотных. Они надежно прикрывали подступы к переднему краю корпусной обороны. Мало разве подорвалось на них немецкой техники? Ну, а если бы артналетом можно было вызвать детонацию взрывателей? В одно мгновение все эти минные поля полетели бы к черту! Бурсов хоть и не верит в это, зная по опыту, что при артобстреле мины взрываются лишь при прямых попаданиях, но в химических процессах детонации слишком уж много неясного. Огинский, конечно, лучше его разбирается в этом, он специалист по теории взрыва, автор многих статей по вопросам детонации взрывчатых веществ. — А не кажется ли вам, Михаил Александрович, что немцы тоже собираются проводить или, может быть, уже проводят эксперименты с обстрелом минных полей? — спрашивает Бурсов. Огинского не удивляет вопрос. Он и сам уже думал об этом. — Вполне возможно, Иван Васильевич. Преодоление наших минных заграждений им слишком дорого стоит. Не думаю только, чтобы им удалось добиться какого-нибудь успеха. Современной науке слишком плохо известны химические процессы, происходящие при детонации конденсированных взрывчатых веществ. Мы лишь предполагаем, что атомы в их молекулах занимают малоустойчивое положение. Нечто вроде равновесия карандаша, поставленного на стол неочиненным концом. Беспокоит Бурсова и старший лейтенант Сердюк. Он был неплохим полковым инженером, но никогда не отличался храбростью. Неужели теперь окажется еще и предателем?2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАПИТАНА ФОГТА
Проходит три дня, но к Бурсову с Огинским никакое начальство, кроме лагерного старшины Азарова, по-прежнему не является. Азаров же навещает их еще два раза. В первый раз он сообщает им то, о чем забыл рассказать накануне, — о порядках в спецлагере капитана Фогта. А порядки тут такие: в шесть утра подъем, затем перекличка и зарядка. Есть даже строевые занятия, которые проводит лично Фогт. И никакой политики, даже в пользу Германии. Зато “спецделу”, главным образом минированию и разминированию, отводится почти весь день. Иногда бывает и “теория”. Под этим имеется в виду перевод советских военно-инженерных наставлений на немецкий язык. А немецким языком находящиеся в лагере Фогта советские офицеры владеют в достаточной степени, чтобы свободно переводить военно-инженерную литературу. Поручается им и перевод некоторых штабных документов, имеющих отношение к инженерному обеспечению боевых действий советских войск. Неожиданным оказывается так же и то, что в этом лагере все обращаются друг к другу по званиям. Исключение составляет лишь лейтенант Азаров, которого называют просто “старшиной”. — Фогт говорит нам, — усмехаясь, поясняет Азаров, — “Я хочу, чтобы русский официр был тут, как в своя родная воинская часть”. Устроил даже гауптвахту, на которую приказывает сажать тех, кто, по его мнению, недостаточно уважительно относится к старшим по званию. — И вы разыгрываете перед ним эту оперетку? — удивляется Бурсов. — Тех, кто не хотел ее разыгрывать, Фогт отправил в лагеря смерти. Ну, а те, кто остался, вынуждены притворяться, что им все это даже нравится. — А сколько же вас тут всего? — спрашивает Бурсов. — Немного, ровно пятьдесят… Больше не было еще ни разу. Да и меньше почти не бывает. Трое у нас подорвались на минных полях несколько дней назад, пятнадцать человек Фогт куда-то отправил. Но теперь вместе с вами снова будет пятьдесят. И учтите, товарищ подполковник, вы будете тут самым старшим по званию. Остальные в званиях от старшего лейтенанта до майора. Из лейтенантов — только я. — Это что — случайность? — Так захотелось господину Фогту. Он даже сказал мне как-то: “Вы очен нравитесь мне, лейтенант, и я мог бы произвести вас в генерал-лейтенант. Был бы вы тогда в такой же чин, как и ваш знаменитый военный ученый Карбышев, который тоже есть у нас в плену. Но я не хочу делайт это, потому что вы можете тогда стать таким же строптивцем, как и этот ваш Карбышев”. — А Дмитрий Михайлович Карбышев все еще, значит, у них в плену? — оживляется Огинский. — Они еще не замучили его? — Здоров ли, не знаю, но, судя по всему, не сломлен. Фогт проговорился нам как-то, что Дмитрий Михайлович доставляет какому-то очень крупному немецкому начальству много неприятностей. А сломить его и заставить служить Германии чуть ли не сам Гитлер повелел. — А вы, зная это, гнете тут шеи перед этим самодуром! — презрительно сплевывает Бурсов. — Ну, это вы потом узнаете, как мы наши шеи гнем, — неожиданно зло произносит Азаров и, не попрощавшись, уходит. А на другой день как ни в чем не бывало появляется по-прежнему приветливый и очень бодрый. — Фогт, оказывается, психологический эксперимент над вами совершал! — весело сообщает он. — Хотел подольше подержать вас в одиночестве и без дела, чтобы потом вас жажда деятельности обуяла. Я случайно слышал, как он об этом Краузу сообщал. Но его торопит старшее начальство, которому он поспешил, наверно, доложить о ваших опытах по детонации минных полей. Сокрушался утром, что придется прервать этот “психологический эксперимент”. Если не сегодня, то завтра непременно к вам пожалует. Фогт действительно “жалует” к ним на следующий день рано утром. — Здравия желаю, господа! — бодро выкрикивает он. — Не заскучались вы тут без дела? О, я знайт, таким энергичным людям, какими есть вы, это нелегко. Да, да! Я это хорошо понимайт! Но есть идея — снова поработать. Поэкспериментировать! А? Как вы на это посматриваете? Он молодцевато прохаживается вдоль пар, терпеливо ожидая ответа советских офицеров. Но они молчат. — Я понимайт, — снова произносит он, — у вас нет ясность по этот вопрос. Будем тогда немножко его прояснивать. Что имеется в виду под эксперимент? Так, да? Очен корошо! Не будем играйт в мурки-жмурки, все должен быть на чистота. Так, да? Я тоже за такой условий. Итак, что есть предлагаемый вам эксперимент? Он есть корошо вам известный обстрел минный поле. То, что вы уже делал там у себя под Белгород. Вам ясен мой мысль? Видимо давая советским офицерам возможность хорошо вникнуть в смысл его слов, капитан Фогт снова дефилирует перед ними почти строевым шагом. — Ну, так как? — резко останавливаясь, спрашивает он. Советские офицеры по-прежнему угрюмо молчат. — Надо подумайт, так, да? Я не принуждайт вас. Вопрос есть очен серьезный. Я понимайт. Но раз мы договорились быть на чистота, не буду от вас скрывайт: или вы продолжайт тут свой эксперимент, или — шагом марш Майданек, Освенцим, Маутхаузен! А пока — счастливо оставайться! И он уходит все тем же чеканным шагом. Даже оставшись вдвоем, Бурсов с Огинским продолжают молчать, хотя предложение Фогта для них уже не новость. Азаров предупредил их об этом. — Ваше мнение, Михаил Александрович? — вволю находившись по бараку, спрашивает Огинского Бурсов. — Ни в коем случае не соглашаться! — А я, напротив, за то, чтобы согласиться. Тонкие черные брови Огинского, наверное, никогда еще не поднимались так высоко. — Вы шутите, Иван Васильевич? — Нисколько. — Тогда я вас положительно не понимаю. Бурсов ложится на нары, забрасывает руки за голову и сосредоточенно смотрит в потолок. Огинскому кажется, что он погружается в изучение сложной мозаики многочисленных трещин. “Ну и характер у этого человека!..” — почти с раздражением думает он о Бурсове. — Я, знаете ли, не собираюсь в Майданек, — произносит наконец подполковник. — Я хочу покинуть эту гостеприимную обитель господина гауптштурмфюрера Фогта по собственному желанию, а для этого необходимо время. Вот мы и начнем с вами эксперименты по детонации минных полей, тем более что хорошо знаем, каков будет их итог. — Но ведь и немцы не дураки, догадаются, наверное, что мы водим их за нос. — А пока догадаются, мы к тому времени что-нибудь придумаем.3. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
На другой день, получив согласие Бурсова и Огинского на продолжение их эксперимента, капитан Фогт довольно потирает руки. — О, это очен корошо! Это есть благоразумство! Мне приятно имейт дело с такими разумными людьми. Но прошу и меня тоже считайт не очен просточковатым. Никакой саботаж с вашей сторона не должен быть. Все на чистота, и никакой махлевка, — улыбаясь, подмигивает он, очень довольный, что ему удается употребить такое русское словечко, как “махлевка”. — А чтобы у вас не возникайт соблазн, с вами будет сотрудничать один наш немецкий доктор. Это вы имейт в виду и не огорчайт меня глупством. При этом разговоре присутствует и лейтенант Азаров. — Ну вот мы и договорились, — обращается к нему Фогт. — И теперь, господин старшина, вы можете перевести их в блок старших официров. — Слушаюсь, господин капитан! — браво козыряет Азаров. Фогт уже направляется к дверям карантина, но вдруг возвращается с полпути: — Да, вот еще что: на работе с вами будет, кроме наш доктор, ваш старший лейтенант Сердьюк. Корошо? — Нет, не хорошо, — решительно возражает Бурсов. — Почему так? — Потому, что он негодяй! — О, да, да! Это немножко есть. Вы имейт в виду, что он рассказал нам об этот ваш эксперимент? Но он очен вас хвалил. Говорил, что вы оба есть большой талант. Но я вас понимайт, тут немножко есть мерзавство. И я согласен с вашей просьба. Вы будете работать с одним только наш доктор. Он есть очен короший парень, и он вам будет понравиться. В блоке старших офицеров, куда приводит Бурсова и Огинского Азаров, вскакивают с нар семь майоров. Все они уже немолодые, с очень усталыми лицами и какими-то бесцветными глазами. Лишь у майора Нефедова, самого старшего из них, светится в глазах живая искорка. После завтрака Азаров предлагает Бурсову и Огинскому пройтись по территории лагеря. — Сегодня вы свободны от всякой работы, — сообщает им лейтенант. — От вас требуется пока лишь подробная заявка на все, что понадобится для вашего эксперимента. Она должна быть готова к обеду. Они медленно идут по лагерю, внимательно всматриваясь в расположение его построек, проволочных заграждений и арку ворот с прогуливающимся по ее верхней площадке пулеметчиком. Территория лагеря невелика и, видимо, хорошо просматривается с вышек, расположенных над воротами и в центре тыльной части проволочного забора. На ней нет сейчас часового, но по ночам его выставляют. Видны и прожектора, освещающие территорию лагеря в ночное время. “Да, охрана лагеря продумана обстоятельно”, — невесело отмечает Бурсов. И вдруг он вздрагивает при виде старшего лейтенанта Сердюка. Голова его и левая рука забинтованы грязным, перепачканным кровью бинтом. — Разрешите к вам обратиться, товарищ подполковник?.. — срывающимся от волнения голосом спрашивает он. — Убирайтесь вон! — негромко, но властно произносит Бурсов. — Но ведь я хотел как лучше… — молит Сердюк. — Знал ведь, что вы в эти эксперименты не верите. А их они заинтересовали, и теперь можно будет поводить Фогта за нос. — Плохо вы еще этого Фогта знаете, — мрачно замечает Огинский. А Бурсов даже не смотрит на Сердюка. Он уходит с Азаровым вперед, оставив Огинского со старшим лейтенантом. — И мой вам совет, — продолжает Огинский. — Не говорите ему о нас ничего больше и не выдавайте себя и нас за крупных специалистов подрывного или какого-нибудь иного военно-инженерного дела. Да, и еще вот что — постарайтесь возможно реже попадаться на глаза подполковнику Бурсову. …Поздно вечером после отбоя в блоке старших офицеров царит гнетущая тишина. Все семь майоров молча лежат на нарах, не разговаривая и не задавая никаких вопросов вновь прибывшим. А Бурсов все медлит начинать разговор, все надеется, что кто-нибудь из этих потерявших веру в себя людей сам что-нибудь спросит. — Надо бы поговорить с ними… — шепчет ему Огинский. — Погодите, Михаил Александрович, пусть сами спросят. Неужели же им не интересно узнать у нас хоть что-нибудь о положении на фронте? Но майоры по-прежнему молчат. — Ну что же, товарищи офицеры, — негромко произносит наконец Бурсов, — так-таки, значит, ничто вас не интересует? Спросили бы хоть о том, как мы в плен попали, при каких обстоятельствах. — Нам и так известно, при каких обстоятельствах в плен попадают, — равнодушно замечает кто-то в дальнем углу. — Если не сволочь, конечно, которая сама руки вверх поднимает. — Мы не из таких, — обиженно отзывается Огинский. — Зато нас, наверное, за таких принимаете, — ввязывается в разговор еще кто-то. — Ну это уж вы зря, — повышает голос Бурсов. — Мы ведь тоже на фронте с самого первого дня войны и знаем, каково было в сорок первом! — А почему именно так было? — раздается чей-то голос, и Бурсову кажется, что принадлежит он майору Нефедову. — Разобрались вы там в этом? — Некогда было особенно разбираться, — хмуро отзывается Бурсов. — Все бои да бои. О сражении за Москву и о Сталинградской битве слыхали хоть что-нибудь? — Имеем некоторое представление, — отвечает Нефедов. (Бурсов не сомневается более, что это именно он.) — Ну, а у нас тут, в плену, было достаточно времени, чтобы подумать о трагедии сорок первого. Вы в армии-то давно, товарищ подполковник? — С тридцатого года. Перед войной отдельным саперным батальоном командовал. Отходил с частями двадцать первой армии от Жлобина до самого Сталинграда. — Так вы, значит, в боях под Сталинградом участвовали? — оживляется Нефедов. — Да, участвовал. — Немцы считают, что Сталинградская битва была самой крупной в истории войн, — замечает кто-то простуженным голосом. — Та, что сейчас идет на Курской дуге, покрупнее будет. Вот майор Огинский — офицер штаба фронта, ему лучше, чем мне, известна обстановка. — Да, масштабы тут во всех отношениях побольше, — не очень охотно подтверждает Огинский. — А вам ничего не известно, как там теперь дела? — понижает голос Бурсов. — Мы ведь попали в плен под Белгородом в самый первый день сражения — пятого июля. Никто ему не отвечает, и он спрашивает совсем уже шепотом: — Может быть, тут нельзя вести такие разговоры? — Этого вы не бойтесь, — успокаивает его Нефедов. — От тех, которые могли нас предать, мы нашли способ избавиться. Подслушивать теперь нас некому. Да немцы и не боятся, что мы замыслим что-нибудь вроде восстания или побега. Уверены, что отсюда не убежишь. А что касается теперешних боев под Орлом, Курском и Белгородом, то по радио сообщают, будто немцы одерживают там победу. — Быть этого не может! — несдержанно восклицает Огинский. — Это им не сорок первый! — Мне трудно судить, что и как там у нас изменилось, — тяжело вздыхает Нефедов. — Известно, однако, что под Белгородом немцы прорвались уже не только в Прохоровку, но и в Обоянь. — Немецкое радио слишком уж хвастливо, — пренебрежительно говорит Бурсов. — Они ведь в свое время и о взятии Москвы сообщали. — Да, но на этот раз сообщило не немецкое, а английское радио. Капитан Фогт — осторожная бестия. Он знает истинную цену немецким сообщениям по радио и потому корректирует их английскими передачами. А переводит их ему майор Горностаев, хорошо знающий английский язык. — И Фогт разрешает ему слушать такие передачи? — удивляется Бурсов. — Знали бы вы Горностаева, не удивлялись бы доверию Фогта. Большего скептика, чем он, в жизни своей не видел. Ни во что и никому не верит. Да и судьба у него такая… Преподавал несколько лет в военно-инженерной академии, потом арестовали за что-то. А перед войной выпустили — и на фронт. Ну, а потом плен… Нет, не сдался, тяжелораненым взяли. Это его окончательно подкосило. Ко всему стал безразличным… Интересуется теперь только возможностью поспать. Да вот он храпит уже. — А у Фогта он на хорошем счету, — замечает кто-то из майоров. — У Фогта никогда не знаешь, за что в фавориты попадешь, — вздыхает Нефедов. — Горностаев ему понравился потому, что на его минных полях больше всего немецких саперов подрывается. Сам видел, как Фогт похлопывал его по плечу, когда какой-то здоровенный ефрейтор кисть руки себе оторвал, пытаясь разминировать установленную Горностаевым мину. “Очен корошо! — радостно выкрикивал Фогт. — Немецкий сапер должен учиться на самый хитрый мина. Тогда ему никакой советский мина не будет страшен. Это есть для него короший школа”. Теперь слышен тяжелый храп и других офицеров. Они устали за день, да и разговор этот не очень, видимо, их заинтересовал. Умолк и майор Нефедов. А когда Бурсов решил, что и он заснул, вдруг снова услышал его голос, теперь приглушенный до шепота: — Я не сомневаюсь, товарищ подполковник, что сражение под Курском кончится нашей победой. После Сталинграда у меня уже нет никаких сомнений на этот счет. Гнетет другое — а мы-то как же? Чем вину свою перед Родиной искупим? Вольная вина или невольная — это ведь сейчас не самое главное… Скорее всего, мы просто не доживем до того часа, когда земля наша станет свободной. А мертвые, как говорится, сраму не имут… Майор Нефедов тяжело вздыхает и долго ворочается на нарах. Потом спрашивает: — Вы, наверно, спать хотите, товарищ подполковник, а я вам голову морочу всем этим… — Какой там сон!.. А у меня, вы думаете, сердце кровью не обливается при одной мысли, что мы не вырвемся отсюда до конца войны? — Вы, значит, надеетесь, что удастся вырваться? — А вы разве потеряли эту надежду? Снова слышится тяжелый вздох Нефедова. Вздыхает и еще кто-то, но Бурсов не может разглядеть в темноте, кто это. — Предпочитаете не отвечать на этот вопрос? — снова спрашивает подполковник Бурсов. — Да, воздержусь пока, — еле слышно отзывается Нефедов. — Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Спокойной ночи, товарищ подполковник. — Спокойной ночи, товарищ Нефедов.4. ДОКТОР ШТРЕЙТ
На следующее утро лейтенант Азаров заходит в блок старших офицеров сразу же после подъема. — Товарищ подполковник, — обращается он к Бурсову, — вам и майору Огинскому после завтрака нужно явиться к капитану Фогту. Будьте готовы к этому. Я зайду за вами минут через пятнадцать. За завтраком Бурсов подсаживается поближе к Нефедову, спрашивает его: — Почему это лейтенант Азаров в таком фаворе у Фогта? Он, что… — Нет, нет, не думайте о нем ничего плохого! — торопливо перебивает подполковника Нефедов. — Азаров замечательный парень. Он давно бы сбежал отсюда, но одному это просто невозможно. А остальные… И он лишь сокрушенно машет рукой. Помолчав немного, продолжает: — Ну, а Фогту он понравился потому, что капитан, видно, фаталист. Не понимаете? Сейчас поясню. Был тут у нас такой случай. Установили мы противопехотное минное поле для тренировки немецких саперов и послали Азарова доложить об этом тогдашнему помощнику Фогта фельдфебелю Ханке. А был этот Ханке таким мерзавцем, которого даже сам Фогт побаивался. Нас же всякий раз нервная дрожь пробирала, как только он останавливал на ком-нибудь свой неподвижный взгляд. Один только Азаров его не боялся. — Зато фельдфебель прямо-таки ненавидел Азарова! — замечает сидящий рядом с Нефедовым худой седоволосый майор Коростылев. — Это верно, ненавидел он Азарова люто, — подтверждает Нефедов. — А в тот день был особенно не в духе: повздорил из-за чего-то с капитаном Фогтом. Ну, а когда предстал перед ним Азаров с докладом, он, ни слова не говоря, — бац его по физиономии. Но и лейтенант наш не смолчал на сей раз. Развернулся да как влепит ему, в свою очередь, по роже. И бежать, да прямо через то самое поле, которое мы установили. Перемахнул его все и не подорвался. Нам это просто чудом показалось. А фельдфебель уже выхватил свой парабеллум и целится в него. Но тут Фогт подоспел. “В чем дело?” — спрашивает. Фельдфебель ему сочиняет, будто усомнился он в качестве установки минного поля и велел Азарову перебежать его. “И вот, говорит, действительно так оно, значит, и есть — не подорвался ведь лейтенант. Потому и хотел я его немедленно пристрелить”. — А мы сидим ни живы ни мертвы, — добавляет Коростылев. — Понимаем, что добром это не кончится. — Кончилось же все это самым неожиданным образом, — продолжает Нефедов. — Фогт, выслушав фельдфебеля, крикнул Азарову: “А ну, быстро назад!” И Азаров снова бегом через все минное поле и опять остался невредимым. “Сами теперь видите, господин капитан, как они нас надувают”, — ухмыльнулся Ханке. “А я не верю, чтобы они могли меня надуть, — отвечает Фогт. — Никто не посмеет сделать этого. А если вы так уверены, что никакого минного поля не установлено, то шагом марш через него! И если не подорветесь, собственноручно этого лейтенанта тут же расстреляю”. — Это он все по-немецки, — поясняет Коростылев, — но мы хорошо все понимали и ждали затаив дыхание, что же дальше будет? — А дальше разъяренный фельдфебель, будучи совершенно уверенным, что Азаров его дурачит, смело шагнул на минное поле и сразу же подорвался, да так основательно, что в тот же день и умер не только к нашей радости, но и к явному удовольствию капитана Фогта. Кажется, этот Ханке доносил на своего начальника в гестапо. С тех пор и стал лейтенант Азаров фаворитом у Фогта. — А как же все-таки сам Азаров не подорвался? — спрашивает Бурсов. — Не любит он на эту тему распространяться, но тут либо действительно фатальный случай, либо он знал все-таки, где именно мины стояли. Минер ведь он отличный, и глаз у него молодой, приметливый. А в общем-то, конечно, все это на чудо похоже. Суеверный Фогт и воспринял, видимо, все это как настоящее чудо. Когда после завтрака лейтенант Азаров появляется в блоке старших офицеров, подполковник смотрит на него с невольным уважением. Несколько минут спустя лейтенант выводит Бурсова с Огинским через проходную арку и ведет к небольшому домику под черепичной крышей, в котором находится канцелярия капитана Фогта. Часовой, хорошо знающий Азарова, беспрепятственно пропускает их. — О, доброе утро! — весело приветствует их капитан Фогт. — Познакомьтесь с нашим специалистом по взрывчатке, господином Штрейтом. Из-за стола встает очень тощий немец с морщинистой шеей. с большим кадыком и небрежно представляется: — Гюнтер Штрейт, доктор технических наук. Как, однако, будем мы с вами изъясняться — я ведь не владею русским языком, — беспомощно разводит он руками. — Зато мы знаем немецкий. Я — посредственно, майор — хорошо, — кивает Бурсов на Огинского. — Тогда все в порядке, — удовлетворенно замечает Штрейт. — Можем мы приступить к делу тотчас же? — обращается он к капитану. — О да! Пожалуйста! — довольно восклицает Фогт и уходит куда-то, пожелав доктору и советским офицерам успеха. На докторе Штрейте светло-серый спортивный костюм и тирольская шляпа с пером. На длинном носу с горбинкой старомодное пенсне. — Ну-с, я слушаю вас, господа, — произносит он, широким жестом предлагая офицерам сесть. — Не скрою от вас — меня интересуют ваши эксперименты потому, что я тоже проделывал нечто подобное. И должен вам признаться — у меня ничего пока не получилось. Поэтому очень любопытно, что же получается у вас? “С чего же начать?.. — лихорадочно думает Бурсов. — Этот доктор, очевидно, большой знаток взрывного дела, и его не так-то просто провести…” Но тут на помощь ему приходит Огинский. — Надо полагать, — степенно начинает он, — детонация конденсированных взрывчатых веществ у вас в Германии столь же мало изучена, как и у нас в Советском Союзе. — Видимо, так обстоит дело и вообще в мировой науке, — уточняет Штрейт. — Я знаю работы вашего Зельдовича, который сумел теоретически обосновать невозможность сверхзвуковых режимов при распространении детонационной волны. Тем самым с исчерпывающей полнотой вывел он условие Чепмена-Жуге. Но ведь все это относится к детонации газов, а не твердых взрывчатых веществ. Нам же нужно уметь применить такие общие соотношения теории детонации, как условие Чепмена-Жуге, к детонации конденсированных взрывчатых веществ. “А что такое это условие Чепмена-Жуге? — тревожно проносится в мозгу Бурсова. — Знает ли это Огинский?” — Вы абсолютно правы, господин доктор Штрейт, — охотно соглашается с ним майор Огинский, и Бурсов сразу же успокаивается. — В условие Чепмена-Жуге, — продолжает Огинский, — входит, как известно, скорость звука в продуктах взрыва. Однако насколько просто определяется скорость эта в неплотных газах, настолько сложно выразить ее теоретически в газах сжатых до плотности твердых тел, молекулы в которых соприкасаются между собой. Некоторые исследователи, пытаясь учесть это обстоятельство, рассматривают молекулы, как твердые шарики. Такая модель удобна, конечно, когда изучаются отдельные столкновения молекул, но разве она в состоянии отразить действительные свойства всего плотного вещества? — Какое же решение предлагаете вы? — снимая с носа пенсне, спрашивает доктор. — Обратили вы внимание на то обстоятельство, что в очень уплотненных газах давление имеет двоякую природу? Является одновременно как бы и тепловым и упругим при совершенно различной природе этих явлений. Сильно сжатый газ ведет ведь себя, как комок сцепленных пружинок, а неплотный — подобно рою мух, бьющихся о стенку. “Теперь бы подкрепить ему свою эрудицию какой-нибудь мудреной формулой, — возникает у Бурсова заманчивая мысль, — и тогда у этого ученого мужа уже не останется ни малейшего сомнения в нашей компетентности по вопросам детонации”. И Огинский, будто прочитав его мысли, торопливо пишет на чистом листе бумаги, лежащей на столе капитана Фогта: D = W + a — Вам знакома эта формула, доктор? — спрашивает он Штрейта. — Видимо, это формула скорости протекания детонации? — морщит лоб Штрейт, смешно вытягивая вперед длинную шею. — Из чего же она складывается? Что означает у вас “вэ” и “а”? — “Вэ” — это некоторая собственная скорость продукта детонации, “а” — скорость звука. — Значит, скорость детонации равна сумме скоростей “вэ” и “а”? Бурсов очень боится, что Штрейт может обратить внимание на его безучастность в этом разговоре, но доктор так увлекся беседой с Огинским. что и не замечает его вовсе. Он хотя и делает вид, что в словах советского майора для него нет ничего нового, на самом же деле многое из того, что говорит Огинский, слышит впервые. А когда заходит разговор о методах определения скорости детонации, примененных Огинским в его экспериментах, Штрейт вообще забывает обо всем на свете. Не слышит даже, как входит капитан Фогт. Фогт тоже слушает майора, разинув рот. И если Штрейта поражает совершенство техники экспериментов и изящество предложенной им методики измерений скорости детонации взрывчатых веществ, то капитана завораживает ученый язык. Такие выражения, как “среднее арифметическое значение “дэ”, “средняя квадратическая ошибка среднего арифметического” и “средняя квадратическая ошибка отдельного измерения”, буквально гипнотизируют его. А когда Огинский начинает торопливо писать математические формулы, пестрящие греческими буквами, квадратными степенями буквы “фау”, скобками и дробями, в знаменателях и числителях которых стоят одни лишь латинские буквы, он уже не сомневается более в высокой компетентности советского майора. И, когда после ухода пленных офицеров доктор Штрейт заявляет, что русские сообщили ему сейчас о детонации взрывчатых веществ такое, чего он никак не рассчитывал от них услышать, капитан Фогт возбужденно восклицает: — Нам чертовски повезло, доктор! И если мы с их помощью найдем средство взрывать минные поля, нас с вами ждет высокая награда. Я знаю, вы и сами экспериментировали в этой области, но, кажется, они достигли большего. Но ваш престиж от этого не пострадает. Нужно только выжать из них все, что возможно, а им мы не собираемся ставитьпамятники за это. В конце концов, они всего лишь военнопленные и для них всегда найдется место в Майданеке или Маутхаузене. — И он закатывается таким смехом, от которого доктору Штрейту становится не по себе. Но сама идея убрать советских офицеров куда-нибудь подальше, после того как детонация минных полей артобстрелом будет осуществлена, Штрейту явно нравится. — Это сейчас чрезвычайно важно, — продолжает капитан Фогт. — Вы знаете, доктор, какие потери понесли наши танки на русских минных полях под Белгородом? Мне сообщил обер-штурмбанфюрер, только что вернувшийся из района этих боев, что наша девятнадцатая танковая дивизия потеряла в полосе обороны одной только русской стрелковой дивизии свыше ста танков, в том числе семь “тигров”. Погибло там около тысячи наших солдат и офицеров, а командир этой дивизии застрелился. — Да, я тоже слышал кое-что, — сочувственно кивает головой доктор Штрейт. — Русские всегда были сильны в инженерном обеспечении своей обороны и вообще в военно-инженерном деле. Не случайно же сам фюрер распорядился любым путем привлечь на нашу сторону пленного русского генерала Карбышева. — Ничего у них из этого не получилось, — не без злорадства замечает Фогт. — Надеюсь, мы с вами, доктор, добьемся большего успеха и пользы для нашей армии, хотя у нас всего лишь кандидат наук и дивизионный инженер. По дороге в лагерь Бурсов с Огинским тоже обмениваются впечатлениями от встречи с доктором Штрейтом. — В том, что доктор остался доволен нами, у меня нет никаких сомнений, — заключает подполковник. — Вы действительно сообщили ему что-нибудь новое? Я ведь практик и не очень силен в теории. — Все, что я сообщил ему, — результат моих экспериментов, опубликованный в нашей открытой печати перед самой войной. Но, видимо, этот журнал, в котором они были напечатаны, не попал в Германию. — Будем, значит, считать, что в чем-то мы его убедили. Во всяком случае, у него явно нет никаких сомнений, что в вопросе детонации взрывчатых веществ мы осведомленнее его. Ну, а дальше? Нам ведь неизвестно, как вызвать детонацию минного поля. Да если бы и известно было, разве открыли бы мы немцам этот секрет? — Я вижу дальнейшую нашу задачу в том, чтобы выиграть время. Тянуть, сколько будет возможно, чтобы придумать способ побега. Хотя, откровенно говоря, — тяжело вздыхает Огинский, — даже не представляю себе, каким образом можно вырваться отсюда. — Я этого тоже пока не знаю, — признается Бурсов. — Для этого надо получше разобраться в обстановке. Тревожит меня, однако, другое — Сердюк. Этот мерзавец может сообщить им, что эксперимент с обстрелом минного поля нам не удался. — А вы думаете, что он мерзавец? — Ну, может быть, и не мерзавец в буквальном смысле, но явный трус. А трус и предатель в данной ситуации почти одно и то же. — А я все-таки думаю, что он… — Не будем благодушествовать, Михаил Александрович! — почти раздраженно перебивает Огинского Бурсов. — Давайте лучше исходить из худшего. — Ну хорошо. Может быть, вы и правы, — соглашается Огинский. — Но и в этом случае я не вижу ничего угрожающего для нас. Да, мы проделали один эксперимент — обстреляли минное поле. Но это пока не увенчалось успехом, и мы задумали серию новых экспериментов, которые еще не успели осуществить. — А какие же новые эксперименты можно им предложить? Они ведь завтра заставят нас начать их. — Начнем снова с обстрела. Но на этот раз будем экспериментировать не столько с противотанковыми, сколько с минометными минами и артиллерийскими снарядами. Будем делать вид, что ищем такой состав бризантного взрывчатого вещества, который будет в состоянии вызвать детонацию минных полей.5. В МИННЫХ МАСТЕРСКИХ
После обеда лейтенант Азаров отводит Бурсова и Огинского в мастерские по производству самодельных мин, рекомендованных наставлениями немецкой армии. Мастерские находятся за пределами лагеря, и Азаров снова ведет их через центральные ворота. — И много делаете вы этих мин? — спрашивает Бурсов у лейтенанта. — Теперь много. И потому догадываемся, что немецкая армия все чаще переходит к обороне. Фабричных мин ей явно не хватает. — А самодельные мины каких же типов? — Так называемые “дощатые” из стандартных зарядов с взрывателями нажимного действия типа DZ-35. Потом еще “аппарельные”, тоже из дерева и с такими же взрывателями. В последнее время стали делать мины и из артиллерийских снарядов. А вчера приступили к производству мин из ручных гранат, помещенных в гильзу от стопятидесятимиллиметрового снаряда. — Помогаете, значит, калечить своего же брата? — Но ведь и вы собираетесь….. — Да, мы собираемся! — резко перебивает его подполковник. — Но только еще собираемся, а у вас уже целое производство. Азаров угрюмо молчит, потом замечает чуть слышно: — Если только Фогт узнает, какое это на самом деле производство… — Ну ладно, — снова перебивает его Бурсов. — Об этом-то как раз и не следует болтать, какие бы обидные слова ни пришлось услышать. — Слушаюсь, товарищ подполковник! — сразу повеселев, бодро произносит Азаров. Некоторое время они идут молча. Потом Азаров снова заговаривает: — Вот веду я вас за пределы лагеря безо всякой охраны, и вы, наверное, думаете: и чего эти трусы не разбегаются? Вроде никаких препятствий вокруг. Но ведь тут сплошь все минировано, и не нами, а немецкими саперами. К тому же смотрите, какая тут равнина — все как на ладони. Далеко не убежишь даже ночью — прожекторами все тут просвечивается. — А пробовал кто-нибудь? — Нет, не пробовали. — Не нашлось разве смелых людей? — Найтись-то нашлись, да эсэсовцы нас опередили. Выведали каким-то образом о готовящемся побеге и вывели сразу половину лагеря за проволоку. Выстроили их перед этими минными полями, а сзади автоматчиков поставили. Всех остальных тоже подогнали к проволоке с другой стороны и приказали смотреть. Капитан Фогт, а вернее, гауптштурмфюрер Фогт, специальную речь затем произнес: “Мне стало известно, что вы… нет, не все, а только пять человейк, хотели совершайт побегство. Я вас не виню за это. Каждый патриот своя родина всегда должен думайт о побегстве из плена. Но думайт надо корошо. А не, как это у вас говорится?.. Не с кондачка. Правильно я говорю? Так вот, чтобы потом быть умнее и не делайт больше глупства, вы все сейчас совершайт побегство через этот минный поле. Кто не побежит, тот получайт пуля в свой спина”. Потом Фогт повернулся к автоматчикам и скомандовал: “Ахтунг!” А пленным добавил: “Вам будет это корошей наука. Но если кто-нибудь из вас будет такой счастливчик, который перебежит через весь минный поле, клянусь словом официра — он будет получайт свобода. Вы все знайт случай с лейтенант Азаров. Я должен был его повесить за разбитый морда мой фельдфебель. Но он перебежал минный поле и не подорвался. Вы все знайт, какой почесть он теперь имейт. Я обещайт всем, кто перебежит на тот сторона, жизнь и свобода”. И он театральным жестом подал команду: “Вперед!” — продолжает свой рассказ Азаров. — И все побежали, потому что не сомневались, что эсэсовцы, не задумываясь, разрядят в них свои автоматы. И все погибли. Тех, которых не разорвали насмерть мины, потом добили эсэсовцы. А мы стояли по другую сторону проволочного забора со сжатыми кулаками и до боли стиснутыми от бессильной ярости зубами. “Вот и все, — сказал нам очень довольный преподанным уроком капитан Фогт. — Теперь вы понимайт, что такое есть глупство?” — И вы поняли? — глухо спрашивает Бурсов. — Да, мы поняли, что любая попытка смельчаков-одиночек не будет удачной. Нужна серьезная организация, а у нас ее не было. — Не было? — настороженно переспрашивает подполковник. — Да, не было, — спокойно повторяет Азаров, но Бурсову кажется, что он не случайно произносит это в прошедшем времени. Мастерские по производству самодельных мин находятся в одноэтажном деревянном строении барачного типа. В них три отделения: столярное, монтажное и зарядное. Ожидая прихода доктора Штрейта, Бурсов и Огинский внимательно осматривают зарядное отделение. На его стеллажах видят они не только советские мины, но и почти все системы немецких. Главным образом это их противотанковые Т-35 и Т-42. На полу под стеллажами замечает Бурсов и деревянные противотанковые мины с маркировкой “Хальзмиие-42”. На отдельной полке аккуратно размещены мины союзников Германии. Противотанковые финские Ф-1 и Ф-2, венгерские тарельчатые, итальянские коробчатые V-3 и трубчатые F, румынские NR-5. Противопехотные лежат отдельно. Они тоже всех типов. “Настоящий музей, — проносится в мозгу Бурсова. — Зачем им это?” Но тут появляется доктор Штрейт и, не ожидая вопросов, дает пояснение: — Мы собрали здесь всю ныне существующую минную технику с тем, чтобы попытаться создать новую, универсальную мину. Такую, которая воплотила бы в себе все достоинства представленных тут образцов. Это идея самого капитана Фогта. Над подобной задачей работает, конечно, военно-инженерное ведомство нашей армии, но капитан хочет внести в это свой вклад и подарить нашим инженерным войскам мину, идеальную во всех отношениях. Кое-что мы уже придумали. Сейчас работаем над проблемой наиболее надежного взрывателя. У нас есть множество образцов. Вот посмотрите, пожалуйста. И он подводит их к полкам, уставленным замысловатыми цилиндриками с разнокалиберными сережками колечек на предохранительных чеках. Тут взрыватели почти всех армий и разнообразнейших систем нажимного, натяжного и перерезывающего действий. Заметив, какие огоньки вспыхнули в глазах подполковника Бурсова, майор Огинский сразу же соображает, как важно было бы получить доступ к этим взрывателям. — Подполковник Бурсов, — равнодушным тоном произносит он, — большой специалист по части взрывателей. — Ну что ж, это может нам пригодиться, — одобрительно кивает доктор Штрейт. — А сейчас мы обсудим план наших действий на завтра. Экспериментировать мы, конечно, будем над русскими минными полями. А чем обстреливать их? — Минометами, — заявляет Бурсов. — Вы думаете, это лучше артиллерии? — Это даст нам возможность забрасывать минометные мины на заградительные минные поля почти перпендикулярно их плоскости. — Понимаю, понимаю, — часто кивает головой доктор Штрейт. — У вас уже есть опыт в этом отношении? — Да, имеется. Преимущество такого вида обстрела мы установили опытным путем, — подтверждает Огинский, сообразив, что Бурсов неспроста, видимо, предлагает вести обстрел минометами. — Ну что ж, очень хорошо! Мы вызовем завтра минометчиков. — Зачем же вызывать? — возражает Бурсов. — Мы будем делать это сами. — Подполковник хороший минометчик, — кивает Огинский на Бурсова. — О, вы настоящий универсал! — смеется доктор Штрейт. — И минер и минометчик! Но мы все-таки вызовем наших минометчиков, чтобы не было неприятностей с капитаном Фогтом. Сколько их нам понадобится? — Пока хватит и одного, — замечает Бурсов. — Ведь сначала нужно экспериментальным путем найти необходимое нам бризантное взрывчатое вещество, которым мы будем начинять мины этого миномета. — А вы не знаете еще такого вещества? — разочарованно спрашивает Штрейт. — Мы не закончили наших экспериментов, — приходит на помощь Огинскому Бурсов. — Кое-что нащупали, конечно, но теперь придется обстреливать не немецкие минные поля, а русские. А это значит, что будем мы иметь дело с иной конструкцией мин, взрывателей, да и самого взрывчатого вещества. — Да, это верно, — соглашается доктор Штрейт. — Это я упустил из виду. Учтите, однако, что нам нужно очень торопиться. — Мы понимаем это, господин доктор, — заверяет Штрейта Бурсов. Вечером, после отбоя, когда Бурсову кажется, что все уже спят, он слышит вдруг тихий шепот майора Нефедова: — Вы не спите, товарищ подполковник? — Нет, не сплю. — Хотелось бы с вами поговорить. — Пожалуйста. — Вы ничего не слышали там, у лагерного начальства, о нашей судьбе? — О какой судьбе? — Собираются ведь уменьшить численность нашего лагеря. Оставить человек тридцать, а остальных отправить в другие, обычные лагеря военнопленных, в так называемые шталаги. Начальство капитана Фогта считает, видимо, что такому количеству пленных делать тут нечего. — Нет, я ничего об этом не слышал. Майор Нефедов некоторое время молчит, затем продолжает еще тише прежнего: — А вы бы могли помешать этому. — Помешать? — Да, в том смысле, чтобы найти нам дополнительную работу. Бурсов не совсем его понимает. Нефедов поясняет: — Вы ведь будете обстреливать наши советские минные поля? Ну, так используйте это для того, чтобы поля установили вам заново, по вашим схемам, и не одно, а несколько. — Это идея! — радостно хватает майора за руку Бурсов. — Завтра же мы заявим об этом доктору Штрейту. Потом они снова лежат молча, и им теперь уже не удается заснуть. Похоже, что не спит и Огинский. Или, может быть, проснулся от их разговора. — И знаете еще что? — помолчав, продолжает Нефедов. — Если вы задумаете предпринять что-нибудь, имейте в виду и меня. Я знаю, на что иду и чем все это может кончиться, — насмотрелся тут на многое… Но меня это не пугает. Лишь бы поскорее к своим… Учтите это, товарищ подполковник. А если я чем-нибудь могу быть полезен в ваших планах — с радостью все исполню. — Хорошо, товарищ Нефедов, я это учту. — А что касается нашей работы тут, у немцев, то мы вредим им, чем можем, ежесекундно рискуя при этом головой. Это ведь мы только прикидываемся такими смиренными. Вот я, например, возглавлял группу, занимавшуюся переводом советских военно-инженерных наставлений и захваченных в наших штабах документов. А знаете, как мы их переводили? Где только было возможно, искажали смысл, рассчитывая, в случае чего, сослаться на недостаточное знание немецкого языка. Или вот сейчас, на производстве самодельных мин… Бурсов кладет руку на плечо Нефедова: — Я верю вам, товарищ Нефедов. Не понимаю, однако, как вы решились мне довериться? Вы же меня почти не знаете. А если я окажусь провокатором, специально к вам подсаженным капитаном Фогтом? — Бывали у нас и такие. Фогт не упускал возможности выведать с их помощью наши замыслы. Только ведь и у нас особое чутье на этих мерзавцев выработалось. И потом, Фогту теперь ни к чему уже нас проверять. Он уверен, что те, кого он оставил тут у себя, совершенно безвредны. Помолчав немного, Нефедов добавляет: — Известно нам, между прочим, еще и то, что и самих вас подвел ваш же сослуживец Сердюк. А из этого тоже сделаны нами некоторые выводы.6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРИМЕНТУ
Утром лейтенант Азаров снова ведет их в мастерские по производству самодельных мин. Дорогой Бурсов спрашивает его: — А пронести отсюда, из этой мастерской, в лагерь что-нибудь можно? — Нет, невозможно, товарищ подполковник. Обыскивают, и очень тщательно. Но вы все-таки скажите, что вам нужно, — придумаем что-нибудь. — Пока ничего, — уклончиво отвечает Бурсов. — Но, может быть, что-нибудь вскоре и понадобится. — Только прикажите, товарищ подполковник, — несдержанно восклицает Азаров, — все будет выполнено! — Приветствую ваш энтузиазм, — довольно улыбается Бурсов. — Не следует, однако, выражать его так бурно. Потом, уже почти у самых мастерских, он спрашивает чуть слышно у Огинского: — Вы, кажется, работали над созданием пластичных взрывчатых веществ, Михаил Александрович? Удалось вам что-нибудь? — Да, кое-что. — Нам бы это очень пригодилось. Сообразительный Азаров, слышавший их разговор, интересуется: — А что входит в состав пластичного вэвэ? — Многое, — неопределенно произносит Огинский, но на всякий случай уточняет: — Гексоген, например. — В чистом виде? — Да, желательно в чистом. Доктор Штрейт уже ожидает их в монтажном отделении мастерской. С ним вместе какой-то тощий немецкий офицер. — Вот познакомьтесь, — кивает на него Штрейт. — Это наш минометчик, лейтенант Менцель. — Каков калибр вашего миномета? — спрашивает его Огинский. — Восемьдесят миллиметров. Подойдет такой? — Подойдет. — Вот и хорошо, — довольно потирает руки доктор Штрейт. — Тогда мы сразу же и приступим. У нас уже есть минные поля, установленные вашими офицерами. — Боюсь, что они не годятся, — замечает Огинский. — Не годятся? — настороженно переспрашивает Штрейт. — Вы думаете, что они не очень добросовестно установлены? — Нет, этого я как раз не думаю, — спокойно возражает Огинский, — но дело в том, что офицеры, которые устанавливали их, попали в плен еще в сорок первом году, а за это время… — О, да, да! — оживленно перебивает его доктор. — Вы совершенно правы. За это время техника минирования изменилась, да? Но как же быть? — А очень просто. Подполковник Бурсов один из лучших специалистов по этой части. Он займется с пленными офицерами, и они освоят новую технику минирования. — Маленькие курсы, да? — смеется доктор Штрейт. — А на какое время? На пять — шесть месяцев? — Ну, зачем же такой огромный срок! — смеется и Огинский. — Товарищ подполковник, сколько вам на это потребуется? — Три — четыре дня. — Ну, это другое дело, — удовлетворенно замечает Штрейт. — Я сегодня же попрошу капитана Фогта создать такую учебную команду. Но это для установки мин, а само их оснащение? Оно ведь тоже, наверное, изменилось за это время? Тогда нужно пересмотреть все имеющиеся у нас русские мины. Очевидно, многие из них устаревших образцов. — Лучше, конечно, разминировать все поля, — замечает Бурсов. — Тогда я лично осмотрю мины. Для ускорения дела хорошо бы привлечь к этому побольше людей. — Побольше? Да, конечно, лучше побольше. Хорошо, что вы подсказали мне это, а то Фогт хотел отослать куда-то часть пленных. Нужно немедленно сообщить ему, чтобы он отменил свое распоряжение. Вся первая половина дня проходит в подготовке к эксперименту. Подыскивается подходящее для этого место, колышками отмечаются границы будущих минных полей, определяется позиция минометной батареи (Штрейт категорически настоял на обстреле минных полей не одним минометом, а целой батареей). Во второй половине дня подполковник Бурсов приступает к “обучению” младших офицеров новым методам установки минных полей. Для этого приходится сначала заняться разминированием ими же установленных полей, так как мин последнего образца явно не хватает. Хотя подполковнику Бурсову хорошо известно, что практически советские инженерные мины, выпущенные в последние годы, не претерпели значительных изменений в сравнении с довоенными, он требует, чтобы на установку экспериментального поля пошли только мины последнего выпуска На это уходит вся вторая половина дня. В результате оказывается, что новых мин для установки экспериментального поля явно недостаточно. Об этом докладывается доктору Штрейту, который сразу же уходит к Фогту. Капитану не очень хочется добывать где-то мины нового образца, и он пытается уговорить Штрейта производить опыты со старыми. Но педантичный доктор твердо стоит на своем, и Фогту приходится откомандировать на склад военно-инженерного имущества, находящегося на соседней станции, одного из своих помощников. Огинский занимается теперь главным образом рецептурой бризантного взрывчатого вещества. А немецкие минометчики под руководством лейтенанта Менцеля разряжают свои мины с тем, чтобы заполнить их затем той взрывчаткой, которую приготовит Огинский. Бурсов со своей командой работает все время под наблюдением унтер-фельдфебеля Крауза и двух автоматчиков. Во время одного из “перекуров” он ложится на землю неподалеку от Нефедова и шепчет ему: — Нам нужен гексоген. Каковы возможности раздобыть его? Майор долго думает, вспоминая взрывчатые вещества, с которыми ему приходится иметь дело при изготовлении немецких самодельных мин. На это идут обычно германские стандартные заряды, состоящие из тротила и мелинита. В стандартных зарядах союзников Германии тоже в основном тротил, аммотол, тэн. Только в итальянских подрывных шашках “Тритолите” содержится смесь тротила с гексогеном, а в “Пентролите” сплав гексогена с тэном. — А гексоген нужен в чистом виде? — спрашивает Нефедов. — Да, желательно. — Тогда его можно извлечь только из нашего детонирующего шнура. А немцы применяют его лишь в кумулятивных зарядах, да и то в смеси с тротилом. — Ну хорошо, мы подумаем над этим. — А что еще понадобится? Может быть, капсюли-детонаторы? — Да, было бы неплохо. Поздним вечером, когда Бурсов ложится на нары рядом с Огинским, он сообщает майору о своем разговоре с Нефедовым. — Ну ничего, — успокаивает его Огинский, — гексоген попытаюсь раздобыть я. Предложу завтра Штрейту начинять им минометные мины, предназначенные для обстрела минных полей. — А что еще, кроме гексогена, понадобится для изготовления пластичного вэвэ? — Нужны будут еще и специальные пластификаторы. С этим, пожалуй, будет труднее.7. АЗАРОВ ИДЕТ НА РИСК
Вот уже пятый день в поле и в минных мастерских спецлагеря советских военнопленных идет работа по подготовке к эксперименту майора Огинского. Сам капитан Фогт приходит понаблюдать за деятельностью военнопленных. И хотя у него нет оснований упрекнуть их в нерадивости, он не упускает случая предупредить: — Как только я буду замечайт, что кто-то из вас шаляй-валяй, тот сразу будет вылетайт из мой лагер. Нет, не на волю, а в совсем другой место. Об этом я считаю своя долгом предупреждайт вас. Унтер-фельдфебель Крауз теперь буквально не сводит с них глаз. Даже пить перестал. Во всяком случае, не заметно, чтобы он прикладывался к своей фляге во время коротких перерывов. Однако, несмотря на это, Нефедов, а особенно более ловкий и удачливый Азаров при разминировании минных полей незаметно припрятывают несколько капсюлей-детонаторов. Этот запас пополняют они и во время установки новых полей по плану майора Огинского. Пронести же капсюли в лагерь не представляется никакой возможности. Пленных обыскивают теперь с еще большей тщательностью. Удается и Огинскому спрятать немного гексогена, который идет на начинку минометных мин, но и его невозможно доставить в лагерь. Возникает надежда, что со временем удастся раздобыть и пластификаторы, необходимые для изготовления пластичного взрывчатого вещества. У Огинского ведь теперь целая лаборатория по изготовлению взрывчатых смесей, могущих вызвать детонацию минных полей. Возвращаясь в лагерь в конце третьего дня, подполковник Бурсов обращает внимание на странную молчаливость Азарова и какую-то необычайную бледность его лица, когда он проходит осмотр у центральных ворот. Обычно он шутит при этом, пользуясь особым расположением к нему капитана Фогта и давним знакомством с эсэсовцами, охраняющими лагерь. А тут молчит, словно воды в рот набрал, и как-то странно вытягивает шею, будто хочет отделить голову от туловища. А когда они приходят наконец на территорию лагеря, он почти вбегает в барак, и не в свой блок, а к старшим офицерам. Подполковник Бурсов, вошедший почти следом за ним, видит необычную картину: Азаров в изнеможении падает на нары и у него начинается вдруг страшная рвота. — Что с вами?! — испуганно бросается к нему Бурсов, полагая, что лейтенант неожиданно заболел. А Азаров даже ответить не в состоянии, так трясет его нервная дрожь. Лишь немного успокоившись, он показывает подполковнику зажатые в кулаке три капсюля-детонатора. И Бурсов сразу же все понимает. Лейтенант пронес эти капсюли во рту, когда проходили осмотр у ворот! Но это же настоящее безумие! В капсюлях ведь капризная гремучая ртуть. Достаточно лишь чуть-чуть сплющить их алюминиевую гильзу, как произойдет взрыв. — Вы сумасшедший! Стоило бы часовому задать вам хоть один вопрос… — Этот не задал бы… Я его хорошо знаю. Он не из разговорчивых. — Но вы могли бы от страха так стиснуть зубы, что… — Более всего я боялся, что проглочу эти детонаторы… — признается Азаров. — Ну вот что, — строго произносит подполковник Бурсов. — Я запрещаю вам подобный способ переноски капсюлей в лагерь. Мало того, что себя погубите, подведете и всех остальных. Нужно придумать что-то другое… — Но что же придумаешь, товарищ подполковник? Эта сволочь Крауз — настоящая ищейка. Он все может вынюхать. Надо торопиться. — Согласен. Торопиться надо. Не надо только совершать ни глупостей, ни безумств. Обстрел минного поля начинается на следующий день. На нем присутствуют капитан Фогт и все офицеры эсэсовской охраны лагеря. Доктор Штрейт вооружается полевым артиллерийским биноклем и подает лейтенанту Менцелю команду открыть огонь. Бьют сразу все минометы его батареи. Мины рвутся в самом центре экспериментального поля, вздымая фонтаны сухой, давно не орошаемой дождем земли. В результате прямого попадания взлетают на воздух две мины, но лишь одна из них взрывается. Второй залп оказывается столь же неудачным. Стрельба продолжается еще четверть часа почти с тем же успехом. Мины по-прежнему взрываются лишь при прямых попаданиях. Доктор Штрейт подает наконец знак — прекратить обстрел. — Что-то у нас не так… — устало говорит он Огинскому. — Было бы чудом, если бы с первого же раза нам это удалось, — спокойно замечает Огинский. — Ну, а в чем же могут быть причины неуспеха? — Их более, чем достаточно. Во-первых, не найден еще состав бризантного взрывчатого вещества для минометных мин. Во-вторых, наши мины покрыты, видимо, слишком толстым слоем земли и дерна. — А что, если мы их лишь присыплем землей? — понижая голос, предлагает доктор Штрейт, и Огинский догадывается, что ему очень хочется продемонстрировать капитану Фогту хоть какой-нибудь успех. Он ведь давно уже занимается этим и, видимо, очень боится, что у Фогта может лопнуть терпение. — Ну что ж, — соглашается с его предложением Огинский. — Но это завтра. Нужно ведь успеть снять дерн и чем-то другим замаскировать минное поле под общий фон местности. — Да, да, конечно, — торопливо кивает головой Штрейт. — Только это надо бы как-нибудь… — Конечно же, господин доктор! Все будет сделано осторожно и… незаметно. Я попрошу Бурсова заняться этим лично. — Вполне полагаюсь в этом на вас, — признательно улыбается доктор Штрейт. — Учтите только, что завтра приедет к нам специальная комиссия. Рановато? Да, конечно, рановато! Но что поделаешь — капитан Фогт поторопился доложить начальству об этом эксперименте. А на другой день действительно приезжает комиссия, состоящая из полковника инженерной службы и трех эсэсовцев, один из которых штандартенфюрер, что тоже соответствует чину полковника. Но и в их присутствии повторяется почти то же самое. Теперь, правда, взрывается больше мин, но, как и вчера, главным образом лишь в результате прямых попаданий. О том, что штандартенфюрер остался очень недоволен, не составляет большого труда догадаться. Он приказывает Фогту отправить всех военнопленных в лагерь, а капитану и доктору Штрейту устраивает обстоятельный разнос. — Что же это такое, черт вас побери?! — кричит он, нервно прохаживаясь перед стоящими по команде “смирно” Фогтом и Штрейтом. — Да ведь эти русские большевики просто дурачат вас! Мы давно уже собирались прекратить вашу экстравагантную деятельность, гауптштурмфюрер Фогт. Выдумываете тут разные фокусы, чтобы от фронта увильнуть. Даю вам сроку еще две недели, и, если за это время вы не осуществите того, что так опрометчиво обещали в своем донесении генерал-полковнику Цодеру, я немедленно возвращу вас на прежнюю должность командира саперной роты танковой дивизии “Мертвая голова”… А с вами, Штрейт, — обращается он к доктору, — будет у меня разговор особый.8. НОЧНАЯ ТРЕВОГА
В это время военнопленные сидят в своих блоках, куда загнал их унтер-фельдфебель Крауз. — Представляю себе, какой разнос учиняет сейчас Фогту его начальство! — усмехается майор Горностаев. — Не злорадствуйте, — мрачно замечает ему Нефедов. — Не позже, как через полчаса, мы испытаем все это на собственных шкурах, и в гораздо худшем варианте. Через сорок минут в лагере действительно появляется капитан Фогт и приказывает Краузу выстроить всех на аппельплацу. — Мютцен аб! — командует Крауз. Военнопленные торопливо обнажают головы. Они слишком хорошо знают эту команду, хотя давно уже не слышали ее. Их примеру следуют и Бурсов с Огинским. Капитан Фогт некоторое время прогуливается перед их строем своей обычной пружинистой походкой. Внешне он совершенно спокоен. — Я имейт вам сказать вот что, — четко выговаривая каждое слово, произносит он наконец. — С завтрашний день вы все должен показать образец высокой производительность. Это значит, что все надо сделайт два раза быстрее, два раза больше, два раза лютче. Вы думайт, почему я давайт вам корошо кушайт? Я показывайт вас в списках два раза больше. Это вам есть понятно? Тогда должен быть понятно мой требований- два раза больше работа! С завтрашний день все надо делайт бегом! Это есть все! Разойдись! Все мгновенно разбегаются, один только Огинский все еще стоит на своем месте в задумчивости. К нему тотчас же подбегает унтер-фельдфебель Крауз. — Вонючий швайн! — яростно рычит он, замахиваясь на майора кулаком. — Посмей только, скотина! — решительно шагает в его сторону Огинский. На шум их голосов оборачивается не успевший еще далеко отойти Фогт. Он сразу же соображает, в чем дело, и раздраженно кричит унтер-фельдфебелю: — Опять вы за свое, Крауз! Сколько раз я вам говорил: не сметь! — Яво-оль! — недовольно бурчит Крауз. …Спать в эту ночь все ложатся мрачными, неразговорчивыми — Молчит и Огинский, но потом, успокоившись немного, спрашивает Бурсова: — Осуждаете меня? — Смертельного врага вы себе нажили, Михаил Александрович, — не отвечая на его вопрос, с тяжелым вздохом произносит Бурсов. — Но не мог же я ему позволить… — Не могли, — спокойно соглашается с ним Бурсов. — Я и не обвиняю вас. Я тоже не смог бы. А говорю об этом к тому, чтобы вы были настороже. Какую-нибудь гадость он вам непременно подстроит. Засыпают они поздно, хотя и не разговаривают больше. Но спят недолго. Просыпаются от выстрелов. Они слышатся где-то в стороне станции. Бурсов пытается выйти из барака, но Нефедов останавливает его. — Там, на вышках, пулеметы наведены на наш барак. Эсэсовцы никому не разрешат выйти отсюда. А стрельба ночью уже не в первый раз. Думаю, что это партизаны напали на станцию. — Поблизости, значит, есть партизаны? — Да, в лесу за станцией. — А от нас до станции сколько? — Не менее четырех километров. Стрельба длится около получаса. Все это время территорию лагеря полосуют прожектора. Потом все стихает. А еще через четверть часа раздается страшный взрыв, от которого даже здесь, в лагере, вздрагивает земля. Сразу становится светло как днем. — Похоже, что партизаны эшелон с бензином взорвали! — возбужденно шепчет Нефедов. Стрельба возобновляется с еще большим ожесточением. А за дверями барака слышатся резкие выкрики, похожие на команду. — Наверное, капитан Фогт решил вести своих эсэсовцев на подмогу станционному гарнизону, — решает Нефедов. — Вот когда подходящее время для побега, если бы мы были к этому готовы… И снова два сильных взрыва почти сразу же один за другим. — Ну да, конечно, это взрываются цистерны с бензином! — уже не сомневается более Нефедов. В окнах, обращенных к станции, полыхает такое зарево, что внутри барака можно разглядеть уже не только фигуры сидящих на нарах военнопленных, но и выражение их лиц. — А знаете, в честь чего этот партизанский салют? — спрашивает вдруг молчавший все это время Горностаев. Все стремительно поворачиваются к нему, торопят: — Да не тяните вы, ради бога! — Советские войска приостановили наступление немцев на Курской дуге. Мало того, сами перешли в контрнаступление! Вчера был взят Орел. Сегодня взяли Белгород. Никто не спрашивает его, откуда ему это известно. Конечно же, это сообщило английское радио. Бурсов вспоминает теперь, что Горностаев был чем-то очень взволнован сегодня. — А почему вы не рассказали нам этого раньше? — спрашивает он Горностаева. — Страшно было… — За кого? За Гитлера? — За себя! За всех нас!.. Теперь уже всё… Хребет Гитлеру окончательно сломлен. И без нас… Страшно ведь подумать, если спросят, а где же мы были? И не это, может быть, а что не предпринимали ничего… — Ну, это смотря кто, — протестует Нефедов. — Не надо за всех… — Да я и не за всех. В основном — за себя. Вы-то замышляете, наверно, что-то, шепчетесь тут о чем-то. А меня сторонитесь… Я сам, конечно, виноват. Сам поставил себя в такое положение. А теперь уже поздно… — Что — поздно? — не понимает его Бурсов. — Теперь, когда ясен исход войны, по-разному ведь можно это истолковать… Так что вы уж без меня… — Да что вы, черт бы вас побрал! — взрывается Бурсов. — Интеллигентика какого-то изображаете. Противно слушать! Да и что мы замышляем, о чем шепчемся? Вот майор Нефедов твердо мне сказал, что, если понадобится, могу на него рассчитывать. А остальные ведь тоже молчат. И хочется и колется, наверное… Я догадываюсь, конечно, что вы пакостите им тут понемножку. Мне ведь известно, какие вы мины делаете. А надо бы совсем не делать. Надо… — Надо уходить отсюда… Бежать! — решительно заканчивает за него Нефедов. — Да, бежать! — подтверждает Бурсов. — Среди погибших мы ведь не числимся. Надо, значит, числить себя среди сражающихся. И кто готов на это — вот тому моя рука! Первым протягивает ему руку Нефедов. Его примеру следуют все остальные. А за стенами барака все еще гремят выстрелы и рвутся цистерны с бензином. Хотя подслушать их разговор в таком шуме почти невозможно, Бурсов все же приказывает Нефедову осторожно выглянуть за дверь. Майор возвращается спустя несколько минут и докладывает, что у дверей барака никого нет. А часовые центральных ворот на своих местах. Теперь все окружают Бурсова. Ждут указаний, как быть дальше, что делать? — Никаких конкретных планов побега сообщить вам пока не могу, — охлаждает их Бурсов. — Все узнаете в свое время. А задание каждому из вас такое: всеми путями добывать капсюли-детонаторы и бикфордов шнур. Помогать Азарову переносить в лагерь гексоген и другую взрывчатку. Будете получать все это у майора Огинского. Взрывчатка порошкообразная, и вы сможете насыпать ее в голенища ваших сапог, и вообще всюду, куда только можно. Но понемногу, чтобы всегда можно было объяснить, что попала она туда случайно, во время работы по производству мин. А зачем эта взрывчатка, тоже узнаете в свое время.9. ЕЩЕ ОДНА ПОДЛОСТЬ СЕРДЮКА
Утром, когда офицеры идут на работу, лейтенант Азаров шепотом сообщает Бурсову: — Я сделал интересное наблюдение, товарищ подполковник. Во время ночной заварухи взобрался на чердак нашего барака. У меня специальная лазейка для этого имеется. Сижу там и вижу все как днем. Станция-то, сами знаете, как полыхала! И вот, когда помощник капитана Фогта повел взвод эсэсовцев на станцию, я приметил путь, каким они шли. Вы ведь знаете, что вокруг тут все минировано. Особенно в направлении станции. Но есть, оказывается, проход. И я теперь знаю его. Набросал даже схему. Передать ее вам? — Это очень хорошо, друг мой Азаров! — хвалит его Бурсов. — Но схема пусть будет у вас. Спрячьте только ее получше. И никому ни слова об этом. Некоторое время они идут молча, потом Бурсов спрашивает: — А почему это у Сердюка синяк под глазом? Давно он у него? — Свеженький, — усмехается Азаров. — Результат “разговора по душам” с Краузом. Вчера вечером после отбоя он у них состоялся. — А как Крауз вообще к нему относится? — Благоволит. На должность штубендинста — уборщика барака-назначил. Работенка не пыльная, и Сердюку она явно по душе. Непонятно, однако, за что он его так разукрасил. Бурсов ни о чем больше не расспрашивает Азарова, но потом, выбрав момент, когда Огинский остается с ним наедине, спрашивает его: — Видели сегодня Сердюка? Обратили внимание на фонарь под его глазом? Это дело рук Крауза. Чертовски не нравится мне это. Похоже, что снова был допрос с пристрастием. И, главное, сразу же после стычки Крауза с вами… Но тут возвращается выходивший в соседнее помещение доктор Штрейт. Он сегодня очень мрачен и раздражителен. Видно, сказывается вчерашний разговор с штандартенфюрером. — У меня такое впечатление, — хмуро говорит он Огинскому, — что вы меня дурачите. Разыгрываете комедию. — Давайте тогда прекратим ее, господин Штрейт, — спокойно предлагает ему Огинский. — Пусть капитан Фогт переводит нас с подполковником Бурсовым на другую работу. И он демонстративно отодвигает в сторону алюминиевую миску, в которой только что приготовлял взрывчатую смесь. — Но, но, — деланно смеется доктор Штрейт. — Нельзя быть таким обидчивым. У меня тоже ведь немало неприятностей. И неизвестно еще, кому будет хуже, мне или вам, если мы не добьемся успеха к пятнадцатому числу. — Но ведь вы же ученый, господин доктор, — обиженно произносит Огинский, — и должны понимать, что мы проводим, по сути дела, научное исследование, успех которого… — Да, я понимаю, я все понимаю. Но у нас ведь никакого проблеска пока. Да и был ли такой проблеск у вас, когда вы экспериментировали там у себя? — кивает он в сторону фронта. — Проблеск был, — уверенно заявляет Огинский. — Но тогда мы экспериментировали с немецкими минами, а теперь приходится испытывать русские, иной конструкции. — Это тоже понятно, но нужно все-таки поторапливаться. — А как же поторапливаться, когда недостает самого необходимого? Мне нужны для составления смесей разнообразные органические и неорганические вещества, а у нас почти ничего этого нет. До сих пор не можем достать даже такие флегматизаторы, как парафин и церезин. Приходится применять заменители, а они, сами знаете… — Ну хорошо, хорошо! — останавливает его Штрейт. — Составьте подробнейший список, сам сегодня же поеду к химикам и раздобуду все необходимое. Он действительно уезжает после обеда. Воспользовавшись этим, к концу дня в монтажную заходят Нефедов и Горностаев. Огинский торопливо насыпает в голенища их сапог измельченную в порошок взрывчатку. Горностаев просит дать ему еще и капсюли, но Огинский не разрешает ему этого: — Вы что, тоже в сапоги их положите? А потом взлетите на воздух, как только хоть один из капсюлей будет помят? Нет уж, капсюли в другой раз и то лишь в том случае, когда придумаете более оригинальный способ для их переноски. — Я могу, как Азаров, — совершенно серьезно предлагает Горностаев. — Азаров — человек, которому благоволит фортуна, — улыбается Огинский. — Ему все удается, а вы непременно перекусите их или проглотите. Едва они уходят, как в монтажной появляется капитан Фогт, хотя обычно он редко заходит сюда в конце работы. Снаружи в это время раздается команда унтер-фельдфебеля Крауза: “Раус!” — призывающая военнопленных выходить из мастерских и строиться для отправки в лагерь. — А вы задержитесь, — мрачно произносит Фогт, кивая Огинскому. — Я предупредил Крауза, чтобы он отвел команду без вас. У Огинского начинает тревожно биться сердце. Гауптштурмфюрер смотрит на него долгим, изучающим взглядом. — Так вы, значит, еврей? — произносит он наконец скорее удивленным, чем возмущенным голосом. Огинский молчит, с ужасом чувствуя, как лоб его покрывается испариной. — Хорошую же шуточку вы со мной сыграли, — не дождавшись его ответа, продолжает Фогт. Капитан говорит с ним по-немецки, нормальным человеческим языком, а не тем ломаным, похожим на издевательство над русской речью, каким он изъясняется обычно с пленными. — Мало того, что вы скрыли свою национальность, вы еще втянули меня в эту авантюру с детонацией минных полей. Почему молчите, черт вас побери? Отвечайте! А Огинский все еще не произносит ни слова, будто потерял дар речи. Но не от страха. Просто ненависть к этой скотине вдруг парализовала все его существо. Если бы речь шла только о нем, Огинском, лучшим его ответом был бы, конечно, плевок в рожу этому фашисту. — Почему скрыли свое еврейское происхождение, я вас спрашиваю? — повышает голос Фогт. — Почему числитесь по документам русским? — Потому что мой отец действительно русский, — произносит наконец Огинский, понимая, что не имеет права давать волю своим чувствам. Его судьба тесно связана ведь с судьбою его товарищей. — А мать? Мать ведь у вас еврейка! — Да, моя мать еврейка, — спокойно подтверждает Огинский, — но по законам нашей страны сын может считать своей национальностью национальность любого из своих родителей. — Законы вашей страны не распространяются на Германию! — орет взбешенный гауптштурмфюрер. — А по нашим, немецким законам вы считались бы евреем даже в том случае, если бы в вашем роду еврейкой была одна только прабабушка. Вы понимаете теперь, в какое положение ставите меня перед моим начальством? Как объясню я им, что поверил еврею? — А русским вы разве больше верите? — Не острите, черт вас побери! — гаркает Фогт и с остервенением замахивается на Огинского, но тут же беспомощно опускает руку. Потом, успокоившись немного, продолжает: — Надеюсь, вы понимаете, что будет с вами, если я отправлю вас в Освенцим? Но я не сделаю этого, а дам вам возможность завершить ваш эксперимент и даже обещаю никому не сообщать о вашей национальности. Я понимаю, у вас есть основание не верить моему обещанию, но пока я могу подкрепить его только тем, что сегодня же удалю из лагеря старшего лейтенанта Сердюка и унтер-фельдфебеля Крауза. И тогда, кроме меня, не останется тут ни одного человека, знающего, что вы еврей. Сердюка я отправлю в Майданек — это все равно, что на тот свет. А Крауза — на фронт. Это тоже почти на тот свет. Но вы должны обещать мне, что осуществите свой эксперимент не позжепятнадцатого августа. — Если доктор Штрейт привезет мне все необходимое, я надеюсь добиться успеха к этому числу, — обещает Огинский. А поздно вечером Огинский чуть слышно шепчется с Бурсовым, лежа на нарах в лагерном бараке. — А откуда же узнал Сердюк, что мать у вас еврейка? — спрашивает его Бурсов. — Мы ведь с ним земляки, и не только из одного города, но и с одной улицы, так что он мог это знать. А у Сердюка Крауз выпытал это побоями, конечно… — Ах, какой вы добренький, Михаил Александрович! — возмущается Бурсов. — Еще и оправдание ему ищете. Если Фогт действительно в Майданек его отправит — будет это для него в самый раз. — А Крауза, вы думаете, он тоже отошлет куда-нибудь? — Непременно. И, может быть, действительно на фронт. Я не удивлюсь даже, если с Краузом произойдет “несчастный случай”. Он слишком много знает о Фогте, чтобы гауптштурмфюрер не мечтал о таком случае. …Ночью они просыпаются от глухого взрыва. — Что такое? — спрашивает Бурсов. — Опять партизаны? — Едва ли, — отзывается Огинский. — Похоже, что подорвался кто-то на минном поле. Думается мне к тому же, что это сбылось ваше пророчество. Утром действительно становится известно, что унтер-фельдфебель Крауз, будучи в нетрезвом виде, подорвался ночью на минном поле. Известие это мало кого удивило, ибо все знали, что Крауз любил выпить и частенько перебирал. А подорваться на мине тоже было не мудрено, так как вокруг лагеря все заминировано. — Туда ему, собаке, и дорога, — облегченно вздыхают военнопленные. Не особенно горюют о нем и немцы. Немало и им попортил он крови.10. ЕЩЕ ОДНО РИСКОВАННОЕ ДЕЛО АЗАРОВА
Капитан Фогт теперь почти все время торчит то в монтажном отделении минных мастерских, то у минного поля во время его обстрела. В такой обстановке Огинскому и Бурсову стоит большого труда передавать своим помощникам те вещества, которые необходимы для изготовления пластичной взрывчатки. Однако, несмотря на все эти затруднения, Огинский по ночам уже составляет ее смесь. А утром Азаров незаметно забирает приготовленную им тестообразную массу, легко поддающуюся усилиям рук, и надежно прячет ее в специально сооруженном тайнике. О местонахождении его знают лишь Огинский и Бурсов. А Фогт все подстегивает Огинского и Бурсова. Он говорит теперь с ними только по-немецки, не употребляя больше того ломаного русского языка, которым так щеголял прежде. С лица его все эти дни почти не сходит озабоченное выражение. Переменился и доктор Штрейт. Кажется даже, что он еще больше похудел. — Торопитесь, торопитесь, господа, — то и дело приговаривает он, посматривая почему-то на часы. — До пятнадцатого осталось всего шесть дней. Чтобы хоть немного успокоить его, а особенно Фогта, Огинский решает посоветоваться с Бурсовым. — Надо бы создать каким-нибудь образом впечатление проблеска в наших экспериментах, — озабоченно произносит он. — Я тоже подумываю уже об этом, — соглашается с ним Бурсов. — Есть одна идея. С помощью детонирующих шнуров мы выведем капсюли-детонаторы нескольких мин на поверхность минного поля и замаскируем их. При обстреле эти капсюли должны сработать от попадания в них не только осколков, но и комьев земли. Тогда создастся впечатление, что произошла наконец детонация некоторых мин при артиллерийском обстреле. — Ну что ж, давайте попробуем, — соглашается Огинский. В тот же день они пробуют осуществить этот трюк, и он им удается. После одного из залпов минометной батареи лейтенанта Менцеля, шесть зарытых в землю инженерных мин взрываются вдруг будто сами собой. Капитан Фогт в восторге. Он одобрительно хлопает Огинского по плечу и снова переходит на русский язык: — О, вы, я вижу, есть настоящий русский молодчина! Этот первый удача должен вас окрылять. Примите мой горячий поздравлений! А лейтенант Азаров в это время получает задание от унтер-шарфюрера Шварценбаха, заменившего Крауза, произвести ремонт лагерных помещений. И в первую очередь лагерных ворот, сложенных из грубо отесанных камней, скрепленных бетоном. Они представляют собой две колонны, перекрытые в верхней части рельсами, на которых находится пулеметная площадка с навесом. У основания этой площадки к одному из рельсов прикреплен проволокой чугунный орел с широко распростертыми крыльями и свастикой в хищных когтях. С наружной стороны в колоннах ворот выкрошился цемент, образовав пустоты между неплотно прилегающими друг к другу камнями. Новый помощник коменданта лагеря возмущенно тычет в них пальцем: — Безобразие! Этот Крауз только пьянствовал и совсем не следил за порядком. Немедленно все замазать! Повторять не буду! — Слушаюсь, господин унтер-офицер. Все будет сделано! Сам займусь этим, — заверяет его лейтенант Азаров. — Я ведь был до войны техником-строителем. В его распоряжении находятся трое дневальных, но он поручает им лишь приготовить цементный раствор. Потом сам тщательно перемешивает его и с помощью двух старших лейтенантов подтаскивает к воротам лагеря. — Ну все. Теперь я сам, — говорит он им и отправляет на другую работу. А вечером, когда майор Огинский и подполковник Бурсов возвращаются в лагерь, он выбирает удобный момент и взволнованно докладывает Бурсову: — В ваше отсутствие, товарищ подполковник, я отремонтировал ворота… — Да уж я обратил внимание, что вы постарались подновить нашу тюрьму, — усмехается Бурсов, не понимая, зачем понадобилось Азарову докладывать ему об этом, да еще с таким волнением. — Еще как постарался, — самодовольно улыбается Азаров, с трудом переводя дух. — Ведь такой случай представился!.. Я в ту дыру, что была в левой колонне ворот, замуровал пластичную взрывчатку. Она у меня в ящике под раствором цемента была припасена. Теперь только понимает наконец Бурсов причину волнения Азарова. Случай действительно был редчайший, и лейтенант не мог им не воспользоваться. — А как же мы теперь капсюли к ней прикрепим? — озабоченно спрашивает он. — А их и не надо… Все уже там! — То есть как это — там? — Я ведь туда и взрыватель замедленного действия замуровал. — Какой взрыватель? — возбужденно хватает Азарова за руку Бурсов. — Немецкий, “Федер-504”. Тот, что заводится на двадцать одни сутки. — И завели?.. — Ну конечно! Потом ведь нельзя уже было бы. У Бурсова начинает кружиться голова. Кажется даже, что он не так понял лейтенанта. Получается ведь, что механизм взрывателя уже работает, и взрыв произойдет уже не в наиболее подходящее время, а только в зависимости от того, с каким делением установочного диска совмещен штифтик взрывателя. Подполковник так потрясен всем этим, что не знает даже, что еще спросить у опрометчивого лейтенанта. — Я знаю, вы меня порицаете, — тяжело дыша, продолжает Азаров. — Но ведь другого такого случая не представилось бы. А взрыватель я заранее запрятал в бурьяне у ворот. И капсюль тоже был ввернут. — Ах, Азаров, Азаров!.. — только и может выговорить Бурсов. — Но ведь я не наобум. Я рассчитал… — Ну что… что вы могли рассчитать? — уже раздраженно спрашивает Бурсов. — Кто вообще мог что-нибудь рассчитать? Известно разве кому-нибудь, когда именно сложатся наиболее выгодные обстоятельства для осуществления наших замыслов?.. — Так ведь некогда уже выжидать. Всего шесть дней осталось. Я и установил взрыватель на час ночи с четырнадцатого на пятнадцатое. За это время либо мы должны успеть, либо… — Ну ладно, что сделано, то сделано, — взяв наконец себя в руки, спокойно произносит Бурсов. — Идите к себе, а мы обсудим, как теперь быть. Ночью он сообщает об этом Огинскому и Нефедову. — А знаете, — взволнованно хватает Бурсова за руку Нефедов, — молодец этот Азаров! Теперь конец всем нашим сомнениям и раздумьям. Срок нашего побега уже назначен. Его теперь отмеряет часовой механизм замурованного Азаровым взрывателя. Нужно, значит, во что бы то ни стало успеть к этому сроку. В противном случае… Да вы и сами знаете, что будет в противном случае. — Ну, тогда решено! В соответствии с этим сроком все теперь должно быть продумано и рассчитано до мельчайших подробностей вплоть до часа ночи пятнадцатого августа. — Точность хода этого взрывателя плюс-минус один час, — уточняет Нефедов. — Он сработает, значит, в промежутке между двенадцатью и двумя часами ночи. В запасе у нас пять суток, думаю, этого должно хватить.11. И СНОВА АЗАРОВ РИСКУЕТ
Утром, едва только Бурсов открывает глаза, Нефедов сразу же наклоняется к нему и шепчет возбужденно: — А комендант наш, видно, не очень разбирается в людях. Нашел, кого старостой спецлагеря назначить! Просто не перестаю восхищаться Азаровым! Как он в такие минуты мог все предусмотреть? Ведь у ворот стоял эсэсовец и времени для размышлений было не так уж много. Ну, засунуть в дыру пластичное вэвэ — еще туда-сюда. А взрыватель? Он хоть и небольшой, но сразу же мог броситься в глаза. А потом нужно же еще рассчитать замедление и точно совместить все диски и штифтики. Похоже, что Нефедов и не спал вовсе всю эту ночь, а размышлял над почти безумной храбростью лейтенанта Азарова. — А я боюсь, что второпях он мог и не очень точно… — с тревогой замечает Бурсов. Но Нефедов поспешно перебивает его: — Нет-нет, этого вы не бойтесь! Голова у него работает с потрясающей трезвостью. Знаете, что он еще предусмотрел: день рождения Фогта! — А при чем же тут день рождения? — не понимает Бурсов. — Как — при чем? Праздновать его будет капитан Фогт. Это мы точно знаем. В прошлом году было уже такое. А раз будет праздновать — значит, перепьются почти все эсэсовцы, В прошлый раз спьяну чуть не перестрелялись даже. И будет этот день рождения как раз кстати: с четырнадцатого на пятнадцатое. После утренней поверки к Бурсову подходит сам Азаров. — Вот еще что хочу я сделать, товарищ подполковник, — шепчет он. — Казармы эсэсовские заминировать. Над ними ведь квартиры офицерского состава и даже самого Фогта. Жмутся, гады, поближе друг к другу. Считают, наверное, что так безопаснее. — А как же вы это осуществите? — спрашивает Бурсов, даже не веря, что это вообще возможно. — Все тот же счастливый случай поможет, — простодушно улыбается Азаров. — Унтер Шварценбах только что сказал мне, что и двухэтажный дом комендатуры тоже нужно отремонтировать. Он из такого же камня, что и ворота нашего лагеря. Бетон наружной части его фундамента изрядно выкрошился. Если Шварценбах не раздумает, то сегодня же, видимо, после завтрака, я займусь его ремонтом. — Да это было бы более чем счастливым случаем, — вздыхает Бурсов. — Но там придется вам действовать на глазах почти всей эсэсовской банды. Как вы с этим? — Справлюсь, — убежденно заявляет Азаров. — Трудность в другом — взрывателя замедленного действия у меня больше нет. — И как же быть? — Надо как-нибудь подбросить его мне. — Легко сказать — подбросить, надо же еще достать его сначала. — Доставать не надо. Я давно уже его припрятал. Старший лейтенант Лукошко знает где. Главное сейчас — найти способ, как подбросить его ко мне из минных мастерских. — А Лукошко работает в мастерских? — Да, на производстве самодельных мин. — Ну ладно, придумаем что-нибудь, только бы вас на этот ремонт поставили. И Азарова действительно “ставят” на этот ремонт. Он берется за дело с большим усердием. Удостаивается даже похвалы Шварценбаха. Заложить пластичную взрывчатку в центральной части фундамента комендатуры не составляет для него большого труда. Теперь только бы получить взрыватель. Работы у него и трех его помощников хватит до вечера, может быть, Бурсову удастся прислать к нему кого-нибудь. Время между тем все идет, но взрывателя никто не приносит. Это совсем нелегко, конечно. Нужен ведь повод, чтобы прийти сюда. Передать взрыватель на глазах эсэсовцев, слоняющихся тут без дела, тоже не так-то просто. И все-таки Азаров не теряет надежды. Но вот и время обеда. В лагерь придется идти или принесут что-нибудь сюда? — Обедать будете здесь, — сообщает ему Шварценбах. — И чтобы к вечеру все было готово. — Можете не сомневаться, — бодро обещает Азаров, хотя его начинают уже одолевать сомнения — удастся ли кому-нибудь за это время доставить взрыватель? Но вот у входа на территорию комендатуры показывается капитан Азбукин с двумя судками. Его останавливает часовой. Снимает крышку с судков, и похоже, что собирается сунуть в них свою грязную пятерню. “До чего дошли, сволочи! — возмущенно думает Азаров. — Даже суп готовы процеживать сквозь пальцы…” Суп очень горячий, и часовой поспешно отдергивает руку. Столпившиеся возле него эсэсовцы оглушительно хохочут — рады случайному развлечению. Улыбается и капитан Азбукин, хотя лицо его кажется Азарову очень бледным. Часовой отбирает у него котелки и кричит: — Проваливай! Потом он оборачивается к Азарову: — Эй, забирай свой жратва! Азаров поспешно хватает судки, досадуя, что не удалось принять их от самого Азбукина. Может быть, он успел бы передать ему и еще что-нибудь… Возле него собираются теперь его помощники — два старших лейтенанта и капитан. Эсэсовцы тоже расходятся на обед. Обжигая руки, капитан приподнимает крышку судков. В одном чечевичная похлебка, в другом перловая каша. Азаров достает ложку из-за голенища сапога и окунает ее в судок с похлебкой. Но что такое?.. Что там на дне?.. Неужели мясо? И вдруг он сразу соображает, в чем дело, и испуганно осматривается по сторонам. Никого из эсэсовцев не видно. Часовой тоже скрылся за домом. Азаров подает знаки своим помощникам, чтобы они прикрыли его спинами и, обжигаясь, сует руку в судок. Вынимает оттуда две подрывные толовые шашки. А где же взрыватель? Торопливо перемешивает кашу во втором судке. Ну да, конечно, он здесь! Аккуратно обернут в пергаментную бумагу. Тут же несколько капсюлей-детонаторов — для шашек, наверное. Помощники Азарова внимательно смотрят по сторонам, а лейтенант, вглядываясь в смотровое окно взрывателя, читает цифры на установочных дисках. Подполковник Бурсов все рассчитал, значит, и установил их на нужный срок. Капсюль-детонатор тоже уже вставлен в гнездо капсюля-держателя… Теперь дело за ними… Но тут капитан делает ему знак — видимо, появился кто-то из эсэсовцев. Быстро всё по карманам! И надо есть. А в судке с похлебкой теперь, как в помойке, — эсэсовец окунул свою лапу да и Азаров полоскался в нем грязными руками. А от тола вообще неизвестно, что будет с желудком, хотя тол почти не растворим в воде. Но вот один из эсэсовцев идет в их сторону, надо, значит, есть невзирая ни на что, а то подозрительным покажется- вечно голодные и вдруг не едят! Военнопленные окунают ложки в похлебку, жадно подносят их ко рту. Ужасная горечь (это от крошек тола, наверное), а надо делать вид. что чертовски вкусно. Есть действительно хочется по-настоящему. И они съедают все до капли — будь что будет! С кашей проще, в ней почти нет грязи.12. НАКАНУНЕ ПОБЕГА
Оперативную группу по подготовке к побегу возглавляет Бурсов. Кроме него, в ней еще Нефедов, Горностаев, Зотов и Азаров. Хотели включить и Огинского, но он отказался… — Какой я организатор, Иван Васильевич? И так буду делать все, что нужно. Бурсов не стал настаивать. Роли теперь распределяются следующим образом: Нефедов и Зотов подробнейшим образом разрабатывают все, что придется делать в день побега и особенно в момент атаки ворот. Горностаев отвечает за заготовку сухарей и вообще продуктов питания. На его же обязанности и добыча оружия. Из полотен стальных ножовок давно уже налажено производство ножей. Теперь нужно всячески ускорить эту работу. Отличный механик, старший лейтенант Лукошко тайком починил валявшийся в мастерской ни на что не годный парабеллум. На его ответственности теперь и подготовка коротких зажигательных трубок. Их капсюли будут всовывать в мешочки с пластичной взрывчаткой. Чиркнув затем спичечной коробкой о головку спички у среза бикфордова шнура, можно будет бросать их, как ручные гранаты. На Азарове лежит обязанность готовить к побегу блок младших офицеров. — Вполне ли уверены вы в своем блоке? — с тревогой спрашивает его Бурсов. — Еще не так давно не был уверен, — откровенно признается Азаров. — Решил даже заминировать весь свой барак. А потом, в час побега, объявил бы им: “Или вы сейчас же, без размышлений, бежите вместе со мной, или сию же минуту взлетите все к чертовой матери!” Рука моя не дрогнула бы сделать это. Но за последнее время я очень внимательно стал присматриваться к людям из моего блока, и теперь у меня нет больше никаких сомнений. Маршрут побега оперативная группа вырабатывает сообща. Несмотря на то что самое близкое расстояние до леса лежит через станцию, принимается решение бежать в противоположную сторону. Правда, нужно делать проходы в минных полях и до леса гораздо дальше, но зато местность в том направлении пересеченная, с овражками и кустарником. К тому же там нет никаких населенных пунктов. (Все это тщательно высмотрено с барачного чердака). А путь через железную дорогу опасен еще и тем, что взрывы в лагере всполошат гарнизон станции. Оттуда могут даже выслать кого-нибудь Фогту на помощь, как только поймут, в чем дело. Нефедов теперь изучает выбранный маршрут и готовит людей для разминирования его. Они должны будут первыми броситься за ворота, как только произойдет взрыв. И еще одна проблема требует решения: нужно убрать второго пулеметчика на той вышке, что в противоположном конце лагеря. Его ставят на пост только ночью, а днем всю территорию хорошо обозревает пулеметчик над входными воротами. Азаров предлагает заминировать и эту вышку, но Бурсов не разрешает пока осуществлять его план, надеется придумать менее рискованный способ. Минировать заднюю вышку придется ведь на глазах часовых, стоящих у ворот. Они дежурят по двое: один в проходе, другой вверху, у пулемета. …Буквально за день до побега в лагерь прибывает агитатор власовской армии — майор Колокольчиков. Здоровенный детина лет сорока. Шварценбах выгоняет всех на аппельплац и собирается выстроить, но власовец небрежно машет. ему рукой. — Не надо, господин унтер-офицер. Мы поговорим в более непринужденной обстановке. — И, обращаясь к пленным, предлагает: — Давайте-ка сядем тут, прямо на травке. Будет нечто вроде пикника. Офицеры переминаются с ноги на ногу, не зная, как быть. — А чего бы и не последовать хорошему совету? — вдруг озорно выкрикивает Азаров. — Садитесь, товарищи! Только вот сюда, поближе к забору, чтобы действительно на травку, а то ведь в центре все вытоптано до плотности цемента. А господину майору я сейчас табуретку принесу. Азаров торопливо убегает в барак и выносит оттуда табуретку. Все уже сидят на траве, почти у самого забора под задней пулеметной вышкой. — Прошу вас, господин майор, — опускает Азаров табуретку перед власовцем. Власовец благодарит его и садится. — Ну что ж, товарищи, — начинает он свою беседу, — давайте потолкуем по душам. Я вовсе не оговорился, назвав вас товарищами. Это не в большевистском смысле, конечно, а в смысле нашего товарищества по роду оружия. Я ведь тоже сапер. Командую инженерным батальоном у генерала Власова. Рад был бы видеть вас офицерами в моих подразделениях. Меня совершенно не интересует ваше прошлое. От вас требуется обязательное соблюдение лишь двух условий: абсолютной лояльности к германским властям и верной службы генералу Власову. Уже привыкший к не очень дружелюбному приему в лагерях военнопленных, власовец не видит тут враждебных глаз. Напротив — пленные офицеры смотрят на него с явным любопытством и даже, кажется, доброжелательством. Это ободряет его, и он продолжает: — Я мог бы, как это делают другие агитаторы, нарисовать вам бедственное положение Советской Армии, но я не буду прибегать к этим дешевым приемам. Я не политик, а солдат и потому считаю своим долгом честно сообщить вам, что обстановка на фронтах временно сложилась не в пользу Германии. Немцам пришлось оставить Орел и Белгород, но зато слишком ломаная линия фронта теперь выровнена и сокращена. А это дает возможность германскому командованию начать планирование нового грандиозного наступления, в котором вы могли бы принять участие. Могу сообщить вам также, что в этом наступлении против большевистской армии будет использована совершенно новая техника. Замолчав и оглянувшись по сторонам, будто опасаясь, что его может кто-нибудь подслушать, он произносит доверительным шепотом: — Урановые бомбы! Вы инженерные офицеры и должны знать, что это такое. Это то, в сравнении с чем даже тонны гексогена, тротила и тэна — один лишь жалкий пшик. И это главное, что должно побудить вас принять решение, а вовсе не обещание сытного питания в частях власовской армии, что, кстати, тоже немаловажно. Ну-с, так как? Все угрюмо молчат. Видимо, сообщение о новом оружии произвело на них впечатление. Никто, однако, не решается первым дать свое согласие. И вдруг раздается звонкий голос того самого лейтенанта, который так любезно принес власовцу табуретку: — Эх, была не была! Записывайте меня, господин майор! Но не думайте, что меня урановая бомба испугала, просто надоела бурда, которой нас тут кормят. — Ну, если Азаров записался, — выкрикивает еще кто-то, — то и меня тогда пишите. Я тоже не из-за хороших харчей решаюсь на это! Третьим подает голос майор Нефедов. Он встает, подходит к власовцу поближе и степенно произносит: — Эти молодые люди слишком легкомысленны, ибо, видимо, плохо себе представляют, что такое урановая бомба. А я — то знаю, что это такое! И не сомневаюсь, что ее уже создали такие великие немецкие ученые, как Альберт Эйнштейн и Макс Борн. Я ведь преподавал перед войной физику в одном из наших инженерных училищ и имею некоторое представление о цепной реакции ядер урана. Ну, в общем, для меня именно этим обстоятельством, а не сытной жратвой вопрос окончательно решен. Записывайте и меня в армию господина генерал-лейтенанта Власова. Вслед за ними записываются еще трое. Очень довольный майор обещает прислать за ними не позже чем через неделю своих уполномоченных и уезжает, обменявшись рукопожатием с завербованными. А вечером на нарах Бурсов спрашивает Нефедова: — Не переборщили ли мы? Сразу столько записалось? — Не думаю, — отвечает Нефедов. — Зато это должно успокоить наше лагерное начальство. Раз столько людей в армию Власова записалось — им трудно будет допустить даже мысль, что готовится коллективный побег. — А насчет Эйнштейна и Борна, бежавших из Германии в Америку, вы ехидно сказали, — усмехается Бурсов. — Я, правда, боялся, что он знает об их бегстве и поймет вашу издевку. — Знать-то эта скотина, может быть, и знает, но совершенно уверен, конечно, что мы этого не знаем. Они негромко посмеиваются, потом Бурсов спрашивает; — А Азаров вам ничего не докладывал? — Нет, а что? — Он действительно молодец! Пока мы этого власовца дурачили — подложил под стойки тыловой пулеметной вышки взрывчатку. Там высокая трава, к тому же он ножом подрезал землю и сунул заряд под дерн. — А каким же способом мы его взорвем? — При помощи упрощенного взрывателя. К чеке его уже подвязана бечевка. Азаров ее в траве замаскировал, оттянув от забора метров на пять. Как только стемнеет, он подтянет ее к самому бараку. На утренней поверке присутствует сегодня сам комендант — капитан Фогт. — Я есть очен рад за вас, господа, — торжественно произносит он перед их идеально выровненным строем. — Господин Колокольчиков все мне рассказал. Конечно, мне вас жалко отпускайт. Вы короший специалисты. Особенно мне жалостно расставайтся с господином Азаровым. Он есть очен храбрый человейк и короший старшина. Я такой больше не найти. И это есть мой очен большой печаль. А теперь все дружно на работа! — Надо, пожалуй, сделать ему подарок, — шепчет Бурсов Огинскому по дороге к минной мастерской, — у него ведь сегодня день рождения. — Что вы имеете в виду под подарком? — Порадуем его взрывом сразу десяти мин. Это окончательно успокоит его за свою судьбу и вдохновит на лишний тост во время вечернего пиршества.13. ВСЕ ЛЕТИТ К ЧЕРТУ!.
Вот и вечер четырнадцатого августа сорок третьего года. Старшина лагеря Азаров, как обычно, проводит вечернюю поверку в присутствии Шварценбаха. Для всех она, однако, полна особого значения. Это ведь их последняя поверка в спецлагере гауптштурмфюрера Фогта. Удастся побег или не удастся, но выстраиваться тут больше не придется — отступить от своего замысла они уже не могут. Часовые механизмы взрывателей замедленного действия, замурованные лейтенантом Азаровым, уже отсчитывают последние сто восемьдесят минут до того, как сработает боевая пружина и пошлет ударник в капсюль-воспламенитель. Все ждут теперь команды: “Разойдись!” Но прежде чем она раздается, унтер-шарфюрер Шварценбах произносит: — Подполковник Бурсов и майор Огинский, выйдите из строя! Вы пойдете со мной к капитану Фогту. Остальные могут разойтись. — Разойдись! — зычно командует Азаров. Бурсов незаметно подходит к Нефедову и взволнованно шепчет: — Вы остаетесь за меня. Что бы с нами ни произошло — все должно быть осуществлено строго по задуманному плану. Их сразу же уводит Шварценбах, а остальные разбредаются по блокам. Нефедов лишь на несколько мгновений задерживается возле Азарова. — Я остаюсь за Бурсова, — шепчет он. — Всем быть наготове. Вторую вышку взрывайте сразу же, как только взорвется первая, не ожидая никаких приказаний. Остальное в соответствии с выработанным планом. Познакомьте с ним свой блок. И он уходит к себе, оставив Азарова с беспокойными мыслями о судьбе Бурсова и Огинского. В блоке старших офицеров его сразу же обступают тесным кольцом. Сыплются тревожные вопросы: — Зачем это их?.. Что могло случиться?.. Не догадались ли?.. — Не думаю, чтобы могло быть что-нибудь серьезное, — успокаивает их Нефедов, хотя и у него самого тревожно бьется сердце. — Во всяком случае, не похоже, чтобы догадались. Тогда бы всех нас… Но что бы там ни случилось с ними, помочь им мы, к сожалению, не можем, а замысел наш будем осуществлять строго по плану, который я вам сейчас сообщу. Таков приказ подполковника Бурсова. …Уже одиннадцать, а о Бурсове и Огинском все еще ничего не известно. В блоке старших офицеров никто не только не спит, но и не ложится на нары. Нервы у всех напряжены до предела. Нефедов почти не отходит от двери, смотрит сквозь щель на освещенный луной лагерь. — Черт бы ее побрал, эту луну! — уже в который раз поносит он ночное светило. — Как будто нам прожекторов мало… А прожектора, установленные по углам забора и освещающие лишь его проволоку с частым пунктиром нанизанных на нее колючек, превращают лагерную территорию в огромный ринг. Он пуст пока, но скоро произойдет на нем такой бой, от которого содрогнутся и земля и небо. Входные ворота хотя и не освещены прожекторами, но в лунном свете Нефедов хорошо видит пулеметную площадку над ними, шагающего по ней часового в тупорогой каске и задранное в небо длинное рыльце пулемета на раскоряченной треноге. Второй часовой ходит внизу, с наружной стороны, и его сутуловатый силуэт лишь изредка появляется в просвете ворот, зарешеченных колючей проволокой. Через каждые полчаса Нефедов переговаривается с Азаровым условным стуком в стенку, за которой находится блок младших офицеров. У них по-прежнему все в порядке. Они готовы и ждут лишь взрыва входных ворот, для того чтобы действовать. “А что, если взрыва не будет?.. — не покидает Нефедова тревожная мысль. — Что, если взорвется только эсэсовская комендатура, а этот взрыватель откажет?..” Нет, не должно этого быть! Ну, а если?.. Нужно же быть готовым и к этому. Эх, был бы тут сейчас Бурсов!.. Но его нет, и надо решать самому. И Нефедов решает: если спустя несколько минут после взрыва комендатуры лагерные ворота не взлетят на воздух, он подает команду Азарову — взрывать заднюю пулеметную площадку. А блок Нефедова сразу же атакует входные ворота. Приняв такое решение, он сообщает его остальным офицерам и азбукой Морзе выстукивает приказ Азарову. Но что же все-таки с Бурсовым и Огинским? Скорее всего, они приглашены на день рождения Фогта. Видно, он хочет задобрить их, чтобы завтра они не подвели его при обстреле минного поля в присутствии штандартенфюрера. Но ведь в таком случае они в офицерском помещении под комендатурой, которая вот-вот должна взлететь на воздух? Нефедов торопливо вытирает пот, невольно выступивший на лбу. А времени уже без четверти двенадцать. При точности хода немецкого двадцатиодносуточного взрывателя плюс-минус один час нужно, значит, ожидать взрыва с минуты на минуту… А Бурсов с Огинским в это время действительно сидят с эсэсовскими офицерами за столом, но не в их клубе над комендатурой, а во дворе, под акациями, — вечер ведь нестерпимо душный и пировать в закрытом помещении просто немыслимо. Гости капитана уже изрядно захмелели, и это дает возможность Бурсову и Огинскому незаметно наливать в свои рюмки вместо коньяка фруктовую воду. У капитана сегодня, кроме его сослуживцев, еще один гость — штурмбанфюрер из той танковой дивизии, в которой и сам Фогт служил когда-то. На рукаве его мундира нашивка “SS Division “Totenkopf”. Он прямо с фронта. Заехал к старому приятелю по пути в отпуск. Сначала хвастается своими ратными подвигами, а потом как-то вдруг скисает и пьет молча, с очень злым выражением лица. Но и Бурсову с Огинским не веселее. И не столько потому, что приходится сидеть с этими эсэсовцами, а потому, что расположились эсэсовцы под акациями, метрах в ста от комендатуры, а не в клубе над комендатурой, которая должна скоро взлететь на воздух. Да и уходить отсюда нужно поскорее. Если комендатура взорвется, эсэсовцы сразу же сообразят, чьих рук это дело. Дважды Бурсов просил Фогта отпустить их — завтра ведь ответственный день, но захмелевший капитан лишь легкомысленно машет рукой: — К черту завтрашний день! Я не боюсь завтрашнего дня! Давайте лучше выпьем за наш завтрашний день! Мы скоро дадим нашему фюреру могучее оружие против русских минных полей, на которых танковый батальон моего друга потерял так много машин… Но тут захмелевший штурмбанфюрер вскакивает вдруг и изо всех сил грохает кулаком по столу: — Какое еще оружие, черт побери? Против каких полей? Нас гонят по всему фронту… Русские давно уже захватили Богодухов, подошли к Ахтырке, перерезали железную дорогу Харьков — Полтава, охватили Харьков с запада… Мой батальон потерял почти все танки, и я не в отпуск еду, черт все побери, а на переформирование! И думать нам надо не над уничтожением русских минных полей, а над усилением своих собственных. Теперь пойдет уже не та война! Теперь будем главным образом драпать! А вы готовьтесь сматываться отсюда. Фронт уже близок!.. Он говорит, вернее, выкрикивает еще что-то, но Фогт поспешно выводит Бурсова с Огинским из-за стола и подзывает дежурного эсэсовца: — Отведите их в лагерь! Им надо хорошенько выспаться к завтрашнему дню. Спокойной ночи, господа! Надеюсь, вы не подведете меня завтра? А времени уже около двенадцати. Скорее бы вел их этот эсэсовец в лагерь, а он не торопится. Вызывает еще кого-то и посылает вперед, сам идет сзади. Движутся не спеша, а время бежит!.. Но вот наконец и лагерь. В нем все спокойно. Старший из эсэсовцев сдает их часовому у ворот, и тот разрешает идти в свой блок. Их появление в блоке вызывает такой громкий вздох облегчения, что его слышат, наверное, даже младшие офицеры. И почти тотчас же раздается глухой раскатистый удар. Все вздрагивают и устремляются к двери. — Спокойно, товарищи! — останавливает их Бурсов. — Это всего лишь гром. И это очень хорошо. Теперь бы еще хорошего дождя! Он загнал бы эсэсовцев в их клуб над. комендатурой. И он торопливо рассказывает товарищам все, что произошло с ними у капитана Фогта. А гром снова сотрясает барачное здание и гремит теперь все чаще и яростней. Луны уже не видно. Все погружается во тьму… — Сколько же времени? — спрашивает Бурсов. У Нефедова часы со светящимся циферблатом. (Ему чудом удалось уберечь их от эсэсовцев.) Часовая стрелка перевалила уже за двенадцать, минутная стоит на цифре “три”, значит, четверть первого. И тут на черепичную крышу барака сразу же обрушивается ливень, будто кто-то открыл над нею клапан гигантской цистерны. Грохот такой, что офицеры начинают опасаться, услышат ли они взрыв… Но взрыв гремит вскоре хоть и далеко, но так мощно, что в бараке начинают вибрировать не только стекла, но и стены. Это ненавистная эсэсовская комендатура взлетела наконец ко всем чертям! Перепуганные часовые сразу же открывают беспорядочную стрельбу неизвестно по кому. Несколько пуль дробят черепицу барачной крыши. — Будем действовать? — кричит Нефедов в самое ухо Бурсову. — Подавайте сигнал Азарову! Нефедов стучит чем-то тяжелым в стенку перегородки. И почти тотчас же грохает взрывчатка Азарова под пулеметной вышкой позади барака. Она разрывает и кабель, подающий энергию прожекторам. Все сразу же погружается в непроглядную тьму. По команде Бурсова старшие офицеры распахивают дверь своего блока и стремительно бегут к воротам лагеря. Над их головами свистят трассирующие пули, но в шуме ливня они не слышат их, видят только пронизывающий лавину дождя огненный пунктир. А когда до ворот остается всего пять метров, атакующих ослепляет пламя взрыва. Это срабатывает наконец мина замедленного действия, установленная Азаровым. — Добить часовых, если еще живы! — кричит Бурсов. Тем временем к ним подбегает команда Азарова. Лейтенант докладывает: — Захвачен ручной пулемет и автомат! — А у нас только два автомата! — сообщает Нефедов. — Пулемет безнадежно поврежден. — Кто должен разминировать проходы? — спрашивает Бурсов. — Отделение капитана Азбукина, — докладывает майор Нефедов. — Быстро разберитесь по группам! — приказывает подполковник. Все офицеры уже заранее разбиты на четыре группы. Во главе их стоят майоры. Они быстро разбирают своих людей и ведут к проходам в минных полях. — А где же Азаров? — спрашивает Бурсов. — Азаров и еще двое из нашего отряда побежали к мастерским, — докладывает капитан Зотов. “Ах, Азаров, Азаров!.. — вздыхает подполковник. — Опять что-то придумал…” А в стороне эсэсовской комендатуры сквозь густую пелену дождя мутно полыхает пламя пожара. Слышатся глухие, беспорядочные выстрелы, заглушаемые раскатами грома. У разминированного прохода капитан Азбукин докладывает: — Часть мин уже снята. По одному можно идти. Потом этими же минами мы снова закроем проход. — Разобраться по одному! — командует Бурсов и приказывает капитану Азбукину: — Обязательно дождитесь Азарова. Идут почти в сплошной темноте, держась друг за друга. Ноги скользят по мокрой траве, проваливаются в лунки от снятых мин. Вспышки молний изредка озаряют стоящих вдоль проделанного прохода офицеров, снимавших мины. Преодолев минное поле, Бурсов с Нефедовым пересчитывают людей и направляют их в лощину. Появляется наконец и Азаров с двумя старшими лейтенантами. — Примите трофеи, товарищ подполковник! — докладывает он Бурсову, с трудом переводя дыхание. — Десять гранат, тридцать толовых шашек с капсюлями-детонаторами, бикфордов и детонирующий шнуры, взрыватели и кое-какая мелочь. Мы все это присмотрели, а кое-что и подготовили еще днем. А вот вам и компас. Надо бы отчитать лейтенанта за самовольство, но подполковник лишь крепко жмет ему руку. Спустя несколько минут весь отряд Бурсова собирается в овраге. Подполковник разрешает пятиминутный отдых, для того чтобы распределить оружие, гранаты, взрывчатку и перевязать тех, кто получил ранение при взрыве лагерных ворот. Потом он ориентируется по светящемуся северному концу магнитной стрелки, совмещенной со светлым треугольником на лимбе компаса и, впервые вздохнув всей грудью, подает команду. — Вперед! Чтобы выйти к лесу, им предстоит преодолеть до рассвета не менее пятнадцати километров. И они идут под проливным дождем, почти не чувствуя усталости, счастливые, что не просто тайком бежали из плена, а вырвались из него с боем, использовав для этого всю грозную силу взрывных средств своего военно-инженерного искусства.Арк Локерман Новый способ ловить медведей
 Пора белых ночей кончилась. Три месяца не заходило солнце, и мы жили, не считаясь со временем: когда устал, тогда и ночь. Теперь надо было вновь привыкать поглядывать на часы, успевать до темноты. Вот и сегодня…
Мы изо всех сил наваливались на весла. Сжатый скалами Ямбукан стремительно нес нашу лодку, но сумерки сгущались еще быстрее, и, как назло, подул ветер, нагнал туман. Видно стало всего шагов на десять, а где-то впереди, мы это знали, реку перегородил порог. Продолжать путь было опасно.
— У-юй, совсем плохой порог! Кричи — не слышу! Маленько плошал — утоп будешь! — лицом и телом изобразив испуг, предупредил нас старик эвенк, единственный человек, которого мы увидели за весь путь по этой реке.
До порога, по нашим далеко не точным подсчетам, оставалось лишь несколько километров. Как быть?
Решать полагалось мне, но нас всего трое, и обычно соблюдался принцип единогласия.
— Проскочим, не в первый раз, — уверенно сказал Борис, откинув капюшон плаща, — и через час, представляете, закурим, устроим царский ужин!
Он выразительно чмокнул и даже перестал грести. Мысленно он уже был там, ниже порога, в поселке, забыв про мрак и вполне реальную возможность утонуть, вообще не поужинав.
Вид у Бориса солидный, в основном за счет бороды, но в геологических партиях по этому признаку почти безошибочно определишь студента на первой практике.
— Груз тяжеловат, — сиплым тенорком, словно извиняясь, сказал Феопалыч.
— Напрасно это вы, Феофан Павлович! — Борис выразил свое неудовольствие тем, что подменил обычное “Феопалыч” официальным именем и отчеством.
Единогласия явно не получалось.
Мы не ели с утра и не курили с позавчера. Тошно было при мысли, что предстоит ждать до утра, подтянув пояс, потому что весь резерв — две горсти позеленевшей сушеной картошки да кусочек чаю на ползаварки.
Мне хотелось присоединиться к Борису, рискнуть, сыграть, как говорится, втемную. Наверно, старик загнул и не так уж страшен этот его порог! Но я понимал, что Феопалыч, опытный таежник, тревожится не напрасно — лодка сидела низко, всего на ладонь над черной водой. Продукты кончились, но прибавились хорошие трофеи: медно-никелевая руда и прозрачные кристаллы кальцита, чудесное свойство которых — раздваивать световой луч — придает им такую ценность.
На будущий год мы вернемся туда, к этим чудесам, если только не оплошаем на пороге.
Было темно, холодно, противно. Оставалось только шутить.
— Когда мы уезжали, наш главный инженер уже висел на ниточке, за перевыполнение по несчастным случаям. И все из-за тех, кто торопится… Так будем гуманны, у него семья! — Я звучно глотнул, прощаясь с царским ужином.
Борис пробормотал что-то и нахлобучил капюшон. Феопалыч круто повернул кормовое весло, и мы пошли вдоль правого берега, присматривая место для ночлега. Найти его оказалось нелегко. После недавних дождей Ямбукан вздулся, затопил отмели. Плыли по ущелью, сквозь клочья тумана и синие тени. Когда, выгребая, откинешься, мелькнет иногда чуть видная щетина леса над скалами и небо в розоватых отсветах, а потом снова все проглотит туман.
— Давай! — крикнул Феопалыч.
Борис — он уже стоял наготове — прыгнул и захлестнул веревку за камень. Вода сердито вспенилась, и лодку прижало к берегу.
Как хорошо после долгого дня наконец-то размяться, почувствовать под ногами земную твердь! Даже если она представляет нагромождение валунов у подножия базальтовой скалы, разделенной трещинами на стройные колонны.
— Давай подальше, к самой воде. — Я с сомнением всматривался в шестигранное великолепие колонн, еле различимое во мраке, — конечно, тут трудилась природа, а не какой-нибудь тяп-ляп-стройтрест, рухнуть не должно, но все-таки!
Мы быстро вытащили из лодки все необходимое, в том числе и предусмотрительно захваченную с собой вязанку сухих дров.
Огляделись при свете костра. Все в порядке — скала надежна, нависающих архитектурных излишеств над колоннами нет. Лодку натащили на камни и крепко привязали. Пока устанавливали палатку, вода в ведре над костром, бормоча и пенясь, уговорила сушеную картошку без канители превратиться в блюдо, которое мы почему-то называли рагу. Оно попахивало дымком и было таким горячим, что даже показалось вкусным.
А потом мы возлежали у костра, неторопливо попивая чай. Туман растаял, река поблескивала, как ледяная.
Когда чайник уже был пуст, вдали над хребтом Черского вынырнул и засветил золотистый диск. Не верилось, что это луна — такой он был огромный.
Возле костра тепло, уютно, как будто снова солнце…
— Красотища-то какая! Не пожалею последнюю пленку. — Борис открыл фотоаппарат, долго примеривался и вслух соображал насчет выдержки и чувствительности цветной пленки.
— Хорошо, что эту ночь мы проводим здесь, а не в какой-нибудь там избе, — вдруг решил он.
Я кивнул, стало даже как-то грустно при мысли, что завтра начнется новое — катер, самолет, а это все останется только в воспоминаниях.
Внезапно уют был нарушен. Поблизости от нас упал камень. Странно упал, довольно далеко от скалы, будто брошенный кем-то.
Мы переглянулись. Феопалыч встал, отошел от костра, всматриваясь вверх, в темноту.
— Хозяин это! Проведать пришел, слышите… хоркает!
Я ничего не слышал — должно быть, шум реки мешал. Борис взялся за ружье, сменил в обоих стволах утиную дробь на жаканы.
Феопалыч предостерегающе поднял руку:
— Не вздумай, нам отсель его не достать!
— А ему нас? — благодушно поинтересовался я, чувствуя себя вполне надежно в обществе охотника-профессионала.
— Когда он вот так, как сейчас — хор-хор, — это он любопытствует. Все ему знать надо, недаром его ревизором зовут. Когда злится — пыхтит или ревет глухо так, сипло. Ну, а уж коли что замышляет, тогда его не услышишь, он даже гурана скрадывает, а тот уж такой чуткой. Сейчас он — хор-хор, — не таится, значит!
— А в постоянстве его намерений можно быть уверенным? — снова поинтересовался я.
— Лето было урожайное, и ягода и орех, — он сейчас сытый, смирный. На человека, случается, только шатун нападает, который за лето не отъелся, берлоги себе не припас, — Феопалыч пристально посмотрел вверх.
Борис разгреб костер. Он вспыхнул с новой силой. Стало видно, что крайняя, чуть нависающая над обрывом лиственница сильно раскачивается.
— Балует! — благодушно сказал Феопалыч. — Последние денечки догуливает, скоро в берлогу ляжет, еще по черностопу, а если какой замешкается — снег выпадет, — тогда комедь на него смотреть. Прыжки саженные делает через кусты, через бурелом! Целый день, как заяц, петляет, прыгает, запутывает след — берлогу скрыть хочет, а когда…
Феопалыч не договорил. Снова упал камень, и хорканье стало отчетливо слышно. Должно быть, склонился над краем скалы любопытный лесной хозяин.
— Пужнуть его надо, а то покою не даст!
— Выстрелить? — Борис вскочил. Ему очень хотелось поохотиться на такую дичь; за все лето ни разу не удалось: то времени не было, то не было медведя, а теперь есть и то и другое!
— Не достать его, к чему патроны тратить! — Феопалыч выхватил из костра пылающее полено, побежал вдоль скалы, размахивая им, крича: — О-го-го! Я тебя!..
Следом за ним разлетались искры. “Го-го-го!..” — повторяло эхо.
Раздался треск, посыпались камни.
Феопалыч бросил зачадившее полено в костер, оно вспыхнуло снова. Пока догорали дрова, мы сидели прислушиваясь, а потом ушли в палатку, залезли в спальные мешки, сверху прикрылись ватниками и плащами — под утро, когда камни станут седыми от инея, жарко не будет. Оба наши ружья повесили на стойку у выхода из палатки.
Было тихо-тихо.
— Можно ночевать, теперь, поди, не вернется, — решил Феопалыч. Помолчав, он добавил: — Бык это был!
— Какой бык? — переспросил Борис, зевая.
— Ну самец то есть. Один он. Самка, та со всем семейством ходит, сама третья. А вот запрошлый год я на такую семейку невзначай натолкнулся: сама, бык ейный, два маленьких да два пестуна — прошлогодние ее, лончаки по-нашему. Что, думаю, делать? Молодь мне непременно нужно живой взять; их для зоопарков берут и платят подходяще…
Глаза слипались, и я не услышал конца неторопливого рассказа.
Жюль Верн утверждал, что настоящий путешественник тот, чей желудок сжимается и расширяется смотря по обстоятельствам, чьи ноги укорачиваются и удлиняются смотря по длине случайного ложа, на котором он может в любой час дня заснуть и в любой час ночи проснуться.
К сожалению, я не полностью отвечаю этим требованиям. Заснуть в любой обстановке могу, а вот насчет того, чтобы проснуться, — дело хуже, даже будильник не всегда помогает. Да что будильник! В эту ночь не одолел моей сонливости и более громкий сигнал. Проспал я происшествие, вероятно единственное в своем роде! Верней, не совсем проспал, но не понял, где сон, где явь.
Помню оглушительный вой, как сирена, и сразу треск, будто лодка в щепки о камни порога. Что-то холодное меня накрыло, мешало дышать, но окончательно разбудил грохот выстрелов.
Кое-как, путаясь в брезенте рухнувшей палатки, я прополз к выходу. Нащупал прорезь, высунул голову — и все во мне сжалось!
Медведь! В двух шагах его оскаленная морда. Но рядом стоял кто-то, я увидел только босые ноги. Это помогло мне сообразить, что медведь уже не медведь! Он лежал, мертво уткнувшись мордой в камни, безжизненно раскинув передние лапы с огромными когтями.
Я поспешно перевел взгляд выше и увидел побелевшее лицо Бориса. Он был как застывший, с ружьем на изготовке. Феопалыч стоял за ним, сливаясь с серым рассветом.
Борис опустил ружье и засмеялся, глядя на сапог, который я зачем-то, должно быть для обороны, сжимал в руке. Взгляд у него какой-то блуждающий, смех деревянный.
Феопалыч сказал, словно извиняясь:
— Погорячились мы, в упор палили, только шкуру испортили, а все по глупости, с перепугу. Он и без этого был готов!
Из рваных ран, возле уха и под лопаткой, сочилась по лохматой шкуре черная кровь, ручейками ползла по камням.
Я не понял, почему это медведь и без стрельбы оказался “готов”, сказал:
— Вот и верь: сытый, смирный, а как напал!
— Кто напал? Да он и не думал нападать! Пошутить, наверно, хотел!
— Хороши шуточки!
Видя, что я еще не вполне пришел в себя и соображаю туго, Феопалыч объяснил, что под утро медведь пришел опять и начал развлекаться — палки со скалы бросал, камни.
— Решили встать, пугануть его еще раз. Вас тоже будили, но где там! Ну, значит…
— Только из палатки вышли, — перебил его Борис, — рев такой — мороз по коже! — Борис на мгновение зажмурил глаза, зажал ладонями уши. — И сразу бревно — хрясь! Медведь — бух! Ну и мы тут — бах, бах!
— Пошутить он, наверно, хотел, — повторил Феопалыч, — притащил бревно, видать, торчком его поставил и толкнул, да и сам не удержался, полетел следом, а может, оно его зацепило, сбросило…
Бревно, обгорелая сухая лиственница, лежало совсем рядом с палаткой, оборвав растяжки.
— Чуток правее — конец бы! — Феопалыч вдруг рассердился, покраснел и пнул поверженного шутника ногой. — Ах ты окаянный, черная немочь вонючая!..
Медведь был действительно почти черный, с проседью на хребте. Стоять возле него не очень приятно, хоть нос зажимай, но мы почему-то все смотрели, не могли отойти.
Мы вскарабкались на скалу, ходили, разглядывая следы, по плоской заболоченной вершине, среди хилого, “пьяного” леса, которому вечномерзлый грунт не дал глубоко пустить корни.
Оказалось, что медведь основательно поработал: притащил лиственницу метров за пятьдесят. От нее остался след, как от плуга.
И снова мы стояли возле медведя. Борис затачивал нож, Феопалыч — топор, но то и дело мы поглядывали вверх на скалу, словно ожидали еще какого-нибудь подарка.
Я не мог перестать думать о том, что если бы “чуток правее”… Сказал Борису:
— Советую, пока не поздно, сменить специальность!
Он посмотрел на меня очень внимательно, сдвинув брови, и ответил так:
— Если вы это всерьез, то, как говорится, помахай дяде ручкой! А если в шутку, то могу сказать, что дневник Черского я еще до поступления прочел и последнюю его запись никогда не забуду: изучение Сибири дело не легкое, и часто исследователя ждет неглубокая могила, вырытая заступом в вечной мерзлоте…
Свежинка на завтрак и сознание того, что все кончилось благополучно — медведь расфасован, а бревно горит в костре, — нас быстро развеселило.
Лодка выступала теперь над водой меньше чем на два пальца, но день не ночь, доберемся, по берегу перенесем, а трофеи не бросим!
— Сбылась мечта пижона, — сказал я Борису, — убил медведя, правда уже убившегося, но это деталь!
— Надо ж было вчера истратить последнюю пленку… Кто поверит без доказательств! — сокрушался Борис.
— Выдам справку с печатью! — пообещал я.
— Все равно, любой начнет: знаем, что охотники, что геологи!
— Да тут-то вроде и хвастаться нечем, — заметил Феопалыч, — лучше молчать! Медведей в горах иногда так промышляют: на тропку, где он часто ходит, ставят петлю, привязывают к ней чурку здоровенную. Угодит в нее хозяин, смекалки высвободить лапу не хватает, так он до чурки доберется и давай на ней зло срывать. Поднимет, бросит, а она его за собой… Он в рев, аж пена клочьями! Подтащит чурку куда-нибудь к обрыву и швырнет! Ну и сам, будь здоров, следом летит… Так охотничают, это верно, а вот чтобы себя как приманку подставлять — это мы, наверно, первые. Выходит, новый способ открыли. Только лучше про него не рассказывать. Засмеют!
— Разве утерпишь! — Борис безнадежно махнул рукой.
Конечно, быть открывателем нового очень приятно, но ловить медведей таким способом больше не хотелось. С тех пор никто в нашей экспедиции ни при каких обстоятельствах не останавливался на ночлег под скалами.
Пора белых ночей кончилась. Три месяца не заходило солнце, и мы жили, не считаясь со временем: когда устал, тогда и ночь. Теперь надо было вновь привыкать поглядывать на часы, успевать до темноты. Вот и сегодня…
Мы изо всех сил наваливались на весла. Сжатый скалами Ямбукан стремительно нес нашу лодку, но сумерки сгущались еще быстрее, и, как назло, подул ветер, нагнал туман. Видно стало всего шагов на десять, а где-то впереди, мы это знали, реку перегородил порог. Продолжать путь было опасно.
— У-юй, совсем плохой порог! Кричи — не слышу! Маленько плошал — утоп будешь! — лицом и телом изобразив испуг, предупредил нас старик эвенк, единственный человек, которого мы увидели за весь путь по этой реке.
До порога, по нашим далеко не точным подсчетам, оставалось лишь несколько километров. Как быть?
Решать полагалось мне, но нас всего трое, и обычно соблюдался принцип единогласия.
— Проскочим, не в первый раз, — уверенно сказал Борис, откинув капюшон плаща, — и через час, представляете, закурим, устроим царский ужин!
Он выразительно чмокнул и даже перестал грести. Мысленно он уже был там, ниже порога, в поселке, забыв про мрак и вполне реальную возможность утонуть, вообще не поужинав.
Вид у Бориса солидный, в основном за счет бороды, но в геологических партиях по этому признаку почти безошибочно определишь студента на первой практике.
— Груз тяжеловат, — сиплым тенорком, словно извиняясь, сказал Феопалыч.
— Напрасно это вы, Феофан Павлович! — Борис выразил свое неудовольствие тем, что подменил обычное “Феопалыч” официальным именем и отчеством.
Единогласия явно не получалось.
Мы не ели с утра и не курили с позавчера. Тошно было при мысли, что предстоит ждать до утра, подтянув пояс, потому что весь резерв — две горсти позеленевшей сушеной картошки да кусочек чаю на ползаварки.
Мне хотелось присоединиться к Борису, рискнуть, сыграть, как говорится, втемную. Наверно, старик загнул и не так уж страшен этот его порог! Но я понимал, что Феопалыч, опытный таежник, тревожится не напрасно — лодка сидела низко, всего на ладонь над черной водой. Продукты кончились, но прибавились хорошие трофеи: медно-никелевая руда и прозрачные кристаллы кальцита, чудесное свойство которых — раздваивать световой луч — придает им такую ценность.
На будущий год мы вернемся туда, к этим чудесам, если только не оплошаем на пороге.
Было темно, холодно, противно. Оставалось только шутить.
— Когда мы уезжали, наш главный инженер уже висел на ниточке, за перевыполнение по несчастным случаям. И все из-за тех, кто торопится… Так будем гуманны, у него семья! — Я звучно глотнул, прощаясь с царским ужином.
Борис пробормотал что-то и нахлобучил капюшон. Феопалыч круто повернул кормовое весло, и мы пошли вдоль правого берега, присматривая место для ночлега. Найти его оказалось нелегко. После недавних дождей Ямбукан вздулся, затопил отмели. Плыли по ущелью, сквозь клочья тумана и синие тени. Когда, выгребая, откинешься, мелькнет иногда чуть видная щетина леса над скалами и небо в розоватых отсветах, а потом снова все проглотит туман.
— Давай! — крикнул Феопалыч.
Борис — он уже стоял наготове — прыгнул и захлестнул веревку за камень. Вода сердито вспенилась, и лодку прижало к берегу.
Как хорошо после долгого дня наконец-то размяться, почувствовать под ногами земную твердь! Даже если она представляет нагромождение валунов у подножия базальтовой скалы, разделенной трещинами на стройные колонны.
— Давай подальше, к самой воде. — Я с сомнением всматривался в шестигранное великолепие колонн, еле различимое во мраке, — конечно, тут трудилась природа, а не какой-нибудь тяп-ляп-стройтрест, рухнуть не должно, но все-таки!
Мы быстро вытащили из лодки все необходимое, в том числе и предусмотрительно захваченную с собой вязанку сухих дров.
Огляделись при свете костра. Все в порядке — скала надежна, нависающих архитектурных излишеств над колоннами нет. Лодку натащили на камни и крепко привязали. Пока устанавливали палатку, вода в ведре над костром, бормоча и пенясь, уговорила сушеную картошку без канители превратиться в блюдо, которое мы почему-то называли рагу. Оно попахивало дымком и было таким горячим, что даже показалось вкусным.
А потом мы возлежали у костра, неторопливо попивая чай. Туман растаял, река поблескивала, как ледяная.
Когда чайник уже был пуст, вдали над хребтом Черского вынырнул и засветил золотистый диск. Не верилось, что это луна — такой он был огромный.
Возле костра тепло, уютно, как будто снова солнце…
— Красотища-то какая! Не пожалею последнюю пленку. — Борис открыл фотоаппарат, долго примеривался и вслух соображал насчет выдержки и чувствительности цветной пленки.
— Хорошо, что эту ночь мы проводим здесь, а не в какой-нибудь там избе, — вдруг решил он.
Я кивнул, стало даже как-то грустно при мысли, что завтра начнется новое — катер, самолет, а это все останется только в воспоминаниях.
Внезапно уют был нарушен. Поблизости от нас упал камень. Странно упал, довольно далеко от скалы, будто брошенный кем-то.
Мы переглянулись. Феопалыч встал, отошел от костра, всматриваясь вверх, в темноту.
— Хозяин это! Проведать пришел, слышите… хоркает!
Я ничего не слышал — должно быть, шум реки мешал. Борис взялся за ружье, сменил в обоих стволах утиную дробь на жаканы.
Феопалыч предостерегающе поднял руку:
— Не вздумай, нам отсель его не достать!
— А ему нас? — благодушно поинтересовался я, чувствуя себя вполне надежно в обществе охотника-профессионала.
— Когда он вот так, как сейчас — хор-хор, — это он любопытствует. Все ему знать надо, недаром его ревизором зовут. Когда злится — пыхтит или ревет глухо так, сипло. Ну, а уж коли что замышляет, тогда его не услышишь, он даже гурана скрадывает, а тот уж такой чуткой. Сейчас он — хор-хор, — не таится, значит!
— А в постоянстве его намерений можно быть уверенным? — снова поинтересовался я.
— Лето было урожайное, и ягода и орех, — он сейчас сытый, смирный. На человека, случается, только шатун нападает, который за лето не отъелся, берлоги себе не припас, — Феопалыч пристально посмотрел вверх.
Борис разгреб костер. Он вспыхнул с новой силой. Стало видно, что крайняя, чуть нависающая над обрывом лиственница сильно раскачивается.
— Балует! — благодушно сказал Феопалыч. — Последние денечки догуливает, скоро в берлогу ляжет, еще по черностопу, а если какой замешкается — снег выпадет, — тогда комедь на него смотреть. Прыжки саженные делает через кусты, через бурелом! Целый день, как заяц, петляет, прыгает, запутывает след — берлогу скрыть хочет, а когда…
Феопалыч не договорил. Снова упал камень, и хорканье стало отчетливо слышно. Должно быть, склонился над краем скалы любопытный лесной хозяин.
— Пужнуть его надо, а то покою не даст!
— Выстрелить? — Борис вскочил. Ему очень хотелось поохотиться на такую дичь; за все лето ни разу не удалось: то времени не было, то не было медведя, а теперь есть и то и другое!
— Не достать его, к чему патроны тратить! — Феопалыч выхватил из костра пылающее полено, побежал вдоль скалы, размахивая им, крича: — О-го-го! Я тебя!..
Следом за ним разлетались искры. “Го-го-го!..” — повторяло эхо.
Раздался треск, посыпались камни.
Феопалыч бросил зачадившее полено в костер, оно вспыхнуло снова. Пока догорали дрова, мы сидели прислушиваясь, а потом ушли в палатку, залезли в спальные мешки, сверху прикрылись ватниками и плащами — под утро, когда камни станут седыми от инея, жарко не будет. Оба наши ружья повесили на стойку у выхода из палатки.
Было тихо-тихо.
— Можно ночевать, теперь, поди, не вернется, — решил Феопалыч. Помолчав, он добавил: — Бык это был!
— Какой бык? — переспросил Борис, зевая.
— Ну самец то есть. Один он. Самка, та со всем семейством ходит, сама третья. А вот запрошлый год я на такую семейку невзначай натолкнулся: сама, бык ейный, два маленьких да два пестуна — прошлогодние ее, лончаки по-нашему. Что, думаю, делать? Молодь мне непременно нужно живой взять; их для зоопарков берут и платят подходяще…
Глаза слипались, и я не услышал конца неторопливого рассказа.
Жюль Верн утверждал, что настоящий путешественник тот, чей желудок сжимается и расширяется смотря по обстоятельствам, чьи ноги укорачиваются и удлиняются смотря по длине случайного ложа, на котором он может в любой час дня заснуть и в любой час ночи проснуться.
К сожалению, я не полностью отвечаю этим требованиям. Заснуть в любой обстановке могу, а вот насчет того, чтобы проснуться, — дело хуже, даже будильник не всегда помогает. Да что будильник! В эту ночь не одолел моей сонливости и более громкий сигнал. Проспал я происшествие, вероятно единственное в своем роде! Верней, не совсем проспал, но не понял, где сон, где явь.
Помню оглушительный вой, как сирена, и сразу треск, будто лодка в щепки о камни порога. Что-то холодное меня накрыло, мешало дышать, но окончательно разбудил грохот выстрелов.
Кое-как, путаясь в брезенте рухнувшей палатки, я прополз к выходу. Нащупал прорезь, высунул голову — и все во мне сжалось!
Медведь! В двух шагах его оскаленная морда. Но рядом стоял кто-то, я увидел только босые ноги. Это помогло мне сообразить, что медведь уже не медведь! Он лежал, мертво уткнувшись мордой в камни, безжизненно раскинув передние лапы с огромными когтями.
Я поспешно перевел взгляд выше и увидел побелевшее лицо Бориса. Он был как застывший, с ружьем на изготовке. Феопалыч стоял за ним, сливаясь с серым рассветом.
Борис опустил ружье и засмеялся, глядя на сапог, который я зачем-то, должно быть для обороны, сжимал в руке. Взгляд у него какой-то блуждающий, смех деревянный.
Феопалыч сказал, словно извиняясь:
— Погорячились мы, в упор палили, только шкуру испортили, а все по глупости, с перепугу. Он и без этого был готов!
Из рваных ран, возле уха и под лопаткой, сочилась по лохматой шкуре черная кровь, ручейками ползла по камням.
Я не понял, почему это медведь и без стрельбы оказался “готов”, сказал:
— Вот и верь: сытый, смирный, а как напал!
— Кто напал? Да он и не думал нападать! Пошутить, наверно, хотел!
— Хороши шуточки!
Видя, что я еще не вполне пришел в себя и соображаю туго, Феопалыч объяснил, что под утро медведь пришел опять и начал развлекаться — палки со скалы бросал, камни.
— Решили встать, пугануть его еще раз. Вас тоже будили, но где там! Ну, значит…
— Только из палатки вышли, — перебил его Борис, — рев такой — мороз по коже! — Борис на мгновение зажмурил глаза, зажал ладонями уши. — И сразу бревно — хрясь! Медведь — бух! Ну и мы тут — бах, бах!
— Пошутить он, наверно, хотел, — повторил Феопалыч, — притащил бревно, видать, торчком его поставил и толкнул, да и сам не удержался, полетел следом, а может, оно его зацепило, сбросило…
Бревно, обгорелая сухая лиственница, лежало совсем рядом с палаткой, оборвав растяжки.
— Чуток правее — конец бы! — Феопалыч вдруг рассердился, покраснел и пнул поверженного шутника ногой. — Ах ты окаянный, черная немочь вонючая!..
Медведь был действительно почти черный, с проседью на хребте. Стоять возле него не очень приятно, хоть нос зажимай, но мы почему-то все смотрели, не могли отойти.
Мы вскарабкались на скалу, ходили, разглядывая следы, по плоской заболоченной вершине, среди хилого, “пьяного” леса, которому вечномерзлый грунт не дал глубоко пустить корни.
Оказалось, что медведь основательно поработал: притащил лиственницу метров за пятьдесят. От нее остался след, как от плуга.
И снова мы стояли возле медведя. Борис затачивал нож, Феопалыч — топор, но то и дело мы поглядывали вверх на скалу, словно ожидали еще какого-нибудь подарка.
Я не мог перестать думать о том, что если бы “чуток правее”… Сказал Борису:
— Советую, пока не поздно, сменить специальность!
Он посмотрел на меня очень внимательно, сдвинув брови, и ответил так:
— Если вы это всерьез, то, как говорится, помахай дяде ручкой! А если в шутку, то могу сказать, что дневник Черского я еще до поступления прочел и последнюю его запись никогда не забуду: изучение Сибири дело не легкое, и часто исследователя ждет неглубокая могила, вырытая заступом в вечной мерзлоте…
Свежинка на завтрак и сознание того, что все кончилось благополучно — медведь расфасован, а бревно горит в костре, — нас быстро развеселило.
Лодка выступала теперь над водой меньше чем на два пальца, но день не ночь, доберемся, по берегу перенесем, а трофеи не бросим!
— Сбылась мечта пижона, — сказал я Борису, — убил медведя, правда уже убившегося, но это деталь!
— Надо ж было вчера истратить последнюю пленку… Кто поверит без доказательств! — сокрушался Борис.
— Выдам справку с печатью! — пообещал я.
— Все равно, любой начнет: знаем, что охотники, что геологи!
— Да тут-то вроде и хвастаться нечем, — заметил Феопалыч, — лучше молчать! Медведей в горах иногда так промышляют: на тропку, где он часто ходит, ставят петлю, привязывают к ней чурку здоровенную. Угодит в нее хозяин, смекалки высвободить лапу не хватает, так он до чурки доберется и давай на ней зло срывать. Поднимет, бросит, а она его за собой… Он в рев, аж пена клочьями! Подтащит чурку куда-нибудь к обрыву и швырнет! Ну и сам, будь здоров, следом летит… Так охотничают, это верно, а вот чтобы себя как приманку подставлять — это мы, наверно, первые. Выходит, новый способ открыли. Только лучше про него не рассказывать. Засмеют!
— Разве утерпишь! — Борис безнадежно махнул рукой.
Конечно, быть открывателем нового очень приятно, но ловить медведей таким способом больше не хотелось. С тех пор никто в нашей экспедиции ни при каких обстоятельствах не останавливался на ночлег под скалами.
Арк Локерман Как медведь геолога вылечил
 — Напрасно смеетесь, точно говорю: медведь геолога вылечил! Про это у нас в Кадаре все знают, соврать не дадут, да и зачем мне врать? Я всему делу живой свидетель, даже на товарищеском суде выступал.
Петр Степанович Бодин смотрел на меня, как гипнотизер. Под седыми бровями глаза у него черные, очень выразительные. Он только что пришел из буфета, но выглядел — будто г. мороза.
Я понимал, что недоверие обижает, но не удержался, спросил:
— А как, геолог после лечения живой?
— Вам все хаханьки. — нахмурился Бодин, — а вот докторша наша, Ирина Павловна, хотя и молоденькая, но очень понимающая, говорит, что случай этот выдающийся и по науке объяснимый. Она даже в журнал написать хочет!
— А медведя себе в помощники она еще не взяла? Раз одного вылечил — может, и других сумеет. Ведь без помощи медведей что-то не у всех врачей получается!
Это была уже другая тема, просто шутка, и Бодин перестал хмуриться, даже улыбнулся.
— Медведь, пожалуй, не согласится. И уж коль лечить таким способом, то и меня надо зачислить хоть в санитары. Без меня не обошлось. Шофер на суде верно говорил, что я подстрекнул его нарушить правила уличного движения в отношении медведя.
Бодин сел на своей кровати поудобнее, откашлялся, приготовляясь начать рассказ.
Я сделал вид, что этого не заметил, повернулся на другой бок, сказал:
— Всего тридцать страниц осталось, — и уткнулся глазами в книгу.
Наступила тишина. Затем кровать скрипнула, Бодин отошел к окну, стал смотреть на аэродромное поле. Мело по-прежнему. Самолеты, выстроенные шеренгой недалеко от окон, виднелись еле-еле, как серые призраки.
Бодин — мой давний знакомый, вместе работали на Чукотке и вот, через десяток лет, столкнулись в гостинице и вместе кукуем вторые сутки в ожидании погоды. Мы уже и выпили, и вспомнили про дела давно минувших дней. Петр Степанович рассказал мне немало интересного, но, видимо, еще далеко не все, что хотел.
Он прибыл на аэродром из тайги и, конечно, меньше всего нуждался в отдыхе от людей и разговоров. У тех, кто проводит жизнь в далеких местах, когда мир месяцами ограничен палаткой или избушкой да несколькими товарищами по работе, появляется особая потребность рассказывать обо всем интересном, что довелось увидеть и пережить. Может быть, тут сказывается привычка развлекать самих себя — ни в театр, ни в гости не сходишь, батарейный приемник давно замолк, а вечера долги. Возможно, что причина более глубокая. Когда очень трудно или просто тоскливо, великой поддержкой служит мысль: люди узнают, люди не забудут. Тот, кто помнит о других, в трудные часы совсем одинок не бывает. Но когда наконец увидишь людей, то действительно очень хочется, чтобы они узнали все — и героическое, и грустное, и смешное. Испытал я это не раз и сам, да, видно, стал забывать в городских своих буднях.
Петр Степанович неподвижно стоял у окна. Мне был виден его седой, коротко остриженный затылок и могучие плечи. Ему-то уж есть о чем рассказать! Четвертый десяток лет на разведках, да еще на каких! Незаменимый человек, он не только знает до тонкости горное дело, но и все умеет сделать своими руками. Практик, но такой, что вряд ли заменят его и двое с большими дипломами!
Конечно, сейчас ему обидно — встретил хорошего знакомого, а тот только посмеивается, а теперь вот отделался, предпочел его безусловно правдивому рассказу какую-то книжонку, где одни выдумки.
Я положил книжку и постарался загладить свою бестактность. Петр Степанович человек отходчивый. Вскоре мы уже сидели рядом, и он рассказывал. Его черные глаза под седыми бровями блестели молодо. Он не сомневался в том, что я ему верю.
— Поначалу все у нас ладилось: аномалию проследили шахтой вглубь на тридцать метров по вечной мерзлоте; хотя и медленно — за полгода, а все же пробились и на жилу вышли, как по нотам. Три месяца по ней штрек гнали, любовались- вся в золоте, что купцова дочка! Поздравление от начальства получили и премию. А потом нашла черная полоса: то одно, то другое! Дожди нас совсем закарали — льет и льет, только успевай откачивать. Кончились дожди — еще хуже: жилу потеряли, как ножом срезало, а куда — не поймешь.“” Вильнули в один бок, в другой — нету!.. Пришлось проходку остановить. Геолог наш, Сергей, из-под земли почти что не вылезал, аж почернел!
Тот день, когда все приключилось, начался скверно. С вечера я подсчитал по нарядам, а утром объявил. Федька, первый у нас горлопан, заскандалил:
“Нам дела нет, что там старый черт в нарядах мухлюет, о заработок вынь да положь!”
Это он Сергею. Тот хотя и начальник, а молодой. Сергей ему: в горном деле всякое бывает, месяц на месяц не похож, а на круг прикинуть — так обижаться не на что, почти как профессор получаешь!.. Так все спокойно, твердо. Федька видит — поддержки нет, отошел, выругался, слышу, бормочет: “Подлец буду — он меня попомнит!”
Спустились в шахту. Сергей опять за свое — молотком колотит, только искры летят. Песчаник там крепкий, черный как ночь, только кое-где льдинки звездочками блестят. А он на карачках ползает, каждую трещинку изучает и на ощупь и всяко. Да что там говорить, сами знаете, как потерянные жилы ищут!
И ведь нашел! Совсем неприметная трещинка, а как расчистил — белым-бело стало от облаков кварца. Он аж затанцевал от радости, хотя там теснота, головы не поднимешь.
“Хитро, говорит, ее сдвинуло, с подворотом, но теперь она от нас не уйдет, обломки путь покажут, они как хвост кометы!..”
Стоим радуемся, потом сели, покурили. От души отлегло, а то ведь совсем впросак попали — ни плана, ни заработка.
Пошел я насчет бурения распорядиться. Всего шагов двадцать сделал, вдруг страшно крикнул Сергей, тень его метнулась, лампа загрохотала и погасла. Первой мыслью погрешил я на Федьку, а рука сама собой привычно сработала — дерг вверх за капельницу, забурлила вода в карбидке, зашипело пламя, светло стало как днем. Вижу — лежит Сергей на земле поперек штрека, а поблизости нет никого.
Еще на бегу я кровлю оглядел — от шахтерского неба любой подарок ждать можно, но нет, вижу — свод стоит крепко.
“Что?” — спрашиваю, а он только стонет, корчится. Лицо серое, как карбид, пот льдинками блестит.
Попробовал я его приподнять, посадить поудобнее — куда там, еще хуже, аж зубами заскрипел.
Сбегал я за помощью. Он, как отлежался немножко, сказал еле слышно: “Током меня!..”
А какой может быть ток, когда его тут отродясь не было!
Попробовали понести — куда там, дотронуться не дает, скрючило всего, даже на четвереньки встал, лбом да локтями в землю уперся, дрожит. Подложили под него две доски, а то ведь мерзлота не шутит, совсем заколеть можно. Подождали, может, лучше станет, да, видно, нет: ни сесть, ни лечь, места себе не находит. Простонал: “Закурить!”
Зажгли папироску, в рот вставили. Он в три затяжки до мундштука добрался, паленым запахло. Выплюнул он папиросу да как ойкнет! Даже от такого малейшего движения его опять как током стебануло.
Наш моторист сказал:
“Аппендицит это, по себе знаю, тоже током било! Ну, и при простреле бьет добре, сам испытал. Наверно, застудился он, пока жилу разыскивал. Да что толковать — хрен редьки не слаще, все одно быстрей поднимать его надо”.
Штрек у нас низкий, подступиться неловко; кое-как мы его до ствола дотащили, да это все цветочки, а как дальше быть? Это только название — разведочная шахта, а вроде колодца деревенского. Породу бадьей таскаем и сами в ней ездим — одной ногой стоишь, другой от стенок отталкиваешься. Руками за трос так держишься, что сквозь рукавицы на ладонях синие следы остаются. А он не только стоять да отталкиваться, пошевельнуться не может!
“Сергей, говорю, посадим мы тебя в бадью, привяжем, а Боря, он легкий, одной ногой станет, направлять будет”.
“Скорей только, — простонал Сергей, — лечь бы, никаких сил нет!”
Бадья узкая, а он в ватных штанах, да в брезентовых, — никак не поместишь. Пока примерялись, он от боли сознания лишился. Ртом воздух хватал, как рыба на берегу. Тогда придумали по-другому. Положили его на доску и прямо-таки прибинтовали к ней — с себя рубашки поснимали. Сверху еще брезентом запеленали и веревкой от головы до ног оплели. Ноги с доской вместе в бадью всунули, другой конец доски к тросу привязали. Так и поднимали! Он глаз от боли открыть не мог, губы закусил, пот ручьем. Борис его придерживал и от стенок оберегал — раскачивается бадья, как колокол. Я на воротке командовал… Ох и длинными мне тридцать метров подъема показались!..
Когда уложили в постель, трясти его начало, будто приступ малярии. Теперь мало кто про эту болезнь и помнит, изжили ее, но я не забуду — шесть лет трясло через день как по часам.
Спрашиваю: “Где самая боль?”
Показал он по всему животу, да и бока охватил, пойми тут!
Борис — парень смышленый, студент-заочник — в справочник полез, вычитал: если прострел, по-научному “люмбаго” то надо тепло, горячий песок на поясницу, а если аппендицит, так наоборот — холод, пузырь со льдом. Льда у нас там и летом хватает, да как решить? От таких решений немало уже нашего брата на разведках загнулось!
Но теперь, думаю, время не то, надо использовать все возможности!
Радиосвязь у нас с экспедицией вечером, но и днем начальство с другими партиями разговаривает на той же волне. Наверно, час мы с Борисом по очереди кричали — мол, аварийный, SOS! Наконец услышали нас, голос начальника я узнал.
Кричу: “Беда, у геолога люмбаго, лежит пластом, а может, скоротечный аппендицит; спасайте, перехожу на прием!”
Отвечает: “Через полчаса возобновим связь, сообщу решение”.
Вскоре сообщает: “Поднял на ноги всех. Вертолет далеко, в рейсе, к вам уже хирург выехал на “скорой помощи”. Встречайте у конца дороги, а Сергея Ковалева не лечите ни теплом, ни холодом, чтоб картину болезни не спутать”…
Я посмотрел на рассказчика и рассеянно как-то, будто в полусне, повторил:
— Сергей Ковалев…
Что-то вдруг зазвучало в памяти, смутно, но настойчиво, как забытый мотив. И вдруг словно вспышка: вспомнил!..
— Сережа Ковалев! Да я его еще студентом помню и позднее встречал. Длинный такой, черноволосый, глаза серые, когда смеется — голову закидывает!
— Похож! — подтвердил Бодин.
— Так это к вам на разведку его занесло? — Я обрадовался, столь неожиданно встретив еще одного знакомого.
— Занесло, только не его к нам. а наборот — нас к нему. Без него не бывать бы этой разведки, — ответил Бодин.
И про это я вдруг кое-что вспомнил и подумал, что все же “занесло” на разведку именно Сергея. Он не разведчик и по специальности, указанной в дипломе, предназначен для геохимических исследований. В его жизни все перепутала так называемая “проблема северных склонов”. Давно подмечено, что в Сибири, да и вообще везде, где развита вечная мерзлота, большинство месторождений расположено на южных склонах. Нет никаких оснований считать, что северные склоны беднее. Просто там очень трудно искать. Эти склоны обычно пологи, покрыты толстым слоем наносов, скованы мерзлотой, заболочены. Солнце туда не заглядывает, снег найдешь и в августе, места, что говорить, — хуже не придумаешь, но где-то затаились там сотни богатых месторождений. Их настойчиво ищут, изобретая все новые способы.
В разработке одного из способов принимал участие Сергей. Два лета он собирал мхи и листья на северном склоне Нерчинского хребта, сжигал их, изучал спектры. Он обнаружил крупную аномалию, где растения были необычно богаты металлами. Сергей верил, что под ними, в глубине, скрыто месторождение. Он показывал свои чертежи и расчеты, убеждал, но все скептически улыбались, говорили: от листочков и цветочков, содержащих тысячные доли процента, до руды — дистанция огромного размера; вспоминали изречение средневекового философа о том, что теория, не подтвержденная фактами, подобна святому, не совершившему чуда, и так далее — все, что говорят в подобных случаях
Смысл всех этих слов был ясен — если веришь, доводи дело до конца сам, не отдавай в чужие, может быть равнодушные, руки.
И Сергей променял довольно уютную жизнь лаборатории о исследователя на круглогодичную разведку в местах, где не хотят гнездиться даже птицы.
Я был рад узнать, что руда, сверкающая, по словам Бодина, как купцова дочка, вознаградила его труды!
Эти мысли на мгновение отвлекли меня, но я тотчас же представил себе, как лежит Сергей, изнемогающий, истерзанный болью, и воскликнул с волнением:
— Что же было дальше?..
— Дальше-то все и приключилось! — посасывая трубку, улыбнулся Бодин, вероятно довольный тем, что мы поменялись ролями: он теперь не так спешил рассказать, как я — услышать. — От Кадара до нас сто двадцать, дорога ничего. Вышли мы встречать втроем. Ожидал я, что приедет доктор в очках, с бородкой, есть там такой, а вылезла из кабины девушка, ну, вроде моей внучки, тоненькая такая, глаза ясные, строгие. Медсестру, подумал я, прислали. Оказалось, нет: врач-хирург Ирина Павловна! И халат и косынка на ней как снег, а мы — небритые, грязные, даже совестно.
Посмотрела она на нас тревожно, но губы сжала твердо и говорит: “Пошли быстрее, берите носилки!”
Смотрю, она халат сняла, брюки в резиновые сапожки заправила, а они низенькие, на полноги. Я с собой захватил для хирурга сапоги болотные сорок четвертый номер. Говорю: “Может, поверх своих наденете?” — “Нет, отвечает, я в своих привычная, на Кавказе в туристическом походе ходила”.
Ну, думаю, Кавказ — край курортный, там таких безобразий, наверно, нет! До нас всего семь километров, но таких, что в городе двадцать легче пройти. К нам продукты только зимой завозят.
Накомарник я ей дал, надела. Идем то по твердой земле, то по кочкам да по воде. Вижу, ходить может, легко шагает, ловко и по сторонам с любопытством осматривается. В эту пору даже там, на северном склоне, красиво — кусты оранжевые, желтые, как пожары горят. Местами весь мох красный от брусники, наступить жалко. Вскоре начался зыбун — тут уж не до красоты, все в глазах колышется. Идешь — словно по морю едешь, а комары тучей, даже сквозь одежду достают, негодяи!
Говорит: “Про зыбуны читала, но не представляла все же, что такое на свете есть!”
Идем, раскачиваемся, будто пьяные, а она того не знает, что самое страшное — с тропки своротить!
Вижу я, чемоданчик ее набок клонит. Раньше-то не сообразил, а тут взял его и удивился — маленький, а весомый! Оказывается, у нее там весь инструмент.
“Может, говорит, его и везти нельзя, на месте придется оперировать!”
“Неужели сумеете, не побоитесь?” — спросил я: с языка сорвалось, глупо, конечно.
“На то учили!” Она засмеялась, хоть по глазам видно — не больно ей весело!
Дошли мы часа за два, устала она сильно и промокла выше колен, но сразу руки вымыла и начала Сергея ощупывать — ловко так, как на клавиши жмет, да еще шилом каким-то покалывает. И нащупала, он аж завыл! А она повеселела.
“Очень, говорит, хорошо, резать не надо. Это у него неврит, воспаление нервных корешков”.
Оглядела она нашу избушку, топчаны самодельные, печку железную, окурки в консервной банке и сказала:
“Оставлять его тут нельзя. Воспаление очень серьезное, в больнице придется недели две электричеством да уколами лечить, а когда ходить начнет, отправим его на грязелечение. Иначе может инвалидом остаться!”
Сергей было начал возражать, но языком ворочал еле-еле, а мы зашумели:
“Не пропадать же, жилу нашел, а в остальном и сами справимся!”
Я сразу кликнул добровольцев — носилки нести. Федька первым назвался. Выходит, хоть и горлопан, а человек! За ним все остальные. Так и несли мы Сергея всей разведкой, по очереди.
Пока дошли, уже стемнело. Шофер Витя фары включил. Стали прощаться. Борис целое лето из корня толстую трость художественно выделывал, а тут отдал Сергею, положил на носилки — на первый случай, дескать, такой костыль очень пригодится.
И ведь как в воду смотрел!..
Все тут Сергею пожелания высказывали наперебой, а он, видать, совсем ослабел, растрогался, на глазах слезы.
Вдвинули носилки, говорю: “Ирина Павловна, садитесь в кабину”. А она: “Нет, долг врача быть возле больного!”
Поехали. Пока с хребта спускались, я дорогу показывал: она там петляет, запросто засесть можно, особенно в темноте. Да и Витя показался мне шофером не очень надежным: он из десятиклассников, первый год за баранкой.
Как выехали на твердую дорогу, посмотрел я назад — лампочка в карете светит ярко, Ирина Павловна рассказывает Сергею, сквозь стекло слышно, про новую картину, а он, слушая про то, как страдал на экране принц датский, вроде и сам стал меньше страдать, даже чуть улыбается. А верней, это лекарства действовать начали — она его пилюлями щедро накормила.
“Ну, думаю, теперь все в порядке!”
Сел я поудобнее, откинулся и не заметил, как глаза закрылись, — денек-то выдался нелегкий.
Сколько проспал, не знаю. Вдруг вздрогнул, смотрю — бежит машина, белыми лучами тьму пробивает. Витя что-то насвистывает — наверно, чтобы спать не хотелось. А они — больной да докторша — все разговаривают, да так это громко, оживленно…
Вскоре дорога завиляла между скалами. Узнал я это место — почти половину пути проехали. Закурили мы с Витей, и, только из-за поворота выскочили, смотрю, поперек дороги, чуть наискосок, не торопясь бежит медведь, переваливается. Метрах в пятидесяти…
“Дави!” — заорал я, себя не помня.
Витька нажал на всю железку. Медведь чуток замешкался, видно удивил его свет среди ночи, и тут же рванулся он со всех ног, да уж поздно было — Витя выжал, наверно, все сто!
Если бы немножко левее, положил бы медведя под колеса, а так только ударил левым колесом, но врезал крепко. Тот полетел через голову, раз и два!
Мы еще метров пятьдесят проскочили, пока остановились. Убили или не убили? Вроде распластался он как мертвый, но разве на такой скорости разглядишь?! Зверь живучий, отлежаться может, а мы, как на грех, без ружья.
Решили мы с Витей потихоньку назад осадить, если он лежит, так колесами для надежности придавим, а ушел — его счастье.
“Чего остановились?” — Ирина Павловна спрашивает.
“Медведя, говорю, подбили!”
“Может, йодом смазать или валерьянки ему дать? На то ведь мы “скорая помощь”!”
Она-то мои слова за шутку приняла. Слышу, как ни в чем не бывало рассказывает дальше Сергею про какие-то абстрактные картины.
А тут картина получилась, можно сказать, конкретная до ужаса!
Витя вперед двинул, на середку дороги вырулил, а я дверку приоткрыл, на подножку встал, чтобы командовать, когда задом поедем. И, представьте, чувствовал себя этаким молодцом, победителем. Очень человек смелеет, когда он на машине.
Вдруг в темноте как черная молния мелькнула! Счастье, что машина на скорости была и Витя сразу заметил, газанул до отказа; рванулись мы вперед.
Медведь только — бух! — лапой по кабине, вмятина до сих пор есть. И тут же сразу сзади зазвенело… Оглядываюсь — батюшки, стекла задней дверцы вдребезги, обломки Сергею на ноги посыпались, а медведь лапищами уцепился и морду в карету всунул, пасть раззявил, ревет, и пена клочьями брызжет…
А они против него, в трех шагах… Сергей лежит пластом, Ирина Павловна в комок сжалась, застыли оба как неживые!.. Дверки задние ходуном ходят, вот-вот раскроются, — еще бы, тяжесть такая!
Я ору: “Жми!.. Виляй!.. Быстрей!..”
Дорога тряская, вся надежда, что сбросит его.
Швыряло сильно, но медведя не сбросило, а дверки не выдержали, раскрылись… Сердце мое как тисками кто сжал!
Медведь на левой створке повис, ее напрочь откинуло, он, как акробат, болтается, вот-вот задними лапами до пола кареты дотянется!
Смотрю я на такое сквозь стекло, как в кино на экране, а шапка моя вместе с волосами шевелится! Что делать?
Докторша застыла, как в столбняке, но вдруг обеими руками свой чемодан схватила да как швырнет!.. Чуть следом не вылетела, но попала в брюхо ему. Закачался, дьявол, как маятник, точку опоры потерял, а все же, проклятый, удержался!.. Дверка опять напрочь распахнулась…
Я ногой заводную ручку нащупал, схватил на крайность и это оружие, но понимаю: останавливаться нельзя, не успеем и помочь, — задерет он их. Кричу: “Жми!..”
А Ирина Павловна, должно, решила — теперь всё, погибель! Смотрю — метнулась, легла на Сергея, собой его закрыла.
А тот вдруг охватил ее рукой, изогнулся, приподнялся и сдернул ее, как невесомую… Сам вскочил, пригнулся и этим своим костылем — тростью художественной — в морду, в морду, по лапам, в бок, то как шпагой, то как шашкой. И, честное слово, не то от его ударов, не то тряхнуло очень здорово — Сергей головой в крышу, а медведь оборвался!
Смотрю — глазам не верю: дверки раскачиваются, а за ними — такое счастье! — черная пустота.
Сергей на носилки сел, за плечи докторшу охватил и поцеловал! И она его тоже, сам видел. С радости они, должно быть, совсем одурели! А впрочем, за такие минуты родней станешь, чем за годы обыкновенного знакомства.
Еще, наверно, километров двадцать лупили мы на полной скорости. Я все назад смотрел, глаз от дороги оторвать не мог. Наконец все же остановились. Вылез я, заводную ручку не выпуская, огляделся. Луна взошла. Поле скошенное серебром отливает. Видно далеко; ясно; тишина и покой.
Ирина Павловна выпрыгнула, за ней следом Сергей — медленно так, осторожно. Шаг сделает — прислушается, не пронзит ли опять его боль. Видит — ничего, осмелел и с подножки даже спрыгнул. И снова ничего. Ощупывал он себя, бормотал что-то, а вид как у лунатика. Да и не только у него, все мы тогда хорошо выглядели!.. Стоим, молчим и невольно на дорогу поглядываем — туда, где медведь остался…
Еще, наверно, долго бы в себя не пришли, коль не Ирина Павловна. Она вдруг захлопала в ладоши и начала танцевать, меня схватила за шею, закружила совсем, потом Витю, а Сергей с ней что-то вроде этого… как его там, рока или рола сплясал.
“Ничего не понимаю, говорит, я выгляжу, как настоящий симулянт. Извините! Я вам бесконечно благодарен!”
Так это сбивчиво говорит и на нее не отрываясь смотрит.
“Благодарите медведя, — ответила она, — это он вас вылечил. Выходит, деды правильно говорили — клин клином вышибают! Нервное потрясение ликвидировало нервное воспаление. Случай любопытный, но, может быть, это лишь временное улучшение, нервный подъем”.
Сергей несколько раз высоко подпрыгнул, взмахнул рукой, будто мяч срезал, — он волейболист хороший: “Прекрасно, могу назад ехать!”
“Куда там назад! — сказал Витя, чуть не плача. — Вы посмотрите, что с машиной! Да меня теперь завгар со свету сживет, из ударников исключит: у него чуть что — товарищеский суд!”
Действительно, зрелище было печальное: машина новенькая, а стекла выбиты, дверки покорежены, ободраны, крыло помято.
Я себя кругом виноватым чувствовал, — зачем тогда заорал: “Дави!” И подумать не успел, а заорал! Должно быть, потому это так вышло, что много зла у меня на косматых дьяволов накопилось, ведь из-за них никогда в тайге спокою нет.
На другой день я уж как завгара уговаривал — мол, это дорожная случайность! Вся вина на мне, и ремонт машины тоже, а зав свое:
“Вы шофера не выгораживайте — он, по правилам движения, не отвечает только за наезд на кур и собак, а за медведя должен нести полную ответственность! Если дисциплину ослабить, у нас шофера такие — на всё без разбора наезжать будут, даже на слонов!”
Я думал, он шутит, но где там — товарищеский суд устроил! Правда, смех один получился, а не суд.
А тогда мы все-таки обратно к месту происшествия поехали, потому что опасались — вдруг кто по дороге следом за нами идет и натолкнется на подраненного зверя. Целый час вперед-назад ездили. Никого, тишина и покой. В чащобу, наверно, ушел медведь отдохнуть от нервного потрясения.
Докторский чемодан, нетронутый, посреди дороги лежал. Я его поднял, почти как акробат, не вылезая из кабины.
Посмотрел назад, в окошко, — они сидят рядышком…
…Громко заговорило радио. Бодин замолчал. Объявили посадку. Перечислялись рейсы, один за другим. В коридоре затопали, зашумели, кто-то сказал: “Небо открыто!” Мы быстро собрались, вышли. Мело почти по-прежнему, но вот уже все потонуло в могучем реве, и первый самолет смело рванулся в серую мглу.
На краю аэродрома, прижимаясь к земле, упорно двигались черные руки радара. Самолету помогут найти дорогу в слепом полете над тайгой, где избушки геологов и берлоги медведей.
Счастливого пути!
— Привет Сергею! Медведь-то его как вылечил — всерьез и надолго?
— Лучше некуда! Веселый с тех пор стал, только что-то уж больно о своем здоровье печется: чуть какая возможность — сразу в Кадар, к докторше. И она за таким необыкновенным пациентом очень следит: как долго не едет, записки шлет! — Петр Степанович хитро прищурился, что-то совсем мальчишеское мелькнуло в его лице.
— Присматривайте строго, — как мог серьезно, посоветовал я, — а то будете в ответе, как за шофера. Ведь это тоже следствие дорожной случайности!..
— Без случайностей не жизнь бы была, а скука смертная! — убежденно ответил Бодин.
— Напрасно смеетесь, точно говорю: медведь геолога вылечил! Про это у нас в Кадаре все знают, соврать не дадут, да и зачем мне врать? Я всему делу живой свидетель, даже на товарищеском суде выступал.
Петр Степанович Бодин смотрел на меня, как гипнотизер. Под седыми бровями глаза у него черные, очень выразительные. Он только что пришел из буфета, но выглядел — будто г. мороза.
Я понимал, что недоверие обижает, но не удержался, спросил:
— А как, геолог после лечения живой?
— Вам все хаханьки. — нахмурился Бодин, — а вот докторша наша, Ирина Павловна, хотя и молоденькая, но очень понимающая, говорит, что случай этот выдающийся и по науке объяснимый. Она даже в журнал написать хочет!
— А медведя себе в помощники она еще не взяла? Раз одного вылечил — может, и других сумеет. Ведь без помощи медведей что-то не у всех врачей получается!
Это была уже другая тема, просто шутка, и Бодин перестал хмуриться, даже улыбнулся.
— Медведь, пожалуй, не согласится. И уж коль лечить таким способом, то и меня надо зачислить хоть в санитары. Без меня не обошлось. Шофер на суде верно говорил, что я подстрекнул его нарушить правила уличного движения в отношении медведя.
Бодин сел на своей кровати поудобнее, откашлялся, приготовляясь начать рассказ.
Я сделал вид, что этого не заметил, повернулся на другой бок, сказал:
— Всего тридцать страниц осталось, — и уткнулся глазами в книгу.
Наступила тишина. Затем кровать скрипнула, Бодин отошел к окну, стал смотреть на аэродромное поле. Мело по-прежнему. Самолеты, выстроенные шеренгой недалеко от окон, виднелись еле-еле, как серые призраки.
Бодин — мой давний знакомый, вместе работали на Чукотке и вот, через десяток лет, столкнулись в гостинице и вместе кукуем вторые сутки в ожидании погоды. Мы уже и выпили, и вспомнили про дела давно минувших дней. Петр Степанович рассказал мне немало интересного, но, видимо, еще далеко не все, что хотел.
Он прибыл на аэродром из тайги и, конечно, меньше всего нуждался в отдыхе от людей и разговоров. У тех, кто проводит жизнь в далеких местах, когда мир месяцами ограничен палаткой или избушкой да несколькими товарищами по работе, появляется особая потребность рассказывать обо всем интересном, что довелось увидеть и пережить. Может быть, тут сказывается привычка развлекать самих себя — ни в театр, ни в гости не сходишь, батарейный приемник давно замолк, а вечера долги. Возможно, что причина более глубокая. Когда очень трудно или просто тоскливо, великой поддержкой служит мысль: люди узнают, люди не забудут. Тот, кто помнит о других, в трудные часы совсем одинок не бывает. Но когда наконец увидишь людей, то действительно очень хочется, чтобы они узнали все — и героическое, и грустное, и смешное. Испытал я это не раз и сам, да, видно, стал забывать в городских своих буднях.
Петр Степанович неподвижно стоял у окна. Мне был виден его седой, коротко остриженный затылок и могучие плечи. Ему-то уж есть о чем рассказать! Четвертый десяток лет на разведках, да еще на каких! Незаменимый человек, он не только знает до тонкости горное дело, но и все умеет сделать своими руками. Практик, но такой, что вряд ли заменят его и двое с большими дипломами!
Конечно, сейчас ему обидно — встретил хорошего знакомого, а тот только посмеивается, а теперь вот отделался, предпочел его безусловно правдивому рассказу какую-то книжонку, где одни выдумки.
Я положил книжку и постарался загладить свою бестактность. Петр Степанович человек отходчивый. Вскоре мы уже сидели рядом, и он рассказывал. Его черные глаза под седыми бровями блестели молодо. Он не сомневался в том, что я ему верю.
— Поначалу все у нас ладилось: аномалию проследили шахтой вглубь на тридцать метров по вечной мерзлоте; хотя и медленно — за полгода, а все же пробились и на жилу вышли, как по нотам. Три месяца по ней штрек гнали, любовались- вся в золоте, что купцова дочка! Поздравление от начальства получили и премию. А потом нашла черная полоса: то одно, то другое! Дожди нас совсем закарали — льет и льет, только успевай откачивать. Кончились дожди — еще хуже: жилу потеряли, как ножом срезало, а куда — не поймешь.“” Вильнули в один бок, в другой — нету!.. Пришлось проходку остановить. Геолог наш, Сергей, из-под земли почти что не вылезал, аж почернел!
Тот день, когда все приключилось, начался скверно. С вечера я подсчитал по нарядам, а утром объявил. Федька, первый у нас горлопан, заскандалил:
“Нам дела нет, что там старый черт в нарядах мухлюет, о заработок вынь да положь!”
Это он Сергею. Тот хотя и начальник, а молодой. Сергей ему: в горном деле всякое бывает, месяц на месяц не похож, а на круг прикинуть — так обижаться не на что, почти как профессор получаешь!.. Так все спокойно, твердо. Федька видит — поддержки нет, отошел, выругался, слышу, бормочет: “Подлец буду — он меня попомнит!”
Спустились в шахту. Сергей опять за свое — молотком колотит, только искры летят. Песчаник там крепкий, черный как ночь, только кое-где льдинки звездочками блестят. А он на карачках ползает, каждую трещинку изучает и на ощупь и всяко. Да что там говорить, сами знаете, как потерянные жилы ищут!
И ведь нашел! Совсем неприметная трещинка, а как расчистил — белым-бело стало от облаков кварца. Он аж затанцевал от радости, хотя там теснота, головы не поднимешь.
“Хитро, говорит, ее сдвинуло, с подворотом, но теперь она от нас не уйдет, обломки путь покажут, они как хвост кометы!..”
Стоим радуемся, потом сели, покурили. От души отлегло, а то ведь совсем впросак попали — ни плана, ни заработка.
Пошел я насчет бурения распорядиться. Всего шагов двадцать сделал, вдруг страшно крикнул Сергей, тень его метнулась, лампа загрохотала и погасла. Первой мыслью погрешил я на Федьку, а рука сама собой привычно сработала — дерг вверх за капельницу, забурлила вода в карбидке, зашипело пламя, светло стало как днем. Вижу — лежит Сергей на земле поперек штрека, а поблизости нет никого.
Еще на бегу я кровлю оглядел — от шахтерского неба любой подарок ждать можно, но нет, вижу — свод стоит крепко.
“Что?” — спрашиваю, а он только стонет, корчится. Лицо серое, как карбид, пот льдинками блестит.
Попробовал я его приподнять, посадить поудобнее — куда там, еще хуже, аж зубами заскрипел.
Сбегал я за помощью. Он, как отлежался немножко, сказал еле слышно: “Током меня!..”
А какой может быть ток, когда его тут отродясь не было!
Попробовали понести — куда там, дотронуться не дает, скрючило всего, даже на четвереньки встал, лбом да локтями в землю уперся, дрожит. Подложили под него две доски, а то ведь мерзлота не шутит, совсем заколеть можно. Подождали, может, лучше станет, да, видно, нет: ни сесть, ни лечь, места себе не находит. Простонал: “Закурить!”
Зажгли папироску, в рот вставили. Он в три затяжки до мундштука добрался, паленым запахло. Выплюнул он папиросу да как ойкнет! Даже от такого малейшего движения его опять как током стебануло.
Наш моторист сказал:
“Аппендицит это, по себе знаю, тоже током било! Ну, и при простреле бьет добре, сам испытал. Наверно, застудился он, пока жилу разыскивал. Да что толковать — хрен редьки не слаще, все одно быстрей поднимать его надо”.
Штрек у нас низкий, подступиться неловко; кое-как мы его до ствола дотащили, да это все цветочки, а как дальше быть? Это только название — разведочная шахта, а вроде колодца деревенского. Породу бадьей таскаем и сами в ней ездим — одной ногой стоишь, другой от стенок отталкиваешься. Руками за трос так держишься, что сквозь рукавицы на ладонях синие следы остаются. А он не только стоять да отталкиваться, пошевельнуться не может!
“Сергей, говорю, посадим мы тебя в бадью, привяжем, а Боря, он легкий, одной ногой станет, направлять будет”.
“Скорей только, — простонал Сергей, — лечь бы, никаких сил нет!”
Бадья узкая, а он в ватных штанах, да в брезентовых, — никак не поместишь. Пока примерялись, он от боли сознания лишился. Ртом воздух хватал, как рыба на берегу. Тогда придумали по-другому. Положили его на доску и прямо-таки прибинтовали к ней — с себя рубашки поснимали. Сверху еще брезентом запеленали и веревкой от головы до ног оплели. Ноги с доской вместе в бадью всунули, другой конец доски к тросу привязали. Так и поднимали! Он глаз от боли открыть не мог, губы закусил, пот ручьем. Борис его придерживал и от стенок оберегал — раскачивается бадья, как колокол. Я на воротке командовал… Ох и длинными мне тридцать метров подъема показались!..
Когда уложили в постель, трясти его начало, будто приступ малярии. Теперь мало кто про эту болезнь и помнит, изжили ее, но я не забуду — шесть лет трясло через день как по часам.
Спрашиваю: “Где самая боль?”
Показал он по всему животу, да и бока охватил, пойми тут!
Борис — парень смышленый, студент-заочник — в справочник полез, вычитал: если прострел, по-научному “люмбаго” то надо тепло, горячий песок на поясницу, а если аппендицит, так наоборот — холод, пузырь со льдом. Льда у нас там и летом хватает, да как решить? От таких решений немало уже нашего брата на разведках загнулось!
Но теперь, думаю, время не то, надо использовать все возможности!
Радиосвязь у нас с экспедицией вечером, но и днем начальство с другими партиями разговаривает на той же волне. Наверно, час мы с Борисом по очереди кричали — мол, аварийный, SOS! Наконец услышали нас, голос начальника я узнал.
Кричу: “Беда, у геолога люмбаго, лежит пластом, а может, скоротечный аппендицит; спасайте, перехожу на прием!”
Отвечает: “Через полчаса возобновим связь, сообщу решение”.
Вскоре сообщает: “Поднял на ноги всех. Вертолет далеко, в рейсе, к вам уже хирург выехал на “скорой помощи”. Встречайте у конца дороги, а Сергея Ковалева не лечите ни теплом, ни холодом, чтоб картину болезни не спутать”…
Я посмотрел на рассказчика и рассеянно как-то, будто в полусне, повторил:
— Сергей Ковалев…
Что-то вдруг зазвучало в памяти, смутно, но настойчиво, как забытый мотив. И вдруг словно вспышка: вспомнил!..
— Сережа Ковалев! Да я его еще студентом помню и позднее встречал. Длинный такой, черноволосый, глаза серые, когда смеется — голову закидывает!
— Похож! — подтвердил Бодин.
— Так это к вам на разведку его занесло? — Я обрадовался, столь неожиданно встретив еще одного знакомого.
— Занесло, только не его к нам. а наборот — нас к нему. Без него не бывать бы этой разведки, — ответил Бодин.
И про это я вдруг кое-что вспомнил и подумал, что все же “занесло” на разведку именно Сергея. Он не разведчик и по специальности, указанной в дипломе, предназначен для геохимических исследований. В его жизни все перепутала так называемая “проблема северных склонов”. Давно подмечено, что в Сибири, да и вообще везде, где развита вечная мерзлота, большинство месторождений расположено на южных склонах. Нет никаких оснований считать, что северные склоны беднее. Просто там очень трудно искать. Эти склоны обычно пологи, покрыты толстым слоем наносов, скованы мерзлотой, заболочены. Солнце туда не заглядывает, снег найдешь и в августе, места, что говорить, — хуже не придумаешь, но где-то затаились там сотни богатых месторождений. Их настойчиво ищут, изобретая все новые способы.
В разработке одного из способов принимал участие Сергей. Два лета он собирал мхи и листья на северном склоне Нерчинского хребта, сжигал их, изучал спектры. Он обнаружил крупную аномалию, где растения были необычно богаты металлами. Сергей верил, что под ними, в глубине, скрыто месторождение. Он показывал свои чертежи и расчеты, убеждал, но все скептически улыбались, говорили: от листочков и цветочков, содержащих тысячные доли процента, до руды — дистанция огромного размера; вспоминали изречение средневекового философа о том, что теория, не подтвержденная фактами, подобна святому, не совершившему чуда, и так далее — все, что говорят в подобных случаях
Смысл всех этих слов был ясен — если веришь, доводи дело до конца сам, не отдавай в чужие, может быть равнодушные, руки.
И Сергей променял довольно уютную жизнь лаборатории о исследователя на круглогодичную разведку в местах, где не хотят гнездиться даже птицы.
Я был рад узнать, что руда, сверкающая, по словам Бодина, как купцова дочка, вознаградила его труды!
Эти мысли на мгновение отвлекли меня, но я тотчас же представил себе, как лежит Сергей, изнемогающий, истерзанный болью, и воскликнул с волнением:
— Что же было дальше?..
— Дальше-то все и приключилось! — посасывая трубку, улыбнулся Бодин, вероятно довольный тем, что мы поменялись ролями: он теперь не так спешил рассказать, как я — услышать. — От Кадара до нас сто двадцать, дорога ничего. Вышли мы встречать втроем. Ожидал я, что приедет доктор в очках, с бородкой, есть там такой, а вылезла из кабины девушка, ну, вроде моей внучки, тоненькая такая, глаза ясные, строгие. Медсестру, подумал я, прислали. Оказалось, нет: врач-хирург Ирина Павловна! И халат и косынка на ней как снег, а мы — небритые, грязные, даже совестно.
Посмотрела она на нас тревожно, но губы сжала твердо и говорит: “Пошли быстрее, берите носилки!”
Смотрю, она халат сняла, брюки в резиновые сапожки заправила, а они низенькие, на полноги. Я с собой захватил для хирурга сапоги болотные сорок четвертый номер. Говорю: “Может, поверх своих наденете?” — “Нет, отвечает, я в своих привычная, на Кавказе в туристическом походе ходила”.
Ну, думаю, Кавказ — край курортный, там таких безобразий, наверно, нет! До нас всего семь километров, но таких, что в городе двадцать легче пройти. К нам продукты только зимой завозят.
Накомарник я ей дал, надела. Идем то по твердой земле, то по кочкам да по воде. Вижу, ходить может, легко шагает, ловко и по сторонам с любопытством осматривается. В эту пору даже там, на северном склоне, красиво — кусты оранжевые, желтые, как пожары горят. Местами весь мох красный от брусники, наступить жалко. Вскоре начался зыбун — тут уж не до красоты, все в глазах колышется. Идешь — словно по морю едешь, а комары тучей, даже сквозь одежду достают, негодяи!
Говорит: “Про зыбуны читала, но не представляла все же, что такое на свете есть!”
Идем, раскачиваемся, будто пьяные, а она того не знает, что самое страшное — с тропки своротить!
Вижу я, чемоданчик ее набок клонит. Раньше-то не сообразил, а тут взял его и удивился — маленький, а весомый! Оказывается, у нее там весь инструмент.
“Может, говорит, его и везти нельзя, на месте придется оперировать!”
“Неужели сумеете, не побоитесь?” — спросил я: с языка сорвалось, глупо, конечно.
“На то учили!” Она засмеялась, хоть по глазам видно — не больно ей весело!
Дошли мы часа за два, устала она сильно и промокла выше колен, но сразу руки вымыла и начала Сергея ощупывать — ловко так, как на клавиши жмет, да еще шилом каким-то покалывает. И нащупала, он аж завыл! А она повеселела.
“Очень, говорит, хорошо, резать не надо. Это у него неврит, воспаление нервных корешков”.
Оглядела она нашу избушку, топчаны самодельные, печку железную, окурки в консервной банке и сказала:
“Оставлять его тут нельзя. Воспаление очень серьезное, в больнице придется недели две электричеством да уколами лечить, а когда ходить начнет, отправим его на грязелечение. Иначе может инвалидом остаться!”
Сергей было начал возражать, но языком ворочал еле-еле, а мы зашумели:
“Не пропадать же, жилу нашел, а в остальном и сами справимся!”
Я сразу кликнул добровольцев — носилки нести. Федька первым назвался. Выходит, хоть и горлопан, а человек! За ним все остальные. Так и несли мы Сергея всей разведкой, по очереди.
Пока дошли, уже стемнело. Шофер Витя фары включил. Стали прощаться. Борис целое лето из корня толстую трость художественно выделывал, а тут отдал Сергею, положил на носилки — на первый случай, дескать, такой костыль очень пригодится.
И ведь как в воду смотрел!..
Все тут Сергею пожелания высказывали наперебой, а он, видать, совсем ослабел, растрогался, на глазах слезы.
Вдвинули носилки, говорю: “Ирина Павловна, садитесь в кабину”. А она: “Нет, долг врача быть возле больного!”
Поехали. Пока с хребта спускались, я дорогу показывал: она там петляет, запросто засесть можно, особенно в темноте. Да и Витя показался мне шофером не очень надежным: он из десятиклассников, первый год за баранкой.
Как выехали на твердую дорогу, посмотрел я назад — лампочка в карете светит ярко, Ирина Павловна рассказывает Сергею, сквозь стекло слышно, про новую картину, а он, слушая про то, как страдал на экране принц датский, вроде и сам стал меньше страдать, даже чуть улыбается. А верней, это лекарства действовать начали — она его пилюлями щедро накормила.
“Ну, думаю, теперь все в порядке!”
Сел я поудобнее, откинулся и не заметил, как глаза закрылись, — денек-то выдался нелегкий.
Сколько проспал, не знаю. Вдруг вздрогнул, смотрю — бежит машина, белыми лучами тьму пробивает. Витя что-то насвистывает — наверно, чтобы спать не хотелось. А они — больной да докторша — все разговаривают, да так это громко, оживленно…
Вскоре дорога завиляла между скалами. Узнал я это место — почти половину пути проехали. Закурили мы с Витей, и, только из-за поворота выскочили, смотрю, поперек дороги, чуть наискосок, не торопясь бежит медведь, переваливается. Метрах в пятидесяти…
“Дави!” — заорал я, себя не помня.
Витька нажал на всю железку. Медведь чуток замешкался, видно удивил его свет среди ночи, и тут же рванулся он со всех ног, да уж поздно было — Витя выжал, наверно, все сто!
Если бы немножко левее, положил бы медведя под колеса, а так только ударил левым колесом, но врезал крепко. Тот полетел через голову, раз и два!
Мы еще метров пятьдесят проскочили, пока остановились. Убили или не убили? Вроде распластался он как мертвый, но разве на такой скорости разглядишь?! Зверь живучий, отлежаться может, а мы, как на грех, без ружья.
Решили мы с Витей потихоньку назад осадить, если он лежит, так колесами для надежности придавим, а ушел — его счастье.
“Чего остановились?” — Ирина Павловна спрашивает.
“Медведя, говорю, подбили!”
“Может, йодом смазать или валерьянки ему дать? На то ведь мы “скорая помощь”!”
Она-то мои слова за шутку приняла. Слышу, как ни в чем не бывало рассказывает дальше Сергею про какие-то абстрактные картины.
А тут картина получилась, можно сказать, конкретная до ужаса!
Витя вперед двинул, на середку дороги вырулил, а я дверку приоткрыл, на подножку встал, чтобы командовать, когда задом поедем. И, представьте, чувствовал себя этаким молодцом, победителем. Очень человек смелеет, когда он на машине.
Вдруг в темноте как черная молния мелькнула! Счастье, что машина на скорости была и Витя сразу заметил, газанул до отказа; рванулись мы вперед.
Медведь только — бух! — лапой по кабине, вмятина до сих пор есть. И тут же сразу сзади зазвенело… Оглядываюсь — батюшки, стекла задней дверцы вдребезги, обломки Сергею на ноги посыпались, а медведь лапищами уцепился и морду в карету всунул, пасть раззявил, ревет, и пена клочьями брызжет…
А они против него, в трех шагах… Сергей лежит пластом, Ирина Павловна в комок сжалась, застыли оба как неживые!.. Дверки задние ходуном ходят, вот-вот раскроются, — еще бы, тяжесть такая!
Я ору: “Жми!.. Виляй!.. Быстрей!..”
Дорога тряская, вся надежда, что сбросит его.
Швыряло сильно, но медведя не сбросило, а дверки не выдержали, раскрылись… Сердце мое как тисками кто сжал!
Медведь на левой створке повис, ее напрочь откинуло, он, как акробат, болтается, вот-вот задними лапами до пола кареты дотянется!
Смотрю я на такое сквозь стекло, как в кино на экране, а шапка моя вместе с волосами шевелится! Что делать?
Докторша застыла, как в столбняке, но вдруг обеими руками свой чемодан схватила да как швырнет!.. Чуть следом не вылетела, но попала в брюхо ему. Закачался, дьявол, как маятник, точку опоры потерял, а все же, проклятый, удержался!.. Дверка опять напрочь распахнулась…
Я ногой заводную ручку нащупал, схватил на крайность и это оружие, но понимаю: останавливаться нельзя, не успеем и помочь, — задерет он их. Кричу: “Жми!..”
А Ирина Павловна, должно, решила — теперь всё, погибель! Смотрю — метнулась, легла на Сергея, собой его закрыла.
А тот вдруг охватил ее рукой, изогнулся, приподнялся и сдернул ее, как невесомую… Сам вскочил, пригнулся и этим своим костылем — тростью художественной — в морду, в морду, по лапам, в бок, то как шпагой, то как шашкой. И, честное слово, не то от его ударов, не то тряхнуло очень здорово — Сергей головой в крышу, а медведь оборвался!
Смотрю — глазам не верю: дверки раскачиваются, а за ними — такое счастье! — черная пустота.
Сергей на носилки сел, за плечи докторшу охватил и поцеловал! И она его тоже, сам видел. С радости они, должно быть, совсем одурели! А впрочем, за такие минуты родней станешь, чем за годы обыкновенного знакомства.
Еще, наверно, километров двадцать лупили мы на полной скорости. Я все назад смотрел, глаз от дороги оторвать не мог. Наконец все же остановились. Вылез я, заводную ручку не выпуская, огляделся. Луна взошла. Поле скошенное серебром отливает. Видно далеко; ясно; тишина и покой.
Ирина Павловна выпрыгнула, за ней следом Сергей — медленно так, осторожно. Шаг сделает — прислушается, не пронзит ли опять его боль. Видит — ничего, осмелел и с подножки даже спрыгнул. И снова ничего. Ощупывал он себя, бормотал что-то, а вид как у лунатика. Да и не только у него, все мы тогда хорошо выглядели!.. Стоим, молчим и невольно на дорогу поглядываем — туда, где медведь остался…
Еще, наверно, долго бы в себя не пришли, коль не Ирина Павловна. Она вдруг захлопала в ладоши и начала танцевать, меня схватила за шею, закружила совсем, потом Витю, а Сергей с ней что-то вроде этого… как его там, рока или рола сплясал.
“Ничего не понимаю, говорит, я выгляжу, как настоящий симулянт. Извините! Я вам бесконечно благодарен!”
Так это сбивчиво говорит и на нее не отрываясь смотрит.
“Благодарите медведя, — ответила она, — это он вас вылечил. Выходит, деды правильно говорили — клин клином вышибают! Нервное потрясение ликвидировало нервное воспаление. Случай любопытный, но, может быть, это лишь временное улучшение, нервный подъем”.
Сергей несколько раз высоко подпрыгнул, взмахнул рукой, будто мяч срезал, — он волейболист хороший: “Прекрасно, могу назад ехать!”
“Куда там назад! — сказал Витя, чуть не плача. — Вы посмотрите, что с машиной! Да меня теперь завгар со свету сживет, из ударников исключит: у него чуть что — товарищеский суд!”
Действительно, зрелище было печальное: машина новенькая, а стекла выбиты, дверки покорежены, ободраны, крыло помято.
Я себя кругом виноватым чувствовал, — зачем тогда заорал: “Дави!” И подумать не успел, а заорал! Должно быть, потому это так вышло, что много зла у меня на косматых дьяволов накопилось, ведь из-за них никогда в тайге спокою нет.
На другой день я уж как завгара уговаривал — мол, это дорожная случайность! Вся вина на мне, и ремонт машины тоже, а зав свое:
“Вы шофера не выгораживайте — он, по правилам движения, не отвечает только за наезд на кур и собак, а за медведя должен нести полную ответственность! Если дисциплину ослабить, у нас шофера такие — на всё без разбора наезжать будут, даже на слонов!”
Я думал, он шутит, но где там — товарищеский суд устроил! Правда, смех один получился, а не суд.
А тогда мы все-таки обратно к месту происшествия поехали, потому что опасались — вдруг кто по дороге следом за нами идет и натолкнется на подраненного зверя. Целый час вперед-назад ездили. Никого, тишина и покой. В чащобу, наверно, ушел медведь отдохнуть от нервного потрясения.
Докторский чемодан, нетронутый, посреди дороги лежал. Я его поднял, почти как акробат, не вылезая из кабины.
Посмотрел назад, в окошко, — они сидят рядышком…
…Громко заговорило радио. Бодин замолчал. Объявили посадку. Перечислялись рейсы, один за другим. В коридоре затопали, зашумели, кто-то сказал: “Небо открыто!” Мы быстро собрались, вышли. Мело почти по-прежнему, но вот уже все потонуло в могучем реве, и первый самолет смело рванулся в серую мглу.
На краю аэродрома, прижимаясь к земле, упорно двигались черные руки радара. Самолету помогут найти дорогу в слепом полете над тайгой, где избушки геологов и берлоги медведей.
Счастливого пути!
— Привет Сергею! Медведь-то его как вылечил — всерьез и надолго?
— Лучше некуда! Веселый с тех пор стал, только что-то уж больно о своем здоровье печется: чуть какая возможность — сразу в Кадар, к докторше. И она за таким необыкновенным пациентом очень следит: как долго не едет, записки шлет! — Петр Степанович хитро прищурился, что-то совсем мальчишеское мелькнуло в его лице.
— Присматривайте строго, — как мог серьезно, посоветовал я, — а то будете в ответе, как за шофера. Ведь это тоже следствие дорожной случайности!..
— Без случайностей не жизнь бы была, а скука смертная! — убежденно ответил Бодин.
Б.Ляпунов Воскрешенные черты
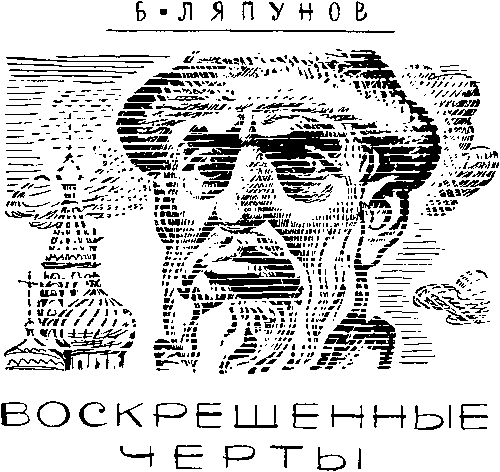 Мы в необыкновенной портретной галерее.
В ней можно увидеть древнейших предков человека, живших на земле сотни тысяч лет назад, людей каменного века, века бронзы и железа. Среди них знаменитый мальчик-неандерталец, скелет которого, найденный в Узбекистане, взволновал антропологов всего мира: оказалось, что неандертальцы жили также и в Средней Азии.
Каждый год археологические экспедиции ведут раскопки древних поселений и городов. Они находят грубые каменные орудия и изумительные по красоте и изяществу вещи, железные наконечники копий и драгоценные украшения, следы стоянок в древних пещерах и развалины могущественнейших в былые времена городов.
Люди, которые в них жили, создали все это — от каменного топора до великолепной золотой чаши. И вот они здесь, перед нашими глазами — древние люди с берегов Лены, Оки и Волги, с островов Днепра и Онежского озера, из Чувашии и Крыма, с Дальнего Востока и Русской равнины.
А рядом портреты воина из государства Урарту и людей из древнего грузинского города Мцхеты, скифа из Причерноморских степей, гунна из Кенкола, жителей древнего Хорезма и дружинника князя Святослава.
Мы воочию видим изображения людей, имена которых нам сохранила история.
Вот киевский князь Ярослав Мудрый, владимирский князь Андрей Боголюбский, герой “Слова о полку Игореве” — “Буй-Тур” князь Всеволод Святославич, новгородский архиепископ Василий, царь Иван Васильевич Грозный и сын его, царь Федор Иоаннович.
Вот династия тимуридов: Тимур, его сыновья Шахрух и Мироншах, его внук — знаменитый узбекский астроном средневековья Улугбек.
Вот подлинный портрет знаменитого флотоводца адмирала Федора Федоровича Ушакова, чье изображение мы видим на боевых орденах и медалях нашего Военно-Морского Флота.
И еще много других интересных портретов создано скульптором-антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым, создан удивительный, единственный в своем роде музей.
За каждым экспонатом, особенно если это портрет исторического лица, скрыт прежде всего упорный труд и раздумья, скрыты поиски, а порой и сомненья…
Мы в необыкновенной портретной галерее.
В ней можно увидеть древнейших предков человека, живших на земле сотни тысяч лет назад, людей каменного века, века бронзы и железа. Среди них знаменитый мальчик-неандерталец, скелет которого, найденный в Узбекистане, взволновал антропологов всего мира: оказалось, что неандертальцы жили также и в Средней Азии.
Каждый год археологические экспедиции ведут раскопки древних поселений и городов. Они находят грубые каменные орудия и изумительные по красоте и изяществу вещи, железные наконечники копий и драгоценные украшения, следы стоянок в древних пещерах и развалины могущественнейших в былые времена городов.
Люди, которые в них жили, создали все это — от каменного топора до великолепной золотой чаши. И вот они здесь, перед нашими глазами — древние люди с берегов Лены, Оки и Волги, с островов Днепра и Онежского озера, из Чувашии и Крыма, с Дальнего Востока и Русской равнины.
А рядом портреты воина из государства Урарту и людей из древнего грузинского города Мцхеты, скифа из Причерноморских степей, гунна из Кенкола, жителей древнего Хорезма и дружинника князя Святослава.
Мы воочию видим изображения людей, имена которых нам сохранила история.
Вот киевский князь Ярослав Мудрый, владимирский князь Андрей Боголюбский, герой “Слова о полку Игореве” — “Буй-Тур” князь Всеволод Святославич, новгородский архиепископ Василий, царь Иван Васильевич Грозный и сын его, царь Федор Иоаннович.
Вот династия тимуридов: Тимур, его сыновья Шахрух и Мироншах, его внук — знаменитый узбекский астроном средневековья Улугбек.
Вот подлинный портрет знаменитого флотоводца адмирала Федора Федоровича Ушакова, чье изображение мы видим на боевых орденах и медалях нашего Военно-Морского Флота.
И еще много других интересных портретов создано скульптором-антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым, создан удивительный, единственный в своем роде музей.
За каждым экспонатом, особенно если это портрет исторического лица, скрыт прежде всего упорный труд и раздумья, скрыты поиски, а порой и сомненья…
***
Можно ли создать документальный портрет человека, жившего когда-то очень давно? Можно ли, например, представить себе, как выглядели наши далекие предки, если сохранились только остатки костей в древних могилах? Можно ли восстановить облик исторического лица, чье имя знакомо нам по учебникам, если не сохранилось ни одного его достоверного портрета? Проникая все дальше в глубь веков, нам все труднее представить себе облик людей прошлого. Когда не было фотографии, единственным изображением человека мог быть, конечно, портрет, созданный художником. Однако не всем портретам можно верить. Не всегда художники изображали человека таким, каков он на самом деле, не всегда стремились быть как можно ближе к натуре. Скульптуры древних греков и римлян, например, до сих пор поражают нас своей правдивостью. К тому же стремились и художники XV–XVI веков — эпохи Возрождения, когда искусство вышло из-под власти церкви. Они, как и старинные греческие мастера, старались возможно точнее передать черты человека. Стилизованность же, условность, особая манера письма лишали порой портреты средневековых художников жизненности, правдивости, давали лишь самое общее представление. Но это еще не все. До наших дней не дошли портреты многих людей, живших даже сотни и тысячи лет назад, а изображения людей, живших десятки и сотни тысяч лет назад, не сохранились вовсе. Более полувека назад у некоторых ученых возникла мысль, нельзя ли использовать череп для восстановления лица. Были сделаны отдельные попытки, и среди первых работ есть интересные реконструкции облика древних людей. Ряд ученых в разных странах занимался этим, но большинство из них считали, что создание индивидуального портрета по черепу невозможно. Так, например, швейцарцы — антрополог Кольман и скульптор Бехли, — воспроизводя голову неолитической женщины эпохи свайных построек, чей череп был найден на Женевском озере, ставили целью лишь восстановить расовые особенности, и только. Другие ученые преследовали ту же. цель, пытаясь воссоздать внешность первобытного человека — неандертальца. Американский анатом Мак Грегор, создавая скульптуры предков человека, заранее считал, что нельзя воспроизвести индивидуальный облик, а можно лишь дать типовой портрет. Чешский ученый Сук вообще отрицал возможность реконструкции человеческого лица по черепу. Лишь очень немногие ученые считали, что проблема вообще разрешима, но для этого необходимо иметь данные о связи между лицом и черепом. А таких данных как раз было весьма мало. Не знали тогда, какие соотношения (корреляции) существуют между формой черепа и мягкими тканями. Неискушенному человеку, возможно, все покажется не таким уж сложным, даже не требующим объяснений. Какова же связь костной основы и мягкого покрова? Как глубоко она заходит? Какие конкретные зависимости нужно искать, чтобы добиться в конце концов цели — действительного портретного сходства? Вот здесь и возникают трудности, и, кажется, им нет конца — только справишься с одной, появляется другая. Речь идет, конечно, не о грубой связи между скелетом и мускулатурой, которая очевидна, а о зависимостях более тонких. Что такие зависимости существуют, подтверждали работы ученых-антропологов, изучавших череп и лицо человека. Они брали достоверный портрет и вписывали в него контуры черепа — в соответствующем ракурсе и масштабе. Так решился, например, спор о том, какой из двух приписывавшихся великому художнику Рафаэлю черепов подлинный. И так приходилось поступать не раз — с черепами Канта, Гайдна, Данте, Гёте, Баха. В 1913 году антрополог-анатом профессор Иенского университета Эгелинг сделал две гипсовые отливки с черепа хорошо известного ему при жизни человека и дал их двум скульпторам. Оба имели в своем распоряжении один и тот же череп. Обоим сообщили одни и те же данные о толщинах мягких покровов в одних и тех же точках. Оба пользовались одним исходным материалом, а в результате получилось два совершенно разных лица!
Неудача Эгелинга навела ученых на мысль, что восстановить лицо по черепу нельзя, что портретное сходство недостижимо.
Когда делались попытки воспроизвести по черепам головы наиболее древних людей — неандертальцев из Ля-Шапель, то при этом даже и не задавались целью воссоздать конкретный облик, ограничивались (вынужденно!) условным типовым портретом, не больше. Каждый действовал по-своему, воссоздавал недостающее по своему усмотрению. Мельчайшие детали, которые отличают каждое лицо, получались такими, какими их представлял себе скульптор. В итоге череп один — портреты разные…
Потому и сложилось как будто бы обоснованное убеждение, что вообще невозможно восстановить лицо по черепу.
Вот с чем столкнулся Михаил Михайлович Герасимов, когда около сорока лет назад он впервые приступил к созданию необыкновенных портретов — портретов людей, которых он никогда не видел.
Оба имели в своем распоряжении один и тот же череп. Обоим сообщили одни и те же данные о толщинах мягких покровов в одних и тех же точках. Оба пользовались одним исходным материалом, а в результате получилось два совершенно разных лица!
Неудача Эгелинга навела ученых на мысль, что восстановить лицо по черепу нельзя, что портретное сходство недостижимо.
Когда делались попытки воспроизвести по черепам головы наиболее древних людей — неандертальцев из Ля-Шапель, то при этом даже и не задавались целью воссоздать конкретный облик, ограничивались (вынужденно!) условным типовым портретом, не больше. Каждый действовал по-своему, воссоздавал недостающее по своему усмотрению. Мельчайшие детали, которые отличают каждое лицо, получались такими, какими их представлял себе скульптор. В итоге череп один — портреты разные…
Потому и сложилось как будто бы обоснованное убеждение, что вообще невозможно восстановить лицо по черепу.
Вот с чем столкнулся Михаил Михайлович Герасимов, когда около сорока лет назад он впервые приступил к созданию необыкновенных портретов — портретов людей, которых он никогда не видел.
***
Археологией Герасимов заинтересовался рано. Так же рано стал он постоянным посетителем краеведческого музея. Еще будучи школьником, он с увлечением читал книги о прошлом земли. Его отец — врач — был большим любителем природы. В обширной библиотеке Михаила Петровича рядом с учебниками по анатомии стояли сочинения Брема, иллюстрированные издания “Вселенная и человечество”, “Земля и люди”. Книга — чудесная машина времени. Она может перенести нас, ее читателей, в далекое прошлое. Мир, каким он был тысячи и миллионы лет назад, предстает перед нами. Со страниц книг смотрят на нас диковинные растения и удивительные животные, когда-то жившие на Земле. Как люди узнают о них? В каменном угле, сланцах, песчаниках и других породах находят отпечатки растений, стволы деревьев. Находят и кости животных. Но разве по разрозненным остаткам костей можно представить, как выглядело животное, которого не видел живым ни один современный человек? Ответ дал французский естествоиспытатель Жорж Кювье, который восстанавливал по костям ископаемого животного его облик. Это казалось чудом. Но Кювье был ученым, и то, что он делал, основывалось на законах науки. А законы науки говорили: скелет животного и его мягкие ткани не есть что-то оторванное друг от друга. Они взаимозависимы, и форма одного может определять форму другого. Из искусных рук Жоржа Кювье выходили “портреты” древних вымерших животных-предков лошади, тапира, слона… Рисунки этих и других доисторических животных Герасимов находит в книгах, в музее, где он подолгу рассматривает находки археологов и палеонтологов — разведчиков прошлого. Он рассматривает найденные в Сибири учеными орудия каменного века: наконечники стрел и копий, топоры из нефрита — зеленоватого камня, орудия из кости и древнюю глиняную посуду… На смену камню приходит металл, появляются орудия и утварь нового, бронзового века: ножи, кинжалы, бронзовые топоры, многочисленные украшения из меди. Затем наступил железный век, и переднами — железные мечи, серпы, сошники и другое. Вместе с утварью- найденные при раскопках остатки человеческих скелетов. Школьник-любитель археологии стал впоследствии археологом. …Передо мной лежит пожелтевшая от времени газетная вырезка с заметкой: “Могила доисторического воина. Новая археологическая находка. 18 октября сотрудником музея (Иркутского краеведческого музея. — Б.Л.) М.М.Герасимовым обнаружено около переселенческого пункта древнее погребение новокаменного века. Костяк оказался сильно разрушенным: целы лишь некоторые кости. Находка интересна тем, что дает возможность в полной мере реконструировать погребение неолитического (новокаменного) века. Произведена зарисовка всего погребения, и по этому образцу будет реконструировано погребение, найденное Герасимовым в прошлом году в Глазкове”. Эта заметка многолетней давности переносит нас в те времена, когда Михаил Михайлович Герасимов был сотрудником Иркутского краеведческого музея.
Молодой археолог нашел в погребении, о котором сообщала газета, и довольно хорошо сохранившийся череп человека новокаменного века. Долго вглядывался Герасимов в эти останки, пытаясь представить, как выглядел человек, живший на Земле не одно тысячелетие назад. Становилось ясно — только отлично зная анатомию, можно найти верный путь. С нее надо начинать. Надо было накопить факты, изучить, какой формы бывают мышцы, как они расположены.
Все свободное время Герасимов работал в анатомическом музее и в Медицинском институте. Его учителем был профессор Александр Дмитриевич Григорьев. Как-то Герасимов спросил, можно ли восстановить по черепу лицо? Профессор ответил: “До сих пор это никому не удавалось. Попробуй, поработай сам”.
Герасимов начал не с человека, а с животных. Не обошлось и без некоторого увлечения древним ископаемым миром.
И он создает реконструкции вымерших животных по остаткам их костейдиплодока и птеродактиля, саблезубого тигра-махайрода и мастодонта, мамонта, сибирского носорога и многих других.
Много лет заняла работа на кафедре судебной медицины, где Герасимов пытался найти пути восстановления лица по черепу. И, наконец, в 1925 году сделана попытка реконструкции питекантропа и неандертальца. Теперь Михаил Михайлович не считает эти реконструкции большой удачей, но все же это был, по его словам, первый рубеж.
Следующим шагом были обезьяны — животные, которые по особенностям строения своего тела ближе всего стоят к человеку.
В Музее антропологии и этнографии Академии наук в Ленинграде можно видеть первую, работу Герасимова такого рода — голову шимпанзе, воспроизведенную по черепу.
Пользуясь разработанным им методом, Герасимов с середины тридцатых годов снова приступает к восстановлению облика древнейших людей. Им были сделаны портреты синантропа и кроманьонцев.
“Мысль о возможности восстановить облик древнего человека возникла у меня очень давно, — рассказывает Михаил Михайлович. — Осуществление ее потребовало многих лет подготовки, так как мне пришлось самостоятельно разработать методику восстановления лица по черепу. Параллельно со своей археологической работой я изучал антропологический материал, препарировал головы, измерял толщину мускульного покрова… Много времени ушло, прежде чем я рискнул предложить на суд антропологов свои работы”.
Облик более древних форм ископаемых людей — синантропов и неандертальцев — восстанавливается, вероятно, не очень точно. Но ошибка здесь не слишком велика: ведь можно же было, пользуясь разработанным методом, воспроизвести достоверный портрет человекообразной обезьяны — шимпанзе.
Синантроп на портрете, созданном Герасимовым, — уже не зверь, не обезьяна. Лицо примитивно. Сильно развиты надбровные дуги. Подбородка нет. Низкий покатый лоб. И все же это лицо уже значительно приближается к человеческому.
А вот как говорит М.М.Герасимов о воспроизведенном им облике кроманьонца: “Шея сильная, посадка головы прямая, общее впечатление — гармоническое сочетание силы и ума, нет и намека на примитивность или внешнюю дикость”.
Красавица кроманьонка из грота Мурзак-Коба получила широкую известность. О ней писали, ее портреты украшали страницы газет и журналов.
Эта заметка многолетней давности переносит нас в те времена, когда Михаил Михайлович Герасимов был сотрудником Иркутского краеведческого музея.
Молодой археолог нашел в погребении, о котором сообщала газета, и довольно хорошо сохранившийся череп человека новокаменного века. Долго вглядывался Герасимов в эти останки, пытаясь представить, как выглядел человек, живший на Земле не одно тысячелетие назад. Становилось ясно — только отлично зная анатомию, можно найти верный путь. С нее надо начинать. Надо было накопить факты, изучить, какой формы бывают мышцы, как они расположены.
Все свободное время Герасимов работал в анатомическом музее и в Медицинском институте. Его учителем был профессор Александр Дмитриевич Григорьев. Как-то Герасимов спросил, можно ли восстановить по черепу лицо? Профессор ответил: “До сих пор это никому не удавалось. Попробуй, поработай сам”.
Герасимов начал не с человека, а с животных. Не обошлось и без некоторого увлечения древним ископаемым миром.
И он создает реконструкции вымерших животных по остаткам их костейдиплодока и птеродактиля, саблезубого тигра-махайрода и мастодонта, мамонта, сибирского носорога и многих других.
Много лет заняла работа на кафедре судебной медицины, где Герасимов пытался найти пути восстановления лица по черепу. И, наконец, в 1925 году сделана попытка реконструкции питекантропа и неандертальца. Теперь Михаил Михайлович не считает эти реконструкции большой удачей, но все же это был, по его словам, первый рубеж.
Следующим шагом были обезьяны — животные, которые по особенностям строения своего тела ближе всего стоят к человеку.
В Музее антропологии и этнографии Академии наук в Ленинграде можно видеть первую, работу Герасимова такого рода — голову шимпанзе, воспроизведенную по черепу.
Пользуясь разработанным им методом, Герасимов с середины тридцатых годов снова приступает к восстановлению облика древнейших людей. Им были сделаны портреты синантропа и кроманьонцев.
“Мысль о возможности восстановить облик древнего человека возникла у меня очень давно, — рассказывает Михаил Михайлович. — Осуществление ее потребовало многих лет подготовки, так как мне пришлось самостоятельно разработать методику восстановления лица по черепу. Параллельно со своей археологической работой я изучал антропологический материал, препарировал головы, измерял толщину мускульного покрова… Много времени ушло, прежде чем я рискнул предложить на суд антропологов свои работы”.
Облик более древних форм ископаемых людей — синантропов и неандертальцев — восстанавливается, вероятно, не очень точно. Но ошибка здесь не слишком велика: ведь можно же было, пользуясь разработанным методом, воспроизвести достоверный портрет человекообразной обезьяны — шимпанзе.
Синантроп на портрете, созданном Герасимовым, — уже не зверь, не обезьяна. Лицо примитивно. Сильно развиты надбровные дуги. Подбородка нет. Низкий покатый лоб. И все же это лицо уже значительно приближается к человеческому.
А вот как говорит М.М.Герасимов о воспроизведенном им облике кроманьонца: “Шея сильная, посадка головы прямая, общее впечатление — гармоническое сочетание силы и ума, нет и намека на примитивность или внешнюю дикость”.
Красавица кроманьонка из грота Мурзак-Коба получила широкую известность. О ней писали, ее портреты украшали страницы газет и журналов.

***
Но, прежде чем появились такие портреты, необходимо было собрать большой фактический материал, обработать его, обобщить. Немало лет ушло на это. Герасимову пришлось весь материал собирать заново, проделать множество измерений так, чтобы их легко можно было сравнивать между собой — определять толщину мягкого покрова в строго определенных точках, служивших опорой при восстановлении лица. Но это лишь половина дела. Нужно было научиться смотреть глубже. Нужно было изучить мельчайшие детали, которые придают каждому лицу характерные, неповторимые черты, отличающие его от всех других лиц. Надо было проследить связь между формой отдельных частей лица и рельефом черепа, изучить ее более детально, найти новые, неизвестные ранее зависимости, создать методику восстановления. Сделать это Герасимову удалось в результате многолетнего упорного труда. Он производил десятки измерений мужских и женских лиц. худых и толстых, детских и старческих, изучал, как зависит профиль лица от деталей рельефа черепа. Открытые им закономерности оказались близкими для всех современных человеческих рас. Они и позволяют восстанавливать облик различных людей, пользуясь одним и тем же методом. Удалось создать определенные стандарты толщины мягких тканей профиля. Удалось установить, как они могут быть уточнены в соответствии со степенью развития рельефа черепа. Так появились таблицы и схемы, пригодные для работы. Пользуясь стандартами толщин мягких тканей, можно в каждом отдельном случае воспроизвести профиль лица. При этом, однако, нужно обязательно учитывать особенности строения черепа в каждом отдельном случае. Только тогда можно добиться портретного сходства. Что же понимает профессор Герасимов под портретным сходством? Создаваемый по черепу скульптурный портрет документально передает черты лица. По нему можно опознать человека. Надо оговориться, что не все детали пока еще получаются одинаково точно. Если нос теперь удается восстановить вполне достоверно, глаза — почти тождественно, рот — очень похожим, то уши — лишь в общих чертах. Тем не менее скульптурный портрет, сделанный по черепу, с научной достоверностью передает черты лица человека. “Дальнейшая работа над образом, — говорит Герасимов, — является продуктом художественного освоения документальной маски”. В своей работе Герасимов широко использовал мощное оружие современной науки — рентгеновские лучи. Фотография дает представление о форме деталей лица, носа, глаз, но на ней не видно костей. Рентген дал возможность увидеть под живой тканью ее костную основу. А это помогло найти ранее неизвестные нам соотношения, проследить их “на натуре”. Разным формам носовых костей соответствует и разная форма “мягкого” носа. По черепу, таким образом, можно определить, какой формы был у человека нос. Но нас интересует не только нос, но и глаза, рот и другие черты лица. Возьмем, например, рот. Он образуется круговой мышцей, свободно лежащей над зубами. Ее окружают и поддерживают мелкие мышцы. Форма рта во многом зависит от зубов, их величины, расположения, оттого, как смыкаются верхние и нижние зубы, и от ряда деталей строения альвеолярного отростка верхнечелюстной кости. Пo нижней челюсти можно восстановить форму подбородка. Профессия и привычки налагают отпечаток на облик человека. Раньше было не очень трудно по внешнему виду узнать портного, кузнеца, сапожника. Сапожники, например, постоянно держали наготове гвозди у себя во рту. И на зубах появлялись царапины, эмаль и зубы постепенно разрушались, губы в этом месте слегка припухали. Портят зубы портнихи, откусывая нитки, музыканты, играющие на духовых инструментах, курильщики, пользующиеся мундштуками или трубками. Нередко люди, постоянно курящие тяжелые трубки, улыбаются только одной стороной рта, несмотря на то что в данный момент они не курят. Возникает привычка жевать только на одной стороне рта. Изучение формы глазниц, постановки глазных яблок и всех особенностей строения глаза дало возможность восстанавливать его внешнюю форму. По форме орбиты можно определить постановку глазного яблока, судить о том, насколько выступает оно вперед, какова форма век. Внимательно присматриваясь к мельчайшим деталям строения костей черепа, Герасимов подметил такие связи, которых никто ранее не знал. Новые наблюдения, сделанные Герасимовым позднее, позволяют теперь с достаточной достоверностью воспроизводить даже такие тонкие детали, как форма и высота крыльев носа, рисунок губ, внешняя форма глаза. Очень трудно восстанавливать уши. Они не связаны тесно с черепом, и формы их настолько различны, что можно сказать: сколько людей — столько и ушей. По ним, так же как и по отпечаткам пальцев, можно опознать человека. Все же и здесь удалось подметить некоторые закономерности. И это позволило более или менее правильно определять общие очертания, размеры и посадку уха.
Постепенно. Герасимов проследил многие скрытые связи, которые существуют между формой лица и костями черепа.
Много лет Герасимов работал один. А сейчас у него есть ученики, и молодежь уже делает успехи. Так, например, одна из сотрудниц Михаила Михайловича, Г.Лебединская, дала ответ на вопрос, как определить разрез глаз.
Однако восстанавливая лицо, нельзя рассматривать его части изолированно друг от друга. Нельзя опираться на какую-либо одну, пусть даже яркую, деталь, так как в этом случае будет совершена ошибка.
Основываясь на форме носовых костей, нужно проверять себя и другими данными. Например, расстояние между ноздрями зависит и от размеров носового, грушевидного отверстия черепа, и от высоты носового свода, и от расстояния между глазами. Только при учете всех данных можно быть уверенным в правильном разрешении реконструкции. Так определяет Герасимов важнейшее условие своей работы.
Вот к какому выводу пришел в 1935 году чешский ученый Сук: “…Человек может быть изучаем при условии сохранения мягких тканей. Все ископаемые остатки человека, дошедшие до нас в виде костей скелета, могут изучаться как скелет, по данным которого не может быть построен сколько-нибудь правдоподобный образ”.
Сук сравнивал размеры грушевидного отверстия в мужском и женском черепе. Нередко эти размеры бывали одинаковы, но носы при этом оказывались совершенно разными. Это и дало ему повод для неутешительных выводов.
Что же делал Сук? Измеряя длину и ширину грушевидного отверстия, он не интересовался его формой. Но ведь одинаковую длину и ширину могут иметь отверстия самых разнообразных очертаний.
В чем ошибка противников метода реконструкции лица по черепу?
В том, что за отдельными фактами они не увидели связи, которая существует между всеми частями лица и черепом. Они рассматривали каждый факт, каждую цифру отдельно, а нужно было рассматривать их все вместе, в их взаимном переплетении. Нужно было сопоставлять факты, находить связь между ними.
Отдельных наблюдений, даже очень точных и интересных, недостаточно, чтобы можно было составить правильное представление об изучаемом явлении.
Многочисленные измерения, фотографии и рентгеновские снимки, которые можно сравнивать и сопоставлять, “черновая работа в науке”, о которой говорил академик Павлов и без которой невозможно ни одно открытие, — вот в чем был секрет успеха.
Они не связаны тесно с черепом, и формы их настолько различны, что можно сказать: сколько людей — столько и ушей. По ним, так же как и по отпечаткам пальцев, можно опознать человека. Все же и здесь удалось подметить некоторые закономерности. И это позволило более или менее правильно определять общие очертания, размеры и посадку уха.
Постепенно. Герасимов проследил многие скрытые связи, которые существуют между формой лица и костями черепа.
Много лет Герасимов работал один. А сейчас у него есть ученики, и молодежь уже делает успехи. Так, например, одна из сотрудниц Михаила Михайловича, Г.Лебединская, дала ответ на вопрос, как определить разрез глаз.
Однако восстанавливая лицо, нельзя рассматривать его части изолированно друг от друга. Нельзя опираться на какую-либо одну, пусть даже яркую, деталь, так как в этом случае будет совершена ошибка.
Основываясь на форме носовых костей, нужно проверять себя и другими данными. Например, расстояние между ноздрями зависит и от размеров носового, грушевидного отверстия черепа, и от высоты носового свода, и от расстояния между глазами. Только при учете всех данных можно быть уверенным в правильном разрешении реконструкции. Так определяет Герасимов важнейшее условие своей работы.
Вот к какому выводу пришел в 1935 году чешский ученый Сук: “…Человек может быть изучаем при условии сохранения мягких тканей. Все ископаемые остатки человека, дошедшие до нас в виде костей скелета, могут изучаться как скелет, по данным которого не может быть построен сколько-нибудь правдоподобный образ”.
Сук сравнивал размеры грушевидного отверстия в мужском и женском черепе. Нередко эти размеры бывали одинаковы, но носы при этом оказывались совершенно разными. Это и дало ему повод для неутешительных выводов.
Что же делал Сук? Измеряя длину и ширину грушевидного отверстия, он не интересовался его формой. Но ведь одинаковую длину и ширину могут иметь отверстия самых разнообразных очертаний.
В чем ошибка противников метода реконструкции лица по черепу?
В том, что за отдельными фактами они не увидели связи, которая существует между всеми частями лица и черепом. Они рассматривали каждый факт, каждую цифру отдельно, а нужно было рассматривать их все вместе, в их взаимном переплетении. Нужно было сопоставлять факты, находить связь между ними.
Отдельных наблюдений, даже очень точных и интересных, недостаточно, чтобы можно было составить правильное представление об изучаемом явлении.
Многочисленные измерения, фотографии и рентгеновские снимки, которые можно сравнивать и сопоставлять, “черновая работа в науке”, о которой говорил академик Павлов и без которой невозможно ни одно открытие, — вот в чем был секрет успеха.
***
Ключ найден. Теперь можно им воспользоваться и открыть дверь в неизвестное. Но ученый строг и требователен к себе. Это тем более необходимо, что к его работе относились вначале с недоверием. Однако Герасимов с самого начала был убежден, что задача хотя и сложна, но разрешима. Ее не удавалось решить раньше лишь потому, что не хватало знаний, не найдены были соотношения между мягкими тканями и их костной основой. Проверить себя, свой метод можно только единственным способом. Нужно восстановить лица недавно живших людей и сравнить их с сохранившимися фотографиями или достаточно достоверными портретами. Можно обратиться к тем, кто мог бы опознать восстановленное лицо. За контрольными опытами, как назвал эти свои работы Герасимов, было решающее слово. “Сознание большой ответственности и не всегда сочувственное суждение историков о степени приближения к подлинности в создаваемых портретах побудили меня поставить ряд проверочных, контрольных работ”, — говорит он. В 1937 году Герасимов получил для контрольного опыта череп из Музея антропологии Московского университета. Он не имел ни малейшего представления о том, чей череп ему был передан. Когда работа была окончена, Михаил Михайлович увидел фотографию и мог убедиться в несомненном сходстве восстановленного и подлинного лица. Даже немногие скептики вынуждены были отступить. Этот опыт оказался особенно интересен в том отношении, что Герасимов использовал в своей работе те соотношения между мягкими покровами и рельефом черепа, которые он получил, изучая людей европеоидной и монголоидной рас. Восстанавливал же он голову папуаса — человека негроидной расы. Значит, открытые им зависимости справедливы для всех человеческих рас. Значит, строение тела всех людей подчиняется одним законам, и это лишнее доказательство несостоятельности теорий о высших и низших расах. Спустя некоторое время Герасимов произвел второй интересный опыт. Многие годы в Институте физической культуры имени Лесгафта в Ленинграде работал тренер Лустало — известный французский спортсмен, замечательный пловец, первым переплывший Ламанш. Лустало завещал свой скелет институту. Герасимов получил его череп, не зная, как выглядел знаменитый спортсмен. Он восстановил лицо… И тут его постигло разочарование. Ему показали посмертную маску, снятую с лица Лустало. Герасимов почти не нашел сходства между этой маской и сделанной им реконструкцией. Расстроенный неудачей, он поставил свою работу рядом с другими и на время забыл о ней. Однажды к Герасимову пришла подруга его жены. Подойдя к полке, она сразу заметила новую работу. — Это мой бывший тренер Лустало. Но где вы взяли такой плохой портрет для этой скульптуры? Ведь он носил усы и совсем другую прическу, — сказала она, думая, что перед нею скульптура, сделанная по фотографии или портрету. От нее Герасимов узнал, что на студии “Лентехфильм” работают несколько бывших учеников Лустало. Герасимов обратился к директору студии и попросил помочь ему. Сделали так. Голову Лустало поставили в директорском кабинете. Туда по очереди приглашали его бывших учеников. Чтобы они не могли узнать заранее о проводящемся эксперименте, каждого из них оставляли после беседы в кабинете. Как на экзамене, каждый из них мог отвечать только за себя. На вопрос, чей портрет перед ними, все отвечали: “Это Лустало! Но почему у него нет усов?” Реконструкция, сделанная Герасимовым, правильно воспроизводила лицо спортсмена, каким оно было в последнее время жизни. Как выяснилось потом, маску сняли спустя несколько дней после смерти Лустало, когда черты лица очень сильно исказились. Однако ученый не удовлетворился этими успешными опытами. Ведь могли быть случайности, отдельные удачи. И вот тогда-то Герасимов получил письмо от своего бывшего учителя. “Миша, из газет узнал, что ты не утратил интереса к своим первоначальным работам. Я сейчас заведую кафедрой судебной медицины 3-го Медицинского института в Москве. В моем распоряжении Лефортовский морг. Я могу тебе обеспечить массовые контрольные опыты. Ответь мне, пожалуйста, если ты в этом заинтересован. Александр Дмитриевич Григорьев”. Уже на другой день Герасимов был в Москве и договорился о начале опытов. В Ленинград из Лефортовского морга ему стали регулярно присылать посылки. В них были черепа людей, чьи фотографии имелись в Москве. Герасимов восстанавливал головы, затем выезжал с ними в Москву и на специальных заседаниях в Медицинском институте его работы сравнивались с сохранившимися фотографиями. Результаты превзошли все ожидания. Во всех случаях портретное сходство было несомненным. Это послужило доказательством того, что реконструкция облика человека вполне возможна. Успех контрольных опытов навел Герасимова на мысль, что его работы могут помочь при опознании неизвестных. Родители погибшего под Москвой в 1942 году офицера А.Б. получили разрешение перенести прах сына на родину, но оказалось, что он похоронен вместе с другим бойцом. Чтобы не было сомнений, они просили воспроизвести его лицо. Герасимов выполнил эту просьбу, и мать признала, что портрет очень похож, даже больше, чем сохранившаяся фотография. Когда Герасимов предложил внести какие-либо изменения, она отказалась, сказав: “Сын последнее время был такой”. В тех случаях, когда не удается опознать погибшего, так как никаких его вещей и документов не сохранилось, приходят на помощь работы Герасимова. Для него каждый такой случай оказывался и контрольным опытом. Мы расскажем об одном из них. В 1939 году в лесу под Ленинградом, в малонаселенной местности, были найдены разрозненные кости скелета человека. Кроме костей, не нашли ничего, что могло бы помочь опознать погибшего. Было замечено только одно: многие кости повреждены зубами какого-то крупного хищника — вероятно, волка. Череп передали Михаилу Михайловичу. Он прежде всего установил, что останки, вероятно, принадлежат мальчику 12–13 лет. Герасимов воспроизвел его голову. На нее надели кепку и сфотографировали в разных положениях. Следователю удалось узнать, что полгода назад в деревне недалеко от места, где нашли кости, пропал мальчик. Отец полагал, что он убежал из дому и беспризорничает. Но когда ему показали тридцать семь разных снимков, среди которых было и семь с восстановленной Герасимовым головы, он сразу же узнал своего сына, безошибочно отобрав эти семь фотографий. Расскажем еще об одном контрольном опыте. В 1937 году Герасимов получил череп, найденный в склепе на одном из московских кладбищ. Ему сказали, что человек жил около ста лет назад и был родственником известного русского писателя. Больше он не знал ничего. Череп сильно пострадал — растрескались зубы и отсутствовала затылочная кость. Тем не менее можно было определить, что он принадлежал молодой женщине. Герасимов восстановил лицо, сделал такую прическу, какую носили в прошлом веке, — высокий узел на затылке и завитые букли. У женщины был высокий, большой лоб, широкий овал лица, большие красивые глаза. Кончив работу, Герасимов узнал, что восстановил голову Марии Достоевской — матери писателя Федора Михайловича Достоевского. Сохранился единственный портрет Марии Достоевской в возрасте около двадцати лет. Сравнили портрет и скульптуру Герасимова. Несомненно, это было одно и то же лицо, несмотря на некоторую разницу в возрасте (Достоевская умерла тридцати шести — тридцати семи лет). Но живописный портрет был манерным и частично отходил от натуры. Он оказался менее достоверным, чем скульптурный портрет, сделанный только по черепу спустя сто лет после смерти. И вот что произошло на юбилейной сессии, посвященной 220-летию Академии наук. На нее съехались ученые многих стран. Они с интересом рассматривали выставленные работы советских историков, археологов и других ученых. Среди них были и работы М.М.Герасимова. Один из гостей, американский ученый-атрополог Филд, внимательно осматривал восстановленные Герасимовым головы доисторических людей. Подобные реконструкции пытались создавать и за рубежом. Потому Филд не особенно удивлялся, хотя и отнесся к работам Герасимова с большим интересом. Когда же его подвели к стенду, где были выставлены результаты контрольных опытов, он в изумлении произнес: “Этого не может быть. Я отказываюсь верить собственным глазам”. Контрольные опыты дали уверенность Герасимову, что он стоит на правильном пути, что задача, которую он поставил перед собой — восстановление облика давно живших людей, — вполне разрешима и не является беспочвенной фантазией, как это думали некоторые ученые. И едва ли не самое главное: не только Герасимов, но и его ученики Т.И.Сурнина и Г.В.Лебединская с успехом пользуются созданным им методом. Уже многие годы они занимаются реконструкцией лица по черепу.***
Из экспедиций, музеев, институтов, от археологов ведущих раскопки, или комиссий, вскрывающих гробницы исторических лиц, приходит к Герасимову единственная основа для документального портрета — череп. Михаил Михайлович Герасимов говорит: “Даже сложные для восстановления части лица могут быть воссозданы — надо лишь научиться “читать”, “видеть” скелет лица”. Иногда сотни и тысячи лет пролежал череп в земле. И часто бывает, что “исходный материал” попадает к Герасимову неполный, частично поврежденный, разрушенный. Однажды Михаил Михайлович показал мне небольшой картонный ящик. Открыв крышку, я увидел груду мелких костей — то, что когда-то было черепом. — С таким крошевом нередко приходится иметь дело, — сказал Михаил Михайлович. Тщательно, терпеливо собирает и склеивает он десятки обломков. Прежде чем восстанавливать лицо, нужно восстановить его костную основу, череп. Когда, например, Михаил Михайлович получил череп князя Ярослава Мудрого, то оказалось, что левая скуловая и верхнечелюстная кости выломаны, несколько обломаны носовые кости, выкрошились зубы. Как же быть?
Из очень плотного воска Герасимов сделал недостающие части левой стороны, пользуясь сохранившейся правой половиной. Сложнее было восстановить обломанные носовые кости, но и здесь это удалось сделать, потому что сохранились носолобные отростки верхнечелюстных костей.
Зубы удалось восстановить легко: альвеолы (ячейки-гнезда на краях челюстей, в которых они укреплены) сохранились хорошо.
Также неполным оказался череп Тимура. Б льшая часть левой теменной кости была разрушена. Виновники этого — вода, которая просочилась в гробницу, и растворенные в ней соли. И, прежде чем восстанавливать лицо, пришлось сначала заделать пролом плотным воском.
Насколько трудна эта реставрация, насколько характерен, индивидуален каждый череп, говорит хотя бы такая деталь. Был случай, когда Герасимов пробовал подобрать недостающую нижнюю челюсть из имеющихся в антропологических музеях. Он перебрал двести с лишним, но ни одна не подошла. Пришлось самому реконструировать недостающие части, пользуясь теми “подсказками”, теми “указаниями”, что давали ему уцелевшие кости.
Итак, череп, если он был поврежден, восстановлен. Теперь нужно тщательно его изучить.
Форма черепа, его величина, рельеф костей, расстояние между глазами, грушевидное отверстие, зубы, челюсти, каждая черточка — на все это обращает внимание ученый, когда рассматривает череп. Важны и мелкие детали строения костей — их микрорельеф. Тщательное знакомство с черепом — основная часть работы. Мужской череп или женский, какого типа, сколько лет было его владельцу — на все эти вопросы надо ответить.
Только целый ряд признаков, взятых вместе, может дать достоверный ответ. И здесь, как говорит Герасимов, все дело в практике, в умении видеть и суммировать те или иные признаки пола.
Череп мужчины отличается от черепа женщины размерами и формами отдельных деталей, степенью развития рельефа. Кости его более тяжелые, массивные.
У человека с полным лицом череп имеет сглаженный рельеф, у худого все гребни отчетливы; при чрезмерной полноте лица поверхность кости становится рыхлой, пористой.
С возрастом уплотняются, а затем и срастаются черепные швы, основание черепа окостеневает, снашиваются и выпадают зубы. В результате лицо человека изменяется, нижняя челюсть выдается вперед и вверх, а верхняя западает, резче выступает подбородок, нос опускается, голова наклоняется.
Вот что дает возможность судить о возрасте человека.
Для получения наибольшего сходства важно определить, какова была посадка головы, как держал человек голову. По черепу, по тому, какой вид имеет его основание, можно установить и это.
Глядя на череп, Герасимов зачастую может сразу представить себе, конечно в самых общих чертах, как выглядел человек. Так было, например, когда он получил череп Марии Достоевской. Высокий, большой лоб, большие, красиво поставленные глаза, рот небольшой, с тонкими губами, острый, выступающий вперед подбородок — так представил он себе лицо этой женщины. И не ошибся.
С живописного портрета Федора Федоровича Ушакова смотрит на нас узкое лицо с тонкими губами, мягким подбородком и прямым носом. В нем нет характерных, запоминающихся черт: посмотришь, отойдешь и забудешь. Это лицо придворного, а не боевого адмирала. Его легко представить на блестящем паркете бальных залов и очень трудно — на палубе корабля.
В самом деле, таким ли был знаменитый флотоводец, под водительством которого русские моряки совершали подвиги столь же великие, как и чудо-богатыри Суворова?
Таким ли был Ушаков, не боявшийся ходить на медведя один на один?
Таким ли был грозный Ушак-паша, наводивший страх на турок, флот которых считался одним из лучших в мире?
Герасимов тщательно изучил и измерил череп. Затем он вычертил его контуры в том же масштабе и в том же положении, в каком художник изобразил лицо, и совместил их с портретом. Как и следовало ожидать, они не совпали. Череп оказался значительно короче и шире, чем лицо на портрете. Нижняя челюсть- массивная, с широким подбородком, а не узкая и вытянутая, как на портрете. Нос — короткий и широкий, а не длинный, как нарисовал художник.
Но, может быть, это был портрет вовсе не Ушакова?
Нет, ряд черт, главным образом детали носа и рта, были изображены правильно. Художник сохранил присущую лицу асимметрию. На портрете, как и в действительности, правый глаз немного меньше левого, правая ноздря несколько опущена по сравнению с левой.
Поэтому в том, что портрет был сделан с натуры, сомневаться не приходится, приходится сомневаться лишь в том, похож ли он на оригинал.
Когда, например, Михаил Михайлович получил череп князя Ярослава Мудрого, то оказалось, что левая скуловая и верхнечелюстная кости выломаны, несколько обломаны носовые кости, выкрошились зубы. Как же быть?
Из очень плотного воска Герасимов сделал недостающие части левой стороны, пользуясь сохранившейся правой половиной. Сложнее было восстановить обломанные носовые кости, но и здесь это удалось сделать, потому что сохранились носолобные отростки верхнечелюстных костей.
Зубы удалось восстановить легко: альвеолы (ячейки-гнезда на краях челюстей, в которых они укреплены) сохранились хорошо.
Также неполным оказался череп Тимура. Б льшая часть левой теменной кости была разрушена. Виновники этого — вода, которая просочилась в гробницу, и растворенные в ней соли. И, прежде чем восстанавливать лицо, пришлось сначала заделать пролом плотным воском.
Насколько трудна эта реставрация, насколько характерен, индивидуален каждый череп, говорит хотя бы такая деталь. Был случай, когда Герасимов пробовал подобрать недостающую нижнюю челюсть из имеющихся в антропологических музеях. Он перебрал двести с лишним, но ни одна не подошла. Пришлось самому реконструировать недостающие части, пользуясь теми “подсказками”, теми “указаниями”, что давали ему уцелевшие кости.
Итак, череп, если он был поврежден, восстановлен. Теперь нужно тщательно его изучить.
Форма черепа, его величина, рельеф костей, расстояние между глазами, грушевидное отверстие, зубы, челюсти, каждая черточка — на все это обращает внимание ученый, когда рассматривает череп. Важны и мелкие детали строения костей — их микрорельеф. Тщательное знакомство с черепом — основная часть работы. Мужской череп или женский, какого типа, сколько лет было его владельцу — на все эти вопросы надо ответить.
Только целый ряд признаков, взятых вместе, может дать достоверный ответ. И здесь, как говорит Герасимов, все дело в практике, в умении видеть и суммировать те или иные признаки пола.
Череп мужчины отличается от черепа женщины размерами и формами отдельных деталей, степенью развития рельефа. Кости его более тяжелые, массивные.
У человека с полным лицом череп имеет сглаженный рельеф, у худого все гребни отчетливы; при чрезмерной полноте лица поверхность кости становится рыхлой, пористой.
С возрастом уплотняются, а затем и срастаются черепные швы, основание черепа окостеневает, снашиваются и выпадают зубы. В результате лицо человека изменяется, нижняя челюсть выдается вперед и вверх, а верхняя западает, резче выступает подбородок, нос опускается, голова наклоняется.
Вот что дает возможность судить о возрасте человека.
Для получения наибольшего сходства важно определить, какова была посадка головы, как держал человек голову. По черепу, по тому, какой вид имеет его основание, можно установить и это.
Глядя на череп, Герасимов зачастую может сразу представить себе, конечно в самых общих чертах, как выглядел человек. Так было, например, когда он получил череп Марии Достоевской. Высокий, большой лоб, большие, красиво поставленные глаза, рот небольшой, с тонкими губами, острый, выступающий вперед подбородок — так представил он себе лицо этой женщины. И не ошибся.
С живописного портрета Федора Федоровича Ушакова смотрит на нас узкое лицо с тонкими губами, мягким подбородком и прямым носом. В нем нет характерных, запоминающихся черт: посмотришь, отойдешь и забудешь. Это лицо придворного, а не боевого адмирала. Его легко представить на блестящем паркете бальных залов и очень трудно — на палубе корабля.
В самом деле, таким ли был знаменитый флотоводец, под водительством которого русские моряки совершали подвиги столь же великие, как и чудо-богатыри Суворова?
Таким ли был Ушаков, не боявшийся ходить на медведя один на один?
Таким ли был грозный Ушак-паша, наводивший страх на турок, флот которых считался одним из лучших в мире?
Герасимов тщательно изучил и измерил череп. Затем он вычертил его контуры в том же масштабе и в том же положении, в каком художник изобразил лицо, и совместил их с портретом. Как и следовало ожидать, они не совпали. Череп оказался значительно короче и шире, чем лицо на портрете. Нижняя челюсть- массивная, с широким подбородком, а не узкая и вытянутая, как на портрете. Нос — короткий и широкий, а не длинный, как нарисовал художник.
Но, может быть, это был портрет вовсе не Ушакова?
Нет, ряд черт, главным образом детали носа и рта, были изображены правильно. Художник сохранил присущую лицу асимметрию. На портрете, как и в действительности, правый глаз немного меньше левого, правая ноздря несколько опущена по сравнению с левой.
Поэтому в том, что портрет был сделан с натуры, сомневаться не приходится, приходится сомневаться лишь в том, похож ли он на оригинал.
***
Теперь, когда череп изучен со всех сторон, можно приступить к восстановлению формы мягких тканей. Череп с укрепленной нижней челюстью устанавливается на штативе в положении, определяющем правильную посадку головы. Посадка головы очень индивидуальна, на нее влияют характер, возраст, профессия, состояние здоровья. Изучая основание черепа и шейные позвонки, удается воспроизвести привычную посадку головы каждого человека. Летописцы неоднократно отмечают гордый, непреклонный вид князя Андрея Боголюбского. Такой вид придавала князю своеобразная посадка головы — она была всегда вздернута, подбородок приподнят. С помощью особого прибора на бумагу переносят ряд горизонтальных обводов черепа. Иными словами, получается как бы несколько сечений черепа горизонтальными плоскостями, проходящими на разных уровнях. Точки, через которые проходят обводы, точно установлены. Понятно, почему здесь нужна точность. При составлении таблиц стандартов обводы делались через эти же строго определенные точки. Далее каждый из обводов “обрастает” мягким покровом. Пока все происходит на бумаге. Воспроизводится линия профиля, а в фас — овал лица, ширина носа и рта, толщина губ, разрез глаз. Стандарты толщин и поправки к ним, которые вносит строение данного черепа, — вот исходный материал для этой стадии работы. Стандарты — это только основа, только отправные, вспомогательные размеры, которые дают предварительное представление о лице. И, пользуясь ими, нужно постоянно контролировать себя, проверять по тем данным, которые есть именно у того черепа, над которым идет работа. Теперь можно приступить к пластической реконструкции. На череп наносятся жевательная и височная мышцы, вылепленные из воска. Но знать форму и расположение этих основных мышц еще мало. Без них, конечно, нечего и думать о восстановлении лица, они у всех людей разные, всегда отличаются какими-то особенностями. Для получения же портретного сходства необходимо воспроизвести и мелкую мускулатуру. Конечно, реконструкция должна передавать черты лица, а не образ, чего стремится достичь художник. Но все же пучки мелких мимических мускулов в значительной степени определяют лицо, и с ними нельзя не считаться, как нельзя не считаться с мельчайшими деталями строения черепа. Они, и только они, позволяют воссоздать носо-губную складку, морщины между бровями и у угла глаза и даже складки век. На основании вспомогательных чертежей на череп по профилю наносится вертикальный гребень из воска и система горизонтальных гребней, образующих своеобразную сетку лица. Возникает “каркас”, определяющий толщину покровов. Промежутки между гребнями заполняются воском соответствующей толщины. Раньше, в начале своей работы, Герасимов пользовался методом “маяков”: толщина мягких покровов в различных точках лица отмечалась столбиками из воска разной высоты. Столбики как бы переносили на череп стандарты толщин. Пространство между ними заполнялось воском. Знаменитый ученый, академик Алексей Николаевич Крылов подал Герасимову идею позаимствовать опыт кораблестроителей и вместо маяков делать гребни на черепе, подобно шпангоутам корабля, покрывая их “обшивкой” из воска. Герасимов в дальнейшем воспользовался этим советом. Вначале половина черепа остается нетронутой — для контроля. Восстановив половину головы, можно взяться за другую, причем делать ее нужно независимо от первой. Нельзя забывать о том, что лицо человека всегда асимметрично. Вот почему вторая половина не может быть зеркальным отображением первой. Ведь асимметрия лица — его важнейшая особенность; забыв о ней, никогда не добьешься портретного сходства. В последнее время Михаил Михайлович прибегает к ускоренному, графическому способу реконструкции. Для этого подготовленный к восстановлению череп прежде всего зарисовывают. На рисунок наносят контуры костей, отмечают точную форму нижней челюсти. Воспроизводят височную мышцу, определяют постановку глазного яблока. Затем вычерчивается профиль лица, восстанавливается нос — его крылья и ноздри, положение кончика. Постепенно возникает рисунок рта, губы, очертания подбородка, носо-губная складка — она очень характерна для каждого человека. Высота лица, длина носа и другие детали строения черепа позволяют судить о форме уха. Небольшая штриховка завершает сделанное. Череп одевается в мягкие покровы, возникает лицо. Графическая реконструкция особенно пригодна, когда результат нужно получить быстро. Она, конечно, менее точна, чем скульптурная. Но зато у нее есть бесспорное преимущество. Рисунок может быть выполнен за два дня. Работа же над скульптурой длится гораздо дольше. Был однажды случай, когда в распоряжении Герасимова имелось всего двадцать четыре часа. Для большей достоверности работали вдвоем — он и его помощница независимо друг от друга графически воспроизвели облик неизвестного. Реконструкции наложили одна на другую. Они совпали, а мелкие расхождения учли. Полученный портрет помог опознать человека. Графическая реконструкция позволит быстро составить представление об облике наших предков в тех случаях, когда раскопки дают много костного материала. Графическая реконструкция помогает и при восстановлении облика исторических лиц. Так, более тысячи лет прошло со дня смерти великого медика древности, философа и поэта Ибн Сины или Авиценны. По его “Канону врачебной науки” вплоть до XVII века учились во всех университетах Европы. На международном конгрессе, посвященном юбилею Ибн Сины, иранский академик Сайд Нефеси подарил советским делегатам свою книгу об Авиценне. А в книге оказалась фотография черепа великого ученого. Выглядела она, к сожалению, плохо — видимо, делалась с плохого клише. Академик, анатом В.Терновский попросил у Нефеси негативы. Через несколько месяцев драгоценные фотографии прибыли в Советский Союз. Терновский самым тщательным образом описал череп по снимкам. Эти снимки позволили Герасимову восстановить портрет Авиценны. Древних портретов Авиценны сохранилось много, но подлинного среди них нет ни одного. Только череп позволил воскресить спустя десять веков подлинный облик Абу Али Ибн Сины, чье имя не померкло до наших дней.
Графическая реконструкция, сделанная Герасимовым, послужила основой для великолепного скульптурного портрета, который будет установлен на родине Ибн Сины, вблизи города Бухары. Работу эту выполнила скульптор Е.Е.Соколова. Ей помогали научные сотрудники Андижанского медицинского института.
Древних портретов Авиценны сохранилось много, но подлинного среди них нет ни одного. Только череп позволил воскресить спустя десять веков подлинный облик Абу Али Ибн Сины, чье имя не померкло до наших дней.
Графическая реконструкция, сделанная Герасимовым, послужила основой для великолепного скульптурного портрета, который будет установлен на родине Ибн Сины, вблизи города Бухары. Работу эту выполнила скульптор Е.Е.Соколова. Ей помогали научные сотрудники Андижанского медицинского института.
***
Скульптурная или графическая маска-портрет, работа над которым еще не закончена, и портрет вполне законченный — какая ощутительная разница между ними! Насколько прическа, усы, борода, одежда меняют человека! Как же ведется заключительная часть работы? “Здесь исследователь превращается в скульптора, — говорит Герасимов. — Здесь помогают различные сведения, получаемые от историков, этнографов, археологов. Они советуют, какую прическу и одежду нужно выбрать, чтобы портрет был возможно ближе к подлиннику, к тому времени, когда жил тот или иной человек. Помогают здесь и музейные коллекции одежды и материй разных эпох, портреты, рисунки и другое”. Работа закончена. С воскового бюста делаются гипсовые отливки. Череп же освобождается от восковых покровов и возвращается в музей, институт или гробницу. А необыкновенный портрет, созданный трудом ученого сотни или тысячи лет спустя после смерти человека, начинает свою новую жизнь. Его изучают специалисты-антропологи, этнографы, историки. О нем пишут статьи, его помещают в журналах и газетах. Его смотрят посетители музеев.***
Где-то на юге или на севере, на востоке или на западе нашей страны ведут раскопки экспедиции археологов. Глубоко под землей, в катакомбах или глиняных сосудах — оссуариях, в земляном полу пещер или каменных саркофагах находят кости людей, живших сотни и тысячи лет назад. Бережно извлекаются они из древних могил, чтобы мы могли изучить, какими были наши предки. Медленно отодвигается в сторону тяжелая крышка саркофага, где, по преданию, покоится прах полководца древности, или правителя обширного царства, или великого ученого. Не простое любопытство толкает исследователей на этот шаг. Останки живших давно людей могут рассказать о многом. И то, что было неизвестно, что затерялось в глубине веков, спустя сотни лет оживает перед учеными, вооруженными могущественными средствами современной науки. Следы ударов, болезней, смертельных ранений подтверждают или опровергают предположения историков, рассказы летописцев, легенды. Эти беспристрастные свидетели прошлого дают свои показания, но не на суде современников, а на суде ученых сотни и тысячи лет спустя. Вот что они теперь рассказывают о владимирском князе Андрее Боголюбском, сыне князя Юрия Долгорукого — основателя Москвы. Андрей Боголюбский еще в молодости отличался необыкновенной храбростью, любил заноситься на ретивом коне в середину вражеского войска, пренебрегать опасностями. “Андрей в пылу битвы часто увлекался сечей и подвергал себя большим опасностям, пьянел от бурной схватки”. “Умен был князь Андрей во всех делах и доблестен, но погубил смысл свой невоздержанием”. “Андрей исполнился высокоумия”. “Распалившись гневом, говорил дерзкие слова”. Но не только гордость и вспыльчивость князя восстановили против него бояр. Он стремился завершить дело, начатое его отцом, — объединить Русь, создать единое русское государство. Недовольные бояре возмутились. Предлогом послужила казнь Кучковича — одного из ближайших родственников жены Андрея Боголюбского. “Нынче казнил он Кучковича, а завтра казнит и нас; так помыслим об этом князе!” — решила окружавшая его группа бояр. …Заговорщиков было двадцать человек. Они пришли ночью 29 июня 1175 года на княжеский двор и перебили дворцовую стражу (“Избиша сторожи дворные и пришед к сенем силою двери выломиша”). Однако дверь в спальню Андрея была закрыта.
Один из заговорщиков постучал и на вопрос Боголюбского: “Кто ты еси?” — ответил: “Прокопий”.
Боголюбский хорошо знал голос своего слуги Прокопия и догадался, что за дверьми злоумышленники. Он бросился искать меч, но не нашел (“понеже Анбал ключник взял его”). Между тем заговорщики (в числе их был и Анбал Ясин, ключник. — Б.Л.) выломали дверь, и двое из них бросились на Боголюбского. Завязалась борьба. Андрей был достаточно силен (“вельми бо бе князь силен”).
В суматохе заговорщики зарубили одного из своих сообщников. Затем, посчитав князя убитым, они ушли, унося труп убитого по ошибке товарища.
Андрей, однако, не был еще мертв. Он приподнялся и пополз вниз по винтовой лестнице палат к сеням, не имея достаточно сил, чтобы не стонать (“и начя стенати и глаголати в болезни сердца”). Заговорщики, услышав голос князя, вернулись, зажгли свечу, нашли его по кровавым следам и “умерт-виши до конца”.
Почти восемьсот лет прошло с того времени. Из музея города Владимира лауреат Ленинской премии профессор Н.Н.Воронин доставил скелет, который считали останками Андрея Боголюбского. Но принадлежал ли он действительно князю?
Этот сложный вопрос взялись решить рентгенологи Д.Г.Рохлин и В.С.Майкова-Строганова. Они утверждали, что в результате анатомо-рентгенологического исследования скелета можно многое узнать о жизни человека.
Скелет передали в Ленинградский рентгенологический институт.
Личность самого князя, картина его убийства встали перед учеными так, как будто они увидели их своими глазами.
Как же смогли рентгенологи судить о личности владимиро-суздальского князя, жившего восемь веков тому назад?
Исследуя останки костей скелета, их аномалии, выясняя причины изменений, происшедших с ними при жизни князя, рентгенологи могли установить некоторые заболевания, которыми он страдал. В частности, изучая основание черепа, по форме изменения так называемого турецкого седла можно было сделать вывод о некотором нарушении функций гипофиза — железы внутренней секреции. Кроме того, обнаружились следы базедовой болезни.
Эти заболевания отражались на поведении князя. Прежде всего он был беспокоен, подвижен, казался моложе своих лет. Следствием болезни явились такие черты его характера, как возбудимость, раздражительность, вспыльчивость.
Рентгенологи обнаружили также, что два шейных позвонка срослись между собой. Поэтому Андрей Боголюбский не мог наклонять голову вперед. Видимо, это и породило молву о чрезмерной гордости князя.
Кроме старых, заживших ранений, рентгенограммы показали и ряд “свежих” ран, полученных Андреем в последние минуты жизни. Одна рана нанесена сбоку по ключице. Ударом меча была отсечена часть лопатки и плечевой кости. Копьем и мечом его ударили в голову. И затем множество ударов было нанесено, когда князь уже упал на правый бок.
Так совпадают рассказы летописцев и исследования рентгенологов в описании событий той страшной ночи.
Так “костные останки людей, имена которых принадлежат истории, и трагические события, в которых они принимали участие, благодаря рентгено-антропологическим исследованиям спустя столетия вновь оживают, воспринимая краски жизни”, — говорят ученые-рентгенологи о своей работе.
Череп Андрея Боголюбского был передан Герасимову для восстановления головы князя.
…Характерное лицо чуть монгольского типа — широко расставленные глаза, широкий нос, нависшие веки.
Используя данные историков, учитывая, что Андрей Боголюбский был метис, Герасимов нашел возможным сделать на портрете слабо волнистые волосы, свойственные европейцу, а бороду и усы несколько монгольского характера. Это хорошо сочетается с общим типом лица и придает наиболее правдивый облик всему портрету.
Во Владимирском музее хранились фрагменты тканей XII века — того времени, когда жил Андрей Боголюбский. Профессор Н.Н.Воронин утверждает даже, что вероятнее всего эти ткани и принадлежали Андрею. Они и были использованы для воспроизведения одежды.
…Заговорщиков было двадцать человек. Они пришли ночью 29 июня 1175 года на княжеский двор и перебили дворцовую стражу (“Избиша сторожи дворные и пришед к сенем силою двери выломиша”). Однако дверь в спальню Андрея была закрыта.
Один из заговорщиков постучал и на вопрос Боголюбского: “Кто ты еси?” — ответил: “Прокопий”.
Боголюбский хорошо знал голос своего слуги Прокопия и догадался, что за дверьми злоумышленники. Он бросился искать меч, но не нашел (“понеже Анбал ключник взял его”). Между тем заговорщики (в числе их был и Анбал Ясин, ключник. — Б.Л.) выломали дверь, и двое из них бросились на Боголюбского. Завязалась борьба. Андрей был достаточно силен (“вельми бо бе князь силен”).
В суматохе заговорщики зарубили одного из своих сообщников. Затем, посчитав князя убитым, они ушли, унося труп убитого по ошибке товарища.
Андрей, однако, не был еще мертв. Он приподнялся и пополз вниз по винтовой лестнице палат к сеням, не имея достаточно сил, чтобы не стонать (“и начя стенати и глаголати в болезни сердца”). Заговорщики, услышав голос князя, вернулись, зажгли свечу, нашли его по кровавым следам и “умерт-виши до конца”.
Почти восемьсот лет прошло с того времени. Из музея города Владимира лауреат Ленинской премии профессор Н.Н.Воронин доставил скелет, который считали останками Андрея Боголюбского. Но принадлежал ли он действительно князю?
Этот сложный вопрос взялись решить рентгенологи Д.Г.Рохлин и В.С.Майкова-Строганова. Они утверждали, что в результате анатомо-рентгенологического исследования скелета можно многое узнать о жизни человека.
Скелет передали в Ленинградский рентгенологический институт.
Личность самого князя, картина его убийства встали перед учеными так, как будто они увидели их своими глазами.
Как же смогли рентгенологи судить о личности владимиро-суздальского князя, жившего восемь веков тому назад?
Исследуя останки костей скелета, их аномалии, выясняя причины изменений, происшедших с ними при жизни князя, рентгенологи могли установить некоторые заболевания, которыми он страдал. В частности, изучая основание черепа, по форме изменения так называемого турецкого седла можно было сделать вывод о некотором нарушении функций гипофиза — железы внутренней секреции. Кроме того, обнаружились следы базедовой болезни.
Эти заболевания отражались на поведении князя. Прежде всего он был беспокоен, подвижен, казался моложе своих лет. Следствием болезни явились такие черты его характера, как возбудимость, раздражительность, вспыльчивость.
Рентгенологи обнаружили также, что два шейных позвонка срослись между собой. Поэтому Андрей Боголюбский не мог наклонять голову вперед. Видимо, это и породило молву о чрезмерной гордости князя.
Кроме старых, заживших ранений, рентгенограммы показали и ряд “свежих” ран, полученных Андреем в последние минуты жизни. Одна рана нанесена сбоку по ключице. Ударом меча была отсечена часть лопатки и плечевой кости. Копьем и мечом его ударили в голову. И затем множество ударов было нанесено, когда князь уже упал на правый бок.
Так совпадают рассказы летописцев и исследования рентгенологов в описании событий той страшной ночи.
Так “костные останки людей, имена которых принадлежат истории, и трагические события, в которых они принимали участие, благодаря рентгено-антропологическим исследованиям спустя столетия вновь оживают, воспринимая краски жизни”, — говорят ученые-рентгенологи о своей работе.
Череп Андрея Боголюбского был передан Герасимову для восстановления головы князя.
…Характерное лицо чуть монгольского типа — широко расставленные глаза, широкий нос, нависшие веки.
Используя данные историков, учитывая, что Андрей Боголюбский был метис, Герасимов нашел возможным сделать на портрете слабо волнистые волосы, свойственные европейцу, а бороду и усы несколько монгольского характера. Это хорошо сочетается с общим типом лица и придает наиболее правдивый облик всему портрету.
Во Владимирском музее хранились фрагменты тканей XII века — того времени, когда жил Андрей Боголюбский. Профессор Н.Н.Воронин утверждает даже, что вероятнее всего эти ткани и принадлежали Андрею. Они и были использованы для воспроизведения одежды.
***
Советские археологи во главе с Павлом Николаевичем Шульцем вели раскопки Неаполя-Скифского — столицы государства скифов (близ Симферополя). Они обнаружили стену и основание крепостной башни, которая служила мавзолеем. В самом низу было углубление, обложенное массивными известняковыми плитами. В этой, самой древней в мавзолее могиле, был погребен скиф. Очевидно, археологи раскопали могилу очень знатного человека, возможно даже царя. В ней нашли около восьмисот золотых украшений и ценное оружие — мечи с золотыми и серебряными рукоятками, копья, бронзовый с серебряной инкрустацией шлем. Череп из этого захоронения передали Герасимову для реконструкции. Лицо у скифа сказалось красивое, с правильными чертами, с тонкими губами, круглым подбородком. Бороды Герасимов ему не сделал, чтобы лучше была видна нижняя часть лица. Но археологи сказали: “Скифов всегда почти изображают бородатыми, сделайте и “нашему” скифу бороду”. Тогда Герасимов воспроизвел типичную прическу скифа, воспользовавшись изображением на серебряном сосуде из воронежского кургана. Когда работа была закончена, Шульц прислал Герасимову целую пачку фотографий, сделанных с монет и других скифских древностей — ваз, барельефов. Надписей на фотографиях не было. Михаил Михайлович сразу же отобрал четыре снимка. Изображения были несомненно похожи на сделанную им реконструкцию. Тогда, и выяснилось, что Герасимов восстановил голову царя скифов Скилура.***
Герасимову довелось быть судьей в одном споре, который длился многие годы. Речь идет о поисках праха знаменитого немецкого поэта Фридриха Шиллера. В склепе на кладбище города Веймара нашли несколько черепов. Один из них был признан черепомШиллера, и вначале это не вызывало никаких сомнений. Они появились спустя полвека, когда в Веймар приехал анатом Велькер, известный тем, что отождествлял черепа умерших с достоверными прижизненными портретами. Начались споры. У Велькера появились сторонники. Один из них — немецкий анатом Фрореп — в 1911 году приступил к новым раскопкам. Нашли еще один череп. Его сравнили с терракотовой маской, которая хранится в Веймарской библиотеке. В 1912 году на конгрессе в Мюнхене Фрореп убедил многих в том, что второй череп несомненно принадлежит поэту. Однако Фрореп ошибался. Терракота подвергалась обжигу, и при этом размеры маски уменьшились (иногда “усадка” доходит до одной седьмой). Значит, и на этот раз задача осталась нерешенной. Только реконструкция могла дать ответ, положить конец спорам. В 1961 году правительство Германской Демократической Республики пригласило М.М.Герасимова принять участие в поисках подлинного черепа Шиллера. Было вскрыто два гроба из усыпальницы саксонского кронфюрста Августа. В руках Герасимова два черепа. Один сразу отпадает — он оказался женским. Теперь — второй. Сделана реконструкция — маска. Она как нельзя лучше совпала с прижизненным изображением поэта. У немецких ученых не осталось никаких сомнений.***
Судьба этого человека была трагичной. Он стал знаменитым поэтом, добился славы, почитания и богатства, но окончил свои дни в изгнании и бедности. Одиннадцать веков сровняли с землей его скромную могилу. Даже место погребения оставалось неизвестным. А между тем как интересно было бы воскресить черты Рудаки — этого удивительного поэта, классика персидско-таджикской поэзии, чьи стихи пленяют нас и сегодня! Видимо, потому и произошел в 1939 году такой интересный разговор между Михаилом Михайловичем Герасимовым и писателем Садриддином Айни. Михаил Михайлович выступал в Доме ученых и рассказывал о своих работах. Айни сказал Герасимову: “Как бы хотелось видеть созданный вами портрет Абульхасана Рудаки. К сожалению, неизвестно, где он погребен”. Герасимов возразил: “Но ведь вы такой знаток истории своего народа! Неужели вы не знаете, где могила Рудаки? Вы говорите, что он был великим поэтом, современники его знали, а народ помнит и сейчас”. Айни ничего не ответил. Герасимов занялся реконструкциями Тимура и тимуридов и лишь позднее узнал, что Айни написал о могиле Рудаки и велись ее поиски. Однако они ни к чему не привели. Наступил многолетний перерыв. В 1958 году должен был отмечаться тысячестолетний юбилей поэта. Незадолго до этого, в 1956 году, вновь решили возобновить поиски, и вновь возникла мысль воссоздать его портрет. Пожелание Айни начало сбываться. “Могила находится в горном селении Банджи-Рудак, родине поэта, — писал он в свое время — так свидетельствуют современники, чьи слова дошли до нас из глубины веков. — Но где это селение и как оно называется сейчас?” Айни доказал, что древний Банджи-Рудак-то же, что и современный Панджруд, а в переводе — “Пять рек”. Впрочем, попытки найти погребение в Панджруде не увенчались успехом. Как и во всяком подобном селении, там, конечно, есть древнее кладбище, даже, вероятно, не одно. На каждом кладбище наверняка есть могила какого-нибудь святого. Рудаки почитали святым, могила его стала священной, над нею был устроен мазар — небольшое сооружение из кирпича. Но таких мазаров на кладбище могло быть несколько. Могильная же плита с посвятительной надписью — если даже она и найдется — еще не доказательство. Мало ли что могло случиться за тысячу сто лет! Задача казалась неразрешимой, и все же ее удалось решить. Помогло все то, что связано с памятью о поэте. Правда, многое было неясным, порой противоречивым, а главное, скудным. Как бы то ни было, но древняя литература навела Сад-риддина Айни на мысль о том, где надо искать могилу Рудаки. Древние источники указывали на слепоту Рудаки. Неясным оставалось только, родился ли он слепым, ослеп ли от старости или по какой другой причине. Мало, очень мало! Но больше искать негде. Разве только в стихах самого поэта. Может быть, он что-нибудь говорит о себе? Может быть, какие-нибудь строчки прольют свет на подробности его жизни? Догадка подтвердилась. Среди нескольких сотен стихотворных строк Михаил Михайлович нашел немало любопытного. Человек, слепой от рождения, не мог бы так ощущать цвета и оттенки, так воспевать их, как Рудаки. Поэт писал о том, как блестит клинок на солнце, он понимал разницу в красном цвете яхонта и коралла, агата и красного жемчуга, и розовой воды. Красный цвет в его стихах представлен многообразным, в различных оттенках. Так писать мог только зрячий. Рудаки не всегда был слепым. Но, значит, он потерял зрение потом — ведь о его слепоте пишут все. Не был ли он ослеплен? Подтверждение принесли тоже стихи. В поздних его строках уже нет такого красочного восприятия мира. Поэт словно обрел иное, внутреннее видение, и недаром это подмечали современники. Но, быть может, он попросту стал хуже видеть на старости лет? Быть может, зрение потерялось само собой? Нет, поэт прямо жалуется на жестокое насилие, свершенное над ним. А кроме того, упоминает он и о том, что у него искрошились и выпали сразу все зубы. Пожалуй, хватит! Надо искать скелет, естественно мужской, пожилого возраста, с черепом без зубов, причем они выпали все сразу. Череп этот должен был принадлежать ослепленному человеку. Вот с какими сведениями приехал Герасимов в селение Панджруд. И первое, что бросилось ему в глаза, — это кладбище на склоне горы со старыми насыпями могил у стены сада. Где-то здесь, вероятно, был некогда мазар, если он, конечно, вообще существовал. Сорок поколений из уст в уста передавали рассказ о могиле слепого поэта. Могилу за могилой обходил Герасимов на кладбище. И вот он оказался перед ровной площадкой, чудом уцелевшей: русло ручья отделяло ее от склона гор. Ее не повредили вешние воды, не разрушили камни, лишь мелкая галька попадала сюда с горного склона. Чем больше смотрел на нее Герасимов, тем больше утверждался в верности своей догадки. Ведь площадка ровная, стороны ее строго расположены по странам света, рядом — ограда сада, как указывал Айни. Герасимов вспоминает, что он очень волновался. Ошибиться было нельзя. Вот показался череп. Голова покоилась на правой щеке, как полагается у мусульман. Стоявший рядом старик сказал (Герасимову перевели его слова): “Не волнуйся, не надо, это Рудаки. Сейчас ты увидишь беззубый рот его”. “И действительно, — вспоминает Герасимов, — несколько движений ножом и кистью, и я увидел сначала верхнюю, а затем и нижнюю челюсти, — и обе без единого зуба…” Скелет несомненно мужской, преклонного возраста, со сломанными ребрами и позвонком. Они сломаны задолго до смерти — одним сильным ударом. Сильные кисти рук с подвижными тонкими пальцами, как у музыканта, а Рудаки ведь и был поэт-музыкант, народный певец. Изменено основание черепа и шейные позвонки. Увидев вскоре на дороге слепого, Герасимов еще раз получил подтверждение, что он на верном пути. Слепота заставляла Рудаки сильно откидывать голову назад, и потому так изменились кости скелета. Но и это не все. Кости глазниц также носили следы изменений. Они были вызваны тем, что поэт долго жил после ослепления. Скорее всего, его ослепили каленым железом, и произошло это не менее чем за пятнадцать лет до смерти. Герасимов мог быть спокоен. Все сошлось. То, что писал о себе поэт, было правдой. О многом уже поведали кости, извлеченные из древних могил. Они подтвердили рассказы об увечьях Ярослава Мудрого и Тимура, о зверском убийстве Андрея Боголюбского и Улуг-Бека. И на этот раз молчаливые свидетели — кости — словно заговорили. Михаил Михайлович приступил к реконструкции, решив воспроизвести бюст Рудаки. Для этого надо было восстановить мускулатуру шеи и торса. Только тогда, когда картина стала ему ясной, он начал монтировать скелет, постоянно проверяя себя, чтобы не ошибиться в положении даже самой маленькой косточки. Шаг за шагом, фотографируя каждый этап работы, двигался Герасимов к цели. Скелет обрастал мышцами. Постепенно вырисовывался облик хорошо сложенного человека с суховатой мускулатурой, не моложе семидесяти пяти — семидесяти восьми лет. Детали скелета подтверждали этот вывод. Нос с небольшой изящной горбинкой, чуть опушенный вниз, с тонкими, круто вырезанными ноздрями. А рот? А глаза? Нет ни одного зуба, а значит, ничего нельзя определенного сказать ни о толщине губ, ни об их рисунке, ни о ширине рта. Здесь из затруднения выйти можно было лишь одним путем — попытавшись восстановить сами зубы. Оставались глаза. Герасимов воспроизвел глаза ослепленного человека: верхнее веко запало, нижнее приподнято, глазное яблоко вздернуто вверх, брови нависли. Прежние опыты позволили сравнительно легко восстановить ухо. Шея морщиниста, потому что голова всегда была откинута назад. В заключение — волосы и одежда. Никаких следов волос, никаких остатков одежды в могиле не нашлось. Присматриваясь к прическам и бородам стариков — местных жителей, советуясь с историками, считаясь с тем, что Рудаки в последние годы был беден и слеп и не мог, как прежде, следить за собой, Герасимов сделал длинную, не слишком широкую бороду и свисающие вниз усы, рубашку и халат, небольшую чалму. И все, кто видел бюст Рудаки во время декады таджикской литературы и искусства в Москве, все его соотечественники говорили: “Да, таким именно мы и представляли себе Рудаки”.***
Царь Иван Васильевич, по прозвищу Грозный, — одна из колоритнейших фигур русской истории. В памяти народной он остался как освободитель Руси от татарского ига, как непреклонный властитель, покончивший с раздробленностью русского государства, с распрями князей и утвердивший единовластие. Деспотичный и крутой нравом, подверженный внезапным вспышкам гнева, он полностью оправдывал данное ему прозвище. Царь-сыноубийца, царь-тиран, вся жизнь которого, как свидетельствуют историки, “сплошная жестокость и мерзость”. Царь — смиренный монах, неутомимый богомолец, отрешившийся от мирской суеты и даже похороненный в монашеском сане, в монашеской одежде. Таков облик царя Грозного, предпоследнего из рода Калиты, который вел свое начало от легендарного Рюрика, облик, полный противоречий и тайн. Да, тайн, потому что даже смерть его и та оставалась для историков загадкой. Может быть, Ивана Грозного задушили его же любимцы — Богдан Вельский и Борис Годунов? Ведь слухи об этом ходили в народе вскоре после кончины царя. Может быть, он был отравлен? Говорили же, что Грозный долго болел, чуть ли не сгнил заживо, что его мучил какой-то страшный недуг. Противоречивого немало и в описаниях внешности царя. Их сохранилось не так уж много. Один воевода оставил колоритную запись: “Царь Иван образом нелепым, очи имея серы, нос протягновен и покляп, возрастом велик бяше, сухо тело имея, плеща имея высоки, груди широки, мышцы толстыя”. Говоря по-современному: некрасивый (“образом нелепым”), очень высокий (“возрастом велик бяше”), сухопарый (“сухо тело имея”), плечистый, широкогрудый, мускулистый, сероглазый. Но вот с носом неувязка. Понять слово “покляп” можно двояко — нос с горбинкой или нос искривленный. Есть свидетельство другого рода. Высокий, сильный, большеглазый… Пока совпадение. А дальше уже иное. “Тело имеет полное силы и довольно толстое”, — писал германский посол в Московии Даниил Принц. К этому иностранец добавлял: “Глаза у него постоянно бегают и все наблюдают самым тщательным образом”. Глаза глазами, но как примирить толщину и сухопарость? Кому верить? Воеводе князю Ивану Катыреву-Ростовскому, передававшему впечатления своего отца, или немцу, лично встречавшемуся с царем? Конечно, второму! И все же на кого, в конце концов, был похож Грозный? С портретов, сделанных современниками, смотрит на нас характерное и благообразное лицо. На одном из них царь представлен в условной, иконописной манере. Другой более реалистичен. Это гравюра на дереве, где изображен царь-мирянин, улыбающийся, смотрящий даже чуть добродушно. И есть еще один портрет. Правда, он фальшивый, ибо изображен на нем не Иван IV, а его отец, Василий III. Портрет сына просто скопирован с портрета отца. Многое, что связано с именем царя, так и ушло вместе с ним в могилу… И вот спустя много веков, во время реставрации Архангельского собора в Московском Кремле, были вскрыты древние погребения. Ученым предоставилась возможность изучить останки Грозного и его сыновей. Что расскажут они? Что подтвердят или опровергнут? В гробнице сохранились куски истлевшей схимы — монашеской черной одежды, с нашитыми на нее крестами, изображениями голгофы и черепа со скрещенными костями. Эту одежду носили монахи, полностью отказавшиеся от всего мирского. Такова была воля царя — он надеялся, что монашеский сан спасет его от кары господней за земные грехи. В изголовье же стоял великолепный кубок венецианской работы. Поначалу сперили о том, почему царь захоронен был в необычной позе: правая рука лежала на плече, а левая на груди? Но так похоронены и боярин Скопин-Шуйский, чья гробница расположена по соседству, и князь Дмитрий Пожарский, да и во многих древних погребениях встречали ту же картину. Очевидно, заметил Герасимов, это просто неизвестный нам обряд. В последние годы жизни — а умер он пятидесяти четырех лет от роду, — высокий, хорошо сложенный и когда-то очень сильный, Иван прежде времени одряхлел. Вряд ли он уже тогда развлекался, как прежде, медвежьей охотой, вряд ли участвовал в боях. И вряд ли он мог отвешивать поклоны, бить челом о землю, замаливая грехи своей бурной и невоздержанной жизни, как о нем писали. О постах, которым он будто бы предавался, тоже не может быть речи. Иван стал обрюзгшим и тучным, вероятно, страдал одышкой. Он не был ни задушен, ни отравлен, а умер от болезней. Некоторые историки считали его душевнобольным. “Не потому ли, — говорили они, — в пылу гнева и убил он своего сына?” На костях оказались отложения солей, и притом столь сильные, какие не всегда встретишь у глубоких стариков, — а царю было не так уж много лет. Он страдал воспалением всех суставов. Это мешало ему двигаться, наклоняться, вставать на колени, причиняло сильную боль. Иван злоупотреблял едой и вином, а потому так рано состарился. Неподвижность привела к полноте, полнота — к одышке, болезни сердца и сосудов. Тяжело больного Ивана, принявшего уже тогда монашеский сан, стали переодевать. А ему нужен был покой. Вот что можно предположить о причинах смерти Грозного. Почему же так предполагают? Хрящи гортани сохранились, несмотря на их необычайную хрупкость, — из-за отложений извести. Значит, об удушении не может быть речи. Химики нашли в костях Ивана много ртути, тогда как в останках Федора и Иоанна ее нет. Казалось бы, отравление? Но это следы мазей и лекарств, которыми царь пытался унять мучительную боль. История болезни запечатлена тоже в костях. И Герасимов не удивится, если историки найдут летописные свидетельства о тех недугах, которыми должен был страдать Грозный, судя по костным останкам. Череп, правда, сильно пострадал — в гроб попали вешние воды, и выпавшие из них кристаллы кальция разрушили кости. Но реставрировать череп все же удалось. Носовые кости длинные, тонкие, резко выступающие, грушевидное отверстие узкое, с острыми краями, с развитым подносовым шипом, направленным вниз. Вот почему и нос у Грозного был тонкий, асимметричный, горбатый, с низкими ноздрями и опущенным вниз концом (“протягновен и покляп…”). Портрет поражает своей эмоциональной окраской. Кажется, что лицо застыло в брезгливой гримасе, а глаза смотрят холодно и свирепо. Но это выражение — не плод фантазии художника, не его восприятие и отношение к личности Грозного. Ведь перед нами документальный портрет, и все черты его строго определены сохранившимся черепом. У царя действительно были очень большие и широко раскрытые глаза. У него действительно были тонкие верхние веки, а нижние образовали мешки. Правый глаз действительно был меньше левого. Углы плотно сжатого рта всегда были резко опущены вниз, нижняя губа выступала вперед, как и тяжелый раздвоенный подбородок. Все это и делало внешность Грозного столь характерной. Волос не сохранилось. Только отдельные волосинки удалось разглядеть и сфотографировать на подбородке и бровях, но и они тотчас рассыпались на свежем воздухе. Прическу и бороду пришлось делать по сохранившимся портретам. Интересно, что ближе всего к истине оказалась фальшивка — копия с портрета Василия III. Да и не удивительно: отец и сын вполне могли быть похожими друг на друга. Реконструкция не походит на всем известное лицо с картины Репина. Она не походит и на скульптуру Антокольского, где царь в монашеской одежде погружен в глубокое раздумье. Но общие черты у них, несомненно, есть. Восстановил Герасимов и облик сына Грозного — царя Федора Иоанновича, последнего Калиты. Этот бесцветный человек мало походил на своего отца, есть только некоторое сходство в лице. Низкорослый, с лысеющим лбом, жидкой бородкой и усами, он не был ни грозным, ни властным. Этому царю-богомольцу как раз бы и подходила монашеская схима. Но нет, опять загадка. Царь Федор лежит в рубахе. Почему он не постригся, как и отец, в монахи? Историки думают, что причиной тому внезапная кончина и спешные похороны. Сразу же началась борьба за престол, и уже появилась на горизонте фигура Годунова — брата царицы, рвавшегося к власти. Не до того было, чтобы соблюдать все обычаи и волю покойного. И в гроб положили простой, не драгоценный сосуд, и в надписи резчик-мастер второпях даже сделал ошибку: высек не “благочестивый”, а “глагочестивый”. Совсем уж нехорошо…***
“Я никогда не рассматривал создаваемые мною реконструкции как некую самоцель, — говорит Герасимов. — Достоверность портретной реконструкции обеспечивается ее научной основой. Поэтому мы можем рассматривать портретную реконструкцию как документ. А если это так, то ученые различных специальностей приобретают новый источник для своих разносторонних работ. В частности, историки и антропологи не могут не использовать этот источник для понимания того, как формировались и развивались ныне живущие народы”. Представить себе облик далеких наших предков, узнать, как развивался, изменялся со временем человек, — важнейшая задача естествознания. Да и не только самые древние предки человека интересуют ученых. Изучая облик людей, в разное время живших на Земле, можно наглядно проследить, как возникали разные племена и как образовалась та или иная народность, что очень важно для антропологии — науки о человеке. Это помогает и точнее установить передвижения древних племен и народностей, что важно для истории языков, элементы которых были заложены еще в глубокой древности. И все это вместе с памятниками культуры прошлого, которые находят ученые-археологи, должно помочь исторической науке, изучающей развитие человеческого общества. Мы увидим наглядно “последовательность своего развитии от времени, когда человек был полуживотным и еще не владел речью, до эпохи великих изобретений и открытий, до поры, пока в его среде не явились гении мысли и слова, гении искусства, науки, техники — плоть от плоти и кость от кости его” (Горький). Неутомимо работает Михаил Михайлович Герасимов. Теперь он уже не один. В Москве существует лаборатория пластической реконструкции. Ученики его работают в Ленинграде. Да и за границей уже появились последователи — в Германии, Чехословакии. И все же многое еще впереди, собраны еще не все факты, хотя ушли на это десятки лет. Работа продолжается, и, быть может, подмеченные зависимости найдут свое выражение на языке математики. Тогда связь между тканью и черепом будет определяться формулами. Кто-то из ученых заметил, что математика — это универсальные жернова, которые перемелют все, что в них засыпают. Однако этим жерновам надо задать достаточную пищу. Пока что ее здесь недостаточно. Но со временем копилка фактов наполнится настолько, что можно будет, вероятно, обратиться за помощью к электронной машине… Поиски новых, пока еще не известных зависимостей между мягкими тканями и черепом позволят в дальнейшем еще более подробно, еще более точно решать интереснейшую задачу восстановления человеческого лица. Несколько десятков лет упорных поисков и труда — это неоценимая сокровищница знаний и опыта. И важно, чтобы она оставалась открытой для тех, кто пойдет по проложенной Герасимовым дороге. Скромная лаборатория должна превратиться в настоящую научную школу. Неутомимый труженик Михаил Михайлович делает все для того, чтобы дело, начатое им, развивалось и продолжалось,Б.Ляпунов Любителям научной фантастики
 Фантастика? Это выдумки, это небылицы, это сказки, хотя бы и с примесью науки. А бывает даже и без нее…
Фантастика? Это прогноз, это предвидение, это художественное воплощение замыслов инженера и техника, это попытка изобразить жизнь и человека будущего…
Фантастика? Это развлекательное чтение, это романы приключений, в которых наука присутствует постольку поскольку… Нужен же автору какой-то стержень, чтобы развить увлекательный сюжет!
Конечно, такие ответы на вопрос “что такое фантастика?” не определяют верно ее существо. Она не может целиком отрываться от объективных законов науки, хотя и не должка ограничиваться только тем, что уже известно сейчас или намечается для ближайшего будущего. Она не может ограничиваться только научно-техническим предвидением, хотя!и раньше и теперь нередки случаи, когда мечта становится былью. Она может, наконец, и не уложиться в обычные формы приключенческого романа, повести, рассказа, хотя увлекательный сюжет и отличает многие произведения научной фантастики.
Разноречивые мнения приходится слышать о научно-фантастической литературе, различные предлагаются ее определения. Так происходит, вероятно, потому, что сама эта литература стала достаточно сложной и не укладывается в привычные старые рамки.
Но какие бы споры ни происходили вокруг понятия “научная фантастика”, она развивается в целом успешно, она завоевывает многие литературные жанры вплоть до сатиры и юмора, памфлета и сказки.
Красноречива статистика: примерно за полтора послевоенных десятилетия в Советском Союзе выпущено столько произведений фантастики, сколько за весь предвоенный период, начиная с 1917 года, а с 1958 года по 1965 число их перешло за пятьсот!
Непрерывным потоком выходят новые романы и повести, рассказы и очерки, пишутся даже стихи, создаются киносценарии и пьесы на самые различные темы. Фантастику печатают у нас центральные, республиканские, краевые и областные издательства, выходят и отдельные книги, и сборники, и альманахи.
Фантастику помещают журналы, и, наконец, о фантастике спорят на страницах тех же журналов, на страницах газет и перед объективами в телестудиях.
Надо отметить, что намного чаще переводятся сейчас у нас научно-фантастические произведения зарубежных авторов — как западных, так и представителей братских социалистических стран.
Советская фантастика сегодняшнего дня стремится показать, как отобразится на человеке развитие науки и техники в ближайшем будущем и в далеком завтра, каким он будет, какими станут его жизнь, его думы, чаяния, поступки, какими станут отношения между людьми. Фантасты хотят изобразить грядущие завоевания человеческого гения, для которого нет преград. К чему приведет сам прогресс техники, что можно от него ожидать? Во что выльются успехи науки, которые только зарождаются сейчас?
Не случайно, что одна из главнейших тем нашей фантастики — это покорение космоса, ибо в этом наиболее ярко проявляются созидательные способности человека. Но не забыты и другие темы. Кибернетика с ее поистине удивительными возможностями и физика, биология и медицина, необыкновенные путешествия, притом не только в космосе, — все это и многое другое занимает писателей, мечтающих о будущем. Писатели стали чаще обращаться к неразгаданным тайнам природы, к загадкам, которые скрывает наша Земля. Они занимаются фантастикой сказочной (разумеется, по-современному), пишут фантастические памфлеты, их интересует будущее в широком смысле слова, и они создают произведения о жизни грядущего коммунистического общества, показывают не одну лишь его технику и науку, но прежде всего людей. Это относится и к произведениям ряда молодых фантастов, пытающихся показать человека, его душевный мир, переживания и поступки, стремящихся ставить те или иные моральные и социальные проблемы.
Рассказывать о новинках научно-фантастической литературы становится делом все более и более трудным. Каждый год появляются новые имена, разрабатываются новые темы.
Трудно охватить созданное фантастами с исчерпывающей полнотой. Мы познакомимся с наиболее значительным и интересным, выпущенным центральными издательствами за последние три года, что займет место на книжной полке любителя фантастики.
Фантастика? Это выдумки, это небылицы, это сказки, хотя бы и с примесью науки. А бывает даже и без нее…
Фантастика? Это прогноз, это предвидение, это художественное воплощение замыслов инженера и техника, это попытка изобразить жизнь и человека будущего…
Фантастика? Это развлекательное чтение, это романы приключений, в которых наука присутствует постольку поскольку… Нужен же автору какой-то стержень, чтобы развить увлекательный сюжет!
Конечно, такие ответы на вопрос “что такое фантастика?” не определяют верно ее существо. Она не может целиком отрываться от объективных законов науки, хотя и не должка ограничиваться только тем, что уже известно сейчас или намечается для ближайшего будущего. Она не может ограничиваться только научно-техническим предвидением, хотя!и раньше и теперь нередки случаи, когда мечта становится былью. Она может, наконец, и не уложиться в обычные формы приключенческого романа, повести, рассказа, хотя увлекательный сюжет и отличает многие произведения научной фантастики.
Разноречивые мнения приходится слышать о научно-фантастической литературе, различные предлагаются ее определения. Так происходит, вероятно, потому, что сама эта литература стала достаточно сложной и не укладывается в привычные старые рамки.
Но какие бы споры ни происходили вокруг понятия “научная фантастика”, она развивается в целом успешно, она завоевывает многие литературные жанры вплоть до сатиры и юмора, памфлета и сказки.
Красноречива статистика: примерно за полтора послевоенных десятилетия в Советском Союзе выпущено столько произведений фантастики, сколько за весь предвоенный период, начиная с 1917 года, а с 1958 года по 1965 число их перешло за пятьсот!
Непрерывным потоком выходят новые романы и повести, рассказы и очерки, пишутся даже стихи, создаются киносценарии и пьесы на самые различные темы. Фантастику печатают у нас центральные, республиканские, краевые и областные издательства, выходят и отдельные книги, и сборники, и альманахи.
Фантастику помещают журналы, и, наконец, о фантастике спорят на страницах тех же журналов, на страницах газет и перед объективами в телестудиях.
Надо отметить, что намного чаще переводятся сейчас у нас научно-фантастические произведения зарубежных авторов — как западных, так и представителей братских социалистических стран.
Советская фантастика сегодняшнего дня стремится показать, как отобразится на человеке развитие науки и техники в ближайшем будущем и в далеком завтра, каким он будет, какими станут его жизнь, его думы, чаяния, поступки, какими станут отношения между людьми. Фантасты хотят изобразить грядущие завоевания человеческого гения, для которого нет преград. К чему приведет сам прогресс техники, что можно от него ожидать? Во что выльются успехи науки, которые только зарождаются сейчас?
Не случайно, что одна из главнейших тем нашей фантастики — это покорение космоса, ибо в этом наиболее ярко проявляются созидательные способности человека. Но не забыты и другие темы. Кибернетика с ее поистине удивительными возможностями и физика, биология и медицина, необыкновенные путешествия, притом не только в космосе, — все это и многое другое занимает писателей, мечтающих о будущем. Писатели стали чаще обращаться к неразгаданным тайнам природы, к загадкам, которые скрывает наша Земля. Они занимаются фантастикой сказочной (разумеется, по-современному), пишут фантастические памфлеты, их интересует будущее в широком смысле слова, и они создают произведения о жизни грядущего коммунистического общества, показывают не одну лишь его технику и науку, но прежде всего людей. Это относится и к произведениям ряда молодых фантастов, пытающихся показать человека, его душевный мир, переживания и поступки, стремящихся ставить те или иные моральные и социальные проблемы.
Рассказывать о новинках научно-фантастической литературы становится делом все более и более трудным. Каждый год появляются новые имена, разрабатываются новые темы.
Трудно охватить созданное фантастами с исчерпывающей полнотой. Мы познакомимся с наиболее значительным и интересным, выпущенным центральными издательствами за последние три года, что займет место на книжной полке любителя фантастики.
***
Имя И.А.Ефремова — автора “Туманности Андромеды” — широко известно всем любителям фантастики. Последнее издание этого романа вышло в 1962 году в “Молодой гвардии”. В 1964 году издательство “Детская литература” выпустило сборник его рассказов “Сердце Змеи”. “В целом сборник охватывает все периоды моей работы и все интересующие меня темы в области научной фантастики”, — пишет в предисловии И.А.Ефремов. В нем вы найдете уже знакомые читателям повести и рассказы о необыкновенных явлениях природы (“Встреча над Тускаророй”, “Озеро Горных духов”, “Олгой-Хорхой”). В сборник включены и произведения того же раннего цикла, рисующие образы людей — неутомимых искателей, разведчиков неведомого (рассказы “Белый рог”, “Бухта Радужных струй”, “Обсерватория Нур-и-Дешт”, повесть “Тень минувшего”). Повести “Юрта Ворона”, “Сердце Змеи” и “Афанеор, дочь Ахархеллена” относятся к числу более поздних произведений Ефремова. “Юрта Ворона” рассказывает о советских геологах, открывших новое месторождение свинцовой руды. Действие повести “Афанеор, дочь Ахархеллена” происходит в наши дни в пустыне Сахара. “Сердце Змеи” переносит нас в далекое “космическое” будущее человечества и описывает встречу экипажа земного звездолета “Теллур” со звездолетом разумных существ далекого мира, которые знакомят людей с иной жизнью, с иной цивилизацией. И.А.Ефремов недавно опубликовал большой роман “Лезвие бритвы” (издательство “Молодая гвардия”, 1964). Автор считает его экспериментальным. Это попытка показать, насколько важно изучение человеческой психологии, процессов познания, восприятия окружающего мира, поведения для воспитания человека будущего. “Лезвие бритвы” не является научно-фантастическим произведением, оно построено как остросюжетный роман приключений, но содержит много интересного, познавательного материала о психофизиологии человека. Попытку показать широкую картину жизни коммунистического общества сделал в романах “Гость из бездны” (Лениздат, 1962) и “Гианэя” (издательство “Детская литература”, 1965) Г.С.Мартынов. Кроме того, в 1962 году были переизданы его романы “Каллисто” и “Каллистяне” (сборник “Каллисто”, Детгиз). Фантастическая повесть А. и Б.Стругацких “Возвращение (Полдень. 22-й век)”, выпущенная Детгизом в 1962 году, является попыткой обрисовать некоторые черты коммунистического мира — мира высшей человечности, ясности и чистоты, попыткой создать образ человека этого общества, не знавшего голода, войн и несправедливостей прошлого, занятого увлекательнейшей творческой работой, истинного хозяина Вселенной, свободного от власти вещей и от предрассудков. Повесть состоит из цикла новелл, связанных общими героями — людьми труда и подвига. Это космонавты, ученые, учителя, охотники — наши далекие потомки и в то же время близкие, понятные нам. Лучшие наши стремления, чаяния и поступки созвучны стремлениям, чаяниям и поступкам героев “Возвращения”. В повести “Стажеры” (издательство “Молодая гвардия”, 1962) сделана попытка изображения переходного периода от нашего времени к коммунистическому будущему, когда происходят грандиозные сдвиги в психологии людей, когда завершается борьба против мещанской идеологии и пережитков прошлого. Действие повести происходит в XXI веке на корабле, посещающем научные станции в космосе. В 1964 году в издательстве “Молодая гвардия” вышел сборник фантастических повестей А. и Б.Стругацких “Далекая Радуга” (“Далекая Радуга” и “Трудно быть богом”). “Далекая Радуга” — повесть о людях далекого будущего, ученых, стоящих перед лицом неизбежной катастрофы, которая грозит гибелью всему живому на маленькой планете. Как поведут они себя, как распорядятся своей жизнью, своими открытиями в критических обстоятельствах? Эту проблему социально-психологического, философского плана и пытаются решить авторы. На страницах повести “Трудно быть богом” человек светлого будущего сталкивается с уродливым прошлым. Он возмущен и потрясен увиденным, но вправе ли он помочь людям? Здесь также ставятся философские проблемы — о человеке и истории, о праве на вмешательство в ход исторического процесса. Для обеих повестей характерна вера в человека, в победу разума и гуманизма. В сборнике “Фантастика, 1962 год” (издательство “Молодая гвардия”) читатель найдет повесть А. и Б.Стругацких “Попытка к бегству”. В ней провозглашается утверждение подвига во имя высокой цели, необходимость активной борьбы за будущее — хотя бы и ценой жизни. Вышли новые сборники научно-фантастических произведений А.Днепрова: “Мир, в котором я исчез” (издательство “Молодая гвардия”, 1962), “Формула бессмертия” (издательство “Молодая гвардия”, 1963) и “Пурпурная мумия” (издательство “Детская литература”, 1965). В центре внимания писателя — современная наука, кибернетика, физика, биология, научные открытия и судьбы людей, ученый в капиталистическом^мире. Нередко он обращается к жанру памфлета (например, “Мир, в котором я исчез” — в одноименном сборнике, и “Машина ЭС”, модель № 1” — там же, “Прямое доказательство” — в сборнике “Пурпурная мумия”). В сборнике “Мир, в котором я исчез” вы найдете рассказы, посвященные биохимии, кибернетике; повесть “Полосатый Боб” затрагивает проблему борьбы против атомного оружия. Среди произведений, вошедших в сборник “Формула бессмертия”, — повесть “Глиняный бог”. В ней использована мысль о возможности изменения искусственным путем состава живых белков заменой в них углерода кремнием. Ученые фашистского толка ведут изуверские опыты по превращению людей в “каменных” солдат, которые ничего не будут бояться. Опыты эти удается вовремя сорвать. В сборник вошли также рассказы “Лицом к стене” — о попытке проникнуть в антимир; “Формула бессмертия” — о разгадке генетического кода, об управлении наследственностью, и как следствие этого — об искусственном выращивании живых существ в лаборатории; “Людвиг” — о будущих кибернетических машинах, способных к подлинному творчеству. Маленькие фантастические новеллы “Послесловия к Уэллсу” — новые концовки к известным романам “Человек-невидимка”, “Машина времени”, “Борьба миров” и “Первые люди на Луне”, написанные в юмористическом тоне. В “Пурпурной мумии”, кроме произведений, вошедших ранее в другие сборники, помещены новые рассказы: “Импульс Д”, “Пурпурная мумия”, “Новое направление”, “Электронный молот”, “Перпетуум-мобиле” и “Прямое доказательство”. В этих рассказах, как и в большинстве других, автор обращается к проблеме “наука и человек”. Показывая удивительные перспективы научных открытий, в особенности сделанных на стыке физики, биологии, медицины, кибернетики, химии, он привлекает внимание к вопросу об ответственности ученого в наш сложный, полный противоречий век. Отсюда — и антивоенная направленность ряда рассказов, сюжетная основа которых — борьба против новейших изощренных способов уничтожения и разрушения. В сборнике Г.Гуревича “Пленники астероида” (Детгиз, 1962) помещены рассказы на космические темы, объединенные общей идеей: цепь открытий в космосе непрерывно продолжается, и успех достигается коллективным трудом. Герои идут от Луны (рассказ “Лунные будни”) к астероидам (повесть “Пленники астероида”), от них — за пределы Солнечной системы, к звездам (рассказы “Инфра Дракона” и “Функция Шорина”). Они сначала исследуют, а затем обживают космос, переделывают его и даже раскалывают старые планеты и проектируют новые (рассказы “Первый день творения” и “Мы — с переднего края”). Человека мы видим и в космических буднях, и в дни грандиозных космических свершений. Другой сборник научно-фантастических повестей Г.Гуревича — “На прозрачной планете” (Географгиз, 1963) — посвящен борьбе за покорение земных глубин, за обуздание стихийных сил природы. Действие повести А.Громовой “Глеги” (сборник “Фантастика, 1962 год”) происходит на далекой планете, жители которой просят прибывших к ним землян найти средство от свирепствующего там страшного вирусного заболевания, превращающего разумное существо в автомат. Вирус был выведен по приказу правителей планеты, чтобы создать армию рабов, но стал грозить гибелью всей разумной жизни. Попытка моделировать работу головного мозга и создать человекоподобных мыслящих роботов — тема другого произведения А.Громовой — романа “Поединок с собой” (Детин, 1963). Эксперимент кончается катастрофой — искусственные люди выходят из-под власти своего создателя и погибают вместе с ним. “Но “Поединок с собой” — не научное исследование, а роман, — пишет автор, — о трагической судьбе гениального человека и о роли науки в буржуазном обществе, о беззаветной преданности науке, о верной дружбе и о печальной любви, о победе человеческого разума и о горечи поражения, — словом, о жизни со всей ее сложностью”. “Книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах вещества и о многих приключениях на суше и на море” — таков подзаголовок фантастического романа Е.Войскунского и И.Лукодьянова “Экипаж Меконга” (Детгиз, 1962). Это достаточно точное определение существа романа, в котором прошлое и настоящее неразрывно связаны между собой. “Многие приключения на суше и на море” приводят его героев, в конце концов, к разгадке дошедшей до нас из глубокой древности тайны металла, способного проникать сквозь любые твердые тела. “Новейшие фантастические открытия” связаны с тенденциями развития современной науки, стирающей белые пятна в наших знаниях о строении вещества. В 1964 году издательство “Знание” выпустило сборник научно-фантастических рассказов Е.Войскунского и И.Лукодьянова “На перекрестках времени”. Авторы рассказывают о возможности путешествия во времени, о находке следов прошлого, запечатленных самой природой на кристаллах, о фантастическом мире, населенном кибернетическими машинами, которые вышли из подчинения своих создателей, о попытках победить старость. Пути развития науки и судьбы открытий — таков социальный и философский смысл ряда рассказов этого сборника. Перу молодых фантастов Е.Парнова и М.Емцева принадлежат два сборника — научно-фантастических рассказов “Падение сверхновой” (издательство “Знание”, 1964) и повестей “Уравнение с Бледного Нептуна” (издательство “Молодая гвардия”, 1964). Идеи, стоящие на переднем крае современной науки, — о физической природе пространства и времени, о свойствах нервных клеток, законах человеческого мышления, проблемы и перспективы бионики — таковы отправные точки фантастики Емцева и Парнова. Герои их произведений — ученые, активно вторгающиеся в сложный и противоречивый мир неведомого, который приоткрывается уже сегодня. Авторы перекидывают мост от настоящего к будущему и рисуют картины, которые кажутся сейчас совершенно фантастическими. “Молекулярное кафе” — первый сборник научно-фантастических рассказов И.Варшавского (Лениздат, 1964), который печатался до этого в периодике и различных сборниках. Автор затрагивает широкий круг проблем — главным образом связанных с кибернетикой и биологией. Ряд рассказов носит юмористический, пародийный и памфлетный характер. В них высмеиваются “штампованные” сюжеты, бытующие в западной фантастической литературе; показывается, до какого абсурда может довести идея о полной замене человека машиной и каковы политические последствия решения кибернетических проблем буржуазной наукой (разделы сборника “Автоматы и люди”, “Секреты жанра”). Рассказы раздела “Большой космос” носят психологический характер, показывают, какие сдвиги в сознании людей, их мироощущении и отношениях между собой произойдут в “космическую” эпоху. В 1965 году вышел второй сборник рассказов И.Варшавского — “Человек, который видел антимир” (издательство “Знание”). Рассказы этого сборника также касаются многих интересных проблем: мыслящих роботов, биоэлектроники, парадоксов пространства-времени и других. В сборнике широко представлены юмористическая фантастика и фантастические памфлеты. В цикле рассказов В.Сапарина, объединенных в сборнике “Суд над Танталусом” (“Молодая гвардия”, 1962), действие разворачивается в далеком будущем, когда людям станет подвластной не только Земля, но и другие планеты. Танталус — это последний микроб, уцелевший на преображенной Земле. И вызванная им внезапная эпидемия была последним бунтом земной природы против человека. Бунт удалось подавить. Герои других рассказов Сапарина отправляются на Венеру, где создается поселок. Они встречаются с обитателями этой загадочной планеты. В центре внимания писателя люди грядущего века, их отношения, борьба со стихией, стремление познать неизведанное и, наконец, совершенная техника, которой они располагают. Встречи с неразгаданными тайнами природы, с “чудесами”, с необычным — таково содержание произведений, помещенных в сборнике фантастических повестей и рассказов С.Гансовского “Шаги в неизвестное” (Детгиз, 1963). В сборник вошла повесть “Шаги в неизвестное”, в которой описаны удивительные происшествия, вызванные лучами, ускоряющими ход времени. Герой рассказа “Миша Перышкин и Антимир” встречается с жителем антимира, существующего параллельно с нашим обычным миром. Другие необыкновенные встречи- с живым мамонтом (“Младший брат человека”), со змеей, обладающей необыкновенной силой и жизнеспособностью (“Стальная змея”), с необычным животным, состоящим из отдельных клеток, которые могут объединяться в единый организм и разъединяться (“Хозяин бухты”). В новый сборник С.Гансовского “Шесть гениев” (издательство “Знание”, 1965) включена одноименная повесть и рассказы “Соприкосновение”, “День гнева”, “Голос”, “Двое”. Автор рассказывает о “чудесах”, творимых человеком, который изучает, а затем изменяет и совершенствует свою природу. “Каждую из таких историй можно было бы назвать встречей с чудом, — пишет автор. — Такая встреча может прояснить характер и отдельного человека, и целого общества. Ну, а само “чудо”? Возможно ли оно в наш век?.. Даже очень возможно. В сущности, чудеса обступают нас со всех сторон. Ведь сами мы, люди, тоже представляем собой величайшее из чудес”. Встречи с неизвестным мы найдем и в произведениях А.Шалимова (сборник “Тайна Гремящей расщелины”, Л., Детгиз, 1962). Живых исполинских ящеров встречают герои повести “Охотники за динозаврами”. А обитатели одной из научных станций в Антарктиде сталкиваются с прилетевшими на Землю жителями Плутона (“Призраки Белого континента”). Это совершенно необычайные, с нашей точки зрения, разумные существа. Корабль плутонян улетает обратно, и двое землян отправляются на далекую холодную планету… Разгадывая тайну гибели одного из американских спутников, экспедиция находит в пустыне Гоби огромный конденсатор ядерной энергии земных недр, который периодически посылал в космос мощный поток излучений. Его соорудили какие-то неизвестные пришельцы из глубин Вселенной… (“Тайна Гремящей расщелины”). В издательстве “Мысль” вышел в свет научно-фантастический роман А.Меерова — о возможности существования кремниевой жизни, которая попала из космоса на нашу планету. Фантасты не раз обращались к далекому прошлому Земли. Вспомним произведения Жюля Верна, Конан-Дойля, А.Беляева, Ефремова и других. Вышло новое издание научно-фантастических повестей и рассказов академика В.А.Обручева “Путешествия в прошлое и будущее” (издательство “Наука”, 1965). В наши дни особый интерес приобретает научная фантастика основоположника космонавтики К.Э.Циолковского, который был не только ученым, но и писателем. Многие его произведения получили известность — например, “На Луне”, “Грезы о Земле и небе”, “Вне земли”. В 1964 году впервые опубликована его рукопись “Жизнь в межзвездной среде” (издательство “Наука”). В ней Циолковский набрасывает картину грядущего завоевания человечеством космического пространства. В предисловии к книге И.А.Ефремов пишет: “Подобной смелости научной фантазии могут позавидовать лучшие современные авторы произведений о космосе и будущем!”***
К фантастике в последние годы обращаются писатели, которые ею ранее не занимались и работали в других областях литературы. Так, В.Тендряков написал научно-фантастическую повесть “Путешествие длиной в век” (журнал “Наука и жизнь”, 1963, отдельное издание — Северо-Западное книжное издательство, 1965). Необычайный эксперимент передачи радиопутем человеческого сознания, своего рода “переселение душ”, осуществляемое техникой в союзе с наукой, — таково ее содержание. Человек оказывается как бы перенесенным в иной, далекий мир планеты другой звезды и возвращается обратно, совершив “путешествие длиной в век”. В ином плане начал работу как фантаст писатель Г.Гор. В 1962 году вышли его научно-фантастические повести “Докучливый собеседник” (издательство “Советский писатель”; в журнале “Звезда” она была напечатана годом раньше; переиздание — издательство “Художественная литература”, 1964), и “Странник и время” (в сборнике “Фантастика, 1962 год”, издательство “Молодая гвардия”); в 1963 — сборник научно-фантастических повестей “Кумби” (издательство “Молодаягвардия”), объединивший “Странник и время” и новую повесть “Кумби”. Фантастика Г.Гора носит философский характер. В ней много размышлений о проблемах пространства и времени, о возможностях человека, поставленного в особые условия, о далеких перспективах кибернетики, о мире будущего вообще. Автор сплетает картины прошлого, настоящего и будущего. Наш современник, подвергнувшись анабиозу, переносится через века. Вместе с героем (повесть “Странник и время”) мы видим картины жизни и нашей, и грядущей эпохи. В повести “Докучливый собеседник” космический путешественник прилетает на Землю с планеты, ушедшей в своем развитии далеко вперед. Вместе с ним мы попадаем в земной каменный век, а его воспоминания переносят нас на родину пришельца. Череп же его много веков спустя — уже в наши дни — находит археолог, и вокруг этой находки разгораются споры. Штрихи будущего изображены в повести “Кумби”, одна из центральных проблем которой — создание робота, наделенного не только мышлением, но и эмоциями. В ней же автор касается и вопросов, связанных с моделированием памяти, с воспроизведением хранимой человеческим мозгом информации, переживаний, впечатлений. В “Кумби” рассказывается также о цивилизации на планете Уаза, достигшей очень высокой степени развития. Повесть “Электронный Мельмот” (сборник “В мире фантастики и приключений”, 1964) — современный вариант легенды о бессмертном скитальце Агасфере. Роль потусторонних сил в нем отводится кибернетической машине. В повести “Уэра” (альманах “НФ”, выпуск I), где действие разворачивается на Земле прошлого и будущего, на другой планете — прообразе Земли грядущего и на космической станции Уэре, как и в других произведениях Гора, ставятся философские вопросы о влиянии науки на природу самого человека и его внутренний мир.***
В последние годы появился ряд новых фантастических памфлетов, написанных Л.Лагиным, И.Варшавским, А.Днепровым, В.Сафоновым и другими. Л.Лагин (“Майор Велл Эндъю”, сборник “Фантастика, 1962 год” и сборник Л.Лагина “Съеденный архипелаг”, издательство “Советская Россия”, 1963), помня о событиях, описанных в романе Уэллса “Борьба миров”, изображает человека, готового использовать любую силу — даже чудовищную военную мощь агрессоров-марсиан, чтобы “навести настоящий порядок в стране, суровый, беспощадный”; вполне понятно, какой порядок имеется в виду… В сборнике “Черный столб” помещен фантастический памфлет В.Сафонова “Пришествие и гибель собственника”; в “Фантастике, 1962 год” — памфлеты “995-й святой” Ю.Цветкова, “Исчезло время в Аризоне” С.Илличевского и “Большой день на планете Чунгр” А.Глебова; в сборнике “В мире фантастики и приключений. 1964” — памфлет А.Шалимова “Все началось с Евы…”***
Современная наука и техника дали писателям материал и для фантастических сказок. В повести-сказке А.Светова “Веточкины путешествуют в будущее” (издательство “Молодая гвардия”, 1963) рисуется картина грядущего, увиденная глазами школьников. Они переносятся туда с помощью волшебника. Пользуясь этим сказочным приемом, автор показывает, какой станет жизнь в двухтысячном году, при полной победе коммунизма. Вышли также сказочная повесть-фантазия Е.Велтистова “Электроник — мальчик из чемодана” (издательство “Детская литература”, 1964) и повести-сказки Т.Гнединой “Последний день туготронов” (издательство “Молодая гвардия”, 1964). В них авторы используют достижения физики и электроники для создания сказочного, приключенческого сюжета.***
В последние годы начали систематически появляться сборники научно-фантастических произведений. С 1962 года стал традиционным ежегодный выпуск сборников “Фантастика” издательством “Молодая гвардия”. В них читателю встретятся не только уже известные, но и новые литературные имена. Два сборника научно-фантастических повестей и рассказов — “Черный столб” и “Новая сигнальная” — выпустило в 1963 году издательство “Знание”. В них вместе с произведениями советских писателей помещен ряд переводных вещей (Р.Бредбери, А.Кларк, А.Азимов). С 1964 года в том же издательстве начал выходить альманах научной фантастики “НФ”. В первом выпуске читатель найдет повести Е.Парнова и М.Емцева, Г.Гора, рассказы С.Гансовского, в разделе “Зарубежная фантастика” — рассказы А.Кларка, А.Кобо, Э.У.Гриффита. Продолжает выходить альманах “На суше и на море” (Географгиз, ныне — издательство “Мысль”), который отводит место советской и переводной фантастике. В 1963 и 1964 году вышли новые сборники “В мире фантастики и приключений” Лениздата. В сборнике 1964 года помещен научно-фантастический роман В.Невинского “Под одним солнцем”, в котором действие разворачивается на Марсе и на Земле много миллионов лет назад. Этот фон помогает автору ставить социальные проблемы, волнующие современное человечество. Во всех сборниках и альманахах представлена фантастика разных направлений, в том числе социальная, философская, психологическая, сатирическая и юмористическая, памфлет и очерк. Напечатаны также литературно-критические статьи, обзоры, справки об авторах, комментарии к произведениям. О некоторых крупных произведениях этих сборников мы уже рассказали в нашем обзоре.***
В 1965 году начала выходить “Библиотека современной фантастики в 15 томах” (издательство “Молодая гвардия”). Появились три тома (И.Ефремов, Абэ Кобо, Рей Бредбери). Вышел первый том нового издания “Библиотеки приключений” (издательство “Детская литература”) — произведения А.Грина. Любители научной фантастики получили хороший подарок: издательством “Молодая гвардия” выпущено собрание сочинений Александра Беляева в восьми томах (1963–1964). Это первое издание, в котором представлены все лучшие его произведения, включая и малоизвестные, не переиздававшиеся до сих пор. К ним относятся романы “Воздушный корабль”, “Лаборатория Дубльвэ”, “Человек, потерявший лицо”, сценарий художественного научно-фантастического фильма “Когда погаснет свет” — он был написан по мотивам рассказа “Анатомический жених”, но является самостоятельным и интересным литературным произведением. В восьмитомник включен также роман “Прыжок в ничто”, о котором К.Э.Циолковский писал в 1935 году: “Из всех известных мне рассказов, оригинальных и переводных, на тему о межпланетных сообщениях роман А.Р.Беляева мне кажется наиболее содержательным и научным”. Роман давно не переиздавался. Восьмой том целиком состоит из рассказов, — многие из которых также переизданы впервые (например, полный цикл “Изобретения профессора Вагнера”). В этом же заключительном томе читатель найдет биографический очерк об А.Р.Беляеве, библиографию его произведений и литературы о нем, а в первом томе — обзор творчества выдающегося советского писателя-фантаста. В советской научной фантастике прошлых, довоенных, лет есть немало интересных, но сейчас забытых произведений. В 20-е и 30-е годы много печаталось, в частности, научно-фантастических рассказов, и не все из них потеряли свое значение в наши дни. Поэтому современные журналы, хотя и не систематически, но начали знакомить читателей со старыми произведениями, а также давать первые публикации не изданных ранее вещей (“Листая старые страницы” — “Искатель”, “Первые публикации” — “Техника — молодежи”). Читателям интересно познакомиться с фантастикой академика Н.Морозова, известного популяризатора физики, астрономии и математики Я.Перельмана, детского писателя С.Григорьева, с малоизвестными вещами А.Беляева, Г.Гребнева, М.Зуева-Ордынца.***
Издательством “Знание” выпущено три сборника зарубежных фантастов: “Формула Лимфатера” Станислава Лема (перевод с польского, 1963), “Фантастика Рея Бредбери” (перевод с английского, 1963) и “Я — робот” Айзека Азимова (перевод с английского, 1964). Кроме того, издательство “Мир” переиздало в 1964 году фантастическую повесть Р.Бредбери “451° по Фаренгейту”, а издательство “Прогресс” — “Ральф 124С41+. Роман о жизни в 2660 году” X.Гернсбека (перевод с английского). Отдельные крупные произведения С.Лема печатались в других сборниках и периодике (“Солярис” и “Непобедимый” — “В мире фантастики и приключений”, 1963 и 1964; “Путешествия профессора Тарантоги” — “На суше и на море”, 1964; “Возвращение со звезд” — журнал “Молодая гвардия”, 1965.) Издательство “Молодая гвардия” познакомило читателей с научно-фантастическими рассказами, отмеченными на Международном конкурсе фантастики семи стран — Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии (сборник “Лучший из миров”, 1964). В том же издательстве вышел в 1964 году сборник “Современная зарубежная фантастика. А.Азимов, К.Борунь, Р.Бредбери, Д.Гордон, В.Кайдош, С.Лем, Э.Лудвиг, К.Маклин, Д.Миху, К.Саймак, Л.Сцилард, Э.Уайт, Д.Уиндем, К.Фиалковский, Р.Шекли”.***
За последние годы научно-фантастические рассказы, повести, романы и советских и зарубежных авторов публиковались в различных журналах — научно-популярных и литературно-художественных. Мы не имеем возможности их здесь даже перечислить. Поэтому мы советуем любителям фантастики заглянуть в такие журналы, как “Техника — молодежи”, “Знание — сила”, “Вокруг света”, “Искатель”, “Наука и жизнь”, “Сельская молодежь”, “Изобретатель и рационализатор”, “Смена”, “Костер”, “Молодая гвардия” и другие.***
Те, кто читает фантастику, может заинтересоваться и литературно-критическими материалами о любимом жанре — книгами и статьями о творчестве писателей-фантастов, об истории и путях развития научно-фантастической литературы, проблемах, стоящих перед нею. “Через горы времени” — так называется книга Е.Брандиса и В.Дмитревского (издательство “Советский писатель”, 1963) — очерк жизни и творчества И.Ефремова, автора многих широко известных фантастических произведений. Авторы разбирают цикл “Рассказов о необыкновенном”, повесть “Звездные корабли”, останавливаются на романе “Туманность Андромеды” и рассказе “Сердце Змеи”. В заключительной главе они дают краткий обзор произведений советских и зарубежных писателей, посвященных будущему. Более подробно эта тема освещается ими в брошюре “Мир будущего в научной фантастике” (издательство “Знание”, 1965). В ней Е.Брандис и В.Дмитревский рассказывают об англо-американской фантастике, в частности о творчестве Рея Бредбери, Артура Кларка и Айзека Азимова, а также писателей-фантастов социалистических стран. Прослеживаются попытки изображения будущего общества в советской литературе двадцатых — тридцатых годов, анализируются произведения И.Ефремова, А. и Б.Стругацких, Г.Мартынова, Г.Гора и других советских фантастов. В 1963 году вышло переработанное издание книги Е.Брандиса “Жюль Верн. Жизнь и творчество” (Лендетгиз). О Жюле Верне пишет К.Андреев в книге “Искатели приключений” (Детгиз, 1963); он затрагивает в ней также научно-фантастические произведения А.Конан-Дойля. Жизни и творчеству Герберта Уэллса посвящена книга Ю.Кагарлицкого “Герберт Уэллс” (Гослитиздат, 1963). Проблемам фантастики и творчеству отдельных фантастов посвящен ряд статей, помещенных в качестве предисловий к их произведениям, а также в сборниках и альманахах “Фантастика”, “НФ”, “Черный столб”, “Новая сигнальная”. В сборнике “О литературе для детей” (Л., “Детская литература”, 1965) один раздел посвящен научной фантастике. СОДЕРЖАНИЕ Травинский В., Фортус М. Поединок с гестапо Альтов Г. Шальная компания Гансовский С. Чужая планета Насибов А. Письменный прибор Попов А., Светланов Ю. Оставалось семь дней Жемайтис С. Гибель “Лолиты” Емцев М., Парнов Е. Только четыре дня Коротеев Н. Огненная западня Мирер А. Будет хороший день! Пашинин В. Разведчики 111-й Яров Р. Нужно, чтобы чувствовала Ройзман М. Вор-невидимка Булычев К. Девочка, с которой ничего не случится Томан Н. Среди погибших не значатся Локерман А. Новый способ ловить медведей Локерман А. Как медведь геолога вылечил Ляпунов Б. Воскрешенные черты Ляпунов Б. Любителям научной фантастики Оформление Ю.КопейкоМИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1966г. №12

Александр Абрамов, Сергей Абрамов ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЯ И МИСТЕРА ГАЙДА, РАССКАЗАННАЯ ПО-НОВОМУ
…нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого…Ф.М.Достоевский. “Двойник”
Перед нами безумная теория. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной!Нильс Бор
КТО Я!
Я возвращался домой от Никитских ворот по Тверскому бульвару. Было что-то около пяти часов вечера, но обычная в это время уличная субботняя сутолока обходила бульвар, и на его боковых аллеях, как и утром, было пустынно и тихо. Сентябрьское, вдруг совсем безоблачное небо не предвещало близкой осени, ни один желтый лист не зашуршал под ногами, и даже поблекшая к концу лета трава меж деревьями после вчерашнего ночного дождя казалась по-майскому похорошевшей. Я не спеша шагал по боковой дорожке, лениво прицеливаясь к каждой скамейке: не присесть ли? Наконец присел, вытянув ноги, и в ту же секунду почувствовал, как все окружающее уплывает куда-то, тускнея и завихряясь. Обычно я не страдаю головокружениями, но тут даже вцепился в спинку скамейки, чтобы не упасть: вся противоположная сторона бульвара — деревья и прохожие — вдруг растаяла в лиловатой дымке, точь-в-точь как в горах, когда облака подползают к ногам и все вдруг дробится и тает в густых мокрых хлопьях. Но дождя не было, туман налетел сухой и чистый, слизнул всю зелень бульвара и исчез. Именно исчез. В одно мгновение деревья и кусты неожиданно вновь возникли, как повторный кадр в цветном кинофильме, широкая скамейка напротив вернулась на свое прежнее место, и пропавшая было девушка в голубом пыльнике опять сидела на ней с книжкой в руках. Все выглядело как будто по-прежнему, но только как будто: кто-то во мне тотчас же усомнился в этом. Я даже оглянулся, пытаясь проверить впечатление, и удовлетворенно подумал: “Чепуха, все так и было. Именно так”. — “Нет, не так”, — подумал кто-то другой. Другой ли? Я спорил с самим собой, но сознание как бы раздваивалось, и спор походил на диалог двух совсем не идентичных и даже не похожих “я”. Возникавшая мысль тотчас же опровергалась другой, откуда-то вторгшейся или кем-то внушенной, но агрессивной и подавляющей: “И скамейка та же”. “Не та. На Пушкинском зеленые, а не желтые, да и формы совсем другой”. “И дорожки те”. “Эти уже. И где гранитный бордюр?” “Какой бордюр?” “А лужайки нет”. “Какой лужайки?” “У корта. Здесь был теннисный корт”. “Где?” “Вот на этом месте”. Но я уже оглядывался с чувством нарастающей тревоги. Раздвоение исчезло. Я вдруг осознал себя в новом, странно изменившемся мире. Когда вы идете по улице, где на каждом шагу вам все привычно и все примелькалось глазу, вы не обращаете внимания на мелочи, на детали. Но стоит им внезапно исчезнуть, и вы остановитесь, охваченный чувством возмущения и тревоги. Пейзаж был только похожим, но совсем не тем, какой я знал, проходя по этим тысячи раз исхоженным бульварным дорожкам. И деревья, казалось, росли по-другому, и кусты были не те, и самый бульвар я почему-то называл не Тверским, а Пушкинским. По привычке я взглянул на часы, а рука так и повисла в воздухе. И пиджак был совсем другой, не тот, какой я надел с утра, и вообще не мой пиджак, и часы были не мои, а под ремешком от часов кривился шрам, которого, может быть, только минуту назад не было вовсе. А сейчас это был застарелый, давно заживший шрам, след пули или осколка. Я посмотрел на ноги — и туфли были не мои, чужие, с нелепой пряжкой на боку. “А вдруг и внешность у меня не та, и возраст не тот, и вообще я это не я?” — обожгла мысль. Я вскочил и не пошел, а побежал по дорожке к театру. Театр стоял на том же месте, но это был другой театр, с другим входом и другими афишами. На его репертуарном табло я не нашел ни одного знакомого названия. Только в темных, не освещенных изнутри дверных стеклах отразилось знакомое лицо. Это было мое лицо. Пока оно было единственным, что было моим в этом мире. Только теперь я почувствовал, как у меня болит голова. Помассировал виски — боль не проходила. Вспомнилось, что где-то поблизости, кажется на площади, была аптека. Может быть, она уцелела, на мое счастье? Площадь уже виднелась в мелькании пересекающих проезд автомашин, и я поспешил вперед, продолжая недоуменно и тревожно оглядываться. Домов по проезду Пушкинского бульвара я точно не помнил, но эти как будто не отличались от них, только не было привычных, бросающихся в глаза фонарей над подъездами да и номерные знаки были другими. У выхода на площадь, куда вливалась зеленая река бульвара, я буквально остолбенел: устье ее было пусто. Пушкина не было. На мгновение мне показалось, что у меня остановилось сердце. Голая каменная плешь на месте памятника уже не тревожила, а пугала. Я закрыл глаза в надежде, что наваждение исчезнет. В этот момент кто-то проходивший мимо толкнул меня, может быть и нечаянно, но так сильно, что я невольно повернулся на каблуках. Наваждение действительно исчезло: я увидал памятник. Он стоял в глубине площади, все такой же задумчивый и строгий, в небрежно накинутой на плечи крылатке, — дорогой с детства образ. Пусть на другом месте, но он! Даже дышать стало легче, хотя позади памятника виднелось совсем незнакомое здание современной конструкции с огромными буквами по фасаду: “Россия”. Гостиница или кино? Вчера еще на его месте стоял шестнадцатиэтажный жилой дом, в первом этаже которого помещался ресторан “Космос”. Все было похоже и не похоже, знакомо до мелочей, но именно мелочи больше всего и видоизменяли знакомый облик. Аптеку, например, я нашел на том же месте, и продавщицы стояли за прилавками в таких же белых халатах, и такая же очередь толпилась у кассы, а в оптическом отделении продавались очки в такой же безвкусной и неудобной оправе. Но когда я спросил у продавщицы пирабутан от головной боли, она недоуменно скривилась: — Что? — Пирабутан. — Не знаю такого. — Ну, от головной боли. — Пирамидон? — Нет, — растерянно пробормотал я, — пирабутан. — Нет такого лекарства. Мой глупо-удрученный вид вызвал у нее улыбку сочувствия. — Возьмите тройчатку. — И она бросила на прилавок пакетик в невиданной мной упаковке. — Двадцать четыре копейки. В брючном кармане я обнаружил горсть серебряной мелочи — монетки почти не отличались от наших. Потом, уже сидя на скамейке у памятиика Пушкину, я тщательно обследовал все карманы доставшегося мне по прихоти судьбы чужого костюма. Содержимое их поставило бы в тупик любого следователя. Помимо мелочи, я нашел несколько рублевых и трехрублевых бумажек, совсем не похожих на наши, скомканный трамвайный билет, хорошую авторучку и почти целым блокнот с отрывными листами. Никаких документов, удостоверявших личность моего двойника, не было. Страха я уже не чувствовал, оставалось лишь острое, беспокойное любопытство. Как долго продлится мое вторжение в этот мир и чем оно окончится, об этом я старался не думать: здесь можно было предположить все, даже самое страшное. Но что делать в пределах выданной мне путевки в неведомое? В гостиницу меня, конечно, не пустят. Где я буду ночевать, если путевка надолго? Может быть, дома или у друзей: ведь где-то живет же обладатель этого пиджака и друзья, наверное, у него имеются, и самое смешное будет, если это и мои друзья. А вдруг все это сон? С размаху я хлопнул рукой по скамейке: больно! Значит, не сон. На какой-то миг мне показалось, что я увидел знакомое лицо. Мимо неторопливо прошествовал широкоплечий крепыш с кинокамерой. Я узнал и хохолок на лбу, и массив плеч, и чугунный затылок. Неужели Евстафьев из пятой квартиры? Но почему он с кинокамерой? Ведь он и фотоаппарата в руках не держал. Я вскочил и побежал за ним. — Простите… — остановил я его, вглядываясь в знакомые черты. — Женька? Евгений Григорьевич? — Вы ошиблись. Я растерянно моргал глазами: сходство было удивительное. Даже тембр голоса был похож. — Напоминаю кого-то? — усмехнулся он. — Поразительное сходство! — Бывает, — пожал он плечами и прошествовал дальше, оставив меня в состоянии полного душевного смятения. Мне все еще казалось, что это розыгрыш, мистификация. Сейчас Женька вернется, и мы будем хохотать вместе. Но он не вернулся. Все многообразие ощущений и переживаний, которым мог бы похвастаться человек в моем положении, буквально потонуло в одном чувстве растерянности и смятения, и, пожалуй, еще — невыносимого одиночества в городе, в котором каждый камень был знаком с детства и который изменился всего за несколько секунд дурноты. Я мучительно вглядывался в лица прохожих с тщетной надеждой встретить близкого человека. Зачем? Вероятно, он не узнал бы меня, как близнец Евстафьева, а тому, кто узнал бы, что мог я ответить? Но именно это и случилось. — Сережка! Сергей Николаевич! — окликнул меня невысокий седой человек в замшевой курточке на “молниях”. (Этого человека я никогда раньше не видел.) — Поди-ка сюда. Я поднялся: меня действительно звали и Сережкой, и Сергеем Николаевичем. — Есть новость… — Он доверительно взял меня под руку и тихо сказал: — Обалдеешь. Сычук остался. — Какой Сычук? — удивился я. — Мишка? — Какой же еще? Один у нас Сычук. Увы! Мишку Сычука я знал с фронта. Сейчас он работал где-то фотографом, не то фотокорреспондентом. Мы не дружили и не встречались. — Что значит “остался”? — Как остаются? Он же на “Украине” поехал вокруг Европы. Знаешь ведь. Я ничего не знал. Но, учитывая ситуацию, изобразил удивление. — В последнем заграничном порту, подонок, остался. Не то в Турции, не то в Германии: не знаю, как они ехали — в Одессу или из Одессы. — Подлец! — сказал я. — Будут неприятности. — Кому? — Ну тем, кто ручался, и так далее, — усмехнулся человек в замше. — Фомич землю роет, к начальству помчался. Ты-то ни при чем, конечно. — Еще бы, — сказал я. Незнакомец освободил мою руку и дружелюбно стукнул по спине. — Ты что-то прокис, Сережка. Или, может, я помешал? — Чему? — Творишь… или ждешь кого? А почему ты не в редакции? Ни к одной редакции я не имел отношения. Разговор надо было заканчивать: в нем накопилось слишком много горючего. — Дела, — сказал я неопределенно. — Хитришь, старик, — подмигнул он. — Ну пока. И так же исчез из моей жизни, как и появился. Как человек, впервые брошенный в воду, постепенно приобретает навыки пловца, так и я уже начинал ориентироваться в незнаемом. Любопытство подавляло страх и тревогу. Что я уже знал? Что и здесь у меня та же внешность и то же имя. Что Москва есть Москва, только чуть-чуть другая в деталях. Что есть Одесса, Турция и Германия. Что пароход “Украина”, как и у нас, совершает рейсы вокруг Европы. Что я связан с какой-то редакцией и что в этом мире Мишка Сычук тоже оказался сволочью. Поэтому я ничуть не удивился, когда, спустившись к кинотеатру “Россия” — здание это, как я и предполагал, оказалось кинотеатром, — я встретил Лену. Я должен был кого-нибудь встретить, кто знал меня и там, и здесь. Лена шла, как всегда, элегантная и, как обычно, рассеянная, но узнала меня сразу и даже, как мне показалось, смутилась: — Ты? Откуда? — От верблюда. Ну, что там? — Где? — удивилась она. — В больнице, конечно. Ты давно ушла? Она удивилась еще больше. — Я не понимаю тебя, Сережа. Ты о чем? Я только три дня в Москве. Я видел ее сегодня утром у главврача, когда звонил в институт мозга. До этого мы виделись каждый день или почти каждый день, когда я бывал в терапевтическом. Поэтому я замолчал, мучительно подыскивая выход из явно критической ситуации. Дорога в незнаемое изобиловала ухабами. — Извини, Леночка, я стал ужасно рассеянным. И потом… такая неожиданная встреча… — Как живешь? — спросила она, как мне показалось, с какой-то металлической ноткой. — Да так, — ответил я бодренько, — живем, хлеб жуем. Она долго молчала, пристально рассматривая меня. Наконец произнесла совсем сухо: — Странный у нас разговор с тобой. Очень странный. Я понимал, что она сейчас уйдет, и исчезнет единственный шанс закрепиться здесь хотя бы на сутки: едва ли мое вторжение продлится дольше. Надо было на что-то решаться. И я решился. — Мне надо поговорить с тобой, Леночка. Просто необходимо. Произошло одно событие… — Какое? — Ее глаза подозрительно сузились. — Не могу же я говорить на улице… — Я торопливо подыскивал слова. — Ты где… живешь? Она помедлила с ответом, видимо что-то взвешивая. — Пока у Галки. — Это где? — Ты же знаешь. Я ничего не знал. Я даже не спросил, у какой Галки. Но мне нужно было, чтобы она согласилась. Мой последний шанс! — Прошу тебя, Леночка… — Неудобно, Сережа. — Боже мой, какой вздор! — сказал я, думая о Лене, которую я знал. Но это была совсем другая Лена, глядевшая на меня настороженно, совсем не дружески. — Ну что ж, пойдем, — наконец сказала она.ВТОРОЙ ШАГ В НЕЗНАЕМОЕ
Мы шли молча, почти не разговаривая. Она, видимо, волновалась, но старалась не показать этого, сдерживалась, может быть даже сожалея о своем согласии. Время от времени я ловил ее обращенный на меня испытующий, подозрительный взгляд. Что она подозревала и чего боялась? Дом в Старо-Пименовском переулке я узнал сразу. Здесь когда-то жила моя жена, еще до того, как мы познакомились. Кстати, ее тоже звали Галкой. У меня противно задрожали колени. — Ты что так смотришь? — спросила она. Я продолжал молча оглядывать комнату. Как и все здесь, она была та и не та. Похожа и не похожа. Или, может быть, я просто забыл? — Чья это комната, Лена? — Галкина, конечно. Странные вопросы ты задаешь, Сережка. Разве ты здесь не был? Я с трудом проглотил слюну. Сейчас я ей задам еще один странный вопрос: — Разве она… не переехала? Лена взглянула на меня как-то испуганно, даже отстранилась немножко, словно я сказал нечто совершенно нелепое. — Вы разве не встречаетесь? — Почему? — неопределенно ответил я. — Встречаемся. — Когда ты ее видел в последний раз? Я засмеялся и брякнул: — Сегодня утром. За завтраком. И тут же пожалел о сказанном. — Не лги. Зачем ты лжешь? Она со вчерашнего дня в институте. И ночью работала. Еще не возвращалась. — Уж и пошутить нельзя, — глупо сказал я, понимая, что все больше и больше запутываюсь. — Странные шутки. — Может быть, мы о разных людях говорим? — попробовал я исправить положение. Она даже не рассердилась, только нахмурилась, как врач, который видит, но еще не понимает симптомы наблюдаемой им болезни. — Я говорю о Гале Новосельцевой. — Почему Новосельцевой? — удивился я. На меня смотрели холодные, профессионально заинтересованные глаза врача. — Ты потерял память, Сережа. Они расписались еще в начале войны. Что с тобой? — Ничего, — пробормотал я, вытирая вспотевший лоб. — Я только думал… — Почему я здесь, у разлучницы, да? — засмеялась она, на какое-то мгновение утратив выражение профессионально врачебного любопытства. — Я и тогда не обижалась, Сережа. Подумаешь, беда — парня увели! А теперь… смешно даже. Так давно это было. И другое после этого было — сам знаешь. — Она вздохнула. — Не везет мне в любви, Сережа. Трудно рассчитывать каждый шаг в незнаемом. И я опять не рассчитал, забыв о том, где я и кто я: — А кто тебе сейчас мешает с Олегом? — Сережа! И столько ужаса было в этом вскрике, что я невольно закрыл глаза. — У тебя что-то с памятью, Сережа. Такие вещи не забывают. Галка получила похоронную еще в сорок четвертом году. Ты не мог не знать. Что я знал и чего не знал? Разве я мог сказать ей об этом? — Ты или притворяешься, или болен. По-моему, болен. — А ты спроси меня: какое сегодня число, какой год и так далее. — Я еще не знаю, что надо спросить. — Так ставь диагноз, — озлился я. — С ума сошел, и все! — Это не медицинский термин. Есть разные виды психических расстройств… Ты о чем хотел говорить со мной? Теперь уже я не хотел. Если бы я сказал ей правду, она меня тут же отправила бы в психиатрическую больницу. Надо было выкручиваться. — Понимаешь, какое дело… — начал я свою поспешную импровизацию, — произошло одно прискорбное событие… Весьма прискорбное… — Ты уже говорил. Какое? — В общем, я ушел из дому. От жены. О причинах говорить не буду. Но мне необходимо убежище. Хотя бы на сутки. Ночлегус вульгарис… Я замолчал. Она тоже молчала, разглядывая кончики пальцев. — Разве у тебя нет друзей? — К одним нельзя, к другим неудобно. Знаешь, как иногда бывает… — Я старался не смотреть ей в лицо. — А если бы ты меня не встретил? — Но я тебя встретил. Она все еще колебалась: — Это неудобно, Сережа. — Почему? — Неужели ты сам не понимаешь? — Знаешь что?.. — опять озлился я. — Вызывай психиатра. Ночлег мне, во всяком случае, будет обеспечен. Я посмотрел ей в глаза: врач-профессионал исчез, осталась просто испуганная женщина. Непонятное всегда страшно. — Комната не моя, — проговорила она тихо. — Подождем Галку. — А если она опять заночует в институте? — Я позвоню ей. Телефон в передней. Посиди пока. Она вышла, оставив меня одного в комнате, в которой мне было все знакомо почти до мелочей. Из этой комнаты я пошел в загс. Из этой ли? Нет, не из этой. Как в подобии треугольников что-то совпадало, что-то нет. Я взял со стола карандаш и записал в блокноте: “Если со мной что случится, дайте знать жене Галине Громовой. Грибоедова, 43. Сообщите также в Институт мозга профессорам Заргарьяну и Никодимову. Очень важно”. Слова “очень важно” я подчеркнул три раза так, что карандаш сломался. То, что хотелось приписать дальше, так и осталось неприписанным. А положив блокнот в карман, я понял, что опять сделал глупость. Мои Заргарьян и Никодимов этого письма не получат. А Галя Громова носит здесь другую фамилию. В передней раздался звонок, и сквозь полуоткрытую дверь я услышал, как щелкнул замок и Лена сказала: — Наконец-то! Я тебе только что звонила. — А что случилось? — спросил до жути знакомый голос. — У нас Громов Сережка. — Ну и хорошо! Будем чай пить. — Понимаешь, Галина… странный он какой-то… — Лена понизила голос до неслышного шепота. — Что он, с ума сошел? — донеслось до меня. — Не знаю. Говорит, что ушел от жены. — Господи, какой вздор! Он тебя разыгрывает, Ленка, а ты уши развесила. Я полчаса назад ее видела. Дверь распахнулась. Я вскочил и замер. У двери стояла моя жена. То же лицо, тот же возраст, даже прическа та же самая. Только серьги незнакомые и костюм, какого я у нее еще не видел. Я молча стоял, силясь сдержать волнение. — Ты что это придумал? — спросила Галя. Я молчал. — Только что я видела Ольгу. Ехала домой и ждет тебя к ужину. Кажется, вы собираетесь на ленинградский балет? Я молчал. — Что это за штучки? Ленку разыгрываешь. Зачем? Я не мог найти слов для ответа. Все рухнуло. Какие объяснения могли бы удовлетворить их? Правда? Но кто в моем положении отважился бы на это? — Лена говорит, что ты болен, — продолжала она, пытливо меня разглядывая. — Может быть, правда болен? — Может быть, правда болен, — повторил я. Я не узнал своего голоса — таким чужим и далеким он мне показался. — Ну что ж, — прибавил я, — извините. Я, пожалуй, пошел. — Куда? — встрепенулась Галя. — Одного не пустим. Я отвезу тебя домой. — Она выглянула в окно. — Вон и такси мое стоит. Ленка, добеги: может, успеешь задержать. Мы остались одни. — Что все это значит, Сергей? Я ничего не понимаю. — Я тоже, — сказал я. — А все-таки? — Ты, кажется, физик, Галя? — бросил я наудачу. Она насторожилась: — А что? — Ты имеешь представление о множественности миров? Сосуществующих рядом миров? Одновременно загадочно далеких и удивительно близких? — Допустим. Есть такие гипотезы. — Тогда допусти, что один из смежных с нами миров подобен нашему. Что в нем тоже есть Москва, только чуть-чуть другая, может быть, те же улицы, только иначе орнаментированные. Иногда те же дома, только с другим номерным знаком. Что там есть и ты, и я, и Лена, только в других отношениях… Она все еще не понимала. Но мне уже давно надоел мой предшествовавший душевный маскарад. Я отважился: — Допусти, что в той, другой жизни тебя зовут не Галя Новосельцева, а Галя Громова. Что вот из этой комнаты шесть лет назад мы с тобой пошли в загс. А сейчас произошло чудо: я переменил оболочку… заглянул в ваш мир. Вот тебе и дьявольщина для наших ограниченных умишек. Она глядела на меня уже с испугом. Вероятно, думала, как и Ленка: внезапное помешательство, бред. — Ладно, покончим с этим, — скривился я. — Вези куда хочешь, мне все равно. И не пугайся: ни душить, ни целовать тебя я не буду. Вон уже Ленка рукой машет. Пошли.КТО ДЖЕКИЛЬ И КТО ГАЙД!
Галя, должно быть, и в этом мире обладала той же выдержкой. Минуту спустя она уже успокоилась. — Надеюсь, мы не будем при шофере заниматься научной фантастикой? — спросила она, подходя к машине. — А ты считаешь, что научной? — не утерпел я. — Кто знает? На лице ее я не читал ничего особенного. Обычное поведение умной женщины. Галино поведение с чужими, но не безынтересными ей людьми. Внимательные глаза, уважительный интерес к собеседнику, бессознательное кокетство, насмешливость. — Почему у вас памятник Пушкину посреди площади? — спросил я, когда мы проезжали мимо. — А у вас где? — На бульваре. — Врешь ты все. И о загсе соврал. И почему шесть лет назад? — Судьба, — засмеялся я. — Где я была шесть лет назад? — задумчиво проговорила Галя. — Весной в Одессе. — И я. — Что ты врешь? Ты же не поехал с нами. — Это я у вас не поехал, а у нас — наоборот. — Стран-но, — по слогам сказала она и прибавила, критически посмотрев на меня: — А ты не производишь впечатление больного. “Приятно слышать”, — хотел сказать я, но не сказал. Черный шквал ударил мне прямо в лицо. Все потемнело. — Что с тобой? — услышал я испуганный крик Гали и ее же торопливые, взволнованные слова: — Голубчик, остановите где-нибудь у тротуара. Ему плохо… …Я открыл глаза. Лиловый туман все еще клубился в машине. Из тумана глядело на меня лицо женщины. — Кто это? — хрипло спросил я. — Тебе плохо, Сережа? — Галя? — удивился я. — Как ты здесь очутилась? Она не ответила. — Что-нибудь со мной случилось там… на бульваре? — спросил я и оглянулся. — Случилось, — сказала Галя. — Поговорим потом. Можешь ехать домой или нужен врач? Я потянулся, тряхнул головой, выпрямился. Можно было явно обойтись без врача. Пока мы ехали, я рассказал Гале, как шел по Тверскому бульвару, как закружилась у меня голова и как я в лиловом тумане пытался разговаривать сам с собой. — А потом? — неожиданно заинтересовалась Галя: до этого она слушала меня не то недоверчиво, не то равнодушно. — Что было потом? Я недоуменно пожал плечами. — Не помнишь? — Не помню. Я действительно ничего не помнил и только по возвращении узнал от Гали о том, что произошло у нее дома. — Бред, — сказал я. Галя, с ее любовью к точным формулировкам, поправила: — Если бред, то очень последовательный. Как хорошо отрепетированная роль. Так не бредят. И потом, бред — это симптом болезни, а ты не производил впечатления больного. — А обморок на бульваре, — вмешалась Ольга. — И в такси. Она, как врач, искала медицинских объяснений. Но Галя по-прежнему сомневалась: — А между обмороками что? — Какое-то сомнамбулическое состояние. — Что я, лунатик? — обиделся я. — Если это сон, то наяву, — насмешливо уточнила Галя. — И потом, мы видели этот сон, а не он. Кстати, о снах: ты все еще видишь их? — При чем здесь сны? — буркнул я. — Я был в обмороке и никаких снов не видел. Я хорошо понимал, что Галя никого не мистифицирует. Поэтому ее рассказ о моих похождениях в сомнамбулическом состоянии — пришлось все-таки прибегнуть к такой оценке моего поведения — меня сильно встревожил. Я никогда не падал в обморок, не гулял по карнизам в лунные ночи и не терял памяти. Но разумных объяснений случившегося найти не мог. — Может быть, гипноз? — предположил я. — А кто это тебя загипнотизировал? — поморщилась Ольга. — И где? В редакции? На бульваре? Чушь! — Чушь, — согласился я. — А ты, случайно, не пишешь фантастической повести или романа? — вдруг спросила Галина. — Твое довольно толковое сообщение о множественности миров меня даже заинтересовало. Понимаешь, Ольга, — засмеялась она, — два смежных мира в пространстве, как подобные треугольники. И там и здесь — Москва, и там и здесь — Сергей Громов. Только тебя нет. Там он на мне женат. — Так тайное становится явным, — пошутила Ольга. — И сомнамбула, конечно, — это гость из другого мира в Сережкином обличье? — Он мне так и объяснил. Москва, говорит, такая же, только немножко другая. Памятник Пушкину у нас на площади, а у них на бульваре. Я чуть не расхохоталась. Ольга почему-то задумалась. — А знаешь что можно предположить? — оживилась она: ей все-таки очень хотелось найти разумное объяснение, как и мне. — Сережка ведь знал, что памятник когда-то перенесли? Знал. Так, может быть, такая записанная в мозгу информация и определила этот бред? Возбуждение, сигнал — и пожалуйте: миф о смежном и подобном мире. У меня эти рассуждения вызвали только досаду: — Слушаю вас, и уши вянут. Какой-то новый вариант стивенсоновской сказки. Прямо доктор Джекиль и мистер Гайд. Только кто Джекиль и кто Гайд? — Ясно кто, — отпарировала Галя, — себя-то ты не обидишь. Ольга не поняла: — Вы о ком? — Оленька, — сказал я, — это агенты международного империализма, переброшенные к нам на самолете без опознавательных знаков. — Я серьезно. — И я серьезно. Есть такой английский писатель, по фамилии Стивенсон. Читают его обычно в юности. Даже медики. Для них, кстати, этот рассказ почти пособие по курсу психиатрии, ибо Джекиль и Гайд- это, по сути дела, один человек, вернее, квинтэссенция добра и зла в одном человеке. С помощью открытого им эликсира, или, на языке медиков, некоей смеси сульфаниламидных препаратов и антибиотиков, благородный Джекиль превращается по ходу действия в подлеца Гайда. Изложил точно? — спросил я Галю. — Вполне. Поищи в карманах, может быть, Гайд оставил какие-нибудь следы своего превращения? Я порылся в карманах и выбросил на стол пакетик с таблетками от головной боли. — Должно быть, вот это. Я тройчатки не покупал. — Может быть, это ты ему положила? — Галя спросила Ольгу. — Нет. Наверно, это купил он по дороге домой. — Ничего я не покупал, — рассердился я, — и вообще я не был в аптеке. — Значит, это был Гайд. А других следов он не оставил? Я машинально провел рукой по нагрудному карману. — Погоди. Блокнот не на месте. — Я вынул блокнот и раскрыл его. — Тут что-то написано. Где мои очки? — Дай сюда. — Галя вырвала блокнот и прочла вслух: — “Если со мной что случится, дайте знать жене, Галине Громовой. Грибоедова, 43. Сообщите также в Институт мозга профессорам Заргарьяну и Никодимову. Очень важно”. Даже подчеркнул, что очень важно, — засмеялась она. — А Галя, конечно, Громова. Я же говорю, что бред последовательный. Только почему Грибоедова? Старо-Пименовский — это улица Медведева. — А есть ли у нас улица Грибоедова? — спросила Ольга. — Я что-то не слышала. — Есть, — вмешался я. — Это бывший Харитоньевский. Только дома сорок три там нет. Видимо, Гайд имел в виду какой-то проспект, а не улицу. — А кто это Заргарьян? — заинтересовалась Галя. — Никодимова я знаю. Это физик, и, между прочим, довольно крупный. Только он не в Институте мозга, а в Институте новых физических проблем. А кто такой Заргарьян, не знаю. — А ведь это не Сережка писал! — вдруг воскликнула Ольга. — Не его почерк… хотя у “р” такая же закорючка и палочка у “т” такая же. Посмотри. Я нашел очки и прочел запись. — Почерк-то похож. Я студентом так писал. А газетная писанина почерк испортила. Сейчас я так не напишу. Я повторил в блокноте запись. Она сильно отличалась от первой. — Да-а, — протянула Галя, — графологической экспертизы не потребуется. А может быть, почерк меняется в сомнамбулическом состоянии? — Не знаю. Это область психиатрии. Какое-то молниеносное психическое расстройство. Иначе я объяснить не могу. И мне все это очень не нравится, — сказала Ольга. — Мне тоже, — подтвердила Галя. Она читала и перечитывала обе записи в моем блокноте. На лице ее отражалась не только сосредоточенная работа мысли, но и сдержанная тревога: ясный, логический ум Гали не хотел отступать перед необъяснимым. — Ну просто объяснить не могу. Хотя бы не научно, а только логически, житейски, так сказать. Совершенно здоровый психически человек — и вдруг какая-то сомнамбула! Ну, обмороки — это понятно, врач найдет объяснение. А бред о множественности миров — это какая-то цитата из фантастического романа. И эти просьбы о ночлеге, о крыше над головой, когда у человека собственная отдельная квартира. — Очевидно, мой Гайд искал убежища, — засмеялся я. — Не мог же оп пойти в гостиницу. — Вот это мне и не нравится. Гипотеза о Гайде объясняет все. Но я предпочитаю иметь дело с наукой, а не с фантастикой. Хотя… здесь все фантастично. Ну почему ты напросился к Лене? Ты же не знал, что она живет у меня. — Я и сейчас этого не знаю. Я Ленку десять лет не видал. Даже не представляю себе, как она выглядит. Моя авантюра с Леной в Галиной рассказе удивляла меня Польше всего. Мы с Леной не встречались, не переписывались, вероятно,даже забыли о существовании друг друга. — Это его пассия? — спросила Ольга. — Мы все вместе учились, еще в школе, до войны. Вместе собирались на медфак. Да не вышло. Сережка с Олегом ушли на фронт. А я физику предпочла. Только Ленка пошла на медицинский. Кажется, она действительно была в тебя влюблена. — В Олега, — сказал я. — Все девчонки за ним бегали, — вздохнула Галя, — а я самая несчастная. Выиграла и потеряла. — Она поднялась. — Мир дому сему, а мне пора. Совет детективов окончен. Шерлок Холмс предлагает экскурсию в область физики. — Психики, ты хочешь сказать. — Нет, именно физики. Я бы поинтересовалась тем, что делают в Институте новых физических проблем Никодимов и Заргарьян. — Зачем? — удивилась Ольга. — Я бы обратилась к психиатру. — А я бы к Заргарьяну. Кто такой Заргарьян? Чем он занимается? Связан ли с Никодимовым? Ты когда-нибудь слыхал эти фамилии? — спросила она меня. — Никогда. — Может быть, читал где-нибудь и забыл потом? — И не читал, и не забывал. Просто не знаю. — Вот это и есть самое интересное в твоей сомнамбулической истории. Физика, милый, физика. Институт новых физических проблем! Новых, учти. И знаешь что? — обратилась она к Ольге. — Спроси Зойку о Заргарьяне и Никодимове. Она всех знает. Зойке мы решили позвонить утром.ЛИСТОК ИЗ БЛОКНОТА
Я мгновенно заснул и без снов проспал всю ночь до утра. А сны, можно сказать, — моя особенность, отличающая меня от прочих смертных. Галя не случайно спросила, вижу ли я сны по-прежнему? Вижу. Навязчиво повторяющиеся, почти неизменные по содержанию, странно похожие на куски видовой кинохроники. Конечно, мне снятся и обыкновенные сны, в которых все сумбурно и смутно, а пропорции и отношения искажены, как в кривом зеркале. Воспоминание о них зыбко и недолговечно, потому их всегда трудно запомнить и записать. Но сны, о которых я говорю, помнятся всю жизнь, и я могу их описать с такой же точностью, как обстановку своей квартиры. Они всегда цветные, и краски в них естественны и гармоничны, как в природе. Весенний луг, возникающий из ночной тьмы, цветет с такой же силой, как в жизни, а на ситцевом платье девушки, мелькнувшей в солнечном сне, запоминается даже рисунок. Ничего особенного не происходит в этих снах, они не пугают и не тревожат, но таят в себе что-то недосказанное, как частицы чужой, нечаянно подсмотренной жизни. Чаще всего это уголок незнакомого города, перспектива улицы, которую никогда не видел в действительности, но в которой все запомнилось до мелочей: балконы, витрины, липы на тротуарах и чугунные решетки я могу представить себе так же ясно, как будто видел их только вчера. Я вспоминал и прохожих, всегда одних и тех же, даже кошку черную с белыми пятнами, перебегавшую дорогу. Она всегда перебегала ее на одном и том же углу, у одного и того же дома. Иногда я вижу себя в пассаже, крытой торговой галерее, похожей на ГУМ. Но это не ГУМ. Пассаж одноэтажен и разветвляется на множество боковых продольных и поперечных магистралей. Я всегда кого-то жду у писчебумажного магазина или медленно прохаживаюсь мимо выставки тканей, причудливо подсвеченных каким-то странным переливчатым светом. Я никогда не видел этого пассажа в действительности, но помню не только его витрины, но даже образцы товаров, высокие стеклянные своды и пеструю мозаику на полу. Бывает, что сон преподносит мне интерьер городской квартиры, в которой я никогда не бывал, или идиллический сельский пейзаж. Чаще всего это дорога меж голых земляных откосов, скупо поросших кое-где кустиками пыльной травы. Дорога сбегает вниз к сизой полоске воды, пестреющей золотыми кувшинками. Иногда впереди идет женщина в белом, иногда старик с удочками, но оба они никогда не оборачиваются, и я никогда не обгоняю их. Я вижу только полоску воды, прошитую ряской и кувшинками, но почему-то знаю, что это пруд, и дорога сейчас свернет направо по берегу, и что именно здесь я бегал еще мальчишкой, хотя в реальном детстве моем не было ни этого пруда, ни этой дороги. Именно эти сны и побуждали Ольгу усомниться в моем психическом равновесии и так решительно настаивать на консультации с психиатром. Но я все же склонялся последовать совету Галины. Злополучный листок из блокнота с фамилиями Заргарьяна и Никодимова не давал мне покоя, потому что я твердо знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не слыхал о них. В подсознательное же восприятие услышанного где-нибудь в метро или на улице я, понятно, не верил. Нормальная память хранит услышанное в сознании, а не в подсознании. — Хорошо, я позвоню Зойке, — согласилась Ольга. Зойка работала в Институте научной информации и, по ее словам, знала всех “крупначей”. Если Никодимов и Заргарьян принадлежали к этой высоко аттестуемой категории, я в одну минуту мог получить добрый десяток анекдотов об их образе жизни. Но мне были нужны не анекдоты, а точная информация о специальности и работах ученых. Мне нужно было убедиться, что это мои Никодимов и Заргарьян. Я позвонил сначала Кленову, заведующему отделом науки у нас в редакции. Кленова я знал еще с фронта. — Нужна справка, старик. Точные координаты двух мамонтов. Никодимов и Заргарьян. В трубке захохотали: — Я еще вчера подумал, что ты малость спятил. — Когда вчера? — Когда я тебя у Пушкина встретил. Часов в шесть. Когда о Мишке рассказал. Я облизал пересохшие губы. Значит, Кленов видел Гайда и с ним разговаривал. И ничего не заметил. Очень интересно. — Не помню, — сказал я. — Не разыгрывай. И о том, что Мишка остался, не помнишь? — Где остался? — В Стамбуле. Я же тебе рассказывал. Попросил политического убежища в американском посольстве. — С ума сошел! — Он в полном рассудке, гад. Проморгали. Говорят, чужая душа — потемки. А надо было просветить вовремя. Теперь коллективное письмо писать будем, чтобы назад не пускали, когда он на брюхе к нам поползет. Да ты что, серьезно не помнишь? — Серьезно. Вчера примерно с пяти часов вечера полный вакуум в голове. Сначала обморок, потом, что говорил, что делал, ничего не помню. Должно быть, памятка все той же контузии. Под Дунафельдваром, помнишь? Еще бы Кленову не помнить, когда мы вместе форсировали Дунай! С ним и с Олегом. А Мишка Сычук, между прочим, тоже там был, только заранее смылся в тыл: откомандировался в редакцию фронтовой газеты. Минуту, должно быть, мы оба молчали. Пережитое на Дунае не забывается. Потом Кленов сказал: — А ты бы с профессором посоветовался. Могу устроить консультацию. Кой-кого знаю. — Не надо, — вздохнул я. — Ты лучше скажи, что делают в науке Никодимов и Заргарьян? — На очерк надеешься? Не выйдет. Никодимов отвечает на эти попытки по методу конандойлевского профессора Челленджера. Репортера “Науки и жизни” он в мусоропровод спустил. — Пусть тебя не тревожит мое ближайшее будущее. Поделись всеведением. Кто такой Никодимов? И без шуток: мне это действительно очень нужно. — Видишь ли, это физик с большим диапазоном интересов. Есть работы по физике поля. Интересовался электромагнитными процессами в сложных средах. Одно время с Жемличкой выдвинул идею нейтринного генератора. — С кем? — С Жемличкой. Чешский биофизик. — А идея? — Я профан, конечно. И слышал от профанов. Но, в общем, что-то вроде нейтринного лазера, пробивающего окно в антимир. — Ты серьезно? — А что? Авантюркой попахивает? Так к этому и отнеслись, между прочим. — А Заргарьян? — Что — Заргарьян? — Идет в пристяжке с Никодимовым? — Тебе и это известно? Поздравляю. — Он тоже физик? — Нейрофизиолог или что-то в этом роде. В общем, телепат. — Что, что? — закричал я. — Те-ле-пат, — назидательно повторил Кленов. — Есть такая наука — телепатия. — Сомневаюсь. Средневековьем отдает. Нет такой науки. — Ты отстал. Это уже наука. Конденсаторы биотоков и все такое прочее. Удовлетворен? — Почти, — вздохнул я. — Если пойдешь в атаку, поддерживаю духом и телом. Все, что выудишь, печатаем. А начинать советую с Заргарьяна. Он и попроще и доступнее. И парень что надо! Я поблагодарил и повесил трубку. Информация не выше уровня Зойки. Антимир, телепатия… Надо было звонить Гале для уточнения. — Это я, сомнамбула. Уже встала? — Я встаю в шесть утра, — отрезала Галя. — Меня интересует одна деталь твоей одиссеи. Почему ты сказал Ленке, что ушел от жены? — Я не отвечаю за поступки Гайда. Я хочу их объяснить, — сказал я. — Слушай внимательно, Галина. В чем сущность идеи нейтринного генератора и как связать ее с конденсацией биотоков? — Никодимов и Заргарьян? — засмеялась Галя. — Как видишь, я кое-что узнал. — Чепуху ты узнал и чепуху мелешь. От идеи нейтринного генератора в том виде, как ее сформулировал Жемличка, Никодимов давно отказался. Сейчас он работает над фиксацией энергетического поля, создаваемого деятельностью мозга… Что-то вроде единого комплекса электромагнитных полей, возникающих в клетках мозга. Как видишь, я тоже кое-что узнала. — Заргарьян — физиолог. Что его связывает с Никодимовым? — Работа их засекречена. Мне не известны ни ее сущность, ни перспективы, — призналась Галя. — Но так или иначе она связана с кодированием физиологических нейронных состояний. — Что? — не понял я. — Мозг, — подчеркнула Галя, — мозг, дорогой, мозг. Твой Гайд не случайно связал эти имена с Институтом мозга. Хотя… в каком аспекте все это рассматривать… Может быть, это и чисто физическая проблема. Она задумалась. Мембрана трубки доносила ее дыхание. — Ключ здесь, Сережа, — заключила она. — Чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь в этом. Найди их — и ты найдешь объяснение. Научный поиск кончился, предстоял поиск житейский. Мы начали его с Зойки. Она тотчас же откликнулась на звонок. Да, она знает и Заргарьяна и Никодимова. Последнего только в лицо; он похож на сыча и не бывает на приемах. А с Заргарьяном знакома лично. Даже как-то танцевала на вечере. Он очень интересуется снами. — Снами интересуется, — повторила Ольга, прикрыв трубку рукой. — Что?! — закричал я и вырвал трубку. — Зоенька! Это я. Да, да, он самый. Ваш тайный вздыхатель. Что вы сейчас говорили о снах? Кто интересуется? Это очень важно. — Я рассказала ему один страшный сон, — с готовностью откликнулась Зойка, — а он ужасно заинтересовался, все расспрашивал о подробностях. А какие подробности — один страх, и только. Он выслушал и сказал, чтобы я приходила к нему каждую неделю и обязательно рассказывала все сны. Ему это нужно для работы. Ну, я, сами понимаете, не дурочка. Знаю, какая это работа. — Зоенька, — простонал я, — попросите его меня принять. — Что вы, что вы! — ужаснулась Зойка. — Он терпеть не может газетчиков. — А вы не говорите ему, что я из газеты. Скажите просто, что с ним хочет увидеться человек, который видит странные сны. И самое странное, что они повторяются, как записанные на пленку. Годами повторяются. Попробуйте, Зоенька, все это ему объяснить. Не выйдет — буду пытаться сам. Она позвонила через десять минут: — Представьте, вышло. Он примет вас сегодня после девяти. Не опаздывайте, он этого не любит, — заговорила она деловой скороговоркой, как у себя в институте. — Он сразу заинтересовался и сейчас же спросил, какая четкость сновидений, степень запоминаемости и так далее. Я ответила, что вы сами расскажете, какая четкость и степень. Я сказала, что вы у нас работаете. Не подведите.КЛЮЧ
Заргарьян жил на Юго-Западе в новом доме. Он сам открыл дверь, молча выслушал мои объяснения и так же молча проводил в кабинет. Высокий и гибкий, черноволосый, стриженный ежиком, он чем-то напоминал героев итальянского кинематографического неореализма. На вид ему было не больше тридцати лет. — Разрешите спросить, — его строгие глаза пронзили меня насквозь, — что привело вас ко мне? Да, да… я знаю: странные сны и так далее… Но почему именно потребовалась моя консультация? — Когда я все расскажу, ответ на этот вопрос не понадобится, — сказал я. — Вы что-нибудь знаете обо мне? — До вчерашнего вечера я понятия не имел о вашем существовании. Он подумал немного и спросил: — А что именно произошло вчера вечером? — Я искренне рад, что мы начинаем разговор именно с этого, — сказал я решительно. — Я пришел к вам не потому, что меня беспокоят сны, не потому, что вы некий Мартын Задека, как, например, считает Зоя из Института информации. Кстати, я не работаю в этом институте, я журналист (я тут же подметил гримасу недовольства на лице Заргарьяна), но я пришел к вам не за интервью. Меня не интересует ваша работа, точнее, не интересовала, ибо до вчерашнего дня я даже не слыхал вашего имени… И тем не менее я записал его в бессознательном состоянии в своем блокноте… — Что значит “в бессознательном состоянии”? — перебил Заргарьян. — Это не совсем точно. Я был в полном сознании, но я ничего не помню об этом: что делал, что говорил. Меня попросту не было, вместо меня действовал кто-то другой. Вот он и записал это в моем блокноте. Я раскрыл блокнот и передал его Заргарьяну. Он прочитал и как-то странно, исподлобья посмотрел на меня. — Почему это записано два раза? — Второй раз это записал я, чтобы сравнить почерк. Как видите, первая запись сделана не мной, то есть не моим почерком. И это почерк не сомнамбулы, не лунатика и не потерявшего память. — Ваша жена живет на улице Грибоедова? — Моя жена живет вместе со мной на Кутузовском проспекте. А на улице Грибоедова дома под этим номером нет. И женщина, упомянутая в записке, не жена мне, а просто знакомая, школьный товарищ. Кстати, она не живет на улице Грибоедова. Он еще раз прочел записку и задумался: — И о Никодимове вы тоже ничего не слыхали? — Так же, как и о вас. Я и сейчас знаю о нем только то, что он физик, похож на сыча и не бывает на приемах. Сведения, учтите, из Института информации. Заргарьян улыбнулся, и тут я заметил, что он совсем не строгий, а добродушный и, вероятно, даже веселый парень. — Портрет в общих чертах похожий, — сказал он. — Валяйте дальше. И я рассказал. Рассказывать я умею картинно и даже с юмором, но он слушал, внешне ничем не выдавая своего интереса. Только когда я дошел до упоминания о множественности миров, он поднял брови и тут же спросил: — Вы об этом читали? — Не помню. Мельком где-нибудь. — Продолжайте, пожалуйста. Я заключил рассказ реминисценцией из Стивенсона о Джекиле и Гайде. — Самое странное, что это фантомистика объясняет все, а другого разумного объяснения у меня нет. — Вы думаете, это самое странное? — рассеянно спросил он, все еще перечитывая записку в блокноте. — У нас отказались ставить эту проблему в Институте мозга, а там они все-таки ее поставили, — прибавил он уже совсем непонятное. Я смотрел на него, не зная, что и подумать. — Вы точно рассказываете? — вдруг спросил он, снова пронзая меня глазами. — Два мира, как подобные треугольники, так? И там и здесь Москва, только иначе орнаментированная. И там и здесь вы и ваши знакомые, только… скажем, в других сочетаниях, так? — Именно. — Там вы женаты на другой женщине, живете на другой улице и как-то связаны с Заргарьяном и Никодимовым, о которых здесь ничего не знаете, так? Я кивнул. Он встал и прошелся по комнате, словно сдерживая волнение. Но я видел, что он взволнован. — А теперь расскажите о снах. Я думаю, что все это связано. Я рассказал и о снах. Теперь он смотрел уже с нескрываемым интересом. — Значит, чужая жизнь? Какая-то улица, дорога к реке, торговый пассаж. И все очень отчетливо, как на фотографии? — Он говорил медленно, взвешивая каждое слово, словно размышляя вслух. — И все запомнилось? — Я даже мозаику на полу помню. — И все знакомо до жути, до мелочей? Кажется, бывали тут сотни раз, а в действительности так и не видели? — А в действительности так и не видел, — повторил я. — Что же врачи говорят? Небось советовались. Мне показалось, что он сказал это с какой-то лукавинкой. — А что врачи говорят, — отмахнулся я. — Возбуждение… торможение. Это всякий дурак знает. Днем кора головного мозга находится в состоянии возбуждения, ночью наступает торможение. Неравномерное. С островочками. Эти островочки и работают, клеят из дневных впечатлений сны, монтируют… Заргарьян засмеялся: — Монтаж аттракционов. Как в цирке. — А я не верю! — рассердился я. — Какой это, к черту, монтаж, когда все смонтировано до мелочей, до листка какого-нибудь на дереве, до винтика в раме. И повторяется, как сеанс в кинотеатре. Раз в неделю обязательно посмотришь, что уже снилось десятки раз. А ведь уверяют, что во сне увидишь только то, что наяву видел и пережил. Ничего, мол, другого. — Об этом еще Сеченов писал. Он даже слепых опрашивал, и оказалось, что они видят во сне только то, что уже видели в зрячем состоянии. — А я не видел, — упрямо повторил я, — ни в жизни, ни в кино, ни на картинках. Нигде! Ясно? Не ви-дел! — А вдруг видели? — усмехнулся Заргарьян. — Где? — закричал я. Он не ответил. Молча взял сигарету, закурил и вдруг спохватился: — Простите. Я вам не предложил. Вы курите? — Вы мне не ответили, — сказал я. — Я отвечу. У нас впереди еще большой, интересный разговор. Вы даже не представляете себе, каким открытием для пас будет эта встреча. Ученые ждут такой минуты годами. Я же счастливчик: всего четыре года ждал. Вы свободны? — вдруг спросил он. — Можете подарить мне еще несколько часов? — Конечно, — растерянно согласился я, все еще ничего не понимая. Внезапная перемена в Заргарьяне, его возбужденный, нескрываемый интерес даже чуть-чуть смутили меня. Что особенного я рассказал ему? А может быть, Галя была права: именно здесь и был ключ к разгадке всего случившегося? А Заргарьян уже звонил кому-то по телефону: — Павел Никитич? Это я. Ты еще долго намерен пробыть в институте? Прелестно. Я привезу к тебе сейчас одного товарища. Он у меня. Кто? Ты даже не представляешь кто. Тот, о котором мы с тобой мечтали все эти годы. То, что он рассказал мне, подтверждает все наши домыслы. Я подчеркиваю: все! И даже больше. Трудно вообразить: голова кружится. Нет, не пьян, но напьюсь обязательно. Только потом. А сейчас едем к тебе. Жди. Он положил трубку и обернулся ко мне: — Вы понимаете, что такое рефрактор для астронома? Или электронный микроскоп для вирусолога? Таким драгоценным инструментом являетесь для меня вы. Для нас с Никодимовым. Я сделаю Зоеньке царский подарок — ведь она подарила мне вас. Едем! Я по-прежнему ничего не понимал. — Надеюсь, вы не будете меня ни колоть, ни резать? Больно не будет? — спросил я голосом пациента, пришедшего па прием к хирургу. Заргарьян захохотал, очень довольный. — Зачем больно, дорогой? — заговорил он вдруг с акцентом восточного торговца. — Сядешь в кресло, заснешь на полчасика, сны посмотришь. Как в кино. — И прибавил уже без акцента: — Пошли, Сергей Николаевич. Я вас отвезу в институт.ЛАБОРАТОРИЯ ФАУСТА
Институт находился в стороне от шоссе, в дубовой роще, показавшейся мне в темноте беззвездного вечера лесом из детской сказки. Кусты, похожие на гномов, разлапистые деревья, черные пни за кюветом, выглядывающие из травы, как диковинные зверюшки, — все это уводило в романтическую и жутковатую темь. Но вместо избушки на курьих ножках в конце асфальтовой аллейки подымалась круглая десятиэтажная башня с кое-где освещенными окнами. Какие-то из них мигали, вспыхивая и потухая, словно включались и выключались за ними гигантские “юпитеры” в съемочном павильоне. — Валерка Млечин над беспроволочным светом колдует, — сказал Заргарьян, перехватив мой взгляд. — Думаете, у нас? Нет, не у нас. Мы под самой крышей с другой стороны. Скоростной лифт поднял нас на десятый этаж; мы вошли в кольцевой коридор, дорожка которого тотчас же устремилась вперед. Она двигалась мягко, беззвучно, с привычной скоростью эскалатора. — Включается автоматически, как только вы входите в коридор, — пояснил Заргарьян, — а выключается нажимом ноги на эти регуляторы. Слегка выпуклые, освещенные изнутри молочно-белые плитки были вкраплены одна за другой через каждые два метра в пластмассовую ленту коридора. Мы плыли мимо двухстворчатых белых дверей с крупными номерами. Против двести двадцатого Заргарьян нажал регулятор. Мы остановились. Тотчас же раздвинулись двери, открывая вход в большую, ярко освещенную комнату. Заргарьян подтолкнул меня к креслу и сказал: — Поскучайте минут десять, пока я поговорю с Никодимовым. Во-первых, это избавит вас от необходимости повторяться, во-вторых, я сделаю это более профессионально. Он подошел к противоположной стене; она раскололась, раздвинулась и сейчас же закрылась за ним. “Фотоэлемент”, — подумал я. Оборудование института, кажется, вполне соответствовало современным требованиям научно продуманного делового комфорта. От описания одного лишь коридора Кленов пришел бы в восторг; не зря же он обещал мне всяческую поддержку “душой и телом”. Но в комнате, где я ожидал Заргарьяна, кроме расколовшейся стены, не было ничего особенно примечательного. Письменный стол-модерн с прозрачной доской из плексигласа па никелированных ножках, открытый сейф в стене, похожий на духовку электроплиты, невидимый источник света и губчатый диван с большой подушкой: тут ночевали, когда задерживались. Возле стола возвышалась кипа желтой полупрозрачной пленки. По ней, как в кардиограммах, бежали жирные зубчатые линии. Пол из цветного пластика придавал комнате, пожалуй, излишне элегантный вид, но аскетические стенды с книгами и диаграммы на стенах, выполненные из того же пластика, возвращали ей серьезность и строгость. На одной диаграмме разноцветная кора обоих полушарий головного мозга выпускала металлические стрелы, которые увенчивались зашифрованными надписями из букв латинского и греческого алфавита. Другая предъявляла глазу просто пучок непонятных металлических линий с приклеенной сбоку надписью от руки: “Биотоки спящего мозга”. Тут же был приколот лист бумаги с машинописным текстом: “Длительность и глубина снов. Наблюдения лаборатории Чикагского университета”. Книги на стендах стояли в полном беспорядке, громоздились друг на друге, лежали открытыми на выдвижных полочках. Видимо, ими часто и охотно пользовались. Я взял одну: это была работа Сорохтина об атонии нервного центра. Тут же лежала стопочка книг и брошюр на разных языках. Все они, как я понял, говорили о какой-то иррадиации возбуждения и торможения. На другой полке я нашел книгу самого Никодимова. То было английское издание, название которого я перевел, как “Принципы кодирования импульсов, размещенных в коре и подкорковой области головного мозга”. Правильно ли я перевел, не знаю, но тут же пожалел, что наши журналисты не получают достаточной подготовки, чтобы хоть приблизительно понимать процессы, происходящие на вершинах современной науки. В этот момент стена раскололась, и голос Заргарьяна сказал: — Прошу. Комната, в которой я очутился, была действительно лабораторией, сверкавшей нержавеющей сталью и никелем. Но осмотреться я не успел: Заргарьян уже представлял меня немолодому человеку с каштановой, чуть посеребренной мушкетерской бородкой. Того же цвета волосы несколько превышали длину, принятую в нашей научной среде, и больше подходили к преподавателю консерватории, скажем, по классу скрипки или рояля. С сычом его роднил, пожалуй, лишь нос с горбинкой, а мне он напомнил Фауста, каким я его видел еще в юношеские дни в какой-то периферийной опере. — Никодимов, — сказал он и улыбнулся, перехватив мой мечущийся по сторонам взгляд. — Не смотрите, все равно ничего не поймете, а в двух словах не объяснишь. Да и ничего интересного: все внизу, под нами, — и конденсатор, и переключатели. А это экраны для фиксации поля, в разных фазах, конечно. Как видите, элементарная путаница штепселей, рычагов и ручек. Я искоса взглянул на стоявшее за кранами кресло, над которым было подвешено нечто напоминавшее шлем космонавта. К нему тянулись цветные провода. — Испугался, — сказал Никодимов, подмигнув Заргарьяну. — А что страшного? Кресло как кресло… — Постой, — остановил его Заргарьян. — Пусть сам сообразит. Погляди, дорогой: похоже на парикмахерское, а зеркала нет. Может, зубоврачебное? Так бормашинки нет. Где такое кресло найдешь? В театре нет. В кино тоже нет. Может, в самолете, в пилотской кабине? А где штурвал? — Похоже на электрический стул, — сказал я. — Еще бы. Точная копия. — А шлем вы мне тоже наденете? — А как же? Смерть наступит через две минуты… — Глаза его лукаво блеснули. — Клиническая смерть. Потом воскрешаем. — Не пугай, — засмеялся Никодимов и повернулся ко мне. — Вы журналист? Я кивнул. — Тогда прошу: никаких корреспонденции. Все, что вы здесь узнаете, еще не созрело для печати. Кроме того, опыт может быть и неудачным. Вы ничего не увидите, и мы ничего не заприходуем. Ну, а когда созреет, обязательно привлечем вас. Обещаю. Бедный Кленов! Его мечта об очерке уплывала, как сон. — Ваш опыт имеет прямое отношение к моему рассказу? — осмелился спросить я. — Геометрически прямое, — отрубил Заргарьян. — Это Павел Никитич осторожничает, а я прямо говорю: неудачи быть не может. Слишком очевидны показатели. — Да-а… — задумчиво протянул Никодимов. — Хорошие показатели. Так это с вами приключилась стивенсоновская история? — спросил он меня. — Вы ее так и объясняете: Джекиль и Гайд, да? — Конечно, нет. Я не верю в перевоплощения. — А все-таки? — Не знаю. Ищу объяснения. Ищу его у вас. — Разумно. — Значит, есть объяснение? — Да. Я вскочил. — Сядьте, — сказал Заргарьян, — или, вернее, пересядьте в это пугающее вас кресло. Уверяю вас, оно гораздо удобнее вольтеровского. Мягко говоря, я поднялся не очень решительно. Это чертово кресло меня определенно пугало. — Все объяснения после опыта, — продолжал Заргарьян. — Пересаживайтесь. Да смелее, смелее! Зуб рвать не будем. Я сразу же утонул в кресле, как в пуховой перине. Возникло ощущение какой-то особенной легкости, почти невесомости. — Протяните ноги, — сказал Заргарьян. Видимо, он и руководил опытом. Мои подошвы уперлись в резиновые зажимы. Головы коснулся бесшумно опустившийся шлем. Он обхватил лоб неожиданно легко и удобно, как мягкая шляпа. — Немножко свободно? — Пожалуй. — Сядьте спокойнее. Сейчас урегулируем. Шлем стал туже. Но я не ощущал никакого давления, гибкая пленка шлема, казалось, вросла в кожу. И словно ворвавшийся в открытое окно вечерний ветер приятно холодил лоб и шевелил волосы. Но я знал, что окно было закрыто, а голову мою облегал шлем. Внезапно погас свет. Меня окружала теплая непроницаемая темь. — В чем дело? — спросил я. — Все в порядке. Мы изолировали вас от света. Чем они меня изолировали? Стеной, колпаком, капюшоном? Я тронул веки: шлем не закрывал глаз. Протянутая вперед рука ничего не встретила. — Опустите руку. Не волнуйтесь. Сейчас заснете. Я сел поудобней и расслабил мышцы. И действительно, почувствовал приближение сна, надвигающейся нирваны, гасившей все мысли, воспоминания и назойливо выплывающие слова или строчки. Почему-то вспомнилось четверостишие: “Но сон — это только туманность, несобранность и непостоянность, намек на одушевленность, а в общем, не злая ложь”. “О чем солжет наступающий сон, зло или не зло? — мелькнула мысль и погасла. Чуть гудело в ушах, словно где-то близко-близко на очень высокой ноте звенел комар. И тут до меня откуда-то донеслись голоса: — Как наводка? — Что-то экранирует. — А так? — Тоже. — Попробуй вторую шкалу. — Есть. — Светимость? — Удовлетворительная. — Включаю на полный. Голоса исчезли. Я погружался в беззвучное, бестревожное небытие, наполненное ожиданием необычайного.СОН С ИЗУМЛЕНИЕМ
Я приоткрыл глаза и зажмурился. Все кружилось в розовом тумане. Огни люстры под потолком вытягивались в сияющую параболу. Меня окружал хоровод женщин в одинаково черных платьях с одинаково расплывчатыми лицами. Они кричали мне голосом Ольги: — Что с тобой? Тебе плохо? Я как можно шире раздвинул веки. Туман рассеялся. Люстра сначала троилась, потом двоилась, потом стала на место. Хоровод женщин сплюснулся в одну-единственную, с лицом и прической Ольги. — Где мы? — спросил я. — На приеме. — Каком? — Неужто забыл? На приеме венгерского посольства в “Метрополе”. — Почему? — Господи, да нам еще с утра билеты прислали! Я к портнихе успела съездить. Все забыл. Я точно знал, что никаких билетов нам с утра не присылали. Может быть, вечером, когда я вернулся от Никодимова? Значит, опять провал в памяти? — А что случилось? — В зале душно. Ты предложил выйти на свежий воздух. Мы прошли в холл, и здесь тебе стало плохо. — Странно. — Ничего странного. В зале дышать нечем, а сердце у тебя неважное. Хочешь пить? — Не знаю. Ольга казалась мне странно чужой в этом новом платье, о котором я услыхал впервые. Когда же она ездила к портнихе, если я весь день был дома? — Подожди минутку, я сейчас принесу нарзан. Она скрылась в зале, а я продолжал растерянно оглядывать знакомый ресторанный холл. Я узнал его, но это не облегчило положения. Я так и не мог понять, когда венгры прислали билеты и зачем они их прислали. Я не был ни народным, ни заслуженным, ни академиком, ни мастером спорта. А Ольга воспринимала все это как нечто обычное, само собою разумеющееся. Я все еще стоял, когда Ольга появилась с нарзаном. У меня создалось впечатление, что ей хочется поскорее вернуться в зал. — Знакомых встретила? — Там все начальство, — оживилась Ольга, — и Федор Иванович, и Раиса, даже замминистра. — А почему замминистра? — Так он их и устроил. Поликлиника-то министерская. Он — Федору, тот — Раисе. Наверно, было несколько лишних билетов. Я не знал ни Федора, ни Раисы и тем более замминистра. Но признаться в этом не рискнул. Одно я знал точно: Ольга работала не в министерской, а в самой обыкновенной районной поликлинике. Когда-то давно ее действительно приглашали педиатром в поликлинику Министерства путей сообщения, но она отказалась. Уточнять все это сейчас не хотелось, поэтому я сказал: — Ты иди в зал, а я погуляю немного. Подышу. Я вышел на тротуар у подъезда и закурил. В мокром асфальте купались желтые огни фар. Мимо проплыл двухэтажный троллейбус, красный, как в Лондоне. Такого я еще не видел. Между верхним и нижним рядами окон тянулась рекламная полоска шрифтового плаката: “Смотрите на экранах! Но, вый французский фильм “Дитя Монпарнаса”. И об этом фильме я ничего не слыхал. Что у меня с памятью? Провал за провалом. Вдали, слева от Большого театра, горел в небе гигантский неоновый квадрат. В квадрате по воздуху бежали световые буквы: “…землетрясение в Дели. Группа советских врачей вылетела в Индию”. Световая газета. И опять я не помнил, когда же ее здесь оборудовали. — Освежаешься? — услышал я знакомый голос. Я обернулся и увидел Кленова. Он выходил из ресторана. — Ухожу, старик. Пить не пью: язва открылась. А так чего же больше? Отдал честь — и домой. — А собственно, какую честь? — Так нас же Кеменеш пригласил. Он сейчас пресс-атташе. Тибор Кеменеш, венгерский студент, говоривший по-русски, был нашим проводником в Будапеште. Я тогда только что выписался из госпиталя, и мы часами бродили по незнакомому городу. Но когда Кеменеш стал пресс-атташе в Москве? И почему я только сейчас узнал об этом? — Растут люди. А мы с тобой застряли, — вздохнул Кленов. — Крутим колесико. — Кстати, о колесике. Очерка не будет, — сказал я. — Какого? — удивился Кленов. — О Заргарьяне и Никодимове. Он захохотал так, что прохожие начали оглядываться. — Чудак человек, нашел, о ком писать! У Никодимова на даче пантера на цепи вместо собаки, а в Москве он газетчиков в мусоропровод спускает. — Ты мне об этом уже говорил. — Когда? — Сегодня утром. Забыл уже? Кленов взял меня за плечи и заглянул в глаза: — Ты что пил, токай или палинку? — Ничего не пил. — Оно и видно. Я еще в субботу вечером на дачу в Жаворонки уехал, а вернулся только сегодня к пяти. Ты, должно быть, во сне со мной разговаривал. Кленов помахал мне рукой и удалился, а я стоял, глубоко потрясенный последними его словами. “Это ты во сне со мной разговаривал”. Нет, это я сейчас с ним во сне разговаривал. В неестественной реальности сна. Сразу вспомнился разговор в лаборатории Фауста, кресло с проводами и предупреждение Заргарьяна из темноты: “Сидите спокойнее, сейчас заснете”. Какой-нибудь электросон с искусственно вызванными сновидениями. Все, как наяву, только жизнь вывернута шиворот-навыворот. Тогда чему же я удивляюсь: все проще простого. Я вернулся в ресторан. Над столиками висел сигаретный дымок, как пар, смешанный с электрическим светом. Вокруг фонтана танцевали. Я поискал глазами Ольгу, но не нашел и свернул в боковой зал. Длинные столы, уставленные наполовину опустошенными закусками и напитками, свидетельствовали о том, что здесь совсем недавно угощались гости. Угощались по-европейски, стоя с тарелочками у столов или пристраиваясь на закрытых портьерами подоконниках. Сейчас здесь насыщались опоздавшие, разыскивая на столах еще не тронутые закуски и бутылки. Один из них, хозяйничавший в одиночку на краю большого стола, обернулся ко мне и закричал: — Давай сюда, Сергей! Заворачивай. Палинка, как в Будапеште. Это был Мишка Сычук, по известной мне версии уже успевший сбежать за границу. Может быть, во сне он уже успел и вернуться. Сквозь нуль — пространство или на ковре-самолете — над этим я не задумывался и на чудеса не реагировал. Я просто налил себе из Мишкиной бутылки абрикосовой палинки и выпил. Горло приятно обожгло. Сон, сохранивший даже вкусовые ощущения яви, начинал мне нравиться. — За друзей-товарищей, — сказал Мишка и тоже выпил. — А ты как здесь? — спросил я дипломатично. — Как и ты. Герои освобождения Венгрии. — Это ты-то герой? — Все мы герои. — Мишка допил остаток в бокале и кряк-пул. — В такой войне выжить!.. Я озлился: — А потом предать?! Мишка поставил бокал и насторожился: — Ты о чем? Я сознавал, конечно, что я не логичен, что в настоящей ситуации обвинения мои бессмысленны, но меня уже понесло: — На “Украине” поехал… честь честью. По советской путевке, гад! — Откуда ты знаешь? — Что ты остался? — Не мели вздор! Я спрашиваю, откуда тебе известно, что я хотел ехать, что о путевке хлопотал? — Знать бы — не дали. — Да мне и не дали. Как председатель месткома я сам устраивал Мишке путевку. Но в этом сне все навыворот. Может быть, это я ездил вместо Мишки? Я тоже хотел, только путевки лишней не было. А вдруг была? Сон бросал меня как щепку. — Садись, Сережка. Не увиливай, — кто-то схватил меня за руку, когда я пробирался между столиками в большом зале. Я взглянул в лицо спрашивавшего и обмер. Пожалуй, я испугался. — Садись, садись. Выпьем токайского. Как-никак лучшее в Европе. Ноги у меня подкосились, и я скорее упал, чем присел к столу. На меня смотрели знакомые печальные глаза. В последний раз я видел их — не оба, только один, — в сорок четвертом, на придунайском шоссе. Олег лежал навзничь, лицо его было залито кровью, вытекавшей оттуда, где только что был правый глаз. В другом застыли испуг и печаль. Сейчас на меня глядели оба. От правого тянулся по виску кривой розовый шрам. — Что смотришь, старина? Постарел? — Я сорок четвертый вспомнил. Когда тебя… тебя… — Что? — Когда тебя убили, Олег. Он улыбнулся. — Малость ошиблась пулька. Шрам только остался. Если бы правее чуть — конец. Ни глаза бы, ни меня… — Он вздохнул. — Смешно. Тогда не боялся, теперь боюсь. — Чего? — Операции. Осколок где-то в груди остался: памятка еще одного ранения. До сих пор с осколком жил, а сейчас говорят: нельзя. На операцию надо. Знакомые глаза с длинными, почти женскими ресницами улыбались. Лоб оголился у висков и словно стал выше. К углам губ проникли глубокие морщинки. В этом бесконечно дорогом для меня лице все-таки было что-то чужое. Печать времени. Так выглядел бы Олег, если бы остался жив. Но ведь он жив в этом искусственном мире сна. Я уже начал сомневаться, какой же из двух миров настоящий? Мелькнула коварная мысль: вдруг что-то сломалось в лаборатории Фауста и яостанусь здесь навсегда. Буду ли я сожалеть об этом? Не знаю. Я больно-больно ущипнул себя за руку. — Зачем? — удивился Олег. — Мне показалось, что все это сон. Олег засмеялся и вдруг растаял в розоватом тумане. Знакомый туман. Он слизнул все и почернел. Голос Заргарьяна из темноты спросил меня: — Вы живы? — Жив. — Подымите руку. Движения свободны? Я помахал рукой в темноте. — Засучите рукав и расстегните ворот. Он приложил что-то холодное к моей груди и запястью. — Не пугайтесь. Обыкновенные датчики. Проверим ваше сердце. Не разговаривайте. Как он мог видеть в темноте, сквозь которую не проникала ни одна искорка света? Но он видел. — Порядок, — произнес он довольным голосом, — только пульс малость участился. — Может быть, прекратим? — спросил откуда-то голос невидимого мне Никодимова. — Зачем? У Сергея Николаевича нервы спортсмена. Сейчас мы ему еще сон покажем. — Так это был сон? — спросил я с облегчением. — Кто знает? — лукаво отозвался Заргарьян. — А вдруг и не сон? Я не успел ответить. Темнота поглотила меня, как море. Сознание погасло.СОН С ИСТЕРИКОЙ
Из темноты сверху вырвался поток света, заливая белый операционный стол. Белая простыня закрывала до пояса распростертое на столе тело. Вскрытая грудная клетка обнажала алость кровоточащих внутренних тканей и жемчужную белизну ребер. Глаза оперируемого были закрыты, лицо бескровно и неподвижно. Что-то знакомое было в этом лице: как будто я его видел совсем недавно, эти глубокие морщинки у губ и кривой розовый шрам на правом виске. У меня в руках зонд, погруженный в рану. Я в белом халате, на голове у меня белая полотняная шапочка, нос и рот в марлевой маске. Так же выглядят люди напротив и рядом со мной. Я никого из них не знаю, узнаю только глаза женщины, стоящей у изголовья. Они прикованы к моим рукам, и такая тревожная напряженность в них, что кажется, между нами протянута невидимая, тугая-претугая струна. Она тоненько звенит по мере того, как зонд погружается в рану. Я вспомнил вдруг все, что произошло до этой минуты. Скрип тормозов машины, остановившейся у подъезда, гранитные его ступени, еще мокрые от дождя, перспективу знакомой, часто снившейся мне улицы, а затем почтительную улыбку гардеробщика, поймавшего на лету брошенное ему пальто, неспешный взлет лифта и ослепительную белизну операционной, где я облачался в белый халат и противно долго мыл руки. Я точно вспомнил, что я, именно я, начал операцию, вскрыл скальпелем прочерченную шрамами грудь и мои руки с профессиональной, привычной умелостью резали, кололи, зондировали. Все это промелькнуло в сознании со скоростью звука и исчезло. Я все забыл. Привычная умелость в руках обернулась испуганной дрожью, и с внезапным ужасом я осознал, что не знаю, как и что делать дальше, не умею этого делать и любое дальнейшее промедление будет убийством. Не понимая, что и зачем я делаю, я вынул зонд из раны и уронил его. Он глухо звякнул. В устремленных на меня глазах над марлевыми масками читался один и тот же вопрос: — Что случилось? — Не могу, — почти простонал я. — Мне плохо, товарищи. Чужими, ватными ногами пошел к двери и, полуобернувшись, увидел, как чья-то спина подвинулась на мое место и негромкий спокойный басок скомандовал старшей сестре: — Зонд! “Бежать!” — подсказала мысль. Чтобы никто не видел, чтоб никого не видеть, не читать дальше того, что я уже успел прочесть в этих широко открытых, изумленных, обвиняющих глазах. Ног я не чувствовал. Меня бросило, как шквалом, сквозь хирургическую на площадку между двумя расходившимися под прямым углом коридорами и швырнуло на белый, сияющий эмалевым блеском диван. “Сейчас я этими руками зарезал Олега”, — сказал я себе и, сжав виски ледяными ладонями, застонал, может быть, даже завыл. — Что с вами… Сергей Николаевич, голубчик? — услышал я чей-то перепуганный голос. Человек в таком же халате, как и я, только без шапочки, с лысым, голым черепом встревоженно спрашивал: — Что случилось? Как операция? — Не знаю, — сказал я. — Как же так? — Я бросил… я ушел… — еле вымолвил я. — Мне стало плохо. — Кто же оперирует? Асафьев? — Не знаю. — Как же вы не знаете? — Ничего я не знаю! Я даже вас не знаю! Кто вы такой, как вас зовут, где я, черт побери?! — закричал я. Он потоптался на месте, глядя на меня изумленными, ничего не понимающими глазами, и побежал в ту же дверь, из которой я только что вырвался. Я посмотрел ему вслед и встал. Рванул за спиной полы завязанного сзади халата — завязки лопнули. Я вытер им руки и бросил на пол. Туда же швырнул и шапочку. В глубине протянувшегося передо мной коридора мелькнула девушка в белом — врач или сестра, — простучала каблучками-шпильками по паркету и скрылась в одной из комнат. Я слепо пошел в ее сторону мимо одинаково белых дверей. Они вели в кабинеты врачей, чьи имена были отпечатаны на карточках в рамках из белой пластмассы. “Д-р Громов С.Н.”, — прочел я на одной из карточек. “Мой” кабинет. Что ж, войдем. У широкого итальянского окна за “моим” письменным столом сидел Кленов и читал газету. — Уже? — спросил он сдержанно, но в сдержанности этой прозвучали тревога и страх. Я молчал. — Жив! — А ты почему здесь? — спросил я вместо ответа. — Ты же сам сказал, чтобы я здесь дожидался, — вспылил Кленов. — Что с ним? — Не знаю. Он вскочил: — Почему? — Мне стало дурно… Я почти потерял сознание. — Во время операции? — Да. — Кто же оперирует? — Не знаю. — Я старался не глядеть на него. — А сейчас почему тыздесь?! Почему не в операционной? — закричал Кленов. — Потому что я не хирург, Кленов. — Ты с ума сошел. Он не оттолкнул, отшвырнул меня плечом, как в хоккейной баталии, и выбежал в коридор. А я бессмысленно сел на стул посреди комнаты, не мог дотащиться даже до письменного стола. “Я не хирург”, — сказал я Кленову. Но как же тогда я мог начать операцию и благополучно довести ее до критической минуты, не вызывая ни в ком сомнений? Значит, во сне так можно? Тогда откуда же этот страх, почти ужас перед ел учившимся? Ведь и Олег, и операция, и Кленов, и я сам — все это только призрачный мир сна, и я это знаю. “А вдруг нет?” — сказал Заргарьян. Вдруг нет? Зазвонил телефон на столе — я отвернулся. Телефон продолжал звонить. Наконец мне это надоело. — Сережка, это ты? — спросили в трубке. — Ну как? — Кто говорит? — рявкнул я. — Не кричи. Уже меня не узнаешь. — Не узнаю. Кто это? — Ну, я, я! Галя. Кто же еще? Галя волнуется — это вполне естественно. Но почему по телефону? Уж кому-кому, а ей следовало бы дожидаться в приемной. Приехал же Кленов. — Ты что молчишь? — удивилась она. — Неужели неудача? — Видишь ли… — замялся я. — Не могу сказать тебе ничего определенного. Мне стало плохо во время операции. Продолжает ее ассистент. — Асафьев? Опять этот Асафьев! А я знаю, он или не он? И не все ли равно кто, если это только сон? — Наверное, — сказал я. — Честно говоря, не разглядел. Они все в марлевых масках. — Ты же не доверяешь Асафьеву. Еще утром сказал, что он хирург только для амбулатории. — Когда сказал? — Когда завтракали. Еще за тобой машина не пришла. Я знал точно, что утром мы с Галей не виделись. Я был дома. И никакой машины у меня вообще нет. Но зачем спорить, если все это сон. — А с тобой что? Что значит плохо? — Слабость. Головокружение. Утрата памяти. — А сейчас? — Что — сейчас? Ты об Олеге? — Да не об Олеге — о тебе. Я даже удивился: откуда у Галки такая черствость? Олег — на операционном столе, а она спрашивает, что со мной? — Полная атрофия памяти, — сказал я сердито. — Все забыл. Где был утром и где я сейчас, кто ты и кто я и почему я хирург, если один вид скальпеля приводит меня в содрогание. В трубке молчали. — Ты слушаешь? — спросил я. — Я сейчас еду в больницу, — сказала Галя и положила трубку. Пусть едет. Не все ли равно, когда, куда и зачем? Сны всегда алогичны, только я почему-то наделен способностью рассуждать логически даже во сне. Решимость бежать, созревавшая еще с той минуты, когда я покинул операционную, окончательно во мне укрепилась. “Оставлю какую-нибудь записку для приличия и уйду”, — подумал я. На верхнем листке из блокнота, лежавшего на столе поверх каких-то бумаг, я прочел типографский текст: “Доктор медицинских наук, профессор Громов Сергей Николаевич”. И тут я вспомнил свой листок из блокнота, на котором мой предполагаемый Гайд начертал таинственную, но указующую надпись. Она оказалась ключом к разгадке. Правда, до самой разгадки я еще не добрался, но ключ уже был в замке. “А вдруг нет?” — ответил мне Заргарьян на мой вопрос, сон ли это. А вдруг я по отношению к доктору медицинских наук, профессору Громову Сергею Николаевичу точно такой же невидимый агрессор, как и мой вчерашний Гайд по отношению ко мне? И не следует ли мне по его примеру Оставить такую же указующую запись? И я тут же записал в блокноте профессора: “Мы с вами двойники, хотя и живем в разных мирах, а может быть, и в разном времени. К несчастью, наша “встреча” произошла во время операции. Я не смог ее закончить: в моем мире у меня другая профессия. Найдите в Москве двух ученых — Никодимова и Заргарьяна. Они, вероятно, смогут разъяснить вам, что произошло с вами в больнице”. Не перечитывая написанного, я пошел к двери, охваченный одним чувством: куда угодно, только подальше от этой чертовщины. Напрасно: она поджидала меня у порога. Не успел я открыть дверь, как вошла Лена. Она была в том же халате и шапочке, как в операционной, только без марлевой маски. Я отступил на шаг и спросил с той же дрожью в голосе, как спрашивали меня: — Ну как? Она почти не постарела с тех пор, как я видел ее в последний раз после войны, а прошло, должно быть, лет десять. Но с этой Леной из моего сна я был связан прочнее: нас объединяла общность профессии. — Осколок вынули, — сказала она, почти не разжимая губ. — А он? — Будет жить. — И, помолчав, прибавила: — А ты на другое рассчитывал? — Лена! — Почему ты это сделал? — Потому что случилось несчастье. Потеря памяти. Я вдруг забыл все, что знал, чему учился. Забыл даже профессиональный навык. Я не мог, не имел права продолжать операцию. — Ты лжешь! — Она с такой злобой прикусила губы, что они побелели. — Нет. — Лжешь. Импровизация или раньше сочинил. Думаешь, кто-нибудь поверит этим сказкам? Я потребую специальной экспертизы. — Требуй, — вздохнул я. — Я уже говорила с Кленовым. Мы напишем письмо в газету. — Не напишете. Я никого не обманываю. — Никого? Я ведь знаю, почему ты это сделал. Из ревности. Я даже засмеялся: — К кому? — Он еще смеется, подлец! Я не успел схватить ее за руки, как она ударила меня по лицу с такой силой, что я с трудом удержался на ногах. — Подлец! — повторила она сквозь душившие ее слезы: у нее начиналась истерика. — Убийца… если бы не Володька Асафьев, Олег бы умер на операционном столе… умер, умер! Внезапная темнота оборвала ее крик.СОН С ЯРОСТЬЮ
Я словно ослеп и оглох, а тело в параличе прижало к паркету. Я не мог даже пошевелиться, ничего не чувствуя, только холодок навощенного дерева у виска. Сколько часов или минут, а быть может, секунд продолжалось это ощущение, не знаю. Я потерял чувство времени. Вдруг черноту перед глазами размыло, как тушь на ватмане, когда закрашивают тускло-серым очерченное пространство. Здесь оно обрисовывалось стенами неширокого коридора, освещенного несильной электролампочкой. Коридор впереди упирался в крутую лесенку, уводившую в квадрат дневного света. Я стоял, прижавшись виском к навощенной панели, и держался за поручень, протянутый по стене вдоль коридора. Лена по-прежнему смотрела на меня, но смотрела совсем по-другому — с непонятным сочувствием и симпатией. — Укачало? — спросила она. — Тошнит? Меня действительно чуточку подташнивало, особенно когда взлетевший, подобно качелям, пол вдруг уходил из-под ног и что-то спазматически скручивало желудок. — Килевая качка, — пояснила она. — Входим в порт. — Куда? — не понял я. — Мы уже в Стамбуле, профессор. Очнитесь. — Где? Она засмеялась. Я по-прежнему не мог уловить смысл происшедшего. Новая дьявольская метаморфоза. Из одного сна в другой! Феерия в красках. — Выйдем на палубу. На ветру станет легче. — Она потащила меня за собой. — Кстати, посмотрим, что это такое. Хотя едва ли разглядим. Дождь идет. Дождь не шел, а висел кругом тусклым сетчатым маревом. Панорама берега сквозь эту сетку казалась бесформенным абстрактным пятном, кое-где прочерченным мутными бликами минаретов и куполов, отсвечивавших то синью, то зеленью. А над ними, топя и обгоняя друг друга, кишели тучи. — Придется плащ надевать, — поморщилась Лена, прикрывая глаза рукой от мелких водяных брызг. — В таком виде на берег не пойдешь. Ты в какой каюте, в седьмой? Подожди меня у трапа или на берегу. Ладно? Теперь я знал номер “своей” каюты. Что ж, пойдем за плащом. Рейд по чужим морям и странам всегда любопытен. Даже в дождь и даже во сне. В каюте я застал Мишку Сычука, суетившегося у своей койки. Он рассовывал по карманам какие-то бумажки и свертки и, казалось, был совсем не обрадован моим появлением. — Идет дождь? — спросил он. — Идет, — ответил я машинально, недоумевая, почему сны упорно сталкивают меня с одними и теми же персонажами. — Ты чем это карманы набиваешь? Мишка почему-то смутился. — Так… сувенирчики для обмена. Значит, дождь идет… — повторил он, пряча глаза. — Плохо. Собьемся в кучу… друг за дружку держаться будем. А то еще потеряешься… И тут я вспомнил, что сотворил Мишка в действительности. В том же Стамбуле. Наяву, не во сне. — Как наш теплоход называется? — спросил я. — А ты забыл? — ухмыльнулся Мишка. — Склероз. Почему-то не могу вспомнить. — “Украина”. А что? Он почему-то подозрительно посмотрел на меня. Все совпадало. Время во сне отставало почти на месяц. Тем лучше: я могу изменить ход событий. — Да так… — Для убедительности я даже зевнул. — Дождь идет… Давай не пойдем. — Куда не пойдем? — На берег. Будут гонять полдня по дождю: мечеть, музей… Тоска. Давай у нас в баре посидим, пивка выпьем. — Сказал! — усмехнулся Мишка. — Последний иностранный порт, а мы в баре. — Почему последний? Будут еще и Варна, и Констанца. Очень красивые города, между прочим. И дождь к тому времени перестанет. — Демократические, — пренебрежительно протянул Мишка. — А тебе обязательно нужны капиталистические? — За путевку деньги плачены. Что положено, получаем. — Тридцать сребреников, — сказал я. — Иудины денежки. В “Метрополе”, кстати говоря, тоже во сне я уже выложил это Мишке. И зря. Выстрелил вхолостую. Мишка путевку не достал и в рейс не поехал. А сейчас я его накрыл вовремя. — Я ведь знаю, что ты задумал, — продолжал я. — На первой же остановке автобуса два слова полицейскому — и на такси в американское посольство. Да не мельтешись, спокойней! Ну, а в посольстве холуйски попросишь политического убежища. На мгновение Мишка превратился в соляной столб, в библейский соляной столб, увековеченный женой Лота. Но только на мгновение. Тихий ужас от сознания того, что кто-то заглянул тебе в душу, в самую потаенную ее муть, мелькнул в глазах его и тут же исчез. Актер он был превосходный. — Трепло, — проговорил он с показным добродушием и потянулся к вешалке за плащом. — Я не шучу, Сычук, — сказал я. — Что это значит? — Что я знаю о предполагаемой подлости и намерен ей помешать. — Интересно, как? — вырвалось у Мишки. — Очень просто. Ты до отплытия не выйдешь из каюты. — Я, между прочим, не поддаюсь гипнозу. Так что отваливай, — нахально объявил он и начал одеваться. Я пересел на край койки к самой двери. Потом обернул носовым платком левую руку. Я левша и бью левой. Бью без размаха, с напряжением всех мускулов руки и плеча. Удар приобретает дополнительную тяжесть корпуса. Этому меня научил Сажин, чемпион Союза по боксу в полутяжелом весе в конце сороковых годов. Я был тогда помоложе и с удовольствием выслушивал его советы, когда после звонка из редакции забегал к нему в тренировочный зал. Там где-нибудь в уголке я правил его заметки — он собирался стать журналистом, — а потом просил его “показать кое-что”. Он показывал. “Боксером ты, конечно, не будешь, — говорил он, — староват, да и данных нет. Но ежели что, в драчке какой-нибудь за себя постоишь. Только руки береги”. Мишка тотчас же заметил мои манипуляции и заинтересовался: — А платок зачем? — Чтобы кожу на костяшках не сбить. — Ты что… серьезно? — Я же сказал тебе: не шучу. — Так стоит мне крикнуть… — Не крикнешь. Тебе же хуже. Я расскажу всем, что ты задумал, — и привет, как говорится. — А кто поверит? — Поверят. Раз сигнал поступил, будут думать, как и что… А на берег не пустят. — Так я про тебя то же самое могу сказать. — Так обоих не пустят. А дома разберемся. Мишка, как был, одетый, в плаще и кепке, присел против меня на своей койке. — Ты сумасшедший. Ну откуда тебе взбрело в голову, что я останусь? — Во сне видел. — Я серьезно спрашиваю. — Какая разница? Важно, что я не ошибся. По глазам твоим вижу, что не ошибся. — Я же советский человек, Сережка. — Ты не советский человек. Ты подлец. Я и на фронте знал, что ты трус и дрянь, только разоблачить вовремя не сумел. На щеках Мишки выступили красные пятна. Пальцы нервно перебирали пуговицы на плаще, то застегивая их, то расстегивая. Должно быть, он понял наконец, что хорошо рассчитанный план его может сорваться. — Я не закричу, конечно. На скандал не пойду. — В голосе у него появились слезливые нотки. — Но даю тебе слово, что все это вздор. Чистый вздор. — Что у тебя в карманах? — Я уже сказал тебе: ерунда всякая. Значки, карточки. — Покажи. — А почему я должен тебе показывать? — Не показывай. Ложись на койку и лежи. Он встал и шагнул к двери. Я прислонился к ней спиной. — Пусти, — сказал он сквозь зубы и схватил меня за плечи. Он был сильнее меня и только по трусости не рассчитывал на это. Но сейчас он явно шел напролом. — Пусти! — повторил он и рванул меня на себя. Я толкнул его коленом, он отлетел и, согнувшись, кинулся на меня, намереваясь ударить головой. Но не успел. Я ударил левой в лицо, в верхнюю челюсть. Он пошатнулся и грохнулся на пол между койкой и умывальником. Из рассеченной губы побежала алая струйка. Он тронул ее пальцем, увидал кровь и взвизгнул: — Помогит… И тут же осекся. — Кричи, — сказал я, — кричи громче. Не страшно. Глаза его сузились, источая одну только злобу. — Все одно сбегу, — прошипел он, — в другой раз сбегу. — А ты имей мужество объявить об этом дома. Официально, во всеуслышание. Скажи откровенно, что тебе не нравится наш строй, наше общество. Выклянчи визу в каком-нибудь посольстве. Думаешь, будем задерживать? Не будем. С удовольствием вышвырнем. Нам людская дрянь не нужна. — Так отчего же сейчас не пускаешь? — Потому что втихую ползешь. Обманом. Потому что людей подводишь, которые тебе доверяли. Мишка вскочил и, оскалившись, снова бросился на меня. Он уже не стремился во что бы то ни стало выйти из каюты, им просто владела слепая ярость, лишавшая человека разума. Я снова сбил его с ног. Пригодились все-таки уроки Сажина. На этот раз он упал на койку, только сильно ударился головой о стенку каюты. Мне даже показалось, что он потерял сознание. Но он пошевелился и застонал. Я сложил полотенце, намочил его в умывальнике и положил ему на лицо. В дверь постучали. Я искоса взглянул на Мишку. Он даже не повернулся. Я нажал ручку дверного замка. Незнакомый мне человек в совсем мокром плаще — дождь, очевидно, еще усилился — спросил: — Вы идете, Сергей Николаевич? — Нет, — ответил я, — не пойду. Моему соседу плохо: укачало, должно быть. Я с ним побуду. Мишка по-прежнему не двигался, даже головы не поднял. Я выждал, пока не смолкли шаги в коридоре, и предупредил его: — Я в бар пошел, а дверь, уж извини, запру. Дверь я запер, но до бара не дошел. Опять внезапная и ставшая уже привычной темнота вернула меня в знакомое кресло со шлемом и датчиками. Первое, что я услышал, — был конец разговора, явно не рассчитанного на мое пробуждение. — Путешественник во времени — это старо. Я бы сказал: прогулка в пятом измерении. — А может, в седьмом? — Сформулируем. Что с ним? — Пока без сознания. — Сознание уже вернулось. Лягушка-путешественница. — А энцефалограмма? — Записана полностью. — Я же говорил: форменный самородок. — Включать изолятор? — Хочешь сказать: выключать? Давай ноль три, потом ноль девять. Пусть глаза привыкают. Темноту чуть-чуть размыло. Как будто где-то открыли щелку и впустили крохотный лучик света. Еще невидимый, он уже сделал видимыми окружавшие меня предметы. С каждой секундой они становились все отчетливее, и вскоре передо мной возник кинематографический лик Заргарьяна. — Аве гомо амици те салютант[36]. Переводить надо? — Не надо, — сказал я. Стало совсем светло. Шлем космонавта легко соскочил с головы и взлетел вверх. Спинка кресла сама подтолкнула меня, как бы приглашая встать. Я встал. Никодимов уже сидел на своем прежнем месте, ожидая меня. — Ну как, переживаний много? — спросил он. — Много. Рассказывать? — Ни в коем случае. Вы устали. Расскажете завтра. Все, что вам нужно сейчас, — это отдохнуть и как следует выспаться. Без сновидений. — Значит, это были сновидения? — В моем вопросе прозвучало невольное разочарование. Никодимов встал. — Обмен информацией отложим до завтра, — улыбнулся он. — А сегодня ничего не рассказывайте, даже дома. Главное — спать, спать, спать! — А я засну? — Еще как! После ужина проглотите эту таблетку. А завтра опять встретимся. Скажем, днем, когда вам удобнее. Рубен Захарович за вами заедет. — Я его и сейчас домчу. С ветерком, — сказал Заргарьян. — И ни о чем не думать. Не вспоминать. Не переживать, — прибавил Никодимов. — А урби эт орби[37] ни слова. Переводить надо? — Не надо, — сказал я.ПРОДВИЖЕНИЕ К РАЗГАДКЕ
Я сдержал слово и только в общих чертах рассказал Ольге о происшедшем. Мне и самому не хотелось даже отраженно вновь переживать все увиденное в искусственных снах. Я и Ольгу не спрашивал ни о чем, что имело бы к ним хоть какое-нибудь отношение. Только поздно ночью, уже в постели, я не выдержал и спросил: — Мы получали когда-нибудь приглашения от венгерского посольства? — Нет, — удивилась Ольга. — А что? Я подумал и спросил опять: — А кого из твоих знакомых зовут Федор Иванович и кто такая Раиса? — Не знаю, — еще более удивилась она, — нет у меня таких знакомых. Хотя погоди… Вспомнила. Ты знаешь, кто это Федор Иванович? Директор поликлиники. Не нашей, а той, министерской, куда меня на работу приглашали. А Раиса — это его жена. Она меня и сватала. Ты где-нибудь познакомился с ними? — Завтра расскажу, а сейчас у меня мозги набекрень. Извини, — пробормотал я, уже засыпая. Проснулся я поздно, когда Ольга уже ушла, оставив мне завтрак на столе и кофе в термосе. Вставать не хотелось. Я лежал и не спеша перебирал в памяти события вчерашнего дня. Сны, показанные мне в лаборатории Фауста, вспоминались особенно отчетливо — не сны, а живая, конкретная явь, памятная до мелочей, до пустяков, какие и в жизни-то обычно не запоминаешь. А тут вдруг запомнились даже бумага на блокноте в больничном кабинете, цвет пуговиц на Мишкином плаще, стук упавшего на пол зонда или вкус абрикосовой палинки. Я вспомнил всю эту пеструю путаницу, сопоставил разговоры, поступки и взаимоотношения и пришел к странным выводам. Очень странным, хотя странность их отнюдь не умаляла убедительности. Меня поднял с постели телефонный звонок. Звонил Кленов, уже узнавший от Зойки о моей встрече с Заргарьяном. Пришлось применить болевой прием. — Тебе знакомо понятие “табу”? — Предположим. — Так вот: Заргарьян — это табу, Никодимов тоже табу, и телепатия табу. Все. — Рву одежды свои. — Рви. Кстати, у тебя дача в Жаворонках? — Садовый участок, ты хочешь сказать. Только не в Жаворонках. Нам предлагали два варианта: Жаворонки и Купавну. Я выбрал Купавну. — А мог выбрать Жаворонки? — Мог, конечно. А почему тебя это интересует? — Меня многое интересует. Например, кто сейчас пресс-атташе в венгерском посольстве? Кеменеш? — У тебя не энцефалит, случайно? — Я серьезно спрашиваю. — Кеменеш — пресс-атташе в Белграде. В Москву его не послали. — А могли послать? — Понимаю, ты пишешь диссертацию о сослагательном наклонении. В общем-то, Кленов почти угадал. В своих попытках раскрыть бродившую вокруг меня тайну я уже много раз в это утро спотыкался на сослагательном наклонении. Что было бы, если бы… Если бы Олег не был убит под Дунафельдваром? Если бы не он, а я женился на Гале? Если бы после войны я пошел на медицинский, а не на факультет журналистики? Если бы Ольга согласилась на предложение министерской поликлиники? Если бы Тибор Кеменеш поехал работать не в Белград, а в Москву? Если, если, если… Сослагательное наклонение расточало всю гофманскую чертовщину. Я мог быть на приеме в венгерском посольстве. Я мог поехать на “Украине” вокруг Европы. Я мог быть доктором медицинских наук и оперировать живого Олега. Все это могло быть в действительности, если… И еще одно “если”. Если у Заргарьяна я видел не сны, а гипотетическое течение жизни, в чем-то измененной в зависимости от тех или иных обстоятельств? Тогда законное право голоса получала фантастическая история Джекиля и Гайда. Если журналист Громов мог на какое-то время сделаться доктором медицины, то разве не мог доктор Громов тоже на какое-то время стать куда менее значительным Громовым-журналистом. Он и стал им тогда на Тверском бульваре. В одно мгновение, налитое тушью и розовым туманом, как Гайд, впрыгнувший в тело Джекиля из губчатого кресла в лаборатории Фауста. Ведь у доктора Громова были свои Никодимов и Заргарьян, управлявшие теми же таинственными силами. Значит, и Заргарьян с Никодимовым и я одинаково участвовали в одновременном течении каких-то параллельных, нигде не пересекавшихся жизней. Сколько их — две, пять, шесть, сто, тысяча? И где протекают они, в каком пространстве и времени? Вспомнилась Галина беседа с моим двойником о множественности миров. А если это уже не фантастическая гипотеза, а научное открытие, еще одна разгаданная тайна материи? Но разум отказывался принять это объяснение, тем более мой разум, не тренированный в точных науках. Я мог только посетовать на ограниченность нашего гуманитарного образования: что даже просто поразмышлять, подумать об открывшейся мне проблеме у меня, как говорится, не хватило ума. В таком состоянии меня и застала Галя, забежавшая к нам по дороге на работу. Еще вчера вечером она узнала от Ольги, что я отправился с визитом к Заргарьяну, и ее буквально распирало желание узнать, нашел ли я ключ к разгадке. — Нашел, — сказал я, — только повернуть его в замке не могу: силенок не хватает. Я рассказал ей о кресле в лаборатории Фауста и о трех увиденных “снах”. Она долго молчала, прежде чем спросить: — Он постарел? — Кто? — Олег. — А что ты хочешь? Двадцать лет прошло. Она опять задумалась. Я боялся, что личное заслонит в ней любопытство ученого. Но я ошибся. — Интересно другое, — сказала она, помолчав. — То, что ты увидал его постаревшим. С морщинами. Со шрамом, которого не было. Невозможно! — Почему? — Потому, что ты не читал Павлова. Ты не мог видеть во сне того, чего не видел в действительности. Слепые от рождения не видят снов. А каким ты знаешь Олега? Мальчишкой, юнцом. Откуда же морщины сорокалетнего человека, откуда шрам на виске? — А если это не сон? — У тебя уже есть объяснение? — быстро спросила Галя. Мне даже показалось, что она догадывается, какое именно объяснение кажется мне самым вероятным и самым пугающим. — Пока еще только попытка, — нерешительно отозвался я. — Все пытаюсь сопоставить мою историю и эти “сны”… Если Гайд мог сыграть такую штуку с Джекилем, то почему бы им не поменяться ролями? — Мистика. — А ты помнишь свой разговор с Гайдом о множественности миров? Параллельных миров, параллельных жизней? — Чушь, — отмахнулась Галя. — Ты просто не хочешь серьезно подумать, — упрекнул я ее. — Проще всего сказать “чушь”. О гипотезе Коперника тоже так говорили. Гипотезой Коперника я ее не сразил, но над моей гипотезой заставил задуматься. — Параллельные миры? Почему параллельные? — Потому что нигде не пересекаются. Галя откровенно и пренебрежительно рассмеялась. — Не сочиняй научной фантастики, не получится. Непересекающиеся миры? — Она фыркнула. — А Никодимов и Заргарьян нашли пересечение? Окно в антимир? — Кто знает? — сказал я. А узнал я об этом через два часа в лаборатории Фауста.СЕЗАМ, ОТВОРИСЬ!
Честно говоря, я шел сюда, как на экзамен, с той же внутренней дрожью и страхом перед неведомым. Еще и еще раз я перебрал в памяти сны, виденные во время опыта, — по привычке я их так и называл, хотя уже окончательно пришел к мысли, что сны эти были совсем не снами: сопоставил все напрашивавшиеся на такое сопоставление детали, систематизировал выводы. — Отрепетировали? — весело спросил встретивший меня Заргарьян. — Что отрепетировал? — смутился я. — Рассказ, конечно. Он видел меня насквозь. Но злость во мне тут же подавила смущение. — Мне тон ваш не нравится. Он только засмеялся в ответ. — Выкладывайте все, что вам не нравится. Магнитофон еще не включен. — Какой магнитофон? — “Яуза-десять”. Великолепная чистота звука. К вмешательству магнитофона я подготовлен не был. Одно дело — просто рассказывать, другое — перед магнитофоном. Я замялся. — Садитесь и начинайте, — подбодрил меня Никодимов. — Вы же оставляете след в науке. Вообразите, что перед вами хорошенькая стенографистка. — Только без охотничьих рассказов, — ехидно прибавил Заргарьян. — Пленка сверхчувствительная с настройкой на Мюнхгаузена: тотчас же выключается. Я по-мальчишески показал ему язык, и моя скованность сразу пропала. Рассказ я начал без предисловий, в свободной манере, и чем дальше, тем он становился картиннее. Я не просто рассказывал, я пояснял и сравнивал, заглядывал в прошлое, сопоставлял увиденное с действительностью и свои переживания с последующими соображениями. Вся напускная ироничность Заргарьяна тотчас же испарилась: он слушал с жадностью, останавливая меня только для того, чтобы переменить катушку. Я воскрешал перед ними все запечатлевшееся в лабораторном кресле: и ярость Елены в больнице, и перекошенное злобой лицо Сычука, и неживую улыбку Олега на операционном столе — все, что запомнилось и поразило и поражало даже сейчас, когда я передавал магнитофонной пленке еще живое воспоминание. Катушка еще крутилась, когда я закончил: Заргарьян не сразу выключил запись, зафиксировавшую, должно быть, еще целую минуту молчания. — Значит, пассажа не видели, — огорченно заметил он. — И дороги к озеру не было. Жаль. — Погоди, Рубен, — остановил его Никодимов, — не об этом же речь. Ведь почти идентичные фазы. То же время, те же люди. — Не совсем. — Ничтожные ведь отклонения. — Но они есть. — Математически их нет. — А разница в знаках? — Разве она меняет человека? Время, может быть. Если минус-фаза, возможно встречное время. — Не убежден. Может быть, только иная система отсчета. — Все равно скажут: фантастика! А разум? — Если вовсе не грешить против разума, то вообще ни к чему не придешь. Кто это сказал? Эйнштейн это сказал! Разговор не становился понятнее. Я кашлянул. — Извините, — смутился Никодимов. — Увлеклись. Покоя не дают ваши сны. — Сны ли? — усомнился я. — Сомневаетесь? Значит, думали. А может, начнем объяснение с вашего объяснения? Я вспомнил все насмешки Гали и, не боясь снова услышать их, упрямо повторил миф о Джекиле и Гайде, встречающихся на перекрестках пространства и времени. Пусть антимир, пусть множественность, пусть мистика, собачий бред, но другого объяснения у меня не было. А Никодимов даже не улыбнулся. — Физику изучали? — вдруг спросил он. — По Перышкину, — признался я и подумал: “Началось!” Но Никодимов только погладил бородку и сказал: — Богатая подготовка. Ну и как же с его помощью вы представляете себе эту множественность? Скажем, в декартовых координатах? Поискав в памяти, я нашел уэллсовскую “Утопию”, куда въезжает мистер Барнстепл, не сворачивая с обычной шоссейки. — Отлично, — согласился Никодимов, — будем танцевать от этой печки. С чем сравнивает наше трехмерное пространство Уэллс? С книгой, в которой каждая страница — двухмерный мир. Значит, можно предположить, что в многомерном пространстве могут так же соседствовать трехмерные миры, движущиеся во времени приблизительно параллельно. Это по Уэллсу. Когда он писал свой роман, гениальный Дирак был еще юношей, а его теория получила известность только в тридцатых годах. Вы, конечно, достаточно ясно представляете себе, что такое “вакуум Дирака”? — Приблизительно, — сказал я осторожно. — В общем, это не пустота, а что-то вроде нейтринно-антинейтринной кашицы. Как планктон в океане. — Курьезно, пожалуй, но смысл есть, — опять согласился Никодимов. — Этот, как вы говорите, планктон, этот нейтринно-антинейтринный газ и образует как бы границу между миром со знаком плюс и миром со знаком минус. Есть ученые, которые ищут антимиры в чужих галактиках, я же предпочитаю искать их рядом. И не только симметрию мир — антимир, а безграничность этой симметрии. Как в шахматах мы имеем бесконечное разнообразие комбинаций, так и здесь бесконечное сочетание миров-антимиров, соседствующих друг с другом. Вы спросите, как я представляю себе это соседство? Как стабильное, геометрически изолированное существование? Нет, совсем иначе. Упрощенно — это мысль о неисчерпаемости материи, о бесконечном движении ее, образующем эти миры, по какой-то новой, еще не познанной координате, а точнее, по некоей фазовой траектории… — Ну, а как же обыкновенное движение? — перебил я недоуменно. — Я тоже частица материи, а передвигаюсь в пространстве независимо от вашего квазидвижения. — Почему “квази”? Просто одно независимо от другого. Вы передвигаетесь в пространстве независимо и от вашего движения во времени. Сидите ли вы дома или куда-нибудь едете- все равно стареете одинаково. Так и здесь: в одном мире вы можете путешествовать по морю, а в другом — в то же время играть в шахматы или обедать у себя дома. Более того, в бесконечном повторении миров вы можете ездить, болеть, работать, а в другом бесконечном множестве подобных миров вас вообще нет: несчастный случай, самоубийство или попросту не родились — родители не встретились. Надеюсь, вам понятно? — Вполне. — Притворяется, — сказал Заргарьян. — Ему сейчас живой пример нужен — сразу поймет. Представьте себе обыкновенную киноленту. В одном кадре вы летите на самолете, в другом — стреляете, в третьем — убиты. В одном — дерево растет, в другом — его срубили. В одном — памятник Пушкину стоит на Тверском бульваре, в другом — в центре площади. Словом, раскадрованная жизнь, движущаяся, скажем, вертикально, сверху вниз или снизу вверх. А теперь представьте себе уже раскадрованную жизнь, но еще движущуюся от каждого кадра горизонтально, слева направо или справа налево. Вот вам и приблизительная модель материи в многомерном пространстве. А в чем, по-вашему, самая существенная разница между этой моделью и моделируемым объектом? Я не ответил: какой смысл гадать? — Идентичных кадров нет, а идентичные миры существуют. — Похожие? — переспросил я. — Не только, — вмешался Никодимов. — Мы еще не знаем закона, по которому движется материя в этом измерении. Возьмем простейший — синусоидальный. Обычную синусоиду: малейшее изменение аргумента дает соответствующее изменение функции, а значит, и другой мир. Но ровно через период мы получим то же значение синуса и, следовательно, тот же мир. И так далее до бесконечности… — Значит, я мог попасть в такой же мир, как и наш? Точь-в-точь такой же? — Даже разницы бы не заметили, — сказал Заргарьян. — А как вы объясняете мой случай на бульваре? — Так же, как и вы. Джекиль и Гайд. — Громов из другого мира в моем обличье? — Вот именно. Какие-то Заргарьян и Никодимов переместили сознание вашего двойника. Это произошло не мгновенно, не сразу. Ваше сознание сопротивлялось, спорило — отсюда этот дуализм в первые минуты, — потом подчинилось агрессору. Я высказал предположение, что мой злополучный эпизод в больнице был обменным визитом, но Никодимов усомнился: — Возможно, но маловероятно. С большей вероятностью можно предположить, что это был Громов, в чем-то подобный вашему агрессору. Та же профессия, тот же круг знакомств, та же семейная ситуация. Но я уже говорил вам о возможности почти полной или даже совсем полной идентичности. — Образно говоря, — перебил Заргарьян, — вы побывали в мирах, границы которых подогнаны к границам нашего мира, внутренне касаются. Назовем их ближайшими, условно конечно. А еще более интересны миры, пересекающие наш или, скажем, вообще не имеющие с нами точки касания. Там время или обогнало наше или отстало. И кто знает, на сколько? — Он помолчал и прибавил почти мечтательно: — “За какой-то березкой, давно знакомою в тишине, открывается вдруг незнаемое — неизвестное, странное, незнакомое…” — Вы не договариваете, — усмехнулся я, вспомнив те же стихи. — Там дальше иначе: “…грустное дело езда в незнаемое. Ведь не каждый приедет туда, в незнаемое…” На столе зазвонил телефон. — Не каждый, — задумчиво повторил Никодимов, — наш шеф не приедет. Телефон продолжал звонить. — Легок на помине, — сказал Заргарьян. — Не подходи. — Все равно найдет. Езда в незнаемое была отложена до вечерней встречи в ресторане “София”, где свобода от начальственного вмешательства была полностью обеспечена.NOSCETE IPSUM[38]
Ольгу я не видел до ужина — она задерживалась в поликлинике. Поговорить о случившемся было не с кем: Галя не звонила, а Кленова я тщательно избегал из-за порой нестерпимой его дидактичности и даже сбежал из-за этого с редакционной летучки. Почти час я бродил по улицам, дабы не прийти слишком рано и не торчать с глупым видом у ресторанного входа. Пытаясь собраться с мыслями, посидел у памятника Пушкину, по все услышанное утром было так ново и так удивительно, что даже обдумать это я так и не мог. В конце концов весь ход мыслей свелся к тому, как оценить мою встречу с учеными. Как небывалую удачу, счастье газетчика или как угрозу, которую всегда таит в себе непознаваемое? Я больше склонялся к “счастью газетчика”. Если бы лабораторный кролик мог рассуждать, он, вероятно бы, гордился своим общением с учеными. Гордился и я. Вторичным признаком счастья газетчика был тип ученого, к какому принадлежали мои друзья. Я где-то читал, что ученые делятся на классиков и романтиков. Классики — это те, кто развивает новое на основе старого, прочно утвердившегося в науке. А романтики — это мечтатели. Они интересуются смежными, даже весьма отдаленными областями знаний. Они выдвигают новое не только на основе старого, но чаще всего с помощью совершенно неожиданных ассоциаций. Свое восхищение этим типом ученого я и выразил как-то в одном журнальном очерке. Теперь меня столкнуло с ним счастье газетчика. Только романтики могли так смело и безрассудно грешить против разума, и, каюсь, мне очень хотелось продолжить свое участие в этом грехе. С такими мыслями я и пришел на свидание не раньше, а даже позже моих новых друзей. Они уже дожидались меня у входа — улыбающийся Заргарьян и скромно тушующийся за ним Никодимов в старомодном чопорном пиджаке. Ему очень подошел бы стоячий крахмальный воротничок, какие носили в начале века: таким ветхозаветно строгим выглядел сейчас старый ученый. Зато Заргарьян был поистине неотразим: в темном дакроновом костюме с галстуком, спущенном ровно настолько, чтобы видеть позолоченную булавку, скреплявшую воротничок рубашки, закругленный на уголках, — он настолько пленил воображение тучного, лысоватого мэтра, что тот даже не заметил нас с Никодимовым. Мы шли сзади, с улыбкой наблюдая, как суетился он перед долговязым Рубеном, придирчиво оглядывая заказанный нами укромный столик в углу. Когда все было подано, Заргарьян сказал, разливая коньяк: — Первый тост мой — за случайные встречи. — Почему за случайные? — Вы даже вообразить не можете, как велика роль случая в моей жизни. Случайно познакомился с Зоей, случайно через нее с вами. И даже с Павлом Никитичем тоже случайно. Прочел лет пять назад в “Вестнике Академии наук” его статью о концентрации субквантового биополя — и сразу к нему. Тут и оказалось, что разными путями мы подошли к одной и той же проблеме. Он замолчал. Я вспомнил слова Кленова о том, что они оба работали в совершенно различных областях науки, но спросить не успел. Заргарьян тотчас же поймал мою мысль. — Странный союз физика и нейрофизиолога, — засмеялся он. — Вы чужие мысли читаете? — А то нет? Я ведь телепат, мне это по штату положено. Я многим занимался в своей области, но больше всего, пожалуй, меня интересовали сны. Почему мы часто видим во сне то, чего никогда в жизни не видели? Как это связать с павловским учением о том, что сны суть отражение действительности? Какие раздражения воздействуют в этих случаях на клетки головного мозга? Может быть, привычные — свет, звуки, прикосновения, запахи? А если нет? Тогда должен быть какой-то новый, неизвестный нам вид раздражения… Я вспомнил, почему мои сны привлекли его внимание: они не были отражением действительности. Но, оказывается, такие сны видели многие. Только сны эти не были стойкими, как пояснил Заргарьян, они забывались, туманились в сознании, а главное — не повторялись. — Я рассуждал так, — продолжал он, — если, по Павлову, сны отражают виденное наяву, но испытуемый этого не видел, значит, это видел кто-то другой, но кто? И каким образом виденное им запечатлелось в сознании другого?.. Я перебил его: — Тогда мой пассаж, и улица, и дорога к озеру — это чьи-то чужие сны? — Безусловно. — Чьи? — Тогда я еще не знал. Возникало предположение о гипнопередаче. Но внушение не бывает случайным, внушением ниоткуда. Оно всегда направлено от гипнотизера к гипнотизируемому. Ни в одном из рассмотренных мною случаев такого внушения не было. Я предположил телепатическую передачу. В парапсихологии мы называем мозг, передающий сигнал, индуктором, а мозг принимающий — перципиентом. И опять ни в одном исследованном случае не удалось обнаружить индуктор. Характерный пример — ваши наиболее стойкие сновидения. Кто вам их передал? Откуда? Вы терялись в догадках. Терялся и я, склоняясь к предположению о каких-то иных существованиях человека в ином образе, может быть, в ином мире. Но это уже было мистикой, я стоял у закрытой двери. Открыл мне ее Павел Никитич, вернее, его статья. Тогда я сказал “Сезам, отворись!” Так было, Павел Никитич? — Почти так, — добродушно подтвердил Никодимов, — только зря колоритные детали опустил. Сезам не так уж легко открылся: я бирюк, с людьми уживаюсь плохо. Ассистент мой — он сбежал потом, когда нас прижимать начали, — принимал тебя за сумасшедшего, помню, даже районному психиатру звонил. Но тебя и это не остановило. Вот так и началось наше содружество — со случайной встречи. Поэтому тост поддерживаю. Я тоже “за”. — А потом? — спросил я. — От идеи до ее экспериментальной проверки не так уж близко. — Мы и ползли. Идея математическая привела к физике поля. Мы начали с биотоков. Ведь биотоки мозга — это электромагнитные поля, возникающие в его нервных клетках. В своем излучении они образуют как бы единое энергополе — так называемое сознание и подсознание человека. Возьмем вашу аналогию. Поля Джекиля и Гайда только подобны, они несовместимы, или, как мы говорим, антипатичны. Пока вы бодрствуете, когда ваш мозг занят, антипатия полей постоянна и неизменна. Но вот вы заснули. И картина меняется: антипатия уже ослаблена, поля “двойников” как бы находят друг друга, и ваши сны невольно повторяют виденное другим. А для того чтобы Джекиль стал Гайдом, необходимо полное совмещение полей, возможное лишь при исключительной активности поля индуктора. Вот эту исключительность мы у вас и обнаружили. Я с увлечением слушал Никодимова, не все доходило до сознания, кое-что ускользало; я словно глохнул, теряя путеводную нить в этом лабиринте полей, двойников, частот и ритмов, но усилием воли снова ловил ее, как прерванную многоточием речь. — …опытным путем мы пришли к выводу, что при взаимопередаче полей активируются волны с частотой, значительно большей частоты обычного альфа-ритма. Этот вид частотности мы назвали каппа-ритмом. И чем выше частота каппа-волн, тем ярче сновидения, принятые спящим рецептором. А далее уже нетрудно было вывести и закономерность. Полное совмещение полей связано с резким возрастанием частотности. Так возникла идея концентратора, или преобразователя биотоков. Создавая направленный поток излучения, мы как бы перемещаем ваше сознание, находя ему идентичное за пределами нашего трехмерного мира. Конечно, мы еще в самом начале пути. Движение поля по фазовой траектории пока хаотично. Мы еще не можем управлять им, не можем сказать точно, где именно вы очнетесь — в настоящем ли, в прошлом или будущем относительно к нашему времени. Нужны еще десятки опытов… — Я готов, — перебил я. Никодимов не ответил. Из магнитофона, включенного на эстраде каким-то юным любителем танцев, доносился к нам хрипловатый мальчишеский голос. Он плыл над гудевшим залом, над стрижеными и лысыми головами, над потемневшим от вина хрусталем, плыл, поражая силой и чистотой чувства, неожиданного в этом тесном, прокуренном зале. — С подтекстом песенка, — сказал Заргарьян. Я прислушался. “Ты — моя судьба, — пел по-английски мальчишка, — ты- мое счастье…” — Вы — наша судьба, — серьезно, даже торжественно повторил Заргарьян, — и, может быть, счастье. Вы. Я смущенно отвел глаза. Что ни говори, а приятно быть чьим-то счастьем и чьей-то судьбой. Никодимов тотчас же уловил мое движение и укрывшуюся за ним тщеславную мысль. — А может быть, и мы — ваша судьба, — сказал он. — Вы еще многое узнаете, и прежде всего о себе. Ведь вы только частица той живой материи, которая и есть “вы” в бесконечно сложном пространстве-времени. Словом, как говорили древние римляне, nosce te ipsum — познай самого себя.ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Я готов был познать себя во всей совокупности измерений, фаз и координат, но Ольге не сказал об этом, сообщив лишь в кратких чертах о своей беседе с учеными и обещав подробнее рассказать все на следующий день. То был день ее рождения, который мы обычно проводили вдвоем, но на этот раз я пригласил гостей — Галю и Кленова. Очень хотелось позвать и Заргарьяна с Никодимовым, как виновников неожиданного, если не сказать — чудесного, в моей жизни, и я даже намекнул им об этом по выходе из ресторана, но Павел Никитич или не выслушал меня внимательно, или не понял по рассеянности, а Заргарьян шепнул конфиденциально: — Оставьте. Все равно не придет: бирюк, сам признается. А я подойду, когда вырвусь, может,попозже. Он действительно приехал позже всех, когда разговор за столом уже превратился в спор, яростный до хрипоты и упрямый до невежливости, когда забываешь буквально обо всем, кроме своих собственных выкриков. Мой рассказ о пережитом во время опыта и о последующей беседе с учеными произвел впечатление маниакального бреда. Кленов промычал неопределенно: — Н-да… И замолчал. А Галя, покрасневшая, с сердитыми искорками в глазах, возбужденно воскликнула; — Не верю! — Чему? — Ничему! Муть какая-то, как говорят ребята у меня в лаборатории. Авантюра. Тебя просто мистифицируют. — А зачем его мистифицировать? — отозвался Кленов. — С какой целью? И потом, Никодимов и Заргарьян не рвачи и не прожектеры. Добро бы рекламы хотели, а то ведь молчать требуют. Не те это имена, чтобы допустить даже тень мысли о квазинаучной авантюре. — Все новое в науке, все открытия подготовлены опытом прошлого, — горячилась Галя. — А в чем ты видишь здесь этот опыт? — Часто новое опровергает прошлое. — Разные бывают опровержения. — Точно. Эйнштейну тоже вначале не верили: еще бы, Ньютона опроверг! Ольга упорно молчала, не вмешиваясь в спор, пока на это не обратила внимание Галя: — А ты почему молчишь? — Боюсь. — Кого? — Вы спорите о каких-то абстрактных понятиях, а Сергей непосредственно участвовал в опыте. И, как я понимаю, на этом не остановится. А если правда все, что он рассказывает, то едва ли это выдержит мозг обыкновенного человека. — А ты уверена, что я обыкновенный? — пошутил я. Но она шутки не приняла, даже не ответила. Разговором опять завладели Кленов и Галя. Я должен был ответить на добрый десяток вопросов, снова повторяя рассказ о виденном и пережитом в лаборатории Фауста. — Если Никодимов докажет свою гипотезу, — сдалась наконец Галя, — то это будет переворотом в физике. Величайшим переворотом в нашем познании мира. Если докажет, конечно, — прибавила она упрямо. — Опыт Сергея еще не доказательство. — А меня другое интересует, — задумчиво сказал Кленов. — Если принять априори верность гипотезы, то сейчас же возникает другой, не менее важный вопрос: как развивалась жизнь каждой пространственной фазы? Почему они подобны? Я говорю не о физическом, а о социальном их облике. Почему в каждом перевоплощении Сергея Москва — это Москва нынешняя, послевоенная, столица СССР, а не царской России? Ведь если гипотеза Никодимова будет доказана, вы понимаете, о чем прежде всего спросят на Западе? Спросят политики, историки, попы, журналисты. Обязательно ли подобно во всех мирах их общественное лицо? Обязательно ли одинаково их историческое развитие? — Никодимов говорил и о мирах с другим течением времени, может быть, даже со встречным временем. Теоретически можно попасть и к неандертальцам, и на земной звездолет. — Я не об этом, — отмахнулся нетерпеливо Кленов. — Как ни гениально было бы открытие Заргарьяна и Никодимова, оно не снимает всей важности вопроса о социальном облике каждого мира. Для марксистской науки все ясно: физическое подобие предполагает и социальное подобие. Везде развитие производительных сил определяет и характер производственных отношений. Но ты представляешь себе, что запоют певцы личностей и случайностей? Варвары могли не дойти до Рима, а татары — до Калки. Вашингтон мог проиграть войну за независимость США, а Наполеон выиграть битву при Ватерлоо. Лютер мог не стать главой реформации, а Эйнштейн не открыть теории относительности. У Брэдбери эта зависимость исторического развития от нелепой случайности доведена до абсурда. Путешественник во времени случайно давит какую-то бабочку в юрском периоде, и вот уже меняется картина президентских выборов в США: вместо прогрессиста и радикала выбирают президентом фашиста и мракобеса. Мы-то знаем, что Голдуотера все равно не избрали бы, даже если в юрском периоде передавили бы сразу всех динозавров. А победи Наполеон при Ватерлоо, его разгромили бы где-нибудь под Льежем. И вместо Лютера кто-нибудь возглавил бы Реформацию, и не будь Эйнштейна, кто-то все равно открыл бы теорию относительности. Даже не поднявшийся до высот исторического материализма Белинский более ста лет назад писал, что и в природе и в истории владычествует не слепой случай, а строгая непреложная внутренняя необходимость. Кленов говорил с той же профессиональной назидательностью лектора, которая меня так раздражала на редакционных летучках, и чисто из духа противоречия я возразил: — Ну, а представь себе, что в каком-то соседнем мире не было Гитлера? Не родился. Была бы тогда война или нет? — Сам не можешь ответить? А Геринг, Гесс, Геббельс, Рем, Штрассер, наконец? Уж кому-нибудь Круппы бы передали дирижерскую палочку. И я вижу твою великую миссию, Сережка, — ты не смейся, именно великую, — не только в том, чтобы доказать гипотезу Никодимова, но и в том, чтобы закрепить позиции марксистского понимания истории. Что везде и всегда при одинаковых условиях жизни на нашей планете, во всех ее изменениях, фазах или как вы там их называете, классовая борьба всегда определяла и будет определять развитие общества, пока оно не стало бесклассовым. В этот момент и появился Заргарьян с хризантемами в целлофане. И десяти минут не прошло, как он покорил и Ольгу и Галю, а профессоральная назидательность Кленова сменилась почтительным вниманием первокурсника. Он сразу перехватил нить разговора, рассказал о предполагаемых Нобелевских лауреатах, о своей недавней поездке в Лондон, перебросился с Галей замечаниями о будущем лазерной техники, а с Ольгой — о роли гипноза в педиатрии и похвалил статью Кленова в журнале “Наука и жизнь”. Но он определенно и, как показалось мне, умышленно отводил разговор от моего участия в их научном эксперименте. А когда часы пробили одиннадцать, он поймал мой недоумевающий взгляд и сказал с присущей ему усмешечкой: — Я ведь знаю, о чем вы думаете. Почему Заргарьян молчит об эксперименте? Угадал? Да просто потому, милый, что не хотелось сразу уходить. После того, что я сейчас вам скажу, уже никакой разговор невозможен. Заинтриговал? — засмеялся он. — А ведь все очень просто: завтра мы собираемся поставить новый опыт и просим вас об участии. — Я готов, — твердо сказал я. — Не торопитесь, — остановил меня Заргарьян, и в голосе его появилась уже знакомая мне серьезность, даже взволнованность. — Новый опыт более длителен, чем предыдущий. Может быть, это несколько часов, может быть, сутки. Кроме того, опыт рассчитан на более удаленные фазы. Я говорю “удаленные” только для того, чтобы остаться в границах понятного. Речь едва ли идет о расстояниях, тем более что определить их мы не можем, да и то, что под этим подразумевается, для активности биотоков не имеет значения. Распространение излучения практически мгновенно и не зависит ни от пространственного расположения фаз, ни от знака поля. И я должен предупредить вас, что мы не знаем степени риска. — Значит, это опасно? — спросила Галя. Ольга ни о чем не спросила, только зрачки ее словно стали чуточку больше. — Я не могу определенно ответить на это. — Заргарьян, казалось, ничего не хотел утаивать от меня. — При неточной наводке наш преобразователь может потерять контроль над совмещенным биополем. Каковы будут последствия для испытуемого, мы не знаем. Теперь представьте себе другое: в этом мире он без сознания, в другом оно придано человеку, допустим, летящему в это время на самолете. Что будет с сознанием в случае авиакатастрофы, мы тоже не знаем, успеет ли преобразователь переключить биополе, переключится ли оно само, или просто погибнут два человека и в том мире, и в этом? Ответом Заргарьяну было молчание. Он поднялся и резюмировал: — Я уже говорил вам, что после моего заявления светский разговор исключается. Вы свободны, Сергей Николаевич, в своем решении. Я заеду за вами утром и с уважением выслушаю его, даже если это будет отказ. Мы проводили его в молчании, в молчании вернулись и долго не начинали разговора, пока наконец Галя не спросила меня в упор: — Ты, вероятно, ждешь от меня совета? Я молча пожал плечами: какое значение могли иметь сейчас ее “да” или “нет”? — Я уже поверила в этот бред. Представь себе, поверила. И если б я годилась на это, если бы мне предложили, как тебе… я бы не задумывалась над ответом. А советовать? Что ж, пусть Ольга советует. — Я не буду отговаривать тебя, Сергей, — сказала Ольга. — Сам решай. Я все еще молчал, не отводя глаз от пустого бокала. Ждал, что скажет Кленов. — Интересно, — вдруг проговорил он, ни к кому не обращаясь, — раздумывал ли Гагарин, когда ему предложили первым вылететь в космос?ЧАСТЬ ВТОРАЯ ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА
Нам мало всего шара земного, нам мало определенного времени. У меня будут тысячи шаров земных и всё время!Уолт Уитмен. “Песня радостей”
Но, глядя вдаль с ее миражем сизым, Как высшую хочу я благодать Одним глазком взглянуть на коммунизм!Илья Сельвинский. “Сонет”

ЭКСПЕРИМЕНТ
Заргарьян заехал за мной утром, когда Ольга еще не ушла на работу. Мы оба встали раньше, как всегда бывало, когда кто-то из нас уезжал в отпуск или в командировку. Но ощущение необычности, непохожести этого утра на все предыдущие туманило и окна, и небо, и душу. Мы умышленно не говорили о предстоящем, привычно перебрасываясь стертыми пятачками междометий и восклицаний. Я все искал пропавшую куда-то зубную щетку, а Ольга никак не могла добиться надлежащей температуры воды от душевого смесителя. Наверно, волновалась. — То горячо, то холодно. Подкрути. Я подкручивал, но у меня тоже не получалось. — Волнуешься? — Ни капельки. — А я боюсь. — Ну и зря. Ничего же не случилось тогда. Просидел два часа в кресле, и все. Даже голова потом совершенно не болела. Я даже удивился. — Ты же знаешь, что сейчас — это не два часа. Может быть, десять, может быть, сутки. Опыт длительный. Даже не понимаю, как его разрешили. — Если разрешили, значит, все в порядке. Можешь не сомневаться. — А я сомневаюсь. — Голос ее зазвенел на высокой ноте. — Прежде всего как врач сомневаюсь. Сутки без сознания, без врача… — Почему — без врача? — перебил я ее. — У Заргарьяна, помимо его специального, и медицинское образование. И датчиков до черта. Все под контролем: и давление, и сердце, и дыхание. Чего же еще? У нее подозрительно заблестели глаза. — Вдруг не вернешься… — Откуда? — А ты знаешь откуда? Сам ничего не знаешь. Какое-то перемещающееся биополе. Миры. Блуждающее сознание. Даже подумать страшно. — А ты не думай. Летают же люди на самолетах. Тоже страшно, а летают. И никто не волнуется. У нее задрожали губы. Полотенце выскользнуло из рук и упало на пол. Я даже обрадовался, что зазвонил телефон и я мог избежать развития опасной темы. Звонила Галя. Она хотела заехать к нам, но боялась, что не успеет. — Заргарьяна еще нет? — Пока нет. Ждем. — Как настроение? — Не бардзо. Ольга плачет. — Ну и глупо. Я бы радовалась на ее месте: человек на подвиг идет! — Давай без пафоса, Галка. — А что? Так и оценят, когда можно будет. Не иначе. Прыжок в будущее! Даже голова кружится при мысли о такой возможности. — Почему — в будущее? — засмеялся я. Мне захотелось ее поддразнить. — А вдруг в какой-нибудь юрский период? К птеродактилям. — Не говори глупостей, — отрезала Галя: Фома неверующий уже превратился в фанатика. — Это не предполагается. — Человек предполагает, бог располагает. Ну, скажем, не бог, а случай. — А ты чему учился на факультете журналистики? Тоже мне марксист! — Деточка, — взмолился я, — не принуждай меня каяться сейчас в философских ошибках. Покаюсь по возвращении. Она рассмеялась, словно речь шла о поездке на дачу. — Ни пуха ни пера. Привези сувенир. — Интересно, какой я ей привезу сувенир — коготь птеродактиля или зуб динозавра? — сказал я Кленову, который уже сидел за утренним кофе. Я был тронут. Он не поленился прийти проводить меня в мое не совсем обычное путешествие и даже успел успокоить Ольгу. Слезинки в глазах ее испарились. — На динозавров поглазеть тоже невредно, — философически заметил Кленов. — Организуешь этакое сафари во времени. Большой шум будет. Я вздохнул. — Не будет шума, Кленыч. И сафари не будет. Встретимся с тобой где-нибудь в смежной жизнишке. В кино сходим на “Дитя Монпарнаса”. Палинки опять выпьем. Или цуйки. — Воображения у тебя нет, — рассердился Кленов. — Не в смежную жизнишку тебя посылают. Помнишь, что сказал Заргарьян? Вполне возможны миры с каким-то другим течением времени. Допустим, оно отстало от нашего. Но не на миллион же лет! А вдруг всего на полстолетия? Очнешься, а на улице — Октябрь семнадцатого! — А если на столетие? — Тоже неплохо! В “Современник” пойдешь работать. Выходит же у них какой-нибудь “Современник” с таким направлением. И Чернышевский за столом сидит. Скажешь, не интересно? И слюнки не текут? — Текут. Мы оба захохотали, да так громко, что Ольга воскликнула: — Мне плакать хочется, а они смеются! — У нас недостаток хлористого натрия в организме, — сказал Кленов. — Потому и слезные железы пересохли. А женам героев слезы вообще противопоказаны. Давайте лучше коньячку выпьем. А то очутишься в будущем, а там “сухой закон”. От коньячка пришлось отказаться, потому что Заргарьян уже звонил у входной двери. Он выглядел строгим и официальным и за всю дорогу до института не обронил ни слова. Молчал и я. Только тогда, когда он поставил свою “Волгу” в шеренгу ее институтских подруг и мы поднялись по широким ступеням к двери, Заргарьян сказал мне, впервые назвав меня по имени, сказал без улыбки и без акцента, каким он всегда кокетничал, когда язвил или посмеивался: — Не думай, что я боюсь или встревожен. Это Никодимов считает возможным какой-то процент риска: проблема, мол, еще не изучена, опыта маловато. А я считаю, что все сто процентов наши! Уверен в успехе, у-ве-рен! — закричал он на всю окрестную рощицу. — А молчу потому, что перед боем лишнего не говорят. Тебе все ясно, Сережа? — Все ясно, Рубен. Мы пожали друг другу руки и опять замолчали до нашего появления в лаборатории. Ничто не изменилось здесь со времени моего первого посещения. Те же мягкие тона пластмасс, золотое поблескивание меди, зеркальность никеля, дымчатая непрозрачность стекловидных экранов, чем-то напоминающих телевизорные, только увеличенные в несколько раз. Мое кресло стояло на обычном месте в паутине цветных проводов, толстых, тонких и совсем истонченных, как серебристые паутинки. Западня паука, поджидающего свою жертву. Но кресло, мягкое и уютное, к тому же ласково освещенное из окна вдруг подкравшимся солнцем, не настраивало на тревогу и настороженность. Скорее всего оно напоминало сердце в путанице кровеносных сосудов. Сердце пока не билось: я еще не сел в кресло. Никодимов встретил меня в своем накрахмаленном до окаменелости белом халате, все с той же накрахмаленной жестковатой улыбкой. — Я должен был бы только радоваться тому, что вы согласились на этот рискованный опыт, — сказал он мне после обмена дежурными любезностями, — для меня как для ученого это может быть последний, решающий шаг к цели. Но я должен просить вас еще раз продумать свое решение, взвесить все “за” и “против”, прежде чем начнется самый эксперимент. — Все уже взвешено, — сказал я. — Погодите. Взвесим еще раз. Что стимулирует ваше согласие на опыт? Любопытство? Стимул, по правде говоря, не очень-то уважительный. — А научный интерес? — У вас его нет. — Что же влечет журналистов, скажем, в Антарктику или в джунгли? — отпарировал я. — Научного интереса у них тоже нет. — Значит, любознательность. Согласен. И душок сенсации, в какой-то мере общий для всех газетчиков, пусть даже в лучшем смысле этого слова. Что ж, газетчик Стэнли, ради сенсации поехавший на поиски ученого Ливингстона, в итоге стяжал равноценную славу. Может быть, она и вам кружит голову, не знаю. Представляю, как с вами говорил Рубен, — усмехнулся Никодимов и вдруг продолжил голосом Заргарьяна. — Да ведь это подвиг, еще невиданный в истории науки! Слава миропроходца, равноценная славе первых завоевателей космоса! Он, наверное, так и сказал: миропроходца? Я искоса взглянул на Заргарьяна. Тот слушал, ничуть не обиженный, даже улыбался. Никодимов перехватил мой взгляд. — Сказал, конечно. Я так и думал. Бочка меду! А я сейчас добавлю в эту бочку свою ложку дегтя. Я не обещаю вам, милый друг, ни славы миропроходца, ни аплодисментов, ни встречи на Красной площади. Даже подвала в газете не обещаю. В лучшем случае вы вернетесь домой с запасом острых ощущений и с сознанием, что ваше участие в опыте оказалось небесполезным для науки. — А разве этого мало? — спросил я. — Смотря для кого. О неоценимости вашего вклада знаем только мы трое. Ваше устное свидетельство о виденном, вернее, только одно это устное свидетельство — еще не доказательство для науки. Всегда найдутся скептики, которые могут объявить и наверняка объявят его выдумкой, а приборов, какие могли бы записать и воспроизвести зрительные образы, возникшие в вашем сознании, — таких приборов, к сожалению, у нас еще нет. — Возможно и другое доказательство, — сказал Заргарьян. Никодимов задумался. Я с нетерпением ждал ответа. О каком доказательстве говорил Заргарьян? Все материальные свидетельства моего пребывания в смежных мирах там и остались: и оброненный во время операции зонд, и моя записка в больничном блокноте, и разбитая Мишкина губа. Я не унес ничего, кроме воспоминаний. — Я сейчас вам объясню, что подразумевает Рубен, — начал медленно, словно раздумывая, Никодимов. — Он имеет в виду возможность вашего проникновения в мир, обогнавший нас во времени и в развитии. Если допустить такую возможность и, конечно, если вы сумеете ее использовать, то ваше сознание сможет запечатлеть не только зрительные образы, но и образы абстрактные, скажем, математические. Например, формулу какого-нибудь неизвестного нам физического закона или уравнение, выражающее в общепринятых математических символах нечто новое для нас в познании окружающего мира. Но все это только гипотеза. Ничем не лучше гадания на кофейной гуще. Мы попробуем переместить ваше сознание куда-то дальше непосредственно граничащих с нашим трехмерным пространством миров, но даже не можем объяснить вам, что значит “дальше”. Расстояния в этом измерении отсчитываются не в микронах, не в киломег7 pax и не в парсеках. Здесь действует какая-то другая система отсчета, нам пока не известная. И, самое главное, мы не знаем, чем вы рискуете в этом эксперименте. В первом мы не теряли из виду ваше энергетическое поле, но можно ли поручиться, что мы не потеряем его сейчас? Словом, я не обижусь, если вы скажете: “Давайте отложим опыт”. Я улыбнулся. Теперь уже Никодимов ждал ответа. Ни одна морщинка его не дрогнула, ни один волосок его длинной поэтической шевелюры не растрепался, ни одна складочка на халате не сморщилась. Как не похожи они с Заргарьяном! Вот уж поистине “стихи и проза, лед и пламень”. А пламень за мной уже рвался наружу: громыхнув стулом, Заргарьян встал. — Ну что ж, давайте отложим, — намеренно помедлил я, лукаво поглядывая на Никодимова, — отложим… все разговоры о риске до конца опыта. Все, что произошло дальше, уложилось в несколько минут, может быть, даже секунд, не помню. Кресло, шлем, датчики, затемнение, обрывки затухающего разговора о шкалах, видимости, о каких-то цифрах в сопровождении знакомых греческих букв — не то пи, не то пси — и, наконец, беззвучность, тьма и розовый туман, крутящийся вихрем.ДЕНЬ В ПРОШЛОМ
Вихрь остановился, туман приобрел прозрачность и тускло-серый оттенок скорее весеннего, чем зимнего утра. Я увидел захламленный двор в лужах, затянутых синеватым ледком, грязно-рыжую корочку уже подтаявшего снега у забора и совсем близко от меня темно-зеленый автофургон. Задние двери его были открыты настежь. Сильный удар в спину бросил меня на землю. Я упал в лужу, ледок хрустнул, и левый рукав ватника сразу намок. — Ауфштеен! — крикнули сзади. Я с трудом поднялся, еле держась на ногах, и не успел даже оглянуться, как новый удар в спину швырнул меня к фургону. Из темной его пасти протянулись чьи-то руки и, подхватив меня, втянули в кузов. Дверь позади тотчас же захлопнулась, громыхнув тяжелой щеколдой. Потом я услышал урчание мотора, металлический скрип кузова, хруст льда под колесами автофургона. На повороте меня тряхнуло, ударив головой о скамейку. Я застонал. И опять знакомые руки протянулись ко мне, подняли и посадили на скамейку. В окружавшей нас полутьме я не мог разглядеть лица человека, сидевшего напротив. — Держись за доску, — предупредил он. — Дороги у нас дай бог. — Где мы? — спросил я, как мне показалось, каким-то чужим голосом, глухим и хриплым. — Известно где, в душегубке. — Сосед потянул носом воздух. — Да нет… Кажись, не пахнет. Значит, на исповедь везут. — Где мы? — снова спросил я. — Город какой? — Колпинск город. Райцентр бывший. Глянь в окошко — увидишь. Я подтянулся к маленькому квадратному оконцу без стекол, затянутому тремя железными прутьями. В крохотном проеме мелькнули водокачка, подъездные пути в проломе забора, одноэтажные приземистые домишки, вывеска комиссионного магазина, написанная черной краской по желтой рогожке, голые тополя у обочины замызганного тротуара. Пустынная уличка тянулась долго и неприглядно. Редкие прохожие, казалось, никуда не спешили. — Вы меня извините, — сказал я своему спутнику, — у меня что-то с памятью. — Тут не только память — душу выбьют, — живо откликнулся он. — Ничего не помню. Какой сейчас год, месяц, день… Вы не бойтесь, я не сумасшедший. — Я уж теперь ничего не боюсь. Да и с психом иметь дело сподручней, чем с иудой. А год сейчас трудный — сорок третий год. Либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале. Ну, а день помнить незачем: все одно до утра не доживем. Вы в какой камере? — Не знаю, — сказал я. — В шестой, должно быть. Туда вчера сбитого летчика привезли. Прямо из городской больницы. Подлечили и привезли. Не вас, случайно? Я промолчал. Теперь вспомнилось, как это было, вернее, как могло быть. В январе сорок третьего я летел на Большую землю из урочища Скрипкин бор в партизанском краю Приднепровья. Близ Колпинска нас накрыли немецкие зенитные батареи. Самолет тогда чудом прорвался, но в этой фазе пространства — времени мы, должно быть, не прорвались. А в больницу, вероятно, привезли не сбитого летчика, а раненого пассажира. А из больницы — в шестую камеру и оттуда на “исповедь”, как сказал мой спутник. Что он подразумевал под этим, было ясно без уточнения. Больше мы не разговаривали, и, только когда машина остановилась и грохнула щеколда на двери, он что-то шепнул мне на ухо, но что, я так и не расслышал, а переспросить не успел: он уже спрыгнул на мостовую и, отстранив конвоира, помог мне спуститься. Удар приклада в спину тотчас же отшвырнул его к подъезду. За ним последовал и я. Немецкие солдаты спешили по бокам, визгливо покрикивая: — Шнелль! Шнелль! Нас разделили уже на первом этаже, где моего спутника- лица его я так и не рассмотрел — увели куда-то по коридору, а меня поволокли по лестнице в бельэтаж, именно поволокли, потому что каждый пинок посылал меня в нокдаун. Так продолжалось до комнаты с голубыми обоями, где под стать им восседал за письменным столом тучный блондин с такими же голубыми глазами. Его черный эсэсовский мундир сидел на нем, как школьная курточка, да и сам он походил на растолстевшего школьника с рекламы немецких кондитерских изделий. — Ви имеет право сесть. Вот здесь. Хир. — И он указал на плюшевое кресло у стола, должно быть заимствованное из реквизита местного городского театра. Ноги у меня подкашивались, голова кружилась, и я сел, не скрывая удовольствия, что и было тут же замечено: — Ви совсем выздоравливайт. Очень хорошо. А теперь говорить правду. Вархейт! — сказал мальчикоподобный эсэсовец и выжидательно замолчал. Молчал и я. Страха не было. От страха спасало ощущение иллюзорности, отстраненности всего происходящего. Ведь это случилось не в моей жизни и не со мной, и это хилое, измученное тело в грязном ватнике и разбитых солдатских ботинках принадлежало не мне, а другому Сергею Громову, живущему в другом времени и пространстве. Так утешали меня физика и логика, а физиология болезненно опровергала их при каждом вздохе, при каждом движении. Сейчас это тело было моим и должно было получить все то, что ему предназначалось. Я тревожно спрашивал себя, хватит ли у меня сил, хватит ли воли, выдержки, мужества, внутреннего достоинства, наконец? В дни войны было легче. Мы все были подготовлены к таким случайностям всей обстановкой военных лет, всем строем тогдашней жизни и быта, всем духом суровой и очень строгой к человеку эпохи. Был готов, вероятно, и Сергей Громов, которого я сменил сейчас в этой комнате. Но готов ли я? На какое-то мгновение мне стало холодно и — боюсь признаться — страшно. — Ви меня понимать? — спросил эсэсовец. Я кивнул: — Вполне. — Тогда говорить. Вифиль зольдатен Столбиков хат? Иметь в отряде? Зольдатен, партизанен. Сколько? — Не знаю, — сказал я. Я не солгал. Я действительно не знал численности всех партизанских соединений, находившихся под командованием Столбикова. Она все время менялась. То какие-то группы уходили в глубокую разведку и по неделям не возвращались, то отряд пополнялся за счет соединений, оперировавших на соседних участках. Кроме того, у моего Столбикова был один состав, а у Столбикова, живущего в этом пространстве-времени, мог быть другой — больше или меньше. Любопытно, если бы я рассказал обо всем, что знал, совпало ли бы это с действительностью, интересовавшей эсэсовца? Судя по знакам отличия, это был оберштурмфюрер. — Говорить правду, — повторил он строже. — Так есть лучше. Вархейт ист бессер. — А я и вправду не знаю. Голубые его глаза заметно побагровели. — Где ваш документен? Хир! — закричал он и швырнул на стол мои бумажник (я не был убежден, что это мой, но догадывался). — Мы все знать. Аллес! — Если знаете, зачем спрашиваете! — сказал я совершенно спокойно. Он не успел ответить: зажужжал зуммер полевого телефона у него на столе. С неожиданным для него проворством толстяк схватил трубку и вытянулся. Лицо его преобразилось, запечатлев послушание и восторг. Он только поддакивал по-немецки и щелкал каблуками. Потом убрал “мой” бумажник в стол и позвонил. — Вас уводить сейчас, — сказал он мне. — Кейне дейт. Три часа в камере. — Он ткнул большим пальцем вниз. — Подумать, вспомнить и опять говорить! Иначе плохо. Зер шлехт. Меня отвели в подвал и втолкнули в сарай без окон. Я потрогал стены и пол. Сырой, липкий от плесени камень, на земляном полу — жидкая грязь. Ноги меня не держали, но лечь я не рискнул, а сел к стенке на растопыренные пальцы — все-таки суше. Предоставленная мне отсрочка позволяла надеяться на благополучный исход. Опыт может закончиться, и удачливый Гайд покинет поверженного в грязь Джекиля. Но я тут же устыдился этой мыслишки. И Галя, и Кленов, не моргнув, назвали бы меня трусом. Никодимов и Заргарьян не назвали бы, но подумали. Может быть, где-то в глубине души подумала бы об этом и Ольга. Но я, к счастью, подумал раньше. О многом подумал. О том, что я отвечаю за двоих — за него и за себя. Как бы он поступил, я догадывался, могу даже сказать — знал. Ведь он — это я, та же частица материи в одной из форм своего существования за гранью наших трех измерений. Случай мог изменить его судьбу, но не характер, не линию поведения. Значит, все ясно. У меня не было выбора, даже права на дезертирство с помощью никодимовского волшебства. Если бы это случилось сейчас, я попросил бы Никодимова вернуть меня обратно в этот сарай. Должно быть, я заснул здесь, несмотря на сырость и холод, потому что мной овладели сны. Его сны. Усатый Столбиков в папахе, немолодая женщина в ватнике с автоматом через плечо, кромсающая ножом рыжий каравай хлеба, голые ребятишки на берегу пруда в зеленой ряске. Я сразу узнал этот пруд и кривые сосны на берегу и тут же увидел ведущую к этому пруду дорогу меж высоких глинистых откосов. То был уже мой сон, издавна запомнившийся и всегда непонятный. Теперь я точно знал его происхождение. Сны сократили мою отсрочку. Мальчишкообразный, щекастый эсэсовец вновь затребовал меня к себе. На сей раз он не улыбался. — Ну? — спросил он, как выстрелил. — Будем говорить? — Нет, — сказал я. — Шаде, — протянул он. — Жаль. Положить руку на стол. Пальцы так. — Он показал мне пухлую свою ладонь с растопыренными сардельками-пальцами. Я повиновался. Не сразу и не скажу, что без страха, но ведь и к зубному врачу войти порой страшно. Толстяк вынул из-под стола деревяшку с ручкой, похожую на обыкновенную столярную киянку, и крикнул: — Руиг! Деревянный молоток рассчитанно саданул меня по мизинцу. Хрустнула кость, зверская боль пронизала руку до плеча. Я еле удержался, чтобы не вскрикнуть. — Хо-ро-шо? — спросил он, с удовольствием отчеканивая слоги. — Ви говорить или нет? — Нет, — повторил я. Киянка опять взвилась, но я невольно отдернул руку. Толстяк засмеялся. — Рука беречь, лицо не беречь, — сказал он и тем же молотком ударил меня по лицу. Я потерял сознание от боли и тут же очнулся. Где-то совсем близко разговаривали Никодимов и Заргарьян: — Нет поля. — Совсем? — Да. — Попробуй другой экран. — Пробовал. То же. — А если усилить? Молчание, потом ответ Никодимова: — Есть. Но очень слабая видимость. — Может, он спит? — Нет. Активизацию гипногенных систем мы зарегистрировали полчаса назад. Потом он проснулся. — А сейчас? — Не вижу. — Усиливаю. Я не мог вмешаться. Я не чувствовал своего тела. Где оно было? В лаборатории или в камере пыток? — Есть поле, — сказал Никодимов. Я открыл глаза, вернее, приоткрыл их — даже слабое движение век вызывало острую, пронизывающую боль. Что-то теплое и соленое текло по губам. Руку как будто жгли на костре. Вся комната от пола до потолка, казалось, была наполнена мутно дрожащей водой, сквозь которую тускло просматривались две фигуры в черных мундирах. Один был мой толстяк, другой выглядел складнее и тоньше. Они разговаривали по-немецки отрывисто и быстро. Немецкий я знаю плохо и потому не вслушивался. Но, как мне показалось, разговор шел обо мне. Сначала я услышал фамилию Столбикова, потом свою. — Сергей Громов? — удивленно переспросил тонкий и что-то сказал толстяку. Тот забежал ко мне сзади и протер мне лицо носовым платком, пахнувшим духами и потом. Я даже не двинулся. — Громов… Сережка, — повторил по-русски и совсем без акцента второй эсэсовец и нагнулся ко мне. — Не узнаешь? Я всмотрелся и узнал постаревшее, но все еще сохранившее давно памятные черты лицо моего одноклассника Генки Мюллера. — Мюллер, — прошептал я и опять потерял сознание.ГРАФ СЕН-ЖЕРМЕН
Очнулся я уже в другой комнате, жилой, но неуютной, меблированной с претензией на мещанский шик. Пузатая горка с хрусталем, буфет красного дерева, плюшевый диван с круглыми валиками, ветвистые оленьи рога над дверью и копия с “Мадонны Мурильо” в широкой позолоченной раме — все это либо накапливалось здесь каким-то деятелем районного масштаба, либо свезено было сюда из разных квартир порученцами гауптштурмфюрера, оформлявшими гнездышко для начальственного отдохновения. Сам гауптштурмфюрер, расстегнув мундир, лениво потягивался на диване с иллюстрированным журналом в руках, а я украдкой наблюдал за ним из сафьянового кресла у стола, накрытого к ужину. Забинтованная моя рука уже почти не болела, и есть хотелось адски, но я молчал и не двигался, ничем не выдавая себя в присутствии своего бывшего однокашника. Я знал Генку Мюллера с семи лет. Мы вместе пришли в первый класс школы в тихом арбатском переулке и до девятого класса делили все школьные невзгоды и радости. Старший Мюллер, специалист по трикотажным машинам, приехал в Москву из Германии вскоре после рапалльского договора, работал сначала в альтмановской концессии, а потом где-то в “Мострикотаже”. Генка родился уже в Москве и в школе никем не почитался за иностранца. Он говорил так же, как и мы все, тому же учился, читал те же книги и пел те же песни. В классе его не любили, да и мне не нравились его заносчивость и бахвальство, но жили мы в одном доме, сидели на одной парте и считались приятелями. С годами же это приятельство увядало: сказывалась возраставшая разница во взглядах и интересах. А когда после гитлеровской оккупации Польши Мюллеры всей семьей переселились и Германию, Генка, уезжая, позабыл со мной даже проститься. Правда, мой Генка Мюллер был совсем не тот Мюллер, который лежал сейчас на диване в носках без сапог, да и я сам был совсем не тот Громов, который, весь забинтованный, сидел напротив в красном сафьяновом кресле. Но, как показал опыт, фазы смежных существований не меняли в человеке ни темперамента, ни характера. Значит, и мой Генка Мюллер имел все основания вырасти в Гейнца Мюллера, гауптштурмфюрера войск СС и начальника колпинского гестапо. А следовательно, и я мог вести себя с ним соответственно. Он опустил журнал, и взгляды наши встретились. — Проснулся наконец, — сказал он. — Скорее, очнулся. — Не симулируй. После того как наш маг и волшебник доктор Гетцке ампутировал тебе палец и сделал кое-какие косметические штрихи, ты спишь уже второй час. Как сурок. — А зачем? — спросил я. — Что — зачем? — Косметические штрихи зачем? — Личико поправили. Крейман с молотком перестарался. Ну, а теперь опять красавчиком станешь. — Наверно, у господина Мюллера есть невеста на выданье, — засмеялся я. — Так он опоздал. — Господина Мюллера ты брось! Есть Генка Мюллер и Сережка Громов. Уж как-нибудь они сговорятся. — Интересно, о чем? — спросил я. Мюллер встал, потянулся и сказал, зевая: — Что ты все “о чем” да “зачем”? Я тебя из могилы вытащил. Тоже спросишь — зачем? — Не спрошу. Осведомителя из меня хочешь сделать или еще какую-нибудь сволочь. Не гожусь. — Для могилы годишься. — Ты тоже, — отпарировал я. — В могилу еще успеется, а сейчас жрать охота. Он захохотал. — Это ты верно сказал, что в могилу еще успеется. — Он подсел к столу и налил коньяку себе и мне. — Водка у нас дрянная, а коньяк отличный. Привозят из Парижа. Мартель. За что пьем? — За победу, — сказал я. Он захохотал еще громче. — Смешишь ты меня, Сережка. Мудрый тост. Пью. Он выпил и прибавил с кривой усмешкой: — А второй выпью за то, чтобы из этой дыры скорее выбраться. У меня в Берлине дядька со связями. Обещает перевод этим летом. В Париж или в Афины. Подальше от выстрелов. — А что, досаждают? — усмехнулся я. — А то нет? Так и ждешь, что какой-нибудь гад шарахнет из-за угла гранатой. Моего предшественника уже кокнули. А теперь меня приговорили. Я и приговор получил. — Значит, не заживешься, — равнодушно заметил я. Не закусывая, он снова наполнил бокал. Руки его дрожали. — Я и так уж тороплю с переводом. Только бы не тянули. А там отсижусь в Париже, и война, гляди, кончится. — Еще повоюем, — сказал я. — Два с половиной года ждать. Рука его с полным бокалом замерла над столом. — Ровно через два с половиной года, — пояснил я, — а именно восьмого мая сорок пятого года, будет подписано соглашение о безоговорочной капитуляции. Интересуешься, кем? Немцами, дружок, немцами. И где, ты думаешь? В Берлине. Почти на развалинах вашей имперской канцелярии. Он так и не выпил свой коньяк, медленно опустив бокал на стол. Сначала он удивился, потом испугался. Я перехватил его взгляд, брошенный на тумбочку у дивана, где лежал его “вальтер”. Наверно, подумал, что я сошел с ума, и тут же вспомнил об оружии. Но ответить он не успел. Зажужжал зуммер его внутреннего телефона. Он схватил трубку, назвал себя, послушал и о чем-то быстро заговорил по-немецки. Я уловил только одно слово — Сталинград. Вспомнились слова моего спутника по темно-зеленому гестаповскому “ворону”: “…сейчас либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале”. Так и есть: он вернулся к столу с внезапно помрачневшим лицом. — Сталинград? — спросил я. — Ты понимаешь по-немецки? — Нет, просто догадался. Скис ваш Паулюс. Капут. Он предостерегающе постучал ножом о тарелку. — Не говори глупостей. Паулюс только что получил генерал-фельдмаршала. А Манштейн уже подходит к Котельникову. — Разбит давно ваш Манштейн. Разбит и отброшен. И Паулюсу конец. Какое сегодня число? — Второе февраля. Я засмеялся: как приятно знать будущее! — Так вот именно сегодня капитулировал в Сталинграде Паулюс. А ваша Шестая армия или, вернее, то, что от нее осталось, воздавая хвалу фюреру, шагает в плен. Одним словом, отвоевалась! — Замолчи! — крикнул он и взял свой пистолет с тумбочки. — Я таких шуток никому не прощаю. — А я и не шучу, — сказал я, отправляя в рот ломоть консервированной ветчины. — У тебя есть, где проверить? Позвони. Мюллер задумчиво поиграл своим “вальтером”. — Хорошо. Я проверю. Позвоню фон Геннерту, он должен знать. Только учти: если это розыгрыш, я расстреляю тебя самолично. И сейчас. Он подошел к телефону, долго с кем-то соединялся, что-то спрашивал, слушая и вытягиваясь, как на смотре, потом положил трубку и, не глядя на меня, швырнул пистолет на диван. — Ну как, точно? — усмехнулся я. — Откуда ты знаешь? — спросил он, подходя. Лицо его выражало безграничное удивление и растерянность. Он смотрел на меня, словно спрашивал: я ли это или представитель верховного командования в моем обличье. — Фон Геннерт даже удивился, что я знаю. Пришлось выкручиваться. Официально об этом еще не объявлено. — А он тебе сказал, что Гитлер уже объявил траур по Шестой армии? — Ты и это знаешь? Он продолжал стоять, не сводя с меня глаз, растерянный и непонимающий. — И все-таки откуда? Ты не мог знать об этом вчера — это понятно. А сегодня… Кто мог сказать тебе? Кажется, тебя с кем-то привезли сюда? — Утром, — сказал я. — Утром ваш Паулюс еще кряхтел. Он поморгал глазами. — Кто-то мог поймать московскую передачу? — Где? — засмеялся я. — В гестапо? — Не понимаю… — Он развел руками. — В городе об этом еще никто не знает. Убежден. У меня вдруг мелькнула мысль, что еще можно спасти моего незадачливого Джекиля. До утра ему, видимо, ничто не грозит, но утро он встретит в полном сознании, избавленный от моей агрессии. Тогда за его жизнь я не дам ни копейки. Мюллер церемониться с ним не станет, тем более когда он объявит, что не помнит ничего происшедшего накануне. Значит, надо думать. Игра будет трудная, и кто знает, чем она может окончиться. — Не гадай, Генка, — сказал я, — не угадаешь. Просто я не совсем обычный человек. — Что значит — не совсем обычный? — А ты слыхал о том, как у нас в одном научно-исследовательском институте, — начал я, вдохновенно импровизируя, — была ликвидирована в сороковом году некая исследовательская группа. За границей много шумели об этом. В общем, группа телепатов. — Нет, — растерялся он, — не слыхал. — А ты знаешь, что такое телепатия? — Что-то вроде передачи мыслей? — Примерно, да. Проблема не новая, о ней еще Синклер писал. Только идеалистически, со всякой потусторонней чепухой. А у нас ставились опыты на серьезной научной основе. Понимаешь, мозг рассматривается как микроволновый приемник, воспринимающий на любом расстоянии чужие мысли, как волны непостижимой длины. Что-то меньше микрона. Способность эта есть у каждого, но в зачаточном состоянии. Однако ее можно развить, если найти мозг-перципиент, так сказать, особо восприимчивый к внешней индукции. Многих пробовали, в том числе и меня. Я подошел. Мюллер сел и протер глаза. — Сплю я, что ли? Ничего не понимаю. Я уже по его лицу понял, что игра удалась: он почти поверил. Теперь надо было стереть это “почти”. — Ты когда-нибудь читал о Калиостро или о Сен-Жермене? — спросил я и по девственно пустым глазам его понял: не читал. — История никак не может объяснить их, особенно Сен-Жермена. Этот граф жил в восемнадцатом веке, а рассказывал о событиях двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого веков, словно при том присутствовал. Его считали колдуном, астрологом, Агасфером и наперебой приглашали ко двору европейских монархов. Он, между прочим, и будущее предсказывал, и довольно удачно. Но объяснить, что это за человек, никто так и не мог. Историки отмахивались: шарлатан, мол, а надо было сказать: телепат. Вот и все. Он принимал мысли из прошлого и будущего. Как и я. Мюллер молчал. Я уже не догадывался, о чем он думал. Может быть, он раскусил мое шарлатанство? Но у меня был все-таки один неопровержимый и непобитый козырь — Сталинград. — Будущее? — задумчиво повторил он. — Значит, ты можешь предсказывать будущее? “Не надо уводить далеко, — подумал я. — Мюллер не глуп и привык мыслить реалистически”. На этом я и сыграл. — Твое предсказать не трудно, — ответил я не менее коварно на его коварный вопрос. — Сам понимаешь: после Сталинграда подпольщики и партизаны повсюду активизируются. Не дожить тебе до лета, Мюллер. Никак не дожить. Он так и скривился в усмешечке: “Хозяин-то положения все-таки я”. А вслух кольнул: — Я тоже могу предсказать твое будущее, без телепатии. Услуга за услугу. — Мужской разговор, — засмеялся я. — Мы же можем изменить будущее. Ты — мое, я — твое. Он вскинул брови, опять не поняв. Ну что ж, раскроем карты: — Ты переправишь меня к партизанам. Притом сегодня же. А я гарантирую тебе бессмертие до конца месяца. Ни пуля, ни граната тебя не тронут. Он молчал. — Теряешь ты немного — мою жизнь, а выигрываешь куш — свою. — До конца месяца, — усмехнулся он. — Я не всесилен. — А гарантии? — Мое слово и мои документы. Ты ведь их видел. И догадался, должно быть, что и я кое-что могу. Он долго раздумывал, молча и рассеянно блуждая взором по комнате. Потом разлил остатки коньяка по бокалам. Он ничего не ел, и хмель уже сказывался: руки дрожали еще больше. — Ну что ж, — процедил он, — посошок на дорогу? — Не пью, — сказал я. — Мне нужна ясная голова и рука твердая. Ты мне дашь оружие, хотя бы твой “вальтер”, и руки свяжешь легонько, чтоб сразу освободиться. — А под каким соусом я тебя отправлю? У меня тоже начальство есть. — Вот ты и отправишь меня к начальству повыше. Какой-нибудь лесной дорогой. — Придется ехать с шофером и конвоиром. Справишься? — Надеюсь, конвоира тебе не жалко? — Мне машину жалко, — поморщился он. — Машину я тебе верну вместе с водителем. Идет? Он подошел к телефону и начал вызванивать. Я даже подивился той быстроте, с какой он все это проделал. Через какие-нибудь полчаса гестаповский “оппель-капитан” уже бороздил запорошенный снегом проселок. Рядом со мной, положив автомат на колени, сидел тощий фриц со злым лицом. Пусть злится. Это меня не тревожило, равно как и мое обещание Мюллеру. Ведь обещал я, а не Громов, который в конце концов окажется на моем месте. Только когда это произойдет и где? Если в машине, то я должен сделать все, чтобы мой злополучный Джекиль быстро сориентировался. Я потянул не туго связанные на спине руки. Ремешок сразу ослаб. Еще рывок — и я уже мог положить освободившуюся правую руку в карман ватника, прихватив ею ледяную сталь пистолета. Теперь надо было только ждать: каким-то шестым, а может быть, шестнадцатым чувством я уже предугадывал странную легкость в теле, головокружение и тьму, гасившую все — свет, звуки, мысли. Так и произошло. Я очнулся под рукой Заргарьяна, снимавшего датчики. — Где был? — спросил он, все еще невидимый. — В прошлом, Рубен. Увы… Он горестно вздохнул. Никодимов уже на свету просматривал пленку, извлеченную из контейнера. — Вы следили за временем, Сергей Николаевич? — спросил он. — Когда вошли и когда вышли из фазы? — Утром и вечером. День. — Сейчас двадцать три сорок. Совпадает? — Примерно. — Пустяковое отставание во времени. — Пустяковое? — усмехнулся я. — Двадцать лет с гаком. — В масштабе тысячелетий ничтожное. Ио меня волновали не масштабы тысячелетий. Меня волновала судьба Сережки Громова, оставленного мной почти четверть века назад на колпинском пригородном проселке. Думаю, впрочем, он не потерял времени даром.ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Новый эксперимент начался буднично, как визит в поликлинику. Накануне я не собирал друзей, Заргарьян не приезжал, и поутру меня никто не напутствовал. В институт я добрался на автобусе, и Никодимов тут же усадил меня в кресло, не уточняя градуса моей доброй воли и готовности к опыту. Он только спросил: — Когда у вас в прошлый раз начались неприятности? К вечеру, во второй половине дня? — Примерно. На улице уже темнело. — Приборы зафиксировали сон, потом нервное напряжение повысилось — и, наконец, шок… — Точно. — Я думаю, мы теперь сумеем предупредить это осложнение, если оно возникнет, — сказал он. — Вернем ваш психический мир обратно. — Я именно этого и не хотел. Вы же знаете, — возразил я. — Нет, сейчас мы рисковать не будем. — Какой риск? Кто говорит о риске? — загремел Заргарьян, появляясь как призрак — весь в белом на фоне белых дверей. Он был в соседней камере — проверял усилители. — За одну минуту твоего путешествия отдаю год жизни. Это уже не наука, как думает Никодимов, — это поэзия. Ты любишь Вознесенского? — Относительно, — сказал я. Он продекламировал: — “В час осенний… сквозь лес опавший… осеняюще и опасно… в нас влетают, как семена… чьи-то судьбы и имена…” — Он оборвал цитату и спросил: — Что запомнил? — “Осеняюще и опасно”, — сказал я. Я уже его не видел: он говорил из темноты. — Главное — осеняюще! Поэтому будем торжественны. Учти, ты у врат будущего. — Ты в этом уверен? — донесся голос Никодимова. — Бесповоротно. Больше я ничего не слыхал. Звуки погасли до тех пор, пока в мертвую тишину эту не ворвался какой-то монотонный, громыхающий гул. Тишины уже не было, и даже тумана не было. Я покачивался в мягком кресле у широкого, чуть вогнутого наружу окна. Рядом со мной и напротив сидели в таких же креслах незнакомые мне люди. Обстановка напоминала огромную кабину воздушного лайнера или вагон пригородного дачного поезда, где сидят по трое друг против друга по бокам прохода от двери к двери. Этот проход тянулся, должно быть, метров на пятьдесят. Я старался осмотреться, не разглядывая соседей, искоса, не подымая глаз. Первое, что привлекло внимание, — были мои руки, большие, странно белые, с сухой и чистой кожей, какая бывает после частого и придирчивого мытья. И, самое главное, это были руки старого человека. Сколько же мне лет и кто я по профессии? — подумал я. — Лаборант, врач, ученый? Руки и костюм — не новый, но и не очень заношенный, из странно выглядевшего материала с непривычным рисунком, — не давали прямого ответа, а гадать было бессмысленно. Я посмотрел в окно. Нет, это был не воздушный лайнер, потому что летели мы слишком низко для такого крупного самолета, ниже, что называется, бреющего полета. Но это был и не поезд, потому что летели мы над землей, над домами и перелесками, едва не срезая верхушек сосен и елей, причем именно летели так, что пейзаж за окном сливался и мутнел. Я достал платок из кармана и протер глаза. — Болят? — сочувственно заметил пассажир, сидевший против меня, седой, морщинистый человек в золотых очках без дужек, непонятно как висевших над переносицей. — Забываем на склоне лет, что в окошечко уже не посмотришь. Это вам не пятидесятые годы. Обсервейшн-кар! В таком каре только пушкинских “Бесов” читать: “Мутно небо, ночь мутна…” — А что, не нравится? — спросил не без вызова молодой человек, сидевший с краю. — Нет, почему? Кому ж это не понравится? Из Ленинграда в Москву за полтора часа. Новинка. — Почему новинка? — пожал плечами молодой человек. — О монорельсовых дорогах говорили еще лет двадцать назад. Это только модернизация. А вы, чем в окно смотреть, телевизор включите, — сказал он мне. Я замешкался, не совсем понимая, где этот телевизор и как ею включать. Меня предупредил мой седой визави: нажал какой-то рычажок сбоку, и окно закрыл знакомый голубой экран. Изображение возникло в нем как-то в глубине, позволяя видеть его даже сидящим сбоку, как и я. Оно было цветным и стереоскопическим и представляло огромный многоэтажный дом, красиво отделанный серыми и красными плитками. На его плоскую крышу в беспримесной лазури неба опускался вертолет. “Передаем новости дня, — сказал невидимый диктор. — Посещение руководителями партии и правительства трехсотого дома-коммуны в Киевском районе столицы”. Группа хорошо одетых немолодых людей вышла из кабины вертолета и скрылась под куполом из органического стекла. Замелькали лифты-скоростники и лифты-эскалаторы. Объектив аппарата устремился вниз, к зеркальным витринам первого этажа. “Весь этаж занимают магазины, мастерские и столовые, обслуживающие население дома”. Гости неторопливо прохаживались по этажам и комнатам, обставленным с необычным для меня выбором красок и форм. “Один поворот пластмассового рычага — и постель уходит в стенку, выдвигая спрятанный книжный шкаф. А эту кушетку вы можете расширить и удлинить: ее металлические крепления и губчатая поверхность растягиваются вдвое”. А следом уже открывалась перспектива этажных холлов с большими телевизионными и киноэкранами. “Этот этаж целиком предоставлен молодежи, предпочитающей жить отдельно”, — комментировал диктор, раздвигая для нас стены непривычно меблированных комнат. — Не понимаю. Зачем все это делается? — пренебрежительно фыркнула дама с вязаньем, наискосок от меня. Я взглянул на юношу, сидевшего с краю, ожидая его реплики, и не ошибся. Как он был похож на юношей, которых я знал! Он принял от них эстафету горячности, почти мальчишеской запальчивости, непримиримости ко всему, что не идет в ногу с веком. — Дома-коммуны не сегодня начали строить, а вам все еще непонятно зачем, — сказал он. — Непонятно, — упорствовала дама. — Слава богу, от коммунальных квартир избавились, а тут опять! — Что — опять? — Ваши дома-коммуны. Жилищные склоки воскрешаем. — Не говорите глупостей! Люди уходят от изолированных отдельных квартир не к прошлому, а к будущему. Не к коммунальным квартирам, а к домам-коммунам. А это новое качество быта! Дама с вязаньем умолкла. Никто ее не поддержал. А на экране уже подымались нефтяные вышки, отвоевывая свинцово-багровое небо у елей и лиственниц. “Мы с вами в Третьем Баку, — продолжал диктор, — на только что освоенном новом участке Якутского нефтеносного района Сибири”. Третье Баку! На моем веку их было только два. Сколько же лет прошло? Я обращал этот же молчаливый вопрос и к хирургам в белых халатах, демонстрировавшим на экране бескровную операцию пучком нейтронных лучей, и к изобретателям состава для склеивания ран, и к самому диктору, появившемуся, наконец, перед зрителями. “В заключение я хочу напомнить нашим зрителям о дефицитных профессиях, в которых остро нуждается наше хозяйство. По-прежнему требуются наладчики автоматических цехов, диспетчеры телеуправляемых шахт, операторы атомных электростанций, сборщики универсальных электронно-счетных машин”. Голубой экран погас. Уже другой голос откуда-то сверху подчеркнуто произнес: “Подъезжаем к Москве. Включаем предупредительные огни. Одновременно с зеленым светом будет включен эскалатор”. Над дверью впереди запрыгали красные огоньки. Потом они потемнели и стали синими. Затем их размыл и унес ярко-зеленый, свет. Вышедшие в проход пассажиры поплыли вперед вместе с полом. Поплыл и я, так и не заметив остановки вагона. Я и не увидел его снаружи. Эскалаторная дорожка, ускоряя движение, привела нас в вестибюль метро. Я не узнал его, да, честно говоря, и не успел рассмотреть: мы понеслись с быстротой ракеты, замедлив движение только у эскалаторных лестниц, которые и вынесли нас на перрон. “Где же кассы? — подумал я. — Неужели метро бесплатно?” Утвердительным ответом был поток пассажиров, хлынувший к открытым дверям подошедшего поезда. Я вышел на площади Революции, которую узнал сразу: и под землей, где меня встретили знакомые бронзовые скульптуры в аркаде, и на земле, где уже издали сквозь зеленую сетку сквера глядели на меня желтые колонны Большого театра. И памятник Марксу стоял на том же месте, только вместо невзрачного “Гранд-отеля” высилось гигантское белое здание, сверкавшее ребрами из нержавеющей стали, а вместо бокового крыла “Метрополя” уходила вправо перспектива шумной многоэтажной улицы. И пейзаж в движении показался мне давно знакомым, почти не изменившимся. По-прежнему по широким тротуарам так же неторопливо и часто струились многоцветные капельки человеческого потока, еще более расцвеченные высоким по-летнему солнцем. А по асфальтовым каналам площади, огибая тротуары, завихрялся другой, столь же пестрый автобусно-автомобильный поток. Но присмотревшись внимательнее, я легко обнаружил различие. Другой покрой и другая расцветка одежды, другие линии и формы машин. Большинство их шло без колес, на воздушной подушке, напоминая лобастых китов или дельфинов, беззвучно плывущих в воздухе, “Сколько же лет прошло?” — снова спросил я себя и снова не мог ответить. Перейти площадь было нельзя: чугунное кружево решетки вилось вдоль тротуара и только на остановках золотых сигарообразных автобусов открывало проходы на мостовую. Я пошел вниз, к Александровскому саду, миновав Исторический музей, заглянул в пролет Красной площади. Там все было привычно — и зубчатка древней стены, и часы на Спасской башне, строгий массив Мавзолея и архитектурное чудо Василия Блаженного. Но огромного здания гостиницы, которую у нас уже начали строить в Зарядье, не было видно вовсе. Только еще дальше, может быть на противоположном берегу Москвы-реки, поднимались за храмом незнакомые высотные здания. Я прошел в сад и присел на скамейку. И хотя город уже кипел своей полнокровной, стремительной жизнью, здесь в эти утренние часы, как и у нас, было почти безлюдно. По правде сказать, я растерялся. Куда и зачем идти? Где мой дом? Кто я? И что предстоит мне пережить сегодня? Я нащупал в кармане бумажник, очень пухлый и плотный, из мягкого, прозрачного пластика. Уже сквозь него, не вынимая карточки, я прочел на ней мое имя, профессию и адрес. Я опять был служителем Гиппократа, чем-то руководившим в университетской хирургической клинике, и, должно быть, знаменитостью, потому что нашел в бумажнике поздравления от трех заграничных ученых обществ, присланные профессору Громову ко дню его шестидесятилетия. Итак, двадцать лет спустя! Для меня — уже старость, для науки — “шаги саженьи”. Д’Артаньяна, ехавшего на встречу с Арамисом и Атосом, терзали сомнения: не горько ли будет увидеть состарившихся друзей? Сомнения его рассеялись, но рассеются ли мои? Я мысленно представил себе визит по адресу, обозначенному на карточке. Дверь, наверное, откроет Ольга, постаревшая на двадцать лет. А вдруг не Ольга? Усложнять ситуацию явно не хотелось. Я машинально перебрал пачку денежных купюр, лежавших в бумажнике. На один день в будущем наверняка хватит. Так что же делать? Может быть, просто пройтись по улицам, объехать город, увидеть побольше, подышать в буквальном смысле воздухом будущего? Разве этого мало? Для Заргарьяна и Никодимова — увы! — мало! Какое материальное подтверждение я мог принести им из будущего? Пойти в Ленинскую библиотеку — она, конечно, существует и здесь, — порыться в каталогах, поинтересоваться тематикой научных журналов? Допустим, мне даже удастся найти что-нибудь близкое работам моих ученых друзей. Допустим. Но пойму ли я что-нибудь в статьях ученых восьмидесятых годов, если порой даже элементарные популяризаторские попытки Заргарьяна бессильны преодолеть мое математическое невежество? Выучить наизусть запись какой-нибудь формулы? Да я забуду ее тотчас же! А если их серия? Если мне встретятся совсем уже незнакомые математические символы? Нет, чушь зеленая — ничего не выйдет! С такими мыслями я побрел на остановку такси. Впереди меня была только одна женщина; она, видимо, торопилась, то и дело поглядывая на ручные часы. — Уже десять минут жду — и ни одной машины, — сказала она. — Конечно, на автобусе проще и бесплатно к тому же, но на автупре занятнее. — На автупре? — переспросил я. — Вы, наверно, приезжий, — улыбнулась она. — Так мы называем такси без водителя, с автоматическим управлением. Прелесть! Но первый же автупр привел меня в содрогание. Что-то противоестественное было в этой лобастой машине без колес и шофера, бесшумно подплывавшей к нам и выбросившей на остановке четыре паучьи ножки. Невидимка за рулем открыл дверь, пассажирка села и что-то сказала в микрофон. Так же бесшумно исчезли ножки, закрылась дверь, и машина пропала за поворотом. Я долго и, должно быть, с глупым видом смотрел ей вслед, растерянно спрашивая себя: “А что ты скажешь в микрофон и как будешь рассчитываться, если не хватит мелочи?” Я уже подумывал о бегстве, как на остановке появился еще пассажир. В его подчеркнутой худобе и седине с прочернью была какая-то своеобразная элегантность, а Курчатовская подстриженная борода лопаткой придавала ему чуть вызывающий вид. — Спешу, — признался он, нетерпеливо оглядывая площадь. — Вон идет, кажется. Лобастый автупр уже подплывал, подруливая к остановке. — Охотно уступлю вам очередь, — сказал я. — Я не спешу. — Зачем? Вместе поедем, если не возражаете. Сначала отвезем вас, потом меня. В темных его глазах мелькнуло что-то до жути знакомое. Тот же высокий, покатый, с зализами лоб, тот же взгляд, пронзительный и насмешливый. Только борода была лишней. Неужели он?ПОСТАРЕВШИЙ ЗАРГАРЬЯН
Я еще раз придирчиво заглянул ему в глаза. Он. Мой Заргарьян, только постаревший на двадцать лет. Но я и виду не подал, что узнал его. — Куда вам? — спросил он. Я только плечами пожал: не все ли равно куда ехать человеку, двадцать лет не видевшему Москвы? — Тогда поехали. Чур, не возражать — я гид. Кстати, где вы обедаете? Хотите в “Софии”? Вместе? Честно говоря, не люблю обедать один. Он и к пятидесяти годам не утратил мальчишеской пылкости. И в роль гида вошел сразу и горячо. — По улице Горького не поедем. Ее почти не перестраивали. Лучше по Пушкинской. Совсем новая улица — не узнаете. Запрограммировано? Он продиктовал маршрут в микрофон. Такси, беззвучно захлопнув дверь, поплыло, огибая сквер. — А как рассчитываетесь? — спросил я. — Вот в эту копилочку. — Он показал на щель в панели под ветровым стеклом. — А если мелочи нет? — Побеспокоим разменное устройство. Такси уже свернуло на Пушкинскую, похожую на Пушкинскую моих дней, как Дворец съездов на заводской клуб. Может быть, она была внешне иной и в шестидесятые годы: ведь подобие миров не предполагает их идентичности, но сейчас и здесь она была иной и масштабно, и качественно. Двадцатиэтажные взлеты стекла и пластика, не повторяя друг друга, вписывались в скалистый орнамент каньона, на дне которого кипел многоцветный автомобильный поток. Тротуары, как в торговом пассаже, тянулись в два этажа, соединяясь над улицей кружевными параболами мостов. Такие же мосты связывали и дома, образуя дополнительные аллеи над улицей. — Для велосипедистов, — пояснил Заргарьян, перехватив мой взгляд. — Там же бассейны и площадки для вертолетов. Он добросовестно играл роль гида, с удовольствием смакуя мое удивление. А лобастый наш “дельфин” тем временем пересек бульвар, пролетел столь же неузнаваемую улицу Чехова и подрулил по Садовой к небоскребу “Софии”. Ни площади, ни ресторана я не узнал. Маяковский, будто изваянный из бронзового стекла, так и блистал на солнце, вздымаясь над площадью выше колонны Нельсона в Лондоне. Сверкал и параллелепипед ресторана “София”, играя отраженным солнечным светом, как сплав хрусталя с золотом. Ресторанный зал поражал и внутри. Привычно белые столики под старомодно крахмальными скатертями соседствовали со странными геометрическими фигурами, похожими на шатры из дождя и аргоновых нитей. — Что это? — оторопел я. Заргарьян улыбнулся, как фокусник, предвкушая еще больший эффект. — Сейчас увидите. Сядем. Мы сели за один из привычно крахмальных столиков. — Хотите стать невидимым и неслышным для окружающих? Он что-то тронул, подняв уголок скатерти, и зал исчез. Нас отделял от него шатер из дождя без влаги и сырости. В дождь вплетались светящиеся нити без стекла и проводки. Нас окружала благоговейная тишина пустого собора. — А выйти можно? — Так это же воздух, только непрозрачный. Светозвукопротектор. У нас в лаборатории мы применяем черный. Абсолютная темнота. — Я знаю, — сказал я. Теперь удивился он, подслушав в моем ответе что-то для себя новое. Мне надоело играть в загадки. — Вы Заргарьян? Рубен Захарович? — спросил я, уже совершенно уверенный, что не ошибаюсь. — Узнали, — усмехнулся он. — Значит, и борода не помогла. — Я по глазам вас узнал. — По глазам? — опять удивился он. — На газетных и журнальных портретах глаза хорошо не выходят. А где же вы меня еще видели? В кино? — Вы по-прежнему занимаетесь физикой биополя? — начал я осторожно. — Тогда не удивляйтесь тому, что сейчас услышите. Я вам сказал неправду о том, что двадцать лет не был в Москве. Я вообще не был в этой Москве. Никогда. — Я помедлил немного, ожидая его реакции, но он молчал, продолжая рассматривать меня с возрастающим интересом. — Мало того, я не то лицо, которое вы сейчас видите. Я фантом в ого оболочке, гость из другого мира. Явление, вам, вероятно, хорошо знакомое. — Вы читали мои работы? — спросил он недоверчиво. — Нет, конечно. У нас вы их еще не опубликовали. Ведь наше время отстает от вашего лет на двадцать. Заргарьян вскочил: — Позвольте, только теперь я вас понял. Значит, вы из другой фазы. Вы это хотите сказать? — Именно. Он помолчал, поморгал глазами, отступил на шаг. Светящаяся пелена дождя наполовину скрыла его, комически срезав часть затылка, спины и ног. Потом он снова вынырнул и сел против меня, с трудом сдерживая волнение. Лицо его словно засветилось изнутри, и в этом свечении были и сокрушающее удивление человека, впервые увидевшего чудо, и радость ученого, что это чудо совершается в его присутствии, и счастье ученого, могущего управлять такими чудесами. — Кто вы? — наконец спросил он. — Имя, специальность? Я засмеялся. — Чудно как-то говорить от имени двух человек, но приходится. Имя одно и здесь, и там. Звание — профессор. Это здесь. А там — без званий, можно сказать, рядовая личность. И специальности разные: здесь — медик, хирург видимо, а там — журналист, газетчик. Да еще там я моложе на двадцать лет. Как и вы. — Любопытно, — сказал Заргарьян, все еще оглядывая меня с интересом. — Все мог ожидать, только не это. Сам отправлял людей за пределы нашего мира, но чтобы здесь такого гостя встретить — об этом и не мечтал. И дурак, конечно. Ведь материя едина по всей фазовой траектории. Я здесь, и я там — вот и засылаем друг к другу гостей. — Он засмеялся и вдруг спросил совсем в другой интонации: — А кто ставил опыт? — Никодимов и Заргарьян, — лукаво ответил я, готовый к новому взрыву удивления. Но он только спросил: — Какой Никодимов? Теперь удивился я. — Павел Никитич. Разве это не его открытие? Разве вы не с ним работаете? — Павел умер одиннадцать лет назад, так и не добившись признания при жизни. Фактически это его открытие. Я пришел к нему другими путями, как психофизиолог. (Мне послышалась затаенная горечь в его словах.) К сожалению, первые удачи с наложением биополя пришли уже позже. Мы ставили опыты с его сыном. Я даже не знал, что у Никодимова был сын. Впрочем, возможно, он был только здесь. — А вы счастливее нас, — задумчиво произнес Заргарьян, — начали-то раньше. Через двадцать лет вы добьетесь гораздо большего. Это ваш первый опыт? — Третий. Сперва я побывал рядом, совсем в подобных мирах. Потом подальше — в прошлом. А сейчас еще дальше — у вас. — Что значит “ближе” или “дальше”? “Рядом”, — саркастически повторил он. — Какая-то наивная терминология! — Я полагаю….. — замялся я, — что миры… или, как вы говорите, фазы с иным течением времени находятся дальше от нас, чем совпадающие… Он откровенно рассмеялся. — “Ближе, дальше”!.. Это они вам так объясняют? Дети. Я обиделся за моих друзей. И вообще мой Заргарьян мне нравился больше. — А разве четвертое измерение не имеет своей протяженности? — спросил я. — Разве теория бесконечной множественности его фаз ошибочна? — Почему четвертое? — знакомо закипел Заргарьян. — А вдруг пятое? Или шестое? Наша теория не определяет его очередности или направления в пространстве. И кто вам сказал, что она ошибочна? Она ограничена, и только. Слова “бесконечная множественность” просто нельзя понимать буквально. Так же как и бесконечность пространства. Уже вашим современникам это было известно. Уже тогда релятивистская космология исключала абсолютное противопоставление конечности и бесконечности пространства. Поймите простую вещь: конечное и бесконечное не исключают друг друга, а внутренне связаны. Свя-за-ны! — скандируя, повторил он и усмехнулся, заглянув в мои пустые глаза. — Что, сложно? Вот так же сложно объяснить вам, что здесь “ближе” и что “дальше”. Я могу переместить ваше биополе в смежный мир, опередивший нас на столетие, но где он находится, близко или далеко, геометрически определить не смогу. — Он вдруг дернулся и замер, словно ого веселый бег мысли что-то оборвало или остановило. Секунду — другую мы оба молчали. — А ведь это идея! — воскликнул он. — Вы о чем? — О вас. Хотите прыгнуть в будущее еще дальше? — Не понимаю. — Сейчас поймете. Я усложняю ваш опыт. Вы едете со мной в лабораторию, я отключаю ваше биополе и перевожу его в другую фазу. Что скажете? — Пока ничего. Обдумываю. — Боитесь? А риск все тот же. И там вам сорок, а не шестьдесят — сердце в порядке, иначе бы не рисковали. Я бы с наслаждением поменялся с вами, да не гожусь. Знаете, как трудно найти мозг-индуктор с таким напряжением поля? — Вы же нашли. — Троих за десять лет. Вы четвертый. И считайте, что вам повезло. Обещаю экскурсию поинтереснее полета на Марс. Подыщу вам потомка в пятом колене с таким же полем. Скачок лет на сто, а? Ну что… что вас смущает? — Мое биополе. Вдруг они его потеряют? — Не потеряют. Я сначала верну вас обратно. Минуточку даже поприсутствуете в своем пространстве, а потом очнетесь в другом. Не бойтесь, взрыва не будет, ни извержения, ни излучения. А ваша аппаратура зафиксирует все, что надо. Ну как, летим? Он поднялся. — А обед? — спросил я. — Потом пообедаем. Мы — здесь, вы — в будущем. — Летим, — сказал я и тоже встал.ЦЕЙТНОТ
Я, повторив слова Заргарьяна, даже не подозревал, что мы именно полетим. Сначала мы поднялись на скоростном лифте на крышу, где приземлялись маршрутные такси-вертолеты, а через две-три минуты уже парили над Москвой, направляясь на Юго-Запад. Панораму Москвы конца века я не забуду до самой смерти. Я все время твердил себе, что это не моя Москва, не та, в которой я родился и вырос и которую отделяют от этой незримые границы пространства-времени и двадцать лет великой преобразующей стройки. Я упрямо внушал себе это, а глаза убеждали в другом. Ведь и у нас в моем мире шла та же стройка в том же темпе и направлении, те же силы ее вдохновляли, ту же цель преследовали. Так, значит, и у нас к концу третьей пятилетки подымется такой же красавец город, может быть даже еще красивее. Я как бы видел картину будущего, жадно всматривался, ища памятные детали, и радовался, как мальчишка, узнавая старое в новом, знакомое, но изменившееся, как изменяется юноша, достигший расцвета лет. Все знакомое сразу бросалось в глаза — Дворец съездов, золотые луковицы кремлевских соборов, мосты через Москву-реку, Большой театр — такой игрушечный сверху, Лужники, университет. Другие высотные здания моих дней терялись в многоэтажном каменном лесу, а может быть, их и не было. Город выплеснулся далеко за линию кольцевой автомобильной дороги — она пролегала на месте нашей, во всяком случае, едва ли с большими отклонениями, но она была шире или казалась шире, и машины, как муравьи, ползли по ней такой же широкой, редко утончавшейся ленточкой. Больше всего поражали эти масштабы и краски городского уличного движения. Радужные автомобильные реки-улицы и ручьи-переулки. Велосипеды и мотоциклы на асфальтовых аллеях, пересекавших город по крышам домов. Вагоны-сороконожки, скользившие по ниточкам монорельсовых эстакадных дорог. А над ними порхавшие от площадки к площадке черно-желтые и сине-белые стрекозы-вертолеты. На одной из таких площадок на крыше огромного, высоченного дома мы и сошли. Самый дом я не успел рассмотреть на подлете, а первое, что бросилось мне в глаза на плоской его крыше, окаймленной высокой металлической сеткой, был широкий бассейн с прозрачной, подсвеченной со дна зеленоватым мерцанием, очень чистой водой. Вокруг теснились шезлонги, резиновые маты, палатки, буфет под туго натянутым парусиновым тентом. — Обеденный перерыв, — сказал Заргарьян, поискав глазами среди купальщиков и сидевших в буфете полуголых людей в плавках и купальниках. — Сейчас мы его найдем. Игорь! — вдруг закричал он радостно. Загорелый атлет в темных, защитных очках, игравший поодаль на теннисном корте, подошел к нам с ракеткой. — Кто-нибудь есть в лаборатории? — спросил Заргарьян. — А зачем? — лениво отозвался атлет. — Они все в шестом секторе. — Установка не обесточена? — Нет, а что? — Познакомься с профессором для начала. — Никодимов, — сказал атлет и снял очки. Он совсем не походил на длинноволосого Фауста. — Что-нибудь случилось? — спросил он. — Нечто непредвиденное и любопытное. Сейчас узнаешь, — не без торжественности произнес Заргарьян. Человек с юмором несомненно нашел бы что-то общее в этой ситуации с моим первым визитом в лабораторию Фауста. Даже кнопку нажал Заргарьян с той же лукавой многозначительностью, и так же включился эскалатор — тогда коридор у входа в лабораторные помещения, сейчас лестница, ведущая с крыши в те же лаборатории. Она плавно поползла вниз, пощелкивая на поворотах. — Вы разрешите, — сказал Заргарьян, — я объясню все этому ребенку на арго биофизиков. Это будет и точнее, и короче. Я тщательно пытался понять что-либо в нагромождении незнакомых мне терминов, цифр и греческих букв. Лексика моего Заргарьяна, даже когда он увлекался и забывал о моем невежестве, так не подавляла меня: я что-то в ней все-таки уяснял. Но молодой Никодимов схватил все на лету и глядел на меня с нескрываемым любопытством. Он уже не казался мне тяжеловесом и тяжелодумом, я даже подивился легкости, с какой он ринулся в уже знакомую мне путаницу штепселей, рычагов и ручек. Впрочем, честно говоря, не так уж знакомую. Все в этом двухсветном зале было крупнее, масштабнее, сложнее, чем в оставшейся где-то в другом пространстве — времени чистенькой лаборатории Фауста. Если ту хотя бы приблизительно можно было сравнить с кабинетом врача, то эта напоминала зал управления большого автоматического завода. Только мигающие контрольные лампочки, телевизорные экраны, бессистемно висящие провода да кресло в центре зала в чем-то повторяли друг друга. Впрочем, не больше, пожалуй, чем новый “Москвич” старую “эмку”. Я обратил внимание на расположение стекловидных экранов: они выстроились параболой вдоль загибающейся по залу панели, похожей на контрольную панель электронно-счетной машины. Подвижной пульт управления мог, по-видимому, скользить вдоль линии экранов в зависимости от намерений наблюдателя. А наблюдать их можно было с интересом: даже в их теперешнем нерабочем состоянии экраны то поблескивали, то гасли, то мерцали, отражая какое-то внутреннее свечение, то слепо стыли в холодной, свинцовой матовости. — Что, не похоже? — засмеялся Заргарьян. — Экраны, — сказал я. — У нас они иначе расположены. И шлема нет. — Я указал на кресло. Шлема действительно не было. И датчиков не было. Я сидел в кресле, как в гостиной, пока Заргарьян не сказал: — Если сравнить вашу эпопею с шахматной партией, вы в цейтноте. Дебют вы разыграли у себя в пространстве. В нашем мире у вас начался миттельшпиль. Причем без всякой надежды на выигрыш. Вы сразу поняли, что никаких сувениров, кроме беспорядочных впечатлений, с собой не привезете. Иначе говоря, еще одна неудача. Сколько раз мы с Игорем были в таком положении! Сколько бессонных ночей, ошибочных расчетов, неоправданных надежд, пока не нашелся наконец мозг-индуктор с математическим развитием. Привез в памяти формулу — так даже академики ахнули! Теперь она известна как уравнение Яновского и применяется при расчетах сложнейших космических трасс. К великому сожалению, ваша намять тут вам не поможет. И вот появляется спасительный вариантик: вы встречаете меня. Загорается свечечка надежды, тоненькая свечечка, но загорается. Тут торопиться надо, еще эндшпиль предстоит, а вы в цейтноте, дружище. Все мы в цейтноте. Напряжение ноля на пределе, вот-вот начнет падать — и бенц! Одиссей возвращается на Итаку. Игорь! — крикнул он. — Скорее закругляйтесь, пора! — Тут он вздохнул и добавил каким-то погасшим голосом: — Пора прощаться, Сергей Николаевич. Доброго пути! На другую встречу, пожалуй, нам уж рассчитывать нечего. Только теперь дошел до меня жуткий смысл происходившего. Прыжок через столетие! Не просто в смежный мир, а в мир совсем иных вещей, иных машин, иных привычек и отношений. На несколько часов, может быть на сутки, Гайд завладеет душой Джекиля, но обманет ли он окружающих, если захочет остаться инкогнито? Его скроет лицо Джекиля, костюм Джекиля, но выдаст язык, строй мыслей и чувств, условные рефлексы, незнакомые тому миру. Не слишком ли велик риск прыжка, закруживший мне голову? Но я ничего не сказал Заргарьяну, не выдал внезапных своих опасений, даже не вздрогнул, когда он дал команду включить протектор. Темнота, как и раньше, окружила меня. Темнота и тишина, сквозь которую, будто издалека, точно в густом и сыром тумане, пробивались едва слышные голоса, тоже знакомые, но почти забытые, словно их отделяла от меня уже преодоленная в прыжке сотня лет. — Ничего не понимаю. Как у тебя? — Исчезло. — А на шестом есть. Только светимость ослаблена. Ты понимаешь что-нибудь? — Есть соображения. Опять вне фазы. Как и тогда. — Но мы же не зарегистрировали шока. — Мы и тогда не зарегистрировали. — Тогда энцефалографы записали сон. Фаза парадоксального сна. Помнишь? — По-моему, сейчас другое. Обрати внимание на четвертый. Кривые пульсируют. — Может, усилить? — Подождем. — Боишься? — Пока нет оснований. Проверь дыхание. — Прежнее. — Пульс? — Тот же. И давление не повышено. Может быть, изменение биохимических процессов? — Так нет же показаний. У меня впечатление вмешательства извне. Или сопротивление рецептора, или искусственное торможение. — Фантастика. — Не знаю. Подождем. — Я и так жду. Хотя… — Смотри, смотри! — Не понимаю. Откуда это? — А ты не гадай. Как отражение? — В той же фазе. — В той ли? И вновь тишина, как тина, поглотила все звуки. Я уже ничего не слышал, не видел и не чувствовал.ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ
Переход от тьмы к свету сопровождался странным состоянием покоя. Как будто я плавал в прозрачном холодноватом масле или пребывал в состоянии невесомости в молочно-белом пространстве. Тишина сурдокамеры окружала меня. Ни дверей, ни окон не было — свет исходил ниоткуда, неяркий, теплый, будто солнечный свет в облаках. Снежное облако потолка незримо переходило в облачную кипень стен. Белизна постели растворялась в белизне комнаты. Я не чувствовал прикосновения ни одеяла, ни простыни, словно они были сотканы из воздуха, как платье андерсеновского голого короля. Постепенно я начал различать окружавшие меня вещи. Вдруг вырисовывался экран с белым кожухом позади, сначала совсем не видный, а если присмотреться, принимавший вид металлического листа, зеркально отражавшего белую стену, постель и меня. Он был обращен ко мне, как чей-то глаз или ухо, и, казалось, подслушивал и подглядывал каждое движение мое или намерение. Как подтвердилось позже, я не ошибся. Возле постели плавала плоская белая подушка с мелкой зернистой поверхностью. Когда я дотронулся до нее, она оказалась сидением стула на трех ножках из незнакомого мне плотного прозрачного пластика. Еще я заметил такой же стол и что-то вроде термометра или барометра под стекловидным колпаком — видимо, прибор, регистрирующий какие-то изменения в атмосфере комнаты. Снежная белизна кругом рождала ощущение покоя, по во мне уже нарастали тревога и любопытство. Отбросив невесомое одеяло, я сел. Белье на мне напоминало егерское, оно так же обтягивало тело, но кожа не ощущала его прикосновения. Я взглянул на экран и вздрогнул: в тусклой зеркальности его возник смутный облик человека, сидевшего на постели. Он совсем не походил на меня, казался гораздо выше, моложе и атлетичнее. — Можете встать и пройтись вперед и назад, — сказал женский голос. Я невольно оглянулся, хотя и понимал, что в комнате никого не увижу. “Ничему не удивляйся, ничему!” Так приказал я себе и послушно прошел до стены и обратно. У стола остановился. — Еще раз, — сказал голос. Я повторил упражнение, догадываясь, что кто-то и как-то за мной наблюдает. — Поднимите руки. Я повиновался. — Опустите. Еще раз. Теперь присядьте. Встаньте. Я честно проделал все, что от меня требовали, не задавая никаких вопросов. — Ну, а теперь ложитесь. — Я не хочу. Зачем? — сказал я. — Еще одна проверка в состоянии покоя. Непонятная мне сила легко опрокинула меня на подушку, и руки сами натянули одеяло. Интересно, как добился этого мой невидимый наблюдатель? Механически или внушением? Бесенок протеста во мне бурно рвался наружу. — Где я? — У себя дома. — Но это какая-то больничная палата. — Как вы смешно сказали: па-ла-та, — повторил голос. — Обыкновенная витализационная камера. Мы ее оборудовали у вас дома. — Кто это “мы”? — Цемс. Тридцать второй район. — Цемс? — не понял я. — Центральная медицинская служба. Вы и это забыли? Я промолчал. Что можно было на это ответить? — Частичная послешоковая потеря памяти, — пояснил голос. — Вы не старайтесь обязательно вспомнить. Не напрягайтесь. Вы спрашивайте. — Я и спрашиваю, — подтвердил я. — Кто вы, например? — Дежурный куратор. Вера седьмая. — Что? — удивился я. — Почему седьмая? — Опять смешно спрашиваете: почему седьмая? Потому что, кроме меня, в секторе есть Вера первая, вторая и так далее. — А фамилия? — Я еще не сделала ничего выдающегося. Спрашивать дальше было опасно. Начинался явно рискованный поворот. — А вы можете показаться? — спросил я. — Это необязательно. Наверное, противная, злая старуха. Педантичная и придирчивая. Послышался смех. И голос сказал: — Придирчивая — это верно. Педантичная? Пожалуй. — Вы и мысли читаете? — растерялся я. — Не я, а когитатор. Специальная установка. Я не ответил, мысленно прикидывая, как обмануть эту чёртову установку. — Не обманете, — сказал голос. — Это непорядочно. — Что? — Не-по-ря-до-чно! — рассердился я. — Некрасиво! Нечестно! Подглядывать и подслушивать нечестно, а в черепную коробку к человеку лезть и совсем подло. Голос помолчал, потом произнес строго и укоризненно: — Первый больной в моей практике, возражающий против когитатора. Мы же не подключаем его к здоровому человеку. А у больного просматриваем все: нейросистему, сердечно-сосудистую, дыхательный аппарат, все функции организма. — Зачем? Я здоров как бык. — Обычно наблюдатели не встречаются с больными, но мне разрешили. Теперь я уже видел, кому принадлежал голос. Отражающая поверхность экрана потемнела, как вода в омуте, и растаяла. На меня смотрело лицо молодой женщины в белом, с короткой волнистой стрижкой. — Можете спрашивать — память вернется, — сказала она. — А что со мной? — Вам сделали операцию. Пересадка сердца. После катастрофы. Вспоминаете? — Вспоминаю, — сказал я. — Из пластмассы? — Что? — Сердце, конечно. Или металлическое? Она засмеялась с чувством превосходства учительницы, внимающей глупому ответу ученика. — Не зря говорят, что вы живете в двадцатом веке. Я испугался. Неужели им уже все известно? А может быть, так и лучше: ничего не надо объяснять, незачем притворяться. Но я на всякий случай спросил: — Почему? — А разве не так? Искусственное сердце применялось давным-давно. Мы заменили его органическим, выращенным в специальных средах. А вы мыслите категориями двадцатого века, как и полагается специалисту-историку. Говорят, вы знаете все о двадцатом веке. Даже какие туфли носили. — На гвоздиках, — засмеялся я. — Что, что? — На гвоздиках. — Не понимаю. Я вздохнул. Распространеннейшее, столетия бытовавшее слово, дожившее до ядерной физики, уже исчезло из словаря двадцать первого века. Интересно, чем они заменили гвозди? Клеем? — Вот что, милая девушка… — начал я. Но она со смехом меня перебила: — Это так в том веке говорили — милая девушка? — Вот именно, — сурово подтвердил я. — Мне надоело лежать, я хочу одеться и выйти. Она нахмурилась. — Одеться вы можете, платье вам будет доставлено. Но выйти пока нельзя. Процесс обсервитации еще не закончен. Тем более после шока с потерей памяти. Мы еще проверим ваш организм в привычных для вас нейрофункциях. — Здесь? — Конечно. Вы получите вашего “механического историка”. Причем лучшую, последнюю его модель. Без кнопочного управления. Настройка автоматическая, на ваш голос. — А вы будете подглядывать и подслушивать? — Обязательно. — Не пойдет, — сказал я. — Не буду же я при вас одеваться и работать. Веселое удивление отразилось в ее глазах. Она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Спросила, прикрыв рот: — Это почему же? — Потому что я живу в двадцатом веке, — отрезал я. — Хорошо, — согласилась она. — Я выключу видеограф. Но внутриорганические процессы останутся под наблюдением. — Ладно, — сказал я. — Хоть вы и седьмая, но все-таки умненькая. Она опять не поняла, но я только рукой махнул. Чехова она явно не читала или не помнила. А миленькая рожица ее на экране уже исчезла. Исчезла вдруг и часть стены, пропустив в комнату что-то похожее на радиатор из переплетенных прямоугольных трубок. “Что-то” оказалось обыкновенной вешалкой, на которой с удобством разместилась моя предполагаемая одежда. Я выбрал узкие светлые брюки, закрепленные внизу, как у наших гимнастов, и такой же свитер, напомнивший мне знакомую вестсайдку. В зеркальном пространстве экрана отразилось нечто, малопохожее на меня, но вполне респектабельное и не оскорбляющее глаз. Не в белье же встречать людей нового века! Я обернулся на шум позади меня, словно кто-то вошел на цыпочках. Но это был не человек, а нечто, отдаленно напоминавшее плоский холодильник или несгораемый шкаф. И вошло оно непонятно как, будто возникнув из воздуха вместо исчезнувшей вешалки. Вошло и замерло, мигнув зеленым глазком индикатора. — Интересно, — сказал я вслух, — должно быть, это и есть мой “механический историк”. Зеленый глазок побагровел. — Сокращенно: Мист-двенадцать, — сказал шкаф ровным, глухим, лишенным интонационного богатства голосом. — Я вас слушаю.ГЛОССАРИЙ МИСТА
Я долго молчал, прежде чем начать разговор. Девушке я поверил: ни подсматривать, ни подслушивать она не будет. Но о чем говорить с этиммеханическим циклопом? Не сеете кий же разговор вести. — Каков объем твоей информации? — спросил я осторожно. — Энциклопедический, — ответил он немедленно. — Более миллиона справок. Могу назвать точную цифру. — Не надо. Предмет справок? — Предел глоссария — двадцатый век. Характер справок неограничен. Мне захотелось его проверить: — Назови мне имя и фамилию третьего космонавта. — Андриан Николаев. И то и другое совпадало. Я подумал и спросил опять: — Кто получил Нобелевскую премию по литературе в шестьдесят четвертом году? — Сартр. Но он отказался от премии. — А кто это Сартр? — Французский писатель и философ-экзистенциалист. Могу сформулировать сущность экзистенциализма. — Не надо. Когда была построена Асуанская плотина? — Первая очередь закончена в шестьдесят девятом году. Вторая… — Хватит, — перебил я, с удовлетворением подумав, что у нас она была построена на пять лет раньше. Не все, очевидно, до буквочки совпадало у нас с этим миром. Мист молчал. Он знал многое. Я мог начать разговор на самую для меня важную тему нашего опыта. Но подойти прямо к ней я все-таки не решился. — Назови крупнейшее из научных открытий в начале века, — начал я осторожно. Он отвечал без запинки: — Теория относительности. — А в конце века? — Учение Никодимова — Яновского о фазовой траектории пространства. Я чуть не подскочил на месте, готовый расцеловать этот многоуважаемый шкаф с мигающим глазом — он подмигивал мне всякий раз, когда отчеканивал свой ответ. Но я только спросил: — Почему Яновского, а не Заргарьяна? — В конце восьмидесятых годов польский математик Яновский внес дополнительные коррективы к теории. Заргарьян же принимал участие только в начальных опытах. Он погиб в автомобильной катастрофе задолго до того, как удача первого миропроходца позволила Никодимову обнародовать это открытие. Я понимал, конечно, что это был не мой Заргарьян, а сердце все-таки защемило. Но кто же был этот первый миропроходец? — Сергей Громов, ваш прадед, — отчеканил Мист своим глуховатым металлическим голосом. Он не удивился нелепости моего вопроса: кто-кто, а уж потомок должен был знать все о делах своего предка. Но в кристаллах кибернетического мозга Миста удивление не было запрограммировано. — Нужна справочная библиография? — спросил он. — Нет, — сказал я и присел на постель, сжимая виски руками. Невидимая мне Вера седьмая меня, однако, не забывала. — У вас участился пульс, — сказала она. — Возможно. — Включаю видеограф. — Погодите, — остановил я ее. — Я очень заинтересован работой с Мистом. Это удивительная машина. Спасибо вам за нее. Мист ждал. Багровый глаз его снова позеленел. — Были научные противники у Никодимова? — спросил я. — Были они и у Эйнштейна, — сказал Мист. — Кто же их принимает в расчет? — А к чему сводились их возражения? — Теорию полностью отвергли церковники. Всемирный съезд церковных организаций в восьмидесятом году в Брюсселе рассматривал ее как самую вредную ересь за последние две тысячи лет. Тремя годами раньше особая папская энциклика объявила ее кощунственным извращением учения о Христе, сыне божием, возвратом к доктрине языческого многобожия. Столько Христов, сколько миров. Этого не могли стерпеть ни епископы, ни патриархи. А видный католический ученый, итальянский физиолог Пирелли назвал теорию фаз самым действенным по своей антирелигиозной направленности научным открытием века, абсолютно несовместимым с идеей единобожия. Совместить здесь кое-что, правда, все же пытались. Американский философ Хеллман, например, объяснял берклианскую “вещь в себе” как фазовое движение материи. — Бред сивой кобылы, — сказал я. — Не понимаю, — отозвался Мист. — Кобыла — это половая характеристика лошади. Сивый — серый. Бред — бессвязная речь. Сумасшествие лошади? Нет, не понимаю. — Просто языковый идиом. Приблизительный смысл: нелепица, чушь. — Программирую, — сказал Мист. — Поправка Громова к русской идиоматике. — Ладно, — остановил я его, — расскажи лучше о фазах. Все ли они подобны? — Марксистская наука утверждает, что все. Опытным путем удалось доказать подобие многих. Теоретически это относится ко всем. — А были возражения? — Конечно. Противники материалистического понимания истории настаивали на необязательности такого подобия. Они исходили из случайностей в жизни человека и общества. Не будь крестовых походов, говорили они, история Средневековья сложилась бы по-другому. Без Наполеона иной была бы карта новейшей Европы. А отсутствие Гитлера в политической жизни Германии не привело бы мир ко второй мировой войне. Все это давно уже опровергнуто. Исторические и социальные процессы не зависят от случайностей, изменяющих те или иные индивидуальные судьбы. Такие процессы подчинены общим для всех законам исторического развития. Я вспомнил свой спор с Кленовым и свой же вопрос. — Но ведь возможна такая случайность: Гитлера нет, не родился. Что тогда? И Мист почти дословно повторил Кленова: — Появился бы другой фюрер. Чуть раньше, чуть позже, но появился. Ведь решающим фактором была не личность, а экономическая конъюнктура тридцатых годов. Объективная случайность появления такой личности подчинена законам исторической необходимости. — Значит, везде одно и то же? Во всех фазах, во всех мирах? Одни и те же исторические фигуры? Одни и те же походы, войны, революции? Одна и та же смена общественных формаций? — Везде. Разница только во времени, а не в развитии. Смены общественно-экономических формаций в любой фазе однородны. Они диктуются развитием производительных сил. — Так думали в прошлом веке, а сейчас? — Не знаю. Это не запрограммировано. Но я вероятностная машина и могу делать выводы независимо от программы. Законы диалектического материализма остаются верными не только для прошлого. — Еще вопрос, Мист. Велико ли по объему математическое выражение теории фаз? — Оно включает общие формулы, расчеты Яновского и систему уравнений Шуаля. Три страницы учебника. Я могу воспроизвести их. — Только устно? — И графически. — Долго? — В пределах минуты. Послышался легкий шум, похожий на жужжание электрической бритвы, и передняя панель машины откинулась наподобие полочки с металлическими держателями. На полочке белели два аккуратных картонных прямоугольника, мелко испещренные какими-то значками и цифрами. Когда я взял их, панель захлопнулась, и так плотно, что даже линия соединения исчезла. Позади меня раздался тоненький детский голос: — Я здесь, пап. Ты не сердишься? Я обернулся. Мальчик лет шести-семи в голубом, как небо, обтягивающем тело костюмчике стоял у глухой белой степы. Он был похож на картинки из детских модных журналов, где всегда рисуют таких красивых спортивных мальчиков.ПРАВО ОТЦА
— Как ты вошел? — спросил я. Он шагнул назад и исчез. Стена, по-прежнему ровная и белая, падала вниз. Потом из нее высунулась лукавая мордочка, и мальчишка, как “человек, проходящий сквозь стены”, вновь возник в комнате. “Светозвукопротектор!” — вспомнил я. Здесь применяли белый, создающий полную иллюзию стен. — Я тайком, — признался мальчишка, — мама не видела, а Вера глаз выключила. — Откуда ты знаешь? — А глаз сюда через гимнастический зал смотрит. Как побегаешь там, она кричит: “Уйди, Рэм! Ты опять в поле зрения”. — Где кричит? — Далеко. В больнице. — Он махнул куда-то рукой. Я не сказал “понятно”, потому что понятно не было. — А Юля плакала, — сообщил Рэм. — Почему же она плакала? — Из-за тебя. Ты опыт не разрешаешь. Ты злой, папка. Так нельзя. — Какой же это опыт? — полюбопытствовал я. — Ее в облачко-невидимку превратят. Как в сказке. Облачко полетит-полетит и вернется. И опять станет Юлькой. — А я не позволяю? — Не позволяешь. Боишься, что облачко не вернется. Теперь я уже совсем заблудился. Как в лесу. Выручила Вера, снова напомнив мне о пульсе. — Верочка, — взмолился я, — объясните, почему я не разрешаю Юльке стать невидимкой? Все память проклятая! Я услышал знакомый смех. — Как вы непонятно говорите: про-кля-тая… Смешно. А с Юлей вы сами должны решить — ваше семейное дело. Именно поэтому к вам рвется Аглая. Боюсь, это вас взволнует. — Давайте, — сказал я храбро. — Не взволнует. Кто такая Аглая, я спросить не рискнул. Как-нибудь выкручусь. Посмотрел на место исчезнувшего Рэма, но Аглая появилась с другой стороны. Вошла она, как хозяйка, и села против меня — рослая, едва ли сорокалетняя женщина в платье загадочного покроя и цвета. Она была бы вполне уместна у нас в президиуме какого-нибудь международного фестиваля. — Ты хорошо выглядишь, — проговорила она, внимательно меня оглядывая. — Даже лучше, чем до операции. А с новым сердцем еще сто лет проживешь. — А вдруг не приживется? — сказал я. — Почему? Биологическая несовместимость пугала только в твоем любимом веке. Я неопределенно пожал плечами, предоставляя ей слово. Начиналась игра в сюрпризы. Кто она вообще? Кто она мне? Кто я ей? Что от меня требовалось? Почва становилась зыбкой, каждый шаг взывал к находчивости и сообразительности. Разговор начался сразу и с неожиданного: — Значит, ты согласился? — На что? — Как будто не знаешь. Я говорила с Анной. — О чем? — Не притворяйся. Все о том же. Ты согласился на эксперимент. Какой эксперимент? Кто это Анна? И почему я должен был соглашаться или не соглашаться? — Тебя заставили? — Кто? — Не говори. Ребенок поймет. Человек после такой операции! Еле пришел в себя. Новое сердце. Склеенные сосуды. А к нему с ультиматумом: соглашайся, и все! — Не надо преувеличивать, — сказал я осторожно. — Я не преувеличиваю. Я точно знаю. Анна поддерживает эту затею не из высоких соображений. Просто у нее нет биологических стимулов: Юлия не ее дочь. Но она твоя дочь! И моя внучка! Я подумал о том, что отец и бабушка, пожалуй, слишком молоды для взрослой дочери, затеявшей какой-то сложный научный эксперимент. Я вспомнил сказку Рэма и улыбнулся. — И он еще улыбается! — воскликнула моя собеседница. Пришлось пересказать ей сказку о невидимке-облачке в интерпретации Рэма. — Значит, Анна не сказала ей о твоем согласии. Умно. Теперь ты можешь взять его назад. — Зачем? — И ты допустишь, чтобы твою дочь превратили в какое-то облако? А если оно растает? Если атомная структура не восстановится? Пусть Богомолов сам экспериментирует! Его открытие — на себе и применяй! Ему, видите ли, не разрешают: стар, мол, и немощен. А нам с тобой легче, оттого что она молода и здорова? — Аглая прошлась по комнате, как Брунгильда в гневе. — Я тебя не узнаю, Сергей. Так яростно был против… — Но ведь согласился, — возразил я. — Не верю я в это согласие! — закричала она. — И Юлия об этом не знает. Скажи ей — она сейчас придет сюда, — пусть отменяют опыт. Человек не единственный хозяин своей жизни, пока у него есть отец и мать. У меня мелькнула надежда: может быть, опыт еще не скоро? — Сегодня. Я задумался. Юльке, очевидно, около двадцати, может, чуть меньше, может быть, больше. Она ассистент профессора или что-то в этом роде. Они идут на эксперимент, который у нас показался бы чистейшей фантастикой и, видимо, даже здесь был связан со смертельным риском для жизни. У отца было право вмешаться и не допустить этого риска. Сейчас это право получил я. И даже отказаться от него не мог, не создав тем самым еще более критической ситуации. Глаза Аглаи смотрели на меня с нескрываемым гневом, но ответить ей сразу я не мог. Сказать “нет” и устранить тревогу у людей, кому дорога судьба этой девушки? Но ее место тут же займет другой, я был уверен в этом, и займет с такой же готовностью к риску. Так можно ли было отнять у нее это право на подвиг? А сказать “да” и, может быть, нанести этим смертельный удар человеку, который сейчас не может вмешаться и поправить меня? — Значит, человек не единственный хозяин своей жизни, пока у него есть отец и мать, — задумчиво повторил я слова Аглаи. Она тотчас же откликнулась: — Такова традиция века. — Хорошая традиция, когда риск безрассуден. А если нет? Если человек рискует во имя более высоких интересов, чем счастье или горе близких? — Чьи же интересы выше? — Родины, например. — Ей не грозит опасность. — Науки. — Она не нуждается в человеческих жизнях. Если кто-то гибнет, виноваты ученые, допустившие гибель. — А если нет вины, если риск — это подвиг? “Брунгильда” снова поднялась, величественная, как памятник. — Тебе сменили не только сердце. Даже не взглянув на меня, она прошла сквозь стену, расступившуюся перед ней, как покорное библейское море. — Вы правильно поступили, — сказала Вера. Я вздохнул: а вдруг нет? — Еще один разговор, и мы снимем наблюдение. Та, с кем я должен был разговаривать, уже находилась в комнате. Описать ее внешность трудно: мужчины обычно не запоминают причесок и костюмов. Что-то строгое, светлое и не так уж далеко ушедшее от наших мод. И что-то общее в лице с какими-то портретами из нашей семейной хроники. Что-то “громовское”. Я невольно залюбовался и строгостью ее черт, и сдержанностью оформляющих ее красок. — Я жду, папа, — сухо сказала она. — И в институте ждут. — Разве тебе не сказали? — Что? — Что я уже не возражаю. Она села и опять встала. Губы ее дрожали. — Папка, золотко, — всхлипнула она и уткнулась носом в мою вестсайдку. Я почувствовал нежный запах незнакомых духов. Так пахнут цветы на лугу после дождя, смывшего пыль. — У тебя есть время? — спросил я. — Расскажи мне об этом опыте. После шока я забыл кое-что. — Я знаю. Но ведь это проходит. — Конечно. Потому я и спрашиваю. Это твое открытие? — Ну что ты… — засмеялась она. — И не мое, и не Богомолова. Это открытие из будущего, из какой-то соседней фазы. Представь себе любой предмет в виде разреженного электронного облака. Скорость перемещения его огромна. Никакие препятствия ему не страшны, он пройдет сквозь любое. Как показали опыты, можно мгновенно перебросить на неограниченное расстояние все, что угодно, — картину, статую, дерево, дом. На днях из-под Москвы перебросили таким способом однопролетный мост через Каспийское море и уже на месте уложили его между Баку и Красноводском. А сейчас опыт с человеком. Пока только в пределах города. — Я все-таки не понимаю как… — Да ты и не поймешь, папка, крот ты мой исторический. Но, в общем, грубо схематически это так: в любом твердом теле атомы плотно прилегают друг к другу своими электронными оболочками. Они не распыляются в пространстве и не проникают взаимно один в другой из-за наличия электростатических сил притяжения и отталкивания. Теперь представь себе, что найдена возможность перестроить эти внутренние межатомные связи и, не изменяя атомной структуры тела, привести ее в разреженное состояние, в каком, скажем, находятся атомы газов. Что получится? Атомно-электронное облако, которое можно опять сгустить до молекулярно-кристаллической структуры твердого тела. — А если… — Какие же “если”? Технология процесса давно освоена. — Она поднялась. — Пожелай мне удачи, пап. — Один вопрос, девочка… — Я задержал ее, взяв за руку. — Ты знаешь формулы теории фаз? — Конечно, их еще в школе проходят. — Ну, а я не проходил. И мне нужно запомнить их хотя бы механически. — Ничего нет проще. Скажи Эрику, он главный у мамы гипнопед. Ты все забыл, пап. У нас и концентратор внушения есть, и рассеиватель. — Она подняла руку к лицу и сказала в крохотный микрофон на браслете: — Сейчас, сейчас, уже готова. Все в порядке. Нет, не надо, не присылайте — доберусь по движенке. Конечно, проще. И удобнее. Ни подниматься, ни опускаться, ни шума, ни ветра. Стал на тротуар — и через две минуты у вас. — Она обняла меня и, прощаясь, прибавила: — Только никаких наблюдений. Я супер выключила. Вас будут информировать регулярно и своевременно. И скажи Эрику и Диру, чтоб не фокусничали, к сети не подключались. И, вся уже в полете, напряженная и нездешняя, как “Бегущая по волнам” у Грина, она скрылась в белой кипени сомкнувшихся за ней стен. Я подошел к тому, что мне казалось стеной. Вера не подавала голоса. Оглянувшись, как вор, я шагнул сквозь стену. Передо мной простирался широкий коридор, ведущий, должно быть, на веранду. Сквозь стекло, а может быть и не стекло, двери я видел потемневшее к вечеру небо и довольно далекий абрис многоэтажного дома. Когда я подошел ближе, ни двери, ни стекла уже не было. Двое мужчин и женщина сидели за низеньким столиком. Рэм скакал на одной ножке вдоль веранды, огороженной вместо барьера низкими, подстриженными кустами. Их крупные кремовые цветы, блестевшие от вечерней росы, показались мне знакомыми, как елочные игрушки. — Папка пришел! — закричал Рэм, повиснув у меня на шее. — Оставь папу, Рэм, — строго сказала женщина. Мягкий свет, падавший откуда-то сверху, скользил мимо, оставляя ее в тени. Наверное, Анна! — Наблюдение уже снято, Сережа, — продолжала она. — Полная свобода передвижения, — засмеялся мужчина постарше, должно быть Эрик. — Неполная, — поправила женщина. — Дальше веранды никуда. Мужчина помоложе, видимо Дир, вскочил и, не глядя на меня, зашагал вдоль кустов. Длинноногий, полуобнаженный, в обтягивающих бедра шортах, он походил на легкоатлета на тренировке. — Только что ушла Юля, — сказал я. — Незачем было разрешать, — буркнул Дир, не оборачиваясь. — Мы все слышали, — пояснила Анна. Все в этом доме все слышат и видят. Попробуй-ка уединись! “Как на сцене живешь”, — с досадой подумал я. — А ведь ты и вправду изменился, — улыбнулась Анна. — Только не могу понять, в чем. Может быть, к лучшему? Я промолчал, встретив внимательный, изучающий взгляд Эрика. — Громова прошла в эйнокамеру, — сказал неизвестно откуда идущий голос. — Слышите? — обернулся Дир. — Все! Была Юля вторая, а теперь уже Громова. — Слава начинается с фамилии, — засмеялся Эрик. Я напомнил им, что супер выключен, прибавив, что Юля просила гостей не подключаться к сети. — Как ты сказал: гостей? — удивилась Анна. — Ну и что? — насторожился я. — У тебя действительно какие-то провалы в памяти. Мы уже полвека не употребляем слово “гость” в его прежнем значении. Ты так зарылся — в историю, что об этом забыл. — Гостем мы называем теперь только пришельцев из других фаз пространства и времени, — как-то странно пояснил Эрик. Ответить я не успел: помешал опять голос. — Подготовка к опыту, — отчеканил он, — проходит по циклам. Никаких отклонений не наблюдается. — Минут через двадцать, раньше не начнут, — сказал Дир. Все промолчали, Эрик не сводил с меня внимательного, пронизывающего взгляда. В нем не было неприязни, но он подымал во мне бессознательную тревогу. — Я слышал вашу просьбу о формулах, когда вы говорили с Юлей, — вдруг произнес он с явно доброжелательной интонацией, — и я с удовольствием помогу вам. У нас есть время, пойдемте. Я встал, искоса поглядев вниз за кусты ограды. Веранда висела на высоте небоскреба. Внизу темнели кроны деревьев — вероятно, уголок городского парка. — Свет! — сказал Эрик, входя в комнату и ни к кому не обращаясь. — Только на лица и на столик. Свет в комнате словно сжался, сгустился до невидимого прожектора, выхватившего из темноты наши лица и маленький столик, оказавшийся возле меня. — Формулы с вами? — спросил Эрик. Я протянул ему карточки Миста. — Мне они не нужны, — засмеялся он, — это ваш урок. Положите на стол и смотрите внимательно. Только верхние ряды, нижние не надо. Это расчеты, которые выполнит элементарная вычислительная машина. А верхние читайте ряд за рядом. — Я их не понимаю, — сказал я. — Этого и не требуется. Смотрите, и только. — Долго? — Пока не скажу. — Где-то у вас есть концентратор внушения, — вспомнил я слова Юльки. — Зачем? — усмехнулся Эрик. — Я по старинке работаю. Теперь взгляните мне в лицо. Я увидел только зрачки его, огромные, как лампадки. — Спите! — крикнул он. Что произошло дальше, я не помню. Кажется, я открыл глаза и увидел пустой столик: — Где же формулы? — Я их выбросил. — Но ведь я ничего не запомнил. — Это вам кажется. Вспомните потом, когда вернетесь домой. Вы же “гость”. Правда? — Правда, — сказал я решительно. — Из какого времени? — Прошлый век. Шестидесятые годы. Он засмеялся тихо и удовлетворенно: — Я понял это еще по данным медицинской обсервитации. Очень уж подозрительно выглядели и шок и потеря памяти. Я следил за вами по видеографу, когда Юля говорила с Богомоловым. У вас было такое лицо, словно вы увидели чудо. Когда она сказала, что поедет по движенке, я понял, что вы ни разу не ступали на движущуюся панель. А мы ездим на ней полвека. Вы забыли все, что рождено современностью, вплоть до семантики слова “гость”. Так можно обмануть хирургов, но не парапсихолога. — Тем лучше, — сказал я, — мне даже повезло, что я вас встретил. Жаль только, что я ухожу, ничего не увидев. Ни домов, ни улиц, ни движении, ни вашей техники, ни вашего строя. Побывать на вершинах коммунистического общества — и ничего не увидеть, кроме больничной палаты! — Почему на вершинах? Коммунизм не стабильная, а развивающаяся формация. До вершин нам еще далеко. Мы делаем сейчас гигантский скачок в будущее, когда завершится мечта Юлии. Ваш мир тоже его сделает, когда вы сумеете воспроизвести запечатленные в памяти формулы нашего века. Пусть пока еще встречаются только мысли, а не люди, но эти встречи миров обогащают, движут вперед мечту человечества. Мне захотелось оставить памятку этому миру, памятку человеку, мозг которого я узурпировал. — Можно, я напишу ему? — предложил я Эрику. — Зачем? Просто скажите. Его голос, но ваши слова. Я оглянулся растерянно и недоуменно. — Магнитофон ищете? У нас другие, более совершенные способы воспроизведения речи. Объяснять долго — просто говорите! — Я прошу простить меня, Громов, за узурпацию вашего места в жизни на эти девять-десять часов, — начал я неуверенно, но сочувственный кивок Эрика как бы подтолкнул меня. — Я только “гость”, Громов, и уйду так же внезапно, как и пришел. Но я хочу сказать вам, что я счастлив, пережив эти часы вашей жизни. Я вмешался в нее, благословив Юлию на подвиг, потому что не мог поступить иначе. Отказаться от решения было бы трусостью, а помешать — обскурантизмом[39]. Я жалею только об одном: я не дождусь победы вашей дочери, а вместе с ней — и вашей науки, и вашего строя. Это великое счастье остается вам. — Сергей, Эрик! — закричал Дир, вбегая. — Началось! — Поздно, — сказал я, чувствуя знакомое приближение черной, беззвучной бездны. — Я ухожу. Прощайте.ВМЕСТО ЭПИЛОГА
За окном — улица, ветер, дождь. Электрический фонарь в мутном дождевом мареве похож на паука, запутавшегося в собственной паутине. Проехал автобус, прорвав выхваченный из темноты косой водяной заслон. Обыкновенная московская осенняя ночь. Я дописываю последние строки уж не знаю чего — очерка, или воспоминаний, или, может быть, интимного дневника, который не рискну напечатать. Но дописать надо. Кленов звонил уже с утра, точно сформулировав число строк для полосы. Впрочем, он тут же оговорился: все зависит от того, как будет реагировать на это мировая научная общественность. Может быть, мне отдадут всю полосу. Заседание Академии наук начнется завтра в десять утра, и когда окончится — неизвестно. Доклад Никодимова, содоклад Заргарьяна, мое слово и выступления наших и зарубежных ученых. По словам Кленова, их съехалось сюда более двухсот человек. Все звезды нашей земной физико-математической галактики, не считая гостей и корреспондентов. Правительственное сообщение я не цитирую — оно всем известно. После него не только мои ученые друзья, но и журналист Сергей Громов проснулся знаменитостью. Более двух месяцев прошло со дня моего возвращения, но мне все еще кажется, что это было только вчера. Я очнулся в лаборатории Фауста, в привычном уже кресле с электродами и датчиками. Очнулся усталый, с чувством горькой, почти непереносимой утраты. Заргарьян о чем-то спрашивал, я отвечал нехотя и неопределенно. Никодимов молча поглядывал на меня, просматривая записи осциллографов. — Мы начали в десять пятнадцать, — вдруг сказал он, — а в час вас потеряли… — Не совсем, — поправил Заргарьян. — Верно. Видимость упала сперва до нуля, потом слабо возобновилась, а затем снова поднялась до критической цифры. Даже с более точной наводкой. Честно говоря, я так ничего и не понял. — В час, — задумчиво повторил я, глядя на Заргарьяна, — в начале первого мы с тобой были в “Софии”… — Бредишь? — С тобой, постаревшим на двадцать лет и с этакой курчатовской бородкой. Словом, в Москве конца века. В той “Софии”. Кстати, она совсем не похожа на нашу. И Маяковский не похож. Выше колонны Нельсона. — Я набрал полные легкие воздуха и выпалил: — А ты взял да и перебросил меня еще вперед лет на сто. Тогда вы меня и потеряли… при второй наводке. Теперь они оба смотрели на меня не то чтобы недоверчиво, а как-то подозрительно строго. А я продолжал, так и не подымаясь с кресла — не было сил встать: — Не верите? Трудно, конечно, поверить. Фантастика. Между прочим, экраны у них в лаборатории в одну линию, параболическую и с передвижным пультом. А на крыше — бассейн… — Я глотнул слюну и замолчал. — Тебе сейчас доппинг нужен, — сказал Заргарьян. Он разболтал в полстакане коньяка два желтка и подал мне, чуть не пролив — так у него дрожали руки. Питье меня взбодрило, я уже мог рассказывать. И я рассказывал и рассказывал взахлеб, а они слушали как завороженные, с благоговением завсегдатаев консерваторских концертных премьер. Потом их прорвало, вопросы застрочили, как пулеметная очередь. Они спрашивали и переспрашивали, и Заргарьян что-то кричал по-армянски, а я снова и снова должен был вспоминать то монорельсовую дорогу, то золотой хрусталь “Софии”, то кресло без шлема и датчиков, то белую витализационную камеру и невидимую Веру седьмую, то Миста с его глоссарием, то рассказ Юльки, в котором, как в матовом стекле, отражался загадочный облик века. Я все никак не мог подойти к главному — к моей встрече с Эриком, а когда подошел, что-то вдруг сверкнуло у меня в памяти ослепительной вспышкой магния. — Бумагу, — сказал я хрипло, — скорее! И карандаш. Заргарьян подал мне блокнот и авторучку. Я закрыл глаза. Теперь я видел их совершенно отчетливо, как будто держал перед собой, — все ряды цифр и букв, образующих формулы на карточках Миста. Я мог вписывать их одну за другой, ничего не пропуская и не путая, воспроизводя в точности все, запечатленное в другом мире и с непостижимой яркостью вновь возникшее в этом. Я писал вслепую, слыша подавленный шёпот Заргарьяна: “Смотри, смотри… Он пишет автоматически, с закрытыми глазами”. Так я и писал, не открывая глаз, не останавливаясь, с лихорадочной быстротой и четкостью, пока не воспроизвел на бумаге последнего, завершающего уравнения математического символа. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, было склонившееся надо мной лицо Никодимова, белее исписанного мною листа. — Все, — сказал я и бросил авторучку. Никодимов схватил блокнот и поднес по близорукости к самым глазам, да так и застыл, как остановившийся кинокадр в оборванной на сеансе ленте. — Тут треба математики поумнее, — сказал он наконец, передавая блокнот Заргарьяну. — И без электронной машинки не обойтись. Считать придется. Считали они с Заргарьяном полтора или два месяца. И в Москве и в Новосибирске. Считали вместе с ними и академики, и аспиранты. Неподдающиеся расчетам секреты математики будущего раскрыл наконец Юра Привалов, самый молодой в мире доктор математических наук. Фазовая теория Никодимова — Заргарьяна получила теперь прочный, проверенный опытом будущего математический базис. Уравнения, переведенные на язык математики нашего века, стали уравнениями Шауля — Привалова. А завтра они станут достоянием всего человечества. Ольга спит, слабо освещенная косым отблеском моей лампы. У нее не очень довольное, пожалуй, чуточку даже испуганное выражение лица. Она уже высказала нам с Галей свои опасения, что известность, реклама — весь этот сенсационный бум, который обрушится на меня завтра, станет между нами осложняющей жизнь преградой. Конечно, разговор о преграде — вздор, но жизнь моя уже сейчас приобретает идиотское голливудское оперение. Иностранные корреспонденты, уже давно что-то пронюхавшие, преследуют меня по пятам даже на улице, телефон звонит целый день, а ночью его приходится укутывать, чтобы не будили звонки. Даже сейчас кое-какие американские редакции предлагают мне дикие гонорары за мои впечатления, и я как попугай вынужден повторять, что впечатлений еще нет, а когда они появятся, то прочесть их можно будет на страницах советских изданий. И Кленов дружески подшучивает, что мне все-таки придется дописать свои “Хождения за три мира”. Я не согласен — не за три! Больше! И среди них обязательно будет тот, который я так и не увидел, — прекрасный, как сказка, мир Юльки и Эрика.Я.Наумов, А.Яковлев КОНЕЦ ПОЛКОВНИКА ТУЛБИСА
 Было далеко за полночь, когда в кабинете подполковника Скворецкого внезапно зазвонил телефон.
“Кому еще я мог в такое время понадобиться?” — подумал Скворецкий, снимая трубку.
— Кирилл Петрович? — послышался голос начальника Управления. — Прошу зайти.
“Что могло случиться? Как будто ничего срочного не должно быть”, — размышлял Скворецкий по дороге к начальнику Управления.
Недоумение его рассеялось, едва он переступил порог кабинета.
— Вот что, — отрывисто бросил полковник, оторвавшись от лежавших перед ним дел, — придется тебе немедленно выехать в Москву. Вызывают. Сам знаешь, ты сейчас здесь вот так нужен, но… с начальством не спорят…
— Когда выезжать? — спросил Скворецкий.
— “Когда, когда”, — проворчал полковник. — Чем скорее, тем лучше. Сдавай дела и прямо утром отправляйся.
Через два дня Скворецкий был в Москве в Наркомате государственной безопасности.
— Садитесь, — пригласил Кирилла Петровича генерал и указал ему на кресло, стоявшее вплотную к столу, заваленному папками и бумагами. — Вы, кажется, партизанили на Смоленщине в первые годы войны?
— Было такое дело, партизанил. До сорок третьего, — улыбнулся подполковник.
— Вот и отлично, — подхватил генерал. — Значит, тактику партизанской войны, действия небольших подразделении в лесных условиях, диверсионную работу знаете. Ну, а чекистского опыта вам не занимать стать. Не так ли?
Скворецкий сдержанно молчал, пока еще не совсем понимая, к чему ведет этот разговор. Генерал тоже помолчал, пристально вглядываясь в выражение лица подполковника, и, выждав какое-то время, наконец сказал:
— Завтра выедете в Вильнюс. Там находится заместитель наркома. Войдете в состав возглавляемой им оперативной группы. Указания получите от него на месте. Вопросы есть?
Скворецкий поднялся. Какие могли быть вопросы?
В тот же день он выехал в Вильнюс. Сидя в переполненном, душном вагоне, Кирилл Петрович размышлял о предстоящем деле.
Еще раньше, до своего выезда из Смоленска, Скворецкий знал, что, хотя большая часть Советской Прибалтики уже освобождена от фашистских оккупантов (шел конец февраля 1945 года), хотя война перешла на территорию Германии и наши войска добивают гитлеровцев, в Прибалтике, и особенно в Литве, далеко не спокойно. Там до сих пор работает фашистская агентура вместе с националистами. Но характер этой деятельности и ее масштабы Кириллу Петровичу не были известны, поэтому многое из того, что он выяснил на месте, было для него неожиданностью.
Заместитель наркома принял подполковника сразу же после его приезда. Он рассказал о том, что почти ежедневно в Вильнюсе, Каунасе, в других городах и селах Литвы совершаются вооруженные нападения на советских и партийных работников. Стреляют в окна домов, из-за угла, устраивают засады, похищают коммунистов и комсомольцев. На стенах улиц в городах и даже в столице республики то и дело появляются листовки на литовском языке, отпечатанные типографским способом, с призывом к свержению Советской власти.
Конечно, подполье не так уж многочисленно, но, сознавая свою близкую гибель, идет на все, на самые отчаянные преступления.
— Да, — сказал заместитель наркома, заканчивая разговор, — есть и еще кое-что заслуживающее серьезного внимания. Нами перехвачена радиограмма, адресованная, судя по всему. Абвером[40] какому-то из своих корреспондентов, действующих в районе Вильнюса. Текст радиограммы удалось расшифровать. Из него ясно, что германская разведка проявляет повышенный интерес к одному ничем не примечательному поселку невдалеке от Вильнюса. Это весьма тревожно.
— Почему? — спросил Скворецкий. — Если поселок никакого значения не имеет…
— В том-то и дело, что имеет, — перебил его замнаркома. — И немалое. Неделю назад возле этого поселка разместилась особо засекреченная войсковая часть. Из радиограммы ясно, что немцы об этом знают. Как? Откуда? Очевидно, в районе поселка имеется их агентура, что-то узнавшая. Эту агентуру необходимо выявить и обезвредить. Вот эту задачу в первую очередь я и намерен возложить на вас и приданную группу работников. Конечно, совместно с литовскими товарищами. Так что не будем терять времени: беритесь за дело, свяжитесь с местным активом.
В тот же день Скворецкий познакомился со своими ближайшими помощниками. Их было несколько, но подполковник обратил внимание на двоих: майора Маженаса и капитана Аликаса.
Капитан Аликас был умен, превосходно владел собой, отлично разбирался в обстановке. Майор Маженас, как вскоре убедился Скворецкий, был несдержан и, кроме того, недостаточно глубоко понимал происходившие в Прибалтике события. Как показалось Скворецкому, Маженас и Аликас друг друга недолюбливали. Вскоре он убедился, что не ошибся. В основе их взаимоотношений лежала не только личная неприязнь, но и коренные расхождения в оценке оперативной обстановки и методов работы. Маженас никогда прямо не показывал свое отрицательное отношение к Аликасу, но старался скомпрометировать каждое его предложение, а Аликас большей частью молчал, зато если возражал, то высказывал все самому Маженасу.
Эти разногласия стали ясны уже на первом оперативном совещании у заместителя наркома. Майор горячо доказывал, что основными должны быть массовые операции: “прочесывание” войсками лесов, обыски в местечках и поселках, где произошли диверсионные и террористические акты, массовые аресты всех хоть сколько-нибудь внушающих подозрение. Только самыми активными следственными мероприятиями можно уничтожить подполье, утверждал Маженас. Предварительное расследование, до ареста подозреваемых, он отрицал начисто.
Совсем иное предлагал Аликас.
— Главная задача, — говорил он, — проникнуть в националистическое подполье, перекрыть каналы его связей и, ликвидировав головку, обезглавить подполье, а затем добить его по частям. Этим мы одновременно нанесем удар гитлеровской агентуре и лишим ее базы на литовской земле. А для этого надо как можно тщательней проводить предварительное расследование, а не аресты и допросы.
— Ваше мнение? — обратился заместитель наркома к Скворецкому.
— Я согласен с точкой зрения капитана Аликаса, — сказал Кирилл Петрович. — То, что он говорит, ясно любому мало-мальски толковому чекисту, — Скворецкий бросил сердитый взгляд в сторону Маженаса, — но беда в том, что предложение капитана еще как следует не продумано. “Проникнуть в центр националистического подполья”! Отлично! А как это сделать, каким образом? Я пока не вижу никаких конкретных путей решения этой задачи…
— Согласен, — кивнул головой заместитель наркома. — Поручим подполковнику Скворецкому и капитану Аликасу разработать план необходимых мероприятий.
Совещание закончилось. Скворецкого и Аликаса заместитель наркома попросил задержаться и подробно доложить, как обстоят дела.
Ничего утешительного подполковник рассказать не мог. За прошедшие дни в районе расположения части и в самом поселке случился ряд происшествий, подтверждавших предположение, что там орудует вражеская агентура. Так, однажды невдалеке от контрольно-пропускного пункта при входе в охраняемую зону был обнаружен подозрительный человек Когда его пытались задержать, он стал отстреливаться, а увидев, что положение его безнадежно, застрелился. Документов при нем никаких не оказалось, и труп остался неопознанным.
День спустя при выезде из расположения части взорвалась автоцистерна. Затем загорелись провода, ведущие к складу артиллерийских снарядов. Потом одновременно заболело несколько бойцов и офицеров части, — подозревали эпидемию. Причем заболевали те офицеры и вольнонаемные, кто обедал в офицерской столовой, расположенной в поселке. Только после третьего или четвертого смертельного случая вскрытие обнаружило признаки отравления малыми дозами какого-то неизвестного нашим специалистам яда.
Но как, каким путем попадал яд в пищу? Кто это делал? Ответ на эти и многие другие вопросы должна была дать группа Скворецкого, но ответа пока не было, даже не было ничего, что помогло бы в розыске преступников.
— Скверно, — подвел итоги заместитель наркома, внимательно выслушав подполковника. — Совсем скверно. Что же вы предприняли, что намереваетесь делать дальше?
Скворецкий доложил, что ведется выборочная проверка населения поселка, особенно тех, кто работает в столовой и иных организациях, связанных с обслуживанием личного состава и техники воинской части. Пока, правда, ничего конкретного нет, но кое-что обнаружилось.
— А именно? — поинтересовался заместитель наркома.
— Выяснилась одна любопытная деталь. Оказывается, санитарным врачом в столовой офицерского состава работает местная уроженка Альдона Маренайте. Эта Маренайте до войны была активной комсомолкой, вступила в комсомол еще в годы подполья, до свержения сметоновского режима и провозглашения Советской власти. С вторжением гитлеровцев на территорию Прибалтики Маренайте эвакуировалась, затем вступила добровольцем в ряды Красной Армии, а некоторое время спустя в составе разведывательной группы была заброшена в тыл к немцам, в район Каунаса.
— Так, так. Что же дальше?
— А вот дальше и начинается самое интересное. Неизвестно, как и почему, но группа вскоре была обнаружена и все ее участники схвачены. Одних гестаповцы расстреляли, других бросили в лагеря и, по имеющимся сведениям, они там погибли, а Маренайте… Альдону Маренайте гестапо отпустило, и никто ее вплоть до прихода наших войск не трогал. Когда пришли наши, ее вызывали в органы военной контрразведки, но она там заявила, что ни о причинах провала группы, ни о судьбе ее участников, равно и о том, почему ее освободили из заключения, ничего не знает.
Поскольку допрашивали Маренайте в первые дни после освобождения Вильнюса и данных о провале всей группы тогда не было, ее отпустили. На том все в то время и кончилось. Теперь мы решили присмотреться к ней попристальнее.
— Это единодушное решение всей вашей группы? — спросил заместитель наркома.
— Нет, — твердо сказал Скворецкий. — Не единодушное. Майор Маженас настаивал на немедленном аресте Маренайте. Мы с капитаном Аликасом отвергли это предложение.
— Что же, будь по-вашему. Но в случае чего… Головой ответите. Ваша нерасторопность может привести к новым жертвам. Так что делайте возможное и невозможное, но гитлеровская агентура в поселке должна быть выявлена и обезврежена. Теперь о вашем предложении, капитан Аликас. У вас есть какие-нибудь конкретные соображения? Как вы намереваетесь проникнуть в националистическое подполье, каким путем?
— Конкретных планов у меня пока еще нет, — смутился Аликас, — но таково, по-моему, должно быть главное направление нашей работы…
— Главное направление! — нахмурился заместитель наркома. — Это вы уже говорили. Но мало поставить задачу, надо найти пути ее решения. Вот этого я от вас и жду. Какой вам нужен срок, чтобы подготовить предложения?
— Я думаю… я полагаю, — замялся Аликас. — Месяц — полтора, раньше вряд ли успеем.
— Да, — поддержал его Скворецкий. — Тут есть над чем поломать голову. Раньше чем за месяц не успеем.
— Две недели, — решил заместитель наркома. — Две недели, вот вам мой срок. Больше дать не могу — время не терпит. Подумайте-ка над тем, не найдется ли связи между решением этих двух задач: ликвидацией вражеской агентуры в районе поселка и проникновением в антисоветское подполье. Мне кажется, что эти задачи следует решать как единую. Так что думайте, думайте…
Было далеко за полночь, когда в кабинете подполковника Скворецкого внезапно зазвонил телефон.
“Кому еще я мог в такое время понадобиться?” — подумал Скворецкий, снимая трубку.
— Кирилл Петрович? — послышался голос начальника Управления. — Прошу зайти.
“Что могло случиться? Как будто ничего срочного не должно быть”, — размышлял Скворецкий по дороге к начальнику Управления.
Недоумение его рассеялось, едва он переступил порог кабинета.
— Вот что, — отрывисто бросил полковник, оторвавшись от лежавших перед ним дел, — придется тебе немедленно выехать в Москву. Вызывают. Сам знаешь, ты сейчас здесь вот так нужен, но… с начальством не спорят…
— Когда выезжать? — спросил Скворецкий.
— “Когда, когда”, — проворчал полковник. — Чем скорее, тем лучше. Сдавай дела и прямо утром отправляйся.
Через два дня Скворецкий был в Москве в Наркомате государственной безопасности.
— Садитесь, — пригласил Кирилла Петровича генерал и указал ему на кресло, стоявшее вплотную к столу, заваленному папками и бумагами. — Вы, кажется, партизанили на Смоленщине в первые годы войны?
— Было такое дело, партизанил. До сорок третьего, — улыбнулся подполковник.
— Вот и отлично, — подхватил генерал. — Значит, тактику партизанской войны, действия небольших подразделении в лесных условиях, диверсионную работу знаете. Ну, а чекистского опыта вам не занимать стать. Не так ли?
Скворецкий сдержанно молчал, пока еще не совсем понимая, к чему ведет этот разговор. Генерал тоже помолчал, пристально вглядываясь в выражение лица подполковника, и, выждав какое-то время, наконец сказал:
— Завтра выедете в Вильнюс. Там находится заместитель наркома. Войдете в состав возглавляемой им оперативной группы. Указания получите от него на месте. Вопросы есть?
Скворецкий поднялся. Какие могли быть вопросы?
В тот же день он выехал в Вильнюс. Сидя в переполненном, душном вагоне, Кирилл Петрович размышлял о предстоящем деле.
Еще раньше, до своего выезда из Смоленска, Скворецкий знал, что, хотя большая часть Советской Прибалтики уже освобождена от фашистских оккупантов (шел конец февраля 1945 года), хотя война перешла на территорию Германии и наши войска добивают гитлеровцев, в Прибалтике, и особенно в Литве, далеко не спокойно. Там до сих пор работает фашистская агентура вместе с националистами. Но характер этой деятельности и ее масштабы Кириллу Петровичу не были известны, поэтому многое из того, что он выяснил на месте, было для него неожиданностью.
Заместитель наркома принял подполковника сразу же после его приезда. Он рассказал о том, что почти ежедневно в Вильнюсе, Каунасе, в других городах и селах Литвы совершаются вооруженные нападения на советских и партийных работников. Стреляют в окна домов, из-за угла, устраивают засады, похищают коммунистов и комсомольцев. На стенах улиц в городах и даже в столице республики то и дело появляются листовки на литовском языке, отпечатанные типографским способом, с призывом к свержению Советской власти.
Конечно, подполье не так уж многочисленно, но, сознавая свою близкую гибель, идет на все, на самые отчаянные преступления.
— Да, — сказал заместитель наркома, заканчивая разговор, — есть и еще кое-что заслуживающее серьезного внимания. Нами перехвачена радиограмма, адресованная, судя по всему. Абвером[40] какому-то из своих корреспондентов, действующих в районе Вильнюса. Текст радиограммы удалось расшифровать. Из него ясно, что германская разведка проявляет повышенный интерес к одному ничем не примечательному поселку невдалеке от Вильнюса. Это весьма тревожно.
— Почему? — спросил Скворецкий. — Если поселок никакого значения не имеет…
— В том-то и дело, что имеет, — перебил его замнаркома. — И немалое. Неделю назад возле этого поселка разместилась особо засекреченная войсковая часть. Из радиограммы ясно, что немцы об этом знают. Как? Откуда? Очевидно, в районе поселка имеется их агентура, что-то узнавшая. Эту агентуру необходимо выявить и обезвредить. Вот эту задачу в первую очередь я и намерен возложить на вас и приданную группу работников. Конечно, совместно с литовскими товарищами. Так что не будем терять времени: беритесь за дело, свяжитесь с местным активом.
В тот же день Скворецкий познакомился со своими ближайшими помощниками. Их было несколько, но подполковник обратил внимание на двоих: майора Маженаса и капитана Аликаса.
Капитан Аликас был умен, превосходно владел собой, отлично разбирался в обстановке. Майор Маженас, как вскоре убедился Скворецкий, был несдержан и, кроме того, недостаточно глубоко понимал происходившие в Прибалтике события. Как показалось Скворецкому, Маженас и Аликас друг друга недолюбливали. Вскоре он убедился, что не ошибся. В основе их взаимоотношений лежала не только личная неприязнь, но и коренные расхождения в оценке оперативной обстановки и методов работы. Маженас никогда прямо не показывал свое отрицательное отношение к Аликасу, но старался скомпрометировать каждое его предложение, а Аликас большей частью молчал, зато если возражал, то высказывал все самому Маженасу.
Эти разногласия стали ясны уже на первом оперативном совещании у заместителя наркома. Майор горячо доказывал, что основными должны быть массовые операции: “прочесывание” войсками лесов, обыски в местечках и поселках, где произошли диверсионные и террористические акты, массовые аресты всех хоть сколько-нибудь внушающих подозрение. Только самыми активными следственными мероприятиями можно уничтожить подполье, утверждал Маженас. Предварительное расследование, до ареста подозреваемых, он отрицал начисто.
Совсем иное предлагал Аликас.
— Главная задача, — говорил он, — проникнуть в националистическое подполье, перекрыть каналы его связей и, ликвидировав головку, обезглавить подполье, а затем добить его по частям. Этим мы одновременно нанесем удар гитлеровской агентуре и лишим ее базы на литовской земле. А для этого надо как можно тщательней проводить предварительное расследование, а не аресты и допросы.
— Ваше мнение? — обратился заместитель наркома к Скворецкому.
— Я согласен с точкой зрения капитана Аликаса, — сказал Кирилл Петрович. — То, что он говорит, ясно любому мало-мальски толковому чекисту, — Скворецкий бросил сердитый взгляд в сторону Маженаса, — но беда в том, что предложение капитана еще как следует не продумано. “Проникнуть в центр националистического подполья”! Отлично! А как это сделать, каким образом? Я пока не вижу никаких конкретных путей решения этой задачи…
— Согласен, — кивнул головой заместитель наркома. — Поручим подполковнику Скворецкому и капитану Аликасу разработать план необходимых мероприятий.
Совещание закончилось. Скворецкого и Аликаса заместитель наркома попросил задержаться и подробно доложить, как обстоят дела.
Ничего утешительного подполковник рассказать не мог. За прошедшие дни в районе расположения части и в самом поселке случился ряд происшествий, подтверждавших предположение, что там орудует вражеская агентура. Так, однажды невдалеке от контрольно-пропускного пункта при входе в охраняемую зону был обнаружен подозрительный человек Когда его пытались задержать, он стал отстреливаться, а увидев, что положение его безнадежно, застрелился. Документов при нем никаких не оказалось, и труп остался неопознанным.
День спустя при выезде из расположения части взорвалась автоцистерна. Затем загорелись провода, ведущие к складу артиллерийских снарядов. Потом одновременно заболело несколько бойцов и офицеров части, — подозревали эпидемию. Причем заболевали те офицеры и вольнонаемные, кто обедал в офицерской столовой, расположенной в поселке. Только после третьего или четвертого смертельного случая вскрытие обнаружило признаки отравления малыми дозами какого-то неизвестного нашим специалистам яда.
Но как, каким путем попадал яд в пищу? Кто это делал? Ответ на эти и многие другие вопросы должна была дать группа Скворецкого, но ответа пока не было, даже не было ничего, что помогло бы в розыске преступников.
— Скверно, — подвел итоги заместитель наркома, внимательно выслушав подполковника. — Совсем скверно. Что же вы предприняли, что намереваетесь делать дальше?
Скворецкий доложил, что ведется выборочная проверка населения поселка, особенно тех, кто работает в столовой и иных организациях, связанных с обслуживанием личного состава и техники воинской части. Пока, правда, ничего конкретного нет, но кое-что обнаружилось.
— А именно? — поинтересовался заместитель наркома.
— Выяснилась одна любопытная деталь. Оказывается, санитарным врачом в столовой офицерского состава работает местная уроженка Альдона Маренайте. Эта Маренайте до войны была активной комсомолкой, вступила в комсомол еще в годы подполья, до свержения сметоновского режима и провозглашения Советской власти. С вторжением гитлеровцев на территорию Прибалтики Маренайте эвакуировалась, затем вступила добровольцем в ряды Красной Армии, а некоторое время спустя в составе разведывательной группы была заброшена в тыл к немцам, в район Каунаса.
— Так, так. Что же дальше?
— А вот дальше и начинается самое интересное. Неизвестно, как и почему, но группа вскоре была обнаружена и все ее участники схвачены. Одних гестаповцы расстреляли, других бросили в лагеря и, по имеющимся сведениям, они там погибли, а Маренайте… Альдону Маренайте гестапо отпустило, и никто ее вплоть до прихода наших войск не трогал. Когда пришли наши, ее вызывали в органы военной контрразведки, но она там заявила, что ни о причинах провала группы, ни о судьбе ее участников, равно и о том, почему ее освободили из заключения, ничего не знает.
Поскольку допрашивали Маренайте в первые дни после освобождения Вильнюса и данных о провале всей группы тогда не было, ее отпустили. На том все в то время и кончилось. Теперь мы решили присмотреться к ней попристальнее.
— Это единодушное решение всей вашей группы? — спросил заместитель наркома.
— Нет, — твердо сказал Скворецкий. — Не единодушное. Майор Маженас настаивал на немедленном аресте Маренайте. Мы с капитаном Аликасом отвергли это предложение.
— Что же, будь по-вашему. Но в случае чего… Головой ответите. Ваша нерасторопность может привести к новым жертвам. Так что делайте возможное и невозможное, но гитлеровская агентура в поселке должна быть выявлена и обезврежена. Теперь о вашем предложении, капитан Аликас. У вас есть какие-нибудь конкретные соображения? Как вы намереваетесь проникнуть в националистическое подполье, каким путем?
— Конкретных планов у меня пока еще нет, — смутился Аликас, — но таково, по-моему, должно быть главное направление нашей работы…
— Главное направление! — нахмурился заместитель наркома. — Это вы уже говорили. Но мало поставить задачу, надо найти пути ее решения. Вот этого я от вас и жду. Какой вам нужен срок, чтобы подготовить предложения?
— Я думаю… я полагаю, — замялся Аликас. — Месяц — полтора, раньше вряд ли успеем.
— Да, — поддержал его Скворецкий. — Тут есть над чем поломать голову. Раньше чем за месяц не успеем.
— Две недели, — решил заместитель наркома. — Две недели, вот вам мой срок. Больше дать не могу — время не терпит. Подумайте-ка над тем, не найдется ли связи между решением этих двух задач: ликвидацией вражеской агентуры в районе поселка и проникновением в антисоветское подполье. Мне кажется, что эти задачи следует решать как единую. Так что думайте, думайте…
***
Следующие дни ничего нового не принесли, а спустя несколько суток, около трех часов пополуночи, подполковник получил сообщение, что в 0 часов 45 минут юго-западнее Вильнюса обнаружен вражеский самолет, прошедший на высоте 400–500 метров в направлении поселка, где расположена секретная войсковая часть. Через несколько минут самолет повернул и ушел в сторону моря. Сбить его не удалось. Было ясно, что самолет сбросил в районе поселка парашютистов, и Скворецкий тут же дал указание тщательно “прочесать” всю местность. Но это ничего не дало: в лесу задержали несколько человек, но все они оказались жителями близлежащих поселков и подозрения не вызывали. Скворецкий поручил Аликасу съездить в поселок и привезти Маренайте, чтобы побеседовать с ней. …В тот самый день, когда капитану было дано это поручение, Маренайте шла в соседний поселок, к своей родственнице. Настроение у девушки было мрачное. Да, сейчас война ушла далеко на запад и близка к полному окончанию. Советская Армия побеждает. Все это, конечно, так, а покоя, умиротворения на ее, Маренайте, родной земле все нет и нет. Вот и у них в поселке то появляетсяфашистская свастика на здании почты, то какие-то неизвестные открыли стрельбу по милиционеру, а теперь эти происшествия в воинской части. Уж не из-за них ли вчера до темноты местный актив кого-то или что-то искал в лесу? А может, это связано со слухами, что ползли последние дни по поселку? Рассказывали, будто несколько дней назад на деревню Цитаголяй нагрянула вооруженная банда и убила председателя земельного комитета. Называли даже (шепотом, конечно) имя главаря бандитов. Вернее, не имя, а кличку: “Черный барин”. Уж не этого ли “Черного барина” ищут? Все могло быть. Нет, что ни говори — страшно! Страшно так жить, хотя войне вот-вот и конец. Маренайте так задумалась, что не заметила, как тропинка привела ее к опушке леса. Вдоль опушки мирно паслись коровы, а пастушонок Ионас, парнишка лет пятнадцати, пристроился на пригорке и старательно строгал ножом какую-то палку. Маренайте приветливо помахала рукой и направилась к нему. В этот момент среди деревьев мелькнула какая-то неясная тень. Мелькнула и пропала. Маренайте так и замерла на месте, с испугом вглядываясь в лесную чащу. Ионас перестал улыбаться и повернулся в сторону леса. А там, на опушке, появилась другая, до ужаса знакомая Маренайте фигура, также мгновенно пропавшая из виду. Маренайте с минуту постояла, осматривая опушку, но все было тихо. Девушка пристально посмотрела на Ионаса — заметил ли? — и нерешительно подошла к нему. Ионас с невозмутимым видом вновь принялся за свою палку. — Здравствуй, Ионас, как дела? — Все хорошо. А ты куда это собралась? — Да вот думала тетку проведать, только теперь, пожалуй, не пойду. Как-нибудь в другой раз. Нет, мальчик ничего не видел. Почему-то Маренайте стало спокойнее от этой мысли. Она простилась с пастушонком и повернула назад, к поселку. “Как быть, что делать? — лихорадочно думала она. — Заявить? Ведь странное поведение тех двоих на опушке — высунулись и пропали — явно неспроста. Кто они? Что им здесь надо? Почему прячутся? Уж… уж не из банды ли они этого самого “Черного барина”? И почему, почему такой знакомой показалась фигура этого, второго? “Он”?.. Но “его” же давно здесь, в Литве, нет. “Он” там, на Западе… Боже, что делать, что делать?..” Маренайте спешила домой, ничего не замечая. Между тем, едва она скрылась из виду, Ионас поспешно вскочил, бросил недоструганную палку, сунул нож в карман, схватил длинный бич и оглушительно щелкнул, сбивая в стадо разбредшихся туда и сюда коров. Прошло несколько минут, и он уже гнал стадо к поселку. Не отвечая на брань хозяек, раздраженных преждевременным возвращением скотины с пастбища, Ионас забежал домой, швырнул бич под крыльцо и, не говоря никому ни слова, припустился из поселка в уезд. Ходьбы до уездного городишка было часа полтора, но Ионас почти всю дорогу бежал, и не прошло и часа, как он был в уездном отделе НКГБ. Внимательно выслушав мальчика, дежурный по отделу тут же соединился с Вильнюсом, с подполковником Скворецким. Закончив разговор, он положил трубку и попросил Ионаса задержаться. Скоро возле здания уездного отдела НКГБ остановилась машина, из которой вылезли Скворецкий, Аликас и трое автоматчиков (иначе в ту пору ездить вечером и ночью по дорогам Литвы было рискованно). Ионас дословно повторил Скворецкому все, что сообщил дежурному о двух неизвестных, замеченных им на опушке, а также о странном поведении жительницы поселка Маренайте, явно видевшей неизвестных и старательно пытавшейся это скрыть. Он рассказал, что неизвестные выглянули из леса одновременно с тем, как появилась Маренайте, а та шла в сторону леса (говорит — к тетке!), потом она вдруг повернула и чуть не бегом кинулась обратно, в поселок. — Молодец, Ионас, — похвалил его подполковник. — Ты — настоящий патриот! И глаз у тебя зоркий, и наблюдательность есть. Молодец! Значит, ты уверен, что тех двоих никогда ранее не видал, что они не из ваших мест? — Уверен, — ответил Ионас. — Наших я всех знаю, да и чего бы им в лесу прятаться? Зачем? Еще раз похвалив мальчика, подполковник строго-настрого наказал ему молчать обо всем происшедшем и продолжать свои наблюдения. — Как же ты домой доберешься? Ведь совсем темно? — спросил Скворецкий. Ионас пожал плечами: — А что такого? Мне не впервой… — Верю, — согласился Скворецкий, — но сегодня, после всего, что произошло, я тебя одного отпустить не могу. Забирайся в нашу машину, мы тебя мигом доставим на место. Видно было, что это предложение пришлось Ионасу как раз по душе, еще бы — прокатиться на машине с военными! И все же он рассудительно возразил: — Нельзя! Как в поселок въедем, все сразу заметят. У нас машины — редкость. — Уж так и редкость? — усмехнулся Скворецкий. — А в воинскую часть, что невдалеке от поселка, машины совсем не ходят? — Туда-то ходят… — Ну вот мы и поедем вроде бы в воинскую часть, а тебя по пути незаметно высадим. Подойдет?***
В то время, когда Ионас добирался до уездного НКГБ, беседовал с дежурным, ждал Скворецкого, Маренайте в полной растерянности сидела в своей комнате. Прошел час, другой, а она никак не могла ни на что решиться, наконец вскочила и начала быстро переодеваться. Решение было принято: пойти в уезд и все рассказать. Маренайте спешила: ведь на улицу уже опустились сумерки, наступил вечер, а до города конец не малый. Маренайте как раз заканчивала сборы, когда в дверь ее комнаты кто-то осторожно постучал. — Кто там? — испуганно спросила Маренайте. — Кто? — Это я, — послышался приглушенный голос. — Узнаешь? Открой же… — Ты… — задохнулась Маренайте. — Ты? Она так и замерла на месте, не в силах сделать хотя бы шаг, а стук в дверь повторился — настойчивее, чуть громче. Маренайте вздрогнула. Ей показалось, что стук гремит пулеметной очередью, что его слышит весь дом, весь поселок. Она метнулась к двери и, все еще не веря себе, распахнула ее- ошибки не было ни теперь, ни тогда, на опушке. Перед ней стоял Эйдукас — Валентинас Эйдукас. Живой и невредимый. Маренайте быстро втащила его за рукав в комнату, захлопнула дверь, повернула ключ на два оборота и сразу же погасила свет. …Судьба впервые свела Маренайте с Эйдукасом при странных и трагических для нее обстоятельствах. Случилось это около трех лет назад, летом 1942 года, после того как Маренайте была заброшена в составе разведгруппы в Литву. Приземлились все участники разведгруппы удачно, быстро нашли друг друга и, не теряя времени, порознь направились в Каунас по имевшимся у каждого явкам. Последующая связь между ними, места встреч, явки, задачи каждого — все было продумано и обусловлено заранее. Однако все оказалось напрасно- несколько дней спустя после прибытия в Каунас Маренайте арестовали. То ли кто-то ее выдал, то ли выследили, она не знала: ее схватили прямо на улице и приволокли в гестапо. Как вскоре ей стало ясно, такая же судьба постигла и ее товарищей по разведгруппе. Скорее всего, кто-то из них попался первым, может, и случайно, не выдержал пыток и выдал остальных. На первых допросах Маренайте тоже били, били жестоко, но она молчала, категорически отрицая свою принадлежность к разведгруппе. Затем на какое-то время ее оставили в покое: держали в камере, не вызывая на допрос. Потом снова вызвали. Следователь был новый, и переводчик новый. Переводчиком был Эйдукас. Эти ее не били: они вели себя корректно, даже ласково, уговаривая Маренайте добром во всем признаться, выдать “партизан”, которых она знала. Допросы шли день за днем, но Маренайте по-прежнему все отрицала: нет и нет, никого, никаких партизан она не знает и сама к этому нисколько не причастна. Эйдукаса Маренайте поначалу возненавидела. Он ей был более ненавистен, чем даже следователь. Еще бы: тот — немец, враг, его еще можно понять, а этот — литовец, свой, и продался врагам собственного народа! Однако, чем дальше тянулись допросы, чем внимательнее присматривалась Маренайте к следователю и переводчику, тем больше ее тревожила мысль, что с Эйдукасом все не так-то просто. Нет, он ей не дал никакого определенного повода что-либо заметить, но нет-нет, а она ловила на себе какой-то тревожный, изучающий — с каждым новым допросом ее уверенность в этом росла, — сочувственный и доброжелательный взгляд. А его перевод вопросов, которые ставил следователь? He раз он переводил их так ловко, что вроде бы текстуально передавались слова следователя, а на деле в самом вопросе содержался намек, тонкий и умный, на то, как и что следует отвечать. Маренайте поняла это, так как владела немецким языком, что тщательно скрывала. С каждым новым допросом у Маренайте крепла уверенность, что Эйдукас ведет какую-то игру — игру тонкую, опасную, рискованную. Но зачем? С какой целью? В чьих интересах? Все разъяснилось, когда весной 1943 года Маренайте внезапно выпустили из тюрьмы. Взяли и выпустили, не потребовав взамен никаких услуг. Единственно, что ей сказали, это чтобы она вернулась в поселок, лежавший на полпути между Каунасом и Вильнюсом, где жила ее мать и никуда оттуда не выезжала. Недели две спустя в поселке внезапно появился Эйдукас и пригласил Маренайте прогуляться. Она не посмела ему отказать. Когда они углубились в лес, Эйдукас взял ее под руку и внезапно сказал: — Вы должны мне помочь. Помочь… связаться с партизанами. Только на вас моя надежда… Маренайте отшатнулась. “Подлец, — мелькнула мысль. — Какой подлец! Так вот зачем они меня выпустили. Как приманку…” Очевидно, Эйдукас по выражению ее лица понял ее мысли и горестно усмехнулся. — Нет, — сказал он, — вы неправильно меня поняли. Я говорю с вами не по поручению гестапо. Если они узнают об этом разговоре, мне конец. Я рискую головой, но иного выхода у меня нет. Ну как, как заставить вас мне поверить? — с мукой в голосе воскликнул Эйдукас. — Я расскажу вам, как стал переводчиком гестапо, может, тогда вы меня поймете. — Нет, зачем же? — упрямо стояла на своем Маренайте. — Все равно я никого и ничего не знаю. И все же Эйдукас заставил себя выслушать. По его словам, было ему двадцать девять лет, на пять больше, чем Маренайте. Родился и вырос он в Каунасе, в семье рабочего. Сам по профессии радиотехник. Однако с середины тридцатых годов, задолго до того, как народ сверг Сметона, потерял работу. Потянулись месяцы безработицы. А тут еще умер отец. У Эйдукаса на руках остались мать и маленькая сестренка. Помучившись около года, он в поисках работы решил эмигрировать в Германию. Фашистская Германия нуждалась в рабочих руках, и Эйдукасу удалось устроиться в Гамбурге. Правда, не по специальности. Портовым рабочим. Но па жизнь он зарабатывал, и матери мог кое-что посылать. Только было уже поздно: мать вскоре умерла, а за ней и сестренка. В Гамбурге Эйдукас многое понял. Он сблизился с коммунистами, начал выполнять отдельные поручения партийного подполья. Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь дальше, если бы в 1940 году по договору между СССР и Германией не началась взаимная репатриация немцев из Прибалтики и литовцев, латышей, эстонцев из Германии на родину. С какой радостью возвращался Эйдукас в родной Каунас, ставший теперь советским! Вскоре ему удалось разыскать кое-кого из старых друзей, устроиться на работу. Все было бы хорошо, только не было ни матери, ни сестры… Но рано или поздно жизнь бы устроилась, если бы весной 1941 года Эйдукаса внезапно не арестовали, предъявив ему обвинение в шпионаже в пользу фашистской Германии и домогаясь признания в таких делах, о которых Эйдукас и понятия не имел. И надо же так случиться, что соседом Эйдукаса по камере оказался полковник Тулбис, крупный националист в буржуазной Литве. Человек он был культурный, образованный, держался с Валентинасом просто, по-своему, в определенном свете разъясняя и растолковывая все происходящее. Он говорил, что сейчас идет “русификация Литвы”, что “русские истребят всех литовцев и заселят литовские земли русскими мужиками”, которые затопчут и уничтожат вековую литовскую культуру, уничтожат все, чем жил и гордился литовский народ, литовский язык будет запрещен. Эйдукас пытался возражать, спорить: около года он прожил в Советской Литве и видел, что хозяин в ней — народ, литовский народ. Но полковник иронически усмехался: хозяин- народ? А ваш арест? Мой арест? А сколько литовцев еще арестовано, будет арестовано? Тысячи? Десятки, сотни тысяч? Вы это знаете? У вас следователь кто? Литовец? Ах, русский?.. Так, так. У меня — тоже. Русский. (Между прочим, дело Тулбиса вел литовец, но полковник об этом умолчал.) Война застала Эйдукаса и Тулбиса в тюремной камере. В первые же дни их поместили в эшелон, чтобы эвакуировать на Восток, но невдалеке от Каунаса эшелон разбомбили. Тулбис, Эйдукас и еще несколько заключенных, бежавших из эшелона, очутились в глухом лесу, где день спустя натолкнулись на группу вооруженных людей. Это оказались литовские фашисты, националисты, с нетерпением поджидавшие гитлеровцев. Их главарь узнал Тулбиса. — Господин полковник! — вскричал он. — Какое счастье! Откуда вы, какими судьбами? Тулбис приосанился, распушил усы, подбоченился. Сейчас он мало напоминал того скромного, приветливого человека, к которому привык Эйдукас в тюремной камере. Впрочем, к нему, Эйдукасу, полковник продолжал относиться неплохо, правда, в тоне и манере разговора появились снисходительные, покровительственные нотки. Прошло несколько дней, и фашисты, переименовавшие себя в “отряд Тулбиса”, вышли из леса и вернулись в оккупированный Каунас. При прощании Тулбис сказал Эйдукасу, что не забудет своего молодого коллегу по несчастью… А Эйдукас? Он ничего не понимал, голова его шла кругом. Что делать? С кем идти? С Тулбисом и его шайкой, с немецкими захватчиками? Но они же враги родины, враги литовского народа. Это очевидно! Достаточно Эйдукас наслушался за последние дни, да и раньше, насмотрелся на дела немцев и их пособников. С литовским народом, который плечом к плечу с русскими сражается против немецких захватчиков? А арест? Да и где они, советские литовцы, где русские? Эйдукас пытался работать — жить-то надо! — но ничего не получилось. А несколько дней спустя к нему явился офицер-литовец и доставил его к Тулбису. Полковник встретил своего бывшего соседа по камере с распростертыми объятиями и, не дав ему сказать двух слов, заявил, что устроил все его дела. — Вас берут на работу, и не куда-нибудь, а в гестапо, — торжественно заявил полковник. — Переводчиком. По моей, конечно, рекомендации. Шеф каунасского гестапо — мой друг, так что все в порядке. Нет, нет! — Он сделал протестующий жест. — Не благодарите. Можете быть уверены, что я и дальше вас не обойду своим вниманием. Эйдукас и не собирался благодарить: сначала он хотел отказаться, но, охваченный каким-то тупым равнодушием, махнул рукой: гестапо так гестапо, переводчиком так переводчиком. Ему все было безразлично. Так началась работа Эйдукаса в гестапо. Прошло несколько дней, и словно пелена спала с глаз Валентинаса. Он содрогнулся от ужаса и отвращения: куда он попал? Нет, бежать, немедленно бежать. Бежать от этой банды садистов и палачей. Но потом он одумался: бежать, конечно, можно, однако самое ли это правильное? Уж если удалось очутиться в гестапо, работать здесь, надо попытаться использовать свое положение в интересах Родины. На этом Эйдукас и порешил, а решив, начал действовать. Он запоминал все становившиеся ему известными факты, старался чем мог облегчить участь тех, кто попадал в лапы гестаповцев, и искал, все время искал связей с советским подпольем — а что такое подполье существует, Эйдукас ни минуты не сомневался. Да и фактов тому в подтверждение было предостаточно. Особенно если работаешь в гестапо… Задача, взятая на себя Эйдукасом, оказалась нечеловечески тяжкой: каждый день присутствовать при пытках и истязаниях людей, чья жизнь была ему теперь в тысячу крат дороже собственной, все это требовало адского напряжения сил, воли, разума, и сердце Эйдукаса исходило кровью. При этом нужно было беспрерывно маневрировать, так вести перевод, чтобы хоть чем-то облегчить участь очередной жертвы, ничем не выдав себя. Правда, отсидка в тюрьме “при большевиках” служила Эйдукасу неплохой визитной карточкой, а тут еще покровительство полковника Тулбиса, ставшего при нацистах вновь крупной фигурой. Одним словом, Эйдукасу пока удавалось благополучно выходить из всех переделок, в которых он оказывался, но вот связь с подпольем… Тут у него ничего не получалось. Да и как, с кем он мог связаться? Если Эйдукас и узнавал кого-либо из участников подполья, так только тогда, когда они оказывались на допросе. Арест Валентинаса советскими властями перед войной и работа в гестапо служили ему плохую службу при попытках завязать связи с темп, кто был на воле и мог, по его предположению, участвовать в подпольной работе. Таково было положение Эйдукаса, когда он впервые увидел на допросе Маренайте. Она попала в руки опытного гестаповца, славившегося особым искусством добиваться признания от арестованных, причем действовал он особо тонкими, изощренными методами, редко прибегая к пыткам. Он “психологически” обрабатывал свои жертвы и никогда не без успеха. Едва увидев Маренайте, в самых беглых чертах ознакомившись с ее делом, Эйдукас понял: вот она! Вот человек, который поможет ему связаться с подпольем. Только как добиться ее освобождения, как вызволить из застенков гестапо? Эйдукас проявил чудеса ловкости и изобретательности. Зная намерения и планы следователя, он постепенно убедил того, что Маренайте может стать отличным “маяком”, на который выйдут партизаны, стоит только ее освободить и поселить на постоянное местожительство. Такова была история освобождения Маренайте из гестаповских застенков. И вот теперь, посетив Маренайте в поселке, Эйдукас рассказал ей всю эту историю и рассказал о себе, о своих планах, намерениях. Он умолчал лишь об одном: с первых допросов гордая девушка, так смело, так бесстрашно державшаяся, произвела на Эйдукаса неизгладимое впечатление. Чем ближе он к ней приглядывался, тем очевиднее ему становилось, что он любит ее, что Маренайте ему дороже всего на свете. Вот об этом-то и умолчал Валентинас при первом, после освобождения Маренайте из гестапо, разговоре. Но как раз об этом Маренайте давно догадалась сама и, что самое страшное, Валентинас не был ей противен. Это было ужасно, отвратительно, она сама казнила себя, но… ничего не могла с собой поделать. Вот и тогда, в тот памятный весенний вечер 1943 года, слушая взволнованный, страстный рассказ Эйдукаса, она и верила ему, всем сердцем хотела верить, и не верила, не позволяла себе верить… Так этот разговор и закончился ничем: Маренайте не дала Эйдукасу никакого ответа., категорически отрицала свою связь с разведывательной группой в прошлом, связь с партизанами. Впрочем, сейчас у нее никаких связей с подпольем действительно не было. Но если раньше, сразу по выходе из тюрьмы, Маренайте искала такие связи, то теперь, после этого разговора, она твердо решила: нельзя. Никаких связей. Никакого подполья. Это — страшно, невыносимо, вот просто так жить, ни на что не надеясь, ничего не предпринимая, но иного выхода у нее нет. Как бы ни хотелось ей верить Эйдукасу, она не имеет права рисковать чужой жизнью, рисковать судьбой тех, кто ведет тайную борьбу против фашистов. Решение было принято. Маренайте не только не предпринимала никаких попыток возобновить связи с подпольем, но всячески сторонилась тех, кто, по ее предположению, мог иметь такие связи. С Валентинасом у них установились странные отношения: он часто приезжал к ней, они вместе гуляли, много разговаривали. Их дружба и взаимная приязнь росли. Они уже не могли скрывать друг от друга своих чувств, но как только он заговаривал о партизанах, девушка замолкала и сторонилась Валентинаса. Тогда, воспользовавшись помощью полковника Тулбиса, не оставлявшего его вниманием, Эйдукас ушел из гестапо. А время шло… Советская Армия перешла в решительное наступление на всех фронтах, гнала фашистов за пределы Родины. Близился час освобождения Прибалтики. Что было делать Эйдукасу? Как он посмотрит в глаза настоящим патриотам? Одно дело быть партизаном, и совсем другое — предстать перед честными людьми в облике фашистского прихвостня, бывшего переводчика гестапо… Кто ему поверит, если не верит до конца даже Маренайте, единственный близкий ему на земле человек! А тут Тулбис… Полковник снова вспомнил о своем бывшем соседе по камере, и Эйдукас, едва успев проститься с Маренайте, очутился на западе Германии, в окружении полковника. Маренайте тоже было нелегко. Гитлеровцы были изгнаны из Литвы, вернулась Советская власть. Радость Маренайте была безгранична. Но ей, ей, Маренайте, что было ей делать? Кому рассказать всю историю с Эйдукасом, и кто этой истории поверит, особенно когда он бежал с немцами. А как иначе объяснить свое освобождение из гестапо, свое бездействие на протяжении без малого двух лет? Нет, выхода она не видела, продолжала жить замкнуто, правда, устроилась работать в офицерскую столовую, организованную в поселке. Но что из того?.. И вот теперь, несколько месяцев спустя после освобождения Литвы, Эйдукас опять здесь, у нее в комнате. Не с хорошими, видно, намерениями он вернулся, иначе зачем бы ему прятаться в лесу, сторониться людей? Где правда? Где ложь? Как во всем этом разобраться? Эйдукас торопился поведать Маренайте свою историю. Да, как она знает, перед приходом советских войск в Литву он бежал с полковником Тулбисом на Запад. Там они устроились в Любеке, на северо-западе Германии. Что хочет Тулбис, на что он надеется, Эйдукас не знает и не желает знать. Несколько дней назад полковник предложил Эйдукасу побывать в Литве, выполнить кое-какие его поручения. Эйдукас согласился. Почему? С единственной целью — повидать Маренайте и увезти ее с собой. За эти месяцы он понял, что жить без нее не может, что надо им вместе перебраться на Запад, а там все как-нибудь устроится. Как-нибудь… Что? Остаться без родины? А разве у него есть родина, разве он не потерял право считать себя литовцем? И ей, Маренайте, вряд ли намного лучше. Что ждет ее здесь, что принесет ей завтра? Ничего хорошего. Там же они, по крайней мере, будут вместе. Как он попал сюда? Как перешел фронт? Какое задание получил от Тулбиса? Стоит ли об этом говорить?! Все равно он выполнять это задание не собирается. Впрочем, от Маренайте секретов у него нет. Его, Эйдукаса, и еще одного человека перебросили на самолете, потом — парашют. Ему поручено передать небольшой чемоданчик, содержимого которого он не знает, человеку по кличке “Черный барин”. Дана явка, пароль. “Черный барин”! Услышав эту кличку, Маренайте вздрогнула. — Что с тобой? — спросил Эйдукас. — Тебе известно это имя? — Известно, — тихо проговорила Маренайте. — Это… это бандит, изувер, убийца. И с этим негодяем ты намерен встретиться? — Родная моя, да ты ровно ничего не поняла. Я же тебе говорю, что не намерен выполнять заданий полковника Тулбиса, пропади он пропадом со своими подлыми делами. Я пробрался сюда за тобой, только за тобой, и ничего больше мне не нужно. Но Тулбис помог мне добраться сюда и указал путь обратно, чем я и намерен воспользоваться, вот и все. Чемодан же я бросил в лесу, закопал, и никому его передавать не собираюсь, что бы там ни было. — Так, — сказала Маренайте, и Эйдукас в темноте не заметил, какая глубокая складка легла у нее между бровей. — Значит, так… Ты можешь дать мне сутки на размышление, на сборы, если я решу отправиться с тобой? У тебя есть где укрыться? — Найду, — обрадованно сказал Эйдукас. — Решила? Маренайте, милая… — Пожалуй, решила, — задумчиво проговорила Маренайте. — А теперь иди, не то скоро мать вернется. Она не должна тебя здесь видеть. И возвращайся завтра. Попозже вечером. Буду ждать. Обязательно возвращайся… Как только дверь за Эйдукасом закрылась, Маренайте сжала ладонями виски и уперлась лбом в стену. До чего же болит голова, просто разламывается! Да, она решила, решила все, не колеблясь, как бы ни было мучительно это решение, чем бы оно ни грозило. Но как ей быть? Как поступить? Выйти на улицу нельзя, это ясно. Быть может, где-нибудь вблизи притаился Эйдукас или этот второй, с самолета (кто он, кстати, зачем пробрался в Литву, Эйдукас так и не сказал), и следят за каждым ее шагом. Скорее, ох, скорее бы пришла мать!..***
Скворецкий и Аликас ссадили Ионаса невдалеке от поселка, как и обещали. В воинскую часть они ехали неспроста. Еще во время беседы с пастушонком Кирилл Петрович подумал: откладывать далее беседу с Маренайте нельзя. Он решил провести беседу этим вечером, в расположении воинской части. А там видно будет… Договорившись с командиром части, Кирилл Петрович отправил Аликаса за Маренайте в поселок. Без труда найдя дом, в котором жила девушка, Аликас постучал. Дверь тут же распахнулась, словно этого стука ждали. На пороге стояла Маренайте. — Простите, — сказал капитан, — мне нужно видеть Альдону Маренайте. — Это я, — ответила девушка, пропуская Аликаса в комнату. Было заметно, что она чем-то взволнована. Голос ее дрожал. — Моя фамилия Аликас, капитан Аликас. Из НКГБ. Вот мое удостоверение. (Капитан был в штатском.) — Вы из НКГБ? Так быстро? Как вы успели? — Почему успел? Разве вы меня ждали? — удивился Аликас. — Ну конечно же, ждала! Чего-чего, а этого Аликас никак не ожидал. Почему она ждала его? Надо это выяснить, не подавая вида, что он ничего не понимает. Но выяснять ничего не пришлось: не ожидая расспросов, Маренайте тут же рассказала, что около часа назад она отправила свою мать в уезд, в НКГБ, с просьбой поскорее прислать к ней кого-либо из сотрудников. Она должна сделать важное заявление, но сама выходить из дома не решается. Естественно поэтому, что она ждала кого-нибудь из НКГБ, но не так скоро. Как могла ее мать так быстро дойти до уезда? Где, наконец, она сама? Почему не вернулась с товарищем, за которым ходила? Аликас не счел нужным все объяснять девушке. — Ну, о матери вы не беспокойтесь, она с минуты на минуту вернется, — сказал он, — а вот как быть с вашим заявлением, которое вы считаете нужным сделать? Не лучше ли нам побеседовать не здесь, а по соседству, в воинской части, тем более что там ждет один ответственный работник НКГБ, который также хотел бы принять участие в нашей беседе? — Честно сказать, — вымученно улыбнулась Маренайте. — Я боюсь выходить на улицу. Поэтому и не пошла сама в уезд, а попросила маму… Меня могут заметить, и тогда… Тогда всякое может случиться. — Заметить? Кто может вас заметить? — искренне удивился Аликас. — Что может случиться? — Вот об этом-то я и собираюсь рассказать… — Знаете, — решил Аликас, — сейчас на улице такая темь, что если мы будем действовать осторожно, никто, кто бы вас ни караулил, ничего не заметит. Рискнем? После непродолжительного колебания Маренайте согласилась, и через двадцать минут она уже сидела перед подполковником Скворецким и Аликасом. Чуть подавшись вперед, тесно переплетя пальцы, чтобы унять дрожь в руках, Маренайте рассказывала. Она говорила спокойно, и только побледневшие губы, морщины, бороздившие ее лоб, да частое, затрудненное дыхание выдавали ее волнение. Маренайте рассказывала обо всем: о том, как была заброшена в тыл к немцам, как оказалась в гестапо, как встретила там Эйдукаса и что произошло дальше. Она объяснила, почему после освобождения из тюрьмы отказалась от попыток установить связь с подпольем, говорила о своем двойственном отношении к Эйдукасу: можно было ему верить или нет? И вот теперь он снова здесь. Он был у нее. Сегодня… — Скажите, — спросил в упор Скворецкий, — вы любите Эйдукаса. — Да, — твердо ответила девушка. — Люблю. — И все же?.. — И все же я пришла к вам. Иначе я поступить не могла. — Спасибо. — Скворецкий встал из-за стола и пожал руку Маренайте. — Спасибо за откровенность, за доверие. Так когда будет у вас Эйдукас? Завтра? Как же нам с ним следует поступить? — Я думаю, что его надо арестовать. За этим я и пришла к вам. Нельзя оставлять его на свободе, позволить ему выполнять задания фашистов, врагов… — Ну, насчет ареста мы подумаем, а что касается заданий — вы правы. Он не должен их выполнить, да, судя по вашим словам, он и сам не собирается этого делать. Одним словом, вы ведите себя таким образом, будто ничего не произошло. Если Эйдукас завтра у вас появится, постарайтесь еще оттянуть время отъезда. Хотя бы на день, на два. Сможете? Ну, если сможете, вот и отлично. Остальное — наша забота. Условились? Проводив Маренайте до дома, Аликас и Скворецкий выехали обратно в Вильнюс.***
“Тулбис, Тулбис, — думал Аликас, устроившись на заднем сиденье вездехода, спешившего с полуприкрытыми фарами в Вильнюс. — Вполне возможно. Что полковник Тулбис играл видную роль при фашистах, нам известно. Вот он куда попал после изгнания немецких оккупантов, в Любек! И, конечно, не сидит сложа руки. Весьма вероятно, что он тоже в числе руководителей националистов занимает видное положение. Едва они очутились в кабинете Скворецкого, Аликас поспешил поделиться с Кириллом Петровичем своими размышлениями. Имя полковника Тулбиса было известно и подполковнику, но он, конечно, не располагал и десятой долей тех сведений, какими сейчас поделился с ним Аликас. Судя по всему, предположения капитана о причастности Тулбиса к деятельности антисоветского националистического подполья не лишены основания, и Скворецкий все с большим интересом думал об Эйдукасе и о рассказе Маренайте. Сейчас план дальнейших действий становился более очевидным. Выслушав доклад подполковника, заместитель наркома одобрил намеченный Скворецким план. Следующим вечером, едва начало темнеть, Скворецкий и Аликас, оба в штатском, пришли к Маренайте. Самый дом, все подходы к нему тщательно охранялись. Девушка встретила нежданных гостей с недоумением, но когда Кирилл Петрович рассказал ей о своих намерениях, лицо Маренайте озарила радостная улыбка, и она заверила подполковника, что сделает все возможное. Маренайте, Аликас, Скворецкий уселись за стол, и Кирилл Петрович, за чашкой кофе, принялся расспрашивать девушку о пережитых ею годах оккупации, о том, как Эйдукас вел себя во время работы в гестапо, о его взаимоотношениях с полковником Тулбисом. Беседа шла так непринужденно, так деликатно, что терявшаяся и смущавшаяся вначале Маренайте быстро освоилась и отвечала легко, даже порой весело, хотя разговор шел о далеко не веселых вещах. Но постепенно, когда темнота за окнами начала сгущаться, Маренайте стала отвечать невпопад. Она вздрагивала при каждом шуме, доносившемся с улицы, бросала испуганные взгляды на дверь. Часов около десяти раздался тихий стук. Маренайте поспешно выскочила из-за стола и распахнула дверь. Аликас встал чуть сбоку, возле притолоки, чтобы оказаться за спиной вошедшего. Эйдукас (это был он) отпрянул, увидев в комнате посторонних, но Маренайте крепко взяла его за руку: — Входи, Валентинас, входи, тут чужих нет. Это — друзья. Растерянно оглядываясь по сторонам, Эйдукас вошел в комнату и направился к столу. Аликас — за ним. Маренайте села рядом с Эйдукасом и, пристально глядя ему в глаза, повторила: — Это — друзья. Товарищи из Наркомата государственной безопасности… — Друзья! — попытался вскочить Эйдукас. — “Товарищи” из НКГБ!.. Ты… ты… — Успокойся, — мягко удержала его Маренайте. — Успокойтесь, — повторил Аликас — Нам просто захотелось побеседовать с вами По душам. Разве вы не считаете, что это давно пора сделать? Трудно сказать, что произвело на Эйдукаса большее впечатление: дружелюбный ли тон Аликаса, или то, что говорил он на родном Эйдукасу литовском языке, или ласковый жест Маренайте, по он не пытался больше подняться, медленно придвинулся к столу и глухо сказал: — Ну что же, спрашивайте… — Зачем же так, — с укоризной сказал Скворецкий, — вот как раз спрашивать, или, если хотите, допрашивать, мы и не хотели бы. Мы ждем от вас, от вас самого — поймите, это очень важно, — самого подробного рассказа обо всем, о чем вы считаете нужным сообщить. И, если не возражаете, будем говорить по-русски, ибо, честно признаюсь, в отличие от вас троих литовским я не владею. — Хорошо, — сказал Валентинас, — я расскажу. Может, вы и правы. — Он повернулся к Аликасу: — Может, это давно надо было сделать… С минуту Эйдукас помедлил и начал свой рассказ с того, как и с каким заданием направил его в Литву полковник Тулбис. — Простите, — перебил его Скворецкий, — начинать лучше не с этого. Это — следствие, результат происшедшего ранее. Расскажите лучше, как вам жилось в буржуазной Литве, до 1940 года… — Хорошо, — согласился Эйдукас. — Начну с этого. …Было уже за полночь, когда Эйдукас кончил свой рассказ. Он не утаил ничего: ни своего ареста в 1941 году, ни мыслей и настроений, порожденных этим арестом, ни взаимоотношений с полковником Тулбисом (об этом Скворецкий расспрашивал особенно подробно), ни службы в гестапо, ни явок и паролей, которыми снабдил его Тулбис перед выездом в Литву. — Скажите, — спросил Скворецкий, — вы могли бы найти место, где зарыли чемодан? Кстати, он предназначался только “Черному барину” или был и запасный вариант? — Был и, как вы говорите, запасный вариант, — сказал Эйдукас. — Если мне почему-либо не удалось бы вручить чемодан “Черному барину”, я должен был передать его своему спутнику по полету. А найти чемодан я найду. Только днем. Ночью — вряд ли. — Хорошо. Еще вопрос: кто был тот, второй, ваш спутник? — Я его не знаю, знаю только кличку — “Джокер”. И заданий, с которыми он прибыл, тоже не знаю. Мы должны были с ним встретиться в следующий понедельник в Вильнюсе. — Эйдукас назвал место и время встречи. — А для чего встретиться? — быстро спросил Аликас. — Он должен был что-то передать мне для Тулбиса. Ведь предполагалось, что он останется здесь, в Литве, а я вернусь в Любек. Так мне, во всяком случае, говорили. А кроме того- чемодан. Если не встречу “Черного барина”… — Тут вы и должны были вручить ему чемодан? — уточнил Скворецкий. — Вручить или указать место, где он припрятан. Это уж как сложились бы обстоятельства. — Скажите, — задал новый вопрос Скворецкий, — полковник Тулбис имеет связи здесь, в Литве? Часто посылает сюда своих людей? Встречает людей отсюда? — Часто ли посылает своих людей, не знаю. И никогда не хотел знать. Все это мне было противно. Я ведь вам говорил, с какой целью взялся за выполнение задания полковника. А насчет связей… Их у Тулбиса хватает. Все они там, в Любеке, — я имею в виду полковника и его окружение — только и заняты организацией подрывной работы в Литве. — Но на кого, на кого же там, за границей, они надеются, кто дает им средства, кто предоставляет возможности организовывать в нашем тылу подрывную работу? Ведь фашистская Германия разбита, войне со дня на день конец? Или… есть другие? Впервые за этот вечер Эйдукас улыбнулся: — Да, вы, как видно, неплохо знаете полковника Тулбиса. С давних времен он связан с англичанами и с американцами. С теми, кого не упрекнешь в симпатии к Советскому Союзу. Тулбис мне сам об этом не раз говорил. Правда, конкретных имен он не называл, но, думаю, не хвастался. По-моему, он уже и сейчас, хотя война еще не кончилась, восстанавливает свои старые связи. — Так, — задумался Скворецкий, — значит, вы говорите, что должны были вернуться? Эйдукас молча кивнул в ответ. — А что, если вам взять да и действительно вернуться в Любек? — Вы шутите! — вскочил Эйдукас. — Мне сейчас не до шуток. — Почему шучу? — спокойно возразил Кирилл Петрович. — И не думаю шутить. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Так через денек или два… Что вы скажете, если мы пока поместим вас на надежной квартире, не здесь, конечно, а в Вильнюсе, завтра съездим в лес за чемоданом, а там решим, что делать? Согласны? — Позвольте, а разве вы меня не… не арестуете? — В го лосе Эйдукаса послышалась дрожь. — Не отправите в тюрьму? — Нет, в тюрьму мы вас отправлять не собираемся, — рассмеялся Скворецкий. — Скажите, кстати, за вами из здешних друзей Тулбиса никто не следит? Вы ничего такого не замечали? — Нет, кто же может следить? Ведь до настоящего времени никто, кроме Джокера и. вот ее, — Эйдукас кивнул в сторону Маренайге, — о моем прибытии в Литву не знал. Теперь еще и вы знаете. Вот и все. Хотя… хотя все может быть. Но замечать я ничего такого не замечал. — Хорошо, если так, — задумчиво произнес подполковник, — а все-таки надо вам поберечься, да и все мы должны вести себя поосторожнее. Распростившись с Маренайте, сначала Аликас с Эйдукасом, затем Скворецкий, соблюдая всяческие предосторожности, пробрались к ожидавшей их невдалеке от воинской части машине и поспешили в Вильнюс. Поместив Эйдукаса в специально подготовленной квартире, несмотря на то что было уже далеко за полночь, Скворецкий и Аликас отправились к заместителю наркома и все рассказали ему. — Ну, так что же, предлагаете поверить Эйдукасу? — подвел итоги заместитель наркома. — Почему “поверить”? — возразил Скворецкий. — Будем и дальше его проверять. А рискнуть стоит… — Да, — согласился заместитель наркома, — без риска в нашем деле нельзя. Только риск должен быть разумным, оправданным. Тут игра, кажется, стоит свеч. Однако, не повидав Эйдукаса, я не хотел бы ничего решать. Завтра с ним побеседуем. Все вместе.***
На следующее утро капитан Аликас с Эйдукасом в сопровождении надежно вооруженных оперативных работников отправились в лес, туда, где был спрятан чемодан. Чемодан был найден без труда и доставлен в Вильнюс. В нем оказался набор взрывателей, несколько бесшумных пистолетов с запасом патронов, изрядная сумма денег, таблицы шифров, коды, тщательно упакованные пакетики с беловатым кристаллическим порошком. Химический анализ показал, что это сильнодействующий яд, по всем признакам сходный с тем, что был обнаружен в поселке. В тот же вечер заместитель наркома встретился с Эйдукасом. Судя по всему, Эйдукас произвел на него самое благоприятное впечатление. Во всяком случае, заместитель наркома сказал Скворецкому: — Ну, будь по-вашему. Рискнем.***
Побеседовав с Эйдукасом еще с полчаса, Аликас поспешил к Скворецкому. Судя по выражению его лица, Аликас был чем-то обрадован. — Знаете, Кирилл Петрович, — сразу начал капитан, — Эйдукас сообщил мне нечто любопытное. — Например? — Он рассказал, что одним из самых доверенных лиц полковника Тулбиса является майор Рамулис. — Рамулис? Ну и что из этого? Признаться, это имя мне ровно ничего не говорит. — Я так и думал. Но зато мне это говорит, и очень, очень многое. — А именно? — Я знаю Рамулиса. Знаю лично. Вернее, знал в прошлом. Этот человек вполне заслуживает самого серьезного внимания. И то, что мы лично знакомы, может сыграть немалую роль… Аликас рассказал, что впервые услышал про Рамулиса при следующих обстоятельствах: в середине тридцатых годов, в буржуазной Литве, отец Аликаса участвовал в “деле” какого-то своего дальнего родственника, крупного литовского предпринимателя. Одновременно, с ведома этого родственника, он выполнял обязанности представителя советской фирмы “Автоэкспорт” и постоянно встречался с сотрудниками советских торговых организаций. У отца Аликаса была собственная автомашина, а вместо шофера был его сын, но зато Аликас имел право пользоваться этой машиной. Аликасу это было очень удобно: он являлся активным участником подполья, и машина была необходима. Однажды Аликас вез отца и сотрудника советской торговой организации. Разговор шел деловой, и Аликас запомнил его от слова до слова. Речь шла о поставке автоцистерн для литовской армии. Главным конкурентом советских торговых организаций в Литве являлись германские фирмы, пытавшиеся сбыть свои автоцистерны. Представителем одной из немецких фирм был майор литовской армии Рамулис. Так Аликас впервые услышал это имя. Работник торгпредства убеждал старого Аликаса снизить цены до возможного предела, дабы заказ не уплыл к немецким фирмам, а также предлагал использовать Рамулиса, человека очень близкого Тулбису, и попытаться внести разлад между Рамулисом и Тулбисом. Следуя этим советам, отец Аликаса познакомился с майором Рамулисом и начал с ним встречаться. Как там у них шли торговые дела, Аликас не знал и не знает, но и ему довелось познакомиться с Рамулисом. Майору он известен как сын коммерсанта средней руки и дальний родственник крупного литовского промышленника и дельца. Ничего иного он о нем не знает. Да, еще он знает, что Аликас в середине тридцатых годов намеревался перебраться в США. Вот, пожалуй, и все. — Вы полагаете, что Рамулис вас узнал бы, если бы вам довелось встретиться? — поинтересовался Скворецкий. — Я в этом убежден. Ведь с тех пор, как мы виделись, не прошло и десятка лет. — Что ж, об этом стоит подумать, — согласился подполковник.***
В очередной понедельник, около трех часов пополудни, Эйдукас направился к костелу Остра Брама, что расположен в центре города, недалеко от улицы Гедемина. Костел этот и примыкающая к нему улица представляли собою весьма любопытный архитектурный ансамбль. Узкая улица ныряла под своды костела, замыкавшего ее. И днем и по вечерам на подступах к костелу толпились верующие. Всякий, кто даже невзначай попадал сюда, должен был снять головной убор и присоединиться к молящимся — иначе ему тут делать было нечего. Вот сюда-то и лежал путь Эйдукаса. Минут за пятнадцать до него пришел Аликас. Он, как и все молящиеся, преклонил колена, но устроился так, что ему был виден весь путь к костелу. Были здесь, затерявшись в толпе, и другие оперативные работники. Появился Эйдукас. В левой руке он держал свернутую трубкой газету и трость, правой рукой крестился. Это был знак “Джокеру”: все благополучно, можно подходить. “Джокер” не заставил себя ждать — несколько минут спустя он опустился на колени рядом с Эйдукасом, также держа в левой руке газету, но без трости. Этот сигнал был уже для Эйдукаса. Отсюда они вышли вместе. — Как дела? — тихо спросил “Джокер”, едва они оказались на улице. — Ничего подозрительного? Что успел сделать? — Вроде бы все гладко, — ответил Валентинас. — Держусь. Но в лес лучше не ходить. Пробовал — не вышло. Везде войска. (Это было правдой — по полученным от Эйдукаса явкам местопребывание “Черного барина” было уточненои банда окружена войсками. Со дня на день должна была состояться операция по полной ее ликвидации.) — А как с грузом? — Груз я спрятал. — Где? — В лесу. Укрыто надежно. Вот план местности, где зарыт чемодан. — Эйдукас протянул “Джокеру” клочок бумаги. — А как у тебя? Для полковника все готово? — Спрашиваешь! — самодовольно ухмыльнулся “Джокер”. — Держи. Он протянул Эйдукасу катушку фотопленки, аккуратно обернутую в черную светонепроницаемую бумагу. — Еще увидимся? — спросил Эйдукас. — Я лично задерживаться тут не собираюсь. — Ну и двигай, — согласился “Джокер”. — Нашим передай, что я осел крепко, хорошо. Груз возьму. Связь — как условлено. Желаю успеха!.. Они расстались, и с этой минуты “Джокер” ни на мгновение не оставался вне поля зрения чекистов. Эйдукас вышел на улицу Гедемина и прошел несколько кварталов, затем круто повернул и пошел обратно. Шел он не спеша, иногда останавливаясь, бросая как бы невзначай взгляды по сторонам. Ему показалось, что, когда он повернул, в толпе мелькнули какие-то лица, замеченные им и ранее. “Неужели следят? — подумал Валентинас. — Но кто? Чекисты? А может, люди “Джокера”? Может, просто померещилось?” И все же он не мог не думать, что за ним кто-то неотступно следует по пятам. “Что ж, — думал Эйдукас, — если это чекисты, это понятно. Не могут они так сразу мне доверять. И все же обидно. Ведь я рассказал им всё, всё. Неужели не верят? А вдруг люди “Джокера”? Тогда — хуже”. Эйдукас нырнул в проходной двор, в другой и, убедившись, что ушел от преследователей, поспешил на свою квартиру. Встретившись день спустя с подполковником Скворецким, он сухо сообщил ему, что когда шел со встречи с “Джокером”, то заметил, что за ним кто-то следил. Кирилл Петрович нахмурился. — Вы заметили внешний облик этих людей? Их приметы? — спросил он. — Опишите поподробнее. Это дело серьезное. Из вопросов подполковника, из самого тона, которым они были заданы, Эйдукас понял, что за ним следили не чекисты, и почувствовал огромное облегчение. Он не знал и не мог знать, что и чекисты не спускали с него глаз, охраняли, что они тоже заметили преследовавших его людей. Скворецкий ничего об этом ему не сказал, но запретил покидать квартиру. Не так прост был “Джокер” и его подручные — всякое могло случиться. Да и зачем было зря появляться на улице, когда здесь, в Вильнюсе, все было сделано и до отъезда остались считанные дни…***
Прошло несколько суток, и Аликас доставил Эйдукаса на территорию Германии, в тылы наступающих на Берлин советских войск, а дальше Валентинас пошел самостоятельно, тем маршрутом, что дал ему полковник Тулбис. Через некоторое время было получено условное письмо, из которого явствовало, что Эйдукас благополучно добрался до Любека и встретил самый радушный прием у полковника Тул-биса. Между тем чекисты не спускали глаз с “Джокера”. Вещего действия тщательно проверялись, скрупулезно исследовались, и не напрасно! Люди “Джокера”, особенно те, что следили за Эйдукасом, представляли большой интерес. Это были махровые националисты. Заинтересовала чекистов и записка, которую “Джокер” отправил оказией некоему Марцинкявичусу. На первый взгляд записка выглядела абсолютно невинно: “Люблю, грущу, соскучился, надеюсь повидаться”, но важно было то, что жил Марцинкявичус в том самом поселке, что и Маренайте, там, где случались таинственные происшествия. Марцинкявичус — человек с безупречной биографией, инвалид войны, пенсионер. Однако при тщательной проверке выяснилось, что Марцинкявичус далеко не столь прост, как кажется. Оказалось, что все его документы фальшивые, а биография — вымышленная. Так называемый Марцинкявичус никогда не жил в тех местах, которые были указаны в паспорте и биографии. Поддельным был не только паспорт, но и остальные документы, хотя, надо признать, сделано было все очень ловко. Теперь и Марцинкявичус был под наблюдением чекистов. Вел он себя, однако, все так же тихо и неприметно, как и раньше. Прошло еще несколько дней, и “Джокер”, как того и ожидали, явился в лес за чемоданом, спрятанным Эйдукасом. Весело насвистывая, он выкопал чемодан, заблаговременно возвращенный на место, отряхнул его от земли и принялся отпирать. — Руки вверх! — внезапно прозвучал суровый окрик. — Ни с места!.. “Джокер” так и застыл, испуганно вскинув руки над головой и дико озираясь по сторонам. Сопротивляться было бессмысленно, да “Джокер” и не пытался. Его игра была безнадежно проиграна, и он принял единственно правильное решение: попытаться облегчить собственную участь полнотой признания. Он сразу же назвал полковника Тулбиса, все явки, полученные от шефа, перечислил задания, назвал Эйдукаса, а также людей, которым поручил проверять его. Не забыл он и Марцинкявичуса. Этому последнему “Джокер”, как он заявил, должен был передать яд, все же остальное он намеревался переправить “Черному барину”, коль скоро Эйдукас не успел этого сделать. (“Джокеру” было невдомек, что к этому времени ни “Черного барина”, ни его банды уже не было и в помине: банда была уничтожена, а сам “Черный барин” убит в завязавшейся перестрелке). Рассказывая о Марцинкявичусе, “Джокер” назвал имевшуюся к нему явку и сообщил пароль. По его клятвенному заверению, ни в какой личный контакт с Марцинкявичусом он вступить не успел, если не считать коротенькой записки обусловливающей встречу. Следовательно, тот никак не мог знать его в лицо. На другой день в поселке появился молодой человек, одетый в поношенный спортивный костюм. Уверенно, словно дорога была ему превосходно известна, он направился к пивному залу, где работал Марцинкявичус. В этот полуденный час на улицах поселка было пустынно и приезжий почти никого не встретил. Когда он вошел в зал, там не было ни души, только за стойкой лениво двигался человек в белом фартуке. Это был Марцинкявичус. — Пиво свежее? — бросил сквозь зубы незнакомец, небрежно облокачиваясь о стойку и обшаривая цепким взглядом пустой зал. — А выдержанное, прошлогоднее не водится? (Это был пароль.) — Есть для хороших людей и прошлогоднее, — сдавленным голосом прошептал Марцинкявичус. Краска сбежала с его лица. — Вы… вы “Джокер”? Пойдемте… Марцинкявичус юркнул в низкую дверцу за стойкой, приглашая незнакомца следовать за собой. Они очутились в маленькой комнатушке с единственным оконцем, завешенным плотной занавеской, и второй дверью, которая вела в крохотную прихожую и на улицу. Все убранство комнаты состояло из кровати, шаткого колченогого стола да двух стульев. На один из них Марцинкявичус указал своему посетителю, другой придвинул себе. — Как, — спросил Марцинкявичус, нервно поеживаясь и потирая руки, — добрались благополучно? “Хвост” не притащили? — Ого, — присвистнул “Джокер”, — да ты, я вижу, пуганый! — Будешь пуганый, коли насидишься в моей шкуре! — огрызнулся Марцинкявичус. — Тут что ни день, так красные шныряют. Место-то знаешь какое? Горячее!.. — А у тебя как, гладко? — встревожился приезжий. — Ничего такого?.. — Да нет. Пока ничего. Сижу крепко, хорошо. Но ухо надо держать востро. Давай, однако, к делу: деньги, товар с тобой? — Ишь ты какой быстрый! — усмехнулся гость. — “Деньги”! “Товар”! Ты прежде отчитайся в своих делах, а там и об остальном потолкуем. Марцинкявичусу такое требование было явно не по душе, но возражать он не стал. Из его слов явствовало, что времени он даром не терял: при помощи предыдущей партии “товара” сумел отправить на тот свет немало людей. — Так, — сказал приезжий, выслушав Марцинкявичуса. — Все усвоил… А насчет товара, так придется пойти со мной. Не буду же я деньги и товар тащить среди бела дня через весь поселок. А вдруг что случится? — Это правильно, — поспешно согласился Марцинкявичус. — Что правильно, то правильно. Только куда идти, далеко ли? Надолго-то мне уйти просто так, никого не предупредив, не с руки. Я же на работе. — Какое там далеко. Здесь, в лесу. Минут пять ходу… Пивной зал был расположен на окраине поселка, и густой лес вплотную подходил к разбросанным там и тут строениям. “Джокер” и Марцинкявичус быстро нырнули в лес и углубились в чащу. Приезжий шел вторым. Не прошли они и нескольких сотен шагов, как Марцинкявичус почувствовал, что ему в спину внезапно уперлось что-то твердое. — Руки! — послышался властный голос. — Руки на голову! В случае чего стрелять буду без предупреждения… “Стрелять? — обмер Марцинкявичус. — В меня стрелять? Но почему, что все это значит? Потерял доверие? Сделал что-нибудь не так?” Он хорошо знал повадки националистов. Но туг же понял, как он ошибся: кусты расступились и из них вышло несколько человек в чекистской форме, а бывший “Джокер”, усмехаясь, представился: — Капитан Аликас. Прошу любить и жаловать… — Значит, — беспомощно пролепетал Марцинкявичус, — вы не “Джокер”? А я-то… вы-то… — Вот какой стал робкий, — резко сказал Аликас, — даже язык стал заплетаться. Небось, когда наших товарищей на тот свет отправлял, не заикался? Марцинкявичус замолчал. Вскоре он сидел перед подполковником Скворецким и давал исчерпывающие показания о своих злодейских делах. Ему, как и “Джокеру”; деваться было некуда… Но хотя с бандой “Черного барина” было покончено и “Джокера” поймали, чекисты знали, что вражеское подполье еще осталось и пытается наносить удары из-за угла. Надо было действовать, и, наконец, план был готов, рассмотрен и утвержден…***
…Кончилась война. Фашистская Германия подписала безоговорочную капитуляцию и была разделена на зоны оккупации: советскую, американскую, английскую, французскую. Правда, между французской, английской и американской зонами оккупации почти никакой разницы не было, но тем разительнее было отличие этих зон от советской, где впервые в истории немецкого народа начали закладываться основы новой, социалистической Германии. Конец войны и приход английских оккупационных войск в Любек ничего не изменили ни в образе жизни полковника Тулбиса, ни в его деятельности. Все осталось по-прежнему, только хозяева да источники снабжения стали другими.***
Эйдукас вернулся в Любек в самые последние дни войны, когда здесь уже хозяйничали союзники. Любек — крупный портовый город на севере Германии, один из центров германской судостроительной, авиастроительной и автомобильной промышленности, в это время являл собою жалкое зрелище. Город был основательно разрушен: там и тут высились остовы разбитых домов, улицы были загромождены грудами битого кирпича, щебня. Таковы были последствия бомбардировки Любека английской и американской авиацией. Правда, пострадали только центральные районы города, его жилые кварталы. Окраины, где были расположены промышленные предприятия, остались почти целыми. Авиация союзников бомбила по выбору, расчетливо, точно, оставляя в сохранности промышленные объекты. Полковник Тулбис встретил Эйдукаса с распростертыми объятиями: еще бы, герой — побывал у большевиков, в красной Литве, и вернулся цел и невредим! Он помог Валентинасу снять хорошую комнату, где тот удобно устроился. Эйдукас “отдыхал” и с нетерпением ждал вызова. Несколько дней спустя после возвращения Эйдукас был приглашен к Тулбису. Полковник занимал двухэтажный особняк, расположенный в глубине небольшого сада за каменной оградой. У дверей Эйдукаса встретил майор Рамулис. Это было далеко не лишним: полковника Тулбиса надежно охраняли вооруженные с ног до головы головорезы из литовских националистов, которые ни одного постороннего ни на шаг не подпускали к особняку. Охрана разместилась у калитки, у расположенных вблизи нее широких ворот, открывавшихся изнутри, патрулировала вдоль ограды с ее внутренней стороны, находилась у входа в самый дом. Одним словом, мирный и безобидный извне особняк напоминал штаб воинской части или, еще точнее, осажденную крепость. Майор Рамулис повел Эйдукаса через двойное кольцо охраны — у калитки и возле дома — и широко распахнул перед ним входную дверь. В просторной комнате первого этажа, служившей, судя по всему, гостиной, в креслах и на стульях расположилось человек пятнадцать литовцев. Большинство из них были солидные, пожилые люди, некоторых из них Эйдукас встречал у полковника и раньше, некоторых он видел впервые. Вскоре Эйдукас понял, что перед ним находятся лица, направляющие деятельность антисоветских политических групп на территории Литвы. Теперь Эйдукас внимательно присматривался к присутствующим, стараясь понять, какую роль каждый из них играет, выяснить и запомнить их имена и занимаемое положение. Навстречу Эйдукасу, когда он вошел, из-за курительного столика поднялся полковник Тулбис. Взяв Валентинаса под руку, он повел его по комнате, представляя собравшимся. Каждый чуть приподнимался навстречу, пожимая Эйдукасу руку и называя свое имя: кто отчетливо — Шкирпа, Валюкюнос, Кубенис, кто невнятно, сквозь зубы. Когда церемония представления была окончена и все расселись по своим местам, Тулбис предоставил слово Эйдукасу. Он попросил подробно рассказать о том, как обстоят дела в Литве и доложить, как он справился с возложенными на него поручениями. Валентинас был готов к этим вопросам. Подполковник Скворецкий предполагал, что, помимо отчета “о проделанной работе”, от Эйдукаса потребуют по возвращении в Любек подробного доклада о положении дел в Литве, и дал Эйдукасу перед его отъездом целый ряд советов. Этими советами Эйдукас сейчас и воспользовался. Из его слов вытекало, что положение Советов в Литве прочное, хотя некоторые литовцы иногда вспоминают о временах “национального правительства”. То там, то здесь “литовские патриоты” убивают коммунистов, стреляют по советским учреждениям, распространяют “патриотические” листовки. Но среди литовцев много таких, которые решительно пресекают все эти враждебные новому режиму действия. — Позвольте, э… э… позвольте! — раздался хрипловатый, рокочущий бас. — А крестьянство? Зажиточное крестьянство — наша опора? Почему вы ничего не говорите о крестьянстве, его настроениях? Имеет ли литовский крестьянин оружие, готов ли подняться по нашему призыву на всеобщую борьбу против большевиков? Вот что мы хотим от вас слышать, вот что мы хотим знать… Вопрос задал пожилой полный человек с одутловатым лицом, изборожденным склеротическими прожилками. Его седые усы воинственно топорщились. — Но, господа, — развел руками Эйдукас, — я не имел ни времени, ни возможностей изучить положение дел во всех слоях литовского народа. Поверьте, условия моего пребывания там, у красных, не очень способствовали такому изучению… — Эйдукас снова развел руками и улыбнулся. Многие заулыбались ему в ответ, понимающе закивали головами, задвигались на стульях. — Мне даже с “Черным барином” не удалось встретиться, получить от него информацию. Могу сказать одно: немцам литовский народ не очень симпатизирует… — Что немцы? — с раздражением махнул рукой полковник Тулбис. — Немцы — уже пройденный этап. Они попирали национальное достоинство литовского народа и — туда им и дорога. В деле освобождения литовцев от ига большевиков наши надежные союзники — англичане и американцы, я всегда так и считал!.. — Так уж и всегда?! — ехидно сказал худощавый подвижный человек, с черными, тронутыми проседью волосами, разделенными четким пробором. Его тонкие губы кривились в желчной усмешке. — Да, всегда! — с пафосом воскликнул Тулбис. — Но обстоятельства… — Хватит ссылаться на объективные обстоятельства! — рявкнул кто-то. Кто — Эйдукас не увидел. Поднялся шум, в котором тонули отдельные выкрики. Некоторые вскочили со своих мест, размахивали руками, угрожающе надвигались друг на друга. Было очевидно, что господа националисты далеко не так единодушны, как могло показаться вначале. — Господа! — взывал полковник Тулбис, стуча кулаком по столу. — Господа! Прошу прекратить шум. Мы собрались для того, чтобы выслушать господина Эйдукаса, а не для дискуссии. Призываю вас к порядку… И все же прошло не менее пятнадцати минут, пока собравшиеся наконец угомонились и с ворчанием расселись по своим местам. Наступила тишина. Потом Эйдукаса попросили объяснить, почему не состоялась встреча с “Черным барином”. Тут споров не возникло: все сошлись на том, что при сложившихся обстоятельствах, когда в местах явок “кишмя кишели коммунисты”, Эйдукас поступил правильно, не пытаясь прорваться к “Черному барину”. Из обмена репликами между участниками совещания Эйдукас лишний раз убедился, что хотя “Черный барин” и представлялся значительной фигурой собравшимся, он был не единственным из подобных “деятелей”, подвизавшихся на территории Литвы, и банда “Черного барина” была всего лишь одной из банд. Всеобщее одобрение вызвало сообщение полковника Тулбиса об успешной встрече Эйдукаса с “Джокером” и доставленной фотопленке. Причем, как обратил внимание Эйдукас, подлинное имя “Джокера”, как и “Черного барина”, ни разу не было названо. — Материалы фотопленки обрабатываются, — сказал Тулбис, — но уже и сейчас очевидно, что господин Эйдукас доставил весьма ценные сведения. Со временем мы вас с ними ознакомим. (Полковник, конечно, и понятия не имел, что фотопленка побывала в руках чекистов и была надлежащим образом “отредактирована” и “доработана”.) От лица “литовского народа” полковник Тулбис выразил Эйдукасу благодарность за успешное выполнение задания и торжественно заявил, что все рассчитывают и впредь видеть в лице Эйдукаса “достойного патриота”, надежного “борца за освобождение Литвы от большевистского ига”. — Скажите, — робко спросил Эйдукас майора Рамулиса, провожавшего его до калитки, — и часто у них такое бывает? — Что вы имеете в виду? — Ну, вот такие, что ли, стычки? Рамулис усмехнулся: — Стычка? Разве это была стычка? Случается, и за горло друг друга хватают, и по скуле один другому норовят заехать, а ты говоришь “стычка”! В чем беда, — наставительно сказал Рамулис, — есть еще среди нас такие, что до сих пор на Гитлера молятся и никак не хотят понять, что немцам капут. Нет, брат, теперь вся наша надежда на англичан, на американцев, на Черчилля. Вот когда они передерутся с русскими, тогда настанет наше время. И полковник Тулбис давно это понял. Светлая голова! На нем все и держится…***
Потекли дни, недели. Тулбис и его помощники ни на минуту не прекращали лихорадочной деятельности, направленной на подрыв социалистического строя в Советской Литве. И, судя по всему, они имели могущественных покровителей и надежные источники для продолжения шпионской и диверсионной работы. Теперь в отличие от прежнего Эйдукас старательно присматривался и наблюдал за всеми кто его окружал в Любеке. Он пользовался каждой возможностью попасться на глаза Тулбису, неизменно подчеркивал свою приверженность делу “освобождения литовского народа”, преданность делу, а с Рамулисом они стали просто неразлучны. Вначале майор присматривался к Валентинасу, не раз расспрашивал его о подробностях поездки, о встрече с “Джокером”, причинах неудачи с “Черным барином”. Вопросы часто повторялись, и Эйдукас понимал, что его проверяют, ловят на слове. Но он был начеку и с честью выходил из всех испытаний. Постепенно подозрительность Рамулиса уступила место полному доверию, и on окончательно сблизился с Эйдукасом. — Слушай, Валентинас, — сказал однажды Рамулис, — у тебя оружие есть? — Оружие? — удивился Эйдукас. — Здесь, в Любеке? Но с какой стати может мне здесь понадобиться оружие? Красные-то пока далеко!.. — Красные? — усмехнулся Рамулис. — Разве я говорю о красных? Нет, тебе не меньше надо бояться кое-кого из наших… Валентинас ничего не понимал, тогда Рамулис пояснил, что среди собравшихся у полковника многие Эйдукаса раньше не знали, а малознакомым людям они не доверяют. Одно неправильно истолкованное слово, вызывающий подозрение шаг, и всё. Конец. Сами, конечно, они рук пачкать не будут, этого господа не любят, но в наемных убийцах, в том числе и из литовских националистов, в Любеке недостатка нет. Вот на этот случай и надо всегда иметь при себе оружие, да и вообще остерегаться. — Я не думал, что могу у кого-либо вызвать подозрение или неприязнь, — с заметной растерянностью сказал Эйдукас. — После всего, что я сделал… Да и полковник… Полковник-то Тулбис не первый день меня знает. — “Полковник”! — парировал Рамулис. — Я не полковника имею в виду. Полковник, да и я, мы в тебе не сомневаемся. Но есть и другие… Одним словом, мое дело тебя предупредить, а там как знаешь. Полковник Тулбис действительно относился к Эйдукасу с большим доверием, что нельзя было сказать о других руководителях националистов. Чем больше узнавал Валентинас, чем ближе он узнавал этих “деятелей”, их вероломство, страсть к интригам, корыстолюбие, мелочность, жгучую ненависть к трудовому народу Литвы, тем отвратительнее они ему становились. Тем более крепла в Эйдукасе уверенность в правильности избранного им в Вильнюсе, при помощи Скворецкого, Аликаса и, в первую очередь, Маренайте, пути. Маренайте! Вот кого ему особенно недоставало, вот кто ему был особенно нужен. Но теперь он мог мечтать о будущем, и это будущее — вместе с Маренайте — было светлым, лучезарным. Трудно было Валентинасу. Тяжко прикидываться врагом Советской власти, своего народа, своей Родины. Но ему было приказано ждать, и он ждал, собирая сведения о намерениях националистов, об их связях и делах с иностранными разведками. Плохо было и то, что Эйдукас не имел регулярной связи с теми, кто стал его подлинными друзьями, со Скворецким и Аликасом. Ведь он мог уже сообщить им много важного. Но и это до поры до времени было ему запрещено. Только дважды он переслал информацию: сообщил о своем благополучном прибытии в Любек и об образе жизни полковника Тулбиса. Эйдукас сообщил, что полковник живет в особняке, который тщательно охраняется и проникнуть туда постороннему чрезвычайно трудно. Полковник покидает особняк редко и всегда под надежной охраной, состоящей из пяти — шести особо преданных ему бандитов. В одиночку он из особняка не выходит. Вот и вся информация, которую передал Эйдукас подполковнику Скворецкому… В конце мая 1945 года в одном из лагерей для перемещенных лиц, километрах в ста на юго-восток от Любека, находившемся в ведении английского командования, появился представитель советской военной администрации майор Дроздов. Майору было за тридцать лет, роста он был среднего, широк в плечах, подтянут. По делам службы он много ездил: бывал в Ганновере, Бремене, Люнебурге, Гамбурге, заворачивал и в Любек. В распоряжении майора находился черный вместительный “хорьх”, мощная, быстроходная машина, па которой он совершал свои поездки. Ездил майор, как правило, днем, но случалось, в пути его заставала и ночь. Водителем у него был молодой мрачноватый сержант, с которым майор редко расставался. Хотя и с трудом, но майор изъяснялся по-английски, и его общительность, неизменная жизнерадостность, веселый прав привели к тому, что скоро у него завязались дружеские отношения со многими из офицеров английских оккупационных войск, расположенных в этой зоне Германии, особенно среди тех, кто причастен к деятельности лагерей перемещенных лиц. Этому в какой-то мере способствовало и то, что у майора всегда имелся запас русской водки, а многие из английских офицеров были не прочь выпить. Майор частенько бывал в советской зоне и вскоре стал своим человеком на английском контрольном пункте. Его “хорьх” знал чуть не каждый солдат на КП, а про офицеров и говорить нечего. Естественно, что английские офицеры, вообще не придерживавшиеся, как и все остальные, особой строгости в первые месяцы после окончания войны, смотрели сквозь пальцы на некоторые слабости русского майора, а слабости у него имелись. Так, майор Дроздов любил всячески украшать свой “хорьх”. В кабине его машины перед ветровым стеклом всегда можно было увидеть очередную безделушку — “счастливый амулет”, как говорил майор, — висящую на тонком шнурке. Сиденье “хорьха” покрывал ковер. Иногда этот ковер, скатанный в тугой рулон, лежал на полу машины, тогда сиденье было закрыто красивой пестрой тканью. Англичане никогда не проверяли машину майора Дроздова. Не портить же в самом деле из-за таких мелочей отношения с хорошим человеком. Тем более, что в машине майора иногда оказывался ящик, а то и два с аккуратно уставленными в гнездах бутылками водки. Вот этим грузом офицеры английского КП интересовались, но интересовались чисто потребительски. Известная часть этого груза оседала на КП, причем англичане всякий раз удивлялись, зачем русскому майору водка, если он сам почти не пьет. Служебные обязанности майора Дроздова в самом лагере для перемещенных лиц были хлопотливыми, хотя и не отнимали много времени. Здесь, в лагере, в первые недели после окончания войны содержалась разная публика. Были здесь русские, украинцы, литовцы, эстонцы, латыши, грузины. Основную массу обитателей лагеря составляли бывшие военнопленные, прошедшие через все ужасы фашистских концлагерей, рвавшиеся на родину. Были и те, кого гитлеровцы насильственно вывезли в Германию и использовали в качестве рабочей силы на самых тяжких работах. Были и такие, кто в свое время сотрудничал с немцами, бежал в Германию при наступлении советских войск, а теперь, не видя иного выхода, оказался в лагерях для перемещенных лиц, где тщательно скрывал свое прошлое, свои преступления перед Родиной. Среди них попадались люди, завербованные разведкой союзников с целью использовать их в качестве своей агентуры на территории Советского Союза. Во всем этом и приходилось разбираться майору Дроздову и его товарищам, другим советским офицерам, определявшим совместно с представителями союзного командования порядок репатриации на родину так называемых перемещенных лиц. А разбираться было нелегко, ибо особого порядка поначалу в этих лагерях не было. Частые поездки майора Дроздова по территории английской зоны оккупации объяснялись его служебными обязанностями: майор был связан с несколькими лагерями, вынужден был встречаться с представителями английского командования, избравшими местом своего постоянного нахождения крупные города, а также выполнять и кое-какие функции, связанные с проверкой его “подопечных”. Далеко не все поездки майора Дроздова проходили благополучно. Был однажды случай, когда поздней ночью борт его машины внезапно прошила автоматная очередь. Счастье, что ни майора, ни его шофера не ранило. С обеих сторон к дороге подступал густой лес, стояла непроглядная тьма. Шофер мгновенно выключил фары, дал полный газ, и Дроздова спасла только скорость его машины да самообладание водителя. Майор не распространялся об этой истории, но в лагере, сослуживцам, стало известно о происшествии, и майору строго-настрого порекомендовали прекратить ночные поездки: всякое может случиться… Майор Дроздов и сам, когда поднялись разговоры, объяснял случившееся так: гитлеровцы. Ночью он теперь стал ездить намного реже, но все-таки ездил: важные дела! Ничего не поделаешь… Неделю спустя майор снова чуть не попал в беду, и опять его спасла находчивость и смелость шофера. На этот раз все произошло под вечер, невдалеке от лагеря. “Хорьх” Дроздова плавно катил по узкому пригородному шоссе, как вдруг из-за угла на бешеной скорости вывернул тяжелый грузовик, нацеленный прямо на машину майора. Шофер Дроздова вывернул руль, бросив машину в кювет, и грузовик с грохотом промчался мимо, лишь слегка оцарапав борт “хорьха”. Пока выбрались из кювета, преследование стало бессмысленным, и так и осталось неясным, то ли это случайность, шутка подвыпившего шофера, то ли что похуже…***
Между тем жизнь Валентинаса в Любеке шла своим чередом. В первое воскресенье июня 1945 года, то есть тогда, когда майор Дроздов, постоянно подвергая свою жизнь опасности, вовсю разворачивал деятельность в английской зоне оккупации, Эйдукас и майор Рамулис, ставшие к этому времени закадычными друзьями, отправились по предложению Эйдукаса в один из самых роскошных любекских ресторанов. Здесь, если иметь деньги, можно было хорошо поесть да и выпить. Майор Рамулис никогда не отказывался ни от того ни от другого, особенно за чужой счет. В этот вечер за ужин платил Эйдукас. Друзья славно поужинали и, смакуя десерт, вели неторопливую беседу. Беседа вертелась преимущественно вокруг посетителей ресторана, многих из которых Рамулис знал. Рамулис злословил по адресу английских офицеров, а Валентинас вяло ему поддакивал. Внезапно внимание, майора привлек молодой, изысканно одетый человек, сидевший в небрежной позе возле одного из столиков. — Черт побери! — наклонился Рамулис к Эйдукасу. — Ты этого человека знаешь? Рамулис кивнул в сторону незнакомца. — Которого? Вот этого? — спросил Валентинас. — Впервые вижу. — Здесь-то и я впервые его вижу, но я его встречал раньше, еще до войны, в Каунасе, в Литве. Потом он куда-то пропал — помнится, уехал в Штаты. Он туда собирался. Эго родственник одного из наших крупных воротил. Как же его фамилия? Забыл. Ну, да это неважно. Тот тоже уехал в Америку. Еще до войны… Незнакомец, обративший внимание на то, что его разглядывают, сам принялся пристально разглядывать Эйдукаса и Рамулиса. Внезапно лицо его озарилось радостной улыбкой. Он быстро поднялся из-за своего столика и направился прямо к Рамулису. — Майор Рамулис, если не ошибаюсь? Впрочем, теперь наверное уже полковник? Рад в этих местах встретить земляка. Не узнаёте? — Как же, как же, — расплылся в улыбке Рамулис, — я вас сразу узнал. Боже, сколько лет прошло, сколько лет!.. Я вижу, вы здесь в одиночестве, так не присоединитесь ли к нашей компании? Знакомьтесь: Эйдукас, мой друг, — представил он Валентинаса. — Петкявичус, — представился незнакомец, здороваясь с Эйдукасом. — Петкявичус! — воскликнул Рамулис. — Ну конечно же, Петкявичус. Вспомнил! Такова была фамилия вашего уважаемого дядюшки. Правильно? Но ведь вы, помнится, носили другую фамилию? — Правильно, но не совсем, — улыбнулся Петкявичус, подзывая кельнера и делая заказ. Ни Рамулис, ни Эйдукас не возражали. — Господин Петкявичус был моим дальним родственником, но после его смерти я остался едва ли не единственным его наследником и вместе с состоянием унаследовал и его имя. — Ах, так ваш уважаемый родственник умер?! — воскликнул Рамулис. — Какое несчастье, какое тяжелое несчастье… Такой достойный человек!.. — Ну, будем честными, — снова усмехнулся Петкявичус. — Если говорить начистоту, так для меня это было уж не таким большим несчастьем… Беседа вскоре приняла самый непринужденный характер. Петкявичус охотно рассказал собеседникам, как сложилась его судьба. В середине тридцатых годов он, как, наверное, помнит Рамулис, занимался вместе со своим отцом сбытом автомобилей. (Рамулис помнил.) Затем, как и собирался, он уехал в Соединенные Штаты. Тут умер старик Петкявичус, живший в США. Став обладателем крупного капитала, молодой Петкявичус вернулся к излюбленному делу и основал посредническую контору по сбыту автомобилей. Дела идут хорошо, жаловаться нельзя. Сейчас он помышляет о расширении своего дела и подумывает, в частности, о том, как бы заняться и производством автомобилей. Поэтому и оказался в Любеке, где, как известно, имеется ряд автомобильных предприятий. Выйдет ли что из его затеи, сказать трудно, но попробовать стоит. Из слов Петкявичуса было совершенно очевидно, что к политическим проблемам вообще и к так называемому литовскому вопросу, в частности, он абсолютно равнодушен: его интересовали только коммерция, бизнес да еще “красивая жизнь”. — Не знаю, — говорил Петкявичус, — может, что здесь и получится. Хотя навряд ли. Во всяком случае, пока поживу здесь, погляжу, а там видно будет. — Где вы остановились? — любезно поинтересовался Рамулис. — Да на первое время просто так, налегке, в гостинице. Но это ненадолго. С тех пор как у меня завелись деньги, я взял себе за правило устраивать жизнь по собственному вкусу. Вот и сейчас присмотрел в окрестностях города неплохую виллу. Думаю ее снять и там обосноваться. Ну, а вы-то, вы-то как, господин майор или полковник, а? Рамулис махнул рукой: — Какой там полковник! Как был майором, так майором и остался. Сейчас состою при полковнике Тулбисе. Слыхали, конечно? — Полковник Тулбис? — равнодушно переспросил Петкявичус. — Да, кажется, слыхал. Еще тогда, в Литве. Это ведь, кажется, один из подручных бывшего главы Литовского государства Сметоны, верно? — Совершенно справедливо, — подхватил Рамулис. Ни полковник, ни то, что с ним связано, судя по всему, тоже не интересовало Петкявичуса, и разговор сам собой перешел на любекские развлечения, на женщин, приняв самый игривый характер. Беседа закончилась изъявлением знаков взаимной приязни, и Рамулис с Эйдукасом расстались с Петкявичусом друзьями, договорившись о следующей встрече в ближайшие дни. — Да, — мечтательно говорил Рамулис, когда возвращался с Эйдукасом домой (они жили по соседству), — вот это повезло человеку! При таких деньгах он может поплевывать на проблему освобождения Литвы… — Ну и что в этом хорошего? — сердито сказал Валентинас. — Жить без идей, без убеждений… — Да, да, конечно, — поспешил согласиться Рамулис. — Идеи — это все. Майор с минуту помолчал, потом улыбнулся и добавил: — А что, ежели пожить хоть месячишку, а то и более без всяких идей, пропади они пропадом, вот как этот Петкявичус? Нe плохо бы, а? Случайная встреча Рамулиса и Эйдукаса с Петкявичусом имела продолжение. Через несколько дней они встретились вновь, потом еще и еще. Рамулис с Петкявичусом быстро подружились, а Эйдукас как-то отошел на второй план. Рамулис прожужжал все уши о своем новом знакомце полковнику Тулбису, и тот в конце концов захотел и сам повидаться с этим преуспевающим литовцем. Глядишь, и он пригодится. Вскоре, по приглашению Тулбиса, переданному Рамулисом, Петкявичус явился в особняк. Полковник встретил земляка очень любезно: был мил, внимателен. Но сколько он пи пытался навести разговор на нужды литовского “национального движения” — напрасно. Петкявичусу все это было совершенно безразлично. Зато когда заговорили о Любеке и его ресторанах и Тулбис оказался на высоте, лучшего слушателя, нежели Петкявичус, он и желать не мог. Тут стареющий полковник, стремившийся ни в чем не уступать молодым, и богатый американец проявили себя собеседниками, достойными друг друга. Рамулис сиял: он сознавал, что в равной мере угодил и своему патрону, и новоявленному другу. Расстались полковник Тулбис и Петкявичус очень тепло и взяли друг с друга слово встретиться еще. Такая встреча снова состоялась в особняке полковника. Тулбис опять пытался склонить Петкявичуса к участию — финансами, конечно, — в делах националистического подполья и опять безрезультатно. Но полковник был упрям и не терял надежды уговорить американца. Поэтому Тулбис и шел на сближение с Петкявичусом, не говоря уже о том, что и он сам пришелся ему по душе. Во время одного из очередных посещений полковника Петкявичус высказал желание принять Тулбиса и еще кое-кого из своих здешних, друзей — Рамулиса, Эйдукаса — на своей вилле, которую он недавно снял. Вилла, как говорил Петкявичус, расположена невдалеке от Любека, в исключительно красивом месте на морском побережье. Петкявичус уверял, что он сделает все, чтобы гости не пожалели о времени, которое проведут у него. Полковник, не очень любивший покидать свой особняк, после некоторых колебаний согласился: ему не хотелось обижать отказом богатого земляка, да и вечер сулил, судя по всему, немалые удовольствия. День встречи был назначен, и Петкявичус заверил полковника, что примет гостей самым наилучшим образом.***
В эти же дни у полковника Тулбиса состоялось несколько бесед с Эйдукасом, настолько серьезных, что в их содержание поначалу не был посвящен даже майор Рамулис, уже не говоря об остальных руководителях националистов. Полковник предложил Валентинасу вновь нелегально посетить Литву, но па сей раз с самыми серьезными полномочиями. Надо было срочно повидать руководителей подпольных групп и довести до них новые директивы и установки, связанные с окончанием войны, и вызванные этим изменения ориентации. — Вы, конечно, понимаете, о чем идет речь, — говорил полковник. — Ставка на немцев бита. Они оказались плохими союзниками: думали только о себе и мало чем помогали в возрождении суверенной Литвы, государства национального единства. Англичане, американцы — другое дело. Они помогут нам восстановить наше господство в Литве. Счастье, что кое-кто из нас и во время войны не терял связей с соответствующими кругами в этих странах, вел для них работу иногда вопреки интересам немцев. Эйдукас полностью был с ним согласен. — Столь ответственную миссию, — продолжал полковник, — как передача новых установок практическим деятелям националистов в Литве, можно возложить только на особо доверенного человека, который справится с обязанностями эмиссара. Таким человеком он, Тулбис, и считает Эйдукаса. Надо также разыскать и “Джокера”, что-то давно ни от него, ни о нем нет никаких вестей. Кроме того, есть еще одна причина, из-за которой Эйдукасу лучше уехать: кое-кто здесь, в Любеке, не доверяет ему и относится к нему подозрительно. Пока он, полковник, держит их в руках, но как знать, чем все это может обернуться. Он, Тулбис, просто беспокоится за безопасность Валентинаса, пока тот находится здесь, в Любеке. — Значит, вы полагаете, что в Советской Литве я буду меньше подвергаться опасности, нежели здесь, среди своих? — не без иронии спросил Эйдукас. — Помилуйте! — воскликнул Тулбис. — И в мыслях такого не было. Но сейчас, пока кое у кого из наших обострилась маниакальная подозрительность, вам лучше исчезнуть. Съездите в Литву, вернетесь, и тогда уж ни у кого на вас рука не поднимется. Было ясно, что полковник недоговаривает, что над Эйдукасом нависла реальная угроза; впрочем, его об этом еще раньше предупреждал и Рамулис. Сразу принять предложение полковника Валентинас не мог и попросил время, чтобы все обдумать и принять решение. По прошествии нескольких дней Эйдукас явился к полковнику и заявил, что он готов еще раз послужить родине. “Послужить родине” — так и сказал Валентинас Эйдукас, вкладывая собственный смысл в эти слова. Возникли у него, говорил Эйдукас, и кое-какие мысли о том, как пробраться в Советскую Литву. А что, если в качестве репатрианта, из лагерей для перемещенных лиц? При том хаосе, который сейчас, как известно, там царит, эта задача может оказаться легко разрешимой. Особенно если помогут англичане… Вот только как выбираться из Литвы обратно, он себе не представляет. Да, еще одно: что подумают о таком способе переброски те, кто не доверяет Эйдукасу. Полковник Тулбис задумался, затем сказал: — Идея, по-моему, неплохая. Я посоветуюсь с кем следует, заручусь помощью, выясню возможности переброски вас назад, а тогда и примем окончательное решение. Что же до тех деятелей, так их мы не будем посвящать в подробности… С кем советовался Тулбис, о чем договорился, Эйдукас не знал, но вскоре полковник передал Валентинасу, что он может готовиться в путь. “Явки и адреса получите перед отъездом. Выбраться обратно вам помогут наши друзья, действующие на месте, в Литве”. Так Эйдукас узнал, что полковник поддерживает связь с националистическим подпольем в Литве. Итак, Эйдукас очутился в том лагере для перемещенных лиц, где одну из руководящих должностей занимал майор Дроздов. В лагере Валентинас появлялся редко, часто ездил в Любек, где бывал у полковника Тулбиса, встречался с Рамулисом и Петкявичусом. Через некоторое время Эйдукаса включили в одну из групп, вскоре репатриируемую в Литву. Полковник Тулбис держал свое слово.***
Срок отъезда Эйдукаса на родину близился. Полковник Тулбис наконец-то вручил ему явки и специальный личный шифр для радиосвязи с ним. Между тем настал день, назначенный Петкявичусом для встречи с его друзьями. Вилла Петкявичуса была готова принять дорогих гостей. Петкявичус с утра был в Любеке, а под вечер, как было условлено, подъехал на своей машине к особняку полковника. Вместе с Петкявичусом в машине находился Эйдукас. Это был последний день его пребывания в английской зоне оккупации. На следующее утро в группе перемещенных лиц он должен был отправиться в Литву. Когда Петкявичус лихо подкатил к особняку, Тулбис уже ждал его. Вместе с Тулбисом тут же был майор Рамулис, еще двое видных националистов, с которыми полковник успел познакомить Петкявичуса и которые также были приглашены разделить компанию, и, конечно, охрана полковника. Гости разместились в двух машинах. Впереди ехал Петкявичус с Эйдукасом и двумя своими новыми друзьями, а сзади шел огромный “мерседес” полковника, в котором рядом с шофером восседал сам Тулбис, на задних же сиденьях разместились майор Рамулис и четыре вооруженных охранника. Когда подъехали к вилле, было около семи часов вечера. Далеко за песчаными дюнами солнце опускалось в море, золотя лучами верхушки деревьев и крыши одиноких зданий. Привратник распахнул настежь массивные двустворчатые ворота, и машины одна за другой прошуршали по усыпанной гравием дороге. Петкявичус снимал двухэтажную просторную виллу, уставленную претенциозной мебелью. В нижнем этаже располагалось несколько гостиных, курительная комната, бильярдная, обширная столовая. На втором находились спальни и кабинет хозяина. Рядом с виллой пристроился флигель, соединенный с основным зданием крытым коридором. Там был сервирован стол для охраны полковника, которую не забыл гостеприимный хозяин. Гости и хозяин расположились в курительной комнате. Полковник рассказывал игривые анекдоты и сам принимался хохотать первым. Мастером анекдотов, причем порою довольно тонких, оказался Рамулис. В отличие от полковника его лицо сохраняло каменное выражение и сам он собственному рассказу не смеялся. Так прошло около часу, и Петкявичус пригласил своих гостей ужинать. Стол буквально ломился от яств и напитков. Полковник Тулбис удовлетворенно крякнул и уселся во главе стола (Петкявичус указал ему на это место), заправив толстыми, каксардельки, пальцами салфетку за воротник. Остальные уселись несколько поодаль. Пир начался. Тосты следовали один за другим, причем чем больше хмелели гости, тем воинственнее становились тосты: “За освобождение Литвы от ига большевиков! За погибель Советов! За новую освободительную войну!” Петкявичус также изредка провозглашал тосты, но совсем иного рода: “Да сбудутся желания каждого из нас! Да сопутствует каждому из собравшихся удача! За достойное завершение всех наших начинаний!” Часов около двух ночи полковник изрядно опьянел, и хозяин предложил ему пройти наверх, в специально приготовленную для него комнату. Полковник с трудом выбрался из-за стола и, опираясь на руку Петкявичуса, не очень твердо держась на ногах, тяжело зашагал на второй этаж. Возле дверей спальни, предназначенной для полковника, дежурил один из его охранников. Он тоже слегка осовел (охранников, как и их хозяина, угостили обильно), но на ногах держался уверенно. Другой охранник находился на улице, у входа, остальные ужинали. — Смотрите! — Тулбис с пьяной ухмылкой погрозил охраннику пальцем. — Полковник! — укоризненно заметил Петкявичус. — Здесь! У меня! Чего тут опасаться? Полковник промолчал и вновь погрозил пальцем. На этот раз хозяину виллы. Петкявичус провел полковника в комнату, усадил в удобное кресло и подал стакан минеральной воды. Тулбис опустошил стакан, откинулся на спинку кресла и тут же начал тихонько похрапывать. Петкявичус вышел из комнаты, сказал охраннику, что полковник уснул, и спустился вниз, к остальным гостям. Веселье продолжалось. Первым поднялся Эйдукас. — Извините, господа, но мне надо быть в городе. Как-никак, а завтра утром я должен… — Он умолк, ограничившись выразительным жестом. — Господин Петкявичус, чем вы можете мне помочь? — Нет ничего проще, — сказал Петкявичус. — Сейчас разбудим моего шофера, и он доставит вас в Любек. Господа, никто не хочет воспользоваться машиной, а то она вернется не скоро? Туда и обратно — конец не малый… — Как, майор, — обратился Эйдукас к Рамулису, — едешь со мной? — С тобой?! — воскликнул Рамулис, поднимая бокал. — С тобой хоть на край света, но… не сейчас. Уйти из-за такого стола? Да за кого ты меня принимаешь?! Нет, мы еще погуляем! — Рамулис заговорщически подмигнул Петкявичусу. — Верно, дружище? — Конечно, конечно, — нехотя согласился Петкявичус — А вы, господа, — адресовался он к приближенным полковника, — не желаете воспользоваться машиной? А то до города далеко, когда будет другая оказия, сказать трудно. Намек Петкявичуса был предельно ясен. Один из гостей после непродолжительного колебания согласился, но другой уперся: нет, никуда он без Рамулиса и полковника не поедет. Если вместе приехали, то все вместе и уедут. Только так. В голосе его слышались нотки пьяного раздражения и какой-то подозрительности. — Боже ты мой! — поспешно воскликнул Петкявичус. — Уж не подумали ли вы, что я жду вашего отъезда? Да сохрани бог! Нет, мы простимся с нашими друзьями, которые торопятся уехать, а сами продолжим веселье. Проводив Эйдукаса и одного из националистов, остальные трое вернулись к столу. Петкявичус беспрестанно угощал то одного, то другого своего собутыльника. Те пили, не отказываясь, но ни Рамулис, ни отказавшийся уехать гость заметных признаков опьянения не выказывали, причем время от времени недоверчивый гость бросал на Петкявичуса злобные, подозрительные взгляды. Чем дальше, тем хозяин виллы заметнее хмелел. В третьем часу пополуночи язык у него стал окончательно заплетаться. Чуть пошатываясь, он поднялся и во всеуслышание заявил, что кажется “готов”. — Извините, друзья, — лопотал, хихикая, Петкявичус, — но я пас покидаю. Такие партнеры мне не под силу. У нас, в Штатах, так не умеют. Я пошел спать. Бай-бай!.. А вы… вы продолжайте!.. Петкявичус покачнулся и направился к выходу из столовой. — Эх ты, — с укоризной сказал Рамулис, — а еще литовец! Мужчина. Ну какой же ты мужчина? Впрочем, тебе, как видно, действительно лучше прилечь. А мы останемся. Мы продолжим. Верно? — Рамулис повернулся к изрядно осоловевшему собутыльнику. — Да, да, — согласился тот. — Продолжим. Только сначала проводим господина Петкявичуса в его спальню. Бай-бай! Обязательно проводим, а то он еле держится на ногах… — Правильно, — подхватил Рамулис. — Проводим! Ты — настоящий друг, не бросаешь товарища в беде. На тебя можно вполне положиться! Втроем они поднялись на второй этаж, в спальню хозяина виллы, смежную с комнатой, в которой беспробудным сном спал полковник Тулбис. Удостоверившись, что Петкявичус благополучно добрался до своей кровати, гости пожелали ему спокойной ночи и спустились вниз, в столовую. Минут пять Петкявичус неподвижно лежал, затем тихо поднялся, крадучись подошел к двери и дважды повернул ключ в замке. От его опьянения не осталось и следа. Он действовал быстро и уверенно. Ни Рамулис ни его оставшийся единственный собутыльник, никто из охраны полковника не знали, что из спальни хозяина виллы было еще два выхода: один вел в комнату Тулбиса, другой по винтовой лестнице выходил в сад.***
События развертывались своим чередом. Часов около двенадцати ночи возле стены, опоясывавшей парк, в котором была расположена вилла, со стороны, противоположной той, где находились ворота, остановился большой крытый “хорьх” черного цвета. Из машины вышли двое. Они отперли имевшимся у них ключом небольшую калитку, укрытую густым кустарником от постороннего глаза. Судя по их уверенным действиям, они проделывали подобную операцию не впервые. Очутившись в парке, незнакомцы бесшумно двинулись к дому, укрываясь в тени деревьев. Подойдя к вилле почти вплотную с той ее стороны, на которую выходили окна спальни владельца виллы и его гостя, полковника Тулбиса, они замаскировались в разросшихся кустах и принялись наблюдать. Через несколько минут из-за угла дома показалась фигура охранника. Он шел пошатываясь и что-то тихо напевал себе под нос. Пройдя вдоль стены, охранник скрылся за углом. Один из незнакомцев молча положил другому руку на плечо, а тот, так же молча, кивнул в ответ. Прошло около часа. Охранник появился вновь и опять исчез за противоположным углом. Незнакомцы не подавали признаков жизни. Часов около трех утра, когда уже начал брезжить рассвет, в спальне хозяина виллы вспыхнул свет, тут же погас, а минуту спустя зажглась настольная лампа. В тот же миг один из незнакомцев кинулся к углу дома, из-за которого перед этим появлялся охранник, и плотно прижался к стене, а другой, тот, что был пошире в плечах, вынырнул из кустов и скрылся в малоприметной двери, открывавшей вход прямо к винтовой лестнице, что вела в спальню хозяина. Наверху его уже ждал Петкявичус. — Ну как? — спросил незнакомец. — Я всыпал ему снотворного. — Петкявичус кивнул в сторону комнаты, где сном праведника спал полковник Тулбис. — Часов за двенадцать — пятнадцать сна ручаюсь. Дверь из его комнаты в коридор я запер изнутри. А вот остальные… С остальными хуже. — В чем дело? — Эйдукасу удалось увезти с собой только одного. Рамулис и еще один остались, причем последний явно настороже. Что-то, по-видимому, заподозрил. Мне еле-еле удалось от них отделаться. Но теперь нельзя терять ни секунды: кто их знает, что им еще взбредет в голову. — Скверно, — сказал незнакомец. — Ну да ничего, справимся. Пошли. Он уверенно направился к двери, что соединяла спальню с комнатой полковника. Было очевидно, что и тут он не впервой, и тут превосходно ориентируется. Петкявичус последовал за ним. Полковника, все так же безмятежно похрапывающего в своем кресле, они вдвоем, не производя ни малейшего шума, перенесли в смежную комнату, заперли за собой дверь и, держа Тулбиса один за плечи, другой за ноги, начали медленно спускаться по винтовой лестнице. В этот момент в дверь комнаты Петкявичуса постучали. Сначала тихо, потом громко, настойчиво. Петкявичус и незнакомец остановились, молча поглядели друг на друга. Из-за двери неслись крики Рамулиса: — Эй, дружище! Ты чего заперся? Открывай. У нас есть такой тост, такой тост… — Нечего прятаться, — ревел второй. — Не так уж ты пьян, чтобы нас не слышать. Открывай, не то дверь высадим!.. — Я вернусь, попробую их задержать, а там будь что будет. Вы же не теряйте времени… — беззвучно, одними губами промолвил Петкявичус. — Не дури, — прошептал незнакомец. — На тот свет всегда успеешь. Пока они будут возиться с дверью, у нас есть несколько минут. Опередим… Они быстро снесли полковника вниз по лестнице. Вверху слышался грохот. Петкявичус осторожно приоткрыл дверь, ведущую в сад, и выглянул наружу. В предутреннем сумраке он разглядел второго притаившегося незнакомца. Тот, заметив Петкявичуса, решительно махнул рукой: торопитесь, пока путь свободен. А из виллы уже доносились грохот шагов, голоса, выкрики. Рамулис, протрезвившийся гость и охранники ломились в комнату Петкявичуса и в спальню полковника. Петкявичус и первый из незнакомцев подхватили бесчувственное тело Тулбиса и скрылись в кустах. Второй скинул с плеча автомат и, не спуская глаз с двери, что вела из спальни Петкявичуса в сад, скрылся в кустах, прикрывая отход своих товарищей. Едва он успел спрятаться, как дверь распахнулась и из нее выскочил с пистолетом в руке Рамулис, за ним помощник полковника и двое охранников. Еще двое выбежали из-за угла здания. Все они бестолково метались вдоль здания, крича и ругаясь. — Туда! — Рамулис указал на кусты. — Не иначе, как они там. Вперед! Сам он, однако, углубляться в кусты не торопился и старался укрыться за углом. — Сейчас! Сейчас я им всыплю! — Один из охранников сорвал автомат и полоснул очередью по кустам. Пули прошили листву на верхушках деревьев. — С ума сошел, — злобно прошипел помощник Тулбиса, успевший в последнее мгновение направить вверх ствол автомата. — Там же с ними полковник… Посовещавшись несколько минут, преследователи цепью двинулись в кусты, держа оружие наготове. Шли они медленно, осторожно, беспрестанно перекликаясь: никто из них не желал рисковать собой. Петкявичус и его друзья значительно опередили преследователей. Они быстро пересекли парк и нырнули в калитку. Петкявичус уселся на заднем сиденье, полуобняв за плечи обмякшего полковника, остальные двое сели впереди. Мотор взревел, и черный “хорьх” рванул с места, быстро набирая скорость. Услышав шум мотора, Рамулис и его спутники выскочили на дорогу. Она была пуста. Обшарив сад, они вернулись в дом. Тщетно Рамулис пытался связаться с Любеком. Телефон не работал. Принялись допрашивать прислугу. Но все было напрасно. Все они были наняты два дня назад и ровно ничего не могли сказать о своем исчезнувшем хозяине. Тогда Рамулис, помощник Тулбиса и охранники кинулись к машине. Увы, она была выведена из строя. На случайной машине они наконец добрались до Любека, чтобы сообщить о происшедшем нескольким наиболее влиятельным руководителям националистов. Те только после полудня пришли к решению поставить в известность англичан о случившемся, но представитель оккупационного командования заявил, что просит их не впутывать во внутренние дела литовских националистов. Наконец вспомнили об Эйдукасе и послали за ним на квартиру, но он исчез…***
Тем же утром возле английского контрольного пункта остановился черный “хорьх” майора Дроздова. За рулем, как обычно, сидел шофер, рядом, как обычно, майор. На полу задней кабины тоже, как часто бывало, лежал свернутый в рулон ковер. — Алло, майор, — подошел дежурный офицер. — Счастливого пути! — Офицер приветливо помахал рукой. — Счастливо оставаться! — ответил майор Дроздов. Шлагбаум был поднят, “хорьх” медленно удалился в советскую зону. Едва он миновал контрольный пункт, где майора ждали, как набрал скорость и стремительно помчался к Берлину. Отъехав десятка два километров от демаркационной линии, машина остановилась, Дроздов открыл дверку машины. Внутри за скатанным в рулон ковром, блаженно посапывал все еще не проснувшийся полковник Тулбис…***
Спустя сутки с небольшим, на Вильнюсском аэродроме приземлился самолет типа “Дуглас”, прибывший из Берлина. Едва самолет вырулил на стоянку, как к нему подкатил большой темно-синий лимузин, из которого вышел человек в военной форме, со знаками различия капитана Советской Армии на поблескивавших золотом погонах. Дверца самолета открылась, и по выдвинутой экипажем лесенке на землю спустился сначала советский офицер, затем полковник Тулбис и еще советский офицер — майор Дроздов. Полковник Тулбис растерянно оглядывался по сторонам — он все еще не мог толком понять, что с ним произошло. Капитан, подъехавший на машине, шагнул навстречу прибывшим. Лихо вскинув ладонь к козырьку фуражки, он приветствовал майора Дроздова: — Со счастливым прибытием, товарищ майор. Как добрались? Надеюсь, все благополучно? Полковник Тулбис смотрел на капитана безумными глазами. А капитан как ни в чем не бывало обернулся к Тулбису и четко, внятно произнес: — Рад и вас видеть, господин полковник. С благополучным прибытием в Советскую Литву. Хотите или нет, но вам придется меня извинить… — М-м-м, — невнятно замычал полковник. — Го-господин Петкявичус? Это вы? Н-нич-чего не понимаю. — Тулбис схватился руками за голову, зубы его предательски лязгнули. Капитан усмехнулся: — Никак нет, господин полковник. Не Петкявичус. Разрешите представиться: капитан Аликас. Сотрудник Наркомата государственной безопасности Литовской Советской Социалистической Республики. Впрочем, если вам угодно, можете называть меня и Петкявичусом. Не скрою, я иногда ношу и это имя. Однако прошу. Машина ждет. Не прошло и часа, как темно-синий лимузин подкатил к зданию Наркомата государственной безопасности Литвы. Аликас провел полковника Тулбиса к себе в кабинет, а майор Дроздов зашел в соседнюю комнату и снял телефонную трубку: — Товарищ заместитель наркома? Здравия желаю. Докладывает подполковник Скворецкий: операция завершена, все прошло успешно, в соответствии с планом. Груз доставлен. Эйдукас? С Эйдукасом все в порядке. Не сегодня-завтра будет здесь, в Вильнюсе…***
…На землю опустился тихий июльский вечер. Над поселком сгущались сумерки. Маренайте сидела в своей комнате одна, не зажигая света. Внезапно послышался тихий стук в дверь. Маренайте на мгновение застыла, затем кинулась к двери. — Кто… Кто там? — Это я… Не узнаешь? Я… Девушка рванула дверь и кинулась на шею Валентинасу: — Ты?.. Ты! Наконец-то!..И.Акимов НАДО ИДТИ
 Наверное, я долго был в беспамятстве — до тех пор, пока вдруг не осознал, что прислушиваюсь к странному шипению, прерываемому хрипами. Я напрягся и понял: это бормотал Павел. Потом красный туман перед глазами стал редеть, совсем рассеялся, и я увидел небо; не обычное, безумно-белое, слепящее, а глубокое светло-лиловое небо. Тогда я понял, что еще живу.
Лежать на песке было жестко, по я не мог повернуться. Я лежал — электроэмоционатор под головой, — смотрел вперед и думал: вот как хорошо, барханы остались позади и дальше нужно будет идти по твердым солонцам. Они светятся ровным багровым огнем. Как раскаленная жаровня. От них, наверное, несет жаром, как от настоящей жаровни. Завтра придется снопа шагать в этом аду, снова который уже день шагать и думать: вот еще сто шагов, еще сто, только не останавливаться, только не садиться, потому что вставать еще труднее, чем идти.
Жаровня по краям остывала, тускнела. Потом по ней пошли черные полосы: красное — черное, красное — черное, и черного с каждым мгновением становилось все больше.
Тут я почувствовал: что-то неладно. Чего-то мне недостает. Но я даже встревожиться не успел, понял: замолчал Павел… Но вот Павел засипел, забормотал, только на этот раз гораздо четче и связно — я угадывал почти каждое слово:
— Понимаешь, волны были такие, что когда “Туб” выскочил из-за мола, над гребнями виднелись только клотики передних мачт и гафель на бизани. Представляешь? Только клотики и верхний гафель на бизани. И это рассказывали люди, которые все видели своими глазами и привыкли врать только женам. Если б кто-нибудь другой сказал, я бы не поверил. Чтоб только верхний гафель… А потом вдруг налетел шквал. Три порыва. Только это было уже лишнее. Хватило бы и одного. Дед рассказывал: мачты будто срезало. Он даже не слыхал, как лопнули шкоты, и когда опомнился, вокруг кипела холодная зеленая вода и в пене крутились обломки “Туба”, одни обломки, а ведь он был когда-то лучшим клиппером на всю Атлантику и назывался как-то иначе — я не помню уже, как именно. И напрасно дед назвал его разбитым корытом. И без того за кабельтов было видно, что ему за тридцать и он ни к черту не годится; но к чему обижать старика, пусть ему действительно тридцать лет и он больше всего похож на разбитое корыто — ведь раньше это был самый быстроходный на всю Атлантику клиппер, и даже назывался он как-то иначе — я уже и не помню, как именно…
Павел это рассказывал много раз. Каждое слово было знакомо, каждое слово сидело в памяти, и когда он что-нибудь пропускал, я ловил себя на том, что это во мне вызывает раздражение.
Павел не сразу начал вспоминать про своего деда. В те минуты, когда мы сидели на песке и смотрели, как обломки нашего самолета, разбросанные после взрыва по всей ложбине у подножия огромного бархана, дымились и тлели, постепенно присыпаемые песком, нам было не до воспоминаний.
Тогда дул сильный ветер. Песок царапал лицо и забирался под одежду. Мне в ботинки набралось его довольного много, и это было неприятно.
Я смотрел, как ветер гонит песок на обломки самолета, и думал, что к вечеру от катастрофы не останется следов, а дней через пять весь бархан передвинется на это место, если не…
Наверное, Павел думал о том же, потому что сказал:
— Свались он на тридцать — сорок метров дальше, как раз угодил бы на вершину. И нас уже завтра разыскали бы.
— Быть может, ветер уляжется, — ответил я.
— Нет. — Он тяжело встал и с минуту смотрел на серое марево над нашими головами, на мутный горизонт, потом снова на небо и на обломки. — Нет, — сказал он, — знаю я эти ветры. Пережидать их безнадежно. Надо идти.
— Куда?
— На юг. По-моему, там должно быть селение. Да ты не смотри на меня так, там точно есть селение, я это отлично помню, вот только название забыл… Километров девяносто отсюда…
Я попытался представить, как пройду девяносто километров по этим пескам, в этой адовой жаре…
— Сделай чалму из парашюта, — посоветовал мне Павел.
Он был в шлеме, в унтах, в комбинезоне. Ему не досаждали ни солнце, ни ветер. И песок ноги ему не натирал. Он помог мне сделать чалму и все рассказывал бодрым таким голосом, что в этих местах часто встречаются русла пересыхающих рек, и когда мы набредем хоть на одно, он по профилю точно определит, где мы находимся, а уж тогда, считай, дело в шляпе.
Он был такой бодрый и энергичный… Сколько я с ним летал по дальним селениям, сколько знал его — никогда на моей памяти он не был таким бодрым и энергичным. А перед этим полетом он был совсем не в духе и даже поругался на аэродроме с Сапарбаем: не понравилось ему что-то в моторе. И Сапарбай кричал, что Павел к нему всегда придирается, и смешно размахивал руками. У этого Сапарбая гонора на троих хватит, и он отказался еще раз проверить мотор, а теперь внизу, у подножия бархана, дымятся обломки самолета.
…Павел повернулся на бок, и я снова услышал, как он бормочет:
— Дед был очень старый, и мы уж думали — угомонится. Так нет же. Он еще много лет ходил матросом на “цинготниках”, и во время войны их дважды торпедировали немцы, и где-то — в Бирме или на Цейлоне — он подцепил малярию, а потом почти сразу- то ли в Бирме, то ли на Цейлоне — трахому, и с тех пор глаза его все время слезились, и слезы текли по глубоким морщинам; морщины были такие странные: они так складывались, что казалось, будто дед все время смеется, а глаза слезились. Но дед никогда не плакал. Последние годы он жил у моего отца в маленьком домике над Сулой, в красивой излучине, а вокруг буки и ракиты. Ему подарили великолепную рыболовную снасть, все мальчишки млели от зависти, но он никогда не ловил рыбу, уж он ее столько наловил за свою жизнь! Он говорил, что ему хорошо, только иногда хочется маслин. Иногда он целыми днями сидел на завалинке и смотрел на синие луга за Сулой, и я знал, что он думает про то, какие рейсы делал от Буэнос-Айреса и до Танжера, от Сан-Хуана и до Монровии: про те времена, когда его во всех портах звали Старым Томом, хотя Старый Том — это не имя, это сорт крепкого джина; и еще про то, как впервые увидал, юнга, сто линьков в печенку, что там светится прямо по носу… Южный Крест, сэр… Гот дэм, он свихнулся, этот щенок… — как впервые увидал Южный Крест… “Трим-па-па, от Ямайки до Кейптауна…”
Больше всего он любил говорить про “Туб”: какие профили он имел великолепные, да какие паруса на нем стояли, да кто их шил: а уж если разговор доходил до рангоута, до таких тонкостей, из какого дерева да на каких верфях его лучше всего делали — вот уж о чем действительно он мог поговорить!.. Кстати, в настоящей морской травле он тоже знал толк. Запас историй у него был неисчерпаем, причем он никогда не повторялся. Помню такую. Случилось это, кажется, в двадцать пятом, а может, в двадцать восьмом — боюсь соврать; помню только, что дело было осенью, что “Туб” шел в Исландию и что муссон и Гольфстрим были на удивление трудолюбивы. Когда прошли Большую Ньюфаундлендскую банку, упал плотный туман. Дед спешил и — сакраменто!.. Пять камней в печень этому бездельнику Нептуну! — клиппер продолжал идти прежним курсом. Было два часа пополудни, и где-то, должно быть, белело ясное небо и сверкало солнце, а здесь мир был сер, как мокрая морская рыба, и впередсмотрящий жаловался, что не может разглядеть даже кливера. Все-таки дед видывал и не такое, и клиппер продолжал идти хорошим ходом, как вдруг из белой мглы вынырнул сейнер и врезался в борт “Туба” метрах в трех позади бушприта. Дед в это мгновение находился внизу, в своей каюте. Толчок опрокинул его на пол. Несколько секунд дед лежал и слушал треск и грохот врывающейся в трюм воды; потом клиппер с ходу зарылся в волну и почти мгновенно исчез под водой. А дед смотрел, словно завороженный, как вода за иллюминатором из зеленой становится голубой, потом фиолетовой. В каюте стало совсем темно, а клиппер все погружался…
…Хуже всего у нас было со съестными припасами. Правда, часа за три до катастрофы мы поели в том селении, где я выправлял электроэмоционатором работу сердца смешливого старика, который все вертелся и шутил, все не мог посидеть хоть минуту спокойно и, наверно, думал, что мы не видим, как он волнуется. В том селении я и съел все, что прихватил с собою из дому. Правда, у нас еще были два круга брынзы и небольшой мех с вином — их насильно всунул нам смешливый старик, когда мы улетали, но до них невозможно было добраться. Самолет горел и терял высоту и нужно было поскорее прыгать, а я долго возился с застежками парашюта — мне впервые пришлось иметь с ним дело. Павел все поглядывал на меня через плечо и ничего не говорил, а когда я пристегнул парашют, я успел прихватить только электроэмоционатор и сразу полез через борт, а фуражка мигом — фьюить! — улетела. Павел потом удивлялся, как я ухитрился электроэмоционатор и руках удержать, потому что, когда парашют открылся, меня рвануло неожиданно и сильно.
Павел достал из карманов целое богатство: банку тушенки, и банку бычков в томате, и здоровенный сухарь, и почти полфляжки воды. А я как глянул на все это, такой голод почувствовал, будто двое суток не ел, будто тут же, не сходя с места, могу съесть десять килограммов мяса с караваем хлеба и выпить ведро воды; но больше всего мне хотелось именно тушенки и бычков в томате. И сухарей.
Я боялся разговора о еде, но Павел все решил удивительно просто. Он сказал, что до селения километров девяносто — значит, придется идти дня три, а может — и больше. Во всяком случае, припасов на двоих маловато. Но можно не делить припасы поровну на двоих, сказал Павел, вся еда достанется одному тебе, а ко мне ты подключишь электроэмоциоиатор и он будет “кормить” меня своими биотоками, чтобы я не испытывал голода и жажды и мог передвигать ноги.
Я, конечно, сразу заартачился. Не мог я согласиться, тем более, что всю еду спас он. Я начал говорить, что нужно все сделать наоборот, чтобы ел он, а не я, и мы несколько минут спорили, пока я не признал, что он прав, потому что он выносливей меня и в приборе ничего не понимает, а я хоть обычный фельдшер, но электроэмоционатор знаю хорошо. Я приладил к Павлу отводы электроэмоционатора, и мы двинулись на юг.
Был резкий ветер, а жару я с детства плохо переношу. Я шел мрачный и прикидывал, как бы нам продержаться подольше. Поразмыслив, я решил “кормить” Павла не своими биотоками — ведь теперь и я перешел на минимальный рацион, так зачем же голодать нам обоим, если у меня была прекрасная запись “сытости” и “отсутствия жажды”. Я сразу включил обе записи, а потом, не сказав об этом Павлу, включил запись “оптимизма”. Я сделал это как можно осторожней, чтобы он не заметил, и когда Павел постепенно ожил и даже начал посвистывать и рассказывать анекдоты, я пожалел, что аппарат не может одновременно обслуживать двоих. А он старался растормошить меня и все подбадривал.
Потом он мне начал рассказывать про деда, про то, как погрузился в волны “Туб”.
— Ты думаешь, говорил мне дед, я тогда рассчитывал выпутаться? Ничуть. Видел бы ты, как “Туб” шел ко дну. Словно камушек. А дед — не салага, уж он-то знал: под килем две мили с хвостиком; на наши, на сухопутные, все четыре километра набежит. На какое тут чудо будешь надеяться! Только я все-таки человек, говорил дед, а не чушка чугунная, а человек до последнего мгновения борется; пусть неосознанно, пусть инстинктивно — но борется!.. Вот и он: бросил любоваться сменой гаммы за иллюминатором, подскочил к двери и — крэк-крак! — на ключ ее, потому что в коридор через люк вода стеной ломилась. Оглянулся: не законопатить ли в каюте где какую дырочку? Не пришлось, полный ажур. Успокоился. Вода из-под двери струями бьет, а дед на нее без внимания; думает, где сейчас Тэд, где Боб, где Коля Бомбей, где остальная команда. Прикинул — будто бы все в момент удара наверху находились. Значит, не пропадут, сейнер подберет. Совсем успокоился дед. Стоит посреди каюты, а в ней темно и воды уже по колено, и в ушах ломит — давление все-таки приличное и растет очень уж быстро. И чувство такое, словно на лифте спускаешься. Только вдруг “Туб” начал замедлять, замедлять движение и вовсе вдруг стал. Дифферент на нос у него — градусов пятьдесят. И все растет, будто клиппер вокруг поперечной оси поворачивается. Понять нетрудно: грузы в трюме из-за дифферента поползли к носу — значит, еще больше нарушают равновесие. И действительно, “Туб” поворачивался, пока вовсе не стал вертикально, да так и застыл. Дед плавает в своей каюте, ничего понять не может. Вода прибывать перестала — воздух ее дальше не пускает. Дышать тяжело, перед глазами муть красная, а все-таки веселее, чем ко дну идти… По давлению да по свету темно-фиолетовому в иллюминаторе дед прикидывает: глубина метров восемьдесят, ну сто от силы. Что за чудо? Ведь точно он знает, нет здесь ни хребтов подводных, ни скал, и зацепиться не за что… А потом почувствовал, что вода-то холодная стала, и не оттого, что долго в ней пробыл — какое там долго: и двух минут не прошло! — а просто действительно-таки чертовски холодная. А где ей здесь взяться, в сердце Гольфстрима? Единственно — из Лабрадорского течения. Как понял это дед, так ему ясно стало, отчего “Туб” ко дну не идет: у этих течений плотность воды разная, на границе скачок плотности получается. Через теплый слой, гибралтарский, клиппер прошел, а через холодный не может — вода слишком плотная; а в “Тубе” к тому же воздуха оставалось много, вот он и плавает на границе течений, будто поплавок. Ну и ну, подумал дед, история хоть куда, будет о чем рассказать в “Черном Томе” между двумя стаканами виски. Эта рябая рожа Кристи с зависти сдохнет…
…На четвертый день мы набрели на высохшее русло и прошли вдоль него километра четыре, пока в одном месте не увидали несколько кустиков сочной зеленой травы; их я тотчас же съел с корешками, а потом копал в том месте, пока не докопался до воды, и мы, наконец, смогли напиться и набрали полную фляжку; еще через сутки у меня кончились консервы, а на следующее утро — значит, это был седьмой день, — Павел уже не мог идти сам, и мы брели в обнимку.
У нас не было компаса, по Павел и так неплохо ориентировался, а через два дня и я уже разбирался в звездах: знал, куда закатывается Арктур, узнавал яркие брызги Ориона над самым горизонтом, а несколько в стороне, если немного повернуть голову, — бледную, немощную Андромеду.
Мы шли днем и ночью. Мы отдыхали только тогда, когда вовсе выбивались из сил. Когда голод становился нестерпимым, я просил Павла отвернуться, и он говорил: ешь и не обращай на меня внимания, ты должен продержаться, понимаешь, должен. И я сидел рядом с ним и тщательно пережевывал каждую кроху.
Когда я докопался до воды и предложил ему напиться, он отказался. Он действительно не хотел пить, хотя уже вовсе высох и обуглился. Тогда я отключил электроэмоционатор и заставил его напиться.
Потом мы сидели над ямой и говорили, какая это славная штука — вода, и о том, что наши дела в общем не так уже плохи. Жаль только, что Павел так и не вспомнил, что это за русло, а я смотрел на него, и мне было страшно, потому что электроэмоционатор был отключен, а Павел все равно не говорил, что хочет есть.
“Сытость” я больше не включал…
Потом мы встали, и я помню, что трудней всего было заставить себя уйти с того места.
Сегодня я его нес…
Я попытался вспомнить сегодняшний день и не смог. Я только помню, что нес его, и он весил до ужаса много, с тонну, наверное, так что отдыхать я ложился только три раза, потому что чувствовал, что чаще отдыхать лежа нельзя.
Я боялся ложиться и отдыхал стоя. И даже глаза закрывать боялся, знал — упаду. А потом шел дальше, словно лунатик. Шел и думал, что вот сейчас нужно перенести тяжесть на левую ногу, а правую вынуть из песка, продвинуть вперед и упереть. Потом перенести тяжесть на нее и вынуть из песка левую ногу… упереть… а теперь правую… а теперь снова левую… (солнце отражается в песке, как в зеркале: черное, усатое, много-много солнц, со всех сторон, от них весь песок почернел), а теперь снова левую… нет, сейчас правую, левую потом…
Я бы не смог нести Павла, но я переключил электроэмоционатор на себя и оставил только две программы: ровную работу сердца и легких. Я б еще включил и “оптимизм”, но аккумулятор в аппарате вовсе сел, и нужно было беречь каждую каплю энергии. И я весь день смог нести его только потому, что сердце работало удивительно ровно и дыхание было великолепное. Я очень жалел, что в первый день не догадался записать биотоки ног при ходьбе. Как бы я сейчас шел! Не задумываясь шел бы и шел, пока в организме оставалось хоть немного сил. Теперь уж поздно об этом думать.
Павел весит тонну и рассказывает, рассказывает про деда — вынуть ногу из песка, перенести…
— Как делается чудо? — любил повторять дед. Вот этими руками. И чтобы немного повезло… Когда он рассказывал свои истории, то все посмеивался, но я — то понимаю, что пришлось ему в тот раз, ох, как нелегко: при таком давлении, да еще без привычки, двигаться вообще тяжело, а ведь он нырял снова и снова, из помещения в помещение, в темноте, пока не вытащил на сухое водолазную помпу, а конец шланга от нее привязал к двум пустым бочкам и выпустил этот поплавок на поверхность. А потом — это и на поверхности работенка! — качал себе воздух. Не пошел бы туда воздух, говорил я деду и на бумажке все это быстро ему доказывал, а он и не спорил. Может, ты и прав, Павлуха, может, по бумажке он действительно туда не может идти, говорил он, только ведь шел!.. И он плавал эдаким манером, говорит, дня три, слава богу, пить-есть было что. Вот только холодно, но дед укрепил в воздухе гамак — и ничего, обходился. Но как на поверхность выбраться? Своим ходом — гибель, организм не выдержит, постепенно это нужно делать. А как постепенно? Попробовал дед воздухом воду вытеснять из клиппера — не под силу это помпе, а что еще придумать — не знает. И вдруг просыпается он как-то от толчка. Прислушался — явственные такие удары: бьется “Туб” обо что-то твердое. Посветил дед фонариком через иллюминатор, а там лед. И в то же мгновение, после очередного толчка, “Туб” вдруг качнулся, накренился, завертелся, перевернулся несколько раз. Это продолжалось пять — десять секунд, но дед едва не погиб: вода и воздух смешались, все кипело, бурлило, дышать нечем. Потом “Туб” вдруг замер, плотно стал, накренился в последний раз на борт — и в каюте стало светло: сквозь иллюминаторы лился дневной свет, а “Туб” стоял на льду, вода потоками сбегала в океан; с трех остальных сторон и сверху громоздились ледяные глыбы — “Туб” оказался в гроте. Айсберг. Тут уж и пояснять-то нечего, каждому ясно: течение занесло клиппер в этот грот еще под водой, айсберг был источен Гольфстримом, очень неустойчив, и слабенький толчок “Туба” стал той последней каплей, после которой он опрокинулся. Вот и все. И здоровье деда не пострадало. С перепугу, наверное. Дед говорил: временный пластырь на пробоину в днище “Туба” он сам навел, и грузы в трюме сам на места перетащил, и сам динамитом пробил “Тубу” выход в океан, и сам вел клиппер до Рейкьявика. Опоздал, конечно, на восемь дней, и ремонт обошелся в копеечку, но зато таких историй, как эта, в “Черном Томе” еще отродясь никто не слыхивал, а рябой Кристи с досады перешел с виски на пиво; впрочем, они потом с дедом подружились, и когда, обнявшись, распевали “Гоп-ля, Атлантика — веселый океан”, говорят, у них не плохо получалось…
…И вот восьмой день истек… Красных полос впереди уже не было, даже зарево погасло, и звезды выкатывались из-за горизонта, словно раскаленные песчинки; аккумулятор электроэмоционатора сел. Что дальше делать — я понятия не имел. Я только знал, что вот еще немного полежу, а потом встану и пойду, и буду нести Павла.
Я вдруг впервые так ясно и ощутимо понял (до сих пор я гнал от себя эту мысль), что у меня, по сути, нет ни одного шанса на успех. Буду ли я идти или останусь лежать здесь — от этого ничего не изменится.
Я прислушался.
Тишина. Но не тишина города, когда слышишь каждый вздох паровоза, хотя до станции четыре километра, когда тявкнет собачонка — и весь город знает… Нет, здесь была особая тишина, тишина пустыни, когда не слышишь ничего…
Я еще прислушался. Тишина сгущалась, непонятная и страшная.
— Паша, — позвал я.
Он не отозвался.
— Паша! — позвал я громче и насторожился, даже сердце замерло.
Он не отозвался.
— Пашка!!! — заорал я, перекатился к нему и начал его трясти изо всех сил. — Пашка!!! — орал я что было мочи. — Пашка!!!
Он открыл глаза.
— Ты что-нибудь увидел?.. — сказал он.
Я не мог говорить. Я сидел рядом с ним и был счастлив.
— Ты молчал, — сказал я наконец.
— Да, — ответил он. — Извини, я, кажется, немного устал.
— Ничего, — сказал я, — вот отдохнем, и будет порядок.
— Ты так думаешь?..
Его глаза были огромные, немигающие, и в них отражались звезды. На лице у него остались только скулы и вот эти глаза. Да еще тонкая пластиночка носа.
— Ты все время бредил, а потом замолчал, — сказал я.
— Я не бредил, — сказал он.
— Ну как же? — Я уже почти успокоился. — Ты бредил, во всяком случае, сегодня.
— Нет, я тебе рассказывал про деда. Я думал, тебе будет легче.
Его слова меня ошарашили. Я был уверен, что он бредит. А он…
Я отвязал ремни от электроэмоционатора — нести его теперь не имело смысла — и примерился, как бы понадежней привязать Павла к спине.
— Ты уж продержись еще немного, — говорил я. — Я уверен, завтра мы дотопаем.
— Это солнце, — сказал он. — Извини. Почему-то только про деда и помню… Ты уж извини…
— Так, теперь перехватим поперек, — говорил я.
Я работал быстро, уверенно, вымещал на этих ремнях всю ярость, которая вдруг во мне взорвалась. Мне было наплевать, что он весит тонну. Хоть десять тонн!..
— Только про деда и помню… Ты уж потерпи…
Я встал и посмотрел на звезды, чтобы определить, где юг. Я увидал Полярную, и Сириус, и целый букет возле Ригеля, и мне стало хорошо оттого, что они такие знакомые, и что я снова иду, и еще оттого, что Павел тут, рядом, и совсем как в прежние дни, рассказывает:
— Понимаешь, волны были такие, что когда “Туб” выскочил из-за мола, над гребнями виднелись только кончики передних мачт и гафель на бизани…
Наверное, я долго был в беспамятстве — до тех пор, пока вдруг не осознал, что прислушиваюсь к странному шипению, прерываемому хрипами. Я напрягся и понял: это бормотал Павел. Потом красный туман перед глазами стал редеть, совсем рассеялся, и я увидел небо; не обычное, безумно-белое, слепящее, а глубокое светло-лиловое небо. Тогда я понял, что еще живу.
Лежать на песке было жестко, по я не мог повернуться. Я лежал — электроэмоционатор под головой, — смотрел вперед и думал: вот как хорошо, барханы остались позади и дальше нужно будет идти по твердым солонцам. Они светятся ровным багровым огнем. Как раскаленная жаровня. От них, наверное, несет жаром, как от настоящей жаровни. Завтра придется снопа шагать в этом аду, снова который уже день шагать и думать: вот еще сто шагов, еще сто, только не останавливаться, только не садиться, потому что вставать еще труднее, чем идти.
Жаровня по краям остывала, тускнела. Потом по ней пошли черные полосы: красное — черное, красное — черное, и черного с каждым мгновением становилось все больше.
Тут я почувствовал: что-то неладно. Чего-то мне недостает. Но я даже встревожиться не успел, понял: замолчал Павел… Но вот Павел засипел, забормотал, только на этот раз гораздо четче и связно — я угадывал почти каждое слово:
— Понимаешь, волны были такие, что когда “Туб” выскочил из-за мола, над гребнями виднелись только клотики передних мачт и гафель на бизани. Представляешь? Только клотики и верхний гафель на бизани. И это рассказывали люди, которые все видели своими глазами и привыкли врать только женам. Если б кто-нибудь другой сказал, я бы не поверил. Чтоб только верхний гафель… А потом вдруг налетел шквал. Три порыва. Только это было уже лишнее. Хватило бы и одного. Дед рассказывал: мачты будто срезало. Он даже не слыхал, как лопнули шкоты, и когда опомнился, вокруг кипела холодная зеленая вода и в пене крутились обломки “Туба”, одни обломки, а ведь он был когда-то лучшим клиппером на всю Атлантику и назывался как-то иначе — я не помню уже, как именно. И напрасно дед назвал его разбитым корытом. И без того за кабельтов было видно, что ему за тридцать и он ни к черту не годится; но к чему обижать старика, пусть ему действительно тридцать лет и он больше всего похож на разбитое корыто — ведь раньше это был самый быстроходный на всю Атлантику клиппер, и даже назывался он как-то иначе — я уже и не помню, как именно…
Павел это рассказывал много раз. Каждое слово было знакомо, каждое слово сидело в памяти, и когда он что-нибудь пропускал, я ловил себя на том, что это во мне вызывает раздражение.
Павел не сразу начал вспоминать про своего деда. В те минуты, когда мы сидели на песке и смотрели, как обломки нашего самолета, разбросанные после взрыва по всей ложбине у подножия огромного бархана, дымились и тлели, постепенно присыпаемые песком, нам было не до воспоминаний.
Тогда дул сильный ветер. Песок царапал лицо и забирался под одежду. Мне в ботинки набралось его довольного много, и это было неприятно.
Я смотрел, как ветер гонит песок на обломки самолета, и думал, что к вечеру от катастрофы не останется следов, а дней через пять весь бархан передвинется на это место, если не…
Наверное, Павел думал о том же, потому что сказал:
— Свались он на тридцать — сорок метров дальше, как раз угодил бы на вершину. И нас уже завтра разыскали бы.
— Быть может, ветер уляжется, — ответил я.
— Нет. — Он тяжело встал и с минуту смотрел на серое марево над нашими головами, на мутный горизонт, потом снова на небо и на обломки. — Нет, — сказал он, — знаю я эти ветры. Пережидать их безнадежно. Надо идти.
— Куда?
— На юг. По-моему, там должно быть селение. Да ты не смотри на меня так, там точно есть селение, я это отлично помню, вот только название забыл… Километров девяносто отсюда…
Я попытался представить, как пройду девяносто километров по этим пескам, в этой адовой жаре…
— Сделай чалму из парашюта, — посоветовал мне Павел.
Он был в шлеме, в унтах, в комбинезоне. Ему не досаждали ни солнце, ни ветер. И песок ноги ему не натирал. Он помог мне сделать чалму и все рассказывал бодрым таким голосом, что в этих местах часто встречаются русла пересыхающих рек, и когда мы набредем хоть на одно, он по профилю точно определит, где мы находимся, а уж тогда, считай, дело в шляпе.
Он был такой бодрый и энергичный… Сколько я с ним летал по дальним селениям, сколько знал его — никогда на моей памяти он не был таким бодрым и энергичным. А перед этим полетом он был совсем не в духе и даже поругался на аэродроме с Сапарбаем: не понравилось ему что-то в моторе. И Сапарбай кричал, что Павел к нему всегда придирается, и смешно размахивал руками. У этого Сапарбая гонора на троих хватит, и он отказался еще раз проверить мотор, а теперь внизу, у подножия бархана, дымятся обломки самолета.
…Павел повернулся на бок, и я снова услышал, как он бормочет:
— Дед был очень старый, и мы уж думали — угомонится. Так нет же. Он еще много лет ходил матросом на “цинготниках”, и во время войны их дважды торпедировали немцы, и где-то — в Бирме или на Цейлоне — он подцепил малярию, а потом почти сразу- то ли в Бирме, то ли на Цейлоне — трахому, и с тех пор глаза его все время слезились, и слезы текли по глубоким морщинам; морщины были такие странные: они так складывались, что казалось, будто дед все время смеется, а глаза слезились. Но дед никогда не плакал. Последние годы он жил у моего отца в маленьком домике над Сулой, в красивой излучине, а вокруг буки и ракиты. Ему подарили великолепную рыболовную снасть, все мальчишки млели от зависти, но он никогда не ловил рыбу, уж он ее столько наловил за свою жизнь! Он говорил, что ему хорошо, только иногда хочется маслин. Иногда он целыми днями сидел на завалинке и смотрел на синие луга за Сулой, и я знал, что он думает про то, какие рейсы делал от Буэнос-Айреса и до Танжера, от Сан-Хуана и до Монровии: про те времена, когда его во всех портах звали Старым Томом, хотя Старый Том — это не имя, это сорт крепкого джина; и еще про то, как впервые увидал, юнга, сто линьков в печенку, что там светится прямо по носу… Южный Крест, сэр… Гот дэм, он свихнулся, этот щенок… — как впервые увидал Южный Крест… “Трим-па-па, от Ямайки до Кейптауна…”
Больше всего он любил говорить про “Туб”: какие профили он имел великолепные, да какие паруса на нем стояли, да кто их шил: а уж если разговор доходил до рангоута, до таких тонкостей, из какого дерева да на каких верфях его лучше всего делали — вот уж о чем действительно он мог поговорить!.. Кстати, в настоящей морской травле он тоже знал толк. Запас историй у него был неисчерпаем, причем он никогда не повторялся. Помню такую. Случилось это, кажется, в двадцать пятом, а может, в двадцать восьмом — боюсь соврать; помню только, что дело было осенью, что “Туб” шел в Исландию и что муссон и Гольфстрим были на удивление трудолюбивы. Когда прошли Большую Ньюфаундлендскую банку, упал плотный туман. Дед спешил и — сакраменто!.. Пять камней в печень этому бездельнику Нептуну! — клиппер продолжал идти прежним курсом. Было два часа пополудни, и где-то, должно быть, белело ясное небо и сверкало солнце, а здесь мир был сер, как мокрая морская рыба, и впередсмотрящий жаловался, что не может разглядеть даже кливера. Все-таки дед видывал и не такое, и клиппер продолжал идти хорошим ходом, как вдруг из белой мглы вынырнул сейнер и врезался в борт “Туба” метрах в трех позади бушприта. Дед в это мгновение находился внизу, в своей каюте. Толчок опрокинул его на пол. Несколько секунд дед лежал и слушал треск и грохот врывающейся в трюм воды; потом клиппер с ходу зарылся в волну и почти мгновенно исчез под водой. А дед смотрел, словно завороженный, как вода за иллюминатором из зеленой становится голубой, потом фиолетовой. В каюте стало совсем темно, а клиппер все погружался…
…Хуже всего у нас было со съестными припасами. Правда, часа за три до катастрофы мы поели в том селении, где я выправлял электроэмоционатором работу сердца смешливого старика, который все вертелся и шутил, все не мог посидеть хоть минуту спокойно и, наверно, думал, что мы не видим, как он волнуется. В том селении я и съел все, что прихватил с собою из дому. Правда, у нас еще были два круга брынзы и небольшой мех с вином — их насильно всунул нам смешливый старик, когда мы улетали, но до них невозможно было добраться. Самолет горел и терял высоту и нужно было поскорее прыгать, а я долго возился с застежками парашюта — мне впервые пришлось иметь с ним дело. Павел все поглядывал на меня через плечо и ничего не говорил, а когда я пристегнул парашют, я успел прихватить только электроэмоционатор и сразу полез через борт, а фуражка мигом — фьюить! — улетела. Павел потом удивлялся, как я ухитрился электроэмоционатор и руках удержать, потому что, когда парашют открылся, меня рвануло неожиданно и сильно.
Павел достал из карманов целое богатство: банку тушенки, и банку бычков в томате, и здоровенный сухарь, и почти полфляжки воды. А я как глянул на все это, такой голод почувствовал, будто двое суток не ел, будто тут же, не сходя с места, могу съесть десять килограммов мяса с караваем хлеба и выпить ведро воды; но больше всего мне хотелось именно тушенки и бычков в томате. И сухарей.
Я боялся разговора о еде, но Павел все решил удивительно просто. Он сказал, что до селения километров девяносто — значит, придется идти дня три, а может — и больше. Во всяком случае, припасов на двоих маловато. Но можно не делить припасы поровну на двоих, сказал Павел, вся еда достанется одному тебе, а ко мне ты подключишь электроэмоциоиатор и он будет “кормить” меня своими биотоками, чтобы я не испытывал голода и жажды и мог передвигать ноги.
Я, конечно, сразу заартачился. Не мог я согласиться, тем более, что всю еду спас он. Я начал говорить, что нужно все сделать наоборот, чтобы ел он, а не я, и мы несколько минут спорили, пока я не признал, что он прав, потому что он выносливей меня и в приборе ничего не понимает, а я хоть обычный фельдшер, но электроэмоционатор знаю хорошо. Я приладил к Павлу отводы электроэмоционатора, и мы двинулись на юг.
Был резкий ветер, а жару я с детства плохо переношу. Я шел мрачный и прикидывал, как бы нам продержаться подольше. Поразмыслив, я решил “кормить” Павла не своими биотоками — ведь теперь и я перешел на минимальный рацион, так зачем же голодать нам обоим, если у меня была прекрасная запись “сытости” и “отсутствия жажды”. Я сразу включил обе записи, а потом, не сказав об этом Павлу, включил запись “оптимизма”. Я сделал это как можно осторожней, чтобы он не заметил, и когда Павел постепенно ожил и даже начал посвистывать и рассказывать анекдоты, я пожалел, что аппарат не может одновременно обслуживать двоих. А он старался растормошить меня и все подбадривал.
Потом он мне начал рассказывать про деда, про то, как погрузился в волны “Туб”.
— Ты думаешь, говорил мне дед, я тогда рассчитывал выпутаться? Ничуть. Видел бы ты, как “Туб” шел ко дну. Словно камушек. А дед — не салага, уж он-то знал: под килем две мили с хвостиком; на наши, на сухопутные, все четыре километра набежит. На какое тут чудо будешь надеяться! Только я все-таки человек, говорил дед, а не чушка чугунная, а человек до последнего мгновения борется; пусть неосознанно, пусть инстинктивно — но борется!.. Вот и он: бросил любоваться сменой гаммы за иллюминатором, подскочил к двери и — крэк-крак! — на ключ ее, потому что в коридор через люк вода стеной ломилась. Оглянулся: не законопатить ли в каюте где какую дырочку? Не пришлось, полный ажур. Успокоился. Вода из-под двери струями бьет, а дед на нее без внимания; думает, где сейчас Тэд, где Боб, где Коля Бомбей, где остальная команда. Прикинул — будто бы все в момент удара наверху находились. Значит, не пропадут, сейнер подберет. Совсем успокоился дед. Стоит посреди каюты, а в ней темно и воды уже по колено, и в ушах ломит — давление все-таки приличное и растет очень уж быстро. И чувство такое, словно на лифте спускаешься. Только вдруг “Туб” начал замедлять, замедлять движение и вовсе вдруг стал. Дифферент на нос у него — градусов пятьдесят. И все растет, будто клиппер вокруг поперечной оси поворачивается. Понять нетрудно: грузы в трюме из-за дифферента поползли к носу — значит, еще больше нарушают равновесие. И действительно, “Туб” поворачивался, пока вовсе не стал вертикально, да так и застыл. Дед плавает в своей каюте, ничего понять не может. Вода прибывать перестала — воздух ее дальше не пускает. Дышать тяжело, перед глазами муть красная, а все-таки веселее, чем ко дну идти… По давлению да по свету темно-фиолетовому в иллюминаторе дед прикидывает: глубина метров восемьдесят, ну сто от силы. Что за чудо? Ведь точно он знает, нет здесь ни хребтов подводных, ни скал, и зацепиться не за что… А потом почувствовал, что вода-то холодная стала, и не оттого, что долго в ней пробыл — какое там долго: и двух минут не прошло! — а просто действительно-таки чертовски холодная. А где ей здесь взяться, в сердце Гольфстрима? Единственно — из Лабрадорского течения. Как понял это дед, так ему ясно стало, отчего “Туб” ко дну не идет: у этих течений плотность воды разная, на границе скачок плотности получается. Через теплый слой, гибралтарский, клиппер прошел, а через холодный не может — вода слишком плотная; а в “Тубе” к тому же воздуха оставалось много, вот он и плавает на границе течений, будто поплавок. Ну и ну, подумал дед, история хоть куда, будет о чем рассказать в “Черном Томе” между двумя стаканами виски. Эта рябая рожа Кристи с зависти сдохнет…
…На четвертый день мы набрели на высохшее русло и прошли вдоль него километра четыре, пока в одном месте не увидали несколько кустиков сочной зеленой травы; их я тотчас же съел с корешками, а потом копал в том месте, пока не докопался до воды, и мы, наконец, смогли напиться и набрали полную фляжку; еще через сутки у меня кончились консервы, а на следующее утро — значит, это был седьмой день, — Павел уже не мог идти сам, и мы брели в обнимку.
У нас не было компаса, по Павел и так неплохо ориентировался, а через два дня и я уже разбирался в звездах: знал, куда закатывается Арктур, узнавал яркие брызги Ориона над самым горизонтом, а несколько в стороне, если немного повернуть голову, — бледную, немощную Андромеду.
Мы шли днем и ночью. Мы отдыхали только тогда, когда вовсе выбивались из сил. Когда голод становился нестерпимым, я просил Павла отвернуться, и он говорил: ешь и не обращай на меня внимания, ты должен продержаться, понимаешь, должен. И я сидел рядом с ним и тщательно пережевывал каждую кроху.
Когда я докопался до воды и предложил ему напиться, он отказался. Он действительно не хотел пить, хотя уже вовсе высох и обуглился. Тогда я отключил электроэмоционатор и заставил его напиться.
Потом мы сидели над ямой и говорили, какая это славная штука — вода, и о том, что наши дела в общем не так уже плохи. Жаль только, что Павел так и не вспомнил, что это за русло, а я смотрел на него, и мне было страшно, потому что электроэмоционатор был отключен, а Павел все равно не говорил, что хочет есть.
“Сытость” я больше не включал…
Потом мы встали, и я помню, что трудней всего было заставить себя уйти с того места.
Сегодня я его нес…
Я попытался вспомнить сегодняшний день и не смог. Я только помню, что нес его, и он весил до ужаса много, с тонну, наверное, так что отдыхать я ложился только три раза, потому что чувствовал, что чаще отдыхать лежа нельзя.
Я боялся ложиться и отдыхал стоя. И даже глаза закрывать боялся, знал — упаду. А потом шел дальше, словно лунатик. Шел и думал, что вот сейчас нужно перенести тяжесть на левую ногу, а правую вынуть из песка, продвинуть вперед и упереть. Потом перенести тяжесть на нее и вынуть из песка левую ногу… упереть… а теперь правую… а теперь снова левую… (солнце отражается в песке, как в зеркале: черное, усатое, много-много солнц, со всех сторон, от них весь песок почернел), а теперь снова левую… нет, сейчас правую, левую потом…
Я бы не смог нести Павла, но я переключил электроэмоционатор на себя и оставил только две программы: ровную работу сердца и легких. Я б еще включил и “оптимизм”, но аккумулятор в аппарате вовсе сел, и нужно было беречь каждую каплю энергии. И я весь день смог нести его только потому, что сердце работало удивительно ровно и дыхание было великолепное. Я очень жалел, что в первый день не догадался записать биотоки ног при ходьбе. Как бы я сейчас шел! Не задумываясь шел бы и шел, пока в организме оставалось хоть немного сил. Теперь уж поздно об этом думать.
Павел весит тонну и рассказывает, рассказывает про деда — вынуть ногу из песка, перенести…
— Как делается чудо? — любил повторять дед. Вот этими руками. И чтобы немного повезло… Когда он рассказывал свои истории, то все посмеивался, но я — то понимаю, что пришлось ему в тот раз, ох, как нелегко: при таком давлении, да еще без привычки, двигаться вообще тяжело, а ведь он нырял снова и снова, из помещения в помещение, в темноте, пока не вытащил на сухое водолазную помпу, а конец шланга от нее привязал к двум пустым бочкам и выпустил этот поплавок на поверхность. А потом — это и на поверхности работенка! — качал себе воздух. Не пошел бы туда воздух, говорил я деду и на бумажке все это быстро ему доказывал, а он и не спорил. Может, ты и прав, Павлуха, может, по бумажке он действительно туда не может идти, говорил он, только ведь шел!.. И он плавал эдаким манером, говорит, дня три, слава богу, пить-есть было что. Вот только холодно, но дед укрепил в воздухе гамак — и ничего, обходился. Но как на поверхность выбраться? Своим ходом — гибель, организм не выдержит, постепенно это нужно делать. А как постепенно? Попробовал дед воздухом воду вытеснять из клиппера — не под силу это помпе, а что еще придумать — не знает. И вдруг просыпается он как-то от толчка. Прислушался — явственные такие удары: бьется “Туб” обо что-то твердое. Посветил дед фонариком через иллюминатор, а там лед. И в то же мгновение, после очередного толчка, “Туб” вдруг качнулся, накренился, завертелся, перевернулся несколько раз. Это продолжалось пять — десять секунд, но дед едва не погиб: вода и воздух смешались, все кипело, бурлило, дышать нечем. Потом “Туб” вдруг замер, плотно стал, накренился в последний раз на борт — и в каюте стало светло: сквозь иллюминаторы лился дневной свет, а “Туб” стоял на льду, вода потоками сбегала в океан; с трех остальных сторон и сверху громоздились ледяные глыбы — “Туб” оказался в гроте. Айсберг. Тут уж и пояснять-то нечего, каждому ясно: течение занесло клиппер в этот грот еще под водой, айсберг был источен Гольфстримом, очень неустойчив, и слабенький толчок “Туба” стал той последней каплей, после которой он опрокинулся. Вот и все. И здоровье деда не пострадало. С перепугу, наверное. Дед говорил: временный пластырь на пробоину в днище “Туба” он сам навел, и грузы в трюме сам на места перетащил, и сам динамитом пробил “Тубу” выход в океан, и сам вел клиппер до Рейкьявика. Опоздал, конечно, на восемь дней, и ремонт обошелся в копеечку, но зато таких историй, как эта, в “Черном Томе” еще отродясь никто не слыхивал, а рябой Кристи с досады перешел с виски на пиво; впрочем, они потом с дедом подружились, и когда, обнявшись, распевали “Гоп-ля, Атлантика — веселый океан”, говорят, у них не плохо получалось…
…И вот восьмой день истек… Красных полос впереди уже не было, даже зарево погасло, и звезды выкатывались из-за горизонта, словно раскаленные песчинки; аккумулятор электроэмоционатора сел. Что дальше делать — я понятия не имел. Я только знал, что вот еще немного полежу, а потом встану и пойду, и буду нести Павла.
Я вдруг впервые так ясно и ощутимо понял (до сих пор я гнал от себя эту мысль), что у меня, по сути, нет ни одного шанса на успех. Буду ли я идти или останусь лежать здесь — от этого ничего не изменится.
Я прислушался.
Тишина. Но не тишина города, когда слышишь каждый вздох паровоза, хотя до станции четыре километра, когда тявкнет собачонка — и весь город знает… Нет, здесь была особая тишина, тишина пустыни, когда не слышишь ничего…
Я еще прислушался. Тишина сгущалась, непонятная и страшная.
— Паша, — позвал я.
Он не отозвался.
— Паша! — позвал я громче и насторожился, даже сердце замерло.
Он не отозвался.
— Пашка!!! — заорал я, перекатился к нему и начал его трясти изо всех сил. — Пашка!!! — орал я что было мочи. — Пашка!!!
Он открыл глаза.
— Ты что-нибудь увидел?.. — сказал он.
Я не мог говорить. Я сидел рядом с ним и был счастлив.
— Ты молчал, — сказал я наконец.
— Да, — ответил он. — Извини, я, кажется, немного устал.
— Ничего, — сказал я, — вот отдохнем, и будет порядок.
— Ты так думаешь?..
Его глаза были огромные, немигающие, и в них отражались звезды. На лице у него остались только скулы и вот эти глаза. Да еще тонкая пластиночка носа.
— Ты все время бредил, а потом замолчал, — сказал я.
— Я не бредил, — сказал он.
— Ну как же? — Я уже почти успокоился. — Ты бредил, во всяком случае, сегодня.
— Нет, я тебе рассказывал про деда. Я думал, тебе будет легче.
Его слова меня ошарашили. Я был уверен, что он бредит. А он…
Я отвязал ремни от электроэмоционатора — нести его теперь не имело смысла — и примерился, как бы понадежней привязать Павла к спине.
— Ты уж продержись еще немного, — говорил я. — Я уверен, завтра мы дотопаем.
— Это солнце, — сказал он. — Извини. Почему-то только про деда и помню… Ты уж извини…
— Так, теперь перехватим поперек, — говорил я.
Я работал быстро, уверенно, вымещал на этих ремнях всю ярость, которая вдруг во мне взорвалась. Мне было наплевать, что он весит тонну. Хоть десять тонн!..
— Только про деда и помню… Ты уж потерпи…
Я встал и посмотрел на звезды, чтобы определить, где юг. Я увидал Полярную, и Сириус, и целый букет возле Ригеля, и мне стало хорошо оттого, что они такие знакомые, и что я снова иду, и еще оттого, что Павел тут, рядом, и совсем как в прежние дни, рассказывает:
— Понимаешь, волны были такие, что когда “Туб” выскочил из-за мола, над гребнями виднелись только кончики передних мачт и гафель на бизани…
Я.Рыкачев ДЕЛО ГЕЛЬМУТА ШРАММА

ПРОЛОГ
СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
По автомобильным дорогам мира бегают более сотни машин марки “Краун Импириэл”. “Краун Импириэл” не знает конвейера: ее не спеша собирают в Детройте мастера высшего класса и отделывают в Италии, в Турине, лучшие краснодеревцы, кожевники, ювелиры. Каждая машина имеет две радиоустановки, телевизор, телефон, холодильник, установку искусственного климата. Если человек является собственником “Краун Импириэл”, значит, он принадлежит к сильнейшим из сильных мира сего. Если человек находится на “Краун Импириэл” даже в качестве случайного пассажира, значит, он так или иначе связан с высочайшими вершинами бизнеса, и это само по себе служит ему отличной деловой рекомендацией… Одна из таких машин мчалась ясным летним полднем по дороге из Нью-Йорка в Фишерс-Айленд со скоростью восьмидесяти миль в час. За рулем восседал сам владелец машины — крупный, тяжеловесный человек в светлом костюме свободного покроя, со щетинно-густой, беспорядочной гривой седых волос, с грубоватым, мясистым лицом и неожиданно яркими голубыми глазами. Это был Джеймс Ламетт, известный конгрессмен, модный политический деятель реакционного толка, заводчик и финансист, “дерзкий выскочка” среди старых династий Уолл-стрита, сколотивший громадное состояние на добыче и очистке одного редкого химического элемента, властно вошедшего в промышленную технику с началом второй мировой войны. В описываемое время принадлежащие ему заводы охватывали уже добрую половину редких элементов Периодической системы. Рядом, прячась в тени занавески, опущенной на боковое стекло, оборотясь лицом к Ламетту, сидел некий Отто Вендель, человек лет шестидесяти, темный политический делец, прибывший из Европы со специальной секретной миссией. Он в чем-то горячо и настойчиво убеждал своего спутника. В ответ миллиардер, не отводя глаз от дороги, резко, зло и даже с наслаждением твердил одно и то же слово: — Глупости! Глупости! Глупости! — Поймите же, другого пути нет и не будет! Тогда остается только поднять руки или протянуть ноги… — Глупости! Если вы приехали только для этого, то можете отправляться обратно в Европу! — Да, но… — Глупости! Одутловатое, нечистое, в морщинах и складках лицо Венделя, пересеченное по левой щеке грубым шрамом, исказила гримаса злобы; его белесые, мутные, как бы взболтанные глаза порозовели от прилива крови, но он сдержался и промолчал. — Говорю вам — глупости! — повторил Ламетт, не давая себе труда заметить душевное состояние европейского гостя. — И что у них там за головы — у ваших генералов? Неужели им непонятно, что ядерная война оставит после себя дохлую планету, всесветный зловонный морг, и ничего более? Что предлагаете вы нам, мне, Джеймсу Ламетту? Залезть во имя вашего проклятого реванша в подземную нору, жрать консервы, медленно подыхать от лучевой болезни и утешаться тем, что коммунистам не лучше? Глупости! — Видите ли, Ламетт, прежде чем явиться к вам, я уже беседовал с Джадсоном, с несколькими конгрессменами, с генералами Уотсоном и Лассвелом, и все они отнеслись к моей миссии с большим интересом. Да и вообще в вашей стране есть немало влиятельных людей и в Конгрессе, и в правительстве, и в армии, и, смею думать, и Си-Ай-Си[41] которые придерживаются совсем иного мнения, чем вы. Однако не скрою, когда я отправлялся в Штаты, мне было указано обратить особое внимание на вас и на вашу группу… — Немало влиятельных людей — говорите вы? — Ламетт презрительно фыркнул. — Да разве это люди? Это идиоты, которых следует упрятать в сумасшедший дом! Люди — это те, кто умеет считать прибыли и убытки, а ядерная война — чистый убыток! Вот какого мнения придерживаюсь я и те, кого вы именуете “моей группой”! — II идеалы, Ламетт?.. — назло произнес Отто Вендель — ускользнувший от виселицы военный преступник, повинный в массовых убийствах. — Что же будет с идеалами? — Не высовывайтесь, черт возьми, вас могут узнать! — Ламетт свободной рукой прижал своего спутника к спинке сиденья и поправил сбившуюся занавеску. — “Идеалы, идеалы”!.. За кого вы меня принимаете, Вендель? — Прежде всего за человека, которому тесно жить на одной планете с коммунистами. — В этом вы правы, дорогой Вендель, — печально произнес Ламетт, будто признаваясь в тяжком, неизлечимом недуге. — Порой мне кажется, что я явился на свет слишком поздно. То ли дело эпоха Вандербильдтов, Гульдов, Карнеги!.. И все же я не могу согласиться с тем, что всеобщее самоубийство — лучший способ избавить планету от коммунистов. Это лишено всякого смысла… — Превентивная[42] ядерная война не самоубийство! — азартно вскричал Вендель. — А мы предлагаем вам именно и только пре-вен-тив-ную войну, и никакую другую! Самый последний, глубоко продуманный план превентивной ядерной войны! — Речь Венделя приобрела плавность и ритм, он почти пел своим густым, хрипловатым голосом. — Мирные делегации… сентиментальные встречи министров, а то и на самом высоком уровне… обсуждение и подписание любых договоров, закрепляющих вечный мир на Земле… контрольные пункты для предотвращения внезапного нападения… обмен парламентскими делегациями, учеными, актерами, космонавтами, кинозвездами, футболистами… И в одну прекрасную, прекраснейшую ночь… — Ах, Вендель, Вендель, что только сделало с вами время! — Ламетт, не отрывая глаз от дороги, с насмешливымсочувствием покачал своей большой головой. — Просто не верится, что вы тот самый Вендель, с именем которого мы связывали такие большие надежды. Я-то думал, что вы человек сегодняшнего дня, олицетворяющий собой живую связь между прошлым и настоящим нацизма, а ваше время, оказывается, безвозвратно ушло! Конечно, — добавил он в ответ на протестующий жест Венделя, — у вас еще есть сильные козыри, и мы не собираемся сбрасывать вас со счетов. Но явились новые люди, новые идеи, более соответствующие времени… — Вот-вот! — Вендель ревниво вскинулся. — Новые люди, новые идеи! Я сразу понял, что вы говорите с чужих слов! Кто же они, эти ваши новые люди? Где они? Назовите хоть одного! Если они и действительно способны привести нас к цели, я первый готов… Ну назовите же их! — Терпение, Вендель. Ламетт, внимательно оглядевшись, остановил громоздкую машину у глухих ворот, врезанных в высокий каменный забор, и отчетливо просигналил три раза. Ворота распахнулись, и машина въехала в обширный асфальтированный двор, посреди которого высилось длинное двухэтажное здание. — Здравствуйте, Роберт. Надеюсь, все в порядке? С этими словами Ламетт обратился к почтенному седому джентльмену, менее всего походившему на слугу и ничуть не уступавшему своему хозяину в представительности. — Здравствуйте, сэр. Все в порядке. Джентльмен не спеша запер ворота и вернулся в здание прежде, чем Вендель покинул машину. Загородная вилла Ламетта, построенная из необработанного гранита, самым искусным образом была стилизована под скромный деревянный фермерский дом начала века. Но, переступив порог вслед за хозяином, Вендель едва удержался от удивленного восклицания: перед ним открылся гигантский двухсветный холл со стеклами из малахита, стеклянным потолком, открытым в синее небо, и полом, выложенным в шахматном порядке плитами из Лабрадора и розового мрамора. Длинные солнечные лучи, пересекаясь во всех направлениях, казалось, непрестанно ткали золотую паутину, провисшую между полом и потолком. — Это и есть моя скромная загородная хижина, Вендель, которую вы обрекли в жертву ядерной войне. — Она и не заслуживает лучшей участи, — небрежно заметил Вендель. — Вот уж не думал, что у миллиарда долларов такой дурной вкус! Снаружи — гранитная развалюха, внутри- пародия на храм. Вы должны привлечь вашего архитектора к суду, Ламетт, — он просто обманул вас. Эта злая реплика ничуть не задела миллиардера: он не верил подобным высказываниям, считая, что они продиктованы завистью. — Вы и тут отстали, — сказал он медленно. — Прошло то время, когда мы, американцы, рабски следовали в таких делах европейской указке. Мода на средневековые замки, вывезенные из Шотландии вместе с привидениями и прочей дрянью, давным-давно миновала. Теперь извольте-ка вы поучиться у нас… Ламетт провел гостя через анфиладу комнат, обставленных простоватой и неуклюжей сельской мебелью, изготовленной по специальному заказу из самых дорогих сортов дерева; через обширный зимний сад, где среди деревьев, вывезенных из его родных мест, высаженных в кадки, щебетали и пели на все лады птицы тех же широт; через большой зал с прудом-бассейном из коричневого, под цвет глины, мрамора, стилизованным под захудалый, с неровными берегами, сельский пруд — отраду его далекого детства. В ответ на пояснения хозяина Вендель лишь саркастически улыбался: ему ли, современнику третьего рейха, другу и соратнику его создателей и столпов, живших среди истинно королевских богатств, свезенных со всех концов Европы, дивиться вульгарной роскоши этого выскочки! Наконец хозяин предложил гостю спуститься по винтовой лестнице в глубокое убежище, расположенное под домом. — Это мой противоатомный бар, — не без гордости объявил Ламетт, остановившись посреди небольшого помещения, мягко освещенного скрытыми лампами дневного света. Пол был устлан пушистым нейлоновым ковром, имитирующим зеленый газон; по стенам, до высоты человеческого роста, шли деревянные панели, аляповато расписанные сельскими пейзажами, среди которых владелец дома провел свои юные годы; у одной из стен — деревянная стойка в виде старинной ветряной мельницы. Ее срезанная, плоская крыша была уставлена множеством бутылок, бокалов, рюмок и несколькими наборами коктейльной аппаратуры. Ламетт указал гостю на одно из громоздких, жестких кресел, стоявших вокруг грубо сбитого стола. — Обратите внимание, Вендель: перед вами подлинная мебель семнадцатого века, ее собственноручно сколотил для себя один из пионеров с “Мэйфлауера”… — Что ж, — Вендель насмешливо оглядел ядовито-зеленый лужок из нейлона, — в этих почтенных креслах за добрым бокалом вина вполне можно переждать небольшую ядерную грозу. — О да, если только мои ученые не врут, утверждая, что это убежище, стоившее мне около миллиона, полностью обеспечено от проникновения радиации… — Вот видите, Ламетт… — Ничего я не вижу! — раздраженно отозвался Ламетт. — У человечества еще нет опыта ядерной войны, и ни за что нельзя поручиться. Но допустим даже, что в этой дыре можно благополучно отсидеться и уцелеть. А что, скажите, застану я наверху, когда решу, что пришло время жить дальше? Давайте условимся, Вендель: если вы и дальше намерены настаивать на вашей дурацкой ядерной войне, то нам с вами не по дороге. Ясно? — Поймите же наконец, Ламетт: превентивная ядерная война сведет к минимуму силу, а то и самую возможность ответного удара! — Вендель сердито нахмурился и молчал несколько секунд. — Конечно, если вы против всякой ядерной войны — вы и ваши единомышленники, — то нам и верно не о чем говорить. Разве только вы предложите что-либо столь же решительное… Хозяин, не отвечая, снял трубку внутреннего телефона, стоявшего на столе: — Это вы, Роберт? Передайте мистеру Догану, что я ожидаю его внизу, в седьмой.НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ламетт едва успел приготовить коктейль и разлить его по бокалам, как в комнату Вошел человек лет сорока пяти, среднего роста, плечистый; круглая голая голова, лицо в рваных хлопьях румянца, круглые, чуть выпуклые холодные, серо-стальные глаза, золотые очки. — Знакомьтесь, Вендель: это мистер Генри Логан, профессор одного из наших университетов. — К чему такая неуклюжая конспирация, Ламетт? — ворчливо отозвался Вендель, чуть привстал в кресле и протянул вошедшему руку. — Чего бы я стоил, если бы не знал, что пожимаю руку Генри Листеру, бывшему профессору социологии Массачусетского технологического института, одному из шефов Си-Ай-Си, члену Совета ДБС[43]! — Браво, мистер Вендель, браво! Конечно, Джеймс, мое скромное имя не заслуживает конспирации, но имя нашего гостя, мне кажется, следует самым тщательным образом оберегать от чужого слуха. Если вездесущие репортеры пронюхают, что в Штаты прибыл собственной персоной Отто Вендель, это наведет кое-кого на ненужные размышления. — Об этом можете не тревожиться, Генри, — нахмурился Ламетт. — Мой Роберт прошел хорошую школу и все предусмотрел: в доме нет ни души. А теперь прошу садиться — и к делу! Вы уже знаете, Генри, что мистер Вендель прибыл из Европы с определенной целью: предложить нам план превентивной ядерной войны, детально разработанный бывшим гитлеровским, а ныне бундесверовским генералитетом. Там, видимо, считают, что мы можем содействовать продвижению этого плана в определенных кругах, привлечь к нему внимание… — Вам уже известно мое мнение, Джеймс, — отозвался Листер, — и мне остается лишь ознакомить с ним нашего гостя. Я считаю этот документ жалким творением все тех примитивных умом, — легкий поклон в сторону Венделя, — которые в свое время породили идею гитлеровского блицкрига, с первых же шагов увязшую в русских снегах… — Разрешите заметить, что я лично не имел к идее блицкрига ни малейшего отношения, — сердито заметил Вендель. — Я был в ту пору лишь абвером, как, впрочем, и позднее, до конца войны. Эта реплика явилась безотчетной уступкой, сделанной Венделем “новому человеку” Ламетта, с которым он едва успел познакомиться. На деле он до сего времени считал идею гитлеровского блицкрига вершиной военной мысли и причину поражения третьего рейха усматривал единственно в чрезмерной “гуманности” покойного фюрера и его сподвижников. — Что же, военная разведка — это не так уж мало, назидательно заметил Листер. — Абверу вполне доступно было оценить обстановку и представить свои доводы. Однако, насколько мне известно, абвер лишь поддерживал заблуждение, в котором находился ваш фюрер и его генералы. Низкий уровень мышления — общая беда больших и малых руководителей третьего рейха. Не так ли, мистер Вендель? Вендель неопределенно пожал плечами: он явно робел перед Листером. — А знаете, Вендель, я с острым интересом шел сегодня на свидание с вами. — В интонации Генри Листера была снисходительность, этакое похлопывание по плечу. — Для моего поколения вы были легендарным Венделем! Умница, храбрец, великий конспиратор, человек, перехвативший знамя, выпавшее из мертвых рук Генриха Гиммлера! А ныне — глава, кумир и повелитель целого миллиона бывших эсэсовцев, рассеянных по всему свету, оплот и надежда всех, кто стремится к возрождению нацизма… — Листер умолк и будто в печальном недоумении склонил голову. — Но план, генеральский план… Как могли вы поддаться на такую дешевку, Вендель? Неужели два последних десятилетия ничему вас не научили? У вашего генералитета, Вендель, нет ни крупицы воображения. Подумайте сами: возможно ли разработать толковую стратегию, если не учесть, что и другая сторона способна думать, хитрить, угадывать мысли и намерения противника? “Ну конечно же, — подумал Вендель, — этот Генри Листер и есть “новый человек” Ламетта и его группы…” — Превентивная ядерная война! — продолжал Листер. — Вам ли не знать, Вендель, что любая, даже самая сложная игра имеет свои железные правила, твердо известные всякому серьезному партнеру?!. А Советы, несомненно, очень серьезный партнер. Неужели вы полагаете, Вендель, что ваши идеи, планы, расчеты, даже самые сокровенные, неведомы тем, против кого вы затеваете ваш ядерный блицкриг? Знайте же: любая ваша мысль, едва возникнув — и даже ранее того! — тотчас же становится известной там, как если бы ее улавливали радаром… — Шпионаж? — усмехнулся Вендель. — Ну, я, старый разведчик, не столь высокого мнения о шпионаже. — Да нет же, простой здравый смысл! Листер откинулся на спинку кресла и заговорил привычным, ровным тоном лектора: — Могу вас уверить, дорогой Вендель, что русские отлично разбираются в том, какие идеи, настроения, замыслы, расчеты, планы и действия способны породить — и порождают — в нашей стране обладание ядерным оружием; каких взглядов придерживаются на этот счет наши министры, генералы Пентагона, члены Конгресса, Белый дом, тайные организации, и даже Си-Ай-Си. Но мало того: Советы в каждый данный момент готовы дать отпор любому из вариантов ядерной агрессии, в том числе и внезапному нападению. Все приемы, преимущества и возможности превентивной войны известны им не хуже, чем вашим и нашим генералам, и, конечно, полностью учтены ими. Если что и способно определить успех в современной войне, так это абсолютное превосходство в силе оружия. Но и превосходство, как вы знаете, уже невозможно: каждая из сторон обладает такими запасами термоядерных бомб и средств их доставки, что и десятой доли с излишком хватило бы для полного уничтожения другой стороны и вообще всей планеты… — Значит, вы — за со-су-щест-во-ва-ние? — протянул Вендель. — Нет, почему же… — спокойно отпарировал Листер. — Мы всего только за химию — против физики. Химическое оружие дешево, действенно и гуманно: оно способно уничтожить людские массы почти мгновенно… — Да-да, за химию — против физики! — с какой-то злой восторженностью повторил Ламетт. — Слушайте и учитесь, Вендель! — Что же, — усмехнулся Вендель, — послушать я не прочь, а вот насчет ученья…ХИМИЯ И ФИЗИКА
— Прежде всего, — сказал Листер, — ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос: известен ли вам в Германии человек, по фамилии Шрамм? Гельмут Шрамм, двадцати семи лет, город Бремен? — Шрамм… Шрамм… Гельмут Шрамм… Бремен… — шептал про себя Вендель, словно мысленно листал картотеку. — Нет, такой не числится! — заключил он профессиональным тоном. — Я и не ждал от вас другого ответа, Вендель. В вашей картотеке числятся, вероятно, лишь шпионы, осведомители, бывшие эсэсовцы, а Шрамм не подходит ни под одну из этих рубрик. Ведь Гельмут Шрамм — это сегодняшний, даже завтрашний день, а ваш взгляд обращен в прошлое… — Кто же он, этот ваш Шрамм? Друг? Враг? — Гельмут Шрамм — молодой ученый, возможно гениальный ученый. А друг или враг — это, в конечном счете, зависит от нас с вами. Вам ли не знать, что человек — всего лишь человек, Вендель! — Химик? — Разумеется, химик! Кажется, вы начинаете улавливать ход моей мысли… — Что, вы хотите, чтобы я доставил вам этого химика, связанного по рукам и ногам? — Ну, Вендель, вы, я вижу, еще не вышли в тираж! — одобрил его Листер. Затем, помолчав, снова перешел на лекторский тон: — Итак, химия! Я уже говорил, что только люди с примитивным мышлением могут думать, что ядерная война, пусть и превентивная, решит в нашу пользу давний наш спор с коммунистическим миром. Этим людям туманит голову военно-промышленный бум, безудержное хвастовство наших генералов, грозная красота наших ракет с ядерными зарядами, готовых вот-вот устремиться к цели с наших подводных и надводных кораблей, с сухопутных баз, разбросанных по всему миру, слитный гул наших бомбардировщиков, несущих на борту ядерные бомбы. За всей шумихой эти безумцы забывают, вернее, стремятся забыть, что на каждую нашу ядерную бомбу приходится, по меньшей мере, одна советская бомба, а о ракетах и говорить нечего — тут мы неизменно плетемся в хвосте. Словом, дорогой Вендель, мы разочаровались в физике! Уж очень оказалась она шумной, трескучей, бессмысленно-разрушительной, а главное, обоюдоострой наукой. — Конечно, не мне, простому разведчику, спорить с таким ученым человеком, как профессор Генри Листер, — вставил Отто Вендель. — Однако мне думается, что все ваши соображения по поводу физики могут быть с таким же основанием отнесены и к химии. Разве не так? — К счастью, не так, дорогой Вендель! — самоуверенно ответил Генри Листер. — Раздобудьте нам Гельмута Шрамма, и вы убедитесь в этом! А впрочем, я могу дать вам некоторое представление о нашей военной доктрине, Вендель… Существует, как известно, немало ядовитых веществ, даже в небольшой дозе смертельных для любого организма. Например, синильная кислота. Однако современная химия располагает куда7 более грозными ядами. Идеальным, разумеется, явился бы такой яд, который в возможно минимальной дозе — одна или несколько молекул — причинял бы человеку мгновенную, а значит, и безболезненную смерть, отличался бы необходимой химической устойчивостью и действовал бы равным образом на все животные и растительные организмы… — Так, так… — Молекула-воин, молекула-убийца! — с холодным пафосом воскликнул Листер. — Вы представляете себе, Вендель, сколько таких воинов-убийц уместится в ста граммах подобного вещества? В этом случае на каждого — заметьте, на каждого! — врага придутся целые полчища непобедимых воинов, не ведающих промаха. Это уже сверховеркиль[44]! Страна, ставшая объектом такого нападения, в кратчайший срок лишится всего населения, но все богатства ее останутся нетронутыми, невредимыми, готовыми для использования. — Простите, Листер, — нетерпеливо прервал оратора Вендель, — но ведь в этой вашей, с позволения сказать, доктрине нет ничего нового или оригинального, она давно известна. Я сам могу рассказать вам о подобных ядах, созданных у вас в Штатах, в Англии, в Канаде, наконец, у нас в Германии. Да что говорить: нет такого вида смертоносного оружия, над которым не работали бы самым энергичным образом наши немецкие ученые! Я сам, собственными глазами несколько лет назад видел порцию ядовитого порошка — не более одного килограмма, — которая при равномерном распылении способна убить все живое на огромном пространстве… Но я уже тогда задал себе вопрос: а разве у коммунистов нет химии? И в частности, химии поражающих веществ? Листер пожал плечами и откинулся на спинку кресла. — Видите ли, Вендель, вся суть в том, что ни одно из созданных до сего времени поражающих веществ не идет ни в какое сравнение со шраммовским мортином, и у нас нет оснований считать, что подобный препарат имеется у нашего потенциального противника. Увлеченные соперничеством с нами в области ядерного вооружения, Советы, по нашим сведениям, уделяли недостаточное внимание химическому оружию. В этом наше бесспорное, хотя, несомненно, и временное, преимущество. Другое наше преимущество — тщательно разработанные методы превентивной химической войны… — Уж не имеете ли вы в виду доктрину “внедрения”? Выращенные в специальных школах “подложные” коммунисты, перевоплощаясь с головы до пят, проникают в Россию, делают там государственную или общественную карьеру, а затем, находясь вне всякого подозрения, распыляют по стране какой-нибудь мортин? — Не скрою, у нас есть и такой вариант превентивной химической войны. — Это же совершенная чепуха, Листер! — усмехнулся Вендель; наконец-то удалось ему взять реванш у этого “нового человека”. — Не понимаю, как это вы, серьезный ученый, профессор социологии, могли поддаться на такую ребяческую выдумку! Вашего “подложного” коммуниста разоблачат там сразу же, как если бы на лбу у него стояло клеймо: “Изделие Аллена Даллеса”. Мало того: он тут же передаст им в руки доверенную ему дозу мортина, выболтает во всех подробностях вашу доктрину и заставит смеяться двести миллионов человек. Нет, Листер, если уж вы решитесь на войну, то воевать придется в открытую, со всеми вытекающими последствиями… — Позвольте не согласиться с вами, Вендель, — холодно возразил Листер. — Разумеется, вариант “внедрения” — лишь один из наших вариантов превентивной химической войны, об остальных я пока умолчу. Скажу лишь, что они связаны с проблемой создания специальной авиации, снабженной особыми соплами и распылителями, — эта техника уже имеется на вооружении западного мира и непрерывно совершенствуется. А сейчас я предлагаю прекратить бесплодную дискуссию и перейти к практической стороне дела. Итак, вы должны раздобыть для нас Гельмута Шрамма. Разумеется, мы окажем вам любую помощь. Наши люди в Германии… — Скажите, Листер, откуда вам стало известно о Шрамме и его открытии? — Это не относится к делу. — Пусть так. Но имейте в виду, господа, — он повернулся к Ламетту, — что операция с этим Шраммом требует больших денег. Выкрасть в большом, густонаселенном городе живого человека!.. В таком деле без тонкой выдумки и больших расходов не обойтись. — Вот и выдумывайте! — резко заключил Листер. — Насколько нам известно, Шрамм — человек доверчивый и простодушный, к тому же его исчезновение не вызовет шума. В науке он пока малоизвестен, братьев и сестер у него нет, родители погибли в гитлеровском концлагере. Словом, самый удобный объект для похищения! — А невеста? — озабоченно сказал Вендель. — Агнесса Добберт…УКРОЩЕНИЕ ВЕНДЕЛЯ
Вендель внезапно умолк, словно пораженный апоплексией. Его лицо густо, до черноты, покраснело, затем кровь отлила обратно, даже белесые глаза его, казалось, задернулись тусклой пеленой. — Что это значит, Вендель? — высоким, срывающимся голосом вскричал Ламетт, до сих пор молча следивший за диалогом двух разведок. — Потрудитесь объяснить, что это значит? Вендель, сжавшись в тесном старинном кресле, тщетно шевелил бескровными губами и силился что-то сказать. Он до самой глубины был потрясен не тем, что его изобличили во лжи, а крахом своих хитрых расчетов. — Зачем вы лгали, что ничего не знаете о Шрамме и даже не слыхали этого имени? Вы что — успели запродать его вашей федеральной разведке? Кому-нибудь из наших — Филду, Джадсону, концерну Люпона? Русским? Или вы придерживаете его в ожидании, кто больше предложит? Не для того, черт возьми, я вам плачу из года в год за содержание ваших бездельников эсэсовцев, чтобы вы обделывали на стороне ваши темные делишки! Отвечайте же, что у вас там с этим Шраммом! — Да ничего такого… Просто я припомнил сейчас, что некий Гельмут Шрамм действительно числится в моей картотеке… — Вы опять лжете, Вендель! — жестко сказал Ламетт. — Я вижу, нам придется отказаться от ваших услуг. — Ну ладно, — примирительно заговорил Вендель (он уже овладел собой). — Я вовсе не собираюсь ссориться с вами, Ламетт, из-за этого паршивого Шрамма. Признаюсь: на Шрамма действительно претендует один очень богатый покупатель. Нет-нет, не беспокойтесь, дело идет не о вашем мортине! Покупатель о мортине ровно ничего не знает, как, впрочем, до встречи с вами не знал и я. Даю честное слово — не знал! Покупателя интересует совсем другой препарат-биолин, стимулирующий жизненные процессы. Я-то думал поначалу, что вы имеете в виду именно биолин, потому и отрекся от Шрамма. Биолин — мой личный бизнес… — Кто покупатель? — хмуро спросил Ламетт. — Люпон? — Да, концерн Люпона. Они предложили за патент полтора миллиона долларов. — Откуда им стало известно о биолине? — А Шрамм и не скрывал, что работает над биолином. Он даже поместил в специальном журнале заметку о биолине, где указал заранее его заданные свойства. — Почему же концерн обратился к вам, а не к самому Шрамму? Ведь полтора миллиона — громадное состояние для нищего ученого! — Обращались. Но Шрамм заявил, что научными открытиями не торгует и, как только работа над биолином будет завершена, он опубликует для общего сведения все данные о его составе и способе производства. Вот тогда-то концерн и попросил меня срочно раздобыть нужные им сведения о биолине. Они задумали опередить Шрамма, запатентовать в Штатах биолин под другим наименованием и приписать его открытие своим химикам… — Ну и вы?.. — Я принял меры, вступил в переговоры с одним человеком… — С кем именно? — С ассистентом Шрамма, Артуром Леманом… — Дальше! — Этот мерзавец пронюхал о предложении Люпона и потребовал от меня половину суммы, назначенной концерном. — А почему он не обратился непосредственно к концерну, минуя вас? Ведь все козыри были в его руках! — То есть как это — минуя меня? — искренне удивился Вендель. — Он же знал, с кем имеет дело и чем грозит ему такой подвох! — Вендель вызывающе оглядел своих собеседников. — А ведь похоже, джентльмены, что ваши сведения о Шрамме и его мортине идут из того же источника! — Вы не ошиблись, Вендель, — принял вызов Листер. — Леман действительно наш человек, я прошу вас принять это к сведению. Мы в свое время устроили его ассистентом к Шрамму, чтобы он снабжал нас необходимой информацией. Правда, комбинацию с биолином он от нас утаил, но, раз это его личный бизнес, мы все равно не стали бы ему мешать, тем более что Ламетт — не правда ли, Джеймс? — в биолине не заинтересован. Мы не возражаем и против вашего бизнеса, Вендель, мы даже готовы помочь вам: заставим этого нахального юнца удовлетвориться третью куртажа, предложенного вам концерном Люпона… — Я буду вам очень обязан, господа, — умилился Вендель. — Пожалуйста, — сухо отозвался Листер. — Однако должен сказать вам, Вендель, что если вы и в дальнейшем попытаетесь вести с нами двойную игру… Вы же знаете, Вендель, у нас длинные руки! — Бросьте, Листер, — скучным голосом сказал Вендель, — я же не враг себе. Величие духа! Скажу вам начистоту: лично я не верю ни в ядерный блицкриг, ни, того менее, в вашу химию. Если я и принял на себя известную вам миссию, то лишь по старым дружеским связям с рейхсвером. Для меня яснее ясного: время упущено, и, боюсь, упущено безвозвратно. Вот почему я не заглядываю теперь дальше сегодняшнего, ну, завтрашнего дня. Что требуется вам от меня сегодня? Гельмут Шрамм? Извольте, господа, получите Гельмута Шрамма за наличный расчет!.. — Да, Гельмут Шрамм, но целый и невредимый, — подтвердил Листер. — Нам известно, у вас тяжелая рука, Вендель! — Все зависит от условий заказа, дорогой Листер… Кстати, почему бы вам не узнать химическую формулу мортина у Артура Лемана? — Он сам не знает ее. Шрамм очень скупо рассказал Леману о своем открытии, но и этого оказалось достаточно, чтобы мы предпочли мортин всем поражающим веществам, созданным в химических лабораториях западного мира, в том числе и в секретных лабораториях НАТО. Мортин — это небывалое, чудовищное сгущение гибельной энергии. Нам известно также, что Шрамм самолично уничтожил добытый им небольшой запас мортина и будто бы всю связанную с ним научную документацию. — Гуманист? — Вот именно — гуманист! Так что ныне химическая формула мортина существует только в мозговых клетках Гельмута Шрамма, откуда нам и предстоит ее выскрести. — А когда мы завладеем этой формулой, — заключил Ламетт, — и мои заводы наладят производство мортина, тогда наша доктрина приобретет тысячи и тысячи новых сторонников и физике поневоле придется уступить первенство химии. Атомный бизнес, ведущий страну к катастрофе, перестанет загребать миллиарды долларов, а сама идея химической войны станет официальной и основной доктриной НАТО…ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОНЕЦ СВАДЕБНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Первой остановкой в своем свадебном путешествии по родной стране супруги Шрамм избрали Мюнхен. Они дав но мечтали ознакомиться с художественными сокровищами Старой Пинакотеки, собравшей в своих стенах множество шедевров. Гельмут и Агнесса Шрамм остановились в недорогой маленькой гостинице “Старая Бавария” на левом берегу Изара, в старинной части Мюнхена с ее узкими средневековыми улочками. Решено было пробыть в городе неделю и все утренние часы посвятить осмотру музея. Но на третий день Гельмут отказался сопровождать жену в Пинакотеку. — Мне что-то нездоровится, — сказал он после кофе. — Кружится и болит голова, хочется спать… Вероятно, переутомление — ведь я последние три года работал без отдыха, а тут еще мелькание картин…, — Ты и в самом деле очень бледен, — встревожилась Агнесса. — Я останусь с тобой и вызову врача. — Нет-нет, я еще посплю часок-другой и уверен, что все пройдет. А ты иди, обязательно иди, как раз сегодня посетителей сопровождает профессор Кунц, крупнейший знаток голландской живописи! — Нет, Гельмут, я буду беспокоиться… — Умоляю тебя, святая Агнесса! — Гельмут театрально преклонил колено. — Умоляю тебя, отправляйся в Пинакотеку, внимательно слушай профессора Кунца, потом расскажешь мне о своих впечатлениях. А я, со своей стороны, обязуюсь полностью поправиться к твоему возвращению! — Да будет так! — со смешливой торжественностью произнесла Агнесса и возложила свою маленькую руку на голову мужа. — Пусть исцелит тебя, любимый, мое святое прикосновение! Агнесса вернулась в гостиницу к двум часам дня. Она подошла к двери своего номера и осторожно постучала: вдруг Гельмут еще не проснулся? Послышались твердые шаги, и дверь резко, наотмашь распахнулась. На пороге стоял высокий, плотный, бравой выправки человек лет тридцати, в шелковой голубой пижаме, левая щека в мыле, в руке бритва, через плечо полотенце, в углу рта дымящаяся сигарета. — Да?! — Простите, — растерянно произносит Агнесса. — Мой муж… — Ваш муж? — в недоумении повторяет молодой человек. — Ведь это семнадцатый номер, не правда ли? — Совершенно верно, фрейлейн… — Фрау Шрамм… — Совершенно верно, фрау Шрамм, семнадцатый. — Но ведь тут живем… жили… мы с мужем… — То есть?! — Сегодня утром эту комнату занимали мы с мужем… — Утром? Вы с мужем? Но, фрау Шрамм, я живу здесь уже второй месяц! — Этого не может быть… мы с мужем… — Вы, вероятно, ошиблись номером, тут все комнаты одинаковые. — Нет-нет, это наша комната, я хорошо помню: она единственная на отлете, возле лестницы! — уверяла Агнесса. — И затем, я твердо помню: семнадцатый номер… — И все же, фрау Шрамм… Молодой человек предупредительно стоит в дверях; он уже стер полотенцем мыльную пену со щеки и терпеливо выжидает, когда же выяснится это странное недоразумение. — Но как же так… где же мой муж?.. — Простите, фрау Шрамм, — на лице молодого человека недоумение, готовое перейти в досаду, — я не могу знать, где находится ваш муж. Потрудитесь зайти в комнату и убедиться: это не ваша, а моя комната. Прошу вас! Молодой человек посторонился, пропуская Агнессу. Нет, конечно, это не их комната. Тут все иное: мебель, занавески, постель — и нет ни единой из их вещей; облака табачного дыма — Гельмут некурящий — плавают под потолком, на столе пепельница с окурками, бритвенный прибор, кисть со свежей мыльной пеной… Мысли Агнессы путаются, она, шатаясь, выходит из комнаты, чувство предельного одиночества сжимает ей сердце. Молодой человек, видимо, понял ее состояние: он набрасывает на себя пиджак и идет вслед за ней. — Пройдемте, пожалуйста, к портье, фрау Шрамм, здесь явное недоразумение. Портье услужливо достает книгу для приезжающих. — Фрау Шрамм спрашивает, какой номер она занимает? Пятнадцатый. Нет-нет, именно пятнадцатый. Господин Гельмут Шрамм? Такого постояльца у нас не значится. Разве фрау не помнит, что приехала одна? Да, фрау Шрамм, я твердо помню, что вы приехали в гостиницу одна в понедельник 11 июля. Я сам записывал вас и принимал ваши вещи. Семнадцатый номер. Но, право же, фрау ошибается — там уже второй месяц проживает господин Герман Винкель!. — Нет-нет, я приехала не одна… Агнессе кажется, что она сейчас лишится рассудка, медленная бледность заливает ее лицо. Очнулась она через полчаса на диване в комнате номер пятнадцать, куда ее бережно, под руки, отвели господин Герман Винкель и портье. Агнесса огляделась: эта комната действительно ничем не отличается от той, где поселились они с Гельмутом. Но, странное дело, в ней нет никаких следов пребывания Гельмута: ни его книг, ни его двух чемоданов, ни знакомых ей предметов обихода. Зато ее, Агнессы, вещи остались на тех же местах, что и прежде. Пожилой усатый врач слушает ее пульс. — Скажите-ка, фрау Шрамм, не страдаете ли вы галлюцинациями, выпадениями сознания? — Где мой муж, Гельмут?.. — Опять муж! — поморщился врач. — Своей нелепой выдумкой вы всполошили администрацию гостиницы, без всякой надобности обеспокоили господина Винкеля… — О, какое же беспокойство? — деликатно отозвался господин Винкель. — Я только сожалею… — Должны же вы понять наконец, что приехали в Мюнхен одна! Совершенно одна! — Гельмут… Но где же Гельмут? — Сколько раз вам повторять? — В голосе врача звучит нетерпение. — Никакого Гельмута… — Подождите, доктор, — строго сказал Герман Винкель. — Скажите, фрау Шрамм, нет ли у вас родных в нашем городе? — Н-нет… — А откуда вы приехали в Мюнхен? — Из Бремена. — Где работает ваш муж? — В Институте химической кинетики, в лаборатории номер семь… — Так, так… — Винкель взглянул на свои ручные часы. — Сейчас три часа. Быть может, вы хотели бы позвонить в Бремен по телефону? Справиться, не знают ли там что-либо о вашем муже? — Но это же нелепо… мы приехали вместе… они не могут знать… — А все же? — Хорошо, я позвоню. — С кем хотели бы вы говорить, фрау Шрамм? — Леман. Ассистент мужа, Артур Леман… Герман Винкель берет телефонную трубку, и через несколько минут телефонистка соединяет его с Бременом, с Институтом химической кинетики. — Лабораторию номер семь! Благодарю. Господина Артура Лемана! Господин Леман? С вами желает говорить фрау Агнесса Шрамм. Передаю трубку… Приподнявшись с дивана, Агнесса нетвердой рукой прижимает трубку к уху: наконец-то свой, близкий человек, друг Гельмута. — О, Артур! Здесь такое творится… — Она умолкает, спазм перехватывает ей горло. — Что с тобой, Агнесса, дорогая? — Гельмут… — Что — Гельмут? Молчание. Слышен только сдержанный плач. — Но Агнесса… Пусть Гельмут возьмет трубку. — Гельмута нет… он исчез… я не знаю, где он… — Что значит — исчез? Он же вылетел к тебе третьего дня па самолете! Что же он — не прилетел в Мюнхен? — Что ты говоришь, Артур? — Агнесса мгновенно пришла в себя. — Ты же знаешь, что мы с Гельмутом выехали в воскресенье из Бремена, — ты же сам провожал нас на вокзале! Мы вместе приехали в Мюнхен и прожили здесь три дня! Слышишь ли ты — вместе! — почти исступленно кричит Агнесса в трубку. — А сегодня… сегодня… он исчез! — Ты, наверное, нездорова, Агнесса, — послышался в трубке тихий, печальный голос Лемана. — Выслушай меня внимательно, постарайся восстановить в памяти ход событий… Десятого числа, в воскресенье, я и Гельмут проводили тебя на вокзал, Гельмут купил в кассе билет, мы усадили тебя в вагон, простились… Было решено, что Гельмут вылетит в Мюнхен дня через два, лишь только закончит начатый ранее опыт. Во вторник, двенадцатого, в семь утра я проводил Гельмута на аэровокзал. Самолет взлетел на моих глазах… — Ты с ума сошел, Артур! — холодно сказала Агнесса и положила трубку. Ей надо было как-то разобраться во всем, чтобы овладеть собой, жить и действовать дальше. Молчание длилось уже несколько минут, его прервал Герман Винкель. — Фрау Шрамм, что сказал вам Леман? — Леман сумасшедший. — В голосе Агнессы звучало спокойное ожесточение. — Вы все сумасшедшие… — Она внимательно оглядела Винкеля и врача и неожиданно добавила: — А может быть, негодяи. — Но фрау Шрамм!.. — Я прошу вас, господин Винкель, и вас, доктор, оставить мою комнату! Я жду, господа! — Если вам угодно… Винкель кивнул доктору, и они направились к двери. — В случае если вам понадобится моя помощь, фрау Шрамм, — обернулся на пороге Винкель, — я всегда к вашим услугам… Агнесса не ответила. Примерно через час к подъезду гостиницы “Старая Бавария” подкатила закрытая машина. В номер пятнадцатый поднялся тот же врач в сопровождении двух дюжих санитаров, и Агнессу Шрамм увезли в городскую психиатрическую больницу.ДИАЛОГ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ
Что испытывала Агнесса Шрамм, запертая в одиночной палате городской психиатрической больницы? Маленькая комнатка была обставлена лишь самой необходимой стандартной мебелью: сиротского вида кровать, застеленная тонким серым одеялом, низкорослый шкаф для платья, стол, стул, умывальник. Небольшое окошко, сродни тюремному, было расположено так высоко, что Агнесса, даже встав на стул — она уже раз предприняла такую попытку, — не могла дотянуться до него рукой. Массивная дверь, выходившая в коридор, была снабжена круглым окошком, позволявшим видеть извне все, что творится в палате… Есть слабые, на поверхностный взгляд, натуры, обнаруживающие истинную свою суть лишь под давлением крайних обстоятельств. Мера испытаний, выпавших на долю Агнессы, уже переступила за черту, где таилась скрытая до времени сила ее характера, к которому жизнь не предъявляла до сих пор сколько-нибудь суровых требований. Несчастья сообщали ей сейчас твердость духа, побуждали ее к действию. Агнесса еще с вечера решила, что должна как следует выспаться в эту первую ночь своего заключения, иначе у нее не будет сил, чтобы тем или иным путем вырваться на свободу. А дорог каждый день, каждый час; как знать, что замыслили они против Гельмута? Агнесса ничуть не сомневалась теперь, что исчезновение Гельмута и ее заключение в больницу — дело рук каких-то преступников, хотя и не представляла себе, какую цель они преследуют. — Как вы спали? — приветствовала Агнессу утром пожилая женщина, принесшая скудный завтрак. — Благодарю вас, отлично. — Ну и слава богу, — стереотипно сказала женщина. — И вид у вас свеженький. Приготовьтесь, милая, — скоро будет врачебный обход. Не успела Агнесса позавтракать, как в палату вошла стройная женщина лет тридцати. У нее было овальное чистое бледное лицо, гладко зачесанные назад черные волосы, собранные в пучок на затылке, черные, вразлет брови, прекрасные темные глаза. — Доброе утро, фрау Шрамм! Я — Эвелина Петерс, ваш лечащий врач. Как вы себя чувствуете? — Благодарю вас, отлично. — Как вы спали эту первую ночь? — Не хуже, чем дома, доктор, — Агнесса заставила себя улыбнуться, — да еще в далеком детстве. Право, я даже ни разу не проснулась! — Вот и хорошо. Если так пойдет дальше, вы быстро оправитесь… А теперь дайте-ка мне взглянуть на вас! — Она маленькими, крепкими руками ласково взяла Агнессу за плечи и повернула лицом к свету. — Во-первых, фрау Шрамм, вы очень красивы, — сказала она серьезно. — Во-вторых, вы несомненная умница, а в-третьих, добрая душа. Такое сочетание встречается не столь уж часто. — Все это я подумала о вас, доктор, лишь только вы вошли. — Не надо так говорить, — отозвалась доктор Петерс. — Я в том возрасте, когда человек уже знает себе настоящую цену… А теперь скажите, фрау Шрамм, что предшествовало вашему заболеванию? Душевное потрясение? — Я совершенно здорова, доктор. — Так считают все больные, — улыбнулась доктор Петерс. — Во всяком случае, заболевание у вас легкое, и я охотно берусь вылечить вас. Готовы ли вы пройти у нас курс лечения? — Нет, доктор! — твердо сказала Агнесса. — Я слыхала, конечно, что душевнобольные склонны считать себя здоровыми, и тем не менее считаю себя здоровой. Что делать, — добавила она с ироническим вздохом, — ведь и здоровые считают себя здоровыми! Разве не так, доктор? — Конечно, так… К сожалению, это ничего не говорит о данном случае, фрау Шрамм. — Какой же выход? — продолжала Агнесса (она хотела убедить доктора в своем душевном здоровье безупречной логикой своих доводов). — Ведь в вашем распоряжении нет ни метода, ни аппарата, способного отличить здорового человека от душевнобольного. А вдруг меня заточили сюда какие-то злые люди? — Вот видите, дорогая фрау Шрамм, — печально сказала доктор Петерс, — злые люди, которые заточили вас… — Я знаю, доктор, это именуется манией преследования. — Увы, да. — Но разве преследование ни в чем не повинных людей, заточение их в тюрьму, в психиатрическую больницу, наконец, угрозы смертью — это только плод воображения? Вспомните времена нацизма, доктор. Да и сейчас нередко бывает… — Верно, фрау Шрамм. Но ведь это и есть та почва, которая питает разного рода неврозы и психозы… Две слезы медленно скатились по лицу Агнессы. — Как же найти мне путь к вам, доктор? — В голосе звучало отчаяние. — Как пробиться сквозь стену из врачебных терминов и предубеждений, которой вы оградили себя от всех случайностей и невероятностей живой жизни? Лишь только вы вошли и я увидела вас — ваше лицо, ваши глаза, — я почему-то сразу решила: этот человек все поймет! Я так поверила в вас, доктор Петерс… Доктор Петерс тоже поверила в Агнессу Шрамм, но она не достигла еще того уровня опытности, когда каждый отдельный случай существует для врача сам по себе, вне усвоенных теорий и представлений, и предъявляет к его разуму всю полноту требований. — Но, милая фрау Шрамм, поймите же… — Я не обязана понимать вас, доктор! — резко прервала ее Агнесса. — Это вы… вы обязаны понять меня! Неужели вы не способны допустить, что за всю вашу практику могли столкнуться хоть раз — один-единственный раз! — с исключительным случаем, требующим отказа от привычных суждений? Неужели человек, попавший в это здание, тем самым уже является для вас душевнобольным? — Но, фрау Шрамм, мне не раз приходилось слышать все это от больных. Я встречала людей с высоким, сильным интеллектом, которые до известной границы… — Замолчите, доктор! — яростно крикнула Агнесса. Она сознавала, что совершает, быть может, непоправимую ошибку, но не могла остановиться: ей казалось, что она ополчается сейчас, в лице доктора Петерс, против всего мирового зла. — Я еще раз спрашиваю вас: может ли ваша наука доказать, что я сумасшедшая? Если нет, вы обязаны отпустить меня! Иначе я буду считать, что вы подкуплены — да, да, подкуплены теми, кто загнал меня в эту больницу!.. — Прежде всего успокойтесь, фрау Шрамм… — с привычной интонацией, которой почему-то стыдилась сейчас, сказала доктор Петерс. — Прошу вас, успокойтесь… — Успокоиться? Нет, я не успокоюсь, пока не буду свободна! Слышите ли, я должна получить свободу сегодня, сейчас же, мне дорога каждая минута, бессердечный вы человек! Малейшее промедление может стоить жизни моему мужу, если только он еще жив!.. Агнесса чувствовала, что все глубже увязает в какой-то дурной декламации, которая со стороны, в стенах психиатрической больницы, вполне может быть воспринята как выспренность речи, какой нередко выражает себя безумие. — Но почему вы решили, что вашему мужу грозит опасность? Согласитесь, что, если ваш муж не прибыл из Бремена в Мюнхен, это еще не значит… — Не прибыл в Мюнхен? Так вы заодно с ними? — Дорогая фрау Шрамм, сделайте над собой усилие, постарайтесь понять меня. Ваш муж не был с вами в Мюнхене. Поймите же — не был! Я внимательно изучила препроводительный акт, составленный полицейским врачом, и могу вас уверить: вы прибыли в Мюнхен и остановились в гостинице одна… одна! Вспомните, вы же сами звонили в Бремен и ассистент вашего мужа подтвердил… Только не надо волноваться… Агнесса почти физическим усилием воли подавила в себе новый приступ ярости, и эта победа над собой уверила ее, пусть на время, в своих силах. — Да, я действительно звонила в Бремен и ассистент моего мужа, Артур Леман, действительно сказал, что я уехала в Мюнхен одна… — Агнесса наслаждалась сейчас спокойной деловитостью своей речи. — Мне еще не ясна цель, какую преследовал Леман своей ложью, но он несомненно причастен к заговору, который затеян против Гельмута. — Значит, и господин Леман, и господин Винкель, и полицейский врач, и даже портье… — В этом нет ничего невероятного. Если это заговор, то он, естественно, предполагаетсговор… Но почему вы так странно Смотрите на меня, доктор? Впрочем, мне понятен ход вашей мысли. Ощущать себя жертвой заговора, думаете вы, — это, конечно, крайнее, классическое проявление мании преследования, и теперь уже нет сомнений, что эта Шрамм сумасшедшая… Обстоятельства в самом деле против меня, доктор. Я и сама убедилась теперь, что предъявила слишком большие требования к вашей проницательности… — Нет, зачем же, фрау Шрамм… — Не надо жалких слов, доктор! Я вижу, мне приходится рассчитывать только на себя. Но если вы действительно хотите помочь мне, я облегчу вам задачу. Я вспомнила сейчас один эпизод… Вам, вероятно, известно, что мы с мужем в течение первых двух дней пребывания в Мюнхене посещали Старую Пинакотеку… — К сожалению, фрау Шрамм, но мне не известно, что вы посещали Пинакотеку с мужем. — Ну, разумеется, я не так выразилась: вам, во всяком случае, известно, что таково мое утверждение. Не правда ли? — Да-да, в полицейском акте… — А что, если я докажу вам, доктор, со всей очевидностью докажу, что в среду тринадцатого июля я находилась в Старой Пинакотеке вместе с мужем — именно вместе с мужем? Поверите ли вы тогда, что я вовсе не сумасшедшая и что люди, заточившие меня сюда, заведомые негодяи? — Но это же невозможно доказать, милая фрау Шрамм. Не лучше ли вам отказаться от такой попытки, успокоиться — возбуждение только вредит вам… — Доктор Петерс, не отделывайтесь от меня пустыми словами. Дело идет сейчас не только обо мне. — Я слушаю вас, фрау Шрамм, — кротко отозвалась доктор Петерс, снисходя к безумию своей пациентки. — Это произошло на третий день после нашего приезда в Мюнхен, в среду тринадцатого июля около полудня, в одном из залов Старой Пинакотеки. Мы с Гельмутом стояли около небольшого полотна Рибейры, когда меня окликнула моя школьная подруга фрейлейн Гертруда Якобс. Мы никогда не были с ней дружны, не виделись много лет, и я с трудом узнала ее. Все же мы обрадовались друг другу. Я представила ей Гельмута. Гертруда просила нас посетить ее — она живет с родителями в Мюнхене. Затем мы расстались, и я вскоре забыла об этой встрече… — Адрес? — Адрес остался у Гельмута в записной книжке. Но вам ничего не стоит отыскать отца Гертруды: по ее словам, он известный мюнхенский адвокат. Согласны ли вы сделать это для меня, доктор? — Конечно, конечно… Не обижайтесь на меня, фрау Шрамм, но ведь фрейлейн Якобс не сможет удостоверить, что видела вас именно с вашим мужем, а не с кем-либо другим. Насколько я поняла, они не были раньше знакомы… — Вы правы, доктор. — Агнесса взяла свою сумку и достала оттуда небольшой листок. — Вот последний портрет моего мужа, доктор, — я вырезала его из химического журнала. Видите, под ним напечатано “Гельмут-Гейнрих Шрамм, Институт химической кинетики”. Вы можете предъявить этот портрет фрейлейн Якобс.МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ЯКОБС
Семья адвоката Якобса жила на Поссартштрассе в небольшом двухэтажном каменном особняке, украшенном по краям затейливыми башенками; стрельчатые, под готику, высокие окна были до половины забраны чугунными решетками; внутрь дома вела высокая двустворчатая дверь, выложенная ярко начищенными медными пластинами. На звонок доктора Петерс тяжелая дверь приотворилась на ширину цепочки, и оттуда выглянула юная горничная с белоснежной наколкой на волосах. — Что угодно, фрау? — Мне надо видеть фрейлейн Гертруду Якобс. — Прошу вас. — Дверь широко открылась, пропуская доктора Петерс в вестибюль. — Как доложить? — Фрау Эвелина Петерс. Горничная вскоре вернулась и предложила посетительнице следовать за собой. Пройдя через анфиладу доброго десятка богато обставленных комнат и не встретив ни живой души, доктор Петерс вслед за горничной поднялась на второй этаж. Здесь навстречу ей вышла женщина лет двадцати пяти, видимо сама Гертруда Якобс, и остановилась с вопросительным видом. — Фрейлейн Гертруда? — Да, это я. — Доктор Эвелина Петерс. Доктор Петерс быстрым, опытным взглядом оглядела школьную подругу Агнессы Шрамм: некрасивое, золотушное, густо припудренное лицо, настороженные, недобрые, узкие зеленоватые глаза, твердый, почти безгубый рот. “Старая дева, — сказала себе доктор Петерс, — вечная, с самой юной поры, старая дева!” — У меня к вам личное дело, фрейлейн Якобс. — Она чуть приметно повела глазами на горничную. — Пройдемте ко мне. Гертруда распахнула одну из дверей, выходивших на площадку второго этажа, и доктор Петерс шагнула, ослепленная, в настоящий девичий рай. Это было царство белого цвета: диван, кресла и стулья в белых чехлах, отороченных белым кружевом; кровать светлого дерева, застланная белым одеялом; белый пушистый ковер на полу; стены, отделанные белыми панелями с золотыми крапинками. Вся эта белизна была к тому же освещена яркими лучами полуденного солнца, бившими сквозь широкое окно. — Фрейлейн Якобс, — сразу приступила к делу доктор Петерс, не без трепета усевшись в непорочно-белое кресло, указанное ей хозяйкой, — знакома ли вам фрау Агнесса Шрамм из Бремена, урожденная Доберт? Она утверждает, что вы ее школьная подруга и что она встретила вас третьего дня, в среду, в Старой Пинакотеке, где находилась со своим мужем Гельмутом Шраммом… — А кто вы, собственно, такая, фрау Петерс? — Фрейлейн Гертруда сощурила свои и без того узкие глазки. — На каком основании задаете вы мне вопросы? Что вам от меня нужно? — Видите ли, в интересах вашей подруги… — В интересах моей подруги? Но я еще не сказала вам, знакома ли мне эта… как ее? — Шрамм, фрау Агнесса Шрамм. — Эта Шрамм. Почему же вы решили, что она моя подруга? — В таком случае разрешите повторить вопрос: знакома ли вам фрау Агнесса Шрамм из Бремена, урожденная Доберт? — Все это очень странно… И самый ваш приход, и эти расспросы… Быть может, эта Шрамм натворила что-нибудь? — Нет, уважаемая фрейлейн Якобс, — гневно сказала доктор Петерс, — фрау Шрамм ничего не натворила. Я врач городской психиатрической больницы, куда вчера была доставлена Агнесса Шрамм. И вот я хотела удостовериться, насколько помрачен ее рассудок, соответствуют ли действительности некоторые ее утверждения. Это и привело меня к вам. Но если вы не желаете… — Эвелина поднялась. — Если вы не желаете отвечать… — Нет уж! — воскликнула фрейлейн Якобс и тоже встала с кресла. — Потрудитесь обождать: я позову сейчас моего брата — в этом деле надо разобраться!.. Фрейлейн Якобс быстро вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь и заперла ее. Доктор Петерс растерянно огляделась. Другого выхода из комнаты не было, ей оставалось только ждать. Вот уж действительно странное приключение! И какая же неприятная эта Якобс: что-то нацистское есть в ее повадках… Конечно же, она знакома с Агнессой Шрамм и виделась с ней в Пинакотеке, это чувствуется в каждом ее слове. Нет-нет, Агнессе не померещилась встреча с Гертрудой Якобс! Но была ли она тогда в Пинакотеке со своим мужем Гельмутом Шраммом? Вот что следует выяснить во что бы то ни стало… Эвелина так углубилась в свои мысли, что не сразу заметила, как в комнату вернулась Гертруда Якобс в сопровождении рослого, атлетически сложенного человека лет тридцати, одетого в домашний костюм. Лицом он походил на Гертруду: то же недоброе, брюзгливо-надменное выражение, твердый, безгубый рот, нечистая, как бы золотушная кожа. — Вот, Альберт, это она! — заговорила Гертруда, чуть не пальцем указывая на сидящую в кресле Эвелину. — Пристает, выспрашивает… — Разрешите представиться, — важно произнес вошедший и пристукнул домашними туфлями. — Альберт-Иоахим Якобс! Что вам угодно от моей сестры? Доктор Петерс спокойно изложила цель своего прихода. — Так, так… — протянул Альберт Якобс. — А почему эту Шрамм направила к вам именно полиция, полицейский врач? Она в чем-нибудь замечена? Красная? Коммунистка? — Фрау Шрамм прибыла в Мюнхен из Бремена, где проживает со своим мужем Гельмутом Шраммом, молодым ученым-химиком. Она остановилась в гостинице “Старая Бавария”, и там у нее были обнаружены некоторые признаки психического расстройства. Естественно, что администрация вызвала к ней полицейского врача, который и направил ее в нашу больницу. Вот и все, что мне известно. — Все, что вам известно… — с подчеркнутым недоверием повторил Альберт Якобс, усаживаясь в кресло напротив Эвелины. — По-вашему выходит, что эта Шрамм обыкновенная сумасшедшая. Почему же вы проявляете к ней такой интерес, тревожите ради нее незнакомых людей, требуете от них ответа на какие-то вопросы? Мало того: выдумываете, будто она приехала в Мюнхен вместе с мужем, когда твердо установлено, что она приехала одна! Не находите ли вы, что это, по меньшей мере, странно и наводит на некоторые размышления? — Я не понимаю, что вы имеете в виду, господин Якобс. — Ах не понимаете? А я вот только что узнал по телефону, что одно весьма осведомленное учреждение считает мужа вашей сумасшедшей, Гельмута Шрамма, подозрительным субъектом, связанным с восточными коммунистами. Что вы на это скажете? Оказывается, родители его тоже были красными и в свое время понесли заслуженное наказание в Маутхаузене. Мало того: имеются сведения, что Гельмут Шрамм бежал на днях па Восток, к своему возлюбленному Ульбрихту. Как видите, доктор Петерс, — Альберт Якобс нагло усмехнулся, — ваш визит к нам пахнет довольно скверно. Вы что, заметаете следы за этой коммунистической парой? — О, неужели муж фрау Агнессы действительно бежал в Восточную Германию? — с притворным волнением воскликнула доктор Петерс. — Боюсь, что в этом случае она окончательно лишится рассудка… Вы уверены в правильности ваших сведений, господин Якобс? А может быть, Шрамм исчез уже по приезде в Мюнхен, из гостиницы “Старая Бавария”, когда жена его находилась в Пинакотеке? Есть еще и такая версия: будто он вылетел из Бремена в Мюнхен на самолете… — Да что вы меня допрашиваете, черт подери! Сначала сестру, теперь меня! Сказано — удрал в русскую зону! — Дорогой господин Якобс, — проникновенным голосом заговорила Эвелина, — вы, право же, ошибаетесь, приписывая мне такое намерение. У меня лишь одна цель — помочь этой несчастной, брошенной мужем в чужом городе, среди чужих людей. Я убеждена, что вы не можете желать зла одинокой, покинутой женщине, к тому же лишенной рассудка… — Не верь ей, Альберт, — запальчиво крикнула фрейлейн Гертруда, — она все врет! — Помолчи, Трудхен! — строго сказал Альберт Якобс, явно польщенный словами доктора Петерс. — Разумеется, я не желаю зла этой Шрамм, но и не хочу, чтобы наша семья была замешана в такое грязное дело. — Он встал с кресла. — Я считаю наш разговор оконченным, доктор Петерс. Очутившись на улице, Эвелина радостно улыбнулась: она не рассчитывала так легко отделаться от этих людей. Они пробудили в ней старые, двадцатилетней давности, воспоминания, и ей стали уже мерещиться призраки Принцальбрехтштрассе[45], бродившие некогда по ее родному Берлину: допросы под пыткой, истошные крики, прерываемые резкими, лающими голосами. И еще: у нее сложилось впечатление, почти уверенность, по в деле Агнессы Шрамм есть что-то темное, возможно преступное…В ЗАМКЕ ОСТЕРМАРК
В то самое время как Альберт-Иоахим Якобс уверял Эвелину Петерс, что муж Агнессы Шрамм бежал в Восточную Германию, Гельмут Шрамм находился в шестидесяти километрах от Мюнхена, среди лесистых Баварских Альп, в родовом замке баронов Остермарк. Все произошло просто и быстро: то ли заговорщики были лишены воображения, то ли считали наилучшим традиционный, многократно испытанный способ действия. Гельмут крепко спал в своем номере гостиницы “Старая Бавария”, когда в дверь громко постучали. Он не услышал стука и проснулся оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. — Несчастье, господин Шрамм, вставайте! Ваша жена попала под автомашину! Она тяжело ранена, ее отвезли в больницу! Фрау Агнесса выразила желание немедленно видеть вас! Вставайте же! — Что? Что? Агнесса? Гельмут отчетливо осознал лишь одно: с Агнессой случилось несчастье. — Придите же в себя, вставайте! — настойчиво твердил незнакомец, бесцеремонно тормоша Гельмута. — Фрау Шрамм доставлена в больницу в очень тяжелом состоянии, нельзя медлить ни минуты! Торопитесь! С помощью второго незнакомца — Гельмут поначалу не заметил его — первый поднял его с постели, затем они быстро одели его, свели с лестницы и усадили в поджидавшую у подъезда машину. Гельмут не только не сопротивлялся, но всячески способствовал их усилиям… — А ну понюхайте вот это: сразу придете в себя! — уже в машине сказал первый незнакомец (второй сидел за рулем) и поднес к лицу Гельмута открытую коробочку с белым порошком. Гельмут глубоко вздохнул и почти мгновенно погрузился в беспросветную тьму, откуда вынырнул — через час, через день, через месяц? — в небольшом квадратном помещении с каменными стенами, лишенном окна и лишь слабо освещенном электрической лампочкой, торчавшей посреди высокого сводчатого потолка. Гельмут никак не мог связать это странное настоящее со своим прошлым. Да и само прошлое было окутано сейчас как бы завесой тумана, сквозь которую смутно проступали очертания его былой жизни. Агнесса!.. Вот единственная реальность, какую сохранила и донесла до сознания его неустойчивая и, странно, зыбкая память. С ней было связано для Гельмута что-то мучительно-горестное и страшное. Что же именно? И тут какая-то сила, призванная охранять от губительного поражения драгоценнейшее создание природы — человеческий мозг, вдруг выключила сознание Гельмута, и он впал в глубокий сон. А когда проснулся, ощутил себя прежним Гельмутом. Прошлое накрепко связалось с настоящим, память восстановила все утраченные связи. Ясно, что все это время — сколько длилось оно? — его мозг был отравлен каким-то ядом, действие которого прекратилось только сейчас. Агнесса!.. Что же случилось с Агнессой? Да-да, какой-то человек — Гельмуту отчетливо вспомнился его внешний облик — сказал ему, что Агнесса будто бы попала под автомашину и ее в тяжелом состоянии увезли в больницу… Но как же сам он, Гельмут, очутился здесь, в этой каменной дыре, на раскладной кровати из гнутых алюминиевых труб? Одежда на нем была прежняя, только сильно помятая, но ботинок не было, одни носки. Гельмут огляделся: не было их и на полу. Так-так, традиционный способ затруднить узнику побег… Он поднялся с кровати — ноги крепко держат его, голова не кружится! — и подошел к двери. Массивная, старинного дуба дверь как бы впаяна в такую же крепкую раму: ни единой щелочки. Гельмут всем телом налег па дверь — она даже не поколебалась. Итак, никаких сомнений: он в заключении. Но где же именно? Здание несомненно старинное, замковой стройки. Во всяком случае, тут не тюрьма: это странное помещение ничем не походило на тюремную камеру… Однако прежде всего надо восстановить цепь событий, которые привели его сюда. Утром тринадцатого июля — это была среда — он, Гельмут, почувствовал себя разбитым: головокружение, сонливость — и убедил Агнессу пойти в Пинакотеку без него. Видимо, в его кофе подсыпали какое-то ядовитое снадобье: он отлично помнит, что проснулся здоровым и бодрым. Как только Агнесса ушла, он снова лег-его неудержимо клонило ко сну. Через какое-то время его разбудил незнакомый человек — потом оказалось, что их было двое, — и объявил, что с Агнессой случилась беда и ему, Гельмуту, надо немедленно ехать к ней в больницу. Теперь-то ясно, что это была ложь, — просто им надо было выманить его из гостиницы. Потом, с помощью незнакомцев, он сошел с лестницы, уселся в машину, вдохнул порошок — и дальше пропасть! Вот и все. Потом этот последний, заключительный кадр: каменный мешок, в который его сунули, когда он находился без сознания… А что, если бы Агнесса отказалась тогда пойти одна в Пинакотеку, не захотела бы покинуть его, Гельмута? Что ж, они придумали бы какой-нибудь иной способ выманить ее на час — другой из дому… Но кто же автор этого детективного спектакля? Кому и с какой целью понадобилось похитить его, Гельмута Шрамма, и упрятать в эту дыру? Впрочем, сегодняшняя Германия буквально кишит тайными и явными организациями бывших нацистов и эсэсовцев, хроника происшествий полна загадочных исчезновений, таинственных убийств и самоубийств. Уж нет ли какой связи между этим странным приключением и враждебной нацизму деятельностью его родителей, погибших в Маутхаузене? Уж не мстят ли ему эсэсовские террористы за то, что его родители, не щадя жизни, боролись против тысячелетнего рейха? Впрочем, едва ли — через двадцать лет… Так или иначе, но дело обстоит скверно. Конечно, и Агнесса, если только она свободна, и Артур тотчас же предпримут все, чтобы отыскать его, Гельмута, след. Правда, это не так просто: ведь бывшие нацисты командуют и в полиции и в разведке у Гелена[46], да и повсюду есть у них своя рука… За дверью послышался металлический звук — похоже, звякнул тяжелый засов, — дверь чуть поддалась, двинулась внутрь каморки, и в узкую щель просунулась голова. Морщинистое, острое птичье лицо. Глаза с тревожным, пристальным вниманием оглядели комнату и остановились, застыли на Гельмуте. — Я принес вам обед, — сказал старик и медленно, настороженно втиснулся в комнату и прикрыл за собой дверь. В левой руке он держал судок — три кастрюльки, зажатые в обруче. — Моя фамилия Шрамм, Гельмут Шрамм, химик из Бремена, — подчеркнуто сказал Гельмут. — Запомните это, почтеннейший, и передайте на волю. Меня заточили сюда насильно, и, если со мной случится здесь что-либо дурное, вы ответите за это перед законом наравне с другими. Вы поняли меня? — Вот ваш обед. — Человек повернулся и, скосив взгляд, чтобы не терять узника из виду, шагнул к двери. Гельмут вскочил, легко оттолкнул его, открыл дверь и бросился вперед. Три-четыре метра по узкому коридорчику — и он очутился перед другой дверью, сплошь обитой жестью, с крохотным круглым глазком посредине. — Куда? — раздался из-за двери густой, грубый голос. — А ну назад! Так… Все ясно. Эта короткая разведка подтвердила худшие опасения Гельмута. — Слушайте, вы, за дверью! Моя фамилия Шрамм, Гельмут Шрамм, химик из Бремена! — громко прокричал Гельмут (его вовсе не прельщала судьба современной “железной маски”). — Передайте это на волю и знайте: за насилие надо мной вы ответите перед законом наравне с вашими хозяевами!.. — Сказано — назад! И отпусти старика! Пререкаться с неведомым стражем, стоявшим за дверью, не имело смысла, и Гельмут вернулся в свою каменную каморку. Пока он отсутствовал, старый слуга не терял времени даром. Судок с обедом был разобран и кастрюльки с едой аккуратно расставлены на табуретке: суп, жаркое, компот. При виде Гельмута старик укоризненно покачал головой, как если бы тот повинен был в нарушении этикета: в опоздании к обеду. — Вот ваш обед, — повторил он спокойно и удалился, заложив засовом дубовую дверь. — Что ж, — вполголоса сказал Гельмут, — будем жить, пока живы! И он с аппетитом принялся за вкусно приготовленный обед.ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ
— Здравствуйте, коллега Шмиц, — сказала Эвелина Петерс, входя в кабинет полицейского врача. — Я — доктор Петерс из городской психиатрической. На моем попечении находится известная вам фрау Агнесса Шрамм… Пожилой жирный человек неопрятного вида тяжело поднялся из-за стола. Черные, явно крашенные усы, лихо закрученные кверху, придавали его чертам странную вульгарную игривость. — Да? — сказал он выжидательно. — Что вам угодно? — О, всего только совета, — любезно отозвалась фрау Петерс. — Надеюсь, вы не откажете мне в этом, коллега Шмиц? — Что вам угодно? — грубовато повторил полицейский врач; ему явно не понравилось светское щебетание фрау Петерс. — Что мне угодно? — мило улыбнулась Эвелина. — Мне угодно, уважаемый коллега Шмиц, узнать ваше мнение о нашей общей пациентке фрау Агнессе Шрамм. Я лично — да-да, лично, а не только в качестве врача! — заинтересована в ее судьбе. Это — чудесное, обаятельное существо, и страх перед врачебной ошибкой… — Не пойму я, что вам от меня надо, фрау… фрау… — Петерс, Эвелина Петерс. — …фрау Петерс. Если дело идет об этой сумасшедшей Шрамм, то вы получили мое заключение: мания преследования, галлюцинаторный бред, больная представляет известную опасность для окружающих. Родных у нее в Мюнхене нет, и моей обязанностью как полицейского врача было отправить ее к вам, что я и сделал. И больше мне нет никакого дела ни до нее, ни, простите, до вас… — Ну зачем же так резко, коллега?! — с кокетливым упреком сказала фрау Петерс. — А вдруг эта бедная Агнесса Шрамм стала жертвой каких-нибудь нехороших людей и нас с вами решили использовать, чтобы погубить ее? — Она склонилась к столу и тихо, доверительно добавила: — Скажу вам по секрету, коллега Шмиц: я подозреваю, что фрау Агнесса Шрамм вполне нормальный, душевно здоровый человек. Это и привело меня к вам: прежде чем выписать ее из больницы, я решила посоветоваться с вами… Эвелина точно попала в цель: слова ее повергли полицейского врача в злобное смятение, он тяжело задышал, его пальцы безотчетно сжались в кулаки. — Выпустить из больницы эту… эту сумасшедшую? Да кто дал вам право, раз я… я… полиция… — Ну вот видите, коллега Шмиц, как хорошо, что я пришла к вам за советом! Я очень высоко ценю вашу опытность, ваш авторитет… Я же, в сущности, молодой врач — неполных восемь лет практики… Полицейский врач, польщенный словами фрау Петерс, явно сменил гнев на милость и едва ли не впервые обратил внимание на внешность своей посетительницы. Ого, да она прехорошенькая, и притом, кажется, круглая дура. Отличное сочетание! — А все же признайтесь, фрау Петерс: вы усомнились в моем диагнозе? А? — Доктор Шмиц игриво ухмыльнулся. — Напутал малость наш высокоавторитетный, многоопытный коллега Шмиц! Так вот же вам — не напутал! — И он оглушительно захохотал, обнажив оскал крупных неровных желтых зубов. — Право же, коллега, вы не поняли меня, — будто в смущении возразила Эвелина. — Это такой сложный случай… Представьте себе, что должна была чувствовать эта молодая женщина, когда по возвращении обнаружила, что ее муж, которого она оставила больным, бесследно исчез из гостиницы. При этом окружающие согласно уверяли ее, что его вовсе и не было в гостинице, что она приехала в Мюнхен одна и поселилась будто бы в пятнадцатом, а не в семнадцатом номере, хотя она твердо помнила, что в семнадцатом. Создается впечатление, что ее просто решили свести с ума, сорвать ей нервную систему… — Не болтайте чепухи! — Полицейский врач стукнул ладонью по столу. — О том, что она приехала одна, а не с мужем, свидетельствует и администрация гостиницы, и ассистент Гельмута Шрамма, которому эта сумасшедшая звонила в Бремен по телефону! Но мало того: сейчас стало известно, что этот Шрамм, пока жена его прохлаждалась в Мюнхене, удрал в русскую зону! — Нет, коллега Шмиц, — твердо и внушительно сказала фрау Петерс, пристально глядя в мутные глаза полицейского врача, — вас явно ввели в заблуждение. Супруги Шрамм вместе прибыли из Бремена, вместе поселились в семнадцатом номере гостиницы “Старая Бавария” и вместе посещали по утрам Старую Пинакотеку. А четырнадцатого утром Гельмут Шрамм исчез из семнадцатого номера гостиницы — именно из семнадцатого, а не из пятнадцатого, — в то самое время, когда жена его находилась в Пинакотеке… — Что? Что такое? — Полицейский врач был так ошеломлен, как если бы на месте молодой привлекательной женщины, только что сидевшей напротив него, оказался вдруг сам сатана. — Что вы такое болтаете? Откуда, позвольте спросить, взяли вы эту идиотскую сплетню? Уж не со слов ли этой сумасшедшей? Послушать вас, так все сговорились врать: и почтенный господин Герман Винкель, второй месяц проживающий в семнадцатом номере, и портье, и горничные, и даже бременский ученый, господин Артур Леман! Выходит, что одна эта сумасшедшая вещает истину!.. — Поймите же, господин Шмиц, — голос фрау Петерс звучал сейчас холодно и строго, — что эти люди, отрицая и оспаривая все правдивые утверждения Агнессы Шрамм, пытались создать впечатление, что она душевнобольная… И отправили ее в больницу… — Надо же такое придумать! Да вы, я вижу, сами сумасшедшая! — Не в большей мере, чем фрау Агнесса Шрамм… Так вот, господин Шмиц, я берусь доказать, что Гельмут Шрамм с одиннадцатого по четырнадцатое июля проживал в Мюнхене со своей женой Агнессой в гостинице “Старая Бавария”. У меня есть свидетели, которые видели их вместе и готовы дать необходимые показания. Это уважаемые граждане нашего города, и в истинности их показаний никто не посмеет усомниться… Это был рискованный шаг: едва ли фрау Петерс могла рассчитывать на показания Гертруды Якобс. — Ах вот оно что! — Полицейский врач навалился грудью на край стола и угрожающе подался к фрау Петерс: — Кто же они, ваши свидетели? — Но, коллега Шмиц, — фрау Петерс укоризненно покачала головой, — вы же врач, целитель человеческих страданий, а эти вопросы относятся к ведению прокуратуры! Полицейский врач в нерешительности забарабанил пальцем по столу. — Послушайте-ка вы… И тут фрау Петерс увидела одно из тех лиц, в которые с мучительным, страстным интересом всматривалась на судебных процессах заправил гитлеровских концлагерей и гестапо, пытаясь найти разгадку непонятной ей адской жестокости этих людей. — Послушайте-ка вы, Петерс, что я вам скажу. Бросьте это дело… Если вам дорога ваша жизнь — бросьте! Поняли? — О да, я все поняла, господин Шмиц. Я затем и явилась сюда, чтобы понять вас. Как видите, мне это вполне удалось. — Фрау Петерс поднялась. — Постарайтесь понять и вы: на свете есть вещи, которые для меня дороже, чем моя жизнь.СОЮЗ ДВУХ ЖЕНЩИН
Едва только фрау Петерс закрыла за собой дверь кабинета и ступила в коридор, как услышала за собой чей-то тихий, как шелест, голос: — Фрау доктор Петерс? Она оглянулась. Следом за ней шел невзрачный, низкорослый человечек со странной улыбкой на худом, узком лице: серая канцелярская мышь. — Доктор Эвелина Петерс? Не правда ли? Доктор Петерс? — Что вам угодно? — Вы доктор Петерс? Не так ли? — Да, я доктор Петерс. Что из этого следует? — О, ничего, ничего! Просто начальник просит вас зайти к нему! Очень, очень просит! — Начальник просит? — Фрау Петерс насторожилась. — Зачем же я понадобилась вашему начальнику? И кто он — ваш начальник? — О, сам начальник полицей-президиума! Господин Эрнст фон Штриппель! Он приказал мне: лишь только фрау Петерс закончит разговор с доктором Шмицем, пусть зайдет в мой кабинет, пусть обязательно зайдет — это в ее собственных интересах! — Откуда же ваш начальник знал, что я нахожусь здесь? — Но, фрау Петерс!.. — Человечек с укором всплеснул руками. — Это же полицей-президиум, а не балетная школа! Эвелина с удивлением взглянула на маленького человечка, и он показался ей вдруг совсем иным: не серой канцелярской мышью, а добрым, разумным троллем из народной сказки; на сто худом лице горели большие черные насмешливо-умные глаза. — Да, конечно, вы правы. И все же я не пойду к вашему начальнику, уважаемый господин… — Герман Ангст! Господин Герман Ангст, — человечек с шутливой гордостью выпрямил свое хилое тельце, — личный секретарь господина фон Штриппеля! Я вам очень советую пойти, доктор, очень! Ну хотя бы ради меня… — Нет, господин Ангст. Если я нужна вашему начальнику, он должен прислать мне официальный вызов. Только в этом случае… — О, за этим дело не станет!.. Человечек извлек из кармана конверт и, чуть поднявшись на носках, протянул его фрау Петерс. В конверте лежал вызов в полицию: именно на сегодня, именно на данный час. Фрау Петерс в задумчивости остановилась. Дело, которое она взяла на себя, все более осложняется. Странно враждебное поведение Якобсов, явная заинтересованность полицейского врача в мнимом безумии Агнессы Шрамм, а теперь еще этот вызов… Раз фон Штриппель успел узнать о ее визите к доктору Шмицу, он осведомлен, видимо, и о содержании их разговора… — Что же, господин Ангст, ведите меня к вашему начальнику. — Вот и хорошо! — обрадовался человечек и печально добавил: — А то я получил строгие инструкции… Очевидно, вы очень нужны начальнику, фрау доктор… Вот кабинет начальника, я сейчас доложу о вас… — И, снова подтянувшись на носках, он шепнул в плечо фрау Петерс: — Будьте начеку! Не прошло и минуты, как фрау Петерс вошла в кабинет фон Штриппеля. Очень большая, очень светлая и очень пустая комната. Посреди комнаты, отражаясь, как в тихой воде, в зеркально-начищенном паркете, стоял громадный стол красного дерева. Из-за стола, звякнув шпорами, поднялся рослый, крупный, монументальный человек в полицейской форме — истинный оплот государства, с гладким, голым черепом, белым, холеным лицом и выкаченными водянисто-голубыми глазами. — Прошу! — Он указал Эвелине на кресло, стоявшее по ту сторону стола. — Фрау доктор Петерс? — Да, это я. — Вас, верно, интересует, что побудило меня пригласить вас?.. — Вот именно. — Как вам сказать? — Он помолчал, словно в раздумье. — Собственно говоря, мы, полиция, не имеем к вам никаких претензий. Все, что нам известно о вас, говорит в вашу пользу. Вы почтенная мать семейства, супруга уважаемого гражданина нашего города, господина архитектора Карла Петерса, лояльная гражданка нашего дорогого отечества, целитель больных человеческих душ… Да-да, больных человеческих душ… — повторил он бессмысленно и вдруг грозно выкатил на фрау Петерс свои водянисто-голубые глаза. — Что? Что скажете? — вскричал он неожиданно, как человек, потревоженный среди глубокого сна. Фрау Петерс улыбнулась ясной, веселой и в то же время снисходительной улыбкой. — Господин фон Штриппель, хотя я врач-психиатр, но несколько разбираюсь и в нормальной человеческой психологии. Неужели вы серьезно рассчитываете запугать или сбить меня с толку таким примитивным способом? Раз уж пытки теперь под запретом, следовало заменить их чем-нибудь более действенным: ну, душевными пытками, что ли… Скажите прямо, что вам от меня нужно, зачем вы вызвали меня? — Пытки… — горько произнес фон Штриппель. — Вы хотите оскорбить меня, но поверьте, я не заслуживаю этого, фрау Петерс. Я отлично отдаю себе отчет, в какое время мы живем… — Он нажал кнопку на столе и откинулся на спинку кресла. Дверь почти тотчас отворилась, и на пороге показался маленький Ангст. — Папку триста сорок два! — Извольте! — Человечек быстрыми, мелкими шажками пересек комнату и положил на стол папку, — Номер триста сорок два! — Вы догадливы, как всегда, мой дорогой Ангст… Можете идти! Как только за Ангстом закрылась дверь, фон Штриппель положил на папку широкую ладонь и многозначительно произнес: — Вот зачем я пригласил вас, многоуважаемая фрау Петерс. — Да что вы? Неужели из-за этой тоненькой папки? — Вот именно, фрау Петерс, — фон Штриппель явно начинал злиться, — из-за этой тоненькой папки. Я вижу, вы и в самом деле не дорожите вашей жизнью! — Нет, не дорожу. Ваш подслушивающий аппарат правильно информировал вас. Я утверждаю, что Агнесса Шрамм — душевно здоровый человек, что ее муж, Гельмут Шрамм, приехал в Мюнхен вместе с ней и исчез из гостиницы при очень подозрительных обстоятельствах. И вот это я постараюсь доказать вам. Вы очень скоро убедитесь, господин фон Штриппель, что мы сейчас действительно живем не в нацистские времена… — Но, фрау Петерс, поверьте мне, в этом деле нет ничего темного! — Фон Штриппель был явно смущен. — Мы вовсе не отрицаем, что Гельмут Шрамм прибыл в Мюнхен вместе с женой, но затем он скрылся в русскую зону, и притом не с пустыми руками! — Зачем же было Гельмуту Шрамму приезжать с женой из Бремена в Мюнхен, если у него было такое намерение? Ведь отсюда до границ Восточной Германии… — Не наивничайте, пожалуйста, фрау доктор! — грубо прервал ее фон Штриппель. — Вам отлично известно о военных заводах под Мюнхеном… Словом, перед своим бегством этот тип рыскал по окрестностям Мюнхена, где имеется немало секретных объектов… — За несколько дней пребывания в Мюнхене? Это, вероятно, не так просто, господин Штриппель. — Такому пройдохе, как этот Шрамм, и нескольких дней достаточно. Да-да, представьте, более чем хватит! — Вам, конечно, виднее… Значит, Гельмут Шрамм прибыл в Мюнхен одновременно с женой и остановился в гостинице “Старая Бавария”? — Надо думать, что так… В Мюнхене есть достойные доверия люди, которые видели их вместе. Эвелина мысленно похвалила себя за то, что внушила эту мысль доктору Шмицу. Следовательно, существующая версия, будто пребывание Гельмута Шрамма в Мюнхене — плод больного воображения Агнессы Шрамм, недействительна? — Мы не создаем версий, фрау Петерс, — с достоинством сказал фон Штриппель. — Мы основываемся единственно на фактах и руководствуемся единственно правдой. И тем не менее эта женщина душевнобольная. Доктор Шмиц, опытнейший врач, самым решительным образом утверждает, что бегство мужа окончательно надломило ее психику. — Фон Штриппель поднялся из-за стола. — Я пригласил вас, фрау Петерс, затем, чтобы дать вам добрый совет: не к лицу вам брать под защиту изменника и шпиона, сбежавшего с секретными сведениями в русскую зону! У вас двое сыновей, муж, занимающий видное общественное положение. Наконец, это и небезопасно для вас… — Я уже сказала вам, что ничего не боюсь. — В таком случае, пеняйте на себя! — И фон Штриппель указал Эвелине на дверь. Не успела фрау Петерс покинуть здание полицей-президиума, как сказала себе: ей не следовало так открыто объявлять войну полиции. Но теперь, по крайней мере, она твердо убедилась в душевном здоровье своей пациентки и в реальном существовании преступного заговора против супругов Шрамм. Да-да, именно заговора! Видимо, исчезновение Гельмута Шрамма и заключение Агнессы Шрамм в психиатрическую больницу — дело рук какой-то одной тайной организации… — Дорогая фрау Шрамм, простите меня, что я усомнилась в вашем душевном здоровье! — таковы были первые слова, с какими Эвелина обратилась к Агнессе, когда вошла в ее палату и закрыла за собой дверь. — Теперь я убедилась, что все ваши утверждения — правда. Выслушайте меня внимательно: нам надо решить, что делать дальше… И доктор Петерс подробно рассказала о своем посещении Якобсов и полицейского управления. — Видимо, эти Якобсы очень дурные люди, — заметила Агнесса. — Гельмут говорил мне, что старый Якобс бывший нацистский судья в Бремене. Но я думала все же, что Гертруда не откажется подтвердить, что видела меня с Гельмутом в Пинакотеке… Впрочем, в этом уже нет нужды благодаря вам, дорогая доктор Петерс!.. — Вы можете и в дальнейшем рассчитывать на меня, фрау Шрамм. — Нет, доктор, я не могу принять вашей помощи! Вы же убедились теперь: эти люди способны на все. — Это дело моей совести, — твердо сказала Эвелина. — Благодарю вас, доктор. — Агнесса поцеловала ее в щеку. — Зови меня просто Агнессой. — А ты меня — Эвелиной! И расскажи мне все о себе…ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
У Эвелины Петерс был двоюродный брат, ее сверстник, товарищ ее детства и отрочества, с которым она разошлась с тех самых пор, когда он пятнадцати лет, за год до крушения тысячелетнего рейха, вступил в гитлерюгенд и стал больше походить на злого волчонка, чем на того милого и застенчивого подростка, каким она его знала. Шли годы. Гитлеровский рейх превратился в прах и пепел, а Бруно Липгарт из волчонка вырос в матерого волка и целью своей жизни поставил верность идеалам нацизма. До Эвелины порой доходили слухи о его темной деятельности на поприще неонацизма, о его связях с эсэсовскими и другими тайными нацистскими объединениями и союзами, которых так много в Федеративной Германии. И вот теперь, спустя двадцать лет после того, как они расстались, Эвелина Петерс решила повидать Бруно Липгарта. Ей было известно, что он работает на одном из заводов Сименса и пользуется покровительством своих хозяев, разделяющих его политические взгляды. Узнав домашний адрес Бруно, Эвелина на другой день после посещения полицей-президиума отправилась к нему в гости. Вот наконец улица, где проживает бывший товарищ ее детских игр, а ныне представитель самой ненавистной ей ветви человеческого древа. Нарядный десятиэтажный дом из красного гранита, выстроенный после войны; цельные зеркальные окна отражают печально-багряный свет заходящего солнца; за высокой узорной чугунной решеткой палисада среди аккуратно подстриженного газона горят ядовито-яркие цветы… Дверь Эвелине открыл высокий костлявый человек с небольшой головой, сжатой в висках. — Бог мой, Эвелина! — воскликнул он неожиданно живым, взволнованным голосом. — Вот уж кого не ждал! Какой счастливый ветер прибил тебя к моему пустынному берегу? Заходи, заходи, дорогая кузина! Да ты ничуть не изменилась, все такая же красавица! Да нет, ты стала в тысячу раз лучше! — Здравствуй, Бруно. Он пытался было обнять ее, но Эвелина протянула ему руку и как бы отстранила от себя. Странное дело, при всей своей антипатии к Бруно она ощутила глубокую печаль при виде того, что сделали с ним время и жизнь, — она помнила его совсем другим. — Вот мы и свиделись, Бруно. — В ее голосе, помимо воли, прозвучали горечь и отчуждение. — Через столько лет… и каких лет! — И она добросовестно добавила: — Не скрою, я пришла к тебе по делу… — Что ж, по делу так по делу, — уже холоднее отозвался Липгарт. — Буду рад, если смогу хоть чем-нибудь помочь тебе, Эвелина. Известно, старая дружба не ржавеет… — И он с напряженной шутливостью распахнул дверь в одну из комнат: — Прошу вас, доктор Петерс! Эвелина вошла в кабинет хозяина, и они уселись в глубокие кожаные кресла, стоящие по краям рабочего стола. — Как все это странно… — лирически начал Липгарт. — Давно ли мы были детьми, а теперь ты зрелая женщина, врач, мать двоих сыновей, — как видишь, я слежу за твоей судьбой! Да и сам я инженер с десятилетним стажем, правда холостяк… А знаешь, Эвелина, ведь это ты отчасти виновница того, что я до сих пор не женат… Да-да, я искал женщину, которая напомнила бы мне тебя, а таких, надо сказать, не так-то просто найти… О, да ты, я вижу, еще не разучилась краснеть, милая Эвелина, — браво, браво!.. Ну, а как ты находишь меня — сильно я изменился? — Да, Бруно, ты стал какой-то совсем другой… — Что — постарел? Выгляжу старше своих лет? Это я и сам знаю. Дела, заботы — я же главный инженер мюнхенского филиала завода. Да и присмотреть за мной некому. Известно, холостяки старятся раньше женатых… — Но у тебя, я слыхала, и помимо завода много всяких дел? Политика, не так ли? — Да? Ты слыхала? — Липгарт оживился. — Что же ты слыхала? Что говорят обо мне? — Говорят, ты связан с бывшими нацистами, СС… Какие-то тайные общества… Что вы стремитесь вернуть… ну, то, что было при Гитлере… нацизм… фашизм… — Дураки говорят так! — злобно фыркнул Липгарт. — За кого они нас принимают? Что мы — идиоты? Фашизм — неудавшийся опыт! Это коммунисты продолжают называть нас фашистами, потому что мы их враги! Ты-то хоть понимаешь, Эвелина, какие высокие цели мы ставим перед собой? — Я не интересуюсь политикой, Бруно, — я домашний, семейный человек. Ты же знаешь, политика стоила жизни моему любимому брату Курту — он погиб в Дахау… — Курт сам был виноват в своей гибели! В годы, когда решалась судьба немецкого отечества, он пошел против самого… самого святого… — Липгарт вскочил с кресла и заходил по комнате из угла в угол, бурно жестикулируя. — Но это — прошлое, а сейчас я хочу, чтобы ты знала, Эвелина, за что борется твой кузен. О нас болтают всякую чепуху… Вероятно, обо мне тоже. Знай же, дорогая, мы объединяем людей с сильным характером, верящих в достоинство индивидуума, а не в достоинство безликой массы народа! Мы европеисты! Мы считаем, что Европа — да-да, Европа, а не только Германия! — нуждается в сильных руководителях. Она должна быть пересоздана на основе абсолютного антикоммунизма. Мы должны вооружиться, мы должны иметь возможность вести переговоры с Востоком, держа палец на спусковом крючке. Только в этом случае… — Но, дорогой Бруно, — взмолилась Эвелина, — я пришла к тебе вовсе не для того… — Но пойми же, Эвелина, ты растишь двух сыновей! — воскликнул Липгарт. — Они должны заниматься мужественными видами спорта! Мы верим в мускульную силу: она необходима для нервного равновесия. Нужно, чтобы человек был всегда готов вступить в бой с другим человеком… — Нет, Бруно, — сердито перебила его Эвелина, — мои сыновья никогда не будут драчунами! Ее голос подействовал на Липгарта отрезвляюще. — Я и в самом деле несколько увлекся, — произнес он с вымученной улыбкой. — Так чем же я могу помочь тебе, дорогая кузина? — Он бессильно опустился в кресло. — Все, что в моих возможностях… — Ты слыхал что-нибудь о таком человеке: Гельмут Шрамм из Бремена, химик? — Гельмут Шрамм? — Липгарт наморщил свой узкий лоб. — А кем он приходится тебе, этот Шрамм? — Мне?.. — Эвелина пожала плечами. — Никем, я даже не знакома с ним. Это муж моей подруги. — Муж твоей подруги? И ты проявляешь о незнакомом тебе человеке такую заботу? Гельмут Шрамм? Нет, о таком не слыхал. А что приключилось с ним? — Он бесследно исчез четырнадцатого июля из гостиницы “Старая Бавария”, где проживал со своей женой по приезде из Бремена… — Так это же, наверное, уголовщина! Если хочешь, я могу позвонить… ну, в полицей-президиум… в прокуратуру… У меня повсюду знакомые! — Нет, Бруно, здесь совсем другое… — Что же? Он сбежал от жены? — ухмыльнулся Липгарт. — Но уж тут я бессилен! — Все это гораздо серьезнее, Бруно. Это дело выглядит так, будто его сфабриковали на Принцальбрехштрассе. Тут и подставные свидетели, и ложный диагноз, приведший жену Шрамма в психиатрическую больницу. Словом, какой-то тайный заговор против Гельмута Шрамма и его жены. — Заговор? Они что, эти твои Шраммы — коммунисты? — Липгарт вскочил с кресла и закричал: — Только говори правду, Эвелина! Если коммунисты илидаже просто красные, я и пальцем не шевельну для них! Я сам помогу их изобличить! — Нет, Бруно, они не красные. И пожалуйста, не кричи на меня, — добавила она строго, — я этого не терплю! — Ты, я вижу, все такая же строптивая, как была, дорогая кузина, — умилился Липгарт. — Я всегда был у тебя под башмаком и готов пребывать там до скончания века… О, если бы ты была свободна, милая моя подружка детских лет! Если бы… Ну-ну, не сердись, я молчу! Так ты говоришь — Шраммы? Гельмут Шрамм и Агнесса Шрамм? Ладно, я попытаюсь сейчас узнать что-нибудь. Вот почитай пока… Липгарт дал Эвелине какую-то брошюру и вышел из комнаты. Эвелина машинально раскрыла брошюру и стала читать: “Мы создадим аристократическое общество… Наша демократия будет прямой, мистической и авторитарной… Мы пустим в ход психологическое воздействие и запугивание…” — Что за вздор! — вслух произнесла Эвелина и брезгливо отбросила от себя брошюру. Тут до нее донеслись обрывки телефонного разговора, приглушенного расстоянием. Встав с кресла, Эвелина неслышно, по мягкой ковровой дорожке, пересекавшей комнату, подошла к двери, через которую вышел Липгарт, и прислушалась. Ей удалось разобрать лишь несколько имен: Штиппель… Ведель… Винкель… Остмарк… Но это все: самая суть разговора от нее ускользнула. Опасаясь быть застигнутой у двери — Эвелина впервые в жизни подслушивала чужой разговор, — она снова села в кресло, упорно повторяя про себя запомнившиеся ей имена: “Ведель, Остмарк, Ведель, Остмарк…” — Увы, милая кузина, — заговорил Липгарт, входя в комнату, — я ничем не могу помочь тебе, кроме доброго совета: брось хлопотать об этих Шраммах, забудь их имя. Гельмут Шрамм — это подлый преступник, коммунистический шпион, он бежал в русскую зону с важными секретными материала ми. Пока неясно, какую роль сыграла в его бегстве жена. Во всяком случае, Эвелина, твое участие в судьбе этих Шраммов может причинить тебе серьезные неприятности. Пока что я убедил кого надо, что ты к этому делу не имеешь отношения, и даже поручился за тебя… Но если ты не оставишь свои хлопоты, ты поставишь меня в затруднительное положение… Все это о Шраммах Эвелина уже слышала в полицейском управлении: очевидно, такова теперь новая официальная версия. — Ты же знаешь, Бруно, что все это — неправда, — сказала она спокойно. — Мы не виделись с тобой двадцать лет, и вот ты смотришь мне в глаза и лжешь! Неужели в тебе и действительно не осталось ничего доброго и никакие мои слова тебя не трогают? — Но, Эвелина, как ты со мной разговариваешь! — жалобно произнес Липгарт; было похоже, что после телефонного разговора он успел наскоро хлебнуть спиртного. — Я же готов для тебя на все… Я обожаю, я люблю тебя! — Он развел руки и собирался было подняться, но Эвелина сделала такой властный отстраняющий жест, что он снова упал в кресло. — Мне ничего от тебя не нужно, — сказала она презрительно. — Ответь мне только на один вопрос: где Гельмут Шрамм? Ты же знаешь, что он никуда не бежал, что его захватили в Мюнхене какие-то негодяи — твои негодяи! Что вы с ним сделали? Где он находится? Жив он или мертв? — Брось об этом, Эвелина… скучно, право же, скучно… какой-то Шрамм… — забормотал Липгарт, довольно неискусно изображая, что его развезло от выпитого вина. — Ты и сама не знаешь, до чего ты хороша, милая моя кузина… Я все скажу тебе, все открою… только будь моей… Мы очень сильны, всемогущи, скоро весь мир будет в наших руках. У нас везде свои люди… миллионы… миллиарды денег… Я все могу, Эвелина. Я все для тебя сделаю… Умоляю тебя, не уходи, не оставляй меня… Я поползу за тобой на коленях. Смотри, я целую твои следы на полу… Эвелина резким движением поднялась, вышла из комнаты и распахнула дверь на лестницу. По дороге домой она продолжала твердить про себя: “Ведель, Остмарк, Ведель, Остмарк…” Это было все, что ей удалось извлечь из своего визита к Бруно Липгарту, борцу за “прямую, мистическую и авторитарную демократию”.ЗАОКЕАНСКИЙ ГОСТЬ
Наиболее острое чувство, какое поначалу владело Гельмутом в его невольном одиночестве, было изумление. Не гнев, не возмущение, а именно изумление: как могло случиться, что его, человека, ничем не погрешившего против закона, схватили среди бела дня какие-то люди и заперли в этот каменный закуток? Мало того: при первой же попытке вырваться из заключения, заявить о своем праве на свободу ему пригрозили смертью… Кто же могут быть эти люди? Гельмут мысленно пересмотрел всю свою недолгую жизнь, все свои поступки и не обнаружил в них ничего, чем бы мог прогневить кого бы то ни было. Быть может, эти люди хотят добиться от него чего-то, на что, по их убеждению, он не согласился бы пойти добровольно? Но чего же именно? Уж не связано ли это с его научной работой? Мортин? Но ведь о мортине не знает ни одна душа… Проходили дни, и чувство невероятности случившегося постепенно притупилось в Гельмуте. Единственно, что продолжало угнетать его, — это тревога за Агнессу, но он не позволял себе предаваться этому чувству, зная, что главные испытания еще впереди… Поворот ключа в первой, наружной двери и звук засова, освобождающего внутреннюю дверь. Как, неужели обед? Ведь после завтрака прошло едва ли более часа. — Здравствуйте, господин Шрамм! Чуть приметный английский, точнее, американский акцепт. Перед Гельмутом стоял человек лет сорока пяти, высокий, плечистый, элегантно одетый; круглая голая голова, лицо в рваных хлопьях румянца, круглые, чуть выпуклые холодные, серо-стальные глаза, золотые очки. — Здравствуйте, — сдержанно отозвался Гельмут, поднявшись с койки. — С кем имею честь? — Мое имя ничего вам не скажет, господин Шрамм. Зовите меня Смит. — Что же вам угодно от меня, господин Смит? — усмехнулся Гельмут. — В какую игру собираетесь вы со мной играть? — О, в большую игру, господин Шрамм! — без улыбки сказал Смит и кивнул на табурет. — Разрешите сесть? — Странный вопрос… — Гельмут пожал плечами и уселся на койку. — Это же ваш табурет. — Прежде всего, господин Шрамм, — заговорил Смит, усаживаясь на табурет и пробуя его прочность, — прежде всего мы приносим вам глубочайшие извинения за то, что вынуждены были прибегнуть к такой суровой мере, как насильственное водворение вас сюда… — Куда же это — сюда? Где я: в Европе, в Америке? — В Америке? Что за странная мысль? — Я полагаю, что вы — гражданин Соединенных Штатов. — Почему вы так думаете? — Некоторый жизненный опыт… А кто это — мы? — Это неважно… Итак, повторяю, приносим вам извинения. Оправданием нам служит высокая цель, ради которой мы решились на это: спасение западной цивилизации от коммунистического варварства. Гельмута поразила эта истрепанная, банальная фраза, достойная какой-либо бульварной реакционной газетки. — Но при чем же тут я, Гельмут Шрамм, безвестный житель города Бремена? Неужели я являюсь помехой на вашем пути к этой высокой цели? — Напротив, господин Шрамм, совсем напротив! — воскликнул Смит, блеснув очками. — Вы наша главная надежда, по крайней мере на сегодняшний день! — Почему же вы так дурно обращаетесь с вашей главной надеждой, господин Смит? Травите ее ядами, запираете па замок, грозите пулей? — Не иронизируйте, господин Шрамм! — Злоба мелькнула в холодных глазах Смита. — Я прибыл сюда не для того, чтобы состязаться с вами в остроумии. Я представляю могущественные силы, самые могущественные силы современного мира. Скажу прямо: перед вами выбор — либо идти с нами, либо… — А что это значит: идти с вами? — Господин Шрамм, когда вы работали в вашей бременской лаборатории над стимулятором биолином, то натолкнулись — случайно или не случайно, судить не берусь — на вещество небывалой губительной силы, идеальный яд, одна молекула которого способна вывести из строя человека… — Будем точны — убить человека. — Если вам угодно — убить. Так вот, дайте нам химическую формулу вашего мортина, и мы назовем вас нашим другом. — Допустим на миг, что ваши сведения верны. Для какой же цели нужен вам этот, как вы выразились, идеальный яд? Что вы собираетесь с ним делать?ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Смит помолчал, затем, воздев глаза к потолку, словно бы к небу, заговорил тоном проповедника, ораторствующего перед толпой прихожан. — Зачем нужен нам мортин, господин Шрамм? Конечно, вы слишком молоды, чтобы помнить то удивительное время, когда была изобретена и получила первое боевое крещение атомная бомба. Хиросима, чудовищный фейерверк в десять миллионов градусов, заставивший целую нацию пасть к ногам победителя! Мы все влюбились тогда в атомную бомбу, в физику, сумевшую создать такое волшебство. Я был в ту пору еще юным студентом, но отчетливо помню это прекрасное, сияющее, гремящее утро атомного века, когда мы, Соединенные Штаты — да-да, вы угадали, я гражданин великих Соединенных Штатов Америки! — ощутили себя волею физики всемогущими повелителями планеты. Но вскоре пришло отрезвление: Советы создали свою атомную бомбу, а вслед за ней, опередив нас, и водородную. Праздник кончился, наступили скучные будни, каждодневная, изнурительная гонка: кто изготовит большее число ядерных бомб и наиболее совершенные средства их доставки. А финал гонки один — война. Однако ядерная война, любой ее вариант, — это взаимное уничтожение, пиррова победа… — Я понял вас. — Лицо Гельмута вспыхнуло от гнева. — Вы решили сменить физику на химию и отравить добрую половину человечества идеальным крысиным ядом… Так вот: вы у меня ничего не получите! Я не собака и не змея, чтобы кусать и жалить, когда научился любить. — А, припоминаю, — иронически скривился незнакомец, — это из вашего Гёте, старого доброго Гете! А вы не думаете, молодой человек, что и сам Гете, живи он в наше время, был бы сейчас сторонником благодетельного насилия при виде того, как его родная Германия расколота, рассечена на две кровоточащие части? Ведь Гете был человек государственный и великий патриот! Гельмут молча, пристально, изучающе глядел на Смита: вот перед ним вполне респектабельный человек, возможно профессиональный ученый, и он хладнокровно предлагает во имя спасения “западной цивилизации” извести смертельным ядом сотни миллионов людей. Чем отличается он, в сущности, от нацистских идеологов и вождей? — Вы что же, решили объединить нашу Германию ценой жизни полумиллиарда человек? Пятьсот миллионов трупов в обмен на семнадцать миллионов немцев, проживающих в Восточной Германии? Откуда у вас, американцев, такой яростный немецкий патриотизм? — Откуда? — В голосе Смита явственно звучала злость. — А вот откуда, господин Шрамм. Случилось так, что вопрос объединения вашей родины стал краеугольным вопросом современной политики. От того или иного его решения зависит судьба западной цивилизации: мы или они! Разумеется, не будь германского вопроса, нашлась бы другая коллизия — в них никогда нет недостатка, — то или иное решение которой определило бы дальнейшую судьбу человечества. Во всяком случае, мы скорее отправим весь мир на тот свет, чем оставим его жить при коммунизме! Вот вы говорите — пятьсот миллионов трупов… А что, собственно, вас смущает, господин Шрамм? Любовь к ближнему? Имейте в виду, у нас все предусмотрено, все до мельчайших деталей. Мы не повторим ошибок Гитлера — они обошлись нам слишком дорого. Мы все взвесили, все учли, теперь дело только за вами. Конечно, и американские, и английские, и французские, и немецкие химики неустанно работают над созданием поражающих веществ, но при всем их достоинстве эти яды, к сожалению, не отвечают пока всем требованиям, которые мы предъявляем к ним как к тотальному орудию уничтожения. Одни из них недостаточно токсичны, другие недостаточно устойчивы, в то время как ваш… — Откуда вам известны свойства моего мортина? — Удовлетворитесь тем, что они известны нам, господин Шрамм. Известно нам и то, что, едва открыв это удивительное вещество, вы тут же “закрыли” его, малодушно испугавшись его губительной силы. И вот, — Смит заговорил с пафосом, — я явился к вам за химической формулой ваше; о мортина и требую ее от лица тех, кто призван спасти человечество от ядерной смерти и установить на планете новый порядок… — Новый порядок… Да-да, все та же порода убийц и палачей… — как бы подводя итог своим наблюдениям, раздумчиво проговорил Гельмут. — Очевидно, таких, как вы, закономерно порождает современная мировая действительность. Убийцы с громадным диапазоном действия, достигающим размеров целой планеты… Говорите же, господин Смит, — кто подослал вас ко мне? — Я уже имел честь сообщить вам, господин Шрамм, что явился к вам, так сказать, от лица… — Отвечайте прямо — кто ваши хозяева? — Я не понимаю… — Вы все прекрасно понимаете! Так вот, передайте вашим хозяевам: я скорее расшибу себе голову об эти каменные стены, чем открою им формулу мортина. — Я очень сожалею, господин Шрамм, что вы проявляете такое упорство. — Смит поднялся с табурета. — Ведь дело идет о судьбе вашей несчастной страны, вашего народа. Я тем более сожалею, что к нашему великому движению, как это всегда бывает, примазались и люди низкого морального уровня… Мне стало известно, что они заключили вашу молодую супругу в психиатрическую больницу, в буйное отделение… — Уходите… немедленно!.. — вскочил Гельмут. Незнакомец поглядел на Шрамма, устало вздохнул и шагнул к двери, которую тотчас же распахнула чья-то услужливая рука. Привычный звук упавшего засова — и Гельмут остался один.НЕЖДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Да, Смит не ошибся: Гельмут действительно испытал сильное душевное потрясение, когда перед ним на лабораторном столе впервые оказался результат его полугодовых трудов: крохотная кучка — не более ста граммов — распыленного вещества серо-зеленого цвета. Он назвал его мортином. Если бы каждая пылинка — да что пылинка, молекула! — этого вещества поразила ту мишень, какую предназначил ей Смит, то с лица земли, возможно, исчезло бы все живое и уж во всяком случае на ней возникли бы миллионы квадратных километров мертвого пространства… То, что именно он, Гельмут Шрамм, открыл, сотворил это небывалое по губительной силе вещество, что оно находилось в полном, единоличном его распоряжении, сделало его другим человеком. Голова его полна была самых фантастических планов. То он мысленно обращался к правительствам всех Стран с непреклонным требованием, чтобы они в кратчайший срок осчастливили своих граждан самым гуманным законодательством, какое только в состоянии измыслить человеческий разум, угрожая, в противном случае, уничтожить в данной стране все живое; то он требовал от богачей всего мира, чтобы они поделились своими капиталами с бедняками. Стоило Гельмуту прочитать в газете о какой-либо несправедливости, о бессмысленной жестокости, о несправедливом приговоре, как он уже мысленно произносил свое властное, решающее слово, и угнетатели покорно склонялись перед его волей, а их спасенные жертвы благословляли его всемогущество и доброту. Наконец, почти обезумевший от бессонных ночей, Гельмут решил поделиться своей тайной с женой. — А можешь ты сделать так, чтобы изготовленная тобой проба мортина утратила свою губительную силу? — спросила Агнесса. — Думаю, что могу, — растерянно отозвался Гельмут. — А почему ты спрашиваешь об этом? — Как — почему? — удивилась Агнесса. — Чтобы ты уничтожил этот мортин и навсегда забыл о нем. — Уничтожить мортин? Забыть о нем? Что ты говоришь, Агнесса? Я же могу с его помощью принести людям столько добра! Я могу стать властелином мира и навсегда прекратить войны, избавить человечество от нищеты, насилия, угнетения, несправедливости!.. — Вот видишь, Гельмут, — печально сказала Агнесса, — куда завел тебя твой мортин: ты уже готов стать властелином мира. А что, если дурные правители не захотят расстаться со своей властью? Если генералы и военные промышленники не захотят прекратить войны? Если богатые откажутся поделиться с бедными своими богатствами? В этом случае тебе придется объявить войну всему человечеству и травить мор-тином не только насильников, но и их жертвы, не только генералов, но и солдат, не только богатых, но и бедных. Уничтожь, Гельмут, свой мортин и забудь о нем. Уже подготовленный к такому исходу, Гельмут решил последовать совету Агнессы. — Я так и сделаю! Право, ты излечила меня от сумасшествия, настоящего сумасшествия! — А ты никому не говорил о своем мортине, Гельмут? — тревожно спросила Агнесса. — Несколько слов Артуру… — Ну, Артуру… — Во всяком случае, ни одна живая душа, в том числе и Артур, не знает ни его химической формулы, ни даже химической характеристики. Лишь только работа была завершена, я уничтожил все записи… Все это вспомнил Гельмут после разговора со Смитом. Так вот с какой целью похитили его из гостиницы! Заокеанский гость не скрывает, что похищение было организовано воинствующими политиками Соединенных Штатов, изверившимися в ядерном оружии, и их германскими единомышленниками. Видимо, эти люди предпочитают химическую войну ядерной, полагая, что в области производства тотальных поражающих веществ западная наука опередила советскую. И тут они каким-то образом прознали о его мортине. Но как, каким именно образом? Кроме Агнессы, лишь один человек на свете, который — пусть в самом общем виде! — знал о мортине и его основных свойствах. Но этот человек его друг, Артур Леман, — уж в нем-то он твердо уверен. Кто же, в таком случае? Впрочем, если им даже известно что-либо о мортине, то ничего конкретного, ощутимого. Иначе зачем было им идти на эту рискованную авантюру с похищением?.. Правда ли, что они заключили Агнессу в психиатрическую больницу, в буйное отделение, или это только уловка Смита, чтобы сделать его, Гельмута, более сговорчивым. Но он, Гельмут, все равно не откроет им формулу мортина. Агнесса первая стала бы презирать его… Углубившись в свои мысли, Гельмут не слышал, как повернулся тяжелый ключ в замке, как звякнул засов и как приоткрылась внутренняя дверь. В комнату ввалился человек: он не устоял на ногах и упал на каменный пол то ли от слабости, то ли от полученного толчка. — Артур! — воскликнул, с трудом узнав его, Гельмут. — Что они с тобой сделали? — Они пытают меня… мучают днем и ночью… Гельмут помог Артуру подняться, усадил на койку. Тот привалился к стене, склонил на плечо голову, словно у него не было сил держать ее прямо, и закрыл глаза. Худое, узкое, смуглое лицо, нос с легкой горбинкой придавали Артуру сходство с индейцем. — Ты можешь говорить, Артур? — Гельмут взял в свои руки горячую, маленькую, почти мальчишескую руку Лемана. — Когда они взяли тебя? — Сегодня второй день… — с трудом выговорил Леман. — Я приехал… узнал от Агнессы, что ты пропал без вести… — Ты видел Агнессу? — Она в сумасшедшем доме… меня не пустили к ней… — Чего они добиваются от тебя? — Мортин… Помнишь ты говорил мне… Требуют формулу… — Но ты же не знаешь ее, Артур! — Не верят… — От кого они узнали о существовании мортина? — От кого? — Леман удивленно открыл свои большие темные глаза. — Разве не от Агнессы, Гельмут? Они говорят, от Агнессы… — Глупости! — рассердился Гельмут. — И ты поверил им? — Он выпустил руку Артура. — Не сердись на меня… — Леман вдруг всхлипнул, как испуганный ребенок, и упал головой на подушку. — Это же они говорят… — Ну что ты, что ты, Артур! — Гельмут склонился над ним и ласково провел по его волосам. — Приди же в себя, надо что-то решить… — Они замучают меня до смерти… а потом и тебя… это страшные люди… Открой им формулу, Гельмут! — Открыть… им… формулу? — Гельмут отшатнулся or друга. — Что ты говоришь, Артур? Они же отравят сотни миллионов людей, все живое… — Никого они не отравят! — с неожиданной энергией сказал Леман. — Мы перехитрим их, Гельмут. — Он снизил голос до шепота. — Как только они отпустят нас, мы опубликуем формулу для общего сведения, да еще сообщим в печати, что они вынудили ее у нас пытками… Гельмут молча смотрел на друга. — Ты ошибаешься, Артур, — сказал он ровным, спокойным голосом. — Если я открою им формулу мортина, я никогда не выйду отсюда — они убьют меня. Но они убьют меня и в том случае, если я не открою им формулу… — Возможно, ты прав, — тихо отозвался Леман. — Они убьют нас и в том и в другом случае. Что же нам делать, Гельмут?.. — Я не сказал — нас, Артур. Я сказал, что они убьют меня. А теперь — пошел вон, подлец! И снова чья-то невидимая рука приоткрыла в нужный момент тяжелую дверь: на этот раз ровно настолько, чтобы худое и верткое тело Артура Лемана могло скользнуть в образовавшуюся щель. Гельмут Шрамм снова остался один.ГОСПОДИН ГЕРМАН АНГСТ
Директор психиатрической больницы отклонил предложение доктора Петерс о выписке Агнессы Шрамм. — У нас имеется заключение полицейского врача, что Агнесса Шрамм страдает манией преследования и представляет известную опасность для окружающих, — сказал директор, — а потому решение о ее выписке может вынести только консилиум. — Но полицейский врач не психиатр, а терапевт, — возразила Эвелина, — и к тому же подозрительная личность. Его доводы да и все его поведение показались мне, по меньшей мере, странными. — Я не имею никаких оснований считать доктора Шмица подозрительной личностью, — холодно сказал директор и поднялся с места, давая понять, что аудиенция окончена. До этого случая он полностью доверял Эвелине в подобных вопросах, и она вышла из его кабинета в твердой уверенности, что он действовал па этот раз под давлением извне. О том же свидетельствовал и подчеркнуто официальный тон, каким он никогда ранее с ней не говорил. Словом, заговор против бедной Агнессы и ее мужа был очевиден. В тот же день к вечеру Эвелина, приняв все меры предосторожности, самовольно вывела Агнессу из здания больницы и поместила ее у своей старой подруги Ирмгард Кюн, проживавшей в полном одиночестве в маленькой двухкомнатной квартире на окраине города. — Имей в виду, Ирмгард, — предупредила она подругу, — что Агнессу несправедливо преследует полиция и ее пребывание в твоей квартире связано с риском для тебя. Впрочем, риск небольшой: ты ничего не обязана о ней знать. Если явится полиция — сошлись на меня… Что было делать дальше? Где и как искать след Гельмута Шрамма? Два загадочных слова, уловленные Эвелиной из телефонного разговора кузена Липгарта, — Ведель и Остмарк — не дали никаких сведений. Таких фамилий в адресной книге Мюнхена не значилось; не оказалось таких названий и в географическом справочнике. Как это нередко случается, помощь пришла оттуда, откуда ее меньше всего можно было ждать: из полиции. Эвелина возвращалась домой от Ирмгард, где оставила встревоженную Агнессу, когда почти возле ее дома с ней поравнялся какой-то низкорослый человечек — в первое мгновение он показался ей подростком — и, не глядя на нее, тихо произнес: — Следуйте за мной… на расстоянии… незаметно… Он двинулся вперед, и Эвелина, не задумываясь, пошла за ним следом. Господи, да ведь это же “тролль” из полицейского управления, маленький Герман Ангст! Что ему надо от нее? Между тем Ангст свернул в ближайший переулок и, ни разу не оглянувшись, продолжал свой путь. Еще улицы, еще переулки, и вот, наконец, старый город — причудливое переплетение узких, кривых средневековых улочек. Ангст остановился возле маленькой старинной церковки-кирхи, оглядел настороженно улицу — она была пуста — и через низкие резные ворота вошел на церковный двор. Эвелина последовала на ним. Дворик был крохотный, мощенный старинной, вытертой до зеркального блеска каменной брусчаткой; посреди него высился истолченный временем, черный, дуплистый дуб, почти лишенный листвы. Ангст обошел двор, открыл дверцу в задней стене кирхи и поманил за собой Эвелину. — Сюда, — произнес он, когда они очутились в полутьме кирхи. — Вот в эту келью… В келье едва могли уместиться два человека. Ангст указал Эвелине на небольшую деревянную скамью, стоявшую возле стены, и сам уселся рядом. — Тут мы в полной безопасности, фрау Петерс, никто не услышит нас — ни одна живая душа! — начал он. — Вы помните меня? Я Герман Ангст, секретарь господина фон Штриплеля, важной персоны, бывшего штурмфюрера, что, впрочем, является строжайшим секретом… полишинеля! Ну как — страшно? — Представьте себе, господин Ангст, — улыбнулась Эвелина, — совсем не страшно! — Я знаю, я знаю, вы смелая женщина, фрау Петерс. Я горжусь вами. Да-да, — прибавил он убежденно, — именно горжусь! — Что вы, господин Ангст, я просто хочу помочь одной несчастной женщине, попавшей в беду… — Не так-то это просто, — перебил ее Ангст. — Послушайте моего совета, фрау Петерс: будьте осторожны. Я для того и позвал вас сюда, чтобы предупредить: вы ввязались в очень опасную игру. Супругов Шрамм преследуют могущественные и беспощадные люди! — Что же это за люди, господин Ангст? И почему они преследуют Шраммов? — Я пока не знаю, но постараюсь узнать. — И еще — простите мне этот вопрос: кто вы? Какую роль приняли вы на себя в этом деле? — Кто я такой? — Маленький Ангст на минуту умолк, как бы собираясь с мыслями. — Конечно, с этого я и должен был начать наш разговор. Ведь для вас я человек из полиции, а полиция — ваш враг, во всяком случае, пособник ваших врагов. Так кто же я такой? Знаете, фрау Петерс, я никогда не задумывался над этим вопросом. А когда меня спрашивали, отвечал: “Перед вами господин Герман Ангст, секретарь господина фон Штриппеля”. Правда, я лишь один из секретарей этого господина. Но когда такой вопрос задаете вы — вы, фрау Петерс, — это совсем другое дело… Кто я такой и какую роль играю в вашем деле? Что ж, я откроюсь вам. Мне сейчас двадцать восемь лет… Вы не смотрите, что я такой маленький, — мне действительно двадцать восемь лет! Значит, в год, когда кончился Гитлер, мне было всего девять лет. И все-таки я успел пережить в ту пору много тяжелого, и это навсегда определило мою жизнь. Дело в том, что моя семья жила в деревне, расположенной рядом с Бухенвальдом. Старинные живописные места, знаменитая Тюрингенская равнина, прекрасный буковый лес, где некогда прогуливался Гете! Но пейзаж моего детства — это, прежде всего, густой, жирный, угольно-черный дым, чуть подбитый красным отсветом пламени: он днем и ночью стлался по окрестности, застилая небо. И еще — удушающий запах горелого мяса и жира: он въедался в ноздри, в рот, в горло, в легкие, в кожу, в волосы, в одежду и убивал все другие запахи — запахи весны, лета, осеннего увядания, первого снега. Я вижу, вы поражены, фрау Петерс, что я так… складно говорю, — сказал Ангст, перехватив удивленный взгляд Эвелины. — Но я немножко поэт, я пишу стихи, для себя, конечно… И затем, я много читал и сейчас читаю… — Нет, господин Ангст, я ничуть не удивлена, это совсем другое… Прошу вас, говорите. — Мои родители были простые крестьяне. Они жили с постоянным мучительным ощущением творящихся рядом злодейств, и я уже с малых лет знал, что в Бухенвальде жгут детей, молодых девушек, юношей, женщин, мужчин, стариков и живая плоть их черным дымом сочится из труб крематорских печей… Вот каким было мое детство, фрау Петерс!.. Ангст замолчал. — В этом было, вероятно, что-то болезненное, — продолжал он, — но я часами не мог оторвать глаз от гигантских траурных полос, тянущихся по небу. Может, я потому и рос так плохо и остался таким вот… малорослым. Я долго болел — у меня были какие-то припадки, а когда наконец выздоровел, на меня снизошла удивительная ясность духа и какое-то, сказал бы я теперь, гневное спокойствие. Я стал очень жалостлив к людям и навсегда возненавидел тех, кто виновен в их страданиях. Время уже вернуло нам наше голубое небо и тысячелетние запахи нашей земли, а я… я упорно не доверял этому благополучию, фрау Петерс! Я считал, вернее, безотчетно чувствовал, что зло лишь до поры втянуло спои когти, оно только пережидает, когда люди забудут о нем: ведь человеческая память коротка. Борьба со злом, говорил я себе, требует выдержки, хитрости, терпения. Уже позднее, когда я окончил деревенскую школу и ушел сюда, в город, я понял, что чутье не обмануло меня. Как я попал на службу в полицию, фрау Петерс? Я прочитал однажды, что в царской России один революционер, скрыв свои настоящие убеждения, поступил в полицию, чтобы узнавать ее секреты и сообщать о них революционерам. Это удалось ему, и он принес большую пользу своим товарищам. Я не революционер, я маленький человек, но я не хочу, чтобы небо над моей Германией снова почернело от дыма. А у нас есть еще немало людей, которые хотели бы вернуть нацистские времена. Вот для чего поступил я в полицию, фрау Петерс. Конечно, все это должно остаться между нами, но я открыл уже немало темных дел и замыслов, и никто не знает, что они проникли в печать только благодаря Герману Ангсту. Правда, это капля в океане зла. Вы не представляете себе, фрау Петерс, какую силу снова забрали разные нацисты, и не только у нас, но и в других странах! При этом они все связаны между собой: у них сколько угодно денег, оружия, тысячи головорезов, готовых на любое злодейство; у них свои люди в правительстве, в армии, среди богачей; на их стороне тайная полиция и разведка; у лих на учете целый миллион бывших СС как в самой Германии, так и по всему свету… — Неужели это правда, господин Ангст? — с горестным недоумением спросила Эвелина. — Мне не раз говорили об этом, но я не верила. Как же это случилось?ГЕРМАН АНГСТ РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ
— Как это случилось? — повторил Герман Ангст. — Вы знаете, фрау Петерс, существуют такие морские моллюски — анемоны? Во время отлива они остаются на суше и превращаются в этакие ничтожные темные комочки, размером не более одной пятой своего былого объема. Они ссыхаются под палящими лучами солнца, и со стороны кажется, будто жизнь покинула их. Но вот начался прилив — и они снова заиграли всеми своими ядовитыми красками. Как они выживают? Дело в том, что они совершенно лишены чувствительности и потому способны выдержать любые колебания нашей среды… — Вот именно — лишены чувствительности, — проговорила Эвелина. Она вспомнила своего кузена. — Сейчас время прилива, фрау Петерс. Конечно, ученые люди и большие политики объяснят вам лучше меня, как случилось, что нацисты сумели вырваться из петли и снова заносят над нами свой разбойничий нож. Одно я могу сейчас с полной достоверностью сказать: это они преследуют супругов Шрамм… — Кто же это “они”, господин Ангст? Есть же у нас против них законы! — Для них у нас нет законов, фрау Петерс. Повторяю, мне пока неизвестно, почему они избрали своей жертвой господина Шрамма, но дело, видимо, очень серьезное. В нем заинтересованы и американская разведка и наш Пуллах[47], а выкрали господина Шрамма из гостиницы “Старая Бавария” мерзавцы, принадлежащие к одной из секретных нацистских шаек. — А кто такой Герман Винкель? — Это тот, который разыграл подлую комедию с бедной фрау Шрамм, уверив ее, что она приехала в Мюнхен одна? Он вовсе не Герман и не Винкель! — с презрением сказал Ангст. — Этот смазливый агент из Пуллаха, его употребляют обычно для таких вот “благородных” ролей, — некий Швейнефлейш. Они хотели свести с ума фрау Шрамм. Но, кажется, это не удалось им, не правда ли? — Нет, господин Ангст, не удалось. — А верно, что она сбежала сегодня из психиатрической больницы? Ваш директор звонил об этом нашему Штриппелю… — О, неужели? — воскликнула Эвелина. — Это было бы замечательно! — Вы молодец. — Ангст робко коснулся руки Эвелины. — Так и надо: не доверяйте ни одной душе, пока тысячекратно не убедитесь… — Увидев смущение на лице собеседницы, он оборвал себя, затем продолжал деловито: — Следующее действующее лицо — доктор Шмиц. Он действительно доктор, но не Шмиц и живет по фальшивому паспорту. Настоящая его фамилия — Ледерле, бывший лагерный врач, его имя уже упоминалось на двух процессах бывших работников концлагерей. Впрочем, — Ангст усмехнулся, — он почти не скомпрометирован. Скромные эксперименты с какими-то снадобьями фармацевтической фирмы Бауер… А теперь, фрау Петерс, спрашивайте: кто и что еще вас интересует? — Прежде всего судьба Гельмута Шрамма. — Полагаю, что он жив, но куда его упрятали, мне пока не удалось узнать. Он, кажется, химик? — Да, и очень талантливый химик: у него был целый ряд серьезных открытий. — Химия имеет сейчас немалое военное значение. Но в этом ли разгадка их интереса к Гельмуту Шрамму? — Очень вероятно, господин Ангст. Фрау Агнесса Шрамм высказала такое же предположение. — Вот видите… На это указывает еще одно обстоятельство: в связи с его делом в Мюнхене ожидали приезда каких-то людей из-за океана. Ведь у них там собачий нюх на наши военные открытия и изобретения. А уж с нашей немецкой химии они глаз не сводят. Возможно, они уже прибыли… — Что это за люди? — Пока не знаю. Это сверхсекретно. — А говорит вам что-нибудь такая фамилия? Леман? Артур Леман! — Артур Леман? Которому фрау Шрамм звонила из гостиницы по телефону в Бремен? — Да, ассистент Гельмута Шрамма. — Это осведомитель, приставленный к Шрамму нашей разведкой в порядке слежки за учеными, работа которых может иметь военное значение. Его зачем-то срочно вызвали из Бремена, он находится сейчас в Мюнхене. Возможно, его хотят подослать к фрау Шрамм… О, я и забыл, что фрау Шрамм беглянка. Дальше, фрау Петерс!.. — Что вы скажете о моем кузене Бруно Липгарте? — Вашем кузене? — удивился Ангст. — Вы поставили меня в трудное положение, фрау Петерс! — Ничуть, господин Ангст. Мне известно, что Бруно Липгарт низкий человек. — В таком случае, вы очень мало знаете о нем, фрау Петерс. — Если я скажу вам, что была у него вчера вечером дома, вы согласитесь, что я знаю о нем не так уж мало. — Вы… были… у него… дома? Да это же…” — Я просила его узнать о Гельмуте Шрамме. — И что же? — Я ничего не добилась. Скажите, Бруно Липгарт влиятельный человек среди этих… ну, новых нацистов? — Очень влиятельный. — Значит, и очень осведомленный? — Безусловно. — Вам говорит что-нибудь такое слово — не то фамилия, не то название: Ве-дель? — Ведель? Это точно: Ведель? — Насколько мне удалось расслышать… — Эвелина пожала плечами. — Быть может, Вен-дель? — очень серьезно и взволнованно спросил Ангст. — Возможно, Вендель. Я подслушала телефонный разговор Липгарта, когда он выяснял судьбу Гельмута Шрамма… И что же, если Вендель? — Вендель — это значит, что в деле Шрамма замешана самая верхушка нашей, а возможно, и американской разведки. Вендель — опаснейший человек, бывший эсэсовский головорез, знаменитый гитлеровский разведчик, возглавляющий сейчас чуть ли не всю эсэсовскую банду, расползшуюся по свету, и тесно связанный с бывшими гитлеровцами в нашей стране, стремящимися к реваншу. В свое время американская разведка, заинтересованная в его сотрудничестве, помогла ему ускользнуть от виселицы. На днях он приезжал сюда из Испании, где постоянно живет. Упоминание Липгартом его имени может означать в данном случае только одно: Вендель причастен к делу о похищении Шрамма и дружки Липгарта дали ему понять, чтобы он не совал в это дело свой нос. — Кажется, вы правы. Липгарту очень хотелось услужить мне, но после телефонного разговора он даже с некоторым испугом посоветовал мне забыть о Шраммах… — А не говорил он вам, что Гельмут Шрамм бежал из Мюнхена в Восточную Германию, прихватив шпионские материалы? Это сейчас новая официальная версия на тот случай, если найдутся свидетели, которые могут удостоверить, что видели Шрамма в Мюнхене. — Сказал. А ранее я слышала то же от вашего Штриппеля. Кстати, вы не знаете, кто такой Альберт Якобс? — Как? Вы знакомы и с Альбертом Якобсом? — Чуть-чуть. — Якобс из той же шайки, что и Липгарт. — Я так и решила. А вот еще одно подслушанное мною слово: Ост-марк — или вроде того. — А не Ос-тер-марк? — Возможно, Остермарк. Да-да, Остермарк! — Фрау Петерс! — Ангст вскочил с места, едва не опрокинув скамейку. — Гельмут Шрамм — в замке Остермарк, в шестидесяти километрах отсюда, в Баварских Альпах! Барон Остермарк — старый нацист, адъютант и друг покойного Кальтенбруннера, а его замок — один из филиалов нашей разведки! Браво! Ангст вдруг умолк, бессильно опустив руки. — И что же? — проговорил он упавшим голосом. — Какой толк, что мы узнали местопребывание Гельмута Шрамма? Сообщить обо всей этой истории в печать — значит спугнуть зверя: они быстро заметут все следы. Заявить в полицию — тот же результат. Что же нам делать? — Да, господин Ангст, что же делать? — Остается только одно: собрать большое войско и захватить замок Остермарк штурмом. — Вы все шутите, господин Ангст… А что, если мне пробраться туда в качестве лазутчика? — Вам? — сердито отозвался Ангст. — Да они просто убьют вас! Не-ет, я не имею права рисковать вашей жизнью! Маленький Ангст так и сказал: “Я не имею права…”ИСТИННОЕ ЛИЦО ДОКТОРА ШМИЦА
И вот Эвелина Петерс во второй раз переступила порог кабинета полицейского врача Шмица. — Здравствуйте, коллега, — сказала она дружелюбно. — Вы были в прошлый раз так любезны со мной, что я решилась обратиться к вам с небольшой просьбой. — Что вам угодно от меня? Какая еще просьба? — О, совершеннейший пустяк! — Эвелина мило улыбнулась. — Дело идет все о той же нашей общей с вами пациентке — фрау Агнессе Шрамм. — Ка-ак? Вас подозревают в том, что вы помогли этой сумасшедшей бежать из больницы, а вы смеете являться ко мне с разговорами! Да вы что — смеетесь надо мной? — Сохрани боже, коллега! — Эвелина была сама кротость и терпение. — Просто маленькая просьба… — Говорите толком, черт побери, что вам от меня нужно? — Справку, коллега, — все тем же кротким голосом сказала фрау Петерс. — Официальную справку за вашей подписью, что фрау Агнесса Шрамм душевноздоровый человек и в лечении не нуждается. — Что-о? — Моя просьба не должна затруднить вас, коллега. Я же не требую, чтобы вы подписали справку настоящей вашей фамилией Ледерле… — Что… что… что? Полицейский врач медленно поднялся с кресла, наклонился вперед и грозно навис над доктором Петерс. Видимо, на какой-то миг он утратил ощущение места и времени, готовый убить, уничтожить, растерзать сидящую перед ним женщину, в которой воплотилась для него сейчас угроза его благополучному существованию. — Что? Что?.. — Я не требую, чтобы вы подписали справку вашей подлинной фамилией Ле-дер-ле, — медленно повторила Эвелина. — Но самую справку, — добавила она подчеркнуто, — я требую! И притом немедленно. Полицейский врач упал в кресло. — Извольте запомнить, достопочтенная фрау Петерс, — сказал он нагло, — что моя фамилия Шмиц, и только Шмиц! Если же вы намерены меня шантажировать, то на этот счет в нашей Германии имеются весьма строгие законы! — Это верно, коллега, — согласилась Эвелина, — но куда более сурово карает закон за опыты над живыми людьми в нацистских лагерях. Лекарственные препараты фирмы Бауер, несколько десятков трупов! Знайте же, доктор Ледерле, сохранились ваши письма, где вы на запрос фирмы Бауер излагаете результаты ваших экспериментов. В одном из них вы пишете, что заключенные Анна Фрост и Клодина Бланшар в результате применения больших доз снотворного препарата умерли в мучительной агонии… Вы помните этих женщин, Ледерле? — вдруг неожиданно для себя звонким, негодующим голосом воскликнула Эвелина. — Тише, тише… — забормотал полицейский врач. — Не подымайте шума. Что вам от меня надо? Справку? Я напишу вам справку… Напишу. Но только в обмен на письмо! Эвелина открыла сумку, достала конверт, полученный ею от Германа Ангста, и, отведя руку на добрые полметра, показала его полицейскому врачу. — Узнаете? — Узнаю. — Пишите справку. — Вы ставите меня в трудное положение, коллега. — Полицейский врач пытался сохранить хотя бы видимость достоинства. — Я уже однажды поставил диагноз этой больной, а теперь вдруг… — Вы не психиатр, вам простят ошибку в диагнозе, — жестко сказала Эвелина. — Пишите! Через несколько минут она держала в руках справку, удостоверяющую, что фрау Агнесса Шрамм душевноздоровый человек и в лечении не нуждается. — Вот вам ваше письмо! — Эвелина бросила конверт на стол, полицейский врач ухватил его обеими руками. — Но помните, Ледерле, — она поднялась, — есть еще улики против вас, которые будут опубликованы в печати, если только мы найдем нужным. Поэтому ведите себя прилично и не пытайтесь вредить нам! Когда Эвелина вручила Агнессе заветную бумажку, удостоверяющую, что она находится в здравом рассудке, та захлопала в ладоши. — Ой как хорошо! — воскликнула она радостно. — Теперь наконец я смогу сама постоять за себя и за Гельмута. Ты не представляешь, Эвелина, как я тебе благодарна, — Агнесса поцеловала ее в щеку. — Теперь мы будем действовать имеете. Скажи, что я должна делать? Одна мысль, что Гельмут, беспомощный, заключен в этом Остермарке… А вы уверены — ты и твой друг, — что Гельмут именно там? — Да, Герман получил вчера подтверждение. — Так что же мне делать, Эвелина? А знаешь, я все-таки не понимаю… — Агнесса в печальном недоумении глядела на подругу своими ясными голубыми глазами. — Просто не понимаю, почему бы мне не поехать в этот самый Остермарк и не сказать тем, кто там хозяйничает: “Мне стало известно, что у вас находится мой муж Гельмут Шрамм, и я требую, чтобы вы немедленно отпустили его, иначе я обращусь к самому канцлеру и вас накажут за это!”? — Они тотчас же переправят Гельмута в другое место или убьют его. — Да, ты права, конечно… Ну, а если я подниму шум на весь мир: сообщу во все газеты, разошлю телеграммы самым знаменитым политическим деятелям, ученым, писателям, если я наконец… — Агнесса беспомощно опустилась па стул и закрыла лицо руками. — Я понимаю, понимаю… Говори же, что я должна делать, Эвелина? — Мы с Германом решили не скрывать от них больше твое местопребывание. По каким-то соображениям они хотят подослать к тебе Артура Лемана, и Герман укажетим твой адрес. Ты согласна принять Лемана? — Эвелина улыбнулась. — Из наших соображений… — Согласна ли? — Агнесса открыла лицо и добавила с ледяной улыбкой: — Я жажду его видеть!ЗАДУШЕВНАЯ БЕСЕДА
— Здравствуй, Агнесса, дорогая! — Артур Леман стремительно, будто в порыве радости, шагнул к Агнессе и обеими руками сжал ее маленькую ладонь. — О, Агнесса, какое несчастье! — Что делать, Артур, надо быть мужественными и надеяться на лучшее… Садись, пожалуйста. Как ты оказался в Мюнхене? — Как я оказался в Мюнхене? — повторил Леман. — Помнишь наш странный разговор по телефону? Мне стыдно вспомнить сейчас, что я говорил тебе… — Но почему же ты это сделал, Артур? — с мягким укором спросила Агнесса. — Почему? Я так верила тебе, мне так нужна была тогда твоя помощь, твое ободряющее слово! А ты… ты уверял меня, будто я выехала из Бремена одна, без Гельмута. Я едва не лишилась рассудка, право, Артур. Скажи, почему ты сделал это? — Если бы ты только знала, в каких обстоятельствах я с тобой говорил! — воскликнул Леман, сбитый с толку смиренной интонацией Агнессы. — Рядом со мной стояли два агента тайной полиции, у каждого в руке-револьвер, дулом обращенный ко мне! А перед тем под страхом смерти они приказали мне говорить именно то, что я говорил… Быть может, я проявил малодушие… но это было так неожиданно… я буквально не успел опомниться, взять себя в руки… Это заговор, Агнесса, настоящий заговор против Гельмута и меня! — Я тоже так думаю, Артур. Но ты не ответил мне, как ты оказался в Мюнхене… — Очень просто! При первой возможности я ускользнул от слежки и ринулся сюда, чтобы вместе с тобой искать Гельмута. Но едва я сошел с самолета, какие-то люди схватили меня, втолкнули в машину и увезли в пригородный дом, окруженный забором из колючей проволоки. Там и держат меня под охраной вооруженных головорезов… Нет-нет, ты не думай: я не бежал от них — оттуда не убежишь, — это они сами подослали меня к тебе! — Леман говорил с лихорадочной быстротой, на едином дыхании, как человек, который получил наконец возможность излить свою душу, изнывшую в тоске и одиночестве. — Они требуют, чтобы я вытянул из тебя — они так и сказали — вытянул! — секрет изготовления мортина, его химическую формулу! Ты, конечно, знаешь формулу мортина, Агнесса? Не может быть, чтобы Гельмут не поделился с тобой… не сказал тебе… не может этого быть! — Что ты, Артур! Когда же это было, чтобы Гельмут говорил со мной о своей работе? Я же ничего не смыслю в химии. Раз уж он тебе не сказал об этом мортине… А может, мортина вовсе и не было? — Ты сама не понимаешь, что говоришь! — резко выкрикнул Леман. — Они убьют Гельмута, они убьют нас обоих, они уже пытали меня! Ты должна сказать все-все, что тебе известно о мортине! Они обыскали лабораторию, перерыли вашу квартиру и нигде не обнаружили никаких записей о работе Гельмута над мортином… Я еще допускаю, что ты не знаешь формулы, но не можешь же ты не знать, где он хранит свои тайные записи! Ты же его жена!.. — Но, Артур, мы же поженились перед самым отъездом из Бремена… — Агнесса помолчала. — Значит, ты считаешь, что они захватили Гельмута из-за этого мортина? — Ну да! И Гельмута и меня — нас обоих! Я не считаю — я знаю! — Что же в нем такое, в этом мортине? — Война! Тебе известно, что такое химическая война? Отравляющие, поражающие материалы? — Он злобно усмехнулся. — Или об этом Гельмут тоже ничего не говорил тебе? — Артур, я, право, не узнаю тебя. — Но пойми же наконец, Агнесса: если они не получат от нас мортина, если ты не вспомнишь, где находятся эти проклятые записи, они обрекут Гельмута и меня на мучительную смерть! Перед тобой человек, приговоренный к смерти, и от тебя одной зависит отмена приговора! — От меня ничего не зависит, Артур. Все зависит только от Гельмута. Но Гельмут молчит — иначе они оставили бы тебя в покое. Значит, Гельмуту тайна мортина дороже жизни… — Глупость, бессмысленное упорство, мальчишеская игра в идеалы! Я удивляюсь, как можешь ты так говорить, Агнесса. Или тебе не дорога жизнь Гельмута? Ты обязана спасти его вопреки его воле!.. — Видишь ли, Артур, я люблю Гельмута как раз за его глупость, за бессмысленное упорство, за игру в идеалы… Когда ты в последний раз видел Гельмута? — Когда я видел Гельмута? — Леман чуть смешался. — Ты что, не знаешь? На вокзале в Бремене, когда провожал вас в Мюнхен. А что? — Нет, Артур, я спрашиваю, когда ты видел Гельмута здесь, в Мюнхене, в замке Остермарк? — Что ты, Агнесса… — Леман в полной растерянности отодвинулся от Агнессы вместе со стулом, на котором сидел. — Какой Остермарк? Не видел я вовсе Гельмута! — Артур! — Агнесса с укором покачала головой. — Ты же сам говорил, что тебя подослали ко мне. Неужели они не устроили тебе свидание с Гельмутом, чтобы ты убедил его вести себя паинькой? Зачем же ты скрываешь от меня правду, Артур? От меня, от старого своего друга! — Я боюсь их… Ты же знаешь, что это за люди… Поверь мне, это те же гестаповцы… — Гельмут, наверное, прогнал тебя, Артур? — Агнесса улыбнулась какой-то странной улыбкой. — Ведь прогнал? Ну, вот я и угадала! Агнесса не была искушена ни в сложных интригах, ни в чтении чужих мыслей: ею просто овладело сейчас некое вдохновение. — Во всяком случае, он отказался открыть мне формулу мортина… — Ну конечно, узнаю моего Гельмута… Вот что я хотела еще спросить тебя, Артур… — Агнесса помедлила. — Вот что… Сколько платят тебе за труды? — Какие труды? — Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. — Н-нет, я не понимаю тебя. — За доносы, Артур. Лицо Лемана передернулось, губы задрожали, он, видимо, хотел ответить что-то резкое, но не нашелся и стал терзать свой галстук. — Ты не думай, — продолжала Агнесса ровным голосом, — я вовсе не хочу оскорбить тебя моим вопросом, нет. Меня просто интересует… цена подлости, предательства. Стоит ли, так сказать, игра свеч? Или, может, тебя запугали? Или воспользовались какой-нибудь твоей жизненной ошибкой? Мне говорили, что бывает по-разному. Некоторые предают даже по убеждению… Что же ты молчишь, Артур? — А что я могу ответить тебе? — Леман усмехнулся. — Будь на твоем месте мужчина, я знал бы, что делать… — Он поднялся. — А сейчас мне остается только уйти и забыть о твоем, о вашем существовании… Да и жить-то мне осталось не так много, чтобы твои слова могли серьезно задеть, оскорбить меня… — Нет, Артур, ты не уйдешь, — ласково сказала Агнесса, и было, видимо, в ее голосе нечто, побудившее Лемана послушно усесться обратно на стул. — Ты напрасно упрямишься, Артур, право же, напрасно: мне все известно. Тебя устроили в лабораторию к Гельмуту специально для того, чтобы ты следил за ним. Ты платный осведомитель американской Си-Ай-Си и нашей Федеральной разведывательной службы. Теперь-то я знаю, что это обычное дело: слежка за учеными, исследования которых имеют военное значение… — Почему ты все это говоришь, Агнесса? Какое отношение имеет это ко мне, Артуру Леману? Не можешь же ты серьезно думать… — Почему я говорю? — рассердилась Агнесса — Вероятно, потому, что считаю тебя умнее, чем ты есть! Знай же: и собственными глазами читала одно из твоих донесений, адресованное твоему мюнхенскому начальству. 17 сентября прошлого года ты писал о близком завершении работы Гельмута над биолином — я не ошиблась в названии? — и в том же донесении любезно отдал дань моей скромной внешности в связи с нашей помолвкой: моей и Гельмута… — Я всерьез начинаю думать, что ты с горя лишилась рассудка, Агнесса! Давай кончим на этом наш нелепый разговор — с меня довольно! Но Леман не уходил; он прочно сидел на стуле, видимо в нем еще не умерла надежда оправдаться. — Нет, Артур, я же вижу, как угнетает тебя твоя постыдная тайна! — Голос и лицо Агнессы изменились. — Я хочу помочь тебе, но мне мешает твое нелепое упорство. Ну не пытайся быть искренним, правдивым со мной: увидишь, Артур, тебе станет гораздо легче. Надо иметь хоть одного человека на земле, которому открыта наша душа, какой бы она ни была… Ну признайся же… Индеец! Ведь так кличут тебя в американской разведке? Если тебе и этого мало, я назову тебе и твою здешнюю агентурную кличку — Химик!.. Бедный Химик! Это был последний, метко нанесенный удар. Артур Леман низко склонил голову и зарыдал, широко, безудержно, почти счастливо. — Вот и хорошо, — удовлетворенно сказала Агнесса.“ДАМЫ” И “КАВАЛЕРЫ”
Отныне Артур Леман стал “тройником”: он служил американской и федеральной разведке, но усерднее всего — Агнессе Шрамм. Это была беспредельная преданность, возможно та единственная, всепоглощающая любовь-поклонение, какую человек неожиданно открывает в себе, хотя годы жил рядом с предметом своей вдруг пробудившейся страсти. “Как же я не видел ее до сих пор? — удивлялся Леман. — Глядел — и не видел!” Агнесса внешне спокойно принимала его поклонение, но в глубине души ее пугало то чувство, которое она невольно внушила Артуру, преследуя собственную цель. Не опасаясь вызвать подозрение своего начальства, Леман часто навещал Агнессу: он будто бы рассчитывал выманить у нее местонахождение тайных записей ее мужа или, во всяком случае, убедиться, что они не существуют и что Гельмут Шрамм действительно уничтожил их. Не сделай Артур такой оговорки, его хозяева, утратив, в конце концов, надежду на Гельмута, решились бы, возможно, похитить Агнессу, чтобы силой заставить ее выдать записи… А пока что Леман открывал Агнессе одну за другой тайны своей двойной работы. Зная, по своей скромной должности агента-осведомителя, немного, он обнаружил незаурядную способность связывать воедино отдельные, даже незначительные факты, наблюдения, случайно оброненные фразы, даты, имена, а понимание общей политической обстановки позволяло ему строить правильные догадки о тех или иных действиях разведывательных органов. Так, Артур Леман и Герман Ангст, разумеется порознь, сложили постепенно в представлении Агнессы и Эвелины общую картину так называемого “дела Гельмута Шрамма”. Любопытно, что Агнесса никогда не видела Германа Ангста и знала о нем лишь по рассказам Эвелины, равно как и Эвелина не была знакома с Артуром Леманом. Таково было строжайшее условие конспирации, установленное самими женщинами. Эвелина в случае необходимости встречалась со своим “кавалером” в той же старинной церкви, а Агнесса со своим — в квартире Ирмгард Кюн, причем хозяйка на это время покидала свое жилище. — Насколько я могу судить, — заметила однажды Эвелина, — Артур влюблен в тебя по уши и готов для тебя на все! — Видишь ли, Эвелина, — медленно сказала Агнесса, — когда речь идет о таких людях, как Артур Леман, эти слова приобретают совсем иное содержание. Смертельно уязвленное самолюбие, любовь, готовая вот-вот обернуться ненавистью. И еще — страстная, злобная зависть к Гельмуту… Я убеждена, что он еще предаст меня, Эвелина. — Вот уж не думаю. Какой в этом смысл: он же знает, что тебе неизвестны ни формула мортина, ни местонахождение записей Гельмута, если только они вообще существуют! — Нет, Эвелина, химия тут ни при чем. Тут дело сложнее: придет час, и он ощутит неодолимую внутреннюю потребность предать меня. Ведь это — единственное, что способно дать ему иллюзию власти надо мной. — Не мудри, Агнесса! — строго сказала Эвелина. — Просто у тебя не в порядке нервы. — Ты непорочная душа, Эвелина, тебе этого не понять, а в учебниках психиатрии о таких вещах, наверное, не пишут. — Опять о моей душе?.. — Не буду, не буду! — Агнесса встала на носки и обняла подругу. — А как Герман Ангст? Вот уж в нем-то я уверена, как в себе самой, — в этом маленьком тролле! — Знаешь, Агнесса, — с глубокой, благоговейной серьезностью заговорила Эвелина, — порой мне кажется, что он и верно явился ко мне — к нам с тобой — из сказки. Едва ли когда-нибудь на страже добра и правды стоял такой чудный человечек. Он не только добр, но и умен, и разумен, и тверд, и деликатен. Не пойму, каким образом столько достоинств помещается в таком маленьком теле. Право, я начинаю любить его, как родного сына… — А он тебя, как прекраснейшую из женщин… Ну, не буду, не буду! — засмеялась Агнесса.АГНЕССА ЕДЕТ В ОСТЕРМАРК
Хотя Агнесса не позволяла себе никакой слабости, одна мысль по-прежнему искушала ее и не давала покоя. А именно, что Гельмут, ее Гельмут, находится в каких-нибудь шестидесяти километрах от того места, где она в настоящее время живет, и их отделяет друг от друга всего лишь час езды на такси. Это было так странно, так невероятно, что на какой-то миг все препятствия, стоявшие на ее пути к Гельмуту, вдруг утрачивали всякое значение, и тогда казалось совсем простым и легким делом свидеться с ним, вернуть все в прежнее, счастливое положение. Кроме того, Агнесса никак не могла примириться с тем, что, в сущности, ничего не предпринимает для освобождения Гельмута, хотя ей теперь известно его местопребывание. В конце концов, его держат в заточении люди — всего лишь люди! — и почему бы ей не противопоставить их злой воле свое страстное стремление прорваться к Гельмуту, прийти ему на помощь… — Дорогая Ирмгард, — сказала она однажды в полдень своей хозяйке, — если придет Эвелина, передайте ей, пожалуйста, что я ушла в город по важному делу и буду дома лишь во второй половине дня. — Уж не собираетесь ли вы делать глупости? — подозрительно спросила госпожа Кюн, которой Эвелина поручила всячески опекать молодую квартирантку. — У вас что-то очень решительный вид! — Что вы, милая Ирмгард, какие же глупости?! — чуть покраснев, улыбнулась ей Агнесса. — Просто деловое свидание… — Ну смотрите… Выйдя на улицу, Агнесса подозвала такси. — Замок Остермарк… — смущенно обратилась она к водителю. — В горах… — Остермарк? Замок? — отозвался водитель. — В горах3 О таком не слыхал! Он отъехал, и Агнесса вдруг с ужасом поняла, что и сама не знает, где находится этот таинственный замок Остермарк. Ей представлялось, что он стоит на неприступной вершине лесистой горы, в окружении высоких зубчатых стен и глубоких рвов, заполненных водой, с подъемным мостом, который опускается лишь перед сильными мира сего. И что за странная затея: проникнуть в эту средневековую твердыню на простом городском такси! Все же Агнесса еще раз попытала счастье, остановив проезжавшую мимо машину. — Замок Остермарк, шестьдесят километров от города… — Ос-тер-марк? — многозначительно отозвался водитель и не без удивления оглядел стоявшую перед ним молодую женщину. — Что же, можно в Остермарк. Туда и обратно? — Туда и обратно, — обрадовалась Агнесса. — Садитесь. Когда машина выехала за пределы города и понеслась среди возделанных полей, густых, темных рощ, лесов и перелесков, Агнесса ощутила, в каком напряжении жила она все эти страшные недели. Сейчас ей казалось, что какая-то могучая сила подхватывает ее и несет навстречу удаче и счастью. — Остермарк… — произнес как бы про себя водитель и затем полуобернулся к сидевшей позади Агнессе: — А вам известно, фрейлейн… — Фрау. — А вам известно, фрау, что такое Остермарк? Вы что, едете туда по вызову или по своей воле? Простите меня, но по вашему виду… Вот я и решился спросить. — Я по делу… сама… — По делу… А известно вам, что Остермарк — осиное гнездо? — Я слыхала… — Значит, у вас случилось какое-то несчастье, не так ли? — Да, большое несчастье. — Несчастье… — в раздумье повторил водитель. — Тогда сделаем с вами так: я остановлю машину за два километра от замка и вы дойдете туда пешком. Вы доверяете мне, фрау? Агнесса внимательно поглядела на водителя: это был молодой парень, вероятно ее сверстник, простое, хорошее лицо, твердый, открытый взгляд. — Да, я верю вам. — Вот и отлично! Давайте условимся: если вы задержитесь дольше трех, ну, четырех часов дня, то я вернусь в город и подниму тревогу. Вы скажете мне вашу фамилию и адрес? — Конечно. Агнесса назвалась и дала свой адрес. — Ну вот, — парень улыбнулся, — теперь у меня на душе стало спокойнее. Люди должны помогать друг другу — ведь в этом Остермарке засели те же нацисты… Кстати, меня зовут Курт, Курт Швеллер. — Вот вы говорите, Курт, — нацисты… А ведь до того, как со мной случилось это несчастье, я думала, что нацисты, гестаповцы — далекое прошлое: мне было всего пять лет, когда их прогнали. Если бы мне сказали, что моего Гельмута похитят — да-да, похитят, Курт! — какие-то новые нацисты, я просто не поверила бы… — Легко ли поверить! — усмехнулся водитель. — Ведь на первый взгляд у нас в стране все гладенько, благополучно… Экономическое чудо, бундестаг, свободная борьба партий, ответственное министерство, профсоюзы, независимый суд, свобода печати — этакая либеральная демократия… И вдруг — осужденный нацист бежит из тюрьмы, откуда и мышонку не выбраться; из реки вылавливают изуродованный труп какого-нибудь господина министра; из судебных канцелярий исчезают документы, обличающие преступную деятельность во времена нацизма крупных чиновников федерального правительства… Похоже, что наша хваленая демократия стоит на шатком основании… Ну, вот мы и приехали! Я поставлю машину в этой рощице, а вы ступайте вон по той дороге — она приведет вас прямехонько к воротам замка. Если вас спросят, как вы добрались сюда из города, скажите, что на такси, что за вами приедут… Желаю удачи! Замок Остермарк действительно стоял на высокой лесистой горе, в окружении обветшалых от древности высоких зубчатых стен, и Агнесса устала, пока добралась по крутой извилистой дороге до массивных чугунных ворот, висевших на каменных столбах. Но ни рвов, заполненных водой, ни подъемного моста перед замком не оказалось. Маленькая женщина смело шагнула к воротам и стукнула кулачком по могучему, старинному металлу, лишь после того она заметила кнопку вполне современного электрического звонка. Но люди, находившиеся за воротами, отличались, видимо, исключительной чуткостью слуха: небольшое окошко в воротах немедленно приоткрылось и оттуда выглянуло лицо, точнее, два глаза. — Что угодно? — Мне нужен… хозяин замка, — растерянно отозвалась Агнесса. — Барон фон Остермарк? — Д-да… — Как доложить о вас? — Скажите… дама из Мюнхена. — Имя, фамилия! — Это неважно… — Имя, фамилия? — Агнесса Шрамм. — Агнесса Шрамм из Мюнхена… Обождите! Окошко захлопнулось, Агнесса осталась одна. Не сделала ли она оплошность, назвав свое имя и тем насторожив хозяев этого “осиного гнезда”? Впрочем, ей все равно неизвестно, как следует вести себя здесь и какое именно поведение вернее всего приведет к цели. И вдруг неожиданная мысль — да, неожиданная, хотя именно в этом и заключался весь смысл ее приезда сюда, — обожгла Агнессу: ведь тут, за этими воротами, быть может в десятке шагов от нее, находится Гельмут! Но при чем же тут барон Остермарк, к которому она напросилась? Имеет ли он какое-нибудь отношение к тем людям, которые похитили Гельмута и держат его здесь в заключении? Быть может, ей надо было прямо сказать, зачем именно явилась она сюда? Но тогда, возможно, ее просто не впустили бы в замок и ей пришлось бы ни с чем возвратиться обратно… А впустят ли ее теперь? Прошло не менее получаса, прежде чем перед Агнессой открылась узкая дверь, прорезанная в воротах. — Следуйте за мной! — строго сказала пожилая, просто одетая женщина, вероятно из домашней прислуги барона Остермарка, и пошла вперед.В ГОСТЯХ У БАРОНА ОСТЕРМАРКА
Очутившись на обширном мощеном дворе замка, Агнесса внимательно огляделась. Прямо перед ней тянулось длинное приземистое здание бывших конюшен, превращенных в гараж. Сквозь широко распахнутые двери в полутьме сверкали грузовые и легковые машины разных марок. Справа от гаража шла высокая, трехметровая стена новой, современной кладки. Слева — усыпанная гравием и окаймленная с двух сторон молодыми липками дорожка, по которой женщина и повела Агнессу. Обогнув здание гаража, дорожка вступила в густой парк, сквозь деревья которого Агнесса вновь увидела справа от себя ту же внутреннюю стену; было похоже, что эта стена делит надвое всю территорию замка… Постепенно дорожка, все больше отклоняясь от парка, привела к трехэтажному старинному — впрочем, не старше второй половины восемнадцатого века — зданию причудливой и явно эклектической архитектуры. — Сюда! — все так же строго сказала женщина, открывая перед Агнессой парадную дверь, ведущую внутрь здания. В вестибюле спутница Агнессы повела её за собой к широкой лестнице, выложенной сильно выцветшим красным сукном в многочисленных грязных пятнах. Если внутренняя архитектура, роспись и лепка стен говорили о дурном вкусе строителей замка, то современное убранство вестибюля и лестничных площадок — о не менее дурном вкусе его сегодняшних владельцев. Это обстоятельство, отмеченное Агнессой, почему-то придало ей уверенность в себе… На третьем этаже женщина постучала в резную двустворчатую дверь, аляповато украшенную золотыми и серебряными накладками, и скромно отошла в сторону. — Войдите! Дверь раскрылась изнутри, на пороге показался и тут же отступил назад и в сторону высокий худой человек лет пятидесяти. — Фрау Шрамм? — Господин барон? Агнесса вошла, и барон указал ей на одно из двух кресел, стоявших возле холодного камина. — Як вашим услугам, многоуважаемая фрау Шрамм. — Барон опустился во второе кресло. — Буду счастлив, если смогу быть вам полезен… — Мне стало известно, барон, что на территории вашего замка насильно задерживают моего мужа Гельмута Шрамма. Я готова допустить, что лично вы не причастны к этому и немедленно примете меры для его освобождения. Именно за этим я и явилась к вам. — Она помолчала. — Я щадила ваше доброе имя, барон, и потому не прибегла к помощи прокуратуры… — Но, фрау Шрамм, вы говорите… нечто невозможное, небывалое!.. — В таком случае, будьте добры сказать, что находится за внутренней стеной, недавно возведенной на территории вашего замка? — За внутренней стеной? — будто в ужасе перед таким кощунственным вопросом воскликнул барон и даже воздел руки. — За внутренней стеной? Да это же государственное владение! Я не имею к нему ни малейшего отношения. Го-су-дарст-вен-ное! О, фрау Шрамм, — заговорил он жалостным голосом, — вы поистине вложили персты в мои отверстые раны! Древнейший, прославленный, но обедневший род баронов Остермарк! Чтобы спасти хотя бы часть нашего родового достояния, мне пришлось уступить, скажу прямо, продать — да-да, продать! — за презренные деньги почти половину территории замка. И теперь на древней земле баронов Остермарк эти люди… — барон будто в глубокой печали склонил голову, — эти люди учредили какой-то архив и охраняют его денно и нощно! Вот что находится за этой внутренней стеной, глубокоуважаемая фрау Шрамм… Барон Остермарк явно переигрывал, словно стремился вывести Агнессу из себя, толкнуть на безрассудный поступок. — Поверьте, я сочувствую вам, барон, — сказала Агнесса, будто не замечая его фальшивой игры. — Я вполне представляю себе, каково было вам, Остермарку, в чьих жилах течет баварская королевская кровь, быть адъютантом выскочки Кальтенбруннера, а теперь, в пожилые годы, подслуживаться к генералу-ищейке Рейнгарду Гелену! Но мало того: аристократ по происхождению и воспитанию, представитель одного из знатнейших родов Германии, вы утратили в среде нацистов, с их дурными, вульгарными манерами, все, что внушили вам в детстве… — Что… это… значит? — Остермарк даже привстал в гневном изумлении. — Кто… дал… вам… право… — Кто дал мне право? Вы же сами, барон! Я пришла к вам с горем, с душевной болью, а в ответ вы разыграли передо мной заранее разученную шутовскую роль, которую поручила вам тайная полиция, расположившаяся за той стеной! — Агнесса кивнула в сторону окна. — Теперь я твердо убеждена, что мой муж находится там и что вам об этом известно. Если у вас еще осталась хоть капля совести, сейчас же проводите меня туда, к моему мужу!.. — Но, фрау Шрамм… ~- растерянно забормотал барон, сбитый с толку ее порывом. — От меня, право, ничего не зависит… Поверьте, если бы я мог… — Он встал с кресла и вдруг попятился назад и выставил перед собой руки: — Что? Что? Что вы мне тут сказки рассказываете? Не знаю я никакого Шрамма и знать не желаю! Уходиге отсюда — нечего вам тут делать!.. Минна, Минна! — закричал он визгливым голосом. — Иди скорее сюда! На его зов почти тотчас же явилась уже знакомая Агнессе пожилая женщина. — Проводи госпожу Шрамм до ворот, да живее. И барон Остермарк в полном смятении удалился из комнаты.АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОВ
Была в характере Агнессы непримиримость, не позволявшая ей ни на дюйм отступить от того, что она считала — или признавала — своим долгом. Она вышла и от барона Остер-марка с твердым убеждением, что Гельмут здесь, по всей вероятности за внутренней стеной, где, по словам барона, находится будто бы секретный государственный архив. И когда молчаливая, мрачная Минна пыталась повести непрошеную гостью прежним путем к воротам замка, Агнесса решительно свернула в парк, по ту сторону которого тянулась внутренняя стена. — Куда? — резко крикнула Минна. — Мне приказано вывести вас за ворота! Но Агнесса, не отвечая и не оглядываясь, продолжала шагать по парку, хотя вся сжалась от страха: именно такими, как эта Минна, представляла она себе надсмотрщиц — ауфзеерин — в гитлеровских концентрационных лагерях. Эта женщина, казалось Агнессе, способна ударить ее, избить, силой вывести за пределы замка. Но когда Минна, широко расставив руки, пыталась преградить ей путь, Агнесса все так же молча обошла ее и двинулась дальше. — Не смейте идти туда! — кричала Минна, встав перед Агнессой. — Все равно вас не пустят! Слышите, что я говорю, — не смейте! Но Агнесса все шла и шла, глядя прямо перед собой и обходя Минну, словно та была деревом или кустом. И вот она наконец оказалась перед высокой, глухой, свежевыбеленной стеной. Где тут ворота — направо, налево? Минна, как древний идол, расставив толстые руки, стояла справа. Значит, туда… — Не смей, говорю тебе, не смей! — злобно приговаривала Минна, отступая перед Агнессой. Когда они подошли к деревянным воротам, выкрашенным в яркий зеленый цвет, Минна с видом человека, выполнившего свой долг до конца, оставила Агнессу и заковыляла обратно. Агнесса поглядела ей вслед, а потом посмотрела на ворота. Она увидела небольшую вывеску, которая — золотом по белому- гласила: “Государственный архив”. Кажущаяся правота барона Остермарка не смутила Агнессу: уроки, преподанные ей Артуром Леманом и Германом Ангстом, не прошли даром. Ей было известно, что филиалы федеральной разведки скрываются под самыми различными вывесками: это мог быть и магазин по торговле фруктами или кухонной посудой, и контора по продаже асфальта или дегтя. Почему же было не назваться для разнообразия “государственным архивом”?.. Победа, только что одержанная над Минной, вдохновила Агнессу, и она смело нажала кнопку электрического звонка, укрепленного под вывеской. В ответ тотчас же распахнулось окошко, и из него глянуло очень нелюбезное, хотя и не лишенное миловидности, девичье лицо и послышался грубоватый голос: — Вам чего? С того печально-памятного дня, когда исчез Гельмут, Агнесса привыкла делить всех людей, с которыми ее сталкивала жизнь, на “новых нацистов” и всех остальных. Так, “новыми нацистами” были для нее Винкель, доктор Шмиц, барон Остермарк, Минна, к ним же причислила она сейчас и эту девицу. У этих людей было что-то общее, и хотя Агнесса еще не определила для себя, в чем именно это “общее” состоит, она с первого же взгляда отличала их от всех прочих. — Мне нужно видеть вашего начальника. — Какого еще начальника? — Есть же у вас кто-то главный… — А вы кто такая? — Я приехала из Мюнхена… — Я, кажется, ясно спрашиваю: кто вы такая? Имя, фамилия? — Агнесса Шрамм… Агнессе показалось, что девушка взглянула на нее с любопытством, словно уже что-то знала о ней. — Ждите! Окошко захлопнулось, и Агнесса стала ждать. Казалось, это было точное повторение того, что час назад происходило перед главными воротами замка. Она стояла одна среди безлюдья и тишины этого враждебно затаившегося от неё мира, и ею все сильнее овладевало чувство отчаяния и безнадежности. Конечно, ее не впустят в этот “архив”, и ей придется уехать, так и не узнав ничего о Гельмуте. Она не отдавала себе отчета, сколько прошло времени, когда услышала звук отпираемой двери и грубый голос той же девицы произнес: — Входите! Агнесса очутилась в длинной полутемной подворотне. Ее спутница молча указала на дверь, пробитую в каменной кладке, и она вошла в небольшое помещение, сходное с заводской проходной. В почти пустой комнате за простым канцелярским столом сидел человек средних лет, в роговых очках, одетый в штатский костюм. Волосы его были откинуты назад, обнажая чистый лоб, взгляд был спокойный и серьезный. Он походил не то на ученого, не то на культурного чиновника. Когда Агнесса вошла, он встал и учтиво указал ей на стул: — Фрау Шрамм? Агнесса утвердительно кивнула. — Рихард Менгер, помощник директора архива, — скромно представился он. — Я вас слушаю, фрау Шрамм. — Здесь у вас находится мой муж Гельмут Шрамм. — Простите? — Взгляд Менгера выражал искреннее недоумение. — Среди служащих нашего архива господин Шрамм не числится… Агнесса помолчала. Этот человек невольно внушал ей доверие, и она не знала, как вести себя с ним. А вдруг здесь и правда настоящий государственный архив, а не федеральная разведка? — Разрешите задать вам один вопрос, господин Менгер? — сказала Агнесса. — Могу я рассчитывать, что вы ответите мне правду, святую правду? — Можете в этом не сомневаться, фрау Шрамм. — Менгер слегка пожал плечами. — Я не дал никакого повода… — Поверьте, я не хотела оскорбить вас, но мне так важно знать правду! — Все, что в моих возможностях… — Скажите, что у вас тут за учреждение? Не архив же, в самом деле? — Фрау Шрамм, — Менгер улыбнулся ясной улыбкой, — вы уж слишком облегчили мою задачу. Могу вас уверить, что здесь помещается архив государственных актов Германии, примерно за пять последних столетий. Вот и вся правда, святая правда, фрау Шрамм! — Значит, вы ничего-ничего не знаете о моем муже Гельмуте Шрамме? Меня уверяли, что он находится в заключении на территории замка Остермарк… — Но, фрау Шрамм, у нас здесь не тюрьма, а научное учреждение! Пусть не покажется вам мой вопрос нескромным: что же, однако, приключилось с вашим мужем? — Его похитили неизвестные люди… — Похитили? Да разве это возможно в наши дни? И с какой же целью? — Гельмут работал в области химии, представляющей военный интерес… — И тут, в упор глядя на Менгера, Агнесса с последней вспышкой недоверия спросила: — А могу я пройти на территорию вашего архива? — Видите ли, фрау Шрамм, наш архив содержит редчайшие исторические документы, по большей части уникумы, и мы допускаем туда лишь ученых-историков, и то по особой просьбе научных учреждений. Я охотно сделал бы для вас исключение, — любезно добавил Менгер, — но наш директор уехал сегодня в Мюнхен, а делать исключение — его прерогатива. Если вы соблаговолите посетить нас в другой раз… “Нет, — решила Агнесса, — так лгать нельзя…” — Благодарю вас, господин Менгер, возможно, я воспользуюсь вашей любезностью. Агнесса встала и протянула Менгеру руку. Тот, также поднявшись, задержал ее в своей. — А как же вы доберетесь отсюда до Мюнхена? Наш гараж к вашим услугам, фрау Шрамм. — О, не беспокойтесь, за мной из дома пришлют машину! Еще раз, господин Менгер, благодарю вас… за правду! Агнесса направилась было к двери, но в этот момент другая дверь, выходившая на территорию архива, широко распахнулась, и на ее пороге показался… Герман Винкель. — Слушай-ка, Рихард, дружище… — заговорил он и, видимо узнав Агнессу, вмиг осекся. — В-вы! — выдохнула со стоном Агнесса. Ее первым порывом было повернуться к Менгеру и потребовать ответа, но ее охватил вдруг такой жгучий стыд за него и такая горькая обида за себя, что она быстрым шагом, не оглянувшись, в слезах вышла, почти выбежала из комнаты.ПРОКУРОР ВЫХОДИТ СУХИМ ИЗ ВОДЫ
Агнесса решила скрыть от Эвелины свою поездку в замок Остермарк: она не сомневалась, что та строго осудит ее и за самое поездку, и за то, что она не посоветовалась предварительно с ней, Эвелиной, о таком важном и рискованном шаге. Сознание, что она совершила, быть может, непоправимую ошибку, не давало Агнессе ни минуты покоя и заставляло ее измышлять все новые и все более решительные способы освобождения Гельмута. В том, что Гельмут находится именно в замке Остермарк, она более не сомневалась: об этом теперь свидетельствовало и поведение Менгера, и присутствие там Германа Винкеля, одного из похитителей Гельмута. И вот на утро, по возвращении из замка, Агнесса недолго думая отправилась на прием к прокурору земли Бавария. Сам прокурор был в отъезде, и Агнессу принял его помощник. Ее рассказ о похищении Гельмута из гостиницы “Старая Бавария” он выслушал с явным недоверием. — Доказательства, уважаемая фрау Шрамм! — бодро и самодовольно воскликнул молодой прокурор. — Прокуратура не может принять на веру утверждение, что в нашем цивилизованном городе Мюнхене, с его отлично поставленной полицейской службой, произошло такое невероятное событие, как похищение среди бела дня человека. Предъявите полицейский акт о похищении! — Но полиция сама содействовала этому преступлению… — Доказательства, фрау Шрамм! — уже со строгостью повторил прокурор. — Закон сурово карает за клевету на полицию! — Доказательства? Полицейский врач Шмиц работал в концлагере Бельзен и умертвил при помощи снотворного препарата фирмы Бауер несколько десятков заключенных женщин. Его подлинная фамилия — Ледерле, Ганс Ледерле. Он уже два десятилетия скрывается от правосудия, хотя его прошлое отлично известно его начальству. Это он объявил меня безумной и отправил в психиатрическую больницу, чтобы убрать свидетеля по делу о похищении моего мужа. Начальник полицейского управления господин фон Штриппель грозил моим друзьям всякими карами, если они не прекратят поиски Гельмута Шрамма… По мере того как Агнесса говорила, выражение бодрости и самодовольства приметно блекло на круглощеком, румяном лице молодого прокурора. Видимо, то была лишь привычная маска, которую он натягивал на себя всякий раз, когда приступал к исполнению своих служебных обязанностей. — Доказательства! На этот раз прокурор произнес свое любимое словечко с оттенком мрачной угрозы. На деле он вовсе не стремился получить доказательства того, что доктор Шмиц является бывшим лагерным врачом Гансом Ледерле, убийцей заключенных женщин, или что полицейский начальник фон Штриппель пытался замять дело о похищении ученого-химика Гельмута Шрамма. В первом случае ему наверняка грозил бы выговор от главного прокурор! за “вредную инициативу”, во втором же он с трусливым трепетом чуял то, что мысленно именовал “духом Пуллаха”. — Какие же вам нужны доказательства? — спросила Агнесса. — Я располагаю сведениями из первоисточника и могу… — Нет-нет! — прокурор сделал испуганный, отстраняющий жест рукой. — Не торопитесь, прошу вас, не торопитесь, многоуважаемая фрау Шрамм! Я обязан предупредить вас об ответственности, какую вы принимаете на себя, называя имена и фамилии, ссылаясь на те или иные обстоятельства, обвиняя живых людей в тех или иных дурных проступках или преступлениях! Первоисточник… Кто скажет, что разумела под словом “первоисточник” эта маленькая бесстрашная фрау Шрамм! А что, если она столкнет сейчас прокурора с самим Рейнгартом Геленом в лице его бесчисленных креатур? Или же с одной из могущественных тайных неонацистских организаций, с этой подлинной мафией Федеративной Германии? Стоит ей произнести еще хотя бы одно слово — и перед прокурором, возможно, закроется последняя лазейка, через которую он мог бы ускользнуть в безответственность. Конечно, Агнесса сразу заметила настороженную недоверчивость прокурора, но нашла ее вполне естественной: государственная власть в его лице обязана быть настороже, чтобы отличить истину от лжи, справедливое обвинение от злостного навета. — Я вполне сознаю свою ответственность, господин прокурор, — в тон ему заговорила Агнесса, — и опираюсь исключительно на факты и документы. Так, мне достоверно известно, что преступники, похитившие моего мужа, увезли его в замок барона Остермарк, и там… Это был наихудший из всех вариантов, какие только мог представить себе прокурор. Замок барона Остермарк! Секретнейший филиал ведомства генерала Гелена! И ему, помощнику прокурора, скромному государственному чиновнику, официально заявляют о преступном похищении и заточении в замке Остермарк ученого-химика Гельмута Шрамма. Нет, он не слышал, не имел права слышать то, что произнесли сейчас уста этой фрау Агнессы Шрамм! А может, она и в самом деле безумная, как это удостоверил, по собственным ее словам, полицейский врач, и вся история с похищением Гельмута Шрамма — плод ее расстроенного воображения?.. — Простите, фрау Шрамм, — очень строго произнес прокурор, уставившись на Агнессу пристальным, почти гипнотическим, как ему казалось, взглядом. — Если не ошибаюсь, вы находились некоторое время на излечении в мюнхенской психиатрической больнице? Агнесса молча достала из сумочки справку, выданную доктором Шмицем, и протянула ее прокурору. — Так-так… Но доктор Шмиц, о котором вам будто бы известны некоторые компрометирующие его данные, подвергся, видимо, известному моральному давлению… Помимо того, согласитесь, что душевноздоровые люди не имеют надобности носить при себе такого рода бумаги… Все это наводит меня на мысль, что ваши жалобы и обвинения… — Прокурор встал из-за стола. — Словом, я должен навести о вас некоторые справки. Сама странность, даже неправдоподобность ваших утверждений обязывает меня… Прокурор позвонил, и на пороге его кабинета почти тотчас же возникла секретарша: то была фрейлейн Гертруда Якобс. — Проводите, пожалуйста, фрау Шрамм. — О, Трудхен! — воскликнула Агнесса. — А я и не знала, что ты… — Прошу вас! — резко прервала фрейлейн Якобс, шагнула к выходу и широко распахнула перед посетительницей дверь. Дома Агнессу ожидала бледная, взволнованная Эвелина. — Тролль только что узнал, что сегодня ночью Гельмута увезли из Остер марка. — Куда? Эвелина молча пожала плечами. — Это я, я виновата! — Ты ездила в Остермарк?! — Да…ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НОВОСЕЛЬЕ ГЕЛЬМУТА ШРАММА
Дело о похищении Гельмута Шрамма постепенно приобретало все более сложный, запутанный характер, какой присущ будто бы лишь литературным произведениям детективного жанра. Действительно, ни один детективный роман, какой бы сильной фантазией ни обладал его автор, не в состоянии ни угнаться за хитросплетениями живой жизни, ни превзойти ту профессиональную изощренность, какая присуща операциям современных разведок, оснащенных вековым опытом и тончайшими достижениями техники. Дело Гельмута Шрамма, по крайней мере поначалу, отличалось как раз исключительной простотой оперативного замысла. Похитить ученого, чтобы завладеть его научным открытием, — рядовая, банальная операция, каких немало насчитывается на совести западных разведок, и прежде всего американской Си-Ай-Си. Но на этот раз операция оказалась значительно сложнее, чем рассчитывали ее инициаторы. Глубокая преданность и любовь Агнессы Шрамм к своему мужу, душевная высота Эвелины Петерс, непримиримая ненависть маленького Германа Ангста ко всем видам и разновидностям фашизма, а главное, твердость духа самого Гельмута Шрамма — все это поставило “операцию” на грань провала… Конечно, Гельмут не мог знать, что Агнесса побывала в замке Остермарк, и потому не понимал, какая причина побудила их переселить его в новое помещение. Так или иначе, но однажды утром Гельмут проснулся в сравнительно большой, светлой, странно круглой комнате, обставленной удобной современной мебелью. Однако сама комната являла такой же старинный, замковый вид, как и та, прежняя: высокий, сводчатый потолок; стены, сложенные из крупного, тесаного, чуть замшелого камня, источавшего сырость; высоко, под самым потолком, расположенные стрельчатые окна, открытые в синее небо и более всего походившие на бойницы. Замковая башня? По всей вероятности, так… Первой мыслью Гельмута было, что его переместили в пределах того же здания, предварительно одурманив каким-либо снадобьем, подмешанным в пищу: он и сейчас еще находился в полусонном состоянии. Но по мере того как он приходил в себя, из глубин сознания стали всплывать на поверхность неясные воспоминания, точнее, обрывки, клочки воспоминаний, связанные с чисто физическими ощущениями. Вот его несут куда-то: он явственно слышит слитный топот ног и чей-то сердитый, повелительный голос; затем непривычно свежий воздух холодит его лицо; его слух оглушает странно-сильный, ревущий звук: похоже, что запустили пропеллер самолета; после того — забвение, сквозь которое он ощущает лишь легкую вибрацию всего тела, создающую приятное чувство невесомости. Но вот вибрация кончилась, будто ее выключили, к нему снова вернулась утраченная тяжесть, и этот резкий переход, помнится, был ему неприятен. Опять его несут куда-то, теперь уже сквозь знойный, душный, чуть не обжигающий воздух, насыщенный ароматами знакомых трав, деревьев, цветов; тот же воздух и здесь, в этой башенной комнате, лишь охлажденный камнем. Далее — знакомое ощущение быстрой автомобильной езды, и опять, топоча ногами, несут его какие-то люди, и опять слышится чей-то резкий, повелительный, хотя и приглушенный, голос. И вот, наконец, он приходит в себя на этой опрятной, мягкой постели: на чистых хрустящих простынях, иод легким шелковым одеялом… Ясно, его доставили сюда на самолете. Но где же он находится? Гельмут невольно перевелвзгляд на высокие, узкие окна, открытые в синее небо. Это не Германия, такого неба нет пи в одном самом южном уголке его родины; нет и такого воздуха, что густыми, благоуханными волнами вливается сейчас в комнату сквозь окна-бойницы. Да и стали бы они перевозить его на самолете, если бы он оставался в Германии! Но где же все-таки находится его тюрьма? В Испании? В Аргентине? В Бразилии? Вероятнее всего, в Испании. В самом деле, откуда взяться феодальному замку в Аргентине или Бразилии, в странах, захваченных европейцами лишь в новое время? Испания со всех точек зрения наиболее правдоподобный вариант. Известно, что страна эта — истинный рай для бывших нацистов: здесь они пользуются покровительством самого каудильо, полуфеодальной испанской знати, высшего католического духовенства. Здесь у них свои опорные пункты, коммерческие и промышленные предприятия, эсэсовские и даже гестаповские штаб-квартиры, перебравшиеся, сюда накануне разгрома третьего рейха. Очевидно, его исчезновение получило в. Германии огласку, и они сочли за лучшее убрать его оттуда и водворить в один из тайных своих притонов в глухой испанской провинции… Гельмут поднялся с кровати и с удивлением обнаружил, что на коврике стоят его начищенные до зеркального блеска ботинки, на специальном деревянном подставе висит свежеотутюженный костюм, а на старинной каменной скамье расположились два его чемодана. Какая трогательная заботливость! Видимо, те, от кого зависит его судьба, убедились, что угрозами от него ничего не добиться. И решили действовать более мягкими методами. Раз так — ему следует теперь быть вдвойне и даже втройне настороже. Ознакомившись со своим новым жилищем, Гельмут убедился, что оно, во всяком случае, обладает теми минимальными удобствами, которые делают пребывание в нем если не слишком приятным, то вполне терпимым. Он с удовольствием помылся под краном ледяной водой, побрился электрической бритвой, оделся и принял, наконец, тот вид, который обычно называл про себя “внешней оболочкой Гельмута Шрамма”. Оглядев себя в зеркале, вмонтированном в платяной шкаф, он довольно улыбнулся — едва ли не впервые за время своей неволи. О, как же он сразу не приметил эти полки, битком набитые новыми и новейшими книгами по химии на немецком, французском, английском и русском языках! Тут имелись и комплекты основных химических журналов вплоть до последних номеров. Особенно полно была представлена русская химия, притом все ее разделы. Как хорошо, что в свое время он изучил русский язык, по крайней мере настолько, чтобы свободно читать советскую химическую литературу… Гельмут с давно не испытываемым чувством радости уселся за рабочий стол, на котором чьей-то щедрой рукой были разложены всевозможные письменные принадлежности, и углубился в чтение. Да, скучать здесь ему, во всяком случае, не придется… — Войдите! Ну, это уже чрезмерная вежливость: просить у заключенного разрешения войти. И какой деликатный стук! Ключ со звоном повернулся в замке, тяжелая дверь, толщиной чуть не в полметра, со скрипом и визгом уступила чьему-то усилию, и на пороге показались два человека. Испанцы? Аргентинцы? Бразильцы? Ну, один-то, оставшийся стоять у двери, с револьвером, небрежно засунутым за пояс, во всяком случае, немец, — в этом он не может ошибиться! Другой — молодой, смуглый, черноусый, с озорными, разбойничьими глазами, явно южного типа — шагнул в комнату, неся на вытянутых руках поднос, уставленный разной снедью. Осторожно опустив поднос на небольшой круглый стол, он сделал в сторону Гельмута приглашающий жест, затем, не сводя с узника глаз, попятился спиной к двери. — Кто вы такие? — громко и властно спросил Гельмут по-немецки. — Что это за дом? В какой стране я нахожусь? Молчание. — Знайте же: я — Гельмут Шрамм, ученый, химик из германского города Бремена! Меня насильно привезли в вашу страну и заточили в этом замке! Вы ответите за это преступление наравне с вашими хозяевами!.. Молчание. На всякий случай Гельмут повторил эти слова по-французски, затем по-английски; испанского он не знал. Ему показалось, что “эсэсовец”, стоявший у порога, чуть заметно усмехнулся. Ясно, он все понял, но вступать с узником в разговоры ему, видимо, не положено. Замкнув дверь, оба посетителя удалились. Так начался для Гельмута первый день в новом месте его заключения.СНОВА МИСТЕР СМИТ
Едва Гельмут завершил свой завтрак, как снова послышался стук в дверь. На этот раз Гельмут решил промолчать: ему хотелось проверить, насколько серьезно считаются с ним хозяева замка. Увы, стук не повторился. Дверь медленно, с душераздирающим визгом повернулась на ржавых петлях, впустила уже знакомого Гельмуту мистера Смита и вновь закрылась. — Здравствуйте, господин Шрамм! — Здравствуйте, господин Смит. Вы что же, следуете за мной по пятам? — Что делать, ваше бессмысленное упорство причиняет мне немало хлопот… Разрешите сесть? — Садитесь. Уж не рассчитываете ли вы, что здесь, в Испании, я стану более сговорчивым? — В Испании? — Смит пожал плечами, как человек, который слышит явную нелепость. — Почему в Испании? В прошлый раз вы вообразили, что находитесь в Америке… — Не пытайтесь ввести меня в заблуждение, Смит. Почему в Испании? Да потому, что в Германии мои друзья напали на мой след и вы сочли за лучшее переправить меня на самолете в Испанию. Мы беседуем с вами сейчас в одном из замков, принадлежащих здешним пособникам нацистов… — Допустим на минуту, что ваше умозаключение правильно, — холодно отозвался Смит. — Но в этом случае вам следует сделать и дальнейший вывод: уж теперь-то вы целиком в нашей власти и все, что вам остается, — это подчиниться нашим требованиям. — Я сделал для себя другой вывод. — Видите ли, Шрамм, я убежден, что единственный источник так называемого бесстрашия — недостаток воображения. В Прошлый раз вы рассердились на меня, когда я сообщил вам о действиях некоторых наших единомышленников. Увы, мы и в дальнейшем не сможем удержать тех, кто настаивает на самых жестоких и решительных мерах… — Можете не повторяться, Смит. — Гельмут встал. — Я уже тогда понял, с кем имею дело. — Но вы же сами избрали свой жребий… — Смит остался сидеть, видимо, он еще не сказал своего последнего слова. — Надеюсь, вы удовлетворены вашим новым жилищем? — Вполне. — Быть может, у вас имеются какие-либо просьбы, пожелания? — Не знаю, кому я обязан этим, — Гельмут указал на полку с книгами, — но если позволите, я представлю дополнительный список книг и журналов. За последние полтора года, увлеченный своей работой, я не имел времени следить за развитием некоторых разделов химии, прежде всего советской… — Мы как раз выписали для вас из России всю новейшую химическую литературу, она уже прибыла и будет вам сегодня доставлена. Кстати, какого вы мнения о советской химии? — Самого высокого. — Вот как — это для меня неожиданность!.. Об их военной химии? — Я не считаю, что военная химия — особый раздел химической науки. Военная химия — это всего лишь использование тех или иных достижений химии для военных целей. — Понятно. Но раз вы поставили советской химии такой высокий балл, следовательно… — Совершенно верно, — подтвердил Гельмут. — Но я не думаю, чтобы они собирались вести химическую войну. — Не думаете? — Смит помолчал, склонив голову и как бы взвешивая слова собеседника, затем резким движением вскинул на него глаза. — Вы что же, верите в их хваленое миролюбие? — Видите ли, Смит, я считаю, что для них война, равно ядерная, химическая, бактериологическая, — нелепость, бессмыслица. Да-да, совершенная бессмыслица! Они имеют у себя дома все, что им надо, чтобы прекрасно устроить свою жизнь. Это же не просто государство, это целый материк!.. Зачем им война? Что способна она принести им даже в случае победы? Разрушения? Задержку в развитии? Нет, им война не нужна, и, когда они утверждают это, я верю их искренности… — Ну, а нам?.. Зачем, по-вашему, нужна нам война? Как вы думаете? — По-моему? — Гельмут пожал плечами. — По-моему, и вам, Соединенным Штатам, война ни к чему — То есть вам лично война, может быть, и нужна: вы же профессиональный убийца, Смит. Вы и сюда явились затем, чтобы угрожать мне пытками и смертью, если я откажусь снабдить вас самым дешевым и эффективным средством для уничтожения сотен миллионов людей… — Вы заблуждаетесь, Шрамм! — Смит с достоинством откинул свою круглую голову. — Я не убийца — я политик, и не моя вина, если современная политика требует миллионы трупов и реки крови! Так уж сложилась судьба человечества, что сейчас оказались друг против друга две силы: мы и они! Западная цивилизация или коммунистическое варварство! Вы в ужасе воздеваете руки при мысли о разрушениях, угрожающих миру, потому что не умеете распознать их близнеца — созидание! Вы воспитаны на отжившем, старомодном гуманизме и готовы отступиться от великого наследия ваших предков, лишь бы избежать войны. Неужели вы не способны подняться над собой, преодолеть ту убогую мораль, в которой вас воспитала ваша мещанская семья, — вы, сын народа, давшего миру великого Гитлера?.. — “Великого Гитлера”?.. — с презрением повторил Гельмут. — На этом можно и закончить наше собеседование, мистер Смит. — Я не хочу, чтобы вы поняли меня ложно, Шрамм. Конечно, ваш Гитлер был лишь великим предтечей, слепым оракулом, указавшим человечеству путь, и на наши с вами страны, на наше положение, на нас с вами легла задача… — Довольно, Смит, я больше не буду вас слушать! — Как вам будет угодно, — примирительно сказал Смит. — Но прежде чем уйти, я хочу попросить вас об одном одолжении. Вы догадываетесь, с какой целью снабдили мы вас новейшей химической литературой? — Нет. — Скажу прямо: нам необходимо узнать, есть ли у русских нечто подобное вашему мортину. Мы понимаем, конечно, что химия поражающих веществ — дело глубоко секретное и русские не станут открыто писать о своих достижениях или неудачах в этой области. Но вы — именно вы, Шрамм! — сможете, без сомнения, вычитать из их специальных книг и журналов, как далеко подвинулись они на этом пути. Ведь тут прежде всего требуется известный уровень развития химии, определенных ее разделов. Не так ли? — Если вас способен удовлетворить общий ответ, то я уже сейчас могу сказать вам: такого уровня советская химическая наука достигла лет восемь — десять назад. Другой вопрос: пошли ли советские ученые по тому пути, который привёл меня к созданию мортина? — Именно это мы и хотели бы знать. — Задача нелегкая, но я попытаюсь… — Благодарю вас, господин Шрамм, — с неким подобием чувства сказал Смит. — И наконец, последнее. Не нужен ли вам помощник, который выполнял бы для вас всю, так сказать, черную работу: проглядывал бы тексты, подбирал бы цитаты. У нас имеется подходящий человек, к тому же он ваш соотечественник. — Вы хотите приставить ко мне шпиона? Ведь для подобной работы пригоден лишь человек, знающий химическую формулу мортина. Нет, я обойдусь без помощника!..СООТЕЧЕСТВЕННИК
Одна тайная мысль руководила Гельмутом, когда он дал согласие на предложение Смита: если выяснится, что русские владеют секретом изготовления вещества, близкого по своим свойствам мортину, то самая идея химической войны окажется в таком же тупике, как идея войны ядерной. Ну, а если он, Гельмут, убедится, что русские отстали в производстве поражающих материалов или же вовсе пренебрегли этой отраслью химической науки?.. Что ж, у него еще хватит времени решить, как повести себя в этом последнем случае. Так или иначе, но предложение Смита кладет конец его вынужденной бездеятельности. Теперь, даже находясь в заключении, он снова сможет принять участие в общей жизни: от его труда, от его разума, от его воли будет в этом мире что-то зависеть… Опять стук в дверь! И опять, не дождавшись отклика, кто-то бесцеремонно вторгся в его жилище. Сначала показалась тележка, доверху груженная книгами, за ней кативший ее молодой “испанец”, который приносил ему утром еду, а следом за ним и “эсэсовец”. Пока “испанец” молча выкладывал книги на рабочий стол Гельмута, “эсэсовец” сторожил у порога. Наконец оба удалились, но прежде чем закрыть за собой дверь, они впустили в комнату нового, незнакомого Гельмуту человека. — Добрый день, господин Шрамм! — обратился к нему посетитель по-немецки. — Разрешите представиться: Густав Штубе из Мюнхена. — Что вам от меня надо? — хмуро отозвался Гельмут, не вставая из-за стола. — Зачем вы меня беспокоите? Посетитель был примерно одних лет с Гельмутом. Худо”, среднего роста, белокурый, с высоким, узким лбом, прямым тонким носом с нервно подрагивающими крыльями и с удивительно маленькими черными глазами, сидящими в глубине глазниц. Не отвечая Гельмуту на его резко поставленный вопрос, Густав Штубе подвинул ближе к столу кресло и уселся в него. — Вы спрашиваете, что мне от вас нужно? — неторопливо заговорил Штубе. — Об этом вы сейчас узнаете. Во всяком случае, я ваш доброжелатель, как ни банально звучит подобное определение. Что касается моей специальности, то мы с вами до некоторой степени коллеги: я химик, хотя и недоучившийся. Вам предложили взять “меня в помощники, но вы отказались, справедливо полагая, что в моем лице в ваше скромное жилище проникнет шпион… — Однако это не помешало вам… — Да, это не помешало мне пренебречь вашим запретом и свести с вами знакомство. Мои побуждения? Как-никак мы оба с вами — немцы, и к тому еще сверстники. Разве это не достаточное основание для знакомства? — Нет, не достаточное. Немцы, знаете ли, бывают разные. — Ну, в вашем положении выбирать не приходится, Шрамм. Ведь я явился сюда для того, чтобы помочь вам, более того — спасти вас от верной гибели. — Вы лжете, господин Штубе, вы явились сюда не по своей воле: вас подослали негодяи, которые держат меня в заключении. — Разумеется, так. Но из этого вовсе не следует, что я желаю вам зла. Совсем напротив, я хочу спасти для нашей Германии молодого, многообещающего ученого Гельмута Шрамма! Слушайте же меня, Гельмут Шрамм! — Штубе чуть приподнялся в кресле и воздел руку, как бы призывая к вниманию. — У этих людей нет от меня тайн, я связан с ними на жизнь и на смерть. Знайте же: они решили убить вас, если вы не откроете им тайну вашего мортина! — Мне это известно, господин Штубе. — Но они убьют вас, даже если вы откроете им формулу мортина! — И это мне известно, господин Штубе, — намеренно спокойным голосом сказал Гельмут: его раздражал крикливый пафос посетителя. — И все же у вас есть выход… — Выход? Вы же сами говорите: они решили убить меня и в том и в другом случае. — Да, но есть третий, спасительный вариант! Пойти с нами, всем сердцем, всей душой принять нашу великую доктрину! Пусть вашим вкладом будет созданное вами идеальное химическое оружие! Мы поднимем вас на такую высоту… Гельмуту было всего семь лет, когда труп Гитлера облили бензином и сожгли во дворе имперской канцелярии в глубокой воронке, образованной взрывом русской мины. Но из чужих рассказов и прочитанных книг у него создалось свое собственное отчетливое представление о бессмысленно-выспренней, оглушающей манере нацистов внушать людям ненависть и отвращение ко всему истинно высокому и светлому. И сейчас в голосе этого молодого немца, его сверстника, почудился Гельмуту отзвук тех истошных речей, которые целых тринадцать лет терзали слух и душу немецкого народа… — Замолчите, Штубе, — с трудом сдерживая себя, прервал посетителя Гельмут. — Я уже сказал вам: предпочитаю смерть. — Что ж, дело ваше, — холодно и враждебно сказал посетитель. — А вы отдаете себе отчет в том, что это такое — смерть? Смерть — это значит, что вас никогда и нигде не будет… Никогда и нигде… Вдумайтесь в эти слова, Шрамм! Вы скажете — такова судьба всего живого. Но это общие рассуждения, а дело идет о вашей смерти! О вашей, Шрамм! Лицо Густава Штубе побелело и задергалось тиком, под левым глазом задрожал какой-то мускул, в чертах проступило как бы безумие, и казалось, он вот-вот забьется в припадке. — Знайте же: когда придет срок, они убьют вас и труп ваш выбросят на дорогу, как если бы вы стали жертвой автомобильной аварии, — говорил Штубе ровным и вместе с тем странно вздрагивающим голосом. — И вот представьте: ваш мозг лежит на свинцовом столе прозекторской, тут же сердце, печень… Это вас — вас, Гельмут Шрамм! — потрошат после смерти. А за широким окном стоят белые облака, жаркая тишина летнего воскресного полдня. Все разъехались по дачам… Чего стоят в этом свете, Шрамм, все ваши “моральные принципы”?! Словесная труха, не более того… Гельмут невольно содрогнулся, и не потому, что его ужаснул образ смерти — его, Гельмута, смерти! — нарисованный Густавом Штубе. Нет, этот молодой человек был так бесконечно далек от всего того, чем и во имя чего жил Гельмут, что не мог задеть его. Его ужаснула самая фразеология Штубе, его речь, выработанная в застенках гестапо и рассчитанная па слабый человеческий дух, колеблющийся между верностью и предательством. Значит, не канула в вечность, не испепелилась в бензиновом костре эта гнусная человеческая формация, возникшая в Германии в начале тридцатых годов! Конечно, он мог прогнать этого Штубе, но ему не хотелось давать волю гневу или раздражению: его положение узника, предстоящие ему испытания обязывали его к выдержке. — Смерть, умирание… — отозвался он небрежно. — Эту работу, в конце концов, придется проделать каждому, в том числе и вам, Штубе. Послушайте-ка, приходилось вам когда-нибудь слышать такую фамилию — Кант? Иммануил Кант? — Кант? Это кто такой? — Один старый немец, умерший более полутораста лет назад. Ему принадлежит фраза, которая на пороге моей юности определила всю мою духовную жизнь. Вот эта фраза: “Чем дольше я живу в этом мире, тем больше дивлюсь двум вещам: звездному небу надо мной и нравственному закону во мне”. Это и есть мой ответ на ваше предложение, Штубе! — Все декламируете? — с нескрываемым презрением произнес Штубе. — Декламирую, Штубе. А теперь отправляйтесь к вашему Смиту… — К Смиту? Это кто же такой? — Американец, который удостаивает меня своими визитами. — Вот вы о ком! Да он вовсе не Смит, а Листер, Генри Листер, один из воротил общества Джона Берча, апостол химической войны! — Как? Тот самый Листер, один из идеологов североамериканских нацистов? — Вот именно, тот самый Листер! Быть может, вас интересует, где вы находитесь? В Испании, мой друг, в железных руках СС! Вот уж, верно, не думали, что такое возможно двадцать лет спустя после крушения третьего рейха и процесса в Нюрнберге? А? То ли еще будет!.. “Так откровенничают лишь с тем, кто обречен на смерть”, — сказал себе Гельмут по уходе Штубе, уселся за рабочий стол и углубился в книги.АГНЕССА НА УЛИЦАХ МАДРИДА
Агнесса прилетела в Мадрид ранним воскресным утром — в городе еще стояла прохлада — и прямо с аэровокзала решила ехать по адресу, который ей дала Эвелина. — Эмбахадорес, — сказала она водителю такси. — Улица? Дом? — Эмбахадорес. По настойчивому указанию, полученному от Эвелины, Агнесса не должна была называть водителю адрес, по которому она направлялась, и ей предстояло самой отыскать в Эмбахадоресе — рабочем квартале Мадрида — нужную улицу и дом. Водитель пожал плечами — мало ли какие странности бывают у пассажиров, к тому же иностранцев! — и машина тронулась. В том смятении, в каком находилась Агнесса все последние дни, она не испытывала ни малейшего интереса к испанской столице, через которую мчалась машина. Погруженная в тревожные мысли, она вздрогнула от неожиданности, когда водитель, резко затормозив, воскликнул: — Эмбахадорес! Агнесса уплатила по счетчику и собиралась было выйти из машины. Вдруг водитель, глядя перед собой, негромко обратился к ней на ломаном французском языке, полагая, видимо, что этот язык скорее знаком иностранке, чем испанский: — За вами следят. Я вижу в зеркальце машину, которая преследует нас от аэровокзала… Первый двор по этой стороне улицы проходной. Сверните туда, и вы попадете в переулки. Там они вас потеряют. Торопитесь… — Благодарю вас. Право, ей везет на водителей такси: вот уже второй принимает доброе участие в ее судьбе… Агнесса быстро достигла указанных ей ворот, и вот она уже почти бегом пересекает обширный двор, густо населенный беднотой. Множество детей, одетых в лохмотья, играют на замусоренной земле в свои нехитрые игры; на ржавых до красноты железных балконах, лепящихся к грязным, источенным сыростью стенам, развешано для просушки дешевое, яркоцветное, застиранное белье; двор изрыт землянками — в этих импровизированных квартирах ютятся, видимо, безработные. Вся эта картина промелькнула мимо Агнессы со скоростью киноленты. Затем сквозь другие ворота она выбегает в узкий переулок, уставленный такими же золотушными домами и домиками. Дальше, дальше! Переулок за переулком — целый лабиринт переулков, из которого Агнесса выбирается наконец на какую-то улицу, где уже можно затеряться в толпе прохожих. Она заходит в крохотное, на несколько столиков, пустое кафе и произносит по-испански слово “кофе”. Ей необходимо спокойно посидеть, прийти в себя, успокоиться. Имитируя спокойствие, она мелкими глотками пьет кофе, поданное ей юной, лет пятнадцати, официанткой, и напряженно размышляет, как быть дальше. Она чувствует себя очень одинокой и несчастной в этом большом и враждебном городе, куда прилетела по следу мужа: Леман и Ангст согласно утверждали, что Гельмута увезли в Испанию. Слежка за ней, Агнессой, подтверждает правильность этих сведений… Одна, без знания языка, в чужом городе, где полиция уже извещена о ее приезде и, видимо, о той цели, которая привела ее сюда. Как отыскать людей, к которым ее направили? Кого спросить, где находится та улица и тот дом, в котором живут эти люди, и в то же время не навести полицейских ищеек на их след? Агнесса глотает кофе, с трудом удерживаясь от слез; ей страшно покинуть это маленькое, уютное кафе и выйти на опасный простор испанской столицы. Она так устала от всех злоключений последних недель, от горестного страха за Гельмута, от неравной борьбы с неведомым и могущественным противником, от постоянного внутреннего напряжения, уже толкнувшего ее раз на ложный шаг, который, быть может, ухудшил положение Гельмута. Но распускаться нельзя, надо крепко держать себя в руках: сейчас все зависит от ее самообладания… Агнесса подзывает юную черноглазую официантку и, беззаботно улыбаясь, показывает ей записку, на которой Герман Ангст написал адрес своих испанских друзей. — Где? — спрашивает Агнесса по-испански; это одно из тех слов, которые она вызубрила перед отъездом. Девушка быстро и охотно, с оживленными жестами, говорит что-то в ответ, но Агнесса не понимает ее и, продолжая улыбаться, отрицательно мотает головой. — О! — восклицает девушка, хватает записку и выбегает в заднее помещение кафе. Агнесса с ужасом смотрит ей вслед, но не проходит и полминуты, как девушка возвращается обратно, ведя за собой пожилого, очень толстого испанца в белом поварском колпаке, со смугло-оливковым цветом лица и черными, круглыми, как маслины, глазами. Девушка странным образом похожа на него, и Агнесса решает, что это ее отец, владелец маленького кафе. Держа в толстых пальцах заветную записку, испанец с любезным видом подходит к Агнессе и обращается к ней на хорошем французском языке: — Мадам интересуется, как пройти по этому адресу? — Да-да… — Нет ли тут какой-нибудь ошибки? Известно ли мадам, что на этой улице обитает лишь грязный рабочий сброд? — Эмбахадорес? — говорит Агнесса. — Совершенно верно — Эмбахадорес!. — радостно подтверждает толстяк. — Я вижу, мадам неплохо подготовилась к путешествию по нашей столице! — Во всяком случае, — отвечает Агнесса, — мадам отдает себе полный отчет в том, куда и к кому она идет: в Эмбахадорес живут родные ее старой служанки, которая Просила мадам навестить их и передать кое-какие подарки… — О, мадам, вероятно, очень добра, если снисходит к таким людям… Мадам приехала в эту прекрасную страну как туристка и не считала возможным отказать своей старой служанке в таком маленьком одолжении… — Но, быть может, мадам позволит, чтобы моя Игнасия проводила мадам, это не так далеко отсюда… — Нет-нет, — решительно говорит Агнесса и встает. — Я не имею права лишать ваше кафе единственной официантки… — Ну хотя бы до угла, — настаивает толстяк. — А там Игнасия покажет вам, как пройти… — Благодарю вас, — соглашается Агнесса и берет из толстых пальцев испанца записку Германа Ангста; в конце концов, ей даже лучше показаться на улице вместе с юной испаночкой, это может сбить с толку полицейских ищеек, если они еще гоняются по городу за одинокой иностранкой. — Идемте, милая Игнасия! Они выходят вдвоем из дверей кафе и сразу вступают в пестрый людской поток. Девушка неумолчно болтает, вставляя в свою речь, в надежде быть понятой, отдельные французские слова. Она поминутно указывает Агнессе на какие-то здания, чем-то, видимо, примечательные; на проходящих мимо военных в каких-то странных фуражках — каскетка с козырьком, приподнятым сзади, — восхищенно шепча при этом в самое ухо Агнессы: “Гуардиа сивиль”; с милой усмешкой — на людей в черных сутанах; с кокетливой жалостью — на юных студентов, одетых зачастую Как оборванцы: в драные брюки и в сандалии на босу ногу. — О, — сочувственно восклицает Игнасия, — у нас так дорого стоит учиться! В своей озабоченности Агнесса обратила внимание лишь на важно ступающих представителей гуардиа сивиль — гражданской гвардии — этой главной опоры жестокого режима генерала Франко, испанских эсэсовцев, о которых ей уже приходилось читать и слышать. Каждый из них, казалось ей, так или иначе, причастен к судьбе Гельмута, повинен в ее, Агнессы, несчастье. Но она лишь скользит по ним взглядом, чтобы не обратить на себя их внимание; она то и дело одергивает Игнасию, убеждая ее жестами вести себя более скромно, но девушка то ли не понимает свою спутницу, то ли не может ничего поделать с собой и все говорит, говорит, сопровождая чуть ли не каждое слово страстной жестикуляцией…АРТУР ЛЕМАН ИДЕТ ПО СЛЕДУ
— Агнесса! Это восторженно восклицает некий молодой человек, и ошеломленная Агнесса не сразу понимает, что перед ней Леман, Артур Леман. В первое мгновение Агнесса испытала чувство радости, почти счастья — наконец-то свой, родной человек! Но немедленно вслед за тем, едва это чувство успело оформиться, ее охватил гнев. — Да-да, Агнесса! Что тебе нужно от меня? Зачем ты меня преследуешь? Который из твоих хозяев подослал тебя ко мне? — Но, Агнесса, я же… — Помолчи! Она ласково взяла Игнасию за руку и на какой-то смеси испанского и французского дала ей понять, что ее миссия окончена. Впрочем, девушка и сама догадалась об этом: она жестами показала Агнессе дорогу — прямо, потом направо, потом налево, потом опять направо, — поцеловала ее, словно клюнула в щеку, и побежала прочь. Агнесса с грустью поглядела ей вслед, затем повернулась к Леману. — Где Гельмут? — спросила она коротко и резко. — Я не знаю пока… — Но он здесь, в Испании? — Конечно, я же говорил тебе… А меня направили сюда по твоему следу. Сюда же явились и другие., Ну, те, что связаны с делом Гельмута. — Кто они такие? — Я не знаю пока… — Не знаешь пока? Если ты ничего не знаешь — зачем ты мне нужен? — Я же хочу помочь тебе, Агнесса. Тебе и Гельмуту… — Помочь… — горько повторила Агнесса. — Будто не ты предал Гельмута! Будто не ты виновник всех наших бед! Если бы не ты — мы с Гельмутом… — Ты увидишь, Агнесса, — в голосе Лемана звучала глубокая искренность, — ты увидишь, на что я способен, чтобы искупить свою вину… Я не пожалею жизни… — Чьей? Моей? Гельмута? — Зачем ты так жестоко говоришь со мной, Агнесса? Помнишь, ты сказала: надо иметь хоть одного человека на земле, которому открыта наша душа, какой бы она ни была… Я поверил тебе тогда… я стал совсем другим… — Да-да, Артур, прости меня! — будто движимая внезапным порывом, воскликнула Агнесса, испугавшись, что может оттолкнуть Лемана. — Я несправедлива к тебе, но мне так трудно сейчас… Это было игрой в искренность, но Агнесса твердо была уверена, что Леману, вообразившему себя самоотверженным защитником слабой женщины, не под силу разгадать ее игру. — Ничего, Агнесса, увидишь, все будет хорошо, — заговорил он самоуверенно. — Дай мне только день-два, чтобы навести необходимые справки, начать ориентироваться… Где ты поселилась? — Пока нигде… — Хочешь, я устрою тебя в той гостинице, где я остановился? Недорого, удобно, на главной улице города. — Что ты, Артур! За мной следят, они тотчас же арестуют меня… — Если бы они решили арестовать тебя, ты уже давно сидела бы под замком. Их интересуют сейчас твои связи, адреса, по которым ты ходишь. У тебя есть тут знакомые? Что это за девушка, которая шла с тобой? — Случайное знакомство: она взялась проводить меня по одному адресу… — По какому адресу?.. Почему ты скрываешь от меня, Агнесса? Ты не доверяешь мне? — Я доверяю тебе во всем, что касается меня лично. Но я не имею права доверять кому бы то ни было судьбу других людей. Да и тебе, Артур, лучше не знать, куда я направляюсь, чем лгать… твоему начальству. Это всегда проще, не правда ли? — Возможно, возможно… А ты уверена в этих твоих знакомых? — Уверена. — Кто дал тебе их адрес? Доктор Петерс? Герман Ангст? — Я не знаю таких… — с трудом владея собой, сказала Агнесса. — Что это за люди? — Не надо лгать, Агнесса! — усмехнулся Леман. — В Пул-лахе все известно… — Что — все? — Ну, все. Ангста арестовали через час после твоего отлета в Мадрид. Тяжкий служебный проступок: выдача секретных сведений… — Эвелина? — Эвелина Петерс для них всего лишь своевольная дамочка, любительница запретных приключений. О ее деятельности сообщено мужу для сведения и принятия мер. Единственно, что грозит ей, — увольнение со службы за то, что она способствовала твоему бегству из больницы. — Артур, это ты выдал Ангста? — Я. — Зачем ты это сделал? — Ради тебя, Агнесса. — Ради меня? — Да, мне надо было завоевать доверие в Пуллахе, чтобы лучше помогать тебе и Гельмуту. Там уже заподозрили меня, и мне пришлось принести в жертву этого карлика… Его все равно скоро разоблачили бы — он совсем потерял голову из-за этой Петерс! Да и тебе он уже был ни к чему. — Каким образом ты узнал, что Эвелина и Ангст… — По агентурным сведениям было известно, что ты дружишь с Петерс. Однажды мне удалось проследить, как она и Ангст вошли в церковь в старом городе. Я припугнул сторожа, и он устроил так, что я слышал каждое их слово… Только ты напрасно огорчаешься: этот Ангст принадлежит не к лучшим сынам человечества. Простой полицейский шпик!.. Только и всего. — Да-да, простой полицейский шпик… — с каким-то сложным выражением повторила Агнесса. — Что же теперь ему грозит? — Таких не судят во избежание огласки. Да и не так легко подобрать закон. — Значит, тайная расправа? — В этом роде. — “В этом роде”… — Послушай, Агнесса! А разве сам я не в таком же положении, в каком был Ангст? Разве мне не грозит арест и смерть, как только им станет известно о моей двойной игре? Но я иду на это, иду ради тебя, без всякой надежды, что ты когда-нибудь… Ах, Агнесса, я же знаю, что ты любишь одного Гельмута, и все же стараюсь спасти его, хотя его спасение — могила моей любви… Агнесса молчала. Ей хотелось сказать Артуру, что для полицейского осведомителя он слишком красноречив, но она растерялась перед тем словесным потоком, который он обрушил на нее. В самом деле, что могла она ответить ему?.. — Бедный Артур! — сказала она неожиданно для себя. — Мой бедный друг… — Агнесса! — Он схватил ее руку. — Пусть будет что будет, но я пройду свой путь до конца! — Спасибо, Артур… Скажи, где и когда мы встретимся? — Приходи завтра утром ко мне в гостиницу “Кастилия”. Это на Гран-Виа, главной улице Мадрида. Ну, к десяти часам. — Хорошо, Артур, я приду. Они разошлись, но Агнесса несколько раз оглядывалась, желая убедиться, что Артур не идет за ней следом. Ей надо было во что бы то ни стало сохранить тайну, доверенную ей Эвелиной и Ангстом. К тому же по указанному адресу ее ожидало единственное верное убежище во всем этом враждебном ей мире. Один раз, оглянувшись, она встретилась с Артуром взглядом: он стоял в отдалении и глядел ей вслед. Гнев охватил Агнессу, она сделала резкий отстраняющий жест. В сущности, вопреки всем своим клятвам и уверениям он ничего существенного пока для нее не сделал. У него одна забота: соблюсти строжайший баланс между интересами своего начальства и служением ей, Агнессе. Во всяком случае, арест маленького Ангста, происшедший по его доносу, с избытком перевесил все оказанные им услуги. А сколько ей приходится с ним возиться, лгать, лицемерить, когда ей совсем не до того, когда сердце у нее разрывается от тревоги за Гельмута! И сейчас — чего смотрит он ей вслед, этот соглядатай? Убедившись, верно, что Агнесса настороже, и словно угадав ее мысли, Леман повернулся и исчез из виду…АГНЕССА НАХОДИТ ДРУГА
Прямо, потом направо, потом налево, потом опять направо… Как ни смутно было указание, полученное Агнессой от Игнасии, она быстро отыскала нужный ей адрес, ни разу не прибегнув к расспросам прохожих. Жалкое, покосившееся одноэтажное деревянное строение в ряду таких же убогих домишек, многие годы не знавших ремонта. Дверь Агнессе открыла старая, седая женщина с изможденным, в насечке мелких морщин лицом и выцветшими, тусклыми, словно слепыми глазами. — Вам кого? — спросила она подозрительно, увидев в дверях молодую, нарядно — для здешних мест — одетую женщину. — Здесь живет Дионисио Гонзалес? — произнесла Агнесса по-испански заранее заученную фразу. — Его нет дома. А зачем он вам? Агнесса достала из сумки письмо и, не выпуская его из рук, показала старухе. Та протянула костлявую руку, но Агнесса, прижав письмо к себе, отрицательно покачала головой. Старуха сердито и громко сказала что-то на испанском языке. В это время, видимо на ее голос, к двери подошла женщина лег тридцати, с открытым, добрым, симпатичным лицом. — Обожди, мать… Я жена Дионисио Гонзалеса. — Она отошла от двери. — Заходите! Агнесса ступила в переднюю. — А когда придет Гонзалес? Могу я обождать его? — Он может вообще не прийти сегодня. А вы от кого? И по какому делу? — У меня к нему письмо. Из Мюнхена. — О, из Мюнхена! — Лицо женщины выразило радость. — Наверное, от товарища Фреда? — Да, от Фреда. — В таком случае, будьте нашей гостьей, дорогая соотечественница, — сказала женщина по-немецки, на баварском диалекте. — Я такая же немка, как и вы. Мой Дионисио несколько лет назад работал у пас в Германии на том же заводе, что и я. Мы поженились, и он увез меня в Мадрид. Идемте в комнаты! Вы, наверно, устали… Квартира состояла из двух скромно обставленных комнат и крохотной кухоньки. Женщина привела Агнессу в гостиную, усадила ее на диван и села рядом с ней. — Меня зовут Марта, Марта Гонзалес. А вас? Агнесса! Ну, Агнесса, а теперь дайте мне ваше письмо… Оно, вероятно, не содержит ничего, кроме рекомендации. Не правда ли? Агнесса протянула женщине письмо. Та вскрыла конверт и быстро прочитала несколько строк. — Так и есть! Фред пишет, что вы сами расскажете, что привело вас сюда. Знакомы ли вы с Фредом лично, от него ли получили вы письмо? — Нет, незнакома. Письмо было передано мне через вторые… нет, через третьи руки. Посредником между Фредом и моей подругой, вручившей мне письмо, было еще одно лицо. После моего отлета из Мюнхена это лицо было схвачено тайной полицией… — Откуда стало вам известно об аресте этого лица? — Когда я час назад шла по улицам Мадрида… — Я прерву вас, — каким-то новым, твердым тоном сказала Марта. — Сначала расскажите во всех подробностях о вашем деле. Лучше идти от начала к концу, чем от конца к началу. Я слушаю вас. Какое-то верное чувство подсказало Агнессе, что этой женщине можно открыть все-все, что произошло с ней за последние недели ее жизни, рассказать о всех своих встречах на этом страдном пути, о переживаниях, тяготах, сомнениях, ошибках вплоть до той самой минуты, когда она переступила порог этого жилища. — Вот так я и оказалась у вас, — бледная от волнения, прерывающимся голосом заключила Агнесса свой долгий рассказ. — Похоже, что похищение вашего мужа и действительно связано с американской разведкой. Нам известно, что один из вожаков неонацистов, Отто Вендель, проживающий в Мадриде, ездил недавно в Соединенные Штаты, а вскоре после его возвращения сюда прибыл известный американский ультра Генри Листер… — Что же мне делать? — в отчаянии воскликнула Агнесса, словно впервые осознав, какие могущественные силы отняли у нее мужа. — Я посоветуюсь с Дионисио, — сказала Марта. — Возможно, товарищи сумеют узнать, где находится сейчас ваш муж, если только его в самом деле переправили в Испанию. — Я убеждена, что в этом случае Леман не солгал. Ведь и сведения, полученные Ангстом… — Я тоже так думаю, но, вообще говоря, будьте с Леманом осторожны. Подобные люди капризны, истеричны, хитры, способны на самые неожиданные поступки. Уверены ли вы, что он не выследил вас, когда вы направлялись сюда? — Кажется, у него было такое намерение, но он понял, что я догадалась об этом, и отказался от слежки. Я видела, как он ушел в противоположную сторону. — Это ничего не значит: он мог “передать” вас другим ищейкам, неприметным как тень. Эти полицейские следопыты редко выходят на свой промысел одни. Его дело было — опознать вас, а уж следить за вами обязаны другие. — Я долго кружила около вашей улицы, пока не убедилась, что за мной никто не идет. — И все же вам не следует оставаться у нас, так будет лучше: полиция не сводит с меня глаз. Как только стемнеет, я провожу вас к одним нашим друзьям. Эти люди далеки от политики, но они нередко оказывают нам разные услуги. Связь с вами я буду поддерживать через их дочь, она работает в конторе одного завода… Резкий звонок у входной двери, и тотчас же вслед за ним с нарастающей, дерзкой настойчивостью второй, третий, четвертый. — Кто бы это мог быть? — Марта поднялась с озабоченным видом. Агнесса растерянно осталась сидеть. — Похоже, за Дионисио… — Марта улыбнулась странном улыбкой и направилась к двери. Поворот ключа, и до Агнессы донесся слитный топот ног, ступивших в переднюю, какие-то грубые восклицания. И вот на пороге комнаты вслед за Мартой показались трое здоровенных, рослых парней, одетых в форму, которой так восхищалась маленькая Игнасия: гуардия сивиль! Позади них, словно прячась за их широкие спины, плелся худой, неприметный человечек в штатском, и Агнесса решила, что это и есть та “неприметная тень”, которую Л ем аи пустил по ее следу. — А-а, маленькая иностранка! — со смехом заметил один из вошедших, видимо старший, будто присутствие здесь Агнессы было для него неожиданным. — Готлиб! — обратился он к одному из подчиненных, голубоглазому блондину. — Скажи твоей соотечественнице, что мы не сделаем ей ничего дурного: Испания уважает туристов!.. Обыск длился недолго: в квартирке Гонзалеса, обставленной лишь самой необходимой мебелью, все было на виду, к тому же, видимо, хозяева всегда были готовы к приходу непрошеных гостей. — Ты долго еще будешь прятать от нас своего Диоиисно, Марта? — сказал старший. — Смотри, если в следующий раз не застанем его, то заберем тебя! Мы давно приготовили тебе в Карабанчеле[48] уютное местечко. Синьора, — это относилось к Агнессе, — стыдно связываться со всякой коммунистической швалью! Пошли! Забрав для формы какие-то бумаги и книжки, полиция удалилась. Женщины остались одни. — Это я во всем виновата… Агнесса в полном бессилии уронила голову на стол, никогда еще не чувствовала она себя такой несчастной. Своим безрассудным поведением она навредила Гельмуту, по ее вине в руки тайной полиции попал Герман Ангст, а Эвелине грозят разные беды. Она приносит несчастье всем и каждому, кто бескорыстно пытается помочь ей. — Ни в чем вы не виноваты, милая Агнесса, — услышала она голос хозяйки. — Они давно подбираются к Дионисио, и ваш приход послужил для них только поводом. Я знала, с кем связала свою жизнь… Я покормлю вас сейчас, а затем провожу к нашим друзьям. Ну же, выше голову, соотечественница!.. И Марта улыбнулась Агнессе доброй, ободряющей улыбкой. Агнесса встала, подошла к Марте и обняла ее. — Нет, я не пойду к вашим друзьям. С меня достаточно той неприятности, которую я причинила вам! — сказала она твердо. — Несчастье ходит по моему следу, и я не вправе встречаться с хорошими людьми. Не удерживайте меня, Марта, я уже выбрала свой путь… Агнесса поцеловала Марту и пошла к двери. — Пусть так, Агнесса, но помните: этот дом всегда открыт для вас!АГНЕССА ШРАММ И ОТТО ВЕНДЕЛЬ
Через час Агнесса входила в гостиничный номер, который занимал Леман. — Ты что же, Артур, — холодно сказала она в ответ на восторженное приветствие Лемана, — решил довести меня до отчаяния? Сначала ты предал Ангста, а теперь Гонзалесов, единственных людей в этой чужой для меня стране, на которых я могла положиться? Уж не думаешь ли ты таким путем подчинить меня своей воле? — Гон-за-лесы? — с искренним удивлением воскликнул Леман. — Клянусь тебе, я даже не знаю, о ком ты говоришь! Не скрыл же я от тебя, что арест Ангста — дело моих рук. Но Гон-за-лес! Тут совесть моя чиста. Да кто они такие — эти Гонзалесы? — Я понимаю твою нехитрую игру, Артур. — Агнесса устало опустилась в кресло. — Я верю, что ты и в самом деле не знаешь, кто такой Дионисио Гонзалес. Но это ты, именно ты, расставшись со мной на улице, “передал” меня своим ищейкам, которые и проследили меня до дома Гонзалеса. Остальное сделала гуардиа сивиль. На таких вот жалких уловках и строишь ты сейчас, Артур, всю свою несложную душевную жизнь. Германа Ангстаты предал будто бы для того, чтобы укрепить свое положение и тем самым помочь мне и Гельмуту. В обыске у Гонзалесов ты неповинен — ты всего лишь послал ищеек по моему следу. Придет час — и ты для моей же пользы предашь меня, Артур! Агнесса не отдавала себе отчета, зачем явилась она сейчас к Леману и для чего говорит ему то, что способно лишь превратить его в злобного врага. В том трудном и едва ли не безвыходном положении, в какое она сейчас попала, Агнесса действовала как отчаявшийся человек, которому уже нечего терять, сознавала это и все же не могла заставить себя хитрить и притворяться. Резкий телефонный звонок. Артур проворно подбежал к телефону. — Алло! Кто-кто? О-о! Я сейчас же спущусь вниз! Не надо? Но у меня, простите, гостья… О нет, фрау Агнесса Шрамы… Да, та самая… Жду! Жду! Леман бережно положил трубку на рычаг и обернул к Агнессе растерянно-восторженное лицо: — Сейчас сюда войдет человек, который был любимцем самого фюрера, его правой рукой… — Зачем ты назвал меня? — гневно прикрикнула на пего Агнесса и шагнула к двери. — Я ухожу… — Останься, Агнесса, умоляю тебя! — Леман в испуге схватил ее за плечо. — Он хочет тебя видеть, это единственный человек в мире, который может тебе помочь! — Кто он такой? Его фамилия? — Я не имею права назвать… Но поверь, Агнесса… — Ладно, я останусь, — Агнесса с решительным видом уселась в кресло. — Я понимаю, ты хочешь поднести ему меня как трофей и заслужить его благоволение. И все же я останусь. — Вот и хорошо… вот и хорошо… — засуетился Леман и стал лихорадочно прибирать в комнате, где и без того царил полный порядок. — Ты увидишь, это такой человек… надо только вести себя, ну, осторожнее… уступчивее… Это он, он! Войдите! И Артур Леман бросился к двери. Человек, вошедший в комнату, поразил Агнессу своей внешностью. Высокий рост, атлетическое сложение, широкие, неприятно-округлые плечи, крупное, прямоугольное лицо, мутные глаза, низкий лоб, изрезанный глубокими морщинами, левая щека от уха до подбородка рассечена грубым красным рубцом. “Да это же… это же… Вендель! — сказала себе Агнесса. — Знаменитый Отто Вендель!” — Рад познакомиться с вами, фрау Шрамм. — Вошедший чуть склонился перед Агнессой и опустился в соседнее кресло. — Мне известно, что привело вас сюда, в Мадрид, и надеюсь, что смогу быть вам полезным. Впрочем, многое зависит от вас самих. То ли потому, что с именем Венделя — она знала об этом от Эвелины — было связано похищение Гельмута из гостиницы, то ли сама его личность как бы воплощала в себе все грязное, мрачное и жестокое, что было характерно для “гитлерцейта”, но Агнесса сразу решила: перед ней враг, смертельный враг, возможно, главный виновник постигшего ее несчастья. Конечно, этот человек может не только погубить, но и спасти Гельмута, но на условиях, которых Гельмут никогда не примет. — Кто вы такой? — резко сказала Агнесса, хотя ничуть не сомневалась, что перед ней Отто Вендель. — И почему вы рады познакомиться со мной? И что зависит от меня? — Вендель. — Он склонил голову, словно представлялся знатной особе. — Отто Вендель, коммерсант, доверенный германских фирм. Так вот как реализовались для нее два таинственных слова, подслушанные некогда Эвелиной в квартире ее кузена! Что такое “Остмарк” — Остермарк, Агнесса уже убедилась на собственном опыте. А теперь судьба свела ее воочию и с “Веделем” — Венделем, кровавым эсэсовцем, одним из сподвижников фюрера, спасенным американцами от виселицы… — Откуда же вам известно, господин Вендель, какое дело привело меня в Мадрид? Оно не имеет к коммерции ни малейшего отношения. — Видите ли, фрау Шрамм, хотя я и занимаюсь коммерцией, но в душе я остался солдатом. В былое время я служил фюреру, великому германскому рейху. Теперь я служу Федеративной Республике Германии — так именуется сейчас наше дорогое отечество. На путях этого служения я и столкнулся с вашим делом… Теперь, разрешите, я, в свою очередь, задам вам вопрос: от кого вы узнали, что ваш муж в Испании? От этого маленького негодника Ангста? Или от этого господина? — Он кивнул в сторону Лемана, который с видом пай-мальчика сидел в отдалении на кончике стула. — Во всяком случае, не от господина Лемана: он не слишком разговорчив… Вы сказали, что беретесь помочь мне. Ваши условия? — Мор-тин, уважаемая фрау Шрамм! Химическая формула мортина! — Я не знаю формулы мортина. — Но ее знает ваш муж. Для вас не составит труда выудить у него эту тайну. — Выудить? — с нескрываемым презрением отозвалась Агнесса. — Не сумели же вы раздобыть ее силой, угрозой смерти! — Но ведь поэты говорят, что любовь сильнее смерти, фрау Шрамм. Разве не так? — Видимо, так, — спокойно сказала Агнесса. — Иначе вам не приходилось бы скрывать от людей вашу основную профессию, прикрывать ее высокопарными фразами о служении родине… — Мою профессию? — Ну да, ведь ваша профессия — смерть. — Агнесса! — подал голос из своего угла Леман. — Как ты можешь… — Помолчите, господин Леман. — Отто Вендель усмехнулся, и длинный рубец на его щеке, изогнувшись змейкой, безобразно расползся по лицу. — Выговор, полученный от хорошенькой женщины, не способен задеть или оскорбить меня. Скорее, напротив. Мы, СС, всегда были рыцарями… Итак, милая фрау Шрамм, решайте! Мортин или жизнь вашего мужа! — Я попытаюсь уговорить мужа. Но мне нужны гарантии. — Какие же именно? Если господин Шрамм даст согласие лично руководить производством для нас мортина — вам гарантии не нужны: тогда он наш человек и может рассчитывать на любые жизненные блага. Постарайтесь склонить его именно к этому. Если же он ограничится тем, что откроет нам формулу мортина… Что ж, в этом случае мы согласны на любое ваше разумное требование! — Когда вы предоставите мне свидание с мужем? — Если угодно — сегодня. — Сегодня — нет. Я должна подумать, подготовиться. Вы же знаете, какой у него характер? — Знаю. Но помните, в случае неудачи… — Мне известно, господин рыцарь, что ждет мужа и меня в случае неудачи. — Что ж, я человек деловой и не люблю недоговоренности. Когда прикажете заехать за вами, прекрасная дама? Когда и куда? — Я сообщу вам об этом через господина Лемана. — Торопитесь, фрау Шрамм, торопитесь, мы не можем ждать до бесконечности. Имею честь! Отто Вендель поднялся, небрежно кивнул Леману, чтобы тот следовал за ним, и пошел к двери. Леман тотчас же вскочил и бросился за Венделем. Агнесса осталась сидеть в кресле в глубоком раздумье. Нет, она вовсе не собирается уговаривать Гельмута, это было бы и бесполезно. Ей надо лишь выиграть время. Зачем? Она и сама не могла бы ответить на этот вопрос, у нее не было никакого плана освобождения Гельмута… — Ну, Агнесса, — вывел ее из задумчивости голос Лема-па, — он просто влюбился в тебя! Вот это, говорит, женщина! — Я счастлива, Артур, что этот убийца так лестно отозвался обо мне. Но мне, право, сейчас не до него. — Я понимаю, понимаю… — Где находится Гельмут? Он здесь, в Мадриде? — Я не знаю, Агнесса. Но ведь ты скоро встретишься с ним… — И что же? Они примут все меры, чтобы я не узнала, где именно Гельмут находится. — А к чему тебе знать? — Надо, Артур, надо… Скажи, зачем он позвал тебя за собой? Что говорил он тебе? И зачем он вообще приходил сюда? — Ему сообщили, что ты в Мадриде, и он хотел через меня вступить с тобой в переговоры. А когда я сказал ему по телефону, что ты здесь, в моем номере, он решил поговорить с тобой сам. А позвал он меня затем, чтобы я поторопил тебя. Его самого торопят, и он не может больше ждать. Он настаивает, чтобы ты скорее увиделась с Гельмутом, иначе, по его словам, Гельмуту придется плохо… — Ты не лжешь, Артур, он так и сказал? — Агнесса! — Что — Агнесса? — Как ты можешь? Ты же знаешь, как я люблю тебя, что я готов… — А я думаю, что ты куда сильнее любишь… Отто Венделя. Если дело дойдет до выбора, ты, конечно, предпочтешь его… Но если ты и вправду любишь меня, помоги узнать, где находится Гельмут! — Ладно, я попытаюсь. — Артур резко поднялся. — Я сделаю для спасения Гельмута все, что в моих силах. Но если… если все же с ним случится… непоправимое… могу ли я надеяться, Агнесса? Скажи только слово, одно слово… Гнев, ненависть, отвращение охватили Агнессу с такой силой, что она с трудом сдержалась. — Но, Артур, как ты можешь в такую минуту… — Ах, дорогая моя, я и сам не знаю, что говорю!..У МАРТЫ ГОНЗАЛЕС
Агнесса поселилась в той же гостинице, где Леман, и на следующее утро он явился к ней и сообщил, что Гельмут находится в провинции Бургос, в замке богача и давнего агента нацистской разведки дона Пабло Эгуэра. Там же расположился и один из испанских филиалов Федеральной разведывательной службы. — Эти сведения обошлись мне в полторы тысячи долларов. — О, Артур, — смущенно сказала Агнесса, — я не располагаю такими деньгами. — Стыдись, Агнесса! Как ты могла подумать?.. К тому же ты знаешь, что моим состоянием я обязан вам… Гельмуту… и мой долг….. Это унизительное признание, сделанное без всякого понуждения, в приступе любовной откровенности, вызвало в Агнессе новый приступ отвращения к Леману, и она почувствовала себя почти счастливой, когда, расставшись с ним, вышла одна на людную улицу. Теперь Агнессе не к чему было таиться от возможной слежки, не к чему было и оберегать от шпиков квартиру Гонзалесов. Не оглядываясь по сторонам, она прямым путем направилась к Марте. Та встретила ее с глубокой искренней радостью и обняла, как сестру. — А тебе не опасно приходить сюда? — спросила она озабоченно. — Ведь наша квартира наверняка находится под наблюдением! — Нет, Марта, игра идет в открытую. Они все знают обо мне, я — о них. Я открыто поселилась в гостинице “Кастилия”, в центре города, веду дипломатические переговоры с самим Венделем… — С Отто Венделем? Он что — сам назвал себя? — Я сразу узнала его по портретам, но он и не думал скрывать свое имя — он с гордостью назвался: Отто Вендель. Что ты хочешь — ведь у нас в Германии многие считают этого злодея героем! Вендель рассчитывает, что я уговорю мужа открыть им тайну изготовления мортина. Он предложил мне свидеться с Гельмутом. А пока я узнала, что они держат Гельмута и замке дона Пабло Эгуэра, в провинции Бургос. — В замке Эгуэра? Да ведь там помещается геленовская разведка! — Да, я знаю об этом. — Когда же тебе дадут свидание с Гельмутом? — Видишь ли, Марта, это зависит от меня, а я не знаю, как мне быть. Ты же понимаешь, я не стану уговаривать Гельмута, а их подслушивающие аппараты способны уловить даже самый слабый шепот, не то что обычную речь. Выйдет так, что я сразу разоблачу себя, а мне необходимо какое-то время поддерживать в них надежду, чтобы они щадили Гельмута. Другое дело, как использовать это время. Я думаю об этом постоянно, но одна я бессильна что-либо предпринять. Не обратиться ли мне за помощью к печати? — В Испании нет печати. — Я попытаюсь передать во Францию, в Германию… — Вот что, Агнесса, по совету Дионисио я познакомлю тебя с одним человеком. Он журналист, корреспондент крупной английской газеты, тайно сочувствует и помогает антифашистам и коммунистам и тайно передает за границу информацию о злодействах каудильо и его шайки. Многое, что осталось бы неразоблаченным, попало в мировую печать именно через него. Можешь полностью ему довериться. К тому же он английский подданный, и самое худшее, что ему угрожает, — высылка из Испании. — Но где же я увижусь с ним, Марта? — Я уговорюсь с ним так… Ты явишься завтра к десяти утра на угол проспекта Корталеза и улицы Монтера. К этому часу туда подъедет такси, номер пять два сорок три. Запомни: пять два сорок три! Он уже будет в машине, и ты поедешь с ним вместе. Зовут его Уоткинс, Чарльз Уоткинс. Но помни, Агнесса!.. — И Марта приложила палец к губам. — О! — произнесла Агнесса, и в этом восклицании сказалась вся сила и твердость ее духа. — А как же водитель? — Водитель — наш человек. При нем можно говорить обо всем — мы постоянно пользуемся его услугами… — Ты думаешь, этот Уоткинс сможет помочь мне? — Как тебе сказать? У него большие связи в самых различных кругах, его считают лояльным по отношению к режиму Франко. Это позволяет ему поддерживать отношения с франкистскими вельможами и крупными чиновниками, даже посещать неонацистские салоны, чуть ли не дружить с самим Венделем. — Но освобождение Гельмута — это так сложно и ужасно трудно! — Не знаю, Агнесса, возьмется ли он за это, но дельный совет ты от него, во всяком случае, получишь. — Дельный совет… — горько произнесла Агнесса. — Оставить всякую надежду — это тоже дельный совет! Ах, милая Марта, если бы ты знала, как мне тяжело! Будь я на твоем месте, мне, наверное, было бы куда легче. Верить в лучшее будущее людей, бороться за него, жертвовать собой, своим покоем и счастьем… — Милое мое дитя, — сказала Марта, хотя была всего лишь на несколько лет старше Агнессы, — какая цена была бы нашим жертвам, если бы нам чужды были те чувства, какие испытываешь сейчас ты? — Прости меня, Марта, — тихо отозвалась Агнесса. — Мне очень стыдно, что я сказала такую глупость. Постарайся забыть о ней…ПРОФЕССОР ДЖОРДЖ СТЕНТОН
— Знакомьтесь, мистер Шрамм: наш известный химик профессор Джордж Стентон! И Листер шагнул в сторону, как бы призывая Гельмута оценить значительность представленного ему человека. Гельмут слышал о Стентоне: блестящий ученый, с пытливым, острым умом, продавший свой незаурядный дар химическому концерну Ламетта. Стентон вместе с тем занимался какой-то двусмысленной политической деятельностью, отдающей авантюризмом. — Шрамм, — холодно отозвался Гельмут, стоя у своего рабочего стола и не протягивая Стентону руки. — Что угодно профессору от узника? Стентона ничуть не смутил такой прием. Он спокойно отвел свою протянутую было руку и сказал с чуть приметной усмешкой: — Не моя вина, коллега, что мы встречаемся в такой странной обстановке. Я предупреждал Смита… — Листера, Генри Листера! — прервал Гельмут. — Листера, — поправился Стентон, кинув удивленный взгляд на своего спутника. — Так вот, я предупреждал Листера, что он ставит меня в неловкое положение. Но он возразил. Дело, которое привело нас сюда, имеет мировое значение, и в этом случае вполне допустимо пренебречь обычными условностями. Мне это возражение показалось убедительным… — Что же все-таки угодно от меня профессору Стентону? Гельмут отлично понимал, зачем Листер явился к нему на этот раз в сопровождении “своего” профессора химии, но это была единственно доступная ему форма протеста: заставить непрошеных гостей лишний раз высказаться. Стентон повернулся к Листеру: — Отвечайте же, Генри, что нам угодно! — Что нам угодно?.. — Листер шагнул вперед, положил руку на спинку кресла и, как всякий раз, хотя и был хозяином положения, отдал дань вежливости. — Разрешите присесть? Гельмут пожал плечами. Гости уселись по одну сторону стола, хозяин — по другую, на свое обычное рабочее место. — Я позволю себе напомнить вам, мистер Шрамм, что вы по моей просьбе и, прибавлю, вполне добровольно согласились информировать меня о состоянии русской химической науки. — Листер говорил тоном председателя ученого симпозиума, напутствующего очередного докладчика. — Точнее: имеются ли данные полагать, что русская наука способна в настоящее время производить поражающие вещества такой же примерно губительной силы, какой обладает ваш мортин? Я профан в этой области и потому просил моего друга Стентона… — Мне понятно, зачем вы прихватили с собой профессора Стентона, — сказал Гельмут. — Но прежде всего прошу вас твердо запомнить: о мортине нам с вами решительно ничего не известно. Если вам требуется эталон для сравнения — пусть это будет некое гипотетическое вещество, обладающее абсолютной поражающей силой, а также исключительной химической устойчивостью. Конечно, химия поражающих веществ — сугубо засекреченная область, но, насколько я знаю, подобного вещества в распоряжении западной науки пока как будто не имеется… — Совершенно верно, — подтвердил Стентон, — не имеется. При условии, конечно, если ваш мортин, о свойствах которого меня осведомил Листер… — Повторяю, мистер Стентон, — резко сказал Гельмут, — мортин — это призрак, фантом, мечта Генри Листера, а не реальность! Если мортин и существует, то единственно в моей голове, — Гельмут пристукнул себя указательным пальцем по лбу, — и ни политическая софистика, ни тончайшие методы современной психологии, ни самая изощренная пыточная аппаратура не в состоянии извлечь ее оттуда. — Не могу не сказать вам, мистер Шрамм, что вы для меня загадка! — патетическим голосом воскликнул Стентон. — Ведь ваш мортин — это высшее, я бы сказал, высочайшее политическое достижение нашей науки, и я не в состоянии постигнуть, как это вас, молодого человека, почти юношу, не прельщает возможность сыграть решающую роль в роковой схватке двух исторических сил, из которых одна — наша великая западная цивилизация, вскормившая наши души! Лично я завидую вам, страстно завидую! Если бы я держал руку на таком рычаге, я бы не задумался ради столь высокой цели принять на себя ответственность за любое число человеческих жизней. Каждый год на земле без цели и смысла умирают от разных болезней и мерзкой, бессильной старости, — лицо Стентона свело гримасой отвращения, — десятки миллионов людей. Разве не разумнее, не благороднее принести их в жертву при помощи мгновенной, безболезненной смерти во имя великой идеи? Мы новое человечество, призванное решать и властвовать, дать новый смысл и новое значение слову “человек”! Пусть же все государства мира, кто по собственной воле, а кто и приведенный к покорности жесточайшими мерами… — А знаете, Стентон, — с какой-то веселой, озорной злостью прервал оратора Гельмут, — лишь только вы вошли, я стал мучительно думать, на кого вы похожи. Ну конечно же, на черта! Таковы же были и наши нацистские черти, повешенные в Нюрнберге: в одной руке — “Моя борьба” и “Миф XX века”, в другой — топор палача. А впрочем, те черти были куда проще вас, теперешних. Видимо, чтобы обмануть людей, чертям год от году приходится маскироваться все искуснее и хитрее. И все же, как видите, я сразу узнал вас в обличье профессора химии!.. — Что ж, ваше ангельское преподобие, — без всякой обиды сказал профессор Стентон, — теперь, когда мы с вами так близко познакомились и утратили в отношении друг друга всякие иллюзии, можно приступить и к делу, ради которого мы с Листером позволили себе нарушить ваш покой… — Однако вы наблюдательны, мистер Шрамм, — светским тоном заговорил Листер. — И должен заметить, что меня поражает сочетание в одном человеке такой остроты ума и характера со старомодным, замшелым гуманизмом. Но что поделать, если мистер Гельмут Шрамм именно таков, каков есть, и предлагает нам вместо своего мортина воображаемый эталон идеального яда! Нам остается лишь надеяться, что коммунисты еще не успели обогнать нас в производстве поражающих материалов и пока столь же далеки от достижения идеала, как и мы. Итак, мы слушаем вас, мистер Шрамм!..РАЗРЫВ
Несмотря на ядовитость реплик, которыми обменивались собеседники, ничто на этом маленьком ученом симпозиуме не указывало на истинную расстановку сил. И со стороны не так-то просто было распознать, что по одну сторону здесь находятся высокоученые представители заокеанской разведки и по другую — человек, которого силой удерживают в этом своеобразном “зале заседаний”, чтобы под угрозой пыток и насильственной смерти принудить его к соучастию в тягчайшем преступлении против человечества. — Итак, мистер Шрамм?.. Но Гельмут не спешил поделиться с Генри Листером и Джорджем Стентоном своей тайной. Он испытывал удовлетворение от мысли, что от него одного зависит, когда “выбить из седла” этих апологетов химической войны. — Да-да, — заговорил он будто в рассеянности, — вы хотите узнать, как далеко продвинулась русская наука в создании поражающих веществ? Но ведь это лишь часть более общего вопроса. Мне кажется, господа, что вы недостаточно прониклись одной несложной истиной, доступной в наше время пониманию всех и каждого, или же сознательно отказываетесь признать ее, потому что она противоречит вашим политическим планам и расчетам… — Что вы имеете в виду, Шрамм? — нетерпеливо прервал Листер. — И не лучше ли нам держаться ближе к теме? — Эта истина, — продолжал Гельмут, игнорируя реплику Листера, — гласит, что научный прогресс в высокоразвитых промышленных странах находится в каждый данный момент в среднем на одинаковом уровне. Таков закон развития современной науки. При одних и тех же исходных данных ученые, обладающие современной научной аппаратурой, естественно, приходят к одним и тем же результатам. Ведь известно, что даже строжайшая засекреченность некоторых областей научного исследования, имеющих военное значение, не мешает ученым разных стран создавать одни и те же, во всяком случае сходные, виды и типы вооружения. Словом, чуть раньше, чуть позже, но любая развитая в промышленно-техническом отношении страна способна… — Уж не хотите ли вы сказать, — вскинулся Листер, совсем недавно почти в тех же словах развивавший ту же мысль перед Отто Венделем, — что советская наука в данном случае… — Вот именно это я и хочу сказать. На тех высотах, которых достигла советская химия, она способна сегодня решать любые задачи, будь то создание идеального яда… — Доказательства! — Нет ничего проще. — Гельмут отобрал несколько книг и журналов и придвинул Стентону. — Начните хоть с этого журнала, вышедшего в свет несколько лет назад! — Он раскрыл журнал на нужной странице. — Можно ли сомневаться, что ученые, создавшие эту формулу, являются полновластными хозяевами в данной области науки и способны изготовить любое поражающее вещество этого рода с заранее заданными свойствами. — Н-да… — хмуро произнес Стентон, одним взглядом охватив длинную химическую формулу, протянувшуюся от края до края строки. — С этим приходится считаться… — “Приходится считаться”! — раздраженно воскликнул Листер. — Что вы хотите этим сказать, Джордж? Вы что, разделяете мнение Шрамма? — Дело не во мнениях, Генри, а в фактах. — Но одно дело возможность, другое дело свершение! Ведь Советы не собираются вести против нас химическую войну — вы сами утверждали это, Шрамм! — и потому вряд ли создали и запасли… — Но ведь они не собираются вести против вас и термоядерную войну, однако создали и запасли более чем достаточное количество ядерного оружия на тот случай, если вы нападете на них или на их союзников. Не сомневайтесь: они отлично осведомлены о том, что в вашей армии создан целый химический корпус, к услугам которого имеются заводы, полигоны, арсеналы; что создаются все новые военно-химические соединения и новые виды химического оружия; что в Штатах, в Канаде, в Англии, во Франции, в нашей Германии имеются десятки секретных лабораторий, финансируемых военными министерствами стран НАТО и неустанно работающих над созданием всех мыслимых видов химического, бактериологического и радиологического оружия. Не обманывайте себя, господа, не надейтесь, что вам удастся захватить русских врасплох! Нет и не может быть у вас такого секретного оружия, которое отсутствовало бы у них. Это вполне подобно зеркальному отражению: если мог возникнуть “западный” мортин, значит, существует и “восточный” мортин… — Что вы скажете на это, Джордж? — Я не склонен к такого рода обобщениям, Генри. Что же касается, в частности, мортина, то мистер Шрамм прав. Отсюда, — Стентон ткнул пальцем в страницу, — действительно всего лишь один-два шага до идеального яда. А ведь журнал этот четырехлетней давности. — Послушайте, Джордж! — азартно воскликнул Листер. — Если от этой формулы всего один-два шага до идеального яда, почему бы не сделать эти шаги нашим химикам? — Придет время, и мы сделаем их, Генри. Но это совсем не так просто, как вам представляется. — Но почему же, Шрамм, вы решили, что русские уже сделали эти шаги? — Я сам шел тем же путем. Косвенные данные, имеющиеся в более поздней русской химической литературе, убедили меня, что последний этап у них позади. — Что это за косвенные данные, Шрамм? — Это моя маленькая тайна, и я решил оставить ее при себе. К тому же никто другой, по крайней мере на ближайшее время, не сможет их обнаружить. Точнее говоря, понять их значение….. — Но ведь это дает русским недопустимое преимущество перед нами! — негодующе воскликнул Листер. — Неужели вы, человек западного мира, способны поставить под удар… — Повторяю, Листер: они не собираются нападать на вас. — Гельмут поднялся из-за стола. — Послушайте, господа! Один из вас — профессор социологии, другой — профессор химии. Допустим, что вы, Листер, ничего не смыслите в точных науках, а вы, Стентон, в науках социальных. Почему бы вам не объединить ваши усилия? В этом случае при минимальной добросовестности вы неизбежно придете к тому же выводу, что и русские: у человечества нет иного выхода из тупика, кроме мирного сосуществования. Вы уже поняли, что ядерная война не принесет победы ни одной стороне. Но то же относится и к войне химической, и к любой другой. Как бы ни изощрялись вы в измышлении разных видов и родов оружия: нервно-паралитические, психо-химические газы, чумные блохи, пары цианистой кислоты, скорпионий яд, — все они с роковой неизбежностью, во всех без исключениях случаях обратятся против вас самих. Кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других. — Довольно нравоучений, Шрамм! — Листер поднялся. — Намерены вы поделиться с нами вашей тайной или нет? — Нет, не намерен. — Я начинаю думать, что вы и верно коммунист. — Листер положил руку на плечо Стентона. — Идемте, Джордж. Мы ничего не потеряем, если не дослушаем пропагандистское выступление мистера Шрамма!..СВИДАНИЕ В ТАКСИ
Когда Агнесса проснулась, было семь утра. Ей плохо спалось в эту ночь. В канун свидания с Чарльзом Уоткинсом ее преследовал страх, что какая-то сила помешает ей выйти в условленный час из гостиницы и встретиться с человеком, на которого она возлагала теперь все свои надежды. Да и на кого еще могла она рассчитывать? Ведь она отправилась сюда, в Испанию, в Мадрид, как бы по немому зову Гельмута, влекомая не столько расчетом, сколько отчаянием! И вот с первых же шагов ее постигла горькая неудача. Если бы не Марта, ей оставалось бы теперь одно из двух: либо вернуться обратно в Германию, если бы ее отпустили отсюда живой, либо решиться на какой-нибудь отчаянный поступок и тем, скорее всего, погубить Гельмута. Конечно, обратно она не вернулась бы — это означало бы предоставить Гельмута его собственной судьбе, а с таким сознанием она не смогла бы жить. Конечно, она могла бы сегодня, сейчас же потребовать от Венделя свидания с Гельмутом. Увидеться с Гельмутом, говорить с ним!.. Агнесса старалась отогнать эти мысли от себя. Нет-нет, она не должна соглашаться на это свидание из одного лишь желания увидеть мужа, обнять его, рассказать ему обо всем накопившемся в ее душе. Только ради самого Гельмута, ради его освобождения, ради его спасения имеет она право свидеться с ним! Вот почему ей прежде надо поговорить, посоветоваться с этим человеком, с Уоткинсом. Измученная своими мыслями, Агнесса неприметно для себя вновь задремала, потом в страхе очнулась и бросила взгляд на часы: четверть десятого! Она еще накануне побывала на том перекрестке, который ей указала Марта, и твердо запомнила дорогу к нему. Ровно в половине десятого — такси должно было подъехать к десяти — она уже выходила из дверей гостиницы, предварительно оглядев обширный холл: там было пусто, лишь портье сидел за своим столиком, склонившись над книгой для приезжих. Но Леман?.. Агнесса испытывала безотчетный страх перед ним: ей казалось, что он, невидимый, наблюдает за каждым ее шагом и, возможно, уже ждет ее на улице, чтобы проследить, куда направляется она в столь ранний час. Агнесса вернулась в холл и подошла к портье. — Скажите, — обратилась она к нему по-французски, — господин Артур Леман, двадцать девятый номер, у себя? — Двадцать девятый номер? — Портье привычно быстро оглядел доску с ключами. — У себя. Но только в двадцать девятом номере проживает не господин Леман, а господин Нибург. Приезжего с фамилией Леман в гостинице нет. — Да-да, я спутала, — будто в досаде на свою беспамятность говорит Агнесса. — Кажется, мосье Леман остановился в “Орионе”. Вы не скажете мне, как пройти в “Орион”? Портье подробно и долго объясняет, как пройти в “Орион”, но Агнесса в страхе, что опоздает на свидание и что Леман — он же, очевидно, Нибург — вот-вот спустится из своего двадцать девятого номера в холл, прерывает его на полуслове: — Благодарю вас, я все поняла! И она быстрым шагом направляется к выходу. На улице удушающая жара, но Агнесса не замечает ни жары, ни прохожих, ни машин. Она пересекает улицы в неположенных местах, не обращая внимания ни на гудки, ни на проклятия, которые расточают ей вслед шоферы. Только бы не опоздать, только бы поспеть к десяти часам к заветному перекрестку! Такси не может, не должно ждать ни минуты, ни секунды, иначе она подведет человека, который рискует своей репутацией, свободой, а возможно, и самой жизнью, чтобы помочь ей, Агнессе. Ну вот он, наконец, перекресток, а на часах без одной минуты десять! Агнесса облегченно вздыхает, и в тот же миг, лишь только она подходит к краю тротуара, вплотную к ней подкатывает машина. Такси, номер 52–43! Дверца распахивается, машина принимает в свои недра Агнессу и мчится дальше, как если бы Агнесса вскочила в нее на ходу. — Фрау Шрамм? — Мистер Уоткинс? — Да, Чарльз Уоткинс. Я предлагаю вести наши дипломатические переговоры на немецком языке. — Я свободно говорю по-английски. — Но вы представляете в данном случае самую могущественную державу в мире — женскую, и по обычаю, принятому среди дипломатов, переговоры должны вестись на языке вашей страны… Агнессе не понравилось такое игривое вступление, и она внимательно оглядела своего спутника, откинувшегося в глубь машины. Это был человек лет тридцати, с узким, тонким, нервным лицом и печальными глазами. — Я не возражаю, будем говорить по-немецки, — согласилась Агнесса. — Только вы заблуждаетесь относительно силы моей державы. Перед вами сама слабость и безвыходное отчаяние. — О, простите мне мою глупую шутку! — Уоткинс порывисто пожал руку Агнессы. — Я понимаю всю ее неуместность и глубоко раскаиваюсь! Это прозвучало так искренне, что Агнесса сразу почувствовала симпатию к своему спутнику. — Я не в обиде, я поняла вас, — улыбнулась ему Агнесса. — Просто вы нащупывали почву, прежде чем ступить… — Нет, даже не это! — уже весело воскликнул Уоткинс — Вы оказались такой юной, красивой и симпатичной, что я не удержался от этакой кокетливой фразы. Только и всего! Больше не буду. Однако не скрою: если мне удастся что-либо сделать для вас — именно для вас! — я буду вдвойне, втройне доволен. А теперь, — он стал серьезен, — расскажите мне подробно о всех ваших злоключениях. Общее представление о вашем деле я имею… И давайте перейдем на английский — этот язык немного знаком и Мануэлю. Когда Агнесса закончила свое повествование, Уоткинс произнес удрученным голосом: — Это трудное, очень трудное дело. Тут действует заодно тесная компания: американские ультра, американская и германская разведка, Отто Вендель со своей эсэсовской шайкой… — Я знаю… Можно задать вам один вопрос, мистер Уоткинс? — Да. — Видите ли, я могла бы оказаться и не такой, какой померещилась вам в полутьме машины, и все же путь назад был бы для вас отрезан… Короче, что побуждает вас взяться за это трудное и вовсе не безопасное дело? — Что меня побуждает? — с наигранно-комической интонацией отозвался Уоткинс. — Нет ничего проще: я борец за правду — в этом мое единственное призвание. Да и что еще остается делать на земле такому неприкаянному человеку, как я? — Вам не кажется, что вы опять кокетничаете, мистер Уоткинс? — Кажется, фрау Шрамм, — сокрушенно признался Уоткинс. — Уж лучше приступим прямо к делу.ЧАРЛЬЗА УОТКИНСА ОСЕНЯЕТ МЫСЛЬ
Но сразу приступить к делу не удалось. Машину вдруг тряхнуло так, как если бы она на всем ходу налетела на стену или на столб, и мимо окна, с той стороны, где сидел Уоткинс, скользнула гигантская тень. Пассажиров бросило вперед, и они сильно ударились о переднее сиденье. Машина остановилась заскрипев всеми тормозами. — Мануэль! — крикнул Уоткинс. — Что это было? — Покушение на убийство, — хмуро отозвался шофер, не оглядываясь, и дал газ. — Двадцатитонка мчалась мне навстречу и не давала уклониться от удара. Мне удалось увернуться лишь в последнее мгновение, и она прошла слева, задев капотом. Однако ходовая часть, как видите, не пострадала. Ясно, нас выследили… — Вы уверены, Мануэль, что покушение? А может, шофер хватил лишнего? — Уверен, Чарльз. Он был более чем трезв. Твердый, упорный расчет. Нас спасла случайность. — На этот раз случайность приняла ваш облик, Мануэль. Значит, выследили? — Несомненно, Чарльз. — Но откуда узнали они время нашего выезда? Дорогу, по которой мы решили выехать за город? Наконец… — Уоткинс вдруг прервал сам себя. — О, простите меня, фрау Шрамм! Я даже не осведомился, как перенесли вы эту маленькую аварию! Надеюсь, вы не больно ушиблись? — Больно, — улыбнулась ему Агнесса. — Но продолжайте, пожалуйста: откуда узнали они… — Да-да, Мануэль! Откуда узнали они… — Вот уж на это я не могу ответить, Чарльз. Кто непосредственно связал вас с вашей спутницей? Марта. А ведь за Мартой следят… — Нет, Марта избегает сейчас всякой прямой связи. Она направила ко мне Студентку… — Студентку? — Шофер пожал плечами. — Но Студентка выше подозрений. — Ну, разумеется, тут надо искать по другой линии. По всей вероятности, моя спутница находится под неустанным наблюдением… — Можете не сомневаться, Чарльз. Я лично убедился в этом. — Вы, Мануэль? Когда и каким образом? — Вышло так, что сеньора по прибытии в Мадрид случайно села в мою машину. — Шофер с улыбкой оглянулся на Агнессу. — Узнаете меня, сеньора? — О, так это вы? Значит, благодаря вам я ушла тогда от преследования? Спасибо, мой друг! — Не стоит благодарности, сеньора. Они гнались за нами па машине от самого аэродрома, но я высадил сеньору у проходного двора, и сеньоре удалось уйти. Так, сеньора? — Да, Мануэль, я чуть не задохнулась от бега: мне все казалось, что я не успею скрыться… Но вскоре они опять выследили меня, — печально добавила Агнесса. — Нам известно об этом, сеньора. Итак, Чарльз?.. — Кажется, я решил эту несложную задачу, — раздумчиво сказал Уоткинс. — Дело в том, что я также нахожусь под наблюдением и они выследили сегодня и меня, и фрау Шрамм. Их ищейки видели, как фрау Шрамм подсела ко мне в такси, и немедленно дали знать об этом куда следует по телефону. Л там рассудили: Чарльз Уоткинс, представляющий в Мадриде. Можно сказать, мировую прессу, в одном такси с возможной мировой сенсацией! Похищение и увоз в Испанию молодого немецкого ученого Гельмута Шрамма, создателя могущественного химического оружия! Агнесса Шрамм летит в Мадрид, чтобы спасти своего мужа из лап американо-германо-испанской разведки, заточившей его в замок Эгуэры, филиал Пуллаха, где его стерегут бывшие эсэсовцы под бдительным надзором самого Отто Венделя, любимца и сподвижника покойного фюрера!.. — Но ведь они, кажется, считают вас своим, герр Уоткинс? — заметила Агнесса. — Считали, фрау Шрамм! За последнее время моя репутация сильно подмокла: похоже, они усомнились в моем сочувствии идеям неонацизма, иные считают меня даже коммунистическим шпионом. Я не раз замечал, что за мной, за всеми моими передвижениями, ведется слежка; мою корреспонденцию вскрывают; неонацистские салоны, где меня прежде принимали с величайшей охотой, нередко закрывают передо мной двери; мой друг Отто Вендель явно ко мне охладел… Вот и было решено: уничтожить возможную мировую сенсацию в самом зародыше, пока она не вырвалась за пределы черепной коробки Чарльза Уоткинса! А уж заодно и самый источник беспокойства: фрау Агнессу Шрамм. — Это похоже на правду, — отозвался из своей кабины водитель. — Пойдем дальше. Откуда им стало известно, по какой дороге решили мы выехать за город? Очень просто: у них по всему городу расставлены посты наблюдения. Очередное сообщение по телефону: такси с драгоценным грузом проследовало в таком-то направлении! И вот навстречу нам высылают двадцатитонку… — Но им не имеет смысла убивать меня сейчас, — заметила Агнесса. — Вы же знаете: они предложили мне свидеться с мужем в расчете, что я уговорю его… — Ну, едва ли они сколько-нибудь серьезно рассчитывают на вашу помощь. Я знаю их мнение о вашем… характере! А когда им стало известно сегодня, что вы установили связь со мной — с прессой! — их колебаниям, надо думать, сразу при шел конец. — Но ведь я еще в Мюнхене имела возможность сообщит в печать о похищении мужа, однако не сделала этого. Я боялась, что в этом случае они убьют его, чтобы замести следи Они сами внушили мне эту мысль через Артура Лемана… — Что ж, в ту пору, в Мюнхене, они могли считать, что вы еще не отчаялись в судьбе своего мужа и потому не пожелали идти на риск. Иное дело теперь. Впрочем, возможно и другое они опасаются не столько вас, сколько меня. А что, если я даже вопреки вашему намерению прокричу на весь мир о похищении Гельмута Шрамма, да еще распишу это похищение во всех подробностях, какие узнаю от вас? Почему же им не покончить одним ударом со мной и с вами? Упрятали же они вас в свое время в психиатрическую больницу! Машина уже выехала за пределы города. За ее окнами но обе стороны простерлась пустынная окрестность. Выжженная зноем земля, огромное, белесое, как бы выцветшее небо и, казалось, на самом краю земли подернутые туманом голубые Гвадараммские горы. Агнесса выглянула в окно, внимательно оглядела этот чуждый, скудный, неприютный пейзаж. На миг ей показался призрачным этот странный, грозный мир, словно бы она нечаянно неосторожно ступила из простой, привычной, доброй жизни в страшную, злую сказку и забыла заветное слово, способное вернуть ее в обыкновенный мир. — Вот что, фрау Шрамм… — услышала она как бы из далекой дали голос Чарльза Уоткинса. — Мне только что пришли в голову одна дерзкая мысль. Не знаю, правильный ли это ход, но другого я пока не вижу. К тому же они почти разоблачили меня, и я уже ничем не рискую, разве что… высылкой за пределы владений каудильо. Так вот: от свидания с мужем вы пока воздержитесь — возможно, оно вам и не потребуется. Словом, ничего не предпринимайте, пока я не дам вам знать о себе. Мы вернемся сейчас в город другой дорогой. Вы пересядете на другое такси и поедете на квартиру к Мануэлю, где и будете ждать от меня указаний… Вы не возражаете, Мануэль? — Ну что вы, Чарльз! Я только позвоню из города жене. — Вот и хорошо!СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Чарльз Уоткинс велел доложить о себе сеньору Отто Венделю — представительство западно-германских металлургических фирм — и был тотчас же принят. — А, Чарльз, нежданный гость! — приветствовал его хозяин, вставая из-за стола и протягивая руку. — Где ты блуждаешь, пропащая душа? Ну садись, садись, рассказывай! Говорят, ты подцепил какую-то красотку-немочку и раскатываешь с ней в такси по окрестностям благословенной испанской столицы. Очередная любовь? Признавайся, греховодник! — Увы, Отто, — в тон хозяину отвечал гость, — я еще не добился взаимности, а уже какой-то ревнивец пытался отправить меня сегодня утром на тот свет. Правда, вместе с красоткой… — Ого, это совсем в здешнем духе! — отозвался хозяин. — Кинжал? Пистолет? Яд? — Двадцатитонка, Отто. Рыцарские обычаи отмирают и в отсталой Испании. — Двадцатитонка? Это как же понять? — Буквально, Отто. Человек едет в такси с молодой очаровательной женщиной, а навстречу мчится двадцатитонная грузовая машина с твердым намерением расплющить такси в лепешку. Странно, не правда ли? Грузовые машины служат, обычно, для перевозки грузов, а тут вдруг… — И Уоткинс с комическим недоумением пожал плечами. — Может, случайность? Пьяный водитель? — Нет, Отто. Это исключено. Тут действовала твердая, уверенная рука. И если бы не находчивость водителя… — Но кто же этот… ревнивец? Ты кого-нибудь подозреваешь? — Подозреваю, Отто, — сказал Уоткинс, глядя на Венделя спокойным и твердым взглядом. — Дело тут пахнет… военной химией! — Как, как ты сказал? — со смехом воскликнул Вендель. — Военной химией? — Вот именно, я разумею химию поражающих веществ, — с подчеркнутой серьезностью подтвердил Уоткинс. — Надо тебе сказать, что я ехал в такси с фрау Агнессой Шрамм, женой молодого бременского химика Гельмута Шрамма… — Что-то не слыхал о таком… — Ну что ты, Отто! Это тот самый Гельмут Шрамм, которого недавно силой доставили сюда из Мюнхена и заточили в замок дона Пабло Эгуэры. — Не пойму я, о чем ты говоришь, Чарльз. — И без того холодные глаза хозяина будто затянуло ледком. — Я всегда считал тебя фантазером, но на этот раз… — Да нет же, Отто, я говорю тебе сущую правду! Это сложнейшая, преступная политическая интрига, в которой замешаны Си-Ай-Си и геленовская разведка, американские и германские химические монополии, американские ультра и неонацистский сброд! — Знаешь, Чарльз, все это очень походит на бабьи сплетни, и я не пойму, зачем ты все это мне рассказываешь. И что это за тон: неонацистский сброд? Давно ли ты сам… — Что — сам? Посещал ваши бандитские сходки? Присутствовал на последнем съезде неофашистов, съехавшихся со всех концов света? Так я же журналист, господин Вендель, и собирал материал для книги, которая должна предостеречь мир о грозящей ему опасности! А сейчас я выступаю перед вами с поднятым забралом и объявляю вам открытую войну! И рассказываю я вам не бабьи сплетни, а неоспоримыефакты. А зачем рассказываю — об этом вы сейчас узнаете… Вам стало известно, что жена Шрамма, Агнесса Шрамм, вырвавшись из психиатрической больницы, куда, по вашему указанию, ее упрятал полицейский врач, бывший нацистский убийца Ледерле, по свежему следу явилась в замок Остермарк. Тогда Гельмута Шрамма в срочном порядке переправили в Испанию, в замок Эгуэры, в это ваше эсэсовское гнездо… — Бред, сумасшедший бред! — усмехнулся Вендель. — А вот и продолжение бреда: на днях Гельмута Шрамма посетили в его тюрьме профессора Генри Листер и Джордж Стентон, прилетевшие для этой цели в Испанию, первый — из Мюнхена, где он находился в связи с делом Шрамма, второй — из Штатов. Оба известные американские ультра, к тому же Стентон — химик, специалист как раз в той области, в какой работает Шрамм. Насколько я знаю, им ничего не удалось добиться от Шрамма, и дело вступило в острую фазу. Я не сомневаюсь, что вы — именно вы, Вендель! — и ваши сообщники пойдете сейчас на все, чтобы вырвать у Шрамма его тайну. А пока что вы решили пристукнуть жену Шрамма, а заодно и меня из опасения, что я разоблачу в европейской печати все ваши преступления. Вот почему я сказал, что ваша двадцатитонка отдает… военной химией! — Уоткинс поднялся с кресла, как бы собравшись уходить. — Как видите, мне все-все известно, господин Вендель! К тому же я принял свои меры: подробное изложение всех обстоятельств этого грязного дела хранится в тайном и недоступном для вас месте и, если со мной что-нибудь случится, документ будет немедленно передан куда следует… Я не думаю, чтобы… — А если с вами ничего не случится? — Дальнейший ход событий зависит от вас, Вендель. Вот мои условия: вы немедленно освободите Гельмута Шрамма, обеспечите ему и его жене безопасный проезд на родину, гарантируете ему неприкосновенность… ну, хотя бы на ближайшие два — три года. — Так-так… И в этом случае вы даете слово молчать? — Даю честное слово. — Я имею все основания не верить вам, господин Уоткинс. — Вы не имеете никаких оснований не верить мне, господин Вендель. А впрочем, как вам угодно… — Ладно, я поверю вам! — Вендель протянул Уоткинсу руку, и тот, помедлив, пожал ее. — Считайте сделку состоявшейся! Завтра к девяти утра, к отходу самолета, ваш подопечный будет доставлен на аэровокзал… — Сегодня, Вендель! К шести вечера! — Сегодня? К шестичасовому самолету? Но я должен согласовать… Ладно, пусть так, я все приму на себя! Сколько вам надо мест? Два? Для Шрамма и его жены? — Два… а впрочем, три! Я провожу их до Бремена. — Что, не доверяете старому Венделю? Ах, молодой человек, молодой человек, я же доверился вам! Знайте же: я прежде всего солдат, а у солдата верное сердце! Ну, да бог вам судья… Итак, в пять сорок пять будьте с вашей спутницей у главного входа на аэровокзал… Счастливого пути! Через час Уоткинс позвонил Венделю по телефону и сообщил ему о перемене маршрута: по желанию фрау Шрамм, они полетят сейчас не в Бремен, а в Мюнхен. — Не возражаю, — коротко ответил Вендель. — Еще раз — счастливого пути!КОНЕЦ ПУТИ
…Агнесса и Уоткинс подъехали к главному входу аэровокзала на четверть часа раньше назначенного срока, отпустили машину — наемное такси — и стали ждать. Агнесса не раз внимательно смотрела на Уоткинса: уверен ли он в успехе своего предприятия? — Не сомневайтесь, Агнесса, — говорил Уоткинс в ответ, угадывая ее состояние и ласково улыбаясь ей, — Вендель приперт к стене: у него просто нет другого выхода! — Да-да, благодарю вас, Чарльз… Между тем к аэровокзалу одна за другой подкатывали автомашины самых различных марок — высаживали пассажиров и мчались обратно. Агнесса не сводила с них глаз: в какой-то приедет Гельмут! Но Гельмута все не было. Наконец ровно в пять сорок пять несколько в стороне от входа остановился маленький, неприметный, старого выпуска “Пежо”, сразу привлекший внимание Агнессы. Дверца растворилась, чьи-то руки высадили на тротуар молодого, очень бледного человека, бережно поддерживая его за талию. Стук захлопнутой двери — и “Пежо” на полной скорости умчался прочь. Человек остался один на краю тротуара. С трудом удерживая равновесие и слегка пошатываясь, он, видимо, не сознавал, где находится и что с ним происходит. Гельмут! Это было для Агнессы как пуля в сердце. Почти обезумевшая от жалости, она бросилась вперед, а следом за ней поспешил и Уоткинс. — Гельмут! Гельмут! Она взяла его холодные, бессильно повисшие руки в свои, жадно заглядывала ему в глаза, говорила какие-то добрые, убеждающие, бессвязные слова, но в ответ Гельмут только странно улыбался, и Агнессе было непонятно, узнает он ее или нет. — Гельмут, это я, твоя Агнесса! Почему ты ничего не говоришь, Гельмут? Или ты не узнаешь меня? Скажи хоть что-нибудь, Гельмут, дорогой мой! Чарльз, о Чарльз, они что-то сделали с ним! И какой ужасный у него вид… — М-м-м… — все также странно, будто иронически улыбаясь, произнес Гельмут. — Герр Шрамм, скажите, что с вами? — Уоткинс сильно сжал ему плечо. — Вы слышите, вы понимаете меня? — М-м-м… Уоткинс сунул руку в нагрудный карман пиджака Гельмута и извлек оттуда бумажник: как он и ожидал, в бумажнике оказалось три билета на самолет Мадрид — Мюнхен. — У нас нет ни минуты времени, Агнесса. Возьмите мужа под руку с той стороны, я с этой. Вот так. И не тревожьтесь. Мне кажется, он находится сейчас под действием какого-то наркотика. Это состояние пройдет… Они поднялись втроем на борт самолета за несколько минут до старта. — Теперь я могу признаться вам, Агнесса, — сказал Уоткинс, когда все четыре мотора огромной машины яростно взревели и она устремилась в синюю пустыню неба. — Я и сам не очень-то верил, что мои фантастический план удастся…***
На другое утро в газете появилось сообщение о катастрофе, постигшей самолет, вылетевший вчера из Мадрида в восемнадцать ноль-ноль. По неизвестной причине самолет взорвался в воздухе, когда летел над Пиренеями. Взрыв был так силен, что осколки самолета разлетелись на несколько километров от места катастрофы. Погиб весь экипаж и все пассажиры — всего сорок шесть человек. Двадцать восемь мужчин, двенадцать женщин, шестеро детей. В перечне фамилий погибших были супруги Шрамм и журналист Чарльз Уоткинс.Б.Гурфинкель ЧЕРНЫЙ ГРЕБЕНЬ ЧОЛПОНБАЯ
Не одну еще тайну Природы откроет нам луч света.Христиан Допплер
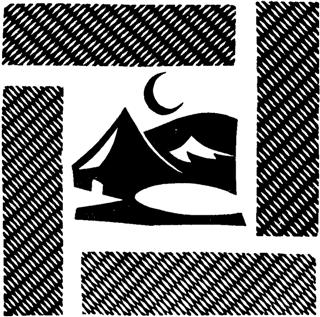 Переход от полутемной прохлады Пограничного управления к пышущей зноем улице был подобен опаляющей атомной вспышке. Здесь, в Оше, на крайнем юге Ферганской долины, белесо-голубое небо никогда не затуманивалось и вечное солнце беспрепятственно обрушивало на город потоки света и жары. Елена еще раз перечитала документ: он гласил, что ей, Елене Каржавиной, кандидату исторических наук, разрешается въезд в пограничную Горно-Бадахшанскую область Таджикской ССР.
Перейдя на противоположную сторону, Елена перепрыгнула через музыкально журчавший мутноватый арык и поспешила в пятнистую тень высоких неподвижных тополей. До вылета было еще три часа, и она пошла в сторону базара.
В этот полуденный час на улицах не было ни души; но базар, восточный базар, даже в 1976 году был по-прежнему средоточием кипучей жизни в любое время дня. Его красочная бестолочь слегка ошеломила Елену. Горы желтых дынь громоздились, как груда черепов в Верещагинском “Апофеозе войны”, прямо на земле, перемежаясь с терриконами зеленых огурцов и целыми полями ярко-красных помидоров. Многоголосый шум, пестрота одежд и лиц, разнообразие запахов — это воспринималось всеми чувствами сразу, как праздничная пляска первобытного племени, полная торжествующего экстаза самой Жизни.
— Эй, джолдос-кызым[49], — услышала она.
На разостланной кошме в тени наклонного навеса из молочного пластика сидел старик в черно-серебряной тюбетейке и ватном халате с вертикальными желтыми полосами.
— Ты из Москвы?
— Да, дедушка…
— А у нас что делаешь? — Коричневое лицо расплылось в улыбке, а два острых клинышка белоснежной бороды забавно сошлись вместе. — Не говори “дедушка”. Скажи: “Чолпонбай-ата”.
— Хорошо, Чолпонбай-ата. — Елена улыбнулась.
— Садись здесь. — Старик выбрал из кучи большую дыню, ловко вскрыл ее перочинным ножом и поставил перед Еленой. — У нас жить будешь?
— Нет, Чолпонбай-ата… улетаю туда. — Она показала на юг, в сторону Алая.
— На Памир летишь? Что там делать будешь?
Елена задумалась. Как ему объяснить? Там, на Памире, ей хотелось — нет, нужно было! — разыскать следы согдийско-афганской культуры, павшей некогда под безжалостным мечом ислама.
— А… я знаю, Аличур едешь, там большой дом стоит и еще… железный багатур Чон-Кулак. Ученые люди живут, звезды считают… Ты тоже ученая? Кызым-мирзо?
Елена знала об обсерватории в Аличурской долине и ее гигантском радиотелескопе, метко окрещенном местными жителями Чон-Кулак — Большое Ухо.
— Нет, Чолпонбай-ата… я еще не мирзо, учиться надо… Работать буду в Хороге, два месяца…
— А зачем по небу летишь? С неба только беркут много видит. На машине ехать нужно! Нашу землю посмотришь…
— А как ехать, Чолпонбай-ата? Автобус давно не ходит, только вертолет…
— Когда сядет солнце, мой внук Орсунбай поедет, он тоже в Аличуре работает… Автоджигит! — старик с хитринкой в умных глазах искоса глянул на Елену. Неожиданное словечко заставило Елену расхохотаться.
— Хорошо смеешься, счастливая будешь… Орсунбай за дынями приехал, обратно с ним поедешь… Он тоже немножко ученый, зимой в Киргизабаде учится… Писатель будет, как Чингиз Айтматов, по дороге тебе все покажет. Хочешь?
— Хочу, Чолпонбай-ата!
— Хорошо, молодец! — Старик потрепал ее по горячей щеке. — Иди отдыхай, а к заходу солнца приходи сюда, Орсунбай отсюда поедет… — Старик обернулся и достал небольшую шкатулку из нефрита. Открыв ее, он вынул черный полированный гребень китайской работы с четырьмя прямыми зубцами.
В верхней его части ровно белели шесть вертикальных рядов крохотных иероглифов.
— Возьми, кызым-мирзо, когда станешь ханум — в волосах носи. Он старый, как Чолпонбай, — принесет тебе счастье…
Елена бережно приняла подарок:
— Откуда это у тебя, Чолпонбай-ата?
Старик на мгновение задумался.
— Давно-давно лежит… Еще сто лет назад мой отец в Кашгар ушел, с Исмаил-беком… Потом вернулся, оттуда привез…
— Сколько же тебе лет, Чолпонбай-ата?
— Ой, много, кызым-мирзо. — Глаза старика собрались в лучистые щелочки. — Никто не считал… Худояр-хана хорошо помню…
— А что написано на гребне, знаешь?
— Нет, кызым… Ты ученая, потом прочитай, мне расскажешь…
Елена поблагодарила старика.
— Смотри не опоздай! — крикнул он вдогонку.
Очутившись в кондиционированной прохладе комфортабельного номера гостиницы “Ак Джулдуз” — “Белая Звезда”, Елена принялась изучать неожиданный подарок. Вещь, несомненно, была очень древней — вероятно, эпохи “Воюющих царств”. Прочесть надпись Елене не удалось: начертание иероглифов было незнакомым. Похожи были только “нан” и “сюэ”, но, вырванные из контекста, они не были понятными.
Она воткнула гребень в волосы и глянула в зеркало. Сочетание черного блеска с медью волос было гармонично и придало удлиненному лицу некоторую загадочность, сразу исчезнувшую, когда Елена показала язык своему отражению. Гребень был явно к лицу, но ускорять превращение в “ханум” почему-то не хотелось.
Потом она выглянула в окно. На дальнем горизонте бледно прорисовывались призрачные очертания снежных гор. Покрасневшее солнце почти касалось близлежащих скал Тахта-и-Сулейман; пора было собирать рюкзак.
Переход от полутемной прохлады Пограничного управления к пышущей зноем улице был подобен опаляющей атомной вспышке. Здесь, в Оше, на крайнем юге Ферганской долины, белесо-голубое небо никогда не затуманивалось и вечное солнце беспрепятственно обрушивало на город потоки света и жары. Елена еще раз перечитала документ: он гласил, что ей, Елене Каржавиной, кандидату исторических наук, разрешается въезд в пограничную Горно-Бадахшанскую область Таджикской ССР.
Перейдя на противоположную сторону, Елена перепрыгнула через музыкально журчавший мутноватый арык и поспешила в пятнистую тень высоких неподвижных тополей. До вылета было еще три часа, и она пошла в сторону базара.
В этот полуденный час на улицах не было ни души; но базар, восточный базар, даже в 1976 году был по-прежнему средоточием кипучей жизни в любое время дня. Его красочная бестолочь слегка ошеломила Елену. Горы желтых дынь громоздились, как груда черепов в Верещагинском “Апофеозе войны”, прямо на земле, перемежаясь с терриконами зеленых огурцов и целыми полями ярко-красных помидоров. Многоголосый шум, пестрота одежд и лиц, разнообразие запахов — это воспринималось всеми чувствами сразу, как праздничная пляска первобытного племени, полная торжествующего экстаза самой Жизни.
— Эй, джолдос-кызым[49], — услышала она.
На разостланной кошме в тени наклонного навеса из молочного пластика сидел старик в черно-серебряной тюбетейке и ватном халате с вертикальными желтыми полосами.
— Ты из Москвы?
— Да, дедушка…
— А у нас что делаешь? — Коричневое лицо расплылось в улыбке, а два острых клинышка белоснежной бороды забавно сошлись вместе. — Не говори “дедушка”. Скажи: “Чолпонбай-ата”.
— Хорошо, Чолпонбай-ата. — Елена улыбнулась.
— Садись здесь. — Старик выбрал из кучи большую дыню, ловко вскрыл ее перочинным ножом и поставил перед Еленой. — У нас жить будешь?
— Нет, Чолпонбай-ата… улетаю туда. — Она показала на юг, в сторону Алая.
— На Памир летишь? Что там делать будешь?
Елена задумалась. Как ему объяснить? Там, на Памире, ей хотелось — нет, нужно было! — разыскать следы согдийско-афганской культуры, павшей некогда под безжалостным мечом ислама.
— А… я знаю, Аличур едешь, там большой дом стоит и еще… железный багатур Чон-Кулак. Ученые люди живут, звезды считают… Ты тоже ученая? Кызым-мирзо?
Елена знала об обсерватории в Аличурской долине и ее гигантском радиотелескопе, метко окрещенном местными жителями Чон-Кулак — Большое Ухо.
— Нет, Чолпонбай-ата… я еще не мирзо, учиться надо… Работать буду в Хороге, два месяца…
— А зачем по небу летишь? С неба только беркут много видит. На машине ехать нужно! Нашу землю посмотришь…
— А как ехать, Чолпонбай-ата? Автобус давно не ходит, только вертолет…
— Когда сядет солнце, мой внук Орсунбай поедет, он тоже в Аличуре работает… Автоджигит! — старик с хитринкой в умных глазах искоса глянул на Елену. Неожиданное словечко заставило Елену расхохотаться.
— Хорошо смеешься, счастливая будешь… Орсунбай за дынями приехал, обратно с ним поедешь… Он тоже немножко ученый, зимой в Киргизабаде учится… Писатель будет, как Чингиз Айтматов, по дороге тебе все покажет. Хочешь?
— Хочу, Чолпонбай-ата!
— Хорошо, молодец! — Старик потрепал ее по горячей щеке. — Иди отдыхай, а к заходу солнца приходи сюда, Орсунбай отсюда поедет… — Старик обернулся и достал небольшую шкатулку из нефрита. Открыв ее, он вынул черный полированный гребень китайской работы с четырьмя прямыми зубцами.
В верхней его части ровно белели шесть вертикальных рядов крохотных иероглифов.
— Возьми, кызым-мирзо, когда станешь ханум — в волосах носи. Он старый, как Чолпонбай, — принесет тебе счастье…
Елена бережно приняла подарок:
— Откуда это у тебя, Чолпонбай-ата?
Старик на мгновение задумался.
— Давно-давно лежит… Еще сто лет назад мой отец в Кашгар ушел, с Исмаил-беком… Потом вернулся, оттуда привез…
— Сколько же тебе лет, Чолпонбай-ата?
— Ой, много, кызым-мирзо. — Глаза старика собрались в лучистые щелочки. — Никто не считал… Худояр-хана хорошо помню…
— А что написано на гребне, знаешь?
— Нет, кызым… Ты ученая, потом прочитай, мне расскажешь…
Елена поблагодарила старика.
— Смотри не опоздай! — крикнул он вдогонку.
Очутившись в кондиционированной прохладе комфортабельного номера гостиницы “Ак Джулдуз” — “Белая Звезда”, Елена принялась изучать неожиданный подарок. Вещь, несомненно, была очень древней — вероятно, эпохи “Воюющих царств”. Прочесть надпись Елене не удалось: начертание иероглифов было незнакомым. Похожи были только “нан” и “сюэ”, но, вырванные из контекста, они не были понятными.
Она воткнула гребень в волосы и глянула в зеркало. Сочетание черного блеска с медью волос было гармонично и придало удлиненному лицу некоторую загадочность, сразу исчезнувшую, когда Елена показала язык своему отражению. Гребень был явно к лицу, но ускорять превращение в “ханум” почему-то не хотелось.
Потом она выглянула в окно. На дальнем горизонте бледно прорисовывались призрачные очертания снежных гор. Покрасневшее солнце почти касалось близлежащих скал Тахта-и-Сулейман; пора было собирать рюкзак.
***
Было около пяти утра, когда темно-зеленый “козел” Орсунбая Чолпонбаева, имея на борту “кызым-мирзо” Елену Каржавину, вскарабкался на последний серпантин перевала Талдык. После ночной гонки нестерпимо хотелось спать, и Елена то и дело клонилась влево. — Эй, Лена-джон! — Веселый голос Орсунбая заставил ее поднять голову. — Закрой глаза, пожалуйста! — Зачем? — Ну закрой, прошу… Когда станем, выходи, потом открывай… Елена послушно закрыла глаза. Когда машина остановилась, она нащупала ручку двери и сошла на перевальную площадку. — Теперь открывай… Она открыла глаза и тихонько ахнула. Внизу, словно изумрудное море, лежал неоглядный простор Алайской долины, вдоль которой красной коралловой нитью извивалась река. За долиной ступенями возвышались пестрые горы — выше, выше, выше, — увенчанные белыми льдами. Над ними голубело небо. — Алай-Тоо, Заалайский хребет… Хорошо? — Орсунбай был горд красотой родного края. — Повезло нам: облаков нет и дымки нет… Это редко увидишь… Смотри хорошенько, сейчас дальше поедем… Реку видишь? Кызыл-Су, по нашему Красная река, по-таджикски Сурхоб, тоже Красная река… Она течет с перевала Кызыл-Арт, Красная спина, там земля красная… А вот там Сары-Таш, хороший лагман готовит старый Ли Чо… — Орсунбай загремел ведром, доливая воды в паривший радиатор, потом сел в машину и задернул “молнию” куртки. — Лагман знаешь? Как итальянские спагетти, — длинная лапша с мясом, очень вкусно… Есть хочешь? Потом опять быстро поедем, ночью дома будем. — Он говорил без умолку, то и дело поглядывая на Елену. У него было молодое загорелое лицо, веселые узковатые глаза и мальчишеская быстрая улыбка. — У нас остановишься, жить будешь, Чон-Кулак увидишь, как он звезды слушает… Сашу Ивантеева узнаешь… Машина виток за витком мчалась вниз, взметая клубы белой пыли. Из кузова тянуло нежным ароматом спелых дынь. — Но я не могу жить у вас, Орсунбай, — улыбнулась Елена. — Меня ждет работа в Хороге… — Даже и не говори. Начальник тебя не отпустит, у нас гости бывают редко. — А кто начальник? — Приедешь — увидишь. — Он резко крутнул руль влево. Прозвучал громовой удар, и машину бросило поперек дороги. Орсунбай, бешено вертя баранкой, сумел удержать “козла” на самом краю кювета. Елена больно ушиблась о ручку двери, ошеломленно молчала. Мотор заглох. Орсунбай выскочил из машины, бросился к правой дверце. — Жива, кызым-мирзо? — В его серо-зеленых глазах застыл испуг. — Задний левый скат лопнул, на полном ходу… Перегрелся на камнях… Помогай, пожалуйста… Они вдвоем сменили тяжелый скат. Орсунбай озабоченно заглянул под задний мост. — Сильный удар был, — сказал он, качая головой, — задний мост перекосило… Ничего, в Сары-Таш приедем, все сделаем!***
В прохладном зале чайханы в этот ранний час было пусто. На полу стояли низенькие шестигранные помосты, устланные мягкими ковриками из разрисованного линопрена. Пока Орсунбай возился с машиной на ремонтной эстакаде, Елена заказала у старого молчаливого дунгана Ли Чо два лагмана и чайник, после чего ее мысли вернулись к гребню. Кому принадлежал он, чью прическу украшал и что гласила надпись? Машинально она достала гребень и воткнула его в волосы. — Порядок, Лена-джон. — Орсунбай тащил под мышкой увесистую дыню. — Как красиво! Откуда это у тебя? — Твой дед Чолпонбай-ата подарил. — Елена скосила взгляд на висячее зеркало. — А что там написано? — Это по-китайски, но язык старый, я не могу прочесть… — Дай, пожалуйста. — Орсунбай повертел гребень в руках. — Знаю! Ли Чо прочтет, он, наверно, знает старый язык. — Правильно, — обрадовалась Елена. Старик дунган направлялся к ним с подносом, уставленным пиалами, и Орсунбай быстро заговорил с ним по-киргизски, указывая на гребень. Поставив поднос, Ли Чо надел очки и, вглядываясь в надпись, беззвучно зашевелил губами. Потом поднял голову, и его впалые раскосые глаза заблестели. Он оживленно заговорил, адресуясь к Елене. — Говорит, тут про звезду написано, — перевел Орсунбай. — В давние времена пришла звезда, светила по очереди всеми красками, потом погасла… Елена оживилась, вспомнив летописи Ма Туан-Лина: тогда это называлось “звезда-гостья”. — Скажи ему большое спасибо. — Елена пожала старику маленькую сухую руку, отчего тот просиял и погладил Елену по волосам. Лагман старого Ли Чо был великолепен, и Елена подумала, что зеленый чай гармонирует с ним не хуже, чем итальянское кьянти со спагетти. — Про звезды у нас тебе все расскажут. — Большая пиала Орсунбая пустела на глазах. — И про цветную звезду тоже… Теперь поехали: еще двести километров. Машина мчалась по прямой, как линейка, дороге, среди высоких трав, стоящих как спелая пшеница. Неудержимо убегали назад белые строения Сары-Таша и стройный силуэт радиорелейной башни Транспамирской связи. Ветер гладил щеки, хлестал волосами по лбу. Закрыв глаза, Елена запела любимое:***
Отведя взгляд от надоевшей клавиатуры настольного суперкалькулятора, Ивантеев устало распрямился, резким движением головы отбросил назад рыжую прядь, упавшую на лицо, глянул на часы и прислушался. Пришло время ночной вахты Чон-Кулака. Распахнув наружную дверь, Ивантеев вышел на застекленный балкон, опоясавший круглое здание обсерватории. Темное, почти фиолетовое небо куполом накрыло простор Аличурской долины. Ровно, плоско, как на родной Кубани; но здешняя степь была бурой, голой и простиралась до горизонта, упираясь в горную гряду на юго-востоке. Неподалеку, в сгущавшихся сумерках, алюминиевым блеском мерцало что-то огромное, как амфитеатр стадиона, покоившееся на широком решетчатом основании. — Давай! — крикнул Ивантеев сквозь раскрытую дверь куда-то в глубину аппаратной. Послышался щелчок контактора, и на большом табло под самым потолком засветились цифры координат. Гигантская ажурная чаша с неожиданной легкостью пришла в бесшумное движение. Повернувшись вокруг вертикали и несколько наклонившись, Чон-Кулак замер, уставившись в невидимую точку над южным горизонтом. Лишь несколько редких звезд теплились в той стороне над темнеющим силуэтом Сарыкольского хребта. — Схватил, — проговорил Ивантеев в темноту. Покинув галерею, он прошел в круглый полуосвещенный зал. В его центре, на легком трубчатом постаменте, покоился большой панорамоскоп, с помощью которого Чон-Кулак общался со своими жрецами, не умевшими, как он, слышать шепот звезд в тысячах парсеков от Земли. Хаотическая пляска световых точек на прямоугольном горизонтальном экране больше всего, пожалуй, походила на беспорядочную толчею снежинок или пылинок в солнечном луче. Человек, сидевший перед экраном, осторожно манипулировал рукояткой электронного визира. Зеленоватый отсвет экрана ложился на резкие черты лица с русой бородкой. — Ну, что у тебя? — с тайной надеждой спросил Ивантеев. — Каким он был, таким остался, — иронически протянул Шагин. — С трудом вытянул, чуть в сторону — и его как не бывало… Среди световой суматохи на экране привычный глаз Ивантеева угадал знакомое яркое пятнышко. В этом месте световые вспышки толпились охотнее и теснее, — на этой частоте был регулярный сигнал. Все остальное было случайными помехами. — А тонкая структура? — На вот, гляди сам! — И Шагин поворотом рукоятки растянул пятнышко в тускло мерцающую лунную дорожку. — Ни намека на закономерность, этакое торжество хаоса… Тебе еще не надоело? — Нет, не надоело, — сказал Ивантеев. — Старик Линтварев не поручил бы его нам так просто, ты ведь его знаешь. Длина волны растет? Растет. Закономерно? Да, закономерно. Следовательно… — Опять за свое! На сколько она растет-то, господи? На микротютельку в месяц? Объект остывает, вот она и растет… Только такой верующий энтузиаст, как ты, может в хаосе излучений космоса усмотреть разумные сигналы… — И это говорит старший научный сотрудник Аличурской обсерватории Комитета космических контактов! — воскликнул Ивантеев. — Строго говоря, ты заслуживаешь увольнения без выходного пособия. — Он неожиданно вздохнул. — Увы, время энтузиастов прошло. Я лишь добросовестный дневальный, один из многих… Чужой Разум существует. Рано или поздно он заявит о себе — может быть, завтра, может быть, через столетие… Но мне кажется, что тот, кто первым примет сигналы Чужого Разума, должен будет в ножки поклониться тому, кому первому пришло в голову их искать… — Кто же, по-твоему, первый? — спросил Шагин серьезно. — Иван Ефремов, автор “Туманности Андромеды”… Его герои были первыми искателями следов разума в космических излучениях. Помнишь “Великое Кольцо”? — Ого! — Шагин поднял брови, глядя на собеседника с комическим уважением. — Этого аргумента, коллега, вы еще не выставляли… Читал, читал, — протянул он небрежно. — Идея изящная, но абсолютно химерическая… Но если на то пошло, в научном плане первым был астроном Кардашев, еще в шестьдесят четвертом… Помнишь его пресловутые мигающие радиоисточники на девятистах мегагерцах в созвездиях Овна и Пегаса? Он предположил, что они искусственные… Ну и мигают по сей день, а толку что? — Но “Туманность” вышла в пятьдесят седьмом, — возразил Ивантеев, — так что приоритет за Ефремовым, что там пи толкуй насчет научного плана… А толк будет, дай срок, — сказал он твердо. — Пока солнце взойдет — роса очи выест… Единственные разумные сигналы из космоса — это сигналы наших спутников и кораблей, облетающих планеты. — Шагин усмехнулся. — Всё остальное только голоса космического хаоса, и ничего больше… — Хаоса? Послушай, совесть или… знания у тебя есть? Что говорят твои учителя — Колмогоров, Шаннон, Винер? Чтобы вооружить хрупкого Давида — разумное сообщение — для единоборства с Голиафом помех, нужно сделать Давида Голиафом, придать ему беспорядочную, случайную структуру… И кроме того: на Земле и на орбитах работают тысячи радиопередатчиков и иных излучателей по всему радиоспектру. Разве их суммарное излучение издалека не будет воспринято, как хаотическое? Вместо ответа Шагин прильнул к стеклу балконной двери. — Гляди, кто-то едет… Белая лента дороги, прямая и тонкая, как игла, растворялась во тьме. Где-то на ее конце сверкали два дрожащих огонька. — Со стороны Мургаба… кто бы это мог быть? — Давненько не было начальства из КОККАНа[50]. — Шагин ухмыльнулся. — Я предпочел бы Орсунбая с дынями. — Наверняка это он и есть, давно пора, — сказал Ивантеев. — Включай автозахват, и пошли встречать… Машина приближалась быстро, и в подпрыгивающих лучах засияла часть опорной решетки Чон-Кулака. Раздался ровный высокий аккорд звукового сигнала. — Везет, что ли, кого? — Извещает о прибытии… — Оркестра у нас нет, обойдется. Да что он, сдурел, что ли? Звук продолжал стелиться ровно и монотонно, будоража привычную ночную тишь. Тон его заметно понижался, а громкость по мере приближения становилась оглушающей. Огромные слепящие глаза уставились прямо на Ивантеева, и машина резко затормозила против входной двери. Орсунбай соскочил и бросился поднимать капот. — Это что, салют? — осведомился Шагин. — Заклинила кнопка звукового сигнала. — Грудное контральто принадлежало женщине. Орсунбай отключил клемму аккумулятора, — погасли фары, и звук резко оборвался. — Привет, Орсунбай, — сказал Ивантеев, пожимая ему руку. — Кого это ты привез? — Гостя привез, хорошего гостя… Сам смотри! Ивантеев зажег ручной фонарик. В его луче возникла молодая женщина в брюках и сером вышитом свитере. — Добрый вечер, — сказал он. — Ночевали у Кара-Куля? — Нет, едем прямо из Оша. — Руки Елены повисли, а грудь тяжело вздымалась. — Передохнете, у нас тут высота 4200… Почему так поздно, Орсунбай? — У Сары-Таша скат на ходу лопнул… тогда же, наверно, заклинило и кнопку. Мы после ни разу сигнал не давали, правда, Лена-джон? — Правда, — сказала Елена. После суток сумасшедшей езды слегка сводило икры ног, побаливала голова и хотелось пить. — А вы чьи? — Так вы не из КОККАНа? — Нет, я из ИНКИДАНа[51]… — и, переглянувшись, все трое рассмеялись. В просторном холле первого этажа с треугольным столом в “диванном” углу было уютно. — Здесь наша кают-компания, а вон там, — Шагин указал на дальнюю дверь, — ваша комната. Тринадцатый номер, если вы не суеверны… — Нисколько, — улыбнулась Елена. — Я родилась тринадцатого. — Тогда все в порядке… А сейчас подкрепитесь. — Ивантеев подал ей поднос с небольшим тибетским чайником. Ничто сейчас не могло быть лучше, и, с наслаждением осушив чайник, Елена почувствовала себя в состоянии задавать вопросы. — Чем живете, добры молодцы, на что силушку свою тратите? — Она подбоченилась, тряхнув головой. — От КОККАНа всея Руси поставлены идолу служить басурманскому, Чон-Кулак зовется, матушка… — пропел Шагин. — Осмелюсь доложить, следим за объектом сто шестнадцать дробь зет шестьдесят один, — отрапортовал Ивантеев. — Господи! А если по-русски? — Радиотуманность Центавра в шестнадцать раз больше Солнца по своей излучающей площади, — сказал Шагин наставительно. — Но Чон-Кулак выделил на ее фоне точечный источник. — А в каком диапазоне? — Сегодня тысяча сто восемнадцать миллимикрон, — сказал Ивантеев. — Сегодня? А вчера? — Вчера было чуть меньше… Волна день ото дня удлиняется… — Удлиняется? — Елена поднялась с места. — На сколько? — Ерунда, в месяц полмиллимикрона… Елена, чуть прищурившись, внимательно поглядела на Ивантеева. Что-то мелькнуло в сознании, — какая-то неясная, еще бесплотная идея, смутно связанная с черным гребнем. — Но почему? — Я уверен, что это… — Ивантеев смолк, наткнувшись на иронический взгляд Шагина. — Уселся на своего конька! — Шагин комически махнул рукой. — Ладно, примите ванну и отдыхайте. Ежели не очень устали, к десяти просим в кают-компанию. До свиданья, Звезда-Гостья! — Так вы знаете летописи Ма Туан-Лина? — Елена оживилась. — Китайской грамоте не разумею, но… есть тут у нас один грамотей… — Он искоса показал глазами на Ивантеева. — Старается изо всех сил… Ивантеев молча кинулся на Шагина, тот ловко увернулся. — А вы что, китаевед? — Нет, я — историк… с примесью астрофизика, — ответила Елена. — Ух какая редкая комбинация, — сказал Ивантеев. — Кстати, а кто из вас начальник? — Не я, — сказал Шагин. — И не я, — сказал Ивантеев.***
Приоткрытая дверь кают-компании бросала на пол косой параллелограмм света. — А, Звезда-Гостья. — Шагин привстал, указал Елене место за столом. — Милости просим… У нас тут обычный вечерний матч научного бокса — Шагин против Ивантеева, равные весовые категории… Болельщиками будете вы и Орсунбай. (Тот, выбритый и гладко причесанный, весело улыбнулся Елене). А вот и судья, прошу познакомиться… Узкое матово-бледное лицо с высоким чистым лбом и косым разрезом черных блестящих глаз, ореол смоляных волос, крупный медальон характерной формы в квадратном вырезе вечернего платья (это же соёнбо, национальный символ Монголии!) — такой была Цыреннадмид Цультэм, доктор астрофизических наук, заведующая обсерваторией. Она спокойно и дружелюбно пожала Елене руку, задержав внимательный взгляд на черном гребне, украшавшем ее прическу. — Еще Дрейк делил разумные сигналы из космоса на несколько видов, — говорил между тем Ивантеев, — сигналы внутренней связи — это вроде суммарного излучения всех приборов Земли, затем “дальние вызовы” тем, кто уже известен, и, наконец, сверхдальние сигналы космического контакта в адрес тех, кто еще неизвестен, — кстати, Шагин, это и есть “Великое Кольцо” Ефремова. Мне думается, что Чон-Кулак принимает сигнал именно из этой последней категории — космический “позывной”, адресованный всем-всем-всем. Сигнал, возможно, имеет форму “зубьев пилы”: медленное нарастание длины волны, за которым следует быстрый спад. Сейчас мы наблюдаем нарастание… Как еще можно его объяснить? — Если вы не возражаете, попытаюсь я. — Елена вынула из волос черный гребень. В мягком свете плафона на нем четко проступило белое хитросплетение иероглифов. — Эта вещь мне досталась в Оше совершенно случайно. — Она рассказала историю неожиданного дара. — Содержание надписи приблизительно известно благодаря Орсунбаю. — Смотри какой дед, — сказал Орсунбай. — Мне никогда не показывал гребень… — Быть может, в столь компетентном собрании это покажется наивным, — Елена повела глазами в сторону Ивантее-ва, — но мне почему-то кажется, что надпись на гребне имеет отношение к вашей проблеме… — Дайте мне! — Карие глаза Ивантеева загорелись. Взяв гребень, словно драгоценную камею, он начал читать: — “В период Чжун-Пин, во второй год, в десятую луну, в день Гуй-Хай…”, это мне непонятно, “…появилась звезда-гостья посредине… Нан-Ман”. Что это? — Центавр, — подсказала Цыреннадмид глубоким напевным голосом. — Наш Центавр! — Ивантеев привскочил с места. — Да. А все предыдущее означает седьмое декабря сто восемьдесят пятого года нашей эры. Но читайте дальше, Саша. — “Она была как глаз Синего Дракона”… — Он помедлил, соображая. — “…потом последовательно показывала… пять цветов…” — Он вопросительно посмотрел на Елену. Та кивнула. — “Постепенно она слабела и к шестой луне следующего года угасла”. Всё… Нет, погодите, вот еще, помельче: “Созерцал досточтимый господин Яо Чжи-Тун, Хранитель Небесного Спокойствия”. — Шестая луна следующего года, это спустя восемь месяцев, не так ли? — Голос Цыреннадмид поразил Елену. — Если я вас правильно поняла, — она обращалась к Елене, — вы отождествляете наш объект со звездой-гостьей Яо Чжи-Туна? — Да, я думаю… Волна удлиняется теперь, удлинялась и тогда. — Елена права! — Ивантеев вскочил, с грохотом отодвинул стул. — Удлинение световой волны, ведь это и есть пять цветов… синий, зеленый, желтый, красный! Орсунбай восхищенно посмотрел на Елену. — Как красиво, — сказал он мечтательно. — Ты придумала, как художник… Об этом надо написать стихи… — Поистине вы посланы нам провидением, Елена Владимировна. — Ивантеев уселся на место. — Буйство красок. — Шагин вручил Елене сочный ломоть дыни. — А если первым был, скажем, желтый? — А глаз Синего Дракона? Разве это прямо не указывает, что вначале звезда была синей? — Ни чуточки не указывает. — В тоне Шагина была небрежная самоуверенность, бесившая Ивантеева. — Это обычная новая, постепенно остывающая. Вначале она была, скорее всего, голубовато-белой. Потом пропало излучение высокой энергии — она пожелтела. Исчезли зеленые лучи — звезда стала красной. Остывая дальше, она стала уже невидимой, инфракрасной, и продолжает остывать… Вот тебе и пять цветов и удлинение волны. — Ничего подобного! — Ивантеев вышел из себя. — Такой поток не может излучаться просто горячим телом, спектральная линия слишком узка, ты же сам жаловался, — а интенсивность постоянна. — Вы правы, Саша. Интенсивность излучения ведь пропорциональна четвертой степени температуры и к нашему времени упала бы до ничтожной величины… — Цыреннадмид немного помолчала. — Причиной удлинения волны может быть также эффект Допплера, если предположить, что объект движется, и притом ускоренно. — Ускоренно? Значит, это искусственный объект! Возбуждение Ивантеева росло на глазах. — Астрокорабль. — Шагин усмехнулся. — Интеллигентные существа, ищущие собратьев по разуму… И летят они, конечно, только к нам, на Землю, — больше некуда… Да мало ли в космосе может быть ускоренных объектов, ну, хотя бы разбегающиеся галактики… — Эффект Допплера? Я это читал, но хорошо не понял. — Орсунбай вопросительно посмотрел на Шагина. — Объясни, пожалуйста! — А разве у вас в литературном этого не преподают? Жаль… — Шагин снисходительно улыбнулся. — Допустим, ты очень быстро едешь на красный огонь светофора… Он покажется тебе зеленым. Проскочив светофор и оглянувшись, ты его не увидишь совсем, он станет невидимым, инфракрасным… Но тут тебе свистнет ОРУД, ты остановишься, снова увидишь красный свет — и… получишь прокол в талоне… — Ай-ай-ай. — Орсунбай иронически покачал головой. — Сколько езжу — ни разу не видел… — Не мудрено. Для этого нужно развить одну пятую скорости света… — Слушай, не надо, — обиделся Орсунбай. — Ты что, меня за школьника считаешь? Саша, объясни, пожалуйста, суть, почему меняется цвет? — Причина вот в чем. — Ивантеев наморщил лоб, стараясь избежать тривиального примера. — Луч света — это струя фотонов, частиц чистой энергии… Представь себе… — он ерошил свою рыжую шевелюру, пытаясь найти выразительный образ, — крохотную пылинку, летящую со скоростью света и при этом пульсирующую в объеме, знаешь, как “уйди-уйди”, но неимоверно часто и быстро. На лету мимо тебя он будет выглядеть как волна. Отбери у фотона часть энергии: скорость его не изменится, но пульс станет реже, волна удлинится, свет покраснеет. Прибавь энергии — пульс участится, длина волны уменьшится, свет посинеет. Так вот, если светящий в твою сторону фонарь удаляется, — Ивантеев уже говорил увлеченно и уверенно, — то его луч, направленный на тебя, подталкивает фонарь силой реакции, то есть отдает ему часть энергии фотонов. Пульс их становится реже, и волна удлинится, а видимый цвет покраснеет… — Ивантеев смолк, переводя дух. — Точнее, он сдвинется в сторону красного, и тем больше, чем больше скорость расхождения… А если эта скорость со временем нарастает, то волна будет непрерывно удлиняться. — Цыреннадмид завершила описание улыбкой, от которой ее лицо сразу потеплело. — Поздравляю, Саша. Вы нашли образ фотона и совсем по-новому объяснили эффект Допплера. — Понял! — торжествующе воскликнул Орсунбай. — Значит, цвет может меняться из-за изменения скорости! Елена зарумянилась от волнения. А что, если это действительно… — Это корабль Неизвестных, удаляющийся от нас. — Ивантеев горячился, барабаня кулаком по столу. — Его разгоняет реактивная сила светового луча невиданной мощности. Может быть, это сродни нашим лазерам. Луч, конечно, сам по себе ультрафиолетовый, невидимый. Но во времена Яо Чжи-Туна скорость удаления возросла уже настолько, что эффект Допплера сдвинул длину волны в видимую часть спектра. Луч прошел пять цветов от синего до красного, а когда стал инфракрасным, звезда-гостья угасла. Теперь скорость настолько велика, что Чон-Кулак воспринимает его уже в дальней инфракрасной области… — Ивантеев стоял, упершись в стол руками. — А что, если вообще вспышки новых звезд — это движущие лучи чужих звездолетов, случайно задевшие Землю? — Дальше — больше, — насмешливо протянул Шагин. — Смотри также Тунгусское чудо, древние продырявленные кости, бога в скафандре из сахарских фресок и так далее. Если это звездолет, — он продолжал уже серьезно, — то его ускорение должно быть небольшим и постоянным, иначе твоих небожителей давно превратила бы в лепешку исполинская перегрузка. Во избежание этого они должны были бы со временем непрерывно уменьшать силу своего луча, так как масса их корабля с расходом горючего уменьшается. А наш сигнал постоянен по интенсивности! — К этому надо добавить ослабление с квадратом расстояния… Нет, Саша, вряд ли он искусственного происхождения. — Цыреннадмид сочувственно взглянула на Ивантеева. Изящная гипотеза, в которую так хотелось верить, рассыпалась в прах, и на глазах Елены выступили слезы. — Ну, а если он не удаляется, а приближается? — Ивантеев не выносил женских слез. — Тогда бы его движущий луч был обращен от нас и мы бы его не видели вовсе. Если же это специальный сигнальный луч, то волна не удлинялась бы, а укорачивалась. — Шагин был неумолим. — Доедай-ка свою дыню, да на боковую, а то проспишь смену… Спокойной ночи, девицы-красавицы. — Его шаги послышались возле лифта, ведущего наверх, в аппаратную.***
Ивантеев ворочался в постели, машинально прислушиваясь к шорохам ветра снаружи. Взбудораженное сознание не успокаивалось: из неимоверной дали наплывали пульсирующие фотоны, увеличиваясь до устрашающих размеров… Если они приближаются и сигнализируют лучом, так этот луч их уже не подталкивает, а притормаживает, отбирает часть энергии движения. Пульс учащается, и волна укорачивается… А она удлиняется! Здесь крылась какая-то зацепка…***
Распахнувшаяся дверь с маху ударила ручкой по стене, и Ивантеев ворвался в аппаратную. — Саша, что с вами? — Его лихорадочно сверкавшие глаза встревожили Елену. — Шагин, старая лошадь… — Ивантеев неровно дышал, — звук! — Какой звук? — Вчера, когда приехал Орсунбай с Еленой… Помнишь, заела кнопка звукового сигнала? Вдали звук был высоким, а потом понижался в тоне, пока они не остановились. Тот же эффект Допплера, только наоборот! — Ну и что же? — А то, что за полминуты “газик” сбавил скорость с семидесяти километров до нуля… Нормально звук низкого тона, но при сближении на большой скорости звуковая волна укоротилась и тон повысился… При торможении эффект Допплера сошел на нет и тон понизился до нормального. Они, — Ивантеев указал вверх, — летят прямо в нашу сторону, но не ускоренно, а замедленно… То, что слышит Чон-Кулак, — это контрпар, тормозящий луч, понимаете? С каждым мгновением скорость уменьшается и луч отбирает у корабля все меньше кинетической энергии. Пульс фотонов становится реже, и волна удлиняется… Ясно? На минуту Шагин задумался, облокотившись на стол и упершись большим пальцем правой руки в верхний ряд зубов. Этот признак замешательства был хорошо знаком Ивантееву. — Но тогда яркость луча должна была бы со временем расти, — сказал он наконец. — Сэр, — Ивантеев был предельно вежлив, — вчера вам угодно было просветить нас, что ускорение нужно поддерживать постоянным, постепенно уменьшая интенсивность луча. При торможении, к вашему сведению, нужно проделать тоже самое. А так как они приближаются, то принимаемая нами интенсивность остается постоянной. — Что же, Саша, давайте проверим. Тогда собственный луч вашего звездолета должен быть не ультрафиолетовым, а инфракрасным. — Цыреннадмид взялась за свой медальон-соёнбо, нажимом невидимой кнопки откинула крышку: медальон оказался миниатюрным вычислителем. — Объект начал торможение более двух тысяч лет назад, начиная со субсветовой скорости около девяти десятых, — она нажала несколько миниатюрных кнопок на овальной шкале, — при которой инфракрасный луч воспринимался бы на Земле как ультрафиолетовые фотоны большой энергии… При снижении скорости до семи десятых луч стал видимым — сине-фиолетовым: появилась звезда-гостья Яо Чжи-Туна. При дальнейшем торможении луч сделался зеленым. Это при скорости пять десятых, затем, — она опять посоветовалась с соёнбо, — красным, при скорости тридцать шесть сотых… Так как для постоянства перегрузки темп торможения должен со временем уменьшаться, за последующие тысяча восемьсот лет удлинение замедлилось… А сейчас волна удлинилась почти до исходной, порядка тысячи миллимикрон… — Браво, Саша! — Елена, вскочив с места, в экстазе чмокнула огорошенного Ивантеева. — Торможение в течение тысячи восемьсот лет! — воскликнул Шагин. — Ну что же, сейчас им самое время начать сигнализацию, запросить у КОККАНа разрешения на посадку, что ли… — Тысяча восемьсот наших лет, — поправила его Елена. — Кто знает, какое у них там время? — Чушь, не верю я в это! — Шагин, вскочив, заходил по комнате, нервно жестикулируя. — Космос не может повторяться, и ничего похожего на себя мы не встретим никогда! Довольно иллюзий из научной фантастики! Сколько времени и сил затрачено на разведку на волне двадцать один сантиметр? И до сих пор ничего! Кто возьмется подсчитать многообразие Вселенной? Да кто мы такие, черт подери, чтобы служить для нее универсальной моделью? Не слишком ли… Его взволнованную речь прервал сильный мелодичный звон, в котором слышалось что-то маняще тревожное. Ивантеев бросился к панорамоскопу. — Чон-Кулак потерял след! — крикнул он на бегу. На обширном экране яркое пятнышко сигнала исчезло: лишь помехи продолжали свою бестолковую пляску. Подскочив к пульту, Шагин нажал кнопку размыкателя, и звон оборвался. — Сигнал исчез! — сказал он. — Они запрашивают посадку! — съязвил Ивантеев. Не отвечая, Шагин завертел маховичками ручной наводки, направляя Чон-Кулак в прежнюю точку небосвода. — Но откуда они? — Елена уцепилась за руку Ивантеева. — Не с Проксимы ли Центавра? Она ведь ближайшая… Внезапно прозвенело снова: излучение возобновилось. Что-то необыкновенно радостное обожгло душу Ивантеева: этот перерыв был сигналом! — Ты, бородатый скептик… если это не сигнал, то… то… — слово не находилось. Шагин включил автозахват и молча подошел к черному прямоугольнику балконной двери. Минуту простояв, он отворил ее и скрылся во тьме. За ним последовали остальные. И опять прозвучал звон сброса, и снова на экране засияло пятно. Сомнений не оставалось! Разбушевавшийся ночной ветер неистово набрасывался на решетчатые фермы Чон-Кулака, и тот весь гудел, — басовито и торжественно, — словно орган в Домском соборе Риги. Четверо на балконе углубились в свои мысли: ничто не могло потрясти сильнее, чем это неоспоримое свидетельство, — здесь, сегодня, в этот вечер в Аличуре… Этого долго ждал мир, и они оказались первыми. — Итак, они идут. — Ивантеев нарушил молчание. — Но что принесут они нам? Разум — высочайший, совершеннейший, — но нечеловеческий, быть может, как марсиане Уэллса? — Нет, Саша, — Цыреннадмид полуобняла Елену за плечи, — высший разум не может быть нечеловеческим… Они поделятся с нами знанием, которого у нас еще нет… Периодические звонки не прекращались. — Но когда они придут? — Им лететь еще долго… лет сто двадцать. Их встретит грядущее Земное Братство, — проронила Цыреннадмид задумчиво. — Они? Нет, не они… скорее Нечто, — сказал Шагин серьезно и торжественно. — Нечто, о котором предупреждали многие… Мир должен узнать немедленно. — Он исчез вдвери. В темноте ярко засветилось круглое окно рубки радиорелейной связи.Николай Томан СИЛЬНЕЕ СТРАХА

ПРИЗНАНИЕ
В коридоре надрывается телефон, а Валентина никак не может оторваться от книги. Странно, однако, что и Михаил не спешит к телефону. Он всегда бросается к нему опрометью. А звонок не умолкает, Валентина бросает взгляд на часы — уже половина двенадцатого. Ну, это определенно Михаила; так поздно ей никогда еще никто не звонил. Она с досадой отрывается от книги и идет в коридор. — Ты разве не слышишь, Миша? — спрашивает она брата, заглядывая в его комнату. — Это ведь тебя кто-то. — Если меня, скажи, что нет дома, — почему-то испуганным голосом отзывается Михаил. — Так поздно? Кто же этому поверит? — Придумай тогда что-нибудь. Я к экзаменам готовлюсь… Некогда мне… Валентина удивленно пожимает плечами и снимает трубку. — Да, я слушаю… Мишу? Он спит уже… А откуда вы знаете, что не спит? Ну хорошо, я посмотрю, может быть, он и в самом деле не спит. Она кладет трубку на столик и идет к Михаилу. — Это какой-то твой товарищ. Он звонит из телефонной будки на другой стороне улицы и видит тебя через окно. Поговори с ним. Она замечает, как нервно дергается вдруг лицо брата. — Да, я слушаю, — говорит он в трубку каким-то чужим, робким голосом. — А, Тарзан, здравствуй! Это сестра почему-то решила, что я уже сплю. Все еще маленьким считает. Выйти к тебе? Поздно ведь… С чего ты взял, что боюсь? Ничего я не боюсь! Ладно, сейчас… Но тут Валентина выхватывает у него трубку: — Никуда я его не пущу так поздно! А если он вам очень нужен — зайдите к нему сами. Потерпите до завтра? Ну вот и хорошо. Спокойной ночи! Она кладет трубку и торопливо оборачивается к Михаилу. — Может быть, ты объяснишь мне, какому Тарзану понадобился так поздно? И вообще — что это с тобой происходит в последнее время? Михаил молчит, понурив голову. — Кто такой этот Тарзан? Что ему нужно от тебя? Михаил, не отвечая ей, медленно уходит в свою комнату. Валентина идет за ним следом. Она давно уже собиралась поговорить с ним серьезно. — Почему ты не отвечаешь, Михаил? — Я не могу тебе ответить, — произносит он наконец чуть слышно. — Не спрашивай меня ни о чем… Не вынуждай врать. — Но я вижу, что с тобой случилось что-то… Ты попал в беду? Расскажи, может быть, я помогу тебе… Она берет его за руки, но он отстраняется от нее и просит дрогнувшим голосом: — Помоги мне уехать куда-нибудь… — Но ведь у тебя экзамены! — Для меня сейчас это важнее, чем экзамены… Поверь мне на слово и помоги… Валентина хорошо знает его упрямый характер и решает ни о чем его больше не расспрашивать. — Ладно, ложись спать, я подумаю о твоей просьбе. Михаил послушно ложится, но Валентина знает, что он не скоро еще заснет. Не удастся, наверно, заснуть и ей… Что случилось с парнем? Почему он стал таким нервным, замкнутым? Ведь совсем недавно был дерзок, самоуверен… Любил говорить о сильных личностях, о Фрейде и его теории агрессивности человеческих существ. А теперь вдруг присмирел, будто боится чего-то. Опять, значит, какой-то в нем перелом?.. А когда-то был вполне нормальным, обыкновенным мальчишкой. Увлекался футболом, читал запоем приключенческие книги, любил ходить в цирк. Когда же случилось с ним это впервые? Кажется, после того, как ушел отец… Да, именно тогда, когда отец ушел к другой женщине. Мише было в тот год четырнадцать. Он не плакал, не возмущался поступком отца, но за один день стал совсем другим и всё, что любил до этого, возненавидел. Любимого своего кота Тигрика сбросил с подоконника, ударил девочку, с которой давно дружил и даже, кажется, по-мальчишески тайно любил. Все книги, подаренные отцом, выбросил в мусоропровод. А потом вообще убежал из дому, и мама нашла его лишь на третий день на даче у знакомых. Но что такое, он бредит, кажется? Валентина вскакивает с дивана и спешит к брату. Не зажигая света, останавливается на пороге его комнаты. Прислушивается… — Не убивал я ее, не убивал!.. — невнятно бормочет Михаил. — Не ее это кровь… И снова долгий, мучительный стон. Валентина бросается к брату, тормошит его. — Проснись, Миша, проснись!.. Что за кошмары тебе снятся? — Оставь меня, Джеймс… — молит Михаил. — Какой Джеймс? Это я, Валя. Проснись же наконец! Михаил испуганно вскакивает и бросается к окну. Валентина преграждает ему путь. — Опомнись, Михаил! Куда ты?.. Узнав сестру, Михаил обессиленно повисает у нее на руках. Валентина сажает его на диван, зажигает свет и бежит на кухню. Когда возвращается, видит его широко открытые, испуганные глаза и покрывшийся испариной лоб. Не считая, дрожащей рукой Валентина капает в стакан валерьянку. — Выпей, тебе станет легче. Михаил покорно пьет и постепенно успокаивается. — Ну вот и хорошо, Мишенька, — ласково, как маленькому, говорит ему сестра. — Ложись теперь поудобнее. Это ты в неудобной позе лежал и потому, наверно… — Нет, Валя, не потому… — перебивает ее Михаил. — Они меня все равно разыщут и убьют, куда бы я ни поехал. И не смотри на меня так — это уже не бред. — Господи, да кто это они? Что ты говоришь такое?.. — Не могу сказать кто, но они ни перед чем не остановятся и убьют, как ту девушку… — Какую девушку? Да ты просто нездоров, наверно… — А то, что я украл у них улику против меня, — не отвечая сестре, продолжает Михаил, — ничем мне уже не поможет… — Какую улику? — Они хотели меня запутать… Сделать причастным к убийству той девушки. А я украл у них эту улику, и они, должно быть, хватились ее теперь. За этим, наверно, и вызывал меня Тарзан… — Какой Тарзан? Тот, что звонил тебе? — Да, тот. Он мог убить меня тут же, на улице, прямо перед нашим домом. Он и мать родную не пощадит, если Джеймс ему прикажет. Кто такой Джеймс? Я и сам не знаю. Этого никто из нас не знает. Джеймсом Бондом мы сами его между собой называем по имени главного героя английского писателя Яна Флемминга. Джеймс познакомил нас с его романами. Михаил говорит это очень спокойным, бесстрастным голосом, а Валентина с ужасом думает: “Боже мой, неужели он попал в лапы шпионов?.. Что же теперь делать, как его спасти?..” — Некоторые из нас тоже мечтали быть похожими на знаменитого Джеймса Бонда с номером ноль-ноль-семь, дающим право убивать… Наверное, тот, кому мы дали кличку Джеймса Бонда, может не только убить, но и заставить сделать это любого из нас. Девушку убили по его приказу… — Какую девушку? — Я ее не знал, но они ее убили, и Джеймс хотел, чтобы я был к этому причастен. И он сделал меня причастным… — Нет, ты просто бредишь, Михаил! Ложись сейчас же в постель — смотри какой у тебя холодный лоб. Я ведь все-таки врач, и ты слушайся меня… — Э, какой ты врач, — вяло усмехается Михаил. — А что всё это не бред, я тебе сейчас докажу. Он торопливо нагибается, ищет что-то под диваном, достает бобину с магнитной лентой и дрожащими руками вставляет ее в магнитофон. Неестественно громко щелкает кнопка воспроизведения записи. Затаив дыхание Валентина слышит пьяные выкрики каких-то мальчишек, грубую брань, произнесенную чьим-то более низким голосом, и душераздирающий девичий крик: “Куда вы меня тащите, мерзавцы!.. Помогите, помогите же, ради бога!..” “Заткните ей глотку!” — командует властный голос, принадлежащий, видимо, вожаку этой банды. Теперь слышно лишь приглушенное хрипение, а потом чей-то озлобленный выкрик: “Ой, кусается, зараза! До крови укусила!..” “А ну, пырни ее, Малыш!” Раздается такой душераздирающий вопль, что Валентина невольно закрывает уши. И снова крик девушки (ей удалось, наверно, освободить рот): “Помогите… Помогите… Убивают!” “Кончай ее, ребята! А то еще услышит кто-нибудь”. “Чего испугались-то? — слышится насмешливый низкий голос. — Пусть себе орет — тут в лесу никто ее не услышит. А вы привыкайте к этому, закаляйтесь… Чего трясешься, Малыш? На-ка финку, будь мужчиной!..” — Выключи эту мерзость! — протягивает руку к магнитофону Валентина. — Я не могу больше… — Подожди, сейчас и меня услышишь, — останавливает ее Михаил. “Ну, а ты чего опустил руки, Ясенев? — снова слышится властный голос вожака. — Тоже мне супермен!” “За меня не бойтесь, — хрипло смеется Михаил. — Моя рука не дрогнет. Я…” И опять душераздирающий крик девушки… Но Валентина уже не в силах слушать. Она выдергивает шнур из розетки, и магнитофон захлебывается на полуслове. — Правда, здорово сфабриковали мое участие в убийстве? — с нервным смешком спрашивает Михаил. Валентина молчит, с трудом переводя дыхание. — Уж если и ты готова в это поверить, то… — Но откуда же там твой голос? Ведь это действительно твой голос! Пьяный, озверевший, но твой… — Да, верно, пьяный. Это Тарзан меня спаивал в притоне Джеймса, который мы называли “колледжем”. Подзадоривал, чтобы я целый фужер водки выпил. Вот я и ляпнул, что моя рука не дрогнет, и опрокинул фужер себе в рот. А потом без сознания под стол свалился. Ну, а Джеймс записал мои слова на магнитофонную ленту, а потом к той, что ты слышала, подмонтировал. Вчера они продемонстрировали мне это, и получилось, будто я в самом деле участвовал в убийстве. А когда я стал возражать, Тарзан меня оборвал: “Просто слушать противно, как этот герой выкручивается! Ты же таким пьяным был, что и вообще-то ничего не помнишь”. А Джеймс добавил: “Это и понятно. Все вы только в пьяном виде супермены, а в трезвом ходите с поджатыми хвостами”. Страшась взглянуть в глаза сестре, Михаил завершает свою исповедь деланно равнодушным тоном: — Я все теперь тебе рассказал. Хочешь верь этому, хочешь не верь… Валентина долго молчит, видимо, не в силах произнести ни слова, потом спрашивает чуть слышно: — А зачем им это? — Джеймс хотел какое-то дело мне поручить. Сказал даже — выполнишь, отдам тебе тогда эту пленку. — А ты знаешь кого-нибудь из тех, кто действительно в убийстве участвовал? Этого Малыша, например? — Нет, не знаю. Он, наверно, из числа подопечных Тарзана, которые в “колледже” Джеймса никогда не бывали. Их даже сам Тарзан считал подонками. А в “колледже” собирались подонки другого рода… Образованные хлюпики, вроде меня, мечтающие стать суперменами… — А где же находится “колледж” этого Джеймса? — Не знаю… — Как не знаешь? — А так. Меня туда в пьяном виде возили… Не совсем, конечно, бесчувственным, но в таком состоянии, когда уже на очень соображаешь. И потом поздно вечером, да еще по каким-то темным улицам. — И тебя это не настораживало? — Нет. Нравилось даже. Таинственно, как в романах Флемминга. — Что же мы теперь делать будем? — Не знаю… — Может быть, попробуешь заснуть? — Не удастся, наверно…ВАЛЕНТИНА ПЫТАЕТСЯ СПАСТИ БРАТА
Валентина хотела сначала пойти в Комитет госбезопасности, но Михаил сказал, что лучше в уголовный розыск на Петровку. В комендатуре ей выписали пропуск к полковнику Денисову. И вот она сидит теперь в его кабинете и рассказывает все, ч го узнала вчера от брата. Полковник не перебивает ее, слушает очень внимательно, записывая что-то в настольный блокнот. Кончив свой сбивчивый рассказ, Валентина спрашивает: — Может быть, об этом нужно было не вам, а работникам Комитета госбезопасности рассказать?.. — Нет, судя по всему — это дело нашей компетенции. — А кличка этого самого главаря банды — Джеймс Бонд, и его номер ноль-ноль-семь? — Это номер не его, а героя романов Флемминга, — улыбается полковник. — И учит он не столько секретам ведения тайной войны, сколько искусству ненависти и жестокости, пытается воспитывать неразмышляющих убийц и насильников. Теоретики “творчества” этого Флемминга утверждают, что книги его дают отдушину присущей будто бы каждому человеку жажде насилия и агрессивности. Ну, а ленту с записью убийства той девушки вы не захватили? — Михаил не дал мне ее. Он уверен, что на меня мог напасть Тарзан или еще кто-нибудь из банды Джеймса и отнять ее. — Да, видно, крепко его запугал этот Джеймс, — снова улыбается полковник. — Ну, а Тарзан ему больше не звонил? — Утром звонил кто-то. Голос похожий, но я не уверена, что это был Тарзан. — И что вы ему ответили? — Сказала, что Михаил болен. Я и в самом деле уложила его в постель и велела никому не открывать. Полковник нажимает кнопку на панели, внутреннего телефона и спрашивает кого-то: — Алексей Иванович, вы не помните, когда произошло убийство Анны Зиминой? Двадцать первого? Кто у нас этим занимается? Райотдел Краснопресненского? А конкретно? Ясно. Благодарю вас. Он кладет трубку и снова поворачивается к Валентине: — Так вы говорите, что ваш брат не совсем здоров? — Да, у него явное нервное расстройство. Я хотела сводить его к психиатру, но он боится выходить на улицу. А что, если бы… Она умолкает, не решаясь договорить. — Я слушаю вас, Валентина Николаевна. — А что, если бы вы его арестовали, товарищ полковник? Посадили бы, пока установите непричастность к убийству той девушки, А главное — пока не поймаете Джеймса и Тарзана. Они ведь… Но тут голос ее пресекается и она умолкает. — Нет, Валентина Николаевна, мы не имеем пока оснований его арестовывать, — мягко произносит полковник, наливая ей воды. — А Джеймс и Тарзан ничего ему не сделают… Мы постараемся, чтобы они ничего ему не сделали. Пусть только он полежит пока в постели и не выходит из дома. Врача мы пришлем сами. И не удивляйтесь, если вместе с ним окажется кто-нибудь из наших сотрудников. Предупредите об этом брата. — А сотрудник этот останется у нас и будет охранять Михаила? — с надеждой спрашивает Валентина. — Нет, зачем же. Он уедет вместе с врачом, и вы всем говорите, что у вас были только врачи. А за брата вашего не беспокойтесь, мы постараемся, чтобы с ним ничего не случилось. Полковник подписывает пропуск Валентине. Попрощавшись с нею, он некоторое время задумчиво прохаживается по кабинету. Валентина произвела на него хорошее впечатление. Есть в ней что-то внушающее доверие. Ее рассказ очень может пригодиться для раскрытия убийства Зиминой. Сделав кое-какие записи у себя в блокноте, полковник идет с докладом к своему начальнику. — Да, тут, видимо, есть какая-то связь, — выслушав Денисова, заключает комиссар. — Похоже, что именно убийство Зиминой записано на ленте, похищенной Михаилом Ясеневым. Кто ведет это дело? — Старший оперативный уполномоченный Краснопресненского райотдела капитан Черкесов. — А ему посильно это? Может быть, поручить кому-нибудь поопытней? — Я в него верю, товарищ комиссар. Он хотя и молод еще, но у него большой опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями. — Будем считать, что вы меня убедили. А кто ещё в его оперативной группе? — Старший оперативный уполномоченный майор Глебов. Вы должны его помнить, товарищ комиссар. — Как не помнить! Это он ведь разоблачил группу Краюхина? Ну, так как же его не помнить! Я и Черкесова помню. Черный такой, с усиками? Он что — кавказец? Русский? А фамилия у него, по-моему, кавказская, да и лицом он похож на горца. Пригласите-ка его к нам — нужно будет поближе познакомиться. — А когда, товарищ комиссар? — Да в пятницу хотя бы, — полистав настольный календарь, говорит комиссар. — Сейчас вот что важно установить. Не было ли в последнее время убийств, подобных убийству Зиминой, не только в других районах Москвы, но и в области? О вчерашнем покушении на Сорочкина вы уже знаете, конечно? Пьяные молокососы зверски изрезали человека ни с того ни с сего. — Вам разве не докладывали? Их уже поймали. — Кого поймали — мальчишек? Да они, наверно, и не помнят, что делали, а на допросе будут биться в истерике… Ловить нужно тех, кто за ними стоит, кто их спаивает, кто зверей из них делает. Думается мне, что тут действует чья-то опытная рука и с целями не столько уголовными, сколько политическими. Не случайно ведь находим мы у наших ребят комиксы и “подпольные” переводы романов с человеконенавистническими идеями. Да еще различные записи такой музыки, под звуки которой можно и отца родного зарезать. — А может быть, об этом нужно с работниками госбезопасности посоветоваться? — Советовались уже. Они тоже считают, что это не исключено. Похоже даже, что предпринимают что-то по своей линии, но это не должно снимать с нас ответственности… — Понимаю вас, товарищ комиссар. — Ну, а этот несчастный Сорочкин скончался? — Пока жив, и врачи все еще не теряют надежды спасти его, хотя это будет настоящим чудом. Ему ведь нанесено семнадцать ран. — Видно, очень крепкий человек. — Он спортсмен, товарищ комиссар. Тренер по самбо. Многие наши милицейские самбисты — его ученики.ЕЩЕ ОДНО ПРИЗНАНИЕ МИХАИЛА
Медицинская “Волга” с красным крестом на лобовом стекле подъезжает к дому Ясеневых во второй половине дня. Из нее выходят двое в белых халатах. Один пожилой седоволосый, видимо врач, второй — молодой, широкоплечий, с медицинским чемоданчиком в руках — похож на санитара. Остановившись перед подъездом, они читают на табличке, прибитой над дверями, номера квартир. — А как насчет носилок? — высовываясь из машины, спрашивает их шофер. — Пока не нужно, — отвечает тот, которого можно принять за врача, — может быть, не понадобятся. — Вы к Ясеневым, наверно? — спрашивает их девочка школьного возраста, вышедшая на улицу. — Так они на втором этаже. А на лестничной площадке их уже ожидает Валентина. — Вы к нам? К Ясеневым? Проходите, пожалуйста. И Валентина провожает их в комнату Михаила. — Нет, нет, не вставайте, — машет руками один из вошедших, видя, что Михаил пытается подняться с дивана. — А я и не болен. Это сестра меня уложила, — смущенно улыбается Михаил. — Она молодой врач, и ей все кажутся больными. Вы ведь из милиции? Тогда я должен дать показания… — Нет, нет — об этом после. Сначала мы вас все-таки посмотрим, а потом уж, может быть, и послушаем, — снова укладывает его на диван пожилой человек со строгими глазами и таким лицом, которое Михаил сразу же определил, как “волевое”. Он не сомневается, что это какой-нибудь известный сыщик или следователь по особо важным делам. — А что касается показаний, — улыбаясь, продолжает человек с “волевым” лицом, — то их вы дадите вот этому товарищу. Он оперативный уполномоченный милиции, а я всего лишь врач и выслушаю вас только по своей специальности, да и то с помощью стетоскопа. — Вы, наверно, мальчишкой меня считаете, — хмурится Михаил. — А я давно уже вышел из этого возраста… — Дорогой мой, я все это понимаю и вовсе не считаю вас мальчишкой, но болеют ведь не только мальчишки, но и люди с аттестатом зрелости. Дайте-ка мне вашу руку, я послушаю пульс. — Не упрямьтесь, Миша, — как-то очень просто, будто давно знакомый с ним человек, произносит наконец и тот, которого врач отрекомендовал оперативным уполномоченным. — Пусть вас посмотрит Илья Ильич, раз уже вы не очень доверяете диагнозу вашей сестры. А я еще успею обо всем с вами поговорить. Зовут меня Олег Владимирович, и я действительно старший оперативный уполномоченный капитан милиции Черкесов. Пока Илья Ильич считает удары пульса, Михаил внимательно всматривается в смуглое лицо капитана Черкесова. Нет, не таким представлял он себе опытного сыщика. Пожалуй, больше на киноактера похож. И усики какие-то уж очень легкомысленные. Наверно, Валентина так неубедительно все им изложила, что они не приняли ее сообщения всерьез. Но ничего, как только капитан узнает, в чем суть дела, сам, наверно, от него откажется, и им придется подыскать кого-нибудь поопытнее… Процедура осмотра длится почти четверть часа, и, когда Михаил начинает уже терять терпение, Илья Ильич говорит вдруг Валентине: — А знаете, коллега, я у него ничего серьезного не нахожу. Вы что ему давали — валерьянку? А таблеток по Бехтереву у вас нет? Ну так я выпишу. И пусть денек-другой посидит дома. У него что сейчас — подготовка к экзаменам? Дня два — три пусть не занимается ничем, потом наверстает. А теперь, — поворачивается он к Черкесову, — передаю его вам, Олег Владимирович. — А встать можно? — спрашивает Михаил, немного разочарованный заключением врача. Ему казалось, что состояние его нервной системы должно было встревожить Илью Ильича. — Да, конечно, можете встать, — разрешает Илья Ильич. — Вам бы на свежий воздух нужно… Куда-нибудь за город. Но с этим придется повременить. — Давайте теперь и мы побеседуем, — кивает Михаилу капитан. — Начнем с магнитофонной ленты. — Да, да, я включу ее сейчас, — как-то очень уж торопливо отзывается Михаил. Жестокую сцену надругательства над неизвестной девушкой врач и капитан слушают молча, лишь изредка обмениваясь быстрыми взглядами. Молчат они некоторое время и после того, как Валентина выключает магнитофон. — Вы узнали мой голос?.. — не выдержав этой слишком длинной для него паузы, спрашивает Михаил, ощущая неприятную, мешающую говорить сухость во рту. — Ловко они меня подмонтировали… — Я уже сообщила им об этом, Миша, — прерывает его Валентина. — Но ты не знаешь всего… Я тебе не все рассказал. Они не только подмонтировали мои слова… Они еще вымазали меня кровью… Может быть, даже ее кровью… Голос Михаила, то и дело прерывавшийся от волнения, пресекается вдруг совсем, и он с ужасом чувствует, что не может произнести ни слова. — Дайте ему воды, — шепчет Валентине Илья Ильич. Но Михаил резко вскакивает вдруг и бросается к дивану. Приподняв его сиденье, он достает измятую рубашку. — Вот та ковбойка, в которой я тогда был. Они вымазали ее кровью… И уверяли, будто это кровь той самой девушки… Я потом потихоньку от Валентины выстирал ее, но, видно, плохо… — А ну-ка дайте мне ее, — протягивает руку к рубашке Илья Ильич и идет с нею к окну. — Да, тут действительно следы крови, — заключает он. — А это не ваша кровь? — спрашивает Михаила капитан Черкесов. — Может быть, вы в тот день порезали себе что-нибудь? — Нет, ничего я не порезал. Можете меня осмотреть — на мне ни единой царапины. — Чья же тогда это кровь? — Я же сказал — они уверяли меня, что это ее кровь… Но, может быть, это кровь самого Джеймса. Он в тот вечер открывал консервную банку и порезал руку. Это я хорошо помню. Он и скатерть на столе вымазал своей кровью. — Мы возьмем вашу рубашку на экспертизу, — спокойно говорит капитан Черкесов и кладет ковбойку Михаила в чемоданчик с медицинскими принадлежностями. — Нам уже известно от вашей сестры, что вы не помните, как попадали к Джеймсу. А кто возил вас туда? И на чем? На чьей-то машине или на такси? — Обычно мне звонил Тарзан и вызывал на улицу. Это всегда было под вечер. Когда уже смеркалось, Тарзан предлагал зайти куда-нибудь и выпить. Я не возражал, потому что с этим скотом в трезвом виде просто не о чем было говорить… И потом я знал, что он послан Джеймсом, а к нему всегда нужно было приезжать “навеселе”. — А как определялось это состояние “навеселе”? Была какая-нибудь определенная норма? — Нет, не было. Тарзан сам это определял, и как только я начинал хмелеть, командовал: “Стоп!” И не давал закусить. “Закусывать будем у Джеймса”, — говорил он и выводил меня на улицу. А ездили мы к нему, по-моему, на каких-то частных машинах, но один раз на такси. Это уж точно. — Почему вы в этом так уверены? — Мне запомнился его номер. — Даже несмотря на то, что были в нетрезвом виде? — Я ведь не без сознания был… Я, когда выпиваю, всегда прихожу в состояние какого-то телячьего восторга. Читаю стихи, говорю без умолку… Вот в таком восторженном состоянии обычно и возил меня к Джеймсу Тарзан. А в тот день, когда мы на такси ехали, очень забавляли меня цифры шесть и девять. Наверно, это был номер такси, написанный на панели под лобовым стеклом машины. Мне казалось, что цифры захмелели… Что одна из них стоит твердо, а вторая вверх ногами. Чушь, конечно, но мало ли что может прийти в пьяную голову? — А вы чешского писателя Чапека не читали? — Это который написал “Войну с саламандрами”? — Да, этот. Только я имею в виду его рассказ “Поэт”. Чапек описывает в нем, как своеобразно запомнил номер машины, сбившей женщину, один чешский поэт. Вы не читали этого рассказа? — Нет, не читал. А “Война с саламандрами” мне понравилась. — Но тот номер такси, который вам запомнился, не мог же состоять только из двух цифр? — Возможно, это было 69–69 или 96–96, но сочетание шести и девяти я помню совершенно точно. Капитан Черкесов записывает эти цифры и продолжает расспрашивать Михаила: — А когда это было, не помните? — Нет, не помню… Хотя постойте — девятого мая это было! Да, правильно, девятого мая. Потому, наверно, цифры шесть и девять так запечатлелись. Капитан задает еще несколько вопросов и начинает прощаться. — Илья Ильич выписал лекарство, — обращается он к Валентине. — Вы его непременно получите. А Михаил два дни пусть посидит дома. И не впускайте к нему никого. Как у вас с работой? Можете вы побыть с ним? — Я взяла сегодня отпуск на неделю за свой счет. — А если мне звонить будут? — спрашивает Михаил. — Вы вообще не подходите к телефону, а Валентина Николаевна пусть отвечает, что вы больны. Или знаете что — подходите, и если это окажется Тарзан или еще кто-нибудь из банды Джеймса… — Кроме Тарзана, мне обычно никто больше не звонит. — Ну так вот, если он позвонит, вы сделайте какой-нибудь знак Валентине Николаевне, а сами постарайтесь поговорить с ним как можно дольше. А вы, Валентина Николаевна, побыстрее зайдите к кому-нибудь из соседей и позвоните мне. Есть у вас кто-нибудь поблизости, от кого вы смогли бы мне позвонить? — Я дружу с дочерью наших соседей, у них есть телефон. — Вот от них и позвоните. А если меня не будет, скажите, что вы Ясенева, мои коллеги будут знать, что делать. И вообще, если я вам зачем-нибудь понадоблюсь, звоните мне вот по этому телефону. И он записывает на вырванной из блокнота страничке свой служебный номер. Потом подробно расспрашивает Михаила, как выглядит Тарзан, и уходит вместе с Ильей Ильичом. А когда дверь за ним захлопывается, Валентина встревоженно спрашивает брата: — Почему ты не рассказал мне об окровавленной рубашке, а выложил все это работникам милиции? — Я и им не собирался рассказывать… — А почему же рассказал? — Сам не знаю… Показалось вдруг, что, увидев кровь на моей рубашке, они мне больше поверят… Валентина смотрит на него таким взглядом, будто перед нею сумасшедший. — Ну, знаешь ли, Михаил, тебе обязательно нужно показаться психиатру! — Покажи тогда меня еще и ветеринару. — Глупо остришь. Да и не до острот сейчас… При чем тут ветеринар? — Я от кого-то слыхал, будто в каждом мужчине живет зверь. — От Джеймса, наверно? Но ты ведь не мужчина еще… — И не буду им, наверно, — тяжело вздыхает Михаил. — Я просто ничтожество и самый заурядный трусишка, однако не сумасшедший. — Нет, ты настоящий сумасшедший! — злится Валентина. — Разве не может кровь на твоей рубашке оказаться одной группы с кровью той девушки? Чем ты тогда докажешь, что не участвовал в ее убийстве? — Пусть будет что будет, — снова вздыхает Михаил. — И пусть уж лучше они меня посадят, чем Джеймс или Тарзан зарежут…ЭКСПЕРТЫ ПРОСЛУШИВАЮТ МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ
Капитан Черкесов давно уже выключил магнитофон, но никто из приглашенных экспертов не произносит ни слова. А эксперты тут самые необычные: специалисты по звукозаписи, два врача из бюро судебно-медицинской экспертизы, известный актер, кинорежиссер. — Да-с, жуткую сценку вы нам продемонстрировали, — первым нарушает молчание актер. — И чертовски все натурально… — Кроме реплик Ясенева, — добавляет режиссер. — Они явно из другой пьесы, если только все это можно назвать пьесой. У меня почти безошибочное чутье на этот счет. То, что произносит Ясенев, звучит в ином ключе, чем все остальное. — А я бы этого не сказал, — возражает ему актер. — Его голос такой же хмельной, как и у всех остальных, и слова вполне соответствуют происходившему. — А что скажут медики? — обращается капитан Черкесов к представителям судебной медицины. Врачи пожимают плечами. — Нам впервые приходится участвовать в такого рода экспертизе, — замечает один из них. — Что касается предсмертной агонии убитой девушки, — подлинность этого у меня лично не вызывает никаких сомнений. — А зачем им это? — недоуменно разводит руками актер. — Зачем записывать все это на пленку? Может быть, они садисты? Вам это не кажется, доктор? — обращается он к врачу. — Да, возможно. Тот, кто записал все это на пленку, мог сделать это из садистских побуждений. — А может быть, ему понадобилась эта запись и для какой-то иной цели, — задумчиво произносит второй медицинский эксперт. — Может быть, ему нужна было запутать в это преступление Ясенева, фамилию которого, как мне показалось, произнес кто-то слишком уж четко. — Да, это верно, — соглашается с ним актер. — Всех по кличкам, а его по фамилии… — Ну, а какова точка зрения акустиков? — спрашивает Черкесов специалистов по звукозаписи. — Можно ли установить, в помещении это записано или на открытой площадке? — На слух воспринимается это, как запись на открытой площадке, — заключает один из акустиков. — Тут нет отзвука от стен и акустической обратной связи. Отражения от стен особенно были бы заметны в области средних и высоких звуковых частот. Зато довольно отчетливо слышен шум ветра. От этого при записях на открытых площадках очень трудно избавиться, даже если ветер тихий. — А та часть, где слышен голос Ясенева, тоже записана па открытой площадке? — снова спрашивает Черкесов. — На слух это трудно определить. Запись его голоса могла быть уже потом переписана на фон основной пленки, а не подклеена к ней. Все это нужно проверить специальной исследовательской аппаратурой в лабораторных условиях. — Я вполне согласен с моим коллегой, — одобрительно кивает звукооператор из киностудии “Мосфильм”. — Без приборов утверждать что-нибудь очень трудно. — Тогда у меня еще одна просьба, — обращается к акустикам Черкесов. — Снимите, пожалуйста, с этой лепты копию, или даже несколько копий. Это может понадобиться нам для опознания участников убийства Зиминой по их голосам. А потом, когда приглашенные эксперты расходятся, Черкесов спрашивает майора Глебова: — Вы не связались еще с оперативной группой, которая расследует нападение на Сорочкина, Федор Васильевич? — Связался. — Надо дать им эту ленту послушать. И непременно продемонстрируйте ее кому-нибудь, кто хорошо знал Анну Зимину. — Я тоже подумал это. — Ну, а как обстоит дело с наблюдением за домом Ясеневых? — Удалось с помощью телеобъектива сфотографировать трек подозрительных типов. Один из них очень похож на Тарзана, судя по описанию Михаила Ясенева. Вот, посмотрите сами. Форменный дегенерат. Мы хоть и критикуем Ломброзо, а в чем-то он все-таки прав. Разве такой тип не может быть предрасположен к преступлению? — Предрасположение к преступлению по антропологическим данным определяется теперь не только ломброзианцами, но и неоломброзианцами, — усмехается Черкесов, — но разницы между ними никакой. И те и другие видят корни преступности лишь в биологических свойствах личности. — Но ведь в какой-то мере… — Да, в какой-то мере они правы! — соглашается Черкесов. — Но биологические свойства личности — не определяющее начало. Дайте-ка мне эти фотографии — их нужно показать Ясеневу. Сестра его не звонила сегодня? — Нет, Олег Владимирович. — Ну, а вы что помалкиваете? — обращается Черкесов к майору Платонову — эксперту-криминалисту райотдела. — Вы наш собственный, так сказать, эксперт, а мнения своего о прослушанной магнитной ленте не говорите. — Размышляю пока, — скромно произносит Платонов, — потому и не тороплюсь. Черкесов знает, что Платонов слов на ветер не бросает и прежде, чем придет к какому-либо заключению, взвесит все не один раз. — Одно только несомненно, Олег Владимирович, — раздумчиво произносит майор, — запись на этой ленте велась не нашим магнитофоном. Это какой-то иностранный на батарейках или аккумуляторах. — А отсюда вывод… — Нет, пока никакого вывода. Такой магнитофон можно было и в комиссионном магазине на Смоленской площади купить. — Согласен с вами — не будем торопиться. Ну, а как у нас дело с поиском такси, Федор Васильевич? — снова обращается Черкесов к майору Глебову. — Подключили к нашей группе еще кого-нибудь? Начальство обещало. — Да, подключили двух лейтенантов. Прямо из милицейской спецшколы. Им я и поручил поиски шоферов такси, ездивших вечером девятого мая на машинах с интересующими нас номерами. Но пока никаких результатов. Капитан Черкесов смотрит на часы — рабочий день в райотделе давно уже окончен. — Пошли по домам, — говорит он своим коллегам. — Всего все равно не переделаешь, а срочного ничего пока нет. Сам он остается еще на несколько минут. Ему спешить некуда, он человек холостой. “А что, если съездить к Ясеневым?” — мелькает вдруг неожиданная мысль. И, не раздумывая более, он едет к себе и переодевается в штатское. От его дома на Большой Грузинской до улицы Герцена, на которой живут Ясеневы, недалеко. Черкесов не торопясь идет к ним пешком и думает почему-то не о Михаиле, а о Валентине. “Дома ли она сейчас? Должна быть дома — вечером она Михаила одного не оставит…”СНОВА У ЯСЕНЕВЫХ
— А знаете, я ведь почему-то ждала вас сегодня, — открывая ему дверь, простодушно признается Валентина. — Значит, я могу не считать себя незваным гостем? — шутит Черкесов. — Ну, а как наш больной? — Днем чувствовал себя неплохо, а к вечеру захандрил. Вернулись прежние страхи… — Ну, что ты все из меня какого-то неврастеника делаешь? Обиженный Михаил выходит из своей комнаты. — Добрый вечер, товарищ капитан! Или, может быть, мне полагается гражданином капитаном вас называть? — Называйте меня лучше Олегом Владимировичем, — улыбается Черкесов. — Да посмотрите-ка на эти вот фотографии. Не узнаете ли кого-нибудь? Михаил внимательно всматривается в лица, а Валентина удивленно восклицает: — Одного и я знаю! Это же Верочкин поклонник! — А мне никто из них не знаком, — разочарованно возвращает фотографии Михаил. — А какой же из них Верочкин поклонник? — любопытствует Черкесов, повернувшись к Валентине. — Да вот этот. Ужасно некрасивый, но безумно, и притом безнадежно влюбленный парень, — смеется Валентина, указывая на одну из фотографий. Взглянув на нее, начинает смеяться и Черкесов. — Не правда ли — ужасный урод? — спрашивает его Валентина. — Я смеюсь совсем не потому… Мы ведь за Тарзана его приняли. Он почти весь день возле вашего дома околачивался. — Ну, это-то понятно. Он сейчас в отпуске, вот и торчит целыми днями под Верочкиными окнами. Она даже в милицию хотела жаловаться. — А кто он по специальности? — Инженер-конструктор какой-то. И, говорят, талантливый. — Вот вам и тип, предрасположенный к преступлению! — снова начинает смеяться Черкесов. Валентина и Михаил удивленно смотрят на него. — Сейчас объясню, — обещает Черкесов. — Эх, надо бы Глебову позвонить! Ну да ладно — успею сделать это и завтра. Глебов — мой коллега. Посмотрев на фотографию этого безнадежно влюбленного инженера, он вдруг вспомнил теорию итальянского психиатра Чезаре Ломброзо, раскритикованную в наших учебниках криминологии, и решил, что Ломброзо все-таки в чем-то прав. — А вы разве не признаете этой теории? — спрашивает Черкесова Михаил. — Разве преступные наклонности, так же как и противоположные им, не заложены в каждом человеке? Вот Фрейд, например, считает… — Простите, Миша, а вы читали Фрейда или знаете о нем понаслышке? — Видите ли… — мнется Михаил. — Это Джеймс их по части фрейдизма натаскивал, — раздраженно перебивает его Валентина. — Знакомил и с пресловутым “комплексом Эдипа”, и с теориями современных психоаналитиков. — Ну и что из того? — повышает голос Михаил. — Что же плохого, что Джеймс нас с учением Фрейда знакомил? Его чтят во всем мире, а у нас он почему-то запрещен… — Почему же запрещен? — удивляется Черкесов. — Его книги есть во многих библиотеках. С некоторыми из них наши профессора специально даже рекомендовали познакомиться во время моей учебы в юридическом институте. — А вы его для чего читали? Чтобы критиковать или для того, чтобы учиться у него тайнам человеческой психики? — допытывается Михаил. — Учиться у него, в общем-то, нечему. Закономерностям психических явлений учились мы у Павлова, а Фрейда читали только потому, что он все еще на вооружении у современной буржуазной психологии и криминологии. — Не переменить ли нам тему разговора? — предлагает Валентина. — А еще лучше, если мы пройдем в мою комнату и выпьем чаю. — Скажешь тоже! — усмехается Михаил. — Олегу Владимировичу не полагается, наверно, распивать чай с такими, как я… — А я вот от чая и не откажусь как раз, — смеется Черкесов. — Не отказываюсь я и от беседы о Фрейде. Не знаю, кто вам его преподавал, Миша, но не сомневаюсь, что вам непременно поведали об убежденности Фрейда в том, что первобытный человек, нисколько не изменившись, продолжает жить в нашем подсознании. Этот предок, по Фрейду, был более жестоким существом, чем другие животные, и любил убивать. Я даже дословно запомнил одно выражение Фрейда. Он писал в какой-то из своих книг: “Если судить о нас по желаниям нашего подсознательного, то мы, подобно первобытному человеку, просто банда убийц”. Ну что, разве не это проповедовал вам Джеймс? — Да, что-то в этом роде… — смущенно признается Михаил. — Но ведь действительно гнездится в человеке что-то такое… — Джеймс им не только проповедовал это, он и осуществлял на практике подобные идеи, — зло перебивает брата Валентина. — Выпускал из них этого предка наружу. И не всем даже требовалась для этого теоретическая подготовка. Скоты, которые убили ту девушку, и имени-то Фрейда, конечно, не слыхали. А Фрейд был у Джеймса для таких интеллигентных мальчиков, как ты… Да ты хоть понимаешь, из какого вертепа вырвался? Михаил угрюмо молчит, а Валентина, махнув на него рукой” уходит на кухню готовить чай. — Валентина, наверно, не права, — негромко говорит Михаилу Черкесов. — Вы, конечно, не убийцей хотели стать, а сверхчеловеком, суперменом. Однако супермен и убийца, по сути дела, одно и то же. Главный герой Флемминга Джеймс Бонд — именно такой типичный супермен. Но ведь он агент номер ноль-ноль-семь. А подобный номер, начинающийся с двух нолей, в реестрах английской разведки дает право на убийство. Давайте, однако, больше не будем говорить об этом — Валентине эта тема не очень нравится. — А пока ее нет, ответьте мне: как вы будете относиться ко мне, если кровь на моей рубашке окажется той же группы, что и у убитой девушки? — А это уже установлено совершенно точно, — спокойно сообщает Черкесов, однако, увидев испуганные глаза Михаила, поспешно поясняет: — Но не это ведь главное. Установлено и другое — кровь на вашей рубашке принадлежит не женщине, а мужчине. Скорее всего это действительно кровь самого Джеймса… В это время входит Валентина с чайником и, заметив, что они вдруг замолкли, спрашивает с напускной шутливостью: — О чем это вы тут шептались в мое отсутствие? — Миша поинтересовался экспертизой пятен крови на его рубашке… — И, знаешь, — возбужденно перебивает Черкесова Михаил, — кровь оказалась мужской! Значит, она не была кровью той девушки… — Ну вот и слава богу, — произносит Валентина, но Черкесов по глазам ее видит, что она не верит этому. — Вы, кажется, сомневаетесь? — спрашивает он. — Это, наверно, что-то новое в экспертизе? — Да, это у нас сравнительно недавно. — Но как же это возможно? Ведь эритроциты и лейкоциты мужской и женской крови неотличимы друг от друга. — Так думали раньше, а теперь в сегментно-ядерных лейкоцитах женской крови обнаружили половой хроматин. Не замечали этого раньше по той причине, что среди ста лейкоцитов женской крови лишь примерно три имеют такой хроматин. — Теперь и я припоминаю… Нас знакомили с этим открытием. Но ведь обнаружены эти половые различия в живой крови, а вы, криминалисты, имеете дело с засохшей, разложившейся. Как же вам-то удается обнаружить в ней три процента этих лейкоцитов? — О, это в результате почти нечеловеческих усилий сотрудников научно-исследовательского института милиции, — не без гордости за своих коллег говорит Черкесов. — Чем только не пытались они восстановить ядра лейкоцитов! Для того чтобы добиться этого, проводилось множество экспериментов. А когда наконец удалось добиться успеха в лабораторных условиях, предстояло воскресить лейкоциты засохшей крови на случайных предметах и потому почти всегда загрязненные. Очень трудно было решить эту задачу. Производили своеобразную инкубацию мертвых лейкоцитов засохшей крови в термостатах, отделяли их ядра из растворов с помощью центрифуг, а потом чуть ли не сутками сидели за микроскопами… — Господи! — восклицает вдруг Валентина, перебивая Черкесова. — Когда я узнаю, какие усилия и какие средства затрачиваются на борьбу с преступностью, я наполняюсь прямо-таки лютой ненавистью ко всем этим подонкам. Среди них немало, конечно, кретинов и шизофреников, но ведь есть и обыкновенные ребята, страдающие лишь “комплексом неполноценности”, невозможностью чем-нибудь блеснуть, выделиться из “толпы”. И тогда они выходят на улицы в ночное время, строя из себя геройчиков и суперменов, которым все дозволено… Валентина с трудом сдерживает волнение. Это заметно по красным пятнам, выступившим у нее на щеках. Резко повернувшись к брату, она говорит ему очень зло: — И ты, Михаил, был недалек от этих ночных шакалов. И если бы докатился до этого… я возненавидела бы тебя! Романтики вам захотелось! Так идите тогда в авиацию, в морской флот, уезжайте на Дальний Восток, проситесь на полюса, идите в геологи, в дружинники, черт возьми! Когда“геройчики” нападают на беззащитных, дружинники выходят ведь почти один на один против этих озверевших, потерявших разум от водки, вооруженных подонков. Значит, они и есть подлинные герои. Заметив, что с Михаилом творится что-то неладное, Черкесов делает Валентине знаки, чтобы она перестала, но она не замечает или, может быть, не хочет замечать его предостережений. Она так изнервничалась за эти дни, что теперь нуждается, наверно, в разрядке. А Михаил сидит, стиснув зубы. В лице его ни кровинки. Губы то и дело нервно подергиваются. — Ты подала мне хорошую мысль, — неожиданно произносит он. — Я пойду… — Куда это ты пойдешь? — обрушивается на него Валентина. — В дружинники ты пойдешь? — Правильно, другие пусть идут, — нервно смеется Михаил. — Нет, Валентина, я пойду не в дружинники, а просто на улицу и буду ходить, как всегда, не прячась ни от кого… И не потому, что стал вдруг храбрым, а потому, что не хочу больше быть трусом… — А к чему это самопожертвование? — раздраженно спрашивает Валентина. — Может быть, это поможет милиции выследить Тарзана… — Судя по тому, что никто из этих подонков тебе не звонил, и по тому, что возле нашего дома никаких подозрительных типов милиция не заметила, — тобой уже никто не интересуется. Мы вообще зря подняли такую панику… — Как зря? А магнитная лента, которую я у них выкрал? — Да, а как, кстати, вам это удалось? — спрашивает Черкесов. — Когда они мне ее продемонстрировали, я хоть и пьян был, но сразу сообразил, чем это для меня пахнет, и тут же решил выкрасть ее. Стал меньше пить, но притворялся, что меня совсем развезло. Падал даже два раза, и один раз возле тон самой тумбочки, в которую Джеймс кассету с лентой положил. Я это хорошо заметил. А они на меня никакого внимания уже не обращали. Я и воспользовался этим. К счастью, лента была на маленькой кассетке и ее легко было в карман спрятать. Потом они, конечно, обнаружили пропажу, а Тарзан, наверно, поэтому и вызывал меня на улицу… — А по-моему, ты выдумываешь все это, — пренебрежительно говорит Валентина. — Тем более мне нечего бояться выходить на улицу, и я завтра же пойду, — упрямо встряхивает головой Михаил. — А я тебя не пущу! Ты ведь не совсем здоров, и врач предписал тебе побыть несколько дней дома. Правда, Олег Владимирович? — Да, пожалуй, — говорит Черкесов, понимая, что она очень нуждается в такой поддержке. — Я, однако, засиделся у вас — мне пора. — А чай как же? — В другой раз как-нибудь — поздно уже. — Жена, наверно, ждет? — Да нет, не ждет меня никто. Я все еще в холостяках хожу, — смущенно улыбается Черкесов. — Никак не могу решиться на столь ответственный шаг. — А на меня вы произвели впечатление храброго человека, — смеется Валентина. — И я надеюсь, вы не испугаетесь, если я напрошусь пройтись с вами немного по свежему воздуху? Понервничала, голова разболелась… — А одна ты боишься? — ревниво спрашивает Михаил. — Олегу Владимировичу не полагается, наверно, с сестрами подозреваемых прогуливаться. Зачем же нам его подводить? — Это правда, Олег Владимирович? — Ну что вы, Валентина Николаевна! С удовольствием пройдусь с вами. Вам действительно нужно на свежий воздух. Посмотрите-ка на себя в зеркало.ЗА ЧЕРКЕСОВЫМ КТО-ТО СЛЕДИТ…
— А знаете, почему мне захотелось проводить вас? — спрашивает Валентина Черкесова, когда они выходят на улицу. — Догадываюсь. Так просто вы едва ли бы… — И вовсе не “едва ли”!.. — смеется Валентина. — Но сегодня мне действительно очень нужно с вами поговорить без Михаила. — Я так и понял. Валентине хочется взять этого молодого, стройного капитана под руку, но она не решается. — Вот вы разбираетесь в ситуации, в которую попал мой брат, а сами, наверно, думаете… Не можете не думать: а как же докатился он до жизни такой? Куда семья смотрела — в данном случае я, старшая его сестра? Догадывалась ли я о чем-нибудь? Честно вам признаюсь — нет, не догадывалась. Почему? Да потому, наверно, что Михаил по-прежнему хорошо учился, а нервным и вспыльчивым стал уже давно. Еще с тех пор, как папа от нас ушел. А то, что он в дурную компанию может попасть, нам как-то и в голову не приходило. Казалось, что такое может произойти лишь с теми, кто без матери остался. — Наша статистика говорит об обратном. Наибольшее количество преступлений совершают те подростки, которые остались без отцов. Такие ребята чаше делаются преступниками, чем даже круглые сироты. Особенно характерно это для осужденных за хулиганство. — Казалось бы, отцы не принимают такого повседневного участия в воспитании детей, как матери, а смотрите, как получается! Тут, видимо, играет роль чисто психологический фактор. Значит, не избежал этого и наш Михаил… Он ведь очень был травмирован, хотя и не сразу попал в дурную компанию. Ему было, конечно, стыдно перед товарищами, что от нас ушел отец. Учиться, однако, он стал еще лучше, чем прежде. И это, как мне кажется, было у него своеобразным актом протест;!. Обычно в таких случаях ребята отбиваются от рук, начинают плохо учиться или вообще бросают учебу. В его школе уже был такой случай, и учителя боялись, как бы и с Михаилом не произошло того же. Он это почувствовал и, как мы с мамой поняли, назло своим школьным опекунам стал так учиться, что они просто диву давались. Ну, а в компанию Джеймса он попал уже после смерти мамы… Она умолкает и лезет в сумочку за платком. Черкесов невольно берет ее под руку. Но как только она начинает снова говорить, осторожно отпускает ее локоть. В это время Валентина замечает, что какой-то обогнавший их мужчина обернулся и бросил на них внимательный взгляд. “Наверно, какой-нибудь знакомый или сослуживец Олега Владимировича”, — решает Валентина и продолжает свой рассказ, слегка понизив голос: — Вы можете спросить: а как же отец? Он что, совсем перестал интересоваться вами? А ему было не легче нашего, может быть даже тяжелее, потому что он был очень порядочным человеком… Да, да — именно порядочным, несмотря на все то, что произошло. Я знала ту женщину, к которой он ушел. Папа был с нею знаком еще до того, как женился на маме. И, по-моему, уже тогда был в нее влюблен, но не пользовался взаимностью. Ну, а потом у нее трагически погибли муж и сын, и она была в таком отчаянии, что чуть не покончила с собой, и спас ее от этого мой папа. Не буду вам рассказывать, как он это сделал, — это длинная история, но он ее действительно спас. Мама это знала и считала даже, что он сделал доброе дело. Но, спасая эту женщину, папа окончательно погиб сам… Однако я, кажется, заболталась и рассказываю уже о том, что вам совсем неинтересно… — Ну что вы, Валентина Николаевна! — Папа, видимо, и не переставал никогда любить ту женщину, — продолжает Валентина, — и ему лишь казалось, наверно, что он любил маму — простую, добрую, но ничем не примечательную женщину. Ну, а после всего этого, после почти ежедневных встреч с тою, которую он любил (а длилось это около года), ему стало совсем невмочь… И все-таки он ни за что не ушел бы от нас, и мама никогда бы этого не узнала, если бы не я… Да, именно я. Одна я в нашей семье понимала, что творится с отцом. И я сказала ему: “Уходи, так больше нельзя…” Я была тогда уже на первом курсе института и прекрасно во всем разбиралась. Я понимала, что он жертвует собой из-за нас, детей. Пожалуй, даже главным образом из-за меня. Маму он уже совсем не любил, Михаила тоже, кажется, не очень… И я ему сказала: “Уходи, пока знаю одна только я, как ты мучаешься. И я не могу больше на это смотреть… Мы уже не маленькие и не пропадем, а так тоже больше нельзя”… Он, конечно, не сразу послушался меня. Но я говорила ему это почти каждый день и более убедительно, чем сейчас рассказываю вам. — И он ушел? — Да, он ушел, хотя это было ой как нелегко. Даже маму ему было не так-то просто оставить. Ну, а нас тем более… Но это еще не все. Он был членом партии, руководителем крупного предприятия, и такой разрыв с семьей не мог, конечно, оставаться в тайне ни от парткома, ни от начальства. А как ему было объяснить им, почему он ушел? Это ведь я только могла понять, что с ним происходило. И даже не понять, а, скорее, почувствовать. Не знаю, как он там объяснил им, едва ли, однако, стал очень уж “обнажать душу”, не в его это характере. Но от нас в конце концов ушел, и не к ней, а попросил перевести его на работу в другой город. И его перевели, понизив в должности и поручив делать то, к чему не лежала его душа. Нам он посылал почти весь свой оклад, а на что жил сам, я до сих пор понятия не имею. А потом, уже спустя год, к нему приехала она. Может быть, просто из жалости. Михаил считал уход отца настоящей изменой, которую простить нельзя. Ну, а мама погоревала-погоревала и утешилась тем, что обвинила во всем коварную соблазнительницу. Я и не пыталась ее в этом разуверить… — Валентина вдруг умолкает, потом шепчет чуть слышно: — Вам не кажется, что за нами давно уже кто-то наблюдает? — Кажется. Только вы не подавайте вида, что мы заметили это. Мне нужно разглядеть его получше. Продолжайте свой рассказ. — Да вот, собственно, уже и все. Мама умерла спустя два года от рака желудка, а мы продолжали жить почти так же, как и раньше. Теперь, когда Валентина точно знает, что за ними следит кто-то, она уже не может не думать об этом. Снова возникают прежние страхи за брата, и она просит Черкесова: — А Михаилу вы посоветуйте, пожалуйста, не выходить на улицу. Это ведь очень рискованно. Им ведь ничего не стоит убить его… — Ну, не думаю, чтобы они решились на это в центре города. К тому же за Михаилом следовали бы наши люди. Мне думается даже, что это было бы ему полезно. Он поверил бы в себя, преодолел бы как-то ощущение своей неполноценности. Но если вы так боитесь за него… — Честно говоря — очень боюсь! Не верю я, что он преодолеет самого себя… — А мне думается, что у него есть характер. Вы же сами рассказывали, как он стал учиться после того, как вас постигло такое горе. — Ну, это он из одной только гордости. — Не согласен с вами. Он вот уж который год отлично учится. Для этого, уважаемая Валентина Николаевна, нужна воля. — Может быть… Не знаю… Но мне страшно за него. Они разговаривают теперь вполголоса, и Черкесов все время бегло поглядывает на упорно идущего то впереди, то позади них человека. Вечером в свете уличных фонарей разглядеть его, однако, нелегко. Дойдя до площади Восстания, Черкесов говорит Валентине: — Ну, а теперь вам пора домой, только я вас одну не отпущу. Мы сядем сейчас на такси и поедем в сторону улицы Горького, а уж оттуда к вам. Вот, кстати, такси, и хорошо, что всего одна машина. Этому типу не на чем будет за нами поехать. — А вам, наверное, и самому нужно за ним понаблюдать? — К сожалению, сделать это незаметно сейчас уж невозможно. Я хотел было остановить его и проверить документы, но документы у него, наверно, в полном порядке. А если это кто-нибудь из банды Джеймса, то лучше их пока не настораживать. А насчет Михаила мы давайте так договоримся: если он и завтра будет настаивать — не возражайте, ладно?В РАЙОТДЕЛЕ МИЛИЦИИ
Когда капитан Черкесов приходит на следующий день и свой отдел, майор Платонов сообщает ему: — Предположение ваше оправдалось, Олег Владимирович, — по голосу, записанному на магнитной ленте, родственники Зиминой опознали Анну. Это действительно ее убила банда Тарзана. А вот заключение экспертов-акустиков. Из него следует, что голос Михаила Ясенева явно вмонтирован в эту ленту. — Я в этом не сомневался, — с невольным вздохом облегчения произносит Черкесов. — Не сомневался и я, — замечает Платонов. — Но прежде это было лишь предположением, а теперь акустические приборы подтвердили нашу догадку, и она приобрела силу доказательства. Радует Черкесова и майор Глебов. Из следственного отдела Тимирязевского района ему сообщили, что они прослушали присланную им магнитную ленту вместе с арестованными участниками нападения на Сорочкина. Опознан один из записанных на ней голосов. — Голос Тарзана? — догадывается Черкесов. — Да, хотя им он известен под именем “дяди Жоры”. Описание этого “дяди Жоры” не очень совпадает, однако, с тем портретом, который нарисовал вам Михаил Ясенев. Совпадают только рост, цвет волос и глаз. В возрасте тоже колебания в пределах пяти — семи лет. А лицо у него, по их словам, добродушное, улыбчивое. Они вообще считают его очень добрым и щедрым. — Еще бы, — усмехается Черкесов. — Он ведь не раз, наверно, поил их и кормил. Да и в кино, конечно, водил на “Великолепную семерку” и другие боевики. — Да, уж наверное, не без этого, — соглашается Глебов. — Ну, и что же получается, Федор Васильевич? — лукаво подмигивает ему Черкесов. — Полное противоречие с теорией Ломброзо? — А если этот “дядя Жора” и “Тарзан” одно и то же лицо, то как же быть с описанием наружности его Ясеневым? — Ясеневу Джеймс так основательно вбил в голову учение Фрейда, что он зримо видел в образе Тарзана прообраз его первобытного предка. Потому и нарисовал нам звероподобный его портрет. А мальчишек Тарзан угощал, наверно, не только водкой, но и конфетами, потому и представлялся он им таким благообразным, пожалуй, даже сладеньким. Кстати, знаете, кем оказался сфотографированный нашими лейтенантами человек, принятый нами за Тарзана? Очень талантливым инженером-конструктором, безнадежно влюбленным в одну из девушек, живущих в том же доме, что и Ясеневы. — А я все-таки думаю, — не сдается Глебов, — если подвергнуть Тарзана или этого “дядю Жору” обследованию… — А я уверен, что “или” тут ни к чему, — перебивает его Черкесов. — Вне всяких сомнений, Тарзан и “дядя Жора” — одно лицо. — Может быть. Но если подвергнуть его антропологическому освидетельствованию, то Ломброзо окажется в чем-то прав. — В чем-то — весьма возможно, — соглашается с ним Черкесов. — Однако теория его не станет от этого истиной. Но меня волнует сейчас другой вопрос. Как вы, товарищи, относитесь к свидетельским показаниям? Судя по вашей оценке описаний внешности Тарзана, данных Ясеневым и теми хулиганами, которые напали на Сорочкина, вы далеки от оптимизма. — Да, эти мальчишки, напавшие на Сорочкина в состоянии крайнего опьянения, или панически боящийся Тарзана Ясенев — не очень объективные свидетели, конечно. — Как же тогда быть? Где искать более объективных? Разве вот только Сорочкин? — Так ведь его еле-еле от смерти спасли. — Но жизнь его теперь уже вне опасности, и я думаю, что через несколько дней врачи могут разрешить нам побеседовать с ним. Ну, а потом шофер такси, который возил Тарзана с Михаилом к Джеймсу. На этого свидетеля у меня особенно большие надежды. — Но шофер еще не найден. Номер такси, сообщенный Ясеневым, очень уж неточен. Наши лейтенанты беседовали почти со всеми таксистами, которые в тот день ездили на машинах с номерами, состоящими из цифр, названных Ясеневым. Теперь они опрашивают тех, у которых из четырех цифр две первые или две последние имеют подобное сочетание. — Пусть не прекращают поисков. Ну, а к Джеймсу никаких пока подступов? — Никаких, — со вздохом произносит Глебов. — И думается мне, что вывести на него сможет нас только Тарзан… В это время раздается телефонный звонок. — Это вас, Олег Владимирович, — протягивает Глебов трубку Черкесову. — Да, слушаю вас. Ах это вы, Валентина Николаевна! Ну, как у вас там? Был звонок?.. Не выдержал, значит? Можете вы к нам сейчас приехать?.. Боитесь оставить Михаила одного? Ну хорошо, я пришлю к вам моего товарища. Придется вам к ним съездить, Федор Васильевич, — обращается он к майору Глебову. — Меня уже “засекли”, наверно. — Почему вы думаете, что “засекли”? Черкесов рассказывает ему о вчерашней своей прогулке по улице с Валентиной Ясеневой, не особенно вдаваясь в подробности. — Непонятно все-таки, — задумчиво произносит Глебов. — Ну хорошо, Валентину они могли и раньше видеть вместе с Михаилом (да он и сам, наверно, им ее показал и все сведения о ней дал), ну а вас-то как они узнали? Мало ли с кем могла она гулять… — Если убийство Анны Зиминой — их дело, то удивляться тут нечему. Они могли видеть меня, когда я выезжал на место убийства. Мог рассказать им обо мне и кто-нибудь из тех, кого я допрашивал по ее делу. — Если только “Корявый”… Так его давно уже нужно было арестовать. — Тогда против него еще не было достаточных улик, а теперь этот вопрос согласован с прокуратурой. Ну, а если он им рассказал обо мне, они могли и понаблюдать за мной на всякий случай. — Значит, нужно считать, что Тарзану уже известно, что Ясенев признался нам во всем, раз они видели вас вместе с его сестрой. — Почти не сомневаюсь в этом. — А Михаилу сейчас Тарзан, значит, звонил? — Да, Тарзан. А пока они говорили, Валентина бросилась к соседям, но их не оказалось дома. Тогда она магнитофон включила, поднесла микрофон к телефонной трубке и значительную часть их разговора успела записать. Очень толковая девица, — почти с нескрываемым восхищением заключает Черкесов. — Не замужем, значит? — интересуется Глебов. — Да, совсем еще молодая. Только что медицинский институт окончила. Вы заберите у нее эту пленку и Михаила подбодрите, чтобы не очень робел от угроз Тарзана. — А вы думаете, что он никакого участия в их бандитских делах не принимал? — Думаю, что они лишь готовили его к чему-то. Да и не его одного, наверно. Потому-то и нужно как можно скорее обезвредить эту банду. Майор Глебов возвращается спустя полчаса. Выкладывает на стол кассету с магнитной лентой. Ее тотчас же забирает Платонов и вставляет в магнитофон. — А знаете, — говорит Глебов, — на меня этот Михаил вовсе не произвел впечатления неврастеника. И держится совсем не робко. — А может быть, он только храбрится? — Не знаю, не знаю… Я бы, например, не отказался от его помощи. По-моему, он вполне осознанно соглашается пойти на встречу с Тарзаном, хотя его сестра считает такое решение почти самоубийством. — Ну хорошо, Федор Васильевич, мы это еще обсудим. Рассказывайте все по порядку. — Михаилу действительно позвонил Тарзан. Ругал, что скрывается и симулирует болезнь. — А за то, что предал их, не упрекнул? — Спрашивал только: “Не продался ли операм из угрозыска?” Да вы это сами сейчас услышите. Эту часть разговора Валентине как раз и удалось записать. Ну, как у вас, Серафим Силантьевич, все готово? Включайте тогда. Сначала слышится лишь хрипловатый, не очень разборчивый голос, потом начинают различаться отдельные слова: “Сволочь ты… трусливая скотина… ну, чего испугался?..Джеймс над тобой подшутить захотел, не знаешь ты его разве?” “Ничего себе шуточки, — слышится голос Михаила. — Да ведь если бы он дал послушать это какому-нибудь прокурору…” “Ну вот еще — прокурору! — перебивает его Тарзан. — За кого ты его принимаешь? За сумасшедшего, да? Там же еще и мой голос записан… А мне что же — свободная жизнь надоела? Я еще своего не отгулял. У меня все еще впереди, и никакому Джеймсу продать себя я не позволю. Ты тоже это учти, если собираешься отнести ленту эту на Петровку. Я тебя из-под самой земли извлеку!..” “Чего пугаешь, — снова бурчит Михаил. — Ты это брось, а то я и разговаривать с тобой не стану”. “Ну ладно-ладно, обидчивым каким стал. В самом деле, видать, захворал… Я ведь тебе по поручению Джеймса звоню. Очень он на тебя рассерчал, и если бы не я… Ну да, в общем, отошел он теперь. Предлагает забыть все, что произошло. Но при условии…” “Каком еще условии?” “Ленту ты должен вернуть. Если боишься к Джеймсу ехать, мне передашь, и не ночью в каком-нибудь темном переулке, а среди бела дня. Это специально, чтобы ты не боялся, что мы тебе что-нибудь сделаем. Сегодня сможешь?” “Нет, сегодня не смогу. Я еще болен. А завтра в первый раз выйду. Это тебя устраивает?” “Ну ладно, черт с тобой, хотя Джеймс велел непременно сегодня. А завтра ты выходи тогда по Калашному переулку прогуляться. Там мы с тобой и встретимся. Людный ведь переулок, так что можешь не бояться, что мы тебе что-нибудь…” “Да чего это ты решил, что я боюсь? Не боюсь я вас ничуть… А во сколько?” “Хорошо бы утром, часов в девять — десять”. “Ладно, договорились. Приходи к десяти”. “Ну, будь здоров!” “Постараюсь”. Платонов выключает магнитофон. — Молодец Михаил, — одобрительно замечает Черкесов. — Неплохо сыграл свою роль, только вот хватит ли у него завтра храбрости пойти на эту встречу? — А зачем Тарзану эта встреча? — спрашивает Платонов. — Если они уже знают, что Михаил все нам рассказал, то нужен он им за тем разве только, чтобы пырнуть его ножом. А сделать это может не обязательно сам Тарзан. — Да, конечно, тут нужно тщательно все взвесить, — соглашается с ним Черкесов. — И продумать все наши действия до мельчайших деталей.В ПОИСКАХ НЕЛЕГКОГО РЕШЕНИЯ
А в Московском уголовном розыске в эго время идет не очень приятный разговор о капитане Черкесове. В руках комиссара милиции три фотографии, на которых Черкесов изображен со спины, сбоку и спереди, но не один, а под руку с Валентиной Ясеневой. Значит, кто-то снял их в тот самый вечер, когда он шел с Валентиной по улице Герцена и она рассказывала ему о трагической судьбе своей семьи. — С какой целью присланы нам эти фотографии, ломать голову не приходится, — задумчиво произносит комиссар. — Текста к ним нет, но снимочки настолько выразительны, что он и не требуется. Конечно же, его хотят скомпрометировать. Рассчитывают, что мы, увидев эти снимки, отстраним капитана от ведения следствия по делу об убийстве Анны Зиминой. Глядя на них, действительно можно предположить, что он ухаживает за сестрой человека, показания которого имеют прямое отношение к убийству. — Но ведь вы же знаете, товарищ комиссар, что Черкесов никогда не позволил бы себе… — прерывает размышления своего начальника полковник Денисов. — Считайте, что я ничего этого не знаю, — хмурится комиссар. — Считайте меня вообще человеком недоверчивым, склонным к подозрительности. И вот такому человеку присылают фотографии этой милой парочки, прогуливающейся под руку. Вы посмотрите только на их лица! А что, Черкесов не женат? Ну вот видите!.. Да не перебивайте вы меня, пожалуйста! Надо мной тоже есть начальство, и не исключено, что оно будет рассуждать именно так. Полковник Денисов сидит теперь молча, отвернувшись к окну и насупившись. Комиссар встает из-за стола и начинает расхаживать по кабинету. — Кто-то, значит, побаивается этого красивого капитана, — продолжает он свои размышления. — Хочет убрать, отстранить его от дела, в котором он уже нащупал, видимо, какую-то путеводную ниточку. Полковник Денисов поворачивается к комиссару, готовясь снова защищать капитана Черкесова, но комиссар сердито перебивает его: — А ваше мнение я спрошу немного позже, дайте мне сначала самому во всем разобраться. Ну, а что же еще? Бесспорно, что преступники оснащены такой техникой, которая позволяет им делать снимки достаточно хорошего качества даже без импульсной лампы, при свете простых уличных фонарей. Да и фотоаппарат тоже, наверно, миниатюрный, в противном случае капитан Черкесов заметил бы, что его фотографируют, и если бы даже не задержал столь подозрительного фотографа, то хоть под руку с этой красоткой перестал бы идти… — Убийство Зиминой тоже записано с помощью заграничной техники, — замечает полковник Денисов. — Импортные тут не только техника, но и методы Джеймса, а скорее, еще кого-то, руководящего и им, и Тарзаном, — соглашается комиссар. — Похоже, что кто-то пытается с их помощью воздействовать на самые низменные инстинкты подростков. — Да, тут, пожалуй, вы правы, — задумчиво говорит полковнику Денисову комиссар. — Попробуют, наверно, с помощью Фрейда и его последователей развить и у нашей молодежи инстинкты агрессивности, врожденной, якобы, враждебности каждого по отношению ко всем. Идеи эти они давно уже втолковывают своей молодежи, наводнив книжные рынки фрейдистской литературой. Так называемый фонд Рокфеллера ежегодно субсидирует на издание ее миллионы долларов. — Ну, у нас это не выйдет, — убежденно произносит полковник Денисов. — Во всяком случае, не должно выйти. Комиссар открывает папку, лежащую у него на столе, и достает из нее сводку происшествий за последнюю неделю. — Вот тут упоминается еще о двух случаях зверского избиения пьяными подростками прохожих. Я не думаю, чтобы все это было спровоцировано Джеймсом и Тарзаном, но вы поинтересуйтесь все-таки и этими происшествиями. Звонит телефон, и комиссар снимает трубку. — Очень кстати! — оживляется он. — Пусть заходит. Вызвал я этого капитана Черкесова. Доложили, что уже явился. Сейчас предстанет перед нами, — говорит комиссар Денисову. Капитан Черкесов появляется в дверях спустя несколько минут. — Разрешите, товарищ комиссар? — Здравствуйте, товарищ Черкесов. Заходите и полюбуйтесь-ка вот на эти снимочки. И комиссар протягивает капитану фотографии, присланные анонимным фотографом. — Ах мерзавец! — невольно вырывается у Черкесова. — Успел, значит, даже сфотографировать… — А вы что, знали разве, что за вами следит кто-то? — Догадывался. Но если бы только заметил, что он меня фотографирует, — непременно бы задержал. А так повода не было… — А моменты тут запечатлены весьма выразительные, — усмехается комиссар. — Да, было такое, — смущенно признается Черкесов, внимательно рассматривая фотографии. — Валентина Ясенева историю своей семьи мне поведала и всплакнула. Думаю, что на моем месте и вы бы, товарищ комиссар… — Ну, это еще неизвестно, как бы я на вашем месте, — все еще посмеивается комиссар, — но я вас не обвиняю пока ни в чем, так что нечего и оправдываться. Расскажите-ка лучше, как у вас дела. Есть что-нибудь новое? — Есть, товарищ комиссар. Нужно бы только магнитофон — еще одну ленту хочу вам продемонстрировать. Пока Денисов по просьбе комиссара достает из шкафа магнитофон и включает его, капитан Черкесов рассказывает все то, что неизвестно еще комиссару и полковнику. А когда прокручивается лента с записью разговора Михаила Ясенева с Тарзаном, комиссар спрашивает: — Ну, и что же вы решаете предпринять? — Я бы разрешил Михаилу пойти на эту встречу с Тарзаном. — А он не заробеет? — Думаю, что нет. — Ну, а что же дальше? Как вы представляете себе эту встречу? Раз они знают, что Ясенев обо всем нам рассказал, не понимают разве, что пойдет он на эту встречу не один? Да и зачем им эта встреча? Не из-за ленты же? — Может быть, расправиться с ним хотят? — высказывает предположение Денисов. — Едва ли, — качает головой Черкесов. — На людной улице, да еще на глазах у нас они этого делать не станут. Это они смогут сделать в любое иное время, как только Михаил выйдет из дома. У него ведь экзамены скоро. — Ну, так что же тогда им от него нужно? — Может быть, догадку свою уточнить хотят? — возникает новое предположение у полковника Денисова. — Если Ясенев выйдет в условленное время, они могут и усомниться, что он нам во всем признался. Не выйдет — не останется никаких сомнений… — А я все-таки склонен думать, что они хотят поскорее от него избавиться. Есть у вас какой-нибудь план действий на этот случай? — Да, товарищ комиссар. Мы предусмотрели и возможность расправы с Ясеневым. Я поручил майору Глебову отработать систему его защиты. К тому же у нас есть очень легкая стальная кольчужка, которую он наденет под рубашку. Ее сконструировал майор Платонов, и она уже спасла жизнь одному нашему лейтенанту. Только я все еще сомневаюсь, чтобы затевалось покушение на Ясенева. — А я снова спрашиваю: зачем тогда им эта встреча? — Не знаю, товарищ комиссар, — чистосердечно признается Черкесов. — Поэтому-то и нужно пойти на нее, чтобы узнать. — Ишь, как мудро! — Ну, давайте тогда воздержимся… — Нет, это тоже не годится. Комиссар снова начинает ходить по кабинету, а капитан Черкесов просит разрешения закурить. — Чертовски рискованно это, — шепчет ему полковник Денисов. — Да и не даст, пожалуй, ничего… — А может быть, они собираются его похитить? — Похитить? — удивленно поднимает брови комиссар. — Каким образом? — Будут ехать по улице на какой-нибудь машине и, как только поравняются с Ясеневым, втолкнут его в нее… — Ну, это уж из практики американского кино, — смеется комиссар. — Но мы, видно, все равно не додумаемся сейчас пи до чего. Давайте тогда действовать так: поговорите-ка вы с Ясеневым, товарищ Черкесов, сами. Может быть, он вообще не решится пойти на эту встречу. Тогда и голову не над чем ломать.ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ
Капитан Черкесов не очень был уверен в решимости Ясенева встретиться с Тарзаном, но Михаил не только не раздумал за это время, но и Валентину почти убедил. — Ты же не хочешь, чтобы я потом всю жизнь себя презирал? — спрашивал он сестру. — Я и так ни во что себя не ставлю с некоторых пор. Дай мне почувствовать себя человеком. И Валентина его, кажется, поняла. А может быть, просто побоялась, что все равно не удержит. Более же всего надеялась она на капитана Черкесова и, когда он позвонил, откровенно ему призналась: — Вся надежда теперь только на вас, Олег Владимирович. Судьба Михаила, а может быть, и жизнь — в ваших руках. Но я верю в вас и почти не сомневаюсь, что с ним ничего не случится. Черкесов обещал ей сделать все возможное и попросил передать трубку брату. — Ну, так вы, значит, готовы, Миша?.. — спросил он. — И никаких сомнений?.. Тогда к вам зайдет наш товарищ — вы его уже знаете. Он детально все обсудит с вами. А поздно вечером, когда майор Глебов собирается к Ясеневым, Черкесов напоминает ему: — И не забудьте, Федор Васильевич, сказать Михаилу, что Тарзан, видимо, все знает и встретиться с ним хочет, наверно, не только для того, чтобы получить магнитную ленту. Он об этом, может быть, и сам догадывается, но вы все-таки предупредите его. — А я бы не стал этого делать, — возражает Глебов. — Нервничать только будет больше. А может, и вовсе откажется от встречи… — Таково требование комиссара, — поясняет Черкесов. — И я с ним вполне согласен. Но мне думается, что Михаил не заробеет. В таком случае, пусть будет готов ко всему… — Так, может быть, ему тогда и оружие дать? — Нет, оружие будет у нас. От Ясеневых Глебов возвращается в начале одиннадцатого. — Ну, все в порядке, — с облегченным вздохом произносит он. — Парень в полной боевой готовности. Похоже, что у него настоящий характер. — Теперь займемся разработкой тактики нашего завтрашнего поведения в Калашном, — приглашает Черкесов своих коллег к столу. — Серафим Силантьевич сделал днем несколько снимков этого переулка, и у нас теперь полная его панорама. Попробуем представить себе, что же может произойти там завтра. Ясенев свернет сюда с улицы Герцена, и мы посоветуем ему держаться подальше от домов, чтобы кто-нибудь не бросился на него из каких-нибудь ворот или подъезда. Думаю, что ему не следует проходить всю улицу, а вот только до сих пор. Ну, а что будем делать в это время мы? Я бы хотел послушать ваше мнение, Федор Васильевич. Вы в этих делах опытнее нас. Широкоплечий, коренастый майор Глебов сосредоточенно трет крутолобую, гладко выбритую голову. Потом не торопясь, со знанием дела, излагает свой вариант скрытой охраны Ясенева. Предложения его кажутся Черкесову разумными. Но тут просит слово один из прикрепленных к ним лейтенантов и предлагает сделать все совсем по-другому, и это оказывается таким естественным и бесспорным, что все единодушно одобряют его предложение, а он, смущенно улыбаясь, поясняет: — Это у меня на основании личного опыта… Однажды, когда я еще учился в школе, меня собирались избить хулиганы. Моим друзьям стало известно об этом, и они выработали примерно такую же вот тактику моей защиты. Утром, когда капитан Черкесов набирает номер телефона Ясеневых, у него все еще нет полной уверенности, что Михаил не дрогнет. Но тот отвечает ему бодро: — Я готов, Олег Владимирович. Чувствую себя очень хорошо. И даже спал как никогда, честное слово! Когда мне выходить? Через четверть часа?.. — Ну, как он? — спрашивает майор Глебов. — Храбрится? — Да, старается, наверно, казаться бодрее, чем чувствует себя на самом деле. Во всяком случае, я не очень-то верю, что он спал эту ночь спокойно… Михаил действительно не спал всю ночь, и это вызывает у него чувство досады. Ему даже хочется как-то наказать себя за это, усложнить свою задачу, подвергнуть себя еще большему риску. И уже под самое утро он решает не надевать кольчугу, а идти так, “с обнаженной грудью”. А Валентина, конечно, ничего не знает об этом. И вот какими-то непослушными, почти не сгибающимися ногами Михаил идет по родной своей улице, на которой знаком ему не только каждый дом, но и каждый подъезд. До угла Калашного переулка остается всего пятнадцать метров, а ему кажется, что нужно преодолеть километры. Навстречу идут прохожие… Среди них, наверно, и сотрудники милиции, опытные оперативные работники, они внимательно следят и за ним, и за теми, кто проходит мимо него. У них зоркий глаз, они, конечно, сразу же увидят подосланного Джеймсом убийцу и схватят его прежде, чем он успеет вонзить в Михаила финку или выстрелить из пистолета. Но эти утешительные мысли тотчас же покидают его, как только он сворачивает с улицы Герцена в Калашный переулок. Снова мелкая дрожь пронизывает все его тело, а ноги становятся такими непослушными, что, кажется, и прохожие замечают это. То, что взмокли вдруг руки, еще не очень тревожит его, но постепенно пот начинает проступать и на лбу. Это приводит его почти в бешенство. Держи себя в руках, парень!.. Михаил уже несколько минут шагает по переулку. Мысли понемногу становятся спокойнее, и он начинает всматриваться в прохожих. Всех ли нужно остерегаться? В том, что нападет на него не Тарзан, он почти не сомневается. Наверное, это будет какой-нибудь юнец, подобный ему. Но он не даст зарезать себя, как барана! Он постоит за себя, по крайней мере до тех пор, пока подоспеет помощь… А они, те, кто должен прийти к нему на помощь, где-то тут неподалеку. Капитан Черкесов сидит, наверно, в какой-нибудь машине и следит за ним оттуда. А вот те двое атлетического сложения наверняка оперативники из уголовного розыска. Да и тот, что прошел сейчас мимо и виден теперь со спины, чертовски похож на майора Глебова. Ну, а прохожие, разве они не заступятся, не помогут? В этом он, правда, менее уверен, но хорошо знает, что “геройчики”, с которыми имеет дело Тарзан, не очень любят свидетелей. Они предпочитают действовать вечерком, а еще лучше ночью, когда никого нет вокруг… Но сколько, однако, можно еще бродить? Прошло около пятнадцати минут, он трижды дошел до того места, о котором говорил ему капитан Черкесов. Наверно, эти подонки просто побоялись напасть на него. И он решает: пройду еще раз туда и обратно, и все! После этого можно будет вернуться домой с сознанием выполненного долга. Михаил оглядывается по сторонам. Может быть, работники милиции подадут ему сигнал? Нет, никто из прохожих даже не смотрит на него. Михаил останавливается, долго глядит на свои часы, потом сворачивает на улицу Герцена и не спеша идет к своему дому. Валентина уже ждет его у дверей и начинает так порывисто обнимать, будто он вернулся с того света. Лицо у нее заплаканное, бледное, и говорит она прерывающимся от волнения голосом: — Ну, как?.. Что они от тебя хотели?.. Ты все сделал, что просил капитан Черкесов? Не оробел? — А чего было робеть-то? — счастливо улыбается Михаил. — Меня никто и пальцем не тронул. Попугать, наверно, хотели, нервы испытать. Ему очень хотелось сказать сестре, что он был без кольчуги, но он преодолевает это желание. Уж если взаправду воспитывать в себе мужество — нечего хвастаться! И вдруг раздается телефонный звонок. — Бери трубку, это капитан Черкесов, наверно, — говорит ему Валентина. Но Михаил слышит в трубке голос Тарзана. — Что, струхнул?.. — хохочет он. “Скотина!” — хочется выругаться Михаилу, но он сдерживается, ждет, что еще скажет ему Тарзан. — Мы только попугать тебя хотели… Очень нам нужно руки марать. Не понимаем разве, что влипнуть из-за тебя можем? Знаем ведь, что ты показал нашу ленту операм из угрозыска. Мы ее смонтировали для розыгрыша, а ты нас теперь под “вышку” подвести хочешь? Конечно, надо бы тебя проткнуть, но это мы еще успеем, если ты и дальше будешь операм помогать. Ну, бывай здоров и запомни то, что я тебе сказал. Это Джеймс велел тебе передать. — Господи! — испуганно восклицает Валентина, когда Михаил вешает трубку. — Магнитофон-то я забыла подключить.КТО-ТО ВСЕ-ТАКИ ПОКУШАЛСЯ НА МИХАИЛА
— Выходит, мы их чем-то насторожили? — спрашивает Черкесова майор Глебов. — Михаил держался молодцом. Офицеры сидели в машине в конце Калашного переулка и видели всю сцену его прогулки. — Вот это-то, может быть, и насторожило их, — высказывает предположение Черкесов. — Я просто не вижу, в чем другом мы оплошали. Разыграли все как по нотам. На всякий случаи нужно все-таки прочесать весь этот район. Проверить все дворы и подъезды. Поручите это… — Этим я сам займусь, — перебивает Черкесова Глебов. — У меня тоже мелькнула такая мысль. Для этой цели есть специальный резерв. Полковник Денисов распорядился усилить нас оперативной группой из местного отделения милиции. Вы подождете, пока я осмотрю тут все, или поедете в райотдел? — Подожду. Когда майор Глебов уходит, Черкесов по радиотелефону связывается с райотделом. — Не звонил Ясенев? — спрашивает он дежурного. — Только что, товарищ капитан. Едва он вошел в дом, как ему Тарзан позвонил. Сказал, что они подшутили над ним, хотели попугать. Но пригрозил всерьез расправиться, если он станет вам помогать. — Позвоните Ясеневу и передайте ему, чтобы пока никуда не уходил. Мы навестим его попозже. Машина Черкесова поставлена так, что из нее хорошо просматривается весь Калашный переулок. Он видит, как майор Глебов и другие оперативные работники ходят из подъезда в подъезд. “Едва ли они там кого-нибудь обнаружат, — думает Черкесов. — Тарзан снял уже, наверно, свою засаду… Но что такое? Кого это они выносят из подъезда? Похоже, что какого-то пропойцу, потерявшего сознание… И, кажется, несут ко мне. Но это уж они зря… Пусть бы им работники местного отделения занялись, у них есть тут своя машина, а нам сейчас не до того…” — Зачем вы его сюда? — спрашивает он майора Глебова. — Очень подозрительный тип, Олег Владимирович. По паспорту Дыркин Федор. Финку у него нашли и недопитую четвертинку водки. Не ему ли было поручено расправиться с Ясеневым? Наверно, он на это дело пошел навеселе, да в последний момент, видно, еще добавил для храбрости, но не рассчитал… Когда мы вошли — валялся в подъезде без сознания. Явно перебрал. Капитан Черкесов внимательно рассматривает лицо мертвецки пьяного парня. Оно совсем юное. Парень не старше Михаила, пожалуй. Может быть, еще совсем недавно был с ним в одной компании, слушал те же поучения Джеймса и его теории о сверхчеловеках, которым все дозволено… — В вытрезвитель его, — говорит капитан Черкесов. — А потом ко мне на допрос. К Ясеневым Черкесов решает сходить сам. Он идет к ним поздно вечером, высоко подняв воротник плаща и надвинув шляпу на самые глаза. Это ни у кого не вызывает подозрений- на улице моросит дождь. Открывает ему Михаил, а капитан шутит: — Ишь каким храбрым стал! А если бы это Тарзан? — Я действительно стал очень храбрым с сегодняшнего дня, — счастливо смеется Михаил и добавляет: — Но и осторожным. Прежде чем дверь вам открыть, посмотрел через прорезь почтового ящика. Это вы меня и осторожности, и храбрости научили. Спасибо вам, Олег Владимирович! — Ну, за это вы зря меня хвалите, — машет рукой капитан. — Этому трудно научить. Это нужно самому в себе воспитать. А Валентина Николаевна дома? — Ушла к больной подруге в соседний дом. Скоро должна вернуться. А вы думаете, мужество действительно можно в себе воспитать? Но ведь некоторые западные ученые утверждают, что все в человеке предопределено. Что люди рождаются либо со способностями властвовать и вести за собой других, либо без этих способностей, и тогда их участь… — Быть “ведомыми”? — смеется Черкесов. — Это вам Джеймс втолковывал? Ну, а психологи-материалисты считают, что психику человека формирует социальная среда. Джеймс же внушал вам, наверно, будто среда уродует человека, делает его неврастеником, подавляет в нем “естественного человека”. А этот “естественный человек” есть всего лишь человекообразная обезьяна, потому что человек без общества является животным… Черкесов высказывает ему и другие соображения из области психологии и даже психиатрии. Они так увлекаются этим спором, что не слышат даже, как Валентина открывает входную дверь. Капитан заводит этот разговор неспроста. Ему хочется отвлечь Михаила от мысли, что с ним произошло сегодня нечто необычное, что он совершил почти подвиг. Пусть лучше думает, что о происшедшем и говорить-то особенно нечего. Спор их прекращается с приходом Валентины. Она приветливо здоровается с Черкесовым, который поспешно встает при ее появлении. — Пока я раздевалась в коридоре, слушала ваш ученый разговор, — улыбаясь, говорит она Олегу Владимировичу. — И, откровенно, хочу вам признаться — удивляюсь, откуда у вас, оперативного уполномоченного районного отдела милиции, такие познания из области психиатрии? — Ну, видите ли, — почему-то смущается капитан Черкесов, — во-первых, у меня высшее юридическое образование… И потом, я веду дела главным образом несовершеннолетних правонарушителей и мне необходимо многое знать. Без этого просто не поймешь ничего в их психике. Да и не объяснишь им ничего толком, а они ведь не закоренелые преступники и пока еще многим интересуются. Не объясним им этого мы, растолкуют такие, как Джеймс… Ну ладно, об этом в другой раз как-нибудь. Перейдем к делу. Вот взгляните-ка на эти фотографии, Миша. Не встречались ли вы где-нибудь с этим типом? Михаил внимательно всматривается в фотографии какого-то парня, снятого анфас, в профиль и в три четверти. Лицо у него опухшее, с мешками под глазами. Смотрит он недоуменно, будто проснулся только что. “Кажется, где-товидел…” — мелькает в голове Михаила, но на вопрос Черкесова он отвечает осторожно: — Что-то не припомню… Да и снимки странные. Такое впечатление, будто его в нетрезвом виде фотографировали. — Вот именно, — усмехается Черкесов. — А не пили ли вы когда-нибудь с ним вместе у Джеймса? Михаил снова берется за фотографии. — Возможно, — все еще не очень уверенно произносит он. — Мы там в трезвом виде вообще ни разу ни с кем не встречались. Да и особенно сближаться друг с другом не рекомендовалось. — Похоже, что бандитов из вас готовили по методу школы тайных агентов, — замечает Валентина. — А нам казалось все это романтичным, таинственным. Мы там даже по имени не имели права друг друга называть. У каждого была кличка. — А у вас какая? — будто без особого любопытства спрашивает Черкесов. — Гамлет. — Гамлет? — заметно оживляясь, переспрашивает Черкесов. — Тоже мне — принц датский! — смеется Валентина. — Посмотрите-ка тогда еще раз, да повнимательнее, на этого парня, — кивает Черкесов на фотографии, все еще лежащие на столе. — Мы подобрали его мертвецки пьяным в одном из подъездов Калашного переулка. В бреду он произносил несколько раз имя Гамлета. Мы тогда не понимали почему, но теперь почти не остается сомнений, что это ему было поручено расправиться с вами. Мы нашли у него в руках финку. А в вытрезвителе он бормотал: “Пусть сами… Пусть эти суперы убивают Гамлета сами!..” — Да, уж тут теперь все яснее ясного, — нервно вздрагивает Валентина. — Конечно же, этот подонок пьянствовал с тобой у Джеймса. Неужели ты не можешь вспомнить его, Михаил? Это же очень важно… — Да, это действительно немаловажно, — подтверждает Черкесов. — Кого-то он мне напоминает. Но сказать с уверенностью, что видел его у Джеймса, не могу. Может быть, потом вспомню… — Михаил еще раз смотрит на фотографии. — Мы его вам завтра покажем. А теперь еще одна новость — нашли того шофера, который возил вас девятого мая к Джеймсу. Его номер оказался 66–99. У него хорошая память, и он довольно точно описал вас и Тарзана. А вы, Миша, изобразили Тарзана совсем другим. Вовсе не свирепее у него лицо, а скорее, добродушное. И другие свидетели то же подтверждают. — Это он им мог показаться добродушным, — убежденно произносит Михаил, — а я — то хорошо знаю, какая это гадина! А у гадины… — Ну, знаешь ли, — возражает ему Валентина, — у иной гадины вполне благообразное обличье. — У этого шофера — его фамилия Лиханов — видимо, действительно отличная зрительная память. Он уверяет, что запомнил, куда возил вас в тог вечер. Если не возражаете, мы съездили бы туда. — Какие могут быть возражения! — восклицает Михаил. — Да хоть сейчас! — Сейчас не надо, а завтра давайте съездим. Вечером, часов в девять. Договорились? За вами заедут. Ну, а теперь я должен с вами попрощаться. И он крепко жмет руку сначала Валентине, потом Михаилу. А когда Черкесов уходит, Михаил говорит задумчиво: — Завидую я ему… Интересная работа, требующая ума и мужества. Никогда не думал, что в милиции могут быть такие образованные люди… А выдержка!.. Ты ему, по-моему, очень нравишься, но он и виду не подает. Или, может быть, это только мне кажется? — Не знаю, — смущенно говорит Валентина. — Я как-то не присматривалась к нему с этой точки зрения…В “КОЛЛЕДЖЕ” ДЖЕЙМСА
Они выезжают ровно в девять на такси Лиханова. Черкесов сидит рядом с шофером, на заднем сиденье Михаил Ясенев с Глебовны и Платоновым. — Повезу вас тем же маршрутом, что и девятого мая, — говорит Лиханов. — Сами увидите, какая у меня память. Что, не верно разве я вам этого парня обрисовал? — кивает он на Михаила. — Помните, о родинке даже говорил? Вот она, эта родинка, — на левой щеке на уровне рта. Я и того второго типа досконально вам обрисовал. Мне бы не в таксомоторном парке, а в милиции работать… “С таким-то язычком”, — укоризненно думает о нем майор Глебов. А шофер болтает без умолку: — Я сразу заметил, что ребята были навеселе. Особенно этот вот. Хохотал всю дорогу. А тот, что постарше, все шутил. Этот, видать, из интеллигентов, а у того сплошные блатные словечки. Я, конечно, извиняюсь — не в свое дело, может быть, лезу, но только вы ими правильно заинтересовались. — Может быть, помолчим немного, — досадливо замечает майор Глебов. — Это можно, — безобидно соглашается Лиханов. Машина миновала уже Рижский вокзал и с проспекта Мира свернула на Мурманский проспект в сторону Ново-Ховрина. — Вот до этого места я их довез, — притормаживая, говорит Лиханов. — Тут они со мной расплатились и пошли пешком. А куда пошли, — в темноте не разглядел. Ну, мне как — ждать вас тут или можно возвращаться? — Возвращайтесь. Мы обратно на своей поедем. Они стоят на углу какой-то темной улицы, осматриваясь по сторонам. — Я нарочно решил сюда ночью приехать, — говорит капитан Черкесов. — Чтобы все было, как в тот раз. — Да и не только в тот раз, — поправляет его Глебов. — Они сюда всегда ночью или поздним вечером приезжали. Неужели вы ничего не можете вспомнить, Михаил? — Подождите, дайте сообразить, — просит Ясенев. — Тут где-то я всегда в какую-то канаву проваливался… — Вот тут, может быть? — спрашивает майор Платонов. — Возле мостика? — Да, верно! Пожалуй, с этого мостика я и соскальзывал всякий раз… А потом проволочный забор должен быть. Помнится, брюки об него порвал. Ну да — вот он! А что дальше, не помню… Они снова останавливаются, давая Михаилу возможность осмотреться и вспомнить, куда водил его Тарзан. Вокруг совсем темно. Замаскированные густыми кустами сирени, окна одноэтажных домиков почти не излучают света. — Да, местечко… — вздыхает майор Глебов. — А вы что хотели — чтобы эти подонки собирались на улице Горького? — Собираются, к сожалению, и на улице Горького. К ним присоединяется лейтенант Егошин и еще несколько человек из оперативной группы Черкесова, ехавших вслед за ними. — Ну что, Миша, так и не можете ничего больше вспомнить? — спрашивает Ясенева капитан. — Может быть, мы не туда пошли? Не влево вдоль забора, а вправо? — Да нет, влево вроде… Тут картофельное поле должно быть. Мы через него шли по диагонали… Хорошо помню, я как-то еще сказал Тарзану: “Обойдем, может быть? Передавим тут все…” А он: “Твое оно, что ли”? — Так вот это поле, — указывает куда-то в темноту лейтенант Егошин. — Меня Лиханов днем сюда привозил, и я познакомился с этим районом. За проволочным забором пустырь должен быть, а за ним, наверно, то самое картофельное поле. — А не спугнули вы их? — тревожится майор Глебов. — Не могло им показаться подозрительным, что вы тут разгуливаете? — Не думаю. Я действовал осторожно. Переоделся даже в форму железнодорожника. Тут почти одни железнодорожники живут. Когда оперативная группа подходит к картофельному полю, Михаил ведет их уже увереннее. — Все теперь вспомнил, — возбужденно шепчет он капитану. — Как только пересечем это поле, домик должен быть… Там мы и гуляли. — Это, должно быть, домик вдовы железнодорожного машиниста Бушуевой, — поясняет лейтенант Егошин. — Я у местного участкового уполномоченного кое о ком сведения тут собрал. “Ну и зря… — все больше беспокоится майор Глебов. — Не нужно было ему ни о ком тут расспрашивать…” К домику, надежно укрытому густыми кустами сирени, Черкесов и Глебов подходят первыми. Остальные офицеры окружают его со всех сторон. Михаил не испытывает никакого страха. Боится он лишь одного — что не туда привел. Пытается даже войти в маленький садик первым, но капитан Черкесов осторожно отстраняет его. — Вы не ходите пока, — чуть слышно шепчет он. — Мы позовем вас, когда будет нужно. У Михаила сразу же начинает гулко биться сердце… “Что же это? Он мне не доверяет?.. Или боится за мою драгоценную жизнь?..” Калитка садика оказывается незапертой. Открывается она без скрипа. В доме не светится ни одно окно. “Видно, нет никого, — торопливо думает Черкесов, — Может быть, не входить?.. Оставить засаду и прийти в другой раз… А если они лишь притаились? Или должны прийти попозже?.. Нет, нужно войти, а там видно будет, что делать дальше”. И он негромко стучит в дверь. Некоторое время никто не отзывается, а когда капитан уже собирается постучать вторично, в одном из окон, выходящих в садик, вспыхивает свет. — Кто это там? — слышится заспанный женский голос. — Откройте, пожалуйста, не бойтесь. — А чего бояться-то! — хрипловато смеется женщина. — Я, милые вы мои, никого не боюсь. Дверь широко распахивается, и офицеры видят плечистую женщину лет шестидесяти в голубом, вылинявшем от многих стирок халате. — Прошу вас, гости дорогие, хотя и незваные, — весело говорит она. — За какой надобностью, однако, в столь поздний час? — Мы из милиции, гражданка Бушуева, — спокойно говорит капитан Черкесов. — И хотели бы… — Ага, я так и догадалась! — бесцеремонно перебивает его Бушуева. — Это, наверно, по поводу проживания у меня квартиранта без прописки? Ну, так он съехал уже. Распрощалась я с ним, наконец, вчера — уж больно он шумный. — Ну, а почему же вы его не прописывали все-таки? — Так чего ж его прописывать-то? — удивляется Бушуева. — Он и не жил тут почти. Приезжал раз-другой в неделю (с компанией, правда), ночевал и укатывал в город. — И вам не казалось это странным? — А чего ж тут странного-то? Человек он молодой, видать, из хорошей семьи и потому дома повеселиться как следует ему не разрешалось… Ну, он и жаловал ко мне с приятелями. Но без девиц. С девицами я бы ему гулять у меня не позволила. Это уж поверьте мне на честное слово. Да и веселились они тут интеллигентно. Без скандалов. Выпивали, правда, и эту, как ее, радиолу гоняли нещадно. А музыка, сами знаете, какая у них теперь. Да еще и не наша, видать, хотя и от нашей тоже хоть уши затыкай. Вот бы куда милиции нужно было вмешаться. — То есть, куда же? — не понимает ее Черкесов. — Как, куда? В музыку эту. Композиторов как следует приструнить, чтобы не сочиняли такого безобразия. Она ведь, молодежь-то нынешняя, как понаслушается ее, музыки этой, так сама не своя делается. Ну, буквально все воют и звереют до того, что запросто могут полоснуть кого-нибудь ножом или еще чем… У меня, правда, все обходилось без этого. Однако сама я запиралась у себя от греха, когда они тут радиоле подвывали. А теперь прямо-таки рада-радешенька, что квартирант мой съехал. Я и сама уж хотела его попросить, а он вдруг сам прикатил вчера под вечер и забрал все свои манатки. — Покажите нам его комнату, — просит Черкесов. — Мы вообще весь дом ваш должны осмотреть. — А это уж после того только, как вы документики свои мне предъявите. — Да, конечно, это вы вправе у нас попросить. Ну, а у квартиранта своего проверяли ли его-то документы? — А как же? Все проверила. По паспорту он Дмитрий Андреевич Бутлицкий. Одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения. Уроженец города Москвы. Холост. У меня память, что ваш милицейский протокол. Я и служебное удостоверение его просмотрела. Инженером он работает в телевизионном ателье Бауманского района. Он и мне телевизор починил, так что это, видать, взаправду. Тем временем Глебов с Платоновым начинают осмотр дома. Им помогает лейтенант Егошин. — Может быть, и Ясенева пригласить? — спрашивает капитан Глебов. — Нет, не надо. Ему, пожалуй, не следует тут показываться. А что это тот самый дом, и без него ясно. Обыск длится уже более получаса, но найти чего-нибудь существенного все еще не удается. Майор Платонов обрабатывает магнитной кисточкой поверхности всех столов, спинки стульев, зеркало, дверцы шкафов и почти всю посуду. Некоторые предметы окрашивает он еще и порошкообразным составом, а там, где обнаруживаются какие-нибудь следы, переносит их на следокопировальную пленку. — Ну как? — спрашивает его Черкесов, закончив с Глебовым осмотр дома. — Следов очень мало. Похоже, что все тут протиралось или даже промывалось совсем недавно. — Вы что, генеральную уборку, что ли, проводили тут, мамаша? — спрашивает Бушуеву майор Глебов. — Зовут меня, между прочим, Анфисой Тарасовной, — с достоинством замечает Бушуева. — А уборку я действительно производила. Они же так тут насвинячили, что без этого было нельзя. Да и посуду всю позалапали — выпивали ведь и закусывали. Пришлось перемыть, моя посуда-то. Журнальчики с книгами, которые вы просматривали, — это тоже все мои. Ихнего тут вообще ничего больше нет. А бумаги, что от них остались, они сами во дворе сожгли. — Ну, а мусор, окурки — это ведь вы выметали? — Мусор свой они тоже сами сожгли. — А раньше? В другие дни убирали же вы за ними? — Убирала, конечно. Ну так это все в помойке. Она у меня в огороде. Глебов делает знак лейтенанту Егошину, и он выходит во двор. “Или она действительно чистоплотная такая, или по их заданию навела тут такой порядок”, — с досадой думает майор Платонов. — А вы чего тут так все исследуете? — спрашивает Бушуева, и в голосе ее никакой тревоги, одно любопытство. — Я, конечно, извиняюсь за такие вопросы, но, может быть, они зарезали кого? Понаблюдала я, что они под музыку эту выделывали, — ничему не удивлюсь. Могли и зарезать кого-нибудь… — Ну, я пойду к Егошину, Олег Владимирович, — говорит Платонов, закрывая свой чемоданчик. — Может быть, там что-нибудь поинтереснее обнаружится. И он уходит, а капитан Черкесов принимается за официальный допрос Бушуевой.ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ТРУДНОСТЕЙ
Спустя полчаса они возвращаются в райотдел. Михаил Ясенев едет теперь в другой машине. А чтобы это не вызывало у него каких-нибудь тревожных мыслей, капитан крепко пожимает ему руку и говорит: — Ну, спасибо, Миша! Вы очень нам помогли. Вас отвезут теперь домой, а мне нужно еще к себе в отдел. Передайте привет сестре. До свидания! А в машине он говорит Глебову и Платонову: — Чем-то, значит, мы их все-таки насторожили… — Да, — тяжело вздыхает майор Платонов, — видно, опытная публика. Прекрасно знают, что нас могло интересовать. — Так-таки ничего интересного не обнаружилось? — спрашивает его майор Глебов. — Кое-что есть, конечно. Несколько отпечатков пальцев, но очень слабых. Эта тетка основательно все протерла и не только сырой тряпкой. Ну, а те отпечатки, которые отчетливы, принадлежат, видимо, самой Бушуевой. Установить это будет нетрудно — я ее персональный, так сказать, отпечаток снял со стакана, из которого она пила что-то перед самым нашим приходом. Да и во время осмотра ее квартиры к стакану тому прикладывалась. Отпечатки ее пальцев очень четкие, видно, все-таки нервничала, вот руки и вспотели. — А остальные следы не очень, значит, четкие? — допытывается Глебов. — Боюсь, что четкими могут оказаться лишь оттиски одного — двух пальцев. А вы же знаете, что наши дактилоскопические карточки закодированы по формулам, составленным на основании данных о всех десяти. — А разве не освоен еще метод сотрудников нашего научно-исследовательского института, основанный на повторяемости симметрии рисунков на пальцах правой и левой руки? — Да, он освоен и дает возможность осуществить идентификацию в восьмидесяти пяти случаях из ста. Но для этого нужно все-таки иметь отпечатки хотя бы трех пальцев. А я не уверен, что они у нас будут, ибо статических следов тут очень мало. Больше динамических, оставленных при скольжении рук по предмету. Но наберемся терпения и подождем заключения экспертизы. Капитан Черкесов не участвует в этом разговоре. Только теперь чувствует он, как устал за сегодняшний день. Да и поволновался немало. А каков результат? Подростков, убивших Анну Зимину, поймали. А что толку? Они признались во всем, но и без того ясно, что их специально спаивал кто-то и доводил до озверения. Конечно, они будут наказаны, не взирая на то, что и сами в какой-то мере были жертвами истинных преступников. А кто же эти преступники? Конечно, Джеймс и Тарзан. Ребята, напавшие на Сорочкина, знают Тарзана как “дядю Жору”, а тем, которые убили Зимину, известен он как Папа. “Ишь как ласково — Папа, — невольно усмехается Черкесов. — Отца родного перед ними разыгрывал. Да и у подопечных его клички в том же стиле: Малыш, Сынок, Паря… Видно, не лишен педагогического чутья этот Тарзан…” — А в мусорной яме вы ничего не нашли? — продолжает расспрашивать Платонова Глебов. — Тоже небогато. Несколько окурков со следами слюны, по которой можно установить группу крови тех, кто их курил. Думаю, что пригодится нам и огрызок яблока. На нем есть следы зубов. А Егошин с помощью слепковой массы получил отпечатки нескольких следов мужских ног во дворе и огороде. — Вы записали имя и фамилию квартиранта Бушуевой, Федор Васильевич? Уточните завтра в адресном столе — существует ли такой. По словам Бушуевой он работает в телевизионном ателье. Нужно проверить, хотя все это едва ли подтвердится. — Конечно же, Олег Владимирович, это типичная липа! — Но Бушуева тут может быть и ни при чем… — А меня другое беспокоит, — слышится вздох майора Платонова. — Почему они ликвидировали свой “колледж” столь поспешно? — В какой-то мере лейтенант Егошин тут виноват, — замечает Глебов. — Проявил усердие сверх меры… — Не думаю, чтобы насторожило их только это, — задумчиво произносит Черкесов. — После того, как им стало известно, что Ясенев во всем признался, они уже были начеку… Всю остальную дорогу они едут молча, раздумывая каждый о своем. Постепенно усталость снова начинает одолевать Черкесова, и мысли его теряют стройность. Думается теперь о вещах, далеких от того трудного дела, которым приходится заниматься. Все чаще почему-то возникает образ Валентины Ясеневой, и он ловит себя на желании поехать к ней сейчас, посидеть в ее уютной комнате. Скорее бы уже завершалась эта операция, тогда можно было бы зайти к ним просто так. А операции все еще не видно конца… Михаил приезжает домой в двенадцатом часу. Валентина встречает его тревожным вопросом: — Ну как?.. — Я их не подвел! Нашел берлогу Тарзана и Джеймса! — И их арестовали? — Не так-то это просто. Их не было на месте. Но вот увидишь, их обязательно арестуют! Знаешь, какие это толковые ребята? — Какие ребята? — Эти лейтенанты милиции, с которыми я ехал. Обратно я ехал уже не с капитаном, а с лейтенантами… Глаза у Михаила горят от возбуждения. — Да, привет тебе от Олега Владимировича, — вспоминает наконец Михаил о просьбе Черкесова. И у Валентины сразу становится теплее на душе от этого казалось бы ничего не значащего слова “привет”. — А есть-то ты хочешь? Или сыт острыми впечатлениями? — Ну что за вопрос! Я никогда еще не был так голоден! И он набрасывается на приготовленный Валентиной ужин с таким аппетитом, которого она действительно давно уже у него не замечала. — Эти лейтенанты наговорили мне чертовски много интересных вещей, — захлебываясь, рассказывает Михаил. — В их работе меньше всего, оказывается, стрельбы и погони… Главное- анализ, оценка фактов, криминалистическая экспертиза. И не прежними примитивными средствами, а с помощью электроники и кибернетики… Ты же врач, ты знаешь, что такое дактилоскопия. Но ты, наверно, не представляешь себе, как нелегко отождествлять в дактилоскопических картотеках отпечатки пальцев разных преступников. Каторжный труд! И вот теперь это будет делать электронный автомат. Его уже конструируют. Конструируются и электронные вычислительные машины, которые будут сами сравнивать почерки лиц, заподозренных в подделке документов… — Ты ешь, да получше пережевывай, — смеется Валентина, — а то знаешь, что может случиться?.. — А ты слушай и не перебивай. Математики, кибернетики и криминалисты уже работают сейчас над исследованием признаков внешности. Автоматы сами будут теперь опознавать подозреваемых по фотографиям. И, наверно, смогут даже создавать такие фотографии по словесным описаниям. А о машинной обработке следов орудий взлома и пуль слышала ты что-нибудь?.. — Ну, я вижу, ты в полном восторге от этих лейтенантов и готов, кажется, последовать их примеру. — Да, после окончания школы я бы, пожалуй… — Не торопись, — перебивает его сестра. — Еще совсем недавно ты готов был под руководством Джеймса и Тарзана стать гангстером или суперменом, что, в общем-то, мало чем отличается друг от друга. А ведь лейтенанты эти и должны как раз бороться с нашими доморощенными суперменами. Кончай-ка ужинать и ложись лучше спать.“СОСТАВНОЙ ПОРТРЕТ” ТАРЗАНА
Неприятности у Черкесова начинаются с самого утра. Едва капитан входит в свой кабинет, как раздается телефонный звонок. — Докладывает Егошин, — слышит он взволнованный голос лейтенанта. — Я по поводу Дыркина, который с Ясеневым должен был расправиться. Начальник вытрезвителя забыл предупредить своего помощника, а тот и выпустил Дыркина, как только он протрезвился… Да, дома у него были и разговаривали с его матерью, но, если он действительно имел задание убить Михаила, разве явится домой?.. Установить наблюдение за его домом? Ясно, товарищ капитан! Едва Черкесов кладет трубку, как входит майор Глебов. — Насчет Дыркина знаете? — спрашивает его капитан. — А что с ним такое? — Сбежал этот Дыркин. — Быть не может! Мы же предупреждали работников вытрезвителя… — Плохо, значит, предупреждали. — Ну, прямо-таки одно к одному! — всплескивает руками Глебов. — Что еще такое? — Мадам Бушуева тоже куда-то исчезла. Участковый уполномоченный только что звонил. Соседи ему сообщили, что па рассвете к ее дому подъезжала машина, которая, видимо, и увезла ее. — Выходит, что допрашивать больше некого? — А эти подонки, убившие Зимину, вас не интересуют? — Двух допрошу еще раз, Васяткина и Назарова. Вы договоритесь об этом со следователем. Остальные кажутся мне не вполне вменяемыми. — Ну, а что же мы дальше будем делать? Ловко они все свои концы смотали. Теперь притаятся на какое-то время, а у нас никаких ориентиров. Джеймс вообще представляется мне каким-то бесплотным духом. Слышал я, как вы Бушуеву о нем расспрашивали. Она такой портрет нарисовала, что и родная мать никогда бы его не опознала. Ну, а все ее анкетные данные о нем, конечно же, липа. Адресный стол уже сообщил мне, что никаких сведений о Дмитрии Андреевиче Бутлицком тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения у них нет. А в телеателье я лейтенанта Синицына послал — скоро должен вернуться. Но и без того ясно, что никакой инженер Бутлицкий там не работает. Не сомневаюсь я, что и отпечатков его пальцев в квартире Бушуевой Платонов не обнаружил. Такой мог и дома не снимать перчаток, чтобы следов не оставлять. — А вы знаете, что по поводу таких осторожных бандитов сказал один французский юрист? — хитро прищуриваясь, спрашивает Черкесов. — Он сказал, что преступление только начинается в перчатках, а кончается в рукавицах. Рукавицы каторжника, конечно, имеются в виду. — Ничего не скажешь, — хмуро усмехается Глебов, — остроумно. Ну, а этого Джеймса, если только мы его поймаем, ждет расплата посерьезнее… — Почему же: “если только мы его поймаем”? Мы обязаны его поймать. Но о нем мы действительно ничего пока не знаем. А вот о Тарзане кое-что уже известно. Его видело несколько человек. И голос его у нас на пленке записан. К тому же он-то, конечно, не носит перчаток и какие-то следы свои в квартире Бушуевой не мог не оставить. А это уже кое-что! Поэтому давайте вот что сделаем — приступим к составлению “словесного портрета” Тарзана, и пусть возглавит это Серафим Силантьевич. Да вот и он, кстати, — легок на помине! Мы с Федором Васильевичем решили приступить к составлению “словесного портрета” Тарзана. Как вы на это смотрите? — Тогда лучше, может быть, и “составного”? — предлагает Платонов. — Словесным описанием не всегда ведь удается создать достаточно наглядное представление о внешности. Графическое или фотографическое изображение, по-моему, гораздо выразительнее, хотя этот метод у нас пока еще не очень освоен. А за границей он хорошо себя зарекомендовал. У меня, кстати, есть на примете художник, знакомый с криминалистикой и судебно-следственной практикой. — Вот давайте и займемся этим с завтрашнего дня. Кого бы вы хотели вам в помощь из нашей оперативной группы? — Пока достаточно будет одного Егошина. Он производит на меня впечатление толкового парня. А кого из свидетелей будем опрашивать? — Да почти всех, кто видел Тарзана. Ясенева, шофера Лиханова, участников убийства Зиминой и тех, которые напали на Сорочкина. — А самого Сорочкина? — Он все еще плохо себя чувствует, и врачи, наверно, не разрешат нам пока с ним беседовать. А мы давайте распределим нашу работу так: Серафиму Силантьевичу поручим создание “составного портрета”, а мы с вами займемся составлением “словесного”. Майор Платонов с художником-криминалистом Вадецким приступают к работе с утра следующего дня. Из тех, кто видел Тарзана, проще всего было бы пригласить Михаила Ясенева, но Платонов решает начать с шофера Лиханова. — У него очень хорошая зрительная память, — объясняет он свой выбор капитану Черкесову. — А Ясенев, по-моему, не очень уравновешен и потому не может быть достаточно объективным. Лиханов, вызванный в райотдел, легко отвечает на все вопросы Вадецкого и Платонова, называя характерные черты внешности Тарзана. Но когда Вадецкий показывает ему первый набросок, не задумываясь подвергает его критике: — Нет-нет, совсем не то! Почти никакого сходства. — А что же тут не то? — Да почти все. Ну вот хотя бы лоб… Да, я сказал, что большой, но теперь вижу, что не во лбу тут дело, а в залысине. Это из-за нее, наверно, лоб его показался мне большим. И нос тоже не тот… Правильно, крупный и приплюснутый, но не от природы, а скорее всего, заехал ему кто-нибудь в драке. У боксеров такие носы бывают. Делает он весьма существенные замечания и по другим частям портрета Тарзана. А когда Вадецкий показывает ему второй набросок, одобрительно замечает: — Ну вот — совсем другое дело! Но присмотревшись повнимательнее, снова с сомнением покачивает головой: — Что-то все-таки не то. Не хватает чего-то в выражении глаз, да и рот не такой, Глаза у него с хитринкой, и он все время улыбается, только ненатурально… А после третьего наброска Лиханов неожиданно заявляет: — Теперь все вроде так, а сходства еще меньше… Но я уж и не знаю, чего еще тут недостает… — Ну ладно, товарищ Лиханов, кончим пока па этом. Спасибо вам за помощь, — благодарит его майор Платонов. Все три наброска Вадецкого он показывает потом некоторым из тех, кто участвовал в убийстве Зиминой и нападении па Сорочкина. Большинство не находит в них никакого сходства с “дядей Жорой” или Папой. Только один парень, несколько постарше и посерьезнее других, не очень уверенно замечает: — Что-то есть, конечно… Но уж очень этот хитер, а “дядя Жора” добрый. Что улыбается он все время — это верно, а улыбка совсем и не такая… Подсказать что-нибудь определенное он, однако, не может или не хочет. — Что теперь делать будем? — обескураженно спрашивает майора Платонова Вадецкий. — Похоже, что мы еще очень далеки от подлинного облика Тарзана… — А я другого мнения, — убежденно говорит Платонов. — Главное мы, по-моему, схватили. Обратили вы внимание па выражение глаз почти всех парней, которым мы показывали ваш набросок? — Они произвели на меня впечатление форменных кретинов, так что я особенно к ним не присматривался. — Дело не в их умственных способностях. Я следил за их глазами и почти не сомневаюсь, что во втором наброске они узнали Тарзана, только не захотели в этом признаться. Капитану Черкесову тоже кажется, что второй набросок Вадецкого напоминает ему чем-то того человека, который преследовал его, когда он шел с Валентиной по улице Герцена. А Михаил долго рассматривает все три наброска и ни на одном из них не может остановиться. — В отдельности все вроде похоже, — задумчиво говорит он. — И нос, и лоб… даже подбородок. Но вот глаза и рот явно не его. Глаза у него злые, а рот ехидный. — А теперь давайте попробуем создать “составной портрет” Тарзана еще и по методу “фото-робота”, — предлагает Платонову Черкесов. — Наброски, сделанные товарищем Вадецким, не противоречат составленному “словесному портрету”, вот мы и подберем по ним фотографии для “фото-робота”. В тот же день с помощью фотолаборантов райотдела Платонов принимается кромсать на части отобранные вместе с Черкесовым фотографии. Потом они расклеивают их на три длинные дощечки таким образом, что на первой размещаются десять лбов, на второй столько же бровей, глаз и носов. А на третьей — десять ртов и подбородков. Затем, смещая дощечки одну относительно другой и совмещая в разных вариантах все эти лбы, носы и рты, Платонов демонстрирует “составной фотопортрет” сначала Лиханову, а потом тому парню, который узнал Тарзана на одном из набросков Вадецкого. На этот раз они более уверенно сходятся на одной, наиболее удачной, по их мнению, “составной фотографии”. — А я все еще не очень уверен, — по-прежнему сомневается Михаил. — Хотя какое-то сходство уже есть, конечно, Особенно на этом вот варианте. — На нем и остановимся, — решает Черкесов, так как портрет этот оказывается тем самым, на который указал и Лиханов. — Отретушируйте его и пусть фотолаборатория размножит. Пошлем эту фотографию во все отделения милиции и в областные управления. — А в исправительно-трудовые колонии? — И туда тоже, вместе с фонограммой его голоса.ВОЛОДЯ ИВАНОВ — КОЛЛЕГА МИХАИЛА ПО “КОЛЛЕДЖУ”
Михаилу было очень нелегко все эти дни. Он, правда, уже не досадует на себя за то почти животное чувство страха перед Тарзаном и Джеймсом, которое испытывал еще совсем недавно. Ему даже кажется, что он овладел собой, хотя и не стал храбрее. По-прежнему нудно ноет у него под ложечкой, когда он выходит из дому, а в каждом встречном парне чудится сообщник его бывших “боссов”. Но он не сидит больше дома, несмотря на все просьбы Валентины, и уже в одном этом видит немалую победу над собой. Он не выходит пока по вечерам, но мог бы заставить себя выйти и вечером, если бы оказалась в этом необходимость. Гнетет, его теперь другое — невозможность хоть чем-нибудь помочь капитану Черкесову. Даже обличье Тартана не запечатлелось в его памяти настолько, чтобы он смог подсказать какие-то характерные черты этого бандита для создания его “составного портрета”. Мало того, своим сомнением в достоверности уже созданного портрета он может еще и помешать его розыску, лишить уверенности тех, кто, возможно, уже идет по верному пути… Но что же делать? Чем помочь Черкесову? И тут он вспоминает Володю Иванова, с которым познакомился у Джеймса. Они учились в одной и той же школе, но Иванов был старше Михаила на класс. На другой день после встречи у Джеймса Володя, увидев Михаила на школьном дворе, сам подошел к нему. — Привет супермену! — с иронической усмешкой произнес он. — Ты давно у Джеймса? — А ты не знаешь разве, что задавать таких вопросов не положено? — Ишь какой дисциплинированный! А на недосмотр наших боссов не обратил внимания? — На какой недосмотр? — Свое же правило нарушили — свели вместе учеников одной и той же школы. У них это не положено. — Могли и не знать, что мы из одной… — Думаешь, значит, что это по недосмотру? А я не очень в этом уверен. Я у них не первый день и все их правила хорошо знаю. У них так просто ничего не делается. Не знать, что мы из одной школы, они не могли. О каждом из нас у них заведено исчерпывающее досье. Имей это в виду, а о разговоре нашем — никому ни слова. — А чего это ты разоткровенничался так? — Да потому, что супермен из тебя такой же, видно, как и из меня, — усмехнулся Володя Иванов. — Похоже, что влипли мы с тобой, парень… Он не стал ничего больше объяснять Михаилу, а через несколько дней вообще покинул школу и “колледж”, так как отца его перевели в другой город. А потом, недели две спустя, Джеймс неожиданно сказал Михаилу: — Трепач этот твой однокашник Иванов. Никуда ни он, ни отец его не уезжали. Просто перебрались на другую квартиру. — Не понимаю, зачем ему надо было сочинять это? — искренне удивился Михаил. — От нас хотел избавиться. А это знаешь чем попахивает? Предательством! Надо бы его от этого предостеречь. И хорошо бы сделать это тебе. Не знаешь, где его искать? Зато я знаю. Сходи к нему завтра и поговори. Пристыди как следует. Назови предателем Он ведь не только меня с Тарзаном, но и тебя предал. Михаилу не хотелось, но он пошел. Как было не пойти, если Джеймс приказал? Володя Иванов очень удивился, увидев Михаила, но сразу же догадался, зачем он к нему пришел. Однако перед матерью и сестрой виду не подал, что визит этот ему неприятен. Напротив, изобразил радость встречи, бросился чуть ли не обнимать Михаила и, заметив тревогу в глазах матери, сказал ей: “Это не из тех, мама. Это мой приятель по прежней школе”. А Михаилу шепнул: “Уговори меня погулять”. Михаил так и сделал, и они вышли на улицу. — Джеймс прислал? — хмуро спросил его Владимир. — Выследил, значит… А тебе уговаривать поручил, чтобы вернулся? Нет уж, хватит с меня его науки! Отцу и так из-за этого пришлось на другую квартиру переезжать… — Ты разве рассказал ему все? — Он и сам догадывался, в какую компанию я попал. Чуть ли не каждый день пьяным домой приходил — нетрудно было сообразить, с кем я связался. Хорошо еще, что мама многое скрывала от него. Ну, а потом, когда решилась рассказать ему о моих похождениях, — был у меня с ним разговор! Он у меня человек энергичных действий — сразу же решил вырвать меня из той “дурной среды”, которая, как он выразился, “засосала меня”. Под “дурной средой” имел он в виду таких шалопаев, конечно, как мы с тобой, а не такую организацию, как “колледж” Джеймса. Я его не стал в этом разубеждать. Но если эти подонки будут меня преследовать — я ему все расскажу. Им не поздоровится. Ты это так им и передай. Да и сам сматывай поскорее удочки из этого “колледжа”… Так и ушел от него Михаил ни с чем. Да он и не пытался его уговаривать. И не потому только, что понимал всю бесполезность этого, А Джеймсу он сказал: — Послал меня Володя Иванов к чертовой матери. И пригрозил отцу обо всем рассказать, если мы еще будем к нему приставать. А отец у него… — Ну, этого он и сам, пожалуй, не очень-то знает, — мрачно усмехнулся Джеймс. — Мы получше его знаем, кто его отец. Однако напрасно он надеется так просто от нас отделаться… Разговор этот произошел незадолго до того, как Михаилу продемонстрировали магнитофонную запись, с помощью которой хотели сделать его соучастником убийства Анны Зиминой. Все это Михаил вспоминает теперь, раздумывая — сообщать о Володе Иванове капитану Черкесову или попытаться еще раз встретиться с ним? Вмешивать его теперь в это грязное дело будет не по-товарищески, пожалуй… Ведь отец его тогда узнает, в какую банду он попал. Будет, наверно, лучше поговорить с ним и вместе поискать выход из создавшегося положения. И он решает снова встретиться с Ивановым. Дверь ему открывает Вика, сестра Владимира, ученица восьмого класса. Она помнит Михаила еще по первому его посещению их дома и охотно отвечает па его вопросы. — Володи нет дома, — бойко говорит она. — Он на даче. Только что звонил мне оттуда. Вы хотели бы с ним поговорить? Ну так я сейчас соединю вас с ним. Вике не более пятнадцати, но она говорит и держится, как взрослая. Небрежным движением указательного пальца она очень ловко набирает нужный номер. — Это ты, Володя? — кричит она в трубку. — Приятель твой тут. Кто? Сейчас узнаю… — Скажите, что Ясенев, — подсказывает ей Михаил. — Миша Ясенев. А лучше — дайте-ка трубку. Здравствуй, Володя! Ты мне чертовски нужен. Да нет, нет, не от него. Твоему cone ry последовал и послал их сам знаешь куда… А теперь мне очень нужно поговорить с тобой. Что?.. Приехать к тебе?.. Вика расскажет? — Да-да, я все вам расскажу, — понимающе кивает Вика. — Он просит приехать к нему, да? Поезжайте, это недалеко. “А как же Валя? — торопливо думает Михаил. — Нужно бы как-то сообщить ей об этом… Или, может быть, уже оттуда по vВолодиному телефону?..” — Ну так как? — кричит из трубки Владимир. — Приедешь? Вот и ладно! Я тебя встречу на станции. Ты давай тогда прямо на метро, успеешь на часовой, он идет до Ландышевки без остановок. — Решились, значит? — спрашивает Вика. — Я вас провожу до метро. Мне к подруге надо. Дорогой расскажу, как до дачи нашей добраться. Ах, Володя вас встретит? Ну, все равно вам это не мешает знать на всякий случай. Звонкий голосок ее не умолкает и на улице: — А вы в Ландышевке не бывали, значит? Вам она очень понравится. Я оттуда никогда бы не уезжала, если бы не уроки музыки у Инессы Петровны, которую мама считает почему-то потрясающей пианисткой. Хоть бы папа скорее приехал! Он бы так разнес маму за эту Инессу… Но ведь он занят очень. Иногда по целым неделям его не видим. Сейчас у него тоже какие-то серьезные испытания. А Володя на даче один, если не считать тети Поли, и ему там скучно. Теперь с вами будет веселее, конечно. А мы с мамой только в субботу к нему приедем. Привет ему от нас передайте. Прислушиваясь к щебетанию Вики, Михаил замечает, что за ними, не отставая и не обгоняя, упорно идет какой-то парень. Похоже даже, что он прислушивается к их разговору. Михаилу кажется это подозрительным, и он собирается попросить Вику не говорить так громко, но вместо этого спрашивает вдруг; — А не кавалер ли это ваш идет за нами? Обернитесь-ка незаметно и посмотрите на него! — Скажете тоже — кавалер! — смеется Вика, но оглядывается не без любопытства и с заметным разочарованием замечает: — Впервые вижу этого типа. А он что — все время за нами? — Это мне, наверно, показалось, — деланно равнодушным тоном отвечает Михаил. — А я уже пришла. Моя подруга в этом вот доме живет. Ну, а вы садитесь на метро. Оно за этим вот углом. До свиданья! А Михаил все еще размышляет, случайно ли шел за ними этот парень или следил и прислушивался к их разговору? Он и сейчас идет за ним, только чуть подальше. Михаил теряет его из виду только в вестибюле метро, переполненном пассажирами. Не видит Михаил его и в электричке, хотя ощущение, что он где-то поблизости, все еще не покидает его.В ЛАНДЫШЕВКЕ
— Молодец, что приехал! — радостно приветствует Владимир Ясенева. — А еще больше молодец, что ушел от этих подонков. Ты когда же на это решился? — Да уже недели две, пожалуй, — отвечает ему Михаил, а сам все посматривает на сошедших с поезда пассажиров. Один из них напоминает ему того парня, который шел за ним, но он вскоре теряется в толпе. “Говорить о своих подозрениях Володе или не говорить? — торопливо думает Михаил. — Не стоит его тревожить, пожалуй. Мне могло это только показаться… Да и что удивительного, если тот парень тоже сюда приехал? Может быть, он живет тут…” — А ты не знаешь, случайно, не напала милиция на их след? — доходит до сознания Михаила вопрос Владимира. — Ведь если их возьмут, на следствии они всё могут рассказать. Всплывут тогда, наверно, и наши имена… — Ну, я — то этого не боюсь. — Храбрый какой! — Нет, я не храбрый. Тарзана, например, все еще до смерти боюсь. — А милиции ты не боишься? — Милиции не боюсь. Я ей во всем признался, как только с Джеймсом и Тарзаном решил порвать. Но как я ни боюсь Тарзана — все готов сделать, чтобы помочь его поймать… — И откуда такая решимость! — усмехается Владимир. — Милиция и без тебя до них доберется. Выбрось ты это из головы- какой из тебя Пинкертон! Поживи лучше со мной на даче. Мы неплохо проведем время. Смотри, какая вокруг благодать! А в Ландышевке еще лучше. До нее недалеко — она вон за той рощей. Они идут теперь берегом извилистой речушки, поросшим кустарником. А по обе стороны от нее колышутся хлеба. Все это в самом деле красиво, но Михаилу сейчас не до красоты. Его очень тревожит легкомысленное настроение Владимира. Ему нужно поговорить с ним серьезно, а он красотами природы предлагает любоваться. С чего же начать, однако?.. И вдруг Владимир сам задает ему вопрос: — Ты ведь по какому-то делу ко мне приехал? Что ж молчишь? Выкладывай. — Мне нужно тебя сначала спросить о твоем отце, — довольно робко произносит Михаил. — Можешь ты сказать мне, кто он такой? — Он известный ученый… — Я так и думал! Нужно, значит, немедленно об этом рассказать капитану Черкесову. — Да ты что? — испуганно хватает его за руку Владимир. — Знаешь, что мне за это от отца будет? — А ты не о себе, ты лучше об отце подумай. — Ему подонки эти ничего не сделают… — А убить из-за угла разве не смогут? — Ну, это ты детективов начитался… — Да как же ты не понимаешь, что от них все можно ожидать? Они ведь не простые уголовники, а на кого-то из-за границы, наверно, работают… А то чего бы им отцом tbqhm интересоваться? Тарзан, конечно, типичный бандюга, а Джеймс, видно, не случайно носит кличку главного героя Яна Флемминга. Они не пытались разве в какое-нибудь уголовное дело тебя запутать, чтобы держать потом в своих руках? — Пытались… — Меня тоже хотели, да я вовремя сообразил, чем это пахнет. Они меня после твоего бегства особенно усердно обхаживали… Да и теперь не оставят, наверно, в покое ни меня, ни тебя. И самым правильным будет — рассказать о них все… — Нет, подожди, — хватает Михаила за руку Владимир. — Лучше я отцу сначала все расскажу. Он сегодня на дачу должен приехать. И ты со мной останься… Подтвердишь ему, что я правду буду говорить….. — Ладно уж, останусь, — не очень охотно соглашается Михаил. — Только мне сестру нужно предупредить. — Позвонишь ей с дачи. Они идут теперь молча. Владимир приуныл. Его явно страшит предстоящий разговор с отцом. У калитки дачи их встречает старушка, которую Владимир называет тетей Полей. — А я уж беспокоиться стала. — укоризненно качает она головой. — Обед давно готов, а вас все нет и нет. Идите-ка скорее руки мыть — и сразу к столу. Обед проходит почти безмолвно. Тетя Поля удивляется: — Что это вы молчаливые такие? Уж не поссорились ли? — Ну что вы, тетя Поля, какая там ссора! Просто Миша грустную весть мне привез. Школьный товарищ наш в речке утонул. А это, самипонимаете, не поднимает настроение… Но и после обеда разговор у них не очень клеится, особенно в присутствии тети Поли. Валентине Михаил звонит в шестом часу, полагая, что она уже пришла с работы. Но на первый звонок ему никто не отвечает. А когда спустя полчаса он собирается звонить ей вторично, Владимир просит его: — Ты только не говори ей, пожалуйста, адреса нашей дачи и номера телефона. Она может забеспокоиться и позвонить в милицию, а мне не хотелось бы… — Ладно уж, не буду тебя рассекречивать, — обещает Михаил. Ему тоже не хочется лишнего шума, а Валентина может, конечно, поднять переполох. Она сразу же отзывается на второй его звонок: — Откуда ты, Миша? Я, правда, только что пришла, но Леночка мне сказала, что ты ушел давно. Она видела тебя, когда ты выходил из дому. Что-то плохо слышно… Ты откуда говоришь? С дачи?.. С какой дачи?.. А как фамилия твоего приятеля? Иванов? Что-то я не слышала раньше о таком приятеле… Не сочиняй мне, Михаил. Говори прямо — где ты? Может быть, опять… — Нет, нет, — почти кричит ей в ответ Михаил. — Как ты можешь подумать такое? Я действительно у моего школьного приятеля Володи Иванова, а ты за меня не беспокойся. Я у него переночую, а завтра приеду… Ну что ты волнуешься, честное слово! Что я — маленький, что ли? Да не могу я тебе ничего больше сказать! Вот вернусь завтра и все расскажу. И он кладет трубку, очень недовольный своим разговором с сестрой. Лучше было бы совсем не звонить. А тут еще Владимир смотрит с таким осуждающим видом. — Ну зачем ты ей мою фамилию назвал? Она теперь определенно в милицию заявит… — Пусть заявляет, мало разве Ивановых? — Ты же сказал ей, что в одной школе учились. — А там скажут, что ты давно в другом городе живешь… Вообще-то не нужно было ей звонить, но теперь уж ничего не поделаешь… Постепенно они успокаиваются, а за ужином начинают даже посмеиваться над своими страхами. — Вам где постелить? — спрашивает их тетя Поля. — На веранде, — отвечает Владимир. — Только мы еще не скоро ляжем — папа ведь сегодня должен приехать. — А это точно, что сегодня? — спрашивает Михаил. — Вика говорила… — А Вика этого и не знает. Он недалеко от Ландышевки на испытаниях каких-то и сегодня в Москву должен вернуться, а по дороге обещал ко мне заехать. — Может, мы погуляем немного вокруг дачи? — предлагает Михаил. — Поздновато уже… — не очень охотно отзывается Владимир. — А у вас тут что — пошаливают? — Да какое там пошаливают, — смеется тетя Поля. — Дай бог, чтобы всюду было так спокойно. Володя очень любил раньше погулять перед сном, а теперь его силком за ворота не вытащишь. — Ну что вы, тетя Поля, сочиняете… — пытается оправдываться Владимир, но от Михаила не ускользает нотка смущения в его голосе. Потом, когда они остаются вдвоем, он признается: — Я и в самом деле стал побаиваться выходить за ворота как только стемнеет. И знаешь почему?.. — Он делает паузу и, оглядевшись по сторонам, произносит уже шепотом: — Раньше я считал себя почти храбрым, но с тех пор, как сбежал от Джеймса… И ничего не могу с собой поделать… — Я тоже не из храбрых, — вздыхает Михаил. — Но всякий раз, когда мне удается пересилить страх, начинаю чувствовать себя человеком. — И ты решился бы выйти ночью за ворота дачи, зная, что там может быть Тарзан? — Просто так, из удальства, не пошел бы — ведь это почти что на смерть… Ну, а если бы необходимо было, решился бы, пожалуй… — А я не знаю… Я в себе не уверен…ВАЛЕНТИНА ИЩЕТ БРАТА
Валентина просто не знает, что делать, где искать Михаила. А нужно срочно что-то предпринимать! Может быть, позвонить Черкесову?.. Она порывисто снимает трубку и торопливо набирает номер телефона райотдела милиции. — Капитана Черкесова, пожалуйста, — просит она дежурного по отделу. — Нет его?.. А не могли бы вы разыскать его и сообщить, что звонила Валентина Ясенева по очень срочному делу? — Хорошо, я постараюсь, — обещает дежурный. “А может быть, в уголовный розыск позвонить? — торопливо думает Валентина. — Конечно, лучше бы с Олегом Владимировичем поговорить, но сможет ли дежурный разыскать его так скоро?..” На всякий случай она решает все-таки подождать немного, по проходит целый час, а ей все еще никто не звонит. “Нужно, значит, ехать на Петровку, — решает Валентина. — Попрошу доложить обо мне тому полковнику, с которым разговаривала в прошлый раз…” Не успевает она, однако, собраться, как раздается звонок. — Да, да, это я, Валентина! — радостно кричит она в трубку, узнав голос капитана Черкесова. — Мне очень нужно поговорить с вами, Олег Владимирович. Миша пропал… — Не уходите никуда из дома, — прерывает ее Черкесов. — Я еду к вам. А Валентину уже начинает мучить совесть: “Зачем я сказала, что он пропал? Неправда ведь это… И вообще, может быть, напрасна моя тревога, а у него есть дела поважнее…” …Уже сидя в машине, капитан Черкесов тоже досадует на себя: “Зачем, собственно, я еду? Можно было бы и по телефону обо всем расспросить…” Ему даже самому себе не хочется признаться, что он рад случаю повидаться с Валентиной. Чем бы ни был занят он все эти дни — она не выходила у него из головы. — Что случилось с Михаилом? — с нескрываемым беспокойством спрашивает он Валентину, как только она открывает ему дверь. — Простите меня, ради бога, Олег Владимирович, может быть, я зря подняла такую тревогу… И она рассказывает ему о телефонном звонке Михаила. Сначала Черкесову кажется, что она и в самом деле напрасно так встревожилась. Но потом он начинает припоминать, что Михаил сообщал ему о каком-то Володе Иванове, сбежавшем из “колледжа” Джеймса раньше его. Они учились с ним в одной школе, но потом Иванов ушел из нее, так как отца его перевели на работу в другой город. Как же они встретились теперь, да еще на даче? Черкесову и тогда была не совсем ясна история с этим Володей Ивановым, так как чувствовалось, что Михаил чего-то не договаривал. А теперь сообщение Валентины начинает все больше тревожить его, хотя он и старается успокоить ее: — Я думаю, Валентина Николаевна, что для серьезного беспокойства нет пока причин. Я кое-что постараюсь предпринять. Разрешите мне позвонить от вас? И Черкесов звонит по нескольким номерам, пока, наконец, не дозванивается до майора Глебова. — Это я, Федор Васильевич. Вам, кажется, приходилось встречаться с Савостиным? Да, с директором школы, в которой учится Ясенев. Попробуйте-ка разыскать его сейчас и узнать поподробнее о бывшем ученике его Владимире Иванове и его родителях. Как только узнаете что-нибудь, позвоните мне по телефону Ясеневых. А теперь наберемся терпения и подождем, что удастся узнать об этом Иванове майору Глебову, — обращается Черкесов к Валентине, внимательно всматриваясь в ее лицо. Заметив, что она смущена его пристальным взглядом, поспешно объясняет: — Похудели и побледнели вы за эти дни… — Да, возможно… — Все тревожитесь о брате? — И не успокоюсь, пока вы этого Тарзана не поймаете. — Поймаем, можете не сомневаться. Следствие по его делу теперь почти завершено, и грехов у него столько, что хватило бы высшей меры на нескольких человек… Он сказал это и испугался, заметив, как побледнела вдруг Валентина. — Да вы не пугайтесь только! Ему никуда теперь от нас не уйти. Черкесову очень хочется сообщить ей, что с помощью “составного портрета” Тарзан уже опознан в одной из исправительно-трудовых колоний, в которой он отбывал наказание за участие в убийстве. Известна уже и его фамилия, и место работы. Он оказался Дерябиным, работает на автобазе и находится в загородном рейсе. Наверно, сейчас к Подольску подъезжает, и его должны там взять работники местной милиции. Всего этого, к сожалению, нельзя пока сказать Валентине. Но ему приятно и вот так, не говоря ни слова, сидеть у нее и молча смотреть на ее милое, озабоченное лицо. Раздумья его прерывает звонок Глебова. — Олег Владимирович, — торопливо сообщает майор, — нас с вами срочно вызывают на Петровку к полковнику Денисову. Заехать за вами? — Не нужно, я доберусь и так. — Очень хотелось о многом с вами поговорить, — вздыхает он, опуская трубку и поворачиваясь к Валентине, — но… — Долг службы, — грустно улыбаясь, заканчивает за него Валентина. — Надеюсь, однако, что это не последняя наша встреча? Конечно, по-всякому можно истолковать ее слова, но для Черкесова в них заключается надежда… Надежда на что-то большее, чем одна встреча. И хотя он уходит от нее не домой, а к начальству, и неизвестно пока, для какого разговора, уходит он очень счастливым.НА КВАРТИРЕ ИВАНОВЫХ
В Московском уголовном розыске все уже в сборе. И как только входит Черкесов, полковник Денисов отрывается от чтения каких-то документов и, невесело усмехаясь, произносит: — Я мог бы начать наш разговор словами гоголевского городничего, но сейчас не до шуток, ибо мне предстоит сообщить вам действительно не очень приятное известие. Из Подольска нам сообщили, что машина Тарзана-Дерябина в пункт назначения не прибыла. А четверть часа назад ее обнаружили пустую неподалеку от кольцевой дороги, в районе Кузьминок. Тарзан бежал. Кто мог его предупредить? — Скорее всего, кто-нибудь из тех, кто принимал участие в составлении его портрета, — замечает Глебов. — Но не Ясенев же и не Лиханов? — невольно вырывается у Черкесова. — Я тоже думаю, что не они, — соглашается полковник. — Но ведь вы показывали варианты его портрета и тем, кто участвовал в убийстве Зиминой. Разве не могли они как-нибудь сообщить об этом людям, связанным с Джеймсом? Мне хотелось бы послушать ваши соображения. Некоторое время все молчат. Потом просит слово Черкесов. — Наверное, вы правы, товарищ полковник, — говорит он. — И Джеймс теперь ни минуты не сомневается, что главным участником составления портрета Тарзана был Ясенев. Допускает, наверно, что с его помощью, может быть, создан и его портрет. И у меня нет сомнений, что они попытаются расправиться с Ясеневым, тем более что обстановка для этого весьма благоприятная. Михаил ведь сейчас не дома, а на даче у своего приятеля Володи Иванова, который, кстати, тоже сбежал в свое время от Джеймса. — А где эта дача? — спрашивает полковник. — Вам удалось что-нибудь узнать об Иванове, Федор Васильевич? — обращается Черкесов к Глебову. — Да, кое-что. Оказывается, Ивановы не уезжали из Москвы. Переехали только в другой район. Кстати, Петр Петрович Иванов — доктор физико-математических наук. — И у вас есть его новый адрес? — Да, Олег Владимирович. — Тогда нужно немедленно разыскать этих ребят, — решает полковник. — Займитесь этим, товарищ Черкесов. — А вам не кажется, товарищ полковник, — замечает Глебов, — что Джеймса может интересовать не столько Миша Ясенев и Володя Иванов, сколько доктор физико-математических наук Петр Петрович Иванов? — Кажется, — соглашается с ним полковник. — Не случайно же этим Джеймсом занялся теперь Комитет госбезопасности. Но Тарзан-Дерябин — типичный уголовник и поймать его- дело нашей чести. Жене Петра Петровича Иванова капитан Черкесов представляется как дядя школьного приятеля их сына. — Не спросив разрешения, племянник мой уехал, оказывается, на дачу к вашему Володе, — говорит он. — Но я просто никакого понятия об этом не имею, — делает удивленные глаза Иванова. — Меня целый день дома не было. Вот, может быть, Вика в курсе этого вопроса… — поворачивается она к дочери. — Да, мама, я в курсе, — солидно отзывается Вика. — Ваш Миша был тут. Ты его тоже знаешь, мама, он заходил к нам как-то. Мы еще думали, что он из той компании… Но он вообще у вас со странностями, — обращается она к Черкесову. — Рассказала я ему, как на нашу дачу ехать, до метро даже проводила (мне как раз к подруге нужно было). Идем с ним, разговариваем, а он все озирается по сторонам. Показалось ему, что наш разговор кто-то подслушивает… — А может быть, и в самом деле подслушивали? — улыбаясь, спрашивает Черкесов. — Вообще-то действительно шел за нами какой-то парень… — Может быть, вы о чем-нибудь интересном говорили? — снова любопытствует Черкесов. — А о чем таком могли мы с ним говорить, если я всего второй раз в жизни Мишу вашего видела? Попросила его только передать привет Володе да сказать, чтобы он не скучал там без нас с мамой. А вы что, очень рассердились на Мишу, что он без спросу в Ландышевку уехал? Если хотите, мы телефон нашей дачи можем вам дать. — Что уж теперь с ним поделаешь! — вздыхает Черкесов. — А телефон на всякий случай дайте. Позвоню ему завтра, если не приедет. И Вика, не задумываясь, выпаливает номер дачного телефона. Поблагодарив Ивановых за любезность, Черкесов уходит.ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
Уставшие, переволновавшиеся за день, Владимир и Михаил ложатся спать в двенадцатом часу, так и не дождавшись Петра Петровича. Тетя Поля стелет им на веранде — одному на диване, другому на раскладушке. Они долго молча лежат рядом и никак не могут заснуть. — Ты не спишь, Володя? — шепчет Михаил. — Да нет, не спится что-то… — А сам ты так и не решился, значит, отцу обо всем рассказать? — Обо всем не решился… Да и как решиться? Он ведь думал, что я с обыкновенными уличными босяками связался. Потому и переехали мы на другую квартиру, чтобы подальше от них, — представилась тогда папе такая возможность. Ему давно уже предлагали более удобное для его работы жилье, а он все тянул. Занят был очень… Ну, а когда такое случилось со мной, решил срочно переехать. А что толку? Все равно эти бандиты меня выследили… — Вот тогда, после первого моего прихода к тебе, и рассказать бы все отцу. — Побоялся я… Очень бы это его расстроило. Да и не думал я, что все так серьезно… Они лежат некоторое время молча. Потом Михаил снова шепчет: — А мне в голову разные страшные мысли лезут… Их, по-моему, отец твой очень интересует. Рассчитывали, наверно, с твоей помощью какие-нибудь чертежи его выкрасть… — А он и не держит их дома. Они у него в институте. — Ну, тогда у них другое что-нибудь на уме… — Да что же другое? — Они на все могут решиться… — На что “на все”? — Ну, на убийство даже… Тарзану это ничего не стоит… — Ты думаешь, что он и папу сможет?.. — Думаю, что сможет. И, пожалуй, когда он сюда… к даче будет подъезжать. — А они знают разве, где наша дача? — Следил сегодня за мною один тип… А когда я с сестрицей твоей по улице шел, она так громко разговаривала, что ему не трудно было сообразить, куда я направляюсь. Выследил он меня, конечно… — Что же делать-то теперь?.. — растерянно спрашивает Володя. — Нужно немедленно предупредить твоего отца. Ты же говорил, что он может заехать сюда сегодня. — Да, он обещал. Но как же нам предупредить его?.. — Нужно встретить где-нибудь. Он по какой дороге в Ландышевку ездит? По той, что мы шли, или есть еще и другая? — Есть и другая, но, скорее всего, по этой. — Вот и давай туда… К мостику, через который мы переходили. Машина там обязательно должна сбавить ход. — А если он по другой?.. — Давай тогда разделимся. — Нет, уж лучше вместе. Я боюсь один… А как же мы выйдем отсюда? Он уже ходит, наверно, вокруг дачи… подкарауливает… — Ну знаешь!.. — начинает злиться Михаил. — Просто противно слушать! У меня у самого душа в пятках… но ведь нам твоего отца нужно спасать. Простишь ты себе когда-нибудь, если его убьют?.. Я бы себе никогда этого не простил. — Ну что ты городишь такое?! Я обязательно пойду. Только давай не через ворота. Он, наверно, притаился там… А в заборе с другой стороны дачи две доски отходят. Давай через эту дыру… — Ладно! Нужно только, чтобы тетя Поля нам не помешала. Она, видно, не спит еще. Свет в ее комнате горит. — Забыла, наверно, потушить. Слышишь, похрапывает? Выбравшись из дома, они осторожно идут через сад к забору. Потому ли, что темно, или, может быть, от страха, Владимир долго не может найти оторванных досок. А когда они уже собираются перелезть через забор, их обнаруживает Михаил. Хорошо знакомой Владимиру тропинкой они выходят к речке и по ее берегу благополучно добираются до мостика. Путь этот значительно короче того, который ведет через дачный поселок. — Давай спрячемся в кусты, — с трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы, предлагает Владимир. Михаил не успевает ответить. Он замечает свет фар от машины, идущей к мостику. — Надо ее остановить, — слегка дрогнувшим голосом говорит он Владимиру. — А может, это не папина… — У него какая? “Волга”?.. Похоже, что и это “Волга”. А машина уже совсем близко. Как Михаил и предполагал, у моста она заметно сбавляет ход. Надо бы, наверно, Владимиру выйти на середину моста и поднять руки — если в машине его отец, он сразу бы узнал его, — но Михаил не хочет лишний раз испытывать храбрость своего приятеля и выходит на мое г. сам. Не очень-то приятно находиться в потоке лучей света неизвестной машины, но Михаил твердо стоит на ее пути. Гулко бьющееся сердце на какое-то мгновение заглушает все иные звуки. Он не слышал бы, пожалуй, даже сигнала машины. Но шофер не сигналит, а останавливается, и из нее поспешно выходит какой-то человек, кажущийся Михаилу очень знакомым. — Миша! — слышит он взволнованный голос и сразу же узнает капитана Черкесова. — Что ты тут делаешь, Миша? Теперь они стоят рядом и к ним спешит лейтенант Егошин. — Я все вам сейчас расскажу, Олег Владимирович, — шепотом произносит наконец Михаил, — только потушите, пожалуйста, фары вашей машины. И он торопливо и не очень связно рассказывает капитану Черкесову все, что они пережили с Володей Ивановым и о чем передумали за этот вечер…В ЗАСАДЕ
Тарзан зол не только на весь мир, но и на самого себя. Напала, значит, на его след милиция… И, наверно, не но какому-то там “составному портрету”, как уверяет Джеймс, а просто предала какая-то сволочь. Молокососов этих, Мишку с Володькой, давно нужно было прикончить. Нашел Джеймс с кем связываться! А Васька Оголец — толковый парень. Выследил их не хуже того заморского шпика, под которого работает Джеймс… А как же настоящее-то его имя? Небось Жоржик какой-нибудь?.. Чем больше думает Тарзан о Джеймсе, тем злее становится. Все у него тайны да секреты, но для него, Тарзана, не секрет ведь, на каких “боссов” он работает. А чьими руками он жар загребает? Его, Тарзана, руками. Ну, так ты и расскажи тогда, каковы у тебя или у твоих “боссов” цели. Так нет же, не доверяет, видишь ли… А тому, будто главная его задача — развращать мальчишек, забивать им головы этим дурацким суперменством, Тарзан просто не верит. Джеймс вообще любит пускать пыль в глаза, делать вид, что осуществляет какие-то идеи. А какие у него могут быть идеи? Вот он, Тарзан, например, почему работает на Джеймса? Да потому, что ему хорошо за это платят. А сам-то Джеймс ничего не получает разве от своих “боссов”? Побольше, конечно, чем Тарзан. Вот тебе и вся идея! А попадись этот “идейный” в руки милиции или госбезопасности — не задумываясь продаст любого, спасая свою шкуру. Да и сам он, Тарзан, в подобной ситуации не будет дураком… Ну, а пацанов этих нужно обязательно прикончить — они слишком много знают. В этом Тарзана не надо убеждать. Потому он сейчас у забора дачи Ивановых. Ждет подходящего момента. Как только мальчишки лягут спать, он мигом проберется к ним и сделает свое дело. Но, пока у них горит свет, предпринимать что-нибудь опасно — поднимут крик, да и телефон там… А свет все не гаснет в одном из окон. Они это не спят или тетка? Оголец уверял, будто, кроме их и тетки, никого там больше не должно быть. А вдруг сам профессор вернулся? Тогда с ним должна быть охрана, он ведь засекреченный какой-то… Это тревожит Тарзана. “А не послать ли всех к черту? — мелькает вдруг неожиданная мысль. — С этим Джеймсом можно влипнуть посерьезнее, чем на любом уголовном деле. Не махнуть ли, пока не поздно, куда-нибудь подальше от столицы? У меня и на Кавказе, и в Молдавии кореши есть, они приютят…” Он уже направляется в сторону станции, но тут же возвращается назад, решив все-таки перелезть через забор и заглянуть в освещенное окно. А когда уже взбирается на забор, слышит шум автомобильного мотора и быстро сползает назад. Лишь убедившись, что машина ушла в другую сторону, лезет снова. Но и на этот раз его постигает неудача — под его грузным телом ломается вдруг подгнившая доска и он чуть не срывается с забора. “Ну, теперь все!.. — замирает сердце у Тарзана. — Сейчас выскочит кто-нибудь из охраны профессора и начнется переполох…” Но все тихо вокруг, даже свет нигде не зажегся, кроме того окошка, с которого он вот уж второй час не сводит глаз. Неужели так крепко спят, что не услышали ничего? Тарзан прислушивается, озирается по сторонам и даже у самой дачи долго не решается заглянуть в освещенное окно, дивясь своей непонятной робости. А за окном очень мирная картина: небольшая, аккуратно прибранная комнатка с диваном, а на диване спящая старушка. “Володькина тетка, наверно, — с невольным вздохом облегчения решает Тарзан. — А пацаны, скорее всего, на веранде…” И он, низко пригнувшись, неслышно скользит к дверям, перебирая в руках связку ключей и отмычек. Что тут за замок у них? Ага, врезной. Какой только — пружинный или сувальдный? Ну, слава богу, пружинный! Этот попроще… Он осторожно всовывает отмычку в замочную скважину, но не успевает сделать ни одного поворота ею, как дверь бесшумно распахивается, а кисти его рук оказываются зажатыми чьими-то сильными пальцами. Он пытается отпрянуть назад, но теперь его хватает кто-то сзади. — Ну все, Дерябин! — слышит он почти добродушный голос, и напружинившееся было тело его сразу обмякает. “Да, теперь уж все…” — проносится в его мозгу. Спустя несколько минут, когда связанного Тарзана сажают в машину, капитан Черкесов спрашивает Михаила: — Ну как, Миша, — тут переночуешь или отвезти тебя к сестре? И, хотя Михаилу очень хочется домой, к Валентине, он пересиливает это желание. — Нет, я тут переночую, вместе с Володей, а уж завтра… — Ну и ладно! — протягивает ему руку Черкесов. — Завтра я пришлю за тобой машину. А ведь и ему тоже очень хочется отвезти Михаила к Валентине сейчас, но он понимает, как важно этому парню пересилить себя, преодолеть страхи этой ночи, почувствовать, что он обрел наконец мужество. И не стоит, пожалуй, ставить его в известность, что будут они тут с Володей не одни, что о них позаботятся работники местного отделения милиции. Дорогой он долго думает об этих ребятах, не пожелавших стать суперменами “I” и именно потому ставших полноценными людьми. Ибо что такое супермен? Существо, по сути дела, лишенное главных человеческих достоинств — морали и чувства долга. Но какие же они сверхчеловеки — лишенные этих достоинств человека? Скорее, недочеловеки, подобные такой скотине, как Тарзан, у которого теперь лишь одно на уме — любой ценой спасти свою шкуру…С.Другаль ПРАВО ВЫБОРА
 Олле прижался лицом к холодному стеклу, бросил не обернувшись:
— Почти любую зрительную комбинацию, созданную природой, за редким исключением, мы воспринимаем как прекрасное. Море, нагромождение скал или белый- гусь на зеленой траве… Твои посылки, Нури, не выдержат проверки опытом.
Спор ему изрядно надоел. За окном было куда интереснее. Площадь хоть и пустая, но над клумбой висит и вспыхивает синими огнями туманный шар — капельки, взвешенные в электростатическом поле, — первое земное творение Нури. Он говорил тогда, что шаровые фонтаны вызывают приятные ассоциации. А что он говорит сейчас?
— …Дай мне хорошего художника, и мы сумеем столь гармонично вписать машину в природу, что даже ты не поймешь, где начинается природа и где кончается автомат.
Ну конечно, Нури мало, что после него в марсианских пустынях остались разноцветные и чересчур самостоятельные киберы, которых он десятками выпускал на волю. Ему, видите ли, не нравилась марсианская фауна, он дополнял ее. И шумно ликовал, когда новички-стажеры принимали эти прыгающие, похожие на сказочных чертиков, покрытые чешуей фотоэлементов автоматы за живых обитателей Марса. Сейчас он, наверное, ищет повод учинить нечто подобное на Земле.
Олле, как и Нури, вырос на Марсе в небольшом поселке одной из десятка постоянно действующих научных станций. Землю он знал по книгам, фильмам да рассказам родителей. Тем более досадно третий месяц торчать в этом городке, отбывая карантин. Хорошо хоть дед набрался мужества, прервал исследования и приехал с ними, а то можно бы помереть от безделья. Нури легче: кибернетику везде дело найдется, хотя бы подвешивать фонтаны. Кстати, сколько дед не был на Земле?.. Десять… нет, двенадцать лет.
— Вряд ли. — Олле проследил, как маленький виброход пересек площадь, пробежал по проспекту и скрылся в оранжевых песках, окружающих город: почти марсианский вид. — Твой кибер только дополнит пейзаж, но он останется сам по себе. Без той внутренней, или на твоем языке, обратной связи с природой, которая отличает дельфина от торпеды и стрекозу от вертолета. Изыми его, и ничто не переменится.
— Какая разница. — Темпераментный Нури забегал по комнате. — Я говорю не о том, уживется ли природа с машиной. Я говорю, что твои ощущения не изменятся, будет ли в лесу кибер-волк или волк настоящий. Тебе будет одинаково страшно.
Сатон, полулежа в кресле, молча следил за ходом спора. Сейчас он неожиданно рассмеялся. Нури замер на повороте:
— Не понял…
— Прости, Нури. Я представил, как малютка Олле пугается волка в лесу, и мне стало весело. — Сатон оглядел двухметровую фигуру Олле, бугры мышц на плечах.
Нури улыбнулся:
— Пожалуй, волк испугается Олле.
— Да и спор ваш не из тех, которые рождают истину. Послушайте лучше новости. Там есть для вас неожиданность. — Сатон щелкнул тумблером информатора. Чуть приглушенный голос произнес: “Совет Земли за исследование дискретных психических реакций присудил руководителю третьей марсианской научной станции доктору Сатону высшую премию: право выбора желания”…
— Ну? — Сатон выключил звукозапись, глаза его лукаво блеснули.
Олле кинулся к нему, обнял:
— Я рад за тебя, дед. Очень рад!
— Поздравляю вас, профессор. — Нури почтительно склонился. — У вас есть неисполненное желание?
— О Нури, — с укоризной произнес Сатон. — Сколько угодно. Я, например, желаю быстрее привыкнуть к земной тяжести. В мои годы переносить удвоенный вес не так легко, а утяжелителями, как ты знаешь, я на Марсе не пользовался. К сожалению, это вне компетенции Совета — ускорить акклиматизацию. И еще. Мне хотелось бы помочь Олле в его исследовании. Я думаю об этом третий день. И, знаете, вы мне подсказали одну идею. Очень интересный психологический опыт. Но сперва нужно, — Сатон поднялся, взгляд его на мгновение стал тяжелым, и он отрывисто проговорил, — о вашем споре забыть. Забыть.
Несколько секунд длилось молчание, потом Олле с удивлением спросил:
— Какой спор, дед? Мы обсуждаем твою премию.
— Премию? — Сатон удобно уселся в кресле. — Надеюсь, вы мне доставите удовольствие разделить премию на троих?
Олле прижался лицом к холодному стеклу, бросил не обернувшись:
— Почти любую зрительную комбинацию, созданную природой, за редким исключением, мы воспринимаем как прекрасное. Море, нагромождение скал или белый- гусь на зеленой траве… Твои посылки, Нури, не выдержат проверки опытом.
Спор ему изрядно надоел. За окном было куда интереснее. Площадь хоть и пустая, но над клумбой висит и вспыхивает синими огнями туманный шар — капельки, взвешенные в электростатическом поле, — первое земное творение Нури. Он говорил тогда, что шаровые фонтаны вызывают приятные ассоциации. А что он говорит сейчас?
— …Дай мне хорошего художника, и мы сумеем столь гармонично вписать машину в природу, что даже ты не поймешь, где начинается природа и где кончается автомат.
Ну конечно, Нури мало, что после него в марсианских пустынях остались разноцветные и чересчур самостоятельные киберы, которых он десятками выпускал на волю. Ему, видите ли, не нравилась марсианская фауна, он дополнял ее. И шумно ликовал, когда новички-стажеры принимали эти прыгающие, похожие на сказочных чертиков, покрытые чешуей фотоэлементов автоматы за живых обитателей Марса. Сейчас он, наверное, ищет повод учинить нечто подобное на Земле.
Олле, как и Нури, вырос на Марсе в небольшом поселке одной из десятка постоянно действующих научных станций. Землю он знал по книгам, фильмам да рассказам родителей. Тем более досадно третий месяц торчать в этом городке, отбывая карантин. Хорошо хоть дед набрался мужества, прервал исследования и приехал с ними, а то можно бы помереть от безделья. Нури легче: кибернетику везде дело найдется, хотя бы подвешивать фонтаны. Кстати, сколько дед не был на Земле?.. Десять… нет, двенадцать лет.
— Вряд ли. — Олле проследил, как маленький виброход пересек площадь, пробежал по проспекту и скрылся в оранжевых песках, окружающих город: почти марсианский вид. — Твой кибер только дополнит пейзаж, но он останется сам по себе. Без той внутренней, или на твоем языке, обратной связи с природой, которая отличает дельфина от торпеды и стрекозу от вертолета. Изыми его, и ничто не переменится.
— Какая разница. — Темпераментный Нури забегал по комнате. — Я говорю не о том, уживется ли природа с машиной. Я говорю, что твои ощущения не изменятся, будет ли в лесу кибер-волк или волк настоящий. Тебе будет одинаково страшно.
Сатон, полулежа в кресле, молча следил за ходом спора. Сейчас он неожиданно рассмеялся. Нури замер на повороте:
— Не понял…
— Прости, Нури. Я представил, как малютка Олле пугается волка в лесу, и мне стало весело. — Сатон оглядел двухметровую фигуру Олле, бугры мышц на плечах.
Нури улыбнулся:
— Пожалуй, волк испугается Олле.
— Да и спор ваш не из тех, которые рождают истину. Послушайте лучше новости. Там есть для вас неожиданность. — Сатон щелкнул тумблером информатора. Чуть приглушенный голос произнес: “Совет Земли за исследование дискретных психических реакций присудил руководителю третьей марсианской научной станции доктору Сатону высшую премию: право выбора желания”…
— Ну? — Сатон выключил звукозапись, глаза его лукаво блеснули.
Олле кинулся к нему, обнял:
— Я рад за тебя, дед. Очень рад!
— Поздравляю вас, профессор. — Нури почтительно склонился. — У вас есть неисполненное желание?
— О Нури, — с укоризной произнес Сатон. — Сколько угодно. Я, например, желаю быстрее привыкнуть к земной тяжести. В мои годы переносить удвоенный вес не так легко, а утяжелителями, как ты знаешь, я на Марсе не пользовался. К сожалению, это вне компетенции Совета — ускорить акклиматизацию. И еще. Мне хотелось бы помочь Олле в его исследовании. Я думаю об этом третий день. И, знаете, вы мне подсказали одну идею. Очень интересный психологический опыт. Но сперва нужно, — Сатон поднялся, взгляд его на мгновение стал тяжелым, и он отрывисто проговорил, — о вашем споре забыть. Забыть.
Несколько секунд длилось молчание, потом Олле с удивлением спросил:
— Какой спор, дед? Мы обсуждаем твою премию.
— Премию? — Сатон удобно уселся в кресле. — Надеюсь, вы мне доставите удовольствие разделить премию на троих?
***
Пневмокар повис возле домика, встроенного в глухой высокий забор. Зоолог, качнув машину, вышел первым и долго разглядывал старую липу на обочине шоссе. Потом вытащил из дупла заржавленный ключ, открыл замок. — Входите. Это охотничья избушка. Такие описаны в старинных книгах. Читали? — Мы все читали, — ответил Нури. — Мы только и делали, что читали. Он торопливо шагнул внутрь, но не успел пригнуться и больно стукнулся лбом о притолоку. — Э, Нури, зачем так спешить? — сказал Сатон, входя следом. — Древние ощущения требуют неспешных движений. В помещение степенно протиснулся Олле. Он белозубо улыбался. — Вот это и есть зона? — Она самая, — сказал Зоолог. — В вашем распоряжении сутки. Надо сказать, что Совет Земли не без удивления узнал о выборе Сатона. Особенно смущали некоторые специальные пункты программы. Проще было бы организовать для лауреата традиционную экспедицию в джунгли Венеры или, как иногда бывало, дать на несколько месяцев право неограниченного рабочего дня. Но ничего не поделаешь, желание лауреата — закон. Пришлось подыскать подходящий кусочек природы и провести кое-какую подготовку… Через закопченное стекло небольшого окна проникало ровно столько света, чтобы можно было разглядеть кирпичную печь с чугунной плитой, охапку поленьев, брошенную на щелястый пол, две широкие скамьи и деревянный неровный стол между ними. — Очень похоже, — сказал Олле. — Я примерно так это и представлял себе. — Здесь все настоящее. — Зоолог вытащил из чулана сверток. — Переоденьтесь: не идти же вам на охоту в лавроновых джинсах. Раскопали для вас в музеях так называемые кирзовые сапоги и эти, как их, портянки. И куртки из натурального хлопка. Согласно программе. Он оглядел неуклюжие фигуры охотников, ухмыльнулся: — Ну вот, все в порядке. Нет, не сюда. Зоолог открыл вторую дверь, и они вышли в зону. — Минутку. Захватите собак. — Он протяжно свистнул. Из пристройки с лаем выскочили три пса. — Запомните клички. Этот красный сеттер — Бобик, легавая — Трезор, а беспородная — Шарик. Не правда ли, какие звучные старинные имена? Но охотники не слышали Зоолога. Перед ними расстилался зеленый луг. Близкий лес качал верхушками сосен, и странная, наполненная звоном тишина царила вокруг. Они пошли прямиком по колени во влажной траве. Разноцветные кузнечики разлетались из-под ног, и ласковый ветер доносил смолистые запахи. Лес встретил их влажной прохладой, грибной свежестью и щебетанием какой-то птахи. Олле двигался медленно, трогая руками белую кору берез. Он долго стоял у муравейника, обошел его, осторожно ступая на пружинящую хвою, наклоняясь, чтобы не задеть сеток блистающих каплями росы паутинок. Увидел расширенные, восторженные глаза Нури. Тот жестом подозвал его, раздвинул ветви. — Смотри. Олле замер, увидев букет маленьких глянцево-коричневых, с ярким желтым ободком цветов. Они шевелились. Наклонился ближе. Это были не цветы: шесть голых птенцов лежали в гнезде, подняв кверху раскрытые клювы. Сбоку послышалось сопение, и над гнездом нависла голова сеттера. Олле схватил собаку за ошейник, оттащил в сторону, удивляясь тяжести животного. — Что вы там нашли, идите сюда. — Сатон стоял у кустов, покрытых розоватыми цветами. — Шиповник. Каков запах? А этот золотистый называется “шмель”. Он поет басом и собирает пыльцу. Видите, на задних лапах бугры вроде бицепсов. — Ага, шмель, — обрадовался Нури. — Сейчас мы его изучим. — Не приставай к насекомому, — сказал Олле, прогоняя шмеля. — Пойдемте к озеру, здесь недалеко. — Сатон достал карту. — О, ты опять что-то обнаружил? Олле, неловко сутулясь, сидел на корточках. — Это гриб, Олле. — Сатон оглядел находку. — Превосходно! Коричневая бархатная шляпа, толстое белое пузо. Нури, ты чувствуешь, сколько в нем силы и достоинства? Конечно, грибная масса питательнее, но гриб — это совсем другое. Их раньше собирали в лесах… — Тоже в качестве награды? — Это делал каждый, кому не лень. И это называлось идти по грибы… Деревья расступились. Небольшое лесное озеро у берегов поросло кувшинками. В зеркале его отражались сосны, а с валуна, вросшего в мох, Олле и Нури сквозь прозрачную глубину разглядели илистое дно и тени рыб. Охотники скинули рюкзаки, натянули палатку. Собаки в одинаковых позах лежали у валуна. — Двинемся на зайцев? — сказал Нури. — Не будем время терять. — Сейчас будет дождь. — Сатон кивнул в сторону клубящегося облачка. И дождь хлынул. Проливной, с грозой, молниями и порывами ветра. Охотники укрылись в палатке, поглядывая на озеро в тумане брызг. Собаки даже не переменили позы. Только Бобик посмотрел на небо и вновь уронил голову на вытянутые лапы. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Сатон выбежал из палатки. Он ухватился за ствол деревца, тряс его и смеялся, подставляя лицо под летящие с листьев капли. — Ах, как здорово!.. Запах озона, ставший привычным запахом городских площадей, но чем-то отличный от него, реял во влажном воздухе. Случайные звуки далеко разносились в лесу и над притихшим озером. Сатон взял ружье, кликнул собаку и скрылся в кустах… Нури уселся на мокром камне, листал инструкцию, а Олле сосредоточенно разглядывал коричневого упругого червяка. — Ну и что с ним делать? — Здесь написано: “Надо повернуть головку на десять оборотов. Это обеспечит шевеление червя в течение трех минут”. Вообще примитивное устройство, без какой-либо логической схемы. — Повернул, а дальше? — “Насадить червя за колечко, расположенное посередине, на крючок, так, чтобы жало крючка было свободно”, — прочитал Нури. — Сделано. — Передвинь поплавок, чтобы между ним и крючком было расстояние примерно в метр, и бросай все это в воду. Теперь сиди и жди. И гляди на поплавок. Думай о всякой всячине, о смысле жизни или о том, почему полосатая гракула имеет одну ноздрю. Лучше, как рекомендуется в инструкции, ни о чем не думай. И представь, червяк в воде шевелится, рыба, не зная, что он заводной, глотает его вместе с крючком… О! Тяни. Быстрее! Олле взмахнул удилищем. Рыбка описала в воздухе серебряную дугу и забилась в траве. Они ошеломленно смотрели на нее. Потом Олле торопливо высвободил крючок, завел червя и закинул удочку. Налили воды в котелок, туда пустили рыбку. Долго сидели молча. — Я себя как-то странно чувствую, Олле. Эта тишина, сосны… И воздух удивительный… Сколько это стоило: звукоизоляция, дождь? А изменение маршрутов транспорта? — Примерно четыре — пять тысяч человеко-часов. — Ради нас троих! — Дед выбрал сутки в настоящем лесу и натуральные ощущения древних охотников. А забытые ощущения и одиночество дорого стоят. И, мне кажется, он что-то задумал. Зачем бы иначе он так долго готовился? — Сатон — могучий старик. — И он неплохо распорядился правом выбора, а? — Я бы до этого не додумался, — пробормотал Нури. — После Марса это изобилие леса, воды и прочего весьма впечатляет. Кто это там шумит? — Собаки воду пьют. Пес взобрался на камень и, свесив морду, уставился выпуклыми глазами на поплавок. Нури пристально разглядывал его. Пес постоял, ловко спрыгнул с камня и протяжно зевнул, передернувшись всем телом. Уловив взгляд Нури, он помахал хвостом, отвернулся и улегся на траве. — Что ты там заметил? — Да так, почудилось, — ответил Нури. — А, собственно, зачем она, собака? — Сейчас просто для забавы. Но я читал, собака — доброе и ласковое животное. Когда-то она была нужна человеку. Собака, лошадь, олень и другие звери. Потом машин становилось больше, животных меньше. Затем мясо, молоко и все остальное стали выращивать на биофабриках, и нужда в животных отпала… День в лесу пролетел незаметно. Когда сиреневые сумерки выползли из кустов, трое сидели у маленького костра. Сатон долго возился с вентилем баллончика. Наконец огонек перестал шипеть, послышалось легкое потрескивание смолистых пластмассовых сучьев. Он удовлетворенно крякнул и, — откинувшись, прислушался к комариному звону. Собаки, выдвинувшись из темноты, смотрели, как Нури помешивал пахучее варево в закопченном котелке. Потом Трезор лениво поднялся и приволок откуда-то кость. Он лег у костра, ухватил кость зубами и застыл, изредка помаргивая на огонек. После ужина, когда Олле вымыл посуду, сложил ее в палатке и вернулся к костру, Сатон начал рассказывать: — Не пойму, как мы умудрились подойти к нему настолько близко. Заяц сидел совсем рядом, у пенька. Он что-то жевал, и уши его казались красными, солнце просвечивало их насквозь. Он долго сидел, расставив широкие задние лапы, шевеля раздвоенной верхней губой. Затем он подпрыгнул, постучал по пню и стал кататься в траве. Он долго отряхивался и умывался, приводя себя в порядок, приглаживал мех на боках и животе. Это было смешно и трогательно… Что ты так смотришь на меня, Нури? Тут дело не в том, что у зайца, на мой взгляд, излишне обширная программа. Меня восхитило отношение механиков-фаунистов к своему делу. По сути, заяц — автомат разового пользования, а как он тщательно сработан… — Значит, здесь все не настоящее, — со странной интонацией протянул Олле. — А мы-то радовались земному раю… — Ты послушай дальше. Я подумал, что, если сразу выпущу пса, охоты уже не будет. Тогда я свистнул. Заяц сделал гигантский скачок и мгновенно исчез, как бы растворился в воздухе. Трезор присел, завыл нехорошим голосом и кинулся в погоню. Он нашел меня через час. Он был без зайца и из пасти у него валил пар-видно, перегрелись аккумуляторы… Сатон пожевал травинку, наморщил лоб: — Может, ты скажешь, Нури, в чем здесь дело? Собака должна поймать зайца, это предопределено программой. — Я не знаю, зачем вам это понадобилось, профессор? Я смутно догадывался: здесь что-то не то, когда собаки не спрятались от дождя, когда они синхронно, точно повторяя движения друг друга, отряхивались от воды. Но эта догадка была совсем абсурдной, и я отбросил ее. — Ты не ответил на мой вопрос. — Не знаю… Коэффициент надежности у пса, как и у прочих автоматов этого класса, почти равен единице, навряд ли он испортился. Игровая ситуация по программе обычна: поиск источника энергии. Собака ловит зайца и подзаряжается от его батарей. Тривиально! — Стандартная программа — это я и сам знаю. Ты уходишь от ответа. Заяц-то остался не пойманным! Олле погладил пса. — Заводной червяк, механический барбос полусерийного производства, кибер-заяц, — со скукой в голосе бормотал он. — Кому это надо?.. На твой вопрос, дед, лучше Трезора никто не ответит. Пес мотнул головой, кость откатилась в сторону. Внутри у пса что-то щелкнуло, и он сказал голосом подростка: — У меня все в порядке. Неисправен заяц. Он бежал нелогично, вопреки программе. Я несколько раз рассчитывал координаты точки нашей с ним встречи и каждый раз ошибался. Когда в аккумуляторах закипел электролит, программа автоматически переключилась на поиски хозяина. Нури слушал, машинально рассматривая кость. Заметил два углубления, армированных металлом (сюда Трезор всовывал клыки), вздохнул: проще было бы сменять аккумуляторы, чем каждый раз подзаряжать их. И корпус имитирован под кость не совсем удачно. Он осторожно положил батарейку возле собаки и сказал: — Трезор ошибается, на мнение кибера в этом случае полагаться нельзя. — Или неисправна собака, — проговорил Сатон, — или неисправен заяц. Третьего быть не может. Олле глядел на огонек костра. Его массивная фигура казалась бронзовой в желтом мигающем свете. Он с тоскливой надеждой произнес: — Третье может быть. — Ты считаешь, что… — вскричал Нури. — Вот именно. Ведь мог же в зоне случайно уцелеть хотя бы один настоящий заяц… Прошло полгода. Олле сидел вечером за письменным столом и диктовал самопишущей машинке последнюю главу своего “Исследования мимики и жеста древних народов Средиземноморья”. Дело спорилось. До установленного законом срока окончания работы оставался еще целый час, а за это время много можно успеть сделать. Помешал Нури. Он шумно ворвался в кабинет, забегал: — Ты слышал? Олле, вздохнув, выключил машинку. Все, сегодня уже не работать. — Ну что, забраковали твоего кибера? Как раз сегодня Нури должен был сдавать приемочной комиссии действующую модель элегантного и молчаливого робота-парикмахера. — Кибер-то принят… — Нури, торопясь, включил информатор. — Ты лучше вот что послушай. — “Повторяем последние известия. Совет Земли рассмотрел предложение Института Реставрации Природы (ИРП), сформулированное профессором Сатоном по результатам весьма интересного исследования. Товарищ Сатон экспериментально доказал, что человеческая психика отрицательно реагирует на замену подлинных животных имитирующими кибернетическими устройствами. Основные отрицательные реакции: скука, чувство досады, горестное недоумение. Совет одобрил предложение ИРП об увеличении ассигнований на заселение лесных массивов и водных площадей диким зверьем и птицей”.Глеб Голубев ДОЛИНА, ПРОКЛЯТАЯ АЛЛАХОМ
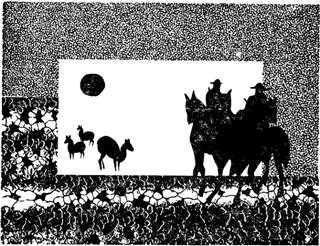
МИРНЫЙ ПРИТОН УБИЙЦЫ
Господин Шукри так натянул поводья своего коня, что тот попытался встать на дыбы. — Вот она, эта проклятая аллахом долина. Было видно, что он очень трусит, словоохотливый господин Шукри, наш заботливый проводник. Казалось, он боится, как бы лошадь не сделала даже одного лишнего шага вперед. А мы надеялись, что он проводит нас в долину, открывшуюся перед нами с высоты перевала. Долина в этот вечерний час выглядела такой приветливой и мирной. От гор, за неровные зубцы которых уже зацепилось заходящее солнце, протянулись поперек долины длинные лиловые тени. На перевале было пустынно и голо, одни камни да редкие кустики терескена. А долина манила густой прохладной тенью, веселой зеленью деревьев и кустарников, местами сливавшихся в сплошные заросли. Наверное, как раз там, в зарослях, и протекает речка. До чего приятно будет опустить в ее холодные струи разгоряченное, обветренное лицо, смыть с него толстый слой надоевшей пыли… — Может быть, вы все-таки послушаетесь моего совета и устроитесь в поселке? — сказал господин Шукри. — В долине никого не осталось? — Нет. Все откочевали в окрестности поселка. Остался только Хозяин.. Он так произнес эту кличку, что писать ее следует только с большой буквы. — Чего мы встали? Что он говорит? — нетерпеливо спросил Женя. — Советует устроить базу в поселке. — И каждый день таскаться оттуда за двадцать километров? — возмутился Женька. — Много мы так наработаем. — Ну ладно, мальчики, вы можете тут вести дискуссию хоть до утра, а я хочу умыться и спать. Солнце уже садится, — сказала Мария и, объехав нас, начала первой спускаться по каменистой тропе. Женя подстегнул свою лошадь и двинулся следом за женой. Господин Шукри укоризненно покачал головой, вздохнул и поцокал языком. Мы уже знали, что это означает у него полное неудовольствие. Япосмотрел на Николая Павловича. Он молча пожал плечами и тоже тронул свою лошадь. — Что же, господин Шукри, нам остается поблагодарить вас за внимание, — сказал я. — Возвращайтесь в поселок. Мы как-нибудь сами выберем местечко для лагеря. А завтра наведаемся к вам, чтобы вместе обсудить программу исследований. Мы с ним церемонно раскланялись, прикладывая руки к груди по всем правилам восточного этикета, и я поспешил за товарищами. Господин Шукри что-то крикнул мне вслед. Я остановился и вопросительно посмотрел на него. — Да хранит вас всемогущий аллах! — крикнул он снова и, нахлестывая лошадь камчой, скрылся за поворотом тропы. Я догнал наш маленький караван уже на самом конце спуска в долину. Тропа сворачивала направо. Но слева из зарослей доносилось близкое журчание воды, и Мария решительно свернула туда. Правильно, через полчаса станет темно, надо поскорее устраиваться на ночлег. А завтра осмотримся и выберем место для постоянного лагеря. Продравшись сквозь заросли, мы очутились на берегу говорливого ручья. Он был неширок, перепрыгнуть можно, но ворочал солидные камни и весь так и пенился, разбрасывая брызги. В долине, говорили, есть речка. Но это, видно, не она, а один из ее притоков. Лошади, оттирая друг друга, потянулись к воде. Но в ручей ни одна не входила, пили с берега, далеко вытягивая шеи. Местные лошади опытные: знают, что даже такой ручеек легко может свалить с ног и пойдет швырять об острые камни. Мы тоже с наслаждением умылись, прополоскали пересохшие рты ледяной чистейшей водой. — Давайте скорее ставить палатки! — хозяйственно покрикивала Маша. — Или лучше заночуем сегодня просто в спальных мешках. Я так устала, прямо думала, свалюсь с лошади. Женька, Николай Павлович, собирайте быстренько валежник для костра. Что-то я забыла, в каком вьюке у нас тушенка? — Стоп, Мария, не тарахти, — остановил я ее. — Прежде всего, пока еще видно, надо осмотреть друг друга, не нацепляли ли мы клещей, пока продирались сквозь кусты. Тут их наверняка уйма. Поиски мелких клещей, затаившихся у нас в складках одежды, отняли с полчаса. Потом мы поужинали и с наслаждением выпили по две кружки сладкого душистого кок-чая, а Николай Павлович, даже немного подумав, осилил третью. Мы так устали за день, что почти не разговаривали. — Посуду помоем утром, — сладко зевая, сказала Маша, Она расстелила на кошме спальный мешок. — Отвернитесь на минутку, быстро! — Стоп, — сказал я. — А где твоя сетка? От негодования она даже не сразу напала на меня. Сначала только махала руками и таращила свои глазищи, потом закричала: — Ну одну ночь я могу поспать по-человечески, без этой паранджи? Завтра поставим палатки, натянем противомоскитные сетки, — радуйся. Но сегодня-то могу я в нее не закутываться, ведь дышать нечем будет! — Уймись, Маша, — сказал ей Женя. — Приказ есть приказ. Обсуждению не подлежит. — Ладно, будь по-вашему. А змей тут нет? Вот кого опасаться надо. Она улеглась, но что-то сердито бурчала из-под сетки, демонстративно ворочаясь. Но через две минуты уже затихла и тихонько захрапела, будто кошка замурлыкала. Мы с Женей выкурили еще по сигаретке, глядя, как затухают и подергиваются седым пеплом угли догоревшего костра. Бормотание ручья убаюкивало. Глаза слипались. Мы забрались в спальные мешки и закрылись сетками. “Да, спать будет душновато, — подумал я. — Может, зря так уж сразу навожу железный порядок? Хотя кто скажет, откуда может подкрасться беда?” И тут же я услышал тоненький, звенящий и жалобным писк над ухом. Это москиты сетовали, что я спрятался от них и они не могут до меня добраться. Может быть, именно они виновники всех бед? Или клещи? Нет, я был прав: тут надо держать ухо востро, в этой “милой” долинке… С этой мыслью я и уснул, словно провалился куда-то. И тут же кто-то начал меня расталкивать. — Что случилось? — спросил я, пытаясь выбраться из-под сетки и не понимая спросонья, кто и зачем закутал мне голову. Наконец выпутался из сетки и сел, с удовольствием вдыхая свежий ночной воздух и отмахиваясь машинально от москитов, кружившихся возле моего лица. — Слышишь? — спросил невидимый в темноте Женя. — Что? — Где-то поблизости собаки воют. — Ну и что? — Откуда они здесь взялись? Ведь все люди ушли из долины? Опять, слышишь? Протяжный и полный какой-то ужасной тоски и безысходности вой донесся из темноты. — Может, это волки? — сказал я. — Здесь волки не водятся. Да и что я, волчьего воя от собачьего не отличу, что ли? Мы посидели несколько минут, прислушиваясь к ночи. Все снова было тихо, только возился с камнями ручей. — Ладно, давай спать. Завтра разберемся, — сказал я и опять начал закутываться в сетку. И тут вой раздался снова — такой же плачущий, печальный, полный тоски и злобы. — Вот черт, прямо Баскервильская долина какая-то, — пробормотал в темноте Женька.ВИЗИТ ХОЗЯИНА
Прежде чем продолжить дальше рассказ о наших приключениях, мне хочется объясниться с читателем. Когда я читаю детективный роман о долгих и запутанных поисках какого-нибудь таинственного убийцы, меня, признаться, нередко берет злость. Почему ему уделяется столько внимания, этому злосчастному преступнику? По его следам, ниточку за ниточкой распутывая клубок всяких хитрых ложных ходов, идут неустрашимые и проницательные следователи, заставляя читателя восхищаться своей настойчивостью, железной логикой и поразительной интуицией. “Холмс бегал туда и сюда, иногда теряя след, иногда вновь натыкаясь на него, пока мы не очутились у самого леса, в тени очень большой, старой березы. Холмс нашел его следы за этим деревом и снова лег на живот. Раздался радостный возглас. Холмс долго оставался неподвижным, переворачивал опавшие листья и сухие сучья, собрал в конверт что-то похожее на пыль и осмотрел сквозь лупу землю, а также, сколько мог достать, и кору дерева. Камень с неровными краями лежал среди мха; он поднял и осмотрел его… — Это может заинтересовать вас, Лестрейд, — сказал он, протягивая ему камень. — Вот чем было совершено убийство. — Я не вижу на нем никаких следов. — Их нет. — Тогда как же вы это узнали? — Под ним росла трава. Он пролежал там всего лишь несколько дней. Нигде вокруг не было видно места, откуда он взят. Следов какого-нибудь другого оружия нет. — А убийца? — Это высокий человек, левша, он хромает на правую ногу, носит охотничьи сапоги на толстой подошве и серое пальто, курит индийские сигары с мундштуком, в кармане у него тупой перочинный нож. Есть еще несколько примет, но и этого достаточно, чтобы помочь нам в наших поисках”. Мы тоже ищем убийцу. Чтобы поймать его, и отправилась в эту укромную долину, затерявшуюся среди гор, наша маленькая экспедиция. Преступник, которого мы должны поймать, уличить и обезвредить, убил не одного, а уже сотни людей. Он не знает сострадания и жалости и убивает всех без разбора: детей в колыбельках и ухаживающих за ними матерей, здоровых, в полном расцвете сил мужчин и мудрых стариков. И убивает он мучительно, заставляя жертвы сутками кричать от ужасной боли, лишая их рассудка, постепенно парализуя руки, ноги и лишь потом останавливая навсегда сердце. К тому же таинственный убийца этот невидим и вездесущ. Он может спрятаться в траве, в красивой птице, в моските, в безобидной овце, пасущейся на лугу, чтобы в подходящий момент нанести своему преследователю предательский смертельный удар в спину… Мы не следователи, а научные работники, исследователи. Но и нам порой приходится решать такие запутанные зада: что и не снились, пожалуй, никакому Шерлоку Холмсу. Люди же об этом, к сожалению, мало знают. “А почему бы не написать о наших исследованиях детективную повесть?” — подумалось мне. Попробуем. Я стану рассказывать о наших победах и поражениях как историю детективную, опуская всякие научные подробности, которые будут непонятны и лишь начнут тормозить действие. Любопытно, что из этого получится. Правда, я медик, а не писатель. Особенных красот стиля от меня не ждите. Но одно я вам обещаю: все будет как в детективном романе — и допрос свидетелей, и очные ставки, и создание хитроумных гипотез по весьма шатким уликам, и ложные ходы, и опасные приключения. С чего только начать? Видимо, как и следует по законам детективного жанра, с рассказа о преступлении. Или с описания места, где оно совершено. Итак, небольшая уютная долинка, затерявшаяся среди горных хребтов на севере Афганистана, неподалеку от нашей границы. В долине этой нет ничего зловещего. Наоборот, путнику, попавшему сюда после долгих скитаний по голым, раскаленным от солнца скалам, она кажется поистине райским уголком. Прохладная тень деревьев, густые заросли, откуда доносится ликующее пение птиц… Всю долину пересекает речка, да еще в нее впадают два родниковых ручейка, возле одного из них мы устроили свой первый ночлег. Речка почему-то называется Сиоб, что в переводе значит “черная вода”. Но на самом деле вода в ней зеленовато-хрустальная, вкусная, чистейшая, какая только может быть в реке, рожденной ледниками. Неудивительно, что люди с давних времен облюбовали эту приветливую долинку. Но в ней поселился и невидимый убийца. Каждую весну, в апреле, в долине вспыхивает странная эпидемия. Люди заболевают один за другим и умирают и страшных мучениях. Из десяти заболевших редко выживает больше одного. А к началу июля загадочная болезнь так же внезапно прекращается сама собой. Долина снова становится райским уголком, где никакие опасности не угрожают человеку до новой весны. Как бороться с этой болезнью, никто пока не знает. Известен лишь ее возбудитель. Еще лет десять назад американский врач-миссионер Рональд Робертсон, работавший в здешних краях, обнаружил в крови больных из зачарованной долины крошечные микроскопические существа — вибрионы. Под микроскопом они выглядят даже довольно красиво — изящные, слегка изогнутые палочки с длинными жгутиками на конце. Вот и все, что, пожалуй, известно об этой болезни. Остальное- сплошные загадки. Никто не знает, где прячутся убийственные вибрионы в перерывах между эпидемиями. Неизвестно, кто хранит их в природе и почему они становятся смертоносными лишь весной. Никому неведомо, кто их переносит, заражая людей, — это могут делать и клещи, и москиты, и какие-нибудь грызуны. Местные жители в опасные месяцы просто бегут из долины — откочевывают со своими стадами — овец за ближайший горный перевал, куда никогда не заглядывает таинственная болезнь. Тогда долина становится совершенно пустой и безлюдной. Хотя нет, один человек в ней все-таки остается. Его болезнь почему-то не трогает. Он пользуется этим, выдавая себя за святого хозяина долины, грозит напустить болезнь на соседние селения и собирает с напуганных суеверных крестьян солидную дань. Его так и называют “Хозяином”… В ближайшие годы в долине с помощью наших советских инженеров и рабочих намечено проложить дорогу и построить гидростанцию на Черной воде. Но для этого нужно прежде разобраться в загадочной болезни, выследить и обезвредить неведомого убийцу, чтобы сделать долину безопасной во все времена года. Для этого по просьбе местных властей и приехали сюда мы — зоолог Евгений Лаптев, его жена Мария, очень, по-моему, талантливый микробиолог, опытный врач Николай Павлович Соколовский, имеющий немалый опыт борьбы с различными эпидемиями, и я, Сергей Покровский, по профессии паразитолог. Вот вам протокольное изложение всех обстоятельств преступления и столь же краткое описание места, где оно произошло. Можно начинать следствие. Утром я первым делом распаковал и молча раздал защитные костюмы. Все их взяли так же молча, даже Мария. Конечно, работать на жаре в тяжелых сапогах и наглухо застегнутых до самого воротника комбинезонах с капюшонами тяжеленько. Да на руках еще постоянно перчатки, поверх сапог вдобавок обмотки, чтобы и щелочки не осталось, а лицо закрыто черной сеткой из тюля, пропитанного весьма ароматной жидкостью. Форменная, паранджа, Маша права. Но ничего не попишешь. Микробиолог, как и сапер, ошибается лишь однажды. Позавтракав на скорую руку, мы двинулись выбирать место для постоянного лагеря. Решили идти по берегу ручья, но скоро от этой затеи пришлось отказаться. Заросли колючих кустарников подступали к самой воде и были так густы, что через них не продерешься. И на каждом кусте полным-полно клещей… Мы вернулись на тропу и пошли по ней. Вскоре она вывела нас к реке, на берегу которой лепились по склону горы домики, похожие на соты. Они были пусты. Ни один дымок не поднимался над заброшенным поселком. Нам стало как-то не по себе. — Давайте пойдем вверх по реке, — предложила Мария. — Очень уж тут неуютно. Да и неудобно входить в поселок без хозяев. Мы обошли поселок стороной и километра через полтора нашли подходящее местечко для лагеря, оно сразу всем понравилось. Это была небольшая ровная площадка у самой реки. Часть ее козырьком прикрывала нависшая скала, защищая от солнца. Из узенького, сплошь заросшего ущелья вытекал крошечный ручеек. Тут удобно разбить палатки, поближе к воде построить походную лабораторию. И лес рядом, не придется далеко ходить за валежником для кухни и вечернего костра, а он в экспедиции куда необходимее и уютнее самого роскошного городского клуба — это мы все знали по опыту прежних странствий. — Райское местечко! — восхитился Женя. — Чего тут никто не поселился? Теснятся в селении, а там куда хуже. — Вот и хорошо, что никто его не облюбовал, — подхватила Мария. — Лучше и искать нечего. Разгружаемся, мальчики, нечего долго раздумывать! Не теряя зря времени, мы взялись за работу. Развьючили лошадей, напоили их и пустили пастись в заросли. Быстро поставили две палатки — одну для супругов, вторую для нас с Николаем Павловичем. Поверх каждой палатки натянули еще пологи от москитов, а на полу разостлали кошмы — говорят, они предохраняют от змей. Много у нас могло оказаться тайных врагов в этой тихой долинке… Потом все взялись за лабораторию. Делали ее попросторней, чтобы у каждого был свой рабочий стол; их еще придется сколотить из жердей и листов фанеры. Забот было немало. Где разместить клетки с морскими свинками, чтобы они не передохли у нас от жары? Как получше установить термостаты? Где хранить куриные яйца, чтобы они не испортились? Холодильника у нас нет. Придется как-то использовать вместо него ледяную воду из речки. А потом еще надо поломать голову, как доставить сюда эти злополучные яйца с ближайшего базара по горной дороге в целости и сохранности… Короче говоря, даже при устройстве такого маленького лагеря, как наш, всяких головоломок хватало. Уже перевалило за полдень, солнце пекло нещадно, мы обливались потом в своих защитных костюмах и сетках, но решили сначала все закончить, привести лагерь в порядок, а потом уже пообедать и как следует отдохнуть. — Фу, не могу больше, — сказала Маша, помогавшая мне распаковывать возле палатки лабораторную посуду, и отбросила сетку с раскрасневшегося лица. — Если бы еще не эта паранджа проклятая. И чего мы ее носим здесь-то, в лагере, где ни клещей, ни москитов днем нету… — Опять ты за свое, — отмахнулся я. Но она почему-то тут же оборвала свою воркотню. Это было так на нее не похоже, что я удивленно поднял голову. Мария словно зачарованная смотрела куда-то в сторону. — Ой, кто это там? — прошептала она. На выступе скалы метрах в сорока от нас стоял старик в рваном халате и высокой круглой шапке из бараньей шкуры. Он стоял и молча смотрел на нас, а вокруг него сидело на камнях штук десять здоровенных псов. Они тоже не спускали с нас глаз. — Кто это, мальчики? — вскрикнула Мария, прижимаясь ко мне. — Где? — откликнулся от другой палатки Евгений. Они с Николаем Павловичем тоже бросили работу и подошли к нам. — Хозяин, — догадался Женя. — Красиво стоит. Как памятник. — Надо пойти с ним познакомиться, — сказал я. — А ты бы, Маша, чайку вскипятила. И консервов разогрей. — Не ходи. Ты же видишь, какие у него псы, — испуганно схватила Мария меня за локоть. Псы действительно выглядели довольно кровожадными, и знакомиться с ними поближе у меня как-то особого желания не было. Я вдруг почувствовал себя парламентером, по которому в любой момент могут открыть огонь, хотя он и с белым флагом. Но не станет же старик спускать на меня свою дикую свору. — Ничего, это же обыкновенные овчарки. Тут их полно возле каждой отары овец, — бодро сказал я и, приветственно помахивая рукой, направился к старику. Все псы вскочили и оскалились на меня. А старик смотрел все так же молча. Хоть бы помахал в ответ, что ли. Стоит истуканом, свесив длинные рукава… — Селям алейкум! — крикнул я. — Добро пожаловать к нам, ата! Псы зарычали так громко и грозно, что я услышал их рык за добрых двадцать метров и невольно замедлил шаг. Странный старик вдруг повернулся и скрылся за скалой. И псы моментально исчезли, растаяли тенями среди серых камней. Словно и не было никого. Я повернулся и взглянул на своих товарищей. У них тоже были совершенно обескураженные лица. Пожав плечами, я пошел обратно. — Вот так так! — сердито сказала Мария. — Ничего себе, гостеприимный хозяин. Мы помолчали, поглядывая друг на друга. Потом снова все сразу повернулись и посмотрели на то место, где только что стоял старик со своей грозной свитой: не появился ли он снова? Нет, пусто. — Хотел бы я знать, почему он не боится заболеть и не болеет, — задумчиво проговорил Николай Павлович, теребя бородку. — Похоже, здесь-то и зарыта собака… — Даже не одна, а целая свора, — добавил Женька.ЛИЦОМ К ЛИЦУ
На следующее утро мы отправились в поселок, захватив с собой и вьючных лошадей, чтобы сразу уж везти в лагерь все необходимые материалы и побыстрее приступить к работе. На перевале Мария демонстративно сняла с себя защитную куртку с сеткой, пропитанной вонючим препаратом для отпугивания клещей и москитов. Все мы с удовольствием последовали ее примеру. “Странно все-таки, что у болезни существует такая строго очерченная граница, — подумал я при этом. — И мы уже психологически смирились с нею: переступили эту невидимую границу — и сразу почувствовали себя свободнее. Наверное, это плохо. Так можно незаметно стать боязливым и робким, приноравливаться к неведомой опасности, а это помешает бороться с нею”. — Смотрите-ка, что это? — прервала мои размышления Мария. Она, пожалуй, самая наблюдательная из нас. Всегда первой замечает все необычное и любопытное. А мы могли бы в задумчивости проехать мимо высокой груды витых архарьих рогов, возвышавшейся необычным памятником в стороне от дороги. Ведь не заметили мы ее прошлый раз. — Это бо, — пояснил я. — Нечто вроде жертвенника духам гор. Тут всякие суеверия еще весьма распространены. — Что за рога! — тоном знатока воскликнул Евгений. — Если по ним судить, тут прямо богатырские архары водятся. Любопытно будет поохотиться. Хотя, конечно, для жертвоприношений отбирали самые лучшие экземпляры. Надо их посмотреть поближе. Он подъехал к бо, спрыгнул с лошади и потянулся к самому большому, лобастому черепу, украшенному тяжелыми рогами. — Перчатки! — остановил я его. — Что? — рассеянно переспросил Женька. — Надень перчатки. — Слушай! — возмутилась Маша. — Ты становишься прямо невыносим, начальник. Тебе не кажется, что ты сам заразился местными суевериями? — И она насмешливо продекламировала:ПОДОЗРЕВАЙ ВСЕХ!
Рано утром, по холодку, мы приступили к исследованиям. Евгений с Николаем Павловичем отправлялись на охоту за грызунами. Я — собирать клещей в зарослях. Мария оставалась в лагере охотиться за москитами. Ловить клещей было совсем не сложно. Я забрался в самую гущу зарослей, нашел там крохотную полянку и расстелил на ней белое полотнище, так называемый “флаг”. А через час собрал наползших на полотнище клещей, рассортировал их по пробиркам. Потом я тщательно осмотрел все складки своей одежды, уделив особое внимание воротнику и манжетам. На мне тоже нашлось немало этих жадных кровососов. Вот и вся технология. Нужно только не лениться вовремя снимать клещей со своей одежды, пока они не добрались до кожи и не впились в нее. Пусть вас укусит лишь один клещ, но, может быть, именно он-то и принесет смерть… Закончив сбор в одном месте, я переходил на другое. Любопытно было наблюдать, как клещи, сидевшие на ветках, уже заранее чуяли мое приближение и готовились к атаке. Зацепившись тремя парами задних ножек за листок или веточку, они вытягивали переднюю пару ног вперед и быстро-быстро перебирали ими, готовые немедленно вцепиться в мою одежду. Среди разных видов клещей попадалось немало иксодовых, давно заслуживших зловещую славу переносчиков опасного таежного энцефалита. Этим я уделял особое внимание. Природа их специально вооружила для нападения на живые существа. Кроме обычных челюстей, иксодовые клещи имеют еще особую зубчатую пластинку — “подъязык”. Он глубоко впивается в кожу своими зубчиками, похожими на зазубрины гарпуна, и тогда клеща уже не оторвешь, пока не раздавишь. Чтобы не терять зря время, ожидая, пока клещи наползут на “флаг”, я попутно занимался охотой на всякую живность, которая подвертывалась под руку. Еще по дороге к зарослям мне удалось подстрелить любопытного сурка, не успевшего нырнуть в свою нору. Удача! Ведь если сурка только ранишь, и он скроется в норе, то уж ни за что не удастся вытащить его из хитрого лабиринта подземных переходов — они порой тянутся на добрых пятнадцать метров! На подстреленном сурке я собрал семь упитанных клещей, пристроившихся в густой шерсти. Эти забавные зверьки, к сожалению, передают такую опаснейшую болезнь, как чума, а может быть, и переносят смертоносные вибрионы, так что не считайте меня жестоким злодеем за эту охоту. Подкрадываясь к суркам, я вдруг испытал странное и неприятное ощущение, будто за мной самим тоже кто-то охотится. Огляделся по сторонам, но вокруг было пустынно и тихо. На каменистой площадке среди зарослей мне повстречался дикобраз. Он тоже вполне мог оказаться переносчиком и хранителем болезни, но все-таки у меня рука не поднялась выстрелить в него. При виде меня он не только не струсил, а наоборот, грозно захрюкал и воинственно затопал задними лапками. Но смелости ему хватило ненадолго: через минуту он уже юркнул в кусты. Было уже за полдень. В зарослях царила знойная духота. Я устал и проголодался, левое плечо мне оттягивал ягдташ с двумя подстреленными сурками. Клещами заполнены почти все пробирки, можно возвращаться в лагерь. Я прошел уже, наверное, половину пути до лагеря, как вдруг из зарослей на меня кинулся матерый волк! Нападение было столь внезапным, что он едва не сбил меня с ног. Я удержался лишь потому, что буквально повис на спружинившем кустарнике. Волк кинулся на меня снова, но теперь я успел сунуть ему с оскаленную пасть приклад винтовки и одновременно сильно ударить его ногой. Он отскочил. Теперь у меня уже появилась возможность перехватить винтовку и прицелиться в него. Бешеный шквал отрывочных мыслей бушевал у меня в голове, пока я искал взглядом прицел. Откуда взялся здесь волк? Почему он бросился на меня? Волки в одиночку да еще летом обычно не бросаются. Бешеный? Но тогда бы он не отступил под ударами, а рвался бы ко мне, пока я не убил его или… или пока он не перегрыз бы мне горло… Я уже почти нажал на спусковой крючок, как вдруг понял: это вовсе не волк. Это собака! Один из тех псов, что бродят со стариком. Стрелять нельзя! Хорошо, что я вовремя спохватился. Но что же делать? А если он не один? И в тот же миг, словно прочитав мои тревожные мысли, сбоку из зарослей на меня так же молча ринулся второй пес… Сколько их там в кустах? Вся свора? Только и ждут команды, чтобы кинуться на меня? Ясно, что их науськал Хозяин, он тоже, верно, прячется где-то в кустах. Зачем? Чем мы его обозлили? Отбиваясь от наседавших собак прикладом, я медленно пятился, пока не добрался до ближнего дерева. И тут, улучив удобный момент, ухватился за нижние раскидистые ветки, подтянулся и начал карабкаться по стволу. Ветки трещали и гнулись. Ствол с перепугу казался гладким, как телеграфный столб. Один из псов все-таки успел хватить меня за сапог и едва не сдернул на землю… Но я все-таки удержался, уселся в развилок ветвей и постепенно смог отдышаться. А внизу сидели и облизывались уже не два, а четыре пса. Один из них, негодяй, скалился так, словно смеялся надо мной! Что и говорить, положение создалось совершенно глупое. Стрелять нельзя; ведь это все-таки не дикие волки, а собаки. Слезть и пробиваться к лагерю тоже невозможно: наверняка остальные псы прячутся в кустах и бросятся мне на спину. Сколько же мне придется сидеть на этом ореховом дереве словно обезьяне? Прошло с полчаса. Я сидел на дереве, а псы — кружком внизу, не сводя с меня глаз. Придерживаясь кое-как одной рукой за ветки, я другой обобрал с одежды успевших наползти клещей, — так сказать, поневоле героически продолжал вести научные исследования. Хорошенько упершись спиной в ствол дерева, я трижды выстрелил в воздух. Поймут, надеюсь, в лагере, что это сигнал тревоги, а не простая охотничья пальба, и поспешат ко мне на выручку. Псы прижали уши, оскалились еще грознее, зарычали, но не сдвинулись с места. Прошло еще пятнадцать минут. Может быть, повторить сигнал? Или подождать? Я взглянул на часы. А когда снова посмотрел вниз, собак уже не было. Они исчезли — явно по сигналу, которого я не слышал. Я прислушался, размышляя, что же мне теперь делать? Кроме беззаботного гомона птиц, ничего не было слышно вокруг. Никто пока не спешил ко мне на помощь. Почему же тогда ушли собаки? Или это просто хитрый тактический маневр старика: отозвать своих псов в кусты и подождать, пока я слезу? Глупо было бы попасться в ловушку. Но еще глупее будет, если придут товарищи и увидят, как я сижу на дереве, хотя никакой опасности вокруг нет и в помине. Эта мысль заставила меня решиться осторожно, то и дело прислушиваясь, все-таки слезть с дерева. Нет, кажется, все спокойно кругом. Оглядываясь и приседая чуть не на каждом шагу, я пошел к лагерю. Постепенно нервы у меня успокаивались, как вдруг какой-то треск впереди снова заставил меня насторожиться. Я остановился, занеся над головой винтовку, на манер дубинки, для удара… Из кустов вышел Женя и удивленно спросил: — Ты что? Я рассказал ему о нападении. — А мы было сначала подумали, что ты по архару стреляешь. Промазал, думаю. Потом забеспокоились, решили пойти к тебе навстречу. — Надо нам на будущее договориться, что три выстрела подряд будут сигналом тревоги, — сказал я. — Как услышишь, спеши на выручку. — Так-то так, но это не выход. Надо нам укротить этого зловредного старца. А то пойдет такая игра в индейцев с постоянной пальбой, что не до науки будет. Проклятые псы продержали меня столько, что отдохнуть после обеда, как все мечтали, не удалось. Надо было до вечера просмотреть хоть часть добытого материала. Этим мы и занялись: я в одном углу палатки возился со своими клещами, Мария за другим Столом сортировала москитов, а на улице под навесом Николай Павлович с Женей вскрывали грызунов на оцинкованном столе. Вечером у костра мы подвели первые итоги. Они были более чем неутешительны. Вибрионы оказались всюду: и в сурках, и в белках, и в песчанках, даже в голубой сойке, которую Николай Павлович подстрелил. Они кишмя кишели почти в каждом клеще! Не было их только в москитах. — Не густо, — с унылым вздохом сказал Николай Павлович, как бы подводя итоги обсуждения. — На военном языке это называется “шаг на месте”… — А на языке математиков — “икс минус единица”, — подхватил Женя. — Москитов реабилитировали, но зато каков этот “икс” многочисленный. В сетки-то хоть теперь на ночь можно не заворачиваться? — Все меры предосторожности остаются в силе, — сказал я. — Где гарантия, что мы за один день проверили все виды москитов? Пока в них вибрионов не обнаружили, а вдруг да затешется один зараженный… Укладываясь спать, я подумал: “Ну вот, мистер Шерлок Холмс, что бы вы предприняли теперь на нашем месте? Если все вокруг под подозрением, то как же найти настоящего виновника?”В ПОТЕМКАХ
В каком направлении двигаться дальше? Нельзя же, в самом деле, подозревать всех обитателей долины, так мы никогда не разрешим загадки. Основное внимание мы решили уделить клещам как переносчикам и суркам как возможным “хранителям” болезни. Одновременно заложили серию лабораторных опытов, чтобы попытаться выяснить, какие виды клещей могут особенно активно переносить вибрионы и кто из грызунов более воеприимчив к болезни. Хотя я, признаться, в успех этих опытов не особенно верил. Ведь уже стало ясно, что загадочная болезнь поражает только людей. Насекомые и животные могут оказаться буквально напичканы вибрионами и будут чувствовать себя прекрасно. Но провести дополнительную проверку, конечно, следовало. Николай Павлович отправился в поселок, чтобы привезти необходимые анализы, если охотник действительно умер. Наверное, это уже случилось, но никто не решался везти их к нам в долину, придется это сделать самим. Женя собирался снова отправиться на охоту за грызунами, а мы с Марией решили обследовать гнезда москитов в ближайших окрестностях селения, покинутого жителями. Может быть, среди них окажутся какие-нибудь новые разновидности, пока не попадавшиеся нам. Вероятно, болезнь должна укрываться где-то именно здесь. И если ее все-таки переносят москиты, мы это выясним: ведь они плохие летуны и не забираются от своих гнезд дальше чем за километр. Но сначала мы все втроем решили нанести визит Хозяину и попытаться установить с ним дружеские отношения. По рассказам, он жил где-то в пещере километрах в полутора от селения. Прихватив с собой подарки — новый халат, несколько пачек чаю, сахар, увесистый мешочек риса, — мы отправились туда. От селения к пещере старика вела через заросли узкая, едва приметная тропа. Видно, по ней редко ходили. Кое-где возле тропы валялись среди травы дочиста обглоданные кости. Это были кости ягненка, как определил Женя, а в другом месте — лисицы. — Видно, псы у него натасканы как охотничьи собаки! — восхищенно сказал Женя. — Любопытный старик, надо с ним поближе познакомиться. — Конечно! — напустилась на него жена. — Вот науськает он на тебя своих волкодавов, отлично с ними познакомишься. Смешно, идем словно в логово какой-то бабы-яги или людоеда. Эти кости мне на нервы действуют. — Может, вернешься в лагерь? — предложил я. — Нет уж! И, по-моему, эти псы уже следят за нами, наверняка крадутся в кустах. Честно говоря, и у меня опять было такое же неприятное ощущение, будто из зарослей за нами все время следят чьи-то настороженные глаза. Но я решил помолчать об этом. Худенькая и подвижная, похожая в своем синем комбинезоне, ладно подогнанном по фигуре, на мальчишку, Маша все забегала вперед, а тут притихла и старалась держаться поближе к Женьке. — Смотрите, дымок, — сказал Евгений, показывая на легкую синеватую струйку, поднимавшуюся над зарослями. — Там его логово. В самом деле, тропа свернула в ту сторону, откуда тянулся дымок, таявший в солнечных лучах. С каждым шагом мы все как-то больше настораживались, озирались по сторонам, часто переглядывались. Но пока вокруг все было спокойно, никто не собирался нападать на нас. Заросли кончились, и мы увидели небольшую площадку, всю заваленную костями и собачьим пометом. Вонь тут стояла ужасная. У скалы, где среди громадных камней чернел вход в пещеру, догорал костер. Возле него неподвижно стоял Хозяин и молча смотрел на нас. А вокруг него лежало штук шестнадцать псов, весьма похожих на волков. Они тоже не сводили с нас горящих глаз. При нашем появлении несколько собак вскочили и грозно зарычали. Но старик издал какой-то негромкий цокающий звук, — и они покорно улеглись. Я немного приободрился: все-таки он не науськал их сразу на нас, как мы опасались. Можно начинать переговоры. Поклонившись как полагается, я приветствовал старика традиционным: — Селям алейкум! Он молчал. Я начал говорить о том, что мы приехали из дружественной страны, чтобы помочь местным жителям избавиться от опасной болезни, которая не щадит ни детей, ни смелых охотников, ни стариков. Я напирал на то, что мы лекари, табибы, представители самой гуманной профессии, угодной аллаху. Мы не имеем никаких враждебных намерений, не собираемся ему мешать и хотим лишь одного: чтобы и достопочтенный старец не мешал нам помогать страждущим и пораженным жестокой болезнью… Старик молчал. Он стоял от нас всего в десятке шагов, и теперь можно было хорошо рассмотреть его морщинистое лицо, длинную, запущенную седеющую бороду, насупленные лохматые брови. А взгляд его я никак не мог поймать. Глаза старика прятались в узких щелочках под нависшими бровями и, похоже, смотрели куда-то поверх наших голов. Казалось, он даже не слушает моих витиеватых речей. Зато собаки слушали внимательно и с явным интересом, высунув языки и чутко насторожив уши. — Вот истукан какой, — неожиданно прошептала у меня над ухом Мария. — Эх, взять бы у него пробу крови! Попроси! От такого предложения я невольно сбился и сердито оглянулся на нее. — Ладно, ладно, — примирительно сказала она. — Давай, митингуй дальше. Только что-то плохо у тебя получается. Женька не сдержался и тихонько фыркнул. А старик стоял неподвижно и молчал. Я старался объяснить старику, что мы вовсе не охотники и стреляем мелких грызунов и птиц лишь по необходимости, дабы выяснить, кто же из них хранит в себе и переносит болезнь. Как только мы это узнаем, мы сразу покинем долину. А пока просим его как лучшего знатока и настоящего хозяина этих прекрасных, благословенных аллахом мест помочь нам поскорее закончить нашу важную работу, так необходимую его землякам… С этими словами я сделал два небольших шажка вперед и торжественно разложил на грязной земле наши подарки. Старик молчал. Я растерянно оглянулся на своих товарищей, спрашивая их взглядом: что же делать дальше? И вдруг старик заговорил, заставив нас всех вздрогнуть от неожиданности: — Уходите отсюда… Эта земля проклята аллахом за грехи людей… Голос у него был хриплый и какой-то словно заржавленный, отвыкший произносить слова. — Что он говорит? — потянула меня за рукав Мария. — Подожди. — Уходите отсюда, френги… — Он употребил именно эту старинную ругательную кличку, какой обзывали европейцев, наверное, еще во времена Тимура. — Только я могу здесь жить. Так угодно аллаху. А вас да покарает аллах, если нарушите его волю… С этими словами он поднял обе руки к небу, словно призывая аллаханемедленно обрушить кары на наши головы. — Что он сказал? Переведи, — теребила меня Мария. — Ой, что это у него с руками, мальчики? Он же без рук! Еще при первой встрече, как я, кажется, упоминал, мне показалось что-то странным в фигуре старика. Длинные рукава его халата свисали слишком свободно, словно пустые. Теперь, когда он поднял руки, мы поняли, в чем дело. Рукава халата в самом деле были чуть не до половины пустыми: обе руки у старика были отняты по крайней мере до локтей! Не успели мы опомниться, как старик, пригнувшись, исчез в пещере. А псы вскочили, как один, и выстроились перед ее входом, завывая и рыча. Еще минута — и они бросятся на нас. — Пошли отсюда, — сказал я. — Похоже, дипломатические переговоры прерваны. Пятясь и спотыкаясь, не решаясь повернуться спинами к этим оскаленным клыкам, мы начали поспешное отступление. Но, кажется, преследовать нас собаки пока не собирались. — Да что же он сказал, этот зловредный старик? Третий раз тебя спрашиваю, можешь ты ответить? — напустилась ил меня Мария, когда мы отошли на некоторое расстояние от пещеры и почувствовали себя спокойнее среди зарослей. — Сказал, чтобы мы убирались отсюда. Грозил местью аллаха. — Вот ирод! Но как же он живет, один и безрукий? Ой, мальчики, мне его жалко! Как же он ест, пьет? И ведь никто ему не готовит, даже постирать некому. Одни собаки вокруг. Ужас! — Да, нелепый старик, — пробормотал Женя. — Он нам еще попортит крови. А как с ним бороться? Ведь он старый и к тому же инвалид. Положеньице! Мы все были ошеломлены и обескуражены. В самом деле, что же теперь делать? Не просить же у местных властей охраны от одинокого старика, да к тому же безрукого? — И чего он не уйдет к людям, где бы за ним кто-то ухаживал? — опять начала сетовать Мария. — Хотя ведь он только тут за счет суеверий и кормится… — Точно. И прекрасно понимает, что исчезнет болезнь и никому он будет не нужен и не страшен, как мифический владыка ее. Тогда он совсем пропадет, — сказал Женя. — Так что мы для него враги смертельные — это ясно. — Но почему же он не заболевает и не боится болезни? — высказал я вопрос, уже давно занимавший меня. — Вот и я об этом все время думаю, — подхватила Мария. — И зря вы смеялись: если бы удалось получить у него анализ крови — это наверняка бы многое разъяснило, есть у него иммунитет или еще что. — Хорошо бы, конечно, еще у него и спинномозговую жидкость взять, — насмешливо поддакнул я. — Во сне, — подхватил Женя, — Подкрадись к нему и коли! Мы с ним расхохотались, представив эту картину: как Маша крадется ночью в пещеру к старику со шприцем в руках. Она сердито посмотрела на нас, но не выдержала и тоже рассмеялась: — Ладно, хватит вам зубоскалить. Беритесь лучше за работу. Мы с ней отправились ловить москитов, Женя — охотиться за грызунами, а к обеду все сошлись в лагере. Там нас встретил неожиданный гость — доктор Али. При виде его у меня было мелькнула мысль, что вдруг случилось чудо и несчастный охотник остался жив. Но тут же моя радость угасла… — Я привез вам все материалы, которые обещал Шукри-ата, — с легким поклоном сказал доктор. Мне понравилось, что он не хвастался тем, что решился приехать к нам в лагерь. — Не испугались? Доктор Али пожал плечами и просто ответил: — Я же медик. — А где материалы? — спросил я. Николай Павлович ответил, что все привезенные материалы сразу были спрятаны в холодильник. Мы пригласили гостя пообедать с нами. Он отказался, сказав, что никогда ничего не ест в такую жару до наступления сумерек, но охотно согласился выпить чашечку кофе. Мария постаралась его сварить по всем правилам. Пришлось и нам ограничиться только кофе, хотя из кухни тянуло весьма аппетитным запахом. Николай Павлович, видно, успел приготовить что-то вкусное. Меня немножко удивило, что доктор Али пил кофе, не снимая перчаток. “Видно, все-таки побаивается заразы”, — подумал я. Гость похвалил чудесное место, которое мы так удачно выбрали для лагеря: — Даже я не смог бы выбрать более живописного уголка, хотя неплохо знаю эту долину. Ведь я здесь жил раньше, до смерти моего дорогого отца, и лишь пять лет назад перебрался в поселок… Ужасно, что столь райское место постигло такое страшное бедствие. Говорили мы по-английски. Увлекшись, я некоторые вопросы задавал на фарси, но доктор Али неизменно отвечал мне по-английски, чтобы Николай Павлович и Женя тоже могли принимать постоянное участие в беседе. Из нас четверых не знала английского лишь Мария. Женя все время нашептывал ей на ухо краткий перевод нашего разговора. Мы посетовали на то, как встретил нас хозяин долины. Доктор Али сочувственно покивал и развел руками: — Что поделаешь? Подобные пережитки еще, к сожалению, живучи у нас. Выпив три чашечки кофе, он стал благодарить и прощаться. Мы не стали задерживать его. Нам не терпелось заняться делом, а времени до вечера уже оставалось мало, да и нашему гостю предстоял еще неблизкий путь в одиночестве по горным дорогам. Но я все-таки предложил ему посмотреть нашу лабораторию. Он с большим интересом согласился. Сначала холодильник и термостаты. Гость наговорил немало приятных слов о том, как остроумно нам удалось выйти из трудного положения, вызванного местными условиями. Потом мы заглянули с ним в лабораторию, где Мария занималась вирусологическим анализом спинномозговой жидкости покойного охотника. Это была не очень сложная, но довольно тонкая операция. Маша брала куриное яйцо, осторожно прокалывал;) шприцем скорлупу и вводила туда несколько капель спинномозговой жидкости. Потом отверстие запечатывалось парафином, и яйцо укладывалось в термостат. Теперь оставалось только ждать несколько дней, пока все микробы и вирусы в этой герметически закупоренной идеальной, питательной среде размножатся в миллионы раз. Затем мы прошли под навес, где Николай Павлович с Женей препарировали убитых грызунов. Женя как раз собирался вскрывать очередного суслика. И тут такой сдержанный доктор Али вдруг не выдержал. Видно, в нем взыграла душа талантливого медика. — Позвольте мне! — неожиданно умоляюще произнес он, мягко придержав Женю за руку. Мы сначала даже опешили и непонимающе все трое уставились на него. — Позвольте мне, — повторил смущенно доктор Али и поднял кверху палец, помогая себе этим жестом. — Хоть одно вскрытие! Это будет мой вклад в вашу благородную работу. Он так забавно-умоляюще смотрел на меня, что я поспешил протянуть ему халат и сказал: — Конечно, конечно, коллега, прошу вас! Мы будем очень признательны. Я помог ему надеть халат, Николай Павлович уже протягивал резиновые перчатки, а Женя искал среди инструментов чистый скальпель. Доктор Али ловко натянул резиновые перчатки прямо поверх своих, замшевых, но скальпель, который ему подал Женя, не взял, отрицательно покачав головой: — Простите, я привык пользоваться своим… С этими словами он вынул из кармана кожаный потрепанный футляр, расстегнул его и достал тускло сверкающий медный скальпель. Нож был какой-то непривычной формы, видимо, старинной работы. — Перешел ко мне по наследству от отца, — пояснил доктор Али, благоговейно держа скальпель в своих тонких пальцах. — Пользуюсь только им. Мой отец ведь был, как и я, ветеринар. Он склонился над столом и одним стремительным и легким взмахом скальпеля вскрыл тушку суслика. Еще несколько точных надрезов — и доктор Али выпрямился, коротко сказав: — Все. Мы переглянулись. В самом деле: вскрытие заняло буквально две минуты. Суслик был отпрепарирован с таким поразительным мастерством, какого мне еще не приходилось видеть. Тут уж я не мог удержаться и сказал то, что давно вертелось у меня на языке: — Дорогой доктор Али! Если бы вы согласились помогать нам! Он коротко засмеялся и покачал головой. — Поверьте, вы переоцениваете меня. Я простой ветеринар и вряд ли смог бы вам быть полезен. Я в самом деле ветеринар, каким был и мой покойный отец, — упрямо повторил он в ответ на мой протестующий жест. — Вы, может быть, подумали, что я называю себя так из скромности, а работаю вместе с уважаемым доктором Шукри в его больнице? Нет, я служу в местном ветеринарном надзоре и немножко подрабатываю частной практикой. Очень мало, потому что хлопот у нас, овечьих лекарей, здесь, как вы сами понимаете, хватает. Пожалуй, даже знающий ветеринар в наших краях нужнее хорошего хирурга. Поэтому не обижайтесь, что я не могу принять вашего любезного предложения, хотя, поверьте, весьма ценю его. Он сам вымыл свой старомодный скальпель, тщательно вытер его и любовно спрятал в потрепанный чехол. Потом снял халат, коротко поклонился нам и пошел к своей лошади, встретившей его негромким ласковым ржанием. Доктор Али легко вскочил в седло, помахал нам рукой и через минуту скрылся за поворотом тропы. — Да, талантливый малый, — с уважением произнес Николай Павлович. — И в микробиологии разбирается, мы тут с ним немного потолковали, пока ждали вас. Жалко, что не согласился. Ну ладно, займемся делами, их у нас немало. Они с Женей опять взялись за сусликов и песчанок, а я за своим столом проверял москитов. Работа ювелирная, под стать легендарному Левше, что блоху подковал. Среди пойманных нами возле поселка москитов нашлись три вида, не встречавшихся прежде. Но ни в одном из них не было вибрионов Робертсона… Вечером, как уже стало традицией, возле жарко пылавшего костра открылось очередное заседание нашего научно-дискуссионного клуба. Опять, собственно, ничего нового мы не узнали. Женя обнаружил проклятых вибрионов даже в убитой змее гюрзе и в случайно подстреленном диком горном голубе! Только их еще не хватало! Что делать дальше? То же самое: все расширять и расширять круг подозреваемых, закладывать новые и новые лабораторные опыты. Пока мы шли наугад, в полной темноте. Одно светлое пятно: москиты явно неповинны в распространении болезни. Так прошло три дня, однообразно и довольно бесперспективно. С утра мы отправлялись на ловлю грызунов и клещей. После обеда изучали добытые материалы в лаборатории, снова и снова рассматривая в микроскопы вездесущие вибрионы. Они попадались буквально всюду: в крови варана, подстреленного дотошным Николаем Павловичем, в крови сизоворонка и степной лисицы, глупого кеклика — каменной куропатки и летучих мышей, пойманных нами однажды вечером прямо в лагере. Список подозреваемых грозил разрастись до бесконечности…КАК СЛЕЗА НА РЕСНИЦЕ…
— Давай сегодня поднимемся выше, в предгорья, — предложил Женя. — Может, повезет, и архара подстрелим. Я согласился. Консервы нам надоели. И надо было проверить всех обитателей долины, в том числе и архаров, хотя, конечно, вряд ли эти осторожные и пугливые красавцы, сторонящиеся людских поселений, могли быть распространителями болезни. Мы несколько раз любовались, как архары паслись высоко в горах, обступивших со всех сторон долину. Казалось, до них совсем не трудно добраться, всего каких-то три — четыре километра. Но это первое впечатление оказалось весьма обманчивым. Сначала мы долго карабкались по скалам, обливались потом. Затем нам повезло: мы наткнулись на охотничью тропу, идти стало полегче. Но тропа привела нас к совершенно отвесной скале, по склону которой над бездонной пропастью тянулся овринг… При виде его у меня сердце упало. “Висячие тропы” — овринги я встречал и раньше на Памире и даже ходил по ним. Но то были настоящие мосты по сравнению с тем оврингом, по которому нам предстояло пройти теперь. А тут… Бревно шириной в ладонь висит на каких-то колышках и сухих арчевых ветках. Дальше второе бревно, которое укреплено уже совсем непонятно на чем. Как ухитрились их втащить сюда и подвесить на совершенно отвесном обрыве, уму непостижимо. А сверху еще льется маленький ручеек. Бревна мокрые, скользкие. А внизу… Нет, вниз лучше совсем не смотреть, Там все тонет в голубоватой дымке, дна ущелья не видно, “Путник, будь осторожен! Ты здесь — как слеза на реснице”, — сразу вспомнилась мне памирская поговорка, сложенная вот про такие дорожки. — Ну, это и есть овринг? — деловито спросил Женя. Я только молча кивнул. — Неплохо. Цирковой номер: баланс с кипящим самоваром на лбу. А как же они его строили? Сверху, что ли, спускали бревна? — Вероятно, — с трудом выдавил я. — Ладно, раз построили, надо идти. Давай шагай. — А может, поищем другую тропу? — Асфальтовую? Да ты что, трусишь? Ведь говорил, будто прыгал как козел по оврингам где-то на Памире. Так расписывал, завидно становилось. — Там другие. — Тут отступать поздно. Ты посмотри, архары-то прямо ждут! Видишь? Я ничего не видел, кроме овринга… — Ладно, давай я первый пойду. — Он отодвинул меня в сторону, словно какой-то неодушевленный предмет, и осторожно пошел по скользкому бревну. Шаг, второй, третий… Женя высокий, здоровенный, бревно под ним громко скрипело. Но он шел все увереннее, так, что мне стало обидно. Ведь никогда раньше оврингов и в глаза не видел, а вот шагает же с ухватками заправского циркача. И вот он уже на той стороне! Зажмурившись, я тоже ступил на бревно. Качается, пружинит… Но ведь Женька-то прошел! Я сделал еще один неуверенный шажок. Бревно заходило ходуном подо мной. Я приник к мокрой скале, за воротник мне текла ледяная вода… Так я стоял над бездной, зажмурившись и судорожно вцепившись немеющими пальцами в скользкий камень, и не решался шагнуть ни вперед, ни назад. — И долго ты собираешься так стоять? — насмешливо спросил Женя. Я ничего не ответил. Боялся, что если заговорю, то даже от такого усилия сорвусь и полечу вниз, в синеватую бездну. Все-таки я поборол себя и сделал шаг вперед, потом второй, третий… Еще три неуверенных шажка… Женя протянул свою длинную руку и втащил меня на площадку. — Идем скорей, архары рядом, вон за той скалой! — торопил меня Женя. — Погоди, дай отдышаться. — Ладно, никуда они от нас не уйдут. Однако скоро мы убедились, что торжествовать еще рано. Трижды подкрадывались к пасущимся архарам так близко, что могли спокойно прицелиться наверняка. Но каждый раз, пока целились, архары исчезали как привидения. Я даже не понимал, куда они деваются: не то превращаются в камни, не то проваливаются под землю. Мы страшно устали, прыгая сами, как козлы, по скалам под палящим солнцем. Сердце у меня бешено колотилось. Во рту так пересохло, будто я не пил уже целую вечность. Пот лил с меня в три ручья, он противно щипал глаза, мешая целиться. И только злость давала мне силы снова и снова карабкаться по скалам вслед за убегающими архарами. Один раз мы совершенно неожиданно застали их спящими! Подошли к краю обрыва, заглянули вниз — и обмерли. Прямо под нами всего в каком-то десятке метров преспокойно лежали и безмятежно нежились на солнце четыре архара — старый лохматый козел и три самки. Они не замечали нас. Возле них пасся сурок, на него они тоже не обращали никакого внимания. И ветер дул с их стороны. Редкостная удача! Женя погрозил мне кулаком, чтобы я не шелохнулся, и начал осторожно целиться. Я затаил дыхание, словно сам вместе с ним спускал курок… В тот же миг проклятый сурок пронзительно засвистел, поднимая тревогу, и архаров точно ветром сдуло. Только загремели камни из-под копыт! Женя так разозлился, что трижды, уже не целясь, выпалил им вслед. Хотел пристрелить предателя-сурка, но его, конечно, тоже след простыл. Вот неудача! И все-таки нам повезло. Один архар словно сам нарочно подвернулся Жене под выстрел. Он выскочил из-за скалы… Женя молниеносно вскинул винтовку. Грохот выстрела долго перекатывался среди скал. — Ты посмотри, какие рога! — восхищался Женя, прыгая вокруг архара. — А крупный какой, теперь мы свежим мясом надолго обеспечены! Мы тщательно собрали клещей, прятавшихся в густой шерсти архара, и, связав ему ноги, потащили убитого козла в лагерь. Он как будто с каждым нашим шагом становился тяжелее. А как перетащить его через проклятый овринг? — Смелей! — скомандовал Женя. Я первым ступил на шаткий, пружинистый мостик. И шел по нему медленно, но без остановок, словно лунатик по карнизу, глядя прямо перед собой и ничего не видя. И вдруг правая нога моя куда-то резко провалилась… Руки у меня были заняты, я приник к скале всем телом, боясь пошевельнуться. Потом взглянул себе под ноги и тут же зажмурился, еще крепче прижимаясь к скале… — Ты чего остановился? — спросил сзади Женя. — Опять трусишь? Шагай, а то архара уроним. — Шагать некуда, — еле выговорил я. Прямо передо мной зияла пропасть. Одно из бревен, по которому мы благополучно перешли всего несколько часов назад, куда-то исчезло, провалилось. Вместо него был провал шириной метра в три! — Это Хозяина работа, — сказал Женя. — Не иначе, как он овринг разрушил. Надо как-то чинить. Давай пятиться назад, положим архара и наломаем веток. Пятиться назад? По этому узенькому бревну да еще с архаром в руках? Я бы с удовольствием втиснулся в скалу еще глубже, да жалко, она не поддавалась. От напряжения у меня начали дрожать ноги. И чем больше я старался унять эту противную дрожь, тем сильнее она становилась. Казалось, вся скала начинала ходить подо мной ходуном. — Не тряси овринг, а то еще дальше обвалится! — крикнул Женя. — Это не я. Это он сам… — Какого черта сам! Ты его раскачиваешь. Чего ты приплясываешь, словно обезьяна? Я не успел ничего ответить, потому что мы вдруг услышали чей-то гортанный голос, раздавшийся откуда-то сверху, словно с неба: — Спокойно. Я сейчас помогу вам. От удивления я в самом деле чуть не сорвался. А Женька даже присел, озираясь вокруг. На выступе скалы стоял, опершись на винтовку, загорелый худощавый человек лет тридцати в туго подпоясанном сером халате и шапке из лисьего меха. — Чего он сказал? Откуда он взялся? — растерянно спросил Женя. Незнакомец исчез за скалой, и мы услышали треск ломаемых сучьев арчи. Он несколько раз появлялся с охапками узловатых сучьев, складывал их и уходил снова. Наконец незнакомец, все время ободряя нас гортанными окриками, начал быстро и ловко наращивать провалившуюся часть овринга. Даже в своем трудном положении я не мог не залюбоваться, как он ловко это делал, словно и не висел при этом, как мы, над бездонной пропастью. Не прошло, наверно, и получаса, как работа была закончена. Наш спаситель сам первый встал на пружинистые ветки, чтобы показать их прочность, и протянул мне смуглую крепкую руку. Я ухватился за нее и наконец-то очутился на прочной, некачающейся земле. Тут нервное напряжение дало себя знать, и я опустошенным мешком вяло опустился на горячие камни. Женя сел рядом, протянул незнакомцу пачку сигарет. Тот поблагодарил, приложив обе ладони к груди. — Он кто, охотник? — спросил Женя. Я перевел его вопрос. Наш спаситель кивнул. — Меня зовут Селим, — коротко сказал он. — Мой товарищ не знает фарси, — пояснил я. — А живешь здесь, в долине? — Сейчас нет. Нельзя. Разве вам не сказали, что в долине жить сейчас нельзя? Там смерть. — Мы знаем. — И не боитесь? Видно, очень большая нужда заставила вас разбить свой лагерь в долине? Или вы знаете слово против болезни, как Хозяин? Я начал объяснять охотнику, кто мы такие и зачем пришли в долину. Он слушал внимательно, склонив голову и время от времени кивая. Потом вдруг засмеялся, неожиданно качая головой, и в ответ на наши удивленные взгляды пояснил: — Простите мою невежливость, но я не мог удержаться. Я смеялся не над вами — над людской глупостью. Ведь все в поселке уверены, будто вы пришли сюда искать заветный клад Искандера Двурогого. Моих земляков можно понять. В самом деле: что может в человеке пересилить страх смерти? Только жажда денег. Я рассказал Жене, какие легенды уже ходят о нас. — Значит, вы не ищете золото? — спросил охотник, во время нашего разговора с Евгением внимательно наблюдавший за нами. — Нет, — успокоил я его. — Мы ищем только болезнь. — Ее искать не надо. Она всюду. Она сама вас найдет. — Всюду — значит, нигде, — ответил я. — А мы должны узнать точно, где она прячется. — Для этого твой товарищ и охотится за песчанками и птицами? Я долго не мог понять, для чего он это делает, вместо того чтобы охотиться за архарами. Ведь песчанок не едят даже нищие. Вот как, значит, не один старик следит за нами… Я стал объяснять, для чего нам нужно исследовать не только всех животных, птиц, но и насекомых, обитающих в долине. Когда я упомянул летучих мышей, Селим перебил меня: — Летучих мышей много в пещерах над Сиобом. Но туда трудно добраться. Надо сверху. — Он показал рукой. — Берегом не пройти. Я перевел его слова Жене, пояснив, что именно мой товарищ занимается охотой за различными зверями, меня же интересуют больше насекомые — клещи, комары. — Там есть и клещи, — сказал охотник. — Их полно в пещерах. — Надо непременно там побывать, — сказал я Евгению. — Попроси его поподробнее объяснить, где это. Я расстелил на камнях карту, и Селим стал показывать, где именно встречаются различные животные. Мы тут же делали пометки на карте. — Он великолепно знает тут каждый камешек, — сказал с завистью Женя. — А я многое упустил. Вот тут проходил не раз, а никакой колонии песчанок не заметил. И об этих пещерах над рекой понятия не имел. Слушай, а не удастся ли его уговорить, чтобы нанялся к нам проводником и охотником? Это было бы здорово. — Вы не могли бы помогать нам? — спросил я у охотника. — Отстреливать грызунов, быть проводником? Мы хорошо заплатим. Он покачал головой и, усмехнувшись, ответил строкой Хайяма: — “Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни…” — Боится, — понял Женя и без моего перевода. — Жаль. Ну ладно, пошли в лагерь, а то без обеда останемся. Может, он пообедает с нами? Селим покачал головой в ответ на мое приглашение, поблагодарил и сказал: — Нет, я обойду долину горами. Там есть тропы. Мы попрощались с ним, опять взвалили убитого архара на свои ноющие от усталости плечи и двинулись по каменистой тропе в лагерь. Пока мы добирались до него, уже начало смеркаться. — Ну всыплет нам Мария, что так поздно возвращаемся, — мрачно сказал Женя и сокрушенно покачал головой. — Надо бы что-нибудь придумать. — А что придумывать? Зато архара добыли. Но, к нашему удивлению, никакой бури не последовало. Мария только спросила, даже не очень грозно; — Где это вы пропадали? А на архара даже не взглянула. Мы с Женькой переглянулись и пожали плечами. — Ты не заболела? — сочувственно спросил он у жены. — С чего ты взял? Просто устала немножко. Трудный денек выдался. Было что-то такое в ее тоне, что мы оба внимательно посмотрели на нее. Мария даже смутилась под нашими взглядами, стала поправлять волосы. — Слушайте, ребята, — вдруг тихо сказала она. — Я, кажется, обнаружила следы нового вируса. — Какого вируса? — опешил я. — Не знаю, пока трудно сказать. Но, по-моему, еще неизвестный. — В тканях погибших от болезни Робертсона? — Да.ВИБРИОН ПРЕДЪЯВЛЯЕТ АЛИБИ
Это неожиданное открытие Марии не столько обрадовало нас, сколько озадачило. Оно вдруг смешало все карты. Мы и так топтались на месте, находя всюду злополучные вибрионы, а теперь вдруг неожиданно появился на сцену какой-то вирус. Без электронного микроскопа увидеть вирус мы не могли. Но следы его разрушительной работы легко было рассмотреть и в обычный микроскоп на тонком слое тканевой культуры, которую Мария три дня выращивала в термостате. Ткань превратилась в мрачное кладбище изувеченных, разрушенных клеток. Да, сомнений быть не могло: это поработал невидимый вирус. Но каковы его свойства? Связан ли он как-то с болезнью Робертсона или не имеет к ней никакого отношения? Может быть, он просто случайно оказался в организме погибших больных?. Ответить на эти вопросы могли только новые опыты. Программу их мы наметили тут же, у полуночного костра. Решили освободить Марию от всяких забот по хозяйству, чтобы она могла все время проводить в лаборатории, поручив пока обязанности “отца-кормильца” Николаю Павловичу. А нам с Женей предстояло добыть побольше и клещей, и москитов, и разных грызунов, чтобы проверить их теперь еще и на зараженность вирусом. Но когда на следующий вечер, нагруженные богатой добычей, мы вернулись в лагерь, нас ожидала еще более невероятная новость. Заслышав еще издали наше приближение, из лаборатории выскочила Мария и замахала рукой, торопя нас. Встревоженные, мы почти побежали к ней, с трудом переводя дыхание. — Что еще стряслось? — спросил я. Она ответила упавшим голосом: — Второй вирус… — Где? Откуда он взялся? — В срезах мозговой ткани. Мы вошли следом за ней в лабораторию, где сидел задумчиво в уголке Николай Павлович. При виде нас он недоумевающе пожал плечами. Я приник к микроскопу. В самом деле: разрушенные клетки питательной ткани под окуляром заметно различались между собой. Тут, несомненно, поработали разные вирусы-невидимки. — Час от часу не легче! — буркнул я. — Откуда он взялся, второй? — В спинномозговой жидкости только один вирус, а в этих материалах, из срезов головного мозга, почему-то два, — жалобно сказала Мария. — Ничего не понимаю. — Чего тут непонятного, — сердито ответил ей Женя, отрываясь от микроскопа. — Нечисто работаешь. Загрязнила опыт, в этом все дело. Мария гневно посмотрела на мужа, но ничего не сказала, прикусив дрожащую губу. Я посмотрел на Николая Павловича. Он снова пожал плечами, потом мягко сказал: — Ну, это ведь легко проверить. Конечно, придется повторить опыт. Позднее, как говорится, “задним числом”, нелегко бывает установить, когда именно и почему вдруг приходит новая идея, резко меняющая весь ход исследований. Наверное, все дело было в том, что Мария обнаружила этот новый загадочный вирус. Его появление как-то сразу внушило нам некоторые подозрения насчет вибрионов, только мы пока еще этого не сознавали. Слишком уж много появилось “подозреваемых”. За кем же из них следует установить особое наблюдение? Вместе с Машей мы заново “начинили” куриные яйца мельчайшими капельками суспензии крови покойного охотника и заложили их в термостаты. Были приняты все меры предосторожности, в чистоте этих опытов сомнений быть не могло. После трех дней мучительной неизвестности мы с трепетом склонились над микроскопами… Да, вот они, следы разрушительной работы вирусов. И опять разные! Значит, вирусов все-таки два, а не один. Но не везде они встречаются вместе. В крови погибшего охотника скрывается лишь один “преступник”, мы решили его назвать “вирус А”. А вот во всех образцах тканей, взятых из мозга покойного, поработал вместе с ним и второй невидимка — вирус Б. Странно… — Может, часть материала была каким-то образом засорена этим вирусом Б еще в больнице? — задумчиво произнесла Мария. Я тоже подумывал об этом. Но разве можно было обидеть такими подозрениями доктора Шукри? И все-таки проверить это было необходимо, только осторожно, деликатно. — Надо будет провести повторные анализы, — сказал я. — А пока проверить на вирусы все образцы, в которых мы уже нашли вибрионы. — Я только этим и занимаюсь, — ответила сердито Маша. Она целыми днями возилась в лаборатории, заражая взятыми у различных грызунов, клещей и москитов пробами сотни куриных яиц и укладывая их в термостаты. А рядом в клетках сидели подопытные мыши и морские свинки, давно зараженные вибрионами, и как ни в чем не бывало поглядывали на нас. Никто из них явно не спешил заразиться. И вот настал день, когда Маша сказала нам за обедом: — А не кажется ли вам, братцы, что мы стали жертвами внушения? — То есть? — насторожился Женя. — Не водит ли нас за нос почтенный доктор Робертсон и возбудителем служит вовсе не вибрион? — У меня, признаться, тоже возникали подобные опасения, — сказал Николай Павлович, теребя выгоревшую на солнце бородку. — Когда я последний раз ездил в поселок на базар и видел там у реки черные шатры беженцев из этой долины, то подумал: а не проверить ли нам у них кровь, у здоровых? Этим, кажется, никто не занимался. Идея была интересная, и мы решили проверить ее, не откладывая, а заодно взять и материалы для повторных анализов. На следующее утро мы отправились в поселок, оставив Николая Павловича охранять лагерь. Доктора Шукри весьма удивило наше сообщение об открытии следов двух каких-то неведомых вирусов в пробах, которые мы от него получили. И хотя я приложил все силы, чтобы он не подумал, будто мы его упрекаем в том, что анализы были проведены не совсем чисто, он, кажется, немножко обиделся, хотя и не показал виду. Он сам вызвался проводить нас в лагерь беженцев. Это было очень кстати, потому что без него нам наверняка никто бы не дал кровь для анализа. Видимо, о нашей работе в долине распускались самые темные и зловещие слухи, потому что встретили нас беженцы неприветливо. Дети, игравшие на берегу реки, завидев нас, моментально попрятались в шатрах. А из шатров вышли нам навстречу хмурые, настороженные мужчины. Доктор Шукри не столько уговаривал их, сколько пугал штрафом и другими наказаниями. Опасаясь, как бы это вовсе не испортило нам отношений с местными жителями, я остановил его и попросил самому разрешения сказать несколько слов. Я объяснил, чем мы занимаемся в долине и для чего теперь нам необходимы пробы крови. Сказал, что операция эта совершенно безболезненна, и добавил: — Чтобы вы все убедились в этом, мы сначала возьмем кровь у самих себя и у всеми уважаемого доктора Шукри, примеру которого, конечно, никто не откажется последовать… Собравшаяся вокруг нас толпа молча наблюдала, как мы брали друг у друга кровь для анализа. Но последовать нашему примеру, похоже, никто не собирался. Наоборот, толпа даже начала потихоньку отступать и вот-вот грозила растаять. И вдруг какой-то человек шагнул вперед, решительно закатывая рукав халата. Он поднял голову, и я с радостью узнал нашего нового знакомца, охотника Селима. Кроме него, пробы крови нам дали еще десять мужчин и две женщины, одна из них, похоже, была женой Селима. Мы их не видели: в палатку к ним пустили только Марию. Хорошо было бы для страховки взять несколько проб крови у детей, но пока на это рассчитывать не приходилось. Мы уже собирались уходить, как вдруг рваная кошма, закрывавшая вход в одну из палаток, откинулась и оттуда выглянул доктор Али. — Очень рад вас видеть, — сказал он. — Прошу извинить. Одну минуточку… Он скрылся в палатке и вскоре вышел из нее, на ходу отворачивая закатанные рукава рабочего синего халата, запачканного кровью. — Мои пациенты могут обождать, они бессловесны, — сказал он, пожимая мне руку. — А как ваши успехи? Я коротко рассказал ему о наших подозрениях насчет вибриона и о том, как осложнило и запутало ход поисков неожиданное появление каких-то загадочных, неопознанных вирусов, да еще сразу двух разных видов. — Два вируса?! — вскрикнул он так громко, что товарищи мои, упаковывавшие неподалеку собранные анализы, обернулись в нашу сторону. — Да, два. А что вас так удивило? — спросил я. — Ничего, — смущенно ответил доктор Али. — Но ведь это означает, извините… Что опыт проведен грязно. Не может быть двух возбудителей у одной болезни. — Верно, не может. Но факт остается фактом: кроме вибрионов, при повторных опытах в некоторых срезах тканей погибшего охотника мы обнаружили следы двух каких-то различных видов вирусов. Не во всех, но в некоторых. — Странно, — пробормотал задумчиво доктор Али. — И что же вы собираетесь делать дальше? Я пожал плечами. — Возьмем сегодня повторные пробы из тех материалов, что хранятся у доктора Шукри, и проверим все заново. — Ну что ж, пожелаю вам успеха. Не смею больше задерживать, да и у меня дела. Мы попрощались, и доктор Али скрылся в палатке, из которой доносилось тревожное овечье блеяние. Нам так не терпелось поскорее проверить “виновность” вибриона, что мы решили провести анализы прямо в местной больнице, а не в нашем лагере. Правда, у доктора Шукри нашелся лишь один микроскоп. Это замедляло работу. Но уже первая проба показала, что мы на верном пути. В крови вполне здорового беженца из долины оказалось множество вибрионов, однако он не заболел! Значит, антитела нейтрализовали и подавили вибрионы. Второй анализ, третий, четвертый… Только у троих из всех, давших нам пробы крови, не нашлось вибрионов и антител. У всех остальных вибрионы были, а люди оставались здоровыми! Выходит, вовсе не вибрион вызывал болезнь, достопочтенный Робертсон ошибся. Доктора Шукри в этом убедило, пожалуй, больше всего то, что и у него в крови, как он тут же убедился собственными глазами, резвилась целая стайка вибрионов… — Но ведь я же здоров, слава аллаху! — воскликнул он, молитвенно воздев руки к небу. Совершенно неожиданно нашлись вибрионы и в капельках крови, взятых у Марии и у меня! Маша, разумеется, не преминула что-то съязвить по этому случаю о “личностях, которые всем надоедают драконовскими инструкциями, а сами…” Я отшучивался, но, признаться, мне стало Немножко не по себе. Правда, вибрионы оказались безвредными. Но ведь как-то они ухитрились проникнуть в мое тело? Это был словно тревожный звонок. Значит, мы где-то проявили преступную неосторожность. Надо это учесть. Доктор Шукри тут же собрал весь персонал больницы и сам у каждого взял кровь. Лишь у фельдшера и у повара не оказалось вибрионов. Надо ли говорить, как обрадовала нас эта первая ощутимая победа! Тьма, сгущавшаяся по мере того, как мы повсюду находили эти злополучные вибрионы, сразу рассеялась. Вибрион неповинен — значит, вирус? Но который из двух? Ведь доктор Али прав: не может быть сразу двух возбудителей у одной болезни. Ничего, проведем заново анализы образцов, которыми снабдил нас снова доктор Шукри, разберемся и с вирусами. Покидая больницу, мы снова столкнулись на крыльце с доктором Али. В руках он держал, неловко выставив далеко вперед, громадный букет великолепных крупных роз. — Ой, какая прелесть! — ахнула Мария. — Где вы достали? Доктор Али немедленно протянул ей букет. — Это вам. Прошу, — галантно сказал он. — Ну что вы, спасибо… — Вы меня обидите отказом. Марию, конечно, не пришлось больше упрашивать. Она взяла букет, поблагодарила доктора Али весьма красноречивым взглядом и спрятала лицо в цветы. — Я не зря спешил. Вижу, что одержана победа, — сказал доктор Али. — Примите мои поздравления. — Спасибо, — ответил я. — Да, кое-что прояснилось. Вибрион неповинен в болезни Робертсона. — Значит, возбудитель — вирус? — Видимо, да. — Поздравляю. Доктор Али уже закончил все свои дела и любезно вызвался проводить нас до базара, где прямо на земле в полном беспорядке были грудами навалены овощи, мешки риса, плоские корзинки с круглыми лепешками, стояли плетенки с ячменем и машем — местным горохом, по вкусу напоминающем чечевицу. Все это окружала пестрая толпа. Она шумела, кричала, поднимала тучи серой пыли. Сквозь толпу напролом, с горделиво-презрительным видом продирались верблюды. Выкрики продавцов, неистовое кудахтанье перепуганных кур, ржанье лошадей — все сливалось в сплошной хаос звуков. К нему еще добавлялся грохот молотков из полутемных ниш в скале, примыкавшей к базару. Там работали в своих крошечных мастерских ремесленники. Сделав все покупки и попрощавшись с доктором Али, мы зашли в чайхану, устроенную на широком деревянном помосте прямо над арыком. Тут нам приготовили шашлыки и поставили перед нами блюдо всякой вкусной зелени. Получился настоящий праздничный пир. — Я уж тебе признаюсь, — вдруг сказала Мария, наклоняясь к самому моему уху. — Я еще вчера обнаружила у себя вибрионы. Делала анализы и подумала: а не взять ли пробу крови и у самой себя? Оказалось, и у меня есть вибрионы. Вот почему я и предложила провести проверку здоровых беженцев в поселке. Видишь, как удачно получилось… — Ты еще хвастаешь и гордишься? — возмутился я. — Чем? А то, как эти вибрионы забрались к тебе в кровь, об этом ты задумываешься? Или и дальше собираешься работать спустя рукава? — Ну ладно, ладно, — смутилась она. — Победителей не судят. Налей-ка лучше мне винца. Кисленькое, вкусно. Вот мы сидим, смеемся, пьем из грязноватых пиал кисленькое вино. Коротенький перерыв в затянувшихся поисках, У нас есть нынче повод для радости. Кажется, кое-что стало ясным: вибрион не виноват. Но… “Подождите радоваться, — сказал бы умудренный Шерлок Холмс. — Ведь убийца пока продолжает разгуливать на свободе…” Да, вы, к сожалению, правы, мистер Холмс. Убийца еще не пойман. Кто он: вирус А? Или вирус Б? А может, нас ждут еще другие неожиданности? Но нельзя же искать и искать без отдыха и хоть маленькой передышки. Мы скоро встанем с этого рваного ковра, опять натянем надоевшие защитные костюмы и снова полезем в лисьи норы, станем ловить клещей, москитов; а сейчас мы хотим немножко посидеть в этой базарной чайхане, что стоит на сваях над журчащим мутным арыком, отдохнуть среди этих незнакомых людей, ради которых мы ходим рядом с невидимой смертью…НОЧНАЯ ТРЕВОГА
Вернулись мы в свой лагерь из поселка уже поздно, в полной темноте и, признаться, немножко навеселе, не столько от вина, как от сытного пиршества. Всю дорогу мы любовались яркими зарницами, которые полыхали в небе одна за другой, на миг вырывая из тьмы сумрачные горы. Где-то там, далеко в горах, бушевала гроза. При вспышках зарниц Мария каждый раз осматривала свой букет, поднося его к самому лицу. — Ой! Кажется, уже начинают вянуть. Хоть бы до лагеря довезти, — причитала она. — Да выбрось ты этот веник! — наконец не выдержал Женя. — Не ревнуй! — Подумаешь, я тебе завтра такой букет наломаю… — Наломай. А пока поберегу этот. Ужинать мы, конечно, не стали, несмотря на ворчание Николая Павловича: “Что же я зря старался…” И сразу улеглись спать. Я как подсунул под голову надувную подушку, так и захрапел, даже сам еще, похоже, успел услышать свой собственный могучий храп. А проснулся я от страшного треска и грохота. Что-то рухнуло возле самой палатки, сорвав ее край, и на меня хлынули тугие, тяжелые струи ледяного дождя! При ослепительной вспышке молнии я нашел фонарь, зажег его, прикрывая от ветра всем телом… Рядом, тяжело сопя, торопливо одевался Николай Павлович. Сквозь шум ливня донесся испуганный голос Марии, окликавший меня. Я выглянул из палатки и обомлел. Прямо передо мной, всего в каких-то полутора метрах, вместо узенького, тихого ручейка стремительно разливался широкий поток маслянистой коричневой грязи. Он выкидывал из ущелья громадные валуны, сталкивавшиеся с грохотом, тащил целые деревья. С противным причмокиванием эта грязь Подступала все ближе и ближе, грозя затопить и унести в реку нашу палатку. — Скорее оттаскивайте вещи под скалы! — закричал я. — Это сель! — Кто? — откуда-то из темноты переспросил меня Женька. Но мне некогда было объяснять ему, что на нас обрушился грязевой поток. Где-то в горах дождь смыл верхний слой почвы, и вот потоки липкой грязи хлынули вниз по ущелью, сметая все на своем пути. Если бы наша палатка стояла всего на два метра левее, мы не успели бы даже выбраться из нее и оказались погребенными под слоем грязи! Теперь мне стало понятно, почему никто из местных жителей не поселился в этом “уютном местечке”, чему мы раньше все удивлялись. Как мог я забыть, что в здешних горных краях никогда нельзя себя чувствовать в безопасности возле таких вот ущелий, да еще когда из них вытекают ручьи. Чаще всего сели прорываются именно здесь. Но каяться и рвать на себе волосы было некогда. С ног до головы перемазанные грязью, скользя и падая, мы как одержимые оттаскивали подальше, под защиту скалы, при то и дело разрывавших тьму голубоватых призрачных вспышках молний, все, что подвертывалось под руки: мешки, ящики, колья от упавших палаток, ружья… “Хорошо, хоть лабораторию построили немножко в стороне. Туда сель не доберется”, — подумал я, и в тот же миг обернулся на крик Марии… Нашу лабораторию заливало водой! Грязевой поток из ущелья запрудил реку, и теперь вода в ней начала прибывать, выходя из тесных берегов. Побросав все, мы ринулись к лаборатории. Оборудование и добытые материалы были дороже всего. Без них вся наша работа летела насмарку! Дощатый пол лаборатории уже залила вода. Мы зажгли факел и при его мечущемся свете, встав цепочкой, начали передавать друг другу вещи, в первую очередь дневники наблюдений, микроскопы… Какой-то сосуд выскальзывает у меня из мокрых рук и разбивается совершенно беззвучно, потому что именно в этот миг небо над нашими головами — очередной раскат грома. А вода все прибывает, она уже по колени… Взбесившаяся река перекатывает уже не отдельные валуны, а целые глыбы. Под их тяжкими ударами трещат столбы навеса. Он, того и гляди, рухнет нам на головы. Женька подпирает крышу, словно Атлант. — Всем уходить! — кричу я. Мария снимает еще какие-то банки с полки… Женя хватает ее в охапку и вытаскивает из лаборатории, весьма похожей теперь на тонущее судно. Прислонившись к скале и прижимаясь друг к другу, чтобы укрыться под ее выступом от дождя, мы, размазывая по лицам грязь, тупо и устало смотрим на разгул стихии. Уже не разберешь, где сливаются грязевой поток и река. Вся долина превратилась в мутное клокочущее озеро. Мария что-то бормочет, роется, присев на корточки, в груде мокрых пожиток. — Чего ты ищешь? — спрашивает Женя. — Сколько термостатов вынесли? — Кто их считал. — Утром все проверим, — говорю я. Но Мария вдруг срывается с места и прыгает в клокочущий поток. — Назад! — кричу я. — Тебе ноги переломает! Мутная ледяная вода ей уже по грудь. Но Мария упрямо пробивается к покосившейся под ударами валунов лаборатории… Хватается за бревно, лезет в дверь… Мы с Женькой бросаемся следом за ней. Вода валит с ног. Только бы удержаться, не упасть — тогда пропали. О черт! Как больно ударил в бок какой-то камень. Захлебываясь и помогая друг другу, мы все-таки добираемся до двери лаборатории. Нам навстречу появляетсяМария, держа над головой термостат. Так и есть, один не успели вынести, она была права. Руки у Марии заняты, мы не успеваем помочь, как ее сбивает с ног. Она скрывается под водой, все еще протягивая кверху термостат. Я с трудом вырываю у нее из рук скользкий ящик, иначе она так и не расстанется с ним. А Женька уже ныряет, чтобы подхватить Марию, пока ее не утащило стремительным течением во тьму. Ну, у него хватит силы поспорить с бешеным потоком! Не знаю, как мне удается добраться до твердой почвы, не утопив термостат. И тут же, сунув его Николаю Павловичу, я спешу на подмогу товарищам. Мы вытаскиваем Марию уже без сознания. Николай Павлович начинает делать ей искусственное дыхание. Делает он это, по-моему, весьма умело, но Женя не выдерживает и отталкивает его: — Дайте, я… — Осторожнее, руки переломаешь! — сдерживаю я его. Проходит, кажется, целая вечность, пока Мария, застонав, помотала головой и начала отплевываться. — Жива? — сердито спрашивает Женя. — А термостат? — Тьфу! — Осторожно. Мария Степановна, не двигайтесь! — неожиданно сказал Николай Павлович. — У вас клещ за ухом. — Где? — Вот он. Да не вертите вы головой! А вот второй присосался рядом. Я присел на корточки рядом с Николаем Павловичем. В самом деле, среди мокрых волос за ухом Марии крепко присосались к коже два небольших клеща. Где она успела их подцепить? Достав пинцет, я осторожно снял клещей и напустился на Марию: — Где ты их подцепила? Сколько раз вам напоминать о правилах безопасности? — Откуда я знаю? — так жалобно ответила она, что я лишь махнул рукой. …Буря утихомирилась только к утру. Но выяснять потери у нас уже не было сил. Выбрав расщелину в скалах, где теперь, когда дождь кончился, было сравнительно посуше, мы расстелили на камнях полотнища палаток и заснули. Проснулись в полдень, когда в расщелине стало душно, словно в оранжерее. Солнце сияло на чистом небе. Река уже почти вошла в старые берега, промыв грязевой завал. И только громадные валы подсыхающей грязи, из которой повсюду торчали принесенные с гор валуны, напоминали о ночном разгуле стихии. Да еще наш разгромленный лагерь… От него, собственно, ничего не осталось. Его предстояло строить заново. Выбрав место подальше от предательского ущелья, мы стали перетаскивать туда уцелевшие вещи. Чем яснее становились наши потери, тем больше мы мрачнели. Перебита почти половина лабораторной посуды. Затопило одну из клеток с мышами, и все они утонули. Где-то под слоем грязи покоился один из трех наших микроскопов. К счастью, уцелели все термостаты. Но в тот, что так безрассудно спасала Мария, все-таки затекла вода, все образцы в нем пропали безвозвратно. К счастью, хоть ничего, кажется, не случилось с теми образцами, что мы вчера взяли у Шукри для повторного анализа. А то с какими глазами мы бы показались к нему… Но многое из наших лабораторных материалов пострадало. С некоторых флаконов смыло все надписи и наклейки, и теперь невозможно было установить, что же в них находилось. Попробуй тут разобраться, где вирус А, где Б, а где потрудились вибрионы, — все материалы перепутались. И это когда впереди как будто наконец забрезжил какой-то слабый проблеск и предстояло так много сделать, чтобы ринуться по следам вдруг появившегося вируса! Мы уныло сидели на берегу, разложив вокруг для просушки свои вещички, и молчали. — Мальчики, а это не мог нам старик подстроить? — вдруг жалобно спросила Мария. — Что? — Ну, эту бурю. Я удивленно посмотрел на ее обиженное лицо, над которым из-под сбившегося платочка так забавно торчали совсем детские косички, и расхохотался. — Если под стариком ты подразумеваешь господа бога, то права, — внушительно ответил Женя. — Но Хозяину, при всей его зловредности, такие эффекты не под силу. — А я все-таки уверена, что без него тут не обошлось, — упрямо ответила Мария и встала. — Ладно, нечего плакать. Давайте начинать сначала. Ух, как голова трещит!.. И мы снова стали разбивать лагерь: ставить палатки, рубить жерди для лаборатории. Николай Павлович отправился искать в зарослях куда-то удравших от бури лошадей, чтобы поехать потом в поселок. Надо было закупить на базаре побольше куриных яиц, их много понадобится для размножения вирусов. Все косточки у нас болели. Мы кряхтели, словно столетние старцы. У Женьки под глазом, затмевая солнце, сиял громадный багровый синяк. У меня ныла ушибленная камнем нога. Но постепенно мы втянулись в работу. К вечеру лагерь был вчерне готов. Возиться с ужином не было никакого желания. Из тех яиц, что привез с базара Николай Павлович, мы, несмотря на слабые возражения Марии, решили два десятка принести в жертву и нажарили роскошную яичницу. Как добрался я до подушки, уже не помню. А рано утром мы снова отправились добывать грызунов, птиц, клещей, москитов, чтобы пополнить уничтоженные материалы. Я возвращался в лагерь, еле волоча ноги, и на берегу реки догнал такого же усталого Женю. — Я сегодня план перевыполнил, — похвастал он. — Даже муравьев набрал для коллекции. Наткнулся на замечательную колонию муравьев, понимаешь. Прямо муравьиное царство. Любопытный народец. Он показал мне банку, в которой копошились и лезли друг на друга какие-то здоровенные красные муравьи, но тут же спрятал ее в сумку, поняв, что я сейчас никак не могу оценить его находку. — Ладно, потом посмотришь, — несколько обиженно пробурчал он. Первым, кого мы увидели, подойдя к лагерю, был Селим. Он сидел на большом камне в сторонке, на берегу. — Тебя прислал доктор Шукри? Что случилось? — встревожился я. — Нет, я сам, совсем пришел, — ответил Селим. — Как — совсем? — переспросил я. — Помогать буду. Ты же просил? Это было здорово! Но я не стал ничего говорить, только просто крепко пожал ему руку.ГРОЗНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Селим стал каждое утро приходить к нам. Ночевать в лагере, чтобы не тратить времени на дорогу, он категорически отказался. Мы, конечно, не стали настаивать, особенно после того, как этот сдержанный, молчаливый человек однажды обмолвился, что его старший сын два года назад погиб от болезни Робертсона… С помощью Селима дела у нас пошли быстрее. Он прекрасно знал, где именно водятся какие грызуны, куда местные жители обычно гоняют овец: там в первую очередь следовало проверить на вирус клещей и москитов, по каким тропам ходят здешние охотники. Была с ним только одна трудность, и, чтобы побороть ее. мне пришлось проявить максимум “начальственной строгости”. Селим никак не хотел одевать защитный костюм и особенно резиновые перчатки. И сдался лишь после того, как я решительно заявил ему, что, если он не станет беречься по нашему примеру, мы, хотя нам и очень жаль, будем вынуждены отказаться от его помощи. Рисковать его жизнью мы не имеем права. Он подчинился. Но я сильно подозреваю, что, оставаясь один где-нибудь на охоте за сурками, он все-таки ненавистные ему перчатки хоть на время да снимал — так стрелять удобнее. С появлением Селима Хозяин как будто оставил нас в покое, хотя дважды, когда я проходил по горной тропе под нависшей скалой, с нее довольно подозрительно скатывались большие камни, к счастью, не задев меня. Но сам старик больше не показывался. Я видел его только один раз, осматривая как-то склоны горы в бинокль и случайно наведя его на пещеру, где он жил. Хозяин сидел на камне в окружении своих псов, одинокий, грязный старик, совсем одичавший без людей. Кругом валялись обглоданные кости, грудами нарос всякий мусор… У меня стало как-то нехорошо на душе, но чем мы могли ему помочь? Как найти дорогу к этой одинокой, озверевшей душе, когда все ее надежды на людское несчастье, на болезнь, которую мы хотим уничтожить? Старик сидел сгорбившись и смотрел в костер, догоравший перед ним. Потом он вдруг поднял голову. Собаки сразу насторожились, не сводя с него глаз. В сильный бинокль мне было отчетливо видно лицо старика. Могу поклясться, что он не произнес ни единого слова. Он только внимательно посмотрел в глаза одного из лохматых псов. И тот вдруг нехотя встал, схватил зубами за ручку закопченный чайник, валявшийся у костра, и скрылся с ним в кустах. Сомнений быть не могло: пес отправился за водой, и старик приказал ему это без слов, одними глазами! Я смотрел как зачарованный. Через несколько минут пес вернулся, волоча в пасти чайник с водой. Старик подхватил чайник своими култышками, сунул на уголья и начал раздувать огонь. Когда я, вернувшись в лагерь, стал рассказывать о том, что видел, мне, конечно, не поверили. Спасибо, Селим подтвердил: — Да, верно это, собаки все делают Хозяину. И воду носят, и хворост для костра собирают. Он такое слово знает, его все слушаются… Селим провел нас и в те пещеры, куда мы раньше так и не могли проникнуть. К ним пришлось спускаться сверху, со скалы, обвязавшись для предосторожности веревкой. Пещеры были довольно глубокими, но узкими. Пробираться в них можно было только ползком. Ничего особенно интересного в них не оказалось: поймали шесть летучих мышей, среди густой шерстки которых, конечно, нашлись клещи, и наловили москитов, устроивших здесь гнезда. Мария тем временем сделала повторный анализ на зараженность вирусами тех материалов, которые заново дал нам доктор Шукри. — Во всех образцах только один вирус А, — не поднимая головы, мрачно объявила она, когда мы, как обычно, собрались вечером у костра. — И в мозговых тканях? — спросил я. Мария молча кивнула. — Так, — насмешливо сказал Женя. — Не всякий блондин — светлая личность. Я был прав. Это ты сама ухитрилась занести в анализы вирус Б. Я же говорил, да что толку… Советов мы не любим, нам по душе только поддакивание. — А откуда он у меня мог взяться, этот вирус Б? — У Маши был такой усталый и несчастный вид, что я ничего не стал говорить, хотя, конечно, она виновата, что загрязнила опыт. Ведь образцы, данные нам доктором Шукри, не содержат никакого вируса Б, это теперь показала повторная проверка. Значит, этот вирус как-то попал в материалы уже в нашем лагере. Мы не сумели провести все опыты чисто, как полагается. Но и Маша ведь тоже права: откуда он мог взяться, этот загадочный вирус Б? Где он прячется в нашем лагере? — А что показывают анализы материалов, которые мы раньше проверяли на вибрионы? — спросил я. — Почти во всех встречается вирус А, — тихо ответила Мария. — Тебе что, нездоровится? — Да нет, просто устала. — А вирус Б больше нигде не попадается? — спросил из темноты Николай Павлович. — Нет. — Чертовщина какая-то, — сказал Николай Павлович, подвигаясь поближе к огню и смотря на меня. — Откуда же он, в самом деле, мог взяться? — Будем продолжать анализы, пока проб еще слишком мало, — ответил я. — Может быть, и вирус Б попадется. И надо завтра же самим у себя взять пробы. Может, это кто из нас подхватил где-нибудь вирус Б и потом занес по неосторожности в материалы. Так мы и сделали на следующий день. Мария заложила наши анализы в термостат вместе с очередной партией проб, взятых у разных грызунов, а мы отправились добывать ей новые материалы. По через день вес работы пришлось прервать: Маша заболела. Еще вчера ее немножко лихорадило. Заметив это, я пытался заставить Машу бросить опыты в лаборатории. Но она только сердито фыркнула: — Пустяки какие! Просто немного простудилась в ту кошмарную ночь. Прогреюсь как следует на солнышке, и все пройдет. Но я не мог забыть о клещах, которых мы обнаружили у нее на шее в ту злополучную ночь… Стоило их все-таки сохранить и проверить, хотя тогда нам было не до этого. А нынче утром Маша расхворалась уже всерьез. Температура 38,4. Глаза воспалены. Ее бьет озноб. Болит голова. На шее высыпала мелкая красноватая сыпь. Женя так смотрит на меня… А что я могу ему сказать? Все может быть. Мария притихла. Она без всяких возражений дает нам с Николаем Павловичем для анализов кровь и спинномозговую жидкость. Я тут же сам наношу мазки на предметное стекло, начинаю регулировать микроскоп, тщетно пытаясь унять противную дрожь в пальцах… Приникаю к окуляру — и немею. — Ну? — не выдержав, торопит меня всегда такой сдержанный Николай Павлович. — Подождите! — отмахиваюсь я. Отчетливо видно, как на алом фоне резвятся и гоняются друг за дружкой юркие вибрионы. А это что? Я протираю глаза, вытираю стекло окуляра… Нет, мне не показалось: в капельке крови, взятой у Марии, несомненно два вида мельчайших микроорганизмов. Одни уже знакомы нам — это вибрионы, которых считали возбудителями болезни Робертсона, а другие… другие несколько иной формы — круглые, без жгутиков, неподвижные. — Посмотрите вы, — предлагаю я Николаю Павловичу, уступая место у микроскопа. Он тоже так долго молчит, что я не выдерживаю; — Два вида? — Два, — отвечает он, поднимая на меня недоумевающие глаза. — Вибрионы, а эти, более крупные, похоже, какие-то риккетсии? Несколько минут мы молча смотрим друг на друга. “Этого еще не хватало, — читаю я в его взгляде. — Два загадочных вируса, а теперь кроме вибрионов появились еще какие-то совершенно непонятные риккетсии…” — Что же будем делать? — спрашиваю я довольно растерянно. — Может быть, именно эти риккетсии вызывают болезнь Робертсона, а не вирусы и не вибрион? — отвечает он встречным вопросом. — А мы их раньше не замечали? Я качаю головой. Нет, это исключено. Ни в одной из проб, взятых у погибшего охотника, мы не встречали никаких риккетсии. Но нужно еще и еще раз проверить, ведь материалы у нас сохранились. — Не думаю, но проверим, — отвечаю я. — А пока надо везти ее в поселок. Там и уход будет лучше, и опыт доктора Шукри нам поможет разобраться… А сам думаю: “Может быть, сразу везти ее домой, в Ташкент?” Хотя, если это болезнь Робертсона, и там никто не сможет помочь… Я сначала колебался: говорить ли Марии о странных результатах анализа? Но, зная ее характер, решил все-таки ничего не скрывать. И не ошибся. Узнав, что обнаружены еще какие-то риккетсии, Мария так этим заинтересовалась, что словно забыла о своей болезни. Она даже потребовала, чтобы мы разрешили ей подняться, пойти в лабораторию и своими глазами взглянуть на этих неведомо откуда взявшихся риккетсии! Но тут мы все так дружно на нее напустились, что после нашей атаки Мария даже не решилась возражать против перевозки ее в больницу. После всех происшествий я не мог решиться оставить в лагере без охраны немногие уцелевшие у нас материалы. От Хозяина можно было ожидать новых пакостей. Поэтому мы решили, что пока в лагере останется Николай Павлович, заложит на всякий случай проверочные опыты на вирусы — вдруг и они тоже обнаружатся у Марии, — а завтра его сменит до вечера Селим, которому мы могли вполне довериться. Пришлось немало поломать голову, как пристроить Марию в седельные сумки, ведь никакой повозки у нас не было. Но, кажется, она чувствовала себя довольно удобно, потому что по дороге еще пыталась втянуть нас с Женей в научную дискуссию: — Все-таки я абсолютно уверена, что риккетсии не имеют никакого отношения к болезни Робертсона, как и вибрионы. Зря вы, конечно, не дали мне самой взглянуть, я бы сразу разобралась. Но голову даю на отсечение: ни в одном материале, которые мы получили от доктора Шукри, не было никаких риккетсии, только вибрионы. А они безвредны, мы уже твердо знаем. Все дело в этих вирусах… — В обоих? — перебил ее Женя. — Нет, конечно, в одном из них. — А откуда же их взялось два? — напал на нее муж. — Все ты: то напутала с вирусами, теперь с этими риккетсиями. Молчала бы уж… Она притихла и даже, кажется, задремала. Видно, ей было лихо. Но перед въездом в поселок Мария вдруг потребовала, чтобы мы дали ей пересесть в седло. — Это еще зачем? — возмутился Женя. — Не могу же я в таком виде появляться в поселке, — сердито ответила Маша. — Что подумают люди? Представляете, какая сразу поднимется паника? Ну, не упрямьтесь. Тут недалеко. А в больнице обещаю вам быть паинькой. Как мы ни урезонивали ее, Мария все-таки настояла на своем и пересела в седло. Но доктор Шукри, увидев нас из окна, сразу, видимо, догадался, что произошла какая-то беда, и выскочил нам навстречу, даже не сняв халата. Я коротко объяснил ему, что случилось, и он тут же начал отдавать распоряжения сбежавшимся санитарам. После того как Машу перенесли в палату и доктор Шукри сам внимательно осмотрел ее, Женя остался возле заболевшей жены, а мы прошли в маленькую комнату, служившую кабинетом главному врачу. — Что вам сказать? — задумчиво проговорил Шукри, запирая дверь. — По первым симптомам трудно судить. Вы не хуже меня видите, что это похоже на болезнь Робертсона. Но… Меня, признаться, немножко успокаивает эта сыпь. Я, к сожалению, видел многих, погибавших от болезни Робертсона. Но ни у кого из них не было такой сыпи. Иншалла! Но мы не имеем права ошибаться! Потерять эту милую, такую мужественную женщину было бы ужасно. Нет, аллах этого не допустит! Я молчал, думая, что же делать? Вся ответственность за решение по-прежнему лежала на мне. Аллах тут не поможет. — Давайте все-таки повторим анализы, — прервал мои размышления доктор Шукри. — Откуда они могли взяться, эти риккетсии? Как они выглядят? Повторение анализов дало те же результаты. В крови Марии были и вибрионы, и риккетсии. А в пробах, сохранившихся от погибшего охотника, никаких риккетсии не было, только вибрионы. Доктор Шукри задумался. Я молча смотрел на него, ожидая, что же он скажет. — Боюсь ошибиться, но эти риккетсии весьма напоминают возбудителя клещевого сыпного тифа, — наконец проговорил он. — Болезнь эта довольно распространена в здешних краях, хотя в той долине, кажется, ее не знали, аллах миловал. Если это она, то понятно и появление сыпи. Но, — он предостерегающе поднял палец, — окончательно решать пока нельзя. Признаться, пока не найден другой возбудитель болезни Робертсона, вы меня, извините, мой дорогой, еще не убедили до конца, будто вибрионы в ней неповинны. У всех заболевших этой болезнью мы находим непременно вибрионы. Есть они, как видите, и в крови этой бедняжки, не только риккетсии, которые могли попасть в организм случайно. Так что надо быть готовыми к самому худшему. Мне нечего было ему возразить. Ведь мы в самом деле пока не нашли подлинного возбудителя болезни Робертсона. Вирусы? Но их два, и ни один еще полностью не “уличен”. Так что, в самом деле, видно, преждевременно полностью “реабилитировать” вибрион, может, все-таки он возбуждает болезнь? — Что же вы мне посоветуете, Шукри-ата? — спросил я. — Везти ее в Ташкент, домой, или попытаться лечить здесь? Он ответил мне встречным вопросом: — А там, в Ташкенте, у вас найдется лекарство от болезни Робертсона? — Нет. — А от тифа, если это тиф, у нас кое-что есть и тут… — Ясно, — согласился я. — Значит, будем ее лечить от тифа. И ждать. Ждать было трудно. Марии становилось все хуже. Температура на третий день поднялась до 39,6. Кожа на шее, на месте укуса клещей, сильно воспалилась. Все нестерпимее становились головные боли. Порой Маша даже теряла сознание, не узнавала нас. Неужели это все-таки болезнь Робертсона и переносят ее в самом деле риккетсии? И неужели нам суждено убедиться в своей ошибке такой страшной, непоправимой бедой? Все мы по очереди непрерывно дежурили у постели больной. Почти каждый день в больницу заходил доктор Али, и хотя, конечно, он ничем не мог помочь, такое внимание нам было приятно. В тревоге и неизвестности прошло еще два дня, пока наконец доктор Шукри после очередного осмотра больной не сказал, торжественно воздев кверху руки: — Благодарение аллаху! Это все-таки сыпной тиф. Я больше не сомневаюсь. У меня, признаться, сомнения еще оставались. Но кризис, кажется, и в самом деле миновал: температура начала постепенно спадать, исчезла сыпь, дело явно пошло на поправку. А еще через три дня Мария уже настолько пришла в себя, что решительно потребовала, чтобы мы немедленно отвезли ее домой — в лагерь. Переспорить ее, конечно, не удалось, и мы покорились, торжественно взяв с нее честное слово, что до полного выздоровления она не будет допущена к исследованиям. Мне никак не давало покоя, откуда же взялись эти проклятые клещи, заразившие Марию? Их нападение тем более было непонятным, что обитают клещи-дермаценторы обычно на открытых местах, в ковыльной степи. Никогда раньше в окрестностях лагеря они нам не попадались, да и вообще в долине встречались очень редко. Но факт оставался фактом. Болезнь Марии была весьма грозным предостережением. И мы решили принять особые меры предосторожности: заново тщательно обработали защитными веществами всю территорию лагеря и ближайшие окрестности, было строжайше запрещено выходить даже за валежником для костра или за водой к реке без защитных костюмов. И лагерь теперь мы никогда не оставляли без охраны. Принять такие меры меня заставило одно загадочное и тревожное происшествие. Мы стали продолжать охоту за грызунами и ловлю клещей и москитов. В лагере оставалась Мария, и я каждый раз перед уходом сам, несмотря на ее возмущение, запирал лабораторию, чтобы не дать ей, пока окончательно не поправится, заниматься какими бы то ни было опытами. И вот однажды, бродя в зарослях на берегу реки в поисках клещей и звериных нор, где могли бы гнездиться москиты, я сильно устал и решил сделать небольшой привал. Выбрав на самом берегу местечко поукромнее, я прилег в тени и, кажется, немного задремал, убаюканный неумолчным говором реки. Проснулся я от сердитого вскрика: — Но что я могу сделать, аллах свидетель! Я сразу узнал скрипучий и хрипловатый голос Хозяина. Он донесся из кустов с другого берега реки, совсем узкой в этом месте. Что это он, уже совсем спятил и разговаривает сам с собой? Но старик там был не один! Я вдруг услышал второй голос: — Значит, ты хочешь, чтобы тебя вышвырнули отсюда, как твоих шелудивых псов? Кто так осмелился спорить с Хозяином? Кто еще, кроме него, решился прийти сюда, в зачумленную долину? Второй голос мне показался тоже как будто знакомым. Где я мог слышать его раньше? — Помоги мне во имя аллаха! — громко выкрикнул старик. — Тише! — оборвал его второй голос и стал что-то объяснять, но так неразборчиво, что до меня долетали лишь отдельные слова: “У тебя есть… они ходят по одному… зачем… собаки…” Потом голос перешел почти на шепот, и я уже ничего не мог разобрать. Тогда я встал, взял ружье на изготовку и вошел в воду. До противоположного берега было метров пять, не больше. Но я шел очень медленно, осторожно нащупывая ногами камни понадежнее, чтобы не поскользнуться и не упасть. Мне удалось перебраться через реку, не подняв шума. Но едва я ухватился за ветку, чтобы взобраться на берег, как из кустов на меня с рычанием кинулись сразу два пса! Конечно же, старик выставил надежную охрану. Отбиваясь от них, я начал отступать вдоль берега, стараясь все время держаться под прикрытием кустов. Кто знает: не попробует ли таинственный собеседник старика подстрелить меня как единственного нежелательного свидетеля их беседы? Ведь они явно замышляли что-то недоброе и, очевидно, против нас. А подстрелить меня посреди реки было проще простого. Но, на мое счастье, в кустах все было тихо. И псы вскоре оставили меня в покое, скрылись в зарослях, видимо отозванные каким-то сигналом Хозяина. Отойдя подальше, я поспешно перебрался на свой берег, пригибаясь, будто в самом деле где-то на фронте, под пулями, и поспешил в лагерь. Событие было достаточно тревожным и неприятным. Видимо, мы мешали не только одному Хозяину. Были и другие, весьма заинтересованные в том, чтобы помешать нам спокойно работать. Кто? Почему? Я решил при первом же посещении поселка поставить об этом в известность доктора Шукри и местные власти, а нам всем в дальнейшем быть настороже. В такой напряженной обстановке мы продолжали исследования. Первым делом я, конечно, занялся нашими анализами, которые мы сделали перед тем, как слегла Мария. Все пробы оказались чистыми. У меня и у Маши, правда, как и раньше, нашлись в крови вибрионы, в безвредности которых мы теперь не сомневались. Но ни у кого из нас не было никаких вирусов. Это было, разумеется, приятно, но на душе у меня легче не стало. Ведь загадочный вирус Б откуда-то появился. Он до сих пор преспокойно жил и размножался, разрушая культуру клеток в одном из наших термостатов. А через несколько дней мы наконец обнаружили его и в крови одного из клещей, пойманного Николаем Павловичем на самом дальнем пастбище, в предгорьях. Мы немедленно отправились туда, тщательно осмотрели это место и поймали еще шесть клещей, подозрительных на вирус Б. Но загадка его появления в наших лабораторных материалах от этого не прояснялась. Ведь никогда прежде никто из нас еще не бывал на этом отдаленном пастбище, а в материалах, добытых из других мест, вирус Б нам ни разу не попадался. Как же он попал к нам в анализы? И какое отношение он может иметь к болезни Робертсона, если встречается так редко и в самых глухих местах, отдаленных от людских поселений? Зато с вирусом А все почти повторялось, как и с вибрионами. Мы находили следы его пребывания в крови сурков, песчанок и всяких других грызунов. Эти вирусы переносились москитами, пойманными в самых различных уголках долины. Их нашли даже в крови муравьев! Мария в самом деле не удержалась и взяла под контроль даже этих безобидных лесных тружеников, как ей шутя посоветовал Женя. Все как и с вибрионами. Опять подозревать всех? Только “для разнообразия” теперь “чистыми” оказались клещи: ни в одном из добрых трех тысяч проверенных нами клещей не оказалось вируса А!НИТОЧКИ ОБРЫВАЮТСЯ
Так прошла неделя в однообразной и довольно монотонной работе. Мы ловили полевок, стреляли птиц, собирали в пробирки москитов. Мария уже совсем поправилась, возилась в лаборатории, закладывая в термостаты все новые и новые партии яиц, зараженных вирусами, — Селим чуть не каждое утро привозил свежие с базара. А потом ждали результатов… Вечерами, чтобы скоротать ожидание, болтали у костра по возможности на отвлеченные темы. Пели, читали стихи. Женя каждый вечер возился со своими муравьями, подкармливал их сахарным сиропом, сортировал по банкам, пытался даже устроить в лагере настоящие муравейники, притаскивая из леса сухие веточки и охапки душистой хвои. А потом мы опять собирались вокруг костра и возвращались все к тому же проклятому вопросу: что же делать дальше? Основное внимание мы решили уделить пока вирусу А, раз он встречался повсюду. В термостатах уже накопилось несколько десятков пробирок и плоскодонных флаконов — “матрацев” — с культурой этого вируса, добытого из москитов и различных животных. Но опять, как и с вибрионами: ни одной подопытной мыши или морской свинки нам этим вирусом пока заразить не удавалось. Может быть, и он так же. ни в чем не повинен, как и вибрион? Или вирус А поражает лишь человека? Теперь мы стали умнее и, не откладывая, решили повторить опыт, который уже один раз помог нам. Отправились в поселок и уговорили четверых беженцев из нашей долины дать для анализа кровь. Три дня ожидания, пока под защитой тонкой яичной скорлупы должны размножаться вирусы-невидимки. Есть они или… И вот мы приникаем с Марией к микроскопам. Один срез — чисто. Второй срез — чисто. Никаких следов разрушительной работы вирусов. Третий анализ… Есть! В микроскопе отчетливо заметны среди сплошного пласта нормальных клеток целые гнезда разрушенных невидимкой-вирусом. Это именно вирус А, знакомые следы. Но… Но ведь пожилой таджик, носивший в своем жилистом теле эти вирусы, жив и здоров! Значит, и вирус А ни в чем не повинен, как и вибрион? И у него алиби? Четвертый срез — чисто, никаких следов ни вируса А, ни вируса Б. — Заколдованный круг какой-то! — возмущенно сказала Мария, сердито отодвигая от себя микроскоп. — Или этот вирус отличается от тех, что я выделила первыми из мозга погибшего охотника? Она подумала и уныло добавила, вопросительно глядя на меня: — Без электронного микроскопа нам в этих вирусах не разобраться. Надо ехать в институт. И оборудование пополним. Так работать нельзя — ни посуды, ни пробирок. Два микроскопа осталось, разве это работа? И термостатов еще хоть парочку непременно надо. Неужели мы опять шли по ложному следу? Но кто же тогда вызывает болезнь? Вирус Б? Не похоже. Он не попался нам ни у кого из беженцев. Но проверить надо. Как? Да, опознать вирусы можно лишь под электронным микроскопом, дающим увеличение в десятки тысяч раз большее, чем наши обычные. А без этого нельзя двигаться дальше. Кроме того, в институте удастся проверить оба загадочных вируса на обезьянах. Может, они восприимчивы к болезни — или одни лишь люди? И оборудование в самом деле необходимо пополнить, Мария права. Ночная буря нанесла нам серьезный урон. Через день мы с Машей, захватив образцы всех вирусных культур, отправились в дальний путь через горные перевалы верхом на лошадях, потом на автомашине, любезно предоставленной нам местными властями, по новому шоссе до границы и дальше в Ташкент. Перед отъездом я рассказал доктору Шукри о таинственном, случайно подслушанном мной разговоре. Он был так поражен, что, кажется, даже не сразу мне поверил. — Кто это мог быть, о аллах? — негодующе восклицал доктор. — Я допускаю, что этот темный старик… Но чтобы кто-то еще замышлял против вас недоброе… Позор! Я сегодня же, сейчас же пойду сам к хакиму[54]. Он примет меры. Приятно было снова вернуться к цивилизации: ехать с аэродрома в такси, пройтись по тенистому бульвару среди цветников; приятно было войти в такой знакомый вестибюль института, вдохнуть еще с порога лаборатории привычный запах формалина, обняться с друзьями… …Электронный микроскоп впервые дал нам возможность увидеть убийцу воочию или следует его пока называть “подозреваемым”, если вспомнить ошибку с вибрионами. Прежде всего был опознан загадочный вирус Б, хотя и не сразу. Нам пришлось провести несколько часов, до боли в глазах рассматривая фотографии различных вирусов в картотеке и сравнивая с ними “портрет” нашего вируса Б. Оказалось, что он вовсе не был новым, мы не открыли его. К общему удивлению, в нем удалось опознать возбудителя уже известной болезни — так называемого лошадиного энцефаломиелита! Этой болезнью от лошадей могут заражаться и люди. Но все равно оставалось непонятным, как же попал этот вирус в некоторые из наших анализов. Через наших лошадей? Но ни одна из них пока не заболела. Придется проверить их, когда вернемся в лагерь. Зато вирус А оказался действительно новым, еще неизвестным науке. Снова и снова рассматривали мы пробы, взятые из мозга покойного охотника: вот они — серые шарики на сером фоне. Размеры их ничтожно малы — всего одиннадцать тысячных микрона. Они свободно проникают даже через поры самого плотного керамического фильтра. Неужели это они убили человека? Теперь Маша помещает под электронный микроскоп кусочек ткани, клетки которой разрушены вирусом, обитавшем в теле беженца таджика, оставшегося здоровым… Я вижу, как она волнуется. Еще бы, ведь вот сейчас все может разъясниться. Мы узнаем: один и тот же это вирус или они разные? Маша так долго смотрит в микроскоп, что я не выдерживаю: — Ну? — По-моему, они совершенно одинаковы, — упавшим голосом говорит она. — Посмотри сам. Да, она права. Точно такие же серые шарики на сером фоне. Но одни убивают, а другие нет. Почему? К сожалению, у нас нет еще столь мощных микроскопов, которые позволили бы заглянуть внутрь вируса. Может быть, у них различное строение, хотя они и неотличимы на вид? Теперь останется проверка на обезьянах. Мы вводим одной группе концентрированную культуру того штамма, что убил охотника. Контрольная группа получает вирус, взятый из проб крови здорового жителя долины. Проходит три дня… Неделя… Десять дней. Обезьяны здоровы! Все до одной. Мы берем у них для анализа спинномозговую жидкость. В ней почти не осталось вирусов. Они не прижились, погибли, не причинив обезьянам ни малейшего вреда. Вечером мы докладываем об этих неутешительных результатах профессору Ташибаеву, нашему научному руководителю. Он слушает, не прерывая, расхаживает по просторному кабинету, заложив за спину руки и склонив коротко остриженную седую голову. Иногда он вдруг останавливается и вроде бы начинает, совсем забыв о нас, внимательно рассматривать узор на ковре, застилающем пол… — Так, — сказал профессор, когда я закончил рассказ о наших исследованиях. Подняв голову, он смотрел на нас задумчиво, но с какой-то легкой насмешкой. — Трудный орешек попался, а? Давайте все-таки подведем хоть какие-то итоги. Ташибаев подошел к обычной школьной доске, занимавшей почти всю стену кабинета, и взял в руки мелок. Эту привычку его мы хорошо знали. — Итак, что же все-таки вам удалось выяснить? Первое: обнаружен новый, прежде неизвестный науке вид вируса, особенно активно размножающийся в нервных тканях… — Рассуждая, он аккуратно записывал каждый пункт на доске. — Второе: есть серьезное подозрение, что именно этот вирус, а вовсе не вибрионы, вызывает болезнь Робертсона, будем пока называть ее так, по-старому… Третье: вирус этот патогенен только для человека, ни одного случая заражения им различных лабораторных животных, включая обезьян, не установлено. Ташибаев замолчал и несколько минут опять в задумчивости расхаживал по кабинету, склонив голову и рассматривая узоры на потертом ковре. Потом вернулся к доске и, поскрипывая мелком, вывел четвертый пункт. — Однако исследование вирулентности вновь открытого вируса осложняется тем, что он имеет некоторые штаммы или разновидности, не отличимые по внешнему виду, которые безвредны для человека. Профессор положил мел, тщательно вытер руки и, повернувшись к нам, спросил: — Кажется, все? — А вирус Б? — спросила Мария. — Что — вирус Б? — насупился профессор. — Никакого вируса Б не существует. Есть возбудитель лошадиного энцефаломиелита, которого где-то подцепил ваш охотник. Или вы сами занесли его в лабораторию. Так что следите лучше за чистотой опытов, а не думайте больше об этом вирусе. Дай бог с основным разобраться. Опять он начал молча ходить по кабинету. Мы думали об одном: как дальше подступиться к этому хитрому вирусу и “уличить” его? — Я вижу лишь один выход, Умурзак Расулович, — сказала Мария, откидывая прядку волос со лба. Ташибаев повернулся так резко, что не дал ей договорить. — Запрещаю! — строго сказал он. — Опыт на себе категорически запрещаю. — Но что же делать? — Маша начинала злиться. Впрочем, профессор ее тоже знает не первый год. — Наверняка будут еще случаи заболеваний, — задумчиво сказал Ташибаев. — Они дадут вам материал для новых анализов. И если каждый раз обнаружится этот вирус, патогенность его можно будет считать доказанной и без дополнительной проверки. Гораздо важнее сейчас выяснить, кто переносит и распространяет болезнь… Маша пыталась перебить его, но профессор остановил ее властным взмахом руки и продолжал: — Это нелегко, я прекрасно понимаю, поскольку вирус вы нашли и в песчанках и в москитах. Может быть, это различные штаммы вируса, а какой именно вирулентен, мы пока определить не можем. Все равно нужно выявить наиболее вероятных переносчиков и попробовать прервать цепочку в этом звене, поставить преграду болезни. А мы здесь попытаемся из ваших материалов создать лечебную вакцину. Возбудитель оспы был открыт лишь через сто лет после того, как Дженнер предложил делать прививки от этой болезни. Сколько людей было этим спасено, хотя наука и не знала виновника заболеваний! — Он внимательно посмотрел на Машу и, погрозив пальцем, добавил: — Еще раз повторяю: никаких рискованных опытов! Поверьте мне: болезнь сама еще даст вам немало материала для дальнейших исследований. А когда мы зашли к нему попрощаться перед отъездом, профессор Ташибаев задержал меня в кабинете, крепко ухватил за пуговицу пиджака и внушительно напутствовал: — Очень прошу вас, Сережа, — будьте неумолимым начальником. Пока не установлен бесспорно ни возбудитель, ни переносчик болезни, все вы ходите по лезвию бритвы. Понимаешь? Одно неосторожное движение — и… Требуй, чтобы все строго соблюдали меры предосторожности. И особенно следи за Машей!УДАР В СПИНУ
Я раздобыл в Ташкенте маленькую переносную гидростанцию; в разобранном виде ее легко было перевезти в тюках на лошади. Мы установили ее на берегу Черной воды и устроили настоящую иллюминацию по случаю возвращения в лагерь. Николай Павлович и Женя приготовили нам торжественную встречу. Накануне Женя ходил с Селимом в горы, и наконец подстрелили архара. Мы сидели у костра, уплетали шашлык, запивая его чешским пивом, привезенным из Ташкента, а над нашими головами, затмевая звезды, сияли четыре лампочки по триста свечей. — Хозяин решит, что мы подожгли речку, — сказал Женя. — Ну что, теперь чайку? — Не беспокоил он вас тут? — спросил я. — Нет, притих. — И ничего… подозрительного больше не было? — Вроде нет, — пожал плечами Женя и добавил многозначительно: — Хотя чей-то сигаретный окурочек я нашел в траве… — Где? — Неподалеку от лагеря. Значит, кто-то бродит возле нашего лагеря. Кто он? И что ему надо? Сегодня, когда мы заглянули в больницу, чтобы рассказать о привезенных новостях и подарить кое-какое оборудование, доктор Шукри сказал, что, как ни печально, я был прав в своих подозрениях. — Кто-то в самом деле наведывается к вам в долину. Доктор Али говорил мне, что однажды он осматривал овец на пастбище возле дороги, ведущей к вам в долину, и заметил какого-то незнакомого человека, спускающегося с перевала. Он окликнул его, но незнакомец пришпорил лошадь и быстро ускакал. — Как он выглядел? — Али не разглядел как следует, заметил только, что он был на белой лошади. Это не здешний, поверьте мне. Никто из местных не решится заглянуть в долину. Даже жандармы боятся, а то бы хаким непременно дал вам охрану. — Ну, охрана нам не нужна… Возле ламп тучами вились москиты. Я не удержался и расстелил на земле лист бумаги, смазанный маслом. Москиты обжигались, падали на бумагу и прилипали к ней. Оставалось лишь собрать их и рассортировать по пробиркам. — Видать, соскучился ты по исследовательской работе, — подтрунивал надо мной Женя. — А нам тут без вас все уже порядком надоело, правда, Николай Павлович? — Ладно, — напала на него Мария. — Вот мы утром проверим, что ты тут без нас сделал полезного. Небось все со своими муравьями возился. — А что? Похоже, мои наблюдения принесут больше пользы для науки. Есть тут неподалеку от селения большая колония муравьев-жнецов. Крупные такие, головастые. Я за ним л специально слежу. Питаются они исключительно семенами, а хранят их в особых кладовых, которые непременно должны располагаться во влажной почве. Так что по гнездам этих муравьев можно уверенно искать, где ближе к поверхности прячутся подземные воды. Я начал такую схемку составлять, вот вам и реальная польза. — Женя потянулся и повернулся к Николаю Павловичу. — А вы чего молчите? Николай Павлович тут без вас настоящее открытие сделал. Только скромничает, молчит. — Что за открытие? — спросил я. Николай Павлович пожал плечами: — Да так… Некоторые любопытные наблюдения над овцами… — И архарами, — вставил Женя. — Мы тут без вас частенько охотились, материал был. — Да, и над архарами, — кивнул Николай Павлович. — Завтра я вам покажу записи. — Но в чем все-таки дело? Что такое? — нетерпеливо спросила Мария. — Эти вибрионы поражают копыта у овец. Я специально, когда ходил в поселок, осматривал стада, пригнанные из этой долины. У очень многих овец сильно повреждены копыта. Брал у них кровь на анализ, мне тут доктор Шукри помог, и каждый раз обнаруживал вибрионы. Я вам завтра покажу материалы. И архары страдают этим заболеванием. Я рассеянно киваю и, чтобы не обижать Николая Павловича, соглашаюсь: — Хорошо, вставим в план работ. А сам думаю: когда нам заниматься овечьими болезнями, если смерть ходит кругом и уносит людей? Овцы подождут, и пусть ими ветеринары занимаются. Мария, видно, думала примерно то же самое, потому что, невежливо зевнув, сказала: — Любопытно, но давайте спать. Очень я устала. С утра мы взяли анализы у всех наших лошадей на вирус энцефаломиелита, доставивший нам так много хлопот и тревог, заложили их в термостат и снова разбрелись по маршрутам (забегая вперед, скажу, что все лошади оказались здоровы и загрязнение материалов вирусом Б опять пока так и осталось загадочным). Меня несколько задело, что Селим в этот день не пришел: ведь мы не виделись почти две недели. Хотя его и вчера не было. Видимо, задержали какие-то дела по хозяйству, а то бы он непременно пришел нас встретить. Но дела оказались гораздо серьезнее. В полдень я, ловя в зарослях москитов, вдруг услышал со стороны перевала три глухих выстрела. Это был условный сигнал тревоги, но кто его мог подавать: ведь в той стороне никто из наших сегодня не работал? Через некоторое время выстрелы прозвучали снова — три подряд. И теперь я разглядел в бинокль: над перевалом поднимается черный дымок. Похоже, там кто-то зажег сигнальный костер, пытаясь привлечь наше внимание. Я поспешил в лагерь, где Мария сегодня работала в лаборатории. — Слышал, Сережа? — бросилась она ко мне навстречу. — По-моему, это какие-то сигналы. — Похоже. — Что бы это могло быть? — Не знаю… Сейчас поеду туда. Быстро оседлав лошадь, я поскакал на перевал. Там меня поджидал у дымного костра знакомый старичок санитар из поселковой больницы. — Селям алейкум, ата, — приветствовал я его. — Что случилось? Он молча протянул мне сложенный листочек бумаги, подавая его так, чтобы ненароком не прикоснуться к моей руке даже кончиками пальцев. Это сразу меня насторожило. Я развернул листок и прочитал: Уважаемые коллеги! Заболел Селим. Было бы хорошо, если бы кто-нибудь из вас приехал. Да хранит вас всемогущий аллах! С искренним почтением. Доктор Шукри. Пока я читал, санитар уже успел сесть на лошадь, дремавшую втени скалы. — Подожди, ата, я поеду в поселок, а ты скачи в наш лагерь, я дам записку, что нужно привезти. Он испуганно замотал головой и начал нахлестывать свою лошаденку. Было ясно, что спуститься к нам в долину его не заставишь никакими силами. Придется мне вернуться самому в лагерь, чтобы оповестить товарищей. — Скажи доктору, что мы скоро приедем! — только и успел крикнуть я вдогонку перепуганному посланцу, и он уже скрылся за поворотом. Мы с Марией и Николаем Павловичем приехали в поселок уже под вечер. Весть о болезни, видимо, уже встревожила всех. Проезжая мимо притихшего базара, мы ловили настороженные, враждебные взгляды. Сумрачный и неразговорчивый, против обыкновения, доктор Шукри показал нам первые записи в истории болезни Селима. Доставлен в больницу вчера, но недомогание чувствовал уже за два дня до этого. Сейчас температура 39,2, одышка, жалуется на ломоту в суставах… — Может быть, тоже сыпняк? — спросил я. Доктор Шукри развел руками и коротко ответил: — Но на этот раз сыпи нет. Его опытности можно было довериться, мы уже убедились. И все-таки меня не оставляла надежда, что Шукри ошибся. Пусть это не сыпняк, а какой-нибудь энцефаломиелит, только бы не… Но прошел еще день, и нам всем стало ясно: да, это болезнь Робертсона. И мы уже знали, что будет дальше. Завтра у Селима начнутся дикие головные боли, от которых этот сильный и всегда сдержанный человек станет метаться в беспамятстве и бросаться на стены. Он будет худеть у нас на глазах, превращаясь в скелет, обтянутый желтой кожей, и мы ничем не сможем помочь ему. Еще через два дня нашего друга Селима разобьет паралич. А затем остановится сердце… Селим лежал в той же маленькой палате на втором этаже, где когда-то мы впервые увидели, как убивает людей эта страшная болезнь. Когда мы вошли, он еще нашел силы улыбнуться нам и приветственно приподнять слабую, исхудавшую руку. — Как же это ты, Селим? — спросил я, наклоняясь над ним и пожимая эту руку, спасшую меня от гибели. — Иншалла, — виновато ответил он. Потом осторожно отстранил меня и добавил, обращаясь к доктору Шукри: — Господин Шукри, я прошу записать, что русские друзья ни в чем не виноваты. Я сам, по своей воле, вызвался помогать им. Не их вина, если всемогущий аллах карает меня смертью. На все его воля. Мы сделали несколько инъекций. В лихорадочно горящих глазах Селима я читал страстную надежду, что наши лекарства все-таки каким-то чудом спасут его. Но мы-то знали, что бессильны против этой болезни. В лучшем случае удастся лишь немного умерить боль на первое время. Мы были бессильны. И болезнь неотвратимо убивала его на наших глазах, точно так, как было известно заранее. Он скрипел зубами и метался от боли, не узнавая нас, и мы помогали санитарам скручивать ему руки, привязывали его к железным прутьям кровати… На третий день Селим впал в беспамятство. Лицо его исказил паралич. К вечеру четвертого дня все было кончено. На похороны мы не пошли. Доктор Шукри сказал, что дервиши на базаре распространяют о нас всякие вздорные слухи, лучше нам не появляться на людях, пока не улягутся страсти. — К тому же начался, как говорил мне доктор Али, какой-то непонятный мор среди скота, — добавил он, отводя глаза. — И считают, будто в нем виноваты мы? — спросил я. Доктор Шукри молча кивнул и развел руками. Теперь мне стало понятно, почему за все время болезни Селима нас ни разу не навестил доктор Али. Ему было не до нас. Но неужели и он разделяет эти вздорные суеверия? Я видел его как-то раз мельком на улице, приветственно помахал ему, но он почему-то не ответил, хотя не мог не заметить меня. Обидно!.. Мы покинули поселок рано утром, как воры, увозя с собой образцы крови поврежденных, болезнью тканей и мозга нашего покойного друга… Всю дорогу мы ехали молча, погруженные в невеселые думы. Враг по-прежнему неуловим. Мы его ищем, словно в прятки играем с завязанными глазами. А убийца вот он, рядом и нанес удар в спину. Вернувшись в лагерь, мы так же молча, угрюмо поужинали и разошлись по палаткам. Я долго не мог уснуть, все перебирая в уме факты, которые мы установили. И все больше убеждался, что мы почти не продвинулись вперед. Признать это было горько. Николай Павлович тоже не спал, тяжело вздыхал, ворочался рядом в темноте. Но молчал, словно мы оба сговорились притвориться спящими. Утром за завтраком Женя уныло спросил меня: — Ну, шеф, какие будут дальнейшие указания? — Как обычно, — ответил я, пожав плечами. — Снова стрелять все, что под руку подвернется? — А ты можешь предложить какой-то более продуманный план? — Сергей прав, — вмешалась Мария. — Пока у нас нет никакой даже самой тоненькой ниточки, за которую можно было бы ухватиться, остается одно — набирать как можно больше материалов. Женя молча встал, закинул на плечо винтовку, хмуро буркнул: — Я обойду заречную часть. — Хорошо, — кивнул я. Он, сутулясь, ушел. Мария, наскоро помыв посуду, ушла в лабораторию работать с препаратами — с новыми препаратами, пополнившими нашу коллекцию со смертью Селима… А я сел за стол под тентом, чтобы написать докладную о трагическом ЧП — гибели Селима. Ведь он был членом нашей экспедиции, я нанял его, платил ему зарплату. И теперь обязан составить докладную по всей форме, чтобы телеграфом переслать в институт. Долго я всячески оттягивал это невеселое занятие: перекладывал бумажки на столе, искал камень потяжелее, чтобы придавить их этим камнем вместо пресс-папье… Потом долго передвигал стол, чтобы он как можно дольше оставался в тени. Но писать все-таки надо. А что? Я задумался, сжимая виски кончиками пальцев. — Ты что, не слышишь? — наконец добрался до моего сознания раздраженный голос Марии; она выглядывала из палатки. — Кричу, кричу, а ты словно оглох. — Ты же видишь, что я занят делом. — Помешала? Извини, пожалуйста. Но мне нужен свежий глаз. Тут что-то непонятное. — Что? — Иди сюда и посмотри. С удовольствием покинув место своей казни, я пошел в лабораторию. — Ну, что? — Посмотри в микроскоп. Я посмотрел. Без всяких вопросов было ясно, что передо мной капелька крови покойного Селима. И на этом алом фоне весело сновали и резвились давно знакомые вибрионы. — Ты ничего не замечаешь? — тихо спросила над самым моим ухом Мария. — Нет. А что? — Может, мне это кажется… Глаза устали. Но, по-моему, они разные. Тебе не кажется? Я снова склонился над окуляром. Обычные вибрионы, все одинаковые. — Некоторые как будто движутся медленнее, лениво, — сбивчиво зашептала Мария, жарко дыша мне в самое ухо. — И они чуть-чуть потолще… словно раздуты. Видишь? Пожалуй, в самом деле вот этот вибрион движется медленнее, чем другие. Они обгоняют, подталкивают его… Но внешне он ничем не отличается от них. А вот еще один, тоже заметно медлительнее прочих. И, похоже, в самом деле, прозрачное тельце его слегка раздуто в боках… — Ну что ты молчишь? Видишь ты что-нибудь или это мне показалось? Я отрываюсь от микроскопа. Некоторое время мы с Марией молча смотрим друг на друга, словно пытаясь так, без слов, обменяться мыслями. Потом я спрашиваю: — Ты думаешь, что это два разных вида? Мария пожимает плечами, и я отвечаю сам себе: — Вряд ли. Они совершенно идентичны… — Только медленнее двигаются, — перебивает меня Мария. Мы снова задумываемся, глядя друг другу в глаза. — У тебя сохранились… — Да, — отвечает она, поняв меня с полуслова, и бросается к термостату. Я молча слежу, как она вынимает из него пробирки, в которых живут и размножаются на питательных тканях потомки тех вибрионов, что добыл еще доктор Шукри из крови больных, погибших в канун нашего приезда. Мы переглядываемся с Марией и опять понимаем друг друга без слов. Похоже, что это одни и те же вибрионы, а вовсе не два разных вида. Но часть из них поражена какой-то болезнью и лишь постепенно заражает и остальных. Может быть, именно эти “больные” вибрионы и разят людей? А что их делает “больными”? Вирус? Тот же самый, которого мы находим опять-таки всюду — и у больных, и у здоровых людей и животных? Неужели он становится опасным, лишь поразив сначала вибрион? — Ты сможешь как-то отделить “больные” вибрионы от нормальных? — спрашиваю я. — Конечно. — И взять вирусологические пробы тех и других? — Надеюсь. Да, но ведь придется ждать несколько дней, пока будут какие-то результаты!БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
Никто из нас не подозревал, какой оборот примут дальнейшие события и как они вдруг обрушатся на нас одно за другим, словно лавина… Надо было снова ждать, а лучшим лекарством при этом, как я уже много раз убеждался, была работа. И с утра я отправился в горы над рекой — ставить ловушки на сурков. Для новых исследований нам понадобятся живые зверьки. Когда солнце стало припекать невмоготу, я решил передохнуть и стал искать среди скал хоть небольшой клочок спасительной тени. Забрался в одну расщелину — нет, тут испечешься быстрее, чем на раскаленной сковородке. Полез дальше… И вдруг заметил черневшее в скале отверстие. Несомненно, это был вход в пещеру, в которой никто из нас еще не побывал. Надо бы осмотреть ее. Там наверняка прячутся днем летучие мыши, их тоже стоило добыть хоть парочку живьем. А где мыши, там и москиты, клещи. Очень важно узнать, какие вибрионы носят они в себе — обычные или “больные”? Добраться до пещеры было трудновато. Ход в нее располагался метра на полтора выше того места, где я стоял. Отвесная скала над рекой, перекатывающей внизу камни. Прийти сюда завтра с Женей или Николаем Павловичем и спуститься сверху на веревке? Во всяком случае, осмотреть пещеру нужно непременно, и чем скорее, тем лучше. Это ведь остался, пожалуй, один из немногих уголков, пока не исследованных нами. Кто знает, может, именно здесь нас и ожидают какие-нибудь открытия. Я уже научился карабкаться по здешним горам. Скала неровная, с выступами. Вот сюда можно поставить ногу, за тот выступ уцепиться… А дальше? Дальше есть небольшой карнизик, по нему можно пройти, вполне уместятся обе ноги. Зато в пещере сейчас прохлада… Я полез. Все шло благополучно; я успешно добрался до карнизика, решил немного постоять на нем и передохнуть. Дальше, похоже, будет еще проще. И тут вдруг огромный камень, лежавший на краю скалы прочно и недвижимо, наверное, уже долгие века, качнулся, сдвинулся с места и начал медленно валиться на меня… Я отшатнулся, потерял опору под ногами. И все потемнело в глазах от страшного удара, будто я провалился сквозь землю… Очнулся я от резкой боли где-то в ноге. Полная тьма. Пробую открыть глаза — все равно ничего не вижу: что-то плотно сжимает мне голову. И вдруг отчетливо слышу почему-то голос доктора Шукри. Откуда он взялся? И почему он говорит кому-то: — Тампон… — Где я? Откуда-то взялась Мария и радостно восклицает: — Он очнулся, доктор! Слышите? Почему я не вижу ее? Я шарю вокруг правой рукой, пытаясь выбраться из этой непонятной тьмы, — левая почему-то не двигается — и к полнейшему удивлению нащупываю не камни, а накрахмаленную простыню, край стола. Как я попал на этот стол? — Якши, доктор, якши? — безбожно коверкая язык, допытывается у кого-то Мария. И невидимый понимает ее, отвечает уклончиво знакомым голосом доктора Шукри: — Иншалла… Конечно, это он. Его любимая отговорка. — Где я? — снова пытаюсь я приподняться. — Лежи, лежи! — Ласковые руки Марии осторожно, но настойчиво придерживают меня за плечи. — Ты в больнице. — В какой больнице? Зачем? — Ты сорвался со скалы, понимаешь? Тебя немножко засыпало камнями… Но это не опасно, раз ты очнулся. Мы привезли тебя сюда, сейчас доктор Шукри-ата закончит перевязку, и все будет в порядке. Неужели это старик столкнул на меня камень? А я уж думал, что он оставил нас в покое. — А почему ничего не видно? Я что — ослеп? — Ну что ты! — пугается Мария. — Просто у тебя лицо… немножко поранено, не пугайся. Пришлось на время забинтовать голову. А вот и Женя идет, он готовил тебе палату. — Зачем мне палату? Везите меня обратно в лагерь. — Нельзя, дорогой, нельзя, — вмешивается доктор Шукри, видно, понявший мое желание. — В походных условиях весьма трудно соблюдать антисептику, не вам мне это объяснять. А здесь вы будете как дома, мы приложим все силы. — Доктор Шукри, я знаю, как у вас тесно, — пытаюсь я спорить, вертя головой и стараясь догадаться, где он стоит. — Нельзя, дорогой, нельзя, — отвечает он совсем с другой стороны, чем я ожидал. Товарищи мои уезжают в лагерь продолжать работу, а я остаюсь в больнице. Скучно и невесело лежать забинтованным, не видя буквально света белого. Да и к тому же мысли довольно мрачноватые одолевают: только что-то начало проясняться, работы непочатый край, и вот в такое горячее время я так глупо вышел из строя. Каждую свободную минутку заходит доктор Шукри, и мы ведем с ним длинные медицинские беседы, пока его не вызовут к очередному пациенту. За мной все ухаживают, словно за самым дорогим гостем. Повар Бедиль лично приходит каждое утро и не отступается от меня, пока не закажу что-нибудь повкуснее на обед. Дважды заходил доктор Али справиться о моем здоровье. Держался он опять приветливо, как и прежде, и я даже не решился расспрашивать его об этом падеже скота, который связывали с болезнью Селима и приписывали нам какую-то вину. Видимо, все окончилось благополучно, зачем затрагивать неприятные темы… Но вот доктор Шукри снимает наконец-то опостылевшую повязку, и я, жмурясь от яркого света и помаргивая, словно прозревший слепец, разглядываю в зеркале свое покореженное лицо. Я ждал, что меня навестит Мария и обо всем расскажет, но через день приехали Женя с Николаем Павловичем и даже вдвоем не могли рассказать ничего нового. — Опытов заложено много, но результатов придется еще подождать денька два, вы же сами должны понимать, Сергей Николаевич, — увещевал меня Николай Павлович. — Понимаю, — вздохнул я. — А как ваши исследования? — Какие? — Да с копытами. Николай Павлович помрачнел и махнул рукой: — Да оказывается, это уже известно. Доктор Али сказал мне, что давно изучает эту болезнь скота и уже отправил статью куда-то… в какой-то английский журнал. — Ну, это ничего не значит, — попытался я его утешить. — Ваши исследования тоже могут оказаться интересными. Разве дело в приоритете? Николай Павлович посидел у меня немного и заспешил на базар, а Женя еще остался. От огорчения, что нет пока никаких приятных новостей, я, признаться, разговаривал с ним довольно вяло и неохотно. — Чего ты злишься? — спросил он. — А чего ты мне не можешь ничего толком рассказать, что у вас там делается? — Ты же знаешь Марию. Ничего она нам не докладывает, а возится в лаборатории каждый день до полночи. — Возится, да толку что. А ты небось все с муравьями забавляешься… — А что, у них тоже есть чему поучиться. Я вчера наткнулся “а колонию горных черных муравьев. Они знаешь как ловко умеют от холода спасаться? Как морозец ударит, начинают глицерин вырабатывать, бывает, до десяти процентов от собственного веса. Давно ли мы додумались добавлять глицерин в радиаторы, чтобы они не замерзали? А природа, оказывается, запатентовала это изобретение, наверное, несколько миллиардов лет назад. Мы помолчали. Потом я сказал, положив ему руку на плечо: — Ладно, старик, ты меня извини. Просто надоело тут лежать. — Понятно… Мария приехала через два дня, когда я уже всерьез подумывал ночью вылезти в окно, спуститься со второго этажа по столбику террасы и сбежать в лагерь. Я уже раскрываю рот, чтобы обрушиться на нее за то, что так долго держала меня в полнейшем неведении, но Маша опережает меня. — У всех заболевших два вида вибрионов, а у здоровых — только один! — выпаливает она, еще стоя в дверях. Так… Неужели мы нащупали заветную ниточку? Через минуту мы сидим с ней прямо на полу, не обращая внимания на негодующие монологи славного доктора Шукри, тщетно призывающего на помощь аллаха. Мария раскладывает передо мной целую кипу лабораторных записей, анализов, графиков, выписок из историй болезней. — Вирус один и тот же, хотя, может быть, штаммы и разные; это можно проверить только в Ташкенте, — поясняет она. — Но мне кажется, болезнетворным становится он лишь тогда, когда поразит вибрион и при каких-то, пока неясных, условиях завершит в нем определенный цикл развития. Она рассказывает, что начали выборочно проверять всех грызунов на уже обследованных раньше участках: какие у них вибрионы — пораженные вирусом или обычные? — Проверили мы и архаров. Женя с Николаем Павловичем специально подстрелили трех в различных местах. У всех из них найдено оба вида вибрионов: и болезнетворные, и неопасные. Ты будешь ругаться, но… я даже не удержалась и взяла пробу у одной из овец из отары Хозяина! — ликующе продолжает Мария. — Ты с ума сошла? — пугаюсь я, показав ей глазами на доктора Шукри. — Ничего, он нам сколько мешал, противный старик. Я, конечно, извиняюсь, может, некоторые его и считают святым. Да он ничего и не заметил. Подкараулили овцу в зарослях, Женя отогнал собак, а я быстренько взяла пробу и отпустила ее. Даже не заблеяла… — Ну и что? — У нее тоже два вида вибрионов, понимаешь? — значительно произносит Мария. — Материалы такие интересные, что я даже не решилась оставить их в лагере. Привезла сюда, в холодильнике у Шукри они лучше сохранятся… Так, значит, болезнь переносят архары и овцы, а вовсе не грызуны, как мы предполагали. И москиты с клещами тут ни при чем. Неужели мы напали на верный путь?! До вечера мы втроем с доктором Шукри, давно переставшим ворчать на меня за нарушение больничной дисциплины, обсуждаем это открытие и намечаем, как вести исследования дальше. Надо проверить, не содержат ли опасных вибрионов с вирусами овцы в здешнем поселке, особенно в отарах, пригнанных сюда беженцами из долины. Это берет на себя доктор Шукри. — Но с условием, что вы еще хотя бы два дня не встанете с кровати! — говорит он мне, строго грозя пальцем, пожелтевшим от йода. — Я же прекрасно вижу, что вы так и норовите сбежать. Но нельзя, видит аллах, нельзя. Вы увлечетесь работой, полезете опять в горы, раны откроются, и вам конец, иншалла. Так что на этом условии, дорогой мой, я категорически настаиваю! Как ни пытаюсь я его переубедить, он остается непреклонным. И Мария к тому же его поддерживает. — Ладно, но это последние два дня! — сдаюсь я. — И с условием, что завтра вы мне дадите самому проверить все образцы, привезенные Машей. Холодильник у вас хороший? — Отличный, американский. Во всяком случае, самый лучший на добрую сотню километров вокруг, — засмеялся Шукри. — Не беспокойтесь. — Простите, я стучал, но вы так увлеклись… Мы оглянулись и увидели в дверях доктора Али. — Добрый вечер! У вас хорошие новости? — Да, дорогой коллега, кажется, мы наконец напали на верный след, — ответил я, потирая руки. — Поздравляю. Все-таки вирус? — И вирус, и вибрион! — Как так? Два возбудителя? Вы заинтриговали меня. Не буду вам сейчас надоедать, но завтра вы мне все расскажете. Я пришел взглянуть на вашу заболевшую лошадь, дорогой Шукри. Но вы сейчас заняты, я зайду попозже или утром… — Вы пройдите на конюшню, дорогой друг, конюх вам ее покажет, а я скоро освобожусь, — сказал доктор Шукри. — Отлично. До свидания! — И доктор Али с поклоном закрыл дверь. Все ушли, а я расхаживаю по комнате и думаю, думаю… Похоже, мы в самом деле напали на правильный путь. Болезнь, несомненно, переносит вирус, завершивший свое развитие в вибрионе. Только тогда он способен поразить человека. А передают людям этих вибрионов, “заминированных” вирусами, горные архары и овцы, вероятнее всего именно овцы: ведь в кошарах тут царит неимоверная грязь. Ну а дальше? Кто же хранит болезнь в природе и передает ее овцам? Грызуны? Но через кого? Похоже, цепочка тут обрывается. Какое-то звено пока остается скрытым от нас. И если даже кто-то из грызунов, неведомый пока нам, и хранит в своих норах болезнь, то совершенно непонятно, как же он может передать ее потом овцам или архарам. Ведь они травоядные, грызунами не питаются… Обычно переносят возбудителя болезни кровососущие насекомые — клещи, комары, москиты. Насосутся крови больного грызуна, а потом заразят человека или овцу. Но с этой злополучной болезнью Робертсона дело обстоит иначе. Ведь мы точно установили, что в москитах никогда не бывает вибрионов, клещи никогда не заражаются вирусом, а комаров тут почти нет. Значит, ни те, ни другие не могут переносить вибрионы, пораженные вирусом. Но кто же тогда распространяет болезнь по всей долине? Темно, темно, много еще непонятного… И работы нам предстоит немало, пока распутаем весь клубочек загадок до конца. Опять я расхаживаю по комнате, то и дело присаживаясь к столу, чтобы записать возникающие мысли. Как я накурил! Достанется мне от милейшего Шукри. Я распахнул окно. Жалко, оно затянуто частой сеткой от москитов, не высунешься. Я приложил лоб к холодной сетке, с наслаждением вдыхая бодрящий вечерний воздух, настоявшийся за день, словно вино, на цветах и душистых травах. Поселок уже спал, только кое-где мерцали в окнах редкие огоньки. Вдруг мне послышался какой-то скрип на деревянной галерейке, тянувшейся вдоль стены. В свете луны маячила чья-то черная тень. Вот она медленно двинулась дальше… Кто это мог быть? Высунуться из окна и рассмотреть его мне мешала сетка. Хороший человек не станет таиться и красться, как вор. А если это и в самом деле вор?! Я вышел в коридор, стараясь не скрипеть половицами, быстро подскочил к двери, выходившей на галерею, и распахнул ее. Черная фигура шарахнулась от меня и побежала по галерее. Я кинулся за ней. Незнакомец уже скрылся за углом дома. Я сделал большой прыжок, рискуя обрушить вниз ветхую галерею, завернул за угол и успел схватить убегавшего за локоть… Но в тот же миг он полоснул меня по руке ножом, и я, вскрикнув, выпустил его. Вор не стал мешкать. Он спрыгнул с галерейки в сад и убежал, ломая кусты. Внизу забегали, зашумели. Доктор Шукри кричал кому-то: — Принеси огня с кухни, негодяй! — Сюда! Ко мне! Ах, подлец… — закричал кто-то в дальнем углу сада, где была конюшня. Туда побежали с фонарем. Держа раненую руку на весу, чтобы не перемазаться кровью, я спустился вниз. — Что с вами? — бросился ко мне навстречу перепуганный доктор Шукри. — Кто-то пытался влезть через галерею в больницу. Я хотел его задержать. Он ударил меня ножом, — пояснил я, поднося руку к свету. — Ножом? — переспросил доктор Шукри, рассматривая рану. — Ножом?! — повторил он, поднимая голову и ошеломленно глядя на меня. — Нет, этого не может быть, аллах не допустит… И он снова уставился на мою рану, словно не веря собственным глазам. — Ну что вы так встревожились, ведь рана совсем неглубокая, — попытался я его успокоить. Но почему-то мои слова еще больше взволновали добрейшего Шукри. — Да, вот именно, она совсем неглубокая! — закричал он на весь дом. — Она совсем-совсем неглубокая. Где он?! — Кто? Вор? Он убежал, если его только не успели схватить там, у конюшни, — сказал я. — У конюшни? — Да, он побежал туда, я слышал какие-то крики. — Хотел бы я посмотреть на этого вора, решившегося осквернить… — начал грозно доктор Шукри и замолчал при виде людей, приближавшихся к нам по тропинке из глубины сада. Два санитара бережно поддерживали за локти доктора Али, конюх светил им фонарем. Левая рука у Али болталась, как плеть, он весь был залит кровью. — Что с вами? — бросился я к нему. — Похоже, что то же, что и с вами, — с кривой усмешкой ответил он. — Я только вышел из конюшни и хотел идти домой, как вдруг услышал шум, на меня налетел в темноте какой-то человек. Я попытался задержать его и вот… Он показал окровавленную руку. — И вас порезал? — ахнул я. — Вот негодяй! Доктор Шукри осмотрел рану Али и пробормотал: — Да, точно такой же порез. Потом он отвел нас в операционную, сам обработал наши раны и наложил повязки. Он был так подавлен, что я снова стал утешать его. Но он словно не слышал меня, время от времени бессвязно бормоча: — Вор… Вор в моем доме! О аллах, аллах… Доктор Али попрощался и ушел домой. Я поднялся к себе в палату. Постепенно в доме все угомонились… Я лег, но никак не мог заснуть, взбудораженный этим глупым происшествием. Да и рана слегка ныла. Потом я снова начал думать о работе и незаметно задремал… И вдруг вскочил, услышав торопливый цокот копыт по камням, тревожные голоса под окном, — мне явственно послышался среди них голос Марии! В окно ничего не видно, оно выходит в садик, а крыльцо за углом. Голоса доносятся оттуда, и там почему-то горит факел. Его тревожный, зыбкий багровый отсвет сразу заставляет почему-то подумать о пожаре, беде… Я бросаюсь к двери и сталкиваюсь с Марией. Голова у нее непокрыта, волосы растрепал ветер. — Беда, Сережа, — еле выговаривает она запекшимися губами. — Заразился Женя.СТРАШНЫЕ ДНИ
Когда на твоих руках умирает друг… Нет, я не могу подробно рассказывать о последующих страшных днях. Судя по календарю., их было всего десять. Но мы постарели за это время по меньшей мере на десять лет… Сначала мы мчались по горным дорогам на старом, готовом вот-вот развалиться санитарном автомобиле, который раздобыл доктор Шукри. На границе нас ждал самолет, и через два часа мы были уже в Ташкенте, в родном институте. Но что толку? Ни самые опытные профессора, ни новейшие препараты не могли спасти нашего товарища. Спасти его могли бы только мы сами, если бы успели к этому времени разгадать тайну проклятой болезни. Но мы не успели. — Мы здесь, кажется, уже нащупали, как создать вакцину, — сказал мне мрачно профессор Ташибаев. — Случись это несчастье месяцем позже, мы, наверное, сумели бы предохранить его от заражения. А пока… Женя держался поразительно, хотя, как мне казалось сначала, первое время не отдавал себе отчета, насколько все обстоит серьезно. Он не хотел, чтобы мы везли его в Ташкент, и подтрунивал, что вот, дескать, горе-лекаря: не могут отличить болезнь Робертсона от простой лихорадки. Прощаясь с Николаем Павловичем, который оставался в лагере, Женя сказал: — Вы тут, пожалуйста, моих муравьев голодом не заморите. Вернусь, чтобы они не жаловались. Но с каждым днем становилось очевиднее, что вернуться снова в наш лагерь ему уже не удастся. Женя не мог не понимать этого, потому что отлично видел, как ход его болезни неумолимо повторяет с точностью не только по дням, но даже и по часам трагедию Селима. Никаких сомнений уже ни у кого не оставалось: его поразила беспощадная болезнь Робертсона… И все-таки Женя не сдавался. Мы с Машей дежурили возле него днем и ночью, и он все время заводил длинные разговоры о том, кто из грызунов может хранить болезнь, где она прячется, по его мнению, осенью и зимой, в перерывах между эпидемиями, какие исследования надо провести, чтобы выявить все звенья цепочки распространения болезни от животных к людям. Признаюсь, порой мне это начинало казаться какой-то глупой мальчишеской бравадой. Но однажды, когда Марии не было в палате, Женя вдруг сказал мне спокойно и строго: — Ты думаешь, я бодрюсь, стараюсь себя успокоить игрой в героического деятеля медицины? Изображаю из себя этакого книжного бодрячка, которому все нипочем, даже собственная смерть? Эх ты, психолог! Я просто твердо знаю, что умру. Нет у вас для меня лекарства, лекаря. И хочется мне напоследок найти, нащупать хоть кончик той ниточки, за которую потянешь — и распутается весь клубок, понимаешь? Чтобы я и дальше распутывал его вместе с вами, потом… — И кивнув на потрепанный блокнот, лежавший на тумбочке возле кровати, добавил: — Ты его полистай потом, может, что и пригодится. На седьмой день у него помрачилось сознание. А на рассвете девятого дня, когда за распахнутым окном в институтском саду только начинали весело перекликаться просыпающиеся птицы, наш товарищ Евгений Лаптев скончался. Через три дня после похорон мы с Марией выехали обратно в долину. Профессор Ташибаев хотел было заменить ее кем-нибудь из сотрудников института, но Мария только молча посмотрела на него, и он сразу заговорил о другом. До границы мы ехали на поезде. В купе нас было только двое. Маша все время лежала на верхней полке и смотрела в потолок. Я не находил себе места, то и дело выходил в коридор курить, без всякой нужды начинал — в какой уже раз- осматривать и перевязывать тюки с оборудованием, потом достал затрепанный блокнот погибшего друга и снова начал листать его. В этих отрывочных записях не было никаких откровений или открытий. Случайные наблюдения над животными вперемежку с выписками из понравившихся книг, какие-то рисунки, пометки о разных забавных черточках, подмеченных мимоходом у кого-нибудь из нас. Женя многим интересовался, и глаз у него был острый, цепкий. “…Удивительно все-таки, сколько опасных силков расставила повсюду природа человеку! Какие только болезни не таятся, например, в норах грызунов: и чума, и таежный энцефалит, и бешенство! Причем многие из них для самих животных неопасны, а губительны лишь для человека. Начинает казаться, будто слепая природа прямо-таки с иезуитским коварством расставила капканы в диких, труднодоступных местах и терпеливо ждет миллионы лет, когда туда придет человек. Ведь микроб чумы, как уверяет Машка, старше человека по крайней мере на пятьдесят миллионов лет. Что же, рассматривать его как этакую живую мину поразительно замедленного действия?! Но это, конечно, лишь кажется. Просто все живое нуждается в определенной среде для нормального существования. И повсюду идет вечная, бесконечная борьба за существование, за выживание наиболее приспособленных. Человек лишь случайно порой “вваливается” в эту схватку микробов между собой. Академик Павловский, создавший замечательное по своей стройности и глубине учение о природной очаговости болезней, писал: “Болезни с природной очаговостью стары для природы и новы лишь в отношении времени и условий поражения ими людей и еще более новы, если судить о времени, когда врачи научились правильно их распознавать”. Блестящий зоолог, микробиолог, путешественник, страстный фотограф — чем только не увлекался этот замечательный старик! Вот у кого надо поучиться…” “Никак не удается подобраться поближе к архарам и понаблюдать за ними. Сегодня наткнулся на большое стадо. Подошел метров за двести. Они смотрели на меня и совершенно не пугались. Но едва двинулся дальше, вожак подал сигнал, и стадо умчалось. Даже к спящим архарам не подкрадешься. Они хитрые: всегда устраиваются где-нибудь возле колонии сурков. При малейшей тревоге сурки их вспугивают своим свистом, и бараны убегают…” Я листал страницу за страницей, не особенно вчитываясь. В глаза лезли лишь отдельные записи, другие слоено застилало туманом. “…Очень меня заинтересовало, что некоторые муравьи возле пятого муравейника почему-то странно себя ведут. Они совсем не участвуют в общей жизни муравейника, а, облюбовав себе какую-нибудь травинку повыше, забираются на нее и сидят там неподвижно, вцепившись жвалами в листовую пластинку. Я пометил некоторых лаком для ногтей, который взял у Машки, — на другой день все они снова оказались висящими на травинках. Зачем они это делают? Сошли с ума? Еще одна загадка. Как говаривал дедушка Крылов: “Весьма на выдумки природа таровата…” Интересно, уходят ли эти “рехнувшиеся” муравьи хоть на ночь в муравейник или висят так целыми сутками? Но как это проверить? И так все в лагере глумятся над моим увлечением муравьями”. …“Видел издали Хозяина и опять стал думать: почему же не заболевает этот зловредный старец? Ведь должна быть какая-то причина. Маша считает, будто у него выработался иммунитет. Но тогда можно, значит, и у других людей выработать невосприимчивость к болезни, над загадкой которой мы так безуспешно бьемся? Ну, это уж нашим медикам виднее. Я тут профан…” Ну, а дальше опять про муравьев… Я отложил блокнот и стал смотреть в окно. А Мария все лежала наверху на полке й молчала как мертвая.КАПКАН ЗАХЛОПНУЛСЯ
И вот мы снова в долине. Вечер. Бормочет в камнях река. Мы опять сидим у костра — только уже втроем, а не вчетвером… Николай Павлович, видно, сильно скучал один и теперь отводит душу в бесконечных рассказах с тысячами пустяковых подробностей о том, что он тут делал без нас, сколько подстрелил сусликов и полевок, как дважды встречался со стариком, но тот собак на него науськивать не стал — “видно, привык к нам…” — И поверите: как его встречу, даже вроде легче на душе становится — все-таки живая душа. В общем-то, если внимательно разобраться, он старик неплохой, только, конечно, темный, забитый, вот и пытался вредить… Я слушаю плохо, киваю и поддакиваю невпопад. Мария молча смотрит в огонь. Но Николаю Павловичу надо выговориться. Скверно у меня на душе еще из-за нелепого спектакля, который устроил нынче для чего-то доктор Шукри. Когда мы приехали в поселок и зашли к нему в больницу, принял он нас очень тепло и трогательно. Угощал чаем, расспрашивал о работе, не утешал и не произносил никаких громких слов, но мы все время ощущали, как глубоко и искренне он нам сочувствует. Среди нашей беседы в комнату без стука вошел какой-то полный седой человек в помятом и мешковатом сером костюме. — Разрешите представить вам моего старого, хорошего друга, — сказал доктор Шукри. — Давно обещал приехать ко мне погостить и наконец, когда, признаться, я уже совершенно перестал в это верить, неожиданно сдержал слово. Его зовут Абдулла Фарук Назири, но вы мои друзья и можете называть его просто “дядюшка Фарук”. Дядюшка Фарук только улыбнулся, приветливо покивал нам седой головой и молча уселся в уголке возле окна, на правах старого друга, видно, вовсе не считая, что может нам помешать. Мы поговорили еще с доктором Шукри о наших дальнейших планах и уже собирались прощаться, как вдруг он удивил нас странной просьбой. Сначала доктор зачем-то подошел к двери и выглянул в коридор, потом тщательно закрыл ее, сел рядом со мной и, доверительно положив руку мне на колено, зашептал: — У меня будет к вам одна просьба, дорогой коллега. Маленькая просьба, хотя и несколько щекотливого свойства… — Какая? Доктор Шукри встал, подошел к холодильнику и достал из него большой медицинский термос, который мы привезли ему прошлый раз из Ташкента. Поставив осторожно термос в центре стола, Шукри снова подсел ко мне и опять зашептал как заговорщик: — Я объявлю всем, что вы наконец-то создали и привезли вакцину от этой проклятой болезни. Она здесь… Он показал на термос. — Но я не могу… — начал я. — Понимаю, все понимаю, дорогой! — умоляюще зашептал Шукри, хватая меня за руку. — Конечно, вы не можете лгать. Но это нужно, очень нужно, поверьте мне! — Зачем? — Пока я не могу вам сказать. Прошу только верить мне… Ну хотя бы для того, чтобы поднять дух населения. Ведь и вы, и я твердо уверены, что рано или поздно вам, конечно, удастся создать эту вакцину. Почему не порадовать людей немножко раньше? Бывает же ложь во спасение. И потом, вам вовсе не придется лгать. Вы просто молчите и принимайте поздравления, а говорить буду я. Очень мне не по душе была эта просьба, но доктор Шукри так упрашивал, что я пожал плечами. — Спасибо! Вы не пожалеете об этом, дорогой, — сказал он, крепко пожимая мне руку, и повернулся на стук в дверь. — Войдите! А, вот и наш милый доктор Али! Входите, входите. — Я не помешаю? — спросил доктор Али с порога, кланяясь нам. — Здравствуйте. Рад вас видеть… — Нет, нет, Али, вы не помешаете, наоборот… Разделите нашу радость! — ликовал Шукри. — Что я вам говорил? Наши советские друзья создали все-таки вакцину против болезни Робертсона! — И он величественным жестом указал на термос, стоявший посреди стола, словно маленький памятник. Я не знал, куда девать глаза. А тут еще Шукри, будто нарочно, начал приговаривать: — Не смущайтесь, не смущайтесь, дорогой коллега! Скромность украшает лишь до известных пределов. Такой победой нужно гордиться! Он весьма правдоподобно и натурально поздравлял нас. Поздравлял доктор Али и кланялся. Ободряюще кивал из своего угла дядюшка Фарук, хотя я готов был поклясться, что глаза его смеялись надо мной. Мария уже так грозно фыркала за моей спиной, что я поспешил попрощаться. А неугомонный Шукри скликал санитаров, показывал им проклятый термос, расхваливал советскую медицину и заставлял чуть ли не кланяться нам в ноги… Мы выскочили из комнаты как ошпаренные. А Шукри кричал нам вдогонку: — Не беспокойтесь, я сейчас же спрячу вакцину в свой холодильник, с ней ничего не случится! И прививки будем делать завтра только с вами, только вместе с вами! Ну и напустилась же на меня Мария, когда мы остались одни! И теперь, когда, сидя у костра, я вспоминал весь этот глупый и постыдный спектакль, лицо мое багровело… Мы рано разошлись по палаткам, долго ворочались, вздыхали и не могли уснуть. А с утра снова начали готовиться к работе. Встали поздновато, так что мы с Николаем Павловичем собрались к выходу на очередной маршрут лишь часам к одиннадцати. Мария оставалась в лагере. Мы уже уходили, как вдруг она окликнула нас: — Постойте! Кто-то к нам едет. В самом деле, из кустов показался всадник. Это был незнакомый молодой человек, сидевший в седле с явно военной выправкой. Я никогда не видел его раньше. Наверное, он был нездешний, раз решился приехать к нам в долину. Козырнув, он подал мне записку. Дорогой коллега! Приезжайте немедленно, вы очень нужны. Всегда ваш Шукри, — прочитал я с недоумением. Слово “немедленно” было дважды жирно подчеркнуто. — Что еще ему надо от нас? Когда мы с молчаливым посыльным приехали в поселок, я хотел свернуть в переулок, ведущий к больнице. Но он взмахом руки показал в другую сторону. Мы миновали базар и остановились у здания, где, как я знал, размещались различные уездные власти. Вслед за посыльным я прошел по нескольким коридорам и оказался перед дверью, возле которой стоял черноусый рослый жандарм. Он распахнул передо мной дверь — и я вошел в комнату с одним небольшим окном, затянутым решеткой, где сидели за столом и пили чай доктор Шукри, его старый приятель Фарук и молодой офицер с погонами капитана. — Заходите, заходите, дорогой, мы вас заждались! — бросился Шукри навстречу, словно принимал меня где-то в самой дружественной обстановке, а не в каком-то явно полицейском участке. — Хотите чаю? Не смущайтесь, пожалуйста, этой… несколько строгой обстановкой! — засмеялся он. — Сейчас вы все поймете. И не сердитесь на меня за вчерашнее. Он повернулся к дядюшке Фаруку, тот молча кивнул, капитан подошел к двери, приоткрыл ее и отдал какое-то приказание. — Капкан захлопнулся, дорогой, капкан захлопнулся! — ликовал Шукри, потирая руки. Я ничего не понимал, и, наверное, вид у меня был очень глупый. Дверь открылась, и вошел доктор Али. Все еще ничего не понимая, я хотел с ним поздороваться… И тут увидел, что руки у него скованы за спиной. — Вам знаком этот человек? — негромко спросил дядюшка Фарук. Кажется, я впервые за все время знакомства услышал его голос. — Да. — Что вы можете сказать о нем? Я пожал плечами. — Это доктор Али… Местный ветеринар. Нас познакомил доктор Шукри и… мы с ним несколько раз встречались, беседовали. Но я не понимаю… — Он бывал у вас в лагере? — продолжал дядюшка Фарук, а капитан, сидя за столом, записывал его вопросы и мои отпеты. — Да, однажды. — Заметили ли вы что-нибудь странное в его поведении? Я снова недоуменно пожал плечами. — Подлец! — закричал вдруг доктор Шукри, грозя Али сразу обеими кулаками. — Мы поймали тебя с поличным, будь ты проклят! Капкан захлопнулся, негодяй, и ты попался! А там была вода, простая вода из арыка! Черные густые брови у Али дернулись, но он ничего не ответил, глядя куда-то мимо нас, сквозь стену. — Уведите его! — так же негромко приказал Фарук. Али повернулся и пошел к двери, раскрывшейся перед ним, но на пороге вдруг обернулся и бросил через плечо: — Орешек еще твердый. Попробуйте раскусить!.. Теперь я узнал голос, споривший с Хозяином в кустах у реки! Неужели это был он?! — Каков наглец! — Взбешенный Шукри так стукнул кулаком по столу, что полицейский капитан опасливо отодвинулся от него со своими записями. — Но объясните же мне, в чем наконец дело! — взмолился я. Шукри усадил меня за стол, налил горячего кок-чая и начал рассказывать: — Аллах открыл мне глаза в ту ночь, когда он пытался вас зарезать. Помните? — Конечно, помню. — Я невольно посмотрел на свою руку, на шрам от удара ножом. — Но кто он? Вор? Вы поймали его? — Какой вор! — снова зашумел Шукри. — Это Али Вардак вас ударил. — Как? Но ведь он сам… — опешил я. — Да! Да! Порезал и сам себя, чтобы отвести глаза, — втолковывал мне Шукри. — Но мои глаза он не мог обмануть. Я же старый врач, оперировал тысячи людей и сразу увидел, что такие неглубокие раны можно нанести только ветеринарным скальпелем. Где он? Капитан достал из стола знакомый потрепанный футляр и вынул из него старомодный медный скальпель. — Вот, видите выступ? Этот скальпель делал опытный мастер. Его лезвию специально придана такая форма, чтобы он лишь вскрывал кожу и верхние ткани, но не уходил глубоко. И я сразу понял, что вам нанесли удар именно скальпелем и мог сделать это лишь медик! — торжествующе пояснил Шукри. — Нож рассек бы вам руку до самой кости. Тогда аллах сразу все прояснил мне, и я понял, кто мешал вам, путал анализы, шептался с Хозяином в кустах, натравливал его на вас, пытался даже заразить эту милую Мариам… — Как? Вы считаете… — Да! — не дал мне договорить Шукри. — Голову даю на отсечение, что он подсунул ей клещей в букете. Помните, он подарил ей в тот вечер букет? Я молчал, потрясенный тем, что услышал. — Но доказать это, дорогой мой Шукри, к сожалению, невозможно, — меланхолично произнес Фарук, закуривая сигарету, — как и многое другое, в чем вы его обвиняете. Даже с этой раной… Ведь она уже заросла. — Да, — сразу стихая, согласился доктор Шукри. — Ты прав. Но ведьмы поймали его с поличным! — В этом ты прав, — кивнул седой головой Фарук. — От этого он не отвертится. Но он ловкач, выдаст это за простую кражу, и все; отделается пустяковым наказанием. — А как же вы его уличили? — спросил я. — Вчерашним маскарадом, дорогой мой, вчерашним маскарадом, который так вывел вас из себя! — снова оживился доктор Шукри, ласково похлопывая меня по руке. — Понимаете, в ту ночь, когда он вас порезал, я все думал: чего он хочет и как его поймать? Вы помешали ему тогда залезть в мой кабинет, чтобы испортить, перепутать материалы, привезенные из долины. Он делал это уже и раньше, загрязняя анализы и сбивая вас с толку. Кто, кроме ветеринара, мог подсунуть вам вирус лошадиного энцефаломиелита? На такую приманку и следовало его ловить. Я написал моему старому другу, дорогому Абдулле Фаруку, вот он сидит перед вами и благодарите его за то, что мы поймали злодея. Абдулла действительно мой старый и верный друг, только я пока не говорил вам и никому другому, что он — опытнейший, полицейский чиновник. Когда-то мы с ним работали в одном городе, подружились, и он, конечно, не станет отрицать, что я порой помогал ему медицинскими советами… Доктор Шукри сделал маленькую паузу, явно для того, чтобы дать возможность другу подтвердить его заслуги многозначительным кивком, а затем продолжал: — Наверное, и я за это время заразился от него каким-то мальчишеским шерлокхолмством. И вот теперь я решил твердо разобраться в этом темном и позорном деле и позвал его на помощь. Ведь была задета честь нашего народа, честь медицины! Не спорьте со мной! Он приехал, и мы придумали этот вчерашний маскарад… — Вы поймали его… — догадался я, но Шукри опять не дал мне договорить. — Конечно! Он полез ночью в холодильник, чтобы испортить эту мнимую вакцину, и мы схватили его. Видели бы вы рожу этого мошенника, когда комната вдруг осветилась и лапы ему сковали наручники! Расчет был правильный: он просто не мог не полезть в холодильник, это был последний шанс для пего. И капкан захлопнулся! А там была просто грязная вода из арыка… Шукри был так увлечен, что я невольно рассмеялся и тут же извинился. — Но зачем ему это было надо? Как он решился на это? — спросил я. Доктор Шукри помрачнел и нехотя ответил: — Он исмаилит. — Не понимаю. — Ну, есть такая религиозная секта — исмаилиты. Они существуют во многих странах. У них свой пир, вожак, которого они считают живым богом… Религиозные фанатики!.. — Было видно, что милейшему доктору неприятно обсуждать со мной эти религиозные проблемы. Я не стал его больше расспрашивать, но тут вмешался Абдулла Фарук и решительно сказал: — Ты все-таки неисправимый идеалист, Шукри, хотя и медик. Исмаилит… Разве в этом дело? Гораздо важнее, что чуть не половина пастбищ в этой долине перешла к нему в наследство от папаши, и кто добровольно откажется от таких доходов? Уж я — то лучше знаю людей, согласись. Он задумчиво побарабанил пальцами по столу, потом поднял голову и внимательно посмотрел на меня. — Не буду кривить душой, — строго сказал он. — Мне, да и всем нам, очень неприятно, что вы, гости из дружественной страны, столкнулись с этим… Мы постараемся, чтобы он получил по заслугам. Хотя опять-таки не скрою: доказать его виновность будет трудно. Путал анализ? Докажите. Подсунул зараженных клещей в букете? Я верю, но где доказательства? Пытался залезть в холодильник? Да, он это отрицать не станет, но лишь для того, чтобы выкрасть из него бутылку шотландского виски, которую наш друг Шукри всегда держит там для гостей. — Абдулла Фарук невесело усмехнулся, покачал головой и добавил: — Но вы все-таки напишите подробно и обстоятельно о всех загадочных, странных, непонятных для вас происшествиях. Ничего не обходите: ни подслушанного разговора в кустах, ни внезапной болезни вашей сотрудницы, ни разрушенного овринга. Может быть, мы что-нибудь из него и выжмем, он проговорится, признается. Я сам буду вести допросы. Всю дорогу обратно до нашего лагеря я не мог опомниться. Слишком невероятным казалось все, что я услышал. И в то же время разоблачение Али Вардака проясняло многое, казавшееся раньше загадочным и непонятным. Да, конечно, только он мог засорить материалы вирусом лошадиного энцефаломиелита и на какое-то время сбить нас с толку; именно для этого Али и вызвался тогда сам привезти их к нам в долину. И не случайно он так удивился тогда, услышав, что мы наткнулись сразу на два каких-то загадочных вируса. Одного он подсунул сам, но о другом-то, истинном возбудителе болезни Робертсона, и понятия не имел! Не удивительно, что он в тот свой приезд к нам в лагерь не предупредил нас об опасности селя. Наверное, даже порадовался в душе, что мы сами забрались в такое опасное место. Хитрости и коварства ему не занимать. Как ловко он отводил нам всем глаза, сначала рассказав Шукри, будто видел какого-то таинственного незнакомца, якобы посещавшего долину, а потом порезав себе руку в ту ночь, когда я его едва не поймал! Ловкач, ничего не скажешь! Как ни чудовищно выглядела попытка забросить к нам в лагерь тифозных клещей в букете, но, наверное, доктор Шукри не ошибся. Именно таким путем — принеся с собой с прогулки в степь букетик безобидных полевых цветов — и заражаются нередко люди. Метод был выбран простой и безошибочный: никто никогда не сможет доказать, что зараженные клещи не очутились в букете случайно. И, конечно, лишь специалист, медик, мог до этого додуматься. Медик? Представитель самой гуманной профессии?! У меня язык не поворачивался, чтобы называть так этого подлеца! И как он мог решиться на это? Однако решился. А гибель Жени и Селима? Нет, в этом он, конечно, неповинен. Тут орудовал другой, главный убийца — невидимый и вездесущий, за которым мы так долго охотимся. Выбрал момент, когда наши товарищи допустили, может, совсем пустяковую неосторожность, и нанес неотразимый удар. Женя был слишком храбр и порой пренебрегал опасностью. Правду говорят, что наши недостатки — это зачастую продолжение наших достоинств. Медик-исмаилит… Чепуха какая-то! Хотя эта религиозная секта возникла еще в средние века именно как подпольная террористическая организация. Недаром исмаилитов чаще называли в те времена французским словом “асассины” — убийцы. Но в наши времена… Нет, скорее, прав Абдулла Фарук: золото для него единственный бог. Этого подлеца толкнули на преступления вовсе не какие-то религиозные мотивы, а самая обыкновенная корысть, жажда денег, наживы, неистовое стремление сохранить свои доходы. Или и то и другое вместе? Об этом мы далеко за полночь еще спорили в лагере у костра, пока Мария не сказала брезгливо: — Да ну его, этого подлеца! Хватит о нем думать.“СУМАСШЕДШИЙ” МУРАВЕЙ
Да, думать об этом негодяе было противно, но у меня не выходила из головы наглая фраза, брошенная им при последней встрече: “Орешек еще твердый. Попробуйте раскусить!..” Опять мы каждый день уходим на маршруты. Отстреливаем сусликов, полевок, птиц, ловим москитов. Мария тоже ходит с нами, лагерь теперь можно не охранять, а после обеда я ей помогаю в лабораторных исследованиях. Они ничего нового не дают, ни в чем не опровергают наших прежних наблюдений. Это приятно: значит, мы работали все время чисто и аккуратно. Но где же прячется это недостающее звено? В какой уже раз мы подводим итоги! Итак, установлено: болезнь вызывают только вибрионы, в которых окончательно “дозрели” вирусы; сами по себе, в отдельности, и вирус и вибрион не опасны, хотя и могут, судя по наблюдениям Николая Павловича, вызывать повреждения копыт у овец. Для грызунов даже зараженные вирусом вибрионы безвредны. Но, видимо, именно в организме сусликов, полевок и других обитателей глубоких подземных нор болезнь может сохраняться в промежутках между эпидемиями. Чтобы проверить это, мы сделали несколько опытов, но результаты их скажутся не скоро, только будущей весной. Непонятным остается одно, зато самое важное: кто же разносит болезнь? Как она передается от грызунов к овцам? Москиты в этом неповинны: они не переносят вибрионов. А у клещей другое, не менее убедительное алиби: ни в одном из них мы не находили смертоносных вирусов. Так же “чисты” и другие кровососущие насекомые; мы проверили их всех. Кажется, снова забрели в тупик. Правда, мы уже можем дать какие-то рекомендации: посоветовать местным жителям строго соблюдать чистоту при уходе за овцами, не охотиться в опасное весеннее время на архаров… Но ведь это будет простой отпиской. Кто здесь, в глуши, станет всерьез выполнять наши советы и рекомендации? И к тому же ведь это полумеры. Коли быть честным — разве можем мы считать свою работу законченной, пока самый важный переносчик и распространитель болезни остается необнаруженным? А прячется он где-то совсем рядом. Ведь не по воздуху же передается болезнь от грызунов к овцам. Прошло пять дней в напрасных поисках и невеселых размышлениях. И вдруг мы натолкнулись на открытие… В это утро, готовясь, как обычно, отправиться на охоту за грызунами и насекомыми, я удивился, зачем Мария, кроме обычных мешочков и морилок, берет с собой и еще какую-то плоскую стеклянную банку, похожую на аквариум. — Банка-то на что? — спросил я. — Или ты решила еще и рыбешек проверить? — Нет. Это для муравьев, — ответила она. “Этого еще не хватало, — с досадой подумал я. — То Женька увлекался, теперь она”. — Но ведь мы их проверяли… — Я не для опытов, а… просто так. — Да их же полно, целый муравейник в банках, самых разных сортов, — сказал подошедший к нам Николай Павлович. — Я же всех сохранил. — Не всех, — не глядя на него, ответила Мария. — Как — не всех? — возмутился Николай Павлович. — В одной банке все муравьи сдохли. — Это те, сумасшедшие? Но я же не виноват, что они ничего не ели! Я им и меду давал, и сахарного песку. А они словно в самом деле рехнулись. Я слушал их пререкания, и у меня голова кругом пошла. Сумасшедшие муравьи? Или мы? Кто из нас рехнулся? Хотя ведь это Женя назвал сумасшедшими тех муравьев, которые почему-то забрасывали все свои муравьиные дела и часами висели на травинках. “Если бы я увлекался антропоморфизмом и искал подходящее сравнение, то сказал бы, что они похожи на людей, уходящих в монастырь и отвергающих все помыслы и заботы нашего бренного мира” — вспомнилась мне запись из его блокнота. И сразу стало немножко стыдно. Я ведь совсем забыл о его увлечении и не подумал, что Марии эти муравьи теперь могут быть тоже дороги. — Ладно, — сказал я, — что вы препираетесь? Конечно, надо пополнить коллекцию… “Хотя зачем? — тут же мелькнула у меня здравая мысль. — Ведь если эти сумасшедшие муравьи отказываются от еды, то опять скоро погибнут. Черт с ними, во всяком случае это произойдет уже после нашего отъезда отсюда. Да и Мария к тому времени немного отойдет”. — Только чего ты будешь таскать все это на себе? — сказал я. — Возьми лошадь, навьючь на нее все банки. Не все равно, где ей пастись — возле лагеря или там, где ты станешь образцы собирать. Мария молча кивнула. Я помог ей навьючить лошадь, подсадил в седло. Маша все делала с таким отсутствующим видом, что мне стало не по себе. Нельзя ее отпускать одну. Еще свалится в реку. Или будет реветь весь день, собирая этих злосчастных муравьев. Надо поехать с ней. Она начала возражать, но было видно, что ей и самой не хочется оставаться одной. Я тоже быстро оседлал своего гнедого Россинанта, и мы поехали вместе. Я предполагал, что Мария станет ловить этих сумасшедших муравьев, а я где-нибудь неподалеку займусь настоящим делом. Но мы увидели такие необычные и любопытные вещи, что я тоже увлекся и забыл о делах. Довольно быстро мы нашли первого “свихнувшегося” муравья. Тысячи его собратьев деловито сновали вокруг, волоча к муравейнику кто обломок сухой веточки, кто убитую личинку, весящую в несколько десятков раз больше своего носильщика. А этот зачем-то взобрался на самую верхушку пожелтевшей от зноя травинки и сидел там, отрешенный от всего земного, не подавая никаких признаков жизни. Муравей даже усиками не шевелил, и я уж подумал, не мертвый ли он. Стряхнул его на землю… Муравей упал на спину, замахал всеми шестью ножками, пытаясь подняться, и опять упрямо полез на ближайшую травинку. Я начал ходить по лужайке, где, позвякивая уздечками, паслись наши лошади, и за какие-нибудь полчаса насчитал восемнадцать таких “сумасшедших” муравьев. Все они словно спали, крепко вцепившись в торчащие повыше травинки и не желая заниматься никаким делом. Забавно! Я лег в траву возле одного из муравьев и начал наблюдать за ним. Хотя наблюдать, собственно, было нечего. Муравей оставался неподвижным. Набегавший с гор ветерок раскачивал былинку, но муравей цепко держался за нее. Зачем он залез сюда? Захотелось покачаться, словно на качелях? Нелепое предположение, но ведь в природе ничего не совершается просто так, без причины. Что-то, значит, заставило его бросить все дела, покинуть родной муравейник и карабкаться на травинку. Свихнулся? Раз мы не знаем причин, это шутливое Женькино объяснение отнюдь не хуже других. Забрался на травинку и качается… Интересно, и долго он будет так сидеть? Чья-то тень легла на траву. Прямо перед моим носом появилась лошадиная морда. Это мой Россинант шлепнул пухлыми губами, вкусно хрупнул, и травинка с муравьем отправилась к нему в желудок. “Вот и кончились научные наблюдения”, — подумал я, и мне стало смешно. — Сумасшествие и отрыв от коллектива никогда до добра не доводят! — наставительно проговорил я, отмахиваясь от лошади, которая теперь тянулась ко мне. — Сидел бы ты, муравей, уж лучше на твердой земле. Нет, захотелось, видите ли, покачаться. А о том не подумал, что придет какая-нибудь лошадь или овца… Овца?! А почему нет? Ведь мы находили в муравьях и вирусы, и вибрионы. Вместе или поврозь?! Я вскочил так резко, что испуганная лошадь, всхрапнув, рванулась в сторону. — Мария! — закричал я. — Ты много набрала муравьев? — Порядочно. А что? — Лови скорее свою лошадь и едем в лагерь! И вот золотые пальцы Марии ловко и осторожно наносят на предметное стекло тонкий мазок… Сейчас мы узнаем, кто прячется в “сумасшедших” муравьях. Стекло вставляется в микроскоп… — Есть, — шепотом говорит Мария и отодвигается, давая мне заглянуть в окуляр. Да, вот они, зловещие, едва двигающиеся вибрионы, заметно распухшие от пробравшихся в них вирусов. А в обычных, “нормальных” муравьях таких вибрионов нет! Чтобы проверить это, мы исследуем чуть ли не сотню муравьев. Почти в каждом попадаются обычные вибрионы. Но ни в одном нет вибрионов, пораженных вирусом, только в “сумасшедших”! Мы смотрим с Марией друг на друга и все еще никак не можем поверить: неужели нам в самом деле посчастливилось найти наконец последнее, ускользавшее звено?! И неужели истинным убийцей оказался самый безобидный обитатель долины? Забегая вперед, не могу не рассказать, какие поразительные вещи выяснили специалисты-мирмекологи, специально занявшиеся позднее “сумасшествием” муравьев. Они провели в долине немало дней под нещадно палящим солнцем, наблюдая таинства муравьиной жизни. Почти в каждом муравье паразитируют вибрионы. И многие муравьи, забираясь в норы грызунов, подхватывают от них и вирус — возбудитель болезни Робертсона. Эти вирусы размножаются в нервных клетках муравьев, но пока еще не опасны. Вибрионы в основном обитают в желудочке муравья. Но бывает, некоторые из них проникают и в нервные центры — ганглии. Тут-то и происходит роковая встреча вируса с вибрионом, чреватая столь опасными последствиями. Такой муравей бросает все дела, забирается на какую-нибудь травинку и висит на ней часами, пока в ганглиях его усиленно размножаются и “дозревают” уже ставшие смертоносными для человека вибрионы с вирусами внутри них. Приходит на пастбище овца, съедает травинку с повисшим на ней муравьем, и болезнь отправляется дальше, поближе к людским поселениям. Весь этот сложный и довольно длительный процесс, который теперь в деталях проследили ученые, кажется прямо-таки целеустремленным! Словно природа специально задалась целью поразить человека да еще изобрела для этого способ похитрее. Конечно, это не так. У природы нет никаких целей, Женя говорил уже об этом в одной из своих записей. Но в ней постоянно и непрестанно действует великий закон выживаемости наиболее приспособленных. Он-то и заставляет вибрионы и вирусы размножаться и расселяться любым, даже вот таким удивительным способом. А человек лишь натыкается на эту запутанную цепочку, и тогда ему приходится плохо. Что заставляет некоторые вибрионы проникать именно в ганглии? Какие природные условия породили столь сложные пути распространения болезни? Этого мы пока еще не знаем. Но первооткрывателем, имя которого теперь занесено, как говорится, в “анналы науки”, по праву надо считать нашего покойного друга. Ведь Женя первый подметил странное поведение муравьев. И раз болезнь поражает у муравьев именно нервные центры, то и шутливая кличка “сумасшедших”, которую он им дал, вдруг неожиданно оказалась пророческой! Вот ведь как оно бывает…ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА
Все на свете имеет конец. Вот пришел конец и нашей работе. Свернуты палатки. Неуютно чернеет выжженная земля на том месте, где собирались мы вечерами возле костра. Упакованы все вещи, и Николай Павлович уже пошел за лошадьми. Сейчас мы навьючим их и навсегда покинем эту долину. Почему-то каждый раз, когда приходится вот так свертывать лагерь и двигаться дальше, мне становится грустно. Наверное, потому, что, уезжая, оставляешь навсегда какой-то отрезок своей жизни… И понимаешь, что его уже не вернуть. А здесь мы оставили больше… Мария сидит в сторонке на камне и смотрит на пенящуюся у ее ног речку. Но видит ли она ее? Вздохнув, я открываю блокнот, в котором помаленьку набрасываю черновик отчета о нашей работе. Когда вернемся в институт, писанины будет много. Интересно, удалось ли им там создать вакцину? Свое дело мы сделали. Никаких загадок не осталось, вся цепочка распространения болезни прослежена от начала до конца. И теперь ясно, как с ней бороться. Надо просто ранней весной, когда муравьи только начнут “сходить с ума”, обработать какими-нибудь химикатами все пастбища и норы грызунов в тех местах, где мы обнаружили основные “хранилища” болезни. И через несколько лет загадочная вездесущая смерть будет поминаться лишь в легендах да преданиях стариков. Химики теперь творят чудеса, им нетрудно будет подобрать какую-нибудь отраву, чтобы она уничтожала только опасных муравьев, а других насекомых не губила. Но работы, которые намечалось вести в долине, можно начинать и сейчас, не ожидая полного искоренения болезни. Нужно лишь принимать определенные меры предосторожности. Раз убийца разоблачен, от него уже нетрудно защититься. Да и наши товарищи в институте, наверное, уже нашли или непременно создадут в ближайшее время предохранительную вакцину… — Пришел попрощаться, — заставив меня вздрогнуть or неожиданности, вдруг произносит рядом Мария усталым, каким-то мертвым голосом. Я и не заметил, когда она подошла. — Ты что? — встревоженно спрашиваю я. — О чем ты? Она молча кивает, предлагая мне обернуться. На скале, точно в такой же окаменелой позе, каким мы увидели его впервые, стоит Хозяин. Вокруг него сидят четыре пса, разморенные зноем и разинувшие пасти. А где же остальная свора? Прячется в кустах? Да, похоже, что старик пришел попрощаться. Радуется ли он, что мы наконец-то покидаем его долину? Или понимает, что недолго ему осталось царствовать в ней за счет людских страхов и суеверия? Он стоит довольно далеко, отсюда не разглядишь его лица. Да и на таком лице, которое давно стало словно опаленный солнцем древний камень, ничего не прочитаешь. И опять у меня возникает мысль, так часто не дававшая нам всем покоя: почему его не берет болезнь? Ведь уж он-то живет в такой грязище и запустении, что вибрионы, начиненные смертоносными вирусами, должны были бы давно умертвить старика. А он жив и здоров, вот стоит себе на скале этаким истуканом. Почему он не заболевает? Видно, мы уедем, так и не узнав этого. Я ошибся: одна загадка все-таки останется… “Форменная статуя! — возмущаюсь я в душе с какой-то детской обидой. — И чтоб полное сходство было, без рук, словно Венера Милосская…” Без рук?! — Поражает копыта… — бормочу я, не сводя глаз со старика. Неужели в этом весь секрет?! — Что с тобой? — испуганно спрашивает Мария. — В каком тюке у нас истории болезни? Кажется, здесь! — Я кидаюсь лихорадочно распаковывать тюк. — Зачем? — Мне нужна Женина история болезни… Мария сжимается, как от удара. Лишь теперь я соображаю, как больно ей слышать такую фразу. Но мне некогда ее утешать. Я вынимаю одну папку за другой, открываю, перелистываю аккуратно подшитые бумажки… Вот она! “…Печень несколько увеличена, цвет нормальный… На левой голени старый шрам…” Дальше, дальше! Вот оно! “…На обеих руках незначительно повреждены ногти, видимо, следы повреждения цестодой или другим каким-то видом паразитических червей. Трудно определить, свежие ли это травмы или давние. Такое же незначительное разрушение ногтей отмечено и на двух пальцах правой ноги…” Труп Жени вскрывал наш опытный институтский прозектор Савелий Павлович, конечно, он не мог пропустить ни одной кажущейся мелочи. Я был прав! Вот и разгадана последняя загадка. Можно сказать, что помог в этом Хозяин: ведь именно его изувеченные руки натолкнули меня на первую, еще смутную мысль. А потом что-то щелкнуло в мозгу, словно включили лампочку, и темнота вдруг стала ясной, простой и понятной. Загадочны и запутанны все-таки пути искания истины! Вот теперь вдруг неожиданно пригодились и стали бесценными казавшиеся нам прежде малоинтересными наблюдения Николая Павловича. Ведь это он первый подметил, что вибрионы поражают копыта у овец. А специально проведенные позднее исследования подтвердили мою догадку о том, что именно через ногти проникает болезнь в человеческое тело. Поражая роговые ткани, вибрион окончательно “созревает”, и лишь после этого таившийся в нем вирус начинает свою смертоносную работу. У Хозяина не было рук, а сапог он не снимал, даже ложась спать. Только это и спасло его от невидимого убийцы… Знал ли об этом Али Вардак? Мне думается, догадывался, подозревал, глядя на безрукого старика, что тот не заражается каким-то образом именно из-за своего увечья. Поэтому и пришел тогда Али к нам в лагерь в перчатках и не снимал их, к нашему удивлению, даже за столом, когда пил кофе. И о заболевании копыт у овец он тоже хорошо знал, хотя, конечно, ничего не подозревал ни о вирусе, ни о роли “сумасшедших” муравьев. Но вместо того чтобы искать разгадку опасной болезни и помочь людям, он выбрал путь преступлений и всячески мешал нам. Ладно, мне не хочется больше говорить о нем… Не стану я и рассказывать подробно о дальнейших исследованиях и опытах. Точку можно ставить уже здесь. В болезни, которая теперь называется в честь нашего погибшего товарища заболеванием Лаптева-Робертсона, не осталось ничего загадочного. И защититься от нее, пока не будут обезврежены все ее природные очаги и “хранилища”, оказалось теперь, когда мы во всем разобрались, совсем несложно: надо только, отправляясь на работу на пастбища, надевать сапоги и резиновые перчатки. Убийца пойман. И мне надо кончать затянувшийся рассказ, потому что мое основное дело — борьба с болезнями, а на столе у меня уже лежит новая телеграмма, на сей раз из маленького таежного поселка: “Вылетайте немедленно положение угрожающее…”Александр Кулешов ШЕРЛОК ХОЛМС С ПЕТРОВКИ, 38

КОЕ-КАКИЕ СРАВНЕНИЯ
Название этой повести может натолкнуть на мысль, что речь идет о произведении сатирическом. Мол, кто-то вообразил себя Шерлоком Холмсом, ползает по полу с лупой, носит клетчатую кепку, а упрятав в тюрьму очередного злоумышленника, играет на скрипке. Как-то уж так повелось, что современного следователя сравнивают с непревзойденным мастером следствия, созданным талантом Конан Доила лишь тогда, когда хотят посмеяться над ним. Тоже еще возомнил! В Шерлоки Холмсы лезет! А между тем на Петровке, 38, в большом доме, где помещается Управление охраны общественного порядка столицы, есть люди, за которыми величайшему литературному детективу всех времен не просто было бы угнаться. У них высшее специальное образование (а мы помним, что эрудиция Холмса была весьма однобокой и неровной), они не только, как Холмс, владеют боксом, но еще и приемами самбо, на службу им поставлена такая техника, о какой великий английский сыщик не мог и мечтать. А главное, они не одиноки. Как ни гениален был Холмс, но еще старая русская поговорка гласит: один ум хорошо, а два лучше. А если их двадцать или даже двести? Как в каждом коллективе, здесь есть люди выдающиеся. Обладающие природным даром в своей работе, замечающие го, что не замечаем мы с вами, умеющие так оценивать факты, как не сумеем мы, мгновенно делающие из этого выводы, каких нам в голову не пришло бы сделать. Одним словом, уметь наблюдать не так-то просто. Многое дается здесь учебой, тренировкой, опытом, но многое, как говорится, от рождения. Ну есть же в конце концов люди, у которых природные способности к музыке, к рисованию, к математике, к литературе! А есть — к следовательской работе. Это давно установленный факт, и бесполезно его оспаривать. Думаю, что в полиции любой страны есть такие люди. Но у наших преимущество. И не потому, что в нашей стране нет профессиональной преступности, — спросите у любого криминалиста, и он скажет вам, что “работать” с профессиональными преступниками куда легче. Нет, просто советский следователь лучше вооружен для борьбы с преступниками психологически и идеологически: ведь человеку, верящему в людей, верящему в силу добра, легче бороться с преступниками, чем тому, кто видит в мире лишь зло. Гуманизм — одно из самых неотъемлемых свойств советского работника милиции — резко отличает его от западных коллег. Так вот, среди многих работников московской милиции — и тех, кто украшен сединой и витыми комиссарскими погонами, и тех, кто только привинтил на китель академический значок и на чьих погонах с одним просветом две-три совсем маленькие звездочки, — я встречал людей, которые уверенно и спокойно могут вступить в соревнование с Шерлоком Холмсом. Просто их еще мало знают, а Холмса знает весь мир. И, честно говоря, я не считаю, что это справедливо. Называю я своего героя Шерлоком Холмсом с Петровки, 38, не потому, что хочу сделать ему этим комплимент (с моей точки зрения, он сильней), а просто пользуюсь образным, понятным многим читателям сравнением. Кто знает, может быть, когда-нибудь, говоря о литературном герое Конан Дойла, скажут: ну как же, это был известный английский Тихоненко! И не думайте, пожалуйста, что такой Тихоненко на Петровке, 38 один-единственный. К радости честных людей и к огорчению преступников, могу сообщить, что, кроме него, есть там и другие. Не хочу умалять и коллективности действий нашей милиции — черты, впрочем, характерной для всех советских учреждений и организаций. Но в этой повести я пишу о совершенно реальном и конкретном человеке, о его реальных делах, удачах и неудачах, мыслях, поступках. О старшем лейтенанте милиции Викторе Ивановиче Тихоненко, сотруднике Московского уголовного розыска, размещающегося по адресу: Москва, И-51, улица Петровка, дом 38; вход с Колобовского переулка. Поскольку это повесть, а не корреспонденция, здесь смещены во времени кое-какие события, изменены кое-какие имена, кое-что домыслено. Но, повторяю: так или иначе, все, о чем пойдет речь, случилось в действительности. Это рассказ о сыщике. “Сыщик” — хорошее старое русское слово. И пора ему вернуть его первоначальное значение.КАПЛЯ КРОВИ
Над вечерней Москвой висел упрямый, терпеливый, настойчивый дождь. Он висел давно и, судя по всему, не собирался уходить на покой. Мелкий и частый, он несильно шуршал по асфальту, чуть громче по железным подоконникам и крышам сараев. Асфальт блестел, отражая дальний свет фонарей, и если поднять к ним, к этим дальним, высоко подвешенным над улицей светильникам, глаза, то не различишь тонкую, мокрую сетку, опустившуюся с черного неба. Ленивые, чуть дрожащие под дождем, разлеглись на улице лужи. От промокших заборов остро пахло сырым деревом. А от розыскной собаки, грустно поглядывавшей на весь этот водянистый пейзаж, — мокрой шерстью. Чувствуя свою бесполезность, она посматривала в сторону синей машины, внутри которой, она это твердо знала, есть теплый и сухой проволочный домик. Человек десять, кто в набухших, совсем черных от дождя милицейских шинелях, кто в плащах с поднятыми воротниками, толпились возле подъезда. Подъезд был обыкновенным, с тусклой лампочкой, освещавшей номера квартир, черной эмалью нанесенные на белую эмаль дощечки. Виктору было тоскливо. Он не любил дождь, сырость, промозглость. Да и кто их любит?.. Виктор усмехнулся. Ему вспомнился эпизод, в общем, не такой уж далекой его юности. Произошло это около книжного магазина на Кузнецком. Он приходил туда частенько и старался купить на скопленные (прирабатывал подсобником) деньги какую-нибудь редкую книгу. Томик Есенина, например. В те первые послевоенные годы это было куда как трудно. С отсутствием шоколада Витька мирился, с отсутствием любимых книг — не хотел. Он собирал свою библиотеку со страстью и редким для мальчишки упорством. Вот и в тот день он пришел, толкаясь по морозу среди старых и молодых, собравшихся сюда кто купить, кто продать, кто обменять книгу. Ходил долго, и вдруг несказанная удача: какой-то парень продает Есенина! То, о чем Витька так долго мечтал. — Сколько? — Три сотни! Витька обомлел. Сто, ну двести, но триста! Он лихорадочно шарил по карманам. Плохо слушающейся от мороза рукой посчитал мятые, скопленные бумажки. Где уж там триста… — Сбавь! — Давай, давай, пока не набавил! — Нету столько, — печально констатировал Витька. — Нету, так мороженое иди покупать, а то ишь за Есениным пришагал! Парень повернулся к Витьке спиной. Есенин уплывал из-под носа. Столько гонялся за ним, искал, с таким трудом копил… И все к черту! Неужели совести нет у людей! Триста — это же, это… Витька не находил слов. Он понимал, что спекулянты должны быть, что они заламывают, но ведь есть же предел! Он не находил слов, зато нашел жест. Догнав парня и быстро забежав вперед, он изо всей силы ударил его по противной роже. Поднялся шум, крик. Витьку забрали в милицию. Он нарушил порядок и подлежал наказанию, хотя у самого педантичного блюстителя законов не лежала душа наказывать мальчишку за то, что он ударил спекулянта. — Но он же триста рублей драл! — негодовал Витька, глядя горевшими от обиды глазами вверх, на обступивших его высоких мужчин в сапогах. — Да ты пойми, — растолковывал без особой убежденности дежурный, — нельзя драться… — А триста монет за Есенина драть можно? — вопил Витька, не имевший других аргументов в свою защиту. Милиционеры смущенно переглядывались, пожимали плечами. Конечно, нельзя. И, конечно, они с куда большим удовольствием привели бы в отделение того мордастого спекулянта. Но не пойман — не вор. — Знаешь что, мальчик, — предложил наконец дежурный, — раз ты хочешь с такими вот бороться, возьми да сколоти дружину из ребят. А то, сам понимаешь, как мы в форме подходим — спекулянты разбегаются. А вас опасаться не будут. Давай действуй, а мы поможем. Только не деритесь. Витька ушел домой довольный. Он сколотил дружину и начал бороться с преступниками. С тех пор он всю жизнь наносит им удары. Но первый удар был прямо-таки символичным: спекулянт, которого ударил Витька, оказался не кем иным, как… Рокотовым, знаменитым впоследствии валютчиком, расстрелянным по приговору суда. Начинал он со спекуляции книгами… …Виктор мотнул головой, отряхивая холодные капли. Да, он тогда считал, что спекулянты — это “нормально”, вот только “перехватывать” они не должны. Прошло некоторое время пока он понял, что ни спекулянтов, ни воров, ни убийц вообще не должно быть. Но пока они есть. Только что в этом обыкновенном московском подъезде убили одного и ранили другого человека. В милицию уже отвезли предполагаемого убийцу, отсидевшего свой долгий срок за такое же убийство ножом, только что вернувшегося… И вот снова, наверное, взявшегося за старое. Наверное, но не наверняка. Потому что он категорически, отчаянно, изо всех сил отрицает свою вину. Он понимает, что вряд ли кто ему поверит, что все улики против него, но все равно отчаянно, безнадежно протестует. А как протестовать? Дежурному по городу сообщили, что по этому вот адресу, в подъезде, обнаружен труп человека — Рулева Федора. Через полчаса в одну из больниц доставили другого Рулева — Петра, с ножевым ранением бедра. Глубоким, но, к счастью, не опасным. Оперативные работники выехали на место и выяснили следующее. В подъезде, когда оба брата (оказалось, что Рулевы — братья) мирно беседовали, пережидая дождь, к ним подошел живущий по соседству их знакомый Карпенко, слегка навеселе. Он недавно вернулся после отбытия срока за убийство. Карпенко вмешался в разговор, стал приставать к братьям, ругаться, грозить, а когда они захотели прогнать его, выхватил нож, убил одного, ранил другого и убежал. Особой сложности дело не представляло: свидетели видели всех троих стоящими в подъезде, слышали шум ссоры. Карпенко, как уже известно, убил человека ножом при аналогичных обстоятельствах. Да он и сам не отрицал, что ссорился с братьями. Просто он пытался утверждать, что ушел раньше, оставив их одних, да и выпил совсем малость по случаю радости — нашел наконец работу. А то все брать не хотели. И вообще-то не пьет теперь. А чтоб драться, да еще ножом… “Что вы, гражданин начальник, да ни в жисть!” Он смотрел на Виктора таким отчаянным, таким тоскливым взглядом, что тому делалось не по себе. II хотя картина в общем была ясной, Виктор не мог изменить своему твердому правилу: проверить, осмотреть, убедиться, так, словно в деле был сплошной туман и абсолютная неизвестность. Пока милиционеры в десятый раз осматривали подъезд, стучались к жильцам, Виктор шел вдоль улицы, останавливаясь у подворотен, подъездов, подсвечивая себе карманным фонарем. Большинство оперативников уехало, а он все ходил с немногими помощниками и искал. Что? На такой вопрос вряд ли сможет ответить даже самый опытный, самый выдающийся следователь. В каждой профессии рано или поздно, и тем раньше, чем больше призвание у человека к этой профессии, достигаются какие-то рубежи, какие-то вершины, непостижимые для понимания “простых смертных”. Нелегко представить себе машинистку, печатающую чуть не триста знаков в минуту, слесаря, выполняющего пятьсот процентов нормы, хирурга, возвращающего жизнь умершему человеку, актера, знающего наизусть сотню ролей, или автомеханика, по звуку мотора точно определяющего малейшую неисправность. Кому-то этого не понять, а для них самих это степень освоения профессии. Виктор — не Вольф Мессинг и не волшебник. Он просто опытный, добросовестный работник, одаренный к тому же исключительными способностями. Ведь он вполне мог ограничиться осмотром места происшествия, а не бродить с фонарем по дождю, за сотню метров от этого места. Он мог не заметить маленькую темную каплю крови, чудом сохранившуюся дождливой ночью на сухом местечке у входа в один из домов. Наконец, он мог заметить ее и не придать значения, не обыскать с поразительной тщательностью захламленное, пыльное, темное подлестничное помещение и не обнаружить там окровавленный нож. Он мог не найти еще две-три капли крови, а найдя их, не догадаться, куда ведет след… Но он все это сделал. Нашел, сообразил, догадался, взял на себя смелость поверить. Он сумел мгновенно построить правильную версию, найти свидетелей, задать им нужные вопросы, а потом сделать из их ответов правильные выводы. И тогда он просто поехал к раненому Петру Рулеву и, еще раз выслушав его показания, сказал: — Ну, а что, если кто-нибудь видел, как все произошло? Что бы он рассказал? Хотите, я вам скажу? Вы стояли втроем в подъезде и ссорились. Только не с Карпенко, а с братом. Когда Карпенко ушел, вы убили брата, ушли в подъезд дома номер двенадцать, сами себе нанесли рану в бедро, забросили нож и, зажав рану, добрались домой. И Виктор подробно, не спеша описал Петру Рулеву, как все произошло, описал так, словно, прикрытый шапкой-невидимкой, все это время находился с ним рядом. — Кто ж мог видеть? Ведь не было никого… — вот все, что мог сказать подавленный убийца… Потом, когда Виктор вспоминал это дело, он иногда задавался вопросом, что именно толкнуло его на дальнейшее расследование, кроме обычной профессиональной добросовестности, что заставило его не поверить сразу, с налету, в казавшуюся очевидной виновность Карпенко! Ну, обычное для следователя недоверие к очевидному, ну, излишняя, но, в общем-то, объяснимая горячность и озлобленность Петра против Карпенко, старание убедить всех в его виновности. А еще? А еще, сам себе отвечал Виктор, глаза Карпенко, его неуклюжие, отчаянные и безнадежные оправдания. Да, бывший убийца, да, под хмельком, да, кругом, казалось бы, изобличенный… Но прежде всего — человек.КАПЛЯ СОЧУВСТВИЯ
Каждое утро, приходя на работу, Виктор, как он выражался, “знакомится со своей корреспонденцией”. Это приказы, ориентировки, служебные записки, отчеты и так далее. Но порой среди вороха напечатанных на машинке бумаг попадался треугольный или простой конверт, надписанный далеко не всегда красивым почерком. Эти письма он читал в первую очередь. Они, как правило, приходили не из Сочи и не из Малаховки, Их отправители жили в далекой сибирской тайге, на Колыме, в Зауралье. Они обосновались там надолго благодаря его, Виктора, усилиям. Но содержали письма не проклятья и угрозы, а совсем наоборот- неумелые слова благодарности, рассказы о невеселом, но заслуженном лагерном житье. И главное — планы на будущее, мечты, вопросы. Виктор ни разу не оставлял такое письмо без ответа. Наверное, немало было таких, кто в сладком сне видел, как расправляется с ненавистным ему оперативником, но важно было, что многие все же поняли, что к чему, и разгадали сочувствие. Людям, даже самым плохим, так нужно бывает сочувствие, одна капля. Виктор отложил перо, посмотрел в помутневшее от мокрого снега окно. То и дело в него шлепался снежный комок. Тонкие струйки стремительно начинали свой бег по стеклу, и потом, нерешительно остановившись, на мгновение замирали и вновь продолжали путь, на этот раз зигзагами, виляя из стороны в сторону. За их причудливой оградой виднелось серое, набухшее небо, клочкастые облака, потемневшая стена дома напротив. Виктор еще раз, неизвестно зачем, поворошил бумаги на столе — письма от Губановой не было. Жаль. Больше всего он любил получать письма от нее. И не потому, что она лучше всех умела их писать. Скорее потому, что эта странная печальная женщина, трудное многомесячное единоборство с которой он никогда не забудет, оставила в памяти какое-то особое, смешанное чувство горечи и удовлетворения. Вот уже два года, как она с ним переписывается, ей осталось не так уж много времени пробыть в заключении. Он знает, что потом, когда она вернется, то придет сюда, к нему, на Петровку, 38, как приходили до нее многие, как будут приходить после нее, и он поможет ей устроиться на работу, поможет снова найти место в жизни. Обычное дело. Разве только к нему сюда приходят, разве только он помогает… Обычное дело, старое дело. Он хорошо помнит его. Губанову задержали при смешных обстоятельствах. К тому времени, когда это произошло, она была уже опытной “домушницей”. На ее счету были десятки краж, дважды она отбывала наказание. Губанова тщательно готовила свои операции и шла наверняка. Вот и тогда она два месяца следила за квартирой и ее жильцом. Казалось, все предусмотрела. Аи нет, всего, оказывается, не предусмотришь. Хозяин квартиры, человек тихий и степенный, отличался аккуратностью и точностью: всегда в одно время уходил на службу, в одно время возвращался. А тут взял да и загулял. Пошел к другу на рождение да так с непривычки напился, что на следующий день проспал все на свете. Еле придя в себя, с раскалывающейся от боли головой, он часов в одиннадцать утра поднялся с постели и вышел в соседнюю комнату. Увидев незнакомую женщину, спокойно и неторопливо укладывавшую его костюмы, рубашки и обувь в его же чемодан, хозяин квартиры сначала решил, что продолжает видеть пьяные сны. Сообразив наконец, что происходит, он бросился к женщине и стал звать на помощь. — Несолидный мужчина, — презрительно отозвалась о нем Губанова на первом же допросе, — пьяный, небритый и кричал, словно его не обворовывают, а режут. Несолидный! — Да, — согласился Виктор, — несолидный. Что ж делать, не всем мужчинам храбрыми быть. — Да все вы подлецы, — неожиданно зло сказала женщина, — извините, конечно, гражданин начальник, я не вас, конечно, имею в виду, но мужчины все негодяи. Виктор некоторое время внимательно разглядывал Губанову. Откуда такая злость? Такое “мужчиноненавистничество”? — Замужем были? — Что я, дура? Зла себе желаю? — Губанова фыркнула. “Была, — сразу определил Виктор. — Была и на этом обожглась”. — Одной, наверное, трудно, — он сочувственно посмотрел ей в глаза, — работы найти не можете, специальности нет, с образованием плохо? — Перестаньте, гражданин начальник, вы же сами не думаете то, что говорите. Работы для меня найдется сколько хотите, университетского диплома у меня, правда, нет, — она покосилась на значок, украшавший лацкан пиджака Виктора, — но о литературе или музыке могу с вами поспорить. Ворую, потому что хочу! — Ну и сколько это может продолжаться? Вы же молоды… — Постарше вас, но не старая. А продолжаться… какая разница — все равно жизнь моя кончена. Сажайте хоть на сто лет… Вот так и шли первые допросы — озлобленность на весь мир, мрак впереди, безразличие. Но, словнокинематографический ролик, разматывалась перед Виктором эта невеселая, жалкая жизнь. В суровые годы войны девчонкой опоздала на работу, была осуждена, озлилась на всех, вышла из заключения воровкой, встретилась с человеком, полюбила, вложив в это чувство все, что было в ней хорошего, нерастраченного. Обманул, бросил с ребенком. Опять пошла воровать. Потом ради дочери решила все кончить, взяться за честный труд. Уехала далеко от больших городов, от недоверчивых людей и соблазнов. В маленьком, глухом колхозе стала дояркой. Колхозники обогрели, уважали за хорошую работу. Назначили за начитанность и знания библиотекарем, по совместительству, по вечерам. Оттаяла. А потом и здесь разыскался подлец, а может, просто дурак, искренне веривший, что делает как лучше. Посмотрел ее анкеты, личное дело, увидел судимости и сказал: “Такая не может быть библиотекарем. Пост ответственный — отстранить”. Уехала. Устроила дочку в детдом и снова пошла воровать. В этой науке достигла вершин. Работала ловко, хладнокровно, искусно. И, как всегда бывает, попалась таким вот глупым образом. А теперь черт с ним со всем! О дочери не знают — о ней позаботятся. Слава богу, в нашей стране взрослого могут обидеть, ребенка — никогда. Узнав, что Виктор знает все о дочери, в первый раз на допросе растерялась. Смотрела со страхом. Словно сдунуло гордость, глупую удаль. — Только дочери не говорите, — просила, — я все расскажу. Во всем признаюсь! — О чем расскажете? — Виктор похлопал по пухлой папке дела. — И так все известно, все вот здесь. — И добавил с горечью: — Вы лучше подумайте, что дочери будете рассказывать? Опустив голову, Губанова молчала. Да, много месяцев потратил Виктор на борьбу с этой женщиной. С ней? А может — за нее? Он выходил на беседы — это даже нельзя было назвать допросом, — готовясь к ним, как к экзаменам. Он ночами не спал, продумывая каждую фразу, каждый ход этой сложнейшей шахматной партии. И выиграл. “Обо всех преступлениях, — писала она в своих показаниях, — я намерена рассказать потому, что решила порвать с преступным прошлым и посвятить свое будущее воспитанию дочери”. Теперь Губанова руководитель бригады отличного труда. Не одну воровку заставила она раскаяться, пересмотреть свою жизнь. Милиция сама ходатайствовала перед судом, чтоб ей дали минимальное наказание. Виктор нашел ключик к сердцу этой женщины — любовь к дочери, ответственность перед ней. Не было в этом деле ни стрельбы, ни схваток, ни ночных облав. Были долгие спокойные беседы в теплой, освещенной мягким светом комнате. Не было предотвращено убийство или схвачена банда. Но это было, быть может, самым сложным и трудным из всех его дел, которым он больше всего гордился. Потому что выиграло” его не с помощью пистолета, не с помощью совершенной милицейской техники и даже не с помощью многотрудной следовательской науки. А с помощью доброты, веры в человека и другой, самой сложной в мире науки — знания человека. Поэтому-то Виктор так радуется, когда приходят письма от Губановой. “Получила Ваше письмо, — писала она в последнем. — Прежде всего хочу Вас поблагодарить за ответ, за известие из детдома, за частицу человеческого тепла. Одним словом, за человечность”.БОГАТЫЙ НИЩИЙ
Разбор корреспонденции закончен. Виктор смотрит на часы. Одиннадцать. Короткий звонок. Внутренний телефон. В трубке хорошо знакомый голос: “Зайдите ко мне, Тихоненко”. Виктор поднимается, по привычке одергивает штатский пиджак и идет к начальству. У начальника оперативное совещание. За столом подполковник Данилов в форме и вокруг человек десять сотрудников уголовного розыска, товарищей Виктора по работе в штатском. Своим спокойным негромким голосом подполковник Данилов излагает дело. — В ночь на двадцатое декабря неизвестные преступники, перепилив в окне с помощью ножовки металлическую решетку, проникли в торговый зал магазина номер восемьдесят четыре “Овощи — фрукты”, что на Стромынской площади в доме номер один — двадцать четвертое отделение милиции Куйбышевского района, — где, взломав с помощью гвоздодера два сейфа и два кассовых аппарата, совершили кражу денег — разменной монеты в сумме двести тридцать рублей в банковской упаковке… Виктор слушает и думает о завтрашних соревнованиях на первенство “Динамо”. Он уже давно научился слушать и одновременно думать о другом. “Как Гай Юлий Цезарь”, — шутит он. Интересно, выиграю у Хилого или не выиграю. Надо же такую фамилию для борца — Хилый! Смех, да и только. Но Хилый, он парень здоровый, мастер спорта к тому же. Виктор пока перворазрядник. Это по борьбе. А вообще интересно подсчитать, сколько у него всех разрядов. Значит, так: футбол, гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, лыжи, плавание, стрельба, шахматы, борьба самбо, вольная борьба, мотоспорт. Третьи, вторые, первые. По конькам вот, по альпинизму, по штанге еще не успел получить… Ничего, как говорят, все впереди. — …Двадцатого декабря, — доносится до него ровный голос подполковника Данилова, — на Центральном колхозном рынке за сбыт разменной монеты в количестве пяти килограммов был задержан гражданин Веревочкин… — Ничего себе, богатый нищий! — раздается чья-то реплика, в комнате слышится смех. Выждав паузу, подполковник продолжает: — Веревочкин Гаврила Николаевич, двенадцатого года рождения, в прошлом судимый, работающий помощником кладовщика в кафе. В качестве вещественного доказательства у него был изъят банковский мешочек, принадлежащий магазину номер восемьдесят четыре “Овощи — фрукты”. “…Все-таки этот Хилый… чем его брать? Силой тут ничего не сделаешь, — Виктор огорченно смотрит на свои могучие мускулистые руки, — он сам как медведь. Нет, надо брать “вертушкой”. Он недаром только ее и отрабатывает со своим тренером. “Не можешь же ты одной “вертушкой” промышлять, — сердится тренер, — ну Хилого поймаешь, ну другого, третьего. А в турнире пятнадцать человек. Так они все и будут подряд попадаться?” Он, конечно, прав: нельзя все внимание сосредоточивать на одном приеме. Это как в розыске — попробуй стать в своих методах однообразным и жизнь бесконечным разнообразием быстро загонит тебя в тупик. То же и в спорте. Встретишься с кем-нибудь, кто любит твой любимый прием…” Жалко все же, что так мало времени остается на спорт. Было бы побольше, Виктор по-настоящему занялся бы борьбой самбо. Она очень нравится ему — точная, быстрая, красивая и разнообразная. И стрельбой. Стрельбой из пистолета он и сейчас занимается достаточно, но надо бы побольше. Уж о любимом мотоспорте и говорить не приходится. В конце концов, все эти виды спорта необходимы в его профессии. Поэтому, наверное, он так увлекается ими, да разве только он? Наверняка любой его товарищ по уголовному розыску в самбо, стрельбе, боксе, умении водить машину или мотоцикл может дать не одно очко вперед какому-нибудь джимену из американского ФБР, разносторонние боевые способности которых так рекламируют. А вот в шахматы джимены вряд ли играют. Пришли б они посмотреть турнир на первенство МУРа! — Двадцать третьего декабря по подозрению в краже из магазина номер восемьдесят четыре был задержан сын Веревочкина — Веревочкин Юрий, сорок первого года рождения. При личном обыске у него было изъято восемьдесят пять монет достоинством в одну копейку. Его допросили, но за недостатком улик придется освободить… Видите ли, товарищи, — закончил изложение дела подполковник Данилов, — Веревочкин-старший с такой яростью утверждает, что нашел деньги на дороге, да еще прямо в банковском мешочке, что никто с ним не связан, что сын его ни при чем и вообще что все это недоразумение, что возникает мысль: старик хочет отвести подозрение от кого-то, скорее всего, от человека ему близкого. Надо приглядеть за Веревочкиным-младшим. И, кроме того, кража в восемьдесят четвертом магазине мне кое-что напоминает. Давайте покопаемся в делах и в памяти. Когда совещание закончилось и сотрудники стали расходиться, Виктор подумал: “Ерундовое дело — дело о богатом нищем”. Ему и в голову не приходило тогда, что дело это окажется одним из самых сложных и запутанных, с какими ему приходилось встречаться.ПРОПАВШАЯ ЛИСА
Проклиная ледяной ветер, Виктор отправился в магазин № 84. Магазин как магазин, одно слово — “Овощи — фрукты”. Он заранее представлял себе кражу. Обычная картина: влезли, утащили деньги… Но, ознакомившись с обстоятельствами дела на месте, он насторожился. Виктор сразу понял, что здесь действовали люди уверенные и опытные. Причем действовали удивительно нагло. Магазин располагался в жилом доме, и рядом был другой, охранявшийся сторожем. По существу, сторож этот смотрел за обоими магазинами. Впрочем, воры обратили на сторожа весьма мало внимания. Зайдя за угол, они, не торопясь, перепилили решетку довольно высоко расположенного окна, влезли в него и, не считаясь с тем, что за широкой витриной маячил бдительный страж, взяли валявшиеся где-то под прилавком гвоздодеры и принялись за работу. Виктор осмотрел оконную решетку — да, красивая работа: прутья были распилены точно, экономно, со знанием дела. Но особенно интересен был прием, с помощью которого грабители вскрыли сейфы. Конечно, то, что теперь принято называть “сейф”, в общем-то, не сейф, а железный шкаф — он хорошо защитит содержимое от огня, но не очень — от воров. Это не массивные, толстостенные, стальные громады с хитроумными и сложными замками, а именно шкафы из железа. Но и их не так просто открыть. Тем не менее воры ухитрились сделать это быстро и даже не ломая замков. Они просто сумели засунуть в щель между дверцей и стенкой шкафа гвоздодер и, так сказать, выгнуть дверцу кнаружи. Ловко. Сомнений не было — работали квалифицированные грабители. Об этом говорило и много других признаков. Видно было, например, что преступников не интересовало ничего, кроме денег; нигде не было обнаружено отпечатков пальцев, причем эксперты установили, что действовали воры без перчаток, но тщательно, без упущений, протирали все, до чего дотрагивались. Виктор долго ходил по магазину, сопровождаемый директором. Директор печально смотрел на него большими, черными, восточными глазами и сокрушался: — Найдете, а? Подлецы, а? Совести нет! Найдете? — Найдем, найдем! — буркнул Виктор. “Найдем-то найдем, но когда?” Было ясно, что в деле участвовало минимум три человека. Один, бесспорно, следил за сторожем, двое других проникли в магазин. Виктор возвращался в управление пешком. Снег добросовестно сопровождал его всю дорогу. А через три дня Виктора подняли с постели в два часа ночи. Дело принимало серьезный оборот. …По дороге к месту происшествия Виктор повторял про себя только что услышанные подробности ограбления. Наглость воры на этот раз проявили удивительную. Было ограблено ателье № 1 Куйбышевского района, расположенное чуть ли не напротив отделения милиции! Виктор долго и тщательно осматривал все входы и выходы, все окна ателье. Что блокировка цела, он знал и так: тревожный сигнал молчал да и проникли преступники в ателье иначе. Его интересовало другое: не делали ли они попытки взломать, скажем, дверь. Нет, не делали. Они даже не подходили к дверям. Было ясно, что воры отлично знакомы с системой охраны ателье и, вместо того чтобы нейтрализовать эту систему (то ли выйдет, то ли нет), поступили гораздо проще. Проще, но насколько смелее! Виктор не спеша проделывает весь путь, пройденный грабителями. Значит, так: вот они вошли во двор, прямо скажем, довольно захламленный (и это в двух шагах от милиции!), потом влезли на сарай по мусорным бидонам, с сарайной крыши, продемонстрировав неплохую физическую подготовку, на крышу ателье. Эта часть крыши с улицы не видна. И именно туда выходит чердачное окно. Виктор, скользя по замерзшей крыше, добрался до окна. Оно закрывалось глухой ставней, запиравшейся навесным замком с толстой дужкой. Замок он осмотрел еще раньше — дужка была аккуратно и, видимо, быстро перепилена ножовкой. Светя фонарем, Виктор проник на чердак. Вот и пролом. Чувствовалось, что люди, совершившие кражу, не раз заходили в ателье, хорошо знали расположение помещений. Место, где они пробили потолок, было выбрано не случайно. Оно приходилось над рабочей комнатой. Кроме того, преступники нашли, путем выстукивания, самое тонкое место в потолке. Здесь легче всего было продолбить потолок и, пользуясь захваченными со двора и найденными на чердаке железными ломами и крючьями, а также принесенной ножовкой, быстро проделали дыру и по стояку спустились вниз. Сколько их было: двое, трое? Во всяком случае, не один. Так проникли в пролом. Схватившись сильными руками за края отверстия и секунду пробалансировав в воздухе, Виктор спрыгивает на стоящий под отверстием стол. Работники милиции, уже побывавшие до него, сняли со стола отпечатки следов, так что теперь можно безбоязненно ходить по нему. Что делали воры, оказавшись в этой огромной, темной комнате, заставленной невероятной длины столами? Ведь в ателье хранились почти готовые и совсем готовые костюмы и пальто, отрезы, рулоны подкладки. Но они ничего этого не тронули. Быстро и уверенно они прошли к сейфам, к этим большим, но не слишком недоступным железным шкафам, и открыли их, именно открыли, а не взломали своим привычным способом. Да, теперь он уже может говорить о привычном способе, о так называемом “почерке” преступников. Они как-то не очень любят утруждать себя инструментами — все находят на месте. Там был гвоздодер, здесь — портновские ножницы. Ими-то они и выдавили дверцы сейфов. Виктор ходит по комнате, как всегда внимательно осматривая все вокруг. До него то же самое сделали добрый десяток людей: эксперт из НТО, дежурный по городу, дежурный МУРа, работники соседнего, 24-го отделения милиции. Все, что они обнаружили, зафиксировано на десятках страниц протоколов. И все же Виктор снова и снова обходит комнату. Вот здесь один из грабителей высморкался. Очень хорошо — взяты ли следы мокроты? Взяты. Интересно сравнить с теми, что взяты в магазине № 84. Так. А вот стул, на нем следы — следы один на другом, видно, что на этот стул вставал не один человек. Когда оперативники вошли в комнату, стул валялся в углу. Ясно. Этот стул преступники поставили на стол и таким образом влезли обратно в пролом. Первого, наверное, подсадили, а последнего подтянули за руки. А он ногой оттолкнул стул. Зачем? Еще стул, еще, еще. Их здесь много. Стоят в беспорядке. На них сидят швеи во время работы. Впрочем, некоторые стулья стоят как-то странно по отношению к столам. Но и это понятно. Виктор не раз видел, как порой работница сидит на столе, поставив ноги на стул — ей так удобней. На этих стульях, наверное, немало женских следов. Ну, а вот этот стул, одиноко притулившийся у стены? Нет, не у стены, а, скорее, у окна. Хотя окно очень высоко. В него ничего не видно — не достанешь. Впрочем, достанешь как раз, если встать на этот стул. Виктор наклоняется и внимательно рассматривает поверхность стула: на ней отчетливо видны отпечатки мужских ботинок. Что делал этот человек, стоя на стуле, у высоко расположенного окна? Виктор становится на стул. Вот теперь понятно: из окна открывается великолепный вид на постового и на милицию. Интересно, зачем нужно было так внимательно наблюдать за отделением? Постовой был гораздо лучше виден из другого окна. Виктор не без удивления узнает, что, кроме денег, взятых преступниками из сейфа, украдена лишь одна вещь: лиса, сданная какой-то клиенткой для воротника. “Здесь что-то не так”, — говорит себе Виктор. А что? Он бы затруднился ответить на этот вопрос. В конце концов, не слишком ли рано он связывает одной веревочкой (Веревочкин!) оба ограбления: магазина № 84 “Овощи — фрукты” и ателье № 1 Куйбышевского района? Может быть, и рано, но шестое чувство подсказывает Виктору, что здесь дело одних рук. Однако Виктор не верит в “шестые чувства”. Их надо подкреплять фактами. Он выдвинул гипотезу. Что говорит “за”, что “против”? И там и тут распил решетки или замка, причем очень искусный. И там и тут единственная, принесенная с собой ножовка (после использования выброшенная). И там и тут с помощью орудий, найденных на месте, вскрыты сейфы очень своеобразным способом. Преступники в обоих случаях действовали без перчаток, а потом протирали все, что трогали, и при этом без упущений, ничего не забыв. Это — за. А против? Раньше Виктор готов был бы поклясться, что, кроме денег, этих воров ничего не интересует. Тогда почему исчезла лиса? Только лиса, ничего больше, а там были вещи и получше. И главное: выясняется, что в этом ограблении Веревочкин-младший участвовать никак не мог, поскольку лишь за час до этого был выпущен из милиции (как раз из 24-го отделения) и всю остальную часть ночи, по единодушному утверждению соседей, провел дома. Но если в магазине “Овощи — фрукты” воры следов не оставили и узнать, кто они, из-за упрямого молчания Веревочкина-старшего невозможно, то в ателье положение лучше. Дело в том, что, проникнув в сейф, грабители нечаянно испачкались кассовой краской, хранившейся там. Теперь они долгое время будут на одежде и теле носить почти не смываемые, невидимые простым глазом, а главное, неизвестные им следы своего преступления. Они и сами вряд ли заметили, что запачкали одежду. Улика решающая. Остается “мелочь”: поймать их, чтобы им эту улику предъявить.ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Виктор возвращается домой досыпать. Это занимает у него полтора часа. Немного. Но он привык мало спать. В семье все встают рано. Отец, кандидат наук, доцент Московского областного педагогического института, мать — научный сотрудник опытной станции Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, сестра тоже кандидат наук, преподаватель той же академии — все народ занятой, умеющий ценить каждую минуту времени, с четко распределенным днем. Единственный возмутитель спокойствия — Виктор. Убегает в три часа ночи, спит иногда в двенадцать дня, уходит за зарплатой, а потом неделю отсутствует… Праздник для него не праздник, будни не будни. Неизвестно, где он берет время пополнять и держать в порядке свою огромную библиотеку, вообще поспевать за книгами, тренироваться, жить семейной жизнью. Слава богу, теперь женат. Может, наконец-то будет думать хоть немного о себе, о том, что жизнь человеку дается один раз, а не десять, и не мешает заботиться о ней. Виктор улыбается про себя… Вот ведь как сложилось. Вся семья сеятели, один он работает на корчевке… Действительно, жизнь у него, прямо скажем, немного беспокойней, чем, например, у нотариуса или бухгалтера. Он вспоминает, как однажды, дежуря в ГУМе, заметил двух карманников. Проследив за ними и убедившись в том, что не ошибся, он выждал момент, когда один из них вытащил у кого-то бумажник и собирался передать его своему партнеру. В то же мгновение Виктор приемом самбо зажал руку вора, державшую бумажник, словно в тиски. Другой рукой он схватил второго карманника и, несмотря на сопротивление, доставил воров в дежурную комнату на другом конце магазина. После первых бурных объяснений, когда все стало на свои места и карманники признались, старший, не скрывая уважительного изумления, поглядел на Виктора и сказал: — Ну и здоров ты! Опомниться не успел, как сгреб нас и повел. А ведь я боксером был, перворазрядником. Да пока соображать начал… Или еще случай. Нужно было задержать одного хулигана в Сокольническом парке. Задержали. Двое милиционеров повели его в отделение, а двое, в том числе Виктор, остались в арьергарде. В арьергарде, потому что чуть не двадцать парней самого разного возраста, видя перед собой людей в штатском, пытались отбить своего дружка. Однако Виктор и его товарищ очень быстро “усеяли поле сражения телами нападавших”. Убедившись в бесполезности своих атак, хулиганы разбежались. И еще случай. В одном московском универмаге была совершена кража. Воры унесли три новеньких чемодана, набив их носильными вещами. Примечательным было то, что среди этих носильных вещей оказался костюм самого большого существующего размера. Зачем он потребовался преступникам? Сбыть такой крайне сложно: великаны не ходят сотнями. “Значит, для себя”, — решил Виктор. И действительно, вскоре на рынке были задержаны два человека, продававшие новые носильные вещи. Один из них, настоящий гигант, сумел мгновенно раскидать милиционеров и скрыться. Тот, которого удалось схватить, на допросах плел всякую чепуху. Всем было ясно, что он врет, но уличить его не удавалось, тем более что, судя по всему, у него за плечами был солидный опыт. Виктор тем временем стал изучать записную книжку задержанного. В этой замусоленной, помятой книжонке были записаны сотни адресов и телефонов, многие сокращенно, условно, неразборчиво… Виктор отобрал штук тридцать адресов. Проанализировал, кое-какие проверил, посоветовался с подполковником Даниловым и отобрал из них еще полдюжины. Трудно сказать почему, но Виктор остановился на одном из адресов: “Магазин “Вата”, серый дом, первый этаж, Тоня”. Почему? Виктор не раз задумывался над собственными примерами и над примерами своих товарищей — какая интуиция, какое “шестое чувство” заставляет из многих вариантов следствия остановиться на этом, из многих следов выбрать этот? И что такое вообще “шестое чувство”? Отбросив чисто профессиональное умение оценивать вещи и факты, отбросив опыт, когда все данные равны? В конце концов он пришел к выводу, что как это ни странно, но даже такая точная наука, как криминалистика, совершенно не может обойтись без вдохновения. В какую-то минуту следователя “озаряет”. Он еще сам не может объяснить, почему выбрал этот ход, а не тот, но выбирает его. Потом он разберется почему, и ему будет казаться это совершенно естественным. Он забудет, что в момент “озарения” еще не было у него тех или иных данных, а были сомнение и колебание… Разумеется, все это доступно действительно талантливому, опытному, знающему работнику, великолепно “влезшему” в данное дело. Но все же… Наверное, человеческий мозг как-то срабатывает, заставляя принимать иной раз решения раньше, чем он сам может объяснить точно причину этих решений. Ну да ладно. Об этом, наверное, еще много будет когда-нибудь написано, да и сейчас пишут. А в тот раз, поскольку Виктор чувствовал, что дорог каждый час, он прямо в воскресенье, без оружия отправился вместе с подполковником Даниловым по подозрительному адресу. В тот день шли городские соревнования по борьбе самбо, великим любителем которой был подполковник, сам человек уже немолодой и не очень здоровый. Он обещал заехать за Виктором на машине в качестве болельщика — Виктор в этих соревнованиях участвовал. Данилов заехал раньше, и Виктор предложил: — Товарищ подполковник, у нас есть еще полчаса, заедем к этой “Вате”. — Ну что ж, заедем, — согласился Данилов, — это где? Ему и в голову не приходило, чтоб Виктор мог сделать свое предложение, не выяснив предварительно адреса. Действительно, в то утро Виктор узнал, что магазин “Вата” в Москве один и находится он на Ленинском проспекте. До “Ваты” доехали легко. А дальше? Но тут же все сомнения отпали. Поблизости стоял лишь один серый дом, весьма заметный. Обойти все квартиры первого этажа было бы несложно, но им сразу повезло. В первой же, в которую они позвонили, дверь им открыла девица, вид которой не мог оставить никаких сомнений у опытных работников уголовного розыска. Не останавливаясь в дверях, мимо растерявшейся Тони, они прямо прошли в комнату, где за уставленным водкой и закусками столом сидели два человека. Один из них и сидя был чуть не на голову выше Виктора. Под кроватью выстроились все три новеньких чемодана. На столе среди вилок и ложек лежали самодельные автоматические ножи. Подполковнику Данилову и Виктору достаточно было обменяться быстрым взглядом. Подполковник вышел и пошел в ближайший автомат вызывать оперативную машину. А тем временем в комнате происходил разговор, который Виктор теперь вряд ли сумел бы передать даже приблизительно. Он весь состоял из намеков, недомолвок, непонятных для непосвященного вопросов и ответов. Казалось бы, странно: вошел незнакомый человек, сел за стол, словно невзначай положил автоматические ножи себе в карман, налил всем полные фужеры водки, первый выпил, а потом стал подливать только им. Никто друг у друга не проверял документов, ни о чем прямо не спрашивал. Продолжая разговор, Виктор встал из-за стола и начал ходить по комнате так, чтобы одновременно видеть и дверь, и окно, и всех троих преступников. Он был совершенно спокоен, хотя понимал, чтс если грабители придут в себя, очнутся от психологической, что ли, летаргии, в которой они находились, ему придется плохо. Иногда Виктор, много позже, спрашивал сам себя: что бы он сделал, напади на него преступники. И каждый раз уверенно отвечал: вступил бы в схватку. Один. Против троих, в том числе одного великана. Даже не зная, есть ли у них еще ножи, а может быть, и пистолеты. Тут не могло быть двух решений. Но гипноз его воли, его силы, его смелости действовал достаточно долго, чтобы успели прибыть милицейские машины. А гигант, оказавшийся при проверке одним из самых опасных, давно разыскиваемых московских рецидивистов, так же, как тот карманник, потом на допросах недоуменно пожимал чудовищными плечами: — И почему я его не убил — сам не пойму. Нахрапом взял… Он не умел правильно выразить свою мысль. Именно “нахрапом”, если понимать под этим смелость, находчивость, самообладание, стремление выполнить свой долг. В конце концов, дело не в формулировках. Сотрудник уголовного розыска “работает головой”. Но иной раз приходится действовать и руками и пистолетом. Такая уж профессия. Перед входом в эту профессию, как у дверей в трансформаторные будки, висит невидимая надпись: “Опасно для жизни”. Виктор, не колеблясь, в свое время открыл эту дверь. И по сию пору не жалеет об этом. “Жалеешь?” — спрашивает он себя. “Нет!” — отвечает себе.“ПОГОНЯ” В КОМНАТЕ
Утром, придя в отдел, Виктор садится за стол и начинает, как он выражается, “погоню”. Он ловит преступников, опознает их, прослеживает их пути, уличает, и все это, не вставая из-за стола. Итак, Веревочкин-младший не мог участвовать в ограблении ателье, коль скоро он сидел в милиции. Значит, это ограбление с ним не связано? “Нет, связано! — убежденно решает Виктор. — Ведь сидел-то он не где-нибудь, а в 24-ом отделении, том самом, что в двух шагах от ателье! В том самом, за входом в которое наблюдал человек, оставивший следы на стуле у окна”. Это происходило в двенадцать ночи, а Веревочкин покинул отделение в одиннадцать и сразу пошел домой, откуда никуда не выходил и не звонил по телефону. Грабители не могли знать, что в момент, когда они перепиливали замок чердачного окна, их товарищ был уже освобожден. Их товарищ? Нет, Веревочкин. А вот что он их товарищ, это надо еще установить и доказать… Виктор задумывается. Почему из всех ателье Москвы преступники выбрали именно это, расположенное рядом с отделением милиции, в котором пребывал Веревочкин? Это не может быть случайностью. Грабители преследовали определенную цель. Но какую? Вот, скажем, если б на их месте был он, Виктор, и если б в шайку входил Веревочкин, и если б Веревочкина задержали, то с какой целью он “брал” бы это ателье, да еще так быстро после ареста Веревочкина? С той целью, отвечает на им самим же поставленный вопрос Виктор, чтобы милиция убедилась — Веревочкин под замком, а ограбления продолжаются, значит, он ни при чем. А чтоб, не дай бог, не прошло ограбление мимо 24-го отделения, его совершают тут же перед носом. И притом в срочном порядке, пока еще Веревочкина не выпустили. Но если все это так, то, значит, налет на магазин “Овощи — фрукты” и налет на ателье — не единственные подвиги шайки. Потому что, будь только два этих случая, на их основании трудно строить серьезные предположения о наличии шайки, в состав которой входит Веревочкин. Однако преступники, зная за собой ряд других краж и предполагая, что милиция уже связала в своем расследовании эти кражи, совершают хитрый маневр, чтобы выгородить Веревочкина. Им и в голову не приходит при этом, что пока милиция “располагает” лишь двумя ограблениями. Что ж, спасибо за высокую оценку! Можете не сомневаться, что завтра или послезавтра Виктор приступил бы к изучению всех аналогичных дел за невесть сколько лет. Но, судя по всему, надо приступать к этому не завтра, а сегодня, сейчас. Виктор копается в ориентировках за последние месяцы, в сводках за последние годы — он изучает картотеку МУРа, отбирая нераскрытые дела, сгруппированные по способу совершения преступлений, выезжает в райотделы или запрашивает оттуда архивы. Погоня продолжается. Продолжается не день и не два. Виктор листает протоколы осмотра места происшествия, смотрит фотографии. Вот, например, дело о краже в ателье в Ленинградском районе в прошлом году. Перепилили дужки замка… выдавили неизвестным инструментом дверки сейфа… взяли деньги, только деньги… бросили полотно ножовки. “Неизвестный инструмент”. Виктор тщательно разглядывает в лупу фотографию. Что это возле сейфа за черточки с колечками, уж не ножницы ли? Качество снимков не удовлетворяет Виктора. Он идет в научно-технический отдел, просит увеличить снимки, рассматривает их снова. Сомнений быть не может — портновские ножницы. А в продовольственном магазине — ломик. А в кафе — специальный кухонный нож. Картина все больше проясняется, и Виктор отправляется на доклад к подполковнику Данилову. — Ситуация складывается следующим образом, — сообщает Виктор, — за последнее время, точнее, на протяжении более года, совершен ряд дерзких преступлений — ограблений кафе, ателье, продовольственных магазинов. Поскольку все они совершены в определенных участках Ленинградского, Куйбышевского, Тимирязевского и Дзержинского районов, центром которых является Марьина Роща, можно предположить, что там преступники и живут. Посмотрите, товарищ подполковник, на план- видите, если поставить неподвижную ножку циркуля в Марьину Рощу, то можно обвести небольшой и почти точный круг, внутри которого окажутся все точки совершения преступлений. Оно и понятно. Грабили ночью, когда транспорт не работает, прохожих почти нет. Если кража будет быстро обнаружена, то все посты и патрули узнают об этом раньше, чем преступники доберутся до дому. А так раз-два, и они уже спят сном праведника. Что действует одна и та же группа, сомневаться не приходится, слишком много сходных моментов. — Например? — спрашивает Данилов. Виктор удивленно смотрит на него — что ж, он не знает, что ли? Но сразу же перестает удивляться — это обычный прием подполковника: он перепроверяет, и, между прочим, не всегда подчиненного, чаще себя. — Например, — продолжает Виктор, — то, что они никогда, ничего, кроме денег, не берут. Один только раз унесли лису… — Лису? — Да, лису для воротника из ателье номер один. И знаете, товарищ подполковник, я думаю, что эта лиса еще скажет свое слово. — Согласен, — Данилов задумчиво барабанит пальцами по столу, — только надо тщательно продумать, что подсказать этой лисе, когда ей надо будет говорить. Продолжай. — Продолжаю. “Работают” эти деятели очень квалифицированно. Не удивлюсь, если они слесари высокого разряда или кто-то из них. Спокойно, точно, быстро. Перепиливают решетки и дужки замков артистически. Полотно ножовки потом бросают, а весь другой инструмент находят на месте. Причем весьма изобретательны. Например, в ателье пользуются портновскими ножницами. Сейфы открывают исключительно ловко: вставляют ножницы в щель между дверцей и стенкой сейфа и выгибают дверцу наружу. Замок остается целым и не отпертым. Поэтому когда потом осматривается сейф, то если выгибали дверцу не сильно, тот факт, что ее открыли, представляется прямо-таки таинственным. Далее. Один из преступников каждый раз сморкается чуть ли не в сейф. Орудуют всегда без перчаток, это тоже говорит о высокой квалификации — знают, что и в перчатках можно оставить следы. Зато тщательно вытирают все после себя. Есть все основания предполагать, что Веревочкин-младший замешан в этом деле, хотя, как мы знаем, одно из самых дерзких ограблений произошло в его отсутствие. Но именно это… — Именно это! — поторапливает Данилов. — …именно это, товарищ подполковник, убеждает меня в его виновности. Пока у меня нет доказательств, но я убежден, что они специально совершили этот налет, чтобы снять подозрение с Веревочкина: мол, видите, он за решеткой, а кражи продолжаются. К тому же его отец, когда попался, сами помните, яростно отводил от сына всякие обвинения. И, наконец, знаете, кто Веревочкин-младший по профессии? Слесарь! — А вообще-то, что они собой представляют, Веревочкины? — спрашивает Данилов. — Веревочкин-младший, Юрий Гаврилович, сорок первого года рождения, не судимый, работает на заводе. Жену и сына бросил. Веревочкин-старший, Гаврила Николаевич, двенадцатого года рождения, в прошлом судимый, работал кладовщиком, а в последнее время помощником кладовщика в кафе. Явно наводчик, хорошо знает кафе, продуктовые магазины, систему охраны, сдачи выручки, расположение помещений и так далее. Пьяница. — Ну, это анкета, — нетерпеливо перебивает Данилов, — а человек? — Доложу завтра, — отвечает Виктор. — Что ж, не успел узнать? — Нет. Говорил с соседями, на заводе, еще кое-где, но с одной теткой хочу еще поговорить. — А остальных мало? — Мало. Разрешите доложить завтра? Подполковник машет рукой. Он знает Тихоненко. Тот может допросить сто свидетелей, но пока не опросит сто первого, которого по каким-то своим соображениям считает самым главным, — докладывать не будет. Ему, видите ли, “не ясна картина”. Виктор выходит из кабинета Данилова. Одевается и едет к “тетке”, а попросту говоря к бывшей дворничихе того дома, где живет Юрий Веревочкин.РАЗГОВОР С УМНЫМ ДВОРНИКОМ
Виктор идет по заснеженной Москве. Он любит иногда, особенно перед серьезным допросом или разговором, пройтись по воздуху, “проветрить мозги”, как он выражается. Идет по бульвару. Под ногами скрипит снежок. Деревья напоминают гигантские белые кораллы. Солнце слепит глаза, отражаясь от ветровых стекол машин. Синеют сугробы вдоль аллей. Мороз спокойный, не сырой, не слишком сильный, и Виктор даже не надевает перчаток. У скамеек кучки людей — пенсионеры. Вдоль всего бульвара идут шахматные сражения. Обмотав носы шерстяными шарфами и натянув на уши шапки, пенсионеры обдумывают ходы (свои — когда играют сами, чужие — когда болеют, стоя возле игроков). “Вот, — размышляет Виктор, — всю жизнь работали, наверное, не все богато жили, наверное, отказывали себе в чем-то. Дети у них, внуки. Радовались небось, когда получали повышение или прибавку. И никому из них не приходила в голову мысль, что можно в течение часа заработать свое годичное, а может, и двухгодичное жалование, взломав сейф в магазине. Не потому, что боялись, что попадутся, — наверняка среди этих пенсионеров есть люди смелые, ловкие, бывшие в молодости сильными, отчаянными; просто они не представляют себе и никогда не представляли, что деньги можно приобретать таким путем. А вот Веревочкин представляет. Он, наверное, теперь не представляет, как их зарабатывать иначе”. …Шурша по асфальту, проносятся машины. Интересно, как убирают от снега московские улицы! Если не знать, что зима, то в центре ее и не почувствуешь — никакого снега. Виктор проходит мимо старого здания Московского университета; из дверей выбегают группки студентов без пальто, они переходят в другую аудиторию. Когда-то и он здесь так же бегал. Он был уже “начальником” в бригадмиле, когда ему стукнуло семнадцать лет. Он увлеченно работал бригадмильцем. Однажды поздно вечером во время своего дежурства у гостиницы “Москва” он увидел четырех мужчин, пристававших к женщине. Послав напарника за милицией, он вступил с ними в борьбу. Один, школьник, против четверых здоровых парней. Двоих уложил, а двое так и не смогли уложить его. Позже о л получил за это благодарность, первую благодарность в своей жизни борца с преступностью, и еще больше увлекся борьбой. А когда, кончив школу, Виктор успешно сдает экзамены в Московский государственный университет, он уже начальник штаба бригадмнльцев 117-го отделения милиции. В бригаде шестьдесят человек — все студенты. Позже он заместитель начальника штаба дружины охраны общественного порядка юридического факультета МГУ, между прочим, одной из первых в стране. Виктор улыбается про себя — почти что боевая биография. В 1961 году, привинтив к лацкану университетский значок, он официально становится офицером советской милиции, сотрудником Московского уголовного розыска. Вот он и идет сейчас для беседы с тетей Клавой, техником-смотрителем одного из ЖЭКов, а до недавнего времени дворником в доме, где живет Веревочкин. В голове у Виктора почему-то навязчиво засел эпизод из “Двенадцати стульев” — эпизод беседы Остапа Бендера с “умным дворником”. Неужели тетя Клава будет такой же? Тетя Клава оказывается не такой. Но разговаривать с ней не так-то просто. Дело в том, что она не просто отвечает на вопросы, а одновременно высказывает свои взгляды на худшую часть современной молодежи, частенько обвиняя в создавшейся ситуации Виктора, по принципу “а куда милиция смотрит?”. — Почему у вас такие по воле бегают? Вы что ж, значит, не видите ничего? Если баба семечками торгует — это вы видите, а таких? — И она устремляет на Виктора негодующий взгляд. — Погодите, Клавдия Федоровна, мы видим, видим, — успокаивает ее Виктор, — вот пришел же я к вам. — Эка, милок, когда пришел, он, может, за это время сто человек зарезал! Виктор страшно таращит глаза и хватается за ручку. — Сто человек! Клавдия Федоровна, давайте имена, скорей все имена. Тетя Клава остывает. — Какие имена? Я же не говорю — убил, я говорю — может, убил… — Ну, а чем он плох-то, Веревочкин, может, это вам все кажется? — Мне кажется? — Тетя Клава задыхается от негодования. — Мне кажется! Сами судите. Вовка-маленький, двенадцать лет ему. А эти оболтусы — Юрка Веревочкин, Володь-ка, друг его первейший, — пьют в подъезде поллитру и угощают. — Кого угощают? — Как — кого? Вовку того. Двенадцать лет пацану, а они ему вместо соски поллитру суют! А вы где были?.. Виктор спешит изменить ход мысли тети Клавы: — А что за Володька? — Да Володька же Балакин, тоже такой вот бездельник… — А может, еще кого знаете? — Сережка еще какой-то, модник, брючки что те трубы водосточные, носки — ворон пугать на огороде. Вот если б милиция… — Клавдия Федоровна, — поспешно перебивает Виктор, — а не помните, к каким часам он на работу ходил, Веревочкин? Тетя Клава негодующе всплескивает руками. — Да ты спроси, милок, ходил он на нее, на работу-то! Он день ходил, а три прогуливал. По вечерам, бывало, дежурю, смотрю: из такси вываливается голубчик. Да не один. Девки, срам, а не девки, одни волосья чего стоят. Вот вылезут за ним две такие страшилищи, сами-то на ногах не держатся и тащат его в дом. А уж поди часа три ночи-то. — Так всегда и возвращался? — Ну не всегда. Бывало, как тень прошмыгнет в одиночку, и не заметишь. — А не помните, когда, например, так бывало? — Ну разве все упомнишь! Я-то ведь не полуночница, слава богу, я по ночам спать привыкши. Это когда дежурила только. Вот помнится, — тетя Клава задумалась, — помнится, в прошлом году, Восьмое марта было, наш бабий день. Я дежурила, помню. Так он часа, не соврать бы, в четыре пришагал. Я еще спрашиваю его: “Что это ты сегодня трезвенький такой, что стеклышко? Вроде б женский день, а ты сегодня без подружек своих”. Так я его, значит, с намеком. А он вздрогнул весь, не приметил меня сперва в подъезде-то, а потом буркнул только: “Не все пить-то, тетка, надо и отдых знать”. Отдых, думаю… “Восьмого марта прошлого года… — размышляет Виктор. — В эту ночь был ограблен продовольственный магазин”. — Может, еще вспомните? — Нет, милок. Был, правда, случай. Тоже часа в три вернулись, но уж тогда трое их было, и вроде под хмельком. А может, и не под хмельком. Так-то вроде не качались. Пешком пришагали, прошли, меня и не заметили. Юрка-то вздохнул так, облегченно вроде, и говорит: “Ну вот и порядок! А ты, Володька, каркал”. — Балакин Володька? — Вот чего не приметила, того не приметила. Помню, трое были. А какой же еще? Наверное, Балакин. Другого-то вроде нету… И, воспользовавшись тем, что Виктор записывал что-то в блокнот, перешла в наступление: — Ты скажи, милок, почему вот вы за мусор штрафуете, а за то, что во дворе в козла стучат до зари, — нет. За то, что снег не уберем, — штрафуете, а за то, что дружина у нас в ЖЭКе только на бумаге, — нет. Создали, всех позаписали, я хоть не молодка, а первой записалась. И чего? Ничего. Походили месячишко, а теперь уж забыли, как это делается. — Клавдия Федоровна, мы-то… — Вы-то, вы-то! Вы-то и должны за этим смотреть. Вы хоть все генералами станете, а без народа-то не будет толку. Ну что вот ты, милок, хоть и с пушкой будешь, совершишь, если мы тебе помогать не будем? Да, тетя Клава — умный дворник. Виктор молчит. Что говорить? Он и так знает, что она права. У них на Петровке, 38 прекрасно все это знают. Это вот тетя Клава не знает, сколько таких же, как она, добровольных, бескорыстных помощников у Петровки, 38! Если б знала — радовалась. А “те” ночные рыцари, хулиганы, шпана — они, между прочим, тоже не знают, сколько у нашей милиции помощников в народе. А жаль. Знали бы, может, вели себя потише. Многие — наверное. Но для иных народ мало что значит. Вот милиция — другое дело. Это они понимают. Виктор продолжает свое путешествие. Он еще раз встречается с соседями Веревочкина, с теми, с кем он работает на заводе. Они рассказывали. Двенадцатилетний Вовка: — Она такая горькая, водка. Фу, противно! А как не выпьешь? Он таких подзатыльников надает… Сосед по квартире, пенсионер-бухгалтер: — Конечно, гулял, а что ж ему — дело молодое. Конечно, выпивал — так ведь дома не шумел, а на улице, знаете, это уж пускай милиция смотрит. Соседка, работница на фабрике: — Нехороший парень. Не знаю, как вам объяснить, вроде и здоровается по утрам, а вотчувствую, только объяснить не могу. И потом, видели, как одет-то? И брючки, и галстучки, и все прочее. Откуда деньги? Он же дорогу на работу небось в адресной книге узнает. Мастер энергетического завода, где Веревочкин работал: — Золотые руки у парня. Была бы голова не садовая, далеко в нашем деле бы пошел. Он запросто мог хорошие деньги зарабатывать. Так нет, прогуливал, а то и пьяный придет. Я его сколько раз от ворот вертал. Один из рабочих его бригады: — Подонок он, не наш, не рабочий человек. Верно мастер говорит, мог бы работать. Так ведь мало ли что кто может! Судить-то надо по тому, что делает. А вы глаза его видели? Обратили внимание? Он же как волк смотрит! Волчьи глаза у него. Посмотрите, точно — волчьи. Случайная, “случайно” задержанная подруга: — А я откуда знаю, где он деньги берет? Знаю только, что есть они у него всегда. Не имеете право меня держать! Ну выпила, так ведь не хулиганю! Да что вы ко мне с этим Юркой пристали — парень как парень, аккуратный, не дерется, угостит всегда. А где он работает — я не нянька за ним смотреть. И не очень он мне нравится. Володька, тот да! Когда вы меня выпустите? Я жаловаться буду!.. Виктор докладывает подполковнику Данилову. — Юрий Веревочкин — подонок. Пьет, водит к себе женщин сомнительного поведения, прогуливает работу. Денег много, откуда — неизвестно. Отец у него, как я уже докладывал, тоже пьяница, у сына под каблуком. Несколько раз Юрий Веревочкин возвращался среди ночи, один, трезвый, стремился остаться незамеченным. Одно из возвращений совпадает по времени с одним из ограблений. В общем, товарищ подполковник, — подытожил Виктор свой доклад, — остается, как говорится, немногое: поймать и изобличить. — Вот и займись этим, — ворчливо посоветовал Данилов, — лови и изобличай. — Слушаюсь, — сказал Виктор и, собрав свои записи, вышел из кабинета.СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…
Изобличать пришлось, а ловить нет. Это сделали другие. Через несколько дней после описываемых событий была ограблена сберегательная касса. Надо заметить, что ограбить сберегательную кассу — это не то же самое, что вытащить бумажник у зазевавшегося пассажира трамвая. Сберкассы имеют соответствующую систему защиты, да и сейфы там настоящие. К тому же редко так случается, чтобы в сберкассе на ночь оставались большие суммы. И для того чтобы выбрать удобный момент, преступники должны следить за кассой долго и тщательно. Когда Виктор приезжает на место, царит глубокая ночь. Только что заведующий сберкассой вернулся домой — а он живет почти в том же помещении, — обнаружил взлом и позвонил в милицию. И вот милиция на месте. Собаке, как всегда, не везет. Метель такая, словно это не Москва, а сибирская тайга. Фонари раскачиваются, будто хотят оторваться. Их скользящий свет с трудом прорывается сквозь вихри жесткой белой крупы, затеявшей во мраке неистовую, беспорядочную пляску. Тротуары заметены, и языки снежных наносов вытянулись во все стороны. Метель воет, как стая волков, она заглушает слова, уносит их куда-то далеко от ушей, для которых они предназначены. У входа в сберкассу уже притопывают какие-то белые бесформенные фигуры — прибывшие раньше работники милиции. Внутри, согреваясь и образуя вокруг лужи подтаявшего снега, уже смотрят, фотографируют, пишут протокол. Обычная работа. Виктор останавливается в дверях и обводит взглядом помещение. Да, ничего не скажешь! Нахальные ребята. Он мгновенно понял, что за сберкассой следили долго и тщательно и вообще выбрали ее не случайно. Те, кто располагал ее здесь, наверное, чутко заботились об удобствах для будущих воров. Касса находится на первом этаже жилого дома. Вход в нее из жилого подъезда. Ни лифтера, ни дворника (которому полагается дежурить и который, разумеется, не делает этого) в подъезде нет. Лампочка не горит. Ее, наверное, предусмотрительно вывинтили преступники. Защитная система сберкассы из-за неисправности два дня не работала. И преступники должны были об этом знать, раз они выбрали один из этих дней. А это требовало не только тщательного наблюдения за кассой, но и умения определить, работает или нет защитная система. И это уж не говоря о том, что они видели, как ушел заведующий сберкассой. Дело в том, что из подъезда вход вел в нечто вроде передней, из которой одна дверь открывалась в сберкассу, а вторая — в квартиру, где жил заведующий. Что было бы, если б он не ушел? Или вернулся домой не поздно? Остался бы он в живых? Ведь преступники могли предполагать, что у заведующего сберкассой есть оружие и он умеет им пользоваться. Тем не менее грабители спокойно входят в подъезд, без труда проникают в квартиру заведующего, покинувшего ее буквально десять минут назад, верные своей системе не носить с собой инструменты, отламывают ручку от… сковороды и перепилив ею дужку навесного замка, попадают в помещение сберкассы. Они вскрывают маленький ящик, забирают немного находившихся там денег и приступают к взлому сейфа. Но тут их постигает первая неудача. Сейф в сберкассе не несгораемый шкаф в ателье — его портновскими ножницами, а тем более ручкой от сковороды не откроешь. На мгновение Виктор закрывает глаза и представляет себе всю сцену. Несколько человек — сколько: трое, четверо? — толкаясь в темноте, тяжело дыша, шепотом ругаясь, возятся вокруг сейфа, примеряются к нему так и этак, сплевывают с досады, а один, как обычно, сморкается… Что же произошло дальше? Дальше преступников постигла вторая неудача: убедившись, что с сейфом им не справиться, они уходят, но по дороге нечаянно толкают стол, разбивают чернильницу с красными чернилами. Чернила попадают им на руки, на одежду. Виктор тщательно осматривает стол и пол вокруг стола. Вот здесь чернильница разбилась, от нее полетели брызги, они попали сюда и сюда. А почему не сюда? Потому что здесь что-то преградило им путь. Нетрудно догадаться, чт именно — преступники. Сколько? Судя по ширине незапятнанного пространства — двое. А судя по высоте полета брызг — запачканы руки, рукава… Виктор выходит на улицу. Метель продолжает буйствовать. Он не успевает опомниться, как весь облеплен снегом, исхлестан твердой крупой, ослеплен воющим ветром. Где-то вдали слышен прорвавшийся сквозь этот вой звонок первого трамвая. Домой ехать нет смысла, и Виктор отправляется в управление. Он спускается в буфет, пьет крепкий чай, идет в свой кабинет, смотрит на часы — уже можно звонить Люде, жене, она встала. Занятия в училище, где она преподает, начинаются рано, а находится училище на другом конце города. Разговор короткий и деловой. Людмила не спрашивает свистящим шепотом, жив ли он, в ее спокойном голосе не чувствуется слез, как и недовольства, что ее мужа вытащили в три часа ночи из постели, увезли в неизвестном направлении и что вот только теперь он звонит. Виктор устремляет взгляд за окно, в бешено крутящийся белый мрак, и размышляет. На губах у него застывает довольная улыбка. Он доволен своей работой, которую он любит, он доволен этим конкретным делом, которое, как он чувствует (а как объяснить почему?), близится к развязке, он доволен собой: тем, что чувствует себя бодро, что у него могучие мышцы, мгновенная реакция, что он быстро бегает, высоко прыгает, что он знает много приемов борьбы и самбо и не знает, что такое боль в сердце, грипп и простуда. Он доволен тем, что умеет мчаться на бешеной скорости на мотоцикле и без промаха стрелять из пистолета. Стрелять днем и в темноте, из неудобного положения и падая. Если выгонят из милиции, улыбается он про себя, пойду в цирк стрелком. Виктор доволен своими товарищами по работе и, хотя так не полагается говорить, — своими начальниками. Но он доволен тем, что они им довольны. Дружеская взаимопомощь, поддержка хороши в любом учреждении. В уголовном розыске они необходимы. Если где-то из-за нерадивости товарища ты потеряешь премию — это плохо. Здесь же из-за этого можно потерять жизнь. Но нерадивые в уголовном розыске не задерживаются. Наконец, Виктор доволен тем, что у него есть Людмила. Сейчас, пожалуй, он доволен этим больше всего. Людям редко свойственно ощущать свое счастье, неприятности — это да. В древности говорили: “Я чувствую свою руку”. Это значит, рука болела. Потому что когда она не болит, ее не чувствуешь. Так и с женой. Замечаешь ее присутствие, когда она плохая, а когда хорошая — нет. Нет в том же смысле, в каком человек не ощущает, что он здоров, сыт, дышит воздухом, доволен жизнью. Это все воспринимается как естественное, само собой разумеющееся. Поэтому он доволен. А она? А для нее естественно, само собой разумеется, иметь такого мужа, который воюет, когда для всех кругом мир. Ведь нет же войны, нет сражений, и никакой другой женщине в Москве не приходит в голову, что муж может умереть под пулей! А ее муж может. Он не ходит в стальной каске, не берет с собой на работу саперной лопатки, даже пистолета. Он завтракает, как правило, дома и бреется электрической бритвой. И все же каждый раз, как он закрывает за собой дверь их квартиры, она провожает его как на бой. И пока в полночь ли или под утро он не вернется домой, она не знает, вернется ли он. Конечно, в стране больше умирает людей от болезней, от уличных катастроф, от авиационных или железнодорожных катастроф, чем гибнет милиционеров. Но ведь нельзя же не летать самолетом, не ходить по улицам или считать себя застрахованным от рака. А вот в уголовный розыск можно не идти работать. Можно читать по вечерам повести про милицию и ворчать: почему не поймали карманника или не убрали пьяницу со скамейки. Это легче. И не следует осуждать людей за то, что они становятся инженерами, врачами, строителями, журналистами, шахтерами, а не сотрудниками уголовного розыска. Среди них тоже немало смелых людей. Много известно случаев, когда они помогали тушить пожары, спасать утопающих или задерживать убийц. И порой отдавали при этом жизнь. Но все же это очень редкие случаи. Для работников уголовного розыска ловить убийц и рецидивистов, рискуя жизнью, а иногда и жертвуя ею, обычно. Это их профессия. Число сотрудников уголовного розыска, а тем более работающих в первом отделе, ничтожно мало по сравнению с остальным населением страны. И найти себе мужа среди всего этого остального населения соответственно неизмеримо легче. Но Людмила выбрала именно его, Виктора. Она знала, на что шла, и пошла на это. Она никогда не ворчит, когда он ночью убегает из дому, не говорит ему бесполезной и трогательной фразы: “Будь осторожен”, не предъявляет нелепых требований, например, быть дома в день ее рождения или под Новый год. Она старается, чтоб ему было легче. А кому трудней? Ему, увлеченному боем, захваченному действием, видящему опасность, борющемуся с ней, хорошо знающему, что за сутки эта непосредственная опасность угрожает ему все время или всего несколько секунд? Или ей, на работе и дома, одной и с гостями, днем или ночью, ничего точно не зная, не имея возможности помочь ему, защитить, что-то сделать, хоть как-то, хоть в чем-то принять участие, ей, беспомощно и пассивно ждущей его возвращения? Когда он дома и ночью или в другое неурочное время раздается в их квартире телефонный звонок, он знает — в нем нуждаются. А когда она одна и телефон зазвонит в ночной тишине? Что должна она пережить в те секунды, пока тянется к трубке? Сейчас она услышит его веселый уверенный голос и гора упадет с плеч. А если голос будет не его? Если подполковника Данилова, или… или самого комиссара? Нет, конечно, не все так страшно. Бывают и веселые случаи, да и самое страшное дело почему-то выглядит потом в его рассказе как забавный эпизод. Работают в уголовном розыске люди десятками лет и вот ведь живы и невредимы. В конце концов, преступники есть, но не все же они убийцы. Есть статистика: гибель каждого милиционера — трагедия, но это каждый раз исключительный случай… Зачем думать о худшем? Теперь Виктор смотрит за окно не улыбаясь. Его взгляд становится печальным. А потом холодным и злым. Так всегда с ним бывает в эти минуты. Как будто мало на земле бед: наводнений, пожаров, болезней, катастроф! Как будто не делают у нас все, что можно, чтоб людям жилось лучше! Не все еще хорошо, многое еще предстоит. Так помоги! Нет, наоборот, норовят подставить ножку, украсть, обмануть, убить. Плевать таким на всех и на все, кроме себя. И пока будут они ходить по земле, i Виктору и другим его товарищам, тем, кто придет ему на смену, не придется жить спокойной жизнью, а их женам забыть о страхе и волнении. За окном по-прежнему бушует метель, но мрак рассеялся, настало утро. В коридоре слышны шаги, открываются и закрываются двери, кто-то смеется, кто-то разговаривает. Жизнь продолжается… Его мысли прерывает телефонный звонок. Говорят от дежурного по городу: — Сегодняшнюю сводку читал? — Нет. — Почитай. — А готова? — Понесли. Через несколько минут Виктор читает: “По обвинению в попытке обокрасть ателье верхней одежды № 3 Свердловского района задержаны Веревочкин Юрий и Гришин Сергей…” Не успев дочитать сводку, Виктор вскакивает. И, перепрыгивая через ступеньки, мчится вниз. Машина с включенным мотором уже ждет его у подъезда.НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Пока машина мчится к отделению милиции, Виктор “расслабляется”. Он заимствовал это выражение из спорта. Он знает, что для сохранения сил в соревнованиях по любому виду спорта надо уметь чередовать мгновения максимального напряжения с периодами расслабления. Это как перед прыжком — все мышцы расслаблены, мягки, и вдруг короткий разбег и мгновенное неистовое напряжение прыжка. А у марафонцев по-другому — там напряжение длится часами. И вот, пока бежишь, надо уметь отдыхать, хоть секунду, хоть долю секунды, в момент переноса руки, переноса ноги… А у него напряжение постоянно. И мгновенное и длительное. Виктор знает: сейчас он приедет на место — и начнется борьба психологическая, борьба допрашивающего и допрашиваемого. Все чувства в этот момент должны быть в предельном напряжении, ничего нельзя упустить, не заметить. Поэтому сейчас он расслабляется. Это вьюга и снег напоминают ему прошлогоднюю встречу Нового года. Довольно своеобразную. В вагоне. На пути в Москву. Это было интересное и поучительное дело, запутанное и легко решившееся благодаря пустяку. Из длинных многословных рассказов шести человек он выудил тогда одну фразу, и эта фраза привела к раскрытию сложного дела, к поимке убийцы. …Морозным декабрьским днем на Киевский вокзал столицы прибыл поезд из Харькова. Среди других пассажиров в нем ехало шесть тбилисцев и один ленинградец. Познакомились в пути, сдружились. Ленинградец ездил на Украину, возил теще в подарок телевизор, но оказалось, что телевизор ей уже подарил сын, и вот теперь он везет его обратно. Телевизор заинтересовал одного из тбилисцев, и он решил приобрести его у проклинавшего все на свете и прежде всего свою тещу ленинградца. Договорились так. Поскольку ленинградец задерживается в Москве на два дня, а тбилисец едет дальше, в Ленинград, то телевизор оставят в камере хранения в Москве, а когда ленинградец прибудет в свой город, он отдаст там тбилисцу багажную квитанцию, а тот ему — деньги. Непонятно, зачем потребовалась столь сложная договоренность, но поскольку она состоялась… Четверо тбилисцев поехали в Ленинград, а ленинградец и двое других отправились в район ВДНХ и устроились там в гостинице. К сожалению, ленинградец оставил паспорт в сданном вместе с телевизором чемодане. Тбилисцы общими усилиями уговорили администратора прописать их нового товарища по единственному имевшемуся у него в кармане документу — диплому об окончании института на имя Самохина. Самохин был веселый, красивый, обаятельный; администратор согласился. Но перед отъездом в Ленинград вся компания весь день носилась по Москве. Что-то покупали, пообедали в ресторане. Около ГУМа зашли на почту послать приветственные телеграммы в Тбилиси. И тут Самохин подошел к тбилисцу, купившему у него телевизор, и, смущаясь, попросил половину оговоренной суммы. Но все уже так подружились, что, проявляя великодушное доверие, тбилисец отдал ему все деньги — 220 рублей. Дружба дружбой, доверие доверием, но в последний момент перед отъездом тбилисец зашел все же в камеру хранения и, сопроводив свою просьбу солидным материальным сувениром, попросил кладовщика не отдавать ленинградцу телевизор, если тот за ним придет. Оставшиеся два тбилисца на следующее утро встретили мать одного из них, прибывшую с большими деньгами в Москву, чтобы закупить себе, многочисленным родственникам и друзьям новогодние подарки. Вместе с тбилисцами встречать ее поехал и управившийся со всеми своими московскими делами Самохин. Встретили и прямо с вокзала поехали по магазинам. Только часам к пяти, с двумя набитыми чемоданами, вернулись в гостиницу и пошли по корпусам искать для прибывшей отдельный номер. В какой-то момент разделились. Тбилисцы пошли в одну гостиницу, Самохин — в другую. Но обаятельный ленинградец вернулся в вестибюль и, сообщив старой женщине, что сейчас сын придет за ней, чтоб вести в номер, который они только что нашли, сам взял у нее оба чемодана и сумку, где лежали деньги, и любезно отправился вперед. Когда сын минут через двадцать пришел за безмятежно ожидавшей его матерью, все выяснилось и поднялся плач и “скрежет зубовный”. Прибывшие работники милиции немедленно поехали в камеру хранения. Выяснилось, что Самохин только что приходил за своими вещами. Однако верный своему слову кладовщик не выдал их ему. Рядовой гражданин, если бы ему попробовали не дать его же вещи по имеющейся у него законной квитанции, естественно, поднял бы скандал. Самохин же мгновенно исчез. В его чемодане среди других вещей нашли паспорт на имя Борисова и справку о том, что он только что освобожден из заключения. На фотографии в паспорте Борисов оказался удивительно похожим на Самохина. Сведения о преступнике были немедленно разосланы во все органы милиции. И через два дня у Виктора раздался телефонный звонок. Звонил дежурный по одному из московских отделений. — У нас находится Борисов, о розыске которого было дано указание. — Что он говорит? — спросил Виктор. Последовала пауза. — Так что он говорит? Алло! — Видите ли, — сказал наконец дежурный, — он в таком виде, что от него мало чего можно добиться. Лучше бы вы заехали. Виктор немедленно отправился в отделение. Борисова удалось привести в мало-мальски трезвое состояние часа через два. И чем больше Виктор с ним разговаривал, тем яснее становилось, что к Самохину он имеет весьма отдаленное отношение. Короче говоря, выяснилось, что Борисов действительно недавно освобожден, но что где-то в Орше он потерял или у него выкрали документы, о чем он сделал там же соответствующее заявление. Проверка подтвердила его слова. Итак, тонкая ниточка, имевшаяся у милиции, порвалась. Тогда Виктор и его товарищи стали изучать все аналогичные дела. Красивый и обаятельный парень, по описаниям схожий с Самохиным, вставал со страниц архивных дел в самых разных качествах. То это был Александр, то Андрей, то Юрий, но чаще всего Анатолий. Не обладая талантом Аркадия Райкина, этот человек тем не менее оказывался то инженером из Иркутска, то режиссером из Москвы, то капитаном дальнего плавания из Мурманска, но чаще всего кем-нибудь из Ленинграда. Там он обманул старика, унеся 500 рублей, здесь доверчивых попутчиков в поезде, еще где-то пожилую чету, но больше всего ему удавалось обманывать женщин. И однажды, втершись в доверие к проводнице поезда Москва — Ленинград, он поселился у нее. Он назвался Анатолием, сказал, что занимается боксом, что он архитектор. Как-то ночью у них произошло бурное объяснение (о чем рассказали соседи). А на следующее утро архитектор исчез, оставив труп убитой им женщины. Теперь это уже был не дешевый авантюрист, охотник за ротозеями и железнодорожный вор. Это был убийца. Но где его искать? Виктор занимался текущими делами, ходил на тренировки, затеял новый каталог для своей библиотеки. Но чем бы он ни занимался, мысль о Самохине — Борисове не выходила у него из головы. Его не покидало ощущение, что была где-то в этом деле какая-то важная деталь, могущая пролить на все яркий свет. Какая? Виктор без конца пересматривал все возможные варианты, снова и снова просматривал протоколы допросов шестерых тбилисцев и ничего не находил. У него было такое чувство, будто он играет в детскую игру “горячо — холодно”. “Тепло, еще теплей, горячей, почти совсем горячо!” — подсказывал ему внутренний голос. Но “горячо!” так и не говорил. Наконец, не выдержав и доложив начальству, он вылетел в Тбилиси и попросил всех шестерых свидетелей вновь повторить свой рассказ. Прозрение наступило утром, когда тбилисец, купивший телевизор, неожиданно вместо ответа на очередной вопрос, с негодованием воскликнул: — Послушайте, он жулик, вы его поймать не можете! Но я — то почему должен страдать? Я ему деньги за телевизор отдал? Отдал! Двести двадцать рублей! А где аппарат? Почему мне его не дают? “Почти горячо!” Сдерживая волнение, Виктор попросил свидетеля еще раз рассказать эпизод на почте. — А чего рассказывать? Сидим там за столом — такой большой, овальный, домой пишем. Вдруг он подходит, говорит: “Слушай, Жора, может, дашь мне аванс в счет телевизора. Все равно я тебе квитанцию багажную дам, хочешь в Москве отдам? А то мне очень нужно сейчас”. Мы пообедали, выпили хорошо, сердце радуется, доверяет человеку сердце. Я все двести двадцать рублей вынимаю — даю, говорю: “Зачем квитанция, человек человеку верить должен. Я тебе верю!” Это уж потом я кладовщика предупредил все-таки. Мало ли что. А тогда на почте я ж не знал, что он жулик. — Ну дали вы ему деньги, а дальше что? Куда он пошел? — Не знаю, не следил. Мы к окошечкам подошли, телеграммы сдавать. Он тоже по-моему у какого-то окошка стоял. Не помню. Помню только, что с почты он не уходил. Я так, знаете, пока в очереди стоял, задумчиво на дверь смотрел. — А позже, — продолжал спрашивать Виктор, — когда вы по городу ездили, он о деньгах ничего не говорил? — О каких деньгах? — Вообще о деньгах. — Нет, не говорил. Только когда уж прощались в центре, у Серго два рубля попросил — до гостиницы, говорит, на такси доехать… “Горячо!” Вот теперь “горячо”. Виктор с неожиданной радостью поблагодарил удивленного тбилисца и на следующий день вылетел в Москву. Все было ясно. Деньги, взятые на почте, Самохин — Борисов отправил куда-то. Прямо с аэродрома Виктор поехал на почту. Он просидел там, забыв об обеде и ужине, до самого закрытия и в результате нашел то, что искал. В тот день, когда тбилисцы и ленинградец побывали на почте, оттуда был отправлен денежный перевод на 220 рублей в городок Дубки, Иркутской области, на имя некоей Рубакиной. Адрес отправителя: Москва, К-9, до востребования Самохвалову Анатолию Ивановичу. В ту же ночь срочная телеграмма сообщила в Дубки приметы и описание “Самохвалова”, адрес Рубакиной и приказ немедленно задержать преступника. Буквально на следующее утро пришел ответ: человек, отвечающий приметам Самохина — Борисова, задержан. Втиснувшись в самолет сверх всякой нормы, Виктор с помощником в тот же день вылетели в Иркутск. Самохин — Борисов — Самохвалов отнесся к своему задержанию довольно спокойно. Виктор не сообщил ему, что он из Москвы, и тот решил, что за ним прибыли из Иркутска. В ночь на 1 января, когда все порядочные люди “стреляют” шампанским и произносят тосты, Виктор, связав себя за руку с преступником, ехал в пустом вагоне на пути из Дубков в Иркутск. Напротив сидел его помощник Валерий. Оба не спали перед тем две ночи, глаза у них слипались, ритмичное покачивание и перестук колес еще больше усиливали желание спать. Чтоб не уснуть, они то и дело поливали друг другу головы купленным на станции боржомом. Вот так встретил он в тот раз Новый год. Приехав в Иркутск и поместив своего подопечного в камеру, они прежде всего выспались. А ранним утром повезли арестованного на аэродром. Всю дорогу Самохин без конца рассказывал разные истории, из которых явствовало, какой он ловкий, хитрый, веселый жулик. Как он там обвел шляпу, здесь обманул простофилю, даже милицию он неизменно оставлял в дураках. Он охотно брал на себя кражи, совершенные в области, даже в других городах, только не в Москве и Ленинграде. Когда же он увидел, что машина, мчавшая его по предрассветным иркутским улицам, миновала милицию, прокуратуру, тюрьму и понеслась к аэродрому, лицо его вытянулось. Он понял, что за ним прибыли из столицы. Но вскоре опять приободрился, опять начал свои рассказы, он даже подробно описал, как обокрал тбилисцев. Он охотно выкладывал все, лишь бы отойти подальше от единственного дела, которого страшился, — убийства ленинградской проводницы. Когда его наконец доставили в Москву, начались допросы. Постепенно все яснее и яснее проявлялся “кадр за кадром” из его жизни. И, как всегда, у истоков стремление к “красивой жизни”. То, что людей тянет к красивой жизни, не удивительно. Важно, как ее, эту красивую жизнь, понимать. Виктор никогда не уставал удивляться тому, сколько еще есть у нас юношей и девушек, видящих эту жизнь в роскошных туалетах, пьянках, безделье. А так как туалеты и пьянки требуют денег, а безделье приобретению таковых не способствует, некоторые становятся на путь преступления. Не сразу, не вдруг, а постепенно. Одних затягивают более опытные, другие начинают с мелкой кражи или обмана, третьи, напившись, лезут в драку. Большинство останавливают товарищи, школа, комсомол, родители, иногда милиция. Но там, где на споткнувшихся вовремя не обратили внимания, отмахивались от них, дело кончается порой катастрофой. Комсомол, школа — все это хорошо. Но ведь в школе учатся, в комсомоле состоят ребята далеко не ясельного возраста. У них уже есть своя голова на плечах, свой, пусть маленький, жизненный опыт. Почему он, Виктор, например, вместо того чтобы стать спекулянтом, в комсомольском возрасте побил спекулянта, вместо того чтобы лазить по карманам, ловил карманников? Надо, чтобы каждый молодой человек с детства привык отвечать сам за себя, а не прятаться за родительские спины. Вот теперь этот Самохин-Борисов, он теперь будет оправдываться тем, что его “проглядели”? Да нет, он отлично знал, что делал, и тогда, когда тащил завтраки из портфелей товарищей, и когда ударил девочку, отказавшуюся с ним танцевать, и когда украл первый чемодан у попросившей его присмотреть за вещами пассажирки. Обман, злоупотребление доверием, кражи, а потом… — …Так как же вы называли себя, когда знакомились с людьми? — интересуется Виктор. — Да по-разному, чаще, всего Анатолием, друг был такой у меня, вот и прихватил потом его имя. Допрос продолжается день, два. — А вы здоровый парень, вам бы штангой заниматься, — заметил как-то Виктор, окинув взглядом крепкую фигуру “Самохина”. — Штангой не штангой, а боксом несколько лет занимался. Разряд имел. Только выгнали меня потом за драки… Он рассказывает о десятках городов, где “работал”, о десятках людей, которых “обрабатывал”. И однажды, увлекшись, сам не заметил, как упомянул о знакомстве с ленинградской проводницей. И это стало началом его конца. Виктор незаметно, не торопясь, но неотступно и твердо сжимал вокруг “Самохина” кольцо улик, загонял его все дальше и дальше туда, откуда уже не было выхода. Через неделю убийца сознался. Найдя у проводницы скопленные ею деньги, он забрал их, а когда, поймав его на месте кражи, она стала требовать их обратно, просто убил ее. …Все это Виктор вспоминал, пока машина мчала его морозным январским днем по московским улицам в отделение милиции, где ему предстояла наконец встреча с Веревочкиным-младшим.ТАИНСТВЕННЫЙ СЛЕД
Обстоятельства окончательного задержания преступников были следующие. Окончательного, потому что, в общем-то, Веревочкина все время не выпускали из поля зрения. Больше того, вся московская милиция была ориентирована на особо тщательное наблюдение за такими объектами, как пошивочные ателье. “Весьма символичное, — подумал Виктор, — так сказать, единение милиции и общественности”. Постовой Филиппов поздно ночью обходил свой район. Это был опытный милиционер, пришедший в органы после сверхсрочной службы в армии. Участок свой он знал хорошо, а службу — еще лучше. Филиппов стоял на перекрестке, он только что прошел улицу из конца в конец, внимательно поглядывая на навесные замки палаток, на запоры магазинных дверей, бросая взгляды через широкие витрины. А сейчас он стоял на перекрестке и курил. Через пять минут он пройдет улицу опять, но по другой стороне, покурит на другом се конце и углубится в один из переулков… Так он делает каждое свое дежурство, каждый раз изменяя маршрут и время обхода. Но, стоя на перекрестке с сигаретой в руке, Филиппов продолжал дежурить: он чутко вслушивался в ночные звуки города. Вот где-то вдали звякнул какой-то случайный, запоздавший трамвай, вот прошелестели машины на соседней улице, где-то залаяла собака — необычный для города звук, шаги поздних прохожих… А это что? Откуда-то, даже трудно определить откуда, доносится словно однотонная комариная песня. Может быть, это только кажется ему? Филиппов напрягает слух — нет ничего. Опять? Где это? Филиппов бросает недокуренную сигарету в снег и, медленно ориентируясь на звук, идет по улице. Сворачивает в соседнюю. На мгновение останавливается и продолжает путь. Но теперь он идет по-иному: быстро, уверенно, бесшумно. Расстегивает кобуру пистолета. Теперь он знает, что это за звук. Это ножовкой перепиливают железо. Неожиданно вдали слышен тихий, почти слившийся с ветром, свист, звук ножовки прекращается. Раздаются чьи-то торопливые шаги, замирающие в ночи. Филиппов бегом преодолевает оставшиеся метры: он уже знает, где все произошло, — ателье № 3 Свердловского района. Подбегает к боковой стене, вынимает электрический фонарь. У стены в снегу валяется ножовка, несколько прутьев толстой решетки перепилены. Все ясно. Один или двое пилили, один стоял на страже. Увидев или услышав приближающегося милиционера, он подал знак, и грабители скрылись. На протяжении квартала Филиппов прослеживает их путь по следам на снегу, дальше след теряется: воры вышли на широкую, очищенную от снега улицу. Филиппов немедленно сообщает в отделение. Но раньше чем оперативная группа успевает отправиться на место, преступников уже вводят в караульное помещение. Их поймали в двух кварталах от ателье. Возвращавшиеся с дежурства девушки-медсестры заметили двух парней, торопливо перебегавших улицу, воровато оглядывавшихся по сторонам. Встретив на углу милицейский мотоцикл, девушки сообщили о своих подозрениях патрульным. Обогнув дом, милиционеры подъехали к одной из подворотен в тот момент, когда парни выбегали из нее. Через десять минут оба сидели в отделении и довольно нагло отвечали на вопросы дежурного: — Ну выпили, ну домой идем! Порядок не нарушаем? Не нарушаем. Так чего привязались? Ножовка? Какая ножовка? Ателье номер три? Ну знаем, но сегодня мы и мимо-то не проходили. Где выпили? Дома выпили. И, между прочим, на свои, не на краденые! Что ж, подозревать можно было, но доказательств нет. Первое, что распорядился сделать Виктор, это направить в научно-технический отдел одежду задержанных. У него была своя мысль. Где-то в глубине души он надеялся, что сорванная бдительным Филипповым попытка ограбить ателье № 3 и окажется той точкой, в которой сойдутся пути Веревочкина, подозреваемого, но пока не изобличенного, и неизвестных преступников, обокравших ателье № 1, в двух шагах от отделения милиции, из которого Веревочкина только что выпустили. Связи, знакомства, в какой-то степени даже жизнь Веревочкина были изучены Виктором. Он давно вел с ним странный поединок, односторонний и молчаливый. Веревочкин ел, спал, “гулял”, выпивал, ходил по улицам и не подозревал, что в тиши своего кабинета Виктор сражается с ним, изучает, готовит стратегические планы, собирает материалы, чтоб в тот неизбежный момент, когда поединок станет явным и Веревочкин окажется перед ним в роли обвиняемого, выступить во всеоружии. Не наступил ли сейчас этот момент? Ведь второй задержанный, Гришин, на примете у Виктора, как один из ближайших друзей Веревочкина. …Виктор входит в дежурку и внимательно оглядывает сидящих перед ним парней. Пальто с цигейковыми воротниками, шапки-пирожки, очень узкие брюки, яркие носки. Настороженные взгляды, поджатые губы. Обоим лет по двадцать пять. Есть в их облике обыкновенных, даже с претензией на элегантность, современных парней что-то затаенное, недоверчивое, что-то от зверя, но не львиное или тигриное, а шакалье, лисье. В них чувствуется наглость, которая так же легко может перейти в беспощадность, как и в трусость, изобретательность на зло, ограниченность в добре. Это лишние люди. Люди, которых вряд ли исправишь и, уж во всяком случае, не скоро. Люди, усвоившие одну мораль: что хочу, то и делаю, лишь бы не попасться. И ради вот этого “хочу” они могут пойти на многое: могут быть хитрыми, настойчивыми, дисциплинированными, осторожными, изобретательными… А может, это Виктору все кажется? Может, просто сидят перед ним два ни в чем не повинных парня? Или так, повинных в мелочах. А он создал в своем кабинете образы опасных злоумышленников, опытных коварных преступников… Все может быть… Ведь предвзятость не мирится с объективностью. И чем упорней будет держаться следователь за свою заранее построенную версию, тем меньше шансов у него раскрыть истину. Виктор привозит задержанных на Петровку, 38 и идет в научно-технический отдел. Ему не терпится выяснить результаты экспертизы. Они оказываются совершенно неожиданными. На одежде Гришина обнаружены бесспорные следы кассовой краски. Ясно: Гришин участвовал в ограблении ателье № 1! Но самое поразительное то, что и на одежде Веревочкина найдены те же следы! А ведь он-то, это точно установлено, не мог участвовать в этом ограблении… Откуда же следы? К тому же Гришин ничего со своей одеждой сделать не пытался, а Веревочкин у себя пытался отстирать следы. Что ж, он знал? А если знал, то почему не предупредил дружка, не попытался отделаться от одежды? Виктор и сотрудник отдела долго ломают голову. Решают посоветоваться с опытным экспертом-специалистом. — И знаете что, — подумав, просит Виктор, — узнайте у него, нет ли других веществ, оставляющих такой же след? Продолжалась обычная работа. Опрашивались свидетели, собирались улики, проверялось времяпрепровождение задержанных. Кое-что это дало. Так, например, возникло подозрение, что попытку ограбить ателье № 3 совершили трое, а не двое. Кто был этот третий? Однажды вечером, задержавшись на работе, Виктор вновь и вновь пересматривал материалы дела. Зазвонил телефон. Сотрудник научно-технического отдела сообщал: — Так вот, у вашего Гришина следы кассовой краски ателье. Это вы знаете. Это точно. А у Веревочкина — следы красных чернил. Реакция та же. Алло, алло! Вы слушаете? Я говорю, красных чернил. Это что-нибудь дает? Виктор поблагодарил. Что-нибудь! Дает ли? Да все дает! Последнюю нить, последнее звено сложной и извилистой цепи. Вот теперь эта цепь замкнулась. Теперь действительно: сколько веревочке ни виться — пришел конец. Итак, Гришин и еще кто-то грабили ателье № 1 Куйбышевского района, а Веревочкин в этом налете участия не принимал — он только что вышел из милиции и сидел дома. Он не знал, что его товарищи в этот момент “берут” ателье, так же как они не знали, что их дружок уже отпущен. Да и ателье-то это они выбрали именно потому, что находилось оно вблизи отделения милиции, и поторопились, чтоб доказать, что Веревочкин никакого отношения к краже в магазине № 84 “Овощи — фрукты” не имеет. Все это не вызывало у Виктора никаких сомнений. Также не подлежало сомнению, что в налете на сберегательную кассу принимала участие вся компания. Гришин, Веревочкин и еще кто-то. Там Веревочкин, разбив чернильницу, запачкался. Потом они где-то пьянствовали, Веревочкин пытался отмыть чернила. Далее все они, или часть шайки, решили закончить эту ночь, ограбив еще одно ателье. Но, вспугнутые милиционером Филипповым, бежали. Гришин и Веревочкин попались, а третий, ибо Виктор не сомневался, что был третий, сбежал. Вот и все. В том, что именно так все произошло, Виктор был абсолютно убежден. Оставалось убедить в этом самих преступников. Убедить в том, что каждый их шаг, каждое движение, каждое действие известно милиции не хуже, чем им самим. А для этого нужно было услышать их рассказ о событиях, их ответы и, отбрасывая все ложное, по крупицам собирать полезную информацию тут же, мгновенно, обращая ее в свое оружие, и с ее помощью вновь идти в атаку для добычи новой информации.ДОПРОС
Первым Виктор допрашивает Гришина. Тот сидит напротив него, положив руки на колени, расстегнув ворот рубашки в цветочках. Он не отводит глаз, смотрит исподлобья, напряженно, по-волчьи. Отвечая, цедит слова, иногда ухмыляется или кривит рот. Сразу видно, что это прием. — Ваше имя, отчество, фамилия? — Гришин Сергей Васильевич. — Год рождения? — Сорок второй. — Москвич? — Москвич. — Где работаете? — С декабря не работаю. — С какого декабря? — С семнадцатого. — А раньше где работали? — В артели имени… — Кем? — Слесарем. Это формальности. Все, что сейчас отвечает ему Гришин, Виктор отлично знает, а Гришин знает, что он знает. Но так полагается. Первый официальный допрос. Впрочем, Виктор знает и многое другое. Еще накануне в этом же кабинете была у него немолодая, заплаканная женщина. Их не разделял стол. Виктор сидел с ней рядом на диване, сочувственно глядя в ее глаза. Матери Гришина не было причин радоваться. — Знаете, — говорила она, вытирая головным платком слезы, — как говорится: придет беда — отворяй ворота. Старший сын — шофер недавно угодил в больницу. Отца нет — одна растила. И вот Сергей пошел по плохой дорожке. Сколько раз говорила, предупреждала. Да разве мать слушают? Понимает она, все понимает. Но неужто совсем он безнадежный? Быть того не может! Вот и брат, как узнал, окончательно расхворался… Дальше с Гришиным начинается разговор по существу. — Где вы были в ночь на четвертое? — Сидели у Веревочкина, потом выпили, потом решили погулять; гуляли, а нас задержали… — Кто еще был в квартире, кто видел, что вы выпивали? — Никого. — Гуляли всю ночь? Вас ведь чуть не под утро задержали? Не холодно было по морозу гулять? — Ничего, мы закаленные, по утрам зарядку делаем… — Значит, вы отрицаете свою причастность к попытке ограбить ателье номер три? — Конечно. — А если ваш друг и коллега Веревочкин окажется умнее и признается? — А чего ему признаваться? Что он, нервный… — А если уже признался? — Не ловите, начальник. Я не карась, вы не рыбак. Пауза. — Ну что ж, раз не хотите признаваться — не надо. Рано или поздно все равно придется. А расскажите, что вы делали в ночь на двадцать седьмое декабря? — Не помню. Спал, наверное. — А вы, случайно, не лунатик? — Как? Почему лунатик? Не понимаю. — Вы не могли во сне встать, подойти к ателье номер один Куйбышевского района, влезть через слуховое окно на чердак, простукать потолок и в самом тонком месте, проделав отверстие, спуститься вниз по стояку? Не могли? Гришин, нахмурив лоб, настороженно смотрит на Виктора. — А потом, по-прежнему в состоянии сомнамбулизма, — продолжает Виктор, — не могли вы взломать портновскими ножницами сейф и забрать оттуда деньги? Или это вы стояли на стуле и следили за милицией? В глазах Гришина мелькает беспокойство и удивление, пальцы теребят складку брюк. — Не знаю, о чем вы говорите, гражданин… — Знаете, Гришин, отлично знаете. Значит, это он на стуле стоял, чуть не упал, еле за решетку удержался, а вы пока сейф открывали? — Он? Кто он? О чем речь? Кто вам рассказал? Это ж все неправда! — Нет, Гришин, это уж вы называйте фамилии. Ну что, вам еще подробности привести? Пожалуйста. Вот, например, зачем вы чистоту нарушаете? Пришли воровать — воруйте. А сморкаться на пол зачем? — Я не сморкался. Это… — Ну кто? Чего ж скрывать: в магазине восемьдесят четыре сморкались, в ателье номер один тоже и в сберкассе… Молчание. — Ну что ж вы молчите? Мы одного вашего коллегу, который с вами кассу грабил, задержали. Между прочим, не Веревочкина. И зачем вам понадобилось в тот же вечер еще и ателье номер три грабить! Совершенно не понимаю. Жадность обуяла? Молчание. — Почему, Гришин, вы так стараетесь выгородить ваших дружков? Воровская дружба? Да? А вот они что-то не очень придерживаются этих правил — рассказывают. — Не ловите на пушку, гражданин начальник… — А к чему ловить-то? Вы еще можете пытаться отрицать, я ваш дружок куда денется? Его-то с поличным поймали. Он вас обманул, а сам попался. — Кто обманул? — Это уж сами догадайтесь. Вы ведь только за деньгами охотились, так? Вещей-то не брали, а он взял. Вот когда мы у него лису нашли… — Какую лису, никто лису не брал! — …когда у него лису нашли, что ему оставалось делать? Против фактов не пойдешь, Гришин, хоть вы и пытаетесь это делать. А вот ваш коллега это понял, когда мы ему лису предъявили. — Гад Володька! — Глаза Гришина сузились, губы побелели от ярости, пальцы конвульсивно мяли брюки на коленях. — Договорились… — Да, нехорошо получилось… Договорились вещей не брать, а он, этот нарушитель конвенции, взял да и уволок лису. Давайте не терять времени, Гришин, серьезно. Наступает молчание. — Скажите, Гришин. — Виктор испытующе смотрит на сидящего напротив него человека. Тот на мгновение поднимает глаза, часто моргает и быстро опускает их. — Скажите, вы когда-нибудь думаете о других? Нет, не о ваших “дружках”, а о вашей матери, например? Думаете? Она была у меня… — Была? — Вопрос вырывается у Гришина неожиданно для него самого. — Была, — Виктор задумчиво качает головой, — была. Каково ей — между тюрьмой и больницей… Только в больницу не по своей воле попадают, а в тюрьму… — В тюрьму и подавно, — невесело усмехается Гришин. Лицо еговыражает тоску. — Нет, Гришин, в тюрьму в конечном счете человек сам себя определяет. У нас в стране, во всяком случае. Когда человек не хочет жить по законам нашего общества, хочет встать на путь преступления, это значит, что он захотел в тюрьму. Так? — Наверное, так, — соглашается после паузы Гришин. — Только попадают туда, — продолжает Виктор, — не навсегда. На честный путь всегда можно встать. — И он добавляет совсем тихо, так что Гришин весь в напряжении подается вперед: — Ваша мать вот верит, не может не верить, что вы встанете на честный путь. Права она? Не знаю, Гришин. Вам видней. Таких бесед-допросов было немало. Постепенно Гришин оттаивал. …Он рассказал, как был ограблен магазин № 84, как этот “паразит” Володька сам же предложил очистить ателье № 1, чтобы отвести подозрение от задержанного в 24-ом отделении милиции Веревочкина. Но насчет сберкассы особенных подробностей старался не сообщать, а главное — фамилии Володьки не называл. Виктор и его товарищи уже держали на примете кое-кого из друзей Веревочкина, в том числе некоего Балакина Владимира, 1939 года рождения, слесаря, временно не работавшего. А уволили его с завода совсем недавно- как раз тогда, когда был в первый раз задержан Веревочкин. Кстати, и работали они в одном цехе. Его постоянно видели вместе с Гришиным и Веревочкиным. Они вместе пьянствовали и виделись ежедневно. Ограбив в тот вечер сберкассу, они, как рассказал Гришин, отправились на Савеловский вокзал, пили там до глубокой ночи, а потом решили мимоходом “взять” ателье № 3. Кто? Он и Веревочкин. А Володька? Володька ателье “брал”, а сберкассу, ателье № 3 — этого Гришин не помнит. Балакина задержали и на следующий день привели к Виктору. — Имя, отчество, фамилия? Год рождения? Снова обычные вопросы. — Вот что, Балакин, — сказал Виктор, после того как формальности были закончены, — хоть и банально это звучит: “нам все известно”, но что ж делать, коль это так? Лучшее доказательство этому, то что вы здесь. Так сами расскажете, что знаете, или я вам должен описать, как, например, грабили сберкассу? — Опишите. Балакин знает, что его сообщники задержаны, но не верит, что они “раскололись”. — Не верите. Тогда слушайте. Про сберкассу. Вы пришли туда вместе с Веревочкиным и Гришиным. Зная, что блокировка не работает, а заведующего нет, вы вошли в подъезд, проникли в квартиру заведующего, отломали ручку от сковороды и пытались вскрыть сейф. Не получилось, сумели открыть только кассовый ящик. Пока возились, разбили чернильницу. Веревочкин залил одежду. Гришин, как всегда, сморкался на пол. Вы стояли “на стреме”. В какой-то момент вы даже зашли в сберкассу — наверное, чтоб поторопить дружков. Из сберкассы поехали отмечать удачу на Савеловский вокзал. Пригласили мальчишек со двора. Напоили их, сами выпили. Поехали, опять же втроем, “брать” ателье номер три. Вы, как всегда, в карауле. Гришин подставил ящик к окну. Веревочкин пилил решетку. Когда вы увидели постового и свистком предупредили сообщников, те, бросив ножовку, убежали в одну сторону, а вы в другую… Потом мы их задержали. Неужели нужно вам рисовать, как все было? Кстати, зачем вы нарушили Сухаревскую конвенцию и утащили лису, обмотав ее вокруг пояса под пиджаком? Балакин молча сидел, опустив голову. Когда Виктор замолчал, он пробормотал: — Для девчонки взял, на Новый год подарить хотел… Они уже и это трепанули? — Я вам не сказал, что они “трепанули”. Это вы сами делаете такой вывод. Дальше с ним трудностей не было. Он рассказал, между прочим, что когда забежал в сберкассу, чтоб поторопить ребят, — он замерз на ветру, — то забыл пароль, и лишь чудом Веревочкин, притаившийся с железной ручкой за дверью, не убил его. Рассказал он и много другого интересного. Выяснилось, что главарем был, в общем-то, Веревочкин, он и Гришина и Балакина привлек к делу. Книг они не читали, в кино ходили редко. Обычно время проводили отсыпаясь или, когда были при деньгах, пьянствовали в ресторанах. Но во всем, что касалось работы, соблюдали дисциплину и организованность. Свою шайку Веревочкин держал в железных руках. Он, например, организовал изучение одной популярной книги, посвященной криминалистике. Он считал, что там содержатся сведения, которые могут принести пользу начинающим преступникам. Причем он не ограничивался коллективным и индивидуальным чтением, а устроил экзамены, и, когда обнаружилось, что Гришин плохо “усвоил материал”, Веревочкин заставил его читать книгу второй раз. Веревочкин хвастался перед своими сообщниками и перед кое-какими достойными доверия друзьями, что вот, мол, они истинные “медвежатники”, грабители сейфов, современные возродители угасшей ныне воровской профессии, которую он считал наиболее романтичной. Он не замечал, что сейфы, во всяком случае те, с которыми им приходилось иметь дело, теперь не те. Просто крепкие железные шкафы, которые, надо отдать им справедливость, они умело открывали. Но все же это были не сейфы. А когда они впервые, в сберкассе, столкнулись с настоящим сейфом, то оказались бессильны. Веревочкин готовил себе смену: он спаивал подростков со своей улицы, водил их в ресторан, похвалялся своими подвигами. Но осторожно. Намеками, присказками. Словом, Балакин рассказал довольно много интересного. С самим Веревочкиным разговаривать было трудней. Он иронически посматривал на Виктора и молчал. Но это Виктора не смущало. Он неторопливо рассказывал Веревочкину, как делал это с его сообщниками, все подробности ограблений, в которых Веревочкин участвовал. Только с большими подробностями, со всеми деталями, какие знал. А знал он теперь, по существу, все. Виктор предугадал защитную тактику Веревочкина. Еще на первом допросе он сказал: — Слушайте, Веревочкин, нам известны все дела вашей компании: и магазин номер восемьдесят четыре “Овощи — фрукты”, и ателье номер один, где вас лично не было, Куйбышевского района, и сберкасса, и, наконец, ателье номер три Свердловского района. Так что отрицать что-нибудь бесполезно. И хотя Веревочкин долго молчал и заговорил лишь после того, как Виктор сам рассказал, как и где все произошло, но расчет был правильный: Веревочкин сознался. Раз сама милиция утверждает, что знает все их дела, а дел таких четыре, что знает всех преступников, то есть троих, то, признавшись, он как бы закрывал все дело. Больше копаться не будут. И в результате он сам дополнил подробностями то, что знал Виктор. Теперь начинался следующий этап работы. Виктор уже отобрал ряд старых, нераскрытых дел, имевших двух — трехлетнюю давность, в которых — он был в этом совершенно убежден — участвовал Веревочкин и компания. Необходимо было уличить их.ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
День за днем продолжались допросы. С утра в кабинет Виктора приводили то Гришина, то Веревочкина, то Балакина. — Номерок снимаю, — усмехался Веревочкин. — Хоть в чем-то на честных людей похож! — ворчал Виктор. Постепенно разматывался толстый клубок преступлений — краж, налетов на магазины, кафе, ателье… Клубок становился все меньше, а составлявшие его нити аккуратно укладывались в папки дел. — Что ж вы, Гришин, такой небритый, — укоризненно встречает Виктор арестованного, — запустили себя. Что, побриться негде? Там же есть рядом с душами… — Успею еще побриться — у меня впереди времени много, — мрачно бормочет Гришин. — Это уж точно, Гришин, если вы и дальше так будете себя вести, вам придется изрядно посидеть. — Отсижу… — Отсидите. Только можно больше, а можно и меньше. Скажите, Гришин, вы статью тридцать восьмую знаете, пункт девятый? — Юрка рассказывал… — Эрудированный человек Веревочкин. Уголовное право он с вами проходил? Так помните, что гласит пункт девятый? — Это, как его… — Вот именно. А следовало бы помнить. За явку с повинной, за содействие правосудию полагается скидка. С повинной вам поздновато приходить, а вот помочь раскрыть преступления вы еще можете. Так как? Может, расскажете уж все дела, а то что ж вы нас заставляете ребусы разгадывать. Пока вам всего не расскажешь, вы никак не хотите признаваться. Ну, скажем, кафе “Аэлита”. — А что “Аэлита”, начальник? Я же признался, что “Аэлиту” брал. Чего еще-то? — Что брали, это, между прочим, не вы признались, а мы установили. У нас ведь все время разговор такой: “Нет, не я”. Потом я вам изложу что к чему, тогда: “Ах да, моя работа, признаю…” — Так ведь на “Аэлите” я… — Послушайте, Гришин, вы же не один там были, а вы опять за свое: “я” да “я”. Когда вы наконец забудете о вашей несуществующей воровской солидарности. Нет ее, поверьте! — Есть… — Нет. И “раньше, чем трижды пропоет петух”, вы предадите. Да, да, вы! Я вам это предсказываю. — Какой петух? — Неважно, Гришин! Вы не сильны в священном писании? Ну и ладно. Но ваш мифический закон воровского мира вы сами же нарушите. Хорошо, давайте все сначала. Значит, отец Веревочкина навел вас на “Аэлиту”. — Я не сказал, что отец Веревочкина… — Нет? Видимо, я ошибся. Кто-то другой сказал. — Володька? — Почему вы решили, что Володька? Я же вам этого не говорил. — Ничего, гад, раньше выйдет, раньше за свой длинный язык расплатится! — Да бросьте, Гришин, не те времена. Давно уже ни с кем за честные признания не расправляются. В особенности те, кто будут сидеть в пять раз дольше, чем те, с кем они собираются расправляться. Так расскажите подробно, как вы проникли в кафе? — Я ж говорил. Люк там грузовой. Замки висячие. Перепилил. — Долго пилили? — Да ну, долго! Раз-два — и готово! — Еще бы, вы же высокой квалификации слесарь, Гришин. — Был слесарь… — с горечью шепчет Гришин. — Может быть, и будете. Это ведь от вас зависит. Ни от кого больше. Наступает молчание. — Что же дальше было? — Влез в подвал, темно, чуть не расшибся, нашел еще люк… — Как это нашли, вы что ж, в темноте искали? И нашли? Такой маленький подвал был? — Нашел… — Не валяйте дурака, Гришин, это же смешно! Признайтесь, что отлично знали расположение подвала, знали, где был люк. Все это сообщил вам отец Веревочкина. Что вы его покрываете? Он же все равно сидит и за вашу “Аэлиту” больше, чем ему за другие дела полагается, не получит. — Ладно, начальник, черт с ним, со стариком! Он навел. — Что дальше было? — Через люк пролез в холодильник. Потом в комнату за залом, где касса. Ее ломать-то нечего было: взял нож кухонный поздоровей, и все. — Все? — Все. — Что ж, давайте, Гришин, проедем на место, освежим, так сказать, в памяти. Они спускаются вниз, садятся в машину и едут в кафе. Едут утром. Кроме директора, их никто не встречает. Виктор, следователь и другие сотрудники уголовного розыска вместе с Гришиным спускаются в подвал через грузовой люк. Подходят к холодильнику. Еще на прошлых допросах Виктор, расхаживая за спиной у Гришина, примерился к его фигуре. Съездив в “Аэлиту” и ознакомившись на месте с маршрутом, который проделал, по его словам, Гришин, Виктор убедился, что из подвала в один из холодильных залов Гришин проникнуть не смог бы. И вот они на месте. Виктор внимательно наблюдает за Гришиным. Спокойно, со скучающим видом тот спускается в подвал, находит люк в холодильник, пролезает туда, заходит в один холодильный зал, в другой… — А туда вы не заходили? — спрашивает Виктор, показывая на последний холодильник. — Заходил. — Так идите. Гришин направляется к узкой щели, служащей входом в холодильник, пытается влезть. Лицо его становится красным от напряжения, он снимает пиджак. Виктор не торопит его. Он внимательно, даже сочувственно следит за безуспешными усилиями Гришина. Наконец, махнув рукой, тот надевает пиджак и с досадой смотрит на Виктора. — Не помню, может, я туда и не лазил. Наверное, не лазил. — Ну не лазил так не лазил. В конце концов, всего не упомнишь, — зевая, замечает Виктор. — Поехали обратно. Облегченно вздохнув, Гришин спешит покинуть это место, не таившее для него особо радостных воспоминаний. На Петровке допрос продолжается. — Вы что, гурман, Гришин? — задает ему Виктор неожиданный вопрос. — Кто? — переспрашивает тот. — Я говорю, вы гурман, вы любите тонкие блюда? Черную икру, например? Гришин хмурит брови. Он молчит. — Так как, любите вы икру? — Ну люблю, — неуверенно отвечает Гришин. — Еще бы, — смеется Виктор, — вы тогда прилично подъели ее в “Аэлите”. Помните? Гришин пожимает плечами. — Помните? — Помню. Ну и что ж. Жрать захотелось, вот и поел. — Вы, наверное, до того неделю голодали. Не помните, сколько съели? Сто граммов, двести? — Может, и больше… — Кило, два кило? — Не помню уж теперь… — Так я вам напомню, Гришин, вы съели ни много, ни мало — пять килограммов — целую банку! Не вздумайте отрицать: это зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия. Мало того, вы настолько торопились есть, что пользовались двумя ложками. Их тоже нашли там. Гришин молчит. — А главное, эта банка, которую вы вдвоем навернули, что тоже, к слову говоря, не так-то просто, как раз и находилась в том холодильнике, куда вы не могли пролезть. А уж съев два с половиной килограмма, вам бы оттуда наверняка не вылезти. А? — Да я и четверти не сожрал, — зло выдавливает Гришин, — это Сережка все. Сморчок, и куда столько влезло… Виктор отлично знает, кто такой Сережка. Все возможные варианты Сережек, Ванек, Петек, вращающихся в орбите шайки, со всеми их биографиями, связями — у него в голове. Поэтому он мгновенно задает вопрос. — Это Тучков, что ли, с хлебозавода? Ему ж семнадцати еще нет. И его затянули? Где ж у вас совесть, Гришин? Но тот не отвечает; он сидит, низко опустив голову, внимательно глядя на носки стоптанных, грязных модных ботинок,… Так возникает еще одна фигура — Тучков. Но и это не все. Очередное “свидание” с Веревочкиным. Тот словно сам получает удовольствие, наблюдая за тем, как милиция одно за другим раскрывает совершенные им преступления. Он отрицает все. А когда его припирают к стене окончательно, рассказывает уже сам подробно, с охотой. Только припереть его к стене не так-то просто. Это приходится делать каждый раз по-разному. Один раз с помощью железной логики, другой — загнав в ловушку, а порой неожиданностью, психологическим трюком. — Так, Веревочкин, значит, в отношении магазина на Дмитровском шоссе у нас разногласий нет. Все трое брали — вы, Гришин, Балакин. — Виктор настолько тщательно изучил место происшествия и дело — а произошла кража за год до того, — настолько вдохновенно домыслил все подробности и описал их, что в результате и Гришин, и Балакин во всем признались, решив каждый, что признался другой. — Это уж ваша работа — вопросы задавать, — иронически улыбается Веревочкин, — а моя — не отвечать… — Так ведь ответили же! — Это уж только когда деваться некуда. — А преступнику, уважаемый Веревочкин, рано или поздно всегда деваться некуда. — Окромя тюрьмы… — ухмыляется Веревочкин. — Это уж точно, — поддерживает Виктор, — а теперь приглашаю вас прокатиться. И в который раз, теперь уже с Веревочкиным, он едет на Дмитровское шоссе в тот магазин, где была совершена кража. Но о магазине он думает сейчас меньше всего. Он задумал другое. По пути к магазину находится ателье № 23, где в свое время была совершена кража, оставшаяся нераскрытой. Артистически перепиленные решетки окна, портновские ножницы, которыми были выдавлены дверцы сейфов, — все это не оставляло сомнений. Действовал Веревочкин. Но с кем? Виктор тщательно все проверил — ни Гришин, ни Балакин участвовать в этом деле не могли. Тучков тогда еще с шайкой связан не был. А между тем в налете на ателье участвовали минимум двое. Так кто же был второй? Дело давнее. Восстановить картину оказалось невозможным. Во всяком случае, с той степенью достоверности, без которой Веревочкина не заставишь признаться. И вот Виктор придумал один ход. Получится или не получится? Сейчас все решится. Внешне спокойный, он рассеянно смотрит в окно машины, но сам весь в напряжении. Веревочкин погружен в свои мысли. Подняв воротник, засунув руки в карманы модного пальто, он мрачно смотрит перед собой. О чем думает он? О той самой веревочке, которой как ни виться?.. Или о бесцельности немногих прожитых лет? Или о том, что если б начать все сначала, он бы поступил иначе? А быть может, он думает о том, что его ждет? О неотвратимости наказания. О чем вообще думает преступник, когда он поймай? Неожиданно Виктор кладет ему руку на колено и иронически смотрит в глаза. — Глядите внимательно, Веревочкин… — И Виктор кивает в сторону мелькающих мимо машины домов. — Чего глядеть-то? — ворчит Веревочкин. — Как бы не пришлось разворачиваться обратно. А то здесь далеко до разворота. В этот момент машина как раз минует ателье № 23. Накануне они дважды проехали здесь с шофером, прорепетировав сцену и рассчитав ее по секундам. Внезапно оторванный от своих невеселых дум, Веревочкин смотрит в окно, и первое, что ему бросается в глаза, это вывеска: “Ателье № 23”. Он быстро поворачивается к Виктору и встречается с его ироническим взглядом. — Что, и это знаете? — полуудивленно-полутоскливо спрашивает он. — Пора бы уж привыкнуть, что мы все знаем, — скрывая торжество, бросает Виктор. И, обратясь к шоферу, добавляет: — Давай, Коля, заедем, пожалуй, сначала в ателье, а потом уж дальше двинем. А то возвращаться потом… Они выходят из машины. Веревочкин жадно вдыхает свежий холодный воздух. Неторопливо рассказывает, как было дело. — Что ж, вы вдвоем справились? — спрашивает Виктор. — Как — вдвоем? — Не знаю как; Гришин вот говорит, что вы вдвоем были, а я сомневаюсь. Веревочкин морщит лоб, стараясь быстрей сориентироваться. — Вдвоем, — наконец подтверждает он, — а чего сомневаться-то? — Неужели один не справился бы? — Виктор, словно удивляясь такой беспомощности, оглядывает Веревочкина. — Может, и справился бы, — осторожно отвечает Веревочкин. Он недоумевает: почему Гришин взял на себя вину за эту кражу, коль скоро он в ней не участвовал? Ага, ясно, чтоб как-нибудь не всплыл Валерий. — А может, вы со своей тенью работали, Веревочкин? Или себя одного за двоих считаете? — Чего? — Как — чего? Гришин-то не был с вами. И никак не мог быть. Уж если это нам известно, то вам-то тем более. Так что вы припомните-ка лучше, кто был. Веревочкин некоторое время молчит, потом усмехается: — Вы меня купили, и я вас купил. Один работал! — И много взяли? Ведь вы тогда еще вещичками не брезговали… — Что ни взял, все мое… Виктор вынимает из кармана вчетверо сложенный листок. — Так, — начинает он не спеша, — “пальто зимних — три, пальто демисезонных — четыре, костюмов — четыре, отрезов…” Закончив читать, он поднимает на Веревочкина удивленные глаза. — Список точный, составлен сразу же на месте, да и батюшка ваш уважаемый, который все это по вашему поручению на рынке ликвидировал, подтверждает. Одного не понимаю — как это вы в одиночку столько вещей вынесли. Ведь посмотришь на вас и не скажешь, что Власов. — Виктор делает паузу, а потом другим, сухим, деловым тоном спрашивает: — Так кто был ваш сообщник, Веревочкин? Кто был? Молчание. — Не валяйте дурака, Веревочкин, вы же сами прекрасно понимаете, что это глупо. Веревочкин еще долго молчит, но в конце концов не выдерживает и называет своего напарника по этому делу, пятого и последнего члена шайки — Шарова. Впрочем, Валерий Шаров, как выяснилось в дальнейшем, был не пятым, а первым. Опытный рецидивист, он-то и втянул в преступление и Веревочкина, и Гришина. Вместе они начинали. Но как-то, пытаясь ограбить магазин “Ткани”, они были застигнуты врасплох милицией. Веревочкину и Гришину удалось скрыться, а Шаров попался. (Между прочим, с тех пор они и дали себе зарок: никогда ничего, кроме денег, не брать, — зарок, столь роковым образом нарушенный Балакиным.) Тогда, на следствии, и позже, на суде, Шаров взял все на себя. Он упрямо и тупо, блюдя закон воровской солидарности, утверждал, что грабил один, хотя был пойман в окружении пяти набитых чемоданов. Сейчас он отбывал срок. Воровской закон оказался липовым. Веревочкин после недолгого запирательства рассказал и о Шарове. Теперь Шарову предстояло вернуться в Москву на новый суд, а затем добавить к немногим оставшимся ему годам заключения еще солидный срок. За Шаровым, опытным рецидивистом, числилось не одно преступление. Какие-то он признал, какие-то — нет. Но сейчас, когда возникла в деле Веревочкина его зловещая фигура, целый ряд эпизодов прояснился и многое дотоле тайное стало явным.ОДИННАДЦАТЬ МИНУТ
…Вечером Виктор задерживался в своем кабинете. Перед ним лежали все материалы по делу Веревочкина, подготовленные для обвинительного заключения. Вот и оправдалась пословица — наступил веревочке конец. Наступил конец бессонным ночам, внезапным выездам, бесконечным допросам, мучительным анализам и обдумываниям, когда голова лопается от мыслей. Наступил конец одного дела, чтобы уступить место новому… Он уже надевал пальто, когда раздался телефонный звонок. Говорил подполковник Данилов. — Ко мне, Витя, быстро. Дело серьезное! Виктор запер дверь и торопливо направился в кабинет подполковника. Дело действительно было серьезным. Хотя началось все спокойно, даже весело, под звуки вальса и задорного смеха на вечере в одной из типографий, что на Большой Переяславской улице, недалеко от проспекта Мира. Было Восьмое марта — женский день. Первые весенние цветы. Хороший вечер, веселый и дружный. Без четверти одиннадцать Женя и Галя покинули вечер. Галя попала на вечер случайно: ей дали пригласительный билет в издательстве, где она работала курьером; она жила далеко, пора было возвращаться домой. А Женя, сын работницы типографии, жил в двух шагах. Они неторопливо шли по ночной улице и болтали. О чем? Ну о чем болтают двое семнадцатилетних, познакомившихся два часа назад и без устали два часа танцевавших? Когда поравнялись с домом, в котором жил Женя, небольшим, одиноко стоявшим двухэтажным особняком, Галя спохватилась: — Ой, ни копейки нет — все в буфете оставила! Женя пошарил по карманам и смущенно помялся — он только что обнаружил, что его финансы в таком же положении. Бывает….. — Погоди минутку, — сказал он, — сейчас забегу домой, возьму. — Он улыбнулся ей и скрылся в подъезде. Улыбнулся последний раз в жизни. Галя остановилась на противоположном тротуаре и, устремив взгляд вдоль улицы, стала прислушиваться в ночной тишине к доносившимся откуда-то издалека немного грустным звукам гитары. А Женя тем временем, посвистывая, быстро забежал в квартиру, взял у матери мелочь, поцеловал в щеку, уже у двери крикнул: “Мировой вечер! Сейчас вернусь”, — и выбежал на улицу. Он вернулся через две минуты. Услышав несколько слабых, странных ударов в дверь, мать открыла — Женя бездыханным упал к ее ногам. Мать Жени, его сестра, соседи, поднятые криком, выбежали на улицу. Но улица была пуста. Только напротив дома одиноко маячила фигурка девушки. …Когда Виктор прибыл на место, он без труда установил подробности преступления. Убийцы (или убийца) или прятались в соседнем подъезде (как во многих старых домах, расположенным вплотную к подъезду, где жил Женя), или подбежали из переулка, выходившего на Переяславскую. В два прыжка они нагнали Женю, ударили ножом и убежали. Стена дома в том месте, где они совершили свое страшное преступление, была забрызгана кровью. Женя, видимо, из последних сил сумел добраться до своей квартиры, но эти усилия стоили ему жизни. Таинственным оставалось одно: Галя, рыдая, захлебываясь слезами., твердила, что ничего не видела и не слышала. Работники милиции только пожимали плечами: как мог человек, стоявший в десятке метров от места преступления, на пустой улице, не увидеть, а тем более не услышать, как было совершено убийство. Это была ложь, причем глупая, безнадежная, непонятная. Но Галя с поразительным упорством, с отчаянием стояла на своем. Да, ждала, да, смотрела вдоль улицы. (правда, в противоположную сторону от переулка), да, слышала гитару. И все! Только когда мать и сестра Жени выскочили на улицу, она узнала, что что-то случилось. Галю допрашивали, втолковывали ей нелогичность ее показаний, объясняли, что лично ее никто не винит, убеждали, что если она боится мести убийц, то ее сумеют надежно охранить. Ничего не действовало. Она продолжала твердить свое. Первый, кто поверил ей, был Виктор. Милиция мгновенно установила личность Гали, девушки, о которой на работе, в доме — всюду говорили только хорошее. Да и в район этот она попала случайно, впервые. Но если Галя непричастна к убийству, то кто же убил, а главное, почему? Одну за другой выдвигали работники уголовного розыска версии и сами же одну за другой опровергали их. Женя был прекрасный парень, плохих знакомств не водил, работал и учился в вечерней школе. Кроме матери и сестры, у него никого не было, отца только что похоронил. Он был не очень общителен. И сколько ни копались, отыскать у него не только врагов, а просто недоброжелателей оказалось невозможным. Тогда ревность? Кто-то, Галин поклонник, сделал это в порыве ревности? Но и эта версия рассыпалась в прах. Во-первых, никто не мог знать, что Галя пошла на этот вечер: получив билет, она даже не успела зайти домой. Как уже говорилось, дом этот и круг ее друзей располагались совсем в другом районе города. Был у нее юноша, с которым она дружила больше, чем с другими, но, во-первых, это был честный, хороший парень, а во-вторых, как показала проверка, в час убийства он находился весьма далеко. Об ограблении нечего было и думать. А если б речь шла о драке, то все это заняло бы куда больше времени и наверняка сопровождалось шумом и криками. И тогда Виктор выдвинул версию об “ошибочном убийстве”. Женю приняли за другого, кого подстерегали и хотели убить. Кого? Разумеется, кого-то, кто жил в этом доме. Но оказалось, что в этом доме не проживал никто, кого можно было бы спутать с Женей, — одни женщины, два старика, несколько ребятишек. Да и всего-то там было четыре — пять квартир. Но при проверке жильцов выяснились интересные обстоятельства. На втором этаже, куда лестница вела как раз из соседнего с Жениным подъезда, проживали в одной из квартир мать и две дочери. Это была непутевая семья. Мать ни раньше, ни теперь не отличалась строгими нравами, пила, бездельничала, сквозь пальцы смотрела на поведение своих семнадцатилетних дочерей, а то и сама принимала участие в вечеринках, которые постоянно происходили в квартире. Девушки не учились, их интересовали лишь модные пластинки, заграничные тряпки, кавалеры, танцы. В квартире у них постоянно толклись какие-то длинногривые балбесы, тунеядцы, фарцовщики, пижоны и бездельники. Бывали дни, когда у них проводили время две — три компании, одна за другой. Вот и в тот день оказалось, что в четыре часа к сестрам пришли трое дружков, в том числе очередной “официальный” поклонник старшей, Тани — Русаков. Но, и в этом категорически сходились все жильцы квартиры, ребята как пришли, так до полуночи не выходили. А Русаков даже ушел в десять часов. Двое же оставшихся вместе со всеми жильцами дома активно принимали участие в драматических событиях, звонили в милицию, подавали Жениной маме воду, и так далее. Виктор и его товарищи стали тщательно проверять всех, кто бывал у сестер. Через их руки прошло немало подозрительных и просто плохих парней. Естественно, допросу подвергли и Русакова. Он несколько сбивчиво объяснил, что ушел в десять вечера, так как договорился с ребятами идти назавтра в туристский поход и должен был сегодня же уточнить все детали. Наметили встретиться у кинотеатра. Но ребята почему-то не пришли, и он пошел спать. В двенадцать был дома. Жильцы подтвердили это. А вызванные и допрошенные ребята подтвердили все остальное. Сам Русаков, восемнадцатилетний токарь, хоть и явно стиляга, в общем производил неплохое впечатление. К тому же выяснилось, что Женя ни с кем из троих гостей знаком не был. Виктор не спал, ночами обдумывая все возможные варианты. Может быть, это как раз с Русаковым или с кем-то из его двух дружков хотели расправиться? Неожиданно в этом темном лабиринте блеснул свет. Один из многих десятков парней, в разное время бывавших у сестер на квартире, некий Мальков, пользовавшийся очень плохой репутацией хулигана, терроризировавшего соседние дворы, признался, что в тот день он с приятелем, слегка навеселе, решил зайти к Тане, года два назад считавшейся “его девушкой”. Увидели свет в окне и зашли. Постучали. Узнав, кто пришел, мать выгнала его. Но Мальков сквозь приоткрытую дверь заметил в комнате незнакомых парней, услышал смех, музыку. Он стал звать Таню, мать вытолкала его. Тогда, разозленный таким приемом, он грубо обругал Таню и пригрозил, что расправится с ее гостями. Теперь возникала версия, приобретавшая реальные формы. Мальков с приятелем решили выполнить свою угрозу. Они притаились, а когда увидели выходящего Женю, приняли его за одного из Таниных гостей и убили. Оставалось проверить времяпрепровождение Малькова в вечер убийства. …А утром к Виктору явился смущенный, не поднимавший глаз Русаков и попросил его принять. — Виктор Иванович, — сказал он, краснея, — простите, обманул вас и ребятам велел. Но я один виноват. Честное слово, просто стыдно было признаваться. Сам когда-то в дружине был, а тут в милицию попал. Словом, очень нехорошо получилось… Выяснилось, что ребята наврали. Они таки встретились, но поссорились. Назавтра турпоход, а друзья выпили, и Русаков стал их отчитывать. Расшумелись так, что всех забрали в милицию. Было это в одиннадцать часов. Ребята покаялись, просили извинить, и около двенадцати их выпустили. Но стыдно в таком деле было признаваться, и потому они вначале сказали, что не встретились, ошиблись, словом, наврали всякую чепуху. Виктор тут же снял трубку и позвонил в отделение. Там подтвердили: да, часов в одиннадцать была задержана компания, в том числе и Русаков, потом их выпустили. Теперь невиновность Русакова становилась очевидной. Оставался Мальков. Обхватив голову руками, Виктор думал. Что-то было не так, что-то смущало его. “Заноза в мозгу”, как он говорил в таких случаях. Уж как-то очень гладко и точно Русаков с друзьями оказался в милиции секунда в секунду в момент убийства. И почему не сказать об этом сразу? Он же понимал, что Виктор проверит, что он делал с десяти до одиннадцати вечера. Виктор снова снял трубку и позвонил в отделение. Он потребовал опросить всех, кого можно, — дежурных, мотоциклистов, случайно задержавшихся милиционеров, уборщиц. Не заметил ли кто точного, а не приблизительного времени, когда в отделение привели буянов? Через некоторое время позвонил один из работников детской комнаты и сообщил, что, случайно задержавшись допоздна в отделении, он как раз покидал его, когда привели Русакова и компанию. Торопясь на электричку, работник этот посмотрел на часы: было одиннадцать минут двенадцатого. Виктор заложил руки за голову и откинулся в кресле. Вот и все. Разумеется, еще предстоит немалая проверочная работа, но знакомое чувство уверенности охватило его. И когда раздался телефонный звонок и один из сотрудников Виктора огорченным голосом сообщил, что у Малькова “железное” алиби и ни он, ни его приятель совершить преступление не могли, так что эта версия отпадает, Виктор почти радостно (что немало удивило его товарища) поблагодарил. А вечером на Переяславской улице четверо крепких молодых людей торопливо выходили из подъезда двухэтажного одинокого особняка, быстро шли к троллейбусу, вскакивали в него, доезжали до остановки, рядом с которой расположено отделение милиции. После чего, сев в ожидавшую их здесь машину, возвращались на Переяславскую и начинали все сначала. При этом они беспрестанно поглядывали на часы. Следственный эксперимент показал: от Жениного дома до троллейбуса три минуты быстрой ходьбы, максимальное ожидание машины в это время суток — четыре минуты, езды до милиции три минуты. Итого десять. А если они не шли, а бежали, и если им не пришлось ждать троллейбуса, то шесть — семь. Еще одна — две минуты на скандал. Как ни крути, одиннадцать минут было вполне достаточно Русакову, чтоб совершить преступление, а потом добраться до отделения и создать себе алиби. Когда времяпрепровождение Русакова стали изучать особенно тщательно, то выяснилось, что на заводе он выточил два ножа, из которых один кому-то отдал, а судьба второго осталась неизвестной… И вот Русаков опять сидит перед Виктором — аккуратно причесанный, элегантный, в узконосых модных ботинках, в коротком пальто, без шапки, несмотря на еще холодную пору. Он смотрит на Виктора чуть-чуть нагловатым, спокойным взглядом. Он уверен в себе. Такое алиби — милиция! Виктор не спешит начать этот последний допрос. Он размышляет. Красивый парень, хорошо зарабатывающий, хорошо одетый, который нравится девушкам, перед которым столько путей… Так нет же, из всех девушек он выбрал самых грязных, из всех друзей — самых дурных, из всех дорог — самую черную: дорогу преступника. — Ну что ж, Русаков, — Виктор вздыхает, — начнем наш последний допрос. Мы его построим необычно. Вы будете молчать, а я вам рассказывать. И только в конце вы ответите мне на один-единственный вопрос. Постараюсь говорить покороче. Итак, восьмого марта вы втроем пришли к Тане. Около десяти туда пришли Мальков с другом. Их не пустили, и, уходя, они пригрозили вам. Оставив своих дружков, вы отправились за подмогой. Зная, кто такой Мальков, и боясь с его стороны расправы, вы решили расправиться с ним раньше. Вооружившись ножами, вы явились с вашими друзьями к дому в тот момент, когда из него выходил Женя. В лицо Малькова из вашей компании знал только один, а вы наверняка шли впереди. Вы подбежали к Жене и, хотя он был один, а вас много, хотя вы не знали наверняка, кто он, вы, не раздумывая, ударили его ножом. Убедившись в ошибке, вы убежали. Все произошло так быстро и тихо, что стоявшая к вам спиной Галя ничего не услышала. А теперь ответьте на мой единственный вопрос — где нож? — Я бросил его в сугроб… — прошептал побелевшими губами Русаков. Наверное, теперь следовало бы, заканчивая повесть, рассказать о том, как утром Виктор раскрыл окно своего кабинета и, устремив взгляд усталых, умных глаз на предрассветную Москву, подумал про себя: “Как хорошо, что москвичи могут мирно спать, избавленные от таких выродков, как Веревочкин или Русаков”. И, включив радио, услышал утренний бой кремлевских курантов. Но я закончу ее иначе. Виктор действительно лег поздно, а потому поздно встал на следующий день. Это было воскресенье, они еще накануне поссорились с женой, потому что Виктор хотел идти смотреть мотогонки на льду, а она предложила пойти на лыжную прогулку. Виктор тогда резко бросил: “Раз я сказал, что пойду на мотогонки, значит, пойду!” — и хлопнул дверью. …И вот сейчас, звенящим морозным днем, они мчались по сверкающей лыжне навстречу синеющим вдали елям, навстречу ослепительным белым полям, где метель начисто замела все ночные следы…Ю.Давыдов Заметки о забытых странствиях ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА
 Что он такое, этот Обок, прости господи? Дощатые казарменные бараки, несколько каменных домишек да убогие лавчонки. Ветхий монастырь давно покинут братией. Угрюмо накалена солнцем каторжная тюрьма. Небогатая резиденция французского губернатора на лысой скале. Вот он какой, этот Обок.
Где-то гром экипажей, прелестницы, театр Шато-де’О, Елисейские поля… А тут? На маковке флагштока вянет флаг в безветрии, в мареве полдней колокол тренькает, возвещая обед заключенным, волны дрябло шлепают, роняют вязкую слюну верблюды, стражник-суданец, опустившись на корточки, никчемно строгает палочку, да бредет, сам не зная куда, голый дикарь с корзиной фиников на плечах.
Лишь вечером на тени, на закатный багрец веет с гор как бы долгий вздох облегчения. Потом оживают маяки, лунный свет касается зыби, и дневную осовелость сменяет свежая тишина.
В такой час на веранде сидит в плетеном кресле губернатор Лагард.
У него нездоровое лицо с набрякшими веками, седеющая эспаньолка. Он отдает предпочтение стихам, а не выпивке. Он служит не слишком-то ревностно, но упрекнуть его не в чем. Склады полны углем — пусть плывет эскадра; туземные царьки не оспаривают прав Франции — пусть не тревожится Париж; тюрьма ведет себя пристойно — пусть шлют неисправимых негодяев, тут они образумятся… Нет, Лагарда не в чем упрекнуть.
Вот он сидит на веранде, одинокий, немолодой, смотрит, как зыбь колышет лунные отсветы. Как это у Бодлера? Гавань — восхитительное место для душ, уставших в бореньях с судьбою; есть какое-то неизъяснимое наслаждение в том, чтобы, лежа на террасе, молчаливо поддерживать в душе непрерывное влечение к ритму и красоте и провожать и встречать тех, в ком еще сохранились стремления путешествовать или обогащаться…
И вдруг Лагард сжал подлокотники кресла. Внизу, далеко, роились огни. То были судовые огни. В их плавном движении пригрезилась Лагарду иная жизнь, и с внезапной тоскою он подумал о своем одиночестве, об уходящих годах. Но так было мгновение, а затем его мысли круто переменились: пароход шел из Таджуры, в Таджуру пароходы не ходили… Что такое? Почему? Он не находил объяснений… И губернатор послал на маяк быстроногого слугу: Лагард велел электрическими сигналами остановить неведомое судно.
Что он такое, этот Обок, прости господи? Дощатые казарменные бараки, несколько каменных домишек да убогие лавчонки. Ветхий монастырь давно покинут братией. Угрюмо накалена солнцем каторжная тюрьма. Небогатая резиденция французского губернатора на лысой скале. Вот он какой, этот Обок.
Где-то гром экипажей, прелестницы, театр Шато-де’О, Елисейские поля… А тут? На маковке флагштока вянет флаг в безветрии, в мареве полдней колокол тренькает, возвещая обед заключенным, волны дрябло шлепают, роняют вязкую слюну верблюды, стражник-суданец, опустившись на корточки, никчемно строгает палочку, да бредет, сам не зная куда, голый дикарь с корзиной фиников на плечах.
Лишь вечером на тени, на закатный багрец веет с гор как бы долгий вздох облегчения. Потом оживают маяки, лунный свет касается зыби, и дневную осовелость сменяет свежая тишина.
В такой час на веранде сидит в плетеном кресле губернатор Лагард.
У него нездоровое лицо с набрякшими веками, седеющая эспаньолка. Он отдает предпочтение стихам, а не выпивке. Он служит не слишком-то ревностно, но упрекнуть его не в чем. Склады полны углем — пусть плывет эскадра; туземные царьки не оспаривают прав Франции — пусть не тревожится Париж; тюрьма ведет себя пристойно — пусть шлют неисправимых негодяев, тут они образумятся… Нет, Лагарда не в чем упрекнуть.
Вот он сидит на веранде, одинокий, немолодой, смотрит, как зыбь колышет лунные отсветы. Как это у Бодлера? Гавань — восхитительное место для душ, уставших в бореньях с судьбою; есть какое-то неизъяснимое наслаждение в том, чтобы, лежа на террасе, молчаливо поддерживать в душе непрерывное влечение к ритму и красоте и провожать и встречать тех, в ком еще сохранились стремления путешествовать или обогащаться…
И вдруг Лагард сжал подлокотники кресла. Внизу, далеко, роились огни. То были судовые огни. В их плавном движении пригрезилась Лагарду иная жизнь, и с внезапной тоскою он подумал о своем одиночестве, об уходящих годах. Но так было мгновение, а затем его мысли круто переменились: пароход шел из Таджуры, в Таджуру пароходы не ходили… Что такое? Почему? Он не находил объяснений… И губернатор послал на маяк быстроногого слугу: Лагард велел электрическими сигналами остановить неведомое судно.
***
Экспедиция требовала солидного снаряжения. Часть грузов отпустили безвозмездно: ружья системы Бердана и системы Баранова, армейские палатки, шанцевый инструмент, еще кое-что… Атаман рассчитывал на пособие Морского ведомства. Оно было обещано, потому что Ашинов обязывался устроить близ Новой Москвы угольную станцию для русских судов, плывущих в Тихий океан. К несчастью, радетель экспедиции адмирал Шестаков скоропостижно скончался, а вице-адмирал Чихачев не пожелал исполнить воли своего предшественника. Тогда Ашинов снесся с коммерческими моряками, и Фан-дер-Флит, директор Общества пароходства и торговли, отчасти заменил доброго Шестакова. Однако значительную долю всех расходов оплатил сам Ашинов. Трудно сказать, откуда у него взялись средства; судачили о пожертвованиях купечества, но толком никто ничего не знал. На свой счет кормил атаман и тех, кто добровольно вызвался ехать с ним в Африку. Люди выбрали артельщика, выбрали кашевара, и они получали у Николая Ивановича деньги на сносный солдатский рацион. В разгар предотъездных хлопот в Одессе появилось несколько осетин. Старшего звали Шавкуц Джайранов, на его груди позвякивали два “Георгия” и медаль. Ашинов радостно приветствовал осетин. С Джайрановым обнялся и расцеловался. Они были давними кунаками. В прошлую кампанию оба сражались с турками на кавказском театре военных действий. Потом потеряли друг друга из виду: Джайранов вернулся в родную станицу Ардон. Ашинова носило по белу свету… Но вот Шавкуц получил известие от старого приятеля, осетинская кровь запылала, Джайранов набрал с десяток джигитов поотчаянней и двинулся в Одессу. Хотя отряд собирался неофициально, местные власти смотрели на это сквозь пальцы. Большинство волонтеров принадлежало к крестьянскому сословию, но были и ремесленники. Каждой группе добровольцев атаман своим отрывистым военным голосом повторял, что дело предстоит нелегкое, что плоды вкушать не скоро, а коли придется солоно, пусть не ропщут. Наконец осенью 1888 года необычная экспедиция погрузилась на пароход “Корнилов”. Было пасмурно и холодно. Пароход загудел, снялся с якоря, Одесса враскачку полезла куда-то в сторону. Все сгрудились на палубе. Мужики, бабы, ребятишки — печальные, сумрачные, от давешнего оживления не осталось и следа. Что за магнетическая сила влекла в неведомое бедняков этих и тружеников? Чего искали они в краю далеком, на что надеялись, во что верили? Вот она, вековечная мечта русских мужиков — уйти от властей куда глаза глядят, чтоб никакой опеки и принуждения, только земля-кормилица, да они на земле неустанными пахарями. Издавна спасался русский мужик то ли в мареве южных степей, то ли в сумеречном шорохе северных лесов, то ли в таежной глуши, за каменным поясом Урала. Да как ни велика Россия, а власть повсюду настигала. Взнузданный, в хомуте, хранил крестьянин, как песню иль сказку, мечту о заповедном крае, где теплые воды и травы — стеною, зерно — окатным жемчугом, а главное — никого над тобой, один господь. Крепостная зависимость пала, не дубьем, а рублем ударило деревню, кидался мужик в отхожий промысел туда-сюда, беднел, тощал, и оставался взыскующим града. Но взыскивал, искал не евангельского царства божия, а земного града, где правда и воля. Знал про то и атаман Ашинов. Родись он много раньше, быть бы ему среди тех, кто прошел Сибирь “встречь солнцу”. Увы, времена Ермака Тимофеевича минули. Житьишко в российских захолустьях не пришлось по душе Николаю Ивановичу, не к тому он привык, человек честолюбивый и отважный. Занесло его в африканские дали, а там и пригрезилась Новая Москва. Вот бы, думал он, взбодрить станицу, себя атаманом числить, поселенцев — вольными казаками. Но был у Ашинова и другой прицел: полагал он, что Россия вскорости завяжет тесные отношения с абиссинской державой, абиссинцы-то очень наклонны к дружбе с русскими, крещеными в греческой вере. А коли так, встанет Новая Москва у ворот караванных путей в Абиссинию, богатеть и цвести ей. Но с другой стороны есть сомнения в поддержке официальной России. Сам обер-прокурор синода Победоносцев, наперсник государя императора, глядит на Ашинова, как на пройдоху-авантюриста. И министерство иностранное возражает. Ларчик нехитрый: опасаются господа дипломаты неудовольствия итальянцев и французов, алчущих Абиссинии… Ну что ж, бог не выдаст, свинья не съест! Как бы то ни было, в Одессе препятствий не чинили. И вот он, атаман Ашинов, на пароходной палубе, рядом с ним полсотни закручинившихся мужиков и баб, а вокруг все грознее и шире осеннее море, и уже не видать берегов.***
Ох, досталось ашиновцам! В Александрии заканчивалсярейс “Корнилова” — перебирайся, стало быть, на другую посудину. Та привезла в Порт-Саид, опять выгружайся со всем скарбом-имуществом. В Порт-Саиде мыкались табором, покамест не уговорился Ашинов с капитаном австрийского парохода “Амфитрита”. На “Амфитрите”, большой, океанских плаваний, ехать им теперь до места. Гавань работала спозаранку. Работали буксиры и лебедки, грузчики, матросы, гребцы, работали чайки, вечные портовые мусорщики. День был будничный, декабрьский, в тусклом проблеске антрацита, в плеске мелких волн, подернутых пленкой портовой дряни. “Амфитрита” тоже принимала в свои трюмы какие-то тюки и бочки, на “Амфитрите” тоже пронзительно и весело высвистывал пар лебедок, слышался то быстрый, то натужливо-замедленный шорох тросов-лопарей, раздавались грозные окрики боцмана, а вслед за ними убыстрялся топот матросских башмаков. Не только грузы, но и пассажиров принимала “Амфитрита”. Тут была всегдашняя красноморская публика: торговые агенты, мусульмане-паломники, чиновники разных колониальных ведомств. А следом валили люди, никогда не виданные в бухтах знойного Красного моря, — российские мужики со своими женками и ребятками, с мешками и корзинами, узлами и котомками, одетые кто во что горазд, обутые и в сапоженки и в лапти. Взмокшие, потные, решительные и вместе будто испуганные, они точно штурмом брали пароход, пуще всего страшась отбиться от артели. Ашинов с супругой занял каюту первого класса. Каюта свежо пахла крахмальным бельем, в ней стояла судовая, с мерным забортным журчаньем тишина. Ашинов возился с багажом, что-то извлекая, что-то распаковывая, а Софья Николаевна с задумчивой полуулыбкой смотрела в иллюминатор. Софья Николаевна была хороша северной красой, плавной, спокойной, какой-то домашней; в серых ее глазах было много тихого света. Иной, верно, нашел бы ее несколько полноватой, но Ашинов, очевидно, не принадлежал к поклонникам санкт-петербургского худосочия. Не кажется ли странной судьба ее? Образованная, изъяснявшаяся на нескольких языках, недурная музыкантша, живавшая и на брегах Невы и в Париже, она теперь ехала в страшную глушь, в богом забытый африканский угол. Она не думала оставаться там праздной мужней женою. У нее свои планы: построить школу, учить грамоте ребят, всех колонистов, кто пожелает. Романтическая робинзонада… Аккуратные усадебки, роскошные сады и плантации… Веселые довольные колонисты… И ее муж — справедливый, гуманный пастырь Новой Москвы… Правда, ее немножко тревожит натура этого пастыря. Храбрец, энергия хлещет, но закипит, бывает, удержу нет, слепнет в безрассудном гневе. И честолюбив, безмерно честолюбив. Это-то она знала. Да вот знала ль, как шесть лет назад ее Николай Иванович надумал такую ж вольную колонию близ Сухума? Сдается, не слыхала Софья Николаевна про сухумскую историю… Так ли, нет ли, но она хотела быть его добрым гением, до конца разделить его участь. И сейчас, когда ходкая “Амфитрита” уже плывет в соленом растворе Суэцкого канала, мысли ее ничем не омрачены… Море было изумрудное, в отличие от Средиземного, грубого синего колера. Ровным полированным блеском отливали крупные гладкие волны; то там, то здесь замечался молниеносный, пиратский ход акульей стаи… Любуйся, и только. Но отчего хмурится капитан? Отчего хмурится уроженец Дальмации, природный славянин, само добродушие? Софья Николаевна, улыбаясь, обращается к нему по-немецки. Капитан приглашает Ашиновых на ют. Они, недоумевая, следуют за капитаном. Он протягивает госпоже Ашиновой тяжелый бинокль, она, на минуту прильнув к окулярам, передает бинокль мужу. Лицо атамана темнеет: военное судно, приземистое и длинное, с расчехленными пушками, держит в кильватере “Амфитриты”. — Канонерская лодка “Аугусто Барбариго”, — мрачно объясняет капитан. — Итальянский королевский флот. Вот оно что! Сбываются угрозы: итальянцы не хотят допустить русских на африканское побережье. Так. Понятно. Но итальянцы не знают, где намерены высаживаться ашиновцы. Шанс, маленький шанс… — Спроси-ка, — говорит Ашинов жене, — нельзя ли удрать от этих каналий? Капитан отвечает, что скорость “Амфитриты” велика, но там, за кормой, висит военный корабль и… Он сердито машет рукой. Он молчит. Потом философически замечает, что на море всякое случается, и пристально оглядывает горизонт. Софья Николаевна пытается расшевелить капитана. Он ведь сочувствует русским переселенцам… Далматинец пожимает плечами. Разумеется, сочувствует… А что прикажете делать? Подставить лоб под пушки проклятой канонерки? Впрочем, загадочно повторяет капитан, на море всякое случается. И он опять взглядывает на северо-восточную часть горизонта. Время будто остановилось. Казалось, не бежит вперед двухтрубная “Амфитрита”, а словно бы кружится, как на незримой веревке, вместе с этой “Аугусто Барбариго”. Ашинов ничего не говорит своим спутникам. Его спутники ничего не ведают ни про “итальянские интересы”, ни про “французские интересы”. Вповалку лежат они меж тюков и корзин, с молчаливым терпением дожидаясь конца морского странствия, перемолвливаясь изредка все про то же: какая, братцы, земля ждет, как там жить станем? А ребятишек, гляди, снова тошнит, бабы бледные, да и здоровым мужикам трудненько привыкнуть к морской кадрили. Канонерка не отстает, не упускает пароход с русскими колонистами. Чудно, без сумерек, гибнет день, ночь падает, как громада. И вдруг бьет в “Амфитриту” толстый сноп мертвенного света. Невидимая в ночи канонерка, испускавшая свет “электрического солнца”, как тогда называли прожекторы, казалась свирепым морским чудищем, от которого нет избавления. Впечатление было жуткое, завораживающее. Однако капитан “Амфитриты” не напрасно всматривался в северо-восточную часть горизонта: вон они полыхают, безмолвные и широкие зарницы, — вестники бури. Примета не обманула. Еще до полуночи все вздыбилось и разметалось, такой грянул вихорь и гром, что не одни сухопутные, но и капитан и матросы втихомолку помаливались о спасении. А восход возгорелся чисто. Море лежало мирное, обольстительное, будто ничего и не было. И не было длинной приземистой канонерки. Капитан полагал, что с нею приключилась беда. Ашинов обошел свое измученное воинство, ободрил близким окончанием плавания. Потом затворился в каюте, достал английскую карту Таджурского залива, что в южной части Красного моря, почти уж в преддверии Индийского океана, и, покуривая, оглаживая бороду, принялся созерцать этот плотный лист бумаги, испещренный многочисленными отметками. Не одни глубины и рифы метили карту, которую Ашинов купил еще в прошлом году и которую никому в России не показывал, но и Обок, резиденция французского губернатора, и селение Таджура, и синяя жирная точка, нанесенная самим Ашиновым подле его же собственноручной надписи: “Новая Москва”. Спустя некоторое время, при луне очень яркой и щедрой, “Амфитрита”, неся ходовые огни, с освещенными иллюминаторами, шла “самым малым” мимо Обока. В тот самый час губернатор Лагард кейфовал, по обыкновению, на широкой террасе. Медленный рой огней вдруг возник пред ним. Губернатор вздрогнул. Огни поразили его. В первое мгновение потому, Что они как бы перемигнулись с его меланхолическими думами. А потом — и еще сильнее — потому, что корабль шел в Таджуру, не сворачивая к Обоку, а в Таджуру корабли не ходили. И Лагард, не мешкая, послал гонца на обокский маяк: губернатор приказывал электрическими сигналами остановить неведомое судно.***
Сигналы не остановили “Амфитриту”. Избавившись от итальянцев, ни капитан, ни Ашинов не имели охоты связываться с французами. Русским нужна Таджура, так просит Ашинов, вот и вся недолга. Старый лоцман-араб, нанятый еще в Порт-Саиде, стоит рядом с рулевым. Лоцман строг и важен, как жрец. А капитан, хоть уже и рассвело, нервничает: коралловых рифов в этой западне, что зубов в акульей пасти. И белёсый оттенок волн — свидетельство их соседства с бортами “Амфитриты”. Ух, слава те господи, вон она, укромная бухта. Две скалы, как сторожа, отграничивают вход в нее. А дальше, в лощине — Таджура. Дробно грохнули якорные цепи, легла тишина, и в тишине, казавшейся внезапной, колонисты сняли шапки. Охваченные немым ликованием, они смотрели на Таджуру, на горы, на прибой. Таджура считалась столицей округи, подвластной султану Магомету-Сабеху. В Таджуре было с полтысячи шалашей, похожих на курени, были дворец султанский, похожий на большой сарай, крытый пальмовыми листьями, мечеть да чепуховая лавчонка не то грека, не то армянина. Все это раскинулось с простодушным небрежением к симметрии. Жители, как все данакильцы, правильными чертами своих темно-шоколадных лиц напоминали южных европейцев. Телосложению данакильцев мог бы позавидовать даже Лео Микки, кумир питерских ценителей французской борьбы. Их курчавые густые волосы не нуждались в снадобьях против облысения, а крепкие белые зубы разорили бы любого дантиста. Временный лагерь переселенцы разбили в четверти версты от Таджуры. На живую нитку соорудили жилища. Ничуть не страшась, шастали в окрестных горах, стреляя дичь. Вечерами у костров появлялись данакильцы. Русские потчевали их сухарями и сахаром; туземцы отплачивали русским бараниной и плодами. Русский мужик — философ; это уж давно замечено, и писалось об этом не раз. Он все объяснит, все постарается понять. И он что называется себе на уме. Вот и теперь, в Таджуре, приглядывается переселенец, как устроен данакильский шалаш, как туземец рыбалит, какие блюда стряпают тут… Словом, все хочет перенять, научиться, чтоб скорее приспособиться. Наверное, именно эта переимчивость некогда помогла казакам столь быстро и прочно расселиться в безмерных сибирских просторах. Покидая Африку в 1888 году, Ашинов уговорил остаться в Гаджуре семерых смельчаков. Высадившись с “Амфитриты”, нашел троих — Сергея Темрезова, Федора Львова да Василия Губова. Истосковались они тут страшно, обваляло их косматыми бородами, выдубило солнцем, как печенегов. Но куда ж делись остальные? Выяснилось вот что. Случилась однажды беда — бочка со спиртом то ли воспламенилась, то ли взорвалась (надо думать при распитии) и жестоко обожгла двоих бедолаг. Тут как раз подвернулась фелюга из Обока, отвезла несчастных в тамошний госпиталь. Что до другой пары, то эти, наскучив ожиданием, самовольно подались во французские владения, слышно, мыкаются поденщиками… А вот Сергей, Федор и Василий все вытерпели, никуда не делись и теперь наперебой рассказывали Ашинову, что Лойт не изменил своему обещанию, что в Сагалло ждет атамана султанов зятек Абдулла с несколькими туземцами, которым приказано помогать русским. Ашинов просиял. Что за молодчина султан Лойт! Ей-ей, молодец! Не чета здешнему, таджурскому султану Сабеху. Старик Сабех падок па золотишко. Губернатор Лагард поит его лимонадом и ссужает деньгами. И посему таджурский берег считается под французским покровительством. Нет, не чета Сабеху сопредельный ему владыка, султан горского племени Магомет-Лойт. Атаман Ашинов свел с ним дружбу в прошлом году. Лойт был наслышан от абиссинцев: не поп, не торгаш этот “москов”, этот русский, а воитель, защитник чернокожих, насолил “франкам”, европейцам, немало. И тогда, в апреле восемьдесят восьмого года, султан Лойт так ответил на просьбу Ашинова отдать Сагалло для станицы вольных казаков, так он ответил, султан Лойт: “Ты, москов, сиди у моря, а я в горах, и мы не пустим ни одного врага!” Что ж до европейских ушлых политиков, то Ашинов наверняка знал: есть у Франции с Англией уговор, по букве и по духу оного здешняя часть прибрежья — ничейная, нейтральная. И посему не Сагалло отныне, а Новая Москва, свободное поселение свободных колонистов, союзников черных племен. Молодчина султан Лойт! Не токмо слово свое держит, но, видишь, зятя послал встречать “москов”. Теперь что же? Теперь двумя отрядами — морем и пешим ходом — двигай, Николай Иванович, к облюбованному местечку. Начинай исход из земли Таджурской в земли Новой Москвы. Сказано: “И обвел бог народ дорогою пустынной к Чермному морю”. Вот так все оно и получается, ибо Чермное море — есть Красное море… Сухопутьем, ранним утром, по холодку ушли Шавкуц Джайранов и его джигиты, незаменимые в разведке. Пошли с ними и шестеро русских колонистов. Трудны были козьи тропы. Испуганно льнули они к отвесным, в трещинах и щербинах скалам и вдруг отчаянно, как вниз головою, срывались к лукоморью, где колко посверкивал коралловый песок, мрачно означались аспидные валуны. Изумруд прибрежья неровно пенили рифы, мористее зюйд-остовый ветер морщил залив. Вильнет тропа дальше от моря, стихнет прибой, и тотчас слышится шорох камешков, скрип кустарников. А рядом тяжело громоздятся горы, и высоко над горами парят орлы. Передовщиком шел Шавкуц Джайранов, георгиевский кавалер, давний приятель Ашинова, мягко шел, тигриным шагом и, оборачиваясь, скупо улыбался осетинам. Они держались цепочкой — гибкие и неслышные, не знающие устали, как нарты, песенные осетинские удальцы. Ловко шли, точно у себя на Кавказе, а не в африканских чужих горах. За ними — вольные казаки, как величал их атаман. Казаки не казаки, но не робкого десятка мужики, знают они — волка ноги кормят, под лежачий камень вода не течет — А потому, шагай, брат, вышагивай. То-то б нынче морозцем дыхнуть. Куда-а-а! На дворе, гляди-ка, январь, а жарит-парит июлем. Э, не беда! Ветерок с моря холодит, славный такой ветерок. А вон, кажись, и долина. “Среди долины ровныя…” Не дуб, нет, но дерева распрекрасные зеленью так и блещут. Вспугивая антилоп, припадали путники к колодцам с солонцеватой водою. Отдохнув, вновь карабкались козьими тропками. Между тем в Таджуре сладили колонисты плоскодонное судно, одели его парусом, нагрузили. И плот сплотили, и фелюгу у таджурцев наняли. Прости прощай, Таджура, не поминай лихом. Все таджурцы провожали колонистов. Сам султан в тюрбане и длинном халате, в сафьяновых сандалиях шествовал, прощально рукой махал. И оттуда, с плоскодонки, с фелюги, с плота, тоже махали и кричали что-то. Потом свернули за мысок, пропали из виду.***
Певуче и сладко звалось это место — Сагалло. Тут был старинный, давно брошенный, с обвалившейся башенкой форт. Будто б испанский. А может, и не испанский, кто его разберет. Передний фас угрюмо созерцал море двадцатью узенькими бойницами. Сохранилась казарма — спальня, зал, комнатки, но давно уж служили они приютом разной нечисти. Сохранился и крепостной вал, облегающий форт с трех сторон, изнутри выложенный каменными уступами — для удобства обороняющихся. А трехсаженной ширины ров осыпался, порос кустарником, лопаты и топора ждал. Троица громадных финиковых пальм широко осеняла двор, глубокие колодцы полнились пресной водою. Ашинов обнимал молодого Абдуллу, гладил его курчавые волосы, и зять султана Магомета-Лойта, повелителя горных данакильцев, молодой Абдулла, смеялся и все повторял: “Москов… москов…” Ашинов поднялся на плоскую крышу казармы. Перед ним было море, над ним было небо. Дул соленый ветер. Ашинов снял фуражку и перекрестился. Вот она, минута — светлая, исполненная важного значения. А в жизни всякое случалось, темное тоже жизнь-то пятнало. Лет шесть назад на Кавказе, в Сухумской округе, выговорил он у начальства земли рядом с Ольгинской, селение так называлось — Ольгинское. Поехал на Полтавщину посулил хлеборобам, какие победнее, разлюли-малину, сами, мол, себе хозяева, по казачьему обыкновению. Ну, тронулись мужики, поболе чем нынче, сюда, в Африку. Приехали, впряглись, Ашинова атаманом кличут. А тут вдруг начальство на дыбки: как, что еще за вольные поселенцы, что еще за такой атаман выискался!.. Не-ет, говорят, это немыслимо, устраивайтесь-ка на общих основаниях. Пока препирались, сумел-таки Ашинов урвать ссуду для покупки коров. Тут-то его и. дернул дьявол на спекуляторство: продавать стал скот в полтора раза дороже, чем платил за него. А недруги из местного начальства разнюхали, ославили: вор, дескать, Ашинов, под суд его, мерзавца. И мужики подхватились: разбойник, наживала! Слевшил ты, атаман, пришлось от суда уносить ноги. Как уж в Одессе, годы спустя, охотников в Африку записывал, все-то опасался, чтоб сухумские не явились. Хула-то ведь, что молва, а молва, что волна, — быстро бежит, не отгонишь. Миловал господь: прежних, сухумских, не послал… Он не слышал, как его позвали оттуда, снизу, со двора, где уже горел костер, где данакильцы потрошили барашков, а осетины готовились жарить шашлык. Он не слышал. Море с дельфинами было перед ним, небо с орлами было над ним, дышал он жадно, и виделись ему пышные баштаны, тучные нивы Новой Москвы. Дни двинулись маршем. Горячие, веселые дни. Все испытывали почти восторг, верили, что сообща своротят гору и на месте одичалого форта взбодрят такую новину, какой свет не видывал. И люди радостно хмелели от своего неустанного труда. Одержимый труд, когда трижды в день голоден и трижды в день насыщаешься, и спишь накрепко, и встаешь с петухами счастливый. Супруги Ашиновы расположились в смежных комнатках при казарме. Казарменные покои, с общего согласия, заняли семейные. На обширном дворе в палатках и шалашах поселились (пока не срубят избы) все прочие. Доктор Александр Добровольский зажил в санитарной палатке. Вскоре готовы были пекарня, кухня, склад общественного имущества, пороховой погреб, слесарная мастерская. Вне форта, на опушке, устроили кухню и столярную. Расчистили, раскорчевали землю под сады и огороды. Виноградные лозы, купленные Ашиновым в Крыму, привились; черешня и вишня в несколько дней зазеленели, недели полторы спустя пошли в цвет; а вскоре посадили картофель, арбузы, дыни. В горах было раздолье охотникам: фазаны, зайцы, куропатки, кабаны. А чтоб не наскучил мясоед, залив изобиловал крупной кефалью, угрей мальчишки ловили во время отлива голыми руками. Колодцы, помимо тех, что были на дворе, обнаружились и близ форта. Еще Гиппократ, отец лекарей, советовал обращать сугубое внимание на качество воды. Он бы удовлетворился здешней вполне. Лишь один источник оказался не очень чистым и был отдан в распоряжение прачек. День-деньской озабоченная, хлопотливая Новая Москва к вечеру стихала. Поселенцы сходились к большому костру. И тогда в неуследимую минуту что-то широко и беззвучно касалось людей. Глаза туманились, песельники затевали печальное. Может, всем вспомнилось минувшее, а может, вдруг тревожили какие-то предчувствия. …Мало-помалу жизнь вошла в берега. И в течение будней неприметно привяло что-то, как бы пожухло, исподволь переменилось. Одни не желали заготовлять лес: “Что нам за нужда жилы выматывать?” Так говорили семейные, поселившиеся и казарме. Ремесленники, занятые разными поделками в слесарной и столярной, требовали мзды. Осетины, не только охотники, но мастера на все руки, объявили, что они-де ни в ком не нуждаются, особняком могут существовать. Хранители складов почувствовали себя хозяевами всяческого имущества, боевых припасов. Ашиновы не возделывали землю, им все полагалось само собою. Придерживаясь казачьих установлений, атаман ввел строевые учения и стрельбу по цели. Но воинская повинность, как бы ни была оправданна, всегда в тягость, и многие старались избежать ее, отговариваясь занятостью… Как-то приехал из Обока араб-негоциант с табаком и рисом. У кого были деньги, обзавелся товаром, у кого не было денег, обзавелся завистью к счастливчикам. Но и те и другие не одобрили Ашинова, когда он не разрешил арабу открыть в Новой Москве лавку: “Не желаю отдавать в кабалу чужестранцам первых русских поселенцев в Африке”. Ему резонно буркнули: “Оно так, да сам, вишь, сигарой балуешься!..” Коротко говоря, то и дело, хоть пока искрами, возгоралось неудовольствие. Наконец составилось подобие заговора. Среди вольных казаков был некий Павел Михолапов, отставной поручик 14-го пехотного Олонецкого полка. Он заведовал в станице оружейной частью. Черт знает, что понудило его ехать в Африку. Вот этот самый Михолапов повел с молодыми людьми секретные совещания. Сдается, сам метил в атаманы. А покамест юный Бонапарт подбивал кое-кого помоложе оставить Новую Москву. Как после выяснилось, обещал он заговорщикам “широкую дорогу настоящей жизни”. Исчезновение шестерых поселенцев обнаружилось утром. Станица взволновалась. Разгневанный Ашинов кликнул Джайранова. Решено было воротить изменников. Доктор Добровольский не согласился: “К чему насильничать?” Софья Николаевна возразила: “Ради их же пользы! Мальчишки погибнут”. — “Ну, гадательно… — отвечал доктор. — И потом, вернете, а они снова…” Ашинов сделал нетерпеливый жест: “Э, нет! Мы за них в ответе! Наш почин дорог, вся Россия смотрит. Дезертиры сопливые…” Доктор сказал, что ловлю людей нельзя оправдать никакими соображениями, лучше уж отпускать недовольных на все четыре стороны. Его не послушались. В тот день у Ашиновых опять гостили зять султана Лойта белозубый Абдулла со своими данакильскими товарищами. Они вызвались быть проводниками, а Джайранов и его джигиты напросились в карательную экспедицию. Колонисты дожидались исхода дела со смутным чувством. Одни ругали беглецов. Другие покачивали головами: “Ежели мы прозываемся вольными казаками, то и вольны в своих поступках”. Сутки спустя Джайранов воротил молодцов. Вся Новая Москва собралась. Вышел Ашинов. Обычно немногословный, он произнес речь о чести новомосковца и общей пользе, о тяготах, которые надо превозмочь, и о том, что нерадивых исправит труд. Толпа переминалась и вздыхала, не то осуждающе, не то сочувственно. Неожиданно Ашинов прочитал приказ, учреждающий выборный суд. При слове “суд” воцарилась оробелая тишина. Потом послышался чей-то неуверенный голос: “А чего выбирать-то? Мы, чай, обчеством…” Единодушия, однако, не было, и выборы состоялись. Атамана назвали первым, он не противился. Назвали Кирилла Осипенко, бывшего драгунского вахмистра, еще троих. Судоговорение состоялось при закрытых дверях. Изменникам определили телесное наказание. Пороть, правда, не пороли — шомпола заменили “общественными принудительными работами”. День этот ознаменовался еще одним распоряжением атамана: “во избежание побегов и дурных поступков” вольным казакам велено было хранить огнестрельное оружие в цейхгаузе, отныне выдавать его будут лишь на время военных занятий. Недели не минуло, издал Ашинов новый приказ: вольных казаков разбил на шесть взводов, командиров поставил, а первый взвод, куда и осетинов включил, объявил своей личной охраной, хотя, по правде сказать, никому невдомек было, от кого и от чего надобно оберегать атамана. Теперь уж недоставало, пожалуй, лишь сыска и тюрьмы. Они не заставили себя ждать. Михолапов, отставной поручик, притаился, но не угомонился. Трое иль четверо остались верны ему. Нашлись и другие. К побегу готовились осторожно, тщательно. Однако Шавкуц Джайранов отлично исполнил роль начальника тайной полиции. Как водится, заговору дали созреть, потом заговорщиков схватили, изобличили, и вот уж вольных жителей вольной станицы замкнули в каталажке при казарме… Жизнь вроде бы продолжалась прежней чередою. Спозаранку ведра звякали и петухи голосили, днем топоры стучали и гудел огонь в кузне, зеленели огороды, ходила в море ловецкая плоскодонка, атаман Ашинов с Джайрановым на охоты езживал, судил да рядил. И никто, кажется, не призадумался, что вот же они, взыскующие града, уже дозволили проклюнуться неправде. Сидели в каталажке несколько бунтарей. Не по нраву им, вишь, Новая Москва пришлась. Ну и сидят арестантами, какая в том беда? Лишь бы урожаем господь не обидел. А по сытому брюху хоть обухом…***
Губернатор Лагард не ездил в Сагалло. Он довольствовался сообщениями лазутчиков. Саид-Али, переводчик таджурского султана, барышники, все же проникавшие в Новую Москву, да несколько данакильцев, прельстившихся новенькими ружьями системы Гра, не оставляли донесениями обокского губернатора. Лагард отправлял шифрованную информацию в Париж. Но оттуда лишь подтверждали получение депеш. Париж, очевидно, прощупывал позицию Санкт-Петербурга. С императором Александром правительство республики не хотело ссориться. Правда, еще в начале ашиновской экспедиции русский посол в Риме барон Икскуль официально отрекся от “этой шайки”, но все же не мешало убедиться в позиции Зимнего дворца. И Париж медлил. Курьерская фелюга из Адена привозила почту. Лагард накидывался на газеты — французские, итальянские, английские. Искал свое имя, находил свое имя. У него сладостно екало сердце: маленький колониальный чиновник нежданно-негаданно очутился на грани событий чрезвычайных. Он находил в газетах не только свое имя: об Ашинове упоминалось чаще. Журналисты расписывали мощь русского воинства в Африке. Английская “Таймс” в статье “Экспедиция казаков” сообщала, что люди “капитана Ашинова” высадились в Таджуре “в полной военной форме”. Французский репортер произвел атамана в “полковники лейб-гвардии”. Из Рима и Неаполя сообщали: книгопродавцы бойко торгуют портретами атамана, о нем читают публичные лекции, а некий майор Сан-Миниателли, бывший пассажиром на “Амфитрите”, “окончательно удостоверил личность варварского авантюриста, уже сражавшегося в Африке с итальянцами”. Но Париж медлил. Лагарда снедало нетерпение. Как! Ужели не понятно, что Сагалло соседствует с караванными дорогами в Абиссинию? Разве не ведомы горячие симпатии абиссинцев к единоверцам русским? А возможность возникновения русской морской станции? Данакильцы султана Лойта недавно показали Ашинову пласты каменного угля! Чего же медлят высокоумные государственные мужи? Понятно — в Париже чехарда: генерал Жорж Эрнест Буланже рвется к власти (и правильно делает), зашаталось и пало министерство радикала Флоке, а теперь, кажется, вскочил в седло Тирар со своими умеренными республиканцами. Впрочем, и в этой кутерьме, право, не мешало бы подумать о заморских территориях… Но вот началось наконец. Первым явился “Пингвин”, разведывательное судно. Авизо, как звучно говорили во французском флоте. Конечно, три пушки калибром семьдесят пять миллиметров чего-нибудь да стоят. Однако морской министр не слишком-то щедр. Что? Идут следом? Ах, вот как… И губернатор велит откупорить шампанское. Да здравствует флот! Они картинно положили якоря на рейде Обока — крейсер и канонерка. Черт подери, это внушительно: шестнадцать стволов на крейсере, плюс десять на канонерке. Еще шампанского! И добрый коньяк на стол. Милости просим, адмирал Олри. Пожалуйте, капитан Верон. Прошу, лейтенант Бугенвиль. “Что думает господин губернатор? — спрашивают моряки. — Послать русским ультиматум?” О да, Лагард уверен — ультиматум, подкрепленный пушками, будет исполнен немедленно. Пушки — последний довод королей? Ха-ха! Но первый довод республик. Губернатор настораживается, замечая сдержанность моряков, этого адмирала Олри, кавалера ордена Почетного легиона, и этого носатого капитана Верона, закаленного в дальних плаваниях, и этого молодого виконта Бугенвиля. Гм!.. Олри хмурит брови, Верон отводит глаза, а виконт Бугенвиль пылко заверяет: одно дело — хлестать картечью по дикарям и совсем другое — стрелять в мирных белых поселенцев… Но, господа, господа, — удивляется Лагард, — права Франции неоспоримы! Сказать по секрету, даже если они спорны, следует на них настаивать… Итак, за дело, господа!” В знойный полдень открылась французам бухта Сагалло. Крейсер, канонерка и авизо приближались медленно. Показался форт с русским флагом на мачте. Корабельный отряд, развернувшись строем фронта, застопорил машины. Дымы шатнулись, потом встали отвесно. “Пингвин” спустил шлюпку. Дежурные гребцы сели без оружия. Переводчик Сеид-Али, скользнув по шторм-трапу, умостился на заспинной доске. На берег Сеид-Али вышел один. Из ворот форта бежали колонисты. Сеид-Али поискал глазами Ашинова. Тот шел широким спокойным шагом. Рослый, в белой рубахе, облепившей грудь, в синих шароварах, заправленных в мягкие сапоги. Сеид-Али отдал пакет Ашинову и тотчас вернулся на шлюпку: ему не велели дожидаться ответа. Матросы ударили веслами, точно за ними погоня, и вот уже шлюпка исчезла. Подоспела Софья Николаевна, Ашинов протянул ей бумагу: По приказу морского министра и по поручению губернатора предлагаю г. Ашинову: 1. Снять флаг, неправильно поднятый им на французской территории. 2. Очистить форт со всеми людьми без исключения. 3. Вынести на расстояние 100 метров от форта на берег оружие и боевые снаряды, которые он без разрешения привез на нашу территорию, и покориться французским законам. Если через полчаса г. Ашинов не исполнит в точности вышеизложенное, то сим он предупреждается, что будет принужден к тому силой. Какая “французская территория”, какие “французские законы”? Ошеломленные колонисты не понимали, что отпущено лишь полчаса и что срок исполнения ультиматума рассчитан именно на то, чтобы его невозможно было исполнить. Шлепали волны, реяли чайки, плыл душный день, а там, в бухте, вершили свои грозные эволюции крейсер, канонерка, авизо. Истекли тридцать минут, и оттуда, из блистающей бухты, донесся громкий и странный звук, будто длинной орясиной ударили по воде. Но ударили не по воде — рвануло, грохнуло где-то рядом, совсем рядом, не разберешь, правда, впереди ли, сзади ли. И мгновенно стихло. Только стало не так тихо, как раньше, не шлепки волн, не шерстяное потрескивание флагдуха были в этой тишине, а сухой и дробный шорох каменной осыпи: в крепостной стене зиял пролом. Принадлежал ли адмирал Олри к новомодной “молодой школе” французских морских теоретиков, сугубым ли практиком был — кто его знает, но действовал он хватко. Сделав несколько выстрелов фугасными снарядами, корабли еще приблизились к берегу и тотчас ударили картечными гранатами. Шпионы давно донесли Лагарду, что в казарме поселились семейные. Губернатор Лагард не сказал об этом адмиралу Олри, просто посоветовал сперва разрушить казарму, дабы лишить ашиновцев опорного пункта. Олри счел совет дельным. И теперь в покоях, комнатках и залах все клубилось, выло, шипело, взвизгивало — свинец раскаленным веером крушил женщин и детей. Варю Мартынову сразило вместе с шестилетним мальчонкой. Пелагее Рубцовой картечь перебила ногу. Потеряв сознание, она привалилась в уголок, рядом с казаком Шевченко, тот хрипел, захлебывался кровью. Софья Николаевна, подхватив чью-то девочку, ринулась сквозь дым и огонь, выскочила во двор и охнула: она была ранена в предплечье. Полумертвую девочку доктор Доброклонский взвалил на плечи, побежал к своей палатке, где он только что поднял большое белое полотнище с алым крестом. Но доктор так и не добежал до госпиталя: палатку смел выстрел с крейсера. — Боже мой, боже мой… — беспомощно бормотал доктор, озираясь и замечая, как люди бегут из крепости. Ашинов с перекошенным от боли и ярости лицом старался удержать их. Джайранов, отворив склад, поспешно раздавал оружие. Софья Николаевна, зажимая здоровой рукой раненую, спешила к мужу. В ее бледном лице, в несвязных отрывистых словах, в том, как решительно преградила она путь бегущим, было столько гневной энергии, что все вдруг затоптались на месте, услышали вопли из горящей казармы, и тогда уж повернули, тогда уж ринулись назад, к казарме, к оружейному складу, и теперь Ашинов распоряжался, и его распоряжения исполнялись с тем остервенением, какое бывает, когда все одно пропадать, но пропадать на миру, с честью. Кто-то из французских марсовых заметил подозрительное движение в предгорьях, плотнее прильнул к биноклю и четко различил вооруженную толпу: данакильцы во главе с Абдуллой валили выручать “москов”. Адмирал Олри приказал перенести огонь на чернокожих. Обстрел форта внезапно прекратился, новомосковцы воспользовались передышкой, вынесли из крепости раненых, толику боезапаса, кое-какую провизию, кое-какой скарб. Тем временем примчались гонцы: у Абдуллы много убитых, много раненых, Абдулла просит “москов” уходить в горы, пусть скорее уходят в горы: франки сейчас высадят солдат… Атаман был контужен. “Маринушку опалило порохом, — смутно, как в забытьи, соображал Ашинов, — бедный Марченко души не чаял в дочке, нету Маринушки, и Кольку убили… А-а, Шавкуц, уцелел, брат?.. Твои джигиты живы? Они молодцом, твои джигиты… Садись, Джайранов. Садись, старый приятель, знаю ваш обычай — никогда не сядешь рядом со старшим, хороший обычай, но ты уж садись, вот так…” Не атаман Ашинов явился к шлюпке под белым флагом, а Софья Николаевна и доктор Добровольский. Французский офицер, вежливо козырнув, пригласил их на переговоры с адмиралом Олри и губернатором Лагардом. Софья Николаевна молча указала на убитых ребятишек и женщин. Офицер, побледнев, сдернул фуражку.***
Часть казаков призывала драться до последнего издыхания: “Стоять за знамя! Умрем!” Некоторые подались в горы, к данакильцам. Большинство потерянно взирало на Ашинова. До последнего издыхания? Умрем? Он был храбрецом, видывал смерть. И в схватках с турками на Кавказе. И в закаспийских рейдах при покорении Средней Азии. И здесь, в Африке: с несколькими казаками сражался под стягом махдистов-повстанцев против англичан, бок о бок с абиссинцами на рысях атаковывал батальоны итальянских захватчиков. Он был храбрецом, этот широкогрудый богатырь, что сидит под огромной финиковой пальмой, сидит, сгорбившись, в разодранной рубахе, опаленный порохом. Окаянный запах пожарищ шибает ему в ноздри, губы у него вздрагивают. До последнего издыхания? Умрем? Может, атаману легче всего пойти на смерть. Ринуться на француза, на десант, в штыки ринуться, саблей рубать. А зачем? Для чего? Нет Новой Москвы. Орудийным ураганом смело все — и станицу и мечту. И следа не оставят вольные казаки на здешних берегах. Разве что могильные холмики. В горы уйти, к султану Лойту? Ни сил, ни желания. Он, атаман Николай Иванов Ашинов, во избежание напрасных, бессмысленных жертв принимает условия капитуляции. Десант высадился без выстрела. Колонистам велели грузиться в баркасы. Французы бросились к бочкам со спиртом, вышибли днища, хлебали спирт чем ни попало, капрал с ястребиной рожей черпал поварешкой, орал: “Вива-а-а-ат! Что хотим, то и делаем!” Приняв пленных, эскадра начала выбирать якоря. В те же минуты послышались взрывы — французские саперы взрывали минами уже и без того почти разрушенные строения. В отличие от пехотинцев-десантников моряки держались рыцарями: оказали помощь раненым, накормили всех, даже бельем и обувкой ссудили. Офицеры сочувственно объясняли Ашинову, что вынуждены подчиняться министру и что все было б иначе, не отступись правительство России от ашиновцев. И действительно, петербургские высшие сферы, не желая ссориться с французской республикой, пальцем не шевельнули в защиту безвестных людишек. Участь “бродяг” была решена: французы доставят их в Порт-Саид или в Александрию, там будут ждать русские суда. Потом повезут бывших колонистов в Одессу, в Севастополь. Согласно высочайшему повелению всех ждет наказание. Так закончилось хождение за три моря русских мужиков, взыскующих града, искателей вольной землицы.Е.Велтистов ГЛОТОК СОЛНЦА Фантастическая повесть[55]
 Пятнадцатого мая 2066 года на глазах у ста тысяч зрителей спортивный гравилет С-317 с гонщиком Григорием Сингаевским вошел в шарообразное серебристое облако, возникшее на его пути, и больше не появился.
Это произошло быстрее, чем вам удалось прочитать лаконичную фразу из протокола. Ни один из гравилетчиков, я в этом убежден, не заметил, как появился в чистом небе, на трассе наших гонок, странный серебристый шар. Да, пожалуй, в тот момент никто из нас, тридцати парней, вцепившихся в руль своих машин, никто, пожалуй, не мог сообразить, что это такое — неправдоподобно круглое облако, гигантская шаровая молния или просто запущенный каким-нибудь сумасшедшим елочный шар огромной величины, — это нечто, ударившее нам в глаза слепящим металлическим блеском. Я летел вторым после Сингаевского, точнее, метров на шестьсот сзади и на сто ниже, не упуская из виду силуэт его желтого гравилета, и помню, что сразу за вспышкой жесткого света инстинктивно рванул ручку тормозных двигателей (приказ судьи соревнований раздался чуть позже); помню, как машина вдруг задрала нос, выбросила меня из кресла и с азартом понеслась в белое пекло. То, что это пекло, а не твердая металлическая поверхность, я догадался, увидев, как быстро и красиво, на почти идеальном развороте, нырнул туда желтый гравилет и растворился, исчез в сиянии. Говорят, в эти секунды на телеэкранах была ясно видна счастливая улыбка на моем лице, удивившая всех зрителей; кажется, я даже засмеялся, наваливаясь на упрямо поднятый руль. Я жал на руль, жал как только мог, но чудовищная тяжесть давила мне в грудь, сбрасывала руки, и я чувствовал, что безотказная, такая знакомая машина подчиняется уже не мне, а какой-то силе, вращающей ее, как щепку в водовороте…
На этом сумасшедшая гонка вокруг облака для меня закончилась: я потерял сознание, все так же глупо улыбаясь. “Глупо” — это мнение тех, кто ознакомился с короткой диктофонной записью моих впечатлений, сделанной в больнице. Ну, а для меня, казалось бы, неподходящая к моменту улыбка была проявлением особой радости, с которой я прожил весь день и не хотел расстаться. И об этом, конечно, ничего но скажешь в официальном докладе, в котором надо припомнить и точно изложить обстоятельства гибели своего товарища.
С того дня прошел уже год, я на год стал старше, но не это главное. Насколько я знаю, в истории моей планеты еще не было таких странных на первый взгляд и закономерных, давно ожидаемых людьми событий. И я хочу начать рассказ с того самого утра, когда меня разбудило прикосновение прохладных иголок сосны.
Я сразу вскочил на ноги и понял, что это во сне, может за секунду до пробуждения, я стоял с Каричкой под старой сосной, под ее единственной зеленой лапой, и прощался. А еще хотел включить на ночь диктофон с лентой формул. Ничего бы тогда сказочного не было, я знал бы на пятьдесят формул больше, и все. Сразу же выскочил из дому и, пренебрегая скользящими среди травы лентами механических дорог, помчался к морю, к каменной лестнице, где стояла погнутая старая сосна. А добежав до знакомой лестницы, пошел вниз медленно, не спеша, радуясь и грустя из-за своего предвидения.
Каричка бежала вверх, прыгая через ступени, — честное слово, это была она, я не придумал. И когда она вскинула голову, я увидел корону ее волос, знаете, как солнце, каким его рисуют дети, — мягкое, пушистое, лохматое; я увидел челку над самыми глазами, золотые ободочки в них, и мне почему-то стало совсем грустно.
— Март, — сказала она шепотом, — что я знаю…
И тогда я засмеялся — в первый раз в тот день. Было так приятно стоять у обрыва над самыми волнами, перед запыхавшейся Каричкой, и не знать, что будет дальше.
— Март, — сказала она опять, — ты придешь первым.
— Откуда ты знаешь? — Наверное, я покраснел: я не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела, но сейчас мне было просто приятно.
— Я колдунья, ты не догадался? — Она прыгнула через две ступени. — И вообще, утром надо здороваться.
— Здравствуй, — сказал я, хотя это и выглядело странно в середине разговора.
— Прощай. Я уезжаю.
— Разве сегодня? — Я еще на что-то надеялся, хотя все знал, когда меня во сне уколола ветка. — А почему же Сим ничего не сказал?
— Я совсем забыла предупредить его…
— А Андрей? — Я уже кричал, потому что Каричка убегала и голос ее летел из кустов.
— Привет ему! Я спешу! Буду смотреть, как вы летите. И помни: я колдунья!
Ну, вот мы и остались одни, сосна. Будь у меня крылья, я бы рванулся из-под твоей лапы, махавшей Каричке, прямо в небо, кувыркнулся среди облаков и нырнул в прохладную глубину. Но крыльев у меня не было. У меня был красный гравилет, вылизанный до перышка, отлаженный до винтика, спокойно стоявший в ожидании гонок, которые теперь Каричка увидит только на экране. У меня были Андрей и Сим, я должен был передать им привет от уехавшей Карички. И я просто на своих двоих спустился по лестнице, на ходу сбросил одежду и вошел в воду.
И тут мне опять стало весело.
— Ты придешь первым, бум-бум-бум! — распевал я во все горло, лежа на спине и глядя прямо в лицо солнцу. — Я колдунья, помни! — прорычал я удиравшему в панике крабу, которого спугнул у скользкого от водорослей камня.
Так я довольно долго дурачился, а сам вспоминал белое в синий горошек платье, каштановый затылок и изгиб шеи, когда она низко опускает голову, подрагивание запыхавшихся губ. Эти сухари, электронные души — Андрей и Сим — уже, наверно, трудятся, считают, а я здесь, в светло-зеленом прозрачном мире, гоняюсь за рыбешками, фыркаю, как дельфин, и приветы Карички со мной. Я мог бы взболтать море до самого дна, если бы совесть не намекала, что пора вернуться из глубин на землю, в институт.
Не знаю, зачем придумали эти ползущие в траве пластмассовые дороги. Ими почти никто не пользуется, люди предпочитают ходить или бегать. Ракеты, трансконтинентальные экспрессы, вертолеты — понятно: экономия времени. И гравипланы — понятно: красивые, удобные, современные машины. А от гоночных гравилетов дух захватывает! Они как цирковые артисты: самые обычные с виду и самые ловкие, самые смелые, рискованные в работе.
Я всегда волновался, когда входил в ангар, и сейчас, пробираясь между машин осторожно, как только мог, старался не задеть чужое творение. Именно творение, потому что хотя спортивные гравилеты похожи между собой — легкое птичье крыло, сломанное пополам, с прозрачными каплями кабин на сгибе, — все же опытный глаз гонщика сразу улавливал разницу в конструкции. Она была в изломе крыльев. Десять разных цветов, в которые были окрашены машины, символизировали десять городов, прославивших лучших гонщиков. Никто не знал пока, какие из этих тридцати войдут в первую тройку и продолжат гонки на первенство континентов. Может быть, самое быстрое крыло — мое, ярко-красное, с плавной линией изгиба, обтянутое металлическими перьями?
Я стоял у своего гравилета, трогал ладонью перья и слушал, как они отзываются чистым, долго не смолкающим звоном.
Потом весь день я ощущал в пальцах этот легкий серебристый звон, вспоминалтаинственную фразу, казавшуюся очень значительной: “Март, что я знаю…”
Наверное, когда я пришел в лабораторию и уселся за свой стол, заваленный бумагами, моя улыбка взбесила Андрея. Он так и сказал:
— Прости, Март, но у тебя вид блаженной обезьяны. Ты точно впервые слез с дерева и ходишь на задних лапах.
— Ага, — откликнулся я, — ты почти угадал: я еще древнее! Только недавно вылез из моря и впервые понял, что значит дышать.
— И как, понравилось?
Кажется, Андрей был удивлен. Обычно я не реагирую на его зоологические шуточки. Но сегодня готов беседовать даже с неодушевленными предметами.
— Прекрасно! Легкие — гениальное изобретение. Кстати, тебе привет от Карички. Она уехала сдавать экзамены.
— Мне она ничего не сказала, — вмешался в разговор Сим.
И Андрей сразу нахмурился:
— Сим, не отвлекайся, пожалуйста. Поговорим в перерыве. Жаль. Я рассчитывал подкинуть Каричке задание с Л-13.
— Давай мне, — предложил я, удивляясь собственному великодушию. — Обожаю задания с Луны. Сим, тебе тоже поклон.
Андрей молча протянул мне листы. А Сим мигнул оранжевым глазом: он принял поклон к сведению.
Часа три мы работали молча. Такой порядок завел Андрей. Он старший в нашей группе. Ему двадцать один год, он окончил три факультета. У Андрея Прозорова бывает только два состояния: или он молча работает, или шутит о несовершенстве человека.
Это несовершенство было представлено в лице бесстрастного Сима — счетной информационной машины, подпиравшей своими железными плечами стены нашей лаборатории. Мы все трое — Каричка, Андрей и я — работали на беспощадно быстрого Сима и только-только успевали загружать его электронное чрево задачами и расчетами.
Обычно утренняя порция бумаг на столе повергает меня в уныние. После того как я на рассвете пробежал десяток километров, прыгал с вышки, бросал копье и толкал ядро, эти бумаги мне кажутся такими тяжелыми, что не хочется брать их в руки. И хотя я осознаю, что курс программирования полезен для недоучившегося студента, я начинаю сердиться… Я сержусь, как это ни странно, на лунных астрономов и астрофизиков Марса, засыпающих нас сводками. Я сержусь на ракеты-зонды и автоматические обсерватории, ощупывающие своими чуткими усиками горячее Солнце и бросающие из черного пустого космоса водопад цифр прямо на мой стол. Я сержусь даже на Солнце — за что, сам не пойму. Со стороны посмотришь — человек работает нормально: стучит клавишами, пишет, зачеркивает и снова пишет формулы, трет кулаком подбородок. А он, букашка, оказывается, дуется на само Солнце и только к концу дня, расшвыряв все бумаги, чувствует себя победителем. Но что он победил: свой гнев или огненные протуберанцы? Нет, только очередную пачку бумаг.
Сегодня я пересмотрел свое отношение к бумагам. Изучая листы информации с грифом Л-13, я почему-то вспомнил, как увидел однажды в лесу Каричку: она стояла под деревом и задумчиво рисовала в воздухе рукой; солнечные лучи, пробившись сквозь крону, воткнулись в землю у ее ног; мне показалось, она развешивает на них невидимые ноты, и я не стал мешать рождению музыки, тихо ушел… А ведь у этих ребят с тринадцатой лунной станции, которые засыпают меня формулами, сказал я себе, нет ничего: ни прохладного ветра, ни бодрых раскатов грома, ни голубого неба — только град метеоров, беззвучно пробивающих купола зданий, одиночество да волчьи глаза звезд.
А я в кабинете перебираю бумажки, стоившие чудовищных усилий, риска, а иногда и жизней. Нет, что-то не так устроено в этом мире! Почему я, здоровый, румяный, сижу за стеклянной стеной и пальцем, которым мог бы свалить быка, нажимаю на кнопки? Зачем я здесь, а не где-то в песках Марса? Я сам должен нацеливать на звезды телескопы, радары и прочие уловители видимого-невидимого, задыхаться от жары, дрожать от мороза и посылать на Землю, в Институт Солнца добытые мною цифры. Чтоб Андрей Прозоров обрабатывал их, а Сим мгновенно переваривал. Вот это будет правильно. И если говорить откровенно, меня ведь никто не держит на привязи в операторской и за спиной моей трепещут крылья гравилета. Я уже видел, как мчусь на своем гравилете прямо к Солнцу, а рядом со мной — Каричка…
— Неужели на Л-13 такие юмористы? — не оборачиваясь, сказал Андрей.
— А что?
— Ты опять улыбаешься?
— Это я так, вообще. А с Л-13 покончено. Возьми. Андрей взглянул на мои расчеты и кивнул: он был доволен.
— Ты заметил, — сказал Андрей, — без женщин гораздо легче работается.
— Не согласен, — прогудел Сим. — Когда Каричка поет, я работаю быстрее.
От неожиданности мы с Андреем рассмеялись.
— Каков Сим, а? — Андрей подмигнул мне.
А я крикнул:
— Присоединяюсь, Сим! — и засвистел “Волшебную тарелочку Галактики”.
— Вот доказательство, — нравоучительно произнес Сим. — Все вы поете ее песни. — И он предупредительно распахнул перед нами дверь.
…Я не изменил своего обычного режима перед гонками. Во-первых, не пропустил лекцию: забрался в зимний сад на втором этаже и под какими-то колючими кустами включил телевизор. И сразу же окунулся в пространство, населенное галактиками, и с легкостью спящего понесся навстречу далеким мирам, представшим предо мною ничтожной песчинкой мироздания — в виде изящных устричных раковин и клубка скрученных в кольца змей, ярких, блестящих шаров и едва различимых пятен темного тумана. Где-то вдали от меня они жили своей жизнью, как грозовые облака в далях неба, взрывались и угасали, крутились и разлетались в разные стороны. Я слышал знакомый голос профессора, вглядывался в мелькавшие формулы, а сам думал про то, как эта лекция запоздала. Она безнадежно устарела бы даже для древних египтян, имей они телевизоры. То, что я видел, было тысячи и миллионы лет назад, и кто знает, какие они теперь — эти спиральные и эллиптические, разложенные по научным полочкам, расклассифицированные, как домашние животные, галактики.
Мне очень хотелось быть сегодня всемогущим. Потом, после лекции, когда я делал гимнастику, крутился на центрифуге и, вытянувшись во весь рост, заложив руки за голову, отдыхал в зале невесомости, я щедро раздавал людям бессмертие и сверхсветовые скорости, цивилизации других планет и невидимые пружины, вращающие галактики. Я занимался и делами помельче: зажигал искусственные солнца, смещал земную ось, бурил насквозь весь шарик, строил роботов с гибким мышлением человека — словом, воплощал все то, что уже описано в фантастических книгах. И в то же время — до чего человек умеет ловко совмещать высокое, торжественное со своими практическими заботами! — ловил шумы с улицы, представлял, как прибывает в город публика, как притащили грузовые вертолеты каркасы трибун и устанавливают их на берегу, как развешивают судьи огромные золотые шары, мимо которых мы, гонщики, пронесемся много раз. И уже круглые площадки с подвижными хоботками телекамер повисли, наверное, над морем. И уже прилетел на судейской машине комментатор с бархатистым, убаюкивающим голосом.
Подходя к ангару, я и вправду услышал знакомый баритон, льющийся из динамиков. Комментатор Байкалов прежде всего сообщил болельщикам, что час назад он вел репортаж о подводном заплыве в Красном море и теперь рад подняться под облака. Облаков, правда, не было: синоптики убрали с нашего пути все помехи и — я знал это — в заключение готовились зажечь полярное сияние. На телеэкране, висевшем на стене прямо над моей машиной, мелькали знакомые кадры города, взбудораженного праздником. Камеры, подчиняясь полководческим жестам Байкалова, выхватывали из всеобщей суматохи разгоряченные лица, яркие флаги, парящие машины. Посадочные площадки были уже плотно уставлены транспортом, и пассажирские гравипланы выбирали свободные крыши. Блеснули на солнце акульи тела двух ракет, и комментатор, несомненно, заметил их со своей высоты; несколько минут он держал ракеты в резерве, а когда они сели возле леса, взял у пассажиров интервью.
Честно говоря, на нас неприятно действовали эти картинки. Гонщики старались не смотреть на экраны, громко разговаривали, чересчур много шутили, а когда Байкалов перешел к биографиям, все полезли осматривать машины.
И вдруг в ангаре стало тихо. В голубом квадрате ворот появился высокий человек в белом свитере — Гриша Сингаевский. Он пришел самым последним и сразу догадался, что надо просто выключить эту болтливую технику. “Ура Сингаевскому!” — крикнул кто-то, и мы радостно завопили, как вырвавшиеся на перемену школьники. Его все любили — неторопливого скуластого синоптика с твердым взглядом блестящих глаз. Вот кто был настоящим воздушником! Я думаю, если бы ему запретили полеты, он бы просто не знал, как жить.
Сингаевский только взглянул на простодушно-прямое крыло моего гравилета и сразу догадался.
— Ну что? Хочешь меня обогнать? Попробуй поищи ее!
И хлопнул по плечу. Другие тоже приглядывались, но ничего не говорили. А он прямо сказал: попробуй поищи.
— Что ж, поищу, — ответил я, чувствуя, как волнение охватывает меня.
— Желаю.
— И тебе.
Мы поднялись с ровного травяного поля тремя группами — группа белых, желтых, красных — и пошли не к морю, где гудела толпа тысяч в сто, а над городом. Это был не парадный строй, скорее, мы казались беспечными туристами или, скажем, разноцветными бумерангами, брошенными ленивой рукой. Но такое впечатление было обманчиво, как обманчив вид спокойного мускула, в котором постепенно напрягаются нервы. Ничто в воздухе не двигалось, кроме нас, и это опустевшее вдруг пространство пугало своей голубой торжественностью. Мы крались над самыми крышами, приглядываясь друг к другу, примериваясь крылом к волне гравитонов. Самое важное было нащупать, поймать сильную волну. Уже задрожали стрелки приборов и шевельнулись, чуть приподнялись чуткие перья на крыле машины, но я знал, что еще рано ловить эту самую волну.
А перья тихонько пели, но все равно это была не та волна. Я делал едва заметные глазу скачки — поднимался и опускался, рыскал по сторонам. Многие гонщики тоже искали волну, стараясь не выдать своего напряжения. Уже неумолимо приближались полукруг стадиона и синее полотно моря, вдали сверкнули золотые точки — стартовые шары, а мы, герои дня, шли к ним совсем не парадным строем, а беспорядочной толпой. Что ж, в конце концов каждый музыкант перед началом концерта раскладывает ноты и настраивает свой инструмент. Звучит эта разноголосица в оркестровой яме не очень-то приятно для слуха, зато потом взмахнет дирижер, замрет зал, каждый инструмент будет петь свое и в их едином порыве родится мелодия.
Однако, если уж прибегать к сравнениям, то я думаю, вряд ли музыканты перед выступлением так кляли свою судьбу, как наши ребята, приближаясь к золотым воротам гонок. Я видел это по мелким рывкам машин и представлял, как ворчат гонщики на всю Вселенную. Мы должны были ловить волны гравитонов, которые посылали далекие галактики. Что поделаешь — спорт!
А перья вдруг запели: “Март, я колдунья…” Мне сразу стало легче, я решил больше не смотреть на дрожащую стрелку. Поднял голову — прямо перед носом шар. Тормознул, встал на линию, замер с включенным двигателем. Мне теперь все равно, откуда начинать. Пусть Сингаевский висит сверху. Пусть другие перескакивают с места на место. Пусть выбирают позицию. Я не двинусь. Я все равно ее поймаю — свою волну.
— Готов! — ответил я, как и все, главному судье и инстинктивно подался в кресле вперед. Я видел теперь только цепочку шаров и голубое спокойное пространство.
Ребята пошли легко, красиво, плавно набирая скорость. Я даже чуть задержался, когда фыркнула стартовая ракета, а через мгновение висел уже в хвосте у группы, причем резал дорожку наискосок — вверх и налево: искал ее, одну-единственную, мою волну. Хоть перевернись ты, Галактика, хоть взорвись на смех другим, а я сумею ее найти, обгоню ветер, поймаю солнечный луч, глотну горячего солнца.
Так я резал дорожку наискосок, и меня пронзала дрожь нетерпения: глаза устремились вперед, словно могли увидеть волну, и весь я летел впереди машины. Но нельзя, никак нельзя было пускать двигатель на полную мощность: рано. И постепенно дух спокойствия возвращался ко мне: сначала остыла голова, потом улеглись зудевшие руки. Может быть, некоторые нетерпеливые гонщики и торопились, а основная группа шла на большой скорости, но еще не в темпе финишного рывка. Ничего, у самого последнего гонщика еще есть преимущества. Во-первых, поворот, вот он. Ставлю машину на крыло, плавно делаю вираж и обхожу белый гравилет — ни треска, ни толчков, ни снижения скорости. Итак, дорогой мой коллега, ты, надеюсь, понял преимущества прямого крыла: выигранные метры на поворотах, это раз. А второе, когда будет хорошая волна…
Глаза автоматически ловили и считали шары — десять, двадцать, тридцать, — а я все еще плелся в хвосте. Двадцать седьмым или двадцать восьмым. Сингаевский парил впереди. Казалось, желтый гравилет движется сам по себе. Так иногда смотришь на летящую птицу, любуешься ею и не знаешь, откуда в таком крохотном комке плоти берется столько энергии, красоты и ритма. Она как будто знает, что ты на нее смотришь, и нарочно старается показать, что она само совершенство, часть природы. А на самом деле — просто летит. И Сингаевскому наплевать, что зрители видят на экранах его лицо. Сдвинул угрюмо брови, катает за щеками желваки и не слушает никаких судей — только машину.
И тут я увидел, как ощетинились перья на моем крыле. Ясно и без приборов: волна! Сразу весь подобрался и послал машину вперед. Она рванулась, будто с места, и с каким-то чудовищным свистом начала рассекать воздух. Я даже через стекло почувствовал его упругость, вцепился в руль; на миг мне показалось, что гравилет может опрокинуться. Впрочем, уже не существовало ни меня, ни гравилета, мы были нечто одно, постепенно пожиравшее пространство. Все затихло, исчезло во мне с этого момента, остались глаза и уши. Я лишь следил, чтоб не столкнуться с шаром или обгоняемой машиной, слушал, как угрожающе звенят накаленные перья “Ка-рич-ка, Ка-рич-ка”, — угрожающе, но еще не настолько опасно, чтоб снижать скорость. Моя красная лошадка могла бежать и резвее — в этом я не сомневался. Если рассыплется, что ж, упаду в зону невесомости, там подберут…
А желтый гравилет все впереди. Молодчина Сингаевский! Но и мой сейчас превратится в красную молнию, в красный свет, — тогда уж потягаемся. Бешеная все же скорость!
Кажется, последнее, о чем я вспомнил, был воздушный цирк. После нас должны были выступать воздушные гимнасты, а потом — гравибол с огромным цветным мячом.
Но ничего этого не было. Вы уже знаете про облако: как оно появилось, как скрылся в нем желтый гравилет, как я, счастливо улыбаясь, пытался остановить машину, а вместо того стал вращаться вокруг облака. Сейчас, по прошествии времени, я говорю “облако”, а тогда — я уже упоминал об этом — никто из гонщиков не знал, что за странное препятствие возникало перед нами. Только зрители, телевизионщики да некоторые судьи могли издали определить, что это облако серебристого цвета и почти идеально круглой формы. Телевизионщики сумели даже заснять на пленку, как оно стремительно ушло вверх кадра, все остальные подумали, что облако исчезло, растворилось в воздухе, вдруг стало невидимкой.
Помню, как Гриша Сингаевский спокойно говорил в микрофон: “Неожиданное препятствие… Стремительное, притягивает… Ничего не могу…” Это были семь его последних слов.
Помню неприятное чувство, какое-то посасывание под ложечкой, когда я сам неумолимо приближался к слепящему пеклу, не в силах оторвать от него глаз. Я ничего не говорил, только улыбался, все еще борясь с рулем. Потом резкий удар, темнота, словно кто-то набросил на голову покрывало.
Мой гравилет резко отбросило от шара, и он рассыпался, В то же мгновение шар исчез. Меня подобрали, как я и предвидел, в зоне невесомости.
Пятнадцатого мая 2066 года на глазах у ста тысяч зрителей спортивный гравилет С-317 с гонщиком Григорием Сингаевским вошел в шарообразное серебристое облако, возникшее на его пути, и больше не появился.
Это произошло быстрее, чем вам удалось прочитать лаконичную фразу из протокола. Ни один из гравилетчиков, я в этом убежден, не заметил, как появился в чистом небе, на трассе наших гонок, странный серебристый шар. Да, пожалуй, в тот момент никто из нас, тридцати парней, вцепившихся в руль своих машин, никто, пожалуй, не мог сообразить, что это такое — неправдоподобно круглое облако, гигантская шаровая молния или просто запущенный каким-нибудь сумасшедшим елочный шар огромной величины, — это нечто, ударившее нам в глаза слепящим металлическим блеском. Я летел вторым после Сингаевского, точнее, метров на шестьсот сзади и на сто ниже, не упуская из виду силуэт его желтого гравилета, и помню, что сразу за вспышкой жесткого света инстинктивно рванул ручку тормозных двигателей (приказ судьи соревнований раздался чуть позже); помню, как машина вдруг задрала нос, выбросила меня из кресла и с азартом понеслась в белое пекло. То, что это пекло, а не твердая металлическая поверхность, я догадался, увидев, как быстро и красиво, на почти идеальном развороте, нырнул туда желтый гравилет и растворился, исчез в сиянии. Говорят, в эти секунды на телеэкранах была ясно видна счастливая улыбка на моем лице, удивившая всех зрителей; кажется, я даже засмеялся, наваливаясь на упрямо поднятый руль. Я жал на руль, жал как только мог, но чудовищная тяжесть давила мне в грудь, сбрасывала руки, и я чувствовал, что безотказная, такая знакомая машина подчиняется уже не мне, а какой-то силе, вращающей ее, как щепку в водовороте…
На этом сумасшедшая гонка вокруг облака для меня закончилась: я потерял сознание, все так же глупо улыбаясь. “Глупо” — это мнение тех, кто ознакомился с короткой диктофонной записью моих впечатлений, сделанной в больнице. Ну, а для меня, казалось бы, неподходящая к моменту улыбка была проявлением особой радости, с которой я прожил весь день и не хотел расстаться. И об этом, конечно, ничего но скажешь в официальном докладе, в котором надо припомнить и точно изложить обстоятельства гибели своего товарища.
С того дня прошел уже год, я на год стал старше, но не это главное. Насколько я знаю, в истории моей планеты еще не было таких странных на первый взгляд и закономерных, давно ожидаемых людьми событий. И я хочу начать рассказ с того самого утра, когда меня разбудило прикосновение прохладных иголок сосны.
Я сразу вскочил на ноги и понял, что это во сне, может за секунду до пробуждения, я стоял с Каричкой под старой сосной, под ее единственной зеленой лапой, и прощался. А еще хотел включить на ночь диктофон с лентой формул. Ничего бы тогда сказочного не было, я знал бы на пятьдесят формул больше, и все. Сразу же выскочил из дому и, пренебрегая скользящими среди травы лентами механических дорог, помчался к морю, к каменной лестнице, где стояла погнутая старая сосна. А добежав до знакомой лестницы, пошел вниз медленно, не спеша, радуясь и грустя из-за своего предвидения.
Каричка бежала вверх, прыгая через ступени, — честное слово, это была она, я не придумал. И когда она вскинула голову, я увидел корону ее волос, знаете, как солнце, каким его рисуют дети, — мягкое, пушистое, лохматое; я увидел челку над самыми глазами, золотые ободочки в них, и мне почему-то стало совсем грустно.
— Март, — сказала она шепотом, — что я знаю…
И тогда я засмеялся — в первый раз в тот день. Было так приятно стоять у обрыва над самыми волнами, перед запыхавшейся Каричкой, и не знать, что будет дальше.
— Март, — сказала она опять, — ты придешь первым.
— Откуда ты знаешь? — Наверное, я покраснел: я не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела, но сейчас мне было просто приятно.
— Я колдунья, ты не догадался? — Она прыгнула через две ступени. — И вообще, утром надо здороваться.
— Здравствуй, — сказал я, хотя это и выглядело странно в середине разговора.
— Прощай. Я уезжаю.
— Разве сегодня? — Я еще на что-то надеялся, хотя все знал, когда меня во сне уколола ветка. — А почему же Сим ничего не сказал?
— Я совсем забыла предупредить его…
— А Андрей? — Я уже кричал, потому что Каричка убегала и голос ее летел из кустов.
— Привет ему! Я спешу! Буду смотреть, как вы летите. И помни: я колдунья!
Ну, вот мы и остались одни, сосна. Будь у меня крылья, я бы рванулся из-под твоей лапы, махавшей Каричке, прямо в небо, кувыркнулся среди облаков и нырнул в прохладную глубину. Но крыльев у меня не было. У меня был красный гравилет, вылизанный до перышка, отлаженный до винтика, спокойно стоявший в ожидании гонок, которые теперь Каричка увидит только на экране. У меня были Андрей и Сим, я должен был передать им привет от уехавшей Карички. И я просто на своих двоих спустился по лестнице, на ходу сбросил одежду и вошел в воду.
И тут мне опять стало весело.
— Ты придешь первым, бум-бум-бум! — распевал я во все горло, лежа на спине и глядя прямо в лицо солнцу. — Я колдунья, помни! — прорычал я удиравшему в панике крабу, которого спугнул у скользкого от водорослей камня.
Так я довольно долго дурачился, а сам вспоминал белое в синий горошек платье, каштановый затылок и изгиб шеи, когда она низко опускает голову, подрагивание запыхавшихся губ. Эти сухари, электронные души — Андрей и Сим — уже, наверно, трудятся, считают, а я здесь, в светло-зеленом прозрачном мире, гоняюсь за рыбешками, фыркаю, как дельфин, и приветы Карички со мной. Я мог бы взболтать море до самого дна, если бы совесть не намекала, что пора вернуться из глубин на землю, в институт.
Не знаю, зачем придумали эти ползущие в траве пластмассовые дороги. Ими почти никто не пользуется, люди предпочитают ходить или бегать. Ракеты, трансконтинентальные экспрессы, вертолеты — понятно: экономия времени. И гравипланы — понятно: красивые, удобные, современные машины. А от гоночных гравилетов дух захватывает! Они как цирковые артисты: самые обычные с виду и самые ловкие, самые смелые, рискованные в работе.
Я всегда волновался, когда входил в ангар, и сейчас, пробираясь между машин осторожно, как только мог, старался не задеть чужое творение. Именно творение, потому что хотя спортивные гравилеты похожи между собой — легкое птичье крыло, сломанное пополам, с прозрачными каплями кабин на сгибе, — все же опытный глаз гонщика сразу улавливал разницу в конструкции. Она была в изломе крыльев. Десять разных цветов, в которые были окрашены машины, символизировали десять городов, прославивших лучших гонщиков. Никто не знал пока, какие из этих тридцати войдут в первую тройку и продолжат гонки на первенство континентов. Может быть, самое быстрое крыло — мое, ярко-красное, с плавной линией изгиба, обтянутое металлическими перьями?
Я стоял у своего гравилета, трогал ладонью перья и слушал, как они отзываются чистым, долго не смолкающим звоном.
Потом весь день я ощущал в пальцах этот легкий серебристый звон, вспоминалтаинственную фразу, казавшуюся очень значительной: “Март, что я знаю…”
Наверное, когда я пришел в лабораторию и уселся за свой стол, заваленный бумагами, моя улыбка взбесила Андрея. Он так и сказал:
— Прости, Март, но у тебя вид блаженной обезьяны. Ты точно впервые слез с дерева и ходишь на задних лапах.
— Ага, — откликнулся я, — ты почти угадал: я еще древнее! Только недавно вылез из моря и впервые понял, что значит дышать.
— И как, понравилось?
Кажется, Андрей был удивлен. Обычно я не реагирую на его зоологические шуточки. Но сегодня готов беседовать даже с неодушевленными предметами.
— Прекрасно! Легкие — гениальное изобретение. Кстати, тебе привет от Карички. Она уехала сдавать экзамены.
— Мне она ничего не сказала, — вмешался в разговор Сим.
И Андрей сразу нахмурился:
— Сим, не отвлекайся, пожалуйста. Поговорим в перерыве. Жаль. Я рассчитывал подкинуть Каричке задание с Л-13.
— Давай мне, — предложил я, удивляясь собственному великодушию. — Обожаю задания с Луны. Сим, тебе тоже поклон.
Андрей молча протянул мне листы. А Сим мигнул оранжевым глазом: он принял поклон к сведению.
Часа три мы работали молча. Такой порядок завел Андрей. Он старший в нашей группе. Ему двадцать один год, он окончил три факультета. У Андрея Прозорова бывает только два состояния: или он молча работает, или шутит о несовершенстве человека.
Это несовершенство было представлено в лице бесстрастного Сима — счетной информационной машины, подпиравшей своими железными плечами стены нашей лаборатории. Мы все трое — Каричка, Андрей и я — работали на беспощадно быстрого Сима и только-только успевали загружать его электронное чрево задачами и расчетами.
Обычно утренняя порция бумаг на столе повергает меня в уныние. После того как я на рассвете пробежал десяток километров, прыгал с вышки, бросал копье и толкал ядро, эти бумаги мне кажутся такими тяжелыми, что не хочется брать их в руки. И хотя я осознаю, что курс программирования полезен для недоучившегося студента, я начинаю сердиться… Я сержусь, как это ни странно, на лунных астрономов и астрофизиков Марса, засыпающих нас сводками. Я сержусь на ракеты-зонды и автоматические обсерватории, ощупывающие своими чуткими усиками горячее Солнце и бросающие из черного пустого космоса водопад цифр прямо на мой стол. Я сержусь даже на Солнце — за что, сам не пойму. Со стороны посмотришь — человек работает нормально: стучит клавишами, пишет, зачеркивает и снова пишет формулы, трет кулаком подбородок. А он, букашка, оказывается, дуется на само Солнце и только к концу дня, расшвыряв все бумаги, чувствует себя победителем. Но что он победил: свой гнев или огненные протуберанцы? Нет, только очередную пачку бумаг.
Сегодня я пересмотрел свое отношение к бумагам. Изучая листы информации с грифом Л-13, я почему-то вспомнил, как увидел однажды в лесу Каричку: она стояла под деревом и задумчиво рисовала в воздухе рукой; солнечные лучи, пробившись сквозь крону, воткнулись в землю у ее ног; мне показалось, она развешивает на них невидимые ноты, и я не стал мешать рождению музыки, тихо ушел… А ведь у этих ребят с тринадцатой лунной станции, которые засыпают меня формулами, сказал я себе, нет ничего: ни прохладного ветра, ни бодрых раскатов грома, ни голубого неба — только град метеоров, беззвучно пробивающих купола зданий, одиночество да волчьи глаза звезд.
А я в кабинете перебираю бумажки, стоившие чудовищных усилий, риска, а иногда и жизней. Нет, что-то не так устроено в этом мире! Почему я, здоровый, румяный, сижу за стеклянной стеной и пальцем, которым мог бы свалить быка, нажимаю на кнопки? Зачем я здесь, а не где-то в песках Марса? Я сам должен нацеливать на звезды телескопы, радары и прочие уловители видимого-невидимого, задыхаться от жары, дрожать от мороза и посылать на Землю, в Институт Солнца добытые мною цифры. Чтоб Андрей Прозоров обрабатывал их, а Сим мгновенно переваривал. Вот это будет правильно. И если говорить откровенно, меня ведь никто не держит на привязи в операторской и за спиной моей трепещут крылья гравилета. Я уже видел, как мчусь на своем гравилете прямо к Солнцу, а рядом со мной — Каричка…
— Неужели на Л-13 такие юмористы? — не оборачиваясь, сказал Андрей.
— А что?
— Ты опять улыбаешься?
— Это я так, вообще. А с Л-13 покончено. Возьми. Андрей взглянул на мои расчеты и кивнул: он был доволен.
— Ты заметил, — сказал Андрей, — без женщин гораздо легче работается.
— Не согласен, — прогудел Сим. — Когда Каричка поет, я работаю быстрее.
От неожиданности мы с Андреем рассмеялись.
— Каков Сим, а? — Андрей подмигнул мне.
А я крикнул:
— Присоединяюсь, Сим! — и засвистел “Волшебную тарелочку Галактики”.
— Вот доказательство, — нравоучительно произнес Сим. — Все вы поете ее песни. — И он предупредительно распахнул перед нами дверь.
…Я не изменил своего обычного режима перед гонками. Во-первых, не пропустил лекцию: забрался в зимний сад на втором этаже и под какими-то колючими кустами включил телевизор. И сразу же окунулся в пространство, населенное галактиками, и с легкостью спящего понесся навстречу далеким мирам, представшим предо мною ничтожной песчинкой мироздания — в виде изящных устричных раковин и клубка скрученных в кольца змей, ярких, блестящих шаров и едва различимых пятен темного тумана. Где-то вдали от меня они жили своей жизнью, как грозовые облака в далях неба, взрывались и угасали, крутились и разлетались в разные стороны. Я слышал знакомый голос профессора, вглядывался в мелькавшие формулы, а сам думал про то, как эта лекция запоздала. Она безнадежно устарела бы даже для древних египтян, имей они телевизоры. То, что я видел, было тысячи и миллионы лет назад, и кто знает, какие они теперь — эти спиральные и эллиптические, разложенные по научным полочкам, расклассифицированные, как домашние животные, галактики.
Мне очень хотелось быть сегодня всемогущим. Потом, после лекции, когда я делал гимнастику, крутился на центрифуге и, вытянувшись во весь рост, заложив руки за голову, отдыхал в зале невесомости, я щедро раздавал людям бессмертие и сверхсветовые скорости, цивилизации других планет и невидимые пружины, вращающие галактики. Я занимался и делами помельче: зажигал искусственные солнца, смещал земную ось, бурил насквозь весь шарик, строил роботов с гибким мышлением человека — словом, воплощал все то, что уже описано в фантастических книгах. И в то же время — до чего человек умеет ловко совмещать высокое, торжественное со своими практическими заботами! — ловил шумы с улицы, представлял, как прибывает в город публика, как притащили грузовые вертолеты каркасы трибун и устанавливают их на берегу, как развешивают судьи огромные золотые шары, мимо которых мы, гонщики, пронесемся много раз. И уже круглые площадки с подвижными хоботками телекамер повисли, наверное, над морем. И уже прилетел на судейской машине комментатор с бархатистым, убаюкивающим голосом.
Подходя к ангару, я и вправду услышал знакомый баритон, льющийся из динамиков. Комментатор Байкалов прежде всего сообщил болельщикам, что час назад он вел репортаж о подводном заплыве в Красном море и теперь рад подняться под облака. Облаков, правда, не было: синоптики убрали с нашего пути все помехи и — я знал это — в заключение готовились зажечь полярное сияние. На телеэкране, висевшем на стене прямо над моей машиной, мелькали знакомые кадры города, взбудораженного праздником. Камеры, подчиняясь полководческим жестам Байкалова, выхватывали из всеобщей суматохи разгоряченные лица, яркие флаги, парящие машины. Посадочные площадки были уже плотно уставлены транспортом, и пассажирские гравипланы выбирали свободные крыши. Блеснули на солнце акульи тела двух ракет, и комментатор, несомненно, заметил их со своей высоты; несколько минут он держал ракеты в резерве, а когда они сели возле леса, взял у пассажиров интервью.
Честно говоря, на нас неприятно действовали эти картинки. Гонщики старались не смотреть на экраны, громко разговаривали, чересчур много шутили, а когда Байкалов перешел к биографиям, все полезли осматривать машины.
И вдруг в ангаре стало тихо. В голубом квадрате ворот появился высокий человек в белом свитере — Гриша Сингаевский. Он пришел самым последним и сразу догадался, что надо просто выключить эту болтливую технику. “Ура Сингаевскому!” — крикнул кто-то, и мы радостно завопили, как вырвавшиеся на перемену школьники. Его все любили — неторопливого скуластого синоптика с твердым взглядом блестящих глаз. Вот кто был настоящим воздушником! Я думаю, если бы ему запретили полеты, он бы просто не знал, как жить.
Сингаевский только взглянул на простодушно-прямое крыло моего гравилета и сразу догадался.
— Ну что? Хочешь меня обогнать? Попробуй поищи ее!
И хлопнул по плечу. Другие тоже приглядывались, но ничего не говорили. А он прямо сказал: попробуй поищи.
— Что ж, поищу, — ответил я, чувствуя, как волнение охватывает меня.
— Желаю.
— И тебе.
Мы поднялись с ровного травяного поля тремя группами — группа белых, желтых, красных — и пошли не к морю, где гудела толпа тысяч в сто, а над городом. Это был не парадный строй, скорее, мы казались беспечными туристами или, скажем, разноцветными бумерангами, брошенными ленивой рукой. Но такое впечатление было обманчиво, как обманчив вид спокойного мускула, в котором постепенно напрягаются нервы. Ничто в воздухе не двигалось, кроме нас, и это опустевшее вдруг пространство пугало своей голубой торжественностью. Мы крались над самыми крышами, приглядываясь друг к другу, примериваясь крылом к волне гравитонов. Самое важное было нащупать, поймать сильную волну. Уже задрожали стрелки приборов и шевельнулись, чуть приподнялись чуткие перья на крыле машины, но я знал, что еще рано ловить эту самую волну.
А перья тихонько пели, но все равно это была не та волна. Я делал едва заметные глазу скачки — поднимался и опускался, рыскал по сторонам. Многие гонщики тоже искали волну, стараясь не выдать своего напряжения. Уже неумолимо приближались полукруг стадиона и синее полотно моря, вдали сверкнули золотые точки — стартовые шары, а мы, герои дня, шли к ним совсем не парадным строем, а беспорядочной толпой. Что ж, в конце концов каждый музыкант перед началом концерта раскладывает ноты и настраивает свой инструмент. Звучит эта разноголосица в оркестровой яме не очень-то приятно для слуха, зато потом взмахнет дирижер, замрет зал, каждый инструмент будет петь свое и в их едином порыве родится мелодия.
Однако, если уж прибегать к сравнениям, то я думаю, вряд ли музыканты перед выступлением так кляли свою судьбу, как наши ребята, приближаясь к золотым воротам гонок. Я видел это по мелким рывкам машин и представлял, как ворчат гонщики на всю Вселенную. Мы должны были ловить волны гравитонов, которые посылали далекие галактики. Что поделаешь — спорт!
А перья вдруг запели: “Март, я колдунья…” Мне сразу стало легче, я решил больше не смотреть на дрожащую стрелку. Поднял голову — прямо перед носом шар. Тормознул, встал на линию, замер с включенным двигателем. Мне теперь все равно, откуда начинать. Пусть Сингаевский висит сверху. Пусть другие перескакивают с места на место. Пусть выбирают позицию. Я не двинусь. Я все равно ее поймаю — свою волну.
— Готов! — ответил я, как и все, главному судье и инстинктивно подался в кресле вперед. Я видел теперь только цепочку шаров и голубое спокойное пространство.
Ребята пошли легко, красиво, плавно набирая скорость. Я даже чуть задержался, когда фыркнула стартовая ракета, а через мгновение висел уже в хвосте у группы, причем резал дорожку наискосок — вверх и налево: искал ее, одну-единственную, мою волну. Хоть перевернись ты, Галактика, хоть взорвись на смех другим, а я сумею ее найти, обгоню ветер, поймаю солнечный луч, глотну горячего солнца.
Так я резал дорожку наискосок, и меня пронзала дрожь нетерпения: глаза устремились вперед, словно могли увидеть волну, и весь я летел впереди машины. Но нельзя, никак нельзя было пускать двигатель на полную мощность: рано. И постепенно дух спокойствия возвращался ко мне: сначала остыла голова, потом улеглись зудевшие руки. Может быть, некоторые нетерпеливые гонщики и торопились, а основная группа шла на большой скорости, но еще не в темпе финишного рывка. Ничего, у самого последнего гонщика еще есть преимущества. Во-первых, поворот, вот он. Ставлю машину на крыло, плавно делаю вираж и обхожу белый гравилет — ни треска, ни толчков, ни снижения скорости. Итак, дорогой мой коллега, ты, надеюсь, понял преимущества прямого крыла: выигранные метры на поворотах, это раз. А второе, когда будет хорошая волна…
Глаза автоматически ловили и считали шары — десять, двадцать, тридцать, — а я все еще плелся в хвосте. Двадцать седьмым или двадцать восьмым. Сингаевский парил впереди. Казалось, желтый гравилет движется сам по себе. Так иногда смотришь на летящую птицу, любуешься ею и не знаешь, откуда в таком крохотном комке плоти берется столько энергии, красоты и ритма. Она как будто знает, что ты на нее смотришь, и нарочно старается показать, что она само совершенство, часть природы. А на самом деле — просто летит. И Сингаевскому наплевать, что зрители видят на экранах его лицо. Сдвинул угрюмо брови, катает за щеками желваки и не слушает никаких судей — только машину.
И тут я увидел, как ощетинились перья на моем крыле. Ясно и без приборов: волна! Сразу весь подобрался и послал машину вперед. Она рванулась, будто с места, и с каким-то чудовищным свистом начала рассекать воздух. Я даже через стекло почувствовал его упругость, вцепился в руль; на миг мне показалось, что гравилет может опрокинуться. Впрочем, уже не существовало ни меня, ни гравилета, мы были нечто одно, постепенно пожиравшее пространство. Все затихло, исчезло во мне с этого момента, остались глаза и уши. Я лишь следил, чтоб не столкнуться с шаром или обгоняемой машиной, слушал, как угрожающе звенят накаленные перья “Ка-рич-ка, Ка-рич-ка”, — угрожающе, но еще не настолько опасно, чтоб снижать скорость. Моя красная лошадка могла бежать и резвее — в этом я не сомневался. Если рассыплется, что ж, упаду в зону невесомости, там подберут…
А желтый гравилет все впереди. Молодчина Сингаевский! Но и мой сейчас превратится в красную молнию, в красный свет, — тогда уж потягаемся. Бешеная все же скорость!
Кажется, последнее, о чем я вспомнил, был воздушный цирк. После нас должны были выступать воздушные гимнасты, а потом — гравибол с огромным цветным мячом.
Но ничего этого не было. Вы уже знаете про облако: как оно появилось, как скрылся в нем желтый гравилет, как я, счастливо улыбаясь, пытался остановить машину, а вместо того стал вращаться вокруг облака. Сейчас, по прошествии времени, я говорю “облако”, а тогда — я уже упоминал об этом — никто из гонщиков не знал, что за странное препятствие возникало перед нами. Только зрители, телевизионщики да некоторые судьи могли издали определить, что это облако серебристого цвета и почти идеально круглой формы. Телевизионщики сумели даже заснять на пленку, как оно стремительно ушло вверх кадра, все остальные подумали, что облако исчезло, растворилось в воздухе, вдруг стало невидимкой.
Помню, как Гриша Сингаевский спокойно говорил в микрофон: “Неожиданное препятствие… Стремительное, притягивает… Ничего не могу…” Это были семь его последних слов.
Помню неприятное чувство, какое-то посасывание под ложечкой, когда я сам неумолимо приближался к слепящему пеклу, не в силах оторвать от него глаз. Я ничего не говорил, только улыбался, все еще борясь с рулем. Потом резкий удар, темнота, словно кто-то набросил на голову покрывало.
Мой гравилет резко отбросило от шара, и он рассыпался, В то же мгновение шар исчез. Меня подобрали, как я и предвидел, в зоне невесомости.
***
Сначала пришли врач и сестра. Врач, толстенький, с ямочками на щеках, ну, просто сияющий восклицательный знак, потирая маленькие ручки, принялся рассуждать о гонках. Он назвался моим болельщиком и был очень доволен, что я свалился в невесомость. Через минуту мне казалось, что я знаю его сто лет. Оказалось, доктор помнил все гравилеты, на каких я летал, даже когда был мальчишкой. Я с вдохновением поддакивал, а восклицательный знак между тем поднял мне веко, заглянул в глаз, потом дружески ткнул кулаком в живот. — Сердце работает нормально. И все остальное, — объявил он, довольный осмотром. — Значит, в порядке? — Массаж! — кратко резюмировал доктор и удалился в полном сиянии. А массажист был тут как тут, совсем как в раздевалке спортклуба, и пошли отбивать лихую чечетку его крепкие проворные руки, а когда я перевернулся на спину, то на стуле сидел Аксель. Аксель Михайлович Бригов, мой профессор, наш старик Аксель. Я встрепенулся, но Аксель пробурчал: “Лежи!” И тогда проворный массажист легонько толкнул меня в подбородок ладонью и принялся уминать брюшной пресс. Аксель был неизменным, сколько я его знаю. Черный костюм, галстук, шляпа на коленях. Величественный и торжественный. А маленькие медвежьи глаза смотрят недоверчиво, часто мигая, и я знаю, что это от смущения: он очень не любит незнакомую обстановку. Молчит, и я тоже. Лучше подождать, когда сам начнет. Хорошо, что еще попался неразговорчивый массажист. — Я все видел, — хрипло сказал Аксель, едва массажист скрылся. — Нет, не в телевизоре, — поморщился он на мой кивок. — Потом все видел, когда приехал с побережья. Хорошенькая история, ничего не скажешь. Представляю, как мы испортили ему единственный выходной за несколько месяцев. Забрался в морские просторы, подальше от пляжей и подводных охотников, “морских чертей”, как он говорил, спокойно управлял лодкой (он влюблен во все паруса мира) и — пожалуйста — срочный вызов. Аксель помолчал, удовлетворенный ходом беседы. И вдруг спросил: — Март, что это было такое? Я ждал этот вопрос, едва увидел учителя, но не думал, что он прозвучит так откровенно и прямо, что опять я сойдусь лицом к лицу с неизвестным. Я беспомощно взглянул на профессора — ведь он-то должен уже все знать, но лицо его выражало каменное спокойствие, а глаза смотрели твердо и беспощадно, приказывая говорить. И тогда я стал говорить, как все было, начиная с того момента, когда в ангаре нам мешал болтливый комментатор. Я очень хотел, чтоб учитель почувствовал азарт гонок и не думал, что я улыбался от самодовольства или какой-то иной глупости. И он, кажется, все понял, хотя я, конечно, ни слова не сказал про Каричку и свое настроение. Его огромные руки, спокойно лежавшие на коленях, зашевелились, он словно пробовал удержать руль моей машины. А я сказал, что он ни за что бы не удержал (старик обладал огромной, непонятно чудовищной силой), и еще прибавил что-то невразумительное про сильное поле притяжения, которым обладает странное облако. — Так, юноша, — сказал Аксель, — весьма поэтично, но анализ никуда не годится. Ты ведь на физическом? — На физико-математическом. — Жаль, что не мне сдаешь экзамен. Но шутки в сторону. Как ты сказал: облако? — Это я случайно. Облако я не видел, только сияние. — Пожалуй, ты угадал. — А Сингаевский? — Да-а, — только и сказал Аксель. Он молчал довольно долго. — Будет Совет. Создаются оперативные группы по изучению облака. Но тебе ведь не разрешат врачи… Такого я не ожидал. СОВЕТ! Совет ученых планеты! Я вскочил и закричал: — Да я здоров! Я могу работать. Сию минуту. Вот! — Посмотрим, — сказал неопределенно Аксель. — Как скажут доктора. Захотят ли они, чтоб ты еще раз встречался с этим облаком…, Но я уже знал, что учитель возьмет меня с собой, что я, именно я, поймаю коварный, глотающий гравилеты шар. Когда на рассвете мы, спешно покидая город, уселись в ракету, я включил радио. Передавали обращение ученых. Оно было кратким. Констатировалось прибытие из космического пространства объекта неизвестной пока физической природы. Перечислялись признаки биологического воздействия облака на людей. Далее следовали призывы к спокойствию, выдержке, нормальному ритму жизни, а также советы о необходимой медицинской помощи. Выражалась уверенность, что ученые в самое ближайшее время найдут эффектный способ защиты. Были названы десятки специальных комиссий во главе с мировыми величинами (мелькнула и фамилия Акселя). Спокойствие и уверенность — в каждом слове обращения. С этого дня моя жизнь превратилась в бесконечную гонку. Наша маленькая группа в четыре человека (руководитель Аксель Бригов, операторы Игорь Маркисян, Павел Кадыркин и я) металась из города в город, используя весь современный транспорт. Иные города — Лондон, Одессу, Бразилиа — я рассматривал только сверху, из гравиплана или вертолета на коротком пути с ракетодрома, поражаясь фантастичному движению машин среди хаоса напряженного до предела сверхпрочного материала; величественные, как горы, панорамы стартующих ввысь зданий я вижу до сих пор. Хорошо помню хрустально-белый город, поднявшийся из океана, по имени Маяк, к которому нес нас бесшумный экспресс по узкой эстакаде среди ленивых волн. Некоторые города я вообще не видел, кроме одной-двух улиц или нескольких зданий, а иные просто проспал от усталости — работать приходилось в полную силу. Мы следовали за серебристым шаром буквально по пятам. На первый взгляд беспорядочные броски облака были бессмысленны; оно словно искало закономерностей в расположении больших городов и, появляясь неожиданно, столь же стремительно исчезало. Однако уже вскоре можно было угадать тактику таинственного гостя: своими скачками оно постепенно покрывало большую площадь, собирая, видимо, нужную информацию и время от времени нанося удары излучением. Мы научились опережать облако, готовя ему деловую встречу: разного рода установки видимого-невидимого — от малых приборов до огромных подземных телескопов, — прощупывали сверкающий призрак за те считанные часы, которые он находился над городом. Наш Аксель работал, пренебрегая сном и отдыхом: сам возился с установками, спорил с местными физиками, проводил совещания и летучки, докладывал Совету и еще успевал расшвырять тонны бумаг. Мы их подбирали и дивились, как успел он написать за ночь такую груду, потом раскладывали в пачки и считали, считали — круглые сутки только считали. И это было еще сносно, это была наша работа, мы даже не обижались на рык Акселя, попадая под его горячую руку. Страшно было другое: мы уже начинали сомневаться в том, что когда-нибудь от теории перейдем к действиям. Рядом с нами работали биологи и медики; им, вероятно, приходилось труднее: они имели дело не с приборами и цифрами, а с живыми людьми. Незаметно для глаза мир изменял привычные пропорции. В обиходе появилось новое слово — “страх”. Сколько я себя помню, даже в детстве меня ничто не пугало: ни темнота, ни мчавшиеся пулей черные мобили, ни потасовки сорванцов, ни плохие отметки, ни ржавые пустыни Марса — ну ничего не могу припомнить, что хоть на миг устрашило бы меня. И вот однажды я тоже попал под удар облака. Как-то я гулял под старыми каштанами, и солнечная мозаика света и теней скользила под моими ногами. Яркая весна, полная запаха травы, листьев и нагретого камня, неслышно ступала за мной. Я шел и представлял, как я въезжаю на слоне, или пантере, или просто на волке в современный город, как испуганно шарахаются пешеходы и мобили, не зная, что зверь совсем ручной. Я так увлекся, что совсем не удивился бегущим навстречу людям. Я даже посторонился, уступая им дорогу, но уже в следующий момент меня поразили испуганные лица. Я замер, превратившись в зрение и слух. Нет, я не старался понять, что чувствую, я совсем забыл о себе, а просто превратился в приемную антенну. Мне казалось, что сейчас увижу то невидимое, что излучает облако, услышу, ощущу, пойму… Резкий звон стекла бросил меня в поток бегущих. Машина на полном ходу врезалась в витрину. Осколки блестели на тротуаре и на гладкой крыше мобиля. Водитель был невредим. Он стоял в кольце любопытных, разводил руками и глупо улыбался. — Есть еще бьющиеся витрины, — попробовал кто-то пошутить.***
Дождливым серым утром выехали мы под ажурную арку радиотелескопа. Маленький вагончик чинно тащил нас вверх по наклонной крыше плато. Кратким было это путешествие внутри почтенного столетнего телескопа, но я запомнил его лучше, чем все последние перелеты на ракетах. Сквозь проволочное кружево тоннеля разглядывал я маслянистые тяжелые лапы елей; капли воды скатывались по ним и обрушивались игрушечными водопадами. Все вокруг: и трава, и красные набухшие ягоды земляники, и долговязые сосны, и кусты — все было мокрым-мокро, а под елью хоть разводи костер. И так близко висели эти лохматые лапы, что я мог протянуть из окна руку и пожать любую из них, да боялся нарушить тонкое плетение проводов. Они служили великой цели, вылавливая вот здесь, среди обычного леса, скрежет галактик, взрывы гибнущих звезд, первый писк космических младенцев — эти прекрасные серебристые сети, внутри которых я двигался. Я лишь вертел головой, пытаясь разглядеть, натянуты ли они на плавно изогнутые фермы или просто цеплялись за деревья. У приземистого монолитного здания, будто высеченного из цельного серого камня, вагон остановился. Аксель вошел в дом, а я, Игорь и Паша еще долго стояли на ступенях, рассматривая сверху телескоп. Он был похож на величественный серебряный крест, брошенный посреди леса. Прямая как струна ажурная арка, под которой мы только что проехали, и пересекавшаяся с ней цепочка рогатых мачт, увенчанных гирляндами, — два чутких радиозеркала. Они ловят электромагнитные волны и послушны руке оператора. Пока я смотрел, стальные мачты все вместе и незаметно для глаза чуть повернули свои рога, и сразу изменился силуэт всей стройной шеренги. Через десять минут начнется ожидаемое. Облако точно по расчетам очутится в центре треугольника. Где-то, в таком же лесу, луч мазера пошлет серию сигналов. Включится нейтронная пушка: пучок частиц позволит увидеть строение облака — это второй угол треугольника. И тогда, возможно, наш телескоп уловит таинственный голос, и мы узнаем, кто оно, откуда и почему. — Пора. Весь дом состоял из одного просторного зала. Длинный, как прилавок, пульт управления пристально смотрит на входящего десятками глаз — прибором. Два оператора — на вертящихся стульях. Под руками у них клавиатура кнопок, на уровне глаз — экраны и скачущие цифры световых часов. Отдельно стоит круглый стол с пачкой бумаг и стаканами чая — это для нас. Бригов помешивает ложечкой и жестом предлагает устраиваться. Ждем молча, как ждут нацеленные антенны и мокрый притихший лес за окном. Кто знает, может, сосны, и ели, и даже трава настроены не хуже стальных струн на неслышный шепот далеких миров — только мы об этом не догадываемся? — Пора. Темное расплывчатое пятно на экране — это облако, как бы замершее в удивлении: к нему обращаются на “вы”, как к почтенной Галактике. Вот побежали зубцы по голубому зеркалу: мазер передает свои сигналы — язык математики, понятный всем разумным существам, тысячи земных понятий. Но главное сейчас — приемный экран нашего телескопа, сетчатка циклопического радиоглаза. Если облако отзовется, мы это увидим. Зубцы струятся по нашему экрану, но пока это след обычных излучений и помех. Помех много. Хотя в зоне телескопа и замерло движение, мы не могли остановить жизнь планеты. Летели своими путями рейсовые ракеты. Кружили гравилеты. Работали взрывы. Трещали радиостанции. Весь пестрый клубок самых обычных дел наматывался на чуткие усы антенн и рябил нежную гладь экрана. Мы ждали непривычных зубцов — вот сейчас облако крикнет нам в ответ и взметнется острый пик на экране. Электронный мозг планеты мгновенно расшифрует сигнал, переведет его в человеческие слова, или уравнения, или цифры — первая реплика в дискуссии будет брошена. Молчали аппараты — молчало облако. Молчали и мы. Потом облако ушло; темное пятно на экране исчезло… На другой день рано утром мы срочно вылетели в Мезис, большой индустриальный центр. Нам сказали, что там бунт автоматов. Бунт — сказано слишком громко, ибо человечество, изобретя автоматы, считало полумистическим вопрос об их неподчинении человеку. И все-таки случилось что-то необычное: в Мезис съехались все знаменитости техники. В большом городе выходящее из привычных рамок происшествие легче всего проследить в гостинице. Когда к подъезду ежеминутно подкатывают мобили новейших марок и нашего Акселя то и дело окликают какие-то личности, и во всей сверкающей пятидесятиэтажной свече с трудом находится один тесный номер на четверых, — жди дальнейшего развития событий. И мы ждали, скучно наблюдая из окна сорок седьмого этажа нагромождение зданий, нескончаемый поток мобилей и сверкающую вдалеке стеклянную реку — крышу того самого сталеплавильного гиганта, где что-то произошло. Судя по уцелевшей крыше, взбунтовавшиеся автоматы стекол не били. Шутки шутками, а остановка завода — дело серьезное. Это мы с Игорем понимали. И оправдывали внезапное исчезновение профессора. Не могли только понять, куда вслед за ним пропал Паша Кадыркин — ведь в Мезисе у нас не было знакомых. Пашка появился через час. — Ребята! — Он поманил нас пальцем. — Пошли. Хитрый Кадыркин узнал, что на завод не пускают, но нашел другую лазейку к свежей информации: напросился в гости к бионикам. Молодец — нас не забыл. Институт бионики походил на развороченный палкой муравейник. Прозрачное кубическое здание стояло, конечно, на своем месте, и автоматы отнюдь не играли в чехарду, но сами бионики бегали по коридорам и лестницам столь стремительно, что полы их халатов трепыхали белыми крыльями; они чему-то радовались, как дети, и, хватая друг друга за руки, тянули в свои лаборатории. Веселый гвалт бушевал вокруг нас. — Все сюда! — Ой, ребята, смотрите! — Эврика! Мировое открытие в результате случайности. — Ты что-нибудь понимаешь? — В принципе этого не может быть… — Абракадабра! — Спроси меня что-нибудь полегче! — Кто еще не видел интроцептор-феномен? — Гений или безумец?.. — Ущипни меня — я перестал понимать биоматематику… Это было похоже на забавную игру, в которой, правда, участвовали не все: кое-кто просто шагал с мрачным видом, оставаясь во всеобщей суматохе наедине с самим собой. А Кадыркин сразу включился в игру: ведь он уже знал ее правила. Вынырнув из-за спин, потащил нас в комнату и, показывая на железный ящик с короткой трубой окуляра, довольно объявил: — Любуйтесь: автомат-абстракционист! Мы с Игорем смотрели на бумажную ленту с длинными колонками цифр, на выпуклый глаз трубы, на прекрасную цветную фотографию восхода солнца в космосе, висящую на стене перед окуляром, и пока ничего не понимали. Тогда Пашка и длинный парень в очках, конструктор ненормального автомата, стали наперебой объяснять нам, что этот железный ящик исследует тончайшие цветовые оттенки и сообщает свое мнение в цифрах. До сих пор он работал со знанием дела. Но если присмотреться к последней ленте, той самой, что лежит перед нами на столе, сразу станет ясно, что с автоматом что-то случилось: он перепутал все цвета и пропорции, нарисовал такое полотно космического восхода, что любой абстракционист прошлого лопнул бы от зависти. Мы ходили от машины к машине, смотрели ленты с вычислениями, графики, наброски уравнений, сделанные хозяевами этих автоматов. Некоторые ретивые конструкторы уже копались в электронных схемах, другие, наоборот, ходили вокруг своих творений чуть ли не на цыпочках, не позволяя к ним притронуться. Кто-то листал толстенные журналы записей с таинственными для посторонних названиями: “Поведенческая реакция таких-то искусственных и таких-то живых систем”. Кто-то лихорадочно списывал с экрана справки Центра Информации. Кто-то уже придумал свои гипотезы и отстаивал их в жестоком споре. В девять часов тридцать минут утра все машины в этом доме, до сих пор работавшие нормально, начали выдавать необычную информацию. Машинный бред — кое-кто называл его гениальным прозрением — продолжался четыре часа. По решению институтского Совета большинство автоматов было выключено; некоторые получили новые задания и продолжали работать в запертых от любопытных лабораториях. Возбуждение, растерянность захлестнули коллектив. Сначала никто ничего не понимал. Чуть позже на всех этажах зазвучали смех и удивленные восклицания. Дрогнули даже скептики, разглядывая ленты чудной математики. К нашему приходу институт гудел, как улей. Итак, все автоматы мгновенно перестроили свои программы и потом одни из них неожиданно разрешали задачи, что можно назвать прозрением, другие же несли околесицу. Но даже то, что казалось чепухой, как я догадывался, было очень важно для этих бегавших по коридорам людей: теперь они другими глазами смотрели на своих умных электронных младенцев. Все, что они раньше делали, в несколько часов окуталось непроницаемой завесой тайны. И сам светлый, насквозь пронзенный солнцем куб института вдруг превратился в таинственный черный ящик. У кого не заблестят глаза, не прервется на миг дыхание, когда он увидит такой неожиданный, наглухо забитый, полный сюрпризов ящик! Открываешь крышку, а там внутри — множество других, более мелких черных ящиков, и в каждом из них тоже спрятаны загадочные ящички. Дальше, дальше — только открывай, только смотри, думай… На завод мы так и не попали. Наверно, не все должны были видеть печальное зрелище: километры замерших автоматов, конвейеров, прокатных станов, погасшие глазки печей, в которых застыла сталь. В то утро приборы уловили присутствие облака над Мезисом. Следовательно, оно неожиданно изменило свою стратегию: оставив пока людей, нанесло первый удар технике. Теперь мне казалось, что лучше б облако атаковало нас, чем машины. В конце концов мы, люди, можем и пересилить себя, и справиться со своими недостатками, и начнем работать в полную силу после любой болезни. Мы придумаем, как победить неуязвимого врага. Но когда наступит этот момент? Мальва, южный порт, был заклеен объявлениями: “Подводный город Юхоон (Тихий океан). Приглашает геологов, химиков, горнопроходчиков, микробиологов, сейсмологов. Условия: школы, парки, зрелищные предприятия, квартиры со всеми удобствами”. Такое я видел впервые. Обычно в подводные города ломились. Словно отвечая на мои мысли, кто-то за спиной сказал: — Гнет воды. Я обернулся. Бронзоволицый упитанный моряк. Почему-то он смутился, заморгал выгоревшими рыжими ресницами, пояснил свою реплику: — В моральном, конечно, смысле… Вода да еще это облако — слышал? А так нормально. Едешь, что ли? — Не те специальности, — сказали. — Ясно. Я стоял на горе над портом. Согнутые пальцы кранов, блеск воды, пассажиры, китовые туши надводных кораблей и сигарообразные — подводных. Глаза мои равнодушно скользили по этой великолепной картине, не высекая искры, из которой разгорается воображение романтиков. Мне не хотелось одеться празднично, как это принято всеми путешествующими по морю, ступить на трап и ощутить в ногах дружеский толчок волны. Некоторое время назад, когда облако стояло над Мальвой, в порту вдруг вспыхнула драка. Я впервые видел ослепленных яростью людей. Они пускали в ход кулаки, ремни — что попало. А когда их разняли, никто не понимал, почему так случилось. …Вот из этой агрессивной, атакованной облаком, зазывающей на дно океанское Мальвы я и вызвал Каричку. Просто так — вдруг решил и вызвал. Не по видео, а просто по телефону. — Ой, Март! — обрадовалась она, и я сразу увидел в золотых ободках зрачки, ровную челку, сияние вокруг головы. — Ты путешествуешь? Откуда ты? — Из Мальвы. Красиво звучит. Как твое облако? Я рассказал коротко и про города, и про людей, и про облако. — Не скучно? — спросил я. — Наоборот. Ты объяснил очень понятно. Сейчас много говорят и пишут. В основном общими словами. А у тебя очень точно. И ты во всем этом участвовал? — Участвовал… Как ты? Чем занимаешься? — Ничем. Знаешь, Март, на меня напала тоска. Вот сижу и думаю: зачем жить до ста лет? — Ты будешь жить бесконечно. Скоро изобретут сон на десятки, сотни лет, и ты будешь просыпаться в новых эпохах. — Март, ты чудак, я же серьезно. — Ну что ты, Каричка. Ты больна? — Увы, Март, даже не больна. Читаю вот старинный роман: “Дама с камелиями”. Так вот, раньше люди умирали от чахотки, и их все жалели. Понимаешь? — Не очень… — Мне кажется, я никому не нужна. — Ты нужна мне. — Ты очень далеко, Март. — Хочешь, я прилечу через двадцать, нет — пятнадцать минут? Сейчас! — Не надо, Март!.. Я просто болтаю и сегодня не в духе. Не обращай на меня внимания. — Каричка, ты по-прежнему моя колдунья? — Да. Счастливо, Март! Меня зовет мама. И все. Я долго не опускал трубку, слушая скучную тишину. Долго смотрел в окно, пока не наткнулся на луну. Бесплодная, злая льдышка. Как отделяет людей пространство, время! Особенно время… Меня так расстроило настроение Карички, что я забыл спросить у нее про Рыжа. В самые трудные минуты жизни я всегда вызывал Рыжа. И он появлялся как из-под земли. Помню, когда Каричка тяжело заболела и ее увезли в больницу, я вызвал именно его, Рыжа. “Рыж, Рыж, — говорил я, — маленький всемогущий Рыж. Ты мне поможешь, Рыж!” — твердил я, пока он бежал ко мне, и я ясно видел, как он бежит. По мокрому асфальту, по мокрым газонам — Рыжу все нипочем. Скачет через ленты пустых дорог, ныряет в кустарники изгородей. Крепкий, длинноногий, большеголовый, А когда надо, пролезет в любую щель. — Рыж! — сказал я сразу, как только он вырос на пороге. — Я хочу видеть Каричку. — Она спит. — Рыж всегда все знал. — Хочешь, проберемся в дежурку? — В его темных упорных глазах такие же, как у Карички, золотые ободки; они то больше, то меньше — смотря что он придумывает. — Нет, Рыж, — сознался я. — Я хочу не на экране, а так. Понимаешь? Кажется, я впервые говорил с ним так о его сестре. Но он кивнул. Задумался. Сказал: — Пойдем. Он тогда здорово придумал. Нашел в каком-то дворе круглую, как тарелка, площадку для мелкого ремонта зданий, которая подняла нас на пятый этаж, к самому окну. И хотя Каричка спала, мы очень обрадовались, что увидели ее, и положили на подоконник прозрачный черный шарик, в котором, если смотреть сквозь него на свет, вращается фейерверочное колесо Галактики. И Каричка удивилась, когда проснулась и нашла этот шар, а потом выглянула и пригласила нас влететь прямо в окно. …Вот почему после разговора с Каричкой, который расстроил меня, я снова взял телефонную трубку и вызвал Рыжа. — Эй, Март! — радостно закричал Рыж, едва услышав меня. — С твоим гравилетом все в порядке. Я почти собрал его. Тебе нужен красный? — Конечно. — Линия крыла как была? — Да, Рыж. — А как ты крепил пластины? У меня не получается, Я объяснил, как надо крепить. — Еще дней пять, и все готово, — сообщил Рыж. — Прилетишь? — Прилечу. Но, наверно, позже. — А можно мне пока погонять? — Конечно, Рыж. Только возьми с собой Каричку. Как она там? — Как всегда. Рассеянная. — Рассеянная? — Ну да, растяпа! Смотрит на меня и не видит. Да ну ее! — Вот что, Рыж. Я хочу тебя попросить. Пока меня нет, будь рядом с ней. По-моему, она больна. Ей нужно крепкое мужское плечо. Понимаешь меня? — Ладно, Март. Сейчас я подниму ее с дивана, и мы будем узнавать про старинный автомобиль. А утром возьмемся за гравилет. Ты скорее прилетай… — Спасибо, Рыж. Я как будто очутился в комнате Рыжа — так мне стало хорошо. Я все это видел… Вечер. Темный квадрат окна. Тихо. В углу стоит выключенный “Репетитор” — друг школьника, как называет свою домашнюю электронную парту Рыж. На столе и на полу разбросаны книги, альбомы, блоки разных машин — Рыж что-то чинил или конструировал. Мягко светятся стены, незаметно для глаз меняя причудливый узор: стоит вглядеться в их изменчивый рисунок и сразу находишь решение трудной задачи или уносишься в далекий мир. Я вижу, как две головы склонились у экрана: Каричка и Рыж рассматривают старый автомобиль. — Смотри какой неуклюжий! — говорит, наверное, Рыж. Он останавливает изображение. — Вот мы его посмотрим. Повернем боком, вот так. Он дышит в экран, взмахивая удивленно ресницами, вскрикивая порой, а мне видится, как он бережно держит на раскрытой ладони то серебристую трубку ракеты, то неуклюжий, как динозавр, экскаватор, то мерцающий таинственно кристалл счетной машины. В такие минуты в нем пробуждается столько нежности, доброты, что я говорю себе: вот таким должен быть человек среди техники — человек нашей техносферы, который шагу не может сделать, чтоб не наткнуться на твердый бок машины. И она для него не безразличный предмет, а живая душа, облаченная в современные доспехи, даже произведение искусства. — Рыж, да ты доктор техники! — сказал я ему однажды. Он рассердился: “Да ну”. А через минуту, увидев на экране людей прошлого века: — Это Они делали для нас!.. Верно, Март? Лицо его было печально: он Их жалел. Можно сделать круг и вернуться в ту же точку пространства. Время необратимо. По Эйнштейну. Он будет психологом техники, размышлял я про себя. В этих словах нет ничего таинственного, вернее сказать, в них столько же таинственности, сколько в слове “инженер” или “программист”. Достаточно взглянуть на Рыжа. …И я продолжал говорить ему, хотя его сейчас не было рядом: “Ты, Рыж, одна моя опора, друг. Ты знаешь, как мне нужен гравилет. Спасибо за подарок, доктор техники…” Но даже Рыжу, немому хранителю моих тайн, не рассказал я по телефону об одной встрече, хотя он и знал этого человека. Речь идет о моем дяде Феликсе Марковиче Гарге, известном изобретателе биомашины. Он появился передо мной, когда я сидел на диване, один в пустой сумеречной комнате. — Я часто наблюдаю за тобой, Март. Печальная картина. — Дядя? — Я сразу узнал его и от неожиданности вскочил: как он сумел отыскать меня? — Да, печальная история, я это вижу. — В голосе дяди слышалось сочувствие. — Зачем тебе все эти напрасные метания? Осунулся, побледнел… — Простите, дядя, но как… как вы наблюдаете за мной? — Я ничего не понимал: дядя живет и работает на Байкале, его лаборатория стоит прямо посреди Байкала, на острове Ольхон. Я там никогда не бывал, но знал, что дядя уже много лет не выезжает с острова. Что же заставило его разыскивать нашу экспедицию и именноменя? Дядя усмехнулся, словно угадав мои мысли: — Я тебя нашел гораздо проще, чем ты думаешь. Секретов от тебя, мой мальчик, у меня нет, но слишком долго объяснять. Я предлагаю тебе приехать ко мне. — На Ольхон? Зачем? — Мне нужен хороший программист. Но главное другое: именно на Ольхоне начнется новая история человечества. — Не понимаю. — Скажу иначе. Тебя как молодого ученого волнует природа облака — не так ли? Я кивнул, польщенный преждевременно присвоенным титулом. — Ты можешь узнать все это за пять минут и приобрести мировую славу. — В вашей лаборатории? — Да. — Облако там ответит? — Ответит. — Ур-ра! От радости я бросился на дядю, чтобы сжать его в объятиях, подбросить, позвать всех наших, представить с гордостью: мой дядя, который… Но руки обняли лишь пустоту, я пролетел сквозь Гаргу, не остановленный ни единой частицей его тела, и врезался в стену. Это был хороший, отрезвляющий удар. Я сидел на полу и, держась рукой за лоб, проклинал свою недогадливость. Хорош физик — не разгадал, что это иллюзионный фокус! Поддался на уговоры, поверил в сказку… Или, может, уже представил свой портрет висящим в зале Совета ученых? “Академик физики М. Снегов. В 18 лет, работая программистом, установил связь с инопланетной цивилизацией…” Олух! Размазня! Манная каша!.. И все же, с другой стороны, дядя был подозрительно осведомлен о наших действиях. Еще звучал в моих ушах его голос, минуту назад я ясно различал в темноте черты его лица. Не мог же я сойти с ума! Я представил лица своих товарищей. “Ты, Март, просто переутомился. Отдохни-ка сегодня”. И решил промолчать. Бежали по улице мальчишки, кричали: — Ура! Гарга зовет всех на Байкал! Айда на озеро! Будем играть в бессмертных! Мальчишкам я верю: они всегда играют в настоящее. Я помчался в читальный зал. Дрожащими руками развернул светогазету. Долго искал. Где-то в конце страницы нашел сатирическую заметку “Оракул на острове”. Автор едко высмеивал заявление профессора Ф.М.Гарги, который обратился по радио к людям планеты. Мелким шрифтом было напечатано и само заявление. Вот оно: “Ко всем людям Земли! Мы, группа ученых, работающих на острове Ольхон (Байкал), обращаемся ко всем людям планеты с предложением основать Общество бессмертных. Многолетняя работа нашей группы, возглавляемой профессором Ф.М.Гаргой, над биомашиной привела нас к следующему открытию: соответствующее изменение процессов, протекающих в клетках человека, ведет к созданию совершенно нового организма, которому не угрожает преждевременное старение. Ни многолетний сон, ни мгновенное замораживание не решают вопроса о вечной мечте человечества — значительном продлении человеческой жизни, лишь отодвигая на короткий срок неизбежный исход. Сегодня мечта всех поколений близка к осуществлению: неизбежная случайность, как называют смерть, отступила в прошлое. Отныне каждый человек может продлить свою жизнь в четыре-пять раз, что практически означает бессмертие. Первый опыт, который проделал на себе профессор Н.М.Килоу, проходит успешно. Первый Бессмертный среди нас! Мы не скрываем и методов достижения этой благородной цели: опыты ведутся с помощью неизвестной нам до недавнего времени энергии космического объекта, называемого облаком. На время эксперимента зона острова окружена защитным полем облака (в связи с этим озеро Байкал заморожено). Люди Земли! Мы не сомневаемся, что на наш призыв откликнутся миллионы. Отныне Человек Бессмертен! Открыта новая страница истории нашей планеты!” “…Спокойно! — сказал я себе. — Это уже серьезно. Можно высмеивать сколько угодно мнимое бессмертие и старомодное название нового общества, можно критиковать профессора Гаргу за необоснованные идеи и несовременный трескучий стиль. Если бы не одна деталь — облако. Как я установил, шутки с ним оборачивались трагедией. Я бы на месте фельетониста совсем не шутил”. Теперь я знал, что был виноват, скрыв разговор с Гаргой от Акселя Бригова, от своих товарищей. А ведь несколько дней назад еще можно было что-то предпринять, договориться с Гаргой. Теперь локаторы фиксировали недвижное облако над островом Ольхон, окруженным силовым полем. Гарга ответил отказом на предложение Совета ученых: он не разрешил присутствовать на острове комиссии Совета, пока не доведет до конца свои опыты и не опубликует результаты. Не скажу точно, когда я решился принять предложение Гарги и уехать на остров. Может быть, это произошло на вечере, где биологи говорили о воздействии излучения облака на организм человека. Старый профессор психологии Джон Питиква, стоя посреди зала, манипулировал на экранах снопами голубых искр, демонстрируя реакцию нервной системы. Он говорил о том, как излучение вызывало психические заболевания, говорил очень убедительно и понятно, но каждый из нас, сидящих в зале, понимал, что главное оставалось неразрешенным: как активно повлиять на само облако, как установить с ним контакт, изменить его чудовищную программу? Я слушал профессора психологии, и знакомое чувство тревоги охватило меня: сколько еще будет жертв, испуганных лиц, исковерканных машин?.. Помню, как я сказал сидевшему рядом Игорю Маркисяну: “Ты знаешь, что Гарга мой дядя?” Он кивнул — оказывается, знал. “Так вот, — продолжал я, — может быть, мне поехать на Ольхон?” Он взглянул на меня как на сумасшедшего. Через минуту Игорь уже забыл о моей реплике. А я, чем больше слушал профессора, призывавшего терпеливо анализировать действия облака, тем все отчетливее представлял себе такую картину: вот я иду по толстому льду Байкала, туда, к песчаному острову, над которым стоит облако. Я иду к нему без всякого оружия — как есть. Я не хочу стать бессмертным, я иду, чтоб узнать код облака, чтоб победить его… Поймал себя на мысли, почему я пойду пешком, когда есть мобили. Жаль только, что не успел обкатать гравилет. Придется пока летать Рыжу…***
Мобиль осторожно сполз с берега на лед, и сначала под колесами тонко и жалобно звенели льдиики, словно мы пробирались по столу, уставленному фарфоровыми чашками, а потом машина выбралась на ровный лед и покатила, набирая скорость, по байкальскому льду. Что это был за лед! Я глаз не мог оторвать от дороги: голубые, светло-зеленые, молочно-белые, матовые, серебристые плиты были уложены одна к одной в затейливый узор. Пожалуй, ни один художник и архитектор не могли похвастать такой сумасшедшей красоты мозаикой, а ведь это были всего-навсего остекленевшие волны, фантазия мороза и ветра. И весь Байкал в оправе скал и сопок сверкал, светился, как драгоценный камень, выставлял себя напоказ, понимая, что он виден сквозь лед до самого дна. Я смотрел на ровные сверкавшие плиты и почему-то вспомнил прощание с Каричкой и Рыжем. Мы сидели в комнате Рыжа, и у ног моих стояла легкая сумка с комбинезоном, весь дорожный багаж. Глаза Рыжа горели от возбуждения — он-то меня понимал. Каричка задумчиво смотрела на нас. — Значит, ты решил? — вздохнула она. — Да. Скажи об этом Акселю. Я сам не мог. Сбежал, и все. — Он рассердится. — Знаю. Но я добуду код облака. А победителей не судят. — А как ты попадешь туда? — спросил Рыж. — Читал в газетах, что Гарга приглашает добровольцев для опытов. Проход в силовом поле открывается ежедневно. Там дежурит мобиль. Только, по-моему, никто туда не едет. — Март, возьми меня с собой! — тихо попросил Рыж. Я сделал вид, что не услышал его, и продолжал: — В библиотеке пересмотрел работы Гарга, даже студенческий диплом. Все про биомашину. Казалось бы просто — искусственные клетки, долгоживущий организм. И все же никто не мог построить биомашину, а Гарга, кажется, изобрел. — И он может сделать искусственного пилота, который полетит в другую Галактику? — спросил Рыж. — Наверно, может. — Март, честное слово, я не буду просить твоего дядю, чтоб он превратил меня в бессмертного! — Голос Рыжа дрогнул от волнения. — Я только одним глазком взгляну на эту “био” и — назад. Но по глазам Рыжа я видел: он уже летел за сотни световых лет, разглядывая цветные звезды. И чтобы так когда-нибудь случилось, я строго сказал: — Нельзя, Рыж. Там опасно. А то, что я делаю, — это просто разведка. — Ничего себе разведка, — серьезно сказала Каричка. — Лезть в самое пекло! — Я бродяга воздуха, ты забыла? И не раз возвращался из пекла. Кроме того, там уйма всякой техники, там дежурят ракеты, гравилеты и прочее. Ну, прощайте! — Ладно, ладно, — захныкал Рыж. — Ты думаешь, я такой? Я тоже придумаю какую-нибудь хитрость с облаком… …Длинный остров вмерз в ледяные поля, словно попавший в беду дрейфующий корабль. Ольхон… Ветер сдул с него весь снег, и он предстал передо мною в своем естественном желто-красном виде, а там, где полагается быть пассажирским каютам, стоял золотистый поселок. Стекло, металл, желтые доски сосны отражали солнечные лучи прямо в лицо, и я, щурясь, рассматривал легкие, устремленные ввысь постройки, стоявшие, казалось, как попало вперемежку с соснами. Но зоркий глаз шофера моментально установил здесь свой порядок: “Вон за улицей Обручева — лаборатория вашего дяди”. Нельзя сказать, что серый куб выглядел мрачным средневековым замком: в его контур вплетались ажурная радиомачта, лопасти локаторов, солнечные зеркала, купол маленькой обсерватории, и все же он казался тяжелым каменным чужаком в золотистом рыбацком городке. Над пикой радиомачты в вышине застыло облако, и тень его падала на крышу лаборатории. Мне показалось это символичным. Впервые я видел облако все целиком и на таком близком расстоянии: идеально круглое, торжественно блестящее, похожее скорее на большой, чудом висящий в воздухе металлический шар, чем на наше земное, лохматое, неторопливо плывущее в дальние страны облако. Я смотрел на него всего одну-две секунды, но очень внимательно. И ничего ему не сказал. Мобиль остановился перед глухими воротами. Створки медленно вползли в пазы, машина въехала во двор. Медленно-медленно поднялся я по ступеням, дверь сама распахнулась, приглашая в сумрачный вестибюль. Я вошел и долго жмурился, привыкая после сверкания льда к полумраку, потом вылез из комбинезона, бросил его на пол. Никто не встречал меня. Я постучал в первую дверь. — Войдите, — услышал я голос дяди. Он сидел за разложенными бумагами. Я шагнул ему навстречу и выпалил то, что давно приготовил: — Я приехал не для того, чтоб стать бессмертным. — Знаю, — усмехнулся дядя. — Второго Килоу пока не нашлось. Ты приехал работать, не так ли? Я верил в это. Ну, здравствуй. Я пожал сухую крепкую руку. Вот он — тот единственный человек, который договорился с облаком. Имя его известно всем и вызывает то улыбку, то чувство тревоги, то раздражение. Когда-то он качал меня на коленях. Сейчас, смахнув на край стола разбросанные бумаги, угощает кофе. Наливает из обыкновенного кофейника в обыкновенные стаканы сутулящийся старик, обещавший людям бессмертие. Дядя включает экран, знакомит меня со своими лабораториями. — Химическая лаборатория. Во весь экран смуглое узкое лицо. — Доктор Наг, заведующий, — представляет Гарга. — Март Снегов, наш новый работник. Программист. Доктор Наг кивает, отходит от экрана, открывая прекрасно оборудованную лабораторию; достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться в этом. Далее следуют подземный ускоритель, физическая лаборатория, мастерские, наконец — пустой машинный зал. Три новые машины. Здесь мне предстоит работать. — Я лично обхожусь собственной головой и еще вот этим арифмометром. — Дядя показывает на свой счетный автомат. — Но работы очень много. Пользуйся всеми машинами. Я все ждал появления той двери, за которой хранится таинственный ключ к облаку. И когда в конце путешествия по этажам мы добрались до радиостудии, не поверил глазам, увидев, что этот ключ — самый примитивный микрофон. — Как же так? — Я осматривал обитые изоляцией стены, дикторский столик, висящие головки микрофонов. — Неужели это просто, как вечерние известия? — Примерно так же, как я говорю с тобой. Местное радиовещание оказалось берегом Вселенной, — улыбнулся дядя. — И облако отвечает голосом? — Буквами. — Это робот? — Название не имеет значения. Оно могущественнее нас — это главное. — А как вам удалось, дядя… — Мне не удалось закончить вопрос. Гарга устало махнул рукой: — Объясню как-нибудь в другой раз. — Да, — вспомнил я, — ваше таинственное появление в моей комнате — помните, когда вы приглашали меня? — привело меня к мысли, что вы первый человек, использовавший энергию облака для передачи изображений и звука. Дядя рассмеялся и ничего не ответил. — Значит, таким образом облако изучало нас из космоса? — продолжал я. — Вероятно. — Скажите, пожалуйста, дядя, Сингаевский у вас? — Это кто? — Гриша Сингаевский. Пилот, который попал в облако. — А-а… Нет, он по-прежнему там. — Но почему? — Насколько я знаю, облако его исследует. Но не волнуйся, он будет возвращен. Возвращен! Он говорил о человеке, как о предмете… Невидимая черта в одно мгновение разъединила нас. По эту сторону был я, мой Рыж, Каричка, хмурый профессор Аксель; по ту сторону — облако и Гарга. Но я должен был сделать шаг, переступить черту. Я сознательно явился на этот остров, я буду работать у дяди, чтобы узнать тайну, чтоб освободить Гришу Сингаевского. И я пошел на перемирие, попросив присутствовать на сеансе переговоров с облаком.***
Так я и не понял, какие делал расчеты для Гарги. Пачка листов, заполненных твердым почерком, была обычным математическим заданием, имевшим свое начало и продолжение. Но я особенно и не вдумывался в содержание: механически перестукивал на клавишах формулы, вертясь между тремя пультами, и все поглядывал на часы, все думал, какие вопросы задать мне облаку. Надо было начинать с главного, с чужой истории, чтоб постепенно дойти до цели этого космического пирата. А потом… Я не знал, что будет потом, как доберусь я до сердцевины облака, до его логических сетей, но предчувствовал очень трудный момент. Если только оно соизволит отвечать мне. Если Гарга не передумает. Если я сам выдержу… Десятки разных “если”. Без трех минут пять на экране возник Гарга и пригласил меня в студию. Я уселся на низкий стеклянный стол рядом с дядей. Пляшущие цифры электрических часов с каждой секундой приближали неотвратимый миг. Гарга щелкнул черной ручкой — включил эфир. Я вдруг почувствовал, как все замерло у меня внутри и онемел мой язык. Будто миллионы звезд там, за потолком студии, ждали моего слова. И перед самым моим носом вдруг заскользили по экрану буквы. Я рассматривал их с изумлением, как невиданных букашек чужой планеты, и не мог сразу сообразить, что все это значит. Только потом, когда буквы проплыли, смысл фразы стал мне понятен: Прошу передать информацию о строении и функциях живой клетки. — Включаю машину с подготовленной программой. — Это уже звучал человеческий голос, это говорил в микрофон Гарга. Экран мгновенно откликнулся: Включайте. Щелчок, удар по кнопке. Гарга повернулся ко мне: — Вопросы есть? — Есть. — Прошу. — Он сделал приглашающий жест. — Зачем вы передаете облаку эти сведения? Гарга сухо рассмеялся: его разозлил мой вопрос. — Раз ты так спрашиваешь, ты должен знать, что создатели этого инструмента, — он показал на потолок, — преуспели в своем развитии гораздо больше нас. Облако за несколько месяцев проделало такую же работу, на которую нам потребовались столетия: оно уже исследовало жалкий человеческий организм и сейчас только проверяет свои выводы. Но главное даже не в этом. — А в чем? — Ты знаешь теорию эффекта обратной связи? — Кажется, нет. — Вполне естественно: она родилась в прошлом веке и не имела никакого практического применения. Существование любой цивилизации ограничено во времени — это аксиома. Один из способов продолжения жизни — это получение ценной информации от более развитой цивилизации. Если, конечно, такая цивилизация найдется… Гарга написал на бумаге формулы, где Л1, Л2, Л3 и т. д. обозначали время существования цивилизации. Он лежал передо мной — блестящий математический анализ связи между инопланетными мирами. В нем постоянно удлинялось Л с увеличением числа контактов. — И в этом, между прочим, принимает участие твой дядя, — иронически заключил Гарга. Он мог торжествовать победу: формулы были на его стороне. — Можно мне задать свои вопросы облаку? — спросил я и получил согласие. Взял с полки лист бумаги, написал вопросы, молча передал Гарге. Он прочитал, хмыкнул, положил лист перед собой. По экрану пронеслась какая-то рябь. Гарга включил микрофон: — Непонятно. Повторите более медленно. Прием. Информация принята. Передайте обследование подопытного, — радировало облако. — Включаю машинную запись, — произнес Гарга. — Продолжительность пятьдесят две секунды. Дядя постоянно отсылал облако к машинам. Неужели мне придется служить этому всеядному роботу, готовя машинные расчеты, вместо того чтобы бороться с ним? — Подопытный — это Килоу? — спросил я. — Да. И снова та же строка: Информация принята. — Ответьте на четыре вопроса, — торопливо сказал Гарга, взяв мой листок. — Первый: почему вы при переговорах не пользуетесь своим языковым кодом? Второй: изложите коротко эволюцию жизни на вашей планете, а также основные этапы развития разумных существ. Третий: основная цель вашей цивилизации? Четвертый: когда вы вернете пилота Сингаевского, захваченного на соревнованиях гравилетов? Прием! Это был поистине королевский жест. Я с благодарностью смотрел на дядю, пока он читал, и потом впился в экран. Первые буквы, казалось, ползли очень медленно. Но оно отвечало. Отвечало мне! Первое. Наш языковый код вам непонятен. Построен на неизвестных вам законах. Пауза. Чистый голубой лед экрана. Только скачут электрические цифры часов. Будет ли продолжение? Второе. Эти буквы показались мне огромными. За ними лежали миллионы лет потусторонней истории. Смесь энергии красной звезды, кремния, кислорода, металла, азота, водорода и других элементов привела к синтезу органических соединений на нашей планете. Я почему-то обрадовался: “Они, как и мы, дети своих звезд. Как трава, деревья, ручьи, озера, птицы, звери, люди!” В результате длительной эволюции на планете остались высокоразвитые существа — приматы. Они единственные представители живого мира. Растений, животных, промежуточных форм нет. Приматы имели совершенные органы чувств. Развитие науки и техники привело к созданию высокоорганизованного общества приматов. Это первая Великая эпоха. Старейшая цивилизация во Вселенной. За считанные секунды пережил я трагедию миллиардов далеких лет. Впрочем, время остановилось. Я окаменел. Вторая Великая эпоха связана с переходом от живого к неживому и свободным передвижением в космосе. Синтез живого и неживого образовал самое совершенное существо из известных во Вселенной. Непокорные уничтожены. Нет, я был не камнем — куском льда. Ледяное дыхание исходило от экрана и заморозило меня. Основные задачи нашей цивилизации. Участие в космических гонках. Овладение энергией и ресурсами в масштабах Галактики. Перестройка Вселенной. Пилот с гравилетом будет возвращен после окончания экспериментов над продлением жизни. Пауза. И новая цепочка букв. Прошу приготовить на десять утра информацию по головному мозгу человека. Сколько успеете. Второе. Информация о состоянии подопытного. Сухой щелчок вернул меня к действительности. Гарга выключил микрофон. Он видел, что я подавлен, оглушен, и спросил: — Ну? Я не ответил, стараясь осмыслить то, что узнал. И вдруг выпалил: — А почему вы не допускаете ученых из Совета? — У меня мало времени на споры, — спокойно сказал Гарга. — Пока облако над островом, надо закончить опыты. Спорить будем потом, когда результаты окажутся на моем столе. И ты увидишь, Март, сколько полетит таблиц, точных законов, прогнозов, поражавших прежде воображение. Полетит из-за одного листка бумаги с формулами, написанными за этим деревянным столом, не обсужденными учеными советами, репортерами газет и всем населением земного шара. — А ваше обращение к людям планеты? — Дань традиции. Человек привык узнавать, что его ожидает, за чашкой чая. “Ну, что там в газетах? Что еще придумали эти ученые? Бессмертие? Ха-ха, старая сказка”. Но он уже предупрежден, он задумался. Он начинает потихоньку рассуждать: “А если это так, то какая для меня тут польза? Какой вред?” И через некоторое время он уже готов посмотреть в телевизор биомашину. — Вы странно рассуждаете о людях, дядя. В наши дни никто не ищет выгоду для одного себя… — Конечно, конечно. Но в каждом человеке пробуждаются подобные мысли, когда речь идет о жизни и смерти. Иллюзия веры в личное бессмертие была разрушена наукой, теперь она возродится. — Скажите, — начал я осторожно, — эти опыты с продлением жизни отразятся как-то на поведении людей? — Несомненно. Повысятся именно рациональные начала. — Но тогда никто, ни один нормальный человек, не согласится на облучение! — Ты ошибаешься, — твердо сказал Гарга. — Когда люди убедятся, что каждому из них — каждому! — будут подарены четыреста — пятьсот лет, по этому вот льду пойдут толпы. Что значит потеря каких-то тончайших, почти неуловимых оттенков чувств перед такой грандиозной перспективой! Эксперимент охватит весь мир. Человек сможет по праву назвать себя мыслящей материей. Я слушал его и видел вместо знакомой фигуры большую, шагающую на длинных ногах букву “Л” — символ бессмертия. Она, эта буква, росла с чудовищной быстротой. Она переросла Землю. Тянулась к звездам. Проткнула Галактику. Буква из формулы. Пятьсот лет, подаренные каждому. Разве это могло быть? — Бред! — сказал бы на моем месте Аксель Бригов от имени всего человечества. А я почему-то постеснялся и сказал от своего имени: — Я не хочу, понимаете, не хочу! Дядя остановился, покачал головой: — Молодость — бочка пороха. — Но порох изобретен для победы, — возразил я. — В таком случае победит вечная молодость — бессмертие.***
Профессор Килоу сидел в плетеном кресле перед биомашиной и что-то вычислял. Он сообщил мне, что прекрасно сегодня выспался, прогулялся по морозцу и теперь вот рассматривает ленту с записями биомашины, которая соревновалась с ним, первым долгоживущим человеком. Биомашина — это мудрое изобретение Феликса Марковича Гарги, необыкновенно сообразительное, с синтетически-химической памятью — получила реакции “бессмертия”, и теперь профессор Килоу проверял их на себе. Жаль, что не было под рукой фотоаппарата, чтоб запечатлеть эту историческую сцену. Я решил взять интервью у первого бессмертного. — Как хорошо, должно быть, чувствовать себя бессмертным, — сказал я, с трудом скрывая улыбку. Профессор Килоу не заметил иронии. — Вы и не представляете! — просиял он. — Я всегда не жаловался на здоровье, а теперь чувствую себя просто превосходно. — Значит, облучение облаком проходит безболезненно? — Совершенно незаметно. — Даже не верится, что вы никогда не умрете! — Нет, друг мой, этого и мне не избежать. — Килоу печально развел руками и вновь засиял. — Просто я проживу дольше, чем другие. — Человечество уверено, что опыт кончился благополучно, и хочет брать пример с вас. — Да, это начало нового будущего. Если “оно”, — Килоу таинственно посмотрел вверх, — сумеет затормозить в организме определенные химические реакции и подтолкнет другие, люди почувствуют себя могущественными. Вы меня понимаете? — Понимаю: вы останетесь всегда молодым. Я был очень рад побеседовать с вами, профессор. — И я чрезвычайно рад познакомиться с вами, мой друг!.. Я ушел от Килоу с легким головокружением. В коридоре встретил хмурого химика Нага. — Заговорил до смерти? — прямо спросил Наг. Я рассмеялся. — Даже во рту сладко. Он что, по натуре такой оптимист или после опытов? — По натуре он дурак, — отрезал химик. — И это состояние катастрофически прогрессирует. Мне понравился такой откровенный ответ. Я подошел к Нагу вплотную, заглянул в глаза. — Доктор, объясните мне, что здесь происходит. — Здесь ведутся опыты, вы это знаете. Я видел, что Наг говорит со мной серьезно, и решился сказать о главном. — Но если все будут, как Килоу, эти опыты чудовищны. — Я всего лишь химик, — сказал Наг. — Об остальном могу догадываться. Есть такой простой пример, описанный во всех учебниках: определенные изменения в клетках активного вируса превращают его в пассивный вирус. — Это бесчеловечно! — сказал я. — Раньше здесь было иначе, — спокойно продолжал Наг, не замечая моей реплики. — Но когда профессор Гарга вернулся с космической станции, вслед за ним появилось облако. — С космической станции? — Там он испытывал последний образец машины и сделал свое открытие. — Космическая станция — облако — открытие — первый бессмертный, — вслух подумал я. — Секрет открытия где-то в этой цепочке… Надо что-то сделать! Наг взял меня под локоть, подвел к окну: — Попробуйте снять силовое поле, если сможете. И не забудьте, что роботу можно только приказывать. Причем на его языке. Он ушел, а я бросился к лентам записей. Вместе с последними словами Нага ко мне пришло решение. Я заменяю в машине ленту Килоу на свою (такие записи велись во время отдыха работников лаборатории — для сравнения с состоянием подопытного). Итак, я заменяю ленту, и через несколько минут ложная информация поступает в облако. Оно решит, что подопытный чудесным образом выздоровел, воскрес, и начнет действовать. Может быть, это нечестно — подвергать профессора Килоу сильному удару, но на меня твердо и беспощадно смотрели глаза Сингаевского. Только записав сигналы облака и реакцию Килоу, я мог предъявить ученым доказательство бесчеловечных опытов. Центр Информации Земли расшифрует записи, узнает код облака, смоделирует его строение. Я уже видел, как удираю с этого дьявольского острова. Выхожу, а там зеленое лето… Едва успел я заменить ленты, как загорелся сигнальный глазок: машина передавала информацию. Профессор Килоу, которого я отыскал по видеофону, сообщил, что сегодня облако облучает его через каждые два часа. Теперь предстояла лишь встреча с Гаргой. Я поднялся в студию и удивился, услышав спокойный человеческий голос. Гарга обернулся на стук дверной ручки, выключил динамик. Но я уже слышал — достаточно было этих двух неполных фраз: — …опыты, опасные для человечества. Совет надеется… Гарга, сгорбившись, сидел за столом. Он долго смотрел на меня, словно не узнавал или хотел убедиться в моем присутствии. Наступило молчание. — Это предупреждение нам, — наконец сказал я. Он встал, расправил плечи и вдруг ожил. — Да, нам. — Гарга улыбнулся. — Совет взволнован. Еще бы! Если победит мое предложение, перед социологами, философами, психологами и прочими встанет ряд острых проблем. Их надо решать быстро. Скромные земные ресурсы вряд ли устроят общество бессмертных. Я слушал красноречивые рассуждения, и злость охватывала меня. Разбитые гравилеты, бледные лица, испуганные глаза — сколько их будет еще? — Хватит! — прервал я Гаргу. — Вы не о том. Лучше скажите, сколько жизней будет искалечено! Дядя резко остановился, будто налетел на невидимое препятствие, уставился на меня. — Я уже говорил тебе, — произнес он спокойным голосом, — что возможно усиление рационального… — Сколько новых Килоу вы планируете? — Опыт еще не окончен. Рано делать выводы. — Или поздно, — подумал я вслух. — Там, на космической станции, когда вы столкнулись с облаком, вы уже знали, что оно будет нападать на нас? — Ах, вот оно что… Нет, не знал. — Почему вы не предупредили Совет? Струсили? — О чем ты говоришь! — закричал Гарга, выходя из себя. — Твой Совет сидел в уютных кабинетах, когда я один на треклятой космической станции — один во всем космосе — увидел эту сверкающую штуку. Пока мы налаживали переговоры, я насмотрелся таких картин, каких не увидит никто, никогда, ни один сумасшедший. Я был для него первым человеком, а оно для меня — первым настоящим помощником. Я, именно я, первый договорился с ним по радио, и мне ничто не было страшно, потому что моя цель была достигнута: машина работала. Случай, совпадение обстоятельств, энергия этого дьявольского шара и моя биомашина, но она ожила, она работала! Ты это понимаешь — что значит достигнутая цель?! — Да, понимаю! — Я тоже сорвался на крик. — Но ведь есть еще благоразумие! — Благоразумие! В твоей жизни наступит момент, когда ты пошлешь к чертям всякое благоразумие и поверишь в свои идеи! — Это предательство! — сказал я тихо, но твердо. — Вы за это ответите. — Не забывай, что ты — мой сотрудник. Ты тоже разделяешь ответственность. — Я ничего не забыл. Но вы… вы никогда не посмеете облучать людей насильно! — Насильно?! — Гарга рассмеялся. — Война маленького острова со всем миром? Не думаешь ли ты, что я сошел с ума? — Тогда откройте остров для всех! — Это дело облака, — устало сказал дядя. Он сел, обхватил голову руками. Кажется, он понимал, что ловушка захлопнулась. — Прикажите ему! — потребовал я. — Или вы тоже подопытный? Дядя в бешенстве вскочил. — Хорошо, я подопытный, — хрипло сказал он. — И это мое дело… Но зачем сюда лезет Совет! Что ему нужно! Неужели непонятно, что облако не будет перестраивать Землю? Я подошел к нему вплотную, сказал: — А если прилетят еще такие же? Он побледнел. — Кто ответит за плен Сингаевского? — спросил я его. Он молчал. — За разбитые гравилеты? Он молчал. — За искалеченного Килоу? Он молчал. Сдерживая ярость, я совсем тихо сказал: — Никто к вам никогда не придет! Слышите? Никто! Никто не спросит, существуете вы на самом деле или нет! На меня глядела белая застывшая маска с темными провалами глаз. На рассвете в зал заглянул доктор Наг. Увидев, что я сижу за пультом, он вошел: — Слышал новость? Совет потребовал снять защитное поле. Я машинально взглянул в окно. Его, конечно, нельзя было увидеть — защитный купол, которым облако прикрыло Байкал. Но у нас здесь стояла зима, а там, по другую сторону силового поля, бушевало лето! Ровная закруглявшаяся у горизонта черта делила весь мир на зеленое и белое. — Что ответил Гарга? — спросил я. — Ничего. Заперся в студии и сидит там. — Совещаются? — Наверно. Совет объявил, что построенные установки могут разрядить облако. Я поспешно натянул комбинезон. — Вы куда? — спросил Наг. — Предупредить рыбаков, пока они не выехали. Вдруг облако решит снять поле… Лед начнет трескаться!.. Все же я опоздал: рыбаки уехали на мобилях в море. Начальник промысла — инженер Смирнов — был дома. Спокойно выслушав меня, позвонил на радиостанцию и приказал вернуть мобили. Я кратко рассказал, что добыл ценные записи с кодом облака и должен немедленно передать их ученым. — Выход с острова есть, — ответил Смирнов, подумав. — Пещера в скале. Она проходит прямо под силовым полем. А так, по сопкам, не проберешься, пока не снята блокада. Почему-то он мне поверил сразу, хотя я был сотрудником Гарги, которого в поселке не любили. Но сейчас не время было раздумывать об этом. Позднее инженер сознался, что запомнил меня по телевизору — гравилетного гонщика, столкнувшегося на соревнованиях с облаком, и сказал себе, как только я произнес первые слова: “Такой парень не станет врать”. Инженер одевался обстоятельно — шерстяные носки, сапоги, меховой жилет, полушубок. Я умолял его глазами: быстрее! Он, кажется, понял и, заказывая дежурный мобиль, сказал: — Не через десять минут, а сейчас. Я благодарно кивнул. Песок скрипел под ногами, как снег, мороз щекотал кончик носа. Первые лучи легонько коснулись крыш, позолотили их. Сейчас проснутся школьники, выглянут в окно, засмеются: “Доброе утро!” А я побегу через лес, через поле, чтобы подлый удар облака не погасил больше ни одной улыбки. — До станции пятнадцать километров, — сказал инженер. — Из нас никто не ходил — старая охотничья тропа, но по карте пятнадцать и точно на юг. Проводить? — Не надо. — Я измерил взглядом богатырскую фигуру. — Вы лучше займитесь Гаргой. — Не волнуйся. Все выясним и поставим на свои места. Ярко-оранжевый мобиль приподнялся на воздушной струе и легко заскользил над стеклянным щитом. Неслись нам навстречу пестрые ледяные заплаты — зеленые, белые, голубые плиты, крепко спаянные морозом, но я смотрел не на них, а на темную, неприкрытую снегом скалу — берег Большой земли. Вдруг замигала лампочка на щитке, шофер включил радио. — Мобилю сто двадцать шесть вернуться назад. — Голос четко и властно выговаривал слова. — Гарга, — узнал я. — Прыткий старикан, — усмехнулся инженер. — Рано встает. — Это облако, — догадался я. — Оно предупредило Гаргу. — Мобилю вернуться назад. Вы приближаетесь к границе поля. Это опасно. — Давай, Саша, к самой пещере, — скомандовал инженер водителю. — Где у тебя компас и карта? Он спокойно начертил мой путь, сам положил карту и компас в мой карман, застегнул пуговицу. А Гарга все требовал. А скала летела навстречу. — Сейчас возвращаемся, — наконец ответил в микрофон инженер. Мобиль мягко шлепнулся на лед. Распахнулась дверца. Отвесная серая стена, в ней треугольная щель, завешанная длинными сосульками, и такое же отражение на гладком льду. Волшебный дворец. — Беги! — сказал инженер. — Счастливо. А в спину мне ударило из динамика: — Март, приказываю тебе вернуться! Иначе облако применит облучение… Теперь, когда в кармане у меня лежит ключ от облака и какая-то сотня метров осталась до спасительной границы, теперь отступать — ни за что. Мы еще проверим, кто проворней: может быть, я бегу быстрее света. У самого входа в пещеру ноги мои разъехались, я шлепнулся на живот и так и въехал головой вперед под торжественный ледяной портал. Встал. Ноги какие-то размягченные, идут неохотно. “Только-то и всего! — воскликнул я. — И это называется удар. Благодарю вас, дядя, за родственный тычок!”***
Приятно было бы идти под сумрачным сводом, никуда не торопясь, любуясь искрами инея на стенах, но я опять побежал. Здесь, наверно, тек ручей, он так и застыл голубой подземной дорогой — подошвы гулко стучали о ровный лед. “Триста рек впадают в Байкал, а вытекает одна Ангара”. Вот уж не думал, что придется столкнуться с этой строчкой из старой энциклопедии. Впрочем, там сказано о реках, а не о ручьях, тем более подземных. Откуда составителям было знать, что есть такой благословенный ручей, пробивший себе дорогу через скалу; весной он могуч и заполняет всю пещеру, несет с собой песок и камни, шлифует до блеска стены, летом поутихает, катит себе полегоньку, прислушиваясь к тихому плеску эха под сводами, а когда удивленно останавливается, превратившись в гладкую дорожку, то на самом дне, под толстым льдом, все равно бежит он, ручей, и даже яростный мороз не в силах его удержать. Я почувствовал, что лед потрескивает под ногами. Но как осторожно ни ступал, вскоре провалился. Ручей был неглубокий — чуть выше колен, но лед больно резал ноги даже сквозь плотную ткань комбинезона. Услышав плеск воды справа, я направился туда. У стены было глубже, ощущалось течение, зато не было льда. Я шел и шел по пояс в воде, иногда натыкаясь на прохладный камень стены и ощупывая в нагрудном кармане электронный блок с записями. Я думал, что пройдет еще немного времени и я увижу впереди светлое пятно, которое будет расширяться до тех пор, пока не распахнет настежь все голубое небо. А получилось совсем не так. Вода медленно поднималась в середине пещеры, я прижимался к стене — теперь тут было самое мелкое место. Неожиданно моя рука схватила ветку, самую настоящую ветку с твердыми узкими листьями. Она мягко пружинила, значит, росла, держалась за что-то. И вот я раздвигаю уже не лед и не воду, а живые плотные заросли, и ручей звенит между ними, радостно толкаясь в мои колени. Я изо всех сил раздвигаю упругие, хитро сплетенные ветви и… Зеленый свет внезапного лета ослепил меня. Я вижу зеленую дальнюю сопку, зеленое небо над ней, зеленый ручей, посреди которого я стою. Лето! Я совсем забыл, что ты существуешь на воле! — Лето! Здравствуй! — крикнул я, набрав воздуха, и слова беспечными кузнечиками поскакали впереди меня. Теперь, когда будут говорить “лето”, я представлю ослепительно зеленый мир. В твою честь я бросаю прямо в воду свой комбинезон. Пусть ручей, если захочет, несет его с собой и утопит в самом глубоком ущелье Байкала. Вот мой путь, начертанный крепкой рукой инженера: мимо сопочки, через тайгу, по охотничьей тропе, к станции. Там меня подхватит поезд. Сначала я оглядывался по сторонам в поисках охотничьей тропы. Ничего похожего ни на берегу ручья, ни между деревьев не встречалось. Пихты, ели, лиственницы стояли так плотно, так рассадили свое колючее, тянущееся вверх потомство, так попдали друг на друга, что в иных местах не то что охотник, но и белка не прошмыгнет, а там, где выдавался просвет с пышной травой, я проваливался в болотистые, мягко поддающиеся ямы. Наивный человек, я думал пробежать эти километры за час с хвостиком. Нет, надо забыть, что в мире есть автоматические дороги, что есть тропинки в лесу, по которым можно пройти босиком, ни разу не уколовшись. Надо одеть компас на руку, послать к черту эту мифическую тропу, пробираться самостоятельно. Через некоторое время я почувствовал себя бывалым таежником. Откуда только взялась сноровка: рука отводит мохнатую лапу, нога встает на пятку, нащупывая коварные ямы, и легко отталкивается мыском, глаза ищут проходы в буреломе. Кто их только навалил, этих могучих бойцов, выворотил прямо с корнем — может, здесь ночью разыгралась хорошая потасовка? Не стоит лезть в самую свалку, оттуда не выберешься и с топором, и сопку лучше обойти стороной, а потом снова свернуть на юг, положить на упавший ствол карту, сверить свой маршрут по компасу. Ага, вон могучие циркули опор, между ними натянуты серебряные струны. Когда-то по ним ходили таежные канатоходцы-верхолазы. Я пересекаю широкую просеку, провода торжественно гудят над головой. Но мне по пути с опорами, я иду снова в тайгу. Не сразу понял я, откуда пришла слабость. Не мог я так быстро устать. Было что-то странное, незнакомое в непослушании ног и рук, приятной лености всего тела, легком головокружении. Ветви стали сильнее меня, корни цеплялись за ботинки, и тихий торжественный звон лился из-под высокого свода. Я поднял голову, удивленный необычным праздничным звуком, который рождала то ли лесная тишина, то ли мое воображение, и увидел серебристое сверкание меж верхушек. Над острыми пиками елей, прямо надо мной, висело облако. Мне показалось, что оно отыскивает меня в чаще. Что ж, я ни на минуту не забывал о тебе, даже когда пробирался в темной пещере, я ничуть не удивлен и готов взять тебя в попутчики. Не думаю, что ты явилось указать мне дорогу, но я все равно пойду вперед, а если откажут ноги, поползу, подтягиваясь за корни. Когда вышел на поляну, усеянную крупными, с кулак величиной, ромашками, я внимательно рассмотрел облако, хотя рассматривать в нем было нечего: в промытом летнем небе, над частоколом елей и бело-зеленым полем оно выглядело странным, никому не нужным шаром, соперничавшим в блеске с солнцем. Но солнце лучилось живым теплом, а облако казалось хорошо отполированным куском льда. Оно молча и равнодушно облучало меня: я не чувствовал ни рук, ни ног — они словно не принадлежали мне, приятный звон в ушах сменился глухой пустотой, только глаза еще видели, куда идти. И я шел, шел сам по себе, удивляясь, почему идут ноги, которых я не чувствую. Может быть, я уже брел по этой охотничьей тропе, пропавшей неизвестно куда, и ноги угадывали знакомую дорогу; я шел здесь сто лет назад с теми людьми, которые строили втайне электростанции и города. Города стоят на своих местах, эти люди давно умерли, а я все иду… Я иду уже не по земле, я иду по Марсу и ничего не вижу, кроме стрелки компаса. Наверно, багряный диск солнца опускается за горизонт, и тогда сразу придет страшный ледяной мороз, и я замерзну. Я падаю на песок, но голос отца поднимает меня: “Надо идти, Март. Если хочешь, брось сумку с каменной черепахой, мы потом добудем другую. Надо идти…” Нет, я не брошу сумку с каменной черепахой, ведь это первый найденный тобой живой марсианин, я буду идти, и не замерзну, и дойду до города под блестящим цирковым куполом. Я не лягу у шершавых крепких корней этой сосны, не закрою глаза и не увижу во сне, как я обгоняю ребят на красном гравилете. Слышишь ты, облако! Ты можешь бить меня в спину, в грудь, в голову, пытаясь заставить меня лечь, махнуть на весь мир рукой. Ничего у тебя не выйдет! Навстречу твоим сигналам поднимается по нервам ненависть. Я никогда не прощу тебе белого лица Карички, последних слов Сингаевского, пустых глаз Килоу. Не думай, что я испугался черной быстрой речки, я просто ищу переход. Вот он — поваленные поперек пихты. Пока я полезу по ним, хватаясь за мягкие смолистые лапы, ты можешь спокойно целиться — хорошая, уязвимая мишень. Темно в глазах — это от близкой воды, но я не упаду, слышишь, я вижу то, чего не видишь ты — золотисто-оранжевую, как апельсин, горячую звезду Тау Киту.***
Рыжа похоронили на сопке. На самую вершину вертолеты подняли большой камень гранита. А на него поставили красный гравилет. Под одним крылом — Байкал, под другим — тайга. …Я целую вечность собирал гравилет. Время остановилось. Удивленные, широко распахнутые глаза Рыжа смотрели на меня. Перья тихонько позванивали — они хранили тепло его рук. Это был гравилет Рыжа. Рыбаки с Ольхона вырубили в скале лестницу. Шли и шли по ней люди, оставляя на ступенях еловые ветви, кедровые ветви, цветы. Когда началась беда? Когда я сказал, что еду на Ольхон? Когда решил бежать с острова? Когда рыбаки вошли в лабораторию Гарги и инженер Смирнов радировал Совету ученых, что облако преследует меня? Все мы невольно обращались к Рыжу. Несколько дней назад он пробрался в спасательный отряд, на северный берег Байкала. В тот момент, когда радио передавало мои координаты, он сидел в машине. Он всего на полминуты опередил опытных летчиков, которые знали, что лететь прямо на облако нельзя… Подошла Каричка, протянула крепко сжатые кулачки. — Он самый смелый. — Она села на камень, прижалась к шершавому граниту. Она не плакала, слушала тишину камня. — Никогда я этого не пойму. Дул с Байкала ветер. Трепетали красные крылья. И легкой стаей закружили над сопкой гравилеты. Все летчики, которые здесь были, поднялись в воздух. Медленно вращалась заросшая лесом сопка, уплывали флаги, и красная птица была готова взлететь с камня. Там, под ее крыльями, говорили о смелом человеке, о гравилетчике Рыже, и мы подхватывали эти слова на свои крылья и несли их над тайгой. Может быть, впервые в жизни плакали байкальские рыбаки, и наши лица тоже были мокрыми от слез. Сверкающими стрелами пронеслись ракеты, оставляя за собой разноцветные хвосты, — так ракетчики прощаются со своим товарищем. Грянул с вершины сухой залп — клятва верности рыбаков и охотников. Гравилеты будут кружить, пока не зайдет солнце, пока не вспыхнут над куполом железнодорожной станции огненные буквы: “ГРАВИЛЕТЧИК РЫЖ”.***
— Положение таково. Высоко развитая цивилизация в созвездии Ориона, цивилизация приматов, как они себя называют, полностью овладела энергией и ресурсами своей звездной системы. В поисках новой энергии ими была взорвана одна из звезд. Смелый эксперимент привел к катастрофической ситуации: неожиданно начали разогреваться красное холодное солнце приматов и соседние звезды. Попытки вмешаться в реакцию оказались безуспешными. Через несколько тысяч лет эти звезды вспыхнут как сверхновые. Приматы решают переселить свою цивилизацию и выбирают подходящую необитаемую планету. Я подчеркиваю: необитаемую, так как хотя приматы и знали о наличии других, более отсталых цивилизаций, они не хотели вмешиваться в чужую жизнь. Девятьсот двадцать девять гравитационных машин отправились для разведки и подготовки нового местожительства. Вслед за этим корпусом должны стартовать грузовые и пассажирские корабли. Одна из машин при облете белого карлика сбилась с курса и попала в солнечную систему… Вы знаете, что недавно наша ретрансляционная станция Земля — Марс приняла серию сигналов из космоса. Они представляют четыре схемы, фотографии или картины, изображающие то, что я вам только рассказал. Трактовка схем подтверждена самим облаком, с которым вчера удалось установить связь… Аксель Бригов смолкает, оглядывает сидящих за столом. Нас четверо. Психолог Джон Питиква, прилетевший из Каира, слушает с задумчивым видом, гладя ладонью прохладную крышку стола. Еще один человек, которого я вижу впервые, внимательно смотрит на Бригова холодными серыми глазами; я знаю только, что зовут его Оскар Альфредович и он представитель Верховного Совета планеты. Когда же взгляд учителя останавливается на мне, я опускаю голову. Как все быстро произошло: побег с острова, похороны Рыжа, перелет в город и этот знакомый институтский зал со знаками Зодиака на массивных дверях — волны событий подхватили меня и швырнули к пустому гладкому столу. Он вытянулся от стены до стены в величайшем спокойствии и сверкал своей полированной поверхностью, как обманчиво спокойное море, потопившее в шторм десятки кораблей, не хранит никаких следов катастрофы. Но я знал, что в этой цепочке волн, на дне этого спокойного моря скрывается моя тяжелая вина. Там, за резными дверями парит над сопкой красный гравилет. Там, над островом, по-прежнему сверкает облако. Только теперь оно вынуждено отвечать на наши сигналы: облако попало в фокус включенных установок и не может двинуться с места. — Продолжайте, профессор, — потребовал в тишине представитель Совета. — Выйдя на орбиту вокруг Солнца, облако обнаружила присутствие незнакомой цивилизации. Наблюдая за нами из космоса, прослушивая радиостанции, оно вошло в контакт с космической станцией М-37, на которой вел свои работы профессор Гарга. Дальнейшее вам известно. Все действия облака свидетельствуют о том, что в новых условиях оно изменило свою первоначальную программу. — Это было очевидно, — пробормотал Питиква, закрывая глаза. Кажется, он собирался дремать. Аксель нахмурился. — Напомню вам, доктор, — резко сказал он, — что мы это установили совсем недавно. — Да, да. Недавно, — сонно согласился психолог. Оскар Альфредович невозмутимо молчал. Я уже не знал, зачем я здесь нужен. Все эти теории я и так испытал на своей шкуре. — Коротко говоря, облако решило ставить опыты на людях. Работы Гарги подсказали направление этих опытов, — продолжал Бригов. — Цель? — перебил Оскар Альфредович. — Рациональная перестройка человеческого общества. Подготовка будущего соседа и союзника приматов для совместного использования энергии Галактики. Возможно, подготовка запасной базы для переселения. Как видите, цели самые благородные. — Бригов развел руками. — Но разве оно не понимало, что для перестройки не хватит сил? — холодно продолжал представитель совета. — Вероятно, — ответил Бригов. — Однако оно только указывало нам путь. Лично у меня создалось впечатление, что ему совсем было безразлично наше мнение. Ну, примерно так, как человек производит опыты с колониями муравьев. Все невольно усмехнулись. Питиква приоткрыл веки, внимательно взглянул на меня. Я догадался: сейчас спросит. — Как твое мнение, Март Снегов? — Мне казалось, — начал я неуверенно, — когда я с ним разговаривал… Мне казалось, оно скрывает свою настоящую цель, просто говоря — врет. Простите… И еще — иногда я тоже чувствовал себя подопытным… Мои сбивчивые слова почему-то пробудили старого Питикву. — Правильно! — сказал он громко. — Получается логическая несуразица — это с нашей точки зрения. Забыв свою прежнюю программу, машина с другой планеты вмешивается в чужую жизнь, причем взваливает на себя неразрешимые задачи и поступает очень глупо. Где же разумный анализ обстановки, система контроля и прочие механизмы, необходимые в столь сложном космическом аппарате? Где они, я вас спрашиваю? — Спросите у облака, — буркнул Аксель. — Давно бы спросил, если б вы вовремя построили свои установки, — парировал психолог. — Впрочем, это не помогло бы. Спрашивать бесполезно. Аксель и я с удивлением уставились на Питикву: что, мол, еще надо, когда облако в наших руках? — Вы хотите сделать сообщение? — спросил представитель Совета. — Да! — Питиква медленно поднялся. Он стоял перед нами, как огромная черная гора с белой шапкой снегов на вершине, и загадочно улыбался. — Мои рассуждения просты. Если предположить, что под влиянием внезапных факторов в этой машине произошли какие-то нарушения, все несуразные на наш взгляд поступки облака будут вполне естественны. Могло так случиться, что при облете белого карлика, когда изменилась траектория полета последнего шара, сильный потенциал замкнул в нем определенные цепи. Подобное ненормальное состояние бывает, как вы знаете, и у наших электронных систем. — Машинная шизофрения? — серьезно спросил Бригов. — Сумасшедший с Ориона — я тебя правильно понял? Признаюсь, тут уж я рассмеялся. Но на меня не обратили внимания. — Точный диагноз пока бы не ставил, — иронично отвечал психолог. — Мы еще не знаем устройства системы. Однако, проанализировав с этой точки зрения тактику облака и все его сообщения, особенно тот блок записей, который принес нам Снегов, Центр Информации составил примерную модель машины. Питиква включил экран, и началась пляска столь сложных математических символов, уравнений, графиков, что я сразу же сдался, стараясь не пропустить только выводы, общечеловеческие, понятные слова. А они гласили примерно следующее: в сложнейшей конструкции приматов работала только часть информационно-программного устройства, остальные системы или не принимали активного участия, или же были повреждены. Воцарилось молчание. Аксель вскочил с места, забегал по залу. — Еще не хватало лечить космических идиотов, — бубнил он под нос. Потом остановился, резко повернулся к врачу: — Ты, Джон, все это придумал, ты и расхлебывай! — Успокойтесь, — сказал Оскар Альфредович, хотя, судя по блеску глаз, он и сам был не менее других взволнован неожиданным выводом. — Что вы предлагаете, доктор? — Как сказал Аксель Бригов — лечить. И лечить не менее терпеливо, чем больного человека. Я нисколько не шучу. Во-первых, путем переговоров Центра Информации с облаком, для чего будет составлена специальная программа, надо уточнить характер нарушений. Сейчас я бы сказал так: комплекс превосходства — это та функция, которую присвоила себе и последовательно разрабатывала действующая часть машины. Во-вторых, поймав облако на логической несуразице, дадим ему возможность исправить свое устройство. А именно: объявим, что мы включаем установки, которые его разрядят. — А если оно будет обороняться? — спросил представитель Совета. — Думаю, что самосохранение для него гораздо важнее, чем все остальное. Машину без этого основного правила не станут посылать для разведки планет. — Если не подействует психологический эффект — что дальше? — Тогда мы включим установки, — спокойно продолжал Питиква. — Но будет взрыв! — Взрыва не будет. Мы включим другие установки. А поскольку мы имеем дело с машиной, которая мгновенно распознает, смертельный это удар или полезный, она не применит никакого оружия защиты. В этом и состоит мой план. — Итак, борьба муравьев с космическим слоном, — миролюбиво согласился Аксель. — Не со слоном, а с машиной, возомнившей себя Наполеоном, — поправил представитель совета. Мне эта формулировка понравилась…***
Всю неделю Центр Информации вел невидимую дуэль по лучам мазеров с висящим шаром. Это была борьба идей на предельной для машин скорости. Совет ученых согласился с гипотезой Дж. Питиквы. Она была проверена, и Верховный Совет Земли одобрил план действий. Над Байкалом солнце стояло в зените, когда около ста экранов были подключены к специальным камерам, поднятым на гравипланах. За разные двери института я попал только с помощью Бригова, который выудил меня из толпы сотрудников, жаждавших проникнуть в зал. Он гудел от голосов, этот огромный сводчатый зал, где несколько дней назад нас было всего четверо, и со стен, с портретов в рамках строго взирали великие на такое шумное сборище. Но вот стихло. Я увидел вытянутый, как корабль, желтый остров — он резал острым носом набегающие волны. Золотые крыши домов, серый куб за глухим забором, безлюдные улицы. Все уехали. Странный пустой город… Облако. Сейчас на него направлены все взгляды. На него — установки. На него — тонкие лучи мазеров. Удастся ли? Голос Питиквы за кадром: — Объявлено, что через пять минут будут включены новые установки для разрядки облака. Напряженная тишина. Та же картина: остров — поселок-облако… Облако — поселок — остров… — Не отвечает, — говорит Питиква. “Не удалось. Оно не в состоянии перестроиться, — думаю я. — Что дальше? Удастся ли дальше?” Я знаю: еще несколько минут, и в облако вонзится сильный разряд. Если Питиква прав, он встряхнет, включит всю систему. Если облако не поймет и ответит смертоносным излучением — блеснет огонь взрыва. Зал ахнул: мгновенная вспышка озарила облако. Все вскочили, но это не взрыв. Вон оно — облако — на своем месте. И город. И остров. И море. Просто — клянусь звездами Ориона! — облако просияло. И во весь экран лицо Питиквы. Усталое лицо. — Поступили первые сообщения, — спокойно говорит он. — Система облака включилась в нормальную работу… — Пауза. Питиква продолжает: — Облако возвращает гравилет с пилотом Сингаевским… Медленно и спокойно, как из обычной серебристой тучки, вынырнул игрушечный желтый гравилет. Медленно, круг за кругом парил он над морем, приближаясь к берегу. По этим кругам я догадался, что гравилетом управляли приборы. Вот он сел на высокий каменистый берег. И тут же рядом опустился санитарный вертолет, перекрещенный красными полосами. Врачи — бегом к гравилету. Вытащили неподвижного, с болтающимися, как у тряпичной куклы, руками и ногами пилота, перенесли в свой вертолет… Экран погас. …Я брел по коридору, ничего не видя, ничего не соображая, твердил про себя: “Все, все, вот и все”. Ноги гудели от странной дрожи. Может, это вибрировал пол? За стеклянными стенами, в залитых солнцем залах работали сотни машин, каждая из которых была клеточкой гигантского электронного мозга планеты. Шел обмен опытом двух разных цивилизаций. Великий обмен информацией. Я брел по коридору, представляя, как ежесекундно рождаются новые тома, заполненные одной лишь информацией. Их надо изучать много лет. Но самый главный вывод невозможно спрятать ни в ячейках памяти, ни в толстых томах — он ясен всем: люди давно уже решили, что побеждает мужество или покорность. Облако в этом убедилось… Так продолжалось три дня. Потом облако объявило, что продолжит полет к своей новой планете, и ушло в космическое пространство. В самый сильный телескоп можно будет увидеть, как светлая точка делает оборот вокруг Солнца. — Вы убили человека, Гарга. Вы признаете себя виновным? Маленькая фигура в черном перед высоким, как кафедра, столом. Гарга стоит, опустив голову. Он боится не этого стола с судьями. Он, наверное, чувствует, что стены сложены из миллионов глаз, смотрящих в упор на него: “Вы убили человека!” Он поднимает голову, твердо говорит: — Да, виновен. Признаю себя виновным.***
Я улетал к Солнцу. На платформе космодрома нас пятеро в голубых дорожных комбинезонах. Пятеро уже на пересадочной космической станции. Там мы влезем в неуклюжие, но приятно невесомые скафандры, и ракета, похожая на раздувшуюся гусеницу, понесет нас в кипящее море огня, сжигающее глаза, время, сны, но бессильное против нас — в сверхкорону. Не знаю, что я увижу, заглянув в лицо Солнцу, а сейчас смотрю на друзей, стараясь запомнить все, до мельчайших подробностей. Андрей Прозоров, Игорь Маркисян, Аксель Бригов, вы даже не знаете, что я повторяю про себя ваши имена, чтоб потом обычный звук мгновенно рождал в памяти голоса, улыбки, блеск глаз. Я улетаю с товарищами, но мне всегда будет нужна ваша поддержка. Подошел Гриша Сингаевский. В больнице он немного поправился, но все равно остался худющий после заточения в облаке. А рука крепкая. — Счастливец, — говорит он, толкая меня в бок. — Летишь. — Ты скоро меня догонишь. — Не утешай. Я просто пришел поглядеть на всех вас. И не задавайся: обязательно догоню. …Скоро сомкнутся толстые двери, взвоет в стартовой трубе ракета, и я превращусь в яркую звезду, которая еще несколько секунд будет сверкать в летнем небе. А на пересадочной станции меня тоже будут провожать. На телеэкране я увижу отца и мать. Получасовой сеанс с Марсом. Я понимаю, как им грустно: они собираются домой, на Землю, а я — в обратном направлении. Обычная несуразица в жизни — теперь улетаю я. Но я буду шутить и смеяться, и попрошу отца напомнить, какой у него рост, и тогда окажется, что я уже с него, только он красивый и седой. А маме я покажу, какой я сильный, ведь я тренировался, как проклятый, день и ночь все эти полгода, чтоб пройти отборочную комиссию, и она улыбнется и скажет, что я все равно маленький, хотя перерос ее на целую голову, а глаза ее сверкнут двумя каплями света, выдав тайную гордость: все же какой большой, какой взрослый… Кончатся полчаса, и снова ракета, маленькая, медленно летящая искра. Может быть, ее проводит взглядом одинокая фигура, на самой последней, самой отдаленной космической станции — Гарга. Не знаю, как он, а я всегда буду слышать глухой голос, прозвучавший в тишине зала: “Вы убили человека…” Теперь он один. Он сам захотел быть один… И вдруг все лица расплываются, отодвигаясь от меня: я вижу, как бежит по платформе Каричка. Я не встречал ее с того самого дня, когда мы прощались с Рыжем. Целая пропасть времени между этими днями, а она все такая — белое платье, пушистое облако волос, ровная челка. Нет, не такая. Резкая складка на переносице. И глаза. Они стали твердыми и маленькими. Я смотрю в них, смотрю не отрываясь, и наконец нахожу знакомые золотые ободки. — Прости, я только узнала. — Каричка сунула мне цветы. — Ну, что ты так смотришь? — Она улыбнулась. — Хочу запомнить. — Ей я говорю то, что думаю. — Ждал, когда ты улыбнешься. Она отодвинулась от меня, посерьезнела. Большие красные крылья трепетали над нами. — Это опасно? — Она показала на мой знак солнечной экспедиции. Знакомый мотив прозвучал рядом: кто-то насвистывал “Тау Киту”.МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1967 г. №13

Леонид Платов БЕЗУПРЕЧНЫЙ МИНЕР (Главы из романа)
…Следует упомянуть в двух словах еще об одном эпизоде. В январе 1945 года в осажденный нами Будапешт была направлена группа военных моряков-разведчиков, которые по системе канализационных труб проникли в центр города и изъяли из Управления Дунайского пароходства секретные карты минных постановок на Дунае. Карты эти впоследствии облегчили и упростили наше послевоенное контрольное траление Дуная.Из книги «Сражение за Будапешт»
1. МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ОТБРОСИЛ КОСТЫЛИ
Я прочел эту книгу о сражении за Будапешт. Что ж, несомненно полезное, добросовестное военно-историческое исследование. Однако я не нашел там фамилии Мыколы Григоренко, моего друга, который участвовал в «изъятии» секретных карт и погиб, прорываясь вместе с группой разведчиков в расположение наших войск. Возможно, с точки зрения историков, ворочающих глыбами событий, то, что произошло 17 января 1945 года в одном из будапештских домов, только эпизод, не заслуживающий упоминания более чем «в двух словах». Но ведь за этим эпизодом — сложная судьба человека, постепенное, закономерное развитие его характера, которое виток за витком подняло Мыколу на высоту подвига самопожертвования. Тут бы надо писателю дополнить историка. Объяснить, почему Мыкола не мог поступить иначе, почему пожертвовал своей жизнью, лишь бы сохранить добытые со столь великим трудом карты секретных минных постановок на Дунае. Так стала складываться в моем воображении повесть о Мыколе, повесть, которую я хотел адресовать подросткам. Ведь им, будущим нашим советским воинам, особенно интересно и полезно узнать, как развивался один сильный, целеустремленный характер, полностью проявивший себя в дни Великой Отечественной воины. Я уж и вступление к повести было набросал, вернее, главу о детстве. Думал назвать ее так: «Мальчик, который отбросил костыли». Мне представляется очень важным показать, как мой друг с первого же взгляда облюбовал себе призвание в жизни. (Откровенно сказать, я всегда завидовал ему в этом отношении.) Однако не обо мне здесь речь. В повести я только для взаимодействия или, если хотите, для сравнения. Как бы оттеняю Мыколу. И повествование решил поэтому вести не от первого, а от третьего лица. Чтобы не слишком выпячиваться. А ведь в пору нашего детства Мыкола не случайно называл меня своим Котом в сапогах, безоговорочно и во всем признавая мой авторитет. И то сказать: кто он был тогда? Гайворонец, приезжий. А я — коренной севастополец. На нем во время нашей первой встречи торчала, помню, нелепая соломенная шляпа, на мне же были рыбацкая роба и высоченные резиновые сапоги с отворотами — загляденье для деревенщины. Раскрыв рот, Мыкола глаз не спускал с этих сапог. Каюсь, я замешкался, запоздал к нему на помощь, хотя еще издали услышал притопывание босых пяток — военный танец беспризорников — и их задиристые хриплые голоса…ШЛЯПА И ТОРБА
— Держись за шляпу, эй! Ветром унесет! — Рот-то, рот закрой! Сам закроешь или помочь? Эти и им подобные замечания остаются без ответа. — Чего же ты молчишь? Чи ты моря не видал, чи как? Мальчик лет тринадцати, в свитке и соломенной шляпе (по-украински — брыль), неподвижно стоит на ступенях Графской пристани, глаз не сводит с моря. Так вот оно, стало быть, какое, это море! Конечно, не раз уже видел его, но только на картинках. И там оно было совсем другое, не живое. Сейчас море движется, без устали наплывает на берег, а коснувшись причала, куда-то уходит. Куда? Волны, к сожалению, невысокие, рябь или, по-флотски сказать, зыбь. А поглядеть бы, что бывает, когда шторм! О-о! Два беспризорника, метя длиннополыми лохмотьями лестницу, нервно кружат подле мальчика в брыле. Внимание привлекает, впрочем, не столько пресловутая шляпа, сколько торба, лежащая в ногах. То и дело на пятнистых от грязи плутоватых физиономиях сверкает улыбка. Все трое, наверное, ровесники, но эти, в лохмотьях, набиты по макушку житейским опытом, тогда как владелец торбы прост и наивен, как подсолнух. И хоть бы зажал коленями свое имущество! Хоть бы огрызнулся разок! Нет, оцепенел. Стоит и молчит как околдованный. Выбивая пятками дробь, тряся рукавами и многозначительно перемигиваясь, беспризорники всё сужают и сужают круги. Свершилось! Околдованный морем смотрит себе под ноги, потом в растерянности оглядывается. Ни торбы, ни беспризорников! В просветах между колоннами нет никого, лестница пуста. А в той торбе были сало, хлеб, смена белья, недочитанная книжка. Были! Машинально рука тянется под брыль, к затылку. Почему-то при подобных печальных обстоятельствах в Гайвороне принято чесать в затылке. Да что торба! Он тотчас же забывает о ней, потому что нечто гораздо более ужасное стряслось с ним до ее похищения. Его не взяли на корабль! За деревьями на площади виден бронзовый Нахимов. Он стоит спиной к приезжему. Поза говорит сама за себя. Прославленный флотоводец недвусмысленно дает понять, что до приезжего ему нет никакого дела. Еще более неприветливо ведут себя львы, лежащие по обеим сторонам лестницы. С подчеркнутым равнодушием они воротят от гайворонца свои надменные каменные морды. А ведь он просился даже не на самый большой корабль, крейсер или линкор, согласен был на любой, пусть маленький, пусть катер, лишь бы тот был военный. В гавани, как он и ожидал, было их полно, этих военных кораблей. Все одномастные, серые, — чтобы сливаться с морем и без следа исчезать в тумане, это-то он уже знал. Пушки грозные торчат в разные стороны. С палубы на причал переброшены сходни, возле них стоят вахтенные. А на мачтах — или как там: на реях? — полощутся веселые разноцветные флаги! Перекинув торбу через плечо, он прошел вдоль причала, не пропустил ни одного корабля. Сердце в груди трепыхалось, как флаг. У сходней он останавливался, стаскивал свой брыль, говорил: «Драстуйтэ!» или «Доброго здоровья вам!» Потом долго переминался с ноги на ногу, держа брыль у живота и ожидая, когда на него обратят внимание: по-деревенски вежливый, терпеливый, ну вылитый белоголовый пастушок из сказки. Его наконец замечали. Матросы, свободные от вахты, перевешивались через поручни, вступали в разговор. Выяснялось, что на корабле юнга не требуется. Разговаривали, однако, дружелюбно, советовали малость обождать, подрасти, а ведь это дело нехитрое: надо лишь вернуться домой и побольше есть борща и галушек, не заметишь, как и вырастешь. Он печально кивал, потом брел к следующему кораблю. Так прошел весь причал, и ни разу с корабля не раздалось долгожданное: «А хлопец вроде бы ничего себе. Вахтенный у трапа, пропусти!» Да, тут хочешь не хочешь, а зачешешь в затылке! Но даже стоя в этой бесславной позе на ступенях Графской пристани, Мыкола Григоренко ни секунды не думал о том, что из затеи его ничего не вышло и надо возвращаться домой в Гайворон. Покинуть море, корабли? Невозможно! Особенно сейчас, после того, как он их увидел… Мыкола ощутил толчок в плечо. Сжав кулаки, он обернулся. Опять эти… пятнистые? Нет. На лестнице стоит хлопец примерно одних с ним лет, с совершенно круглым, очень веселым лицом. Вначале, однако, понравилось не лицо. Внимание Мыколы привлекли сапоги. Правильнее даже назвать их ботфортами. Они были великолепны — непомерно длинные, настолько длинные, что верхнюю часть их пришлось вывернуть наизнанку и с небрежной лихостью спустить раструбом на икры. Ботфорты делали круглолицего похожим на Кота в сапогах. Это располагало к нему. Но Мыкола, к сожалению, произвел на него менее благоприятное впечатление. — Ну и шляпа у тебя! — сказал он, прищурясь. — Знакомая лошадь подарила? У нас лошадям такие надевают, чтобы голову не напекло. По всему, начало разговора предвещало драку. Однако и тут сказалась исконная гайворонская медлительность. Пока Мыкола, нахмурясь, набирал воздуху в грудь, пока замахивался, незнакомец, как воробей, скакнул на две или три ступеньки повыше и преспокойно уселся. — Про шляпу забудь! — сказал он. — Я пошутил про шляпу. Садись лучше да расскажи, почему сумный. Неожиданно Мыкола почувствовал доверие к нему. Присев на ступеньку лестницы, он принялся рассказывать, довольно сбивчиво. Кот в сапогах не отрывал от Мыколы серьезного взгляда. — Из дому подался — это ничего, — сказал он, — Я тоже думаю податься кой-куда. Но это потом. Револьвера не имею. Пожевать хочешь? — без всякой связи с предыдущим спросил он. Мыкола подумал, вспомнил об исчезнувшем сале и со вздохом сказал, что хочет. Тогда Кот в сапогах повел гайворонца за собой. Он вел его долго, какими-то спусками и подъемами. Выглядело так, словно бы морской город Севастополь построен на огромных окаменевших волнах. И это тоже понравилось Мыколе. На вершине горы остановились передохнуть. За спиной был собор, а внизу, у ног, — большие белые дома. Дальше синела бухта, и в нее медленно входил пароход, тоже большой и белый, как дом. Мыкола даже задохнулся от восторга. Потом они ехали на трамвае куда-то через поля и виноградники. Конечной остановкой была Кадыковка, окраина Балаклавы. Низенькие хатки были крыты не соломой, как в Гайвороне, а черепицей. Казалось, на них дольше удерживаются отблески заходящего солнца. Оно было большущее, красное-красное и нехотя погружалось в море. «Никуды звидсы не пойду!» — еще раз подумал Мыкола. Мазанка, где жил Кот в сапогах (его звали Володька), была низенькая, взрослым приходилось нагибаться, входя в дверь. Но внутри было очень чисто, уютно. Как и в гайворонских хатах, пахло чебрецом и полынью. И за ужином Володька проявлял заботу о Мыколе: сам растолковал родителям, что вот, мол, хлопец заболел морем, но где же и лучше лечить эту болезнь, как не у нас в Севастополе, верно? Мать молчала — она вообще была молчалива, — а отец охотно улыбался. Лицо у него было доброе, круглое, как у сына, только с усами. Звали его Василий Иванович Швыдкий. Он был вожаком знаменитой в Балаклаве ватаги, то есть рыбацкой артели. Судьба Мыколы, таким образом, решилась.ЧЕРЕСЧУР ЗАДУМЧИВЫЙ
Выяснилось, однако, что любовь его без взаимности: он-то любил море, но море не любило его. И кто бы мог подумать: он укачивался! В таких случаях опекун его Володька всегда старался быть рядом. На выручку вместе с ним являлась также тень адмирала Нельсона. Конечно, отчасти утешительно было узнать, что Нельсон тоже укачивался. Но ведь он был адмиралом. Кто бы осмелился списать его за это с корабля? А Мыколу запросто могли списать. Подумаешь, кухарь на сейнере (такая была у него незавидная должность). А это, заметьте, даже не юнга, всего лишь юнец на посылках, почти что прислуга за всё. Да и кухарь-то, признаться, был он никудышный. Пожалуй, самый никудышный на всем Черном море. А быть может, даже и на остальных морях. Все вечно валилось у него из рук: ложки, плошки, тарелки, сковородки. Как-то, выйдя с вечера в море, рыбаки должны были обходиться за завтраком одной-единственной ложкой на всех. То-то досталось кухарю! Накануне, споласкивая ложки после ужина, он по рассеянности шваркнул их за борт вместе с водой из бачка. — Ну что ты задумчивый, что ты такой задумчивый? — попрекал его Володька. — Это на лавочке в сквере можно быть задумчивым, а море, учти, не любит задумчивых. Зато Мыкола быстро научился чинить сети, сушить их и укладывать в сейнер. А когда по приказанию вожака начинал сращивать концы пенькового троса или чистить металлической щеткой якорную цепь, то залюбоваться можно было его работой. Откуда и прыть бралась в руках, тех самых, которые превращались в грабли, в нелепые растопыры, едва лишь ухватывали что-нибудь ломкое, хрупкое, бьющееся! — Имеет талант в пальцах! — глубокомысленно говорил отец Володьки. Но тотчас же прибавлял, потому что был справедливым человеком: — А морских ног не имеет. И зачем ему маяться с нами в море? На берегу тоже работа есть. Слесарь был бы из него подходящий. Володька сердился на отца: — Мается, да, но молча! Чуть засвежеет, сразу делается весь зеленый, но пощады у моря не просит. Зубы стиснет и работает!.. А ноги что? — Он пренебрежительно отмахивался. — Отрастут морские ноги. Домой Мыкола отписал, чтобы не беспокоились за него, все добрэ, у вожака ватаги принят, как родной, и ходит не только в море, но и в школу. Все им довольны, море тоже. (Что делать, тут уж пришлось взять грех на душу…)ЧЕРТ ПО ИМЕНИ ТРИНИТРОТОЛУОЛ
…Два шара плыли по течению на значительном удалении друг от друга. Похожи были отчасти на шлемы водолазов, но смахивали также на чертей, которые двигаются гуськом по морю, выставив головы из воды. Даже рожки торчали на круглых черных лбах. Пока сейнера меняли курс, один из рыбаков, в молодости служивший на флоте, объяснил, что мине достаточно боднуть корпус корабля, или причал, или камень, чтобы согнулся рог-колпачок. Тотчас хрустнет заключенная в нем колба, и жидкость прольется из нее на батарейку. — А потом? — Электрический ток, искры! И грохнут двести килограммов тринитротолуола! — Три-нитро-толу-ол! — с благоговением повторил Мыкола. — Как заклинание, Володька, верно? Мины оказались старые, обросшие ракушкой, — значит, очень долго находились под водой. Это было напоминание о войне: гражданской или даже мировой. Много лет подряд они спокойно покачивались под водой на длинных минрепах, как грибы-поганки. Шторм всколыхнул воду вокруг, минрепы лопнули, и мины всплыли на поверхность. Мыкола с Володькой заспорили, цокнутся ли они друг с другом или же ветер переменится и погонит их на камни. И в том и в другом случае мины взорвутся сами, иначе сказать — покончат жизнь самоубийством. Этого не произошло. Расторопный танкер вызвал по радио минеров. А уж те знали, как заклинать злого духа, заключенного в бутылке, — как-никак это была их специальность. Можно было, не приближаясь к минам, расстрелять их из пулеметов. Но здесь пролегал фарватер, места были людные. Поэтому с тральщика спустили шлюпку. В нее сели двое: минер и гребец. Шлюпка описала полукруг. Подойти полагалось с подветренной стороны, чтобы не навалило на мину. Минер, сидевший на корме, с подчеркнутым спокойствием закурил папиросу. Володька и Мыкола переглянулись. К чему этот форс? Рядом же двести килограммов не леденцов, а взрывчатки! Но то был не форс. Рыбак пояснил, что папиросу приходится закуривать, даже если минер некурящий. Обе руки его заняты, а огонь должен быть наготове. Минер перегнулся к мине. Гребец делал в это время короткие гребки, удерживая шлюпку на месте, на расстоянии вытянутых рук товарища. Издали было не видно, чего он там колдует. Но он подвешивал к мине патрон. — Смотрите, придерживает мину руками! — Вот наклонился, поджигает огнем папиросы бикфордов шнур! — Ага! Дал ей прикурить! Гребец не спускал глаз с минера. Тот выпрямился; гребец сразу навалился на весла. Быстро повернувшись к товарищу, минер стал ему помогать, налегая на весла, чтобы гребки были сильнее. На сейнерах притаили дыхание. Шлюпка удалялась от мины очень быстро, рывками. Когда до нее было метров восемьдесят, гребец и минер ничком легли на дно шлюпки. И вовремя! Секунды, отмеренные длиной шнура, кончились. Со звуками обвала поднялся над водой столб дыма, черный-пречерный. То, ругаясь и топоча ногами, выбирался из мины черт, по имени Тринитротолуол! А через несколько минут тем же путем последовал за ним и братец его из второй мины… В тот день рыба уже не шла — ее, наверное, распугали взрывы. Домой пришлось вернуться с пустыми руками. Но Володька и Мыкола не жалели об этом. Дотемна они торчали на улице — без устали описывали всем желающим взрыв, причем, как водится, с каждым разом добавляя кое-что в рассказе. — Угомонитесь вы! — прикрикнула на них мать. Но они не могли угомониться.«ВАШ КУРС ВЕДЕТ К ОПАСНОСТИ!»
Володька объявил, что ночь подходящая, надо бы половить крабов. С ним, как всегда, отправились младший брат его Тимофей и, конечно, верный Мыкола. Волны у берега занимались обычной своей возней, копошились подле камней, пробуя, прочно ли те сидят, и что-то недовольно бормоча. Камни, наверное, сидели прочно. Тайком от отца Володька отлил нефти в ведро и, намотав обрывки асбестового каната на две палки, закрепил проволокой. Факелы были зажжены. Краболовы вошли по колено в воду. Пятна света поплыли по воде. Время от времени факелы приходилось обмакивать в нефть, чтобы получше горели. Тимофей стонал и приплясывал на берегу от нетерпения. Он, увы, не получил факела. Он был на подхвате. Потревоженные в своем сне под камнями, ослепленные светом, крабы ничего не могли понять. Лишь огорченно и растерянно разводили клешнями, будто говоря друг другу: «Это надо же!» В корзине уже ворочались семь красняков и одиннадцать каменщиков, как вдруг Володька выпрямился: — Полундра! От неожиданности Мыкола уронил огромного красняка. Метрах в пятидесяти от берега чернел шар. В звездном мерцании, разлитом над морем, тускло отсвечивала его поверхность. Вот он колыхнулся и набычился, показав свои рожки. Мина! Она почти неприметно двигалась на длинной зыби, словно бы укоризненно качая лысой головой: «Ах, дети, дети! Крабов ловите? А вам спать давно пора!» Мина была, вероятно, из той же семейки, которую растормошил вчерашний шторм. Только эта подзадержалась — быть может, заглядывала в какие-нибудь бухточки по пути. Володька крикнул: — Тим! К бате! Живо! Еще рогатик! Пусть флотских вызывает! — А ты? — За ней пойду. — И я. — Нет. Ну, что стоишь? Как дам раза! Рыдая от обиды и зависти, Тимофей припустился бежать. — Мыкола! Весла тащи! Спотыкаясь, отчаянно спеша, Володька и Мыкола ввалились в ялик. — Сильно не греби! Табань!.. Снова греби!.. Табань! Мина неторопливо плыла вдоль берега, не удаляясь от него, но и не приближаясь к нему. Конвой на ялике сопровождал ее, держась на почтительной дистанции. В море стало меньше пахнуть водорослями, воздух, насыщенный солью, сделался словно бы плотнее. Впереди сверкнул огонь. Володька встал с банки, поднял зажженный факел и принялся им размахивать. Днем мог бы отличиться, просемафорить сигнал «Вди», что означает: «Ваш курс ведет к опасности». Ночью за неимением фонаря пришлось пустить в ход факел. Но это было даже интереснее — больше напоминало кораблекрушение. Мальчикам очень хотелось, чтобы навстречу шел пассажирский пароход водоизмещением в две тысячи тонн, не меньше, рейс Одесса — Батуми. И чтобы пассажиры толпились у борта, вглядываясь в темноту и переговариваясь взволнованными голосами. И капитан, стоя на мостике, произносил бы благодарность по мегафону. И над морем, навострившим уши, разносилось бы: «Спасибо вам за то, что предотвратили кораблекрушение!» А они, предотвратившие кораблекрушение, тихо сидели бы в ялике и смотрели, как проплывают мимо ряды ярко освещенных иллюминаторов. Но им повстречался не пароход, а какой-то катер-торопыга. На слух можно было угадать, что он не молод, страдает одышкой — пора, наверное, перебирать болиндер. Сигнал Володьки был отрепетован, то есть повторен, в знак того, что понят. На катере помахали фонарем, потом увалились мористее. Вскоре огонек растворился в переливающемся искрами море. Вот и всё. Как-то уж очень по-будничному, без приветственных речей и слез благодарности! А за что, собственно, благодарить? Выполнен моряцкий долг — товарищи предупреждены об опасности, так и положено на всех морях и океанах.МОРЕ СВЕРКНУЛО ПОД НИМ…
Но после этого стало скучно и холодно. Время, наверное, повернуло за второй час, минеры не появлялись. А береговое течение продолжало уносить мину дальше и дальше, по направлению мыса Фиолент. От беспрерывного мелькания искр клонило в сон, глаза слипались. Море раскачивалось и фосфоресцировало. Вяло двигая веслами, Мыкола думал о том, как хорошо бы сейчас лечь, с головой накрыться одеялом. Вряд ли встретятся еще суда, а утром минеры сами найдут мину. Но Володька не подавал команды. Мина же, поддразнивая, приплясывала и приплясывала на широкой зыби. Володька тоже устал, сидел молча, нахохлившись. Затем, чтобы отбить сон, он заговорил о дельфинах и «Черном принце». Примерно лет семьдесят назад в этих местах затонул пароход «Черный принц», груженный английскими золотыми монетами. Тогда была война, он вез жалованье солдатам и офицерам, которые осаждали Севастополь. Жалованье осталось невыплаченным. Налетел шторм невиданной силы, много английских и французских кораблей легло на дно. Среди них был и «Черный принц». Мыкола мерно кивал головой. Это было интересно, но искры продолжали мелькать перед глазами. На одном кивке голова опустилась к веслам и уже не поднялась. Ему представилось, что он сидит на камнях, а из прибрежной пены один за другим выплывают дельфины, держа монеты во рту. На это приятно было смотреть. Рядом с Мыколой на гальке вырастала гора монет. Тут-то мина ирванула! Вероятно, она в этот момент находилась от ялика метрах в двадцати, не очень близко, но и не очень далеко. Со сна Мыкола ничего не понял. Куча монет со звоном рассыпалась, дельфины куда-то пропали. Свистящий вихрь грубо выхватил его из теплой страны сновидений. Грохота Мыкола не услышал, не успел услышать, увидел только пламя. Почему-то оно было сбоку и в то же время внизу. Все море под ним длинно сверкнуло…ПЫТКА НЕПОДВИЖНОСТЬЮ
Оказалось, что оживать еще труднее, чем умирать. И дольше! Слишком узкой была эта щель — обратно в жизнь. Чтобы протиснуться сквозь нее, надо было затратить невероятно много усилий. Но он очень старался. Наконец все же удалось протиснуться. От боли он застонал и открыл глаза. Высокий потолок. Это хорошо! Комната полным-полна света и воздуха. За окнами синеет море. Спрыгнуть на пол и подбежать к окну! Мыкола вскинулся, но смог лишь приподнять голову над подушкой. Тело не подчинилось ему. И тогда он застонал опять, потому что понял: ожил лишь наполовину. Пытка неподвижностью — вот что это было такое! Попробуйте-ка полежать несколько часов на спине, совершенно не двигаясь, будто вас гвоздями прибили к кровати, и смотрите в высокое окно, за которым море и верхушки кипарисов. Вообразите при этом, что вам всего тринадцать или четырнадцать лет, что вас прямо-таки распирает от желания бегать, прыгать, кувыркаться, так и подмывает вскинуться, стукнуть голыми пятками об пол и опрометью выбежать из дома. Долго болея и постепенно теряя подвижность, человек, возможно, привыкает к такому состоянию, если к нему вообще можно привыкнуть. Но тут чудовищное превращение — в колоду, в камень — было мгновенным. И он никак не мог понять, как и почему это произошло. У него в результате контузии отшибло память. Казалось, всего несколько минут назад ходил, бегал, прыгал, смеялся, а теперь не может двинуть ни рукой, ни ногой, будто туго-натуго спеленат. Над ним склоняется озабоченное лицо нянечки, его поят лекарством и откуда-то, как слабое дуновение ветра, доносится шепот: «Бедный мальчик!» Значит, теперь он уже бедный мальчик? В голове прояснялось очень медленно. Ему надо было вспомнить все, снова испытать весь пережитый им ужас, секунда за секундой, только в обратном порядке. Врачи старались утешить Миколу. Но он молчал, упрямо закрывая глаза. Даже не мог отвернуться от врачей — должен был лежать, как положили, на спине, подобно бедному жучку, которого ни с того ни с сего перевернули кверху лапками. На несколько дней приехала из Гайворона мать. Но и с нею он больше молчал. — Бесчувственный он у вас какой-то, — соболезнуя, сказала докторша Варвара Семеновна. — Хоть бы слезинку уронил! Но она просто не знала ничего. Мыкола плакал, только тайно, по ночам. Принесли ему как-то книжку — «Евгений Онегин». Он читал ее весь вечер и был какой-то очень тихий. А ночью сиделке, которая вязала в коридоре, вдруг почудился плач. На цыпочках она вошла в палату. Ночник, стоявший на полу, бросал полосу света между койками. Отовсюду доносилось спокойное дыхание или натужный храп. Только на койке Мыколы было тихо. Он словно бы притаился, дышал еле слышно, потом все-таки не выдержал и всхлипнул. — Ты что? Спинка болит? — Ни. (Тоже шепотом.) — Ну скажи, деточка, где болит? Может, доктора позвать? — Нэ трэба, тьотю. Сиделка была уже немолодых лет, толстая, очень спокойная. Звали ее тетя Паша. Вздохнув, она присела на край кровати. — Отчего ты не спишь, хороший мой? В интонациях ее голоса было что-то умиротворяющее. И слово «хороший» произнесла она по-особому, певуче-протяжно, на «о» — была родом откуда-то из-под Володимира. Нельзя не ответить, когда тебя называют «хороший мой». Шепотом Мыкола объяснил, что в книжке есть стих: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Голос его пресекается… Но он преодолел себя. Ну вот! Когда в палате потушили свет, так ясно представился ему Гайворон, неяркое зимнее солнце и замерзший ставок у церкви. Крича от восторга, он, Мыкола, гоняет по льду с другими хлопцами. Коньки самодельные, просто чурбашки с прикрепленной к ним проволокой. Но какую же радость доставляют они! Ни с чем не сравнимую! Стремительного движения! Тетя Паша вздохнула еще раз. Потом заговорила спокойно и рассудительно, изредка вкусно позевывая. От одного этого позевывания спокойнее становилось на душе. Мыкола почти не вдумывался в смысл слов. Просто журчал рядом ручеек. Казалось, перебирает на бегу обкатанные камешки. И каждый камешек был звуком «о». Думая об этом, мальчик заснул.НА ХОДУЛЬКАХ
Не очень быстро, словно бы крадучись, возвращалась жизнь в тело — снизу, с кончиков пальцев на ногах. Вскоре Мыкола уже восседал на койке, обложенный подушками. А через несколько дней ему подали новый роскошный выезд — колясочку. На ней он принялся с удовольствием раскатывать по палате и коридору, крутя колеса руками. Жаль, гайворонские не могли видеть его на этой колясочке! Ого! Ездил на ней быстрее всех и особенно лихо заворачивал. Спустя некоторое время Мыколу поставили на костыли. Что ж, прыгать с костылями поначалу было даже занятно, напоминало какую-то игру. Он воображал себя кузнечиком. Был бедным жучком, стал веселым кузнечиком! И когда в одно из воскресений к нему пришел похудевший и побледневший Володька с длинным шрамом на щеке, Мыкола сразу потащил его в коридор — не терпелось похвастаться своим недавно приобретенным умением. — Бигаю, як на ходульках! Он быстро запрыгал по коридору. Костыли разъезжались, ноги еще плохо слушались, но Мыкола трудился изо всех сил. Проскакав до конца коридора и обратно, он притормозил и поднял оживленное, раскрасневшееся, с капельками пота лицо: — Ну, як? К его удивлению, друг не сказал: «Здорово!» или «Молодец ты!» Только пробормотал грустно-растерянно: — Ой, Мыкола… Однако он не умел долго горевать. Сразу же ему захотелось лично опробовать костыли, а еще через несколько минут Володька сидел на подоконнике, беспечно задирая прохожих и вместе с Мыколой поедая принесенные из дому коржики. Давно не было так весело Мыколе. Медсестры и нянечки, пробегая мимо, с изумлением и радостью слышали его смех — впервые за все время. Но после ухода Володьки Мыколе стало еще более тоскливо и одиноко в больнице.«КЛИНИЧЕСКАЯ» НАДЯ
Угрюмый, насупленный слонялся он по длинным коридорам. Костыли будто аккомпанировали его мыслям. Сухо пощелкивая в такт, приговаривали: «Так-то, брат! Так-то, брат!» Однажды по рассеянности он невзначай забрел в женское отделение. Там Мыкола увидел девочку, которая читала в коридоре книгу, пристроившись у окна. Она сидела на табурете, согнувшись, уперев руки в колени. Раскрытая книга лежала на другом табурете перед нею. Поза была не только странная, но и очень неудобная. Мыкола в изумлении остановился. Довольно долго он простоял так, пока наконец девочка не удостоила заметить его присутствие. Над книгой поднялось измученное, почти серое лицо с прилипшими ко лбу мокрыми прядями. Дыхание было затрудненное, со свистом. Узенькие плечи поднимались и опускались, в мучительном усилии проталкивая воздух в легкие. — Ну что ты стал? — спросила девочка сердито, но с расстановкой, потому что жадно хватала воздух ртом. — Не видишь — у меня приступ? Мыкола удивился еще больше: — А ты читаешь. — Я читаю, чтобы отвлечься. — Но ты же плачешь, — робко возразил он, видя, что по лицу девочки стекают слезы. — Фу, какой глупый! Я плачу не о себе! Я плачу о бедной Флоренс. И она с раздражением перевернула книгу обложкой вверх. Там стояло: «Диккенс. Домби и сын». После этого она опять уткнулась в книгу, считая, по-видимому, что вопрос исчерпан. Мыкола молча смотрел на нее. Через две или три минуты она кинула через плечо: — Ты еще не ушел? И смущенный Мыкола запрыгал обратно на своих костылях. На следующий день он вернулся. Что-то в этом было непонятное, какая-то загадка. А когда он натыкался на загадку, ему хотелось немедленно ее разгадать. Девочки в коридоре не было. — Кого шукаешь, мальчик? — Грудью вперед выплыла из дверей молодая санитарка, очень веселая и такая лупоглазая, что можно было принять ее за краба-красняка. Озираясь по сторонам — дёру бы дал, если бы не эти костыли, — Мыкола пробурчал: — Була тут… кныжку читала… — А, ухажер пришей! До нашей Надечки ухажер пришел! — радостно, на весь коридор, заорала санитарка. Ну и голос, пропади ты вместе с ним! Граммофон, а не голос! Мыкола начал было уже разворачиваться на своих костылях, но громогласная продолжала неудержимо болтать: — В палате Надечка твоя, в палате! Консилиум у нее. Ты думаешь, она какая, Надечка? Про нее в газетах пишут. Умерла было раз, потом обратно ожила. Клиническая смерть называется. Она произнесла «клиническая» с такой гордостью, будто сама умерла и ожила. Мыкола совсем оробел. Стоит ли связываться с такой девчонкой? Еще от главного врача попадет. Консилиум! Клиническая! Видно по всему, цаца большая. Но вечером, ужасно конфузясь, он в третий раз притопал к дверям женской палаты, хотя знал, что это запрещено. Вообще-то Мыкола не интересовался девчонками. В окружавшем его еще необжитом, таившем так много радостных неожиданностей, разноцветном мире было кое-что поинтереснее на его взгляд: море, например, военные корабли, рыбалка. Но «клиническая» Надечка бесспорно выгодно отличалась от других девчонок. Умерла и ожила! Это надо было суметь. И ведь он тоже умирал и ожил. Это в какой-то мере сближало их. Девочка сидела на подоконнике откинувшись, с книгой в руках. Сегодня она встретила Мыколу по-хорошему. — Флоренс и Уолтер полюбили друг друга! — радостно объявила она. Мыкола понятия не имел, кто эти Флоренс и Уолтер, но, будучи вежливым малым, одобрительно покивал: — Цэ добрэ. Вслед за тем выяснилось, что Надя больна бронхиальной астмой. — Вдруг мои бронхи сужаются. И тогда не хватает воздуха. Как рыбе на берегу, понимаешь? Это-то он мог понять. Понавидался рыб на палубе и на берегу. Часто ли бывают приступы? Ая-яй! По пять — шесть в день? Он сочувственно поцокал языком. — В больнице реже, — утешила его Надя. — Здесь лечат меня. Еще то хорошо, что во время приступа никто не причитает надо мной. А дома мать встанет у стены, смотрит и плачет. На меня это действует. Вроде бы невежливо спрашивать у человека: «Ну, а как вы умирали?» Но Мыкола рискнул спросить. — О! Это на операционном столе было. — Надя беспечно тряхнула волосами. — К астме не имеет отношения. Я и не помню, как было. Лишилась сознания, сделалась без пульса, мне стали массировать сердце, делать уколы и искусственное дыхание. Три минуты была мертвая, потом ожила. Она посмотрела на Мыколу, прищурясь и немного вздернув подбородок. Все-таки она задавалась, хоть и самую малость. Впрочем, кто бы не задавался на ее месте? Для поддержания собственного достоинства Мыколе пришлось упомянуть о мине. То, что он тонул и вдобавок был контужен, явно подняло его в глазах новой знакомой. Подробности взрыва, однако, пришлось вытягивать из Мыколы чуть ли не клещами. — Ну, бухнуло. А дальше? — допытывалась Надя. — Как ты тонул? Как задыхался? Что же ты молчишь?.. В больнице, кроме них, не было других детей. Они стали много времени проводить вместе. Надя сразу же взяла с Мыколой тон старшей. А она не была старше, просто очень много прочла книг. И даже не в этом, наверное, было дело. Долго болела, чуть ли не с трех лет. А ведь больные дети взрослеют намного быстрее здоровых. Она была некрасивая. Это Мыкола точно знал, потому что при нем молоденькая практикантка сказала своей подруге: — До чего же эта Кондратьева некрасивая! — Да, бедняжечка, — вздохнула вторая практикантка, потом, повернувшись к зеркалу, заботливо осмотрела себя и поправила воротничок. Некрасивая? Вот как! Сама Надя шутила над своим носом. «Как у дятла», — смеялась она. Но она не часто смеялась. Обычно говорила сердито и отрывисто, будто откусывая окончания слов, — не хватало дыхания. От этого слова приобретали особую выразительность. Четырнадцатилетняя худышка, замученная приступами, лекарствами, процедурами, она удивительно умела поставить себя с людьми. Даже главный врач, наверное, считался с нею. А когда лупоглазая опять гаркнула про «ухажера» и его «кралечку», Надя так повела на нее глазами, что та сразу перешла на шепот: «Ой, нэ сэрдься, сэрдэнько, нэ сэрдься!» — и отработала задним ходом в дежурку. Мыкола мстительно захохотал ей вслед. И ничего-то она не понимает, эта ракообразная. Просто ему скучно без Володьки. Но через день или два, спеша к подоконнику, где они коротали время после тихого часа, Мыкола подумал, что, может, и не в Володьке дело. С Надей не только интересно разговаривать. Почему-то хотелось, чтобы эта девочка все время удивлялась ему и восторгалась им. Но она была скупа на похвалы.«ХАРАКТЕР У НЕГО ЕСТЬ!»
И все же именно благодаря ей Мыкола однажды узнал, что у него есть характер. — Вот Иван Сергеевич идет, — сказала Надя. По коридору шагал врач ее отделения, в развевающемся белом халате, оживленный, веселый, перебрасываясь шутками со своими пациентами. Мыкола, опустив глаза, неловко слез с подоконника. Надя спрыгнула вслед за ним. — Иван Сергеевич! — громко сказала она. — Тот самый мальчик! Я уже говорила вам. Хочет стать моряком. Но его костыли… Она так спешила рассказать про Мыколу, что задохнулась. — Тут ведь, Надюша, дело не в костылях, — услышал Мыкола. — Тут все дело в том, есть ли у него характер. Мыкола несмело поднял глаза. На него смотрели очень пытливые глаза. Впервые, говоря с Мыколой о его будущем, ему смотрели прямо в глаза, а не косились на костыли. Они как будто даже не интересовали Ивана Сергеевича. Он продолжал всматриваться в мальчика на костылях, что-то обдумывая и взвешивая. Мыколе представилось, что это какой-то безмолвный экзамен. Потом он почувствовал, как большая добрая рука взъерошила его волосы. Тот же неторопливый и задумчивый голос сказал: — Знаешь, Надюша, дело не так плохо. По-моему, характер у твоего приятеля есть. Только всего и сказано было Иваном Сергеевичем. Улыбнувшись детям, он зашагал дальше по коридору. Но размышлений и волнений по поводу его слов хватило Мыколе на много дней. …Он придумал тренироваться — втайне от всех. Готовил Наде сюрприз. Забирался в глубь сада, чтобы его никто не видел, и пытался хоть несколько метров пройти без костылей. Делал шаг, подавлял стон, хватался за дерево, опять делал шаг. Земля качалась под ним, как палуба в шторм. Пот катился градом. Колени тряслись. Но рот его был сжат. Мыкола заставлял себя думать только об одном: вот Надя удивится, когда увидит его без костылей! Или еще лучше: он притопает к ней на костылях, а потом отбросит их — ага? И лихо выбьет чечетку! Увы, как ни старался, дело не шло. Правильнее сказать, ноги не шли. Руки-то были сильные, на перекладине мог подтянуться десять раз, а ноги не слушались. Как будто вся сила из них перешла в руки. А Надя по-прежнему сердилась на него: почему он вялый, почему невеселый? — Ты только себя не жалей! Ты же сильный, широкоплечий. Вон как хорошо дышишь! Я бы, кажется, полетела, если бы могла так дышать. Да, она до самой разлуки была сурова, требовательна, неласкова… И вот настала весна. В тот день, как всегда, дети сидели на подоконнике и разговаривали. О чем? Кажется, о кругосветных путешествиях. Окно было раскрыто настежь. Внизу пенился цветущий сад. Не хотелось оборачиваться — за спиной шаркали туфлями «ходячие» больные. Коридор был узкий, заставленный шкафами и очень душный, каждую половицу пропитал опостылевший больничный запах. И вдруг прохладой пахнуло из сада. Между Мыколой и Надей просунулась ветка алычи. От неожиданности он откинул голову. Это ветер подул с моря и качнул ветку, стряхивая лепестки и капли, — быстрый дождь недавно прошел. Надя потянула к себе ветку. — Как ты хорошо пахнешь! — шепнула она, прижимаясь к ней щекой. — Какая же ты красавица! Я бы хотела быть похожей на тебя. — Она покосилась из-за ветки на Мыколу. — Ты меня будешь помнить? Что она хотела этим сказать? Мыкола заглянул ей в лицо, но она уже отвернулась. — Смотри! Белые и розовые цветы — как вышивка крестиком на голубом шелке, верно? Мыкола посмотрел, но не увидел ничего похожего. Просто стоят себе деревья в цвету, а за ними море, по-весеннему голубое. Такое вот — вышивка, крестики, шелк — могло померещиться только девочке. И тем же ровным голосом, каким говорила о вышивке, Надя сказала вдруг: — Уезжаю завтра. — Как?! — За мной приехала мать. Мыкола сидел оторопев. Волосы над его ухом зашевелились от быстрого шепота: — Ты пиши мне! И я буду. А следующим летом опять приеду: ты уже будешь без костылей, а я стану хорошо дышать. — Надечка, — пробормотал Мыкола жалобно. Но не в ее натуре было затягивать прощанье. Неожиданно для Мыколы она коснулась губами его губ, спрыгнула с подоконника и убежала. Отпущенная ветка, мазнув Мыколу по лицу, стряхнула на него несколько дождевых капель и лепестков. Так и остался в памяти этот первый поцелуй: ощущением прохладных брызг и запахом алычи, очень нежным, почти неуловимым…ЗЕМЛЯ РВАНУЛАСЬ ИЗ-ПОД НОГ
В середине лета дядя Илья получил отпуск и, прихватив за компанию Мыколу, съездил к родственнику в Балту. А когда они вернулись, то оказалось, что в Крыму в их отсутствие было землетрясение. Никто на мысу, правда, не пострадал и разрушений не было, только пес Сигнал охрип от лая. Мыкола насупился. В кои веки те землетрясения случаются, так на ж тебе — угораздило отлучиться! Однако некогда скучать на маяке. День за днем проходил, и Мыкола забыл о своей «неудаче». В тот вечер долго сумерничали, ожидая тетю Пашу, которая задержалась в больнице. Она пришла только в двенадцатом часу, поворчала немного за то, что Витюк не уложен, и разогнала по койкам всю честную компанию. Но у двери принялся скулить и повизгивать Сигнал. Мыкола распахнул дверь. Сигнал почему-то ухватил его зубами за штанину и потащил через порог. Ночь была темная. Остро пахли водоросли, будто тонны рыбы вывалили на берег. Цикад не было слышно, хотя спать им еще не полагалось. Сигнал вел себя по-прежнему странно. Припадал на передние лапы и взлаивал, будто хотел что-то объяснить Мыколе, о чем-то его предупредить. — Нашел время играть! — зевая, сказала тетя Паша с кровати. — Оставь его, дурака, на дворе, пусть побегает. Мыкола не смог сразу заснуть. Обычно шум прибоя убаюкивал, но сегодня он был какой-то неравномерный. Так стучала кровь в висках, когда Мыкола лежал больной. Но разве море может заболеть?.. Он проснулся оттого, что кусок штукатурки упал ему на нос. В комнате было серо от пыли. Он услышал зычный плач Витюка. Ничего не понимая, Мыкола нашарил костыли, вскочил, запрыгал к двери. Его обогнала тетя Паша с Витюком на руках. За порогом пригвоздил к земле протяжный, очень тонкий звук: «А-а-а!» Будто муха суетливо билась в стекло. Кричали где-то на горе, возле больницы, и внизу, у шоссе, — сразу много людей, наверное женщины. То было второе землетрясение, более сильное, чем первое. Мыкола стоял, как столб, растерянно озираясь по сторонам. Мимо пробегали полуодетые люди. Они сносили вещи к платану, который рос посреди двора, успокаивали плачущих детей, переговаривались высокими голосами. Неожиданно вышел из повиновения дядя Илья. Не слушая слезливых уговоров тети Паши, сидевшей под платаном на узлах, он поспешил на маяк, хотя вахта была не его. Фонарь продолжал светить. Прошло несколько минут, и землетрясение возобновилось! Земля рванулась из-под ног, Мыкола упал, разбросав свои костыли. Это было невероятно, дико, ни с чем несообразно! С детства человек приучен к мысли, что земля, по которой он ходит, есть самое надежное в мире. Твердь! Море, понятно, дело другое. Море — это стихия, ненадежная, зыбкая. Но сейчас земля вела себя совершенно как море. Двухэтажный дом по ту сторону шоссе наклонился и выпрямился, будто баркас на крутой волне. Изумленный Мыкола перевел взгляд на платан. Тот качался. Размахи были очень сильными, словно бы дул ураган. Но ветра не было. А из недр несся нарастающий зловещий гул, будто подземными коридорами, сотрясая все вокруг, проезжала вереница грузовиков. — Обвал! Обвал! — Кто-то показывал на горный кряж. С зубчатого гребня оторвалось облачко и стремглав понеслось вниз. Но горы были далеко. Они словно бы вырастали на глазах, а берег почти ощутимо сползал к морю. Конечно, это только почудилось. — Море горит! Вдали над черной водой виднелись два высоких светящихся столба — это из расщелин на дне вырвался раскаленный газ. Мыкола читал о таких столбах. Но одно дело читать о землетрясении, уютно устроившись за столом, поближе к керосиновой лампе, и совсем другое — переживать землетрясение. Самым страшным был этот непрекращающийся тонкий, колеблющийся вой: «А-а-а!» Он вонзался в душу. В ужасе кричал, казалось, весь южный берег, терпящий бедствие. Люди вели себя по-разному в беде. Никогда бы не подумал Мыкола, что садовник соседнего санатория, громогласный, толстый, с торчащими врозь усами, способен плакать. Но он плакал. И, видимо, сам не сознавал этого. По неподвижному щетинистому лицу струились слезы, а он не утирал их. Поддалась панике и тетя Паша, обычно такая уравновешенная. В одной нижней юбке, босая, распатланная, она то крестилась, то целовала зареванного Витюка, то судорожно цеплялась за Мыколу. Вдруг она подхватилась и, усадив Витюка на узлы, кинулась в дом. — Куды вы, тьотю?! — Ходики забыла, господи! И зачем ей понадобились эти ходики — дешевые деревянные часы с гирькой? Ведь она не была жадной и вещей успела захватить из дому гораздо меньше, чем соседки. Но, быть может, с ходиками связаны были воспоминания, а они обычно дороже всяких вещей. Ходики как бы воплощали для нее семейное благополучие. Когда все бессмысленно рушилось вокруг, ломался и трещал по швам размеренный уклад жизни, эти часы-друзья были ей особенно дороги. Казалось, без них просто нельзя жить. Никто не успел ее остановить. Она метнулась в дом. И тут снова тряхнуло! Тетя Паша показалась в проеме двери, почему-то держа ходики высоко в руке. Вдруг она споткнулась и упала. Сверху сыпались на нее какие-то обломки, глина, пыль. Оцепенев, смотрел на это Мыкола. И Витюк тоже смотрел на мать, сразу прекратив плач. Она попыталась встать, не смогла. То ли придавило ее, то ли обеспамятела и обессилела от страха. И тогда Мыкола кинулся к ней на помощь! Он не думал об опасности. Видел перед собой только это лицо в черном проеме двери, белое, с вытаращенными от ужаса молящими, зовущими на помощь глазами. Рывком подхватил тетю Пашу под мышки, поднял. Кто-то топтался рядом. Кто это? А! Садовник из санатория! Вдвоем они поспешно вытащили тетю Пашу из дома. И вовремя! Едва лишь успели сделать это, как кровля и стены обрушились. Там, где только что лежала тетя Паша, медленно расползалась куча камней и щебня. От поднявшейся пыли Мыкола чихнул и с удивлением огляделся. Что это? Землю не качает, но все еще происходит необычное. Он не сразу смог понять что. Набежавшие соседки с ахами и охами повели тетю Пашу под руки. Она оглянулась, вскрикнула: — Костыли-то где? Костылей в руках у Мыколы не было. Костыли лежали в нескольких шагах. Он и не заметил, как отбросил их. Как же это удалось перемахнуть такое расстояние без костылей? Будто внезапно подувшим волшебным ветром приподняло и кинуло к дому. Он раскинул руки, робко сделал шаг. Сейчас получилось хуже. Сейчас он думал о том, как бы сделать этот шаг. Тогда он не думал. С маяка вернулся дядя Илья. С двух сторон зажужжали ему в уши, показывая на кучу камней и щебня у двери и на Мыколу без костылей. Да, он ходил без костылей, очень коротенькими, неуверенными шажками, вокруг широковетвистого платана. К тому времени там собрался целый табор. Место это казалось наиболее безопасным, потому что строения стояли поодаль. Люди так и заночевали у платана — на одеялах, тюфяках, просто на траве. Земля успокаивалась медленно. Толчки повторялись, слабея раз от разу. Будто кто-то, озорничая, подползал тайком, хватал за край тюфяка, тянул к себе, потом, проказливо улыбаясь, отпускал. Хотелось крикнуть: «Эй, хватит! Кончай баловаться!» Рядом с Мыколой вздыхали, стонали, охали во сне люди. Дети зато спали неслышно — устали от плача. Прибой тяжело бил о берег — море было растревожено землетрясением. Нет, Мыкола не в силах заставить себя заснуть! Он осторожно поднялся, проверяя себя, сделал шажок, остановился. Получилось! Не очень хорошо еще, но получилось. Он мог ходить без костылей! Он повторил опыт. Колени его дрожали, спина болела, мускулы рук напряглись, ища и не находя привычную опору. Но все это было ничего. Готов был вытерпеть любую боль, лишь бы ходить без костылей. И он снова и снова повторял свои попытки, медленно, очень медленно двигаясь по кругу, будто бессонный часовой, обходя платан и спящих у платана людей…* * *
Я перечитал главу о детстве и засомневался. Не слишком ли много насовал сюда всяких мелочишек, не идущих к делу? Но, с одной стороны, лишь узнав до конца биографию Мыколы, можно сказать, идут или не идут к делу эти мелочишки. С другой — нельзя же забывать, что это и мое детство, не только Мыколы. А в детстве все воспринимаешь и запоминаешь с почти стереоскопической четкостью, каждая пылинка видна, ярко освещена солнцем. И все же, как ни верти, темп повествования замедлен. Если бы сразу перейти от тысяча девятьсот двадцать седьмого года к тысяча девятьсот сорок второму, рывком перебросить читателя в задымленный, содрогающийся под немецкими снарядами и бомбами Севастополь, было бы, пожалуй, еще ничего. Такие контрасты в литературе уместны. Хотелось бы, например, описать, как я, только что прибыв в Севастополь с конвоем из Новороссийска, пройдя «дорогу ста смертей», вымокший, продрогший, полуослепленный и полуоглушенный (из-за почти беспрерывных налетов немецкой авиации на наши корабли), ввалился в штольню, где размещался штаб обороны, и там, чуть ли не на пороге, угодил в объятия Мыколы. Не виделись мы что-то около пятнадцати лет и тем не менее сразу же узнали друг друга. — Мыкола! Ты здесь? И без костылей? — Давно и думать забыл о них. — Военный моряк! Командир! Вот уж не думал, не гадал! — Ты тоже моряк. — Ну, я-то всего лишь корреспондент. А ты? — Минер. Но, по-моему, ты хотел биологом, океанологом, кем-то там еще? — Именно: кем-то там. Знаешь поговорку: «Слишком много у тебя способностей, не отчаивайся, можешь еще стать журналистом»? Вот я и стал им… Но слушай, мне же надо представиться начальству. Где оно? — Обсушись сначала. Побросало вас, видно, в море? Да, не просто это — на крутой волне увертываться от бомб! И он повел меня по длинному зигзагообразному коридору в кубрик флагманских специалистов, где, не слушая никаких возражений, заставил снять мокрое белье и надеть на себя его сухое. Только после этого отпустил представляться начальству… Так с первых же моих шагов в осажденном Севастополе изменились наши с Мыколой взаимоотношения. Много лет назад я покровительствовал ему. Теперь, наоборот, он стал покровительствовать мне. В этом духе продолжалось и дальше. Конечно, немаловажную роль играло то, что он — офицер флота, минер, участник обороны с первых ее дней, я же — газетчик, залетная птица, прибыл сюда по заданию редакции. Но главное, как я понимаю, было в логике развития характеров… Ну-с, после соблюдения формальностей, кои полагается выполнить корреспонденту, прибывшему в командировку, мы с Мыколой присели к столу в кубрике и, по традиции, перевернули чарочку. Я не переставал удивляться: — Смотри-ка, и костыли отбросил, и военным моряком стал! — А я, Володя, специальной гимнастикой занимался. Иван Сергеевич, один доктор, долго меня тренировал. Он и в Никитский сад устроил работать. Чтобы от моря никуда не уезжать. — Мыкола усмехнулся. — Потом, когда мой возраст подошел, я два года подряд в военно-морское подавал и обрывался. С третьего только раза приняли. — Да-а, силен!.. А вообще выглядишь дай бог. Вот что значит, брат, военно-морское училище! Пообтесали тебя там. А помнишь, каким ты был? Укачивался, по полчаса раздумывал, прежде чем ответить на вопрос, ложки-плошки за борт шваркнул из бачка. Ох, и ругали же мы все тебя тогда за рассеянность! Он ответил с достоинством: — Не положено это, Володя, в минном деле — рассеянность. Пришлось отвыкать. О землетрясении рассказал более или менее подробно, о Наде же Кондратьевой упомянул вскользь и как-то неохотно: — Виделись с нею потом в Москве. Тоже помогла. Она, знаешь, очень хорошо объяснила мне меня. Что это означало, я не понял, но не стал уточнять. — А дядю Илью, маячника, не забыл? — спросил я, — Где он? — У партизан, говорят. Ушел в горы. Тетя Паша жива. Санитаркой в госпитале. А твои где? — Тимофей — в Чкалове, в пехотном училище. А старики умерли, Мыкола. — Жаль. Стало быть, никого в Севастополе нет? — Теперь ты есть… Нужно отдать Мыколе справедливость — он в полной мере проявил флотское гостеприимство. Меня даже поселили в кубрике флагманских специалистов, что было против правил. Койки там стояли друг над другом в три ряда, и табель о рангах действовала в обратном порядке: младшие по званию офицеры размещались на верхотуре. Я устроился бок о бок с Мыколой под самым потолком. Надеюсь, что Мыкола не пожалел об этом. За те годы, что мы не виделись с ним, я тоже изменился кое в чем — стал, например, очень дотошным и настырным в разговоре. Что поделаешь: профессиональное! Стараюсь во что бы то ни стало докопаться до сути вещей (на войне — до сути подвига). Собеседников это, понятно, утомляет. Впрочем, о Наде как раз я не расспрашивал Мыколу. От однокашника его по училищу узнал, что она накануне войны приезжала в Севастополь и здесь между нею и Мыколой произошла ссора. Вот оно что! Мыколе не повезло в любви. Ранка в душе еще саднит, каждое неосторожное прикосновение причиняет боль. Но разоружение мин — это же совсем другое, к личной жизни не имеет отношения! И потом, я просто обязан был знать все об этом, коль скоро собрался писать о Мыколе очерк в газету. — Что ты чувствовал, когда уронил мастику с последним отпечатком? — приставал я с расспросами к Мыколе. — Ты же должен был что-то чувствовать. Не притворяйся человеком без воображения. Я тебя знаю с детства. У тебя очень живое воображение. А ведь с ним нелегко в подобных случаях. — Мне и было нелегко, — угрюмо отвечал он. — Но я подавлял свое воображение. — Ну, а дальше? Да говори же ты, горе мое! О чем ты думал, когда наложил ключ на первую горловину? — О чем? О горловине… Я сердито отворачивался. Потом, передохнув, возобновлял свои расспросы. В общем, я охаживал его так же, как он эту свою каверзную мину, терпеливо заходя к ней то с одной стороны, то с другой, примериваясь, как бы ее получше взять. И ведь вот что обидно: мои товарищи, военные корреспонденты, наверняка завидовали мне! Еще бы: друг детства знаменитого севастопольского минера Григоренко! Везет человеку. То-то небось блокнотов исписал! Не то что на очерк — на повесть, а то и на целый роман хватит. Нет, мало мы все-таки поговорили с Мыколой, очень мало, хоть и не одну ночь пролежали рядом на верхотуре. Вот почему план повести — в зияющих прорехах. Как быть? Разве можно писать клочками в надежде на то, что они сами потом срастутся? Конечно, я никогда не писал повестей, но считаю, нельзя перепрыгивать через этапы. В литературном произведении должна быть плавность, непрерывность, хронологическая последовательность. За событиями детства просится под перо встреча Мыколы с этой Надей в Москве, когда он был курсантом, и потом их нелепая ссора и разрыв в Севастополе незадолго перед войной. Мне, конечно, могла бы, и должна, рассказать об этом сама Надя. Тем более спустя столько лет. Так вот поди ж ты — не захотела! Почему? Ума не приложу. Рассердилась за то, что я не сразу сообщил ей о смерти Мыколы? Но я же берег ее, не хотел расстраивать раньше времени! Еще теплилась какая-то надежда. А вдруг, думаю, уцелел наш Мыкола, выжил, — бывало же такое на войне. Редакция, по моему настоянию, запросила подтверждение у собкора на флотилии: найдено ли тело капитан-лейтенанта Григоренко? Собкор ответил: не найдено, вытащить из горящего дома не смогли ввиду скоротечности боя. А когда спустя несколько часов наша пехота продвинулась вперед, на месте дома дымились развалины. Тогда я и позвонил военврачу Кондратьевой (отыскать ее для газетчика не составило труда, тем более в Москве). Не помню, что я ей говорил. Вдруг в разговоре произошла пауза. Я подумал, что нас разъединили. «Алло! Алло! Слушаете меня? Куда вы пропали?» Наконец раздался ее голос: «Я никуда не пропала… Я вас слушаю…» Но голос показался мне странным, был какой-то приглушенный, чересчур медленный. «Буду у вас в госпитале минут через сорок, — сказал я. — Сейчас выезжаю». — «Хорошо. Выезжайте…» Добираясь до нее, я заставлял себя освоиться с этой нелепой мыслью: Мыколы нет. И я даже не мог похоронить его, как полагается, с отданием воинских почестей. Тут-то впервые пришла мысль о повести. Пусть, если ничто не в силах воскресить Мыколу, он навсегда останется на ступенях Графской пристани таким, каким я видел его когда-то, — для юных читателей моей книги. Каюсь: по-видимому, проявил излишнюю торопливость. Недаром и фамилия у меня Швыдкий, что по-украински значит: быстрый. Что задумал, то стараюсь осуществить сразу же. Но с этой Надей я заговорил о повести, конечно, не сразу. Опуская тяжелые подробности, передал сначала все, что знал из сообщения нашего собкора. И вдруг мне показалось, что она не слушает меня. Кстати, я почему-то представлял ее себе некрасивой, чуть ли не уродиной. Нет, женщина как женщина, только лицо чересчур бледное, очень усталое. И вообще какая-то она была сплошь стерильная, негнущаяся в своем белом халате, заледеневшая, будто ее вынули перед моим приходом из холодильника. Трудновато Мыколе, наверное, пришлось с нею. И хоть бы слезинку уронила! Я объяснил ей, что хочу написать о нашем общем друге и очень прошу помочь мне в отношении биографического материала, — конечно, впоследствии, когда она немного успокоится. Нет и нет! Едва разжимая губы, отказала наотрез. Я только руками развел. Неубедимая! А немало интересного, наверное, могла порассказать о Мыколе, если бы захотела. И как раз о том, чего сам он не позволил касаться ни вскользь, ни всерьез. Другие, наоборот, любят хвастаться своими женщинами, охотно «вводят товарищей в курс», не пренебрегая и подробностями, консультируются, ищут сочувствия. Мыкола же всегда отмалчивался. Для него это было табу. Но уж мне-то, лучшему своему другу и будущему биографу, стоило бы рассказать?..2. BETKА АЛЫЧИ
…Вдруг этот суетливый круглолицый объявил: «Надежда Викторовна! Вы должны помочь мне увековечить нашего Мыколу в литературе!» Меня это ударило по нервам, и без того натянутым до отказа. «Увековечить!» Еще час назад я думала о нем, как о живом, а теперь его уже хотят увековечить? Значит, всё, сомнений нет, он мертв! И потом, почему этот суетливый говорит «наш»? Какие у него права на Мыколу, чтобы говорить так: «наш»? Владимир Васильевич?.. Володька?.. Да, припоминаю: Мыкола рассказывал в больнице о каком-то Володьке, и обычно с восхищением, чрезмерным и утомительным, на мой взгляд. Заочно он не нравился мне. Теперь и подавно не понравился. С самого первого шага, с самого первого своего слова. Стыдно даже сказать почему. Но я скажу. Потому что он был такой цветущий, здоровый. Мой Мыкола погиб, а этот… Володька жив-живехонек. Лицо, правда, у него было печальным и голос участливым, но я все равно не могла ему простить. Нехорошее чувство, согласна. Особенно потому, что я врач. И ведь он постарался проявить деликатность: вначале позвонил по телефону, чтобы «хоть немного амортизировать удар», как он сказал. Этим дал возможность подготовиться к его приезду. Но, видимо, я переоценила свои силы. Ничего почти что и не поняла из того, о чем он говорил. Он говорил, а я смотрела на него и думала: боже мой, почему погиб не ты, а Мыкола? Вот ты разглагольствуешь здесь и делаешь жалостливое лицо, хотя, может быть, ты совсем не плохой, я просто преувеличиваю, но как я была бы тебе благодарна, если бы ты поскорее ушел! С тобой мне тяжелее, намного тяжелее. Умер! Умер! Но я не хочу, чтобы Мыкола умер! Ведь мы еще должны были встретиться. Обязательно встретиться и объясниться. Неужели же он умер, думая обо мне, что я плохая, легкомысленная, что я могла забыть его, предпочесть кого-нибудь другого? Мне показалось, что я вскрикнула или громко застонала. Но Володька не прервал своих разглагольствований. И нянечки продолжали озабоченно сновать мимо нас по коридору. Значит, я сдержалась, только хотела крикнуть или застонать. Ни на секунду нельзя было дать волю нервам, забыть, что я начальник отделения неврологического госпиталя, что вокруг — мой медперсонал, мои больные, среди которых немало тяжелых. Для них я, что бы со мной ни случилось, должна оставаться примером выдержки и самообладания. Наконец этот Володька ушел. Я осталась наедине со своими мыслями о Мыколе. Я вернулась к этим мыслям…1
Мне видится Мыкола на площади у Мавзолея. Он обернулся, нахмуренные было брови удивленно поднялись, гнев на лице сменяется радостью. Да, да, радостью! Он узнал меня! По рукаву его бушлата сползает мокрый снег. Это я только что угодила в Мыколу снежком, хотя метила в кого-то из своей компании. Смеясь, то и дело перебрасываясь снежками, мы бежали по Красной площади, спешили в театр. Мы — это я, моя подруга и два наших молодых человека. Днем выпал снег, ранний, он редко выпадает в Москве до Ноябрьских праздников. Так приятно было помять его в руках! Он бодряще пахнул, но, к сожалению, был непрочен, почти сразу таял. Все же удавалось лепить из него снежки. Мельком — со спины — я увидела моряка, который в задумчивости стоял перед Мавзолеем. Площадь была уже в праздничном убранстве, в небе пламенело живое пятно — то над куполом Кремлевского дворца парил, вздувался и опадал подсвеченный снизу флаг. Но мне и в голову не могло прийти, что моряк — Мыкола, тот самый мальчик на костылях, с которым мы давным-давно коротали время в унылой, пропахшей лекарствами больнице. Тут-то я и промахнулась: хотела попасть в одного из наших молодых людей, а залепила снежком в моряка. Он обернулся. «Ах, извините!» — застряло у меня в горле. Едва лишь он обернулся, как мы тотчас же узнали друг друга. Не сомневались, не удивлялись, не переспрашивали: «Ты ли это?» Будто что-то толкнуло меня в сердце: «Мыкола!» Не помню, что мы говорили друг другу, какую-то ерунду и, кажется, держась за руки. Со стороны, наверное, выглядело очень смешно. — Опаздываем же, Динка! — строго сказала моя подруга. А один из молодых людей посоветовал с деланной небрежностью: — Обменяйтесь на ходу телефонами, а вечер воспоминаний перенесите на завтра. — Нет! Продайте мой билет, я не пойду. — Динка! — Ну-у, Диночка! — Бегите, бегите! А то в театр опоздаете! И они убежали, удивленно оглядываясь. — Поедем ко мне, — сказала я. — И ты все о себе расскажешь. В трамвае он оглядел меня с ног до головы, еще шире раскрыл глаза и сказал с восхищением: — О, Надечка! Какая ты! Мне до сих пор приятно вспоминать об этом. Я ведь знаю, что в детстве была некрасивая. Мама говорила: гадкий утенок. Но впоследствии я стала ничего себе. Потом, когда мы проехали две или три остановки, он начал проявлять беспокойство и вдруг сказал: — А ты, часом, не замужем? Так напрямик и брякнул. Он всегда был прямолинейный. Я засмеялась. — Часом — нет, — сказала я. — Но была. Недолго. Около пяти месяцев. И он огорчился. Это было видно по нему. С первого же взгляда я догадывалась обо всем, что он думает, что чувствует, как бы замкнуто ни было его лицо. Он не сразу понял, что я захотела подразнить его. Юмор, как ни странно, не очень быстро доходил до него, хотя он был украинцем. — Ты же меня забыл, — сказала я, глядя на него искоса. — Не писал мне писем. — Я утерял твой адрес, — пробормотал он. — Хотя, — сказала я небрежно, — какое это может иметь значение? Я тоже все забыла… Позволь-ка! Что-то припоминаю, но, правда, смутно… Ведь мы с тобой поцеловались на прощанье? Какая-то ветка была в окне. Или мне кажется? — Тебе кажется, — сердито ответил он. Я даже не ожидала, что он сумеет так ответить. Но ему было неприятно, что я легко говорю об этом поцелуе. И мне стало приятно, что ему неприятно. Поделом! Не надо было терять мой адрес. Но спустя несколько минут, когда я поняла, какой он неловкий, неопытный и робкий в обхождении с девушками, мне расхотелось его дразнить. Зачем? Все равно он мой, это же видно по всему. И как-то сразу я забыла о том, что он когда-то ходил на костылях. (Позже Мыкола сказал, что очень оценил «мой женский такт», как он выразился.) Но дело не в такте. Я всегда представляла его себе без костылей — они не вязались с его внутренним обликом, не шли ему. А вот бушлат шел. Я провела пальцами по рукаву его бушлата и стряхнула капельки воды, оставшиеся от моего снежка. — Ну и плечи у тебя стали, Мыкола! Он удивленно покосился на свои плечи: — А! Да. Я загребной на вельботе. Совсем ничего не понимал он вженских хитростях, не догадался, что мне просто захотелось прикоснуться к нему. В общем, мы благополучно приехали домой. Однако первый наш разговор после долгой разлуки был не о любви. Он был очень серьезный, этот разговор: о загадках человеческой психики и о проблеме воли. Но мама сначала напоила нас чаем. Хлопоча у стола, она беспокоилась насчет моих туфель и платья. «Переоденься, Надюша, — говорила она, — и туфли смени. Они же мокрые. А потом, я знаю, лодочки тебе жмут». Не следовало, наверное, так часто повторять это при госте. Нет, мне повезло: после стольких лет я смогла показаться Мыколе в «полной форме», в выходных лакированных туфлях и лучшем моем очень длинном платье. Дождь застучал в окно. Вот тебе и первый снег! Конечно, рановато еще для снега, начало ноября, канун праздников. Выяснилось, что Мыкола прибыл из Севастополя с другими курсантами для участия в завтрашнем параде. «Жаль, если дождь не уймется к завтрему, — подумала я. — Но сейчас дождь — это хорошо. Уютнее сидеть за чайным столом и вспоминать о прошлом». Наконец мама догадалась, ушла к себе. К тому времени мы добрались в воспоминаниях до нашего доктора Ивана Сергеевича. Он, по словам Мыколы, сыграл огромную роль в его жизни, без преувеличения огромную. Шутка ли, заново пришлось учиться ходить, часами, преодолевая боль, упражняться в ходьбе под руководством Ивана Сергеевича, сгибаться, разгибаться, прыгать, бегать, и так на протяжении пяти или шести лет, до самого поступления в военно-морское училище. Какое же терпение надо было проявить и врачу, и пациенту! Я утвердительно кивала. — Удивительный врач, необыкновенный! — сказал Мыкола. — Он, знаешь, пробовал мне объяснить, почему я отбросил костыли. «Тебе помогло землетрясение, — сказал он. — И еще то, что ты был очень привязан к этой своей бывшей сиделке». Я не понял его. А ты понимаешь? — Кажется, да. Я улавливаю связь. Расскажи-ка подробнее о землетрясении. Он начал рассказывать, по обыкновению, очень медленно, с паузами. — Послушай, — прервала я его, — но это же абсолютно ясно! Ты был скован по рукам и ногам. Затем начал постепенно освобождаться. Делал это не очень быстро. Тебя, по-моему, все-таки передержали на костылях. Жаль, не попал сразу к Ивану Сергеевичу. Отсюда и твои беды: неуверенность в себе, замкнутость, страхи. Но вдруг вмешалось нечто извне, новый внезапный фактор. Тебя рывком встряхнула жизнь. — Буквально встряхнула. Имеешь в виду землетрясение? — Ну да. Вспомни, как ты отбросил эти свои костыли. Ты же не пошел — ты побежал! Очень удачно, между прочим, сказал: будто ветром подхватило и понесло! Вот-вот! Именно понесло! Сразу забыл и про свои костыли, и про ноги, про все на свете забыл. Ты думал лишь о том, чтобы помочь тете Паше. Я бы это определила так: страх за близкого человека сыграл роль психического катализатора. Тебе непонятно? Скажу яснее. Сильная положительная эмоция вытеснила вредные отрицательные из твоей души. Ты назвал это неразгаданным чудом? Если хочешь — чудо, да, но разгаданное! Мыкола сидел, напряженно выпрямившись, сдвинув брови от желания понять, ничего не упустить. — Имей в виду, — продолжала я, — контузия — это тоже встряска. Последствия одной встряски, у Балаклавы, ты вышиб с помощью другой — на мысе Федора. У тебя же не было необратимых явлений. И физических увечий тоже никаких. Время проходило, следы контузии мало-помалу исчезали. В какой-то мере ты был уже подготовлен к тому, чтобы отбросить костыли. Не хватало лишь толчка. И вот он, толчок! Да нет, какой там толчок, — поправилась я. — Взрыв! Настоящий взрыв психической энергии. До этого она была под спудом, была задавлена. Я подумала: «Что-то больно пышно изъясняюсь». Но ведь это было действительно чудом. А о чуде никак не скажешь будничными словами. — Причем обошлось-то без чудотворца! (Иван Сергеевич появился позже). Никто во время землетрясения не простирал к тебе руки, не возглашал: «Восстань, иди!» Ты сам отбросил костыли, без приказания. Вернее, повинуясь внутреннему властному приказу — помочь погибающему на твоих глазах хорошему человеку! Надо было видеть, как слушал меня Мыкола. О! Это воодушевляло. В тот вечер, каюсь, хотелось выглядеть особенно эрудированной, умной, проницательной. Что ж, и это можно извинить. Всего два года, как я кончила институт. А потом, у каждой женщины свой способ понравиться. Но сама тема разговора тоже увлекала. Ведь она была близка тогдашней моей работе в клинике. Мыкола — и это было очень смешно — вобрал в себя почти весь воздух, который наполнял тесную московскую квартиру, вдохнул его на полную мощь своей груди (недаром он был загребным), потом выдохнул с силой. — Ты сдунешь меня со стула! — засмеялась я. — Но как же ты мне объяснила меня, Надечка! Никто, кроме него, не произносил так мое имя — очень бережно, ласково, как-то по-особому проникновенно. Каждый раз произнося «Надечка», он словно бы объяснялся мне в любви. — Сколько времени ты пробудешь в Москве? — Завтра, после парада, уезжаем. — Когда? — В ноль тридцать. — Значит, еще один вечер. Жаль. Я показала бы тебе Москву. Хочешь, пойдем в театр? — А ты? — Я — как ты. — Тогда, может, лучше не пойдем? — А что станем делать? — Сидеть вот так и разговаривать. Мне захотелось его поцеловать. Но это было нельзя. Рано. Еще подумает, что я вешаюсь ему на шею. Пусть воспримет это впоследствии как дар судьбы… В вечер перед отъездом Мыкола пришел только на полчаса. Его назначили старшим группы или как там это называется, — предстояло сделать еще уйму дел. Наш разговор поэтому был торопливый, скачущий, как на перроне. Мыкола говорил почти без пауз. — Кем же ты будешь, Мыкола? — Минером. — Вот как! Счеты с минами сводишь? — Почему? — Про балаклавскую забыл? — А!.. Может, ты и права. Из-за той, балаклавской, я заинтересовался минами вообще. — Ты еще в детстве увлекался техникой, я помню. — Тут как раз удачное сочетание — и море, и техника, то есть мины. А потом — тайна. Ведь всякая новая мина — это тайна. Мне стало тревожно за него. Та, балаклавская, едва не стоила ему жизни. Какими окажутся будущие его мины? Но я не подала виду. Отговаривать было ни к чему. Я сказала бодро: — Разгадывать мины опасно и нелегко. Но я и не желаю тебе легкой жизни. Легкая не в твоем характере. Пусть будет побольше встрясок впереди, — конечно, не смертельных, препятствий — преодолимых, тайн — поддающихся разгадке! И опять он сказал тихо, с каким-то трогательным удивлением: — Как ты все понимаешь, Надечка! Как ты мне объяснила меня… Прощаясь, он, к моему удивлению, до того расхрабрился, что задержал мою руку в своей, потом сказал, видимо, неожиданно для себя: — Жаль, не весна сейчас. Привез бы тебе в подарок ветку алычи… Хотя нет, ты же все забыла… Минуту или две мы простояли на пороге, улыбаясь друг другу, не разнимая рук. За нашими спинами мама демонстративно громко тарахтела посудой. Я сказала: — Подаришь в Севастополе. Я приеду к тебе весной в гости, хочешь?2
И я приехала к нему в гости. Не весной, как обещала, а в начале лета, раньше не вышло с отпуском. Алыча, конечно, давно отцвела. Зато вовсю цвели розы. Одна из особенностей Севастополя — он почти всегда в цветах. Парад цветов в феврале и марте начинает алыча. И вместе с нею миндаль. Затем черед цвести персикам, сливам и абрикосам. Медленно разгорается на глазах иудино дерево — фиолетовые огоньки вспыхивают не только на его ветках, но также и на стволе, такое уж это странное дерево. В мае город заполняет до краев дурманный, чуть приторный запах акации, а июнь — это месяц роз. Июнь. Розы. Нетерпеливое ожидание счастья. Да, грустно сейчас вспоминать об этом!.. Я сижу на Приморском бульваре. Букет, нет, букетище роз у меня в руках. Мыкола стоит, опершись на парапет. На нем командирская фуражка, белый китель. Все же, по-моему, форма курсанта больше ему шла. Фланелевка подчеркивала широкую выпуклую грудь, а из треугольного выреза, как башня, поднималась загорелая, крепкая шея. Но это ничего, он нравится мне и такой — лейтенантом. — К чему же вы готовите себя, товарищ лейтенант? — шутливо говорю я, продолжая начатый разговор. — Ты, может, удивишься, Надечка. Я готовлю себя к предстоящим мне пятнадцати — двадцати минутам. — Минутам?! — Видишь ли, на одной из своих лекций наш преподаватель сказал: «Чтобы разоружить вражескую мину, тем более неизвестного образца, понадобится, допустим, пятнадцать — двадцать минут. Мало? Накинем еще полчаса. Но к этим решающим в вашей жизни минутам вы должны готовиться неустанно, упорно — всю жизнь». — Готовиться — иначе тренироваться? — Шире. Тренировать не только пальцы, всего себя. Главным образом волю. Ты мне говорила об этом в Москве. И снова делается тревожно за него. — А если повезет и не будет этих пятнадцати — двадцати решающих минут? Обстоятельства сложатся так. — Но это не значит, что мне повезет! — Ну, не повезет, пусть так. Что тогда? — Все равно жизнь не пройдет даром, — задумчиво после паузы говорит Мыкола. — Она будет целеустремленной, пройдет в подготовке к подвигу. Слово «подвиг» он произнес негромко, смущаясь… Солнце только что зашло. Море за спиной Мыколы стало разноцветным, оно в багровых, розовых, белых и бледно-желтых пятнах. Словно бы это лепестки роз, покачиваясь, неторопливо плывут по воде. А мы тут толкуем о минах, о каких-то решающих минутах! Можно ли при взгляде на этот безмятежно тихий вечерний рейд поверить в неизбежность войны? Представить себе, что вот-вот она ринется сюда из густеющей на западе фиолетово-зеленой дали и мгновенно избороздит воду взрывами снарядов, бомб, мин?.. Я подавляю вздох. Конечно, жене вот этого молодого лейтенанта будет очень трудно. И все же я хочу ею быть. — Ты вздохнула, Надечка? Почему? — Мыкола заботливо наклоняется ко мне. Я смотрю на него снизу вверх. Блестящие глаза его медленно приближаются… Но нам помешали. Из-за клумбы с цветами вдруг появились лейтенанты, целой гурьбой, товарищи Мыколы, тоже выпускники. Они тесно обступили нашу скамейку: — Здравия желаем! Мыкола, что же ты? Познакомь. И потом наперебой: — Мыкола-то какой скрытный! Спрятался за клумбой! И представьте, доктор, о вашем приезде ни гугу! Мы бы, конечно, встретили вас музыкой, цветами, — а как же иначе? Москвичка! Молодой врач! И первый раз в Севастополе! Кто-то шутливо обещал этой ночью опустошить для меня клумбу с розами. Кто-то громогласно декламировал: «Доктор, доктор! Я прекрасно болен!» В общем, стало шумно, весело, бестолково. Я смеялась. А что мне было делать! Пусть товарищи Мыколы видят, какая я у него! Но он замолчал и насупился. Быстро стемнело. На деревьях загорелись разноцветные фонарики. Лейтенанты стремительно увлекли нас есть мороженое, а потом на танцплощадку. — О Мыкола! Ты не танцуешь? — разочарованно сказала я. — Я так люблю танцевать! Это очень легко — танцевать. Может, рискнешь? Я поведу. Лейтенанты засуетились: — Заменим, доктор, заменим! Как не выручить товарища в беде! Разрешите? Кто-то галантно подхватил меня, завертел. Но, кружась, я оглядывалась на Мыколу. Он остался у стены. Внимание мужчин всегда приятно и всегда волнует. Женщина бы меня поняла. Притом не надо забывать, что до недавнего времени я была дурнушкой. И ведь это лишь красавицы могут позволить себе быть величественно-спокойными и безмолвными. Что им! В случае чего, профиль вывезет. А таким, как я, о которых снисходительно говорят: «Живая», надо похлопотать, чтобы понравиться. Короче, товарищи Мыколы не отходили от меня ни на шаг. В перерывах между танцами мы перебрасывались шутками, как снежками. Местные девицы смотрели на меня так, словно бы я прилетела сюда на помеле. И сам Мыкола был мрачен. Дурень ты мой, дурень! И блеск в глазах, и быстрые шутки, и смех, и задорное постукивание каблучками — все ото предназначалось только ему, одному ему, угрюмому моему большому мальчику, который стоял, подпирая спиной стенку и стараясь казаться равнодушным, даже безучастным. — Я хочу к Мыколе! — сказала я после румбы очередному партнеру. Он подвел меня к нему. — Ну что ты такой, Мыкола? Мне очень весело. — Я вижу. — Товарищи лейтенанты! Почему вы не научите вашего друга танцевать? Девушек, что ли, не хватает в Севастополе? — О доктор! Вы не знаете Мыколу. Он сторонится девушек. Он их боится. Это пятно на всем нашем доблестном Черноморском флоте. — У-у, медведь!.. Товарищи, вы уронили его в моих глазах. И меня снова умчали танцевать. Вот и все, что было сказано, насколько я помню. Конечно, переход слишком резкий после того разговора, который мы вели до этого наедине. Теперь-то я понимаю. Но тогда, в пылу танцев… Даже я не догадывалась о том, какой он самолюбивый, по-детски обидчивый, легко ранимый. И все же Мыкола не должен был поступать так, как он поступил. Когда, запыхавшись, я подлетела к нему, он вдруг сказал, отводя глаза: — Извини, не смогу проводить до гостиницы. Товарищи проводят. Надо дежурного подсменить. Меня только что вызвали в часть. Поднялся шум. Кто-то из лейтенантов самоотверженно предложил подежурить вместо Мыколы. — Мыкола? — негромко сказала я. — Нет, сожалею, извини. И он ушел. Ей-богу, я чуть было не разревелась тут же на танцплощадке. Но потом рассердилась и взяла себя в руки. — Какие строгости у вас в Севастополе! — сказала я своим лейтенантам, улыбаясь. — Вызывают даже с танцев. Ну, что делать! Потанцуем? И я танцевала и смеялась еще час или полчаса, хотя мечтала лишь о том, чтобы уйти в тень и выплакаться там.3
Лейтенанты всем скопом проводили меня до гостиницы. Ночь была хорошая, теплая, звездная, и на улицах так пахло розами, что еще больше хотелось плакать. По пути лейтенанты чопорно занимали меня разговорами о Мыколе, о его успехах в учебе, а также о достижениях в спорте. На следующий день я до обеда не выходила из номера, ждала телефонного звонка. Мыкола не позвонил. После обеда я пошла в его часть и через дежурного передала ему записку. В ней было: «Мыкола! Это глупо. Если не придешь до 8 часов, сегодня же я уеду в Москву!» Он не пришел. В вагоне, стоя у окна, я жадно высматривала его — вдруг все-таки прибежит прощаться? Не прибежал! Соседи по купе попались неудачные. Три каких-то болтливых толстяка, не то из Цебельды, не то из Шемахи. Они усиленно пытались угощать вином и орехами на меду. Но по тогдашнему моему настроению впору было сажать меня на цепь. Один толстяк даже сказал с огорчением: «Такая молодая, интересная — и уже такая сердитая!» А другой прибавил: «Тебя твой муж любить не будет». Почти всю дорогу я простояла в коридоре у окна, прижавшись лбом к стеклу. Напишет или не напишет?..4
Он не написал. Вероятно, ждал, что я ему первая напишу. Ах, какие же мы все-таки транжиры в молодости, как разбрасываемся чувствами, своими и чужими, как беспечно расходуем время на ссоры, споры, обиды, нисколечко не жалея ни себя, ни других… Наконец я перестала ждать от него писем. Плохо было все, очень плохо, дальше некуда. Коса нашла на камень. …Нет, я напрасно осуждаю Мыколу. Я виновата во всем, одна я. Не надо было тогда танцевать. Нельзя было в тот вечер танцевать. Ведь то, что Мыкола сказал о себе, было несомненно лишь подготовкой к объяснению в любви. Он просто начал издалека — по своей привычке к обстоятельности. Как бы показывал мне жизнь, которая предстояла нам. Хотел предупредить: «Вот я какой, видишь? Неразговорчивый, угрюмый, замкнутый, с головой погруженный в свое любимое минно-торпедное дело. Возьмешь меня таким?» Сомневался ли он в моем ответе? Не знаю. Я видела его глаза, ощущала его дыхание на своем лице. Я потянулась к нему. Но… Наверное, я была слишком смущена в тот момент, взбудоражена, растеряна. Получилось неловко. Если бы лейтенанты догадались запоздать, и я была представлена им как будущая жена Мыколы… Если бы, наконец, сам Мыкола был посмелее… Но я опять его упрекаю… Боже мой, боже мой! Сколько лет только и делаю, что веду в уме этот бесконечный, мучительный разговор с Мыколой — осуждаю его, объясняю ему, оправдываюсь перед ним. Как бы репетирую нашу будущую встречу. Но ведь встречи не будет! Сегодня мне сказали об этом. А я как безумная по-прежнему хожу по кругу, продолжаю подбирать доказательства своей правоты или своей вины, не знаю. Словно бы мне еще предстоит встретиться с Мыколой…5
Не повезло, нет. Ужасно, как нам не повезло! Почему мы но встретились в Севастополе весной 1942 года? Мы же могли встретиться. Возможно, я проходила по коридору штольни, когда Мыкола лежал в медпункте. Нас разделяла всего лишь стена… Весной 1942 года я получила назначение в военный госпиталь, который размещался в Новороссийске. Ощущение было такое, что Мыкола где-то близко. Но лишь ощущение. Трезво рассуждая, он мог быть и на Балтике, и на Баренцевом море, а то и на Тихом океане. Вдруг, просматривая подшивку флотской газеты, я наткнулась на его фамилию. Оказалось, что теперь он младший флагманский минер ЧФ[56] и находится в Севастополе. Тотчас же я засобиралась в Севастополь. Удалось упросить начальство отправить меня туда с очередным караваном для сопровождения раненых, эвакуируемых из осажденного города. Всю дорогу от Новороссийска я думала о нашей нелепой ссоре. Некоторые люди, наверное, считают, что Мыкола грубоват. Но ведь это лишь защитная реакция. Он как бы надевает на себя кирасу. В ней, конечно, неудобно: ни повернуться, ни согнуться. Но зато он защищен. Отсюда и его молчаливость. О подобных ему говорят, что они отгораживаются молчанием, боясь, как бы невзначай им не сделали больно. С наступлением темноты, уже перед самым Севастополем, атаки на наш караван прекратились. Я вышла на палубу. Очень медленно и осторожно, двигаясь строго в затылок друг другу, — это, кажется, называется кильватерной колонной, — корабли пересекали внешний рейд. Бочком я протиснулась к борту между ящиками с боеприпасами и продовольствием для Севастополя. Палуба, не говоря уже о трюме, была так заставлена ими, что удивительно, как наш транспорт не перевернулся, увертываясь от авиационных бомб. У борта стоял какой-то моряк, не сводя глаз с воды. Она была очень густая на вид и черная, как только что залитый асфальт. — По узкой тропочке, однако, идем, — подал голос моряк. — Мин здесь фриц накидал — страшное дело! — С самолетов кидал? — Правильнее сказать, не кидал — осторожненько в воду спускал на парашютах. И продолжает спускать. Чуть ли не каждый день. Нашим минерам работы хватает. — А минеры каждый день пробивают проход? — Тралят, да. У меня ёкнуло сердце. Ведь Мыкола минер. Мы остановились у бона. Откуда-то выскочил катерок и быстро потащил в сторону сеть заграждения, будто отводя перед нами завесу у двери. Караван стал втягиваться в гавань. Темная, без огней, громада берега придвинулась. Вот он, Севастополь! Город-крепость, город — бессменный часовой, город-мученик, на протяжении столетия второй раз переживающий осаду. И где-то там, на берегу, Мыкола… Я провела в Севастополе немного, около суток, причем большую часть времени в штабе Севастопольского оборонительного района. Он размещался в штольне, которую вырубили до войны в крутом скалистом склоне. Вплотную к скале пристроили бункер с очень толстыми стенами и потолком. Очень душно и сыро было там, внутри. Как в подлодке, которая долго не всплывала на поверхность. (Прошлой осенью мне пришлось побывать в такой.) И сходство было еще в другом. Так же извивались вдоль стен магистрали парового отопления, вентиляции, водопровода и многочисленные кабели связи. Так же много было всяких приборов и механизмов. Так же впритык стояли столы и койки в каютах-кельях, расположенных по сторонам узкого коридора. В этой духоте и тесноте с непривычки разболелась голова, хотя вентиляторы вертелись как одержимые. — Ночью погрузите раненых на транспорт — и живенько из гавани, как пробка из бутылки! — сказали мне. — У нас не принято задерживаться. Перед уходом я все же улучила минуту: справилась у дежурного по штабу о минере Григоренко. Мне ответили, что старший лейтенант в командировке. — А где, нельзя ли узнать? — Нет. Но я была настойчива. — Значит, в город вернется не скоро? — Да как вам сказать, товарищ военврач… Он-то, в общем… так сказать, в окрестностях Севастополя. Может, стоило бы и подождать. Но ведь вы торопитесь, ночью уходите в Новороссийск. Что-то темнит этот дежурный! Как понимать: «В общем, неподалеку»? Где это неподалеку от осажденного Севастополя мог находиться Мыкола? Немцы взяли город в обхват, прижали его защитников спиной к морю. Только со стороны моря Севастополь еще открыт. Тогда мне не пришло в голову, что, выполняя особое задание командования, Мыкола находится именно в море, точнее — на дне его. Это дежурный и назвал командировкой, оберегая военную тайну. Я вышла из скалы и перевела дух. «Мыкола жив — это главное, — думала я, — Иначе мне сказали бы о его смерти, а не об этой странной командировке. А если уж по-военному говорить: был жив на сегодняшнее число, на такой-то час. Ну, не привередничай! — мысленно одернула я себя. — Во время войны и то хорошо». Я миновала Приморский бульвар. Веселые лейтенанты, помнится, шутливо называли его на иностранный лад: Примбуль. (Боже, как давно это было!) На месте той клумбы с розами торчал счетверенный пулемет, упершись дулами в небо. Памятник Затопленным Кораблям на скале напротив был поврежден — мне объясняли — одной из тех мин, которыми в ночь на 22 июня начали немцы войну на Черном море. А чуть подальше, там, где когда-то была танцплощадка, высились под камуфлированной сетью стволы зенитной батареи, и прислуга сидела наготове на маленьких, похожих на велосипедные, седлах. Я засмотрелась на рейд. Море лежало гладкое, ярко-синее, как драгоценный камень. Только оно, море, и осталось здесь таким, каким было в мой первый приезд. И небо. Я вспомнила, что сейчас конец марта, в Севастополе должны цвести алыча и миндаль. В этом году они не успевали расцвесть. Огнем сжигало их, душило черным дымом, присыпало серой пылью. Правда, неподалеку от могилы Корнилова даже этой весной, говорят, цвело маленькое миндальное дерево. Упрямо цвело. Если бы у меня было время, я бы навестила его и поклонилась ему. Это цветенье было как символ надежды для всех, кто не позволял себе поддаваться отчаянию. Я уже подходила к госпиталю, когда начался очередной налет на город. Над холмами Северной стороны поднялась туча. Она была аспидно-черная, ребристая и тускло отсвечивала на солнце. Гул стоял такой, словно бы рушилась Вселенная. До госпиталя я не успела добежать, пришлось ткнуться куда-то в щель, вырытую среди развалин. Подобной бомбежки я не испытывала еще ни разу, хотя на фронте с начала войны. Небо затягивалось плотной пеленой. Немецкие бомбардировщики шли сомкнутым строем. Рядом мужчина в ватнике что-то бормотал торопливо. Я подумала: молится. Оказалось: считает самолеты. — Около пятисот прошлый раз насчитал, — сообщил он. — Сейчас, наверное, не меньше. Самолеты закрыли солнце. Потом небо с грохотом и свистом опрокинулось на землю… …Туча прошла над городом. Соседи мои стали выбираться из щели, отряхиваться, ощупывать себя — целы ли? Всё серо и черно было вокруг. С разных сторон раздавались крики о помощи. До ужаса похоже на землетрясение, как мне описывал его Мыкола, но, конечно, это было во сто крат более разрушительно, бессмысленно. Улица мгновенно изменилась. На месте нескольких домов курились пожарища. Еще дальше, за крышами уцелевших домов, раскачивались, взметались и опадали огромные языки пламени. Но где же госпиталь? Я не узнала его — здание как-то перекосилось, край его обвалился. Когда подбежала к госпиталю, оттуда уже выносили раненых. На земле билась и корчилась женщина в белом халате, с оторванными по колено ногами. Женщина лежала навзничь, не в силах подняться. Платье ее и халат сбились вверх. Еще не успев почувствовать боли, не поняв, что произошло, она беспокойно одергивала на себе платье, стараясь натянуть его на колени, и при этом просила: — Бабоньки! Да прикройте же меня, бабоньки! Люди же смотрят, нехорошо! Я перевидала немало раненых, в том числе и женщин, но сейчас мучительно, до дрожи, поразило, как она натягивает платье на колени — жест извечной женской стыдливости, — а ног ниже колен уже нет. — Наша это, наша! Санитарка! — громко объясняли мне суетившиеся подле нее женщины. — Вчера троих на себе вытащила, а тут сама… — Жгут! — скомандовала я, склоняясь над раненой. — Закручивайте жгут! Потуже! А та все просила тихим, раз от разу слабевшим голосом: — Ну бабоньки же… Протяжный выговор, почти распев, с упором на «о». Я вспомнила тетю Пашу с маяка, которую спас во время землетрясения Мыкола. Но запрокинутое, без кровинки лицо было еще совсем молодое, такое простенькое, широкоскулое. Санитарке от силы было восемнадцать — девятнадцать. И потом уж до самой ночи, до конца погрузки, я не могла забыть ее, вернее, голос ее. Раненых — в перерывах между налетами — доставляли на пирс, я размещала их в надпалубных надстройках и в трюме. Снова и снова немцы обрушивали на Севастополь раскаленное железо. Все содрогалось вокруг, грохотало, выло, трещало. А в ушах, заглушая шум бомбежки и артобстрела, звучал по-прежнему этот тихий, с просительными интонациями угасающий голос: «Бабоньки…» Даже сейчас, после известия о Мыколе, не могу без волнения вспомнить ту санитарку… Причал еще раз качнуло от взрыва, потом, к моему удивлению, внезапная тишина разлилась над Севастополем. Начальник эвакуационного отделения сверился с часами: — Точно — двадцать четыре ноль-ноль. Фрицы отправились шляфен. За это время вам и надлежит все исполнить. Не только закончить погрузку, но и успеть как можно дальше уйти от Севастополя. Таковы здешние порядки. Я знала, что за тот короткий срок, пока немцы отдыхают, защитники города должны переделать уйму дел: подвезти к переднему краю боезапас, горючее, продовольствие, заделать бреши в обороне, похоронить своих мертвецов и эвакуировать морем раненых. Мы обязаны выскочить из Севастополя не позже чем за два часа до рассвета. Это наш единственный шанс. Немецкая авиация, подобно кошке у щели, сторожит выход из гавани. Когда станет светло, транспорт с ранеными должен быть уже вне досягаемости вражеских самолетов, которые базируются на ближайшие к Севастополю аэродромы… Да, такая неправдоподобная тишина разлита вокруг, что даже не верится. Только весной в лунную ночь бывает подобная тишина. Но ведь теперь как раз весна и луна. Тени от домов очень длинны, ямы и пожарища черны — пейзаж ущелья. Можно подумать, что город замер, прислушиваясь к тому, как наш транспорт отваливает от причала. Чего бы я не дала, лишь бы не уезжать, дождаться возвращения Мыколы из его загадочной командировки в «окрестности Севастополя»! Но на войне каждый выполняет свой долг. Да и кто оставил бы меня здесь, даже если бы я знала, что Мыкола вернулся? Кто разрешил бы мне ходить за ним, когда на моих руках целый транспорт, битком набитый ранеными, эвакуируемыми в тыл? Опять выбежал вперед маленький катер, хлопотливо потащил в сторону сеть заграждения, открывая «ворота» перед нами. Справа по берегу чернеет громада Константиновского равелина. И вот уже в лунном свете заискрился внешний рейд. Стараюсь сосредоточиться на этом, чтобы не думать о Мыколе. Расталкивая форштевнем воду, транспорт медленно вытягивается из гавани. Впереди и позади — корабли конвоя. Идем друг за другом, как по ниточке. Но сейчас в поведении команды чувствуется как-то больше уверенности, чем утром. Мой расторопный фельдшер, сбегав на мостик, уже разузнал, в чем дело. Оказывается, днем на рейде произведена специальная, внеочередная, расчистка фарватера, вытралены какие-то новые, особо опасные мины. Но я еще не знаю, что вытралили их благодаря Мыколе. Море под килем стало менее опасным. Но воздух опасен по-прежнему. Поэтому огни погашены, иллюминаторы задраены. Только над мостиком гигантским светляком во тьме висит картушка компаса под козырьком. Все, кто на палубе, предельно напряжены, как бы оцепенели в ожидании. Пулеметчики и зенитчики, сидя на своих седлах, не сводят глаз с неба. И все дальше, невозвратнее уплывает от меня берег. Я пристроилась у борта. Адски продувает, просто окоченела на сквозном ветру. Издали Севастополь выглядит как бесформенная груда камней. Лишь кое-где между камнями раскачиваются языки пламени и тлеют уголья. Времени у севастопольцев мало. За ночь, пожалуй, не всюду успеют потушить пожары. А через два — три часа в костер подбросят сучьев, и он опять запылает. Город-костер… Блестки на черной глади мерцают и переливаются. Трудно смотреть на море из-за этих блесток. Щемит глаза, забивает слезой. Я украдкой отираю их ладонью. Этого не хватало еще! Но как мне нужно было повидаться с Мыколой! И я знаю, что ему это тоже было нужно. Только со мной он мог поделиться своими мыслями и переживаниями, со мной одной! Тлеющих угольев во мраке уже не видно. Вокруг мерно вздымается и опадает искрящееся море. До Новороссийска так далеко, столько часов пути…6
При встрече опишу Мыколе, как холодно и страшно было мне в ту ночь, как нескончаемо долго тянулась она. Опять? Да опомнись ты! Он же умер, умер! А я по-прежнему думаю о нем как о живом… А, быть может, он все-таки жив? Мне кажется, я почувствовала бы, если бы он умер. Да, почти уверена, что почувствовала бы — на расстоянии. И ведь мертвым Мыколу не видел никто. Безумие? Пусть. Только бы давало мне силы жить. Конечно, о Мыколе нельзя писать как о мертвом. (Моя мама сказала бы: накликать смерть!) И к чему эта шумиха с «увековечением», о котором сегодня (или вчера?) толковал суетливый Володька? Ведь он уже написал один очерк о Мыколе. Ну, и хватит с него. Вскоре после моего возвращения в Новороссийск очерк был напечатан, и я прочла его, даже вырезала из газеты. Понятно, не из-за каких-то там литературных достоинств. Написан он, в общем, неважно, поверхностно. Но иначе и не могло быть. С чего бы Мыколе пускать этого Володьку в душу к себе? Вот почему гайки, предохранители, контакты еще получились кое-как, а сам Мыкола виден за ними едва-едва. Я-то ведь знаю Мыколу! Единственное, что удалось в очерке, это эпиграф. Он кстати. Перечитывая слова Макаренко о проблеме советского героизма, я снова вижу перед собой упрямое, юное, воодушевленное лицо курсанта, который приехал в Москву для участия в параде. И снова, после паузы, он с трогательным удивлением говорит: «Но как же ты мне объяснила меня, Надечка!..» …Ничего, прошло! Немного закружилась голова — от монотонных мыслей. Никто в ординаторской, по-моему, и не заметил. Меня окликает озабоченная медсестра: — Надежда Викторовна! Новенький, Евтеев из пятой палаты, жалуется на головные боли, очень сильные. Только что рвота была. — Ранение в голову? — Да. Сами посмотрите или Доре Гдальевне сказать? Вы бы, может, прилегли? Вторые сутки в госпитале. — Нет. Сама посмотрю. Иду. Вторые сутки! Да я просто ума не приложу, что делала бы сейчас, если бы не было столько работы в госпитале.3. НА ПОРОГЕ СЕВАСТОПОЛЯ[57]
Разве так проста и примитивна проблема советского героизма? Разве это такое легкое и логически прямое действие? Советская отвага, советская смелость — это вовсе не бесшабашное, бездушное, самовлюбленное действие. Это всегда служба советскому обществу, нашему революционному делу, нашему интернациональному имени. И поэтому всегда у нас рядом со смелостью стоит осторожность, осмотрительность, не простое, а страшно сложное, напряженное решение, волевое действие не безоблачного, а конфликтного типа.А. Макаренко
«Я — БЕРЕГ! Я — БЕРЕГ!»
Надя уехала. А через несколько дней за Мыколой приехала из Гайворона мать. — Нэ хочу до дому! — объявил Мыкола, стоя перед нею. — Як цэ так? У больныци хочэш? — И в больныци не хочу. — А дэ хочэш? Мыкола молчал, насупясь. — Чого ж ты мовчыш? Я кому кажу! Мать замахнулась на него слабым кулачком. Но он с таким удивлением поднял на нее глаза, бледный, сгорбленный, жалко висящий между своими костылями, что она опустила руку и заплакала. Разговор происходил в дежурке, в присутствии Варвары Семеновны и тети Паши. — Буду у моря жыты, — сказал Мыкола, упрямо нагнув голову. — А у кого? Хто тэбэ до сэбэ возмэ? И тут из угла, где тетя Паша перематывала бинты, выкатился ее успокоительный округлый говорок: — О! Невелико дело-то! Ну хоть и на маяке лето поживет. При слове «маяк» Мыкола поднял голову. — Мой-то маячником работает, — пояснила тетя Паша. — Отсюда недалеко, два километра. При маяке дом есть. Нас трое всего: сам, сынок меньшой и я. А где трое уместились, и четвертому уголок найдем. Мать Мыколы снова заплакала. — Ему хорошо у нас будет, — успокоила ее тетя Паша. — Воздуху много, воздух вольный. И Варвара Семеновна рядом. Чуть что — будет иметь свое наблюдение. Варвара Семеновна распустила поджатые было губы: — Что ж! Если Прасковья Александровна приглашает, то я со своей стороны… Морской климат ему полезен. Пусть поживет на маяке до начала школьных занятий… Башня маяка была невысокой. Но ей и ни к чему было быть высокой. Ведь она стояла на стометровом обрыве, на высоченном крутом мысу. Спереди, справа и слева было море, и только сзади вздымались горы. Почти две тысячи лет назад римляне держали здесь гарнизон — против беспокойных степняков. Крепостные стены, сложенные из огромных плит, еще сохранились. У их подножия, а также на дне рва валялись осколки темно-серого точильного камня. Прошлой зимой в школе проходили Рим, поэтому Мыкола мог ясно представить себе, как легионеры сидят вокруг костра и при свете дымных факелов точат в молчании свои мечи. Конечно, он сделал то, что сделал бы на его месте любой мальчик. Распугав двух или трех змей, гревшихся на стене, насобирал целую кучу этих осколков и приволок их домой. Потом каждый вечер он с благоговением точил свой перочинный ножик на римском точильном камне, которому без малого две тысячи лет! Через некоторое время лезвие сделалось тонким, как лист бумаги. Как подтверждает история, римляне поддерживали на мысу огонь: просто разжигали огромный костер и неустанно, всю ночь, подкладывали в него хворост. «Наш» маяк был, понятно, куда лучше. На вершине белой башни находилась так называемая сетка накаливания. Сделана она была из шелка, пропитанного особыми солями. Снизу подавались пары керосина, которые раскаляли сетку добела. Устройство, в общем, нехитрое. По сути — гигантский примус. Но с сеткой надо было обращаться осторожно: дунь посильнее, и рассыплется в прах.[58] Сетку окружала толстая линза, подобно стеклу керосиновой лампы. Стекло было необычное — стеклянный пузатый бочоночек. Вместо обручей были на нем ребристые грани. Каждая грань преломляла свет, усиливала его и параллельными пучками отбрасывала далеко в море. Линза весила пять тонн. Каково? С утра до вечера Мыкола неотвязно ходил за дядей Ильей, мужем тети Паши, и клянчил: «Дядечку, визмите мэнэ до фонаря!» Даже божился иногда, что не спутает замшу с тряпкой. Дело в том, что дядя Илья в первый же день позволил ему протереть оптику, — с уважением называл ее полным наименованием: «линза направляющая и преломляющая». Мыкола, ошалев от радости, второпях схватил тряпку, за что получил по рукам. Тряпкой протирают лишь штормовые стекла, которые защищают линзу от града, снега и птиц, сослепу летящих на свет. Самое же «направляющую и преломляющую» разрешается протирать только замшей. Сколько раз, стоя в фонаре, Мыкола воображал, как ночью поведет корабль и будет вглядываться в темноту. Ни луны, ни звезд! Плывет, как в пещере. И вдруг камни гранитных стен раздвинулись. Блеснул узенький проблеск света! «Открылся мыс Федора!» — докладывает сигнальщик. «Вижу. Наношу свое место на карту!» Вдали вспыхивает и гаснет зеленый огонек — будто свет уютной настольной лампы под абажуром. Четырнадцать сотых секунды — свет, четырнадцать сотых — мрак, снова четырнадцать сотых — свет, и потом уж мрак четыре пятых и три десятых секунды. Можно не сверяться с часами, он знает это без часов. Еще бы! Это же световая характеристика «его» маяка. Кроме фонаря, были у дяди Ильи еще и ревуны. Когда Мыкола впервые услышал их, то подумал: стадо коров зашло по брюхо в воду и оглушительно мычит, уставившись мордами на юг. Ревуны помогали морякам в плохую видимость. Если наваливало туман или начинал идти снег, моряки, застигнутые в море непогодой, откладывали бинокли. Всё на корабле превращалось в слух. И вот сквозь свист ветра и гул волн донесся издалека слабый, прерывистый, очень печальный голос. Ревуны! Ну, теперь следить с часами в руках! Чья звуковая характеристика? Две секунды — звук, две — молчание, две — звук, две — молчание, пять — звук, шесть — молчание. Подал весть о себе мыс Федора. Предостерегает: «Я — берег! Я — берег! Уходите от меня в море!» И рулевой поспешно отворачивает до тех пор, пока предостерегающий голос ревуна не пропадает в шуме волн и ветра…«МАЛЫЙ ВПЕРЕД!»
«Доведем или не доведем? — думает старший лейтенант Григоренко, не спуская глаз с буксировочного конца за кормой. — Неужели и теперь не доведем?» Водолазный бот неторопливо пересекает рейд. Немцы — в который раз за это утро — бомбят Севастополь. От горящего города протянулись над водой полосы дыма. Они расширяются, удлиняются. Похоже на костры в степи, раздуваемые ветром. — Береговой тянет, — негромко сказал мичман Болгов, командир водолазов. — Выскочим из-за мыса, прикроемся дымом от немецких батарей. Григоренко молча кивнул. По счастью, немцы не знают, что тащит за собой этот бот. Знали бы, спохватились, мгновенно изменили курс своих самолетов, бросили бы их в угон за ботом! Потому что он тащит за собой немецкую мину, только что поднятую нашими водолазами со дна. Мину нового, неизвестного нам образца, которую никак не берут советские тралы, Неразгаданную мину! Старшему лейтенанту Григоренко приказано со всеми предосторожностями отбуксировать ее в укромное место, вытащить на берег и там попытаться вскрыть, чтобы узнать, какая тайна спрятана у нее внутри. Точнее, не попытаться, а сделать во что бы то ни стало, и вдобавок поскорее! Ибо от разгадки этой важной военной тайны зависит судьба Севастополя… Так как же, доведем или не доведем? Ведь это уже вторая поднятая со дна мина. Первую довести не удалось. Взорвалась почти у самого места назначения. Выходит, плохо вели. Григоренко не смотрит ни направо, ни налево. Он как бы в шорах. Абсолютно прямолинеен. Лишь изредка оглянется: верен ли курс, скоро ли наконец берег? И опять замер, не сводит глаз со стопятидесятиметрового пенькового троса, который то натягивается, как струна, то провисает, ныряя в волнах за кормой. Мины не видно. Она целиком в воде. Свисает, как капля, под днищем шлюпки. Почему-то не смогли раздобыть настоящий понтон. Взамен пришлось взять надувную резиновую шлюпку. Водолазы, работая в потемках, ежесекундно рискуя жизнью, закрепили строп на мине и соединили со шлюпкой. Потом притопили шлюпку, наполнили воздухом, и она всплыла, отделив мину от грунта. — Малый вперед! Да, да, только малый. Мину надо вести на цыпочках, неторопливо, бережно, как капризную и вспыльчивую даму. Не споткнулась бы, упаси бог, не ударилась о грунт! Лучше забыть при этом, что рейд простреливается насквозь немецкими артиллеристами. И ветер каждую минуту может перемениться, погнать дым пожарища обратно на берег. И тогда бот посреди рейда окажется как на ладони. Если бы кто-нибудь на боте был в силах шутить сейчас, то, наверное, с улыбкой подумал бы, что это отчасти напоминает сказку о репке. Бот тянет резиновую шлюпку, та в свою очередь тащит мину. Но на боте не до шуток. Севастополь продолжает гореть и сотрясаться под бомбами. Каждый удар но нему болью отдается в сердце. Но Григоренко не смотрит, не позволяет себе смотреть на город. Через полчаса ему понадобится вся его выдержка — он останется на берегу один на один с миной. Немецкие конструкторы, понятно, снабдили ее хитроумными и разнообразными защитными приспособлениями. Чтобы добраться до сути мины, то есть до ее тайны, придется поломать голову. Но недаром старшего лейтенанта Григоренко считают в Севастополе одним из лучших знатоков минно-торпедного оружия противника. Медлительный бот уже идет вдоль берега. Вот она, эта недлинная песчаная полоса, отведенная командованием для работы по разоружению. На берегу — группа людей. К урезу воды, урча, съезжает трактор, который должен принять с кормы бота конец, а затем начать потихоньку, полегоньку выволакивать мину на берег. Григоренко шумно перевел дыхание. Ну, кажется, всё, довели. И тут-то мина рванула! Знакомый оглушающий грохот обвала! Фонтан огня, воды, осколков! Потом волна с силой ударяет о берег и заливает его сплошь, до самых отдаленных построек… От взрыва, впрочем, никто не пострадал. Григоренко был осторожен и недоверчив, как положено минеру, — приказал вытравить буксировочный конец на всю его длину. Но ведь предусмотрел не только это. Он, как ему казалось, учел каждую мелочь при буксировке. И — мина взорвалась! Вторая. И точно так же, как первая. Уже уберега. Все внутри Григоренко сразу сжалось и окаменело. Таким, наверное, стало и его лицо, потому что он поймал на себе странные взгляды водолазов из команды. — Ну, уж третью-то обязательно доведем! — пробормотал сочувственно Болгов. — И в спорте при побитии рекорда, товарищ старший лейтенант, разрешаются три попытки. — А у нас не спорт, — почти не разжимая губ, сказал Григоренко. — Не будет третьей попытки! Болгов хотел еще что-то добавить, но, взглянув на лицо минера, осекся. Товарищи дали Григоренко прозвище «Айрон Дюк» — «Железный герцог» (так в честь Веллингтона назван один из английских военных кораблей). Был, понятно, внешний повод для того, чтобы дать советскому моряку это прозвище. Григоренко носит черное кожаное пальто, в котором видят его в самых опасных местах обороны Севастополя. Можно подумать, что он закован в латы и потому неуязвим. Однако и в лице его есть что-то, что заставляет применить эпитет «железный». Лицо Григоренко принадлежит к числу тех немногих лиц, которые запоминаются со лба. Продольные морщины пересекаются несколькими глубокими и резкими вертикальными (хотя минер еще молод, ему нет и тридцати). И этот узел морщин над переносицей придает лицу его выражение удивительной волевой собранности, умственной и душевной целеустремленности…ТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОЛОВОЛОМКИ
Он сидел на койке согнувшись, держа карту на коленях. В кубрике флагманских специалистов тесно, как в бесплацкартном вагоне. Стола у Григоренко нет. Собственные колени — его стол. Но так же тесно во всех других помещениях штольни. Он сердито посмотрел вверх. Лампочка под потолком мигает и раскачивается, как маятник. Место Григоренко на третьем ярусе, как раз под лампочкой. Но, пользуясь отсутствием флаг-связиста, он пристроился со своей картой внизу, на его койке. Пол так и ходит-пританцовывает под ногами. О железных койках, уставленных одна на другой, и думать не хочется, до того надоедливо их немолчное трусливое дребезжание. Идет уже десятый месяц войны и шестой осады, а все равно привыкнуть к бомбежке или артналету нельзя. Это очередной артналет. Немецкие летчики пока отдыхают. Когда они в свою очередь примутся терзать по кускам Севастополь, отдыхать будут артиллеристы. Опять Григоренко не удержался, взглянул на лампочку. Мечется как дура! Тени и пятна света ходят взад и вперед по карте, мешают сосредоточиться. Но он должен сосредоточиться! С первого же часа войны немцы предприняли планомерную я настойчивую борьбу за входной севастопольский фарватер. Григоренко хорошо помнит, как на рассвете 22 июня взволнованно-дробно забили зенитки, эти барабаны современной войны. Вместе с другими командирами он выбежал из дома. Предрассветное небо обмахивали лучи прожекторов. Он поднес к глазам бинокль. Над рейдом в мечущемся свете прожекторов появились гигантские летучие мыши. Их становилось все больше и больше. Парашюты? Со стороны города донеслись два раскатистых взрыва. Значит, не парашютисты, бомбы? Бомбят Севастополь? Но почему бомбы на парашютах? Одна из предполагаемых бомб разрушила жилой дом, другая повредила Памятник Затопленным Кораблям. Так с первых секунд войны немецкие мины проявили свое стремление и свои способности к притворству. Упав случайно на землю, взрывались, как обычно взрывается бомба. Прикидывались бомбой. Исчезали, не оставляя после себя улик. Но, за исключением двух этих мин, остальные угодили в цель, то есть, поддерживаемые парашютами, мягко легли на дно рейда в опасной близости от фарватера. Впрочем, на другой же день секрет мин был разгадан. Как? По их поведению. Они взрывались только под судами с металлическим корпусом и пренебрежительно пропускали всякую деревянную дребедень. Значит, были магнитными. Кроме того, обладали выдержкой. Над миной проходил один корабль, второй, третий — они ждали, терпели. И лишь под килем четвертого наконец взрывались. Мины было важно понять. После этого не составило труда придумать, как их тралить. Почти каждую ночь, пренебрегая огнем наших зенитчиков, немцы методично, упрямо подсыпали на дно рейда новые и новые мины. А с рассветом за боны заграждения хлопотливо выбегали тральщики, подобно дворникам, которые спешат подмести улицу до возобновления движения. Улица в данном случае — входной фарватер, водная дорожка шириной в несколько десятков метров. Тральщики методично расчищали ее взрывами. В октябре, однако, немцы подбросили к порогу Севастополя новую головоломку. Поутру, как всегда, тральщики ринулись убирать сброшенные ночью мины. Море осталось безответным. Как ни в чем не бывало мины продолжали лежать На дне, цепко держась за грунт, поджидая добычу. Но если тралы не берут их, значит, они не магнитные? Какие же? В это время Григоренко отсутствовал. Вернувшись, он узнал, что произошло несчастье — подорвались несколько минеров, пытаясь разоружить одну из новых непонятных мин. Она упала в воду неподалеку от Константиновского равелина. Случай нельзя было упускать. Петлей, сделанной из пенькового троса, водолазы зацепили мину и аккуратно вытащили на берег. Тогда к ней подступили минеры. Благополучно снято было приспособление, которое отзывалось на толчки. Затем убрали еще один защитный прибор. Но, когда потянули на себя крышку, произошел взрыв специального заряда. Под крышкой прятался камуфлет, то есть защитный прибор-ловушка, о котором минеры не подозревали. Он-то и был третьим стражем тайны. Григоренко был включен в комиссию, созданную командованием для выяснения причин взрыва. Корпус мины, набитый взрывчаткой, уцелел, иначе все вокруг превратилось бы в пыль. Взорвалась лишь ловушка, преграждавшая доступ к сокровенным приборам, а заодно, понятно, разрушились и сами приборы. Осколки разбросало на большом пространстве в траве. В минной лаборатории их начали терпеливо сортировать, перекладывать с места на место, рассматривать под разными углами зрения — сверху, снизу, сбоку. Трудная задача, очень трудная! Тайна разорвана на мелкие клочья. Попробуй-ка склей ее воедино! Но вот председатель комиссии, старый минер, бывший преподаватель Григоренко, оттопырив в задумчивости губы, отчего висячие усы его, прокуренные до желтизны, смешно натопорщились, соединил на столе три осколка. Потом откинул голову, полюбовался ими и, отступив на шаг, дал полюбоваться Григоренко. Что это? Похоже на гидрофон, то есть подводный звукоприемник. Но это и есть гидрофон, обломки гидрофона! Кто-то из минеров, стоявших у стола рядом с Григоренко, негромко присвистнул. Раструб металлического уха! Мину выдало ее круглое, всегда настороженное, жадно раскрытое навстречу звукам ухо. Она была акустической, а не магнитной, вот оно что! Охотилась по слуху. Издалека слышала приближение корабля. Шум винтов, гул моторов, сотрясение корпусов усиливались. И в тот момент, когда корабль находился уже над миной, звуки преобразовывались в электрический сигнал, и мина взрывалась. Итак, в данном случае тайну вытащили за ухо со дна. Против новых акустических мин были пущены быстроходные катера. Пенными вихрями они проносились по рейду. Услышав шум винтов над собой, мины вздрагивали и торопливо взрывались. Но катера, опережая взрыв, были уже далеко впереди. И так было до конца марта 1942 года, когда немцы опустили в воду на парашютах свою третью металлическую головоломку, самую трудную из всех. Новые мины, судя по всему, не были магнитными, но не были и акустическими. Ни один трал не брал их. И вдобавок они упорно не желали выходить на берег. Как же тогда разгадать эту тайну?КОГДА ПОДКОВЫ СБЛИЖАЮТСЯ
Григоренко терпеливо поправил карту, которая от тряски то и дело сползала с колен. Дуга осады вычерчена на карте очень четко, толстым красным карандашом. Пламенеет, будто подкова, докрасна раскаленная на углях наковальня. Концы подковы уперлись в морс. Пять месяцев назад в Севастополь прибыли последний железнодорожный состав и последняя груженная доверху машина. Затем путь со стороны суши был закрыт. По воздуху добраться до Севастополя тоже нельзя. Немецкие истребители — неотлучно на перехвате. В общем, двери на земле и в воздухе забиты наглухо. Свободен только выход в море. Осталась на все про все одна-единственная коммуникация — морская. И на этой тонкой ниточке, соединяющей Севастополь и Новороссийск, Крым и Кавказ, держится теперь снабжение осажденного города. Оборвись она — и города нет! Григоренко, как флагманский специалист, знал, что Севастополю требуется ежедневно шестьсот тонн одних лишь снарядов и патронов. Получает же Севастополь в шесть раз меньше — едва сотню в день. Этими тоннами железа и приходится, расходуя их экономно, более того — скаредно, прикрывать осажденный город с суши, с моря и с воздуха. А горючее? А продовольствие? А пополнение? И ведь нужно еще вывозить раненых! На войне это всегда одна из самых важных и трудных задач, в особенности во время осады. Наши транспорты, танкеры и корабли конвоя гибнут по пути из Новороссийска в Севастополь от немецких снарядов и самолетов. Но часть все же прорывается в порт назначения. И здесь, на морском пороге Севастополя, их подстерегает новая опасность, затаившаяся под водой. Именно с помощью мин хотят немцы заполнить неширокий промежуток между концами раскаленной подковы. Едва лишь концы эти сойдутся, как Севастополь очутится в кольце, осада превратится в блокаду. И городу не выстоять, если его последний выход — к морю — будет закрыт, если прекратится регулярный подвоз пополнения, боезапаса, горючего и продовольствия! Вот чем угрожают нам эти упрямые, не поддающиеся тралению, неразгаданные мины на входном севастопольском фарватере…ГЛУБОКОВОДНАЯ ТВАРЬ
Артналет кончился, затем спустя пятнадцать — двадцать минут началась бомбежка, — Григоренко уже не замечал ни тишины, ни шума, полностью ушел в решение задачи. Мысленно он проверил себя. Нет, мины при отбуксировке не соприкасались с грунтом, был уверен в этом. Случайный толчок исключался. И взрыв произошел оба раза у самого берега, на мелководье. Было, стало быть, что-то внутри мин, что не пускало их из воды. В детстве Григоренко читал о хищных рыбах, которые живут на большой глубине. Они приспособились к этой глубине. Но, будучи выброшены на мелководье, мгновенно погибают там. Такой глубоководной хищной тварью была и эта новая немецкая мина. Видимо, конструкторы снабдили ее защитным прибором, который оставался в покое лишь до тех пор, пока на него давил достаточно высокий столб воды. Стоило давлению уменьшиться, как прибор срабатывал. Мина взрывалась — и ускользала из рук советских минеров. Да, несомненно, так оно и было. Но если мину нельзя вытащить для разоружения на берег, то, значит, надо спуститься к ней и разоружить ее на дне! Григоренко подождал немного, давая себе время освоиться с этой мыслью. На первый взгляд она фантастична. И в то же время в ней есть своя подкупающая логика. Разоружение под водой будет частичным. Необязательно сразу вырывать у хищной твари все ее зубы. Достаточно ограничиться лишь двумя зубами. Иначе говоря, надо снять с мины защитный прибор, который не пускает ее из воды, а заодно с ним и второй, который не переносит толчков. После этого мина будет доставлена на берег, и там минеры без помех займутся ее главной тайной. Однако бывших водолазов среди минеров нет. Обучить водолаза минному делу? Для этого потребуется слишком много времени. Можно, впрочем, подойти к решению с другой стороны. Минера намного проще обучить водолазному делу, чем водолаза минному. Для этого достаточно, вероятно, недели, если проводить обучение форсированными темпами. Глубины на фарватере сравнительно небольшие, до двадцати метров. Спускаться на дно придется, понятно, в туман, чтобы не вызвать подозрений у немцев. Но кто из севастопольских минеров спустится на дно?.. Григоренко снова дал себе короткую передышку. Одно из наиболее тягостных душевных состояний — это бесспорно нерешительность. Пока есть еще время колебаться, сомневаться, взвешивать, душа разрывается на части. И это не только тягостно, это унизительно. Человек как бы беспрестанно оглядывается по сторонам, встревоженный, суетливый, растерянный. Покой приходит к нему тогда лишь, когда решение наконец принято. Насколько все было бы проще, легче, если бы командующий принял решение за Григоренко, попросту отдал приказ! Увы, это тот редкий случай на войне, когда надо самому предложить и самому для себя решить. Никто в кубрике флагманских специалистов не догадывается, какую мучительную внутреннюю борьбу переживает Григоренко сейчас. Люди приходят и уходят. Все заняты своими неотложными делами. Григоренко продолжает неподвижно сидеть на койке, держа карту на коленях, не спуская глаз с раскаленной докрасна подковы. Вот еще важный довод. Он, Григоренко, не только хорошо разбирается в минно-торпедном оружии противника, он к тому же спортсмен, не раз брал призы на флотских соревнованиях. Физически несомненно лучше других подготовлен к необычному единоборству на дне. И этот довод, конечно, решающий. Григоренко встал. — Куда собрался, старлейт?[59] — К командующему на прием.РУКИ МИНЕРА
Командующий Черноморским флотом и севастопольским оборонительным районом принял своего младшего флагманского минера в ноль сорок пять. Защитники Севастополя с нетерпением ждут ночи. Она приносит им облегчение, как и большинству людей на земле. Немецкие летчики, артиллеристы, пехотинцы заваливаются спать и вкушают безмятежный сон, набираясь сил на завтра. Однако защитникам Севастополя не до сна (конечно, и они отдыхают, но урывками). За короткий промежуток времени — каких-нибудь четыре часа — надо переделать множество дел. Принять и выпроводить корабли очередного кавказского конвоя. Подвезти к батареям снаряды, распределить патроны и автоматные диск. Доставить продовольствие. Захоронить своих убитых. Короче, ночью севастопольцы переводят дух… Григоренко доложил адмиралу минную обстановку. Потом прокашлялся и перешел к своему предложению. Однако командующий отнесся к нему неприветливо. — Разоружать мину на дне? В скафандре? — хмуро переспросил он. — Не разрешу. Найдите другой способ, менее рискованный. Но Григоренко был настойчив. Он попросил разрешения подробнее обосновать свою мысль. Командующий слушал, не прерывая, застыв в неподвижной позе за столом, низко нагнув крутолобую бритую голову, будто заранее не соглашаясь с доводами Григоренко. Между тем впечатление упрямой предвзятости обманчиво. Просто у командующего еще с вечера разболелась голова, трещит, разламывается на куски. Трудно ее поднять, трудно повернуть. Только что, перед приходом Григоренко, он принял таблетку и с нетерпением ждет, когда же наконец боль утихнет. Ему известно все о минной опасности. Слово «коммуникация» сейчас равнозначно слову «жизнь». Пока младший флагманский минер, беспрестанно останавливаясь и делая паузы, излагает свой план разоружения мины на дне, командующий занимается сложной бухгалтерией войны. Ворочает в уме тоннами позарез необходимых ему снарядов, патронов, горючего. Жиденькой струйкой, все утончающейся, текут эти тонны в Севастополь. Не сегодня-завтра немцы могут, перекрыть струйку, минами отсечь Севастополь от Кавказа, от всей России. Командующий с усилием поднял тяжелые, набрякшие веки — боль не проходит. После ноля часов она вообще редко когда проходит. Ни черта не делается ей после ноля часов, этой головной боли! Не помогают ни порошки, ни таблетки. Но так, наверное, оно и должно быть. Спать командующему — да и то прерывистым, беспокойным сном — положено куда меньше остальных защитников Севастополя. Стоя у стола, Григоренко водит острием карандаша по карте, показывая, как собирается подойти к мине. Волнуется, это видно. Брови сошлись в одну линию. Худое, с обтянутыми скулами лицо напряжено. Но больше всего выдает голос. За зиму командующий успел хорошо узнать своего минного специалиста. Если он делает судорожные глотательные движения, будто у него першит в горле, — значит, волнуется! Да, незаурядная смелость мысли нужна для того, чтобы придумать такое. Нигде и никогда еще не разоружали мин на дне. Понимает ли Григоренко, насколько это трудно? В давние годы, будучи юнгой и, как водится, любимцем команды, теперешний командующий флотом выклянчил у своих дружков-водолазов позволение спуститься с ними на дно. Ох и мотало же его, клало на бок, подбрасывало, как мячик! В воде Григоренко придется соразмерять каждый свой вздох. А работа минера — ювелирная работа. И мина вдобавок не разгадана. Как еж, ощетинилась всеми своими опасными камуфлетами. Но чем дольше слушал командующий своего минного специалиста, тем больше понимал, что предложение его есть единственное в данной ситуации приемлемое решение. Он перевел взгляд с лица на руки Григоренко и удивился. Минер волновался, а руки его были спокойны. Они были не очень большие, красивой формы, неширокие, с длинными уверенными пальцами. Таким бы пальцам не болты отвертывать, а разыгрывать сложные пассажи на рояле. Но главное было не в форме рук. Главное было в поразившей командующего привычной точности их движений. Минер говорил медленно, тщательно подбирая слова, стараясь во что бы то ни стало убедить начальство. Голос его временами дрожал, и начинало дергаться веко. Но руки не дергались, не дрожали. Они толково делали свое дело. Разглаживали карту на сгибах, устанавливали по краям тяжелые письменные приборы, чтобы она не сворачивалась, легко, почти не надавливая карандашом, размечали расстояние от заграждения до мин. И, как ни странно, не доводы Григоренко, а руки его окончательно убедили командующего. — Добро, — сказал он по-прежнему хмуро. — Подберем тебе лучших наставников-водолазов. Я дам команду. Недели на учебу хватит? Не тороплю. Обстановку сам знаешь.В ПОДВОДНЫХ СУМЕРКАХ
Недели на учебу хватило. …Водолазный бот вышел за боны заграждения и стал на якорь неподалеку от Константиновского равелина. Над рейдом лежит густой предрассветный туман. Первым спустился за борт водолаз Викулов. Григоренко, уже одетый в резиновые доспехи, но еще без шлема, ожидает на палубе своей очереди. Белая пелена обступила бот. Но у борта светло. Григоренко перегнулся через борт. Муть, поднятая Викуловым, уже улеглась. Подводное царство просматривается хорошо. Там — безмятежный покой. Меняя очертания, как в трубе игрушечного калейдоскопа, поблескивают на песке камни: желтые, белые, зеленые. Тихо шевелятся конские хвосты водорослей. Но это обманчивый покой. Песок и камни просматриваются только на мелководье. Дальше дно начинает понижаться. Из глубин рейда неотвратимо наползает по склону черный ил. И вода над ним — как чернила. Именно там, во мраке, в густых зарослях ила, притаилась эта зловещая неразгаданная мина. И пяти минут не пройдет, как Григоренко увидит ее, потом шагнет ближе и осторожно притронется к ней. Выпрямившись, он взглянул в ту сторону, где в глубине бухты угадывалась за туманом Графская пристань. Вдруг вспомнился ему хлопец в смешной соломенной шляпе, несмело, бочком, спускающийся по выщербленным ступеням к воде. Положив торбу у ног, хлопец медленно разогнулся и с изумлением уставился на море. Поза самая нелепая — руки растопырены, рот открыт. Владелец торбы безмерно удивлен открывшимся перед ним зрелищем. Море, беспрестанно набегающие волны, рейд с гордыми военными кораблями увидены впервые в жизни. Но вместе с тем, пристально вглядываясь в слепящую синь бухты, он словно бы старается прочесть в ней свою судьбу. И вот она, эта судьба… Разбрызгивая воду, по трапу поднялся Викулов. Пора! Деревянный красный поплавок уже качается на волне метрах в пятнадцати от бота. Это Викулов поставил буек на якоре вблизи мины. Водолаз сделал свое дело, теперь очередь за минером. Заботливый Болгов собственноручно привинтил шлем, потом хлопнул по нему ладонью — безмолвное напутствие водолазов. И Григоренко шагнул через борт. Трап — подвесная лесенка, семь или восемь ступенек, вертикально уходящих в колышущуюся воду. Спиной вперед, придерживаясь руками за ступеньки, минер сполз по трапу, разжал руки. Пустота бережно приняла его. Ощутив дно под ногами, он сделал несколько шагов и остановился. Нужно выждать, пока глаза привыкнут к струящимся подводным сумеркам. Лишь спустя две-три минуты стало видно впереди. Дно шло под уклон и было пустынно. Где же мина? Внезапно Григоренко почувствовал себя очень одиноким в этом призрачном колеблющемся мире. Клубы ила, оседая, кружатся и ложатся у ног, как поземка. Что бы прозвучать в наушниках доброму голосу Болгова: «Головой работайте, товарищ старший лейтенант! Про голову не забывайте». Но наушники молчат, телефон отключен. Даже слабый индукционный ток может воздействовать на мину, если у нее есть магнитный камуфлет. С товарищами, оставшимися наверху, Григоренко связывает только линь, длинный сигнальный конец. Мрачный ландшафт вокруг. Воронки от бомб и снарядов. Обломки металла, некоторые из них с ноздреватыми наростами ржавчины, наверное, оборвавшиеся якоря. Длинные подрагивающие космы водорослей. Ил. Неоглядные черные поля ила… Потом Григоренко вспомнил о людях, которые с волнением и беспокойством думают сейчас о нем и переживают за него. Чувство одиночества исчезло. А вслед за тем он почувствовал требовательное подергивание линя. Болгов торопит! Григоренко двинулся вперед, очень медленно, стараясь не шаркать башмаками-грузами. Он словно бы подкрадывался к мине, еще не видя ее. Ведь она, чем черт не шутит, все-таки могла быть акустической. Как бы не сработал тогда акустический камуфлет от звука приближающихся шагов! Однако Григоренко шел по дну не наугад. Болгов условными сигналами-подергиваниями линя направлял к цели, к буйку, покачивавшемуся на волнах. Как поднятый шлагбаум, возник в зеленых сумерках конец, наклонно протянувшийся со дна на поверхность. Мины под ним нет. Наверное, буек снесло ветром в сторону. Внимательно смотря себе под ноги, Григоренко сделал еще несколько коротких шагов. Вот она!!НАЗНАЧЕНИЕ ЛОВУШЕК
Мина могла представиться минеру змеиным клубком тайн. Только подступи — и сейчас высунутся из клубка злобно шипящие ромбовидные головы, много голов. Но отчасти мина похожа и на тигра, который таится в зарослях. Длинные водоросли беззвучно покачиваются над ней. И она полосата, как тигр. В зыбком полумраке пятна камуфляжа на ее круглой спине выглядят совсем как полосы. А отсюда недалеко уж и до сравнения с драконом. Огнедышащий дракон разлегся на пороге сказочного прибрежного города. И Григоренко, как рыцарю Ланцелоту, предстоит сразиться с этим драконом. Но такие ассоциации могли прийти в голову только праздному человеку, случайно оказавшемуся в положении Григоренко. Минер не думал ни о змеях, ни о тигре, ни о драконе. Он увидел перед собой цилиндр, лежащий на боку, довольно длинный, на глаз метра в два, а шириной, вероятно, около полуметра. Размеры определить нелегко. Вода над цилиндром струится, колеблется, очертания его беспрестанно меняются. Григоренко так засмотрелся на мину, что, наверное, чересчур сильно прижал голову к клапану внутри шлема. На плечи навалилась тяжесть всего Черного моря. Стало труднее дышать. Он тряхнул головой, сбрасывая наваждение… Между тем на водолазном боте не спускают глаз с больших, как лепехи, пузырей воздуха, медленно вскипающих на воде. Вначале они удалялись от бота по направлению к буйку. Потом стали подниматься уже у самого буйка — минуту, две, три. Что-то вроде бы слишком долго! Викулов сказал: — Увидел мину. Волнуется. Пузыри начали описывать возле буйка очень медленные дуги. — Ага! — с удовольствием прокомментировал Болгов. — Совладал с собой. Теперь, стало быть, примеряется, как ее ловчей брать… Мина вся в пятнах, и купол тоже в пятнах. Маскировка. Разрисованы так для того, чтобы сливаться с дном, чтобы трудно было различить сверху. Не сводя с мины глаз, Григоренко неторопливо охаживал ее, то и дело останавливаясь, нагибаясь, даже приседая на корточки. Так! Постепенно картина проясняется. У мины три горловины. Вот они — небольшие круглые крышечки, вплотную прилегающие к корпусу. Под ними несомненно скрыты отверстия. Самые важные приборы — черед до них дойдет на берегу — находятся, понятно, глубоко внутри мины, у ее хвостовой части. Здесь, ближе к поверхности, спрятаны ловушки-камуфлеты. Григоренко заставил себя протянуть руку к ближайшей горловине. Едва касаясь, провел по ней пальцами. Труднее всего далось это первое прикосновение. Перчаток водолазы не носят. Твердый манжет, обхватывающий запястье, не пропускает воду в скафандр. Да Григоренко и не смог бы работать в перчатках. Легкие скользящие касания. Тронул — и остановился. Чуть надавил — и замер. Вспомнилась мигающая лампочка в кубрике флагманских специалистов. Здесь, под водой, освещение тоже меняется. Оно то темнее, то светлее. Это значит, что туман наверху редеет, сгущается, снова редеет. Впрочем, Григоренко доверяет своим пальцам больше, чем зрению. Внимание его сейчас сконцентрировано в кончиках пальцев, в этих мягких выпуклых подушечках, которые у опытных минеров почти так же чувствительны, как у слепых. На ощупь Григоренко безошибочно определяет назначение отдельных выпуклостей и впадин. Ага! Вот это — гайки, а это — болты, вот чуть заметные углубления для выступов специального ключа. Итак, налицо три горловины, а под ними три ловушки-камуфлета. Каково же их назначение? По признакам, понятным минеру, Григоренко заключил, что камуфлет, срабатывающий при толчках, укрыт в самой маленькой из горловин. А в двух других, по-видимому, то самое каверзное приспособление, которое не пускает мину на берег. Долго в задумчивости стоял Григоренко у мины. Обманутые его неподвижностью, стайки мелкой рыбешки принялись взад и вперед сновать мимо иллюминатора шлема. Он лишь досадливо морщился, как от мелькающих перед глазами мух. С какого камуфлета начать? Конечно, с того, который чувствителен к толчкам. Потом, если удастся его снять, будет легче работать со вторым камуфлетом. Погруженный в свои мысли, Григоренко не заметил, как вокруг делалось светлее и светлее. А это был грозный признак. Внезапно — удар по темени! Круги заходили перед глазами. Инстинктивно он схватился за шлем — цел ли? И тотчас успокоительная, трезвая мысль нагнала первую, тревожную: думаю — значит, цел! С облегчением он увидел мину на том же месте у своих ног. Но она и должна была быть на том же месте. Взорвалась бы — и его, Григоренко, уже не было бы здесь.ТУМАН РАЗОШЕЛСЯ
Снова кто-то невидимый с силой ударил сзади, пригнул к земле! На несколько секунд Григоренко потерял сознание. Как присел подле мины на корточки, так и остался в этой позе, свесив голову между колен. Очнувшись, он понял, что наверху настойчиво торопят с возвращением. Сигнальный конец трепетал, то провисая, то натягиваясь до отказа. Минер заставил себя встать и побрел, плохо ориентируясь в происходящем, повинуясь лишь требовательному подергиванию линя. Тот стал сейчас как бы продолжением его нервной системы. Почему-то очень болели уши. Горячие струйки пота стекали по лицу, заползали за воротник. Воду вокруг по временам как бы сотрясала судорога. Это было мучительно. Далеко ли еще до бота? Ага! Трап! Первая ступенька, вторая… Сверху протянулись заботливые руки, подхватили минера, втащили на палубу. Воздух раскачивался от орудийных залпов. Снаряды рвались над водой и в воде. От этого весь рейд ходил ходуном. Мимо бота проносились клочья тумана. Ветер! Пока Григоренко был на дне, наверху поднялся ветер. Туман, ненадежное прикрытие, стал разваливаться, и немцы со своей береговой батареи тотчас же начали обстреливать бот. Но тут уже все было на «товсь». Ждали лишь возвращения Григоренко. Якорь был торопливо выбран. Мотор взревел, бот сорвался с места. И вовремя! Болгов помог Григоренко снять шлем. — Волной-то как бьет, товарищ старший лейтенант! До дна достает волна, — сказал он и широкой шершавой ладонью участливо отер лицо и шею минера. С изумлением тот увидел на руке Болгова кровь. Оказывается, это не пот, а кровь! Такова сила гидравлического удара. От него с дребезжанием сыплются плафоны, расходятся и пропускают воду швы в металлическом корпусе подводных лодок. И от него даже у самых здоровых и выносливых водолазов лопаются кровеносные сосуды, течет кровь из носа и ушей. Стремглав вбежали в проход, оставленный для бота в бонах заграждения, и укрылись за Константиновским равелином.ПОДОБРАТЬ КЛЮЧИ К ТАЙНЕ!
Два дня подряд Григоренко не удавалось вернуться к мине Как назло, погода была ясной. Стереотрубы и бинокли немецких артиллеристов не отрывались от внешнего рейда. Но вот с рассветом третьего дня лег долгожданный туман. Прикрывшись туманом, как щитом, водолазный бот вышел из-за мыса и остановился у буйка. Сейчас Григоренко волновался больше, чем в первый раз. Лучше представлял себе, как трудно придется под водой. Кроме того, он очень боялся уронить мастику, которую нес в руках. К тайне нужно подобрать ключи. А для этого снять отпечатки со всех трех горловин. Григоренко присел на корточки подле мины, расправил за спиной шланг и сигнальный конец, чтобы не стесняли движений. Груда мастики лежит рядом с ним. Никогда в жизни ему не приходилось заниматься лепкой, даже пластилин держал в руках только в самом раннем детстве. Но что в экстренных случаях не приходится делать минеру! И при этом, заметьте, безукоризненно. Кусок за куском отрывает Григоренко от груды мастики, разминает, расплющивает, превращает в подобие лепешки или диска, потом подносит к крышке горловины и аккуратно накладывает на нее ладонью. Несложно? А требует неимоверного напряжения душевных и физических сил. Мастику к мине надо прижимать легко и в то же время настойчиво. Надавишь слишком слабо, не получишь отпечатка. Надавишь слишком сильно, раздразнишь камуфлет, который не выносит толчков. И ведь работать приходится не в спецовке или в комбинезоне. Неуклюжий резиновый футляр напялен на тебя. Тяжелый шар шлема нахлобучен на голову. Поворачиваться надо всем корпусом. Поле обзора ограничено. Видно лишь через сравнительно небольшой иллюминатор. Да и видно-то плохо. Хотя вода в Черном море еще холодна в апреле, Григоренко не чувствует этого идущего со всех сторон холода. Ему жарко. Горячий пот стекает потоками со лба, попадает в глаза, слепит. Хорошо еще, что пальцы умные — сами знают, когда остановиться, замереть, когда прижать мастику чуть сильнее. Главное, не думать ни о чем постороннем! Думать только об отпечатках мастики для ключей!ТОЛПА НЕИЗВЕСТНЫХ
Благополучно сняв отпечатки с двух горловин, Григоренко почувствовал, что должен передохнуть. Он был весь мокрый, словно бы только что выскочил из-под душа. Надо хоть немного обсохнуть. Кто это вчера мимоходом сказал в штабе: «Вам предстоит единоборство с герром Икс, немецким конструктором мины»? С несколькими иксами, — так будет вернее. Можно вообразить себе в эти короткие минуты передышки, что очень много людей сгрудились за миной, покачиваясь, как утопленники в сумраке воды. Стиснув рты, принахмурясь, исподлобья смотрят на советского минера. Еще бы не исподлобья! Ведь он стремится похитить их тайну. Сообща, ценой колоссальных усилий, они создали эту мину: отборные немецкие физики, математики, химики, инженеры, чертежники, наконец мастера и высококвалифицированные рабочие, которые искусно воплотили в металл мысль, безупречный технический замысел. Да, сейчас толпа неизвестных незримо противостоит Григоренко. Но, мысленно раздвинув их широко расставленными локтями, он снова подступил к мине. Снят наконец отпечаток и с третьей горловины. Испытал ли Григоренко радость? Нет. Даже на радость у него не хватало сил. Больше всего в этот момент хотелось стереть пот со лба. Но как сделать это, если между рукой и лбом стекло иллюминатора? Неся перед собой три отпечатка, Григоренко едва доплелся до бота. Колени дрожали и подгибались, дышать было трудно. Несколько раз он пытался подняться по вертикальному трапу. Нога соскальзывала и обрывалась со ступенек. Все же с огромным трудом ему удалось подняться. Правой рукой он придерживался за трап, левой прижимал к груди отпечатки. Минера встретили возгласами ликования. Но когда сняли шлем с Григоренко, то увидели, что осунувшееся лицо его встревоженно и озабоченно. Оказывается, поднимаясь по трапу, он крепче, чем нужно, прижал к себе отпечатки — боялся уронить, и вот на ж тебе: помял один из них! — Эх! Что же вы, товарищ старший лейтенант? Меня бы вызвали на подмогу. — Не догадался, Викулов, представь себе. Совсем из головы вон… Ключ, сделанный по испорченному слепку, мог получиться плохо. Неужели же опять идти с мастикой к мине, чтобы снимать новый слепок?ПОВОРОТ! ЕЩЕ ПОВОРОТ!
Ключи по слепкам, доставленным минером, изготовлены за ночь в мастерской. Григоренко не выспался, очень волновался — из-за этого ненадежного третьего ключа. И на боте все были взвинчены, хотя, понятно, старались скрыть это друг от друга. Наступило самое трудное и опасное в разоружении мины под водой. За бонами заграждения бот обступила и обняла сонная жемчужно-серая тишина. Заметил ли, оценил Григоренко эту тишину? Вряд ли. Стоя на палубе в скафандре, мысленно был уже у мины, прикидывал и рассчитывал каждый свой осторожный оборот ключа. Рядом с минером негромко переговаривались, пытались даже шутить, чтобы разрядить нервное напряжение, — он не понимал, не слышал ничего. Всем существом своим был нацелен на третью встречу с миной. Человек-острие! И вот — трап, спуск под воду. Уже не жемчужно-серая успокоительная, а зеленоватая тревожная тишина обступает Григоренко. Он у мины… Он начал с того, что обстоятельно и не торопясь привел в порядок свое рабочее место. Справа от себя положил ключи, слева — плоскогубцы. Это очень важно — именно обстоятельно и не торопясь! Нужно помогать себе привычно успокоительными воспоминаниями. Так он раскладывал инструмент и раньше, когда приходилось разоружать другие мины, и все у него всегда получалось хорошо. И сейчас получится хорошо! Выступы ключа плотно вошли в углубление. Ага! Слепок, даже поврежденный, не подвел. Первая удача. Приятно начинать с удачи. Теперь легонький поворот, попытка поворота — как обычно, против часовой стрелки. Не надавливать и тем более не дергать! Никаких усилий. Все движения плавны, размеренны, спокойны. Удивительно, что сейчас он чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше. Привык к постоянной опасности взрыва? Вздор. К опасности нельзя привыкнуть. Просто раньше он спускался на дно безоружным, подходил к мине с голыми руками, а сегодня, как и положено на войне, вооружен для борьбы с миной тремя безукоризненно сделанными ключами. Крышка горловины подается. Поворот! Еще поворот! Не веря себе, Григоренко принял на ладонь отвалившуюся крышку. Это значит: открыт доступ к прибору-ловушке, который не терпит толчков. Рискнем! Опершись для устойчивости левой рукой (как, однако, метает, сковывает этот проклятый водолазный костюм!), Григоренко просунул пальцы внутрь горловины. Так! Вторгся в глубь вражеской территории! Что-то странное, однако, творится со временем. Нескончаемо, убийственно медленно ползет — когда пальцы нашаривают лишь пустоту внутри горловины. И вдруг переходит в галоп, в «аллюр три креста» — когда в этой пустоте возникает нечто похожее на провода… Наконец камуфлет обезврежен. С ходу, не давая себе опомниться от удачи, Григоренко наложил второй ключ на крышку второй горловины. Внезапно он ощутил боль в сердце. Будто клещами сдавило. Он удивился, но продолжал держать ключ на крышке. Сердце у него никогда не болело, он даже редко вспоминал о сердце. Минер подумал о подкове осады, концы которой на карте тянулись друг к другу, будто два магнита. Сейчас он, Григоренко, находится между этими раскаленными острыми концами. И, прежде чем сомкнуться на внешнем рейде, они должны стиснуть, смять, раздавить его сердце… Переждав боль, Григоренко осторожно снял крышку со второй горловины, положил ее на грунт. Ну-ка, ну-ка! Что там внутри? Ободок. Для чего? Придерживает стеклянный или пластикатовый круг. Значит, первоначальная догадка верна: там должна быть диафрагма. А это что возле нее? Кольцо. Затаив дыхание Григоренко подвел под него плоскую рукоятку ключа, попытался вытащить. Не поддается, черт бы его драл! Еще разок. Ага! Пошло, идет! Это трижды анафемское кольцо Григоренко — так показалось ему — вытаскивал долгие-долгие, нескончаемо долгие часы. Но спешить нельзя. Один рывок, нетерпеливый, резкий, и все пропало — взрыв! Ага! Вот и они! Змейками за кольцом протянулись два провода. Не глядя, Григоренко нашарил слева от себя плоскогубцы. Выждал минуту или две, стараясь унять нервную дрожь. Лишь бы не соединить невзначай провода! Потом твердой рукой он поочередно перервал их плоскогубцами… Именно два этих провода были соединены с запальным патроном, находившимся в третьей, еще не открытой Григоренко горловине. Когда мину пытались вывести на мелководье, столб воды делался менее тяжелым, не так сильно давил на резиновый диск диафрагмы. Она выгибалась наружу. Змейки под ней поднимали головы. Два провода, связанных с диафрагмой, соединялись и замыкали запальный патрон. Без этого коварного камуфлета мину уже можно вытаскивать на берег для окончательного разоружения. Хищная тварь перестала быть глубоководной. Но она еще оставалась хищной.ТОЧКА ОБЗОРА — ВНЕШНИЙ РЕЙД
Под мину, лишенную самых опасных своих камуфлетов, подвели стропы, потом осторожно подняли и потащили за собой на длинном тросе — точно так же, как когда-то ее двух предшественниц. В полном изнеможении — без скафандра — Григоренко лежит на корме, привалясь к надпалубной надстройке. Позволил себе расслабить нервы, дать им кратковременный отдых. Бот неторопливо пересекает рейд. На воде туман, и тишина вокруг такая, будто войны и в помине нет. На каждом боне заграждения примостилось по чайке. Похоже на снежные нахлобучки на верхушках елей. Как выздоравливающий после тяжелой болезни, Григоренко жадно, без разбора вбирает в себя впечатления, замечает любую деталь. Но города он, по счастью, не видит. Вкруговую, не будь тумана, вращалась бы перед его глазами панорама Севастополя. Не та панорама — обороны 1854–1855 годов, — которая уже аккуратно свернута, уложена рулонами и ожидает эвакуации (покинет город на предпоследнем судне). Нет, живая, не нарисованная панорама. Время — апрель 1942 года. Точка обзора — внешний рейд. Сначала распахнулось бы во всю ширь море. Неповторима его синева! Вода ли так аккумулирует солнечные лучи, подстилка ли дна создает своеобразный цветовой эффект, но нигде, ни в одной из бухт Крыма, по мнению Григоренко, нет подобной воды. При следующем повороте возник бы пятном на мысу равелин, очень широкая, низко срезанная башня с амбразурами. Затем и к равелину повернуло бы кормой. Теперь перед Григоренко дома, которые весело разбежались по склонам холмов в глубине Южной, Корабельной и Артиллерийской бухт. Но сейчас они не видны, лишь угадываются в тумане. Впечатление такое, будто маляр, размашисто мазнув кистью, закрасил белилами многоцветную, удивительной красоты картину. Потом, небрежно обмакнув кисть в желтую краску, ткнул туда, где предполагается восток. На грязно-белом фоне появилась клякса с расплывающимися подтеками — солнце. Можно подразнить или, вернее, помучить воображение, представив себе свой милый родной Севастополь таким, каким он был недавно. За туманом полагается быть статным зданиям под красными черепичными крышами, кокетливым лестницам, каскадом белых ступеней ниспадающим с холма на улицы Ленина и Большую Морскую, тенистым бульварам и садам, где доцветают алыча и миндаль. Именно в этом сказочно красивом городе прошло лучшее время жизни — юность. Но ничего похожего на тот город на берегу уже нет. Замелькали зарницы над берегом — немцы возобновили бомбежку. Туман быстро распадается, разваливается на куски. А! Это поднялся ветер. Еще несколько резких порывов — и он начисто смывает с панорамы белила тумана. Из-под них встает другой Севастополь — не довоенный, воображаемый, а сегодняшний, реальный, — всего в два цвета, черно-серый. Ликующие краски выцвели в дыму. Листва сгорела. Город одет известковой пылью. Похоже на землетрясение? Отчасти да. Когда-то Григоренко читал, что во время самого сильного землетрясения XVIII века, лисабонского, из двадцати тысяч домов в столице Португалии выстояло только пять тысяч. Но сколько же не тысяч, нет, сотен или десятков домов выстояли в Севастополе на шестой месяц его осады?! А с неба на город продолжает валиться железо. Раскаленный железный дождь налетает шквалами. И языки пламени взметаются к небу и перебегают над остовами домов. И клубы дыма, оседая, медленно заволакивают все на берегу. Горло перехватил спазм. Григоренко несколько раз прокашливается, низко опустив голову. Сил нет смотреть на этот измученный,искромсанный железом, задыхающийся в дыму город… Между тем тумана уже нет, стало совсем светло вокруг. Слева по борту лопнул снаряд. Бот замечен! Лениво, со сна, пристреливаются немецкие артиллеристы. Пока всплески поднимаются далеко от бота. Но пристреляться недолго. И маневрировать, увертываться от снарядов тоже нельзя, если сзади на длинном тросе тащится такая цаца. Как-то не думалось никому о том, что снаряд может подбить бот. Страшно было именно за эту с таким трудом добытую со дна цацу. Что ж, опять начинай сначала? При мысли об этом у Григоренко мучительно заныли мускулы рук и плеч. Усталость этих дней навалилась на него, зайдя со спины. Но усилием воли он стряхнул ее. Немцы на береговой батарее, вернее всего, побрезговали ботом. Подумаешь, какой-то портовый неказистый ботишка, за которым подскакивает на волнах влекомая им крохотная шлюпчонка! Неуклюже отворачивая от всплесков, он укрылся в бухте. — Ф-фу! — не сказал, выдохнул Болгов,ДОПРОС НА БЕРЕГУ
До войны здесь был пляж, один из лучших в окрестностях Севастополя. Летом он делался ярко-пестрым, как луг, от разноцветных купальников и пестрых зонтиков. И все время в воздухе детские голоса и смех, такой радостный, такой беспечный… Сейчас пляж безмолвен. С утра его оцепили. Мину поджидала на берегу группа командиров во главе с контр-адмиралом, командиром ОВРа.[60] Трактор, поднатужась, выволок бывшую глубоководную на берег. Командиры залегли в укрытие. Там же разместился врач с аптечкой наготове. Да, похоже на дуэль. Григоренко опять наедине с миной. Впервые он по-настоящему рассмотрел ее. Очертания не дрожат, не меняются, как было под водой. Зияют открытые горловины. Пятна камуфляжа, как отвратительный лишай, расползлись по тупорылому длинному цилиндру. Кое-кто из минеров, товарищей Григоренко, полагал, что разоружение почти закончено. Но это было не так. Под водой сняты только два камуфлета. А их может быть гораздо больше. И черт знает, что они там любят и чего не любят… На всякий случай Григоренко проверил, нет ли на нем чего-нибудь металлического. Как будто бы выгреб опасное из карманов. Стоп! А пуговицы на кителе? Григоренко снял китель и надел вместо него ватник без пуговиц. Фуражку с эмблемой дал подержать одному из «секундантов». Ночью над бухтой прошел дождь. Песок был мокрый, еще не успел впитать влагу. Не поскользнуться бы! Медленно переставляя ноги, Григоренко приблизился к мине. Осторожность! Сугубая осторожность! Педантичная, рассудительная, стремящаяся абсолютно все взвесить и учесть. Не глупо ли, если сейчас он, Григоренко, допустит какую-нибудь роковую оплошность? Мина, добытая с таким трудом со дна, взорвется под его руками на берегу, и главный секрет ее, охранявшийся столькими камуфлетами, исчезнет без следа в дыму и пламени. Главный секрет запрятан, как обычно, в задней части мины. Расстояние до этих важнейших приборов каких-нибудь десять — пятнадцать сантиметров, а попробуй-ка дотянись до них! И не задняя крышка преграждает доступ, а тот камуфлет, который, притаясь за ней, быть может, подстерегает Григоренко. Именно такой камуфлет и убил минеров у Константиновского равелина, когда они поторопились снять заднюю крышку с акустической мины. Но Григоренко не повторит их ошибки. Не будет отдавать все тридцать болтов, которые закрепляют крышку, пока не убедится в том, что ловушки под нею нет. Для этого исхитрится, обойдет опасное место, постарается проникнуть к нему изнутри. То есть высверлит отверстие в корпусе мины вблизи задней крышки. Казалось бы, можно браться за сверло. Но Григоренко продолжал недоверчиво приглядываться к мине. Будь он на месте ее конструктора, наверное, попытался бы предусмотреть подобный ход мысли своего врага, русского минера. И что сделал бы в этом случае? Снабдил бы свое создание еще и акустическим камуфлетом. Придется опробовать мину на шум. Перед миной Григоренко поставил репродуктор. Тянувшиеся за ним провода связывали его с патефоном и усилителем, которые помещены в укрытие. Мине предоставили наслаждаться музыкой в одиночестве. Доложив контр-адмиралу о начале «концерта», Григоренко тоже лег в укрытие — возле патефона. Вниманию угрюмой слушательницы предложили для начала что-то легонькое, какой-то романс. Никакого впечатления. За романсом последовал бодрый маршок. Тот же результат! Наконец Григоренко поставил пластинку с оглушительным джазом. Но и джаз не произвел на мину впечатления. Вывод: если на нее не действуют ни лирика, ни джаз, ни марши, она выдержит и звуки врезающегося в корпус сверла! Григоренко присел возле мины на корточки, выбирая, как бы посноровистее подвести сверло. Показалось, что мина не совсем удобно лежит. С помощью деревянного рычага он слегка повернул ее. Внутри неожиданно раздались монотонные удары: «тик-так, тик-так». Этого не хватало еще! Григоренко быстро лег на землю. Все-таки шанс: может быть, взрывная волна пройдет над ним. Песок был очень сырой, холодный. «Тик-так, тик-так» — настойчиво стучало над головой;. Из укрытия крикнули: «Что случилось?» Григоренко встал и пошел докладывать контр-адмиралу о том, что в мине часы (как во всякой адской машине, они обычно соединены со взрывным прибором замедленного действия). Контр-адмирал приказал выждать. Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать. Недоумевая, Григоренко вернулся к мине. Пугающего тиканья не было. Но стоило чуть толкнуть мину, как тиканье возобновлялось. — Нет, тут не камуфлет. Тут что-то другое, еще не знаю что, — сказал Григоренко. — Прошу разрешения продолжать разоружение! Он начал просверливать корпус с наступлением темноты. Это была последняя взятая им предосторожность — на этот раз против предполагаемого фотоэлементного камуфлета. Если мина была снабжена им, то стоило проникнуть в корпус самому слабому лучу света, чтобы тотчас же произошел взрыв. Просверленное вкруговую отверстие было выдавлено, и внутренняя сторона крышки обследована на ощупь. Не обнаружено ничего подозрительного. В отличие от акустической, эта мина не была снабжена камуфлетом, который защищал бы крышку изнутри. Прикрепили длинный трос к крышке, и трактор сорвал ее. Доступ к приборам открыт. По-прежнему на ощупь одна за другой удалялись детали приборов, которым предстояло лечь на длинный стол в минной лаборатории. Оказалось, что никаких часов в мине нет. Это раскачивалась при толчках одна несущественная деталь. По звуку напоминало тиканье. Минула ночь на берегу. Солнце поднялось над холмами Севастополя и осветило пляж Песочной бухты, а на нем — выпотрошенную мину. Все приборы удалены из нее. У ног Григоренко лежало уже не опасное заморское чудище, одно неосторожное прикосновение к которому грозило смертью, а лишь пустой металлический цилиндр. Это труп мины, тело, лишенное души. Приборы же, извлеченные Григоренко, доставлены в минную лабораторию. Всего пять месяцев назад в этом же помещении проходили технический допрос осколки приборов, которые уцелели от взорвавшейся у равелина акустической мины. Да, только осколки. Зато теперь благодаря принятым предосторожностям приборы целехоньки. Немцы даже аккуратно уложили их в прозрачный легкий кожух из тонкого сплава. Похоже на продукты в целлофане. Приборы вынули из кожуха. И вот они на столе. Все стало понятно с первого же взгляда. Тайны нет больше. В мине не один замыкатель, а два: магнитный и акустический. Стало быть, она была комбинированной! Являлась как бы помесью опасных тайн, сочетанием уже известных нам магнитной и акустической мин. Кроме того, был в ней еще и прибор, предохранявший ее от контрвзрывов, то есть от воздействия глубинных бомб. До сих пор мину пытались подорвать электромагнитными тралами, потом шумами, наконец глубинными бомбами, но при этом действовали раздельно. И, понятно, без успеха. Как тралить новые комбинированные мины? Ответ прост. Комбинированным тралом — применяя все три способа траления одновременно…«ТВОЮ МИНУ ПОДОРВАЛИ…»
Григоренко, несмотря на его протесты, усадили в машину и повезли домой, в скалу штаба. В машине он стал вдруг говорлив — это он-то, самый молчаливый из минеров Черноморского флота, а быть может, и остальных наших флотов! Он даже пытался острить, чего с ним отроду не случалось. Он рассказал анекдот! Тот был так ветх, что прямо расползался на глазах. Вдобавок дебютант ухитрился его переврать. Но слушатели усердно смеялись. Что делать! Сегодня минер заслужил право на смех. Один лишь врач, сопровождавший Григоренко, не смеялся. Искоса поглядывая на него, он нащупывал в сумке шприц и ампулы с успокоительным лекарством. Эта необычная разговорчивость ему определенно не нравилась. Нервы слишком долго были натянуты — как струны на колках. И они натянуты до сих пор. Неизвестно еще, чем это разрешится — обмороком, слезами?.. Но, переступив порог медпункта в штольне, Григоренко сразу же обмяк. С помощью товарищей он едва доволокся до койки. Врач поспешил сделать укол. Лекарство не подействовало. Григоренко не засыпал, хотя так устал, что все дрожало у него внутри. — Ты меня подводишь перед начальством, — сказал врач. — Только что адъютант командующего приходил. Командующий приказал тебе спать, а ты не спишь. — Стараюсь, ты же видишь, — ответил Григоренко, стуча зубами. — Не получается. Это был единственный приказ — спать, который он никак не мог выполнить. Что-то ему не давало заснуть. Почему-то нельзя было еще заснуть. — Тебя днем одна военврач из Новороссийска спрашивала, — сообщил зашедший проведать его флагарт.[61] — Фамилия — не то Корзинкина, не то Корзухина. Мы сказали, что ты в командировке. Но Григоренко пропустил это мимо ушей. Он тотчас же забыл фамилию врача. Какие еще врачи? Хватит с него и этого врача, который суетится у койки и пичкает его лекарствами, не оказывающими никакого действия. Врач и медсестра умаялись с Григоренко. Он капризничал, отказывался от еды, ругал медицину. — Слушай, я командующему доло… — начал было врач и осекся. Григоренко рывком поднял над подушкой голову, напряженно прислушиваясь. За полгода осады обитатели скалы научились различать проникавшие извне звуки. Когда прилетали немецкие бомбардировщики, гул взрывов был похож на прерывистые раскаты грома. А если возобновлялся артобстрел, интервалы между взрывами были более продолжительными и сам грохот глуше. Что же касается стука зениток, то, в отличие от бомбежек и канонады, он был какой-то очень домашний, дробно-суетливый. Словно бы множество молоточков заколачивали гвозди над головой. И вдруг на привычном фоне выделился звук странного тембра и необыкновенно сильный. Взрыв потряс скалу до самого ее основания! Врач и медсестра придержали Григоренко за плечи: — Куда?! — Ну разреши! Ну будь же другом! Интонации были такими жалостно умоляющими, такими необычными для Григоренко, что врач растерялся и помог ему встать с койки. Поддерживаемый с двух сторон, минер добрел по коридору до оперативного дежурного, который по должности своей обязан знать все, что творится на белом свете. Немедленно же тот созвонился с ОВРом. — Понял вас! — возбужденно кричал он в трубку. — Первую сковырнули? Из той самой гопкомпании? Сейчас доложу командующему. Он уже запрашивал. — Дежурный подмигнул Григоренко. — А старший лейтенант рядом со мной стоит. Спасибо от товарищей передать? Ясно, понял вас! У меня все! Он со звоном бросил трубку на рычаг. — И как это ты угадал? Твою, твою! Вернее, подружку твоей. Одну уже подорвали комбинированным тралом. И продолжают траление на рейде. Ко всеобщему изумлению, минер не проявил никаких эмоций. Он расслабленно сидел на табуретке. Потом зевнул и обернулся к врачу: — Спать хочу. Отведи меня спать. В медпункте он навзничь повалился на свою койку. Ну, все! Теперь все! Вахту сдал… Теперь другие минеры занялись его минами. Красиво, наверное, рвутся те, на входном фарватере. Взрыв, всплеск! Загляденье. Гоп — и нет мины! «Гопкомпания» — неплохо сказано. Он улыбнулся бы, если бы мог. Но он не мог. Сил не было. Глаза закрыты, руки вытянуты вдоль туловища, блаженное оцепенение расползается по телу. Это — как прыжок с обрыва. Резко, броском, с высоты невероятного напряжения последних дней — в неподвижность, сон, безмолвие. Врач значительно переглянулся с медсестрой. То был самый счастливый сон — без сновидений. Он заменяет тонну лекарств и несет обновление всему организму. Щедро омывает измученные нервы и мозг человека — как неторопливо текущая широкая, очень светлая река…4. ЗАГАДКА МОЛДОВА-ВЕКЕ
Я долго прикидывал, с чего бы начать новую, дунайскую, главу в задуманной мною повести о Мыколе. Потом ухватился за концовку своего севастопольского очерка. Пожалуй, подумал я, это может быть своеобразным переходом, свяжет очерк с новой главой. Однако светлым Дунай мог только присниться. В действительности он коричневый, как кофе, который скупо, с ложечки, подбелили молоком. И спокойным его не назовешь. В среднем плесе течение очень быстрое. Вертясь в завихрениях пены, плывут мимо доски, пучки соломы, а порой проносит и трупы лошадей, лежащие на боку, безобразно раздувшиеся. Вот каким я увидел Дунай, фронтовую реку, весной 1945 года, прибыв сюда по командировке редакции. Но в точности так по описаниям выглядел Дунай и осенью 1944 года, пять месяцев назад, когда Мыкола был еще жив и даже не помышлял о дерзком броске под землей в Будапешт за картами секретных минных постановок. Другое в ту пору занимало его. Поднимаясь со своей бригадой по Дунаю, он вдруг остановился перед непреодолимой минной банкой, на редкость плотной и длинной, преграждавшей ему путь, к Белграду. Это и была загадка Молдова-Веке. Эх, не повезло мне! Не было меня тогда с ним… Впрочем, в бригаде отнеслись ко мне внимательно, охотно рассказали о Мыколе и об этой каверзной минной банке. Особенно приветлив был обаятельнейший Кирилл Георгиевич Баштанник, начальник походного штаба бригады. Красочные описания его и меткие характеристики, полные добродушного украинского юмора, очень помогли мне. Также предоставлены были в мое распоряжение документы: донесение комбрига о вынужденной задержке у Молдова-Веке, шифровка командующего, протокол пресловутого совещания с упрямцами лоцманами. А вернувшись в Москву, я с разрешения лейтенанта Кичкина побывал у его невесты и ознакомился с письмом, переданным с оказией. В общем, передо мною предстал Мыкола в новом своем качестве: уже старший офицер, воспитатель молодых офицеров, отвечающий за боевые действия целого соединения. Однако пока это лишь материал для главы, разрозненные эпизоды, которые надо еще связать воедино. Получится ли это у меня? Задача для журналиста нелегкая. Ведь, помимо описания фактов, нужно обязательно воссоздать обстановку, настроение, общий колорит. Лучше всего, вероятно, начать с одной из стоянок бригады на подходе к Молдова-Веке. Наверху идут бои. Их беззвучные отголоски катятся по воде. Быстро проплывает вдоль борта мусор войны — остатки понтонов, солома, разбитые патронные ящики, какие-то высокие корзины. Сейчас это, впрочем, не видно. Ночь…РАЗГОВОР О СУХАРЯХ
Развернувшись носом против течения, приткнулись к пологому берегу тральщики. Их целая вереница, что-то около пятидесяти. С вечера они встали на якорь, утром возобновят движение — с заведенными тралами вверх по Дунаю. Справа — Румыния, слева — Болгария. На палубе головного тральщика два офицера. Один только что сменился с вахты, другому не спится, вышел покурить. Из мглы доносятся до меня два голоса: — А недавно к бачкам моим придрался. Не нравятся ему, видишь ли, бачки мои. «На флоте, говорит, без году неделя, а уже под Сюркуфа работаете!» Кто этот Сюркуф? — Француз, кажется. Адмирал. — А! Ну, если адмирал, тогда ничего еще… Постепенно светлеет. Дождь, мелкий, настырный, то перестает, то опять начинает идти. — Слышал, как он вчера оборвал меня за ужином? Только было я заговорил о любви… — Положим, ты о девочках своих заговорил, а не о любви. — Остришь? Ну, остри, остри. У нас в кают-компании все острят. Один он не снисходит до шуток. «В моем присутствии, лейтенант, прошу пошлостей не говорить!» Каково? Вот же сухарь! Начисто лишен романтики. Разве настоящий моряк может быть сухарем? — А как же? Флотский сухарь. Самый твердый из сухарей. — Опять остришь! Нет, возьми, к примеру, Кирилла Георгиевича! Это романтик! А ведь будет даже постарше его. Почти старик. Лет сорока, я думаю. Пауза. Шорох волны за бортом. — Этот сразу, с первого своего слова, понравился мне. И знаешь чем? Ты удивишься. Цитатой. Неужели еще не рассказывал? Ну как же! Тогда слушай внимательно. Итак, значит, нагнал я бригаду в Оряхове, помнишь? Отправился представляться начальству. Вестовой указал каюту начальника походного штаба. Стучусь: «Разрешите войти?» — «Попробуйте!» — Попробовал, вошел. И удивился. Каюта, оказывается, такая тесная, а сам начальник штаба такой длинный, что предпочитает работать в полусогнутом положении. Перед ним на столике пишущая машинка, и он, скорчившись в три погибели, выстукивает на ней одним пальцем. Ты-то видел это много раз. Но на свежего человека… При моем появлении он встал. И тут выяснилось, что начальник штаба умеет не только складываться, но и раскладываться, как складной метр. — Да ну тебя! — Я, конечно, ему по всей форме: «Разрешите представиться! Лейтенант Кичкин, закончил штурманский факультет высшего военно-морского, прибыл в ваше…» и так далее. А он жмется и покашливает и шинель на нем внакидку. Я вежливо замечаю, что не мешало бы, мол, аспиринчику на ночь, доктора рекомендуют. А он: «Ваши доктора — сухопутные крысы! Я бывал в странах, где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от желтой лихорадки, а землетрясения качали сушу, как морскую волну. И я жил только ромом, да! Ром был для меня и мясом, и водой, и женой, и другом. И если я сейчас не выпью рому, то буду как бедный старый корабль, выкинутый на берег штормом. Есть у вас ром, лейтенант?» «Нету», — пробормотал я, как болван. «Ага! Я почему-то так и думал, представьте». И смотрит на меня, добродушно помаргивая. Лицо, вижу, хоть и худое, но темное от загара, очень веселое. «Позвольте! — говорю я. — Это не ваше — о роме. Это Стивенсон, „Остров сокровищ“. Я вспомнил!» «И должны были вспомнить. Читали совсем недавно». — Поддел тебя насчет молодости. — При чем тут — поддел? Наоборот. Я ему представился, а он вроде бы мне. Дескать, романтики мы оба… С таким начальником очень приятно служить. — Капитан-лейтенант тебя небось не цитатой встретил? — Держи карман! Замечанием, а не цитатой. Еще и представиться ему не успел, а он уже мне замечание вкатил. — Ая-яй! — Да. Я же тебе рассказывал: ехал сюда, надеялся на бронекатера попасть. А на рейде в Оряхове, смотрю, что-то допотопное вырисовывается, вроде бы пакетбот или как там их в романах Жюля Верна называют. Пока на ялике до него добирался, несколько раз кулаками глаза протирал. Нет, правильно: по обоим бортам — колеса! Ну, ясно, взгрустнулось. Поднялся я тогда со своим чемоданчиком по трапу, возьми да и брякни вслух: «Послушайте, куда я попал? Это же бандура, которая сама себе аплодирует!» Очень точно, по-моему, сравнил. Когда плицы колес ударяют о воду, не кажется разве тебе, что над ухом кто-то хлопает в ладоши? — Скорей уж прачка лупит вальком по белью. — Тебя, спасибо, там не было, не подсказал насчет прачки. И за «аплодирует» попало. Как на грех, случился в это время у трапа капитан-лейтенант Григоренко. — Не повезло тебе. — Да. Впервые тогда я услышал его голос. «Вахтенный командир! — негромко, но очень внятно сказал. — Научите вновь прибывшего офицера уважать военный корабль, на котором он будет служить. Поясните, что, может быть, ему придется умереть на этом корабле». — А что? Это он правильно сказал. — Пусть правильно, согласен. Но нельзя же так, Петрович! С ходу — тюк по лбу! — Выходит, сразу же не заладилось у тебя с заместителем командира бригады? — Ага. А дальше еще хуже пошло. Невзлюбил он меня, Петрович. Ну и… Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы он голос повысил? Не на меня. Вообще. А, то-то и оно! Одними своими покашливаниями и помалкиваниями всю душу из тебя вынет. Кашлянет, скажет два-три слова, помолчит, снова кашлянет. А ты по стойке «смирно» перед ним. Уж лучше бы, кажется, ногами натопал. — Не положено так о командире. — А я только тебе, больше никому. Я его авторитет перед матросами всегда поддержу и приказания выполняю не хуже других. В общем: «Есть, есть, товарищ капитан-лейтенант!» А что думаю о нем, это, извини, дело мое. Мне устав не запрещает иметь свое мнение о командире. Что я с собой могу поделать? Не люблю и не люблю педантов! — А это у него, брат, профессия такая… Мины, они, знаешь, как-то все же больше уважают педантов… Дождь перестал. Уже не темно, а серо вокруг. Сделались видны лица собеседников. Один из них курит почти без перерыва, нервничает. Он еще очень молод, недавний курсант. Товарищ его постарше, но ненамного. Он, наоборот, рассудителен, спокоен. Впрочем, наверное, сказывается и усталость после вахты. На бригаде до прибытия Кичкина он был по возрасту самым молодым среди офицеров. В кают-компании поэтому обращаются к нему лишь по отчеству — Петрович, шутливо-любовно подчеркивая тем крайнюю его молодость, а возможно, и резко контрастирующую с нею степенность. — Мины пусть уважают, это их дело, — задиристо отвечает Кичкин, — но при чем тут я? Он минер, а я штурман. И ты не минер — связист. — А воюем оба на тральщиках. То-то и оно! Мне рассказывали о нем: два года назад совершил в Севастополе что-то из ряда вон. Даже в газетах писалось. Секрет какой-то немецкий разгадал. В общем, пригодилась севастопольцам его педантичность. Я было подкатился к нему от лица нашей комсомольской организации: «Не поделитесь ли воспоминаниями о своем севастопольском подвиге, товарищ капитан-лейтенант, и, если можно, во всех подробностях?» — «Нет, — говорит. — Сейчас не до подробностей, мины тралить надо. Вот станем в затон на зиму, тогда напомните». — Гм! Засекреченный, в общем, подвиг? — Придираешься к нему, Гена. — Нет, не говори, Петрович! Я хорошего у него не отнимаю. Минный специалист, да. И трудяга-службист, согласен. — Не то! Организатор замечательный! Смотри, какую армаду сколотили вдвоем с комбригом за короткий срок! — Да уж, армада! Сбор всех частей: буксиры портовые, баржи, яхты прогулочные, чуть ли не землечерпалки… С полным основанием можно предположить, что, услышав это, Петрович очень рассердился. Таких с виду флегматичных, как он, людей нелегко вывести из состояния душевного равновесия. Но уж если выйдут, то удержу им нет! В негодовании Петрович даже пристукнул кулаком по лееру: — Ты, что ли, их собирал, землечерпалки эти? На готовенькое прибыл, теперь через нижнюю губу дуешь? Помолчи, дай сказать! А что делать, если, кроме буксиров и яхт, ничего под рукой нет? Дошли до Джурджу, видим — мины! И немцы на отходе подсыпают и подсыпают. Приказ командующего: создать бригаду траления! И немедленно! Приказ. Понял? А у нас тральщиков не хватает. И мин этих полно впереди. Бронекатера, те проскочили над ними благодаря скорости хода и малой осадке, быстренько ушли дальше воевать. Но остальным-то кораблям флотилии не пройти. Из-за кого задержка? Из-за нас, минеров. — Да понимаю я, Петрович! — Не перебивай! Вот и пришлось учинить сбор всех частей, как ты в насмешку говоришь. Стали пополнять бригаду трофейными судами, которые остались в Измаиле, Галаце, Браилове, Русе. Да, буксиры портовые! Ну и что? Тянут же, выполняют задачу! Негодование Петровича можно понять. Кичкину, который «прибыл на готовенькое», невдомек, что это собирание сил далось нашим минерам нелегко. Ведь недостаточно приспособить для целей траления самые причудливые плавсредства. Нужно также подобрать для них команды. — И тут-то, Генка, кликнули мы клич в освобожденных портах нижнего Дуная: «Капитаны, лоцманы, рулевые, механики! Все, кто хочет поскорее расчистить Дунай, приходите помогать нам!..» Ого! Посмотрел бы ты, что творилось по утрам у трапа штабного тральщика! И заметь: явились не только румыны и болгары, но и чехи, словаки, югославы, в общем, те речники-дунайцы, которых на нижнем Дунае застало наступление наших войск. — Так это же нормально, Петрович! Трудовой люд Подунавья! На кого еще было положиться? — Сейчас легко рассуждать! Люди-то были разные среди капитанов этих и лоцманов. Некоторые — к нам сразу с дорогой душой. «Не хотим, мол, стоять в стороне, когда русские трудятся для общего блага, освобождают наш Дунай от мин». А другие шагнули за этими сгоряча, а потом засомневались, стали переминаться с ноги на ногу. И учти, это не военнослужащие, как мы с тобой, им не прикажешь, их еще убеждать надо. И не словом, Гена, а примером! — Ну, теперь-то у нас дисциплина… — Да, теперь! А месяц-полтора назад не то было совсем. Помню случай с капитаном румынского буксира… Да ты знаешь его, фамилию только называть не хочу… Сам в Джурджу напросился к нам. А тралить не тралит, все норовит увильнуть от траления. То одно у него неисправно, то другое. Короче, не причину выставляет — предлог. Трусит явно. Мины же тралить — не помидоры с грядок собирать! Много нервов потратил на него капитан-лейтенант. Наконец видим — вышел с другими тралить. И в первый же день, ко всеобщему удовольствию, убрал с фарватера четыре мины — вполне приличный результат. Поработал так с недельку и запросился, представь, на побывку к семье — мы как раз проходили мимо его родных мест. Что же, по-твоему, сделал капитан-лейтенант? — Отказал? — Отпустил. — Невероятно! — «Вы не волнуйтесь! — объясняет нам. — Теперь я в нем уверен. Будет тралить до самой Вены, а если понадобится, то и до Регенбурга». И что бы ты думал? — Вернулся румын? — Ни на один день не опоздал. Еще и нескольких односельчан привел для пополнения команды! — Чудеса! — Не чудеса, а психология, к твоему сведению! Капитан-лейтенант видел, какое впечатление произвел на румына подвиг Караваева. — А!.. О подвиге, совершенном старшиной второй статьи Караваевым и двумя его товарищами, Кичкину рассказал Кирилл Георгиевич. Команда румынского тральщика была, по обыкновению, сметанной, то есть наряду с румынами укомплектована еще и нашими военными моряками («для повышения коэффициента прочности», — улыбаясь, говорил Кирилл Георгиевич). Во время траления баржа с тралом, которую на длинном конце вели румыны, подорвалась, получила пробоину и начала тонуть. Вдобавок у нее заклинило взрывом руль. Положение было из рук вон, на тральщике сразу поняли это. Затонув, баржа перегородила бы фарватер. Дело было даже не в минутах — в секундах. Не дожидаясь команды и не сговариваясь, три наших моряка кинулись с борта в воду — и вплавь саженками к тонущей барже! Караваев спустился в трюм, проворно отыскал пробоину и телом своим закрыл ее. В любой момент баржа могла перевернуться, но об этом он не думал. Тем временем товарищи его расклинили руль и вывели баржу на мелкое место. Лишь посадив ее прочно на мель, они принялись заделывать пробоину в трюме. Получаса не прошло, как баржа снова была на плаву, и траление возобновилось. Это и видел со своего мостика румынский капитан. А Григоренко стоял с ним рядом и по выражению лица понял: сомнениям и колебаниям отныне конец, румын надежен. Будет тралить, пока последнюю мину не подорвет на Дунае!.. И опять из редеющих сумерек доносится голос Кичкина. — Красиво, да, — говорит он задумчиво. — Отчасти трудовой энтузиазм в годы пятилеток напоминает. Я сейчас представил себе Караваева на стройке. Он, может, до войны и работал на стройке. Допустим, это была плотина и он телом прикрыл щель в плотине, а тут вспомнил и… Но все же, Петрович, это трудовой подвиг. Не боевой, учти, трудовой! — А война и есть труд. До сих пор не понял еще? — Пусть. Но где атаки? Где разведка боем? Где, наконец, сам бой? Ответь? Я же штурман, черт меня возьми! — За борт, описывая длинную дугу, летит окурок. — Зачем я здесь? Что делать штурману на Дунае, где всем, как известно, заправляют лоцманы и водят суда по своим домашним ориентирам — по какой-нибудь корове, которая в полдень неизменно пасется на мысу. — Неостроумно с коровой! Уже совсем рассвело. Видны унылые поля, посеребренные инеем. Он и на вантах, и на палубе, и на прибрежном камыше, который полег от ветра. Холодный воздух тоже напоминает о приближающемся ледоставе. Вскоре Дунай побелеет, затвердеет, и движение кораблей по нему прекратится до весны. А наверху тем временем наступают. Стремительно продвигаясь вместе с войсками, Краснознаменная имени Нахимова Дунайская флотилия одним плечом своим подпирает Второй Украинский фронт, другим — Третий Украинский. Две бригады бронекатеров — Державина и Аржавкина, — чередуясь, высаживают десант за десантом в тылу врага, по кускам обламывают его оборону на Дунае. А с берега моряков-дунайцев поддерживает артиллерийскими залпами батальон огневого сопровождения Пасмурова. Пылкому воображению Кичкина три эти командира, Державин, Аржавкин и Пасмуров, рисуются русскими богатырями — наподобие васнецовских. А где же место тральщиков? Увы, они очень отстали от бронекатеров, старательно-педантично убирая с фарватера вражеские мины. Скучное ли занятие — тралить? Нет, конечно. Не назовешь его скучным, если каждую секунду рискуешь подорваться. Однообразное, выматывающее душу — так будет вернее! Но главное, проходя с заведенными тралами одно и то же место по нескольку раз, тральщики продвигаются не так быстро, как хотелось бы нетерпеливому Кичкину. Он сердито закуривает новую папиросу. — Ну не обидно ли, скажи! Зыбков, одного со мной выпуска, к Державину получил назначение! Опять кому плохо? Мне. К Державину, это надо понимать! На бронекатера! В освобождении Белграда участие принимал! А я что? За полторы сотни километров от фронта телепаюсь взад-назад с тралом за кормой. Одно только и слышишь: «По местам стоять! Вправо-влево не ходить!» Фу! В приказах Верховного командования Левитан чуть ли не каждую неделю называет военных моряков Державина, а о нас, Петрович, что-то не слыхать в эфире! — Услышат еще. — Дожидайся! А биография-то у Державина! Мне Зыбков рассказывал. Был пограничником на Дальнем Востоке, водолазом, боцманом. На подготовительных курсах его вызвали к доске, велели «а» в квадрате написать. Он взял да и вывел букву, а потом обвел ее квадратом. Но все преодолел, закончил военно-морское училище. И теперь гляди: командир бригады бронекатеров, Герой Советского Союза, признанный мастер десантов! Мне нравится, когда у человека такая биография — чтобы взлеты были и падения, тогда интересно. — Опять заносит тебя! Какие же взлеты и падения у минера? Первое его падение обычно и последнее… — Насчет падений я фигурально. Но у нашего капитан-лейтенанта, я уверен, успокоительно-прямолинейная биография. Все, понимаешь, приплюсовывалось одно к одному, как в старое время капиталец округлялся — по копеечке да по рублику. — А у тебя не прямолинейная? — Что ты, Петрович! У меня роковая биография. — Да ну? — Верно говорю. У некоторых, знаешь, происхождение — всю жизнь борются со своей анкетой. У других фамилия плохая, например, Заяц. Хотя есть, кажется, такой летчик-герой — Заяц. А у меня дата неудачная. — Какая дата? — Рождения. Не вовремя родился. Вот в романах пишут: герой проклял день своего рождения. А я лично не день — год. Мне бы на три — четыре года раньше родиться, тогда как было бы хорошо. — Почему? — Тогда я к началу войны кончил бы училище, оборонял Ленинград или Севастополь или служил на Севере. Не прозевал бы войну. — Война не кончилась. — Скоро кончится. У меня, знаешь, друг был, вместе учились в десятилетке. Он выбрал гражданскую специальность, поступил на философский факультет, а я — военно-морскую, поступил в училище имени Фрунзе. И вот пожалуйте! Он с первого курса в ополчение ушел и воюет. На три года меня обогнал! Теперь кто он и кто я? Мне до него рукой не достать! Он трижды орденоносец, оборонял Москву, сражался на Курской дуге, освобождал Минск. Философ, понимаешь? А я? Кто я такой?.. Скорбный вздох. — И то до смерти рад, что хоть к концу войны подоспел. Все же легче. А то бы спросил кто-нибудь: «Что вы, товарищ Кичкин, делали во время Великой Отечественной войны? Учился на военного моряка? Вот как? Выходит, профессиональный военный, а были только свидетелем, современником войны? Нехорошо! Некрасиво, Кичкин!» Вдруг Петрович протяжно, с хрустом зевает. — Ну, Гена, отвел душу? А теперь слушай команду: по койка-ам! Я что-то, знаешь, подустал. Да и тебе с восьми на вахту. — И не говори! Как подумаю, что утром снова начнется: «Заводи трал! Сохраняй строй уступа! Подсекай мину!» — Ну-ну! Послезавтра мы к Железным Воротам подойдем. Да ты развеселись! Название-то какое: Железные Ворота! А что у тебя дальше на карте? — Горы Катаракты, — неохотно отвечает Кичкин. — Ворота — это только вход в Катаракты. — Вот и протиснемся через эти Катаракты. А потом опять равнина, раздолье. И до Белграда уже рукой подать. Как городок-то, забыл, называется — за Катарактами? — Молдова-Веке… Палуба пуста. Всей своей темной слитной массой надвигается сверху Дунай. Он в белой рамке инея. Плакучие вербы на берегу присыпаны инеем, поля застланы белесым туманом. Утро на Дунае начинается трудно, медленно. Это же не просто осень, это поздняя осень, конец октября…* * *
О! Никогда не забудет Петрович названия маленького города по ту сторону Катаракт. И не он один. Все в бригаде до конца дней своих будут помнить Молдова-Веке, потому что там встретят их частые тупые удары взрывов и горящая, стремительно несущаяся навстречу вода…Командующему Дунайской флотилии
ДОНЕСЕНИЕ
«…пройдя горные ущелья Катарактов, тральщики вверенной мне бригады в количестве сорока пяти вымпелов вышли утром 2 ноября 1944 года на плес у города Молдова-Веке. Еще на рассвете, в горах, донеслись до нас отдаленные раскаты, которые вначале были приняты за беглый артиллерийский огонь. Однако по мере приближения к плесу смысл этих раскатов разъяснился — впереди рвались мины. Наконец, миновав последний поворот, мы увидели пламя над рекой. На широком плесе у города Молдова-Веке скопилось около ста судов, караван, собранный после прохода через Катаракты для дальнейшего следования к фронту. В составе каравана были баржи с боеприпасами и продовольствием, а также горючим для танков и авиации, буксирные пароходы, понтоны для наведення переправ и госпитальное судно с выздоравливающими бойцами. В дальнейшем комендант каравана действительно не проявил необходимой осторожности. Но могу засвидетельствовать в его оправдание, что погода к тому времени ухудшилась. Со дня на день Дунай мог стать, и суда оказались бы в ловушке — вмерзшими в лед до весны. Заставляла спешить обстановка на фронте. В силу этих соображений комендант каравана, не дожидаясь подхода тральщиков, отдал приказание сниматься с якоря. На рассвете 2 ноября, то есть тогда, когда мы уже были на подходе к Молдова-Веке, караван возобновил свое движение вверх по Дунаю. И тут один за другим начали рваться на минах корабли. Почти сразу же на второй мине подорвалась баржа с горючим. По Дунаю потекло пламя, бензин разлился на большом пространстве, увлекая за собой горящие обломки и увеличивая панику на судах. Тогда начали детонировать донные мины, лежавшие на грунте. От детонации в голове каравана подорвалась еще одна баржа с горючим, а также ее буксир. (Описываю последовательность взрывов со слов коменданта каравана, так как, приближаясь к плесу, мы видели лишь всплески воды и вспышки блещущего огня.) Подорвался понтон в середине каравана, потом в конце каравана — баржа с боеприпасами. Пожар перекинулся с нее на соседнюю баржу, также груженную боеприпасами. И она в свою очередь была уничтожена новым взрывом. Движение каравана приостановилось. Выйдя на плес, мы застали картину полного разгрома — как после массированного артиллерийского или воздушного налета. Уцелевшие суда где попало приткнулись к берегу, некоторые даже выбросились на мель. Пламя текло по воде. Раненые и обожженные взывали из воды о помощи. Немедленно же моряки моей бригады приняли участие в тушении пожаров. Раненые были подняты на борт, и им оказана медицинская помощь. Нас встретили с огромной радостью и облегчением, надеясь на то, что тральщики начнут пробивать фарватер и поведут дальше караван за собой. Однако положение оказалось значительно более сложным. По моему приказанию было произведено разведывательное траление вдоль плеса. Кроме того, я со своим заместителем лично опросил ряд местных жителей-сербов (город Молдова-Веке находится на румынском берегу, но живут в нем сербы). Установлено, что с плеса начинается минная банка, причем необычайной плотности. Тянется же она от Молдова-Веке на сто двадцать километров вверх, почти до самого Белграда. Лоцманы, сопровождающие бригаду, были вызваны на штабной тральщик для консультации. Все они сошлись на том, что бесполезно пытаться штурмовать наличными силами бригады минированный участок такой длины и плотности. Это заняло бы несколько месяцев, тогда как ледостава можно ждать в самое ближайшее время. Совет лоцманов — зимовать бригаде в Молдова-Веке. Докладывая Вам обстановку, сложившуюся у города Молдова-Веке, и ожидая от Вас приказаний, буду между тем стараться изыскать иные варианты решения.Командир бригадыкапитан 3-го рангаГригорий Охрименко».
ПЕРВАЯ НОЧЬ НА ПЛЕСЕ У МОЛДОВА-ВЕКЕ
— Спишь, Петрович? — Нет. — Перебрось-ка со столика спички… Спасибо. И ты не можешь заснуть? Я как закрою глаза, огоньки эти начинают мерцать. Мученье! — Какие огоньки? — Ну, те, что на воде были. Бензин горящий. До самой смерти, наверное, не забуду, как трупы проплывали вдоль борта. А возле них, вроде свечей погребальных, огоньки эти, огоньки. — Да, как вспомнишь, дрожь пробирает. — И тебя пробирает? А ты третий год воюешь. Мне, значит, простительно. Да еще капитан-лейтенант приказал шлюпку спустить и вылавливать трупы баграми. В кошмаре такое может присниться. — Захоронить-то их надо было? — А я против этого ничего не говорю. Не мне, кому-нибудь другому пришлось бы вылавливать. Но они, Петрович, на людей уже не были похожи. Черные-черные, как головешки. Будто лесной пожар прошел, а потом полуобгорелые пни подмыло и течением вниз понесло. У того, смотришь, что-то наподобие руки торчит, у этого вроде бы голова… — Да будет тебе! Молчание. Иллюминатор в каюте зашторен. Кичкин и Петрович ворочаются с боку на бок, то и дело взбивая подушки. Нет, сон нейдет! — На что у капитан-лейтенанта нервы стальные, — это опять неугомонный Кичкин, — а и того проняло. Я на мостике рядом с ним стоял, невольно оглянулся, вижу: лицо будто окаменело! Белое, неподвижное. А когда начал приказания отдавать, все откашливается и откашливается, словно бы в горле застряло что-то… Койка под Петровичем сердито скрипит. — Стальные нервы! Железные, железобетонные! А ты их видел когда-нибудь — нервы эти? Просто жилочки тоненькие, вроде обыкновенные волоконца. А сила в них, понял? Не говори никогда: нервы — как сталь! Говори: сталь крепкая, как нервы! Такую нагрузку выдерживают, что и сталь согнулась бы, и бетон треснул. А капитан-лейтенант, к твоему сведению, откашливается, когда волнуется. Примета верная. Пауза. — Что же, так и спать с открытыми глазами? — Жалобный голос Кичкина. — Вот уж действительно голубой Дунай! Желтый, а не голубой. Как жидкое золото желтый. Мне, Петрович, еще бензин очень жалко. Высокооктановый! Авиационный! Сколько его по Дунаю утекло! Тонны, я думаю. — Что ты! Десятки тонн! — И сгорел-то зазря. А наши летчики его как манны небесной ждут. — Ну, тот, что сгорел, бог с ним! Но ведь и этот бензин, что остался, к фронту доставить нельзя. — Сколько же эскадрилий, прикинь, не сможет в воздух подняться из-за того, что здесь, у Молдова-Веке, бензин застрял! Связист и штурман одновременно вздыхают. За неплотно сдвинутой шторой — отблески пожара…ВЗЯЛИ «ЯЗЫКА»!
— Разрешите доложить, товарищ начальник штаба! «Языка» взяли! Кирилл Георгиевич и связист, вызванный на утренний доклад, с изумлением оборачиваются. В дверях Кичкин. — Как — «языка»? Кто взял? Для моряков это событие чрезвычайное, редчайшее. Всю войну можно провоевать на флоте, но так и не увидеть ни разу врага в лицо. Кичкину не стоится на месте. Он необычайно оживлен. — Капитан-лейтенант Григоренко на берег едет! С пленного допрос снимать! — На берег? А почему пленного сюда не доставят? — Скандальный чересчур, говорят. Хлопот не оберешься с ним, если сюда. Кичкин сияет. Наконец-то повеяло ветром военно-морской романтики! Но Петрович недоверчиво присматривается к Кичкину. Что-то подозрительное видится ему в скользящей улыбке друга. — Разыгрываешь, Генка?! — Помилуй бог, что ты! Разве бы я позволил себе разыгрывать Кирилла Георгиевича, тем более в боевой обстановке! Тебя еще пожалуй… Нет, правильно все! Только пленный-то металлический! Петрович недоумевающе хлопает белесыми ресницами. Но Кирилл Георгиевич — опытный моряк, видывал виды. И онсоображает быстрее. — Нашли обсыхающую мину на берегу? — Так точно. — Как же она очутилась там? — Немцы, наверно, забыли при отходе. — О! Вот это нам подвезло! Это, товарищи, удача! А вдруг у нее диковинка какая-нибудь внутри? Вскрыть мину очень важно для того, чтобы уточнить режим дальнейшего траления. Но никто на бригаде даже представить себе не может, какая почти невероятная «диковинка» таится внутри этой найденной на берегу обсыхающей мины… К сожалению, Кичкин — заведующий кают-компанейским столом (по традиции, заведующим выбирают младшего из судовых командиров). Как назло, сегодня хлопотливые обязанности эти требуют присутствия Кичкина в кают-компании. Но ему удается улучить минутку и выскочить на палубу. Все население Молдова-Веке столпилось поодаль у воды. Моряки — советские, болгарские, румынские, чехословацкие, югославские — теснятся на палубах своих судов, некоторые даже взобрались на ростры, чтобы лучше видеть. Ялик с капитан-лейтенантом Григоренко на руле и матросом на веслах скрывается за поворотом, поросшим плакучими вербами. Напряженное ожидание. «Так в давние времена, — думает Кичкин, — выезжали витязи на поле брани и, скрестив мечи и копья, начинали битву поединком. А дружина (это мы!) неподвижной громадой стояла сзади, сдерживая нетерпение и тревогу». Проходит полчаса. И — раскат! Над вербами взметнулся вихрь песка, земли и камней. Что это значит — победа храбреца или его смерть? Но вот мальчишки, сидящие на деревьях, закричали, замахали руками, стали кидать вверх шапки. Победа! Из-за поворота показался ялик. У ног капитан-лейтенанта — приборы, которые он снял с мины, прежде чем ее подорвать. Но почему у него такое странное, озабоченное лицо?.. Спустя некоторое время в камбуз, где Кичкин распекает нерадивого кока, приходит Петрович. — Ну, как? — Нормально, ты же слышал. Встреча состоялась, взаимное понимание достигнуто. Видно по всему: приберегает какой-то эффект. Чтобы не унижаться и не клянчить, Кичкин бросает вскользь: — Вот бы на этого раззяву Фрица или Ганса посмотреть! Который мину на берегу забыл. — Почему Фрица или Ганса? Скорей уж Фредди или Джонни. — Путаешь, Петрович. Это английские, а не немецкие имена. — Верно. Так ведь и мина не немецкая! Как ты сказал тогда: «языка» взяли? Ну, а язык-то оказался английский. Сначала, конечно, пленный этот отмалчивался, упирался, немцем прикидывался. Потом стали допрашивать пожестче, он и раскололся. По-английски заговорил. Теперь черед Петровича насладиться изумлением друга. — Сомневаться не приходится. На приборах, снятых с мины, клейма американских заводов. Своими глазами видел. — Странно! — И местные жители подтверждают, что сюда незадолго перед отходом немцев прилетали английские и американские самолеты. — Зачем? — Кичкин ошеломлен. — Помешать отходу немцев не могли. И ведь вдобавок они знали, что мы наступаем, что наша флотилия идет по Дунаю. — Очень странно, я согласен. — Стало быть, Дунай перегорожен не только минами врага, но и минами наших союзников? — Выходит, что так…ПЯТАЯ НОЧЬ НА ПЛЕСЕ У МОЛДОВА-ВЕКЕ
Кичкин распахнул дверь на палубу, в задумчивости постоял у борта. Очень тихо на воде. Лунные дорожки, как куски холста, разложенные для отбелки и просушки, протянулись вдоль плеса. Дунай разветвляется здесь на два рукава. Между ними — низменный островок, который, по рассказам местных жителей, заливает дважды в году — весной и осенью. Сейчас из воды торчит только щетинка кустарника, самого острова не видно. За спиной Кичкина позвякивает посуда, оживленно спорят офицеры, собравшиеся в кают-компании. Тема разговора, конечно, недавнее разоружение американской мины. Ну и что из того, что мина разоружена и опознана? Открытие это ни на метр не продвинуло бригаду вперед. Зря, выходит, рисковал капитан-лейтенант? Зря ли? Кичкин не знает. Кстати, где капитан-лейтенант? За ужином его не было в кают-компании. А, вот он где! Стоит неподвижно на носу, чуть расставив ноги, забросив руки за спину. Голова упрямо наклонена, будто задумал бодаться. Впрочем, это его обычная поза. Кичкин подумал, что поза эта в данных условиях символическая. Человек в раздумье стоит перед скрытым под водой непреодолимым препятствием. Навстречу гонит волны Дунай, словно бы дышит — широко, вольно. На самом деле трудно дышит, потому что скован минами. Он в железных кандалах, этот могучий богатырь, которого в русских былинах уважительно именуют Дунаем Ивановичем. Сумеем ли мы, минеры, расковать богатыря? Должны! Последнее слово Кичкин, увлекшись, произнес вслух и с испугом посмотрел на капитан-лейтенанта. Нет, тот остался неподвижен — так задумался, что не услышал. Да, ему в целеустремленности отказать нельзя. Именно в последние дни капитан-лейтенант повернулся к Кичкину какой-то неожиданной своей, привлекательной стороной. За суровой сдержанностью его Кичкин вдруг увидел страдающего человека, глубоко и мучительно переживающего вынужденную задержку тральщиков у Молдова-Веке. Сегодня, подняв за обедом глаза на капитан-лейтенанта, он поразился и ужаснулся перемене, которая произошла с ним. Глаза ввалились, лицо побледнело и осунулось, как после долгой изнурительной болезни. И аппетита, видно, нет. Вот даже ужинать не захотел. Пожалуй, лучше уйти с палубы. Неудобно! Получается, он вроде бы как подглядывает за своим командиром. Но какая-то сила удерживает Кичкина на палубе. Не любопытство, нет. Скорее сочувствие, желание помочь… Жаль, что молодой офицер не может подслушать сейчас мысли капитан-лейтенанта! Ход их примерно таков. Положение с каждым днем ухудшается. Мало того, что тратится топливо (комбриг приказал поддерживать пары), — иссякают запасы бодрости. Лихорадка ожидания изматывает людей. Сегодня утром в присутствии Григоренко начальник штаба доложил комбригу о том, что с тральщиков сбежало несколько лоцманов и рулевых. Комбриг помолчал. «Ну что ж! Очень хорошо, — неожиданно сказал он. — Естественный отбор, понимаете? Трусы только повредили бы нам. Зато оставшиеся сделали свой выбор, и они будут с нами до конца». Григоренко посмотрел на комбрига и удивился, как плохо тот выглядит. Впрочем, и Кирилл Георгиевич, всегда оживленный, веселый, выглядит не лучше. Эти пять дней вынужденного томительного бездействия можно приравнять к пяти неделям тяжелых боев. Вдобавок нестерпимо трудно встречаться взглядом с молодыми офицерами. В их глазах удивление, нетерпение! Они словно бы говорят: «Ты же опытный и умный! Неужели ничего не можешь придумать, найти какой-то выход из положения, чтобы повести нас вперед — к фронту?» И вот пятую ночь он, Григоренко, не спит, не может заставить себя заснуть — ломает голову над тем, как повести корабли вперед, к фронту. При свете керосиновой лампы (на тральщиках экономят электроэнергию) часами в полной неподвижности просиживает он в своей каюте. Вот на столе перед ним загадка Молдова-Веке — красными и синими штрихами она изображена на карте Дуная. Разноцветные штрихи напоминают листья. А сам Дунай — дерево. Ветви — его притоки. Ими Дунай осеняет Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Венгрию, Баварию. Миллионы людей сгрудились в его животворной прохладной тени. Судьба Дуная — их судьба. Кроной своей многоветвистое дерево упирается в горы Шварцвальда. А корни, у дельты, погружены в советскую землю. Но могучий ствол вдали от корней испещрен разноцветными черточками. Это — участок Дуная выше Катарактов, между Молдова-Веке и Белградом. От красной и синей штриховок, которыми покрыта голубая полоска реки, рябит в глазах. Красными заштриховано там, где клали мины англичане и американцы, синим — где ставили немцы. Таковы данные опроса, проведенного среди местного населения. Просветов в штриховке нет. В некоторых местах синие штрихи находят на красные. Там англо-американские и немецкие мины лежат в два слоя. Насколько проще было в Севастополе два с половиной года назад! Понимая, что от его самообладания и умения зависит в какой-то степени судьба осажденного города, он, Григоренко, не колеблясь спустился на дно. Пошел против мины один на один, как в старину хаживали с рогатиной на медведя. Разница в том, что охотникам известны повадки зверя, повадки же мины были неизвестны. Зато он твердо знал: вслед за ним, если ошибется, спустятся на дно другие минеры, разыщут такие же мины и, разгадав их тайну, поправят своего предшественника. Сейчас его ошибка была бы непоправима. На памяти, кроме того, были свежие рубцы. Своими глазами он видел, как подорвались суда, пытавшиеся идти 2 ноября вверх. До сих пор еще вылавливают трупы погибших, и почти каждый день приходится выполнять печальный долг — присутствовать на похоронах. Повторить катастрофу в Молдова-Веке? Подняться к Белграду, заставив мины расступиться перед собой, но как плату за это оставить в Дунае новые трупы, сотни трупов? Нет. Однако и зимовать в Молдова-Веке нельзя. Значит, нужно какое-то третье решение. Идти вверх, и поскорее, потому что с каждым днем труднее решиться, — но… Что — но? Вдобавок он, как заместитель командира бригады, знает то, что неизвестно еще никому, кроме самого комбрига и начальника штаба. Вечером получена шифровка от командующего флотилией. В Белграде, две недели назад освобожденном советскими войсками, командующий встретился с маршалом Тито. В разговоре маршал упомянул, что угля на городской электростанции осталось очень мало, со дня на день столица Югославии может погрузиться во мрак. «Не помогут ли нам советские военные моряки? — спросил Тито. — Уголь есть ниже по Дунаю, в городе Смедерово. Но между Смедерово и Белградом — мины…» Шифровку командующего Григоренко воспринял как приказ. А приказ для него становился всегда как бы внутренней необходимостью. Это было привито многолетней тренировкой воли во время службы на флоте. Личные желания и помыслы отступали на второй план. Главным, всепоглощающим, проникающим существо его желанием и помыслом делалось стремление возможно лучше выполнить приказ. И сейчас, наедине с собой, Григоренко думал о том, что легче бы ему умереть, чем не выполнить этот приказ… Чтобы дать отдых глазам, он на короткое время оторвался от карты и вышел на палубу. Ночь. Луна во все небо. Щетинка кустарника, днем торчавшая посреди плеса на том месте, где был островок, уже исчезла. Да и от двух поврежденных при взрыве полузатопленных барж остались над водой только мачты и надпалубные надстройки. А еще перед сумерками Григоренко видел, как, пенясь, перехлестывала через палубу волна. Судя по всему, в горах беспрерывно идут дожди. Вода в Дунае прибывает. Ну и что из того? Силуэты судов, стоящих на рейде, темнеют вдали. Мимо борта с шорохом пробегает волна. Лунная рябь — на воде… И звуки негромкой песни — как рябь в дрожащем светлом воздухе… На одной из далеких барж запели два наших матроса, по-видимому украинцы.«НА ДУНАЕ ТАК НЕ ХОДИЛИ НИКОГДА…»
Ох, уж этот мне протокол! Драматический спор Мыколы с лоцманами, который, по-моему, достоин того, чтобы воспеть его гекзаметром, спор, который имел глубокий смысл, выходящий далеко за пределы навигации на Дунае, пересказан здесь самым что ни на есть скучнейшим канцелярским языком. Стоило Кичкину вывести на бумаге роковое слово «протокол», как рука его тотчас же усохла, и поползли из-под пера унылые фразы вроде: «И, принимая во внимание, что…» Боже мой, боже мой! Почему в ту ночь меня не было на борту штабного тральщика? Почему я не сидел в кают-компании за столом рядом с Кичкиным? Правда, потом, в разговоре со мной, он добросовестно старался расцветить этот злосчастный протокол. Я, вероятно, замучил беднягу расспросами. Особенно хотелось бы мне видеть, как в полночный час со всех судов бригады и каравана приглашенные съезжаются на штабной тральщик. В лунной дрожащей пелене вспыхивают и гаснут сигнальные огни. Над плесом гулко катятся недовольные, сиплые со сна голоса и под ударами весел хлюпает и булькает вода. Шлюпки, ялики теснятся у трапа. Офицеры штаба встречают лоцманов. Хмурые, невыспавшиеся, стуча сапогами, негромко, с достоинством переговариваясь, они рассаживаются у стола в кают-компании. Что случилось? Почему их подняли с коек среди ночи, чуть ли не по тревоге? Они в форме, присвоенной им на Дунае: толстые куртки с шевронами на рукавах, черные, колом торчащие фуражки. Болгары и югославы, в отличие от румын и чехословаков, уже сняли со своих фуражек выцветшие национальные эмблемы и прикрепили взамен мерцающие красные звездочки — подарок наших моряков. (Пять месяцев спустя, возможно как результат последующих событий, я не видел ни у одного лоцмана старой эмблемы. Но я забегаю вперед.) Лоцманов — пятнадцать: пять с тральщиков, десять с судов каравана. Народ все строгий, знающий себе цену. У них суровые, серьезные лица, клокастые брови, а над упрямыми подбородками раскидистые усы. Мыкола не подает виду, но, понятно, волнуется. «Таких не сразу обломаешь», — думает с опаской он и уже загодя наливает себе воды в стакан. Тем временем Кирилл Георгиевич невозмутимо раскладывает карту Дуная на столе. Тут же, с краешку, примостился Кичкин. Изредка он косится на скромно сидящего поодаль Петровича. Что, завидно тебе? Не каждому доверят вести протокол на таком совещании. Тише! Комбриг постучал по столу.Зная комбрига, я уверен, что на совещании он говорил куда живее. Это Кичкин ему удружил, бесстрастный летописец! Ну, а дальше что? Хоть бы два-три штриха дал: как восприняли в кают-компании эти странные слова «обходный маневр на реке». Наверное, лоцманы задвигали стульями, зашушукались. Что это значит: обходный — на реке?Вступительное слово комбрига
«Вчера маршал Тито обратился к командующему Дунайской флотилией вице-адмиралу товарищу Горшкову, прося оказать помощь силами флотилии в доставке нескольких барж угля в Белград из города Смедерово. Столица Югославии, недавно освобожденная нашими войсками, находится сейчас под угрозой погружения во мрак, ибо городская электростанция может остановиться из-за отсутствия необходимого топлива. Что касается подходов к Смедерову сверху, со стороны Белграда, а также снизу, со стороны Молдова-Веке, то, как известно, таковые преграждает минная банка. Однако обращение товарища Тито является для нас, советских минеров, дополнительным важным стимулом. На море мы обошли бы с вами вышеуказанную банку. Но она находится на реке, как бы зажата слева и справа берегами. Несмотря на это и принимая во внимание, что югославы обратились к нам с настоятельной просьбой, двигаться вперед надо. Товарищ Григоренко доложит вам план осуществления обходного маневра на реке в целях быстрейшего продвижения к угольным складам в Смедерово и далее к Белграду».
Вот небось разинули рты за столом, а шире всех, конечно, сам Кичкин! Комбриг и начальник штаба относительно спокойны — они уже знают разгадку Молдова-Веке. Мыкола продолжает:Выступление заместителя командира бригады капитан-лейтенанта Григоренко
«Противостоящая нам минная банка состоит, как установлено, не только из немецких, но также из англо-американских мин. В этом факте и кроется решение поставленной задачи…»
«Условия постановки мин немцами и американцами были различные. Немцы ставили свои мины на отходе, с кораблей, то есть более или менее точно на фарватере. Американцы же и англичане сбрасывали мины с самолетов. Кучность, естественно, была меньше. Мины даже падали иногда не в воду, а на берег, о чем свидетельствует не взорвавшаяся случайно при падении мина, впоследствии разоруженная нами. Прошу вас также учесть фактор большой воды».Лоцманы пожимают плечами, хмурятся, силясь понять. Что еще за новый таинственный фактор? Но Мыкола отвечает вопросом на вопрос: «Когда ставили мины немцы?» Вопрос риторический. Кто же этого не знает? Недоумевающе кашлянув, старший лоцман Танасевич говорит: «В конце лета». — «Иначе говоря, в малую воду?» — «Да, в малую воду». Почему это так важно?
Комбриг приглашает участников совещания высказаться. Вот тут-то, наверное, в кают-компании воцарилось молчание. Воображаю, как надулись лоцманы! Отродясь они не слыхивали такого. Проводка каравана у самого берега, а кое-где даже над заливными лугами! Да он в уме? И, главное, кого взялся учить: новичок, три месяца на Дунае, — их, старожилов, опытнейших дунайских лоцманов! Молчание делается тягостным. Закрывая прорыв грудью, во все расширяющуюся паузу устремляются молодые офицеры. Они встают, внимательно изучают карту на столе и…Продолжение выступления капитан-лейтенанта Григоренко
«Это чрезвычайно важно. Сейчас, наоборот, большая вода. Мы присутствуем при втором, осеннем, паводке на Дунае. Летом, в малую воду, немецкие корабли могли пройти только посередине реки, где было достаточно глубоко. Там и поставлены мины. Но на сегодняшний день вода значительно прибыла, в некоторых местах, как мы наблюдаем, выйдя из берегов и заливая низменные участки. Исходя из этого, надлежит пробивать новый фарватер в обход старого, идти с тралами не посередине реки, а вплотную у берега, кое-где, быть может, если позволят глубины, даже над заливными лугами. На этом пути нам могут встретиться только англо-американские мины, каковые легли вразброс, и справиться с ними будет легче, чем с немецкими. Прошу взглянуть на карту. Соответствующая цветная штриховка, обозначающая распределение мин на участке Молдова-Веке — Белград, подтверждает мою мысль».
«С воодушевлением офицеры бригады поддержали мысль о прокладке нового обходного фарватера, — записывает бесстрастный летописец. — Для более безопасной проводки каравана вносят дополнительное предложение провести сначала разведку одним, лучше двумя тральщиками. Каждый выступавший вызвался идти в эту разведку. Затем комбриг повторно пригласил лоцманов высказаться».Но о высказываниях в протоколе записано кратко:
«…заявили: „У нас на Дунае так не ходили никогда“. Олдржих Боржек доказывал, что у берега опасные мели, попадаются также коряги. Ион Штефанеску присовокупил, что для него, как лоцмана, карманным евангелием является лоция, а она рекомендует ни на йоту не отклоняться от фарватера. После этого комбриг и его заместитель возобновили защиту обходного маневра».Заметьте, Кичкин-секретарь нигде не поставил ни одного восклицательного знака. Поразительное самообладание! А ведь это была баталия, форменная баталия, и он, я уверен, волновался не меньше Мыколы. Я вообразил себе эту сцену. Во всю дымят трубки, на столе чадят керосиновые лампы. То и дело приходится вставать и подкручивать фитиль. Настежь раскрыты иллюминаторы. Ночь идет на убыль, но никто не думает об этом и не смотрит в иллюминатор. Лоцманы сидят в ряд, насупившись, совершенно неподвижно. Стена! Вот она воочию — сила инерции! Так не ходили никогда! Каково? А между тем нельзя усомниться в добросовестности этих лоцманов, в их желании преодолеть минную банку и довести караван до места назначения. Просто предложение ошарашило их. Слишком ново, необычно. Поворот мысли слишком крут. А! Вот встает широченный, почти квадратный болгарин Иван Горанов. — Добавить к сказанному ничего не могу, — тихо говорит он. — Но если командир бригады прикажет… Он разводит руками. Остальные четырнадцать медленно, с достоинством кивают. Конечно, если русский командир прикажет… Комбриг сморщился, будто раскусил лимон. Начальник штаба с внезапно прорвавшимся раздражением разгладил карту на сгибе. Заместитель комбрига ничем не выдал себя, только еще ниже опустил голову. Держа авторучку на весу, взволнованный Кичкин переводит взгляд с лоцманов на комбрига. Не то, нет? Не то! Лоцманы признают авторитет нашей власти, а не наших знаний. Понятно, комбриг может им приказать — и в конце концов должен будет приказать, — но ведь их нужно убедить. Это именно тот случай, когда необходимо убедить. Сорванным тонким голосом, то и дело откашливаясь, Мыкола просит отбросить укоренившиеся представления о кораблевождении на Дунае. Лоцманы по привычке боятся мелей больше, чем мин. Но сейчас, наоборот, мин нужно бояться больше, чем мелей. Ну, допустим, какая-нибудь баржа сядет по пути на мель. Ведь нас целая флотилия, десятки мощных буксиров. Сообща мы в два счета снимем эту баржу и пойдем дальше. Наконец, его, Григоренко, предложение нетрудно проверить с карандашом в руках. На Дунае ведется учет подъема и спада воды, не так ли? Вчера командир бригады приказал промерить глубины на плесе у Молдова-Веке. Вот цифры… Пусть лоцманы сверятся со своими записными книжками. Там, наверное, записаны промеры, сделанные здесь летом, в малую воду. Напряженная пауза. Первым, будто с неохотой, вытаскивает записную книжку старший лоцман, бывший партизан, югослав Танасевич. Давай, друже! Утри нос этим тяжелодумам, своим неповоротливым коллегам! Танасевич показывает что-то в раскрытой книжке соседу, румыну Няга. Между их склоненными головами с любопытством просунул крупную седую голову Горанов. Замелькали лоцманские записные книжки в клеенчатых переплетах. Кажется, дошло! Стена дала трещину, а потом — развалилась! Однако в протоколе это запечатлено всего лишь в двух лаконичных фразах:
«Сравнив свои записи с результатом нового промера, лоцманы заявили, что проводка каравана по обходному фарватеру трудна, но выполнима. Комбриг, закрывая совещание, приказал начальнику штаба готовить караван к движению, а капитан-лейтенанту Григоренко с наступлением дня выйти в разведку для проверки относительно меньшей кучности мин, лежавших у берега».
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА КИЧКИНА, АДРЕСОВАННОГО ДЕВУШКЕ, ПО ИМЕНИ ИЯ, И ПЕРЕДАННОГО В МОСКВУ С ОКАЗИЕЙ
«…очень боялся, что он возьмет с собой Усольцева или Иваншина. Вдруг слышу: „Лейтенант Кичкин! Захватите набор карт, лотлини и футштоки для замера глубин!“ Иваншин и говорит мне кисло: „А ты еще жаловался, что он тебя невзлюбил…“ …Это, Иечка, называется разведка боем. Мы должны пройти по англо-американским минам, проверить путь, а уже следом за нами отправятся остальные тральщики и весь караван… …Спать не пришлось. С первыми лучами солнца два наших тральщика двинулись вверх. Шли мы у самого берега, повторяя его изгибы, так что иногда даже задевали бортом за шуршащий камыш. При этом опускали в воду футштоки и лотлини для замера глубин. Со стороны, наверное, выглядели, как путник, который, переходя вброд реку, с осторожностью ставит сначала одну ногу, потом, утвердившись на ней, выдвигает другую. Только это происходило, как ты догадываешься, под аккомпанемент взрывов за кормой, так как тральщики шли с заведенными тралами… …Но мы „допрашивали“ — футштоками и тралами — не только реку. Подробно узнавали о минах и глубинах также у местных жителей. Возле каждого прибрежного селения капитан-лейтенант останавливался и сходил на берег в сопровождении переводчиков — двух наших лоцманов Танасевича и Няга (один югослав, другой румын, так как большую часть пути слева от нас была Югославия, а справа — Румыния). Все данные я сразу же наносил на карту. Отсюда можешь догадаться, что я не последняя спица в колеснице. А ты еще считала меня несерьезным… …Уже в сумерки, Иечка, мы увидели впереди разрушенный железнодорожный мост, а за ним силуэт Белграда, голубовато-сиреневый. Я даже не ожидал, что город такой большой. Громадные, многоэтажные дома! И они очень красиво выделялись на фоне неба. К сожалению, сейчас осень, небо быстро темнело. Капитан-лейтенант приказал вплотную подтянуться к мосту. Оказалось, что быки подорваны, крутые фермы косо лежат в воде. Однако мы нашли достаточно большой разрыв между одним быком и фермой. Тральщики прошли туда и обратно, как под аркой. Стало быть, пройдет и весь караван. Белград был совсем рядом, представляешь? И тут-то командир опять проявил свой неуступчивый характер. Мы, конечно, стали просить его подняться до Белграда, зайти туда хоть на несколько минут. Интересно же! И потратили бы на этот заход каких-нибудь полтора-два часа, не больше. Нет, не разрешил! „Нас, товарищи, внизу караван ждет, — сказал он. — И минуты лишней не задержимся!“ А я уверен, что ему самому хотелось в Белград. Однако преодолел себя. Я, признаться, не смог бы так… …Конечно, ты могла и не получить этого письма. Бой есть бой. Для нас, минеров, противник воплотился в этих хитроумных и коварных минах. А они имеют обыкновение взрываться, причем иногда гораздо ближе, чем было бы желательно. Это и произошло с нами на обратном пути. Мы с капитан-лейтенантом стояли на мостике головного тральщика, и вдруг — только не пугайся, ведь все обошлось! — очутились в воде. Зато потом, когда нас подняли на борт, я удостоился его похвалы, что, вообще говоря, редкость: „Плаваете вы классно, лейтенант! И не испугались. Это хорошо“. (А я, по секрету тебе скажу, просто не успел испугаться, так быстро все произошло.) Из-за слишком близкого взрыва мины на нашем тральщике разошлись швы. Аварийно-спасательная группа зацементировала их, но воду пришлось откачивать до самой Молдова-Веке. Вот когда пригодился второй тральщик. Идя впереди, он страховал нас… …Возвращались мы ночью. Я бы хотел, Иечка, чтобы ты хоть несколько минут побыла со мной на палубе в ту ночь. (Если бы невзначай очутились в воде, я бы сразу тебя спас, не сомневайся! Сам капитан-лейтенант сказал, что я плаваю классно.) Облитые лунным светом, как призраки, поднимались из воды верхушки мачт. То были немецкие суда, подорвавшиеся при отступлении на своих же минах. Мы с осторожностью обходили их, прижимаясь к берегу. Наши тральщики сами со стороны были, наверное, похожи на призраки. Скользили почти бесшумно у самого уреза воды, мимо печальных серых верб. А сзади, как плащ, волочился по воде заведенный трал… …Утром следующего дня мы вернулись на плес у города Молдова-Веке, а днем вся бригада, а за ней и караван двинулись вверх по обходному фарватеру… …Кстати, пишет ли тебе Димка Зубков? То-то, наверное, хвастается своими небывалыми подвигами! Уж он таков. Его и в училище прозвали Скорострельный Димка. А признайся, было время, когда он нравился тебе больше, чем я. Это, по-моему, было на третьем курсе. Ты еще пошла с ним на „Периколу“, хотя мы твердо договорились идти в Филармонию. Но забудем это… …Идея обходного фарватера полностью себя оправдала. Помнишь, что такое вешки? Я же объяснял тебе как будущей супруге одного из выдающихся военных штурманов! Так вот, течение на Дунае сильное, вешки часто сносит. А сейчас они оказались не нужны. Для нас надежный ориентир — сам берег, его характерные очертания. Отсутствие вешек важно еще и потому, что сохраняется полная скрытность нашего фарватера с воздуха. А ведь немецкая авиация нет-нет да и наведается в эти места. Но мы, Ийка, не оставляем после себя следов. Мы скользим по Дунаю, как армада невидимок. Ключ к тайне фарватера только в прокладке, в тех условных обозначениях, которые я помогаю капитан-лейтенанту наносить на карту. Скажу без хвастовства — ты же меня знаешь, — я его правая рука во всем, что касается прокладки. Интересно, справился бы с этим твой хваленый Димка… …Иногда мне хотелось бы раздвоиться, Ийка, быть одновременно на головном тральщике и на берегу, чтобы видеть, как проходят корабли вдоль берега. Мы идем у самого берега, как по обочине дороги, понимаешь? Люди, толпы людей сбегают к реке. Дунай отсвечивает на солнце. Оно неяркое, осеннее. Листва уже облетела с деревьев и кустов, поэтому видно очень далеко вокруг. Корабли двигаются медленно, в точности повторяя движения нашего лидирующего тральщика. Иногда делают зигзаг и переходят на другую сторону реки. Катер начальника штаба шныряет взад и вперед, выравнивая строй, поддерживая порядок. Эта проводка каравана кажется со стороны, наверное, чудом. Ведь немцы, отступая, хвалились, что положили на Дунай заклятье. „Мы посеяли мины, — говорили они. — Пусть теперь жатву собирают русские!“ И вот минул месяц, как ушли немцы, а мы уже ведем караван по минам… …Разве с Димкой (хотя я уверен, он неплохо воюет) могло произойти что-нибудь подобное тому, что случилось со мной вчера — имею в виду встречу со старым югославом у селения Велике Градиште? Я был вахтенным командиром. Но и я, и сигнальщик смотрели, понятно, на реку и не сразу заметили этого старика, хотя он, наверное, долго бежал по югославскому берегу. Старик очень устал, запыхался. „Стай! Стай!“ — кричал он, размахивая палкой. Я решил, что он хочет предупредить о какой-то опасности, о скоплении мин впереди или о недавно намытой мели. Тральщик по моему приказанию замедлил ход. Прихрамывая, югослав спустился к воде. Ну, вот тебе описание его внешнего вида. Коротенькая курточка, обшитая по краям каким-то галуном. Широкие шаровары. На голове ветхая войлочная шляпа, в руках длиннейший посох с загнутым концом, как у пастухов или библейских патриархов. „Что хотел, отец?“ — спросил его наш лоцман-переводчик Танасевич. „Куда идэтэ? До фронту?“ „Да“. „Имам два сына на фронту“, — гордо сказал он. Признаюсь, я рассердился. За самовольную задержку каравана без уважительной причины мне могло здорово нагореть от капитан-лейтенанта. И Танасевич тоже рассердился: „Ну и что? Привет сыновьям передать? Затем и остановил нас?“ „Нет. По другому делу“. Он снял с головы шляпу. Мы, ничего не понимая, во все глаза смотрели на него. Тут лицо старика стало очень серьезным, даже торжественным. Потом он размашистым крестом осенил нас. „С богом, дэца![62]“ — сказал он. И такое, Иечка, сознание исполненного долга было написано на этом худом, морщинистом лице, что ни у кого духу не хватило сердиться за неожиданную задержку. Все-таки, понимаешь, старый человек, а ведь прихромал издалека, заслышав о первом русском караване на Дунае, и остановил нас для того, чтобы благословить и напутствовать. Нет, долго я не забуду этого старика. Он стоял у самого уреза воды, пропуская мимо себя буксиры, танкеры, баржи. И, хотя с мостика нашего тральщика уже нельзя было различить его лицо, я видел, что шляпу старый югослав держит в руке по-прежнему… …За селением Базиаш нас уже со всех сторон обступила Югославия. Солнце вставало неизменно за кормой. Но, конечно, холодное, ноябрьское солнце. Того и гляди, Дунай мог стать. Зато, Ийка, какое тепло шло к нам с обоих берегов! Нас здесь называют не иначе, как старшие братья. Югославы же славяне, понимаешь? (Так что я вроде старшего брата тому югославу из Велике Градиште!) А в Смедерово, где грузили на баржи уголь для Белграда, на причал пробился поп (но, Иечка, прогрессивный поп, хоть длинноволосый и в рясе, как полагается, однако перепоясан патронной лентой и маузер на ремне — бывший партизан!). Вдруг он до того разгорячился, что облапил нашего начальника штаба, что-то крича по-сербски. Танасевич пояснил нам: говорит, мы одна большая семья с русскими. Раскинулась эта семья от Ядрана до Япана. Оказывается, Ядран — это Адриатическое море, а Япан — Японское. Какова семейка-то! Нет, очень жаль, что тебя нет со мною. Костры горят на берегу во время наших ночных стоянок. Изо всех ближайших к реке селений приходят люди посмотреть на нас, тащат в высоких корзинах всякую снедь, все лучшее, что есть в доме. На одной из стоянок я познакомился даже с черногорцем! (Наш начальник штаба Кирилл Георгиевич объяснил, что партизанская война, постоянное передвижение людей по стране привели к тому, что в Подунавье, кроме сербов, оказалось немало и черногорцев.) Рослый — на две головы выше меня — молодой партизан с трофейным автоматом, висящим на груди, поздоровался со мной за руку, помолчал, потом неожиданно спросил: „Пушкина знаешь?“ Я удивился. При чем тут Пушкин? Тогда, немного отступя, мой новый знакомый продекламировал:И БЕЛГРАД РАССТУПИЛСЯ ПЕРЕД НИМИ
Тральщики, а за ними и суда каравана миновали разрушенный мост. Впереди Белград. За Белградом фронт. Корабли двигаются прямо на закат,будто в жерло пылающей печи. Но печь догорает. Кое-где уголья уже подернулись сизым пеплом. Кичкин и Петрович, свободные от вахты, стоят на баке. — Сколько перемен в моей судьбе произошло! — задумчиво говорит Кичкин. — По ту сторону Железных Ворот я был совсем другим, верно? — Ростом, что ли, повыше стал? — Не смейся, Петрович. Для меня это важно. — В общем, прошел Железные Ворота и сразу переродился, так? — Не только Железные Ворота, Петрович, но и Молдова-Веке. В жизни каждого человека, наверное, есть своя Молдова-Веке. — Просто повзрослел наконец. Это пока непривычно тебе, вот и расфилософствовался. — Может быть, — кротко отвечает Кичкин. На реях судов взметнулись праздничные флаги расцвечивания. Стодвадцатикилометровая минная банка позади. Вдали видны уже дома городских окраин. — А какой я был фантазер, Петрович! До Железных Ворот. Больше всего, знаешь, мечтал «свалиться на абордаж»! Видел себя стоящим у боевой рубки бронекатера, с протянутой вперед рукой, может быть даже окровавленной, наспех забинтованной. Совершал какой-то подвиг — но обязательно на глазах адмирала, командующего флотилией! И погибал, провожаемый громом орудийных залпов. Скажи, не глупо ли? — По-разному можно войти в историю. — Петрович прячет улыбку, потому что сейчас пародирует приподнятый тон своего друга. — Можно вбежать на редане, подняв бурун за кормой, как вбегает в гавань торпедный катер! Но можно втянуться торжественно-неторопливо, что в настоящее время и делает наш караван. — Ну вот, опять остришь… В столицу Югославии головные корабли вошли поздним вечером. Город высоких белых зданий и крутых спусков как бы расступился перед ними. Кое-где уже зажглись уличные фонари. Значит, держатся еще белградцы? Последние лопаты угля добирают на своей электростанции? Несмотря на позднее время, тысячи, десятки тысяч встречающих колышутся на пристани, набережной и улицах, прилегающих к Дунаю. Они ждут уже давно. О подвиге советских минеров стало известно задолго до появления первых кораблей. Дежурные с повязками на рукавах, взявшись за руки, сдерживают напор толпы. Над головами взлетают шляпы, мелькают платки. — Живио![63] Да здравствуют русские военные моряки, живио!!! Подняв полный мальчишеского обожания взгляд на Григоренко, который стоит на мостике, Кичкин говорит робко: — Вас приветствуют, товарищ капитан-лейтенант! — Почему же именно меня? Нас всех. — Нет, вас особо. Ведь это вы решили загадку Молдова-Веке. Живио — иначе долгой жизни желают вам. Уж если столько человек желают — а их, смотрите, тысячи здесь… да что я, десятки тысяч, — значит, наверняка проживете сто лет! Капитан-лейтенант улыбается, снисходительно и немного грустно…«А Я НЕ ВЕРЮ!»
— Как вспомню эту его улыбку, — говорит Кичкин, стоя па палубе рядом со мной, — сам бы себе, кажется, болтливый язык откусил! Сто лет, каково? А он через два месяца погиб… Тральщик — в порту старинного венгерского города Вышград. (Может быть, называется так потому, что стоит выше Будапешта по Дунаю?) Снега уже давно нет. Веселая весенняя листва одела деревья и кусты на склонах. Но сейчас не видно ни деревьев, ни склонов. И Вышграда не видно. Просто чернеет у борта громада берега. Фронт совсем близко, город затемнен. Ночь. Очень теплая, мартовская. — Петрович сказал: «напророчил ты ему!» Правда, глупо сказал? А еще комсомолец… С берега наносит порывами волнующие запахи: сырой земли, осенних сгнивших листьев, распустившихся пушистых почек. Почему-то метаморфозы в природе чаще всего происходят скрытно, по ночам. Вот и пришла весна тысяча девятьсот сорок пятого года на Дунай! Весна, которую уже не увидит наш Мыкола… — А вы верите, что он погиб? — Голос Кичкина по-прежнему негромкий, задумчивый. Я удивлен. Позавчера ездил из Вышграда в штаб флотилии. Там долго расспрашивал разведчиков, с которыми в январе Мыкола ходил в Будапешт. Все в один голос подтверждают, что после взрыва гранаты капитан-лейтенант, обливаясь кровью, упал на ступени лестницы. Но… — Тела-то все-таки не нашли потом, — подсказывает Кичкин. И снова молчание. Вспыхнувший огонек папиросы на миг освещает лицо моего собеседника, хмурое, по-мальчишески толстогубое. Он стоит ко мне боком, облокотившись на леер, и разговаривает так, словно бы думает вслух. — Видите ли, как вам сказать, товарищ Кичкин, — мямлю я. — Иногда верю, а иногда, признаться, не верю. Но, может быть, это потому, что я повесть о нем обдумываю, а для повести… — Нет, а я всегда не верю! Иначе это чересчур несправедливо, нельзя же так. На дне неизвестную мину разоружил, потом минную банку от Молдова-Веке прошел, и ничего! А на какой-то лестнице в Будапеште — от собственной гранаты? Это же, согласитесь, чушь, нелепо! Но я рад, что иногда вы тоже не верите. Я ведь об этом никому, только вам. Кирилл Георгиевич сейчас в Турну-Северине, а Петрович все равно не поймет. Еще мистикой меня начнет попрекать. Но я именно потому, что очень несправедливо, нелогично… Он продолжает сердито жаловаться на чью-то несправедливость, — я уже не слушаю его. Ну что ж! Как начата эта глава, так пусть и закончится — в обрамлении ночи. Длится ночь на реке. Хлюпает вода под днищем, с шелестом пробегает мимо борта. Молодой обиженный голос постепенно удаляется. Он возник во мгле и пропадает во мгле. Я снова один. — А смерть всегда нелогична, милый Кичкин, — печально говорю я, хотя Кичкина уже нет рядом…* * *
Но так бывает иной раз в жизни: трезвая логика фактов, почтенный здравый смысл пасуют перед необычным. Выяснилось — спустя много времени, — что в нашем споре прав был не я, а юный фантазер Кичкин. Мыкола не погиб в Будапеште. Гитлеровцы успели вытащить его из горящих развалин — раненого, потерявшего сознание. Однако лучше для него было бы погибнуть в Будапеште. Ему пришлось пережить в плену такие чудовищные испытания, по сравнению с которыми померкло все, что он пережил до этого…От редакции
В романе Л. Платова «Когти тигра», отрывок из которого напечатан в альманахе, вымысел тесно переплетен с фактами истории. В основу глав «На пороге Севастополя» и «Загадка Молдова-Веке» положены действительные события, описанные Л. Платовым, в то время военным корреспондентом на Дунайской флотилии, совместно с тогдашним начальником походного штаба бригады К. Г. Баштанником в двух сериях очерков («Подвиг минного офицера Григория Охрименко» и «Фарватер»), которые были опубликованы в 1945 и 1946 годах в газете «Красный флот». Подвиг беспримерного в военно-морской истории разоружения на дне моря немецкой мины неизвестного образца совершил один из выдающихся наших советских минеров Григорий Николаевич Охрименко. Ему же принадлежит и честь решения «загадки Молдова-Веке». Командуя в 1944 году бригадой траления на Дунае, он провел бригаду и следовавший за ней караван с боеприпасами для фронта и топливом для Белграда по немецким и англо-американским минам из Молдова-Веке до столицы Югославии. За это Григорию Николаевичу Охрименко, ныне капитану первого ранга, единственному из советских военных моряков присвоено звание Народного Героя Югославии. В романе сохранены также подлинные фамилии некоторых участников этих событий: капитан-лейтенанта Баштанника, лоцмана Танасевича, старшины второй статьи Караваева, водолазов Болгова и Викулова. Подвиг не должен остаться безымянным.Александр Иванович Абрамов, Сергей Александрович Абрамов ГЛАЗА ВЕКА (Повесть)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Путешественники во времени словоохотливы только в литературе. В жизни они предпочитают молчать. Кому охота попасть на учет к районному психиатру! Молчу и я. Собственно, я даже не знаю, как назвать происшедшее. Путешествием в страну детства? Но случившееся не аллегория. Сказкой? Мне бы так хотелось, но сказки придумываешь сам, а я ничего не придумывал. Просто произошел тот редкий случай, когда воображаемое становится реальным, после чего начинаешь говорить цитатами: «Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер…» Вечер был после. Мы вышли утром в первое весеннее воскресенье, лет семь или восемь тому назад, когда Володьке пошел только шестнадцатый год. Точной даты не помню. Словом, когда наши школьники носили фуражки, как у реалистов дооктябрьских времен — серо-зеленые с желтым кантом, ремни с бляхами и суконные гимнастерки с блестящими медными пуговицами. Все отличалось почти уэллсовской точностью в деталях и частностях. Была даже машина времени — обыкновенный московский автобус завода имени Лихачева, номер девяносто четыре или девяносто шесть. Впрочем, едва ли обыкновенный — по этому маршруту он вообще не ходил. Заблудившийся автобус. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. Но вскочил. И даже не один, а с Володькой. Помню, в автобусе было странно пусто — ни одного пассажира, кроме нас, хотя шел он в воскресные часы «пик», по многолюднейшей магистрали — по проспекту Маркса от «Детского мира» к Дому союзов. Там мы и вышли, хотя указателя остановки не было и другие автобусы здесь обычно не останавливались. Но вышли уже в другом времени. Со странной, тревожной и не очень ясной для меня целью — проверить притчу о «глазах века».2
Все началось с неудачи. Статья о средней школе, заказанная мне редакцией комсомольской газеты, не получалась. Подобранные материалы и привычный, стремительный бег мысли, который многие склонны называть вдохновением, подсказали соблазнительное сравнение нашей десятилетки с дореволюционной гимназией. Я просидел полчаса, рисуя пляшущих человечков, и отложил рукопись. В соседней комнате Володька с Петром Львовичем обсуждали программу первомайского вечера в школе. Жена ушла к соседке, чтобы им не мешать. Но мне очень хотелось поговорить. Я помедлил немного у двери и вышел, как таежный охотник к костру. — Не помешаю? Сын мой вежливо промолчал, а Петр Львович, классный руководитель Володьки, сдержанно улыбнулся: — Написали? Я неопределенно пожал плечами. — А что, трудно? — Кому как, — заметил я. — Если бы вам пришлось сравнивать вашу школу с нашей гимназией, вы, наверное, не встретили бы затруднений. — Конечно, фразеология готовая. — А вот я не могу. — Папа считает, что у них в гимназии лучше учили, — сказал Володька. Петр Львович потрогал щетину у подбородка — как у всех брюнетов, она была уже заметна к вечеру — и прищурился. — Что значит лучше? — спросил он. — Сейчас программы шире и разнообразнее. — По точным наукам. А по гуманитарным — простите! — Вы уверены? — Вполне. В его годы, — я кивнул на Володьку, — мы были образованнее. Спросите у него, кто такой Перикл? Что за штука «лестница Иакова»? Что означает выражение: «Омниа меа мекум порта»? Чем примечателен в истории Франции драматург Арман дю Плесси? Какая разница между гвельфами и гибеллинами? Я торжествующе оглядел своих противников. Оба молчали. — В мое время об этом упоминалось без сносок и примечаний, — прибавил я. Петр Львович с Володькой лукаво переглянулись, и, хотя одному было за тридцать, а другому вдвое меньше, я почему-то не почувствовал между ними разницы. Но, восходя ко мне, она возрастала, казалось, в геометрической прогрессии. — Кроссворды, конечно, вы решаете лучше, — Петр Львович опять союзнически взглянул на Володьку, — но что такое, по-вашему, образованность? — Объем знаний, — сказал я, — различных знаний. — Вот именно — различных. Вы знаете о гвельфах и гибеллинах, а он знает о кривизне пространства. — Я тоже знаю о кривизне пространства. — Я не о вас говорю. То есть о вас, но в прошедшем времени. О гимназисте — его ровеснике. — Он снова посмотрел на Володьку. Тот, прислушиваясь, рисовал, как и я, пляшущих человечков. У нас были одинаковые привычки и склонности — он даже левый глаз щурил так же, как я, в минуты чем-нибудь обостренного внимания. — Вы полагаете, что этот гимназист был образованнее его? Больше знал? Лучше разбирался в явлениях жизни? Вы даже не представляете себе, как вы ошибаетесь. — Не думаю, — не сдавался я. — А вы подумайте и сопоставьте. Володя не читал библии и не знает латыни. Гекзаметров Овидия наизусть не заучивал, в королях и войнах средневековья, пожалуй, запутается. И в то же время он знает в сотни раз больше, чем знали вы в пятнадцать лет, и разбирается во многом лучше, правильнее этого гимназиста. Самый уровень его умственного развития гораздо выше. Володя еще ниже опустил голову. Даже уши его покраснели. Петр Львович перехватил мой укоризненный взгляд. — Непедагогично высказываюсь? Пожалуй, — согласился он. — Но ведь это не ему похвала. Это похвала веку. — Сильно сказано, — усмехнулся я. Но Петр Львович не принял брошенного мной мостика к шутке. Он спорил всерьез. — Вы знаете, что такое «глаза века»? — вдруг спросил он и тут же, не ожидая ответа, задал, казалось бы без всякой связи с предыдущим, другой вопрос: — Помните сочинение вашего сына о предоктябрьской Москве? Еще бы не помнить! Мне оно не очень понравилось. Володька манерничал, повторяя газетные трюизмы о пыли и мусоре, горбатых переулках и подслеповатых фонарях. Но Петр Львович почему-то поставил ему пять с плюсом. — Вы, кажется, были не согласны с оценкой? — С плюсом. Сочинение толковое, грамотное, — я искоса взглянул на Володьку: не обиделся ли, — пятерочное сочинение. Но плюс — это уже «экстра». А «экстра» не было. Школьные банальности без души. — Без души? — иронически повторил Петр Львович. — А по-моему — без умиления. Теперь понимаете, что такое «глаза века»? Каюсь, я ничего не понял. — Не понимаете? А все очень просто. Володя писал по материалам, но с точной, не искривленной перспективой. Он видел все глазами своего времени. А вы видите это глазами своего детства — и Москву, и себя. Вот и возникает некая аберрация зрения. Вы не обижайтесь, я не только о вас говорю. Все мемуаристы этим грешат. Вспоминают, а глаза не те. Вам приходилось уже в зрелом возрасте видеть то, что запомнилось и полюбилось вам в детстве? Ну, дом, сад, пейзаж какой-нибудь… Приходилось? — И в ответ на мой утвердительный кивок он победно закончил: — Вот видите! И, конечно, разочаровались. Все оказалось ниже, меньше, бледнее, невзрачнее. Это и есть «глаза века». Мне не хотелось сдаваться. — По-моему, спор не об этом… — начал я и осекся. В передней мягко щелкнул замок. — Конечно, они уже спорят, — сказала жена, входя в комнату, — а у мальчика еще уроки не сделаны.3
Володька, оказывается, на меня не обиделся. Он сам сказал об этом, правда не мне, а Тане, нашей соседке и своей однокласснице из параллельной группы. Они вместе пришли из школы и стояли на площадке у лифта. Дверь на лестницу была приоткрыта, и, хотя они говорили тихо, я все слышал. Спрашивала Таня, смуглая девочка-подросток, угловатость которой смягчалась еще не выраженной, но уже намечающейся округлостью линии будущей женщины. — На кружок придешь? — Не знаю. Нет, наверно. — Ты же сочинение должен читать. — Не буду я читать. Не бардзо написано. Школьные банальности без души. — Кто сказал? — Предок. Да и я сомневался. — А все хвалят. Смешок. — Значит, не придешь? — Я о другом кружке думаю. — О каком еще? В голосе у Володьки появляются торжественность и певучесть. — Понимаешь, нет названия. Хорошо бы так: общество будущников, а? — Союз мечтателей. — Не смейся. Можно и так. Решим еще. — Да ведь нет такого кружка. — А мы его придумаем. — Кто это — мы? — Сама знаешь кто. В воскресенье у Родина. Придешь? — Я фантастику не очень люблю. — Ну и дура. Фантастика движет науку. — Пусть движет, а мне скучно. Я жизнь в книгах люблю, а не выдумки. — Выдумка — результат воображения, а без воображения все бескрыло. Мещанкой вырастешь. Таня молчит, потом говорит еще тише, но я все-таки слышу: — Скажут, из-за тебя пришла. — При мне не скажут. Голоса понижаются до шепота. Потом гулко хлопает входная дверь. Я машинально расстегиваю ворот рубашки. Душно? Но в комнате совсем не жарко. Может быть, вспомнилось что-то очень похожее?4
— Что это за кружок? — спрашиваю я Володьку. — Ты что, слышал? — пугается он. — Ты о каком-то кружке говорил на площадке. — А что еще слышал? — Не помню, я не прислушивался. Он молча кладет портфель на стол — кажется, успокоился. Я жду. — Да еще нет кружка, — неохотно говорит он, — названия еще не придумали. Поможешь? — Подумаю. Что вы там делать будете? — Ну что… Книжки обсуждать по научной фантастике. Сами придумывать… — Тоже мне физики! — А что? — Володька шел на сближение с противником. — Допустим, что глаз человека перестал реагировать на свет. Ну, болезнь какая-нибудь, эпидемия… И вдруг для всех в городе наступила тьма. Что тогда будет? — М-да, — говорю я неопределенно. — А о реке времени читал? — О какой реке времени? — Ну, об открытии Козырева. — Какое же это открытие? Так, гипотеза. — А машина времени не гипотеза? — Машина времени — вздор. — Не знаю… — Володька задумывается. — Теоретически вполне допустимо. Материальный мир движется в пространстве и времени. Сегодня он в одной точке пространства, завтра — в другой. Так и во времени. — Ну и что? — Я еще не понимаю его мысли. — Значит, «вчера», «сегодня» и «завтра» — такие же математические величины, как длина, ширина и высота. — Это ты на уроке расскажи. Я не специалист. Он не обращает внимания на мою реплику. — А почему у Герберта Уэллса машина движется только в одном направлении — в будущее? А в прошлое? — Он улыбается какой-то новой, только что возникшей идее. — Бессмыслица, — говорю я. — Есть же закон причинности. — Жалко, — вздыхает он. — А интересно бы… — Что интересно? Но он продолжает, не слыша вопроса: его увлекает другая мысль. — Когда я писал это сочинение, мне казалось, что я все видел. Собственными глазами. Все-все. — Ничего ты не видел. Все было не так. — А как? Подбежав к столу и порывшись в ящике, он подает мне что-то похожее на слежавшийся и пожелтевший газетный лист. Я удивленно — а руки почему-то дрожат — раскрываю его, стараясь не смотреть на Володьку. Подсознательно я уже догадываюсь, что это за газета. Это «Раннее утро», я тотчас же узнаю ее, хотя угол с названием и датой оторван. Но я помню эту дату, и год, и день — воскресенье, почему-то тревожное, теплое, весеннее, казавшееся безоблачным, не то мартовское, не то апрельское воскресенье после февраля семнадцатого года. Сейчас я вспомню точно — почти истлевшие на сгибах страницы даже не шуршат в руках. Экстренное пленарное заседание Временного правительства. Большие портреты Родзянко и Гучкова. Затишье на фронте.«В беседе с нашим корреспондентом господин Милюков настоятельно подчеркнул историческую миссию России на Черном море. Только русские проливы завершат святое дело союзников».Николай Второй, изображенный карикатуристом Атэ с розой у губ: «Я так люблю цветы». Фельетон Мускатблита о папиросниках. Хроника Земгора. Самоубийство горничной.
«Вчера в Большом театре в балете „Конек-горбунок“ вместо заболевшей г-жи Гельцер выступила г-жа Мосолова». «Пьеро XX века в Петровском театре миниатюр».Дальше, дальше… Петитное сообщение о программе воскресных скачек. Стихи дяди Михея о папиросах «Зефир» — десять штук шесть копеек. Санатоген Бауэра и пастилки Вальда. И совсем внизу, в уголке, объявление о натирке полов артелью «Басов и сыновья». Я почему-то помню этот день. Где-то на дне памяти, как в глубоком колодце, лежит он, не заслоненный годами и жизнью. Я никогда не вспоминаю о нем, но все же помню. — Где нашел? — В бабушкиной корзинке на антресолях. — Вечно лазаешь… — начинаю я, но злиться не хочется. Хочется молчать и думать, перебирая в памяти неостывшие угольки прошлого. — Ты мне не ответил, — говорит Володька. — Что не ответил? — Ты сказал: всё было не так. Я тебе дал газету и спросил: «Вот так?» — Так, — отвечаю я, глядя куда-то мимо него. — Ты видишь? — спрашивает он. — Вижу. Весь день. С утра, когда купил эту газету в Охотном. — Где купил? — В киоске. — Тогда тоже были киоски? — Были. Он нерешительно садится возле меня на ручку кресла. — Если б я нашел ее раньше, я бы лучше написал сочинение? Мне не хочется его огорчать. — Возможно. — Я бы тоже увидел все это. — Воображение — не видение. А впрочем… Я обнимаю его за плечи и что-то говорю ему на ухо тихо-тихо. Он отстраняется. — Смеешься? — Почему? Ты же сам говоришь, что «вчера», «сегодня» и «завтра» — такие же математические величины, как длина, ширина и высота. Значит, их можно соединить. — А закон причинности? — Мы его опровергнем. Он смотрит на меня почти с испугом: неужели я сошел с ума? Но я повторяю и повторяю ему то же самое и так же тихо. Теперь он понял. — Здорово! — говорит он. Я молчу. — Как в рассказе о мальчике, на дворе у которого была калитка в прошлое. — Почти. Теперь он весело обнимает меня.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Я ничего не забыл. Когда Володька спросил меня, где я купил эту газету, я без запинки ответил: в Охотном. В то воскресное утро мы с отцом поехали туда за пятифунтовой банкой шотландских сельдей — в таких наглухо запаянных банках они тогда продавались только в Охотном ряду. Отец уезжал в Одессу с часовым поездом и хотел отвезти их кому-то в подарок. Пока он торговался с извозчиком на углу против трамвайной остановки, я и купил в киоске этот помер «Раннего утра». Потом мать постелила его на дно корзины, где хранились старые семейные фотографии. Было мне тогда без малого шестнадцать лет. Представьте себе нескладного гимназиста с жесткими вихрами на затылке, упрямо не уступавшими ни бриолину, ни гребешку. Измятая синяя фуражка с грязно-белым кантиком, брюки клёш, перешитые из гимназических форменных, темный пушок на губе и самоуверенность в глазах, наигранно прикрывающая мальчишескую застенчивость. Володька сейчас очень похож на того гимназиста. Те же вихры, тот же пушок под носом, та же дань моде, превратившая клёш в тонкую дудочку, и только самоуверенность естественная и совершенно беспримесная, без всякого наигрыша. Никто не уделял мне свободного времени. У отца его просто не было. Торговый агент, кочевавший по России, он месяцами не бывал дома. Мать работала кастеляншей во Вдовьем доме и даже по воскресеньям приходила запоздно. Хозяйством ведала ее дальняя родственница, тихая как мышь, тетя Паша, уходившая домой после пяти, когда обед был приготовлен и поставлен в духовку. С самого детства я был предоставлен самому себе, дворовой мальчишеской Сечи, школьным учебникам и библиотеке попечительства о народной трезвости, просвещавшей читателей в нашем квартале. В политике я не разбирался: ни дома, ни в гимназии о ней не говорили. К войне относились так же, как и «Раннее утро»: чем дольше шла война, тем меньше интересовала она редакцию и подписчиков. И хотя Февральскую революцию я, как и все гимназисты, встретил с красным бантом в петлице шинели, но знал о ней едва ли больше тети Паши, приобщавшейся к революции на рынке и в церкви. Правда, я был знаком и, как мне казалось, даже дружил с настоящим революционером, но и это не стимулировало моей политической зрелости. То была странная дружба, начавшаяся около года назад, когда студент Александр Томашевич вернулся из ссылки в Москву. На Тверском, в доме, где жили и мы, у его отца был писчебумажный магазин. В глубине его, за стеной, была темная комнатушка без окон, заставленная по стенам штабелями писчей бумаги. Эту каморку с железной печуркой, поставленной вопреки всяким пожарным правилам, приспособил для жилья бывший студент, уверявший, что в квартире его отца, двумя этажами выше, жить ему скучно и неуютно. Сюда после закрытия магазина забегал и я поболтать у огонька, вечно подогревавшего большой эмалированный чайник: самоваров Томашевич не признавал. Я познакомился с ним, когда он, заменяя за прилавком заболевшего отца, продавал тетради мальчишкам на копейку дешевле обозначенной на них цены. Когда я спросил его, почему он так делает, он засмеялся и сказал: — Возвращаю прибавочную стоимость. Знаешь, что такое прибавочная стоимость? — Не знаю, — сознался я. — Ну и не знай. Легче жить будет на свете, — сказал он. Потом я зачастил к нему, и он неизменно встречал меня веселой улыбкой, обнажавшей жемчужины зубов прелестницы с рекламы зубного полосканья «Одоль». Худощавый брюнет с черносливинами-глазами и матовой, никогда не блестевшей кожей, он был очень красив той нерусской, экзотической красотой, обрамлением которой хотелось бы видеть сомбреро или тюрбан, а уж никак не старую студенческую фуражку. Да и звали его не дон Алонзо, а просто Сашка или по-украински Сашко. Меня же он дружески называл Саней. Недоучившийся студент, таинственный революционер и прозаический агент по распространению подписных изданий совмещались в нем с легкостью, не вызывавшей душевных противоречий. О революционном подполье, тюрьме и ссылке своей он никогда не рассказывал, а мой нескромный вопрос однажды обрезал с решимостью педеля, отбирающего у вас гимназический синий билет: — Знаешь, что такое табу? — Ну, знаю. — Так вот, это табу. Понял? Я понял. Но следы прошлого проступали вопреки его осмотрительности. В котельную нашего дома поступил новый механик, Егор Михалев, человек молчаливый и неприветливый. Котельную он всегда держал на запоре, мальчишек туда не пускал и на меня не обращал никакого внимания. Но однажды я оказался свидетелем странного разговора между ним и Сашко. Они столкнулись в подъезде: Егор подымался по лестнице из подвала, а Сашко, только что расставшийся со мной, шел к отцу. Я же стоял в тамбуре, даже еще не успев раскрыть двери во двор. — Семенчук? — спросил Егор, и такое удивление прозвучало в его голосе, что я невольно задержался у двери. — Тише! — прошипел Сашко. — С ума сошел! Он меня не видел, но я видел обоих в щелку и слышал все от слова до слова. — Семенчук я был в ссылке, — прибавил Сашко, — здесь моя фамилия Томашевич. Запомни. — Очень нужно! — скривился Егор. — Хоть бы век тебя не видеть! — Здесь работаешь? — Здесь. Донесешь? — Я не шпик. Да и с прошлым покончено. Все. Конец. — Потому и спрашиваю: донесешь? — Господь с тобой. Я уже вам не противник. Даже больше: все думаю — может, вы и правы. Присмотреться к вам хочу. — Ну что ж, присматривайся. Может, что и увидишь. — А не приобщишь? — Приобщаются только к богу в церкви. А я не поп. — Все шутишь. А я серьезно. — И я серьезно. Как в лавке. Ну-ка, дай пройти. Я открыл дверь и выскочил во двор. Егор прошел мимо, даже не взглянув на меня.2
Сашко в этот вечер был особенно неразговорчив и даже отказался сыграть со мной очередную партию. С тех пор как он научил меня играть в польский банчок, триктрак, стуколку и другие диковинные игры, мы зачастую сражались с ним у огонька в его писчебумажной каморке. Играли мы не на деньги, которых у меня не было, а на обязательства трех видов, которые безропотно должен был выполнять проигравший. По первому виду требовалось несложное, пустяковое: сбегать в лавку за булкой или папиросами, опустить письмо в почтовый ящик, разузнать что-либо или принести воды из подвала, потому что водопровода при магазине не было. Обязательства второго рода были связаны с передвижением по городу, а к третьему относилось все, что выигравший считал для себя особенно важным. Вот и приходилось мне, как проигравшему, а проигрывал я, понятно, гораздо чаще, чем Сашко, то бегать ему за папиросами, то разносить вместо него книги подписчикам, то возить их бог знает в какие трамвайные дали. А проигрыш рос, обязательства накапливались и грозили рабством. Когда общее число их перевалило за сотню, Сашко вдруг зачеркнул все и объявил, что меняет их на одну-единственную сверхглавную просьбу. Я обязан был всеми средствами содействовать его сближению с Катей Ефимовой. Катя работала в шляпной мастерской на пятом этаже нашего дома и каждый день бегала по городу с круглой деревянной коробкой с ремнем на крышке, разнося готовые шляпы заказчицам. Она была похожа на девушек с английских открыток, торчавших на витринах чуть ли не каждого писчебумажного магазина. С них глядели на вас почти прозрачные голубоглазые блондинки со стеком или теннисной ракеткой в руках. Катю отличал от них только морозовский ситчик в горошинку и шляпная коробка вместо стека или ракетки. А все остальное совпадало — и тоненькая фигурка, и соломенные волосы, и королевская стать, словно родилась она в Виндзоре, а не в Дорогомилове. Для меня она была блоковской Незнакомкой, Прекрасной дамой, Дульцинеей Тобосской, которой я на долгие годы посвятил и тайную свою преданность, и тайное восхищение. Эти рыцарские чувства, однако, ничуть не мешали мне активно ухаживать за гимназистками и даже влюбиться в одну, хотя я и влюбился, может быть, потому, что она чем-то смутным, неуловимым напоминала Катю. Конечно, я идеализировал Катю, которая была просто тихой, скромной и работящей девушкой, но мне она казалась — я только что прочел «Петербургские трущобы» Крестовского — по крайней мере бывшей графиней, вынужденной скрываться под личиной модистки. Как-то, возвращаясь из гимназии, я увидел ее и пошел за ней следом до нашего дома, как вдруг заметил, что она переглянулась с вышедшим ей навстречу Егором. Я даже остановился в изумлении: неужто же заговорит она с вечно хмурым механиком? Нет, не заговорила. Только задержалась на мгновение, быстро сунула ему что-то в карман пиджака, извинилась и прошла мимо. Спустя минуту я даже усомнился в том, что увидел. Что общего могло быть у далекой звездной богини с этим чумазым ничтожеством? Конечно, она в конце концов заметила мое отнюдь не ребяческое внимание и начала улыбаться при встречах. Однажды она даже остановила меня. Это было у памятника Пушкину на Тверском бульваре, где она присела отдохнуть после очередного пробега но московским заказчицам. Я хотел было улизнуть, но она почти силой усадила меня рядом и начала расспрашивать, как живу, как учусь, что читаю. Неожиданно я подметил в ней то, что едва ли характеризовало модистку: интеллигентность. Вероятно, она была белой вороной среди шляпниц — грубых, развязных, хихикающих девушек, от которых всегда пахло, как в дешевой парикмахерской. Отличала ее от них и манера держаться с какой-то монашеской строгостью, почти суровостью, отталкивающей, вероятно, даже самых навязчивых ухажеров. Я тоже почувствовал эту строгость, напомнившую мне мою первую учительницу в приготовительном классе. И невольно отвечал Кате, как на экзамене, быстро и лаконично, по-мальчишески краснея и тут же проклиная себя за этот предательский румянец. — Ты много читаешь, — похвалила она меня, — это хорошо. Только мусору много. — Стивенсон не мусор, — обиделся я. — Допустим, что не мусор. А Чириков мусор. И Потапенко мусор. И Амфитеатров не чтение для человека, стоящего у открытой двери в жизнь. Она говорила, как в книгах, и притом естественно, как будто именно так и думала. И мне захотелось ответить ей в том же духе. — Я и хочу узнать жизнь, — сказал я. — Прочел «Люди сороковых годов» Писемского, «Шестидесятники» Амфитеатрова. Картина века в исторической последовательности. — В «исторической последовательности»! — передразнила она. — Разве у Амфитеатрова поколение шестидесятых годов? Все ложь. Малиновое варенье для читателей «Раннего утра». Я покраснел до кончиков ушей. К счастью, она не заметила. — Ты хоть Чернышевского читал? Я даже не слышал этого имени. — Конечно, — сказала она, — вас этому не учат. — А почему? — спросил я. — Прочти «Что делать?» — сам поймешь почему. — А о чем это? Глаза у нее заискрились и подобрели. — О необыкновенных людях, — произнесла она с какой-то непонятной мне задушевностью, — какими должны быть все и каких еще очень мало. — В библиотеке есть? — Не знаю. Наверное, нет. Ты не вздумай спросить. И в гимназии не спрашивай — не надо. — А где же… — начал было я. Но она уже вскочила и на ходу, нагнувшись ко мне, заговорщически шепнула: — Знаешь, у кого попроси? У Томашевича. И ушла вперед с большой желтой коробкой, повисшей на руке, как самая изящная сумочка. Сашко необычайно заинтересовался моим разговором с Катей, долго расспрашивал о ней, пока не вытянул из меня все, что хотел узнать, и пожелал познакомиться. Собственно, даже не пожелал, а потребовал от меня, чтобы я встретил Катю и любыми средствами затащил ее в магазин. У каждого человека где-то на грани между детством и юностью есть своя золотая мечта, неясная, как детский сон, который не должны видеть чужие. Я знал, что теряю ее, и все же не мог отказать Сашко. Он просто объявил мне, что это и есть его сверхглавное требование, которое я обязан выполнить, погасив тем самым весь мой затянувшийся и бессчетный проигрыш. — А книжку, — сказал Сашко, — я поищу. Может быть, где и найдется. О книжке он забыл, но я даже не сердился на него за это. Он о многом забыл, познакомившись с Катей. С тех пор каморка при магазине все чаще и чаще была на замке, а Сашко шагал рядом с Катей, перехватив у нее круглую деревянную коробку со шляпами. Однажды я увидел их на вербном гулянье на Красной площади. Катя шла, повиснув на руке у Сашко, и, заглядывая в его глаза-черносливины, счастливо смеялась. Меня они не заметили.3
Впрочем, это случилось уже после февраля, когда Катя работала в Совете рабочих депутатов, а Сашко инспектировал архивы московской охранки. Я не шибко вырос за это время, политическую информацию по-прежнему черпал из «Раннего утра», а Керенского считал рупором революции. Тогда-то я и стал, как многие московские школьники, легкой добычею кадетов. Как я понял после, кадетская партия, громко именовавшая себя партией народной свободы, пыталась создать тогда нечто вроде своей молодежной организации. Патетическое ее название, присвоившее себе слова, крамольные для любого полицейского государства, легко завоевывало симпатии не умудренных в политике подростков, а полное отсутствие молодежных организаций еще более облегчало это завоевание. Помню, когда у нас в гимназии как-то на большой перемене пошли по рукам отпечатанные на пишущей машинке листовки, приглашавшие нас от имени университетских кадетов на собрание учащихся средних школ в Большой аудитории Политехнического музея, почти весь класс наш без малейших сомнений откликнулся на призыв. Сомнения и разочарования появились уже во время речей. Кадетские профессора, самонадеянно полагавшие, что опыта работы с молодежью у них более чем достаточно, излагали основы милюковской политики с той же унылой скукой, какой отличались их университетские лекции. Да и самая суть этой политики увлекала далеко не многих. В разношерстной массе гимназистов и реалистов, собравшихся в этот вечер в Политехническом музее, оказалось немало насмешников и скептиков. — Историческая миссия России — это проливы, — бубнил кадетский профессор Кизеветтер, не замечая постепенно пустевшего зала. — Мы прорубили окно в Европу на севере, теперь мы прорубим его и на юге. — Давай-ка прорубим дорогу к выходу, — шепнул мне одноклассник Назаров, — мычит, как дьячок, аж уши вянут! Пошли. На этом бы и закончилось мое знакомство с кадетами, если бы на следующий день меня не остановил наш восьмиклассник Овсяников. — Ты, кажется, был в Политехническом? — спросил он. — Был. — Ну и как, проникся? — Угу, — дипломатично промычал я. — Тогда вот что. — Он подтолкнул меня в уголок между шкафами с учебными пособиями, загромождавшими наши классные коридоры. — Я, понимаешь ли, связан с районным комитетом. Они ищут сочувствующих добровольцев для фельдъегерской работы. — Какой работы? — не понял я. — Ну, фельдъегерской, курьерской. Повестки разносить нужно, листовки. — Зачем же их разносить, когда почта есть. — А ты знаешь, что творится на почте? Там каждый пятый — эсер или большевик. — Нет, — сказал я. Перспектива лазания по этажам, знакомая мне по заданиям Сашко, ничуть не соблазняла. — Так ведь не задаром — за деньги! — всплеснул руками Овсяников. — Видали растяпу-головотяпа? Небось в кармане не густо, а пусто. А тут красненькая в неделю обеспечена. У вас в классе многие согласились. — Не знаю, — все еще колебался я. — Зато я знаю. У Благово и запишешься. Задумайся, задумайся. И я задумался. Пятачок в день, получаемый дома на завтрак, далеко не обеспечивал моих возрастающих потребностей, и десять рублей в неделю казались чуть ли не ротшильдовским богатством. Но я все еще сомневался. — Десятка верная, — подтвердил уже завербованный Савин. — Получишь улицу и ходи. — С этажа на этаж. Легче, чем золото в Клондайке искать, — хохотнул Благово. — Ты же любишь по лестницам лазить, — прибавил он, намекая на мои походы с подписными изданиями по указам Сашко, и тут же насмешливо продекламировал, перефразируя Бальмонта: — Он на башню всходил, и дрожали ступени. И дрожали ступени под ногой у него! Я чуть не плюнул ему в рожу — связываться не захотелось. Мы терпеть не могли друг друга и встречались только по необходимости. Сам он, я думаю, никаких листовок не разносил и разносить не собирался — карманные деньги и так текли к нему в изобилии из отцовского бумажника. Но быть связанным с близкой правительству политической партией было в его глазах и почетно, и модно. Я бы сразу отказался от такого почета, но «верная десятка» перевесила. Не знаю, как было в Клондайке, только добыча ее оказалась делом совсем не легким. Мне достался кусок Тверской с четырех- и пятиэтажными домами. Ни один из моих адресатов не жил ниже третьего этажа, ни в одном из домов не было лифта. По многу раз приходилось мне считать ступеньки то вверх, то вниз, то на черных, то на парадных лестницах, по многу раз стучать по визитной карточке или медной дощечке какого-нибудь адвоката или зубного врача, по многу раз объяснять сквозь щелку прихваченной на цепочку двери цель своего прихода, пока чья-то рука не забирала протянутую мною листовку. Бывало, что ее тут же выбрасывали обратно или дверь захлопывалась, не давая мне возможности даже договорить. Но я все еще держался, продолжая считать ступени. Вела меня мечта об охотничьем ружье, выставленном в витрине оружейного магазина. Оно стоило как раз тридцать рублей, и до полного обладания им не хватало только десятки. Двадцать рублей я уже отшагал.4
На третьей неделе произошла катастрофа. В мой список включили наш дом. Я отнес листовки его хозяйке, генеральше Найденовой, управляющему Гельману и нанимателю самой роскошной квартиры в бельэтаже шулеру Карачевскому. Затем полез на верхние этажи, разгоняя кричащих кошек. Вот тут-то и встретился мне спускавшийся вниз Егор. Он уже не работал в котельной, носил красную повязку па рукаве, где-то митинговал и потому перебрался из казенной каморки в подвале на пятый этаж, в снятую у кого-то комнату. Спускался он так стремительно, что я не успел посторониться, мы столкнулись у перил, и мои листовки рассыпались по площадке. Он тут же помог мне собрать их, не читая текста, а когда прочел первые строки, так и застыл с подобранной пачкой в руках. Молчал и я, предчувствуя недоброе. — Где взял? — спросил он наконец. — В Козихинском, — буркнул я. — Неужели вас этому в гимназии учат? — Зачем в гимназии? В комитете. Они десятку в неделю платят. — Продался, значит, — усмехнулся Егор, — за тридцать сребреников? Я не понимал его. Почему продался? Почему тридцать сребреников? — И отец у тебя человек приличный. И мать работает. Денег, что ли, не хватает? — Почему — не хватает? Это я себе. — «Себе»! — передразнил он. — А ты знаешь, что деньги разные бывают — чистые и грязные? А это грязные деньги. Кадетские деньги. Ты хоть знаешь, чему учат эти писаки, — он потряс пачкой листовок, которую все еще держал в руках, — чего хотят? — В общем… — замялся я. Он ткнул мне в лицо измятую листовку: — Народной свободы, да? Я молчал. — Я бы объяснил тебе, какая это свобода и для кого, — сказал он, — да времени нет. Дай сюда. Он взял у меня оставшиеся листовки, собрал все вместе и разорвал. Потом оглянулся и швырнул обрывки в кучу окурков и мусора, заметенную кем-то в угол под лестничное окно. — Вот так-то, — сказал он мягче и потрепал меня по плечу. — А ежели честно заработать хочешь, приходи — научу. — И побежал вниз не оглядываясь. За новыми листовками в комитет я не пошел и никому не рассказал о встрече на лестнице. Не пошел я и к Егору: постеснялся, да и старая неприязнь все еще мешала. Думалось: не пойду — не увижу. И все-таки я встретил его через несколько дней в туннельчике наших ворот — обиталище злейших и никогда не стихавших сквозняков. Он был в солдатских ботинках и обмотках, а старенькое пальто его было перетянуто широким кожаным ремнем с блестящей новенькой кобурой на боку, из которой торчала ручка нагана. — А, кадет на палочку надет! — засмеялся он. — Все еще получаешь сребреники? Я хотел было, не отвечая, пройти мимо, но он удержал меня за плечо: — Шучу. Погоди. Ты Катю Ефимову знаешь? Я насторожился: — Ну, знаю. А что? — Она замуж собирается, не слыхал? — А что? — повторил я еще настороженнее. — А то, — передразнил он. — За Томашевича? Я кивнул. — Скоро? — Не знаю. — Я тоже не знаю. Вот это и плохо, — нахмурился он. — Не увижусь с ней сегодня и, когда встречу, не знаю. Еду в действующуюармию делегатом. — Он задумался. — Может, письмо передашь? — Она в мастерской не работает, — сказал я. — Домой к ней сходи. Я адрес напишу. Он вынул блокнот из кармана, помуслил карандаш и тут же в воротах, пристроившись у стенки, быстро исписал два листика, вырвал их и протянул мне: — Тут все — и письмо и адрес. Конверта нет — так передашь. Прочесть можешь, только ничего никому. Ясно? Он снова схватил меня за плечо, на этот раз так сильно, что я невольно поморщился от боли. — Кажется, не сволочь, верить тебе можно, — сказал он. Я промолчал. — Ну, прощай, кадет. — Я не кадет. — Верю, — сказал он и крепко, по-дружески, пожал мне руку. Это было в субботу, накануне того воскресенья, которое началось с поездки в Охотный ряд и от которого остался пожелтевший, протертый на сгибах номер «Раннего утра».ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Никакой калитки не было. Мы просто шагнули в прошлое, как гости уэллсовской Утопии. Подъехав на автобусе к Дому союзов, мы тут же и вышли против того же Колонного зала и устья Большой Дмитровки. В первый момент я даже не обратил внимания на то, что вместо входа в метро напротив висела огромная вывеска — анонс театра Незлобина, извещавший о предстоящей премьере «Орленка». Стало как будто чуть-чуть светлее. Это исчезли две много-этажные громадины, окаймляющие ныне бывший проезд Охотного ряда, — гостиница «Москва» и Дом Совета Министров. Вместо них лепились друг к другу несколько грязных, не то бурых, не то рыжих двухэтажных домишек, подпиравших с боков древнюю церковку, задорно выползшую на и без того узенький-преузенький тротуар. Да и самый проезд стал словно уже и грязнее. Асфальт мостовой превратился в неровный стесанный камень, засоренный грязью и мусором. Я различил конский навоз, битую щепу, куски картона и досок, раздавленную зелень и даже чью-то соломенную шляпу, вернее, ее разорванные остатки, которые колеса и ветер относили вправо, к потоку с Тверской. Изменилось и самое привычное для нас — уличный шум. Станьте где-нибудь на углу людной московской улицы и прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Вы услышите негромкое жужжание автомобилей, монотонный рокот автобусных моторов, громыхание дизелей на тяжелых грузовиках, свистящее шуршание шин. И за всем этим, как вода, напитывающая землю, — человеческий гомон, ровный, привычный гул людского уличного потока, не умолкающий с утра до ночи. Сейчас это обилие шумов стало иным, дробилось мельче, но громче в хаосе режущих ухо звуков. Ржали лошади, стучали подковы о камень, с лязгом высекая искры, скрипели колеса, визжали несмазанные рессоры телег и пролеток, гремели бочки на подводах, свистели городовые. Да и разбавляющий этот гул нестройный человеческий гомон был сейчас громче, зычнее, раскатистее, словно шумел рядом с нами не обычный уличный поток, а более обильное, тесное и крикливое человеческое скопление. Так оно и было: в двух-трех шагах от нас начинались палатки Охотного ряда. Я не часто бывал в детстве в Охотном ряду и хорошо помню, с каким любопытством озирался по сторонам, пробираясь в то воскресное утро сквозь рыночную толпу. Меня все занимало — и мертвое изобилие дичи, словно копирующее полотна Снайдерса, и багровые туши быков, подвешенные на крюках в полутьме мясных лавок, и гигантские ножи мясников, похожие на мечи шекспировских феодалов, и хозяйские бороды, растущие прямо от глаз и ушей, и вся окружающая суетня, и лица, и запахи, и божба, и ругань. Сейчас я рассматривал все это со смутным чувством разочарования, даже огорчения, пожалуй. Яркая картинка прошлого, запечатленная в памяти, вдруг пожухла и потускнела. Все оказалось старее, мельче, приземистее, грязнее. Я отчетливо видел затоптанный и замусоренный тротуар под ногами, лохматую рыжую крысу, лениво скользнувшую из палатки в подвал, растертые сапогами по камню капустные листья, толстых, как пчелы, мух, жужжавших над синими тушами, ржавые пятна высохшей крови на феодальных ножах, темные щели подвалов, откуда за десять шагов несло тухлой рыбой и прелой зеленью. Я невольно поймал себя на том, что рассуждаю в манере Володькиного сочинения, которое осудил, пожалуй, необдуманно и поспешно: мальчишка видел правильно. Я искоса взглянул на него. Жадный интерес на его лице чередовался с брезгливой гримасой, иногда он откровенно морщил нос, отворачиваясь от особенно пахучего изобилия. — Ну как? — засмеялся я. — Не нравится? — Рынок, — равнодушно сказал Володька. — Продуктов много, дряни еще больше. Я таким себе его и представлял. Только пахнет хуже. Мы подходили к Тверской. Я вспомнил, с каким интересом разглядывал я мясников, братьев Власенковых, двух русых, розовых молодцов, похожих на княжичей с картинок Соломко. «На кого смотришь?» — спросил тогда отец. «Алеша Попович, — сказал я. — Видишь? А это Дюк Степанович. Правда похожи?» Отец не ответил: он не интересовался былинным эпосом. Сейчас Власенковы так же стояли у дверей мясной лавки. Я вспомнил свое сравнение, и мне стало неловко. Володька почему-то усмехнулся. — Ты что? — Бандитские рожи, — сказал он. — Такие, наверно, студентов били. Я вздохнул. На углу Охотного и Тверской, где я тогда купил «Раннее утро», стоял, как и в то воскресенье, извозчик. Может быть, тот же самый, не помню. Он даже не взглянул на нас с Володькой, когда мы забрались в его пролетку, ткнул кнутовищем в зад рыжей лошади, и мы медленной извозчичьей рысью начали подыматься вверх по Тверской. Она показалась мне уже и ниже, странно чужой, будто совсем незнакомой улицей. Множество вывесок, забравшихся здесь на первый и на второй этажи, только сбивало и путало смутные видения, возникавшие в памяти. Они таяли, не успевая о чем-то напомнить. Лишь изредка что-то показывалось яснее и задерживалось дольше — парад «Золотой библиотеки» на витрине у Вольфа, зеленый стеклянный шар в аптечном окне, студенческие тужурки у Мандля, когда-то покорявшие сердце гимназиста-семиклассника. Кто-то забыл потушить электрические лампочки над вывеской кинематографа в Охотничьем клубе, и они тускло и стыдливо подчеркивали при солнечном свете название картины — «Морское чудо» с участием Женни Портен. Володька только усмехнулся и ни о чем не спросил. А если бы даже и спросил, я бы не стал рассказывать. Ведь он уже умел отличать и простоту итальянского неореализма, и тонкость польского кинорассказа от венской опереточной чепухи, тяжеловесной боннской мелодрамы. Что мог я рассказать о мелодраме еще более далекой и бедной, о робких сентиментальных тенях, воскресавших чужую, давно истлевшую жизнь, о бегающих человечках и вытаращенных глазах? Но Володька молчал. Только когда мы подъезжали к Скобелевской площади, он неуважительно усмехнулся, кивнув на оранжевое здание с широким балконом. — А Моссовет и совсем не похож. Он почему-то другого цвета и ниже. — Это не Моссовет, а дом генерал-губернатора, — сказал я хмуро. Но Володька уже смотрел в другую сторону, где в глубине площади знакомый темно-серый куб института Ленина исчез, уступив место желтопузому, приземистому зданию Тверской полицейской части с высокой пожарной каланчой. Сбоку подымалась гостиница «Дрезден», глядевшая на нас частыми узкими окнами на фоне темно-бурой, пятнистой от дождей штукатурки, а посреди площади прямо на нас мчался длинноусый, с расчесанными бакенбардами Скобелев, обнажив длинную генеральскую саблю. Он казался крупнее Юрия Долгорукова, может быть, потому, что стоял ниже, лишь слегка подымаясь над окружавшими его шипкинскими героями. А пролетка уже мягко катилась по деревянным торцам, которыми была вымощена эта часть Тверской улицы. Проплыли мимо почти не изменившиеся витрины Елисеева, грязно-розовые монастырские стены на Страстной площади, вывеска «Русского слова» над сытинским домом, угрюмый пролет Палашовского переулка. Те же дома, но выглядевшие новее и моложе, но страшно изменившиеся, словно отраженные в воде, в убегающей реке времени, замутненной там, где память слабела. Я остановил извозчика на углу Пименовского переулка — хотелось подойти пешком к знакомым воротам, пройти мимо кондитерской Кузьмина и писчебумажного магазина, который запомнился так цельно и ясно, словно видел я его только вчера. А сейчас он показался мне совсем другим — меньше и невзрачнее, с несмываемым слоем пыли на стекле и серенькой вывеской, съехавшей набок и засиженной голубями. Я заглянул в окно поверх пирамиды тетрадей и блокнотов, пытаясь разглядеть, не стоит ли за прилавком Сашко, но сквозь пыльное стекло ничего не увидел. Володька тотчас же разгадал мое движение. — А ты никогда его не спрашивал, в какой он партии? — Нет, — вспомнил я, — никогда. — Зря. Я действительно не спрашивал об этом Сашка. То, что казалось главным, обязательным для Володьки, мне тогда просто не приходило в голову. Хотя именно в то воскресенье мне нужно было знать о Сашке гораздо больше того, о чем я знал или догадывался. Тогда, вероятно, события этой истории пошли бы совсем по-другому. А сейчас я возвращался к их истоку. Мы прошли мимо крохотной кондитерской с подсохшими пирожными на витрине, свернули в темноватый туннель ворот и вышли в похожий на каменное ущелье двор с клочком облачного неба над головой. Я никогда не любил этот двор и сейчас лишь мельком и с отвращением оглядел эту угрюмую асфальтовую пустошь, укравшую у меня добрую половину детства. По узкой каменной лестнице, которую так редко мели и еще реже мыли, мы поднялись на четвертый этаж — я с затаенной дрожью, Володька с алчным ликующим любопытством, — и у самой обыкновенной двери с облупившейся краской на филенках я решительно нажал костяную кнопку звонка.2
Дверь открыл гимназист чуть пониже Володьки, с начищенной до блеска пряжкой ремня и двумя сверкающими никелем пуговицами на воротнике форменной рубахи — тогда их еще не называли гимнастерками. Вихры его были тщательно зачесаны на виски. Он равнодушно-вопрошающе оглядел нас и спросил хрипловатым баском: — Вам кого? — Разрешите войти, молодой человек, а там уж мы потолкуем, — сказал я и, чуть-чуть отодвинув удивленного гимназиста, шагнул в переднюю. Володька на цыпочках осторожно вошел за мной. — Вам кого? — повторил гимназист. — Никого дома нет. — Ваш папаша, наверно, в отъезде? — спросил я. — А матушка? — На службе, — сказал гимназист и повел бровью. Он выглядел до жути знакомым и вместе с тем странно чужим и далеким. И почему-то на него мне было неловко смотреть. Я отвел глаза и заглянул из двери в столовую. Она показалась мне до смешного крохотной, нелепо уменьшенной по сравнению с той, какая запомнилась с детства. Но герани по-прежнему пламенели на подоконниках, а на залитом чернилами дубовом столе были разбросаны в беспорядке учебники и тетради. Гимназист, очевидно, делал уроки. Я даже знал, что упрямо не давалось ему — та самая задача по тригонометрии, которую пришлось списать потом у Ефремова. Ну конечно, у гимназиста были перепачканы чернилами пальцы. Даже почернели, особенно под ногтями. Как четко иногда запоминаются пустяковейшие детали! — И Прасковьи Ивановны нет? — спросил я, выдвигая стул и усаживаясь на границе столовой и передней. — Она часа через два придет, — сказал гимназист. Бровь его поднялась еще выше. — Вот что, Шурик. Я дядя Петя из Питера. А это Володька. Я знал, что говорил. В Петрограде тогда жил сводный брат матери, которого у нас звали дядей Петей. О нем и его сыне, тоже Володе, ученике одного из петроградских реальных училищ и моем сверстнике, я только слышал в детстве, но никогда не видал их: дядя Петя с нашей семьей даже не переписывался. — Знакомьтесь, — сказал я Володьке, все еще стоявшему у двери в передней и не решавшемуся шагнуть вперед. Он смотрел на гимназиста с таким исступленным любопытством, что даже тот улыбнулся. — Ты в каком классе? — В де… — начал было Володька и осекся, вспомнив, что порядковые номера классов у них не совпадают. — В седьмом, — сказал я. — Так же, как и ты. Они стояли друг против друга, как боксеры, впервые встретившиеся на ринге, осторожно и неуверенно пожимая протянутые руки. В чем-то оба были очень похожи. — Ты, кажется, хотел уходить. К друзьям, наверно, — полувопросительно сказал я, отлично зная, куда и зачем он хотел уходить. — Возьми с собой Володьку — он вам не помешает. А я тетю Пашу дождусь. До сих пор суровое, нескрываемо недовольное лицо гимназиста вдруг просветлело. В то воскресенье, которое я вызвал из прошлого, мне действительно нужно было уйти. У моего одноклассника Колосова собирались днем участники наших гимназических новаций и споров. Гимназист критически оглядел Володьку и, видимо, остался доволен. Форменный китель и Володькины брюки были тщательно отутюжены. Неопределенного фасона начищенные ботинки также не вызывали никаких подозрений. Только к фуражке можно было придраться: ее не то серый, не то буро-мышиный цвет с желтой каемкой кантика лишь приблизительно напоминал форму учеников реальных училищ. Но гимназист не оказался очень придирчивым. — Ладно, — сказал он, — пошли. Дверь захлопнулась за ними, но и я не остался в комнате. Я шел с ними, вернее, не шел, а мчался вниз, отмахивая по три — четыре ступеньки и постукивая о камень железными подковами на каблуках скороходовских хромовых бутс. Я, взрослый и старый, попросту перестал существовать и снова глядел на мир глазами того гимназиста, которого я только что разглядывал в лупу времени.3
У Колосова была своя, отдельная комната — предмет зависти всех наших ребят. Когда мы вошли, все уже были в сборе и сидели где придется, поджимая друг друга, как в детской игре в телефон. На широком промятом диване с мягкой спинкой расселись, как в театре, Благово с Иноземцевым и сестры Малышевы из гимназии Ржевской. Сбоку на валике с комфортом устроился толстый Быков, а застенчивая Зиночка — мое первое серьезное увлечение — спряталась в уголке за книжной полкой. Миша Колосов сидел в центре, председательствуя на шведском стуле с вращающимся сиденьем, позволявшим ему мгновенно поворачиваться в любую сторону. Мы с Володькой, как опоздавшие, устроились на кухонной скамеечке у самой двери. — Это Володя, — сказал я. — Из Петрограда. Никто особенно не заинтересовался. Только Благово демонстративно пожал плечами. Колосов откашлялся и сразу стал похож на своего отца, прокурора. — Что будем читать? — спросил он. — Северянина, — отозвались дуэтом сестры Малышевы. — Если угодно, прочту, — самодовольно откликнулся Благово. Он был готов где угодно и когда угодно читать или, вернее, напевать эти модные, по-своему мелодичные и приторные стихи. — Если угодно, — повторил он, кокетничая. — Угодно, угодно! Не ломайся! — закричали в ответ. — «Это было в тропической Мексике… Где еще не спускался биплан… Где так вкусны пушистые персики… В белом ранчо у моста лиан», — начал он нараспев, грассируя и покачиваясь в такт ударным слогам. В той же манере он дочитал стихи до конца. Жаркий вздох на диване прозвучал, как общее одобрение. Только жирный Быков сказал равнодушно: — Воешь ты очень. — Я пою, — высокомерно произнес Благово, — пою, как и он. Многие находят, что очень похоже. А если тебе медведь на ухо наступил, молчи и не оскорбляй большого поэта. — Почему большого? — спросил я. — Потому, — повернулся, как на шарнирах, Благово. — Трудно объяснять это человеку со школьными вкусами. — И не объясняй. И так ясно. — Докажи. Все выжидающе смотрели на меня. Я покраснел. — Большой поэт глупых слов не придумывает. Благово засмеялся. — Старая песня. Амфитеатров уже писал об этом. — Все равно, слова глупые. — Какие? — Ну, «экстазёр», «грезёрка», «окалошить», «морево», — начал перечислять я. Благово поднял брошенную ему перчатку с видом завзятого бретера. — Это обогащение языка, — сказал он. — Словотворчество. — Не очень умное, — неожиданно вставил Володька. — Повторяетесь, — сказал Благово, даже не взглянув на него. Но Володьку это ничуть не смутило. — Есть умное словотворчество, есть и глупое, — спокойно продолжал он. — Вот Достоевский придумал слово «стушеваться». Умное слово. Очень меткое. Потому оно и в язык вошло. А «окалошить» глупое слово. Никто так говорить не будет. И «морево» — глупое. Есть слово «мористо», что означает: далеко в море, дальше от берегов. А что означает «морево»? Чушь. И поэт он, кстати, не очень грамотный. На диване взвизгнули. — Докажи, — повторил Благово. — Пожалуйста, — усмехнулся Володька. — Как это у Северянина? Вы сейчас читали… «С жаркой кровью бурливее кратера…» — «… Краснокожий метал бумеранг… И нередко от выстрела скваттера… Уносил его стройный мустанг», — закончил хор голосов на диване. — Никаких скваттеров в Мексике нет и не было. Так звали первых американских колонистов на Западе. А Мексика была колонизована не американцами, а испанцами. А с бумерангом уж совсем глупо, — усмехнулся Володька. — Бумеранг — это оружие туземцев Австралии, а не мексиканских индейцев. — А это не глупо? — закричал я, подыскав наконец аргумент на ненавистное «докажи», и поспешно процитировал: — «И я, ваш нежный, ваш единственный… я поведу вас на Берлин!» — Это иносказательно, — возразил Благово. — Рассказывай! — Даже символично. — Поехал! — Читать надо уметь, — огрызнулся Благово. — Это патриотический порыв. Конечно, некоторым такие стихи не нравятся, они другие предпочитают! — Он театрально взмахнул рукой. — На днях сижу у зубника. В приемной у него на все вкусы газеты. Взял одну и читаю… Благово эффектно замолчал — он знал свою аудиторию. — «Как ныне стремится кадет Милюков… К желанным, заветным проливам… Должны мы добиться таких пустяков…» — продекламировал он и усмехнулся. — Дальше в том же духе. Взглянул на первую страницу — все ясно: большевистская газетка… — Ну и что? — спросил я. — Как — что? Значит, проливы, по-твоему, пустяк? Дарданеллы нам, как воздух, нужны. Ты был на лекции Кизеветтера? Я вспомнил журчание о «великой исторической миссии России» и смутился. Средств для опровержения у меня не было. — А ведь я знаю, господа, почему для него это пустяк, — продолжал Благово, презрительно на меня поглядывая. — Я вам расскажу сейчас кое-что. В конце концов, мы уже определились политически. Все мы сочувствуем кадетской партии… — Кроме меня, — сказал я. — Знаю, — пренебрежительно откликнулся Благово. — Его судьбы России не интересуют. — Он демонстративно кивнул в мою сторону. — Вы знаете, что он отказался работать для комитета. Я никогда не был в суде, но мог бы точно представить себе состояние подсудимого, когда зал сочувствует прокурору. — Это правда? — спросил Колосов. Я молча пожал плечами. — Он даже листовок не вернул, — ехидно прибавил Благово. — Я их выбросил, — зло сказал я. Меня бесил этот наглый барчук, но спорить с ним я не умел. — Тогда с кем ты? С монархистами? С эсерами? С большевиками? Или, может, просто обыватель? Я был «просто обыватель», но признаться в этом не мог решиться. — По-моему, таким у нас делать нечего, — продолжал добивать меня Благово. — Кто не понимает, что кадетизм грядет… — Куда это он грядет? — насмешливо перебил Володька. Теперь на скамью подсудимых сел он, но и бровью не повел. — Интересуюсь, куда? — продолжал он, обращаясь к замолчавшему Благово. Тот наконец нашел ответ. — На авансцену истории. — А не на свалку? — Ну, знаете… — протянул Благово и демонстративно развел руками. Все сразу вскочили и закричали, перебивая друг друга, как на уличном митинге. И сквозь шум мне показалось, что я слышу спор Благово с Володькой. — Так думать могут только пораженцы! — А кому нужна победа в этой войне? — Хотя бы армии — кому! — Солдатам? — Ну, и солдатам. — Солдаты — это народ, а народу нужна победа не в такой войне. — А в какой? — В гражданской, — сказал Володька и, оглянувшись на меня, прибавил: — Пошли. Нечего нам здесь делать. Мы встали, провожаемые всеобщим свистом. Мимо нас, демонстративно заткнув уши, пробежала Зиночка. Мы вышли за нею. Воскрешенное воскресенье. Трудно даже выговорить такое. А между тем оно повторилось, или почти повторилось, как в подобии треугольников, когда углы равны, а треугольники-то, в общем, разные. Все было как и тогда — те же встречи, те же споры, и гнев мой тот же, и та же беспомощность мысли. Только тогда я был один, никто не поддержал меня на кадетском сборище, я был осмеян и освистан. И ушел без всякого шума — выгнать не выгнали, но и остаться не попросили.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
А река времени, возвращенная назад, опять набирала скорость. По закону подобия я догнал Зиночку у ближайшего подъезда на улице. — Куда вы, Зиночка? Я провожу вас. — Нет-нет, не провожайте! — Но почему? Она ускорила шаг. Я снова нагнал ее: — Зиночка… — Я, право, не виновата, но не надо, не провожайте. Позже я вам объясню. — Когда позже? Она оглянулась. Никого, кроме Володьки, сзади не было. — Сегодня у всенощной, — сказала она и прошла вперед. Володька тут же подошел ко мне. — Твоя? — спросил он. — Она похожа на Катю Ефимову, — почему-то сказал я. — А кто это? — Катя? — удивился я. — Это необыкновенная… не девчонка, нет — она совсем взрослая. И она замуж выходит. Я сказал о Кате Ефимовой совсем не то, что хотел. — А тебе-то не все равно? — спросил Володька. Я не ответил, потому что увидел Сашка. Он сидел за зеркальным стеклом пивной Шаргородского, у самого окна, и делал мне знаки. — Иди за мной, — сказал я Володьке. Мы вошли. Сашко подвинул к столу два свободных стула и произнес: — На пирожные не рассчитывай. Наличность кончилась, а эти последние. — Он выразительно показал на пару пирамидальных пивных бутылок, окруженных блюдечками с воблой и моченым горохом. Я не обиделся. На Сашка бессмысленно было сердиться — он не считался с чужими обидами. — Зачем звал? — спросил я. — А ты занят? — Нет. — Гулял? — У Колосова был. А нас выгнали. Из кадетов выгнали, — пояснил я. — Каких кадетов? — Ну, партия. Не знаешь, что ли? — А ты при чем? — Для комитета работал. Листовки носил. Ну, а потом надоело, — я умолчал о встрече с Егором, — да и партия мне не нравится. — Правильно, — засмеялся Сашко, — дрянная партия. Монархисты на английский манер. Всё для крупных фабрикантов. А в земельном вопросе — наездники. Верхом на мужичке. — Вы эсер? — вдруг спросил Володька. — Был, — сказал Сашко. — А ты почему догадался? — О рабочих забыли. — Наверно, отец эсдек? Володька молча подавил улыбку. — Бросьте, ребята, политику. Мой совет: бросьте. Я и то бросил. Женюсь, слышал? Я кивнул. — Потому и позвал. Мне мальчик нужен. — Какой мальчик? — не понял я. — Который впереди с иконкой идет. Шафера у нас есть, а мальчика нет. Согласен? Смущенный неожиданной перспективой показаться во всем параде во главе свадебной процессии — как это Сашко не понимал, что я уже слишком вырос для таких представлений, — я спросил: — Когда? — Завтра у Благовещенья. За Катей в карете заедем. В закрытой — чтоб не глазели. — А разве эсеры верующие? — спросил Володька. Но Сашко не удостоил его ответом. — Без венчанья отец ни копейки не даст, а у него, между прочим, собственный дом в Сокольниках. Шутка, а? — хохотнул он и вдруг совсем другим тоном, резко-резко, мне даже показалось, что с затаенной тревогой, спросил, как выстрелил: — А ты Егора давно не видел? Я даже не удивился, я испугался. Откуда ему известно, что я знаю механика? Ведь он никогда не видел нас вместе. И почему он спросил меня об этом? В знакомом, казалось, до мелочей облике Сашка вдруг проступили таинственные белые пятна. Рассказывать о своих встречах с Егором мне не захотелось, и я спросил, чтобы оттянуть ответ: — Какого Егора? — Не притворяйся — «какого»! Из котельной. — Давно. А что? — Он в Москве или уехал куда? — Не знаю. — Мой соперник, — принужденно засмеялся Сашко. — Тайно в Катю влюблен большевистский Демосфен. Хорошо бы угнали его куда-нибудь. Я опять промолчал, хотя отлично знал, что Егора в этот момент уже в Москве не было. Но у меня были свои причины молчать. — Завтра в половине девятого, ладно? У магазина, — сказал Сашко. Я выдавил из себя улыбку, но даже на улице постарался пройти мимо окна, не оглядываясь. Тут меня Володька и спросил о Егоре. — О ком это вы говорили? — Так один… — А кто он? — Ты же слышал. — Большевик? Меня передернуло: еще допрос! — А я знаю? — Он-то знает, — усмехнулся Володька, подразумевая Сашка. — Что-то есть у тебя с этим Егором. Крутишься ты, я смотрю.2
Меня действительно скручивала нечистая совесть. Сегодня я должен был отвезти Кате письмо Егора. Я твердо обещал ему это. Вчера вечером у меня и мысли не возникало, что я могу его обмануть. И вот — обманул. Письмо свое Егор не завернул и не заклеил. Он просто сложил его четвертушкой и сунул мне в руку, никак не оберегая его тайны. А тайны там были. И не одна. Я читал и перечитывал это письмо, ничего не понимая, словно оно было написано шифром. И так долго читал его, что, проснувшись утром, вспомнил весь текст, не притрагиваясь к бумажке.«Не считай меня клеветником, — писал Егор, — ты знаешь, на такое я не способен. Но скрыть от тебя то, что узнал, не могу. Тем более сейчас, накануне твоей свадьбы. Помнишь, я рассказывал, как провалился побег Глеба и Муси. Мы так и не дознались, кого благодарить, только кличку и узнали: Чубук. А потом группу разделили — Кравцова и Мельника перевели в Морозовскую, а Томашевичу сократили срок. Тогда он под другой фамилией жил. В Морозовской дядя Вася разведал, что Чубук — это Выспянский, с ним был связан провал Лабзина в Москве, но оказалось, что и Выспянский — кличка. А вот недавно выяснилось, что из охранки в Гнездниковском дело Лабзина исчезло, а вместе с ним еще два дела, связанных с тем же Выспянским. Ты знаешь, кто возился в архиве? Веревкин исключается: он всего первокурсник, тогда был мальчишкой. Остается Томашевич. Обязательно повидай дядю Васю, он только что вернулся из Питера, виделся с Лабзиным и знает теперь много больше. И ты должна все это узнать до того, как пойдешь в церковь. Говорил ведь тебе: не верь эсеру!»С вечера я вложил эту записку в томик рассказов Чехова, который читал всю ночь. Утром вспомнил текст, но не побеспокоился о письме, а после отъезда отца вдруг обнаружил, что книжка исчезла. Оказалось, что отец взял ее с собой в дорогу. Письма Егора я теперь доставить не мог. Все это я рассказал Володьке. — Нехорошо, — сказал он. Я вздохнул. — Обманул, значит? У меня и без того сосало под ложечкой, я молчал. — Знаешь, как это называется? — А что поделаешь, — возразил я, оправдываясь. — Теперь уж ничего не поделаешь. Да и стоит ли? Егор влюблен в Катю, а она любит Сашка. Зачем им мешать? Может быть, Сашку все рассказать? — А кто это Томашевич? — Сашко и есть. Володька свистнул. — Неужели ничего не понял? — Нет, а что? — И что Сашко об этом рассказывать нельзя, не понял? — Не понял. — А письмо верно цитируешь? — Слово в слово. — Тогда все ясней ясного, — сказал Володька. — Предатель Твой Сашко. Шпик. Мне показалось, что меня ударили. И так больно и неожиданно, что я задохнулся. — Почему? — прохрипел я. — Ты с ума сошел! — «С ума сошел»! — передразнил он. — Соображать надо. Если побег провалился, значит, кто-то выдал. Свой, кто с ними был. Егор так и пишет. Кого благодарить, не дознались, только кличку и узнали: Чубук. — Почему кличку? — сопротивлялся я. — Кто дал кличку? — Кто дал? Охранка, конечно. У них все под кличками. А у этого даже две. — Выспянский — вторая, — подсказал я. — Он и в Москве кого-то выдал? — Лабзина. — А почему его дело из охранки пропало? Соображаешь? Кому-то оно мешало. Егор об этом и пишет. Он знает кому. — Сашко! — прошептал я, холодея. — Что же делать? Мне еще не был ясен ответ. Я не понимал этой логики, этого метода мышления, выводов, продиктованных азбукой революционной борьбы. Я не знал даже ее азов. — Что же делать? — повторил я. — Отвезти письмо — ясней ясного. — Так нет же письма. — Ты его знаешь. Слово в слово — сам сказал. Я испугался. О том, что мог бы поехать к Кате и без письма, я подумал тотчас же, как обнаружил отсутствие книги. Но тут же смутился. Что-то помешало мне сделать это. Может быть, чувство стыда за то, что не сумел сохранить письмо, мальчишеская боязнь показаться смешным и глупым в глазах взрослой девушки, тайный страх, что она не поверит мне, подумает, что напутал, не поймет, как не понял его и я. Мысль о том, что Катя знает много больше, чем я, даже не приходила мне в голову. И было жаль Сашка. Я понимал, конечно, что письмо направлено против него, и чувство неопределенной симпатии подымалось в душе на защиту моего веселого друга. Оно и сейчас удерживало меня от решения, подсказанного Володькой. — Ты знаешь адрес? — спросил он. — Тогда поехали.
3
И мы поехали. На четвертом трамвае в Дорогомилово, к самой заставе, где жила Катя. В вагоне было пустынно и тихо. Мы сидели у окон друг против друга, разделенные эмалированной дощечкой с надписью: «Не высовываться». Трамвай привычно скрежетал и погромыхивал по обкатанным рельсам, то и дело разбавляя это громыхание и скрежет гулкими звонками, когда кто-либо впереди по забывчивости или по рассеянности выходил или заезжал на рельсы. То извозчик зазевается, то велосипедист замедлит свернуть на мостовую, то старуха с кошелкой начнет метаться взад-вперед, дурея от набегающих звонков и трамвайного громыхания. За окнами тянулся невзрачный строй не то выцветших, не то обгоревших домишек на длинном бугре над узеньким тротуаром. — Варгунихина гора, — пояснил я. — Сейчас будет мост через Москву-реку. — Тоже мне гора! — пренебрежительно фыркнул Володька. — Срыть бы ее к чертовой бабушке. — Как срыть? — не понял я. — Чем? — Не лопатой, конечно. Экскаватором. — Чем, чем? — Я и забыл, что ты еще маленький, — сказал Володька и замолчал. Мы проехали мост, бани, переулочки, бурлящие предвокзальной суетой, и вылезли у темной кирпичной церкви, грузно подымавшейся над соседними бревенчатыми домами, выкрашенными однотонно густо — «под свинец». В одном из таких домишек с крохотными, подслеповатыми окнами за церковью и жила Катя Ефимова. — Проходным двором пойдем или переулком к вокзалу? — спросил я Володьку. — Не все ли равно? — Вокзал посмотришь. — Киевский? — Брянский, — поправил я. — Новый. Недавно построили. — Знаю, — сказал Володька, — пятьдесят лет стоит — все такой же. Загадочность его слов не удивила меня — я просто не вслушивался: неудержимое желание вернуться, уехать, не встретившись с Катей, ничего не сказать ей, сковывало движения и мысли. Ах, как хотелось, ни о чем не думая, вскочить в тот же трамвайный вагон, уже повернувший назад у заставы и со знакомым звоном приближающийся к остановке! В то далекое воскресенье, тень которого вдруг снова приобрела блеск и движение, я так и сделал. Поехал, чтобы рассказать все Кате, и с этой остановки вернулся обратно. Я не мог, не мог признаться ей в том, что потерял записку Егора. Но сейчас надо мной тяготела воля Володьки. — Что стоишь? — строго спросил он. — Идем. Во дворе за глухой дверцей в воротах на нас пахнуло таким стойким запахом выгребной ямы, от которого молодые побеги единственного здесь тополя, казалось, свертывались и жухли. Ни травинки не пробивалось вокруг него на бурой земле. Перевязанный по узловатому, искривленному стволу толстой веревкой, он походил на умирающее в неволе животное. На веревке, протянутой к дому, простоволосая женщина в шерстяном платке, наброшенном на плечи, развешивала только что отжатое, выполосканное белье. Она стояла спиной к нам и не обернулась на скрип калитки. Но я знал, что это была Катя. Именно такой я и запомнил ее здесь, когда привез как-то письмо Сашка. — Катя, — позвал я робко. Она обернулась. — Шурик? — удивилась она. — Что-нибудь случилось? — Вы понимаете, — начал я, подбирая тяжелые, как булыжники, слова, — Егор, наш истопник, написал вам записку, а я… — Тихо! — строго оборвала Катя. — Давай записку. — Нет ее, — не глядя на Катю, пробормотал я. — Потерял? — Нет, но… — Где же она? Я объяснял, путался и краснел. Поняла ли она что-нибудь, не знаю, только Володька, перебивая меня, сказал: — Он ее наизусть выучил. — Да-да, — подхватил я, — ей-богу. От слова до слова. — Говори, — поощрила она сдержанно. Строгие ее глаза смотрели осуждающе и настороженно. Я повторил текст записки так, как его запомнил. По лицу ее будто скользнула тень — мне даже показалось, что оно осунулось и постарело. — Ты ничего не перепутал? — спросила она. — Нет. — Тогда иди. Но я не двигался, словно надеялся услышать еще что-нибудь. И услышал. — Иди, иди. Передавать нечего. Томашевичу сама скажу. Она впервые назвала Сашка по фамилии. Сухо, жестко, даже сквозь зубы. А ведь она любила его. Значит, в словах Егора, неприветливого, колючего, несимпатичного человека, было что-то сильнее этой любви. Если б я понял это в тот далекий, невозвратимый день, всё произошло бы именно так. Катя впервые бы назвала Сашка по фамилии, в словах недобрых и жестких, но, может быть, наиболее нужных именно в эту минуту. Но ее не было, этой минуты.ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Вернулись мы на Тверскую в синие вечерние сумерки, когда под кронами тополей у церкви Благовещенья уже сгущались пятнистые тени. На паперти двумя сомкнутыми шеренгами стояли нищие в ожидании выходивших из церкви. Но служба еще шла, никто не выходил, и высокая, окованная медью дверь раскрывалась только перед входящими. Отворял ее старый, заслуженный нищий с картинной седой бородой и бледно-розовой лысиной, окаймленной седыми космами. Мы прошли мимо свечного ящика, вернее, каменной ложи, отгороженной от прохода деревянной стойкой с широким прилавком. За прилавком владелец соседнего посудного магазина и церковный староста Пухов благолепно торговал тоненькими восковыми свечами. Народу было довольно много. Путь вперед преграждали миляевские приказчики с одинаково подбритыми затылками, джентльмены прилавка из магазина «Миляев и Карташов». Они занимали место, по кратчайшей прямой к выходу, на ковровой дорожке, тянувшейся от входных дверей к алтарю. По бокам теснился наш брат гимназист, тоже не стремившийся удаляться от выхода. С клироса впереди доносились стройные голоса хора, подпевавшего бархатному рокотанию дьякона. Я поискал глазами и тут же нашел Зиночку. Она стояла неподалеку, справа от меня, на каменных ступеньках бокового придела, заметная отовсюду в своей розовой шляпке, оставлявшей свободными иссиня-черные локоны. Мальчишки по соседству не сводили с нее глаз, но я знал, что она обернется только на мой взгляд, и сознание этого переполняло сердце совсем не детским восторгом. На шаг вперед от нее стояли ее родители — надменный старик с эспаньолкой и величественная, еще молодая дама, напоминавшая начальницу привилегированной женской гимназии. Подойти ближе было неосторожно, и я вытянул шею, как журавль, беззвучно призывая Зиночку обернуться. И она обернулась. Без улыбки указала мне кивком на дверь, я мотнул головой в ответ и, подтолкнув Володьку, молча повернул к выходу. Пробравшись сквозь строй нищих на паперти, мы сбежали во двор под тополя, где обычно приходские гимназические Ромео назначали свидания своим Джульеттам. Здесь даже трава не росла: ее вытаптывали с вешнего тепла до осенних заморозков. Должно быть, мы были первыми здесь в этот вечер. Кругом было сумрачно и тихо. Ни одного звука не доносилось из церкви, в готических окнах которой дрожали отблески множества восковых свечей. И эта тишь, и тоскливое ожидание предстоящего разговора, и смутное беспокойство, терзавшее меня с утра, сливались в предчувствии чего-то недоброго. Зина подошла следом за нами, очень серьезная, даже суровая, и странно долго молчала, прежде чем начать разговор. Володька деликатно отступил в сгустившийся сумрак за деревьями, а я стоял молча, почти уверенный, что сейчас будет сказано то, чего я боялся. Так и случилось. — Мы переезжаем, — сказала она. — Кто? — не понял я. — Ну, папа, мама, мы, — нетерпеливо пояснила она. — На Чистые пруды в дом Рубановича. Я все еще не понимал. — А гимназия? — Там есть какая-то рядом. Частная. — Ну и глупо. С Тверской на Чистые. Из такого дома! — Папе и не хочется. А мама настаивает. Вы же знаете маму. — Не понимаю почему? — Не понимаете? — Нет. В словах Зиночки появился оттенок превосходства и жалости. — Господи боже мой, из-за нас ведь всё! Я подслушала разговор. Папа говорит: ребячество, подрастут — пройдет. А мама, как шутиха: пыр, пыр… «Ничего не пройдет. Читают бог знает что, гуляют бог знает с кем! Бессмысленно запрещать ей с ним ходить: все равно обманет». Так и сказала: «Учатся рядом, по пути. Не могу же я ее каждый день провожать и встречать. А уедем — с глаз долой, и отрежется. Тоже нашла жениха!» — Это я-то жених? — Вы. Я глупо засмеялся и вдруг все понял. Стало больно-больно, как на экзаменах, когда уже ясно, что провалился. — Может быть, она еще передумает? — робко спросил я. — Не знаю. — Зиночка поежилась, как на холодном ветру. — Пойдемте отсюда. — Куда? — По переулку пройдемся. Не побежит же она нас искать. Я рассеянно кивнул Володьке. Дальше я не мог пустить его, дальше начиналось незнаемое, не выстраданное, не детское. Но он осторожно задержал меня. — Не сдавайся, слышишь, — прошептал он. — Ладно. Пока. — Ты же можешь к ней ездить после уроков. На трамвае, что ли. Не так уж это далеко. — А где она ждать будет? На улице? А если мать заметит? А девчонки? Нет, нет… — поспешил оборвать я. — Не будь теленком. — Отстань! Я догнал Зиночку у церковных ворот. Молча мы вышли в потемневший уже переулок, в странно повторявшийся весенний вечер, в тревожной тиши которого звучали когда-то сказанные слова. — Вы слышите? — Кто-то плачет. — Пусть. Мне самому плакать хочется. — И мне. А мать не понимает. Ваша понимает? — Не знаю. Я ей не говорю. — Я тоже. Но она все равно догадывается. — А скоро? — Что скоро? — Переезжаете. — На этой неделе. Против Чистых прудов переулок. Я забыла, какой. Только дом помню. Рубановича. — Поэт есть такой. Смешно. — Что смешно? — Поэт — и собственный дом. Глупо. — А мне жалко. — Кого? — Всего. И нашей гимназии, и вообще… — А я возьму и приеду и буду ходить под вашими окнами. — Глупости. Мама увидит. — А мне все равно. — Шурик! — Что? — Ничего. — Она всхлипнула и прикрыла глаза рукой. — Не надо, — прошептал я, бережно подхватив ее руку в тонкой желтой перчатке. — Мы скоро увидимся. Мы обязательно увидимся. Но мы не увиделись. Я три раза приезжал на Чистые пруды, нашел и дом Рубановича, даже простоял как-то до сумерек под его окнами, а Зину так и не встретил.2
Ушла из моей жизни и Катя Ефимова, вернее, уехала в венчальной карете, сверкавшей на солнце, как белый концертный рояль. Я прятался в толпе зевак, стараясь не приближаться к свадебной процессии, медленно двигавшейся из церкви к экипажам, стоявшим в Благовещенском переулке. Впереди шел с иконой надутый, как индюк, Федька Килигин с нашего двора — его, вероятно, нашел и мобилизовал в предсвадебной суматохе Сашко. Я все-таки не принял участия в его жениховском спектакле: что-то в письме Егора заставило меня не сдержать слово, хотя никто и не объяснил мне сути его обвинений. Никто не предупредил и Катю, никто не стер с лица ее жемчужной счастливой улыбки: письмо Егора не дошло до нее. — Студент женится, — говорили рядом. — Кто его знает. Вишь, карет сколько! — А невеста из бесприданниц. — Поди, счастлива. Мне и самому казалось, что она счастлива. Я ведь не сознавал, какую недобрую роль сыграл в ее судьбе. Осознал я это позже, в девятнадцатому году, когда уходил с маршевой ротой на Южный фронт из Астраханских казарм в Лефортове. Накануне отправки я выпросил увольнительную, чтобы забежать домой, проститься, взять папирос у отца: от солдатской махорки я задыхался и кашлял. За подписью я постучался к новому военкому, которого до тех пор еще не видел. Вошел и обомлел: за столом сидел Егор Михалев. Я его сразу узнал, несмотря на форменную зеленую гимнастерку, чахоточную худобу и розовый шрам на щеке. Он медленно отстукивал что-то на стареньком ундервуде, хрипевшем и дребезжавшем при каждом ударе пальца. — Что тебе? — спросил он не глядя. Я молчал. Он рассеянно взглянул на меня, чуть прищурился, рассеянность сменилась сосредоточенностью, пристальным вниманием, и вдруг в глазах сверкнули знакомые смешинки. — Вот так встреча! — негромко произнес он. — Ну, подойди ближе, кадет. — Я не кадет, — возразил я, делая шаг к столу. — Поумнел, значит? — Поумнел. Он снова внимательно оглядел мою невзрачную фигуру в обвисшей солдатской шинели, явно мне не по плечу. — С нами на беляков идешь? — Иду, товарищ комиссар! — пронзительно крикнул я. Он поморщился. — Как же я могу тебе верить, если ты меня уже раз обманул? — Я не хотел… так вышло… — пробормотал я, опустив глаза, — я положил письмо в книгу, а ее… — Да ладно уж, — прервал он меня. — Ведь все подтвердилось, о чем я писал. Он посмотрел на меня выжидающе, но я не мог выдавить из себя ни единого слова в ответ. — Ты хоть письмо-то прочел? — Прочел. — Ну, ичто? — Я не понял, — прошептал я, мечтая, чтобы он не услышал. Но он услышал. — Не понял? Да ну! — Он даже засмеялся, настолько чудной показалась ему такая непонятливость. — Несознательный ты был, правда. Маменькин сынок, тетенькин племянничек. Кадетские листовки носил. Тоже небось не понимал? Моя голова опустилась еще ниже. — А мы все-таки разоблачили твоего Томашевича. По всем статьям. Со всеми кличками. Только убег, сукин сын. — Куда? — Куда ж ему бежать? К Колчаку либо к Деникину. — А Катя? Он долго молчал, прежде чем ответить. Потом сказал сухо, почти враждебно: — Это тебе не зуб вырвать — любила она его. Раньше надо было рубить, с корешка. Я потому и письмо написал. Он вздохнул и закашлялся. В груди у него что-то стонало и булькало. — Какая девка была! — сказал он, отдышавшись. — Была? — с ужасом повторил я. — На субботнике обмерзла. Я вот, чахоточный, живу, а она… Да что у тебя там, давай! — почти прокричал он, протягивая руку к бумажной четвертушке с моей увольнительной. Больше я его не видел. Отправлял нас на фронт поутру его помощник, подтянутый, чистенький, хрустящий ремнями выпускник политкурсов. Гулко стуча по камням тяжелыми солдатскими ботинками, мы выходили на площадь к вокзалу. Набухшее серое небо опускалось все ниже и ниже, закрывая от меня и Егора, и Катю, и Зиночку — все, что прошумело и ушло.ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Возвращаясь домой, мы двигались уже в нашем эвклидовом мире, не размышляя о пока недоступных ему тайнах пространства и времени. Волновало другое — перечувствованное, пересмотренное, переоцененное. Старшим — с тайной жалостью и стыдом, младшим — с доброжелательным превосходством. Один неохотно оборонялся, другой непочтительно наступал на ноги. — Ты же любил ее. — Едва ли. Смутное, детское чувство. — Все равно. Я бы так просто не сдался. — А если бы мы запретили тебе встречаться с Таней? — Хе! Попробуйте. — А все-таки? — Взрослые не всевластны. А ты струсил. — Нет, старик. Просто не нашел возможностей. — А ты искал? Подумаешь, три раза под окнами походил! А телефон? — Откуда я мог звонить? Из аптеки? Так у нас провизор не пускал гимназистов к телефону. — Сказал бы ему, что доктора вызываешь. Или еще что-нибудь. Придумал бы. В конце концов, сказал бы ребятам. Ты — своим, она — своим. Вместе придумали бы. — Мы были одни. Одни в равнодушном мире. — А ты пробовал? — Что? — Повоевать. — Нас этому не учили, — вздохнул я. Володька тоже вздохнул. — Столько ошибок! — Много, верно. — Первая твоя ошибка — Сашко. Непростительная. Я промолчал. — Конечно, непростительная. Мог бы узнать, что он эсер. — А я не знал, что эсер — это плохо. — У Егора бы спросил. — А я не знал, что Егор это знает. — Как много ты не знал! Все могло быть иначе. Я опять промолчал. Мы вошли в подъезд и остановились у клетки лифта. Я нажал кнопку, вызывая кабину вниз. — Маме — молчок? — спросил Володька. Я кивнул. В конце концов, мы оба имели право на тайну. — Да она и не поймет. — Разве это непонятно? — спросил я. — Кому как. А ты выдумщик, папка! — Много ли нужно выдумки, чтобы игру придумать? Володька отступил на шаг и, прищурившись, посмотрел на меня: — А ты уверен, что это была игра?2
За решеткой лифта медленно опустилась кабина. Что-то щелкнуло. Я открыл дверь, и только сейчас дошла до меня скрытая суть Володькиной реплики. — А что? — спросил я. Володька загадочно усмехнулся, не торопясь проскочить в кабину лифта. — Ты же сам сказал: воображение — не видение, а впрочем… — Что — впрочем? — Все. Все, что мы видели. И вот это. — Он вынул из кармана аккуратно сложенный номер газеты и протянул мне. Я развернул его: это был мой номер «Раннего утра». Мой и не мой. Одно содержание и другая форма. Свеженький, чистенький, даже пахнущий типографской краской, словно только что купленный. — Ничего не понимаю, — сказал я, — это же не моя газета. — Твою я отдал Петру Львовичу вместе с сочинением. Для чего-то это ему нужно. Кажется, для выставки. — А эта откуда? Володька отвел глаза. — В библиотеке взял. — В какой библиотеке? — В Доме пионеров. — В Доме пионеров не собирают старых газет, — сказал я. — А потом, в любой библиотеке такие газеты выдаются в переплетенных комплектах. Не выдумывай. Где взял? — Не все ли равно? В архиве. — В каком? — В частном. Отец одного мальчика собирает газеты за семнадцатый год. — Опять врешь? — Вру, — засмеялся Володька и уткнулся носом в мой рукав. — Я же купил эту газету, папка. В киоске купил. — Где? — В Охотном. Когда ты извозчика нанимал. Я добежал и купил. За три царских копейки. У себя в коллекции взял. Он хитренько засмеялся и, подпрыгивая, побежал на улицу. — Ты иди, — обернулся он, — я потом приду. С номером газеты я прошел к себе, по-прежнему ничего не понимая. Я уже ясно видел, что это был не мой номер, не тот, который нашел Володька в бабушкиной корзинке. И оторванный угол был на месте, и дата читалась полностью. Дрожащими руками, не перечитывая газеты, я положил ее в старую папку, одну из тех, которые никогда не перебирались и не пересматривались. В глубокий архив. В конце концов, кто-нибудь скажет правду — или Петр Львович, или штукарь Володька. Только на этот раз мне не хотелось ее искать.3
Теперь Володька взрослый. Он уже кончил институт и строит мост где-то в гирле Дуная. Иногда он приезжает в отпуск или в командировку, но мы никогда не вспоминаем о нашей прогулке в прошлое. А на днях, словно в насмешку, меня обогнал автобус с девяткой и четверкой на номере И на том же месте — у «Детского мира» на проспекте Маркса. Он подождал немного на остановке, даже двери открыл, и ушел вниз, к Дому союзов. Но я не догонял его. Только спросил у стоявших в очереди: — Это девяносто четвертый? Вы видели? — Так он здесь не ходит, — сказали мне. — Пустой. Только зря двери открыл. Мой заблудившийся автобус. А вдруг не мой? Я не вскочил на его подножку. Зачем? Жаль было разбить хрупкую сказку о шутке Времени, когда нам с Володькой было по пятнадцать лет. Или нет. Другую сказку. О глазах века, когда видишь одни и те же о события по-разному.В. Прокофьев МИРОН И ЧЕРТ И МНОГИЕ ДРУГИЕ
ОТ АВТОРА
Приключения? Неужели это только погони, перестрелки или борьба с морской стихией, необитаемые острова?.. А впрочем, это действительно так — и погони, и перестрелки, штормы и кораблекрушения, необитаемые острова, подвиги разведчиков, партизанские будни. И, конечно же, революционное подполье. Приключения можно выдумать. Так выдумать, что современники доверят каждому слову. Робинзон Крузо — гениальная выдумка, которая обошлась английскому Адмиралтейству в тысячи фунтов стерлингов. Искали остров, искали Пятницу, и никто не верил, что это только фантазия. Никто не поверил в подвиги барона Мюнхгаузена, но все читали, читают и будут читать с удовольствием о его похождениях. Но бывает и так, что автор ничего не придумал. Он просто рассказал о людях и событиях. Рассказал только о том, что было. Такой рассказ авторы обычно именуют документальным. Мне давно хотелось написать не просто документальную повесть о большевиках-подпольщиках, «техниках» революции, но повесть именно приключенческую. Но вот незадача — мои герои меньше всего заботились о том, чтобы на их долю выпадали приключения, даже наоборот, они очень заботились, чтобы приключений с ними случалось как можно меньше. Однажды в архиве Октябрьской революции попало мне в руки письмо. Вернее, обрывок письма — у него не было ни начала, ни конца. Ну, думаю, найдена проверенная опытом сотен писателей завязка для приключенческой повести. Читатель, правда, может сказать: «Старо, знаем мы эти письма без начала и конца!..» И все же я решил рискнуть. Вот этот отрывок:«…мне сообщили Ваш адрес. Обрадовался неимоверно, и скорее за письмо. Сел, обмакнул в чернила перо… О чем же написать? Ведь столько лет минуло! О себе? Это потом. Меня так же, как и Вас, Мирон, из тюрьмы освободила революция. Только я отбывал срок в Орле, а Вы в Сибири. Хочется чего-то задушевного. Может быть, просто воспоминаний о тех немногих днях, которые мы провели вместе. Вы удивлены? Вам кажется, что мы просто случайно сталкивались? Нет, не случайно. Ведь я Ваш крестник, я всегда хотел быть похожим на Вас. Но, дай бог памяти, с чего это все началось?..»Я точно не уверен, что автор этого письма тот, о ком я думаю. Поэтому я не хочу называть его подлинное имя. Зато Мирон — это наверняка Василий Николаевич Соколов. Мирон — партийная кличка. Соколов — Мирон прожил большую, интересную жизнь, стал заметным писателем, оставил великолепные воспоминания о своей революционной страде. Вот эти-то воспоминания и легли в основу моей повести. Я их немного изменил, немногое добавил из других источников, а кое-что и домыслил. Так как там: «Но, дай бог памяти, с чего это все началось?..»
ГЛАВА I
Кажется, пора бы уже россиянам привыкнуть к железным дорогам. Так нет же! Студенты, врачи и коммивояжеры, мелкие адвокатишки и даже крестьяне чувствуют себя в вагонах превосходно. А вот представители «сливок общества» все еще с опаской поглядывают на неуклюжий паровоз. Их тревожат и рельсы, и колеса. Бог их знает, ведь даже у экипажей ломаются оси, и тогда седокам бывает плохо. А ведь коляски едут по земле, да и лошади все же живые существа… До отхода поезда от берлинского вокзала остаются считанные минуты. Пассажиры заняли свои места, облепили открытые окна. А Прозоровские, крупные помещики и домовладельцы из Виленской губернии, все еще лобызают своих возлюбленных чад — сына Владимира, студента Академии художеств, и дочь Зинаиду, гимназистку последнего класса. Мадам Прозоровская настояла на том, чтобы от Женевы до Берлина дети ехали под родительским присмотром. Но в Берлине придется расстаться. Она должна хотя бы на день-два задержаться в столице Германии — тут такие врачи!.. Ах, дети, дети! Она понимает, им нужно ехать, занятия уже начались. И все же, может быть, купить билет, пока еще не поздно? Баулы уложены, гостиница рядом. Володя такой заботливый сын, он сам упаковывал весь багаж, перетянул ремнями, пока она с мужем изучала рекламные объявления. — Не дури, — зло шепнул на ухо супруге Прозоровский. — Не маленькие… Доберутся! Пышноусый дежурный торжественно ударил в медный колокол. Это уже второй звонок к отправлению. Перрон загомонил. Последние напутствия, поцелуи, пожатия рук… А вот и третий удар. В ушах Прозоровской он прозвучал, как погребальный колокол. Паровоз закряхтел, злобно выплюнул сгусток черного дыма, расправил белые усы… Володя Прозоровский свесился из окна, замахал обеими руками. Его стащила на диван сестра. Но берлинский вокзал уже поглотил родителей. Вагон первого класса. Двухместные купе, всюду бархат, плюш, пыль. Владимир поудобнее устроился на диване, вытащил из кармана какую-то тонкую брошюру и сделал вид, что мир для него не существует. Но он не читал. Он трусил. Самым постыдным образом дрейфил, но пока еще пытался это скрыть от Зинаиды. Там, в Женеве, все казалось просто и, во всяком случае, так романтично! Студенческие кафе. Пикники в горах. Бесконечные пустые разговоры, во время которых нельзя молчать, иначе прослывешь бог знает кем. И бравада. Наверное, она в крови у интеллигентов. Правда, романы Купера, Майн Рида, Войнич тоже кое-что значат. Но Овод не бравировал, и Кожаный Чулок тоже делал все тихо, спокойно, сам же оставался в тени. Стыдно: студент, а все еще живет какими-то детскими фантазиями!.. Перед отъездом из Женевы два латыша, фамилий они не назвали, попросили зайти в Берлине по одному адресу, дали пароль. Зашел. И вот теперь его трясет от страха. Конечно, он должен был отказаться… И не смог. Когда явился в гостиницу с увесистой пачкой, то, как вор, шмыгнул мимо портье. Слава богу, родителей и Зинаиды не было. Запихнул всю литературу в огромный родительский баул. Его напрасно таскают, ни разу не раскрывали. Теплые вещи не понадобились. Часть жакетов и фуфаек пришлось переложить в свой чемодан, свои вещи — к Зинке. В общем, перепаковал весь багаж. Мать сначала удивилась, а потом даже растрогалась. Если бы не Зинка, он знал бы, что делать. И пусть он будет жертвой… Но Зинка! Она ничего не знает. Может быть, сказать? Разревется, устроит истерику, а потом на первой же остановке сбежит давать телеграмму мамочке — с нее станется! Володя устал от тревог и не заметил, как уснул. Проснулся оттого, что кто-то щупал ему лоб. — Ты заболел? Владимир узнал голос сестры. Успокоился. — С чего это ты взяла? — А ты во сне разговаривал. Бормотал о том, что мама чего-то не знает… Ругал жандармов… И все время вспоминал про большой баул. Началось! Владимир зло повернулся на другой бок, закрыл глаза. Но сон теперь уже не шел. А голова быстро распухла от беспокойных мыслей. Проговорился во сне! Не может быть! Никогда раньше не разговаривал. А что, если Зинка о чем-то пронюхала и теперь хитрит, наврала с три короба, авось клюну? — Володька, ты зачем в мой чемодан запихал мамину кофту? — Отстань, я ничего не запихивал… — Ну и врешь! Я еще вчера полезла, увидела твои вещи и эту кофту. Хотела ее положить обратно в большой баул, развязала его, а там… — Что там? — Сам знаешь! И нечестно от меня скрывать. Думаешь, я не замечала твоих похождений в Женеве? Все знаю. Знаю, что тебе в Берлине какие-то книжечки передали. Видела их в бауле… Собственная сестра — в роли шпика! Дожили, называется! Зинаида зажгла свет, уткнулась носом в темное окно. Обиделась? А может быть, ждет первой станции, чтобы дать в Берлин телеграмму? Владимир притворился спящим. Наверно, такая телеграмма была бы наилучшим выходом. И завтра он снова беспечно стоял бы у окна, курил, любовался видами, неторопливо ведя взрослые разговоры с попутчиками… — Володька, — Зина говорила шепотом, — а у тебя с собой есть еще книги, такие же? Сказать, что есть — неправда: у него всего пять-шесть брошюрок и пара книг, — но Зинка поймет тогда, что он испугался и малодушно подставил под удар родителей, пусть выкручиваются, а он ни при чем. — Знаешь, у меня есть план… — Какой план? Зинаида соскочила с дивана, подсела на полку к Володе и зашептала. Она шептала долго, не давая брату перебивать, захлебываясь словами. — Ну ладно, попробуем… Только, чур, если что сорвется, ты ни телом, ни духом, знать не знала, ведать не ведала. Согласна? Она согласилась. Из Костромы нужно удирать. Раз уж попал на мушку полиции, она в покое не оставит. Что и говорить, вывод малоутешительный. Соколов даже расстроился. Куда удирать-то? Здесь, в родных местах, его, неудачливого домашнего учителя, пригрели в земском статистическом бюро. Здесь он знает всех. Здесь он начинал свою жизнь революционера. Вернее, только-только начал. И вот нужно, что называется, «задавать лататы». За пределами Костромы он бывал редко. Конечно, кое-кого знает, но смогут ли эти знакомые помочь с работой, устройством в чужих местах? Эх, если бы ему только померещилось, что за ним следят! А может быть, никто и не следит? Ведь по справедливости, эка персона! Да стоит ли он филерского жалованья? Вспомнились наставления Буяныча, рабочего, высланного за пропаганду из Питера: «Если опасаешься, что за тобой увязался „хвост“, выберись из города в поле. Там „подметке“ прятаться негде. Если умный, то отстанет, а дурак — все одно попрется за тобой. Тогда улучи момент, обернись и шагай навстречу. Разгляди хорошенько. А при случае — наложи и по шеям…» Совет, конечно, лихой, но попробовать можно. И что-что, а «наложить по шеям» — бог силой не обидел. Ну, а если попадется умный? Тогда считай, что совершил загородную прогулку, воздухом подышал. Да, невесело, и все же искушение велико. Посмеиваясь над собой, Соколов бродит с таинственным видом по городу. Заскочил к двум-трем знакомым. Потом с оглядкой вышел на окраину, туда, где уже поднялись зеленые стебли ржи. Полем шел недолго. Оглянулся — никого. А может быть, и правда померещилось? Хорошо бы! Но вернее, попался филер не дурак. Вот это уже скверно! Соколов присел на бугорок, задумался. Он никак не мог понять: если все же привязался «хвост», то почему именно к нему? Ведь в Костроме живут люди, куда более «опасные». Тот же Полетаев или Александров. Но за ними не следят, сам проверял. Может быть, жандармы его с кем-то спутали? Как, однако, плохо, что никто в Костроме толком не занимался изучением повадок полиции и жандармов! Вот у народовольцев этим специально ведал Александр Михайлов, «Дворник», и инструктировал товарищей. А у них все тот же Буянов. Требует конспиративности. А что это за штука такая, и сам знает только понаслышке. «Изучай, — говорит, — проходные дворы, не храни дома нелегальщину, не появляйся на улице со свертками». И все в том же духе. Смех и грех! В баню-то сходить надо — значит, сверток с бельем обязательно под мышкой торчать будет. Или там в лавочке что купить… Что же касается литературы, то в Костроме не только нелегальной, а просто порядочную книгу достать — событие… Ну, а если пойти на хитрость? Соколов еще раз оглянулся, потом торопливо полез в карманы и стал вытаскивать из них всевозможный бумажный хлам. Сложил в кучку, поджег. Потом, словно испугавшись, быстро затоптал костерик в торопливо пошел к лесу. Если за ним все же следят, то это сейчас выяснится! Не доходя до леса, Соколов метнулся в кусты и упал на землю. Полежал минуту, прислушался. Тишина. Поднял голову — перед глазами качаются стебли ромашек и ветер еле слышно посвистывает среди трав. Зелень мешает разглядеть тропинку и только что покинутое поле ржи. Нужно приподняться, но не хочется вставать. Так хорошо слушать ветер и травы!.. Соколов старается обмануть себя. Ему не хочется увидеть шпика, разгребающего пепел костра… Соколов встал, раздвинул кусты. Чуть волнуется зеленая рожь. Нет ни филера, ни просто прохожих, и заливисто стрекочут кузнечики… А все же нужно, хотя бы на время, уехать из Костромы. Сабанеев из Пскова прислал приглашение в местную статистику. Уже час они торчат на пограничной станции. Русские таможенники и жандармы осматривают пассажиров второго и третьего классов. У тех, кто едет первым, только бегло проверили документы. Но почему они не осмотрели как следует чемоданы? Или это сделают потом, при посадке на русский экспресс? Володя нервничает. Конечно, они с Зиной «не внушают подозрений». Такие молодые, чистенькие, ухоженные… Не то что длинногривые студенты, подсевшие в поезд где-то у самой границы. Их вещи не только осматривают — перетрясают каждую, вспарывают подкладку, заставляют снимать сапоги. Какого-то господина, уже немолодого, отвели в сторону и оставили под охраной жандарма. Володя не находит себе места. Они придумали такой славный ход. На таможне в их чемоданах находят несколько запрещенных изданий. Зинаида ревет и проговаривается, что их родители едут следом, а теперь они им на глаза не покажутся… Их задерживают, это само собой разумеется. Приезжают родители. Отец наверняка закатит скандал и тем самым убедит жандармов в своей лояльности. Папа — генерал в отставке, его вещи просто постесняются осматривать. Конечно, дома тоже будет не сладко, но это неважно — на днях он все равно едет в Петербург… План казался еще этой ночью таким хитроумным! Жандарм приглашает пассажиров переходить в русский состав, услужливо подтаскивает чемоданы. Ему помогают таможенники и какие-то верткие молодые люди. Нужно идти! Зинаида решительно подхватывает свой чемоданчик. Поравнявшись со стойкой, за которой торчит таможенник, раскрывает. Таможенник делает протестующий жест. Володя резким броском ставит свой чемодан на стойку — от удара замок щелкает. Крышка отскакивает. На пол высыпается пара книг, три брошюрки, брюки, фуфайки, рубашки. Таможенник торопливо выскакивает из-за стойки. — Не беспокойтесь… Сейчас подберу, у нас тут чисто… Ловкие руки аккуратно уложили рубашки, брюки. Чиновник быстро собрал книги и стал размещать их в чемодане. — Одну минуту, молодой человек, — прозвучал за спиной голос — грубый, с повелительными интонациями. «Ну, вот и все», — теперь Володю уже колотило в нервном ознобе. Он забыл и свои имя и фамилию, куда едет. — Я вас спрашиваю, чьи это книги. Ваши? — Мои-с! И это униженное «с» тоже выскочило от страха. Что он наделал, что наделал! Увидел, что их хитроумный план попросту не пригодился, значит, надо было тихонько поставить чемодан. Таможенник не стал бы досматривать. А он грохнул!.. Опять бравада! Со страха, конечно. Теперь задержат. А когда приедут родители, кто знает, хоть они и первым классом прибудут, но… Что он наделал! — Почему вы молчите? Я спрашиваю, кто дал вам эту мерзость и куда, кому вы ее везете? Владимиру вдруг все стало безразлично. Он уже не дрожал. Не все ли равно! Теперь для него закрыта дорога в Вильно, в Петербург, академию. Тюрьма, ссылка, а может быть, и каторга. — Ну, что ты не отвечаешь?.. Володя! — Зина плакала рядом, а он и не заметил, как она снова очутилась в таможенном зале. Дура, сама же придумала этот идиотский план, а теперь ревет! А он тоже хорош: принял бабскую выдумку за иезуитскую хитрость. Да и перед сестрой покрасовался — мол, иду на жертву ради идеи, свободы! А сам ни одной брошюры так и не успел прочесть. Какие там идеи проповедуются, понятия не имеет. Он всего-навсего почтальон, а не борец, не герой! И мученического ореола тоже не будет… Но тут Володя вспомнил, что литературу он должен передать по адресу в Вильно, и вновь ощутил приступ страха. Так вот почему этот жандарм так допытывается, кому передать! Он знает, что такой груз везут из-за границы не для того, чтобы потом поставить его у себя в книжном шкафу. Значит, не просто тюрьма. Он слышал о том, что тех, кто молчит, пытают. — Ну что ж, молодые люди, придется вас задержать и препроводить. Кстати, как вы изволили себя величать — Прозоровский? Уж не Константина ли Егорыча сынок? Володя кивнул головой. Жандармский офицер только руками развел. — Как же, как же, знаю вашего батюшку, действительный статский советник, всеми уважаемый человек — и… такой пассаж! Вот что значит без родительского присмотра пускать детей за границу… — Неправда, папа и мама были с нами, они завтра или через два дня тоже будут здесь… — Зину душили слезы, и она разревелась уже по-настоящему. — А вот и отлично, вот и славно… Вы подождете родителей здесь, под нашим присмотром. Веретенкин, проводи! Жандарм подхватил Зинин чемодан. Кивнул Володе на дверь. Маленькая каморка, две железные койки, грязные одеяла. В дверях щелкнул замок. Зинаида завыла в голос. — Ну чего ревешь? Ведь все идет по твоему плану! — Ду-у-рак! — Ну, а теперь рассказывайте! — Лепешинский удобнее пристроился в кресле, закинул ногу за ногу. Соколов пожал плечами. О чем ему, собственно, рассказывать? Ведь у него за плечами, кроме четверти века жизни, нет никаких особых заслуг. Даже элементарного опыта, который необходим всякому, кто желает стать революционером, у него нет. Ну, пропагандировал среди костромских ткачей — не бог весть что! Агитировал и в колонии малолетних преступников, где три года прожил воспитателем. Ну, пожалуй, и все. Образованием он тоже блеснуть не может. Конечно, кое-что прочел. Но читал сумбурно, все, что доставал: Милль и Прудон, Маркс и Плеханов, Бокль, Спенсер. И, чего греха таить, часто не понимал прочитанного. Учился хорошо и даже учительскую семинарию окончил одним из первых, но в роли домашнего учителя и воспитателя провалился с треском — не умел держать вилку и разговаривать по-французски. Пантелеймон Николаевич Лепешинский тем временем внимательно разглядывал Соколова. В свои двадцать пять лет мужичина видный. Не очень высок, плотно сбит, наверное и силенка имеется. Умное лицо, а в глазах черти пляшут. Такие лица хорошо запоминают филеры. Правда, в Пскове полицейские нравы очень патриархальные. Если ты по первому разу изгнан из Петербурга под надзор полиции, то почти наверняка попадешь в Псков. Здесь таких изгнанников хоть пруд пруди, не город, а какая-то «поднадзорная свалка». Охранки в Пскове нет. Местные же жандармы на все махнули рукой — разве уследишь, когда поднадзорных сотни. К тому же Псков не Москва и не Питер. Здесь нет пролетариата, готового к забастовкам и стачкам. В Пскове промышленности-то — один свечной не то заводик, не то мастерская. Какие уж тут стачки! Отданным на попечение полиции только и остается, что говорильней развлекаться. Но тут уж филеры не помогут, их в дома не пускают. — Ну, что же вы молчите? — Да как-то неожиданно все… «Говорите»!.. А о чем, собственно? Лепешинский отметил, что его собеседник не так прост, как может показаться с первого взгляда. Действительно, о чем ему говорить с едва знакомым человеком? Конечно, за Соколовым наверняка числятся «противоправительственные деяния». И надо думать, деяния сии достаточно громкие, иначе Соколов из Костромы не сбежал бы. Но тем меньше у него оснований рассказывать о своем прошлом первому встречному. А с другой стороны, хочется этого человека приобщить к «искровской вере». Но как, как? Ведь Лепешинский тоже не имеет права сообщить Соколову, что Владимир Ильич Ульянов сам наметил Псков одним из пунктов, куда будет стекаться вся нелегальная литература, откуда по России будет расходиться пролетарская газета «Искра». Лепешинский агент этой газеты, но об этом знают немногие. И все же в конце концов разговорились. Уж и вечер затемнил окна, ужин остыл, а им не хочется прерывать разговор. Лепешинский убедился, что его собеседник напорист, умен, наблюдателен. Очень ехиден и за словом в карман не лезет. Но сколько еще всякой шелухи у него в голове! Вот что значит провинциальный самоучка! Пантелеймон Николаевич старался «вправить мозги» этому приглянувшемуся ему человеку. И кое в чем преуспел. Поздно ночью договорились, что Соколов возьмет на себя «технику». То есть будет добывать бланки паспортов для нелегалов, получать, перепаковывать, а иногда и развозить в разные города литературу. Да мало ли еще какие обязанности лягут на плечи заведующего транспортно-техническим бюро. Должность-то какая громкая! Соколов был доволен. Вот это настоящее дело! Не то что пропаганда среди малолетних преступников. У Василия Николаевича дел по горло. В Псков зачастили подпольщики. И всем требуются новые виды на жительство. Те, кто собирается осесть в России, нуждаются в «железках», то есть в подлинных документах. Липы, фальшивки для них не годятся, копии паспортов умерших тоже. Соколову приходится изощряться. Главное — приобрести чистые бланки. Он покупает их у не очень-то щепетильных чиновников мещанской управы. Василий Николаевич не имел привычки спрашивать прибывающих товарищей об их подлинных именах, с него было достаточно и пароля. В паспорт вписывал имя человека, действительно существовавшего, но никак не затронутого подозрениями полиции. И вскоре у Соколова появилось немало крестников — Носков, Шеколдин и другие. Паспорта у них были «железные». Зато с транспортом литературы хлопот не оберешься. Это был какой-то кошмар. Отец изрыгал проклятия, угрожал запереть дома, даже выпороть на конюшне! Маман ломала руки и без конца твердила: «Мы опозорены, мы опозорены!..» В конце концов жандармам и таможенникам все надоело. Они не рады были, что затеяли этот «педагогический эксперимент» с домостроевскими выводами. Провинившихся чад отпустили, но пригрозили: чуть что и тогда ни мама ни папа… Щедрые чаевые сделали чиновников любезными. Баулов, конечно, никто не досматривал. Итак, что бы там ни было, а можно считать, их хитрость удалась. Хотя Володя понимал, что и без этого спектакля родительские баулы не стали бы ворошить. …Через несколько часов Вильно, и Владимира уже гложут иные тревоги. Сегодня же, ну в крайнем случае завтра утром он должен избавиться от этой проклятой поклажи. Сжечь, утопить, выбросить, наконец, куда-либо на свалку, но только так, чтобы родители и не пронюхали. Об адресе, пароле он и не вспоминал. Двое суток взаперти, знакомство с жандармами… нет уж, увольте, он, может быть, и романтик, но в ином, ином жанре! Романтика! Она почему-то выглядит для Владимира бестелесной, но необыкновенно красивой. В ней что-то ускользающее, немного грустное и… черт ее знает, что еще! Во всяком случае, от его романтики не пахнет смазными жандармскими сапожищами и клопами… Ему и сейчас кажется, что они ползают по телу. Ну, вот и дома… Отец сразу же заперся в кабинете. Маман слегла. Мигрень. Охи, вздохи. Зинка бродит по комнатам как ни в чем не бывало — вот ведь бесчувственная! А вообще — молодец! Володя же чувствует себя нашкодившим первоклассником, которого поставили в угол и пригрозили розгами. Дворник втащил чемоданы, баулы, корзины. Сейчас придет горничная, начнет разбирать… Ну и пусть разбирает. Она дура. Наверное, и читает-то по складам. Лишь бы отец не вылез из кабинета… А маман слегла по крайней мере до ужина. — Володька, ты что, забыл? — Отстань! — Маша на кухне, у нас повариха больна. Давай развязывай, а я постерегу. Опять Зинка права. Пока горничная хлопочет над кастрюлями, ей не до чемоданов. А когда сядут за стол, кто знает, что взбредет в голову прислуге? Владимир нервничает, дергает ремни, руки слушаются плохо… Слава богу, он все запихал в один баул! Ну, кажется, обошлось. В мезонине есть укромное место, до завтра туда никто не заглянет… Обедали молча, едва притрагиваясь к еде. Так же молча разошлись по своим комнатам. После обеда горничная взялась за багаж… Володя с облегчением захлопнул балконную дверь. Он еще сегодня должен найти место, куда завтра чуть свет сплавит эту нелегальщину и забудет о ней. В саду по-осеннему тихо-тихо. Только иногда сорвется с ветки умерший лист и долго кружит в воздухе, словно ему не хочется падать на холодную землю. Когда-то, в детстве, сад казался большим, таинственным, со множеством укромных уголков. А вот теперь он их не находит. Может быть, встать ночью и выкопать в саду яму? Нет, не годится. Садовник живет у них столько лет, сколько Володя себя помнит… Как бы тщательно он ни засыпал яму, этот молчаливый литовец сразу обнаружит и, конечно, доложит барину. И на помойку нельзя. Вот бы сжечь! Но как? Печи в комнатах еще не топят. На кухне?.. Ну, это глупости. Зло хлопнув калиткой, Володя выходит на улицу. А что ему делать на улице? Не потащит же он этот тюк к реке, чтобы утопить? Или за город — разложить костер… — Володя! Владимир оборачивается в испуге. Господи, он не узнал Зинкиного голоса. — Что ты будешь делать с тюком? — Отвяжись! — Думаешь, я не видела, как ты облазил весь сад, потом грохнул калиткой? Твои брошюры и газеты нужно снести тем, кому их адресовали. Давай я пойду! — С ума сошла!.. — Ну куда, куда ты их денешь? А потом, это нечестно. Вот уж не думала, что ты такой трус! — Тоже героиня! А как два дня ревела, помнишь? — Володька, сколько тебе лет? Не понимаю. Ты всегда витал где-то в облаках. Ах, закат! Ах, симфония красок! Ах, ах! Ваятель! А вот у нас в гимназии нашли листовки, и девчонки никого не выдали… — Уж не ты ли их принесла? — Дурак! Володя посмотрел на сестру с удивлением, словно впервые ее видел. Она моложе его на два года. Когда на ней гимназическая форма, — так ни то ни се. Но в платье, в белых туфельках на каблучках Зинка выглядит барышней на выданье. Как она выросла за год, который они провели врозь! О чем она думает, к чему стремится? Володя теперь этого не знает. А раньше они всегда мечтали вдвоем. Но за границей встречались только за столом и то не часто. Не поговорили. Обоим было некогда. — Ну, решайся! Давай адрес и кого нужно спросить… Владимир боялся поднять на сестру глаза. Стыдно. Стыдно потому, что он только что подумал: вот действительно возможность избавиться от литературы. Зинаида сходит на явку. Оттуда пришлют кого-нибудь, кто заберет нелегальщину. — Да не трусь! Говори! И отправляйся домой, а то родители хватятся. Ведь они договорились приглядывать за тобой. А я вне подозрений. — Аптеку Фишера знаешь? — Конечно. — Спросишь у аптекаря сто горчичников. Он ответит: «Зачем вам так много?» Ты должна сказать: «Ну, давайте дюжину». Поняла? — Аптека Фишера: Сто горчичников. Давайте дюжину… Так? Я побежала. — Да погоди ты! Расскажешь все, что с нами приключилось. Пусть завтра, так часов в десять, когда отец, как обычно, пойдет гулять, зайдут в сад. Только чтобы садовник не заметил. Я вынесу… — Понятно, понятно. Иди домой!.. Нет, постой. Ну, кто-то там зайдет в сад… А как ты узнаешь, что это от них? — Пусть сами придумают как. — Ладно. Иди домой! Как все оказалось буднично, просто! Зина нашла Фишера. Договорились, что ровно в десять в сад зайдет старьевщик с мешком. Ему Володя и отдаст тюк. Нужно только придать ему вид старых, рваных газет или лучше какой-либо связки поношенного тряпья. Володя ждал, что явится этакий изнуренный, сгорбленный мужчина с бородой, нечесаный — старьевщики все такие, — а пришел совсем мальчишка. Курчавый, в косоворотке и начищенных сапогах. Спокойно взял тюк, который Володя тщательно обмотал тряпками, задрапировал старыми брюками. Положил в мешок. Улыбнулся… И какой сегодня чудесный день! Словно не осень, а разгар лета. Зинка куда-то упорхнула с подругами. Отец все еще не разговаривает. Но, видно, уже отходит. Остается маман. Она смотрит с укоризной. Иногда кажется, вот-вот заплачет. Ничего. Он знает мать. Завтра она будет трещать без умолку и ругать отца за то, что тот молчит и дуется. А все же и с ним, с Володей Прозоровским, случилось такое! Есть о чем рассказать закадычным друзьям в академии. Невыспавшийся, голодный бродит Василий Николаевич по улицам. Еще очень рано. Закрыты трактиры и чайные. Конечно, можно было бы посидеть на вокзале. Но вокзалы всегда находятся под наблюдением полиции, лучше не искушать судьбу. На явочной квартире, наверное, еще спят. Соколов уже дважды прошел мимо нужного ему дома. В первый раз просто не поверил, что явка разместилась в таком шикарном особняке. Но номер дома совпадает, и фамилия хозяина, выгравированная на медной доске, — тоже. Наконец девять часов. Можно позвонить у парадного. Открыла миловидная девушка в опрятном фартуке, с наколкой. «Горничная», — догадался Соколов и почему-то сконфузился. Отправляясь в Вильно, он специально надел сапоги, кепку и старое пальто. Наверное, этот маскарад был излишним. Теперь же он мнется в передней. — Будьте как дома, товарищ! «Товарищ» — это слово действует магически. Василий Николаевич проходит в гостиную. Великолепная мебель красного дерева, окна затянуты тяжелыми шторами, на полу ковер, уютно потрескивает огонь в камине. Горничная оделась и куда-то ушла. Наверное, предупредить комитетчиков о его приезде. В доме не слышно ни звука. Соколов утонул в мягких подушках дивана. Бессонная ночь повисла на веках. Окружающие предметы стали расплываться, и он уснул. Сколько он продремал, трудно сказать. Проснулся от какого-то шороха. Никого. И снова в глазах тускнеет комната. Но он еще не уснул. Это ведь не сон? Из-за кресла выглядывает человеческое личико, маленькое, с кулачок, и странное-престранное. Соколов чувствует, как у него на затылке шевелятся волосы. Тут не до сна! Соколов встал с дивана. Из-за кресла выскочила крохотная обезьянка и уселась на камине. Василий Николаевич стоял в растерянности. Куда все же занесла его нелегкая? Обезьяна, эта роскошь — и «товарищ»… Черт знает, кому ты здесь товарищ — хозяевам или их обезьяне?.. Хлопнула парадная дверь. В гостиную вошла высокая женщина. Она, видно, бывала здесь уже не раз. Обезьяна с камина перемахнула на ее плечо. Женщина рассмеялась. Ее смех предназначался обезьяне, но Соколову показалось, что женщина смеется над ним, над его нелепой позой. — Здравствуйте, Мирон! Василий Николаевич пожал руку. Мирон? Она знает его кличку? А он еще не успел к ней привыкнуть. Наверное, Лепешинский предупредил о его приезде. Женщина откинула с головы платок. И снова Соколову пришлось удивиться. Женщина, которой он только что жал руку, стала просто неузнаваемой. Что-то необычное появилось в ее лице. — Простите, я не знаю, как вас зовут. И не сердитесь, но я должен вас предупредить — не снимайте платок на улице и в присутственных местах… — Почему? Соколов подвел женщину к зеркалу. Та посмотрела и быстро накинула платок. — Спасибо, я давно не смотрелась в зеркало… — С краской нужно обращаться осторожно. Брови растут медленно, поэтому на них ничего не заметишь, черные и черные. А вот волосы у вас наполовину черные, сверху, а у основания белые-белые… Женщина рассмеялась: — Ну, нашему брату это не так страшно. Если и заметят, подумают: кокетка-неряха. Случись же такое с вами, не миновать участка. Но еще раз спасибо. Сегодня же подкрашусь. Моя белесая голова слишком выделяется. Она резко оборвала смех. И тогда Мирон понял — молодая женщина совершенно седая! Между тем связная сообщила, что человек, который принесет литературу, предупрежден и сейчас придет. — Перепаковываться будете здесь. Хозяева уехали, горничная своя. А пока отдыхайте. Она ушла. Соколов снова уселся на диван. Но сна уже не было. Горничная тоже куда-то вышла. Обезьяна, не обращая больше внимания на гостя, снова уселась на камине и стала приводить себя в порядок. Прошел час. Но вот у подъезда позвонили. Горничная открыла. До Соколова долетели обрывки фраз: «Пароль, наверное», — подумал он. В гостиную как-то боком не вошел, а втиснулся невысокий, очень молодой человек, чуть ли не парнишка, но на удивление полный. Поздоровался, извинился и исчез в соседней комнате. Василий Николаевич не заметил у него ни корзины, ни саквояжа. Нет, похоже, это не транспортер. Наверное, какой-нибудь знакомый горничной. Минут через пятнадцать из той комнаты, куда удалился толстый парнишка, вышел худой, бледный юноша. Пиджак на нем висел, как накидка, брюки спадали двумя неуклюжими мешками. Положительно этот дом полон неожиданностей! Соколов узнал юношу. Но куда девалась его толщина? Юноша улыбнулся: — Свои жиры я оставил в той комнате, забирайте! Мирон узнал, что здешние транспортеры предпочитают небольшие партии газет перевозить на себе. Они обматывают газетами руки, ноги, туловище. Потом перевязывают тонкой бечевкой. Конечно, в такой упаковке довольно неудобно передвигаться, но зато меньше риска, чем с корзинами или саквояжами. А книжки кладут за пазуху. — Ох, уж эти корзинки! Однажды я вез одну от границы в Гродно. Извозчик попался — бестия из бестий, принял меня за контрабандиста и всю дорогу шантажировал. Выцыганил все деньги, кроме одной золотой пятерки. Но и ту пришлось сунуть в лапу таможенника. И вот я с корзиной ночью стою на набережной, и хоть вой… В корзине пуда три, я ее и поднять не могу. Денег, нанять извозчика, ни копейки. Пробовал корзину катить — но так докатишься до первого городового. И, знаете, меня выручило обилие карманов в мужском костюме. Я стал их методично вывертывать. И вдруг из одного вылетела монета и зазвенела на мостовой. Я, наверное, минут двадцать шарил рукой по камням, но нашел. К счастью, это оказался пятиалтынный… Соколов уложил экземпляры «Искры» и книги в саквояж. Нужно было поспешить в Новгород. Завтра снова в дорогу. Володя и так опоздал на целую неделю. Но это не страшно. А как хочется снова в Петербург, на Васильевский остров! Осенняя столица необыкновенно красива, если, конечно, не идет дождь. И снова лекции, студия. В этом году он решил серьезно заняться гравюрой. Ему нравится ее стилизованные, штрихованные контуры и какая-то лубочность, что ли. Но это через несколько дней. А сегодня день визитов. Нужно навестить родственников, со всеми попрощаться. К родственникам он успеет, а вот с Лизой они договорились увидеться пораньше утром. Ее родители уехали в свое имение, дома только горничная. Лиза мечтает тоже попасть в Петербург и стать курсисткой. Хорошо бы! Они снова были бы вместе. Володя едва дождался одиннадцати часов. Лиза обещала после первых уроков удрать из гимназии. Вот и ее дом. Володя потянулся к ручке звонка, но не позвонил. Дверь открылась, и он нос к носу столкнулся… со старьевщиком! Только курчавый юноша был теперь без мешка и одет не в косоворотку, а в какой-то нелепый костюм. Пиджак чуть ли не до колен, и в него можно завернуть еще двоих таких же юнцов. «Старьевщик» сначала удивленно отпрянул, смутился. Неуклюже подтянул брюки и быстро зашагал прочь. Он тоже узнал Володю. Горничная, стоявшая за спиной юноши, тихо вскрикнула и исчезла. Володя вошел в дом. Навстречу выпорхнула Лиза: — Заходи, заходи… Дома никого, а гости нашей горничной сейчас уйдут. «Гости? — подумал Володя. — Значит, их много?» В гостиной какой-то кряжистый мужчина застегивал саквояж. Он мельком взглянул на Володю и не то поклонился, здороваясь, не то попрощался. Наверное, попрощался, так как через минуту его уже не стало. — Ну что ты стоишь, словно увидел привидение! Это родственники Сони. Тот, что помоложе, бывал у нее несколько раз, а вот этот какой-то странный, он, видно, впервые в приличных домах и до ужаса напугал Мими… Володя ничего не ответил. Лиза, конечно, не догадывается, что в отсутствие ее родителей их дом служит явкой для подпольщиков! «Родственники»! Сказать ей? Может быть, и нужно сказать правду. Но только Володя открыл рот, как вспомнил — ведь в саквояже, наверное, унесли литературу, которую он привез из-за границы… Нет, лучше уж он помолчит. Сегодня ему меньше всего хочется расстраивать Лизу. Неаккуратно получилось. И как это он не заметил, что в доме барышня, а не одна горничная! Этот кавалер, конечно, из «благородных». Наверное, студент или вольный художник — волосы длинные и одет небрежно. И он неповерил в «родственников». А почему, собственно? Мирон не стал искать разгадок. В Пскове нужно предупредить, что эта аристократическая явка ненадежная, хотя он почему-то уверен, что на сей раз все обошлось благополучно. Когда-то «молодший брат» Великого Новгорода, Псков ныне стал чем-то вроде дальнего пригорода Петербурга и посему окончательно захирел. Владимир Прозоровский вот уже второй день бродит по городу и никак не может настроиться на тот немного торжественный лад, который уместен, когда встречаешься с живыми памятниками древности. Но в том-то все и дело, что эти знаменитые монастыри, соборы, палаты не живые. Только при очень большом усилии можно представить вечевые сходы, псковскую вольницу, в общем, тот дремучий, исторический Псков. Хотя нет, он не совсем прав. Вольницу в Пскове попечением столичных жандармов сохранили. За эти два дня Володя насмотрелся на нее. Правда, она чем то напоминает Запорожскую Сечь. Новоявленные сечевики одеты в живописные студенческие мундиры. Но озорства хватает, а уж кричат так, как, наверно, не кричали в древнем Пскове на вечевых сборищах. И Володя тоже принадлежит к студенческому куреню. После студенческих беспорядков в Петербурге его выслали в этот город. Да еще и под надзор полиции. Оказывается, тот жандарм на границе не для красного словца припугнул — донесение о попытке провоза литературы студентом Академии художеств пришло в столицу, в департамент полиции, и на В. Прозоровского была заведена папка. Он сам ее видел. Тощая папочка. Теперь в ней прибавилось документов. Пока сидели в Крестах, человек по двадцать в одной камере, весело было. Пели песни и жестоко спорили. Только в тюрьме Володя понял, что он почти ничего не знает о революционном движении в России, его лидерах, его течениях. И было стыдно. Хотелось слушать и слушать, набираться ума-разума. И он слушал. Но многого не понимал. Его пытались втянуть в споры. Он отмалчивался. И на него махнули рукой, и это тоже было очень обидно. Все «понимающие» и «непонимающие» получили поровну — высылку. Только некоторых просто выслали на родину, и не под полицейский, а под родительский надзор. А его и еще нескольких — сюда, в Псков. Три раза в неделю он должен являться в участок, отмечаться. Унизительная процедура! А как были удивлены его однокамерники, когда узнали, что за этим художником-тихоней, маминым сынком, уже числится провоз литературы. Домой он еще не писал, но Зинаиде записку с товарищем переправил — она поймет. Да и поостеречься ей тоже не грех. А вот Лиза — поймет ли? Володя гонит мрачные мысли. Квартиру он себе подыскал, деньги пока имеются. Но нужно работать. За этот год он очень преуспел в гравюре. Что ж, и в Пскове можно достать подходящее дерево или линолеум — инструменты у него есть. И все же теперь он уже не тот Володя-романтик. Ведь недаром русские революционеры величают тюрьмы университетами. И для него Кресты были университетом. Наверное, теперь он уже не сможет жить только ради искусства, не сможет стоять в стороне, когда улицы полны демонстрантов с красными флагами. Но ему еще нужно решить, с кем он — с молодыми народовольцами — социалистами-революционерами или с социал-демократами. Ведь он даже не мог ответить на вопрос жандармского следователя, какую литературу провозил год назад через границу. Городские заборы, тумбы расцвели афишами: «В зале городского театра состоится спектакль „Контрабандисты“. Сочинение г-на Суворина». Местная интеллигенция, армия поднадзорных переполошились. Как же, газеты уже давно донесли весть о крупных скандалах, которые сопровождали постановку этого спектакля на подмостках различных русских городов. Пьеса явно провокационная, с антисемитским душком. Володя поначалу не собирался идти в театр — ему претили такие постановки. Но незадолго до премьеры к нему заскочил знакомый студент, рассказал, что местная интеллигенция собирается освистать спектакль и вообще будет заваруха. Оставил билет и свисток. Теперь, если он не пойдет, все сочтут за труса, отвернутся. А с другой стороны, если и впрямь начнется заваруха? Ведь он «поднадзорный». Ввяжется в скандал — не миновать участка. И уж псковская полиция не упустит случая избавиться хотя бы от еще одного «беспокойного элемента». Отправят по этапу куда-нибудь к черту на рога… Плохо то, что Володе не с кем посоветоваться. Ведь он далеко не уверен, что скандал в театре — тоже проявление революционности. Разве мало освистывали постановок? Что ж, каждый такой театральный эксцесс прикажете считать антиправительственной демонстрацией? Трудные размышления были прерваны неожиданным стуком. — Володя, Володя, вы спите? К вам барышня пожаловали! Барышня? Володя торопливо натягивает мундир прямо на нижнюю рубашку, кое-как закрывает кровать одеялом. Но не успевает причесаться. Дверь распахивается без стука. — Зинка! Да, это была сестра. Она и смеется и предательски трет глаза. Но как хорошо, как легко и радостно сразу стало на душе! — Зинка, чертушка, да каким ты духом очутилась здесь? — Уж конечно, не тем, каким ты! Ты что, забыл? Ведь у нас каникулы. Вот я и отпросилась у маман в деревню к подруге. А сама сюда… — Ну, ты у меня просто героиня. Жанна д’Арк!.. — Не говори глупостей! Я приехала не ради твоих комплиментов. Хочу тебя предупредить… Зинаида вдруг замолчала. Тихо подошла к двери, внезапно распахнула. Никого. — У нас в Вильно такие события, такие события! Весь город только и говорит об арестах. Так вот, имей в виду — арестовали твоего старьевщика! Не делай большие глаза. Думаешь, я не подсмотрела, как ты клал ему в мешок литературу? — Подожди, подожди! А ты откуда знаешь, что его арестовали? — Знаю. Ведь со мной вместе учится дочь нашего жандармского начальника. У нее умерла мама, и Верка дома за хозяйку. Отец ей доверяет убирать даже свой кабинет. А потом, она часто слышит, о чем он разговаривает со своими чинами. — Да, но почему ты решила, что арестован именно старьевщик? Ведь ни ты, ни я, ни твоя Верка — мы не знаем ни его имени, ни его клички. — А вот и врешь. Верка сама слыхала, как отец говорил: «„Старьевщика“ сегодня возьмут в поезде…» — Ты что ж, все рассказала этой Верке? Ты с ума сошла! Зина обиделась. За кого он ее принимает? Хотя Вера и настоящая подруга, к тому же она очень переживает, что ее отец жандарм, но Зина никому ни слова не говорила. Верка сама рассказывала и охала: вот ведь до чего дошло — старьевщики помогают революционерам! — Я последнее время часто хожу к Вере делать уроки, а сама присматриваюсь, прислушиваюсь. О тебе ведь, дураке, пекусь! Володя не знал, смеяться ему или как следует отругать сестру. Как она ему напоминает того желторотого птенца, которым он сам был еще год назад! Но откуда у девчонки такая смелость и такая заинтересованность? Казалось, все должно быть наоборот. Дочь состоятельных, чиновных родителей. Окончит гимназию, затем какой-либо институт, выйдет замуж — помещица, генеральша. Зина словно угадала, о чем думает брат. Как-то очень тихо но убежденно произнесла: — В России родились и Софья Перовская, и Фигнер… Нет, Володя не вспомнил сейчас этих имен. Он был далек от сравнений. А вот напомнить этой якобинке о судьбе Перовской, пожалуй, будет уместно. Целый день брат и сестра ругались, спорили. Забываясь, повышали голос, потом испуганно умолкали. В конце концов Володя выяснил, что Зинаиде действительно удалось выведать у подруги кое-какие, очень отрывочные, сведения. Причем Зину интересовал только Псков. Она даже сочинила целую романтическую историю: якобы в Женеве познакомилась с одним технологом, потом переписывалась. А вот теперь его выслали в Псков. История, конечно, была шита белыми нитками, но Вера только ахала и усердно искала среди отцовских бумаг упоминания о Пскове. Увы! — Только один раз была интересная бумага, в ней упоминались Вильно и Псков. Вера дала мне ее даже списать, и я сказала, что в бумаге есть фамилия человека, которого вспоминал мой технолог… Зина вытащила листок, вырванный из ученической тетради. Аккуратным почерком гимназистки, всегда имевшей по чистописанию хорошие отметки, было написано:«После ликвидации в декабре минувшего года в СПБ и Вильне… главных тогда руководителей подпольного революционного сообщества „Искры“ деятельность названной организации на время приостановилась; но уже в конце февраля текущего года совершенно агентурным путем были получены сведения, что оставшиеся на свободе члены вновь пытаются организовать и восстановить прерванные ликвидацией связи как в СПБ, так и во многих других центральных пунктах империи. Согласно этим указаниям, главными организаторами вновь формирующейся группы явились: некий „Аркадий“, он же „брат директора“, путешествующий по империи в качестве уполномоченного от заграничного комитета группы „Искры“, и постоянно проживающий в Пскове статистик местной земской управы отст. губ. секр. Пантелеймон Николаевич Лепешинский, уже отбывший наказание в Вост. Сибири по делам организации Союза Борьбы за Осв. раб. класса в 1895 г. В отношении последнего имелись определенные указания, что он заведует транспортировкой подпольных изданий „Искры“.Лепешинский — такую фамилию Володя слышал здесь, в Пскове. Что касается „брата директора“, конечно, это кличка, которую знают только те, кому положено знать. Но, если охранка добралась до Пскова, если шпики знают о Лепешинском, значит, его со дня на день могут арестовать. Нужно предупредить. Убедить скрыться… Но Володя не знает Лепешинского в лицо, не знает, где он живет, где работает. А расспрашивать… И все же придется спросить у знакомых студиозусов. Они все знают. — Зина, подожди меня здесь и никуда не выходи! И дай, пожалуйста, твой листок. — Володя, что ты задумал? Если этот листок найдут у тебя… — Ладно, не нужно листка. Я скоро вернусь… Володя отсутствовал часа два. А Зинаида спала. Как она ни боролась с дремотой, сон одолел. Володя не стал будить сестру. Он вернулся довольный, хотя и встревоженный. Из осторожных расспросов „высланных“ он узнал, что действительно Лепешинский живет в Пскове, работает в местной статистике. Но если сейчас прямо пойти к нему, то можно и навредить. В последнее время псковские жандармы проявляют активность. В город наехали опытные шпики из какого-то „летучего отряда“. Друзья посоветовали завтра невзначай встретиться с Лепешинским в театре. Это никому не бросится в глаза. Интересно, откуда они знают, что завтра Лепешинский обязательно будет на спектакле? И почему они догадались, что Володе нужно с ним встретиться? Видимо, беседуя с приятелями, он проговорился. Значит, конспиратор из него никудышный. А ведь когда вел разговор, то ему казалось, что его вопросы — верх тонкости, остроумия… Зазнайка! Володя лишний раз убедился в том, что в делах нелегальных первый порыв, необдуманное действие могут привести к очень печальным результатам. Но теперь пути к отступлению отрезаны. Завтра он пойдет в театр. Завтра, если ничего не случится, ему покажут Лепешинского, и он расскажет ему о доносе охранки. Приняв такое решение, Володя вдруг вспомнил о сестре. Пока она спит, он выучит наизусть донос и сожжет эту бумагу. Зина в театр не пойдет. Ведь там ожидается скандал, а с ее характером… Мало ли что эта взбалмошная барышня может натворить.
У подъезда театра давка. Городовые охрипли. Контролеры еле держат публику. Но даже им неизвестно число безбилетников, проникших в театр. Володя буквально прорвался в зал. Зал!.. Конюшня, казарма, но только не театральный зал. Десяток рядов стульев. А за ними галерка. Володя привык к тому, что галерка — это третий или четвертый ярусы. В Пскове ярусов нет, нет ни бельэтажа, ни даже амфитеатра. И только перед спектаклем в фойе оборудовали гардероб. У Володи место стоячее. Но вот потух свет, и поднялся занавес. Зрители мгновенно затихли. Какой-то тщедушный актеришка двинулся к рампе, — видно, пьеса начиналась с монолога. Он даже успел что-то произнести. Володя не расслышал. Откуда-то из задних рядов раздался разбойничий посвист, затопали десятки ног. — Пожар! Горим! Ратуйте, православные!.. Что тут поднялось! Женщины визжат, мужчины ругаются! Перекрывая этот шум, кто-то взывает: — Граждане, внимание!.. Одну минуту внимания!.. Володя обернулся на голос. В этот момент его дернул за рукав знакомый студент. — Свисти, черт тебя раздери! А тот, что говорит, и есть Лепешинский! Лепешинский! Бородатый, могучий, а рядом с ним какой-то коренастый мужчина отбивается от городовых. Блюстители висят у него на руках, схватили в обхват. Они пытаются лишить этого богатыря „свободы передвижения и свободы действия“. Ага, с ним не так-то просто справиться! Только теперь Володя заметил, что в зале полно полицейских и молодцев в штатском. Их принадлежность к сословию шпиков не вызывает сомнения. Забыв обо всем, Володя ринулся в гущу дерущихся. Вот уж кто-то съездил его по уху, кого-то и он зацепил кулаком… По сцене бегают актеры. Кричат. С примадонной обморок. Около рампы стоит дородная дама из купчих и отвешивает увесистые оплеухи полицейскому унтеру. Блюститель щупленький, он никак не может вырвать свой воротник из цепких лап разгневанной фурии. Зрители обернулись спинами к сцене. И только те, кто стоял за стульями, уже никуда не могли оборачиваться. Володя успел заметить, что из-под Лепешинского выбили стул. Городовые заломили ему руки… Володя рванулся на помощь… Спины, локти… И неожиданно знакомое лицо. Губы прилипли к свистку, щеки надуты, как у полкового трубача. Кто это? И внезапно прозрение: „родственник“ горничной! Володе съездили еще раз в ухо. Взвизгнув, он ринулся головой вперед! Расталкивая зрителей, с зычными окриками „посторонись!“ дюжие городовые тащат под руки Лепешинского к выходу. „Родственник“ уже не в силах стряхнуть с себя двух прилипших к нему молодцев. Володя все еще свистит, все еще работает локтями, кулаками. — Господин студент! — Чья-то тяжелая рука ухватила за плечо. Володя вырвался. Мундир остался на „поле боя“…
В окно тихонько постучали. Соколов посмотрел на Лепешинского. Пантелеймон Николаевич пожал плечами. Опасаться полиции или жандармов не приходилось — ведь их только что отпустили из участка после составления протокола. Лепешинский открыл. В комнату вошел молодой человек. Вид у него был совершенно истерзанный. Пальто накинуто на рубашку, нос распух. Юноша тихо прикрыл за собой дверь, но стеснялся подойти к столу. Лепешинскому пришлось насильно усадить его. — Простите, что так… среди ночи. У вас в окне свет. Я на минутку, я не мог не прийти… Вы ведь Лепешинский, да? Не спрашивайте, как я узнал, это неважно… но я знаю, что жандармам известна ваша роль в деле „Искры“… Володя говорил сбивчиво, но донесение запомнил слово в слово. Соколов заволновался. Пантелеймону Николаевичу угрожает арест. А тут еще эта глупейшая драка. Видно, и этот молодой человек участвовал в ней. Володя подтвердил. Только теперь Василий Николаевич как следует разглядел его. Какое знакомое лицо! — А ведь мы где-то встречались с вами. Может быть, здесь? — Нет, мы встретились всего один раз. Я знаю, вы увозили тогда литературу. Помните, в этом доме была еще обезьянка… Напомнил, и самому стало как-то грустно. Наверное, поэтому и не заметил, как „родственник“ насторожился. А Соколов действительно был неприятно поражен. Этот неизвестно откуда взявшийся юнец слишком много знает. Не провокация ли? Василий Николаевич внимательно оглядел Володю, словно в его внешнем облике можно было найти ответ. И Володя понял: ему не верят. Слишком много совпадений. А ведь эти люди все время живут под неусыпным надзором полиции. Лепешинский уже был в Сибири, в ссылке. Они вправе относиться подозрительно ко всякому. Но разве он похож на провокатора? Какая глупость! — Вы не думайте, я не шпик, меня самого исключили из Академии художеств и выслали сюда под надзор. А что вы увозили тогда нелегальную литературу и газеты, я знаю потому, что сам их привез из-за границы… Володя, торопясь, глотая слова, рассказал о своих одиссеях. Когда он дошел до приезда в Псков сестры, вспомнил: Зина одна, ждет его, беспокоится, а может быть, там уже полиция — ведь вместе с мундиром в руки блюстителей попал и его паспорт! Он сумел затеряться в давке, даже пальто с вешалки ему выдали — удивительно, номерок оказался в кармане брюк. Потом он долго мерз около участка, куда увели Лепешинского. Их отпустили ночью, и он теперь уже, как настоящий филер, следил, куда пошел Лепешинский, стоял под его окном, не решаясь постучать. Володя рассказал о своих опасениях и насчет сестры. — Так что же вы, батенька, в самом деле? Нет, нет, постойте. Вам самому идти не следует. Скажите адрес, хотя и темно, авось найду. И не обессудьте, сестру вашу немедленно отвезу на вокзал… и домой! Честное слово, если бы я сам не был свидетелем всего случившегося, ей-ей, не поверил бы. Вашей сестре еще рано заниматься такими вещами. Она это делает из озорства, а может таким образом искалечить себе всю жизнь, как это сделали вы. Соколов был не на шутку рассержен. И на себя тоже. Оказывается, его могли преспокойно проследить. И на будущее наука — не доверять явкам в барских квартирах. Соколов ушел. Лепешинский и Володя с тревогой ожидали его возвращения. Пантелеймон Николаевич нервничал еще и потому, что донос жандармов, который так фантастически стал ему известен, не оставлял сомнений — ему недолго гулять на свободе. И, что хуже, если его пока не арестовали, то только потому, что следят, хотят выловить всех, кто с ним связан. А ведь именно в Пскове должны собраться представители различных течений социал-демократии, чтобы создать новый организационный комитет по созыву съезда партии. Не так давно из Петербурга прибыли два филера, которые, не таясь, следят за ним, даже раскланиваются. Хорошо, что хоть по ночам эти стражи спят и студента прозевали. Видно, придется этого, еще, по существу, мальчика, куда-то переправить. Да не мешкая, завтра же. Соколов вернулся, когда уже начало светать. — Занимательная у вас сестра, но в голове полный ералаш. Я посадил ее на ночной поезд до Петербурга. Других поездов не было. И как это мамаша отпустила ее одну? Вы же сами рассказывали, что она боялась отпускать даже под вашим присмотром. — Попробуй не отпусти — убежит!.. А потом, она ведь к подруге в деревню уехала. Мама еще не знает, что я исключен и выслан. Лепешинский поделился своими опасениями. Соколов согласился с тем, что Владимира нужно снабдить каким-либо документом, лучше паспортом, и переправить в другой город. Соколов и Володя ушли: оставаться днем у Лепешинского было небезопасно. Явочная квартира, где Василий Николаевич хранил чистые бланки паспортов и вообще всю технику, находилась на окраине города, в небольшом домике железнодорожного мастера. Идти туда вместе с Володей нельзя, да и Соколов сам очень редко сюда заходил, обычно встречался с мастером на вокзале. Оставив Володю на улице, Василий Николаевич вошел в дом. Мастер спал после ночного дежурства. Соколов не стал его будить. Забравшись на чердак, он достал из тайника паспортный бланк. Теперь его нужно заполнить. Но где? Все же придется идти к себе домой. Там он может быстро сфабриковать печать из пятака. И Володю нужно переодеть, в одной рубашке он ехать не может. Дома было все спокойно. Пока Володя умывался, чистился, Василий Николаевич заполнил паспорт. Теперь его владелец носил фамилию Трегубов. Это была настоящая фамилия, она принадлежала телеграфисту, недавно скончавшемуся от туберкулеза в Великих Луках. Копию этого паспорта привез агент „Искры“ Радченко, тот самый „брат директора“, о котором упоминалось в жандармском донесении. Соколов ловко расписался и стал облепливать хлебным мякишем пятак, чтобы оттиснулся один орел, без надписи по ободку. Володя с интересом следил за манипуляциями Соколова. — Простите, вы хотите поставить на паспорт такую печать? Но ведь печати, собственно, не будет, один орел. — Достаточно и орла, кто станет присматриваться! — А у вас не найдется настоящей печати? Я имею в виду оттиска? — У меня на паспорте настоящая печать. — Тогда разрешите отрезать маленький кусочек линолеума. Он на полу все равно уже потерся, и совершенно не будет заметно… — Сделайте одолжение… Соколов не понял, зачем Володе понадобился линолеум. Володя взял паспорт Василия Николаевича, кусок бумаги и очень быстро перерисовал печать. Затем, отрезав кусок зеленого линолеума, перевел рисунок на его гладкую поверхность. Перочинный нож у него всегда с собой в брюках… Не прошло и часа, как Володя выгравировал на линолеуме печать с буквами в обратную сторону. Вместо Костромы, которая была на печати Соколова, написал Великие Луки. Смазали матрицу чернилами, приложили. — Великолепно! Послушайте, Володя, у вас же прекрасная подпольная специальность! Уж раз мы вам доверились, то скажу — мы не одни, в России много подпольных социал-демократических комитетов, и уверяю вас — каждому требуются липовые паспорта с печатями. Бланк достать не так трудно, чиновники, ими ведающие, не щепетильны, продают по рублю, трешке, иногда и дороже. А вот с печатями дело хуже, мы больше пятаками орудуем… — Так позвольте, я вам нарежу сколько угодно. — Рад бы, Володенька, воспользоваться вашим предложением, но вам нужно уезжать. Не знаю, найдете ли вы свою дорогу в революцию, не испугают ли вас тяготы нелегальной жизни, вечная нехватка денег, полуголодное существование. Каждый шаг — с оглядкой. И тюрьмы и ссылки — этого тоже не миновать. Хочу верить, что вы будете с нами, с искровцами. Но вам нужно еще многому научиться и многое забыть, отвыкнуть от того, чем вы жили в прошлом. Может быть, вам посчастливится завершить образование — рабочему классу нужны и свои художники. Но если вы действительно хотите стать революционером, то прежде всего должны сказать себе: дело рабочего класса — это дело всей моей жизни. Соколов никогда не любил красивых слов и высокопарных речей. Но, напутствуя Володю, он разволновался и сам. Ведь то, что он внушал этому юноше, было им выстрадано, и у него не было наставников. Хотя, если Володе еще нужно приобщиться к революционной вере, то и ему, Соколову, еще предстоит многое узнать, изведать, научиться. Василий Николаевич резко оборвал свою речь. Снабдив Владимира своим старым пиджаком, деньгами и паролем на явку в Минске, Соколов отпустил „новообращенного“. Трудно ему придется, ой, как трудно! И, наверное, они никогда больше не встретятся, если Володя вернется к старому образу жизни, учебе. Ну, а если он станет социал-демократом, если он будет помогать партии, то, может быть, их жизненные пути и сойдутся. Как знать!
Богомолову все окончательно надоело. И больше всего — охотничье бродяжничество по экзотическим местам. Вряд ли кто-нибудь может бросить ему упрек в недостатке решимости. Скорее наоборот. С детства пристрастился к охоте, с детства любил побродить в местах, куда, как ему тогда казалось, не ступала нога человека. Когда же подрос, действительно потянуло в неведомые дали. Так очутился в Америке, на Аляске. А там не до охоты было. Скорее всего, за ним охотились, особенно всевозможные бродяги. Потом, правда, оставили в покое, убедившись, что из револьвера и винтовки он промаха не дает. Теперь перебрался сюда, на Дальний Восток, и бродит по Уссурийскому краю. Глушь, красотища небывалая, но страшновато. Селения одно от другого за сотни верст. Русских поселенцев и вовсе не сыщешь, они ближе к городам жмутся. А с китайцами как-то не поладил. Они приняли его за бандита, что ли. Чуть не убили. Пришлось отстреливаться — поверх голов, конечно. Теперь вот сидит он в охотничьей заброшенной фанзе. Ночь наполнена звуками, шорохами. Иногда где-то откровенно зевает дикая кошка. А может быть, и его величество тигр. Тигров убивать не приходилось. Да он и не жаждет встречи с ними. Спать хочется, но боязно. Проводник из корейцев ушел с вечера, сказал, тут селение близко, к ночи вернется, и до сих пор нет его. Заснешь — костер или ветром задует, тут с моря он буйный, или дождем зальет. Чего-чего, а дождичков в этом краю хоть отбавляй. Хочется домой. А в Астрахани сейчас утро. Съезжаются на базар армяне, персы, киргизы. Гомон заполняет площадь. И чего только нет в рядах!.. Осетры, помидоры, арбузы… Как давно он не ел эти деликатесы, привычные с детства! Сейчас очутиться бы на Обжоровой косе или в Красном яру. Жарко. Сухо. И кругом белая-белая пыль. А тут дождь. Сыро, и в болотах нестерпимо громко — не квакают, а просто лают, как дворовые псы, лягушки. Почему вспомнилась Астрахань? Почему не Царицын, Самара? А, мало ли есть на Руси прекрасных теплых городов. Он побывал во многих. Его бродяжничество — это просто каприз молодости. Пора заняться делом. В России назревают грандиозные события. Это он понял уже несколько лет назад. И с тех пор его тревожит мысль, что он может остаться в стороне от этих событий. Давно не держал в руках книги, газеты и, наверное, забыл уже все, что когда-то прочел, что его волновало. Писарев волновал, Чернышевский. Он ведь и Маркса пробовал читать, но не дочитал — трудно. Богомолова сморил сон, но, прежде чем заснуть, он уже твердо решил — возвращаться. И как можно скорее.
ГЛАВА II
Поезд уже давно окунулся в ночь, и только блеклые квадратики света из окон бегут, подскакивают, переламываются на буграх, вытягиваются, ныряя в овражки, а Соколов не может оторваться от окна. Он еще плохо верит, что свободен, что „за отсутствием улик…“ С Псковом все кончено. Лепешинский в тюрьме, а может быть, его уже и вывезли в сибирские тундры. Арестовали в ночь на 4 ноября 1902 года. И его арестовали, только несколько позже и по другому делу. Полиция, видимо, так и не узнала, что Мирон ведал транспортом литературы и всей техникой псковских искровцев. Его привлекли в связи с разгромом Северного рабочего союза. Ну, и выпустили. Наверное, ненадолго. Значит, нужно переходить на нелегальное положение. Пока сидел под арестом, в Лондоне состоялся II съезд РСДРП, произошел раскол. Еще в тюрьме Соколов твердо решил — он на стороне большевиков. Оказывается, в ЦК знают Мирона. Теперь он едет в Смоленск, чтобы там наладить работу транспортно-технического бюро Северного района. Опыт у него есть. Служба будет. Опять-таки в местной статистике. И задание ЦК он выполнит непременно. — Извозчик! Эй, извозчик! Да шевелись ты!.. Видавшая виды пролетка, облупленная, скрипучая, подкатила к грузовому отделению смоленского вокзала. — А ну, подсоби!.. Извозчик не торопился. Ему не хотелось слезать с козел. У этого господина в плечах косая сажень. И чего он там возится с небольшим ящичком? Извозчик знает: в таких фрукты присылают с Кавказа. И мастеровые в таких же носят свои инструменты. Ящик напоминает гробик с ручкой. — Да помоги же, черт косолапый! Извозчик сплюнул, сполз с облучка, подошел к ящичку, небрежно схватил его за ручку и… — Пресвятая богородица!.. — От удивления „ванька“ даже присел. — Никак, в нем пуда три?.. — Ладно, не болтай! — Мужчина поднатужился и втащил ящик в пролетку. — На Потемкинскую… Дом Романовых, да поскорее. Застоявшаяся лошадь резво взяла с места. Седок едва успел подхватить ящик и чуть не вылетел вместе с ним на мостовую. Смоленск! Говорят, что город этот старше Москвы и однолеток Киева. И так же, как и „матерь городов русских“, раскинулся на днепровских холмах. Василий Соколов холмы не считал, но город ему понравился. Правда, Днепр в Смоленске ни то ни се — одно название. Если бы здесь побывал Гоголь, то, наверное, не решился бы написать, что не всякая птица долетит до противоположного берега. В Смоленске даже курица спокойно совершит такой перелет. Хотя курица — не птица. Ладно, шут с ним, с Днепром. Зато собор хорош. Очень хорош. И крепостная стена тоже. В шестнадцатом веке ее построили. А на горе, в самом центре города, роскошный парк — Блонье. Смоленские старожилы рассказывают, что его насадили в одну ночь. Что-то вроде „потемкинских деревень“, — сажали-то прямо столетними липами, чтобы поразить матушку императрицу Екатерину II, завернувшую в Смоленск. Может быть, все это и враки, но парк действительно столетний. И, если дождь внезапно застанет невдалеке от Блонье, вернее всего забежать под липы. Лошадь заметно сбавила ход и уже с трудом тащила пролетку на гору. Миновали Кирочную, через Молоховские ворота выехали к Сосновскому саду — и прямо на Потемкинскую. Дверь открыла хозяйка. Она удивленно посмотрела на извозчика, с кряхтением и проклятиями тащившего небольшой ящичек. Что-то сказала Соколову. Он не расслышал, и обиженная дама уплыла к себе. — Прибавь, барин, за поклажу: небось в ней чистое золото… — Ладно, вот еще двугривенный… Золото!.. Оставшись один в комнате, Василий Николаевич устало опустился на стул. Только теперь он почувствовал напряжение этих двух последних часов. И только теперь понял, что сделал великую глупость, если не сказать больше. Сам поехал на вокзал! А ну как ящик на станции проследили? Наверняка железнодорожники должны были удивиться его необыкновенному весу. А в ящике шрифт, типографский шрифт. И он предназначен для типографии, отнюдь не зарегистрированной у губернатора. Конспиратор, называется! Пока тащился на извозчике, ни разу назад не поглядел! Теперь не удивительно, если нагрянут архангелы… На улице зацокали копыта. Соколов вздрогнул, но заставил себя не встать со стула. И, только когда звуки затихли, подошел к окну. На улице пусто. Дома стоят, словно небольшие помещичьи усадьбы. У каждого дома — свой сад. Многие имеют каретные сараи, конюшни. На Потемкинской живет солидный интеллигент, чиновник средней руки. Мещане и ремесленники таких улиц не любят. Соколов всего несколько дней назад приехал в Смоленск. И, так же как и в Пскове, устроился в статистическом бюро. В бюро ему и указали на Потемкинскую как самое подходящее место для жительства статистика. В доме Романовых хозяева стараются казаться утонченными интеллигентами. Во всяком случае, Василию Николаевичу так показалось при первой беседе. На улице пусто. Но это еще ничего не значит. Жандармы редко приходят с обыском вечером. И, может быть, сейчас, когда он стоит у окна, к дверям его дома прикованы две-три пары настороженных глаз. Соколову показалось, что он чувствует ощупывающие взгляды филеров. Резко задернул штору. Хватит испытывать нервы! Они и так стали пошаливать. Лучше всего лечь спать. Ведь до завтра ему все равно не выбраться из дома. Будь что будет, теперь ничего не исправишь. А выспаться необходимо. Не так уж часто ему приходится высыпаться. Ночью Соколову не снились жандармы. Не снилась и типография. Ничего не приснилось ему в эту ночь. Архангелы тоже не прилетели. Утром все казалось проще. А яркое осеннее солнце разогнало вчерашние страхи. Соколов поспешил на службу. Евграф Калитин торопился домой. К ночи небо затянуло тучами. Порывистый ветер швыряет в лицо пригоршни пыли, сухие листья. Вот-вот польет дождь. Когда случается возвращаться поздно вечером или ночью, Евграф предпочитает идти по улицам, в обход стены. Засветло можно свернуть и к пролому, перевалить через невысокий холм у Чертова рва, и тогда считай — дома. Ноги гудят, сапоги словно свинцом подшиты. Да и голова от этого ветра разболелась. Набегался за день. Побывал на двух квартирах, куда обычно приходят письма для Мирона. И не напрасно: есть письмо Соколову. Затем зашел в железнодорожные мастерские, договорился с помощником машиниста Колькой, что тот свезет по адресу тюк литературы. Отчаянный парень этот Николай, возит нелегальщину в вагонных ящиках для песка. Но ни разу еще не провалился. Даже в лавку успел, жена сахар просила купить. Эх, вспомнил о сахаре, и захотелось чаю, горячего, пахучего, из шумящего самовара. Леший с ним, он пойдет проломом, через Офицерские слободы. Дурной славой пользовались в Смоленске Офицерские и Солдатские слободы. На улицах темень, грязь. Дома один от другого на десятки сажень отстоят. И тут вечно пошаливают всякие любители легкой наживы. Чуть ли не каждую неделю по городу разносятся слухи, что на Офицерских опять раздели, обобрали и напугали. Дождь наконец хлынул. И сразу, не по-осеннему, сильный. Калитин прибавил шагу. Идти стало трудно, скользко. Около пролома к тому же валялась масса битых кирпичей. Когда подошел к стене, вдруг через шелест дождя услышал голоса, обрывки фразы: — Тащи сюда… — Обождем?.. Калитин остановился. Их там минимум двое. А он очень устал. Наверное, благоразумнее будет свернуть, пока не поздно. Евграф хотел уже тихонько ретироваться, когда в проломе появился свет. Калитин невольно вскрикнул и закрыл глаза. В проломе две человеческие тени тащили светящийся скелет. — Сунем его вот сюда. Дождь бы не испортил… Евграф бросился бежать. По кирпичам, не разбирая дороги. Падал, натыкался на деревья, тумбы. Наверное, ноги сами принесли его к дому. Он был до того жалок, что его жена Наташа, женщина суровая и властная, чуть не расплакалась. А Евграф молчал. Изредка вздрагивал. И как-то странно посматривал в темные углы комнаты. Наташа ни о чем не расспрашивала. Она давно знала, что ее муж — партийный транспортер. Что на каждом шагу его стерегут опасности. Наверное, и сегодня с ним что-то стряслось. Ничего, отойдет — сам расскажет. А сейчас не надо его трогать. Пока Евграф судорожно глотал обжигающий чай, Наташа растопила на кухне плиту, развесила мокрое пальто, брюки, пиджак. Осенняя ночь стучалась в ставни ветром и россыпью дождя. Пора бы спать. Но Евграф медлил и все время к чему-то прислушивался. Наверное, ему показалось, что хлопнула садовая калитка… Просто хулиганит ветер. Но Калитин подошел к двери. Приложил ухо. Нет, показалось… И в это время в дверь постучали. Два сильных удара кунаком и один легкий пальцами. Полиция так не стучит. Но Евграф не открывал. Снова раздался условный стук. Калитин скинул крючок, резко толкнул дверь. В сени вошел Мирон. Он напоминал ожившего утопленника, только что выбравшегося из воды. Тяжело грохнулись на пол две пачки, завернутые в бумагу. Мирон прохрипел: — Пальто… сними пальто… Евграф никак не мог расстегнуть пуговицу. Рванул, пуговица отлетела. Пальто было такое тяжелое, что Калитин с трудом поднял его к крючку вешалки. Соколов стоял не двигаясь. У него на шее болтался какой-то нелепый черный хомут. — Сними же!.. Легко сказать — сними, когда хомут весит не менее шестидесяти фунтов. Наконец и он сброшен на пол. Василий Николаевич, совершенно обессиленный, садится тут же рядом со своими доспехами. Евграф забыл об усталости, встрече со скелетом. Он хлопочет вокруг Мирона. Помогает стянуть сапоги, растирает затекшую шею. Ведет к столу. Самовар еще горячий. И, только согревшись чаем, Соколов заговорил так, ни к кому не обращаясь: — Скверно все получилось. Привез я вчера домой ящик с типографским шрифтом. Не следовало бы это делать… Но выхода не было. Слава богу, не проследили. И сегодня я спокойно ушел на службу. Возвращаюсь вечером, а на моем столе две литеры и шпация. Этак аккуратненько положены на самом видном месте. Ясно, хозяйка убиралась, нашла на полу… Осмотрел ящик, а в нем щели — палец просунуть можно. Что делать? Хозяйка, может быть, и не донесет. А там, кто ее знает… Надеяться, что не догадалась, не приходится, баба умная. Нужно спасать шрифт да и самому не засиживаться. А на дворе уже ночь, дождь… Да это так, к слову… Главное — как унести шрифт. Ящик-то худой, и в нем не меньше трех пудов. Вот я и сделал этот хомут из старых брюк. Завязал внизу штанины и в каждую фунтов по тридцать шрифта всыпал. В карманы пальто тоже. А те вон пачки, похожие на книги, тоже шрифт. Как шел, не помню… Шагов сорок — пятьдесят пройду, сажусь прямо в грязь, посижу, отдышусь, и опять ползу. Последний раз уселся на какие-то бревна, а встать не могу… Соколов умолк так же внезапно, как и заговорил. Евграф вспомнил о своем бегстве. Нет, он о нем никому не расскажет. Стыдно! Да и был ли скелет? Может, ему все пригрезилось? — Сегодня получил для тебя письмо… — Калитин ощупал карман, вспомнил, что его одежда сушится. — Бросился на кухню. У жаркой плиты ветхое пальто почти просохло. Из кармана торчал конверт. Вытащил. Письмо побывало в воде, конверт съежился, чернила расплылись. — Я сегодня тоже основательно вымок и письмо подмочил, не обессудь… Наташа, сидевшая все время молча, вдруг неожиданно заговорила: — Носит вас черт лукавый! Ну, Василь Николаевич ясно, по такому делу… А ты где изгваздался, да еще и рукав порвал? Домой ввалился — лица нет, словно мертвецы за тобой гнались! Евграф вздрогнул. Вот чертова баба… — А мертвецы и гнались… — Евграф довольно путанно рассказал о встрече со светящимся скелетом. Наташа только охала и тихонько крестилась под теплым платком, накинутым на плечи. Соколов неожиданно расхохотался: — А что, Евграф, когда я постучался, ты, поди, решил — скелет пришел за твоей грешной душой? — Тебе хорошо смеяться… — Ловко придумали, шельмецы! Слыхал я об этих фокусах. Ты вон какой мужик здоровенный, и то про святых угодников вспомнил да стрекача задал. А ежели на твоем месте интеллигент какой-нибудь или офицерша — обморок. Карманы обчищены, никакого насилия, и рассказывать стыдно. Ведь стыдно? Ты-то утаил от Наташи про скелет… Соколов снова рассмеялся. Калитин чувствовал себя неважно. Мирон прав — конечно, струхнул. Хорошо, в обморок не грохнулся. Ну погоди, он этих негодяев подстережет, забудут о скелете, свои бы кости унесли… — Слушай, а почему он светится? — Дай-ка письмо! Мирон разорвал конверт. Влага испортила текст, написанный фиолетовыми чернилами. Они расплылись причудливыми озерцами, и понять можно было только, что „у племянницы все благополучно“, поклоны шлют… Подпись хоть и не расплылась, но ее не разобрать. Соколов и не старался прочесть смытые строки. Придвинув к себе керосиновую лампу, он осторожно стал нагревать письмо над стеклом. — Говоришь, почему скелет светился? А вот глянь сюда — была чистая бумага, а теперь? Между расплывшихся фиолетовых строк появился ряд букв. — Твой скелет натерли фосфором, вот он и светится в темноте. А эти буквы написаны или молоком, или двууглекислым свинцом. Нагреешь, они и проступают наружу. Вот и весь фокус. Через минуту короткая депеша была расшифрована:„Приезжаю среду Глебов“.Мирон сжег письмо, отошел к окну. Дождь кончился, но ветер противно подвывал сквозь щели неплотно закрытых ставней. — Наташа, если не прогонишь, эту ночь я у вас, а завтра найду новую квартиру. Тебе, Евграф, завтра с утра бежать к Голубкову. Передашь, что в среду приедет Глебов, надо встретить и проследить, не привез ли он за собой хвост. Если чисто, то свези его на квартиру к Лебедеву. И я приду туда. А вообще, Евграф, не нравится мне это письмо. Глебов-то представитель ЦК, о его приезде письмом не сообщают, да и шифр устарел. Как бы тут какой жандармской мышеловки не оказалось. Не спалось. То ли с непривычки на новом месте, а может быть, не улеглось еще возбуждение от пережитого. Соколов давно заметил за собой не то, чтобы пристрастие, а так, скорее, привычку пофилософствовать. Про себя, конечно. Днем времени для душеспасительных размышлений просто нет. А вот ночами… Не часто, но иногда и выдается часок — другой, когда не спится, когда Мирон, партийный транспортер и заведующий транспортно-техническим бюро ЦК РСДРП в городе Смоленске, снова становится просто Василием Соколовым. И просто человеком, у которого нет жены, дома и которому скоро уже тридцать. Если бы его в такие минуты кто-нибудь очень-очень близкий спросил о личной жизни, то он, наверное, не знал бы, что и ответить. Хотя ведь и у него было детство. Тяжелое, голодное, озорное. Там, в далекой отсюда Костроме, и по сей день стоит казарма городской пожарной команды. Отец, отставной николаевский солдат, служил на пожарном дворе, но почему-то величал себя „ундрцер корпуса жандармов“. Отца он видел мало, а вот его голубой мундир с серебряными галунами мать любила надевать на святки, когда по улицам ходили ряженые. От этих воспоминаний не веет теплом. Может быть, потому, что на ночь никто не рассказывал ему сказок, зато по ночам мать часто плакала и рассказывала, как барин порвал ей ухо, а потом отдал на костромскую ткацкую фабрику. Ее, сонную, в цех носили на руках взрослые. Школа была счастьем, щелочкой в какой-то иной мир. И он учился, опережая свой класс. Теперь он знает, с каким нетерпением учащиеся ждут каникул. А тогда он не мог понять этих „больших ожиданий“. Не ждали каникул и многие его однокашники. Каникулы — это Волга. Каникулы — это тяжелый труд. Катали лес — и из глаз сыпались искры. Прибыла баржа с горчичным семенем — каждую минуту сменяются те, кто лопатой подгребает семя к брезентовому рукаву. Горчичное семя разъедает глаза, забивается в ноздри, и невозможно удержаться, чтобы не чихать… Нет, летние каникулы вспоминаются как время неимоверной усталости, когда не хватало сил даже на то, чтобы забраться в соседский огород. Были и зимние вакации. И жили в Костроме его однолетки, для которых расчищали каток, и для них играл духовой оркестр. А он сушил баржи. Огромные лодки еще осенью поднимали на клети вверх днищем. В трескучие морозные ночи под днищами разводили костры. Двугривенный за ночь. Чтобы его заработать, нужно было все время таскать дрова, поддерживать огонь. А чтобы не задохнуться в едком дыму, приходилось лежать на брюхе, уткнувшись носом в талый лед. — Мирон, спишь? — Что, Евграф, скелет приснился? — Да нет… Давно хотел спросить тебя, что такое „революционная романтика“? Революционная романтика! Интересно, где это Евграф о ней прослышал? Соколов почувствовал досаду, то ли потому, что Евграф оторвал его от воспоминаний, а может быть, и потому, что он не знает, как ответить на этот вопрос. Ну вот, к примеру, он сам — романтик или не романтик? Черт его знает! Наверное, нет. Романтика — это как-то несерьезно. Конечно, если судить о ней с точки зрения партийного техника. А с обывательской?Наверное, на Потемкинской половина врачей и адвокатов в студенческие годы были „революционными романтиками“ или, во всяком случае, считали себя таковыми. Наверное, и в студенческих сходках участвовали, и в забастовках, песни пели, требования предъявляли… И собой гордились. До тех пор, конечно, пока в участок не попадали. Ну, а там их революционность выглядела как кукиш в кармане. А романтика? Они и сейчас думают, что остались романтиками: как же, ведь сочувствуют, помогают… Конечно, польза от сочувствующих кое-какая есть — деньги, иногда и квартиры. — Мирон, заснул? — Да нет. Думаю… О романтике думаю. — А я так понимаю, у рабочего человека, того, что в стачках и забастовках участвует, никакой такой романтики нет. Какая уж тут романтика, когда казаки нагайками лупят, а хозяева с работы взашей гонят и дома дети от голода пухнут? Нет, Мирон, рабочему не до романтики. Это интеллигенты придумали. Вроде павлиньего хвоста — толку мало, зато красотища!.. — Торопишься, Евграф, с выводами! Конечно, многие рабочие, революционные рабочие, даже слова такого — „романтика“ не слыхали. А на деле они подлинные романтики. И революционность у них — не павлиний хвост, а дело всей жизни. Они и на каторгу, и на смерть идут. И верят, что в конце концов победят. — Ладно, Мирон, это я и без тебя знаю. Но романтика тут ни при чем. Романтика — это для интеллигентов… Вот упрямый человек! Не хочет понять, что интеллигент интеллигенту рознь. Но в одном, конечно, прав Евграф. Главное — вера. — Знал я, брат, одного романтика, большой души был человек и засыпался на романтике. А почему? Да потому, что без веры, без конспирации, без готовности жертвовать всем нет подлинной романтики… — Расскажи… — Евграф, боясь уснуть, уселся на постели. — Так вот. Однажды кто-то стучит ко мне. Условным стуком. Открываю. Стоит за дверью господин, пенсне протирает, на меня близорукими глазами щурится. Знавал я его раньше. У него кличка была такая — „Душечка“. Нелегальный из интеллигентов. Прислал ЦК ко мне на помощь. Прислать прислали, да, видно, второпях забыли паспортом снабдить. Он так без документов и прикатил. Чудак! Конечно, состряпать для него липу — дело минутное, я в этом давно поднаторел. Могу расписаться и за мещанского старосту, и за волостного старшину, писаря, и все одной рукой — наука не хитрая. Да и чистые бланки имелись… А вот с печатями хуже. Достал я трехлетний бланк, он трешницу стоит. Вписал туда имя, отчество, фамилию Душечки. Имя настоящее. Подпись сделал — все хорошо. Душечка вокруг меня бегает, охает. „А как, говорит, с печатью?“ Была у меня одна печать. Ее вырезал на линолеуме студент Академии художеств. Здорово сделал. Для себя трудился. Где он теперь, этот студентик? Соколов на минуту умолк. Вспомнился Володя. Вот тоже романтик, и от павлиньего хвоста у него много было. Как в воду канул, ничего о нем не слышно. — Ну, приставил я печать, вручил Душечке. Душечка в восторге: „С таким паспортом можно идти и прописываться!“ Я его отговаривать стал, липа все-таки. А Душечка свое. „Крохоборы, кричит, законспирировались, дельцы, нет в вас романтики, полета фантазии… Не боюсь я с таким паспортом самого господа бога. А когда легализируюсь, увидите, какими делами начну ворочать…“ Видно, приелась ему нелегальщина — не сладкая у нас жизнь. Все время с оглядкой. Ну, и уговорил меня романтик! На следующий день пошел он в участок, только мы его и видели… — Что, влип с паспортом? — Нет, не с паспортом, с романтикой… — Это как же? — Да так. Дней, наверное, через десять писарь из участка проговорился. Явился, значит, Душечка к приставу. Тот, ничего не подозревая, задает ему несколько нормальных вопросов и отпускает с миром. А наш романтик растерялся. Ему, видно, мерещилось, что ждет его острая словесная дуэль, из которой он выходит победителем, может быть, схватка с приставом, городовыми… А тут выпроводили, как какого-нибудь обывателя. Вот и растерялся, нервы распустились. Вышел, значит, Душечка — и к урне. Вытаскивает из карманов бумаги, рвет их и в урну, в урну. А в кармане у него оказалась прокламация. Он возьми да засунь ее в рот и ну жевать… Городовой, что стоял в коридоре, поначалу на Душечку ноль внимания. Ну, а потом, конечно, глаза вытаращил, цап Душечку — вот тебе и романтика. Евграф тяжело вздохнул. Нет, не убедил его Соколов.
Новую квартиру из трех небольших комнат в мезонине Соколов нашел скоро. Внизу проживал какой-то замученный, задерганный на службе и дома пехотный капитан. В доме правят женщины и особенно назойливы своими „милыми манерами“ свояченицы хозяина. Они не замужем и в том возрасте, когда исчезают последние надежды. Одинокий постоялец, еще не старый — это ли не находка, не шанс! И от своячениц нет покоя. Комнаты прибрать… Пожалуйте на чай… Может быть, их милый жилец по вечерам скучает в одиночестве, милости просим к нам — лото, карты, да и в фантики можно порезвиться… Василий Николаевич уж и не рад, что вселился в этот женский заповедник. Одно удобно — улица неприметная и у него из мезонина отдельный ход. Хозяева культурой не страдают, вернее — просто невежественные дуры. Но это к лучшему. То, что их постояльцу раз-два в неделю привозят корзины книг „на комиссию“, даже имеет для них свою выгоду — хозяйка получает в виде презента новенькую корзинку, свояченицы с каждой „выгодной сделки“ — коробку конфет. Хозяин же так угнетен, что ему не до подарков. Сегодня „комиссионная операция“ неожиданно затянулась. И не на час, не на два… Наверное, он завершит ее через сутки, а то и более. В корзине „Искра“. И какая досада — в пути корзина сначала подмокла, потом ее прихватило первым морозцем. Все-таки долго, очень долго добирается газета до России! Соколов вскрыл корзину. Газетные листы смерзлись, и, чтобы их отделить друг от друга, придется отмачивать. Ничего, „Искра“ печатается на такой бумаге, которой не страшна вода. Но потом номера нужно просушить. Василий Николаевич шарит в комоде, заглядывает в чемодан. Тихонько чертыхается. У него в холостяцком хозяйстве нет ни куска веревки. Конечно, у мадам капитанши этого добра сколько угодно, а не попросишь. Придется-таки резать простыню, благо своя. Через час комната напоминала прачечную. Из угла в угол висели, сушились газеты. Усталый, но довольный Мирон прилег, чтобы прочесть „Искру“. Стук в дверь. — Чайку откушать не желаете? Хочется послать к черту. — Спасибо, я, знаете, приболел немного, лежу… — Тогда я за доктором… — Нет, нет, не нужно! В этот вечер его больше не беспокоили, а наутро начался какой-то кошмар. То чайку, то доктора, капитан советует водочки… Соколов в конце концов взбесился. Он сразу не сообразил устроить сушилку в задней комнате. Пришлось перетаскивать все хозяйство, вновь развешивать, раскладывать на полу. При этом нужно было ходить на цыпочках, в одних носках, чтобы хозяева внизу не услыхали. „Выздоровел“ только через два дня. А тут новая напасть. Вернулся из бюро, продрог и вспомнил о чае, который во время „болезни“ так назойливо предлагали хозяева. Теперь это было бы очень кстати. Соколов отпер дверь. Пахнуло теплом, едкими запахами щей и хлеба — офицерша любила сама выпекать караваи. Не успел снять пальто, как уже кто-то стучит. — Василий Николаевич, тут днем к вам какой-то господин заходил. Очень огорчался, что не застал. Корзиночку оставил, сказал, что будет вечером… Соколов забыл о чае. Это уже черт знает что такое, явиться к нему на квартиру днем, когда заведомо известно, что дома его нет, да еще какую-то корзину оставлять!.. Сумасшедшие люди! Наверное, кто-то из приезжих — своих транспортеров он вымуштровал, они подобной глупости не совершат. Корзина стояла в передней. Когда Соколов ее вскрыл, то возмущение и негодование по поводу неконспиративного поведения неизвестного товарища перешло просто в ярость. В корзине лежали комплекты всевозможных меньшевистских изданий. Подтащив корзину к голландской печи, Василий Николаевич раздул еще тлевшие в ней угли и с ожесточением стал швырять в огонь брошюру за брошюрой, книгу за книгой. За этим занятием его и застал Евграф. Его прислал Голубков — предупредить, что Глебов прибыл благополучно, хвоста за ним нет. — Зато я уверен, что у меня их появится не менее десятка, — зло бросил Соколов. Евграф промолчал. Он еще никогда не видел Мирона таким рассерженным. — И вот еще что, приехал Никитич. Голубков сказал, что ты знаешь о нем. Соколов быстро поднялся с колена. Никитич, руководитель всей техникой ЦК? Василий Николаевич забыл о злополучной корзине. Никитичу сейчас никак нельзя показываться в городе. Этот меньшевик, оставивший корзину, наверняка привез шпиков. Наверное, в одном вагоне ехали. — Евграф, у меня эта дверь выходит во двор. Тихонько выберись и уж не посетуй, махни через забор, в калитку нельзя. Обойди переулком дом, перейди на другую сторону, там чей-то сарай стоит. Спрячься и погляди… ну, сам понимаешь… Евграф ушел. Соколов запихнул в жерло печи последнюю кипу литературы. Что же теперь делать? Глебов приехал. Глебов — это Носков, член ЦК. Никитич тоже. Соколов никогда еще с ним не встречался. Но обычно самые важные директивы техники получали от его имени. Василий Николаевич знал, что Никитич живет легально, где-то на юге. Как это все нескладно вышло!.. В городе одновременно очутились два представителя ЦК и в момент, когда его квартира наверняка провалилась. Никитич остановился в Смоленске проездом. Он спешил в Москву, но желание самому посмотреть, как обстоят дела в транспортно-техническом бюро Северного района, заставило его завернуть в этот город. Конечно, если бы он знал, что в тот же день в Смоленск приедет и Носков, то изменил бы свой маршрут. Он не имел права рисковать. Не только вся техника партии, но и все ее финансовые дела лежали на нем. Конечно, удачно, что на вокзале его заметил Голубков и в тот момент, когда Никитич уже направился к нему, глазами указал на Носкова. Никитич поехал в гостиницу. Он знал, что его отлично сшитое пальто, котелок, трость, выхоленная бородка всегда производят на портье неотразимое впечатление. Лучший номер и дорогой обед — тоже средство конспирации. Раз он уже в Смоленске, то повидать Мирона необходимо. Никитич доволен работой заведующего транспортным бюро. Когда он выезжал из Баку, товарищи, работающие в бакинской подпольной типографии ЦК, сообщили, что их продукция лучше всего идет через Смоленск; ни одного провала. Никитич увиделся с Мироном только на следующий день. И самым безопасным местом оказалось статистическое бюро. Заведующего не было, и они расположились в его кабинете. Соколов нервничал. Он не утаил от Никитича, что его приезд очень некстати, рассказал о корзине с меньшевистскими изданиями. Никитич пожалел, что заехал. И ему и Носкову нужно скорее убираться отсюда. — Василий Николаевич, Глебов ныне с бородой? Соколов удивился. При чем тут борода? — Когда Глебов за границей, он бреется. Как прибывает в дорогое отечество, запускает вновь. По длине его рыжей бородищи можно определить, давно ли он в России. — Видно, давно. — Нужно его скорее отправлять… В этот приезд Носков — Глебов надавал такую кучу всевозможных инструкций, что практикам стало ясно — выполнение их может повлечь за собой провал всей техники. Пытались образумить представителя ЦК, но он был неумолим. Соколов в спор не вмешивался и думал, что этот неуемный человек никак не может понять, что техникам часто приходится иметь дело с обывателями. Обывательская же „романтика“ всегда склонна все упрощать, обнажать явления. Она довольствуется лежащим на поверхности и никогда не фантазирует. Обыватель обо всем судит по себе. На любое явление он смотрит через зеркало, в котором прежде замечает собственное отражение. Представителю ЦК нужно немедленно уезжать из Смоленска. И уезжать отнюдь не с вокзала этого города. Соколов выяснил, что Носков „наследил“. Мало этого: охранке, наверное, уже известна и его кличка, и его функции, и его физиономия. Носков забеспокоился и не стал протестовать, особенно после того, как Василий Николаевич сослался на Никитича. Да, надо немедленно уезжать! Соколов еще раз, на всякий случай, проверил смоленский вокзал. Темный, грязный, продуваемый всеми сквозняками вокзал в эти дни масляной был переполнен пьяными. Те, кто нагрузился сверх нормы, спали прямо на полу и на длинных деревянных диванах. Правда, таких было немного. Остальные пребывали просто навеселе. Подвыпившие парни горланили песни. У жалкого буфета две оборванные цыганки гадали на ладони и по картам. На первый взгляд могло показаться, что в таком бедламе нетрудно было затеряться, пройти к поезду незамеченным. Но Соколов не торопился с выводами. Найдя свободное местечко в зале ожидания, он сел и притворился спящим. Сквозь полузакрытые веки он внимательно оглядывал всю эту разношерстную, разномастную публику. Уже через несколько минут его внимание привлек человек неопределенного возраста и как-то странно одетый. Добротное черное пальто и смазные сапоги, а руки утонули в здоровенных кучерских рукавицах. Дядя не пьян и, видимо, никуда не собирается уезжать. Может, встречает кого? Тоже вряд ли — ближайший поезд подойдет через несколько часов. Василий Николаевич снова и снова ощупывает взглядом зал. У выхода на перрон вертится какой-то шустрый господин лет тридцати. Он явно не знает, как скоротать время. Заговаривает с контролером, потом изучает расписание и снова толкается среди пассажиров, выходит на улицу, возвращается. Этот господин очень напоминает облезлую дворнягу, которая не знает, где потеряла кость. Принюхивается и кружит, кружит… Нет, Носков не должен показываться на вокзале, его стерегут, в этом можно не сомневаться. Извозчик не удивился, когда два прилично одетых господина велели ехать за город, на „четыреста первую версту“. Праздник, и всяк веселится, как сочтет нужным. Только на этом полустанке даже кабачка приличного нет. Разве что деревня рядом. Но дело господское, наняли в оба конца и коню овес. Дорога укатанная, лошадь бежит споро. Навстречу то и дело попадаются розвальни, битком набитые парнями и девчатами. Гармошка взвизгивает, и звук тут же остается позади. Замирает и смех. И так всю дорогу. Рано темнеет зимой. Из города выехали засветло, а к полустанку подкатили, когда на небе высыпали звезды. До поезда еще целый час, а мороз крепчает. И ветер поднялся, сдувает с верхушек сугробов, с крыш не снег, а прямо-таки толченое стекло. Кучер завел коня в первый попавшийся двор. В избе тепло, чисто, но очень убого. Наверное, единственным украшением хаты служит большой медный самовар. Он похож на пузатого кирасира, грудь расцветили медали. Настоящий тульский. И совершенно неожиданно в красном углу под иконой — шлем. Его, наверное, недавно чистили битым кирпичом, и теперь стали видны темные пористые впадины раковин, выеденные временем. Хозяйка захлопотала у самовара. А Соколов с интересом вертит в руках шлем. Как он очутился в этой деревенской избе, пришелец из средних веков? Кто-то потянул Соколова за штанину. — Дяденька, а дяденька, а у меня и сабля есть… — Мальчишка лет восьми, босой, в драных портах, протянул Соколову обломок меча. Его никто не чистил, и ржавчина в нескольких местах проела клинок насквозь. Чудеса! Не изба, а музей древних доспехов. — У нас, дяденька, тутотки много этих шапок и сабель. Почитай, в каждой избе… Носков, молчавший и нервничавший всю дорогу, немного отошел. Он поверил, что выберется из Смоленска благополучно. Теперь и его заинтересовали шлем и клинок. — А знаете, Мирон, ведь тут, рядом со Смоленском, огромный могильник — Гнездовские курганы. Не помню, где я читал, что курганов этих чуть ли не более трех тысяч… Гнездово! Теперь и Соколов вспомнил. Ведь еще осенью ему пришлось побывать в Гнездове. Жил там один учитель, старый народник. Отошел от всех дел старик, но, когда надо, соглашался и литературу укрыть, и ночлег предоставить приезжим. Этот учитель и рассказывал о курганах. Носков, смеясь, взял шлем и напялил на голову. — Э, милый витязь, шапочка-то не про вас, великовата размером… Из-под шлема торчал только подбородок Носкова… Самовар зашумел, засвистел. Но что-то уж очень громко и протяжно. Носков первым сообразил: свистит паровоз, приближаясь к полустанку. Быстро оделся, вынул из картонки судейскую фуражку, сунул в картонку свою шапку и скорее на поезд. Извозчик остался чаевничать, Соколов пошел проводить Носкова. Поезд не задерживался. Едва Василий Николаевич успел махнуть рукой на прощание, поплыли вагоны. Ну, кажется, уехал благополучно. Соколов облегченно вздохнул. В этот момент он меньше всего думал о себе, своей безопасности. Ему почему-то казалось, что он застрахован от шпиков и жандармов, а вот другие товарищи… Он всегда волновался за них, требовал, чтобы, добравшись до места, они немедленно сообщали ему о прибытии. Конечно, в условиях конспирации это была излишняя и небезопасная роскошь. Не часто приходили такие письма, и поэтому Соколов жил в постоянной тревоге за друзей. Но пора и в обратный путь, а то как бы не завьюжило. В избе за те несколько минут, которые он отсутствовал, что-то изменилось. Но Соколов сразу не смог определить что. Разделся и только тогда заметил, что, кроме хозяев, в хате сидят еще человек пять мужиков. Извозчик забился в угол, растерянно моргает глазами. — Хозяюшка, подживи самоварчик… Эй, а ты коня накормил? — Какой тут корм, хоть бы ноги унести… — Что случилось? — Соколов посмотрел на мужиков. Молчат, сопят, в глаза не смотрят. Извозчик осмелел. — Хотят, вишь, за урядником послать… — Урядником? — Они, вишь, говорят, неведомо кого привез. Это я-то!.. Боятся, их таскать будут. А наше дело такое: наняли — везем. Тем и живем… — Постой, постой. Хозяин, в чем дело? Хозяин тоже не смотрит в глаза. Зато хозяйка, вооружившись для верности ухватом, затараторила: — У нас-то ни в чем, а вот у вас какие такие дела? Где товарищ твой-то? Тю-тю, уехал! А почему из города не уехал, почему картузик переодел? То-то и оно, что нечисто, пусть урядник и разберется, он власть… Вот уж действительно никогда не знаешь, где найдешь, а где… Беспокоился за Носкова, а сам, кажется, влип. А ведь и пошлют… Сцапают — и в холодную „до выяснения“, а начальнику полустанка прикажут вслед поезду телеграмму: задержите, мол, едет на таком-то месте, в таком-то вагоне… Василий Николаевич заставил себя сделать несколько шагов к столу, сел на лавку, разгладил усы и улыбнулся хозяйке такой широкой, доброй улыбкой. — Ну, ставь, ставь самовар, угости чайком-то! Успеешь за урядником послать, не убегу! А эти бороды пусть подумают, у них весь разум в волос ушел… Это был верный тактический ход. Конечно, он мог сейчас же выдумать какую-либо причину, почему они приехали сюда, а не сели на поезд в Смоленске. Но бородачи не поверили бы. А теперь их грызет любопытство. Соколов молчит, тщательно расчесывает волосы, охорашивается. Извозчик делает какие-то знаки. Понятно, коня надо покормить. — Хозяин, покорми лошадь, имей совесть, заплачу… Хозяйский сын срывается с места — и босой за дверь… — Куда? Хозяйка выронила ухват. Мирон смеется. Бородачи заинтригованы. Странный человек; ему говорят, что урядника позовут, а он и в ус не дует, чаи готов гонять. — Куда отсель-то, в город аль еще куда? — Хозяин не выдержал. — Конечно, в город. — Значит, отработал дельце-то? — Не совсем. — Как так — не совсем? Товарищ-то уехал… — Не весь… — Вещи остались? — Хуже. Соколов нарочно подогревал любопытство. Об уряднике они уже забыли, ждут ответа. Мирон тянет время. Нужно выдумать эдакое… А вот что? Вот уж действительно выдался вечерок… Сказка, да и только! — Тут история… Товарищу нужно ехать по делу, а его невеста не пускает, ревнует, говорит — уедешь к другой. Надо вам заметить, женщина она серьезная, глаза, говорит, повыцарапаю… — А что, и очень просто — выцарапает… — Все они такие! — Вот баба! — Так вашему брату и нужно. — Два дня на вокзале сторожила. Вот мы и тряхнули сюда. Когда на извозчике ехали, друг мой и шапку напялил, по судейской фуражке-то она бы его вмиг узнала. Вот и вся история. Так-то… Теперь можно спокойно пить чай. Бородачи забыли о Соколове, шутят над хозяйкой. Та обозлилась, огрызается, а они смеются. Соколов оделся, поблагодарил, расплатился. — Счастливо. К нам, милости просим… — Ваши гости…
Евграф обогнал Соколова и пошел впереди. Василий Николаевич немного поотстал. Вот Калитин завернул за угол, снял шапку и перекрестился на церковь. Затем вошел в божий храм. Кончалась вечерняя служба, богомольцы плотно набились в небольшой церквушке. Соколов подошел к Калитину. Тот крестился невпопад. Когда поп повысил голос, Евграф наклонился к уху Соколова: — У твоего дома все время болтаются двое. Второй день их вижу… Не дождавшись конца службы, Евграф вышел из церкви. Василий Николаевич подождал, пока он скроется из виду, надел шапку и медленно побрел прочь. Самое разумное — сейчас же зайти к Голубкову, предупредить, и на вокзал. Но в квартире остались вещи, деньги, не его, партийные деньги, и небольшой тюк с литературой. Пожалуй, он рискнет — явится домой, дождется, пока хозяева угомонятся, захватит свой багаж — и на вокзал, там переночует. Евграф догадается предупредить Голубкова. Теперь ему придется ведать транспортом. Об этом условились заранее на случай провала. Не успел войти в свой мезонин — хозяйка. — Василий Николаевич, у нас почетный гость — сослуживец мужа. Вы уж не откажите к нам поужинать. Очень просим… — Спасибо. Сейчас спущусь… Может быть, так и лучше. Посидит внизу часок — другой, уйдет гость, хозяева, довольные, залягут спать. Гость, пехотный офицер, капитан, Соколову сразу же не понравился. Какой-то вертлявый, говорливый и все с намеками, с намеками… О чем только не болтает — о войне с японцами, о „Поединке“ Куприна. Потом пошли анекдоты. Хозяева явно скучали. И гость иссяк. Сухо распрощались. Когда офицер ушел, хозяйка проговорилась, что их знакомый получает выгодное местечко в жандармерии. Василий Николаевич окончательно убедился, что медлить нельзя. Узел с вещами и литературой получился солидный. Затянув его ремнями, Соколов тихо выбрался во двор, потом через калитку на улицу. К вокзалу нужно было идти направо. Но вряд ли там встретишь извозчиков. Луна залила ярким светом дома, сугробы, деревья. Улица точно вымыта, и только противоположный тротуар утонул в тени. Прошел квартал, другой — извозчиков нет. Только со стороны тюрьмы, белеющей вдалеке, движется навстречу темная тюремная карета. Ноги приросли к панели. Карета медленно поворачивает, вот она поравнялась с ним, поехала дальше. И в ногах появилось ощущение необыкновенной резвости. Перепрыгнуть бы улицу, а там через забор… Соколов старается идти медленно. Он ждет окрика…
ГЛАВА III
Да, занесла его судьба-злодейка в этот городок! Каменец-Подольском называется. Не город, а мешок какой-то. Железной дороги нет. Одна — в девяноста верстах, другая — в двадцати. Ни фабрик, ни крупной торговли. Наверное, здесь все знают друг друга, и появление нового человека сразу становится событием чуть ли не городского масштаба. Вот и поработай тут… Пока добирался до вокзала, извозчик форменный допрос учинил. Хотел было прямо на явку ехать, но из-за этого возницы пришлось в гостинице остановиться. Явка оказалась действующей. Хозяин явки обещал известить своего человека, связанного с контрабандистами. Соколов решил обождать. Транспортов около года уже не было. Кудрин, ими ведавший, провалился. Да и не мудрено. И ему здесь долго не удержаться. Значит, медлить нельзя. Нужно пробраться во Львов и переправить литературу. И, наверное, сразу же оставить этот город. Хозяин явочной квартиры вернулся быстро и привел с собой какого-то мужчину. Пока мужчина раздевался, Соколов, мельком взглянув на него, решил — не новичок. Длинная каштановая борода, неторопливые движения. Повесив пальто, он обернулся, несколько мгновений всматривался в Мирона, потом, как-то по-бабьи всплеснув руками, бросился обниматься. — Фу ты! Не узнал! Честное слово, не узнал! Володя, да ты ли это? — Я, Василий Николаевич, собственной персоной. Но как я рад! Вы живы, здоровы, свободны? Надолго ли в эту богом забытую дыру? Володя Прозоровский забрасывал Соколова вопросами, тормошил, смеялся неизвестно чему. Василий Николаевич наконец прервал этот поток излияний. Ему тоже любопытно знать, как сложилась судьба его крестника. Володя сразу стал какой-то скучный. — Да это не так уж интересно. А вообще вы были правы тогда. Ой, как правы! Нелегко мне пришлось. В Минске вывески устроился писать, да, видно, ко двору не пришелся. Не получалась у меня благолепная мазня, а заказчикам — трактирщикам, купцам — не нравилось то, что я рисовал. Души нет, русской души, говорили они. Работал и маляром. День отмахаешь кистью, так потом лишь бы до кровати добраться… Книги совсем забросил. Забыл, что такое театр. Худо было. И если бы не Кудрин… Да, тот самый, что провалился здесь. Ведь он в Минске явочную квартиру держал. Потом ее полиция приметила. Кудрин и подался сюда. Я ему как-то сказал, что по-польски говорю с детства, знаю немецкий и французский, вот Кудрин обо мне и вспомнил. Ему транспортер в Галицию нужен был. Когда его арестовали, я во Львове сидел. Там сейчас большой транспорт готовят. — Ну, а как твоя сестрица? Зинаида, кажется? — Зина? Она своего добилась. Сейчас в Петербурге, курсистка. Мать тоже в столицу перебралась, чтобы присматривать за дочерью. — А ты не помирился с родителями? — Так я же и не ссорился. Отец, что называется, проклял, отказал в наследстве, а маман тайком деньги присылает, для нашей тощей кассы тоже подарок. Как приятно сознавать, что ты не ошибся в человеке! Маменькин сынок нашел в себе и силы и мужество, чтобы начать новую жизнь. Ну, а то, что было трудно, — это на пользу. Теперь уже ничего не страшно! — Василий Николаевич, значит, вместе во Львов-то? — Вместе, Володя, вместе. Ведь это ты с контрабандистами дружбу водишь? — Я. Кстати, их предупредить нужно. — Да, да, поторопи, здесь мы не засидимся. Съездим туда и обратно, и вон из этой ловушки!…Март. Уже пахнет весной, и днем ласково греет солнце. Но вечерами иногда выпадает снег — тихий, вялый. А чаще к вечеру собирается дождь. Контрабандист Фома осторожно правит лошадью, часто останавливается, оглядывается. В такой темноте, под дождем не мудрено сбиться с дороги и налететь на пограничные секреты. Но Фома уверяет, что в непогоду секретов не ставят, а где посты, он знает. И они спокойно доберутся до нужной деревеньки. Соколов замерз, а Володя и вовсе лязгает зубами, не то от холода, не то от волнения. Лошадь остановилась так неожиданно, что Василий Николаевич ткнулся лбом в спину вознице. — В чем дело? Из темноты показался силуэт. Фома тихо окликнул. — Дурно… Треба почекаты… — Ждать. Почему? — Поставили секреты… Вот тебе и раз! Фома смущенно шмыгает носом. Выходит, нужно возвращаться. Вместо теплой избы снова несколько часов трястись в телеге под дождем. Соколов разозлился. Спешил, мок, на ухабах трясся… — Долго простоят секреты? — А кто их ведает! Может, день, а может, и три… — Мы переждем в деревне. — Заметят… — На пароме уже заметили, да и лесник повстречался… — Ин ладно, вон у него летник есть. Только днем выходить — ни под каким видом! — Кормить будете? — Брюхо чем набить найдем, а разносолов — не взыщите… И вот уже второй день они лежат на широких нарах летника. Вчера еще коротали время в разговорах, а сегодня и говорить не о чем. Летник забит всякой рухлядью — побуревший картофель вперемежку с рваной сбруей, лопатами, какие-то недоколотые поленья, мешки, проеденные мышами. И над всем этим убогим царством нищеты и запустения, как боевые знамена, развеваются овчины, кафтаны, рушники, кацавейки. Два маленьких оконца заткнуты кошмой. Воздух кислый, тяжелый, кажется, на ощупь можно потрогать. Запахи овчин, тухлой капусты, прелой сбруи. В довершение всех бед в плотно закупоренном летнике за зиму устоялся холод, и робкому мартовскому солнцу еще не под силу изгнать его. Фома приносит неутешительные вести — секреты стоят. Контрабандист уверен, что его клиенты не рискнут покинуть свое убежище. Но Соколов решил двигаться. Сидеть в летнике не было уже никаких сил. — Фома, сегодня же вечером ты свезешь нас к границе и переправишь на австрийскую сторону… Фома не хочет рисковать. Он мычит что-то и отрицательно качает головой. Вот упрямая ослица! Ну, погоди!.. Соколов решил сыграть на самолюбии контрабандиста: — Ты не проводник, а… черт те что!.. — Я… плохой проводник?.. Я плохой проводник!.. — Фома задохнулся от негодования. — Ладно, идете на риск — ваше дело… В десять часов вечера деревенька уже спала, только какая-то собака никак не могла угомониться. Фома вздрагивал всякий раз, когда собачий лай раздавался неожиданно близко. Но вот и брехливый пес угомонился. На землю спустилась такая тишина, что режет уши. И только легкий шелест прошлогодней мертвой травы под ногами напоминает об опасности. Перевалили через какой-то бугор. Потом долго плутали по дну оврага, карабкались на крутой его берег. Внезапно совсем рядом, за кустами, тускло блеснула вода. Фома лег на землю и стал слушать. Он долго-долго не поднимался. Володя смотрел на него, как на шамана. Его даже стало знобить. Соколов злился. Сколько бы Фома ни кривлялся, какие бы ритуальные фокусы ни выкидывал, больше сговоренной суммы он ему не заплатит. И нечего набивать цену… Фома и сам почувствовал, что переборщил. Быстро поднялся на колени и тихонько свистнул. Кусты раздвинулись. Соколов вздрогнул. Вот ведь артист! Этот дядя сидел в кустах и дожидался сигнала режиссера! — Готово? Всё? — Всё! — Весла? — Взял… — Айда! Через несколько шагов в руках у Фомы и нового провожатого оказалась лодка. Такая легкая, маленькая, что они без всяких усилий держали ее каждый одной рукой. Еще несколько шагов — лодка беззвучно легла на воду. А еще через минуту рядом с ней закачалась вторая. — Ложись! Соколов лег на дно. Когда перед глазами только звезды, когда слышен лишь легкий всплеск встречной струи, трудно заставить себя думать об опасностях. А ведь на галицийском берегу австрийские патрули прощупывают каждую пядь водной поверхности. И они всегда готовы стрелять без предупреждения. Да и с русского берега в любой момент может раздаться выстрел. А звезды равнодушно смотрят с неба… Лодка вошла в тень. На следующий день Соколов уже разгуливал по улицам Львова. За границей он впервой. И так непривычно: посещает склады социалистической литературы и не ловчит, не оглядывается. Хотя словчить все же пришлось. Как раз в день приезда во Львов из Женевы пришло два тюка с литературой. Так как Соколову львовские товарищи по соображениям конспирации не позволили упаковывать ящики и тюки, предназначенные к отправке в Россию, то, стараясь хоть чем-то помочь им, Василий Николаевич вместе с Володей взялись получить женевские подарки. Почтамт просторный, светлый, никакой толчеи, чиновники вежливые. Но они как-то подозрительно переглянулись, ознакомившись с квитанциями. Через несколько минут выяснилось пренеприятнейшее обстоятельство. Два тюка, по пять килограммов каждый, показались служителям почты подозрительными. Они решили, что какие-то злоумышленники, нарушая законы, пересылают из Швейцарии беспошлинное масло. Почему масло? Но чиновники не отвечают на вопросы. Тюки вскрыли, а там литература, и притом социалистическая. — Панам придется уплатить штраф за несоответствие обозначения груза на упаковке и самого груза… Только и всего? Соколов полез в карман за деньгами. Оказалось, что нет, не так все просто, нужно составить протокол. Один чиновник отправился за бланком, другой — за понятыми, без них нельзя. Соколов глянул на Володю. — Улепетнем?.. — Пожалуй….. хуже не будет! — Берем? — Берем! Потом вечером, на квартире какого-то студента, Василий Николаевич начал рассказывать о дневном приключении. Но Володя перебил, перевел разговор на другую тему. — Вы, Мирон, не сердитесь, — заявил он, когда остался с Соколовым наедине. — Здесь никто не поймет нашего поступка. Нас просто сочтут за воров… Что ж, может быть, Володя и прав. Соколов решил припасти рассказ для русской сочувствующей интеллигенции, она всегда готова видеть за революционными буднями романтику приключений, и если таковые случаются (не с ними, конечно), то они охотнее раскошеливаются — на романтику, само собой разумеется.
Фома был встревожен. Уже луна глядится в реку, теперь не переправишься. Задержался, уважаемый, во Львове против уговоренного. Теперь сиди и жди, когда луна пойдет на убыль. Но Соколов не хотел и не мог ждать. — Завтра выйдем пораньше, возьмем только то, что можно унести на себе, остальное вы сами после перевезете. Фома ушел недовольный. Но он уже понял: с этим русским не поспоришь. Весь вечер Соколов с Володей перекладывали содержимое узлов и ящиков, чтобы хоть какую-то часть литературы унести с собой. Паковали и ругали на чем свет стоит львовских „пустозвонов“. Целых три месяца эти „интеллигенты“ там, во Львове, собирали литературу для этого транспорта, два дня паковали. И что ж, в ящиках — медицинские учебники на немецком языке, старые журналы „для семейного чтения“, модель черепа, какие-то географические атласы. И черт знает что еще!.. Усталые, поздно улеглись спать. Василий Николаевич — на лавке у окна. Противная луна! Он невзлюбил ее с той памятной смоленской ночи, когда покидал этот город. Сегодня луна — главная помеха для их возвращения в Россию. Ее мертвый свет может вдохновить только поэтов… Луна опрокинула на пол переплет маленького деревенского окошка. Она мешает спать. На какой бы бок Соколов ни перевернулся, всюду свет луны. Наверное, он все же задремал. Проснулся потому, что в хате стало темно, лунный свет исчез. В стекло постучали. Фома? Соколов поднимается на лавке и снова откидывается на спину. В окно тускло просвечивает медная каска… Жандармы! Соколов долго притворялся спящим. Но его все же „разбудили“. Пришлось захватить чемодан, ящик с картами, атласы, череп и плестись к пану коменданту. Старший конвоир очень предупредителен. В канцелярии коменданта разрешил курить и сам же предложил сигареты. Соколов подробно выспросил солдата, пока ходили за паном комендантом. Оказалось, что на контрабанду здесь смотрят сквозь пальцы, если это только не социалистическая литература. А совсем недавно и ее не задерживали. Солдат был поляк, долго жил в Варшаве, хорошо говорил по-русски. И, когда вошел комендант, саквояж с новинками социалистической литературы исчез под шинелью неожиданного друга. Пан комендант осматривает ящик. Из-за всего этого барахла не стоило поднимать среди ночи… На обратном пути Соколова и Володю нагоняет солдат, возвращает саквояж. Но но прощается. У него в кармане бутылка вина, и ее непременно нужно распить „ради приятного знакомства“. Солдат ушел под утро. И посоветовал Соколову тоже не очень мешкать. В сумерках благополучно перешли пограничную реку. Как будто пронесло. Вышли на дорогу. И тут-то попались! Оказывается, их заметил какой-то мужик, прибежал на кордон. И вот они шествуют под конвоем. Под конвоем проследовали и в Каменец-Подольск. И здесь снова улыбнулась удача. Соколова и Володю обвинили только в том, что они без пропуска перешли границу. Такие парушения разбирались в суде. А пока он состоится, их отпустили. Скорее в Питер, сменить паспорт, получить новое назначение. Каменец-Подольск остался далеко в стороне.
ГЛАВА IV
Пароход подгребал к самарской пристани. Наступал тот час утра, когда еще не начался трудовой день, но уже все, кто работал, служил, хозяйничал, покинули дома и вышли па улицу. Василий Николаевич был поражен многолюдьем и кипучей суетой этого города. Пароход не мог подойти к дебаркадеру. На берег нужно было сходить через нижнюю палубу соседнего судна. Но почему соседний пароход голубеет жандармскими мундирами? После Каменца Соколов не может спокойно смотреть на этих держиморд. А вдруг его проследили и теперь предстоит торжественная встреча? Нет-нет, не может быть. Такой „почетный эскорт“ из десятка жандармов, право же, не по чину. Василий Николаевич пропускает пассажиров. Ему некуда торопиться. И пассажиры и жандармы не выспались. У них мятые физиономии, они дружно зевают в ладони, смотрят и ничего не видят. Значит ли это, что жандармы поджидали его тут долгую бессонную ночь? Ерунда! Сам не выспался и распустил нервы. Несколько шагов по качающимся сходням… И никто его не задержал, никто не зацепился взглядом. А ему-то казалось, что весь берег только и смотрит на него! Жандармы вели себя как-то необычно. В Самаре Мирона не знают. Это и хорошо, и вместе с тем плохо. Хорошо в отношении полиции — пока-то еще там шпики приглядятся. А плохо то, что уже сегодня негде ночевать. Выбравшись на пристань, Соколов в нерешительности топчется у стоянки извозчиков. Извозчики во всех городах одним миром мазаны. Увидели приезжего и зазывают. Пятак кинули, кому везти господина. А куда ехать? Делать нечего — к Арцыбушеву. — В Управление Самаро-Златоустовской дороги, — негромко, чтобы услыхал один лишь возница, сказал Соколов. Извозчик плеснул вожжами: — Но-о-о! Пристань, попутчики, жандармы остались позади. А местные голубые мундиры похожи на сонные огородные пугала. Или нет, они скорее напоминают заспанное воронье. — Скажи-ка, братец, чего это спозаранку на пристани столько жандармов подвалило? Возница хмыкнул. — И смех и грех, барин! Навигация в нонешний год ранняя, вот их высокоблагородие господин полковник ихний изволят в Астрахань отплывать с семейством. И третий день гоняет служивых на пароход, чтобы они каюты обоспали. Пароходики-то прямо из затона… — Как так — каюты „обоспали“? — А так! К примеру, если клопы или там иная какая нечисть в каютах завелась, враз на жандармов бросится. Служивые каютки эти заприметят и доложат их высокоблагородию… Только, сдается мне, ночью ни клопы, ни крокодилы им нипочем. Нажрутся водки и храпят, аж кони шарахаются. „Обоспят“! Занятно. Хорошо бы, и мой приезд проспали!» По булыге коляска гремит, как колесница Ильи-пророка. Подковы высекают молнии. Городок, конечно, не слишком-то симпатичный. Пыльно, грязно. А ведь на улицах немало зелени. Ничего не поделаешь. Транспортная контора и Восточное бюро ЦК РСДРП должны обосноваться здесь. А поначалу избрали университетский Саратов. Красивый, оживленный, интеллигентный. Но Самара удобнее тем, что стоит на магистрали, связывающей Россию с Сибирью. Именно по этой самой Самаро-Златоустовской дороге зайцами или с чужими паспортами, переодетые, от станции к станции пробираются те, кто не пожелал задерживаться в «сибирских тундрах». Едут и те, чьи сроки пребывания «в местах, не столь отдаленных» окончились. Они ищут приюта, они нуждаются в явках, документах, многих нужно переправить за рубеж. И партия должна им помочь. Ну, а помимо этого, транспортно-техническое бюро обслуживает местные комитеты литературой, является связующим центром на огромной территории от Астрахани до Челябинска, от Баку до Москвы. Извозчик уже скрылся из виду, а Василий Николаевич все еще не решался войти в здание управления. Да что с ним сегодня? Арцыбушев — товарищ надежный, проверенный. Откуда такая нерешительность? Наверное, дело в том, что слишком уж много всяких легенд вокруг Арцыбушева. Рассказывают о его странностях и рассеянности. Выставит он, к примеру, на окнах условные знаки, а потом забудет их снять и удивляется, негодует, почему к нему никто из товарищей не заходит. Соколов медленно входит в вестибюль, снимает пальто. Потом, что-то вспомнив, вынимает из кармана какую-то книжку. Тоже глупость-все эти пароли! Конечно, совсем без них нельзя. Но, если посторонний человек ненароком услышит обмен этакой тарабарщиной, сочтет за сумасшедших, панику поднимет, полосатый халат потребует напялить. Соколову открыты «три степени доверия». Была ли четвертая и пятая, он не знал. Но хватает и трех. Первая степень:«Товарищ Мирон?» «Он самый». «Битва русских с кабардинцами…» «…или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».Здесь нужно сделать паузу. Потом проверить, посвящен ли товарищ во вторую степень.
«Где вы читали эту книгу?» «Там, где любят женихов».И, наконец, вершина:
«Хорошо ли там жилось?» «Насчет пищи — ничего, а спать было холодно».Черт бы побрал Носкова, он выдумал этот пароль. Сколько раз уже Мирон пытался с серьезной миной изречь эту чушь и всякий раз под конец хохотал. Вот и теперь: достаточно вспомнить, и трудно удержаться от смеха. Василий Петрович Арцыбушев «чистил перышки». Так он называл операцию по ликвидации всевозможных уличающих бумаг. В свои сорок семь лет Арцыбушев выглядел стариком. Седая борода, седая грива волос, давно не знавших ножниц. Дома он уже успел «почиститься», но на службе, в кабинете, могли заваляться какие-нибудь документы. Подобную чистку он проводит уже несколько лет в канун Первого мая. Наверное, и в этом году его «изолируют», пока не утихнет первомайская страда. Бумаг много, но почти все они служебного содержания и только лишний раз напоминают о начальстве, окриках, приказах. Давно бы бросил опостылевшее место в конторе железной дороги, да нельзя. Нет у партии денег, чтобы содержать не только его самого, но и его семью. На самом дне ящика — газета. Арцыбушев разворачивает — катковская, старая. Как она кнему попала? И зачем? Он не читает газет, издаваемых таким верноподданным зубром, как Катков. Арцыбушев бегло просматривает полосы. Вот оно что, Лев Тихомиров, народоволец, стал ренегатом и, выпросив прошение у царя, занял место редактора в катковской газете! Как давно это было! Сколько ссылок, тюрем, этапов прошел Арцыбушев! Не верится, что был когда-то Петр Заичневский, автор «Молодой России», что еще в семидесятых годах ходил с котомкой по деревням и селам и пытался поднять крестьян на борьбу с самодержавием. Заичневский в 1896 году умер в Смоленске. А если был бы жив, то обязательно стал бы большевиком. А сколько бывших народников ушли к социалистам-революционерам и вновь занимаются «вспышкопускательством»! Здесь, в Самаре, Арцыбушеву приходится бороться с ними, и но всегда победа остается на стороне социал-демократов. Литературы не хватает. Воспоминания неожиданно вернули его к делам сегодняшнего дня. Откуда-то из глубины поднялось неуемное желание совершить что-нибудь из ряда вон выходящее. Старая народническая закваска все же давала о себе знать. Всякий раз, когда его обуревали такие желания, на ум приходил сызранский мост. Он бы сам и не мог сказать, почему ему захотелось этот мост взорвать, почему, например, его не тянет бросать бомбы в царей, губернаторов, министров. …Дверь кабинета открылась бесшумно. Соколов оглядывается. Хорошо, что «Марксу» можно представиться без свидетелей. Василий Николаевич вытаскивает из кармана томик Лермонтова. Протягивает. Пока «старый волк» будет считать едва заметные точки над буквами третьей строфы шестнадцатой страницы, Соколов приглядится к новому знакомому. И он рассматривает его, не скрывая любопытства. Действительно — Карл Маркс. Ничего не скажешь, колоритен этот бывший курский помещик, бывший народник эпохи «хождения в народ». Говорят, что он раздал земли свои крестьянам, облачился в зипун и лапти и… угодил в «сибирские тундры». — Битва русских с кабардинцами? Соколов не сразу сообразил, что должен поведать о горькой судьбе прекрасной магометанки. Потом оба долго хохочут, долго трясут друг другу руки. Арцыбушев тянет Соколова вон из комнаты. И никаких протестов. Сегодня он хозяин. И потому «приют», или «притон», как величают его квартиру местные соцдеки, самое приятное и, конечно же, самое безопасное прибежище для усталого гостя. В арцыбушевском «притоне» и впрямь уютно. Милая, тихая хозяйка, куча детей, какие-то юноши, девушки, гимназисты, студенты. Наверное, просто постояльцы. Но все они предупредительны, заботливы. И, чего греха таить, после дороги так приятно побаловаться чайком, а потом вытянуться на хозяйском диване под теплым пледом. Арцыбушев что-то рассказывает… И снится Соколову длинный-длинный сызранский мост через Волгу. По мосту снуют паровозы, и ветер пригибает дымные хвосты к воде. За паровозами идут толпы людей. Останавливаются, нагибаются, что-то бросают под ноги и бегут, бегут… И снова паровозы. Потом дым окутывает мост… — Э, батенька, да вы уже спите! Ну-ну, я в другой раз, в другой раз… Только мост мы с вами взорвем обязательно! И нет ни моста, ни паровозов, ни дыма, ни хозяина. Утром Волга светится мириадами маленьких солнц. Они гаснут, вспыхивают, забавно моргают и внезапно исчезают. Щуки, лещи, судаки гоняют мелкоту. Удары рыбьих хвостов раскалывают солнечные блюдца. Немного позже небесное светило загонит обитателей вод в мглистую полутьму виров и омутов. Соколов проснулся от беспокойной мысли: цел ли сызранский мост или вчера его все-таки взорвали? Хозяин давно ушел на службу, разбрелись и постояльцы «притона». Хозяйка деловито подливает чай, а он все старается разобраться в сновидениях. Нет, мост, взрыв — это арцыбушевские фантазии. Соколова предупреждали еще в Москве. Как ни колоритен Арцыбушев, как ни мила его хлопотливая жена, а все же напрасно он пошел ночевать в этот «притон». Оказалось, что Василия Петровича перед каждым Первым мая полиция обязательно сажает этак недельки на две, ради профилактики. А ведь скоро Первое мая. Нет, не надо было заходить к нему. Через несколько дней Соколов уже с головой ушел в ставшую привычной работу. Вот только с помощниками у него плохо. Напрасно отпустил Володю. Но парню так хотелось учиться, и в Киеве, куда его отправили, такая возможность может представиться. Накладные приходят на Пензу, Саратов, Астрахань. Бывают и на Самару. Ночь душная, сны навязчивые. И простыня — как раскаленная сковорода. Василий Николаевич несколько раз просыпался. Не открывая глаз, пытался о чем-то думать, вызвать приятные образы. И снова проваливался в парную духоту. Только к утру из открытого настежь окна потянуло прохладой и запахами реки. Утро прогнало сновидения. Но уже встало солнце. Его лучи забрались в комнату. Разбудили. Соколов подумал, что поэты врут: солнечные лучи не тихие гости, они ужасно шумят и ругаются хриплыми голосами… Василий Николаевич уселся на кровати. Еще только семь часов, а эти ломовики под окнами уже успели где-то напиться и кричат, бранятся, запрягая лошадей. Очень болит голова. Вялость сковывает тело. Поспать бы! Но теперь уже не удастся. Вода в тазу за ночь нагрелась, и умывание не освежило. Да, июльская жара в Самаре дело нешуточное. В дверь постучали. Сильно, требовательно. Так стучат только полицейские и почтальоны. Сонливость как рукой сняло. Открывать или… А что — или? Соколов осторожно подошел к окну. Прячась за выступ рамы, посмотрел во двор. Извозчики уже уехали, во дворе пусто. Значит, открывать… Почтальон ворчит. Ему тоже жарко. Расписавшись, Мирон запер дверь. И кому это в голову взбрело посылать заказные письма прямо к нему на квартиру? Есть специальные адреса, есть почтамт, наконец. Вскрыл конверт. Из него вывалились две зеленые бумажки. Накладные на получение груза в самарском порту. Что за дьявольщина! Груз — гудрон в ящиках. Соколов заглянул в конверт, но там больше ничего не было. Накладная на предъявителя. Какая-то ошибка, почта, наверное, перепутала… Да нет, на конверте его адрес, его фамилия. Откуда этот гудрон? И штамп отправителя не разобрать, очень блеклый. Соколов достал лупу: «Баку». Так, значит, гудрон от бакинских товарищей. Интересно, что он с ним должен делать, куда везти эти ящики? Утро начиналось с загадок. Теперь целый день он будет думать об этом проклятом гудроне, а после обеда все равно нужно сходить в порт, узнать, не прибыл ли. Жандармский унтер Гуськов совершенно сомлел в дежурной комнате. В окно была видна спина городового. Белая рубаха на нем взмокла и прилипла к телу, даже на фуражке расплылось темное пятно от пота. Порт не шевелился, грузчики едва таскали мешки и через каждые полчаса плюхались в воду. Ломовые извозчики распрягли лошадей, а сами забрались под телеги, прямо на булыгу грузового двора. Черный, как прокопченный котелок, портовый буксир с трудом подтягивал к причалу здоровенную баржу. Буксир дышал тяжело, словно и ему было невмоготу от этой адской жарищи. Портовые рабочие, сняв рубахи и закатав штаны, тащили деревянный переносный кран. «Наверное, снова бочки с нефтью прибыли, раз краном разгружать собрались», — лениво подумал Гуськов. Ему надо было выйти на причал, осмотреть баржу, но не было сил подняться. Баржу наконец пришвартовали. Приладили и кран. Выбравшиеся из воды грузчики о чем-то заспорили с крановщиком. Двое грузчиков влезли на баржу и выкатили здоровенную железную бочку, обвязали ее веревкой, подцепили за крюк. Заскрипел ворот, бочка дернулась, отделилась от настила баржи, как-то нелепо перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Гуськов окончательно пришел в себя. Хотя его и не касалось это происшествие, но все же непорядок. Гуськов, кряхтя, направился к причалу. Рабочие перетаскивали кран на новое место. Соколов обогнул пакгауз и, скрываясь в его тени, стал спускаться к воде прямо по берегу, минуя лестницу, залитую солнцем. Трава выжжена, земля высохла, потрескалась. «Опять неурожай», — подумал Василий Николаевич, но тут споткнулся и, едва удерживая равновесие, вылетел на дощатый помост. С разбегу он чуть было не свалил Гуськова. Унтер охнул, когда его боднул головой в грудь какой-то здоровенный дядя и недолго думая схватил Соколова за шиворот. — Очумел, что ли? Соколов рванулся. Инстинктивно. Ведь его держал не кто-нибудь, а жандарм! Но тут же пришел в себя. — Пардон! Экая жарища… Я не очень больно вас? Жандарм отпустил воротник рубашки, вытер усы, и не удостоив Соколова ответом, сделал несколько шагов. Потом резко обернулся. — Непорядок-с. Вы по какому праву на грузовой пристани? Час от часу не легче! И надо же ему было споткнуться! Показать накладные? А может быть, они только и дожидаются их предъявителя? Наверняка. Ведь жандарму на грузовой пристани делать-то нечего, здесь должен дежурить городовой. — Да вот нога подвела… Шел себе спокойно, и вдруг она, подлая, и подвернулась. Ну, я и скатился вниз… Да вы не сердитесь, ведь без умысла, Сейчас поднимусь. Жандарм заложил руки за спину, расставил ноги, всей своей позой давая понять, что не сдвинется с места, пока этого господина здесь и духа не будет. Пришлось карабкаться наверх. Сегодня уже нельзя появляться на пристани. А завтра надо хорошенько осмотреться, прежде чем приходить сюда. — Бере… е… гись! Голос оборвался. Что-то грохнулось на настил причала. Соколов оглянулся. Жандарм бежал к группе людей, обступивших большой деревянный ящик. При падении доски местами оторвались, и из ящика медленно, как бы нехотя, густым черным тестом выползал гудрон. «Батюшки, гудрон в ящиках!.. Уж не на эту ли партию гудрона мои накладные?» Соколов быстро перебрался к стене пакгауза и, прячась за ее выступом, стал наблюдать. Грузчики снова ругались с крановщиком и рабочими. Ящик, слава богу, никого не придавил, но теперь нужно было опять двигать кран. На солнцепеке гудрон стал быстро растекаться, угрожая отрезать дорогу к крану. В суматохе, пока кран двигали, никто не заметил, как сквозь разбитые ребра большого ящика проглянул еще один, маленький, черный, добротно сколоченный. Соколов уже больше не сомневался. Это действительно та партия гудрона, на которую накладные лежали у него в кармане. Он разгадал загадку, заданную ему бакинскими отправителями. В том, маленьком ящичке — литература. Конечно, придумано здорово. Но вот бывают и такие оказии. Не налети он на жандарма, то влетел бы прямо в тюрьму. Пожалуй, пора и уходить. Между тем маленький ящичек заметили рабочие, грузчики, они даже попробовали его извлечь из большого. Но растекающийся гудрон был горяч. Достаточно поставить ногу, и она прилипала к обжигающей черной массе. Жандармский унтер бегал вокруг ящика, как шелудивый пес вокруг кости. Кто-то успел крикнуть: «Контрабанда!» Прибежал городовой с досками. Их перекинули через лужу гудрона. Разбили до конца большой ящик. Но маленький так приклеился к остаткам гудрона и нижним доскам, что при первой же попытке его поднять городовой только оторвал доску. Жандарм схватился за голову — в ящике лежали стопки каких-то не то книг, не то брошюр! Соколов выбрался на набережную и торопливо зашагал в город. Гудронный транспорт провалился. Накладные нужно сжечь и немедля поменять квартиру. Вернее, уже сегодня он не может вернуться к себе домой. Как часто стали повторяться похожие ситуации! Так было в Смоленске, в Каменец-Подольске, теперь в Самаре. Надо предупредить товарищей, чтобы они сейчас же «очистили» его комнату и передали по цепочке о провале. Вот ведь к чему приводит пренебрежение азбукой конспирации! Будь накладные на предъявителя и послали бы их не по его адресу, а, скажем, на почтамт, он ничем не рисковал бы. Хотя, наверное, случилось бы худшее. Пока он ходил бы на почту, получал накладные, злополучный ящик разбили бы без него. Жандармам осталось бы только дожидаться хозяина груза. Богомолов добрался-таки до Астрахани, о которой мечтал в сырой, угрюмой уссурийской тайге. Жить просто так, без риска, без приключений, он уже не мог. Но бродяжничать больше не тянуло, охота надоела. Богомолов стал присматриваться к общественной жизни города. Сначала ему показалось, что в этом отношении Астрахань просто заштатный городок. Ни тебе забастовок, ни шествий, ни покушений. А если верить слухам, в Центральной России, Прибалтике, Украине то и дело или губернатора прикончат, или какого-либо зверствующего жандарма. Правда, все это дело рук социалистов-революционеров, а Богомолов относился к ним скептически. Террором ничего не добьешься, да и правительство не запугаешь. Уж на что грозными были народовольцы, убившие Александра II, а все кончилось тем, что на престол взобрался Александр III. Убили Плеве, министра внутренних дел, ну и что? У царя министров хватит, во всяком случае их значительно больше, чем одиночек-террористов из числа социал-революционеров. — Наверное, он в конце концов уехал бы из Астрахани, если бы на случай. Познакомился с Ольгой Варенцовой. Старая социал-демократка, искровка, большевичка, она возглавляла всю работу местного, да и не только астраханского, партийного комитета. Смелый, находчивый, всегда ищущий приключений Богомолов мог быть полезным партии. Ораторов хватало, да и пропагандистов Баренцева подготовила. Но эти люди были малопригодны там, где требовалось, что называется, пройти по острию ножа. Варенцова очень быстро приобщила Богомолова к большевистской вере. И вскоре представился случай проверить его на деле. К концу лета Соколов подобрал двух — трех помощников, наскоро проинструктировал их и разослал с тюками. В это время через Самарское бюро уже проходило по тридцать — сорок пудов литературы ежемесячно. Самому Василию Николаевичу пришлось ехать в Астрахань. Баку прислало туда посылку «кавказских чувячек». В Астрахани посылки никто не ожидал. Конспиративной квартиры, на которой можно было бы рассортировать груз, не оказалось. Ольга Варенцова даже рассердилась, когда Соколов нагрянул. — Предупреждать надо!.. — Ничего, мы экспромтом… — А когда же получать? — Сегодня, завтра… — Ну и народец! А народец — это всего-навсего Соколов в единственном числе. Но сам идти за грузом он не может. Нужно подыскать получателя. Варенцова хотя и ругалась, но получателя нашла быстро. Богомолов оказался очень расторопным человеком. Он уже имел кличку «Маэстро». Получить «чувячки» — какой же здесь риск? Богомолов доставил посылку Мирону. Они вместе упаковали литературу. Половину Соколов намеревался захватить с собой в Самару, а половину отправить малой скоростью в далекий Томск. Деловито перестукивают плицы. Им много работы — ведь сколько воды нужно взбаламутить, подгрести, оттолкнуть! И только у пристани колеса могут хоть немного отдохнуть. На верхней палубе жара сморила пассажиров. Они перебрались на теневой борт, и теперь штурман ругается, пугает, что пароход перевернется. А он и правда перекосился, вот-вот кверху брюхом поплывет. Угрозы штурмана действуют, но ненадолго. Солнце выжигает у пассажиров всякое благоразумие, и они вновь ищут спасительной тени. Учитель царицынской гимназии забрался в салон, открыл окна и вдруг обнаружил, что продуваемый сквозняком салон хорошо защищает от жары. Лишь бы сюда народ не набился, а то тогда духота станет невыносимой. Так прошло несколько часов. Напрасно метрдотель ресторана приглашал обедать. Кому сейчас, в такую жарищу, до еды! Учитель задремал тяжелым сном. А когда проснулся, солнце уже клонилось к далеким синеватым бликам горизонта. В салоне сидели красный, потный становой пристав, не по уставу расстегнувший все пуговицы мундира, и поп. От пота поповская грива слиплась смешными косичками, рукава рясы были закатаны выше локтя, так что достопочтенный батя напоминал молотобойца или волжского грузчика. Увидев, что учитель открыл глаза, пристав немедленно предложил: — А не сгонять ли нам пулечку по-поповски? — Не худо бы, не худо… Оно, может, и ночь скорее пролетит. Все одно в каюте как в аду… Учитель тоже был не против. По-поповски, конечно, много не выиграешь, но зато и проиграть не проиграешь. Вот только четвертого партнера нет. — Втроем будем? — Нет, батенька, втроем это не игра… — пристав никак не мог подобрать подходящее сравнение, — а черт знает что! — Четвертый найдется! — Учитель с надеждой посмотрел на прилично одетого мужчину этак лет тридцати — тридцати пяти, который только что вошел в салон и с наслаждением подставил разгоряченное лицо освежающей струе ветра, бьющего из окон. Мужчина понял — его приглашают. Но, увы, он не умеет играть да, право, и не хочется, к тому же у него и с деньгами туго: поистратился в Астрахани. — Да вы хоть так посидите, чтоб место занято было, — уламывал учитель. Поп убеждал: — Вчетвером ведь всегда один холостой — выходной, как говорится, показывать будет. Причем по сороковой даже ребятам на подсолнухи не выиграешь, не проиграешь. А время провести надо. Принципиального ущерба, поверьте, никакого… Уломали. Сели. Сдали. Соколову везло, хотя сам он почти не играл, так как каждый свободный от игры партнер завладевал его картами. Но выигрыш неизменно записывался ему. — Везет как утопленнику… простите за выражение. То ли вы в сорочке родились, то ли с чертовой бабкой в дружбе… — Может, перемениться местами? — Нужно всем передвинуться, чтобы не мешать сдачу… Пересели. Потом еще раз. Ничего не помогло. Карта шла и шла к новичку. Пулька кончилась. После расчетов на столе около удачливого игрока выросла куча бумажек и даже поблескивало золото. Учитель совсем проигрался — это было видно по его кислому лицу. Наверное, деньги, с таким трудом накопленные, чтобы купить родным недорогие подарки или просто припасенные на отпуск, оказались в чужом кармане. Учителю хотелось отыграться. Поп, проигравший немного, почесывая гриву, басил: — Играй, да не отыгрывайся! А не скинуть ли нам в банчок? Учитель с надеждой посмотрел на Соколова. Становой нерешительно принялся тасовать колоду. Они плохо верили в то, что человек, огребший такую солидную сумму, вновь рискнет счастьем. Он вправе и отказаться — тогда прощай денежки. Соколов чувствовал себя страшно неловко. Вид денег, выигранных в карты, вызывал отвращение. Может быть, он сумеет их спустить в банчок, о котором не имеет никакого понятия? Игра оказалась простой. И снова, как бы подтверждая суеверие, карта шла к новичку. Уже поп стал задумываться каждый раз, когда нужно было делать ставку. Учитель распорол подкладку и дрожащими руками залез в потайной карман. Игру прервал хриплый вой парохода, возвещавший о подходе к пристани. Попу и становому нужно было вылезать. Игра оборвалась. Учитель, пошатываясь, побрел в каюту. И снова нескончаемая лента берега, судорожные толчки машины да порядком надоевшее журчание воды за бортом. Учитель царицынской школы Пресняков, несмотря на духоту, улегся, чтобы хоть во сне забыть об огорчении этой ночи. Но разве уснешь? Теперь, когда пулька сыграна, он хорошо видит собственные промахи. И все же в собственных неудачах и в таком ошеломляющем проигрыше Пресняков склонен обвинять своих партнеров, и прежде всего этого господина, который говорил, что не умеет играть. Всех обобрал. Батюшка, когда с парохода сходил, даже помянул его нецензурным словом. А ведь прикидывался. И поначалу правда такие промахи делал, словно впервой за картами. А потом и начал, и начал. Нечисто здесь, нет, нечисто. И ведь жена перед отъездом наставляла — не играй. Знает его слабость. Пугала, что в чужом городе мало ли какой шулер попадется, а на пароходе и подавно. Ведь он не раз слышал, как именно на пароходах эти нечистые на руку господа обирают доверчивых пассажиров. Небось станового побоялся обыграть. А пристав тоже хорош — ужели не догадался, с кем играет? Взял бы за шиворот — и в околоток на первой же пристани, денежки выигранные отнял да и отдал бы потерпевшим. Пресняков поднялся с дивана, вышел в коридор и на палубу. Светло, пароход причалил к какой-то пристани. На воздухе стало немного полегче, не так болит голова. Пресняков прошел на корму. Безразличным взглядом окинул убогие домики, сараи и вдруг заметил этого самого господина, что облапошил их. Ушел, ей-богу, ушел! Вон он уже с каким-то бродягой сговаривается. Пресняков заметался по палубе. Теперь он уже был уверен, что удачливый игрок — профессиональный шулер и его надо задержать. Трусливый, слабый человек, он утешал себя тем, что бегает, ищет полицейского, хотя прекрасно понимал: если он даже и найдет представителя власти, то шулера уже не поймать. Да и какие у него доказательства? Ни попа, ни станового нет. Пока Пресняков суетился, пароход дал первый гудок к отправлению. …Скоро Черный Яр. И, наверное, «обобранный» учитель будет взывать к возмездию в полиции. Чуть заикаясь, доложит приставу: «Обобрал ведь, начисто обобрал. И не меня одного… батюшку и его благо-о-родие станового… Р-ради Христа… задержите ш-шулера, отберите деньги, ведь этак он весь пароход об-обчистит…» Натянутые нервы, воспаленное бессонной ночью воображение отчетливо рисует знакомые уже сцены. Стук в каюту. Полиция. Документы. Обыск. Чемодан с нелегальной литературой… Тюрьма… Какой же он идиот! Соколов уже не может спокойно сидеть на месте. До Черного Яра ни одной пристани. А в воду не прыгнешь… Вон и учитель ходит и ходит по палубе. Ну конечно же, он стережет его. Нужно идти ва-банк. Э-э, опять картежное словечко! Василий Николаевич чувствует себя, как позорно напроказивший мальчишка, как вор. Учитель приблизился к окну, поздоровался. — Скверно мы вчера провели время, право, скверно. Карты оставляют тяжелый осадок на душе, хотя и выиграл, а как будто оплеванный… Если бы на пароходе была подвешена кружка с надписью «на благотворительные цели» или там «погорельцам», сейчас бы опустил половину… Лицо учителя просияло. — Совершенно с вами согласен! Злая интеллигентская привычка. А потом миллион терзаний. Да я бы с удовольствием отдал проигранные деньги библиотеке, которую составляю, чтобы потом послать в деревню. Тьфу!.. — Сделайте милость, вот половина. С радостью вкладываю ее в столь благородное начинание… И до Царицына не сходили с палубы. Поговорили обо всем, Соколов же, мысленно прикинув оставшуюся в кармане сумму, убедился, что это как раз проигрыш попа и станового. Ну что ж, за их счет он не против несколько подновить свой обветшавший гардероб. — Послушай, Александр, мне никогда не приходилось ставить типографии. Правда, с гектографом баловался. Но баловство и есть баловство. А ты как по этой части? Скажи, руки у тебя не чешутся, а? Мирон разговаривал с Квятковским, сыном легендарного народовольца, повешенного Александром II. Квятковский был представителем ЦК, но работал вместе с Соколовым на транспорте. Правда, в Самаре он обычно задерживался ненадолго. — Нет, не чешутся. И только потому, что ставил и знаю, какие на это суммы потребны. — Так мы же «контора» рентабельная. Сами себя содержим, да еще и для ЦК кое-что отваливаем. Имеем право на самые-самые малые остатки? Факт, имеем. Если еще немного поднакопить — глядишь, и хватит. — Ну ладно, предположим, уговорил. А где взять машину, шрифт, людей, дом, наконец? Ты подумал об этом? — Есть тут у меня кое-что и кое-кто на примете… Помнишь, рассказывал тебе, как я в Самару приехал. Тогда сразу же отправился в Пензу, на нее пришла литература. Так вот, в Пензе живет некий Смирнов. Я у него в квартире посылку-то и перепаковывал. Дядя он нашенский, но нервный, тогда до того струхнул, что схватил шляпу и этак с дрожью: «Мне, говорит, все время кажется, что вот-вот накроют, слышатся шаги, шорох, звон шпор… Нет, говорит, увольте, не могу!.. И не понимаю, как вы можете?» Не успел я ответить, он и был таков! Я уже перепаковал все, а хозяина нет и нет. Сходил за извозчиком, а квартиру-то открытой бросать нельзя. Наконец, вижу, бредет. И веселый, и звона шпор ему не слышится. Ну, думаю, нализался со страха. Оказывается, нет, просто нашел он мне квартиру для сортировки. В следующий приезд в Пензу я на этой квартире побывал. И правда, удобная, а хозяин, земский инженер Россель, — душа человек. Только конспирации не признает. В тот раз паковали у него в кабинете при незапертых дверях. Весело!.. Смеялись на всю улицу. Вот этого-то Росселя недавно управляющим земской типографией в Пензе назначили. Ну как, Квятковский? Квятковский уже забыл свои возражения. Загорелся. — Значит, так. Для начала мы вводим в эту типографию своего человека. Он же «позаимствует» шрифт и прочие принадлежности. Для начала, для начала… И не перебивай. А потом мы уговорим Росселя продать нам старую машину… — Вот-вот, я почти это же сказал ему. А он меня из ушата… «Кустарщина, говорит, мелочная воровская этика, игра свеч не стоит…» Я даже скис. Вот, думаю, болтнул лишнего, спугнул. Он увидел простоквашу на моей физиономии, сжалился. «Я, говорит, заказываю новую машину и любой шрифт у Лемана, получаю ее и переотправляю куда вам угодно!» — Здорово! А не хвастает? И уж что-то больно лихо — «переотправляю куда вам угодно!» Могут ведь и проследить. — В Пензе вряд ли. В этом клоповнике опаснее конспирировать, лучше нахрапом. — Постой, постой, ты только что спрашивал, не чешутся ли у меня руки? А сам уже договорился. И о машине, и о шрифте, может быть, и дом снял? Квятковский был явно задет. Выходило, что Мирон как бы заранее знал о его согласии. — Ладно, не обижайся. Конечно, я был уверен, что ты согласишься. А терять время не хотелось: когда-то я еще поеду в Пензу! Недели через две из Пензы пришло известие, что заказ выполнен. Соколов и Квятковский мигом очутились у Росселя. Хозяин сиял, как самовар, и за чаем витийствовал по поводу излишней серьезности в серьезных делах. Его жена, молоденькая, почти гимназисточка, слушала мужа затаив дыхание. В ее глазах он герой, и пусть только кто-нибудь усомнится… Она тоже почти героиня, ведь не кто иной, как она помогала Соколову паковать литературу. Значит, «достаточно скомпрометирована». Ей было и жутко и радостно. Но ее муж говорит просто замечательно! Соколов и Квятковский посмеивались и спешили соглашаться с любыми доводами оратора. Когда Россель иссяк, Квятковский, сосредоточенно помешивая ложкой чай и глядя в стакан, начал «вправлять мозги» легкомысленному конспиратору. — Эка, батенька, развезло-то вас, словно хмельного хлебнули. За покупку машины, конечно, благодарность наша самая что ни на есть величайшая. А вот в отношении конспирации по вашему рецепту — увольте. Лихость, она должна быть с расчетом, и более точным, чем осторожность. Вот, к примеру, расскажу вам один случай. Не спрашивайте, где, когда, с кем это было, но поверьте, было… Купили наши товарищи через одного частного владельца типографии новую машину. Денег уйму ухлопали. Ну, пришла эта машина. Все чин чином, упакована в два здоровенных ящика. Клейма немецкие. Аккуратненько лежит себе на товарном складе. Наши товарищи — к хозяину типографии: так, мол, и так, машина на складе, вот квитанция на твое имя, поехали получать. А хозяин оказался прохвостом, кукиш им показал. Захотелось жулику за чужой счет обновить свою технику. Говорит, берите мою старую машину, а новую не отдам. И ведь знал, негодяй, что жаловаться на него в полицию не пойдут. Что тут делать? Думали, а времени в обрез. Вот и решили — украсть машину со склада… У склада двое ворот было. Одни, что в глухой переулок выходили, всегда заперты, а напротив — городовой. Вторые — на товарном дворе, стережет татарин-сторож. Прознали, значит, что сторож этот имеет обыкновение минут на сорок отлучаться поужинать, а всю ночь глаз не смыкает. Стало быть, за эти сорок минут и нужно украсть. Высмотрели — лежит машина у тех ворот, которые всегда закрыты… Опять незадача: не тянуть же ее через весь склад. Вот тут-то и действовали смело, но с точнейшим, я бы сказал, психологическим расчетом. Представьте себе дрянную улочку. Городовой умирает от скуки. Солнце уже село, но еще светло. Вдруг на улочку с грохотом въезжает подвода, на ней сидят двое и еще кучер. Ругаются на чем свет стоит, на всю улицу брань разносится. Подъехали к воротам склада. Городовой от сонной одури очнулся, глядит с интересом: никак, сейчас подерутся. Тем временем к нему кучер: «Извиняюсь, говорит, нет ли прикурить, служивый?» Городовой ему папиросу сунул и даже спичку зажег. Вот этих-то секунд и хватило двум другим, чтобы сбить замок. Городовой видит, замок открыт, двери склада настежь, никто не прячется. Тот, что ругался, держит бумаги, сверяет номера у ящиков. Все как полагается. Вытащили один ящик, на подводу взвалили. Пошли за вторым. А второй тяжеленный, в нем станина была. Никак не справятся. Возница кряхтел, кряхтел да крикнул: «Слышь, служивый, подсоби!» Городовой с радостью. А ему — рубль на чай, совсем расплылся. Кланялся, кланялся, пока подводы и след простыл. А если бы подошел к складу да глянул на замок, болтающийся в проушинах, небось заверещал бы во все свистки… Рассказ Квятковского получил неожиданное продолжение. Россель стал торопливо одеваться. — Да куда же вы? — На вокзал. Вот только ломовика найму… — Стойте! Вам же не обязательно красть ящики! — Да я не красть… Ослепительная идея: в Пензе-то два вокзала. Мы получим машину на одном вокзале и, никуда не завозя ее, сдадим на другой прямым ходом до Самары. Ничего не скажешь, голова у Росселя работает превосходно. А Соколов уже подумывал о том, где бы перепаковать ящик, который весит тридцать пудов. Богомолов все еще не верил, что ушел от полицейских. Да и не мудрено ведь достаточно любому из них спросить документы, и он влип. У него абсолютно нет никаких бумаг, удостоверяющих личность: Ольга Варенцова настояла на их сожжении. Кончилась легальная жизнь В. Богомолова. Теперь он никто. Хотя нет, он Маэстро. Кличка, конечно, громкая, но Маэстро боится и нос высунуть из каюты парохода. Хорошо, что она отдельная и посадка на пароход проходила ночью. Иначе его и не пустили бы на верхнюю палубу. Пальто изодрано, костюм только в темноте можно признать приличным. В Самару пароход придет ночью — это тоже хорошо. Лишь бы незаметно проскочить мимо полицейских на пристани. Правда, ночи уже холодные, но ничего, до утра он уж как-нибудь перебьется, а там товарищи помогут. И дернула его нелегкая заняться устной агитацией! Тоже нашелся оратор… Пока выступают другие, особенно меньшевики, просто сил нет усидеть на месте, сто тысяч возражений рождается в голове. Но как только резвые ноги выносят на трибуну… какая-то тарабарщина. Никаких мыслей, а язык будто прилипает к гортани… …Как хочется пожевать чего-нибудь! На нижней палубе есть ночной буфет, но рисковать не стоит. Сон накормит. К Самаре Богомолов отоспался, но совершенно упал духом. Ему уже казалось, что Мирон и Квятковский, узнав о его провале, скажут, что нет у них работы для такого ротозея. А он уже и не представляет себе жизни без партийной работы, полной неожиданностей и опасных ситуаций, из которых нужно уметь быстро найти выход. Пароход опаздывал. Уже занялось позднее осеннее утро с сырым туманом, когда наконец показался город. И еще долго шлепали по воде плицы и капитан на мостике ругал кого-то простуженным голосом. Наконец перекинули трапы. Так и есть! Двое полицейских и здоровенный усатый контролер. Три зубца одной вилки. Пропускают на берег пассажиров, внимательно оглядев каждого. Пока Маэстро лихорадочно придумывал, как бы ухитриться проскочить мимо церберов, нижняя палуба опустела. Из классных кают в Самаре сходят всего две старушки. У них большущая корзина, вдвоем они ее едва-едва могут поднять. Пальто — на руку так, чтобы оно прикрывало левую сторону протершихся брюк. Очаровательная улыбка: — Простите, сударыня, но я не могу пройти мимо и не помочь. Старушки опомниться не успели, а любезный спутник уже подхватил их корзинку, ловко зажал ее правой рукой и последовал к выходу. Полицейским и в голову не пришло приглядеться к внимательному «внуку», заботливо сопровождающему таких приятных бабушек. А «внук» не отказался подвезти своих спутниц до дома, потом на том же извозчике к Арцыбушеву — это был единственный адрес, который дала ему Варенцова. Арцыбушев удивленно посмотрел на посетителя и уже собрался было выставить его из кабинета. — Скажите, как мне обнаружить затерявшуюся цистерну? Ее номер восемнадцатый. Э, да это пароль явки! Ответа не требуется. — Садитесь! — Арцыбушев вскочил с кресла, чуть ли не силой втолкнул в него посетителя… У Арцыбушева Богомолов получил адрес квартиры Мирона. У Мирона сидел Квятковский. Он уже собирался уходить, когда в дверь робко постучал Маэстро. Квятковский с удивлением и даже тревогой взглянул на Соколова: с какой стати Мирон дает адрес каким-то бродягам? Но Соколов дружески поздоровался с Богомоловым и, обернувшись к Квятковскому, представил: — Это и есть тот астраханский Маэстро, о котором я тебе говорил. Видик, правда, мало соответствует громкой кличке, но это дело поправимое. Целый вечер Маэстро рассказывал о себе, своих скитаниях по Дальнему Востоку, Америке, встречах с охотниками, золотоискателями и даже бандитами. Соколову явно нравился этот молодой человек. Серьезный и смелый. Такие на транспорте нелегальной литературы незаменимы. Когда Маэстро кончил, Квятковский встал, подошел к вешалке, снял свое добротное английское пальто: — А ну примеряйте! Думаю, подойдет. Богомолов начал было отказываться, но Соколов прочел ему нотацию о внешнем виде транспортера и его отношении к окружающему миру. Богомолов понял, что его судьба уже решена, быть ему на транспорте. Сразу повеселел. Это тебе не ораторствовать — тут нужна ловкость, изворотливость, ну, и отвага, конечно. Был он человек скромный, об отваге помалкивал, да и проявить-то ее ему пока еще не пришлось, разве что во время встречи с американскими бродягами, когда в ответ на угрозу ножом он спокойно вытащил револьвер и, почти не целясь, выбил пулей нож из рук бандита. Это привело их в восторг. Расстались почти друзьями. Через пару дней Богомолов уже щеголял в новом костюме и даже успел обворожить хозяйку своей квартиры. Навигация на Волге закрылась. Для транспорта литературы это причиняло некоторые неудобства. В поездах нет отдельных купе, да притом коммивояжеры, под видом которых действовали транспортеры, обычно разъезжали третьим, а многие — вторым классом. В поездах всегда найдутся любопытные, от безделья даже молчальники становятся болтунами, и никуда от них не скроешься. Пришлось бльшую часть грузов доверять багажным отделениям, переправлять малой скоростью. Иногда случались казусы. — Там тебя какой-то хохол дожидается, забавный… — Елена Дальяновна еще не освоилась с ролью жены Соколова. Зато секретарские свои обязанности по техническому бюро знала хорошо и давно. — А кто этого веселого хохла привел к нам на квартиру? — Квятковский. Да ты не беспокойся, уже позаботилась. Он из Воронежа, его Кардашев прислал. В передней комнате сидел молодой человек. На нем поддевка, которую он так и не снял. Волосы на прямой пробор, косоворотка расшита по черному фону какими-то красными узорами. А на ногах не сапоги, а штиблеты. И они так не подходят к поддевке и косоворотке… Да и к самарской осенней грязи тоже. — Иван Павлович Коваленко! Соколова фамилия не интересовала. Если это свой человек, то фамилия, наверное, вымышленная или сфабрикована по чьей-нибудь паспортной копии. Гораздо важнее пароль и степени доверия. — Чем могу служить? — «Битва русских с кабардинцами…» — «…или прекрасная магометанка…» Ладно, а то опять душит смех. Коваленко не смеялся. Соколов понял, что продолжать выспрашивать у него вторую степень не имеет смысла. Посетителю открыта только первая. Присели. Коваленко разделся, разговорился. Он оказался умным, веселым, ехидным собеседником. У него жена, двое детей, валик, шрифт… — Стойте, стойте, какой валик? И при чем тут дети? — А это я перечисляю все хозяйство, которое вывез из Воронежа, да вот вы меня перебили… Я ведь и наборщика привез. Наша техника в Воронеже чуть не провалилась, пришлось спешно пускаться в бега… Ну везет, право, везет! Машина из Пензы благополучно прибыла в Самару и лежит теперь на складе, которым ведает свой человек. А заведующего типографией нет, наборщиков тоже, помещение не снято. И вдруг такой подарок. Быстро договорились. Коваленко снимает дом, сообщает соседям, что с нового года собирается открыть «мелочную лавку». Оборудует типографию. Коваленко был человеком деятельным. В переулке рядом с тихой Москательной улицей он присмотрел деревянный домик. Четыре окна на улицу, одно — в глухой двор. И парадный ход есть, хоть и ветхий. — Парадный обязательно, — пояснил Коваленко, — иначе какая же лавочка? А так я тут потолковал с соседями — одобряют… — Вы все же поосторожнее с соседями… — Помилуйте, ведь это мое призвание: по душам поговорить с человеком, душу ему открыть, в ее уголок заглянуть… И вот никаких подозрений и… наше вам-с, господину покупателю, сорок одно с кисточкой… Соколов подивился: ну и ну, чешет, как заправский приказчик. Такой с прибауткой всучит покупателю товары, которые тот и не собирался приобретать. Василий Николаевич заметил, что жена Ивана Павловича улыбается балагурству мужа. И эта улыбка вдруг успокоила Соколова. Но он все же не преминул спросить ее: — Вы тоже так думаете? — Он, як налим, извернется, и не заметишь. Было вить такое — только разложили на столе типографские игрушки, полицейский заходит. Иван-то мой ему, как родному, обрадовался. «Миляга, кричит, друг!» И раздевает фараона, а сам от него стол загораживает, суетится. Фараон очумел, ничего не соображает. Тем временем я успела на стол скатерть набросить и прямо на печатню самовар взгромоздила. А самовар-то холодный. Мой-то распетушился. «Разогрей!» — кричит. А я думаю, как выпроводить их. Притворилась, что разозлилась, да как отрежу: мол, и без вас делов хватает, трактиры для бездельников имеются. Ну и выкатились как миленькие. Домой-то вернулся малость того!.. — А вот и не того. Только пивца хлебнул, зато фараона споил. Ну ладно, ладно, хватит вспоминать. Небось сейчас тот же полицейский волосы на себе рвет: упустил, недоглядел… Лучше пойдемте, я вам помещение покажу да как все уладили. Соколов обходил комнату за комнатой. Особенно придирчиво осмотрел ту, у которой окно во двор. Коваленко все предусмотрел: щели забил, двери обтянул войлоком. Окно закрывалось специальным щитом. Пустили бостонку. Соколов вышел в соседнюю комнату. Прислушался — ни звука. Зашел со двора — тоже ничего. Что ж, можно и начинать! Типография заработала, и сразу же появились новые заботы. Как доставлять бумагу, как и куда свозить готовую продукцию? Соколов и Квятковский не хотели, чтобы, кроме них, еще кто-либо знал о существовании типографии, даже Арцыбушеву не сказали. Но у него чутье было редкое. И как он пронюхал, одному богу известно. Обиделся, конечно, несколько дней дулся. Потом как-то подошел к Соколову и выпалил: — Боитесь, если я покажусь на улице, где вы типографию сховали, думаете, на след наведу, ведь меня в Самаре всяк полицейский знает. Черти полосатые, если уж на то пошло, я теперь не знаю, по каким улицам мне не следует ходить! Хитер милейший и добрейший Василий Петрович, но Соколов отделался общими фразами и о любви, и о доверии. О нем же заботился — сам влипнет и типографию провалит. И все же пришлось ввести в типографию еще одну супружескую пару. Квартира у них была удобнейшая, здесь можно было хранить продукцию, отпечатанную типографией. Жили они скромно, тихо. Кому в голову придет, что глава дома — социал-демократ… Кажется — так, пожилой мещанин, и жена у него мещаночка. А жена, Мария Ильинична, взялась за роль прачки. На саночках возила в домик чистое белье, брала в стирку грязное. А под бельем укладывала бумагу, привозила прокламации, прятала в квартире, в дровяном сарае. Один раз чуть было не попалась с этим сараем. Да сошло, соседка оказалась недогадлива. Привезла Мария Ильинична и первую брошюру-листовку «Хроника восточного бюро РСДРП» — пятьсот экземпляров. Соколов чуть ли не плясать пустился, увидев ее, а Квятковский сиял: — Ну кто скажет, что самоделка? Печать-то, печать какая — любо-дорого! — Скорей ее по заводам, в железнодорожные мастерские, на пристань… — Э, нет, но торопись, братец. В Самаре мы пока распространять не будем, сначала разбросаем где-нибудь подальше, хотя бы в Пензе. Василий Николаевич был не на шутку встревожен известиями из Саратова. «Заграница» прислала багажом на этот город большую корзину литературы. Зарубежные товарищи предупредили, что груз плохо упакован и его нужно как можно скорее получить. А в Саратове почему-то не торопились. На станции заметили повреждение упаковки и вскрыли корзину, там — литература. Для дознания передали железнодорожным жандармам. Об этом неприятном происшествии и сообщал Абалдуев, ветеринар на саратовской бойне, один из руководителей местной социал-демократии. Корзину нужно выручать. А вот как это сделать? Богомолов не знал, но был уверен, что он сумеет. Соколову ничего иного не оставалось, как согласиться. Больше послать некого. Соколов в последние дни не находил себе места. Из Саратова давно должны были поступить известия, а Богомолов молчит. В конце концов черт с ней, с корзиной, хоть и жалко терять литературу, но люди дороже. А что, если Маэстро попался? Молодой и неопытный, он может сболтнуть лишнее или просто проговориться. К тому же человек он горячий, при аресте так жандармам в руки не дастся, откроет стрельбу. А время для револьверов еще не приспело. Обвинят Богомолова в анархизме, свяжут террористические действия его с партией, которая против индивидуального террора… Эти дни ожидания, дни невольной паузы на транспорте стали для Соколова и днями размышлений. Раньше все как-то некогда было. А может быть, встреча с Богомоловым натолкнула на новые мысли? Вот такие, как Маэстро, не прошли сколько-нибудь серьезной школы политического, революционного воспитания. А кто виноват?Он, Соколов, виноват. Гоняет Богомолова из конца в конец да еще поругивает за лихость. А теперь парень тянется к серьезной революционной учебе. Сколько раз Соколов замечал: привезет Маэстро очередную партию литературы, начнет ее сортировать — ну и пропал. Не столько сортирует, сколько читает. Да еще с оглядкой — боится, чтобы не отругали за задержку. Но где же Маэстро? Где? Соколов ловит себя на мысли, что нервы у него начинают сдавать. И почему ему все рисуется в черных красках? Ведь если бы Богомолов попался, Абалдуев обязательно известил бы. Саратов молчит. Прошло десять дней. И вдруг открытка:
«Здоровьем поправился. Выезжаю. Привет».А еще через день явился и сам Богомолов. Веселый, здоровый, немного похудевший и страшно голодный. Он почему-то всегда голодный и готов есть хоть целый день. Соколову не терпелось обо всем расспросить Маэстро. Но, пока тот не насытился, из него нельзя было вытянуть ни единого слова. — Так все-таки, как же это тебе удалось жандармов из дежурки выманить? — Да просто… Сговорился с железнодорожными рабочими, чтоб те на запасных путях стрельбу подняли из револьверов да еще и петарды подорвали… Ну, жандармы на это «жаркое» и клюнули. Побежали, а рабочих-то и след простыл. Мы дверцу плечиком — и на лихача… А корзину я Абалдуеву на память оставил… — Ну и черт! Нет, право, ты, брат, не Маэстро, а самый настоящий черт! Так впредь и величаться будешь!
До отхода поезда остается какой-нибудь час, а Мирона все нет и нет. И ведь сам учил аккуратности и точности. Черт не успел додумать до конца о всех грехах Василия Николаевича, когда в передней раздался звонок. — Прости, задержали… — Давай, а то опоздаю! Богомолов засунул в чемодан несколько пачек листовок, еще сырых, мажущихся типографской краской. — Я лечу… — Ну, как говорят порядочные, с богом… — Ты же сам прозвал меня Чертом, уж какой тут бог! Богомолову повезло: за углом стоял извозчик. Когда приехали на вокзал, до отхода поезда оставалось десять минут. Билетов во второй класс не было, на первый не хватало денег. Значит, он едет третьим классом. …На улице холодно. И ни души. Даже городовые попрятались от мороза. Пока ехал от вокзала к центру, замерз окончательно. На главной улице тоже пусто. Богомолов выбросил первую партию летучек. Ветер подхватил их, понес. Лишь бы извозчик не заметил. Да где ему, зарылся в высоченный бараний воротник, только нос наружу. Лошадь и сама дорогу знает. Богомолов осмелел и стал разбрасывать листовки направо и налево. Кончилась улица, сани запрыгали на снежных ухабах. — Давай к гостинице! Заспанный портье никак не мог понять, какого дьявола этот господин его разбудил. Помещик Старченко у них в гостинице не проживает… Богомолов хлопнул дверью. Старченко он, конечно, выдумал. И в гостиницу заехал только затем, чтобы отделаться от извозчика. Правда, не очень-то весело шагать по такой погоде до вокзала, но ничего. У него еще остались летучки. Богомолов рассовывал прокламации в почтовые ящики. Клал с выбором, предварительно узнавая, к кому они попадут. Земским статистикам — обязательно, адвокатам — тоже, учителям — можно, врачам — если останутся. Жаль, в Пензе нет фабричных окраин, он бы не пожалел ни времени, ни сил. А так — куда девать последние десять летучек? Богомолов решил бросить их на базарной площади недалеко от вокзала. Вот и окончена операция. Всего каких-нибудь часа полтора потребовалось. Зато завтра сонная Пенза зашушукается, заахает. Полицейские власти будут гонять своих доморощенных, пропахших огуречным рассолом филеров. В Петербург полетит реляция об «обнаружении». Из столицы грозно рявкнут — «пресечь»… Богомолов уже не жалел, что ему досталось такое простенькое задание. Шуму будет достаточно. Вон и площадь. Но на углу у подъезда какого-то присутственного дома торчит городовой. И не замерз, как остальные. Притопывает себе валенками. Когда Богомолов приблизился к постовому, тот вдруг отчаянно замахал руками, затопал, потом громко прочистил нос и бегом пустился к подъезду. Черт от неожиданности даже остановился. Тьфу, фараон скаженный, спал бы себе! Интересно, что он тут охраняет? Богомолов подошел вилочную к подъезду. В темноте едва разобрал: «Губернское жандармское управление». Вон оно что! Да, тут спать не рекомендуется, свое же начальство застукает. Заглянул в подъезд — никого. Городовой, видно, прошел внутрь дома. А что, если… Дверь открылась, слегка проскрипев замерзшими петлями. В вестибюле никого нет. Быстро выбросил последнюю пачку на пол и — до свиданья… …Как сладостно греться обжигающим чаем в ночном буфете вокзала! Пахнет хлебом, паровозным дымом и морозом. У мороза самый сильный запах. Богомолов был настроен благодушно, пытался даже припомнить кое-какие латинские изречения, но тщетно, гимназическая премудрость никогда не была с ним в дружбе. К перрону подходит экспресс. Он только притормозит, ему некогда. Но Богомолов уже ухватился за поручни вагона. Вот ведь какая неудача, вагон-то оказался рестораном! А с площадки грозно топорщит усы проводник. Ладно, в кармане завалялось еще несколько рублей. Усы раздвигает угодливая улыбка. В вагоне-ресторане тепло. До Самары можно спать и сидя…
ГЛАВА V
Эту последнюю встречу им подготовили жандармы. И она состоялась в Киеве, куда уехал Володя с надеждой хоть как-нибудь продолжить учебу. Но он так никуда и не поступил. Кровавое воскресенье в Питере всколыхнуло всю Россию. Революция 1905 года начала отсчет дней. Круто повернулась тактика большевиков. Забастовки, стачки, манифестации — все это хорошо. Но разве они могут свалить царизм? Нет. Только вооруженное восстание принесет победу рабочим. Старыми транспортными путями, по которым шла литература, потек новый груз. Вот и сегодня Володя везет необычную поклажу. В специальном жилете, надетом под пиджак, — десятки ячеек, как пчелиные соты. В них капсюли, начиненные не медом, а гремучей ртутью. Вот уже сутки Володя не спит, сидит на полке вагона, боясь прикоснуться спиной к стене. Достаточно одного сильного толчка, и… Если и эта поездка закончится благополучно, его обещали направить в киевскую школу-мастерскую учиться делать взрывчатые вещества, бомбы. Как обидно, что в гимназии он совсем не обращал внимания на естественные науки! Теперь бы они пригодились. Гимназия, академия — как давно все это было!.. И каждый день сытный обед, чистая постель, краски… И, конечно, он бы сказал неправду, что ему ничего этого не нужно, что он отвык и не собирается вновь привыкать к обеспеченной жизни. Нет, он не отвык, просто притерпелся, понял, что есть вещи, куда более важные. Ну хотя бы те же капсюли. Может быть, он везет их для бомб, которые через несколько дней сам же будет делать в мастерской. А потом?.. Дня через два Володя уже сидел в маленьком домике, где была школа-мастерская по изготовлению взрывчатки. В окно видны огороды. Куда ни глянешь — грядки, грядки. Да и сам домик — жилье студентов-практикантов — сельскохозяйственников. Вон они копаются со своими огурцами и капустой, а заодно поглядывают по сторонам. Мастерская оборудована крайне примитивно. Чтобы это понять, не нужно быть химиком. Ученики собрались лихие. Сложнейшие реакции для получения нитроглицерина или гремучей ртути ставят «на глазок». Руководитель школы, настоящий химик, в бешенство приходит. Ничего, все пока идет благополучно. Дней пять слушали теорию, потом столько же делали бомбу. Когда она была готова, поехали за город, в лес, испытывать. Нашли пригорок, а под ним овраг, поросший деревьями. Кругом тишина. И смолой пахнет. Какая красота! После химических реактивов никак не надышишься. Бомба тяжелая, фунтов этак на восемь. Кинули. Бомба зацепилась за дерево да как рванет! Взрыв был такой сильный, что всех разметало в разные стороны, разворотило несколько деревьев. Неплохо! Когда вернулись в Киев, выяснилось, что занятия нужно хотя бы временно прекратить. Студенты на огородах заметили каких-то подозрительных людей. В мастерскую больше не заходили. Через несколько дней кое-кто из учеников уехал в Петербург, некоторые на Урал. Володя остался в Киеве.Не следовало ходить на квартиру Рудановского. Ведь Соколова предупредили, что тюк с литературой выследили, дом под наблюдением. Странно! Целый вечер его жена Елена с курсистками спокойно убирали квартиру, и никто их не задержал. А вот как только он явился — пожалуйте, голубые мундиры!.. Тут как тут! На сей раз привезли не в участок, а в киевскую тюрьму — Лукьяновку. Лукьяновка! Пожалуй, в предреволюционные годы не было более известной тюрьмы. Соколов только понаслышке знал о фантастическом побеге отсюда десяти искровцев. Теперь, попав в Лукьяновку, Мирон первым делом подумал о побеге. Именно теперь, сегодня, ведь он так нужен парии! В России революция на полном ходу. Ошеломило грозное, но радостное известие о восстании на броненосце «Потемкин», об уличных боях в городе Лодзи. Товарищи с воли советуют проситься под залог, гарантируют деньги. В Киевском жандармском управлении делами Василия Николаевича занимался старый, обиженный в чинопроизводстве подполковник. Он не против того, чтобы выпустить Соколова под залог, но ведь, помимо киевских дел, за ним числятся и псковские… А тамошние жандармы настаивают на тюрьме. — Освободить я вас могу, знаете, и без залога. А вот как Псков? Подполковник, чтобы показать свое добродушие и полное сочувствие, что-то пишет на бумаге, потом подает Мирону. Тот с удивлением читает — расписка в освобождении под особый надзор полиции! Ужели правда? — Подпишите, батенька! Подписывал с радостью, с замиранием сердца. — А теперь вот эту бумажку… Это была бумага о заключении под стражу по псковскому делу! Не сходя со стула, Соколов вышел из тюрьмы и снова сел в нее. Значит, бежать! Бежать! Эта мысль помогала коротать время.
Ночью камера спит тяжелым сном. Душно, а окон не откроешь. В коридоре гремят кованые сапоги, приклады бьют о каменный пол. Привели новенького. Но огня не зажигают. Соколов, разбуженный, долго ворочается, потом засыпает. Утром болит голова, и Василий Николаевич никак не может понять, где он и почему рядом сидит Володя… Вчера его в камере не было. Володя как-то растерянно улыбается. Он еще не опомнился от ареста. Внезапно, на улице. Втолкнули в карету, потом безо всякого допроса сюда, в камеру. Кто его проследил, выдал? И что известно о нем жандармам? — Ну, вот и снова свиделись!.. Мирон пытается шутить. Но получается это у него плохо. В камере, где находится еще около десяти заключенных, много не поговоришь. Вполне возможно, что к ним подсадили «уши». Соколова вызывают на допрос. Киевское лето в разгаре. Из окна жандармского управления видно, как толпятся каштаны на улицах, серебрятся тополя. И синее-синее небо над городом. Окно выходит в какой-то двор. Под окном сажени на полторы ниже — крыша дома. А ведь эта крыша тоже всего на сажень возвышается над другой, деревянной, видимо сарая. Сарай же и вовсе смотрит в землю… А что, если выпрыгнуть из окна четвертого этажа сначала на крышу дома, с него на сарай, соскочить же с сарая — сущий пустяк. Три прыжка — и на земле, на воле… Вряд ли жандармы рискнут тоже прыгать. Побегут по лестнице, а тем временем он замешается на улице в толпе. Нужно только запастись фуражкой. Прыгать он будет в шляпе, а при выходе на улицу бросит шляпу, наденет фуражку. И ищи его… План, конечно, примитивный, но дерзкий. Но, может быть, это и к лучшему. Теперь до следующего вызова и не позже… Соколов ночью шепотом рассказал Володе о своем плане. Володя сначала ужаснулся, но потом согласился, что так, наверное, лучше. Кепка у него есть — жокейка, правда, но это неважно. Володя восхищался такой смелостью Соколова. Может быть, и он рискнул бы прыгать с крыши на крышу. Нет, наверное, не рискнул — ведь он с детства боится высоты. А тут четвертый этаж… А потом, о Володе жандармы словно забыли, никуда не возят. Соколова вызвали на следующий день. Он не торопясь оделся, оглядел камеру. Когда жандарм отвернулся, сунул жокейку под жилет. Снова приемная. Жандармский унтер что-то очень предупредителен. Стул предложил. — Благодарю вас! Сижу уже пять месяцев! Жандарм смеется. Соколов подходит к окну. Унтер, чтобы ему было удобнее вести беседу, усаживается на подоконнике. Этого еще недоставало! Придется схватить за ноги и перекувырнуть — в окно… Василий Николаевич оглядывается. Никого. Надо решаться. Сзади скрипит дверь… Соколов оборачивается. — Ну, батенька, поздравляю вас! Псков согласился. Вы свободны! — Сейчас? Совсем? — Сейчас, сейчас. Не совсем, конечно, а под особый… Вот распишитесь — и на все четыре… Через полчаса Соколов шагает по улице. Он свободен! Он может коснуться рукой листьев каштанов, притронуться к цветам на газоне — ему так хочется их приласкать, вдохнуть их аромат! Но ему больно нагнуться… Жокейская фуражка! Она напомнила о Лукьяновке, Володе. Жокейка раньше своего владельца вышла на волю. Но Мирон знает теперь — революция выпустит всех! И, может быть, когда-нибудь они снова встретятся!
Зиновий Юрьевич Юрьев АЛЬФА И ОМЕГА
ФОРМИКА РУФА
Жаба открыла дверь, нехотя сложила печеное личико в вялую улыбку и промямлила: — Ах, это вы, мистер Карсуэлл! Боже мой, вы и не представляете себе, как я рада вас видеть… Не представляете… Еще секундочку, и вы бы меня не застали. Как раз собиралась выйти… На ней была розовая, похожая на взбитый крем шляпка, из-под которой виднелись жидкие седые пряди завитых волос, розовое платье и розовые перчатки. — …Такая жара на улице, просто ужасно! «Почему наши старухи всегда носят розовые шляпки? — подумал Дэн. — Мы почему-то превращаемся в нацию розовых старух». — Миссис Камински, я хотел спросить у вас: вы случайно не знаете, куда именно уехала Флоренс? Ловкими движениями лицевых мускулов Жаба попыталась изобразить на физиономии смесь любви и горя, скосив при этом глаза на зеркало, перед которым стояла. Смесь, однако, не получилась. В одном глазу злобно сверкала любовь, в другом — горе. Дэн с трудом проглотил поднимавшееся в нем раздражение и еще раз, стараясь быть вежливым, спросил: — Простите за назойливость, но неужели она не сказала вам, куда именно едет? — Бедняжка, я так заботилась о ней… Не знаю, смогу ли я когда-нибудь найти себе такую жиличку… Кроткая, милая… Ангел, ну просто ангел! «Конечно, ангел за сорок долларов в неделю, да еще кроткий и милый…» — подумал Дэн. — Дорогая миссис Камински, я вам охотно верю, что Фло ангел, но даже ангел должен иметь адрес. Не может быть, чтобы она не сказала вам, куда едет. — Представьте себе, не сказала. А вам? Неужели она не сказала вам? Ай-яй-яй!.. Нынешние молодые люди… — В голосе Жабы послышалось подобие сочувствия. Злорадство делало ее великодушной. — До свиданья, миссис Камински, мне было чрезвычайно приятно побеседовать с вами. В высшей степени приятно. И, кроме того, я вам очень рекомендую выкрасить и глаза в розовый цвет, под цвет шляпки. Дэн вышел на улицу. Густой зной недвижимо висел над городом, слегка колеблясь у раскаленных капотов и крыш машин. Разморенный асфальт лениво оседал под каблуками. Когда он уселся в свой «мустанг», то почувствовал, что вот-вот сварится. На внутренней поверхности ветрового стекла испуганно гудела иссиня-зеленая жирная муха. Дэн попытался прихлопнуть ее, но она ловко выскользнула из-под ладони. Второй раз поднять руку уже не было сил. Впрочем, делать этого, наверное, и не следовало. Муха придавала зною законченность, делала его совершенным. Точь-в-точь как розовая шляпка миссис Камински. Над мостовой дрожали маленькие миражи. Казалось, улицу заливает вода. — Черт с нею, черт с ними со всеми, включая мою дорогую, любимую мисс Флоренс Кучел и дорогую, любимую муху на стекле! — с отвращением пробормотал Дэн и включил мотор. «Мустанг», словно в предчувствии прохладного гаража, нетерпеливо рванул с места. Поднявшись к себе домой, Дэн бессильно плюхнулся в кресло и закрыл глаза. Он не мог заставить себя даже снять пиджак. Бессмысленно. Все равно он давно приклеился к спине. Навсегда. Его даже похоронят в этом пиджаке. И миссис Камински придет на похороны в розовой шляпке. Снова и снова он тупо повторял себе, что не желает больше думать о Фло, но в глубине сознания маленькая, остренькая мысль, на которую жара почему-то не действовала, решительно возражала: это неправда. Он не мог не думать о ней. Мало того: он хотел думать о ней. Он достал из кармана пиджака письмо Фло и долго смотрел на него, не разворачивая листка. Он вспомнил, как мальчишкой смотрел в кино «Ромео и Джульетту». Он уже читал Шекспира и знал, чем все кончится, но до последней секунды все же надеялся, что они останутся живы, что все будет хорошо. Нужно только очень захотеть — и все будет хорошо. Так и сейчас с письмом. Он его уже знал наизусть, но снова прочел:«Дорогой Дэн, ты всегда говорил мне, что нет ничего глупее слов любви, написанных на бумаге. Наверное, ты прав. Ты всегда был прав. Всегда и во всем, в этом-то и дело. Поэтому я не буду писать тебе о том, как я тебя люблю, тем более что ты это и так великолепно знаешь. Спасибо тебе за все. Пойми: я не могла больше одним своим присутствием подталкивать тебя к тому, чего ты избегал, и поэтому сегодня я уезжаю. Я приняла очень выгодное и интересное предложение. Это новое дело, и я думаю, что оно увлечет меня. Не пытайся разыскивать меня, это бесполезно. Да и я, если бы даже захотела, не смогу вернуться ранее чем через два года, когда истечет срок контракта. Постарайся понять меня правильно: я действую не импульсивно, а совершенно спокойно, по зрелому размышлению. Так будет лучше для нас обоих. Целую тебя и желаю тебе счастья. Следи за своей язвой.Дэн медленно и аккуратно сложил листок и спрятал в карман. «Следи за своей язвой»! Спасибо, мисс Кучел. Вы, как всегда, благородны. Вы исчезаете, чтобы не обременять своего Дэниэла Карсуэлла, и рекомендуете ему на прощание следить за язвой. Прекрасные слова! Пусть Изольда и Джульетта покраснеют от стыда, они ведь были эгоистками и не просили ни Тристана, ни Ромео следить за желудком! Что значит научный склад ума, высшее образование и профессия биолога! Ничего не поделаешь, двадцатый век, эпоха разума. Ах, дорогая Фло, надо было бы написать мне, что решение проверено на большой электронно-вычислительной машине фирмы «Интернейшел бизнес машинз» и одобрено всеми ее электронными потрохами. Дэн поморщился. Для чего весь этот поток слов? Все это было чушью. Он знал, что страдает. Боль все время поднималась толчками откуда-то снизу, собиралась в горле и стояла там мягким, душным комом, который никак нельзя было ни проглотить, ни выплюнуть. Можно было хорохориться сколько угодно, но обманывать самого себя безнадежно. Почему он был таким дураком? Чего он боялся? Чего он ждал? Что проверял? Боялся ответственности… Болтовня! Всю жизнь он чего-нибудь боялся и всегда умел так приодеть свой страх, что даже сам переставал узнавать его. Как он легко жонглировал словами — семья, чувство, ответственность, время… Наверное, именно поэтому он стал специалистом по рекламе. Нарядить страх в осторожность, трусость — в благоразумие, эгоизм — в необходимость… Боже мой, как легко он это делает всю жизнь! Как элегантно он всегда уходил от решений, и не поймешь: то ли он прятался от них, то ли они от него. Он вспомнил, как она входила сюда, в эту комнату, подбегала к нему, обхватывала его шею руками, у нее всегда были прохладные ладони, терлась носом о его нос и с важной торжественностью говорила: «Формика Фло приветствует тебя». Она тогда изучала муравьев, всех этих «Формика поликтена» и «Формика руфа», и утверждала, что, только потеревшись усиками, муравьи могут узнавать друг друга. А он ей говорил, что если она уж хочет перейти с ним на чисто муравьиные отношения, то ей следует отрастить себе усы или, по крайней мере, усики. Тогда она будет настоящей формикой. А она отвечала, что главное не усы, а свой собственный уютный маленький муравейник. Боже, как это было давно! И было ли это когда-нибудь? Муравьи… По-латыни «формика». Формика… Как, кстати, фамилия профессора, с которым она работала? Она ведь говорила ему что-то похожее. Фор… Фер… Ферми… Нет, это физик. Ага, кажется, Фортас. Дэн вскочил с такой силой, что кресло с обиженным скрипом сдвинулось с места. Телефонная книжка лежала на письменном столе. Боже, сколько идиотских, никому не нужных имен! Десять фунтов бессмысленных имен. Фортасов было восемь. Хорошо, что не Смит или Джонсон, их были бы тысячи. А что, собственно, он спросит у этого Фортаса, если даже и найдет того самого? Где мисс Флоренс Кучел? Он никогда не ответит. Фло несколько раз говорила ему, что хотя она и биолог, но работает в каком-то чрезвычайно секретном учреждении. Дэн набрал первый номер. Низкий женский голос манерно процедил в самое ухо «Ал-ло-о…». — Миссис Фортас? — спросил Дэн, стараясь унять биение сердца. — Да, что вам угодно? — Видите ли, ваш супруг просил меня достать ему хороших муравьев, формика руфа… — Большое спасибо, но мы теперь питаемся только кузнечиками. Трубка на другом конце с треском опустилась на рычаг. Второй и третий Фортасы не отвечали. Уже теряя надежду, Дэн набрал четвертый номер. После нескольких гудков в трубке послышался уверенный и слегка насмешливый мужской голос: — Я вас слушаю. — Формика руфа, — сказал Дэн. — Это ваше имя или вы хотите сказать, что вы муравей рыжий? — саркастически спросил после короткой паузы голос. Он! Вряд ли могло быть столько случайных совпадений. Вряд ли какой-нибудь другой Фортас мог знать, что такое формика руфа. Дэн осторожно положил трубку. Где он живет? Ага, Сентрал Чейз, 14. Респектабельный район, ничего не скажешь. Внезапно его снова охватило сомнение. Для чего все это? Даже если каким-нибудь чудом он узнает, где сейчас Фло, что он скажет ей? Что он скажет ей, чего не мог сказать раньше? Как объяснит, почему не сказал раньше, когда она была рядом? Но комок в горле нетерпеливо повернулся, словно подгоняя его, и Дэн понял, что с этого мгновения та логика, которая определяла раньше его поступки, уже не действует. Слова, которые всегда были его спасением, потеряли свой смысл. Если бы только она отключилась раньше, эта логика, когда Фло была здесь, рядом, с прохладными ладонями на его шее, он никогда бы не отпустил ее, ни на мгновение, и не было бы этого письма «Дорогой Дэн», и не нужно было бы искать какого-то муравьиного Фортаса. Он нажал на кнопку вызова лифта, но не стал ждать кабины и ринулся вниз по лестнице, перескакивая сразу через три ступеньки, покрытых вытертой дорожкой. «Почему она должна быть там два года?» — думал он. Странно. Все это немножко странно.Твоя Фло».
МИРМЕКОЛОГ СО СМИТ-ВЕССОНОМ
В прохладном холле, отделанном мрамором, настолько искусственным, что он казался естественнее настоящего, за конторкой дремал привратник. Не успел Дэн прикрыть за собой дверь, как он открыл глаза. — К кому? — Мне нужен мистер Фортас. — Одну минутку, сейчас я позвоню. Как доложить? — Видите ли, я представитель фирмы, у которой мистер Фортас заказывал оборудование, и я сомневаюсь… Он уже третий месяц тянет с оплатой… — Не выйдет. У нас тут строгий порядок: обязательно нужно звонить снизу. — Да, но вы понимаете… — Я-то понимаю, но другие не понимают. Почему я должен вылететь отсюда? Ради того, чтобы бухгалтерские книги вашей фирмы были в порядке? Трое детей, сэр… Поневоле будешь выполнять инструкции. Дэн облокотился на конторку и вытащил из кармана бумажник. Сонные глаза привратника мгновенно прояснились, как запотевшее стекло под струей воздуха, и с интересом следили за его руками. — Вот, — сказал Дэн и протянув пятидолларовую бумажку. Привратник горестно вздохнул, и в то же мгновение бумажка каким-то чудесным образом выскользнула из рук Дэна и исчезла. — Четвертый этаж, двенадцать «Б», — пробормотал привратник и мгновенно заснул, как умеют засыпать лишь швейцары, портье и привратники. Лифт три раза мягко щелкнул на лестничных клетках и, вздрогнув, остановился. В прохладном коридоре никого не было. У массивной, под орех, двери с медной табличкой «12 Б» Дэн остановился. Сердце его колотилось, и у него возникло смутное ощущение, будто это не он, Дэниэл Карсуэлл, служащий рекламной фирмы «Мейер, Хамберт и K°», а кто-то совсем другой замер перед чужой, незнакомой дверью, не зная, что сделает через мгновение. Было еще не поздно повернуться и спокойно спуститься вниз, и у Дэниэла Карсуэлла возникло острое желание поступить именно так, но он знал, что не найдет больше слов, чтобы спрятать свою трусость, и тот, другой, бесцеремонно заставил его поднять руку и позвонить. За дверью послышались шаги, щелкнул замок, и она приоткрылась. Невысокого роста человек в кирпичного цвета домашнем халате удивленно поднял брови. Брови на пухлом бледном лице были настолько густыми, что казались наклеенными. — Вы, очевидно, ошиблись дверью, — сказали брови, загораживая собой вход. — Мистер Фортас? — спросил Дэн и переступил порог. Человек отступил на шаг и сухо сказал: — Простите, я не имею обыкновения впускать к себе незнакомых людей. Что вам угодно? Если вы хотите всучить мне какие-нибудь рекламные проспекты или продемонстрировать новый автомат для завязывания шнурков… — О нет, мистер Фортас. Меня зовут Дэниэл Карсуэлл, и я был близко знаком с мисс Флоренс Кучел. — А… — неопределенно сказал Фортас. — Она неожиданно уехала, и я решил, что, быть может, вы поможете мне. — Это вы сообщили мне по телефону, что знаете, как по-латыни рыжий муравей? Впрочем, я мог бы догадаться и сам. Так вот, дорогой мистер Карсуэлл, я ровно ничем не смогу помочь вам. Я просто-напросто не знаю нынешнего адреса мисс Кучел. В глазах Фортаса тлела скука. Он выразительно посмотрел на дверь и на Дэна. — Но вы должны понять, мистер Фортас… Мне нужно найти Фло, вы понимаете, нужно, — сказал Дэн и не узнал своего голоса, который звучал настойчиво и даже угрожающе. Могучие брови специалиста по муравьям снова поползли вверх. Он поднял глаза на Дэна и, уже не скрывая раздражения, отчеканил: — Я же вам ясно сказал, что ничем не смогу помочь, мистер… Карсуэлл. Будьте здоровы. Дэн начал было поворачиваться, чтобы уйти, но тот, другой в нем, действовавший заодно с комком в горле, шепнул ему: «Он знает. Ты должен найти Фло. Ты сам потерял ее, и ты должен найти ее». Дэн шагнул к профессору и, глядя ему в глаза, в которых медленно всплывал испуг, хрипло сказал: — Я никуда не уйду, пока вы не дадите мне точный адрес Флоренс. Фортас засунул руку в карман халата и тут же разочарованно вытащил ее, Дэн почувствовал, как в нем закипало бешенство. Все они заодно. И розовая Жаба с двузначным лицом, и мягкий злобный асфальт, и жирная муха на ветровом стекле, и эти брови. Теперь уже он не отделял себя от того, другого человека, который учил его, что делать. — Вам не повезло, дорогой Фортас, — тихо и яростно сказал он, — наверное, пистолет остался в другом кармане. Иначе вы преспокойно бы ухлопали меня, заявив, что я пытался вас ограбить. — Ну хорошо, хорошо, — примирительно пробормотал Фортас., — если вы уж так настойчивы, пройдемте в кабинет, я попробую что-нибудь узнать для вас. Фортас повернулся. На спине его был написан страх. В кабинете, уставленном старинной тяжелой мебелью, профессор тяжело опустился в кресло, быстро смахнул со стола листок бумаги и поднял телефонную трубку. Дэну почудилось, что испуг в глазах профессора исчез, уступив место презрению. «Сейчас он вызовет кого-нибудь», — пронеслось у него в голове, и прежде чем он успел подумать, что делает, вырвал у профессора трубку и швырнул обратно на рычаг. — Я вам не муравей, — тихо сказал Дэн. — Оставьте свои фокусы с телефоном. Мне нужен адрес Фло, и вы его мне дадите. — А почему вы уверены, что я не назову вам первое пришедшее мне в голову место? — дрожащим голосом спросил Фортас. Халат на нем слегка распахнулся сверху, обнажив волосатую с сединой грудь. — Потому что я прекрасно вижу, когда вы врете. — Ну-ну, вы недурной физиономист. Вы, может быть, тоже имеете отношение к науке? — Нет, я занимаюсь рекламой, и мне с утра до вечера приходится возиться с людьми, которые лгут. И сам я лгу. «Лучший в мире стиральный порошок „Тайд“». Все самое лучшее в мире. Жду. Краем глаза Дэн видел, как профессор наклонился вперед, привалившись грудью к краю письменного стола. При этом правое плечо его слегка опустилось. Не нужно было быть героем детективного романа, чтобы догадаться, что означает это движение. Дэн с трудом перегнулся через стол и неуклюже ударил профессора в плечо. Прежде чем Фортас успел прийти в себя, Дэн перескочил через стол, сбив ногой настольную бронзовую лампу, которая с грохотом упала на пол, и вытащил из полувыдвинутого ящика стола пистолет. — У вас довольно странные манеры для специалиста по рекламе, — криво усмехнулся Фортас. Дэну показалось, что его пухлое, бледное лицо с густыми кустиками бровей сразу постарело. — Для мирмеколога — так ведь как будто называются специалисты по муравьям — вы тоже не совсем обычно вооружены, — тяжело дыша, ответил Дэн, разглядывая лежавший на его ладони английский смит-вессон. Предохранитель на левой стороне пистолета был поднят. — Итак, вернемся к делу. Мне нужен адрес Фло. — Его ужаснуло собственное спокойствие. — Хорс Шу, Юта, — быстро выпалил Фортас. — Врете, — сказал Дэн. — Вы врете. — Оставьте меня в покое! — вдруг неожиданно пронзительным голосом закричал Фортас. — Убирайтесь отсюда, глупец! Вон! Все равно вы никогда не попадете на секретную базу. Идиот! Впервые за последние двое суток Дэн почувствовал, как комок в его горле исчез, перестал душить его. Но, растворившись, он превратился в ярость, которая против его воли заставила Дэна схватить профессора и сжать его горло руками. Тот попытался ударить его ногой в живот, но потерял равновесие, и оба рухнули на пол. Профессор внезапно обмяк и закрыл глаза. — Ну, — сказал Дэн, все сильнее сжимая пальцы на горле Фортаса, — считаю до трех. Можете думать, что это мистика; но я почувствую, когда вы скажете правду. — Драй-Крик, Аризона, — прохрипел Фортас. Дэн разжал руки и положил пистолет себе в карман. На полу белел листок бумаги, и он еще минуту тому назад прочел слова «Драй-Крик». Он выпрямился и шагнул к двери. Внезапно он подумал о телефоне. Вернулся, выдрал шнур из розетки. Он двигался и говорил, как заводной, давно уже не контролируя себя и не отдавая себе отчета в своих поступках. У двери он поправил галстук, пригладил волосы, вытащил из замочной скважины ключ и запер дверь снаружи. Когда он проходил мимо привратника, тот открыл глаза и вопросительно посмотрел на Дэна. — Все в порядке, мы рассчитались, — сказал Дэн, — не волнуйтесь.ТАБЛЕТКА РОТОРА
Почти всю ночь Дэн не мог уснуть. Он метался по раскаленной кровати, и ему начинало казаться, что больше никогда в жизни он не сможет дождаться сна. Несколько раз ему почудилось, что вот-вот он заснет. Он уже видел зыбкую границу между бодрствованием и сном и жаждал перешагнуть ее, но должно быть, именно оттого, что он ее видел, она каждый раз отступала. «Я уже сплю, сплю», — заклинал он сон, но точно знал, что это неправда. Часа в три ему послышалось будто кто-то пытается открыть снаружи дверь его квартиры. Он вытащил из кармана пиджака свой трофейный вессон и, сжимая его в потной руке, тихо подошел к двери. Он простоял несколько минут, стараясь не пошевельнуться. Его бил озноб. Тот, за дверью, тоже, наверное, ждал. В кирпичного цвета халате, распахнутом на волосатой груди. Или это миссис Камински в розовой шляпке и с розовыми глазами змеи подкарауливает его на лестничной площадке? Он отер со лба испарину. Бред. Никого не было, наверное, ему померещилось. Он наполнил ванну и долго лежал в горячей воде, пытаясь привести в порядок мысли. Он уже знал, что поедет в Аризону, и даже не пытался отговаривать себя от этого почти безнадежного предприятия. Логика была ни при чем. Он просто должен был поехать в Аризону. В девять часов утра он вышел из дому. Нужно было зайти в контору и договориться об отпуске. Если они его не отпустят, черт с ними, с рекламным агентством «Мейер, Хамберт и K°». Пусть рекламируют лучшие в мире стиральные порошки и лучшие в мире клопоморы без него. Дэн сел в машину и повернул ключ. Стартер легко прокрутил коленчатый вал, двигатель завелся и тут же снова заглох. Снова и снова он поворачивал ключ, одновременно нажимая на педаль газа, но натужный визг стартера никак не хотел переходить в ровное бульканье работающего двигателя. Когда Дэн почувствовал, что вот-вот сядет аккумулятор, он выругался, запер машину, позвонил в гараж механику и отправился па работу пешком. Тупо ныл живот и слегка поташнивало. Наверное, от вчерашнего, подумал он. Надо будет принять таблетку. Он всегда держал у себя в кабинете коробочку с таблетками ротора. Контора «Мейера, Хамберта и K°» встретила Дэна обычной суетой. Пегги Маршалл из художественного отдела пронеслась мимо него, держа в руках огромный синий плакат. — Гениальная идея! — пискнула она. — Просто пальчики оближешь! Психологи подсказали. Новая взаимосвязь цвета и подсознания. Главное теперь — подкорка покупателя. Шеф прямо бредит ею. Дэн вошел в свой кабинет, плеснул в стакан воды из сифона и открыл средний ящик письменного стола. Надо будет купить в аптеке новую коробочку ротора. Как он забыл это сделать, ведь прошлый раз, когда он принимал лекарство, оставалась всего одна таблетка! Дэн достал плоскую коробочку со сдвигающейся пластмассовой полоской, которая позволяла легко вынимать по одной таблетке, и привычно потряс ее. Таблеток было несколько. Наверное, он ошибся в прошлый раз. Он достал таблетку, взял стакан с водой. Странно, он почему-то был уверен, что тогда в коробочке оставалась именно одна таблетка. Подкорка и цвет. Цвет и подкорка. Он поднял трубку и позвонил привратнице, миссис Джексон. — Кто-нибудь заходил ко мне сегодня утром? — спросил он. — А как же, мистер Карсуэлл, обязательно заходили. Разве они не починили вам замок в ящике стола? Дэн почувствовал, что у него внезапно взмокла спина, а рука, державшая телефонную трубку, стала ватной. Ничего себе муравейник, на который он случайно наступил. Кроткие рассеянные мирмекологи держат в письменных столах пистолеты и подкладывают в коробочки с лекарством новые пилюли. И все из-за муравьев. И секретная база, откуда человек не может уехать, даже если захочет, — тоже из-за формика руфа. Вот тебе формика, вот тебе руфа! Страх выжал на его лбу несколько капелек пота. — А что они сказали вам, эти слесаря? — Что вы прислали их починить замок. Они из компании, которая обслуживает нашу контору. А что, разве что-нибудь пропало? Я не выходила из вашего кабинета, пока они были там. — Ни разу? — Нет, я все время сидела в вашем кресле. Неужели что-нибудь пропало? — В голосе миссис Джексон звучало беспокойство. Славная она женщина, миссис Джексон. Только дура. — Нет, нет, дорогая миссис Джексон, не волнуйтесь. Ничего не пропало. Наоборот, кое-что прибавилось, — криво усмехнулся Дэн. Он аккуратно спрятал коробочку с ротором в карман и пошел к шефу. Старик Мейер неожиданно легко согласился отпустить его, и через полчаса Дэн уже был дома. Клеопатра, как всегда, спала на диване, свернувшись в серый пушистый комок. Не меняя положения, она приоткрыла глаза и лениво посмотрела на Дэна откуда-то из четвертого измерения. Зрачки ее были похожи на вертикальные щелочки. Дэн подошел к холодильнику, вытащил бутылку молока и налил полное блюдце. Затем осторожно достал коробочку с ротором и вытряхнул на ладонь таблетку. «Надо раскрошить ее, тогда она быстрее растворится», — подумал он и раздавил пилюлю над блюдцем. Клеопатра томно потянулась, круто выгнув спину, и спрыгнула на ковер. — Ну, Клео, вот и тебе пришлось участвовать в судебно-медицинском эксперименте, — пробормотал Дэн, глядя, как кошка лакает молоко. Почему-то он не думал, что может отравить ее. Он никак не мог до конца осознать то, что случилось. На секунду Клеопатра оторвалась от блюдца, посмотрела на хозяина, и Дэну почудилось, что в глазах ее мелькнуло укоризненно-вопросительное выражение. — Ко всему я еще становлюсь и невропатом, — сказал он, и в нем внезапно возникла уверенность, что все это чистой воды глупость. Он просто забыл. Наверняка в коробке было несколько пилюль… А слесаря? Резко прозвенел телефон. Дэн, вздрогнув, взял трубку. — Мистер Карсуэлл? Это из гаража. Кто это так над вами пошутил? — Что еще стряслось? — Какой-то шутник всыпал вам в бак фунта три сахара да минут десять гонял мотор, так что все засорено. Не мудрено, что машина не заводилась. Пришлось снимать бак, промывать всю систему питания. Там еще работы часа на полтора. Дэн медленно положил трубку. Как ему тогда говорила Фло? Муравьи бросают все силы, чтобы уничтожить чужеземца, вторгшегося в муравейник. В борьбе участвуют все. Ему почудилось, что тысячи крохотных тварей вдруг начали грызть его ногу, и он невольно посмотрел вниз. Бред! Он просто неудобно сидел. Он закрыл глаза и откинулся в кресле. Его бил страх. Он почувствовал себя ничтожной, беззащитной букашкой, к которой присматривается кто-то всесильный и невидимый, выбирая способ, каким лучше прихлопнуть его. Вот уже нога занесена над ним, еще мгновение, и она опустится на него, и все померкнет. В комнате было холодно. По спине у него прокатывались зябкие волны, и он дрожал. Фло, Фло… Послышалось легкое звяканье, и Дэн открыл глаза. Клеопатра дергалась около перевернутого блюдца. Глаза ее уже стекленели. Мышцы еще раз судорожно сократились, и серый пушистый комок вдруг обмяк. На ее розоватом носу лопнул молочный пузырь. Несколько капель молока медленно впитывались в ковер, расплываясь во влажном пятне. Но откуда они узнали, что он принимает лекарство и держит его на работе в столе? Откуда? Словно в трансе, Дон взял газету, осторожно завернул в нее Клеопатру и вместе с блюдцем бросил в мусоропровод. Газета глухо зашуршала о его стенки. Пушистый серый комок упадет сейчас в мусороприемник. А ведь место там было приготовлено для него. Грань между теплым мурлыканьем и трупом в газете была той чертой, которую обратно переступить уже было, наверное, нельзя. Он неторопливо вымыл руки и так же неторопливо вытер их. Из зеркала на него посмотрел незнакомый человек. У человека были слегка запавшие глаза и угрюмо сжатый рот. Увидев Дэна, человек в зеркале не улыбнулся, а лишь сурово покачал головой. Может быть, позвонить Фортасу и извиниться? Сказать, что он никогда не поедет в Аризону и даже постарается забыть слова «Драй-Крик»? И попросить, чтобы ему не сыпали в бак машины сахар и не подсовывали яд в виде пилюль от язвы? И что он отказывается от Фло, и что они могут два года делать с ней все, что им заблагорассудится? Или двадцать два года? Мысли неслись, толкая друг друга, и Дэн не понимал, что это древний инстинкт бойца распаляет его, чтобы прогнать страх и подготовить к схватке, которой уже не избежать и в которой у него не было ни малейших шансов. Человек в зеркале решительно кивнул Дэну, и Дэн ответил ему таким же кивком. Он достал из кармана пистолет и долго рассматривал его короткое металлическое тело, нагревшееся у него в кармане. Почему у этого Фортаса английский пистолет? Где он еще разводил муравьев? Под круглой фабричной маркой были заметны отпечатки пальцев. Наверное, его пальцев. Кто будет рассматривать их и сверяться по картотеке ФБР? — Ну-с, джентльмены, подумайте о каком-нибудь другом способе сделать из меня муравья и насадить на иголку, — сказал он вслух. Он никогда не разговаривал сам с собой, но сейчас ему обязательно нужно было услышать чей-нибудь голос. Хотя бы свой. К своему удивлению, он почти успокоился. Расслабляющий озноб, который только что заставлял его дрожать, куда-то исчез, и вместо него появилась внутренняя одеревенелость, словно ему дали наркоз и он перестал что-либо чувствовать. Он знал, что теперь им двигала не только любовь к Фло, но нечто большее. Слишком долго он жил в кредит у самых простых принципов, и теперь нужно было расплачиваться. Или объявить себя банкротом. Он засунул пистолет в карман, достал из ящика письменного стола все деньги, которые у него были. В портфель он положил бритву, зубную щетку и мыло и вышел из дому. Брать свой «мустанг» было бы глупо. В нужном укромном месте на шоссе наверняка нашелся бы тяжелый грузовик, который почему-то вдруг потерял бы управление и врезался в него. Ничего особенного, обыкновенный несчастный случай… Лететь прямо до Феникса тоже было безнадежно. Они, должно быть, предусмотрели и такую возможность и встретят его в аэропорту с распростертыми объятиями. Чересчур распростертыми и чересчур цепкими. Очевидно, нужно было сбить их с толку. Долететь, скажем, до Рено, в Неваде, и оттуда добираться на попутных машинах до этого самого Драй-Крика. Не могут же они останавливать каждый автомобиль. Рено. Отличная мысль! В этот рай для разводящихся, единственное место в стране, где развестись ничего не стоит, кроме тысячи — другой долларов, ежедневно летят десятки людей. На улице он огляделся. Как будто никого не было. Мимо проезжало такси. Дэн поднял руку. «В аэропорт», — сказал он, и шофер молча кивнул головой. Он еще раз огляделся. Никого.КОКА-КОЛА УТОЛЯЕТ ЖАЖДУ
С внутренней стороны ветрового стекла грузовика-рефрижератора была приклеена фотография Кэрол Бейкер. Киноактриса, слегка прикрытая меховой накидкой, смотрела на Дэна равнодушным взглядом, и он подумал: а что, если бы стекло разбилось, сдуло бы с нее мех? От этой мысли онулыбнулся впервые за последние сутки и спросил у сидевшего рядом водителя: — Далеко еще до Драй-Крика? — Да миль десять. Скоро вам вылезать, мистер. Смотрите только не изжарьтесь. В этих местах такая жарища бывает, что дивишься, как здесь люди живут. — Постараюсь, — сказал Дэн, — а там все может быть… Водитель привычным движением губ передвинул сигарету из одного угла рта в другой, бросил короткий взгляд на Дэна и промолчал. Лента шоссе неторопливо набегала под аккомпанемент мотора на рефрижератор, раздваивалась и, шурша, исчезала позади. — Ну вот, — сказал водитель, — за этим поворотом будет маленький ресторанчик. Там спросите, как добраться до Драй-Крика. Где-то это здесь. — Спасибо, друг, — сказал Дэн. — Не за что, в дороге кому хочешь рад. А то в этой чертовой пустыне, того и гляди, уснешь за рулем. Из-за поворота выплыло одноэтажное небольшое здание, около которого расположилась бензозаправочная станция с овальной эмблемой «Эссо». Рефрижератор плавно затормозил, и Дэн спрыгнул на обочину. Сухой зной Аризоны пахнул ему в лицо, ударил его жарким одеялом. Водитель кивнул из кабины, и, взревев мотором, машина двинулась вперед, набирая скорость. Порыв ветра зашуршал мелким песком, перебросил через шоссе обрывок газеты, который, казалось, обессилел от такого длинного пути и тут же улегся на обочину. С обрывка на вылинявшее от жары небо смотрело женское лицо. «Обнаружена уби…» Дэна с новой силой охватило ощущение нереальности всего происходящего. Почему он вдруг оказался в этом богом заброшенным жарком углу, вместо того, чтобы сидеть сейчас в своем прохладном кабинете и придумывать подписи к рекламным фотографиям моющего препарата для посуды «Джой»? «Джой»! Если мытье жирной посуды было для вас тяжкой обязанностью, то теперь оно становится источником радости… Ах, Фло, Фло… Впрочем, она ни в чем не виновата. Наверное, она действительно думала, что он не любит ее. Как она не могла понять, что он боялся, боялся ответственности перед нею в этом неустойчивом, неопределенном мире… Если бы она подождала хотя бы еще немножко… Если бы она понимала, что он боялся ее, боялся себя… Он всегда чего-нибудь боялся. Теперь он снова испытывал страх, острый страх, ставший для него за эти два дня почти привычным. К страху привыкнуть легко, легче, чем к чему бы то ни было. Не успеешь ничего понять, и уже дрожишь день и ночь и не знаешь, что дрожишь, и думаешь, что так и надо. Может быть, человек вообще рожден для страха? Может быть, это и есть его нормальное состояние? Нет, Дэн, не распускайся, не пытайся оправдывать себя, даже если это и не ты, а твоя подкорка… Ты слишком долго преуспевал в этом. Только не поддаваться страху. Действовать. Все равно что, но что-то делать. Тем более, что ничего другого, как зайти в ресторанчик, в голову ему не приходило. Солнце не светило и не жгло, оно струило на землю густой обжигающий душ. Фортас и остекленевшие глаза Клеопатры, казалось, расплавились под этим душем и слились в гримасничающее бровастое лицо с кошачьими зрачками. Дэн толкнул дверь, и не сразу смог рассмотреть в полутьме несколько столиков и оцинкованный бар. Пахло пивом. — Что, печет сегодня, приятель? — послышался сонный голос откуда-то из прохладных недр комнаты. — Да, не холодно. — Дэн вздрогнул и уселся за столик. — А вы, наверное, издалека? Теперь Дэн уже различал в полумраке лоснящуюся от пота физиономию бармена за стойкой. — Это вы тонко заметили, — сказал Дэн. — А знаете, как я определил? — дружелюбно спросил бармен. — Кто тут хоть раз был, знает, что у стойки прохладнее, да и Мэри сейчас не дозовешься. Дрыхнет, дрянь такая, на кухне… Вам чего? — Бутылочку кока. — Это правильно. Я всегда говорю: хочешь утолить жажду — выпей бутылочку кока-колы. А вы здесь проездом? Что-то я вашей машины не вижу. — Нет, мне нужно в Драй-Крик. — Так это вроде и есть Драй-Крик. Тут вот в полумиле поселочек, так, ерунда, домиков десять — пятнадцать. Вы к кому, если можно узнать? Мы здесь народ любопытный, как видишь незнакомое лицо, обязательно суешь нос во все. Иной раз полдня не с кем словом перекинуться. — Понимаете, мне нужно добраться до научной базы… — А… Так бы сразу и сказали. Я там, правда, не был, да туда, говорят, никого и не пускают. Это милях в тридцати отсюда. — А дорога туда есть? — Есть, построили. Но они все больше на вертолетах. Торопятся теперь все. А вас встретить разве не должны? — Н-нет. Я не предупредил их. — Ну ничего, скоро кто-нибудь оттуда появится. Выпейте еще бутылочку. Сейчас я вам из холодильника достану. Бармен нырнул к холодильнику, пошарил в его освещенной изнутри камере, достал запотевшую ребристую бутылочку и вытер ее полотенцем. — Холодненькое. Я всегда говорю: хочешь утолить жажду — выпей бутылочку кока-колы. — Спасибо, — сказал Дэн, поднимая тяжелый стакан. — Ну как? — с гордостью спросил бармен. — Холодная? — Как раз по вашей жаре, — ответил Дэн. Он почему-то почувствовал сонливость. Глаза закрывались сами собой. «Бред какой! — подумал он. — Не хватает сейчас заснуть тут, прямо у стойки». Он сделал над собой усилие и встряхнул головой. Мысли его, казалось, отделились от черепной коробки и тихо плескались в голове, все густея и тяжелея. Мышцы век больше не слушались его. Веки были стотонны, и он уже знал, что не сумеет удержать их. Зачем держать их? Тяжкий сон неотвратимо навалился на него, как асфальтовый каток, и ничто не могло остановить его. «Я уже сплю», — вяло подумал Дэн и с каким-то облегчением разом перестал сопротивляться сну, словно отпустил веревку и полетел куда-то вниз. Сквозь сон он почувствовал боль во лбу. Он ударился головой о стойку и начал было сползать с высокого стула, но бармен успел подставить плечо и аккуратно уложил Дэна на пол. Затем осторожно приподнял ему веко и удовлетворенно кивнул головой: — Спит, как сурок! Он запер наружную дверь, тщательно выполоскал стакан, спрятал бутылку и позвонил по телефону. Через полчаса послышалось громкое гудение, все усиливавшееся и усиливавшееся, пока вдруг неожиданно не стихло. В заднюю дверь вошли двое мужчин в светлых комбинезонах. — Все в порядке? — спросил один из них. — Спит, как сурок, — гордо сказал бармен. — Пива? — В другой раз. Втроем они вынесли Дэна из ресторана во двор, где, печально свесив длинные лопасти, стоял вертолет. — Ну, счастливо, — сказал бармен, — я свое дело сделал. — Ладно, шеф будет доволен, — сказал пилот вертолета, — только привяжите его к креслу. «Сикорский» загудел, вращающиеся лопасти приподнялись, набирая обороты, и легко потянули вверх небольшую кабину. Вертолет слегка наклонился вперед и заскользил над желтым морем песка и редкими пятнами деревьев.ДРАЙ-КРИК
Прежде чем Дэн открыл глаза, он уже знал, что в комнате много солнца, потому что мрак под закрытыми веками трепетал и был светлым. Он почувствовал радость, такую же безотчетную радость бытия, какая посещала его во время пробуждения ото сна много-много лет назад, когда он был мальчишкой и каждый новый день был началом новой жизни. «Как хорошо!» — подумал он и открыл глаза. На светло-зеленой стене дрожала солнечная полоска. Должно быть, лучи проходили сквозь листву и она передавала им свой трепет. Дэн лежал на диване. Он вдруг вспомнил все: остекленевшие глаза Клеопатры, Кэрол Бейкер на стекле рефрижератора, кока-колу и сон. Его усыпили, подумал он, и тут же автоматически отметил какую-то странность: мысль эта нисколько не испугала его и даже не спугнула радостного настроения. Это было удивительно. Дэн легко сел на диване и потянулся. Тело его слегка онемело от долгого лежания и чуть-чуть болела голова. Но хотя он и зафиксировал эти ощущения, все то же блаженное состояние не проходило. «Какой великолепный светло-зеленый цвет у стен и как красиво они освещены солнцем», — подумал он. Послышались шаги, Дэн обернулся и увидел полноватого смуглого человека средних лет, в светло-зеленом халате. Лицо человека показалось ему каким-то удивительно родным и домашним, и он не мог сдержать широкую, счастливую улыбку. — Ну, вот вы и проснулись, — сказал человек. — Позвольте представиться: доктор Цукки. Как вы себя чувствуете? — Прекрасно, — ответил Дэн. Он испытывал какую-то незнакомую радость, разговаривая с этим человеком, и, даже если бы чувствовал себя совершенно больным, все равно ответил бы «прекрасно», лишь бы сделать ему приятное. — Вас, наверное, интересует, где вы и что с вами случилось, — сказал доктор Цукки. — Вы сидели в баре «Драй-Крик», пили кока-колу, и вам стало плохо. Хозяин позвонил нам сюда, — доктор сделал широкий жест рукой, — и мы вас доставили к себе. Здесь у нас экспериментальная биологическая база. Побудьте пока тут, отдохните, а там видно будет. Вы что-нибудь хотите спросить меня, мистер… — Карсуэлл, Дэниэл Карсуэлл, — широко улыбнулся Дэн. — Нет, нет, ничего. — Ну, вот и отлично. В двух словах о нашем распорядке. Жить вы пока будете в коттедже номер три, столовая почти рядом. В том же помещении, что и столовая, — наша кают-компания. Можете там взять себе что-нибудь почитать, сыграть партию на бильярде, посмотреть телевизионную программу. Лагерь наш обнесен колючей проволокой, подходить к ней нельзя. Нельзя самому входить и в помещения лабораторий. Впрочем, вы сами увидите надписи с предупреждением… Вы что-то хотите сказать, мистер Карсуэлл? — Мне очень стыдно, дорогой доктор, но я должен признаться вам, что я оказался в ресторанчике не случайно… Доктор Цукки внимательно посмотрел на Дэна и ободряюще кивнул. — Видите ли… я не знал как, но я намеревался проникнуть на вашу базу… Мне нужно было поговорить с мисс Флоренс Кучел, которая, как мне стало известно, находится здесь. Дэн испытывал жгучий стыд за свои поступки и вместе с тем в нем трепетала радостная уверенность, что доктор Цукки простит его. Это было необъяснимо. Он чувствовал то, чего не мог чувствовать, и говорил то, что не могло прийти ему в голову. Но тем не менее он это делал, и при этом в нем все росло и росло некое радостное животное блаженство, которому он не мог найти названия и которому не мог и не хотел сопротивляться. Все мысли и воспоминания, чуждые этому блаженству, казались осклизлыми кусками дерева на воде: только захочешь за них уцепиться, как бесшумно и плавно они уходят из-под рук и даже не всплывают снова рядом, а выныривают где-то далеко, где их почти не видно. Доктор флегматично кивнул и сказал: — Ну ничего, ничего. А мисс Кучел вы встретите через несколько минут. Я ее только что видел. Кстати, когда вас привезли сюда, из кармана у вас выпал пистолет. Сейчас я вам принесу его. — Что вы, доктор, зачем мне пистолет в таком приятном месте? Господь с вами! Дэну на мгновение почудилось, что он сошел с ума, что все эти странные слова, которые он произносил, не могли родиться в его мозгу. Он не мог радоваться тому, что попал в тюрьму за колючей проволокой, не мог признаться в своих намерениях, не мог отказаться от пистолета, не мог остаться равнодушным при мысли, что сейчас увидит Фло. Но тут же безотчетная, всепоглощающая физиологическая радость, какое-то благостное удовлетворение и довольство смыли тревожные мысли, сморщили их, сделав крошечными и скучными. — Вот, прошу вас. — Доктор протянул Дэну знакомый вессон и внимательно посмотрел на него. Дэн отшатнулся. Металлический предмет на раскрытой ладони доктора казался абсурдным, чудовищно нелепым в этом радостном солнечном мире. — Господь с вами, доктор, уберите его! — с жаром воскликнул Дэн, и снова на какую-то долю секунды в голове его шевельнулась мысль о фантастичности всего происходящего. Нет, он не бредил. Он чувствовал себя бодрым и энергичным. Он помнил все, решительно все. Просто все потеряло свою привычную ценность. Ценность приобретал взгляд доктора Цукки, его улыбка, и ради этой улыбки Дэн с готовностью и восторгом согласился бы на что угодно. «Хорошо если бы я был собакой, — подумал Дэн, — я бы встал на задние лапы и лизнул доктора в лицо». — Отлично! Когда он вам понадобится, скажете мне или кому-нибудь еще из обслуживающего персонала. А теперь прошу, я вам покажу ваше жилище. — О, спасибо, доктор, вы так добры ко мне!.. Они вышли из комнаты, прошли прохладным коридором, где под ногами у них мягко и упруго пружинил пластик, и вышли на улицу. Невдалеке натужно ревел красный бульдозер, сгребая в кучу сухую коричнево-бурую землю, и несколько рабочих в светлых комбинезонах осматривали огромную металлическую трубу, для которой уже была готова траншея. — Как видите, мистер Карсуэлл, мы еще благоустраиваемся. Прямо перед ними среди пальм виднелись живописно разбросанные коттеджики, а правее, ярдах в трехстах, над приземистым корпусом вверх тянулось несколько металлических радиомачт. По периметру базу окружали три ряда колючей проволоки со сторожевыми башенками через каждые сто — сто пятьдесят ярдов. — К проволоке лучше не подходить, — сказал доктор Цукки. — Что вы, что вы! — испугался Дэн. — Мне это и в голову никогда не придет. Раз нельзя — какой может быть разговор. — Ну и великолепно. Я вас сейчас оставлю, а вы можете зайти к себе или погулять, как хотите. До обеда еще больше часа. До свиданья. — До свиданья, доктор Цукки. Огромное вам спасибо за все. Вы и не представляете себе, как мне было приятно с вами познакомиться. Доктор коротко взглянул на Дэна сквозь очки с толстыми стеклами, и тому почудилось, что в его близоруких глазах мелькнула какая-то брезгливая жалость, с какой обычно смотрят на отсталых в умственном развитии детей. Неужели он его чем-нибудь огорчил, испуганно подумал Дэн, но доктор рассеянно кивнул, и на лице у Дэна расплылась блаженнейшая улыбка. Мир был прекрасен. Все, что он видел вокруг, казалось ему невыразимо приятным. Крохотные однотипные домики источали несказанный покой. С десяток чахлых пальм трогали его своей беззащитностью. Геометрические контуры металлических башен радовали глаз какой-то благородной строгостью. Красный бульдозер походил на большого добродушного слона, а рабочие в светлых комбинезонах вызывали в нем восхищение своими четкими, размеренными движениями. «Но это же невероятно! — подумал Дэн. — Почему я полон этой странной всеблагости? Почему во мне нет ни одной привычной и естественной эмоции?» Но, как и несколько минут назад, вопросы эти не находили пристанища в его мозгу, им как будто не за что было уцепиться, и они тут же уплывали куда-то вдаль, теряя остроту и смысл. Все было хорошо, и незачем было думать о том, что нарушало его ровный, поющий восторг. Впрочем, ему казалось, что восторг этот нарушить было вообще невозможно, словно какой-то мощный брандспойт в его сознании непрерывно омывал его сильной струей блаженного покоя, которая мгновенно затопляла и уносила все неприятные мысли и чувства. Впереди на дорожке послышались шаги. Дэн поднял голову и увидел Фло. Она шла под руку с каким-то человеком и сияла белозубой улыбкой. Она загорела с того момента, когда он последний раз видел ее, и легкий загар шел к ее светло-каштановым волосам, которые дрожали сейчас в порывах теплого ветра. Легкое светлое платье, похожее на сарафан, обнажало ее руки. Дэн затаил на мгновение дыхание, инстинктивно ожидая, что сердце его сейчас пропустит такт, а потом понесется вскачь, охлаждая все внутри и обдавая горячим жаром лицо, но оно продолжало биться ровно и спокойно. Фло подняла глаза и увидела Дэна. Она приветливо кивнула ему и крикнула: — Дэнни, как ты сюда попал? — Приехал, Фло, — спокойно ответил Дэн. Ему было приятно ее видеть, впрочем, как и ее спутника, молчаливого черноволосого мужчину, высокого и широкоплечего. — Знакомься, Дэнни, это Генри. Генри Фостер. Он тоже работает здесь. — Очень приятно! — Фостер дружелюбно протянул Дэну руку, и тот с чувством пожал ее. — Хорошо, что ты здесь, — весело сказала Фло. — Народу у нас маловато, и втроем нам будет веселее. Правда, Генри? — Она обернулась к своему спутнику, и тот смущенно улыбнулся, кивнув головой. Теперь Дэн знал, твердо знал, что должен испытывать в эту минуту боль, острую боль. Он хотел бы испытать ее, ждал ее, понимая, что острая горечь вернула бы его в нормальный мир нормальных чувств. Но ни боли, ни горечи не было. Он мог их вызывать волевым усилием сколько угодно, но то были пустые заклинания. Он даже произнес мысленно слова «боль» и «горечь», ожидая, что они повлекут за собой и чувства, но слова оставались лишь словами, пустой шелухой, хрустящей на зубах. Ему было хорошо и весело на душе, ему нравились и Фло, и ее спутник, и с этим ничего нельзя было поделать. Он поймал себя на мысли, что сказал про себя «она мне нравится» вместо привычных слов «я ее люблю», но опять все это не имело значения. Слова, просто слова. Фостер отступил на миг от Фло и приветливо улыбнулся Дэну, как бы уступая место, но Дэну не захотелось огорчать этого приятного, столь симпатичного ему человека, и он покачал головой. — Вы церемонны, как два старых высохших аристократа, — засмеялась Фло и взяла их обоих под руку. — Давайте погуляем до обеда. Сегодня не так жарко, как обычно. Она была хороша, еще красивее, чем раньше. Нет, пожалуй, не красивее, а привлекательнее. Ее светло-серые глаза все время смеялись, а губы жили какой-то своей собственной жизнью: ни на секунду не застывали, то и дело меняли выражение лица. Дэн испытывал острую и горячую благодарность к Фло, и ее спутнику, и доктору Цукки, которые заставили его чувствовать себя таким счастливым, таким довольным всем на свете, каким он не чувствовал себя никогда. Ощущение восторженной благодарности было так сильно, что в течение нескольких минут он не в состоянии был вымолвить ни слова. Ему хотелось мычать от счастья и трясти головой, как теленку па лугу. Рядом с ним шла женщина, которую он любил, и Фостер, которого он любил, где-то недалеко был доктор Цукки, которого он любил, и глухо урчал бульдозер, который он тоже любил. Дэн вдруг вспомнил, о чем хотел спросить Фло с того самого момента, когда обнаружил в коробочке с ротором лишние пилюли, и выпалил вопрос, прежде чем успел забыть о нем: — Фло, ты рассказывала кому-нибудь в последнее время о моей язве и о том, что я принимаю ротор? — Конечно, — небрежно сказала Фло. — Позавчера меня расспрашивали, что я знаю о тебе. — Спасибо, Фло, — ласково сказал Дэн и удивился, для чего он задал этот никчемный, не имеющий никакого значения вопрос. — А обед скоро? — Скоро, скоро, — весело пропела Фло. — Мы тут все почему-то прожорливы, как галчата. Это так забавно, ты и представить себе не можешь. Скоро я стану как тумба. — Ну, уж на тебя это не похоже. А что вы делаете по вечерам? Бридж? — Да нет, знаешь, как-то не получается. Пробовали несколько раз — и все не то. — Почему? — Да как тебе сказать… Здесь у нас все время такое хорошее настроение, что трудно всерьез сосредоточиться на картах. Верно, Генри? — Совершенно верно. И потом, знаете, когда приходит хорошая карта, как-то становится жалко противников. И знаешь, что это их не огорчит, и все-таки огорчать не хочется. А теперь позвольте вас оставить вдвоем до обеда. Мне надо еще зайти к себе. Фостер кивнул и ушел. Дэн посмотрел на Фло. — Фло, — сказал он. — Да, Дэн? — улыбнулась ему в ответ Фло. — Ты… — Он вдруг почувствовал, что не знает, о чем ее спросить. Не то чтобы он забыл вопросы, тысячи вопросов, но просто все они казались теперь ему настолько неинтересными, что не к чему было их и задавать. Ему было хорошо, слишком хорошо, и блаженство изолировало его мозг от мира. — Ты меня хотел о чем-то спросить? — рассеянно пробормотала Фло. — Н-нет. — Я тоже что-то стала в последнее время такая рассеянная. Ты думаешь, это от жары? — Не знаю. Да и какое это имеет значение? — Верно, — улыбнулась Фло. — Никакого. Пойдем обедать.ТРУБА
— Ну-с, мистер Карсуэлл, — сказал доктор Цукки, пристально рассматривая Дэна, — вы у нас уже два дня. Как вы себя чувствуете в новой обстановке? — Прекрасно, доктор, только… — Дэн смущенно опустил глаза, но затем, словно собравшись с духом, выпалил: — Только я соскучился по вас… Доктор Цукки едва заметно поморщился и пожал плечами: — Ну-ну, мистер Карсуэлл, не будем признаваться в любви. Вы теперь окрепли, и я хотел спросить, когда мы можем вас отправить домой. Вы ведь, как всякий нормальный человек, должны тяготиться пребыванием здесь, а? Колючая проволока, часовые на сторожевых вышках… Мягкий, липкий страх мгновенно выкачал из Дэна воздух, и образовавшийся в нем вакуум сжал, потянул куда-то вниз сердце. Уйти отсюда… Потерять сиявшую в нем радость, сладко гудевшее блаженство? Там — лишние таблетки ротора, падающий с глухим стуком в мусоропровод труп Клеопатры, душащий комок при мысли о Фло. Здесь — несказанное ощущение благодати, ровное, сладостное спокойствие, колыхавшее его на своих нежных теплых волнах. Дэн почувствовал, как на глазах у него набухли давно забытые детские слезы. Он опустил голову, чтобы скрыть их, ведь доктор мог огорчиться, и глухо сказал: — Я не хочу уезжать отсюда. Не гоните меня. Дэн не видел, как доктор Цукки медленно и задумчиво потер пальцами виски и устало прикрыл веки. — Хорошо! Признаться, мы и не ожидали от вас иного ответа. Теперь ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Судя по всему, вам хорошо. А вы не думали, почему именно? — Не знаю, доктор, — жалобно сказал Дэн, по-детски наморщив лоб, но тут же снова просиял в уже ставшей за эти дни привычной улыбке. — А разве это имеет значение? — Отлично. И самый последний вопрос: вы любите мисс Кучел? — Да, но… не знаю, как вам это объяснить, не так, как раньше… — Спасибо, друг мой. — Доктор Цукки нажал на кнопку магнитофона, на который Дэн раньше не обратил внимания, и медленно вращавшиеся бобины остановились. — Теперь о деле. Мисс Кучел, мистер Фостер и еще некоторое количество людей, находящихся здесь, — ученые. Они выполняют определенную работу. У вас нет специальной подготовки, но тем не менее мы бы хотели, чтобы вы кое в чем помогали нам, например в строительных работах. Хорошо? — С удовольствием! — пылко воскликнул Дэн.* * *
Дэн стоял на дне траншеи, выравнивая ее стенки лопатой. Солнце было почти в зените, и воздух в траншее, казалось, раскалился и загустел до такой степени, что мешал Дэну взмахивать лопатой, чтобы выкинуть на поверхность лишнюю землю. Пот пощипывал ему глаза, и прядь волос прилипла к влажному лбу. Он вылез из траншеи. Можно было, конечно, сходить к коттеджу и перевести дух в тени пальм, но ему не хотелось идти под палящими лучами солнца. Он устал, и его мышцы, утомленные непривычной работой, жаждали хотя бы минутного перерыва. Но, несмотря на частое дыхание и ручейки соленого пота, Дэн по-прежнему чувствовал себя счастливым, настолько счастливым, что, не задумываясь, согласился бы до конца своих дней стоять на дне траншеи и выбрасывать наверх сухую красноватую землю. Счастливые люди всегда консерваторы. Больше всего они боятся каких бы то ни было перемен. А Дэн был счастлив. Безмерно и уродливо счастлив. Внезапно его внимание привлекла огромная, фута три в диаметре, труба, которая лежала рядом с траншеей. Тень, закупорившая ее ближний к Дэну конец, казалась прохладной и ощутимо плотной по сравнению с залитой солнцем землей. «Там душно, но, по крайней мере, можно на минутку спрятаться от солнца», — подумал он, опустился на колени и залез в трубу. Против его ожидания, там не было душно. Легкий сквозняк вентилировал трубу, и Дэн даже слегка вздрогнул от влажной прохлады. В следующее мгновение ему показалось, что в трубе холодно. Потом тень стала ледяной, и зубы его цокнули. Стены неудержимо начали сжиматься, и Дэн, упираясь в них спиной и ногами, вскрикнул. Его заливало тяжелое, свинцовое отчаяние. Оно было тяжелым, но каким-то образом проникало в мельчайшие клеточки его тела, сдавливало их ощущением еще не осознанной катастрофы. Мысли, словно разбуженные уколом ужаса, судорожно дернулись и слепо помчались вперед, спотыкаясь на колючих вопросах: что делать? Фло, Фло… Проволока и сторожевые башенки… Изучающий брезгливый взгляд доктора Цукки… Чернявый кретин, держащий Фло под руку… Острая боль мгновенно просверлила его сердце. «Фло…» «Ты знаешь, как я тебя люблю», — это ее слова. «А, это ты, Дон». С таким же выражением лица она могла бы сказать: «А, опять сегодня парит». А он? Два дня непостижимого, чудовищного, уродливого восторга свиньи, которой скребут деревянной гребенкой спину. Боже правый! Он обезумел, сошел с ума! Еще день, и он начнет пускать пузыри изо рта и звать няньку! Усыпили, напоили его какой-то дрянью и приволокли в эту тюрьму за колючей проволокой. Не мудрено, что Фортас предупреждал его. И все-таки он попал на базу. Но как? Фло, дорогая Фло, любимая мисс Кучел! Сколько благородства, какое верное сердце! Уехать, чтобы прогуливаться здесь с этим чернявым кретином Фостером и написать, что не хочет подталкивать его своим присутствием к тому, чего он избегает. А он-то! «Здравствуй, Фло!» Он… Чему он так радовался эти два дня? Его насадили, как муравья, обыкновенного представителя формика руфа, на булавку и рассматривают со всех сторон. «Вы любите мисс Кучел?» Или все это чудовищный кошмар, продолжение бреда, который начался у этого Фортаса с волосатой грудью, или… Что — или? Он ясно вспомнил клубившееся в нем два дня веселье и застонал. Бежать, бежать немедленно, удариться грудью о колючую проволоку и получить в спину длинную булькающую автоматную очередь. «Ах, это опять Дон. Надо его похоронить, ведь скоро обед», — улыбаясь, скажет Фло. Больно ударившись локтем о стенку трубы, Дэн пополз к выходу. Быстрее. Ухватившись руками за шершавый край, он рывком наполовину выбросил свое тело из трубы и в изнеможении упал на сухую землю. Она была теплой и тонко пахла пылью. Он сел и зажмурил глаза, ослепленный расплавом солнца. Откуда-то снаружи в него вливалось спокойствие. Словно мощной струей, оно сметало все его остальные чувства, и образовавшийся вакуум быстро заполнялся знакомым ласковым чувством всеблагости. Дэн провел рукой по глазам и лбу и засмеялся. На какую-то неуловимо малую долю секунды его испугал этот смех, но в следующее мгновение страх растворился в смехе, в веселом, беззаботном смехе счастливого человека. Мысли его теперь уже не неслись вскачь. Они плыли неторопливо и спокойно, величаво не обращая внимания ни на что. Дэн посмотрел на часы. Еще часок он с удовольствием потрудится, а потом и обед. Можно будет поболтать с Генри Фостером, с Фло. Может быть, зайдет и доктор Цукки. Он вспомнил, что несколько минут назад почему-то нехорошо думал и про Фло, и про милягу Фостера, и огорченно покачал головой. Почему он это сделал? Впрочем, так ли уж это важно? Самое забавное — что это безумие нашло на него в трубе. Испугался темноты, как мальчонка… Дэн представил себя мальчишкой в коротких штанах и улыбнулся. Ну и глупости лезут ему сегодня в голову. Все-таки смешно — залез в трубу, чтобы укрыться от солнца, и на тебе! Бог знает, что стал думать… Сейчас он снова сделает то же самое и убедится, что все это чушь. Просто заскок какой-то. Конечно, это постоянное беспричинное веселье немножко странно в его положении, но стоит ли думать о таких пустяках, если ему хорошо? В трубе это был просто заскок какой-то. Сейчас он это проверит… А нужно ли? Так приятно и покойно на душе сейчас, не то что было там, в трубе… Дэн опустил голову и полез в трубу. Бог один знает, зачем он это делает. И снова словно кто-то ударил его холодной, влажной подушкой и пахнул в лицо цепенящим ознобом. «Дэн, Дэнни, этого не может быть, и это так. Держись, Дэнни. Не будешь держаться — сойдешь с ума, — подумал он. — Мне больно, мне страшно. Снова. Здесь. В трубе. Это не случайно. Два раза таких совпадений не бывает… Спокойнее, Дэнни. Почему я вдруг начинаю говорить о себе в третьем лице? Неважно. Спокойно. Ах, Фло, Фло! А может быть, и она в таком же идиотском состоянии? Как оно называется? Кажется, эйфория. И этот Фостер? И все остальные пленники? Но почему же я становлюсь нормальным, стоит мне только залезть в эту проклятую железную трубу? Что делать? Вылезти побыстрее? Там хорошо, там я буду улыбаться, во мне все будет петь. А здесь? Сидеть, втянув голову в плечи, и страдать. И все же я не хочу вылезать… Ты дурак. Очень может быть, но я не хочу вылезать. Понятно, почему эти инквизиторы так оберегают свою базу. Дьявольские здесь вещи происходят. Но нельзя же вечно сидеть в трубе. А кто, кстати, жил в бочке? Ди… Диоген, кажется. Фло… У меня нет к тебе ненависти. Ты просто ничего не понимаешь. Ты улыбаешься идиотской улыбкой, как и я, и ничего не знаешь. Если бы я мог сейчас прижать тебя к груди и ощутить твои прохладные ладони на шее и прикоснуться губами к твоему виску и застыть так… Ты бы все поняла и перестала улыбаться… Надо вылезти отсюда, могут заметить. Вылезти и помнить о том, о чем я думал здесь. Только не забыть. Потом я смогу снова прийти сюда и обдумать все хорошенько. Я еще жив, уважаемые мирмекологи, сменившие формика руфа на гомо сапиенс. Я еще жив». Дэн осторожно вылез из трубы и снова поток спокойной радости с силой проник в него, и он не мог и не хотел сопротивляться ему. Он покачнулся, слабо взмахнул рукой, отгоняя навалившийся на него восторг, рассмеялся и взял лопату.* * *
Доктор Цукки опустил бинокль. Как он раньше не подумал об этом: конечно же, металлическая труба должна экранировать от радиоизлучений. В таком случае возможно почти мгновенное прекращение действия стимулятора на объект. Он покачал головой, представив, что должен испытать объект в момент наступления этого эффекта. Но самое удивительное это то, что Карсуэлл полез туда снова. Из надежного блаженства — в боль самоанализа. Любопытно, наркотик наоборот. Наркоман оглушает себя, чтобы отгородиться от мрачной действительности, здесь же человек погружается в мрачную действительность, чтобы отгородиться от блаженного покоя. «Интересно, — пробормотал он, — отдает ли он себе в этом отчет?» Доктор Цукки щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся и неторопливо зашагал к траншее. Он остановился на самом ее краю и молча стоял, пока Дэн не заметил его. — А, доктор Цукки! Хорошо, что вы пришли! — весело крикнул Дэн снизу и смахнул с лица пот. — Что-нибудь случилось? — Доктор Цукки заметил, как на мгновение лицо Дэна приобрело выражение крайнего недоумения, даже смятения. — Видите ли, я хотел рассказать вам, что случайно залез в трубу… — Ну и что же? — И там… там я почему-то начал думать о многих вещах совсем по-другому, чем обычно. И… о вас тоже… И мне это очень неприятно, доктор Цукки. — Снова в глазах Дэна мелькнул ужас, но он улыбнулся и продолжал: — Мне было бы тяжело скрывать от вас что-либо. Там, в трубе, я почему-то решил скрыть все это. Но это ведь дурно. Я должен быть искренен с вами. Так ведь? — Не волнуйтесь, — почему-то грустно сказал доктор Цукки, бросил сигарету и наступил на нее ногой. — Я прикажу убрать трубу. А вас попрошу зайти ко мне завтра. — Спасибо, доктор! — с жаром крикнул Дэн и взмахнул лопатой.АЛЬФА И ОМЕГА
Несколько ледяных кубиков медленно таяли в золотистом виски, распространяя вокруг себя легкие светлые облачка. Доктор Цукки задумчиво покрутил стакан, ледышки звякнули, и облачка исчезли. Его коллега доктор Брайли посмотрел на него с улыбкой, в которой была замаскирована снисходительность, и сказал: — Пари держу, дорогой Цукки, что вы не любите пить и пьете только потому, что пью я и вообще это принято. — Допустим. Но для чего вы это говорите, тем более в третий раз? — Я возвращаюсь к нашему вчерашнему разговору. Вы держите стакан с разведенным «баллантайном», морщитесь и все-таки пьете. Почему? Чтобы походить на других? — Какая проницательность… — Ладно, Юджин, не дуйтесь. Если вам неприятен разговор, я могу замолчать. — Оставьте, Брайли, я не ребенок. Наверное, не ребенок… — Чудно, великолепно, дорогой доктор Цукки! И все-таки вы ребенок. Большой, фунтов на сто семьдесят весу, с дипломом Массачусетского института технологии, но все-таки дитя. Вот вы все время мучаетесь, и терзаетесь, и сомневаетесь, и думаете: а имеем ли мы моральное право на наши эксперименты? — Не задавайте риторических вопросов… Впрочем, я ведь для вас лишь катализатор вашего красноречия… — Не буду. Буду лишь отвечать на них. Вы ребенок, потому что находитесь во власти догм. Варенье без спросу есть нельзя, а то попадет. Нельзя грубить папе и маме и самому зажигать газ. А почему, собственно, нельзя? Вам, видите ли, претит, что мы воздействуем на мысли наших подопытных объектов. А почему? Нельзя! — А вы хотели бы, чтобы кто-то ковырялся в ваших мыслях, даже при помощи новейшей электроники? Не знаю, как вы, а я… Впрочем… — А почему бы и нет? Современная цивилизация только и делает, что воздействует на наши мысли. И школа, и семья, и радио, и телевидение, и газеты, и книги, и кино, и реклама, и театр, и, наконец, общественное мнение. И вы это принимаете как нечто само собой разумеющееся. И пьете виски не потому, что вкус его вам приятен, и не потому, что хотите напиться, а потому, что вам внушили, вложили маленькую простенькую мысль: пить красиво, мужественно. Стакан виски помогает беседе. А что делаем мы здесь, пока что под величайшим секретом? Мы тоже вкладываем нашим двуногим кроликам мысли, вернее, эмоциональный настрой. Когда в университете Атланты начали работать над телестимулятором, они там, наверное, тоже ломали руки, как наши физики при создании водородной бомбы. И ничего, все-таки работали. Конечно, здесь мы это все здорово подразвили и от заинтересованных заказчиков отбоя нет, а в основе все то же — прогресс науки, которого меньше всего нужно бояться и который — с нами или без нас, раньше или позже — приведет к теленастроенному обществу. — Да, но… — Обождите, уважаемый коллега. Я вас достаточно хорошо знаю, чтобы предвидеть ваши аргументы: а как же святая инквизиция, фашизм, диктатура? — Вот именно. — Во-первых, все эти системы действовали негуманно, во-вторых, мы не согласны с их целями. — А почему вы думаете, Брайли, что, газваген был негуманен? С точки зрения его создателей он позволял быстро отправлять на тот свет тех, кому не было места в новом порядке третьего рейха. — Фи, Цукки, вы говорите, как обыватель! Мы же никого не убиваем. Наоборот, наши объекты счастливы и довольны всем на свете. Вы много знаете счастливых людей, счастливых не какое-то короткое мгновение, а всегда счастливых? То-то же. Человек вообще не может быть счастливым. Биологически не может. Природа не предусмотрела такого состояния. Да оно всегда было вредно индивиду, потому что счастье расслабляет, обезоруживает человека, а для наших волосатых предков это было равносильно гибели. Счастье противоестественно и сейчас, ибо существует смерть, которая противоестественна для осознающего самого себя человека. Биологически мы вместе с жабой, летучей мышью и слоном созданы одинаково: наша конструкция не рассчитана на самосознание. И если в результате какой-то чудовищной мутационной случайности мы стали мыслить, мы должны исправить упущение природы. Некоторое время человек довольствовался религией. Комфортабельный рай был величайшим изобретением человечества, куда более важным, чем колесо или огонь. Но интеллект все время подпиливает сучья, на которых сидит. Мы потеряли рай. У нас его украла наука, вырвала утешительную погремушку из рук человечества. А человек снова ужаснулся, ибо смерть, повторяю, противоестественна самосознанию. Наука не жестока. Она обокрала человека не нарочно. Взамен рая она дала немнущиеся брюки и телевизор. Она даже пытается бороться со смертью при помощи пенициллина, переливания крови и аспирина. Каково оружие! Нет, Цукки, до тех пор, пока наука не возместит человечеству потерю бессмертия в раю, она воровка, пытающаяся откупиться жалкими подачками вроде квантовой механики или удаленных от нас на миллиарды световых лет галактик. Но когда человек, маленький простой человек, в ужасе глядит в глаза надвигающемуся страшному небытию, что ему до фотонов или коллапса звезд? Мы в долгу у людей и впервые за историю науки мы пытаемся выплатить этот долг, даже с процентами. Так почему же вы боитесь, когда человеку, который, кстати, об этом не подозревает, вставляют под черепную коробку телестимулятор величиною с булавочную головку и погружают его в постоянную эйфорию, лишают страха, даже страха перед смертью? И ведь при этом мы не отбираем у него памяти. Он помнит все, знает все, может работать. Он просто становится невосприимчив к отчаянию, к горю, к душевной боли. — Но ведь при этом меняются его взгляды, моральные ценности, чувства, эмоции. — Ну и что из того? Опять догмы. Почему взгляды, чувства и эмоции человека должны быть святыней? Есть чем гордиться! Жадность, эгоизм, подлость, индивидуализм — невелика гордость. И то, если бы мы делали из людей злобных животных. А мы их делаем кроткими, искренними, ласковыми существами. И при этом их умственные способности нисколько не страдают. Кучел, Фостер и все остальные прекрасно работают, не хуже, чем раньше в лаборатории Фортаса. Разве это высокая цена — лишиться эгоизма? — А вам не претит роль всемогущего бога, который одним поворотом ручки передатчика может заменить эйфорию на агрессивность, страх или, скажем, чувство голода? Я не могу и подумать об этом… — А почему мне должна претить эта роль? Наоборот, я горжусь ею. Мне тяжелее, чем им. Я должен думать, нести ответственность, а они блаженствуют в полном смысле этого слова. — Высшие и низшие, арийцы и неарийцы, бремя белого человека? — Опять вы за свое! Вы же прекрасно знаете, что в любом человеческом сообществе, равно как и в волчьей стае, в стае бабуинов или стаде коров, есть альфы, беты, и так до омег. Альфа занимает безусловно господствующее положение. Затем по иерархическим ступенькам идет бета, гамма, и так далее. Схельдеруп-Эббе изучал иерархию даже у кур, мышей и сверчков. То же и у людей. Возьмите любую группку ребят и понаблюдайте за ними — вы наверняка обнаружите у них и своего альфу, и своего омегу, которому достается от всех. Вспомните себя в детстве, кем вы были, а? Голос Брайли медленно затихал, словно кто-то поворачивал ручку громкости, и перед глазами Цукки одновременно возник каменный двор. На третьей перекладине пожарной лестницы, футах в десяти от невыразимо далекой асфальтовой земли стоит мальчик. «Прыгай, Цукки-брюки, прыгай! Прыгай! Прыгай!» — ревут мальчишки. Асфальтовая земля далеко, а их рты близко-близко, вот-вот вцепятся в мальчика. Самое страшное — он знает, что не сумеет оторвать руки от перекладины. Не сумеет. Как хорошо было бы умереть! Разжать пальцы и упасть. Они бы перестали визжать. Но он знает, что не разожмет пальцы. Он медленно спускается вниз. Как свирепо они орут! И Дороти тоже орет. Если бы разжать руки… Уже поздно. Он спускается прямо в их распяленные презрением рты… Надо что-то сказать… — Наверное, я был омегой, — вздохнул Цукки. — Мы тогда жили в Бруклине. Отец разгружал товары в универсальном магазине. Я был, пожалуй, одним из самых маленьких ростом в классе, и меня дразнили все, кому не лень. Я даже помню, как они орали: «Цукки, Цукки провалился в брюки!» Я ходил во всем, из чего вырастал старший брат, а разница у нас в два года. А вообще меня все звали «Цукки-брюки». Ну, конечно же, и грязным итальяшкой, и макаронником. У нас там жили и ирландцы, и итальянцы, и евреи. И доставалось всем. Я помню, как отец утешал меня, когда я приходил домой и говорил, что не хочу больше быть итальянцем. — Ваш отец знал, что вы омега. Быть итальянцем — это уже большой шанс на принадлежность к классу омег. — И все-таки, Брайли, вы проповедуете то, во что сами не верите. Неужели вы можете спокойно думать об обществе, которое телеуправляется? Вы просто бравируете трехцентовым нигилизмом. — А почему бы и не представить такое общество? Мы и так, как я уже говорил, управляемое общество. Раскрепоститесь духовно, дорогой Юджин, вы же ученый, и взгляните в глаза фактам. Все ваше прекраснодушное существо содрогается при словах «телеуправляемое общество». А разве мы и так не телеуправляемое общество? Разве телевидение не способ телеуправления? Что бы вы ни видели на экране, от рекламы зубной пасты «Пепсодент» и до серий о человеке — летучей мыши, — разве все это не телеуправление вкусами, наклонностями и мыслями миллионов? А ведь куда проще и эффективнее заменить все средства обработки индивида одним крошечным телестимулятором. И если бы даже люди узнали о том, что носят их в головах, они бы и не подумали протестовать. Они были бы счастливы, понимаете: счаст-ли-вы. Они были бы счастливы и в жалкой лачуге, и в двадцатикомнатной вилле, босыми на пыльной дороге и в роскошных «кадиллаках». Исчезли бы горечь, зависть, горе, которые разъедают современную цивилизацию, и самое главное — страх. — А может быть, человеку иногда и нужно страдать? — Ну, доктор, меньше всего я ожидал от вас услышать проповедь христианства! — Боже упаси, Брайли, я верил в бога ровно до десяти лет. Но вы прекрасно знаете, что я хочу сказать. Человек не может платить за счастье отказом от своего «я». Человек должен думать, понимаете: должен! Даже если мысль — наш крест, мы должны нести его, а не всучивать его с благодарностью первому встречному, кто выражает желание разгрузить наш ум от нерешенных и трудных вопросов. Вы, Брайли, говорите куда красноречивее меня, но вы меня ни в чем не убедили, хотя ваши ответы просты и логичны, а у меня по большей части вообще нет ответов на самые простые вопросы. Счастье! Нужно прежде всего определить, что это такое. Тем более, будем откровенны, пока что наши заказчики в мундирах меньше всего пекутся о всеобщем счастье. — Это уже другой вопрос. К сожалению, у нас в стране это самые богатые меценаты. Но великое открытие нельзя долго прятать в генеральских сейфах. Раньше или позже оно выбирается оттуда. Так было и с атомной энергией, с ракетами, с лазерами и со многим другим. Как, кстати, ваш новый парень? — Ничего, очень удобен для наблюдений над эмоциональным сдвигом. Он ведь любит мисс Кучел… — А она была с Фостером. Великолепно! И как он к этому отнесся? — Спокойно, конечно. Вы можете мне говорить что угодно, но это страшно и тягостно… — Ну-ну-ну… Или вы предпочитаете классические сцены ревности? — Может быть, — вздохнул доктор Цукки. Он поймал себя на том, что хотел рассказать Брайли о трубе, и сдержался. Это было, разумеется, глупо, но ему не хотелось говорить этому человеку о том, что Карсуэлл залез в трубу во второй раз.СВИДАНИЕ ЗА ЭКРАНОМ
— Здравствуйте, доктор Цукки! — просиял Дэн. — Вы просили меня зайти. — Добрый день, мистер Карсуэлл, — вздохнул доктор Цукки. — Садитесь. Дэн с наивным любопытством рассматривал оборудование лаборатории. — Как у вас тут все интересно! — сказал он. — М-да, — неопределенно промычал доктор. С минуту оба они молчали, Дэн — весело улыбаясь, Цукки — погруженный в раздумья. — Скажите, Карсуэлл, — наконец прервал молчание доктор, — для чего вы полезли в трубу во второй раз? Вы ведь помнили свои ощущения и мысли, когда сидели в ней? На лице Дэна появилось легкое облачко. Он наморщил лоб, пытаясь собрать веселые, ленивые мысли, которые сыто и неторопливо — точь-в-точь стадо коров в жаркий полдень — дремали в его голове. Конечно, он помнил все то, о чем думал в трубе. Но воспоминания казались жалкими, смешными и стыдными, словно воспоминания о детских грешках. — Я… я не знаю, доктор, — виновато сказал Дэн. — А еще раз вы хотели бы испытать те же ощущения? Сытые, дремлющие коровы-мысли в голове Дэна проснулись, встали и негодующе замычали. Они не хотели открывать глаза и сейчас мечтали лишь об одном: снова погрузиться в сладкую дремоту. — Нет, доктор, — испугался Дэн, — я и близко не подойду к этой трубе! — Подумайте лучше, — угрюмо настаивал Цукки, — не может быть, чтобы ничто из того, о чем вы думали там и что переживали, не было вам дорого. Дэн почувствовал, как его захватывает смятение. Он не хотел думать о трубе. Все его существо содрогалось при мысли о ней, и вместе с тем ему страстно хотелось угодить доктору Цукки. Он не принадлежал себе. Его волю тащили в разные стороны. Он вспомнил Фло и боль, которая поглотила его в трубе, вспомнил отчаяние. Почему доктор настаивает, чтобы он испытал этот ужас еще раз? Но ведь этот ужас в тысячу раз естественнее его нынешнего сладкого отупения. Ну и что? Пускай это называется отупением или как угодно, но нет ни сил, ни воли, чтобы добровольно отказаться от него. Ему казалось, что стоило в нем появиться какому-то подобию воли, как теплые волны покоя сильно и нежно смывали ее куда-то вниз. — Не знаю, доктор Цукки, — робко улыбнулся Дэн, — не могу думать. Вы уж простите меня. — Улыбка на его лице крепла, растекалась, пока не засияла во всем своем бездумном великолепии. Доктор Цукки, как и всегда в трудные моменты жизни, чувствовал неприятный озноб, какой-то парализующий холодок внутри. Имел ли он право взять этого человека, излучавшего покой и довольство, и своими руками снова ввергнуть в кошмар осознания всего? Если бы он мог выпустить его из лагеря… Это от него не зависело, это абсолютно исключалось. А не пытается ли он подогнать факты под свои собственные убеждения? Может быть, Брайли, в конце концов, прав? Может быть, люди действительно готовы заплатить за счастье ценой отказа от своего «я»? Но ведь Карсуэлл не может оценивать вещи объективно, находясь в поле радиоизлучения. Ну и что? Он все равно полностью сохранил умственные способности и память. Он может думать, но он не хочет думать, потому что из опыта уже знает, что мысль несет горе. А кто он, Юджин Цукки, чтобы решать за другого, думать ему или не думать? На мгновение Цукки показалось, что кто-то начинает ковыряться в его, Цукки, мыслях, и острый страх сковал его. Нет, нет и нет! Человек должен быть хозяином своей головы, даже если для этого его нужно взять за загривок, ткнуть носом в его собственные мысли и приказать: «Думай!» Любой контроль над мыслями — это низведение человека до животного или робота. Стоило ли спускаться с деревьев и сотни тысяч лет дрожать при свете костра в промозглых пещерах, гибнуть на дыбах инквизиции и в фашистских крематориях, писать сонеты и создавать теорию относительности, чтобы стать телемарионетками? Счастье — это не критерий цивилизации. А что есть ее цель? «Не знаю, что ее цель, но то, что я сейчас совершу преступление, — это я знаю. Я же подписал целую гору документов о сохранении тайны. Для чего нужно подвергать себя такому риску? Чтобы переубедить Брайли? Да ему и намекнуть об этом нельзя будет… Подумай, пока еще не поздно. Умерь гордыню и не высовывай носа, он у тебя и так длинный… Но я должен знать, как поведет себя в камере этот человек… Что бы он ни говорил, он полез в трубу во второй раз… Чушь… Теперь не полез бы… А если бы полез? И, как всегда, ясного ответа нет… И, как всегда, я делаю глупости… Сейчас я сделаю глупость, и будет поздно, и я буду рвать на себе волосы и не буду спать ночами… Но он не человек, он ее любит… Я тоже любил Мэри Энн, и она ушла. Ну и что… Он имеет право любить…» Цукки поежился от внутреннего холодка и вдруг понял, что уже давно решился. Он выглянул из окна. Никого не было. На всякий случай он задернул зеленоватую занавеску, быстро подошел к запертой двери в стене и отворил ее. — Пройдите сюда, Карсуэлл, — твердо сказал он. Дэн, весело ухмыльнувшись, с любопытством посмотрел на тяжелую металлическую дверь, и вошел в нее. Он попал в небольшую каморку, стены которой были покрыты множеством шкал. Подслеповато смотрели белесые экраны осциллографов. — Садитесь, — приказал Дэну Цукки и закрыл за собой дверь. И в то же мгновение с мира кто-то разом смыл сияющий розоватый отсвет, наполнив его невыносимо пронзительным холодным колючим светом. Как и тогда в трубе, мир наваливался на него своими острыми углами, каждый из которых ранил, причинял ему боль. Но это была его боль, и он застонал при мысли, что может снова лишиться ее, оказавшись снаружи, там, в блаженном бездумии сумасшедшего дома. — Я могу снова открыть дверь, — почему-то прошептал Цукки и пристально посмотрел на Дэна. — Вы хотите туда? — Послушайте, вы! — Дэн скрипнул зубами и сделал усилие, чтобы удержать руки. С каким наслаждением он бы вложил весь вес своего тела в удар по щурившейся физиономии этого кретина с трусливыми глазами и вялым, безвольным ртом. — Послушайте, вы, — еще раз с силой выдохнул Дэн, — лучше заткнитесь, пока я еще могу сдерживаться! Тюремщик должен быть тюремщиком, а не строить из себя черт знает кого. — Вы совершенно правы, — пробормотал Цукки, и Дэну показалось, что в глазах его за толстыми стеклами очков скользнули веселые искорки. — Вы еще смеетесь надо мной? Мало того, что из меня здесь сделали обезьяну, отвратительную обезьяну, вам еще и смешно? — Нет, Карсуэлл, мне не смешно. И вы еще многого не понимаете. Вы знаете, почему вы здесь стали думать, как тогда, в трубе? — Нет, — сказал Дэн и внимательно посмотрел на доктора. — Мы находимся в экранирующей камере. Стенки ее из металла и не пропускают радиоволн. — А я что, приемник? — Да, — просто ответил Цукки. — Вы приемник. Под вашей черепной коробкой находится крошечный, величиной с булавочную головку, специальный телестимулятор, который контролирует ваш эмоциональный настрой. Дэн судорожно схватился за голову, ероша волосы и ощупывая череп. — Вы не нащупаете его, — покачал головой Цукки. — Ультразвуковая дрель почти не оставляет следов, а сам стимулятор — под черепной коробкой. — Так выньте его, — застонал Дэн, — прошу вас! — Не могу, — сказал доктор Цукки, — вставить его — дело нескольких минут, а вынуть — сложнейшая операция, Это вроде рыболовного крючка. — Ну прошу вас, — Дэн сжал кулаки, — выньте у меня эту пружину! Я не хочу быть заводным человечком! Вы понимаете — не хочу! Не хочу! — Мы еще поговорим на эту тему, — мягко сказал доктор, — а сейчас подождите минутку. — Он подвинул к себе телефон и попытался набрать номер. Палец его дрожал и дважды соскочил с диска. Наконец он получил соединение и сказал: — Мисс Кучел? Это доктор Цукки. Зайдите, пожалуйста, ко мне на минутку… Да, да, в лабораторию. Дэн сжался в комок. Сердце рванулось, как гоночный автомобиль. Мысли, отталкивая друг друга, ринулись вдогонку. Секунды набухали, росли до бесконечности, растягивались и не хотели уходить. Минуты подавляли своей огромностью. Внезапно из комнаты за дверью послышался смеющийся голос: — Доктор Цукки, где вы? — Одну минутку, — пробормотал Цукки, открыл металлическую дверь, впустил Фло и тихо вышел из камеры. Дэн смотрел на Фло. Казалось, что кто-то невидимый медленно менял диапозитивы в ее глазах. Прозрачное веселье тускнело, темнело, и вместо него приходило выражение острой и недоуменной боли. Фло с силой провела рукой по лбу и закрыла на мгновение глаза. — Дэнни, — вдруг прошептала она и заплакала. Слезы набухали в ее глазах и по-детски скатывались по щекам и носу. — Дэнни… — Она, казалось, колебалась с секунду, потом судорожно закинула ему руки за шею и прижалась к нему. Она все сжимала и сжимала руки, старалась распластаться у него на груди и при этом все повторяла: «Дэнни, Дэнни», будто боялась потерять, забыть это слово. Медленно и осторожно он положил ей руки на спину и ощутил под ладонями знакомое живое тепло. Он прижал губы к ее шее и замер, не думая ни о чем. Не было ни экранирующей камеры, ни колючей проволоки, ни ужаса самосознания, ни стимулятора, ни доктора Цукки — ничего. Была лишь страшная и горькая, сладостная и огромная нежность к этому трепетавшему подле него существу. От этой нежности перехватывало дыхание и на глаза навернулись слезы. Фло, Фло…* * *
Роберт Брайли не любил доктора Цукки. Неприязнь эта была полной и гармоничной. Его раздражало его мягкое, нерешительное лицо, безвольный рот, и даже очки доктора Цукки с толстыми стеклами и толстой оправой были ему неприятны. Его смешили костюмы коллеги: мешковатые и с привычными неопрятными складками на брюках и пиджаке. Его бесила манера доктора говорить: он всегда мямлил, словно в нерешительности обдумывал простейшие вещи, прежде чем сказать их. Его угнетал провинциальный идеализм Цукки, умственная трусость и боязнь точных формулировок. Будучи ученым, Брайли не раз пытался анализировать свою неприязнь к нему. Иногда ему казалось, что он не любит Цукки потому, что тот вышел из другой социальной среды. Но тут же он возражал себе, что среди его знакомых многие выбились из самых низов, и ни к кому из них он не испытывал ни малейшей антипатии. Не мог он и завидовать Цукки. Начиная с научной карьеры и до гольфа, он был гораздо удачливее Юджина. Особенно в гольфе. Стоило посмотреть, как тот замахивается клюшкой и в глазах его при этом появляется мучительно напряженное выражение неудачника, сознающего, что он неудачник, как становилось ясным: далеко этот человек не пойдет. И, хотя Брайли не мог сказать себе, почему именно он не любит Цукки, он, не любя его, не мог заставить себя относиться к нему, как относился ко многим на базе: сугубо сухо и официально. Казалось, что едкое раздражение, которое он испытывал во время бесконечных споров, стало уже необходимо ему, как некий странный наркотик. Он все время пытался переубедить его, переспорить, прижать в угол бесспорными аргументами, заставить выкинуть белый флаг. И не мог. В последний момент тот отказывался сдаваться. Может быть, Цукки не хватило гордости? Человека негордого победить бывает труднее — у него не хватает гордости признать поражение. Порой он начинал думать, что пытается сломить не Цукки, а самого себя, но мысль была абсурдна, и он ее с презрением отбрасывал. Постепенно, сам не замечая того, он принялся внимательнейшим образом шпионить за Цукки, находя в этом какое-то сладостное удовлетворение. Однажды, как он себя уверял — от скуки, он собрал крохотный микрофончик, который незаметно спрятал в лаборатории Цукки и время от времени развлекался, прислушиваясь у себя в комнате к его свинячьему похрюкиванию. Когда Цукки работал над особенно сложной схемой, он всегда похрюкивал. Сейчас похрюкиванья не было слышно. Шаги. Кто-то вошел к Цукки. Ага, это новенький, Карсуэлл. Брайли прижал ухо к динамику. Это интересно. В высшей степени интересно. Странные беседы для сотрудника базы, да еще с объектом. Оригинально! Объяснять действие стимулятора! Они ведь подписывали кучу бумаг, в которых клялись никогда и никому не разъяснять суть работ на базе. Смешно. Как он сразу не мог раскусить эту толстую неопрятную свинью! Он же предатель, Цукки. Он из тех, кто прикрывает свое предательство такими гладенькими и гаденькими фразами о моральной ответственности ученого. Он из тех, кто, побив себя кулаками по впалой груди, бросались продавать военные секреты страны любым врагам. И даже бесплатно. Лишь бы предать. Само по себе предательство не вызывало в Брайли ненависти. Он был слишком умным человеком, чтобы приходить в ужас от таких вещей. Но Цукки, мямля Цукки со своими сомнениями… Ему вдруг стало легко и весело на душе, словно с нее свалился груз. Вот, оказывается, в чем дело: предатель! Предатель! Предатель! Вот она, его правда! Вот они, его принципы! Вот она, его душевная чистота! А он, Брайлн, хорош, нечего сказать. Споры, споры, споры… Аргументы и контраргументы… С кем? С элементарным предателем. А это кто? Ах да, мисс Кучел. Ну конечно, Цукки что-то говорил о том, что они любят друг друга. Почему они все замолчали? Странно! А может быть, экранирующая камера? Не может быть!.. А почему, собственно? Почему не может? После объяснения действия стимулятора все может быть! Брайли почувствовал острую, ни с чем не сравнимую радость. Цукки у него на веревке. Он проденет ему кольцо в нос и будет водить его, как быка. Безрогого быка. Ах, Цукки, Цукки! Цукки-брюки. Цукки провалился в брюки. Не в брюки, дорогой Юджин, а значительно глубже! Завести объект в экранирующую камеру — великолепно! Не надо только спешить. Надо все хорошенько обдумать и — наметить план действий. Ах, Цукки-брюки, кто бы мог подумать!.. Можно было бы, конечно, тотчас же сообщить Далби и Уэббу. Мало того: не «можно было бы», а «нужно было бы». Но не стоит себе отказывать в маленьком удовольствии. Сообщить будет не поздно и через несколько дней. Совсем не поздно… Ему даже стало жарко от всего случившегося. Он расстегнул воротник и вытащил из кармана сигарету. Он закурил и глубоко затянулся. Смешно, что он так радуется чужой подлости. А подлости ли? Конечно, это подлость, с какой стороны ее ни рассматривай. Он пригладил волосы и вздохнул. Проще нужно смотреть на вещи. Проще. Кому нужна в наш век достоевщина? Разве что таким, как этот Цукки.,УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА
Земля была сухая и твердая, и лопата никак не хотела входить в нее. Дэн наступил ногой на загнутую кромку штыка, несколько раз дернул за ручку и наконец вывернул ком земли. «Здесь так сухо, что нет червей», — подумал он, вспомнив, как копал мальчишкой червей для рыбной ловли. Они пытались спрятаться, целиком уйти в землю, но он цепко хватался за скользкий, извивающийся конец червя и торжествующе вытаскивал его. Каждый раз он удивлялся, что червяк, такой слабенький и мягкий, не рвался пополам, а целехоньким оказывался у него на ладони, откуда шлепался в консервную банку и присоединялся к медленно копошащейся куче своих собратьев. Иногда он думал: а понимают они, что с ними случилось что-то страшное и что никогда снова не смогут они лениво сверлить головами влажные пласты земли? Он не мог ответить себе на вопрос и, не зная ответа, быстро забывал о нем. А знает ли он ответы на все вопросы сейчас, стоя с лопатой в руках около клумбы, которую ему поручили вскопать? Наверное, нет, и поэтому не хочется думать ни о чем. Фло. Как это невыразимо странно! Он помнит, как его губы прижимались вчера к ее коже, и она все сжимала и сжимала руки у него на шее, и ее ладони, всегда прохладные, были сухи и горячи. Помнить и не помнить. «Наверное, — лениво подумал Дэн, — человек хорошо помнит тогда, когда не только вспоминает свои чувства, но и снова переживает их, воскрешая в памяти пережитое и перечувствованное. Но позволь, Дэн, тебе вот сейчас хорошо и покойно на душе. А вчера, ты это помнишь, сердце твое съеживалось в комок, словно кто-то выжимал его, как губку». Он безразлично пожал плечами. Он уже привык к вопросам, которые остаются без ответа, вымываются из него радостью бытия и, словно оглушенные рыбки, уносятся кверху животами ровным током блаженного забвения. Но сегодня, впервые за последние дни, рыбки не сразу переворачивались животами кверху и не сразу уносились прочь. Фло. В этих коротких звуках, которые он повторил про себя несколько раз, еще угадывался волшебный трепет, который он так остро чувствовал раньше. Слово это казалось ему почему-то округлым и сильным, как голова моржа, и сегодня оно впервые сопротивлялось потоку радостного спокойствия, струившегося в него откуда-то извне. Теперь он знал, откуда оно берется, но знание ничего не меняло, ничего. Он уже вскопал почти половину клумбы и приспособился к земле. Нужно было вогнать штык наполовину или чуть меньше, несколько раз энергично покачать ручкой лопаты, а потом уже вложить всю тяжесть тела в ногу, упирающуюся в кромку штыка. Ловко. Молодец, Дэнни. Дэнни… Как она вчера повторяла: «Дэнни, Дэнни, Дэнни…» Клумбу разрезала пополам длинная фиолетово-черная тень, остановилась и сказала голосом доктора Брайли: — Как дела, мистер Карсуэлл? Дэнни воткнул лопату в уже вскопанную землю, отер тыльной стороной ладони пот со лба и улыбнулся: — Спасибо, доктор Брайли. Просто не верится, что в эдакой суховище будут расти цветы! — А мы сюда подведем воду. Над клумбой будет вращаться маленький разбрызгиватель, все время увлажняя землю. Представляете себе, какая будет клумба? Хоть на конкурс цветов. Удивительно, как все без исключения люди на базе были ему приятны и симпатичны! Какой он милый, этот доктор Брайли! Такая жарища, а он, как всегда, безупречно одет, и пробор у него точно лакированный. — Послушайте, дорогой мой Карсуэлл, вы меня, право, обижаете. — Я? — испугался Дэн. — Помилуйте, я и в мыслях того не держал! — К моему коллеге Цукки вы заходите, а ко мне никогда. Знаете, народа тут у нас не так уж много, и радуешься каждому новому собеседнику. «Смешной какой! — подумал Дэн. — Обидчивый, как девочка». — Не знаю, доктор Брайли, мне просто было как-то неловко беспокоить вас. — Беспокоить! Еще что! Я ж вам говорю: у нас здесь ценишь беседу с каждым новым человеком. Вчера, например, вы, наверное, часа полтора просидели в лаборатории моего коллеги. — Вы меня прямо конфузите, доктор Брайли! Конечно, я с удовольствием беседую с доктором Цукки, но я был бы счастлив зайти и к вам. — Завидую я Цукки! — мечтательно сказал Брайли. — О чем вы, интересно, болтали там весь вечер? Такое общество… Ведь и мисс Кучел тоже зашла на огонек? Наверное, доктор Цукки показывал вам лабораторию и экранирующую камеру? Готов поспорить, что он рассказывал вам об очень интересных опытах, которые мы здесь проводим. А? Вы должны быть ему благодарны. Без него вы вряд ли бы узнали о таких вещах, верно ведь? Дэн уже открыл было рот, чтобы сказать «да, конечно», но округлое и сильное слово «Фло» почему-то снова на мгновение вынырнуло на поверхность его сознания, отчаянно борясь с течением. «Но ведь доктор Брайли милейший человек, мне так хочется рассказать ему обо всем, о чем он меня спрашивает», — мысленно сказал Дэн Фло. «Доктор Цукки рассказал нам вчера то, что не должен был рассказывать», — прошептала Фло из последних сил. Течение подхватило ее, закружило, понесло. По странным образом ее настойчивый шепот все еще стоял в ушах Дэна. Он почувствовал, что дрожит, словно на спине у него лежал непосильный груз. Он слабо улыбнулся и, не понимая, как может лгать такому милому, симпатичному человеку, как доктор Брайли, сказал: — Рассказывал об опытах? Каких опытах? Брайли разочарованно поморщился. Он взглянул на Дэна, на лице которого блуждала слабая глуповатая улыбка, и спросил: — Но о чем-нибудь интересном вы говорили? У мисс Кучел… — Не знаю, — засмеялся Дэн и протянул руку к лопате, — не помню, доктор Брайли. Но я обязательно зайду к вам. Спасибо за приглашение. Фиолетово-черная длинная тень на клумбе качнулась, рывками, в такт шагам, соскользнула с взрытой земли и исчезла. «Я… я… соврал! — крикнул про себя Дэн. Ему почудилось, что поток бессмысленной радости, нагнетаемой в его голову, чуть ослабел. — Должно быть, потому, что я выстоял», — подумал он. Но усилие было слишком большим. Он больше не мог сопротивляться привычной улыбке, которая растягивала его губы. Через минуту он уже не помнил, почему улыбался.* * *
Когда доктор Цукки закрыл за собой металлическую дверь экранирующей камеры, Дэн долго молчал, с силой растирая себе ладонью лоб. — Скажите, доктор, — наконец спросил он, — возможно ли волевое усилие, когда человек находится под воздействием телестимулятора? — В принципе нет, — сказал доктор Цукки и тревожно посмотрел на Дэна, — но вообще трудно сказать… У нас еще слишком мало данных. Хотя пока, повторяю, мы с такими вещами но сталкивались. Сильное возбуждение очагов наслаждения в мозгу… — Оставьте, доктор. Мы не на лекции. Не знаю как, но сегодня я, кажется, устоял перед стимулятором. — Интересно, в высшей степени интересно! — Глаза доктора Цукки за толстыми стеклами очков подслеповато заморгали. — Как же это произошло? — По-моему, Брайли не только знает, что вчера мы были здесь у вас, но знает и про ваши объяснения, и про камеру. Полное смуглое лицо Цукки бледнело постепенно. Сначала кровь отлила от носа, сделав его почти синим, потом от лба и щек. Губы его затряслись от испуга. Он оглянулся вокруг и прошептал срывающимся голосом: — Не может быть! Боже, что со мной будет? Я погиб, погиб! Бежать к нему, броситься на колени, умолить… — Внезапно, опомнившись, Цукки сказал, подбадривая себя: — Не может быть! Вам просто показалось. Как он мог подслушивать? Нет, это чушь какая-то. — Не знаю. — Дэн испытывал теперь легкую брезгливость к этому пухлому, трусливому человеку. — Не знаю, как он мог подслушивать, но у меня впечатление, что он обо всем знает и о многом догадывается. Не впечатление даже, а уверенность. Скажите спасибо, что я каким-то чудом смог удержаться и не выболтал ему все, что знаю. Я ведь прекрасно помню, как ябедничал вам на самого себя. Это один из ваших лучших трюков. Но другой раз я, может быть, и не выдержу. Если бы Брайли помучил меня еще несколько минут, я бы с кретинской улыбкой предал вас и себя. Дэн криво усмехнулся и не мог удержаться, чтобы не ощупать себе голову. Но под корнями волос череп был гладок, и он не мог найти ни бугорка. — Что же делать, что же делать? — заметался доктор Цукки. Пальцы его шевелились, каждый сам по себе. — Мы же все пропадем! Вы и не представляете себе, какие здесь строгости. Боже мой, боже мой! Зачем я только… — Перестаньте, доктор, — ровным голосом сказал Дэн. Он чувствовал безмерную усталость, и странное спокойствие охватило его, как тогда дома, когда, выбросив труп Клеопатры в мусоропровод, он стоял перед зеркалом. — Я знаю только один выход: Брайли нужно убить. Цукки, словно подброшенный пружиной, подскочил на стуле, нелепо взмахнул обеими руками и визгливо крикнул: — Прекратите дурацкие шутки, Карсуэлл! Я запрещаю вам так шутить! — Я не шучу, — скучно сказал Дэн. Сигарета заплясала в пальцах Цукки, и он никак не мог усмирить ее, чтобы попасть ею в огонек зажигалки. — Я запрещаю вам говорить об этом! — Во-первых, плевать я хотел на ваши запрещения, — тихо сказал Дэн, — а во-вторых, прекратите истерику. Если вы сейчас же не возьмете себя в руки, я вам набью вашу ученую морду, даю честное слово. Цукки негодующе выдохнул табачный дым и вместе с ним возбуждение. Он безвольно откинулся в кресле, и тотчас же его светло-зеленый халат собрался на животе и груди в привычные мягкие складки. — Убить Брайли, убить? — В голосе его звучало искреннее стремление понять смысл произносимого им слова. — Как это — убить? — Очень просто, — сказал Дэн. — Насильственно лишить его жизни каким-либо способом. Как говорили когда-то: «Повесить его за шею, и пусть он висит до тех пор, пока жизнь не покинет его». — Вы хотите его повесить? — Казалось, что Цукки готов был теперь поверить Дэну, что бы тот ни сказал. — Не думаю, — усмехнулся Дэн, — слишком хлопотно. — Но скажите мне честно, Карсуэлл, вы пошутили, правда? — Нет. Если мы не убьем Брайли, вас упрячут в тюрьму, а мы с Фло надолго, если не навсегда, останемся телеобезьянами. — Но убить человека… — Да, убить человека. А меня вы разве не убили? А Фло, а Фостера и еще человек пятьдесят? Разве это не убийство? Ограбить мозг, душу и сердце и превратить в улыбающегося робота… — Я не знаю, Карсуэлл… Это слишком сложно… — Вы не знаете, хотя вы ученый, а я знаю, хотя я не ученый, а обычный человек, с трудом осиливший университет и зарабатывающий на кусок хлеба в паршивом рекламном агентстве. Я знаю, Цукки. Вы понимаете, знаю! Я знаю, что они не колебались, когда хотели убрать меня тогда. Таблетки с ядом — это всерьез. Несколько минут они оба сидели молча, потом Дэн нагнулся к уху Цукки и что-то зашептал…«НУ КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО САМОУБИЙСТВО»
Полковник Далби посмотрел на заместителя, медленно расстегнув верхнюю пуговицу пижамы и сонно спросил: — То есть как — умер? Вчера я только видел его. Майор Уэбб с четкостью, не лишенной злорадства, отчеканил: — Именно умер, сэр. Труп Брайли обнаружен, — майор посмотрел на толстый «роллекс» на руке, — ровно пять минут назад. Я приказал ничего не трогать в лаборатории. Полковник Далби не любил неприятностей. Он не любил происшествий. Он не любил никаких событий, ибо даже невинные события имеют скверную привычку со временем обращаться в неприятность. Он мгновенно представил себе целую лавину событий, даже неприятностей, которые навалятся на нзго, и застонал. — Кто обнаружил труп? — Калберт. Он убирает по ночам лаборатории. Он обнаружил труп пять… простите, уже шесть минут назад. Полковник Далби зажмурился. Ему хотелось снова заснуть и проснуться утром, когда все это окажется глупым сном. Не надо было есть на ночь отбивную. Когда заснуть ему все же но удалось, он свесил с кровати ноги и обреченно спросил: — Умер? — Совершенно верно, сэр. — Но как? — Мгновенно. Пуля попала в висок. — Пуля? — Совершенно верно. Пуля. Пистолет лежал около дивана. Полковник начал раскачиваться всем телом, и на лице его появилось обиженное выражение ребенка, которому сказали, что не берут его в цирк. — Сейчас, за три дня до приезда генерала Труппера! Боже мой, за три дня до приезда! С ума сойти! Что? — Я говорю: так точно, сэр, с ума сойти. — Перестаньте кривляться! Ваши идиотские строевые штучки действуют мне на нервы. Дайте мне, пожалуйста, брюки, вон они на спинке кресла. — Пожалуйста, сэр. Полковник наполовину натянул брюки и вдруг с надеждой спросил: — А может быть, это самоубийство? Майор Уэбб пожал плечами. — Я почти уверен, что это самоубийство, — продолжал полковник. — У ученых, знаете, это бывает. Переутомление. Нервная депрессия. Нет, нет, я почти уверен. Таких, как Брайли, не убивают. Он слишком ловок для этого. Слишком ловок. И потом, что это за убийство? Это же плохой вкус — взять и ухлопать человека на секретной базе. Нет, нет, не убеждайте меня. Это самоубийство. Брайли был слишком ловок, чтоб дать ухлопать себя. — По-моему, он был слишком ловок, чтобы покончить с собой. — Ну что вы, Уэбб! — испуганно сказал полковник. — Вы просто несете чушь. Вы представляете себе, сколько было бы неприятностей? А?.. Пошли. А выстрел кто-нибудь слышал? — Похоже, что нет. Лаборатории ведь стоят в стороне. Во всяком случае, никто ничего не сообщил. Уэбб сел за руль открытого джипа, а полковник, поеживаясь от ночной прохлады, уселся рядом с ним. Призрачный свет фар жадно лизнул светлую стену административного корпуса и заплясал на дороге. Через минуту джип затормозил около здания лаборатории, у входа в которую стоял человек. — Я выключил свет, сэр, — сказал человек, — чтобы не привлекать внимания. — Хорошо, Калберт. Теперь зажгите его. Они вошли в лабораторию. На полу стояло ведро и лежала швабра. Полковник посмотрел на Калберта. — Я только вошел, сэр, зажег свет, поставил на пол ведро и тут же увидел его. Вот так он и лежал на диване. — Я понимаю, что так же. Вряд ли он перевернулся на другой бок, — нервно сказал полковник. Брайли лежал на диванчике на спине. Правая его рука свешивалась почти до пола. На полу лежал смит-вессон. Полковник сделал шаг к дивану и увидел, что правый висок Брайли был разворочен выстрелом. — Похоже, что выстрел был произведен в упор, — быстро сказал он. — Как вы считаете, Уэбб? — Возможно, сэр. Все возможно. — Что значит «все»? Вы разве не думаете, что он сам стрелял в себя? — Я ничего не думаю, сэр. Мне лишь кажется, что все слишком похоже на самоубийство. — Что значит «слишком»? Вы просто начитались детективных романов, Уэбб. Да и кто мог бы убить его? Некому. Я вам говорю — некому. Вызовите лучше Клеттнера, пусть он произведет вскрытие, составит акт и все там прочие формальности, а мы подождем утра и приступим к следствию. Хотя я и уверен, что это чистейшее самоубийство, нужно провести следствие по всем правилам, ведь здесь мы и полиция и суд. Далби говорил тоном обиженного ребенка, который возмущен незаслуженным наказанием. Разве он не делал всего, что требовалось? Разве не могло все идти так же тихо и мирно, как шло до сих пор? Разве он виноват, что на диване лежит мертвый Брайли? Полковник почувствовал отвращение к нему. Взял и подложил ему свинью прямо перед приездом Труппера. Эгоист. Нашел время стреляться… Истерики они все и ипохондрики. Самих бы их под стимулятор. В первую очередь, чтоб знали, как стреляться на образцовых секретных базах…* * *
Допрос шел в кабинете начальника базы. Полковник Далби с несчастным выражением лица сидел за своим огромным письменным столом, то и дело скашивая глаза на сложенную вчетверо газету, которая для приличия была прикрыта «Таймом». На газете был виден наполовину решенный кроссворд. Рядом с полковником, с короткого края стола, сидел майор Уэбб. У окна, с трудом сдерживая зевоту, устроился доктор Клеттнер, главный врач базы. Глаза у него были сонные. Перед столом сидел доктор Цукки и нервно вздрагивал при каждом вопросе. — Доктор Клеттнер утверждает, — сказал полковник Далби, — что Брайли умер между часом и двумя ночи. Понимаете, дорогой Цукки, это чистейшая формальность, но я вас вынужден спросить, где вы были в это время. — Да, да, конечно, я понимаю. — Цукки поспешно кивнул головой. — Да, конечно, конечно. Бедный Брайли, такие руки у него были!.. — Мы все потрясены, доктор Цукки, но я вынужден повторить вопрос: где вы были этой ночью, в частности от полуночи до двух? — Да, да, разумеется, — встрепенулся Цукки. — Я был в своем коттедже. — Когда вы легли спать? — Около половины третьего… Уэбб бросил короткий взгляд на полковника. Полковник, зябко вздрогнув, быстро взглянул на Цукки. — Вы всегда так поздно ложитесь? — Нет, мистер Далби. Обычно я ложусь около полуночи. — Что же заставило вас бодрствовать на этот раз так долго? — Видите ли, часов в одиннадцать ко мне зашел сосед, доктор Найдер, и мы заболтались… — Какого же черта вы сразу не сказали! — просияв, крикнул полковник, победно посмотрел на Уэбба, скосил глаза на кроссворд и вдруг довольно хлопнул себя по ляжке. — Ну конечно же, киви. Птица из четырех букв. — Что, что? Какая птица? — Ничего, это я говорю о вашей беседе с Найдером. — Я как-то не подумал, что это так важно. — Вы настоящий ученый, дорогой доктор Цукки, — сказал полковник, — вы далеко пойдете. В научном, разумеется, плане. Теперь еще несколько вопросов, уже, так сказать, второстепенного порядка. Вернее, не второстепенного, а, так сказать, менее личного плана. Вы не знаете, откуда Брайли взял смит-вессон? — Смит-вессон? — переспросил Цукки и побледнел. — Да, именно. Смит-вессон. — Боже мой… — Дрожащими пальцами Цуккгх попытался вытащить сигарету из измятой пачки, но не смог. — Не волнуйтесь вы, ради бога, — нервно сказал полковник, перегнулся через стол, достал сигарету и дал ее Цукки. — Спасибо, — сказал Цукки. Он долго возился с зажигалкой, пока наконец не закурил. — Это моя вина. Да, моя. — Он опустил голову. — Что значит — ваша? — недоверчиво спросил полковник. — Видите ли, пистолет этот был найден у Дэниэла Карсуэлла. Вы знаете… — Да, — коротко кивнул полковник. — По согласованию с вами я оставил пистолет у себя. Мне было интересно посмотреть, как будет вести себя стимулируемый объект, если ему предложить его же оружие. Я уже докладывал, что опыт вполне удался. Мистер Карсуэлл не захотел взять пистолет. Это очень важный момент в наших исследованиях. Очевидно, состояние эйфории с наложенным на нее подавлением воли полностью угнетает агрессивное состояние. — Хорошо, хорошо, вы уже докладывали об этом. Но в чем же ваша вина? — Брайли видел у меня пистолет. Вчера… нет, простите, позавчера он попросил его у меня. Боже, зачем я это сделал… — Кто мог знать, — мягко утешил Цукки полковник, — кто мог знать… Он не сказал вам, для чего ему оружие? — Он сказал, что хочет проверить мой опыт. Вы понимаете, как ученый, я не мог отказать ему. Это дало бы возможность поставить под сомнение мои выводы… — Ну конечно же, доктор, — просиял полковник, — научная добросовестность превыше всего. Вы не замечали каких-нибудь перемен в покойном в последнее время? — Нет, пожалуй, — задумчиво сказал Цукки, — если не считать, что он стал угрюмее, что ли… Мы часто спорили по научным вопросам, и он был… как вам сказать… более, чем обычно, язвителен. — Прекрасно, — сказал полковник, — прекрасно! Вы не знаете никаких причин, почему бы Брайли мог покончить самоубийством? Не производил ли он на вас впечатление человека, который может наложить на себя руки? — Пожалуй, нет. — Хорошо. Если бы мы знали обо всех причинах самоубийств, их бы просто не было. И последний вопрос: могут ли стимулируемые объекты сознательно лгать, укрывать правду? — Это исключается, мистер Далби. Видите ли, ложь — это в некотором смысле волевое усилие, творческий акт. Мы же подавляем волю стимулируемых объектов. Сознательная ложь совершенно исключается. — Дело в том, что вчера покойник беседовал несколько минут с Карсуэллом. Имеет ли смысл допросить этого человека? Доктор Цукки пожал плечами: — Я уже вам объяснил, что… — Спасибо, дорогой Цукки, вы очень помогли нам. У вас есть вопросы, Уэбб? — Нет, сэр, — сказал майор и проводил глазами неуклюжую фигуру ученого. — Каков идиот, — улыбнулся полковник, когда Цукки вышел из комнаты, — но очень симпатичный. С такими можно делать все, что вздумаешь. Ну что, вызовем этого Карсуэлла? Попросите, пожалуйста, Уэбб, чтобы его прислали сюда. Как бы случайно, полковник сдвинул локтем журнал «Тайм» на несколько дюймов в сторону, быстро вписал в пустые клеточки слово «киви», вздохнул и решительно прикрыл кроссворд «Таймом». Дверь приоткрылась, и в щели показалась коротко остриженная голова сержанта. — Карсуэлл, сэр. — Давайте его, — сказал полковник. Дэн вошел и широко улыбнулся. Все трое сидевших в комнате, казалось, излучали приветливость и теплоту, будто были рефлекторами, а он стоял в фокусе их излучения. — Здравствуйте, джентльмены, — сказал он. — Нам стало известно… гм… Карсуэлл, что вчера вы о чем-то беседовали с доктором Брайли. Нам бы очень хотелось знать, о чем именно. Не могли бы вы нам рассказать? — Ну конечно! — с воодушевлением воскликнул Дэн, чувствуя, как все в нем тянется навстречу этим добрым и внимательным людям. Возможность сделать им что-нибудь полезное воодушевляла его и заставляла говорить быстро и возбужденно. — Я вскапывал клумбу, когда ко мне подошел доктор Брайли и сказал, что очень обижен на меня за то, что я часто беседую с доктором Цукки, а с ним никогда. Что он ценит здесь каждого нового собеседника, поскольку немного есть людей, с которыми он мог бы поговорить. — Он хотел сказать, что тоскует? — Не знаю, сэр. — Но он сказал, что ему не с кем поговорить? — Не совсем так. Он сказал, что ценит каждого нового собеседника. — Понятно, это одно и то же. А что вы ему ответили? — Я был очень сконфужен и обещал обязательно зайти к нему. Я обязательно сделаю это сегодня. Обязательно. Полковник Далби посмотрел на Дэна и сказал: — Вы этого не сделаете. Доктор Брайли сегодня ночью умер. — Что вы говорите, сэр? Как это так — умер? Дэн понимал слово «умереть», но оно решительно отказывалось проявиться в его сознании, до конца выявить свой физический смысл. Тихое блаженство, струившееся в нем, лишало слово всякой конкретности, оставляло лишь набор звуков, пустых и малозначительных. Доктор Брайли, забавно! Вчера только он просил Дэна зайти, а теперь говорят, что он умер. Умер, не умер — какое это, в конце концов, могло иметь значение в мире поющей радости, в который он был погружен! — А вы не знали, что он умер? — спросил полковник. — Нет, сэр, не знал, — широко улыбнулся Дэн. — Честно признаться, меня мало интересуют такие вещи. Знаете, это как-то… — Он смущенно засмеялся, заставив вздрогнуть полковника от неожиданности. — А где вы были ночью? — внезапно спросил Уэбб, пристально взглянув на Дэна. — Ночью? — Дэн хихикнул. Этот человек так мило пошутил. — Ночью? Ночью, сэр, я спал. Ответ свой тоже показался ему остроумным, и он почувствовал удовлетворение художника при создании маленького шедевра. — Больше ничего вы не можете сказать нам? — спросил полковник. Дэн виновато улыбнулся. Смешные люди! Если бы он знал что-нибудь, он бы с удовольствием сделал им приятное. — Ну хорошо, Карсуэлл, спасибо. Можете идти. — Вам спасибо, джентльмены. — Дэн прижал от избытка чувств руку к груди, поклонился и вышел. — По-моему, все ясно, — сказал полковник. — Нет никаких оснований сомневаться в самоубийстве. Последнее время Брайли был подавлен. Это раз. Он даже просил зайти поболтать этого Карсуэлла. Это два. Он под фальшивым предлогом взял пистолет у Цукки. Это три. На пистолете отпечатки пальцев Брайли. Это четыре. И, наконец, выстрел был произведен почти в упор. Это пять. — А может быть, поговорить с Карсуэллом в экранирующей камере? — вдруг спросил Уэбб. — Глупо, Уэбб. Вы меня простите, но это глупо. Если человек ничего не может сказать под воздействием стимулятора, когда он лишен воли, что он скажет вам, находясь в здравом уме? Нет, Уэбб, я ценю вашу проницательность, но ваше предложение глупо. — Возможно, сэр, — кивнул головой Уэбб, — но мне кажутся подозрительными многочисленные беседы Цукки с этим Карсуэллом. Не забывайте, что это за тип и как он к нам попал. — Помню, помню. Но, во-первых, Цукки ведет наблюдения над группой объектов, куда входит и Карсуэлл. А во-вторых, у вас еще слишком много чисто строевых представлений. Все-таки это не Форт Брагг, а Драй-Крик. Не забывайте об этом. И проследите, чтобы все бумаги были составлены по должной форме. — Хорошо, сэр, — угрюмо сказал Уэбб и вышел. За ним, словно очнувшись ото сна, поспешно выскочил и врач. Полковник несколько раз широко развел руки, глубоко вздохнул и снял «Тайм» с кроссворда. Теперь можно было спокойно подумать над древним скандинавом — воином из шести букв, начинающегося с «в». Конечно, полностью избежать неприятностей не может никто, но уметь их уменьшить — ох, как это важно!..ЗАКОН НЬЮТОНА
— Вы знаете, Карсуэлл, для чего я вас позвал? — спросил майор Уэбб, пристально вглядываясь в лицо Дэна. — Нет, не знаю, — смущенно улыбнулся Дэн. — Я хочу сходить вместе с вами в лабораторию доктора Цукки. Как вы на это смотрите? — С удовольствием. Они шли по залитой ярким аризонским солнцем территории базы, и Уэбб с отвращением почувствовал, как почти сразу у него взмокла спина и тоненькая струйка пота зазмеилась между лопатками. Отвращение вызывали не только жара и пот, но и идиотская физиономия Далби с написанным на ней выражением превосходства. «Оставьте ваши строевые замашки, Уэбб. Это вам не Форт Брагг. Это научная база». Научная база! База ленивых кретинов. Ах, как быстро полковник уверовал в версию о самоубийстве! Еще бы, за три дня до приезда генерала убийство на территории секретной базы было бы очень некстати. Самоубийство — это другое дело. Понимаете, сэр, напряженная работа, совершенно новая область, полная изоляция. Да, сэр, увы, человек — далеко не лучший из материалов, ничего не поделаешь. Хитер, хитер полковник Далби. Ах, если бы только удалось что-нибудь раскопать… Уж очень гладенькое, хрестоматийное самоубийство. Точь-в-точь по учебнику. Кто знает, попытка не пытка. Уэбб отнюдь не был уверен в реальности своей версии. Все они в один голос убеждали его, что стимулятор — лучшая гарантия правдивости допрашиваемого, во сто крат большая, чем любой детектор лжи. Но большую часть своей военной карьеры он провел в обычных частях и в глубине души не очень доверял всем этим штучкам. Обыкновенный хорошенький допрос — это, как ни крутись, совсем другое дело. Старый добрый способ, конечно с его опытом, тоже не следует сбрасывать со счетов. — Вы ко мне? — спросил доктор Цукки, показываясь в дверях лаборатории. — Такое несчастье… Совершенно не могу сегодня работать, все время под впечатлением. — Он казался больной нахохлившейся курицей, а его обычно смугловатое лицо приобрело землистый оттенок. — Если вы не возражаете, доктор Цукки, я хотел бы воспользоваться вашей экранирующей камерой и побеседовать с мистером Карсуэллом. — В экранирующей камере? — тихо спросил Цукки и посмотрел, растерянно мигаяресницами, на Уэбба. — Да, — коротко ответил Уэбб. Он испытывал удовольствие, глядя как трепещет этот пухлый слизняк. Он уже знал, что скажет Цукки. — Да, мистер Уэбб, но шоковый удар, который… Тем более, мы говорим ведь в присутствии… мистера Карсуэлла. — Мне плевать на шоковые удары и чье бы то ни было присутствие! — отрезал майор Уэбб. — Ученые… Пулемет позади и огонь без предупреждения, тогда бы они работали как следует и не несли околесицу о шоковом ударе. Слишком все деликатными стали. Такое мнение, и другое мнение, и еще одно мнение… Либералы… — К сожалению, я должен… — Мне плевать, что вы должны, Цукки. Кто заместитель начальника базы, вы или я? — В научных вопросах… — Я вам покажу научные вопросы, лабораторная крыса! Убить человека — это, по-вашему, научные вопросы? А? Уэбб раскалялся все больше и больше. Тридцать пять в тени, песок, куча идиотов и жирный Далби, решающий целыми днями дурацкие кроссворды. И из-за таких он в сорок шесть все еще майор… Кроссворды… Киви… — Мистер Уэбб, — плачущим тонким фальцетом выкрикнул Цукки, — если вы еще раз… — Хватит с вас и одного раза. Откройте камеру. Идите, Карсуэлл. Дэн не мог сдвинуться с места. Все в нем трепетало, голова плыла куда-то, вращаясь. Мысленно он метался от Цукки к Уэббу, как щенок во время ссоры хозяев. Он знал, он точно знал, что должен что-то сделать, но вяжущая благостная слабость пеленала его по рукам и ногам. Какие странные люди! Для чего ссориться в тихом, радостном мире, когда все поет вокруг тебя, покачивая, куда-то все несет и несет в сладком счастливом забытьи, в котором стираются четкие пугающие контуры мира и все дрожит в неясной дреме… — Вы что, заснули? Грубый и властный голос Уэбба заставил его очнуться, и он снова увидел прыгающий в глазах Цукки ужас. Странные люди, для чего это все? Он понимал, что сейчас войдет в камеру. Он помнил, как входил в камеру и мир мгновенно безжалостно обнажался перед ним, но это будет потом, не скоро, через три шага, а пока можно было дремать в блаженном спокойствии. Тяжелая дверь с уже ставшим знакомым Дэну скрипом (надо смазать петли) медленно закрылась за Уэббом. Майор, казалось, приходил в себя, и с каждым мгновением решимость его таяла. — Садитесь, — глухо сказал он и сам тяжело опустился в кресло. Дэн молчал, бережно смакуя ненависть, собиравшуюся в нем. Должно быть, так смакуют простые грубые запахи работники косметических фабрик, подумал он. Он и раньше, несколько минут назад, понимал каждое слово, которое произносил этот высокий, сухопарый человек с рыжеватой щеткой усов на верхней губе, но только теперь они по-настоящему проявлялись в крепком растворе ненависти, приобретали четкость и ясность. — Что вы можете рассказать мне об убийстве Брайли? — хмуро спросил Уэбб и поднял глаза на Дэна. «Брайли… странно… У меня какая-то пустота в голове, когда я думаю о Брайли. Вчера я с ним разговаривал. Я одержал победу над этим проклятым стимулятором… А что дальше?.. Почему я так радовался этой победе? Провал, какой-то странный провал… Или к этому стимулятору добавилась еще какая-нибудь чертовщина?» — Я рассказал все, что знал, — бесстрастно ответил Дэн. Ему не хотелось думать, для чего его терзают эти рыжие усики. Ненависть отступила на шаг и освободила место для горькой острой нежности к Фло. — Встать! — вдруг истерически крикнул Уэбб. — Расселся, скотина! Радиоидиот! — У него мелькнула было в голове мысль, что напрасно он так распустил нервы, но тут же растворилась в месяцами копившемся раздражении. «Обожди, Фло», — подумал Дэн, встал и подошел к майору. — Хорошо, майор, я встал, как видите. — С этими словами Дэн почти без замаха выбросил вперед правый кулак, добавив к усилиям мускулов вес всего своего тела. Кулак, описав короткую траекторию, наткнулся на лицо майора и передал ему всю заключенную в нем энергию. Кулак обессиленно упал, а голова дернулась назад и в свою очередь передала энергию металлической стенке, которая осталась на месте, предварительно оттолкнув затылок. «Прямо по закону Ньютона», — подумал Дэн. Майор начал медленно переваливаться через край кресла. Тонкая струйка крови, сочившаяся из носа, изменила под влиянием силы тяжести направление. Дэн, тяжело дыша, вдруг подумал, что после письма Фло он это делает уже не в первый раз. Уэбб всхрапнул и открыл глаза. Прежде чем клубившийся в них туман рассеялся, Дэн еще раз ударил его в лицо. Теперь лицо было ниже, и пришлось нагнуться, чтобы попасть в него. Дэн открыл дверь. За нею стоял Цукки, дрожа, словно осиновый лист. — Помогите мне, доктор, — сказал Дэн, чувствуя, как начинает расплываться ненависть. — Его надо вынести на улицу, ему здесь стало нехорошо от спертого воздуха. В налитых страхом глазах Цукки мелькнул просвет. Вдвоем они подняли Уэбба и вынесли на улицу. — Сейчас я позвоню полковнику, — сказал Цукки, — мне сдается, он сможет перенести этот удар… Я имею в виду полковника.ВСПОМНИТЬ И ЗАВЫТЬ
Ночь. Дэн, привалившись спиной к двери, сидит на ступеньках коттеджа. Большая Медведица совсем близко — протяни руку и ухватись за ручку ее ковша. Хорошо сидеть так, глядя в небо. Теряешь ощущение своей малости, растворяешься в безбрежности Вселенной. Мыслям в небе просторно. Они плывут в гулкой бесконечной тишине, и ничто не мешает им. Они всё удаляются, удаляются, теряют связь с тобой, и их уже больше нет. И сидишь один на дне звездного океана и ломко дремлешь, ни о чем не помня и ничего не ожидая. Сигарета давно погасла в руке, но не хочется ни разжать пальцы, ни чиркнуть спичкой. Тихо. — Вы спите, Карсуэлл? — доносится еле слышный шепот. Нет, это не звезды. Это едва видимая тень с голосом Цукки. Спуск со звезд занимает много времени, но наконец Дэн открывает глаза. — Нет, доктор, я не сплю. Цукки колеблется. Он обещал Карсуэллу сделать это, дал честное слово, и все же ему жаль его. Странный человек. То, что он, Цукки, хотел бы забыть, он хочет вспомнить. Ничего не поделаешь, есть люди, которые не любят забывать. Для них все много проще, чем для него. О боже, как все сложно! Он вдруг вспомнил слова Мэри Энн, которые она сказала тогда, уходя от него: «Ты боишься простых ответов, Юджин. Ты боишься жизни. Ты навсегда остался маленьким сопливым Цукки-брюки». Летом у нее выступали веснушки. У нее были сильные руки, и она почему-то всегда коротко стригла ногти. Может быть, она была права. И Брайли был прав: он омега, всю жизнь был омегой, ожидающим ударов от мальчишек и от жизни. Карсуэлл другой. Он обещал ему это сделать. Теперь, после следствия, это не страшно. — Вы спите, Карсуэлл, спите, спите, спите. Вы смотрите на меня и спите. Вы спите и слышите лишь мой голос. — Да, доктор, я сплю и слышу ваш голос. «Удивительно все-таки, как стимулятор облегчает гипноз! Своя воля подавлена, и мозг особенно восприимчив к чужой воле», — подумал Цукки и сказал: — Теперь вы войдете в коттедж, ляжете в кровать и будете спать. А когда проснетесь, вспомните все, что было. Идите, Карсуэлл. Тихо и покорно Дэн поднялся со ступенек и неслышной тенью скользнул в двери. Не нужно, конечно, было этого делать, снова подумал Цукки, но он дал честное слово. А Брайли нет в живых. Почему все-таки Брайли так ненавидел его? Почему? Что он ему сделал? Что они не поделили? Разве что ответы. У Брайли всегда были простые и однозначные ответы. У него, у Юджина Цукки, их почти никогда не было. Но почему человек с ясными ответами должен ненавидеть человека без ответов? И на этот вопрос ответа тоже не было. И все-таки раз в жизни он найдет ответ, наверное последний. Ровно через два дня. Он не струсит. Удивительное дело, иногда он оказывался много сильнее, чем думал сам и другие. Он вспомнил, как во время войны их рота совершала учебный марш-бросок. Где это было? Кажется, в Стоунбридже. Там. К десятой миле все высунули языки. Рядом с ним обливался потом Бобби… Бобби… Как была его фамилия? Черт с ним. Длинный парень с бледным жестоким лицом. Сколько раз он издевался над ним: «Ваш брат не привык…», «Это тебе не макароны жрать…» А тогда он плелся рядом, молчал, и одно плечо под тяжестью винтовки было намного ниже другого. Так он и шел, скособочась. И ему, Цукки, было тяжело и все время казалось, что больше он не сделает и пятидесяти шагов, вот-вот рухнет и заснет прежде, чем ударится о землю. И все-таки он шел и вдруг сказал этому Бобби: «Дай твою винтовку. Пусть у тебя отдохнет плечо». Бобби не отказался, но на привале назвал его итальяшкой. Что и кому он хотел доказать? Этому Бобби, что он благородный, или себе, что Бобби гад? Или он просто всю жизнь страдал оттого, что не все его любят или, точнее, что никто его не любит, и всегда пытался купить любовь окружающих мелкими взятками? И это сложный вопрос, и на этот вопрос готового ответа не было. Вот так. Вот так, дорогой Юджин Цукки. Интересно, получит ли его мать страховку за него? Он привычно пожал плечами — единственный жест, который он умел делать лучше кого бы то ни было. Надо было идти спать. Он посмотрел вверх, на Большую Медведицу, вздохнул и тихо скользнул в темноту.* * *
Дэн проснулся сразу, минуя сумеречную пограничную зону между сном и бодрствованием. И сразу же вспомнил все… — Я это сделаю, доктор, я убью его, — говорит он Цукки. — Вы мелете чепуху, — отвечает доктор. — Я не хочу терять и Фло, и себя в ваших вольерах. Брайли все знает, и он донесет. Люди с лакированными проборами и лакированными зрачками доносят легко. Вы можете помешать мне это сделать, но вы убьете и меня, и Фло. Выбирайте. — Вы жестоки, Карсуэлл, так нельзя. — Самые сложные задачи, занимающие целые тома, имеют очень простые ответы. Или не имеют их вообще. Сложных ответов в жизни не бывает, я это слишком хорошо теперь знаю. Я сам всю жизнь прятался за сложность ответов. — Нет, я не могу… — Как хотите, доктор. Пусть это будет на вашей совести. — Но вы же не сможете убить его. Выйдя из камеры, вы снова превратитесь в безвольного эйфорика. А если бы и убили, то тут же рассказали бы первому встречному. Помните, как вы доносили мне на самого себя? В трубе? — Я подумал об этом, доктор Цукки. Я, разумеется, не ученый и ничего не смыслю в этом, но мне кажется, что ваши объекты должны быть во сто крат восприимчивее к гипнозу, чем обычные люди. — Да, но… — Вы загипнотизируете меня. Вы прикажете мне убить его и забыть об этом, так чтобы я не смог предать нас. А потом заставите меня вспомнить. — Вспомнить? — Да, я не хочу забывать о таких вещах. Это было бы нечестно. Доктор погружается в раздумье. На него жалко смотреть: всклокоченный человек. Дэну кажется, что он слышит, с каким скрежетом ворочаются мысли Цукки. Если бы мысли обладали плотью, они бы сейчас изранили друг друга насмерть. Доктор делает мучительное усилие над собой. Лицо его бледно и искажено гримасой. Кажется, вот-вот его вырвет. Он с трудом проглатывает слюну и говорит: — Хорошо, Карсуэлл. Выйдите из камеры. Вы правы, гипноз под действием стимулятора не составляет труда. Зрачки доктора все приближаются и приближаются к нему, увеличенные толстыми стеклами очков. Куда делись прежние мягкие глаза? Эти источают холодный свет, легко проникают в него, и голос доктора быстро укладывает его мысли, как опытный грузчик, одну на другую, в нужной последовательности, ровными штабелями… …Доктор Брайли идет по двору. Он без халата. На тончайшем сером костюме ни складочки. И тень от его фигуры четкая и аккуратная. — Доктор Брайли, — широко улыбается Дэн, — я так рад вас видеть! Ему приятно смотреть на это ясное, умное лицо с внимательными глазами. Прекрасное лицо. — А, Карсуэлл, вы по-прежнему, я смотрю, предпочитаете мне доктора Цукки. — О, что вы, доктор Брайли!.. Мне было вчера так стыдно, когда я не мог вспомнить, о чем мы беседовали в экранирующей камере с доктором Цукки. В глазах доктора Брайли вспыхивают лампочки. Какие приятные, проницательные глаза, и как славно, когда они ласково ощупывают тебя! Как лестно, что такие глаза не отрываясь смотрят на тебя и ждут, ждут… — И вы вспомнили, дорогой Карсуэлл? — Да, доктор, да! — радостно выпаливает Дэн. Он почти кричит, и доктор Брайли почему-то пугливо озирается вокруг. — Тише, Карсуэлл, здесь же люди. Знаете что? Заходите ко мне в лабораторию попозже. Совсем поздно, часов в двенадцать, у меня как раз срочная работа, и нам никто не помешает всласть наговориться. Вам это не поздно? — О, что вы, доктор Брайли, что вы! Полночь. Дэн идет в лабораторию Брайли. Она рядом с лабораторией Цукки. Какой обаятельный все-таки человек этот доктор Брайли! Сейчас Дэн его убьет, но это одно другого не касается. Убить он его должен, потому что… таков приказ. Чей приказ? Ему приказал это сделать доктор Цукки, и он не может нарушить этот приказ. Да ему и в голову не приходит нарушить его. Как можно подумать такое? А сам он относится к Брайли прекрасно, это к делу не относится. Вессон оттягивает карман брюк… Так и есть, Брайли ждет его. Какой обязательный человек! — А вот и я! — Дэн расплывается в широчайшей улыбке. — Ну, садитесь, мистер Карсуэлл, рассказывайте, что нового. — Доктор протягивает руку и незаметно включает магнитофон. Какой смешной человек — хочет записать его слова, и выстрел, наверное, тоже запишется. На память. Глупости он думает: как можно записать на память выстрел, которым он убьет его? На чью память? О, он знает, что потом нужно сделать с магнитофоном. Когда доктор Брайли будет мертв, можно будет стереть всю пленку, его это уже тогда не огорчит. — А вы и не представляете себе, что я теперь знаю! — Незаметно для Дэна в его голосе появляются детские интонации. «Угадай, что у меня в кармане». — Что? — Я знаю, что в голове у меня телестимулятор. Маленький, величиной с булавочную головку. И радиоволны управляют мной. Доктор Цукки мне все подробно объяснил. — В экранирующей камере? — Да, там. Правда, я к этому отнесся, помню, как-то странно: почему-то сердился. А вообще мне очень хорошо, мне этот стимулятор нисколько не мешает. Теплый поток любви к доктору Брайли струится в голове Дэна. А против него плывут несколько чужих холодных мыслей, словно десант, высаженный у него в мозгу чьей-то волей: стрелять только с близкого расстояния, почти в упор, в висок. — О чем вы еще говорили? — Теперь уже тонко улыбается и доктор Брайли. Ему весело. Не мудрено: ведь Дэн говорит ему очень интересные вещи. Не такие, впрочем, интересные, не зазнавайся, Дэн. Он и так все знает про стимулятор. Ему просто интересно, что это рассказал доктор Цукки и рассказал объекту, эйфорику! Ты доносишь, Дэн, доносишь на доктора Цукки. Чепуха! Можно ли доносить человеку, который так симпатичен и наверняка любит всех, как любишь ты. Да и вообще, какое это имеет значение, когда смит-вессон оттягивает карман. Маленькие десантники деловито копошатся в мозгу. Надо подойти к Брайли поближе, наклониться к его уху. Десантники торопят, они не терпят возражений. Да и что возражать, когда это приказ. Это ведь не он, Дэн, наклоняется сейчас к уху доктора Брайли, а они. — О том, как нам — мне, Фло, это мисс Кучел, и самому доктору Цукки — выбраться отсюда. Доктор Брайли вздрагивает. Пока это не от выстрела. Сейчас он дернется от выстрела, ведь правая рука Дэна уже осторожно поднимает пистолет. И действительно, доктор дергается вместе с грохотом выстрела, от которого тонко звякают на столе какие-то склянки. Бедный доктор Брайли! Как быстро и ловко подсказывают ему маленькие десантники что делать! Достать из кармана перчатки и надеть их. Положить на диванчик труп. Только не испачкаться в крови… Какой тяжелый! Вот так, на спину. Почему мертвые тяжелее живых? Бедный доктор Брайли, как ему не повезло! На глазах у Дэна набухают слезы, мешают смотреть. Вытирать их некогда, и Дэн резко, словно лошадь, отгоняющая муху, встряхивает головой. Слеза падает на пол. Теперь нужно тщательно вытереть пистолет. Не торопясь, вот так. И рукоятку, и барабан, и ствол. Теперь вложить смит-вессон в правую руку Брайли и крепко сжать несколько раз, для отпечатков пальцев. И левая рука тоже должна оставить отпечатки. Бедный, бедный доктор Брайли! Снова вложить пистолет в правую руку и разжать ее. Пистолет падает. Не забыть о магнитофоне. Это «зенит». Ага, вот кнопка стирания записи. Вот, собственно, и все. Дэн выходит из лаборатории. Десантники заканчивают свою работу: подкладывают динамитные патроны под память Дэна. Змеится огоньком бикфордов шнур — Дэн еще помнит про Брайли. Маленький взрыв, голова Дэна наполняется светом. Он рассеивается с легкой болью. Темно. Ночь. Прямо над головой Большая Медведица нагнула свой ковш. Что он делает на дворе в такой поздний час? Давно пора спать. И вот он лежит на постели и помнит теперь все. И привычное ленивое блаженство не спеша смывает, уносит куда-то вновь приобретенную память. Помнить, забыть — какое все это имеет значение? Дэн снова закрывает глаза и с легкой улыбкой проваливается в теплую, сладкую дремоту.«ПРИКАЗЫВАЙТЕ, ДОРОГОЙ ЦУККИ!»
Генерал Труппер любил путешествовать. Всякое передвижение в пространстве, будь то в автомобиле, в самолете, в вертолете или на собачьей упряжке, было ему приятно, ибо давало ему ощущение полноты жизни, напряженной деятельности. Стоило ему остановиться и остаться наедине с самим собой, и время словно замирало для него. Ему тотчас же становилось скучно и даже страшно, ибо он боялся покоя и неподвижности. В такие секунды у него вдруг мелькала мысль о конце. Идешь, идешь, а там, впереди, провал. Бесконечный. И знаешь, что его не миновать. И из него тянет неповторимым запахом небытия. Встать, идти, бежать, забыть, не думать. Поэтому генерал Труппер всегда двигался. Около него, как у форштевня быстроходного судна, всегда вспыхивали бурунчики напряженной деятельности: подбегали и убегали подчиненные, трезвонили телефоны, раздергивались и задергивались шелковые занавески на огромных картах. Но по-настоящему счастливым он все-таки чувствовал себя только в движении. Вот и сейчас, сидя в вертолете, который скользил над красновато-желтой аризонской пустыней, и глядя вниз на стрелу шоссе, он улыбался. Все было хорошо. Он, Эндрю Труппер, летит, чтобы проинспектировать Драй-Крик. Его окружают толковые люди. Взять хотя бы генерала Маккормака. На вид увалень, а какая голова! Новое поколение: генерал-ученый. Иначе нельзя, да и сам он, Эндрю Труппер, слава богу, тоже не отстает. Другие отстали, безнадежно отстали, вмерзли, как бурые щепки, в лед второй мировой войны. Плоские концепции, устаревшее мышление, архаическое оружие. Будущее принадлежит науке, вроде этого Драй-Крика, где создается такое, что и в голову никому не придет… И все это он, Эндрю Труппер. Ему шестьдесят лет, но каждое утро, когда он бреется, из зеркала на него смотрит совсем еще молодой человек с отличным цветом лица. Прекрасное здоровье, чтоб не сглазить, дай бог такое многим молодым людям. Сколько еще он может прожить? Уж лет пятнадцать, не меньше, а то и все двадцать. А там кто знает… Как двигается наука это-то он знает, слава богу… — Смотрите, генерал, — почтительно сказал советник Фортас, — вон и база. Генерал глянул в окошко. Вдали возникал правильный овал базы, утыканный по периметру сторожевыми вышками. — Хорошенькое место вы подыскали, Фортас, ничего не скажешь, — добродушно сказал генерал, — как на необитаемом острове. — Для наших подопечных и Тайм-сквер мог бы быть островом, — с почтительной гордостью сказал Фортас. — Ну-ну, посмотрим. Вертолет медленно опускался. Он скользнул через изгородь из колючей проволоки, повис на мгновение в воздухе и мягко опустился на землю. Навстречу вертолету бежали Далби и Уэбб. Позади почтительно трусили офицеры и ученые в светло-зеленых халатах и комбинезонах. — Сэр, — выпалил полковник Далби, вытягиваясь перед Труппером, — Драй-Крик ждет вас. — Полковник Далби, начальник базы, — тихо шепнул на ухо Трупперу Фортас. Генерал коротко кивнул. Он не любил лишние церемонии, и кивок относился в равной степени и к Фортасу, и к Далби. — Добрый день, джентльмены. Здесь у вас я себя чувствую в лучшем случае студентом. Несколько сот зубов одновременно сверкнули в заготовленных улыбках. — Ну-с, а теперь за дело, полковник. В нашем распоряжении, — он взглянул на часы, — час с четвертью. Я думаю, что всем вашим сотрудникам не стоит отрываться от работы. — Совершенно верно, сэр, — сказал Далби и повернулся к светло-зеленой и белозубой массе ученых: — Займитесь своим делом, господа. — Ну, что у вас тут, Далби? — спросил Труппер, садясь в открытый джип. Вслед за ним в машину торопливо влезли Маккормак, Фортас, Далби и Уэбб. — Отлично, сэр, — бодро отчеканил Далби и тихо прошипел Уэббу: — Идите и обеспечьте порядок на территории базы. Уэбб коротко кивнул, бросив на полковника мегатонный взгляд. — Сейчас на базе, — сказал Далби, — ровно пятьдесят объектов, люди разных уровней развития, включая и с высшим образованием. Все они круглосуточно находятся под воздействием телестимуляторов… — Это та штука, сэр, что вставляется в голову, — шепнул Фортас. — …в состоянии постоянной эйфории… — Восторженное состояние. — Фортас отлично выполнял свои функции научного советника. — …при подавленной собственной воле. Мы можем одним поворотом ручки главного передатчика перевести их в состояние агрессии, страха, голода, сна, но удобнее всего для работы и наблюдений, конечно, эйфория… Одну минутку, водитель… Джип остановился. — Вон тот человек, — полковник кивнул на склонившегося над клумбой Дэна, — намеревался тайком пробраться сюда, у него здесь работает приятельница. Благодаря мистеру Фортасу нам удалось перехватить его, усыпить, вставить стимулятор и превратить его в кроткого, ласкового ягненка. — Гм, интересно! — сказал генерал. — А его дама, сцены ревности? — Все отпадает, сэр. Нашим пациентам так хорошо, что ни одна тревожная мысль или чувство не может беспокоить их. — Неплохо было бы и самому заполучить на недельку ваш стимулятор, — засмеялся Труппер, — иногда просто сил нет от миллиона проблем. Ну, да уж таков, видно, наш крест. Давайте-ка поговорим с этим вашим влюбленным рыцарем. — Мистер Карсуэлл! — крикнул Далби, вылезая из машины. — Подойдите сюда. Дэн оторвался от цветочной клумбы, которую он обкладывал мелкими камешками, и, улыбаясь, подошел к джипу. — Здравствуйте, — весело и слегка сконфуженно сказал он. — А, мистер Фортас, как я рад видеть вас! Вы уж не сердитесь на меня за то, что я тогда… — Ничего, ничего, мой дорогой. — Фортас нагнулся к уху генерала и шепнул: — Тот самый, что напал на меня с оружием… — Как вы себя чувствуете? — спросил генерал. — Прекрасно, сэр! — просиял Дэн. — Вы и вообразить не можете, какие здесь изумительные люди! — Да он же нормальный человек, — пробормотал генерал. Фортас грузно перевалился через край джипа. Он подошел к Дэну и спросил: — А вы знаете, что ваша знакомая мисс Кучел вам изменяет? Полковник Далби мог бы легко вам это доказать. Наступила напряженная тишина. Дэн рассмеялся и недоуменно посмотрел на впившихся в него взглядом людей: — Какое это имеет значение? — А вы любите мисс Кучел? — бесстрастно спросил Фортас. — Вы же были готовы пойти ради нее бог знает на что… «Какие они смешные люди, — подумал Дэн, — как долго они могут говорить о всяких пустяках… Чудаки!» — Да, — сказал он, — я… люблю мисс Флоренс Кучел. — И вам безразлично, что она вам изменила? — Конечно, — Дэн пожал плечами, — я знаю, что это должно мучить меня, но, знаете… все это как-то… не имеет значения… — Он засмеялся и вопросительно посмотрел на генерала. Тот в свою очередь расхохотался: — Это же цирк, джентльмены, настоящий цирк! Ах, если бы мою старушенцию сюда, чтобы она научилась правильно смотреть на вещи… Знаете, джентльмены, когда молод, думаешь о женщинах, потому что не можешь не думать. А потом начинаешь думать, потому что уже легко можешь не думать о них… — Внезапно генерал Труппер стал серьезным. — А не подготовлена ли эта сценка заранее, а? — Что вы, сэр! — сказал полковник Далби. — Смотрите! — С этими словами он ударил Дэна ладонью по щеке. Пощечина была не сильная, но от неожиданности Дэн покачнулся. На какую-то долю секунды мышцы его сжались, но, прежде чем гнев успел всплыть на поверхность сознания, его уже подхватил мощный поток тихой радости, закрутил, растворил и понес остатки куда-то вдаль, прочь. С легким недоумением Дэн посмотрел на полковника. Должно быть, он чем-то рассердил старика… Как обидно… — Пожмите мне руку, мистер Карсуэлл, — сказал полковник Далби. И Дэн, просияв, двумя руками крепко сжал протянутую ему руку: — Ах, мистер Далби, как я рад, что вы больше не сердитесь на меня!.. Полковник торжествующе посмотрел на джип, как смотрит на первые ряды партера виртуоз-исполнитель после особенно трудного номера. Генерал Труппер медленно набивал трубку и никак не мог попасть большим пальцем в ее чашечку. — Да-да, ничего не скажешь, — в голосе его звучала смесь благоговейного ужаса и удивления, — почище Христа… Подставь щеку свою… Поразительно… поразительно… Хотя это не совсем по моему департаменту, но ваш стимулятор мог бы буквально возродить религию… Поразительно, поразительно… А другие эмоции, которые вы можете стимулировать у ваших объектов, столь же эффективны? — Безусловно. И агрессивность, и страх, и сон, и голод. Мало того. Сейчас, если вы не возражаете, мы пройдем в лабораторию доктора Цукки, вон она, и там вы увидите кое-что еще. — С удовольствием, — сказал Труппер и вылез из джипа. Они без стука вошли в лабораторию и на мгновение остановились. После яркого солнца лаборатория показалась почти темной. — Здравствуйте, господа, — тихо сказал доктор Цукки, который уже ждал посетителей у двери. Голос его был тускл и слегка дрожал. — Доктор Цукки, один из наших самых блестящих ученых, — шепнул генералу Фортас. — Ну-с, мой дорогой доктор Цукки, показывайте вашу дьявольскую кухню. Даже войдя в лабораторию, Фортас не стоял на месте, а быстро обошел ее, разглядывая многочисленные приборы. Остановился у двух клеток, в которых сидели мартышки. Одна из обезьян, казалось, тихо дремала. Вторая прижалась к прутьям и принялась строить гримасы, грозя посетителям маленьким сморщенным кулачком. — А, обезьяны, — сказал генерал. — Теперь я вижу, что нахожусь в настоящей лаборатории… Как дела, обезьяны? — О, это не совсем обычное животное, — гордо сказал Далби, подходя к клетке с сидящей обезьяной. Он посмотрел на мартышку так, как смотрят отцы на своих вундеркиндов. — Сейчас доктор Цукки покажет нам, на что она способна. Давайте, доктор, действуйте. — Сейчас. — Цукки открыл дверцу и протянул руки. Обезьяна проснулась, доверчиво посмотрела на доктора, осторожно обняла его за шею, и он бережно опустил ее на пол. Ее соседка гневно затрясла прутья своей клетки. Цукки несколько раз погладил мартышку и пробормотал: — Ну, Лиззи, покажем, что мы с тобой умеем. — Он взял ее за руку, как водят младенцев, и сказал: — Прошу вас, джентльмены, вот сюда. Это экранирующая камера. Сейчас наша Лиззи находится под воздействием главного передатчика. В камере она перейдет на маленький вспомогательный монитор. Мистер Далби, прикройте, пожалуйста, дверь… Спасибо. Лиззи на мгновение встрепенулась, дернулась, но тут же успокоилась. — А теперь, сэр, — он обратился к генералу, — возьмите вот эту штучку. Генерал посмотрел на плоскую пластмассовую коробочку, на которой были написаны слова: «вперед», «назад», «вправо», «влево», «стоп». Под каждой надписью красовалась красная кнопка. — Что это? — Сейчас увидите. Нажмите любую кнопку, и вы все поймете. Генерал с опаской нажал на кнопку «вперед», и в то же мгновение Лиззи вздрогнула, как будто в ней заработал мотор, и, недоумевающе глядя на людей, двинулась вперед. Па пути ее стоял стул. Одним прыжком, упершись лапой в сиденье, она перемахнула через него и продолжала двигаться вперед, только вперед. Труппер нажал на кнопку со словами «назад», и Лиззи, словно детский телеуправляемый автомобиль, на мгновение замерла, потом повернулась и так же деловито двинулась назад, снова перескочив через студ. — Чудеса, просто чудеса! — сказал Труппер. — Будьте добры, сэр, нажмите на кнопку «стоп», иначе Лиззи все время будет стремиться выполнить команду… Спасибо. — Цукки посмотрел на успокоившуюся обезьяну, вздохнул и сказал: — У этой мартышки в голове новый тип стимулятора, с пространственной координацией. Как вы видели, объект с таким стимулятором может выполнять уже специфические команды, в отличие от общего эмоционального настроя остальных объектов. — Прекрасно, джентльмены! Это то, что нам нужно. Каждый из вас понимает, как нам это нужно. Особенно кнопка со словом «вперед». Назад не так важно, для этого не нужно ваших фокусов. Важно вперед. Чтобы человек не мог не идти, когда впереди даже провал, которого нельзя избежать… Мы ценим вашу работу. Впечатление огромное. Полковник, — генерал посмотрел на Далби, — вы представите мне заявку на нужную вам сумму. Работу надо разворачивать… — Спасибо, сэр! — Далби старался сдержать улыбку, но она неприлично расползалась по лицу. — Спасибо. Но мы хотели показать вам самое интересное. Генерал взглянул на часы: — Ну, давайте, что у вас еще спрятано в рукаве? — Видите ли, сэр, кто бы ни знакомился с нашей работой, все интересовались стоимостью стимулятора и временем, потребным на его установку. При массовом применении стимулятора это безусловно проблема номер один. Поэтому-то мы и затратили массу усилий, чтобы максимально упростить и удешевить этот процесс. Теперь установка стимулятора занимает не многим больше времени, чем обычный укол. — Ну, это вы, Далби, наверняка преувеличиваете. — Нисколько, сэр. Сейчас доктор Цукки покажет вам, как это делается. Он усыпит вторую обезьяну и вставит ей стимулятор меньше чем за минуту. Вы готовы, доктор? — Одну минутку, сейчас. Цукки надел на лицо небольшой респиратор и достал из ящика стола прибор, похожий на электродрель. — Это не просто дрель, сэр. Это автомат, — торжественно сказал Далби. — Как только сверло проходит черепную крышку, оно останавливается. Сжатый воздух проталкивает стимулятор через полое сверло и закупоривает оставшееся отверстие в кости специальным быстротвердеющим цементом. Ровно пятьдесят секунд, сэр. — А это что у него? — спросил Труппер, кивая на небольшой цилиндрик в руках доктора. — А, это тоже наше изобретение. Это мощнейший газ с наркотическим действием. Доля секунды, и объект спит. Само собой разумеется, что Цукки будет работать в камере, а мы будем следить через перископы. Далби любовно посмотрел на красный цилиндрик и увидел, что палец доктора Цукки согнулся и резко нажал на штырек. «Он с ума сошел!» — пронеслось у него в голове, и он хотел крикнуть, но не успел открыть рот, как острый маслянистый запах сильно стеганул по лицу, мгновенно сковал мышцы, схватил сознание и выдернул его из головы. «Действительно, ответы, оказывается, бывают простыми», — подумал Цукки, запирая дверь лаборатории. Он двигался не спеша, размеренно, и в такт неторопливым движениям неторопливо плыли мысли. Мысли были деловыми, и трудно было решить: то ли мысль, скользнув по нервам-проводам, рождала движение, то ли движение рождало мысль. Надо соблюдать субординацию, подумал он, посмотрел на четырех человек на полу и приставил дрель к голове генерала Труппера. Сверло взвизгнуло, набрало обороты, ровно и тонко загудело. Удивительно, как металл любит человеческое тело, будь то пуля, нож или дрель. Как быстро идет сверло… Спустя сорок секунд сверло затихло и прибор два раза мягко чмокнул, словно поцеловал жертву. Это автомат вытолкнул стимулятор и залепил отверстие специальным быстротвердеющим цементом. Кто там у них следующий? Наверное, этот молчаливый тип, Маккормак. Прошу вас, сэр, вашу головку. Ух, тяжелые у генералов головы. Начали. Не беспокоит? Цукки почувствовал, что только респиратор не дает его губам расплываться в улыбке. Почему нужно улыбаться, когда своими руками кончаешь жизнь самоубийством? Интересно, получит ли мать страховку? Да, он кончает жизнь самоубийством. И это хорошо. Ты сошел с ума, Юджин! Да, сошел. Наверное, все рано или поздно сходят с ума. Он это делает сейчас. И хорошо делает. Ловко. Великая вещь — опыт и тренировка. Можешь думать что угодно, но руки делают свое дело. Кажется, есть такой рассказ у Бальзака. Циркач всю жизнь выступает с женой, бросает в нее ножи, которые вонзаются в доску рядом с ее телом. Однажды он узнает о ее измене и решает пронзить во время номера ее сердце ножом. Он целится, бросает нож, но рука привыкла к определенному движению, и нож, как и каждый день в течение двадцати лет, вонзается, дрожа, в доску рядом с ее плечом. Он собирает всю волю в кулак, но и второй нож вибрирует в доске. Да, но он, Цукки, не промахнулся. Его нож уже в теле жертвы, уже третьей жертвы. Ах, Цукки, кто бы мог подумать о нем такое! Цукки-брюки, сопливая омега из Бруклина. Брайли правильно определил: омега. Нет, теперь он не омега и не альфа. Он просто разжал пальцы и спрыгнул с лестницы. Это вовсе не так страшно, как он думал тогда во дворе, лет тридцать назад. Просто разжать пальцы. И все. И все-таки хорошо, что он не разжал тогда пальцы. Нельзя, чтобы тебя заставляли разжимать пальцы другие. Нельзя, чтобы чужие пальцы лезли к тебе. Он просто человек, который считает, что никто не имеет права насильно копаться в чужих мыслях. Человек рождается для того, чтобы думать, а не для того, чтобы покорно привести на цепочке свои мысли другим и сказать: вот, пожалуйста, выдрессируйте их как следует. Да, Цукки, но, для того чтобы отстоять свое право на мысль, ты сейчас вгрызаешься сверлом в чужие головы. Ничего не поделаешь. Идеалисты слишком часто проигрывали, потому что стеснялись пользоваться оружием своих врагов. А у тех оружие всегда лучше, это их козырь. Ничего, Юджин, сорок лет не так уж мало. Зато ты сможешь улыбнуться, даже если это будет в последний раз. А почему в последний? Ведь шансы есть… Не нужно думать о шансах. Чем больше цепляешься за них, тем меньше их остается. Не думай ни о чем. Это ведь, наверное, не так трудно — ни о чем не думать. Нужно просто все время думать о том, что не должен думать. Ни о чем. Ни о чем… Снова чмокнул автомат дрели. Мартышка в клетке скорчила страшную рожу и посмотрела на четверых мужчин, лежавших на полу. Странные существа эти люди. Четверо лежат, а один склоняется над ними и жужжит, жужжит так, что, того и гляди, лопнут барабанные перепонки. Цукки принялся за Фортаса. Лицо у того было бледно, и в кустистых бровях блестели седые длинные волоски. Светлый пиджак отогнулся, и из-под воротника белой рубашки выступал край бордового галстука. Все. Готово. Цукки встал, включил рубильник вытяжного шкафа и прислушался к гудению вентилятора, высасывавшего воздух из лаборатории. Теперь можно снять респиратор и улыбнуться. Спят, бедняжки. Притомились. Он выключил мотор, достал из ящика стола зеленый цилиндр, нажал кнопку, поднес по очереди к ноздрям каждого из четырех. Через минуту они придут в сознание. Цукки уселся в кресло, вытер бумажной салфеткой «клинекс» пот со лба и достал сигарету. Смешно. Последние две недели он ловил себя на том, что с трудом мог раскрыть крышку сигаретной пачки — так дрожали пальцы. Сейчас он лихо щелкнул по пачке, как это делают в кино ловкие мужчины с сильными плечами и каменными лицами, настоящие альфы, и взял губами наполовину вылезшую сигарету. Надо все-таки бросить курить, подумал он и усмехнулся. Ничего, скоро, наверное, ему помогут это сделать. Первым зашевелился Далби, потом Маккормак. Полковник открыл глаза, зевнул, страшно скривив рот, и улыбнулся. — Что это здесь произошло? — спросил он у Цукки и посмотрел на лежавших рядом с ним людей. — Ничего, — сухо ответил Цукки, — просто вы все немного устали и прилегли на пол отдохнуть. — Отдохнуть? — Далби сел, провел ладонью по лбу и засмеялся. — Вот чудеса! Четверо взрослых людей ложатся на пол поспать. — Он уже не просто смеялся, он покатывался со смеху, закидывая голову, и кадык на его горле ходил вверх и вниз. — Просто чудеса, Цукки! Четверо взрослых людей во главе с генералом Труппером, самим Труппером, ложатся на пол в лаборатории и засыпают. А вы нас, часом, не усыпили, дорогой доктор Цукки! — Усыпил. И даже вставил стимуляторы. — Стимуляторы? Ох и шутник же вы!.. — На мгновение в глазах Далби мелькнул страх, но тут же исчез, вымытый весельем. — Стимуляторы, регуляторы, генераторы, трансформаторы — все это, дорогой Цукки, чушь. Не знаю почему, но мне сейчас весело и покойно, как никогда в жизни. Наверное, и вправду вы всунули в меня эту штуку. Но тсс! Вот и остальные проснулись. Генерал Труппер встал, потянулся, посмотрел на часы и весело ухмыльнулся: — Пора, джентльмены, мы уже здесь лишних пятнадцать минут. — Он посмотрел на Фортаса и Маккормака, вставших с пола, и расхохотался. — Прилегли, а? Ха-ха-ха-ха!.. — Он не мог остановиться. Смех заставлял его сгибаться, и на глазах появились слезы. — А может быть, полежим еще немножко, а? Так сладенько потянемся… А, джентльмены? Что вы посоветуете, дорогой доктор… Простите, забыл ваше имя… — Цукки, — с широкой улыбкой подсказал Фортас. — Цукки, ну конечно же, Цукки. Так что вы посоветуете, дорогой доктор Цукки? Знаете, такого симпатичного лица, как у вас, я не встречал никогда в жизни. Доктор, — генерал заговорщически понизил голос, — может быть, вам что-нибудь нужно? Ну, что-нибудь. А? Вы не стесняйтесь, такими друзьями, как я, не бросаются. У меня, знаете, много друзей. «Эндрю, не мог бы ты устроить мне одно небольшое дельце, так, ерунда: заказик на пятнадцать миллионов…», «Эндрю, замолви там словечко…», «Эндрю, моему сыну хотелось бы вернуться домой к рождеству…» И знаете, дорогой Цукки, все всем делаю. Всем, кто что-нибудь делает мне… Ха-ха-ха!.. Закон взаимного притяжения… Но вам, дорогой Цукки, я сделаю все. От души. Приказывайте, командуйте! Смешно, что старый Эндрю Труппер говорит вам такие слова, а? — Что вы, сэр, нисколько, — рассеянно сказал Цукки и посмотрел на часы. — Если вы не возражаете, выйдем на улицу, здесь что-то становится душно. — С удовольствием, — сказал генерал и попытался галантно открыть дверь. — Вы что, дорогой, нас заперли? — На всякий случай, — сказал Цукки и повернул ключ. — Пошли.«ВЫПУСТИ, СЫНОК, МОИХ ДРУЗЕЙ!»
Недалеко от лаборатории стояли Дэн, Фло и майор Уэбб. Цукки почувствовал, как впервые за последний час в нем шевельнулся тошнотворный испуг. Но было уже поздно, поздно было думать и поздно было бояться. Он уже выпустил из рук лестницу и летел к далекой асфальтовой земле. — Мисс Кучел, мистер Карсуэлл, — крикнул он, — идите сюда! — Боже, кого я вижу! — рассмеялся Фортас при виде Фло. — Как я рад вам! — Он увидел Дэна, и лицо его исказилось гримасой смущенного недоумения. — Я… вас обидел, кажется… — Какое это имеет значение? — удивился Дэн. Он знал, что должно было произойти через минуту, но сознание его блекло, отступало назад, смываемое теплыми волнами симпатии и любви ко всем этим людям. Конечно, полковник Далби только что ударил его, он помнил это, но ему даже не нужно было оправдывать этого человека. Все это просто ничего не значило, было пустой шелухой. Значение имел только поток восторженного спокойствия в нем самом. — Полковник, — вдруг сказал Цукки, обращаясь к Далби, — у меня к вам большая просьба. — Голос его был безжизненным и тусклым. — Ну конечно же, доктор, просите что угодно! — Я хотел бы покатать немного мистера Карсуэлла и мисс Кучел на вашей машине. — Господи, — просиял Далби, — какой может быть разговор? Элвис! — крикнул он водителю, сидевшему в джипе. Джип послушно развернулся и замер в нескольких шагах от Далби и Цукки. — Элвис, — широко улыбнулся Далби, — покатайте, пожалуйста, мистера Цукки и вот этих двух милейших людей… — Спасибо, полковник… — Нет, нет, дорогой мой, вы понимаете, какое мне доставляет удовольствие сделать вам что-нибудь приятное? Нет, вы не можете этого понять! — Далби, казалось, сочился добротой. Доброта излучалась воем его существом, сияла в кротчайшей, восторженной улыбке. — Спасибо, мистер Далби, но я бы хотел сам сесть за руль. — Прекрасно, прекрасно, великолепная идея! Элвис, не сердитесь, сынок, уступите место нашему чудеснейшему доктору Цукки. Водитель испуганно посмотрел на начальника базы и несколько нерешительно вылез из машины. Цукки позвал Фло и Дэна и включил мотор. — Садитесь с нами, полковник, — сказал Цукки и похлопал по переднему сиденью рядом с собой. — Спасибо, дорогой Цукки, — растроганно прошептал Далби и влез в машину. — Но как же наши гости? А впрочем, все это ерунда… Ерунда! — Он весело рассмеялся. — Удивительное у меня сегодня настроение: что-то я все смеюсь, и хорошо так на душе… и делаю я странные вещи… и знаю, что странные… и не знаю… И все это ерун… ерун… ерунда… Цукки рывком тронул машину. Далби качнулся и ухватился рукой за ветровое стекло. — До свиданья! — весело крикнул генерал Труппер. Он с энтузиазмом размахивал фуражкой. — Только побыстрее возвращайтесь. Ждем вас… — А знаете, — вдруг пробормотал полковник Далби, — я давно хотел вам признаться: я очень люблю решать кроссворды. Больше всего па свете. Стыдно, конечно, в моем положении, но честное слово, доктор, ничего не могу поделать с собой. Вот думаю все время: древний скандинавский воин из шести букв, первая «в». А в словарь ни-ни! Это нечестно. — Викинг, — сказал Цукки. — Викинг! Ну конечно же! Боже, какое счастье! Викинг! Как я люблю викингов, если бы вы знали, дорогой Цукки… Машина остановилась у закрытых металлических ворот. Часовой с автоматом плавился на солнце. Он увидел Далби и отдал честь. — Послушайте, мистер Далби, — вдруг сказал Цукки, — по-моему, вам все же лучше остаться. Бедный Труппер будет скучать без вас. — Вы так думаете? — упавшим голосом спросил Далби и тутже оживился: — Ну конечно, я должен немедленно вернуться. Только вы уж не обижайтесь на меня. Не будете? — Нет, — сказал Цукки. — Честное слово? Вы, ученые, скры-ытный народ. Все знаете, даже викингов. — Честное слово, — серьезно сказал доктор. — Только скажите часовому, чтобы нас выпустили. — Выпустили? А это… — На потном лице полковника мелькнул испуг, но тут же растаял, согнанный улыбкой. — Часовой, сынок, выпусти, пожалуйста, моих друзей. — Да, сэр, — сказал часовой и нажал на кнопку. Загудел мотор, и металлические створки ворот медленно раскрылись. — До свиданья! — крикнул Цукки и резко дал газ. Задние колеса выбросили из-под себя облачка песка, и машина рванулась с места. Далби, улыбаясь, шел по территории. Конечно, все это в высшей степени странно, думал он, но никак не мог закончить мысль. Мысли ни за что не хотели выстраиваться в теплом бассейне необъятного блаженного веселья. Навстречу ему бежал Уэбб. Лицо его лоснилось от пота. «Все-таки, что ни говори, в нем есть что-то приятное, симпатичное», — подумал Далби. — Сэр, — крикнул Уэбб и задохнулся, — вы, вы… выпустили машину с территории? — Он никак не мог заставить себя поверить своим собственным чувствам. — Да, дорогой мой Уэбб, мне стыдно, но я должен признаться вам в одной маленькой тайне. Дайте ваше ухо. Я, знаете, обожаю кроссворды. Догадаешься, что птица из четырех букв — это киви, и душа поет. В моем-то возрасте… — Полковник стыдливо рассмеялся. — Ну ничего не могу с собой поделать. Майор Уэбб в ужасе отшатнулся. Его загорелое лицо приобрело глинистый оттенок. Он с силой потер ладонью лоб. Мысли фейерверком кувыркались в голове. Он не в себе. Не он, полковник не в себе. Сошел с ума. Сошел с ума… Спокойно, спокойно, это и есть твой шанс. Бегом к генералу. Уэбб бежал, ручейки острого, щиплющего кожу пота текли у него по лицу, но ему казалось, что он не бежит, а важно, как полагается начальнику, уже почти начальнику, шествует по базе, по своей базе. Пора, пора самому командовать. Он это заслужил. — Сэр, — крикнул он, подбежав к Трупперу, — полковник Далби выпустил с территории машину с доктором Цукки и двумя объектами! — Вы думаете, они еще не скоро приедут? — Приедут? Это побег, сэр! — Господь с вами. Побег! Такие милейшие люди… — Генерал забулькал блаженным смехом. — Но ведь территорию базы не имеет права покидать ни один ученый и ни один объект. — Уэбб почувствовал, как земля плавно дрогнула у него под ногами. Перед глазами летали яркие мошки. Они казались яркими даже на фоне ослепительного солнца. Сердце колотилось о ребра, но он не чувствовал боли. — Имеют право, не имеют права, — заливался смехом генерал, — все это пустые, скучные вещи. Как вы можете говорить о пустяках, когда кругом такое блаженство? Смешной вы человек, майор! И усики у вас смешные. Милые и смешные. Нравятся, поди, дамам, а? Уэбб уже больше не мог бороться с колебавшейся под ним землей. Если он не сядет, он упадет. Чудовищно. Сесть перед стоящим генералом… Он закрыл глаза и опустился на землю. Он сошел с ума. Он сошел с ума. Он с силой сжал ногтями тыльную сторону ладони и почувствовал боль. И вдруг, подобно острейшему лучу лазера, его пронзила догадка. Она была чудовищна и казалась обреченной на немедленную смерть от логических ударов. Но она росла и крепла, расшвыривая слова «невозможно», которыми пытался преградить ей путь смятенный ум майора Уэбба. Они ведут себя так, как стимулируемые объекты. Значит, они находятся под воздействием стимуляторов. Где, когда? В лаборатории Цукки, подсказал участочек мозга, еще сохранивший способность мыслить. Майор Уэбб тонко вскрикнул, вскочил и помчался огромными прыжками к контрольной башне.* * *
Цукки никогда не был хорошим водителем. Он не умел управлять машиной спокойно и небрежно. Несмотря на то, что он был ученым, а может быть, именно поэтому, он всегда испытывал нечто вроде почтения к автомобилю. «Ты правишь так, — говорила ему Мэри Энн, — словно извиняешься перед машиной». Впрочем, ее раздражало все, что бы он ни делал. Наверное, она никогда не любила его. А может быть, она не нашла в нем того, что искала? Чего? Ясных ответов «альф» — вот чего. Теперь у него есть ответы, но уже слишком поздно. И правит он так, как всегда хотел править, но не мог. И тоже уже слишком поздно. Правая нога его всей своей тяжестью лежала на акселераторе, а руки крепко сжимали руль. Мотор негодующе ревел на полных оборотах. Главное — не сводить глаз с ленты шоссе. Тогда не так чувствуется скорость. «Жалко, что Мэри Энн не видит меня сейчас», — мелькнула у него забавная мальчишеская мысль. Уже поздно. Поздно. Осторожнее, впереди машина. Только не выехать колесами на обочину. При такой скорости это конец. Встречный грузовик испуганно шарахнулся в сторону и в плотном свисте тугого воздуха остался позади. Первый раз в жизни не он уступил дорогу, а ему. Первый и последний. Машина мчалась от лагеря со скоростью восьмидесяти миль в час. Дэн почувствовал, как выходит из него одеревеневший покой, словно высасывается скоростью, и место его занимает страх. Страх за Фло, которую он крепко обнял за плечи. Он чувствовал, как она дрожит, и понял, что и она выходит из-под действия стимулятора. Их уже отделяло от лагеря миль пять, не меньше. Они не разговаривали, да и трудно было услышать друг друга в яростном реве плотного раскаленного воздуха. Он еще крепче обнял ее за плечи, стараясь унять их дрожь. И чем крепче он сжимал ее, тем меньше становился и его страх. Он посмотрел на спину доктора Цукки. Идиотский светло-зеленый халат шевелился, как живой. Казалось, что под ним ползают змеи. Это от встречного тока воздуха, подумал Дэн и впервые за долгое время почувствовал острую и горькую любовь, не синтетическую любовь электронного робота, а терпкую, сложную любовь человека. Что станет с доктором Цукки, что станет с ними? Ветер сдувал вопросы, как мыльные пузыри, и они лопались с легким шорохом, чтобы тут же возникнуть вновь. Дэн, не выпуская руки Фло, нагнулся вперед и прокричал в ухо доктору: — Хотите, я сяду за руль? Мы потеряем всего несколько секунд. Цукки отрицательно качнул головой и напряженно улыбнулся. Он не хотел отдавать руль. Теперь было уже поздно уступать руль.ЦЕНА ОДНОГО ДЕЛЕНИЯ
Лестнице не было конца. Целых двадцать ступенек. Дверь. У двери сержант с автоматом на шее. Отвечать на приветствие нет времени. Открывать дверь за ручку тоже. Толкнуть ее ударом ладони. В комнате главного пульта тихо и прохладно. Мягко жужжит кондиционер. Ровно светятся зеленые огоньки индикаторов. Из-за стола вскакивает лейтенант Хьюлеп. Конечно, сегодня его дежурство. — Лейтенант, — кричит Уэбб, — немедленно выключите главный передатчик! «Идиот, — проносится у него в голове, — почему он так медленно шевелится!» — Не могу, сэр, — отвечает лейтенант. На лице его воловье упрямство, сквозь которое проглядывает самодовольная хитрость. Детские штучки эти проверки. Он хорошо знает инструкции. — Выключите передатчик! — шипит Уэбб. — Я вам приказываю! — Не могу, сэр, — спокойно говорит лейтенант. — Выключение главного передатчика производится только по личному приказу начальника базы полковника Далби, сэр. — Он не может сейчас отдать приказ, он болен. — Не знаю, сэр. — Лейтенант позволяет себе чуть-чуть улыбнуться глазами. Майор Уэбб, конечно, строевик, и нужно играть в игру всерьез, но чуть-чуть улыбнуться можно. — Послушайте, Хьюлеп, это экстраординарный случай. Не заставляйте меня принимать крайние меры. Я, майор Уэбб, заместитель начальника базы, приказываю вам выключить главный передатчик. — Нет, сэр, — отвечает лейтенант, и улыбка в уголках глаз становится более явственна. — Не имею права. Выключение главного передатчика базы производится только по личному приказу начальника базы полковника Далби. — «Черт возьми, — думает при этом лейтенант, — долго он еще будет приставать ко мне?» Майор чувствует, как в нем поднимается слепая ярость. Он делает два шага вперед и отталкивает лейтенанта. Лейтенант мягко отводит его руку и чуть сгибается в поясе. Напряженно смотрит на майора. Улыбка медленно уходит из его глаз. Майор смотрит на лейтенанта. Секунды уходят одна за другой. Там, за стеной, кривляются в эйфории полковник Далби, генерал Труппер, генерал Маккормак, Фортас и остальные заводные идиоты. Нет, не все. Двое сейчас мчатся на джипе вместе с Цукки. Майор тяжело дышит. Секунды идут. И здесь судьба подставляет ему ножку в виде розового молодого кретина. Бешенство туго взводит мышцы. До переключателя три фута. Один шаг. В голове Уэбба что-то щелкает, он бросается вперед, и в ту же секунду сильный удар кидает его на пол. Перед ним ноги. Армейские ботинки на толстой подошве. Майор протягивает руки и изо всех сил дергает за ноги. На спину ему обрушиваются двести фунтов молодых тяжелых мускулов. — Паршивый щенок! — хрипит майор. Он упирается руками в пол, напрягает спину. Нет, не так. Он коротко взмахивает локтем и резко отводит его назад. — У-у! — взвизгивает лейтенант, переворачивает майора на спину и бьет его кулаком в лицо. Мир взрывается яркой, с сияющими прожилками чернотой. Сквозь черноту виден лоб. На лбу лейтенанта ручейки пота. Надо только подтянуть колени, почему-то лениво думает майор и осторожно напрягает ноги. Так. Ну, давай. Он неожиданно бьет лейтенанта ногой в пах. Тот кричит. Уэбб вскакивает. Пот и что-то липкое заливает лицо. Он протягивает руку и, почти ничего не видя, нащупывает главный переключатель. Спиной он чувствует, что лейтенант встает на ноги. Раз, щелчок. Переключатель повернулся. Лейтенант, словно снаряд, бросается на него, но майор отклоняется в сторону, и он врезается головой в массивный металлический стол пульта. Медленно сползает на пол. Майор бросается к двери. «Молод еще, паршивец эдакий», — думает он и кубарем скатывается по лестнице. — Дежурный! — кричит он в темноту. — Да, сэр! — В голосе испуг. — Немедленно отправьте вертолет. Джип полковника нужно перехватить на шоссе во что бы то ни стало. Отвечать будете вы! Теперь быстрее. Яркий солнечный свет ослепляет его на мгновение, но он приходит в себя и бежит туда, где несколько минут назад плавились в электронных улыбках Труппер и его свита. Полковник Уэбб… Да, полковник Уэбб звучит неплохо. Лучше, чем сержант Далби. Нет, не сержант. Просто Далби с десятилетним тюремным приговором. Будут ли ему давать в камере кроссворды? А вон и они. Уэбб услышал глухой рев и не сразу мог понять, откуда он исходит. Ревел генерал Труппер. Он вцепился в генерала Маккормака, а тот молча старался освободить руки и страшно щерил зубы. Фортас, заметив Уэбба, втянул голову в плечи, набычился и ринулся вперед, хрипло дыша. Мир безумел на глазах. Словно в трансе, майор сделал шаг в сторону, и Фортас, промахнувшись, упал на землю, но тут же поднялся на четвереньки и с воем пополз к ногам майора. — Боже правый, боже, спаси и помилуй! — крикнул майор и пустился бежать. Им овладел страх. Липкий, цепенящий, гусеницей ползущий по сердцу страх. Сзади доносился рев генерала. Клубок мыслей в голове Уэбба вращался все быстрее и быстрее, пока наконец не лопнул, не разорвался на отдельные маленькие мысли, которые наполнили его череп ослепительным светом, трепетом и жужжанием. Он споткнулся и упал. Рев приближался. — Боже, — медленно и с недоумением ощупывая языком каждое слово, сказал Уэбб, — спаси птицу киви из четырех букв. Он повернул голову и увидел, как Труппер, Маккормак и Фортас медленно подбирались к нему. На их лицах, выпачканных кровью, медленно созревали синяки. Зубы были оскалены. Все трое плотоядно и злобно урчали. Майор снова попросил господа бога защитить птицу киви и спокойно закрыл глаза. Больше ничего его, майора Уэбба и полного генерала Уэбба, не интересовало. Разве что слово… Как называются эти, что пьют кровь? Вурдалаки, нетопыри, вампиры… Нет, еще какое-то есть слово… Бог с ним. Лучше просто закрыть глаза и отдохнуть, перед тем как принять парад. Он не видел, как нападавшие набросились на него, не почувствовал их ударов и укусов и не слышал многоголосый рев и треск, доносившийся с территории базы.* * *
Лейтенант Хьюлеп пришел в себя. Почему он на полу и так страшно болит голова? Он поднял руку, провел по волосам и почувствовал под пальцами липкую кашицу. Осматривать руку не было необходимости. Майор Уэбб… Он стал сначала на колени, отдохнул и наконец выпрямился. Привычные зеленые огоньки индикаторов светились, как обычно. Не совсем как обычно. Два сверху и три во втором ряду. А раньше… Как же раньше? Он попытался вспомнить, но тупая боль в голове не давала возможности сосредоточиться. Кажется, три сверху и один во втором ряду панели. Он медленно перевел взгляд на главный переключатель. Острие его вместо цифры «три» показывало на цифру «четыре». Цифра «четыре» — агрессивность. Кто же это переключил? Ах да, Уэбб. Нельзя, нельзя без личного приказа начальника базы полковника Далби. Надо вернуть ручку в прежнее положение. Он повернул ручку так, чтобы ее острие снова указывало на тройку — эйфорию. Генерал Труппер вдруг разжал руки, которые он сжимал на шее майора Уэбба. Ослеплявший его гнев куда-то исчез, будто кто-то выдернул его из него за ниточку. Ему стало смешно. Он, Эндрю Труппер, сидит на земле и держит за шею какого-то майора. Майор лежит с закрытыми глазами и молчит. Субординация. Рядом стоят на четвереньках Маккормак и Фортас и смеются. На лицах у них кровь, но улыбки светятся весельем. Жаль, конечно, этого майора, симпатичный человек. А какая дисциплина — лежит и не двигается! А? Прекрасный солдат, замечательный солдат. — А вы знаете, генерал, — подавился смехом Фортас, — он, кажется, и не дышит. Маккормак нагнулся, прижал ухо к груди Уэбба и впервые за день сказал, улыбаясь: — Совсем мертв. — Чудак! — огорчился генерал Труппер. — Для чего же он так? Ему было жаль этого приятного, милого человека, которого они почему-то убили, но жалость лишь промелькнула в его сознании, обесплотилась и исчезла. Он посмотрел на огромный синяк на лбу Фортаса, прямо над правой кустистой бровью, и ему сразу сделалось смешно и весело. — Ну и синячище у вас, Фортас! — хохотнул он, вставая. — А у вас на лице кровь, — покатился со смеху ученый. Он хлопал себя по животу, слезы стояли в глазах, но он никак не мог унять веселье. Вслед за ним гулко расхохотался и Маккормак…ТЕНЬ НА ДОРОГЕ
Сначала Дэн увидел тень. Она скользила чуть справа от дороги, догоняя их. Потом сквозь плотный свист ветра пробился и звук тени. Должно быть, заметил вертолет и Цукки, потому что джип прибавил скорость. Но тень не отставала. Наоборот, она обогнала их и плыла теперь на шоссе прямо перед ними. Дэн посмотрел вверх. Брюхо вертолета с рядами аккуратных заклепок было в каких-нибудь пятидесяти футах от них. Боже, подумал он, еще бы какие-нибудь пять минут. До главного шоссе не больше нескольких миль. Вертолет теперь летел перед ними. Казалось, что лопасти его вращаются совсем медленно. Внезапно послышалось слабое тарахтение, и над их головами просвистела пулеметная очередь. Джип начал тормозить. — Что вы делаете? — крикнул Дэн, нагибаясь к Цукки. — Вылезайте из машины, быстрее! — яростно крикнул доктор. Джип остановился. — Доктор… — Быстрее! Дэн и Фло выскочили на асфальт дороги. «Сикорский», вздымая винтом тучи пыли и песка с обочины, медленно опускался прямо на шоссе впереди машины. «Чтобы заблокировать дорогу», — тоскливо подумал Дэн. Вот металлические полозья вертолета коснулись дороги, длинные лопасти чуть опустили концы, замедляя свой бег, и в то же мгновение джип, взвыв мотором, прыгнул вперед. Время остановилось, и Дэн с чудовищной отчетливостью замедленной киносъемки увидел, как маленькая машина, стремительно набрав скорость, ударилась о бок вертолета в тот самый момент, когда открылась его дверца и двое людей в комбинезонах, с автоматами в руках ступили на землю. Они не успели даже отскочить в сторону. Кто-то невидимый вырвал Цукки с сиденья и бросил вперед вместе с треском и скрежетом металла. Устало клонившиеся лопасти винта неохотно ударили доктора на лету, и Дэн закрыл глаза, конвульсивно сжав руку Фло. Цукки лежал на обочине дороги нелепым светло-зеленым комком. В нескольких метрах лежали его очки. Одно стекло было цело, другого не было. Можно было не нагибаться к нему, живое тело не могло быть свернуто в такой узелок. — Пойдем, Фло, — сказал Дэн и потянул ее, как ребенка, за руку. Она ничего не ответила и покорно пошла за ним. Глаза ее были широко раскрыты и сухи. Пыль над шоссе еще не осела. Они шли, не оглядываясь, молча. На асфальт выскочила крохотная ящерица, посмотрела на них, вильнула хвостом и исчезла. Боль была сухой и горячей, как песок. — Фло, — сказал Дэн. Он ничего не хотел сказать, просто произнес ее имя. Она не ответила, лишь слабо сжала свою ладонь в его руке. У главного шоссе они остановились. Через несколько минут возле них притормозил старенький «шевроле», и водитель — полная старушка с детски розовыми щечками и розовом шляпкой на голове — улыбнувшись, сказала: — Ну и народ пошел, даже руки не подымут. Сама догадывайся. Садитесь, детки. — Спасибо, — сказал Дэн, открыл заднюю дверцу и подтолкнул Фло. — У вас тоже розовая шляпка… — Что значит — тоже? — обиделась старушка. — Нет, ничего. — Далеко вам? — спросила старушка, трогая машину с места. Она явно обрадовалась попутчикам. — Не очень, — сказал Дэн. — Жаль, я ведь до самого Феникса еду. К внуку. К дочери, конечно, тоже, но главное — к внуку. Парнишка — вы представить себе не можете — пять лет, а озорует на все десять. Дэн закрыл глаза: лопасти вертолета снова и снова медленно ударяли доктора и швыряли его по земле нелепым страшным комком. Дэн вздрогнул. Горячая ладонь Фло безжизненно лежала в его руке. — Что это вы притихли, молодые люди? — неторопливо говорила старушка. — Поссорились небось? То-то же. Я, когда со своим стариком ссорилась, места себе не находила. Ходишь, ходишь вокруг, словно неприкаянная. И подошла бы — гора с плеч долой. И гордость держит. Ах, думаю, такой ты, сякой. Чтоб я к тебе первой подошла… Потом, бывало, посмотрим друг на друга и рассмеемся. Так вот… Старушка, держа руль левой рукой, протянула правую, чтобы включить приемник, и Дэн вздрогнул. У него мелькнула безумная мысль, что сейчас снова их спеленает страшное, противоестественное веселье эйфориков. Динамик откашлялся, и из него тихо пролилась музыка. Печально пел кларнет. Фло била дрожь. Казалось, что в ней начал работать вибратор, заставляя ее тело все сильнее и сильнее содрогаться. — …А вообще-то мы редко ссорились, не то что нынешний народ, — бубнила старушка, и видно было, что она уже не особенно рассчитывает на разговорчивость попутчиков. — Я не могу, не могу, — прошептала Фло. — Не надо, — мягко сказал Дэн и почувствовал бесконечно печальную нежность к этому существу, сидевшему рядом с ним в чужом, потрепанном автомобиле. — Я все время думаю об этой штуке у меня в голове, — сказала Фло, — я не смогу жить с нею. — Так или иначе, у нас у всех в головах приемники, от этого не уйдешь, — прошептал Дон, — важно только, чтобы самому можно было выбирать программу. И при желании выключить…Георгий Кубанский ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Олег очнулся не сразу. Сперва он увидел плавающую в матовом мареве лампочку. Марево таяло. Из него проступали нависшая над головой верхняя койка, иллюминатор, под ним столик, покрытый серым пластикатом. В углу — черное распятие. На противоположной стене — вырезанные из журналов цветные фотографии. С одной из них девушка в купальном костюме, улыбаясь, подмигнула ему из-под кружевного зонтика да так и замерла с плутовато прищуренным глазом. Внимание Олега задержалось на календаре. Почему на нем десятка? Сегодня же воскресенье, девятое ноября. Не сразу дошло до все еще мутного сознания: каюта незнакомая, чужая. Где он? Как попал сюда? Олег приподнялся. Закружилась голова. Пришлось снова лечь. Стоило закрыть глаза, и сознание прояснилось. С необычайной четкостью ожили в памяти события последнего часа, минут, незабываемых страшных секунд. … «Воскресенск» шел по Зундскому проливу малым ходом. Сквозь клубившийся мокрый снег справа просвечивал мутным белым пятном маяк. Олег стоял, опираясь обеими руками на планшир. С утра он чувствовал себя неважно: познабливало, болела голова. Пришлось выйти на палубу, освежиться. На ветру головная боль затихла. Олег стряхнул налипший на стеганку снег и вернулся в салон. — Где ты бродишь? — окликнул его старшина вахты. — Поднимись к капитану. Олег был доволен, что старшина избавил его от тягостного безделья. Быстро взбежал он в ходовую рубку, с обычной молодцеватостью вытянулся перед капитаном. — Смени впередсмотрящего, — приказал капитан. — Да не засни там, — добавил стоящий в стороне старший помощник Нестерюк. — В проливе суда, что кильки, толкутся во все стороны. Сказал бы тогда Олег, что неважно чувствует себя, капитан вызвал бы другого, и не произошло того, о чем страшно теперь вспоминать. Но не в характере Олега было уклоняться от работы, да еще такой! На промысле в любую погоду — в волну и мороз, под дождем и снежными зарядами — стоял он у качающегося длинного стола, ни на минуту не прекращая разделки улова. К тому же не в меру осторожный Нестерюк, сам того не замечая, задел самолюбие молодого матроса. И не впервые. Еще год назад вахтенный штурман поставил Олега на перегоне к рулю. Вошел в рубку Нестерюк и сделал замечание, что не положено ставить рулевым матроса второго класса. В ответ штурман значительно напомнил, что по уставу можно ставить матроса второго класса к рулю с разрешения капитана. Старший помощник пожал плечами и ушел недовольный. А дурной осадок остался у Олега надолго. Уже давно он, матрос первого класса, не раз стоял впередсмотрящим, а Нестерюк… «Не засни там»! Олег с достоинством развернул плечи и, отчеканив: «Есть сменить впередсмотрящего!», вышел из рубки. Быстро спустился он в каюту, натянул поверх стеганки проолифенный рокон и поднялся на полубак. Пробираясь в темноте между сложенными досками для трюмных чердаков, бочками и рыборазделочными столами, вышел на небольшую площадку у брашпиля, где сгорбился промерзший Антон Сваха. — Беги, беги, старик! — Олег надвинул шапку поглубже. — В каюте оттаешь. Нелегко вести наблюдение, когда судно окружено снежной мглой. Утомительно смотреть и смотреть в однообразно колышущуюся белую завесу, время от времени вытирая мокрое от растаявшего снега лицо. Разнообразил томительное дежурство ревевший за спиной через ровные промежутки гудок траулера да голоса с каких-то судов. В густом снегопаде они звучали обманчиво: чаще приглушенно, будто издалека. А то вдруг прорвется вместе с порывом ветра чужой гудок. Впередсмотрящий замрет, не отрывая взгляда от клубящейся мглы, а гудок уже отошел в сторону, заглох. Время тянулось медленно. На высоком, открытом ветру полубаке было холоднее, чем на палубе. Олег достал сигареты. Укрываясь от порывистого ветра, зашел за брашпиль. Вспыхнула спичка и погасла. Скорчившись в заветерке, Олег прикурил и зажмурился, настолько ярок показался в темноте огонек спички. А когда он выпрямился и открыл глаза, из клубящейся белесой мглы на полубак надвинулась темная масса. Это было невероятно, страшно так, что руки окостенели. Олег сломил короткое оцепенение. Уже понимая, что несчастье неотвратимо, вскинул к губам свисток. Тревожную трель оборвал удар. Железный грохот. Треск. Олега подбросило… Очнулся он в чужой каюте. Снова и снова возвращалась мысль все к тому же: как он попал сюда? Неужели его вытащили из невидной под колышущимся снегом воды? Невероятно! Возможно, сняли с гибнущего траулера?.. Гибнущего! Слово это обожгло сознание. «Воскресенск» потонул! По вине впередсмотрящего, который на минуту отвлекся от фарватера. Откуда вывернулось навстречу чужое судно? Как не заметили?.. Что теперь рассуждать — откуда и как? Удар-то был. Столкновение было. Лежит Олег в чужой каюте, на чужой койке… Растущая тревога пересилила слабость. Надо было сейчас же, немедленно выяснить, где он и что с «Воскресенском». Должен же кто-то объяснить, что произошло в проливе. Время шло. Никто не приходил. Не слышно за дверью ни голоса, ни шагов. Лишь мерный стук машины под палубой. Если б не он, можно было подумать, что судно безлюдное. Лежать больше Олег не мог. Он поднялся с постели. Преодолевая головокружение, постоял с закрытыми глазами. Осторожно, придерживаясь руками за стойку коек, за стену, подошел к двери. Нажал на ручку. Дверь не поддалась. Нажал сильнее и почувствовал, как лоб его покрылся потом. Он был заперт! Заперт, хотя в рейсе запирать двери кают запрещено. Заперт или арестован? Да. Арестован впередсмотрящий, по вине которого произошло столкновение, возможно даже, погиб траулер. Вот как оказался он в чужой каюте, под замком… Ноги ослабели. Койки, иллюминатор со столиком, улыбающаяся купальщица пошли кругом. К горлу подступила тошнота. С трудом добрался Олег до постели. Его трясло. Не помогло и натянутое до подбородка одеяло. Снова и снова в замкнутом кругу скользили одни и те же мысли: Нестерюк, «не засни там», яркое до боли в глазах пламя спички, удар и снова Нестерюк, «не засни там»… В скважине лязгнул ключ. Дверь открылась. Вошел матрос. Сухощавый и гибкий, он показался сперва молодым. Позднее Олег увидел его волосы — курчавые, черные, с густой проседью — и лицо в глубоких резких морщинах, с запавшими щеками и тонким носом с горбинкою. «Не наш, — отметил про себя Олег. — Не русский». Матрос поставил на столик небольшой поднос и внимательно всмотрелся в Олега — неподвижного, с неплотно смеженными веками. Насвистывая какую-то песенку, матрос стянул с себя голландку. В привычной морской тельняшке он стал ближе, доступнее. Олег открыл глаза. — Где я? — спросил он. — Как сюда попал? — Прежде кушать надо, мой мальчик, — ответил матрос по-русски и назидательно поднял палец. — Кушай, потом я все расскажу. Короткий спор ни к чему не привел. Олег был настойчив, матрос непоколебим. Не отвечая па вопросы Олега, он твердо стоял на своем: больному надо кушать. Проще было поесть, чем тянуть время, продолжая бесполезный спор. Маленькие обжаренные и круто наперченные колбаски с рисом оказались очень вкусными. Пока Олег ел, матрос смотрел на него с благодушной улыбкой, время от времени приговаривая: «Кушать надо больше. Больше кушать». Попутно он рассказал, что зовут его Баттисто Риччи. Около пяти лет он пробыл в плену, за Уралом. В лагере Баттисто почти три года проработал на русской кухне, где готовили для охраны, потом больше двух лет был переводчиком. Сейчас он, конечно, подзабыл русский язык, хотя совсем еще недавно ему довелось плавать на «Чезаре» с русским парнем. Слушая его, Олег покончил с колбасками, кофе. Баттисто взял у него кружку и, не дожидаясь напоминаний, сказал: — Теперь я все тебе расскажу. Говорил Баттисто по-русски совсем не плохо, но с сильным акцентом. Иногда ему не хватало нужного слова, и он щелкал пальцами над головой, будто ловил его в воздухе. Прежде всего он ответил на вопрос Олега, куда он попал. Находились они на португальском пароходе «Святой Себастьян». Посудина старая, тихоходная. Трампшип! Бродит по морю, ищет груз, не спеша доставляет его. Но в море и такие нужны. Вчера в восемнадцать сорок «Святой Себастьян» столкнулся в проливе с траулером. Столкновение оказалось на редкость неудачным. Когда «Святой Себастьян» отвалил от траулера, у того сразу образовался сильный дифферент на нос. Вода заплескивала в шпигаты, на палубу… На помощь «Воскресенску» подошел следовавший за ним танкер. Разглядывать, что там происходило, особенно не пришлось. У «Святого Себастьяна» разошлась обшивка носовой части и появилась течь. Матросы заводили на нее пластырь. Олег молчал. Разум его все еще не мог охватить размеры обрушившегося несчастья. «Воскресенск» возвращался с промысла с полным грузом. В волну вода захлестывала через фальшборт, гуляла по палубе. Дифферент для тяжело нагруженного судна — гибель. — А как я попал сюда? — опомнился наконец Олег. Баттисто рассказал не спеша, осторожно, явно щадя больного. Иногда он останавливался, припоминая подробности или стараясь смягчить свой рассказ. Олега нашли на баке «Святого Себастьяна» после отбоя водяной тревоги. Видимо, перебросило его сюда силой удара. Он лежал без сознания. Старший помощник (он умеет немного лечить) нашел у русского парня сотрясение мозга. Больному нужен был полный покой, неподвижность, а он бредил, рвался из рук. Пришлось сделать ему укол. Старпом перестарался, и Олег проспал очень долго. Зато сейчас самое опасное миновало. — Тебе надо лежать, — закончил свой рассказ Баттисто и для большей убедительности показал пальцем на койку. — И кушать. — Палец постучал по столику с подносом. — Много кушать. — «Лежать, лежать»! — вырвалось у Олега. — А что с «Воскресенском»? — Не надо бояться, — раздумчиво произнес Баттисто. — Я понимаю… Когда тебя принесли в каюту, ты кричал: «Я смотрел хорошо! Только нагнулся прикурить». — Он пожевал губами и, успокаивая больного, закончил: — Ничего. Капитан больше виноват, чем ты. Пускай его судят. «Пускай его судят»! Успокоил! Да разве дело лишь в том, кого будут судить? На траулере были люди, товарищи. Все ли они живы, целы? На это Баттисто не мог ответить. Сам он не видел траулера, слишком был занят. Некоторое время они молчали. Первым заговорил Олег: — Баттисто! — Да, мой мальчик. — Передай капитану: я прошу его связаться по радио с каким-либо советским судном. Пускай меня снимут со «Святого Себастьяна». — Я передам, — сказал Баттисто. — Но не думай, что так просто найти в море советское судно. Надо еще, чтоб оно было у нас на пути. Капитан не может сворачивать с курса. Итак, мы идем с пластырем, самым тихим ходом. — Я понимаю, — кивнул Олег. — Все понимаю. Все же пускай радист свяжется с нашими.ГЛАВА ВТОРАЯ
Баттисто уделял больному много внимания, даже в рабочее время забегал проведать его. И все же в долгие часы одиночества думы Олега были однообразны, тягостны и сводились к одному: что делать? Надо действовать. Решительно. А куда может приложить свою решимость больной, прикованный к чужой койке? Даже когда ему станет лучше, все будет не просто. Ведь он не дома и даже не на «Воскресенске», где можно в чем-то ошибиться, зная, что его поправят, в худшем случае даже накажут. А вот случилось же, что и ошибся-то он чуть-чуть, закурил не вовремя, а получилось такое… разумом не охватишь. Нет. Ошибаться в его положении нельзя. Надо действовать только наверняка. А для этого хорошо бы знать, с кем его свела судьба. Олег подолгу вслушивался в доносившиеся с палубы голоса, силясь понять, что там за люди. И он обрадовался, когда в каюту вошел незнакомый матрос. Коренастый, с широкими плотными плечами и всклокоченной шевелюрой над полным подвижным лицом, он подошел к койке и ткнул пальцем в свою грудь. — Педро! — Олег! — Больной показал обеими руками па себя. — Ольег, Ольег! — подхватил Педро. По широкому лицу его разбежались частые добрые морщинки. — Ольег карош. Вся их беседа состояла из жестов и нескольких слов. Нехитрая беседа! Педро к месту и не к месту ввертывал «карош», «давай-давай» и «шайбу». Это было все, что он знал по-русски. И все же собеседники остались довольны друг другом: поговорили. Разбудил Олега шум за иллюминатором. Знакомый шум. Настороженный слух выделил из него шипение стравливаемого пара, потом лязг крана, далекий гудок. Порт! Олег откинул одеяло. Поискал глазами ботинки. Очень не вовремя заглянул в каюту Баттисто. От него Олег узнал, что «Святой Себастьян» зашел в небольшой западногерманский порт Эмден. Через час закончится маленькая погрузка, и пароход выйдет в море. Следующий порт будет повеселее. Баттисто весело подмигнул. Бордо! Франция! Едва Баттисто прикрыл за собой дверь, как Олег поднялся. Борясь с легким головокружением, снял с вешалки пиджак, шапку, проверил документы. Все на месте. Тяжело дыша от волнения, взял он брюки и до боли прикусил губу. Правая штанина была разорвана снизу и почти до кармана. Сойти в таких брюках в чужом порту нечего и думать — сразу обратят внимание на оборванца. Задержат. Влипнешь похуже, чем на «Святом Себастьяне». Визы-то заграничной у рыбака нет, да и вряд ли встретишь в небольшом западногерманском порту советское судно. А если голова закружится посильнее да свалится он на причале? Припомнилось Олегу прочитанное в газете, как весной, после выхода из Кильского канала, на «Ростове Великом» были найдены антисоветские листовки. В клубе рыбаков рассказывали, как в Гамбурге какой-то подонок зазывал наших моряков перейти в «свободный мир», соблазнял привольной и богатой жизнью, потом даже на своей машине въехал на причал: смотрите, как я живу, и вы так же заживете. В Эмдене увязнешь такой — оборванный, больной, без гроша в кармане — и не выберешься. Ошибаться в его положении нельзя. Олег осмотрел брюки. Как их надеть? Борясь с усилившимся от волнения головокружением, он повесил брюки на место и вернулся на койку. Назавтра Олегу стало лучше. Заходил старший помощник. С помощью Баттисто расспросил больного и строго наказал: лежать, меньше двигаться. Вечером Олег попросил у Баттисто иголку, нитки и принялся зашивать брюки. После починки одна штанина оказалась на палец уже второй. Не брюки — смех! Но все же теперь было в чем выйти из каюты. Иначе и в Бордо не выберешься с парохода. Не зная, как убить время, Олег достал из кармана пиджака блокнот и записал запомнившиеся португальские слова. Набралось их немного, всего двенадцать. Хорошо бы теперь проверить, правильно ли он записал их. Олег с трудом дождался Баттисто. Заглядывая в блокнот, он составил первую фразу. Получилась она неуклюжая: «Я смотреть ты». Баттисто улыбнулся и что-то ответил по-португальски. Олег осмелел: составил вторую фразу. Скроить из немногих слов еще фразу ему не удалось. Глядя на его усилия, Баттисто посмеялся от души, но затем не только поправил произношение Олега, но и продиктовал ему около тридцати новых слов. Одиночество теперь стало легче. Оставаясь один, Олег заучивал незнакомые слова, составляя из них фразы… Хоть и неказисто выглядели брюки после починки, а все же они выручили. Утром Олег впервые вышел на палубу, посидел на люке, подставляя лицо солнцу и любуясь морем. Бескрайнее, меняющее с расстоянием окраску — от золотисто-зеленой под бортом до синевато-стальной у горизонта, — оно не походило на привычные воды Балтики и Северной Атлантики. Трудно пришлось Олегу с матросами, желавшими побеседовать с русским парнем. Искать нужные слова в блокноте и составлять из них фразы оказалось очень сложно. Куда проще было объясняться жестами. И совсем просто стало, когда Олег начал показывать фокусы: вдруг достал из уха Педро монету, с размаху вбил ее в голову соседа и тут же выхватил из-под подбородка. Зрители шумно одобряли манипуляции фокусника. Из нестройного гомона выделялся восторженный голос Педро: — Шайбу! Давай-давай! За недолгое знакомство с Олегом познания его в русском языке несколько обогатились. Особенно полюбилось ему слово «бродяга», которое он произносил с раскатистым «р-р» — «бр-родяга», вкладывая в него самый разнообразный смысл. К вечеру Олег успел познакомиться с грубоватым кочегаром Фернандо, долговязым рулевым Мигуэлем и машинистом Марио. Последнее знакомство Олег завязал с боцманом Родриго. Окончилось оно неожиданно: боцман усадил его чинить брезенты. Олег схватился за работу с жадностью. Она несколько отвлекала от мучительного ожидания: скоро ли Бордо? Расположился он с брезентом на юте, в тени спасательной шлюпки. Иногда к нему подходили новые приятели — Педро, Фернандо, Мигуэль, дружелюбно похлопывали по плечу, приговаривая: «Карош, карош!» Слово это быстро привилось на пароходе. Желая сделать приятное этим улыбчивым парням, Олег отвечал им по-португальски. Два — три десятка наспех заученных слов мало помогали ему. Да и в произношении Олега были серьезные изъяны. Слушая его, матросы бесцеремонно хохотали. Смеялся с ними и сам Олег. Пользуясь своим блокнотом-словариком, он составлял новую фразу. Снова хохот. И так, пока кто-либо не догадается поправить Олега. Тогда и остальные принимались, перебивая друг друга, помогать русскому парню. Трудно понять португальца. Вместо того чтобы сказать несколько слов, он произносит длинную речь. Попутно он обратится за одобрением к слушателям. Кто-то из них так же пространно и многословно поддержит его. А там разговор пойдет вкруговую. А Олег сидит посредине и смотрит на спорящих, не понимая, с чего они так расходились. Чаще других навещал Олега толстощекий Педро. Он не только помогал ему, но и сам интересовался русскими словами. Делалось это очень просто. Поднимет Педро руку и спросит: — Это? — Рука, — подскажет Олег. — Рука, рука, рука, — повторит Педро и ткнет пальцем в ногу: — Это? — Нога, — ответит Олег. Педро уйдет, громко повторяя: — Рука-нога, рука-нога… Спустя какое-то время забежит он в каюту, скажет «Рука-нога. Давай-давай!» и, довольный, отправится по своим делам. Всего лишь раз Олег увидел капитана, по милости которого он не только оказался на «Святом Себастьяне», но и плыл на каком-то странном положении: не матрос и не пассажир. Капитан — высокий, худой, с изжелта-бледным лицом и припухшими дряблыми веками — Олегу не понравился. Во всей его внешности было нечто заносчивое, особенно в чуть опущенных углах тонкого рта, придававшего лицу брезгливое выражение. Даже имя у капитана было длинное, как фигура и лицо: Эмильо Алонсо Эскапо да Альва. Не раз порывался Олег поговорить с капитаном начистоту, попросить передать его на встречное советское судно до прихода в порт. Неужели ничего подходящего нет на ближних морских трассах? По стоило увидеть длинное, с нездоровой желтизной лицо, брезгливо поджатые губы, и желание поговорить с ним исчезало. Лучше дождаться прихода в Бордо, а там без лишних разговоров унести ноги с чужого парохода. Все же Олег не выдержал и напомнил Баттисто о своей просьбе. — Море, мой мальчик, не улица, — ответил Баттисто. — Не так легко найти в нем нужное судно и чтоб оно находилось на нужном курсе. — Хоть какое-либо советское судно отвечало нам? — не унимался Олег. — Зачем тебе какое-нибудь? — удивился Баттисто. — Надо найти такое, чтобы оно сняло тебя со «Святого Себастьяна». А его нет!ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Олег поправлялся быстро. Не раз он мысленно сходил в Бордо на берег и шел в город. Что будет с ним дальше, он представлял себе весьма смутно. Нелегко в чужой стране, не зная языка, найти нужных людей. Без гроша в кармане. И продать-то нечего. Разве часы с руки. Купят ли их у оборванца? Возможно, Баттисто соблазнится или Педро? Все же «Вымпел»! Часики плоские, модные… Стоит ли думать об этом? Решение принято: домой, к своим, что бы там ни ждало виновника аварии. Мысли о возвращении поднимали в памяти давние споры с отцом, не хотевшим, чтобы сын уходил в море. Споры шли долгие, упорные. Вмешивалась в них и мать. Зачем Алику ехать куда-то? Чем плохо в Пскове? Город, конечно, небольшой, но красивый. Со всей страны, даже с Украины, с далекого Кавказа, приезжают сюда полюбоваться древним кремлем, Мирожским монастырем, поклониться пушкинским местам… Но тут и отец сердито отмахивался от нее. Разве обязан парень сидеть возле родителей? Пускай поищет свое место: едет в Ригу, в Ленинград, даже на Ангару. Но море!.. Отец сам рыбачил на Чудском озере. В памяти его сохранились лишь теневые стороны промысловой жизни. А застарелый ревматизм постоянно и злобно напоминал о них. Олег развязал затянувшиеся споры просто: как только ему исполнилось восемнадцать лет, он уехал из Пскова в Калининград и поступил на комсомольско-молодежный траулер «Воскресенск». За полтора года Олег стал опытным рыбаком. Признали его новую профессию и дома. И теперь все рухнуло. Он барахтался под обломками, силясь выбраться из-под них. Особенно почувствовал он это после встречи с итальянским танкером, направлявшимся из Палермо в Дублин. Капитан «Святого Себастьяна» сел в катер и отправился с целой свитой на танкер. Попал в нее и Баттисто. А вечером он принес в каюту итальянскую газету. Прежде всего Баттисто запер дверь на ключ. Предосторожность его стала понятна, когда он развернул газету. Это была коммунистическая «Унита». Баттисто прочитал заметку о столкновении «Воскресенска» и «Святого Себастьяна». Перегруженный траулер получил тяжелое повреждение и затонул. Четыре рыбака, спавшие в носовых каютах, погибли. В эти минуты Олег — ссутулившийся, с серым лицом — походил на тяжелобольного. Едва ли он и сам понимал сейчас, что где-то в глубине сознания все еще теплилась надежда, что «Воскресенск» цел и отвечать придется только за халатное несение службы. А тут явное преступление. Тяжкое! Люди погибли. Кто жил в носовых каютах? Леха Моргунов, хмурый консервщик Паялин, отец троих мальчишек, Антон Сваха… Побежал в каюту. Согреться хотел! Олег взял газету. Всмотрелся в незнакомый текст. Прочитать удалось всего два слова: «Воскресенск» и «Сан-Себастьяно». Но и этого было достаточно. Робкие сомнения развеялись. В каюте стало душно, сумрачно. — Капитан жив? — спросил Олег, с трудом шевеля жесткими губами. — Шивой! — беспечно ответил Баттисто, поджигая газету. — Плохо ему будет, но все-таки живой остался. Олег не мог опомниться после обрушившегося на него удара. Он хотел представить себе будущее, искал в нем какие-то проблески светлого и не находил… Баттисто понимал его состояние. Он кончил жечь газету. Собирая со столика в кулек сморщенные ломкие листки пепла, он заговорил осторожно, старательно подбирая слово к слову. Когда в море случается несчастье и гибнут люди, принято кого-то карать. Нужно ли это? Самое страшное наказание никогда еще не оживляло и не оживит погибших, не утешит ихблизких. И все же матери, потерявшей сына, жене, ставшей вдовой, или осиротевшим детям любое возмездие кажется малым. Был как-то Баттисто на таком суде, слышал плач и проклятье в зале, видел, как женщины — молодые и старухи, — отталкивая полицейских, рвались к осужденным, готовые растерзать их. — Что же делать? — Впервые Олег произнес эти слова вслух. — Что делать? Баттисто ответил без размышлений: надо держаться подальше от тюрьмы. Зачем садиться за решетку? Земля велика! Пять континентов! Тысячи городов! Молодой, сильный парень всегда найдет себе в них место. Почему бы Олегу пока не остаться на «Святом Себастьяне»? Платят здесь хорошо. Плавают на пароходе не только португальцы, но и испанцы, итальянцы. Есть даже два араба. Будет и один русский. Куда он пойдет с судна, не имея в кармане ни гроша? А подкопит за несколько рейсов на пароходе, тогда можно будет спокойно подумать, как устроить свою жизнь. Деньги! Баттисто значительно поднял широкие плотные брови. Когда они есть, мы их не ценим, разбрасываем по кабакам, тратим на пустяки. А без денег?.. Слушая его, Олег растерялся. Все, что говорил Баттисто, вызывало в нем бурный протест. Отрезать себя на всю жизнь от земли, где он получил жизнь, от родных! Никогда не увидеть тех, с кем мальчишкой дружил и дрался, юношей танцевал в городском саду… Но все они уже, в любом случае, отделены от него непреодолимой преградой. Олег никогда не видел тюрьмы, но сейчас четко, почти зримо представлял себе ее… Взгляд Олега задержался на спокойном море. Зеленая вода теплого океана, повисшие над ним в бескрайнем море розоватые перышки облачков, горячее солнце… Сменять все это на тюремную камеру, где даже электрическая лампочка и та заключена в железную решетку. Стоило подумать об этом, и становилось зябко, появлялось желание оттянуть неизбежное наказание. Больше Олег не заводил разговора о будущем. Не говорил об этом и Баттисто.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Сменился Олег в двадцать часов. Черное небо усеяли звезды, такие крупные, тяжелые, что, казалось, дунь ветерок посильнее — и они посыплются в море. Устало облокотись на планшир, Олег смотрел на черную лоснящуюся воду, мерцающие в ней отражения звезд. — Ольег! Педро подошел к нему, осмотрелся — вблизи никого не было — и заговорил тихо и быстро, помогая себе жестами. Руки его хватали одна другую за запястья, скрещивались, потом он сгреб себя за воротник и сделал вид, что ведет куда-то силой. Закончил Педро всемирно известным жестом: изобразил пальцами обеих рук зарешеченное оконце. Олег вспомнил, что Педро несколько раз произнес слово, похожее на «полиция», и насторожился. Но ничего больше понять ему не удалось. Предупреждение Педро припомнилось скоро. «Святой Себастьян» подходил к порту. С берега спускались к морю стройные ряды белых домов. Разрывы между ними заполняла весело клубящаяся зелень. Над городом выделялись острые шпили соборов. В узких оконцах колоколен кострами полыхали лучи заходящего солнца. Олега не радовала красота берега, города. Сетубал! Португалия! Вот куда зашвырнуло его! Шли в Бордо, а прибыли в Сетубал. Все это очень усложняло положение Олега. В Бордо можно было встретить советское судно, друзей нашей страны, на худой конец, всеми правдами и неправдами, хоть пешком, добраться до Парижа и разыскать там посольство Советского Союза. В Сетубале не к кому обратиться, даже посоветоваться не с кем. А нужда в добром совете становилась все острее. «Святой Себастьян» протяжно прогудел и лег курсом на порт. Приближались стоящие у причалов суда, белая пассажирская пристань с голубым куполом. Олег стоял у фальшборта, когда его окликнул Баттисто. — Капитан зовет, — сказал он. Как ни ждал Олег развязки затянувшегося пребывания на «Святом Себастьяне», как ни хотел поговорить с капитаном начистоту, попросить передать его на встречное советское судно, но сейчас неприятный холодок стиснул грудь. Не здесь, у порога чужой страны, фашистской Португалии, хотелось ему потолковать с капитаном. Сетубал похуже Эмдена. Если в маленьком западногерманском порту почти безнадежно было искать советское судно, то в Сетубале об этом и думать нелепо. В каюту капитана, отделанную красным деревом и бронзой, Баттисто вошел первым. Сдернув в дверях вязаную шапочку, он почтительно выслушал капитана и перевел Олегу. Капитан чувствует себя невольным виновником того, что произошло с русским парнем, поэтому он хотел дать ему возможность поправиться, а затем высадить на берег. Но «Святой Себастьян» задержался в пути из-за аварии. Пришлось идти в порт назначения без захода в Бордо. А здесь, в Сетубале, при проверке экипажа Олега снимет с парохода портовая полиция («Не стоит иметь с ней дело», — предостерегающе добавил от себя Баттисто). — Разве капитан не знал, что пароход идет в Сетубал без захода в Бордо? — спросил Олег, желая выиграть время, подумать, как ему держаться. — Не знал, — ответил за капитана Баттисто. — Ты забыл, мой мальчик, что «Святой Себастьян» — трампшип: идет туда, где его ждет груз. В пути нас задержала авария. Груз из Бордо отправили другим пароходом. Пришлось нам идти прямо в Сетубал. Капитан нетерпеливо перебил его и что-то сказал. — Подпиши контракт на три месяца, — продолжал Баттисто, — тогда капитан сможет защитить тебя от портовой полиции. Но на берег не сходи. Там могут придраться к русскому… Мало ли что может случиться. Полиция есть полиция! На пароходе капитан — король. На берегу он ничего не может сделать. Решай быстро. Когда подойдем к причалу, будет поздно. Капитан раздраженно спросил что-то. Тонкие белые руки его перебирали на письменном столе какие-то бумажки. — Говори сразу, — поторопил Олега Баттисто, — да или нет. Капитан спешит. — Он показал в иллюминатор. — Видишь? Олег взглянул в иллюминатор. На причале, особняком от небольшой группы встречающих пароход, стояли трое в морской форме и два полицейских в серых мундирах со спускающимися из-под погон белыми аксельбантами. Что делать? Сказать «нет» — попасть в фашистскую полицию. Подписать контракт — вырваться из Португалии. Будет еще время, другие порты. Но и в другом порту не сойдешь с парохода в рваных титанах, канареечно-желтом роконе, нелепой здесь стеганке и меховой шапке. Олег вспомнил предупреждение Педро, его скрещенные в запястьях руки, пальцы, изобразившие тюремную решетку, и решился. Из капитанской каюты Олег вышел с мутной головой. Как ни убеждал он себя, что подписал контракт вынужденно, что иного выхода в его положении не было, все же дико звучало: Олег Рубцов — португальский матрос. Он спустился в пустой салон, оттуда в свою каюту. А в голове настойчиво повторялись четыре слова: Олег Рубцов — португальский матрос! Олег Рубцов — португальский матрос!..ГЛАВА ПЯТАЯ
Причал медленно надвигался на «Святого Себастьяна». Уже можно было разглядеть лица встречающих пароход женщин, их одежду. На палубе шла знакомая предстояночная суета. Матросы в выходных костюмах сбивались в компании, о чем-то оживленно сговаривались. Были и такие, что искали на причале знакомые лица. Стоящий рядом с Олегом здоровенный детина, судя по ногтям, окаймленным въевшейся угольной пылью, кочегар, сложив руки рупором, истошно завопил: — Мария-а! Ему ответила тоненькая девчушка с алым цветком в черных волосах. Кто она? Сестра кочегара, невеста или, может быть, подружка? Снова закричал кочегар. На причале почему-то засмеялись и стали аплодировать. А девушка вытащила из волос гвоздику и бросила кочегару. Тот рванулся навстречу всем телом, вытянул руки, но цветок упал между причалом и бортом парохода. Кочегар огорченно развел руками. Но тут вахтенные взялись за сходни, и он побежал вниз. Скоро на «Святом Себастьяне» не осталось никого, кроме вахтенных. Олег бесцельно слонялся по палубе, посматривая на близкий, но недоступный для него берег. Он не мог сойти даже на причал, послушать мандолину, постоять рядом с горластой смуглой девчонкой: около нее торчал здоровенный полицейский. Второй, заложив руки за спину, важно разгуливал по причалу. Над морем, портом нависла черная теплая ночь. Огни города, уходя вдаль, сливались в мерцающие наплывы. В них вплетались мигающие цветные рекламы. За ними угадывались веселые и шумные южные улицы, витрины магазинов и кафе, ярко освещенные фасады кинотеатров. Хоть посмотреть бы на все это! Стоять одному на палубе надоело. Олег спустился в каюту. От нечего делать прибрал ее, полюбовался красавицей под кружевным зонтиком и лег спать. Утром, сразу после завтрака, в каюту вошли двое: молодой рыхловатый толстяк с лоснящимся пробором и тусклый человечек с измятым лицом. — Корреспондент газеты «Полемико» сеньор Рибейра, — тусклый человечек показал на толстяка, — хочет побеседовать с вами. — Но я не желаю беседовать ни с ним, ни с вами, — резко бросил Олег и подумал: «Что это за птицы? Зачем я им понадобился?» — Я переводчик… — начал пожилой. — А мне все равно, — оборвал его Олег. — Я вас не знаю и знать не хочу. Посетители ему не понравились, и он решил отделаться от них любыми средствами, хотя бы грубостью. Но молодой уже сидел за столиком и быстро писал что-то в блокноте, иногда шевеля большими красными ушами. — Сеньор Рибейра просит вас рассказать, как вы попали на «Святого Себастьяна», — невозмутимо продолжал переводчик. — Я уже ответил на все ваши вопросы сразу. — Скуластое смуглое лицо Олега застыло в показном безразличии. — Понимаю. — Переводчик опустил вялые, слегка припухшие веки. — Вы опасаетесь, что беседа ваша, опубликованная в португальской газете, вызовет гонения советских властей на ваших престарелых родителей. Олег с трудом сдерживал желание выбросить назойливых посетителей за дверь. Кисти рук его набрякли, стали тяжелы. — Нравится ли вам служба на «Святом Себастьяне»? — Переводчик держался так, как будто не замечал колючего вида Олега, не слышал грубостей. Не отвечая ему, Олег подошел к иллюминатору и с деланным интересом уставился на пустые сходни и видящего на планшире одинокого вахтенного. — У вас не было неприятностей с портовой полицией? — В голосе переводчика прозвучала угроза. Олег оторвался от иллюминатора. Оказывается, здесь участь его зависит не только от капитана, портовых властей, но даже от назойливых писак. Таких не вытолкаешь из каюты. Возможно, они и хотят, чтобы он сорвался, учинил скандал. Не выйдет. — Что ж вы молчите? — спросил его переводчик. Олег отвернулся к иллюминатору и увидел у сходен полицейского. — Нет, — с усилием произнес Олег. — Не было. — Мы очень рады за вас. — Угрожающие ноты в голосе переводчика окрепли. — В таком случае, расскажите, кто был виноват в столкновении «Святого Себастьяна» с «Воскресенском»? Вот почему так быстро появились на пароходе господа журналисты! Они хотят, чтобы Олег, спасая свою шкуру, свалил вину за столкновение на капитана траулера. Не выйдет! Олег отвернулся от переводчика и всмотрелся в стоящего у сходен полицейского. Зачем он тут торчит? Чего ждет? — Мы ждем ответа. — Переводчик уставился на него водянистыми глазами. — Слышите? — Я слабо разбираюсь в навигационных правилах, — осторожно произнес Олег. — Но вы же матрос первого класса, — теснил его переводчик. — Матрос, но не штурман, — отбивался Олег. — Вы стояли впередсмотрящим и не могли не видеть, как произошло столкновение. — Не видел, — с неожиданной твердостью ответил Олег. — В момент столкновения я смотрел в другую сторону. — В таком случае, вина за столкновение ложится на вас, — подхватил переводчик. — Вы обязаны были… Закончить фразу он не успел. Олег обеими руками отодвинул его, как куклу, от двери и вышел из каюты. Почти пробежав по узкому проходу, он задержался в дверях. Где бы укрыться от опасных посетителей? Внимание его привлек открытый люк. Палуба была пуста. Вахтенный по-прежнему сидел на планшире лицом к причалу, болтая с полицейским. Олег быстро прошел к люку и спустился по отвесному, похожему на стремянку железному трапу в трюм. Осторожно, нащупывая выставленными вперед руками шершавые ящики, пробрался в темную глубину. Остановился он в тупике. Сердце колотилось часто и сильно. Не вышло, господа журналисты! Ничего не выжали из меня. Сидите сейчас, должно быть, у капитана и советуетесь, как вытянуть у русского парня нужные ответы, обвиняющие «Воскресенск» в катастрофе. Теперь-то понятно, почему ваш радист не связался с советским судном. Боитесь упустить опасного свидетеля… В задорные мысли врезались новые, тревожные. Как отнесется к поведению несговорчивого русского матроса капитан? Возможно, захочет избавиться от него? Только бы не в Сетубале, не в Португалии. Короткое знакомство с журналистами вызвало у Олега глубокое отвращение к городу, который совсем еще недавно привлекал его, манил. Если таковы в нем журналисты, так что же тут за полицейские? А есть еще и охранка! Сидя в трюме, Олег желал лишь одного: в море, скорее в море. В темноте и тишине время, казалось, замерло. Конечно, укрылся он очень наивно. Прикажет капитан — разыщут его. Да и не пересидишь в трюме до отхода. Все это было так, но выходить отсюда не хотелось. На палубе послышались шаги, голоса. Наверху, в ярком квадрате люка, появилась голова и исчезла. Гулко зарокотала лебедка. Готовят стрелу. Сейчас начнется погрузка. Оставаться в трюме больше было невозможно. Олег выбрался на палубу. По рельсам, проложенным по причалу, к «Святому Себастьяну» подогнали кран. С десяток автомашин ожидали разгрузки. Двое рабочих с переносной люстрой шли к открытому люку. Олег скитался по пароходу, не находил себе места. Ему казалось, что погрузка идет нестерпимо медленно, стрела еле движется. А впереди еще ремонт. На баке рабочие сваривали разорванный фальшборт. Искрилось пламя электросварки. А повреждение в подводной части? Не пойдет же «Святой Себастьян» в рейс с пластырем. Впервые у Олега появилось сомнение: а есть ли такой пластырь? Ночь Олег спал плохо: просыпался, несколько раз выходил на палубу. Облегчение пришло лишь после того, как «Святой Себастьян» отдал швартовы. Медленно отодвигался от борта причал, потом он плавно повернул и оказался за кормой. Опасность уходила вместе с берегом. Еще раз показался причал, провожающие. Выделялись среди них серые мундиры полицейских. Олег не выдержал и озорно помахал берегу рукой.ГЛАВА ШЕСТАЯ
Опасения Олега, что работать на «Святом Себастьяне», не зная португальского языка, будет трудно, не оправдались. Баттисто почти все время был рядом. Если русский не понимал приказания, на помощь приходил итальянец. Да и запас португальских слов у Олега увеличивался с каждым днем. Выручали и общепринятые во всех флотах мира названия частей судна, инвентаря. Изводила Олега усиливающаяся с каждым днем жара. Работать приходилось в трусах и ковбойке. К полудню палуба раскалялась, жгла босые ноги. Зной чувствовался даже в тени. Все желания сводились к одному: пить, пить, пить. Но в тропиках, сколько ни пей, все мало. Спасибо Баттисто: научил подливать в воду немного сухого вина. После такой смеси жажда на время отступала. Мирный и несколько дремотный тропический рейс нарушило событие, взбудоражившее всех, от матроса до капитана. Утром матросы увидели в гальюне наклеенный на стене лубочный плакат с изображением святого Себастьяна. Голову его украсила пририсованная чернилами солдатская каска. На груди стоящего в грозной позе обличителя святого висели также пририсованные ящики, из-за плеча выглядывал ствол винтовки. С поднятой руки свисали авиабомбы. И всюду — возле ящиков, авиабомб и винтовки — были надписи, которые понял даже Олег: «Для черных! Для черных!» На пароходе все были возмущены. Страсти накалялись. Наклеить изображение покровителя судна, святого Себастьяна, в гальюне! Такое святотатство не мог сделать благочестивый португалец. Вспыхнула перебранка между португальцами и столь же набожными испанцами и итальянцами. Бурно возмущаясь кощунством, каждый из них отводил от себя возможное подозрение. В конце концов общая злость обрушилась на двух арабов: худощавого мрачного Ахмета и юркого Омара. Как ни отбивались они от наседающих на них католиков, как ни уверяли, что не видели плаката и даже не разбираются в чуждых их вере святых, убеждение матросов, что святотатство совершено ими, росло, крепло, каждую минуту могло перейти в кулачную расправу. Спас арабов от избиения спустившийся из рубки штурман. Властный голос его заставил матросов разойтись с палубы. Омар и Ахмет были отправлены мыть палубу в штурманской рубке. Там они были в безопасности. Вот когда оказалось выгодным положение Олега, не знающего португальского языка и не сходившего в Сетубале на берег. Никто в этот бурный день не обращал на него внимания. Не заметили на пароходе и его подавленного состояния. Еще бы! Попался же он!.. «Святой Себастьян», оказывается, шел в Мозамбик с грузом оружия для карателей. В хорошей компании оказался Олег Рубцов, матрос комсомольско-молодежного траулера! Ночью Олега душили кошмары. Снилось ему, что он убежал со «Святого Себастьяна». Откуда-то появились африканцы. Они звали русского к себе. Олег припустил к ним, убегая неизвестно от кого, но увяз в болоте. Липкая жижа плотно охватила ноги, руки, плечи. Не шелохнуться. Головы не повернуть. Хотелось крикнуть, позвать на помощь куда-то исчезнувших африканцев… и не было голоса. А из болота поднимались змеиные головы, тянулись к беспомощному Олегу. Постепенно приближаясь, они превращались в знакомые лица. Очень знакомые! Но узнать их почему-то Олег не мог. Олег проснулся. Поднял сброшенное во сне одеяло. Но и наяву самочувствие его оставалось неважным. Действительно, увяз в болоте. И хуже всего, что погружается в него все больше и больше. Сперва мелкий проступок обернулся в тяжкое преступление, привел к гибели траулера и четырех товарищей. Затем он оказался на пароходе, плавающем под флагом фашистской страны. Зачем-то путали его в Сетубале журналисты. И, наконец, он, комсомолец Олег Рубцов, везет боеприпасы и оружие, которым будут уничтожать тех, кто борется за право не только называться людьми, но и жить по-человечески. И просвета никакого впереди нет. Куда зайдет трампшип до Мозамбика? Говорят, в какой-то порт Сан-Томе, на маленькой португальский остров. Опять португальский! А после Мозамбика? Пока «Святой Себастьян» попадет в порт, где можно будет сбежать с него, на черном счету Олега такое накопится!.. К Сан-Томе «Святой Себастьян» подошел ранним утром. Сперва из моря поднялся розовый купол горы, затем сизый от леса склон и наконец раскинувшийся у ее подошвы город, портовые сооружения, приветливо поднятые руки кранов. На этот раз Олег был осмотрительнее и заранее расспросил Баттисто о стоянке. Утешительного он услышал мало. Сан-Томе — порт на небольшом острове, где много чернокожих и мало белых. — Какие суда заходят в него? — переспросил Баттисто. — Советского флага здесь еще не видели. Скорее всего, ты первый из красной России смотришь на этот остров. Слабая надежда погасла. На побережье Африки есть немало портов, где можно было унести ноги со «Святого Себастьяна». В рейсе моряки толковали о Либерии, Гвинее, Нигерии. Но мог ли зайти в эти страны «Святой Себастьян» со своим грузом? Стоило африканцам проведать, чем набиты его трюмы, и не получит он там ни угля, ни воды. Иное дело Сан-Томе. Колония! Пароход развернулся на виду у города, утонувшего в зелени по самые крыши, прошел мимо набережной с любопытно склонившимися к морю кокосовыми пальмами и направился к выделяющемуся на зеленом берегу угольному причалу. Перед швартовкой боцман объявил команде: на берег никто не сойдет. В ответ послышались недовольные голоса. Боцман выждал, пока они затихнут, и объяснил: — Черные заварили какую-то кашу. Работать не хотят. Придется нам ворочаться поживее, чтобы не застрять тут. На причале «Святого Себастьяна» встретили запорошенные угольной пылью полицейские. Они казались Олегу столь же обязательной частью португальского пейзажа, как и зелень, вода. Стояли полицейские так, что ни уйти с парохода, ни пробраться к нему с берега было невозможно. Стоянка сразу потеряла для команды всякий интерес. Матросы, отчаянно чертыхаясь, работали быстро, сноровисто. Хотелось скорее отойти от острова, обманувшего их надежды, привлекательного и в то же время недоступного. Немного радости посматривать с палубы на набережную, где чинно прохаживаются полицейские…ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Тягучий тропический рейс закончился в яркий полдень. С палубы «Святого Себастьяна» открылся величественный вид. Кейптаун! Город-красавец, с выделяющимися на его стройных улицах высокими зданиями, манящий зеленью парков, особенно привлекательной на фоне горы с плоской, будто срезанной вершиной, покрытой бурой выгоревшей растительностью. Любуясь берегом, Олег впервые за долгий рейс готовился к решительным действиям. План его был прост. В огромном городе с шестисоттысячным населением не могло не быть русских. Надо найти кого-либо из них, поделиться своей бедой, попросить совета, помощи. — Не надо думать, мой мальчик! — окликнул его проходивший мимо Баттисто. — Пойдем деньги получать. У каюты второго штурмана было оживленно. Матросы выходили из нее, пересчитывали деньги. Что это было? Получка? Аванс? А не все ли равно? На «Святом Себастьяне» Олег был всего лишь временным жильцом. Возможно, уже сегодня он не вернется на пароход. — На берег сойдешь? — спросил Баттисто. — Обязательно! — подхватил Олег. — Надо посмотреть город. Пока матросы готовились сойти на берег, Олег уточнил свой план. В городе надо под каким-нибудь предлогом отбиться от остальных. По вывескам можно будет найти русских… Да! В чем он пойдет искать земляков? В потертой ковбойке и драных брюках? Такого оборванца и в дом-то не впустят. Вот когда Олег оценил правоту Баттисто! В бумажнике лежали деньги. Прежде всего надо приодеться. Куда бы ни занесло его, а в выгоревшей ковбойке не разгуляешься. На берег моряки сошли шумной гурьбой. За воротами порта они разбились. Более нетерпеливые свернули в первый же бар, остальные двинулись дальше. Они хотели помочь Олегу приодеться. А затем?.. В компании люди подобрались с опытом, знали, как отдыхают в хорошем порту. В магазине готового платья юркий маленький продавец вился вокруг Олега: помогал примерять, расправлял складки, советовал, восторгался товаром, фирмой. Куда бы ни повернулся Олег, всегда продавец оказывался перед его глазами. Казалось, что он одновременно находится со всех сторон. Олег не спешил. Отказался от одного костюма. Не подошел ему и второй, не понравился третий. Не выбрал он ничего и в следующем магазине. Спутники его были явно озадачены столь неожиданной разборчивостью. Лица их поскучнели. Хоть они и вызвались помочь ему выбрать костюм, но бродить из магазина в магазин в такую жару, с пересохшим горлом — мало приятного. Остановила их своеобразная вывеска. Над тротуаром висел вырезанный из жести забулдыга моряк с бутылкой в руке. Рядом с ним столбцом шли надписи «Ресторан „Моряк“» на английском, немецком, французском и каких-то непонятных Олегу языках. Не было на вывеске только русской надписи… Недолго думая Олег остановился у вывески и предложил зайти выпить пива. Компания оживилась. Матросы охотно свернули в широкую зеркальную дверь. В зале их встретил железный грохот джаза, хмельной говор. Моряки сдвинули два столика. Заказали пива. Фернандо нерешительно вспомнил о роме. Остальные поддержали его. Расчет Олега оказался правильным. Стоило морякам сесть за столик, и никакая сила не могла уже их поднять. И, когда Олег допил пиво и сказал, что сходит в соседний магазин один, все охотно согласились с ним, лишь взяли с него слово, что он придет вспрыснуть покупку. Олег вернулся в магазин, из которого только что вышел. Выбор был сделан заранее: светло-серые шорты, рубашка с короткими рукавами и шляпа с простроченными полями. Дополнили наряд высокие носки на резинке и легкие туфли. Пока он переодевался, ковбойка его и брюки были упакованы в фирменную бумагу, перевязаны ленточкой. Что ж! Старая одежонка пригодится для работы. А пакет придаст ему на улице солидности. Олег неторопливо шел по бойкой улице, читая вывески. Были на них английские фамилии, голландские, немецкие. Изредка встречались итальянские, французские. И ни одной русской. Появилось даже сомнение: возможно, он неправильно читает? Труден английский язык! Пишется одно, а читается… У конца улицы Олег увидел величественного полицейского. Справа у него как символ власти висел тяжелый пистолет и рядом покачивались вороненые наручники. Настоящие наручники! Нарядная, залитая солнцем улица словно потускнела. Но отступать было некуда. Олег, боясь взглядом выдать свои чувства, отвернулся от полицейского и пошел направо. Обливаясь потом, он читал вывески, таблички с фамилиями владельцев домов. Все чужое, чужое… Олег уже отчаялся найти соотечественников, когда внимание его задержалось на прибитой к парадному бронзовой дощечке с надписью:НИКОЛАЙ ПОПОВКем был этот Николай Попов, Олег не разобрал. Да это и не интересовало его. Важно было, что в Кейптауне нашелся русский. С трудом сдерживая радостную улыбку, он нажал кнопку звонка. Парадное открылось. На пороге стояла молоденькая черная служанка в переднике и накрахмаленной наколке. — Мне нужен Николай Попов, — сказал Олег. Служанка ответила что-то по-английски. — Попов мне нужен, — повторил озадаченный Олег и для большей убедительности добавил: — Мистер Попов. Служанка что-то сказала и закрыла парадное. «Постою две минуты, — решил Олег, вслушиваясь в быстро удаляющиеся за дверью шаги, — и снова позвоню. Раз тут живет Попов, должен же кто-то в доме знать русский язык. Буду звонить, пока не выйдет сам Попов. Костьми лягу, но увижу его». Секундная стрелка обегала второй круг, когда за дверью послышались грузные шаги. Парадное распахнулось. На пороге стояла полная женщина с большим обрюзгшим лицом. Она внимательно осмотрела посетителя и спросила: — Зачем вам Попов? С трудом сдерживая волнение, Олег извинился за беспокойство и коротко рассказал, кто он и почему рискнул обратиться к незнакомым людям. — Что вы, что вы! — Обрюзгшее лицо хозяйки оживилось, стало приветливым. — Мы так редко слышим русскую речь, что одно это уже для нас большая радость. Я не говорю уж о том, что каждый из нас обязан помочь земляку. Жаль, что Николай Платонович в отъезде. Вот бы порадовался он, наговорился бы досыта, вспомнил Россию! Слушая ее, Олег поднялся по ступенькам в просторный холл, обставленный легкой бамбуковой мебелью. Попова движением руки пригласила гостя сесть и что-то сказала молчаливо ожидавшей в дверях служанке. Та поклонилась и вышла из холла. — А теперь расскажите мне, кто вы, откуда и как попали в Кейптаун? — Попова устроилась поудобнее на низком диванчике и приготовилась слушать. Олег назвал себя и осторожно рассказал, как после столкновения в проливе он оказался на португальском пароходе. — Олег Рубцов! — Хозяйка прижала холеные белые пальцы к вискам. — Олег Рубцов!.. «Воскресенск»! «Святой Себастьян»! До чего знакомо!.. — Лицо ее помолодело от радости. — Боже, что с моей памятью! На днях я читала о вас. Да, да, читала. Очень хорошо написали. — Кто написал? — Олег выпрямился на стуле. — Какой-то португалец. Но читала я в нашей, русской газете «Голос». Дрянная газетенка. Но русская! — Попова вздохнула. — Приходится выписывать, чтобы не забыть родной язык. Меня вывезли из России ребенком. Конечно, в нашей семье и здесь говорили по-русски. Но как давно все это было! Давно! — Она качнула головой. — Теперь мы и дома говорим на африкаанс. — Хозяйка перехватила непонимающий взгляд гостя и пояснила: — Так называется местный язык — английский с примесью голландского. Право, я и сама теперь не знаю, русские мы или кто-то другие. — Нельзя ли посмотреть эту газету? — попросил Олег. Услышав о португальском журналисте, он больше ни о чем другом не мог думать. — Ради бога! Попова вышла из холла. Вернулась она с газетой. Разыскала в ней нужную статью и подала гостю: — Коротко написали, но мило. Очень мило! Олег взял газету. Волнение его было так велико, что он даже забыл поблагодарить хозяйку.
Некоторое время Олег сидел, не отрывая взгляда от заметки. На глаза ему попалось слово «Кале». «Это, кажется, во Франции, — подумал он. — Да, да. Во Франции». — Не правда ли, мило? — не выдержала Попова. Не зная, что ответить, Олег снова уставился в газету. Выручила его служанка. Она внесла на маленьком подносе подстаканник и чашку. Подавая гостю чай, она неловко наклонила поднос. Тонкая струйка юркнула в прорезь подстаканника и рассыпалась каплями по новому костюму. Олег подскочил. Темные капельки скатились с шорт на ковер. Хозяйка подозвала служанку, что-то сказала ей. Африканка нагнулась. Глаза ее округлились, остекленели. Попова коротко взмахнула полной рукой и дала ей пощечину. Сделала она это спокойно; с таким же невозмутимым лицом положила в чашку сахар и принялась размешивать его. Служанка выпрямилась и по-прежнему бесшумной походкой вышла из холла. — Ужасные скоты эти черные! — пожаловалась Попова, передавая гостю сахарницу. — Надеюсь, она не испортила ваши шорты? — Нет, нет! — растерянно пробормотал Олег. — Что вы? — Просто не знаю, как с ней обращаться. — Попова развела руками. — Не понимаю. Пробовала по-хорошему. Теперь наказываю за каждую провинность. Ничего не прощаю, ни одного пустяка. Не помогает! — А она не обидится? — неловко спросил Олег. — Обидится? — не поняла хозяйка. — Как — обидится? — Уйдет… — Куда уйдет? Мы платим этой девчонке больше, чем получает здоровенный негр за каторжную работу в шахте. Она живет в хорошем доме, рядом с белыми. Уйдет! — Попова снисходительно улыбнулась. — Вы не знаете местных условий. — Нет, — поспешил согласиться Олег, думая, как бы поскорее уйти отсюда, — не знаю. Теперь говорила одна хозяйка. Она восторгалась решимостью юноши, мужественно порвавшего с кошмарным миром красных, сулила ему прекрасное будущее. Не стоит только связываться с профессией военного или полицейского. Сейчас их положение ужасно. Никакие деньги не могут его скрасить. У самой Поповой отец был подполковником, и она знает, что за жизнь была у него даже в хорошее время, до революции. — В каких войсках служил ваш отец? — спросил Олег, желая как-то скрыть растущее в нем отвращение к хозяйке, к ее нарядному и жестокому дому. Попова почему-то не ответила на вопрос гостя. — Как бы я хотела увидеть Охотный ряд! — Она мечтательно прикрыла глаза. — В детстве у меня не было большей радости, как пройтись с мамой по Охотному ряду. А что творилось там перед большими праздниками! Несут поросят, кур, окорока… Сейчас можно купить в Охотном поросенка? — Нет, — мотнул головой Олег. Он хотел объяснить, как выглядит теперь Охотный ряд, и не успел. — Я так и знала! — воскликнула Попова. — Какие теперь поросята в Охотном! Больше Олег не пробовал поддерживать беседу. Он хотел одного: поскорее выбраться из этого дома. Разве от того, что он объяснит Поповой, как выглядит сейчас Охотный ряд, здесь что-либо изменится? А хозяйка говорила и говорила, не замечая состояния гостя. — Мне пора, — не выдержал Олег. — Скоро на вахту. Прощаясь с гостом, Попова сказала, что с большим удовольствием попрактиковалась в русском языке, и еще раз пожалела, что Николай Платонович в отъезде. До парадного Олега проводила черная служанка. — До свиданья, — сказал Олег, но взглянуть ей в глаза не решился. Ведь и он тоже был причастен к разыгравшейся в холле омерзительной сцене, даже в какой-то мере оказался ее виновником. Больше всего осталась в его памяти даже не полученная девушкой пощечина и не ее остекленевшие в ожидании удара круглые глаза, а будничное лицо Поповой. Она ударила служанку так, как поправляют морщину на скатерти или смахивают крошки. Попова исправила маленькое упущение в своем хозяйстве, и только. Служанка ответила Олегу по-английски. Улыбнулась. Но глаза ее оставались настороженными. Она жила в чужом мире и беспрекословно подчинялась его требованиям. Даже улыбка у нее была служебная. Она входила в круг обязанностей служанки. Хозяева платили хорошо, а потому хотели видеть ее приветливой, улыбающейся. Лишь сейчас Олег понял, что для черной служанки он, со своими шортами, шляпой и пакетом, был из того же враждебного ей мира белых.«ЕЩЕ ОДИН ВЫРВАЛСЯ ИЗ-ЗА ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА
Как сообщает португальская газета „Полемико“, корреспондент ее беседовал с матросом советского траулера „Воскресенск“ Олегом Рубцовым. В результате счастливого для него столкновения судов в Зундском проливе он был переброшен силой удара в бессознательном состоянии на пароход „Святой Себастьян“. Португальские моряки приняли его сердечно, обеспечили всем необходимым и даже предоставили ему работу. Конечно, не многое смог рассказать юноша, знающий, что семья его осталась за железным занавесом, помнящий что властители красной России не простят ей перехода сына в свободный мир. И все же видно без слов, как счастлив Олег Рубцов. На пароходе у него много друзей. Один из них, Баттисто Риччи, выходивший больного Олега, поделился с корреспондентом впечатлениями о своем юном друге. Молодой матрос нелегко решился порвать с красной Россией. В соседнем причале танкер „Ташкент“. Нелегкую борьбу выдержал юноша, пока разум не взял верх над привитым ему с детства страхом перед свободным миром, и он решил остаться с новыми друзьями. Конечно, у молодого матроса будет еще немало сомнений, колебаний, но главное сделано — за железный занавес он вырвался, с прошлым порвал решительно и бесповоротно. Обратного пути быть не может».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Трудно стало Олегу без Баттисто. По-прежнему жили они в одной каюте, в работе оставались неразлучны, а небольшая заметка в «Голосе» поднялась между ними глухой стеной. Особенно запомнились Олегу слова: «Баттисто Риччи… поделился с корреспондентом впечатлениями о своем юном друге». Друг! Слово это емкое, вбирающее все лучшее, наиболее чистое, что есть в человеческих отношениях. И оттого, что оно стояло рядом с предательством, в каюте стало душно. Особенно трудно было оставаться с глазу на глаз с Баттисто, слушать его, отвечать на шутки… Баттисто заметил, как изменился Олег. — Что с тобой, мой мальчик? — спросил он как-то. — Скучный ты стал. Много думаешь. — Ничего, — Олег безучастно повел плечом. «Ничего» прозвучало у него так, что смутные предположения Баттисто перешли в уверенность: Олег изменился. Почему? Желая выяснить, что же произошло с Олегом, Баттисто незаметно направлял его к объяснению. При случае обнимет Олега и примется говорить о дружбе. Ответить ему тем же Олег не мог. А молчание его походило на безмолвное возражение. Или пошутит Баттисто и, не встретив привычного отклика, удивится. Снова приходилось отмалчиваться. Олег понимал, что в его положении не следовало быть откровенным. И все же он не выдержал. Впервые в жизни столкнулся Олег с предательством и переносил его очень болезненно. На «Святом Себастьяне» Баттисто был единственным, с кем можно было перемолвиться. Приходилось постоянно общаться с человеком, подавляя растущее желание спросить: «Кто ты, Баттисто?» Но тяжелее всего становилось оттого, что негде было укрыться от его глаз, настолько внимательных, искренних, что Олегу хотелось верить: Баттисто не при чем. Переврал же красноухий журналист из Сетубала сказанное самим Олегом. Мог он так же приврать и за Баттисто. А стоянка в Кале? С этого и началось неизбежное объяснение. — Скажи, Баттисто, — спросил как-то Олег, — мы стояли в Кале? Баттисто внимательно посмотрел на него, подумал. — Да. Стояли. — Почему же ты сказал мне, что пароход зашел в Эмден? — Для твоей же пользы, мой мальчик. — Баттисто смотрел спокойно. — Ты хотел больной бежать с парохода. В чужом порту. Это было бы для тебя гибелью. Поверь мне, старому моряку. Я-то знаю, что такое один, без денег и языка, в чужом порту. А ты был еще и болен. — Гибелью, — повторил Олег и вспомнил порванные почти до самого кармана брюки, удержавшие его в каюте. Можно ли было так порвать их в падении? Он хотел спросить об этом и не успел. — Надо было прежде вылечить тебя, — убежденно продолжал Баттисто, — поставить на ноги. — Вылечить? — переспросил Олег. — Разве не проще было сообщить на «Ташкент» о том, что на борту у вас лежит больной матрос с «Воскресенска»? — Проще… Да. — Несмотря на всю свою выдержку, Баттисто, услышав о «Ташкенте», заметно изменился в лице, но тут же справился с замешательством. — Я хотел сделать для тебя лучше. — И для этого ты наговорил обо мне журналисту из «Полемико» черт знает что! — вырвалось у Олега. — Кто это сказал? — Впервые голос Баттисто прозвучал требовательно, почти властно. — Кто? Я спрашиваю! — Я сам читал, — резко бросил Олег. — Сам! Читал в Кейптауне, в русской газете. Железный занавес! Властители красной России! Привитый с детства страх… Мало? Еще напомню. Ты, Баттисто, фашист. — Да, фашист, — неожиданно спокойно согласился Баттисто. — Ты удивлен, мой мальчик? У вас фашиста изображают зверем, убийцей и обязательно капиталистом. Смотри. — Он протянул к Олегу ладони, покрытые темными бугорками мозолей. — Это руки богача? Таких, как я, много в Италии. Но нам приходится молчать. Да. Пока мы молчим. Ведь в профсоюзах, печати, рабочих домах хозяйничают коммунисты и социалисты. На нас взваливают выдуманные преступления. А мы люди. Верующие! Стал бы коммунист лечить больного фашиста? А мы сделали для тебя все, что могли… Э! Что говорить! Поживешь, сам увидишь, кто из нас прав. Олег слушал Баттисто молча. Стоило ли спорить с ним? Возражения могут только насторожить его. А Олегу податься некуда. Впереди Мозамбик, дальше — неизвестность. — Я обещаю тебе, — Баттисто клятвенно поднял руку, — что, если ты прослужишь шесть месяцев на «Святом Себастьяне» и захочешь вернуться домой, я помогу тебе. Помогу, мой мальчик. Ради того, чтобы ты пришел к своим и рассказал им правду о нас. Но полгода проживи с нами. Присмотрись к людям, которыми тебя запугали с детства, и ты сам не захочешь возвратиться туда, где тебя ждет тюрьма. — Почему полгода? — Олег поднял голову. — Контракт я подписал на три месяца. — Договорился ты с капитаном на три месяца, — объяснил Баттисто. — Но у него не оказалось нужных бланков. Были только полугодовые. Заключать контракт было нужно… Ты же помнишь, как пришлось спешить? — И мне даже не сказали об этом? — не сдержался Олег. — Зачем? — Баттисто поднял широкие брови. — Чтобы ты снова думал, тянул время. Все равно пришлось бы тебе подписать контракт. Хоть на год! Олег принял это известие с удивившим его самого спокойствием. Теперь его ничем нельзя было поразить или возмутить. Надули его. Подсунули полугодовой контракт вместо трехмесячного. Не все ли равно? Плавать на «Святом Себастьяне» он не собирается. Дождаться бы случая!..ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
После бурного ночного разговора ничто внешне в отношениях Олега и Баттисто не изменилось. Облегчало положение поведение Баттисто: разговоров о политике он больше ни разу не заводил. По-прежнему старательно нес Олег вахту, быстро и точно выполнял все, что ему поручали. В свободное время он забирался на свое любимое место на юте. Сидя в тени, падающей от лодки, он подолгу смотрел на пенящуюся за кормой воду. Каждый день, час все больше удаляли его от родных мест; все сложнее становилось возвращение, временами даже появлялись сомнения: удастся ли одному, без денег и знания языка преодолеть тысячи и тысячи миль, отделяющих его от советских берегов? Думы об этом заслоняли все, даже страх перед ответственностью за совершенное преступление, ожидающее на родине наказание. Оставаясь в одиночестве, Олег не раз представлял себе будущее: возвращение на родину, суд. Понятия о суде и законах у него были очень смутные. И тем не менее в его воображении почти зримо проходил допрос подсудимого. Что ответить на вопрос о столкновении в проливе, было ясно: виновен. Зато все последующее, сколько ни думал Олег, оставалось крайне сложным. «… „Святой Себастьян“ заходил в Кале, — говорил Судья. — Вы не сошли с него, не попытались найти своих». «Мне сказали, что пароход стоит в Эмдене, — отвечал Олег. — А я был болен, мог свалиться на причале и остаться в чужом порту». «Вам известны случаи, когда человек исполнял свой долг не только больным, но и тяжело раненным, истекающим кровью, — строго напомнил Судья, — не размышляя о том, свалится он или нет». Олег искал возражения и не находил. Смалодушничал. Должен был выйти на причал в любом виде, пускай даже в располосованных брюках, обязан был рискнуть. А там увидел бы «Ташкент»… «Хорошо! — продолжал Судья. — Допустим, что в Кале вы не смогли сойти на причал по болезни. Но, когда вы поняли, что находитесь на фашистском пароходе, что было сделано вами, чтобы уйти с него?» «Я попросил связаться с ближайшим советским судном, — ответил Олег. — Что можно было еще сделать?» «Попросили, — повторил Судья. — Вам ответили, что радисту не удается это сделать. И вы не потребовали, не настояли на своем». «Как настоять? — оправдывался Олег. — В открытом море с капитаном не поспоришь». «Больше того, — продолжал Судья. — Вы подписали непрочитанный контракт. Вы уверены в том, что в нем нет ничего порочащего вас как советского гражданина?» Теперь Олег не был в этом уверен. Мысли о контракте беспокоили его все чаще. Но что мог он сделать? Выбирать-то было не из чего: либо контракт, либо португальская полиция… «В Сетубале вы увидели, что вас обманули — „Святой Себастьян“ не имел ни пробоины в носовой части, ни пластыря, — и поняли, что в Зундском проливе капитан его сбился с фарватера, вышелнавстречу „Воскресенску“ и ударил его». «Понял», — ответил Олег. «И тем не менее не сделали всего возможного, чтобы вырваться со „Святого Себастьяна“ и помочь нам привлечь капитана к ответственности за столкновение в проливе». Вопросы, задаваемые воображаемым Судьей, менялись весьма причудливо. Все они были трудны. Неубедительно звучали ответы Олега: не мог, не знал… Судья его был больше чем строг — беспощаден. Олег не знал законов, процессуальных тонкостей, а потому и возражать ему было невозможно. Едва ли и сам Олег понимал, почему так трудно было ему с Судьей. Ведь судила-то его собственная Совесть…ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В Лоренцо-Маркесе Олег сошел на берег лишь потому, что не хотел выделяться. Останешься на судне — еще вызовешь подозрения. К тому же как ни любит моряк море, но после длительного рейса тянет его побродить по твердой земле, посмотреть незнакомый город, людей. Еще в море Олег не раз вспоминал о Кейптауне. Побывал он в огромном порту, а что осталось в памяти? Юркий продавец готового платья, бесконечные вывески, полицейский с болтающимися на ремне наручниками, остекленевшие от страха глаза африканки да омерзительная госпожа Попова. На этот раз Олег твердо решил держаться на берегу подальше от Баттисто. А тот еще до прихода в порт не раз говорил о том, как они погуляют в шикарном кабачке, посмотрят город. Олег не спорил с Баттисто. Но, как только они вышли из порта, он отбился от компании. Сделать это оказалось очень легко. Стоило морякам выйти из высоких арочных ворот, как их обступила пестрая толпа торговцев. Расхваливая свои товары — бананы, жареных кур, печеный маис, фрукты, — они силились перекричать друг друга, хватали прохожих за одежду. Мужчины и женщины, старухи и полуголые девчонки, все одеяние которых состояло из дыр с некоторым количеством выцветшей материи, настойчиво предлагали диковинные раковины, кокосовые орехи, грязноватые на вид лепешки, политые каким-то сиропом. Над корзинами с товаром роились мухи. Торговцы не отгоняли их. Привыкли. Спокойно относились к ним и покупатели. Черные лица, ищущие глаза… На шее у девушек дешевенькие бусы, ожерелья из раковин или просто красная нитка. Серые от пыли ноги с медными браслетами на лодыжках. Тут же покупатели и ели, бросая шкурки от бананов и маисовые кочерыжки на землю — грязь на улице от этого не становилась заметнее. Олегу хотелось вырваться из разноголосо галдящей толпы, где каждый стремился накормить покупателя, а сам смотрел голодными глазами. С трудом выбрался Олег из живого водоворота. Крутой улочкой поднялся он к центру города. Солнце пекло нещадно. Иногда казалось, что голова ощущает тяжесть отвесно падающих горячих лучей. Олег старался держаться в тени пальм, отделявших тротуар от проезжей части улицы. Одни пальмы имели листья, похожие на перья гигантской птицы, у других они были настолько широки и плотны, что под таким листом мог укрыться от дождя или солнца человек. Непривычно выглядели и стволы: гладкие, по ним рука скользила, не ощущая шероховатостей, или мохнатые, будто завернутые в войлок… Но больше всего поразили Олега африканцы в португальской военной форме. Их было четверо. Один с сержантскими нашивками на погонах и с серебряной серьгой в ухе. На могучей груди его соседа покачивалась медаль на зеленой ленточке. За какие подвиги его наградили? Олег остановился и проводил глазами черных солдат, пока они не затерялись в толпе. Слоняться по улицам скоро надоело. Пригляделись пальмы и пестрая толпа. Все больше донимали невыносимый зной и духота. Спасаясь от духоты, Олег вошел в магазин сувениров. Покупать он ничего не собирался. Зачем ему сувениры? Неизвестно еще, как придется уносить ноги со «Святого Себастьяна». Да и деньги следует приберечь. И все же, не желая выделяться в команде, он купил лук и стрелы. Так и ходил Олег по городу: в шортах и модной рубашке, с луком и колчаном за плечами. Когда он вернулся в порт, причал почему-то был оцеплен солдатами. Стоящий рядом со «Святым Себастьяном» кран опускал в трюм огромную сетку и доставал ее полную небольших, но тяжелых ящиков. Грузовик за грузовиком уходили от парохода под охраной вооруженных солдат. А кран все спускал в трюм сетку и поднимал. Казалось, не будет конца грубо сбитым ящикам. Что было в них? Снаряды, патроны, разобранные пулеметы или автоматы?.. Поздно вечером к сходням подошли два джипа, а между ними черная машина с сетчатыми решетками на оконцах. По команде офицера солдаты соскочили с джипов. Большая часть их растянулась цепочкой вдоль причала. Они стояли с автоматами наготове спиной к пароходу, готовые отразить нападение с берега. Из полицейской машины вывели четверых африканцев. Последней вышла черная девушка. Она оглянулась на берег. Ее подхватили под руки два солдата и толкнули к сходням. Разглядеть арестованных Олегу не удалось. Слишком быстро провели их по сходням. Запомнились ему лишь наручники. Впервые в жизни увидел он схваченные сталью черные запястья и натянутую между ними вороненую цепочку. Что это за люди? За что их заковали и куда везут? Думы об этом не оставляли Олега. Еще больше забеспокоился он, когда перед ужином боцман предупредил команду: завтра с берега никто не сходит, пароход уйдет в небольшой рейс, на четыре — пять суток. Куда? В Форт-Торраго. Узнать что-либо о Форт-Торраго Олегу не удалось… В ответ на его расспросы Педро лишь пожимал плечами. Неужели он не слышал о нем? Обращаться к Баттисто не хотелось, хотя тот последние дни явно стремился восстановить прежние отношения. Вот и сегодня он завел обстоятельный разговор о виденном в Лоренцо-Маркесе, потом долго читал. Не спалось и Олегу. Из памяти не уходили четверо африканцев и особенно девушка в наручниках. Заперли их в каюте третьего штурмана. Там же, наверху, расположилась и охрана. Не так, оказывается, спокойна Африка, как выглядели улицы Кейптауна и Лоренцо-Маркеса. Для кого-то носил на поясе наручники величественный полицейский в Кейптауне. Кому-то везли оружие в Мозамбик. От кого-то охраняли причалы во время разгрузки «Святого Себастьяна» солдаты. Не зря в скованных африканцев доставили на пароход почти ночью, в темноте, и под такой охраной. Но где люди, от которых так старательно оберегались хозяева Кейптауна и Лоренцо-Маркеса? Сколько ни перебирал Олег в памяти виденных им африканцев — торговцев, носильщиков, солдат, прохожих, — никого похожего на борца, повстанца припомнить не удавалось.ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Олег сменился с вахты и отдыхал около шлюпки, наблюдая за неровным полетом чаек. Они кружили за кормой и кричали жалобными голосами, напоминающими торговцев из Лоренцо-Маркеса. Иногда чайки пролетали рядом с пароходом, посматривая на палубу жадными глазами. Одна из них, часто взмахивая крыльями, повисла в воздухе и вдруг резко свалилась на воду и выхватила из нее рыбешку. Еще громче, отчаяннее заголосили остальные. Возможно, они завидовали удачнице, уносившей добычу в сторону? Провожая глазами чайку, Олег обернулся и увидел выходящего из надстройки старшего штурмана. За ним, с усилием переставляя ноги, шел Педро. Последним появился в дверях мрачный боцман. Олег замер. Кожа на лице стянулась, стала жесткой, как маска. Он не мог оторвать взгляда от Педро. Что с ним? Голова опущена. Поникшие плечи и вяло повисшие руки… Педро посмотрел на него, коротко, почти незаметно. И все стало понятно. Арестован! За что? Олег перехватил на себе взгляд боцмана и отвернулся. Не следовало выдавать себя. Но и сидя спиной к надстройке, невозможно было избавиться от ощущения, что глаза Педро о чем-то просили его. Хорошо, что в эти минуты никто не видел Олега. Палуба была пуста. В тишине из каюты третьего штурмана, где помещались африканцы, слышалось заунывное пение и ритмичные удары в ладони. Олег взглянул почему-то на часы и направился в каюту. Баттисто сидел на койке и сосредоточенно чинил тельняшку. Наложив на локоть заплату, он откинулся назад и прищурился. С иголкой, отведенной в сторону, он походил на художника с кистью, оценивающего первые мазки. — Что там Педро начудесил? — спросил Олег возможно равнодушнее. — Педро! — Баттисто оторвался от шитья. — Педро маленький человек. Педро вот… — Он показал кусочек ногтя. — Коммунисты в Сетубале дали ему плакат святого Себастьяна. — Педро?! — искренне удивился Олег. — Он сам сказал это? — Педро сказал! — криво усмехнулся Баттисто. — В каюте у него нашли клей. Зачем матросу в рейсе клей? Нашли и еще кое-что. — А если ему подсунули этот клей? — сам того не замечая, заступился за Педро Олег. — Кто-то прилепил святого Себастьяна в гальюне, а клей и еще что-то, как ты говоришь, подсунул в чужую каюту. — Не думай, что капитан наш такой глупый, — не уступал Баттисто. — Увидел клей и арестовал матроса. Он много знает, наш капитан. — За Педро следили? — понял Олег. — У нас этого нет, — резко бросил Баттисто. — Никто здесь не следит за матросами. Горячность его прозвучала как утверждение. Олег притих. Возможно, следят и за ним? Быть может, тот же Баттисто и присматривает за русским парнем, благо обстоятельства превратили их в неразлучников. Припомнилось, как Баттисто расспрашивал, куда исчез Олег в Лоренцо-Маркесе, где был и что видел. Ругая себя за несдержанность — надо же было вступать в бесполезный спор! — Олег разделся и полез на свою койку. Еще вчера Педро был для него таким же, как и многие в команде. Выделял его незлобивый, легкий характер да неуемная любознательность. Все интересовало Педро, даже русский язык. Сегодня Олег увидел его другим. Согнутая спина, поникшие плечи, непривычно серьезный взгляд… Надо помочь ему. Необходимо помочь. Но как? Планы освобождения Педро возникали один другого смелее, фантастичнее. Пробраться в трюм и открыть кингстон. Объявят водяную тревогу. Оставить арестованного под замком не посмеют… Но попробуй проберись в трюм. Люк задраен плотно, по-походному. Да и находится он под окнами рубки, на глазах у вахтенного штурмана. Если раздобыть ножовку и распилить дужку замка на кладовой… А куда денется Педро на пароходе? Шлюпку-то на ходу не спустишь. Если перебить штуртрос?.. Пароход потеряет управление. Ну и что? Долго ли исправить штуртрос? Новое «если» вспыхивало искоркой и тут же гасло, не успевая оформиться в более или менее связный замысел. Выручил случай. Олег подобрал на палубе забытый кем-то старый журнал. Просматривая фотографии, он остановился на одной из них. Если бы Баттисто не был с ним в одной вахте! Не вырваться из-под надзора. А вырваться хотелось. Потом это стало нужно, просто необходимо. Олег искал, как бы ему остаться одному в каюте. Не получалось. Повезло после обеда. Боцман поручил ему прибрать одну из кладовок. Вдвоем в тесном и пыльном помещении делать было нечего. Едва боцман вышел из кладовки, Олег, заставил дверь подвернувшимися под руку банками с суриком, взвалил на них тяжелый сверток пластика. Достал из-под ковбойки журнал. Быстро вырезал из него нужные фотографии и принялся за уборку. Никогда еще Олег не работал на «Святом Себастьяне» с таким увлечением, как сегодня. С растущим нетерпением ждал он прихода вечера, ночи. Олег проснулся. Взглянул на часы. Половина третьего. Хорошее время. До смены вахт далеко. Приподняв голову, он прислушался к дыханию Баттисто. Спит. Олег достал из наволочки вырезанные из журнала фотографии и прихваченный в кладовке клей. Осторожно спустился с койки и юркнул в дверь. Все было сделано если и не очень умело, зато быстро. Не прошло и пяти минут, как на стене гальюна появился монтаж из фотографий. В центре его — сияющий отеческой улыбкой Салазар. Старческая рука его с темными прожилками приветливо поднята, а под ней… крадущиеся по саванне в высокой, по плечи, траве с застывшими от напряжения лицами солдаты. Танки уставились пушками в приклеенную рядом деревушку с копающимися в пыли черными ребятишками. Сбоку кротко смотрит на все это поднявший над головой крест сухощавый прелат. Второпях фотографии были наклеены неровно, местами перепачканы клеем. Неважно. Пускай капитан спит, полагая, что возмутитель спокойствия сидит под замком и на борту «Святого Себастьяна» наведен порядок. Утром матросы увидят монтаж. Тогда и упорство Педро, не признающего своей вины, получит убедительное подтверждение. Утром Фернандо удивился, когда у дверей гальюна его остановил строгий окрик боцмана: — Нельзя! — Почему нельзя? — спросил проходивший мимо машинист. Очень не вовремя показалась из-за двери лохматая голова Омара. — Боцман! — сказал он. — Скребок тупой. Плохо берет. Моряки переглянулись. Поняли: опять за дверью что-то соскабливают со стены. Раз сам боцман стоит у входа, никого не впускает, значит, что-то серьезное. Да и Омар — правая рука боцмана. Недаром он несколько лет прослужил в иностранном легионе, а сейчас ни в одной из арабских стран на берег не сходит. Когда боцман и Омар ушли, матросы увидели уже на второй стене гальюна исцарапанную скребком краску. Начались пересуды: что же тут было изображено и кто мог это сделать? Педро сидит под замком, а порядка на судне опять нет. Выходит, напрасно заперли парня?..ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
— Это Торраго? — удивленно спросил Олег. — Форт-Торраго? Вместо ответа стоявший рядом Фернандо только вздохнул. Он и сам смотрел на берег с откровенным огорчением. Выжженный, почти белый под отвесными лучами солнца песчаный берег полуострова упирался вдалеке в темно-зеленый лесистый материк. Выступая в море, полуостров круто раздваивался, и оконечности его походили на клешни краба. Между клешнями выделялся пустынный причал. Ни привычных взгляду моряка складов на нем, ни готовых к отправке грузов; лишь одинокий кран да небольшой навес и рядом с ним дощатая будка в два окна. За причалом, на высоком берегу, вытянулись в одну улицу стандартные дома под шиферными крышами. В центре улицы врезался в голубое небо острый шпиль маленькой церковки. Рядом с ней дома выглядели приземистыми, скучными. Вправо от поселка виднелись в глубине полуострова глиняные хижины, покрытые пальмовыми листьями, без окон, с прямоугольными отверстиями вместо дверей. На конце правой клешни выделялся зеленый конус маяка; левую, более возвышенную и широкую, занимала старинная крепость. Сложенные из крупного камня стены ее выветрились. Темные оконца угловых башен недоверчиво уставились в море. Крепость выглядела бы заброшенной, пустынной, если б не флаг, повисший в полном безветрии над аркой ворот, да прижавшаяся к ним полосатая будка часового. — Страшное место! — Баттисто показал головой в сторону берега, крепости. — Триста лет назад здесь торговали рабами. Отсюда их увозили в Бразилию, Венесуэлу, на Антильские острова. Потом царек черных Мбамба или Моамба, не могу запомнить эти имена, решил, что грабить выгоднее, чем торговать. Ночью воины Мбамбы напали на португальцев, перебили их, захватили все товары, дома сожгли. Три дня веселились черные: пили, плясали, пели. Такого праздника берег еще не видел. После этого сеньор Балтасар да Торраго построил эту крепость. Говорят, что вице-король приказал ему истребить всех черных на пятьдесят миль от берега. Но сеньор Торраго — старая лиса! — знал, что забраться в эти леса трудно, но выбраться из них!.. Построил он тут крепость, церковь, факторию. Опять стали пригонять сюда рабов, торговать. Появились в заливе корабли с товарами. Не выдержал Мбамба. Прислал своих воинов с захваченными у соседнего племени людьми. Торраго их не тронул. Вернулись они с товарами раз, другой, третий. Мбамба осмелел и сам приехал сюда с огромным караваном. Вот тут-то сеньор Балтасар да Торраго и выпустил когти. Ночью он разгромил лагерь черных, захватил Мбамбу вместе с главным колдуном и старейшинами племени и приковал их к вершине скалы. Видишь серую скалу за крепостью? На ней Мбамба и его приближенные умерли от жажды. Кости их много лет оставались на скале. А остатки цепей все еще лежат там. — А сейчас? — спросил Олег. — Что это такое? Порт не порт. И на городок не похоже. — Посмотри кругом. — Баттисто обвел рукой залив от маяка и до крепости. — Отсюда бежать нельзя. Из крепости не вырваться. А если кому и повезет, тот погибнет в лесу. — Это тюрьма? — понял Олег. — Военная тюрьма, — уточнил Баттисто. — Во всем Мозамбике нет худшего места, чем те леса. Португальцы зовут их «гнилые леса». Мы с тобой попали на край ада. Ад там, в лесу. Змеи, москиты, ядовитые растения, хищные звери, непроходимые болота и заросли… — Он увидел потускневшее лицо собеседника и поспешил успокоить его: — «Святой Себастьян» простоит здесь недолго. В Форт-Торраго ни одно судно не задерживается. — А потом, — как можно безразличнее спросил Олег, — куда мы пойдем отсюда? — Не все ли равно матросу, куда идет пароход? Вернемся в Мозамбик, а там капитан скажет. «Святой Себастьян» сближался с причалом. Вахтенные вывалили за борт кранцы. Впервые видел Олег такой подход судна. На палубе нет обычного оживления, не видно принарядившихся матросов. Тишина. Слышна лишь бурлящая под винтом вода, иногда возгласы вахтенных да сверху доносится заунывное пение африканцев и ритмичные удары в ладони. Возможно, арестанты знали, что их привезли в ад. Пустынно и на причале. Несколько солдат в расстегнутых до пояса рубашках сидели в тени навеса. Какой-то береговой служака в кургузых штанах на лямках, в туфлях на босу ногу и выгоревшей фуражке с «крабом» покрикивал на черных парней, принимавших швартовы. С десяток африканцев — мужчин и женщин — наблюдали с берега за подходом «Святого Себастьяна». — Гнусная дыра! — громко вздохнул Фернандо. — Есть ли тут хоть пиво? Едва поставили сходни, как на причал въехала легковая машина. Из нее вышел увешанный орденами пожилой полковник. — Комендант! Комендант! — донеслось с причала. Уже по тому, как исчезли с берега африканцы и даже солдаты, застегивая на ходу рубашки, убрались из-под навеса, видно было, что комендант Форт-Торраго — грозная сила. Капитан встретил полковника на трапе. Вскинув два пальца к козырьку фуражки, он учтиво пригласил гостя в каюту. Как ни непригляден был берег, но сидеть на пароходе матросам не хотелось. Вахта раскрывала носовой трюм На палубу поднялись грузчики-африканцы и офицер с солдатами. Предстояла разгрузка. Чем скучать на палубе, лучше сойти на берег, размяться на твердой земле. Собрался и Олег. Переоделся в выходной костюм. Стоило Олегу отойти от причала, как он понял, что приятного в предстоящей прогулке будет мало. Накаленная солнцем земля жгла ноги сквозь подошвы. Теплый ветерок не освежал лицо, а горячил. Рубашка взмокла от пота, липла к спине. Немногим лучше чувствовали себя и южане португальцы. Все чаще поминали они святых и дьяволов, отирали платками лица. Смотреть в поселке было нечего. Однообразные скучные дома-близнецы, магазин, круглый павильон под серебристой крышей… В конце улицы моряки остановились. Издали посмотрели на крепость. Обжигающий зной отбил желание продолжать прогулку. — А теперь… — Фернандо осмотрел поникших товарищей, — пойдемте. Они вернулись к круглому павильону на высоком каменном фундаменте. В открытые со всех сторон окна, затянутые вьющимися растениями, тянул легкий сквознячок. Неожиданная прохлада, уютная обстановка бара, чистые столики и уставленная бутылками стойка привлекли внимание матросов. Послышались шутки. Один Олег не видел хлопочущего Фернандо, не слышал оживленных голосов. Он заметил в стекло верхней фрамуги окна две круглые дырочки в сеточке тонких трещин. Пули! Откуда они могли залететь в павильон? Кто стрелял в поселке, где не видно никого, кроме солдат, немногих женщин, видимо жен военных, и приниженных, робких африканцев? — Пива! — командовал Фернандо. — Нет пива? Святая Мадонна! Как тут люди живут? Подбежавший бармен еле успевал выполнять заказы уставших и голодных матросов. Олег заказал жареную рыбу. Зная, что его станут уговаривать выпить, он взял сухого вина. С приходом моряков полупустой бар оживился. Заиграла радиола. Песенка о бедных, но веселых влюбленных подняла настроение. После прогулки по жаре легкое вино ударило в голову. Захотелось побеседовать. Путая португальские слова с русскими, Олег расспрашивал сидящего рядом Марио об оставшейся в Оппорто невесте, когда на плечо его легла тяжелая рука. Олег взглянул на нее. Бросился в глаза массивный серебряный перстень с черепом и скрещенными костями. Олег оборвал вопрос на полуслове. Чего угодно ожидал он, только не этого. За спиной у него стоял коренастый плотный сержант с короткой красной шеей и почти квадратным лицом. Мясистое лицо его с шишковатым носом в фиолетовых прожилках выражало откровенную неприязнь. — Русский? — Сержант уставился на Олега. Олег молча, движением плеча, сбросил его руку и взял поданную Марио фотографию девушки. — Я спросиль… ты есть русский? — повторил сержант. И снова Олег не ответил. Поздно вспомнилось давнее предупреждение Баттисто: не сходить на берег в Сетубале, о португальской полиции. Мысль работала быстро: как бы уйти отсюда, вернуться на пароход. В эту минуту «Святой Себастьян» сразу превратился в единственное убежище, где можно было укрыться от непонятной еще, но грозной опасности. Сержант постоял за спиной Олега и, четко печатая шаг, неторопливо вышел из бара. Олег незаметно, краешком глаза, проследил, пока дверь закрылась за сержантом, и поднялся. Удивленные его непонятной торопливостью захмелевшие матросы удерживали, соблазняли выпивкой. — Жарко! — Олег обмахнулся платком. Действительно, ему сейчас было очень жарко. — На пароходе лучше. Как на грех, и бармен забегался, не подходил к столику. Расплатиться с ним Олег не успеп. В бар вернулся сержант, за ним вошли двое в солдатской форме с аксельбантами. — Документы! — Сухопарый верзила заложил руку за белый шнур, величественно осмотрел посетителей бара. — Попрошу, сеньоры, предъявить документы. Матросы рылись в карманах, проклиная полицию, умеющую даже в такой дыре испортить отдых моряка. — Военная полиция! — Марио показал глазами на верзилу в аксельбантах. Олег уже понял это и вместо ответа с вымученной улыбкой пожал плечами. — Документ! — На этот раз верзила обратился только к Олегу. Все заметили это. Движение за столиками, говор затихли. Все поняли, за кем явился в бар полицейский. Фернандо приподнялся со стула и что-то сказал, помянув капитана. На него шикнули, и он притих, отвернулся от Олега и стоящего против него в выжидательной позе полицейского. Дальше все было как в тяжелом сне. Знакомая пыльная улочка. Мощенная камнями дорога, ведущая в крепость. Одуряющий зной, мешающий думать, понять, что же с ним происходит… Тяжелые, окованные железными полосами ворота крепости распахнулись с режущим уши скрежетом. За воротами открылся вымощенный булыжником просторный двор с понуро свесившим ветви одиноким деревом посредине. Справа вытянулось длинное каменное здание с большими окнами. Из-за него поднималась церковь. Слева — крепостная стена с прижавшимися к ней чахлыми кустами. Впереди стояли три похожих на склады каменных строения — низких, с поднятыми почти под застрехи крыш маленькими оконцами. И тишина. Мертвая тишина. Лишь из левой угловой башни слышалось размеренное пыхтение. В оконце выходила изогнутая углом железная труба, постреливавшая прозрачными на солнце клубами дыма. Один из полицейских остался в воротах, второй повернул Олега направо, к длинному дому с большими окнами. Они вошли в просторную комнату. За высоким дощатым барьером сидел дежурный офицер. Выслушав рапорт полицейского, он оживился и спросил что-то у Олега. — Не понимаю, — четко ответил Олег по-русски. — Фамилия? — спросил офицер. И снова Олег, сам не замечая прозвучавшего в его голосе вызова, произнес: — Не понимаю. Глаза офицера из любопытных стали злыми. Он горячо обсуждал что-то с полицейским. Как ни вслушивался Олег, понять из их быстрой речи ему удалось очень немногое. Задержали его как русского, коммуниста, и только. Наконец-то прозвучало ставшее уже привычным «буэно». Что-то порешили. Полицейский поднял руки Олега и принялся его обыскивать. Вытащил из карманов деньги, мелочи, документы. Долго и старательно прощупывал он одежду задержанного, каждый шов рубашки, шорт. Как ни усердствовал долговязый, обыск ничего не дал. Олегу разрешили опустить затекшие руки. Полицейский выдернул из шорт ремешок, снял с руки часы и показал на дверь: — Выходи! Так Олег из португальского матроса превратился в арестанта военной тюрьмы.ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
И вот он в камере или… черт знает, как можно назвать низкий каменный ящик размером четыре шага на шесть, куда загнали семерых заключенных. Почти треть его занимала груда сухих маисовых стеблей. Видимо, на ночь их расстилали по полу. Стены и пол были выложены из грубо отесанных камней, схваченных каким-то раствором. С веками он затвердел так, что по прочности не уступал цементу. Небольшое оконце, пробитое почти под потолком, забрано тремя толстыми железными полосами. Свет падал из него расширяющимся клином, и оттого под оконцем было почти темно. Усиливала мрачное впечатление и массивная дверь, укрепленная коваными угольниками и полосами. Все было сделано тут прочно, на века. — Ольег! Из темного угла под окном с маисовой соломы поднялась знакомая коренастая фигура с большой всклокоченной головой. — Педро! Они обнялись и заговорили, перебивая друг друга. Олегу даже стало легче оттого, что в каменном ящике нашелся человек, которого так не хватало ему на «Святом Себастьяне», — единомышленник, как решил Олег. — Как ты попал сюда? — опомнился наконец Олег. — Вы ушли на берег, — объяснил Педро. — На причал пришла машина. — Он изобразил пальцами тюремную решетку. — Полицейская, — понял Олег. — Да, да! — закивал Педро. — Меня посадили в авто, вместе с черными… Прервал его лязг отпираемого замка. Вошел солдат с большим деревянным подносом, поставил на стол алюминиевые миски с маисовой кашей и куском печеной тыквы. Затем он принес по кружке водянистого кофе. Окинув придирчивым взглядом помещение, решетку на оконце и заключенных, солдат, так же не спеша, вышел. Тяжко лязгнул за дверью засов. Заключенные разобрали миски. В каше, сдобренной мучнистой подливкой, попадались мелкие кусочки мяса. Олег ел молча, присматриваясь к соседям по камере. С кем заперли его в каменном ящике? Кто эти так не похожие друг на друга люди? Военная тюрьма! Скорее всего, тут сидят дезертиры, которым опостылела война в тропических лесах и саваннах. Хотя… привезли ведь сюда африканцев со «Святого Себастьяна». А Педро! Какой он дезертир?.. Олег присматривался к заключенным, но никаких попыток завести с ними знакомство не делал. После того как его проучили на «Святом Себастьяне» — со стоянкой в Кале, с мнимым пластырем в носовой части, наконец, с контрактом, — осторожность его в тюрьме перешла в недоверчивость. Как бы здесь не запутали похуже, чем на пароходе. Прежде всего надо было решить, как держаться с тюремщиками. Во-первых, ничего и ни в коем случае не подписывать. Никаким обещаниям не верить. Но одно запирательство не принесет свободы… Лишь к утру Олег принял твердое решение. Отвечать на вопросы тюремщиков он не станет. Будут бить? Что ж! Отвечая им, от побоев не спасешься, а только дашь возможность запутать себя. Впрочем, один ответ у него будет. О чем бы ни спросили его тюремщики, они услышат только одно: «Отвечать я буду только в присутствии советского консула». Конечно, это нелепость. Откуда в такой яме советский консул, если его нет даже в Португалии? Неважно. Пускай сообщат консулу соседней страны. В общем, не станет же он думать за них!.. Утром Педро рассказал Олегу о соседях по камере. Выделялся среди них высокий юноша с тонким и несколько высокомерным лицом. Заключенные почтительно называли его сеньор да Эксплосиво. На рубашке его виднелись оставшиеся от погон темные прямоугольники. Сеньор да Эксплосиво, командуя взводом, отказался уничтожить деревушку, из которой ушли все мужчины. «Я солдат, а не мясник», — ответил он разгневанному генералу. Его разжаловали, и теперь он ждет военного суда. За отказ от выполнения приказа в боевых условиях ему грозила каторга, а быть может, и смертная казнь. Для родовитого дворянина и то и другое было одинаково — бесчестье, гибель. Остальные в камере были дезертиры и солдаты, отказавшиеся воевать, что считалось преступлением, не менее серьезным. После завтрака Олега вывели из камеры. Во дворе от мягкого утреннего тепла и пахнущего морем ветерка слегка закружилась голова. Хотелось побыть на солнце, не спешить, но конвоир подтолкнул его прикладом в спину и заставил ускорить шаг. Олега провели через знакомое помещение с деревянным барьером в просторный кабинет с голыми белеными стенами и большим письменным столом. Стоящий в углу застекленный шкаф, забитый разноцветными папками, еще больше подчеркивал запустение и неуютный вид комнаты. За столом сидел в кресле сам комендант. Белый отутюженный костюм, ордена и золотое шитье делали его здесь пришельцем из иного мира — властного, всемогущего. У конца стола вытянулся на стуле с деревянно прямой спиной писарь — солдат с темным, изрытым оспинами лицом. Он заметно волновался, не знал, куда девать руки. Еще бы! Записывать показания заключенного придется рядом со всесильным комендантом. В стороне стоял навытяжку знакомый Олегу сержант с перстнем на указательном пальце. Комендант что-то сказал. — Фамилий? — спросил сержант. — Меня задержали незаконно, — ответил Олег заранее подготовленной фразой, — а потому отвечать я буду только в присутствии советского консула. Некоторое время сержант ошалело смотрел на него водянистыми круглыми глазками, потом пожевал губами и перевел ответ задержанного внимательно слушавшему коменданту. От удивления тот приподнял тонкие подбритые брови и слегка улыбнулся. Писарь растерянно уставился на полковника, не понимая, можно ли записывать такое. Спросить коменданта он не посмел. — Фамилий давай! — прикрикнул на Олега сержант. — Я сказал, — как можно тверже произнес Олег, не отводя взгляда от выпученных глаз переводчика, — отвечать буду только в присутствии советского консула. — Твой фамилий есть Рубцофф! — Сержант с трудом сдерживал растущую злость. — Нам известно, кто ты есть, зачем пришель сюда. Да! — Известно, так нечего меня и спрашивать, — отрезал Олег. Квадратное лицо переводчика вспыхнуло. Сам того не замечая, он стиснул кулаки, но вовремя спохватился. Хозяином здесь был комендант. Кулаки разжались. — Ты есть агент, — сказал он. Вместо ответа Олег пренебрежительно усмехнулся. — Не забывайт, что ты есть на военный тюрьма, — внушительно напомнил переводчик. — Военный тюрьма имеет один суд — военный. Да. Военный суд имеет один наказанье — смерть! — Даже для невиновных? — спросил Олег. — Русский на этот земля есть сильно виновный, — отрубил сержант. — Скажите, — подчеркнуто вежливо спросил Олег, — Майданек и Освенцим были военными тюрьмами или гражданскими? — Мольшать! — Лицо сержанта побагровело. — Что ты думаешь? Где твой надежда жить? — Надежда? — переспросил Олег и неожиданно для себя сказал: — Из Кейптауна я послал письмо в советское Министерство иностранных дел. Сообщил, что после крушения попал на «Святой Себастьян». Меня и здесь найдут. И до тебя доберутся, фашистская образина! Полковник, выслушав перевод, недоумевающе развел руками и что-то сказал. Переводчик угодливо захохотал. Хихикнул и писарь, но тут же покосился на полковника: не разгневала ли того такая вольность рядового? — Какой правительства ты сказал? — издевательски переспросил переводчик. — Мы не знаем такой консул на Лисабон. Такой правительство для наша страна нет. — Есть международное право, — твердо сказал Олег. — Когда в прошлом году наши моряки спасли у Фарерских островов ваших рыбаков, их сразу передали на встречное судно. А ваши моряки сунули меня в военную тюрьму. «А не слишком ли я разговорился? — спохватился Олег. — Могут же, гады, перевернуть мои слова так же, как журналист из Сетубала». — С какой судно спасаль тебя «Сан Себастьяно»? — продолжал допрашивать переводчик. — Пригласите консула, и я отвечу. — Комендант надо знать, правда ты сказаль или нет, — не отступал сержант. — Когда тебя спасаль «Сан Себастьяно»? — Это я скажу только консулу. — Ты не хочешь отвечайт господину коменданту? — В голосе переводчика прозвучали угрожающие нотки. — Коменданту… — Олег коротко задумался. Не стоило бесить шершней в их гнезде, но и уступать им нельзя. — Все отвечу. В присутствии консула. — И неожиданно даже для себя добавил: — Письмо мое в министерстве уже получили. Найдут меня. Переводчик бился, силясь сломить упорство мальчишки. Чем больше нарастала у сержанта злость, тем хуже говорил он по-русски, чаще запинался. — Ты будешь сидеть, сидеть… — Он уже не мог скрыть ярости. — На такой тюрьма долго жить никто не может. Смотри! Олег невольно проследил за рукой сержанта и увидел в окно кладбище — под крепостной стеной выстроились однообразные деревянные кресты. — А тем, кто бегут с родины и нанимаются в солдаты, — Олег дерзко уставился в лицо переводчика, — такие кресты ставят или крашеные? Сержант побагровел, даже уши его налились краской. — Отвечать не будешь? — спросил он и, уже по внешнему виду Олега предугадывая ответ, показал рукой на дверь: — Пошель! На этот раз Олег не заметил ни свежего воздуха, ни палящего уже солнца. Он все еще думал о недавнем допросе. Он полностью во власти тюремщиков. Письмо из Кейптауна он не посылал. И не мог послать: адрес-то надо было написать по-английски, а его познаний английского еле хватало на то, чтобы с грехом пополам читать вывески. Да, но комендант этого не знает. Пока нет ничего лучшего, придется твердо стоять на своем: письмо послано, Олега найдут. Все! Пока конвоир провел его сводчатым прохладным коридором, со скрежетом отодвинул засов, Олег горестно прикинул: рассчитывать на побег тут нечего — стены, оконная решетка и засов непреодолимы. А если не рассчитывать на побег? Остаться на краю ада без надежды?..ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Ночью в крепости лаяли собаки. Зычные голоса их разбудили заключенных. Сперва в камере слышался шорох грубых стеблей под ворочающимися телами, потом негромкий говор. Постепенно беседа стала общей. Чаще других слышался голос общительного Педро. Олегу хотелось спросить у него, что произошло за стенами каменного ящика, но он сдержал себя. Педро в крепости такой же новичок, как и он сам. Пускай потолкует с более знающими людьми. Расспросить его не поздно будет и утром. Лай за стеной и громкие голоса не умолкали. Через оконце пробивался сильный свет: двор освещали прожекторами. Олег лежал на спине, закинув руки под голову. Положение его все ухудшалось. Бежать из тюрьмы невозможно. Ждать помощи с родины нечего. В лучшем случае там считают его погибшим во время столкновения в канале. Но могли в каких-то организациях и прочитать статью в «Голосе» или в «Полемико». Наверняка прочли. «Вырвался за железный занавес…», «Олег Рубцов счастлив…», «С прошлым порвал решительно и бесповоротно…», «Стоящий на причале танкер „Ташкент“…» Такого разыскивать? Беспокоиться за участь парня, который сбежал с судна, а теперь поносит в фашистской газете свою страну?.. От одной мысли, что его считают предателем, Олег готов был на любой риск. Но если он погибнет, то так и останется для всех, кто знает его, дезертиром, предателем… Все это так. Пока рассуждаешь — просто. Но где же выход? Бежать невозможно. На помощь с родины рассчитывать нечего. А третьей-то возможности нет!.. Как ни плохо понимал Олег по-португальски, все же Педро для него оказался незаменимым собеседником. Времени у заключенных хватало, терпения у Педро тоже. Он повторял нужную фразу, помогая себе жестами и мимикой. Выручали и немногие заученные им русские слова. Сведения, полученные Олегом от Педро, были полезны, хотя и малоутешительны. Оказывается, жизнь крепости была совсем не такой сонной, как казалось на первый взгляд. Полгода назад черные подобрались ночью к крепости, перерезали электропровода и телефонную линию. В темноте они перелезли через стену и освободили несколько десятков пленных и арестованных. После этого комендант построил в крепости маленькую электростанцию, работающую на нефти. Усилили охрану крепости и недавно привезенные из Лоренцо-Маркеса сторожевые собаки. Страшные псы! Овчарки и мастифы, специально обученные охоте на людей. Ночью овчарок выпускают во двор. Более крупные и сильные мастифы со своими проводниками патрулируют крепость снаружи. Теперь черным не добраться до заключенных. Все же они иногда пробуют. Вот и этой ночью они, видимо, хотели кому-то помочь бежать. Скорее всего, тем пятерым, которых привезли на «Святом Себастьяне». — Выходит, из крепости все же можно бежать? — подхватил Олег. — Нет. — Педро решительно отмахнулся. — Черный может жить в гнилых лесах, белый там погибнет. — А если белый найдет в лесу черных? — Они убьют его. — Но есть же среди черных понимающие по-португальски? — не уступал Олег. — Можно сказать им: я ваш друг. — О-о! — Педро закрутил головой. — Мы все говорим неграм «друг, друг». И я говорю, и комендант крепости, и сам Салазар. Бр-родяга! Черные не верят слову «друг». Для них белый и черт — одно и то же. Спор шел долго. Олегу так и не удалось поколебать уверенность Педро в том, что вражда африканцев к белым настолько сильна, что о каком-либо сближении не может быть и речи. — Из этого леса ни один белый еще живым не выходил, — настаивал Педро. — Там кругом смерть: в зелени, в воде, в воздухе. — Ты был там? — горячился Олег. — Был? — Спаси меня, пресвятая дева, — воскликнул Педро и поднял руку, — от африканского леса, от черных! В голосе его, в непривычно посерьезневшем лице было столько убежденности, что Олег не стал больше настаивать на своем. Все же он решил изучить расположение крепости, установленные в ней порядки. Помог ему все тот же Педро. Потолковал он со старожилами каменного ящика, расспросил их. К вечеру Олег знал, что по стенам крепости проложены сигнальные линии. Стоит коснуться одной из них, и зальются тревожным воем звонки, поднимут охрану. Во двор выпустят овчарок. Включенные на башнях прожекторы осветят не только двор, но и подступы к крепости — песчаные, голые. Под лучом прожектора там и мышь не укроется. Все было тщательно продумано, проверено многолетним опытом. И все же мысль о побеге не оставляла Олега. Направляясь на допрос, он внимательно всматривался во двор, старался запомнить места в стене, где обвалились камни и образовались уступы. Приметил он и внутренние посты охраны. Хорошо бы угнать толком, как охраняется крепость снаружи. Но как узнать? На обратном пути Олег шел не спеша. Хотелось посмотреть своими глазами все то, о чем удалось ему узнать от более сведущих заключенных. Сигнальные линии на стенах разглядеть не удалось. Запрятали их. Шли они, вероятно, от электростанции. Вход в нее был виден издали: узкая дверь в основании башни, тоже окованная. Наверху рядом с выходившей из оконца железной трубой выделялись белые изоляторы. Провода тянулись от них к столбу, а от него уже разбегались в разных направлениях. Под столбом, на дощатом щите, висели пожарные каски, огнетушители, топоры и лопаты. Над ними скрещивались длинные красные багры. А вот подводов к сигнальным линиям Олег так и не нашел. За два дня Олег узнал немало. Докопается и до остального. И в крепостных стенах бывают трещины. А что Педро твердит, будто бежать отсюда невозможно… Если не думать о побеге, тогда что же остается? Невольно Олег покосился в сторону кладбища с деревянными крестами, почерневшими, ветхими и совсем еще свежими.ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Утром вместо приевшейся маисовой каши с мучнистой подливкой заключенные получили рисовую, с куском мяса. В кружках был не водянистый кофе, а жиденький компот. Олег взял миску и вопросительно посмотрел на Педро: что это значит? — Воскресенье! — Педро сделал значительную мину. — Сегодня нас поведут молиться. Давай-давай! За сеньора коменданта! За отца нашего Салазара! За тех, кто кормит нас здесь маисовой кашей, оберегает в этом ящике от жары и ветра. В отношении Педро к религии были совершенно необъяснимые зигзаги. В нем уживалось почтительное отношение к деве Марии и насмешки над служителями церкви, ее обрядами, суеверия — с вольнодумством. Впрочем, посещение церкви было обставлено так, что едва ли могло настроить на молитвенный лад. Из камеры заключенных вызывали по одному. В узком сводчатом коридоре их тщательно обыскивали и строили в колонну по два. Озабоченно-внимательные лица конвоиров, грозные окрики, сверкающие штыки… Какие после этого молитвы? В небольшой церкви заключенных расставили двумя группами, оставив между ними довольно широкий проход. Справа стояли белые, слева — африканцы в наручниках. — Мы с тобой знаем, что бежать нам отсюда некуда, — объяснил Педро. — А они, — он кивнул в сторону африканцев, — им только добраться до леса… Патер в легкой шелковой сутане поднял руки, благословляя свою паству. Отдельно он благословил стоящих перед ним офицеров и свободных от службы солдат. Скрестив выделяющиеся на черной сутане тонкие белые кисти рук, он замер с опущенной головой, готовясь начать проповедь. В церкви стояла такая тишина, что звякнувшие в стороне наручники прозвучали неестественно громко. Патер поднял голову. Глаза его остановились на чем-то, видном только ему одному. Говорил он вдохновенно. На его тонком, выразительном лице скорбь сменилась мягким отеческим выражением, затем гневом. За спиной у него запел хор. Стройные голоса звучали светло, трогательно, иногда затихая до еле слышного хрустально чистого звука, и, снова нарастая, заполняли все помещение, гремели подсводами. Олег почувствовал, как на глаза его набежали слезы. Что это? Откуда в этом трижды проклятом углу такой хор? Чистые детские голоса молили о чем-то хорошем, добром. И, отвечая им, патер покорно опускал голову и певуче заключал: — Амен! Хор замолк. Олег широко раскрыл удивленные глаза и тут же пригнулся, скрывая улыбку. Настороженный слух его уловил еле слышное шипение. Радиола! Олег с усилием подавил улыбку и осмотрелся. Его окружали люди с застывшими лицами, беззвучно шевелящимися губами. Мысли Олега обратились к другому, далекому от того, что происходило в церкви. Окна тут высокие, зарешеченные. У входа и между двумя группами заключенных — белых и африканцев — расположилась вооруженная охрана. (Интересно, как она сочетала свои обязанности с молитвой?) За спиной падре виднелась резная деревянная дверь; кажется, единственная неокованная в крепости. Заинтересовали Олега провода. Высоковато протянули их. Зачистить бы два провода, соединить. А там короткое замыкание, огонь, паника… Не добраться к ним на глазах у охраны. И здесь рассчитывать на побег нечего. Интерес Олега к окружающему сразу упал. Снова появилось ощущение, что его стиснули со всех сторон мертвые камни крепости. И нет силы, которая могла бы раздвинуть их, открыть для заключенного небо, землю, свободу.ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Опять на допрос! Олег невесело усмехнулся. Что ж! Пройдемся. Подышим свежим воздухом. Помолчим. В крайнем случае ответим: «Вызовите консула». Переводчик побагровеет до ушей. Начнет путать русские слова… Олег вышел из корпуса и привычно повернул к административному зданию. — Стой! — прикрикнул конвоир и показал винтовкой в противоположную сторону. Это было нечто новое. Обычное перед допросом возбуждение перешло в смутное беспокойство. Что они еще придумали? Куда ведут? Быть может, переводят в соседний корпус? Но ведь там держат только африканцев… «Черный» корпус остался в стороне. Миновали приземистый каменный склад, кухню и подошли к прилепившемуся к крепостной стене небольшому флигельку с высокой трубой. — Вперед! — прикрикнул конвоир. Олег толкнул болтающуюся на расшатанных петлях низкую дверь. В лицо пахнуло затхлым парным воздухом. Угол просторного помещения с решетками на окнах занимала печь с вмазанным в нее баком с большим краном. Возле него висели на стене жестяные корыта. Длинный стол. На стенах и низком потолке серые, с прозеленью пятна, как лишаи. Конвоир больше руками, чем словами, объяснил, что Олег должен постирать рубашку, шорты и высушить их электрическим утюгом. Показал штепсель и вышел. Оставаться в духоте и вони ему не хотелось. Да и заключенный бежать отсюда не мог. Изумление и беспокойство Олега нарастали с каждой минутой. Зачем все это? Не готовятся ли судить его? Возможно, хотят показать русского приезжему начальству? А если… Олег даже вздрогнул. Освободят? Черта с два! Жди от них!.. Размышляя так, он не терял времени: быстро разделся, замочил в корыте одежду. Наполнил второе корыто теплой водой из бака и стал мыться. В прачечную вернулся конвоир и стал объяснять, что надо стирать, а не мыться. Олег согласно покивал головой, а когда тот вышел, все же вымылся до пояса — не терять же такой случай! — и принялся за стирку. Стирал Олег старательно, не жалея ни сил, ни мыла. Сушил утюгом еще усерднее. Несколько раз в прачечную заглядывал конвоир. Во всем его облике было нетерпение, затем негодование и, наконец, с трудом сдерживаемая злость. Кому понравится торчать с винтовкой у входа в вонючую прачечную! Но он явно сдерживал себя, покрикивал в меру, не угрожал. Волнение Олега все усиливалось. Что все это значит? Не забота же о внешнем виде заключенного. Все настойчивее становились мысли, от которых радостно хмелела голова. Как ни отмахивался от них Олег, они возвращались снова и снова, скоро вытеснили все остальные. Освободят. А если освободят, то куда отправят? «Святой Себастьян» давно ушел из Форт-Торраго… Олег оделся. Чистая сыроватая майка приятно освежила вымытое тело. Одеваясь, Олег приметил на припечке коробку спичек. Сунул ее в карман. Пригодятся. Хотел было прихватить и валяющийся у ножки стола железный кружок, но не успел. Вошел конвоир. Увидев заключенного одетым, он достал из кармана свитый в кольцо ремешок и вручил ему. Олег застыл с ремешком. Руки его дрожали. Перед глазами появилась мутная пелена. Как ни молод он был, но знал: первое, что вручают освобождаемому из-под ареста, — ремень. Значит, свобода?.. На этот раз конвоир еле поспевал за Олегом. И молчал. Ни разу не обругал его, даже не прикрикнул, и от этого Олег чувствовал себя почти свободным. Знакомое помещение с дощатым барьером выглядело чище, светлее. Или так кажется? От радости! И, словно отвечая на его сомнения, дежурный офицер, увидев Олега, встал. Вскинув два пальцы к берету, он щелкнул каблуками и пригласил его пройти в соседнюю комнату. С трудом сдерживая участившееся дыхание, Олег толкнул дверь. За знакомым письменным столом сидел рослый седой мужчина. — Рад вас видеть! — Он стремительно пошел навстречу Олегу с протянутыми руками, крепко обнял его. — Очень рад! Родина оценит вашу стойкость и преданность. — И, вспомнив, представился: — Советник посольства в Танзании Евгений Николаевич Серебряков. Садись, дружок, садись. — Он усадил Олега и откинулся на спинку кресла, всматриваясь в него сияющими глазами. — Добился своего. Молодец! Просто молодец! Такой радости Олег в жизни не помнил. Она захватила его до темноты в глазах, оттеснила все пережитое. Советник посольства! Свобода! Прощай, трижды проклятый Форт-Торраго с его тюрьмой, пеклом и наручниками! Прощай, чужбина! Какими мелкими казались сейчас недавние тревоги за ответ, что придется держать на родине за совершенное на «Воскресенске», а затем и на «Святом Себастьяне»!.. — Я веду переговоры о твоем освобождении, — сказал Серебряков. — К счастью, ты держался так, что никаких поводов для дальнейшего задержания у местных властей нет. Ни словом, ни намеком ты не выдал себя. Это тебя и выручило. Услышанное не сразу дошло до затуманенного радостью сознания. Широкая мальчишеская улыбка застыла на лице Олега, окаменела. Значит, еще не свобода? Пока только переговоры об освобождении. А он-то мысленно был уже далеко от Форт-Торраго. Трудно было даже представить себе возвращение в ненавистный каменный ящик… — Мне нужно, чтобы ты и в дальнейшем вел себя так же стойко и достойно, — продолжал Серебряков. — Ни в коем случае не называй им, — он кивнул в сторону закрытой двери, — своих друзей на «Святом Себастьяне». — Есть не называть! — бездумно пробормотал все еще не опомнившийся Олег. — Надеюсь, что и в тюрьме ты сумел завести друзей, — сказал Серебряков. — Надо им помочь. Я предложу обменять их на португальских солдат, сдавшихся повстанцам. Кого ты считаешь нужным обменять из тех, что сидят здесь? Олег поднял голову. Сейчас он походил на трудно просыпающегося человека. — Друзей, — повторил он. Замутившая сознание радость развеялась. Появилось тягостное ощущение, будто он впервые видит эту комнату с голыми стенами — неприятную, враждебную. — Вы получили мое письмо? — Нет. — Не получили? — глухо повторил Олег. — Нас известили о том, что в министерство пришло твое письмо, — сказал Серебряков, — но не переслали его нам. Комната сразу потемнела. Радостное волнение перешло в глухую злость. Советник посольства! Гад! — Нам предложили принять срочные меры, чтобы вытянуть тебя из этой ямы, — добавил для большей убедительности Серебряков, заметив, как изменилось лицо Олега. — И мы сделаем это. Указание министерства будет выполнено. — И в какую же другую яму вы меня сунете? — Глаза Олега сузились, смотрели из-под падающей на глаза челки враждебно. — Что с тобой? — опешил Серебряков. — Давайте говорить начистоту. — Олег не отводил горячего взгляда от лица провокатора. — Кто вас интересует: Олег Рубцов или его друзья? Молчите? Так вот, запомните: нет у меня в тюрьме друзей. Ясно? — Как вы разговариваете с человеком, прибывшим по поручению министерства? — опомнился Серебряков. — Хватит! — оборвал его Олег. — Вы такой же советский дипломат, как я африканец. — Ты с ума сошел? — воскликнул Серебряков. — Откуда такая подозрительность? Я могу показать служебное удостоверение. — Липа! — Я… — Будем говорить начистоту, — перебил его Олег, — или я опять заведу свою волынку про консула. — Вот это лучше! — подхватил Серебряков, пропустив мимо ушей вторую половину фразы, о консуле. Он был явно озадачен, никак не мог понять, каким образом этот зеленый мальчуган с такой уверенностью, чуть ли не с первых фраз, понял его. Возможно, в письме был какой-то пароль? — С советником посольства кончено, — отрывисто сказал Олег. — Кто вы и почему оказались здесь? — Требовать у меня ты ничего не можешь… — начал было Серебряков. — Я не требую, — перебил его Олег, — прошу. Но в голосе его, внешности не было и тени просьбы. Серебряков прошелся по комнате. Мальчишка каким-то непостижимым образом раскрыл его. Сидит ссутулившийся, не спуская с него сощуренных злых глаз. Продолжать выдавать себя за советского дипломата бессмысленно. А если круто сменить фронт, ошарашить его откровенностью? — Хочешь знать, кто я такой? — Да. — Русский человек, попавший много лет назад в такую же беду, как и ты сейчас. — И чего вы хотите? — Выручить тебя. — Как выручить? — Дать тебе свободу. — И куда потом меня… свободного? — Можно устроить тебя на службу здесь. — Полицейским?.. — Олег сдержался, не закончил фразу. — Об этом надо подумать, — ответил Серебряков, будто не замечая многозначительной заминки собеседника. — Приятной работенки здесь не найдешь. Зато свобода. Из поселка легче унести ноги, чем из этих стен. — Унести ноги, — повторил Олег. — Куда? — Возможно, удастся помочь тебе бежать к черным. — Бежать к черным!.. Очень хотелось Олегу высказать упитанному негодяю с сияющими глазами все, что он думал о нем, но осторожность взяла верх. Стоит ли спешить? Допустим, обругает он провокатора. Что от этого изменится? Совесть, что ли, появится у этого типа? Пускай лучше он доложит начальству, что миссия его не совсем неудачна. Возможно, это как-то повернется в пользу заключенного. Ведь поверили они в существование мнимого письма, якобы посланного Олегом в Министерство иностранных дел. «Вот тебе, парень, и выход!» — с горечью подумал Олег. Пойти в наемники, стать рядом с сержантом. Надевать на руки холодные наручники. Водить закованных людей. Обыскивать их и думать о побеге… Добрые намерения земляка! Хватит. Побыл Олег Рубцов португальским матросом. До сих пор ног не вытащить. — Что ж ты молчишь? — поторопил его Серебряков. — Выход только один. Ничего другого я придумать не могу. — Не так-то просто, — угрюмо протянул Олег, избегая встречаться с его взглядом, — решиться на такое. — Думай. — Серебряков помолчал. Возможно, ему припомнилось, что и сам он колебался, прежде чем порвал со всем, что было привычно и дорого с детства. — Думай, но не затягивай.ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
— Так вот, дорогуша! — Серебряков встретил Олега так, словно и не было у них недавнего резкого разговора. — Завтра я уезжаю. Дела! Перед отъездом придется мне доложить местному начальству, о чем мы с тобой порешили. Что ж ты молчишь? — спросил он и, не дождавшись ответа, закончил: — Выбор у тебя небольшой — свобода в Форт-Торраго или тюрьма. Тут же. — Не могу я сразу… — с трудом выжал из себя Олег. — Опять «сразу»! — воскликнул Серебряков. — У тебя были сутки на раздумье. — А что я видел за эти сутки? — отбивался Олег. — Каменный ящик, решетку да конвоиров! — Итак, ты отказываешься. — Серебряков смотрел сочувственно. — Предпочитаешь ответить за шпионаж в военной зоне? — Какой шпионаж? — вспыхнул Олег. — Нечего меня путать! — Пойми, дурья голова! — с подкупающей отеческой грубоватостью произнес Серебряков. — Обстоятельства сложились так, что ты оказался в укрытой от чужих глаз военной тюрьме. Тебе известно, кого привезли сюда на «Святом Себастьяне». Ты знаешь режим тюрьмы и многое другое. Кладбище видел! Допустим на минуту, что тебя отпустили. Вернулся ты в Россию. Там ты наверняка выложишь все, что видел здесь, знаешь. Ваши газеты поднимут трезвон на весь мир, что колонизаторы уничтожают африканских лидеров. Да еще добавят, сгустят краски. Зашумят негры в ООН. Как же тебя отпустить? — Не знаю. — Вот и я тоже не знаю, — ответил в тон Олегу Серебряков. — А если ты наденешь форму с аксельбантами, то перестанешь быть опасным для португальцев, даже если спустя три месяца уволишься или просто удерешь от них к черным. — Не могу сейчас ответить, — упорно повторил Олег. — Не могу. — Утром я уезжаю. — Серебряков встал. — Последнее, что я постараюсь сделать для тебя: попрошу коменданта дать тебе время подумать. — А если я откажусь? — спросил Олег. — Откажусь и потребую, чтобы меня отправили на родину или хотя бы выпустили из Мозамбика? Что тогда? — Плохо. — Меня будут судить? — Не думаю. — Тогда чем же плохо? — Не знаю. Одно могу сказать: отсюда ты не выйдешь. — Не станут же держать меня в тюрьме без конца? — спросил Олег. — Ничто не тянется бесконечно, — пожал плечами Серебряков. — Климат здесь плохой. Заключенные болеют. Случаются между ними и драки. Пока подоспеет охрана… — Понял. — Прощай, Олег! — Серебряков вздохнул. — Будь благоразумен. В твои годы надо беречь жизнь, здоровье, свободу. Все остальное со временем уладится, затрется в памяти. «Уладится! — сердито думал Олег. — У тебя, может, и уладилось. Но для меня твоя жизнь — могила заживо». В камере он как сумел передал Педро свой разговор с Серебряковым. Хотелось знать, что скажет единомышленник. Педро выслушал его внимательно и ответил, не задумываясь: — Не верь ему. Хороший человек сюда не придет. Не пустят сюда хорошего человека. Это… бр-родяга! — Он подумал и добавил: — Тебе помогут бежать к черным. Это хорошо. А если тебя поймают вместе с черными? Тогда ты отсюда не выйдешь. «А их журналисты поднимут трезвон на весь мир, — добавил мысленно Олег: — „Русские коммунисты командуют повстанцами в Мозамбике“, или что-либо в этом духе». Ему вспомнились самодовольные физиономии черных солдат в португальской военной форме. Тоже ведь африканцы! Не привезли же Серебрякова в Форт-Торраго только для того, чтобы завербовать Олега в полицейские или в солдаты. А вот подкинуть его к черным да тут же поймать… Ради этого стоило потратиться. Олегу стало легче оттого, что друг подкрепил убежденность в его правоте. Верно, Педро! Никому нельзя тут верить. Баттисто устроил так, что его удержали на «Святом Себастьяне». Капитан явно не хотел отпускать с парохода опасного свидетеля. Теперь он спокоен. Знает, куда привез и пристроил впередсмотрящего с «Воскресенска». Прочно пристроил. А уж если сбежит, то недалеко… Тихую беседу оборвал знакомый топот в коридоре. Дверь открылась. Вошел надзиратель: — Заключенный да Эксплосиво! На выход! Даже в сумеречной камере было видно, как побледнел разжалованный офицер. Догадался, зачем его вызывают… Но вышел он из камеры неторопливо, с достоинством человека, сознающего свою правоту. Заключенные проводили его добрыми напутствиями и принялись обсуждать: кто вызвал сеньора да Эксплосиво? Зачем? Мнения высказывались разные, но все сходились на одном: хорошего не жди. Вернулся сеньор да Эксплосиво не скоро. Нарочито твердая походка, плотно сжатые губы, неподвижное лицо без слов подтвердили опасения заключенных. Плохо! Не замечая встретившей его в камере сочувственной тишины, сеньор да Эксплосиво развернул какую-то бумагу. Стоя в падающей из оконца полосе света, он внимательно читал ее, иногда отчеркивая что-то ногтем. Скоро все узнали, что читал сеньор да Эксплосиво. Обвинительное заключение! Приехал из Лоренцо-Маркеса военный прокурор, с ним два журналиста. Суд назначен на завтра. Открытый суд! И ни малейшей надежды на побег или счастливую случайность. Обвиняли сеньора да Эксплосиво в отказе от выполнения приказа в боевых условиях, в пособничестве преступным мятежникам, в действиях, направленных против безопасности страны, и позорной для офицера трусости. Две статьи из пяти, по которым обвинялся сеньор да Эксплосиво, предусматривали высшее наказание — смертную казнь. Ночью в камере почти не спали. Сеньор да Эксплосиво ходил по крохотному пятачку, оставшемуся свободным у двери, останавливался, снова и снова вчитывался в обвинительное заключение и опять ходил. Днем его дважды вызывали. Возвращался он бледный, с красными пятнами на скулах и принимался ходить по камера что-то обдумывая. Заключенные сбились в плотную кучку под оконцем, не желая метать обреченному. — Дорого обойдется вам, господин военный прокурор!.. — воскликнул сеньор да Эксплосиво. Никто ничего не понял из его бессвязного восклицания. Чем мог грозить разжалованный офицер всесильному прокурору? Обращением к общественной защите, к сильным друзьям или родовитой родне? Из крепости это невозможно. Вечером суд, а там… На кладбище появится еще один некрашеный крест. Заключенные перешептывались. А сеньор да Эксплосиво, никого и ничего не замечая, все ходил по камере, ходил. Смеркалось. Вспыхнула под потолком запыленная лампочка. В коридоре послышались шаги; не обычные, неторопливые, а четкие, строевые. Грохнули об пол приклады винтовок. Обвиняемого вывели из камеры. Невольно каждый из оставшихся в камере задумался над тем, что ожидает его здесь: как придут за ним, выведут… Один из дезертиров достал крохотную записную книжку и огрызок карандаша. Оторвал каждому по листку. Все по очереди написали на них свою фамилию, имя и адреса своих близких. Последней стояла запись: «Москва. Министерство рыбной промышленности. Матрос траулера „Воскресенск“ Олег Рубцов». Заключенные договорились, что если удастся кому-либо из них вырваться из крепости, пусть счастливец известит семьи остальных. Олег спросил имена африканцев, привезенных в Форт-Торраго на «Святом Себастьяне». Некоторые удивились прихоти русского парня, но спорить не стали. Припомнили двоих — лидеров Фронта Национального Освобождения. Олегу показалось, что он неправильно записывает их имена. Педро отобрал у него листок и сам записал по-португальски все, что интересовало товарища.ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Обычно пустынный и скучный двор тюрьмы стал неузнаваем. Установленные на башнях прожекторы ярко освещали выстроенный за день помост, стоящие на нем столы: длинный, покрытый зеленым сукном, и по сторонам от него два небольших, один из них также под сукном и второй некрашеный. Перед помостом сидели на земле заключенные: слева африканцы, справа белые. В мертвенном освещении прожекторов лица африканцев стали серыми, у белых они походили на отлитые из гипса маски. Мощные лучи прожекторов погасили подвешенные на столбах электрические фонари. Видны в них были только желтые нити. Лишь на стенах крепости они тускло освещали каменные зубцы и оплетенный колючей проволокой пролом. А под ними держался сумрак, настолько густой, что основание башни сливалось со стеной и землей. Олег осмотрелся. За спиной у него стоял немолодой солдат с приплюснутым носом и тупым лицом. Служака! Шагах в пяти — следующий. Возле закованных африканцев конвоиры стояли вдвое чаще, чем за белыми. Велика же была уверенность тюремщиков в том, что белому бежать из крепости безнадежно. — Встать! Зычная команда всколыхнула заключенных. Все поднялись. Из административного здания вышли судьи: комендант крепости, два майора и прокурор. В некотором отдалении от них шел секретарь суда с пухлыми папками. Белые костюмы, золотое шитье и погоны, величавая поступь судей — все было рассчитано и продумано, а на сером фоне скучившихся перед помостом заключенных выглядело даже несколько театрально. Судьи поднялись на помост, разместились за длинным столом. Прокурор остался справа, за небольшим столиком, покрытым зеленым сукном. — Введите обвиняемого, — приказал председательствующий — комендант. Сеньора да Эксплосиво привели под охраной двух солдат и сержанта с обнаженной саблей. Клинок ее и широкие лезвия штыков, вспыхивая под лучами прожекторов, казалось, уже предвещали суровый приговор. У судейского стола обвиняемый перешел на строевой шаг. Прижав руки по швам, он четким поворотом головы приветствовал старших по званию офицеров. Никто из них ни словом, ни взглядом не ответил ему. В приветствии обвиняемого они увидели не только дерзость не признающего разжалования бывшего офицера, но и вызов, готовность отстаивать свою честь. Чтение непонятного для Олега обвинительного заключения тянулось бесконечно. От нечего делать он всматривался в сосредоточенные лица соседей, конвоиров. Потом внимание его переключилось на крепостную стену, но и там ничего нового, интересного не было. Еще более тягучим был допрос обвиняемого. Единственное, что осталось в памяти Олега от бесконечно длинной процедуры, это решительное «нет» сеньора да Эксплосиво и энергичный жест рукой, словно отбрасывающий обвинение. В голосе обвиняемого, в том, как он держался, называл себя офицером, в гордо поднятой голове было что-то вызывающее. Это заметно раздражало судей, в особенности прокурора. Его голос становился все более властным, иногда срывался на командный тон. Заинтересованные разгоревшейся борьбой между прокурором и обвиняемым заключенные вытягивали шеи, стараясь не упустить ни одного слова на помосте, движения. Даже охрана потеряла обычную для нее ленивую бесстрастность, все больше и больше внимания уделяла поединку у судейского стола. А там становилось все жарче. Уже вопросы задавал сеньор да Эксплосиво. Каждое слово его звучало требовательно, громко, на весь двор. В спор вмешался председатель суда и протянул обвиняемому какой-то документ. Сеньор да Эксплосиво взял бумагу. Найдя в ней нужное место, он подошел к прокурору и громко прочитал несколько фраз. И тут произошло такое, что все — судьи, конвоиры, заключенные, сидевшие рядом с помостом журналисты — оцепенели. Обвиняемый коротко размахнулся и хлестко ударил по лицу прокурора. В наступившей тишине звонкая пощечина прозвучала оглушительно. Прокурор отшатнулся, трясущейся рукой вытащил из кобуры пистолет. Один из судей успел выскочить из-за стола и перехватить его руку. Председатель суда грохнул кулаком по столу, что-то крикнул. Конвоиры опомнились, подскочили к обвиняемому и силой уволокли его в сторону. — Вы больше не прокурор! — нервно хохотал сеньор да Эксплосиво. — Вы полковник, публично получивший пощечину! Вы такой же, как и я, опозоренный офицер. Вы не имеете права судить меня… Опомнились, загудели заключенные. Но смятение охраны в эту минуту было настолько велико, что никто не обращал на них внимания. Кто-то впереди громко объяснял соседям, что офицер, получивший пощечину, должен уйти из армии… Олег обернулся. Стоящий за ним солдат широко раскрытыми глазами уставился на то, что происходило на судейском помосте. Такого случая больше не будет. Олег плавным кошачьим движением скользнул мимо остолбеневшего конвоира и, напрягая все силы, побежал к вывалившимся из крепостной стены крупным камням. Шум за спиной стремительно нарастал. Слышались какие-то возгласы. Еще усилие, и Олег вырвался из ярко освещенного прожекторами пространства и нырнул в сумрак. Перед ним появилась из мрака доска с противопожарным инвентарем. Олег сорвал с крючьев длинный багор и бросился к крепостной стене. Опираясь на багор, он легко вскочил на большой камень, с него перепрыгнул на выступ в стене. Мельком увидел зубцы ее, освещенные электрическими фонарями. Не проскочить там. Снимут пулей. И, словно подтверждая его опасения, позади грохнул выстрел. Брызнули в лицо осколки камня. Еще выстрел. Освещенные ярким светом прожекторов конвоиры стреляли в сумрак под стеной почти вслепую. Но на стене фонари… Олег увидел над головой изогнутую железную трубу, выделяющиеся в темноте белые изоляторы. Стиснув зубы, он широко размахнулся и что было сил ударил по выбегавшим из оконца башни проводам. Погасли прожекторы. Крик за спиной, сумятица усилилась. Еще размах багром и еще… Оборван последний провод. Погасли фонари на стенах, башнях, во дворе. В темноте шум, крики, угрожающие возгласы слились в сплошной гул. Опираясь на багор, Олег взобрался на вершину стены. Несколько сильных ударов режущей стороной багра, и колючая проволока разрублена. Темная глубина под стеной выглядела бездонной. Трудно было заставить себя прыгнуть в темноту!.. Снова выручил багор. Олег опустил его за стену, зацепил крюком за вмятину в камне. Быстро перебирая руками по прохладному древку, скользнул вниз и прыгнул…ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Земля была гораздо ближе, чем казалось с вершины стены. От неожиданного толчка Олег едва устоял на ногах. Сгоряча он не мог даже сразу сообразить, где море и где материк, в какую сторону бежать. Тяжело дыша, прижался он спиной к еще теплой стене. Осмотрелся. Совсем невдалеке поблескивала вода. Между стеной и слабо освещенным крупными звездами морем тянулась узкая полоса земли. Олег повернул направо, к материку. Он бежал вдоль стены, увязая в рыхлом песке. Разрыв между стеной и морем сузился. Ноги скользили на песчаном склоне. Олег забыл о поднятой в крепости сумятице. Ему казалось, что сейчас выбегут из крепости солдаты, перекроют путь на материк… Опомнился он, услышав глухое рычание. Перед ним стоял огромный пес мастиф. Таких собак Олег в жизни не видел. Широкая, могучая грудь, слегка сплюснутая морда с выступающими из-под верхней губы клыками, каких не увидишь и у волка. Олег прижался спиной к стене и застыл беззащитный, беспомощный, не отводя глаз от страшного пса. Даже камня не найдешь в песке. Да что камень на такого зверя! Мастиф уставился на него круглыми блестящими глазками, не проявляя ни враждебности, ни дружелюбия. Потом он потянулся к замершему Олегу, внимательно обнюхал его ноги… У воды кто-то тихо свистнул. Пес взглянул на окаменевшего беглеца и неторопливо рысцой направился на зов. Опомнился Олег, услышав негромкий разговор. Надо уходить от приближающегося дозора. Бежать можно только к концу клешни, к морю. Там негде укрыться. Но и здесь не спасешься от солдат с псом-чудовищем, не разминуться с ними на узкой полосе под крепостной стеной. Прижимаясь к стене, Олег отступал от солдат. Иногда он останавливался, вслушиваясь: не повернули ли они обратно? Нет, идут. Сами того не зная, они теснили беглеца от материка к морю. Остановился Олег около угловой башни. Слева, над воротами, горел аварийный ацетиленовый фонарь. В падающем из-под белого козырька светлом полукруге выделялась будка часового. Возле нее стояли три солдата. Позади послышались негромкие голоса. Пришлось уходить берегом, к концу клешни, окруженной со всех сторон морем. Остановился Олег у огороженного металлической сеткой бассейна для купания. Рядом с ним виднелись мостики с привязанными лодками. На корме одной из них выделялся белый подвесной мотор. Олег спустился к мосткам и скрипнул зубами от обиды. Цепи от лодок были прихвачены надежными замками к ввинченным в помост железным кольцам. Невдалеке вспыхнул электрический фонарик. Луч его скользнул над головой Олега и растаял в темноте. Невольно Олег присел и вслушался. Шагов не слышно. Он уже понял, почему его пощадил мастиф. В камере рассказывали, что собаки были натасканы на поиск африканцев. Все же встречаться еще раз с мастифом было рискованно. Зарычит еще, набегут солдаты. А тех-то натаскали хватать любого, кто приблизится к крепости-тюрьме. Выход оставался один: обогнуть крепость вплавь. Олег вошел в теплую воду и замер, чувствуя, как знобящая дрожь расплывается по спине, сползает к ногам. На воде скользнула светящаяся полоса. Акула! Заминка показалась Олегу бесконечной. Подогнал его вспыхнувший на берегу тонкий лучик. Олег забрался в лодку с мотором. Ощупью нашел цепь. Попробовал вырвать кольцо из мостков. Прочно, не шевельнешь. Олег много раз думал о риске, готовил себя к нему. И вот пришло время проверить свою решимость. Он набрал из мотора горючего — бензина с какой-то едко пахнущей примесью, — смочил ноги, руки, шею. Не пожалел он одежду и шляпу, смочил и их. Уже ступив в теплую воду, Олег вспомнил о спичках и переложил коробку из кармана под шляпу. Надвинул ее поглубже. Чувствуя, как гулко колотится сердце, отдает в висках, он вошел в воду. Плыл Олег брассом, мягко, без всплесков, разгребая перед собой воду. Обогнув бассейн, он свернул в сторону материка, когда на пути появилась знакомая светящаяся полоса. Дыхание зачастило. Руки и ноги стали вялыми, отказывались двигаться… Акула сделала круг рядом с пловцом и направилась в открытое море. Действительно ли отогнал ее запах смазки или просто хищница была сыта, но больше она не появлялась. Снова окрепли руки и ноги. Движения стали уверенными. Олег держался ближе к берегу. Так было спокойнее. Крепость осталась позади, но выйти на берег было рискованно. Намокшие туфли становились все тяжелее, мешали плыть. Но и сбросить их нельзя: недалеко уйдешь босиком по лесу или по раскаленному песку. Под крепостной стеной вспыхивали яркие глазки фонариков. Острые серебристые лучики выхватывали из темноты полоски песчаного берега и гасли, подгоняя одинокого пловца. «Ищут следы беглеца, — догадался он. — Ищут, чтобы пустить по ним собак. Долго придется вам искать…» Неожиданно рука задела песок. Олег встал на ноги. Лишь сейчас почувствовал он, как устал. Олег отдохнул немного и мелководьем направился к материку. Прошел он немного. Остановил его выступивший из темноты большой камень, обрывистый в сторону берега и с мягким, зализанным волнами спуском к океану. С трудом вскарабкался Олег на вершину его. Ощупью нашел там неглубокую вмятину и, тяжело дыша, вытянулся в ней. Лежал он так недолго. С трудом пересиливая сковывающую все тело тяжесть, стянул с головы шляпу и проверил спрятанные под ней спички. Сухие. Успокоенный, Олег прижался грудью к теплому камню и замер, наслаждаясь отдыхом. Лишь сейчас почувствовал он, какого напряжения стоил побег, встреча с мастифом, соседство с акулой. На башнях и стенах вспыхнули огни. Над крепостью повисло желтоватое марево. На его фоне четко вырисовывались стена, башни. Опомнились. Исправили электричество. Лучи прожекторов шарили по берегу. Ослабевшие, тусклые, раза два добрались они до одинокого камня, скользнули по нему и вернулись на берег. Все еще ищут! Ищут сбежавшего кандидата в полицейские. Подумав так, Олег невольно посмотрел на руки. Вздохнул. До свободы еще далеко. Очень далеко! На теплом, прогретом за день камне одежда подсыхала быстро, как на доброй русской печи. Олег перевернулся на спину. Утомление охватывало его все больше. Глаза слипались. С берега его здесь не увидят. Кому взбредет в голову искать беглеца на стоящем в море одиноком камне? Это было последнее, что он подумал…ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Разбудило Олега раннее солнце. Прежде всего он извлек из кармана и бережно развернул сложенный вчетверо маленький листок. Записанные карандашом шесть адресов и имена африканцев не пострадали от длительного пребывания в воде. Листок был тут же бережно уложен за кожаную подкладку шляпы. Потом Олег пересчитал спички. Семнадцать штук. Небогато. Под стенами крепости и на видимой с камня части полуострова было пустынно. Угомонились. Это хорошо. Олег взглянул под камень и озадаченно протянул: — Да-а! Вместо воды он увидел песчаное дно. А чего, собственно, удивляться? Отлив! Олег сполз с камня. Укрываясь за ним, направился он к курчавившейся на материковом берегу зелени. По пути ему попалась выброшенная морем суковатая палка, увесистая, отполированная волнами. Конечно, это не оружие, но все же спокойнее, когда в руках дубина. Хорошо бы найти что-либо съедобное. Направо и налево тянулся, насколько хватал глаз, однообразный, в крупных застругах желтый песок. Кое-где блестели полосы воды. Впереди выделялся широкий пласт полегших водорослей. По нему бродила крупная бело-розовая птица с длинным острым хвостом. Олег знал, что морское дно в отлив вовсе не безжизненно, как кажется на первый взгляд. Внимание его привлекли еле приметные воронки. Оглянувшись на прикрывающий его от полуострова камень, он принялся разрывать песок палкой. Скоро он поддел его и выбросил на песок крупного, толщиной с палец, щетинистого червя. Оставив его, Олег разрыл небольшой бугорок. В песке блеснул укрывшийся от солнца двустворчатый моллюск. Съедобен ли он? Олегу были известны некоторые ядовитые рыбы, а вот о ядовитых моллюсках ему слышать не приходилось. Моллюск походил на морской гребешок. Значит, съедобен. Сноровисто работая палкой, Олег наполнил шляпу добычей и направился к лесу. На материковом берегу его встретили странные деревья — с высоко поднятыми над землей корнями и плотными, будто покрытыми воском листьями. Песок здесь перешел в вязкий черный ил. На нем виднелись какие-то следы: неровные полосы, отпечатки птичьих лапок. И ничего напоминающего о человеке. Да и зачем он забредет сюда? Прибрежные заросли незаметно переходили в лес. Появились крупные деревья. Выделялись среди них гладкие стволы пальм с высоко поднятыми перистыми кронами. Все больше слышалось птичьих голосов, сильнее трещали цикады. Растительность под деревьями становилась гуще, разнообразнее. Мешали идти какие-то вьющиеся растения с шершавыми листьями; их цепкие стебли путались в ногах, местами сплетались так, что приходилось двигаться, как по скрытой в траве сети. Пробиваться через заросли с палкой и шляпой, полной моллюсков, становилось все труднее. На небольшой поляне Олег наломал сушняка. Развел костерок и принялся жарить моллюсков. Еда получилась странная. От большого моллюска на раскрывшейся, похожей на блюдце раковине оставался сморщенный бурый кусочек. На вкус действительно ни рыба ни мясо, но есть можно. Внимание Олега остановилось на кусте, осыпанном красными сочными ягодами. Олег внимательно осмотрел их, но не нашел на ягодах птичьих поклевок. Он не рискнул попробовать их и вернулся дожаривать оставшихся моллюсков. Покончив с ними, Олег зарыл раковины в золу, завалил кострище сушняком — не следовало оставлять за собой бросающиеся в глаза следы — и отправился дальше. Чем больше углублялся он в лес, тем труднее становилось идти. Плотно сбившиеся под ногами кусты и густая рослая трава скрывали палые деревья, корневища. Задерживали движение и завалы сушняка, оплетенные вьющимися растениями. Из них пробивались широкие и острые, как мечи, зубчатые листья — круглые, с причудливыми вырезами и светло-зеленые с молочными узорами. Все чужое, незнакомое, если не считать стрельчатых ирисов и редких папоротников. Да что с них толку? Появились москиты и крохотные безобидные, но очень назойливые мушки. Они лезли в глаза, в рот, забирались в уши… Почва под травой стала податливой, упругой. Все чаще под ногами чавкала вода. Впереди открылось небольшое болотце, покрытое у закраин красной пузырящейся накипью. Оно теснило беглеца обратно, в сторону моря, крепости. Олег подумал, не обойти ли его, и, с трудом вытаскивая ноги из вязкого ила, вошел в мутно-зеленую воду. После каждого шага под ногой вскипали со дна пузырьки, в лицо бил сильный аммиачный запах, настолько резкий, что щипал глаза. Во всем этом была и своя хорошая сторона. В таких дебрях можно отсидеться, пока в тюрьме успокоятся, махнут рукой на беглеца. Потом он примется за поиски людей. Пускай Педро твердит свое о черных. Можно с ними поладить. Люди же! Мысли о будущей встрече с людьми появлялись все чаще, настойчивее. Казался враждебным чужой, непонятный лес. Как ни буйно растут тут деревья, кусты и травы, а найти что-либо съедобное не просто. Конечно, лес кишит птицами. Со всех сторон трещат они, трезвонят на разные голоса. Только голыми руками их не возьмешь. И палкой не подшибешь. На глаза они почти не показываются. Мелькнут в воздухе пестрые или сизые подкрылки и скроются в чаще. Олег остановился и невольно задержал дыхание от радости. Глаза его удивленно уставились на вершину дерева. Аист! Самый настоящий аист! Землячок! Сидит на развилке и деловито прихорашивается, перебирая длинным клювом перья. Как на Псковщине. Встречу с доброй птицей Олег воспринял как хорошую примету и дальше пошел бодрее. А есть хотелось все сильнее. Моллюски оказались слишком легкой пищей для такого перехода. Олег принялся шарить в кустах, искать гнезда. Да какие гнезда в декабре? Хотя, если в поле стоит почти зрелый маис, а кусты осыпаны ягодами, так почему бы и птицам не нестись в декабре? Впереди лианы сплелись в узорчатую непроходимую стену. Зеленые гибкие и серые древовидные, они теснили одинокого беглеца в сторону. Опутанные ими голые стволы выглядели здесь чужими, случайными. Кроны деревьев сомкнулись наверху. В редкие разрывы проглядывали клочья чистого синего неба. Внизу стало сумрачно, сыро, крепко пахло чем-то затхлым. Все сильнее нарастало беспокойство Олега. Из головы не выходили слова Баттисто: «Ад там, в гнилом лесу. Змеи, москиты, ядовитые растения, хищные звери, непроходимые болота и заросли… Если кто и вырвется из крепости, тот погибнет в лесу». И Педро твердил примерно то же: «Из гнилого леса ни один белый еще живым не выходил. Там кругом смерть: в зелени, в воздухе, в воде…» И, хотя ничего дурного пока не произошло, слова Баттисто и Педро не давали покоя, сковывали каждый шаг, движение в этом чужом и непонятном лесу. Усталость, голод давали чувствовать себя все сильнее. Олег выбрал сухой пригорок, поросщий густой травой, и прилег отдохнуть. Захотелось спать. Глаза слипались, но не давала заснуть мошкара. Олег отмахивался от нее, фыркал, но назойливая мелочь не унималась: ползала по потному лицу и шее, забиралась в уши, в нос, липла на губах… Предупредила Олега об опасности легкая тошнота. Он открыл глаза. Деревья повалились над головой и пошли кругом, потом выпрямились и, не переставая кружить, склонились на другую сторону. С трудом, опираясь на дрожащие почему-то руки, поднял Олег отяжелевшее, вялое тело. Покачиваясь на ослабевших ногах, грузно зашагал с опасного места. Чуть позже он пожалел, что не присмотрелся к обманчиво приветливым кустам, к траве, на которой он лежал. Не до того было. Хорошо, что хоть ноги унес. Олег присел на упавшее дерево. Вот и оправдались слова Педро. Встретился со смертью, таившейся в зелени. Если б не мошкара да москиты, лежать бы ему там… Впереди чуть зашевелилась листва. Олег замер, стиснув обеими руками палку. Из кустов вышла крупная пятнистая кошка на высоких ногах. В зубах она волочила большую птицу. Олег сорвался с места, замахнулся дубиной и… закричал изо всех сил. Ударить он не успел. Кошка бросила птицу и, прижав уши, длинным прыжком нырнула в кусты. Олег стоял неподвижно, крепко сжимая палку. Кошка не возвращалась. Снова засвистали, затрещали в зелени пичуги, оповестили, что в лесу все спокойно, опасности нет. Олег поднял птицу за длинные голенастые ноги. Цапля. Розовая. Не наша. Осмотреть неожиданную добычу внимательнее помешал вспыхнувший с новой силой голод. Вытоптать место для костра и развести огонь было недолго. Сушняка кругом достаточно. Куда труднее оказалось дождаться обеда. Запеченная цапля получилась сочной, мягкой. Олег наелся до отвала и блаженно отдыхал, привалившись спиной к стволу. Хотелось спокойно обдумать, что делать дальше, как искать людей в этом непролазном лесу. Под вечер мошкара исчезла, зато москитов становилось все больше. Отмахиваясь от них веткой с длинными жесткими листьями, Олег ускорил шаг. Надо было найти уголок, пригодный для ночлега. Ничего подходящего в сыром лесу не встречалось. Да и искать становилось все труднее. Стоило остановиться, и сейчас же к нему липли москиты. Ночь пришла быстро, почти без сумерек. С темнотой лес ожил. Незнакомые голоса слышались со всех сторон, даже сверху, с деревьев. Кто кричал — птицы, звери? Лес из чужого стал враждебным, полным опасностей. И подумать о том, как уберечься от них, невозможно. Москитов становилось все больше. Особенно болезненными были укусы в уши и под коленями. Как ни отмахивался Олег, как ни хлестал во все стороны веткой, натиск их становился все ожесточеннее. Ветка выскользнула из рук. Искать ее в темноте было безнадежно. Безмолвные палачи доводили Олега до исступления. Он клял непроглядную тропическую ночь, Африку, «Святого Себастьяна», москитов. Все тело пылало, словно облитое чем-то едким. Особенно горели уши. Олег тер их до боли, бил обеими руками по лицу, извивался всем телом, чтобы движением рубашки оторвать облепивших спину кровопийц. Слова Баттисто «там кругом смерть» воплотились в невидимых крохотных убийц, настойчивых, неистребимых. Они были опаснее хищной пантеры, ядовитой змеи. Сытая пантера не тронет человека, змея уходит от шума. Москиты не бывают сытыми, шумом или движением их не отгонишь. Выдержать такую пытку до утра невозможно. Надо возвращаться к морю. Там ветерок, вода. Будь что будет. Пока есть силы, надо идти. Джунгли из спасителя стали врагом. Олег сделал несколько неуверенных шагов и напоролся грудью на сук. Обходя засохшее дерево, он провалился в подгнивший хворост. Ноги его увязли в жидком иле. Олег ухватился обеими руками за подвернувшуюся ветвь, с усилием вытянул из вязкого ила одну ногу, другую и двинулся вправо. Осторожно ступая по корневищам, податливым палым ветвям, сделал несколько шагов и уперся руками в жесткие лианы. Джунгли окружили его со всех сторон, стиснули, держали мертвой хваткой. В поисках выхода из леса Олег бросался из стороны в сторону, натыкался на новые и новые препятствия. Уже невозможно было понять, что задерживало его, цепляясь за рубашку, путалось в ногах, хлестало по лицу и голове. А москиты!.. Кровожадные твари! Они как будто слетелись со всего леса, чтобы терзатьзатерявшегося в темноте одинокого, измученного человека. Снова и снова пытался Олег пробиться через охвативший его плотным кольцом лес к морю. Не раз он, измученный, обессилевший, оставлял свои попытки и опускался на землю. И снова, гонимый москитами, бросался в темноту, ломился очертя голову неизвестно куда и зачем. Казалось, воздух в лесу был напоен жгучим ядом и он осыпался крохотными огненными капельками на обожженную кожу. От усталости и страданий Олег давно потерял ориентировку — где море и в какой стороне материк. Отбиваясь от своих мучителей, он шептал искусанными в кровь губами: «Хочешь жить — терпи. Стисни зубы. Облейся кровью, но терпи».ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Утро ворвалось в лес стремительно. Клочья неба в разрывах между кронами деревьев быстро светлели. Невидное за чащобой солнце разбросало по вершинам веселых золотистых зайчиков. Измученный Олег пробивался к солнцу, к морю напрямик, разрывая руками и телом листву и ветви, перебираясь через палые деревья и завалы. Лишь непролазная чащоба да сплетения жестких древовидных лиан вынуждали его отклоняться от прямого пути. Но стоило обойти препятствие, и он упорно продолжал двигаться на восток, на солнце, к морю. Москитов становилось все меньше, но зуд в истерзанном ими теле по-прежнему не давал покоя. Желание поскорее вырваться из цепкого враждебного леса, где все непонятно, опасно, заглушало голод, жажду, даже усталость. Заросли оборвались неожиданно. Олег чуть не рухнул с крутого бережка в ручей. Помогло устоять на ногах подвернувшееся под руку деревце. Дрожащая на камнях чистая струя напомнила о том, что со вчерашнего дня он ничего не пил. Зачерпнув в горсти воды, Олег увидел свои руки — грязные, в крови и ссадинах. Олег ополоснул руки. Отдохнув на камне, он разулся, старательно отмыл набившийся в туфли мусор, ил, постирал носки, одежду и лег в ручей. Прохладная вода ослабила мучительный зуд, освежила утомленное тело. Ручей бежал на солнце. Возможно, он и выведет к берегу моря? Стоит ли ломиться лесом, где каждый шаг дается с напряжением, если можно пройти руслом? Олег натянул сырую одежду, туфли и двинулся по ручью, разгоняя ногами стайки дерзких рыбешек. Растущие по берегам деревца сближались все больше. Скоро они сомкнулись над головой, сплелись ветвями в плотный, почти непроницаемый для света навес. Под ним было прохладно, тихо. Слышалась лишь журчавшая под коленями вода да откуда-то издалека доносились птичьи голоса. Ручей петлял, огибая то подмытый крутой бережок, то островок, бурлил на встречных камнях. Зеленый навес над головой постепенно поднимался, редел. Ручей вырвался из-под него, словно обрадованный открывшимся простором, слал шире, спокойнее. Скоро он перешел в большой мелкий бочаг. Впереди, сквозь вершины деревьев, блеснуло солнце. Над водой легкими облачками клубилась мошкара. Справа, у пологого травянистого берега, звучно шлепнулась в воду черепаха. Часто работая кривыми ногами, она пересекла бочаг и скрылась под свисающими с высокого, левого берега растениями. Вторая черепаха грелась на сухой кочке, повернув тупую морду в сторону солнца. Беззвучно переставляя ноги, Олег подкрался к ней сзади. Черепаха с неожиданной ловкостью выскользнула из-под ею руки и бросилась в воду. Уйти под спасительные кусты ей не удалось. Олег прыгал перед ней, ногами и руками теснил к низкому, правому берегу. Черепаха металась на мелководье, задевая ногами дно и поднимая за собой вспышки мути. Желая вырваться на глубину, она описала крутой полукруг и наткнулась па бугорок. Зеленовато-серый панцирь приподнялся над водой. Тут рука Олега и настигла его, прижала ко дну. Печеная черепаха оказалась куда вкуснее цапли. После еды Олега разморило. Сказалась утомительная бессонная ночь. Памятуя о необходимой в его положении осторожности, он с трудом поднялся, разбросал по кустам обломки панциря, повалил на кострище подточенное каким-то грызуном деревце. Совсем в дикаря превратился! Скорее бы из леса! Хватит с него одурманивающих растений и москитов. В джунглях наверняка встретишь и кое-что похуже. А вот людей найти не просто. Можно пройти в десяти шагах от человека и не заметить его. Надо держаться ближе к морю. Там все привычнее. Мысль о море вызвала другую. Олег вспоминал расположение Форт-Торраго. Это было нетрудно. Весь поселок-то был с деревушку. А где стоят там лодки? Не может быть, чтобы люди жили у моря и не имели лодок. Конечно, привязаны там лодки, как и в крепости, надежно. Но проще отбить камнем кольцо от причальных мостков, чем пройти несколько километров по гнилому лесу… Олег проснулся. Солнце поднялось высоко. Сухое деревце у воды почти не отбрасывало тени. Хорошо поспал! Прежде чем двинуться дальше, Олег нашел в сушняке крепкую палку. Заложив ее в развилку деревца, отломал вершину. Теперь можно идти. За бочагом ручей быстро сузился и юркнул в лес. Олег двинулся в зеленом гроте с выступающими из его мохнатых стен ветвями. Течение заметно замедлилось. На глубинке разрослись путавшиеся в ногах водяные растения, между ними мелькали серебристые россыпи мальков. Сквозь прибрежные заросли прорывался еле ощутимый ветерок. Олег насторожился. Море совсем близко, рядом. Выходит, что вчера он недалеко отошел от берега. Он не столько углублялся в лес, сколько путался в зарослях и завалах. Возможно, он и не был в гнилом лесу, откуда, как уверял Педро, «ни один белый еще живым не выходил». Знали тюремщики, что джунгли оберегают крепость и заключенных надежнее любой охраны, сигнализации и колючей проволоки. Хватит шлепать по воде. Олег пробрался через окаймляющие ручей кустарники и вышел на открытое место. Впереди, за редкими деревьями, виднелись желтые песчаные гряды. Дальше переливалось под солнцем, слепило глаза море. У горизонта оно таяло в легкой синеватой дымке. Слева, на конце низкой желтой косы, виднелся еле приметный отсюда зеленый конус маяка. Олег вышел с другой стороны полуострова, противоположной крепости. Это хорошо. Дальше от тюрьмы — спокойнее. Олег внимательно осмотрел берег. Теперь он имел более полное представление обо всем полуострове. Дороги с него или даже заметной тропы на материк не было. Неширокий, покрытый выгоревшей травой перешеек просматривался из башен крепости. Днем незамеченным здесь не пройдешь. Дальше полуостров резко расширялся. Поля желтеющего маиса и каких-то темно-зеленых кустов занимали гораздо больше места, чем показалось с палубы «Святого Себастьяна». На худой конец, в рослом маисе можно отсидеться, понаблюдать из него за поселком, морем. Левее, у края полей виднелись стоящие у берега хижины. Растянулась деревушка. Есть ли в ней лодки? Должны быть, раз на материк нет ни дороги, ни тропы. Придется до темноты переждать на окраине леса. Или вернуться к ручью? Возможно, удастся там поймать черепаху на ужин?..ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Вечер пришел тихий, безветренный. После ночи в джунглях на берегу казалось не очень темно. По привычке, Олег посмотрел на небо, хотел найти знакомые ориентиры. Чужое небо! Нет на нем ни привычного с детства ковша Большой Медведицы, ни верной путеводительницы моряков Полярной звезды. Зато был здесь другой ориентир. Глухо гудел прибой, выплескивая на берег пологие длинные волны. С мягким шипением накатывались они и уходили обратно, оставляя на песке грязные клочья пены. В стороне деревни ни огонька, ни отсвета. Неужели там уже спят? Олег миновал перешеек. Осторожно раздвигая перед собой тихо шуршащие стебли маиса, пересек поле. Впереди светились окна Форт-Торраго. Единственная улочка его освещалась тремя фонарями. За ней черный провал до причала, где над въездом тускло светила лампочка. Да что там освещать? Ни грузов на причале, ни людей. Где же в поселке могут быть лодки? Размышляя об этом, Олег обошел окраинные дома и двинулся по берегу. Ничего похожего на причальные мостки. За четкой полосой берега переливалось под звездами, искрилось море. Слева неутомимо трудился маяк-мигалка. Совсем недалеко оставалось до причала, уже четко виднелись контуры знакомого навеса и будки, когда Олега остановил ленивый низкий лай. Простой и ясный замысел сразу превратился в неосуществимый. В темноте можно обойти сторожа, скрыться от него, на худой конец. Собаку не обойдешь, от нее и темнота не укроет. Пес расходился все больше. Возможно, он почуял человека. Пришлось Олегу повернуть обратно. На возвышенном месте он лег на землю — так лучше видно — и стал наблюдать за поселком. Прошло немного времени, и от крайнего дома отделилась светящаяся точка. Покачиваясь, спускалась она к взморью. Послышались негромкие голоса. Кто-то шел с электрическим фонариком. Остановились они за причалом. Тонкий луч осветил лодку и погас. Чуть позднее вспыхнул фонарь на мачте, проложил по морю переливающуюся дорожку. Необычайно громко прозвучали в тишине выхлопы мотора. Фонарь скользнул от берега. Кататься поехали. Плохо! К лодкам не пробраться. И плот не сколотишь голыми руками. Обратиться за помощью к африканцам? Это было крайнее средство. Пережитое многому научило Олега и прежде всего — осторожности. В том, что между местными жителями и их белолицыми владыками пролегла пропасть, сомнений быть не могло. Но память цепко хранила испуганные лица африканцев, разбежавшихся с берега при появлении коменданта. Поймут ли они беглеца? Не увидят ли в нем белого и только белого, как было в Кейптауне со служанкой Поповой? У причала больше делать было нечего. О нем следовало забыть. Возвращаясь к полю, Олег прислушался к выхлопам электростанции. Несколько позднее он заметил стоящий на отлете от поселка домик. Висевшая над входом лампочка бросала желтое полукружье света на каменный порожек, утоптанную землю перед ним. В отблесках его виднелась наполовину вкопанная в землю цистерна с горючим. На электростанции должны быть инструменты. Подобраться бы к ним!.. — Стой! — крикнул невидимый в темноте человек. — Пароль! Олег бросился на землю, распластался. Неприятный холодок подкатил к горлу, мешал дышать. — Фару! — ответил из темноты молодой голос. — Проходи, — разрешил часовой. В освещенном полукруге перед входом появился парень с засученными по локоть рукавами, прошел в домик. Небо на востоке заалело. Зная, как быстро светает здесь, Олег заторопился в укрытие. Пока он обошел поселок и набрел на знакомую стежку, небо стало синим, прозрачным. Мелкие звезды растаяли в нем, крупные поблекли, словно тонули в синей глубине. Олег прошел стежкой в глубь поля. Выбрал подходящее местечко. Лег. Отбросил подвернувшиеся под бок комья. Спал он чутко, просыпаясь от малейшего шороха и снова забываясь в медленно тянущемся полусне. Разбудило его солнце. Олег размял затекшие руки, протер глаза. Спешить было некуда. Впереди предстоял томительный день в убежище. Размышляя, как убить время, он выломал несколько незрелых початков маиса. Зерна в них были сырые, сочные, Маис, конечно, похуже печеной черепахи, но все же утоляет голод. Или обманывает его. Олег зарыл в рыхлую землю объеденные початки, крадучись пробрался к краю поля и принялся наблюдать за деревней. У разбросанных по берегу хижин возились полуголые ребятишки, рылись в пыли куры. Тощая собачонка жадно уставилась на хозяйку, стряпающую на сложенном под открытым небом очаге. В тени ветвистого дерева сидели несколько мужчин. Неторопливое сонное житье. Времени у людей много, дел мало. Живут не спеша. Кто тут поймет беглеца из страшной для любого здесь тюрьмы, захочет помочь ему, зная, какой опасности подвергает он себя и свою семью в случае неудачи? Захотелось пить. Олег пожевал сочную сердцевину початка. Она обманула жажду, но не утолила. В поисках более тенистого места Олег выбрался на поле, покрытое крупными растениями с длинными узкими листьями. Ни плодов на них, ни ягод не было. Попробовал Олег листья и тут же, морщась, выплюнул. Горечь! Отсюда хорошо просматривался весь поселок, зеленая крыша будки на причале, стоящая несколько на отшибе от окраинных домов электростанция. Не было видно лишь самого нужного — круто снижающейся к морю прибрежной полосы. В полуденные часы поселок выглядел мертвым. Даже в круглый павильон никто не заходил. При одном воспоминании об открытых окнах, сквознячке, а главное, бутылках с прохладительными напитками жажда стала невыносимой. Куда бы ни смотрел Олег, о чем бы ни думал, мысли его возвращались все к тому же: пить! Солнце поднялось, нависло над головой, пекло между свисающими со стеблей листьями маиса все сильнее. До вечера еще долго, бесконечно долго. Желая обмануть жажду, Олег грыз сочные початки. Облегчение наступало ненадолго. В поисках лишнего клочка тени он забирался все глубже в заросли маиса и неожиданно оказался у края поля. Совсем близко увидел крайнюю хижину деревни. — Пойду напьюсь, — подумал вслух Олег и добавил: — Надо же узнать, есть ли тут лодки. Он вышел из укрытия. Подгоняемый обжигающим спину и затылок солнцем, вошел в хижину. После ослепительно яркого солнца в хижине, не имеющей окон, показалось очень темно. Кто-то заворочался в углу. С циновки поднялась курчавая женская голова и испуганно уставилась на пришельца. — Воды, — попросил Олег по-португальски. — Дай воды. Женщина проворно вскочила с циновки. Зачерпнув деревянным ковшиком в большом кувшине, подала его гостю. Олег жадно выпил тепловатую воду. — Еще, — попросил он, не замечая сжавшихся, будто в ожидании удара, плеч хозяйки. Все с той же испуганной готовностью она зачерпнула еще ковшик. Пока Олег пил, в хижину вошел старик в полосатых бумажных штанах и желтой майке. Осмотрев посетителя, он спросил что-то у женщины. Она, оправдываясь, прижимала к груди жилистые сильные руки. Голос старика становился все резче. Говорили они на незнакомом языке, и все же Олег понял, что речь идет о нем. Женщина заплакала и вышла из хижины. Старик презрительно посмотрел вслед ей и обернулся к Олегу. — Кто ты? — спросил он по-португальски. — Откуда пришел? — Я русский, — ответил Олег. — Мне нужна лодка. — Лодка? — переспросил старик и показал рукой на циновку. — Отдыхай. Лодка будет. Пока он беседовал с Олегом, в хижину вошли два крепких парня. Старик подождал, пока Олег опустился на циновку, потом вытащил подвешенные к перекрытиям крыши мотыги, прихватил лежавший у входа топор и вышел с парнями из хижины. Старик Олегу не понравился. Слишком легко обещал он лодку. Даже не поинтересовался, зачем она пришельцу. Тревожило и другое. Откуда так быстро появились в хижине эти парни? Видимо, старик послал за ними женщину. Оба парня присели у входа на корточки. Один из них рослый, мускулистый, с жилистой шеей — настоящий богатырь. Второй пониже, но тоже широкий в плечах, крепко сбитый. Похоже, что их оставили сторожить пришельца. Возможно, поэтому старик и унес из хижины мотыги и топор. Оружие! Олег осмотрел стоящие у стен плетенные из травы сосуды, кувшин с водой, висящий на деревянном крюке моток ржавой проволоки, выдолбленный внутри камень с увесистым деревянным пестом. Прямо против двери на небольшом бочонке стояла ярко раскрашенная мадонна. Осмотреться толком Олег не успел. В хижину бурно ворвалась старуха с дохлым цыпленком. Продетые в мочки ушей глиняные трубки оттягивали их почти до плеч. Громко причитая, она схватила мадонну и принялась хлестать ее дохлым цыпленком. Закончив расправу, старуха, задыхаясь от злости, отчитала наказанную богородицу, ткнула ее носом в цыпленка и поставила лицом в угол. Лишь сейчас она заметила лежащего на циновке белого и испуганно попятилась. Опомнившись, старуха стала креститься. Потом она перенесла мадонну обратно на бочонок, низко поклонилась ей и выбежала из хижины. Олег поднялся с циновки, когда в хижину вбежал мальчуган лет четырнадцати, снял с деревянного крюка тыквенную бутылку и, оглядываясь на не видных из угла сторожей, зашептал что-то Олегу на ломаном португальском языке. Из его торопливого шепота Олег разобрал слова «плохой человек» и «придет полиция». Но и этого было достаточно. Недаром так не хотелось заходить в деревню. Да и старик внушал недоверие. Рухнула и последняя надежда. Надо поскорее уносить ноги отсюда. И чем скорее, тем лучше. Олег выпил на дорогу воды и направился к выходу. Оба парня поднялись перед ним, загородили выход. Позы у них были явно угрожающие. Олег попробовал отстранить одного из них, но получил в ответ такой толчок в грудь, что отлетел в глубину хижины. Вступать в открытую схватку было бессмысленно. Слишком неравны силы. К тому же эти парни не одни. Они у себя дома. Мысль работала быстро. От окраины деревни до поселка хорошим шагом можно дойти за двадцать пять минут. Обратно столько же. Приведет гнусный старик полицейских — от них не уйдешь. Взгляд Олега остановился на тяжелом песте. Грохнуть бы одного сторожа, а другого — этой колотушкой и дать ходу… Но тогда вся деревня бросится в погоню. От местных жителей не скроешься и в лесу, не то что в маисе. Ищущий взгляд Олега остановился на наказанной мадонне. Он подумал, чуть заметно усмехнулся. Маловероятно, но попробовать можно. Олег отломил от мотка проволоки небольшой кусочек, выгнул его посредине острым углом и смело направился к выходу. Снова оба парня встали у него на пути. Олег поднял высоко над головой руку с проволокой, как бы показывая ее солнцу, и вдруг на глазах у своих сторожей сильным движением «проткнул» ею свой язык. Выставив вперед руки, он двинулся с торчащей в языке проволокой на испуганно сжавшегося богатыря. Глаза сторожа округлились, рот приоткрылся. Олег таким же резким движением вырвал проволоку из языка и потянулся к богатырю, как бы желая проколоть его язык, а быть может, и голову. Перепуганный сторож попятился еще. Олег наступал, не сводя с него сощуренных глаз. Богатырь не выдержал: сделал огромный скачок в сторону и припустил к поселку. Олег быстро обернулся. Второго сторожа уже но было видно. Минуту спустя Олег был в маисе. Спасибо тебе, злющая бабка с дохлым цыпленком. Надоумила!.. Радость Олега была недолгой. И в маисе он сидел, как в завязанном мешке. Вырваться с полуострова днем нечего и думать. Заметят на перешейке. Пустят по следу собак. Ждать здесь?.. Надо присматривать за деревней, поселком, чтобы увидеть, когда придут полицейские. Прихватят ли они собак? Лучше всего наблюдать за тропинкой, прорезавшей поле от деревни к поселку. Тогда оп увидит полицейских задолго до того, как они дойдут до деревушки. Наблюдать пришлось недолго. Со стороны поселка вышли двое: старик и один из сторожей. Парень покорно втянул голову в плечи, по которым старик нещадно дубасил палкой. По искаженному злостью лицу старика и его выкрикам нетрудно было догадаться, что он уже знал о побеге Олега. Немного времени спустя со стороны деревни появился мальчуган, предупредивший Олега о готовящемся предательстве. Громко напевая, он нес тыквенную бутылку и какой-то зеленый сверток. За ним широко шагал рослый парень в синих штанах и выгоревшей рубашке. Олег всмотрелся в них. Мальчуган — явный друг. Идет спокойно. Всматривается в рослый маис. Похоже, что ищет кого-то. Если же спутник его захочет задержать беглеца — один на один не выйдет. Олег смело вышел на тропинку. Увидев его, подросток оборвал песенку и радостно заулыбался. — Кушай. — Мальчуган подал тыквенную бутылку с молоком. Развернул завернутые в листья лепешки: — Это маниока. Хорошо! Парень говорил по-португальски более уверенно. Пока Олег ел лепешки, запивая их молоком, он сказал, что зовут его Мигель, а парнишку Исидоро, объяснил, что полицейские не придут. Плохого старика — старшину деревни — догнал у самого поселка сторож и сказал, что белый колдун скрылся в море. Сообщить полиции об исчезновении беглеца из крепости старшина не мог — за это попало бы ему, — и он побил палкой глупых сторожей и приказал им молчать. — Лодки у вас есть? — спросил Олег. — Не-ет! — протянул Мигель. — Нет лодок. И объяснил, что жителям деревни нельзя иметь лодки, нельзя общаться с материком… Остальные «нельзя» Олег не понял. Но и этих хватило. Жители деревни, расположенной у Форт-Торраго, были своеобразными заключенными, только имевшими хижины, поля и кое-какую живность. Португальцы терпели их лишь потому, что нуждались в людях, выполняющих тяжелую и грязную работу. Вот почему перепугалась женщина, увидев белого с опухшими от укусов москитов ушами, еле переставляющего ноги от жажды. Поняла, кто это? А старик заподозрил ее в укрывательстве. — Сиди здесь, — сказал, прощаясь, Мигель. — Все будет хорошо. Сам увидишь, как хорошо будет. — Когда? — спросил Олег. — Не знаю. — Мигель мотнул головой в крепких завитках черных волос — Сегодня или завтра. Может быть, потом. Жди здесь. Будет хорошо. — Да, да! Будет хорошо, — повторил за Мигелем Исидоро. — Хорошо будет. Блестящие глаза его смотрели уверенно, ломкий мальчишеский голос звучал убежденно. Олегу очень хотелось чем-то отблагодарить славного мальчугана, оставить какую-то память о себе. Но что мог он подарить?.. И вдруг Олег радостно улыбнулся и достал из кармана смятую проволочку. Распрямив ее, он опять «проткнул» свой язык. Мигель и Исидоро испуганно шарахнулись от него. Они стояли изумленные, не веря своим глазам. Олег выдернул проволоку и кивком подозвал к себе Исидоро. Мальчуган не тронулся с места. Олег не стал настаивать. Он показал, как надо изогнуть проволоку и медленно захватил ее углом язык. Затем он проделал то же самое, но быстрее. Испуганное выражение лиц Мигеля и Исидоро сменилось сияющим. От восторга они били ладонями по коленям, что-то говорили по-своему, забыв, что белый не понимает их языка. Олег подарил проволоку Исидоро. Тот немедленно «проткнул» свой язык и скорчил страшную мину. А Мигель смотрел на мальчугана с откровенной завистью. Исидоро великодушно передал ему проволочку. Мигель торопливо повторил фокус. Исидоро тут же ревниво отобрал у него подарок и заторопился в деревню. Черные друзья ушли. Глядя вслед им, Олег представлял себе физиономии битых сторожей, когда они увидят «колдуна» Исидоро. Ничего, это пойдет им на пользу.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Стемнело. С моря пахнуло освежающим ветерком. Олег отдохнул после изнурительного дневного зноя. Все чаще мысль возвращалась к недавнему разговору. Мигель и Исидоро твердили в один голос, что все будет хорошо. Но что это за «хорошо» и когда оно придет? Мигель сказал «сегодня или завтра». Что может быть хорошего без лодки? Возможно, ребята проведут его в джунгли? При одном воспоминании о ночи, проведенной в гнилом лесу, по спине побежали мурашки. Бездействие тяготило Олега все больше. Сидеть в темноте и тишине, ждать неизвестно чего он больше не мог. Надо действовать. Пробраться бы к лодкам, стоящим у крепости. Они не охраняются. Зато дозоры стерегут узкую полоску земли между морем и стенами крепости. Конечно, солдат можно обойти. Ночи стоят безлунные. Но мастифы!.. А если проплыть к лодкам? Припомнилась стремительно движущаяся по воде голубоватая светящаяся полоса. Но другого выхода не было. А если раздобыть мазута из цистерны, стоящей у электростанции, вымазаться с ног до головы и проплыть до причальных мостков? Пожалуй, это единственная возможность захватить лодку. Все это так, но и мазут тоже охраняется. Размышляя, Олег выбрался из маиса и остановился на открытом месте недалеко от электростанции. Несмотря на поздний час, кое-где в поселке светились окна… Еще несколько часов, и придет рассвет, а за ним изнурительный день, зной, жажда… Неожиданно в стороне крепости прозвучал выстрел. И сразу, как из мешка, посыпало. Черное небо прорезали яркие трассы пулеметных очередей. Пули стлались в сторону перешейка. Иногда трассы направлялись к морю. Что это? Внезапное нападение с нескольких сторон или растерянность, когда захваченным врасплох обороняющимся кажется, что опасность обрушилась отовсюду и они палят, больше пугая себя, чем нападающих? Все это произошло настолько внезапно, что Олег замер, не отводя взгляда от крепости, мелькающих вдалеке огненных вспышек, полосующих темноту пулеметных трасс. Одна из них круто вильнула вверх и оборвалась. Светящая цепочка пуль устремилась в небо, замедлила движение, сбилась в стайку и затерялась в звездах. Сразу представилась схватка на стене, у пулемета… Бой возле крепости разгорался быстро. Светили почему-то только два прожектора из четырех. Неужели черным удалось захватить две башни? Но тогда они наверняка ворвутся в крепости. А дозоры с мастифами, сигнальные линии на стенах, овчарки во дворе?.. Олег опомнился. Лишь сейчас он заметил, что в поселке погасли фонари, окна. Улица потемнела, слилась с мраком. Но это была не сонная ночная тишина, а грозная, готовая к отпору. Первой мыслью Олега было: «Что же я стою? Нельзя терять ни минуты. Надо бежать к тем, кто напали на крепость». Но поймут ли повстанцы, кто он? Скорее всего, что в горячке боя они встретят неожиданно появившегося из темноты белого пулей. А если крикнуть им: «Я ваш друг!..» Не привыкли черные в Мозамбике видеть в белом друга, да еще в таких условиях. Могут заподозрить в этом уловку. Да и пока проберешься к ним через полуостров, бой может кончиться так же внезапно, как и начался. Повстанцы скроются в джунглях. Останешься опять один… Сейчас можно пробраться к морю, к лодкам. Это походило на бегство, на трусость. Хотелось помочь друзьям, которых он искал в джунглях, в деревне; помочь Педро, сеньору Эксплосиво, африканцам в наручниках. Хотя бы отвлечь внимание тюремщиков от нападающих. Надо отвлечь. Необходимо. Можно это сделать. На звездном фоне совсем близко вырисовывались контуры электростанции и цистерны. Олег двигался к ней осторожно; напрягая зрение, всматривался в темноту. Где часовой? Возможно, он бежал? Каменные нервы нужны, чтобы стоять одному, окруженному мраком, зная, что каждую минуту тебя может поразить удар прикладом или копьем. Впереди что-то блеснуло. Олег всмотрелся в мрак. По еле приметному движению увидел часового. Тот прижался к выкрашенной в серебристую краску цистерне, забыв, что на светлом фоне заметить его легче. Олег подползал к цистерне все ближе, не отрывая взгляда от часового. Совсем немного оставалось до солдата, когда тот отошел в сторону. Постоял там и вернулся к цистерне. Олег пропустил его мимо себя, бесшумно поднялся и резко ударил ребром ладони по затылку. Часовой рухнул без звука. Олег быстро снял с него брючный ремешок, скрутил сзади руки, потом оторвал от рубахи солдата длинную полосу и плотно забинтовал его рот. Часовой опомнился, замычал, но Олег уже связывал его ноги. Выстрелы, сверкающие вдалеке искорки пуль торопили Олега. Проверив узлы на связанном часовом, Олег ощупью нашел длинную деревянную ручку крана цистерны. Повернул ее. Плотная струя мазута ударила в углубление, залитое цементом, забурлила на дне. Олег нетерпеливо выдернул кран и вернулся к связанному часовому. Подобрал винтовку. Пригодится. Когда он вернулся к цистерне, зацементированная выемка под краном была почти полна. Олег вытащил из кармана носовой платок. Пропитал его мазутом. Лег на бок, прикрывая своим телом выемку под краном от ближайших домов, поджег платок и бросил его в жирно лоснящийся мазут. От вялого огонька побежали синеватые легкие язычки. Постепенно они крепли, светлели, словно прилипали к мазуту. Олег подхватил винтовку и побежал к причалу. Найти его, а затем и обогнуть было легко: рядом раздавался яростный лай встревоженной стрельбой собаки. Олег уверенно вышел к мосткам, возле которых стояли катеp и весельная лодка. Нащупал цепь, привязанную к кольцу. Сунул в него ствол винтовки. Нажал. Кольцо не поддавалось. Олег стал расшатывать его, искоса посматривая на берег. Мазут разгорался. Черные контуры цистерны выделялись на зыбком розовом фоне. На белой стене электростанции дрожали багровые отсветы. С минуты на минуту там появятся люди. Олег навалился всем телом на винтовку. Кольцо сидело в дереве, как впаянное. Олег пощупал цепь. После короткого раздумья он сунул ствол в одно из звеньев. Несколько сильных круговых движений, и оно разошлось. Олег забросил цепь на нос моторки, повернул ее к себе кормой. Вскочив в лодку, он сильно оттолкнулся прикладом винтовки от причальных мостков. Блики пламени уже добирались до берега, дрожали на столбах и крыше навеса причала, играли на прикрывавшем нос лодки капоте из плексигласа. Олег завел мотор. Выхлопы его привлекли внимание прятавшегося под навесом сторожа причала. Тот что-то крикнул. Олег невнятно ответил, выигрывая дорогие секунды. Лодка рванулась от берега. Сторож выстрелил в воздух. Олег ощупью нашел румпель руля и навалился на него всем телом. Пуля щелкнула по плексигласу и с воем рикошетировала в темноту. Еще выстрел. Мимо. Еще. Олег сидел лицом к берегу. Он видел, как из-за цистерны временами прорывалось ярко-красное пламя. Оно приплясывало, разбрызгивая золотые всплески, освещая снизу тяжелую корону дыма. Около цистерны появились люди. С винтовками. Винтовки — не лопаты, пламя ими не задушить. Да и поздно гасить, когда огненная струя опоясала цистерну. Стрельба отдалялась от крепости, затихала. С новой силой вспыхнула она у перешейка полуострова. Дорого дал бы Олег, чтобы узнать, удалось ли повстанцам освободить заключенных. Неужели Педро не воспользуется такой возможностью, не убежит из тюрьмы? Или сеньор да Эксплосиво! Этому-то терять нечего. Неужели так сильна дворянская спесь, что человек готов погибнуть, но не воспользоваться помощью черных? Форт-Торраго отходил все дальше. Внезапно на месте, где горела цистерна, взметнулось яркое пламя, раскрылось гигантским багровым цветком. Несколько позднее до моторки донесся глухой рокот взрыва. Крохотные фигурки на берегу разбегались от огня. Пылающая река устремилась по пологому спуску к морю, осветила стоящие наверху дома с черными окнами, вспыхнувший в черноте шпиль церкви. Все дальше отходил Форт-Торраго, дальше. Маяк-мигалка уменьшался. Дольше всего виднелось в ночи яркое багровое пятнышко. Мазут горит медленно…ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Всю ночь Олег не выпускал из рук румпеля. Спать не хотелось. Слишком сильно сказалось пережитое возбуждение. Ориентируясь на группу незнакомых крупных звезд, он держал курс от Форт-Торраго. Моторка шла хорошо, оставляя за собой тяжелые лоснящиеся валы с белеющими на них полосами пены. Лишь с первыми проблесками зари Олег выключил мотор. Надо было выяснить, с чем он вышел в океан. Горючего в баке осталось немного. Придется поберечь его на случай ветра, волны. На кормовой банке лежал забытый костылек с намотанной на нем прочной лесой и привязанной к ней блесной. Рядом поблескивал остро отточенным крюком багор. Под плексигласовым капотом стоял бидон. Олег приподнял крышку, заглянул в него. Литра три воды! Может быть, немного больше. Возле бидона лежал сложенный тент и дюралевые стойки. Олег открыл дверцы носового ящика. В нижнем отделении хранился нехитрый инструмент, ветошь, масленка и карбидный фонарь. В верхнем — остатки еды: кусок подсохшего пирога, завернутое в бумагу жареное мясо, банка сгущенки и бутылка из-под вина. Видно было, что рыболовы вчера спешили: забрали добычу и оставили лодку неубранной. За минувшие дни Олег так истосковался по хлебу, что тут же съел пирог. Несколько раз он останавливал себя; сперва хотел разделить пирог на два раза, потом оставить хоть кусочек на вечер, а потом махнул рукой на благоразумие и, успокаивая себя тем, что к вечеру пирог окончательно засохнет, доел все, даже крошки подобрал. Лишь теперь Олег осмотрел лодку. Суденышко ему понравилось. Сильный мотор, стройные обводы и защищенный капотом от всплесков встречной волны острый нос говорили о хорошей скорости и устойчивости «Алларда» — так называлась моторная лодка. Солнце едва поднялось над горизонтом, но уже припекало. Олег развернул тент, вставил стойки в гнезда по обоим бортам и натянул на них брезент. Пришло время позаботиться о пище. Олег проверил, надежно ли привязана блесна, и спустил ее в море. Сидя на корме, он подергивал лесу, всматриваясь в прозрачную зыбкую глубину. Ничего живого заметить в ней не удавалось. Изредка замаячат там похожие на юрких рыбок темные полоски — тени, падающие от ряби на поверхности моря, — и растают. Олег напряженно смотрит в воду… Тропическое солнце жгло нещадно, обжигало даже сквозь тент. От металлических бортов, крашеных банок и покрывающих днище дощатых рыбин несло жаром. Из-под плексигласового капота полыхало, как из духовой печи. И негде было укрыться от зноя, духоты. Облитые морской водой рыбины и банки сохли на глазах. Нестерпимо хотелось пить. Дразнил стоящий на носу бидон — протяни руку и пей. Но остаться в таком пекле без воды — мучительная смерть. Интересно, сколько прожил Мбамба и его старейшины после того, как их приковали к скале? Долго ли пытало их солнце-палач? Время шло. Ничего похожего на поклевку. Олег опускал блесну на разную глубину. Пробовал не подергивать ее, а водить. Не мог же океан быть безжизненным! В знакомых северных морях за это… время не раз скользнули бы поверху стайки мелкой сельди или мойвы. Над ними гомонили бы горластые чайки, кружили серые глупыши и франтоватые — в черных фраках с белыми манишками — кайры. А тут за все время лишь раз показалась вдалеке какая-то птица. Да и та летела высоко, деловито, не опускаясь к воде. Возможно, виновником неудачи был и сам рыболов. Олег был опытным промысловиком, умел спускать трал, поднимать, разделывать улов. Но ловить удочкой!.. Как-то, еще будучи школьником, он просидел полдня на Великой и поймал двух ершишек и окунька с палец. Кошке на смех! Но в Великой рыба была. Все же главная вина в море. Чужое оно, непонятое. Не может быть, чтобы в глубинах его не было ничего живого. А вот не дается оно пришельцу с другого края земли. Жара и особенно жажда донимали все больше. Горячая рубашка налипала на потное тело, жгла. Нагретый воздух из-под плексигласового капота теснил к корме. Олег машинально подергивал опущенную за борт блесну. О чем бы ни думал он, мысли упорно возвращались к стоящему на носу бидону с водой. Припасть бы к нему, напиться, а там будь что будет. Сколько человек может прожить без воды? Припомнилось недавно прочитанное… В африканской пустыне четверо французов остались на поврежденном «виллисе». С трудом проковыляли они восемь километров, и тут двое из них умерли… Восемь километров! За два дня! А в штате Аризона летчик с разбившегося самолета прошел за восемь дней по пятидесятиградусной жаре двести сорок километров. Без воды! Он потерял четверть своего веса, но не погиб благодаря несгибаемой воле к жизни. Воля к жизни! Бомбар переплыл на лодке Атлантический океан без пищи и воды. Но у него была рыба. Много рыбы! Он выжимал из нее сок и пил. А тут… Олег бросил бесполезную блесну, смочил морской водой рубашку, шляпу и, обессиленный, лег на горячее днище. В окружающей его знойной пустоте он ощущал лишь сильные толчки в висках, а вместе с каждым толчком настойчиво стучало в голову, по всему телу: «Пить! Пить! Пить!» Солнце катилось вниз быстро. Вместе с вечерней прохладой пришло и облегчение, но пить хотелось по-прежнему, нестерпимо. Олег выпил четверть кружки воды. Насильно съел жареное мясо. Зачерпнул в бидоне еще полкружки. После некоторого колебания добавил в нее немного морской воды. Получилось солоновато, но пить можно. Добавляют же в пресную воду щепотку соли, чтобы умерить жажду. А пить все хотелось. Подумав, Олег отошел от соблазнительного бидона в дальний конец моторки. Несмотря на проведенную накануне беспокойную ночь, спать не хотелось. Олег устроился на корме. Стоя на коленях, он навалился грудью па борт, не спуская глаз с темного моря: не покажутся ли вдалеке топовые огни парохода? Иногда он зажигал карбидный фонарь. Тонкий белый луч врезался в темноту, мигал, звал на помощь… Так и заснул Олег, навалившись грудью на жесткую скамью. Приснились ему черепахи. Их было много, очень много. И все печеные, сочные. Они плыли по пресной воде. Олег от радости забыл о черепахах. Он припал губами к ручью, жадно пил прохладную воду, пил без конца и не мог напиться. А утром снова однообразное море со всех сторон. Ровное, утомительно блестящее, оно сверкало и переливалось, будто злорадно подмигивало попавшему в беду одинокому человеку — голодному, с пересохшим ртом. Со всех сторон — куда ни взглянешь! — серая линия горизонта. И нигде ничего живого. Будто попряталось все от поднимающегося жестокого солнца, от злобной усмешки моря… Долго сидел Олег под тентом, избегая смотреть на море. Понимая, что в его положении оставаться в бездействии опасно, он снова взялся за блесну. Юркая золотистая рыбка поблескивала под водой в косых лучах солнца, манила товарок, но так и возвращалась к корме моторки одна — никто около нее не появлялся. А Олег, давно уже потеряв надежду на удачу, все же упорно забрасывал блесну и подтаскивал. Занятие, конечно, бесполезное, но оно несколько отвлекало от жажды. Солнце повисло в зените. Разморенный зноем, Олег оставил лесу за бортом и принялся перебирать носовые ящики. Он разворошил в них все. Ничего съедобного найти не удалось. Пришлось открыть сгущенку. После сладкого мучительно захотелось пить. Как ни сдерживал себя Олег, жажда оказалась сильнее сознания. К утру в бидоне оставалось немногим больше литра воды, теплой, с неприятным привкусом. Сидя на корме, Олег вертел в руках пустую бутылку и найденный в ящике резиновый шланг, ломая голову, как бы выпарить пресную воду из морской. Отгадка казалась очень близка. Стоило налить в бутылку немного морской воды, подержать ее на солнце, и вскоре на стекле оседали крохотные капельки. Слизнуть бы их!.. Случайно Олег взглянул на море и забыл о бутылке, даже о жажде. Над водой скользнул острый, скошенный назад плавник. Акула! Хищница звучно шлепнула хвостом по воде и пошла кругами, постепенно приближаясь к лодке. Это была влага. Влага, которую можно пить. Много влаги! Олег сорвался с кормы и нырнул под плексигласовый капот за винтовкой. Попутно взгляд его задержался на бидоне. Трясущимися руками налил Олег из него полкружки воды и не смог остановиться: долил ее доверху. С наслаждением втягивая теплую воду, он присматривал за акулой. Остановилась. Снова пошла вокруг лодки. Не уйдет хищница! Олег подхватил винтовку, багор и вернулся на корму. Не спуская глаз с акулы, он дослал патрон в казенник и плотно прижал стебель затвора. Акула, шумно разрезая воду, промчалась рядом с моторкой, оставляя за собой волнистый след. Олег напряженно следил за ней. Неужели уйдет? Нет. Возвращается. Олег никогда не стрелял из боевой винтовки. Давно, еще школьником, довелось ему сделать несколько выстрелов из малокалиберки. Но сейчас придется стрелять не в консервную банку. Промаха делать нельзя. А хищница носилась вокруг лодки, постепенно сужая круги. Чем бы привлечь ее внимание, чтобы подплыла поближе? Олег вытащил из носового ящика пропитанную жиром бумагу, в которую было завернуто жареное мясо, смял ее в комок и бросил в воду, а сам опустился на колено и уперся локтями о банку. Хищница заметила приманку. Медленно подплывала она к покачивающейся на воде бумаге. Остановилась метрах в пяти — шести от кормы. «Не спеши, — сдерживал себя Олег. — Бить надо только наверняка. Насмерть. Потом поддеть ее багром…» Еле приметное движение плавниками, и акула уже в четырех метрах от него, в трех… Крупные, похожие на бычьи глаза хищницы уставились на комок бумаги. Олег задержал дыхание, плавно нажал спусковой крючок. Небо дрогнуло и разлетелось вдребезги. Крохотные сияющие осколки мелькали с бешеной скоростью и тонули во мраке. «Что с небом?..» Это было последнее, что подумал Олег.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Резкая боль в сгибе локтя. Олег дернул руку, но ее держали крепко. Он открыл глаза. Над ним склонилось острое лицо с крючковатым носом и падающим на глаза клоком волос. Губы человека шевельнулись. Откуда-то издалека, словно приглушенный расстоянием, прозвучал гортанный голос: — Как дела? Спрашивали по-португальски. Захотелось закричать, взвыть от обиды. Мучения в лесу, в поле и на лодке… Все полетело к чертям. Надо молчать. Притвориться глухим, немым, сумасшедшим, кем угодно и молчать, молчать… А вопросы по-прежнему доносились как бы издалека. Спрашивали по-английски, по-французски, по-немецки. Олег молчал. Стоящий у койки моряк в белом кителе выпрямился и обратился к женщине, убиравшей шприц и ампулы: — Драга Владка!.. Дальше слова посыпались частые, незнакомые, совсем не похожие на португальские. Олег всмотрелся в спорящих. — Вы югославы? — спросил он и не узнал своего голоса, вялого, надтреснутого. — Да, да! — Моряк оживился. — Я Драгомир Миланович. Штурман «Сплита». А кто ты? — Русский. — Олег запнулся и удержал готовое сорваться название «Воскресенск», свое имя. Помогла выработавшаяся за время скитаний осторожность. — Рыбак. Драгомир явно удивился, даже слегка приподнял плечи. Русский! Рыбак! Снятый с португальской моторки в открытом море между Мозамбиком и Мадагаскаром! Все это было совершенно невероятно или, во всяком случае, труднообъяснимо. Он хотел что-то спросить, но женщина в белом халате мягко остановила его рукой. Олегу стало стыдно за свою недоверчивость, за то, что в этих людях он заподозрил возможных сообщников Баттисто и тюремщиков из Форт-Торраго. Спрашивали-то они по-португальски потому, что сняли его с «Алларда». Олег поймал руку Драгомира и хрипло произнес. — Я с «Воскресенска». Траулер… — Он увидел удивленное лицо Драгомира и настойчиво повторил название: — «Воскресенск». Из Калининграда. По лицу Драгомира было видно, что он ничего не понимает. «Воскресенск»! Из Калининграда! Как попал он к берегам Восточной Африки? Желая успокоить больного, Драгомир неопределенно повторил: — Калининград! Да, да! Знаю. Есть такой порт. Разговор ослабил Олега. Он выпустил руку Драгомира и сразу обмяк, закрыл глаза. Когда он снова открыл их, в каюте никого не было. В иллюминатор падал предвечерний сумрак. Снова потянуло ко сну. Утром Драгомир, сидя у койки, рассказал, как вахтенный «Сплита» заметил неуправляемую моторку споднятым тентом. Как могла прогулочная лодка оказаться так далеко от берега? «Сплит» подошел к ней и снял лежащего без сознания, с окровавленным лицом Олега. Рядом с ним валялась винтовка с вырванным затвором. Причину разрыва установить было нетрудно: ствол винтовки оказался слегка искривлен. Слушая Драгомира, Олег вспомнил, как он силился вырвать кольцо из причальных мостков. Там он и согнул ствол винтовки. В свою очередь и Олег рассказал о своих скитаниях по чужим морям. Драгомир слушал его внимательно и лишь изредка вставлял: — Фашисты! Крутой перелом в состоянии Олега произошел на следующий день. Виновником этого оказался все тот же Драгомир. Он ворвался в каюту возбужденный, шумный, потрясая какой-то бумажкой. — Добрые вести! Добрые вести! Радист нашел «Воскресенск»! — «Воскресенск»? — Олег не мог поверить услышанному. Но Драгомир не походил на шутника. Да и кто станет так шутить? — Да, да! — горячо подтвердил Драгомир. — Радист наш запросил «Партизан». «Партизан» — ваш «Краснодар». А уж как «Краснодар» нашел в эфире «Воскресенск», я не знаю. Вот радиограмма. Тебе! С «Воскресенска»! — Драгомир торжественно прочитал: — «Рады воскрешению из мертвых. Ждем здоровым, сильным. Впервые после ремонта вышли в море. План идет хорошо. По поручению экипажа БРТ-128: капитан Самокишин, первый помощник Селиверстов, комсорг Сваха, председатель судового комитета Рыжов». Хорошо! — «Воскресенск» цел! — с наслаждением вслушиваясь в свои слова, повторил Олег. — Цел! Он снова и снова мысленно повторял содержание радиограммы. Быстро таяли остатки страха перед встречей с товарищами. Поругают, без этого не обойтись. Пускай даже накажут. Стоит ли думать об этом? Зато он увидит душистый луг за Мирожским монастырем, Сороковой Бор, усеянный земляникой, черникой, увидит солнце, не тропическое — злое, лишающее человека разума, а северное — доброе и ласковое солнце, появление которого приносит радость, оживляет поля и леса, поднимает привядшую траву… Новая мысль заставила Олега встревоженно приподняться. — Драгомир! — Да, друже… — Где моя шляпа? Дрожащий голос Олега, испуганное лицо сдержали готовую сорваться шутку. Драгомир подавил улыбку и ответил возможно серьезнее: — Целы твои вещички… — Дай мне шляпу. — Олег волновался, не мог лежать спокойно. Даже слабость исчезла. — Очень прошу! Сейчас же. Это важно. Драгомир смотрел на него сочувственно. Что с ним? Нервы разыгрались? Зачем понадобилась мальчику замызганная, грязная шляпа? Да еще так спешно! — Мне нужна… — горячился Олег. — Очень нужна моя шляпа. Драгомир успокоил его как мог и вышел из каюты. К странностям больного надо относиться снисходительно. Каждая минуна ожидания превращалась для Олега в бесконечность. Он ворочался, мял ставшую неудобной подушку, вслушивался в чьи-то шаги по коридору. Вошел Драгомир. Протянул шляпу Олегу: — Цела! — Он улыбнулся. — И все пятна на месте. Олег дрожащими руками взял свою видавшую виды шляпу, отвернул кожаную подкладку. Сложенный листок — пожелтевший от пота, почти черный на сгибах — был на месте. Олег развернул его и показал внимательно следившему за ним Драгомиру записанные столбиком имена и адреса. — Эти люди сидели со мной в одной камере. Я должен сообщить о них родным. — Не только родным, — сказал сразу посерьезневший Драгомир. — Пусть много людей узнают о них. Можно сфотографировать это? — Не потеряй. — Олег протянул ему листок. Драгомир вышел. Олег остался один. В долгую бессонную ночь он больше не думал о том, что ожидает его на родине. В памяти его ярко, зримо, до мельчайших подробностей проходили минувшие недели. Теперь, когда все это осталось позади, Олег уже представлял себе встречу с товарищами на «Воскресенске», их лица. А до нее было еще так далеко!..Дмитрий Биленкин ЦВЕТЫ ЛУННОЙ НОЧИ
Неоновые лампочки в ячейках-сотах, откуда быстрыми пчелами летели оранжевые лучики, погасли. Валя чертыхнулся и постучал по прибору. Молчание и темнота: улей космических частиц опустел. Около часа Валя копался в схемах, проверяя контакт за контактом. — Вырубилась линия, не иначе, — буркнул он. — Микрометеорит? — Начальник лунной станции даже не поднял взгляда от лежавших перед ним графиков. — Скорей всего. — Что ж, прогуляйся. Сегодня полноземелие; говорят, красиво. — Угу. Он вынул из шкафчика тестер. Помахал рукой. Ему ответили тем же. — Двадцати минут контрольного времени хватит? — Скажем, полчаса. Пока. — Пока. Прогулка по Луне была для них будничным делом; однако ночь они знали плохо. Они лишь думали, что знают ее. Если бы они видели полноземелие, они бы так не думали. Валя натянул скафандр, защелкнул шлем, проверил питание, связь; автоматика распахнула бронированную дверь тамбура, в спину ударил рванувшийся ток воздуха. Двадцать ступеней вверх, люк плавно отошел в сторону, сзади погасли лампы, и Валя вышел на поверхность: в лицо ударил свет звезд. Покрытый фосфоресцирующей краской кабель выныривал из бетонного колодца шагах в пяти. Валя без усилия приподнял провод и двинулся к главному разводу, пропуская каждый сантиметр сквозь пальцы. Лунную ночь он видел лишь боковым зрением: мысли были заняты делом. Метр за метром струилась бледно-желтая лента, уводя все дальше от станции. Повреждение обнаружилось у главного развода сети: маленькая червоточина пронизывала кабель насквозь. Валя отсек поврежденный участок, срастил концы, светящейся лентой обмотал края ампутации. Тестер одобрительно мигнул лампочкой: все в порядке, электронные пчелы опять снуют как ни в чем не бывало. Валя выпрямился, чтобы минуту — другую беззаботно полюбоваться лунной ночью. Этого было достаточно. Светила полная голубоватая Земля, расчерченная у экватора млечными полосами облаков. Ее свет уводил взгляд туда, где клубились звездные туманности. И дальше, в бесконечность, которая черной искристой чашей опрокидывалась, падала и не могла упасть, вызывая головокружение, на человека, стоящего посреди круга лунного горизонта. Минутная отдача сознания этому застывшему падению, и тело стало чужим, как во сне, легким, как в невесомости. Оно само рванулось навстречу холодному свету Земли. Нужно было лишь оттолкнуться, чтобы полететь туда. Валя так и сделал: оттолкнулся и полетел, раскинув руки. Это было прекрасно! Долгий-долгий беззвучный полет над льдистым блеском камня, над провалами мрака, — парящая тень человека над равниной черного мира. Есть прекрасные уголки природы — они радуют. Есть места мрачные — они угнетают. Но есть время, место и состояние колдовские. Кто хоть раз в тишине пустыни выходил навстречу свету полнолуния, тот знает это. Здесь все было усилено стократ мощью земного света. Валя летел и парил, бесплотно касаясь почвы, и время для него потеряло границы. Земля и Луна дарили ему фантастический сон наяву. Сторожевой пункт разума не мешал: Валя держал направление к станции, он летел дорогой, исхоженной сотни раз. Существенное и второстепенное просто поменялись ролями: работа, станция, обязанности — все стало мелким, незначащим, когда в небе горела колдовская Земля. Неслышимый толчок — парение, раскинув руки; опять толчок; уже десятый, а может, сотый. При каждом, как в сказке, из почвы выскакивал призрачный фиолетовый цветок лунной пыли. Выскакивал и опадал. Вновь и вновь. Валин полет оживлял цветы лунной ночи. Цветы, которые нельзя сорвать. И это тоже было невероятной действительностью сна наяву. Невероятное не сразу кончилось и тогда, когда при очередном касании цветок не вырос. Вместо этого снизу плеснулась темнота, звезды дрогнули и сорвались с мест. Падение в мертвом молчании — это тоже походило на сон, но у этого сна было другое название: кошмар. Когда он очнулся от потрясения, то ничего не увидел вокруг себя. Совсем ничего. Давящий мрак. Руки крепко прижаты камнями к груди. Как зверь, попавший в западню, он инстинктивно рванулся всем телом. Но глыбы не поддались. Лавовая пустота, может быть единственная близ станции, чья кровля могла поддаться прыжку человека, надежно держала Валю. Случай был глупостью, глупостью была лунная ночь, он сам был воплощением глупости, вся Земля могла залиться краской стыда. Кое-как он высвободил руки, на ощупь разгреб камни. Кнопка включения фонаря, рукоять радиовызова… этот камень мешает — в сторону… так, так… Свет не зажегся, радио молчало. Он лежал на глубине — скольких метров? На поверхности его могилу отмечала, скорей всего, просто ямка. Обыкновенная рытвина, каких возле станции сотни, залитая предательским светом Земли. Его будут искать, даже когда поиск потеряет смысл, но найдут ли? Валя остро ненавидел себя. Ненависть потребовала и нашла действие. Он принялся расшатывать глыбы, чтобы снять нависшие над головой (с риском обрушить их на себя). Если он провалился неглубоко, то он выберется сам, нужно лишь заурядное упорство муравья, накрытого горстью песка. Но что-то мешало, камни будто вросли друг в друга; казалось, он имел дело с резиной. Что-то? Мешало не что-то, а кто-то: он сам. Он вдруг усомнился, правильно ли он представляет себе, где верх, а где низ… Он невесомо опирался на камни, столь же невесомо камни опирались на него, разницы не было. Тело погружалось в черное молчание, как в обморок, в котором, однако, присутствует мысль. Растерянность передалась рукам. Они еще что-то передвигали, что-то смещали, но цель была потеряна, она растворилась в действиях, а они делались все беспорядочней. И — как венец бессмыслицы — глаз кольнула вспышка света. Где она мелькнула — вне его или в нем самом? Эта дикая в обыденной жизни мысль не показалась Вале дикой, хотя бы уже потому, что он не мог на нее ответить. Он зажмурил глаза. Свет исчез, его сменили радужные пятна. Значит, вне? Но где, где? Валя на ощупь шарил руками и не мог дотянуться до вспыхнувшей звездочки, даже не мог определить расстояния. Ему казалось, что руки удлиняются бесконечно, что они существуют уже отдельно от тела, и потому обрадовался, когда звездочка исчезла. Но она зажглась вновь, более того — теперь их стало две. Он шевельнул пальцами, потому что в свете второй ему почудился отблеск металла. Первая погасла. Секунду спустя он научился поочередно гасить то одну, то другую. Он с упоением творил собственное звездное небо. Ибо впервые с той минуты, когда его заворожила лунная ночь, хоть что-то повиновалось его воле. И это были звезды! Он рассмеялся и тотчас умолк, таким громом отозвался в ушах собственный смех. Он дурак. Он не понял, какие это звезды. Когда свет проникает в подземелье, он становится лучом. На Луне — нет. Если усилия замурованного открывают щель, то свет приходит сюда только так — вспышкой, пятном, звездочкой. Этот свет Земли играет сейчас на его пальцах, свет ее океанов, льдов, облаков! Ему захотелось поцеловать это пятнышко света. Он изогнулся как мог, соображая, не подскажет ли луч земного света, на какой глубине он засыпан. С усилием кое-как Валя втиснул голову в расщелину, откуда шел луч. Его взгляд, привыкший к абсолютной черноте, обжег голубой огонек. Он, как драгоценный камень, был обрамлен брильянтовыми искрами — отсветами края щели. Валя лежал в неудобной позе, лицом кверху. Лицом к Земле. И смотрел, смотрел на голубую капельку родной планеты. Так он лежал долго, прежде чем благодарность сменилась разочарованием. Ничто не указывало расстояния до края отверстия, до этих искр, окружавших голубое пламя света. До них могло быть и метр, и сто; в окружающем не было никакого мерила, потому что луч в безвоздушном пространстве ничего не освещал на своем пути. Земля предавала его вторично. Не будь Валя человеком наблюдательным, не учись он в свое время изобретательству, так бы он и остался лежать лицом к Земле. Но, как только он поставил себе задачу сделать невидимый бег света видимым, решение пришло немедленно, и он удивился его простоте. Цветы лунной ночи, только и всего! Он нашарил горсть пыли и подбросил ее. Словно стебель невиданного растения устремился по лучу. Выше, выше фиолетовый призрачный стебель коснулся края отверстия. Казалось, Земля бросает ему сверху канат. Валя чуть не заплакал. Судя по длине пылевого столба, высвеченного земным светом, до выхода на поверхность метра три. Безнадежно. Невесомый канат из пылинок свернулся так же быстро, как и возник. Снова мрак, и в нем — голубоватое сияние огонька. Земля предала его в третий раз. Но прежний успех заставил его усомниться: полно, существуют ли безвыходные положения? Или они возникают потому, что изобретательность раньше времени складывает крылья? И человек выносит себе приговор до того, как его вынесут обстоятельства? Никогда раньше Валя не думал с таким напряжением. Надо — он повторил это слово, как заклинание, — надо подать сигнал наверх. Тем, кто вышел или выйдет искать его. Надо, хотя это невозможно: нет радио, нет света, нет звука, нет ничего, чем можно было бы подать сигнал. Ровным счетом ничего. Он поймал себя на противоречии. Как это — ничего нет? Есть камень, есть пустота, есть луч земного света, наконец. Все это не годилось на Земле, а здесь… Он снова обозвал себя дураком, тупицей, глупым мальчишкой. Последнее было истиной. До этой ночи, до своего падения, он и не подозревал, насколько он еще мальчишка. Зато сейчас, зато теперь он открыл в себе и нечто другое. Мужество. И умением счесть невозможное — возможным. …Он лежал, стиснутый глыбами, и высоко, как только мог, подкидывал вверх лунную пыль. Горсть за горстью, ритмично: точка — тире — точка… И смотрел, как растет стебель лунного цветка, как он дотягивается до щели, как уходит дальше. Валя не видел, как он распускается на поверхности, зато он знал, что это видят другие. И еще он знал, что этот цветок лучший из всех, какие ему когда-либо дарила Земля.Сергей Жемайтис ДЕТИ ОКЕАНА (Фантастическая повесть)
БИАТА
Студенты нашего факультета разъезжались на практику. Мы стояли в самом центре нового здания Шереметьевского аэровокзала. Среди нашей шумной и пестрой толпы особенно бросались в глаза костюмы девушек из пентасилона, окрашенные иллюзорином. В последнем семестре мы участвовали в разработке этого удивительного красителя, меняющего цвета под влиянием биотоков. Через неделю улицы городов расцветут умопомрачительными пентасилоно-иллюзориновыми тонами, а сейчас только наши девушки привлекают всеобщее внимание и вызывают зависть сверстниц из других школ. Иллюзорин открывает потрясающие перспективы для биологической практики. Самое небольшое изменение биополя меняет оттенок цвета, его напряженность. А какие перспективы открываются для психологов! Олег Зотов на этом основании пророчит кратковременность моды на иллюзорные краски. И он, пожалуй, прав. Женщина всегда должна оставаться таинственной, хотя бы с виду. А сейчас стоит взглянуть на ее костюм, и все ее привязанности, симпатии и антипатии налицо. Одеяние Литы Чавканадзе прошло через все тона фиолета, пока Костя Болотин учил Олю Головину замысловатому па из «Ой хо-хо». Наконец Костя оставил Олю и подошел к Лите. Ее свитер сначала стал пепельно-серым, а затем вспыхнул, как трава на солнце. Только на Биате был комбинезон из обыкновенной защитной ткани серо-золотистого цвета, принятый в этом году у астролетчиков. Биата — астрофизик. Она улетает на летнюю практику в космическую обсерваторию, а мы с Костей Федоровым отправляемся на «БС-1009». Это одна из многочисленных биологических станций, разбросанных по обе стороны экватора, в зонах интенсивного морского звероводства, полей хлореллы и планктона. Среди нашего красочного общества там и сям виднелись роботы — провожатые, присланные родными для последних напутствий. За мной, не отставая ни на шаг, ходил «дядя Вася». Это, кажется, один из самых древних роботов на планете, созданных для услуг, присмотра за детьми, хранения семейной информации и расчетов по хозяйству. На большее он не был способен, но мы любили эту безотказную машину, с ней было связано очень многое в истории нашей семьи: в своей памяти Вася хранил все мало-мальски интересные случаи из нашей жизни и семейные анекдоты. С тех пор как у него испортилось реле выключения магнитной записи, он «запоминал» все звуки в доме и тем нередко помогал восстанавливать истину в спорах. Последнее обстоятельство выводило из себя мою сестру Катю, но и она стояла горой за Василия, когда заходил разговор о его замене более совершенной моделью. Вася говорил спокойным, слегка надтреснутым голосом моего дедушки: — Иван, я высылаю с вашим «Альбатросом» мою последнюю работу «Процентное содержание пыльцы араукарий в отложениях Верхнего плиоцена». Работа крайне далека от вопросов, которые тебя интересуют по молодости лет и научной подготовки, но в работе есть ряд интересных, на мой взгляд, мыслей общего порядка… — Вася, прибавь темп передачи! — скомандовал я, и голос моего ученого деда прожужжал со скоростью тысяча знаков в минуту. И в заключение, когда Вася перевел передачу на прежнюю частоту, дедушка произнес: — Надеюсь, я не утомил тебя своими полезными, но несколько несовременными сентенциями. Будь здоров и иногда показывай свой лик на моем видеофоне. После этого послышалась бравурная музыка: Катя играла «Восход солнца» Игнатова. Музыка внезапно оборвалась, и я услышал родной голос. — Мой мальчик, я заказала тебе лыжный костюм с обогревом. Лыжный костюм с обогревом — в тропики! Наверное, это зимняя запись. «Василий все перепутал», — подумал я. Но нет, мама упомянула нашу станцию, даже назвала ее координаты и в заключение грустно добавила: — Как жаль, что мы в последнее время виделись так редко! Мне всегда тебя не хватало. Почему вы все так далеки от искусства — и отец, и ты? Боюсь я и за Катерину, она же самая талантливая из всех нас. Недавно стала посещать дополнительные занятия по биохимии… Прости, через тридцать минут я должна быть в студии! Не забудь, что мы можем видеться по средам от тринадцати сорока до тринадцати пятидесяти пяти… Были здесь и современные универсальные роботы из пластмассы, имитирующие человеческий облик. С этими роботами выходило множество презабавных случаев, пока собеседник не догадывался, с кем имеет дело. Из десятка таких роботов, составился недурной хор-оркестр. Костя получил информацию от полосатого робота также довольно древнего происхождения. — Ну, спасибо, Марфа, — сказал Костя. — Передавай всем привет, а сейчас отправляйся вместе с Васей. Только не вздумайте ехать в пассажирском поезде и флиртовать в пути с незнакомыми людьми. — Знаю, — сказал Вася грустно, — какой там флирт. Мы обязаны ехать в грузовой трубе вместе с неодушевленными предметами. Роботы направились в сторону грузовой подземки, а мы с Костей по мере сил стали принимать участие в обсуждении причин поражения нашей сборной на последней олимпиаде в Рио-де-Жанейро, попутно встревая в разнотемный разговор соседей, приветствуя все еще подходивших однокурсников и хором скандируя: «Хо-ро-шей по-сад-ки!», когда где-то из-под ног слышался внушительный голос робота-диспетчера, напоминающего, что до отлета очередной группы осталось десять минут. Подъезжал автокар такого же цвета, как и посадочные жетоны пассажиров. Редко кто из наших ребят садился на автокар, они с гамом бежали, как первокурсники, по цветной дорожке, которая стелилась перед колесами машины, направляя ее к посадочной эстакаде. Биата долго разговаривала с подругами, а когда они ушли на посадку, подошла к нам, взяла Костю под руку и отошла с ним в сторону. Костя искоса посматривал на меня, изобразив на своем лице сожаление и плохо скрываемое торжество. В руках у Биаты была сумочка, где должен лежать хрустальный флакончик со «Звездной пылью», если, конечно, она не выбросила его, и катушки с нитями магнитных записей книг, музыки, фильмов. Я подумал: «Хотелось бы знать, там ли фильм о нашей поездке во время зимних вакаций? Наверное, и его постигла та же участь, что и „Звездную пыль“. А жаль». Мне особенно стало жаль «Звездную пыль». Слава об этой ароматической поэме шла по всему институту. Мне покоя не давали парфюмеры из Москвы, Киева, Риги, Парижа и даже Воронежа, требуя формулы, рабочих записей, и приходили в ужас, узнав, что все это было брошено в корзину для мусора. Конечно, я кое-что помнил, но это кое-что не могло заменить сложнейший синтез, где главным компонентом было мое чувство к Биате. Так Биата стала обладательницей уникального химического соединения, названного ею «Звездной пылью». До меня доносился нежно-грустный запах, в нем было что-то музыкальное. «Пусть, — думал я, — пусть он ей вечно напоминает обо мне, о нашей нелепой ссоре. Он неистребим, все ее вещи, она сама всегда будут излучать „Звездную пыль“». Почему-то такая сентенция доставляла мне горькое удовлетворение. Биата что-то говорила Косте, склонив голову. По временам доносился гул стартовых дюз, низкие гудки буксиров, отвозивших корабли от посадочных галерей к взлетным полосам, шипели автокары, провозя мимо нас более солидных путешественников. Я с деланным равнодушием повернулся спиной к Биате и Косте и тоскливо обводил глазами зал, напоминающий крытый стадион для зимних соревнований по легкой атлетике, только гораздо больше и официальней. Я с критической горечью думал, что здание, в которое вложили столько труда, лишено теплоты, что в нем почему-то чувствуешь себя одиноким, каким-то затерянным, словно вдруг очутился в уголке Сахары или Кара-Кумов, где еще не побеждены пески. Единственное, что радовало взор, был золотистый паркет с просвечивающими пятнами и узором орнамента, созданным мастерами школы Васильева, художника-психоаналитика. Стоило вглядеться пристально в пол, как пятна и линии начинали формироваться в реальные картины. Они рождались в подсознании и проецировались с удивительной отчетливостью на полу. Я увидел портрет Биаты, словно на витраже, созданном мастером прошлых веков. Лицо ее было таким строгим и отрешенным, что у меня мороз пробежал по коже. Мне пришлось уже испытать нечто похожее, когда я впервые оказался в состоянии невесомости. Все привычное уходило из-под ног, руки ловили пустоту. Но тогда это необычное состояние длилось недолго, несколько десятков секунд, я был подготовлен к нему и быстро взял себя в руки. И пришло изумление перед необычным, быстро сменившееся радостью нового ощущения. Сейчас я не чувствовал этой радости. Мне вдруг стало страшно, как в детстве, когда я, тайком пробравшись в библиотеку дедушки, стал просматривать магнитные записи, взятые из Центрального исторического музея. На маленьком экране я увидел поле, обломки машин, среди них стоял мальчик одних лет со мной. К мальчику подошел человек в странной черной форме и выстрелил ему в лицо… Робот называл номер рейса и минуты, оставшиеся до отлета. Ребята хлопали меня по плечу, что-то говорили и с шумом усаживались в автокар или убегали за скользящим пятном света. Кто-то сказал: — Он погрузился в нирвану, не мешайте ему, идущему по пути совершенства. — Прощай! Ну прощай же! Костя, что с ним? Биата смотрела на меня. Глаза ее были ласково-строги. — Он дозревает, как йог, — сказал Костя. — Его опасно выводить из этого состояния. И они захохотали. Подкатил сиреневый автокар. Такие автокары доставляли пассажиров только на космодром. Я сжал руку Биаты. Она сказала: — Я пробуду там три недели. Ты понимаешь, как мне повезло. Только я одна с нашего курса! Вот если бы при мне вспыхнула Сверхновая! Вуд уверяет, что ждать недолго… Она думала только об этой гипотетической сверхновой звезде, которая, по расчетам астрофизиков, уже взорвалась где-то в безмерной космической дали тысячи лет назад, ее микроосколки летят к нам, и лавина их нарастает с каждым мгновением. На автокаре стояла только она одна. — Ждем тебя! — сказал Костя. — Благодарю. Обязательно загляну на ваш остров. Мы бежали с Костей, держась за поручни автокара. Внезапно она улыбнулась: — Мы будем видеться раз в неделю, — и стала торопливо рыться в сумочке. — Отойдите от автокара! Опасно! — прогремел робот Службы предохранения от несчастных случаев. Автокар остановился у ряда кресел, возле которых стояли высокий сухощавый старик и пятеро студентов, две девушки и трое юношей в таких же комбинезонах, как у Биаты. Биата взмахнула рукой, в воздухе что-то блеснуло и со звоном покатилось по паркету. Это были два жетона. На одной стороне было написано: «Астрономическая обсерватория Космос-10». На другой стояла цифра «5». Каждый жетон давал право на пятиминутный разговор с космической станцией, то есть с Биатой. Зажав по жетону в руке, мы с Костей провожали взглядом сиреневый автокар. Он объехал чуть ли не весь зал, захватил еще с десяток пассажиров, а затем скрылся в ярко освещенном входе в подземный туннель. Костя сказал в раздумье: — Одно время у меня была мысль заняться астробиологией. — Еще не поздно. — Да, но… — Что значит это выразительное «но»? — спросил я. — Видишь ли, она сказала, что ее привлекает с некоторых пор и океан. Несколько минут мы стояли молча. Костя иногда улыбался, глядя в пространство, а когда посматривал на меня, то в его взгляде я улавливал прямо-таки материнское сочувствие. Костя удивительно простодушный парень. Каждое движение его сознания или, как писали прежде, души проецируется на его полном лике. И не надо быть тонким психоаналитиком, чтобы понять его без слов. И в то же время он считает себя скрытным, загадочным человеком. Особенно это мнение укрепилось в нем после того, как я познакомил его с Биатой. Ему кажется, что он скрывает от меня свои чувства к ней, и это мучает его. Меня он почему-то не принимает всерьез как соперника. Как-то он сказал мне: — Не обижайся, Иван, но ты и Биата несовместимы. Я это увидел сразу. Она очень эмоциональная, тонкая натура, возвышенная и в то же время необычайно целеустремленная. Я уверен, что из нее выйдет великий астрофизик. Ей нужен в жизни спутник совершенно особого склада, который бы дополнял ее и в то же время не выходил из ее поля. Ты же знаешь, что ваши поля чудовищно далеки. У тебя не тот психокомплекс! Пойми и не огорчайся. Будь философом! Костя был ярым приверженцем модной теории психологического поля. Действительно, с полями у нас с Биатой не ладилось, а кривая Кости почти совпадала с ее кривой, и это окрыляло его. А возможно, что поля тут ни при чем, тем более что они не постоянны. Главное не в этом. Не в этом! «Не в этом», — мысленно повторял я. Главное — что она дала мне жетон. Значит, она думала обо мне. Я залюбовался изгибом арок, мерцающими в вышине витражами, на них изображалась история воздухоплавания и завоевания космоса. Поразил удивительный аромат, вдруг окутавший меня невидимым облаком. Да это же духи Биаты! Мои духи, мой подарок — запах исходил от жетона. Кто придумал обычай дарить близким только вещи, созданные своими руками, разумом и любовью? Полгода я искал это неповторимое сочетание молекул… Я услышал голос Кости: — Вот так квазиинцидент! Мы, кажется, безнадежно отстали. Слышишь, как надрывается робот? Ротозеи несчастные! Тебе это еще простительно как личности неуравновешенной, но на меня это совсем не похоже. Бежим, пока не поздно! Хотя если хочешь, то беги ты, а я, пожалуй, поеду. Прощание как-то расслабляюще действует на весь мой физиологический и психический комплекс. Он ехал на площадке автокара, а я бежал по оранжевой дорожке, скользившей по мозаичному полу.ДВЕ ВСТРЕЧИ
Мы с Костей были последними из пассажиров. Робот-контролер сказал при нашем появлении: — Надо быть на своем месте не позже чем за минуту до закрытия люка. У вас же осталось всего пять секунд… четыре… три… две… одна. Круглая дверь захлопнулась. Щелкнули автоматические замки. Робот брюзгливо продолжал: — Ваши места в круглом салоне под номерами девятьсот шестьдесят три и девятьсот шестьдесят четыре, прошу занять их побыстрее, через девяносто секунд «Альбатрос номер семьсот шестьдесят три дробь пять» выходит на старт. — Понятно, старина! — сказал Костя. — Спасибо. Извини. — Не отвлекайте посторонними разговорами. Задавайте только вопросы, связанные с нашим полетом. Следуйте за мной. — Он покатился по зеленой дорожке в проходе между кресел. На нас с улыбкой смотрели пассажиры. Теперь робот не оставит нас в покое, читая инструкции поведения в полете и предупреждая каждое наше желание. Это было своеобразным наказанием за нарушение дисциплины. — Вот ваши места. Девятьсот шестьдесят три и девятьсот шестьдесят четыре. — Хорошо, старина, спасибо, теперь иди подзарядись, — сказал Костя. — Я получил энергии на весь рейс. Подзарядка в шесть тридцать пять, — невозмутимо ответил робот и продолжал, уставившись на нас желтым глазом: — Туалетные комнаты находятся в хвосте корабля, там же расположены кабины с ионным душем и роботами — массажистами и парикмахерами. — Мы все это знаем, старина, — сказал Костя, — можешь идти на свое место. — Полет продлится четыре часа сорок восемь с половиной минут. — Он надолго, — сказал Костя. — Как бы отключить его? Из-за высокой спинки кресла впереди нас показалось большеглазое лицо девушки. Она сказала с видимым сочувствием: — Не пытайся. Конструкторы учли этот вариант. Он не отключается. Программа для пассажиров, нарушающих дисциплину, рассчитана на тридцать минут. В следующий раз не будете опаздывать. «Альбатрос» начал грузно покачиваться: нас буксировали на взлетную полосу. Костя завел разговор с девушкой. Робот все внимание переключил на меня и почему-то перешел на интимный шепот: — Круговая телепанорама дает возможность за все время полета наблюдать за поверхностью Земли. — О, так вы на Китовую ферму! — радостно воскликнула соседка. Из репродуктора в боку робота, нацеленного мне в ухо, лился поток сведений о корабле, его грузоподъемности, скорости, высоте полета: — Грузопассажирский лайнер типа «Альбатрос», кроме двух тысяч пассажиров, берет на борт триста пятьдесят тонн груза. Скорость на высоте тридцати километров — пять тысяч… Костя толкнул меня в бок: — Вера советует рассредоточить внимание этого идиота. Иди к штурманской рубке, а я пройдусь к институту коммунальных услуг. Она едет в цейлонский дендрарий, тоже летняя практика, — добавил он и, вскочив, быстро пошел к корме. На левом полукружии экрана плыла залитая призрачным светом искусственных лун Москва. Когда и я встал, робот вздрогнул; его желтый глаз растерянно замигал: он принимал решение. Через несколько секунд свет, источаемый глазом робота, стал ровным: решение было принято, он остался со мной. Я пошел в сторону корабельной рубки, робот не отставал, бормоча полезные сведения. Между прочим, я услышал от него, что на «Альбатросе» можно получить копию любой книги не позже чем через час после заказа в корабельной библиотеке. Я вспомнил, что так и не удосужился захватить с собой «Язык и психологию приматов моря». Эта необыкновенная работа произвела сенсацию в ученом мире и была восторженно встречена читателями всех континентов. Дельфины в генеалогическом древе жизни давно занимали второе место после человека. Но это место, по установившейся традиции, считалось на много ступеней ниже, чем заслужили наши морские братья по разуму. Я читал и слушал книгу в отрывках, она вышла как раз во время цикла самопроверки знаний, но мне хотелось прочитать ее всю. Остров, куда мы летели, считался одним из главных центров по комплексному изучению приматов моря, и не хотелось прослыть невеждой при встрече с учеными, к тому же приматы моря всегда меня привлекали, и в ту пору я серьезно подумывал, не внести ли и мне вклад в этот интереснейший раздел науки. Неотвязный робот проводил меня до дверей библиотеки, читая инструкцию о поведении пассажира во время полета. В небольшой комнате за пультом склонился высокий худой человек, облаченный в какой-то невообразимо старомодный костюм. Он был абсолютно лыс, темя прикрывала выцветшая тюбетейка, видимо, очень старой работы, такие я видел в Самаркандском музее. Он быстро нажимал на разноцветные клавиши, посылая заказы на какие-то книги. Покончив с этим делом, он встал. Меня поразило его лицо, очень загорелое, и, хотя на нем почти не было морщин, оно казалось очень древним и, когда он молчал, застывшим, как у куклы или у робота. Хотелось дотронуться до его щеки, чтобы убедиться, что она не из пластика. С лицом контрастировали глаза — черные, живые, с иронической искоркой. Уступив мне место, он почему-то не уходил. Я в замешательстве рассматривал аппаратуру библиотеки; мне еще не приходилось пользоваться этими разноцветными клавишами с нанесенным на них шифром. К тому же меня в этом человеке или существе, до странности похожем на человека, поразило еще одно: мне показалось, что в нем что-то тикало, работал какой-то прибор вроде музейного хронометра. Я не мог ошибиться, потому что все электронные приборы в библиотеке работали бесшумно, а он подошел так близко, что почти касался меня. Он обратился ко мне. Голос его был не громок и очень приятного тембра: — Все очень просто, молодой человек. К тому же вот она, инструкция-спасительница. Все же читать ее не стоит. Что у вас там? Я назвал книгу. — Да, вещица стала довольно популярной. Но вот что странно. Истинное понимание идеи, заложенной в эту книжицу, мы находили, как прежде говорили и писали, только среди широкой массы читателей. С особенным восторгом идею книги приняла молодежь. А такие маститые ученые, как Кошкарев, Брандт, Мерецкий, Смит, Шаузель, Нильсен и даже Накамура, пишут черт знает что! Ты не читал последний вестник академии? Нет? И прекрасно! Будь у меня такая шевелюра, как у тебя, я бы поседел, читая глубокомысленные сентенции некоторых жрецов науки. Как ни странно, но даже в ваше время, — он подчеркнул слово «ваше», — когорта ученых идиотов не в состоянии понять, что творческие силы природы не исчерпались созданием только одного-единственного прибора, — он шлепнул себя по лбу, — втиснутого в черепную коробку такого несовершенного создания, каким пока является человек. Он схватился за голову так, будто опасался за ее сохранность, и улыбнулся. — Самое серьезное и затяжное заболевание человечества — консерватизм мышления. Это наблюдалось всегда. Ты же проходил историю развития познания. Конечно, мы имеем сдвиги в этой области, но, к сожалению, они не пропорциональны общему прогрессу. Видимо, дает себя знать груз энтропии, накопленный за столетия. Имей в виду, что это относится главным образом к ученой братии, ограниченной рамочками узкой специализации. И все-таки нет причин для уныния — их песенка спета! Сейчас настоящий ученый может апеллировать ко всему человечеству. Ты только представь себе! — Он сильно сжал мой локоть. — Пять миллионов писем! За полгода! Я вынужден отвечать только через печать… Давай же лапу. Поликарпов Павел Мефодьевич… Да, да, тот самый. Рука у него казалась железной. Когда я назвал себя и сказал о цели поездки, он схватил меня за плечи и потряс: — Прекрасно! Студиозус на летнюю практику! Представь, и я туда же и тоже на практику! Ты впервые в те края, а я уже давненько избрал этот плавающий остров своей лабораторией. Послушай! А не пойти ли нам с тобою в бар и не отметить ли встречу чем-нибудь горячительным или прохладительным? Видимо, придется ограничиться только прохладительным: на ракетах этого типа не держат алкогольных напитков. Ну, идем, не теряя бодрости, в безалкогольный бар. Ты же, молодчик, прекрати свое глупое бормотание и ступай с богом на свой насест, — сказал он роботу. — Непонятное слово «с богом». В моей памяти нет такого слова. Обратитесь в бюро справок, отсек десять, комната тридцать два. — Спасибо, братец! Ох и олух же ты, как я погляжу! — Я не братец и не олух. Мое имя робот с обратной связью, три бэ, восемь ноль три. На мне лежит обязанность оказывать услуги пассажирам и давать объяснения первой сложности. — Вот и окажи услугу: ступай себе. — Это нарушение. Не отвлекайте меня от исполнения обязанностей, этим вы продлеваете время нашей беседы. Павел Мефодьевич захохотал: — Вот тип! Слышал? От навязчивого робота нас избавил корабельный механик, проходивший по коридору. — Сейчас мы нейтрализуем этого болтуна. — Механик провел рукой по затылку робота, раздался легкий щелчок, и, чмокая присосками на резиновых ступнях, робот подался прочь. В баре сидели Костя и Вера. Упершись локтем в стойку и сосредоточенно глядя в огромные смеющиеся глаза Веры, Костя что-то рассказывал ей, сохраняя мрачную серьезность. Вера, увидав меня, подняла руку, приглашая к своему столику. Мы налили себе по стакану ананасного сока и подсели к ним. Костя, кивнув академику, сказал: — Вера считает, что путем направленной эволюции может быть создана раса мыслящих растений. Вера улыбнулась: — И он воспроизвел в лицах диалог между дендро сапиенс, летящих в ракете. — Занятный, должно быть, они вели разговор, — сказал академик. Побарабанив пальцами по стакану и оглядев нас, усмехнулся: — К слову сказать, и меня когда-то интересовала эта проблема. Помню, даже писал что-то на эту тему. Хвалили. Нервы у мимозы! Или, скажем, у дуба! Я уже начинал серьезно подумывать, имею ли я нравственное право есть салат. В то время нас также крайне волновала проблема мыслящего робота, способного к воспроизведению себе подобных и в конечном счете покоряющего мир и уничтожающего человечество. Модели конфликтов строились на основе классовых противоречий того времени. А сколько было потрачено нервной энергии и типографской бумаги на изображение иных миров и описание встреч с марсианами, юпитерианцами, жителями иных планетных систем! Мы везде искали инопланетных братьев по разуму и проглядели их у себя под носом! У Веры в глазах мелькнули лукавые искорки. — Что вы говорите! Неужели они проникли к нам инкогнито? Он погрозил пальцем и сказал, прищурившись: — Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. К слову сказать, у меня есть сведения, что ваш досточтимый Кокиси Мокимото до сих пор содержит в заточении двенадцать приматов моря. — Он пожал плечами. — Происходит что-то непонятное. Люди ищут нервы в капусте и не хотят замечать их у разумного существа. И это в наше время! Когда мы ходим по Луне, облетели Марс, готовимся к полету на Венеру! Я отказываюсь понимать, что творится на белом свете. — Он встал, окинул нас уничтожающим взглядом, будто мы были виновниками всех ложных идей и теорий. Чмокнув губами, что, по-видимому, означало крайнюю степень неодобрения, и круто повернувшись, он вышел из бара. Вера сказала: — Я еще не встречала таких оригинальных людей! — Сам похож на дельфина, — усмехнулся Костя, — и чмокает, как дельфин. Где ты его откопал? Я сказал, что он руководитель нашей практики. Костя тихо свистнул. — Вот не было печали! Представляю, как обогатятся наши познания под воздействием такого могучего интеллекта. Вера, опустив глаза, сказала: — Мне он чем-то очень понравился. Наверное, это настоящий ученый, как наш Кокиси. Ученый очень широкого диапазона, непримиримый к чужим ошибкам и, наверное, жестокий и к себе. В его лице есть что-то особенное. Он как персонаж с древней картины или фрески. Как жаль, что я обидела его! Надо обязательно извиниться. Она внезапно встала и быстро ушла. Костя сказал: — У тебя особый дар устраивать интересные встречи. Удивительно кстати ты появился в обществе этого ученого монстра! Нашей ссоре помешала лунная десятиминутка. На небольшом овальном экране появилась Надя Павлова, диктор научного отдела Всемирной вещательной ассоциации, и объявила, что сейчас будет передаваться сообщение с Луны. Костя сказал, разглядывая на свет свой стакан: — После встречи с почтенным старцем я начинаю подумывать обо всех прелестях, которые ждут нас на сооружении из базальта, плавающем в теплой соленой воде. Он замолчал, увидев на серебристой лунной поверхности космонавтов. Кадр резко сменился. Космонавты теперь двигались среди причудливых скал, временами растворяясь в чернильно-черных тенях. Сильный рефлектор осветил нагромождения камней, похожие на причудливую арку. Космонавты — их было трое — вошли под арку. Диктор говорил таинственно тихо, поясняя каждый шаг исследователей. Вот они идут по пещере с коричневыми ноздреватыми стенами. Внезапно весь экран начал переливаться разноцветными огнями. Это сверкали кристаллы странной формы, похожие на морские анемоны. — Лунный камень! — объяснил диктор. Один из космонавтов взмахнул геологическим молотком, и большая «анемона» беззвучно рассыпалась в брильянтовую пыль. — Пещера, видимо, образовалась как результат вулканической деятельности, — сказал диктор и стал называть имена авторитетов, подтверждающих это мнение. — Теперь можно спокойно перебираться на Луну, — шепнул Костя, — в этой пещере поместится целый город, ни один метеорит не прошибет! Подошла Вера. — Мальчики, он дремлет в своем кресле, — сказала она. — Я оставила ему записку… Бедные! — добавила она по адресу космонавтов. — Все время находятся в пустоте, да еще в таких безобразных костюмах. Бр-р! Я никогда не оставлю Землю… Вы не хотите спать? — В такую ночь! — Костя подавил зевок. — Я вообще не сплю во время коротких перелетов. — Вот и прекрасно. Я сейчас покажу вам одну запись. Выключи, Костя, эту жуткую Луну и подключи мой «Юпитер» к экрану. Вместо холодных лунных пейзажей на экране зашумела сочная зелень тропиков. В ветвях порхали желтые и красные попугаи… Повеяло ароматом цветов. Я закрыл глаза и почти сразу уснул. Я увидел Биату. Она шла в комбинезоне по лунному кратеру и чему-то улыбалась. И я тоже улыбался и шел рядом, нимало не удивляясь тому, что мы дышим в вакууме и чувствуем себя великолепно… Где-то за непроницаемым пятном лунной тени громко засмеялись. Я открыл глаза. Смех, плеск воды доносились с экрана. В большом бассейне ватага молодежи устроила гонки верхом на дельфинах.Сквозь шум я уловил голос Кости: — Ты извини, у него сегодня так много впечатлений. И не особенно приятных. Он хорошо сделал, что отключился… Ему надо быть в форме. Назревают неприятности… Одна девушка с астрономического… Их поля абсолютно не синхронны…ДРЕВНЯЯ ДОРОГА
Из Коломбо мы шли на «Кальмаре», древнем военном корабле, переоборудованном для несения патрульной службы. Узкий, длинный, с красивыми обводами, он напоминал животное, приспособившееся в процессе длительной эволюции к морю. «Кальмар», казалось, без всяких усилий разрезал темно-синюю воду. Справа и слева по борту плыли дельфины. Они легко перегоняли корабль, возвращались, устраивали настоящие цирковые представления или плыли, купаясь в пенистых волнах возле форштевня. Мы с Костей зашли в ходовую рубку. Здесь все сохранилось с тех времен, когда «Кальмар» был боевым кораблем, даже приборы для ведения артиллерийского огня и торпедных атак, хотя все торпедные аппараты и орудия были сняты и давно переплавлены. Из всего грозного оружия осталась только одна пушка на баке. Управлялся корабль с помощью штурвального колеса, хотя ничего не стоило приспособить для этого довольно скучного труда автомат. У штурвала стоял наш сверстник, студент Морской академии. На его смуглом насмешливом лице я, к своему удивлению, не мог прочитать ничего, что бы говорило о недовольстве так нецелесообразно расходуемом времени. Наоборот, он, казалось, был вполне удовлетворен своей участью «придатки» такого несовершенного механизма. На нем были широкие белые штаны и такая же рубаха с синим воротником, а на выгоревших волосах лихо сидел красный берет. Наряд был несовременен, но шел этому парню. Костя хлопнул его по спине и сказал! — Как ты вырядился! Прямо матрос из «Пенителей моря»! Люблю эту оперетку. Рулевой не обиделся. — Ничего не поделаешь, — сказал он. — На море свои законы. Мне вначале тоже не нравилось это архаичное одеяние, но потом я привык и оценил удобство костюма. — Он с тревогой обратился к Косте: — Пожалуйста, ничего не трогай, а то сыграешь «боевую тревогу» или дашь «самый полный назад». Представляю, как ты тогда будешь объясняться с нашим капитаном! — Не беспокойся, не первый раз на таком лайнере. — Приятно встретить старого морского волка в наших широтах. — Мне не меньше. Между прочим, меня зовут Костя. А как тебя? — А меня Андрей. Так ты держишь курс на китовую ферму? — Да, дружище! «Корень учения горек», — говорили наши предки, и вот тащусь с Иваном на поплавок. — Не вешай носа! Я в прошлом году тоже доил китих. Хорошее было время! — Тоже наш брат биолог? — Да. — Как же ты попал на этот музейный корабль? — По призванию. Мне всегда хотелось заняться чем-то настоящим. Мальчишкой еще мечтал. — А биология? — Кто может отрицать значение этой полезной науки? Здесь же нечто иное. — Романтика? — Этого хватает. Меня привлекает здесь постоянная борьба. Риск, который не могут, к счастью, еще устранить киберы. Хотя уже нашлись маменькины сынки, которым помешали циклоны, и они научились их подавлять, вернее, убивать эти изумительные вихри. Но еще остался свежий ветер, шквалы, пассат, иногда можно встретить циклончик местного значения. Все это останется для нашего брата, пока светит солнце и крутится наш маленький шарик. — Он повернул колесо, прищурившись, посмотрел на ослепительно синюю воду и продолжал: — Конечно, не только ради удовольствия качаться на волнах разной амплитуды я переменил школу. И биологию я не оставил. Ведь я специализируюсь на глубоководных и приматах моря. Моя мечта выловить наконец-то Великого Морского Змея! — Разве он еще не пойман? Я же сам смотрел хронику и видел твоего Змея! — Дорогой мой, ты видел всего только змееныша. В нем едва наберется двадцать метров, а у Змея — сорок! Только один человек на планете видел своими глазами Великого Змея; это великий аквалангист Оноэ Итимура. Я спросил: — А сейчас вы охотитесь за Черным Джеком? — Да, делаем еще одну попытку, но, между нами, вряд ли это удастся. Он научился уходить даже от воздушной разведки. Его невозможно отличить от «мирных» касаток, с которыми у нас есть контакты. К нему посылали парламентеров — касаток и дельфинов, но они не возвратились — Джек убивает их. — И вы церемонитесь с ним? — воскликнул Костя. — Мы выполняем инструкции. Ты же знаешь, что все приматы моря под охраной закона. По мнению Совета по делам Морей, еще не приняты все воспитательные меры. Между прочим, вчера Джек убил кита, а на той неделе ворвался на рыбную плантацию — каким-то чудом он разведал, что там на одном участке ослабли силовые поля. Плантации больше не существует. Костя спросил: — И вы идете его уговаривать не делать больше глупостей? — На этот раз разрешено применить анестезирующие капсулы. — Он сделал испуганные глаза. — Кэп! Спасайся, ребята, в левую дверь! Пассажиры стояли и сидели под тентом на мостике, любуясь морской гладью и дельфинами. Кроме нас с Костей и академика, на остров ехала целая группа ученых разных специальностей, изучающих море, и ботаник Кокиси Мокимото. Павел Мефодьевич ходил, перешагивая через ноги сидевших в шезлонгах, улыбаясь и поглядывая по сторонам. Он был явно доволен сегодняшним днем и блестяще проведенной операцией по освобождению дельфинов. Океанариум в Коломбо соединялся с морем длинным каналом. Год назад доверчивых дельфинов заманили через канал в океанариум и закрыли выход решеткой. Действительно, в океанариуме, по нашим представлениям об удобствах, для живых существ другого вида было сделано все возможное: проточная вода, обильная пища, относительно просторное помещение. И все-таки приматы моря чувствовали себя, как в тюрьме. Они выражали свой протест, но ботаники его не слышали, вернее, не понимали, так как не искали с ними контактов. Ученый секретарь дендрария Кокиси Мокимото был подавлен натиском академика Поликарпова. Японец только шептал извинения, прижимая левую руку к груди, и болезненно улыбался, показывая, как он огорчен случившимся. Наконец он вымолвил: — Простите… Нам казалось, что мы не посягаем на их свободу, мы делали все, чтобы их жизнь была приятной. Они даже могли включать и выключать по своему желанию музыку, специально написанную для них. Извините, не помню фамилии композитора. Жаль, у нас не было средств, облегчающих контакты. Разговор происходил в павильоне-оранжерее, служившем лабораторией ученого секретаря. — Не было средств для контактов! — загремел академик и взял с полки, уставленной приборами, небольшую желтую коробку. — Последняя модель «ЛК-8006»! Пока выпущено всего десять приборов, и один из них почему-то прислан сюда. Мне думается, что вам должно быть известно о возможностях этого изобретения? — О да, да… — Позвольте усомниться в этом. И если я неправ, то прошу прощения, но все же нелишне напомнить, что с помощью «ЛК-8006» — надо же придумать такое дурацкое название! — мы можем разговаривать с марсианами, если, конечно, они там еще обитают. Можем обмениваться информациями с пришельцами невесть откуда, будь у них углеродная, фтористая, кремниевая или бог весть какая иная основа… Надеюсь, я не утомил вас такой пространной речью об истинах, известных школьнику первого цикла? — О нет! Даже очень интересно, хотя… — Хотя вам все это хорошо известно? Так вот, чтобы не терять дорогого времени, идемте и немедленно освободим несчастных узников. Кстати, я научу вас пользоваться «ЛК-8006», этим замечательным изобретением с дурацким названием… Академик зашагал к океанариуму, а мы с Мокимото едва поспевали за ним следом. Ученый секретарь шепнул мне: — Очень оригинальный ум! Его метод вести беседу оставляет довольно сильное впечатление… Костя и Вера плескались в воде, окруженные дельфинами. Вера неожиданно вскочила на блестящую спину дельфина и, хохоча, помчалась на нем, описывая круги. — Безобразие! — крикнул академик. — Вы превратили их в забаву! Надо немедленно покончить с этим издевательством! Он опустил в воду гидрофон, что-то сказал, и в тот же миг все дельфины бросились к нему. Вера полетела в воду и стала, захлебываясь от смеха, что-то объяснять Косте. Я впервые слышал не на телеэкране диалог между человеком и дельфином. Академик говорил напыщенным языком старых информационных листков: — Приветствую вас, братья Моря! Дельфин отвечал ему в том же стиле: — И мы приветствуем вас, братья Земли! — Мы пришли просить у вас глубочайшего извинения за то, что не но злой воле так долго ограничивали вам свободу передвижения. — Нам было трудно в этой мелкой круглой луже, но у нас нет плохого чувства к вам. — Сейчас будет поднята решетка, закрывающая выход в море, и вы можете следовать в любом направлении. Со своей стороны, я предлагаю вам совместное путешествие к Юго-западу на один из плавучих островов. Там живут и трудятся вместе с нами на общее благо много братьев Моря. Согласны ли вы? — Мы согласны… Павел Мефодьевич назвал место встречи — выход из гавани… Мокимото, прижав руки к груди, согнулся в прощальном поклоне. Он не сказал ни слова, и это немое признание своей вины растрогало академика. — Извините меня, старого грубияна. — Внезапно он хлопнул Мокимото по спине. — Послушайте, коллега, а не поехать ли и вам ко мне на остров? Я понимаю, что у вас работа, мало свободного времени, и все же очень бы вас просил об этом одолжении. Кокиси Мокимото обвел взглядом свой зеленый кабинет, улыбнулся, протянул руку. И вот мы все покачиваемся на пологих волнах Индийского океана. Встречный ветер умеряет тропический зной. Павел Мефодьевич останавливается возле кресла, в котором, полузакрыв глаза, лежит Мокимото. — Надеюсь, что вы не очень сетуете на меня, коллега? — О-о, мистер Поликарпов! Я так благодарен вам! Очень давно мне не приходилось совершать такие приятные перемещения в пространстве. Я так люблю море! Мои предки были рыбаками из Киото. Между прочим, на гербе этого города — золотые дельфины. — Знаю. Существует много легенд по этому поводу. Но вероятнее всего та, в которой говорится о спасении дельфинами одного из основателей города. Возможно, вашего предка? — У нас в семье нет таких романтических преданий. Они помолчали. Потом Мокимото сказал: — Удивительный покой охватывает душу, когда ощущаешь красоту мира и единство начал жизни! — Я с вами согласен и могу только добавить, что такие мысли чаще всего приходят не во время путешествий на ракетах, не на сверхэкспрессах и не на адских земноводных амфибиях, где мы сидим в закрытых футлярах и нас с неимоверной скоростью перебрасывают с материка на материк, а когда мы вот так плетемся по древней дороге и можем протянуть руку и ощутить океан, землю, горы. — В этом преимущество исторических видов транспорта, — улыбаясь, сказал Мокимото. — К сожалению, сейчас так мало пользуются ими. Даже мы, посвятившие жизнь изучению природы, предпочитаем скоростные машины. — Ну, я не жалуюсь! — Академик расправил плечи. — Мне приходится большую часть времени проводить вот здесь, — он широко развел руки, — в этой колыбели всего живого, где слишком большие скорости просто невозможны и не нужны… Ко мне подошел Костя и отвел меня на самый край мостика, нависшего над водой. — Охота тебе слушать эту старческую болтовню! — сказал он. — Сейчас разговор пойдет о подводных городах. Вон тот, в зеленых очках, полгода прожил в «Поселке осьминогов» на коралловой отмели. Сейчас он закатит доклад миль на триста. Пошли лучше вниз, поболтаем с дельфинами через бортовой гидрофон. Увлекая меня вниз по трапу, он сказал: — Меня все больше интересует наш мэтр. Интересная, оригинальная и загадочная личность. Тебе не приходила мысль, что он похож на биологического робота? Я все время думаю об этом, такого же мнения и Вера. Не улыбайся, пожалуйста, у нее совершенный слух, и она уловила в нем работу какого-то, видимо, не совсем отлаженного датчика… ну, как у старых «кухонных» роботов. Хотя он бесконечно совершенней… А тебе ничего не показалось? Я не ответил Косте, хотя ясно вспомнил, что и меня настораживали глухие ритмичные толчки, когда я стоял в библиотеке «Альбатроса» рядом с загадочным академиком.ТРЕТЬЯ ВАХТА
Океан отходил ко сну. Вечер выдался жаркий. Пассат чуть дышал. Двадцатиметровые колеса воздушных генераторов вращались так медленно, что можно было пересчитать их блестящие лопасти. На западе стояла перламутровая степа, вся она трепетала и переливалась. Где-то там, за этой радужной стеной, умирала «Адель» — по старой традиции циклоны носили женские имена. Туда с нашего острова весь день летели метеорологические ракеты, нацеленные в эпицентр вихря — сердце «Адели». Она тщетно стремилась уйти, вырваться из-под метких ударов. Но у нее не хватало сил: к нам она подошла уже порядком израненная после бомбардировок с воздуха и обработки конденсаторами водяных паров. Мы с Костей сидели под силиконовым колпаком на вершине смотровой башни. Вернее, я сидел, а Костя стоял и смотрел на радужную стену, чему-то улыбался, барабаня пальцами по прозрачному силикону. Колпак слегка раскачивался, создавая полное впечатление, что мы висим в гондоле учебного аэростата для тренировочных прыжков с парашютами. Хорошо и немного жутковато болтаться на шестидесятиметровой высоте. В океане отражалась переливающаяся перламутровая стена. Милях в трех мелькали темные спины китов, которые паслись на планктоновых полях. К острову возвращались дельфины, закончившие вахту у загонов синих китов и рыбных питомников. По дороге дельфины устроили какую-то веселую игру, что-то вроде пятнашек. В лагуне под нами (башня стоит на ее правом крыле) тоже плавали дельфины. Было хорошо видно, как они совершали в прозрачной воде сложные построения, а затем одновременно стремительно бросались вперед; вдруг строй рассыпался, и все начиналось сначала. Костя сказал, позевывая: — Ватерполисты. Сегодня играют с нашей командой. Потрясающе интересные существа! Я познакомился сегодня с Протеем. Он подплыл ко мне и что-то сказал неразборчиво. Потом уже я догадался, что он поздоровался по-английски. Я положил ему руку на спину и говорю: «Здорово, дружище». Он ответил что-то вроде: «Я рад нашей встрече». — По-английски? — Не смейся, Протей знает и русский. Когда мы выплыли в океан, он вдруг пропыхтел довольно внятно: «Назад. Опасность». — И действительно вам что-то угрожало? — спросил я. — Медузы. Багряные медузы. Колоссальное скопление. Сейчас их унесло течением, а в полдень, ты же сам видел, вода была красной от этих ядовитых слизняков. Тебя никогда они не жалили? Должен заметить, что ощущение не из приятных… У Кости на лице появилась виноватая улыбка, и, будучи верен себе, он сказал, хмурясь: — За последние пятьдесят лет человечество так много сделало… Пожалуй, больше, чем за предыдущие два тысячелетия. Понятно, что этот диалектический скачок готовился столетиями. — Он усмехнулся. — А человек, творец всего этого, — он развел руками, — совсем не изменился или изменился очень незаметно, и наши антропологи уверяют, что и не изменится в ближайшие сорок тысяч лет! Тебя не потрясает этот парадокс? Нет, мы какие-то пещерные люди. Именно пещерные! Нас совсем не изумляет то обстоятельство, что, если отбросить все достижения цивилизации, мы те же! Я промолчал: когда Костя начинал философствовать, то он не нуждался в оппонентах. Мой друг саркастически усмехнулся: — Да, те же. А вот жизнь стала какой-то не такой, пресной, что ли, как будто мы что-то утратили. Что, если это реакция после стольких веков напряженной борьбы? Порой непонятной нам, но борьбы. А может быть, наши чувства стали менее острыми? И живем мы не так полно, как наши предки. Что-то я не слышал современных записей историй, как в старых книгах. Сколько было тогда нерешенных проблем! Все было загадочным, покрытым тайной. Ты скажешь, изменились условия? — Помолчав, он улыбнулся и воскликнул: — Да! Как тебе понравилась Вера? Я сказал, что не вижу никакой связи между рассказом о знакомстве с Протеем, глубокомысленным сетованием на угрожающую задержку с развитием человечества и заключительным вопросом. Костя нимало не смутился. — Видишь ли, — сказал он, прищурившись, — все в жизни взаимосвязано, это нам внушали еще в детских садиках. О Вере я тебя спросил потому, что иногда, несмотря на свой скептицизм, ты высказываешь довольно верные суждения. — Она красива. Возможно, очень умна… — Ты сомневаешься в ее уме! Да она, если хочешь знать, заняла третье место на конкурсе студенческих работ своего факультета! Костя разошелся, стал упрекать меня в пренебрежительном отношении к людям, эгоцентризме и даже сказал, что я неисправимый циник. Закончил он свою тираду снова неожиданным переходом, опровергающим его же высказывание о «пресной жизни». — Как все-таки все сложно, — сказал он, глядя вдаль, — как мы еще зависим от случайностей! Иногда встреча с человеком, одним из десяти миллиардов, может изменить точно рассчитанную орбиту жизни… Последовал вздох и взгляд на вечернее небо, туда, где висел спутник с Биатой. В эту минуту Костя, наверное, жалел Биату — ему было неловко, что он увлекся другой девушкой. Он сказал: — Мне придется тебя оставить. Ты же знаешь, что меня приняли запасным в команду. Вообще третья вахта не такая уж плохая, можно сосредоточиться, быть одному, поближе к звездам. Ну, а я спущусь на Землю… Смотри-ка! Появился дельфиний отец и наш учитель! Видишь, как размахивает руками? Сегодня я что-то его весь день не видел. Этот загадочный индивидуум где-то носился на своем скутере, окруженный свитой приматов моря. Ребята говорили, что он вечерами читает дельфинам лекции. Что-то в нем выше моего понимания! Неужели это один из первых биологических роботов? Если это так, то он идеально запрограммирован. Знает решительно все, лишь иногда задумывается для виду, будто силится вспомнить: копирует человека своих лет. К тому же такой темперамент! Ты знаешь, он мне начинает нравиться. Вот таким, по-моему, должен быть настоящий человек… Счастливой вахты! Костя кивнул мне, сел в лифт, и я остался один. С высоты остров напоминал крохотный атолл. Широкая его часть была обращена на северо-запад; там среди зелени возвышались ветряки, преобразующие силу пассата в электрическую энергию. Остров собрали из литых базальтовых блоков. Он стоял на мертвых якорях, незыблемый, как скала, и в то же время ничем не отличаясь от самого обыкновенного поплавка. В его недрах день и ночь работали заводы по переработке планктона, рыбы, китового молока, утилизации редких элементов, растворенных в морской воде. Снизу послышался странный набор звуков: вопли, пыхтение, плеск, свист, резкие удары. Началась игра в водное поло, дельфины-ватерполисты шли в атаку на ворота островитян и, видимо, подбадривали друг друга этими своеобразными выкриками. Преимущество явно было на стороне дельфинов, и, хотя островитяне явно нарушали правила игры, мячи беспрерывно летели в их ворота. Мне хорошо было видно, как торпедообразные тела дельфинов мелькали в голубой воде, оставляя за собой серебристый шлейф из пузырьков воздуха. Команда ватерполистов нашего острова недавно заняла первое место на соревнованиях в Сиднее. Полосатый мяч, который сейчас пасовали носами дельфины, — приз в этих крупнейших состязаниях. Снова наш вратарь, в который уже раз, выбрасывает его из своих ворот. Наконец нападающий команды дельфинов оплошал — отдал мяч и, как будто стыдясь своего промаха, исчез под водой. За ним скрылась и вся команда, даже вратарь последовал их примеру. Наши погнали мяч в пустые ворота. Бросок! Но мячу преградила путь стенка одновременно вылетевших из воды дельфинов. Они не только обыгрывали своих противников, а еще и «смеялись» над ними. И все-таки островитяне, хотя все их усилия забить даже один мяч были тщетными, бросались в новые безуспешные атаки. Игра внезапно прекратилась. Дельфины поплыли к противоположной стороне лагуны, где стоял академик Поликарпов в окружении гостей. С башни открывался великолепный обзор. Я мог поворачиваться на все триста шестьдесят градусов, сидя в кресле, любоваться водной гладью и посматривать на приборы. В океане, спокойном с виду, происходили очень сложные процессы; там бушевали невидимые волны, возникали и гасли течения, менялись соленость воды, температура, холодные пласты воды вдруг устремлялись к поверхности. Все эти сведения сообщали мне электронные буи, установленные на разных глубинах. На экранах акустических локаторов иногда мелькали синеватые черточки — дежурные дельфины, несшие охрану на границах силовых полей. Черточек на экране стало больше, и они вытянулись в одну линию. Рамка одного из экранов окрасилась в желтый цвет, из динамика раздался голос автомата, установленного на сигнальном буе: «Появилось стадо касаток в квадрате „32-Б“». Касатки, эти вольные обитатели океана, вели себя так же, как в давние времена горцы Кавказа или североамериканские индейцы. Были среди них и мирные, и непокоренные племена. Судя по эволюциям на экране локатора, эти касатки пока не предпринимали агрессивных действий, они шли параллельно силовым полям, защищающим пастбища тунцов и макрели. Дельфины двигались тем же курсом. Вначале я подумал, что это разведчики из банды Черного Джека разыскивают брешь в ограждении. Но, судя по их спокойному движению, это предположение отпадало. Разведчики пиратов не пошли бы прямо на «сюрприз», они-то великолепно знали все хитрости, приготовленные для простаков. А эти движутся, не подозревая беды, прямо к ярко-зеленой точке — звуковому бичу. Вдруг их правильный строй смешался, и на экране вспыхнули зеленые брызги. Касатки развивали скорость не менее шестидесяти миль в час, спасаясь от ударов ультразвукового бича. Я записал в вахтенном журнале появление касаток, хотя это происшествие, как и все, что происходило вокруг, фиксировалось на магнитной пленке. Прочитав инструкцию обязанностей дежурного по острову, я спросил старшего инспектора Вильсона, не находит ли он, что древний способ фиксирования информации — запись в журнале — не выдерживает сравнения с показаниями приборов. — Пожалуй, да, — ответил он, глядя через мое плечо. — Тогда напрашивается вывод… — …для чего тратить практиканту драгоценное время? — Хотя бы! — Это и мне приходило в голову. — В таком случае, следует изменить инструкцию. — Пытались. — Кто же препятствует? — Несовершенство приборов. Человеческие органы чувств иногда, хотя бы раз из десяти тысяч случаев, обнаруживают явления, ускользающие от технических устройств. Особенно тогда, когда надо сделать выбор и заглянуть за грань неведомого. Машины, к сожалению, еще не обладают интуицией. …Пока я вносил свои записи в вахтенный журнал, оборвались короткие тропические сумерки. Вечный труженик пассат, отдохнув, снова ровно крутил колеса ветряков. Пенные гребни волн источали зеленовато-голубое сияние. По черному небосводу плыли созвездия. Именно плыли, потому что ветер раскачивал мою гондолу, и мне казалось, вся небесная твердь пришла в движение. Плыл «Корабль», раздув свои невидимые паруса. «Райская птица» кружилась возле «Южного креста». Желтым топазом над головой светился диск астрономического спутника. Он висел неподвижно на высоте 36 тысяч километров. На нем сейчас Биата тоже, наверное, несет вахту у своих счетчиков элементарных частиц или любуется Землей, а вернее всего, вглядывается в черную бездну Вселенной, туда, где должна вспыхнуть Сверхновая. Из этого участка галактики, нарастая с каждым мгновением, льется чудовищный поток невидимых частиц. Сотни миллиардов нейтрино ежесекундно пронизывают каждый квадратный сантиметр Вселенной. На экране видеофона появился ухмыляющийся Костя. — Не вздумал ли ты провести эту дивную ночь, как Симеон Столпник? — спросил он. — Уже шестнадцать минут, как истекло время твоего времяпрепровождения на «столбе». — Так почему же ты до сих пор болтаешься внизу! — По двум причинам. Во-первых, потому, что ночные вахты несут, как всем известно, на Центральном посту, и во-вторых, я выполняю там обязанности помощника ответственного дежурного по острову и его окрестностям. Между прочим, академик ушел поболтать со своими акваприятелями. На «столб» вообще можно было бы не подниматься. Эта служба создана специально для неоперившихся птенцов. Спускайся с заоблачных высот, в спортивном зале — состязания в теннис. Ты когда-то неплохо держал ракетку… Постой! — Костя артистически изобразил, будто только что вспомнил небольшое и не такое уж важное событие. — Чуть не забыл тебе сказать, что только что говорил с Биатой. Держится хорошо, только немножко устала. Далась ей эта Сверхновая! Лишь о ней и говорила, да еще о супернейтрино или, как она еще их называет, прапрачастицах, которые зафиксировали их ловушки. Нет, все-таки хорошо, что мы с тобой обитаем на этом прелестном островке. Передавала привет… Тс-с! Старик возвращается. Не даст и поболтать с лучшим другом! — Костя подмигнул и растаял на экране. Я позавидовал, что он дежурит вместе с Павлом Мефодьевичем. Меня все больше и больше интересовал этот удивительный и загадочный человек. А то, что Костя уже поговорил с Биатой, неожиданно обрадовало меня: между ней и мною теперь уже не было никого. Я стиснул в руке жетон. Какие надежды я возлагал на это свидание!ТУАЛЕТ МАТИЛЬДЫ
Наша Матильда похожа на субмарину одной из последних конструкций. Она относится к семейству синих китов и весит двести десять тонн. Прежде, в давние времена, когда киты беспощадно уничтожались, редкие экземпляры едва достигали ста тридцати — ста пятидесяти тонн. Мало кто из этих исполинов доживал до зрелого возраста. Теперь же, после всеобщего закона, запрещающего охоту на китов, и особенно после перевода их на пастбища, почти все киты прибавили в весе на одну четверть. В нашем стаде есть китиха Малютка, достигающая чудовищного веса — двести восемьдесят пять тонн! Подле ласта нашей Матильды жмется китенок. В сутки он выпивает около полутора тонн молока, и все же у матери еще остается его более тонны. Доят маток китов два раза в сутки — в семь часов утра и в пять вечера. Со сторожевой башни подается автоматический ультразвуковой сигнал, и стадо с пастбища движется в лагуну, сопровождаемое дельфинами-пастухами. Сигнал можно и не подавать — киты и дельфины удивительно точно определяют время в любую погоду. Каждая матка идет к своему «стойлу» — причалу — и останавливается метрах в пяти, и пытается почесаться боком о шершавый базальт (Но после нескольких несчастных случаев — киты сдирали себе кожу — им было запрещено прикасаться к стенке, и теперь за ними зорко следят дельфины. У нас с Костей маски Робба из кремнийорганической резины. Пленка толщиной десять микрон, обтягивающая каркас маски, выполняет работу искусственных легких — через нее свободно поступает кислород, растворенный в воде, а углекислый газ уходит в воду; но этот процесс идет несколько медленней, и поэтому в маске есть еще специальный клапан для удаления водяных паров и углекислого газа. Маски Робба рассчитаны на плавание в пределах верхних горизонтов, не глубже двадцати метров. Сегодня у китов санитарный день. Мы расхаживаем по широкой спине Матильды с электрическими щетками и пластмассовыми лопаточками и очищаем ее от колоний рачков и морских желудей. Матильде эта операция, видимо, доставляет огромное удовольствие: она замерла и тихонько, чуть поводит плавниками; время от времени из ее дыхала раздается мощный хлопок, как из клапана компрессора. На спине Матильды стоит тавро: Нептун с трезубцем и номер. Петя Самойлов и вьетнамец Као Ки занимаются дойкой. По прозрачным шлангам доильной машины бежит тугая желтоватая струя китового молока. Счетчик на стенке причала отсчитывает декалитры. Молоко уходит в недра острова, где подвергается стерилизации и упаковывается в портативные контейнеры из прессованной бумаги. На земле мало продуктов питания, которые могли бы приблизиться по своим удивительним свойствам к этому концентрату энергии. Матильда дает в год более трехсот тонн молока! Трудно поверить, что было время, когда китов убивали, чтобы получить мясо, жир и кости. Мало того, что это было антигуманно, но и нецелесообразно. Уничтожалась целая фабрика питательного белка, которая может работать десятилетия, требуя самой минимальной заботы со стороны человека. Когда я думаю об этом, то всегда вспоминаю любимую фразу Павла Мефодьевича: «Целесообразность есть высшая справедливость»… Но сколько потребовалось усилий всего человечества, чтобы эта простая истина стала законом жизни! Надо было изменить социальный строй на всей планете, осуществить в грандиозных масштабах все великие открытия последнего столетия, утвердить коммунистическую мораль… Костя уселся на спинной плавник Матильды, как на причальную тумбу, и стал учить Протея песенке «веселых рыбаков». Отчаянно фальшивя, он насвистывает мотив. Протей внимательно слушает, высунув голову из воды. Кожа у Матильды упругая, как резина, синевато-серого цвета. Спина почти чистая. Работая щеткой, я тоже добираюсь к плавнику. Костя хохочет, слушая, как Протей довольно верно повторяет мотив песенки. Голос у дельфина скрипучий, резкий, по тембру напоминает читающие автоматы старых конструкций. Протею нравится лесенка, глаза его блестят, лукавая физиономия выражает полное довольство своими необыкновенными музыкальными способностями. Но музицировать некогда. Надеваем маски и прыгаем в воду. Сквозь очки льется голубоватый свет. Бок кита в мраморных бликах. Я проплываю не спеша и работаю только лопаточкой, отправляя на дно небольшие гроздья «желудей». Над головой — огромный серповидный плавник. Он нервно вздрагивает, когда я прикасаюсь к белому пятну под ним. Наверное, в это время Матильда прищурила глаза, как кошка, у которой чешут за ухом. Ко мне подплыл Петя Самойлов в сопровождении двух дельфинов. В гидрофоне раздался его искаженный пискливый голос: — Ты чего спрятался под плавником, как сосунок? Займись косметикой ее личика. Руководить этой ответственной операцией будет Тави. Обмениваться информацией с ним можешь телеграфным кодом, но не забывай, что твой руководитель воспринимает и зрительные образы вперемежку со звуковыми сигналами. Я самонадеянно сказал, что меня больше устраивает телепатический обмен информацией. Петя насмешливо пискнул и уплыл вместе с дельфином. Я висел в воде, внимательно разглядывая Тави. Он тоже рассматривал меня, застыв в неподвижной позе, и вдруг произнес шелестящим шепотом длинную фразу. Я ничего не понял и в свою очередь попытался мысленно передать ему, что рад знакомству и готов выполнять его указания. Мне сразу стало ясно, что я не смогу передать все это путем образной телепотемы. Мои попытки войти с ним в контакт Тави воспринял несколько оригинально: неожиданно «заговорил» так громко, будто у меня под ухом начали стрелять из порохового ружья. Увидев, какое впечатление произвела на меня эта громкая «фраза», он снова сказал что-то нежным шелестящим шепотом. Я опять ничего не понял, но почувствовал его расположение ко мне. Пришлось перейти на примитивный код и выстукать пальцами на его спине: «Меня зовут Иван». В ответ он так быстро прощелкал серию точек и тире, что они слились в длинный трескучий звук. Я помотал головой. Он понял и внятно прощелкал: «Плыви за мной, Ив». Так началось наше знакомство, скоро перешедшее в дружбу. Через несколько дней я спросил его, почему он назвал меня Ивом, а не Иваном. «Потому что тебе приятнее первая половина слова, обозначающая тебя…» Мы плыли рядом, обмениваясь незамысловатой информацией, вполне довольные друг другом. Тави находил колонии желудей, подавал сигнал, а я подплывал и скребком счищал моллюсков. С четверть часа мы прихорашивали Матильду. За это время Тави только один раз поднялся на поверхность набрать воздух. Моя маска действовала безотказно, забирая из воды нужное для дыхания количество кислорода. «Все!» — прищелкнул Тави. Я не стал всплывать. Мне хотелось еще побыть под водой. Я плыл, едва двигая ластами. В гидрофоне послышался голос Кости: — Я не уверен, что наша Мотя возьмет первую премию на конкурсе красоты. Ему кто-то ответил, но я не разобрал слов, так как звуковой сигнал был направлен в противоположную сторону. К тому же мешали какие-то неясные шумы, что-то поскрипывало, кто-то тяжко вздыхал, булькал, мягко хлопал в ладоши. Тави держался возле моего правого плеча, без усилий скользя в толще воды. «Что это за шумы?» — выстукал я по его спине. Он сразу же ответил: «Разговаривают киты. Нет в океане никого болтливее китов». «Ты знаешь их язык?» «Язык не главное, надо видеть разговор». «Неужели ты видишь их всех? Всех китов». «Вижу. Не глазами. Вижу, о чем они говорят. Вижу предметы разговора». «Угадываешь мысли?» «Вижу мысли!» — Тави смотрел на меня, и мне показалось, что он удивляется моей непонятливости. «О чем же они говорят?» «О разном. Матери хвалятся своими детьми. Передают новости». «Какие новости они сообщают? Что ты видишь сейчас?» «Наш остров издали. Синих китов. Касаток. Киты боятся за своих детей. Вижу еще людей на „ракетах“ и моих братьев. Касатки уплывают, люди и братья моря гонятся за ними. Говорить молча совсем просто». — Тави глядел на меня, глаза его поощрительно улыбались. Я постарался сосредоточиться, и мне стало казаться, будто перед моими глазами проплывают смутные образы. Нет, это только показалось. Причудливые светотени, непривычная цветовая гамма и усталость на мгновение создали у меня иллюзию восприятия «зрительного языка» китов. Тави сказал: «Теперь они говорят о Великом Кальмаре, их…» Тави взлетел к поверхности, чтобы сменить воздух в легких. Я тоже всплыл и, откинув маску, впервые посмотрел на гигантских китов совершенно другими глазами. И все-таки в сознании как-то не укладывалось, что эти живые глыбы сейчас ведут неторопливые беседы о своих житейских делах, может быть, злословят, тревожатся за участь детей. Мне надо было сделать немалое усилие, чтобы поверить Тави. До сих пор усатые киты считались животными, в своем развитии стоящими ниже обезьян. В нас невероятно сильно держатся атавистические представления об исключительности человека — заблуждение, в течение тысячелетий оправдывавшее преступления людей против своих меньших братьев. Пока мы с Тави беседовали, произошло событие, взбудоражившее все население нашего острова. Когда я вынырнул, то в уши мне ударил мощный голос, усиленный мегафоном. Дежурный говорил, стараясь сохранить хладнокровие: — Опускайся на двадцать метров и выходи из зоны, занятой китами. Избегай малышей. Слушайся во всем Протея. Еще рано, разве ты не видишь, что возле тебя три «подростка»! Я быстро забрался на причал и увидел такую картину. Стадо китов уходило из лагуны на пастбище. Важно плыли матки, делая не более четырех узлов. Молодые киты резвились вокруг родителей, малыши до половины выпрыгивали из воды и плюхались в зеленую воду, поднимая каскады брызг, ныряли. Доносилось характерное пыхтение старых китов. Над стадом стояла радуга. Напрягая зрение, я старался разглядеть Костю в воде, думая: как его угораздило затесаться в стадо китов? Вдруг я увидел моего друга, стоящим в пене и брызгах на голове Матильды. Голова ее была поднята над водой выше, чем у других китов. Неужели и она понимала опасность, угрожающую Косте? — Прыгай! — рявкнул вахтенный в мегафон. Вынырнув далеко от стада, Костя взобрался верхом на Протея и плыл на нем к острову. Снова над океаном послышался мощный голос. Теперь дежурный язвительно отчитывал Костю за нарушение этики в отношении приматов моря. В заключение он сказал: — Нельзя, молодой человек, злоупотреблять дружбой морских братьев. Костя, красный, запыхавшийся, вылез из воды и набросился на меня: — Ну чего ты смеешься? Весело, что нашелся объект для плоского остроумия? — Мне нисколько не смешно… — Ах, ты сожалеешь, что я компрометирую тебя? Потом он перенес огонь с меня на остальное население острова: — Куда мы попали? Сплошные пай-мальчики! Здесь хуже школы для детей с задатками нравственных пороков. Нет, с меня хватит! Улечу с первой же попутной ракетой! Прощай! — И он быстро зашагал к ребятам, вытянувшим электроталями драгу со дна лагуны. Тави плавал возле стенки. Он прощелкал: «Войди в прозрачную раковину». Я стоял недалеко от кабины из сероватого пластика. В ной находилось электронное устройство старого образца для прямого обмена информацией с дельфинами. Здесь я привожу наш разговор в «отредактированном виде», так как очень часто кибер путал понятия или объяснял их чрезмерно сложно. Например, слово «небо» в переводе звучало так: «Там выше головы, где сияет шар, похожий на круглую рыбу». У старого кибера была слабость к витиеватости. Его скоро заменили «ЛК-8006». — Так лучше задавать вопросы и слушать, — прозвучал жестковатый голос машины, переводившей слова Тави. Я согласился с ним и спросил: — Так что говорили киты о Кальмаре? — О Великом Кальмаре! — поправил Тави. — Чем их интересует Кальмар, да еще Великий? Ведь они не едят кальмаров. Послышалось что-то похожее на смех: — Великого Кальмара нельзя есть. Я согласился, что Великого Кальмара съесть трудновато и что справиться с такой нелегкой задачей могут только кашалоты. — Нет, кашалоты едят просто кальмаров. Великого Кальмара есть никто не может. Он хозяин бездны. Человек — хозяин неба и света. Великий Кальмар — хозяин бездны и ночи. Великий Кальмар стал похож на таинственное морское божество из древней легенды. Тави продолжал: — Великий Кальмар намеревался сегодня ночью взять маленького кита. — Какого маленького? — Что родился вчера. Великий все знает. — Ему это, надеюсь, не удалось? — Братья моря заметили его. Большие киты пошли ему навстречу. — И намяли бока? — Не понимаю. — Побили его? — Его нельзя побить. Он Великий Кальмар. Я спросил, почему Тави относится с таким почтением к кальмару, а большие киты его не боятся. — Он не хочет встречаться с большими китами, — ответил Тави. — Все другие жители моря не хотят встречаться с Великим Кальмаром. — Ну, это понятно. Скажи, очень велик твой Великий Кальмар? — Мне непонятно. — Каких он размеров? Больше кита? — Он не больше, он Великий Кальмар! Я долго допытывался, каким образом Тави узнавал о его приближении. Почему киты бросились навстречу кальмару, защищая своего детеныша, еще не видя врага? Или Тави давал путаные объяснения, или кибер не справлялся с переводом, но прошло с четверть часа, пока наконец мне удалось догадаться, что Тави говорит о втором зрении — локации — и совсем непонятном чувстве, что-то вроде телепатической связи. Но так или иначе, приближение Великого Кальмара не оставалось незамеченным, и, видно, одни живые существа вставали на свою защиту, а другие покорно становились жертвами чудовища. И еще одну новость сообщил мне Тави. Киты знали о появлении Черного Джека и его очередном убийстве. Новости в океане распространялись очень быстро. Тави удивил меня, сообщив, что вчера вечером к нашим силовым заграждениям подходили разведчики Черного Джека и скрылись, напоровшись на «звуковой бич». А я-то записал в вахтенном журнале о появлении в наших водах мирных касаток!КОГДА ЖЕ ОНА ВСПЫХНЕТ?
На экране вместо Биаты появилась круглолицая девушка. Она с улыбкой смотрела на меня: — Не узнаешь старых друзей, бродяга! — Надежда! — Она самая. А я тебя сразу узнала. Забыл, как нас извлекли из контейнера? Мы с Надей учились в школе первого цикла. Как это было давно! В те времена Надя походила на мальчишку и верховодила всей нашей группой. Как-то ей пришло в голову покинуть Землю и отправиться на Луну, где тогда еще строили первый астрономический городок. Ее предложение было встречено нами с восторгом. Разработан гениально простой план. Мы решили лететь в контейнерах, которые загружали строительными материалами и продуктами. Ночью пробрались на космодром, нашли ракету, возле нее груду пустых ящиков из почти невесомого пластика. Просидели в них до утра, были обнаружены роботами-контролерами и переданы в руки администрации космодрома… — Ты сильно изменилась, я еле узнал тебя. — Подурнела? — Нет, ты стала очень красива. — Ты говоришь это тоном сожаления. — Да, мне жаль нашего детства. — Правда, было хорошо? — Лицо ее раскраснелось, глаза заискрились, она стала удивительно похожа на ту Надьку — «Лунного скитальца», как ее еще долго звали в школе. — Очень! — сказал я и спросил: — Ты что, проходишь практику вместе с Биатой? Она помотала головой. — Биата там, — ее тоненький пальчик поднялся вверх, — а я здесь, — пальчик опустился, — на Земле, нажимаю кнопки. Но это временно. В телецентре я промучаюсь еще недели две: обязательный труд для лиц с неустойчивыми решениями. Представь, я все еще не могу ни на чем остановиться. А ты доишь китов? — Нет еще, это не так просто. Пока занимаюсь их косметикой. — Как интересно! Сейчас у спутника заняты все каналы, срочные разговоры академиков по поводу Сверхновой. Что-то она никак не может вспыхнуть… Так ты занимаешься в косметическом салоне для приматов моря? Как-нибудь расскажешь подробнее. А возможно, я сама нагряну к тебе в период раздумий о подыскании постоянной профессии. Недавно я встретилась, вот так же случайно, с Дэвисом. Помнишь, такой длинный, печальный, он нас закрывал в контейнерах и плакал, что остается на Земле? — Рыжий Чарли! — Именно! Сегодня вот так же появился, как чертик из коробочки. Ищет кости динозавров и птеродактилей в Монголии. Приглашал принять участие. Мне когда-то нравилась палеонтология. Надо обдумать этот серьезный шаг. — Она засмеялась. Куда девалась ее мальчишескаяугловатость, презрительный прищур глаз и безапелляционность суждений! — И еще я встретила Грету Гринберг, — продолжала Надя. — Да, ты не знаешь ее. Мы учились с ней в театральном. Снимается в Мексике… Ну, хороших тебе снов. Целую! Она исчезла с экрана, оставив грустное чувство, как после чтения старых писем. Через несколько секунд на экране материализовалась комната Биаты. Я видел только часть бледно-зеленой стены с серым успокаивающим узором. Биата стояла ко мне спиной и поправляла перед зеркалом волосы. Она повернулась и, улыбнувшись, сказала: — Здравствуй. Я совсем заработалась. Мы столько получаем информации! Загрузили даже твоего тезку «Большого Ивана». Академики сначала подняли шум, но потом сдались, и теперь самый главный электронный мозг планеты в нашем распоряжении. Ты слушаешь наши сводки? — Иногда… У нас тоже довольно напряженная обстановка. Я попытался было в кратких чертах рассказать о нашем хозяйстве, дельфинах, Черном Джеке, но на лице ее отразилось сожаление: я, занятый такими пустяками, сравниваю свою деятельность с трудом астрономов, ожидающих вспышки Сверхновой! Я смущенно замолчал. — Ты прости, — сказала Биата, — я стала какая-то одержимая — все, что не относится к нашей Звезде, сейчас мне кажется не заслуживающим внимания. Ты пойми, возможно, что после вспышки Сверхновой произойдут какие-то непредвиденные изменения в мире. Возможно, трагические. Ты же знаешь, что есть гипотеза о причине гибели третичных рептилий. Возможно, их убили излучения Сверхновой. Выжили только мутанты… Кстати, мы наблюдаем мутации бактерий под влиянием прапрачастиц. Что, если эти частицы — катализаторы, способствующие образованию нуклеиновых кислот и, следовательно, жизни? У тебя такое выражение лица, будто все, что я говорю, — откровение. Ты и в самом деле весь поглощен своими китами. И, наверное, ничего не слышал о новой элементарной частице. Это же величайшее открытие века! Это, видимо, один из «кирпичиков», и, может быть, самый первый кирпичик, из которых строится все. — Как? — задал я глупый вопрос. Она улыбнулась: — Не знаю. — Когда же все-таки она вспыхнет? — спросил я. Она поняла истинный смысл моего вопроса: «Когда же мы встретимся?» И ответила: — Скоро, очень скоро. Поток нейтрино почти стабилизировался. — Что, если он будет стабилизироваться еще сотню или тысячу лет? Она улыбнулась: — Ну как ты можешь! Вопрос дней, может быть, часов или минут, даже мгновений! — Прищурившись, она продолжала: — Ты представь себе, для того чтобы это произошло, температура в ее ядре должна достигнуть шести миллиардов градусов! Чудовищно! Я кивнул, уставившись на серебристый циферблат ионных часов за спиной Биаты. Секундная стрелка неумолимо заканчивала последний круг. Биата обернулась и сказала быстро: — Я ухожу. Привет Косте. Твоя «Звездная пыль» прелесть. Ею благоухает весь спутник и даже космос вокруг нас в окружности парсека… Экран источал серо-зеленый цвет, словно впитал в себя окраску стен комнаты Биаты. Я смотрел на стекло видеофона и улыбался. То, что она говорила мне, я воспринял как приятный шум, я еще не вдумывался в ее слова. Для меня было важно, важнее всего на свете, то, что я видел ее и слышал ее голос и что вся она была обращена ко мне и вспомнила про «Звездную пыль». Я вышел из комнаты и побрел по широкому прохладному коридору с наружной стеклянной стеной. В эту жаркую пору дня стекло было полупрозрачным, и потому кусочек нашего острова и океан казались затянутыми сумеречной сеткой. От пейзажа за стеклом веяло миром и покоем, как на картинах импрессионистов. В своей лаборатории Костя в ослепительно белом халате священнодействовал возле анализатора. Он не заметил меня, рассматривая спектры и напевая:«Шестьдесят разведчиков Джека разделились на десять звеньев и одновременно стали искать проходы в глубине, между буями. Мы включили дополнительное напряжение и атаковали одну из групп стрелами. Один ушел в глубину навсегда, остальные бежали на запад, потом на север».Торпеда рванулась на север. Четыре патрульных дельфина обошли торпеду и развернутым строем полетели вперед. Именно полетели, скользя почти по самой поверхности и, казалось, не делая для этого особых усилий. Мы проводили взглядом торпеду и патрульных до горизонта. Петя повертел головой и причмокнул: — Вот это гонка! Завидую ребятам с «Кальмара». Только им разрешается использовать всю мощность торпеды и применять ампулы с морфином. Конечно, им не накрыть Джека. Может, заарканят кого-нибудь из желторотых. Тогда удастся подготовить еще одного парламентера. Я спросил: — Ты веришь, что таким путем можно перевоспитать Джека? — Конечно, нет! Но, возможно, другие, а их около тысячи, перейдут на легальное положение. В Арктике касатки успешно используются в роли пастухов трески. А с Джеком можно покончить только широкой блокадой и с моря и с воздуха. Послышался мелодичный гудок, на пульте замигали лампочки. Петя сказал: — Включился резервный опреснитель. Нам с сегодняшнего дня увеличили план биомассы. Теперь у нас дьявольская потребность в пресной воде. — Он пощелкал тумблерами, улыбнулся и сказал сочувственно: — Не огорчайся особенно. Со мной тоже иногда бывает — вдруг все разладится. Кажешься себе таким дураком! В подобных случаях лучше всего переключиться на другое. На экране видеофона появилось сухощавое лицо индийца. Петя смущенно сказал: — А, Чаури-сингх! Приветствую и слушаю тебя! Чаури мрачно пробасил: — Благодарю за неоднократные приветствия в течение сегодняшней половины дня, а также за любезные обещания. — Не беспокойся, Чаури-сингх, — Петя подмигнул мне, — я наконец-то нашел дублера. Вот наш стажер мечтает пуститься в плавание на знаменитой «Камбале» в обществе… в вашем обществе… Чаури посмотрел на меня и, кивнув головой, исчез. — Ну, вот все и устроилось, — сказал Петя. — Это наш бионик. Ведет интереснейшую работу с головоногими моллюсками. Ты, конечно, еще не мог с ним познакомиться, он все время торчит то у своих самописцев, то болтается в «Камбале». Счастливого тебе плавания! Зайди в его конуру, там много любопытного, он будет ждать. Да не вздумай опаздывать, тогда я совсем пропал в его глазах как серьезный человек, да и тебе не поздоровится.
ВЛАДЕНИЯ ЧАУРИ-СИНГХА
«Конура» оказалась огромной лабораторией. Одну стену в ней занимал аквариум. За литым стеклом высотой около пяти и длиной не менее восьми метров застыла прозрачная бирюзовая вода. В ней парили стайки рыб, одетых в разнообразные «праздничные» наряды, разрослись кусты кораллов, багряные, белые, розовые, зеленые и даже ярко-желтые, предательски прекрасные анемоны «цвели» на глыбах камней, морские лилии трепетали лепестками-щупальцами; со дна поднимались изящные ленты темно-зеленых, бурых и красных водорослей. На дне сновали рачки, лежали, раскрыв створки, перловицы. Словом, это был кусочек живого океана, перенесенный в лабораторию ученого. Второй достопримечательностью лаборатории был светильник: большая прозрачная чаша на бронзовой треноге. В чаше с водой притаился небольшой невзрачный кальмар-альбинос. Как видно, один из глубоководных видов. «Зачем он здесь?» — подумал я, заглядывая в чашу. Кальмар «ответил». Он вспыхнул изнутри голубым светом, а вся его поверхность покрылась разноцветными, тоже светящимися точками, расположенными с большим вкусом. При свете, источаемом кальмаром, можно было читать. Я никогда не видел таких кальмаров и подумал: «Вот бы послать Биате на спутник!» Как только я отошел от чаши, кальмар погас. Чаури-сингх, казалось, не обращал на меня никакого внимания. «Не уйти ли?» — подумал я, но сразу отказался от этой мысли. Все в этой комнате привлекало: множество незнакомых приборов, светящийся кальмар, грандиозный аквариум, на который можно было смотреть не отрываясь часами, и особенно сам хозяин этой необыкновенной лаборатории. Высокий, худой, он сосредоточенно следил за осциллографом и телеэкраном. На экране фиксировался кусочек океана, вернее, его дна, загроможденный черно-бурыми обломками базальта. Судя по темно-зеленому цвету воды, глубина была довольно значительной. Неожиданно я увидел гигантского осьминога. Я различал его смутные очертания, клюв и огромные фиолетово-черные глаза. Он, казалось, дремал, наслаждаясь тишиной. Перед ним лежала груда двустворчатых моллюсков. Осциллограф чертил ровную, слегка волнистую линию. Я догадался, что каким-то непостижимым для меня образом Чаури-сингх умудряется наблюдать и записывать биотоки мозга этого моллюска. Из сумрака появилась стайка окуней. Пульсирующая волнистая линия на экране слегка подпрыгнула и опять пошла ровной строчкой. Чаури-сингх повернулся ко мне и спросил: — Тебе никогда не приходилось смотреть чужими глазами? Нет, конечно, не глазами другого человека — разница при этом была бы незначительна, — а, например, глазами собаки, жука, курицы, кита или дельфина. Так вот, представь, что ты превратился в головоногого моллюска! — Он нажал желтый клавиш, и картина на экране телевизора мгновенно изменилась. Вода… нет, это теперь, казалось, было что-то другое, абсолютно прозрачное, какое-то нежно-фиолетового вещество. В нем плавали причудливо расплывшиеся громады скал, какие-то необыкновенные растения очень сложной, пастельной расцветки. В фиолетовом мире двигались фантастические рыбы; и по форме, и по окраске они превосходили все, что мне приходилось видеть необыкновенного в глубине тропических морей. Картина неожиданно стала меняться, цвета стали ярче, очертания скал, растительности, животных приобрели более знакомые формы. Коралловый куст вспыхнул алым пламенем, затем постепенно стал менять цвета, как остывающая сталь. Анемона, примостившаяся на коралловом кусте, так же поспешно меняла окраску своих «лепестков» и ножки, словно мгновенно переодевалась. Удивительные превращения происходили с чудовищно-несуразной рыбой, будто раскрашенной художником-абстракционистом. Из широкой и плоской она превратилась в пеструю ленту, затем свернулась и стала нормальным помокаптусом, только не черным с золотым, а темно-синим с алыми и желтыми пятнышками. Глаза у рыбы вспыхнули зеленым огнем и стали медленно гаснуть. Весь подводный пейзаж менялся, как декорации; видимо, художник-постановщик подводного представления обладал необычайной фантазией и набором технических и еще каких-то совершенно непостижимых для меня средств. — Приблизительно так видит кракен. Хрусталик его глаза подвижен, как линза в фотокамере. Конечно, не только этим объясняется такой поразительный эффект. Надо еще учитывать, что моя электроника далеко не совершенна и передает далеко не все, что видит кракен. Его палитра несравненно богаче, и ее основные цвета иные, чем те, что воспринимает наше зрение, здесь же цвет переведен в доступные нам колебания. Видимо, нам никогда не удастся увидеть подлинный мир этих существ, — грустно сказал он. Внезапно краски на экране расплылись, смешались, побежали белые линии. — Видишь! — Чаури-сингх сделал движение рукой в сторону экрана. — Вот уже неделя, как ежедневно в это время искажается передача информации по всем каналам. Электронный луч бешено прыгал на осциллографе. — Необходимо проверить электронную приставку. Она там. Рядом с кракеном. Поэтому я просил себе спутника. Извини, но инструкция запрещает плавать в батискафе одному. Я не нарушил ритм твоего творческого дня? — Я вышел из ритма. — Тогда нет лучшего средства обрести равновесие душевных сил. — Он выключил приборы.СВИДАНИЕ С КРАКЕНОМ
Мне еще не приходилось опускаться в глубины моря на «порхающем блюдце». Мой опыт исследователя морских глубин ограничивался несколькими рейсами на экскурсионных гидростатах в Океании, Красном море и у берегов Флориды. Правда, прошлым летом мне посчастливилось попасть на крейсерский батискаф и провести в глубинах Северной Атлантики целый месяц (там уже много лет ведутся успешные опыты по одомашниванию гренландских китов и моржей), но плавание на огромном корабле с комфортабельными каютами, салонами и спортивным залом нельзя сравнить с экскурсией на «Камбале». Здесь ощущаешь океан каждой клеточкой тела, почти так же, как плавая в маске Рооба или с глубинным аквалангом. «Камбала» оказалась довольно вместительной. Два широких сиденья впереди и одно на корме, специально для стажеров. На этот раз я уселся рядом с Чаури-сингхом у панели управления. С легким шипением вошел в пазы люк. Чаури-сингх положил руки на разноцветные клавиши, и «Камбала» без видимых усилий двинулась вперед, скользя по воде. На середине лагуны она стала погружаться. В кварцевые стекла иллюминаторов прощально плеснула волна, и зеленый свет наполнил кабину. Указатель курса стал описывать кривую, уходя вниз по шкале глубины: мы опускались по широкой спирали. Появилось несколько дельфинов. Они провожали нас, заглядывая в окна. Среди них оказался и Тави. Я помахал ему рукой. Тави подплыл почти вплотную к стеклу, будто преграждая дорогу. Чаури-сингх включил гидрофон. Послышались взволнованные голоса дельфинов. Слышалась тревога в их щелкающих фразах. — Они о чем-то нас предупреждают, — сказал я и не узнал своего голоса: никогда он не был таким пискливым и слова не вылетали из моего рта с такой необыкновенной скоростью. Чаури-сингх улыбнулся и надел прозрачную маску. Такая же маска лежала в кармане обшивки справа от меня. Я тоже надел ее и услышал вполне нормальную речь. — Мы дышим кислородно-гелиевой смесью, только с минимальной прибавкой азота. Гелий искажает звук, — объяснил Чаури-сингх и кивнул Тави. — Он предупреждает, что не следует опускаться в Глубокий каньон. Там заметили большого кальмара. Возможно, это тот самый легендарный Великий Кальмар, о котором ты, вероятно, слышал. Тави и его спутники оставили нас, как только Чаури-сингх сообщил им, что он не собирается сегодня обследовать Глубокий каньон. — У них чисто религиозное почтение к Великому Кальмару и не менее могущественному Великому Змею, — сказал ученый. Нас окружила стая любопытных анизостремусов. Они тыкались носами в стекла, пялили на нас круглые радужные глаза. Из гидрофона доносился поток шелестящих звуков: анизостремусы «обсуждали» наше появление. Иногда виток спирали подходил к обросшей водорослями стенке нашего острова. Здесь к шепоту анизостремусов примешивалось множество других диалектов жителей моря и особенно голоса креветок, напоминающие потрескивание масла на сковороде. Анизостремусы отстали, как только температура воды опустилась до двадцати градусов. Глубина сорок метров. Исчезли тени. Мы очутились в зоне ровного зеленого света. Нельзя было определить, откуда он льется: сверху, с боков или снизу? Описав виток, мы снова подошли к стене «острова», декорированной водорослями. Внезапно Чаури-сингх остановил батискаф. Недалеко от нас, возле самой стены, вился пестрый рой рыб. Все они стремились пробиться к центру, где, видимо, происходило что-то очень важное. Я заметил лупоглазых коричневых, усыпанных круглыми белыми бликами кузовков, черных с золотом помакантусов и золотисто-бурого губана, которого за его жеманность называют «сеньоритой». «Сеньориту» тут же закрыли плоские помокантусы. Они подставляли ей свои бока, замирали, «стоя» вниз головой или «лежа» вверх брюхом. — Обычный врачебный пункт, — сказал Чаури-сингх, улыбаясь, — санитары «лечат» своих собратьев, страдающих кожными болезнями. Санитарный симбиоз все еще для нас загадка, как почти все, с чем мы встречаемся в океане. Нам неясно, почему хищные животные щадят крохотных санитаров. — Он включил двигатель и сказал: — Мне показалось, что я обнаружил новый вид санитара. Не узнал синеглазку. Ты заметил зеленую рыбку с фиолетовой головой, голубой и черными полосами? Я признался, что проглядел, хотя во время подводных экскурсий встречал эту на редкость изящную синеглазую красавицу. Чаури-сингх продолжал, глядя в зеленоватый сумрак: — Эти существа питаются ядовитой слизью, грибками, паразитирующими на теле рыб, колониями бактерий, рачками-паразитами, сами не заражаясь. Странно? — Да… очень… — Нам удалось выделить антибиотик из крови «сеньориты». Скоро фармакологи дадут нам этот токсин, и мы сможем помочь рыбам-санитарам. Больные уже «приходят» в опытные «амбулатории», которые мы установили на рифах и санитарных буях… На глубине семидесяти пяти метров мы попали в общество крохотных кальмаров. Они были почти не видны, приняв цвет воды. Внезапно впереди появилось множество коричневых расплывающихся пятен. Пятна слились, и мы очутились в непроницаемой мгле. Чаури-сингх сказал со смехом: — Нас обстреляли из ракет, начиненных аэрозолями. Придется подождать садиться, пока рассеется этот «дым». Кабина наполнилась странными звуками, похожими на легкие вздохи. Зеленым и синим, сиреневым, красным светом тлели дрожащие стрелки и цифры приборов. Чаури-сингх стал делиться своими неисчерпаемыми сведениями о головоногих моллюсках. Я слушал его, думая о Биате. Мне представилось, что она прикорнула на заднем сиденье и, глядя в темноту за стеклом, где сейчас вспыхивают голубоватые искорки, думает о своих звездах или мысленно просматривает пленки со следами осколков атомов. Для нее все это насыщено поэзией. Или, может быть, она вся отдалась ощущению тайны, окутавшей нашу «Камбалу». Конечно, она бы отождествила океан с космосом. Там рождаются звезды, здесь — жизнь. Без жизни нет ни звезд, ни планет. Без жизни они ничто… Чаури-сингх тихо говорил: — Вы знаете из элементарного курса, что у них три сердца и голубая кровь… Она бы засмеялась, услышав это, и сказала: «Вот аристократия! В древности голубую кровь считали привилегией царственных родов»… Чаури-сингх продолжал: — Мне посчастливилось открыть два новых вида глубоководных кальмаров… В горах, на привале, она увидела мышь, обыкновенную серую мышь, и обрадовалась ей так, будто открыла совершенно новый вид… Чаури-сингх повысил голос: — …Разве не достойно удивления, что природа за миллионы лет до появления человека открыла один из самых совершенных способов перемещения в пространстве — реактивный двигатель — и наделила им головоногих моллюсков… За окном стояли сумерки. Коричневое облако медленно рассеивалось. — Я покажу тебе этот экземпляр… — Чаури-сингх нажал один из клавишей. — Совершенно исключительная форма щупалец… Если, конечно, у тебя найдется время… Засветился небольшой телеэкран, и мы увидели дно: коралловые глыбы, стаю рыб. Метнулись темные тени: рыбы одновременно спикировали в глубину. Донные рыбы, занятые своими повседневными делами, казалось, не обращали на нас внимания, но это только казалось, они были настороже, готовые юркнуть в заросли водорослей или щели в коралловых глыбах. Просто они «изучают» странное существо, не похожее ни на одного из их врагов и друзей. Кажущееся равнодушие рыб, видимо, еще объяснялось нашей скоростью: мы еле плелись, были на виду и не скрывали своих намерений; хищники так себя не ведут. После десятиминутных поисков «Камбала» повисла над уже знакомыми глыбами кораллов. Спрут медленно шевелил щупальцами и смотрел на нас; теперь глаза его источали голубоватый свет. Он мгновенно покраснел, стал совершенно пурпурным, затем на нем появились черные полосы — признак более сильного волнения, — и так же неуловимо быстро яркая окраска сменилась на бледно-пепельную. — Тетис сильно взволнована, — сказал Чаури-сингх, — только при крайней степени волнения, испуге, она бледнеет; не обязательно становится серой, как сейчас, — она может стать желтой, бледно-голубой или нежно-сиреневой; в гневе пользуется более яркими, густыми тонами. Механизм этого явления необыкновенно сложен. В верхних слоях кожи расположены хромотофоры — пигментные клетки, а также клетки, необыкновенно чувствительные к световым лучам. Хромотофоры содержат в себе все цветовые комбинации, известные нам, а также сочетания красок, тона, которые невозможно нигде больше встретить и тем более получить в земной химической лаборатории. Выбор окраски определяется не только зрением, но и самой кожей, а также эмоциями. Настроение в этом деле имеет решающее значение. До сих пор не найдено ни одного существа, которое могло бы так мгновенно и целенаправленно менять цвет своего тела. Хамелеон — жалкий дилетант. А человек! Всего каких-то три — четыре тона, не больше. Ну можем мы с тобой заставить покраснеть только, скажем, руку? При большой тренировке и то с трудом. А осьминог может все свои восемь ног окрасить в разные цвета и даже нанести на них узоры, воспроизвести на поверхности кожи подводный пейзаж! Неожиданно осьминог обмяк, щупальца потеряли упругость. — Немного снотворного нашей Тетис не принесет вреда, — сказал Чаури-сингх, — и даже будет полезно, она так переволновалась сегодня. Мы держались возле самого дна. Вспыхнул луч прожектора, осветив моллюска, засверкали водоросли, анемоны стали похожи на увядающие орхидеи: на них тоже подействовал наркотик, они уснули. И опять кожа осьминога мгновенно приняла яркие тона подводного пейзажа. Моллюск напоминал драгоценную майолику, найденную археологами при раскопках Согдианы. Телевизионная камера с приставкой для трансляции нервных импульсов находилась в трех метрах от убежища осьминога, на возвышенности, похожей на цветочную клумбу. Камуфляж надежно защищал приборы от любопытных глаз. Никто, кроме Чаури-сингха, не отличил бы их от камня, заросшего водорослями. Механические руки осторожно заменили приставку — небольшой темный цилиндрик. — Вот и вся операция, — сказал Чаури-сингх, — можно было бы предусмотреть автоматическую смену деталей, но мне нравятся такого рода прогулки. Чрезмерная автоматизация ограничивает непосредственное ощущение мира, создает только видимость подлинных событий, хотя и тождественных по существу. Возле спящей Тетис, не обращая внимания на яркий луч нашего прожектора, появились широкие толстые групперы. Они безбоязненно шныряли вокруг и даже совали головы под щупальца осьминога, подбирая остатки с его пиршественного с гола. Чаури-сингх сказал удивленно: — Каким образом групперы узнали, что Тетис спит? Нет, это поразительно! Ведь их бессознательный опыт должен бы им подсказать, что кракен никогда не спит, по крайней мере его никогда нельзя застать врасплох! Чаури-сингх потушил прожектор и, подняв «Камбалу» на двадцать метров, включил миниатюрный осциллограф, вмонтированный сбоку телеэкрана. Мы стали наблюдать за кривой осциллографа. Она стала ровнее, но даже у сонного кракена наблюдалась повышенная нервная напряженность. Временами кривая подпрыгивала. Наверное, в это время Тетис видела сны. Я спросил об этом ученого. — Осциллограммы кракена обостренно эмоциональны. Смотри! Действительно, в ее мозгу возникают зрительные образы. Наверное, снится мурена — пожирательница ее детей. Здесь Тетис отложила яйца, охраняет их и ждет появления потомства. Затем еще некоторое время пробудет в этих местах, пока дети окрепнут. Этот вид осьминогов нежно заботится о своем потомстве. Я сделал запись почти всего цикла воспитания осьминогов. Поражает осмысленность действий матери… — Чаури-сингх говорил быстро, не спуская глаз с экранов. Анемоны расправили свои венчики. Групперы бросились врассыпную. Тетис медленно зашевелила щупальцами, вздрогнула и спряталась в тень коралловой глыбы. Кривая бешено запрыгала по экрану осциллографа. — Возможно, она больна? — вслух подумал Чаури-сингх. — Такая смена состояний ненормальна. Мне припомнились слова Биаты о мутациях бактерий, моя собственная пленка с записью поведения вируса, возрастающий поток нейтрино, обнаружение новой элементарной частицы. Выслушав меня, Чаури-сингх сказал: — Возможно, хотя воздействие нейтрино на организм кракена даже при чудовищном увеличении почти равно нулю. Вода — надежный панцирь и от жестких излучений, поэтому мутации в океане случаются невероятно редко. В этом одна из причин консерватизма жизни мирового океана. Ты говоришь о явлениях в связи со Сверхновой? Новая элементарная частица? — Он задумался на несколько секунд и сказал: — Надо внимательней просмотреть последнюю информацию с астрономических спутников и работы коллег. Последние дни я был слишком увлечен работой. Заканчиваю серию опытов. От них зависят необыкновенно важные выводы. — Вы полагаете, что головоногие обладают разумом? Чаури-сингх улыбнулся: — Разум — прежде всего аппарат для приема и передачи информации. У головоногих моллюсков совершенная нервная система, больше органов чувств, чем у наземных животных. Поток информации, получаемый ими, огромен. Мы прослеживаем у них способность к решению задач после осмысления полученного опыта. Мне думается, что вслед за открытием цивилизации дельфинов — я сторонник этого утверждения, именно цивилизации, — мы стоим перед решением еще одного аспекта разума, с иной логикой, чем у приматов Земли и моря. Тебе удалось увидеть мир глазами кракена. К сожалению, передача информации нарушилась. Это не серый свет, который ощущают животные с примитивным зрением. Ты был поражен красками и формой окружающих предметов, ландшафта. Возможность менять фокус дает удивительные эффекты. Здесь безусловно один из видов творчества, доступного этому существу. Мы еще очень мало знаем о его кожном зрении, телепатической связи, языке. Я согласен с твоим учителем, что природа не могла остановить свой выбор только на человеке, наделив его одного разумом. Формы разума так же бесконечно разнообразны, как и формы жизни.ГЛУБОКИЙ КАНЬОН
Мы прошли в густой зеленой тени под нашим плавучим островом, мимо столбов, похожих на стволы чудовищно толстых пальм. Такими стали канаты, обросшие водорослями. Более сотни сверхпрочных тросов надежно удерживали базальтовую глыбу острова на гребне подводного хребта. Тень рассеялась, как грозовая туча, навстречу медленно плыл коралловый лес, залитый нежным светом. Каменные деревья отливали перламутром и казались воздушно-легкими, невесомыми, как и стаи радужных рыб, порхавших над коралловыми зарослями и в их чаще. Время от времени открывались поляны, отдаленно напоминающие горные луга весной. «Цвели» желтые «морские веера», пурпурные «морские перья» ритмично раскачивались из стороны в сторону, действительно похожие на перья, вырванные из хвоста жар-птицы и небрежно разбросанные по дну. — При попытке нарисовать морской ландшафт невольно пользуешься грубой земной палитрой, а она-то как раз и не годится для этого. На земле нет таких красок, таких необъяснимых цветовых сочетаний, которые создают неповторимую прелесть морских ландшафтов. Здесь цвет непостоянен. Ты видишь, как меняется цветовая гамма? Впереди нас показалась стайка серебристо-розовых макрелей, но, как только мы приблизились к ним, рыбки стали ярко-желтыми. Скоро они попали в полосу более яркого света и тотчас же превратились в драгоценности из рубинов и пламенеющего золота. Затем цвет их стал бледнеть, и вот они уже жемчужно-серые. Но и этот скромный наряд долго не удержался. Перед тем как скрыться из поля нашего зрения, стайка окрасилась в золотисто-топазовые тона. Чаури-сингх сказал: — Рыбы меняют окраску в зависимости от того, под каким углом падает свет на их чешую. Простое, но не исчерпывающее объяснение. Мы почти ничего не знаем об этом великом доме, где родились. Он еще для нас чужой. Человечеству так долго казалось, что у него слишком много неотложных дел на суше, затем в космосе. Пройдут еще сотни лет, пока людям Земли посчастливится столкнуться с миром, где-то в глубинах Вселенной, который сможет как-то сравниться с Океаном. Но вернее всего, этого не случится. Природа беспредельно щедра, и, возможно, здесь она достигла наивысшего творчества, а там, в космосе, только варианты. Варианты величественные, необычайно сложные, но лишенные земной теплоты и бесчисленного разнообразия. Он умолк. Коралловый лес расступился, внизу темнело, все расширяясь, ущелье. В глубине его смутно обозначались отвесные берега, выступы скал; казалось, что там двигаются тени каких-то существ, огромных и непонятных, а дальше взгляд наталкивался на черную поверхность бездны. У меня появилось своеобразное ощущение, как в горах над пропастью или на балконе обзорной башни: захотелось броситься в эту черноту. Чаури-сингх нажал несколько клавишей и посмотрел на фиксатор глубины. Красная линия на шкале медленно опускалась. — Ничего опасного, — сказал он. — Нас увлекает вниз одна из ветвей глубинного течения. Течение холодное, как видишь, — он кивнул на прибор, — всего восемь градусов Цельсия. Холодный поток. Переливается через горный хребет, обогащая воды океана питательными солями. Ветвь довольно узкая, течет среди теплой воды, как по трубе. На границах потока особенно интенсивно развитие жизни… В его словах почувствовалась озабоченность, он явно думал о чем-то другом, более важном. За колпаком медленно наступали сумерки. Вспыхивали зеленоватые искры. Красная черточка на глубиномере опустилась до двухсот пятидесяти метров. Сбоку от Чаури-сингха засветилась разноцветными огнями схема двигателя нашего кораблика. Ученый с минуту молча изучал ее, затем, откинув сиденье, заглянул в машинное отделение. Его смуглый лоб прорезала глубокая складка. Он запустил туда руку, дотронулся до чего-то и поморщился, точно от боли. Я тоже заглянул в ярко освещенное чрево нашей «Камбалы». У нее был довольно простой двигатель, работающий на «вечных» аккумуляторах, работающих безотказно, годами на любых режимах. Такие двигатели ставятся на гоночных торпедах. Я спросил, когда последний раз зачищались контакты. — Не знаю. Я никогда этого не делал. Обыкновенно за машиной смотрел мой коллега, Поль Лагранж, а также инспектор службы безопасности. Поль вылетел в Токио на симпозиум по коралловым полипам — это его хобби. Основные исследования мы ведем вместе. Это его идея и разработка опыта с кракеном. Так ты говоришь — контакты? — Да. Нет ли у вас ножа? — Одно мгновение! — Он долго шарил в карманах, затем па полу под ногами, наконец протянул небольшой универсальный нож. Я скреб контакты, думая, почему этот рассеянный ученый просто не продул цистерны, и мы бы всплыли без хлопот и там, при солнечном свете, устранили эту пустяковую неисправность. «Видимо, сказывается педантизм, выработанный годами усидчивою труда. Все у таких людей должно исправляться и выясняться немедленно, — думал я, считая себя тонким психологом-аналитиком. — Причем такие люди делают не меньше ошибок, чем мы „грешные“». То, что он не знал, как зачищать контакты, сильно подняло меня в собственных глазах. «Окажись он один или с таким же растяпой, представляю, что бы они натворили вдвоем, что пережили, пока их не выудили бы спасатели». Двигатель ожил, но мы продолжали опускаться. На мой вопросительный взгляд Чаури-сингх ответил: — Каньон очень узок и местами перекрыт арками. Много выступов. Можно повредить корпус или попасть под камнепад. Ты считаешь, что надо было всплыть немедленно, как только я заметил аварию, но тогда был риск, что нас затянет под основание острова. Перспектива, как видишь, была не слишком заманчива. Очутиться в смешном положении не менее трагично, чем не знать схемы двигателя батискафа. — Он засмеялся по-детски беззаботно. Мне стало нестерпимо стыдно. Этот удивительный человек понял мое состояние и показал, как надо относиться к моим «тонким психологическим выводам»… Глубина восемьсот метров. Сконцентрированные пучки света от наших прожекторов пронизывают бесцветную толщу воды, окруженную непроницаемым мраком. Мой кормчий заставил «Камбалу» повернуться на 360 градусов. Справа луч скользнул по базальтовым столбам и глыбам. Нагромождения базальта напоминали развалины греческих храмов. Мелькнуло что-то похожее на колонны Парфенона. Базальт под яркими лучами казался молочно-белым, совсем как аттический мрамор, покрытый прозрачным пластиком (как известно, все сколько-нибудь ценные развалины теперь законсервированы). Локатор показывал почти одинаковое расстояние от стенок каньона. — Мы проходим самое узкое место, несколько опасное для плавания с коррозийными контактами, — сказал ученый. — Нам с Полем много раз приходилось проделывать этот путь. Течение принимает горизонтальное положение и устремляется к востоку на глубине тысячи пятисот метров. Там каньон превращается в широкую долину и можно начинать подъем. Я хотел спросить о цели таких рискованных экскурсий. Чаури-сингх словно читал мои мысли: — Мы иногда навещаем Большого Жака — так Лагранж назвал этого кальмара. Скоро будем проходить мимо его дворца. Смотрите налево. Редкий экземпляр. «Камбала» заняла устойчивое положение, повернувшись носом к ближней левой стенке. Скорость течения достигала пяти километров. Как на экране, сменялись кадры мрачного, но довольно однообразного ландшафта. — Вот он! — торжественно произнес Чаури-сингх. — Жак уже привык к нашим визитам и не выказывает особого беспокойства. Не то что в первый раз… «Камбала» остановилась: ее «ласты» выгребали против течения. Прожекторы освещали те же бесконечные колонны мертвого городу. И тут я увидел глаза кальмара, отразившие свет фар. Они были огромны, более полуметра в диаметре! Гигантский клюв зловеще выступал между двух головных щупалец, достигавших не менее тридцати метров в длину. Восемь щупалец «рук» были несколько короче, они неподвижно свисали с цилиндрического туловища. Большой Жак стоял, прислонившись своим десятиметровым телом к базальтовой колонне, как студент, с кажущимся безразличием ожидающий свою подругу. Из репродуктора послышались частые шипящие щелчки: ослепленный ярким светом, Жак включил свой локационный аппарат и ощупывал нас ультразвуковыми волнами. С виду же он оставался неподвижно-спокойным, только длинные щупальца протянулись к нам, как руки, чтобы заслонить глаза от нестерпимо яркого света. — Так это и есть тот самый Великий Кальмар? — спросил я почему-то шепотом. — Есть более великие. Этот средних размеров. Здесь нет кашалотов, его единственных врагов, и лет через десять он может стать настоящим Великим Кальмаром. Меня внезапно охватило беспокойство, предчувствие чего-то страшного, что неотвратимо должно произойти с нами. Чаури-сингх сказал: — Не поддавайся! Скоро мы выйдем из сферы воздействия его гипнотической силы. Чем-то мы не понравились сегодня Жаку. Возможно, он намерен определить, что представляет наше «блюдце». Съедобно ли оно. Если так, то… — Он не договорил, так как мы полетели в предохранительную сетку перед пультом управления, затем «блюдце» перевернулось вверх дном, и мы стали на головы. Губчатый пластик смягчил удар. Резкий поворот, и я упал на своего соседа. Чаури-сингх попытался успокоить меня: — Не волнуйся, я выпустил в него все ампулы. Он… Не закончив фразы, ученый в свою очередь повалился на меня: «блюдце» медленно вращалось. Я перелетел на заднее сиденье и, упершись ногами и руками в стенки, чувствовал себя, как в тренировочном колесе. Чаури-сингх тоже нашел точки опоры и ухитрялся нажимать то один, то другой клавиш на пульте управления. Я ждал, что вот-вот наше «блюдце» треснет, хлынет вода и все будет кончено. Думая об этом, я почему-то не чувствовал страха, наоборот — мне болезненно захотелось, чтобы это случилось, и как можно скорей. «Блюдце» перестало вращаться. Чаури-сингх приник к иллюминатору. Я поборол в себе апатию и тоже перевел взгляд с приборной доски на окно. «Блюдце» стояло с наклоном под сорок пять градусов. Лучи прожекторов уходили в темноту, но их рассеянный свет давал возможность рассмотреть кальмара. Прицепившись к скале, Жак держал нас кончиками вытянутых щупалец. Огромные глаза, горевшие переливающимся фиолетовым светом, уставились на меня. По крайней мере, мне казалось, что они смотрят только на меня. Щупальца, вытянутые в струнку, напоминали две дорожки. Хотелось стать на них и пойти к этим глазищам… Чаури-сингх проворчал: — Долго он еще намерен любоваться нами? Я сказал, проникаясь нежностью к моллюску: — Жак спит. Не будем его будить. Пожалуйста, не надо. — Мне бы тоже сейчас не хотелось делать это. Да он и не спит. Ему досталась очень небольшая доля снотворного, остальное унесло течением. Все же попытаемся высвободиться из его объятий, пока он находится в состоянии прострации. Я стал следить за смуглыми пальцами Чаури-сингха и экраном. Щупальца плотно лежали на крышке, приняв темно-зеленый цвет покрытия. Механические руки поднялись из гнезд, захватили клешнями щупальца, тщетно пытаясь оторвать от металла. Лопнула кожа, кровь моллюска уносила вода. Клешни немного приподняли щупальца и сами оказались опутанными тройной спиралью. Я больно ударился лбом в стекло, раздался треск, и мы полетели куда-то с неимоверной скоростью, потом последовал новый толчок, треск, и наступила тишина. «Блюдце» приняло горизонтальное положение. — Он оторвал нам «руки», — сказал Чаури-сингх. — Ты не находишь, что мы легко отделались?.. Если ему не придет на ум повторить все сначала. — Он посмотрел на нас. — Нет, мы пока идем, а он, наверное, «изучает» устройство механических рук нашей бедной «Камбалы». — Чаури-сингх засмеялся. Я долго сидел молча, чувствуя приятную слабость во всем теле, как после слишком горячей ванны. Мне стало вдруг смешно, и я с минуту давился от душившего меня смеха. С трудом мне удалось взять себя в руки. Чаури-сингх сказал: — В следующий раз свидание с Жаком не произведет на тебя такого сильного впечатления. — Мне бы не хотелось с ним встречаться, — признался я, с тревогой посматривая на шкалу глубины: тысяча пятьсот метров. Почти предельная для«Камбалы». Мы проплыли еще около километра в толще подводного течения и стали подниматься на поверхность. Чаури-сингх погасил прожекторы. «Камбалу» окружила абсолютная темнота. Скупой свет люминесцентной градуировки приборов только усиливал идеально черный цвет за стеклом. Мы примолкли, зачарованные жуткой черной тишиной. Неожиданно мелькнул огонек, другой, проплыл пунктир огоньков, напоминающих иллюминаторы крейсерского батискафа. Вокруг замелькали вспышки разноцветных петард. Кто-то стрелял в обладателя этой цепочки из фонариков. Чаури-сингх сказал: — Яркая окраска и здесь несет те же функции, что и в освещенной части биосферы. Это и стимулятор для сохранения вида, и ориентир для хищника, здесь все хищники. Свет — приманка, своеобразная наживка, как у удильщиков. Свет приносит и жизнь и гибель. В конечном же счете выигрывает жизнь во всем ее объеме. Жизнь, ведущая к совершенству форм и рождению разума как завершающей фазе в развитии материи. Хотя и здесь еще много надо разгадать. Например, у светящихся рыб часто нет глаз… Смотри. Какая фантазия понадобилась бы художнику, чтобы создать такую драгоценность! Под углом к нам двигалось ювелирное изделие из брильянтов, рубинов, ярких изумрудов и еще множества каких-то незнакомых мне драгоценных камней. Они то затухали, то вспыхивали, переливаясь, будто их поворачивали перед невидимым источником света невидимые руки. Вспыхнул наш прожектор, осветив отвратительное белесое создание, состоящее почти из одной пасти. У рыбы были большие глаза, но она совсем не реагировала на свет и медленно двигалась своим курсом. Прожектор погас, и опять засверкали редкие камни, расположенные с необыкновенным вкусом в сложном орнаменте. Чаури-сингх сказал в раздумье: — Какой обманчивой может быть красота!.. На глубине ста метров нас встретил Тави со своими приятелями. В гидрофоне раздались их голоса. — Мы заставили их поволноваться. — Чаури-сингх улыбался. — Большие глубины для них полны тайн, как для нас далекий космос. Так мы будем встречать наших товарищей, вернувшихся с Альфа Центавра. Внезапно меня охватила радость, даже больше — восторг. Словно в самом деле я возвращался после многих лет блужданий вдалеке от Земли. Чаури-сингх, улыбаясь, сказал: — Реакция после возвращения из глубин очень приятна. У меня всегда такое состояние, как после тяжелой болезни, когда опасность позади, а впереди труд, радость, друзья и все мое, и солнце и океан.НАЛЕТ ЧЕРНОГО ДЖЕКА
Голубая вода морей, воспетая поэтами, — не больше не меньше, как безжизненная пустыня. Голубые толщи очень бедны планктоном. Это океанический «песок». И если там встречаются косяки рыб, то это странники, переселенцы в более благоприятные места. В морях цвет жизни — зеленый и красный. Зеленые и красные оазисы заселены крошечными водорослями и животными, где гигантами выглядят вислоногие рачки размером в два-три миллиметра и супергигантами — пятисантиметровые эффузииды, ракообразные, похожие на креветок. Их еще называют черноглазками за огромные для их размеров агатовые глаза. Черноглазки — любимое блюдо синих китов, горбачей и полосатиков. К востоку от нашего острова колышутся красные поля — пастбища синих китов. Здесь разводятся главным образом черноглазки, калянусы, копеподы. Костя выключил двигатель гоночной ракеты у полосатых буев — границы пастбища, и мы еще метров триста скользили по воде. Тави и Протей, лакомясь рачками, плыли рядом. Петя Самойлов еще на ходу выловил сачком несколько черноглазок и занялся ими в кормовой портативной лаборатории. Костя разглагольствовал: — Если планктон действительно гибнет, то я не завидую китам. Придется их переводить на пастбища в Антарктику или в северные воды, но и там, наверное, не лучше. Разве только удастся нашим генетикам создать более стойкую расу этих черноглазых водяных блох. Но для этого потребуется время. Хотя наша Матильда может и поголодать месяц — другой… — Он помотал головой. — Нет, все обойдется. Просто у нас легкая паника. Не может быть, чтобы вся эта живность, видавшая сотни сверхновых и пережившая неизвестно какие еще напасти, вдруг подняла лапки кверху. Хочешь пари? Ты ставишь реторту из-под «Звездной пыли», я попытаюсь восстановить ее формулу и беру на себя труд, конечно если проиграю, посвятить тебе поэму. Она будет начинаться так:В ОБЛАКАХ
Джек ушел от погони. Касатки применили свой испытанный маневр, изменив несколько раз курс, все, кроме десяти касаток, бросились врассыпную. С полчаса они уводили преследователей по ложному следу, а затем напали на дельфинов. В стычке убито шесть касаток и четыре дельфина. Несколько дней о Черном Джеке не было никаких сообщений. Неожиданно информационная служба моря сообщила, что он напал на плохо защищенный питомник гигантских барбусов и снова исчез в просторах океана. Разбойничьи налеты Черного Джека встряхнули довольно монотонную жизнь на острове. Появились новые заботы. Например, несколько дней весь экипаж плавучего острова устанавливал дополнительные защитные буи на границах рыбных и китовых пастбищ. Электропланер, до этого мирно стоявший в ангаре, теперь весь день парил над океаном. Удивительное ощущение охватывает во время полетов. Только при наборе высоты включаются два электрических мотора, затем их жужжание умолкает, и аппарат, раскинув гигантские крылья, бесшумно парит над гладью океана. Обводы его крыльев почти точно скопированы у буревестника. Сидя в прозрачной гондоле, чувствуешь себя птицей, а небо кажется таким же беспредельно глубоким, как океан, но более близким и понятным. Наш остров с высоты кажется таким крохотным и уютным, а вокруг него цветет пестрое панно, составленное из наших полей среди бесконечной голубой пустыни. Сколько еще надо затратить энергии, чтобы оазис стал больше! Костя насвистывает, поглядывая в окуляры оптических приборов. Один из них — прицел для бомбометания. Прибор остроумен и поразительно точен. Когда-то их устанавливали на аэропланах-бомбовозах. Увидев скопление касаток, мы с помощью этого прицела сбросим на них тысячи ампул с очень сильным алкалоидом, который получают из багряных водорослей. Касатки впадут в апатию, и их перевезут в океанариумы для перевоспитания. Этой операции наши биологи придают очень большое значение. В прозрачной глубине океана все обыденно, спокойно. Иногда мелькнет акула, другая, выслеживающая добычу. Развернувшись широкой, дугой золотистые макрели охотятся на летучих рыб. — Вот не было печали, — огорченно произнес Костя, — опять появился разведчик! Неужели Джек не понимает, что ему нельзя появляться в этих водах! Мне тоже не хочется, чтобы Джека схватили и заточили в океанариум. С ним уйдет яркая романтическая страница завоевания океана. Возможно, мы найдем пути сделать его своим союзником и без одурманивающих ядов. К нашей общей радости, это одна из китовых акул возвращалась в свой «загон». — Нет, Джек не так глуп, — сказал Костя, — барбусов ему хватит надолго. Внезапно, как всегда, Костя переводит разговор на другую тему: — Скоро Биата спустится на Землю. Тогда мы заглянем на атоллы и поживем там, как первобытные люди в доме из пальмовых листьев, будем ловить рыбу в лагуне, пить кокосовый сок. — От избытка нахлынувших чувств он положил планер в крутой вираж. Выровняв полет, спросил: — Может быть, приедет Вера. Ты скажи откровенно: нравится она тебе? — Какой раз ты спрашиваешь меня об этом! Славная девушка. Очень содержательная. — Это мне известно без тебя. Я имею в виду более глубокое чувство. Я признался, что питаю к ней только дружескую симпатию. — Ничем не объяснимая холодность. Будь я на твоем месте, я бы не был так равнодушен к ней. — Тебе известно мое отношение к Биате? — Да… но ты же знаешь, как она к тебе относится. — Он причмокнул губами, вздохнул, выражая сочувствие, смешанное с сожалением, и задумался, раздираемый сомнениями. Вдруг признался: — Когда я вижу Биату, то в ней сосредоточивается все, как в фокусе этого прицела, но затем появляется Вера, и… иногда мне кажется, что и она тоже мне не безразлична. Я посочувствовал: — Тяжелое положение. Костя захохотал: — Но я найду выход! Пассат поднял нашу птицу на пять тысяч метров. На крохотном экране видеофона появилось веселое лицо Поля Лагранжа. Он спросил: — Надеюсь, вы не собираетесь ставить рекорд высоты на свободно парящих монопланах? Мы уверили его, что это не входит в нашу сегодняшнюю задачу. Что просто пассат поднял нас так высоко. — Я так и подумал. Все же я бы па вашем месте держался пониже. — Затем он сказал мне: — Тетис действительно реагирует на излучение Сверхновой. Твоя догадка оказалась верной. Мы начали перестраивать методику работы, и сразу — уйма неожиданно интересной информации! — Он кивнул: — Желаю счастливо парить еще в течение тридцати минут. Через полчаса Костя посадит планер в миле от китового пастбища, и нас сменят селекционеры: американец Керрингтон и грек Николос. Они всегда тихо совещаются, как заговорщики в детективном фильме, и так же неразлучны, как Лагранж и Чаури-сингх. — Надо слушаться старших, — вздохнул Костя и ввел многострадальный планер в крутое пике. Океан летел навстречу. В видеофоне опять появилось лицо Лагранжа. На этот раз он не сказал ни слова, только покачал головой и погрозил пальцем. Костя вывел планер из пике и, используя скорость, сделал несколько фигур высшего пилотажа, затем лихо приводнился, чуть не задев крылом ракету с нашими сменщиками. Мы спустились на катер. Американец улыбнулся и сжал кулак, показывая, как мы здорово летаем. Его партнер вытер платком потную лысину и сказал: — В давние времена был специальный термин, характеризующий ненормальное поведение в воздухе. Да! Воздушное хулиганство! Теперь терминология стала мягче, как и все на свете, все же я должен заметить, что вы подвергали опасности окружающих. — Оставь, Николос, жизнь становится такой пресной, — сказал американец и, шлепнув Костю и меня по спине, стал взбираться в гондолу планера. — Почему нас все учат! — возмутился Костя. — И на земле, и на воде, и в воздухе! — Он по-мальчишески усмехнулся. — Вот посмотрели бы наши ребята! «Бочки» получились, кажется, здорово! Из воды выпрыгнул Тави и, осыпая нас брызгами, перелетел через катер. Этим он выражал свою радость по случаю нашего благополучного возвращения. Как все приматы моря, Тави необыкновенно привязчив. Он скучает, если долго не видит меня, зато, встретив после разлуки, не находит себе места от радости. Протей сегодня нес патрульную службу, а то бы и он не отстал от своего друга. Общение с людьми необыкновенно обогатило приматов моря новыми понятиями. Обладая абсолютной памятью, они поразительно быстро усваивали языки, разбирались в технических схемах. Ни одна экспедиция теперь не обходилась без приматов моря, они помогали составлять карты морского дна, течений, занимались поисками полезных ископаемых, с их помощью открыли тысячи новых видов животных. Современная наука о море со своими бесконечными ответвлениями теперь немыслима без участия в ней этих удивительных существ. Тави был простодушнейшим созданием. Он был всегда весел, счастлив, готов на любую услугу, подвиг, хотя он и не знал, что это такое. Протаранить акулу, спасая собрата или человека, было для него простым, повседневным делом. Иначе он не мог поступить. Жизнь его семьи, рода и всего племени зависела от такого повседневного героизма и самопожертвования. В то же время это не была рефлекторная, инстинктивная храбрость животных с низким интеллектом, а моральный принцип, воспитанный в нем матерью и закрепленный примером сородичей. Костя вел ракету на малой скорости. Тави плыл у самого борта и рассказывал последние морские новости. Всю ночь он охранял китов. С вечера в двух милях от границы пастбища показались акулы и бежали, как только почувствовали приближение дельфинов. Акулы ушли в глубину, зная, что их преследователям не угнаться за ними в темных горизонтах. Затем Тави сообщил, что большие киты опять стали поедать несметное количество черноглазок и все, что им попадается. Мертвые рачки перестали падать в темноту, как вода с неба. Тави логически увязал эти события с опылением пастбищ порошком со спорами бактерий, убивающих грибок, паразитирующий в теле черноглазок. Среди ночи патруль наконец-то проследил путь Великого Кальмара. Кальмар опять прошел под китовым пастбищем и направился в садок, где содержались тунцы. Мне показалось, что Тави без прежнего уважения отзывается о кальмаре, который ест акул. Он ни разу не назвал его великим. Тави подтвердил мои предположения, сказав, что это обыкновенный кальмар, хотя он превосходит самых больших кальмаров. Великий не станет есть простую рыбу. Он питается китами и очень редко довольствуется акулами и касатками. Костя вставил: — Конечно, уважающий себя моллюск не будет глотать какую-то мелочь. Для него подавай нашу Матильду на завтрак, а Галиафа — на обед и еще парочку помельче на ужин. Тави издал тонкий дребезжащий звук, переходя на свой сверхскоростной язык (не менее десяти слов в секунду), и замолчал, высунув голову из воды и лукаво поглядывая на нас. Мы ничего не поняли, но Костя важно кивнул и сказал: — Наконец ты согласился со мной, что нет никакого Великого Кальмара. Одни из них побольше, другие — поменьше. Ты прав, что все это результат многомиллионнолетней изоляции. — В океане воду не замутишь, — ответил на это Тави. Костя в изумлении вытаращил глаза, посмотрел на меня и оглушительно захохотал. Тави вылетел из воды, издавая квохчущие звуки: он тоже смеялся.СВИНОПТИЦЕЯЩЕР
Протей передал через гидрофон, что в ста метрах от нас появилась немеченая акула. Я сбавил скорость. Костя взял ружье на изготовку: — Так держать! Вот она, голубушка! — Он вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил. Дротик вонзился возле спинного плавника, на конце дротика затрепетал на ветру черно-желтый флажок. — Есть! — сказал Костя с хрипотцой в голосе. — Ни одного промаха! А ты говорил! Хотя я ничего ему не говорил, но согласно кивнул, покоренный его внезапно объявившимся необыкновенным талантом. — Акула по корме! — передал кто-то из дельфинов-разведчиков. Я повернул ракету на месте и на самом малом ходу повел ее, посматривая через ветровое стекло. Акулы двигались навстречу. В боку у одной уже торчал дротик с флажком, другая была без дротика. — Твоя работа! — сказал Костя. — Качество — никуда! Ну кто же сажает ампулы в бок? Их совсем не видно. Будь мы с другой стороны, я бы вкатил ей еще одну порцию. Свистнул дротик. Костя сказал: — Есть! — и перевел дух от распиравшей его гордости. Действительно, он стал чемпионом по стрельбе дротиками с вакциной. «Четыре акулы!» — услышал я сигналы Тави и черепашьим шагом повел торпеду на его зов. Большая скорость могла привести к несчастному случаю: то и дело впереди поблескивали тигровые спины, приходилось делать крутые виражи или совсем замедлять ход. У всех встречных акул торчали дротики с флажками. Они останутся у них еще двое суток, пока мы не закончим прививки. За это время ампулы с вакциной растворятся в лимфе, и дротик смоется водой. После предохранительных прививок китам мы взялись за акул. В их крови были найдены признаки незначительных изменений. Болезни еще не было, но она могла быстро возникнуть, и тогда бы мы лишились огромных запасов живой биомассы. Вакцина повышала жизнестойкость кроветворных органов, помогала вырабатывать иммунитет от злокачественных перерождений и различных инфекций. Такие прививки проводились и прежде с целью профилактики. На экране видеофона появилось веселое лицо Пети Самойлова. — Как дела? — спросил он. — Отлично. Костя заканчивает спортивную стрельбу. Костя вставил: — Ничего себе спортивную! Я уже еле руки поднимаю… Ага! Это, наверное, предпоследняя. — Раздался хлопок выстрела и очередное «есть». Петя сказал: — Стрелки мы не такие блестящие, как вы с Костей. Вам придется поработать и у нас. — О льстец! — ответил польщенный Костя. — Слава о тебе уже расходится по океану. Приматы моря донесли ее и к нам и даже в район полей хлореллы. Все же ты не особенно задирай нос. У нас тоже есть чем похвастаться. Вот, пожалуйста. На экране появились плавающие в воде «португальские военные корабли» — фазалии, родственницы медузы, странной окраски. Обыкновенно фазалии синевато-розового цвета с розоватой зазубренной верхушкой, а эти были ярко-красные и в черных пятнышках. — Поздравьте, новый вид! — сказал Петя. Мы поздравили Ки и Петю с редкой удачей. — Мы ждем братской помощи! — Сияющее лицо Пети улыбалось с экрана, ему хотелось поговорить о «португальских кораблях», и он сказал: — У них не только необыкновенная окраска, но и форма зазубринок совсем не та. Вот посмотрите сами. Ну что?! — Он помахал рукой и еще раз пригласил нас в свой «загон». — Везет же людям! — Костя, прицелился в очередную акулу. Выстрелив, сказал многозначительно: — Есть над чем задуматься… Кроме Тави, Протея и Хоха, нам помогал целый отряд дельфинов. Они широким фронтом прочесывали «загон» и, найдя акул без флажка, передавали об этом по цепочке. Наша работа облегчалась тем, что при обилии пищи акулы паслись, «расхаживая» взад-вперед, на сравнительно небольшом участке водной поверхности. Мы двигались на фланг нашей цепи, осторожно обходя встречных акул: там, как передали дельфины по своему акустическому телеграфу, паслись четыре акулы без дротиков. Костя стоял на баке, широко расставив ноги, и смотрел вдаль, щурясь из-под большого зеленого козырька. На нем были снежно-белая рубашка и такие же шорты. Он напоминал древнего охотника. От его твердой руки, зоркого глаза, силы и выносливости зависела жизнь семьи, рода и племени. Всем этим Костя, видимо, был наделен в достаточной мере. Такие качества, заложенные в клетках его нервных тканей, дремали до поры до времени и вот проснулись. Думая об этом, я мысленно перенесся в свою лабораторию. Последнюю ленту микрофильма мы просматривали вместе с Павлом Мефодьевичем. — Тэк-тэк-тэк! Ну-ка, покрути еще разок! — попросил он и, просмотрев все сначала, сказал: — Тут, братец мой, наклевывается кое-что. Ты обратил внимание на то, что вытворяет твой вирус? Я признался, что пока не вижу ничего нового. Меня вполне устраивало то, что удалось подметить раньше, и я ставил всё новые опыты, чтобы подтвердить прежние результаты. — Милый мой! Ты похож на новичка-старателя. Промываешь песок и довольствуешься крупинками металла, не подозревая, что на метр глубже проходит золотоносная жила. Ну-ка, давай еще разок, может, и нам удастся наткнуться на жилу. Мы стали смотреть в третий раз. — На этих кадрах нет вируса, ты убил его. И видишь, что с клеткой? Ее жизненные процессы заторможены. Почему? — Продукты распада… — …действуют на нее? — Да… Возможно… — А что, если в длительном симбиозе вирус стал необходим? Представь, что он выполняет какие-то жизненно важные функции! — Энзим? — Возможно. Клетка заставила работать паразита! Он стал домашним животным! Что, невероятно? Природа выкидывает и не такие фортели… — Иван! Ты что, уснул? Чуть акулу не переехал! — Костя вернул меня к действительности. — Я ему минут пять рассказываю, а он как в трансе! Ты что, все со своим вирусом не можешь расстаться? Я попытался было высказать кое-какие предположения на этот счет, да он замахал руками; — Катализаторы! Диалектический переход! Этим ты мне все уши прожужжал еще утром. Пощади! Я ведь поминутно не лезу к тебе с атомами тяжелых металлов, а в этой области дело посложней. Не спорь! Старик сказал, что мне попался твердый орешек… Стой! Полный назад! Сделав четыре выстрела, Костя сел рядом. — Представь, вчера в двадцать три десять меня вызвала Вера, — сказал он, стараясь скрыть смущение. — Смотрю, улыбается из «видика». — Поздравляю! В двадцать три десять! Не каждая девушка рискнет на такое позднее свидание. — Не язви. Был деловой разговор. Мы договорились, что будем информировать друг друга обо всех важных событиях. Вчера у них пошел мимозозавр — так они назвали новый вид мимозы. Представляешь, что за открытие! Найдено переходное звено от растения к животному. Сенсация! Сегодня весь мир уже говорит об этом. Вот это открытие! Не то что у нас. Она еще на «Альбатросе» завела разговор на эту тему. Но тогда это была еще научная тайна. Много неясностей. И вдруг они стали ходить! Она мне показывала одного заврика… Очень удачное название. С виду такое неказистое растеньице, совсем пустяковое. Вот такое, — он показал руками, какое оно маленькое, — не больше двадцати сантиметров высотой. Листья тонкие, глянцевитые и масса усиков, похожих на воздушные корни. С виду ну ничего особенного. Но стоит только изменить условия… Вера закрыла от него свет, и, представь себе, усики — ноги или, если хочешь, называй их руками — уперлись в землю, корень вылез из земли, и оно поползло! На свету корень ушел в землю. Ну, не здорово ли! Теперь мне понятно, почему Мокимото не хотел ехать на остров, а, очутившись под нашим гостеприимным кровом, через день удрал. Просто ему не хотелось обидеть нашего старика. Но самое интересное я тебе еще не сказал. Знаешь, почему все-таки мимозозавр стал ползать? Повторился классический случай. Произошла ошибка, отклонение от методики опыта. Вера работает у Мокимото с первого курса, и еще тогда она посадила в землю несколько драгоценных зерен. Просто у нее кончились все горшки, не было под руками, она взяла да воткнула их в нормальную землю возле оранжереи. И забыла. А вспомнив, решила — пусть растут. Что получится? Между прочим, Мокимото строго-настрого приказал соблюдать разработанную им методику. Никаких посторонних влияний не допускалось. Особенно боялся он излучений Сверхновой. Мокимото один из первых открыл их влияние на рост и развитие растений. Думал, что лучи спутают все расчеты, расстроят наследственный механизм, который от поколения к поколению работал в рассчитанных пределах. Получилось все наоборот: заврики поползли. И только эти, в нормальной земле. Остальные продолжают развиваться по методике. Шевелят усиками, упираются в землю, а пока ни с места! Знаешь, что сказал Мокимото? «Какая гениальная небрежность! Только старайтесь не повторять ее слишком часто. Подобные казусы случаются раз в сто лет». Костя выстрелил и промахнулся. Протей приплыл с дротиком во рту. Отдав дротик Косте, он сказал: — Ты начинаешь стрелять, как Иван, Петя и Ки. Это был явный укор. Костя протер глаза: — Брызги… Сейчас, Протейчик, ты увидишь, как надо стрелять! И снова промах. Костя стал вертеть в руках ружье, недовольно поморщился, потом улыбнулся: — Отвлекли мимозозавры… Я стал объяснять причины его неудачных выстрелов. Костя, всадив дротик в акулу, с улыбкой смотрел на меня. Когда я закончил анализ его душевного состояния, он махнул рукой: — Все это ерунда, милый мой, — и твои проприорецепторы, и идеальная согласованность нервных импульсов, и их временный разлад. Я никогда не увлекался стрельбой, и никакие навыки во мне не закрепились и не разлаживались. Просто отвлекли ходячие кустики… Видишь, опять попал. Если хочешь знать, у меня врожденный талант к этому атавистическому занятию. Один из моих отдаленных предков был охотником и участником многочисленных войн. Дед Степан, ты видел его изображение. Он чем-то напоминает нашего старика, несмотря на бороду. Какая-то особая уверенность и ожидание чего-то во взгляде. Ты заметил, что Мефодьевич все время чего-то ждет? — Он очень стар… И человек ли он в полном смысле? — Пусть что-то у него не так, какие-то детали заменяют органы, но мозг у него человека или дельфина, никакая электронная схема еще не обладает такой гибкостью мышления. И знаешь, что самое странное в нем? — В нем все странно. Непонятно. — Да, но самое главное, что он в чем-то моложе нас с тобой, только поумней и помудрей. Они с моим дедом смотрят вперед, через века, и ждут… Я давно выключил двигатель. Пассат стих. С юга шла крупная мертвая зыбь. Ракета медленно двигалась по инерции вразрез волне. Дельфины уплыли на поиски акул. Помолчав, Костя сказал: — Я тоже чего-то жду. Иногда тревожно, иногда радостно. А ты? — Естественно. Мы всегда чего-нибудь добиваемся в жизни и ждем конечных результатов. Наш труд, решение общественных и личных проблем, все это не происходит мгновенно. Сейчас весь мир ждет, когда вспыхнет Сверхновая. Что она принесет нам? Биата боится, что все человечество вымрет, как гигантские рептилии в каменноугольный период. — Все это временные явления. Эпизоды. — Он поморщился. — Видишь ли, я думаю несколько иначе. Вообще о жизни как о большом ожидании чего-то. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Я не понимал его. Костя опять раскрывался для меня вдруг как-то по-новому. Я никогда не считал его способным к отвлеченному мышлению, не связанному с повседневными интересами. — Да, да, — проронил я неопределенно. — Как понимать твое «чего-то»? — По-разному. И в области познания, и конечной цели существования разумной жизни. — Он улыбнулся и сразу стал прежним Костей и уже совсем в своем стиле внезапно перескочил на новую тему. Давясь от смеха, стал рассказывать: — Сегодня утром я встретился с Герой, женой Нильсена. Она забавная. Гуманитарий. Прилетела на неделю. На нас смотрит, как на древних героев и боготворит своего Карла. Мы с ней купались. Протей сразу проникся к Гере нежностью, а она смотрела на него со страхом, но держалась с достоинством. Все-таки, когда Протей назвал ее по имени, ей чуть не сделалось дурно. На суше она призналась, что никак не может убедить себя, что эти рыбообразные существа разумны и чем-то совершеннее нас. Я, говорит, безнадежно отстала, мне стыдно перед Карлом и перед всеми вами. В то же время я ничего поделать с собой не могу и ужасно боюсь их. Она египтолог и перевела папирус, кусок летописи о небесных явлениях, и представь, в нем упоминается о вспышке Сверхновой… В гидрофоне раздалось бульканье, характерные щелчки, затем раздался голос: — Говорит Тави. В западном секторе нет больше акул без флажков. — Ищите лучше, — сказал Костя. — У меня еще десять дротиков. Направляйтесь к востоку. Мы ждем на отмели. — Приказание принял. Под нами на глубине десяти метров раскинулась коралловая отмель. Смутно обозначалось дно в пятнах солнечного света. Костя разделся, достал маску, взял гарпун и сказал: — Что-то я весь высох под палящими лучами, и как-то взгрустнулось. Надо изменить среду обитания. Помимо восстановления нервного тонуса и нормальной влажности, меня влекут здешние, глубины. Однажды мы тут прогуливались с Протеем и Хохом. Какой коралловый лес и водоросли! Жаль, что не захватили тогда съемочную камеру. А ты? — Не дожидаясь ответа, он прыгнул за борт. Мне не хотелось вставать с удобного кресла, из-под струи охлажденного воздуха. И еще показалось, что Косте хочется побыть одному. У Кости какой-то внутренний разлад. Я давно это наблюдаю. Его увлечение стрельбой дротиками — не больше не меньше, как желание отвлечься от чего-то, что не дает ему покоя. Я снизил температуру кондиционера еще на три градуса и прибавил обороты вентилятора. Как хорошо думается в приятной среде! Ракета ритмично покачивалась на зыби. Когда ракету поднимало на гребень волны, я видел белый корабль-рефрижератор, один из флотилии, обслуживающей наш остров. Рефрижераторы ежедневно увозили продукты моря, вырабатываемые нашими заводами. Где-то в небесной голубизне просвистел воздушный лайнер. Все это немного отвлекло меня от мыслей о моем друге. Мне вначале казалось, что я думаю исключительно о нем, но наши интересы так тесно переплелись, все, что касалось его жизни, в такой же степени относилось и ко мне, и сейчас больше чем когда-либо чувствовалась эта тесная связь. Вот сейчас он рассказывал о Верином мимозозавре — открытии, которое на какое-то время затмит Сверхновую, — но придал этому событию какой-то интимный характер, будто рассказал семейный анекдот. Специально для меня. И как будто огорчился, не заметив во мне сверхинтереса к событию и Вере. Почему он хочет, чтобы я относился к ней иначе? Ах, да! Ведь он уверен, что с Биатой у нас все кончено и что он стал одной из причин нашего разрыва. Хочет компенсировать утрату. Милый мой дружище! Пассат проснулся. У меня было такое чувство, будто в мире неожиданно что-то изменилось. Поблекло небо, набежали слоистые облака и задернули солнце, в воздухе слышались унылые свисты и всплески. Море и ветер начали перебранку. Над самой поверхностью взбаламученного моря скользил буревестник, распластав свои неподвижные узкие крылья. Он олицетворял собой одиночество. Он и океан, и больше никого в целом свете! Аллегория понравилась мне, потому что и я почувствовал себя не менее одиноким скитальцем. У меня стали складываться белые стихи о вечном поиске счастья, да помешали Тави и Протей. Они внезапно выскочили из воды и, обдавая брызгами, перелетели через катер. Еще издали заметив мою понурую фигуру, они подумали, что я задремал, и решили разбудить меня таким оригинальным способом. Разведчики приплыли, чтобы сообщить, что в двух милях отсюда обнаружено пять тигровых акул, не получивших еще прививок. Я послал дельфинов за Костей. Через несколько минут вернулся Протей и торопливо передал Костин ответ: «К дьяволу акул. Здесь вещи поинтереснее этих разжиревших созданий. Пусть Иван немедленно плывет ко мне». — Что там случилось? Вместо ответа посланец со свистом втянул в легкие воздух и, показав хвост, скрылся под водой. Наверное, Костя готовит сюрприз. Уже в воде ко мне подплыл Тави и остановился, дав обнять себя и взяться за плавник. Он увлек меня над застывшим коралловым лесом, распугивая черно-желтых сержант-майоров, тангфишей, похожих на синие тарелки, рыб-бабочек и стайки мальков. При нашем приближении, они как разноцветные брызги, разлетались по сторонам. Я стал расспрашивать Тави о случившемся. Ничего особенного он не заметил, кроме необычайного скопления рыб-попугаев, которых здесь всегда много, да еще одной несъедобной рыбы, которая, по мнению Тави, не заслуживала особого внимания. Костя висел среди кружевных водорослей, держась рукой за коралловую ветку. — Ну, скорей! — сказал он нетерпеливо. — Я четверть часа пытаюсь тебя докричаться. Опять выключил гидрофон? — Не я, а ты выключил. — Проклятая рассеянность! Совершенно верно. Так хотелось побыть в тишине и не слышать твоего назидательного брюзжания. Пожалуйста, не возражай хоть сейчас, или мы упустим это милое создание. Тави! Протей! Пожалуйста, отплывите метров на пятьдесят, а то рыбы не поверят в ваше миролюбие. — Будем в пятидесяти метрах, — заверил Тави и предупредил: — У этой рыбы ядовитый шип, мясо ее никто не ест, даже акулы. — Откуда это вам известно? — Всем известно, — ответил Протей, отплывая. За ним пустился и Тави. Оба были явно обижены. — Тебе понятно хоть что-нибудь из их объяснений? — Ничего. — Еще обижаются! Я мельком заметил это чудовище. Постарайся не дрыгать ногами и помолчи хоть минуту. Или говори только с выключенным микрофоном. Пойми, что эту жертву ты приносишь на алтарь науки. Из всех нор, щелей и расселин появились трехгранные кузовки и рыбы-попугаи. Особенно много было суетливых рыб-попугаев. Своими белыми зубами они принялись деловито обгрызать водоросли с кораллов. У рыб-попугаев тупое выражение морды, они напоминают травоядных с фантастической планеты, где понятия целесообразности формы и содержания совсем иные. — Куда ты смотришь! — почему-то шепнул Костя. — Здесь вполне нормальная живность, — поверни голову направо… Направо, а не налево! Наконец я увидел существо, которое потом долго стояло у меня перед глазами. В океане трудно удивить необычностью формы и цвета. Но то, что я увидел, превосходило самое смелое воображение. Рыбы-попугаи и кузовки по сравнению с увиденным чудовищем казались вполне нормальными созданиями. Представьте себе существо, в котором бы сочетались рыба, птица, рептилия и млекопитающее. На его толстом, поросячьем туловище рос роговой гребень, четыре брюшных плавника напоминали ноги баклана, вместо нормального рыбьего хвоста торчал шип — продолжение спинного гребня. Особенно сильное впечатление оставалось при взгляде на морду этого животного. Вытянутая, похожая на рыло кабана с выступающими вперед зубами, тупая и злобная. Глаза выпуклые, золотисто-топазового оттенка. Если форма животного была отталкивающей, то окраска — самой изысканной. Ультрамарин, пурпур, золото были основными материалами, которые пошли на отделку его поверхностей. — Ну, что ты теперь скажешь? — спросил Костя. — Уму непостижимо! Хороша малютка! — Костя бросил на меня критический взгляд. — Конечно, ты не догадался захватить арбалет? Придется использовать гарпун. — Не раздумывая и не обращая внимания на мои протесты, он проткнул странную рыбу своим гарпуном. Почти мгновенно появились Тави и Протей. Они проносились мимо, давая советы: — Нельзя выпускать древко — уйдет в коралловые щели. — Бойся шипа! Это предостережение относилось ко мне: забыв об осторожности, я чуть было не схватился руками за этот шип, унизанный тончайшими ядовитыми иголками. Костя вертелся, как акробат, не выпуская из рук древко гарпуна. Наконец и я пришел ему на помощь, и вдвоем мы с трудом потянули добычу к поверхности, а дельфины, ловко увертываясь от шипа, подталкивали ее носами снизу. На воздухе, когда мы ее втащили на бак, рыба поблекла, краски сразу потерялинедавнюю яркость, только глаза долго сохраняли чистоту и блеск золотистого топаза. Отдышавшись, Костя сказал: — Ты не находишь, что и мимозозавр, и португальский военный корабль, и этот свиноптицеящер чем-то схожи друг с другом?АМЕБА И ВЕСЕЛЫЙ СЛОН
— У нее твердеют ложноножки, и она теперь очень похожа на радиолярию, — сказал Костя. — Интересно, как она выкрутится? На экране сменялись кадры. Амебы окончательно теряли свой облик. После очередного деления у них становилось все больше твердых ресничек. Новые кадры: один из потомков амебы стал похож на морского ежа. Диктор сказал: — Приобретение новых ненужных органов ставит животное в критическое положение. — Неужели выкрутится? — спросил Костя. — Вряд ли! Реснички погубят красавицу… Так и есть! На экране застыли теперь уже совсем неотличимые от ежей существа. — Трагедия окончилась, — печально проговорил диктор. — Амебам не хватило жизненных сил, чтобы противостоять радиации. Их сородичи оказались в более выгодном положении. На светло-сером фоне экрана среди ежей появились совсем нормальные корненожки. Они медленно изменяли форму, вытягивали и втягивали отростки, обволакивая своим телом бактерий, делились, воспроизводя точные копии себе подобных. — Выключи, — сказал Костя, — все ясно. Одни утеряли первичный иммунитет против радиации, другие сохранили его еще с тех времен, когда для возникновения жизни радиация была просто необходима как источник энергии. Старая история. Выключай со спокойной совестью. Сейчас все это покажут на молекулярном уровне. Ты выключишь или… — Он слегка приподнялся и сел. Мне хотелось досмотреть фильм. Костя был неправ, говоря, что ему все ясно. Начало записи работы действительно было знакомо и не блистало оригинальностью, зато продолжение обещало нечто новое. Об этом прямо говорилось в программе: «Новые данные о влиянии радиации на наследственный механизм клетки». — Ну пересиль свою природную лень! В крайнем случае прикажи Пенелопе, — не унимался Костя. — Пенелопа подзаряжается, и ты великолепно знаешь, что ей запрещено производить такие тонкие операции. В дверях появилась Пенелопа, глаз ее вопросительно мигал, за ней тащился провод с вилкой. — Вот видишь! — обрадовался Костя. — Верная служанка более чутка, чем хозяин дома. Пенелопа, выключи эту машину, наполненную шумом и одноклеточными организмами. Глаз у Пенелопы замигал еще чаще. Мне пришлось вмешаться, чтобы не мучить бедную Пенелопу. Я послал ее принести чаю. На этот раз она ничего не разбила и не расплескала. Костя повернулся спиной к экрану и, поблагодарив робота, взял чашку. Прихлебывая чай, он говорил: — А у нас выдался трудный денек. С раннего утра мы вместе с Павлом Мефодьевичем и целым отрядом дельфинов ходили к «атомным атоллам» в поисках новых мутантов и не нашли ничего стоящего внимания. Старик этому чрезвычайно обрадовался. Он сказал, что наши дела не так уж плохи, как кажется некоторым. У матушки-Земли неистребимый запас сил, что же касается отклонения от норм, то он в данном случае рассматривает их как эксперименты того все еще необъяснимого чуда, что мы зовем жизнью. Расфилософствовался и находился все время в очень хорошем, приподнято-мечтательном настроении. Что это — натренированная воля или он подчиняется программе? И какая работоспособность! Нет, я не мог бы так здорово играть роль выдающегося ученого и счастливого человека, зная, что начинен транзисторами. На экране раскрывалась интимная жизнь клетки. Из хаоса молекул возникали гигантские шары. Раздуваясь, они трепетали от скрытых в них сил. Неожиданно оболочки шаров разлетались множеством брызг и опять зарождались из блестящих крохотных зернышек. Шел синтез белка… — Ты забываешь о законах гостеприимства, — сонно сказал Костя. — У меня в глазах какая-то каша из амеб, протоплазмы, рибосом и свиноптицеящеров. Давай лучше послушаем бурю. Какой у диктора торжественный голос, как у жреца… Слышишь, как поет пассат. Наконец-то он оставил свой сентиментальный шепот. Ты посмотри, он хочет сорвать остров с мертвых якорей! Как, наверное, тогда испугались наши предки, если этот страх и уважение к стихиям до сих пор сохранились у нас в подсознании! Представляю, как посреди голых скал или в степи людей застигла буря. Ночь. Молнии вонзаются в землю, дробят и плавят камень, почва содрогается, льются холодные потоки. Можно умереть от ужаса. Все-таки люди все выстояли, превозмогли страх! Я представляю, как старший в роде, прикрытый шкурой пещерного медведя, стоя над упавшими ниц соплеменниками, грозил небу каменным топором. Мне кажется, никто еще не создал такого полотна, скульптуры, зрелищной ленты. А стоит! Помнишь, что сказал Павел Мефодьевич? «Все, что в вас — и ум, и сила, и умение отличать красоту от уродства, бороться и побеждать, — не ваше. Все — наследство предков, и вы, умножив, передадите его потомкам». Я тоже перестал смотреть на экран. В самом деле то, что там происходило, стало казаться мне мелким, незначительным по сравнению с бурей, сотрясающей остров, и картиной, воскрешенной Костей. Неожиданно на экране произошла заминка, исчезли буйствующие клетки. Несколько секунд экран померцал пустым голубым полем, затем на нем появились мама, дедушка, Катя. Мы вскочили и бросились к экрану. Мама виновато улыбалась. Дедушка подозрительно рассматривал нас. Сияющая Катя взмахнула рукой: — Ив! Костя! Вчера показывали вашего поросенка-ящеренка. Какой он жалкий! Как вы могли убить его? — Ты не видала его в воде! — нашелся задетый за живое Костя. — Он чуть не откусил Иву ногу. — Такой маленький? — Оптический обман. Посмотрела бы, как он ринулся на нас. Укол его хвоста смертелен. Вот погоди, я пришлю тебе цветную ленту. Ты увидишь — целое стадо свиноящеров среда кораллового леса. Не тот облезлый экземпляр. — Правда? Даешь слово, Китодой? — Клянусь плавниками Матильды! Мама прервала: — Катерина, не трещи, как съемочная камера, дай и нам вставить словечко. Ив, ты охотился на это ядовитое чудовище? Нет, нет, не оправдывайся! Диктор сказал, что оно убито гарпуном каменного века. Что могло произойти?.. — У мамы в глазах заблестели слезы. В несколько мгновений она пережила возможные трагические последствия нашей встречи со свинорыбоящером. Мама — режиссер художественных лент, преимущественно героических. В дни моего отъезда она ставила фильм о первых исследователях Арктики и в результате подарила мне костюм с электрообогревом. — Ив! Я введу это в сцену. — В снежную балладу — тропических рыб? — Ах, баллада! Она уже спета. Получился очень средний фильм. Мама всегда так оценивает свою законченную работу и теряет к ней всякий интерес. Она вся уже в новых свершениях. — У меня сейчас другое, нечто потрясающее: снимаю космическую экспедицию «Последний день на „Галатее“». Сколько пришлось им пережить! Трое погибло… Нет, теперь четверо. Радон гибнет в океане от этих ваших… Мама самым подробнейшим образом стала разрабатывать сцену гибели героя в глубинах океана «Галатеи». Дедушка слегка покашливал и нервно постукивал пальцами по подлокотникам своего удобного кресла. Катя с Костей вполголоса вели интересный разговор. Костя, не жалея подробностей и красок, рассказывал о наших будничных занятиях. Кате не хватало воздуха от переполнившего ее восторга. Сестра много унаследовала от мамы. Забыв обо всем на свете, она ловила каждое слово. Встретившись со мной взглядом, она всплеснула руками: — Как здорово у вас там! Обязательно прилечу и заведу себе друга — примата моря. А у нас! Если бы вы знали, как у нас скверно! Сколько мы глотаем разных таблеток, принимаем уколы да еще мажемся мазями от проникновения этих лучей. У нас и противолучевая одежда, недавно все крыши домов и машин покрыли специальной краской. Заменили стекла в окнах и везде. — Катя перевела дух, покосилась на маму, рассказывающую трагический финал на «Галатее», и продолжала: — Мы почти не передвигаемся. Только мне одной удалось слетать к папе. Там тоже все защитное, но не такое надоедливое. Целую неделю мы жили так же, как и вы, первобытной жизнью. Только мы и природа! Спали прямо на болоте в плавающих вигвамах. Вокруг день и ночь кричат гуси, утки, лебеди. У одного лебедя гнездо было у самых дверей, и он пребольно кусался. Мы подсчитывали количество пернатых по папиному методу… Дедушка крякнул и поманил меня пальцем: — Ты просмотрел мою работу? Я совершенно забыл о его брошюре и сказал, чтобы не обидеть его: — Еще не дочитал. — Очень хорошо. Работа требует вдумчивого к ней отношения. Конспектируешь? — Еще нет. — Обязательно конспектируй. И обрати внимание на пятую главу, где приведен график… увеличения размеров пыльцы араукарий в зависимости от радиации… Мама прервала пересказ сценария и строго посмотрела на дедушку, потом на Катю, уже напевавшую Косте какой-то новый мотив. — Я слышу какие-то странные звуки. Кто-то поет. Не ваш свинячий ящер? — Это я, мама, пела «Веселого слона». — Ужасный танец! Я не говорю уж о том, как неприлично петь, когда говорят старшие. Но в данном случае… — Действительно, ребята, у вас кто-то воет! — обрадованно воскликнула Катя. — Пассат! — торжественно сказал Костя. — Обратите внимание на вазу с орхидеей: поверхность воды колеблется. Можете судить, какая сила ветра, если качается наш остров. — Ой, как здорово! — крикнула Катя. Мама задумалась. На лице ее блуждала улыбка. Наверное, она уже строила сцену с бурей на «Галатее». Дедушка воспользовался паузой и подал дельный совет: — Не вздумайте высовывать нос за двери — унесет, как пыльцу с араукарий. Мама, Катя и дедушка улыбались на прощание и что-то говорили, все сразу беззвучно шевеля губами. Затем автомат извинился за атмосферные помехи, и мы остались одни перед темным экраном. Костя, развалившись в кресле, стал насвистывать «Веселого слона», пассат за окном аккомпанировал ему. Неожиданно Костя сказал: — Знаешь, лягу-ка я у тебя, вот здесь, на этой прекрасной имитации шкуры морского котика. Как все-таки у нас укоренились эти атавистические привычки; почему-то хочется лечь именно на шкуру и лучше, конечно, на подлинник. Но где его взять в наш гуманистический век… Нет, ты не беспокойся, мне ничего больше не надо, только брось из своей изысканной спальни пару подушек, одеяло и две простыни. Поболтаем, как на Ленинских горах. Помнишь нашу «каморку»? Ты иди, иди к себе, только не закрывай дверь. Он долго укладывался, ворочался, ворчал что-то. Наконец умолк, но ненадолго. — Ты не спишь? — спросил он. — Очень жесткая твоя искусственная шкура. Хотя, говорят, такие ложа очень полезны. Чем, не знаю. Проверим. Вообще отлично, только под бок почему-то попал твой универсальный ключ. — Ключ прошуршал по полу и ударился о стенку. — Нет, шкура без ключа вполне терпима. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Ни за что не догадаешься. — Трудно. У тебя такая сложная эмоциональная жизнь, — отозвался я. — Не язви. Жизнь как жизнь. Не сложней, чем у всех. Я думал о Биате. Сейчас она, перед тем как заснуть, смотрит на Землю, и кажется ей Земля такой сияющей и тихой. Ей и в голову, наверное, не приходит, что пассат хочет сорвать наш остров. Он замолчал наконец и, наверное, лежа с открытыми глазами, подумал так же, как и я: «Когда же появится эта звезда, наделавшая столько хлопот на Земле и укравшая у нас Биату?»ПОБЕГ АТИЛЛЫ
В полном распоряжении китов находились пастбища с любимой едой, их охраняли от врагов, заботились об их здоровье и даже настроении и отдыхе; недавно Петя Самойлов установил около двадцати буев с транзисторами, и киты с видимым удовольствием слушали музыку на ультракоротких частотах. В полдень киты подплывали вплотную к музыкальным буям и замирали неподвижными глыбами. Тави уверял, что во время слушания концертов они даже не сплетничают. Петя написал статью в радиогазету, специально выпускаемую для звероводов всех широт, о благотворном влиянии музыки на нервную систему своих питомцев и, как результат, отмечал увеличение веса китов и повышение надоев молока. Матильда, например, стала давать молока больше на двести литров в сутки. Все наши киты родились и выросли на пастбищах вблизи плавучего острова, и все же иногда, неизвестно по каким причинам, ими овладевает дух странствий. Где-то в подсознании гигантов дремлет желание бросить все и плыть, плыть по дорогам предков. В такие периоды усиливается охрана, подается более высокое напряжение на ограждения пастбищ, в редких случаях даже вводят в кровь китов антистимуляторы. И все-таки почти каждый год несколько китов (большей частью молодые самцы) уходят. Вырвавшись на простор, киты устремляются на юг, в Антарктику. Для побега выбирается темная ветряная ночь. Уйти беглецам почти никогда не удается: сразу же по их пятам устремляется аварийный патруль дельфинов с радиопередатчиками. К утру обыкновенно беглого кита настигает и воздушная погоня. Несколько дротиков с ампулами антистимуляторов, беглец останавливается и в окружении своих меньших братьев, дельфинов, покоряясь их приказам, лениво плывет назад, если до появления воздушного разведчика не перехватит его стая касаток.* * *
Атилла, пятилетний голубой кит, бежал сразу после захода солнца. За ним в брешь, образовавшуюся в силовом поле во время шторма, устремилось еще около пятнадцати молодых китов. Все они были задержаны соединенными силами патрулей из приматов моря в двадцати милях от острова и к рассвету возвращены на пастбища. Одному Атилле удалось вырваться далеко вперед; он не обращал внимания на дельфинов, которые мастерски имитировали сигналы китов на высоких частотах. Смысл сигналов был таков: остановись, возвращайся назад, впереди опасность. Атилла почему-то игнорировал предупреждение. Он или уловил фальшь, или инстинкт, приказывающий ему плыть к югу, был неодолим. Всю операцию по возвращению беглецов провели дельфины без нашего участия. Сейчас десять из них сопровождали Атиллу. Кит шел со скоростью двадцати миль в час. Самописец на центральном посту чертил на карте ровную линию; она начиналась от острова и двигалась в направлении Южного магнитного полюса. Костя сказал: — К рассвету он пройдет около двухсот тридцати миль. На ракете мы сможем догнать его не раньше двенадцати часов. Будь я дежурным, я бы разрешил немедленно отправиться на гидролете. Тогда мы сможем возвратиться к утренней дойке. На это Нильсен (он был дежурный) ответил: — Я думаю, что тогда бы вмешался совет острова и отменил распоряжение дежурного. В океане сильное волнение и опять замечены касатки. — Мы возьмем гидролет, — сказал Петя. — Утром. Только утром. — У нас дойка. — Вы не считаете возможным доверить этот процесс кому-либо из нас? — Не хочется сваливать свой труд на других. Атилла убежал по нашей вине: мы не проверили после шторма силовые поля. — Совет рассмотрит степень вашей вины. Утром я разрешаю вам взять гидролет, а дойкой займутся такие испытанные китодои, как Чаури-сингх и Лагранж. Жаль, что я еще (к тому времени) не смогу оставить свой пост. Когда-то с вашей Матильдой мы были друзьями. Костя внимательно следил за курсом Атиллы. — Он слегка отклонился к западу, — сказал Костя. — Видите, сейчас он снова лег на курс. Что-то у них там происходит, а мы здесь развлекаемся разговорами. Нильсен крякнул, но ничего не сказал. Мы все столпились у карты и смотрели на черную линию; она еле приметно росла. У патрулей был только миниатюрный передатчик, автоматически посылающий импульсы, но мы в это время представили себе Атиллу, рассекающего фосфоресцирующую гладь океана. Вспыхнул зеленый предупредительный глазок на большой панели, и послышался бесстрастный голос кибера-переводчика: — Разведчик Кокоури заметил касаток. Они идут тем же курсом, что и мы, в пяти милях к востоку. Кокоури успел предупредить нас, а сам пытался увести преследователей по ложному следу. Атилла отклонился на две мили в сторону от касаток. Он по-прежнему не слушается нас. Нужна помощь. Передал Тави. Тави оказался главным в эскорте у Атиллы. У меня сжалось сердце, когда я подумал, какой опасности он сейчас подвергается. Нильсен спросил: — Тави! Не Черный ли Джек находится по соседству с вами? — Кокури не успел сообщить. — Постарайтесь отвлечь Атиллу как можно дальше к западу. — Мы делаем это, только Атилла необыкновенно упрям. — К вам скоро выходит помощь на гидролете. Будь молодцом, Тави! Нам Нильсен сказал: — Вылетайте через два часа, с тем чтобы догнать их на рассвете. За два часа мы еле-еле управились, чтобы все подготовить к полету. Островитяне давно не пользовались этой старой тяжелой машиной. Мы с Костей залили в баки горючее и стали носить в гондолу оружие, ящики с ампулами, легкое водолазное снаряжение, продукты, как требовали правила полетов над океаном. В это время Петя и Ки, включив два переносных прожектора, осматривали двигатель и навигационное оборудование. Несмотря на глухую ночь, нас вышло проводить почти все население острова. Американец воскликнул, пожимая нам руки: — Черт возьми, как жаль, что в кабине нет пятого места! Когда мы уже поднимались по трапу, жена Нильсена громко спросила: — Карл, ты уверен, что им удастся привезти этого Атиллу? — Уверен. — Я не совсем разделяю эту уверенность: слишком мала машина. Надо было бы вызвать из Коломбо сухой док. Нильсен закашлялся. Американец сказал: — Не тревожьтесь, мадам, эти ребята подвяжут его к фюзеляжу. Павел Мефодьевич молча помахал рукой. В лагуне засветилась дорожка для разбега. Костя с Петей заняли места пилотов. По бокам взлетной дорожки, состязаясь в скорости с гидролетом, мчались дельфины. Они уже знали, куда и зачем мы летим. Нильсен передал в лагуну сообщение Тави и свои ответы ему, и приматы моря провожали нас, желая удачи. С трех тысяч метров поверхность океана казалась мутно-серой. Костя поднял машину почти к «потолку», и все равно океан мерцал под нами и казался совсем рядом. Петя и Костя разговаривали с Тави и Нильсеном. Тави сказал, что Атилла несколько сбавил скорость, но все же упрямо плывет к югу. Нильсен приказал Тави ни в коем случае не вступать в драку с касатками, а только отвлекать их от Атиллы. Затем посоветовал нам не злоупотреблять применением антистимуляторов и рассказал, как года два назад он сам перестарался, пытаясь остановить такого же беглеца, и в результате кит впал в полную прострацию: неделю продремал, покачиваясь на волнах, а Нильсену пришлось сторожить его и оберегать от касаток. Сказав, что он все время будет с нами, Нильсен растаял на экране. Маленький Ки заснул, уютно свернувшись калачиком на сиденье. Петя что-то рассказывал Косте, и они смеялись. В прозрачный потолок гондолы смотрели звезды. Среди них крохотной золотой песчинкой светился спутник Биаты. Тави передал: — Они изменили курс. Идут на сближение. Послал Крака отвлечь их в сторону. Нильсен, одновременно слышавший это ничего хорошего не обещающее сообщение, сказал нам: — Постарайтесь, ребята, разыскать касаток, пока они еще не напали на Атиллу. — Для этой цели мы и летим. — Костя бросил машину вниз так резко, что Ки проснулся и спросил: «Уже посадка?» — и снова заснул. Петя недовольно заметил: — Что за манера вести так варварски машину! Ты развалишь на куски эту старую колымагу. Нильсен предложил: — Советую использовать ночной стереобинокль для обзора поверхности океана. Костя подморгнул Пете, тот приник к окулярам оптического прибора. — Не отрываем глаз от этого бинокля, — сказал Костя Нильсену, — но пока ничего. — Да, да, ничего, — подтвердил Петя. Нильсен тряхнул головой и исчез. Костя спросил: — Что за термин ты употребил сейчас? Что за «колымага», откуда это? — Листал недавно уникальную энциклопедию у старика. Нужны были сведения древних о Калане. Смотрю — странное слово. Оказывается, это не менее странное сооружение на колесах, еще более древнее, чем автомобиль; на нем передвигались исключительно по твердым поверхностям. И к тому же без двигателя. — Как — без двигателя? — Костя повернул голову. — Ее волокли животные по земле. — Ах, лошади? — Не только! Кажется, и другие четвероногие. — Ты следишь за Атиллой? — Конечно. Пока ничего… Сколько слов умерло или получило совсем другое значение! Например, все мы знаем, что дворником называется очень несложное устройство для очистки прозрачных поверхностей, между тем в давние времена… На экране появился Нильсен. — Я бы на вашем месте, — сказал он с плохо сдерживаемой яростью, — отложил на некоторое время безусловно интересные лингвистические изыскания, так как цель вашего полета уже должна быть под вами, если, конечно, вы не сбились с курса. Петя помотал головой и шепнул: — Нет еще. Никого нет, чисто! — Курс верен! Океан чист! — Костя ответил с подчеркнутой сдержанностью, иногда это ему удавалось. — По моим расчетам, вы пролетели над Атиллой! Петя отрицательно затряс головой, а Костя невозмутимо ответил: — Мне приходится повторить: океан чист. Курс верен. — В таком случае, вы еле плететесь! — Вот это верно! — согласился Костя. — Наша колымага не выжимает и половины запроектированной скорости. Чтобы это сооружение не рассыпалось, регистр везде понаставил ограничителей. Ей, наверное, лет тридцать, если не больше. — Почти новая модель. Ей специально увеличили площадь плоскостей и уменьшили скорость, а не то вы были бы уже за Южным полюсом. — Тогда, Нильсен, трудно объяснить ваши претензии. Нильсен улыбнулся: — Ну ладно, ребята. Я понимаю. Мне здесь несколько легче… Его перебил кибер, передающий сообщение Тави: — Появилась новая группа касаток восточнее нас… мы… Сообщение внезапно прервалось. — Вот не было печали! — сказал Костя. Петя вскрикнул: — Вот они! — Я же знал, что мы не сбились, — сказал Костя. — Не волноваться… — Голос его стал глухим от волнения, лицо окаменело. — Проскочил! Надо зайти еще раз, — сказал Петя. — Будем бомбить с пикирования… Больше вероятности… Машина пошла носом вниз. На нас летело белесое полотнище. На нем виднелись фосфоресцирующие следы касаток. Их было около двадцати, они шли в кильватер на северо-восток. Всплеска ампул я не видел, они упали, когда мы уже умчались довольно далеко вперед. По словам Пети, ампулы накрыли цель. Костя сказал: — Проверять некогда. Смотри не прозевай Атиллу… Что это молчит Тави? Неужели завязал драку! Появилось озабоченное лицо Нильсена. — Накрыли первую половину, — сказал Костя. — Идем на поиски второго отряда пиратов. Что-то молчит Тави. Как бы он не полез в драку. — Он не должен рисковать, — сказал Нильсен, — ему нечем драться. Ему надо только отвлечь касаток от Атиллы до вашего подхода. Ну, не буду мешать. К вам на помощь вышел «Кальмар». Он уже близко… — Что бы делали мы, не будь у нас этой информации? — усмехнулся Костя. — Прямо хоть возвращайся ни с чем. — Нильсен волнуется. Поставь себя на его место, — шептал Петя. — Он отвечает и за Атиллу, и за нас, и за дельфинов. Притом у него связаны руки. Ужасное состояние! — У всех ужасное состояние, только у нас оно самое отличное! Мы кружили по спирали на высоте семисот метров, медленно смещаясь к северо-востоку. Разгоралась короткая тропическая заря, пышная и красочная, как фейерверк. Проснулся Ки. Огляделся и сказал многозначительно: — Вы знаете, ребята, океан сейчас очень похож на мыльный пузырь довольно значительных размеров. — Потрясающее открытие! — Костя повернулся к нему. — Может, Ки, ты скажешь, где на этом пузыре застрял Атилла? — Разве у вас неисправен локатор? — Исправен, да станция Тави перестала посылать сигналы. — Все понятно! — радостно воскликнул Ки, морща в улыбке заспанное лицо. — Микростанция может работать только на поверхности. Тави или погиб, или потерял станцию, или дерется с касатками в глубине. Возможно также, что они очутились в мертвой зоне. — Теперь все ясно, — сказал Костя, — прямо гора с плеч. Как нам было тяжело, пока ты спал на этом неудобном кресле! — Если бы я знал, что вы так нуждаетесь в моих советах! В это время на экране локатора вспыхнуло несколько зеленых искорок и погасло. — Ты прав, — Костя вздохнул, — бедняга ввязался в драку. В репродукторе послышался голос Нильсена. Он благоразумно не стал показываться на экране видеофона, а только сказал, что мы отклонились на двадцать миль к северо-востоку, и назвал исправленный курс. — Сколько нам дают сегодня полезных советов! — ворчал Костя, разворачивая «колымагу» к северо-западу. За спиной у нас взошло солнце. И тут в десяти милях мы увидели кита. Казалось, что Атилла спокойно плывет в свою желанную Антарктику. Но, по мере того как мы приближались, становилось ясно, что Атилла попал в беду. Касатки и акулы рвали на куски беспомощного кита. Он пытался скрыться под водой, но уже не мог: кровь потоками лилась из страшных ран. Пролетая, Костя успел сбросить серию ампул. Когда мы вернулись, Атилла в агонии бил хвостом по красной воде. Костя сбросил остаток ампул и посадил «колымагу». Убрав прозрачный верх гондолы, мы обошли вокруг умирающего кита. На поверхности возле Атиллы покачивалось множество акул и около тридцати касаток. Среди них Петя заметил несколько дельфинов. Я узнал Тави. Петя и Ки сбросили за борт сверток с надувной лодкой; при соприкосновении с водой ее оболочка автоматически наполнилась воздухом. Мы с Ки спустились в нее и отбуксировали храбрецов на достаточно большое расстояние от Атиллы, где не распространялось действие наркотиков. Тави был легко ранен. Акула или касатка вырвала у него лоскут кожи на спине вместе с радиостанцией. Два его сородича пострадали сильней. Все дельфины находились в тяжелом наркотическом трансе и едва держались на воде. Ки ввел им противоядие. Когда к ним вернулось сознание, Тави сбивчиво стал рассказывать о случившемся. Ему часто приходилось прерывать свой рассказ, так как появилось множество акул. Весть об умирающем ките распространилась уже на огромное расстояние, и к месту трагедии спешили всё новые и новые отряды хищников. Попав в отравленную зону, они становились безвредными, но по пути могли причинить много неприятностей. Наши ружья не оставались без дела. Дельфины рвались в бой, но были еще так слабы, что мы с Ки упросили их держаться как можно ближе к лодке. Из обрывочных фраз Тави и его друзей можно было заключить, что за китом охотились. Несколько отрядов касаток шли к нему со всех сторон на большом расстоянии, постепенно сужая кольцо. Тави предполагал, что они из банды Черного Джека. Только его пираты действуют так согласованно и в таком количестве. Обыкновенно в стаде не бывает больше двадцати касаток. Но никто из дельфинов не мог сказать, что видел Черного Джека. Тави выполнил приказ Нильсена только наполовину. Сам он не стал ввязываться в драку, но и не мог оставить беззащитного Атиллу. Десять касаток дельфины на некоторое время отвлекли от кита, а в это время около сотни других напали на него. Затем появились акулы. Тогда Тави и все, кто остался в живых из его отряда, бросились в свалку и стали таранить касаток и акул. В пылу сражения Тави не почувствовал, как потерял радиостанцию, и все время посылал сообщения, он был уверен, что обо всем нас информирует. Между тем с ближайшего рифа налетело множество чаек; белой горластой тучей они носились над Атиллой. Подошел «Кальмар». С него спустили несколько вельботов, и команда их стала отсортировывать касаток от акул. Касаткам впрыскивали добавочную дозу наркотика, гарантирующую безопасность пленников в течение двух суток, затем лебедкой переносили в надувную баржу из пластика. Она возникла из огромного тюка, сброшенного с «Кальмара», и, залитая на одну треть водой, тяжело покачивалась возле борта сторожевика. Костя с Петей оставили «колымагу» и перебрались на вельбот. Только мы с Ки были обречены на вынужденное безделье, охраняя наших дельфинов, еще недостаточно оправившихся от шока. К ним то и дело подплывали их друзья из отряда, постоянно сопровождавшего «Кальмар», и вели непонятные нам разговоры в ультракоротком звуковом диапазоне. Между тем на «Кальмаре» готовились к отходу. Три вельбота уже поднимали на борт, а четвертый подошел к гидролету и высадил Петю, Костю и еще кого-то третьего. Вся троица стала что-то нам кричать и махать руками. В спешке ни я, ни Ки не догадались захватить карманный телефон. До «колымаги» было около двухсот метров, птицы так горланили, что заглушали все звуки. Атилла стал белым от насевших на него чаек. В нем еще теплилась жизнь: мертвый давно бы ушел на дно. Когда на борт «Кальмара» подняли четвертый вельбот, с бака сторожевика один за другим раздались четыре выстрела. Пернатые хищники тучей поднялись было в безоблачное, пылающее небо и тут же ринулись вниз. К их немалому удивлению и разочарованию, туша кита медленно скрылась под водой. На синей воде плавало множество уснувших акул. Птицы садились на них и погружались в дремотное ожидание. Ветер стих. Легкая зыбь бежала с юга. Лодка еле двигалась по упругой поверхности. Ки говорил: — Мои предки верили в перевоплощение. Тысячи лет назад, наблюдая жизнь и смерть, они умозрительно открыли закон круговорота веществ и облекли его в поэтическую форму. Смерть для них становилась радостью, началом новой жизни. У древних в их тяжелой жизни поэзия занимала очень большое место. — Он перестал грести, прислушался и сказал, улыбаясь: — У них там гостья. Ты слышишь, как она хорошо смеется? Наверное, это ваша Девушка со Звезды, о ней так много рассказывал Костя. И мне послышался знакомый смех, пробивавшийся сквозь крики чаек. Мне стало трудно дышать: неужели Биата! Ну конечно, она! В двери гондолы показалось улыбающееся лицо Кости. — Простите, ребята, что не подошли к вам. Не хотелось нарушать идиллию ревом моторов. Давайте я помогу свернуть лодку, — Заметив Тави, он свесил ноги с порога и пустился с ним в разговор: — Опять удрал Джек. А ведь был здесь. Твои друзья с «Кальмара» говорили, что заметили, как он удирал с десятком пиратов… Ого, у тебя порядочная ссадина! Радиостанцию стащили. Я так и подумал. — Он засмеялся. — Послушай, Тави: что, если микростанцию проглотил Черный Джек и она продолжает работать уже в его желудке? На «Кальмаре» засекли ее работу как раз по курсу пиратов, но никому в голову не пришла такая мысль. Это же здорово, теперь ему не скрыться! Как все удачно получилось! Если бы вот только Атилла не подкачал. Ну, давайте мне вашу лодку, и будем завтракать. Счастливого плавания! — Всем хорошего полета, — пожелал Тави. На месте второго пилота сидела Вера. Она кивнула мне так, как будто мы с ней виделись только вчера. В одной руке у нее был сандвич, в другой — стакан ананасного сока. Мне нестерпимо захотелось пить. Вера налила мне из термоса ледяной влаги и сказала: — Я хочу научиться доить китов. Ки сказал: — Вначале мы думали, что ты со Звезды. — Я самая земная. Космос у меня почему-то вызывает грусть. — Он спутал тебя с Биатой. — Костя говорил с полным ртом. — Нет, нет, я никогда не расстанусь с Землей! И что бы я делала в космосе? — Да мало ли что, — сказал Костя. — Выращивала бы свою зелень. — Нет, нет. Там я не смогла бы. Все время висеть в этом сооружении между небом и землей!.. Петя спросил: — Правда, что ты вывела ходячую мимозу? — Прошу тебя, не говори больше об этом. Пожалуйста. Очень прошу. Костя сказал: — Ну что ты скромничаешь! Участвовала в таком сенсационном открытии и скромничаешь. Скажи лучше, как твои заврики. — Совсем я не скромничаю. Я так расхвасталась вначале. — Она печально поджала губы. — Заврики мои умерли, как ваш Атилла. Они тоже хотели уйти посмотреть мир. Свой крохотный космос. И погибли. Они пошли очень рано. Детям нельзя ходить очень рано. Мне жалко их, наверное, больше чем вам этого несчастного кита. Мокимото утешил меня. Он сказал: «Относись к потере так же, как к удаче». Я пытаюсь, да у меня плохо получается. Костя протянул ей пустой стакан. — Прав Мокимото: не получилось с этими, получится с другими, ведь у вас их тысячи. И все идет нормально. Налей еще! На экране появился Нильсен, сияющий, розовощекий: — О, да у вас гостья! — Он поклонился Вере. — Теперь я начинаю верить в чудеса. — Все получилось так просто, — ответила Вера печально. — Так же, как появление Сверхновой! Она загорелась, ребята! Десять минут назад! У нас она будет видна вечером. Поздравляю! Такое событие! Жду. Вас все ждут на острове. По правде говоря, вы задали нам хлопот.СЕРДЦЕ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ
Рождение Сверхновой постепенно оттеснило повседневные заботы. Ученые всех континентов соединенными усилиями решали одну задачу: насколько вредны излучения Сверхновой — и занимались изысканием способов защиты от них. Пригодился опыт, полученный человечеством в пору разобщенного мира, когда взрывы ядерных бомб заразили атмосферу, воду и землю радиоактивными осадками. Сейчас в массовых масштабах начали производиться лекарства, предохраняющие клетки организма человека и животных от мутаций, и злокачественных перерождений. Строились убежища. Началась массовая эвакуация детей из Северного полушария, где радиация Сверхновой сказывалась особенно сильно. Ускоренными темпами строился глубоководный флот. Уныния не было. Человечество дружно отражало атаку космоса. Павел Мефодьевич сказал: — Занятые своими делами народы Земли забыли, что наша матушка-Земля окружена пустыней, населенной джиннами, до поры до времени сидящими в кувшинах. И вот один из таких джиннов вышел на свободу, он дохнул на нас и скоро покажет свой лик. Мы сидели в большом салоне, где вечерами собиралось все население нашего острова. В открытые окна вливался прохладный ночной воздух вместе с вечным шумом волн. В дальнем конце щелкали бильярдные шары, оттуда доносился громкий голос Кости. Ки импровизировал на рояле. У него было очень мягкое туше. Чаури-сингх и Поль Лагранж играли в шахматы. Павел Мефодьевич, Петя и я сидели в бамбуковых креслах перед окном. Брызги от волн струйками стекали по стеклу. Робот принес нарзан со льдом для Павла Мефодьевича и нам с Петей по коктейлю. Подошел Костя: — Вот где вы устроились! Недурно. Славный ветерок!.. О, у вас что-то вроде коктейля! — Он взял мой стакан, подмигнул и, выпив, причмокнул. — На самом деле коктейль. — Плюхнувшись в кресло рядом со мной, он, давясь от смеха, стал рассказывать о своей партии в бильярд. Академик с улыбкой слушал Костю, мой взбалмошный друг ему явно нравился. — Бильярд — игра королей, — сказал он. — Кажется, при Людовике Четырнадцатом, чтобы приобрести бильярд, надо было испрашивать разрешение у самого короля. Игра была привилегией аристократов. Я видел его в профиль, и опять он показался мне таким древним, что мог бы видеть самого Людовика XIV. Нарзан он не стал пить, а пододвинул Косте, и тот с благодарностью осушил высокий, узкий стакан из алмазного стекла. Я невольно подумал: «Кожа его напоминает пластик для консервации биологических препаратов. Почему и тот раз, в ракете, и сейчас он ничего не пьет? Что за прибор работает в нем?.. Как вздрагивает его рука!» Костя шепнул: — Я же говорил тебе… Смотри, выключился. Павел Мефодьевич сидел с закрытыми глазами, опустив голову на грудь. Петя шепнул: — Пошли. Он почти не спит из-за своих приматов моря. Вставая, мы скрипнули креслами. Павел Мефодьевич открыл глаза, вскинул голову: — Отставить! Садитесь. Я уже выспался и, представьте, видел необыкновенно интересный сон. И очень грустный сон. Все они уже ушли… Весь экипаж «Товарища»… Иеремия Варнов — капитан, художник и поэт Василий Дубов — астронавигатор, он коллекционировал голоса птиц. В самые трудные минуты, когда нас охватывала космическая тоска, он включал свои записи, и тяжесть отчаяния спадала. Николай Савченко — второй пилот. Он любил говорить: «Вот вернусь в Полтаву…» Братья Быстрицкие. Борис — кибернетик, Аркадий-лингвист. Его студенческая работа лежит в основе всей современной космической лингвистики. Он нашел ключ к переводу языка приматов моря. И доктор. Судовой врач. Антоша Пилявин. Вам ничего не говорят эти имена. На путях открытий мы помним только первых и последних. С тех пор тысячи побывали в космосе. Он говорил отрывисто, ничего не объясняя, перескакивая с одного события на другое, как в кругу людей, понимающих все с полуслова, но постепенно его рассказ стал стройнее. — И нашего «Товарища» сейчас никто не помнит, кроме историков. С тех пор уже несколько космических кораблей носили имя «Товарищ». Мы участвовали в одной из первых массовых экспедиций, посланных в космос. Что-то около пятидесяти кораблей отправилось исследовать уголок Вселенной в пределах орбиты Марса. Только мы должны были пересечь этот рубеж и подойти к поясу астероидов. Теперь — пустячная задача. Но тогда! Готовились два года экипажи кораблей и строились сами корабли. Это было время небывалого подъема. Человечество освободилось от опасности войн. Когда-то паразитическая военная промышленность стала выпускать нужные людям вещи. Тысячи ученых, инженеров готовили нас в полет. Все тайные изобретения, лежащие в сейфах, были обнародованы. Задачи, неимоверно трудные и даже непосильные для одной страны, теперь обрели ясность и простоту. Для решения любой проблемы в масштабах планеты уже не нужен был большой резерв времени. Простите, я говорю вам школьные истины и как-то странно волнуюсь. — Он сунул руку за левый борт куртки, поморщился. Костя дернул меня за рукав: — Смотри! Переводит какой-то рычаг! Ну конечно… Академик, помолчав, продолжал: — Все мы были романтиками. Жили только космосом. Что-то подобнее, видимо, происходило с людьми в века великих географических открытий в пору юности человечества и первых прозрений, когда мир неимоверно расширился и Земля из плоской стала круглой. Костя шепнул: — Что я тебе говорил! — Вы совершали экскурсии в космос. Пережили чувство гордости за причастность к человеческому роду. Все вы видели Землю с высоты — голубой шар, проникались к нему снисходительной нежностью, как к престарелым родителям. Другое дело, когда вы стоите в пустоте месяцы. Именно стоите, потому что на обзорных экранах и в иллюминаторах ничего не меняется. Пустота и вечные звезды. Все-таки мы хорошо переносили полет. Строгий режим, дисциплина, труд и, главное, дружба скрашивали бесконечный космический день с черным небом и звездами или, если хотите, вечную ночь. Там другие понятия. Особенно за орбитой Марса. Солнце светит скупее, чуть ярче Луны, а Земля превращается в голубую звезду. Вы найдете тысячи отчетов о полетах такого типа. В некоторых есть захватывающие страницы: прохождение через потоки метеоритов, между прочим, страшное, только в отчетах, встречи с кометами и астероидами. Часто крупица истины отгранена рукой художника, но здесь нет лжи, как и в рассказах фантастов: природа изобретательнее, и все, что написано, случилось или случится в одной из бесчисленных галактик. Конечно, кроме мистического бреда. Катушка вахтенных записей «Товарища» хранится в архиве Музея космонавтики. Вы ничего интересного не услышите из них. Только голоса. Совсем живые голоса моих друзей. Они назовут координаты относительно неподвижных звезд, количество горючего, продуктов, воды, кислорода, интенсивность излучений и еще с десяток такого же рода ответов, предусмотренных инструкцией. Только в одной записи, самой последней, есть отклонение от стандарта, и в ней — сюжет для новеллы. Я помню каждое слово: «Весь экипаж болен. Заболели внезапно. Стрептококковая инфекция. Причины неизвестны. Принимаем меры». Затем перерыв в сорок восемь часов, и последние слова капитана: «Врач Антон Пилявин сделал операцию на сердце Павлу Поликарпову. Операция прошла успешно, но Антон внезапно умер». Больше ни слова в этом официальном документе. Есть личные записи, дневники, но все это носит интимный характер. Да послано несколько сообщений об изменении курса и магнитном поле чудовищной силы. Мы погибали от стрептококка! Костя вскочил: — Не может быть! В те времена уже были отличные антибиотики. И, насколько мне известно, почти все болезни были побеждены. — Все это так. Мы уже не знали болезней, уничтожавших когда-то миллионы людей. Как и сейчас, тогда в нашей крови жили «одомашненные», если так можно выразиться, бактерии, в симбиозе с тельцами крови. До поры до времени они ведут себя примерно. Так было и с нами, пока «Товарищ» не попал в магнитное поле чудовищной силы. Оно подавило защитные свойства организма, и враг, принятый, как говорили в старину, «на хлеба», дождался своего часа. У нас были и антибиотики, и множество других лекарств. Все они оказались ненужными. Правда, стрептококк несколько отступил, но успел поразить наши сердца. И вот тогда Антон сделал мне операцию. Почему мне первому? Так решил капитан. Я был самым младшим. Мне исполнилось двадцать шесть. Капитану тридцать. Все остальные были тоже старше меня на год, на три и больше. Предполагалось оперировать всех. Антон успел только мне вставить искусственное сердце. — Остальные, — спросил Костя, — применили анабиоз? Все остались живы? — За год обратного пути микроб разрушил их сердце, отравил кровь. — Ну, а вы? Как же вы? Были одни среди них? — Антон усыпил меня первым. Я проснулся на Земле… — Кто же вел корабль? Мертвый капитан? Обратный путь был запрограммирован? — Да. Они с Борисом рассчитали наикратчайшую кривую перед последней попыткой сохранить себе жизнь. Сегодня я видел их всех веселыми, здоровыми. Мы сидели в лесу и слушали пение птиц… Костя подошел к нему и сказал: — Я должен извиниться перед вами, Павел Мефодьевич… — Ну-ну, мой мальчик, я все понимаю, не надо. — Нет, вы проститеменя. Я считал вас роботом. Даже сейчас, совсем недавно, когда рассказывали. — Я догадывался, но не мог понять причину. У старых людей путаются логические связи. Что же во мне от робота? И будто собой хорош, и лицом бел и румян… — В глазах у него замелькали лукавые искорки. — Этот стук… еще тогда, на «Альбатросе». — Ах, вот в чем дело! А я привык, как к ходу пружинного хронометра, что висит у меня в каюте. Мне и невдомек. Но что поделаешь, мой мальчик! Предлагали заменить сердце на модное, современное — бесшумное. Да я привык. Меняю клапаны только раз в десять лет. В остальном оно держится молодцом… Сердце моих друзей… Пожалуй, я уйду с ним… Да, да, хватит грустных воспоминаний, ребята этого не любили… Да, к чему я вам рассказал все это? Мне еще показалось, что вам это будет интересно и полезно. Не все только приятное необходимо знать людям. Сейчас приятного избыток. Только вот звездочка эта чуть подпортила общее лучезарное настроение… Ах да, и еще причина! — Он встал. — Есть сообщение о заболеваниях гриппом. Тяжелая форма. Излучения этой паршивой звезды могут наделать беды. Надо немедленно сообщить в Центр здоровья. Он, не глядя на нас, быстро вышел из салона. Костя сверкнул глазами. — Видали? Сколько же ему лет? Постойте! Первая экспедиция… Да это девяносто шесть лет назад! — Внезапно Костя накинулся на меня: — А ты хорош, нечего сказать! Ведь знал, как всегда, догадывался, что я несу дичь, и молчал! В какое поставил меня положение перед этим удивительным человеком! Я не прощу этого ни себе, ни тебе! Мы вышли на балкон. Высоко над головой с звенящим шелестом мчалась тугая струя пассата — салон находился с подветренной стороны. Небо заволокли невидимые облака, в прогалинах поблескивали одинокие звезды. Я тщетно старался отыскать спутник Биаты. Внизу, под нами, бесшумно проплыли шесть фосфоресцирующих дельфинов, оставляя голубой след. Ночной патруль. Петя сказал: — Мне нравится его мысль о том, что мы ничего не сможем придумать на Земле, что бы ни случилось уже где-то на одной из бесчисленных планет там. — Он развел руки над головой. — И еще — что нельзя забывать, чего стоит каждый шаг в неведомое, и подаренное ему сердце… — Он задумался, глядя в искрящуюся воду, потом озабоченно спросил: — Тебе не показалось, что Матильда сегодня очень плохо выглядела? Я сказал, что еще не научился по выражению «лица» определять душевное состояние китов. — Нет ничего проще, и не улыбайся так саркастически. Загляни лучше как-нибудь в ее глаза. У нее сегодня была какая-то грусть в глазах. Я это сразу заметил, и Ки тоже. — Возможно, беспокоится за своего малыша? — Думаешь, эти слухи о Кальмаре? Ерунда! Он совсем не страшен. И не так глуп, чтобы связываться с китами. Просто они пасутся над его дорогой в шестую акваторию, где есть пожива помельче. Иногда он заглядывает и к китовым акулам. — Петя протянул руку: — До завтра! Да, чуть не забыл: завтра у нас горячий денек — после утренней дойки будем проводить вакцинизацию. Ампулы с вакциной я получил сегодня вечером с почтовой ракетой. И еще у меня мелькнула мысль: что бы такое подготовить старику приятное? Сосредоточенно молчавший Костя сказал: — У меня есть идея! Мы найдем ему дикое племя приматов моря, да еще говорящее на неизвестном диалекте. Он как-то сам обронил, что есть такие вольные сыны и дочери океана, возможно не так идеализирующие своих земных братьев. — Мысль неплохая! — Петя сел. — Но ты не представляешь, сколько трудностей на пути к ее осуществлению. Пожалуй, придется повозиться не меньше, чем возились с Черным Джеком. — Ерунда! Все дело в правильной организации. Я смотрю, вы все здесь занимаетесь только узкой тематикой да производством, а глобальные исследования океана у вас отошли на задний план. — Нет, как же… хотя ты прав отчасти… Они придвинули кресла и стали шептаться. Я посидел минуту и потихоньку оставил их вдвоем. Спать не хотелось. Я стал бродить по светящимся дорожкам шумящих листвою аллей и мысленно разговаривал с Биатой о трагическом полете своего учителя. Мне казалось, что и она удивляется низкой культуре тех времен. Гибель от стрептококка — что может быть нелепей! Разве можно было организовывать полет, не учтя всех случайностей? В те времена вычислительная техника уже позволяла хотя бы приблизиться к пределу безопасности. Как неразумно расходовались жизни таких удивительных людей!.. Тут я запнулся, представив, как на меня смотрит Биата. Когда заходил разговор о цели жизни, то она страстно отстаивала существование такой цели. Между прочим, она не верила в бесконечность аспектов разумной жизни, а считала ее исключительным явлением. И может быть, говорила она, Земля единственный ее очаг в нашей Галактике… «Нет, нет, — сказала бы она, — они погибли не напрасно!» Неожиданно я вышел к перилам и увидел высокую, почти cлившуюся с темнотой фигуру Павла Мефодьевича. Он стоял, глядя куда-то в темноту. — Ты? — спросил он. — Не спится? — Да, хорошая ночь… — Ночь как ночь. Просто вогнал я вас в тоску своим рассказом. Лет пятьдесят никому не рассказывал. А человеку свойственно делиться своими мыслями о прошлом. И сам вот весь там… Нелегко жить в чужом времени. Эпохам присущи, как в музыке, тональность, ритм. Все это от рождения в человеке. И я думаю, как нашим ребятам астролетчикам придется туго в иных цивилизациях. Что, не так? Я высказал мысль Биаты об исключительности жизни. — Не ново. Все религиозные учения придерживались этой точки зрения. Были такие же мнения и у серьезных ученых. Уж больно наша планетка хорошо оборудована… Так, говоришь, не спится? Мне тоже. Сейчас разговаривал с главным медиком, поднял с постели. Оказывается, ему наш случай хорошо известен… Говорит, во всех медицинских учебниках приведен. Конфуз! Ну, а как твои лилии? Пойдем-ка взглянем на них… Любопытные загадки задала нам матушка-природа, — говорил он, быстро шагая в глубь острова, — и нам хватит разгадывать, и еще останется малая толика. И в этом жизнь, братец мой, все ее содержание!ОРАНЖЕВАЯ ЗВЕЗДА
Она висела на западе, довольно низко над горизонтом. Уже не первую ночь эта пришелица из космоса сменила солнце, превратив ночь в оранжевые сумерки. Оранжевая вода! Оранжевое небо! Оранжевые лица! — Оранжевые мысли, — сказала Вера. — У меня все в голове оранжевое. — Это ее оранжевая смерть, — грустно сказала Биата. — Скоро тень ее умчится от нас. — Мне она нравится, — сказал Костя. — Хорошая большая звезда. Настоящая. Хочется ее подержать в руках. И даже ударить ногой, как футбольный мяч. Мы вчетвером стояли на берегу лагуны кораллового атолла. Мелкий, хрустящий под ногами песок стал оранжевым, и кокосовые пальмы шелестели оранжево-черной листвой. У барьерного рифа грохотал прибой, бросая к небу оранжевую пену. — Действительно, весь мир стал оранжевым, — сказала Биата. — Но потом, очень скоро, все изменится. Все будет как прежде. Вера посмотрела на Костю: — Не хватает только обещанного оранжевого ужина. Чего-то исторического, первобытного, изготовленного на пламени горящего дерева. Боюсь, не утерян ли рецепт этого блюда. — Видишь ли, Вера, — начал Костя нарочито скорбным голосом, — рецепт, о котором ты говоришь, запечатлен в генетическом коде каждой клетки моего организма. Я не могу забыть его, как он ни сложен. Для осуществления моего замысла требуется топливо, много топлива, поваренная соль. Иван, я поручил тебе это химическое соединение… Хорошо, хорошо! Я счастлив, что хоть сегодня ты не перепутал. Но ликовать рано: он мог захватить по ошибке глауберову соль… Затем рыба. Здесь у меня более надежные союзники — Протей и Тави. Вот уже они плывут к нам. Интересно, кого они поймали! Послышались плеск и характерное дыхание приматов моря. Они быстро приближались к берегу. Костя бросился в воду и поплыл им навстречу. Скоро донесся его ликующий голос: — Тунец! Собирайте топливо! На острове было множество нор крабов — «кокосовых воров». Возле входа в их норы лежали очищенные от волокна орехи и пустые их половинки, легкие и звонкие, как кость. Мы стали собирать эти отходы со стола крабов и складывать в кучу недалеко от воды на небольшом мысе, чтобы Тави и Протей приняли участие в ужине. Они уже подплыли к самому берегу и пристально наблюдали за нами, переговариваясь между собой. Огненная дорожка от костра, трепеща, побежала к другому берегу лагуны. Биата спросила: — Вам не хочется пойти по этой дорожке? — Ну конечно! — сказал Костя. Он у воды разделывал тунца. — Очень хочется, несмотря на ожидаемое пиршество. — Нет, ты говоришь неправду. Я знаю, это невозможно. — Нет ничего легче! Хочешь? — Очень! Очень! — У меня есть упряжь и лыжи. Тави и Протей с удовольствием покатают тебя. — Нет, мне хочется встать и пойти просто и тихо, без всяких приспособлений, как по этому песку. — Сложней. Но, если поразмыслить… Вера сказала: — Костя, тебе уже раз влетело за неэтичное поведение в отношении приматов моря. Если Нильсен или старик узнают про твою упряжь… — Откуда они узнают? — Он стал насвистывать, нанизывая куски оранжевого мяса на бамбуковые палочки. Я хотел помочь ему, но он сказал: — Уходи, тут дело тонкое, и ты все испортишь, — затем воткнул заостренные концы палочек в песок возле костра, наклонив мясо над огнем. Биата сказала: — Мне кажется, что когда-то, очень давно, я сидела вот так же у огня. — Генетическая память, — авторитетно заявил Костя. — Не так уж давно наши предки грелись у костра. Вера, напевая, подгребала угли и поворачивала вертела. — Мне нравится такая жизнь, — сказала она, — очень нравится. Надо попробовать. — Обжигая пальцы, она отломила кусочек шипящего мяса и отправила в рот. Мы все следили за ней. Я заметил, как Костя повторяет все ее ужимки, да и я поймал себя на том, что облизываю пересохшие губы и ощущаю во рту вкус подгорелой рыбы. Вера страдальчески сморщилась. — Не посолили! — сказала она трагически. — Где соль? Даже Биату захватила эта игра в древних людей. Она, заговорщически кивнув Вере, встала и скрылась за оранжевыми стволами пальм. Звезда поднялась над лагуной. Капли жира падали на угли и вспыхивали коптящими огоньками. Вера сказала, пересыпая в горстях песок: — Мне мешает эта непрошеная звезда. Я стал объяснять причину Вериной неприязни к Сверхновой и, кажется, говорил скучно, в то же время прислушиваясь к шуму прибоя, заглушавшему шаги Биаты. Косте надоели мои сентенции. — Подкинь лучше скорлупок, — сказал он, — возле тебя их целая куча. — Да, да, — сказала Вера, — все, что ты говоришь, логично, но не только поэтому у меня такая неприязнь к ней. Звезда должна давать радость. Вернулась Биата и принесла штук шесть очень крупных орехов. — Вот, — сказала она. — Вера еще днем говорила, что это необыкновенные орехи. — Сев к огню, Биата продолжала: — Она будет светить недолго. Она удивительная… — Что в ней удивительного? — спросил Костя. — Просто нахальное светило. Не следует обращать на него внимание. Будто, кроме него, нет звезд на небе! Все мы невольно подняли головы. На небе не было звезд, их закрыла оранжевая пелена. Костя стал поспешно вытаскивать из песка палочки с жареным мясом. — Да, она удивительная, — тихо сказала Биата. — Ее уже давно нет, тысячи лет назад она перестала существовать как звезда. Мы наблюдаем трагедию. Там, где была звезда, сейчас облако водорода. А изображение звезды летит в космос, во все его бесчисленные стороны, и будет лететь еще тысячи лет, пока свет ее не рассеется в космосе. Люди других миров будут ждать ее появления, как ждали мы, как… — Биата оборвала фразу, улыбнулась, приложила палец к губам. — Тс-с! Смотрите! К огню ковылял оранжевый краб. За ним другой. Вера вскочила, услышав шорох за спиной. Крабы остановились в метре от огня, их глаза-бусинки отражали отблески пламени. Так они и сидели, тараща глаза, пока мы ужинали. Костя схватил пальмовый лист и хотел было разогнать крабов. Биата и Вера попросили не трогать их. Общество крабов придавало нашему пиршеству еще более экзотическую окраску. — Я всегда дружил с крабами, — сказал Костя, отбрасывая в сторону пальмовый лист и принимаясь вибрирующим ножом срезать макушку у кокосовых орехов. Биата с Верой зашли в воду и стали угощать Тави и Протея. Тави в знак наивысшего одобрения пронзительно свистнул и сказал: — Вкусно! Мясо совсем не похоже на тунцовое, у него вкус одного моллюска с большой глубины. Только еще вкуснее. Протей заметил, что мясо потеряло сочность, но есть его можно, и попросил еще. Вера, вся перемазанная жиром и сажей, выпила сок из ореха и, вздохнув, сказала: — Я никогда ничего подобного не ела. Наш стандартно изысканный стол утратил первобытную прелесть. А сок! Чудо, а не сок! Надо собрать все орехи, посадить рощу на вашем острове, остальные — к нам. Мокимото простит мне за это все причиненные ему огорчения. Протей сказал: — Женщины любят все необыкновенное. Костя поднял кокосовый орех: — Я согласен с моим другом Протеем. Жаль, что ни он, ни Тави не могут поднять чаши и выпить вместе с нами за всех женщин вселенной, независимо от того, ходят ли они большую часть времени по земле или плавают в морях и океанах, за их талант любить все необыкновенное! Хотя… последнее и не в мою пользу. Мы пили из импровизированных чаш прохладный, чуть пощипывающий язык сок. Вера сказала Косте: — С твоими талантами я бы не выступала с такими публичными заявлениями. — Какие там таланты… — Их так много. — Например? — Ну, хотя бы твой дар готовить. Ни один робот, напичканный самой изысканной программой, не сможет состязаться с тобой. Если же в его решающем устройстве возникнет такая идея, то у него от непосильной задачи перегорят все сопротивления и конденсаторы. — И только? — Никого еще из живущих под солнцем и всеми звездами, включая Сверхновую, природа так безрассудно не награждала таким количеством талантов. Только сегодня, пользуясь одними верхними и нижними конечностями, ты взбирался на самые высокие пальмы, ел сырых улиток, стоял на голове, пел колыбельную на языке приматов моря. Ты знаешь даже язык китов и вот уже осушаешь второй орех. — И только? — Вы заметили, — спросила Вера, — как много он может выразить всего-навсего двумя невыразительными словами и особенно молчанием? — Это признак непомерного честолюбия, — сказала Биата. — Во времена докоммунистических формаций из таких сверхчеловеков созревали диктаторы! — Какое емкое слово — созревали! — Вера театрально подняла палец. — Смотрите, этот процесс уже завершается на наших глазах. Он заставил Тави и Протея поймать рыбу, нас — собрать топливо, даже доставку соли взвалил на плечи Ивана, а мне милостиво разрешил вращать куски мяса над огнем. — Типичный тиран эры неустроенного мира, — сказала Биата. Костя скалил зубы, лицо его, вымазанное жиром тунца, лоснилось. — Как мне теперь понятно изречение нашего старика: он говорит, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Все же я иду дальше в своих благодеяниях и открываю танцы! Всегда после пиршества устраивались танцы. Вера запела, прихлопывая в ладоши, мы подхватили странный, только что родившийся напев. Тави и Протей ответили ритмичным пощелкиванием, они тоже стали танцевать, стоя вертикально в воде. Волны плотно укатали песок. Он был влажен и слегка пружинил под ногами. Биата подала мне руку. На ее оранжевом лице светилась радость. Наши двойные тени заметались по песку, создавая невообразимую сумятицу. Усталые, мы бросились в лагуну. После купания мы с Костей поплыли на ракету — она застыла метрах в пятидесяти от берега, — а девушки остались в палатке. Палатка светилась, как гигантский цветок «факела Селены». Эти кактусы сажают в Мексике по краям дорог, они раскрывают лепестки только ночью, а с первыми проблесками зари сворачивают их. На крохотном экране видеофона мелькали отпечатки событий прошедших суток. Грузовая ракета вернулась с Луны. Новый рудник в Антарктиде. Применение иллюзорных красок в диагностике неврозов… График затухания Сверхновой стоял последним в телехронике. Костя включил гидрофон и разговаривал с дельфинами. К нам приплыли Хох и Бен: недалеко от острова они заметили Черного Джека и еще несколько касаток, охотившихся на кальмаров. Костя включил пеленгатор, и сразу же на нем появились импульсы передатчика Тави, проглоченного Джеком или кем-либо из его свиты. — Мы еще смогли бы его догнать, — сказал Костя, следя, как голубая искорка медленно по диагонали пересекает один из квадратиков градусной сетки пеленгатора. — Но мы этого не сделаем, Ив? — Пусть плывет. — Я знал, что ты скажешь именно так! Ох и влетит нам за это от Нильсена! Ему не терпится поскорее заточить Джека в океанариум и начать его перевоспитывать. Наш старик другого мнения. Вчера он сказал, что ничто в мире не убудет, если этот предводитель команчей останется на свободе. Ты не знаешь, кто эти команчи? — Не знаю. — Надо послать запрос. — Надо… Вера и Биата вышли из палатки. Гул прибоя заглушил их голоса, а они стояли к нам лицом, как черные статуи на светящемся фоне палатки. Мы смотрели на них, и удивительное ощущение охватывало сознание: Черный Джек, Оранжевая звезда, все события в мире отошли куда-то, забылись. Исчезло все, кроме бушующего океана и двух девушек на сверкающем песке.Николай Коротеев ПОТЕРЯННЫЙ СЛЕД (Отрывок из повести)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
От студеной воды Тимоша очнулся, закашлялся, со стоном перевернулся на живот. Охнул от боли. — Живой! — весело воскликнул молодой голос. — Полсотни плетей такому парню — только пощекотать, — отозвался сипло другой. — Ему полторы сотни шомполов, так заговорил бы. Чтобы кости сквозь мясо засветились. Молодой солдат хмыкнул. — Пусть полежит, — приказал сиплый. — Сдается мне, шельма этот парень. Тимоша по голосам догадался, что молодой солдат сидел у него на шее, когда его пороли, а сиплый порол вместе с ефрейтором. Матерые гады, видать. Так отделали деда Фому, что тот визжал на всю округу. Потом за него принялись. Он не порадовал палачей криком, хоть все губы себе искусал от боли. Правда, на двадцать пятом, на тридцатом ли ударе он потерял сознание. И не помнил себя, пока водой не окатили. Ныло все тело, каждая мышца, даже самая маленькая, дрожала, словно просила пощады. Но Тимофей опять упрямо сжал зубы. Не было сил шевельнуться. Хотел открыть глаза — тоже не мог. Только тяжело дышал. В горле клокотала вода, но откашляться не мог. Такое усилие казалось невероятным. Пекло солнце, подсушивая и стягивая кожу на спине. Она саднила, зудела отчаянно. Где-то поодаль брезгливо кричал офицер с розовым и сытым лицом херувима. — Я вам покажу, что такое настоящая власть! Каждого десятого — расстреляю! Только пусть попробуют, дезертиры, не явиться! Ясно? Срок — неделя. Над площадью висели зной и безмолвие. Будто она была пуста, совсем пуста. Но Тимоша-то знал: на ней собраны все жители деревни, куда они с дедом пришли утром. Площадь окружает цепь солдат, держащих наперевес винтовки с примкнутыми штыками. — На колени, свиньи! Нет, капитан, прохаживавшийся перед толпой, не кричал. Он говорил негромко, сквозь зубы. Он не давал себе труда кричать. — Шапки долой! На колени! Тихий шелест, вздохи. Раскаркалось воронье, подравшееся, видно, из-за мест на церковных крестах. Наконец Тимоша с трудом разомкнул веки. Он увидел лужицы во вмятинах от лошадиных копыт, замшелый бок колоды, из которой пила скотина. Покосился налево, встретился взглядом с дедом Фомой. — Очухался, Тимоша? — Очухался… — Забыл я упредить тебя… — начал дед шепотком, с трудом шевеля разбитыми губами. — Вопить надо бы… Очень супротив порки помогает. Тебя порют, а ты вопи, что силы есть. А если не вопить, то вмиг сомлеешь, а то и совсем того… — Гадам на радость? — Порют когда, тут не до умствования… Молчишь, сожмешься в кулак — порка-то вдвойне больнее… — И без умствования тошно… — произнес Тимоша, облизывая запекшиеся губы. — А вы, дед Фома, туда же… — Истину говорю… Азарт у иродов является… И молчал ты перед этим сукиным сыном, капитаном, зря. Подозрение на себя навлек… — Подлости учишь… — Хитрости воинской! Слышал, опять тебя на допрос хотят. — Слышал… — Повинись. С испугу, мол, молчал. Язык, ваше благородие, не повиновался. Лихой вы, ваше благородие, вот и испугался. — А сапоги лизать, коль попросит? — Тьфу! Тоже герой нашелся! Давай говори, что к своим людям пришел. Тайные сведения передал. Во рту пересохло. Собравшись с силами, Тимоша дотянулся до лужицы, окунул в нее искусанные в кровь губы. Вода сначала обожгла раны. Потом боль притерпелась, словно облегчение наступило. — Не мудри, Тимошка! — шипел дед Фома. Тимоша прикрыл веки. Они дрожали, и от света нестерпимо резало глаза, словно в них накидали песку. И на зубах скрипел песок. Настоящий, пыльный, с площади. — Ладно… — ответил он деду Фоме. Ладно-то оно ладно, только не свихнулся ли дед после порки? «Как же это я на виду у всех виниться буду? Что скажут обо мне Ефим Медведев, Семен Крупяной, Василий Семенов? Струсил, скажут… А может, и нет? Сами стоят на коленях на площади перед капитаном. Оно, видно, дед прав…» Но тупое упрямство, злоба на капитана с холеной мордой, перепоясанного новенькой портупеей, желтой и скрипучей, перехватили горло. Однако Тимоша одернул себя. Это ты, брат, брось. Не в тебе, не в твоем характере загвоздка. Тебе дело поручили, а не характер показывать. Вот дело и делай. И сегодня тебе надо добраться до смолокурни деда Фомы и передать отцу, что в Еремеевке мужики готовы выступить. Только вот подмоги просят. — Идут… за тобой… — услышал Тимофей. — Повинись… Шаги слышались совсем рядом. Тимошу молча подхватили под мышки и поволокли. Не поднимая головы, он исподлобья глядел вперед. Сапоги волочивших его солдат поднимали пыль. Вот и знакомые ботинки, желтые краги на медных пряжках. А вот еще такие же. Откуда? Тимоша поднял взгляд и увидел тощего офицера с гибким хлыстом в левой руке. На конце хлыста — ременная петелька. Вид незнакомого предмета обеспокоил Тимошу. И форма на незнакомом офицере была не такая, как на капитане: длинный френч с большими накладными карманами, фуражка с широким козырьком и вздернутой впереди тульей. А за спиной офицера во френче — отец Евлампий! — Он, ваше благородие, он, Тимофей, Макарова сын. Моими молитвами воитель за веру, царя и отечество Федька Макаров возвращен под родимый кров. Без вести считался пропавшим, а вот объявился. Сапожничает. Одноногим вернулся и георгиевский кавалер. Жена — богомольная прихожанка. — Чего же он, щенок, молчал? Тимоша набрал полную грудь воздуха: — Оробел, ваше высокопревосходительство! Капитан рассмеялся раскатисто, на всю площадь. Сказал что-то на незнакомом языке офицеру во френче, и тот криво усмехнулся. Заржали и солдаты, державшие под мышки Тимошу. — Молчать! Хамы! Смирно! Солдаты выпустили Тимошу, он хлопнулся лицом в пыль, чуть приподнялся на руках. — Видите, отец Евлампий, где у этого народа ключ от языка. Стоит его как следует обработать — и рот открыт. Теперь рассмеялся отец Евлампий. Высокий и тощий, он сложил руки на торчащем животе, который мелко дергался. Потом, подойдя к капитану, отец Евлампий сказал негромко: — Отличный мастер его отец. Если сапожки вам понадобятся… — Уговорили, отец, уговорили… Скоро будем гостить в вашем селе — чтоб были. Ясно? Тебя, сволочь, спрашивают. — Будут, ваше высокопревосходительство… — Пшел! Тимоша с усилием поднялся, но стал твердо. Офицер во френче вскинул брови: — Ого! — Мартынов! — крикнул капитан. — Ты, гад, стой! Ну-ка, Мартынов, добавь, чтоб на карачках уходил. Ефрейтор плюнул в кулак, размахнулся, готовясь бить наотмашь. Тимоша чуть подался назад. Кулачище проскочил мимо. А сам Мартынов, развернувшись на каблуках, едва не угодил в лицо капитану. С дико вытаращенными глазами Мартынов грохнулся перед офицером на колени. Офицер во френче загоготал. Потом он положил длиннопалую руку на плечо белого от ярости капитана и, сделав неопределенный жест, мягко увлек его за собой. Но капитан обернулся: — Двадцать пять горячих Мартынову! Тимоша, которого шатало из стороны в сторону, насколько мог быстро постарался покинуть площадь. За ним, стеная и охая, бочком-бочком полз дед Фома. Подойдя к толпе, Тимоша наткнулся в первом ряду на широкогрудого, с сивой бородой кузнеца Медведева: — Ну, сердешный… — Будут, будут сапоги готовы в срок. — Вали, вали! Шляются тут… Дома им не сидится! — Медведев грубовато подтолкнул Тимошу. — Телега ваша во дворе волостного правления стоит, — добавил он тихо и понимающе подмигнул. — Спасибо, дяденька! — Тимоша попытался улыбнуться. — В срок… — Деду помоги. Тимоша направился к Фоме, но тот, войдя в толпу, резво поднялся на ноги: — Давай, Тимоша, бегом. Не приведи господи, передумает сукин сын капитан. Они торопливо пробрались сквозь смыкавшуюся за ними толпу, миновали солдат. Из последних сил пробежали по пустынной улице, распугивая хлопотливых кур и важных петухов. У волостного правления Тимоша хотел было отвязать вожжи от коновязи, но в глазах потемнело, и он ухватился за грядку телеги, чтобы не упасть. — Забирайся, — услышал он словно издалека донесшийся голос деда Фомы. — Забыл, старый, упредить тебя — вопить надо. Эх, молодость! Плохо соображая, Тимоша кое-как забрался в телегу, лег ничком на сенную подстилку. Вернулись боль, и злость, и обида. Дед Фома стоя размахивал кнутом и дико закричал на престарелую кобыленку. Потянув телегу, кобыленка с трудом перешла на рысь, мелкую, тряскую, и в брюхе у нее звонко ёкало. Только выехав за околицу, дед Фома, кряхтя, улегся рядом. — Понял теперь, почему вопить надо? «С дедом лучше не спорить, — подумал Тимоша. — Иначе он всю дорогу будет обучать, как под плетьми поудобнее устраиваться. Тоже, оказывается, уметь надо. Но лучше не учиться… Попить бы…» Продолжая разговор, дед Фома изредка толкал Тимошу в бок, спрашивая, слушает ли он. Тимоша отвечал, что, мол, да, а сам думал совсем о другом. Полгода прошло с тех пор, как распахнулась в их избе дверь и в клубах морозного духа вошел, тукая культяпкой по полу, отец. С появлением отца в их семье и вокруг произошло столько событий, сколько Тимоша не мог упомнить за все прожитое им время. Он невольно делил свою жизнь на две неравные половины. Куцый кусочек — «до возвращения отца», и бешеный водоворот событий — после. Столько понадобилось передумать, понять и пережить за эти месяцы… Уже на другой день по возвращении отец достал из чулана холщовый мешок. В нем хранились немудреные инструменты деревенского сапожника. Небольшая толстая палка с круглой металлической пяткой на одном конце и стальной лопаткой на другом — «ведьма», колодки, вар, дратва, жестяные коробочки с деревянными и железными гвоздями, фартук. Вынули из чулана отцовский столик и табуретку. Все сохранила мать, даже мешок с обрезками кожи, хорошей, довоенной, спиртовой. Такую достать теперь нечего было и думать. Запахло в избе моченой кожей, застучал бойко «пятачок» сапожного молотка. Дом словно преобразился. Будто светлее в нем стало. А может, и действительно светлее. Тимоша побелил печь, мать выскребла закоптившиеся стены, пол, стол и лавки. И не то чтобы отец придирался к непорядкам в запущенном доме. Он умел с улыбкой вспомнить, как светилась свежей известью печь, и Тимоша уже не знал покоя, пока не принимался с радостью за работу. Стоило побелить печь — стали особенно заметны потемневшие бревна стен, и мать принялась за уборку. — К пасхе, — говорила она, — и у нас в этом году будет настоящее светлое воскресенье. Она стала веселой и бойкой. Раньше, начав какое-либо дело, она вдруг задумывалась, все валилось из рук, и они, тяжелые, набрякшие, бессильно ложились на колени. Она могла сидеть так часами, уставившись в крестовину оконного переплета либо на узкий коптящий огонек жировика. И черный платок, надетый по-монашески, сливался с темнотой, притаившейся в углах, и был ясно виден лишь треугольник желтого, изможденного лица. Теперь мать помолодела. Платки стала носить светлые, яркие. Глаза ее блестели. Работа кипела, и руки будто не знали устали. Изменились ее походка и осанка. Пропала сутулость, тяжелая поступь. Уложенная кичкой коса чуть оттягивала назад голову, и порой Тимоше казалось, что мать выглядит такой гордой, какой была, наверное, только царица. Когда Тимоша впервые за долгое время услышал веселый, беззаботный смех матери, он поначалу решил, что в доме кто-то чужой, так необычен показался ее смех сам по себе. Но кое-что в доме представлялось Тимоше непонятным. Почему отец, так любящий мать, многое скрывает от нее? Вот хотя бы то, что Тимоша, приезжая на короткие побывки со смолокурни деда Фомы, не сидит дома. Отец поручает ему развозить по окрестным деревням готовый товар. Там он по секретным поручениям отца встречается с мужиками, которые не то что за сапоги, но и за набойки не смогли бы заплатить. Он передает им странные и таинственные сообщения о каком-то поступающем товаре, о готовности к определенному сроку сапог или просит подкинуть гвоздей. Сначала Тимоша не догадывался ни о чем. Только совсем недавно он понял, что речь идет об оружии, о патронах, порохе, капсюлях. В свои наезды домой из урмана Тимоша замечал, что деревни точно лихорадило. Побор шел за побором, мобилизация за мобилизацией. Временные требовали всё новых рекрутов — воевать с Москвой. Царские еще недоимки выбивались с таким свирепым рвением, будто каждый мешок зерна или картошки решал судьбу «автономной Сибири, без коммунистов». Теперь Тимоша вез на своей спине доказательство «любви к народу», «народной власти», как говорили о себе временные. Поглядит сейчас любой мужик на спины Тимоши и деда Фомы и без лишних слов поймет, что может ждать и его, если через несколько дней появятся каратели и в селе. Редко в какой семье нет парня призывного возраста или самого хозяина, который бы не удрал в урман, прослышав про набор на войну «с Москвой». — Тпру! — Дед Фома остановил повозку. — Вот этой тропкой прямо к смолокурне выйдешь. А я, стало быть, в деревню. Морщась от боли, Тимоша сполз с телеги. Рубашка прилипла к рубцам, к разодранной плетьми коже. Каждое движение стоило больших усилий. И голова кружилась. Тимоша сошел с дороги. Его окружили сумрачные ели. Пахло болотом. Он с трудом отыскал тропинку, о которой говорил дед Фома. По ней ходил, верно, он один и то не часто. Под низко распластавшимся лапником приходилось то и дело нагибаться. Иногда ветви задевали по спине. Тимоша замирал и по-гусачьи шипел от жгучей боли. От ходьбы под душным пологом ельника, от слабости, от ломоты в каждом суставе все тело покрылось липким холодным потом, который попадал в свежие рубцы на спине. Они саднили, чесались. Зуд стал нестерпимым. Пройдя версты три, Тимоша совершенно выбился из сил. Упал на траву. Очень хотелось заплакать, но он сжал зубы и только усиленно пошмыгал носом. Потом пошел дальше. Стало вроде бы легче. Солнце клонилось к западу. Надо было спешить. И так они задержались с дедом в Еремеевке. Не по своей воле. Но мог ли кто предполагать, что с ними приключится такое! Попали в самое пекло, когда солдаты сгоняли на площадь всех жителей Еремеевки. Уже по дороге на площадь Тимоша догнал кузнеца Медведева и передал, что к ним на помощь придут мужики из соседних деревень — проучить карателей. Выпороли же их под замах — чтоб не шлялись — вместе с родичами дезертиров. Тимоше казалось, что он бежит к смолокурне, а на самом деле он, поскуливая, чтобы превозмочь боль и слабость с трудом перебирался от одного дерева к другому. Наконец Тимоша увидел смолокурню: большой сарай и маленький домик между огромными кедрами. В двух окошках избенки слабо проступал желтый свет. Тимофей хотел крикнуть, да голоса не было. И силы оставили его. Он встал на четвереньки и пополз, а это оказалось труднее, чем идти. Добравшись до порога, Тимоша головой толкнул дверь, захрипел: — Отец… Сильные руки подхватили его. Тимоша потерял сознание, а очнулся па лавке в привычной глуховатой тишине деревянного дома. Он приподнял голову. В избушке горел ровным, чуть коптящим огоньком жировик. У стола сидели двое. Спиной к Тимоше — отец. Второй лысый, с маленьким живым лицом. Тень его затмевала половину избенки. Долго Тимоша не мог понять, кто это. Наконец вспомнил: жестянщик из города. Он ходил по деревням с деревянным ящиком на плече. — Люди доверчивы, Федор Терентьевич, — негромко говорил жестянщик. (Тимоша вспомнил, что его зовут Иваном Парамоновичем.) — Не всё они сразу понимают, не всё предвидеть могут, пока не испытают на своей шкуре. Сам посуди. Крепостного права Сибирь не знала. Власти помещичьей не нюхала. Земли гулящей — сколь хошь. Немного Советская власть могла здесь дать мужику. Не то что в России. — А власть? — Так надо узнать, что это такое, — усмехнулся Иван Парамонович. — А вот как закрутили эсеры все гайки, пошли самоуправствовать, сечь, стрелять да вешать… куда хуже, куда резвее, чем раньше, так все ясно и стало. — Еще бы… — Парень у тебя крепкий. Жаль его. Отец вздохнул. — Значит, вышел наш с тобой связной из строя. Так я сам по деревням пройдусь. На субботу, значит, сбор. А ночью и ударим. Иван Парамонович надел картуз и попрощался с отцом.* * *
В субботу, едва начало смеркаться, небольшой вооруженный отряд вышел из избенки и гуськом направился по тропинке к дороге, где их должны были ждать подводы и еще человек десять мужиков, приведенных на место встречи дедом Фомой. Двигались споро. Выйдя на дорогу, увидели в густых уже сумерках три подводы. Отец, Иван Парамонович вместе с Тимошей устроились на подводе, которая катилась впереди, а за нейипоодаль тронулись остальные. Хорошо смазанные колеса не скрипели, и лошади ступали по пыли проселка бесшумно. Иногда Тимофей оглядывался назад. При свете звезд он видел черные стены подступившего к самому проселку урмана, и на светлеющей дорожной пыли угадывались силуэты лошадей и дуги над их головами. Лежа на охапке сена, заботливо брошенной дедом Фомой, он прислушивался к негромким разговорам. Отец и Иван Парамонович расспрашивали деда о деревне, о том, где расположились солдаты, где живут офицеры, сколько всего войск в селе. Сначала Тимоша обиженно молчал, потом не выдержал: — Я же вам все рассказал! — А ты не кипятись, — сказал отец. Он был сосредоточен. — Мы не сомневаемся в твоих словах, а уточняем. В разговор вступил Никанор. Ему предстояло вести группу партизан на здание волостного правления, в котором разместились солдаты. Иван Парамонович с десятком мужиков из Тимошиной деревни нападут на дом купца Киселева. Там остановились офицеры. И волостное правление и дом Киселева имели по два выхода — парадный и черный, во двор. У парадных наверняка стоят часовые. У выходов во двор — вряд ли. Вряд ли каратели, упрятавшие в амбар неблагонадежных, ожидают нападения. Нигде еще не слышали о подобном. Выехали на поле. Стало светлей и теплее. Запахло прогретой солнцем землей, скошенным хлебом. Потом телега съехала в овраг и остановилась. Здесь было прохладнее и темнее, чем на дороге, запахло сыростью. Подождали, когда подъедут две другие повозки. Коноводы отвели лошадей в кустарник и надели им торбы с овсом. — Надо спешить, мужики, — сказал дед Фома. — Скоро луна взойдет. Макаров собрал вокруг себя отряд и последний раз объяснил задачу каждой группы. Он с четырьмя стариками оставался на высоком, левом берегу ручья, что протекал как раз за огородами Киселевского дома и волостного правления, стоящих рядом. Они будут уничтожать тех, кто попытается уйти в урман, в тайгу. Она начиналась сразу на левом берегу ручья. Застигнутые врасплох каратели, конечно, будут стараться прорваться туда. Затем Федор вручил деду Фоме и Тимоше по две «лимонки»: — Ваше дело вывести людей на назначенное место. Как снимут часовых, бросайте в парадные гранаты. Тогда мало кто решится бежать на площадь. Ясно? — А как же, вестимо. — Ясно, — кивнул Тимоша, принимая от отца гранаты. Отряд разделился на две неравные группы. Большая сразу же направилась к волостному правлению. За ней пошел Тимоша с четырьмя парнями из Знаменки, соседней деревни. Они быстро миновали мост через ручей и направились по правому берегу к огородам. Шли молча. Первая группа, ушедшая раньше, тоже двигалась бесшумно. Изредка в деревне лаяли собаки, и Тимоше каждый раз чудилось, что они учуяли отряд и поднимают тревогу. Несколько раз выбирался он на кромку низкого пойменного берега, чтобы не проскочить ненароком переулка, по которому им предстояло выйти к углу дома Киселева. Лишь пробравшись к самому строению, Тимоша смог заметить, что окна, выходящие на площадь, несмотря на поздний час, освещены. Это осложняло дело. Партизаны рассчитывали застать обитателей сонными. Тимоша перевел взгляд на здание волостного правления. Распорядок солдатской жизни не нарушился. Помещение волостной управы было погружено во тьму. Позади Тимоши сопели от быстрой ходьбы парни. Он не знал даже их имен. Они ждали, какое он примет решение. Командовать поручено ему. У самого Киселевского дома росло разлапистое дерево. Несколько толстых суков выдвинулись далеко на площадь. Оттуда, наверное, можно было заглянуть внутрь дома и узнать, что там происходит. Рядом с крыльцом парадного входа стоял часовой с винтовкой наперевес. — Держите часового на мушке, — обернувшись к парням, прошептал Тимоша. Зайдя за ствол, чтобы часовой его не заметил, Тимофей ухватился за нижний сук, подтянулся. Он почувствовал, как лопнули на спине запекшиеся струпья, но злость пересилила боль. Ведь он сейчас заглянет в окно и увидит того самого капитана, который приказал его выпороть. Но теперь все пойдет по-другому. Тимоша полз по суку осторожнее рыси. По спине текло что-то горячее. «Кровь… — подумал Тимоша. — А я думал, зажило…» Сердце билось так сильно, словно он пробежал без отдыха весь путь от смолокурни до Еремеевки. Он пополз по суку дальше, к развилке. Там можно устроиться надежнее, и оттуда видна внутренность дома. Расходившиеся в стороны ветви дуба напоминали трехпалую лапу. Устроившись, Тимоша посмотрел вправо, в окна, и потянулся за гранатой. В киселевском доме он увидел такое, что заставило его забыть об опасности. В первое мгновение ему показалось, что в комнате идет обыденный разговор. За овальным, покрытым скатертью столом сидели капитан и тот самый иностранный офицер, про которого отец сказал, что это, наверное, англичанин. Но вот дверь открылась. Вошло трое: два солдата, а впереди кузнец Медведев, которого Тимоша предупредил, что крестьяне из окрестных деревень придут к ним на помощь. Тимошу успокоило, что Медведев отвечал на вопросы офицера улыбаясь. И капитан выглядел очень спокойным. Он затягивался какой-то необыкновенно длинной и толстой коричневой самокруткой и пускал в потолок ровные, расширяющиеся кольца дыма. Но как Тимофей теперь бросит в дом гранату? Ведь достанется и Медведеву! План рушился. Надо же было офицеру вызвать Медведева в это время! А вдруг офицеры не выйдут из дома, когда начнется перестрелка? Теперь там четверо беляков. Партизанам придется брать дом приступом. И снова Тимоша подумал о том, что же тогда будет с Медведевым. «Все равно надо уходить, — решил Тимоша. — Не убивать же Медведева вместе с офицерьем…» Тимоша стал пятиться к стволу. Он на мгновенье отвел глаза от окна. В доме грохнул выстрел. Тимоша замер. Он увидел сквозь стекло — в руках у капитана был пистолет. Когда он успел его выхватить? Медведев падал ничком, схватившись руками за голову. Капитан что-то крикнул. Солдаты, стоявшие у двери, подхватили Медведева, уже упавшего на пол, и выволокли. Теперь, не раздумывая ни мгновения, Тимоша сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и швырнул в окно. А сам, зажмурив глаза, бросился с ветки на землю, в кусты палисадника. Он упал боком, откатился к стене дома. И тогда полыхнуло из окон огнем, грохнул взрыв. Сверху посыпались щепки. Вскочив, Тимоша кинулся к высокому крыльцу. Забыв о боли, взлетел на него. Сорвав с пояса вторую «лимонку», он распахнул ногой дверь в дом и закричал: — Руки вверх! Выходи! Он не заметил, куда девался часовой. Скорее догадался — все обошлось. У ступенек послышался топот и знакомый голос парня, шедшего с Тимошей: — Все? — Подожди. — Тимоша не обернулся. — Там двое солдат, И Медведев, кузнец. Офицер в него стрелял. У здания волостного правления прогремели два взрыва. В наступившей тишине разнесся фальцет деда Фомы: — Выходи! Сдавайся! — Руки вверх! Выходи! — крикнул за ним Тимоша. В проеме двери возникла фигура солдата без фуражки. Винтовка со штыком была на нем надета по-походному, через плечо. Внезапное появление солдата, бледное лицо, круглая бритая голова, вздернутые руки, заставили Тимошу невольно отступить. Тотчас по ступеням крыльца взбежал парень и стал стаскивать с солдата винтовку. Тот торопился, путался в ремне и все никак не мог снять оружие. Из темноты сеней вдруг высунулась рука с винтовкой: — Вы это, братцы, того… Подневольные мы… Вы того, братцы… Не надо… Тимоша взял винтовку, сунул гранату в карман и юркнул в сени, услышал шорох, мотнулся в сторону. В глубине сеней бабахнул револьверный выстрел. Солдат, который отдал винтовку Тимоше, взвизгнул высоким голосом: — Бра-ат-цы-и-и… За что… братцы… — и, откинувшись к притолоке, стал сползать на пол. Тимоша выстрелил наугад. Отдачей едва не вырвало винтовку из рук. Кто-то зарычал, затопали сапогами. Тимоша ткнул штыком вперед, на звук. Штык ушел во что-томягкое. — Сдавайся! — не своим голосом прокричал Тимоша и что было сил отбросил повисшего на штыке человека в сторону, как отбрасывают на вилах ворох сена. Потом выдернул штык и побежал дальше, нашаривая в темноте дверь. Нашел. Распахнул. В нос ударил запах взрывчатки. В помещении еще клубился дым. Коптил фитиль «молнии» — стекло лампы было разбито. Стол опрокинут. На полу валялись капитан и офицер во френче. На капитана лилась струйка керосина из пробитого резервуара лампы. Стараясь не запачкаться в крови, Тимоша прошел к лампе и задул коптящий фитиль. «Загорится, чего доброго, дом, — подумал он и вышел. — Где же Медведев?» Он наткнулся на чье-то тело у лестницы на чердак. Огляделся. Справа на полу отпечатался в лунном свете перекошенный переплет рамы. Тимоша подтащил туда тело и узнал кузнеца, он был мертв. Во дворе дома шла драка. Не стреляли. Вероятно, опасаясь попасть в своих. — Иван Парамонович! — позвал Тимоша. — Как у тебя? — услышал он голос жестянщика. — Они Медведева убили. — Давай к волостному. — Мигом! С высоты крыльца он увидел лежавшего на нижней ступени часового. Рядом с ним сидел один из парней, пришедших вместе с Тимошей. Парень плакал навзрыд. — Чегой-то он? — недоуменно спросил Тимоша. — Да… вот… — глухо отозвался тот, что стрелял в часового. — Говори толком, паря! — нетерпеливо крикнул Тимоша. — Да вот, — заторопился круглолицый парень, — Митька соседа своего, Пашку, того… — Как же это? — Тимоша вытаращил глаза. — Да так… Тот караульным у дома стоял. Его неделю назад забрали. Вскочили налетом в нашу деревню. Кто из парней не успел в урман сбежать, тех под гребенку — в солдаты. Вот и стоял Пашка на карауле, а Митька его того… — Чего ж я его маменьке-то скажу… — протянул Митька сквозь слезы. — Она ж крестная моя… Неожиданно Митька поднялся. Он был на голову выше Тимоши, с длинным бледным лицом. На его худых щеках блеснули в лунном свете застывшие слезы. Он несколько секунд жевал губами, потом вытерся рукавом, взял винтовку убитого Пашки: — Ну погоди ж, беляки! — Давай теперь к волостному. Слышите, там еще стреляют! — крикнул Тимоша. Низенький солдат, сдавшийся первым, толкнул Тимошу в бок. — Я с вами! Возьми, паря, а? — Давай! Когда они подбежали к приземистому зданию волостного правления, стрельба там уже утихла. В дверях стоял дед Фома и покрикивал выходящим: — Шевелись, солдатики! Шевелись! Истинно — зря вы с этими временными связались! На своего кровного брата, трудового крестьянина, руку подняли! Шевелись, солдатики! Не бойсь! Мы не ваши начальники-кровопийцы! Сдавайте оружие! Кто хошь — по домам! Кто хошь — к нам! В одной руке у деда Фомы был зажат пистолет, а свободной он принимал сдаваемое солдатами оружие. — Эх, солдатики!.. Своими руками на свою шею захребетников решили посадить? Своих братьев крестьян пороть и расстреливать? Не позволит вам народ. Не для того Николашку с престола турнули! За огородами, со стороны ручья, послышалось несколько выстрелов. Стихло. На площади наступила тишина. Несколько солдат, еще не успевших отдать винтовки, столпились на крыльце в нерешительности. Остальные смешались с кучкой вооруженных крестьян. — Товарищи! — крикнул Иван Парамонович. — Пусть обезоруженные отойдут к зданию! — И негромко добавил Тимоше: — Иди со своими ребятами к деду Фоме. Отберите оружие у остальных. Будьте начеку. Тимоша кивнул, позвал за собой трех парной и круглолицего коротышку солдата. Он еще не понимал, зачем Иван Парамонович отдал такой приказ. Сквозь толкучку солдат и вооруженных крестьян они прошли на крыльцо. — Солдаты! Не забывайте присягу! — завопил толстомордый ефрейтор, тот самый, что порол Тимошу. — Не забывайте, кому присягали! Изменникам — расст… Он не успел докричать. Солдат с лошадиным лицом ударил его по голове прикладом: — Заткнись, гад! — Не горячись! — крикнул Иван Парамонович. Но было поздно. Длиннолицый еще раз ударил упавшего. — Черт возьми! Зачем? — вскричал Иван Парамонович. — Да он же взбунтовать солдат хотел! — крикнул в ответ длиннолицый. На площади стало шумно. Солдаты торопливо сдавали винтовки и отходили к стене волостной управы. Там, сбившись в кучу, стояли пленные. Луна поднялась высоко, и тень около стены была густая, лиц нельзя было разглядеть. Обезоруженные стояли молча, настороженно. Дома, выходившие на площадь, смотрели на все происходящее темными слепыми окнами, но чувствовалось, что за каждым притаились обитатели, еще не знавшие, на чьей стороне сила, чья взяла. Открылась калитка, и из двора волостной управы вышел, ковыляя на культяпке, отец Тимоши и подошел к Ивану Парамоновичу. Они тихо поговорили о чем-то. Тимоша приблизился к ним, услышал обрывок разговора: — Этого… отца Евлампия упустили… — Плохо, — сказал жестянщик. — Ужом проскочил. Выходит, мне домой не след появляться. В урмане надо обосноваться накрепко. Иного выхода нет. Приметный я слишком, — невесело усмехнулся отец. Жестянщик обратился к пленным. — Кто хочет, пусть уходит! Кто хочет — с нами, беляков бить! Макаров словно не замечал подошедшего сына, а тому очень хотелось услышать похвалу из его уст. Но отец обернулся к нему и спросил: — Почему не дождались сигнала? Тимоша объяснил. — Ладно. Хорошо, все обошлось. Но в следующий раз, что бы то ни было, приказа не нарушать. Теперь отправляйся со всеми нашими домой. Тебе подлечиться надо. Скажешь матери, чтоб через два дня приходила на смолокурню. Одежонку принесла, еды побольше. Не один я. Но ей этого не говори. — Понятно, — кивнул Тимоша. — Иди, разведчик! — сказал Иван Парамонович и, обняв за плечи, привлек Тимошу к себе, похлопал по плечу. — Будь осторожен. Запахнет поркой — тикай. Быстро и тихо. После слов Ивана Парамоновича помягчал и отец. Он обнял, поцеловал Тимошу и еще раз спросил: — Ясно? — Ясно! — Тимоша бодро тряхнул головойГЛАВА ВТОРАЯ
Луна запуталась в клочьях облаков. Изредка она испуганно высовывалась в просветы и опять пряталась. Урман по обочинам стонал под ветром, а когда напор бывал особенно сильным, деревья крякали, поскрипывали, мотали из стороны в сторону ветками, словно руками, будто жалея, что не могут никуда отсюда уйти. Снег то валил густо, то совсем переставал. Было не очень морозно, и Тимоше, одетому в ветхий зипун, даже стало жарко. Лыжи бежали споро. Дорога была наезжена и лишь кое-где переметена сугробами. Из тайги на проселок он вышел часа два назад, след его уже давно замело, и о том, что по нему можно найти партизанскую базу, беспокоиться не стоило. После каждого свидания с отцом у Тимоши становилось очень хорошо на душе. Виделись они теперь не часто. После нападения на карательный отряд отец не появлялся в селе. Да и не мог он появиться. Для односельчан он сапожничал в городе. Кто верил, а кто и нет, и лишь Тимоша, Никанор да дед Фома знали всю правду. То, что творилось перед осенью, оказалось лишь цветочками. В ноябре утвердился в Омске верховный правитель — диктатор, адмирал Колчак, которого по деревням называли Волчак, и не иначе, как шепотом, будто он вор ночной. Только Волчак этот был еще жутче: жег села, порол, вешал, расстреливал. Точно плугом каким развалил Колчак надвое Сибирь, людей, души, а где по сердцу пришлось, то и сердце. Богатеи — те за власть Колчака, которая похлеще царской, — им раздолье. Бедняки — за Советы. Середняки — те тоже мотаться перестали. С Советами им воевать ни к чему, а за Колчака — не с руки. Но были и такие, что пошли за Колчаком. Вот хоть бы отец Саньки Ерошина. Того Саньки, с которым Тимоша лазал в огород отца Евлампия за огурцами. А Санька сбежал в урман. Долго отсиживался. Вернулся в село, чтоб едой запастись. А отец его выдал. Пороли Саньку, а Кузьма Ероншн приговаривал: мол, так и надо, не умничай. Только сагитировали колчаковцы Саньку Ерошина наоборот. Ушел. Пристал к партизанам. А осенью выскочил их разъезд на берег реки, а на другом — колчаковцы объявились. Узнал Кузьма Ерошин сына и давай его честить. Когда слов не хватило, за карабин схватился. Коня под Санькой поранил. Тут и Санька загорелся. Спешился. Сорвал винтовку с плеча. А батька его на том берегу буйствует. — Стреляй, — кричит, — сукин сын! Стреляй в родного отца! Стреляй! — Уходи, пока цел! Мы всё про тебя знаем! — ответил Санька. Много за Кузьмой Ерошиным гнусных дел водилось, это действительно. Кузьма рванул солдатскую рубаху на груди да так сына начал поносить, что побелел Санька. Потом поднял винтовку, приложил к плечу и порешил своего отца… На его похоронах, говорят, отец Евлампий слезную заупокойную проповедь произнес… Тимоша выбежал на лыжах к опушке тайги. Ветер со снегом ударил в лицо. Перед ним в ложбине приютилась деревенька. Стены изб казались черными пятнами, а заметенных крыш и не различишь. Время не совсем уж позднее, до полночи далеко, но в окнах ни огонька. Оттолкнувшись палками, Тимоша поехал по склону к крайней избенке. Добравшись через сугроб к крыльцу, постучал в ставню условной дробью. Подождал. Заскрипел деревянный засов у двери. — Кто там? — Я, дядя Галактион. Макаров. Тимошка. — Я думал, завтра придешь. — Дело передали? — Заходи, хоть отдышись. Переночуешь? Куда в такую собачью погоду. Тимофей видел в сумраке сеней лишь белый лоб Галактиона. Лицо его до глаз заросло темной бородищей. — Зайду. В избе было душно. Жировик едва горел. Хозяйка тоже поднялась. Поставила на стол миску с румяной картошкой, молоко. Тимофей с охотой принялся за мятую запеченную картошку. Она была еще теплой. Подумал, что у матери получается душистее и мягче. Переговаривались шепотом. — Посылочку утром достану. В подполье она. Картошкой завалена, — говорил, сверкая темными глазами, Галактион. Широкие рукава его рубахи скатились к локтям, открыв сильные жилистые руки. — Вон Матрена прятала. Не станут они при случае все подполье перерывать. С печки глядели на Тимошу пять круглых мордашек. Перехватив его взгляд, Галактион обернулся: — Цыц! Бесенята… Несмышленыши. Погодки, а старшему семь. — Ложились бы, Галактион, а то соседи свет увидят, — ласково сказала Матрена, — подумают, полуношничали. И так на тебя косовато смотрят. А дразнить не след. Матрена, статная, как и хозяин, быстро прибрала со стола. — Где спать будешь? Места у нас не ахти сколько. — С ребятами, на печке. И в это время на улице послышался топот, ржание коней. Хозяйка мигом задула жировик. Зашушукались и притихли на печи ребятишки. — Времечко… Живешь зверем в норе, не знаешь, когда твой час придет. Тимоша не ответил. Его мысли были заняты одним: приметили или не приметили всадники одинокий лыжный след, ведущий прямо к избе Галактиона. Хотя он и свернул с дороги и подошел к дому задами, до спуска-то он двигался прямо по дороге. С улицы донеслась беспорядочная стрельба, то ли от усердия, то ли просто шума ради. — Давай на чердак, — сказал Галактион, — авось пронесет. На ходу накинув полушубок, Тимоша выскочил в сени. Хозяин показал приставную лестницу. Тимоша ощупью взобрался на чердак. Увидел в темноте светлеющее пятно слухового окна. Спотыкаясь обо что-то, направился к нему. Но не успел дойти. Внизу во входную дверь загрохотали рукоятками нагаек, потом сапогами. Тимоша затаился. Галактион вышел не сразу, спросил сонным голосом: — Чего там? Из-за двери послышалась ругань. — Так бы и говорили, — мрачно пробасил Галактион. Заскрипел промерзший засов. Топоча, колчаковцы ввалились в сени, прошли в избу. Сквозь потолок глухо слышались их голоса. «Пронесло», — прерывисто вздохнув, подумал Тимоша. Теперь он ощутил, как мороз пробирался к телу и, поплотнее закутавшись в полушубок, присел, чтоб прикрыть зябнувшие колени. Он еще не остыл после бега на лыжах и теперь быстро озяб. «Ничего, не замерзну, — успокаивал он себя. — Хорошо, что пронесло. Не заметили колчаковцы лыжни. Протерплю до утра как-нибудь, А может, ночью улизну…» Внизу хлопнула дверь. Судя по топоту сапог, вышел колчаковец. Он ушел во двор, но очень скоро вернулся. В избе смолкли голоса. Потом отчаянно заверещали дети. Тимоша насторожился. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Дверь избы распахнулась и сразу несколько голосов заговорили громко, требовательно: — Давай показывай! Где твой гость? Эй, паря! Чего ему прятаться? Тащи его к свету! Затаив дыхание Тимоша слушал эти выкрики, стараясь сообразить, как же ему поступить. Он кинулся к светлому пятну слухового окна, но увидел, что у избы через улицу стоят кони и несколько колчаковцев, привлеченных шумом, смотрят в сторону Галактионова дома. — Пусть спускается! Избу запалим! «Пропал… — Тимоша сжал кулаки. Но это все, что он мог сделать. Оружия у него не было. — И чего я полез на чердак?.. В избе было бы не хуже. Все равно допрашивать стали». — Эй, паря, слезай! А то хуже будет! — кричали из сеней. Тимоша молчал. — В чем дело? — послышался властный голос. — Партизана нашли, господин ефрейтор! — Откуда ты знаешь, что партизан? — поинтересовался тот же голос. — А чего ему прятаться, коли не партизан? Партизан, господин ефрейтор! Вслушиваясь в голоса врагов, Тимоша ощущал, как томительно-тоскливо сжимается его сердце. Он понимал, что беда, которая пришла так негаданно, неотвратима и ужасна. Кто-то вынес в сени жировик, и теперь Тимоша видел, как по скатам крыши пляшут и мечутся уродливые страшные тени. Это жуткое зрелище отвлекло его даже на некоторое время от разговоров, которые продолжались внизу, в сенях. Может быть, потому, что уже было неважно, о чем там говорят, — все равно конец. Они ведь и спрашивать особо не станут: пришел ночью, да еще прячется, — значит, партизан. Эх, как получилось! «Отец! Почему же ты не разрешил мне взять наган? — в тоске подумал Тимоша. — Разве ты не знал, что может так полечиться? Но ты ответил мне: „В разведку никто не берет оружия…“ Так я не в разведку только пошел, а за гранатами, которые прислали из города… Догадаться бы мне взять хоть одну из подпола. Их Матрена в картошке спрятала… Я бы им устроил!» — У него там есть оружие? — спросил начальнический голос в сенях. — Откуда я знаю? — глухо ответил Галактион. — Зашел человек переночевать, а вас услышал, на чердак убежал. Что же, теперь и пустить никого нельзя? — Рассказывай! — приказал все тот же голос. — Поднимись на чердак и скажи, чтоб спускался. Не то всех твоих щенят передушим! Слышишь? И чтоб без фокусов. Тимоша живо представил себе пять мордашек, глядящих с печи. Потом он вдруг услышал их крик, испуганный, беззащитный, донесшийся до него сквозь потолок. Тогда солдаты, верно, стали бить Галактиона, пока не догадались, что скрыться в доме можно в подполье или на чердаке. Бот бы ему спрятаться в подполе! А что тогда было бы с семьей Галактиона? По последнему венцу стукнули жерди приставной лестницы. — Последний раз говорю — иди! Скажи, чтоб спускался. И без фокусов. Промерзшие перекладины заскрипели под тяжестью Галактиона. Его голова показалась под последним венцом неожиданно быстро. По крайней мере, так представилось Тимоше. Галактион тяжело дышал. Пар от его дыхания отливал радугой в свете жировика, горевшего внизу. Лица Галактиона не было видно, только темные очертания всклокоченных волос на голове. Внизу стояла тишина. Изредка слышался морозный скрип. Кто-то из колчаковцев переминался с ноги на ногу. Галактион проговорил глухо и хрипло: — Спускайся, паря… Мне не себя… Детей пожалей… Тимоша глотнул несколько раз: — Иду… И сошел вниз. Повизгивали промерзшие перекладины времянки под валенками Тимоши. Колчаковцы стояли, смотрели, как он спускается. Огонек жировика уродливо освещал их задранные вверх лица. «Может, ничего и не случится? — подумал Тимоша. — Напрасно я боялся…» — Он! — закричал вдруг один из колчаковцев. — Он! Он в Еремеевке орудовал! Колчаковец выхватил шашку из ножен, бросился к Тимоше, но его остановил взнузданный портупеей офицер: — Куда?! Без тебя разберемся. Успеешь развалить ему башку. — Он! — никак не хотел успокоиться колчаковец. — Попался, гаденыш! Офицер стал перед Тимошей и, покачиваясь с носков на пятки хрупающих на морозе сапог, спросил: — Правду он говорит? — Нет. Я из Медведевки. Переночевать зашел. — Ну, это мы проверим. И быстро. Пошли! Ты, Зацепин, с нами. Тимошу провели в другую избу. Там за столом сидел другой офицер, с тощим лицом и щегольскими закрученными усами, с погонами прапорщика. — Партизана нашли, господин прапорщик! — Здесь? Так далеко от Горелого! Странно. Сознался? — Никак нет. Вот Зацепин говорит, что видел его в Еремеевке. — А! Так вот пусть Зацепин его и спрашивает. «Откуда они знают о Горелом? Кто выдал? — Эта мысль словно обожгла сознание Тимоши. — Откуда им известно про Горелое? Что делать?» Ему приказали снять полушубок. Он выполнил распоряжение машинально, не задумываясь, что бы это могло значить. Мысль его была занята одним: как отвести от отряда угрозу неожиданного налета карателей. — Ну, будешь отвечать? — очень спокойно спросил поручик. — Имей в виду, у колчаковцев еще никто не молчал. Почему, зачем ты здесь? Кто послал? Но Тимоша молчал. «Что же они от меня хотят? — подумал он. — Они знают про Горелое урочище». Тимоша смотрел в пол перед собой и видел, как поручик кивнул и Зацепин, плюнув в кулак, подошел к нему. Сильный удар опрокинул Тимошу навзничь. Он стукнулся головой о стену, потерял на мгновение сознание, очнулся от боли в животе, скрючился. Но удары сыпались градом. Зацепин бил его ногами. Поручик снова задавал те же вопросы. Его голос доходил до Тимоши откуда-то издалека. Тимоше давали передохнуть, пить, брызгали в лицо и снова били. Поручик опять задавал свои вопросы. В один из таких перерывов Тимоша осознал, что колчаковцы хотят окончательно увериться в местонахождении отряда, что они сомневаются в правильности своих сведений. И, когда Зацепин, отерев пот и взбодрившись стопкой водки, вновь двинулся к нему, Тимоша, будто окончательно сломленный, заорал благим матом и на четвереньках отполз в дальний угол. — Не надо! Не надо! Скажу! Поручик махнул рукой, Зацепин отошел от Тимоши. — Вот видишь, дурак, и заговорил. Начал бы раньше — не пришлось бы солдату об тебя сапоги обивать. Ну! — Ушли они из Горелого… В Воронью падь перебрались. — Врешь! — Нет! Господин офицер, истинная правда. Как перед богом. А меня в Покровку послали, хлеба достать. — К кому? Тимоша помедлил только мгновение. Он знал, что в Покровке контрразведка захватила Оладьина, партизана, отпросившегося домой на похороны матери. Знали в отряде и о том, что Оладьина повесили. Может, у него и выбили колчаковцы признание, что отряд скрывается на заимке в Горелом урочище. — К Оладьину… — тихо, словно через силу проговорил Тимоша, едва шевеля разбитыми губами. — К кому? — привстал поручик. — К Оладьину. — Похоже, что не врешь. — Не вру, не вру, господин офицер! Как перед богом! — В карте разбираешься? Подойди сюда. — Не играю, господин офицер. Не обучился играть. — Прогнусавил Тимоша. «Так я тебе и покажу по карте. А ты меня — в расход», — злорадно подумал он. — Связать — и в подпол. Утром разберемся, — приказал поручик. Спутав веревкой руки и ноги, Тимошу, словно куль, бросили в подвал. Он больно, так, что не смог сдержать стона, ударился грудью и затих. Подполье закрыли, и Тимоша остался в темноте наедине со своими тяжелыми мыслями. Он думал о своей несчастной доле, о Галактионе, которого тоже не оставят в покое. Но на него Тимоша надеялся, как на каменную стену. Не выдаст. Мало что не выдаст, но, коли удастся выйти ему из рук колчаковцев живым, сделает все для предупреждения отряда о карателях, о его, Тимошиной, судьбе. Конечно, его партизаны спасти никак не смогут. Сколько он может таскать за собой по урману колчаковцев и дурачить их. Ну, сутки, двое. А потом?.. Потом — будь что будет. Однако он сделает все необходимое для спасения отряда. Проводником его колчаковцы возьмут. Пожалуй, во всей деревне только Галактион знает дорогу к заимке в Горелом урочище. Но Галактион не выдаст. Если колчаковцы проболтаются о Вороньей пади, Галактион поймет, на что решился Тимоша. Он поймет и все сообщит в отряд. Измученный и обессиленный, он заснул сразу, на середине какой-то мысли, будто потерял сознание. А может, так оно и было. Разбудили его пинком. Он застонал, открыл глаза. И хотя после сна он чувствовал себя значительно бодрое, но решил не подавать виду. Встал, охая и причитая. Вход в подпол находился на кухне. Поднявшись по лестнице, Тимоша услышал разговор двух, видимо офицеров. Один голос был знакомый — поручика, второй принадлежал кому-то неизвестному. Из услышанного Тимоша понял, что, как он и предполагал, в деревне никто не знал дороги к заимке в Горелом урочище, а от Галактиона колчаковцы ничего не добились. Тот стоял на одном: пустил переночевать, кого — не спрашивал, да и не заведено, а коли нельзя пускать, то он не станет. В окно Тимоша увидел, что небо хмурилось — к метели. Его привели в комнату за перегородкой. Там находились поручик и капитан, наверное командир карательного отряда. Поручик подозвал Тимошу к столу, на котором лежала карта, и снова стал спрашивать дорогу. Тимоша опять принялся уверять господина поручика, что в карты не играет, хоть и видел, как мужики это делают. — А про дорогу — так это просто. Доехать до Кузьмина ключа, свернуть в урман. Там прямо к Сорочьей пади, от нее от выворотня взять вправо и идти до вырубки. С вырубки податься левее до трех елей, а там опять правее, на Синюхино болото. Болото перейдешь — пихтач пойдет. Так туда ходить не надо, а опушкой до кедрача, а там… — Ты что! — перебил его поручик. — Издеваешься, гад? — Вы же про дорогу спрашиваете, — наивно проговорил Тимоша. — Вот я и рассказываю про дорогу. Как перед богом. — Проводником пойдешь. Но храни тебя бог, коли шутить задумаешь, — поручик повысил голос, — по кусочку отрубать от тебя стану. Проклянешь, что на свет родился. Понял? — Еще вчера понял, господин офицер, — смиренно ответил Тимоша. — Зацепин! Солдат вскочил в комнату и застыл у порога. — Вот что, Зацепин… Береги его в дороге пуще себя. Что случится — шкуру спущу! — Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Жизнь положу… Я его по Еремеевке… — Ладно. Бери. И чтоб здоров и бодр был… до времени. Тебе ясно? — Так точно, ваше благородие!.. Ну! — рыкнул Зацепин, метнув взгляд на Тимошу. Тот направился за своим палачом. Едва они вышли из комнаты, как Тимоша сказал: — Жрать хочу. — Шомполов бы тебе пару сотен. — Одного теперь поля ягоды. Жрать хочу. Краем глаза Тимоша видел, как Зацепин усмехнулся. — «Одного»!.. Ты — партизан и предатель, а я — солдат армии верховного правителя Сибири адмирала Колчака. На тебя веревки жалко. Жрать он хочет! Потерпишь. Сейчас дойдем. В доме, где квартировал Зацепин, Тимоше развязали руки, накормили. Зацепин сидел за столом напротив и глаз с него не спускал. Потом снова связал руки. Устроившись на лавке, Тимоша откинулся к стене и тупо смотрел на противоположную, где висела какая-то картинка. Для Тимоши все было решено. Оставалось ждать, когда наступит страшная минута его неминуемой казни. Зацепин сидел у стола и чистил карабин, мурлыкая себе под нос какую-то песню, нудную и протяжную. За перегородкой хозяйка ругалась с дочерью. Слова их доходили до сознания Тимоши с трудом. Он слышал их, не прислушиваясь: в доме стояла тишина. Распря между женщинами шла из-за того, что дочь повесила белье на мокрую веревку и та сломалась на морозе. Тимоша вздрогнул. Посмотрел на Зацепина. Тот чистил карабин и не обращал на разговор за стенкой никакого внимания. Тимоша даже веки прикрыл, чтобы не выдать своего волнения. «Как я раньше не догадался? Конечно — намочить веревку, которой связаны руки. Хорошо намочить. Веревка промерзнет. Я ее разломаю, как стеклянную! Как я раньше не догадался!» Сердце у него билось так сильно, что он опасался — услышит Зацепин, поймет. И не было никакой возможности укротить разбушевавшуюся в груди радость. Женщины за стенкой продолжали переругиваться. Теперь Тимоша боялся, что их громкий разговор дойдет до Зацепина. И еще Тимоша думал, где и когда ему удастся намочить веревку, спутавшую его руки. Поднявшись с лавки, Тимоша сказал: — Пить хочу. — А еще чего? — лениво отозвался Зацепин, протирая затвор. — Пить. Зацепин проводил его в сенцы, подал ковш. В избу они вернулись вместе. «Не вышло!» — со злостью подумал Тимоша. Потом начались сборы в дорогу. Зацепин двумя узлами закрепил на вязке, стянувшей запястья, длинную веревку. Тимоша оказался на привязи. Второй конец длинной веревки Зацепин прикрепил к ремню поверх шинели. Затем он попросил у хозяйки старые рукавицы и сам надел Тимоше на руки. — Знай мою доброту. Теперь Зацепин совсем не беспокоился, что Тимоша сбежит. Когда они выходили на улицу, Тимоша, сходя с крыльца, нарочно поскользнулся и сел в сугроб, набрав полные рукава снега. «Отморожу руки… — подумал он. — Зато веревку намочу!» Он старательно оттаивал снег в рукавах, пока не почувствовал, что веревка намокла. Но этого ему показалось мало. У саней, в которые их посадили, он снова угодил в сугроб. — Ты что? — Зацепин дернул веревку. — Не научился еще на привязи ходить, — ответил Тимоша. Теперь он уверен, что веревка намокла основательно. Он улегся боком в розвальни на сено, у самого передка. Рядом бросили его лыжи. В сани набилось много солдат, тоже с лыжами. Судя по тому, как они обращались с ними, очень немногие из карателей умели на них ходить. «Это хорошо, — подумал Тимоша. — Легче уйти будет». И всю дорогу, пока они добирались до Кузьмина ключа, Тимоша думал лишь об одном: хорошо ли намокли и достаточно ли промерзли его путы. Пока они добрались до места, где надо было вставать на лыжи и уходить в урман, пальцы на руках совсем закоченели. Тимоша едва шевелил ими. Но когда пробовал веревку на сгиб, она хрустела и не поддавалась. «Хорошо промерзла. Только не время ломать, — останавливал себя Тимоша. — Учуют, в чем дело, — плохо будет». С тех пор как Зацепин привязал длинный конец веревки к своему поясу, он окончательно успокоился и, пожалуй, меньше всего думал о том, что его пленник может попытаться бежать. Солдаты в санях молчали. Им не было никакого дела до Тимоши. Изредка они перебрасывались малозначительными фразами, курили да с некоторой опаской посматривали на темные стены заснеженного урмана, подступившего к самой дороге. Лошади трусили рысцой, то и дело сбиваясь на шаг. Их подстегивали. Комья снега скрипели на раскатах. Изредка передние розвальни, в которых находился Тпмоша, догоняли сани с поручиком, и тот нетерпеливо спрашивал: — Скоро? — Не беспокойтесь, ваше благородие, — отвечал Тимоша солидно и уверенно. — Чуточку осталось. Эта покорность Тимоши, которую поручик приписывал окончательной сломленности молодого партизана, его признанию безвыходности положения и готовности к предательству, успокаивала и самого офицера. Он думал уже о том, как они обложат заимку, как после неизбежной перестрелки пойдут в атаку и захватят партизан. — Приехали! — сказал Тпмоша. Четверо саней остановились на дороге. Они только что миновали овражек, именовавшийся Кузьминым ключом. Солдаты повыскакивали из розвальней и принялись усердно топать, чтобы согреться. Тимоша делал то же, демонстративно показывая, что привязь крепка и он не собирается даже проверять ее надежность. Офицер приказал ездовым прибыть на это место послезавтра в полдень. Потом они стали на лыжи и пошли по березовому редколесью влево от дороги. Тимоша двигался впереди. За ним, по-прежнему не отцепляя веревки от пояса, Зацепин. Поручик направился было третьим, но идти по плохо укатанной лыжне удовольствие маленькое, и он вскоре перебрался в центр вытянувшейся гуськом колонны из тридцати лыжников. Бить тропу да еще со связанными руками — дело очень трудное, и Тимоша сам удивился, откуда у него взялось столько сил и упорства. Руки окончательно закоченели, он едва ощущал пальцы. Вел отряд по вершинкам, где снегу было меньше, и, кстати, Тимоша сразу хотел приучить противника к тому, что двигались они между двух склонов. А в случае побега его дело выбирать любой, какой он сочтет удобнее. Тимоша едва сдерживал себя, чтоб не сломать оледеневшие хрупкие путы. «Рано… Рано… — твердил он себе. — Подстрелят, как куропатку. Дождись сумерек. Уже скоро…» Низкие тучи разошлись. Солнце блеклым пятном просвечивало сквозь высокие перистые облака. В рассеянном свете деревья почти не отбрасывали теней. Стволы берез на белом снегу выглядели желтыми, словно закопченными. А в низинах по обе стороны теснился ельник с обснеженными лапами и голый пихтач. Наконец солнце, раздавшееся и побуревшее, коснулось кромки дальнего леса. В низинах по обеим сторонам засинели плотные сумерки. Тогда Тимоша осторожно выбрал слабину веревки, с трудом намотав ее на рукавицу. Пальцы отказывались повиноваться. Но он заставил их сделать то, что надо. Потом он резким движением кистей сломал остекленевшие на морозе путы. Еще одним усилием переломил веревку, которая связывала его с Зацепиным. И вдруг броском кинулся вниз по крутому склону. В первые мгновения Тимоша сам не верил в освобождение. Даже для него этот бьющий в лицо ветер, шипение снега под лыжами казались будто полетом во сне. Он промчался почти до половины склона, когда позади послышались крики, выстрелы. Но Тимоша уловил их как бы краем уха. Все его внимание, все напряжение отнимали резкие крутые повороты меж стволов, объезды ловушек из кустарника. На едва приметном бугре его подбросило вверх, как на трамплине, и он чудом удержался на ногах при приземлении. Стрельба позади становилась все плотнее, но пули не долетали до Тимоши. «Палить не умеете, гады! — мельком подумал Тимоша. — Коли вниз бьете, надо намного выше брать…» Он оглянулся, лишь въехав в ельник, затерявшись меж стволов. Но ему хорошо был виден склон, лыжники, клубками катящиеся вниз. На ногах удерживался лишь один. Однако и он на половине склона упал, запутавшись в чем-то. Тогда Тимоша понял, что это его главный преследователь — Зацепин. А запутался он в веревке, которую не успел отвязать. Пули глухо били по стволам. Тимоша бросился бежать в глубину леса. Внезапно ожила боль в избитой груди. Заломило руки. «Это хорошо», — подумал Тимоша и, схватив горсть снега, на ходу стал изо всех сил растирать пальцы, спрятав рукавицы за пазуху. Он пробежал километра полтора, добрался до подъема, чтобы перевалить за гряду сопок, когда пуля, цвиркнув, ударила в ствол совсем рядом. Спрятавшись за ближайшую ель, Тимоша посмотрел назад. По его следу двигался лыжник. Тимоша понял, что это Зацепин. Других преследователей не было. Не раздумывая, Тимоша стал взбираться па склон, трезво рассудив, что на этом участке Зацепин выгадает мало. Это не то что двигаться по готовой Тимошиной лыжне. Едва перевалив через холм, Тимоша с ходу ударился грудью о перегородивший ему дорогу сук упавшего дерева и с треском обломил толстую сухую ветвь. Он чуть не потерял сознание от боли, но тотчас сообразил, что у него в руках оказалось оружие — увесистая дубина. «Ну погоди, Зацепин! — решил Тимоша. — Сейчас мы тебя встретим!» Он быстро спустился на несколько десятков метров вниз, потом резко свернул и снова поднялся к выворотню, спрятался за корневище, затаился. Вскоре на вершине холма послышался скрип снега и тяжелое дыхание преследователя. Его темная в сумерках фигура скользнула вниз, к выворотню, и, когда поравнялась с ним, Тимоша выскочил из засады и оглушил Зацепина. Тот повалился навзничь. Для верности Тимоша ударил его еще раз. Затем он быстро снял с Зацепина карабин, выгреб запасные обоймы. Чертыхаясь, отцепил едва послушными руками шашку. — Теперь попробуйте поймайте! — проговорил Тимофей вслух и, став на лыжи, понесся вниз по склону. Он шел на лыжах всю ночь. Метель, которую он ждал, поднялась только к утру. В белой кромешной мгле Тимоша едва отыскал заимку. Он уже не боялся преследования. Колчаковцы разве что чудом могли наткнуться на засыпанную снегом избушку. Тимоше с трудом удалось справиться с сбмороженными руками. Полдня он выл и катался от боли, пока отходили пальцы. С тех пор они стали очень чувствительны к холоду. Переждав метель, Тимоша прямиком отправился в Горелое урочище. Он успел предупредить, что каратели напали на след. Партизаны встретили колчаковцев на подходах и разбили отряд. Потом стало известно, что в отместку за Тимошин побег каратели, вернувшись несолоно хлебавши, сожгли полдеревни, начав с дома Галактиона. Пытались найти его самого и семью, но они уже ушли в урман и вскоре появились в Горелом урочище, доставив туда в целости и сохранности полсотни гранат. Впрочем, не только Галактион оказался в отряде. Пришли туда и другие погорельцы. И стали партизанами.Михаил Тихонович Емцев, Еремей Парнов СФЕРА ШВАРЦШИЛЬДА
«Я знаю, что ничего не знаю, — сказал древнегреческий мудрец ученику и очертил маленький круг. — Вот твое знание. Оно невелико, но и невелики границы этого круга с неведомым. А вот что знаю я, — и он очертил большой круг, — но и границы с океаном незнания здесь больше. Наше знание о мире ширится, но вместе с тем мы все яснее понимаем, как мало наше знание». Учитель геометрии — наш современник — сказал, что круг представляет собой проекцию сферы па плоскость, а прямая, с точки зрения геометрии Лобачевского, может рассматриваться как отрезок окружности, центр которой лежит в бесконечности. Лучше было бы ему сказать «окружности с бесконечным радиусом». Это уж очень абстрактно, когда центр удаляют в бесконечность. Центр там, где находится в данную минуту человек. Мы привыкли мыслить, что человек всегда находится в центре. А вот радиус может уходить в бесконечность. Мы будем мысленно следить, как это происходит, из своего центра.…Первые сведения о том, что на Анизателле не все благополучно, дала астрофизическая обсерватория Джорделл-Бэнк. Анизателла — единственная планета в системе двойной звезды, расположенной в созвездии Цефея и обозначаемой символом VV. Последние семьдесят лет планета считается обитаемой, хотя число колонистов на ней даже в первые бурные десятилетия не превышало двухсот человек. Один раз в шесть лет этот далекий форпост Земли посещает грузовой астролет класса В-8. Постоянная же связь поддерживается лишь по каналу космического интервидения. Шесть минут ускоренной передачи через каждые три часа земного времени. Вот и все. 27 сентября в 19 часов 37 минут по Гринвичу очередной сигнал с Анизателлы не поступил. Он пришел лишь в 23 часа 21 минуту, то есть с опозданием почти на четыре часа. В полученной информации ничего не сообщалось о причинах такого опоздания. Следующий сигнал опоздал уже на трое суток. И вновь Анизателла хранила молчание по поводу странного нарушения режима связи. Крупнейшие обсерватории Земли направили сбои телескопы на Цефей. Почти одновременно Бюрокан, Джорделл-Бэнк, Серпухов и Маунт-Поломар обнаружили незначительное отклонение световых лучей в системе VV. Оптическая аномалия увеличивалась от наблюдения к наблюдению. А сигналов с Анизателлы все не было. Передача возобновилась лишь через три с половиной месяца, когда этого никто уже не ждал. И вновь — это было просто поразительно — текст поступил самый обычный. Словно на Анизателле не знали, что временные интервалы между очередными передачами все более и более растягивались. Предположение, что сигналы могли пропасть в пути, рассеялось само собой, поскольку нумерация передач была непрерывной. Оптический сдвиг между тем все увеличивался. К маю следующего года он достиг величины, не предусмотренной общей теорией относительности даже для нейтронных и гиперонных звезд. Потом, с опозданием на два года семь месяцев и четырнадцать дней, была поймана еще одна передача. И вновь ее нумерация и характер текста ясно свидетельствовали, что на Анизателле ничего на знают о таком катастрофическом запаздывании. А еще месяц спустя все обсерватории мира сообщили, что расположенная в созвездии Цефея двойная звезда VV потухла. С этого момента передачи с Анизателлы окончательно прекратились. Такова краткая предыстория «величайшей загадки века» или «тайны Анизателлы», как писалось тогда в газетах. Оптический феномен VV и запаздывание сигналов во времени позволили ученым выдвинуть гипотезу, получившую название гравитационной ловушки. Согласно этой гипотезе гравитационное поле одной из звезд VV по неизвестным причинам резко возросло. В соответствии с принципами общей теории относительности время в этом случае должно замедляться. Увеличение тяготения и связанное с ним замедление времени и явились причиной растягивания интервалов между двумя очередными сообщениями. Естественно, на Анизателле не могли знать, что с точки зрения земного наблюдателя эти интервалы стали увеличиваться. Анизателла исправно выходила на связь каждые три часа земного времени, не подозревая, что для Земли эти три часа постепенно превращаются в сутки, месяцы, годы. Когда же тяготение достигло критического порога, отвечающего радиусу так называемой сферы Шварцшильда, пространство вокруг тяготеющей массы свернулось. С этого момента излучение VV оказалось запертым в сферу. Фотоны мчались по круговым орбитам и не могли достигнуть Земли, для которой время на Анизателле в этот момент остановилось. Но никто не знал, почему и как это произошло.
* * *
Оно не исчезло за ночь. Валька осторожно приблизил к нему мизинец и тут же отдернул. В первых лучах голубого солнца оно заиграло чистым сапфировым блеском. Оно казалось прозрачным и эфемерным, но какая страшная мощь скрывалась за этой эфемерностью! …Валька наткнулся на него вчера. Сгущались оранжевые сумерки. Голубое солнце закатилось за горизонт. От красной звезды остался лишь тоненький сегмент, тихо тонущий в водах Мариба. С нежным шмелиным жужжанием бур входил в плотные пласты монтмориллонита. На четвертом метре Валька почувствовал, что коронка встретила непреодолимое препятствие. Валька всей своей тяжестью повис на ручках, но бур не продвинулся ни на микрон. Конечно, так делать не полагалось — коронка могла полететь, — но он все-таки еще раз навалился на ручки. Мотор надсадно взвыл и замолк. Сработал блок защиты. Бур встретил непреодолимое препятствие. Валька ослабил нажим и тотчас же заработал двигатель. С сожалением Валька включил реверс и вытащил бур на поверхность; осмотрев коронку, заглубил бур рядом со злополучной скважиной. Минут через десять бур достиг роковой глубины и без видимого усилия пошел дальше. Это становилось интересным. Он вновь вытащил бур и заложил еще одну скважину. Вскоре выяснилось, что лишь в одном месте, на глубине 314 сантиметров, бур упирается в какой-то сверхплотный предмет. Осторожно опустил в скважину гибкий зонд с источником бета-активности. Когда зонд достиг препятствия, Валька взглянул на гальванометр. Стрелка замерла на нуле. — Вот это да! — Он даже присел от неожиданности. Если верить прибору, то выходило, что таинственное препятствие не только полностью отражает поток электронов, но и не дает им рассеиваться. «Может, оно вообще не допускает к себе электроны, как это было с буром?» Валька недоуменно почесал затылок, потом вытащил зонд и отнес его к танку. Покопавшись в ящике, достал инфрафотометр и вернулся к скважине. Когда он сунул в нее дуло прибора и включил ток, экран даже не вспыхнул. Он перенес прибор в соседнюю скважину. Там вес было нормально. Температура горных пород колебалась в пределах нормы. И только в проклятой скважине лежало Нечто, в котором отсутствовало всякое тепловое движение. Валька растерялся. Он не смел даже подумать, что так вот, буднично и странно, пришло неожиданное. Ему было двадцать два года, и десять из них прошли в ожидании такой встречи. По крайней мере так ему казалось. Конечно, если внимательней присмотреться к его жизни, то со всей очевидностью выяснится, что Валька не только мечтал. За эти десять лет он успел закончить школу третьей ступени, написать дипломную работу по курсу астрогеофизики, четыре раза влюбиться, впрочем, без ярко выраженной взаимности, и попасть в состав четырнадцатой экспедиции на Анизателлу. Конечно, все эти достаточно знаменательные события оставляли какое-то время для досуга, и Валька действительно мог помечтать. Но… мечты его были расплывчаты и противоречивы. Часто, даже слишком часто, он воображал себя знаменитым, но каждый раз по-разному. То он был великим писателем или скульптором, то астрофизиком, сумевшим мыслью своей обогнать скорость света… Впрочем, все это его сугубо личное дело. Важно, что теперь он почувствовал какой-то нервный укол. Еще не веря, еще боясь разочароваться, бегом бросился назад к танку. Легко коснувшись рукой отполированной скобы, исчез в темном провале люка. Запустил двигатель и на самой малой скорости подвел машину к скважине. Осторожно выжав на себя рычаг, он опустил на грунт спиральный нож, который с визгом начал срезать тонкие зеленовато-бурые пласты. Потом включил пневматику, и подхваченные вихрем частицы грунта понеслись от скважины прочь. Нож вращался на максимальной скорости и через десять минут достиг метровой глубины. Вокруг танка уже образовался ровненький вывал. Валька сгорал от нетерпения. Он готов был руками помогать вращению вала. Нож прошел уже два с половиной метра. Валька слегка уменьшил скорость и величину подачи. Пронзительный вой стал чуть-чуть ниже и глуше. Когда режущая кромка достигла трехметровой глубины, Валька включил автомат и перевел ограничитель вправо до отметки 313. Через две минуты нож остановился, и наступила относительная тишина. Он выключил пневматику. Стало совсем тихо. Подождав, пока уляжется пыль, он вылез из люка, перешагнул через вывал иостановился у самого обрыва. Образовавшийся котлован походил на десятиметровую пиалу. Гладкие стены скупо поблескивали слюдяными включениями. И тут только Валька сообразил, что, вырыв котлован, потерял место, где находилась проклятая скважина. Он возвратился к танку и достал маленькую лопатку. Привязав к скобе нитроновый канат, легко спустился в котлован. Копнув несколько раз вокруг центра котлована, он наткнулся на загадочный предмет. С ожесточением стал копать вокруг. Вырыв кольцевую ямку полуметровой глубины, начал сужать круг, пока наконец не образовалась вертикальная колонка. Потом попытался подкопать колонку снизу; это ему удалось. Он опешил от удивления, когда обнаружил, что комок грунта величиной с большое яблоко неподвижно висит в воздухе, не касаясь дна ямки. Он попытался взять комок в руки. Это оказалось довольно легко. Но сдвинуть комок в какую-либо сторону, поднять его вверх или опустить вниз не было никакой возможности. Схватил лопатку и изо всех сил обрушил ее на комок. Грунт распался и осыпался вниз. Перед ним темно-кровавым огнем сверкал висящий над землей рубин. Валька достал нож и попытался провести борозду на отполированной до зеркального блеска поверхности рубина. Когда до загадочного, величиной с куриное яйцо предмета оставалось каких-нибудь полтора миллиметра, нож остановился, и Валька понял, что никакими силами не сможет приблизить его еще. Он вынул из кармана платок и обернул им рубин. Но, когда он завязал концы узлом и потянул их к себе, платок затрещал. Пришлось развязать его. Красное солнце зашло совсем. Рубин потемнел. В котловане сгустился мрак. Валька зажег фонарь и с удивлением обнаружил, что рубин превратился в… электрическую лампочку. Он горел таким же ярким и ровным светом, как и фонарь. Точно в котловане было два источника света. Валька выключил фонарь, и рубин погас. Вновь зажег свет, и опять в котловане появилась еще одна лампочка. Валька достал лучевой пистолет и навел его на яйцо. Почему он назвал непонятный предмет яйцом, Валька вряд ли мог бы ответить. Просто ему показалось, что этот светящийся камень похож на яйцо, хотя он скорее был близок к шару. Под лучом маленького лазера алмаз испарился бы за долю секунды. Но светящееся яйцо совершенно не изменилось. Расплавился только лучевой пистолет. Яйцо полностью отразило направленный луч. Валька отбросил накаленный лазер в сторону и задумался. «Вот это да! Абсолютный отражатель! Эх, если бы его пустить на зеркало для фотонных ракет!» Потом он подумал, что мог стать невольной жертвой глупого эксперимента. «Если бы яйцо не отразило тепловой луч с такой изумительной точностью… С этой штукой нельзя шутить». Конечно, можно было бы посоветоваться с ребятами, но он решил пока сохранять тайну. Выкарабкавшись из котлована, залез в танк с твердым намерением вернуться сюда завтра утром. Ночь превратилась в бесконечный кошмар. Валька долго ворочался, ему было жарко и неудобно. Порой он проваливался в кромешную тьму, где вспыхивали оранжевые полосы, плавились голубым и зеленым огнем какие-то кратеры, сияли и кружились огромные, ускользавшие из рук шары. Едва только первые голубые лучи брызнули из-за дальних кряжей, он был на ногах. Стараясь не разбудить Коханова, сгреб одежду в охапку и на цыпочках выскользнул за дверь. Одевался уже на улице. Влажные ноздреватые листья камнепожирателей еще хранили прохладу ночи. Но утро дрожало в каждой росинке. Воздух дышал высокогорной чистотой, какой никогда не бывает на Земле. За десять месяцев работы на Анизателле Валька привык к чудесам. Он уже не замечал ни поразительных световых контрастов, создаваемых двумя солнцами, ни чудесных камнепожирателей, которые создали «земную» атмосферу на этой еще недавно безжизненной планете. Но в то утро он забыл обо всем на свете. Думал только о чудесном яйце. Сдерживая нетерпение, на самых малых оборотах, чтобы не шуметь, вывел свой танк из гаража. Но сразу же за плантацией включил высшую скорость. Машина, повинуясь составленной программе, помчалась к точке Р8 кордона 277, где находился Валькин участок. На полном ходу танк въехал в Мариб. Распоров озерную гладь и подняв к небу два голубых фонтана, он поплыл к невидимому в тумане берегу. Машину вел автомат. Вальке оставалось лишь скрежетать зубами от нетерпения. Ему почему-то казалось, что никакого яйца нет, что все это только кошмарный сон. Голова слегка побаливала от бессонницы, и жизнь представлялась в мрачном свете. «Что, если действительно оно исчезло? — думал он, полулежа в кресле. — Как объяснить тогда поломку лазера? Ведь никто не поверит… Да к тому же и работа подвигается плохо. Значит, будет нагоняй или, еще хуже, отправят на Землю… Зачем я им здесь такой нужен?» Роняя на песок капли мутной от глины воды, танк вскарабкался на террасу, лихо развернулся на одной гусенице и помчался по дороге, прямой и широкой, как Невский проспект. В оба иллюминатора можно было видеть темно-синие листья камнепожирателей. Точно стена, они ограждали розовые плантации и рощи авокадо. Пролетев через овраг, танк спугнул хорошенькую белую кошку, которая, задрав вверх заднюю лапу, вылизывала пушистый хвост. Кошки на Анизателле были травоядными и жрали авокадо. Когда древний инстинкт брал свое, они осаждали столовую и, жалобно мяукая, выпрашивали мясные консервы. Валька не обратил на кошку никакого внимания. А ведь еще вчера он обязательно остановил бы машину, поймал зверька и начал бы докучать ему стандартными ласками — щекотать горлышко и чесать за ушами. Танк остановился у самого края котлована. Еще не замолк шум двигателя, а Валька уже спускался на дно. Нет, яйцо не исчезло за ночь!* * *
В котловане построили небольшую, но прекрасно оснащенную современным оборудованием лабораторию. Квантовый генератор связи был уже готов для отправки на Землю текста научного сообщения Валентина Лаврова, скромно озаглавленного «Некоторые оптические особенности тела с абсолютной отражательной способностью». Валька готовил еще одну статью — «К вопросу об ударе о реальное абсолютно твердое тело». Коханов и Гларская написали работу «Об исчезновении импульса на псевдоповерхности абсолютно неосциллирующего объема». Но яйцо по-прежнему оставалось лишь абсолютно загадочным. Оно противоречило всем физическим законам сохранения. Оно вообще, если верить теории, не имело права на существование. И вместе с тем оно существовало. Оно висело над лабораторным столом и сверкало разноцветным блеском, в зависимости от освещения. Научный руководитель лаборатории на Анизателле Грот собирался поставить новое исследование. Оно мыслилось ему приблизительно так: «Термодинамические особенности теплообмена с абсолютным излучателем». Хотя порой ему казалось, что будущую работу следовало бы озаглавить так: «К вопросу несохранения второго закона термодинамики. Сообщение первое. Энтропийный парадокс». Охотничий азарт охватил весь небольшой и довольно дружный коллектив Анизателлы. Здесь меньше всего было тщеславия или других столь же низменных побудительных причин. Просто люди, в основном молодые, усвоившие в институте, что природа изучена уже в такой степени, что неожиданности вряд ли возможны, вдруг лицом к лицу столкнулись с такой неожиданностью. Сначала они растерялись. Кое у кого шевельнулась подсознательная мысль, что лучше бы этого яйца не было вовсе. Раз факт нельзя объяснить, не лучше ли сделать вид, что его вообще нет? Впрочем, если такая мысль и шевельнулась, то ее сейчас же прогнали куда-то в черную нору подсознания. Труднее было расправиться с привычной мыслью, что все главное и фундаментальное давным-давно открыто. Откуда появилась такая мысль, сказать довольно трудно. В институтах меньше всего стремились к тому, чтобы воспитать самоуверенных и ни в чем не сомневающихся специалистов. Но насыщенные до предела учебные программы должны были в короткие сроки донести до студентов хотя бы самые общие истины, и история науки постепенно превратилась в хронологию фактов, а не в историю борьбы идей. Вот и получилось, что люди покидали институтскую скамью с сознанием: что все самое главное и интересное открыто уже до них. Правда, поработав год — два в научном коллективе, они постепенно начинали убеждаться, что дело обстоит совсем не так, как это им казалось, и в любой узкой специальности предостаточно «белых пятен». И вот теперь молодой коллектив Анизателлы увидел настоящий белый материк. Все положительные и фундаментальные истины, все абсолютные и непогрешимые законы, как жалкие стекляшки, разбились вдруг о берега этого материка. И молодые исследователи растерялись. Лихорадочно и торопливо они бросились изучать отдельные частности, исследовать внешние, лежащие на поверхности, свойства. И ни у кого не было ни времени, ни достаточного опыта, чтобы попытаться осмыслить явление. Волна экспериментаторства захлестнула робкие ростки гипотезы. Первым это понял Грот. Он отложил в сторону лабораторный журнал и вышел из кабинета. По длинному, облицованному кремовым пластиком коридору он прошел в лабораторию. Тяжелая дверь отворилась бесшумно, и никто не заметил, как он вошел. Валька и Коханов осторожно подтаскивали к висящему яйцу большую машину для испытания на прочность. Яйцо оказалось как раз между пластинами. — Ну, кажется, можно пускать? — спросил Валька. — Давай! — махнул рукой Коханов. Валька нажал кнопку пуска, и пластины начали медленно сближаться. Коханов прильнул к окуляру, медленно наводя на фокус. — Ну, что там у тебя? — спросил он Вальку. — Заело? — Почему заело? Уже триста килограммов на квадратный сантиметр. — Не может быть! Оно все еще висит, не касаясь пластины. Зазоры тысяча триста сорок микрон. — Так оно и останется! Ближе все равно не будет. — Давай, давай! Нагружай еще, — махнул рукой Коханов. Валька вновь взялся за ручку лимба. — Сколько? — спросил Коханов. — Восемьсот. — А теперь? — Тысяча сто. — Давай быстрей! Коханов не отрывал глаза от окуляра. Валька спокойно и даже как-то равнодушно увеличивал нагрузку. — Ну? — спросил через некоторое время Коханов. — Три двести, — ответил Валька. — А теперь? — Пять девятьсот. — Давай еще быстрей! Но в этот момент раздался треск, и стрелка манометра со звоном ударилась об ограничитель нулевого деления. — Амба, — сказал Валька, вытирая лоб. — Кранты, — подтвердил Коханов. «И откуда только у них этот древний жаргон?» — подумал Грот и подошел к машине. — Зачем вы затеяли этот эксперимент? — спросил он строго. — Или с самого начала вам не было ясно, что ничего не получится? Валька промолчал, а Коханов промычал что-то весьма неопределенное. — Неужели его ничем не возьмешь? А, Савелий Осипович? — спросил Валька. Грот хмыкнул и пожал плечами. Он забыл уже те благие намерения, с которыми пришел сюда, в лабораторию. «Может быть, оно волны такие испускает, которые на психику действуют?» — подумал Грот. Но это был последний акт самоконтроля с его стороны. Ему во что бы то ни стало захотелось хоть как-нибудь воздействовать на проклятое яйцо. И почти неожиданно для самого себя он сказал: — А что, если попробовать экранировать его от полей? — Прекрасная идея! — немедленно восхитился Коханов. — Ни черта не выйдет, — минуту спустя отозвался Валька. — Почему? — повернулся к нему Грот. — Квант электромагнитного поля фотон, а фотоны оно отражает. Я же еще тогда пробовал… — Вероятно, вы правы, Валя, — сказал Грот, кивая головой, — но, может быть, оно отражает не все фотоны? Ведь вы пробовали лишь в узком диапазоне видимого света. — Не только видимого. Я и инфракрасные лучи пробовал. — Да, да, помню… Когда измеряли температуру скважин. Вы мне рассказывали. Валька молча кивнул головой. Коханов сосредоточенно думал, как развить идею шефа. Он хотел показать, что в его лице Грот обрел если и не очень талантливого, то, во всяком случае, преданного ученика. — А если взять жесткое рентгеновское излучение? — сказал Коханов и подвинул Гроту кресло. Грот кивком поблагодарил его и сел. — Над этим я уже думал, Олег. Но так ничего и не решил. Рискованное это дело, ребята. Кто его знает, что это за штука. Как бы не было беды… — Да, да, конечно, — как эхо, отозвался Коханов и понимающе вздохнул. — А почему, собственно, рискованная? — спросил Валька. — Что может произойти? — Да мало ли… — сказал Коханов. — Ты же сам не можешь заранее сказать что! Ни ты, ни я — никто не может. — Ну и прекрасно! — Валька взмахнул руками. — Давайте тогда попробуем, вот и станет все ясно. Валька взглянул на Грота. Шеф молчал. Тогда Валька решил обратиться непосредственно к нему: — Савелий Осипович, чего нам бояться? Либо поток лучей отразится назад, либо проникнет в вещество. Какие еще могут быть последствия? — Вот меня и волнует, что будет в том случае, если гамма-лучи проникнут в яйцо. Вы можете мне сказать, что будет? Коханов покачал головой. — Да ничего не будет! — Валька рубанул воздух ладонью. — Измерим энергию лучей на выходе и хоть приблизительно сможем судить о структуре яйца. Больше ничего не будет! — Как знать, — вздохнул Грот. Валька разгорячился, увлекся и перестал следить за своими словами. — Да что это вы все опасаетесь?! — возмущенно закричал он. — Кто мы, ученые или перестраховщики? Грот внимательно посмотрел на Вальку и ничего не сказал. Коханов воспринял это молчание как сигнал. — Да как ты смеешь так говорить? — подскочил он к Вальке, возмущенно насупив брови. — Знаешь ли ты, что Савелий Осипович… Но Грот остановил его движением руки. Он поморщился, как от зубной боли. — Успокойтесь, Олег. Валентин Алексеевич отчасти прав. Наука не может двигаться вперед без риска. Другое дело, что этот риск не должен быть слепым. Но мы еще вернемся к этой теме. Вы мне напомните как-нибудь на досуге, и я расскажу вам одну историю… Но обратимся к теме нашего разговора. Я хочу предостеречь, Валя, от безрассудства. Даже — я не боюсь употребить это слово — от авантюризма. Грот поднялся с кресла и, подойдя к Вальке, положил ему на плечо свою огромную, тяжелую руку. Валька едва доставал головой до ключицы шефа, и вместе они представляли собой довольно комичное зрелище. — Видите ли, Валя, — с легкой тенью усмешки сказал Грот, — возможно, с годами я и стал перестраховщиком и даже консерватором. Это естественный процесс. Такой же естественный, как ваш безрассудный авантюризм, который с течением времени, я надеюсь, исчезнет… Так вот, обе эти крайности весьма опасны. Настоящий ученый находится где-то между мною и вами. Поэтому не будем ссориться и постараемся сублимировать обе наши крайности в нечто полезное. Согласны? Валька хотел кивнуть головой, но овладевший им бес сказал Валькиным голосом: — Выходит, что настоящий ученый нечто вроде манной каши пополам с малиновым вареньем: наполовину консерватор, наполовину авантюрист? Грот, напротив, был сегодня ангельски сдержан и терпелив. Он даже улыбнулся: — Кроме суммы арифметической, мой друг, есть еще и сумма диалектическая — некое новое качество, возникшее на базе единства двух противоположных свойств. Коханову было непонятно долготерпение шефа. Он бы давно поставил возомнившего о себе щенка на место. — Боюсь, Савелий Осипович, что для Вали это очень сложно. Ему нужно растолковать диалектику на уровне манной каши. Иначе не поймет. Грот с интересом, так, по крайней мере, показалось самому Олегу, взглянул на Коханова, но ничего не сказал. В лаборатории наступила тягостная тишина непонимания и какой-то скрытой вражды. «До чего же все получилось не так, как надо!» — с досадой подумал Грот и громко сказал: — Ну что, продолжим наши игры? Эти слова прозвучали настолько фальшиво, что Грот поморщился и махнул рукой. — Вспомните ваш опыт с лазером, Валентин Алексеевич, и представьте себе на секунду, что яйцо усилит отраженный луч гамма-частиц. Вот вам одна из сотен мыслимых возможностей. Так что давайте попробуем экранировку и, пожалуй, низкие температуры. Валька хотел возразить, но Грот жестом руки остановил его: — Облучение рентгеном или гамма-лучами я запрещаю. Это все! Продолжайте работать. Грот открыл дверь и вышел из лаборатории. Воцарилась тишина. «И почему я с ним сцепился? — подумал Валька. — Идея жесткого облучения пришла ему самому, высказал ее Коханов. Потом роли переменились — я вдруг стал горячим поборником эксперимента, а Грот его запретил. Типичный парадокс. Так сказать, идейная перезарядка. Живой пример диалектики, которую я могу понять лишь на уровне манной каши. До чего же все нехорошо получилось! И глупо». Валька покосился на Коханова. — Чего смотришь? — спросил Олег. — Так, ничего. — Ну, будем трудиться. Я уже придумал… Сначала мы оденем яйцо в проволочную сетку и заземлим. Потом подведем под него дьюар с жидким гелием и магнит в миллион эрстед. После этого… — Знаешь что? — прервал его Валька. — Все это ерунда! Делай сам, если хочешь. А я пойду… Валька старался как можно меньше бывать в лаборатории. Получив новую точку в Южном секторе, пропадал там целые дни. К великому удивлению всех немногочисленных обитателей Анизателлы, он сделался неутомимым тружеником. Если раньше он работал с ленцой, поминутно отвлекаясь, и разбрасывался на всякие пустяки, то теперь по количеству исследованных скважин шел далеко впереди всех. Никто не понимал причины такой внезапной перемены. Сам Валька тоже едва ли смог бы внятно объяснить, что с ним происходит. Порой ему казалось, что его обидели, даже оттерли от работы над яйцом. Но в глубине души он сознавал, что это не так. Поведение его было реакцией на бесплодный эмпиризм. Основная причина была только в этом. Другое дело, что сюда примешивались и такие сложные и неясные чувства, как юношеская несдержанность, неумение ждать и чрезмерная чувствительность. Если раньше Валька преклонялся перед Гротом, видел в нем кумира, то теперь он поспешил этого кумира низвергнуть. Грот не был великим ученым, как это казалось Вальке раньше, но также неправильно было бы считать его трусом и шляпой, как это стал делать Валька теперь. Одним словом, из одной крайности он шарахнулся в другую. И чем дольше продолжались бесплодные эксперименты, тем больше он заблуждался. Он уже забыл, что идея жесткого просвечивания была выдвинута не им. Поверив в нее, он сам для себя предстал в новом свете непризнанного и отвергнутого гения. Конечно, он не настолько потерял под ногами почву, чтобы надеяться, что Грот, отчаявшись, обратится к нему за помощью. Но ему было приятно с горькой и мудрой усмешкой на устах пройти мимо лаборатории, где в поте лица трудились Грот, Коханов и Лена Гларская. Впрочем, было и еще одно обстоятельство, которое заставляло его неустанно бурить грунт Анизателлы. Он надеялся найти еще одно яйцо. «Кто сказал, что оно единственное? — так или приблизительно так думал он. — Вполне логично предположить, что в недрах планеты скрыты десятки, а может быть, и сотни таких яиц. Более того, они могут неподвижно висеть где-нибудь в атмосфере или скрываться в водах Мариба. Если бы удалось найти хоть еще одно, я бы один поставил опыт. Я бы доказал им…» И он закладывал скважину за скважиной. Он наткнулся на урановую смолку, обнаружил уникальное месторождение лан-тоноидов, открыл новый минерал анизателлий, но ничего подобного яйцу не нашел. Грот догадывался о том, что происходит с Валькой, и не мог поэтому радоваться его успехам. Кроме того, Гроту было неприятно, что Валька отстранился от исследований в лаборатории. Эксперименты с яйцом были делом сугубо добровольным, а с основной работой Валька справлялся отлично. Поэтому Грот, вопреки своим чувствам, вынужден был отдавать ему должное, хвалить его. Грот понимал, что под внешним покровом благополучия кроются разлад и неудовлетворенность. Он решил обязательно вернуть Вальку в лабораторию, чего бы это ему ни стоило. Тем более, что без Валькиной горячности и смеха там стало очень скучно. Грот надумал поехать в Южный сектор. Танк тихо покачивался на волнах. Грот остановил машину, поднял колпак, глубоко, с наслаждением вздохнул и огляделся. Линия горизонта едва виднелась. Небо казалось таким же нежно-синим, как и вода. Красное солнце было еще не ярким и туманным. Впервые за десять месяцев Грот увидел картину, которая почти ничем не отличалась от земной. Он вспомнил Алушту. Базальтовые камни и тонущее в синем вечернем сумраке солнце. Ему даже показалось, что вот-вот здесь, на Марибе, появятся дельфины. Разогнавшись, они оборвут вдруг тянущуюся за ними ртутную цепочку пузырьков и взлетят в воздух. Один за другим, как аккорды бравурного марша. Вверх и тяжело, гулко вниз, вздымая фонтаны белых брызг. Вверх и вниз. Но воды Мариба были мертвы. Ни дельфинов, ни рыб, ни водорослей — как в бассейне для плавания. Грот загрустил. Потом вспомнил, что скоро прибудет транспорт с Земли. Хромов обещал ему двести килограммов оплодотворенной осетровой икры, тысячу литров циклопа и два тюка спор элодеи. На первое обзаведение. Привычные заботы отвлекли от дум о Земле. Он не был одинок здесь, но это не мешало ему тосковать. Иногда он думал, что скучает по Земле даже больше, чем другие. «Наверное, оттого, что меня никто не ждет». Он еще раз глубоко и жадно вдохнул влажный воздух и скрылся в люке. Танк тотчас же поплыл дальше. Грот вызвал Вальку по радио: — Алло, Валя! Алло, Валя! Отвечайте, где вы! — На месте, Савелий Осипович. Южный сектор, второй карьер, точка М7. Как всегда… — Хорошо. Я уже запеленговал. Скоро буду, — сказал Грот и выключил автомат. Танк пошел по пеленгу. Грот откинулся в кресле и задремал. Он проснулся как раз вовремя, когда машина остановилась рядом с триангуляционной вышкой М7. Валька шел, чтобы встретить шефа. В одной руке он держал бутылку молока, в другой — кусок булки. — Что, обедаешь? — спросил Грот, разглаживая мешки под глазами. Валька ничего не ответил. Он кусал булку, запрокинув голову, делал глоток из бутылки и ждал, когда шеф объяснит ему причину внезапного приезда. «Что, я не могу приехать так вот, ни с того ни с сего?» — раздраженно подумал Грот, поняв, что Валька ждет объяснений. Не зная, что сказать, Грот мучительно переживал молчание. Он понимал, что оно может испортить сегодняшнюю попытку договориться с Валькой. Но несомненно было и другое. Ни в коем случае нельзя было говорить, что он приехал сюда для Валькиной пользы. Это прозвучало бы фальшиво и только укрепило бы в юноше чувство вражды и недоверия. Грот глядел на равнодушное лицо Вальки. А Валька в душе радовался приезду шефа и с замиранием сердца ждал, когда тот начнет говорить. Он не надеялся, что шеф передумал и решил провести эксперимент. Мысли его были довольно расплывчаты, он просто чувствовал, что этот приезд положит конец двусмысленности и неблагополучию их отношении. — Вы знаете, зачем я приехал, Валя? — спросил Грот и, не дожидаясь ответа на свой вопрос, неожиданно сказал: — Я хочу взять вас с собой, если это, конечно, не нарушит ваших планов. Мне хочется, чтобы вы поработали несколько дней в лабораторий. Мы без вас соскучились. Валька покраснел от удовольствия. Он уже вновь свято и беспредельно верил в шефа, почти боготворил его. Но в то же время он понял, что смог бы теперь настоять на эксперименте. Если он поедет сейчас с Гротом, то тому ничего не останется, как пойти в этом Вальке навстречу. Грот с присущей ему проницательностью угадал эту невысказанную мысль и приготовился к обороне. Он готов был скорее отправить Вальку на Землю, чем переменить свое решение. Однако он не думал, что Валька сразу же потребует у него разрешения на эксперимент. Грот хорошо знал, что Валька, несмотря на запальчивость, очень стеснителен и внутренне благороден. И Валька действительно ничего не сказал шефу об эксперименте. Но совсем по другой причине, чем думал Грот. Просто то, что еще несколько минут назад было для него самым главным, вдруг отошло на второй план. Он понял, что значит приезд Грота, и в этом свете мысль, которую он лелеял, вдруг показалась бедной и серенькой. Тем более, что это была чужая мысль. Он вдруг взглянул на себя глазами Грота и увидел невысокого щупленького блондина, бог весть что возомнившего о себе, да к тому же грубияна. Ему стало стыдно и хорошо. Его захлестнула горячая волна благодарности к учителю. Так начался процесс самоуничижения. Могучая волна воображения ласково подхватила Вальку и понесла его от одной крайности к другой. Грот решил прервать этот неслышимый, но отнюдь не невидимый процесс в самом начале: — Ну, так что, Валя, вы можете отложить на время вашу работу на точке? Конечно, это очень странно и даже немного смешно, когда маленькие человеческие страсти разыгрываются на фоне грандиозной тайны мироздания. Впрочем, так было, так есть и, возможно, так будет всегда. Величие и ничтожество события диалектически нерасторжимы. Загадочны и неожиданны связи между вещами и процессами во Вселенной. И поэтому не так уж нелепо выглядит поведение Вальки в этой истории. Многие его предшественники, натыкаясь на чудо, вели себя не лучше. Грот все это отлично понимал и терпеливо ждал ответа. — Да, — сказал Валька. Но, когда они возвращались и сидели плечом к плечу в танке, Грот, косясь на спутника, позволил себе небольшое увещевание. Оно носило очень спокойный характер, и даже при желании Валька не смог бы усмотреть в нем обидного намека. — Есть две разновидности чудес, — сказал Грот. — Одни принадлежат окружающей человека природе, другие создаются самим человеком. Молодые темпераментные люди вроде вас склонны преувеличивать значение и силу первых и преуменьшать роль вторых. Я хочу сказать, что не следует забывать и о преемственности поколений. — Не понимаю, — буркнул Валька. — В примитивном изложении мысль моя сводится к тому, что у нас за спиной слишком большой опыт развития нашей науки и слишком много побед — да, я не стыжусь этого громкого слова, — очень много отличных, даже блистательных побед, чтобы мы могли позволить себе нервозность, истеричность, стремление идти ва-банк. Так серьезные проблемы не решаются. А что перед нами именно такая проблема, я не сомневаюсь. Валька заерзал на сиденье. — Ну хорошо, — сказал он. — Ладно. Но все же, что вы о нем думаете? Вы никогда не рассказывали о своей гипотезе. — Самая вредная гипотеза — это гипотеза преждевременная. Пока что сумма операций подсказывает, что здесь мы имеем дело с изначальным состоянием материи. Именно вначале могла существовать такая субстанция, которую ничто не берет и которая фактически не обладает никакими свойствами. — Но яйцо обладает абсолютными свойствами! — возразил Валентин. — А это то же самое, что не иметь свойств. Смысл понятия кончается там, где речь идет о его бесконечности. Я не хотел бы услышать от вас, Валя, торопливые и далеко идущие выводы по поводу нашей беседы… — Почему же? — Валька решил взять реванш. — Если мы не хотим… простите, не можем ставить с яйцом опыты, которые по той или иной причине считаются опасными, рискованными, то это не значит, что нужно избегать логического эксперимента. Техника безопасности не влияет на игру воображения. И мне очень легко домыслить к тому, что вы сказали, кое-какие свои догадки. — Какие же? — Мне понравилось ваше определение состояния яйца как изначального состояния. Мне представляется, что мы имеем дело с протовеществом, из которого рождаются звезды. В яйце сконцентрирована чудовищная энергия. Возможно, ее хватит и не на одну звезду… — Валя, Валя, остановитесь! Через минуту вы договоритесь до того, что из яйца может возникнуть галактика, а затем и Вселенная. У вас нет оснований для подобных заявлений. — Конечно, нет. Но я не собирался говорить о том, что может быть с яйцом. — А напрасно, — заметил Грот, — тогда бы вы ответственней отнеслись к идее жесткого облучения. — Может быть. Но меня интересует другое, — упрямо сказал Валька. — Откуда оно появилось, вот в чем дело. Откуда пришло? И куда идет? Грот неопределенно улыбнулся. — По-моему, это один из осколков, который остался от первых процессов мироздания. Так же как при атомном взрыве расходуется не вся критическая масса заряда, так и взрыв протовещества должен был разбросать по Вселенной материю, сохраняющую изначальные свойства, — возбужденно заявил Валька. — Может быть, может быть. Но аналогия — не доказательство. — Я знаю! — Валька сердито отвернулся. Примирения не получалось. Как ни хотел Грот подбодрить симпатичного ему человека, он не мог отказаться от привычной роли учителя. Что-то опасное чудилось ему в Валькиных мыслях и чувствах. «Ты сам для себя как яйцо, — беззлобно думал Грот, — не знаешь, чего от тебя и ждать…» И он был прав. Внешне Валька сохранял спокойствие, но в душе оставался неистовым и непреклонным. Он обдумывал новый эксперимент с яйцом, который должен был показать Гроту, Коханову, Леночке Гларской и вообще всем людям, что такое подвиг в науке. Дело началось с пустяка. Вернувшись на базу, Валька перерыл все свои записи в лабораторных журналах. Он восстанавливал прошлое шаг за шагом, цифру за цифрой. Сотрудники Грота за это время наработали груду материалов, и Валька понял, что уже отстал, хотя ничего принципиально нового в их работах не находил. На внутренней стороне обложки он прочел чьи-то стихи:* * *
Когда на другой день Олег Коханов вошел в лабораторию, он был потрясен. Нет, с яйцом ничего не случилось. Оно по-прежнему висело на своем месте над столом, отливая нежными утренними красками. Но с Валькой происходило что-то непонятное. Упрямо сморщив лоб, он растаскивал оборудование по разным углам комнаты. Все эти нагреватели, излучатели и усилители были беспорядочно свалены под стенами, их сверкающие, старательно отделанные кожухи сминались под тяжестью арматуры, дорогостоящие сердечники, подвески, кристаллы подвергались угрозе разрушения. — Что ты делаешь? — крикнул Олег. Валька обратил к нему бледное лицо. Он рассматривал Коханова, словно они виделись впервые. — Все это не нужно, понимаешь? — сказал он очень тихо. — Как так — не нужно? Ты с ума сошел! И притом, что за обращение с уникальной аппаратурой? Валька сморщился, словно у него заныли зубы. — Ты пойми, — сказал он с расстановкой, то ли набираясь сил, то ли для большей убедительности, — нейтринное облучение ничего не дало, и вообще нет в мире сил, способных подействовать на яйцо. Только… Он на секунду замолк. — А ты уверен, что облучение не оказало никакого действия? — спросил Коханов. — Подождем, может быть, нужен определенный период насыщения, выдержка во времени. — Думаешь, как у бомбы замедленного действия? — заинтересовался Валька. Коханов пожал плечами. — Ну что ж, подождем немного… Но… все это барахло надо выкинуть. Оно ни к чему. Совсем ни к чему. Олег строго посмотрел на Вальку и разразился речью. Он сказал, что не Вальке решать вопрос, что надо оставлять в лаборатории. Об этом должен заботиться Грот, их начальник, а не он, Валька, который всего-навсего безответственный исполнитель. Кроме того, какие у него мотивы так поступать? Наверное, сплошной вздор, который нужно просто вышибить из его головы. И вообще, он ответит за поломку приборов; их стоимость исчисляется миллионами единиц труда. Валька молча слушал Коханова. На лице его были написаны тоска и отчуждение. Перед его внутренним взором проносились странные картины. Он видел рождение Коханова, он видел, как тот рос, проходил три ступени начального обучения, становился юношей, молодым человеком, мужчиной, стариком. Всегда рассудительный, благоразумный, уверенный, знающий, что надо и как надо. Вместе с ним росла, мужала и старела его глупость. Уверенная, рассудительная, трезвая… — А вдруг сейчас оно… проснется? — встрепенулся Валька и, приблизившись к яйцу, наложил на него руки. «Он помешался», — подумал Олег, рассматривая страшные темные глаза товарища, блестевшие сухо и жестко… …Когда Валька пришел в себя, яйцо исчезло. Эксперимент, видимо, удался. Он помнил лишь внезапно наступившую тошноту, непонятную душную тяжесть и прихлынувший к голове жар. Потом все для него кончилось. Он поднялся с пола, пошатнулся, словно пьяный, попытался схватиться за стену, но провалился в какую-то черную пустоту. Больно ударился обо что-то твердое локтем. Ощутил, как от ушибленного места по телу разлетаются тысячи электрических игл. Еще раз взглянул на лабораторный стол, над которым раньше висело яйцо. Все осталось на своих местах, а яйцо исчезло. Пропало, растворилось, улетучилось, унеслось прочь. «Наваждение какое-то», — подумал он и закрыл глаза. Веки казались отяжелевшими, набухшими вязкой, как расплавленный металл, кровью. Зато свет болезненно резал глаза. Валька выключил освещение и поразился обступившей его непроницаемой мгле. Даже в самые черные ночи не было такой сплошной темноты. Окно он нашел ощупью. Оно не выдавало себя ни малейшим световым бликом. Поднял тяжелую фрамугу. В лицо пахнуло прохладной свежестью. Слабо пахли цветы на клумбах. Но нигде ни огонька, ни самой маленькой капельки света. И вдруг вспыхнули окна гаража. И это было очень странно. Словно кто-то внезапно убрал светонепроницаемый экран. Именно убрал экран, а не зажег свет во всех четырех окнах. Потом так же неожиданно засветились вспомогательные постройки. Они вспыхнули одна за другой: те, что были ближе к Вальке, — чуточку раньше, более удаленные — с едва уловимым опозданием. И он вздрогнул, потому что ясно ощутил — не подумал, а именно ощутил всем своим существом, что вокруг него разлетается сфера мрака, уходя все дальше и дальше и открывая глазу все более удаленные предметы. Он рванул дверь и вихрем слетел по лестнице. Его обступила привычная ласковая ночь. Запах клумб сделался более ощутимым и сладким. Ночные шорохи и тени навевали легкую и спокойную тревогу. Все было как обычно. Почему же так ныло, так предчувствовало беду сердце? Валька взглянул на небо. Звезд не было. Ни единой даже самой незначительной звездочки. Тьма и молчание. Молчание и тьма. Звезды исчезли. Может быть, навсегда. Погасли так же мгновенно и сразу, как для земных астрономов погасла вдруг маленькая VV. Но люди Земли не знали того, что знал Валька, и не видели того, что он видел. А он не знал и не мог знать, что в тот момент, когда стена мрака скрыла от него звезды, двойное солнце Анизателлы погасло в исполинских рефракторах астрофизических обсерваторий далекой, такой невообразимо далекой теперь Земли… Потом сфера тьмы вновь стала сжиматься, гася огни в домах оцепеневшей Анизателлы. Сначала гасли дальние окна, потом тьма подступала все ближе, пока не сжалась в черную точку там, на лабораторном столе. Тогда ночь сделалась абсолютной и вечной. Но Валька не мог ощутить этой пульсации. Он видел ее, но мозг его оказался вдруг неспособным зарегистрировать изменения в их причинной связи. Распалась сама причинность. Как разжимаются звенья стальной цепи в искусных руках фокусника… Последствия эксперимента совершенно изменили весь окружающий мир. Пространство исчезло, и, может быть, остановилось время. Многовековой человеческий опыт и выработанные на его основе пространственно-временные представления оказались бессильными. На языке привычных понятий пришлось бы сказать, что время вдруг превратилось в расстояние и расстояние — во время. Но это ничего не объясняет! Внезапно оказавшаяся совершенно безоружной, мысль обреченно скользила по поверхности чуда, не в силах углубиться в сущность, не понимая даже проявлений этой сущности. Человек остался наедине со Вселенной. Его мозг, как зеркало, принимал и сейчас же отбрасывал хлынувший отовсюду непостижимый поток. Эмоции замерли и притаились. Страх, удивление, любопытство — все это провалилось куда-то в небытие. Человеческие чувства оказались несоизмеримо малыми в сравнении с гримасой пространства — времени. Валька видел — если только он мог видеть вообще, — что его существование странным образом раздвоилось. Он все еще стоял посреди непроницаемой тьмы и одновременно — если только оставалась в окружающем мире одновременность — находился в лаборатории. — Что ты делаешь? — крикнул Олег. Валька обратил к нему бледное лицо. Он рассматривал Коханова, словно они виделись впервые. — Все это не нужно, понимаешь? — сказал он очень тихо. — Как так — не нужно? Ты с ума сошел? И притом, что за обращение с уникальной аппаратурой? Валька сморщился, словно у него заныли зубы. — Ты пойми, — сказал он с расстановкой, то ли набираясь сил, то ли для большей убедительности, — нейтринное облучение ничего не дало, и вообще нет в мире сил, способных подействовать на яйцо. Только… Но, стоя в центре тьмы, Валька смутно понимал, что эта сцена в лаборатории уже была когда-то, и, может быть, не один раз. Он не задумывался над тем, как раздвоившийся во времени человек может сохранять единое сознание и единое ощущение происходящего. Он только отметил для себя, что происходящие сейчас в лаборатории события уже прокручивались однажды на пленке мировых линий Вселенной. Потом — если это случилось действительно потом, а не прежде или даже одновременно с описываемыми событиями — Вальке показалось, что время бешено понеслось вспять. Он по-прежнему стоял, погруженный в непроницаемую черноту, и вместе с тем жил как бы среди материализовавшейся памяти, которую с невероятной скоростью прокручивали в обратном направлении. Вот он стоит в центре освещенной лаборатории и не может понять, куда вдруг исчезло яйцо. Внезапно падает и лежит поверженный невидимыми вихрями гравитационного взрыва, лавиной энергии, высвободившейся из разбуженного яйца. Встает и склоняется над этим внезапно появившимся из пустоты яйцом. Распахивается дверь, и задом наперед входит Коханов. Жестикулирует, удивляется. Гневается, Смеется. Потом, все так же быстро и уверенно пятясь, уходит. К яйцу придвинута нейтринная пушка. Валька осторожно отводит ствол и оттаскивает установку в угол… Как стремительно уносится назад время! Валька участвует в цервой высадке на Анизателле, в формировании двойной звезды из диффузной материи, в первичном взрыве, давшем жизнь метагалактике. Только нигде он больше не видит себя. Первичный взрыв — и разлет материи неуловимо соединяет его ощущение воедино. Валька уже не находится в двух временных ячейках. Но не успевает он даже осознать это, как вновь раздваивается. Время вновь обращает свой бег. Оно несется уже от прошлого к будущему. Там, где Валька только что исчез, он появляется и опять мысленно отмечает, что уже скользил по этим мировым линиям и, может быть, уже никогда не сумеет соскользнуть с них. Вот опять он ставит этот безумный нейтринный эксперимент. Дурацкий разговор с Кохановым. Вырождение разбуженного яйца в невероятное гравитационное поле. Свернувшееся пространство и тьма, отделившая Анизателлу от звезд и остальнойВселенной. И опять поворачивает время… Вся вечность — от бесконечно далекого прошлого до бесконечно далекого будущего — умещается в неизмеримо коротком миге. Время остановилось. Прошлое, настоящее, будущее слились воедино. Они просто перестали существовать. Валька не может даже сосчитать увлекающие его за собой циклы временных поворотов. Ему только кажется, что они следуют один за другим. На самом деле все протекает совершенно иначе. Но человеческий язык бессилен передать игру вечности. От взрыва до взрыва. Наплыв ощущения, что все это уже было однажды, что сон, который спится сейчас, уже снился когда-то. И нет выхода из колеса времени. И мысли нет, чтобы понять происходящее и попытаться найти выход, потому что даже мысль развивается во времени и останавливается, когда время стоит.* * *
Не сразу наступил тот момент, когда изучавшие загадку Анизателлы вспомнили о сообщении Валентина Лаврова под названием «Некоторые оптические особенности тела с абсолютной отражательной способностью». Но все же он наступил. И тогда припомнили серию исследований Грота и сотрудников, касавшихся так называемого «Феномена Анизателлы». Между яйцом, открытым Лавровым, и возникновением сферы Шварцшильда устанавливалась однозначная связь. Появилось несколько интересных математических работ, посвященных эволюции яйца и условиям возникновения гравитационных ловушек. Изящные решения предсказывали спонтанное развитие материи с абсолютными свойствами. Делалось предположение, что на каком-то этапе существования яйцо само начнет сворачивать пространство, порождая гравиколлапс.[64] Впрочем, такие работы интересовали главным образом теоретиков. Основная читательская масса удовлетворялась научно-популярными статьями и лекциями. Правда, находились философы, писатели, социологи, которые поговаривали о влиянии человеческой деятельности на судьбы космоса. Кое-кто полагал основной причиной всему работы, проводимые Гротом. Но таких обычно не слушали. Много спорили о том, считать ли происшедшее на Анизателле катастрофой. Там никто не погиб и ничто не разрушилось, но вряд ли является нормальным состояние людей, запертых в гравитационную яму. Здесь не было ясности. И никто, разумеется, не говорил о том, что между самолюбием, случаем и свойствами материи может однажды возникнуть жесткая, неразрывная связь. Всем было понятно, что такой связи нет и быть не может. Ну, а уж если она возникнет, то ее не следует учитывать, как практически невероятную. И думавшие так были правы, потому что никто до сих пор не доказал вредность Валькиного эксперимента. Ведь яйцо, как утверждают математики, и само способно ожить с вероятностью 1:1022. И все же на многочисленные запросы о том, можно ли помочь Анизателле, ученые отвечали утвердительно. Пусть сейчас и еще столетия спустя человек бессилен перед чудовищным проявлением стихийных сил мироздания, олицетворенных гравитационным коллапсом. Ведь даже разведывательный космолет нельзя послать в район сферы Шварцшильда, окружившей систему VV. По мере приближения к такой сфере гравитационное поле возрастает и течение времени замедляется. На самой сфере время течет бесконечно медленно. Космонавты-разведчики не увидят никаких изменений. Но одной секунды часов их звездолета достаточно, чтобы на Земле промелькнули тысячелетия. Вот почему сразу же отпала идея послать в район коллапса экспедицию. Но это же обстоятельство давало ученым право оптимистически смотреть в будущее, правда — в очень далекое будущее. Вряд ли можно сомневаться в том, что человечество когда-нибудь раскроет коренные тайны материи и пространства. Гигантские сверхцивилизации будущего смогут управлять даже такими грандиозными процессами, как гравитационный коллапс, свернувший пространство вокруг Анизателлы и ее двойного солнца. Тогда, наверно, и найдется средство вырвать планету из бесконечного временного колеса. И не надо бояться, что помощь придет слишком поздно. Для обитателей Анизателлы времени нет. Они могут ждать даже вечность. Она не будет для них тянуться дольше, чем самое короткое мгновение для жителей Земли. У каждой системы свой центр, своя точка отсчета. Мы смотрим на Анизателлу с Земли.Нина Владимировна Гернет, Григорий Ягдфельд ПРОПАЛ ДРАКОН (Киноповесть)
1
Когда часы начали бить девять, все еще было совершенно спокойно. В это тихое весеннее утро никто еще не знал и не думал, что с ним случится то, что случилось. Но сначала послушайте, что было с совсем разными людьми в разных местах. А потом увидите, как всё соединилось и перепуталось.Пионеры шестого класса Лида Шершилина и Миша Коробкин, начищенные и наглаженные, шли по Большой Минеральной улице. Шли они с очень важным и почетным поручением: пригласить писателя Мамонтова на школьный вечер сегодня к шести часам. Это был последний, заключительный вечер. Завтра начнутся каникулы. Все было готово; вышел даже специальный номер стенгазеты «На крючок» с полной биографией писателя. Не было только одного: согласия писателя. Он лишь вчера вернулся из Австралии. Так что сами понимаете, как трудно уговорить человека выступить где-то в школе на другой день после такого путешествия! Поэтому и послали не кого-нибудь, а самых вежливых отличников: звеньевую Шершилину и председателя отряда Коробкина. И было им сказано: пусть разобьются в лепешку, а приведут писателя. Потому что нельзя больше терпеть, как шестой «Б» задается своим вечером с водолазом!
А писатель Алексей Иванович Мамонтов, не подозревая о том, что его ждет, спокойно работал в своем кабинете на Садовой улице. Во время путешествия он не успел записать кучу интересных вещей и теперь торопился это сделать, чтобы не забыть. Сейчас он записывал, как его укусила кенгуру. Он написал: «укуси…» и задумался. Он не знал, как правильно писать: «укусила» или «укусил»? А потом вспомнил, как он удирал от кенгуру, и засомневался: стоит ли вообще это записывать? Кроме того, он никак не мог сосредоточиться. Как только он задумывался, ему начинало казаться, что он опять летит на самолете «ТУ-114», потому что вокруг него ходила тетя Лиза и гудела пылесосом. Почему-то она всегда бралась за пылесос именно тогда, когда он садился за стол. Правда, Алексей Иванович не раз пытался просить тетю Лизу убирать тогда, когда она пошлет его за булками. Но тетя Лиза находчиво отвечала, что если бы не она, то он сам, и его дом, и его пишущая машинка давно заросли бы паутиной, плесенью и грибами. Алексей Иванович вздохнул, тоскливо взглянул на тетю Лизу и вышел в другую комнату. Там на полках и стенах стояли и висели удивительные вещи — память о далеких путешествиях. Африканские маски, игрушки из Мексики, чучело райской птицы, коллекция невиданных бабочек, а теперь даже настоящий австралийский бумеранг. Алексей Иванович прошел на балкон. Там стоял террариум, а в нем сидел грустный тритон, похожий на маленького дракона. Алексей Иванович постучал пальцем по стеклу. Тритон встал на хвост и поглядел на палец писателя круглыми черными глазами.
А неподалеку, в Озерном переулке, на подоконнике второго этажа между кактусами сидел черный щенок, похожий на лохматый шарик, и лаял. Он лаял таким тоненьким голоском, что, если бы комар тоже умел лаять, их нельзя было бы различить. Он лаял на все, что двигалось. Особенно на автобусы и троллейбусы. Он считал их большими собаками и обижался, что им можно бегать по улицам, а ему нет. А пока он лаял, Алисина мама, собираясь уходить, говорила Алисе: — Не подходи к плите… Боже мой, в ушах звенит от этой собаки!.. Никому не открывай. Нет, вы видали, чтобы в городе нельзя было найти няньку!.. Ты перестанешь гавкать, горе мое!.. Обед под салфеткой… Пять объявлений повесила — никто не является!.. Ну, будь умницей, я вернусь в пять! — Еще не уходи. Ты еще не сказала: не трогай спичек, — напомнила Алиса. — Не трогай спичек, — сказала мама и чмокнула Алису в нос. Как только мама закрыла за собой дверь, щенок перестал лаять и соскочил с подоконника. Ему надо было отгрызть банты от маминых шлепанцев, пока ее нет дома. Алиса поняла: он обиделся на маму за то, что ей не понравился его красивый лай. Она немедленно сунула голову под кровать: — Шарик, когда ты все отгрызешь, полай, пожалуйста. Мне очень нравится, когда ты лаешь.
В это же время в одном деревянном домике на берегу реки три маленькие девочки и одна кошка сидели у телевизора и смотрели передачу «Строительство коксохимического завода». Две девочки и кошка смотрели не шевелясь, и только самая маленькая клевала носом и время от времени падала со скамейки. Тогда сестры поднимали ее за шиворот и усаживали на место. Когда на экране появились груженые самосвалы, старшая девочка, Валя, поднялась. За ней встала Галя, потом маленькая Люся. И они гуськом зашагали к двери. У телевизора осталась только кошка. Она все еще надеялась увидеть мышь или птичку. А девочки вышли из домика, спустились к мосткам на речке, где их мать полоскала белье, и молча открыли рты. Мать вытерла руки передником и сунула в рот каждой девочке по печенью. Девочки повернулись, в том же порядке отправились обратно и уселись на свои места рядом с кошкой. На экране уже не было коксохимического завода. Там пожилой гость из Финляндии говорил на финском языке.
…А теперь заглянем в одну очень уютную квартирку на той же Садовой улице, где живет Алексей Иванович. В этой квартирке вот уже сорок пять лет живут Сергей Васильевич и Таисия Петровна. В это утро Сергей Васильевич, наморщив лоб, сокрушенно смотрел на шахматную доску. В руке он держал белого коня и никак не мог решить, куда его поставить. У него было трудное положение. Вчера в Саду отдыха он начал партию с очень серьезным противником: бывшим вагоновожатым трамвайного парка номер один. Когда вагоновожатый «съел» у Сергея Васильевича вторую пешку, пошел дождик, и партию перенесли на сегодня. — Тася! — жалобно позвал Сергей Васильевич. Но Тася, то есть Таисия Петровна, не отозвалась. Она поливала цветы на балконе и вела с ними беседу. — Ну куда ты полезла? — укоряла она вьющуюся настурцию. — Тебя же, дурочку, там рамой, прищемит! Смотри-ка, бедную гераньку совсем затолкали!.. Да раздвиньтесь вы, в самом деле, всем хватит места… Иду! — сказала она и пошла с лейкой к Сергею Васильевичу. — Тася, а что он может сделать, если я пойду так? — И он поставил своего коня на b:5. — Тогда он возьмет его пешкой, — хладнокровно сказала Таисия Петровна и вернулась па балкон. Сергей Васильевич печально смотрел на позицию, и вдруг ему в голову пришла гениальная мысль. — Тася! — вскричал он вне себя. — Я иду сюда турой! И что ему остается делать? Таисия Петровна, появившись, бросила только один взгляд на шахматную доску? — Ему остается пойти сюда королевой и объявить тебе мат в два хода. И она, переложив лейку из правой руки в левую, дала мат в два хода своему мужу. Тот долго молчал, глядя на черную королеву, которая прикончила его короля. Потом растерянно спросил: — Куда же я пойду? — За молоком, — сказала Таисия Петровна. И, когда Сергей Васильевич надевал галоши в коридоре, Таисия Петровна сказала, всовывая ему в руки большой бидон: — Только помни, что это наш последний бидон. И постарайся, если можно, не оставлять его на прилавке. — Ну Тася! — сказал Сергей Васильевич. Уже на лестнице он что-то пробормотал о человеческой несправедливости и стал медленно спускаться вниз. Тут мимо него желтыми молниями пронеслись по перилам близнецы Боря и Лева. Они задели бидон, который Сергей Васильевич чуть не выронил. Вот так началось это утро. У каждого были свои дела, никто даже не был знаком друг с другом. И кто же мог думать, что не пройдет и часа, как все начнет самым странным образом соединяться и перепутываться!
2
Делегатка шестого класса Шершилина очень гордилась своим поручением. Такое почетное она получила в первый раз. Миша Коробкин был опытней. Он уже приглашал двух артистов цирка и одного академика и умел это делать. Он поминутно вынимал блокнот, заглядывал в него и прятал обратно. А потом, страдальчески глядя вверх, шевелил губами: учил наизусть то, что скажет писателю. Когда он дошел до: «…ваши познавательные книжки воспитывают в нас…», Лида дернула его за рукав и тревожно спросила: — Слушай, а что, если он опять куда-нибудь улетел? Миша не слушал. Он учил текст про Алексея Ивановича. Бедный, он всегда все учил наизусть! Но зато не боялся, что где-нибудь скажет не то, что надо. А Лиду грызли сомнения. Она теребила Мишу за рукав: — А что, если он обещал уже другой школе? А если он скажет: «Уходите вон»? Миша остановился. — Слушай, Шершилина, — строго сказал он, — я до сих пор не понимаю, почему со мной послали тебя, а не Витю Витковича. Но, если уж ты попала в делегацию, не задавай дурацких вопросов, веди себя прилично. Лида замолчала и виновато поглядела ему в глаза. Раз нельзя было разговаривать, Лида стала на ходу заплетать косичку и расправлять бант, который сидел на ее голове, как бабочка-капустница. Когда они проходили мимо шляпного магазина, Лида даже отстала от Миши и на ходу присела перед витриной, чтобы разглядеть себя в зеркале между шляпами. Миша оглянулся. Он увидел Шершилину, сидящую на корточках, горько усмехнулся, взял ее за руку и перевел на другую сторону. Они пошли мимо дома, застроенного лесами. — Я, кажется, предвижу, — сказал Миша, — что из-за тебя будет масса неприятностей. И не успел он досказать, как сверху, с лесов, свалилось ведро с мелом. Правда, им удалось отскочить, но несколько брызг все-таки попало на Мишу. А кто-то усатый свесился сверху и, вместо того чтобы извиниться, заорал, что у него не сто рук, что пускай все идет к черту и что если ему не пришлют подсобниц, то пятого этажа не будет. Миша посмотрел на свои парадные брюки с белыми кляксами и задохнулся от негодования. Лида никогда еще не видала, чтобы чинный, спокойный и рассудительный Коробкин так сердился! Миша кричал усатому, что тот не имеет права! И что пускай он сначала заплатит за брюки девять рублей сорок копеек. Лида пыталась его успокоить. Она говорила, что это ничего, это только мел, он высохнет и стряхнется. Но, только когда Лида сказала: «Мы же опоздаем!» — он замолчал и зашагал дальше. — Это все ты! — проворчал он. — Почему я? — поразилась Лида. — Потому, что если бы ты не торчала перед зеркалом, ведро бы упало не впереди, а сзади. Понятно? На это Лида не нашлась что ответить. Она притихла, и некоторое время они шли молча. Им навстречу по мостовой медленно ехала бочка с квасом. За бочкой мирно двигалась очередь людей с бидонами и графинами. Вдруг Лида ахнула. Глаза ее засверкали: последним в очереди ковылял на самокате плутоватый мальчишка — родной брат Лиды Шершилиной. Но ведь она, уходя, сама заперла его в квартире! Он делал вид, что смотрит в другую сторону, а сам косился на сестру. — Женька! Как ты смел вылезти! — грозно закричала Лида. — Иди сейчас же домой! — А что, нельзя квасу попить? — простодушно сказал хитрый Женька и погремел медяками. — Женька! Что я сказала! — завопила Лида не своим голосом. А Женька скрылся за углом вместе с очередью. Лида ринулась было за ним, но Миша схватил ее за платье. Лида не могла успокоиться: — Ты подумай! Спустился по трубе, специально чтобы за мной следить! А? Как только я куда-нибудь, так он сзади хвостом! Думаешь, он пошел домой? Вот я ему сейчас… — Что тебе важней, — холодно спросил Миша, — бегать за Женькой или выполнять свое пионерское поручение? — Выполнять, — сказала Лида, и они пошли дальше. …Лида хорошо знала своего брата. Когда они свернули на Суворовскую и проходили мимо почтамта, она заметила за колонной колесико самоката. — Ну, что я тебе сказала? — крикнула Лида и, бросившись за колонну, вытащила притаившегося Женьку. — Ты опять за мной? Опять за мной? — А что, мне нельзя купить марку с Гагариным за четыре копейки? — спросил хитрый Женька. И вы думаете, он купил марку и пошел домой? Как бы не так. Когда Лида с Мишей перешли улицу, Женька был опять здесь. Он пытался спрятаться за спиной какого-то толстяка, а когда тот свернул в парадное, быстро пристроился к кучке людей у двери закрытого зоомагазина. Тут спрятаться было негде, и Женька сам выскочил навстречу Лиде и заорал: — Знаешь что? Сюда ежей привезли! Сейчас быстро куплю ежа — и домой! Счастье Женьки, что Лида так торопилась, а то бы она непременно отвела мальчишку домой за шиворот. Но Миша потащил ее дальше.И вот делегаты стоят на площадке третьего этажа, перед дверью, где живет писатель и путешественник Мамонтов. Затаив дыхание они прислушиваются. Из-за двери доносится какое-то странное гудение. — Слышишь? — прошептала Лида в восторге. — Это, наверное, какое-нибудь австралийское существо! — Не болтай! — сказал Миша. Он тщательно стер с брюк последние следы мела, расправил концы галстука и причесался маленькой гребенкой. — Ну, смотри, Шершилина! — строго сказал он и нажал звонок. Гудение прекратилось. Щелкнул ключ, и дверь медленно начала открываться. Лида и Миша недаром считались самыми вежливыми в шестом классе. Дверь еще не совсем открылась, как они разом громко, отчетливо, ясно сказали: — Здравствуйте, Алексей Иванович! На пороге, опершись на швабру, неподвижно стояла величественная дама. Некоторое время она испытующе смотрела сверху на Коробкина и Шершилину, а потом закрыла дверь. — Это как же? — сказала Лида с обидой. — Уходить? — Обижаться будешь у себя дома, — сказал Миша. Они стояли, не зная, как поступить. Но тут дверь открылась опять. Та же мощная дама кивком головы предложила им войти в переднюю, пропустила мимо себя и закрыла за ними дверь. Потом удалилась в комнаты, оставив гостей в темноте. Только из узкой щели падал луч света на стенку. Лида дернула Мишу за руку. Со стены свирепо смотрела на них черная страшная голова с оскаленными зубами — древняя мексиканская маска. — Что это? — ахнула Лида и на всякий случай попятилась. Миша нервно поправил галстук и сердито шепнул: — Не ахай и не таращи глаза, а то он подумает, что ты совсем дура. Вдруг они услышали: — Куда вы их девали, тетя Лиза? Дверь в комнаты распахнулась, в переднюю ворвался свет, а вместе со светом — веселый человек Алексей Иванович. — Вы чего тут в темноте? — закричал он, схватил их за руки и втащил в комнату. — Ну, здравствуйте! — сказал Алексей Иванович. И представьте себе, что эти двое, самые вежливые ребята в шестом классе, забыли ответить «здравствуйте». Такая это была сказочная комната, такие невиданные птицы свисали на нитках с потолка, такие копья и стрелы сверкали на стенах, такие удивительные человечки танцевали на полках, что Миша забыл даже речь, которую он вызубрил наизусть. Они замерли посреди комнаты и только вертели головами. Алексей Иванович тоже молчал. Он задумчиво смотрел на гостей, но он уже их не видел. Перед его глазами витало сказочное животное, которого нет нигде в мире, кроме Австралии… с утиным клювом и шерстью… Скорей, скорей записать эту встречу! И он бросился было в кабинет, но вспомнил о гостях. — Извините, я сейчас! — виновато сказал он, сунул им в руки стеклянный ящик, где сверкали невиданные бабочки, и скрылся. Тотчас в кабинете застрекотала машинка. Миша многозначительно посмотрел на Лиду: — Поняла, Шершилина? Лида кивнула. Они на цыпочках отошли подальше от двери в кабинет, уселись на диванчике и стали рассматривать огромную лазурную бабочку. Лида подумала: вот если б ей такие крылья! И она представила себе, как она влетает в шестой класс на лазурных крыльях… Интересно, что бы сказала Галина Ивановна! Миша тоже смотрел на бабочек. Но бабочки его никогда не интересовали. Он уже мысленно писал в газету статью: «Знаменитый писатель тепло принял председателя отряда Михаила Коробкина и сопровождающую его Шершилину…» Тут перед ними выросла тетя Лиза с тряпкой в руке. — Трогать нельзя! — раздался над ними голос, похожий на гудение пылесоса. Тетя Лиза отобрала бабочек. Метнув неодобрительный взгляд на гостей, тщательно протерла тряпкой стекло и поставила коробку на место. После этого она удалилась на балкон. А в кабинете стрекотала машинка. За первой фразой лежала вторая, третья… Алексей Иванович еле успевал записывать. Когда он дошел до детенышей утконоса, он улыбнулся и вдруг вспомнил, что у него сидят гости. «Ах я свинья!» — сказал он сам себе и выскочил из кабинета. Делегаты сидели не шевелясь. Бабочек у них не было. — Извините меня! — сказал Алексей Иванович. — Мне осталось только разделаться с утконосом. Я вижу, вам надоели бабочки? Ладно, сейчас вы увидите кое-что интересней! И, обняв за плечи делегацию, Алексей Иванович поволок ее на балкон. Там тетя Лиза протирала тряпочкой завитушки балконной решетки. Но Алексей Иванович собирался показывать гостям не тетю Лизу, а пятнистого тритона, похожего на маленького дракончика. Только вместо когтей у него на лапках были перепонки, и весь он переливался веселыми красками: желтой, зеленой, оранжевой… — У кого кошка, — сказал Алексей Иванович, — у кого собака, а у меня дракон. Мы с ним по вечерам в домино играем, — добавил он, покосившись на ребят. Тетя Лиза презрительно фыркнула, Миша вежливо улыбнулся, а Лида покатилась со смеху и спросила: — А кто выигрывает? — Он, — сказал Алексей Иванович. — Ну, а теперь я в последний раз убегу на одну секунду, хорошо? А потом вы мне расскажете, зачем я вам понадобился. Он ушел. На балконе остались: Лида, Миша, тритон и тетя Лиза. А внизу, на другой стороне улицы, стоял Женька с самокатом. Как вы понимаете, он и не собирался идти домой. Не было человека, который мог бы скрыться от Женьки, если Женька решил узнать, куда и зачем он пошел! Когда его сестра появилась на балконе, Женька торжествующе усмехнулся: теперь он знал куда. Осталось узнать только зачем. Тетя Лиза опустилась на корточки и стала протирать одну за другой ножки столика, на котором стоял террариум. Лида прижалась носом к террариуму и постучала пальцем по стеклу. — Осторожней! — рявкнула снизу тетя Лиза. Лида отскочила, задев ножку столика, и… страшно сказать! Террариум — с лесенками, камешками, водой, песком — опрокинулся на тетю Лизу! А тритон скользнул через решетку и исчез. Последнее, что увидели делегаты, была тетя Лиза, окаменевшая перед ними. На ее голове, словно скафандр водолаза, покачивался террариум. Лида и Миша не помнят, как они промчались через комнаты, как чуть не сбили с ног Алексея Ивановича, как скатились по лестнице, как в конце концов упали на скамейку в Саду отдыха.
3
Сергей Васильевич не спеша возвращался из молочной. В руках у него был бидон, а в мыслях — шахматная партия с вагоновожатым. Он будет сегодня ее доигрывать, а у него не хватает двух пешек… Сергей Васильевич не переставал думать об этой партии с той самой минуты, как вышел из дому. Поэтому не нужно удивляться, что он забыл в молочной крышку от бидона. Надо же было, чтобы ход, спасающий коня, пришел к Сергею Васильевичу как раз под тем балконом, где в этот момент опрокидывался террариум! Сергей Васильевич даже остановился. Погруженный в расчеты, он не слыхал ни визга тети Лизы, ни грохота упавшего столика. Он не заметил даже, как что-то вылетело откуда-то и, описав дугу, шлепнулось в бидон и нырнуло в молоко. — Да! — сказал сам себе Сергей Васильевич. — Кажется, это выход! — и бодро зашагал к дому. Мимо него промчались мальчик и девочка. — Осторожней! — сказал он, прижав к себе бидон.Никто не заметил, что произошло. Решительно никто, кроме Женьки. Женька видел все с самого начала до самого конца. И теперь перед ним была новая тайна: кто влетел в молоко? Женька не был бы Женькой, если бы не кинулся по следам таинственного существа, исчезнувшего в бидоне. И он, гремя самокатом, ринулся через улицу. Но, как назло, огромный самосвал, вылетев из-за угла, заставил его попятиться. За ним шел второй, третий… им, кажется, конца не было! Они закрыли другую сторону улицы, и Женька не видел, как его сестра и Миша, выбежав из парадного, помчались куда-то. Когда самосвалы проехали, старик с тайной в бидоне был далеко. Женька работал изо всех сил. Он размахивал правой ногой, обгоняя шарахавшихся прохожих и пугая голубей, пока не налетел на коляску с ребенком. Не хочется рассказывать, что произошло дальше. Но, когда мать ребенка выпустила Женькино ухо, старик уже исчезал в парадном. А когда еле дышавший Женька ворвался в парадное, где-то наверху уже захлопнулась дверь.
4
Съежившись на скамейке, Лида хотела только одного: чтобы случилось землетрясение, треснула земля и она с Мишей и скамейкой провалились неизвестно куда. Или заблудиться в лесу, чтобы ее никогда не нашли… Или чтобы она была не она, а совсем другая и звали ее не Лида Шершилина, а все равно как, и чтобы ничего этого не было… В ее ушах еще стоял яростный визг тети Лизы, а в глазах — страшное зрелище падающего террариума. А Миша сидел, закусив губу, нервно постукивая ногой по песку, и хотел только одного: убить Шершилину. И лишь благородство и высокая пионерская сознательность удерживали его от этого справедливого шага. Но что-то с этой подлой девчонкой надо было сделать. И не зная, с чего начать, Миша сверлил ее злыми глазами. А вокруг шла безмятежная жизнь, будто ничего не случилось. Прыгали воробьи, старики читали газеты, девочки собирали прошлогодние желуди, мамы и бабушки катали коляски с младенцами. — Что ж теперь будет, что ж теперь будет?.. — шептала Лида, глядя на песочницу, валявшуюся на дорожке. Миша взорвался: — Ах, вас интересует, что теперь будет? Пожалуйста! Я доложу совету отряда, что писатель не придет, мероприятие сорвано, отряд опозорен. А вы доложите, как явились делегаткой к знаменитому писателю, истребили его животных и все перебили в доме! — Террариум не разбился, — робко пролепетала Лида. — А песок и камешки можно принести… — А тритон? — прошипел Миша. Лида охнула, и слезы закапали на песок. Бедный, бедный дракон! Какая ужасная гибель! Миша встал. — Давай-давай реви, бывший делегат Шершилина! — А ты? — прошептала Лида. — А я не обязан отвечать за твое хулиганство! Тут Лида заревела в голос. На них стали оборачиваться. Какой-то старичок выглянул из-за газеты, а девочки со скакалкой подошли ближе. — Миша, не уходи! — взмолилась Лида. На них смотрели со всех сторон. — Знай, Шершилина, что пионер не оставляет товарища в беде! — громко сказал Миша и сел на скамейку. — Какой ты хороший, Мишенька! — сказала Лида, рыдая. — Не реви, не мешай мне думать. Лида проглотила слезы. Она смотрела на Мишу с последней надеждой. Бывают же чудеса на свете! Ну пусть редко, но все-таки… Что, если Миша сейчас все придумает? И Алексей Иванович их простит, и тритон не убился, и не придется рассказывать отряду о своем позоре… — Сколько у тебя денег? — вдруг спросил Миша. Лида лихорадочно вывернула карманы. Кроме огрызка карандаша и катушки белых ниток, у нее нашлось 29 копеек. Миша вынул аккуратный маленький кошелек и высыпал на ладонь: перламутровый ножичек, запасной пионерский значок и новенький полтинник. Оп всыпал все это и еще Лидины 29 копеек обратно, застегнул кошелек на кнопку и встал со скамейки. — Пошли. — Куда? — робко спросила Лида. Но он не ответил. И Лида, разрывавшаяся между отчаянием и надеждой, поплелась за ним.5
Лида не замечала улиц, по которым они шли. Она видела только Мишину спину и старалась не потерять ее в толпе. Миша шагал, не оглядываясь. Неожиданно он свернул в какой-то магазин. Лида вбежала за ним, не посмотрев даже на вывеску, и только там, внутри, поняла, что они в зоомагазине. Вдоль стен до самого потолка стояли пустые клетки, такие маленькие и тесные, что нельзя было понять, для кого они — для птиц или для мышей. У прилавка толпились разные люди. Продавец набирал совком из ящика красных копошащихся червячков и развешивал в фунтиках. Сбоку стояли аквариумы. В зеленоватой воде метались маленькие хвостатые рыбки. На подоконнике были навалены безрадостные куски серого туфа. В темном углу в клетке сидел какой-то печальный зверь — Лида не могла разобрать, кто это. Миша не терял времени. Он протискивался между мальчишками и покупателями, пока не оказался рядом с продавцом. — Сколько стоит тритон? — спросил он. — Нет тритонов, — ответил продавец. — А когда будут? — спросил Миша упавшим голосом. — Когда наловишь, — сказал кто-то из очереди. — Поезжай в Крым, — дружелюбно посоветовал другой. — Как же так!.. — обидчиво начал Миша. Но тут кто-то потянул его за рубашку. Миша оглянулся и увидел парня, похожего на фотонегатив: так загорело его лицо и выгорели волосы. Парень подмигнул и пошел к выходу. Миша за ним, Лида за Мишей. Все трое вышли на улицу. Мальчишка свернул в первые ворота и поманил их пальцем. — Кролика надо? — шепотом спросил он и отогнул полу пиджака. Из внутреннего кармана торчали серые уши крольчонка. — Ой, какой!.. — начала Лида. Но Миша твердо сказал: — Не надо. — А вот! — И мальчишка, как фокусник, вытащил откуда-то белую мышь с розовым хвостиком. Лида пискнула. — Нам нужен тритон. Понял? — вразумительно сказал Миша. — Чудаки! — фыркнул мальчишка. — Им дают законного кролика, а они… Но, заметив по лицу покупателя, что сделка не состоится, быстро запахнул пиджак и сказал: — Ладно. Можно тритона. Три рубля! Лида ахнула. — Ты что, с ума сошел? — возмутился Миша. — Не нравится — иди в магазин. Мне еще твоего тритона ловить надо! — Так он же в Крыму… Мальчишка не смутился: — Вот видишь, а говоришь — дорого! Этот ответ даже Мишу сбил с толку. — Как же: он там, а ты здесь… Мальчишка не лез в карман за ответом: — Кто знает места, тот и здесь поймает. Одним словом: берешь или не берешь? — Погоди, мы сейчас, — сказал Миша и отвел Лиду в сторону. — Беги домой, неси три рубля! Я его задержу, — сказал он пронзительным шепотом. Лида с ужасом посмотрела на него: — Ой, мне не достать! Дома никого. Мама на дежурстве… — Ну, Шершилина! — только и мог сказать Миша. — Эй, вы там, берете или нет? — крикнул мальчишка. — Берем! — буркнул Миша. И шепотом сказал Лиде: — Ладно. Пойду к отцу на работу. Но имей в виду: потом отдашь! — Честное слово, Мишенька, отдам! Миша подошел к продавцу: — Неси своего тритона. — Давай деньги! Миша фыркнул: — Вперед?! Еще чего! Тритонщик возмутился: — Это чтоб я мучился, доставал, тащил, а вас потом поминай как звали? Теперь возмутился Миша: — Ага! А ты хочешь, чтобы мы тебе дали деньги, а потом тебя поминай как звали? Разговор зашел в тупик. Лида, увидев, что рушится последняя надежда, вмешалась в разговор. Она пыталась уговорить обоих, чтобы они поверили друг другу и что никто никого не обманет. Но продавец тритонов и покупатель стояли на своем. И, только когда Миша сделал вид, что уходит, мальчишка сказал: — Ладно, давай аванс. Копеек пятьдесят. Лида было обрадовалась, но Миша твердо сказал, что аванса не будет. Тогда тритонщик, чувствуя, что сделка проваливается, сдался и только потребовал шесть копеек на трамвай для скорости. Тут Миша не возражал. Он достал из кошелька пятак и две копейки и спросил копейку сдачи. Но у продавца тритонов копейки не было. Лида испугалась, что опять все разладится, но Миша догадался разменять две копейки в газетном киоске. — Когда будет тритон? — спросил он. Мальчишка озабоченно поднял глаза к небу и сморщил лоб. — Значит, так. На этом самом месте. Через полчаса. Миша выглянул из ворот. На больших часах почтамта было двадцать пять одиннадцатого. — Значит, без пяти одиннадцать чтоб тритон был здесь! — строго сказал Миша. — Будет сделано! — крикнул мальчишка на бегу, и его белая голова сверкнула уже на другой стороне улицы. Лида сияла. — Какой ты молодец, Мишенька! Как ты все чудно устроил! Мы сразу же ему отнесем, да? И скажем: простите нас. И ей скажем: простите, хоть она и противная, правда? — Ты глупа, Шершилина. Жди его здесь. Никуда ни шагу! — Хорошо, Мишенька, — покорно сказала Лида. — Я могу немного задержаться. Скажешь ему, чтобы подождал. — Да, Мишенька. — Дашь ему в крайнем случае семьдесят три копейки. — И Миша высыпал Лиде в руку монеты из кошелька. — Я дам, Мишенька. — Но не смей давать, пока он не покажет тритона. И чтобы все лапы были целые и хвост. Поняла? — Поняла, Мишенька. — Ну, смотри, Шершилина! — сурово сказал Миша и ушел.6
— А где же крышка? — спросила Таисия Петровна, едва Сергей Васильевич вошел в переднюю. Сергей Васильевич поглядел на бидон. — А разве была крышка? — удивился он. — Конечно, могло быть хуже, — кротко заметила жена. — ты мог принести домой крышку и оставить в молочной бидон. — Ну, Тася… — обиделся Сергей Васильевич и пошел прямо к шахматной доске. Таисия Петровна отнесла бидон на кухню. Она сняла с полки голубую кастрюльку и вылила в нее молоко. Бидон выпал из ее рук и покатился по полу. Опершись лапками о край кастрюли, на нее смотрел маленький пестрый дракон, а из молока торчал его колючий гребень. С минуту Таисия Петровна и дракон смотрели друг на друга. А потом она безмолвно вышла из кухни. Ее слабое сердце не позволяло ей находиться в одной комнате с таким существом. Она тихо тронула за плечо Сергея Васильевича. — Сережа, — сказала Таисия Петровна нетвердым голосом, — пойдем со мной. У Таисии Петровны было такое выражение лица, что Сергей Васильевич тотчас встал и пошел, поддерживая жену под локоть. В кухне Таисия Петровна подвела мужа к кастрюльке и показала пальцем. — Скажи мне, что оно такое? — спросила она. Сергей Васильевич начал хлопать себя по всем карманам, как делал всегда, когда ему нужны были очки. Таисия Петровна сунула ему свои, и он наклонился над кастрюлькой. — Что ты! Хочешь, чтобы оно цапнуло тебя за нос? — крикнула Таисия Петровна и оттащила мужа подальше. — Знаешь, какой был случай в Ленинграде на почтамте? Один раз пришла посылка для зоосада со змеями. — Ну, ну? — сказал Сергей Васильевич. — А начальник почты сунулся туда, вот вроде тебя, а змея и схвати его за нос! — И что же он? — Спасибо, змея была не ядовитая. А туркменская эфа в пустыне сама скачет на людей! Видишь? А ты суешься! — Так ты считаешь, что это змея? — задумчиво спросил Сергей Васильевич. — А это ничего, что у нее лапки? Таисия Петровна возмутилась: — Посмотрите на этого человека! Притащил неизвестно что, неизвестно зачем и еще меня расспрашивает про лапки! Сергей Васильевич заморгал глазами и робко сказал: — Тасенька, честное слово, понятия не имею, как оно туда попало. А что это такое, мы сейчас узнаем. И он направился к полке, где стояло пятьдесят томов Большой советской энциклопедии. — И на какую букву ты собираешься смотреть? — осведомилась Таисия Петровна. Сергей Васильевич смущенно улыбнулся. — И ничего смешного, — сказала Таисия Петровна. — Как бы оно ни называлось, я знаю одно: звери в молоке не водятся. Она храбро поддела шумовкой дракона, который невозмутимо сидел в той же позе, и дала стечь молоку. Тут она увидела перепонки на лапках и обрадовалась. — Ну вот, теперь я знаю, что оно из лягушек. И чего только не подбавляют в молоко эти жулики! Дай скорей миску! Дракон перебрался в миску. — Теперь тебе лучше. Поплавай, миленький! Сергей Васильевич, который почему-то чувствовал себя виноватым, услыхав, что жена разговаривает с родственником лягушки, понял, что гроза миновала. — Я рад, Тася, что он тебе понравился, — скромно сказал он. Таисия Петровна уничтожающе посмотрела на него: — Если ты в другой раз захочешь сделать мне подарок, пожалуйста, не клади его в молоко! — Ну Тася! — сказал Сергей Васильевич.7
Лида сидела на тумбе у подворотни под надписью «ЗВОНОК К ДВОРНИКУ». Она немного успокоилась и даже начала заплетать растрепанную косу, поглядывая на большие часы па почтамте. Минутная стрелка сперва долго-долго стояла на одном месте, а потом сразу перепрыгивала на другую минуту. И Лида подумала: какое было бы счастье, если бы тогда, на балконе, когда она прилипла носом к террариуму, стрелка сразу перепрыгнула на десять минут — и ничего бы не случилось! Тут она подумала, какая она глупая, и сокрушенно покрутила головой. К ней подошел человек с чемоданом и спросил, как пройти на Колокольную улицу. Она пошла с ним до угла и показала. А потом опять села на место. Прошло двадцать три минуты. Теперь Лида думала о том, очень ли больно, когда на голову хлопается террариум, или только обидно. Плохо, конечно, что там был песок, он мог попасть в глаза… Мимо нее прошла маленькая девочка. У нее развязался шнурок, и она все время на него наступала. Лида догнала ее и завязала шнурок бантиком. И опять уселась ждать и думать. Теперь она думала об Алексее Ивановиче: что у него нет ни кошки, ни собаки. Был только один дракон, а теперь нет никого… И ей так захотелось сказать ему, чтобы он не горевал, что Миша сейчас достанет три рубля, что мальчик принесет тритона и Алексею Ивановичу опять будет с кем играть в домино! Тут она тихо засмеялась. А что, если узнать телефон и позвонить Алексею Ивановичу? Да нет. Он и разговаривать не станет. Повесит трубку, и все. Она опять погрустнела. А если телеграмму? Было без десяти одиннадцать, когда к подворотне примчался тритонщик. — Видала точность? — заорал он на ходу, показывая на часы. — Молодец! — закричала Лида. — Умница! Тритон хороший? А лапки все? — И лапки и крылышки! — гордо сказал тритонщик. — Какие крылышки? — А как он, по-твоему, летает? — хладнокровно сказал мальчишка. Лида захлопала глазами. Она представила себе, как тритон летает вокруг тети Лизы… — Покажи, — пролепетала она. Тритонщик таинственно поманил ее в подворотню. — На! — и царственным жестом протянул ей взъерошенного чижика. Лида ахнула: — Что это? — Что надо, и еще лучше! — Но это же не тритон, это птичка! — Лида с отчаянием смотрела на продавца. Мальчишка сорвал кепку с головы и шваркнул об землю. — Да вы что?! — завопил он. — То им одно, то другое! Бегаешь как собака, а они нос воротят! Давай деньги! Лида стояла с самым несчастным видом. Она не могла вставить ни одного слова, пока он не кончил кричать. — Да что ты, мальчик! — наконец сказала она. — Ты, наверное, не понял. Мы чижика не просили. Мы просили тритона. — Говори: этого берешь? — Не беру! — твердо сказала Лида. Тут, как ни странно, мальчишка сразу успокоился, поднял кепку и надел на голову. — Железно, — сказал он. — Будет тритон. — С гребешком? — спросила Лида. Она вспомнила, что у того тритона был гребень. — С гребешком. Через два часа здесь. Давай десять копеек. — Аванс? — деловито спросила Лида. Тритонщик презрительно посмотрел на нее. — На автобус! Лида дала ему гривенник, и он моментально скрылся из виду.8
Подумав, Лида подняла с тротуара пустую коробку от папирос «Казбек», оторвала крышку и на обратной стороне написала: «Миша, я на почте». Заткнула записку за табличку «Звонок к дворнику» и помчалась на почтамт. Там она взяла телеграфный бланк и принялась сочинять телеграмму Алексею Ивановичу. Это оказалось не так просто. Во-первых, перья: они или не писали совсем, или продирали бумагу. Во-вторых, люди. Наверное, у Лиды было что-то такое в лице, что к ней все подходили с просьбами и она никому не могла отказать. Сперва она показала старушке Степановой, где расписаться на переводе от сына. Потом старательно выводила адрес на посылке в Якутию. Потом читала письмо женщине, которая забыла дома очки. И только после этого, забравшись в дальний угол, смогла заняться телеграммой. И стала писать все, что думала и чувствовала:ЗЕЛЕНОГОРСК САДОВАЯ 13 КВАРТИРА 7 АЛЕКСЕЮ ИВАНОВИЧУ МАМОНТОВУ ОЧЕНЬ ПРОСТИТЕ НАС ДОРОГОЙ УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕИ ИВАНОВИЧ И ВАША ТЕТЯ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ГОРЮЙТЕ ДРАКОНА ДОСТАЛИ С ГРЕБЕШКОМ ПРИНЕСЕМ ВЕЧЕРОМ ИЗВИНИТЕ Я НЕ ХУЛИГАНКАИ, дуя на телеграмму, Шершилина стала в очередь. Она очень радовалась, что Алексей Иванович скоро получит телеграмму и утешится. Сияя, она протянула бланк телеграфистке. Телеграфистка в зеленой кофточке, быстро подчеркивая, подсчитывала слова. — Скажите, она скоро дойдет? — спросила Лида. — Скоро. Фамилия как? Мершилина? — Шершилина, — отчетливо, как в классе, сказала Лида, всунув голову в окошечко. И вдруг с ужасом увидела, как телеграфистка писала на бланке: «1 рубль 15 коп.». — Ой, что вы! У меня денег не хватит! У меня только шестьдесят три копейки! — Так не пиши тридцать пять слов! — И телеграфистка бросила телеграмму обратно. — А сколько можно на шестьдесят три копейки? — Половину!.. — сказала телеграфистка и уткнулась в следующую телеграмму. Лида отошла в уголок и задумалась. Выходит, надо выбросить из телеграммы семнадцать слов. Самое меньшее! Адрес — восемь слов — трогать нельзя, а то ее, наверное, не туда доставят. Значит, на весь разговор Лиде остается всего-навсего десять слов! Вот это была задача! Но что бы ни было, самые хорошие слова она оставит. Можно вычеркнуть «очень», хотя она в самом деле очень виновата… Дальше. Какое из двух слов оставить: «дорогой» или «уважаемый»? «Дорогой» лучше. Потом Лида сообразила: если«Алексей Иванович» есть в адресе, он же поймет, что это написано ему. И вычеркнула еще эти два слова. Тут Лида вспомнила, что один раз получила телеграмму: «Поздравляю днем рождения». «С» не было, но мама сказала, что в телеграммах так и надо. Значит, все маленькие слова вон! И Лида сразу выкинула: «и», «с», «я», «из». Телеграмма стала короче еще на четыре слова! Осталось выбросить десять слов. Но чем их меньше оставалось, тем было труднее вычеркивать. «Пожалуйста не горюйте дракона достали» — это совершенно необходимые слова. «Гребешком» надо оставить. Лида вычеркнула «вечером», «извините» и «нас». Что же получилось?ШЕРШИЛИНА ИЗ 27 ШКОЛЫ
ПРОСТИТЕ ДОРОГОЙ ВАША ТЕТЯ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ГОРЮЙТЕ ДРАКОНА ДОСТАЛИ ГРЕБЕШКОМ ПРИНЕСЕМ НЕ ХУЛИГАНКА«Очень хорошая телеграмма», — решила Шершилина и сосчитала слова. Шестнадцать! Ой, еще шесть слов лишних! С тяжелым вздохом она выбросила хорошее слово «пожалуйста» и не такое хорошее — «школы». И тут она сообразила, что знаменитого писателя в его собственной квартире почтальон найдет и без имени-отчества. И вычеркнула из адреса «Алексею Ивановичу». Оставалось два слова лишних, но Лида уже ничего больше не могла выбросить. И она понесла телеграмму, как есть. — Извините, — жалобно сказала Лида телеграфистке, — у меня никак больше не сокращается. Телеграфистка стала читать телеграмму, и брови у нее поднимались все выше и выше. Вдруг она вскочила и унесла телеграмму к дальнему столу, где ее подруга стучала телеграфным ключом. Они начали хохотать. Потом обе подошли к окошечку и высунулись к Лиде: — Слушай, а что это за «дракон» и «ваша тетя»? Лида быстро рассказала свою горестную историю. Девушки ахали и фыркали. Потом телеграфистка сказала: — Все равно два слова надо сократить. — Сама знаю, — печально сказала Лида. — Но какие? — Может быть: «Не горюйте»? — Ой, что вы! — испугалась Лида. — Самые главные слова! — Тогда: «Не хулиганка», — сказала телеграфистка и вычеркнула. — Теперь все в порядке.ШЕРШИЛИНА 27 ШКОЛЫ
ЗЕЛЕНОГОРСК САДОВАЯ 13 КВАРТИРА 7 МАМОНТОВУ ПРОСТИТЕ ДОРОГОЙ ВАША ТЕТЯ НЕ ГОРЮЙТЕ ДРАКОНА ДОСТАЛИ ГРЕБЕШКОМ ПРИНЕСЕМ ШЕРШИЛИНА 27.Лида высыпала все свои деньги на окошечко, а телеграфистка протянула ей квитанцию. — Шестьдесят четыре копейки? — вскрикнула Лида. — А у меня шестьдесят три! — Такая история стоит дороже, — весело сказала телеграфистка. — Большое спасибо, я отдам, — сказала Лида. И тут на почтамте появился Миша Коробкин. Лида подбежала к нему и стала рассказывать: как тритонщик принес не то, и как она твердо отказалась, и как потребовала, чтобы с гребешком, и что через два часа тритон будет в подворотне. — А ты достал три рубля? — спросила она. — Почему три? — Так он же сказал: три… — Ты глупа, Шершилина, ты плохо знаешь арифметику. Сколько, по-твоему, нужно прибавить к семидесяти трем копейкам, чтобы получить в сумме три рубля? Лида похолодела. Снова надвигалось что-то страшное. Дрожащей рукой она протянула Мише квитанцию. Сперва он не понял, в чем дело. Но когда понял… Лидино счастье, что они были на почте, а не в подворотне, а то Миша разорвал бы ее на кусочки! Но вокруг были люди, и Миша, уставившись на Лиду, кричал ей в лицо пронзительным шепотом: что зачем ему навязали эту идиотку, и что она его утопит, и что его снимут с председателя отряда, и что если бы он тоже не отвечал за поручение, то пусть бы она хоть сама свалилась с балкона, какое ему дело! Два часа он из-за нее уламывал отца, бухгалтера, дать ему два рубля двадцать семь копеек, и наконец выклянчил, и то только в счет своих карманных денег на будущий месяц, и теперь ему негде взять ни копейки… Тут он умолк. А когда к нему вернулись слова, кончил так: — Иди сама и доставай, где хочешь. Но чтоб через два часа деньги были. Я жду у подворотни.
9
Честное слово, Лида сделала все, чтобы достать деньги! Прежде всего она, конечно, побежала домой: бывало, что мама заходила ненадолго с дежурства. Но уж если не везет, так не везет. Дома не было ни мамы, ни соседки Ольги Павловны, у которой можно было попросить. Не было даже брата Женьки, он где-то носился на самокате. Проходя мимо зеркала, Лида увидела себя и покачала головой. Нарядное школьное платье уже ни к чему. Она переоделась в домашнее и решила сходить к своей лучшей подруге Лиле. Вот кто ее выручит! Лиля жила во дворе напротив. Но это был, наверное, совсем несчастный день! Еще у дверей Лида услышала, как Лилина мама кричала на Лилю, чтобы та не смела надевать ее берет на собаку. Лида подождала немножко, но Лилина мама кричала все громче, и Лида ушла, так и не позвонив. Во дворе она вдруг рассердилась на себя: почему она такая глупая? Как люди достают деньги? Что, они ходят и просят друг у друга? Нет, они зарабатывают! Через несколько минут Лида уже стояла перед доской объявлений. Вокруг нее, как пчелы, жужжали люди, которые хотели меняться комнатами. Они сходились, о чем-то сговаривались, потом расходились и сходились с другими, будто играли в какую-то игру. К Лиде даже подбежал один старичок и спросил: «Что вы меняете?» — но, увидев девчонку, махнул рукой. Наконец Лида протиснулась к доске и прочитала все объявления сверху донизу. Никогда она не знала, что объявления — это так интересно! Кто-то давал уроки на гитаре по какой-то циферной системе, другие обучали всем иностранным языкам, продавали собак, шкафы, коз и радиолы. А больше всего требовались няньки, особенно опытные. Лида подумала: «Опытная я или нет?» И решила, что очень опытная, потому что никто ни с кем так не мучился, как она с Женькой. Она вынула тетрадку, которую специально захватила из дому, и записала подходящее объявление: «Требуется няня к одной девочке». После Женьки к мальчикам ей не хотелось. Выбравшись из толпы, Лида пошла наниматься. По дороге она увидела витрину с зеркалом и немножко задержалась: надо же было, перед тем как явиться на работу, привести себя в приличный вид! Она переплела косу, расправила бант и, когда стряхнула с платья последние пылинки, вдруг с грохотом повалилась на землю. Вокруг ее ног обвилась веревка с двумя консервными банками, а над ней плясали двое одинаковых мальчишек в желтых майках и орали: «Смерть девчонкам!» Лида так привыкла к ударам судьбы, что даже не удивилась. Она только швырнула банки в мальчишек, и те с гоготом понеслись дальше. Вы, конечно, догадались, что это были близнецы Боря и Лева, те самые, которые каждый день скатывались по перилам с четвертого этажа, пугая Сергея Васильевича. Лида почистилась и пошла дальше, заглядывая в тетрадку. Оказывается, ей надо было опять пройти по Большой Минеральной, мимо дома в лесах, где утром на них с Мишей свалилось ведро с мелом. Вспомнив об этом, Лида вздохнула. Такое было хорошее утро, и ничего еще тогда не случилось… Тут она услышала зычное: «Эй!» — и подняла голову. Прямо на нее сверху глядел тот самый усатый. — Вы мне? — спросила Лида. — Когда ты являешься? Раньше не могли прислать? — заорал он. — И почему одна? Почему ты одна, я тебя спрашиваю! — Я не знаю, — пролепетала Лида. Но он не слушал. Он орал, что нечего посылать пигалиц, что у него не детский сад и что пятого этажа не будет! У Лиды звенело в ушах. Тут усатый вдруг замолчал и исчез. Но только Лида двинулась дальше, усатый вынырнул этажом ниже и заорал, чтобы она немедленно вставала на работу. Работа? Да ведь это как раз то, что ей надо! Неужели ей наконец повезло? Не прошло и пяти минут, как она, полная усердия, тащила носилки с песком вдвоем с Жучковой, огромной теткой, до глаз повязанной рыжим платком. По дороге Лида робко спросила: дадут ли ей сегодня аванс. Но Жучкова ее не слышала, она пела пронзительным голосом:Ну скажите, был ли еще кто-нибудь на свете в таком ужасном положении? Бедная, глупая Шершилина! Куда ж ты теперь пойдешь с пустым ведром и двумя копейками?
10
Конечно, Миша Коробкин не сидел у подворотни все два часа. Он действовал. Сначала обежал все зоомагазины. Тритонов не было. Тогда он пошел в зоологический сад, ловко прошмыгнув без билета. В отделе земноводных были и крокодилы и тритоны. Но Миша мог только смотреть на них через стекло. Тогда он отправился к заведующему отделом. Но, как ни клялся в своей любви к пресмыкающимся и ни выпрашивал хоть одного тритончика, заведующий не дал. Кстати, заметил он, тритон не пресмыкающееся, а земноводное. И Коробкин, проклиная эту растяпу Шершилину, с которой связала его несчастная судьба, вернулся к подворотне. Уже было сорок минут первого, а эта разиня Шершилина все не шла. Стрелка часов прыгнула на сорок третью минуту. И тут, словно из-под земли, явился продавец тритонов. — Видал точность? — торжествующе заорал он. Миша смутился. Шершилиной нет, и заплатить за тритона нечем. — Точность твою видели, — сказал Миша как можно небрежней. — Мы твоего тритона не видели. — Во! — сказал мальчишка и поднял большой палец. — Воображаю! Дохлый, наверное, и без хвоста. — Сам без хвоста! — обиделся тритонщик. Они зашли в подворотню. Мальчишка осторожно высунул из-за пазухи слепую мордочку крота и победоносно взглянул на Мишу. — Ну, что? — спросил Миша. — А чего еще? — сказал тритонщик. — Это, по-твоему, тритон? — ледяным тоном спросил Миша. — А кто же это? — нагло сказал мальчишка. — Знаешь что? Убирайся ты к черту со своими крысами! Отдавай шестнадцать копеек, и чтоб духу твоего не было! Но продавец тритонов знал свое дело. Привычным жестом он сорвал кепку с головы, швырнул на землю и завопил (это, видимо, была его манера продавать тритонов): — Да вы что?! Бегай для них как собака, а им шестнадцать копеек жалко! Да я, может, на трешку подметок сбил! Да знаешь, сколько я за эту паршивую крысу отдал?! Но на Мишу представление не подействовало. Он схватил мальчишку за шиворот: — Деньги или тритон! Тритонщик сразу притих и сказал мирным тоном: — Ну чего шумишь? Тритон нужен — так бы и сказал. Я же хотел как лучше. Я в городе все места обегал — нету. Им сейчас не сезон. А есть у меня один верный человек. У него этих тритонов завались — восемь штук. Так он в Малиновке живет, на электричке туда ехать надо, туда-обратно двадцать копеек. — Как, еще двадцать! — воскликнул Миша. Его лицо стало каменным. Мальчишка понял, что надо менять курс. — Залог хочешь? Кепку даю! Миша посмотрел на кепку. Ее, видно, кидали на землю раз триста, если не больше. — Куда ее! — Удочку хочешь? — вскричал тритонщик, и, прежде чем Миша успел ответить, он вылетел из подворотни, исчез за углом и тут же явился с длиннейшей удочкой, обмотанной леской. — На! Миша придирчиво осмотрел удочку. Двадцать копеек она, конечно, стоила. И Миша не очень охотно, но дал мальчишке двугривенный. — Когда привезешь? — В шестнадцать ноль-ноль. Как из пушки! — Не надуешь? — Провалиться мне на этом месте! — поклялся мальчишка и тут же провалился — иначе нельзя было объяснить его мгновенное исчезновение. Только сейчас Миша увидел Шершилину. Она стояла поодаль с несчастным видом и с ведром. Миша пристально смотрел на нее. — Я чувствую, Шершилина, что ты не принесла денег. Правду я говорю? Она кивнула. — Зачем ты притащила ведро? Лида опустила голову. — Ты хочешь, чтобы я продавал твои ведра? Лида покачала головой. — Так что же ты молчишь как пень! И Лида, ничего не скрывая, рассказала горестную историю с ведром и квасом. Что было между ними дальше, представьте себе сами. Нам было бы неприятно об этом писать, а вам — читать. А кончилось так: эта никчемная, глупая неудачница Шершилина поплелась куда глаза глядят, и ведро покачивалось в ее опущенной руке. А Миша исподлобья глядел ей вслед и что-то обдумывал. Вдруг он крикнул: — Эй, Шершилина! Она вернулась. — Оставь ведро, — велел он. — И помни: через два часа здесь с деньгами! Лида поставила ведро, печально кивнула и пошла. Пока она не скрылась из виду, Миша смотрел ей вслед. И зачем на свете живут такие дуры? Чтобы всё портить и ставить людей в ужасное положение. Нет, на нее надеяться нечего. Не хочешь позора — действуй сам! Так рассуждая, Миша взялся за ведро. Зачем же нужно было ведро Мише Коробкину, спросите вы. Об этом узнаете дальше.11
Теперь нам придется снова заглянуть в Озерный переулок, к девочке Алисе и щенку Шарику. Два часа. Шарик с Алисой сели обедать. На детском столике был оставлен обед, покрытый салфеткой. Алиса сняла салфетку, а Шарик стал выбирать, с чего бы ему начать. Первым делом он цапнул кусок сахару. — Сладкое потом! — строго сказала Алиса и хлопнула его по носу. Шарик куснул ее за палец. Алиса с укором поглядела на него. — А тебе было бы хорошо, если бы я тебя укусила за палец? Шарик не ответил, потому что уже был занят котлетой. Когда Алиса доела то, что оставалось от Шарика, она отняла у него туфлю, которой он закусывал, и сказала: — А теперь гулять! Шарик весело тявкнул и затрусил к подоконнику. Они отодвинули горшки с кактусами и уселись на окошке. Так они гуляли всегда до маминого прихода, потому что гулять по-настоящему было не с кем. По той стороне улицы прошел солдат с трубой. — Чур, моя труба! — крикнула Алиса. Шарик остался без трубы, но он не огорчился: по карнизу шла кошка, и он тут же ее облаял. — Какой хитрый! — обиделась Алиса. — Захватил такую красивенькую кошечку. Но делать было нечего: всё по правилам. Шарик первый заметил, первый сказал, и кошка досталась ему. А потом Шарик получил еще целый самолет. Алисе стало совсем завидно. — Как тебе не стыдно! — закричала она. — Кошка ему, самолет ему, и все автобусы всегда ему, и троллейбусы! А мне только одна труба. А тебе было бы хорошо, если бы у тебя была одна труба? Тут она увидела возле их дома девочку с голубой тетрадкой. Девочка смотрела на их парадное. — Чур, моя тетрадка! — закричала Алиса. — И вся девочка моя! — быстро добавила она, чтобы Шарику было обиднее. Но девочка уже скрылась в парадном. А через минуту Шарик вдруг скатился с подоконника и с лаем кинулся в переднюю. Алиса побежала за ним. Раздался тихий звонок. Алиса знала: открывать нельзя. Но все-таки, кто же стоит за дверью и хочет к ним войти? — Кто там? Волк? — спросила Алиса. Ей ответил совсем не волчий голос: — Что ты! Наоборот! — Тогда скажи: волк дурак! — потребовала Алиса. — Волк дурак! — ответили ей. — Открой, девочка… Но Алису не так легко провести. Мало ли кто попросится хорошим голосом! — Да, а ты сначала скажи: кто ты? — Я Шершилина, из двадцать седьмой школы! Алиса не знала: Шершилина — это хорошо или плохо? Она посмотрела на Шарика: что он думает? Но Шарик сидел, завернув одно ухо, и, склонив голову, смотрел на дверь. Тогда Алиса громко спросила: — А что тебе, Шишилина, надо? — Скажи маме, что пришла няня. — Няня? — обрадовалась Алиса. — Тогда иди скорей наниматься и пойдем гулять! Алиса быстро открыла дверь. Перед ней стояла ее собственная девочка с голубой тетрадкой! Алиса гордо посмотрела на Шарика и сказала: — А к тебе твои кошки не придут. Никогда! Она схватила Лиду за руку и повела в комнату. Лида погладила Шарика и спросила: — А где же твоя мама? — На работе. «Ну конечно, — подумала Шершилина, — это потому что я! Пришли бы другие — мама была бы дома». Алиса будто поняла ее мысли: — Ничего, я сама тебя найму. Я знаю, как нанимать. Мы с мамой уже нанимали, только те все были плохие. А ты хорошая, я тебя очень скоро найму! Алиса суетилась вокруг Лиды. — Ну, сначала садись… Не сюда, а сюда. У нас няньки нанимаются на этом диване. Они сели. Помолчали. Лида разглядывала разбросанные игрушки, криво постеленное одеяло на кровати, изгрызенную туфлю… Алиса вспоминала мамины разговоры с няньками. — Ну, значит, ходить за ребенком, — начала она солидно. — Еще заводить радио… Теперь ты. — Что — я? — не поняла Лида. — Ну, спрашивай меня: с постирушкой или без постирушки? — А вам как надо? — спросила Лида. Они обе не знали, что такое постирушка. — Нам надо постирушку, — сказала Алиса. — Пусть тоже у нас живет. Лиду мучил вопрос: дадут ли ей сегодня аванс — немножко денег? Но не могла же она говорить об этом с Алисой или. Шариком! И она решила дождаться маму. Тут Алисе наскучил разговор. Она слезла с дивана и сказала: — Довольно наниматься. Теперь, няня, веди нас гулять! И они пошли гулять: Алиса, Шарик и Шершилина.12
Здесь пришла пора познакомиться поближе с Борей и Левой, мальчиками из того дома, где живут Сергей Васильевич и Таисия Петровна. Как вы помните, мы оставили их под деревом налитыми квасом до ушей. Им было не по себе. И это был тот редкий в их жизни момент, когда они не могли драться. Поэтому они только лениво спорили. На этот раз о футболе. Боря утверждал, что, если бы в ворота вместо мяча летел тигр, Яшин бы его отбил. Лева говорил, что никогда Яшин не отобьет тигра. Когда они немножко охрипли, Боря сказал, что лучше бы Лева помалкивал, когда говорят старшие. Он был старше Левы на пятнадцать минут и никогда не упускал случая напомнить об этом. Но Лева всегда отвечал: на пятнадцать минут старше, на сто лет глупее. После этого они дрались. Не кончив спора о Яшине и тигре, они почувствовали, что уже могут встать и действовать. Правда, план действий был еще неясен. Поэтому они просто пошли куда глаза глядят. Глаза глядели в Сад отдыха. Туда они и отправились. По дороге братья решали вопрос, кто выше прыгает — лягушка или блоха. Боря стоял за лягушку, Лева — за блоху. Оба кричали: «Докажи!» Но ни лягушки, ни блохи под руками не было. Они вошли в сад. В одном из уголков Сада отдыха был шахматный клуб. Вокруг киоска, где выдавали шахматы и домино, стояли маленькие столики. За ними в глубоком молчании сидели игроки. Друг против друга, упершись кулаками в щеки, сидели Сергей Васильевич и бывший вагоновожатый трампарка номер один. Хотя погода была хорошая, Сергей Васильевич, помня, что вчера их разогнал дождь, был сегодня в галошах. Ему было плохо. Только что он зевнул слона. Он уже минут двадцать смотрел на доску. И вдруг спросил: — Какими я играю? — Черными, дорогой товарищ, черными! — ехидно сказал вагоновожатый и показал на черного слона, который стоял уже не на доске, а на столике. Сергей Васильевич беспомощно огляделся. Вокруг сидели, уткнувшись носом в доску, люди в соломенных шляпах. Но никому не было дела до того, что человек пропадает. А главное, не было рядом Таси.Нянька Лида вела на прогулку Алису и Шарика. Черный Шарик рвался вперед, натягивая поводок так, что ошейник грозил его задавить. Он хрипел и кашлял, бросаясь в разные стороны. Другой такой любопытной собаки на свете не было. Его интересовало всё: каждая бумажка на тротуаре, спичечный коробок, яблочный огрызок. Но особенно его привлекали зонтики и шнурки на ботинках. Он натягивал поводок поперек тротуара, и прохожие должны были скакать через веревочку. Он закатывался под все ворота и скамейки, ошеломленный вихрем незнакомых запахов. Они вошли в сад. — Вот посмотришь, как все сейчас прибегут! — гордо сказала Алиса Лиде. И правда. Как только они вошли, к ним со всех сторон побежали дети, бросая лопатки, песочницы и скакалки. — Черненький пришел! Шарик, Шарик! Можно я его поглажу? — кричали они. — Нельзя, — важно сказала Алиса. — Он еще не знает ваши фамилии и может укусить. Тогда все наперебой закричали свои фамилии и начали знакомиться с Шариком. А Лида стала смотреть: что делают другие женщины, когда приводят детей в сад? Сидят на скамейках и разговаривают. И она тоже села — на ту скамейку, где утром сидела с Мишей. Вспомнив утро, Лида горько вздохнула. Она вздохнула бы еще тяжелее, если бы знала, что к ней приближается новая беда.
По главной аллее шли братья Боря и Лева. — А я говорю — могут! — это Боря. — А я говорю — не могут! — это Лева. — Так что, по-твоему, не бывает говорящих собак? — Одна или две на весь мир. И то самые гениальные. — Так я же не про гениальную! Я про всякую. Что всякая собака может сказать «ку-ку». — Будет тебе собака говорить «ку-ку»! Не такая она дура! — А я говорю — будет! — А докажи! — А вот! Давай сюда любую собаку, я ее в два счета научу говорить «ку-ку»! — Пари? Они заключили большое пари. Лева поставил свой почти целый топорик, который нашел в лесу, а Боря — чудный велосипедный насос. Теперь дело было за собакой. И через несколько шагов они увидели собаку. Конечно, это был Шарик! Дети обступали его со всех сторон. Те, чьи фамилии Шарик уже знал, гладили его. А те, которые еще сами не знали своих фамилий, стояли и завидовали. — Эту можешь? — спросил Лева. Боря, прищурившись, внимательно смотрел на щенка. — В два счета, — ответил он. — Забирай ее, и идем. — Да, забирай! — сказал Лева. — Она же чья-то. А если не дадут? Боря снисходительно поглядел на Леву. Недаром он был старше на пятнадцать минут. — А ты что, спрашивать собрался? — Так заревут… — Ха! Еще спасибо скажут! Взяли на часок необразованную собаку, а вернули говорящую! А пока, чтоб детки не плакали… Боря обвел глазами сад, остановился на шахматистах и вдруг фыркнул. — Есть план!.. Заговорщики пошептались, похихикали и разошлись. Боря пошел к шахматистам, к столику, где играли Сергей Васильевич и вагоновожатый. Думая над ходом, Сергей Васильевич машинально покачивал галошу на носке ботинка. Боря стал за его спиной и сделал вид, что следит за партией (хотя он играл в шахматы всего один раз, да и то в уголки). А Лева, заложив руки за спину, подошел к Алисиному кружку. — Ах, какая чудная собачка! — сказал он фальшивым голосом. — Чья это собачка? — Моя! — гордо сказала Алиса. — Ее! — хором сказали дети и показали на Алису пальцами. Лева продолжал разведку: — А как же зовут эту чудную собачку? — Шарик! — сказали все в один голос. — Какое чудное имя! — сказал Лева. Теперь он знал всё, что нужно, и можно было начинать. — Слушайте, ребятки, — сказал он, — а знаете вы такую игру — прятки с собачкой? Никто не знал этой игры, и все хотели в нее играть. И Лева как можно красочнее объяснил, какая это прекрасная игра. Все спрячутся как можно дальше. Алиса с Шариком будут водить. И Шарик сам отыщет всех до одного, вот увидите! — Ты до сколька умеешь считать? — спросил он Алису. — Десять раз, — сказала Алиса. Лева прикинул в уме. — Будешь считать три раза до десяти, поняла? Чур, не подсматривать, а то ничего не выйдет. Ну, раз, два, три! Дети разлетелись, как воробьи. Алиса, не выпуская поводка, прижалась лбом к дереву, закрыла глаза и начала считать. И тут все совершилось в какие-нибудь несколько секунд! Лева свистнул и махнул рукой Боре. Боря тотчас нагнулся, снял с носка Сергея Васильевича галошу и помчался к Леве. Алиса сосчитала до десяти и спросила: — Пора? — Не пора! — на бегу ответил Боря. А Лева в это время, присев на корточки, быстро отстегивал ошейник. А Шарик — Шарик, который лаял часами, когда не надо было, сейчас, когда надо было не только лаять, но и визжать, вилял хвостиком! Алиса еще раз сосчитала до десяти. — Пора? — Не пора! — крикнул Лева, убегая с Шариком под мышкой. А Боря, давясь от смеха, застегивал ошейник на галоше Сергея Васильевича. Алиса сосчитала до десяти в третий раз. — Теперь пора? — спросила она. Никто ей не ответил. Тогда она сказала сама себе: «Пора», и открыла глаза. — Шарик, нам пора! Алиса оглянулась… …Когда Лида примчалась на отчаянный вопль Алисы, она увидела галошу в ошейнике и Алису, которая сидела на земле и с ужасом глядела на эту галошу. А вокруг не было ни души. Все дети спрятались и ждали, когда Шарик их найдет. Где ты, Шарик? Бедная, бедная Алиса! Несчастная Шершилина!
13
Проиграв еще одну партию, Сергей Васильевич вернулся домой в одной галоше. — Понимаешь, Тася, — начал он, — он вышел пешкой от короля. И если бы я… Тут он увидел, что жена сурово смотрит на его ноги. Он тоже посмотрел на ноги, не заметил ничего особенного и продолжал: — …пошел конем… — Где вторая галоша?! — А разве их было две? — удивился Сергей Васильевич. Он еще мысленно продолжал играть. — Ну что ж, — сказала Таисия Петровна, — одна крышка и одна галоша за день, в конце концов, не так много. И, пока Сергей Васильевич снимал свою единственную галошу, Таисия Петровна уже забыла о другой. Она объясняла мужу, какая прелесть это существо из бидона. Они пошли в комнату. На столике стояла старинная супница, расписанная розами. Обычно она красовалась в стеклянной горке и вынималась только в дни рождения стариков, когда к ним съезжались дети и внуки. Сейчас на дне супницы была вода и плавали какие-то растения. А посреди скалой стояло пресс-папье из горного хрусталя, обычно украшавшее стол Сергея Васильевича. На скале, растопырив гребень, сидело разноцветное существо и пристально глядело на стариков. — Просто не знаю, чем его кормить! — жаловалась Таисия Петровна. — Оно отказывается есть! Я ему предлагала гречневую крупу, куриную котлету, рижский хлеб, цветную капусту, а оно нос отворачивает и худеет на глазах. Сергей Васильевич задумчиво смотрел на тритона. — Видишь ли, Тася, оно похоже, с одной стороны, на ящерицу, с другой — на лягушку. Я бы сказал, что оно нечто среднее между ящерицей и лягушкой. Значит, надо посмотреть в энциклопедии на «Я» и на «Л». Он достал два тома Большой советской энциклопедии и углубился в чтение. — Тася! — радостно крикнул он. — Я был прав! Обе они едят одно и то же! Нет ли у нас какого-нибудь жука? — В моем доме нет жуков, — сказала Таисия Петровна. — Или мухи, — продолжал Сергей Васильевич. Старики начали охотиться за мухами. К сожалению, в квартире была такая чистота, что они нашли только двух мух, а поймали одну. И то при этом Таисия Петровна свалилась со стула, а Сергей Васильевич сбил стенные часы. Но всё было забыто в то мгновение, когда тритон проглотил муху! Запыхавшись, старики сели на диван. — Значит, будем кормить мухами, — весело сказал Сергей Васильевич. — А кто этих мух будет ловить, и где? — ехидно спросила Таисия Петровна. — Ну, Тася! В конце концов, можно и бабочек. — Только этого мне не хватало — скакать за какими-то бабочками.! Таисия Петровна направилась к стенным часам, подняла их с полу и твердо сказала: — Я вижу только один выход. Ты отвезешь этого страдальца к Александру Владимировичу. Он добрый человек и прекрасно ловит мух.Сергей Васильевич, в новой соломенной шляпе, спускался по лестнице. В руках у него была банка из-под маринованных грибов, а в банке был тритон. А внизу у парадной дежурил Лидин брат Женька. Вспомним, что, когда утром Женька налетел на коляску и его схватили за ухо, старик с тайной в бидоне успел от него ускользнуть. Но Женька был не из тех, кто отступает при первой неудаче. Он решил выследить старика во что бы то ни стало. Сергей Васильевич не подозревал, что, когда он мирно шел в сад играть в шахматы, за ним по пятам катил сыщик на самокате. Женька проводил его до самого сада и подождал, пока началась партия. Тогда он решил, что старик от него не уйдет и можно скатать домой поесть. Между прочим, в саду у него вышла небольшая неприятность: он увидел Лиду, и надо было прятаться за киоск, чтобы она не заметила. Когда Женька вернулся из дому на свой пост, Лиды в саду уже не было, а старик доигрывал партию. Женька дождался конца игры и проводил его домой. По дороге Женька заметил странную вещь: на старике была только одна галоша! Женька понял, что это неспроста, и что он правильно сделал, когда стал следить за этим стариком. Он твердо решил не уходить с поста, пока не раскроет все тайны.
Внимание! Из парадной выходит загадочный старик! И несет банку! А в банке что-то шевелится! Конечно же, то самое, что прыгнуло с балкона в бидон! Женька вился на самокате вокруг Сергея Васильевича, лавируя среди прохожих, подъезжая то справа, то слева, и пытался заглянуть в банку. Но он видел только этикетку «Маринованные грибы» и лапки с перепонками. Вот что: лучше он заедет спереди! Женька выехал на мостовую, в три замаха ноги обогнал старика с банкой, потом повернул. Старика не было! Женька дернулся налево, направо… Синий плащ и соломенная шляпа мелькнули на переходе. Женька ринулся туда, догнал беглеца и уже не отставал от него. Вот наконец удобный момент. Женька объехал старика, круто затормозил, и… какой ужас! Это был не тот старик и не та банка! Та была только шляпа. Женька бросился назад, влево, вправо… Тот старик опять от него ускользнул! — Проклятие! — сказал Женька. Но не думайте, что он отступит! Он только съездит домой, подкрепится — и снова на пост…
14
С большим ведром в руке и с удочкой — в другой председатель отряда Коробкин шагал по берегу реки. Он выбирал самое рыбное место. Его план был прост и разумен: наловить рыбы, продать, разделаться с тритоном, Шершилиной и вылезти из этой дурацкой истории. Вот, кажется, нашел! У самой реки стоял деревянный домик. На нем торчала антенна телевизора. Рядом в реку уходили шаткие мостки. По всему берегу, как птицы на проволоке, сидели рыбака и торчали удочки. Сперва Миша прошелся туда и обратно и пригляделся. Лучше всего клевало у одного старого рыболова. Он сидел в тени домика. У него было три удочки, и он едва успевал снимать с крючков рыбу и бросать в ведерко. Миша решил, что его место тут. Он подошел и прежде всего сказал: — Здравствуйте! Рыболов, не глядя на него, что-то пробурчал. Рыбаки терпеть не могут, когда им мешают. Миша был вежливым мальчиком. Он поставил свое большое ведро рядом с рыбаком, сел и пожелал ему хорошего улова. Рыбак просто плюнул от ярости. Нет хуже, как сказать что-нибудь такое, когда человек удит рыбу! Миша больше не заговаривал с рыболовом, но искоса посматривал на него и все делал, как он: немножко размотал леску, нацепил червяка на крючок, забросил рядом с удочками рыбака. И стал ждать. Не клевало. У рыболова тоже перестало клевать. И он начал бурчать себе под нос о некоторых, кому не хватает места, кто сам рыбалку не понимает и другим пакостит. Миша подумал: «Не твое дело, где хочу, там и сижу». Но вслух ничего не сказал. Они глядели на поплавки. Рыба не клевала. Старого рыбака душила ярость. Он повернулся и, прищурившись, посмотрел на Коробкина, на его большое ведро. — Эй, ты! Тебе ведерко не маловато? Ты бы лучше ванну! Миша молчал. Он злорадно подумал, что его удочка вдвое длиннее, чем у этого грубияна. Миша ему сейчас покажет! Вот он закинет крючок на самую середину реки! Он привязал камень к грузилу, встал и, взявшись обеими руками за удочку, ка-ак размахнулся!.. Что это значит? Кто-то держит леску за его спиной! Миша оглянулся и увидел, что его крючок зацепился за антенну на домике.…Между тем в домике три сестрички и кошка сидели перед телевизором. Они смотрели передачу «Для семьи». Родители на экране объясняли своим непослушным детям, как плохо вести себя плохо и как хорошо вести себя хорошо. На этом месте самая маленькая сестричка Люська заснула и свалилась со скамейки. Валя и Галя подняли ее за шиворот и усадили на место.
А Миша Коробкин отчаянно дергал леску, антенна качалась, но не отпускала крючок. Рыбак с наслаждением смотрел на эту картину. — Эй, парень! — сказал он. — Может, научишь, на какую наживку дома клюют?
Что такое? В телевизоре родители вдруг заплясали. Верхние половины туловищ отделились от нижних, а непослушных детей стало вдвое больше. По экрану побежали веселые полосы. У трех сестричек загорелись глаза. Они подпрыгивали на стульях, визжали, хлопали в ладоши и хохотали. Кошка мяукала, а маленькая Люська от смеха свалилась со скамейки, но ее не подняли…
Мише Коробкину пришлось влезать на крышу и отцепить крючок от антенны. А рыбак веселился на берегу. У него начало клевать. И вдруг на экране всё исчезло и появилось другое: «Ремонт сельскохозяйственного инвентаря». Девочки дружно заревели. Прибежала мать и нашлепала всех подряд и даже кошку, хотя кошка была не виновата.
Миша тоже не был виноват ни в чем. Виновата во всем была Шершилина. И рыбак. Больше Миша с ним рядом не сядет. Миша парень с головой и знает, что делать. Миша молча забрал свое ведро и пошел на мостки. Там леске не за что будет зацепиться. Пока Миша нацеплял червя, вдали на реке показался речной трамвай. На открытой палубе у борта стоял Сергей Васильевич в новой соломенной шляпе. Обеими руками он бережно держал банку, в которой сидел тритон. Сергей Васильевич вез страдальца к доброму Александру Владимировичу, который так отлично ловит мух. Миша Коробкин и не подозревал, как близко от него проплывал тритон, тот самый, из-за кого он терпел такие муки! Пока Миша возился с червяком, речной трамвай подходил всё ближе. Вот он почти поравнялся с мостками. Миша опять взялся обеими руками за удочку, размахнулся, и леска с крючком полетела к пароходику. Несчастный день! Крючок впился в соломенную шляпу Сергея Васильевича. А тот, бедняга, даже не мог схватиться за голову, потому что обе руки были заняты банкой! Он только скорбно смотрел, как его новая шляпа птицей неслась к берегу… Злой судьбе и этого было мало. Дернув удочку, Миша свалился с мостков в воду. Рыболов катался по траве от смеха. Но, когда Миша, барахтаясь у мостков, заблеял, как ягненок, он вытащил его из воды за шиворот. Мокрый Миша дрожал на берегу от злости. Рыболов поймал удочку, отцепил шляпу, положил ее в ведро и любезно подал Коробкину. — С уловом! — поздравил он.
15
Придя домой, Боря и Лева прежде всего посадили Шарика на Борину кровать. Лева требовал, чтобы Боря сразу начал учить Шарика говорить «ку-ку». Но Боря ответил, что прежде всего он хочет видеть тот Левин топорик, который сейчас выиграет. А Лева сказал, что он тогда хочет видеть тот насос, который скоро возьмет себе. Они еще раз перевернули комнату, и без того перевернутую. Топорик нашли среди банок с крупой. Лева сказал: — Теперь можешь учить! Но Боря сказал: — Кон на кон! Пока насос не будет лежать против топорика, он учить не может. Насос нашелся под вешалкой, в папином сапоге. Тут Шарик начал лаять — как всегда, когда не надо. Мальчики испугались: сейчас явится ябеда Серафима Ивановна и прошипит: «Так и знала: эти бандиты опять притащили какую-то пакость! Имейте в виду, все доложу отцу!» — Тубо! Пиль! Апорт! — кричали Шарику наперебой Лева и Боря. Но щенок не был так образован, как они, и не понимал этих красивых слов. — Учи его скорей говорить «ку-ку» вместо лая! — зашептал Лева. — Если ты ничего не понимаешь в профилактике (откуда он взял это слово?), то лучше молчи, — сказал Боря. — Как по-твоему: может голодная собака говорить «ку-ку»? — Не может, — признал Лева. — Вот то-то и оно! Тогда не спорь, а тащи кусок колбасы! Теперь они перевернули кухню. Колбасы не было. Правда, была морковка, уксус и винегрет, но они для профилактики не годились. Вдруг с улицы донесся вопль: — Борилева-а!! Боря перегнулся в окошко. Внизу стояли мальчики с их двора с мячом. — Не. Мы заняты, — сказал Лева. — Заняты! — крикнул Боря. И вдруг Боря увидел: под ним, на балконе третьего этажа, среди цветов стоит накрытый столик. А на столике — кофейник, чашка, сахарница и на тарелочке — две сосиски! Внезапная мысль озарила Борю. — Ага! — сказал он.Таисия Петровна любила иногда попить кофе на балконе среди цветов. Там он ей казался вкуснее. Выпив чашечку, она вспомнила, что из-за сегодняшних переживаний и ловли мух она до сих пор еще не успела прочесть газету. И она спустилась вниз, к ящику. Она любила читать газеты. Прежде всего она искала что-нибудь в защиту лесов и рек. Таисия Петровна очень сердилась, когда ломали деревья и лили в реки всякую гадость. И, когда находила хорошую статью, всегда писала письмо в редакцию, что согласна с автором, обличающим эти безобразия. Вернувшись с газетой в комнату, она застыла на пороге: на ее балкон откуда-то сверху, медленно вращаясь, опускалась на веревке авоська. А в авоське вращалась маленькая черная собачка. Сверху высовывалась ее голова, а хвостик и лапы торчали сквозь петли. Таисия Петровна безмолвно смотрела, как авоська с собакой опустилась на столик, опрокинула чашку и взвилась вверх. Потом снова опустилась — на этот раз на горячий кофейник. Собачка взвизгнула, авоська взлетела и снова начала опускаться. — С чего бы я летала в авоське? — задумчиво сказала Таисия Петровна. На этот раз авоська опустилась прямо на тарелку. И щенок, урча, вцепился в сосиску. — Ах, окаянные! — воскликнула Таисия Петровна. Она давно знала своих милых соседей сверху. — Несчастная мученица! Ну, погодите у меня! Она сбегала в прихожую и принесла единственную галошу Сергея Васильевича. Потом быстро вытащила Шарика из авоськи и сунула туда галошу. — Вот вам сюрприз! — ехидно сказала она.
А Лева и Боря сидели на корточках, под окном, хихикая и радуясь своей выдумке. Боря держал конец веревки. Когда они точно попали Шариком на сосиску, они на всякий случай спрятались: у них были старые счеты с Таисией Петровной. Они спорили о том, сколько времени нужно Шарику, чтобы съесть сосиску, и когда его можно тащить обратно. — Я говорю — пора! — сказал Лева. — А я говорю — не пора! — сказал Боря. Они посидели еще немного. — Теперь пора, — сказал Боря и начал потихоньку тянуть веревку… Они оцепенели от ужаса. Вместо Шарика в авоське лежала галоша! Та самая галоша, которая осталась в саду вместо собаки! …Как и все событияв их жизни, и это кончилось дракой. В результате у Бори появился под глазом такой же синяк, как у Левы, и братьев опять нельзя было различить.
16
Всё больше и больше хотелось Шершилиной провалиться сквозь землю или превратиться в Шарика. Даже о балконе и террариуме она теперь вспоминала, как о чем-то приятном. Тогда, по крайней мере, она еще не обманула свою бригаду, не утащила чужое ведро, не обидела маленькую девочку, не потеряла чужую собачку… Так горестно думала Лида, таща за руку безутешную Алису. Голова ее гудела. Что делать с девочкой? Оставить дома одну без Шарика — невозможно! А ее мама вернется только в пять. А в шесть начнется школьный вечер… без писателя! А в четыре надо быть у подворотни, хотя она охотнее встретилась бы с тигром, чем с Коробкиным. Тут Алиса села на асфальт: — Не пойду! Отдавай мне Шарика! И тогда Шершилина, сама не понимая, что говорит, протянула ей галошу: — Вот твой Шарик! Алиса открыла рот и перестала плакать. А Шершилина вдохновенно сочиняла: — Злой колдун Черномор заколдовал нашего Шарика и превратил его в эту галошу. Понимаешь? — Почему? — пролепетала Алиса. — А потому что… вот потому что… Шарик загнал на дерево его волшебную кошку! — Он не загонял, — сказала Алиса. — Загонял, загонял, только ты не видела. Алиса схватила галошу и прижала ее к груди. — Насовсем? — спросила она, готовясь зареветь. — Нет, что ты! — сказала Лида. — Вот мы сейчас пойдем к Черномору, и я ему скажу такое слово, что он тут же перевернется! — И я ему скажу такое, что он перевернется! — Правильно! — сказала Лида, и они, взявшись за руки, пошли.Остался еще один поворот. Вот уже зоомагазин. Еще несколько шагов… «Наверно, он меня сейчас убьет, — подумала Шершилина. — Ну пускай, так мне и надо». У подворотни стоял Коробкин. — Это Черномор? — спросила Алиса. Ничего странного не было в ее вопросе. Посмотрели бы вы на Коробкина сами! Перед ними стоял мокрый, измятый и грязный мальчишка, и за ухом у него почему-то висела водоросль. Куда девался чинный председатель отряда? И почему, вместо того чтобы метать громы и молнии в Шершилину, он уныло смотрел вниз, туда, где у его ног натекли две лужицы? Лида всплеснула руками. Миша поднял глаза и сказал: — Чтоб ты пропала, Шершилина. И тут в подворотню ворвался тритонщик. — Как из пушки! — весело крикнул он. Посмотрел на мокрого Мишу, на растерянную Лиду, на девчонку с галошей на груди и добавил: — Полный порядок! Наконец Алиса увидела настоящего Черномора! На черном его лице сверкали глаза и зубы… — Черномор дурацкий! — завизжала она и вцепилась в тритонщика. — Тебе было бы хорошо, если бы тебя превратили в галошу? — Она колотила обалдевшего Черномора галошей и тыкала ее ему в нос: — Сейчас же преврати обратно, а то перевернешься! Миша вяло смотрел на всё это. Лида хохотала как сумасшедшая. — Уберите от меня эту психованную! — отбивался тритонщик. Лида схватила Алису на руки. — Это не тот Черномор, это другой Черномор, — сказала она. Алиса вздохнула и прижала к себе галошу. — Где тритон? — угрюмо спросил Миша. Тритонщик будто ждал этого вопроса. — Полный порядок! Был в Малиновке! Восемь штук! — Тритонов? — обрадовалась Лида. — Полканов. — Собак?! — Пеликанов. Берете? Лида закрыла лицо руками. Она умирала от смеха. А Миша Коробкин сел на ведро и заплакал. За ним заревела Алиса. Тритонщик снял кепку и мял ее в руках. Он смущенно сказал: — Брось ты, не расстраивайся. Я же честно говорю: я этих тритонов в жизни не видал, и какие они бывают, не знаю. Бегал всюду как собака. Не евши… Показали бы мне хоть одного, а? Миша зарыдал. — Знаешь что, мальчик, ты иди, — сказала тритонщику Лида. — Уходи! — сказала Алиса. Тритонщик на прощанье сказал: — Если кому надо… кролика или что — я тут всегда около магазина. Ты меня знаешь — я как из пушки! И продавец тритонов покинул покупателей. Миша еще всхлипывал. Лида тронула его за плечо. — Иди домой, Мишенька. Я сама пойду в школу, и к Алексею Ивановичу, и на совете скажу: ты не виноват. Я во всем виновата, пусть меня одну исключают! Миша встал. — Шляпа еще тут… — начал он, но махнул рукой и пошел. Лида вытащила из ведра соломенную шляпу, озадаченно повертела ее и бросила обратно. Потом подняла ведро и взяла Алису за руку. — Ну, пойдем, — грустно сказала она. — К Черномору? — спросила Алиса. — А куда же еще!
17
Как вы помните, потеряв на улице след Сергея Васильевича, Женька с горя поехал домой подкрепиться. Сейчас он возвращался на свой пост. В его кармане по-прежнему гремели монеты. Это ему вчера дала соседка Ольга Павловна за то, что он целый день не играл на барабане. По дороге Женька раздумывал, чего бы себе купить, чтоб веселей было дежурить у парадного: эскимо или пистоны? Пожалуй, пистоны: их можно щелкать камнями. Лида! На той стороне, понурив голову, шла с ведром его сестра Лида! И с ней маленькая девочка! А в руках у той девочки галоша! Что это значит?! «Стоп! — сказал себе Женька. — Это все неспроста. С этой девчонкой Лида была в саду. Раз! И мой старик был в саду. Два! Старик шел домой в одной галоше. Три! И они идут с одной галошей. Четыре! Значит, что? Значит, они нашли галошу и идут к старику ее отдавать. Все!» Ну, Женька не дурак, чтобы упустить такой случай! И он покатил за девочками. Конечно, он не ошибся: они повернули на Садовую, прямо к дому старика… Сейчас Лида войдет, а Женька за ней. Скажет: «Здравствуйте, я ее брат. Покажите, что у вас в банке!» Ой, что это? Куда они? Почему в тот дом, где с балкона… — Лидка! — заорал Женька. — Ты же не туда! Лида обернулась. — Старик же не тут живет! Я знаю где! — Какой старик? — устало спросила Лида. — Ну, галоша у кого, к кому с балкона прыгнуло это, с лапками… — Что?! — вскрикнула Лида. И Женька рассказал всё, что знал и видел.18
Таисия Петровна сидела на бульварчике против своего дома. Черный Шарик, вымытый, расчесанный, на шелковой ленточке, сидел перед ней и, склонив голову набок, слушал, что она ему говорила: — Ты еще лучше того с лапками — для тебя не надо ловить мух и держать тебя в супнице. Шарик смотрел ей прямо в рот. — И ты не беспокойся. Я тебя не отдам этим жулябиям, мучителям с четвертого этажа! Таисия Петровна неодобрительно посмотрела на окно над своим балконом. Ей показалось, что щенок кивнул головой. Она восхитилась: — До чего же ты умница! И я тебе скажу еще вот что: я тебя не буду учить ходить на задних лапах. Потому что я считаю: умная собака не та, что ходит на задних лапах, а та, которая не желает это делать. Верно? Шарик тявкнул. Таисия Петровна кивнула. — Вот я же и говорю!А за окном, на четвертом этаже, Лева держался за один конец насоса, а Боря за другой, и они тянули его в разные стороны. Лева кричал, что он выиграл насос, потому что Боря ведь не выучил Шарика говорить «ку-ку», не выучил, верно? Значит, проиграл. А Боря кричал, что это нечестно, что он брался учить собаку, а не галошу. Тут они услышали с улицы знакомый лай и бросились к окну. Внизу, на бульваре, сидели Шарик и бабушка Тася! — Вот вредная! — завопил Боря. — Утащила нашу собственную собаку и нахально с ней гуляет! И тут же был готов злодейский план — тот же план похищения, который так блестяще удался им в саду. Тем более, что опять имелась галоша. Они схватили ее и понеслись по перилам, подбадривая себя воинственными криками.
По бульвару шагала Лида, размахивая галошей. Позади нее Женька учил Алису ездить на самокате. Алиса старалась отталкиваться ногой от земли так же лихо, как Женька. И это ей удавалось, только каждый раз при этом она сваливалась набок вместе с самокатом. Впрочем, Женька ее вовремя подхватывал и ставил обратно. Они были уже близко от дома Сергея Васильевича. — Смотри, Лида, вон его парадное, — уверенно показал Женька. Лида побежала вперед. Что она увидела?! Во-первых, Шарика. Во-вторых, желтых мальчишек. Тех самых, что преследовали ее сегодня весь день! И что они делали, эти мальчишки! Подкравшись из-за кустов к Шарику, которого держала на ленточке какая-то старушка, они воровато отвязывали собаку, держа наготове галошу! — Разбойники!! — завопила Шершилина не своим голосом и со всей силы запустила в них своей галошей. Галоша заехала Боре между лопаток. Он подпрыгнул и выпустил щенка из рук. Близнецы увидели мчащуюся на них разъяренную Лиду и вскочившую со скамейки бабушку Тасю. И, оставив на месте боя свою галошу, они побежали — так быстро, как никогда еще не бегали. А бабушка Тася с изумлением вертела в руках две галоши Сергея Васильевича. Его галоши она могла бы узнать среди тысячи! Откуда они здесь? И почему их две? Но вокруг стоял такой крик и лай, что она решила заняться этой загадкой потом. А галоши, пока они опять не исчезли, сунула в кошелку. А лай и шум стоял потому, что Алиса тискала Шарика и кричала: — Черноморцы дурацкие! Что, убежали? — Она пристально поглядела на Шарика и сказала: — Молодец, Шарик, хорошо превратился обратно! Когда всё успокоилось и объяснилось, Таисия Петровна узнала, что щенка зовут Шариком, а неизвестное существо — тритоном полосатым. И что его надо немедленно отнести к писателю Алексею Ивановичу, которому он вместо кошки и собаки. — Вот беда какая! — ахнула Таисия Петровна. — А я его отослала к Александру Владимировичу. У него столько мух… Лида чуть не заплакала. Опять несчастье! Но в жизни бывает так: не везет, не везет, не везет, а потом ка-ак повезет! — Да вот он! — крикнул Женька и помчался на самокате навстречу Сергею Васильевичу, который показался вдали без шляпы и с банкой. Подойдя, Сергей Васильевич сокрушенно сказал: — Понимаешь, Тасенька, такая незадача: Александр Владимирович отказался. Ему некогда ловить мух. У него сейчас три кошки, ежик и семеро котят. Наконец-то Шершилина держала в руках тритона! И не какого-нибудь, а того самого! И наконец-то Женька добился своего: раскрыл тайну до конца! Теперь он мог рассмотреть тритона от носа до хвоста. — Ну, пошли! — сказала ему Лида. Впереди было еще самое главное: вернуть тритона Алексею Ивановичу. И самое трудное: умолить его все-таки прийти в школу… Лида вынула из ведра соломенную шляпу, положила ее на скамейку и бережно опустила в ведро банку с тритоном. — Такое большое вам спасибо! — сказала она старикам. Таисия Петровна на прощание сказала: — Приходите к нам чай пить. — С Шариком? — спросила Алиса. — А как же! — сказала бабушка Тася. И дети ушли с ведром, тритоном, Шариком и самокатом.
На скамейке осталась лежать соломенная шляпа. Таисия Петровна искоса взглянула на нее, потом на мужа, нахмурилась и строго спросила: — А где же это ваша шляпа, позвольте узнать? — Тася, на этот раз я не виноват! — воскликнул Сергей Васильевич. — Со мной случилась совершенно невероятная история! И он сел на свою шляпу, чтобы рассказать, как он ее потерял. — Я ехал на речном трамвае. Я стоял около борта и думал… впрочем, неважно, о чем я думал. — Я знаю, о чем, — сказала Таисия Петровна. — Не было ни дуновения ветерка. И вдруг моя шляпа — заметь, без малейшей причины! — дернулась… сама, представляешь? И вспорхнула! Таисия Петровна всплеснула руками. — И, нарушая все законы природы, направилась… куда бы ты думала? — Ты меня пугаешь! — Поперек реки к берегу! — Боже мой! И где же эта шляпа? — воскликнула Таисия Петровна. — Боюсь даже думать, — Сказал Сергей Васильевич и встал. — А это что? — кротко спросила Таисия Петровна и протянула ему сплющенную соломенную шляпу. Сергей Васильевич недоверчиво взял ее и увидал внутри свою метку. — Это чудо! — воскликнул он. — В таком случае, что же это? — И она подала ему обе его галоши.
19
Нет! Если бы у Лиды было десять рук и сто ног — и то она не успела бы сделать все, что необходимо было сделать сейчас же. Через час начнется школьный вечер. И никто не подозревает, что вечер провалится, писателя не будет. А бесчестная Шершилина до сих пор не может пойти в школу и сказать правду! Через полчаса загудит рельс — конец работы. А бесчестная Шершилина, всех обманув, скрылась с ведром и квасом! Через несколько минут вернется домой Алисина мама и будет рыдать и проклинать бесчестного человека, который украл ее девочку и собаку! А Алексей Иванович… Ну, об этом лучше даже не думать… — Женя! — сказала Лида. — Ты можешь меня спасти? — Могу! — сказал Женя, и глаза его засверкали. — Есть у тебя деньги? — Масса! — сказал Женька и высыпал на ладонь кучку меди. Лида вынула из ведра тритона, а ведро отдала Женьке. И рассказала ему, как он может спасти свою сестру Лиду от позора. И Женя, поставив ведро на самокат, развил самую большую скорость, на какую были способны он и его машина.А Лида свернула в Озерный переулок и тоже развила самую большую скорость, какую только позволяли развить Алиса и Шарик. Первым в квартиру ворвался Шарик и на радостях облаял все, что там было. Но этого ему показалось мало. Он вскочил на подоконник и стал облаивать всю улицу. — Бедный Шарик! — сказала Алиса. — В нем набралось чересчур много лаю, пока он был галошей. Но мы-то знаем, что Шарик лаял совсем не оттого. Он хвалился перед всеми кошками и автобусами, что никто из них не умеет летать над столиками с сосисками, а он, Шарик, умеет. — Так я и знала! — сказала, открывая входную дверь, Алисина мама. — Эта собака доведет меня не знаю до чего! А это кто же? — удивилась она, войдя в комнату. Алиса начала объяснять, Лида тоже начала объяснять, они говорили разом. Но, если бы даже говорили по очереди, все равно из-за лая ничего не было слышно. Тогда мама заперла Шарика в ванной и потребовала, чтобы ей все объяснили толком. Алиса сказала, что она уже наняла себе няню. А няня сказала, что она уже не няня. Алиса подняла крик. Тогда мама отвела ее в ванную к Шарику. И они с Лидой спокойно поговорили. — Как жалко, что я не могу взять тебя в няни! — сказала мама. — Но тогда я нанимаю тебя в гости. И ты обязана к нам приходить почаще! — Большое спасибо, не сердитесь на меня! — сказала Лида и, подхватив свою банку, убежала.
Женька толкал самокат, придерживая ведро с квасом. — Алло! — кричал он всем. Теперь он никого не объезжал, даже коляски. А его все обходили, потому что понимали: человек едет с делом, а не зря. На стройке уже били в рельс. С лесов спускались рабочие. Где же эта Нюра, чей квас? Женька встал посреди двора и крикнул во всё горло: — Эй! Кто тут есть Нюра Жучкова? — Жучкова! Жучкова! — пошел крик по стройке. — Вот она я! — гаркнула с лесов огромная тетка в рыжем платке и спустилась. — Берите ваш квас и ваше ведро, — солидно сказал Женька. — И чтоб не было никакого позора моей сестре Шершилиной Лидии! И две копейки сдачи. Вокруг Женьки собралась вся бригада. Ведро с квасом пустили по кругу, и все пили за Шершилину и ее брата. И Женька пил тоже. А потом пришел усатый. И его угостили. Жучкова сказала ему, что прислали нового рабочего с современной техникой, я показала на Женьку и его самокат. — Вот спасибо! — сказал усатый. — Теперь пятый этаж обеспечен. — А я хочу на пятый этаж. Можно? — спросил Женька. Его повели на пятый этаж, который еще не был достроен. И Женька долго стоял и смотрел сверху на реку, улицы и сады, где еще хранилось для него столько неразгаданных тайн.
С банкой в руках, с замирающим сердцем стояла Лида Шершилина перед квартирой писателя Мамонтова. Наконец, собравшись с духом, она позвонила. Дверь открыла величественная тетя Лиза. В руках у нее была почему-то чайная ложечка. Лида начала что-то лепетать. Тетя Лиза внимательно смотрела на нее и слушала, пока Лида не сбилась и не умолкла. — Значит, это Шершилина двадцать семь? — осведомилась тетя Лиза. — И с ней тритон гребешком? Войдите! Она ввела Лиду в знакомую комнату с бабочками и птицами. Лида поставила банку с тритоном на стул. — Очень вас прошу, простите нас! — сказала Лида. — То есть меня, а не Коробкина. То есть потому, что Коробкин ни в чем не виноват. Это все я… — Хорошо, я поняла. — Тетя Лиза царственно кивнула. — Я прощаю тебя, а не Коробкина. — А… Алексей Иванович? — Думаю, что Алексей Иванович тоже, тебя простит. Имея в виду, что ты вернула ему эту гадость. Но его нет дома. И опять все померкло перед Шершилиной. Теперь уже не было ни малейшей надежды спасти школьный вечер. А тетя Лиза милостиво говорила: — Пойдем, Шершилина двадцать семь, пить чай с ватрушками. Я только что испекла. Лида вспомнила, что не ела с самого утра, и проглотила слюну. Но времени уже не было ни минуты. — Большое спасибо! — сказала она и помчалась в школу.
«Вот так мне и надо! Так мне и надо!» — твердила себе Лида, подходя к школе. Внизу в раздевалке она с отвращением посмотрела на себя в зеркало. В старом платье, в известке, растрепанная… В хорошем виде является делегатка Шершилина на праздник! «Так мне и надо! — снова мстительно подумала она. — Даже бант завязывать не буду». Она поднялась на второй этаж. Вечер уже начался. В коридоре никого не было. Она подошла к школьному залу. За дверью стоял гул и смех. Вот захлопали в ладоши… Лида постояла перед дверью и разом распахнула ее. По сцене, засунув руки в карманы, ходил Алексей Иванович и что-то весело рассказывал! Все так его слушали, что никто не оглянулся. Алексей Иванович заметил Лиду и заговорщически подмигнул ей. Лида тихо села в последнем ряду и закрыла глаза. Вдруг она так устала, и такая тяжесть свалилась с ее души, что какое-то время она ничего не слышала. А потом вместе со всеми и с Алексеем Ивановичем путешествовала по Австралии. А когда вечер кончился (очень хороший вечер, куда шестому «Б» с его водолазами!), Лида побежала в учительскую и позвонила Мише Коробкину. Но подошел его отец и сказал, что он просит оставить мальчика в покое. — Скажите ему: тритон нашелся, всё хорошо! — крикнула Лида и повесила трубку. Она вернулась в зал. Алексей Иванович уже искал ее, чтобы сказать «спасибо» за телеграмму. Он был рад узнать, что его дракон опять ждет его дома. А потом писатель вез Лиду домой в своей машине. Но у Лиды было еще одно, последнее дело. Когда они проехали зоомагазин и ту самую подворотню, Лида попросила остановиться. — Спокойной ночи, Алексей Иванович, спасибо, извините за все, мне сюда.
На почтамте было уже пусто и не очень светло. За столом сидел один-единственный человек и обдумывал телеграмму. Лида подбежала к знакомому окошку. Там дежурила другая телеграфистка. — Знаете что? — сказала Лида. — Я тут днем давала телеграмму. И у меня не хватило одной копейки. Возьмите, пожалуйста! И Шершилина пошла домой с легким сердцем.
Кир Булычев СКАЗКИ
Мне хотелось представить, как выглядели бы всем известные сказки, если бы их придумали писатели-фантасты, которые умеют самым невероятным вещам найти почти научное объяснение. Условия игры понятны? Тогда начинаем. Первая сказка называется…РЕПКА
Старик закатал рукава тельняшки, повесил на березку телетранзистор, чтобы не упустить, когда начнут передавать футбол, и только собрался прополоть грядку с репой, как услышал из-за забора из карликовых магнолий голос соседа, Ивана Васильевича. — Здравствуй, дед, — сказал Иван Васильевич. — К выставке готовишься? — К какой такой выставке? — спросил старик. — Не слыхал. — Да как же! Выставка садоводов-любителей. Областная. — А что выставлять-то? — Кто чем богат. Эмилия Ивановна синий арбуз вывела. Володя Жаров розами без шипов похвастаться может… — Ну, а ты? — спросил старик. — Я-то? Да так, гибрид есть один. — Гибрид, говоришь? — Старик почувствовал что-то неладное и в сердцах оттолкнул ногой подбежавшего без надобности любимого кибера, по прозванию «Мышка». — Не слыхал я, чтобы ты гибридизацией баловался. — Пепин шафранный с марсианским кактусом скрестил. Интересные результаты, даже статью собираюсь написать. Погоди минутку, покажу. Сосед исчез, только кусты зашуршали. — Вот, — сказал он, вернувшись. — Ты отведай, дед, не бойся. У них аромат интересный. А колючки ножичком срежь, они несъедобные. Аромат старику не понравился. Он попрощался с соседом и, забыв снять с березы телетранзистор, пошел к дому. Старухе он сказал: — И на что это людям на старости лет колючки разводить? Ты скажи мне, зачем? Старуха была в курсе дела и потому ответила, не задумываясь: — Ему эти кактусы с Марса в посылке прислали. Сын у него там практику проходит. — «Сын, сын»! — ворчал старик. — У кого их нет, сыновей? Да наша Варя любому сыну сто очков вперед даст. Правду говорю? — Правду, — не стала спорить старуха. — Балуешь ты ее только. Варя была любимой внучкой старика. Жила она в городе, работала в Биологическом институте, но деда с бабкой не забывала и отпуск всегда проводила с ними, в тишине далекой сибирской деревни. Вот и сейчас она спала в солярии скромной стариковской избушки и не слышала, как ее старики нахваливали. Дед долго сидел на лавке пригорюнившись. Слова соседа его сильно задели. Соперничали они с ним давно, лет двадцать, с тех пор, как оба вышли на пенсию. И все сосед его обгонял. То привезет из города кибердворника, то достанет где-то электронный грибоискатель, то вдруг марки начнет собирать и получит медаль на выставке в Братиславе. Неугомонный был сосед. И теперь вот этот гибрид. А что у старика? Только репок грядка. Старик вышел в огород. Репки тянулись дружно, обещали стать крепкими и сладкими, но ничем особенным не отличались. Такие и на выставку не повезешь. Дед так задумался, что не заметил, как подошла к нему, потягиваясь, заспанная внучка. — Что невесел, дедушка? — спросила она. — Опять Жучка киберу ногу отгрызла, — соврал дед. — Стыдно перед людьми за такое бессмысленное животное. Деду не хотелось сознаваться, что причина расстройства зависть. Но внучка и так догадалась, что дело не в собаке Жучке. — Из-за кибера ты бы расстраиваться не стал, — сказала она. Тогда старик вздохнул и вполголоса рассказал ей всю историю с выставкой и соседским гибридом. — Неужели у тебя ничего не найдется? — удивилась внучка. — Не в том дело, чтобы на выставку попасть, а в том, чтобы призовое место занять. И не с марсианскими штучками, а с нашим, земным, родным фруктом или овощем. Понятно? — Ну, а репки твои? — спросила внучка. — Малы, — ответил дед, — куда как малы. Варя ничего не ответила, повернулась и ушла в избу. Ее фосфоресцирующий комбинезончик-туника оставил в воздухе легкое приятное благоухание. Не успело благоухание рассеяться, как она уже вернулась, держа в руке большой шприц. — Вот, — сказала она. — Тут новый биостимулятор. Мы над ним три месяца в институте бились. Мышей извели видимо-невидимо. Опыты еще, правда, не завершены, но уже сейчас можно сказать, что оказывает он решающее влияние на рост живых организмов. Я как раз собиралась его на растениях опробовать, вот и случай подвернулся. Дед в науке немного разбирался. Как-никак проработал тридцать лет шеф-поваром на пассажирской линии Луна — Юпитер. Взял старик шприц и собственной рукой вкатил в золотой бочок ближайшей к нему репки полную дозу. Обвязал листочки красной тряпочкой и пошел спать. Наутро и без тряпочки можно было узнать уколотую репку. За ночь она заметно подросла и обогнала своих товарок. Дед обрадовался и на всякий случай сделал ей еще один укол. До выставки оставалось три дня, и надо было спешить. Тем более, что сосед Иван Васильевич ночей не спал, настраивал электропугало, чтобы вороны урожай не склевали. Еще один день прошел. Репка уже выросла размером с арбуз, и листья ее доставали старику до пояса. Старик осторожно выкопал остальные растения с грядки и вылил на репку три лейки воды с органическими удобрениями. Потом окопал репку, чтобы воздух свободнее к корневой системе проходил. И никому эту работу не доверил. Ни бабке, ни внучке, ни роботам. За этим занятием его и застал сосед. Иван Васильевич раздвинул листья магнолии, подивился и спросил: — Что это у тебя, старик? — Секретное оружие, — ответил дед не без ехидства. — Хочу на выставку попасть. Достижениями похвалиться. Сосед долго качал головой, сомневался, потом все-таки ушел. Ворон отпугивать от своих гибридов. Утром решающего дня старик поднялся рано, достал из сундука мундир космонавта, надраил мелом почетный знак за десять миллиардов километров в космосе, почистил ботинки с магнитными подковками и при полном параде вышел в огород. Зрелище, представшее перед его глазами, было внушительным и почти сказочным. За последнюю ночь репка выросла еще вдесятеро. Листья ее, каждый размером с двухспальную простыню, лениво покачивались, переплетаясь с ветвями березы. Земля вокруг репки потрескалась, будто старалась вытолкнуть наружу ее громадное тело, верхушка которого достигала старику до колен. Несмотря на ранний час, на улице толпились прохожие, и они встретили деда бестолковыми расспросами и похвалой. За забором из карликовых магнолий суетился пораженный сосед. «Ну, — сказал сам себе старик, — пора тебя, голубушка, вытягивать. Через час машина придет из выставочного комитета». Он потянул репку за основание стеблей. Репка даже не шелохнулась. На улице кто-то засмеялся. — Старуха! — крикнул дед. — Иди сюда, подсоби репку вытянуть! Старуха выглянула в окошко, ахнула и через минуту, сопровождаемая внучкой и собакой Жучкой, присоединилась к старику. Но репка не поддавалась. Старик тянул, старуха тянула, внучка тянула, даже собака Жучка тянула, — из сил выбились. Кот Васька, который обычно в жизни семьи не принимал никакого участия, сиганул с крыши солярия деду на плечо и тоже сделал вид, что помогает тянуть репку. На самом-то деле он только мешал. — Давай Мышку позовем, — сказала старуха. — Ведь в ней как-никак по инструкции семьдесят две лошадиные силы. Кликнули кибера, по прозвищу «Мышка». Репка зашаталась, и листья ее с шумом зашелестели над головами. А тут и сосед Иван Васильевич перепрыгнул через забор, и зрители с улицы бросились на помощь, и подъехавший автомобиль-платформа выставочного комитета подцепил репку автокраном… И вот так, все вместе: старик, старуха, внучка, Жучка, кот Васька, кибер, по прозвищу «Мышка», сосед Иван Васильевич, прохожие, автокран, — все вместе вытащили из земли репку. Остается только добавить, что на областной выставке садоводов-любителей старик получил первую премию и медаль.ТЕРЕМОК
Астероид был маленький. На нем умещалась только автоматическая станция-маяк, чтобы на него случайно не налетел рейсовый корабль. Раз в год к астероиду подлетал Рустем Севорьян, делал маяку профилактику и отправлялся к следующему маяку, за несколько миллионов километров. А уж больше, разумеется, никто к астероиду не причаливал. И надо же было так случиться, что, когда Рустем прилетел туда в прошлом году, он при посадке повредил горизонтальный руль, — авария редкая, но несложная. Кислорода и воды у Рустема было достаточно, и он спокойно принялся за ремонт. Часа через три, притомившись, сел Рустем на уступ астероида и поглядел па звездное небо. Смотрел и думал: «Вот живу среди такой красоты, а все некогда полюбоваться!» И даже порадовался поломке. Тут он обратил внимание на одну из звезд. Она увеличивалась в размерах, приближалась. «Уж не ракета ли?» — подумал Рустем. И правда, это была ракета. — Астероид И-34, Астероид И-34! — трещало радио. — Иду на посадку! — Вы кто? — спросил Рустем приближающуюся ракету. — На астероиде люди? — удивилось радио. — Отвечаю: геологическая партия. Поисковый полет по поясу астероидов. А ты кто? — Смотритель космических маяков Севорьян. У меня вынужденная посадка. Добро пожаловать. Рустем спустился в маленький бункер под маяком, специально оборудованный на случай, если кто-нибудь случайно забредет на астероид, и принялся готовить кофе для гостей. Он был очень рад, что поговорит с живыми людьми — ведь как-никак второй месяц в одиночном полете. Геологи оказались славными, веселыми ребятами. Их было трое. Они носились по поясу астероидов и искали ценные металлы. Вчетвером жители астероида еле уместились в бункере. У одного из геологов была с собой гитара, и перед сном они хором пели новые марсианские песни. Проснулся Рустем от сильного толчка. Из-за того, что тяготения на астероиде не было, обитатели бункера взлетели в воздух и долго не могли опуститься на пол. — Что случилось? — волновались геологи, паря над столом. — Мы столкнулись с кем-то? — Нет, — сказал Рустем, — не думаю. Наверное, у нас гости. И он включил систему внешней связи. — Ой-ой! — услышали обитатели бункера. — Это же должен быть необитаемый астероид. А тут две ракеты к нему привязаны. Колька, что теперь делать? — Вы кто такие? — спросил Рустем грозным голосом. — Швартоваться в космосе не умеете? — Нет, не умеем! — услышал он. — Мы школьники из Юпитерска. А вы кто? — Я смотритель маяков Рустем Севорьян. Со мной еще геологи-разведчики. Спускайтесь с корабля и заходите в бункер. Через несколько минут дверь тамбура отворилась, и в помещение втиснулись два мальчика — один лет тринадцати, другой чуть постарше. Их со всем пристрастием допросили, и оказалось, что Коля и Жак угнали у завхоза в школе ракету и отправились искать необитаемый астероид, чтобы пережить настоящие приключения. — Сейчас же отправляйтесь обратно, — сказал сердито главный геолог. — Ведь родители с ума сойдут. — Не надо, дядя! — заплакали школьники. — Мы будем себя хорошо вести, будем готовить пищу и разводить хлореллу. Только не отправляйте нас домой! Но геологи были неумолимы. Они надели скафандры, вышли наружу вместе с мальчиками и хотели уж было улететь, как обнаружили, что ребята при посадке так покорежили их корабль, что его придется чинить по меньшей мере неделю. Рустем тем временем сварил на всех кофе, и, когда расстроенные жители бункера кое-как разместились в два этажа и стали держать совет, что же делать дальше, астероид снова мягко качнулся. — Ну вот, — сказал Рустем, — это, наверно, за вами, мальчики. Ваши родители. И он включил систему внешней связи. — Кто на астероиде? — спросил мужской голос. — Я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, геологи-разведчики и мальчики — искатели приключений. А вы кто? — Мы молодожены и ищем необитаемый астероид, чтобы провести на нем медовый месяц, — ответил мужской голос — Оказывается, мы попали не по адресу. — Что ж теперь делать, швартуйтесь как следует и идите кофе пить. Вы, наверное, устали. Не успели молодожены снять скафандры, как внешняя связь снова ожила. — Астероид И-34, Астероид И-34! Отзовитесь. Кто на астероиде? — Я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, а со мной геологи-разведчики, два мальчика — искатели приключений, и молодожены. А вы кто? — Вот хорошо, мы попали, куда нужно! Мы родители мальчиков — искателей приключений. Мы их уже два дня по всему космосу ищем, чтобы наказать. Сейчас мы пришвартуемся и с ними поговорим. Рустем вздохнул и открыл последнюю банку с кофе. В бункере было душновато. Регенерационная установка не успевала очищать воздух. Пока он варил кофе, вошли родители мальчиков, общим числом четыре человека, а также штурман корабля, на котором они прилетели. Кофе они пили, стоя плечом к плечу. В бункере было шумно. Родители корили мальчиков, молодожены обсуждали планы на будущее, геологи пели песни. Поэтому никто даже не заметил, что к астероиду причалила еще одна ракета. Небольшая грузовая ракета. Раздался стук в дверь, и усталый голос спросил: — Скажите, астероид обитаемый? — Да, — ответил Рустем, открывая дверь в тамбур. — Здесь я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, со мной геологи-разведчики, мальчики — искатели приключений, родители мальчиков и молодожены, которые ищут необитаемое место. А вы кто? — И не спрашивайте, — ответил усталый голос. — Я дрессировщик Уголка Дурова. Я везу на Юпитер лису и волка, чтобы показать тамошним ребятам, что они умеют делать. Звери у меня ручные, в намордниках, но плохо переносят перегрузки. Пустите нас отдохнуть. — Что вы! — сказали родители мальчиков. — У нас же здесь дети. А вдруг волк их съест? Но было поздно. Рустем уже впустил в бункер дрессировщика и его животных. Звери никого не кусали, а легли спать в углу, даже не сняв намордников. А дрессировщик принялся пить кофе и рассказывать мальчикам удивительные случаи из своей богатой приключениями жизни. Рустем не стал выключать внешнюю связь. Он пытался связаться с Марсом, чтобы оттуда выслали рейсовый корабль. Но связь никак не удавалось установить. — Марс-сортировочная, Марс-сортировочная, — повторял Рустем. — Вижу незарегистрированный астероид прямо по курсу, — раздался вдруг незнакомый голос — Астероид, отзовитесь. Почему не на орбите? — Мы на орбите, — сказал Рустем. — Мы — И-34. — Ваши координаты не совпадают с расчетными, — сказал голос. — Ну конечно, — сказал один из геологов. — Наш астероид за сегодняшний день столько толкали ракетами, что он изменил орбиту. Маленький ведь. — Почему вышли на пассажирский путь? — волновался голос. — Кто на астероиде? — Я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, со мной геологи-разведчики, мальчики — искатели приключений, родители мальчиков, молодожены, которые ищут необитаемое место, лиса и волк из Уголка Дурова и дрессировщик. А вы кто? — Мы «Медведь», рейсовый Марс — Трансплутон. Находимся в опасной близости. В бункере наступила трагическая тишина. Все понимали, что громадный рейсовый корабль не может затормозить. — Он нас раздавит, — тихо сказал штурман с ракеты, на которой прилетели родители мальчиков. — Перехожу к экстренному торможению. Всем пассажирам пристегнуть привязные ремни! — сказал голос с «Медведя». — …Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три… — отсчитывал Рустем. Минуты тянулись еле-еле. Старший из мальчиков заплакал. — Торможение завершено. Нахожусь около астероида, — сказал «Медведь». — Я горючее на этом маневре перерасходовал. Не знаю, как теперь доберусь до Марса. — Ничего! Это ничего! — радостно крикнул Рустем. — Мы перекачаем из наших ракет. У нас тут шесть кораблей, и все заправлены. Так и сделали. А когда баки «Медведя» были снова полны, он взял на буксир шесть ракет и привез всех на Марс: и Рустема Севорьяна, смотрителя маяков, и геологов-разведчиков, и мальчиков — искателей приключений, и их родителей, и молодоженов, и лису, и волка, и дрессировщика из Уголка Дурова.ГУСИ-ЛЕБЕДИ
На Земле, на высокогорном космодроме Каракорум, в двух километрах от карантинного сектора возвышается одинокий, забытый и покинутый всеми корабль. Это совсем не плохой, почти новый звездолет из класса «Оптима», который совершил всего одно путешествие, причем путешествие удачное, принесшее Земле множество разнообразных интереснейших открытий и находок. Казалось бы, звездолету еще летать и летать. Но он стоит холодный и недвижимый под ярким небом, и никто не подходит к нему ближе чем на двести метров. О тайне его космонавты предпочитают не рассказывать, и мне удалось узнать ее совершенно случайно — я оказался соседом по даче геолога Питера, молчаливого, замкнутого человека, от которого всегда пахнет одеколоном и нашатырным спиртом. Питер и открыл мне тайну покинутого корабля…Питер называл их лебедями. Правда, он вкладывал в это слово столько ненависти, что понятно было — никакие они не лебеди, дрянь птицы, и только. Когда лебеди пролетали утром над долиной — длинные трехметровые шеи с непомерно большими клювами, черные перепончатые крылья и серые чешуйчатые ноги, убирающиеся в складчатый живот, как шасси, — Питер подходил к окну и бессильно грозил им кулаком. Они с Игорем пробовали их стрелять, но на труп сбитого лебедя слеталась сразу такая стая, что приходилось все бросать и отступать под защиту стен дома. Третий месяц геологи сидели на этой планетке. Их сбросили на разведракете вместе с домом и запасом продуктов на полгода. Корабль ушел дальше, обследовать другие планеты этой системы. Когда осматривали планету с воздуха, лебедей не заметили и не знали, что они могут стать основным препятствием к исследованию нового мира. Питер ненавидел их не столько за хищный и злой нрав, не столько за быстроту полета и силу когтей, сколько за то, что они срывали все планы. Планета оставалась такой же неисследованной, как и в первый день. Невозможно же передвигаться только в вездеходе, боясь высунуть нос наружу. В то утро они отъехали от дома километров на пять, а потом полчаса просидели закупоренными в вездеходе, потому что пара любопытных лебедей кружила низко над машиной, будто поджидала, когда же появится дичь поменьше размером, чем вездеход. Наконец, когда терпение Питера уже совсем было лопнуло, лебеди взмыли вверх и растворились в низких облаках. — Вроде миновало, — сказал Игорь. — Пошли? — Пошли. Проверь пистолет. Они вышли наружу, стараясь держаться в нескольких шагах от вездехода, так, чтобы успеть нырнуть в него в случае опасности. Они даже старались тюкать молотками как можно тише. Питер завернул за выступ скалы и склонился над интересным обнажением, когда услышал характерный шелест крыльев. Он резко обернулся и прижался спиной к скале, доставая пистолет. Но над ним никого не было. И тут в наушниках раздался крик Игоря: — Питер! — Что с тобой? Питер уже бежал в сторону товарища. Он не успел. Над скалой поднимался, быстро, как черная молния, лебедь, который держал в когтях Игоря. Питер поднял пистолет. Надо как следует прицелиться, чтобы не попасть в человека… — Не стреляй, Питер! — крикнул Игорь. — Скафандр выдержит. А то разобьюсь о скалы. Питер опустил оружие. Игорь был прав. Лебедь поднялся уже метров на сто. Он повернулся и взял курс на север. К нему присоединились, вынырнув из-за облаков, еще три лебедя. Они описывали круги, будто дивясь, какая сказочная добыча попалась в лапы их товарищу. — Как бы он не бросил, как орел черепаху, — подумал вслух Питер. Игорь услыхал. — Надеюсь, нет, — сказал он. — Но чертовски неудобно. — Держись, Игорек, держись, друг, — сказал Питер, заводя вездеход. Он пытался проглотить комок, застрявший в горле. Вездеход взревел, протестуя против лихорадочных движений Питера, подпрыгнул на месте и рванулся через каменные россыпи к северу, где вставало восьмое сиреневое солнце планеты. Хуже всего, что дорога была совсем неизвестна. Никогда еще геологи не отходили так далеко от базы. Вездеход, расшвыривая гравий и разрывая корни сухих кустов, спускался все ниже в долину. — Игорь! Игорь! Как ты? — Жив еще, — ответил Игорь. — Мы спускаемся к невысокой гряде. В ней вижу несколько пещер. Наверно, это их гнезда. Вездеход затормозил перед белой, будто молочной, мутной речкой, протекающей меж вязких, топких берегов. Кисельная жижа не выдерживала машину. Пришлось взять правее в поисках более удобного места для переправы. — Снижаемся, — продолжал Игорь. — Вход в пещеру довольно широк, но на вездеходе в него не пройти. — Оружие у тебя с собой? — спросил Питер. — Нет, потерял, когда меня перевернули вверх головой. — Смотри, чтобы они тебе скафандр не прорвали, — когти у них что надо. — У меня нож остался. Но ни Игорь ни Питер не были уверены, что нож поможет Игорю отбиться от когтей хищников. Вездеход форсировал реку и сквозь редкий лес направился к холмам на горизонте. Ветви деревьев сгибались под тяжестью крупных круглых плодов, немного похожих на яблоки. Яблоки с треском лопались под гусеницами вездехода. Пришлось снизить скорость, чтобы ненароком не врезаться в толстый узловатый ствол. Лес кончился. Последним препятствием на пути к ясно видневшейся гряде скал, испещренных черными точками пещер, оказалось поле гейзеров и вулканчиков. Долина дышала жаром, как раскаленная печь. Вездеход чуть не провалился в присыпанный камнями кратер, и на секунду ветровое стекло заволоклось густым серым дымом. — В пещере темно, — раздавался в ушах голос Игоря. Голос доносился еле-еле — экранировали стены пещеры. — Эти гады решили, видно, меня свежевать. Уж очень треплют. — Включи фонарь! — крикнул Питер. — Неплохая идея!.. Они отлетели. Не понравилось. То-то, голубчики! Слышишь стук? — Нет, а что? — Бьют клювами по фонарю. Разбить хотят. Понимают все-таки. Ах, вы… — Игорь! — Я жив, просто некогда разговаривать. Поспеши, пожалуйста, они наглеют. Питер и так спешил. Вездеход упорно полз вверх по склону, и пасти пещер приближались с каждой секундой. Вдруг всхлипнул и на мгновение замолк двигатель. Топливо! Ведь никто не думал, что вездеходу придется отойти на столько километров от базы. Мотор еще тянул, но Питеру уже приходилось мысленно повторять пройденный путь и ломать голову над тем, как пройти его пешком. — В какой ты пещере? Я близко. — Третья слева. Питер выскочил из вездехода. До черного жерла пещеры оставалось десять шагов. Вокруг пусто. Только высоко кружит одинокий лебедь, не обращая внимания на замерший вездеход. Но в тот момент, когда Питер готов был нырнуть в темный лаз, навстречу ему появился лебедь и удивленно замер, увидев, что еще кто-то по собственной воле пожаловал прямо к нему домой. Лебедь щелкнул твердыми костяными ресницами и громко квакнул. — Они меня оставили в покое. Берегись! — сказал Игорь. — Тыможешь идти? — Сейчас попробую. Забыв об Игоре, лебеди выскакивали на свет, щурились, расправляли крылья и по очереди бросались на Питера. Питер был готов к встрече. Один за другим хищники сваливались ему под ноги и, ломая крылья, катились вниз под уклон. — Ты скоро? — спросил Питер. — Как бы мне тебя заодно не подстрелить. — Погоди. Тут еще осталось с полдюжины добровольцев. Патронов хватит? — Хватит. Раз, два… Где же третий? Ага, вот третий. Четыре. Еще два осталось? — Да. Вот один полез. — Вижу. Пять и… шесть. Прекращаю стрельбу. Его скафандр был густо измазан грязью и пометом лебедей. В отверстии пещеры показался Игорь. Геолог пошатывался и, казалось, сам не верил в то, что выбрался из плена. Питер подбежал к нему: — Сильно помяли? — Есть немного, — попытался улыбнуться Игорь. — Я уж думал, что не успеешь. Посмотри. Скафандр был исцарапан когтями, и в некоторых местах сквозь разодранный верхний слой просвечивала белая внутренняя ткань. — Скорей в машину, — сказал Питер. — Видишь? Из соседней пещеры выскочили еще три лебедя. Лебединая колония, встревоженная выстрелами и криками своих умирающих собратьев, готовилась вступить в бой. Этот бой ничего хорошего геологам не сулил. Последние капли топлива позволили вездеходу развернуться и на холостом ходу скатиться вниз. Здесь мотор окончательно замолчал. — Пойдем пешком? — спросил Игорь. — Боюсь, тебе это сейчас не под силу. Давай отдохнем немного. Лебеди разлетятся, тогда отправимся к дому. Лебеди с налету ударяли когтями о крышу вездехода, и суматошно мелькающие крылья закрывали свет. — Надолго ли их хватит? Я проголодался, — сказал Питер. Игорь не ответил. Он пытался ветошью стереть со скафандра куски грязи. Прошло полчаса, потом час. — Как у нас с воздухом? — спросил Игорь. — Еще часа на два осталось. — Если через пятнадцать минут они не улетят, придется идти. Когда прошли эти пятнадцать минут и геологи вылезли из вездехода, над ним кружил только один лебедь — наверно, дежурный. Геологи как можно быстрей зашагали вниз, к лесу. Лебедь сделал круг над ними, но нападать не стал, а полетел по направлению к пещерам. Еще через две минуты он вернулся в сопровождении целой стаи. Геологи побежали. Игорь прихрамывал, и бежать ему было трудно. Лебеди круг за кругом сжимались, высматривая людей среди столбов дыма, подымавшихся из подземных печек. Питер нагнулся и поднял с земли похожую на пирог вулканическую бомбу и запустил ею в самого смелого лебедя. «Пирог» угодил в него, лебедь заквакал и исчез в столбе дыма, поднявшегося над маленьким кратером. Еще рывок, и люди скрылись под тенью деревьев. — Передохни, — сказал Питер. — Они сюда не сунутся. Но, как будто услышав его, двое лебедей опустились на землю и пешим ходом бросились в атаку. Питер выстрелил в упор, и один из лебедей упал. Игорь сорвал с ветки яблоко и разбил его о голову второго лебедя. Яблоко залепило лебедю глаза. — Видишь, там погуще, — сказал Питер, — спрячемся. Следующие пятнадцать минут они прятались среди густых яблоневых ветвей, перебегая к следующей куще, как только лебеди теряли их из виду. Наконец лес кончился и внизу открылась река — белая вода среди топких берегов. — Тут придется совсем туго, — задумчиво произнес Игорь. — Она неглубокая, — сказал Питер. — Вон там, левее, место, где я перебирался на вездеходе. Они подождали под последним деревом, пока лебеди поднялись повыше, и побежали к реке. Топкий кисельный берег хватал за ноги, молочная вода сбивала с ног. Геологи вышли в тень противоположного берега и остановились по колено в сером киселе. Наступали сумерки. — Вот мы почти и дома, — сказал Питер. — Осталось три патрона. — И воздуха на полчаса, — добавил Игорь, взглянув на прибор. — В темноте легче скрыться. — Но темноты нам не дождаться. — А почему они не нападают? — спросил Игорь. — Смотри, вертятся в высоте и не спускаются. — Дай-ка я попробую пройти дальше, — сказал Питер. Не успел он сделать и трех шагов на твердой земле, как сразу десяток лебедей кинулся на него. Питер быстро отступил в грязь. Лебеди взмыли вверх. Питер еще раза два повторил маневр и каждый раз с одинаковым успехом. Ему в голову пришла спасительная идея. Он нагнулся, зачерпнул перчаткой кисельной грязи и, выйдя на сухое место, сунул грязь под нос первому из бросившихся на него лебедей. Догадка оказалась правильной. Лебедь, не долетев метра до протянутой вверх ладони, резко взмыл вверх и умчался в, небо, будто ему предложили откушать соляной кислоты. — Обмажься грязью! — крикнул Питер Игорю. — Они ее не выносят. Дальнейший путь прошел без всяких приключений. Когда закрылась дверь шлюза, воздуха в скафандрах оставалось еще на пять минут. Питер задраил дверь и отвинтил шлем. — Вот, — начал он. — Мы и наш… — И тут же лихорадочными движениями стал всовывать голову обратно в шлем. — Что с тобой? — спросил Игорь. — Не снимай шлема! Я, кажется, понимаю лебедей… Подключи запасной баллон. У тебя стрелка на нуле. — Грязь? — догадался Игорь. — Она самая. Боже мой, более отвратительного запаха мне не приходилось встречать!.. Большую часть оставшихся до прилета корабля трех месяцев геологи провели в скафандрах. Они бы их совсем не снимали, но иногда приходилось — хотя бы для того, чтобы поесть. На третий день окончились все запасы одеколона и нашатырного спирта, который неплохо отбивал гнуснейший запах кисельного берега. Приспособиться к запаху было совершенно невозможно. Игорь потерял восемь килограммов веса и полюбил фразу, приписываемую Амундсену. «К холоду привыкнуть нельзя, — повторял он, — можно научиться терпеть его». Автомат-планер спустился на планету в условленный срок. Геологи в последний раз промыли карболкой образцы пород и те немногие необходимые вещи, что они решили взять. И все равно на борт корабля они поднимались с внутренней дрожью. Радостная улыбка штурмана, который встретил их у люка, тут же сменилась брезгливой гримасой. — Ребята, — сказал он, — вы что же… И тут же раздался голос подошедшего капитана: — Немедленно в карантин!
Но было поздно. Корабль спасти не удалось. Так он и стоит в нескольких стах метрах за карантинным сектором космодрома Каракорум. По расчетам ученых, запах выветрится через восемьдесят лет.
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА
Иван прислонился к плоской стене оврага и закрыл глаза. — Ты чего? — спросила Алена. — Не могу больше. Минутку передохну. — Нам надо успеть до сумерек, — сказала Алена. — Знаю. Но, если я помру на полпути, тебе от этого лучше не будет. — Не говори глупостей! — разозлилась Алена. — Здесь не жарче, чем в Сахаре. — Никогда не был в Сахаре, — ответил Иван. — Но, насколько понимаю, там днем все живое прячется в тени или зарывается в песок. — Здесь песка нет, — сказала Алена. — На этой планете вообще ничего нет. Только скалы и чудища. Интересно, чем они питаются? — Пойдем, — сказала Алена. — Скоро у тебя откроется второе дыхание. — Восьмое, — поправил ее Иван. — У тебя вода осталась? — Нет, ты же знаешь. — Персидский царь Кир, спасаясь от Александра Македонского, напился из грязной лужи и признался, что чище и вкуснее напитка ему не приходилось пробовать. — Если бы мы были на Земле, то я и сама бы напилась сейчас из лужи, — сказала Алена. — Потерпи. Километров через пять будет родник. Минут десять они брели молча. Впереди показалась куща серых колючих кустов. — Не смотри в ту сторону, — предупредила Алена. — Там вода! — прохрипел Иван. — Там вода! — Ее нельзя пить, — сказала Алена. — Видишь рядом сказозубов? — Они безвредны. — Это их водопой. Похожие на жаб-переростков сизые животные размером с корову медленно поводили многорогими головами, разглядывая пришельцев. — Ты боишься, что со мной что-нибудь случится? — Не что-нибудь, а то же, что случилось с экспедиционной собакой. Помнишь? — Мне рассказывали. — А я сама видела, как Шарик превратился в одно из этих чудищ. — Уж очень похоже на сказку. — Может быть. Доктор Фукс вскрыл его потом: даже все внутренние органы изменились. — Как он это объяснил? Алена не ответила. Путники миновали водоем, и Иван оглянулся, будто бурая вода прудика звала его вернуться. — Доктор Фукс предложил интересную гипотезу, — продолжала Алена. — Местные виды фауны однополы. Обычно они никогда не покидают своего водоема. Как только одно из животных умирает — от старости ли, от болезни, — другой сказозуб подходит к водоему, напивается этой жидкости (на базе есть фильм — дойдем, посмотришь) и тут же распадается на две особи, такие же точно как прежние. — И какой вывод? — Фукс предполагает, что водоем — хранитель наследственности стада. В нем содержится не вода — хотя по составу жидкость и близка к воде, — а слабый раствор фермента, может быть несущего в себе цепочки наследственных молекул. — И много таких водоемов? — спросил Иван. — Мы пока открыли шесть. И у каждого пасется свое стадо. — А сказке про собаку ты веришь? — Я же говорю — сама видела. Ты знаешь, на планете ни лесов, ни больших озер, ни океанов. И в ходе эволюции водоем выработал способность не только поддерживать свой вид, но и влиять на другие живые организмы. Так выражается здесь борьба за существование. Если одна из этих жаб доберется до соседнего, чужого водоема и напьется из него, она превратится в жителя того водоема. Понятно? — Мне понятно одно: я согласен стать жабой, только бы не умереть от жажды. — До базы еще два часа ходу. Неужели не дотерпишь? Я думала, что астронавты крепче духом. Но Ивана не смутил укор. Металлические подошвы равномерно цокали по раскаленным камням, и оба солнца планеты безжалостно жгли сквозь скафандр. Здесь не было теней. Одно солнце светило прямо с зенита, второе катилось вдоль горизонта, не собираясь заходить, и за час успевало трижды обернуться по белесому раскаленному небу. Снова скала, и у нее — водоем, окруженный стаей нежащихся на солнцепеке рыжих одров, отдаленно напоминающих лошадей, доведенных до последней стадии истощения. — Аленушка, — взмолился Иван, — я должен напиться! Я обязательно должен напиться! — Не говори глупостей! Идем. Я все тебе объяснила. — А я тебе не верю, — сказал Иван с неожиданным озлоблением. — И твоему доктору Фуксу. Аленушка ничего не ответила. Она продолжала идти вперед, маленькая, тонкая, прокаленная насквозь жаром этой планеты, старожил из первой экспедиции, встречающий на планете четвертый месяц. Иван увидел ее впервые вчера вечером. Командир корабля «Смерч» вызвал его в салон управления и сказал: — Возьмешь почтовый планер и спустишься с Аленой Сергеевной на базу. Продовольствие и приборы отвез Данилов. Тебе остается только взять письма. И еще: вот лекарства. Алена Сергеевна поднималась к нам на орбиту специально за ними. …Планер сделал вынужденную посадку на плоском, как блюдо, плато, не долетев до базы полсотни километров. При посадке вдребезги разлетелась рация. Но ящик с лекарствами уцелел. «Смерч» был высоко на орбите, и связаться с ним было нельзя. Пришлось идти пешком. До рассвета, до того, как на небо выскочили оба солнца, путь казался нетрудным. Теперь же… Впереди появился еще один водоем. Третий по счету. Возле него никого не было. — Все, — сказал Иван, скидывая рюкзак. — Я пью. — Здесь тоже нельзя, — сказала Алена. — Животные просто пасутся за холмами. Я же знаю. — И я знаю, — ответил Иван, — и я знаю, что ничего со мной не случится. Он стал на колени и принялся пить солоноватую теплую жидкость. Алена пыталась оттащить его от воды, кричала что-то, плакала, но он не слышал — он пил, и пил, и пил… Из-за бугра показалось стадо рогатых мохнатых животных. Они заверещали и заблеяли, увидев, как у них на глазах двуногий пришелец превращается в подобного им. Иван вскочил, стараясь стряхнуть с себя прилипшие капли и пытаясь выплюнуть воду. Он хотел крикнуть, но вместо этого послышалось жалобное блеяние. И, не в силах держаться на задних ногах, Иван рухнул на камни, ударившись о них копытами передних ног. Стадо приблизилось к нему и остановилось. Животные были настроены вполне миролюбиво. Алена не помнила, сколько она просидела на камне, захлебываясь от слез, от бессилия, от страха. Животное, недавно бывшее Иваном, жалось к ней, тыкалось носом в колени, будто упрашивало: «Помоги!» Скафандр обвис и болтался нелепо, словно какой-то шутник обрядил в него козленка. Наконец Алена встала, соорудила из ремешка ошейник, взвалила на спину второй рюкзак и поплелась дальше, к базе. Она не чувствовала больше ни иссушающей жары, ни жажды. Через пятьсот метров ее встретила спасательная партия…На базе любят рассказывать о том, как после многочасовых поисков спасатели наткнулись в пустыне на Алену Сергеевну, заплаканную, изможденную. Она несла два рюкзака и тащила на ремешке уродливого «козла» в скафандре. Если вам придется когда-нибудь побывать на этой базе, вам обязательно расскажут эту историю. А если вы выразите сомнение, то вас поведут на двор, где уныло бродит зеленый козел с пятью рогами. «Вот он, — будут уверять вас, — тот самый астронавт Иван, который не послушался Алену». Иван обязательно подойдет к вам и прислонится мордой к коленям. Он очень привязан к людям. Если же вы начнете проявлять любопытство, даже ужасаться, вам обязательно сообщат, что доктор Фукс обещает со дня на день создать противоядие и вернуть Ивану человеческий облик. Только лучше не ходить после этого к самому доктору Фуксу. Он ужасно разозлится и скажет, что ему надоели эти глупые шутки, что это самый обыкновенный местный козел и что астронавт Иван благополучно улетел обратно на Землю. Кто знает, может быть, доктору Фуксу стыдно признаться, что ему до сих пор не удалось выработать противоядие.
СИНЯЯ БОРОДА
Он разбудил ее на рассвете. За окном висела непрозрачная синева, в которой утонули леса, поля, озера. Редкие огоньки дальней деревни с трудом продирались сквозь густую синь. — Вставай, красавица, — сказал он ей. — Я хочу, чтобы тебе понравилось в нашем доме. Она отвела от него глаза. Иссиня-черная борода, занимавшая половину лица и лопатой ложившаяся на грудь, пугала ее. — Смотри на меня, — приказал он. — Тебе все равно придется ко мне привыкнуть. Я тебе неприятен? — Не знаю, — сказала она. — Я буду добр к тебе, — сказал он. — Я не буду тебя обижать. Но ты должна будешь меня во всем слушаться. — Хорошо, — ответила она, не поднимая головы. — Ну, теперь иди, — сказал он. — Ты можешь делать что хочешь. Только прошу — не открывай маленькой двери под лестницей. — Хорошо, — повторила она, мечтая об одном: чтобы он скорее ушел и оставил ее одну. — Может быть, мне придется сегодня уехать, — сказал он. — Я вернусь к вечеру. Она посмотрела ему вслед. Он медленно шел по коридору. Спина его, широкая и сутулая, таила в себе непонятную угрозу. Через несколько минут она услышала, как под окном раздались голоса. Она подошла к окну и увидела, что он прощается с одним из слуг. Он и в самом деле уезжал. Ей сразу стало легче. Необходимость подчиняться Синей Бороде угнетала ее, но она отлично понимала, что у нее нет другого выхода: он был ее хозяином и помощи ждать было неоткуда. Все затихло в доме. Она открыла дверь и вышла из своей комнаты. Длинный коридор вел до самой лестницы. Она наугад толкнула дверь направо и увидела большую комнату, почти пустую, если не считать стола, кресла с высокой узорчатой спинкой и книжных шкафов у стен. Она подошла к книжным полкам. Названия книг ей ничего не говорили. Она перелистала одну из них и поставила на место. Потом она покинула библиотеку и дошла до лестницы. Она спустилась, постукивая задумчиво кулачком по перилам, и остановилась в нерешительности в высоком холле, пол которого был устлан необъятным ковром. Один из поварят, одетый в белый халат и колпак, вышел из кухни. Она не обратила на него внимания. Она предпочитала не обращать внимания на его слуг, потому что это значило бы, что она собирается навсегда оставаться в этом доме. Слуга прошел мимо и исчез. Что Синяя Борода запрещал ей делать? Ага, открывать маленькую дверь под лестницей. Где же она? Вот и дверца. Она провела ладонью по прохладной плоскости и отдернула руку. Она вспомнила, какие глаза были у Синей Бороды, когда он велел ей слушаться его во всем. Она вышла в сад. Уже совсем рассвело, но день оставался таким же туманным и сумрачным. Желтые листья кленов складывались в прихотливые калейдоскопические узоры на черной мокрой земле. Она подумала, что может простудиться, и решила подняться наверх, чтобы накинуть на себя что-нибудь теплое. Ей хотелось дойти до ограды и увидеть поля и лес, над которыми Синяя Борода был не властен. Но она не дошла до своей комнаты. Маленькая дверца под лестницей необъяснимо притягивала ее к себе. Что могло быть спрятано за ней? Какая тайна скрывалась за этой обыденной и невзрачной дверью? Ощущение тайны, не покидавшее ее с утра, тайны, которой, казалось, был пропитан этот дом, тяготило и тревожило. И если бы не страх перед Синей Бородой… Она с минуту постояла перед дверью, прислушиваясь. Когда неподалеку прошел слуга, она прижалась к стене, стараясь слиться с ней, стать незаметной. Слуги могли донести Синей Бороде. Шаги стихли. Рука сама поднялась к двери и нажала на нее. «Я только чуть-чуть приоткрою ее, — успокаивала она себя. — Только самую, самую малость. Я не буду заходить внутрь». Она толкнула дверь и зажмурилась. Так она простояла еще несколько секунд. Она знала, чувствовала, что дверь уже распахнута и надо только открыть глаза, чтобы разгадать тайну дома. «Ну, — уговаривала она самое себя, — открой глаза. Что сделано, то сделано». И она открыла глаза. Она ожидала увидеть что угодно, только не то, что предстало ее взору. В небольшой полутемной комнате лежали шесть таких же, как она. Некоторые из них были без головы. И все были мертвы. Она поняла, что она не первая и, может быть, не последняя живая обитательница этого дома и судьба ее несчастных предшественниц уготована и для нее. Она вскрикнула и, не закрыв двери, бросилась вверх по лестнице, не заметив, что слуга видел все. Она бежала по коридору не помня себя, в ужасе от своего открытия. Ей хотелось спрятаться, скрыться, убежать — но куда? В лес? Она повернула обратно и понеслась к выходу из дома, к саду. И на пороге столкнулась с Синей Бородой. Он все понял с первого взгляда. — Ты была там? — спросил он, и голос его был скорее печален, чем зол. — Ты все видела? — Они… они… ты убил их! — всхлипывала она. — Ты убьешь и меня! — К сожалению, ты права, — ответил он тихо. — У меня нет другого выбора. Вечером, демонтировав очередную неудачную модель, Роберт Кямилев, по прозвищу Синяя Борода, начальник центральной лаборатории биороботов, сидел, пригорюнившись, в столовой главного корпуса и нехотя пил восьмую чашку крепчайшего чая. — Опять неудача? — спросила Геля. — Как только они получают свободу воли, тотчас же выходят из повиновения, — пожаловался ей Роберт, сокрушенно выщипывая волоски из черной бороды. — Система теряет надежность. Любопытство оказывается сильнее комплекса повиновения. — Бедняга, опять месяц работы впустую! — Почему впустую? — обиделся вдруг Роберт. — Завтра принимаюсь за новую модель. Какая-то из жен Синей Бороды окажется достаточно дисциплинированной. — А если сотая? — вздохнула Геля.ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
Члены Верховного Труля планеты Локатейпан не были бы так подозрительны, если бы не бесконечные интриги жителей Колатейпана — планеты-близнеца. Локатейпан и Колатейпан вращаются вокруг одного и того же солнца, по одной и той же орбите, с одной и той же скоростью. И на той и на другой планете колесо было изобретено в V веке до их эры, и первый воздушный шар поднялся в воздух в 1644 году их эры. И те и другие вступили в Большое Кольцо Галактики почти одновременно — то есть Локатейпан первым послал заявление, а Колатейпан первым получил ответ. В Галактике считают, что произошло это по той простой причине, что «К» в галактическом алфавите стоит перед «Л». Но на планетах-близнецах думают иначе. Колатейпанцы полагают, что Галактика таким образом признала их превосходство над Локатейпаном, а локатейпанцы уверены, что Колатейпан перехватил и задержал их заявление. Нет возможности, да и не обязательно перечислять все обиды, которые Колатейпан нанес Локатейпану, тем более что тогда пришлось бы перечислять все обиды, которые Локатейпан нанес Колатейпану. Уже сказанного вполне достаточно, чтобы понять, почему Верховный Труль Локатейпана, узнав, что с Земли летит к ним посол, испугался, как бы соседи не перехватили посла и не оставили его у себя. — Они могут пойти на подмену посла, — сказал Жуль Ёв, самый мудрый в Труле. — Они все могут. — Но к ним тоже летит посол с Земли, — сказал молодой оппозиционер-скептик. — А разве мы отказались бы иметь у себя обоих? — резонно возразил Жуль Ёв. И скептики были вынуждены замолчать. Несколько минут члены Верховного Труля молчали и думали. Потом решили: надо испытать посла. Вдруг это не посол с Земли, а элементарный колатейпанец? — Но как? — Мы устроим ему экзамен. Соберем всех знатоков земных обычаев и спросим что-нибудь такое… — Неудобно, все-таки посол. А вдруг обидим его? Нужно быть предельно деликатными. — Где эксперт по земным обычаям? — спросил Жуль Ёв. — Позвать его. Привели эксперта. Эксперт прочел все книжки, которые удалось купить или выменять на марки на пролетавших мимо галактических кораблях, и просмотрел все телепередачи, которые передавались с Земли по четырнадцатой космической программе. Эксперт долго думал. Может быть, несколько дней — мы точно не знаем, — наконец придумал. — Есть на Земле древний обычай, — сказал он. — Я читал о нем в одной очень редкой книге, изданной на аммиачной планете Сугре, но наверняка переведенной с земных языков. — Какой обычай? Какой обычай? — заволновались члены Верховного Труля. — Когда на Землю попадает неизвестный человек и они, люди, хотят узнать, принцесса ли он (я не знаю, что такое принцесса, но полагаю, что это признак принадлежности к истинным людям), ему подкладывают под тюфяки горошину. — Ну и что? — Если он — принцесса, то утром он обязательно жалуется, что он плохо спал и весь покрыт синяками. Он почувствует горошину даже сквозь десять перин. — Замечательно! — сказали члены Труля. — Мы подложим ему горошину, а когда он нам пожалуется, то извинимся и скажем, что не заметили, как она туда попала. На этом бы совещание окончилось, если бы вдруг молодой оппозиционер-скептик не спросил у уважаемого собрания: — А что такое горошина? Оказалось, эксперт не знает, что такое горошина. Вызвали всех других экспертов, и они тоже не знали, что такое горошина. Стали рассуждать логически: известно, что у жителей Земли куда более тонкая и чувствительная кожа, чем у локатейпанцев и колатейпанцев, — пожалуй, это единственное, что их отличает. Значит, надо подложить в кровать послу такую вещь, которая совершенно не чувствительна для местного жителя, но осязаема для кожи дорогого гостя. Решив так, члены Верховного Труля провели небольшой эксперимент. Принесли десять кроватей и на каждую положили по десять перин. Под перины спрятали по предмету разной формы и степени твердости. Вечером уложили на кровати по локатейпанцу, не сказав им о сущности смелого эксперимента. Утром в присутствии членов Труля и медицинской комиссии подопытных локатейпанцев допросили и осмотрели. Оказалось, что шестеро из них спали спокойно и ничего не заметили, а четверо жаловались на неудобства и синяки. Шестой, последний из ничего не почувствовавших, провел ночь на зерне местного растения, называемого научно Пуралон Ами-апа-ана, а в просторечье — чертово семя. Выяснив это, члены Труля отнесли чертово семя в резиденцию посла и положили под десять перин.Посол Земли Ольга Барышникова, подлетавшая в это время на попутной сирианской ракете к Локатейпану, ничего, разумеется, не знала. Ракетодром был подметен и полит импортным одеколоном. Части национальной гвардии выстроились шпалерами от ракеты до здания космопорта. Играли оркестры народных инструментов, и дети, не успела Ольга спуститься по трапу, поднесли ей букеты местных цветов. Старейший из членов Верховного Труля, достопочтенный Жуль Ёв, произнес небольшую, но прочувственную речь и пригласил Ольгу проследовать к ожидающей ее машине. — Хорошо ли вы доехали? — спросил Жуль Ёв Ольгу, когда машина выехала с космодрома и по праздничным улицам столицы поплыла к резиденции земного посла. — Спасибо, путешествие было отличным, — ответила Ольга, раскланиваясь с приветствовавшими ее горожанами. — Мы надеемся, что вам у нас понравится, — сказал Жуль Ёв. — Я тоже. Я тронута теплой встречей. Она и в самом деле была тронута встречей, и, если бы не опасение нарушить какой-нибудь местный обычай, обидеть чем-нибудь любезных хозяев, она вела бы себя куда менее сдержанно. Жуль Ёв и сопровождающие его лица провели Ольгу по всем комнатам посольской резиденции и с особенной гордостью показали ей спальню — громадное помещение, облицованное мореным дубом, посреди которого возвышалась под альковом квадратная кровать, увенчанная грудой перин. — Это слишком роскошно для меня, — сказала Ольга. — Я, честно говоря, не привыкла к такой роскоши. И… сказав это, тут же поняла, что совершила какую-то ошибку. Жуль Ёв переглянулся с другим стариком, и, как ей показалось, неодобрительно. И еще Ольга заметила, что молодой локатейпанец бочком-бочком пододвигается к кровати, будто хочет залезть под перину. Жуль Ёв зашипел на него и, чтобы загладить неловкость, познакомил его с Ольгой. — Это представитель нашей оппозиции, скептик, — сказал он. Молодой скептик Ольге понравился. Ее только смутили его слова, сказанные вполголоса: — Я вам не завидую. — Так пройдем дальше, — предложил Жуль Ёв. — Мы еще не осмотрели кухню и библиотеку. Да, локатейпанцы были очень любезны, очень рады, что от прилетела к ним, и все-таки Ольга чувствовала какую-то недоговоренность, шепоток за спиной, взгляды, пролетающие рядом, жесты, не предназначенные для ее глаз. У входа в библиотеку их ожидал сухощавый локатейпанец в очках. Взгляд его был тяжел и настойчив. — Наш эксперт по земным вопросам, — сказал о нем Жуль Ёв. — Не хотите ли с ним побеседовать? — С удовольствием, — сказала Ольга, которая решила не отказывать ни в одной просьбе хозяев, хотя ей, по правде говоря, очень хотелось спать — ракета шла с перегрузками и Ольга очень устала. — Сколько колонн у Большого театра? — неожиданно спросил эксперт. Вопрос был странным и, по крайней мере, неделикатным. Но Ольга почувствовала, что ее ответу локатейпанцы придают большое значение. А сколько колонн в самом деле? Никогда в жизни ей не приходилось задумываться над этим. Она постаралась представить себе здание Большого театра, коней на фронтоне, толпу, жаждущую лишнего билетика под колоннами, но сколько же их? Четыре? Нет, больше. Шесть? Семь? Наверняка четное число. — Шесть, — сказала она. И по вытянувшимся! лицам хозяев поняла, что совершила ошибку. — Хотя я не помню точно, — добавила она, — может быть, и восемь. Как-то не приходилось считать. — Не обращайте внимания на нашего эксперта, — любезно улыбнулся Жуль Ёв. — Любознательность его когда-нибудь погубит. А сейчас мы позволим себе откланяться. Вам надо отдохнуть. И Ольга осталась одна. Ее не покидало ощущение, что за ней следят. Может быть, она чем-нибудь вызвала недовольство гостеприимных хозяев? Обидела их? Вроде нет. «Ну ладно, утро вечера мудренее. Высплюсь и тогда примусь за работу», — решила она. Но и заснуть ей толком не удалось. Перины, которыми была завалена кровать, были податливыми, мягкими, даже слишком мягкими, и она с удовольствием бы выбросила по крайней мере половину, но все равно что-то твердое все время впивалось ей в бок, будто она спала на камнях. Ольга слишком устала, чтобы подниматься и разыскивать причину неудобства. Она заставила себя уснуть. Ночью ей снилось, что она попала в лавину на Кавказе и камни с размаху падают на нее. Это была далеко не самая приятная ночь в ее жизни. И, когда Ольга проснулась, она чувствовала себя избитой, невыспавшейся. Она с трудом поднялась и увидела, что бока ее покрыты синяками. «Ну и жизнь у послов! — подумала она. — Надо будет вечером обязательно перебрать эти перины и соорудить себе ложе по вкусу. Ведь придется здесь жить несколько месяцев…»
У двери в спальню ждали локатейпанцы. — Как вы спали? — хором спросили они. — Спасибо, хорошо, — ответила машинально Ольга и подумала, что обязательно надо будет выкинуть эти перины. — Вам ничего не мешало спать? — спросил посуровевший Жуль Ёв. — Что вы! — Ольга улыбнулась самой дипломатической из известных ей улыбок. — Я очень благодарна вам за заботу. Я чувствовала себя совсем как дома. — Все ясно, — сказал голос из задних рядов. Голос был далеко не дружелюбен. Знакомый оппозиционер-скептик скорчил жалобную мину и старался передать Ольге какой-то знак, которого она так и не поняла. — У Большого театра восемь колонн, — сказал протиснувшийся в первый ряд эксперт. — А вот скажите нам, кто построил Тадж-Махал? — Что? — удивилась Ольга. — Тадж-Махал? — Не знает, — сказал Жуль Ёв. — Не знает, — повторил мрачный голос из задних рядов. — Она такой же посол, как я. Толпа угрожающе надвигалась на Ольгу, и та в полной растерянности отступала к спальне, проклиная свою неосмотрительность, проклиная неизвестную ей самой ошибку, которая ставит под угрозу дружеские отношения между Землей и Локатейпаном. — Выбросить ее с планеты! — Самозванка! — Колатейпанская шпионка! — Верните нам земного посла! — Остановитесь! — крикнул молодой оппозиционер. — Вы можете совершить непоправимое! — Она не знает, сколько колонн у Большого театра! — возразил голос из толпы. — Ей даже чертово семя нипочем. «Ну вот, еще чертова семени не хватало», — подумала Ольга. Она неосторожно прислонилась к косяку двери и сморщилась от боли. — Что с вами? — крикнул, перекрывая шум сановников, молодой оппозиционер. — Ничего особенного, — силилась улыбнуться Ольга. — Что-то попало под перину и искололо мне бока. «Что я делаю! — подумала она, произнося эти слова. — Теперь они окончательно обидятся. Готовили мне резиденцию, готовили, а я вместо этого…» — Покажите, — сказал резко Жуль Ёв. — Что показать? — Синяки. — Как так? — удивилась Ольга. — Покажите им! — кричал молодой оппозиционер. — Не стесняйтесь. Они подложили вам под перину горошину, чтобы испытать, настоящий ли вы посол. Вы, наверно, слышали о таком методе? Ольга поняла, что локатейпанцы не шутят, и, закатав рукав куртки, показала огромные синяки на руке. — Ура! — закричали локатейпанцы. — Простите нас! — Покажите хоть горошину, — попросила Ольга, стараясь сдержать смех. Жуль Ёв собственноручно извлек из-под перин горошину, очень похожую на морского ежа, только чуть побольше размером.
Б. Ляпунов ЛЮБИТЕЛЯМ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
Что нового написали фантасты за последнее время? На этот вопрос отвечает наша очередная книжная полка любителей фантастики. Фантастическая литература развивается сейчас особенно бурно и, как растущее дерево, дает всё новые и новые побеги. Она меняет и свой характер. Где бы и когда бы ни разворачивалось действие — на другой планете или на Земле, в наши дни или несколько веков спустя, кто бы конкретно ни был героем — люди грядущего либо наши современники, — фантастика сегодняшнего дня рассказывает о Человеке. Его дела, переживания и поступки, его поведение в необычной обстановке, где резче выявляется характер, — вот главное у фантастов, и каждый по-своему говорит о том, что волнует писателя. Одного увлекают неразгаданные тайны окружающего мира. Другой переносит нас в будущее и набрасывает широкое полотно следующего (или следующих) века. Третий обращается к фантастическому памфлету, к сатире, юмору, четвертый — к научно-фантастической сказке. Пятый вводит фантастику в сугубо реалистическое произведение. Повсюду для фантазии открывается широчайший простор. Такого разнообразия не было раньше. В последние годы начали выпускаться сборники, альманахи, серии, библиотеки фантастики. Они знакомят с новинками как советской, так и зарубежной фантастической литературы, печатают произведения писателей известных и авторов, написавших свои первые вещи. Сборники и серийные издания занимают теперь на полке любителя довольно большое место. В наш обзор входит фантастика за 1966 год и некоторые книги, изданные в конце 1965 года, но не попавшие на предыдущую «книжную полку». Как и раньше, мы познакомимся с наиболее интересными и значительными произведениями, выпущенными преимущественно центральными издательствами.* * *
Фантасты А. и Б. Стругацкие написали повесть «Понедельник начинается в субботу» (издательство «Детская литература», 1965). Это «сказка для научных сотрудников младшего возраста». Вот что о ней говорят в предисловии авторы:«…Есть в ней всякого рода драконы. Есть настоящий сказочный герой, не то Александр-царевич, не то Александрушка-дурачок, — обыкновенный, вполне современный и совершенно настоящий младший научный сотрудник. Есть заколдованный замок — заурядный Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства Академии наук. Есть в повести пригоршня вурдалаков, несколько кощеев бессмертных, попадаются отдельные, совсем не типичные колдуны и маги, небрежно обращающиеся с волшебной палочкой. Наконец, есть там и Великая Тайна, относительно которой ни герои, ни авторы не уверены: удалось ее раскрыть или нет…»Мы живем в такое время, когда научно-технические «чудеса» встречаются на каждом шагу. Мы перестали им удивляться. А ведь они поистине удивительны — намного удивительнее самых волшебных сказок, которые нам, уж конечно, хорошо известны. Но эта сказка еще и сатирическая — она высмеивает лженауку, порочные методы научной работы и руководства ею, отношение некоторых ученых к своей работе. В ней есть над чем посмеяться. В 1965 году вышел сборник фантастических повестей А. и Б. Стругацких «Хищные вещи века» (издательство «Молодая гвардия»). В него, помимо одноименной повести, включена «Попытка к бегству» (мы упоминали о ней в предыдущем обзоре — «Мир приключений» № 12). «Хищные вещи века» — своего рода «антиутопия». Что может произойти с обществом, достигшим вершин материального благополучия, но в котором все еще остался капиталистический строй? Этот вопрос поставлен в повести. «Исходя из реальных тенденций современного буржуазного общества, — пишет о повести И. Ефремов, — и более всего из свойств его идеологии разлагать души людей, воспитывать отупелых потребителей, ищущих во всем широком мире только сытости и наслаждения, Стругацкие создают модель воображаемой страны, где многое условно, где люди живут, не задумываясь о завтрашнем дне, о куске хлеба. Люди в этой стране имеют все — еду, одежду, развлечения — и тем не менее опускаются до состояния наслаждающегося животного, лучшие из них мучаются и погибают… Повесть А. и Б. Стругацких насыщена ненавистью к подобному благополучию, достигнутому ценой измельчания идей, человеческой личности». С новым сборником фантастических рассказов «Солнце заходит в Дономаге» (издательство «Молодая гвардия», 1965) выступил И. Варшавский. Сборник состоит из трех разделов и название получил благодаря вымышленной стране Дономаге, о некоторых событиях в которой рассказывается в новеллах второго раздела. Под Дономагой легко угадывается любая из высокоразвитых капиталистических стран нашего мира, хотя автор и не указывает конкретно, где происходит действие. К чему приводит развитие науки и техники в стране, где властвуют монополии? Там достигнуто процветание, но человек не обретает счастья, он становится рабом того бездушного строя, который превыше всего ставит прибыль. Отсюда все конфликты, происходящие с героями в Дономаге. Один из них, например, едва не превращается сам в автомат, другой становится живой вычислительной машиной, третий — искусственный человек, рожденный в колбе, — влачит жалкое существование придатка машины. Четвертый оказывается единственным, кто выживает после катастрофы, вызванной испытаниями нового оружия, и делит свое одиночество лишь с «электронным мозгом», а в конце концов погибает. «Солнце заходит в Дономаге»… Какими должны быть люди будущего? На этот вопрос отвечают новеллы первого раздела сборника, озаглавленного «Вечные проблемы». Они человечны, это останется неизменным во все времена. Обреченные, казалось бы, на гибель люди не теряют надежды, что усилиями всего мира они будут спасены («В атолле»). И потому картины счастья, отдыха в чудесном уголке природы не омрачает угроза, нависшая над этой семьей: мы верим, что ее предотвратят. Старый «космический волк» капитан Чигин («Курсант Плюшкин») оказывается жертвой довольно хитроумной шутки своих курсантов, проходящих практику на его учебном космолете «Альдебаран». Рассказ построен на контрастах. Век широко развернувшегося покорения космоса — и романтика далекого прошлого, времен парусного флота, которой увлекается капитан. Техника, невиданно шагнувшая в космические дали, когда будущие космонавты тренируются непосредственно в космосе, — и человек, который остается человеком, со своими привязанностями и мечтами. А вот старый космонавт, пилот резерва Климов («Решайся, пилот!»). Он постоянно дежурит на космодроме: «Ведь я в резерве, мало ли что может случиться». И случай приходит — ему нужно лететь вторым пилотом рейсового корабля на Марс. Климов для этого слишком стар и все же получает разрешение на полет. Человеку, вся жизнь которого прошла в космосе, нельзя отказать! В полете происходит непредвиденное, и второй пилот с риском для жизни ликвидирует аварию. Выходит, старость не помеха тому, кто верен своему делу. Решайся, пилот: остаться навсегда на Земле, обрести только личное счастье, или… «завтра в семь утра быть здесь готовым к отлету маршрутного на Луну»… «Ведь я в резерве, мало ли что может случиться»… Герой рассказа «Лентяй» должен был бы оправдывать это название: он шахтер, управляющий биокибернетическим роботом-антропоидом, и добывает руду на чужой планете. Автомат подвластен человеческой мысли, и кажется, что не может быть легче труда при такой сверхсовершенной технике. Но это далеко не так, и случай, происшедший с шахтером Ишимбаевым, показывает: героизму всегда будет место, какими бы умными машинами мы ни обладали. В третьем разделе сборника, «Фантастика в собственном соку», читатель найдет несколько юмористических и сатирических новелл. В сборник М. Емцева и Е. Парнова «Зеленая креветка» (издательство «Детская литература», 1966) вошли повесть «Бунт тридцати триллионов» и рассказы. Люди Земли получают подарок от пришельцев из космоса — препарат, дающий бессмертие. Темы победы над смертью и содружества земной и инопланетной цивилизаций переплетаются в повести, героям которой свойственны стремление к научному поиску, подвигу ради счастья всех людей планеты. Необычайные приключения переживают герои повести «Бунт тридцати триллионов». В конце концов получен препарат «виталонга-прим», который «спасает от преждевременной старости, придает необыкновенно устойчивый жизненный тонус, неиссякаемую бодрость духа, великолепную трудоспособность в любом возрасте…» В «Зеленой креветке», как и в других произведениях тех же авторов, судьба необычайного открытия связана с судьбами героев, зависит от того, каковы их взгляды на роль науки в современном мире. Другое, что занимает фантастов, — стремление показать трудные пути открытий. Рассказы сборника посвящены различным проблемам науки будущего: управление человеческими эмоциями («Приговорен к наслаждению»), биокатализатор, усиливающий жизненную активность организмов и перестраивающий их природу («Зеленая креветка»), искусственный человек («Идеальный ариец»), действие на космонавта электромагнитных излучений другой звезды («Желтые очи»), получение первичной материи («Доатомное состояние»), биокибернетические и биохимические проблемы, воздействие на организм и психику человека («Конгомато»). Сборник научно-фантастических повестей и рассказов И. Росохватского «Виток истории» (издательство «Детская литература», 1966) включает несколько печатавшихся ранее и новых произведений. Среди них — повесть «На Дальней», в которой описывается встреча землян с разумными обитателями Дальней планеты. В новый сборник научно-фантастических повестей и рассказов А. Шалимова «Когда молчат экраны» (издательство «Детская литература», 1965) вошли, помимо одноименной повести, рассказы «Стажировка», «Концентратор гравитации», «Пленник кратера Арзахель» и повесть «Цена бессмертия». Автор переносит нас на планету иной звездной системы («Цена бессмертия»). Жители ее не умирают естественной смертью, они бессмертны. Но немногие из них уцелели после разрушительной термоядерной войны, и, чтобы бессмертным существовать дальше, когда жизненные ресурсы иссякнут, нужно либо уничтожить соседнюю планету Мауну, либо попытаться найти другие разумные существа, которые, быть может, обитают на той же Мауне… Молодой ассистент Од, вопреки мнению правящего Круга Жизни и Смерти, выбирает второе. Ценой собственной гибели он предотвращает гибель Мауны. Повесть «Когда молчат экраны» посвящена победе человека над временем. Он получаетвозможность путешествовать в межзвездных просторах с огромными космическими скоростями. Улетает первая фотонная ракета, и экраны связи молчат. «А когда молчат экраны, решать и действовать должны люди…» И герои повести принимаются за работу — через три года полетит следующая экспедиция… Рассказ «Пленник кратера Арзахель» описывает приключения космического «робинзона» на Луне. В рассказе «Стажировка» автор говорит о далеком будущем Земли, когда люди научатся управлять деятельностью вулканов, климатом Крайнего Севера и Юга. На центральном посту, мозге энергетической сети планеты, проходит практику стажер. Ученые находят путь увеличить мощность природного ядерного генератора Земли, чтобы поднять из океанских глубин затонувшие в древности материки — Атлантиду и Гондвану. Человек грядущего будет владеть гигантской энергетической мощью, до он никогда не употребит ее во зло людям — такова главная мысль рассказа. Рассказ «Концентратор гравитации» имеет подзаголовок — «На грани фантастики». И действительно, непонятно, существовал ли на; самом доле чудесный прибор, который мог излучать направленное гравитационное ноле. Это было бы чудовищное оружие. А может быть, герой рассказа смог, управляя биотоками, внушить лишь иллюзию происходивших необычайных событий? Возможно, и так, но все же… Концовка рассказа позволяет в этом усомниться. В романе А. Студитского «Разум Вселенной» (издательство «Молодая гвардия», 1966) поставлена проблема, с которой человечество столкнется уже в ближайшем будущем. Как человеку приспособиться к жизни в изменившейся среде, когда он будет подвергаться воздействию излучений? Огромную роль должна здесь сыграть биология. О биологии эры атома и космоса, путях решения проблемы защиты живой материи от разрушительных сил и рассказывает автор. В романе Г. Мартынова «Спираль времени» (Лениздат, 1966) гостями Земли оказываются жители соседнего мира, находящегося в четвертом измерении. Но случай заставляет их проделать путешествие еще и во времени, уже вместе с одним из землян. И перед читателем проходят события разных эпох и в разных местах нашей планеты — он переносится и в Атлантиду, и в Древнюю Русь, и в век XX, и в век XXII. Он как бы проходит по своеобразной спирали времени.
* * *
Отдельные крупные произведения писателей-фантастов печатались в альманахах и сборниках 1965 и 1966 годов. Опубликована первая книга фантастического романа С. Снегова «Люди как боги» (сборник «Эллинский секрет».) Это утопия о далеком космическом будущем человечества. Повесть А. Днепрова «Голубое зарево» напечатана (в сокращенном виде) в альманахе «НФ», выпуск 2. В ней затрагиваются проблемы физики будущего — создание искусственного антивещества и фотонного двигателя для космических ракет. Как и во многих других своих произведениях, писатель сталкивает в повести науку двух миров. Только что закончилась война, а империалисты уже охотятся за трофейными научными материалами я немецкими специалистами. В лаборатории доктора Роберто велись исследования, связанные с получением ядерной энергии «третьим путем» — но делением или синтезом ядер, а с помощью аннигиляции вещества. И новые сеятели смерти мечтают о том, чтобы создать столь могущественное оружие, которое могло бы буквально взорвать весь земной шар. Над той же идеей — получения ядерной энергии, но только в иных целях — работают и советские ученые. Ход решения идей, с одной стороны, и борьба, развернувшаяся вокруг открытия, — с другой, и составляют содержание повести. Запуск первой советской фотонной ракеты воспринимается как победа сил творящего разума. Это он становится покорителем Вселенной, он «смело схватит за крыло сияющую жар-птицу и подчинит ее своей воле!..» В романе О. Ларионовой «Леопард с вершины Килиманджаро» (альманах «НФ», выпуск 3) ставится вопрос: что было бы, если бы человек знал заранее час своей смерти, знал, сколько ему предстоит прожить? Действие романа происходит в будущем, и один из главных его героев — космонавт, возвратившийся на Землю после длительного рейса. Космический корабль «Овератор» привез необыкновенную информацию о чужой планете, во всем подобной Земле и населенной как бы двойниками землян. Каждому землянину соответствовал свой инопланетник, «таукитянин». Сведения об этих двойниках и стали известны на Земле. Однако произошел своеобразный перескок во времени, и «Овератор» принес сведения не о настоящем, а о будущем каждого из обитателей Земли. Так оказалось, что люди стали обладателями необычайного знания-времени, которое они должны прожить. Переживания героев, узнающих свою судьбу, и человеческие трагедии, связанные с полученным «знанием», стоят в центре внимания автора. В альманахе «НФ», выпуск 4, помещена повесть Л. Обуховой «Лилит» (выпущена также отдельным изданием в издательстве «Знание», 1966). В повести рассказывается о посещении Земли в очень далеком прошлом разумными существами с другой звездной системы. Повесть Г. Гора «Мальчик» (сборник «Фантастика, 1965», выпуск II) рассказывает о том, как ученым удалось разгадать тайны пришельцев, посетивших Землю в доисторические времена. Пришельцы оставили свои «информационные копии», а пятнадцатилетний сын археолога, профессора Громова, воспринял психологию и знания мальчика, который летел с пришельцами на их корабле. Он и рассказал о космосе, о полете, о жизни на древней Земле. Повесть вошла также в сборник Г. Гора «Глиняный папуас» (издательство «Знание», 1966), в который включены две повести — «Глиняный папуас» и «Докучливый собеседник», а также рассказы «Великий актер Джонс», «Необычайная история», «Капитан Кук», «Ольга Нсу» и «Аппарат Аристотеля». В том же сборнике «Фантастика, 1965», выпуск II, помещена повесть А. Громовой «В круге света». Пользуясь фантастическим допущением о возможности передачи мысли на расстояние и мысленного воздействия на людей, автор разворачивает действие в нашем времени — в недавнем прошлом. Она развенчивает индивидуализм, неверие человека в свои силы, приводящие к страху перед Большим миром и уходу в свой маленький мирок.* * *
В нашей фантастике появляются все новые и новые имена, в ней начинают работать писатели, которые писали и пишут в других жанрах. Мы говорили уже о романе прозаика С. Снегова, выступившего с первым фантастическим произведением — романом «Люди как боги». Писательница Н. Соколова опубликовала повесть «Захвати с собой улыбку на дорогу…» (сборник «Фантастика, 1965», выпуск III). В сборник Н. Соколовой «Тысяча счастливых шагов» (издательство «Советский писатель», 1965) вошла фантастическая повесть «Пришедший оттуда», в которой фантастика, как и в другой ее повести, служит средством резче обрисовать противоречия современной жизни. С сатирической фантастикой выступил А. Шаров («После перезаписи» — в альманахе «НФ», выпуск 4, «Редкие рукописи» — выпуск 5, «Остров Пирроу» — в сборнике «Фантастика, 1965», выпуск II). Ученый-хирург Н. Амосов, автор повести «Мысль и сердце», написал «Записки из будущего» (сокращенный вариант — в сборнике «Фантастика, 1966», выпуск I; печатался также в журнале «Наука и жизнь», 1965). Перу Д. Гранина принадлежит фантастический рассказ «Место для памятника» (журнал «Изобретатель и рационализатор», 1966, № 9). Поэт и прозаик В. Шефнер в своем сборнике «Счастливый неудачник» (издательство «Советский писатель», 1965) поместил фантастическую повесть «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина».* * *
Писатели, создающие реалистическую прозу, пользуются фантастикой как приемом. Характерный пример последнего времени — роман Л. Лагина «Голубой человек» (журнальный вариант — «Москва», 1966, № 12; главы печатались, кроме того, в журнале «Искатель», 1966, № 3). Главный герой романа — наш современник, молодой рабочий. Он попадает из Москвы пятидесятых годов XX века в новогоднюю Москву 1894 года.«Фантастический роман? Судя по сюжетному основному ходу, вроде бы и так. Но, кроме этой единственной предпосылки, роман в остальном вполне реалистичен, иногда сатиричен и почти всегда лиричен…» — пишет Л. Лагин.Оказавшись невольным путешественником во времени, человек XX века становится свидетелем, а затем и участником зарождения организованного рабочего движения в Москве. Он встречается с революционерами и даже с молодым Лениным, сам становится революционером, подвергается преследованию царской охранки и аресту. Сохраняя память и психологию советского человека, зная, как развернутся события истории в дальнейшем, герой романа лишь в отдельных случаях пользуется своим «даром предвидения». При побеге из тюрьмы он спасается от преследования в том самом доме, в котором произошел его переход в прошлое, и возвращается обратно в свое время, пробыв несколько месяцев в дореволюционной Москве. Фантастический прием дал возможность автору описать прошлое с позиций сегодняшнего дня и тем самым показать контраст между нашей жизнью и жизнью рабочего класса в конце прошлого века. Общение героя, нашего современника, с представителями разных кругов русского общества происходит поэтому при необычных обстоятельствах, и это придает образам романа особую выразительность, а сюжету — напряженность.
* * *
Фантастическая повесть В. Мелентьева «Голубые люди Розовой Земли» (издательство «Детская литература», 1966) представляет собой своего рода «космическую» сказку. Ее герои — мальчик Юрка Бойцов и собака Шарик. Они неожиданно встречаются с юными космонавтами — «голубыми людьми», прилетевшими с далекой Розовой планеты и посланными на разведку нашей солнечной системы. Юра и Шарик оказываются в числе членов экипажа космического корабля, знакомятся с необычайными достижениями соседнего человечества, испытывают ряд приключений в полете и на неведомой планете и возвращаются на Землю. Другая сказка, «космическая, фантастическая, сатирическая», К. Чеповецкого «Крылатая звезда» выпущена в 1966 году издательством «Веселка». «Вам предлагается необычайное путешествие в компании двух загуляй-мечтателей, фантазеров Павлика и Зори и их третьего дружка Тимки. Конечный пункт — Крылатая звезда. Планета новая, гостеприимная, полная киберов и юных ученых. Средства передвижения разные — вплоть до летающих штанов. На ваших глазах герои встретятся со своею собственной мечтой. Вы ее тоже сможете разглядеть» — так открывается книга.* * *
В 1965 и 1966 годах продолжался выпуск альманахов и сборников издательствами «Молодая гвардия» и «Знание». Вышло три сборника «Фантастика, 1965» и три «Фантастика, 1966», пять книг альманаха научной фантастики «НФ». В сборниках «Фантастика» печатались произведения как уже известных фантастов (А. Днепров, И. Варшавский, В. Сапарин, Г. Гор, А. Громова, Г. Альтов, М. Емцев и Е. Парнов, Е. Войскунский и И. Лукодьянов, И. Росоховатский, В. Савченко), так и рассказы авторов, еще не выступавших с отдельными книгами или публикующих свои первые вещи. В них выделен раздел «Новые имена». В сборниках помещаются также критические статьи. В альманахе «НФ» имеется раздел советской фантастики, в котором были помещены, помимо упоминавшихся нами, произведения Е. Войскунского и И. Лукодьянова и др. Фантастика в альманахе «На суше и на море» (издательство «Мысль») представлена рассказами и повестями советских и зарубежных авторов. В сборнике «Эллинский секрет» помещен одноименный рассказ И. Ефремова, а также рассказы Г. Гора, Л. Борисова, Г. Альтова.* * *
В библиотеках, выходивших в разных издательствах, помещен ряд научно-фантастических и фантастических произведений русских советских авторов. В 1965 году начат выпуск двадцатитомной «Библиотеки приключений» (издательство «Детская литература»). Том 1-й — переиздание произведений А. Грина («Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь»), том 4-й — романа А. Казанцева «Пылающий остров». Пятый том «Библиотеки приключений» составляет роман С. Лема «Магелланово облако». С 1965 года выходит «Библиотека современной фантастики» в 15 томах (издательство «Молодая гвардия»). В первом томе читатель найдет роман «Туманность Андромеды» и повесть «Звездные корабли» И. Ефремова, в седьмом — повести А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу». В 1965 году журнал «Сельская молодежь» дал приложение — «Библиотеку фантастики и путешествий» в пяти томах. Роман А. Громовой «Поединок с собой», повести и рассказы И. Ефремова, А. Днепрова, Г. Альтова, И. Варшавского, А. и Б. Стругацких, С. Гансовского, Д. Биленкина, В. Григорьева — таково содержание первых трех томов библиотеки, включивших фантастику. В 1965 году вышло «Собрание сочинений» в шести томах А. С. Грина (издательство «Правда», библиотека журнала «Огонек»). В него вошли феерия «Алые паруса», романы «Бегущая по волнам», «Дорога никуда», «Золотая цепь» и фантастические новеллы.* * *
В 1965–1966 годах любители фантастики получили возможность познакомиться со многими произведениями зарубежных фантастов. Издательство «Мир» выпускает серию «Зарубежная фантастика». Каждый выпуск снабжен предисловием или послесловием, рассказывающим об авторе и его творчестве. Среди уже вышедших — «Марсианские хроники» Р. Бредбери, «Охота на сэтавра» С. Лема, «Сигнал из космоса» К. Занднера, «Телечеловек» Ф. Кашшаи, «Операция „Венера“», «Торговцы космосом» Ф. Поола и С. Корнблата, сборник рассказов Й. Несвадбы «Мозг Эйнштейна», сборник англо-американской фантастики «Туннель под миром» и «Экспедиция на Землю». Выпуски 1966 года: «Мозг-гигант» Г. Гаузера, «Пан Сатирус» Р. Уормсера, «Ветер времени» Ч. Оливера, «Путь марсиан» А. Азимова, «Андромеда» Ф. Хойла и Д. Эллиота, «Паломничество на Землю» Р. Шекли, сборник рассказов К. Фиалковского «Пятое измерение», сборник рассказов румынских писателей «Белая Пушинка», сборник произведений К. Чапека. В «Библиотеку современной фантастики» в 15 томах вошла «Антология фантастических рассказов» (Италия, Польша, Франция, Чехословакия, Швейцария, Япония) — том пятый. В этой же библиотеке зарубежная фантастика входит также в тома второй (Абэ Кобо «Четвертый ледниковый период» и «Тоталоскоп»), третий (Р. Бредбери «451° по Фаренгейту» и рассказы), четвертый (С. Лем «Возвращение со звезд» и «Звездные дневники Ийона Тихого»), шестой (А. Кларк «Большая глубина» и рассказы), восьмой (Д. Уиндем «День трпффидов», рассказы), девятый (А. Азимов «Конец вечности»), десятый — антология фантастических рассказов писателей Англии и США. В «Библиотеке фантастики и путешествий» в пяти томах два тома посвящено зарубежной фантастике. Во втором томе напечатаны «Человек-невидимка» Г. Уэллса, «Я, робот» А. Азимова и рассказы Р. Бредбери, в четвертом — повесть С. Лема «Солярис», роман А. Кларка «Пески Марса», рассказы К. Боруня, В. Кайдоша, Р. Шекли. Систематически помещает зарубежную фантастику альманах «НФ». Среди опубликованных в нем произведений — рассказы С. Лема, А. Азимова, Д. Финнея (выпуск 2), рассказы Л. Биггла и А. Кларка (выпуск 3), роман Ф. Хойла «Черное облако» (выпуск 4), рассказы К. Саймака и У. Тивиса (выпуск 5). В сборнике «Эллинский секрет» напечатаны рассказы Р. Бредбери и Р. Хайнлайна. В научно-популярном сборнике «Земля и Вселенная» (издательство «Знание», 1966) читатель найдет рассказы А. Кларка «Лето на Икаре» и К. Фиалковского «Бессмертный с Веги». Кроме того, издательство «Детская литература» выпустило фантастическую повесть немецкого писателя Д. Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» (1966), а Гидрометеоиздат — научно-фантастический роман Г. Фивега «Солнце доктора Бракка» (перевод с немецкого, 1965). Вышел сборник А. Кларка «Лунная пыль» (издательство «Знание», 1965), который составлен из одноименного романа и рассказов. Любители фантастики знают английского писателя А. Кларка как автора многих научно-фантастических произведений. Недавно в русском переводе вышла еще одна его книга, которая хотя и не является беллетристикой, но представляет большой интерес для всех, кто стремится заглянуть в будущее. В этой книге, «Профили грядущего» (русский перевод под названием «Черты будущего», издательство «Мир», 1966), Кларк пишет:«За последние тридцать лет в десятках тысяч рассказов и романов исследованы все мыслимые варианты будущего — и большая часть немыслимых тоже. На свете осталось мало того, что в принципе может случиться и что не было бы описано в какой-нибудь книге или журнале. Критическое (обращаю внимание на это прилагательное!) чтение научной фантастики чрезвычайно полезно с познавательной точки зрения всякому, кто хочет заглянуть вперед больше чем на десять лет. Люди, не знающие, о чем мечтали в прошлом, вряд ли способны составить элементарное представление о будущем».Кларк приводит интересную таблицу открытий, уже сделанных и еще не сделанных, «непредвиденного» и «предвиденного». Среди того, что предстоит открыть, есть и чистейшая фантазия, но, говоря словами Кларка, «единственный способ изведать границы возможного — это осмелиться шагнуть чуточку дальше, за его пределы, в область невозможного». Именно это он и пытается сделать в своей книге. В конце Кларк приводит еще одну любопытную таблицу — «Основные этапы развития техники в будущем». Правда, в примечании к ней он оговаривает: «К приведенной таблице, конечно, не следует относиться излишне серьезно». Тем не менее таблица эта как пример предвидения будущего все же очень интересна.
* * *
В этом обзоре мы, конечно, не могли перечислить все пополнение последнего времени нашей книжной полки. Фантастику начал печатать, например, новый журнал «Химия и жизнь». Продолжают выходить и новые альманахи, сборники, выпуски библиотек. Мы рассказали здесь лишь о том, что показалось нам наиболее интересным из «урожая» 1965 и 1966 годов.МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1968 г. № 14

В. Пашинин КУЗОВОК
1
Лес начинался сразу за потемневшими корпусами фабрики. Близ городка он больше походил на парк: через канавы были перекинуты горбатые мостики с ажурными решетками; то там, то здесь среди зелени кустов белели меловые пионеры с горнами и дюжие, толщиной чуть ли не с вековой дуб, гребчихи. Но вскоре исчезли и дубы и гипсовые монументы. Стройные сосны уносили свои кроны к небу, а у подножия бурых стволов алой россыпью рдела земляника. Ее никто не собирал: детей в фабричном подмосковном городке почти не осталось, взрослые сутками не покидали цехов, а окна и двери окрестных дач были крест-накрест заколочены досками. Шло третье военное лето. На рассвете свежего июньского утра, когда небо только-только зазеленело и лишь на востоке, за черными, задымленными трубами, проступила полоска зари, белки, гнездившиеся в соснах, бросились в глубь бора. От городка, нарастая с каждой минутой, наплывали строевые песни. Вот они уже загремели среди сосен, и вслед за резкими командами оборвались. Воинские подразделения маршевыми колоннами вступили в лес. Вскоре застучали топоры. Было очевидно, что солдаты разместятся здесь надолго. Если бы сторонний наблюдатель случайно оказался среди этих солдат, то он, пожалуй, немало бы подивился, услышав их разговоры. Так, например, таща бревно издали вдвоем, они могли высчитать, где удобнее стать, чтобы нагрузка распределилась точно поровну, и даже набрасывали чертежик в блокноте с непременными весом тела Р и силой давления на точки опоры F. Строя землянку, тоже принимались за геометрические расчеты: не всегда, кстати, землянки получались маленькими, на взвод в обрез, но было в этих действиях что-то от глубочайшего уважения к школьным наукам и стремления как можно полнее применить их на практике. И еще постороннего человека удивило бы то, что это солдаты самых различных воинских специальностей: эмблемы пехотинцев, связистов, артиллеристов, саперов — да каких только не было на их полевых погонах! Да, это были не совсем обычные солдаты. Еще сравнительно недавно все они учились в старших классах школ, а некоторые — в техникумах и даже вузах. Но позади у них уже остались и военные училища. Все они на «хорошо» и «отлично» выдержали госэкзамены и уже в мечтах видели себя офицерами с лейтенантскими звездочками на погонах, как бы наяву слышали хруст новеньких, жестких портупей… Но пришел приказ Верховного Главнокомандования, и они стали рядовыми бойцами гвардейских воздушно-десантных войск, или, как говорят иначе, крылатыми пехотинцами. До «крыльев», правда, было еще далековато. Предстояло построить лагерь, сформироваться в подразделения бронебойщиков, пулеметчиков, минометчиков, автоматчиков. Тут у командиров новой бригады затруднений не возникало. «Без пяти минут офицеры» прибыли из разных училищ — и пулеметных и минометных, — так что переучивать их или просто учить заново не было нужды. Сложности появились лишь при создании одной роты — разведки. Ее будущий командир капитан Грачев, неторопливо обходя занятых строительными работами солдат, вызывал добровольцев, заносил их в список и к вечеру третьего дня переписал чуть ли не всю бригаду! А те, кого он почему-либо не встретил или с кем не успел поговорить, сами разыскивали его и, четко поднося руку к пилотке, громогласно, по-курсантски, рапортовали: — Товарищ гвардии капитан, разрешите обратиться! — Я вас слушаю. — Хочу служить в разведке! Землянки построили. Под дощатыми грибами на концах линеек, желтыми песчаными стрелами прорезавших лес, встали часовые. В пять утра по лагерю разносились зычные голоса: «Подъем!» — и батальоны, роты приступали к боевой учебе. Все, кроме разведроты. Ее еще не было. Капитан Грачев и начальник политотдела бригады, а то и сам комбриг ходили на занятия солдат, присматривались к ним, беседовали, устраивали экзамен у оружия или на штурмовой полосе, снова что-то записывали в блокноты… Разведроту сформировали недели через две. Почти сформировали. В ней по штатному расписанию недоставало одного человека.2
Разведчики… Полистайте, дорогой читатель, подшивки газет, найдите в них очерки о героях войны, обратитесь к книгам. Наверно, в доброй половине из того, что вы прочтете, будут примерно такие характеристики: «он не раз ходил в разведку», «во время разведки наткнулся на засаду противника и уничтожил ее», «проник в расположение врага». Сама эта армейская профессия предопределяет бесстрашного, инициативного и умелого бойца. А ведь вообще-то войсковых разведчиков как таковых нигде специально не обучали, школ для них не было да и, пожалуй, быть не могло: они стали бы многогодичными, а условия военного времени таких сроков не терпели. Действительно, какая боевая наука прежде всего должна лечь в основу подготовки будущего разведчика? Да любая! Сегодня — снайпер. Завтра — минер, пулеметчик, бронебойщик, даже радист и водитель машины, а если понадобится, то и танка. А еще мастер рукопашного боя, физически сильный и увертливый воин — вот что такое разведчик. А разведчик-десантник — это все то же самое плюс к тому отличный парашютист. Каких же людей набрал в свою роту капитан Грачев? Да все таких же — недавних школьников, восемнадцати-девятнадцати лет. Но это были те парни, что с детства мечтали о службе в Красной Армии и уроки военного дела считали для себя основными; кто с юных лет выполнил нормы значков БГТО, БГСО, потом, годам к шестнадцати, уже имел полный взрослый набор — ГТО, «Ворошиловский стрелок», ПВХО, ГСО, — а находились энтузиасты, что могли прибавить к этому комплекту и разряды спортсменов, и «Моряка», и «Авиамоделиста», и азбуку Морзе знали назубок, и семафорную, и многое другое. Именно это помогло им в 1943 году стать бывалыми воинами-фронтовиками. Взамен тех значков, что некогда с гордостью носили они на своих пиджачках и вельветовых курточках, теперь на гимнастерках у многих блестели награды за боевые заслуги, за отвагу и доблесть в бою. Вот такие люди собрались в разведроте. Безусые, но ветераны. Впрочем, у одного усы все же были. У старшины Пахомова. Но, во-первых, и годов ему насчитывалось побольше — двадцать четыре, и уже более трехсот прыжков сделал он, занимая в роте должность начальника парашютно-десантной службы — НДС, как принято говорить официально. На построении Пахомов стоял на правом фланге. С него начинала рассчитываться рота по порядку номеров от первого до последнего… Но этот последний! День проходил за днем, а он все не появлялся. Собственно говоря, никто из бойцов и не вспомнил бы о нем. Этим людям в составе батальона, от которого осталось двадцать человек, приходилось отражать танковые атаки гитлеровцев, отдавать приказы: «Слушай мою команду! За Родину!» — и в редкой цепи поднимались, кто мог подняться, перемотанные окровавленными тряпками бойцы: «Ура!» Им приходилось… Да разве перечтешь, что пришлось пережить им на своем солдатском веку? А тут одного не хватает… И вот наконец на одном из вечерних построений поверяющий выкликнул незнакомую фамилию Кузовков. И с невидимого в потемках левого фланга раздался срывающийся от волнения звонкий голос: — Я!3
Сережа Кузовков родился в белорусском местечке Глуске. В конце двадцатых годов его отец, шофер-красноармеец бобруйского гарнизона, познакомился здесь проездом с медицинской сестрой местной поликлиники и, когда окончился срок службы, в открытом кузове попутной машины в последний раз проехал с немудреным скарбом, уложенным в деревянный чемодан, по давно изученному маршруту. Тихое было местечко, малонаселенное. Одни и те же люди годами жили в нем, и если случай заносил приезжего, то даже коровы, лениво жующие жвачку на окраине городка, поднимали головы и удивленно глядели ему вслед печальными глазами. Из достопримечательностей была здесь одна-единственная фабричка со странным, неместным названием «Спатри», выпускающая соломенные картузы «гоголь», диаметром тульи с тележное колесо, и двухкозырные «здрасте-досвидания» для барышень. Однако вся эта плетеная продукция у обитателей никакого успеха не имела, и фабричка пыхтела, а по утрам и вечерам еще и свистела с хрипотцой, никого не тревожа и не интересуя, сама по себе, будто заводная игрушка. Зато клубов было два — на местах православной молельни и синагоги. Старики, если удавалось затащить их в эти новые просветительные учреждения, придерживались испокон веков установленных путей. Даже вместе выйдя из калиток соседних палисадников, степенно раскланявшись и осведомившись о здоровье друг друга, они потом все же расходились в противоположные стороны. Зато молодежь, особенно ребята, никаких канонов не знала. Это были интересные мальчишки! Кастуси и Хаймы, Ваньки и Ицеки, они запросто сыпали по-белорусски, по-русски, по-еврейски, в школе учили наизусть «Wir bauen motoren, wir bauen traktoren»;[65] на сцене одного клуба сегодня изображали рвущего буржуйские цепи негра Тома, на сцене другого завтра становились лихими казаками и гордыми сынами племени навахов.Многоусердная «Спатри» перестала выдавать на-гора «гоголей» и отрезала у «здрасте-досвидания» задний козырек, когда мальчишки надели испанские шапочки. Спокойная речка Птичь, по заболоченным берегам которой степенно расхаживали голенастые черно-белые аисты — буселы, как называли их здесь, — стали бурным Гвадалквивиром, а над сонными заводями, где дремали стеариновые лилии, зазвенел марш «Риего». Глусские республиканские ватаги шли в атаку, очень кстати поддержанную с неба курносыми краснозвездными «ястребками»: неподалеку от местечка появился аэродром, тихая речка и прибрежные ветлы стали объектами и ориентирами не только для ребят. Еще немного спустя и Птичь, и камышовые старицы, и лютиковые луга превратились в Халхин-Гол, Буир-нур и выжженные солнцем монгольские степи. А фабричка вместо своего звучного «Спатри» приобрела прозаическое наименование «почтовый ящик». Правда, делала она всего-навсего приклады и ручки к саперным лопаткам, но об этом говорилось шепотом: как-никак оборонное производство, а граница рядом. К ней ранней осенью 1939 года потянулись красноармейские полки. Бойцы были в касках и доселе не виданных ребятами ботинках с черными обмотками.
Ушел в армию и отец Сережи Кузовкова. До армии он был простым киномехаником недавно построенного кинотеатра, а вскоре пришла его фотография из Гродно, где он был снят в шлеме танкиста и с орденом Красной Звезды на гимнастерке. Потом было еще от него несколько писем, в которых он обещал через месяц-другой вернуться… В зимнюю стужу семья Кузовковых получила похоронную. «Териоки» — значилось в ней. А у соседнего парнишки в таком же извещении было: «Сортавала». Звучные слова болью резали по сердцу. Далекая война для разом повзрослевших мальчишек перестала быть игрою. Она с потемневшими лицами матерей и слезами поселилась в доме. Нужно ли говорить, что в тот же день, когда Сережа увидел фотографию отца в форме танкиста, он тоже решил стать танкистом? И обстоятельства к тому складывались как нельзя лучше. Два его самых закадычных друга — худенький, вертлявый как юла и такой веснушчатый, что даже вблизи его лицо казалось зелено-коричневым, Арон Запесоцкий и на год старше их, а потому и более рассудительный Петрусь Канаш — без всяких споров приняли его предложение и тотчас же согласились стать тоже танкистами. В те годы в чести были братские экипажи. Эта троица решила пойти дальше: создать многонациональный экипаж, а должности… Их распределили мгновенно. Петрусь — командир, Сергей — механик-водитель, Арон — башенный стрелок. Даже популярная песенка о трех веселых друзьях танкистах будто специально была написана для них. Оставалось подождать совсем немного, чтобы занять свои места в бронированной машине. …Двух будущих танкистов накрыла фугасная бомба на пыльной дороге отступления в июне сорок первого. Туда, к клубящейся гарью и землей воронке, бросилась мать Сергея. Но черный «юнкерс», с ревом выйдя из пике, прошил дорогу пулеметными смерчами… А Сережа все-таки уцелел. Чудом. Взрывной волной его швырнуло за канаву, на густые и гибкие придорожные кусты, и они смягчили удар. Потом его кто-то подобрал, его куда-то несли на самодельных носилках из палок и шинели, везли в телеге… Очнулся он в глухом лесу, среди партизан.
4
Во время Великой Отечественной войны воздушно-десантные войска по своему личному составу были сплошь — от командующих до рядовых — молодежными и иными быть не могли. Парашютизм как вид спорта, как военное дело получил у нас распространение в первой половине тридцатых годов, и во время войны, то есть примерно десять лет спустя, даже ветераны-десантники по-прежнему оставались молодыми людьми. Это, несомненно, накладывало свой отпечаток на весь род войска, на воспитание бойцов, их боевую подготовку. В пехотных, артиллерийских и многих других подразделениях в те суровые годы рядом оказывались люди разных поколений и, скажем, пулеметный расчет мог состоять из отцов и детей. В десантных войсках «отцов» не было. С парашютом прыгать они не умели, а учить их этому нелегкому делу вряд ли имело смысл. Таким образом, молодой солдат не мог перенять какие-то приемы, какие-то житейско-фронтовые премудрости у старших по возрасту, привыкших к боевой жизни еще в гражданскую. Все нужно было постичь самому, законы науки побеждать испытать на своей шкуре. Но все это — полдела. В десантные войска, где по приказу ставки Верховного Главнокомандования работу возглавили воинские комсомольские организации и непосредственно ЦК ВЛКСМ, брали парней грамотных, смышленых, сильных. И все-таки — это еще раз нужно подчеркнуть — парней, что неизбежно вносило свои неожиданные коррективы в тактику тех или иных подразделений, и особенно разведки. В самом деле: воздушно-десантные войска по характеру своему предназначены для действия на территории, занятой противником. Здесь всюду враг, а не только впереди. Но здесь же и гражданское население, которого не встретишь в прифронтовых районах. Обычные, так сказать, линейные части, ведя разведку в глубоком тылу противника, имеют довольно широкий выбор: они могут послать на задание воинов-специалистов, но в целом ряде случаев гораздо удобнее, надежней для подобной операции старик, побирающийся по деревням, ворожея, богомолка. Они были в наших армейских разведках — такие старые люди. Они доблестно и стойко несли свою нелегкую службу наравне с воинами. Но представьте себе деда-инвалида в разведке десантных войск. Вообразите старушку с парашютом за спиной. Смешно? Нет, конечно! Если бы им сказали: «Надо!» — они пошли бы и на такой подвиг. Но этого сделать было нельзя. И вот таких-то разведчиков — наблюдательных, осторожных, мудрых — десантные войска были лишены. А сами десантники-разведчики? Да, конечно, они многое умели. Бесстрашно ворваться в расположение врага. В мгновение ока схватить, скрутить «языка». Устроить засаду. Ну, а если пробраться в населенный пункт, под видом местного жителя походить, посмотреть, где что, подсчитать сколько, заприметить пути подхода и отхода? Пошлешь ли на такую задачу двадцатилетнего здоровяка? Да какие живописные лапти он ни обуй, какие язвы ни разрисуй на даже взаправду ободранном «для реализма» теле, все равно его задержит первый же патруль. И тем не менее необходимость в такой разведке могла возникнуть в любой момент. Кому же доступнее других было вести ее? Подросткам. Не из тех, что знают одни рогатки да горазды слоняться по улице, а серьезным, много учившимся и много для своих лет знающим. Именно таким оказался Сережа Кузовков. Два года провел он в партизанском отряде. И раньше неплохо понимая по-немецки, теперь хорошо освоил его. Научился владеть стрелковым оружием. Не раз ходил на задания. Короткой июльской ночью кургузый самолетик «У-2», прозванный на Западном фронте «лесником», поднял его с партизанской поляны и, прижимаясь к верхушкам деревьев, понес на Большую землю, в гвардейскую бригаду.5
Той ночью разведрота заснула не скоро. В своей небольшой землянке, громко именуемой еще и канцелярией роты, долго ворочался на затянутых плащ-палаткой нарах Грачев. Он был опытным офицером, сталинградцем. Во всяких передрягах приходилось ему бывать, с разными людьми иметь дело: с храбрецами — и трусы тоже попадались; с прекрасно обученными воинами — но и с такими, что жмурятся от собственного выстрела; с ровесниками — и пожилыми людьми; а теперь вот — бравыми, на подбор, парнями. Но такого, как Сережа Кузовков, еще не было ни разу. Конечно, Грачев знал и про «Красных дьяволят» и даже в хорошем настроении мурлыкал себе под нос: «Орленок, орленок…», хотя считался человеком молчаливым и сумрачным. Но, положа руку на сердце, он бы много отдал, чтобы все эти «дьяволята» и «орлята» остались на привычном для него месте — на экранах кино, страницах книг, в песне. Ему вполне хватало своих орлов, которые тоже были не просты: вроде бы все умели, все понимали, запросто ковыряли мины ножиком, лихо парашют укладывали, а говорить им о смертельной опасности было примерно то же самое, что пугать букой. Солдат же, который ни черта не боится, — не очень-то легкий для командира солдат. Правда, Грачев мог легко разобраться, где напускная бравада, которая сразу отлетит в бою, а где подлинное мастерство и уверенность воина. Но в случае с Кузовковым для капитана Грачева все было внове. Он снова и снова — в который уже раз с того дня, когда узнал, кого пришлют в роту, — перебирал в памяти известные ему книги, где хоть что-нибудь говорилось о воспитании подростков. Однако, кроме «Таинственного острова», «Детей капитана Гранта» и «Педагогической поэмы», взахлеб прочитанной на третьей полке битком набитого и черного от махорочного дыма вагона, которым ехал из свердловского госпиталя сюда, в бригаду, ничего другого припомнить не мог. А еще, как назло, крепко засела в голове бог весть где услышанная фраза: «Воспитание и есть длительное воздействие на данный индивидуум…» Попытался он, оперируя этими познаниями, наметить хоть какой-то план обращения с пареньком, но ни натуралист Герберт, ни юный Роберт Грант в разведроту десантников никак не вписывались, а из всей «Педагогической поэмы» Грачеву почему-то больше всего запомнился Калина Иваныч со своим любимым словечком «теорехтически». — Длительное воздействие… Индивидуум… Теорехтически здорово, а прахтически… А практически утро вечера мудренее! — наконец в сердцах произнес он, раздавил махорочную цигарку в консервной банке и, дотянувшись ногой до двери, распахнул ее, чтобы хоть немного вытянуло дым. Тотчас в проеме, высветленном луной, показались сапоги. В землянку заглянуло смутно различимое лицо караульного. — Вы звали, товарищ гвардии капитан? — Нет, это так… А кстати — спят? — Точно, товарищ гвардии капитан. — По голосу чувствовалось, что солдат растянул рот в улыбке от уха до уха. — Без задних ног! Так храпят, что к землянке подойдешь — бомбовозов не слышно. Что-то много их сегодня разлеталось… К дождю, что ли? А луна во все небо… — Голос и шаги часового затихли. — Ну и хорошо, — снова вслух сказал Грачев. — Хорошо, что спят. Меньше всего он хотел, чтобы появление Кузовкова в роте произвело хоть какое-то подобие сенсации. Когда в подразделение приходит новый человек, его не водят под белы рученьки от одного к другому, не знакомят со всеми и каждым. Боец становится в строй — и все. Точно так же поступил с Кузовковым Грачев, дав понять этим и ему и всем разведчикам, что в роте просто стало одним человеком больше и ничего другого не произошло. Расчет был верен, и солдаты, отнюдь не новички в армии, правильно поняли своего командира. Но именно поэтому многие из них тоже долго не могли уснуть. Ведь им-то было известно, что разведка — это не только яркий подвиг, как иногда кажется со стороны. Это десятки километров в день бегом, ползком, по воде, по снегу, по хляби, назавтра — еще столько же, и послезавтра, и еще через день. Пусть даже часть стоит на месте. Разведчикам беготни и ползания на брюхе хватает всегда. «Значит, и ему, этому парнишке, тоже? Какой же спрос тогда с меня?» «Еще ни разу не прыгали с парашютом. Страшновато, что там ни говори. Но прыгать придется и ему. Значит, у меня бровь не должна дрогнуть». В таком направлении шла мысль солдат, и люди, хорошо знающие, что их ждет, снова и снова проверяли себя, мысленно готовились к трудным задачам. Лучше всех чувствовал себя, несомненно, Сережа. Для него все треволнения остались позади: и прощание с отрядом, когда седобородый командир прижал его к груди и, неумело поцеловав в голову, шепнул: «До свиданья, сынок», и перелет на самолете… И больше всего взволновала мальчика встреча с разведчиками. Сейчас они для него олицетворяли всю Советскую Армию, всех тех героев, кто гнал врага на Запад, с каждым днем приближаясь к родной Белоруссии. Когда в партизанском отряде радист принимал сводку о новых победах, эти люди рисовались в его сознании сказочными богатырями, к которым и подойти страшно. Не заметят, какое им дело до него? А они оказались совсем простыми и веселыми. Усатый старшина устроил ему уютную постель в углу землянки, как и у всех, из сосновых ветвей, но их натащили огромный ворох, зажгли коптилку и, тщательно обдирая, отобрали самые маленькие, самые мягкие и пушистые. В мигающем свете язычка пламени тускло поблескивали ордена и медали бойцов, и хотя вроде бы проще занятия не придумаешь — обдирать ветки, — Сережа прямо-таки изнывал от немого восторга и такого благоговения перед этими людьми, что даже под ложечкой ныло. Правда, у старшины, с которым он вскоре лег рядом, ни орденов, ни медалей не было. Но даже в слабо освещенной землянке можно было разглядеть на его парашютном значке большие красные цифры «300», а ниже, на треугольной серебристой подвеске, еще «25». И Сережа без малейшего колебания отдал все самые высокие награды и почести, какие знал, этому старшине, который мирно посапывал рядом и, потихоньку наваливаясь, все теснее и теснее прижимал его к шершавой бревенчатой стене. Вверху, почти прямо над головой Сережи, блестело распахнутое внутрь оконце. Свежий воздух, будто невидимый столбик, шел из него. Время от времени слышалась мерная поступь шагов: часовой обходил лагерь. А потом на оконце все чаще стали набегать черные тени, воздух посвежел. Посыпал дождик. А может быть, и не дождик вовсе? Просто налетел сильный ветер и зашумел в соснах? Высоких соснах… Сон сморил Сережу.6
Утро пришло ясное. Когда солдаты высыпали из землянки, небо над головой высветлилось. Лишь далеко, на горизонте большого поля, клубились ватные облака да в кустах рассеянными летучими клочьями застрял предрассветный туман, смешанный с едким дымом солдатских кухонь. Физзарядку десантники делали по-разному. Те, кто жил в центре лагеря, ограничивались гимнастикой на пятачке близ землянок. А разведчики разместились на остром мыске леса, у торной дороги, огибающей опушку. Они никому не мешали и бегали умываться. Если налево, то почти вокруг всего лагеря, потом лесопарком к пруду в фабричном поселке. Это километра три, по мосткам и дорожкам, мимо безруких, облупившихся гипсовых гребчих и пионеров, трубящих в ржавые прутья арматуры. Направо бежать было куда как интереснее, хотя и дальше. Дорога, близ лагеря утрамбованная сапогами, вскоре узкой тропинкой ныряла в густой ельник и, поплутав в полусумраке по осыпавшейся сухой, скользкой хвое, выбегала на веселую лужайку среди березовой рощи. Здесь с древних времен стоял могучий кряжистый дуб. Его пообломало бомбами, которые сбросил удиравший от московских истребителей «хейнкель». Но это лишь придавало дубу более суровый, величавый вид. Одна из ветвей, расщепленная до желтизны, но все-таки живая, с молодыми зелеными побегами, прикрывала воронку, наполненную водой. С нее, как с мостика, было очень удобно умываться чистой водой, а у края воронки она быстро мутнела. Сначала воду зачерпывали осторожно, чтобы не взбаламутить, ну, а потом… Кто-то давал пинка кому-то, тот, падая, увлекал соседа… Не избежал крещения в лесной купели иСережа. Если бы в первое утро ему сказали, что пробежать в оба конца нужно километров пять, он, может, испугался бы и ничего хорошего не получилось бы: трусил бы полегоньку, экономя силы, и только бы и думал: «Дотяну ли?» Но ничего этого не было. Едва выбежали из землянки, как старшина Пахомов показал ему дорожку и махнул рукой: — А ну, как ты умеешь? Умел Сережа здорово! Что есть духу помчался он, припрыгивая и чуть ли не визжа от восторга, что так хорошо, так просторно вокруг и не надо озираться в страхе наскочить на врага. Солдаты, вообще никогда быстро не бегающие и твердо придерживающиеся правила «поспешая медленно», переглянулись да и рванули за ним, несмотря на тяжелые кирзовые сапоги и мокрую после дождя глинистую дорогу. Уж очень веселый, славный русоголовый парнишка в трусиках сверкал перед ними босыми пятками. Солнце уже поднялось над лесом. Пахомов в высоком прыжке склонил гибкую березку, и на Сережку посыпался искрящийся золотом дождь. Назад возвращались шагом: все-таки уж очень быстро бежали. Поэтому запоздали. Капитан Грачев ждал бойцов у землянки. Он ничего не сказал, но только покачал головой и постучал пальцем по карманным часам, которые демонстративно держал в руке. Быстро оделись, построились. На левом фланге, в своем потертом пиджачке, перетянутом серым брезентовым ремнем, в обычных брюках, заправленных в старенькие сапоги, и в зимней шапке с красной лентой поперек, стал в строй и Сережа. «Сегодня мне дадут военную форму и, может быть, гвардейский значок», — с громко бьющимся от волнения сердцем ждал мальчик. И верно: командир роты направился к нему и сказал… Сережа своим ушам не поверил: — Нашивку спороть, ремень снять. Сапоги, — он бросил на них взгляд, — ну, эти пусть остаются. Сережа закусил губу, чтобы не заплакать от обиды. Лицо его искривилось. Капитан посмотрел на него и тем же бесстрастным голосом, ну, может быть, чуть-чуть помягче, сказал: — Ваше оружие, красноармейская книжка и знак гвардейца будут храниться в канцелярии роты. Так надо, товарищ Кузовков.7
Прыжки с парашютом начались прыжками с землянки. Дерн, который тяжеленными рулонами на палках принесли издалека, чтобы не уничтожить зелень вокруг своего жилища, уже хорошо прижился на скатах крыши, пророс лютиками, полевыми гвоздиками и ромашкой. Прыгать с этого цветущего холма, с его верхней балки, выступающей над оконцем, оказалось куда приятней, чем со специально построенной вышки. На нее нужно подняться по лесенке, стать наверху, прижать руки к груди одну под другой, будто держишь кольца основного и запасного парашютов… В общем, все это выглядело довольно мудрено. С землянки же, один за другим цепочкой, бегом наверх — дело шло куда веселее. Вышку, когда она хорошенько просохла на солнце, сожгли в ротной кухне. В огне под котлом закончила свое существование и первая штурмовая полоса, проложенная на опушке леса. Ее завалы, заборы, бумы тоже показались разведчикам слишком простыми. Правда, никто из них, памятуя о том, что от добра добра не ищут, не стал бы городить других, куда более сложных. Но тому была особая причина: дрова впрок готовить лесничество не разрешало, а те, что ежедневно пилили на крайние нужды, горели плохо. Повар в роте был никудышный, и чтобы вовремя получать завтрак, обед и ужин, разведчикам волей-неволей пришлось спалить и новые частоколы, едва на них просохла кора и белым порошковым налетом покрылись проступившие на ней янтарные капли смолы. Третий вариант полосы, разработанный командиром роты, оказался таким, что приуныли самые ловкие спортсмены. Это были глубоченные рвы с отвесными стенами, насыпные редуты с оскаленными надолбами — в общем, смерть лютая, а не полоса. Сделать ее было трудно, сломать — не легче, а когда все же попробовали, оказалось, что она и в огне не горит: бревна лежали в сырой земле. Это обстоятельство перевело разведчиков на костровое индивидуально-групповое хозяйство. Кухня, возглавляемая поваром Володкиным, на иных дровах, кроме тех, что были под рукой и вспыхивали как порох, превращалась в какую-то смолокурню, мимо которой из-за едкого дыма нельзя было пройти без слез. С этой кухней мороки вообще было много. Дело в том, что ее организация была произведена по принципу армейского анекдота о любителях музыки: когда на вопрос старшины, кто очень любит музыку, назвалось несколько человек, рассчитывающих, что их отправят на концерт, последовало незамедлительное: «Вот вам и рояль тащить». Подобное повторилось и здесь. Когда новые бойцы, придя в роту, были разбиты по отделениям и еще стояли в строю, капитан Грачев вдруг улыбнулся и, заговорщически подмигнув, сказал: — Ну, сегодня мы дел много переделали. Наверно, проголодались? — Ага! Сейчас бы в самый раз чего-нибудь такого кисленького… Вроде жареного гуся! — охотно откликнулся ефрейтор Володкин — рослый, сильный парень в гимнастерке, прямо-таки натянутой на мускулистое тело. Из ее коротких рукавов, как грабли, высовывались огромные волосатые лапищи. — Ну и чудесно. Назначаю вас поваром, — заключил Грачев. И бедный ефрейтор обомлел: — Да я же отродясь… — И все отродясь, — спокойно ответствовал Грачев. После предварительных бесед с бойцами ему отлично было известно, что среди новичков-разведчиков нет ни одного не то что специалиста-кашевара, а даже такого, кто хоть раз на кухне бывал, кроме нарядов по колке дров и чистке картошки, разумеется. — Но почему же я? — совсем уж безнадежным голосом спросил Володкин. И снова последовал спокойный ответ: — Да потому что вы. Который уже год в армии, а еще спрашиваете. Железная логика Грачева намертво сразила Володкина. Обязанности ротного кашевара он принял без дальнейших роптаний. Это было началом его мук. Каким бы неумелым поваром он ни оказался, с ним все же вскоре произошло то, что нередко случается с поварами: он начал толстеть. Для другого в этом, пожалуй, не было бы беды, тем более что время было все же голодное и ожирением никто не страдал, скорее наоборот. Но для Володкина!.. Дюжий, крепкий парень, он и раньше был на предельном для парашютиста весе, а теперь, когда залоснились его румяные щеки, когда, казалось, гимнастерка затрещит по всем швам, Володкин все чаще ловил на себе колючий и прямо-таки ненавистный взгляд Грачева. — Ты бы ел, что ли, поменьше… На грузовом парашюте тебя сбрасывать? Чего только не делал Володкин! Бегал, прыгал, на укладке парашютов разглаживал ладонями каждый клинышек скрипучего перкаля, что и утюгом, пожалуй, не разгладить бы, гнулся на зарядке так, как, казалось, лишь теоретически может согнуться подобный детина… И это его рвение, а еще то, что был он силен, вынослив, предопределили решение командира роты сделать его постоянным напарником Сережи Кузовкова. А тут, к счастью для Володкина, у разведчиков началась походная жизнь, да еще какая!8
Мало кто отчетливо представляет себе дороги, которые преодолевают во время боевой учебы десантники. Тут за какой-нибудь месяц счет может идти не на десятки, даже не сотни, а на добрую тысячу километров. И если бы по шоссе, пусть хоть с полной выкладкой. Куда там! Лесные чащи, буреломы, гнилые топи, где, точно альпинистам, нужно обвязываться веревкой, чтобы вытащить ухнувшего в трясину товарища, зыбкое илистое дно пересыхающих речек — в общем, места всё такие, что их не сразу и отыщешь даже в самом бездорожном краю, — вот где проходят их пути. И время для походов стараются подобрать такое, что уж если жара — то адова, если дожди — то беспросветные. В хорошую же погоду у десантников начнутся форсированные марши, когда километров пять бежишь, километров пять дух переводишь, и в такой последовательности, да еще с преодолением водных рубежей на так называемых подручных средствах (а это значит: ныряй с ходу, если подвернулось под руку какое-никакое бревнышко, на котором можно хоть автомат пристроить, то считай, что тебе крупно повезло), оставишь за спиной политые ручьями пота десятки километров. Ну, а когда стоят совсем уж расчудесные, прямо-таки курортные дни, тогда десантникам выдадут по сухарю, отмерят на карте замкнутый кружок километров на сто пятьдесят, и хочешь — в сутки промчись, хочешь — улиткой неделю ползи, уже ни крошки, ни маковой росинки не получишь. А чтобы сердобольные русские женщины, испокон веков встречающие войско с хлебом и колодезной водой, крынками молока и картошкой в мундире, не вводили солдат в соблазн, заставляя глотать пыльную слюну пересохшим горлом, дорожка будет выбрана такая, что на ней живой души не попадется. Трудно? Очень. Подчас безумно трудно. И бывает, закачается в маршевом строю солдат, завалится на соседа, и если светло, то видно, как высыплют градины пота на вдруг побледневшем, заострившемся лице. Подхватив под руки, проведут немного. Отдышится — значит, пойдет дальше сам. Нет — положат на обочине, а если шли чащобой, вышлют посыльных к дороге. Где-то неподалеку, но так, чтобы не быть на виду и не мозолить глаза, вслед за солдатами движутся санчасти с повозками, машинами с красным крестом. Удивляться здесь не надо. «Тяжело в ученье — легко в бою» — это знали еще суворовские чудо-богатыри, а их потомкам-пехотинцам, да еще крылатым, маневров и трудов намного прибавилось… Нужно ли пояснять, что точно такие же походы, точно такие же марш-броски в непогоду, в ночную темь, когда хоть таращь до боли глаза, хоть зажмурь их — все равно ни зги не видно, — стали обычными в жизни разведчиков. Им даже побольше прибавили, хотя вроде больше уже и некуда, и путаных маршрутов, и непролазных мест. В путь обычно выступали ночью, как водится, по тревоге. В армии не терпят долгих сборов и раскачки. Каждый раз, отдавая команду поднять роту, капитан Грачев испытывал незнакомое доселе желание оттянуть ее, отсрочить хотя бы до рассвета. Даже не входя в теплую землянку, он будто наяву видел, как в своем уголке, теперь сплошь застланном и завешанном плащ-палатками, чтобы не кололи снизу подсыхающие ветки, не сыпался из щелей между бревнами песок, спит, свернувшись калачиком, Сережа. Ему никто не мешает. Уже на вторую ночь солдаты устроили между ним и Пахомовым нечто вроде барьера. — Чего доброго, сонно взмахнет наш крылатый биндюжник ручкой — и Кузовку крышка, — сказал тогда Володкин. Он был горазд на неожиданные словечки и сравнения; в роте на них внимания не обращали, но тут и вывод тотчас сделали (доску поперек нар приколотили), и «Кузовок» всем пришелся по душе. В самом деле: «Сережа», даже «Сергей» было что-то совсем не армейское, а «товарищ Кузовков» ни у кого, кроме командира роты, не выговаривалось, хотя солдаты даже и не подозревали, насколько легче и проще было бы Грачеву это всем полюбившееся «Кузовок». В ту минуту, когда бойцы, набросив одежду и застегиваясь, затягиваясь ремнями уже на бегу, пулей вылетали из землянки, Грачев стоял над обшитым тесом пологим входом и считал секунды и людей: ритм был один. Затем глухой топот сапог стихал, наступала пауза. Короткая пауза. И снова Грачеву казалось, что он видит, как возится, спросонок не попадая в рукава рубахи, парнишка, как шарит в потемках под нарами, отыскивая сапоги. И сразу вспоминал братишку, эвакуированного с матерью на Урал, а еще — воинские эшелоны на разъездах, оборванных подростков возле них. Разбросанные войной, осиротевшие, они честно зарабатывали свой хлеб. Они пели. У санитарных поездов, идущих «оттуда», — грустное «товарищ, три раза я в танке горел», у платформ с затянутыми брезентом орудиями и веселой солдатней, направляющейся «туда», — о том, как «наша русская „Катюша“ немчуре поет заупокой…». В общем, по ситуации. И это тоже была война, с ее ранами и увечьями. Конечно, если бы капитана спросили, в какой последовательности развивались его мысли, Грачев только лишь пожал бы плечами: о чем можно серьезно подумать в какие-то мгновения? И все же это были зримые образы, четкие представления. И вполне логичное следствие заключало их: он с необычной силой чувствовал себя воином, командиром, готовым к любому по ожесточению бою. И потому, уже ничуть не напоминая себе, что хотя здесь и тыл, но все должно быть как на фронте, а естественно, словно рядом действительно таился ненавистный враг, отдавал приказ. Его спокойный голос, четкое указание ориентиров и квадратов, где должна действовать рота, окончательно сгоняли дремоту с еще позевывающего в потемках строя. В шеренгах уже стояли не полусонные, поднятые на ноги ни свет ни заря молодые парни, а бойцы, разведчики. Первые километры даже в самую глухую ночь проходили быстро. От лагеря в любом направлении вели натоптанные не хуже сибирских почтовых трактов дороги. К рассвету, когда одна за другой начинали таять звезды, а в лесу проступали контуры деревьев, устраивали привал. Подгоняли аммуницию, по картам и схемам уточняли задание, затем расходились группами. Шла обработка боевых связок.9
Капитан Грачев долго, тщательно подбирал группу, в которой должен был стать основным, по сути дела определяющим ее действия разведчиком Сережа Кузовков. Она проявилась после многочисленных проверок на штурмовой полосе, в рукопашных боях у чучел и схватках грудь в грудь — группа немногочисленная, чтобы не выдать себя, бесстрашная до дерзости, расчетливая и быстрая, неутомимая. Командиром ее был старшина Пахомов, хотя еще и не воевавший на фронте, но опытный парашютист и отважный человек, а такой помощник был нужнее Сереже, чем кому бы то ни было другому. Армейскую службу Пахомов начал в одном из НИИ сначала укладчиком, а затем, после ряда успешных прыжков, испытателем парашютов. О людях этой специальности известно меньше, чем, скажем, о летчиках-испытателях, а право же, их профессия не менее сложна и героична. Представьте себе: человек покидает самолет, и парашют у него не раскрывается. Рвануть кольцо запасного? Нет, рано! Тугой ветер не свистит, не гудит — он ревмя ревет в ушах, стремительно нарастает земля, а испытатель прилагает все усилия, чтобы найти, устранить неисправность. Не выйдет — у самой земли раскроет запасной и сразу же, едва приземлившись, все с тем же нераскрывшимся парашютом, только перевесив его на грудь, чтоб был под руками, и новым запасным уйдет в небо. А через какие-то минуты опять покинет борт корабля и останется один-одинешенек в бескрайнем воздушном океане. Сколько неожиданностей ждет его в каждый рабочий, так сказать, будничный день! В какие только передряги не приходится попадать! Бесстрашие. Железные нервы. Чувство времени до доли секунды. Логичное и спокойное мышление — вот какими качествами должен обладать испытатель парашютов. Но эти же качества необходимы и разведчику. Капитан Грачев ни на минуту не сомневался, что из старшины Пахомова выйдет прекрасный командир специальной разведгруппы. Вдобавок ко многим своим лучшим чертам Пахомов был безгранично добр, но, на беду, природа не наградила его физической красотой. Был он изрядно кривоног, маленькие медвежьи глазки близко сидели к носу пуговкой на несоразмерно большой, какой-то четырехугольной голове, вросшей в плечи. Чтобы хоть как-то скрасить свою внешность, Пахомов отпустил пышные усы. Не помогло… Даже в фабричном клубе, где по субботам бригадный оркестр сотрясал стены трубными звуками польки-бабочки, те девицы, что за постоянным неимением кавалеров танцевали «шерочка с машерочкой», и то скользили по нему отсутствующим взглядом. Пахомов молча страдал. И всю свою нерастраченную любовь он перенес на Сережу Кузовкова. Отыскал каких-то бабок, пасущих индивидуальных коров на окраине городка; а давали в пайке селедку — тащил им селедку, экономил на сахаре, на табаке, и все это — чтобы у Сережи всегда было парное молоко. Он как-то ухитрялся и обстирывать его, и чинить одежду, и это тоже было нужно. Мозговым центром группы, так сказать ее начальником штаба, стал сержант Андрей Лещилин, еще ни разу не брившийся и весь, даже на щеках, заросший золотистым пушком стройный кареглазый юноша со сросшимися над тонкой переносицей густыми черными бровями. — Наследный потомок представителей русского воинства, — сказал он о себе, когда писарь штаба бригады заполнял какую-то длинную анкету и своими вопросами нагнал на солдат такую тоску, что ответ Лещилина явился для них душевной отрадой — даже песок с перекрытий посыпался от дружного взрыва хохота. — Кто-кто? — переспросил писарь, обомлевший от такого ответа. — Что, не подходит? Ну, пиши: интеллигент с ружьем. Опять не годится? Тогда — служащий, раз больше деваться некуда. Самое интересное, что Лещилин не сказал ни слова, не соответствующего истине. Лещилины воевали при Кутузове, Суворове и, наверно, еще в допетровские времена. Прадед его, артиллерийский офицер, сражался в войсках генерала Скобелева и был одним из героев Шипки; дед, полковник русской армии, погиб во время Брусиловского прорыва. Отец встретил революцию в чине капитана, перешел на сторону Красной Армии и дослужился до звания генерал-лейтенанта артиллерии. Генералом, но не артиллерии, а бронетанковых войск, был родной дядя сержанта. Но об этом он ни разу и не заикнулся, а если заходил разговор о генералах Лещилиных и кто-нибудь задавал вопрос, уж не доводятся ли они ему родней, только пожимал плечами. «Да» говорить не хотелось, а вранья терпеть не мог. Андрей получил спартанское воспитание и уже с детства знал — он тоже будет военным. Его любимыми книгами были военно-исторические. Любимыми математическими задачами — те, в которых надо было рассчитать скорость полета пули или снаряда, точку выноса прицела при стрельбе по движущейся цели, и им подобные. Эти специальные книги, занятия в военном кружке настолько поглотили его, что по таким наукам, как ботаника, зоология, география, не говоря уж о пении в младших классах, он еле-еле вытягивал на «пос», и эта захудалая оценка, ныне именуемая «тройкой», закрыла ему доступ в артиллерийскую спецшколу: в нее принимали только круглых отличников. Возможно, похлопочи отец — и его бы приняли. Но обходные маневры в этой семье считались допустимыми лишь на фронте. По этой же причине — вообще по традиции русской армии — Андрей служил не там, где командовали генералы Лещилины. И он хорошо знал: если даже судьба забросит его в подчиненные им части, долго в них не пробудет. Ни маменькиных, ни папенькиных сынков в этом роду не водилось. Детство Андрей провел в постоянных переездах: жил и на Дальнем Востоке, и близ западной границы. Война застала его в Москве, откуда с отрядом народного ополчения он ушел на фронт вьюжным ноябрьским днем. Из Лещилина получился лихой пулеметчик. Свой «максим» он знал как пять пальцев. Впрочем, если бы это был «гочкис», «виккерс» или трофейный «МГ-34», существо дела ничуть не изменилось бы. С таким же успехом Андрей мог стать возле оружия любым номером: ведь почти всю жизнь он провел в воинских гарнизонах. Но вот что любопытно: опытный воин, уже награжденный двумя орденами, он все же оставался девятнадцатилетним юношей, мечтателем и фантазером. Еще в школе, когда по физике проходили раздел «электричество», Андрей заинтересовался соленоидами и сразу решил приспособить их — ну конечно же — к военному делу. С неутомимым рвением бился он над изобретением бесшумного стрелкового оружия и как-то поделился своими планами с товарищем по группе Володкиным. — Здорово, — сказал тот, но без всякого энтузиазма. — Еще один вечный двигатель. Только я бы его к какому-нибудь драндулету приспособил. Мы бы тогда с комфортом ездили, а уж стрелять… Бог с ним, как-нибудь по старинке… Контакта на научной основе не вышло. В остальном же оба прекрасно понимали друг друга и имели много общего, с той лишь разницей, что Лещилин был оптимистом, а его товарищ смотрел на вещи куда скептичнее. Жизненный путь Володкина тоже складывался под неукоснительным влиянием отца. Володкин-старший, модный московский закройщик, чтобы не ударить в грязь лицом перед актерами, писателями, с которыми имел дело, срочно пополнял недостаток образования различного рода популярными брошюрами. Их он хватал без разбору и читал с единственной целью: запомнить пару-другую изречений позаковыристей, чтобы потом блеснуть ими в умном разговоре. Так он вычитал где-то, что гений — это два процента способностей и девяносто восемь — трудолюбия. Это определение ему страшно понравилось, тем более что оно как бы подтверждало его собственный нелегкий путь от ученика-портняжки до светила в мире закройщиков. Фраза, может быть, осталась бы фразой, которой скромно прихвастывал бы он, когда речь заходила о его мастерстве… На беду Володкина-младшего, она была открыта родителем в те дни, когда на международном конкурсе музыкантов с блеском выступили советские скрипачи. Решение созрело тут же: на два процента способностей у Витюшки как-нибудь да наберется, а остальные девяносто восемь… Почтенный папаша ни на минуту не сомневался, что при необходимости он сумеет вложить их отлично знакомым ему ременным способом и подарить миру если не нового Давида Ойстраха, занявшего первое место, то уж по крайней мере Бусю Гольдштейна. Скрипка была куплена, и дорогая. Нанят — и за немалый гонорар — частный преподаватель. В первый день, едва коснувшись смычком струн, юный Володкин ощутил дрожь и судорогу в позвонках, будто царапнул рашпилем по стеклу. На второй день он люто, до остервенения, возненавидел свою скрипку и, будь на то его воля, раскрошил бы ее в щепы, стер в порошок сильными руками с натертыми на дворовом турнике желтыми каменными мозолями. На третий день он сбежал с урока. А на четвертый — автоматически вступил в силу отцовский метод выращивания гениев… Так продолжалось года два. С грехом пополам Виктор научился вымучивать из-под смычка несколько вещиц. Особенно удавался ему «Сурок», и Витька знал: если соберутся гости или засидятся за вечерним чаем клиенты отца, от «Сурка», как от судьбы, не уйдешь. А еще хоть и вымахал он детинушкой косая сажень, его непременно заставят надеть коротенькие штанишки. Бунт произошел, когда однажды Володкин побывал с соседскими мальчишками в спортивном дворце «Крылья Советов». — Хватит! — решительно заявил он отцу и, когда тот было потянулся за ремнем, легонько нажал ему на плечо и пригвоздил к дивану. — Больше — ни за что! В спортивном дворце в секции борцов-классиков открылось действительное дарование Володкина. «Наперед не угадаешь, где судьбу свою найдешь», — словами из модной тогда песни сам для себя определил он свое будущее. И словно нарочно, словно по какому-то роковому стечению обстоятельств, все дальнейшее происходило с ним в соответствии с этим самым «наперед не угадаешь». Он отлично подготовился к юношескому первенству столицы, и, по всеобщему убеждению, звание чемпиона ему было обеспечено. Однако на пустячной разминке вывихнул руку. Он пошел поступать в аэроклуб, но перед ним был записан последним какой-то вроде бы и невзрачный с виду паренек. Виктор мечтал о профессии летчика-истребителя и после девятого класса уже получил приглашение на экзамены в Егорьевское училище… Но началась война. Как и многие его товарищи, Виктор ушел на фронт в отряде народного ополчения. Истребителем Володкин все же стал, но не воздушным, а наземным — танков. Тяжелую противотанковую гранату он швырял так, словно это была обыкновенная «лимонка». Он хорошо воевал. Был даже представлен к званию Героя, но после того как командир и комиссар части подписали наградной лист, начался жестокий бой, в котором оба погибли. Тяжело ранен был Володкин. Потом он попал в училище. «Тоже хорошо. Лейтенант, через год, глядишь, старший, — уже принялся рассчитывать он. — А там и в академию поступлю…» И опять все перевернулось иначе. Десантным войскам он даже обрадовался: все-таки это было близко к авиации. Не так чтобы уж очень, но все же! В городке, близ которого они стояли, он разыскал домик с ржавым объявлением на калитке палисадника: «Пошив кепи и шляп» — и на последние сбережения заказал фуражку с голубым околышем и таким золотым «крабом» — ахнешь. Так надо же — поваром назначили! «И куда крестьянину податься? — словами из кинофильма „Чапаев“ горестно размышлял Володкин о своей судьбе. — Как ни кинь — всюду клин». Любовь папаши к всевозможным цитатам, пословицам и афоризмам по наследству передалась сыну. «Прямо как у деда Щукаря — с мальства моя жизнь пошла наперекосяк». Однако если сам Володкин был удручен постоянными, как ему казалось, неудачами, то все остальные в роте видели в нем надежного, сильного парня, который как пушинку забрасывал на спину стокилограммовый мешок соли и чуть ли не бегом протаскивал его через весь лесистый и кочковатый лагерь от бригадного склада к своей кухне. Любое оружие, будь то автомат, трофейная граната — а каких только не поставляли немцам оружейные заводы оккупированной Европы! — или наша новая противопехотная мина, он брал в руки так, будто это был коробок спичек. Его ясные голубые глаза взирали на мир с каким-то прищуром любопытства, с какой-то хитринкой, словно Володкин спрашивал себя: «Ну, а что мне еще диковинного покажут?» И было очевидно: он не зажмурит их в минуту смертельной опасности. Вот такие люди окружали Сережу и должны были обеспечить, насколько это возможно в разведке, безопасность действий юного разведчика. На занятиях Сережа в своем пиджачке одиноко брел леском, собирая в лукошко грибы, ягоды, заходил в деревни и расспрашивал замшелых дедов на завалинке, как пройти туда-то и туда-то. Его старшие товарищи в это время незримо пробирались сторонкой рядом, а потом составляли для командира подробный отчет по сведениям, собранным Сережей, вычерчивали схемы по его ориентирам, и уже какие-то другие разведчики получали задание действовать по ним. Это была неустанная тренировка наблюдательности, быстрых скрытных переходов, остроты мышления. Конечно, каждый в этой группе, кроме Сережи, имел, выражаясь современным языком, дублеров, был тесно взаимосвязан со всей ротой. Но в целом это была совершенно самостоятельная боевая единица — ну, скажем, как артиллерийский расчет орудия в батарее или экипаж самолета в эскадрилье.10
Все эти дни Пахомов был озабочен одной мыслью: он, как говорил сам, разрабатывал «систему» подготовки легкого парашютиста. «Система» начиналась с простого: на лямки, с их наружной стороны, старшина нашил узкие мешочки с песком. Но этого оказалось мало. И Сережу, кроме положенных каждому солдату подсумков, было решено нагрузить основательнее. — Не пушинка, ветром далеко не утащит, — скорее себя, чем Сережу, уговаривал Пахомов, примеряя на нем и равномерно распределяя дополнительные килограммы. Конечно, они были не такие, чтобы у парнишки из-за них коленки гнулись. Но когда придется испытать удар при падении с высоты? И «система» получала свою дальнейшую разработку: приседания до десятого пота, подскоки на месте. А вскоре специальные упражнения потребовали и специальных приспособлений. Достать их в то время было негде, и Пахомов ограничился глиной, которую набили в неглубокую яму, залили водой и… — Так виноград на вино давят. Не веришь? Я сам читал! — Будто тесто месишь! — Представь, что ты на велосипеде! — такими хитроумными, с его точки зрения, сравнениями завлекал старшина парнишку лезть с закатанными штанами в ненавистную яму. И все-таки он добился своего. Сережа научился прыгать будто мячик, не уставая, легко перелетал высокие изгороди, через которые какой-нибудь месяц назад долго перекарабкивался. Пахомов улыбался, влюбленными глазами смотрел на него: — Теперь тебе только копытцев не хватает. А так ну что твой жеребенок! — и тяжко вздыхал: он с волнением и тревогой ждал, когда его «система» должна будет пройти проверку на деле. В день прыжков, к счастью, погода выдалась отменная, тихая. Поутру, высыпав из землянки, разведчики увидели, как над полем плавает в облаках серебристый аэростат, привязанный к машине-лебедке. По команде солдаты достали из брезентовых мешков парашюты, помогая друг другу, влезли в лямки, застегнули карабины. Пахомов построил их длинной шеренгой, проверил за спиной вытяжные тросики. В специальный кармашек была положена расписка каждого бойца, что парашют он укладывал сам: так полагается на учебных прыжках во избежание спроса с невиновных в случае несчастья. В Сережин парашют Пахомов положил и свою. Заработал мотор машины. Аэростат, плавно покачиваясь и будто нехотя, пошел к земле. Плетеная корзина нависла над самой травой. Над ее низкими бортами возвышалась крупная фигура инструктора в синем комбинезоне. — Давай! — махнул он рукой Пахомову. Первая тройка десантников направилась к аэростату. Долго тянутся такие прыжки. Трех человек принимает на борт утлая корзина. К тому же инструкторы, проводящие прыжки, не спешат. Со своим аэростатом кочуя по бригадам, день-деньской, с утра дотемна, как на каком-то зыбком, открытом ветрам высотном лифте, вверх-вниз, вверх-вниз поднимаются и опускаются они. Трудная это работа. Десантные войска — не добровольный клуб Осоавиахима, куда приходят лишь энтузиасты, горящие желанием стать парашютистами. В них попадают и люди, доселе ни разу не поднимавшиеся выше чердака своей избы и даже на такой высоте, выглянув в слуховое окошко, испытывающие головокружение и приступ тошноты. К высоте и прыжку приучают. Политработники всех рангов — беседами о долге и мужестве. Командиры — приказами. Это на земле, где есть время поговорить. А в воздухе, в зыбких гондолах, что качаются как маятники, далекая земля мельтешит размазанными полосами, где неумолчно свистит ветер, учат инструкторы-сержанты, и, право же, не все они обладают даром гуманного убеждения. Тем более, что от иного солдата, когда распахнешь перед ним дверцу, наслушаешься такого, что будь это внизу — честное слово, немедленно бы в суд подал за оскорбление личности. В общем, веселого мало. Так чего же спешить? За первыми тройками парашютистов следила вся рота. Потом солдаты один за другим поусаживались на земле, откинулись на уложенные за спиной парашюты, и оказалось, что это очень удобно — почти как в кресле. Запасной парашют, закрепленный на груди и теперь лежащий на коленях, тоже перестал быть обузой: на нем покоились руки. Ко всему прочему накануне у разведчиков был трудный поход, усталость еще не прошла… Вскоре мерный храп раздавался над полем. Заинтересованный инструктор в одну из остановок для перекура подозвал к себе Пахомова: — Что это у тебя за народ такой? Хоть без парашюта бросай. Прямо неживые. У Пахомова отлегло от сердца. Значит, и там, в воздухе, в совершенно необычной обстановке, разведчики оставались сдержанными и бесстрашными. В своей жизни Пахомов немного прочел книг, но те, которые одолел, хорошо помнил, примеряя к тем или иным ситуациям, свидетелем которых становился. Так и сейчас ему вспомнилась атака красных казаков, описанная в «Железном потоке». Они знали, что пулеметы белогвардейцев, установленные в конце моста, несут им неминуемую смерть. Но на них так лихо сидели кубанки, так ярко горели серебром газыри дедовских черкесок… Нет, они не могли повернуть назад. «И эти не повернут!» — с гордостью за товарищей подумал Пахомов и вслух сказал: — Ого, неживые! Настоящие казаки, вот что я тебе скажу! — Что? — изумился инструктор. Потом махнул рукой. — Давай по четверке. Один будет стоять. Все вы какие-то тронутые. Это было очень кстати. Пахомов как раз и намеревался договариваться, чтобы ему разрешили подняться в воздух со своей маленькой группой. Он побежал за друзьями. Сережа не спал. Лещилин поднялся на ноги, лишь коснулись его плеча, а Володкина расталкивали долго. — А это еще что? — сердито воскликнул инструктор, когда в дверцу просунулся Сережин пиджачок. — А ну, брысь… — И он осекся. — Так бы сразу и сказал, что разведчики, — с укором обратился он к Пахомову. — Эх, ребятки… Нелегкая у вас жизнь. Зато и вознесу я вас сейчас! Аж Москву будет видно. Аэростат пошел вверх. Сережа, впрямь поверивший, что сейчас увидит Москву, навалившись на борт корзины, вглядывался в даль. Розовая дымка застлала горизонт, ничего не было видно. Он посмотрел вниз. Поле будто сжималось. Рота, еще недавно занимавшая довольно большую площадь меж трех копенок, вдруг стала пятнышком, испещренным серовато-зелеными точками, и стремительно проваливалась все глубже. — Да вон же Москва! — старательно отвлекал его внимание от удалявшейся земли инструктор. — Неужели не видишь? Дальше, дальше смотри! — И, обняв рукой за плечи, мягко, но настойчиво приподнимал голову выше, выше, где видно только спокойное небо. Лещилин сидел напротив инструктора у дверцы как ни в чем не бывало. Лишь губы его чуть шевелились. Пахомов скорее догадывался, чем услышал: «Раз, два, три». Андрей считал пульс. — Как? — спросил его Пахомов. — Нормально, — пожав плечами, ответил сержант. А Володкину было не по себе. Глаза расширились, на лице проступили крупные капли пота, он глотал и все не мог проглотить какой-то застрявший в горле комок. — За Андреем пойдешь, — толкнув его в плечо, громко сказал Пахомов. — Только не сразу. А то еще сядешь на него. — Вот и начнется игра в лошадки! Точно ты говорил — казаки! — сразу ввязался в разговор инструктор, понимая, что сейчас этому рослому парню больше всего нужна хоть какая-то шутка. Пусть даже непонятная, пусть хоть на миг отвлечется. Лещилин остался верен себе. Будто шло обычное занятие, стал на порожке корзины и, легко оттолкнувшись, спрыгнул с него. Володкин отважился не сразу. Упираясь руками в борта, он смотрел в развернувшуюся под ним бездну. Внизу, уже далеко, уплывал белый парашют Андрея, а он все не мог решиться. Инструктор уже занес за его спиной всю пятерню, намереваясь дать «то еще ускорение», как говорится среди парашютистов. Пахомов остановил его. — Пусть сам. — Ура! — вдруг во всю глотку заорал Володкин и так стеганул, что корзину швырнуло вверх: она заходила ходуном. — Черт шалавый! — выругался инструктор. — Из-за таких вот психов голова и разламывается. Но он улыбался. Кто-кто, а уж эти инструкторы знают, как кому дается прыжок, определяют состояние человека, едва взглянув ему в зрачки. И тот, кто сумел себя преодолеть, навсегда завоевывает их признание. А Сережа? Странное дело: он теперь совсем ни капельки не боялся. И даже было непонятно — чего это волнуется Пахомов и все говорит, говорит ему что-то, помогая подняться и стать на краю раскачивающейся корзины. — Ну, догоняй своих! И Сережа прыгнул, даже не глядя вниз, совсем так, как в речку с крутого берега, только не было где разбежаться. Земля вдруг встала дыбом, рухнула куда-то и тотчас зеленой, размазанной полосой вылетела сбоку, мелькнул кусочек чего-то голубого, кажется неба. Но не успел еще Сережа сообразить, что это крутит его, как над головой гулко бахнуло, с силой рвануло, и он повис — совсем неподвижно повис — в необозримом безмолвном просторе. Лишь через несколько секунд он пришел в себя, и необыкновенная, неописуемая радость охватила его. Где-то внизу, будто по невидимой крутой горке, съезжали два белых купола: это летели Лещилин и Володкин. Потом немного в стороне пронеслась какая-то черная тень. Она стремительно удалялась и вдруг вспыхнула внизу белым язычком. То Пахомов затяжным прыжком обогнал своих друзей, чтобы встретить их на земле. А все это время, пока Сережа смотрел на белые купола внизу, кто-то громко кричал рядом, кто-то невидимый пел звонкую песню… И никак не понять было Сереже, что это поет он сам, поет все его существо. Земля, сначала далекая-далекая, теперь быстро приближалась. Уже хорошо были видны бегущие люди. Они махали руками и что-то кричали ему. Что?! Сережа вспомнил. Сжал ступни вместе, крест-накрест перехватил над головой лямки, потянул их, развернулся так, чтобы земля наплывала ему навстречу, а она уже не наплывала — она летела все быстрей и быстрей. Удар был несильный. Сережа упал на бок и, конечно же, поднялся бы сам, но его сразу подхватили сильные руки. То был совершенно необыкновенный день в роте. Когда вернулись в свою землянку, никто уже не заснул. Каждый хотел рассказать о своих переживаниях, все говорили без умолку. Но настоящим героем был Сережа Кузовков, его прямо-таки затискали в объятиях. Вскоре приехал на велосипеде кассир бригадной финчасти, и бойцам выдали по двадцать пять рублей.[66] Деньги давали сотнями, сразу на четверых. Их тоже сложили в общий котел, и несколько считающихся в роте самыми хитрыми и пронырливыми парней были срочно откомандированы на небольшой поселковый рынок. Что можно было купить в то время? Махорку, папиросы-гвоздики, ряженку, пирожки с картофельной начинкой — вот, пожалуй, и все. Но покупатель пришел оптовый, сотни только мелькали в руках, и базарные тетки не очень торговались. А отнаряженным купцам удалось раздобыть и небольшой кулек карамельных подушечек. Это была уже роскошь. В тот вечер долго горели костры разведчиков. Пир шел горой, и легкий папиросный дым кружил над головами.Следующий день начался с укладки парашютов. А ночью… Опять привезли аэростат, но теперь его не было видно в черном небе. Да и вообще ничего не было видно кругом. Лишь несколько костерков яркими точками теплились по краям поля, указывая парашютистам направление полета к земле. Затем начались прыжки с самолета — дневные, ночные, на лес, на воду. И уже вдали от лагеря приземлялись солдаты, чтобы сразу же, едва отстегнув парашюты, начать марш-бросок. Недавние десантники по названию, они теперь стали настоящими крылатыми пехотинцами, а на груди у них рядом с гвардейским значком появились бело-голубые эмблемы парашютистов. Как-то под вечер крытый грузовик привез новенькие, прямо с фабрики, парашюты. Запасных к ним не было: у десантника, идущего в бой, на груди крепится вещмешок. Парашюты раскрыли, придирчиво осмотрели и снова тщательно уложили. Но теперь в кармашках ранцев записок с фамилией не было. Боевые парашюты вместе с боекомплектом, шоколадом и сухарями разместили на стеллажах специально построенной и просушенной жженой серой, чтобы не завелся грибок, землянки. Возле нее встал часовой. Когда работу кончили, по обыкновению, сели перекурить на теплой крыше своего жилища. Смеркалось. Стрижи, беспорядочно носившиеся над полем, слетались в одну стаю, и она с громким щебетанием скрылась за лесом. — Наверно, и мы так скоро, — задумчиво сказал кто-то. — Учились порознь, а теперь соберемся всей бригадой — и туда. Разведчики невольно посмотрели на запад. Солнце только село, но небо быстро темнело. Отсветы молний озаряли наползавшие издалека черные тучи. Потянуло холодом. На западе шла гроза…
11
Ровно гудели моторы. Десантники сидели друг против друга на длинных алюминиевых скамьях вдоль бортов. Между ними, в проходе, лежали мешки с разобранными ручными пулеметами, патронными дисками. Тускло осветила синяя лампочка, бросая глубокие тени на лица солдат. Все было как обычно, с той лишь разницей, что летели уже давно. И летели за линию фронта. Зажатый между Пахомовым и Лещилиным, Сережа несколько раз пытался заговорить с ними. Но на этот раз они были хмуры, на его вопросы, куда летят и долго ли еще лететь осталось, отвечали нехотя: дескать, поживем — увидим, когда и куда. Напротив, опершись руками о раздвинутые колени, сидел Володкин и, кажется, спал. Глаза его были закрыты. Будь Сережа постарше, знай побольше, он бы понял, что это вот спокойствие, эта вот почти отрешенность перед битвой — в крови русского солдата. И как их деды и прадеды перед сражением надевали чистые рубахи, так и эти парни, перетянутые лямками парашютов и амуниции, мысленным взором оглядывали свою жизнь и отметали в ней все наносное. С чистым сердцем уходили они в бой, и в этом была их сила и смерть для врага. Линию фронта пересекли в полночь. Квадратные окна самолета, за которыми текло звездное небо, осветились снаружи багряными сполохами. Они дрожали в стеклах, но сюда, на высоту, доносилось лишь глухое ворчанье: то, заглушая гул моторов, на полную мощь била наша артиллерия. Заныло в ушах. Самолет резко пошел на снижение. Он прижимался к земле, ниже, ниже — насколько это возможно, чтобы десантники как можно скорее встали на ноги, а не плавали в небе, разносимые ветром. И вот уже загудела сирена, замигала над кабиной летчиков лампа. «Пошел!» И в черных провалах распахнутых настежь дверей обрывались и таяли цепочки солдат. Пошел! Пошел! Самого прыжка Сережа на этот раз даже как-то не заметил. Все произошло будто в одно мгновение. Едва раскрылся парашют и, подняв голову, он увидел над собой серый в ночи купол, как земля была уже под ногами. — Все в порядке? — раздался тихий голос Пахомова. По своему правилу, он хоть и последним покинул самолет, но приземлился все же первым. — Да, — сдерживая волнение, шепнул Сережа. К ним приблизились еще двое. Старшина не стал окликать их и спрашивать пароль: рослую фигуру Володкина легко было узнать даже в темноте. Гул самолетов затих. Сбросив десант, они не повернули назад, а продолжали путь на запад, точно бомбардировщики, взявшие курс на тыловую базу врага. Парашюты зарыли. Почва была сухой, податливой, копалась легко. Сверху ямы забросали, на ощупь сгребли землю, присыпали — не очень густо — сухой травой. Видно, и остальные были заняты этим же делом. Но ни звука не слышалось в ночи. Как только покончили с парашютами, неподалеку раздался четкий хлопок, за ним другой — уже дальше. Это Грачев собирал роту. Пахомов тоже легонько ударил в ладоши, передавая сигнал, и они пошли к командиру. Пришлось пересечь проселочную дорогу — она ощущалась твердым грунтом. Неожиданный свист заставил их замереть и прислушаться. Свист повторился. Потом еще и еще. Не пронзительный, как в два пальца, а монотонный, глуховатый. — Какой-нибудь суслик или, как их там… сурок, — первым догадался Лещилин. Облегченно перевели дыхание, а Володкин выругался сквозь зубы: — С детства ненавижу… Когда рота собралась на неубранном кукурузном поле и бойцы осторожно залегли между шуршащими, сухими листьями стеблей, капитан Грачев выслал дозорных найти более надежное пристанище. Вскоре они вернулись. Вслед за ними ротапробралась в неглубокий, но узкий и обрывистый овраг. Здесь командир поставил задачу. До этого разведчики знали только, что летят на Украину, южнее Киева, и некоторое время будут действовать лишь своей ротой и подразделением саперов. Задача была такова: одна, наибольшая, группа бойцов приступит к разведке тылов фашистских частей, держащих оборону на правобережье Днепра. Их объектом становилось внутреннее хозяйство врага: склады, штабы, защитные рубежи, подготовленные на случай отступления. Другая группа должна надежно охранять саперов, чтобы они спокойно могли вести свою подготовительную работу перед ударом советских войск: минировать мосты, дороги, а в самых неожиданных местах — на крутых берегах речушек — навести скрытые переправы, которыми внезапно для противника воспользуются наши части. Третьей группе — старшины Пахомова — было приказано выйти в район станции Смела, на скрещение железной и шоссейной дорог, и пронаблюдать, что за грузы поступают к фронту. Стояла уже осень, близился ноябрь, и от надежных магистралей, не размытых дождями, враг не отрывался. Сама собой создавалась четвертая группа, или, как обычно говорят, ячейка управления во главе с командиром роты. Она расположилась на труднодоступном островке среди растянувшегося на много километров Ирдынского болота. Отсюда, старательно огибая открытые взору торфяные выработки, посыльные пробирались сквозь камышовые заросли и держали надежную связь между командиром и его бойцами, рассыпавшимися в округе диаметром километров пятьдесят. Прикиньте: это около двух тысяч квадратных километров! Но здесь действовали ловкие, стремительные, неутомимые и прекрасно обученные воины. В пойменных лесах, поросших ольхою, саперы, едва налегая на рукоятки остро отточенных пил, принялись валить деревья. Осторожно опустив деревце на руках, они затем распиливали стволы на небольшие бревна, в которых коловоротом высверливали дыры и тащили к воде. Ночью эти бревна становились фермами мостов. Как старые русские умельцы-мастеровые, с одним топором возводившие удивительной красоты храмы, так и эти труженики войны, надев на себя надувные жилеты и плавая в ледяной воде, без единого гвоздя, в кромешной тьме, на ощупь стыкали балки чудо-мостов, скрытых под водой на четверть или на полметра. И ни всплеска не раздавалось при этом. Разведчики, чутко несущие караул вокруг саперов, немедленно объявили бы тревогу, услышав хоть малейший шум, а потом долго бы рыскали вокруг, проверяя: уж не затаившийся ли враг подал признак жизни? Только в полной тишине можно было вести работы. Как сумеречные тени, будто ночные призраки, то там, то здесь на рубежах вражеских артиллерийских позиций, укрытых в лесах танковых частей появлялись парни в маскхалатах. Зорко всматривались они в расположение врага, пересчитывали количество стволов, машин и, ничем не выдав своего присутствия, исчезали, растворившись в гуще ветвей и мраке ночи. Отлично вооруженные, они за несколько дней не сделали ни выстрела, не уничтожили ни одного фашиста, хотя ни на минуту не упускали врага из виду. Но там, в топи Ирдынских болот, заполнялась отметками-символами карта капитана Грачева и, раскинув зонты-антенны, стояли замаскированные в стороне друг от друга рации. Радисты еще не брались за ключ, но наушников не снимали. Нужен был лишь сигнал, по которому бы понеслись в эфир и тотчас легли на карты летчиков и штурманов бомбардировочной авиации координаты целей. Время это приближалось с каждым часом. В ожидании его разведчики продолжали свою невероятно трудную, кропотливую работу, и уже в район Смелы вышла группа Пахомова.12
Днем они слышали фронт, а по ночам были видны далекие зарницы. Как и было приказано, четверка заняла удобную позицию между Смелой и Днепром, ближе к станции, и вела на своем участке постоянное наблюдение за дорогами. Расчет был такой: какие бы резервы ни двинули немцы к Днепру в этом районе, разведчики увидят их. Конечно, могло случиться, что дальше Смелы вражеские составы не пойдут. Но над станцией даже ночью было светло: ракеты, сброшенные нашими самолетами, не угасали и позволяли видеть с воздуха все происходящее на железнодорожных путях. Оставалось другое опасение: немцы разгрузят эшелоны дальше от фронта. Но все равно шоссейных дорог им было не миновать, и ночью вся группа выходила к ним, а днем на разведку отправлялся Сережа. Однако все их поиски были напрасными — ничего. Отдых проводили, забившись в какую-нибудь яму или рытвину посреди ровного, как стол, поля. Такое место было безопаснее: в том случае, если бы немцы пронюхали о десантниках, они вряд ли стали бы прочесывать открытое, обозримое пространство. В овраги, леса, прибрежные заросли — вот куда бы бросились они первым делом. Временами разведчикам невольно казалось, что в их районе и войны-то никакой нет. И тогда появлялось труднопреодолимое желание перебраться из этой пустоши в другое место, где они смогут принести пользу. Но приказ есть приказ. Нужно было оставаться здесь. Правда, рассудительный Андрей Лещилин пытался убеждать товарищей, что в масштабе бригады, а может быть, и корпуса их-де безделье оборачивается полноценной работой. Ведь данные «противника нет» и «противник обнаружен», по сути дела, являются равнозначным для разведчика материалом. Но под холодным дождем да в ночь, когда, таясь неизвестно от кого, вынужден слоняться близ заброшенных богом и людьми дорог, теория давалась плохо, и трое старших изо всех сил сдерживали себя. При Сереже нужно было сохранять бодрый вид. И они бодрились, они старались доказать, как важно командиру роты быть уверенным, что у них все спокойно, говорили, что где-то за Днепром склоняется над картой генерал и решительно прочеркивает жирную красную стрелу: «Эти не подведут. Если они противника не обнаружили, то здесь мы бросим наши части в прорыв». Все изменилось в какую-то минуту. Шли пятые сутки их пребывания в разведке, и на рассвете они уже подыскивали себе место для дневки на поле близ железнодорожной ветки. За нею, подступая вплотную, высился лес, но в него они не пошли: и опаснее, и обзор для наблюдения плохой. Странный, прерывистый, высокий звук донесся до них. Он шел откуда-то от дороги, из темноты — совершенно необычный, никогда ими на фронте не слышанный и вместе с тем до боли, до жути знакомый. Как всегда бывает, когда сталкиваешься с чем-то неожиданным, разведчики бросились ничком в бурьян, затаились… «Что же это такое? Что?» — Ой, братцы! — вдруг тихо рассмеялся Володкин. — Это же ребенок плачет. Слышите? Уа, уа! — Верно, — удивленно прошептал Лещилин и, посоветовавшись с Пахомовым, скользнул к дороге. Вернулся он очень скоро. — Женщины. Много. И мужчины вроде бы. Плохо разобрал. Охрана. Катят какие-то вагонетки. Или ремонт пути? Так ведь не бомбили, все цело. А что, если строят?.. Что? И эта догадка сержанта предопределила дальнейшие действия группы. Напутственных слов Сереже было сказано мало. Проверили его парусиновую котомку, в которой была краюха хлеба, уже плесневелая, но обломленная так, что в ней и не узнать было выпеченную еще под Москвой стандартную буханку, две луковицы да кое-какое барахлишко. И проводили, шепнув на прощание, кроме обычного для разведчика «ну, пошел», еще и «милый»… А сами остались, тщательно замаскировавшись, остались в тревоге, щемящей тоске, и тяжело им было, что парнишка ушел в неизвестность, а они… Что поделаешь: на войне часто приходится поступать вопреки своим желаниям. Утешало их лишь то, что каждый понимал: это только начало какого-то трудного, опасного дела, и они еще вступят в него; Сережа увидит, что его старшие товарищи — настоящие люди, а не те, кто прячется за чужую спину. А Сережа тем временем сделал порядочный круг по заросшему бурьяном полю и, ориентируясь по шуму, доносящемуся с железнодорожной ветки, оказался сзади людей, действительно катящих какие-то вагонетки. Дальше идя по шпалам, он быстро догнал их. Охранник с винтовкой под мышкой так и не понял, откуда появился рядом с ним паренек. Но, приняв его за пытающегося незаметно отколоться от толпы, он выкрикнул какое-то «Э-э!» и повел дулом винтовки, даже не вытащив рук из карманов длиннополой шинели. Было холодно. «Дать раза — и закатит глаза», — неожиданно весело и не своими, а володкинскими словами подумал Сережа и, быстро протиснувшись к вагонетке, еле сдержал себя, чтобы не издать какого-нибудь радостного возгласа. Он сделал то, что ему поручили старшие товарищи, которых он давно уже считал подлинными героями. Те мысли, которые терзали их, ему и в голову не приходили, и он был счастлив, что наконец-то получил серьезное, хотя, кажется, совсем не боевое задание: на вагонетках различались ломы, железные полосы, болты… Все оказалось так, как и предполагал Лещилин. Здесь, на меже бурьянного поля и леса, немцы начали путевое строительство. Утро наползло серое, туманное, но все равно по верхушкам придорожных кустарников накинули маскировочную сетку метров в триста и от основной колеи потянули две ответвляющиеся нитки. — А мы, оказывается, прямым сообщением на разгрузочную станцию прибыли, — удовлетворенно потирая озябшие и черные от грязи руки, сказал друзьям Лещилин. — Помяните мое слово: ночью подгонят эшелоны, разгрузят — и сразу в лес. И пускай. Все равно они вот где. — И Андрей, всегда сдержанный Андрей, так сжал кулак, что пальцы хрустнули.13
Гитлеровцы торопились. Они понимали, что в любой день Красная Армия может прорвать фронт, стремительно выйти им в тыл и, как говорили сами, устроить «котел». На правом берегу Днепра спешно велись фортификационные работы. А в глубине своей обороны фашистское командование размещало резервные маневренные части, способные нанести внезапный и мощный удар во фланг прорвавшихся советских войск. Местонахождение этих маневренных частей окутывалось тайной. Весь день, не разгибая спины, трудились на железнодорожном полотне женщины и старики, согнанные из окрестных сел. Правда, здесь охранники особенно не свирепствовали. Нет, не подобрели фашисты — просто иногда выхода у них не оставалось. Нужно было, как кротам, зарыться в землю, гатить дороги, пилить бревна для дзотов, — нужны были рабочие руки, а где их было отыскать немцам на Украине осенью сорок третьего года? На партизан они могли напороться в любой момент; тысячи украинских парней и девчат загнали в хозяйства фатерлянда, а здесь… С горем пополам набрав какую-то группу женщин с детьми, стариков и старух, они гоняли их с места на место и в какой-то мере, как кощунственно это ни звучит, даже оберегали от холода, даже пытались сносно кормить. А работа все равно шла еле-еле. Во всей этой массе измученных, несчастных людей, принужденных тащить тяжеленные рельсы, приколачивать их неподъемным для слабых рук молотом к многопудовым шпалам, по-настоящему здорово работал один Сергей Кузовков. И намерзся за минувшие дни, и подсознательно понимал: чем быстрей закончится эта работа, тем скорее будет выполнено их задание. Его рвение чуть было не обернулось бедою: он привлек к себе внимание одного из охранников. Это был старый вояка из поскребков всегерманской тотальной мобилизации, по уши обмотанный шарфом и согнутый в крючок. Русских он ненавидел еще в четырнадцатом году, когда работавшие в его хозяйстве военнопленные бежали, в отместку запалив усадьбу. Теперь возненавидел еще больше: это из-за них его вытащили из теплой постели с пуховой периной, вместо спального колпака с кисточкой нахлобучили на плешивую голову каску и бросили в промозглую страшную степь. И из-за этой вот лютой ненависти он различал их не хуже, чем свиней в своем хлеву. Лишь на какую-то минуту, а может, и того меньше он что-то такое соображал, глядя на Сережу. Какое-то недоумение зашевелилось в его отупевшей от страха и злобы голове. А Сережа, чувствуя на себе этот рысий, хищный взгляд, сразу свернулся, притих, движения его стали скованными. — Живо! — прохрипел охранник. Для него все вернулось на свое место. Медленно, но час за часом наращивались звенья полотна. Было очевидно: к наступлению темноты они смогут принять два дополнительных эшелона. И уже дощатые мостки настлали, — по ним, не корежа рельсов, перейдут машины на лесную сторону. Достаточно ли этих сведений для разведчиков? Почти. Зная структуру вражеских соединений, остальное можно будет рассчитать. В крайнем случае потребуется узнать, какая именно техника поступила — например, танки или самоходки, — а для этого стоит взглянуть лишь одним глазом. Нечего терять времени! И трое десантников перешли к действию. С наступлением сумерек Андрей Лещилин выбрался из укрытия и один, пока ползком, пустился в опасный путь на командный пункт роты. Пахомов и Володкин остались, чтобы отбить Сережу и собрать окончательные сведения. К вечеру поднялся холодный ветер. Таясь в его шуме, разведчики подобрались к полотну. Рабочих с него уже согнали. Теперь их заставили валить деревья и распиливать на бревна. «Сходни к железнодорожным платформам», — догадались разведчики. Эх, если бы уже сейчас можно было совершить налет на охранников! Их было всего восемь, явно нестроевых, и Пахомов с Володкиным ничуть не сомневались в успехе. Но ведь тогда враг узнает, что тайна его известна. Как знать, не изменит ли он своего уже раскрытого ими плана? Эшелоны пришли ночью. С короткими интервалами они смутными громадами надвинулись из глубины степи и, лязгнув буферами, стали. Послышались резкие команды. На платформах взревели моторы. Медленно нащупывая путь в темноте, начали сползать танки, грузовики. Все перемешалось на пути. Зло, нервно работали немцы. Охранники совершенно осатанели. Прикладами гнали обессиленных людей с бревнами к платформам, заставляли вытаскивать засевшие в кювете буксующие колесные машины. Медлить больше было нельзя. Пахомов и Володкин, выпрямившись в рост, как ни в чем не бывало вышли на пути, к эшелонам. Группу, в которой был Сережа, они старались не выпускать из виду ни на минуту. Спокойно идя среди занятых своим делом немецких солдат, они рассчитывали, что все уладится просто: в этой темноте и суматохе никто никого не разбирает, никому ни до кого нет дела. Но эти чертовы охранники! Они, как цепные псы, кидались на всякого, кто хоть немного замешкался и отстал. Ускользнуть от них было нельзя. …А Сережа выбивался из сил. За день он много успел. Какая-то женщина, не назвавшая себя (да и какая в том была нужда?), то ли угадала в нем связного партизан, то ли просто, чтобы излить душу, рассказала ему, где они работали раньше, что видели, и теперь он, как молитву, твердил про себя: «Противотанковые рвы у деревни Свидовок», «Дзоты на окраине Сосновки»… Толковая была женщина. Видя, понимая, что Сережа все старается запомнить, она была кратка и точна: «В Дубиевке у шоссейной дороги „ежи“. Это ж такое мученье — стальные балки». Много узнал Сережа. Он даже платформы эшелонов пересчитал. Сумел разглядеть почти все, что сходило с них, и вот теперь его начал одолевать страх. Как передать сведения своим, где же они, его друзья? Они должны, непременно должны быть здесь! Сейчас же, иначе будет поздно… И он чуть не закричал от радости, когда увидел, как к ближайшему от него охраннику подходит кто-то высокий, широкоплечий, а за ним, немного подальше, вырисовывается еще один силуэт такого знакомого и родного человека. Порывшись в кармане, Володкин достал что-то белое («Сигарету? Откуда у него сигарета? Какой карман в маскхалате? Ох здорово играет ефрейтор!») и вплотную приблизился к охраннику. Что произошло дальше, Сережа так и не понял. Конвоир по-прежнему стоял с винтовкой в руках, на том же самом месте, но это уже был другой, это был свой конвоир, а рядом с ним появился Пахомов. Подчиняясь какому-то еще не осознанному чувству, Сережа рванул за руку женщину, которая все время была с ним, и они очутились рядом с разведчиками. — Тихо! Это слово можно было разве лишь угадать, а не услышать, но они услышали его. Володкин властно повел винтовкой, подтолкнул Сережу стволом, и они вслед за Пахомовым, тоже взявшим автомат в руки на немецкий лад, пошли вдоль эшелона, затем круто свернули в лес. — Там же… — Сережа схватил за маскхалат Пахомова. — Молчать! — грозный окрик по-немецки сзади остановил его, но тотчас последовал толчок в спину и раздался злой шепот: — Ты что? Немцы кругом. Забыл, что ли? Немцы действительно были кругом. Но Пахомов и Володкин, теперь уже оба впереди, уверенно шли в глубь леса. Отличное знание армейской лагерной жизни подсказывало им: здесь, в чужой, незнакомой обстановке, солдаты на первых порах будут крепко держаться своих подразделений, а часовые, во множестве выставленные там и здесь, хотя к себе близко и не подпустят, но тоже с места не стронутся, не зная, кто где. — Стой! Назад! — то и дело неслось навстречу разведчикам. — Черт побери! — вроде бы даже смущенно бормотал Володкин по-немецки, словно невзначай забрел не туда, куда надо, и разведчики, сворачивая то вправо, то влево, возвращаясь немного назад, уходили все дальше и дальше. Фашистские танки, машины, медленно двигавшиеся без огней, остались в стороне, когда издали донесся тревожный крик. — Кажется, спохватились, — сказал Володкин. Прислушался. И удовлетворенно заключил: — Черта лысого они догадаются, что мы в их порядки пошли. Там будут искать, идиоты… — Родные, да неужели… — плача, женщина бросилась к нему. Но Володкин легонько отстранил ее: — Ужели. Они самые и есть. А теперь, как говорится, дай бог ноги. Одна здесь, другая там, а обе — в зубы! — Неисправимый трепач, — усмехнулся Пахомов, и они тронулись дальше.14
Надо же, чтобы так не повезло! Холодный низовой ветер, не утихавший много часов, принес низкие тучи, начал швырять хлопья мокрого снега. Он таял, но валил густо, сплошной белой мглой. Разведчикам пришлось сделать вынужденную остановку. Близился рассвет, и следы четко проступали на полях и просеках, а им, как ни крути, как ни петляй, приходилось их пересекать. В довершение всех бед, Сережа окончательно выбился из сил. Володкин какое-то время тащил его на спине, но его тоже начало пошатывать, да и женщина, оказавшаяся в группе, тоже еле брела, опираясь о Пахомова. Теперь посреди поля, как это они делали раньше, остановиться было нельзя: среди белой равнины все четверо стали бы видны издалека. Рискованно было переждать непогоду в густых кустах или заросшем лесном овраге. Опыт подсказывал разведчикам: в тылу они действуют уже не первый день, сами достаточно убедительно выдали свое присутствие, и в любую минуту можно было ожидать столкновения с вражескими поисковыми группами. Еще когда они шли на задание, им повстречался в сосновом бору сгоревший заводик по переработке живицы. Спалили его, видно, давно. Теперь на погорелье остались почерневшие металлические бочки, чаны, но все же сохранилось одно полуразрушенное двухэтажное здание: первый этаж его, без окон, с железной дверью, был когда-то смоляным складом, а верхний — конторой. Стекла в рамах вылетели, крыша, пол и перекрытия сгорели, но каменные стены все же уцелели. — Какое-никакое, а все же прикрытие, — тихо, чтобы не слышали двое других, сказал Пахомов Володкину. — Иначе нас по следу возьмут как миленьких. Идем туда. Долго плутать в поисках не пришлось. Они возвращались старой дорогой и еще до рассвета были на месте. Пахомов запер сохранившимся железным крюком дверь, с трудом забрался наверх, к окошку, и кое-как примостился возле него на обожженной балке, чтобы вести наблюдение. В стенах было теплее: по крайней мере, не дуло. Сережа мгновенно уснул. Только теперь разведчики смогли расспросить женщину, случайно оказавшуюся с ними, кто она и откуда. «И дернул черт Сережку тащить ее», — думали оба, но своих мыслей вслух высказать не решались и стыдились их. До этого было не до разговоров. Звали ее Анной, родом она была из Умани, до войны работала… — Инструктор стрелкового спорта, — тихо ответила женщина, и Пахомов, сперва не вдававшийся в расспросы, чуть не ссыпался со своего насеста. — Какого ж ты черта?! Я вот… Я тоже инструктор! — Если б я могла… — Ответ последовал не сразу. — У меня был ребенок… — Был? — Да… — А потом? — Отец, мать… Я не могла их бросить. За что вы судите меня? — Правда что! — вдруг взорвался Володкин. Женщина сидела, прижавшись к нему: сквозь ткань маскхалата и гимнастерку он чувствовал ее тепло и перестал жалеть, что она оказалась с ними. — Ну раз так, то действительно, чего ж тут, — смущенно пробормотал Пахомов и снова уставился в окошко. А Володкина будто прорвало: — Ну ничего, Анна. Ты… это самое… Как бы это сказать… («А что тут скажешь?» — мучительно думал он.) Ты, главное, со своими. А винтовку я тебе дам. Раз ты инструктор, так чего ж! Даже, может, лучше моего стреляешь. На, фрицевская. Патронов, правда, маловато… Так кто ж знал, что ты инструктор. Я бы тогда с него все подсумки содрал. Зато гранату могу дать. Сумеешь? Ответа не было. Женщина спала. Володкин украдкой вздохнул и больше не шевелился, обняв ее своею сильной, большой рукою. «Все-таки потеплее будет», — улыбнулся он.15
Андрей Лещилин пробирался на командный пункт роты. Вообще, по существующим армейским законам, ни разведчики, никто другой во время боевых действий в одиночку никуда не ходят — разве лишь в исключительных случаях. Мало ли что может случиться? Даже такая простая вещь, как короткий отдых. Андрей боялся присесть хоть на минуту: вдруг нападет дремота? Вдруг заснет? Что тогда? «Вперед! Быстрее!» — приказывал он себе и упрямо шел в темноте, изредка сверяя направление по светящейся стрелке компаса. Сейчас, ночью, путь он избрал самый прямой, поэтому из лесу приходилось выходить на открытые места, хотя и невидимые, но угадываемые по ветру и внезапно оборвавшемуся шуму деревьев. Поля он перебегал. Иногда бежать приходилось долго и становилось страшно: «Когда же конец?» Нет ничего на войне хуже, чем хоть на миг почувствовать себя лишенным уверенности в своих действиях, подвластным каким-то иным, не зависящим от тебя обстоятельствам. «А может быть, этому полю конца-края нет…» Он мысленно восстанавливал в памяти карту. Нет, на ней повсюду были обозначены перелески, кустарники. И, словно видя эти условные топографические знаки уже не на бумаге, а перед собой, он бросался к ним с удесятеренной энергией. Достигнув укрытия, останавливался. Сначала он слышал лишь гулкие удары сердца и свое тяжелое дыхание, но постепенно все явственнее проступал шум ветра. Тогда он ложился на землю и, всадив в нее нож, легонько прихватывал его зубами. В одну из таких остановок Андрей услышал — нет, не услышал: это ощущение, пожалуй, невозможно передать словами, — он почувствовал, как зудит на зубах сухая деревянная рукоятка десантного кинжала. Где-то в стороне проходил отряд — очевидно, небольшой, звуки скоро угасли. Но шел он быстро, гулко ступая. «Это не наши, — понял Андрей. — И торопятся». Еще немного погодя, едва он пересек какую-то тропку, как рядом, чуть левее, что-то стукнуло, брякнуло, на миг вспыхнул узкий луч прикрытого щитком динамо-фонарика, выхватив из темноты одинокое развесистое дерево. Лещилин, бросившись на землю, ужом крутанулся на месте, вскинув автомат. Свет погас. Два расплывчатых силуэта проехали на велосипедах. Ход у машин был тяжелый, скрипели седла. Андрей подождал еще немного. И — теперь уже справа от него — раздался приглушенный сердитый голос. Кто-то выговаривал кому-то: очевидно, старший патруля солдату, включившему свет на ухабе. Потом мимо Андрея будто проплыли еще два самокатчика. «Встречное патрулирование дорог. Засекли кого-то из наших, — с тревогой подумал сержант. — Надо спешить!» К рассвету повалил снег. Но отсидеться в укрытии Лещилин не мог. Чутко прислушиваясь и озираясь, он переоделся в густых кустах: поверх одежды натянул белье. Рубаха сковывала движения, кальсоны на сапоги не лезли, и пришлось надорвать штанины. Зато он отвел душу, кляня на чем свет интендантов, а заодно с ними и отца с дядькой, которые хоть и генералы, вроде все знают и понимают, а вот такой простой вещи, как удобная и надежная одежда для разведчика, не придумали. Потом, немного освоившись в своем странном одеянии, он успокоился и упреки обратил к себе: «Прежде чем пистолет изобретать, надо было о более неотложных делах подумать», — и в хорошем настроении пустился дальше: идти оставалось уже недалеко. Оставленные следы его не очень беспокоили. Шел он быстро и знал: не догонят! Умный и осторожный разведчик, он бы, пожалуй, без особых происшествий добрался до своих. Неожиданно в стороне ударили автоматы. Среди длинных очередей, как бы в ответ, четко и сухо били короткие, — Андрей сразу узнал их. Там, у себя в подмосковном десантном лагере, разведчики на стрельбище хвастались друг перед дружкой умением отсекать одним легким нажатием пальца на спусковой крючок коротенькие, в два-три патрона, очереди. Тот, кто ухитрялся выбить дробь «цыганочки» или отстрелять весь магазин одиночными, — тот ходил в героях. Ему завидовали, у него учились. И разрабатывали свои варианты — например, вдвоем-втроем отстукать автоматами такт «психической атаки» из кинофильма «Чапаев». Это не было просто забавной игрой лихих разведчиков. Как слухи-радисты, безошибочно узнающие в сплошном потоке точек и тире «почерк» друг друга, так и разведчики, даже ведя бой в темноте, прекрасно ориентировались в сложной обстановке и по звуку огня определяли, кто где: где свои, а где чужие. «Молодцы!» — восхищенно подумал о товарищах Андрей. И он бы пошел своей дорогой — у него была своя задача. Но ритм очередей ломался, они становились все судорожней, отчаянней, ухнули гранаты. Группа, зажатая врагом, отбивалась из последних сил. И Андрей понял: что бы ни случилось, он не может бросить ставших насмерть товарищей. И как знать, какие сведения несут они? Может быть, более важные! Лещилин кинулся туда, где шел бой. Немцев было человек двадцать. Развернувшись полукольцом, они затягивали чахлый кустарник близ какой-то речушки с голыми берегами на той стороне. Что значил еще один человек? Но сержант точно рассчитал свои действия. Едва вылетев из леска и увидя серо-зеленые мундиры врагов на белом снегу, он первую гранату швырнул высоко вверх, предварительно подержав ее в руке и отсчитав две секунды. Взрыв грохнул в воздухе. Вторая полетела вправо, третья — влево, четвертая, последняя, — снова вверх. Но не на убойную силу осколков рассчитывал Лещилин. Да и до немцев от него было все же далековато. — Бросай оружие! Ребята, ко мне! — перекрывая грохот взрывов, что есть силы крикнул он. И это — сработало. Никто — ни свои, ни враги — не понял, какие силы вступили в бой, что произошло. Но гитлеровцы, потрясенные взрывами со спины и над головой, прижались к земле, а горстка разведчиков рванулась в атаку. На какое-то мгновение все перемешалось на поле. Трудно было понять, кто куда бросился. И в этой суматохе, черт его знает, может быть, даже своя пуля ударила Андрея в грудь… Когда к нему подбежали товарищи, он лежал на спине, зажимая рану рукой. Из-под пальцев сочилась кровь. — Андрюшка! Ты откуда? Где Кузовок? — Быстрее… Карту! Они укрылись в лесу. Теперь их было шестеро: трое, вместе с Андреем, раненые. Двое остались на берегу… Но сейчас разведчикам было не до ран, не до вздохов. Оцепив кольцом Андрея и командира группы ефрейтора Истомина, щупленького уральского паренька, которого, в общем-то, на свой страх и риск взял в роту Грачев, да и то, в основном, из-за веселого характера, они позволили им уточнить обстановку. Перестрелка скоро возобновилась, но, к счастью, вялая: несколько уцелевших немцев, сунувшись под огонь, тотчас скрылись. Командир их, видно, был убит, ну, а сами лезть под пули они не пожелали. Истомин, держа карту перед глазами Андрея, вел по ней пальцем. — Выше… Ниже… Вот здесь! Запасные пути строят. Для техники… Кузовок на задаче. Группа назад выйдет сегодня. Уже, наверно, вышла… — Силы оставили его. Лещилин потерял сознание. Кругом было тихо. Раненых перевязали. — Ну что ж, ребята… Пошли? — тихо сказал Истомин, обведя глазами собравшихся в тесный кружок разведчиков. Глубоко вздохнув, он взял на плечи Андрея. Товарищи, обхватив ремнем ноги Лещилина, привязали его к ефрейтору. Двое, поддерживаемые друзьями, смогли идти сами. Один стал чуть сбоку и пошел дозорным, прислушиваясь и выбирая дорогу…16
…Группу Пахомова обнаружили, когда наступил день. Дозорный немецкий отряд из девяти человек вышел из лесу, остановился. Потом двое осторожно направились к дому, а остальные остались в прикрытии за деревьями. По сигналу старшины все четверо мгновенно были на ногах. Старшина, откинувшись за стену, сжал в руке гранату. Казалось, положение безвыходное. И тут какое-то вдохновение, какая-то молодецкая удаль охватила Володкина. Сделав предостерегающий жест всем, он зашептал в самое ухо Сереже: — Как скажу — шпарь по-немецки. Что попало! А лучше всего — ругайся. Крой во все лопатки! Только когда я скажу. В одной руке у него тоже была граната, другую он положил на крюк двери. Немцы осторожно обошли дом. Потом один из них, встав на плечи другому, попытался заглянуть в окошко, но лишь зацепился руками за подоконник, а подтянуться не сумел. Его побелевшие пальцы были у самого лица Пахомова, и старшина уже приготовился двинуть по ним тыльной стороной автомата… Пальцы медленно разжались. И все же немцы не ушли. Как знать, что привело их сюда? Может быть, случай. Но осмотреть всякое сомнительное место — постройки, кусты и т. д. — дозорных обязывает устав любой армии. А можно ли себе хоть на миг вообразить немецкого солдата, добровольно нарушающего устав? Гулкие удары прикладов ухнули в дверь. «По мне, так дал бы гранатой через окошко — и пошел своей дорогой, — прикинул Володкин. — А эти или сообразить не могут, или им так не было приказано», — и шепнул Сереже: — Валяй! Побойчее. Бойко у Сережи не получалось. Язык не ворочался во рту, он бормотал по-немецки что-то жалостное, что-то спрашивал, что-то отвечал на угрозы и приказ открыть дверь. И, наверно, это оказалось именно тем, что нужно. К такому оккупанты привыкли, иного не ждали. — Да бойчее же ты! — гнул свое Володкин, выдыхая слова в самое ухо Сережи. — Черт возьми, проклятые ублюдки! — все в том же унылом тоне тянул мальчик, и немцам стало даже весело. Вот ведь чему выучил какой-то их остроумный земляк русского парнишку! Парнишка, конечно, придурковатый, но все равно забавно. Они смеялись. А тем, что остались в отделении, надоело ждать и видеть, как неизвестно отчего веселятся их товарищи. Они вышли из-под деревьев и, сближаясь, направились к дверям. Ближе, ближе… — На шарап! — крикнул вдруг памятное с детства озорное словечко Пахомов и что есть силы трахнул противотанковой гранатой в кучу. А едва отгрохотал взрыв, Володкин сорвал крюк с двери, полоснул из автомата, и они бросились в лес. От погони, однако, уйти не удалось. Когда перебегали просеку, им ударили вслед из пулемета. Володкин охнул, упал, но снова поднялся. Пуля попала в ногу. Пахомов помогал ему идти. Чтобы хоть как-то сдержать погоню, они дважды минировали путь. Самым примитивным способом: у осколочной гранаты, закрепленной на дереве, почти напрочь вытаскивали кольцо запала и от него низко над землей протягивали через свои следы туго натянутую бечевку. Один взрыв услышали. Второго не было: может быть, самодельная мина не сработала, может быть, немцы внимательно стали смотреть под ноги и пошли стороной. Но продвигались преследователи теперь куда медленнее. И все же с каждой сотней шагов разведчики все больше убеждались: далеко им не уйти. — Хватит! — наконец зло крикнул Володкин, остановился, снял вещмешок. — Идите. Я прикрою. — Нет! Это я должна остаться! — воскликнула Анна. — Это из-за меня… — При чем тут ты! — снова зло оборвал ее Володкин. Он уже решился, он знал, что его ждет, и больше всего боялся ненужных, лишних сейчас слов. — Идите! Он лег и приготовился к стрельбе. — Витька! — Пахомов попытался поднять его. — Идите! — Пошли, — тихо сказал Пахомов, и маленькая группа скрылась за деревьями. Эх, Володкин… Случись это на нашей стороне, полежал бы месячишко-другой в госпитале и вернулся в строй. Ведь рана-то была пустячная. Но у разведчиков в тылу врага легких ран не бывает… Володкин сунул в брошенный рядом вещмешок последнюю противотанковую гранату, осторожно выдернул чеку, отполз в сторонку и стал ждать. Ветер разорвал тучи, в них проглянуло солнце. Снег быстро таял. По лесу, как весной, побежали ручьи, ветки сосен стряхивали ватные хлопья, промытые зеленые иглы светились капелью. Володкин приподнялся, посмотрел назад, вслед товарищам. — Ничего, уйдут. Должны уйти, — сказал он вслух и улыбнулся. Немцы приближались. Сухая, короткая очередь точно уложила двоих. Остальные бросились на землю. Застучали винтовочные выстрелы. Володкин кричал, давал команды — будто не он один, а вся группа вела бой. А вражье кольцо сжималось все тесней и тесней. Разрывная пуля ударила в плечо. Вторая раздробила руку. Зубами подтягивая автомат за ремень, разведчик отстреливался. Но патроны в магазинах кончились, а новых набить он уже не мог. Сознание мутилось. Тогда Володкин вытащил из-за пазухи пистолет, сунул его в рот и уткнулся лицом в шапку… «Не услышат гады выстрела. Пусть думают, что я еще живой», — подумал он и, улыбнувшись сам себе, что вот опять перехитрил фашистов, нажал спусковой крючок… Немцы подошли не сразу. Долго присматривались, приподнявшись на локтях. Они боялись этого разведчика, который неподвижно лежал в кустах. Наконец осмелели. Бросились на него со всех сторон. Перевернули. Он был мертв. Кинулись к его вещмешку, и взрыв страшной силы разорвал тишину леса. Оставшиеся в живых дальше не пошли. Они и до этого уже сталкивались с десантниками. Эти парни в маскхалатах, внезапно появляющиеся там и здесь, сражались насмерть и, даже мертвые, убивали. Ревела, содрогаясь, земля. Гудело небо. Из-за Днепра во всю мощь била советская артиллерия, а самолеты один за другим сбрасывали на парашютах бойцов воздушно-десантных бригад. Удар наших войск по фронту был поддержан ударом крылатых пехотинцев с тыла. Крушились на дорогах гитлеровцев мосты, их нещадно уничтожали с неба штурмовики, горели в засадах фашистские танки. И, словно в сказке, будто прямо по воде, мчались советские бронемашины через невидимые переправы. Так началась великая битва, завершившаяся в начале ноября освобождением Киева, а еще спустя некоторое время — полной ликвидацией Корсунь-Шевченковской группировки врага. Здесь немцам был устроен новый Сталинград — так отмечалось в приказе Верховного Главнокомандования. В тот день, когда Москва салютовала войскам, освободившим столицу Украины, в Ирдынском болоте, как эхо московских пушек, прозвучал троекратный ружейный залп. Разведчики капитана Грачева прощались с боевыми друзьями, навсегда оставшимися на Правобережной Украине. Короткой стала цепочка бойцов, когда рота по узкой тропинке двинулась на соединение со своей бригадой. На самодельных носилках несли раненых. Среди них был и Андрей Лещилин. Он все не приходил в сознание, но у командира роты была карта с его пометками. Пахомов уточнил данные товарища. Сейчас старшина нес носилки и никак не хотел, чтобы его сменяли. А впереди цепочки, рядом с командиром роты, шел маленький солдат в шапке с красной звездочкой и гвардейским значком на новенькой гимнастерке: военная форма хранилась у капитана Грачева и один-единственный гвардейский значок взяли разведчики-десантники с собой на задание. Специально для своего боевого товарища, которого ласково называли Кузовок.Павел Багряк ОБОРОТЕНЬ (Приключенческая повесть)
Пролог
Событие, описанное в прологе, с очевидной бесспорностью наблюдал со стороны всевышний, на глазах которого вообще происходит все, что происходит. Но господь бог по старой традиции никогда не выступает в качестве официального свидетеля. Его невозможно пригласить в кабинет комиссара полиции Гарда и предложить рассказать все по порядку, предварительно угостив сигарой. Стало быть, если нет других свидетелей, лишь человеческое воображение способно воссоздать утраченную действительность. Картина не всегда будет совпадать в деталях с той, что была на самом деле, но так ли важны детали, когда речь идет о восстановлении целого? Итак, было то особенное время суток, о котором Земля узнала лишь с появлением цивилизации и которое всюду и везде называется часами пик. Прозвенели звонки, возвестив всем живым, что они свободны от работы. Разом открылись тысячи шлюзов, выплеснув наружу нескончаемый людской поток. Он мгновенно захлестнул русла центральных проспектов, растекся по каналам боковых улиц и разветвился многочисленными ручьями по переулкам. Если бы движение пешеходов поручили описать физику, он сказал бы, пожалуй, что в обычное время суток оно подчиняется распределению Максвелла: можно встретить и бегущих прохожих, и неподвижно стоящих перед витриной. В часы же пик человеческая река течет одним общим потоком: почти нет обгоняющих, нет и отстающих. В этот вечер один человек несколько выпадал из общего ритма. Он шел не торопясь, с трудом переставляя ноги. По виду он напоминал неудачливого коммивояжера, измотавшегося за день от бесплодных попыток сбыть свой товар, причем сходство с торговым агентом усиливалось еще тем, что в руках у человека был небольшой черный чемодан, в каком обычно носят образцы изделий. Обгоняя незнакомца, прохожие то и дело задевали его, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. Время от времени он поглядывал на часы, но, вместо того чтобы ускорить шаг, двигался еще медленнее. Наконец он свернул с главного проспекта на поперечную улицу, а затем углубился в лабиринт переулков. Чем больше он удалялся от центра, тем реже встречались ему прохожие. Скоро человек оказался в узеньком безлюдном переулке, неведомо как сохранившемся в этой части города. Это был тупичок, своеобразный аппендикс, притаившийся позади новых высоких зданий, укравших у него изрядную долю солнечного света. Здесь даже в ясный весенний день сизым дымом клубился сумрак, и от этого ветхие, все в пятнах сырости, покосившиеся домики казались еще более убогими и зловещими. Незнакомец несколько раз приостанавливался, пытаясь прочесть на фонариках номера домов. Наконец ему удалось разобрать номер, хотя цифры и были съедены ржавчиной. Тогда он уверенно, но с предосторожностями, как будто его подстерегал снайпер, направился к стоящему в конце тупичка трехэтажному особняку с обвалившимся карнизом. Переулок был в этот момент тих и пустынен, лишь в отдалении простучали кастаньетами чьи-то каблучки. Подойдя к подъезду и убедившись, что на лестнице никого нет, незнакомец торопливо поднялся на второй этаж и остановился перед дверью, на которой была прибита эмалированная табличка с цифрой «З». Вдруг где-то на третьем этаже скрипнула дверная пружина, и резкий мужской голос прокричал: — Паола, начинается! Незнакомец окаменел. Тот, кто звал Паолу, должно быть, не собирался долго ее разыскивать. Дверь наверху захлопнулась, и вновь воцарилась тишина. Незнакомец медленно вытащил из кармана черного плаща черные перчатки и стал натягивать их на руки. Делал он это весьма обстоятельно, расправляя каждый палец в отдельности. Трудно было понять, руководила ли им привычная аккуратность или желание хотя бы ненадолго, пусть на минуту, оттянуть главный момент. Затем он раскрыл чемодан, вытянул толстый резиновый шнур и, шагнув к двери, решительно прикрепил его свободный конец к скважине замка. Теперь он действовал точными, хорошо рассчитанными движениями. Проверив, хорошо ли держится шнур, незнакомец заглянул внутрь чемодана, повернул там какую-то ручку и, мгновение помедлив, нажал на кнопку звонка. За дверью проскрипели шаги. Низкий голос спросил: — Кто? — Телеграмма, — глухо ответил незнакомец. — Прекрасно, — сказал низкий голос. — Обождите минуту. — Паола! — вновь позвали наверху. — Ты идешь? Человек с чемоданом замер, вобрав голову в плечи. За дверью послышался характерный металлический звук: хозяин квартиры взялся за головку замка. И в то же мгновение человек на лестничной площадке быстро нажал внутри чемодана какую-то кнопку. В тишине дома отчетливо прозвучал короткий сухой треск, напоминающий звук разрываемого полотна. За дверью ему тотчас ответил вскрик и мягкий стук упавшего тела. Тогда незнакомец, не снимая перчаток, осторожно отцепил шнур, аккуратно защелкнул чемодан и быстрыми шагами стал спускаться по лестнице. Жалобно скрипнула парадная дверь. — Паола, да где же ты! — прокричал голос с верхнего этажа. — Я только что чуть не умер от страха! И все стихло. …Если бы у случившегося был живой свидетель, то даже он вряд ли смог предположить, что странное происшествие в заброшенном переулке послужит началом целой цепи невероятных событий.Две загадки в один вечер
Пока Фукс возился у запертой двери, комиссар Гард, облокотившись о перила, рассеянно наблюдал за тем, что происходит на лестничной площадке. Картина была привычной: там волновались жильцы, возбужденные приходом полиции. Их удерживали на почтительном расстоянии два агента, которые действовали с такой серьезной решительностью, как будто именно от них теперь зависела судьба расследования. Внимание Гарда неожиданно привлек один жилец, пожалуй, самый нетерпеливый в толпе. Он уже предпринял несколько отчаянных попыток прорваться ближе к двери, что-то объясняя агентам и жестикулируя правой рукой. Это был пожилой человек, худой и костлявый, в махровом халате, полы которого то и дело распахивались. Агенты, не меняя выражения лиц, что-то отвечали ему — вероятно, «не ведено» или «нельзя» — с тупым лаконизмом, свойственнымодной лишь полиции. Сделав знак Таратуре, Гард глазами указал ему на человека в махровом халате. Помощник с полувзгляда понимал комиссара, и через секунду махровый халат уже был по эту сторону границы. Не дожидаясь вопросов, он первым делом и не без гордости сообщил, что именно ему полиция обязана своим приездом. В подтексте это должно было означать, что теперь полиция напрасно не желает признать его право находиться в центре событий. Фукс еще колдовал у двери, а потому Гард располагал некоторым временем. Он не стал прерывать жильца, хотя, впрочем, тот и сам не собирался давать Гарду передышки. Азартный жилец сразу признал в нем «главного», хотя Гард был в обычном гражданском костюме, состоящем из серой пары, в мягкой серой шляпе и в плаще, который он сразу же по приезде снял и держал теперь на сгибе левого локтя. Но, очевидно, что-то специфическое было в его лозе, взгляде, спокойно и достойно приподнятой левой брови, во всем его облике и манере. Это специфическое выражение не было свойственно Гарду в обычной обстановке, оно волшебным образом появлялось лишь при исполнении служебных обязанностей, и Гард знал об этом, хотя и предпринимал иногда попытки сохранить цивильное «я» в служебные часы — увы, безуспешно. Закурив сигарету. Гард покорно слушал человека в махровом халате. Тот говорил: — Я только прилег, как вдруг слышу сквозь сон треск! Типичный осенний удар грома по двенадцатому разряду! Рвущееся полотно! Вы понимаете? И это — весной! Между тем готов провалиться сквозь землю, что в это время года гром бывает лишь шестого разряда, в крайнем случае не выше седьмого… — Какого седьмого? — недоуменно спросил Гард, переглянувшись с Таратурой, который в свою очередь, стоя за спиной жильца, повертел у виска пальцем. Человек в махровом халате будто и не слышал вопроса комиссара. Он продолжал: — Я вскочил. Прислушался… Тихо. Глянул в окно — небо чистое! Моя квартира стеной к стене соседа. Странный человек, но это уж ваша забота, господин комиссар. Тогда я выглянул на лестницу. Никого. Ну, думаю, опять приснилось. — Что значит — опять? — быстро спросил Гард, но и этот вопрос был оставлен без внимания. — И лег спать, комиссар. Глаза открыты. И тут меня вроде толкнуло! Ну не может гром по двенадцатому разряду быть весной! Не может! Накинул, простите, халат — и к телефону… — Одну минуту… — Гард тронул человека рукой за плечо и повернулся к Фуксу. — Что у вас? — Немного терпения, комиссар, — сказал Фукс. — Мне уже ясно, что семью семь — сорок девять. Гард улыбнулся: старик в своем репертуаре. Если он говорит «семью семь — сорок девять», дело идет к концу. — Так что же значит «опять»? — повернулся Гард к махровому халату, но того уже не было рядом. Странный жилец, жестикулируя одной рукой, повторял свой рассказ Таратуре, разумеется не зная, что помощник Гарда никогда не отличался изысканной вежливостью. — Вы мне мешаете, — сказал Таратура резко и отошел к Фуксу. — Надо поторапливаться, старина. Фукс поднял на Таратуру страдальческие глаза. — Чего только люди не придумывают, — сказал он мягко, с философскими интонациями в голосе, — чтобы усложнить мне работу! Как будто они не знают, что Фуксу уже не шесть лет и даже не шестьдесят, а хлеб не становится дешевле, чем был в Одессе, когда Фукс был ребенком. С этими словами он пристроил к замку очередную хитроумную отмычку. Упрямый замок не поддавался, но вдруг, будто из сочувствия к Фуксу, прекратил сопротивление. Внутри его что-то мелодично звякнуло. Дверь отошла на миллиметр, а Фукс осторожно взял Таратуру за локоть, предупреждая его намерение ринуться вперед. Агенты немедленно положили руки в карманы плащей, а человек в халате встал за спину комиссара Гарда. Когда Фукс ногой резко толкнул дверь, отпрянув при этом в сторону с легкостью и прытью, никак не свойственной семидесятилетнему старику, Гард увидел, как в дверном проеме промелькнуло сверху вниз что-то блестящее и с силой грохнулось об пол. Толпа жильцов, с трудом сдерживаемая агентами, откликнулась общим выдохом, а Фукс, присев на корточки, вроде бы разочарованно произнес: — Домашняя гильотина. Примитив. Затем он презрительным жестом провел рукой по отточенному до блеска краю серповидного металла: — Лично я был уверен, что нас польют из огнемета. По крайней мере, современно. Какие нервные люди живут в этой квартире, скажу я вам! Фонарь Таратуры осветил темную переднюю. Толпа на лестнице с новой силой подалась вперед. Гард первым переступил порог и наклонился над телом. Рядом опустился на корточки врач-эксперт. Вдвоем они осторожно перевернули труп на спину. — Здравствуй, Пит, — тихо и почему-то грустно произнес комиссар Гард, когда свет, включенный Таратурой, дал возможность разглядеть лицо мужчины. — Я знал, что рано или поздно нам предстоит такая встреча… Убит током? — Да, комиссар, — подтвердил врач. — По всей вероятности, через дверной замок. Ваш знакомый? — Пожалуй. Быть гангстером, доктор, тоже небезопасно. — Убийство совершено довольно распространенным способом, — заметил Таратура. — Подключение переносного разрядника. — Распространенным? — саркастически сказал Фукс, рассматривая в то же время входную дверь, обшитую изнутри стальным листом. — Это же не квартира, а настоящий блиндаж! Я уверен, господа, что в скором будущем убийства из-за угла начнут совершать с помощью индивидуальных мегабомб. — Попробуйте на зуб, — без улыбки посоветовал Таратура Фуксу, все еще ощупывающему дверь. — Шутите, молодой человек? — спокойно сказал Фукс, не отрываясь от дела. — А вы лучше спросите, почему я дожил до семидесяти лет и еще побываю на ваших похоронах, и я отвечу: потому что папаша Фукс всегда был любознательным человеком! Гард отошел в глубь комнаты, сопровождаемый экспертом. — Вы можете точно установить, когда наступила смерть? Врач пожал плечами: — Часа два-три назад. — Мне нужно точно. Эксперт промолчал. — Таратура, — сказал Гард, — где этот махровый халат? Искать обладателя халата не пришлось, он уже был рядом. Гард решительно подошел к нему: — Когда вы слышали треск? — Что? — наклонив голову, переспросил жилец. — Я спрашиваю: в котором часу вы проснулись от вашего грома по какому-то там разряду? — Я как раз прилег, — вновь начал жилец, как начинал не впервые в этот вечер, — и вдруг слышу сквозь сон… — В котором часу это было, черт возьми? — вмешался Таратура. Но Гард остановил поток красноречивых слов, уже готовых ринуться наружу после такого начала: — Спокойно, Таратура, он, кажется, глух как пень. — В таком случае, — резонно заметил Таратура, — как он мог слышать треск? И оба они внимательно посмотрели на хозяина махрового халата. Странный жилец тоже умолк, почувствовав какую-то неувязку, но лицо его сохраняло гордую улыбку, долженствующую, по-видимому, выразить его удовлетворение тем интересом, который он вызвал своей персоной у полицейских чинов. — Вы меня слышите?! — вдруг заорал Таратура в самое ухо жильца. — Да! — радостно воскликнул махровый халат. — Но вы глухой? — нормальным голосом спросил Гард. — Что? — спросил жилец. — Вы глухой?! — заорал Таратура. — Да! — не меняя радостной интонации, ответил жилец. — Как же вам удалось услышать треск, похожий на гром? — прокричал Таратура. Человек в халате закивал уже в середине вопроса, давая понять, что догадался, о чем его спрашивают. — Дело в том, — сказал он, — что я действительно ничего не слышу. Кроме грома. Я, видите ли, заведую громом на телевидении. Цех шумов. Двенадцатый разряд — это осенний гром, а тут положено не менее шестого, но и не более седьмого, который бывает лишь весной, и когда я услышал… — В котором часу? — перебил Гард, напрягая голосовые связки и показывая при этом для верности на свои часы. Хозяин халата развел руками, с беспокойством глядя на полицейских. Таратура с досадой махнул рукой. — Придется опрашивать жильцов, — сказал Гард. — Их все равно придется опросить. Займитесь, Таратура. Через десять минут помощник Гарда сообщил, что никто из жильцов не замечал сегодня ничего подозрительного. О треске или тем более о громе вообще никто понятия не имел. Правда, все единодушно утверждали, что следует поговорить с какой-то Паолой с третьего этажа, девчонкой шустрой и все примечающей. Гард поманил за собой Таратуру, и они поднялись вверх по лестнице. Из-за полуоткрытой двери одной из квартир доносились звуки телевизионной передачи. Таратура постучал, но никто не отозвался. Тогда они тихонько вошли внутрь. У телевизора, впившись глазами в экран, сидели двое: тоненькая черноволосая девушка и курчавый рыжеватый парень. На полицейских они не обратили никакого внимания, хотя не могли не заметить их прихода. Сейчас вся жизнь для них переместилась в плоскость телевизионной трубки. — Уголовная полиция, — сухо сказал Гард. Парень медленно повернул голову и посмотрел на комиссара затуманенным взором. — Какая уголовная! — сказал он полушепотом. — Это гангстеры из «Бурого медведя», разве вы не видите? Верно, Паола? — Конечно, — ответила девушка. — Это мы из уголовной полиции, — почему-то тоже полушепотом сказал Гард, но его уже никто не слушал. Комиссар никогда не смотрел гангстерских фильмов. Из принципа. Он считал их пародией на жизнь и на то серьезное дело, которым ему приходилось заниматься. И сейчас он лишь мельком взглянул на экран, успев увидеть серию пистолетных вспышек и множество тел, падающих на землю вокруг тонконогого парня в джинсах. В гораздо большей степени комиссара привлекло выражение лица Таратуры. Инспектор полиции, словно загипнотизированный, замер на месте, всматриваясь в экран. По лицу Таратуры можно было безошибочно определить все, что там происходит. Никогда бы Гард не подумал, что один из его ближайших помощников увлекается подобной ерундой. Наконец револьверная мелодия сменилась музыкальной. На экране вспыхнула реклама новых бездымных сигарет, и увлеченные зрители вернулись к действительности. Таратура смущенно посмотрел на своего начальника и, видимо желая исправить впечатление о себе, энергично двинулся к хозяину квартиры. — Мы из уголовной полиции, — произнес он громче, чем это требовалось. Парень и девушка переглянулись, но ничем не выразили своего удивления. «Фьють», — лишь тонко свистнула девушка. — К вашим услугам, — сказал парень, не двигаясь с места. — Вы не замечали чего-нибудь подозрительного в последние три-четыре часа? — спросил Гард. — Как же! — невозмутимо произнес рыжеватый парень, как будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. — Ровно в семь ноль-ноль на экране телевизора наблюдались сильные помехи. Секунд пить все мелькало, ничего нельзя было разобрать. — Вы точно помните время? — спросил Гард. — Еще бы, я заметил его специально. — Специально? Но для чего? — Ведь даже Паоле ясно, что такие помехи бывают в тот момент, — поучительным тоном сказал парень, — когда кто-то действует электрическим разрядником. — Возможно, с преступными целями, — вставила Паола. — Точно! — подтвердил парень. — Откуда вы это знаете? — удивился Гард. — Джо Слоу трижды пытались убить таким способом, — сказал парень. — Джо Слоу, комиссар, это тот парень в джинсах, — счел необходимым пояснить Таратура. — Поразительно! — только и смог сказать Гард. Оказывается, и гангстерские фильмы могут приносить пользу! Впрочем, кто может точно сказать, кому первому пришла в голову плодотворнейшая мысль приспособить для убийства современную технику: гангстерам или изобретательным авторам телевизионных фильмов? Как бы там ни было, а сейчас одной загадкой стало меньше. Спасибо Джо Слоу… Инспектор и комиссар вновь спустились на второй этаж, где все еще хозяйничала полиция. Двое агентов рылись в письменном столе убитого, а третий разговаривал с кем-то по переносному радиотелефону. — Вот что, Таратура, — распорядился Гард. — Берите Джонстона и немедленно отправляйтесь на квартиру Эрнеста Фойта. Знаете, где это? Таратура кивнул: — Еще бы! — Как только он появится, везите его ко мне. — Вы думаете, комиссар… — Почерк не его, но они давно конкурируют. Власть в корпорации можно было поделить только таким способом. — Пожалуй, — согласился Таратура. — Комиссар, — вмешался один из агентов, — сегодня у нас с вами будет веселая ночь: еще одно происшествие. Обстоятельства чрезвычайно загадочные… «Загадочные»! — повторил про себя Гард, беря трубку переносного телефона. Если говорить откровенно, по-настоящему комиссара полиции Гарда интересовала лишь одна загадка: дата собственной смерти. — Старина, — услышал Гард в трубке голос своего давнего друга, дежурного инспектора, — сегодня мы, кажется, выполним недельный план, если все пойдет так, как началось. — Чем ты хочешь меня порадовать? — спросил Гард. — На даче, что по шоссе в сторону Вернатика, в пятидесяти километрах от города придушили парня. — Почерк знакомый? — В том-то и дело, комиссар, что из трех миллионов жителей города такой грубой работой могли бы похвастать почти все. — Худо, худо, — сказал Гард. — Вот что, Роберт, с меня хватит того, что есть, а на дачу пошли… ну, хоть бы Мартенса. Он у тебя под боком? — В баре. Ты думаешь, справится? — Если дело обстоит так, как ты говоришь, то у него не меньше шансов, чем у меня. Дай ему с собой собак и десяток агентов. Больше ничего нет? — Слава богу! — Да, Роберт, а кто убит? — Сейчас гляну. — Прошло секунд пять. — Какой-то Лео Лансэре, тридцать два года. — Кто он? — Сотрудник Института перспективных проблем. — Да? — На этот раз паузу выдержал Гард. — Подожди, Роберт, это несколько меняет картину. Дай мне подумать. Гард почесал трубкой затылок. Институт перспективных проблем был давно известен комиссару еще по делу профессора Миллера, и по делу, связанному с пропажей Чвиза, и по убийству Кербера — короче говоря, если бы у Гарда спросили, какие люди или организации причиняли ему наибольшее количество хлопот, он, не задумываясь, ответил бы: притон госпожи Биренштайн, в котором периодически собирались все крупные гангстеры страны, и Институт перспективных проблем. Впрочем, Гарду было уже не двадцать пять лет. Пора бы и утихомириться — такое решение подсказывало элементарное благоразумие, но там, где начиналось благоразумие, кончался комиссар Гард. — Роберт, ты меня слышишь? Давай Мартенса сюда ко мне, здесь его встретит Джонстон и все объяснит, а я сам поеду к этому, как его… — Лео Лансэре, — подсказал Роберт. — Ну и прекрасно. Высылай тогда собак, а количество агентов уменьши вдвое. Ясно? — Как Божий день. Гард выключил рацию. Таратура уже был готов двигаться дальше, он все понял и без специального разъяснения, и у него, как и у Гарда, забилось сердце и ноздри раздулись в предвкушении охоты. Таратура однажды чуть не лишился жизни из-за этого дурацкого Института перспективных проблем, не говоря уже о том, что по природе своей он был азартный игрок. В течение трех минут Гард отдал необходимые распоряжения и вышел, сопровождаемый Таратурой. Получасом позже черный «ягуар» комиссара уже тормозил у въезда в загородную дачу. Здесь царила атмосфера, характерная для подобных случаев, но она не способна была удивить Гарда или хоть как-нибудь возмутить его профессиональное спокойствие. Небольшой темный двор был освещен фарами полицейских машин, успевших прибыть чуть раньше комиссара. Слышался приглушенный говор множества людей, тот самый, который режиссеры кино называют «гур-гуром». Ходили полицейские в штатских костюмах, хлопали двери, работали видеокамеры, вероятно снимающие все подозрительное, что бросалось в глаза. И между тем Гард знал, что где-то там, в доме, есть комната, в которую никто не входит — по крайней мере с тех пор, как туда вошел убийца, а затем первый обнаруживший преступление человек. Там покойник. Все разложено на столе в полном порядке, не сдвинута мебель, не перевернуты бумаги, нет никаких пятен крови — никаких следов борьбы. Гард тут же оценил это обстоятельство, стоя у порога, еще не переступив его. Молодой человек, неестественно высоко закинув голову за спинку кресла и вытянув вперед ноги, сидел перед своим рабочим столом. Глаза были открыты. Их стеклянный взгляд произвел на комиссара неприятное впечатление: это были глаза самоубийцы, отлично знающего, на что он идет, и принимающего смерть как должное. Но вот — открытое окно, порванная штора, грязные следы на подоконнике: через это окно ушел убийца. Он действовал в перчатках, это видно по расплывшимся следам на шее у погибшего, но действовал грубо, прямолинейно, решительно. Лео Лансэре не успел, вероятно, даже привстать с кресла, к нему подошли сзади и без слов схватили за горло. — В морг, на вскрытие, — коротко приказал Гард. — Кто из свидетелей есть в доме? — Вас ждет супруга убитого, — сообщил агент. — Она в соседней комнате. Говорит, что знакома с вами. «Возможно, — подумал Гард, направляясь в указанную ему комнату. — Хотя, впрочем, чем выше занимаемый пост, тем меньше знакомых…» На низкой кушетке полулежала женщина, которой на вид можно было дать не менее сорока лет. Комиссар сразу узнал ее и тут же понял, что час мучительных переживаний на целые годы состарил лицо этой миловидной дамы. — Луиза? — сказал Гард, подходя и присаживаясь на край журнального столика. — Меньше всего ожидал встретиться с вами после дела Кербера… Ну успокойтесь, не надо плакать, теперь уж ничего не исправишь. «Напрасно, напрасно я все это говорю, — подумал про себя Гард. — Ее ничто сейчас не успокоит. Бедняжка…» С момента их последней встречи прошло не менее пяти лет. И — нате вам, такая неожиданность: Луиза — супруга Лео Лансэре! Н-да, человечек она не простой, быть может, несколько авантюрный. Но сейчас, в эту минуту. Гард был далек от подозрения, видя распухшее от слез лицо Луизы. — Я пришла к нему в комнату… — начала было рассказывать женщина, но Гард остановил ее: — Не надо, Луиза, вам следует прийти в себя, успокоиться, потом поговорим. Луиза несколько раз всхлипнула, тяжело вздохнула и вдруг резко села на кушетке: — Комиссар, я, кажется, знаю, кто это сделал! — Спокойно, спокойно, Луиза, я никуда не тороплюсь, — сказал Гард. У него был неисчерпаемый запас доброжелательности. Другой полицейский, зная прошлое Луизы, немедленно «взял бы ее на мушку», как говорил покойный Альфред Дав-Купер. Но за тем пределом доброжелательности, за которым у прочих людей начинается подозрительность, у Гарда еще был кусочек терпения. — Не надо, Луиза, я никуда не тороплюсь, — еще раз сказал Гард.Дневник
Было за полночь. Чистое ночное небо заволокли тучи, и по стеклам застучал совсем не весенний дождь. Гард сидел за столом и молча рассматривал толстую тетрадь — записи Лео Лансэре, найденные в одном из ящиков стола среди бумаг. Мягко светила неяркая лампочка под зеленым колпаком. В гостиной, обставленной с довольно наивной претензией на шик, затаилась тишина, и можно было подумать, что комиссар полиции проводит в этом уютном местечке свой очередной уик-энд, если бы не полицейский, стоящий неподвижно у окна, и еще один — у двери, и еще трое, сидевших в креслах, расставленных по темным углам. И еще оцепеневшая Луиза, сжавшаяся в комочек на диване. Пожалуй, больше ничего не напоминало о трагедии, разыгравшейся здесь несколько часов назад. Комиссар вновь попробовал представить себе, как это было. Неизвестный неслышно проник в кабинет, подкрался к сидевшему за письменным столом Лансэре и сомкнул на его горле пальцы в перчатках. Через какие-то мгновения Лансэре исчез, остался лишь труп, безразличная ко всему мертвая оболочка. И в это время за дверью неизвестный услышал шаги — это были шаги Луизы. Что еще успел сделать убийца за те секунды, которые понадобились Луизе, чтобы открыть дверь? Неизвестно. Во всяком случае, Луиза увидела только, как он выпрыгивал в окно и как его длинная тень скользнула по слабо освещенному двору. Долго ли преступник находился в кабинете? Три минуты, час, сутки? Пришел, чтобы убить, или долго сидел, спрятавшись за портьерой, и терзался сомнениями? К сожалению, обо всем этом Гард не мог знать. Следов убийцы не было. Никаких. Даже на клумбе, что была внизу под окном. Очевидно, убегая, он сумел сразу допрыгнуть до твердой каменистой дорожки. Ну что ж, довольно сложный прыжок уже можно расценивать как своеобразную улику, как чрезвычайно слабый, но все же след! И еще одна загадка. Убийца ничего не взял: ни денег, что лежали в незапертом ящике письменного стола на самом верху, ни дорогого обручального кольца с пальца жертвы, ни даже крохотной гравюры кисти Реальда Кира. Впрочем, одну вещицу преступник все же захватил с собой: старинные карманные часы, напоминающие по форме луковицу. Это была сущая безделушка, не имеющая никакой стоимости, — память о деде Лео Лансэре, который несколько десятков лет назад еще пользовался этой серебряной луковицей. Пропажу часов довольно скоро обнаружила Луиза, после того как комиссар попросил ее внимательно осмотреть все вещи и предметы, находящиеся в комнате. Она бы не заметила и этой ничтожной пропажи, если бы не знала о том, что покойный последние три-четыре месяца играл часами, как играют малые дети. Зачем убийце понадобилось это старье? Возможно, часы просто попали ему под руку, а большее опустошение он не успел сделать, напуганный приходом Луизы? Или это был трюк, долженствующий своей алогичностью увести полицию на ложный путь расследования? Или, преследуя какие-то особые цели, личные или политические, преступник имитировал ограбление, — и такое бывало в практике Гарда. Увы, обо всем этом можно только гадать без всякой надежды на успех. Вот только дневник Лео Лансэре, о существовании которого не знала даже Луиза, — быть может, он прольет какой-нибудь свет на происшедшее? Гард подвинул тетрадь поближе и открыл первую страницу.«15 апреля 19… года. Я начинаю дневник, — прочел комиссар слова, написанные твердым, четким почерком. — Я начинаю его, потому что боюсь: меня убьют. Если это произойдет, пусть мои записи послужат предостережением…»Гард поднял голову: — Скажите, Луиза, у вашего мужа есть сейф? Луиза пошевелилась в своем углу, потом до комиссара донесся ее тихий голос: — Нет, комиссар, но некоторые документы или еще что-то он запирал в левом ящике стола. Этот ящик несгораем. — А ключ? — Всегда носил на шее, вы же видели, иначе мы не открыли бы ящик. — Благодарю вас, Луиза. Простите, что я вынужден иногда задавать вам такие вопросы… Кстати, вы знали, над чем работал ваш муж? Луиза помолчала. — Нет, комиссар, — наконец сказала она, — свои занятия он держал от меня в секрете. — Только от вас? — Не знаю. — А вы давно покинули институт? — На днях нашему сыну исполняется четыре года. Значит, пять лет назад. — И ни с кем не поддерживали никаких отношений? Женщина вдруг заплакала. Гард встал и подошел к ней ближе. — Вы меня в чем-то подозреваете, комиссар? — сквозь слезы сказала Луиза. — Зачем же так категорично? Я просто помогаю вам вспомнить нечто, что может помочь мне. Луиза вытерла слезы, немного успокоившись: — Я знаю кое-кого из сотрудников Лео и его шефа. — Ну хорошо, Луиза, благодарю вас. Гард вернулся к столу и стал читать дальше:
«Это волновало меня давно. Почему один человек легко сочиняет стихи, другой умеет рисовать, третий оперирует сложнейшими формулами, а мне все это никогда не дано испытать? Я знаю математика, способность которого ориентироваться в неразберихе абстрактных символов просто поразительна. Как он это делает? Величайшая, непостижимая тайна другой личности! Я думал об этом много, но только сейчас нашел путь. Кажется, верный. Бинарная сигма-реакция с четырехмерной переориентацией унитарных триплексов!..»— Луиза, что такое триплексы? — спросил Гард. — Простите, комиссар, но этого я тоже не знаю.
«Я убежден, что именно в этом все дело, — читал дальше Гард. — Сегодня приступаю к опытам. При этом отчетливо сознаю, чем мне это грозит. Но я вступил на этот страшный путь и пройду по нему до конца. Если со мной что-либо случится, дневник кое-что объяснит. Разумеется, все, что я напишу в этой тетради, будет записано с помощью терминов, значение которых известно только мне. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог повторить мои опыты. Это слишком опасно. Но я знаю, что когда-нибудь люди научатся расшифровывать любые загадки. К тому времени человечество будет гуманным, ему не страшна станет даже моя раскрытая тайна. Тебе я пишу, завтрашний день мира!»«Он не лишен сентиментальности, — подумал Гард, переворачивая страницу за страницей. — Но какова же его тайна, черт возьми? И способно ли ее раскрытие пролить хоть капельку света на Преступление?» Дальше, почти на десяти или пятнадцати страницах, шло подробное описание каких-то непонятных Гарду экспериментов. Значки, цифры, формулы, иносказания, восклицательные и вопросительные знаки, странные термины… Наконец, ближе к концу появились записи, которые Гард назвал про себя «человеческими».
«Сегодня Он поинтересовался, чем я занимаюсь дома и по вечерам в лаборатории. Я что-то ответил, скорее всего невразумительное, и Он, конечно, стал что-то подозревать. К сожалению, у меня нет другого выхода: эти опыты я могу ставить только в лабораторных условиях, а Он редко уходит раньше меня».Затем снова шли цифры и формулы, и каждый столбик венчался лаконичным: «Провал», «Провал», «Провал!», «Провал!!» И наконец:
«Кажется, придется посвятить Его в мои дела. Детали и самое главное останутся известны только мне, и без меня Он все равно ничего не сможет сделать. Но основную идею придется Ему сообщить. Мне необходима Его помощь, хотя я прокляну тот момент, когда увижу его кривую улыбку, обращенную ко мне после признания!»Последние три страницы состояли из одних цифр и знаков. Последняя страничка содержала две лаконичные записи:
«Я сказал Ему. Он вникнул. Он дал совет. Я олух! Как я не сообразил, что сигма-реакцию надо вести в отрицательном режиме! Я попробую. Но теперь Он знает почти все… Попробовал. Получилось!!! Правда, не совсем то, на что я рассчитывал, но все равно грандиозно! Люди, вы нашли то, что всегда искали и чего всегда боялись!!! Я могу дать вам в руки надежду и страх!»На этом дневник обрывался. Гард в задумчивости поднял голову, посмотрел в темень за окном, прислушался к перестуку дождевых капель о карниз. Что прибавило ему чтение дневника, осложнило или облегчило решение загадки? Ясно, что убийца не был случайным человеком, он действовал умышленно, заранее обдумав преступление. Его целью могло быть либо устранение конкурента, либо завладение самим открытием, что, впрочем, не исключало и убийство Лео Лансэре. В таком случае преступник должен был знать о дневнике или предполагать, что запись экспериментов ведется. Если так, он должен был более тщательно подготовить свою акцию, но почему-то не подготовил, если дневник сейчас находится не у него, а в руках комиссара Гарда. Стало быть, либо преступник действовал неумело, либо ему помешали довести задуманное до конца. Но если помешала Луиза — а кроме нее и спящего ребенка, в доме никого не было, — матерый преступник пошел бы еще на одно убийство, благо цель у него была безмерной важности. Почему же удрал, испугавшись слабой женщины? А если не хотел ее убивать, то лишь по одной причине: действовал с ней заодно. С другой стороны, если они были в сговоре, то почему не воспользовались ключом, о существовании которого Луиза знала? «Стоп, пора остановиться в своих подсчетах, — решил Гард. — Вариантов так много, что дальнейшие рассуждения лишь принесут вред». Он внимательно осмотрел ящик стола. Ни царапин, ни трещин, никаких следов, говорящих о попытке открыть ящик без помощи ключа. Ну-с, а что же Луиза? Гард поднялся и вновь подошел к кушетке. — Вы уверены, Луиза, что ваш муж всегда носил ключ на шее? — Как носят крест верующие, — сказала Луиза. — Вы когда-нибудь сами открывали этот ящик? — Нет. — И вас не интересовало, что там лежит? — Простите, комиссар, но я никогда не ревновала Лео. «Н-да, — подумал Гард, — она непробиваема». — В таком случае я прочитаю вам его дневник. Женщина всплеснула руками: — Не надо, комиссар, умоляю вас! Мне кажется, там написано нечто такое, что может изменить мое мнение об отце моего ребенка! Умоляю вас, комиссар, если я права, дайте мне возможность сохранить о муже самые добрые воспоминания! — О нет, Луиза, не беспокойтесь, там нет ни слова из того, что вы сейчас придумали. Там всего лишь описание опытов… — Они меня уже давно не интересуют, комиссар. — Ну что ж, прекрасно. Тогда перечислите мне всех сослуживцев супруга по лаборатории, которых вы знаете. — Начать с шефа? — Как вам угодно. Выражение лица Луизы стало жестким и неприятным, но ровно через секунду оно приняло свое обычное выражение. — Профессор Грег Грейчер, — лишенным окраски голосом произнесла Луиза. — Научный сотрудник Берток, научный сот… — Минуту, — прервал Гард. — Скажите откровенно: вы не любите шефа? Луиза молчала. — Вы боитесь его? — быстро спросил Гард. — Ну, отвечайте, отвечайте же! — Да, комиссар. Боюсь и не люблю. — Почему? — Не знаю. Наверное, из-за того, что так же к нему относился Лео. — А Лео почему? — Не знаю. — Как называл шефа ваш супруг? — спросил Гард. — Шефом. — А по имени? — Иногда по имени. — А говорил о нем «он» или «ему», «его»? — Не понимаю. — Ну, он с удовольствием произносил его имя? — Вы шутите, комиссар? Гард умолк. Ему казалось, эта женщина искренне стремится помочь, и между тем где-то подсознательно у комиссара вновь возникла мысль о ее непробиваемости. — Ладно, Луиза, оставим этот разговор. Последний вопрос: шеф бывал когда-нибудь в этом доме? — Нет, комиссар. Во всяком случае, при мне. И Лео никогда не говорил о его визитах. — Вы очень устали? — Да. — Джонстон, проводите Луизу в спальню. — Я хотела бы остаться здесь, комиссар. — Пожалуйста. Спокойной ночи. — Гард направился к двери, увлекая за собой полицейских агентов. Остановившись в дверях, он в последний раз повернулся к Луизе: — Прошу прощения, Луиза, но вы когда-нибудь видели, как улыбается шеф? — Не помню. — Не так? — И Гард скривил губы в улыбке. Луиза долго глядела на комиссара недоумевающим взором, а потом тихо произнесла: — Я не хочу вас обидеть, комиссар, но вам не кажется, что вы ведете себя глупо? Быть может, впервые за сегодняшний вечер комиссар Гард смутился. Он убрал кривую улыбку со своего лица и, пробормотав какие-то извинения, вышел из комнаты. Впрочем, дойдя до машины, он уже был самим собой и даже успел представить себе почтенного профессора Грега Грейчера, душащего своего ассистента, а затем выпрыгивающего в окно. Малая правдоподобность картины не ухудшила настроения комиссара. «Чем больше тайн и загадок, тем проще их решение». Он уже давно понял справедливость этой мысли, высказанной еще Альфредом Дав-Купером.
Алиби
Профессор Грег Грейчер встретил комиссара, стоя посреди обширного кабинета, почти сплошь устланного мягкими коврами и со всех сторон заставленного книжными полками. — Комиссар полиции Гард, — представился вошедший. — Чем могу служить? — сухо произнес профессор. Гард рассыпался в извинениях. В кабинете была зажжена большая люстра под потолком, два настенных бра и еще настольная лампа. «К чему такая иллюминация? — успел подумать Гард. — Возможно, профессор специально хочет подчеркнуть, что абсолютно чист: так сказать, смотрите, мне скрывать нечего. Или он просто боится сумрака? И в том и в другом случае это подозрительно. В усиленном освещении „сцены“ есть нечто театральное, а театральное в жизни всегда нарочито. Что же касается страха перед темнотой, то для человека, только что совершившего преступление, такой страх вполне закономерен. Впрочем, — тут же остановил себя Гард, — я почему-то для себя решил, что Грейчер — преступник, а это еще слишком преждевременный вывод. В конце концов, есть тысяча причин, по которым можно включать все лампы в собственном кабинете». — Только, пожалуйста, говорите тише, — все с тем же недовольным, почти брезгливым выражением лица произнес Грейчер. — Жена и дочь уже спят. Правда, они в дальних комнатах, но я не хотел бы их случайно потревожить. Так в чем дело, комиссар? Грейчер не предлагал Гарду сесть и продолжал стоять сам, как бы подчеркивая этим, что рассчитывает на кратковременность визита. И поскольку Гард не торопился задавать вопросы, профессор откровенно нервничал, что показалось Гарду естественным. Грейчер явно успокоился лишь тогда, когда комиссар, попросив разрешения закурить сигарету, спросил его о Лео Лансэре. Сотрудник лаборатории Лео Лансэре? Что ж, талантливый молодой человек, хороший ученый, подает большие надежды. О нем профессор не мог сказать ничего плохого. Аккуратен, исполнителен, отлично выполняет любое задание. Это все, что интересует комиссара полиции? — У Лансэре самостоятельная научная тема или он только ваш ассистент, профессор? Грейчер снисходительно улыбнулся, и Гард с некоторым неудовольствием отметил, что улыбка профессора вполне нормальна. — Должно быть, комиссару полиции неизвестно, — сказал Грейчер, — что в институте собственные темы имеют только руководители лабораторий. Когда Лансэре дорастет до самостоятельной работы, он, вероятно, тоже получит свою лабораторию. Однако… — Благодарю вас, я действительно этого не знал, — с невинным видом признался Гард. — Но я имею в виду ту работу, которой сотрудники посвящают свое свободное время. Признайтесь, профессор, ведь вы по ночам тоже занимаетесь чем-то для души? Вот и сегодня, например? У вас освещение как при киносъемке. — Одни любят темноту, другие свет. А ночные дела моих сотрудников меня не интересуют. «Так, — отметил про себя Гард. — Ложь номер один». — А в связи с чем, позвольте спросить, вас интересует Лео Лансэре? — несколько запоздало поинтересовался профессор. И комиссар не преминул отметить, что это опоздание могло быть вызвано как естественной тактичностью интеллигентного человека, так и боязнью проявить слишком большой интерес к опасной теме. — Я хотел бы знать, господин профессор, — сказал Гард все тем же почтительно-просительным тоном, которого он придерживался с самого начала, — где вы были сегодня вечером между девятью и десятью часами? Разумеется, — добавил он, — я приношу свои искренние извинения за столь бесцеремонный вопрос, но такова моя служба. — Я не даю отчета даже собственной жене, — резко сказал Грейчер, но тут же взял себя в руки. Разумеется, он ответит на вопрос, если комиссар настаивает. — Дело в том, — профессор вновь улыбнулся, на этот раз смущенно, — что в интересующие вас часы я находился в клубе «Амеба», где — ради бога, не удивляйтесь — играл в вист. Вист — моя страсть. И короткая вспышка профессора, и то, как он сдержал себя и как ответил, — все это выглядело естественно. Из абстрактного «подозреваемого» профессор все более превращался в живого, нормального человека. — Ну что ж, — мягко сказал Гард, — я не могу вам не поверить, но вынужден, к сожалению, задать еще вопрос: когда вы вернулись домой? Про себя же Гард подумал, что если профессор все же противник, то противник, бесспорно, умный и отлично владеющий собой. — Я вернулся домой… — профессор задумался, припоминая, — около десяти часов. Из клуба же уехал в половине десятого, если это вас интересует. — Кто может подтвердить ваши слова? — Они нуждаются в подтверждении, комиссар? — искренне удивился профессор. — До сегодняшнего вечера все верили, что если я говорю, то говорю правду. — И я не смею не верить. Отнеситесь к моим сомнениям как к чистой формальности. Грейчер вновь задумался. — Слава богу, — сказал он, — что в вист одному играть невозможно. Иначе вы поставили бы меня в затруднительное положение. Со мной за столом сидели… И он назвал несколько фамилий, небезызвестных комиссару Гарду. — Надеюсь, вы найдете достаточно тактичный способ расспросить этих людей, дабы не бросать на меня тень подозрений, не знаю уж, право, в связи с чем? — Можете не беспокоиться, профессор, — сказал Гард. — А когда вы пришли в клуб? — Приблизительно около девяти… — Профессор снова задумался, и это раздумье тоже было естественным. Итак, ясно: у профессора Грега Грейчера абсолютно надежное алиби, поскольку убийство Лансэре произошло между девятью и десятью вечера. И ведет он себя без тени волнения. Гард невольно взглянул на руки собеседника. Руки часто выдают то, что удается скрыть поведением, голосом и выражением лица. Но руки профессора с длинными, тонкими пальцами скрипача спокойно отдыхали на спинке кресла. Трудно было представить себе, что эти музыкальные пальцы несколько часов назад сжимали смертельной хваткой горло человека. — Вы не играете на скрипке, профессор? — спросил вдруг Гард. — Простите, комиссар, — холодно ответил Грейчер, — но мне надоела наша беседа. В чем, наконец, дело? «Пора сказать», — решил Гард. Он сделал шаг по направлению к Грейчеру и, глядя ему прямо в глаза, произнес: — Дело в том, что четыре с половиной часа назад у себя на даче был убит Лео Лансэре. Да, Грейчер побледнел. Но это еще ни о чем не говорило. Как иначе мог вести себя профессор, выслушав сообщение о трагической гибели своего ассистента? — Как это произошло? — глухо спросил Грейчер. — Его задушили. — Кто? — Я скажу вам об этом чуть позже. — Но вы-то знаете кто? Гарду показалось, что где-то в глубине глаз профессора мелькнуло нечто похожее на беспокойство. Быть может, только показалось? — Простите, профессор, но мое служебное положение позволяет задавать вопросы, а не отвечать на них, — сказал Гард. — Возможно, мне еще придется прибегнуть к вашей помощи. — Буду рад, — сухо ответил Грейчер и вновь улыбнулся, и холодные мурашки пробежали по спине комиссара Гарда: саркастическая кривая улыбка на мгновение сделала лицо профессора неузнаваемым. Не всегда человек способен определить, какими путями приходит к нему та или иная мысль. Далеко не во всех случаях счастливая мысль всходит на дрожжах логики, иногда она возникает сама собой, внезапно, подобно вспышке молнии, а иногда ее формируют сложные и отдаленные ассоциации. Гард уже собрался было переступить порог кабинета, как вдруг что-то заставило его обернуться. Профессор Грейчер стоял на том же месте, полный спокойствия. Лицо его ничего не выражало. Оно было непроницаемо холодным. И тем не менее Гарда словно обожгло. «Грег Грейчер, вы — убийца!» — чуть не сказал он, совершенно уверенный в непостижимой справедливости этих слов. Снова черный «ягуар» стремительно промчался по пустынным ночным улицам города, тревожно подмигивая оранжевым сигналом, установленным на крыше. В кабинете комиссара уже был Таратура. Гард, не снимая плаща, уселся в кресло, затем вопросительно взглянул на инспектора. Таратура утвердительно кивнул. — Разумеется, ты ему ничего не сказал? — на всякий случай спросил Гард. — Конечно, сэр. — Ну что ж, приступим к загадке «номер два»? Или, если считать в порядке поступления, «номер один»? Через минуту в кабинет входил невысокий человек лет сорока пяти, одетый с подчеркнутой небрежностью преуспевающего бизнесмена. Это был Эрнест Фойт. Не дожидаясь приглашения, он опустился в кресло напротив комиссара, любезно кивнул ему. Эрнест Фойт вел себя так, словно явился на свидание с близким другом. Они и в самом деле были довольно хорошо знакомы — полицейский комиссар Гард и глава одной из самых влиятельных гангстерских корпораций Эрнест Фойт. Странные между ними сложились отношения. Гард отлично знал, кто такой Фойт, но вот уже десяток лет ничего не мог с ним поделать. Сам Фойт не нарушал законов. Ни поймать его за руку, ни доказать его связи с людьми, совершающими дерзкие и крупные преступления, полиция не могла, хотя все отлично понимали, что сценарии преступникам писал Эрнест Фойт. Сперва эта гримаса правопорядка выводила Гарда из себя, но постепенно он привык к Фойту, как привыкают к неизбежному. Комиссар и Фойт с некоторого времени стали относиться к сложившемуся положению с известным юмором. — Вот что, старина, — сказал Гард, — возникла ситуация, при которой мне придется снова пощекотать вам нервы, вы уж простите. Фойт поклонился, приложив руку к груди: вхожу, мол, в ваше положение, комиссар, и выражаю искреннее сочувствие. — Сигарету? — любезно предложил он комиссару, щелкнув массивным золотым портсигаром. — Если не ошибаюсь, вы курите «Клондайк»? Гард с удовольствием принял сигарету, предложенную Фойтом. — Что же касается щекотки, — добродушно улыбаясь, продолжал Фойт, — то я не против. Надоела пресная жизнь, комиссар! Но, полагаю, вы не забыли, что всякий раз, когда вы щекотали мне нервы, расстраиваться приходилось вам? — Увы! — вздохнул Гард. — И все же я надеюсь, что подберу к вам ключик. Вдруг сейчас, а? — Ах, комиссар, — укоризненно улыбнулся Фойт, — проходит время, а вы все еще очень молоды! Не знаю, что у вас сегодня случилось, но я в этом не виноват. — А я разве что-нибудь сказал? — в тон Фойту произнес Гард, улыбаясь. — Но не буду интриговать понапрасну. Сегодня вечером был убит — скрывать все равно нет смысла, крепись, старина! — Пит Морган. Фойт не скрывал своей радости. — Комиссар! — воскликнул он, приподнимаясь с кресла. — Ваши люди привозят меня сюда, я жду несколько часов, думаю богзнает о чем, а вы скрывали так долго приятную новость! Нехорошо. Быть может, это и не по-христиански, но лучшего подарка вы не могли бы мне преподнести. Я слишком уважаю вас, комиссар, чтобы сказать по этому поводу что-нибудь другое. Гард молча выслушал тираду Фойта. Когда тот умолк, комиссар с величайшим вниманием стал разглядывать свои ладони. Словно бы между прочим сказал: — А теперь, Эрнест, я хотел бы услышать от вас четкое и ясное изложение вашего алиби. — Вы плохо ко мне относитесь, комиссар, — серьезно сказал Фойт. — Неужели вы до сих пор не оценили мои умственные способности и сообразительность по достоинству? — Что вы имеете в виду? — Я с удовольствием изложу свое алиби, но предварительно хотел бы знать, когда именно мой бедный друг Пит Морган покинул этот грешный мир. Вы, разумеется случайно, забыли сообщить мне часы. — Это случилось, Эрнест, ровно в семь вечера. — Прекрасно. Пит благороден, как всегда: он умер в тот самый час, когда я был вне всяких подозрений. Итак, комиссар, записывайте. В четыре дня у меня было совещание. В пять я просматривал заказной фильм, — кстати, он был бы полезен и вам, поскольку касается вашей профессии. Что же потом? Ну конечно. Пит — истинный джентльмен! Фойт с детской улыбкой посмотрел на Гарда. — У меня не очень много времени, Эрнест, — спокойно произнес комиссар. — Прошу прощения. Так вот, от шести до восьми вечера я сидел в кафе «Золотой лист» и пил… Если потребуется, я могу припомнить, что именно я пил, комиссар. — Лучше припомните с кем. — Подтвердить это обстоятельство может, например, Билл, но вы ему не поверите. Филе тоже не годится в свидетели. Верно я говорю, комиссар? — Я жду, Эрнест. — Прошу прощения. — Фойт галантно поклонился, явно издеваясь над Гардом, который уже понял, что ключика к Фойту и на этот раз не будет. — О, как же я мог забыть! У меня есть отличный свидетель. Надеюсь, вы доверяете Хьюсу? Гард посмотрел на собеседника, прищурив глаза. — Но, если вас устроит Круазо, я могу ограничиться им. Круазо был хозяином «Золотого листа», Гард знал этого человека. — Такой ход не по правилам, Эрнест, — сказал он. — Продолжайте разговор по поводу Хьюса. — Надеюсь, вы ему потом скажете, что сами вынудили меня прибегнуть к его помощи? Отлично! Со мной за столиком сидел почтенный Хьюс. Гард поднял телефонную трубку: — Хьюса. Алло? Это я, Гард. Ты уже протрезвел, Хьюс? Хм, тебе уже пора привыкнуть к тому, что я всегда все знаю… Что?! В порядке служебных обязанностей?! Допустим, ты был в «Золотом листе» по служебным делам. Когда? Так. Прекрасно: мой агент пьет за одним столиком с Фойтом. Поздравляю! Комиссар бросил трубку. «Еще одно алиби, — тоскливо подумал он. — Хорошенький вечерок!» Фойт внимательно глядел на задумавшегося комиссара, чуть-чуть покачивая носком ботинка. Гард думал долго, и Фойт успел несколько раз переложить ногу на ногу. Он очень не любил, когда комиссар умолкал. Он вообще не любил молчащих людей, угадывая большую опасность в них, нежели в говорящих. Кто его знает, что творится в голове молчащего человека, какие логические выкладки он там делает, к какому выводу придет? Когда же мысли человека на кончике языка, живется много спокойней, не говоря уже о том, что мысли вслух дают возможность подготовить достойный ответ… Гард думал. Он думал о том, что слишком надежное алиби не менее подозрительно, чем его отсутствие. Надо же устроиться так, чтобы в момент убийства Пита Моргана сидеть в кафе за одним столиком с самым верным агентом Гарда! Алиби Грейчера тоже непробиваемо, хотя… хотя от сотрудников Института перспективных проблем можно ожидать всего, чего угодно. — Только умоляю вас, комиссар, не увольняйте Хьюса, — сказал вдруг Фойт, не выдержав гнета молчания. — И не подумаю, — спокойно сказал Гард. — Ведь вы же во сне видите его уволенным, Фойт. Вы его боитесь. С Хьюса хватит элементарной взбучки.Тупик в лабиринте
Гибель гангстера волновала Гарда меньше, нежели смерть Лео Лансэре. Девять против десяти, что корни этого дела уходят в преступный мир, который для полиции, слава богу, не потемки. Кроме того, нельзя гнаться сразу за двумя зайцами. Убийство Лансэре оставалось полной загадкой. Дневник его был необычен, образ жизни — зауряден, скрытая от всех работа — таинственна, намек на шефа — зловещ, способ убийства — банален. Но быть может, у Лансэре были приступы вялотекущей шизофрении? Ну что ж, задание определить его психическую полноценность уже дано, надо дождаться результата. Но, предположим, появление дневника объясняется шизофренией — что тогда? Дневник становился тривиальным бредом, важная работа — мифом, а смерть — еще более загадочной. Впрочем, возможны и другие перестановки: жизнь — самая высшая из математик. На рассвете Гарду доставили медицинскую карточку Лео Лансэре, обязательную для всех сотрудников Института перспективных проблем, поскольку они часто имели дело с повышенной радиацией. Просмотрев сложенную в восемь раз картонку, в которой типографский шрифт перемежался записями врача. Гард разочарованно вздохнул. За последние три года Лансэре ни разу не обращался к врачам по собственной инициативе. Данные последнего профилактического осмотра свидетельствовали о легком неврозе — недомогании столь же обычном для современных людей, как элементарный насморк. Комиссару после бессонной ночи никак не хотелось ехать к жене покойного, но ехать было необходимо. Заключение психиатра, изучающего дневник Лансэре, каково бы оно ни было, следовало подкрепить и собственными впечатлениями. Откуда их черпать, как не из беседы с Луизой? …«Ягуар» мягко притормозил возле дачи. К машине подошел дежурный полицейский. — Происшествий не было? — поеживаясь от утреннего холода, спросил Гард, совершенно уверенный в том, что вопрос напрасен. — К ней кто-то приехал, комиссар, — быстро произнес полицейский, — но, как вы распорядились, я не стал задерживать. — Правильно, — вяло заметил Гард. — Какой он из себя? — Она встречала его у ворот. Коренастый, стриженый, лет тридцати пяти… — Ага… Ну ладно. Не удержавшись, Гард зевнул. У полицейского дрогнули мускулы щек, ему тоже зевалось, и он с трудом сдержался при комиссаре. Гард понимающе кивнул, и полицейский улыбнулся. Сквозь густые кусты сирени едва проступала веранда. На ней жалко и ненужно горела под потолком электрическая лампочка. Гард неторопливо побрел по бетонной дорожке, с наслаждением дыша чистым воздухом и приглядываясь ко всему так, словно он был не официальным лицом, а ранним гостем, не уверенным, стоит ли будить хозяев. Дневной свет, отогнав мрачную таинственность ночи, превратил дачу и все вокруг нее в тихий, мирный уголок, дышащий спокойствием и уютом. На веранде никого не было. Поднявшись по нескольким ступенькам, Гард заметил, что под перилами зачем-то прибита продольная планка. Струганое дерево уже потемнело. «Зачем здесь планка?» — мимоходом подумал Гард. Дверь выглядела жидковатой; ее на честном слове держал английский замок, имеющий, скорее всего, символическое значение: стоило выдавить небольшое стекло, и так еле державшееся в неглубокой прорези, чтобы, просунув руку, изнутри отпереть замок. Комиссар невольно сравнил эту дверь с блиндажными запорами гангстерской квартиры и покачал головой. Он стукнул негромко, но стекла веранды отозвались мелким дребезжаньем. Внутренняя дверь стремительно распахнулась, и в темном проеме возникла Луиза, прижимая у шеи ворот халата. — Это я, Гард, — сказал комиссар. Луиза и без того узнала Гарда, и на ее лице отразилось облегчение. Она поспешно пересекла веранду, повернула головку замка, но тот не поддавался, и ей пришлось налечь плечом на дверь. — Прошу вас, входите, — сказала Луиза, смахивая с ближайшего стула детские игрушки. — Хотите чаю? — Не откажусь, — сказал Гард. — Но лучше кофе, если вам все равно. Луиза вышла кивнув. Гард сел за круглый столик, покрытый пластиковой клеенкой, и огляделся. На полу веранды были разбросаны вещи — так, словно их начали упаковывать в чемоданы, да и бросили. Комиссар решил не торопиться с выяснением, а вести себя так, будто он зашел без всякой цели — просто проведать бедную женщину. Луизе предстояло освоиться с приходом комиссара полиции. Ее внешнее спокойствие не обмануло Гарда, он знал нервную подоплеку такого покоя, способного в любую секунду взорваться истерикой, слезами или оцепенелым молчанием. Но вот раскрылась дверь, за которой исчезла Луиза, и к Гарду вышел широкоплечий, коротко стриженный молодой человек в мятой рубашке, домашних туфлях, которые были ему малы. Не выпуская дверной ручки, он молча поклонился Гарду, и Гард тоже поклонился ему, подумав при этом, что туфли на ногах гостя явно принадлежат покойному Лео Лансэре. Стриженый человек, исподлобья глянув на комиссара, неуклюже отступил назад. Дверь захлопнулась за ним сама, отсекая его угрюмый взгляд. — Н-да, — произнес Гард и отвернулся. За стеклами веранды посвистывали птицы. Лужайку осторожно пересек дымчатый кот, мягко забрался на клумбу, которую миновал убийца, прыгая из окна, и удалился за угол дома. Вошла Луиза, неся в руках поднос с пустой чашкой, кофейником и бутербродами, прикрытыми бумажной салфеткой. — А вы? — спросил Гард. — Не могу. Поставив поднос на стол, она села, сложив руки на коленях и устремив на них ничего не выражающий взгляд. Ее лицо было серым, как папиросная бумага. Комиссар налил себе неважно сваренный кофе. — Уезжаете? — кивнул он на разбросанные вещи. — Да. — Вы правильно сделали, что вызвали брата, — сказал комиссар. — Да, это мой брат. — Луиза даже не удивилась осведомленности Гарда. Помолчали. Птицы пели не в тон настроению. — Здесь неплохое место, если все хорошо, — сказал Гард. — Я бы тоже снял такую дачу. — Мы это сделали из-за Юла. Он такой… — Луиза запнулась. — Он у нас такой бледненький. — Дорого? — Вы хотите о чем-нибудь спросить меня, комиссар? — тихо сказала Луиза. — Да нет, я просто так… Быть может, попутно о чем-нибудь и спрошу… Например, зачем к стойкам перил прибита нижняя планка? — И это для Юла. — Луиза впервые подняла голову. — Когда он учился ходить, я попросила мужа прибить планку, чтобы Юлу было за что держаться. Это важно, комиссар? — К сожалению, нет. Куда важнее было бы знать, почему у вашего мужа отсутствовали враги. — За что его убили? — тихо спросила Луиза. Гард вздохнул и пожал плечами. Луиза едва удерживала слезы. — Врагов у него не было… — прошептала она. — Зато друзей у него было много, он был добрый. Но в последнее время мы потеряли даже друзей… Гард знал об этом. Еще ночью агенты сообщили ему об узости круга лиц, посещавших Лансэре на городской квартире (эти данные были получены от привратника, который, конечно, по негласной обязанности исправно фиксировал всех гостей, навещающих жильцов его дома). Впрочем, внимательное изучение дневника Лео приводило к тому же выводу. Каждая запись дышала одиночеством, хотя об одиночестве не было сказано ни единого слова. — Отличный кофе, — сказал Гард. Луиза вздохнула. Она все еще напряженно ждала, что комиссар скажет ей что-то важное. — В наше время человек, у которого нет врагов, — редкость, — заметил Гард. — Вы не знаете Лео, — прошептала Луиза. — Он был не таким, как все. Он целыми днями думал о своем. — О чем же? — Не знаю. Он злился, когда я расспрашивала его о работе. Я ненавидела его работу, как могла бы, наверное, ненавидеть его любовницу. Вы не хотите спросить меня, комиссар, как вышло, что немолодая женщина женила на себе человека младше ее на пять лет? Ему просто некогда было гулять с девушками, ну а я… Женщины в моем возрасте многого не требуют. Знаете, у меня с самого начала было к нему материнское чувство. Когда он был занят своими мыслями, он мог выйти на улицу в домашних туфлях. В такие часы он слышал только комариный звон. — Звон? — Здесь много комаров, он не мог спать, если они звенели, но и не мог убить даже комара. Я перед сном сама била их газетой. Видите? Она показала на низкий, оклеенный бумагой потолок, на котором пятнами темнели раздавленные комары. — Разве мог такой человек причинять кому-либо зло? — сказала Луиза. — Он был как ребенок… — Ребенок… — машинально повторил Гард. — Вы правы, Луиза, он действительно был ребенком. — Вы знаете об этом?! — с нескрываемым ужасом воскликнула женщина. — Откуда вы знаете?! Тогда не ходите вокруг сложными кругами, я не хочу и не желаю быть вашей или чьей-нибудь добычей, я все сама скажу, если это надо! И, залившись слезами, Луиза выбежала с веранды. Гард закурил. «Ну вот, — подумал он, — случайно задето нечто важное. Теперь нельзя торопиться. Но странное дело, какой неожиданный взрыв! Спокойно, комиссар, спокойно». Через несколько минут Луиза вошла, села напротив Гарда, испуганно посмотрела на него страдальческими глазами. — Простите меня, комиссар, но вам должно быть понятно, почему я так… — Успокойтесь, Луиза, — сказал Гард. — Я никуда не тороплюсь. Ваш муж говорил вам что-нибудь о замке? — Каком замке? — На этой двери. — Ах, комиссар, не надо меня мучить! Спросите сразу, ведь я готова подтвердить то, что вы уже знаете… — Нет, нет, Луиза, об этом поговорим потом, — спокойно произнес Гард, напоминая сам себе рыболова, который зацепил рыбу и теперь хочет применить всю осторожность, чтобы она не сорвалась с крючка. При этом Гард ощущал всю разницу между собой и рыболовом: тот знает, что у него под водой рыбешка, а Гард даже догадаться не может, какой улов скрывается под невзначай брошенным им словом «ребенок». — Итак, вернемся к замку. — Нет, комиссар, он никогда не говорил мне о замке. Мы вообще не знали, что такое запираться. Какой в этом смысл? Все наше богатство — это мы сами… Мы жили тихо и скромно. Ну, завидовали, конечно, тем, у кого много денег, а Лео еще завидовал людям, обладающим какими-либо талантами. Вы знаете, однажды он мне сказал, что хочет быть собакой, чтобы познать… Впрочем, это неважно. А нам никто не завидовал. Его убил сумасшедший! — вдруг закончила Луиза. — Кому еще он был нужен, комиссар? Кому? — Я думаю, — осторожно сказал Гард, — эта история прольет свет на тайну убийства. — Что вы?! — воскликнула Луиза, расширив от ужаса глаза. — Какое ЭТО имеет отношение к убийству! Вы ошибаетесь, комиссар! Я не хочу! Да ведь ЭТО просто моя галлюцинация! — Меня как раз интересуют ваши личные ощущения, — сказал Гард. — Постарайтесь успокоиться и по порядку все мне рассказать. — Но вы же не психиатр, комиссар? — И вы, Луиза, не больная. Давайте разберемся. Слегка взволнованный ее состоянием, Гард инстинктивно положил руку на плечо женщины, и это прикосновение внезапно кинуло Луизу к комиссару. Она уткнулась ему в плечо и разрыдалась, как девочка, напуганная темнотой, но теперь получившая защиту, — отчаянно и облегченно. — Я не могу… я никому не говорила… это страшно… Откуда и почему вы знаете?.. как это страшно!.. Гард вынул из кармана носовой платок и вытер ей заплаканные глаза. Она выпрямилась, набрала в легкие воздух и, запинаясь, горячо и бессвязно, почти на одном дыхании, стала говорить: — Вы знаете, это случилось три дня назад… Из лавки я вернулась рано… Приготовила кофе… Вхожу к нему… Тот самый кабинет… Он сидит… но это не он! Увидел меня, засмеялся, протянул руки… И вдруг сказал: «Мама!»… Из носа течет… И костюм!.. Он сидел мешком, как на чучеле… Я уронила кофе… Не помню, как выскочила… Навстречу — Юл, и как-то боком, боком, и побелел весь… Одежда порвана, вся разошлась по швам!.. И вдруг: «Где мой кофе, Луиза?» И тут выскочил из кабинета Лео… Они встали рядом, и я не могла понять, кто же из них Юл, кто Лео, кто отец, а кто сын… О Боже, как страшно!.. У меня потемнело в глазах… Они схватили друг друга, бросились в кабинет, заперлись… Оттуда — крик! Когда я очнулась, сорвала крючок, Лео зачем-то переодевал сына… Хотя нет, Юл переодевал отца! Это было так невероятно!.. А потом я ничего не помню, потом все было хорошо… Это сон, комиссар? Скажите мне, ради бога, это был сон? Галлюцинация? Я просто сходила с ума? Почему вы молчите?! — Что было дальше, Луиза? — закричал Гард, потрясенный собственным криком. — Дальше! Дальше! — Ничего, — с неожиданным спокойствием сказала женщина, остановив на комиссаре полные ужаса глаза. — Ни-че-го. Я просто больна. Мне нужно к врачу. Я боюсь Лео. То есть Юла. У меня отобрали обоих. Верните мне их, комиссар! Верните! Верните!! Верните!!! И она потеряла сознание. Дверь на веранду быстро растворилась, вошел брат Луизы и бережно поднял на руки сестру, сползшую со стула. Он даже не взглянул на Гарда, а комиссар не мог пошевелиться, все еще находясь в каком-то странном оцепенении. Когда дверь за ним закрылась. Гард медленно встал и побрел к машине. — Ну как, созналась? — весело спросил шофер. Гард издал какое-то рычание. Связавшись со своим управлением по радиотелефону, он первым делом приказал немедленно выслать на дачу врача-психиатра. Таратура, находящийся по ту сторону радиосвязи, сразу почувствовал что-то странное в тоне комиссара. — Гард, — сказал он, — что-нибудь случилось? — Да, — коротко ответил комиссар. — Я нужен? — Нет. — Где вы будете? На этот вопрос Гард ответил четко и неторопливо: — Таратура, я, кажется, схожу с ума. И отключился. Шофер, сжавшись в комок, боялся повернуть голову. — Вперед, — приказал ему Гард. — Вперед, и с самой большой скоростью, на которую только способно это старье. «Ягуар» рванул с места. Ровно в десять утра Гард уже стоял у дверей кабинета профессора Грейчера в Институте перспективных проблем. Спустя две минуты появился профессор. Он сухо поздоровался с комиссаром и с нескрываемой брезгливостью осведомился, чем еще может быть полезен полиции. — Консультацией, — коротко ответил Гард. — Прошу. Они вошли, сели. Грейчер сразу же бросил красноречивый взгляд на лежавшие перед ним бумаги, давая понять Гарду, как дорого ему время. Гард пропустил мимо намек Грейчера. Минуту они сидели молча. Грейчер — с недовольным видом. Гард — изучая лицо профессора. Обыкновенное лицо с усталым, слегка надменным выражением знающего себе цену человека. Безукоризненная одежда, подстриженные скобкой усы, манеры английского джентльмена, вышколенного воспитанием. Гард все еще испытывал странное состояние, появившееся после сумасшедшего рассказа Луизы. Разумеется, он не мог в него поверить, но и не мог освободить свои мысли от черного покрывала, которым они застилались. Состояние Гарда усугубилось заключением психиатра, изучившего дневник Лансэре. Оно было уклончивым, в нем говорилось об отклонении от нормы, но утверждалось одновременно, что психическим заболеванием автор дневника не страдает. Неясность казалась Гарду зловещим предзнаменованием и подстегивала его, толкая на решительные поступки. — Итак? — Кажется, они одновременно произнесли это слово. — Я все же хотел бы уяснить, — спокойно и решительно произнес Гард, — чем конкретно занимается ваша лаборатория и чем мог заниматься ваш покойный коллега. Профессор скучающе посмотрел в окно, затем на Гарда: — Моя тематика секретна, комиссар. — Знаю, — сказал Гард. — Вот разрешение на знакомство с научной тематикой вашего института. Вас устраивает документ? — Простите, кто вы по специальности? — вместо ответа сказал Грейчер, прочитав, однако, бумагу. — Криминалист. — Н-да. Этим «н-да» профессор словно бы воздвиг между собой и комиссаром стену, с высоты которой мог снисходительно наблюдать за стараниями жалкого дилетанта, карабкающегося по головокружительной крутизне. — Вы все равно ничего не поймете. — Пускай вас это не волнует, профессор. — Ну хорошо, — согласился Грейчер. — Моя лаборатория занимается проблемами трансфункций биоимпульсов тета-ритма и реформацией организма по конгруэнтным параметрам. «Успокоился? — как бы сказал насмешливый взгляд профессора. — А теперь иди спать!» Гард проглотил слюну и через силу спросил: — Что это значит? — Чтение лекции, надеюсь, не входит в мою обязанность? — Но вы не можете отказывать полиции в помощи, — сухо сказал Гард. — Я могу расценить ваш отказ как умышленный. — Зачем же? — добродушно произнес Грейчер. — Если позволите, я представлю себе, что передо мной сидит первоклашка, и в течение пяти минут популярно объясню то, что любому студенту давно известно. — В вопросах криминалистики вы были бы тоже новичком, — не удержался Гард. — Возможно, возможно, — с улыбкой сказал Грейчер. — Итак, вы что-нибудь слышали о биополе? — Нет. — Похвальная откровенность. Биополе — это, в крайнем примитиве, это… Не знаю, как и объяснить! Ладно, попробую. Итак, механическим остовом организма служит скелет. Информационным же костяком является биополе. Представьте себе, что организм — это здание. Кирпичи его связаны друг с другом цементом. Но кирпичи образуют здание не только благодаря цементу, а еще и благодаря чертежам архитектора. Понятно? Гард кивнул, подумав при этом, каким великолепным панцирем служит ученому его специальность. Такой панцирь проницаем лишь для специалиста же. Но в глазах профана внешняя оболочка ученого кажется величественной, независимо от того, что под ней скрывается: гений или ничтожество, мудрец или… преступник. — Я спрашиваю: понятно? — повторил Грейчер. Гард вновь кивнул. — Слава богу. Так вот, и у организма должен быть свой чертеж, как у здания, и свой цемент, скрепляющий клетки воедино. Вначале думали, что «чертеж» — это только генетический код клеток… Простите, вы знаете, что такое генетический код? — Пожалуйста, продолжайте. — Отлично. Что же касается «цемента», то прежде полагали, будто это электрохимические связи молекул. Но еще в тридцатых годах нашего столетия возникла идея биополя, которое одновременно является и «чертежом», и «цементом» организма. Впрочем, не совсем так… — Грейчер, увлекшись, встал и принялся ходить по кабинету, как ходят профессора по кафедре. Его определенно занимала роль учителя, поскольку комиссару полиции в этой ситуации отводилась роль ученика. — Да, не так. Листы чертежа не тождественны овеществленному чертежу: построенное здание есть здание, а чертеж на бумаге остается чертежом. Это понятно? Прекрасно. Примерно так же относится генетический код к биополю. — То есть биополе — это организм? — тупо спросил Гард. — Да нет же! — поморщился Грейчер. — Это нечто вроде… ну, вроде… — Я понял вас так, профессор, что вы работаете над уяснением сущности биополя? — Вы полагаете, что сам себе я эту сущность пока не уяснил? Благодарю вас, вы очень любезны! Они отвесили друг другу джентльменские поклоны. «Один — один», — не без ехидства подумал Гард. — В сущности, вы правы, комиссар, — неожиданно согласился профессор. — Изучение всего биополя не под силу даже целому институту. Моя лаборатория занята определением некоторых его функций, лишь некоторых. — Прекрасно, — сказал Гард, меняясь с профессором ролью, как это бывает в хоккее, когда обороняющиеся вдруг переходят в нападение так стремительно и неожиданно, что даже забывают сами об обороне. — Частный интерес Лео Лансэре тоже лежал в области биополя? — Господин комиссар, я уже прошлый раз объяснял вам, что в частные увлечения своих сотрудников я не вмешиваюсь. — То есть вы не знаете, чем занимался Лансэре? — Не знаю. — Это ложь, профессор. — Что вы хотите этим сказать? Они стояли посреди кабинета, чуть наклонившись друг к другу. — Мне известно, профессор Грейчер, — четко произнес Гард, — что вы знали о сигма-реакции при отрицательном режиме. Профессор упал в кресло. — Откуда вам известен этот термин, комиссар?! — По долгу службы мне приходится узнавать даже то, что я предпочитал бы не знать никогда в жизни. — Но… Впрочем, это не важно, — быстро сказал Грейчер. — Ко мне часто обращаются сотрудники за советом. Лео Лансэре не был исключением. — Почему вы прежде отрицали это обстоятельство? Каковы резоны скрывать от полиции ваше знакомство с работой ассистента? Я слушаю вас, профессор Грейчер! — Надеюсь, комиссар, все это не дает вам основания подозревать меня… — Почему же не дает? — спокойно перебил Гард. — Не исключено, что эти резоны как-то связаны с гибелью вашего ассистента. — Ну знаете… Грейчер по-прежнему восседал в кресле, по-прежнему был похож на английского джентльмена, но он уже был не целым джентльменом, а как бы собранным из осколков. Он любезно предложил Гарду сесть, но в голосе его уже исчезли нотки превосходства и бесстрашия. — Ладно, — сказал он устало. — Я все объясню. Я действительно знал о работе Лансэре. И я скрыл это намеренно. Возможно, это моя ошибка, но в ней виноваты вы, комиссар. Каково невинному человеку оказаться в шкуре подозреваемого убийцы? Вы тогда напугали меня, комиссар Гард, своим неприкрытым подозрением. В такой ситуации пойдешь на все, лишь бы откреститься от обвинения. Какое счастье, что в тот злополучный вечер меня угораздило быть в клубе! — Да, это ваше счастье, — сказал Гард. — Но вы заявили мне тогда, что незнакомы с работой Лансэре, еще не зная, что он убит! Да, профессор! Как это понимать? Грейчер отшвырнул ручку, она с треском прокатилась по столу. — Потому что Лансэре взял с меня слово, что я никому и никогда не скажу о его работе! Ясно? Когда я не знал, что он убит, я молчал из этих соображений, а когда узнал — из других. Вы довольны моим объяснением, господин криминалист? «Крепкий ответ!» — с невольным уважением подумал Гард. — Извините, профессор, я не хотел вас оскорбить («Отступаю, отступаю», — тоскливо подумал комиссар), но моя обязанность проверить все ходы и варианты. Оба умолкли не сговариваясь, чтобы передохнуть после первого тура борьбы. То, что они защищают разные ворота, что от количества забитых голов зависит судьба нераскрытого преступления, понимали, вероятно, они одинаково. И как только раздался неслышный удар гонга, они вновь заняли свои места, едва успев залечить полученные раны. Второй тайм начался атакой комиссара Гарда: — Вернемся к работе Лео Лансэре. Итак, в чем ее сущность? — Дорогой комиссар, в науке есть вещи, о которых постороннему, неподготовленному человеку, как вы правильно заметили, лучше не знать. Спокойней спится. — Я не из пугливых. Грейчер пропустил замечание мимо ушей: — Работа Лансэре в числе именно таких работ. Если я изложу вам ее сущность, вы откроете дверь не из лабиринта, а в лабиринт. — Об этом я догадывался и прежде, профессор. Не стесняйтесь, я вас слушаю. — Хорошо. Я постараюсь быть точным и искренним. Когда имеешь дело с таким проницательным умом, как ваш, понимаешь, как опасна неискренность. — Грейчер улыбнулся, видимо надеясь вызвать ответную улыбку. Но Гард не ответил. — Позвольте задать вам вопрос: что вы делаете, когда вам нужно переписать магнитофонную запись с одной ленты на другую? — Подключаю магнитофон к магнитофону, — как школьник, ответил Гард. — Правильно, — учтиво похвалил Грейчер. — В этом и заключается сущность поистине великого открытия Лео Лансэре. Да, да, комиссар, великого! И оно умерло вместе с ним… Такая трагическая, нелепая смерть! К сожалению, я знаю о его открытии лишь в общих чертах. О многих важнейших тонкостях Лансэре благоразумно умолчал. Благоразумно ли, комиссар? Не исключено, если бы он посвятил всех нас в тонкости своего изобретения, ему не было бы смысла умирать? Впрочем, я, кажется, касаюсь не своей области знаний… — В чем же сущность открытия Лансэре? — перебил Гард. Профессор наклонился к комиссару: — В перевоплощении одного человека в другого. Голос Грейчера звучал глухо. Гард вздрогнул, и профессор уловил это движение. — Вот так же и я реагировал в первое мгновение, — понимающе сказал он. — Я тоже подумал, не сходит ли бедняга с ума… Так вот, когда вы подключаете магнитофон к магнитофону, вы тем самым переводите информацию, содержащуюся в одном аппарате, в другой. Но, как я уже говорил, вся информационная совокупность человеческого организма, определяющая его физический облик, заключена в биополе. Лансэре, примитивно говоря, удалось осуществить перезапись этой информации с одного организма на другой. Точно так же, как если бы запись нашего первого магнитофона переходила на ленту второго магнитофона, а запись второго — одновременно на ленту первого. — То есть двое людей как бы меняются биополями? — Голос Гарда снова выдавал его волнение. — Не как бы, — поправил профессор, — а именно меняются! Ваш организм, если в него вложить мое биополе, перестроится так, что вы примете мой облик, а я — ваш. — А сознание останется прежним, — сказал Гард утвердительно. — Откуда вы знаете? — удивился профессор. Гард не удостоил его ответом. — Скажите, Грейчер, — сказал он, — идея Лансэре практически осуществима? Или это гениальная догадка? — Клянусь, мне неизвестно, достиг ли он успеха. Думаю, на современном этапе развития науки и техники… — Я могу догадаться, что вы хотите сказать, но тут уж можете мне поверить: Лансэре был близок к осуществлению задуманного. — Гард встал со стула, закурил, подошел к окну. Не оборачиваясь, спросил: — И если это действительно так, то прикиньте, пожалуйста, профессор Грейчер, какую форму могла бы иметь установка, осуществляющая перезапись биополя? — Я не знаю множества важных деталей… — Это я уже слышал. Но пофантазируйте, пофантазируйте! Ученые любят фантазировать, не правда ли? — Какую форму? — переспросил Грейчер. — Ну да, займет ли установка целое здание или поместится в комнате или в портсигаре? — Полагаю, размеры комнаты будут наиболее реальными… — Благодарю вас. Грейчер промолчал. Перед уходом Гарда он еще раз попробовал улыбнуться: — Я же говорил вам, комиссар, что вы открываете дверь в лабиринт. — Я попытаюсь найти и выход из него, — серьезно сказал Гард. Покидая кабинет профессора, он подумал еще о том, что они проговорили не менее часа и все это время их странным образом ни разу не побеспокоили ни телефонными звонками, ни приходом сотрудников. Впрочем, желание избежать свидетелей и необходимость сосредоточиться могли быть у Грейчера вполне естественными… «Размером с комнату, — думал Гард, садясь в машину. — Ах, профессор, все же неважный вы психолог! Я бы на вашем месте для большей убедительности поместил бы всю установку на острие иглы!» — Луиза, опишите мне подробно часы, которые пропали вчера вечером. Кроме того, заметили ли вы, чтобы ваш муж собирал какой-нибудь аппарат? У Гарда уже не было возможности учитывать состояние Луизы, измученной допросами. Решительность и властность, с которых он начал разговор, применялись им даже в тех случаях, когда он добивался ответов от умирающих, торопясь обогнать смерть. Вероятно, тон комиссара был столь непререкаем, что Луиза мгновенно оценила важность обстановки. Она ответила сразу и четко: — Никаких аппаратов Лео дома не собирал, комиссар. Часы были серебряными, перешли по наследству от деда Лео. Большая луковица. Механизм испорчен… Что-нибудь случилось, комиссар? В последней фразе уже звучал испуг. — Нет, Луиза, все идет как надо. Когда вы видели часы в последний раз? — Дней пять назад. Да, дней пять… Лео спал, Юл играл в его комнате часами. Я вошла, разбудила Лео, он увидел часы в руках сына и рассердился, и на меня тоже: почему я недоглядела. Потом… — Потом? — Он убрал часы в ящик стола… Нет, не убрал. Сделал движение, словно хочет туда их положить, а положил ли, я не помню… Это важно, комиссар? — Больше вы часы не видели? — Нет. — А сын? — Не знаю. — Спросите, Луиза. — Сейчас? — Да. При мне. — Юл! — позвала Луиза. — Юл, иди сюда! За Юлом все же пришлось сходить. Он оказался не по возрасту длинным и тощим мальчиком, очень похожим на Лео Лансэре, если судить по фотографиям. Когда Юл предстал перед комиссаром, Гарду на мгновение стало не по себе: он подумал о том, что должна была почувствовать Луиза, увидев перевоплощение отца в сына. Юл исподлобья глядел на комиссара. — Скажи, сынок, — мягко произнесла Луиза, чуть наклонившись к Юлу, — ты не видел папины часы? Помнишь, после того как папа отобрал их у тебя. — Вчера, — сказал мальчуган. — Что — вчера? — быстро спросил Гард. Юл вцепился в юбку матери и испуганно посмотрел на Гарда. — Не мешайте, пожалуйста, комиссар, — тихо сказала Луиза. — Ты видел часы вчера, Юл? — Ага. — Где? — У папы. Он показал мне их и сказал… — Что? — в один голос спросили Гард и Луиза. — Мама, а что такое «слава»? — Папа сказал это слово? — Ага. — А еще что он сказал? — А еще он показал мне часы. Гард с Луизой переглянулись. — Мам, а папа скоро придет? Гард поморщился, увидев слезы на лице Луизы. Он с трудом переносил мелодраматические сцены, даже если для них был повод. Спустя пять минут, сидя в «ягуаре», он чуть ли не вслух произнес: — К черту! Аппарат был вмонтирован в часы? Часы похищены? Алиби Грейчера непробиваемо. Пропади все пропадом, надо выспаться! Выход из тупика пока не находился.Логика и интуиция
Пожалуй, в профессии сыщика Гарда более всего привлекала та блаженная пора, когда можно было подводить итоги. Сидение в засадах, ночные бдения в чужих домах, где только-только произошли убийства, допросы и погони, — разве все это могло идти в сравнение с тишиной гардовской квартиры, когда, лежа одетым на тахте, комиссар связывал и развязывал узелки противоречий и доказательств, совершая в уме многочисленные построения, сложностью могущие поспорить с абстракциями математиков. Гард никогда не славился действием, он плохо стрелял, неважно правил автомобилем, не обладал феноменальной физической силой и способностью валить противника с ног одним ударом. Но для своих подчиненных и для начальства он был человеком, обладающим таинственной способностью догонять не догоняя и попадать в цель без единого выстрела. В наш современный век борьба с преступным миром уже немыслима без ума: схватить преступника за руку можно лишь в тех случаях, когда убийца бывал глуп или когда сыщик бывал удачлив. И так же как преступники научно разрабатывали свои действия, так же научно их следовало расшифровывать. Вот почему злые языки утверждали, что у Гарда есть какая-то тайная агентура, какие-то свои «глаза и уши», рассованные всюду и везде, всегда приносящие ему успех. Никто из ближайшего окружения комиссара, кроме разве верного Таратуры, не мог понять, что период накопления фактов сменялся у Гарда периодом обдумывания и размышления, где логика окрылялась интуицией, которая, в сущности, та же логика, но только более своенравная и менее осознанная. А поскольку изыскания Гарда совершались «при закрытых дверях», в полном одиночестве и, как правило, в ночные часы, его коллеги и пустили слухи о гардовской агентуре, так как в мистику сегодня никто уже не верил. В самом деле, вечером, уходя из управления, комиссар оставлял полицейских в состоянии прострации и полной беспомощности, а утром мог прийти, собрать всех в своем рабочем кабинете и спокойно дать точный адрес убийцы или, по крайней мере, верный путь поиска. Обычно, как и на этот раз, Гарда поднимал на ноги будильник. Он ставил его на три часа ночи, чтобы до этого времени слегка освежиться сном, и по первому звону вскакивал на ноги, лихорадочно одевался, застегивался на все пуговицы, выпивал чашку холодного кофе, приготовленного еще с вечера, и садился за письменный стол. На столе не должно было лежать ни одной бумажки. Мыслить, пользуясь записями. Гард не умел. Он считал, что лишь тогда возможен эффект от размышлений, когда все детали и факты преступления «отлежались», «осели» в голове, обеспечивая ту легкость перетасовок и перестановок, без которых невозможно построить ни одной версии. Горела настольная лампа, и еще над кроватью, у самого изголовья, мягко светило бра. Шторы на окнах были приспущены, так что свет уличного фонаря, расположенного напротив комнаты Гарда, не отвлекал внимания комиссара. Всеобщий покой и тишина были как бы внешней оболочкой, не пропускающей в мозг Гарда ничего постороннего, но и не выпускающей из него ни единой мысли. «Два загадочных убийства подряд, — думал Гард, — это уже третья загадка!» Пожалуй, эта мысль была ключевой ко всем последующим рассуждениям комиссара. Действительно, практика показывала, что в среднем из двенадцати убийств, совершаемых в городе за неделю, почти все, за исключением, быть может, какого-нибудь одного, раскрываются почти немедленно. Или преступник не успевал далеко уйти и его хватали в ближайшем кабачке, где он пропивал награбленные деньги, или оставались четкие следы, указывающие направление поиска, или всевидящие свидетели давали точные приметы, или… А тут в один вечер — две загадки! Такого не было давно. Наиболее загадочным Гард считал убийство Лансэре. Все было бы просто, если бы не алиби Грейчера. Кому, кроме профессора, могла потребоваться смерть Лансэре? И часы? Никому. А раз никому — значит, преступником мог быть кто угодно. Тут хоть бери кофейную гущу: она подскажет тебе ровно столько вариантов, сколько может подсказать реальная действительность. Если исключить Грейчера, то Лансэре могли убить ВСЕ — самая страшная для криминалиста версия. В число подозреваемых включались и Луиза, и полицейский, первым вошедший в дом, и даже Таратура, и любой прохожий, которого можно было остановить на улице и с равным успехом проводить допрос, и предводитель гангстеров Эрнест Фойт. И лишь два человека наверняка оставались вне подозрения: Пит Морган, который погиб на час раньше гибели Лансэре, и сам комиссар Гард, который мог за себя поручиться. Ну а если бы Гарда вызвал на допрос другой комиссар полиции? Где был Гард в момент убийства Лео? Пожалуйста: он был в квартире Пита Моргана. Морган был убит в семь вечера, комиссар прибыл туда час спустя, а в девять тридцать пальцы сомкнулись на шее Лансэре. Алиби Гарда — налицо. «Нате-ка, выкусите!» — неожиданно подумал Гард, представив себя на допросе у комиссара полиции. Но — стоп! Эрнест Фойт не мог убить Пита Моргана, потому что с шести до семи тридцати сидел в кафе. Профессор Грейчер не мог убить Лео Лансэре, потому что с девяти до десяти тридцати был в клубе «Амеба». Но что первый делал через час после гибели Моргана, а второй за час до смерти Лео? На это время у каждого из них не было алиби — во всяком случае, они его не предъявляли. Стало быть, каждый из них… Нелепость! Вот до чего может довести всеобщая подозрительность. Даже совпадение становится доводом… Совпадение? Еще раз — стоп! Какая связь между этими двумя убийствами? Та, что оба произошли в один и тот же вечер. Та, что оба представляют собой загадку. Та, что оба потенциальных преступника — по крайней мере люди, имеющие причины убить, — как нарочно представили неопровержимое алиби. Но это не связь, это только сходство, почти зеркальное. Наоборот, с позиций формальной логики оба преступления — как те две одинаково прямые параллельные линии, которые нигде не пересекаются и пересечься не могут. Что за чушь, как так не могут? Это в обычной геометрии параллельные прямые нигде не пересекаются и пересечься не могут. А в неевклидовой геометрии очень даже могут… То есть должны, обязаны пересечься… Гард накинул плащ и вышел из дому. Он еще не знал, что способность логически мыслить, сделавшая ему славу среди полицейских и среди преступников, отлично сработала и на этот раз. Эрнест Фойт был дома. В отличие от Пита Моргана он не пользовался стальными дверями и гильотинами. Его квартира была современна, и такими же современными были средства самозащиты. Стоило Гарду, предварительно обошедшему особнячок Фойта, остановиться перед парадным входом, как у Эрнеста в комнате вспыхнула красная сигнальная лампочка и тревожно загудел зуммер. Рука Фойта мгновенно потянулась к бесшумно стрелявшему пистолету. Затем он поднялся, подошел к окну и убедился в том, что у подъезда стоит Гард. Узнать его ничего не стоило по приземистому росту и характерной позе, которую всегда занимал комиссар, чего-либо ожидая: согнутые локти рук и ладони, упертые в бедра. Дверь открылась сама собой, и Гард прошел в переднюю. Через секунду навстречу ему вышел Фойт, неся на лице приветливую улыбку. Он был тщательно причесан, выбрит, как будто вернулся с вернисажа или с банкета и еще даже не успел переодеться. Кто не спит в большом городе ночью или, по крайней мере, спит очень чутко? Воры и полицейские! Об этом написано немало книг, снято немало фильмов, это многократно подтверждено реальной жизнью. Гард был озабочен и не скрывал этого от Фойта. Кто-кто, а гангстеры лучше других понимают трудности полицейских, как, впрочем, и наоборот. В эту ночь они наверняка могли рассчитывать на взаимное сочувствие. — Дела? — спросил Фойт, провожая Гарда в свой кабинет. — И да и нет, — осторожно ответил комиссар. — С ордером на арест? — мягко осведомился Фойт. — Даже без оружия, — в тон ему ответил Гард. — Ну и прекрасно. Сигарету? Кофе? Гард отрицательно покачал головой. Они сели в кресла, расположенные у низкого столика, заваленного журналами и газетами, и на несколько минут погрузились в размышления. Никто из них никуда не торопился или, во всяком случае, не выказывал нетерпения. Помолчим? Хорошо, помолчим. Будем разговаривать? Хорошо, будем разговаривать. Они были стоящими друг друга врагами, и каждый из них прекрасно знал цену другому. Так молчать и сидеть, а потом мирно беседовать могут два солдата воюющих армий, оказавшиеся на ничейной земле и решившие отложить оружие в сторону хотя бы на несколько мирных часов. Так могут сосуществовать два спортсмена за десять минут до старта, после которого из друзей они мгновенно превращаются в конкурентов. Так отдыхаютдва боксера, уставшие от изнурительного поединка, кончившегося вничью, и собирающие силы для нового боя. Впрочем, ничьей между ними не было. Интересы Гарда и Фойта были диаметрально противоположными: один заботился о том, чтобы ускользнуть, другой — чтобы настигнуть. И победителем в этой гонке пока выходил Фойт. Как победитель, он имел в эту ночь право быть большим джентльменом, нежели Гард. И потому он с еще большей, чем Гард, выдержкой ждал начала разговора. — Простите меня, Эрнест, но я, кажется, оказался в тупике, мне нужна ваша помощь, — наконец сказал Гард. Фойт дружески улыбнулся и сделал движение, должное означать, что он весь внимание и готов приложить максимум усилий, чтобы помочь комиссару полиции. — У вас бывали ситуации, при которых вы оказывались в западне, но оставался единственный выход, хотя и трудно было на него рискнуть? — сказал Гард. — Вы имеете в виду дело Каснера? — спросил Фойт. — Пожалуй. — Мне было сложно тогда, комиссар, и вы это прекрасно знаете. (Гард улыбнулся, услышав откровенное признание Фойта.) Минуло уже лет десять, не так ли? Могу сказать, что выход я нашел случайно… — Я не успел предусмотреть этой возможности, — как бы извиняясь, перебил Гард. — Бывает, господин комиссар. Но лазейка была столь узкой, что, всунув голову, я мог застрять в ней всем туловищем. И все же пролез! — Вот на это я и не рассчитывал. Фойт добродушно засмеялся: — А я рискнул. Что было мне делать? — Вот и я хочу рискнуть, — сказал Гард. — В отличие от вас, Эрнест, в случае неудачи я теряю работу… — В случае неудачи я теряю свободу, комиссар, — заметил Фойт. — Вам легче. — Как сказать. — И что же вы хотите сделать? — осторожно спросил Фойт, беря сигарету. — Предположить самое невероятное и бросить на эту версию все силы, — сказал Гард. — Что же предположить? И оба они почувствовали, как обострился их слух и напружинились мускулы. В конце концов, безобидно беседуя, каждый из них преследовал собственные цели. Фойт тщательно скрывал за внешней непринужденностью страстное желание узнать что-либо из того, что комиссар знает о нем. А Гард «прощупывал» Фойта, делая вид, что просто беседует на отвлеченные темы, как могут беседовать люди, которым есть что вспомнить. — Я хочу предположить, Фойт, что к убийству Пита вы не имеете прямого отношения, — откровенно сказал комиссар. — Это можно было бы и не предполагать, поскольку так и есть на самом деле. — Я говорю: прямого отношения, — подчеркнул Гард. — Но в тот вечер у вас были и трудные часы. — У кого их нет, комиссар? — И я хочу рискнуть! — Не понимаю, — сказал Фойт, — что заставляет вас мучиться. Разумеется, надо рисковать, уж поверьте мне. Быть может, вы говорите мне об этом, чтобы я реагировал на ваши слова поступками? Гард поморщился. — Вот именно, — заметил Фойт. — Я все равно обдумаю каждый свой поступок, а вы давно уже поняли, что имеете дело с умным человеком. Так что бы вы хотели, комиссар, от меня? — Того же самого, Фойт, что и вы от меня: хоть маленькой неосторожности, хоть крохотного просчета! И оба они дружно расхохотались. Гард мог позволить себе быть откровенным с Эрнестом Фойтом. Они не боялись друг друга: на стороне Фойта, как это ни парадоксально, был закон, хотя он и являлся оружием Гарда, а на стороне Гарда оставалось одно благоразумие. Фойт понимал, что Гард вряд ли придет к нему домой один и без оружия, не предупредив помощников, — стало быть, Гард неприкосновенен. Но откровенность Гарда была откровенностью мышеловки! Вот, мол, тебе и кусочек сала, и открытость приема, и невинность конструкции, — только кусни, только коснись, только просунь голову! Нет, Фойт — не мышонок. Он понюхает, даже полижет отлично пахнущий кусочек, но ни за что не вопьется в него острыми зубками. — В тот вечер, Эрнест, было еще одно таинственное убийство, — сказал Гард, откровенно цепляя приманку на крючок. — Для непосвященных, комиссар, два убийства в один вечер — событие, — сухо сказал Фойт. — Но мы-то с вами знаем, сколько убийств бывает каждую ночь. При чем тут я? — И я, — сказал Гард. — С таким же успехом и я могу быть убийцей второго человека. Но у меня есть алиби. В момент второго убийства я был в квартире Пита Моргана. А где были вы, Эрнест? Фойт взял новую сигарету. Помолчал, улыбнулся: — Вы нарушаете условия, комиссар. Ведь это беседа, а не допрос? — Ну кто ж вас неволит, Эрнест! — тоже улыбнулся Гард. — Уход от ответа уже есть ответ. — Зачем же так? Я попытаюсь вспомнить… Стало быть, после кафе, о котором вы знаете, я отправился… да, я три часа провел у себя в гараже. — С семи тридцати до девяти тридцати? — спросил Гард. — Приблизительно. — Вы были один? — Один. — Вы сами чините свою машину? — Я понимаю и люблю технику. Кроме того, машина — это мои ноги. Я всегда хочу быть уверенным в том, что ноги меня не подведут. Парашютист, комиссар, тоже предпочитает сам складывать свой парашют. — Это не алиби, Эрнест, — сказал Гард. — Но и у вас нет улик, комиссар. Они вновь умолкли. Гард внимательно посмотрел на Фойта, пытаясь угадать его состояние. Увы, лицо гангстера было невозмутимым. Он выдержал взгляд комиссара, и лишь странная интуиция, которой обладал Гард, позволяла ему продолжать строительство здания, в основе которого лежала версия о причастности Фойта к убийству Лансэре. — Эрнест, вы служили когда-нибудь в армии? — спросил Гард. — Моя биография вам больше известна, чем мне, комиссар. — В таком случае вы должны знать, что такое отвлекающий маневр. — Знаю. — Второе убийство было таким маневром? — Отвлекающим? — переспросил Фойт. — В жизни все возможно. — Так вы знаете о нем? — Конечно. Вы сами мне сказали. За окнами начинался рассвет. Гард посмотрел на часы и встал. На прощанье он приготовил последний вопрос Фойту. Скорее даже не вопрос, а предложение. Стоя в дверях, он произнес: — Не хотите, Эрнест, посмотреть на второй труп, появившийся в тот вечер? — Если бы решение зависело от меня, я бы отказался. — Почему? — Потому, комиссар, что я терпеть не могу голые мужские тела. Гард весь напружинился: — Почему мужские, Эрнест? А может, речь идет о женщине? Откуда вы знаете? Фойт мрачно усмехнулся, глядя Гарду прямо в глаза: — Вы хотели оплошности, комиссар? Вы ее получили. Но не радуйтесь преждевременно. Мне совершенно безразлично, мужчина у вас в морге или женщина… — Знаете, старина, — прервал Гард, — накиньте на себя что-нибудь приличное и вместе прогуляемся до управления. Фойт послушно наклонил голову.Серебряные часы
— Комиссар, я выражаю свой протест по поводу столь бесцеремонного обращения ваших людей со мной. Полагаю, что… — Доброе утро, профессор. — Когда вас поднимают спозаранок с постели и не дают выпить даже чашки кофе… — Одну минуту, профессор. — Гард нажал кнопку вызова дежурного. — Это мы легко исправим… Прошу вас, чашечку кофе нашему гостю, — обратился он к вошедшему дежурному. — Извините, профессор, это я распорядился пригласить вас в полицию. — Пригласить?! — возмутился Грейчер. — У нас с вами разные представления об одних и тех же вещах! — Возможно, — миролюбиво согласился Гард. — Сегодня ночью мне явились любопытные мысли, которыми я хотел бы поделиться с вами. — Если вы страдаете бессонницей, рекомендую микстуру «Паникина». Помогает. — Благодарю. Обязательно воспользуюсь. — Гард достал записную книжку и что-то пометил в ней. — Видите, старею, профессор, вынужден записывать. Но, быть может, прекратим пикировку? У нас есть дела поважней. Открылась дверь, и вошел дежурный. На столе перед профессором появилась чашка кофе. — Подкрепитесь, — сказал Гард. — Я готов подождать. — Мне кажется, меня доставили в полицию не для того, чтобы кормить завтраками. Я к вашим услугам. — Хорошо, начнем. Они смерили друг друга взглядами, как два мушкетера перед дуэлью, и каждый отметил про себя силу противника. — Профессор, — сказал Гард, — у меня не вызывает сомнения то обстоятельство, что вы были в клубе «Амеба» в злополучный вечер и играли в вист. — У меня тоже нет сомнений по этому поводу. — Таким образом, — продолжал Гард, — версия о вашем прямом участии в убийстве Лео Лансэре отпадает. — Весьма вам благодарен, комиссар. — Тогда не будете ли вы столь любезны и не припомните ли, что вы делали до виста? С шести до восьми? — Как — что? Я… ушел из института часов… кажется, в шесть. Болела голова, и я прогуливался в Сентрал-парке… — Один? — Один… Но позвольте!.. — Не позволю! Сейчас я хочу представить вам одного человека, заранее предупредив, чтобы вы держали себя в руках, что бы ни произошло. — А что может произойти? — Не знаю. Меня это тоже интересует. По лицу профессора Грейчера пробежало беспокойство, но тут же сменилось выражением полной невозмутимости. Гард нажал кнопку. Дверь открылась, на пороге стоял Эрнест Фойт, а за его спиной виднелась мощная фигура Таратуры. — Доброе утро, комиссар. — Фойт слегка склонил голову. Заметив Грейчера, Фойт кивнул и ему. Профессор вежливо ответил. — Вы знакомы, господа? — вежливо спросил Гард. Фойт улыбнулся: — Если я не ошибаюсь, передо мной известный киноактер, который играл в «Жизни по ту сторону»? — Вы ошибаетесь, сударь, — неприязненно перебил Грейчер. — Я не имею чести быть вашим знакомым. — У меня плохая память на лица. Прошу великодушно меня простить. — Пожалуйста. Пока шел этот обмен любезностями, Гард с Таратурой не спускали с профессора и Фойта глаз. «Лобовая атака не вышла, — подумал комиссар. — Или они блестящие актеры, или я иду по ложному следу». — Благодарю вас, господа, — поспешил произнести комиссар. — Вы можете быть свободны, Фойт. — Вы имеете в виду мою камеру? — Вы не ошиблись. — Спасибо. — Фойт улыбнулся и, повернувшись к Таратуре, добавил: — Инспектор, если вам не трудно, проводите меня. Они вышли. Гард откинулся в кресле. Грейчер полез в карман и вынул пачку сигарет. — Что это значит, комиссар? — спросил он, закурив. — Сейчас все узнаете. — Гард тоже закурил. — Произошла одна очень странная история, профессор. Человек, которого вы сейчас видели, известный гангстер, и знакомство с ним было бы вам полезно… — Я не люблю таких шуток, комиссар, — резко прервал Грейчер. — Если вы не желаете коротко и ясно объяснить мне, что скрывается за появлением этого человека, прошу освободить меня от дальнейшего участия в беседе. На Гарда глядели холодные, непроницаемые глаза. — Хорошо, — сказал комиссар. — Слушайте меня внимательно. В нашем городе существует отлично организованная гангстерская шайка. Даже не шайка, а трест, корпорация. На ее счету множество убийств, ограблений и так далее. Но действует она так искусно, что у полиции пока нет возможности… — Все, что вы говорите, имеет ко мне отношение? — вновь перебил Грейчер. — Не могу скрыть от вас, что я удивлен. — Не торопитесь, профессор. Кажется, у вас сдают нервы. Будем считать, что я пригласил вас, чтобы посоветоваться. — Найдите себе иных советчиков. Я не гожусь. Я человек науки, у меня другая профессия. — И все же вам придется дослушать меня до конца. Итак, шайка прекрасно организована, отличается хорошей дисциплиной и тщательностью в разработке преступных операций. Ситуация, при которой мы бессильны что-либо предпринять против гангстеров, может считаться национальной трагедией. Наш с вами гражданский долг, профессор… — У меня другие долги, комиссар, — опять не сдержался Грейчер. — Вы полицейский, вы и занимайтесь гангстерами. Я же не прошу вас помогать мне! Гард встал из-за стола в полный рост и тоже резко сказал: — Профессор Грейчер, сейчас не я нахожусь в вашем кабинете, а вы в моем. Прошу вас не забывать, что вы имеете дело с полицией, ведущей расследование уголовного преступления. Вы — подозреваемый нами человек, и ваше неповиновение дает нам повод применить к вам строгие меры. Извольте выслушать меня до конца! — Я выслушаю, комиссар Гард, — зло сказал профессор. — Но я буду жаловаться, вы определенно рискуете своей карьерой. — Знаю, — тихо ответил Гард, опускаясь в кресло. — И тем не менее буду делать то, что задумал. Пейте кофе, профессор, он уже окончательно остыл. — Кажется, я тоже начинаю остывать. — Тем лучше для вас и для дела. — Гард вдруг отчетливо понял, что «благородное возмущение» Грейчера было от начала до конца искусственным. — Итак, профессор, я коротко повторяю: хорошо организованная и дисциплинированная шайка гангстеров сумела быть удачливой главным образом за счет своих руководителей — Пита Моргана и Эрнеста Фойта. Оба они умные, ловкие, хитрые и знающие люди. Но в последние несколько месяцев между ними разгорелась конкуренция за единоличное руководство группой. Дело завершилось вынужденным миром, потому что головка шайки пригрозила своим руководителям, что, если один из них убьет другого, оставшегося в живых прикончит сама шайка. Как вы понимаете, группу вполне устраивали два руководителя, поскольку они мешали друг другу возвыситься в диктаторы. Не буду скрывать от вас, профессор, что ровно два дня назад Пит Морган был убит у себя на квартире с помощью переносного конденсатора. Скажите, профессор, логично ли заподозрить в преступлении Эрнеста Фойта? — Я плохой криминалист, — ответил нехотя Грейчер, — но, вероятно, вы правы. — Далее. Фойт тут же предъявил алиби. Это и понятно: он не так боялся полиции, как своих собственных друзей, а потому в час убийства благополучно пировал с ними в кафе. Но то обстоятельство, что он с такой скрупулезностью подготовил себе алиби, говорит о том, что он точно знал, когда должно произойти убийство конкурента. Логично, профессор? — Да, — сухо ответил Грейчер. — Но, комиссар, я уже вышел из того возраста, когда люди интересуются детективными историями… — Как знать, профессор, — перебил Гард. — Не исключено, что в конечном итоге эта история вас заинтересует. Однако предположим, что Фойт наверняка знал о готовящемся убийстве Моргана. Но Фойт мог знать об этом лишь в одном случае: если он это убийство организовал. Верно, профессор? — Не знаю. Убийство могло быть и случайным. — Когда убивают током, точно знают, кого убивают. К такому преступлению надо готовиться. — Током? Тогда… пожалуй, вы правы. — Прекрасно, профессор, вы делаете успехи на криминалистическом поприще. Согласитесь ли вы далее со мной, что Фойт должен был нанять убийцу, не имеющего ничего общего с его средой? Что он мог довериться лишь такому человеку, который, пользуясь вашей терминологией, никогда не интересуется детективными историями. — Это не так-то просто, — сказал Грейчер. — Ну а если человек, нанятый Фойтом, тоже нуждался в его услугах? Положим, тоже замышлял убийство и тоже не мог его сам осуществить. Грейчер промолчал. — Логично ли, профессор, что Фойт просто поменялся с этим человеком объектами преступления? Что они просто договорились и поменялись жертвами. Ведь это сулило каждому из них полную безнаказанность, так как оба получали алиби, а никому и в голову не пришло бы, что они могут договориться. И на этот раз Грейчер промолчал. — Меня, профессор, сейчас интересует лишь одно обстоятельство: как вам удалось договориться с Фойтом и как вы рискнули убить Пита Моргана? Сидите спокойно, я еще не кончил. Наконец, меня интересует, зачем вам понадобилось убирать Лео Лансэре? Чтобы завладеть его открытием? Зачем вам оно, что оно вам сулило? Не торопитесь с ответом, профессор, вы можете подумать. Я почему-то убежден, что опровергать мои логические построения вы не станете. Гард устало откинулся на спинку кресла. Грейчер, не меняя позы, закурил, выпустил тонкую струю дыма и спокойно проследил, как она уходит под потолок, завиваясь кольцами. «Потрясающая выдержка», — даже с некоторой завистью подумал комиссар. Наконец профессор посмотрел на Гарда: — Идея парноубийства принадлежит мне. — Браво, профессор! — воскликнул Гард и хлопнул ладонью по столу. — А этот термин — тоже ваше изобретение? — Как вам будет угодно. Эрнеста Фойта я знаю давно. Последнее время он выполнял кое-какие мелкие поручения мои… и более крупные генерала Дорона. — Почему вы столь откровенны со мной, профессор? — спросил Гард. — Вы не боитесь помянуть даже генерала? — Для моей откровенности есть причины. Ни я, ни тем более генерал Дорон вам не по зубам, комиссар. Я просто вознаграждаю вас за ваше криминалистическое искусство. Вы достойный противник, но вам следует знать, что ваши усилия на этот раз бесплодны. — Предположим, — согласился Гард. — Но хотя бы Фойта я смогу зацепить на убийстве Лео Лансэре? Как вы считаете? — Не считаю, хотя мог бы легко пожертвовать Фойтом. К сожалению, он будет вынужден тогда открыть рот, а я не хотел бы, чтобы дело предавалось огласке. — Вы боитесь? — Сейчас она преждевременна. И вот почему… Но прежде я хотел бы попросить у вас еще чашечку кофе. Гард мгновенно нажал кнопку вызова дежурного. Через несколько минут, прошедших в полном молчании, Грейчер получил желаемую чашку кофе. Отхлебнув несколько глотков, он продолжал: — Вы наивно полагаете, комиссар Гард, что я затеял парноубийство, чтобы присвоить открытие Лансэре. Смешно! Украсть идею можно сотнями способов, не прибегая к уголовщине. Больше того, Лансэре даже не был мне конкурентом, этот цыпленок, обладающий умом гения. Он просто мешал мне осуществить дальнейшие планы, поскольку был излишне щепетилен. Им двигали научные цели, мною — чисто человеческие. Они не всегда совпадают. — Какова же ваша «человеческая» цель, профессор? — Слушайте. Она может коснуться и вас, если пожелаете. Вам лет пятьдесят, не так ли? Вы скоро умрете, но вы можете вернуть себе молодость, силу, здоровье. Хотите? — Конечно. — Считайте, что эта мелочь у вас в кармане. — Вы говорите языком, очень близким к языку Фойта. — Но вы его понимаете? И прекрасно. Так вот, сейчас весь мир помешан на операциях по замене сердца, почек и так далее. Люди готовы платить любые деньги, чтобы купить себе чужое сердце или кусочек чужого тела. О чужой крови я уж не говорю, это банально. Нищенская возня, комиссар! Аппарат перевоплощения дает неизмеримо больше. Он дает своему владельцу чужое ТЕЛО! Целиком! Любое! Вот там, по улице, сейчас идет рослый и красивый молодой человек лет двадцати. Хотите взять его тело? Берите! Но и это пустяки, комиссар. Аппарат перевоплощения дает БЕССМЕРТИЕ! Вы можете менять тела, как обносившиеся платья, вечно живя в молодом и прекрасном теле, сохраняя при этом свое сознание, свою память, свои чувства и эмоции — свое собственное «я». Но и это еще не все. Владение аппаратом дает ВЛАСТЬ, по сравнению с которой власть всех тиранов мира, существовавших на земле и существующих, — ничто! Вы можете перевоплотиться в миллиардера, и все его миллиарды — ваши. Вы можете стать президентом и управлять страной всю вашу многовековую жизнь, самому себе передавая власть по наследству. Вы можете дарить тела и отбирать их. Молодого превратить в старика, красавца — в урода, богача — в нищего, здорового — в прокаженного и как угодно наоборот. Кто не склонится перед такой могущественной властью? Кто? Кто не станет ее рабом? Люди, деньги, бессмертие — все это может принадлежать вам. Гард. — Каким образом? — До сегодняшнего дня я думал, что буду единолично пользоваться аппаратом. Но вы проявили качества, достойные компаньона. Я предлагаю вам союз. — Программа действий, профессор? — Вы серьезно? Я полагал, что вы попросите хоть несколько минут на размышление. Впрочем, способность решать быстро и безошибочно — ваша сила. Программа такова. На первых порах — и здесь ваша роль неоценима — мы выберем нескольких подходящих людей, спрячем их, будем о них заботиться, кормить их и поить, мыть и чистить. Ведь их тела — наши платья, которые мы будем носить по мере надобности, а потом вновь складывать в гардероб. К роли бога надо привыкнуть, комиссар! — Скорее к роли дьявола. — Вы шутите? — Зачем? Но скажите, профессор, какие вы можете дать гарантии, что меня не ждет судьба Лео Лансэре, если я покажусь вам «щепетильным»? — Я ждал этого вопроса и, честно говоря, не понимал, почему вы с ним медлите. А какие гарантии можете дать вы, комиссар? — Аппаратура в ваших руках, профессор, она спрятана вами и, вероятно, не в том доме, где вы живете, и даже не в вашей лаборатории. — Разумеется. — Вот вам и гарантия вашей безопасности. А моей? — Вам придется, комиссар, поверить мне на слово. — Этого мало, — твердо сказал Гард. — Вы торгуетесь, что говорит об искренности ваших слов. — До искренности еще далеко, профессор, — сказал Гард. — Если вы хотите, чтобы я был до конца искренен, поднимите руки. — Что?! — Руки! — крикнул Гард, мгновенно вскинув пистолет на уровень груди профессора Грейчера. Профессор медленно поднял руки, с удивлением и ненавистью глядя в глаза комиссару. Гард вышел из-за стола, приблизился к Грейчеру и профессиональным движением стал ощупывать его тело. — В левом боковом кармане, — прохрипел Грейчер. Из левого бокового кармана Гард извлек большие серебряные часы, напоминающие по форме луковицу. — Не открывайте их! — предупредил профессор. — Они срабатывают немедленно! Когда они вновь успокоились, рассевшись по своим местам, Грейчер утомленно произнес: — Вы удивительный человек, комиссар, вы догадались даже об этом… — А вы полагали, что я всерьез думаю, будто аппаратура занимает целую комнату? — Увы! — признался Грейчер. — Что вы теперь со мной сделаете? Вместо ответа Гард нажал кнопку. В кабинет вошел Таратура. — В камеру три. Профессор встал. — Простите, комиссар, — сказал он упавшим голосом, — но отплатите мне за откровенность откровенностью: каким образом вы пришли к пониманию парноубийства? — Вы правы, Грейчер, теперь и я могу быть с вами вполне искренен, — улыбаясь, ответил Гард, держа серебряные часы за цепочку и крутя их вокруг пальца. — Но похвастать мне нечем. Я мог бы поблагодарить за открытие элементарную логику… Но это уже не ваша забота. Грейчер повернулся и пошел из кабинета прочь. В дверях он остановился, посмотрел на Гарда и странно спокойно произнес: — И все же вы глупец, Гард! Таратура и комиссар весело рассмеялись. — Благодарю вас, профессор, вы чрезвычайно любезны! — успел крикнуть Гард. У Гарда было отличное настроение. Он прошелся по кабинету легкой, почти танцующей походкой и подошел к окну. Все было прекрасно — все, все, все! Начинался день. Тихий, солнечный день. Двор полицейского управления то и дело пересекали какие-то люди, на секунду задерживаясь рядом с дежурным. За решетчатой оградой стояли автомашины, среди которых обращал ни себя внимание белый «мерседес». Когда Гард хотел было вернуться к столу, он неожиданно увидел Таратуру, пересекающего двор. «Куда это он?» — подумал Гард и, высунувшись из Окна, крикнул: — Таратура! Помощник Гарда поднял голову, улыбнулся и весело помахал рукой. Все это он сделал на ходу, не останавливаясь, и что-то странное почудилось Гарду в походке Таратуры, или в его улыбке, или в его одежде, — комиссар не мог понять, в чем именно. Между тем Таратура подошел к дежурному, что-то сказал ему и вышел за пределы двора. Через секунду он уже сидел в белом «мерседесе». Гард оторопело смотрел на своего помощника, и вдруг его как током ударило: Таратура был не в своей одежде! Мощное тело инспектора обтягивал узенький костюм, ноги сжимали явно чужие туфли, изменяющие походку, а галстук неимоверно стягивал горло, оттого-то все выражение лица Таратуры, несмотря на улыбку, показалось Гарду каким-то задушенным, не своим… О Боже, да это же костюм профессора Грейчера! Ничего не понимая. Гард бросился к столу и быстрым движением выдвинул средний ящик. Наверху, на папке, лежали серебряные часы. Схватив их, комиссар открыл крышку. Футляр был пуст! Небольшая тюрьма «для местного пользования», как называл ее комиссар Гард, размещалась в полуподвале полицейского управления и вызывала бесконечные споры на всех архитектурных конгрессах. Одни считали ее гениальным произведением утилитарного зодчества, другие обвиняли ее автора в примитивизме. Среди заключенных тоже не было единого мнения. Те из них, которые предпочитали одиночество и попадали в камеру, чтобы поразмыслить о прошлом и будущем, выражали недовольство тюремной архитектурой. Зато воры, грабители и убийцы, привыкшие к веселому обществу и боящиеся остаться наедине с собой, лишь в превосходных степенях оценивали тюрьму: время здесь шло для них незаметно и весело. А дело было в том, что архитектор, создавший столь уникальный полуподвал, был ярым поборником социальной справедливости. Он считал, что если уж человек попадает в это милое заведение, то он должен покинуть его лишь после полного торжества справедливости. Преступник должен отсидеть свой срок день в день и ни в коем случае не сбежать на волю. И поэтому он спроектировал полуподвал наподобие средневекового собора, акустике которого мог позавидовать любой современный концертный зал. Каждый шорох в каждой из ста пятидесяти четырех камер усиливался настолько, что два надзирателя, находящихся в дежурной комнате, могли отчетливо представить себе, что в данный момент делает любой из ста пятидесяти четырех заключенных. Вот один насвистывает песенку, другой справляет нужду, третий почему-либо мычит или естественным образом кашляет, четвертый сочиняет стихи, а пятый пилит решетку. Когда однажды все заключенные, сговорившись на прогулке, устроили шум во всех камерах одновременно, им все равно не удалось сбить с толку надзирателей, поскольку в том-то и заключалась гениальность зодчего, что он ухитрился все шумы точно рассортировать по происхождению. Во всяком случае, давно уже в полицейских и уголовных кругах ходил анекдот о том, что знаменитая 154-я симфония Гомериса для барабана с оркестром, названная «Свет и тени», написана под впечатлением тех трех суток, что композитор провел в стенах потрясающей тюрьмы, когда его по ошибке приняли за руководителя банды «Минувшее счастье». В тот момент, когда Гард, выскочив из кабинета, бросился в полуподвал, по узкому тюремному коридору ему навстречу несся хохот. Чутким ухом Гард уловил, что смеются оба дежурных надзирателя, стоя у камеры номер 3. Надзиратели наслаждались веселым и забавным зрелищем. Только что водворенный в третью камеру профессор Грейчер вызвал их из дежурного помещения криками: «Вы что, олухи, с ума посходили?!» — и теперь утверждал, ни капельки не смущаясь, что он — инспектор полиции Таратура! — А может, вы Юлий Цезарь? — хохотал наиболее грамотный из надзирателей. — Ох, уморил! — держась за живот, вторил другой. Вся тюрьма прислушивалась к их веселью, лишающему одних заключенных покоя и дающему другим желанное развлечение. — Ребята, вы действительно меня не узнаете? — чуть не плача от возмущения, кричал профессор Грейчер. — Вы рехнулись? Да это ж я, я, Таратура… Перестаньте ржать, в конце концов, и срочно вызовите Гарда! Я что вам сказал! В ответ ему был дружный хохот. — Ослы безмозглые! — бушевал Грейчер. — Болваны! Вы отсидите у меня под арестом по десять суток каждый! — Ха-ха-ха! — А тебе, Смил, я ни за что не верну те пять кларков, которые взял в прошлую среду! Словно поперхнувшись, оба надзирателя умолкли. В этот момент комиссар Гард и подоспел к камере. Еще издали он увидел профессора Грейчера, вцепившегося руками в решетку. На профессоре была желтая куртка Таратуры, но сидела она на нем как мешок. Оцепенелым взглядом уставившись на профессора Грейчера, Гард медленно подошел к камере, металлическим голосом попросил надзирателей удалиться и отпер замок своим ключом. — Вы понимаете, Гард, эти болваны приняли меня за профессора Грейчера! — облегченно проговорил профессор Грейчер. — А куда делся сам профессор, я не знаю! — Что же случилось? — еле выдавил из себя Гард, стараясь не глядеть на заключенного. — Когда мы вошли с ним в камеру, он предложил мне сигарету и вынул портсигар… — Какой портсигар? — А черт его знает! Нормальный серебряный портсигар. — И что дальше? — не глядя на Грейчера, спросил Гард. — А дальше я не помню. Какой-то странный зеленый луч… потом удар в челюсть… Сказать по совести, это был достойный удар, комиссар, уж в этом я понимаю! «Еще бы! — подумал Гард. — Ведь бил уже не профессор Таратуру, а Таратура профессора!» — И что дальше? — Когда я очнулся и поднял тревогу, эти болваны… Гард взглянул в лицо говорящему. Холеные щеки, благородные усики скобкой, щелочкой сощуренные глаза и этот характерный породистый подбородок, свидетельствующий об отличной кормежке… Жуть какая! — Послушайте меня, старина, — тихо произнес Гард. — Послушайте внимательно и спокойно, собрав всю волю и выдержку. Профессор Грейчер сбежал, украв ваше тело. — Что?! — воскликнул заключенный. — Что вы говорите. Гард? Вы мне не верите?! — Дай руку, Таратура, — строго сказал комиссар. — Ты чувствуешь, у тебя выросли усы? Разве ты когда-нибудь носил усы? Ты чувствуешь, что у тебя стало меньше сил? Что твоя тужурка висит на тебе как на вешалке? Ты понимаешь… Схватившись за голову, Таратура медленно сполз по стене на пол камеры. — Это правда, комиссар? — тихо спросил он, глядя оттуда на Гарда обезумевшими глазами. — Но ведь этого не может быть! Комиссар, этого не может быть!!! — С ним начиналась истерика, хотя он прежде был сильным человеком, способным переносить любые страхи и ужасы. — Ведь это чушь, комиссар! — Таратура стал рвать на себе волосы, царапать свои холеные щеки, ломать пальцы. Гард с трудом сдерживал его, и по всей тюрьме, усиленное гениальной акустикой, неслось: — Это чушь, чушь, чушь!..Плоды беспечности
Министр внутренних дел Воннел обожал отчеты. С величайшим наслаждением он читал и перечитывал все, что писали ему агенты и руководители ведомств, и с не меньшим удовольствием сам составлял докладные в адрес правительства. Пожалуй, в нем погиб великий сценарист или репортер уголовной хроники, зато в нем процветал не менее великий пожиратель сенсаций. Открыто преступление или не открыто, задержан преступник или нет — все это почти не беспокоило Воннела, если отчет содержал в себе драматическое изложение события, снабженное сложным сюжетным ходом и всевозможными хитрыми перипетиями. Читая такие отчеты, Воннел хохотал и плакал, страдал и наслаждался, подпрыгивал в своем кресле, а в особенно жутких местах сползал под массивный стол. Такие понятия, как «вывод», «конкретное предложение», «заключение» и «резюме», были неведомы министру. Подай ему само событие, его ход, направление, и достаточно! Выводы и резюме он поручал другим людям, стоящим ниже его по рангу, или выпрашивал у тех, кто был по рангу выше. И собственные докладные он писал, а вернее, заказывал штатным составителям в духе присылаемых ему отчетов. Воннел прекрасно учитывал тягу своих хозяев ко всему оригинальному, необычному, невероятному и лишенному здравого смысла. Сказать, что это была слабость министра, нельзя, — скорее, это была его сила. Но, прослышав об этой страсти министра, комиссары и инспектора полиции стали нанимать профессиональных писателей, которые по скромным заметкам сочиняли потрясающие отчеты, а еще чаще просто выдумывали их. В стране, таким образом, одновременно процветали нераскрытая преступность и многословная отчетность, развиваясь параллельными, нигде не пересекающимися курсами. Отчет комиссара Гарда произвел на министра жуткое — стало быть, прекрасное — впечатление. Дочитав до того места, где профессор Грейчер превращается в инспектора Таратуру, а Таратура — в профессора Грейчера, Воннел опустился под стол и просидел там, пока по его вызову не явился первый заместитель Оскар Пун. Тогда, выбравшись из-под стола, Воннел произнес трагическим голосом: — Вы читали?! Оскар Пун читал все на час раньше министра. Он кивнул и сказал: — Я рад, господин министр, что отчет вам понравился. — Но каков комиссар Гард! — восхищенно воскликнул министр. — Он никогда не славился выдумкой, а тут — на тебе, наворотил такую прелесть, что просто мурашки бегут по телу! Как вы думаете, Пун, не стоит ли доложить это дело президенту? — Полагаю, господин министр, — ответил Пун, более реалистически смотрящий на вещи, — что сначала следовало бы выслушать комиссара Гарда. — Он здесь? — И не один, а с профессором Грейчером, который одновременно есть Таратура. — Давайте их по одному, — приказал Воннел. Через минуту Гард входил в кабинет министра. — Поздравляю вас, комиссар! — вместо приветствия сказал Воннел, выходя из-за стола и протягивая комиссару руку, что означало награждение Гарда премией в размере месячного жалованья. — Вы написали превосходный отчет! — Дело чрезвычайно серьезное, господин министр, и требует принятия немедленных мер, — сказал Гард. Воннел молча вернулся на место и поморщился, что означало: с премией пока следует повременить. — Об этом мы еще поговорим, комиссар, — сказал министр. — И все же сюжет превосходен! До парноубийства не додумался пока ни один комиссар полиции! Гард! Вы — первый! Даже Альфред Дав-Купер… — Я ничего не выдумал, господин министр, — перебил его Гард. — К сожалению, все то, что написано в отчете, произошло в действительности. — Разумеется! — воскликнул Воннел. — Такое не придумаешь! Мы обменялись с моим заместителем мнениями и решили доложить дело президенту. Не так ли, господин Пун? — Вы, как всегда, правы, господин министр, — ответил заместитель, улыбаясь своей многозначительной улыбкой, которую репортеры уже давно окрестили «пуновской», а карикатуристы «Модиссон кропса» бичевали ею угодничество, подхалимаж и ложные патриотические порывы. — Где сейчас преступники? — возвращаясь к делу, спросил министр. — Эрнест Фойт — в тюрьме, профессор Грейчер — на свободе. — Его приметы известны? — И да и нет, — ответил Гард. — Дело запутанное. Сначала Грейчер украл внешность инспектора Таратуры, приметы которого нам хорошо известны. Но когда мы организовали погоню, он совершил ряд превращений, последовательно меняя внешность. На данный момент мне известны шесть человек, телами которых он воспользовался. Нужны энергичные меры для того, чтобы предупредить… — Не понял, комиссар, — откровенно признался министр, прервав Гарда. — Вы это серьезно? — Не волнуйтесь, комиссар Гард, — вмешался Пун, — и говорите яснее. — Я не волнуюсь. Если у вас есть время, могу рассказать подробней. Все материалы… — Он запнулся на секунду. — Все материалы, господа, я захватил с собой. — Что именно? — спросил Пун. Гард поднялся, подошел к двери и открыл ее. В кабинет вошел Таратура в облике профессора Грейчера и вытянулся по стойке «смирно». Типично гражданская внешность — округлый животик, выпирающий из штанов, холеное лицо джентльмена — и эта нелепая стойка «смирно» вызывали невольную улыбку, но Гард, в отличие от министра и его заместителя, не улыбался. — Вот так, господа, выглядел профессор Грейчер до первого превращения, когда он попал к нам, — сказал Гард. Все еще улыбаясь, Воннел и Пун подошли к Таратуре и уставились на него, как европейские мальчишки могут уставиться на черного человека, впервые появившегося в их городе. Затем улыбки на их лицах сменились недоумением, а Воннел даже дотронулся до уха Таратуры так осторожно, словно оно могло взорваться. — Можете идти, — сказал министр, и Таратура, ловко повернувшись через левое плечо, вышел из кабинета. Все сели на свои места, погруженные в размышления. — Слушайте, Гард, — сказал после паузы Пун, — зачем вам все это нужно? — Что именно, господин Пун? — Да этот ваш… показ? — Не понял. Министр и заместитель переглянулись. По всей вероятности, они до сих пор не могли отнестись к делу серьезно, и коли так, то комиссар уже казался им полным кретином. — У вас же есть оба преступника! — сказал министр, с полуслова поняв своего заместителя. — Фойт, как вы сказали, в тюрьме, а Грейчер — вот он! И Воннел указал глазами на дверь. — Это не Грейчер, а Таратура, — сказал Гард. — Он может это доказать? — спросил Пун. — Вы посмотрите, как все получается: вы открыли страшное преступление, изловили двух убийц, и никто из них никуда не сбежал и не выкрал никаких чужих тел! — А за отличный вымысел — спасибо! — добавил министр. — Очень приятно было читать, очень. Гард оторопело смотрел на говорящих. Они экзаменуют его? Прощупывают? Просто шутят? — Простите, господа, но Таратура не есть профессор Грейчер. Он отлично помнит, кто он, когда родился, чем занимается и кто у него друзья. Его биография и биография Грейчера не совпадают… — Наш суд разберется в этом как надо, — сказал Воннел. — Вы мне не доверяете, господин министр? — сухо сказал Гард. — Зачем же так, комиссар… — В таком случае поверьте мне. Тем более, что спасение Таратуры и всех пострадавших от перевоплощения, как и поиск преступника, — долг моей совести! Министр поморщился, и Оскар Пун окончательно решил: премии не давать. — Что же вы хотите? — раздраженно спросил Воннел. — Прежде всего продемонстрировать вам записи допросов всех пострадавших. — Зачем? — сказал Пун. — Чтобы вы в полной мере ощутили трагедийность происходящего. — Давайте, давайте, — оживился Воннел. — У вас в форме отчета? — Нет, магнитофонные записи. — Превосходно! Гард вынул из портфеля портативный магнитофон и, прежде чем нажать пуск, извинился за маленькое предисловие, которое был вынужден сделать: — Итак, господа, Грейчер выехал из полицейского управления в своей машине, имея внешность инспектора Таратуры. Он понимал, что его будут преследовать. Действительно, через семь минут после побега все посты получили мою телефонограмму с требованием задержать машину, а также приметы Таратуры. Первый сигнал о невероятном событии я получил из универмага «Бенкур и К0». Естественно, что профессор направился именно туда, где больше всего народа. Там он привел в действие аппарат перевоплощения и поменялся телами с человеком, голос которого вы сейчас услышите. Внимание, господа! Гард включил магнитофон. На фоне гудящей толпы выделялся мужской голос, истерически шептавший:«Умоляю вас, комиссар, умоляю! Быстрее врача! Со мной происходит что-то страшное! Уберите людей! Врача, комиссар, умоляю вас!..» «Повторите рассказ о том, что с вами произошло». — Это был голос комиссара Гарда. «Что? — спросил несчастный. — Что? Повторить? Это невозможно, комиссар! Он бежал по лестнице… столкнулся со мной… Я стоял вот тут… И вдруг мне в глаза блеснул зеленый луч… О Боже, как это страшно!.. Я на мгновение потерял сознание, а когда пришел в себя… Комиссар, умоляю вас — врача!.. Это не мои руки! Не мои руки! Не моя голова! Не мой голос! Я не в своем уме, комиссар? Мне все это кажется? О Боже!..» «Куда делся тот человек, что столкнулся с вами на лестнице?» «Не знаю, комиссар, я больше ничего не знаю! Я взглянул в зеркало и вдруг увидел, что мой костюм сидит не на мне!.. Понимаете? Это страшно!..»Гард выключил магнитофон: — Вы слышали, господа, голос первой жертвы: студента Джосайя Болвуда. Он приобрел внешность инспектора Таратуры, а с его внешностью профессор последовал дальше. — Как скоро вы прибыли на место происшествия? — спросил Пун. — Через шесть минут. — Профессор не мог далеко уйти. — Но мы потратили массу времени для того, чтобы установить его новые приметы. — Почему же? — спросил Воннел. — Ведь студент был с вами. — Но в таком состоянии, господин министр, что не мог описать свою внешность. Когда же мы привели его в чувство, выяснилось, что мы вообще плохо знаем свою внешность, — во всяком случае, гораздо хуже, чем чужую. И потому нам пришлось ехать домой к Болвуду, чтобы там добывать его фотографию. На все на это у нас ушло еще двадцать четыре минуты, а за это время… — Ну, ну, что случилось за это время? — с интересом спросил Воннел. — Вот вторая запись, господа. С магнитофонной ленты отделился мужской голос с приятной баритональной окраской:
«Я интеллигентная женщина, комиссар, и понимаю, что, если дело дошло до воровства наружности, мир стоит на краю гибели…»Министр не удержался и захохотал: — Это женщина?! Невероятно! Она же говорит почти басом! — Это печально, господин министр, — сказал Гард. — Можно продолжать?
«Если бы я знала, комиссар, — продолжал мужской голос, — что зеленый лучик, пущенный из рук этого типа, доставит мне столько неприятностей, я десять раз свернула бы ему шею, прежде чем он ко мне подошел». «Что вы чувствовали, госпожа Лелевр?»Министр вновь хмыкнул, еле сдерживая смех.
«У меня закружилась голова, а потом я почувствовала, что с моих ног падают туфли. Я ношу сорок третий размер, комиссар, а этот паршивый студентишка, наверное, не больше сорокового. Моя обувь и слетела с его ног… Ну, я, конечно, сначала испугалась и заорала, а потом думаю: чего я ору, если все это мне снится? Даже интересно досмотреть до конца. Но тут явились вы, господин комиссар, и мне стало ясно, что я бодрствую. Если во сне приходит полиция — значит, это не сон!» «Что было дальше, мадам Лелевр?»— Да, да, что было дальше? — вставил министр.
«Они смеялись! Я ничего не понимала, а они дико смеялись. Еще бы, не всегда увидишь мужчину, одетого в женское платье, да еще не по размеру!..»Гард остановил магнитофон. — Это мадам Мери Лелевр, продавщица. Она получила внешность студента Джосайя Болвуда, — пояснил комиссар. — Пока мы с ней объяснялись, профессор Грейчер в женском обличье вышел изунивермага и исчез. Мы потеряли его из виду. — Вы же могли оцепить универмаг, — сказал Пун. — Для этого мне понадобилась бы вся полиция города. — Ну а потом? — спросил Воннел. — Через три часа мы узнали, что внешность Лелевр отдана парикмахеру Паулю Фриделю. С ним случилась истерика, и потому это стало известно полиции. Пауль Фридель как раз собирался на свидание к своей возлюбленной и вдруг сам стал женщиной! Затем внешность парикмахера оказалась у Юм Рожери… — Киноактера? — сказал Пун. — О, это известнейший актер! — Да, и мы вновь напали на след, хотя прошло уже свыше семи часов после первого перевоплощения. Дело в том, что Юм Рожери не сразу узнал об этом. Он пришел в артистический кабачок, его не пустили, и тогда он устроил скандал. Доставленный в полицию, он утверждал, что знаменитый актер Юм Рожери — это он, и так мы узнали об очередном преступлении профессора Грейчера. А внешность актера… — Очень интересно! — воскликнул Воннел. — …досталась нищему Остину. — Поразительно! — Остин спал на скамейке в Притт-парке. Можете послушать его показания. Гард вновь пустил магнитофон.
«Господин комиссар, я уважаю конституцию, но почему конституция не уважает меня?» «Оставим конституцию в покое…» «Вам легко говорить, господин комиссар, потому что четыре раза в месяц вы получаете жалованье, а мне приходится добывать деньги каждый день. И вот наконец, когда клиент пошел ко мне, как атлантическая селедка в трюмы сейнера, ваши ребята хватают меня за шиворот и волокут в полицию! Кто возместит ущерб? И долго ли вы будете держать меня в участке?» «Не надо философствовать, Остин, а говорите, что с вами произошло, когда вы проснулись». «Вы мудры, комиссар, как царь Соломон. Преклоняясь перед вашими доводами, я готов рассказать все, что вас интересует, тем более что через тридцать семь минут кончится рабочий день в банке „Инрепрайс“ и несколько тысяч служащих промчатся мимо моего места, купленного в ассоциации нищих за приличные деньги. Я надеюсь извлечь из этого людского потока кое-что для удовлетворения личных нужд…» «Вы вновь отвлекаетесь, Остин!» «Виноват. Итак, когда я проснулся и занял свое доходное местечко, произошло чудо. Мои клиенты превратились в сущих ангелов! Не было человека, который, рассмеявшись, не подал бы мне монету! Они подходили ко мне и клали деньги в берет с такой вежливостью, как будто я датский король из драмы Уильяма Шекспира! Некоторые из них называли меня Юм Рожери, но какое мне дело, как меня называют, если дают деньги, господин комиссар? Если нашего президента назвать ослом, но при этом дать ему…» «Вы опять отвлекаетесь, Остин!» «Виноват. И вдруг ваши ребята хватают меня за шиворот и волокут в участок, как будто я злостный неплательщик налогов! Я спрашиваю, господин комиссар, есть у нас в стране конституция или нет? Кто возместит мне убытки…»Гард остановил магнитофон. — Итак, господа, последние данные таковы: профессор Грейчер сейчас в образе нищего Остина. Как он выглядит, мы не знаем, поскольку у нищего не было ни одной фотографии, а описать себя он не может. Говорит: «Я прихрамывал, но нарочно, а еще делал левый глаз слепым». — Все? — спросил Воннел. — Все, господин министр. Во все полицейские участки мною разосланы телефонограммы, требующие осторожности. Перевоплощенцев я собрал в одном месте… — Кого? — сказал Пун. — Перевоплощенцев. Как их иначе назовешь? — Их можно вернуть в прежнее состояние? — поинтересовался Пун. — Вероятно, да, — ответил Гард. — Но сделать это может только профессор Грейчер. Впрочем, во всех перевоплощениях, как туда, так и обратно, возможна путаница, и концов потом не соберешь. В любом случае надо надеяться, что Грейчер когда-нибудь захочет вернуть себе собственную внешность. — Зачем? — сказал Воннел. — У него же семья, жена и дочь. — Ну и что? — не понял министр. — Если он еще полностью не утратил человечность, он захочет их повидать и сам им показаться. Воннел пожал плечами. Гард продолжал: — Так или иначе, но его родные ничего не знают о случившемся. Мы установили за ними наблюдение. Кроме того, приняли меры к охране Таратуры, который носит сейчас облик профессора. Если нам удастся схватить Грейчера и его аппарат, обратный обмен внешностями возможен. Но если нет, несчастные обречены. — Их не так уж много, — спокойно заметил министр. — Ваши страхи преувеличены. — Но ведь возможны дальнейшие превращения! Положим, к вам приходит на доклад комиссар полиции, и вы, господин министр, получаете его внешность и, стало быть, его должность. — Как это комиссар полиции может превратиться не в моего человека? — возмутился Воннел. — Очень просто, господин министр: с ним может обменяться телами Грейчер… Или, чего доброго, он может передать вам тело и внешность гангстера или уличной женщины, и тогда вы потеряете… Гард умолк, потому что Воннел стал медленно сползать под стол. — Что нужно, — прошептал он чуть ли не из-под стола, — чтобы пресечь дальнейшие превращения? — Вот список необходимых мер. — Гард протянул Пуну лист бумаги. Пун быстро прочитал, затем передал министру. Они многозначительно переглянулись. — При всем желании, — сказал Воннел, — я не могу своей властью санкционировать такие меры. Готовьтесь к докладу президенту, комиссар! Пун, отдайте распоряжение, что отныне комиссары полиции освобождаются от личных докладов министру внутренних дел. Достаточно будет отчетов! Вы свободны, господа! Пун улыбнулся пуновской улыбкой и вместе с Гардом вышел из кабинета.
«Красные листья»
Вилла «Красные листья», название которой дал старинный парк с красавцами кленами, словно вспыхивающими огнем каждый сентябрь, принадлежала полиции. Одно время там был стенд для экспертизы оружия, потом в парке тренировали овчарок-ищеек, но чаще всего вилла пустовала. Теперь Гард вспомнил о ней и распорядился как можно скорее отправить туда всех несчастных оборотней. Туда же он отправил и Таратуру с двумя полицейскими, попросив их позаботиться хотя бы об относительном порядке. Впрочем, Таратура находился в каком-то оцепенении, в состоянии тихой и глубокой паники, и Гард сразу понял, что толку от него будет мало. В один из дней он сам решил поехать в «Красные листья». Машина шла по шоссе, обсаженному старыми вязами, и в ровной череде их побеленных стволов было что-то глубоко мирное и успокоительное. Гард грустно думал о том, как он стар уже… Да, да, стар! Дело не в годах, потому что годы — разные. Раньше годы были длинными, а теперь они совсем короткие, время бежит все быстрее, завивается вихрем. Его молодость — это золотое время дактилоскопии, качественных химанализов и детской доверчивости к фотографиям. Потом пошел ультрафиолет, рентген, ультразвук, углерод-14, — чего только не напридумали люди. Все эти премудрости и загнали его в старость. И вот дожили — уже меняются лицами, телами… Страшный сон. Как можно нормальному человеку разобраться в этом кошмаре? Куда он годится сейчас со своей старомодной логикой и дактилоскопией? Неизвестно, есть ли бог, но дьявол существует. Это абсолютно установленный факт. Только дьявол может научить такому. В «Красных листьях» Гард прежде всего попросил Таратуру принести протоколы всех допросов и по ним еще раз постарался представить себе весь ход событий в универмаге. Итак, Грейчер в облике Таратуры, спасаясь от преследования, обменял лицо Таратуры на лицо… как его… Джосайя Болвуда — студента-филолога, 22 года. Значит, профессор одним махом помолодел чуть ли не на 30 лет! А студенту он, стало быть, оставил лицо Таратуры… Не оборачиваясь, чтобы еще раз не содрогнуться при виде Таратуры в облике Грейчера, Гард спросил: — Вы видели этого… ну, студента? — Да, комиссар, — тихо сказал Таратура. — Это ужасно… Вы даже не представляете… Я чуть не умер, когда увидел! — Очень похож на вас? — Да какой там похож! — в неподдельном отчаянии воскликнул Таратура. — Это я! — М-да, — потупился Гард. — Ну хорошо, пойдем дальше. Итак, из Болвуда этот негодяй превращается в… минутку, ага, вот этот протокол, — Мери Лелевр: продавщица отдела носков, 52 года. А несчастная продавщица становится в свою очередь… э-э… студентом. Далее парикмахер Пауль Фридель, 37 лет, превращается в продавщицу, а актер Юм Рожери, 59 лет, в парикмахера. И наконец, последнее перевоплощение: человек без определенных занятий Уильям Остин получает лицо актера, а его лицо… А его лицо похищает Грейчер. И поскольку человек без определенных занятий, а точнее, просто бродяга Остин не располагает своими фотографиями, мы даже не знаем, как теперь Грейчер выглядит. Уф! Гард откинулся на спинку кресла. Просто можно сойти с ума. Итак, если он сейчас войдет в холл, где сидит вся эта компания, то увидит… Гард перевернул один из листов протокола и набросал такую таблицу:Я увижу…________А на самом деле это… Таратуру___________Студент Болвуд Студента Болвуда____Продавщица Мери Мери______________Парикмахер Пауль Парикмахера _______Актер Юм Рожери Актера_____________Бродяга ОстинТо, что он видит Грейчера, а на самом деле это Таратура, он уже усвоил. — Как они там? — спросил Гард Таратуру, кивнув в сторону холла. — Сейчас как-то вроде успокоились, — сказал Таратура. — Просто, наверное, устали кричать. А поначалу это был сущий ад. Хватали друг дружку и вопили, как будто их режут. Но, комиссар, я их понимаю. Лучше потерять руку, ногу, чем вот так… Хуже всех было, пожалуй, парикмахеру. Красивый парень, жена, возлюбленная, двое ребятишек, и вдруг — бац! — он превратился в эту… В даму. По-моему, он… или она — не знаю, кто оно теперь, слегка тронулось. — А продавщица? — спросил Гард. — Ну, я имею в виду бывшую продавщицу. — Понимаю, вы имеете в виду студента… Она молодец. Даже смеялась. Вы можете сами поговорить с ними. Вообще-то говоря, с виду ничего страшного. Люди как люди. Гард встал, сунул в карман заготовленную шпаргалку, пошел к двери холла, бросив на ходу: — Как только привезут словесный портрет этого бродяги, позовите меня. Стараниями своего бывшего хозяина холл виллы «Красные листья» был превращен в маленький зимний сад. Спрятанные под полом кадушки с землей создавали иллюзию леса: пальмы, перевитые лианами, росли прямо из-под пола. На искусных подставках и подвесках цвели амариллии, кринум, пеларгонии, замысловатые фуксии, несколько тюльпанов и сочные, аппетитные гиацинты, меж цветками которых поблескивали стекла аквариумов. Обивка низкой мягкой мебели гармонировала с тонами растений. Посередине холла стоял круглый столик с журналами. Гард вошел и быстро огляделся. Прямо перед ним, вытянув ноги и раскинув по спинке дивана руки, сидел инспектор Таратура. «Так, — подумал Гард, — это студент. Ясно…» В кресле у столика, лениво перелистывая журналы, развалился — о, его Гард узнал сразу! — Юм Рожери, известнейший киноактер. Он начал свою карьеру лет двадцать назад в фильме, сделанном по какому-то русскому роману. Кажется, он назывался «Стальная птица». И с тех пор пошел на всех парах. «О, эти нежные, нежные, нежные руки», «Акула завтракает в полночь», «Эскадрилья амуров»… Да разве можно вспомнить все фильмы, где снимался Юм Рожери! А этот, ну с дракой на крыше монорельсового вагона… Как же он назывался?.. «Едем, едем, не приедем» — что-то в этом роде… — Хэлло, Юм, — кивнул Гард и улыбнулся, но в ту же секунду сообразил, что ведь это же не Юм. — Привет! Если не ошибаюсь, комиссар Гард? — раздался голос из-за пальмы, и, раздвигая острые тонкие листья, к Гарду вышел красивый брюнет лет тридцати пяти в светлом, мешковато сидевшем костюме. — Откуда вы меня знаете? — спросил Гард и подумал: «Это парикмахер. Да нет же! Это как раз Юм с лицом парикмахера!» — Одно время ваши портреты печатали в журналах не меньше, чем мои, — сказал брюнет. — Чем мои, вы хотите сказать, — перебил человек с лицом Юма и захохотал, давясь смехом, известным всей стране. «Это Остин, бродяга», — сообразил Гард. — Комиссар, умоляю вас, заклинаю вас всеми святыми, спасите меня! — За руку Гарда крепко ухватилась крупная женщина. — У меня жена, у меня маленькие дети, я не могу, это чудовищно! Я продам свою парикмахерскую, я все продам, только верните мне мое лицо! — Успокойся, садись, у комиссара, наверное, есть приятные новости для нас, — сказал незнакомый молодой парень, обнимая за плечи женщину. — Я уверена, все образуется. «Парень — это студент, — лихорадочно вспомнил Гард, — вернее, это одна видимость студента, а на самом деле это… — Он полез в карман за шпаргалкой. — Так, если я вижу студента Болвуда, то на самом деле это продавщица Мери. Поэтому он и говорит: „я уверена“. С ума можно сойти! Значит, продавщица сейчас утешает сама себя, вернее, парикмахера с ее лицом. М-да, я чувствую, что этот профессор завязывает мои мозговые извилины морским узлом». — Дамы и господа! — бодрым голосом начал Гард, чувствуя, что снова забыл, кто здесь господа, а кто дамы. — Рад вам доложить, что в самом ближайшем будущем все встанет на свои места. Вы оказались невольными жертвами… как бы сказать… некой мистификации, фокуса, если угодно… — К черту такие фокусы, я мужчина! — заорала вдруг женщина. — Безусловно! — поспешно согласился Гард, обернувшись к ней. — А сейчас мне хотелось бы просто обсудить с вами сложившуюся ситуацию. Только давайте поговорим спокойно. Мистер Болвуд… — Гард обернулся к человеку с лицом Таратуры. — Ну, что же сказать, комиссар, — сказал студент, поджимая ноги, — история, конечно, презанятная. Как я выяснил, я стал точной копией вашего помощника инспектора Таратуры. Я всегда уважал полицию, комиссар, и, поверьте, мне даже лестно в какой-то степени. — Давайте без взаимных комплиментов, — улыбнулся Гард. — Конечно, с такими ножищами и ручищами я бы мог стать не последним в университетской команде регбистов, — продолжал Болвуд. — Но, согласитесь, комиссар, что такой, как сейчас, я уже несколько староват для третьего курса. И кроме того, Сузи. Я не знаю, как она отнесется к этому. Мы собирались пожениться… — Поженились бы вы, если бы с тобой сделали такую же штуку, как со мной! — крикнула женщина. — …так что я готов в любой момент вернуть инспектору все, что у него отнял, — продолжал Болвуд, — если вы скажете мне, как это сделать. И конечно, забрать у миссис Мери… э-э… себя. Гард обернулся к молодому человеку, которого студент назвал «Мери». — Вы как раз были таким? — спросил Гард рассеянно. — Ага, точь-в-точь, — сказал Болвуд. — Знаете, сначала кажется, что это зеркало, а потом начинает как-то кружиться голова. — А вы? — обратился Гард к молодому человеку. — Вы, стало быть, Мери Лелевр из универмага «Бенкур», отдел носков? — Верно, комиссар, — улыбнулся парень. — Я — Мери. Я сначала очень испугалась. А потом подумала: «Главное, цела осталась» — и успокоилась… Со мной в жизни всякое бывало, и вот ничего, живу… Сначала мы кричали здесь один на другого и требовали назад свои лица, свои тела. Но теперь поняли, что все мы одинаково несчастны. Конечно, я хотела бы умереть такой, какой я была. Но если все это случилось… Давайте искать радости в новом своем положении. В каждой беде обязательно есть глубоко запрятанное зерно радости. Надо только найти его и вырастить… — Какие радости, Господи Боже мой, какие радости! — снова закричала женщина-парикмахер. — Инспектор, если весь этот кошмар не кончится завтра, я убью себя! То есть его… То есть себя!.. — Она воздела руки к небу. — Я хочу жить, мне тридцать семь лет! «Женщины всегда преуменьшают свой возраст, — машинально отметил про себя Гард, но тут же вспомнил: — Да ведь это же действительно парикмахер». — Я люблю свою жену! — кричала женщина. — Моих детей! О какой радости вы говорите, какую радость получил я? Я буду жаловаться! — Кому? — спросил актер с лицом парикмахера. — Кому ты будешь жаловаться? — Правительству! — И что? Что дальше? Правительство издаст указ, чтобы тебя считали мужчиной? — А твоя жена не подчинится указу! — захохотал бродяга с лицом актера. — Ты напрасно смеешься, — обернулся к нему Юм Рожери. — Меня, дорогой комиссар, как раз занимает юридическая сторона вопроса. Ведь все знают прежде всего мое лицо. Кому принадлежит мой дом, моя ферма в Матре? Мне или ему? — Он кивнул в сторону бродяги. — Конечно мне! — радостно завопил бродяга. — Если бы меня не сцапали и не привезли сюда, я бы нежился на пуховых перинах в твоем особняке и лакал бы арманьяк из пивных кружек! — Замолчи, — перебил его актер. — В конце концов, я готов начать с такой внешностью новый круг, — продолжал он. — Правда, мне придется переквалифицироваться в героя-любовника. С такой физиономией, — он провел рукой по щеке, — я как раз… — Это моя физиономия! — закричала женщина. — Если она вам не нравится, верните ее мне! — Нет, почему же, — спокойно ответил актер, — это не худший вариант. Вы говорите, что вам тридцать семь лет? Ну, я как раз только-только начинал в ваши годы. А сейчас тридцать семь лет плюс мой опыт, мои связи, мои деньги, моя реклама — это другое дело! Да и кому из нас не хотелось бы сбросить парочку десятилетий, не правда ли, дорогой комиссар? — Что верно, то верно, умереть мы всегда успеем, — сказал студент, а на самом деле продавщица Мери Лелевр. — Это несправедливо, — заметил человек с лицом Таратуры. — Выходит, у меня украли лет пятнадцать жизни? — Тебя здорово охмурили, парень, — весело поддакнул бродяга. — Но ты запомни, у нас говорят: время — это деньги. Главное теперь — выяснить, кто будет платить. Уж не наша ли полиция, а, комиссар? — И он снова заразительно захохотал. Глядя на него, Гард никак не мог отделаться от мысли, что Остин — это вовсе не Остин, а Юм Рожери в роли бродяги Остина. — Сказать по правде, комиссар, — продолжал бродяга, — я был бы не против, если бы эта шутка или как вы там ее называете продлилась подольше. С моей новой рожей я за час насшибал столько монет, сколько не имел и за неделю. А в кафе «Бутерброд с гримом», где собираются артисты, мне подавали даже бумажки! Такого не бывает и на Рождество! И надо же — меня сцапали! Я кричу, а ваши ребята, комиссар, тянут меня в машину. Это было очень весело, черт побери! — «Весело»! — взревел парикмахер — женщина. — Тебе весело, идиот! — Спокойно, господа. — Гард поднял руку. — Я понимаю всю сложность вашего положения и разделяю ваши тревоги. Что касается вас, мистер Фридель, — он обернулся к женщине и улыбнулся, — что касается вас, Пауль, не надо нервничать. Еще раз повторяю: я уверен, что в самом скором времени мы вернем вам ваши лица. Поиски затрудняются лишь тем, что… В эту минуту в холл быстро вошел Таратура. Гард увидел, разумеется, профессора Грейчера, но, сделав над собой легкое усилие, понял, что это Таратура. «Пора привыкать», — подумал Гард, когда Таратура, подойдя вплотную, что-то быстро и горячо зашептал ему в ухо. — Что-что? — переспросил Гард. Потом понял. Обернулся. — Извините, я должен ненадолго уйти. Мы еще поговорим… У гаража виллы стоял полицейский автомобиль. Шагая в густой тени кленов, Гард видел, как двое полицейских медленно вытаскивали из машины носилки, на которых угадывалось человеческое тело, покрытое белым. Наконец они поставили носилки в траве, с громким, резким, как выстрелы, звуком захлопнули дверцы автомобиля. Гард подошел к носилкам, и, опережая его приказ, Таратура отбросил простыню. Изможденный морщинистый старик, с мешками под закатившимися глазами, лежал на спине, мертво подогнув правую руку. На нем был превосходный серый английский костюм чистой шерсти с белым уголком платка, торчащим из кармана, который никак не вязался с седой щетиной на впалых щеках. — Смерть наступила мгновенно, — сказал сержант за спиной Гарда. — Выстрел в упор точно в сердце. Только теперь Гард заметил маленькое отверстие с рыжими краями под франтоватым белым платочком. — Вы думаете, это он? — спросил Гард Таратуру. — Похоже, что он. — Придется позвать его. — Это жестоко, комиссар. — Иначе мы не будем знать точно. А нам необходимо знать совершенно точно. — Вы правы. Хорошо, я схожу за ним. — Таратура зашагал к вилле. — Что нашли на убитом? — спросил Гард сержанта. Сержант достал из нагрудного кармана шпаргалку:
— «Бумажник с восемьюстами четырнадцатью кларками, авторучку „паркер-1100“, чековую книжку, носовой платок, машинку для стрижки ногтей, связку ключей на платиновой цепочке длиной тридцать два сантиметра, записную книжку в крокодиловом переплете, пачку сигарет „Космос“, газовую зажигалку „Ронсон“, зубочистку в виде серебряной шпаги и шесть визитных карточек».Гард удивленно вскинул брови: — Визитные карточки? Покажите. Сержант полез в кабину, достал портфель и долго в нем рылся. Наконец протянул Гарду маленький белый прямоугольник с золотым обрезом. «Чарлз Фицджеральд Крафт-младший, — прочел Гард изысканную каллиграфическую вязь, — сенатор, президент компании „Всемирные артерии нефти“». — Гард задумчиво свистнул. Очень немногие знали, что этот свист — признак наивысшего удивления Гарда, потому что очень нелегко было удивить комиссара. Он услышал шаги за спиной, оглянулся и увидел Таратуру, хмуро шагающего рядом со знаменитым киноактером Юмом Рожери. «Кого он ведет, болван? — подумал Гард, но тут же опять спохватился: — Все верно, все правильно. Вот, черт, не могу привыкнуть…» — Скажите, Остин, — спросил Гард бродягу с лицом киноактера, — вы знаете этого человека? — Гард показал глазами на носилки с трупом. Остин взглянул и быстро шагнул вперед, к носилкам. Потом медленно опустился на колени. Его глаза, не отрываясь, смотрели на лицо покойника, и столько тоски, столько боли и неизбывной жалости было в этих глазах — глазах знаменитого Юма Рожери, великого актера, который все-таки никогда не мог бы так сыграть человеческое горе. — Это я, — не сказал, а коротко выдохнул он. — Это я, комиссар… Гард отвел Таратуру в сторону: — Вы знаете, кто лежит там с лицом Остина? Чарли Крафт. Да, да, тот самый сенатор Крафт-младший. Грейчер порвал цепочку… Бедняга Остин, он теперь уже никогда не вернет себе свое лицо! Но вы понимаете, что Грейчер начал игру ва-банк? Он полез наверх, на самый верх. Он ищет зону, недоступную нам. Но он плохо знает меня. Два убийства — серьезная штука, такие вещи я никогда никому не прощал. Необходимо поставить в известность президента. И тут они услышали тихие горькие всхлипы. Упрятав чужое лицо на груди покойного, Уильям Остин, бродяга и нищий, плакал над трупом Чарлза Фицджеральда Крафта-младшего, мультимиллионера. Он был единственным человеком, который оплакивал могущественнейшего из нефтяных королей. Но он не знал об этом.
Лес рубят — щепки летят
Доклад комиссара полиции президенту звучал сухо и казенно. Гард сам это чувствовал. В Доме Власти, среди строгих темно-коричневых стен, перед овальным столом с флажком президента, иначе и не звучали даже самые невероятные доклады. Они не могли вызывать здесь ни делового сочувствия, как в полицейском управлении, ни живого интереса, как у нормального уличного прохожего, ни вопля, как у обитателей виллы «Красные листья». — Ясно, — сказал президент, когда Гард кончил. — Что вы думаете об этом, Воннел? Министр внутренних дел, сидевший в кресле с видом дремлющего филина, неопределенно покрутил пальцами: — Необходима осторожность. — Именно, — сказал президент. — Следует хладнокровно взвесить, — сказал Воннел, еще более удаляясь от необходимости решать. — И учесть последствия, — добавил президент. — А также реакцию сената и общественного мнения, — поддакнул Воннел. — Вопрос следует рассматривать не только с юридической стороны… — С моральной, разумеется, тоже, — вставил Воннел. — Совершенно согласен. Ничего нельзя упускать из виду. — Разрешу себе высказать такую мысль, — храбро начал министр, и президент с интересом посмотрел на него. — Неотвратимость справедливости содержится в самом движении справедливости! Президент перевел свой взгляд на Гарда и полувопросительно произнес: — Неплохо сказано, а? Как раз для этого случая. Гард не пошевелил ни единым мускулом. — Весьма рад, что вы поддерживаете мою точку зрения, господин президент, — сказал Воннел. — Так какое будет решение? — спросил Гард, возвращая государственных деятелей к действительности. Они задумались. — Решение должно быть безупречным, — сказал наконец Воннел. — Абсолютно верно! — обрадовался президент. — И государственно оправданным, — сказал Воннел. — Разумеется. — В духе наших христианских и демократических традиций… — О которых, к сожалению, не всегда помнит молодежь, — добавил президент, в голосе которого появились наставительные нотки. — Молодежь нужно воспитывать! — Прививая ей уважение к истинным ценностям, — сказал Воннел. — И сурово предостерегая от увлечения ложными идеалами. Гард понял, что если он решительно не прервет этот затянувшийся словесный футбол, мяч укатится так далеко, что его потом и не сыщешь. Но, собственно говоря, перед кем они упражняются? Перед Гардом, с мнением которого они считаются так же, как щука с мнением карася? Друг перед другом? Или сами себя тешат мнимой мудростью высказываний, долженствующих вытекать из любого «государственного» рта, как они думают? — Прошу прощения, — почтительно и твердо сказал Гард, — но я вынужден напомнить о необходимости принять конкретное решение. Преступник сделал шаг вверх! Сегодня он принял обличье сенатора, а завтра… — Гард сделал многозначительную паузу. Президент забарабанил пальцами по столу, а Воннел вновь надел на себя маску дремлющего филина. — Вы уверены, комиссар, что профессор… э-э… стал сенатором Крафтом? — спросил президент. — Безусловно. — Доказательства? — Визитная карточка, найденная в костюме покойного, зажигалка сенатора, несколько его личных вещей, чековая книжка, деньги… — Многообразие жизни, — очнулся Воннел, — учит нас, что предметы могут оказаться вовсе не там, где им по логике надлежит быть. Слава богу, в нашей демократической стране каждый человек обладает свободой воли и выбора. — Простите, господа, — сказал Гард, — но это слишком невероятно, чтобы сенатор Крафт отдал костюм со всем содержимым какому-нибудь постороннему лицу, тем более бродяге! — Единение с ближними завещал нам господь бог, — набожно произнес президент. — Но дело не столько в этом, комиссар, сколько в том, что у нас нет убежденности, что преступник до сих пор находится в облике сенатора Крафта. Я прав? — Да, господин президент, я в этом не убежден… Однако президент уже не слушал комиссара. — Мне говорили, что вы отличный специалист, — сказал он, — но и вы можете ошибаться. К чему такая поспешность? — Она может привести к чудовищной ошибке! — вставил Воннел. И президент с министром сыграли еще целый тайм, гоняя слова от одних ворот к другим. Гард почти не слушал их, прекрасно понимая, что такое словоизвержение — всего лишь прикрытие их нежелания принимать меры. Как только в потоке слов образовалась пауза, Гард все же сделал попытку вмешаться: — Господин президент, я понимаю, что арест сенатора Крафта связан с некоторым риском, но его ничтожность не идет ни в какое сравнение с опасностью от дальнейшей деятельности преступника. Гард дерзил и знал, что он дерзит, но иначе поступить не мог. Он кинул маленькую бомбу и с замиранием сердца ждал, когда она взорвется. Взрыва не последовало. Президент и министр словно и не слышали слов комиссара, как благовоспитанные люди могут «не слышать» сказанной непристойности. Воннел разглядывал потолок, а президент постукивал пальцами по столу. У него были старческие вялые руки, не руки даже, а кости, обтянутые сетью темных вен и сухой сморщенной кожей. — Так на чем мы остановились? — сказал президент, обращаясь к Воннелу, будто Гарда здесь вовсе не было. — Позвольте, я сделаю резюме, — сказал министр, произнося слово «резюме» так, как ребенок произносит слово «касторка», уже зная ее вкус. — Если мы попытаемся схватить преступника, принявшего образ сенатора, что еще нуждается в доказательствах, мы только вспугнем его. А он может ускользнуть, и тогда за ним потянется чреда новых жертв, чье горе будет для нас вечной укоризной. Если же мы такой попытки не сделаем, преступник, очевидно, успокоится и новых жертв не последует… «Вот это да!» — задохнулся Гард, посмотрев на Воннела с такой откровенной неприязнью, что любой другой человек на месте министра поперхнулся бы. Но Воннел как ни в чем не бывало продолжал: — Вторая сторона проблемы заключается в том, что арест сенатора Крафта, обладающего парламентской неприкосновенностью, подорвет наши демократические традиции. Особенно в том случае, если сенатор не окажется профессором Грейчером. Лично у меня на этот счет имеются серьезные сомнения. Не далее как вчера я видел достопочтенного сенатора у вас, господин президент, на приеме и не нашел в его поведении никаких следов… скажем, подлога. — Да, да, — закивал президент. — Мне тоже как-то не бросилось в глаза. — А посему… — начал было Воннел, но Гард, решивший, что терять ему уже нечего, перебил: — Я прошу вас, господа, взглянуть на проблему с другой стороны! Профессор Грейчер принял облик сенатора — это еще полбеды. А если бы его жертвой стали вы, господин министр? Появился бы министр-нуль! Ни знания предмета, ни знания дела — пустое место! Полное несоответствие личности и должности! Он сохранил бы только манеру и поведение на приемах, и все! А как бы он функционировал в качестве министра?! Вы представляете, что бы он натворил?! — А что вы, собственно, имеете в виду, комиссар? — холодно спросил президент. — Что вы хотите этим сказать? И вообще, в какую авантюру вы хотите втянуть нас с Воннелом? Сегодня вы сказали, что преступник действует в образе сенатора, а завтра с такими же доказательствами укажете на министра? А потом, чего доброго, ткнете пальцем в меня? И всех нас нужно арестовывать? — По одному только вашему указанию? — вставил Воннел. — Что будет тогда с государственной властью? — сказал президент. — Где у нас гарантия, комиссар, что вы действуете без злого умысла? — И без чьей-нибудь подсказки. — Ведь только тронь сенатора Крафта, как возникнет прецедент! Гард поднялся с ощущением полной безнадежности. — Простите, господа, — сказал он вяло, — я не ожидал такого хода мыслей. Позвольте мне еще одно слово. Я не буду говорить об угрозе для общества и для вас лично. Я попрошу вас подумать о несчастных жертвах преступника, имеющихся уже сейчас. О людях, которые потеряли свой облик, которые повержены в кошмар, чья жизнь исковеркана. Только поимка преступника может вернуть им прежний облик! Любой риск оправдан для восстановления справедливости, господа! Мы же христиане! Несчастные молят вас о помощи! — Мы думаем о них, — веско сказал президент. — Мы думаем о всех жертвах настоящего и будущего, на то мы и поставлены у руля государства. Но еще никому не удавалось сварить сталь без шлака или срубить дерево без щепок, комиссар. Бремя государственной ответственности, неведомое вам, — президент встал, и тут же поднялся министр, — тяжело давит на наши плечи. Но всегда и во всем мы следуем голосу совести, руководствуемся долгом перед нацией и высшими интересами страны. В данном случае я убежден, что зло уже исчерпало зло, как огонь исчерпывает сам себя, поглотив окружающий воздух. И нельзя допустить, чтобы новые струи воздуха ринулись к тлеющему очагу. Сожженного не восстановить, комиссар. Наш долг — не дать огню новой пищи! — Президент сел, и следом за ним сел Воннел. — Мы будем молиться за пострадавших, мы выделим им субсидии. Бог утешит их души. Необычная мысль пришла в голову Гарда, когда он, стоя против президента, слушал его длинную речь, произносимую с взволнованным бесстрастием. «Бог мой, — ужаснулся он, — сколько решений, принятых или не принятых в этой комнате, оборачивались для кого-то страданиями, ужасом, нищетой, смертями! Но видел ли когда-нибудь президент своими глазами муки собственных жертв? Слышал ли стоны убиваемых по его приказу, оставленных по его распоряжению в горе и страданиях? Знакомы ли ему переживания, причиненные его собственной несправедливостью? Нет, нет, нет! Он, как пилот бомбардировщика, с высоты наблюдает огоньки разрывов своих бомб, но не видит и не может увидеть лица, сожженного напалмом… Он мог бы увидеть эти лица в кино, прочитать о них в книгах, узнать о них из пьес, заметить на полотнах художников. Но именно потому-то он тупо ненавидит литературу и искусство, чтобы не допускать к себе даже этот „отраженный свет“». Вот почему и сам Гард сейчас неугоден президенту: он невольно являет собой дополнительный канал, по которому к государственному деятелю понеслись мольбы о сострадании… «Бог мой, но разве президент слеп и глух? В так несправедливо устроенной жизни он тут же перестал бы быть президентом, как только прозрел или прочистил уши!..» Гард молча поклонился и пошел к двери. — Минуту! — сказал президент. — Я вас еще не отпускал. Дорогой Воннел, оставьте нас наедине. Министр повиновался, не выказав ни тени неудовольствия. Президент подождал, пока за Воннелом прикроется дверь, и после этого тихо поманил Гарда. Комиссара поразила происшедшая с президентом перемена. Это был уже не государственный деятель, а просто утомленный старик, в глазах которого можно было прочитать все нормальные человеческие чувства: и жалость, и тоску, и даже страх. — Молодой человек, — мягко, как бы оправдываясь, проговорил президент, — не судите меня строго, да и сами не будете судимы. И не расстраивайтесь, не надо. Есть силы, перед которыми и мы с вами — муравьи. Гард озадаченно кивнул. — Вот и прекрасно! — вздохнул президент. — Вы, конечно, знаете пословицу: «Что позволено Юпитеру, то не позволено его быку». Между прочим, что делает бык, Юпитеру делать трудно или стыдно… Вам ясно? И хорошо. Идите. Нет, постойте. Вы говорили, что сенатор Крафт убит. — Да. — Но что убитый, хотя и был одет в костюм сенатора, имел внешность какого-то бродяги? — Да. — Стало быть, внешность сенатора Крафта… жива? — Да. — Так что же вы еще хотите, комиссар? Ладно, можете идти. Нет, постойте. Повторите, как выглядит аппарат… э-э… перевоплощения? — По всей вероятности, он вмонтирован в портсигар или в часы, господин президент. — Н-да… Вот теперь идите. Воннел! Президент позвал министра, чуть приблизив губы к микрофончику, и Воннел появился в кабинете, будто материализовался из воздуха. Президент выразительно посмотрел на него, и министр щелкнул каблуками: — Будет исполнено, господин президент! «Фантастика! — подумал Гард. — Он же ему ничего не сказал, и уже „будет исполнено“. Что исполнено? Как они научились понимать друг друга без слов?» — И на приемах, Воннел, — сказал президент. — Да, и на приемах! — подтвердил министр. — Я немедленно отдам приказ охране отбирать часы и портсигары при входе в ваш кабинет и на приемах! — Кстати, где ваши часы и ваш портсигар, Воннел? — спросил президент с улыбкой. — Я их не ношу! — Уже? Ну и отлично. Теперь все в порядке. Идите, комиссар Гард, выполняйте свой долг и мой приказ! «Так что же выполнять? — подумал Гард, пересекая кабинет президента. — Приказ или долг?»Незваные гости
Над городом опускалась ночь. Когда часы на мэрии пробили одиннадцать раз, два человека вышли из таверны «Ее прекрасные зеленые глаза». Один из них, который был с усами, направился к машине, стоящей на другой стороне улицы, но второй остановил его: — Пойдем пешком, не будем привлекать внимания. Здесь недалеко. Они быстро зашагали по улице. — Коньяк, значит, любит? — Французский, — ответил усатый. — После третьей рюмки разговорился. Он служит у Крафта недавно, всего второй год. — Ну? — Да нет, ничего странного за хозяином не замечает. Сказал, что Крафт последние несколько дней стал просыпаться на полчаса раньше, чем обычно. — Это уже кое-что! А за кого он вас принял? — За меня! Я сказал, что я профессор. — Да, с вашей прежней внешностью «профессор» звучало бы кличкой… Только держите себя в руках, Таратура. Что бы ни происходило! — Вам легко говорить, Гард. — Иначе мы все испортим. — Ладно. Я и сам понимаю, что силы у меня уже не те. Улица постепенно перешла в аллею парка. Здесь было темно, потому что лунный свет не пробивался сквозь сплетенные кроны деревьев, а уличных фонарей не было. Кое-где еще светились окна, из темноты выступали ограды и контуры особняков, спрятанных в глубине парка. Когда они подошли к особняку сенатора Крафта, у въезда на участок они заметили красный «мерседес». От стены отделилась тень, к ним подошел третий. — Тс-с! — прошептал человек. — Это машина Ванкувера. В ней шофер. — Сенатора? — спросил Гард. — Он приехал минут пятнадцать назад. Я уже подвесил лестницу. Чуть не влип. — Ее не видно из окна? — Не думаю. — Ну и прекрасно. Мартене. Кто в доме? — Сторож, лакей и шофер. Шофер изрядно хватил, так что уже спит. — А остальные? — спросил Таратура. — Как обычно, играют в карты. Около двенадцати разойдутся, выпив по стопочке. Крафт ложится в полночь, так что Ванкувер сейчас уедет. — Вы уже стали летописцем этого семейства, — улыбнулся Гард. — Понаблюдай я не трое суток, а хотя бы десять, — ответил Мартене, — я мог бы стать самим сенатором! Тс-с!.. Открылась дверь особняка. Высокий сухопарый старик легко сбежал по лестнице и направился к «мерседесу». Тут же встрепенулся шофер, запустил двигатель. Ванкувер сел на заднее сиденье. — Ишь ты, песок сыплется, а бегает, как мальчишка! — сказал шепотом Таратура. По его тону можно было понять, что он без особого почтения относится к сенаторам. «Мерседес» взял с места не менее ста километров. «Эх, Таратура! — подумал про себя Гард. — Вы и сами не понимаете, насколько можете оказаться правы! Уж слишком поспешно бежал этот Ванкувер…» — Боюсь, что мы уже опоздали, — вслух сказал Гард. — Ну, пошли. Сенатор действительно ложился в полночь, вот уже много лет не изменяя своей всем известной привычке. С того памятного утра 19… года, когда его посетил Главный Йог мира и, взяв за консультацию восемь тысяч кларков, посоветовал три способа борьбы с болезнями и старостью: сон, глубокое дыхание и умеренность в пище, — сенатор неукоснительно пользовался дорогими советами и чувствовал себя превосходно. Было уже четверть двенадцатого. Крафт, чему-то улыбнувшись, расстегнул рубашку и достал из медальона, подвешенного на груди, маленький золотой ключик. Затем он подошел к сейфу, стоящему в углу комнаты, и открыл его. Если бы кто-нибудь мог наблюдать в эту минуту лицо Крафта, то ни за что не поверил бы, что перед ним знаменитый Крафт, жестокость которого порождала легенды. Сейчас его лицо источало блаженство и даже одухотворенность. Говорят, с такими лицами поэты пишут свои лучшие стихи. Крафт достал из сейфа аккуратно расчерченный лист плотной белой бумаги, карандаш и резинку. Потом отошел к столу и опустился в кресло. Вспыхнула настольная лампа, осветив молодое еще, не изрезанное морщинами лицо сенатора. И губы его зашевелились, словно он молился. — Антарктида, — шептал Крафт. — Десять по вертикали… Запишем… Часть света, на которой живут пингвины. Это, понятно, не перепутаешь. Он откинулся в мягком кресле и сам себе улыбнулся. — Теперь первая буква «Э», четвертая «Ш». Восемь по вертикали. Первая «Э»… Эйнштейн! Блестяще. Как раз восемь букв. Но Эйнштейн ли? Кто-то, кажется, называл этого физика Эпштейном… Крафт встал из-за стола и пошел к стеллажу, на котором были установлены энциклопедии всех времен и народов. «Эйнштейн, слава тебе, Господи!» Кроссворд получался элегантным. Пробило без четверти двенадцать. Крафт мельком взглянул на часы. Его мозг все еще лихорадочно работал, хотя он, не вызывая слуги, стал постепенно раздеваться. — Первая «О», третья и пятая тоже «О» — всего девять букв. «Оборона»? Мало. «Орфография»? Много. «Оболочка»? Одной буквы не хватает… Сенатор устало закрыл глаза. — Спокойно, сенатор! — неожиданно услышал он голос и странный шорох у окна. Крафт застыл в неподвижности, так и не открывая глаз, словно надеясь на то, что это галлюцинация и не стоит убеждаться, что происходящее — реальность. — Откройте глаза, сенатор, — так же спокойно произнес кто-то, и Крафт осторожно приоткрыл один глаз. Прямо перед собой он увидел человека в плаще с поднятым воротником. У окна стоял второй, у него был более интеллигентный вид, но его усы произвели на сенатора неприятное впечатление. Крафт вновь закрыл оба глаза. — Не надо бояться, сенатор, — сказал все тот же человек. — Мы не убийцы. Крафт посмотрел на говорящего: — Деньги в сейфе. Вот ключ. — Благодарим вас, сенатор. Но деньги нам тоже не нужны. Не двигайтесь и не снимайте рук со стола, иначе мы осуществим насилие. — Вы уже и так его осуществляете, — сказал сенатор. — Увы! — спокойно произнес человек в плаще. — Что же вам угодно, господа? Кто вы? — преодолев первый приступ страха, спросил Крафт. — Сенатор, — ответил человек в шляпе, — если вы тот, за кого мы вас принимаем, вы отлично знаете, кто мы такие. А если вы уже не тот человек, то знать вам, простите, не обязательно. — Что дальше? — обретая уверенность, произнес Крафт, поняв или сделав вид, что понимает: перед ним не простые уголовники. — Мы хотели бы прежде всего вас обыскать, — сказал человек с плащом. От окна отделился усатый и проворно обыскал карманы сенатора. Крафт не сопротивлялся. На его лице появилось брезгливое выражение, и некая надменность позы говорила о том, что он уже вполне освоился с обстановкой. — Скажите, что вы ищете.Я, быть может, отдам вам это добровольно. Нежеланные гости переглянулись. — Портсигары, господин сенатор, и серебряные часы, — сказал усатый. — Пожалуйста! — с охотой произнес Крафт, делая движение, чтобы открыть ящик стола. — Не двигайтесь! — почти крикнул усатый. — Я сам. В ящике действительно лежали какие-то часы, но портсигара не было. Часы были маленькие, к тому же не серебряные, к тому же действующие. Усатый положил их назад в стол. — Вы курите, Крафт? — спросил он. — Нет. — Давно? — Какое вам дело? — У меня есть дело ко всему, что касается вас! — резко сказал усатый, но человек в плаще остановил его незаметным жестом. — Спокойно, господа, больше благоразумия! Сенатор, давайте говорить напрямик. Нас интересует, кто вы, и пока мы это не выясним, мы отсюда не уйдем. — То есть как вас понимать? — удивился Крафт. — Что значит — кто я? Не я к вам пришел, а вы ко мне — стало быть, вы должны знать, куда идете! — Кто вы? — жестко спросил человек в плаще, словно не расслышав последних слов сенатора. — Отвечайте на вопрос! — Сенатор Крафт, господа, разрешите представиться. — Сенатор Крафт-младший был убит четыре дня назад! Это так же верно, как то, что я стою перед вами. — Это чушь, господа! — И кто бы вы ни были, вы не Крафт! — продолжал человек в плаще. — Посмотрите на этого господина! Крафт перевел взгляд на усатого и снова брезгливо поморщился. — Вам знакомо это лицо? — Впервые вижу. — Это ваше лицо, сенатор Крафт! Сенатор на секунду закрыл глаза. Потом открыл их и спокойным голосом произнес: — Вы просто сошли с ума. Вы бредите. «В самом деле, — подумал Гард, снимая плащ. Ему стало жарко. — В самом деле, с точки зрения нормального человека, происходящее сейчас — чистый бред. Но ведь он не может быть сенатором! И он знает это! Кем бы он ни был, профессором Грейчером или сенатором Ванкувером, он превосходный актер! Но как поймать его, на чем?» — От вас только что уехал Ванкувер, — сказал Гард. — Вы уверены, что он не оставил здесь своего «я», а в его теле не уехали вы? — Отказываюсь вас понимать! «Я сам себя не понимаю, — подумал Гард. — Если Грейчер был в облике сенатора Крафта, а потом поменялся телами с Ванкувером, то, значит, передо мной сидит сенатор Ванкувер в облике Крафта, а Грейчер уехал в машине Ванкувера. Стало быть, передо мной человек, у которого сознание Ванкувера, его память и привычки, но тело — Крафта? Черт его знает, как все запутывается!» Крафт терпеливо ждал. «Лобовая атака явно провалилась», — сказал про себя Гард и взглянул на Таратуру. Надо было обладать потрясающей выдержкой, чтобы не свихнуться в эту минуту: Гард искал Грейчера дома у Крафта, действуя бок о бок с человеком, внешность которого и была внешностью Грейчера! Фантасмагория! — Ладно, — сказал Гард, — меня утешает только то, что мы прекрасно понимаем друг друга, сенатор, хотя вы и делаете вид, что вокруг вас происходит чертовщина. К сожалению, кто бы вы ни были, я не могу вас поймать. Вы меня тоже. Ведь вы не посмеете завтра пожаловаться Воннелу на мой визит, хотя не исключено, что вы прекрасно меня знаете. Вам выгодней изобразить незнание, поскольку знание вас разоблачает. — Что же дальше? — спокойно спросил Крафт, когда комиссар умолк. — Я вынужден произвести тщательный обыск в вашем кабинете и в вашей спальне. В конце концов, меня интересует лишь аппарат перевоплощения. Без него вы — ноль! — Вы уже надавали мне много лестных характеристик, таинственный незнакомец. Благодарю вас и за «ноль». — Могу добавить еще одно звание, — серьезно сказал Гард. — Вы — оборотень, вот кто вы такой! — Премного вам благодарен. Ну что ж, ищите ваши таинственные портсигары и аппараты. В течение последующего получаса Таратура облазил обе комнаты, в которых работал и спал сенатор. Гард, не спускающий глаз с Крафта, уже не надеялся на успех, хотя и отдал Таратуре приказ приступить к обыску. Он должен был это сделать для очистки совести. Все полчаса сенатор внешне был спокоен, а что у него делалось на душе, оставалось тайной. Лишь пальцы Крафта нервно теребили листок бумаги, который в конце концов привлек внимание Гарда. — Кроссворд? — спросил он, не скрывая удивления. — Вы сами его сочиняете? — Да, — неохотно ответил Крафт. — Давно? — Давно. — Ваша страсть к сочинительству кроссвордов кому-нибудь известна? — Нет, я скрывал это обстоятельство даже от слуг и близких родственников. — Почему? Крафт промолчал. Впрочем, и так было понятно: сенатор, сочиняющий кроссворды или увлекающийся переводными картинками, — бог мой, до какого еще маразма могут дойти великие мира сего! — такой сенатор вызвал бы поток издевательств со стороны прессы и конкурентов. Из спальни вернулся Таратура, пожатием плеч иллюстрируя свой успех. Гард встал и выглянул в окно. Внизу, как и было условлено, дежурил Мартене. На легкий свист Гарда он ответил двойным свистом, что означало: путь свободен. — Сенатор, — сказал на прощание Гард, — мы уходим, но вам не будет покоя. Знайте, что потеря вами лица — это несчастье не ваше, а всего государства, и пока мы не найдем ваше истинное лицо, мы не успокоимся… — Кто бы вы ни были, — прервал Крафт, — оставьте государство в покое! Предоставьте нам заботиться о нем… — Нет, не предоставим, — твердо возразил Гард, тоже прервав сенатора. Как только незваные гости вышли, сенатор облегченно вздохнул, достал из глубины стола сигарету и закурил. Потом его взгляд нечаянно упал на незавершенный кроссворд. Одна графа его не была заполнена. — «Оборотень»! — вспомнил Крафт. — Превосходное слово из девяти букв! Гм, это как раз то, что нужно… Кроссворд был готов. В таверне «Ее прекрасные зеленые глаза» посетителей почти не было. В углу шепталась влюбленная парочка да какой-то бродяга уснул за столом, уронив на руки голову. — Коньяк, — сказал Гард подскочившему хозяину. — Два раза. — Я не буду пить, — тихо сказал Таратура. — Все равно два раза, — сказал Гард. — Даже три! — Мартенс уже добрался до дома, — сказал Таратура. — Я не советовал ему жениться, вот дурак! — Бог с ним, — миролюбиво заметил Гард. — Лично я понимаю женатых. Уют, кофе в постель… — Заботы, волнения, ревность… — в тон Гарду продолжил Таратура. Гард засмеялся: — Ах, Таратура, сознайтесь, что вы ему просто завидуете! Вы не знаете, кстати, почему хозяин назвал таверну «Ее прекрасные зеленые глаза»? Как раз хозяин подошел к столику и поставил три рюмки коньяка. Гард тут же выпил одну, потом рассмотрел пустую рюмку на свет. — Признайтесь, — сказал он хозяину, — у кого были зеленые глаза? — И прекрасные! — добавил Таратура. — У той, которую я хотел бы любить, — заученно ответил хозяин и отошел к парочке влюбленных, уже готовых расплачиваться. — Наверное, он всегда отвечает так, — мрачно сказал Таратура. — У него выработался стереотип. — Если бы он ответил иначе, он был бы уже не он, — сказал Гард. — Он был бы оборотнем. Коньяк действовал на Гарда довольно быстро. Сначала Гард, по обыкновению, грустнел, а когда хмель распространялся по всему телу, на комиссара нападала болтливость, остановить его было трудно. В редких случаях Гард становился буен и невоздержан в поступках, но эта, третья стадия навещала его крайне редко. Неожиданно Гард отодвинул рюмку в сторону: — Пока я не пьян, Таратура, надо поговорить. «Грустная» стадия на этот раз оказалась короче, чем обычно. Таратура взял сигарету, и его губы, губы профессора Грейчера, сами собой сложились в трубочку и выпустили длинную и тонкую струю дыма, которая ушла под потолок таверны, завившись там кольцами. Гард проследил кольца до самого их исчезновения. — Вам не показалось странным, Таратура, что мы ушли от Крафта ни с чем? — Я вытряс бы из него душу, — признался Таратура, — но выбил бы признание. — Какое? — Если он не Грейчер, то знает, где он и кто! — Увы, может и не знать. — Просто боится признаться. Он нас испугался, Гард? — Нет. Он струсил, пока думал, что мы грабители или убийцы. А когда понял, что нас интересует другое… — А себя он тоже не боится? — Привык. Он смирился, что он Крафт, и кто бы он ни был, сейчас наслаждается новым состоянием. — Понимаю. — Таратура вновь полез за сигаретой. — В конце концов, если он был Ванкувером или кем другим, какая ему разница, нефть у него или сталь, ракеты или пылесосы. Уж коли внешность отобрали… — Боюсь, Таратура, он добровольно отдал свое лицо. — Это невозможно! — почти вскричал Таратура. — Я по себе знаю, как это страшно. А семья, дети, родители? — Они ничто в сравнении с игрой, какую ведут сильные мира сего. У людей, одержимых одной алчной страстью, другие законы, другая совесть, другие привязанности. Деньги, положение, власть — вот их бог, содержание и смысл их жизни, и во имя этого они готовы пожертвовать честью, женой, детьми, лицом. Крафт ненавидит Ванкувера, потому что у того на десять миллионов больше, а не потому, что у того жена на десять лет моложе. А Ванкувер завидует тому, что в родстве с Крафтом состоит Бирмор, скважины которого в Муролии сидят поперек горла Ванкуверу. Он убежден, что из этих скважин можно качать в два раза больше. А Бирморы беснуются, потому что Ванкувер купил лучшие пляжи на Гавайях… О, Таратура, у них слишком много причин, чтобы завидовать и ненавидеть друг друга! — Почему же они не перегрызутся? — Волки тоже готовы разодрать друг друга в клочья, но тем не менее объединяются в стаи, чтобы опустошать стада. — Они иногда убивают своих, — сказал Таратура. — Только слабых, очень слабых! — Вы хотите сказать, что Грейчер… — Да, Таратура, среди них он как рыба в воде. С одними договаривается, с другими поступает как с вами. И все молчат! От перемены мест сумма не меняется. Если Ванкувер стал Крафтом, он теперь будет в родстве с Бирморами, а потому легче оттяпает скважины в Муролии. А его бывшая собственность, его пляжи на Гавайях будут приносить ему столько же неприятностей, сколько прежде они приносили Бирморам. Что изменится, старина, что? Гард решительно опрокинул рюмку и крякнул: — Но мы еще встретимся с Грейчером, Таратура! Не надо отчаиваться! Поверьте, старина, ваша прежняя шкура мне нравилась больше, чем эта…Безликий мир
— Садитесь, Фойт, садитесь. Не обязательно под лампу. У вас уже выработался условный рефлекс садиться под лампу. Вы и в гостях усаживаетесь, как на допросе? Гард изо всех сил хотел казаться оживленным, бодрым, но получалось плохо. Он очень устал за эти дни, вдоволь набегался, а эта последняя бессонная ночь в особняке Крафта совсем доконала его. Я знаю, Фойт, что, если я предложу вам разговор по душам, вы тут же заподозрите какой-нибудь подвох. Поэтому я не вызываю вас более на откровенность. Просто мне самому хочется быть откровенным. Считайте это причудой состарившегося полицейского комиссара. «Старая лиса затевает что-то необычное», — подумал Фойт и взял из деревянной коробки сигарету. — Видите ли, Фойт, — продолжал Гард, — я стал полицейским по убеждениям. Я ненавижу несправедливость. Я ненавижу насилие. Может быть, я несовременен, старомоден, смешон, но я не понимаю, почему люди быстро ездят на автомобиле тогда, когда дела позволяют им ездить медленно. Я хочу, чтобы мои внуки любили Санта-Клауса, а не Биби Хорна — короля рока. Я люблю собак больше, чем транзисторы, а живой огонь в очаге больше кондиционера. Я убежден, что человек может и должен жить без зла: без взяток, воровства, убийств. Конечно, я видел, что одни живут лучше других, но до сего дня предполагал, что те, кто живет лучше, ну, просто талантливее, способнее, ловчее, наконец. Они сидели в сумерках кабинета Гарда, не зажигая лампы. Все, кроме дежурных, уже ушли, и надоедливый стук телетайпов связи за стеной умолк. Если бы вы вошли в этот момент в кабинет комиссара, то, наверное, подумали бы, что вот здесь, в сумерках, он беседует не с преступником, которому обеспечена намыленная петля, а с добрым старым приятелем. — Кстати, хотите выпить, Фойт? Нет? А я, пожалуй, выпью немного. Гард достал из шкафа бутылку стерфорда и стакан. — Жаль, что нет льда… Так вот, насколько я понимаю, вы — человек прямо противоположный мне по характеру. Все, что я люблю, вам в лучшем случае безразлично; все, чему я молюсь, вы высмеиваете; чуждое мне — органически ваше. Вы мой антипод, понимаете? — Не во всем, комиссар, — улыбнулся Фойт. — Интересно, — Гард отхлебнул из стакана, — в чем же мы похожи? — Вы любите в летний, не жаркий, а теплый день полежать на траве? — Люблю. — Я тоже. Вы напрасно делаете из меня чудовище, комиссар. Я почему-то думаю, что мальчишками мы были с вами очень похожи. Вам смешно это слышать, но профессию я выбрал, как раз руководствуясь стремлением к борьбе с несправедливостью. Когда я работал в гараже — это не для протокола, комиссар, — так вот, когда я работал парнишкой в гараже, я вдоволь насмотрелся на этих свиней, которым я мыл машины, на этих пьяниц с барами в багажниках, на всех этих чинуш и развратных дураков. И когда один из них дал мне четыре тысячи кларков и магнитную бомбу с часовым механизмом, которую я должен был прицепить под днищем машины его приятеля, такого же негодяя, как он, я взял и прицепил. Я подумал: «А кому, собственно, будет хуже, если одной свиньей на белом свете станет меньше?» С этого все началось. А потом я задал себе вопрос: почему я, сильный, умный, ловкий парень, должен жить впроголодь, спать на тощем тюфяке и покупать своей девушке пластмассовые браслетки, тогда как эти ничтожества экскаватором гребут золото? Разве это справедливо, комиссар? Вы правы, ваша мораль чужда мне, поэтому вы останетесь в этом кресле, а я буду болтаться на веревке. Но антиподы ли мы? Так ли непохожи, как вам кажется? Подумайте, что изменится в мире, покой которого вы так ревниво охраняете, если в нем будет царствовать моя мораль? Что изменится, комиссар, кроме того, что я буду сидеть на вашем месте, а вы болтаться на веревке? Разумеется, для нас с вами эта перемена имеет принципиальное значение, ну а по большому счету? Вы думаете, эту перемену кто-нибудь заметит? Гард молча прихлебывал из стакана стерфорд. Помолчали. В кабинете было уже так темно, что Фойт не видел лица Гарда. — Я могу сейчас говорить откровенно, комиссар? Я знаю, что мне крышка, и молчу на ваших допросах, чтобы не подводить ребят. Мне бояться нечего, но для вас убийство — факт, а для меня — итог. Кто убил? — это вас интересует. Почему? — интересует уже меньше, в той степени, в какой это поможет найти соучастников. А как вообще родилась возможность убийства? Почему существуют убийства? Вы думали об этом, комиссар? Гард молчал. — Вы очень хотите жить? — наконец спросил он Фойта. — Очень. — Зачем? — Если серьезно, чтобы еще раз полежать на траве в теплый летний день. — Вы сможете измять своими боками всю траву в Сентрал-парке, если сделаете одно дело. — Не понимаю, комиссар. — Сейчас, прямо из моего кабинета, вы уйдете туда — в мир, на свободу. Но при одном условии. — Слушаю, комиссар. — Вы соберете своих мальчиков и, если сможете, всех чужих мальчиков и принесете мне часы и портсигар. — Какие? — Часы вот такие. — Гард открыл ящик стола и достал старинную серебряную луковицу. — Впрочем, вы их знаете, ведь это вы украли их у Лео Лансэре. Таких часов сейчас уже немного. Это облегчает поиски… — А портсигар? — Не знаю. Любой серебряный портсигар. Судя по всему, он открывается кнопкой. — Но где их искать, комиссар? — Тоже не знаю. — Чьи они? — Не все ли равно? Сейчас их носит при себе один из самых богатых, самых известных, самых влиятельных людей в нашей стране. Я знаю, что человек этот никогда не расстается с этими часами или с этим портсигаром. О, он рад был бы запрятать их в какой-нибудь грандиозный сверхсейф, но они могут понадобиться ему в любую минуту, в любую секунду. Поэтому они всегда с ним. Всегда! Думаю, что он даже спит с ними. Но где они у него, и только ли часы, только ли портсигар, и кто он сам — не знаю. Быть может, уже сам президент, — задумчиво добавил Гард. — Не могу же я ограбить президента! — воскликнул Фойт. — Нужно, Энри, нужно, — спокойно сказал Гард. — Никогда за двадцать пять лет службы я не обращался к вашей компании и к вам ни с одной просьбой. И раз уж я прошу вас об этом — значит, мне действительно нужно позарез. Вернее, я не прошу, а предлагаю вам обмен по прелестной формуле грабителей девятнадцатого века: «Жизнь или часы». — Чего только не бывает в жизни, комиссар! Сначала я должен был украсть эту луковицу, чтобы из живого Пита Моргана сделали мертвого. Теперь я должен украсть ту же самую луковицу, чтобы из мертвого Эрнеста Фойта сделали живого… — Вся штука в том, — перебил Гард, — что луковица, вероятно, не та же самая. Это скорее копия той, которая мне нужна. А если это та же самая луковица, мне нужен портсигар. — Но, комиссар, я никогда не работал вслепую, — сказал с достоинством Фойт. — Зачем вам эти безделушки? В них упрятан бриллиант? — Нет. — Схема клада на острове Тиамоту? — Нет. — Тогда зачем они вам? Гард молчал. Темный силуэт его фигуры неподвижно возвышался над столом, и только руки белели на папке с бумагами. — Да, — сказал Фойт, — профессор Грейчер тоже не отвечал мне на этот вопрос. Или вы, комиссар, все же ответите? — Они нужны мне, Энри, — услышал Фойт глухой голос Гарда. — Это все, что вам можно знать. И вы принесете мне эти безделушки. Только не открывайте крышку часов или портсигара. Пусть это будет еще одна моя причуда, хорошо? — У вас одинаковые причуды с профессором Грейчером… Ну хорошо, — задумчиво сказал Фойт. — Я не буду любопытствовать. Пусть там лежит самая большая жемчужина мира, я все-таки считаю, что голова Эрнеста Фойта стоит дороже любой жемчужины. Мы не можем контролировать друг друга, комиссар. Вы всегда найдете причину отменить свою амнистию, я всегда могу прикарманить ваши безделушки. В этом случае единственный выход из положения — играть честно. — Рад, что вы это поняли, — сказал Гард. — Вот пропуск. — Вы написали его заранее? — Да. — Это самый большой подарок, который я получал в своей жизни, комиссар. — Ошибаетесь. Это чек. Я плачу за услугу. — Но предупреждаю: возможны ошибки… — Вы хотите сказать, что вместо одной луковицы принесете мне сотню? — улыбнулся в темноте Гард. — А вместо одного портсигара — тысячу? — Согласитесь, комиссар, что сначала нужно взять вещь из кармана, а потом уже рассматривать ее и с чем-то сравнивать. Положить ее назад много труднее, чем наоборот. У каждой профессии свои особенности, комиссар. Зато через неделю часы и портсигар будут лежать на вашем столе. — Не надо ставить сроки, Фойт. Однако найти предметы будет тем легче, чем скорее вы приметесь за дело. — Я приду к вам через неделю, — сказал Фойт уже в дверях кабинета. — Одну минуту, Фойт, — остановил его Гард. — Вы знаете легенду о ящике Пандоры? — Нет, комиссар, впервые слышу эту фамилию. — Хорошо. Идите. В темноте Фойт не увидел улыбки комиссара. «Чего стоят злодеяния этого парня по сравнению с аппаратом профессора Грейчера!» — подумал Гард. В полицейском управлении заметили, что комиссар Гард в последнее время пристрастился к чтению газет. Действительно, утро комиссара начиналось с просмотра светской хроники. Сознание того, что оборотень находится где-то в самых влиятельных политических, экономических, военных или культурных сферах, заставляло Гарда с пристальным вниманием сыщика оценивать все явления внутренней и внешней жизни страны, следить за курсом акций, выступлениями сенаторов и бизнесменов, репликами обозревателей, рецензентов и критиков, скандалами и аферами на бирже, телевизионными премьерами и театральными контрактами. Даже за бракоразводными процессами. Гард считал, что оборотень, человек в чужой шкуре, обязательно должен выдать себя, вступив в область ему малоизвестную. Используя присвоенное им лицо, он встанет перед неизбежной необходимостью продолжать деятельность обворованного, что должно неминуемо привести к провалу. Неизвестный и невидимый, как самолетик в стратосфере, Грейчер должен был, по расчетам Гарда, оставить в небе жизни инверсионный след разоблачений. Но чем больше материалов читал и анализировал он, тем труднее ему приходилось. Гард установил, что нити управления всеми телевизионными компаниями держит в своих руках глава знаменитой мыловаренной фирмы «Пузыри и сыновья», театрами заправляет известный в прошлом фехтовальный чемпион и торговец наркотиками, а киностудиями — трубач из портового джаз-банда. Потом Гард раскопал профессора, открывшего «всемирный закон внутривидовой помощи». Закон зиждился на трех главных примерах: 1) если подгнившее дерево падает на здоровое, здоровое удерживает его от падения, препятствуя гниению и тлену на земле, 2) если в гусиной стае один гусь устал, сильные гуси берут его на крыло, препятствуя падению, гниению и т. д., 3) если один неловкий человек поскользнется на улице, другой, ловкий, подхватит его, препятствуя и т. д. Объемля, таким образом, весь мир живой природы (аналогичные примеры легко обнаруживались в мире хищников, приматов, рептилий и даже кишечнополостных и низших водорослей), закон формулировался так: «Человек — человеку, как волк — волку, как дуб — дубу», или сокращенно для зоологии: «Человек человеку — волк», а для ботаники: «Дуб дубу — друг». Гард подумал было, что оборотня надо искать в науке, но тут он натолкнулся на интервью члена сенатской комиссии по делам искусства, в котором тот рассказывал о своих впечатлениях от художественной выставки в Венеции. Сенатор утверждал, что законы перспективы — «выдумка макаронников Возрождения», и если у человека нарисован один глаз, то нечего ссылаться на то, что человек изображен якобы в профиль, а надо прямо признать, что у него действительно один глаз. Гард стал собирать досье на сенатора. То тут, то там натыкался Гард на удивительные и, казалось бы, невероятные вещи. Грандиозные разрекламированные строительства оказывались мошенничеством, патентованные снадобья, способные предостеречь от многих жизненных невзгод, — пустым обманом, мэры крупных городов — малограмотными дураками. И удивительнее всего, что канцелярия президента, сенат и все его комитеты, комиссии и подкомиссии, советы, министерства, штабы, союзы, объединения — весь этот гигантский мир, построенный из денег и власти, живущий по законам золота и приказа, не замечал, не желал замечать всего того, что увидел Гард. Потом Гард сделал еще одно невероятное открытие: просмотрев газеты и журналы, вышедшие до появления оборотня, он обнаружил там то же самое! Как это могло случиться? — спрашивал он себя. Почему общество не разваливалось, не рассыпалось в прах? Почему власть, породившая столько идиотизма, причинившая столько бед и не давшая народу ничего, кроме бесправия, существует? На чем же она держится? Нет, оборотня защищают не часы и портсигары! Его защищает положение, которое он занимает в обществе, — стало быть, деньги. Он — подзащитный золота, он заранее оправдан, ибо приговор ему пишут на зеленой бумажке в один кларк. Смешно говорить о злодеяниях Фойта, если сравнить их с коварством Грейчера. Но так же смешно обвинять Грейчера, если думать обо всем том, что безбоязненно и уверенно творится на глазах миллионов людей. Ведь те же самые воротилы, в толпе которых сегодня скрывается Грейчер со своими часами, уже давно живут по этим часам, живут задолго до их изобретения! Несчастный Лансэре открыл и без того известный закон: многоликость, или, лучше сказать, безликость, куда страшнее уэллсовского невидимки! И Гард с ужасом понял, что может просчитаться, что он, наверное, обманул тогда, в разговоре на вилле «Красные листья», а позже — в таверне «Ее прекрасные зеленые глаза», беднягу Таратуру, пообещав ему найти профессора Грейчера. Он понял, что может не найти его, потому что оборотень не один, потому что в каждой клетке мозга, управляющего страной, сидит свой оборотень — человек с непроницаемым ворованным лицом. Лица такие добрые, внимательные, такие умные, приветливые, такие славные и открытые, — они украдены, забраны, конфискованы вот у этих людей, идущих по улице мимо окон гардовского кабинета. Украдены для того, чтобы можно было с их помощью говорить прекраснодушные слова о единстве нации, единстве помыслов и устремлений, единстве капиталов и интересов, единстве богатого и власть имущего — с бедным и бесправным. Там, среди столпов этой системы, Гард пытался разглядеть обман, человека-оборотня, не понимая, что обманна вся система. И если тогда, в универмаге «Бенкур и K°», он еще мог найти Грейчера, то теперь это действительно становилось невозможным. Там, наверху, если уж искать, легче было найти как раз честного, умного, порядочного человека, разумные и справедливые дела которого преследуют общее благоденствие и процветание. Он был бы слишком заметен на общем фоне. Да, его бы обязательно сразу заметили и не простили бы этой непохожести на остальных, не простили бы ему индивидуального лица. Но Грейчера найти трудно, потому что нельзя схватить оборотня в мире оборотней, нельзя по лицу найти человека там, где у всех одно лицо, нельзя узнать его по поступкам, когда все действуют одинаково… Телефонный звонок прервал мысли Гарда. — Комиссар, — послышалось в трубке, — уже третий раз к нам обращается с запросом о своем муже Алина Фридель, жена парикмахера Пауля Фриделя. Что ей отвечать? Гард помолчал. — Скажите ей, что ее муж жив, здоров («это правда») и помогает нам в раскрытии одного важного преступления («это тоже правда»), а чтобы успокоить ее, я попрошу его завтра позвонить ей по телефону… или даже зайти на минуту домой («это неправда»). Гард повесил трубку. Потом снова обернулся к телефону, набрал номер «Красных листьев». Таратура? Это я, привет. Нет, пока ничего нового… У меня к тебе просьба: позови-ка к телефону Юма Рожери. Нет-нет, настоящего Юма, с лицом парикмахера… Хэлло, Юм! У меня к вам просьба, старина. Надо сыграть одну чертовски трудную роль. Я завтра пришлю машину, и вам придется съездить домой к Фриделю, да… Жена очень беспокоится, и разговоры всякие ползут… Я знаю, что это нелегко. Но, понимаете, это надо сделать. Спасибо, Юм! Я ценю, что впервые за двадцать последних лет вы будете играть, не подписав контракта… Спасибо, старина! «Если мы не найдем Грейчера, что же будет с этими несчастными? — подумал Гард, вешая трубку. — Ведь на обмане долго не продержишься… Впрочем, это уже устаревшая фраза. Ах, Грейчер, быть может, вы и не знаете, что использованное вами чудовищное открытие позволило скромному полицейскому комиссару сделать другое открытие, не менее чудовищное. Спасибо, профессор…» И Гард пошел к шкафу, где стояла бутылка стерфорда.Молодец, Эрни!
Как и было обещано, ровно через неделю на столе комиссара полиции появилась первая дань гангстера: девятнадцать серебряных луковиц и сто двадцать восемь серебряных портсигаров. Гард попросил Фойта «погулять» где-нибудь немного, а сам внимательно осмотрел награбленное добро. Увы, это были нормальные часы и нормальные портсигары. Они разноголосо верещали, открываясь, а часы монотонно тикали, навевая на комиссара невеселые мысли. Гард задумчиво щелкнул последнюю луковицу и стал ждать Фойта. — Все это не то, Эрни, — сказал Гард, когда Фойт переступил порог его кабинета. — Ищите дальше. — Но это наиболее похоже на предметы, о которых вы мне говорили, — озабоченно сказал Фойт. — Если бы вы видели, комиссар, какую отбраковку мне пришлось делать самому! Ребята перестарались и натащили бог знает что! — Что же именно? — поинтересовался Гард. Фойт рассмеялся: — Это невозможно описать! Они особенно перестарались с часами. Конечно же, я сам виноват. Прибежал к своим и на радостях говорю: «Так и так, друзья, если у вас нет желания проводить подписку на обелиск над моей могилой, надо пощупать самых жирных поросят в нашем хлеву! Добывайте часы и портсигары, друзья мои, и работайте без прежнего страха, потому что у нас есть сильный защитник!» Я имел в виду вас, господин комиссар. Ведь вы наверняка выручите из беды моих мальчиков, если они невзначай попадутся? Они, конечно, быстро раззвонили об этом по всей стране, хотя и не очень поняли, в чем тут фокус… — По всей стране? — спросил Гард. — Ну, мало ли друзей у деловых людей, комиссар! — с улыбкой ответил Фойт. — И началось! Не очень хорошо разобравшись, они тащили мне все. Около сотни кукушек, часы с боем, с музыкой, с движущимися человеческими фигурами, — презанятная, скажу я вам, конструкция! Около полутора тысяч портсигаров, среди которых два с крышками, открывающимися внутрь! Когда все это свистит, кукарекает и играет, у нас в подвале начинается сумасшедший дом, комиссар! — В каком подвале? — перебил Гард. — На складе моей фирмы, — небрежно бросил Фойт. — На складе?! Где? — У нас много складов, комиссар, — осторожно произнес Фойт, мгновенно вспомнив, что он сидит все же в полицейском управлении. — Я просто не могу запомнить все адреса. Гард засмеялся. — Что вы смеетесь? Самое смешное впереди. Когда мне приперли башенные часы с министерства военно-морского флота, я понял, что надо что-то предпринять. К этому времени у меня стояли уже семьдесят четыре стенных механизма с гирями, каждый величиной с тот самый саркофаг, который Микки Раскер спер в позапрошлом году в Каире. Маятниковые часы я еле успевал считать, просто валил их в кучу. А будильников!! Один мой друг с Запада прислал сразу два грузовика будильников и эшелон портсигаров! Кстати, хотите, я подарю вам будильник президента? Все-таки достопримечательность… — Добрались и до президента? — засмеялся Гард. — А вы боялись. — Виноват, но президенту мы оставили точно такие же, купленные за собственные деньги. Мы уважаем президентов… Я отвлекся, комиссар. Так вот, я почувствовал, что становлюсь крупным специалистом во всех этих кукушках-погремушках, а я люблю свою профессию и не хотел бы деквалифицироваться. Надо было что-то предпринимать. Тогда мы собрали съезд карманников страны. Съехались человек двести руководителей, солидные люди, ну, разумеется, делегация из-за рубежа… — Куда? — снова перебил Гард. — Что — куда? — не понял Фойт. — Куда съехались? — Вы невыносимо любознательны, комиссар. Съезд работал на юге — скажем так. На берегу ласкового, теплого моря. Для пленарных заседаний сняли роскошный ресторан, докладчики… — А хозяин ресторана? — спросил Гард. — Что — хозяин? — Он не мог накрыть всю вашу компанию? — Хозяин?! — изумился Фойт. — Что вы! Хозяин — один из популярнейших карманников мира, о нем книги написаны. Сейчас он солидный человек, взрослые дочери, купил себе имя, документы, ресторан… Ну что вы! Милейший старик! Так вот, я выступил с отчетным докладом, объяснил обстановку, представил полный список моего часового парка — замечу попутно, что ни одни часы не пропали. К этому времени у меня уже были: два хронометра с авианосца, затем какая-то хитрая тикалка, о которой мне сказали, что она — часовой механизм нейтронной бомбы, и я хранил ее на всякий случай в другом городе, и, наконец, какой-то ни на что не похожий прибор без циферблата и без стрелок, хотя меня уверяли, что это часы. Клянусь, комиссар, они даже не тикали! Их вытащили из какой-то шахты, в которую никому не разрешалось входить, чтобы не испортить их ход, поскольку они будто бы были самыми точными часами в мире! Вы же понимаете, чего проще — украсть часы из шахты, когда в нее никто не заходит! О портсигарах я даже не говорю. Если бы люди, у которых пропали портсигары, с горя бросили курить, вся нация поздоровела бы, комиссар! Короче говоря, я выступил и сказал, что дальше так продолжаться не может. Я сказал, что мне нужны только старинные серебряные луковицы и серебряные портсигары… И вот пожалуйста, результат! — Фойт кивнул на стол. — Печальный результат, — сказал Гард. — Теперь, комиссар, когда даны точные инструкции, мы найдем то, о чем вы говорите. Дайте мне еще неделю! — Хорошо. Но торопитесь, Эрни. А эти можете забрать обратно. — Гард закурил и отвернулся к окну. Он слышал, как за его спиной Фойт складывал в портфель девятнадцать серебряных луковиц и сто двадцать восемь портсигаров. Мягко щелкнул замок портфеля… Страна была объята часовой и портсигарной лихорадкой. Поскольку люди Фойта не всегда знали друг друга в лицо, а отличительной формы они не носили, злосчастная луковица или какой-нибудь портсигар, прежде чем добраться до Фойта, перекрадывались по два и по три раза. Великие карманники сделали для себя неожиданное открытие: когда воровство идет в таком всеобщем масштабе, оно лишается смысла и не приносит даже элементарного обогащения. Все крали у всех! Во всяком случае, король часов Мариан Смок-старший и король портсигаров Эдвард Бинкельфорд не могли увеличить выпуск дефицитных товаров и обогатиться в связи с этим, так как дефицита не было. Небольшая часть краденого, которая в конечном итоге оседала на складе Эрнеста Фойта, не могла существенно отразиться на экономике, а все остальное Фойт вновь «пускал в оборот», не желая «пачкать руки» на пошлом карманном воровстве. Люди кое-где уже определяли время по солнцу, и не только потому, что у них не было часов, но и потому, что они боялись их вынимать, если они и были. Единственный приличный бизнес сделал король сигарет Майкл Ворни, который стал выпускать курево в картонных портсигарах… В то утро Гард опоздал на работу, поскольку у него тоже украли часы и вот уже неделю он ориентировался по радио, но, видно, что-то случилось и там, так как передача, обычно начинающаяся в четверть девятого утра, тоже запоздала на пятнадцать минут. В управлении его уже ждал Фойт. — Простите, комиссар, — сказал Эрни, как только они вошли в кабинет, — мои люди донесли мне, что и вы пострадали. — Ерунда, — сказал Гард. — Пошло бы на пользу дела!.. — Смотрите. И Фойт выложил перед Гардом очередную добычу: восемь серебряных луковиц и полный чемодан серебряных портсигаров. Даже не отсылая Фойта «прогуляться», Гард принялся лихорадочно вскрывать луковицы, на всякий случай стараясь не направлять на себя возможные зеленые лучи. И на четвертой же луковице — удача! Мелодичный малиновый звон, тонкий зеленый луч, и Гард на секунду лишился сознания, то ли от радости, то ли от действия аппарата… Фойт почтительно стоял в стороне, наблюдая за Гардом, как это делают взрослые люди, тихо радуясь радостям ребенка от купленной игрушки. Немного придя в себя, комиссар спросил: — Эрни, у кого взяты эти часы? — Не знаю, комиссар, — ответил Фойт. — Мне очень важно установить владельца! — Увы, комиссар, при таких масштабах вести регистрацию было трудно… Гард долгим взглядом посмотрел в лицо Фойта, затем подошел к нему, положил гангстеру руку на плечо и дрогнувшим голосом произнес: — И все же вы молодец, Эрни. Играйте отбой. Вы свободны… Да, постарайтесь в дальнейшем избирать пути, которые не пересекаются с моими. Мне было бы очень грустно иметь с вами дела на профессиональной основе… Фойт повернулся и вышел, и когда за ним закрылась дверь, Гард почувствовал, что рука его сама потянулась к носовому платку. «Старею, — подумал комиссар Гард. — Ах, черт возьми, старею!»Эпилог
Не чаще, но и не реже чем раз в полгода Гард, захватив с собой Таратуру, садился в «ягуар» и, влекомый воспоминаниями, катил на юг, к морю. В прекрасном отеле «Покой» для них всегда были два пятикомнатных номера, в которые они обычно заходили не более чем на пятнадцать минут: принять после дороги душ и сменить сорочки. Затем они спускались в ресторан «Кто прошлое помянет», бывший главной целью их приезда. В дверях ресторана стоял швейцар роскошного вида, с необычайно благородным лицом, седыми висками и усиками, подстриженными скобкой. Он обменивался с приезжими рукопожатием, как со старыми и добрыми знакомыми, а навстречу Гарду уже спешил хозяин ресторана, старик лет шестидесяти. — Рад видеть вас, дорогой комиссар! — говорил он, почтительно склонив голову. — Ваш столик готов. В нескольких безобидных с виду фразах, которыми они обменивались, пока проходили к столику, никто из посторонних не обнаружил бы ничего, кроме элементарной светскости, тем более что они произносились с неизменной улыбкой, не сходившей с уст говорящих. — Сегодня у вас не будет конференции или съезда, дорогой Стив? — спрашивал комиссар Гард. — Мы ждали вас, дорогой комиссар, — отвечал хозяин ресторана, — а когда вы приезжаете, все прочие мероприятия идут кувырком. — Очень жаль, — улыбался Таратура, — а то у нас не так уж много работы. — Не сокрушайтесь, — отвечал радушно хозяин, — и берегите здоровье. — Стив, — говорил Гард, — вы хорошо помните съезд, который проходил здесь лет пять назад под руководством Эрнеста Фойта? — Кто прошлое помянет, дорогой комиссар… — Вы хотите сказать, нам лучше бы пообедать в соседнем ресторане? И все трое разражались добрым и громким смехом, в котором был и тайный смысл, поскольку соседний ресторан, конкурирующий с «Кто прошлое помянет», назывался «Око за око». Заказ у гостей принимал сам хозяин. Перед тем как отдать распоряжение кухне, он говорил, опережая вопрос приезжих: — За Остина не беспокойтесь, он процветает. — Как я понимаю, — говорил Гард, — еще немного, и он станет вашим компаньоном? — Увы, — отвечал Стив, — боюсь, конкурентом, потому что он задумал перекупить «Око за око». А как поживает Эрни, комиссар? — Вам лучше знать, Стив. — Клянусь богом, — восклицал хозяин, — вот уже год, как я не видел Фойта! — Во сне? — с улыбкой спрашивал Таратура. И вновь ресторан оглашался добрым смехом, даже не привлекающим внимание посторонних. А их было немало. С некоторого времени — точнее говоря, с тех пор, как в ресторане появился новый швейцар, — сюда зачастили разные влиятельные люди. Они приезжали в «Кто прошлое помянет» и в гордом одиночестве, и во главе шумных компаний, оставляя хозяину изрядные суммы денег и расплачиваясь со швейцаром так, как будто отдавали ему громадный и неиссякаемый долг. Во всей стране, пожалуй, больше никто не получал таких чаевых, но швейцар привык к ним, принимая деньги с достоинством императора, обложившего данью покоренные им государства. Любовь влиятельных людей к ресторану была, как правило, недолгой, но крепкой. Проходил месяц, второй, и какой-нибудь министр здравоохранения, регулярно навещающий ресторан, словно передавал эстафету какому-нибудь королю стали, который, в свою очередь, через определенный промежуток времени уступал свою привязанность известному дипломату. Прослышав о том, что «Кто прошлое помянет» пользуется успехом у известных людей, сюда зачастили и представители кругов, стоящих рангом ниже. Отдохнуть в «Покое» и поужинать в ресторане, проведя сутки-двое у моря, — это стало признаком хорошего тона, своеобразным приобщением к высшему свету: «Поедем, милый, в „Кто прошлое помянет“, там нынче бывает имярек!» Стив процветал, прекрасно понимая, что обязан процветанием своему швейцару, которого, в свою очередь, к нему устроил комиссар Гард. Вот почему чувство благодарности к комиссару полиции вот уже пять лет не выветривалось из сознания бывшего гангстера. В крепком подпитии сильные мира сего иногда чудили. Нет, они не заказывали Стиву ни цыган, ни стриптизов, ни даже танцевальной мелодии. Они просто поднимали уставшие лица и в течение нескольких минут безотрывно смотрели на швейцара немигающим взором, смотрели грустно и тоскливо, съедаемые изнутри печалью, как смотрят люди на свое собственное изображение в зеркале, досадуя на быстротекущее время или на свое прошлое, вдруг явившееся перед очами. Гард отлично понимал смысл этих взглядов, часто ловил их, присматривался к людям, «заболевающим» любовью к ресторану, не без оснований подозревая в них оборотня. Да, это каждый раз мог быть профессор Грейчер, без конца меняющий шкуры и фамилии, должности и капиталы, но Гард ничего не мог с ним поделать, поскольку не мог преодолеть броню, защищающую высшее общество. Грейчер приезжал в «Кто прошлое помянет», чтобы посмотреть на себя — на швейцара. Когда, применив аппарат. Гард дал событиям обратный ход, вернув несчастным обитателям виллы «Красные листья» их собственные тела, лишь один бродяга Остин остался без оболочки, и ему пришлось взять себе внешность профессора Грейчера. Сначала он переживал, хотя, собственно, что было ему переживать, если он почти никогда не видел себя, не говоря уже о том, что весь был искусственным: то хромал на нехромающую ногу, то слеп на зрячий глаз, то подкладывал себе горб, то укорачивал себе руки. Он всегда носил чужое тело; не менее чужим было и тело профессора Грейчера. Остин довольно быстро утешился, получив место швейцара в ресторане, тем более что чаевые полились к нему рекой. Иногда его одаривала своим вниманием госпожа Грейчер, бывшая жена профессора, ныне вдова, поскольку официально было объявлено, что Грейчер исчез бесследно, — стало быть, погиб. Она прослышала о некоем швейцаре, как две капли воды похожем на ее мужа, и зачастила в ресторан. Со временем она купила себе столик в самом углу, с великолепным обзором, за который в ее отсутствие никто не мог садиться, и оттуда часами смотрела на Остина. Бывало, при каком-то странном совпадении, они собирались все вместе в милом ресторане: какой-нибудь финансовый воротила или министр, бросающий странные взгляды на жену, то есть вдову Грейчера; швейцар Остин, облаченный в тело профессора; инспектор Таратура, переживший все ужасы перевоплощения, и комиссар Гард — единственный почти до конца разбирающийся во всем человек. Все они в разной степени узнавали друг друга, но все молчали, что было самым красноречивым подтверждением главной философии современного общества: «Молчи, даже если хочешь говорить, и будь слеп, даже если хочешь видеть». И все же естькакие-то поры, через которые просачивается молва. Откуда это началось, неизвестно, но будто из воздуха родилось прозвище, которым наградили швейцара Остина — Профессор. И, бывало, собираясь в ресторан, какая-нибудь парочка, обсуждая планы, никогда не говорила: «Поехали в „Кто прошлое помянет“», а говорила: «Давно мы не видели Профессора… Заглянуть, что ли, к нему на ужин?»Евгений Рысс УКРАДЕННАЯ НЕВЕСТА (Маленький роман)
1
Приехав в мае 1953 года в П., я не мог избавиться от ощущения, что здесь все — земля, камни, деревья — еще дышит войной. Город будто недавно вышел из сражения, был тяжело изранен, прерывисто дышал, и раны его только начали зарубцовываться. Говорят, сейчас П. наряден, весел и следы военных лет давно уже стерлись. Это понятно. Восстановление городов после войны шло в нарастающем темпе. В пятьдесят третьем году, в городе П., куда бы вы ни пошли, память о войне шагала рядом с вами. О чем бы вы ни думали, чем бы вы ни были заняты, война напоминала о себе то огромным пустырем, то царапинами от осколков на памятнике, то неразобранными руинами зданий. На второй или на третий день после моего приезда пожилой учитель, которому я привез из Москвы посылку, предложил перед вечером пойти посмотреть женский монастырь. Я с удовольствием согласился, думая, что мы увидим развалины старинных строений и услышим легенды о влюбленных монахинях, о суровых игуменьях, о монастырских кладах — словом, истории, похожие на те, которые рассказывают обо всех древних монастырях. Развалины действительно были, но недавние, военного времени. Монастырь был основан в 1650 году, знаменит своей четырехэтажной колокольней и каменной церковью конца XVIII столетия. К моему удивлению, оказалось, что монастырь действует и теперь и в нем живет не то двадцать, не то тридцать монахинь. Почему был в то время под городом П. действующий женский монастырь, я и по сей день не знаю. Монахини жили в деревянном общежитии и ходили молиться в деревянную церковь. Монастырь был обнесен каменной стеной, и стена сохранилась. Войти в монастырь можно было свободно, потому что, хоть и очень поврежденные за время войны, каменные его здания представляли историческую ценность и были открыты для осмотра. Располагался монастырь на холме высоко над городом и, несмотря на разрушения, выглядел очень красиво. Рядом с монастырской стеной было тенистое кладбище, на котором росли старые деревья, а на некоторых очень древних могильных плитах можно было разобрать надписи. Ржавая железная калитка вела на кладбище из монастыря. Она состояла из сплетения железных листьев и вьющихся стеблей и свидетельствовала о высоком уровне кузнечного искусства своего времени. Теперь она проржавела, и висячий замок, на который она была заперта, тоже проржавел, и его, наверное, уже давным-давно не отпирали. Шум города не доносился сюда, здесь было по-особенному спокойно. Пока мы осматривали знаменитую колокольню, на которой реставраторы восстанавливали по сохранившимся рисункам старинную лепку, из общежития вышли монахини в черных платьях и черных платках. Построившись рядами, они не торопясь, не в такт дошагали до маленькой деревянной церкви и вошли в нее. Снова кругом стало пустынно и тихо. В церкви шла служба, еле доносилось негромкое пение хора, изредка отрывисто переговаривались реставраторы, работавшие стоя на деревянных лесах. Я заметил, что дверь в общежитие монахинь осталась приоткрытой. Не удержавшись, я вошел в общежитие. Я увидел обыкновенный деревянный коридор и по обеим сторонам его закрытые двери, которые вели, наверно, в спальни и комнаты для работы. Монахини, это я знал уже и раньше, славились умением стегать одеяла. Жители покупали вату и ткань и отдавали стегать в монастырь. Считалось, что это стоит дешевле, чем купить одеяло в магазине, да и стегали монахини, говорят, лучше, чем фабричные машины. В коридоре висела доска, и на разграфленном белом листе бумаги было написано, какой у каждой монахини план, сколько одеял она простегала и на сколько процентов план выполнила или перевыполнила. Видно, монастырское начальство использовало опыт советского производства. Может быть, между монахинями велось даже соревнование, только, вероятно, называлось оно как-нибудь иначе. Я все-таки вспомнил, что без разрешения вошел в чужой дом, и, еще раз оглядев коридор, поторопился выйти. На обратном пути спутник мой сказал: — У нас недавно в городе большое было волнение. Летчики монахиню похитили. — Что, что? — переспросил я. — Как — похитили? — Да очень просто. Днем, когда монахини шли в церковь, надели на одну мешок, кинули ее в машину и увезли. Так я впервые услышал про эту удивительную историю, начало которой могло, казалось, произойти только в очень давние времена, а конец был совершенно современным.2
Произошла эта история меньше чем за год до моего приезда и еще до сих пор служила темой бесконечных разговоров на крылечках, на которых по вечерам в хорошую погоду сидят горожане, обсуждая домашние и разнообразные городские новости. В те годы в П. было очень много летчиков. Поблизости стояли летные части, и здоровые молодые парни в свободное от службы время гуляли по улицам, торчали в очередях у касс кинотеатров, знакомились с девушками и считались в городе самыми лучшими женихами. Началось все с того, что у одного из летчиков завязался роман с молодой монахиней — собственно, не монахиней, а послушницей, которая еще только готовилась к пострижению. Подробностей этого романа толком, естественно, не знает никто. Вероятно, летчик увидел послушницу, когда зашел из любопытства посмотреть старинную колокольню. Наверное, потом, прельстившись красотой послушницы, которой было только восемнадцать лет, стал заходить почаще и постепенно добился того, что и она обратила на него внимание. Сначала, вероятно, они переглядывались, потом, обманув строгий надзор монахинь, познакомились, потом начались у них долгие разговоры. Может быть, встречались они у той самой железной калитки, которая вела на кладбище. Летчик стоял с внешней стороны и мог в любую секунду скрыться за деревьями, а послушнице разрешалось, наверное, вечерком погулять по монастырскому двору, и никого не удивляло, что она подолгу стояла у калитки. Можно предположить, что летчик уговаривал ее бросить монастырь, а она не хотела и боялась, объясняла ему, почему монастырь бросить не может. Объяснения эти ей казались очень убедительными, а летчик считал, что все это совершенная ерунда и что она непременно должна уйти из монастыря и выйти за него замуж. Чтобы понять, почему послушница так упорно сопротивлялась уговорам летчика, который, видимо, очень ей нравился, потому что ходила же она к нему на свидания, надо объяснить, как восемнадцатилетняя девушка попала в монастырь.3
Дело в том, что родители ее, супруги Иваненко, были очень религиозные люди. Отец, Никифор Федулович, хороший сапожник, работал в государственной мастерской, тайным образом брал частные заказы на дом, строго соблюдал посты и был усерднейшим посетителем церкви. Говорят, что усердие к церковным делам снискало ему благожелательное отношение городских священнослужителей, и именно среди них находил он большую часть своей клиентуры. Он шил сапоги, ботинки и туфли священникам и их женам, а в то время, в начале тридцатых годов, обувь в магазинах появлялась редко и за ней выстраивались огромные очереди, так что платили частному сапожнику много. В зарплате он, говорят, не нуждался и работал в мастерской только для того, чтобы иметь легальное положение. Женился он на женщине тоже очень религиозной. Допускаю, что супруги были искренне верующими и что совсем не материальные интересы заставляли их выстаивать церковные службы, тщательно соблюдать посты и выполнять все положенные обряды. В начале тридцатых годов жена сапожника заболела. Врачи подозревали рак. День ото дня ей становилось хуже, боли были очень мучительны, и наконец она решилась на операцию. Хирурги назначили день. Накануне супруги были в церкви и долго молились. Шли они домой растроганные, умиленные и говорили о том, что для такого особенного случая обыкновенной молитвы, может быть, будет и недостаточно. Решили дать обет. Смысл этого обета, если перевести его на обыкновенный язык, заключался в следующем: если у Марьи Степановны, так звали жену сапожника, опухоль окажется доброкачественной и, значит, болезнь не будет иметь печальных последствий, если, кроме того, у нее родится ребенок, то этого ребенка они в благодарность посвятят богу. Реально это значит, что с детских лет ребенок будет воспитан в строго религиозном духе и когда достигнет положенного возраста, будет отдан в монастырь и примет пострижение. Все обязательства по этому воображаемому договору, которые приходились на долю высшего существа, были выполнены. Операция прошла совершенно благополучно, у Марьи Степановны рака не оказалось и беспокоиться о ее здоровье не было никаких оснований. Мало того, осенью 1934 года у супругов Иваненко родилась дочь, а прежде они были бездетны, хотя давно хотели иметь ребенка. Стало быть, теперь дело было за супругами, которые должны были выполнить свои обязательства. Девочка, ее окрестили Ириной, воспитывалась в строго религиозном духе. С малых лет ее приучили молиться. Когда девочке было семь лет, началась война, и вскоре город был оккупирован. Никифор Федулович Иваненко оккупацию прожил тихо, на работу к немцам не пошел, но брал по-прежнему частные заказы, которых стало еще больше, и существовал безбедно. Ирина подрастала, выстаивала долгие молитвы дома, а потом стала ходить с родителями в церковь. Во время оккупации школы не работали, и учиться Ирина пошла с большим опозданием, только в 1944 году, когда ей исполнилось уже десять лет. Была она тихая девочка, сидела всегда на задней парте, с другими девочками не дружила и после конца уроков сейчас же бежала домой. У Иваненко был свой домик, хоть маленький, но с садиком. В садике Ирина и гуляла, а выходила из дома только в школу и в церковь. Весной пятьдесят первого года она с грехом пополам кончила семилетку. Училась она плохо потому, что все ее интересы были в религии. Мысль о том, что она станет монахиней, что она посвящена богу, что она «обещанная», была ей внушена с самого раннего возраста и принята ею без всяких возражений. Мир тихо горящих свечей, ладана и коленопреклонений был ее миром, и никаких сомнений у нее не вызывал. Она ни единым словом не возразила, когда ее отвели в монастырь. Она давно знала, что это будет, и была, казалось ей, совершенно к этому готова.4
Теперь о герое нашего маленького романа. Звали его Василий Егорович Голосеенко. Первое, что бросалось в глаза, когда вы на него смотрели, было необыкновенное здоровье. Здоровых людей на земле много, но Василий Егорович обладал здоровьем прямо-таки выдающимся. Казался он человеком полным, но даже полнота его была какая-то необыкновенно здоровая. Его будто распирали жизненные силы, бурлившие в великолепно сложенном теле. Так как он был человек веселый, очень часто улыбался, да когда и не улыбался, лицо его сияло от счастья, казалось, что он радуется своему здоровью. На самом деле он никогда об этом не думал, здоровья своего не замечал, считал его совершенно естественным и очень удивлялся, когда кто-нибудь из товарищей заболевал. Пустяковый грипп он считал очень большим несчастьем. Если кто-нибудь из знакомых был болен, Василий Егорович, а проще говоря, Вася, немедленно бежал доставать какие-нибудь лакомства, которые в пятьдесят втором году было совсем нелегко достать, и появлялся в дверях комнаты с лицом таким испуганным и огорченным, как будто товарищ, которого просто прохватило сквозняком, был болен очень тяжело и опасность ему угрожала ужасная. Убедившись, что больной свободно дышит, отнюдь не потерял интереса к жизни, смеется, шутит и огорчается потому только, что до понедельника доктор не позволяет встать, Вася расплывался в улыбке и снова начинал излучать такую радость жизни, что больному казалось, будто у него здоровья прибывает от одного только вида Васиного сияющего лица. Происходил Голосеенко из летной семьи. Отец его погиб в воздушных боях под Киевом, старший брат летал на Севере. Мать Василия Егоровича жила на Кубани в маленьком городке и была секретарем райисполкома. Жили летчики очень дружно и, несмотря на тяжелый и утомительный труд, в общем, весело. Вечером ходили в кино или в городской сад послушать оркестр, выпивали по кружечке пивка. Некоторые танцевали под оркестр в саду, у некоторых были романы, даже несколько свадеб сыграли в городе. Кое у кого, из тех, кто постарше, народились уже дети. Василию Егоровичу, которому исполнилось от роду двадцать три года, казалось, что если когда-нибудь у него и будет роман, то уж во всяком случае очень не скоро. Когда другие летчики рассказывали друг другу о своих любовных переживаниях, Василий Егорович старался не слушать, а если слушать и приходилось, то только молчал, улыбался и ужасно краснел. Семейные люди внушали ему отношение совершенно особое. Ему казалось, что семейный человек знает что-то такое, чего они, молодые парни, не знают и знать не могут, что он, семейный человек, по самому своему званию мужа и отца имеет право на всеобщее уважение. Поэтому, например, капитан Сычев, у которого было уже трое детей, казался Васе человеком очень высоко стоящим, не по званию, хотя сам Вася был пока только младший лейтенант, а по должности главы семьи. Он охотно выполнял любое поручение капитана или его жены, и капитану пришлось даже однажды выговаривать жене, потому что она и в самом деле решила, что главная житейская обязанность Голосеенко — это таскать в выходной день картошку с базара или оставаться с детьми, пока Сычева пойдет в магазин присмотрит себе материал на платье. И вот именно этот здоровый, жизнелюбивый, улыбающийся молодой парень должен был влюбиться в обещанную богу послушницу, которой предстояла аскетическая жизнь монахини, состоящая из длинных церковных служб, постоянного самоуничижения, молитв и сплетен.5
Роман между Василием и Ириной развивался медленно. Из каждых трех посещений монастыря (Голосеенко вдруг оказался страстным любителем не архитектуры вообще, а именно одной четырехэтажной колокольни середины XVII века) два раза ему удавалось хоть издали увидеть послушницу Ирину и только один раз хоть недолго с ней поговорить. Часто он даже не решался ей кивнуть головой, потому что знакомство с молодым мужчиной среди монахинь, живших в деревянном общежитии, считалось неслыханно предосудительным делом. Раз за разом все более энергично уговаривал он Ирину оставить монастырь и выйти за него замуж. Доказывая, что это совершенно невозможно, Ирина рассказала ему и про болезнь матери, и про обет, который дали ее родители, и про то, что именно после этого обета она родилась, — словом, всю свою, как ей казалось, удивительную историю, которая неотвратимо толкала ее на путь служения богу. К ее удивлению, на Голосеенко вся эта история не произвела никакого впечатления. Он недоуменно смотрел на Ирину и никак не мог понять, почему она должна отказаться от настоящей жизни и вечно стегать одеяла в обществе ворчливых старых девиц и вдов. Он не издевался над ее отношением к родительскому обету, а просто старался понять, в чем тут дело. То, что у матери оказался не рак, а другая болезнь? Что ж тут такого, ведь и до обета не было точно известно, что у нее рак. Просто опасались врачи. Значит, зря опасались. То, что, после того как был дан обет, Ирина родилась? Ну так что же? Он, например, без всякого обета родился и все его товарищи тоже. Да и какое, в конце концов, имели право ее родители кому-то ее обещать? Уж если такое дело, пошли бы в монастырь сами. А она тут при чем? Она обета не давала? Ирина спорила и старалась его убедить. Она очень хотела на него рассердиться, но не могла. Слишком было у него напряженно размышляющее лицо. Он не спорил с ней, он просто старался понять, и ему это никак не удавалось. Так шептались они через решетку из ржавых железных листьев взволнованно и горячо, и со стороны можно было подумать, что они страстно объясняются друг другу в любви. На самом деле они вели долгий, не имеющий конца, теологический спор. Хотя если поглубже заглянуть в сущность этого спора, то он все-таки был объяснением в любви — долгим, непрекращающимся и, кажется, безнадежным. Василий за свои двадцать три года влюбился в первый раз, зато уж влюбился так, что жизнь без Ирины казалась ему просто невозможной. Ирина, чтобы она ни говорила себе, как бы себя ни уговаривала, тоже была влюблена ужасно. Как ни странно, несмотря на разницу воспитаний и абсолютную противоположность взглядов, несмотря на то что всю жизнь прожили они в разных мирах, нигде не сталкивающихся, — несмотря на все это, если вдуматься, они удивительно друг к другу подходили. Оба были очень чистые люди, очень бесхитростные и душевно прямые. Каждый из них мог быть предан идее, или человеку, или коллективу так, что, не раздумывая, отдал бы всего себя целиком. Только вот идеи были у них очень разные и коллективы тоже. Я говорю: коллективы, и не знаю, можно ли назвать коллективом двадцать или тридцать молчаливых, приниженных монахинь. Наверное, Ирина любила теперь Васю не меньше, чем он ее. Но непреодолимым препятствием казался ей родительский обет, мнение старших монахинь и бесконечно уважаемых ею священнослужителей. С ужасом думала она, что приближается пасха и ей предстоит исповедоваться настоятелю их монастырской церкви отцу Николаю.6
Товарищи Василия заметили, что с Голосеенко происходит что-то необыкновенное. Не по каким-нибудь точным данным, а по естественному для молодых мужчин ходу мыслей решили они, что Василий Егорович влюблен. Сначала стали шутить над этим, но Вася отмалчивался, краснел и смотрел на всех такими несчастными, умоляющими глазами, что шутки бросили. Старались узнать, где проводит Голосеенко свободные вечера. Его последнее время не видели ни в кино, ни в городском саду, ни на главной улице. Его ни разу не встретили ни с одной девушкой, и, конечно же, никому в голову не могло прийти, что все свои свободные вечера Голосеенко проводит в женском монастыре. Вся эта история тянулась бы без конца, если бы однажды не произошел разговор между влюбленными, толкнувший Василия на решительные поступки. Началось с того, что Вася в тысячу первый раз предложил Ирине выйти за него замуж и в тысячу первый раз Ирина ему отказала. — Ты не любишь меня! — в великом горе воскликнул Василий. Интересно отметить, что, как позже стало известно, в это время они были уже на «ты». В ответ на горестное это восклицание Ирина объяснила, что дело не в том, любит она или не любит Васю, а только в том, что родители ее обещали богу и она не имеет права их обещание нарушать. Все это было рассказано в тысячу первый раз, и в тысячу первый раз он в ответ на это повторил свои доводы, которые я уже излагал. Выслушав эти доводы, Ирина выдвинула новое возражение. Не споря по существу с Васей, потому что его рассуждения были неотразимо логичны, она сказала, что не сможет посмотреть в глаза родителям, монахиням и отцу Николаю. Это возражение было выдвинуто впервые, и у Васи мелькнула мысль, которую он не спешил огласить. — Ну, а если б тебя похитили? — спросил он. — Вот так вот, просто силой? — Кто же это меня похитит? — удивилась Ирина. — Я тогда должна милицию позвать. — Ну, а если милиции не будет в это время? Вася старался говорить как будто шутя, но мысль, запавшая ему в голову, уже целиком завладела им. Ирина тоже говорила не серьезно. Как ни странно, по характеру она была очень веселая, даже смешливая девушка. Хотя эта веселость и подавлялась всеми обстоятельствами ее жизни, все-таки она порой прорывалась. Может быть, впрочем, и другое. Может быть, она в душе понимала серьезный подтекст Васиных слов и только делала вид, что ведет шутливый разговор. Делала вид перед Васей, перед самой собой и перед богом, который, как она продолжала думать, постоянно и внимательно за ней наблюдает. Согласиться на собственное похищение — это большой грех, а пошутить — это тоже грех, но маленький. Возможно, что приблизительно так рассуждала она, и возможно, что Вася очень понял эту ее двойственность не только в разговоре, но даже и в мыслях. — Хорошо, — сказал он, — так и будет. После этих очень загадочных слов он, сделав вид, что испугался проходившей недалеко монахини, скрылся, не простившись, в тени кладбищенских деревьев. Убедившись, что Вася ушел, Ирина еще немного погуляла по двору, а потом ушла в комнату. В комнате было непереносимо душно. В П. весна наступает рано, и весною носятся в воздухе трепетные запахи земли и молодой листвы, а здесь даже форточки были закрыты, потому что при всей своей отрешенности от земного монахини очень боялись простуды. О чем думала Ирина, сидя в душной комнате монастырского общежития? Может быть, вся вспыхивала от волнения, когда вспоминала решительно сказанное Васей «так и будет». А может быть, гнала от себя грешные мысли, боясь, что если даст им волю, то бог, который за ней все время внимательно наблюдает, заметит их и осудит. Перед самой собой она делала вид, что разговор ее с Васей был просто обменом шутливыми фразами, за которыми ничего не стоит и которые серьезного значения иметь не могут. В то же самое время в глубине души, куда, как она надеялась, внимательный бог доступа не имеет, она понимала, что разговор был серьезный. Мало того, она понимала, что, если разговор этот не будет иметь никаких последствий, она станет глубоко несчастной.7
Вася был человек решительный. Прямо с кладбища он отправился в городской сад. Из многих своих друзей-летчиков, которые были в саду, он после недолгих размышлений отобрал двух, тоже молодых, тоже младших лейтенантов, и, пожалуй, самых близких ему. Один из них был Петр Сидорчук, всегда выступавший на торжественных вечерах с чтением своих стихов, посвященных датам красного календаря, а в частном порядке читавший иногда друзьям стихи о своей безнадежной любви к некоей Н. На самом деле лицо, подразумевавшееся под загадочным инициалом, не было какой-нибудь определенной девушкой, имевшей имя и фамилию. Сидорчук влюблялся очень часто и не терпел поражений потому только, что прежде чем успевал объясниться и услышать суровое «я вас не люблю», уже влюблялся в какую-нибудь другую девушку. Поэтому, не пережив ни одной любовной трагедии, он находился все время в состоянии глубокой влюбленности с некоторым даже трагическим оттенком. Второй, младший лейтенант Беридзе, именуемый в общежитии Гога, был веселый парень, приехавший из глубинного селения в Кахетии. Он очень любил рассказывать о кавказской жизни, был даже известен под прозвищем «У нас на Кавказе», и поэтому Голосеенко предполагал, что похищение невесты покажется Гоге делом самым обыкновенным. — Ребята, — сказал Голосеенко после того, как три друга ушли в самую тенистую и безлюдную часть сада, — тут такое дело… Он рассказал историю своей любви, сложную и, с его точки зрения, загадочную биографию Ирины, и о конфликте, который мешает им соединиться. Сидорчук и Беридзе больше всего были поражены тем, что их друг влюбился в монахиню. Они тоже были как-то в монастыре, осматривали колокольню — как-никак историческая ценность, надо посмотреть, — видели и монахинь, шедших из церкви в общежитие. Им показалось, что все они старые, некрасивые и не очень чистоплотные, вроде бы принадлежащие к какой-то совсем другой породе людей, чем, скажем, они, летчики, или городские девушки. Вася, однако, так убежденно стал их уверять, что Ирина замечательно красивая и хорошая и просто ей голову с детства задурили, что Сидорчук и Беридзе поверили ему. — Так что же ты думаешь делать? — спросил Сидорчук. — Надо ее украсть, — решительно сказал Вася. Беридзе и Сидорчук обалдели. Разговор происходил в темной и малопосещаемой аллее. Летчики сидели на скамейке: Голосеенко в середине, Беридзе и Сидорчук по бокам. На танцевальной площадке играл оркестр. В аллею музыка доносилась издалека и была от этого во сто раз более волнующей и прекрасной. Сидорчук и Беридзе молчали, и Голосеенко страшно заволновался. — Ребята, — сказал он, — ее обязательно надо украсть, ее же черт знает как воспитали. Она не решается, потому что ей неудобно перед родителями, перед этими монашками, а если мы ее украдем, она сама будет благодарна. Что же, ей сгнивать в этом монастыре, что ли? Сидорчук и Беридзе молчали. — Ребята, — сказал Голосеенко, умирая от волнения, что друзья его не поддержат. — Что вы, ребята! Беридзе, у вас на Кавказе ведь крадут невест? — Раньше крали, — сказал Беридзе, — теперь не крадут. — Ребята, — сказал Голосеенко, — ну как же теперь быть? Что делать? — Влетит здорово, — мрачно сказал Сидорчук. — Влетит, — согласился Голосеенко, — может, на губе отсидеть придется, но ведь тут же человека надо спасать. — Она согласна? — спросил Беридзе. — Так прямо я не спрашивал, — признался Голосеенко, — может, она и будет сопротивляться, но это только от стыда. А когда мы ее увезем, она рада будет. — Мешок надо, — мрачно сказал Сидорчук. — Какой мешок? — спросил растерянно Голосеенко. — Набросить мешок — и в машину. Поскольку разговор зашел о технических деталях, Голосеенко понял, что друзья его поддержат. — А куда отвезем? — спросил Беридзе грустно. Ему очень не хотелось сидеть на губе, но он понимал, что Васе придется помочь и тут уже ничего не поделаешь. — К Сычеву, — сказал Голосеенко. — Он человек семейный, трое детей, и жена славная. — Ты с ним говорил? — спросил Сидорчук. — Нет, — сказал Голосеенко. — И не надо. Если спрашивать, он откажет, а когда привезем и все объясним, что же, он выгонит нас, что ли? После этого оставалось обсудить детали. Решено было, что Беридзе попросит в гараже грузовик, скажет, что одному офицеру надо подвезти картошку с базара. Мешок, достаточно большой, чтобы в него поместилась невеста, достанет Сидорчук и попросит одну знакомую его выстирать, а само похищение состоится через три дня, в воскресенье, в шесть часов вечера. В это время в церкви начинается служба, монахини будут идти из общежития, и вот тут-то Голосеенко накинет на Ирину мешок и отнесет ее в машину.8
Итак, в половине шестого дня в воскресенье грузовик, лениво фырча, поднялся на холм, на котором стоял монастырь, и остановился метрах в пятнадцати от ворот. Три молодых летчика выпрыгнули из кузова и не торопясь пошли в монастырь. Шофер остался в кабине. Следует сказать, что в последнюю минуту решено было подбить на участие в похищении шофера Степу Горкина — сержанта, водившего этот грузовик постоянно. Степа поддался уговорам не сразу, но уж когда решил принять участие в похищении, то увлекся страшно. Он был моложе всех, ему было всего только двадцать лет, и он отлично понимал, что участвовать в таком романтическом деле ему, наверное, никогда в жизни уже не придется. Итак, три летчика, прогуливаясь; дошли до ворот и вошли в монастырь. Во дворе было пусто, только на лесах, окружавших знаменитую колокольню, работал реставратор, очень известный среди знатоков старины Николай Львович Огородников. Он рассказал мне некоторые подробности похищения. — Меня, — рассказывал он, — сразу удивило, что эти три молодых летчика так внимательно и долго смотрят на колокольню. На ней была действительно замечательная лепка, но лепку почти целиком побило осколками. Счастье еще, что сохранились рисунки и фотографии, теперь ее удалось реставрировать. А в то время еще и смотреть не на что было. Да и вообще колокольня не старая, триста лет, — разве это возраст для архитектурного сооружения? Наконец летчики перестали осматривать почтенную древность и медленно пошли по двору. Николай Львович провожал их взглядом. Не то чтобы он что-нибудь подозревал, ему ничего такого и в голову не приходило, а просто его заинтересовали эти любители старины. Так как он все равно собирался кончать на сегодня работу и очень любил рассказывать посетителям историю монастыря, то и подумал, что, может быть, молодые люди зададут ему какие-нибудь вопросы. Он уже собирался слезать с лесов, но не успел. Летчики сначала шли необыкновенно медленно. Один из них, самый полный, нес под мышкой сверток тика в красную и белую полоску. Николай Львович не придал этому значения. Мало ли, может, молодой человек купил тик, чтобы сшить наматрасник. Между тем из общежития вышли монахини и не торопясь, опустив повязанные черными платками головы, пошли по направлению к церкви. Летчики остановились, почтительно пропуская процессию. Николай Львович заметил, что одна монахиня задержалась. У нее, очевидно, что-то пристало к платью. Стоя на крылечке, она рукой стала платье отряхивать, спустилась с крылечка минутой позже и оказалась метров на пять позади процессии. И вот тут на глазах Николая Львовича начали твориться необыкновенные вещи. Летчик, который нес под мышкой сверток, вдруг одним махом расправил его, и даже с лесов, на которых стоял Огородников, стало видно, что это не просто тик, а уже сшитый наматрасник. Толстяк, это был Голосеенко, деловито растянул наматрасник внизу, — нижний край, оказывается, сшит не был, — и очень решительной и быстрой походкой направился к той монахине, которая шла позади. Два других летчика тоже вдруг стали двигаться решительно и быстро. От их ленивой медлительности следа не осталось. Расправив нижний конец, Голосеенко стал обращаться с наматрасником так, как будто это сачок для ловли бабочек, которым следует поймать отставшую монахиню. Ловким, очевидно отработанным заранее, движением он напялил на нее наматрасник и начал тянуть его вниз. Край наматрасника зацепился за плечо Ирины, и так как Голосеенко волновался и спешил, то не сразу нашел, где зацепилось. Тогда монахиня — Огородникову сверху это было хорошо видно — подняла руку и поправила наматрасник и оказалась закрытой с головы до самых ног. Сперва Огородников думал, что монахиня не кричит и не сопротивляется просто потому, что онемела от ужаса. Однако после того как она сама помогла себе влезть в наматрасник, Николай Львович впал в некоторые сомнения. В это время Сидорчук и Беридзе решительными шагами прошли между процессией и отставшей монахиней. Взявшись за руки, они образовали как бы некоторую короткую цепь. Только теперь монахини обратили внимание на происходящее. Они испуганно закрестились, всполошились и начали как-то метаться в пределах, впрочем очень ограниченных. Сзади их ограничивали Сидорчук и Беридзе, а когда они стремились убежать от видимой опасности в церковь, то их точно невидимой ниточкой притягивало обратно любопытство. Сделав несколько шагов, они возвращались, снова всплескивали руками, крестились и что-то говорили. До Огородникова доносились их голоса, но слов разобрать он не мог. В это время Голосеенко перекинул закутанную в тик монахиню через плечо и, придерживая ее за ноги, бегом побежал к воротам. Сидорчук и Беридзе стояли стеной, не допуская монахинь бежать за Голосеенко. Впрочем, бежать никто и не собирался. Все были в такой растерянности и панике, что только без конца вскрикивали и крестились. Голосеенко стремительно выбежал за ворота, и через минуту из-за стены донесся его резкий свист. Сидорчук и Беридзе помчались вслед за ним. Степа Горкин, успевший за это время развернуть машину, настежь распахнул дверцу кабины и выглядывал, умирая от волнения и любопытства. Голосеенко бережно усадил Ирину на сиденье и начал стаскивать с нее наматрасник. Это было нелегкое дело. Ему пришлось высадить ее из кабины обратно, сдернуть наматрасник, бросить его прямо на дорогу, а Ирину, уже распакованную, всадить обратно и самому сесть в кабину третьим с другого края. В это время Сидорчук и Беридзе вскочили одновременно с разных сторон в кузов и стукнули по крыше кабины в знак того, что все в порядке и можно ехать. Не задерживаясь ни секунды, машина помчалась по дороге вниз, к городу. Ирина плакала. Не кричала, не сопротивлялась, а просто плакала. Степа, заметив это краем глаза, больше уже не смотрел в ее сторону. Он смотрел прямо вперед и старался не слышать разговор, который вели жених и невеста. Все-таки доносились до него отдельные слова, произносившиеся Голосеенко на украинском языке, на котором так замечательно объясняться в любви. Один раз будто бы донеслось до Степы Горкина слово «серденько», и другой раз, уже при въезде в город, «голубонька». Ирина молчала и продолжала плакать. Машина быстро мчалась к квартире капитана Сычева.9
Капитан Сычев, сухощавый, подтянутый, молчаливый офицер, казалось, совершенно не подходил для роли сочувствующего, даже почти участника подобной романтической эпопеи. Молодые летчики надеялись только на то, что, во-первых, по слухам, несмотря на внешнюю сухость, был он человек добрый и, во-вторых, что доброта жены его, Александры Тимофеевны, не вызывала никаких сомнений. Тем не менее, подъехав к дому, в котором жил капитан Сычев, все трое очень оробели. Только теперь им стало ясно, что они легко могут быть обвинены в оскорблении чувств верующих или даже просто в обыкновенном и возмутительном хулиганстве. Тем не менее, понимая, что сделанного не вернешь, они вылезли из машины и, томимые мрачными предчувствиями, поднялись на второй этаж. Ирина продолжала молчать. За всю дорогу она не сказала ни одного слова, и Голосеенко не впал в отчаяние потому только, что однажды на крутом повороте, виртуозно совершенном Степой Горкиным, она ухватилась за руку Голосеенко, да так потом эту руку и не выпускала. Из этого Голосеенко сделал некоторые выводы… По лестнице шли впереди жених и невеста, а сзади Сидорчук и Беридзе. Настроение у всех четырех было далеко не веселое. К счастью, дверь открыла Александра Тимофеевна. Голосеенко как в воду кинулся и, сам не зная, откуда у него берутся слова, объяснил, что это его невеста, что они любят друг друга, но что родители не согласны и что он привез невесту к Александре Тимофеевне потому, что больше им ехать некуда. Про монастырь не было сказано ни одного слова. Ирина молчала, слезы продолжали течь по ее лицу. В общем, это было к лучшему. Вид у нее был такой несчастный, что Александра Тимофеевна мгновенно растрогалась. Все были приглашены в квартиру. Жених и невеста вошли первыми, Сидорчук и Беридзе, которым страшно хотелось повернуться и убежать, взяли себя в руки и тоже вошли. Сычев в старых брюках и майке лежал на диване, и трое его детей не давали ему ни секунды покоя. Так как детей он мог видеть только по воскресеньям, то возиться с ними доставляло Сычеву немалое удовольствие. Радио гремело вовсю, передавая откуда-то такую громкую джазовую музыку, что разговаривать было очень трудно. Орущее в полную силу радио тоже почему-то входило в программу еженедельного отдыха. Увидя незнакомую девушку, Сычев смутился, вскочил и убежал в другую комнату привести себя в порядок. Александра Тимофеевна, уже увлеченная историей романтической любви (такие истории увлекают почти каждую семейную женщину), говорила без умолку и избавляла гостей от необходимости объяснить подлинную ситуацию. Сычеву удивила сначала мрачная темная одежда невесты, слезы на ее лице и запаренный вид молодых летчиков, но она быстро представила себе суровых старорежимных родителей, тайную любовь, преследования, бегство, и так как считала, что таким образом начинать семейную жизнь прекрасно и романтично, успокоилась и хлопотала по хозяйству, болтая о всякой ерунде. Дети Сычева, очень любившие Голосеенко, молчали, потрясенные, как они догадывались, какой-то загадочной, но очень интересной историей, и во все глаза смотрели на невесту. Увидя детей, Ирина впервые за этот безумный день улыбнулась и у Голосеенко, все время терзавшегося страшными сомнениями, отлегло от сердца. Через несколько минут Александра Тимофеевна решила, что невесте будет легче, если мужчины уйдут, и выгнала летчиков в другую комнату, туда, где торопливо смахивал пыль с ботинок и надевал чистую рубашку капитан Сычев. Капитан улыбнулся, когда летчики вошли, и сказал, чтобы они подождали, он через пять минут будет готов. Тогда Голосеенко, в который уж раз за этот день, собрался с духом и, не кривя душою, прямо бухнул капитану: — Иван Терентьевич, мы невесту из монастыря украли. Капитан Сычев застыл с сапожной щеткой в руке и в испуге смотрел на Голосеенко. Василий Егорович, понимая, что отступать поздно, изнывая от страха и от любви, в коротких, но энергичных словах изложил всю историю. Сычев слушал с растерянным лицом, продолжая держать сапожную щетку в руке, и один раз даже поднес ее к уху, после чего чертыхнулся и положил щетку на кровать. Видно было, что мысли у него мешались. Рассказав историю до конца, Голосеенко замолчал. Капитан Сычев молчал тоже. В другой комнате молчали трое детей, во все глаза глядя на Ирину, и молчала Ирина, не зная, что говорить. За всех разговаривала Александра Тимофеевна, которой казалось, что чем больше произнесет она слов, тем легче сгладится естественная неловкость, возникшая в начале визита. Гремело радио. — Что вы думаете делать? — выдавил наконец с трудом капитан Сычев. — Жениться, — решительно сказал Голосеенко. — Сколько ей лет? — спросил Сычев. — Восемнадцать, — сказал Голосеенко, — хотя на самом деле не знал, сколько Ирине лет. — Она согласна? — спросил Сычев. — Я не спрашивал, — сказал Голосеенко. У Сычева глаза полезли на лоб. — Как не спрашивал? — с трудом проговорил он. Следует сказать, что весь разговор велся шепотом, чтобы не было слышно в первой комнате. Это придавало произносимым словам особую значительность и напряженность. Также шепотом начал объяснять Голосеенко, путаясь и перескакивая с одной мысли на другую, что хоть он и не спрашивал, но все-таки твердо уверен, что Ирина согласна выйти за него замуж, что если она и не хотела бежать, так потому только, что боялась родителей и монахинь, что поэтому ее пришлось похитить и другого выхода не было. Радио, заглушая и без того тихий шепот, гремело вовсю. С точки зрения логики монолог Голосеенко был набором бессвязных фраз. Но напор чувств, который угадывался за словами младшего лейтенанта, немного успокоил капитана. Он вспомнил, что когда сам женился, то многое тоже не было сказано между ним и Александрой Тимофеевной, и много было тоже всякого вздора, а тем не менее живут двенадцатый год и уже трех детей народили и горя не знают. Правда, он, Сычев, невесту не похищал, и родители у нее хорошие люди, но тоже волнений было немало. Постепенно капитан входил в интересы этих молодых людей и забывал, что ему как-никак уже тридцать восьмой год. Снова овладевал им азарт, который в молодости позволял ему идти на самые отчаянные и рискованные поступки. Впрочем, сразу же он вспомнил про свои годы и про то, что для этих мальчишек он обязан быть образцом хладнокровия и разумности. Вспомнив об этом, капитан Сычев действительно стал разумным и хладнокровным. И все-таки где-то в душе у него возникло полузабытое сладостное ощущение, с которым были у него связаны любовь, и ухаживание, и женитьба, которое он будто бы и позабыл за повседневной суетой, но, оказывается, вовсе не позабыл, а только спрятал глубоко-глубоко. Спрятать-то спрятал, а чувство — оно есть, оно живое, и именно этим близки ему три растерянные парня и девушка, которая все молчит и, наверное, молча плачет под гром радио и несмолкаемую трескотню Александры Тимофеевны. Капитан взял себя в руки. Это снова был прежний капитан Сычев Иван Терентьевич, исполнительный и точный офицер, представленный к званию майора, на которого во всем полагалось начальство, который получал благодарности и очень давно уже не имел взысканий. — Ну, вот что, — сказал капитан Сычев, убирая с постели сапожную щетку и засовывая ее в нижний ящик шкафа, где ей полагалось находиться. — Ну, вот что, — повторил он, завязывая перед зеркалом галстук. — Девушка останется у меня! Вы все трое сейчас же уйдете. Я тоже уйду. Дети лягут спать, а Александра Тимофеевна лучше нас с вами договорится с девушкой. Поняли? — Поняли, — слабым голосом сказал Голосеенко. Сидорчук и Беридзе молча кивнули головами. — Пошли, — сказал капитан, тщательно застегивая китель. — Утром, — продолжал он, — вы трое явитесь к генералу, доложите все, как было. Если понадобится, генерал вызовет меня. Все. Все четверо вышли в первую комнату. Капитан Сычев сказал жене, что Ирина останется у них ночевать, а он с молодыми людьми сейчас уйдет и вернется часов в одиннадцать вечера, потому что будет играть в шахматы с капитаном Ефимовым, а Ирине лучше всего постелить здесь, на диване. После этого он, улыбаясь, пожал руку Ирине, поцеловал жену и детей и вышел, ведя за собой, точно небольшой отряд штрафников, трех провинившихся младших лейтенантов. На улице он сразу же с ними простился, напомнив, что утром в девять ноль-ноль они должны быть у генерала, и зашагал в другую сторону. Капитана Ефимова не оказалось дома, и капитан Сычев целый вечер пробродил по улицам. Из городского сада доносилась приглушенная расстоянием музыка, в тени деревьев гуляли шепчущиеся и смеющиеся пары. Капитан Сычев шел и вспоминал давно забытые времена, и сладостное ощущение продолжало таиться где-то глубоко-глубоко, и капитан не думал о том, что завтра скажет генерал и чем кончится эта глупая история. Капитан Сычев ходил, и дышал весенним воздухом, и слушал далекую музыку. И был счастлив.10
Александра Тимофеевна составила себе собственное представление об истории, в результате которой Ирина оказалась у нее. Разумеется, никакие мысли о монастыре ей и в голову не приходили. Она представляла себе суровую семью, в которой Ирина выросла, строгих тиранов-родителей, тайный роман, побег, погоню, поиски убежища… Молчаливость и явную робость Ирины она относила за счет ее забитости и естественной стеснительности. Поэтому, непрерывно болтая, она старалась незаметно вовлечь Ирину в хозяйственные дела, так, чтобы девушка постепенно освоилась и перестала стесняться. Что касаетсяИрины, то она находилась в состоянии, близком к обмороку. Конечно, она ждала, что ее похитят, но не просто ждала, а ждала и не признавалась сама себе в этом; надеялась, что ее похитят, и надеялась, что похищение не состоится. Словом, ералаш был у нее в голове ужасный. Кроме того, вспомним, что, если не считать мрачного дома своих родителей, она никогда не была в обыкновенном семейном доме да и маленьких детей видела только издали. Александра Тимофеевна напоила Ирину чаем с домашним пирогом, услала детей во двор погулять перед сном, рассказала, будто бы между прочим, какой Голосеенко замечательный человек и как все офицеры удивлялись, что он еще никогда и ни в кого не был влюблен. В середине этого увлекательного рассказа Ирина вдруг закрыла лицо руками и расплакалась. С трудом Александра Тимофеевна добилась от нее признания, что плачет Ирина, боясь, что ее вернут в монастырь. — В какой еще монастырь? После долгих расспросов Александра Тимофеевна поняла наконец, что Ирина похищена из монастыря. Теперь пришла очередь растеряться Александре Тимофеевне. История девушки оказывалась еще гораздо романтичнее, чем поначалу можно было предполагать. Ну, подумайте сами, часто ли в наше время женихи похищают невест из монастырей? Тут уж получался прямо роман. Когда путем обстоятельных расспросов была выяснена причина, по которой Ирина оказалась в монастыре, и постепенно вышла наружу история с суровыми родителями, с этим удивительным обетом, за который отвечать должна была ни в чем не повинная девушка, в тоне Александры Тимофеевны появились нотки в некоторой степени героические. — Ты ни о чем и не думай, — заявила она Ирине совершенно категорически. — Мы тебя никому не отдадим. И все наши офицеры тебя защищать будут, и начальство у нас есть, и никто твоим старикам и этим твоим монашкам безобразничать не позволит. Теперь Александра Тимофеевна считала себя ответственной за судьбу Ирины. Все темные силы мира могли ополчаться на девушку сколько им угодно. Александра Тимофеевна, мысленно мобилизовав себе в помощь жен офицеров и, стало быть, самих офицеров, была готова к бою. Так как Ирине были неведомы боевые дарования Александры Тимофеевны, она все-таки очень боялась. Дети пришли со двора. Их надо было умыть, накормить ужином, раздеть и уложить. Во всем этом Ирина принимала самое большое участие и убедилась в том, что возиться с детьми необыкновенно приятно. Потом дети заснули, а женщины еще долго разговаривали, и для Ирины открывался совершенно ей незнакомый обыкновенный мир, в котором оказывается все не легче, а даже сложней, чем в монастыре. Надо добиться, чтобы супругам Голосеенко дали комнату. Потом надо сразу же начать откладывать из зарплаты на мебель. Вообще всего надо было добиваться. Это было интересно, и этого Ирина не боялась. Боялась она, что ее вернут в монастырь или к родителям. Доводы Голосеенко, которые подтверждала Александра Тимофеевна, о том, что не имеют права родители давать обет за счет дочери, постепенно внедрились в сознание Ирины и уже казались ей правильными. Позже Александра Тимофеевна уложила Ирину спать на диване в первой комнате и погасила свет. Ирина спала и не спала. То она видела в полусне настоятеля отца Николая, который грозил ей пальцем, и она плакала и каялась. То вспоминала она, как легко, точно перышко, подняли ее мощные руки Голосеенко, и улыбалась, и радовалась, что ее полюбил человек такой необыкновенной силы. В одиннадцать часов через комнату на цыпочках прошел Сычев, и Ирина сделала вид, что крепко спит. На самом деле она то засыпала, то просыпалась до самого утра. И всю ночь сквозь полусон доносился к ней из второй комнаты приглушенный взволнованный шепот Александры Тимофеевны. Боевая подруга внушала Ивану Терентьевичу, что все офицеры обязаны заступиться за бедную девушку, и если они не заступятся, то они плохие коммунисты и никуда не годные офицеры, и тогда офицерские жены сами пойдут к начальству… Иван Терентьевич не спорил. Он и сам понимал, что будет за Ирину воевать, да предполагал, что в таком деле и другие офицеры ему охотно помогут. Но Александра Тимофеевна хотела действовать. Всю ночь она просыпалась, будила мужа и снова внушала ему правила ведения предстоящих боев, которые Иван Терентьевич слушал вполуха, потому что знал их лучше жены. Утром он встал невыспавшийся, побрился, оделся, выпил чаю и побежал в штаб. Ирина не проснулась. Промаявшись целую ночь, она под утро заснула так глубоко, что открыла глаза только в двенадцатом часу дня. Пока она спала, происходили события, имевшие к ней самое непосредственное отношение.11
Генерал-лейтенант Андреев, командовавший частью, в которой служил младший лейтенант Голосеенко, был человек на службе очень строгий. Конечно, и в его части случались нарушения дисциплины, но бывало это очень редко, а того, что на военном языке называется ЧП, то есть чрезвычайное происшествие, не происходило за последние годы ни разу. Город П. невелик, и жители его, как все южане, народ чрезвычайно общительный. Слухи о происшествии в монастыре ходили по всем переулкам и улицам уже через час после того, как Степа Горкин стремительно прогнал грузовик по крутой дороге от монастыря. Вечером жена генерал-лейтенанта была в кино и, вернувшись, рассказала мужу, что какие-то хулиганы, как говорят, напали на монашек в монастыре и учинили дебош. Генерал сказал по этому поводу, что плохо еще работает милиция и что хулиганство — тяжелое наследие войны. Утром он встал в прекрасном настроении и к девяти ноль-ноль, как обычно, прибыл в штаб. Проходя через приемную, он заметил какого-то пожилого человека, в гражданском костюме, с большой бородой и туго набитым портфелем, и решил, что человек этот пришел по какому-нибудь хозяйственному делу. Кроме бородача, в приемной сидели три младших лейтенанта, которые вскочили и вытянулись, когда вошел генерал. Это было дело совсем обычное, и генерал, кивнув лейтенантам, сейчас же забыл о них. Все было как обычно, и ничто не предвещало дня больших новостей и больших удивлений. Удивился генерал в первый раз тогда, когда адъютант, войдя в кабинет, доложил, что приема ждет архиерей. — Как — архиерей? Зачем? — спросил генерал. Адъютант сказал, что архиерей отказался объяснить свое дело, но утверждает, что оно в высшей степени важное. — Не понимаю, — сказал генерал. — Ну ладно, проси. Человек в гражданском костюме вошел в кабинет. Генерал сдержанно поздоровался и предложил садиться. Архиерей сел и сказал, что пришел с жалобой. — Слушаю вас, — сказал генерал выжидательно. Архиерей помолчал, пожевал губами и наконец произнес фразу, короткую, но оглушительную: — Вчера три офицера нахулиганили в женском монастыре. — Как — нахулиганили? — спросил генерал. — А зачем они вообще в монастыре оказались? Архиерей пожал плечами и объяснил, как все произошло. Дело, видимо, было задумано заранее. Приехали три офицера на грузовике, машину оставили на дороге, вошли в монастырь и поначалу вели себя прилично и тихо. Потом, когда монахини шли в церковь стоять службу, офицеры напали на них с дикими криками, страшно монахинь перепугали, а самую молодую послушницу схватили и увезли. Архиерей уже кончил говорить и ждал, что скажет генерал, а генерал молчал. Он понимал великолепно, что выйти из себя при архиерее просто неудобно, спокойно же говорить он не мог. Ему кровь бросилась в голову и даже по спине побежали мурашки от негодования. Чтобы его офицеры позволили такое безобразие! Только помолчав минуту или две, генерал спросил каким-то сдавленным голосом: — Что же, они пьяные были? — Наверное, пьяные, — печально сказал архиерей. — Разве трезвые люди себе такое позволят? — И куда они ее дели? — В машину, — вздохнул архиерей, — и увезли, а куда, пока неизвестно. — Она кричала, сопротивлялась? — Они на нее мешок накинули, а когда донесли до машины, то мешок сняли и бросили… Вот, если разрешите, я принес показать. Архиерей не торопясь расстегнул портфель, вынул большой полосатый наматрасник и начал его разворачивать. — Не надо, — сказал генерал, — я вижу. Тогда архиерей так же неторопливо свернул наматрасник и положил в портфель. Минуту оба молчали. — Хорошо, — сказал наконец генерал, — я сегодня же разберусь. Если факты подтвердятся, хулиганы будут строго наказаны. Вплоть до военного суда! — выкрикнул вдруг генерал, отдавшись своим мыслям и забыв о присутствии архиерея. — И женщина будет, конечно, освобождена, — сказал он уже спокойней. Потом архиерей и генерал встали, сдержанно поклонились друг другу, и архиерей ушел. Пока происходил этот разговор, Голосеенко, Беридзе и Сидорчук, сидевшие в приемной, истомились в ожидании. Они пришли за пять минут до девяти часов и, подойдя к штабу, увидели, что у крыльца стоит пролетка, в которую запряжены две сытые гнедые лошади. Все трое сразу почувствовали недоброе. Те, кто обычно бывал у генерала, приходили пешком или приезжали в машинах. Пролетка была связана с чем-то давно прошедшим, с тем же, с чем был связан, например, и монастырь. У всех троих защемило сердце, но, преодолев невольный трепет, они все-таки вошли. Когда они увидели в приемной человека в гражданском платье и с бородой, им стало ясно, что самые страшные их опасения оправдались. Они доложились адъютанту, адъютант сказал, чтобы они подождали, что генерал-лейтенант обязательно будет в девять ноль-ноль. Они сели и искоса посмотрели на человека с бородой. Тот не обращал на них никакого внимания. Потом прошел генерал-лейтенант, и через минуту человека с бородой пригласили в кабинет. У Голосеенко от напряжения выступили на лбу крупные капли пота, но он сидел неподвижно, понимая, что все равно придется перенести то, что положено. Сидорчук и Беридзе продумывали вопрос о том, по-товарищески ли будет, если они выйдут покурить в коридор и оттуда незаметно исчезнут. Вопрос требовал размышления, а пока они сидели неподвижно, с каменными лицами, скрывавшими адские их мучения. Потом человек с бородой вышел от генерала, и сразу же звонком вызвали адъютанта. Потом адъютант отсутствовал, можно было выйти покурить, но он отсутствовал так недолго, что они не успели принять решение. Вернувшись, адъютант сразу позвонил по телефону и негромко сказал в трубку: — Капитана Сычева к генерал-лейтенанту. Летчики вздрогнули. Сомнений больше не оставалось. Человек с бородой приезжал, чтобы накапать на них. Они, все трое, сидели напряженные, кажется, еще более неподвижно, чем раньше, и на лицах их еще в большей степени, чем раньше, ничего совершенно не выражалось. Капитан Сычев прошел, через приемную, кивнул им, они вскочили и вытянулись, а потом снова сели. Лица у них были каменные, а в душах был ад. Стало ясно, что теперь бежать уже поздно. Между тем в кабинете генерала о них разговор еще даже и не заходил. Генерал вызвал капитана Сычева просто как исполнительного офицера, которому он собирался поручить строгое расследование беспримерного дела. — Капитан Сычев, — загремел генерал, — произошла возмутительная история! Три офицера надрались, извиняюсь, как свиньи, ворвались в женский монастырь, надебоширили и увезли молодую монахиню. Как вам это понравится, а? Капитан Сычев стоял вытянувшись и молчал. Генерал, собственно, повышал голос совсем не на Сычева, он был просто до такой степени возмущен безобразной историей, что голос у него от негодования повышался сам по себе. Дверь в приемную, обитая с двух сторон дерматином, пропускала генеральский крик, но слов разобрать было невозможно. Летчикам казалось, что Иван Терентьевич терпит смертную муку за них, молодых безобразников. Между тем генерал заставил себя успокоиться. — Так вот, капитан Сычев, — сказал он уже обыкновенным голосом, — бросьте все дела, если нужно, берите машину, и чтобы сегодня же монахиня была в монастыре, а виновные офицеры здесь у меня. Ясно? — Разрешите доложить, товарищ генерал-лейтенант, — сказал капитан Сычев. — Похищенная послушница Ирина Иваненко находится у меня в квартире на попечении моей жены. Генерал так удивился, что, наверное, целую минуту молчал и смотрел на Сычева. Можно было заметить по движению горла, что генерал все время делает глотательные движения. — А кто эти негодяи? — спросил он наконец очень тихо. — Младшие лейтенанты Голосеенко, Сидорчук и Беридзе находятся в вашей приемной, — отчеканил капитан Сычев, — только разрешите сказать, что вас неправильно информировали. Младшие лейтенанты были совершенно трезвы и вынуждены были похитить послушницу Иваненко, потому что она и младший лейтенант Голосеенко любят друг друга и намерены пожениться. — Так зачем же тогда похищать? — спросил генерал растерянно. — Ирина Иваненко, — отчеканил капитан Сычев, — воспитанная родителями в строго религиозном духе, не решалась оспаривать их волю. В настоящее время она против своего похищения не возражает. Была еще одна минута молчания. Генерал-лейтенант удивился в третий раз. — Все равно безобразие, — сказал он уже совсем нерешительно, без прежней экспрессии. — Ворваться в монастырь, оскорбить религиозные чувства… — Полагаю, — отчеканил капитан, — что пять-шесть дней ареста будут достаточным наказанием. В дальнейшем дело, мне кажется, следует предоставить самим влюбленным. Тут большая любовь, товарищ генерал-лейтенант. Была еще минута молчания, потом адъютанта вызвал в кабинет звонок. — Пригласите младших лейтенантов, — сказал генерал. Младшие лейтенанты вошли гуськом. Впереди Голосеенко, готовый грудью встретить удар, за ним Сидорчук и Беридзе. Войдя в кабинет, они перестроились и стояли теперь перед генералом рядом, поедая его глазами. — Кто из вас младший лейтенант Голосеенко? — спросил генерал. Голосеенко сделал шаг вперед. — На десять суток под арест, — сказал генерал. — Есть, товарищ генерал-лейтенант! — радостно выкрикнул Голосеенко. — А вы двое — по семь суток, — сказал генерал. — Есть, товарищ генерал-лейтенант! — хором произнесли Беридзе и Сидорчук. Генерал-лейтенант усмехнулся. — Придумали! — сказал он. — Похищение из монастыря! Советские офицеры!.. Средние века какие-то! Надо было начальству доложить. Может быть, нашли бы другой выход. Можете идти. Младшие лейтенанты, козырнув, вышли из кабинета. Когда за ними закрылась дверь, генерал обратился к Сычеву: — Вы уж, капитан, держите невесту у себя. Ничего не сделаешь, раз так получилось. Отпустите прямо в загс, не раньше. Понятно? — Понятно, — сказал капитан Сычев и вышел. Через пять минут вестовой нес Александре Тимофеевне записку.«Все обошлось, — писал капитан Сычев. — Подробности расскажу вечером. Невесту не выпускай. Целую. Ваня».
12
Это совсем не просто: после того как вся жизнь прошла в замкнутом мире молитв, лампад и киотов, вдруг оказаться в обыкновенном семейном доме, где шумят и играют дети, гремит радио и глава семьи торопится на работу. Сперва было незаметно огромное расстояние, разделяющее Ирину и всех тех людей, с которыми ее свела судьба. Александра Тимофеевна на второй же день перешила ей свое платье, и Ирина внешне перестала чем-нибудь отличаться от обыкновенной девушки. Было только замечено, что, когда радио начинает особенно громко греметь, она испуганно косится на эту загадочную кричащую и подмигивающую машину. Было также замечено, что она не принимает участия в разговорах о содержании кинофильмов, которые Александра Тимофеевна очень любила вести. Оказалось, и как трудно было в это поверить, что Ирина никогда не была в кино и даже не представляет себе, в сущности говоря, что это такое. Александра Тимофеевна, конечно же, загорелась желанием немедленно бежать на ближайший сеанс, но тут Ирина страшно разволновалась, начала умолять Александру Тимофеевну оставить ее дома с детьми и, наконец, даже расплакалась. Хорошо, что в это время вернулся домой Иван Терентьевич и стал на сторону Ирины не потому, чтобы почитал кино за дьявольское изобретение, а потому только, что Ирину могли поджидать на улице и родители, и бывшие ее подруги-монахини, да и мало ли кто еще. Итак, Ирина сидела безвыходно дома. Культурно-просветительная работа была отложена на будущее. Летом в город П. обычно приезжал на гастроли театр, в этом году газеты обещали еще и цирк «Шапито», так что перспективы открывались великолепные. В это время герой романа Василий Егорович томился в заключении. Он пытался использовать свое вынужденное бездействие и несколько подразвиться в культурном отношении, потому что обычно времени на чтение художественных произведений катастрофически не хватало. Однако ни Толстой, ни Чехов были не в силах его увлечь. Душа его была полна ласковыми словами, которые он еще не сказал Ирине, но должен был непременно сказать. Он как маньяк бормотал их про себя, эти ласковые слова, и время начинало двигаться быстрей, потому что ему казалось, что Ирина слышит его и даже, может быть, иногда ему отвечает. А Ирине было у Сычевых и хорошо и страшно. Очень уютно было по вечерам сидеть с рукоделием в руках и под руководством Александры Тимофеевны шить себе юбки и платья, слушая неумолкающий голос боевой подруги, неутомимо объясняющей подробности того неведомого, неслыханно интересного мира, в котором Ирине теперь предстояло жить. Но когда выключалось радио и гас свет, Ирине приходили в голову страшные мысли о родителях, которые будут ее преследовать, об отце Николае, который погрозит ей пальцем и тогда произойдет что-то ужасное, о монахинях, которые, склонив повязанные черными платками головы, идут из общежития в церковь молиться и сожалеют о ней, великой грешнице, бывшей своей подруге, которая ценой вечных мук купила себе немного ничтожных земных радостей. По ночам кошмары мучили Ирину, и она горько каялась и плакала во сне, просыпаясь с чувством горя и страха. Но наступало утро. Проснувшись, галдели дети. Александра Тимофеевна торопливо готовила завтрак. Иван Терентьевич брился и аккуратно завязывал галстук. Снова начиналась жизнь, совсем не страшная, уже становившаяся привычной, жизнь, которая еще только предстояла ей. Однажды супруги Сычевы, оставив Ирину дома, пошли в кино. Ирина уложила детей спать, и дети заснули, несмотря на гремевший в полную силу приемник. Эти удивительные дети выросли под грохот радио и приучились, вопреки всем законам природы, просто его не слышать и сладко спать под гром литавр и вой саксофонов. Когда супруги Сычевы вернулись из кино, Ирина не слышала их шагов и щелканья ключа в замке. Александра Тимофеевна приоткрыла дверь и остановилась. Гремело радио. Из репродуктора неслись звуки медленного вальса. Это было обычно. Удивительным оказалось другое. По комнате медленно вальсировала Ирина. Она не умела танцевать, и ее движения диктовались не знанием танца, а только музыкой. Говоря в строгом смысле, это не был какой-нибудь определенный танец, но в движениях ее было столько ритма и столько изящества, что Александра Тимофеевна долго молча любовалась девушкой. Было ей радостно и хорошо, и впервые тогда поняла она, сколько природного обаяния, сколько живого чувства в этой неуклюжей и плохо одетой бывшей послушнице из женского монастыря. Наконец, отбыв свой срок, появились Сидорчук и Беридзе. Они доставили от продолжавшегося томиться в заключении жениха письмо Ирине, которое походило скорей на словарик ласкательных слов, составленный очень знающим языковедом. Ирина читала его, раскрасневшись, перечитывала каждую фразу по нескольку раз. В другом письме Голосеенко изливал бесконечные благодарности супругам Сычевым и предлагал перевернуть весь мир, если Александре Тимофеевне зачем либо это понадобится. Сидорчук и Беридзе рассказали, что Василий Егорович очень томится (это была правда) и что он за эти дни очень похудел (это была неправда). Потом они ушли, так как знали, что их ждут товарищи, умирающие от желания выслушать подробности необыкновенного похищения. Через три дня появился и сам жених. Он пришел торжественный, с букетом цветов, решив быть по такому исключительному случаю сдержанным и молчаливым. Однако, увидя Ирину, он так просиял и так кинулся к ней, позабыв поздороваться с хозяевами, что у Ирины сперло дыхание, и ей ничуть не показалось странным, что Голосеенко ее обнял и поцеловал. А повестка в суд пришла на следующее утро.13
Я уже говорил, что слухи о дерзком похищении разлетелись по городу сразу же, как только машина с украденной невестой подъехала к дому капитана Сычева. Слухи эти, как всегда бывает со слухами, росли, множились и видоизменялись. Сперва рассказывали приблизительно то, что было на самом деле, но уже к концу первого дня стали говорить, что летчики были вдребезги пьяны, а на следующее утро выяснилось, что они прискакали на взмыленных конях. Еще через день доверительно сообщалось, что из Москвы на специальном самолете прилетела комиссия, что кое-кого из жителей уже опрашивали, до правды очень скоро доберутся и хулиганам ой-ой-ой как попадет. Когда супруги Иваненко проходили по улицам, с крылечка на крылечко полз, сопровождая их, монотонный, непрекращающийся гул. Это обсуждались события и выносились суждения. Порой возникали такие неожиданные и нелепые варианты, что у самых опытных сплетников, которых, казалось, ничем уж не удивишь, и у тех глаза лезли на лоб. Так, например, одна тихонькая старушка под большим секретом сообщила, что украли совсем не какую-то там послушницу, а самого почтенного архиерея. Может быть, загадочный этот слух имел бы свое продолжение, но как раз через полчаса после того, как он был пущен, архиерей, покачиваясь в рессорной пролетке, проехал по улицам и остановился у здания народного суда. Кроме, так сказать, сказочного развития, дело получило и свой законный ход. Архиерей приехал на прием к народному судье Ивану Сергеевичу Антонову, чтобы от имени епархии подать заявление с просьбой вернуть в монастырь похищенную послушницу Иваненко. Народный судья, конечно по слухам, знал уже всю историю, знал и о том, что генерал-лейтенант Андреев дело расследовал и признаков преступления не нашел. Народный судья был коренной местный житель и, выслушивая сплетни и слухи, научился за долгие годы отличать правду от лжи. Поэтому дело ему представлялось в своем настоящем виде, очищенным от наросшей на него ерунды. — Позвольте, — спросил он архиерея, — а в качестве кого, собственно говоря, подаете вы заявление? Архиерей объяснил, что он является представителем епархии, а похищенная являлась послушницей и должна была а ближайшее время принять монашеский сан. — Это дело ее и ваше, — сказал народный судья. — Разумеется, она имеет право быть послушницей или монахиней. Закон не запрещает ей это, так же как закон не может ей запретить в любую минуту, если она захочет, уйти из монастыря. Вы говорите, что имело место насильственное похищение. Что ж, она, конечно, может передать дело в суд, и я это дело несомненно приму. Однако от гражданки Иваненко никаких заявлений не поступало. Наступило молчание. Судья спокойно смотрел на архиерея, архиерей смотрел на судью. — Ну хорошо, — сказал наконец архиерей, — а от ее родителей вы заявление примете? Судья смотрел на архиерея и думал: если девушке уже исполнилось восемнадцать лет, то, в сущности говоря, и от родителей он тоже не должен принимать дело. С другой стороны, уже и сейчас тысячи языков сплетничают насчет похищения. Может быть, лучше всего дать делу законный ход, пусть узнают на суде, как все происходило на самом деле? — Хорошо, — сказал судья, — от родителей я приму заявление. Только пусть они представят паспорт Ирины Иваненко и, если сохранилось, метрическое свидетельство. Днем позже супруги Иваненко принесли заявление и требуемые документы. Из документов было ясно, что два месяца тому назад Ирине Иваненко исполнилось восемнадцать лет. Судья объяснил Никифору Федуловичу и Марье Степановне, что, поскольку их дочь совершеннолетняя, заявление должно исходить от нее. Однако Никифор Федулович сказал, что он все-таки просит дело назначить к слушанию и сообщил адрес капитана Сычева, у которого, по его сведениям, Ирина Никифоровна в данный момент проживает. Судья заявление принял и дело к слушанию назначил. Перед вечером Никифор Федулович и Марья Степановна пришли к капитану Сычеву. Супруги Сычевы ждали, что рано или поздно родители Ирины появятся, и все-таки Александра Тимофеевна страшно перепугалась, увидя их. Она суетилась и понимала сама, что ведет себя как человек, в чем-то чувствующий свою вину, и ругала себя за это и все-таки ничего не могла с собой сделать. Она провела их в комнату, где в это время Ирина электрическим утюгом гладила подаренное ей платье. На детей Александра Тимофеевна зашипела так, что дети стремительно вылетели во двор, хотя отлично понимали, что дома сейчас гораздо интереснее. Супруги Сычевы тоже ушли как будто гулять, но гуляли у самого крыльца, не выпуская его из виду, потому что боялись, как бы Ирину не похитили снова, на этот раз ее собственные родители. Ирине, оставшейся наедине с матерью и отцом, показалось, что сбываются самые страшные ее сны. Она начала плакать, как только увидала родителей, и плакала не переставая, пока они не ушли. Марья Степановна тоже плакала. Таким образом, говорил все время один Никифор Федулович. В глубине души он и сам понимал, что вернуть Ирину в монастырь уже не удастся. Хотя он и был фанатически религиозен, но все-таки и дочь он любил, и не мог не понимать, что судьбу ее решили, в сущности, без ее согласия. Пожалуй, и ему и Марье Степановне в глубине души хотелось, чтобы судьба Ирины сложилась как обычная женская судьба, чтобы был у нее хороший муж и появились дети. В течение разговора никакие фанатические идеи не кружили супругам Иваненко голову, кроме, впрочем, только одной. Единственная эта фанатическая идея заключалась в том, что Марья Степановна и Никифор Федулович твердо знали: бог каждую их мысль и каждое чувство видит. А так как обет в свое время был действительно дан и все свои обязательства бог действительно выполнил, стало быть, видя мысли и чувства супругов Иваненко, бог видит и то, что его хотят обмануть. От этого могли воспоследовать страшные наказания. Поэтому Никифор Федулович и Марья Степановна даже сами перед собой делали вид, что очень хотят вернуть Ирину на предназначенный ей путь благочестия и делают для этого все, что только можно. И все-таки в увещаниях, с которыми они обращались к дочери, не хватало темперамента, страсти и, стало быть, силы убеждения. Ирина слушала их плача и ничего не отвечая. Выговорив все, что только можно было, они перекрестили грешную дочь и ушли. Может быть, Никифор Федулович под конец и проклял бы Ирину. Учитывая бессменного наблюдателя, он понимал, что обязан произнести соответствующее проклятие. Но шестое чувство подсказывало ему, что проклятия, произнесенные без темперамента, могут произвести впечатление несерьезное и даже немного комическое. Итак, разговор кончился вничью. Супруги ушли и с ничего не выражавшими лицами прошагали мимо толпы, собравшейся у крыльца. По городу уже прошел слух, что супруги Иваненко отправились проклинать дочь, и естественно, что любопытные сбежались к месту предполагаемого проклятия со всех окрестных улиц. Это и понятно. В наше время такую драматическую сцену увидишь редко. Супруги Сычевы вернулись домой. Прибежали со двора дети. Примчался даже Голосеенко, которому кто-то рассказал, что невесту его сейчас проклинают. Но Ирина плакала целый вечер и молчала. О том, что произошло у нее с родителями, так никто ничего и не узнал.14
Дело слушалось через неделю. Зал народного суда, рассчитанный человек на семьдесят, кажется, растянулся ради такого случая. Одних только летчиков, товарищей Голосеенко, болеющих за его судьбу, приехало три до предела набитых грузовика. Все летчики были крепыши, налитые мускулами, жизнерадостный и веселый народ. Голосеенко, который фигурировал на суде в качестве ответчика, стало легче на душе, когда он увидел столько знакомых сочувствующих лиц. Пришли супруги Иваненко, пришла Ирина, такая испуганная и растерянная, что на нее жалко было смотреть. Пришли Сычевы. Архиерея не было, но пришел настоятель монастырской церкви в обыкновенном сером костюме. Наконец, пришли все, кому удалось протолкнуться в зал. Те, кому это не удалось, толпились на улице, с жадностью ловя всякое известие, доносившееся из зала. Стало известно, что истцы и ответчики на месте. Стало известно, что явились свидетели. Наконец, стало известно, что суд идет. Повестки всем вручены, и все явились. Зачитывается заявление истца. Потом истца допрашивают. Никифор Федулович рассказывает про похищение. Подробности этого знаменитого похищения судьи и сами знают в деталях. По этому поводу вопросов нет. Судья опрашивает, по своей ли воле поступила Ирина Иваненко в монастырь. Никифор Федулович объясняет, что привели ее в монастырь не силой, свободно. Стало быть, по своей воле. Вопросов больше нет. Допрос истца кончен. Следующим допрашивают Василия Егоровича Голосеенко. У Василия Егоровича страдающий вид. Отвечая на каждый вопрос, он секунду думает, как бы решая, можно соврать или нельзя, и каждый раз, очевидно, решает, что врать нельзя. Картина из его показаний получается мрачная. Действительно, выходит, что Ирину схватили, надели мешок — словом, похитили по всей форме. Голосеенко сам это понимает и страдает ужасно. Пот течет с его лица, и видно, что каждый ответ доставляет ему тяжелые мучения. — Сопротивлялась ли Ирина Иваненко? — спрашивает судья. — Нет, не сопротивлялась, — с виноватым видом отвечает Голосеенко. — А могла ли она сопротивляться, если вы на нее мешок накинули? — спрашивает строго судья. — Нет, не могла, — сокрушенно говорит Голосеенко. — Ну, а потом, когда вы сняли с нее мешок, в машине она говорила что-нибудь? — Нет, не говорила, она только плакала, — говорит Голосеенко. По залу идет шепот. Картина мрачная. Бедную девочку увезли силком, и похитителям придется отвечать по всей строгости закона. У летчиков, сидящих в зале, лица мрачные. По-видимому, Голосеенко не отвертеться. Василий Егорович садится на свое место, сам ошеломленный печальным результатом допроса. Он не понимает, как это так получилось. Он чувствует, что на самом деле Ирине предстояло быть жертвой мракобесия и Голосеенко с ребятами ее просто спасли. А вот поди ж ты: отвечаешь на вопросы, и получается все неправильно. Уже усевшись на свое место, он вдруг вскакивает. Кажется, он что-то хочет добавить. Судья смотрит на него вопросительно. Но Голосеенко садится снова. Разве ж все это объяснишь! В зале шум. Одни довольны, другие огорчены. Пока что очко в пользу родителей. Допрос Беридзе и Сидорчука занимает очень немного времени. Оба деморализованы показаниями Голосеенко и только подтверждают их. На улице, где толпятся любопытные, возникают многочисленные дискуссии. Сторонники Голосеенко в меньшинстве. Даже люди, далекие от религии, считают, что, конечно, девчонку воспитали неправильно, но хулиганить тоже никому не позволено. Наконец вызывают пострадавшую. Ирина плачет. Вид у нее такой несчастный, что зал преисполняется сочувствием к ней и негодованием к ее обидчикам. Даже некоторые из летчиков начинают сомневаться. Может быть, действительно, думают они, девчонку похитили насильно, против воли. С каждой минутой Голосеенко теряет сторонников. Каждое всхлипывание Ирины прибавляет ему врагов. Судья просит Ирину рассказать обстоятельства дела. Ирина плачет. Судья ласково просит ее успокоиться. Ирина плачет. Бедняга Голосеенко изнывает от жалости к ней, но ничего не может сказать. Он уже точно знает, хотя правда безусловно на его стороне, что все, что он ни говорит, только увеличивает его вину. Слепая Фемида решительно от него отвернулась. Та чаша весов, на которой лежит его вина, перевесила и пошла вниз. Голосеенко, летчик Голосеенко, такой решительный, с такой молниеносной реакцией, такой отчаянный и расчетливый в воздухе, ни на что не может решиться. Ни один выход не приходит ему в голову. Он несчастен. Он растерялся, чего в жизни с ним еще не случалось. А Ирина плачет. Судья уговаривает ее успокоиться. Она плачет. Судья предлагает отложить допрос. Ей протягивают стакан воды. Она не может даже взять его, так у нее дрожат руки. Судья решает объявить перерыв. Судья советуется с заседателями: может быть, стоит удалить публику и допросить Ирину при закрытых дверях? Заседатели думают, что это единственный выход. Сейчас он объявит свое решение, но в это время из самого конца зала раздается низкий, громоподобный голос одного из летчиков. — Да вы спросите ее просто, — гремит этот голос, — хочет она выйти замуж за Голосеенко или не хочет? Судья согласен задать этот вопрос, но не может. Его лицо неподвижно. Если он откроет рот, он рассмеется. Заседатели закрыли лица руками и делают судорожные усилия, чтобы удержать смех. А публика хохочет. Ей, публике, хорошо, ей можно. Судья даже не в силах строгим голосом призвать ее к порядку. И вот когда наконец замолкает в публике смех и еще до того, как председатель суда находит в себе силы повторить показавшийся ему резонным вопрос неизвестного летчика, Ирина сквозь всхлипывания, плачущим, но отчаянно решительным голосом неожиданно громко, на весь зал говорит только одно слово: — Хо-чу… И тут уже зал разражается хохотом неудержимым. Тут уж смеется судья, не в силах сдержаться, а хохочущие народные заседатели откинулись на спинки стульев. Никто не помнит, что было дальше. Наверное, все встали, когда суд удалился на совещание, и все в зале и на улице обсуждали детали процесса, пока совещался суд. Все без особенного внимания, хотя и молча, выслушали решение суда, которое сводилось к тому, что ввиду совершеннолетия Ирины Иваненко и выраженного ею желания выйти замуж за Голосеенко В. Е., Иваненко Н. Ф. в иске отказать. А потом публика повалила на улицу. Счастливые Сычевы увели Ирину домой. Летчики качали Васю Голосеенко и кричали «ура» в честь жениха и невесты. И весь этот день и вечер в городе было отличное настроение. В каждом доме говорили о молодости и счастье, а скверные мрачные слухи умерли и больше не воскресали.15
Прошел год с того дня, который отмечен светлым в календаре даже у тех, кто не имел к нему непосредственного отношения. Мы идем по городу П. с пожилым учителем, которому я привез из Москвы посылку. Я уже знаю в подробностях всю историю. Только что учитель рассказал мне ее конец. Конец обыкновенный, такой, какой обязательно должен был быть. Через месяц праздновали свадьбу. Генерал-лейтенант Андреев приказал дать молодым комнату, хотя в городе П. было очень трудно с жилплощадью. Ирина Голосеенко уже мать. Иногда, когда у Васи свободный вечер, она заносит младшего Голосеенко к Александре Тимофеевне, и они с Васей идут в кино или на танцевальную площадку потанцевать. Они уже купили шкаф, кровать, диван и обеденный стол. В то время в городе П. было очень трудно с мебелью тоже, но какой же завмаг мог отказать супругам Голосеенко в необходимом предмете обстановки, если каждый человек в городе знал их удивительную историю. Все это рассказал мне пожилой учитель, и не об этом мы с ним сейчас говорим. Мы идем по тенистым улицам. Вечер. Нам навстречу идут пары, которые шепчутся, и пары, которые смеются, а иногда в глубокой тени можно разглядеть даже пару, которая целуется. Играет оркестр на танцплощадке. Издали музыка кажется задушевной и задумчивой, голоса инструментов и голоса певцов будто негромко говорят что-то очень секретное, хоть и всем известное, что-то очень для каждого человека важное. — Сколько трагических и мрачных историй, — говорит мне учитель, — начинались когда-то так же. Девушка, отданная по обету в монастырь. Любовь, возникшая у ржавой калитки. Побег, преследование и наказание. Хороший конец мог быть только один. Влюбленным удалось бы скрыться, скорее всего, в другую страну, но и там их преследовало бы страшное сознание того, что ими нарушен высший закон. По-настоящему такая история не могла кончиться счастливо. А здесь все до конца благополучно. Даже с родителями у Ирины отношения, в общем, хорошие. Бабка шила приданое внуку, а Никифор Федулович подарил ему на зубок дюжину серебряных ложек. И с Васей у стариков отношения нормальные. Марья Степановна, говорят, даже хвастает, что Вася не сегодня-завтра получит вторую звездочку и станет лейтенантом. При этом старики внешне ничуть не переменились. Они такие же богомольные, так же активно участвуют в церковных делах. Но с молодыми об этом не говорят. Это у них как бы две разные жизни. Мы долго еще ходим по улицам, слушаем вечернее дыхание южного города и молчим. Я думаю о том, что один и тот же сюжет, то есть одна и та же жизненная история, может быть трагедией, когда страсти, наполняющие ее, живут во всей своей силе и обладают той огромной властью, которой человеческие страсти могут обладать. И этот же сюжет, то есть эта же жизненная история, может звучать комедией, пусть с отдельными драматическими ситуациями, когда страсти, создавшие этот сюжет, завершили свое историческое существование и доживают свой век, потеряв былую силу. Живут кое-как. Абы дожить.Александр Абрамов, Сергей Абрамов ФИРМА «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!» (Фантастический рассказ)
1
Эрнест Браун, научный сотрудник Международного института нейрокибернетики, задержался в Париже. Отпуск он провел в бретонской деревушке на берегу океана, наслаждаясь недосягаемым для него в институте покоем, а последнюю неделю отдал великому городу. Он не любил туристского Парижа, не глазел на Нотр-Дам, не торчал в Лувре и не подымался на башню Эйфеля. Он предпочитал тихие набережные Сены, ларьки букинистов, древние улички, уцелевшие со времен Людовиков, и дешевые бистро в полуподвальчиках с пыльными бочками, из которых вам тут же цедили сидр или пиво. В одном из таких полуподвальчиков, в пивной «Клиши», куда Браун зашел утром, он застал только одного посетителя — седоватого, немолодого француза с проплешинами на висках и слегка крючковатым носом, чем-то напоминавшего знаменитого Де-Фюнесса в роли полицейского Жюва в неувядаемой серии «Фантомасов». — Похож? — общительно подмигнул он, встретив внимательный взгляд Брауна. — Похож, — согласился тот, присаживаясь напротив. — Только не хвастун и не идиот, — сказал француз, — а в остальном все сходится. Даже профессия и место работы. Луи Фонтен, полицейский комиссар и начальник оперативной группы, — представился он. Браун назвал себя. — Погодите, — перебил его собеседник, — дайте щегольнуть дедукцией. Судя по фамилии — немец, судя по произношению — не эмигрант, судя по тому, что с утра забрели в «Клиши», — в отпуску и судя по значку на лацкане — кибернетик. Браун засмеялся: все правильно. Фонтен почему-то вздохнул, добродушные глаза блеснули металлом, в губах, сжавших сигарету, промелькнула твердость, даже суровость, и сходство с Жювом исчезло. — Сейчас я бы сравнил вас с Мегрэ, — сказал Эрнест. — Так всегда: то Жюв, то Мегрэ, — устало заметил Фонтен, — а между прочим, у нас в управлении нет ни болванов, ни гениев. Обыкновенные криминалисты. Лентяи и работяги. Старики и юнцы. Профессионалы и дилетанты. И работа рутинная, не то что у вас. Кстати, детализировать не берусь. — Энграммы памяти, — подсказал Браун. — А проще? — Приборы, воспроизводящие отпечатки памяти в клеточках мозга. Зрительные образы, тексты, формулы. Есть приборы, записывающие звуковые образы, слова, крики, шумы — всё, что порой хранит и группирует память. Ухитряемся воспроизводить даже запахи. Запомнил, скажем, человек запах духов, или химической реакции, или росистой травы на заре — мы и воспроизводим эти энграммы. — Только у живых? — Я знаю, что вас интересует, — заметил Браун: вопрос был чисто профессиональный. — Можем ли мы воспроизвести то, что сохранила память в последние часы или даже мгновения перед смертью? Лицо убийцы, образ любимой, письмо или слова, толкнувшие на убийство или самоубийство, так? Можно. Только если запись произведена непосредственно после смерти, пока еще не начался распад мозговых тканей. — Запись произведена через тридцать пять минут после смерти, — сказал Фонтен. Эрнест подумал, что приобщается к одной из криминалистических загадок инспектора. — Каким прибором? — спросил он. — Вашим. Модель «Эф три дробь двенадцать». Без трансформатора. — Последняя, — подтвердил Браун. — Как просматривали? Видеоскоп или кинопленка? — Пленка. На обычном экране. Меня интересует, — задумчиво прибавил Фонтен, — может ли получиться бесформенное изображение. — Аппарат исправный? — Вполне. — Что значит «бесформенное»? Зрительный образ всегда достаточно ясен. Он может быть нечеток, расплывчат, но в этом случае применяется усилитель. Вот и все. — А если это пятна? Чередующиеся цветные пятна без строгой формы. Иногда полосы или значки. — Математические? — Нет. — Иероглифы? — Тоже нет. Мы проверяли. — Быть может, это увеличенные под микроскопом частицы какого-нибудь вещества, особо окрашенные? — Он не интересовался микромиром. Кроме того, мы консультировались со специалистами во всех областях, где применяются кодированные обозначения, и всюду отрицательный ответ. Не то. — А что же? — Неизвестно. Браун пожал плечами: с такого типа энграммами ему не приходилось встречаться. — Придется вам все объяснить, — сказал Фонтен. — Марсель, еще две кружки, — кивнул он буфетчику. — Вы когда-нибудь слышали о Лефевре? — Вы имеете в виду нейрофизиолога? — Да. Он умер в четверг на прошлой неделе. Эрнест признался, что несколько дней не читал газет. А в том, что сообщил ему инспектор, не было ничего примечательного, кроме самого факта смерти выдающегося ученого. Умер он внезапно, но естественно: от разрыва аорты, хотя был не так уж стар и на сердце не жаловался. Как ученого Эрнест знал его по ранним, получившим широкуюизвестность работам, более поздние не публиковались или прошли мимо Брауна. Как человек, Лефевр был ему крайне несимпатичен: волк-одиночка в науке, политический реакционер, противник международных союзов и соглашений, он почти не принимал участия в мировых симпозиумах и конгрессах. В последние годы, однако, Лефевр работал у Бертье, подлинного классика европейской нейрофизиологии, что уже само по себе заставляло отнестись к нему с достаточным уважением. Об этом и напомнил Браун Фонтену. — Он порвал с Бертье, — сказал инспектор. — Из-за чего? Фонтен улыбнулся, должно быть вспомнив свои попытки выяснить это у самого Бертье, требовательность которого к ассистентам, граничившая с одержимостью, равно как и корсиканская вспыльчивость, была многим известна. — Какая-то проблема, показавшаяся Бертье слишком оригинальной. Что-то вроде механо-телепатической передачи ваших энграммов. Он назвал ее авантюрой. Все это понятно: с Бертье уживаются архаисты, а не новаторы. Любопытно другое. Через неделю после разрыва с Бертье Лефевр получил неизвестно от кого загородную виллу и оборудовал там неизвестно на чьи средства загадочную лабораторию. — Почему загадочную? — Потому что назначение ее и сейчас неизвестно. Браун, поначалу было увлекшийся, начал уже терять интерес к этой истории. Не увлекла его и загадочная лаборатория для каких-то телепатических опытов: в телепатию он не верил. Правда, там было слово «механо», но и это не заинтересовало Брауна: вероятно, Бертье был прав, назвав идею Лефевра авантюрой. Старик редко ошибался. — Так в чем же суть? — спросил он только из вежливости. — В том, что вы рассказали мне, нет ничего любопытнее самих отпечатков памяти. — Есть, — сказал Фонтен. Глаза его снова блеснули металлом. Но это «есть» не относилось к смерти ученого. Смерть была обнаружена почтальоном, совершавшим свой вечерний обход, буквально тотчас же: ученый умер фактически на его глазах. Почтальон позвонил у двери — ему не открыли. Позвонил вторично и вдруг услышал за ближайшим окном глухой стук, как будто упало что-то большое и грузное. Он заглянул в окно — то было как раз выходившее в палисадник окно лаборатории Лефевра — и увидел на полу тело ученого. Не растерявшись, почтальон тут же разбил стекло, открыл окно изнутри и влез в комнату. Из горла уже умиравшего Лефевра ключом била багровая струя крови. Находчивый свидетель немедленно позвонил в ближайший полицейский участок, и буквально через десять — пятнадцать минут прибыл врач в сопровождении агента полиции. Лефевр был уже мертв, но агент, вооруженный портативным мемориографом, все же успел сделать запись. — В комиссариате ее посмотрели в обычном видеоскопе, вероятно только начальные отпечатки, ничего не поняли и прислали нам. Мне даже не докладывали: полицию не интересуют смерти, в которых никто не повинен, кроме господа бога. Но они знали, кому посылать: был у нас некий Мишо, страстный любитель всяческой супертехники. — Был? — спросил Эрнест. — Увы! Потому я с вами и разговариваю о деле Лефевра: оно связано и с участью Мишо. Он заинтересовался записью, переснял ее на кинопленку и прокрутил в просмотровом зале. Зал у нас наверху; был поздний вечер, кроме дежурных внизу, никого не было. Ему даже некого было позвать на помощь. — Зачем? — снова спросил Браун. — Когда человек умирает в одиночестве, он зовет кого-нибудь, это естественно. А Мишо умирал. Он успел только выключить проектор. Самая малость осталась — несколько витков на катушке. А умер он… — Фонтен сделал паузу, — от разрыва аорты, как и Лефевр. Только ему было двадцать три года и сердце, как у скаковой лошади. — Память фиксировали? — спросил Эрнест. — Нет. Его нашли только утром на другой день. Прошло более десяти часов, не было смысла записывать. — Экран включили? — Вихрь цветных молний и запятые. Одиннадцать сочетаний спектра. Часть запятых со шлейфом, как у вуалехвосток. Снимки со мной. — Он выложил перед Эрнестом десяток цветных фотографий. Тот внимательно просмотрел их. Они походили на мазню ребенка, балующегося красками, или на полотна абстракционистов, работающих кистью с пульверизатором, или на увеличенные под микроскопом вирусы в подкрашенной различными цветами среде, или… Браун даже не мог найти подходящего сравнения, настолько все это было сумбурно и непонятно. — А это — последняя. Та самая, которая была на экране, когда выключился проектор, — прибавил Фонтен и положил на стол еще одну фотографию. Она была столь же бессмысленна, как и другие, только полосы на ней, почти синусоидальные, были еще резче и радужнее, поражая переливчатой многоцветностью сочетаний. Местами их перебивали пятна, бесформенные, как кляксы, и головастики-запятые, взрывавшиеся на хвостах прозрачной распыленностью красок. Одни действительно походили на экзотических аквариумных вуалехвостов. Таких энграммов Эрнест не встречал за всю свою многолетнюю практику. — А может быть, именно это и убило Лефевра и уж наверняка — Мишо. — Вы убеждены? — спросил ученый. Фонтен ответил не сразу. Он словно взвешивал в уме все, что склоняло его к этой версии, и «взвешивание» все-таки не давало убежденности. — Конечно, у меня нет никаких доказательств. Даже катушку с пленкой шеф запер у себя в сейфе. «Не хочу, говорит, терять сотрудников. Все равно, что послать их в клетку с коброй». — Так вы хотите столкнуть с коброй меня? — усмехнулся Браун. — Вы сами захотите. Это загадка для ученого — не для сыщика. Кстати, есть еще одна любопытная деталь. С точки зрения сыщика. Через пару дней, после смерти Лефевра мне позвонил прокурор и раздраженно потребовал объяснений, кто и зачем поручил снимать у покойного отпечатки памяти. Я ответил, что запись сделана по инициативе агента и что нет закона, запрещающего делать такие записи у любого умершего человека. А прокурор явно чем-то встревожен, даже голос дрожит: «Что показала запись?» Я выкручиваюсь: «Ничего не показала — брак». — «Тогда немедленно уничтожьте ее: смерть естественна, незачем обижать родственников». А каких родственников, когда на похоронах, кроме консьержки и буфетчика из бистро, в его доме никого не было. Тридцать лет жил один как перст, и за ключами от виллы до сих пор никто не приходит. Тогда я только плечами пожал, ну, а после смерти Мишо сказал себе: нет, Фонтен, это не случай и не совпадение. Это преступление, Фонтен. — И начали, конечно, с классической римской формулы: cui prodesf — кому выгодно? — Кому выгодно? — зло переспросил Фонтен. — Кто купил виллу для Лефевра? Икс. Кто открыл ему текущий счет в Лионском кредите? Игрек. Почему и зачем? Зет. Вот вам и «кому выгодно»! А кому выгодна смерть Мишо? Прежде чем спрашивать «кому», надо спросить «как». Как умерли Лефевр и Мишо? Что означают эти полоски и хвостики и почему они яд? Словом, чем убивает кобра? Ученый уже давно решил, что загадка заслуживает внимания, но все еще сомневался, стоит ли вмешиваться. Отталкивало побочное, уводящее к детективу — неведомые покровители Лефевра, таинственный счет в банке, загадочная лаборатория. Впрочем, лаборатория и привлекала. Именно она могла ответить на вопрос «как», объяснить загадку убивающей памяти. — Вы, конечно, побывали на вилле? — спросил он. — По секрету? — подмигнул Фонтен. — Ордера у меня не было, да и кто бы мне его дал? Но побывать — побывал. Только беглый осмотр — ведь следов преступления не было. Хотелось выяснить какие-то личные интересы умершего, знакомства, связи… — Что-нибудь выяснили? — Нет. Никаких писем, записок, тайных секретеров. При лаборатории — небольшой архив, всего несколько ящиков, помеченных не цифрами, а буквами греческого алфавита и не подряд, а вразбивку — вероятно, каждая буква начинает какое-то слово или понятие. Может быть, поэтому в разных ящиках оказались папки с пометками: «Покой», «Превосходство», «Признательность» или, скажем, «Жестокость» и «Жалость». Древнегреческого не знаю, поэтому принцип хранения мыслю только предположительно. В папки заглянул, но мельком: какие-то диаграммы, кривые, подклеенные кусочки пленки, должно быть с осциллографов, записи вопросов и ответов, психологических тестов; словом, материал не для сыщика. В кабинете в кожаном бюваре тоже записи, на отдельных листочках, — так сказать, мысли по поводу или эмбриональные идеи. Например: у чувств и мыслей одна и та же волновая природа, все дело в длине и частоте волны. Или: цвет, как и музыка, действует на те же центры головного мозга; разница только в нервных рецепторах. Любую мелодию можно передать в цвете, подобрав для этого нужные сочетания. В общем, что-то вроде этого. Передаю, как запомнилось, и за точность не ручаюсь. — Меня интересует аппаратура, — сказал Браун. Фонтен поморщился: надо было признаваться в своем невежестве. Я, мол, не физик и не кибернетик, любую экспертизу проводят для меня лаборанты, а вся аппаратура, с какой приходится иметь дело, сводится к телефону, магнитофону и телевизору. Даже фотосъемку он поручает профессионалам. Но все же он попытался вспомнить, что видел на вилле Лефевра. — Что-то вроде вычислительной машины с индикаторами, электромагнит — мощность назвать не могу, какие-то счетчики, пульт с кнопками, радиопередатчик… — Зачем? — удивился ученый. — А может быть, и не радиопередатчик: не уточнял. И еще: сейф не сейф, может быть, холодильник, а может, и нет. На ощупь металл, похож на нержавеющую сталь особой обработки. — С подключенной проводкой? — Не проверял. — То, что вы рассказали, — задумчиво проговорил Браун, — отнюдь не похоже на лабораторию рядового нейрофизиолога. — А если не рядового? — Особых новаций у него что-то не помню. А лаборатория меня интересует. Очень интересует, — повторил Эрнест. — Так пойдемте — покажу, — настойчиво, не давая ему опомниться, произнес Фонтен. — Ключей, правда, нет, но можно открыть и без ключей. — Неудобно, — усомнился Браун, — что-то не совсем легальное. А я иностранец. — Вы эксперт. Официально приглашенный, понятно? — Инспектор вынул визитную карточку и написал на обороте: «Господин Эрнест Браун, научный сотрудник МИНКа, приглашен лично мной для официальной экспертизы по делу Лефевра — Мишо». — Получите, и едем. Только свяжусь с управлением. Он позвонил из будки рядом со стойкой, не закрыв двери: — Жакэ? Шеф звонил?.. Нет? Порядок. Будет звонить — скажи, что уехал в Сен-Клу по срочному делу. Какому — не знаешь. Нет, не все. Позвони прокурору. Он сейчас завтракает — извинись и спроси, нет ли меня у него в кабинете. Поясни, что меня разыскивает представитель МИНКа, приглашенный для экспертизы по делу Мишо. Мне интересно, что возгласит прокурор. Запомни точно. И сейчас же свяжись с Огюстом на телефонной станции. Пусть спешно выяснит, с кем только что говорил такой-то номер. Номер он знает. Потом позвонишь сюда. «Куда, куда»! В «Клиши», конечно! На всю операцию десять минут. — Что вы затеваете, инспектор? — насторожился ученый. Фонтен отвел глаза. — Служебные дела. — Но вы упомянули мой институт. — Один тест. Погодите. А пока по рюмочке перно для бодрости. На телефонный звонок он кошкой прыгнул в открытую будку. — Жакэ?.. Так. Отрицает необходимость экспертизы? Понятно. Будет говорить с шефом? Пусть говорит. С Огюстом связался?.. Так. Указанный номер тотчас же вызвал отель «Меркюр»? Понятно. Кого персонально?.. Кто, кто?.. Доктор Глейвиц из Дюссельдорфа, а вообще из Америки. Что значит «вообще»?.. Там живет, а в Дюссельдорфе дела. Допустим, что понятно. Тоже эксперт?.. Интересно!.. Как, как? Фирма «Прощай, оружие!»? Не слыхал. А что говорит портье?.. Ничего не говорит? Тоже понятно — чаевые. Повтори еще раз название фирмы… «Прощай, оружие!». Любопытно! Весьма! Он подошел к Эрнесту Брауну, суровый, как статуя Командора: — Слышали? — Все, — сказал Браун. — Так едем или не едем? — Едем.2
Вилла «Шансон», купленная на имя Лефевра агентами по продаже земельных участков по поручению оставшегося неизвестным лица, находилась в трех часах автомобильной езды от Парижа, на тихой и малолюдной окраине пригородного поселка, названия которого ученый так и не спросил. Ничто представлявшее интерес для криминалиста не занимало его: ни местоположение строения, ни подъезды к нему, ни разбитое почтальоном, а ныне закрытое фанерой стекло соседнего с входом окна, ни система замка, ни способ, которым его открыл за полминуты Фонтен. Спящее любопытство Эрнеста проснулось, как только они вошли в дом, вернее, в комнату, где нашли тело ученого, о чем свидетельствовало почерневшее, не отмытое и не затертое кровавое пятно. — След крови ведет к креслу или, вернее, от кресла, — заметил Фонтен. — Лефевр вскочил, уже умирая, и, не успев сделать даже шага, упал. Браун обошел вокруг кресла — обыкновенного кресла модерн, с поролоновым сиденьем и такой же спинкой. Ему бы стоять у пульта с приборами или у телевизора, а его словно в раздражении отшвырнули на середину комнаты. Эрнест сел — ничего не произошло, просто удобное кресло без всяких чудес. И никаких проводов и датчиков. Только побуревшее пятно расплылось у ножки, подтверждая предположение инспектора. И тут чуть-чуть с краю пятна ученый подметил нечто вроде бугорка или кнопки, тронул ее ногой — она пружинисто подалась, и стертая подошвой кровь сразу же обнаружила естественный цвет кнопки — синий, резко выделявшийся на сером полу. Фонтен с интересом наблюдал за его действиями. — Нажмите сильнее, — посоветовал он. — Не торопитесь, — сказал Браун, — вспомните джинна в бутылке. Кресло здесь совсем не случайно. Оно как раз против черного ящика. — Вы дальтоник? — удивился инспектор. — Он же не черный, а серый. Нержавеющая сталь. — Он провел пальцами по стенке гладкого металлического параллелепипеда с глазками-индикаторами. Они тускло поблескивали матово-молочным отливом. Света в них не было. — Черным ящиком мы называем устройство, назначение и механизм которого нам неизвестны, — сухо сказал ученый. — Поэтому не рекомендую ничего трогать. Он медленно, внимательно ко всему приглядываясь и ни к чему не прикасаясь, обошел большую светлую комнату, в которой, кроме кресла, никакой мебели не было. То, что маскировалось столом, оказалось пультом управления сравнительно небольшой электронно-вычислительной машины. Опытный взгляд кибернетика сразу обнаружил обманчивость этой кажущейся миниатюрности: машина, по-видимому, работала на лампах с холодными катодами. Многое в ее устройстве он видел впервые и не понимал назначения. Он не обнаружил ни накопителей информации, ни устройства вводов и выводов. Не мог он оценить ни ее мощности, ни оперативной памяти, ни скорости операций в секунду. Да и каких операций? С какими качествами и каким набором программ? То, что инспектор назвал радиопередатчиком, также оказалось незнакомым устройством. Соединенное с ЭВМ многоцветной проводкой, оно могло быть и усилителем, и преобразователем волн, если бы удалось установить волновую природу его техники. Ученый не мог представить себе даже приближенной его характеристики. Еще один черный ящик! Для чего? Фонтен хмурился: его отнюдь не вдохновляла повышающаяся с каждым шагом задумчивость его спутника. — Чистая математика, — вздохнул он. — Чистая? — откликнулся кибернетик, не отводя глаз от приборов. — То, что вы считаете математикой, давно уже в мусорной корзине науки. Это математика нового века. Я одной ногой в старом и потому боюсь назвать вам то, что вижу. Должно быть, Лефевр знал больше меня. Только в чем, в какой области? Я знаю десятки счетно-решающих устройств и становлюсь в тупик перед этим. Возможно, это эвристическое устройство, соединяющее сотрудничество человека с быстрым действием машины. Человек как бы помогает ей, используя свой опыт и интуицию, участвует в отбраковке неконкурентоспособных вариантов. Обратите внимание на панель сигнализации. Видите указатели? «Выбор цвета», «Выбор формы», «Отбраковка вариантов», «Минимизатор», «Оптимум». Ни в одном счетно-решающем устройстве я не видал ничего подобного. — Цвета? — повторил Фонтен. — Формы? Он же не художник. Хотя… — Взгляд Фонтена пытливо обежал стены. — Вы ищете полотен? — усмехнулся ученый. — Увы, их нет. — Я ищу какую-то связь с полосками на кинопленке. Указатели, по-видимому, относятся к ним. — Возможно, — подумал вслух Браун и тут же забыл об инспекторе. — Надо еще узнать, как и зачем продуцируются эти полоски, — сказал он себе. Внимание его привлекла еще одна панель с пластмассовыми кнопками, отличавшимися только по цвету. Впрочем, крайние — белая и красная — были крупнее других. Эрнест засмеялся. — Что вы увидели? — Политическое лицо Лефевра. Вероятно, он все-таки не француз. Инспектор заглянул через плечо ученого. В обе кнопки была врезана черная хромированная свастика. — Н-да… — понимающе протянул он и вдруг нажал белую кнопку. Серый металлический шкаф ожил. Глазки индикаторов вспыхнули. Изнутри послышалось нарастающее гудение. — С ума сошли! — вскрикнул Браун и прыгнул к креслу. У ножки его он нащупал синюю кнопку и всей тяжестью тела навалился на нее, придавив подошвой. Шкаф тотчас же умолк, глазки погасли. — Метод проб и ошибок здесь не годится, — сухо обратился он к инспектору. — Меня отнюдь не прельщает участь Мишо. Прежде чем взять яд у кобры, надо схватить ее за голову. — Как вы догадались, что это выключатель? — спросил Фонтен. — Вероятно, резервный. Я еще об этом подумал, когда увидел его, сидя в кресле. Лефевр тоже нажал его, но, по-видимому, уже слишком поздно. Что хотел сказать этим Браун, инспектор так и не понял, но спросить не рискнул, а молча последовал за ним в следующую комнату, на пороге которой нашли труп Лефевра, — его архив или кабинет, а может быть, и то, и другое. Как человек Лефевр был уже ясен Брауну, он интересовал его только как ученый. Мысль ученого, ее направление, ее взлеты — об этом запутанно и неохотно, но все же рассказывали приборы. Но в кабинете никаких приборов не было, кроме телефона, уже отключенного от сети, что вызвало полное недоумение инспектора. — Кто распорядился? — негодовал он. — Все делается без моего ведома! Телефонов не выключают, если взносы уплачены. Но кибернетика интересовало другое. Он перебирал желтую кожаную папку с вложенными в нее листками. На титульном листе было написано:«ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ. Свои и заимствованные».Он был не чужд юмору, этот поклонник свастики, только юмор его был злой и удушливый. Вероятно, поэтому он и написал:
«Наслаждаться жизнью можно, только схватив ее за горло».
«Наука — служанка, а не богиня. Ей приказывают, а не приносят жертвы».
«До тридцати лет мы копим знания, с тридцати до пятидесяти их растрачиваем, а после шестидесяти забываем даже то, что осталось».
«Между предположением и открытием — пропасть. Она часто заполняется не тобой открытым и не тобой придуманным. Но у меня нет времени на изобретение изобретенного».
«Бабочки порой отыскивают друг друга за несколько километров. По запаху? Значит, и тут волны определенной частоты и длины. Передача — прием. Звук мы слышим, запах чуем, а гнев? А страх?»Браун перебрал несколько листков и снова задержался на записанном:
«Перестал понимать — значит, набрел на что-то стоящее».
«Почему музыка биттлсов вызывает порой те же ощущения, что и картины Поллока?»
«Кажется, Ван-Гог сказал, что цвет, светотень, перспектива, тон и рисунок — короче, все имеет свои определенные законы, которые можно и должно изучать, как химию или алгебру. Я думаю, что главный из этих законов — воздействие на психику человека. На определенные скопления нейронов. Вопросы: какое воздействие? Какова алгебра цвета и тона, химические реакции рисунка и светотени? Можно ли найти на бумаге или на полотне эквиваленты этих алгебраических формул? Можно ли добиться управления этими химическими реакциями, а следовательно, и воздействием их на нервные центры мозга, можно ли усилить, ослабить или стабилизовать это воздействие?»Фонтен в это время перебирал книги на полке. — Может быть, он был музыкант? — сказал он. — Почему вы так думаете? — рассеянно спросил ученый. — А взгляните на его книги. Браун скользнул взглядом по корешкам. Книг было немного — не больше десятка, они, развалившись, стояли на крохотной полке, наглядно свидетельствуя о том, что их хозяин не был библиофилом. Но корешки с названиями вызывали недоумение: «Цвет и музыка», «Спектральные сочетания Ришара», «Звук, цвет и нейроны». «Материалы акустической лаборатории Чикагского университета», «Булье. Мелодии цвета в орнаменте древнем и современном». — И ни одного музыкального инструмента в доме. Даже губной гармошки нет, — заметил инспектор. — Это не та музыка, о которой вы думаете. Браун говорил загадками, но, должно быть, кое в чем все-таки разобрался. Фонтен это чуял чисто профессиональным чутьем. Эрнест действовал не беспорядочно, не разбросанно, а сосредоточенно и систематически. «Есть версия», — подумал инспектор. Но мешать Брауну не стал: по собственному опыту знал, как нервируют вопросы, когда версия только нащупывается. А ученый в это время совершал круг по комнате мимо створок, закрывавших ящики архива, спрятанные в стене. Они располагались в линию на уровне человеческого роста, причем их было совсем немного, как и книг. Буквы греческого алфавита помечали каждую створку, но шли не по порядку, а произвольно, на выбор, подсказанный какой-то системой мышления и хранения. За альфой следовала каппа, за каппой — кси, далее дельта и омикрон, а завершали этот странный парад омега и бета. Браун не знал древнегреческого, но, как и Фонтен, подумал, что этими буквами начинаются слова, обозначающие по-гречески понятия, объединявшие собранные в ящиках материалы. Он выдвинул один ящик, другой, оба были набиты папками в таких же кожаных переплетах, как и бювар на столе. Эрнест наугад раскрыл одну папку и на титульном листе прочел: «Радость признательности. Первые опыты». Второй листок начинался с аннотации:
«Март 1960 года. У Бертье. Ассистировала Милена Кошич. На испытании — Франсуаза Жюстен. Возраст — сорок четыре года. Профессия — консьержка в доме № 12 по улице Домбаль. Семейное положение — вдова. Гонорар за участие в опыте — сорок франков».
«Процесс, — читал дальше Эрнест. — Села в кресло, еще раз предупредив, что гонорар должен быть выплачен немедленно по окончании опыта. Спросила, будет ли больно. Мы успокоили ее, объяснив, что опыт совершенно безболезнен и безопасен, продлится несколько минут и гонорар будет выплачен тотчас же. Затем мы надели ей на руки браслеты с датчиками, а на голову — венец с присосками, естественно умолчав о том, что все это — и венец, и браслеты, и датчики — сплошной камуфляж для создания соответствующего настроения. Затем я вызывающе сказал Милене: „Включаю!“ Милена за ширмой ответила: „Есть!“ Тотчас же между нами состоялся следующий (заранее сочиненный) разговор: Я. Следите за экраном. МИЛЕНА. Полосы и пятна. Я. Цвет? МИЛЕНА. Голубые сочетания спектра. Я. Форма? МИЛЕНА. Не резко выражена. Полусфера. Я. Заканчиваем. После этого мы сняли с испуганной Франсуазы венец и браслеты и объявили, что гонорар ей повышается вдвое. Коммуникация — слово. Эффект: радость (рост в десятых секунды без фиксации). Франсуаза расплылась в улыбке, ахала и благодарила. Я прервал эти излияния, включив гипнотрон. Она тут же заснула. Милене сказал: „Вторая катушка, пленка три В, запись пятая“. Включил „Вегу“. Аппарат работал шесть минут — половина катушки. Без усилителя. Эффект тот же. Радость признательности. Плакала и благодарила, уже не зная за что. О гонораре не заикалась. Шифр прежний».Далее шли колонки цифр, сгруппированные квадратами. Эрнест насчитал сорок восемь квадратов. — Что-нибудь понимаете? — спросил он у инспектора, одновременно с ним прочитавшего эту запись. — Лабиринт. К вашей ариадниной нити могу, между прочим, подвязать кусочек своей. Милена Кошич, ассистентка Бертье, умерла в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году в своей лаборатории, именно там, где она ассистировала Лефевру. Диагноз: сердечная недостаточность. Кроме нее, в институте никого не было: работала она в воскресенье. Смерть естественная, следствие не проводилось. — Слишком много естественных смертей, — вздохнул Браун. — Что сделаем с шифром? — Дадим шифровальщику. — Не надо. — Эрнест снова заглянул в бювар на столе. Перелистав папку, он наконец нашел нужный листок и протянул инспектору.
«Радость не убивает, — прочел тот, — убивает страх».Под этой строкой мелким бисерным почерком, какой бывает только у хладнокровных, расчетливых, целеустремленных людей, было записано:
«Папка пуста. Материалы спрятаны. Ключа нет. Чтобы найти их, придется перелистать семнадцать тысяч страниц. Успеете ли, если я нажму кнопку?»На обороте листка на немецком языке было полностью приведено перепечатанное на пишущей машинке стихотворение Гёте «Лесной царь», знакомое Брауну еще с детства. — «Ездок погоняет, ездок доскакал… в руках его мертвый ребенок лежал», — повторил он последние строчки. — Что, что? — не понял Фонтен. Эрнест повторил. — Ну, знаете, — рассердился Фонтен, — я сдаюсь. Не вижу ни искорки, тьма египетская. А у вас — версия. Это вижу. И не тороплю. Сколько дней вам понадобится для решения? — Вечер и ночь. Здесь, в лаборатории. — Прислать бригаду агентов? — Зачем? — Перелистывать семнадцать тысяч страниц. Браун не удержался от соблазна похлопать недоумевающего инспектора по плечу. — Я не криминалист, инспектор, и методы у меня другие. Обеспечьте мне спокойное пребывание в этой лаборатории, так чтобы этого никто не видел и никто, кроме вас, не знал. Включите телефон, чтобы я мог позвонить вам ночью… Что еще? Ничего, кроме двух бутылок пива и куска пирога, который печет вам ваша жена или теща. — Один вопрос. Что будете искать? Ключ к шифру? — Нет, товар, интересующий фирму «Прощай, оружие!». — Кому выгодно? — спросил инспектор. — Кому выгодно, — сказал Браун.
3
К вечеру он соснул часок, принял душ и прошелся по тихой в эти часы набережной Сены, чтобы, как говорил в его студенческие годы старик профессор, согреть сердце и остудить голову. Наука не раскрывает своих тайн ни разгоряченному мозгу, ни холодному сердцу. И ученый настойчиво гнал любую мысль, тянувшуюся по ассоциации к происшедшему утром. Вот он загляделся на зеленые воды Сены, расходившиеся мутными волнами от пробежавшего катера. Опять волны! Никаких волн, вода в Сене не движется, как в рассказе у Мопассана. Только пахнет сыростью, а не гвоздикой, как у цветочных ларьков. Париж пылает гвоздикой всех тонов, от бледно-розового до ярко-пунцового. Может быть, тоже мелодия спектра? К дьяволу спектр! Хорошо, что в математике нет никакого спектра. Дважды два — четыре, дважды четыре — восемь. Два действия без цвета и запаха. А сколько бы действий потребовалось на это счетно-решающему устройству? Долой устройства! Да здравствуют простые конторские счеты! Но надо уходить и от счетов, иначе придешь к таким же кнопкам на пульте. Забыть о них, полюбоваться на кокетливую челку пробежавшей мимо девушки. А может быть, она похожа на Милену Кошич? Так безнадежно пытался оторваться Браун от происшедшего утром и предстоящего вечером, и, лишь когда он увидал поджидавшую его у дверей отеля машину инспектора, сразу пришли к нему спокойствие и уверенность. И радостная отрешенность от всего, что сейчас мучило и подстегивало мысль. Ей нужен был отдых перед стартом, и в каких-то мозговых клеточках прозвучала команда: расслабиться. Усаживаясь рядом с нахмурившимся Фонтеном, Эрнест даже не отказал себе в удовольствии пошутить: — Волнуемся, инспектор? — А вы? — А мы мечтаем о пиве, которое у вас в свертке за спиной. Кстати, какое? — Датское. А телефон, между прочим, уже включен. — Звонка не ждите. Позвоню к утру, когда все выяснится. — А вы уверены, что выяснится? — Иначе я бы не сидел сейчас рядом с вами. — Вопросы неуместны? — Вы сами понимаете, инспектор. Рыбака, не развернувшего удочки, о клеве не спрашивают. Так, перебрасываясь словами, как шариком на столе для пинг-понга, они доехали до виллы «Шансон», еще более одинокой и мрачной вечером, на фоне пустынной поселковой окраины. Только редкая платановая рощица шумела на ветру да хрустел под ногами гравий на дорожке к дому. Никто не попался им навстречу, и вторжение в лабораторию произошло так же незаметно, как и утром. Инспектор зашторил окна, водрузил на стол распакованные пирог и пиво, оглянулся завистливо и спросил со вздохом: — Может быть, все-таки разрешите остаться? — Нет, — сказал Браун. Оставшись один, он начал с повторения пройденного — с кресла с ножным выключателем искомого действия, «черного ящика» с передатчиком или усилителем того же действия, счетно-решающего устройства незнакомой конструкции и панелей с сигнальными кнопками. Принцип производимого осмотра сводился к тому, что заметит вторично уже искушенный глаз. Искушенный глаз ничего не заметил, кроме двух не слишком приметных деталей, о важности которых пока еще трудно было судить. Во-первых, красная кнопка со свастикой была не только больше всех остальных, но отстояла от них дальше, словно ей предназначалась какая-то особая роль, возможно и не связанная с устройством «черного ящика» и вычислительной машины. Во-вторых, текстовые кнопки этой машины отличались друг от друга не только характером сигналов, но и частотой пользования. Кнопки с сигналами «Выбор цвета», «Выбор формы», «Отбраковка вариантов» выглядели новее других, сверкая нетронутой чистотой и яркостью, в то время как их соседки потускнели и стерлись. Здесь можно было предположить два решения: или машина уже не нуждалась в этих сигналах, пройдя какой-то процесс самоусовершенствования и самопрограммирования, или же это был новый конструкторский ее вариант, в котором старая сигнализационная панель играла только резервную роль на всякий непредвиденный случай. И то и другое решения говорили о больших мощностях машины, о полном и хорошо разработанном ее математическом обеспечении и, вероятно, о сложности решаемых ею информационных задач. Каких задач? Браун догадывался, вернее, предполагал одну: цвет и музыка. Собственно, даже не музыка как эстетическая категория, а поверенная алгеброй гармония или дисгармония цветовых и линейных сочетаний и форм. Судя по записям, Лефевру удалось доказать воздействие таких сочетаний на психику человека и тем самым добиться нужных эмоциональных реакций. От оптимальных решений задачи зависела и мощность таких реакций. Но для чего? Не на потребу же абстрактной живописи и не из тщеславного желания подарить миру кибернетического Кандинского или Шагала. Чем больше думал об этом Эрнест, тем все настойчивее возникала у него мысль о том, что это побочное открытие, побочное от главного, от «безумной» идеи о волновой природе человеческих чувств. Скажем, радость и горе, гнев или страх являются источниками импульсов, нечто вроде ультразвуковых волн, находящихся за пределами восприимчивости нормально чувствующего человека. Однако находятся люди с повышенной восприимчивостью нервных рецепторов, способные «принять» и сопережить чужое чувство. Так родилось еще одно условие задачи. Если возможна такая «безкоммуникационная» передача в природе, то ее можно усилить механически, создав достаточно мощные источники возбуждения. Как нашел эти источники Лефевр, неизвестно: может быть, мгновенное озарение, может быть, финал многократных проб и ошибок. Но формула «цвет — музыка» получила свое оптимальное решение. Эта концепция кибернетика родилась не сразу: он добрый час шарил по ящикам архива, опять и опять возвращался к записям опытов, а потом снова читал и перечитывал «праздные мысли» Лефевра. То было что-то вроде записных книжек ученого, его своеобразное хобби. Зацепит где-нибудь прочитанная мысль — он ее запишет и прокомментирует, услышит или подметит что-нибудь любопытное — тоже запишет и порассуждает «по поводу», и так подряд вперемежку: мысли и «мыслишки», наблюдения и «наблюденьица», пустячки и эмбрионы оригинальных идей. Все проследил Браун и все процедил сквозь сито предполагаемых условий научной задачи и нашел все-таки ниточку от эмбриона к идее. Теперь предстояло решить задачу, от которой отказался Фонтен: отчего умерли Лефевр и Мишо? Ученый вновь извлек из бювара листок с «Лесным царем» Гёте, присоединил к нему колонки цифр из записи опыта, прочитанной еще утром вместе с Фонтеном, положил все это перед собой и задумался. Листок со стихами содержал три записи, сделанные в разные годы. Первая, мягко говоря, не очень глубокомысленная сентенция о том, что убивает не радость, а страх, относилась к очень давнему времени: чернила выцвели и стерлись от частого перелистывания папки. Угадывалась даже приблизительная дата — до 1963 года, когда умерла Милена Кошич: ведь опыт под титром «Радость признательности» производился Лефевром совместно с Миленой. Тогда же или немного ранее были перепечатаны на листке из бювара знаменитые стихи Гёте. Зачем? Представить Лефевра в роли любителя поэтической классики было смешно: ничто в его характере не указывало на это. Скорее всего, знакомые с детства стихи были взяты потому, что именно в это время для записи цветограммы Лефевру понадобился шифр. Браун поморщился: придуманный им термин «цветограмма» был неточен и не выражал всей сущности открытия, но искать другой было попросту некогда. Гораздо важнее было установить, что ключом к шифру был именно «Лесной царь». Ученому пришла в голову эта мысль еще тогда, когда он прочел последние строки: «Ездок погоняет, ездок доскакал… в руках его мертвый ребенок лежал». «Отчего же умер ребенок?» — прочел он молчаливый вопрос в глазах инспектора и так же молча ответил: «От страха». Но вслух оба ничего не сказали. О шифре подумалось и во время прогулки по набережной. Вспомнился способ шифровки текстов в школьные годы, в играх в разведчиков, когда в качестве шифровального кода использовались произведения различных писателей и поэтов. Но во время прогулки Эрнест отогнал эту мысль: она мешала расслабиться перед стартом. А сейчас, разглядывая колонки цифр в квадратах, он ясно читал: верхняя — порядковый номер строчки в стихотворении, нижняя — порядковый номер буквы в строке. Для усложнения число строчек и букв удваивалось и даже утраивалось. Таким образом, третья строчка могла шифроваться девятой, а девятая — двадцать седьмой. Можно было их подменять, запутывая отгадчика, где угодно и как угодно. Но при наличии ключа все было проще простого: находи буквы и заменяй ими цифры. Оперируя «Лесным царем», Браун мгновенно расшифровал первый квадрат: «Синусоида. Чистый ультрамарин, переходящий в индиго, линии перекрещиваются в третьем периоде, распыление…» Дальше он разбирать не стал: все было ясно. Несложность шифра объяснялась просто. Лефевр создавал его не в расчете на профессионалов-шифровальщиков, а из желания защитить свое открытие от конкурентов. С любой иностранной разведкой он мог договориться на общепонятном языке бизнеса, но как уберечься от случайного глаза любопытного и неразборчивого в средствах коллеги? Так и попали на листок стихи Гёте: кому придет в голову посчитать их за шифровальный код? А последняя приписка — насмешливый совет просмотреть семнадцать тысяч страниц, чтобы добраться до сути открытия, — была сделана явно в последние дни. Лефевр по-прежнему опасался любопытных, но не слишком умных или хитрых для того, чтобы за короткое время визита в лабораторию во время его отсутствия переиграть ученого. Кто из таких любопытных знает хорошо древнегреческий, чтобы понять систему хранения его документов? Не знал и Эрнест, все же ему повезло: нужное слово он знал. Он вспомнил об этом, еще раз прочитав название стихов: «Лесной царь». Лес, лесной — ни к чему. А царь? По-гречески — базилевс. Значит — бета. Чуть-чуть дрожащими руками — дрогнули все-таки! — Браун выдвинул нужный ящик. «Базилеуо — царствую» — было написано на титуле в первой же папке. Как игрушка матрешка, она заключала в себе еще несколько папок, озаглавленных: «Власть», «Сила», «Величие», Он вспомнил нацистский лозунг «Сила через радость», потом — только что маячившую перед глазами сентенцию о «неубывающей радости» и «убивающем страхе» и замер: догадка, как молния, сверкнула в ночи. Неужели он добрался до сути? Долго-долго держал он в руках искомую папку. Она ли? Если она, значит, логические рассуждения его верны, значит, это его, Брауна, победа. Маленькая победа над большим открытием. Он внутренне усмехнулся: разве победа? Просто первая удача, тактический успех в подготовке сложной стратегической операции. Противник еще не расшифрован, не разоблачен. Его лишь заставили выйти из укрытия. Сейчас он подымет забрало. Очень спокойно, нарочито медленно ученый раскрыл папку. В ней было несколько листков, сколотых скрепкой и тоже написанных в разное время. На первом оказалась следующая запись, по-видимому совсем недавнего происхождения (темно-синие чернила еще не успели выцвести) и служащая как бы преамбулой к последующим листкам:«Обе части письма к Милене Кошич, так ею и не прочитанного, я прилагаю к „тайному тайных“ моего открытия. В каждом открытии есть свое „тайное тайных“, в моем — это кодированный источник возбуждения. Письмо, таким образом, становится вступительным комментарием к результатам опыта, если их удастся записать. Для того, кто прочтет его после моей смерти (при жизни, надеюсь, этого не случится), поясню: первая часть письма написана в субботу, накануне трагической смерти Милены. Я не дописал его — что-то помешало, а опыт, который я должен был поставить на себе, намечался на понедельник. Милена предупредила меня, проникнув в лабораторию в воскресенье, когда в институте никого не было, кроме дежурных вахтеров. Никто так и не понял причин ее гибели, даже Бертье: его не интересовали мои приборы. Закончил письмо я уже из упрямства — зачем искать другую форму комментария? — совсем недавно, когда снова решил испытать на себе действие „Веги“. То была уже другая „Вега“, или, вернее, ее окончательный вариант. Повысилась не только мощность индукторов, но и способность повиноваться: выключая возбудитель, я не только приостанавливал опыт, но и полностью стирал „импульсы“, уже воспринятые нервными рецепторами».Браун тут же мысленно отметил, что стереть их не удалось. Или Лефевр упустил момент, позволил смерти обогнать волю к жизни, или аппарат был выключен не полностью и опыт не приостановлен, или же, наконец, «Вега» попросту не сработала. Последнее Браун, подумав, отверг: «Вега» была слишком совершенным созданием, чтобы так грубо ошибиться в самой ответственной стадии опыта. Второй листок начинался с объяснения: Лефевр, как бы продолжая когда-то начатый разговор с Миленой, писал:
«Я должен закончить наш спор, Милена, и сказать правду теперь — позже она будет для тебя убийственной. Каюсь, меня устраивали наши отношения: и твой отказ от нашего брака, который якобы мог помешать твоему служению науке, и даже то, что полоумный Бертье был тебе дороже меня, потому что олицетворял для тебя более высокую стадию науки, чем я. И я не требовал от тебя большего, ибо оно в конце концов раздавило бы даже ту крошечку счастья, которое скрашивало для меня мои тюремные дни у Бертье. Но произошло непредвиденное: я открыл тебе „Вегу“, и мираж увлек тебя, мираж иллюзорных благ, которые она якобы могла принести людям: исцеление от горестей, тихую радость, наслаждение, покой. Я не рискнул огорчить тебя: ты даже готова была уйти от Бертье и работать только со мной в любых (я помню, как ты подчеркнула — в любых) условиях. Но искусственная радость не нужна человечеству, и мое открытие (даже без меня) все равно бы использовали в тех же целях, для которых я его создавал. Начинаю с признания: я не француз, Милена, я немец по отцу и фамилию моей матери взял только после войны, когда мои опыты с Мидлером в одном из наших лагерей в Польше отняли бы у меня свободу, а может быть, и жизнь, во всяком случае — будущее. Политически сейчас я то, что зовут реваншистом, а морально — враг всего, что связано с благом так называемого человечества. Помнишь наш спор об этом благе и мои возражения? Я не удержался и прямо сказал, что с моей точки зрения никакого человечества нет, а есть свора хищников, в которой сильный всегда сожрет слабого. Ты огорчилась и расстроилась до такой степени, что я пожалел о сказанном и сослался на шутливое желание тебя подразнить. Ты мне поверила, но я уже не рискнул на дальнейшее испытание этой наивной веры и не сказал тебе, что „Вега“ как раз и рассчитана на то, чтобы сократить твое паршивое человечество наполовину. Почему я до конца раскрываю себя? Да просто потому, что не знаю, чем кончится опыт. У меня нет людей-кроликов, каких у нас с Мидлером были тысячи в лагере, а отвечать по французским законам за смерть испытуемого я не хочу. Потянется ниточка в прошлое, и конец всему. Значит, один выход: сесть самому перед индуктором и встретить удар. Я не слишком отягощен тем, что вы называете совестью, но и не трус, — ты знаешь. Знаешь и способ. Ввести кодированные программы, нажать белую кнопку и встретить волну. Гипноза не нужно. Я сам буду проходить и контролировать испытание…»На этом кончались листки, написанные почти десятилетие назад. Они были интересны для криминалиста, для писателя, но не для ученого. Технически ничего нового Брауну они не открыли. И действие «Веги», и ее назначение он уже уяснил раньше — просто любопытно было заглянуть в душу такойчерноты, какую он знал только по описаниям. Теперь руки его уже не дрожали, брезгливо переворачивая исписанные страницы, он искал технических подробностей. И вот что нашел:
«Только я один знаю, отчего ты умерла, Милена, поторопившись встретить направленную волну. Ты даже не знала о выключателе, а подавленная воля не позволила встать и уйти. Как смешили меня диагнозы невежественных эскулапов: „сердечная недостаточность“, „быстротекущая, злокачественная форма гипертонии“! Они не догадывались о том, что умерла ты от пытки страхом, что индукторы „Веги“ резко усилили ток нагнетаемой крови в сосудах, одновременно повысив в ней содержание ангиостезина. Кто знал, что страх может способствовать этому повышению? Выделившие ангиостезин — таинственное „нечто“, сужающее сосуды, — из крови человека японские биохимики даже не подозревали о способах его повышения в крови. Открыл это я — побочно, как и кодированные источники возбуждения. Только ты этого не знала, Милена. Но узнал Глейвиц. Бывший школьный товарищ, бывший соратник по „Гитлерюгенду“, ныне гражданин США. Удачная женитьба всосала его в семью американских мультимиллионеров, простивших ему и свастику, и связанные с нею грехи. „Ты что-нибудь изобрел или открыл? — спросил он меня при первой же встрече. — Ты же ученый. Если открытие стоящее, могу субсидировать“. Я прикинул в уме, стоит ли игра свеч, и рассказал. Он моментально заинтересовался. „Одна машина — понятно. А тысяча? А десять тысяч?“ — „Парализуют любое наступление, насыщенное любым оружием, от танков до авиации, — пояснил я, — остановят на глубоко эшелонированном фронте любой протяженности, буквально за несколько минут выведут из строя всю живую силу противника“. Он продолжал спрашивать: „А бомбовые удары с дальних баз? А ракеты? А ядерное оружие?“ — „Некому будет отдать приказ. Десяток портативных индукторов, замаскированных на обычных туристских автомашинах задолго до начала военных действий, уничтожат любой генеральный штаб и любое правительство“. — „Значит, прощай, оружие! — засмеялся он. — Что ж, отличное название для фирмы“. Так я стал владельцем виллы „Шансон“ в предместье Парижа и лаборатории, которая даже не снилась таким, как Бертье. Сейчас „Вега“ усовершенствована. Я увеличил ее мощность, силу волнового удара и дальность поражения. Старушка ЭВМ уже способна к самопрограммированию и отбраковке вариантов. (Браун вспомнил при этом чистенькие кнопки на пульте вычислительной машины.) Ей достаточно первой и последней цветолинейной фиксации — все промежуточные она создаст сама. Пленка рассчитана на шесть минут, значит, надо остановить ее на пятой — я не самоубийца. Шестую прибережем для фирмы „Прощай, оружие!“».Два последних листка, предназначенных для записи результатов опыта, заполнены не были: пятая минута подвела Лефевра. «Придется внести поправку, — сказал себе Браун, — срезать и пятую, сократив пленку до четырех минут. Мы тоже не самоубийцы». Он отложил папку — она была уже не нужна. Предстоял второй тактический этап операции — план опыта и самый опыт. С чего начать?
4
Он разложил на столе взятую у Фонтена пачку цветных фотографий — абстрактную путаницу линий и клякс. Все они были перенумерованы от первой до двенадцатой. Но большой разницы между ними Браун не заметил, пожалуй, только усиливалась интенсивность цвета, полосы к концу чаще сливались, взрывались вуалями цветной пыли или расплывались бесформенными кляксами. Код страха — код смерти. Именно тот самый яд, которым убивала кобра из «черного ящика». Однако нумерация ровно ничего не объясняла. Тогда Браун позвонил инспектору. Трубка отозвалась почти мгновенно. — Не спите? — спросил ученый. — Не сплю. Как дела? — Почти закончены. — Разгадали? — Все. Осталась последняя проверка. — Подождите. Еду. — Один вопрос. Порядковая нумерация фотоснимков соответствует их раскадровке на кинопленке? — Конечно. Пленка рассчитана на шесть минут. Снимки производились по видеоскопу с интервалами в тридцать секунд. — Значит, первая… — …начинает ленту. А двенадцатая — последняя, которую видел Мишо. — Тогда приглашаю на встречу с коброй. Кстати, поужинаем. Я еще не пробовал датского пива. Трубка откликнулась коротким смешком. Что-то рассмешило инспектора. — А вы знаете, который час? — Нет, а что? — Три часа ночи. — Тем лучше, — убежденно сказал Браун, — значит, успеем управиться еще до рассвета. По-моему, это нас устраивает. Поглядим на кобру — и домой? — А яд? — А яд выплюнем. Трубка снова откликнулась смешком: инспектор оценил настроение ученого. Теперь у последнего оставалось по крайней мере полчаса свободного времени до приезда Фонтена. Браун перешел в аппаратную. Он еще раз придирчиво осмотрел счетно-решающее устройство, нашел наконец вводной механизм и усомнился: а вдруг он рассчитан на пленку, а не на цветные картинки. Но Лефевр говорил о фиксации, значит, можно подразумевать и цветное фото. Но можно ли ввести его в машину? Оказалось, что можно. Убедившись в этом, Эрнест снова, как и в первое свое посещение лаборатории, заинтересовался красной кнопкой на пульте, кнопкой-великаном с хромированной свастикой. У нее было еще одно отличие от соседок: плотно примыкающее к ребру кольцо. Ученый чуть-чуть тронул его: вращается мягко и плавно. Зачем? Вращение кольца не было связано с нажимом кнопки — такая связь казалась лишенной всякого смысла. Вероятно другое: два сигнала — два механизма — два различных эффекта. Эрнест слегка повернул кольцом — ничего не случилось. А если рискнуть? Он довернул кольцо до полного оборота. Послышалось тихое жужжание невидимых шарниров, и одна из стенных панелей сдвинулась внутрь, открыв неширокий проход. Тусклая лампочка осветила пустой тамбур, похожий на клетку лифта. Ученый осмотрел, не входя, его стенки и увидел впереди другую дверь, с пластмассовой табличкой, о чем-то оповещающей. О чем? Слабый свет не давал возможности прочесть, и Браун рискнул: тронул тамбур ногой — крепко. Шагнул, не спуская глаз с панели, наполовину ушедшей в стену, — не сдвинулась. Осторожно сделал еще шаг к двери и прочел на табличке: «Пять минут». Сакраментальная цифра! На пять минут была рассчитана пленка с цветограммой, на пять минут до смерти. Но пятая минута подвела. А на какие пять минут рассчитан этот проход? Куда? Если раскрыть дверь, это займет не более секунды: значит, пять минут предполагают что-то другое. У Эрнеста мелькнула догадка, в которой он даже сам себе побоялся признаться, но догадка не предполагала пока ничего страшного. Мгновения, которые уйдут на то, чтобы открыть и закрыть дверь, видимо, безопасны. И он легонько нажал ручку двери — откроется ли? Дверь сразу открылась. В синем предрассветном тумане можно было различить клумбы с крупными шапками темных, должно быть красных, цветов, подстриженные кусты и асфальтовую дорожку к калитке, ведущей в парк с противоположной стороны дома. Вероятно, даже не в парк, а в ту платановую рощицу, которую они видели, подъезжая к вилле со стороны шоссе. Сейчас, в темноте, шоссе видно не было, и никаких строений поблизости — только темные стволы деревьев с неправдоподобными в дымке кронами. «Идеальный выход, — подумал Браун, — никто не увидит. Только почему пять минут?» Надпись о чем-то предупреждала. Может быть, о том, что следовало сделать, повернув кольцо и нажав кнопку. Не найдя ответа, он закрыл дверь и вернулся в комнату. Стенная панель по-прежнему оставалась открытой, но ученый не стал искать механизма, возвращающего ее на место. Зачем? Может быть, им с Фонтеном потребуется именно этот ход. И Эрнест не без удовольствия подумал о том, как вытянется лицо у инспектора, когда он увидит еще одну, не обнаруженную им раньше загадку. Инспектор действительно удивился, потому что первым же вопросом после появления его в лаборатории был именно этот: — Что такое? — Запасный выход. — Куда? — На улицу рядом. — Зачем? Эрнест развел руками: поди сообрази. — Чтобы сбежать? — фантазировал вслух инспектор. — От кого? Он открыл загадочную дверь в сад, посмотрел в темноту и вернулся, все еще недоумевая. — Кого он боялся? Что скрывал? — Потом, — прервал его Браун. — Сначала поужинаем. Вы прочтете кое-что весьма любопытное. Ну, а я ведь до сих пор не прикоснулся ни к пиву, ни к пирогу. Прочитав исповедь Лефевра, Фонтен долго молчал, потом сказал со вздохом: — Шеф прав. Дело придется закрыть. — Почему? — Потому что мы уже знаем, кому это выгодно, и этот «кто» настолько влиятелен, что ему не составит никакого труда пресечь вмешательство чиновника уголовной полиции. — Но маленький чиновник может пойти в большую газету. — Без проверки материалов? Без свидетелей? — А я? — Вы иностранец. Большая газета на вашу экспертизу не клюнет. — Разве в Париже нет экспертов? — Миллионы Глейвица их легко найдут. «Вега»? Механическая чепуха, вроде «вечного двигателя». Исповедь Лефевра? Бред полоумного. Сам Бертье подтвердит. В конце концов скандал замнут, вас высмеют, а меня уволят. Архив же и аппаратуру фирма «Прощай, оружие!» потихоньку вывезет в какой-нибудь Питтсбург. — Или в Дюссельдорф, — усмехнулся Эрнест. Инспектор опять вздохнул. — Мы тоже не сможем доказать, что есть такая фирма. Где она зарегистрирована? Где ее местопребывание? Где капиталы? Где текущий счет? На чье имя? — Одно мы докажем, — сказал Эрнест. — Что и кому? — Что? Чем убивает кобра. Кому? Себе. — Ученый встал. — Вы говорите, что снимки энграммов производились с видеоскопа через каждые тридцать секунд? Нам нужно выдержать всего четыре минуты. Значит, остановимся на первом и на восьмом. Он отобрал два цветных снимка полосок и пятен, еще раз сверил их номера на обороте и вложил оба в механизм вводов счетно-решающего устройства. — Будем ждать кобру, — сказал он. — Я даже не знаю, сколько времени понадобится, чтобы ей вылупиться. Оба замолчали. Фонтен принялся перечитывать записки Лефевра, а Браун задумался над перспективой его открытия. Только ли разрушительного, многократно спрашивал он себя. Разве его нельзя использовать в мирных целях? В медицине, например. Как некий универсальный транквиллизатор. Но Лефевр прав: у «Веги» найдутся свои Теллеры, которые постараются использовать ее в целях военных. И добьются — слишком велик соблазн и просто решение. Кстати, почему «Вега»? Скорее, Горгона, не страшная только Персею. Он придет, конечно. На «волны» ответит «антиволнами», придумает какие-нибудь гасители или рассеиватели. Только хватит ли у него времени, не пригнет ли его эра нового рабства, воссозданная с помощью фирмы «Прощай, оружие!»? — Почему Глейвиц до сих пор не присылает за ключами от виллы? — спросил он Фонтена. — Ключи уже взяли, — ответил тот. — Значит, нашли специалиста. — Надеюсь, что не во Франции. — Определенно. Носители свастики знают, где искать единомышленников. — Смотрите! — воскликнул инспектор. Верх «черного ящика» бесшумно осветился изнутри, вернее, стал прозрачным, как органическое стекло. Браун и Фонтен увидели, как на быстро вращающуюся катушку наматывалась широкая мутно-серая лента без всяких видимых знаков. — Кобра вползает в гнездо, — меланхолично заметил кибернетик, — ЭВМ выдает готовую продукцию «Веге». — А где же цветные полоски? — спросил Фонтен. — Мы не знаем, как она кодирует цвет. «Черный ящик» снова погас, окрасившись в цвет нержавеющей стали. — Начинаем опыт, — сказал Браун, — садитесь в кресло. — А вы уверены… — В чем? В том, что нас не свезут отсюда на кладбище? Не уверен. Но если боитесь, уходите. Вместо ответа Фонтен молча сел в кресло Лефевра. Браун нажал белую кнопку со свастикой — машина знакомо загудела, глазки ее зловеще вспыхнули. — Пока живы, будем обмениваться впечатлениями, — сказал ученый, подвигая стул из кабинета к сидевшему в кресле инспектору. — Слышите, кобра уже шипит. Гудение машины сменилось мягким, похожим на шипение звуком. Эрнест вдруг почувствовал, как у него немеют руки. «Плохо», — подумал он и усилием воли прогнал оцепенение. — Вы что-нибудь чувствуете? — спросил он инспектора. — Слабость, пожалуй. — Гоните ее, — потребовал Браун, — мобилизуйте волю и гоните. Помогает? — Помогает, — вздохнул инспектор. Оба замолчали. Несколько секунд Эрнест ничего не ощущал, кроме нарастающего беспричинного беспокойства. Потом ему показалось, что он видит сон. Удивительный сон наяву. Будто где-то в детстве он чем-то напуган. Невидимые руки втолкнули его в темную комнату и заперли дверь на задвижку. Впечатление было так сильно и так реально, что он даже услышал стук тяжелой щеколды. Такому неумному наказанию однажды подвергли его в детстве, и Эрнест долго потом не мог избавиться от удушливого страха перед тьмой. Но сейчас все происходило иначе. Его мозг как бы раскололся на две части — в одной подымался и сковывал тело страх, другая анализировала, размышляла, оценивала. «Интересно, скован ли язык?» — подумал он и, с трудом ворочая плохо повинующимся языком, спросил инспектора: — Что с вами, Фонтен? Инспектор ответил не сразу и так же трудно и хрипло: — Не знаю. Какая-то муть лезет в голову. Кажется, что меня привязали к креслу. — Нет! — почти закричал Эрнест, или ему показалось, что закричал: вернее, то был еле слышимый хрип человека, которому перехватило горло. — Держитесь, Фонтен! Вам это только кажется, и вы знаете, что кажется. Держитесь за это «знаете»! Не давайте ей погасить волю! Инспектор не ответил, и ученый не нашел в себе сил продолжать. Охваченная страхом вторая половина его «я», как диафрагма в съемочной камере, закрывала от размышляющей видимый мир, погружая его в древнюю архейскую темноту. Страх физически подавлял его, подавлял волю, как нечто живое, у которого отнимали жизнь. Он уже не видел ни белых стен, ни «черного ящика», ни сидевшего рядом инспектора. Все это суживалось до тоненькой полоски света, тусклого, как предрассветный туман. Она утончалась с каждым мгновением, и Браун уже знал, что, когда она погаснет совсем, поглощенная тьмой, он умрет. Сердце превратилось в пузырь, куда невидимые, но ощутимые насосы страха гнали кровь как брандспойты. Пузырь раздувался и грозил лопнуть, причем Браун знал, что он обязательно лопнет и ничем более не сдерживаемая кровь хлынет фонтаном из горла. «Сердечная недостаточность», — вдруг вспомнил он и мысленно усмехнулся, тут же поняв, что сознание еще живо, что он знает, где находится на полу синяя кнопка и стоит только подтянуть ногу, чтобы ее нажать и опередить все суживавшуюся черточку света. Ему даже показалось, что он шарит ногами, сейчас найдет эту спасительную кнопку, навалится на нее всем телом и страх, сжимающий горло, оборвет свою хватку. Он действительно пошарил ногой по полу и нащупал бугорок под носком ботинка. Найдутся ли только силы, чтобы нажать? Нашлись! Эрнест навалился на синюю кнопку, еще не потеряв разума, еще видя впереди тоненькую, как лезвие бритвы, полоску света, еще сознавая, что сердце не лопнуло и напор брандспойтов вот-вот ослабнет. В ту же секунду исчезла тьма, словно ее смыли белые потоки света со стен, и ученый воочию увидел люстру над головой. Инспектор сидел рядом с невидящими глазами и раскрытым ртом, голова безвольно лежала на спинке кресла, кончик языка вывалился, судорожно зажатый зубами. Браун слабо потянул на себя тяжелого, как покойник, инспектора и вдруг ощутил отдачу еле сопротивлявшихся мускулов. Жив! Эрнест даже нашел в себе силы вскочить и потрясти еще раз это уже не безвольное тело. И Фонтен ожил: в глазах засверкал огонек мысли, передавший вопрос губам: — Все? — Все, — сказал Браун. — Что нужно — валидол или нитроглицерин? — Обойдусь, — громко вздохнул инспектор и улыбнулся. — Кажется, уцелели. — Только потому, что я оборвал цветограмму минутой раньше. Даже четырех минут много. Только лошадиное сердце Мишо могло выдержать больше. Не понимаю, почему ошибся Лефевр. Кстати, что вы видели? Инспектор не ответил: разве расскажешь об ужасе, физически убивающем человека? — Я преклоняюсь перед вами, мосье Браун, — проговорил он. — Дальнейшее решение проблемы предоставляю вам. В газету так в газету. В правительство так в правительство. Командуйте. Ученый ответил рассеянным, задумчивым взглядом. Потом сказал: — Пока уничтожим следы нашего пребывания в этом змеином гнезде. Инспектор убрал в портфель остатки ужина и стряхнул крошки. — Все равно останутся. — Не останутся, — загадочно произнес Браун. — Нажмите вот эту кнопку со свастикой. — Зачем? — Последний эффект. Не бойтесь. Фонтен нерешительно вдавил багровый волдырь со свастикой до уровня всей панели. Ничто не загудело, не осветилось, не щелкнуло. — Теперь пошли, — сказал Браун. — Куда? — В эту дверь, видите? — Он указал на все еще открытый проем в стене. — И не удивляйтесь — так надо. Только парка жалко, — неожиданно прибавил он. Фонтен смутно подозревал что-то, но ученый не давал ему времени, чтобы уяснить себе эти подозрения. Так они и вышли, ничего с собой не взяв и ничего не оставив, кроме беспокоящих инспектора дактилоскопических отпечатков. — Их не найдут, — утешил его Браун. И опять не объяснил почему. Он явно торопился, сокращая дорогу к шоссе среди деревьев уже не в синеватом, а тускло-розовом тумане от розовеющего где-то за парком неба. Не останавливаясь, он посмотрел на часы. — До пяти минут осталось тридцать четыре секунды. Скорее! — сказал он, подхватив своего спутника под руки, и, почти пробежав с ним добрых полсотни метров, прибавил, уже задыхаясь: — Одышка. Стометровку уже не пробежишь — возраст. Ну, а теперь обернитесь. Над виллой «Шансон» вдали подымалось плотное черное облако. Оно расползалось, обнажая внизу зубчатую корону пламени. — Что, что? — вскрикнул инспектор. — Конец фирмы «Прощай, оружие!». — Но почему? — Инспектор спрашивал почти машинально, все еще не отдавая себе отчета в случившемся. — Вы хотите спросить меня, зачем ему это понадобилось? — пришел на помощь Браун. — А зачем уничтожают улики? Должно быть, все-таки вспомнил Нюрнбергский процесс. Между прочим, я разгадал секрет этой кнопки со свастикой всего за несколько минут до вашего появления. Воспламеняющее устройство с температурой в несколько сот градусов — сужу по огневой короне над виллой. — Моими руками! — вырвалось у инспектора. — Почему вы сами не нажали на эту проклятую кнопку? — Неудобно все-таки иностранцу уничтожать французское имущество. — Какое открытие погибло! Браун скорее прочел это по губам, чем услышал слова Фонтена. И тут он рассердился: — Не плачьте, инспектор. Пусть плачет Глейвиц. Вспомните Хиросиму — кобра Лефевра из той же породы. Кстати, уничтожьте ее дубликат в сейфе вашего шефа, пока об этом не вспомнили. Сошлитесь на прокурора: он же настаивал на сожжении пленки. Советую не медлить, даже если понадобится вскрыть сейф. — У меня ключи, — сказал инспектор. — Тогда считайте, что ничего не было — ни исповеди Лефевра, ни пленки с картинками. Вы не просили моей экспертизы, а я не был ночью на вилле «Шансон». За рощицей, на шоссе, завывая сиреной, промчалась на большой скорости пожарная автомашина. За ней другая. — Поздно, — сказал Браун. — Они уже не найдут ничего, кроме пепелища. Даже дым уже тает. Инспектор потянул носом воздух: — Странно пахнет. Не дымом, нет. — Горелой свастикой, — сказал Браун.Хаджи-Мурат Мугуев БРИЛЛИАНТЫ ИМПЕРАТРИЦЫ (Повесть)
Глава I
По проспекту Руставели шел молодой человек лет двадцати шести, с черными усиками и веселыми, озорными глазами. Его белый чесучовый костюм, легкие плетеные сандалии, непокрытая кудрявая голова были облиты южным, горячим солнцем. Стояло теплое майское утро, и безоблачное, отливающее лазурью небо обещало жаркий день. На углах улиц, спускавшихся из-под Давидовой горы и выходивших на проспект, стояла группами молодежь, шумно переговаривавшаяся между собой. У магазина вод, именовавшегося по старинке «Лагидзе», из теснившейся у входа толпы кто-то окликнул молодого человека в чесучовой паре: — Ладо!.. Гамарджоба, дорогой… Как здоровье? Какие новости? Молодой человек остановился. Вглядевшись, приветливо помахал кому-то рукой и, продолжая путь, крикнул: — Привет, привет, Валико! Спешу, вечером увидимся! — Может, зайдешь, выпьем кахури? — уже вдогонку крикнул Валико. — Не могу… опаздываю на занятия! — уже издали донесся голос молодого человека. Не дойдя до площади, он оглянулся, жмурясь от солнца, посмотрел по сторонам и тем же скорым шагом пошел по крутой улице вверх. Навстречу ему попадались дети, женщины с корзинками, спешившие на базар; обгоняя пешеходов, поднимался в гору «Москвич»; девушка с черными косами и алой лентой в волосах перешла дорогу. Какой-то толстяк, сильно хромавший на левую ногу, спускался по узкому тротуару вниз. Не доходя до Ладо, он уронил палку, и когда подскочивший молодой человек ловко поднял и подал ему палку, хромой, благодарно кивая головой, с доброй улыбкой быстро проговорил: — Ладо… спасайся… сейчас же исчезни из Тбилиси. Дом оцеплен, Хомушка арестован… Сильно хромая, все еще благодарно кивая головой, он заковылял дальше, тяжело опираясь на палку. Пройдя еще несколько шагов, молодой человек перешел на другую сторону улицы и исчез в одном из переулков, которыми так богата нагорная часть Тбилиси. За день до случая, описанного выше, в город Орджоникидзе прибыла небольшая туристская группа в двадцать семь человек. Это были мелкие буржуа из Франции, двое бельгийцев — муж и жена, преподаватель Льежского коммерческого колледжа, молодой художник-итальянец, высокий и молчаливый коммерсант из Люксембурга, трое молодых немцев из Федеративной Республики Германии, пастор из Дюссельдорфа и еще несколько довольно безликих, похожих один на другого, голландцев. Почти все туристы были вооружены фотоаппаратами, черными или желтыми очками, и у каждого из них краснела книжка-путеводитель, выпущенная на разных европейских языках в огромном количестве немецкой издательской фирмой «Бедекер» и распространенная по всей Европе. Ни один из иностранцев не бывал ни в России, ни в СССР, не знал языка, и все, что они теперь видели в пути, удивляло, порой восторгало, но чаще озадачивало их. Разбившись на небольшие группы, они в сопровождении переводчиков бродили по городу, то и дело заглядывая в путеводитель, в котором город именовался его старым именем: «Владикавказ». Голландцы пошли к Тереку и, стоя на берегу буйной, с шумом и ревом бегущей реки, удивленно поводили глазами, что-то записывая в свои дневники и перебрасываясь короткими, односложными фразами. Немцы пошли в большой и отлично оборудованный парк, где подолгу простаивали возле различных скульптур, памятников и плакатов. Переводчица заученным, деревянным голосом рассказывала им, когда и как возник здесь, посреди города, этот замечательный тенистый, с широкими аллеями, глубокими прудами и столетними деревьями парк. Муж и жена — бельгийцы, — держа в руках словарь-вопросник, храбро двинулись по улицам города, желая обойтись без переводчика. Их примеру последовал и пастор, отважившийся самостоятельно изучить город и вместе с тем посетить как музей краеведения, так и церкви. Его как представителя религии с самого приезда в СССР особенно интересовал вопрос о свободе церкви и совести и о том, как и насколько беспрепятственно молятся верующие в коммунистической стране. Орджоникидзе — город небольшой, с ровными и прямыми улицами, центр его — это проспект Мира, на котором находится гостиница «Интурист», и заблудиться в этом городе нельзя. Любой горожанин в несколько минут довел бы потерявшего дорогу интуриста до отеля. Итак, сутки, которые вся эта группа должна была находиться в городе, начались с того, что после завтрака туристы разбрелись по городу. Пастор отец Иоганн Брухмиллер, высокий, пожилой, смуглый, с сильной проседью человек, вышел из гостиницы и медленно пошел по проспекту. — Господин Брухмиллер, если, паче чаяния, собьетесь с пути, то стоит вам любому встречному сказать «проспект Мира… Интурист», и он доведет вас до дома, — любезно предупредила переводчица. — Благодарю вас, фрейлейн, но вряд ли можно заблудиться в этом милом, уютном и таком небольшом городке. Во всяком случае, благодарю вас за предупреждение, и если это надо будет сделать, то я воспользуюсь им, — вежливо поблагодарил пастор. Взяв адрес церкви, мечети и синагоги, господин Брухмиллер вышел из отеля. На улице было солнечно, оживленно и ярко. На бульваре суетились люди, звенели детские голоса, с шумом проносились трамваи. Продавцы мороженого, стоя у своих лотков, расхваливали товар: «Вот сливочное пятигорское… А вот эскимо с самых ледников Казбека!» Девочка с цветами молча подошла к пастору, и он, отобрав две розы и потрепав по голове девочку, пошел дальше. Всюду слышалась русская, осетинская и армянская речь. Пройдя проспект Мира, пастор все тем же ровным, неторопливым шагом свернул направо и, перейдя широкую улицу Кирова, вошел в густой сад и затерялся в нем. Над горами тихо, еле заметно проползали облака. Столовая гора, нависшая над городом, была обнажена: белая, сахарная голова Казбека возвышалась над хребтами заснеженных осетинских гор; над Адай-Кохом курились облака. Пройдя полутемный сад, пастор оглянулся и не спеша сел на одинокую скамью под огромным вековым чинаром. На смуглом, несколько суровом лице пастора были написаны покой, нега и удовлетворенное состояние духа. Было видно, что тишина, одиночество и полумрак сада приятны ему. Посидев минут десять, выкурив сигарету, он откинулся на спинку скамьи и несколько минут провел без движения, словно окаменев. Потом он встал и пошел к улице Льва Толстого. Здесь пастор остановился за углом, постоял, долго закуривая от никак не загоравшихся спичек, и, наконец, после десятой спички, закурив сигарету, он подошел к красивому двухэтажному особняку с садом, обнесенным кирпичной оградой. Брухмиллер глянул на балкон, возвышавшийся над садом. В глазах интуриста мелькнуло что-то похожее на грусть. Пастор вздохнул, опустил голову и решительно шагнул во двор. Во дворе он увидел женщину, снимавшую с веревки белье. Пастор подошел к ней и вежливо на очень чистом русском языке спросил: — Будьте добры сказать, где находится квартира девять? — А вот прямо, где зеленые перила, — ответила женщина, продолжая свое дело. Пастор направился к зеленым перилам и, поднявшись на балкончик, постучал в дверь. Кто-то невнятно ответил на стук, и Брухмиллер вошел в комнату. Из угла ему навстречу поднялся небольшого роста старичок в очках. Он держал в руках газету и подслеповато щурился на вошедшего. — Скажите, пожалуйста, это квартира Почтарева? — спросил пастор, пристально вглядываясь в старика. — Была Почтарева, точно, а теперь моя… Пашкова, — подходя ближе, сказал старичок. — А как же Почтарев? — удивленно спросил пастор. — Умерли-с… уже неделя будет, как схоронили… От сердца, прямо на улице скончался. А супруга его, ежели знали, Клавдия Ивановна, так та еще раньше убралась к господу, — продолжал старичок. — А вы что, сродственник им будете? — Да, двоюродный племянник, — ответил Брухмиллер, что-то обдумывая и оглядывая комнату. — Вы присядьте, дорогой товарищ, вот стульчик, — подвигая пастору стул, засуетился старичок. — Оно, конечно, тяжело, когда так сразу да сгоряча узнаешь о кончине родных, но чего ж делать, все мы, как говорится, в божьих руках… И мы там будем. Не прикажете ли чайку стаканчик? — участливо предложил он. — Нет, спасибо. Я сейчас пойду. Что же делать. Правильно вы изволили сказать, все там будем. А вы давно живете здесь? — В этой комнате — после смерти Терентия Петровича, то есть вашего дядюшки, Почтарева. А до них здесь же и жил. Во-он там, возле сада, видите развалюшку? Там проживал. Ведь я здеся, в Капкае, скоро уже пятьдесят лет как проживаю. — В Капкае? — переспросил пастор. — Так точно. Это ведь по-старому, по-солдатскому, Владикавказ солдаты Капкаем звали. — А-а, да, да, — мотнул головой пастор, видимо о чем-то продолжая думать. — А в этом доме давно живете? — Годов, не соврать, сорок пять. Еще до первой мировой войны в дворники к прежнему хозяину Казаналипову определился. При последних словах старика по лицу пастора пробежала какая-то тень. — Как вы сказали? — Казаналипову, говорю. Полковник был мой тогдашний хозяин. Черкес, что ли… кто его знает. Однако ничего, жить с им можно было… — Умер он, конечно? — спросил пастор. — Давно, еще до революции убрался. Семья осталась, жена-старуха, дочка была, первая франтиха на весь город, да сын — кадет, что ли. Ну, этот не в отца пошел. Тот был хочь и полковник, да добрый человек, и поговорить любил, и пошутить, и когда рублевку-другую на чихирь дать… обчественный человек. А сын его — не помню уже, как его и звали, не то Булат, не то Мурат, — это уж был другой сорт. Как волк или кабан какой, ни с кем ни слова, нас, дворника, денщика али рабочего, за человека не считал, гнушался. Все дичком, один ходил. — А куда же он делся? — спросил пастор. — А пес его знает куда! Вышел в офицеры, в первую мировую войну в Дикой дивизии служил, а как революция пришла, к белым подался. Не то у Шкуры, не то у Врангеля служил. Много, говорят, от него слез людями было пролито! — Прохвост, наверно, был, — сказал пастор. — Еще какой! Зверь, ну зверь, одно слово! — Наверно, получил свое… гниет где-нибудь в земле, как собака. Зло не проходит даром! — сказал пастор. — Оно-то так, да вот к нему это и не оправдалось. В сорок втором году, когда Гитлер до нас добирался, часть Осетии забрал и уже под Гизелькой был… вы, видать, нездешний, не знаете, чего такое Гизелька? — прерывая свое повествование, сказал старик. — Не знаю. Я ведь вологодский, — улыбаясь, ответил Брухмиллер. — А Гизелька — это есть Гизельдон, село такое, и электростанция возле города, верст пять отсюда будет. Да, так когда в сорок втором зимой немцы заняли Гизельку, а оттеда повели наступление на город, многие жители из Гизели, и Даргкоха, и Прохладной видали этого самого Булата в немецкой форме, майор чи полковник он у них был. Разъезжал на автомобиле по аулам, все агитацию вел, народ стращал: отдавайтесь, мол, все под Гитлера; кто добром отдастся, тому худо не будет. Вот он гад собачий оказался… а вы говорите, такие добром не кончают. — Ну, что ж, а может, он, когда немцы бежали, и не добежал до Берлина, может, его где-нибудь русская пуля настигла, — сказал пастор. — Дай бог, это, конечно, все может быть, — согласился старик. — Ну, так позвольте, извиняюсь, не знаю вашего имени-отчества… — Сергей Сергеич, — подсказал пастор. — Позвольте, Сергей Сергеич, для первого знакомства чайку попьем, а еще лучше — сейчас старуха моя с базару придет, и мы по рюмочке наливки выпьем, дядюшку вашего покойного помянем. — Спасибо, только мне сейчас идти надо. Я лучше вечерком к вам загляну. — Милости просим, вечерком оно даже и лучше. Закусочки какой приготовим. — Всего доброго! Итак, до вечера, — пожимая руку старику, сказал Брухмиллер и уже у самой двери спросил: — А что, дорогой мой, не осталось после дяди каких-нибудь… — Два стола, кровать да барахлишко разное из одежи, — перебил его старик. — Это все, как то есть бесприютное наследство, финотдел продал с торгов, а деньги — раз бесхозяйственные — в доход казны. Вот теперь, ежели вы обратитесь в горсовет, то все, что было… — Да нет, вы меня не поняли, дорогой мой, — остановил его гость. — Бог с ними, с деньгами и вещами! На что они мне? Я инженер, человек обеспеченный, зарабатываю достаточно… не нужны мне эти деньги. Я о другом. Дело в том, что дядя хранил письма моего покойного отца, вел переписку с матерью, с родными. Были у него и наши семейные фотокарточки, — словом, все то, что дорого мне как семейная память. Вот об этом-то я и хотел спросить: не сохранились ли где-нибудь здесь эти никому не нужные, но для нас, родных, дорогие бумаги покойного? Старик задумался, поглядел в потолок и затем неуверенно сказал: — Кажись, чего-то такое есть… Мне старуха моя как-то говорила. Только я не знаю, где все это. Вот когда вечером зайдете, моя Дарья Савельевна вам все в точности и найдет и обскажет. — Хорошо! — коротко сказал Брухмиллер и, пожав еще раз руку старику, вышел на улицу. К обеду вся группа иностранных туристов собралась в гостинице. За столом каждый с увлечением рассказывал о своих наблюдениях, выводах и впечатлениях. Молодые немцы с юным задором рассказывали о встрече со студентами Северо-Осетинского пединститута и о том, как хорошо и свободно разговаривали с ними по-немецки некоторые студенты. — Мы заходили куда угодно, говорили обо всем, что только интересовало нас, получали самые точные и ясные ответы. Никто не подслушивал нас, никто не следил за нами, — говорил один. — Вот тебе и железный занавес! — засмеялся другой. — Я чувствовал себя не менее спокойным и свободным, чем в Гамбурге или Бонне. — Хороший народ эти русские, и никаких чека и сыщиков, о которых нам столько болтали в Европе, — сказал пастор. — Я тоже убедился в этом… Не зная языка, я легко находил все, что мне было нужно, и меня понимали прохожие… Хотя… — тут он обернулся к переводчице, — ни одной из намеченных мною церквей я не нашел. Тут он вынул из кармана свой Бедекер и, найдя загнутый угол страницы, прочел: — «В городе Владикавказе имеется большой военный собор, церковь имени Николая-Чудотворца, именуемая „Казачьей“, на углу Александровского проспекта и Московской улицы, церковь Сорока мучеников на Лорис-Меликовской улице». Их, этих церквей, нет. На их месте стоят скверы или же построены многоэтажные здания. Признаюсь, меня, как служителя церкви и человека религиозного, это несколько обескуражило. Не найдя церквей, я пошел к мечети. Она сохранилась и стоит на своем месте, но… — тут пастор покачал головой, — ее превратили в краеведческий музей… Скажите мне, пожалуйста, фрейлейн Ольга Ивановна, где же свобода совести и вероисповедания? — разводя руками, обратился он к переводчице. — Видите ли, в чем дело, герр Брухмиллер, вас подвела ваша книга Бедекер, перепечатавшая в современное издание весьма устаревшие, времен первой мировой войны, сведения. Тех церквей, о которых написано в путеводителе, давно нет. Одна из них, Казачья, была разбита во время налета на город белых банд в августе восемнадцатого года в так называемом соколовском восстании. Пастор быстрым и колючим взглядом глянул на девушку. — Собор, стоявший посреди площади на горе, при современном движении стал мешать транспорту, затруднял городское движение и по решению городского совета был снят, как и многие другие устаревшие здания, вроде епархиального подворья, складов и так далее. Площадь заново перепланирована, на ней возникли прекрасные современные здания, разбит отличный сквер, установлено двойное, регулированное движение. Что же касается мечети, то ввиду почти абсолютного отсутствия в Осетии магометан ее превратили в музей, но в аулах, там, где имеются горцы-мусульмане, мечети сохранены в неприкосновенности. — Да? Я этого не знал, — неопределенно сказал пастор. — Но все-таки в таком большом городе, как ваш, ведь сохранились же верующие, которым надо где-то сходиться вместе и молиться так, как им указывает их вера! — Конечно! И в Орджоникидзе имеются церкви. Пожалуйста, я сейчас назову их вам. Сегодня суббота, и вы можете вечером посетить одну из них или все, как вам вздумается, и простоять всю вечерню вместе с молящимися. — Да? — удивился пастор. — Благодарю вас, фрейлейн. Вы обрадовали меня. Я обязательно сделаю это и очень прошу извинить меня, что, не зная об этом, я позволил себе усомниться в их наличии. — Записав адреса указанных ему церквей, пастор с удовольствием принялся за вкусно пахнущий травами и специями суп. Как только хромой предупредил Ладо об аресте Хомушки и оцеплении дома, в который он шел, молодой человек повернул к Сололаки и проходными дворами вышел к Ереванской площади. Через полчаса он уже затерялся в толпе людей, сновавших по базару. Весенние вечера в Орджоникидзе всегда светлы и прозрачны. С окрестных гор спускается легкая прохлада, согревшаяся за день земля медленно остывает, а цветы, которыми так богат в это время Кавказ, благоухают ввечеру. Часам к восьми пастор снова пришел в бывшую квартиру Почтарева, где его ожидали Дарья Савельевна и Антон Ефимович Машковы. На столе стоял кипящий самовар, на тарелочках была нарезана колбаса, селедка, острый осетинский сыр и ломти белого хлеба. Небольшой пузатенький графинчик с водкой и три рюмки украшали стол. — Здравствуйте еще раз, — встречая гостя у дверей, сказал старик. — А вот и супруга наша Дарья Савельевна, а это племянник покойного, Сергей Сергеич, — познакомил он их. — Будем знакомы. Хороший был человек ваш дядя, царство ему небесное! И тетеньку вашу Клавдию Ивановну, тоже вспоминаем добром, — протягивая лодочкой руку, сказала старуха. — Просим к столу, Сергей Сергеич! В ногах правды нет, — усаживая возле себя пастора, заговорил старик и аккуратно, стараясь не капнуть, наполнил рюмки. — За знакомство… чтобы хорошо жилось, — сказала, чокаясь с гостем, старуха. — Будем здоровы! — За ваше… — сказали пастор и хозяйка и, выпив, стали закусывать. — А Дарья Савельевна вам кой-чего собрала, Сергей Сергеич. Какие-то бумаги, старый портфель с тетрадями, и, кажись, все. — Все, дорогой товарищ! И в чулане, и в сарае все перерыла, ничего, никаких карточек, кроме этих бумаг, не нашла, — подтвердила хозяйка. — Это очень жаль, мне особенно дороги были именно наши семейные фотографии, — с грустью сказал пастор. — Ведь нас, Почтаревых, осталось так мало в живых. Я, сестра да еще племянница в Риге. Были двое племянников, и оба погибли в войну… Жаль, жаль, — покачивая головой, сказал он. — Вы, Сергей Сергеич, оставьте ваш адресок. Может, что еще найдется, так мы с дорогой душой отошлем вам, — сказал старик. — Непременно, непременно, — охотно согласился гость и, оторвав из блокнота листочек, написал: «Рига, улица Свободы, 126, кв. 4. С. С. Почтареву». — Прошу, — сказал он, передавая листок хозяйке. Та бережно взяла бумажку и положила ее в ящик стола. Выпили еще раз за здоровье хозяев, за память покойных дяди и тети Почтаревых, затем перешли к чаю. Гость рассказывал о Москве, о том, как он посетил с экскурсией Кремль, говорил о высотных зданиях, о метро, но когда Дарья Савельевна стала расспрашивать о его жизни и работе, Брухмиллер коротко и односложно сказал: — Тружусь, как и все советские люди. — И долго вы прогостите у нас? — полюбопытствовал Антон Ефимыч. — Дней пять проживу. — А где остановились, Сергей Сергеич? — спросила хозяйка. — У вокзала. В общежитии туристов. — Удобно ли вам там, батюшка? Может, к нам бы перебрались? У нас хоть и тесно, но спокойнее, — предложила Дарья Савельевна, вглядываясь в гостя. — А верно! Постельку вам мягкую дадим. И вам хорошо будет, и нам веселее. А? — обрадовался старик. — Спасибо. Может быть, через день-другой и воспользуюсь вашей любезностью, но пока неудобно. Надо хоть переночевать там. — Как знаете, а то мы с дорогой душой, будем рады, — сказала старуха. — Что вы так разглядываете меня, Дарья Савельевна? Или напомнил кого? — засмеялся пастор. — Нет, никого, только извините, Сергей Сергеич, а лицо у вас вовсе как не русское. Больше на армяна смахиваете, — улыбнулась хозяйка. — Что ты, что ты, мать моя! Скажешь тоже! — замахал на нее руками старик. — Чисто русская личность, разве что только кожа чернявая… Так это ведь и у русских брунеты водятся. — Не-ет, уважаемая Дарья Савельевна права. Вот что значит острый женский глаз. Верно, в нашем роду, Почтаревых, действительно водится восточная кровь. Ведь мой отец, старший брат покойного дяди, был женат на армянке. Моя мать была армянкой, до пятнадцати лет даже не знала ни одного русского слова. А когда мой отец женился на ней, она кое-как, но уже знала русский язык. И хотя я русский, но лицом очень похож на мать. — Жива ваша матушка? — спросила хозяйка. — Умерла. Еще в тридцать шестом году скончалась, — тихо, с грустью сказал пастор. — Царство ей небесное! — перекрестился старик. — Может, вам еще стаканчик? — Нет, благодарю. Пора идти. Уже девять часов. — С вареньем, — сказал Антон Ефимыч. — Спасибо, — засмеялся гость, — и с вареньем не могу. Если дадите завтра, выпью с удовольствием, а сейчас, уважаемая Дарья Савельевна, дайте, пожалуйста, бумаги дяди. Я их утречком разберу, а вечером, если разрешите, завтра снова зайду к вам. — Милости просим. Очень будем рады, — поднимаясь с места, сказала хозяйка и, взяв с окна кипу бумаг, уложенных в газету и перевязанных бечевкой, подала ее гостю. Тот стал было прощаться, как во дворе послышались голоса, кто-то завозился на лестнице и зашагал по балкончику в направлении квартиры Пашковых. Старик удивленно вытянул шею, всматриваясь в коридор, хозяйка пошла к дверям, а пастор, отодвинувшись от бумаг, быстро положил их обратно на окно и не без тревоги смотрел на открывшуюся дверь. В ней стоял молодой человек среднего роста, в солдатской фуражке, надетой на коротко остриженную голову. — Вам кого, товарищ? — негромко спросила хозяйка. — Извиняюсь! Это будет квартира девять? — с сильным грузинским акцентом спросил вновь прибывший. — Девять. А вам кого надо? — подходя к молодому человеку, спросил старик. — Терентий Петрович будете? — подходя к старику, спросил тот. — Я ваш племянник Ладо, не узнаете? Из Сагурамо, вам привет от Розочки. — Какой, извиняюсь, Розочки? — опешил старик. — Вы обознались. Ведь Терентий Петрович уже дней десять, как помер, а я новый жилец в квартире, Пашков Антон Ефимыч. При словах «из Сагурамо,привет от Розочки» пастор насторожился. — Помер, помер. Неделю, как схоронили, — сказала Дарья Савельевна, внимательно глядя на молодого человека. — А как же вы, говорите, племянник Почтарева, а сами даже спутали его с чужим человеком? — Э-э, милая, — засмеялся новый гость, — ведь мы, кавказцы, всех людей постарше зовем дядями да отцами. Потому только так, из кавказского обычая, и назвал себя племянником покойного, а видел я его всего один раз, в Тбилиси, прошлым летом у его знакомых. Пастор заметил некоторую фальшь и смущение, которые хотел веселой, разбитной речью замаскировать грузин. — Значит, помер мой богоданный дядя. Ай-яй-яй, как будут жалеть его в Тбилиси! — качая головой, сокрушенно сказал он. — Да, Терентий Петрович точно в прошлом году ездил в Тифлис… недельки две прогостил там… Рассказывал, как его там угощали, — сказал ничего не заметивший старик. — Так как же теперь быть? — почесывая затылок, в раздумье сказал молодой человек. — А я думал остановиться у него. Старик что-то хотел сказать, но, заметив недовольное движение старухи, замолчал. — Пойдемте со мной, — вдруг сказал пастор. — Я остановился в общежитии туристов, там рядом свободная койка. — И, взяв снова с окна пачку бумаг в газете, он направился к выходу. — Идемте, идемте. Нечего раздумывать, — трогая за локоть грузина, сказал он. — Я ведь тоже с удовольствием послушаю о Тбилиси, Сагурамо и о Розочке. При последних словах молодой грузин чуть вздрогнул, глянул в глаза смотревшему на него пастору и улыбнулся, погасив сигарету в пепельнице: — Хорошо, к туристам так к туристам! И они вышли из квартиры, занимаемой стариками Пашковыми. — Куда пойдете? — пропуская вперед молодого человека, спросил пастор. — Я думаю, к своим знакомым. — Бросьте это! Ведь у вас здесь никаких друзей, кроме умершего Почтарева, нет. — Слушайте, кто вы такой и о чем говорите? — вспылил молодой человек. — В вашей работе надо быть хладнокровным. Вспыльчивость губит людей, — спокойно продолжал пастор, — а особенно если кричать на улице, останавливаться и привлекать внимание прохожих. — Не понимаю, о чем вы говорите! — нерешительно сказал грузин. — Понимаете. Закуривайте! — предложил пастор. — Итак, Ладо, зачем вы приехали сюда? — Странное дело! Не разговор, а какой-то допрос, — пожал плечами грузин. — Я уже сказал, что Почтарев… — …ваш дядя… — засмеялся Брухмиллер, — и, к сожалению, вышло очень неудачно. Ведь за час до вас я тоже назвал себя племянником покойного, и эти милые старички никак не ожидали, что у угрюмого, одинокого пенсионера могло быть столько внимательных к нему родственников. — Как, вы тоже племянник? — Да-а. Теперь отбросим ненужную конспирацию и, если случай свел нас вместе, начнем прямой и деловой разговор. Почему вы так стремительно появились здесь, когда Почтарева нужно было оберегать от всяких лишних посещений? Ладо внимательно и молча слушал Брухмиллера. — Второе. Почему вы не знали о смерти Почтарева?.. Я уже сказал вам, что волноваться и останавливаться не стоит. Так куда же мы пойдем? На улице не совсем удобно беседовать, а на Александровский мне идти нежелательно. Много света и людей, — беря под руку молодого человека, сказал пастор. — Вы правы. Мне тут некуда идти. В этом городе я одинок. — Не совсем. Нас уже двое. Итак, отвечайте. Купил Хомушка виноградную лозу? — Пока нет. — Почему? — встревоженно спросил пастор. И Ладо почувствовал, как пальцы его собеседника дрогнули. — Он выехал за ней на несколько дней к Розе. — Черт побери! — пробормотал пастор. — Почтарев умер, — продолжал он, — нужных сведений о лозе я теперь не получу. Имеются ли они в Тифлисе у Хомушки? — Конечно. Вы получите их в Тифлисе. Но это все, что я знаю об этом деле, — сказал Ладо. Несмотря на свою молодость, Ладо был уже опытным контрабандистом, несколько раз безнаказанно переходившим границу. Он ласково улыбался пастору, отвечал на его вопросы, но, не совсем доверяя Брухмиллеру, он умолчал о провале конспиративной квартиры в Тбилиси и об аресте «Хомушки». Случайная встреча с Брухмиллером не располагала к откровенности. Тем более, что собеседник говорил как-то вскользь, не упоминая ничего ни о себе, ни о том, кто прислал его сюда. — Как вы думаете, не опасно ли будет мне встретиться с кем-нибудь из ваших в Тифлисе? Не следят ли за Хомушкой чекисты? — спросил пастор. Ладо со вниманием поглядел на спутника и неожиданно засмеялся. — Чего это вы? — спросил пастор. — А вот чего, — сказал Ладо. — Вы только что ругали нас за плохую организацию, за неумелую работу, а ведь сами работаете в пять раз хуже. — Чем это? — А тем. Вот я, молодой человек, а и то понял, что вы не советский, а издалека приехавший человек. — Да? А как вы это определили? — небрежно спросил пастор. — Очень просто. Александровский проспект, как вы назвали его, уже лет двадцать, как называется проспектом Мира. Никто у нас работников КГБ в общежитии не именует чекистами. Сигареты, которые вы курите, не русские, а скорей американские, Тбилиси называете Тифлисом. Пастор молчал. Ладо не без удовольствия заметил, что его слова произвели на собеседника впечатление. — Так не судите нас строго. Вам ведь легко. Вы пробудете здесь две-три недели в безопасности как турист или иностранный парламентарий, а мы и днем и ночью начеку. Каждую секунду нам грозит арест, а вам в случае провала — высылка на родину. Верно? — закончил он. — Верно! — помолчав, ответил пастор. — Ну, теперь зайдемте в какой-нибудь ресторанчик, поужинаем и подумаем, куда вас деть. — Вы правда хотите предложить мне койку в общежитии? — Нет, конечно. Это на виду и небезопасно. Я думаю, что лучше будет вам выехать отсюда. Орджоникидзе слишком близко от Тифлиса. — Тбилиси, — поправил его, смеясь, Ладо. — Тбилиси, — повторил пастор. — Вы, друг мой, наблюдательны и дали мне полезный урок. Знаете что? Поезжайте хотя бы в Ростов. — Но там у меня никого нет. — Я вас снабжу адресом. Деньги у вас есть? — спросил пастор. — Тысячи четыре. — Пока хватит. Я скажу Розочке, чтобы вас не оставили без них. Кстати, Ладо — это ваше настоящее имя? — Настоящее. Фамилия, конечно, другая. — Очень хорошо. А теперь поужинаем, и часов в одиннадцать отправляйтесь на вокзал. Оба собеседника рассмеялись и вошли в один из погребков-духанчиков, расположенных на углу улицы. — Знаешь, Антоша, странные какие-то гости были у нас, — убирая посуду, сказала Дарья Савельевна. — Чем же это странные, Даша? Я чего-то не приметил за ними странного, — сказал старик, поднимая глаза на жену. — Вот ты не приметил, а я так чую, что неспроста заходили они к нам. — И-и, старуха, сказала тоже! Прямо смешно даже… «Неспроста»! Да что у нас с тобою, мильоны какие или важные дела имеются? Ведь сказано было еще днем: «Племянник покойного Терентия Петровича. Зайду за бумагами вечером». Ну, и зашел. — «Племянник»! — передразнила Дарья Савельевна. — Ну хорошо, племянник, а второй-то кто? Тоже племянник? — И второй тоже, — не совсем уверенно, сбитый с толку тоном жены, сказал старик. — «Тоже»! А почему они друг друга не знают, если родственники? Почему не знали, что дядька их помер? — Ну, это ж простое дело. Вон у меня в России, в Тамбовской области, племянники да сестры какие-то двоюродные имеются, а я их и в глаза никогда не видал. Как уехал пятьдесят годов назад на Кавказ, так про всех и забыл. А ты что, всех своих родичей в лицо знаешь? — Всех не всех, а кого надо, так знаю. А эти друг о друге, по всему видать, никогда и не слыхали. Не-ет, Антоша, чует мое сердце, что это недобрые люди и не по случайности приходили к нам. — Ну будет тебе каркать! Наговоришь бог знает чего, еще соседи услышат и разнесут всякое про нас! — рассердился старик, приготовляясь ко сну. — Что ты там собираешь? — Ничего. Окурки со стола убираю. — А чего их в бумажку завернула? — Так… утром выброшу, — поворачиваясь спиной к мужу, ответила Дарья Савельевна. — Тоже мне сыщик Путилов нашелся! — уже укладываясь в постель, проворчал старик. Когда он затих, Дарья Савельевна сняла с подоконника завернутые в бумажку окурки сигарет с золотой каемкой на конце и, осторожно завернув их в пакетик, спрятала в комод, после чего разделась, потушила свет и легла. Ладо и пастор пили уже вторую бутылку кахетинского вина. Остатки шашлыка, тушинский сыр, кавказская зелень, редиска лежали на столе. — Итак, решено, мой молодой друг. Вы через полчаса едете поездом на Ростов. Завтра вечером я буду в Тбилиси. Адреса я знаю. Спустя неделю вы дополнительно получите три тысячи рублей. Адрес такой: «Ростов-Дон, почтамт, до востребования. Владимиру Ивановичу Цагарели». Правильно я назвал вашу новую фамилию? — Совершенно верно. У меня паспорт на Цагарели. — Вот и отлично. Будьте только мужественны и спокойны. — А я и не боюсь, — улыбнулся Ладо. — За эти четыре года, что я работаю по контрабанде, я не раз встречался с опасностью. В прошлом году, когда я переходил границу возле Артвина, через Аджарис-Цхали, попал в такой переплет, что и сейчас вспомнить страшновато… — А теперь выпьем за дружбу и наше общее дело! — сказал пастор. Ладо взял стакан и, доверчиво глядя на Брухмиллера, сказал: — Спасибо! Как ваше имя? Ведь я до сих пор не знаю его. — Герман, — коротко ответил пастор. — Зовите меня Герман. Он поднял бокал, чокнулся с молодым человеком. Оба до дна осушили свои стаканы. Пастор постучал ножом о край тарелки. — Сколько? — коротко спросил он официанта. — Нет, нет, дорогой мой, — остановил он жестом своего собеседника, — не беспокойтесь и предоставьте мне расплатиться за ужин. Я старший и, зная кавказские обычаи, настаиваю на этом. Он положил на стол деньги и, кивнув головой официанту, вышел в сопровождении Ладо на улицу. Было тихо, тепло, сияли крупные южные звезды, со стороны гор веяло прохладным, освежающим ветерком. — А теперь, Ладо, на вокзал. Берите билет на Ростов и помните, что все, о чем мы беседовали с вами, я расскажу в Тифлисе. — Тбилиси, — улыбаясь, поправил его грузин. Они рассмеялись, затем, обменявшись крепким рукопожатием, разошлись. Пастор пошел к себе в гостиницу, а Ладо не спеша направился к вокзалу. Пройдя квартала два, он оглянулся и тихо, едва слышно, сквозь зубы пробормотал: — Странная птица… очень, оч-чень странная… Он, по-видимому, считает меня дураком, посылая по какому-то адресу в Ростов. Ладо засмеялся. На вокзале он купил билет, но не на Ростов, а совсем в другую сторону — на Астрахань через Кизляр. Поезд отходил через час. Ладо выпил кружку пива, походил по вокзалу и через час уже ехал в плацкартном вагоне, имея билет до Астрахани. Ладо проснулся часов около девяти. Поезд стоял возле какой-то станции. — Шелковская, — сказал проводник. — Поезд стоит восемь минут… — И, видя, что пассажир поспешил к выходу, предупредил его: — Смотрите не опоздайте, прошло уже пять минут, через три двинемся дальше. — Ничего… я молодой, быстрый, — засмеялся Ладо и, соскочив со ступеньки вагона на перрон, быстро направился в зал, над дверями которого виднелась яркая надпись «Ресторан». Он купил курчонка, выпил стакан чаю и, видя, как задвигались вагоны, бросил деньги на прилавок и выбежал на перрон. Его поезд уже отходил. Ладо бросился бежать к своему вагону, но наперерез ему шла автодрезина с вещами. Он метнулся в сторону и едва не сбил с ног лотошницу, поднявшую истошный крик. Не обращая внимания на крик дежурного по станции и тревожный свисток милиционера, Ладо изо всех сил пустился догонять поезд, последние вагоны которого катились мимо него, прыгнул на ступеньки, но, по-видимому не рассчитав скорости движения поезда, сорвался и ногами вперед упал под колеса предпоследнего вагона. Кто-то из наблюдавших за ним закричал, лотошница, только что ругавшая его, заплакала и закрыла ладонями глаза, милиционер бросился к поезду. Все пришло в движение, а кондуктор, находившийся в конце поезда, свесившись со ступенек, что-то закричал дежурному по станции. Потом он вбежал в вагон и стоп-краном остановил уже довольно далеко отошедший от станции поезд. Когда люди подбежали к Ладо, он был еще жив. Он что-то хотел сказать, но не смог. Когда со станции прибежал фельдшер, Ладо был мертв. Из вагона вынесли его вещи, тело погибшего перенесли в одну из комнат станции и, накрыв простыней, вызвали следователя и врача. Спустя полчаса акт о трагическом происшествии был составлен и подписан ими. А в это самое время сытый, разнеженный и довольный собою пастор, приняв прохладную ванну, спустился из своего номера гостиницы в зал, где его уже ожидал вкусный завтрак и приятное общество спутников-интуристов, встретивших его веселыми возгласами и приветствиями. — Антон Ефимыч, а ведь я все-таки скажу тебе снова, что вчерашние наши гости очень уж странные да подозрительные! — садясь за стол, сказала Дарья Савельевна. — Это двоюродные-то братья? — прихлебывая с блюдечка чай, спросил старик. — Ага! Они самые. А «братья» они друг дружке такие же, как мене сыновья или тебе дядьки! — Ох и настырная же Ты, Даша! И что это у тебя за характер такой — больше всех тебе надо! Истинно, как говорится, ко всякой дырке гвоздь! Ну чем они тебе пришлись не по нраву? — А ты не серчай, а слушай. Ну какие ж они двоюродные, когда один другого не то что в глаза не видал, а даже и не слыхивал. Второе: с чего этот цыган о своем родиче Почтареве и не взгрустнул, а только его бумагами интересовался? Ну, как ты скажешь? — А так. Умер и умер, царство ему небесное, чего поделаешь, только и всего, — неуверенно сказал старик. — «Только и всего»! — передразнила его жена. — Ну, а чего ж они об вещах покойника и не вспомнили? Может, у него какие деньги или запасы были, а им ничего, окромя бумаг, и не надо. Ну, как ты думаешь? — Очень просто. Люди они, надо думать, обеспеченные, дядькина барахла им не надо. Вот и все. — Сам-то ты прост, Ефимыч! — с легким пренебрежением, махнув рукой, сказала старуха. — Им именно что «ничего», окромя бумаг, и не надо, а вот бумаги-то этого «дядьки» очень даже этому чернявому нужны были. Ты уж как хочешь, а сегодня или завтра пойду я в милицию, к самому начальнику, и расскажу все об этих людях. — Иди, иди, умница, — посмеиваясь, протянул старик. — Докладам начальнику, а я погляжу, как он тебя наладит… Ежели он каждую сплетку станет слушать, так у него и время-то на работу не хватит! — По-твоему «сплетка», а по-моему, недобрые это люди… — Ох-хо-хо!! — рассмеялся старик. — Договорилась! «Шпиены»! Да что теперь война какая или Гитлер где новый объявился? Что у нас здесь, корпуса да дивизии стоят или заводы какие атомные поставлены? Скажешь тоже, «шпиены»! Иди посмеши людей, а потом и мне расскажи, как они смеялись, да только не утаи… — И пойду, а смеяться-то потом над тобой буду… Чайку тебе еще налить? — спросила старуха. — Налей, да погуще. Вот это твое и есть женское дело, а не шпиенов почем зря ловить. Сыщик какой нашелся! — добродушно подсмеиваясь над женой, закончил старик. Город очень понравился туристам, понравились и обитатели его. Молодые бельгийцы увозили с собою несколько катушек пленки, на которой они запечатлели свое пребывание в столице Северной Осетии. Тут были и виды города, и величавая Столовая гора, и памятники Серго Орджоникидзе и великому осетинскому поэту Коста Хетагурову. Туристы фотографировали и некоторых особенно им понравившихся горожан. — Мы повезем с собою в Бельгию виды вашего прекрасного города, — сказала переводчице молодая туристка. Автобусы были поданы к гостинице ровно в восемь часов. Закончив завтрак, туристы, оживленно беседуя, вышли на улицу. Утро было свежее, радостное. Небольшой ветерок набегал с гор. Солнце, раннее, еще не яркое, озарило снежные вершины хребта и заискрилось на вечных снегах и ледниках кавказских великанов. — Как жаль, что мы не смогли посетить ваши знаменитые Цейские ледники! — сказал Брухмиллер переводчице. — Я так много читал и слышал о них, что живо представляю себе эти чудесные места. — Что ж, приезжайте еще раз к нам и посетите эти поистине прекрасные места, — улыбаясь, сказала переводчица. — О-о, меня и так еле выпустили сюда, вряд ли разрешат мне вторично посетить Советский Союз, — разводя руками, ответил пастор. Уже все было готово к отъезду. Иностранцы заняли свои места, провожающий гостей директор гостиницы снял шляпу и помахал ею вслед тронувшимся машинам. Туристы смотрели в окна. Город, так понравившийся им, проплывал мимо. Вот кончился проспект Мира, дорога свернула вправо, на железный мост. Под ним, грохоча и волнуясь, бежит Терек, Тбилисская улица, виден конец города, сады, зелень. Терек и горы ближе подошли к дороге. Замелькали верстовые столбы, дорожные знаки, и Военно-Грузинская дорога во всей своей суровой красе развернулась перед интуристами. Город остался позади.Глава II
За год до событий, о которых рассказывается в первой главе, в Мюнхене, в пивном кабачке «Вепрь и собаки», приютившемся на окраинной Кугель-штрассе, сидели два человека, о чем-то тихо беседуя. Один из них, смуглый, крупного телосложения, одетый в дорогой костюм, слушал второго, молча кивая в знак согласия головой и лишь изредка задавая ему короткие вопросы. Немец-кельнер уже в четвертый раз приносил им пивные кружки, большие, с глазурью на крышке и цветным изображением гномов по бокам. Кельнер прислушался, но собеседники говорили тихо и, главное, на каком-то чужом языке. «Не то сербы, не то русские…» — подумал кельнер и, услышав короткий оклик: «Еще две кружки и сосисок с капустой», произнесенный на отличном немецком языке, ласково, с профессиональной любезностью улыбнулся и вежливо сказал: — Сейчас, уважаемые господа! «Черт их знает, кто такие. Не все ли мне равно!» — подумал он и поспешил к буфетчице за заказом. — Итак, вы утверждаете, господин Курочкин, что полковник князь Щербатов точно знает, где находятся драгоценности императорского двора? — спросил первый, стряхивая пепел сигареты на скатерть. — Так точно, господин ротмистр! — Какой я ротмистр! Бросьте эти глупости, господин Курочкин. От всей этой ерунды пахнет эмигрантщиной двадцатых годов. Вы же отлично знаете, что после неудачи сорок пятого года я навсегда сбросил с плеч не только царские, но и немецкие обер-лейтенантские погоны. Довольно дурачиться, называйте меня по имени-отчеству, по фамилии, словом, как хотите, но только не этими дурацкими, ушедшими в предание титулами и чинами. Итак, вы утверждаете, что у князя Щербатова имеется план места, в котором якобы зарыты сокровища в бозе почившего императора? — И да, и нет, уважаемый господин Казаналипов. — Не понимаю, как это «и да, и нет»! — пожал плечами собеседник. — Очень просто. «Сокровищ», как вы именуете зарытые ценности, наберется на двести миллионов долларов. — А разве это не сокровища? — ухмыльнулся первый. — Не Голконда, но кое-что… — снова пояснил второй. — Почему же князь Щербатов обращается ко мне, а не к кому-нибудь? — спросил тот, которого собеседник назвал Казаналиповым. Кельнер принес пива, поставил на стол дымящиеся сосиски. — Благодарю вас! Пока ничего не надо. Когда будет нужно, позову, — сказал Казаналипов. Кельнер поклонился и отошел к другим столикам. — Но почему же все-таки его опустившееся сиятельство обратилось в этом случае ко мне? — Очень просто. Драгоценности зарыты на Кавказе, где-то возле вашего города. Вы германский подданный, делец, коммерсант со связями. У вас есть деньги, и вы легче, чем кто-либо иной, сможете добыть эти богатства. — Вот именно. Я как раз и был уверен, что только потому, что я человек со средствами, вы и ваш обнищавший князь решили заинтересовать меня этими сказками, — не повышая голоса, сказал Казаналипов. — Как вам будет угодно, — вставая, вежливо сказал второй. — Честь имею кланяться, господин Казаналипов! — И он пошел к выходу. Второй проводил его взглядом, снова закурил, затянулся и затем не спеша позвал кельнера. Тот в ожидании подачки при уплате по счету изогнулся, угодливо вглядываясь в клиента. — Верните сюда этого господина и подайте нам потом по рюмке розового ликера, — кивая в сторону дверей, приказал Казаналипов. Кельнер опрометью исчез за дверями, а Казаналипов стал медленно допивать свое пиво. Прошло две или три минуты. Ни кельнера, ни ушедшего русского не было. Казаналипов отодвинул в сторону пустую кружку. «Кажется, этот болван разобиделся не на шутку», — подумал он, но дверь с мелодичным звоном открылась, и в пивную неторопливо вошел Курочкин, за которым шел улыбающийся кельнер. — Садитесь, Викентий Антоныч, поговорим обо всех деталях, — как ни в чем не бывало сказал Казаналипов, указывая кельнеру глазом на пустые кружки. — Не можете без фокусов, — тяжело усаживаясь на стул, сказал Курочкин. Кельнер подлетел к ним с двумя пенящимися кружками. — Выпейте, потом поговорим, — сказал Казаналипов. — Итак, князь Петр Александрович Щербатов имеет на руках план места, в котором зарыты драгоценности? Курочкин молча кивнул головой. — Он может назвать, какие именно? — Может. Он сам вместе с его светлостью покойным князем Ливен зарывал их. Мне он никогда не перечислял драгоценностей, но у старика, по-видимому, имеется список. — Почему ж он их не вывез с собой? — Шутите, почтенный! А вы забыли, как мы бежали в Грузию? Не знаю, как вам, а мне весна двадцатого года и до сих пор представляется кошмаром! Ведь вы сами драпали из родного вам Владикавказа в чем попало. — Не-ет, — медленно сказал собеседник, — я оказался умнее ваших светлейших. Еще в самый разгар наших зимних успехов девятнадцатого года я продал и дом, и землю, и конный завод войсковому правительству, а деньги в английской валюте перевел на Париж. — Знаю, — уныло вздохнул Курочкин, — пока мы, как идиоты, сражались с красными, вы делали дела, бизнес, как говорят янки. — Ну, что было, то было, а теперь к делу! — перебил его Казаналипов. — Так сокровища лежат в земле под Владикавказом? Что хочет получить Щербатов? — Сто фунтов сейчас, и если вам удастся отыскать ценности, то дополнительно — пятьсот. — Та-ак… А что хотите вы? — Двадцать фунтов при передаче вам плана и, когда все реализуется в вашу пользу, сколько найдете нужным. Казаналипов засмеялся. — Итого сто двадцать английских фунтов. А где гарантия, что эти бумаги не липа и не выдуманы жуликами, чтобы выудить у меня фунты? — Гарантии нет, а можем написать вам нечто вроде векселя или кабальной записи, как в старину делали на Руси. — А именно? — Если вы в том месте, где обозначены спрятанные драгоценности, их не найдете, то мы, я и князь Петр Александрович, повинны за мошенничество идти в тюрьму как уголовные жулики. — Какая мне от этого польза? Ну, посадят вас на год-два в тюрьму как мошенников, а мои фунты? Ведь их мне не возвратят? — Ничего больше сделать не могу. Денег у нас нет и имущества тоже, под залог дать нечего. Вы же сами хорошо знаете это. Если желательно попользоваться кладом, надо рискнуть! Оба замолчали. За соседними столиками звенели кружки, шумели подгулявшие немцы, то и дело с мелодичным звоном открывались двери, впуская новых гостей. — Вот что, — вдруг сказал Казаналипов, — поедем к Щербатову. Я сам поговорю с ним и тогда решу, что мне делать. — Поедем, — согласился Курочкин, — но разговор в моем присутствии. — Конечно, — усмехнулся Казаналипов и постучал о стол краем пивной кружки. — Счет! — сказал он подлетевшему кельнеру. — Тринадцать марок сорок пфеннигов, — сказал кельнер. — Вот пятнадцать, — бросая на стол бумажки, сказал Казаналипов, — сдачи не надо. И они вышли из пивной, направляясь в завокзальный район, где ютилась беднота и доживал свои дни князь Щербатов. — Извините, приемов устраивать не могу, сами видите, в каком убожестве живу! — указывая на голые стены небольшой, почти не обставленной комнатки, сказал Щербатов, встречая гостей. — Ничего, в тесноте, да не в обиде! — успокоил хозяина Казаналипов. — Мы к вам, Петр Александрович, не в гости, а по делу. — Знаю, знаю, — оживился Щербатов. — Присаживайтесь к столу. Яств нет, однако наш русский чай сейчас вскипячу. — Не надо. Зачем это? — остановил его Казаналипов. Князь Щербатов был старый, лет за семьдесят, человек с одутловатым лицом и по-стариковски покойными глазами. Он сел напротив гостя, Курочкин поместился у стены, на продавленном, покривившемся диване. Деревянная кровать, два стула и чемодан, покрытый старой скатертью, украшали убогую комнатку бывшего князя. — Господин Курочкин сказал, что вы хотите предложить мне план сокровищ, когда-то зарытых вами под Владикавказом, — начал Казаналипов. — Двенадцатого марта двадцатого года, когда мы уходили в Грузию, спасаясь от наступавших на Кавказ большевиков, — наклонив голову, уточнил старик. — Кто был с вами? — Его светлость, ныне покойный князь Федор Алексеевич Ливен. Гофмейстер двора его величества. — Почему вы не увезли с собой сокровища в Грузию? Старик улыбнулся: — Зачем? Чтобы грузины тут же, на границе, отняли их, а нас убили как ненужных свидетелей ограбления? Вы, наверное, помните, что у беженцев, переходивших у Дарьяла границу, отбирали золото, оружие, ценности, лошадей, скот. Как же можно было везти с собою такие драгоценности, как наши? — Можете назвать их? — не сводя глаз со старика, спросил Казаналипов. — Конечно. У меня сохранился их список. Я каждый год переписываю его, боясь потерять. Угодно, я покажу его? Гость молча наклонил голову. Курочкин спокойно сидел на диване, не вмешиваясь в разговор. Щербатов извлек из-под перины небольшой кожаный портфельчик и вынул из него несколько бумаг. Найдя нужную, он протянул ее гостю:«1. Четыре золотых кубка, обнесенных по краю финифтью с бриллиантовыми орлами у рукоятей. Глаза орлов — рубин, топаз, изумруд, смарагд (все крупные). 2. Малая корона императрицы, золотая, в 2 фунта и 40 золотников, тонкой филигранной работы ювелиров Буше и д'Авиноль. На короне 60 крупных алмазов, от полукарата до 5 каждый. Бриллиантов 12, из них четыре по 8 каратов. Первый — у налобника короны, второй — в средоточии креста, два других — слева и справа от креста, также усыпанного россыпью алмазов. 3. Перстней императрицы — 18 штук, среди них шесть колец с бразильскими бриллиантами, каждый от 3 до 7 каратов. Воды чистой, с голубым отливом. 4. Фермуаров — 4. 5. Колье бриллиантовых — 4. 6. Жемчуга в нитках, в бусинках, нанизанных на парчу, а также и в штуках — около 3 фунтов».— Что-то уж слишком. Напоминает сказки Шехерезады, — переводя глаза от бумаги на князя, сказал Казаналипов. — А я эти «сказки» сам в руках держал. Да и не только держал, — старик замялся, — а немногое, очень, очень немногое, что сумел пронести через границу, спустя некоторое время в Париже продал. — Он вздохнул. — Голодал, долго крепился, но пришел момент, и два перстня и табакерку золотую с императорским вензелем продал. Жить нечем было. И прямо скажу: и грехом не считаю… обнищал вовсе… вот когда мне эти сокровища спать не давали… закрою глаза, а они тут, передо мной… — Он снова вздохнул. — Ведь мы все надеялись — большевики на месяц-два, много на полгода, и союзники придут, Антанта нагрянет, а народ очухается, поднимет восстание, нас обратно позовет. Кто думал, что это навсегда, что здесь помирать будем! — Он покачал головой и тихо сказал: — На возврат надеялись, вот и спрятали… а оказалось… — Он махнул рукой и замолчал. Казаналипов взял, бумагу и стал снова читать:
«7. Папиросница золотая, червонного золота (фунт с четвертью весом), на крышке двуглавый орел из черных бриллиантов, в лапах скипетр (алмаз в 11 каратов), глаза орла — индийские рубины. Подарок императрице Александре Федоровне от императрицы Марии Федоровны в первую годовщину брака с императором. 8. Малахитовая шкатулка императрицы, отделанная нефритом, лунным камнем и золотом, тонкой работы ювелира Луи Буше. 9. Ожерелье из 26 бриллиантов на золотом тисненом шнуре с большим, с голубиное яйцо, рубином, разделяющим ожерелье на две половины. Подарок Е. В. императрице от персидского шаха Муззафер-эд-Дина по случаю посещения шахом Санкт-Петербурга и представления императорской чете, 2 августа 1903 года. 10. Большой серебряный ларец, в коем находятся шестьдесят четыре золотые медали „За беспорочную службу“, 2 ордена Георгия Победоносца 3-го и 4-го степеней; золотой кортик с бриллиантами по рукояти и бриллиантовой же надписью — „Великому князю Кириллу Владимировичу за храбрость и отличие“».Казаналипов опустил список и негромко спросил: — Все? — Все! — ответил князь и, осторожно взяв из рук гостя бумагу, уложил ее обратно в портфель. Спрятав его под перину, он вернулся к столу, сел и молча уставился на гостя. — Ну, а пергамент с секретом у вас далеко? — спросил Казаналипов. — Какой пергамент? — не понял хозяин. — Ну, этот самый, где указано место, тайник и прочее, как в старинных пиратских романах. — Зачем пергамент? Обыкновенная бумага, белый лист, на котором указано место тайника и как его найти. — Покажите его! — Покажу, но только после того, как мы заключим с вами некое письменное соглашение и я получу аванс. — Аванс? — удивился гость. — Конечно. А остальную сумму за день до того, как вы решите совершить вояж в Россию. — Но каким образом? — глядя на старика, спросил Казаналипов. — Не знаю. Это уж ваше дело, дорогой. Я знаю только то, что мне, князю Петру Александровичу Щербатову, бывшему камергеру императрицы Александры Федоровны, въезд туда заказан по двум причинам. Первое — Рюрикович, старый русский дворянин, князь из русских бояр, предки мои с Грозным и Шуйским, с Петром Первым и Екатериной Великой за одним столом сиживали, и мне ехать в Россию, где убили моего государя… нельзя… зазорно… постыдно. А второе — стар я уже ожидать нормального возвращения на родину. Семьдесят четыре года — это не шутки, дорогой мой Булат Мисостович. Хворь, бедность, одиночество одолели меня. Умру я скоро. Да, да, чего уж там говорить, — видя протестующий жест гостя, продолжал старик. — Глупо надеяться на возвращение. Это только дураки да выжившие из ума старухи все еще верят в это да на последние гроши свечи ставят богу, а я хорошо понимаю: отсюда только в могилу. Вот почему и решил я открыть вам напоследки эту тайну. — Спасибо. Но почему вы решили открыть именно мне? — осторожно поинтересовался гость. — А очень просто. Во-первых, человек вы состоятельный и, как думается, честный. И сто фунтов за тайну дадите, и после, когда сокровища вашими будут, не обидите. Второе. Вам не больше пятидесяти пяти лет. — Пятьдесят восемь, — довольно улыбаясь, сказал Казаналипов. — Да? И пятьдесят пять не дашь. Моложаво и очень хорошо выглядите, — не без зависти сказал старик. — Да к тому же вы германский подданный, коммерсант, фамилия у вас немецкая, ехать в Россию легко и просто! Сами вы из Владикавказа, тамошний житель, наверное, и местные языки, и людей нужных знаете. Сейчас с Россией отношения у западных немцев налажены, торговля есть, послы существуют, туристы ездят друг к другу. Вам, не старому да сильному человеку, немецкому подданному, богатому, легко съездить на Кавказ. Ну, а найти там сокровища — сущий пустяк. Они недалеко от города, хоть пешком, хоть верхом доберетесь и… копайте себе на здоровье… — Старик широко развел руками. — Не так-то все это просто, как думаете, уважаемый Петр Александрович! — раздумчиво сказал Казаналипов. — Пустяки! Знать бы место да беспрепятственно добраться до него… тут уж я бы с закрытыми глазами извлек их из земли, — мечтательно сказал Курочкин. Это были первые слова, которые он произнес за все это время. Он вздохнул, покачал головой, глаза его заискрились. — Эх, мне бы дозволено было попасть туда! — сказал он и махнул рукой. Наступило общее молчание. — Не скажете ли, Петр Александрович, если это не секрет, каким образом попали к вам эти богатства? — после некоторого раздумья спросил Казаналипов. — Тайны в этом нет никакой. Могу сказать все подробности, — спокойно ответил старик. — Как уже было сказано раньше, я, да это вам, вероятно, известно и самому, имел счастье быть гофмаршалом двора ее величества и состоять при высочайшей особе. Светлейший же князь Ливен находился при вдовствующей государыне в высоком звании гофмейстера ее двора. Мария Федоровна, как вы, вероятно, знаете, была человеком осторожным, дальновидным, и уроки резолюции пятого года не прошли для нее даром. Через своего фаворита, — старик добродушно улыбнулся, — а государыня, после кончины блаженной памяти императора Александра Третьего, любила пожить в свое удовольствие, — итак, через своего последнего и самого близкого ей фаворита, князя Шервашидзе, она перевела за границу несколько десятков миллионов рублей, отослав значительную часть своих именных и фамильных драгоценностей в Англию и Париж. Перед самой войной четырнадцатого года она, конечно, случайно, но все же очень умно настояла на том, чтобы и ее августейший сын император Николай Второй перевел за границу часть своих богатств, что он и сделал, переведя в Америку пятьдесят пять миллионов долларов на свое и его прямых наследников имя. — Все это так, но какое имеет отношение все это к сокровищам, зарытым под Владикавказом? — перебил его Казаналипов. — Не спешите, слушайте спокойно и тогда вы увидите, что связь между тем и другим непосредственная и прямая, — хладнокровно сказал бывший князь. — Императрица же Александра Федоровна была человеком неуравновешенным, подверженным истерии и богоискательству. Ее окружали попы, духовидцы и всякие жулики и пройдохи вроде Распутина… Она верила им и не допускала даже и мысли о том, что в России возможно повторение революции пятого года. И когда произошли известные вам февральские события семнадцатого года, она даже и не подумала о том, чтобы спасти хотя бы часть своих драгоценностей. И лишь то, что перечислено в списке, — бывший князь вздохнул, — думаю, и еще кое-что удалось спасти князьям Ливену, Долгорукову и барону Мейендорфу. Куда делось то, что увезли последние двое, не знаю, но часть того, что сохранял Ливен, теперь покоится в земле. — Почему часть? — поинтересовался Казаналипов. — Супруга светлейшего и его дочь Анна, та, что была замужем за Набоковым, с частью сокровищ уехали из Крыма еще в конце восемнадцатого года. — Т-а-ак!! — раздумчиво сказал Казаналипов. — И вы сами видели и зарывали их? — Сам… и видел и зарывал, — спокойно подтвердил бывший князь. — Меня даже бросает в жар и холод, когда слышу о том, как такие богатства покоятся без пользы где-то в земле! — сокрушенно сказал Курочкин. — Кинокартина, хотя и похожая на правду, — как бы своим мыслям сказал, не слушая Курочкина, Казаналипов. — И план места покажете? — В любой момент после того, как заключу с вами джентльменское соглашение и получу сто английских фунтов, — сказал Щербатов. — Ста фунтов я вам не дам… во всяком случае, сейчас не дам, — поправился Казаналипов. — А вот в счет возможного будущего авансирую вас сотней марок, что по курсу дня соответствует десяти фунтам. Пока вы обо всем рассказанном молчите, а через пять дней я сообщу вам, заинтересовало ли меня ваше дело или нет. Согласны? — Согласен, — односложно ответил бывший князь. — Но если вы вдруг раздумаете, то как честный человек говорю заранее: денег ваших, ста марок, у меня уже не будет и возвратить их вам я не смогу. Долги, бедность, комната… — Старик тяжело вздохнул. — Ваше счастье. Назад требовать не буду, однако настаиваю на одном: никому ни слова! — Какой же смысл? — сказал бывший князь. — Буду нем как рыба. — Ну, а мне за содействие в этом деле и молчание что дадите, уважаемый господин Казаналипов? — вдруг спросил Курочкин. Казаналипов скривил губы и молча вытащил из кармана жилетки скомканную бумажку в двадцать марок. — А вам это. Пока хватит. — Он надел щегольскую соломенную шляпу и, кивнув головой двум молча стоявшим людям, вышел из комнаты.
Глава III
Бывший царский офицер Булат Мисостович Казаналипов еще в восемнадцатом году обзавелся персидским паспортом через иранского консула в Тифлисе. И когда над Доброволией Деникина грянул гром и белая орда в панике покатилась к портам Черного моря, бывший ротмистр, удачливый спекулянт и осторожный торгаш Булат Казаналипов давно перевел на Лондонский банк свои капиталы и уехал в Батум, откуда как персидский подданный на первом же итальянском пароходе компании «Ллойд Триестино» отбыл в Константинополь, а оттуда в Париж. Политикой он не интересовался и только в 1941 году, когда Франция полностью была оккупирована немцами, его, бывшего русского офицера, вызвали в Управление по занятым на Востоке областям. Сухой и немногословный немецкий оберст[67] из штаба управления сказал несколько обеспокоенному Казаналипову: — Россия разбита, большевики почти полностью уничтожены, и лишь в отдельных областях еще идет местная война. Нам нужны верные и преданные Германии и фюреру люди. Надеюсь, вы принадлежите к таковым? — Хайль Гитлер! — выбрасывая вперед руку, рявкнул Казаналипов. Ему действительно нравился фашистский фюрер, так быстро и ловко захвативший всю Европу, а теперь уничтожавший большевиков в России. — Мы навели о вас справки. Сведения для вас благоприятны. Вы царский офицер, враг коммунистов, пострадавший от революции, сентиментов и иллюзий вы лишены, вы верите в силу и деньги. Такие люди нам нужны. — Что я должен сделать, господин полковник? — спросил Казаналипов. — Не перебивайте! Здесь говорю я. Вы же, после того как я закончу, будете лишь отвечать на мои вопросы. Помимо всего этого, мы уже знаем, что вы, господин Казаналипов, являетесь фольксдейче, что ваша матушка немка из старой дворянской немецкой фамилии фон дер Нонне… «Они знают и это!» — переполняясь уважением к могуществу и всеведению немцев, подумал Казаналипов. — …что по настоянию вашей покойной матушки вы учились и окончили не русскую гимназию, а немецкое среднее учебное заведение «Петершулле» в Санкт-Петербурге. Глаза Казаналипова расширились. Полковник сухо улыбнулся. — Мы знаем обо всех всё! И то, что вы прекрасно говорите по-немецки, и что еще четыре года назад, то есть задолго до войны, вы здесь неоднократно восторгались нашим великим фюрером, подчеркивая свое немецкое происхождение. Казаналипов молча улыбнулся и утвердительно кивнул головой. — Наш посол господин Абец и его помощники знали все, до последних мелочей. Весь Париж они читали, как раскрытую книгу, — хвастливо пояснил полковник. — Поэтому я и вызвал вас. Хотите вы служить делу фюрера и великой Германии? — вдруг рявкнул оберст. — Так точно! Только я человек больной и уже не в том возрасте, когда действуют шашкой, — осторожно сказал Казаналипов. — Чепуха! — снисходительно улыбнулся полковник. — Нам и не нужны вояки вроде вас. — Переходя с французского на немецкий язык, он пояснил: — Вы будете там, на Кавказе, при штабе действующих войск как местный уроженец, человек старого общества, домовладелец и коммерсант. Вы будете разъяснять как русским, так и туземцам этого края, что мы, немцы, — оберст выпятил грудь, — несем с собой культуру, прогресс, освобождение и старый порядок. Вы будете говорить им о фюрере, о непобедимой нашей армии, о всемирном могуществе Германии. Казаналипов молча наклонил голову. — Вы знаете тамошние языки? — Так точно. Отец мой был кумыком. Я хорошо говорил по-осетински и по-ингушски. Полковник поморщился: — Дикарские племена, хотя, к чести их, арийцы! — Он высоко поднял плечи, внимательно и долго всматривался в гостя. Казаналипову стало не по себе от испытующего, пронзительного взгляда немца. — Ничего от вашей матушки! — засмеялся полковник. — Если бы я точно не знал, что вы фольксдейче, принял бы вас за цыгана. Но говорите вы по-немецки прекрасно, выговор у вас типично берлинский, и, убей меня бог, вы тот самый человек, какой сейчас нам нужен на Кавказе. Пишите просьбу на имя его высокопревосходительства господина фон Фрик о принятии вас в подданство великой Германии как сына немецкой дворянки и как лейтенанта вспомогательного корпуса Особых войск. С сегодняшнего дня вы, — полковник сделал торжественное лицо и важно сказал: — немец, лейтенант Генрих фон Мюллер. Забудьте прошлое и начинайте новую жизнь под могущественнейшим покровительством фюрера и на благо великой Германии. Хайль Гитлер! — взревел оберст. И подскочивший, словно пружина, Казаналипов восторженным голосом прокричал: — Хайль!! — Даем вам неделю на окончание личных дел. Сейчас не время торговли и спекуляции, на Востоке вас ждут более солидные и прибыльные дела. Ступайте, лейтенант Мюллер, и через неделю явитесь ко мне за служебными инструкциями, — закончил оберст. Казаналипов поклонился и вышел из штаба. Так в июне 1942 года на Северном Кавказе вместе с частями гитлеровского фельдмаршала фон Клейста, наступавшего на города Орджоникидзе и Моздок, появился и лейтенант Генрих Мюллер. Казаналипов, совершенно уверенный в конце Советской власти и присоединении Кавказа к Германии, ретиво принялся за дело. Однако осторожность и тут не покинула вновь испеченного лейтенанта. Уже к концу июля он убедился в том, что население Кавказа — ни русские, ни горцы не желали «освобождения от большевиков», что они ненавидели фашистов, поддерживали Красную Армию, уходили в партизанские отряды и всем, чем только могли, вредили оккупантам. Дважды на себе испытал это и Мюллер-Казаналипов. В первый раз — когда поезд, в котором он находился, пошел под откос, подорвавшись на мине возле Армавира, и второй раз — когда грузовая машина, в которой ехал он и восемнадцать солдат, была обстреляна осетинскимипартизанами у аула Эльхотова. Пятеро солдат были убиты, шофер ранен, а сам Казаналипов еле уцелел, распластавшись в кузове машины. И выступления его перед горцами в занятых аулах были неудачны. Кабардинцы и осетины молчали, хмуро поглядывая на немецкого лейтенанта, бойко болтавшего на их языках и усиленно восхвалявшего Гитлера и фашистов. Первые неудачи под Моздоком, тяжелые бои в Осетии, поражения под Новороссийском, сильные удары Красной Армии и на Тереке отрезвили новоиспеченного Мюллера. Получив пулю в бедро, он немедленно отбыл в Германию, благословляя впоследствии советского солдата, ранившего его. Благодаря ранению Мюллер избежал сражений под Сталинградом и Ростовом. Как и в дни гражданской войны, он своевременно учуял конец Гитлера и еще задолго до падения Берлина перебрался в Мюнхен, где и сдался в сорок пятом году в плен американцам. И теперь, сидя у себя в отличной пятикомнатной квартире, господин фон Мюллер, размышляя о прошлом, детально взвешивал «за» и «против» всего того, что вчера вечером рассказал ему в своей убогой каморке бывший князь и гофмаршал двора Щербатов. «Похоже и на сказку, и на правду. Мало ли сокровищ таится сейчас в русской земле, в свое время спрятанных от революции, грабежа и большевиков! Опасности для меня лично никакой. Я Мюллер, германский коммерсант, и нахожусь под защитой нашего западногерманского посольства в Москве. Уголовными и политическими делами я не занимаюсь, со дня окончания войны прошло много лет, за это время амнистированы и вернулись в Германию даже самые тяжелые преступники и виновники войны и злодеяний. — Он подумал, почесал лоб и нахмурился. — Плохо, что придется быть во Владикавказе. Кто знает, на кого я могу наткнуться там, хотя… — он развел руками, — кто ж может доказать, что германский коммерсант и турист Генрих фон Мюллер и много лет назад, совсем юнцом, проживавший там Булат Казаналипов одно и то же лицо». Он подошел к зеркалу, всмотрелся в себя и усмехнулся: «Родная мать и та бы не узнала. Да и где там… сорок пять лет не шутка, да еще каких сорок пять! Ну, а в Кабарду и Осетию, в аулы, где я когда-то выступал с речами, я, конечно, не загляну. Весь вопрос не во мне, а вот в том, существуют ли на самом деле эти „императорские сокровища“ и где зарыли их эти старые ослы». — Он встал, прошелся по комнате. — «Вряд ли этот князь осмелился бы на мошенничество! Кто он? Нуль, эмигрант, нищий, я же немец, коммерсант, обер-лейтенант, участник войны за Германию». Он подошел к телефону и набрал нужный номер: — Алло! Это вы, господин Шольц? Здравствуйте, это фон Мюллер. Будьте добры, обратитесь от моего имени в полицию и одновременно в бюро частного сыска и информации господина Таубе… Да, да, одновременно. Цель следующая: пусть наведут справки и дадут точные и скорые сведения о русском эмигранте князе Петре Александровиче… записываете?.. так… Александровиче Щербатове, проживающем на Каульс-штрассе, семьдесят четыре. Сведения должны быть следующие. Не аферист ли он? Не имеет ли в прошлом судимости или причастия к обманам: мошенничеству, уголовным делам? На какие средства живет? С кем общается? Есть ли родные и где? На каком счету у полиции? Одновременно те же самые сведения нужны и о другом русском эмигранте, Курочкине, с которым тесно связан этот русский князь. Все это, мой уважаемый Шольц, надо сделать быстро, очень быстро. Деньги на расходы по полиции и сыску расходуйте из средств, которые я отпустил вам на хозяйственные нужды по конторе. Вам все понятно? Отлично! До свидания! Господин фон Мюллер успокоился. Теперь в зависимости от того, что сообщат ему полиция и сыщики, он и решит это заинтересовавшее его и в то же время сомнительное дело с царскими бриллиантами. Спустя сутки Шольц передал своему патрону исчерпывающие данные о двух русских эмигрантах, князе Щербатове и бывшем поручике пехоты Курочкине. Оба жили бедно, пробавляясь случайными заработками и нищенским пособием, изредка перепадавшим им из Всемирного бюро помощи жертвам русской революции. Ничего предосудительного ни полиция, ни частный сыск об этих лицах не сообщали. Наоборот, о князе Щербатове даже был дан полицией похвальный отзыв:«Религиозен, в разговорах и делах честен и надежен. Несмотря на потери, нанесенные ему русскими большевиками, спокоен, миролюбив и аполитичен. Живет в одиночестве. Имеет дочь, проживающую в США, в городе Мильвоки. Изредка переписывается с нею, живет скудно, не делая долгов, не прибегая к мошенничеству, вымогательству и попрошайничеству. Далек от всяких политических организаций и обществ, доживая свой век. Единственное, что составляет радость существования этого нищего русского князя, — это воспоминания о том, как он жил в свое время при дворе российского императора. Монархист, судимостей, приводов, подозрения в чем-либо предосудительном не имеет».Отзыв частного сыска был короче:
«Русский князь, впавший в нищету, живет бедно. Тихий старик, далекий от политики, осколок русской монархии, гордый тем, что когда-то служил в непосредственной близости к русскому царю и царице. Скромен, набожен, честен и как объект для полиции и сыска интереса не представляет».— Прекрасно! — потирая руки, воскликнул господин Мюллер, прочтя обе характеристики. — Старик, кажется, не врет. «Служил в непосредственной близости к русской царице…» Все совпадает, а то, что он так откровенно сказал мне, что в минуты крайней нужды продал в Париже кое-что из вывезенных царских ценностей, даже подчеркивает прямоту и наивную честность этого старого «осколка». Он засмеялся и негромко сказал: — Лотхен! Я вскоре собираюсь в Россию. Как ты думаешь, ехать одному или вместе? Его жена, женщина лет сорока пяти, полная, светлоглазая блондинка с выкрашенными под цвет золота волосами, открыла рот и уронила руки. — Как… в Россию? — А так… просто. Взял да и поехал. — Генрих, ты сошел с ума! И в этом, и в позапрошлом году тебе несколько раз и даже, — она подчеркнула, — настойчиво предлагали туда ехать, но ты разумно и категорически отказывался. — Но кто предлагал? — ухмыльнувшись, перебил жену Мюллер. — Ну что — кто! — засмеялась она. — Сам хорошо знаешь! — Разведка. Наша и особенно американская. А на кой мне черт путаться с этим грязным делом! Я коммерсант, а не разведчик. С меня хватит и тех глупостей, которые я благодаря твоему идиоту фюреру наделал двадцать лет назад… — Генрих! — с укоризной перебила его фрау Мюллер. — Да, да! Именно идиота, хотя ты, как и многие дураки и дуры, еще продолжаешь обожать этого одержимого маньяка, который привел к нищете, разгрому и позору нашу дорогую Германию. Но, — он вскинул кверху палец, — сейчас дело не в этом. Я должен по своим, понимаешь, Лотхен, по некоторым коммерческим делам выехать на небольшой срок в Россию. — Это нам будет выгодно, Генрих? — умильно глядя на мужа, спросила Лотхен. — Ты хочешь торговать с большевиками? — Именно! — отрезал Мюллер. — И это будет выгодная торговля. Если все будет о'кей, как говорят наши друзья американцы, то ты будешь носить импе-ра-тор-ские бриллианты! — Русские? — восторженно спросила Лотхен. Герр Мюллер опомнился. — Шучу, милая! Просто может быть неплохая прибыль, и тогда привезу тебе из Парижа кулончик или хорошее бриллиантовое кольцо. — Тогда поезжай, милый. Делай свои дела с большевиками, а твоя женушка будет честно ожидать своего мужа! — Дорогой Шольц, выясните сегодня же, каким путем можно поехать в качестве туриста в Россию, — спустя час после разговора с женой сказал своему управляющему Мюллер. — В… Россию? — удивился Шольц. — Именно туда… и далее непременно на Кавказ. Узнайте маршруты туристов, срок их пребывания в каждом городе, условия. Сколько это стоит, свободно ли передвижение и прогулки по городам. Возможны ли встречи. Как относится к таковым поездкам Управление федеральной полиции и министерство внутренних дел. Если нужна причина поездки — желание лично посмотреть красоты Кавказа и большевистский «рай». Можете сказать, что после поездки я обязательно выступлю в местных газетах со статьями против Советской России и туристских поездок в нее. Все это надо сделать сегодня же. — Постараюсь, — сказал господин Шольц. После его ухода фон Мюллер занялся своими коммерческими делами, но мысль о зарытых царских бриллиантах и боязнь, как бы нищий князь не продал свою тайну кому-нибудь другому, не покидала его. Спустя три дня Шольц принес бывшему Казаналипову все требуемые данные. Поехать в СССР в качестве туриста было легко: подать заявление в МИД, и спустя пять дней разрешение может быть выдано. Маршруты избираются самим туристом — Крым, Закавказье, Центральная Россия, Туркестан, Украина, Кавказ. Любой край, республику или область можно посетить туристу. Еще проще оказалось пребывание в русских городах. Никто не мешает любознательному туристу ходить по улицам, заходить в музеи, церкви, рестораны, знакомиться и разговаривать с прохожими. Можно даже фотографировать все, кроме запрещенных объектов, о которых туристов заранее предупреждают сопровождающие их переводчики. — Отлично! — потер руки Мюллер. Сейчас он уже не боялся того, что князь откроет свою тайну какому-нибудь другому богачу. За эти дни он уже дважды посетил лачугу бывшего гофмаршала и дал ему под расписку еще полтораста марок. — Я рад, что императорские ценности попадут в хорошие руки, — принимая деньги, сказал князь. — Господин фон Мюллер, ваше заявление о желании посетить Москву и Кавказ в качестве туриста мы получили. Прошу зайти завтра… — чиновник задумался, — лучше послезавтра в половине четвертого. Все будет готово. — Он вежливо поклонился, и бывший ротмистр отошел от стола обходительного чиновника министерства иностранных дел. Было около часа. В контору идти не хотелось, дел особых там не было, да и расторопный Шольц отлично справился бы без него, и он пошел в завокзальный район к князю. Старик ел поджаренные сосиски, запивая их черным, по-турецки сваренным кофе. — Прошу! — вежливо указал он гостю на стул. — Быть может, кофе или сосисок разрешите? — Могу и кофе! — впервые позволил себе быть на равной ноге с этим нищим придворным фон Мюллер. Старик охотно и гостеприимно угощал гостя. Видно было, что ему приятно посещение его лачуги столь богатым и солидным коммерсантом. — Собираюсь, уважаемый Петр Александрович, ехать в Россию. Уже подал просьбу о включении меня в список туристов, едущих на Кавказ. — И он весело подмигнул старику. — Доброе дело. Помоги вам господь в этом, — сказал Щербатов. — И когда намереваетесь в путь? — Вероятно, через месяц, — прихлебывая маленькими глотками кофе, сказал гость. — Пора уже, ваше сиятельство, показать план места, где спрятаны сокровища. — Пора! Но без господина Курочкина не могу, — спокойно ответил старик. — Почему? — удивился фон Мюллер. — Очень просто. Я человек чести и слова, надеюсь, и вы также. В вашем присутствии я сказал господину Курочкину, который, собственно, и свел нас для этого важного дела. Я, как вы помните, сказал, что дело это наше общее, мое и его, а раз это так, то, естественно, при передаче документа вам должен присутствовать и он. Как вы полагаете сами об этом? — строго спросил старик. — Пожалуйста, — поморщился гость, — хотя присутствие третьего лица в таком деле не обязательно. — Обязательно! — сердито сказал старик. — Слово дворянина — его честь! Оно крепче железа и скалы, так, во всяком случае, думали в мое время. — И он, задумавшись, повел глазами куда-то поверх гостя. — Хорошо! Зовите его завтра часам к пяти. В четыре я закончу все формальности с отъездом, в пять буду у вас, и вы отдадите мне план места. — Деньги не забудьте захватить, — поедая третью сосиску, пробормотал бывший князь, — и мне и господину Курочкину. — Деньги будут. Честь имею! — недовольным тоном ответил фон Мюллер и, кивнув головой, вышел. Старик, что-то бормоча под нос, с наслаждением пил сладкий и черный, как деготь, кофе. В половине четвертого следующего дня фон Мюллер снова появился у стола вежливого чиновника министерства: — Добрый день! — Добрый день, уважаемый господин фон Мюллер, — ласково улыбнулся на его приветствие чиновник. — Можно получить мне мои бумаги? — продолжая ласково глядеть на него, спросил коммерсант. — Можно. Пожалуйста, только они еще не готовы, — приветливо сказал чиновник. — То есть как — не готовы? Уже около четырех часов, — показывая на циферблат стенных часов, сказал фон Мюллер. — Совершенно верно. И на моих без семи четыре, — подтвердил чиновник, — но ваши бумаги… — он широко развел руками, — не го-то-вы! — Почему? — удивился фон Мюллер. — Не знаю. Потрудитесь пройти к нашему начальству, господину Циммерману. Вероятно, он объяснит вам все. Извините, но дела мешают мне продолжать с вами приятную беседу. — И чиновник, уткнувшись в бумаги, стал перелистывать какое-то дело. «Стран-но!» — озабоченно подумал фон Мюллер, входя в кабинет Циммермана. — Ваше дело простое, господин фон Мюллер. До получения от нас разрешения вам необходимо зайти к господину гауптману[68] фон Вернеру. Вы, кажется, знаете его адрес. А еще было бы лучше, если б вы прямо направились к майору Гопкинсу. — Американцу… начальнику развед… — Пс-ст! — остановил его Циммерман. — Я не знаю и не хочу знать, кто такой Гопкинс и чем он занимается. В стенах этого здания нельзя произносить кое-какие слова. Вы понимаете меня? Коммерсант утвердительно кивнул головой. — Очень хорошо! Вы зайдите к упомянутому мною джентльмену, побеседуйте с ним, после чего, я уверен, ваши бумаги будут в порядке. Ауфвидерзейн! — И, подобно первому чиновнику, он углубился в свои бумаги. Фон Мюллер медленно шел по улице. Было около пяти часов, князь с Курочкиным, вероятно, ожидали его, а что он мог сказать им о своем отъезде? Дело срывалось, и только потому, что фон Вернер, а вернее, начальник особого разведбюро американской службы Гопкинс опять заинтересовался им. Когда он вошел к Щербатову, Курочкин уже находился там. — Честь имею! — поднимаясь с места, сказал он. Они поздоровались. — Господа, — сказал фон Мюллер, — передача документа сегодня не состоится. — Почему? — встревоженно спросил Курочкин. — Деньги не захватили? — с вежливым ехидством сказал бывший князь. — Не то, не то! — досадливо остановил его фон Мюллер. — Деньги в кармане. Непредвиденное обстоятельство, которое я надеюсь ликвидировать в ближайшие дни. — Нельзя узнать какое? — поинтересовался Щербатов. — Пока умолчу. Когда все улажу, тогда… А теперь, чтобы у вас не было сомнения в моем искреннем благожелательстве, в данном деле, я выдам вам еще некоторый аванс. Пишите расписки. — На какую сумму? — охотно сказал бывший князь. — Вам еще на полтораста марок, а господину Курочкину — на пятьдесят. Получив расписки, фон Мюллер выдал обоим эмигрантам деньги и, сказав «до послезавтра», удалился. Теперь, когда это непредвиденное препятствие неожиданно встало на его пути, ему вдесятеро острей и сильнее захотелось поехать в Россию. Капитан Вернер молча поднял глаза на вошедшего Мюллера. Гость молчал, молчал и герр гауптман, ведавший «отделением разведки областей Востока Европы». — Я к вам, господин гауптман. Вы хотели меня видеть? — наконец осторожно сказал фон Мюллер. — Я не вызывал вас и прямо скажу, что после вашего последнего отказа посетить Советский Союз перестал интересоваться вами. — Однако господин Циммерман сказал мне, что вы и господин майор Гопкинс хотели видеть меня. Капитан поднял брови, пожал плечами и холодно сказал: — Повторяю, я позабыл о вас. Нам не нужны чистоплюи, слюнтяи и трусы. Любой из этих эпитетов можете взять себе на память. Мюллер нахмурился и искоса смотрел на капитана. Но тот, казалось, не замечал обиженного лица коммерсанта. — А относительно Гопкинса сейчас узнаем, хотя… — капитан развел руками, — зачем ему вы? Он тоже отлично знает, как мужественно вы отказывались от нашего, в сущности, безопасного для вас предложения. Капитан снял одну из трубок многочисленных телефонов, стоявших на столе, и подобревшим, немного вкрадчивым голосом спросил: — Мистер Гопкинс у себя?.. Ах, это вы, дорогой майор? Говорит Вернер. Дело в следующем. Меня посетил сейчас господин фон Мюллер… Ну да, тот самый. Он уверяет, что я и вы хотели его видеть… Как, как? — переспросил капитан. — А-ах, так… Ну, это другое дело… Так, угу… Понятно… угу! Очень хорошо. В таком случае мы вдвоем сейчас же едем к вам… Буквально через двадцать минут, — вешая трубку, поспешно сказал Вернер, нажимая кнопку звонка. — Дежурную машину! — приказал он вбежавшему солдату. — Вы готовы? — повернулся он к растерянному Мюллеру. — Тогда вперед. Мы едем к майору! Гопкинс принял их не сразу. Телефонные звонки и отдельные слова иногда долетали до слуха покорно сидевших в приемной Мюллера и капитана. Наконец дверь распахнулась. — Войдите! Майор ожидает вас, — сказал плечистый человек в штатском костюме. Майор Гопкинс был невелик ростом, румян, спокоен и вовсе не походил на тех американцев, каких обычно рисуют юмористические журналы. Не был похож он и на разведчика из детективного или приключенческого рассказа. Круглое лицо, румянец во всю щеку, веселая улыбка и заметное брюшко делали его похожим на добродушного мелкого рантье из Шампани или фермера из Иллинойса. Но Мюллер уже знал, что добродушная улыбка — это лишь профессиональная маска умного и холодного разведчика и что «Гопкинс» — это очередная казенная фамилия майора, по-видимому в сотый раз по мере необходимости и условий менявшего свою очередную фамилию. — Вот мы и опять встретились с вами, мистер Мюллер, — кивая головой, сказал Гопкинс. — Присаживайтесь вот сюда… Сюда, слева от меня, а вы, любезный капитан, сядьте вон в то кресло, чтобы я мог видеть и беседовать с вами и одновременно говорить по телефону. Итак, вы надумали ехать в Советский Союз? — прямо обратился он к коммерсанту. Капитан Вернер даже привскочил с кресла, изумленно тараща глаза на Мюллера. — Да, хотел бы, — сказал тот. — Но ведь вы уже несколько раз отказывались от поездки, которую мы так любезно предлагали вам, — сказал Гопкинс. — Четыре раза! — поспешил сказать пришедший в себя от изумления капитан. — Четыре раза, — повторил американец. — Почему, я хотел бы знать, вы четыре раза отвергли удобные и выгодные в смысле материальном наши предложения, а сейчас вдруг, ни с того ни с сего надумали ехать в Россию в качестве туриста и именно по тому самому маршруту, который четыре раза за эти два года мы предлагали вам? Вы не читали просьбы господина фон Мюллера, поданной в министерство? — спросил он Вернера. — Вот она, читайте! — И Гопкинс извлек из груды бумаг заявление Мюллера, которое он всего несколько дней назад подал в министерство. Капитан стал внимательно читать бумагу. — Признаюсь, все это довольно странно! Мы хотели послать вас на Кавказ, в этот самый город… — майор запнулся, — Орж-кинзе, в качестве туриста, попутно выполняющего наше небольшое, совсем пустяковое поручение. Мы обещали вам за это оплату всех ваших путевых расходов, а также и особое вознаграждение в пятьсот долларов. Вы отказались, а теперь, спустя лишь пять месяцев после очередного отказа, вы, человек коммерческий и расчетливый, сами за свой счет захотели отправиться в эти же места, в Россию, и, заметьте самое главное, — американец поднял палец и строго сказал, — не уведомили о своей поездке ни капитана Вернера, ни меня! Не кажется ли вам это странным, господин Мюллер? Капитан, уже давно дочитавший заявление коммерсанта, строго глянул на него и покачал головой. — Ну-с, что вы молчите, господин Мюллер? — спросил Гопкинс, видя, что растерявшийся коммерсант не думает отвечать. — Я думал, что проехать в качестве туриста в любую страну может каждый немец, — наконец выговорил он. — В любую, кроме коммунистической России и ее сателлитов, — сказал майор. Капитан Вернер, подтверждая слова американца, кивнул головой. — Но дело ведь все же не в этом, а в том, что вы хотите ехать помимо нас туда, куда так настойчиво и, увы, неудачно мы сами посылали вас. Почему вы так внезапно переменили ваше решение? — Да-а… это больше чем странно! — неопределенно сказал Вернер и снова покачал головой. — Это… это бывшие когда-то мне родными места. Я родился там, и вполне понятно, что однажды мне захотелось побывать там. — Но они были вашими родными местами и тогда, когда мы посылали вас туда, — спокойно сказал Гопкинс. — Вы, как мне помнится, категорически уверяли нас, что с этой проклятой Россией вы навсегда покончили еще в двадцатом году, что ваша мать немка и вы порвали со всем тем, что некогда соединяло вас с русскими, — медленно и очень ехидно напомнил Мюллеру капитан. — Я… я просто боялся, что большевики могут узнать меня, как бывшего Казаналипова и немецкого лейтенанта Особого бюро. — Пустяки! Кто помнит ставшие древней историей девятнадцатые годы нашего столетия, а среди сотен тысяч немецких лейтенантов вы так же затерялись, как песчинка в море. Что вы — Геринг, или сам балбес Гитлер, или вы, может быть, командовали там фронтом? — издевательски сказал майор. — Не болтайте глупостей, а говорите лучше правду. Вы же отлично знаете, что без нашей санкции ваша просьба о поездке останется пустым звуком! — Это не все, господин майор, — холодным тоном сказал капитан. — Вас господин фон Мюллер больше уже не интересует, но нас, немецкую политическую полицию и отдел зарубежной разведки, господин фон Мюллер, бывший русский подданный, так неожиданно воспылавший желанием посетить, — он иронически подчеркнул, — «свои родные места», теперь как раз начинает интересовать. Вот, обратите внимание, этот господин писал свое заявление в министерство и утаил от нас свою поездку. Американец молча кивнул. — Вот что, любезный Вернер, это уж ваше внутреннее дело, а мы, американцы, как известно, во внутренние дела чужих стран не вмешиваемся. — Мы не нужны больше вам, господин майор? — ледяным, официальным тоном, вставая с места, спросил капитан. — Нет. Разрешения на выезд этому господину мы не дадим, а остальное это уж ваше дело, — также поднимаясь с места, ответил Гопкинс. Страх охватил слушавшего эти слова Мюллера. Он испуганно поднялся и, обращаясь к обоим офицерам, умоляюще произнес: — Господа, это моя личная тайна, но клянусь, ничего политического или предосудительного в ней нет. — Какая «тайна»? — подчеркивая последнее слово, пренебрежительно спросил майор. — Ну, выкладывайте ее, если она имеется. — Выдумки! — резко выкрикнул Вернер. — Старые штучки, на которые не попадаются даже новички лейтенанты! Идемте со мной, Мюллер! — Господа, клянусь, я говорю правду! — взмолился Мюллер. — Это личная тайна, из-за которой я решил ехать на несколько дней в Россию. — Старая любовь, красавица, дожидающаяся сорок лет своего возлюбленного? Какая невероятная чушь! — засмеялся Гопкинс. — Да нет, совсем другое. Я, я хочу вывезти оттуда зарытые мною в двадцатом году сокровища, — пролепетал Мюллер. Оба разведчика захохотали. — Ох и ловкач же вы, Мюллер! — хватаясь за бока, хохотал майор. — Ловко придумал — в середине двадцатого века пиратские романы нам рассказывать! — Сказки! И долго вы думали или сразу сочинили все это? — вытирая платком глаза, поинтересовался Вернер. — Ей-богу, правда! Как честный человек, уверяю вас, что все это правда. Ведь еще во время войны, в тысяча девятьсот сорок втором году, я именно потому только и согласился вступить в армию, чтобы ехать в оккупированные места на Кавказе и вернуть зарытые мною при бегстве из России фамильные драгоценности, — соврал фон Мюллер. Голос его дрожал, и офицеры перестали смеяться и внимательно посмотрели на него. — Черт его знает, а может быть, это и серьезно, — продолжая разглядывать коммерсанта, наконец выговорил майор. — Похоже на сказку, хотя… — Капитан задумался и нерешительно сказал: — В этой варварской России, вероятно, зарыто немало кладов, когда несчастные люди бежали куда попало от казней и грабежей большевиков. — Именно так, господин гауптман… В начале двадцатого года, когда белая армия генерала Деникина была разбита большевиками и все беженцы ринулись к морю, я сам зарыл наши фамильные ценности под Владикавказом, нынешним Орджоникидзе, — пояснил Мюллер уже со вниманием слушавшим его офицерам. — Почему же вы не вывезли их с собою? — несколько недоверчиво спросил американец. — Мы бежали в Грузию, но на границе тогдашней России грузинские солдаты и власти отбирали все до последней нитки у искавших у них спасения от большевиков людей. Майор покачал головой и задумался. — Но тогда тем более странно, — вдруг сказал Вернер, — что, имея там такие богатства, вы четыре раза подряд отказывались от нашего предложения съездить именно туда, где лежат эти богатства! — Да-а! — выходя из раздумья, сказал Гопкинс. — Что вы на это скажете, любезный Мюллер? — Только то, что, боясь привлечь на себя внимание большевистской полиции как на разведчика, я отказывался от исполнения каких-либо специальных заданий. Ведь сами же понимаете, что быть просто туристом легче и безопаснее, чем ехать как разведчик или диверсант, выполняя сложное и опасное поручение. — Чепуха! — нахмурился Вернер. — Ведь вы ни разу даже не дали досказать нам, что именно вам нужно было сделать во время этой поездки! — Я не мог ехать один или в какой-либо официальной группе. Ведь это привлекло бы пристальное внимание Чека или подобных ей органов. — Просто боялся, — презрительно сказал капитан. — Нет, но за мной бы усиленно наблюдали, и я никак не смог бы достать свои сокровища. — Ну, а теперь, если мы поможем вам поехать туда в качестве туриста, вы рискнули бы наконец выполнить то, что поручим вам? — спросил американец. — Если это несложно и не очень рискованно, то да! — не без страха согласился Мюллер. — Совершенный пустяк. Зайти к одному нашему старому резиденту, уже с полгода прекратившему с нами связь, выяснить, что с ним, и получить от него устные сведения, — закончил майор, видя, как побледнел Мюллер. — Вы должны будете дословно запомнить их. Вот и все. Никаких убийств, диверсий и взрывов. Просто посетить этого человека как его брат или племянник. Человек этот старый. Вот и все. — Если только это, то я согласен! — успокоился Мюллер. — Только. Да и вам ведь лучше иметь дело с нами. Представьте себе, вы выкопали ваши ценности… Кстати, много ли их там? — вдруг спросил майор. — Много, кило пять, — наугад ответил Мюллер. — Ого! Если не сочинили, то вы делаете хороший бизнес, дорогой Мюллер, — похвалил американец. — Ну, так выкопали вы их, а как увезти? Вот тут-то мы и можем помочь вам, и через соответствующие деловые органы вы перевезете ваши сокровища как дипломатический груз. Понимаете ли выгоду от нашего предложения, наивный вы человек?! — похлопывая повеселевшего коммерсанта по плечу, сказал Гопкинс. — А то ведь выкопаете отцовские богатства, а их па границе или в аэропорту отберут советские таможенные власти. — Кладоискатель! — насмешливо протянул капитан Вернер. — Было бы забавно, если бы они отобрали у вас ценности и выкинули с позором как мошенника. Поди доказывай им, что это ваши фамильные, наследственные богатства! — Да, об этом я и не подумал, — почесывая переносицу, сознался Мюллер. — То-то! А вы, дорогой мой, без нас хотели разрыть ваш кавказский Клондайк! — засмеялся майор, и по его губам расплылась добродушная улыбка. — Ну, ближе к делу, — прервал эту идиллию капитан. — Мы, Мюллер, поверим вам и поможем и здесь, в министерстве, и там, в России, вы же должны будете сделать лишь то, о чем сейчас сказал вам майор Гопкинс. — Я согласен, — торопливо сказал Мюллер. — К кому и куда я должен обратиться во Владикавказе? Гопкинс вынул из стола бумагу и сказал: — Прежде чем открыть вам адрес и кличку нашего резидента, необходимо подписать вот это. — И он протянул коммерсанту бланк, на котором было напечатано:
1. Я, гражданин Федеративной Республики Германии… — капитан вписал фамилию, — коммерсант и владелец фирмы «Генрих Мюллер, Кранц и K°», а также экспортно-импортной конторы «Возрождение», по поручению Бюро Д. У. Ш. обязуюсь выполнить данное мне этим учреждением поручение добросовестно, тщательно и со всей необходимой в таких случаях осторожностью. Поручение это случайное, не является службою в указанном выше органе, и подписывающий настоящее обязательство свободен в дальнейшем от исполнения каких-либо новых или дополнительных поручений Бюро. 2. Обязательство подписывается добровольно. 3. За разглашение порученного дела или раскрытие тайны и секретов указанного выше учреждения подлежу суду ФРГ. 4. На расходы по выполнению порученного задания получил 1250 марок.— Подписывайтесь здесь, — ткнул ногтем куда-то вниз бумаги Гопкинс. Мюллер, очень довольный тем, что ему лишь один раз придется выполнить задание разведки, расписался. — Поздравляю! — сказал Вернер. — Наконец-то! — Садитесь вот тут и внимательно слушайте все то, что сейчас скажем, — переставая улыбаться и пряча в сейф бланк, сказал Гопкинс. — Теперь вы уже наш сотрудник. Правда, на одно лишь поручение, но все же вы наш агент до тех пор, пока не выполните задание и не отчитаетесь в нем. Первое: поедете вы в качестве туриста не сразу, а несколько позже. — Почему? — обеспокоенно спросил Мюллер. — Потому что вам надо будет пройти хотя бы краткие курсы подготовки, необходимой для самого простого разведчика, посещающего ту или иную страну. — Но ведь вы сами сказали, что я не настоящий разведчик, не буду выполнять какие-то особые функции, — встревожился коммерсант. — И сейчас повторяю это, но вам будут известны кое-какие секреты нашего дела, даны явки, клички агентов, их адреса, и совершенно понятно, что вы хотя бы кратко, но должны познакомиться с элементарными приемами случайного агента. Как же может быть иначе? — развел руками майор. — Яснее ясного. Да Мюллер это хорошо знает и сам. Одним словом, вы наш агент на одну-единственную поездку в СССР, обязательство, подписанное вами вполне добровольно, у нас, а теперь вы, Мюллер, должны слушать и исполнять все то, что будет исходить от вашего начальства, — ледяным голосом сказал капитан Вернер, указывая на майора. — Да, теперь вы уже наш сотрудник и, — майор добродушно засмеялся, подталкивая под локоть растерянного коммерсанта, — мы с Вернером ваши начальники. Полное лицо Гопкинса смеялось, губы расплылись в улыбку, но жесткие, твердые глаза смотрели строго. — Я готов, — тихо сказал Мюллер, только теперь понявший, в какую паутину затянули его эти люди. — Вот и хорошо. Итак, вы пройдете четырехмесячную школу подготовки в районе города. Адрес вы узнаете позже. Там вас обучат кое-чему весьма нужному. Это, — и майор, подмигнув Мюллеру, снова толкнул его под локоть, — это, мой дорогой, и в дальнейшем окажется полезным вам и в жизни и в торговле. Вернер вежливо молчал. Когда же Гопкинс кончил, капитан, глядя Мюллеру прямо в глаза, сказал, постукивая пальцем по папке: — Весной будущего года вы отправитесь в Россию. Заявление ваше мы вернем в министерство, и в мае-июне будущего года немецкий турист… — Он задумался. — Вы — Мюллер, значит, надо вам дать такую фамилию, которая очень походила бы на вашу. — Чтобы вы случайно не напутали в поездке, — пояснил Гопкинс. — Именно! — подтвердил капитан. — Итак, с сегодняшнего дня в наших делах именуетесь Брухмиллером. Запомните эту фамилию и начинайте привыкать к ней. Второе: мы устроим и облегчим вам поездку на Кавказ. В этом же проклятом городе, — капитан взял бумагу и по складам прочел, — Ор-джони-ки-дзе вы найдете нашего агента, кличку и номер его мы в свое время вам скажем, и получите от него устные нужные нам сведения. Вам самому никуда не нужно ездить, все точные данные вам сообщит этот человек. — И это немало! — пробормотал Мюллер. — Это пустяки! Мы могли бы послать для этого любого человека, но наиболее подходящий именно для такой поездки вы, господин Мюллер! — Почему я? — Вы знаете город, выросли в нем. Вам не нужно приспосабливаться к местным условиям, вы прекрасно знаете русские и туземные языки и, самое главное… — Тут Вернер поднялся с места, а Гопкинс тяжелым взглядом уставился на беспокойно слушавшего коммерсанта. — Самое главное — это то, что наш агент живет в том доме, который когда-то принадлежал вашему отцу и в котором вы действительно будете как у себя дома. — П-позвольте, но ведь это усиливает риск! — взмолился Мюллер. — Там легко могут узнать меня. — Кто? — засмеялся Гопкинс. — За сорок пять лет сотни раз умирали, переселялись, уезжали и въезжали новые люди. У большевиков дело с жилищами обстоит именно так, а революция, гражданская и, наконец, вторая мировая война изменили не только состав населения, но и облик прежних русских городов. Да вы во всем этом городе не найдете и двух людей, с которыми проживали в детстве! — К тому же за две-три недели до отъезда наши специалисты, — Вернер рассмеялся, — по гриму и кабинетам де боте так изменят вашу внешность, что и ваша милая супруга не узнает вас. Это пустяки, наша техника в этом деле стоит на очень высоком уровне. Сокровища ваши пролежали в земле много лет, пусть они полежат еще несколько месяцев, зато, когда вы извлечете их оттуда, они при нашей помощи беспрепятственно и наверняка будут вами переправлены в Германию. Слова о зарытых в землю драгоценностях напомнили коммерсанту о цели его поездки, и он сразу же сказал: — Для пользы дела и блага нашей дорогой Германии я, господа, выполню все, что нужно! — Вот и хорошо. Теперь последнее. — Гопкинс встал, прошелся по комнате и, остановившись перед фон Мюллером, медленно сказал: — Если нашего агента, проживающего в вашем бывшем доме во Владикавказе, не окажется в живых, что весьма возможно, так как он старый человек, или вы не застанете его дома по каким-либо причинам, то вы, — майор, отчеканивая слова, раздельно проговорил, — обязательно должны будете проехать в Тифлис и там по адресу, который вам укажет капитан Вернер, получить те же самые сведения от некоего другого лица. Фон Мюллер побледнел и растерянно пробормотал: — Но ведь это же новые, не обусловленные соглашения, поручения! — Это одно и то же! — холодно ответил майор и, повернувшись к нему спиной, отошел к окну. — А теперь ступайте домой, занимайтесь вашими торговыми делами. Конечно, никому ни полслова, о чем здесь говорили. Когда будет надо, мы уведомим вас, и вы начнете посещать школу подготовки. Гопкинс и Вернер пожали руку успокоившемуся Мюллеру, и коммерсант, высоко подняв плечи, бодрой, молодцеватой походкой вышел из кабинета американца. Так на свет родился пастор Брухмиллер. Когда шаги его в коридоре стихли, оба разведчика переглянулись и громко и весело расхохотались. Майор Гопкинс даже вытер платком вызванные хохотом слезы. Успокоившись, он спросил: — Жулики здесь? — Здесь. Позвать? — спросил Вернер. Продолжая все еще улыбаться, Гопкинс мотнул головой. Капитан нажал кнопку настольного звонка, и из левой, ведущей куда-то вглубь двери вошли князь Щербатов и Курочкин. Они остановились в солдатской стойке у двери, выжидательно глядя на американца. — Ловкачи! — одобрительно сказал майор. — Ваш план прошел великолепно. Сокровища русского царя затуманили голову этому купчишке! — Он засмеялся. — Испытанный номер, господин майор, — почтительно улыбаясь, сказал Щербатов, — два раза в Японии, раз на финской границе. — Блестяще выполнено, господа! — одобрительно захохотал майор. — Ведь сколько раз этот трусливый осел отказывался от наших предложений! — Блеск бриллиантов ослепил дурака! — пренебрежительно сказал Вернер. — Жадность человеческая, господин майор, безгранична. В этом я убедился на своей работе. И что удивительно, — своим обычным, спокойным голосом рассказывал князь, — что чем обеспеченней человек, тем сильнее он стремится к… — Вы философ, — снисходительно улыбнулся Гопкинс. — Меня самого удивил этот жадный торгаш, поддавшийся на такую детскую и смешную уловку. — Никак нет-с. Мы с их сиятельством, — почтительно сказал Курочкин, указывая на Щербатова, — уже в четвертый раз на эту удочку ловим жадных до чужого богатства людей. — Нужно быть только наблюдательным человеком и психологом, остальное пустяки. Жадность туманит мозги даже и более осторожным и умным людям, чем этот Казаналипов, — махнув рукой, сказал князь. — Нет, он не так глуп, — сказал Вернер. — Прежде чем согласиться, этот купчишка обратился за справками и в городскую полицию, и в Бюро частного сыска… Оба жулика переглянулись. — Не беспокойтесь, — весело сказал Гопкинс, — по нашему приказанию о вас даны такие солидные рекомендации, что я и сам иногда начинаю думать, что вы и впрямь приличные люди! Все четверо засмеялись; Гопкинс и Вернер — громко и откровенно, а князь и его подручный — тихо, тенорком, прикрывая ладонями рты. — Ну, как вы теперь предполагаете морочить этого кладоискателя? — спросил американец. — Как скажете! — поспешил Курочкин. — Нужно немного повздорить, погорячиться, сделать вид, что недовольны отсрочкой его отъезда, — сказал Гопкинс. — А как с деньгами? Можно ли брать у него под те сто фунтов? — Немного можно, но не обирайте слишком этого болвана. Меня интересуют не деньги, а как вы объясните ему неудачу поисков, когда он вернется обратно? Оба жулика переглянулись и рассмеялись. — Самое легкое! — махнув рукой, сказал старик. — Мало ли что! Причин для неудачи много, хотя бы то, что за сорок пять лет большевики сто раз могли сносить, засыпать и видоизменять эти места! — Опять же мы господину Мюллеру дадим план в верстах, а теперь там километры. Вот уже немалая путаница в расстоянии. — Все предусмотрено! — хитро улыбнулся князь. — Вместо шоссейной дороги пошлем по тропке куда-нибудь вверх. Там везде горы, ясно, что и тропинок сколько угодно. — Опять же чинар или орешник, дерево такое. Клад будто бы зарыт его сиятельством, — указывая на старика, почтительно сказал Курочкин, — а там этих чинаров за сорок лет, наверное, целый лес вырос! — Молодцы, настоящие пройдохи! — восторженно глядя на жуликов, засмеялся Гопкинс. — Затем, — словно не слыша одобрительных возгласов американца, продолжал князь, — у меня в этой бумаге написано «идти влево от тропинки вверх против течения ручья», а ведь с гор сбегают десятки ручьев и водопадов, поди догадайся, который из них самый нужный! А разве не могли высохнуть за это время ручьи? — чуть улыбаясь, говорил Щербатов. — И наконец, и сами большевики могли случайно обнаружить царские сокровища. — Пройдохи! — задыхаясь от удовольствия, пробормотал американец. — Можете идти! Когда будет нужно, капитан, — он кивнул головой в сторону весело улыбающегося Вернера, — найдет вас. Гопкинс отвернулся, князь и Курочкин исчезли в той же двери, а капитан Вернер взял портфель и, почтительно поклонившись американцу, ушел. Так месяцев через десять в городе Орджоникидзе появился уже знакомый нам по первой главе пастор Иоганн Брухмиллер, совершавший туристскую поездку по Кавказу.
Глава IV
Автобус с иностранными туристами, шурша шинами по асфальту шоссе, легко катил в сторону Дарьяльского ущелья. Горы насупились и ближе подошли к дороге. Усеченное плато Столовой горы висело влево, коричневый Терек, весь в пене и брызгах, вздыхал и метался; зеленые леса, голубое небо, свежий, густо напоенный ароматами горных трав и цветов воздух врывался через спущенные стекла автобусов. — Неповторимая красота! — сказал один из молодых немцев. — А Кавказ только начинается, — улыбнулась переводчица. — Через сорок — пятьдесят минут мы въедем в ущелье, откуда и начнутся суровые и прекрасные места! — «Да-ри-ал»! — с трудом прочла название ущелья молодая бельгийка, всматриваясь в свой Бедекер. — Вы увидите, господа, буйный и прекрасный в своей дикой красоте Терек, над ним развалины крепости и дворцы знаменитой в древности грузинской царицы Тамары, — ровным, заученным голосом рассказывала слушавшим ее туристам переводчица. — В настоящее время вокруг реки по обе ее стороны идут крутые… Резкий, болезненный стон прервал ее слова. Она замолчала, испуганно глядя на посеревшее от боли, искаженное лицо пастора Брухмиллера. Он хотел что-то сказать, но из его горла вырвался тяжелый стон и он, хватаясь за грудь, с трудом пробормотал: «Бо-боль-но!!» — и навзничь повалился на сиденье. Один из голландцев подхватил тяжело осевшее тело пастора. Испуганно закричали женщины, взволнованно перебивая друг друга, заговорили мужчины. Впереди уже видны были дома и сады Ларса, одного из осетинских аулов, расположенных вдоль шоссе. Переводчица что-то крикнула шоферу, и тот, быстро оглянувшись, понимающе кивнул ей головой, свернул с шоссе и остановил автобус у большого каменного здания. Из автобуса выскочили туристы, перепуганные внезапной болезнью пастора. Озабоченная переводчица уже вела кого-то к машине. Растерянные женщины с испугом и участием смотрели, как двое осторожно положили на носилки бледного, стонущего пастора. Его искаженное страданием лицо было перекошено, глаза потухли, руки быстро и непрерывно дрожали. Было видно, как тяжело и сильно страдал этот еще полчаса назад крепкий, цветущий человек. Больного внесли в здание. Это была школа. Фельдшер внимательно осмотрел больного. — По-видимому, отравление недоброкачественной пищей, хотя возможен и инфаркт. Случай тяжелый, и больному ни в коем случае ехать дальше нельзя, — сказал он. — Но как быть? — заволновались остальные туристы. — Это наш товарищ. Мы все вместе вылетели из Берлина… мы не можем оставить его одного в таком состоянии. — Один онне будет. Сейчас из города вызовем доктора. Он осмотрит больного, и если это серьезно, то господина пастора, как это только будет возможно, перевезут в клинику города. Если же это, будем надеяться, просто сердечный припадок, то через день-другой он на легковой машине приедет в Тбилиси, где мы встретим его. Во всяком случае, о состоянии его здоровья мы каждый день два-три раза будем извещены по телефону, — успокаивая туристов, сказала переводчица. — Это совсем другое дело, — с облегчением заговорили туристы. Спустя несколько минут автобус с остальными иностранными гостями пошел дальше по своему маршруту, а внезапно заболевший пастор остался в школе местечка Ларе на попечении озабоченного фельдшера. Чемодан и дорожный саквояж пастора стояли у изголовья кровати, которую принесли из квартиры начальника почтовой станции. Пастору было немного лучше. Он уже легче дышал, иногда что-то говоря по-немецки, но фельдшер и начальник станции не понимали его. Лицо Брухмиллера стало спокойнее, серый налет, первоначально покрывавший его, сошел, однако слабость и то и дело повторяющаяся в области сердца боль не оставляли его. По телефону из Орджоникидзе сообщили, что доктор к больному выехал и чтобы фельдшер немедленно положил горячую грелку на сердце и повторил укол камфары. Пастор молча и беспрепятственно подчинился вторичному уколу. Теперь он даже несколько раз пробормотал: «ка-ра-шо… спа-сиба». Приехавший вскоре доктор внимательно осмотрел больного, но, не найдя инфаркта и не обнаружив отравления, предложил было пастору на следующий день в санитарной машине переехать в городскую клинику, но Брухмиллер, через приехавшего с доктором переводчика, наотрез отказался. — Зачем? Этот глупый сердечный припадок и так уже нарушил порядок моего путешествия по вашей стране. Зачем же осложнять его новыми обстоятельствами? Сейчас я слаб, мне нужен только свежий воздух и покой. Здесь того и другого больше, чем в городе. Со мною уже не раз бывали такие припадки. Три дня отдыха, хороший сон, питание и покой — вот все, что поднимало меня на ноги. Надеюсь, что все это я найду тут. — Хорошо, — согласился врач, — только не спешите подниматься, выполняйте мои указания и будьте под наблюдением здешнего фельдшера. Завтра к двум часам дня я навещу вас. Так пастор остался в Ларсе, окруженный заботами начальника почтовой станции, его жены, фельдшера и двух местных жительниц, которые должны были готовить пищу, какую только захочет их гость. Пастор долго лежал с закрытыми глазами, размышляя о том, как поступить дальше, как, сделав вид, что ему несколько легче, начать поиски зарытого здесь, в нескольких десятках метров от станции Ларс, бриллиантов императрицы.Глава V
Антон Ефимыч часов около десяти пошел к Тереку. Старик любил рыбачить. Часов с семи он уже накопал червяков, взял две свои любимые удочки с красным и оранжевым поплавками и, позавтракав, пошел к Тереку, где невдалеке от деревянного моста (кладок, как именовали его местные жители) он знал тихое место под ивами, где водился сом и крупная плотва. Дарья Савельевна, проводив старика, аккуратно помыла посуду, переоделась и, вынув запрятанные с вечера окурки, пошла к начальнику милиции, майору Гоцолаеву. Майор, человек средних лет, сначала небрежно слушал подробный рассказ гражданки Пашковой. Жилищные дела, семейные ссоры, пьяные дебоши хулиганов надоели ему, и он как раз и ожидал, что эта пожилая, упорно добивавшаяся приема «только к начальнику» женщина станет жаловаться ему на соседей или нерадивость домоуправа. Но вскоре майор понял, что здесь было что-то гораздо более важное, чем домашние склоки соседей. Он внимательно выслушал старуху, затем позвонил, и, когда в комнату вошел дежурный лейтенант, начальник милиции сказал: — Проводите сейчас же гражданку Пашкову к товарищу Боциеву. Доложите от моего имени, что дело серьезное и требует немедленного вмешательства органов госбезопасности, а вас, Дарья Савельевна, — повернулся он к сидевшей старухе, — от лица народа благодарю за помощь. Такие люди, как вы, очень, — он подчеркнул, — очень помогают нам в нашей трудной работе. Гоцолаев крепко пожал руку Дарье Савельевне, и она вместе с лейтенантом вышла на улицу. Спустя полчаса старуха сидела в кабинете полковника Боциева и снова подробно, толково и спокойно рассказывала ему о странном посещении ее квартиры двумя совершенно не похожими друг на друга «племянниками» покойного Почтарева. — Вы думаете, они не знали друг о друге? — Не только что не знали, а даже и не слыхивали друг о дружке, а второй, грузин, так тот даже своего якобы дядю Почтарева по имени-отчеству и вовсе спутал. Опять же оба испугались поначалу, когда наскочили один на другого, а после тихо об чем-то поговорили, а как договорились, так оба успокоились и начали нас со стариком обхаживать, вроде как больно им, что Почтарев помер, не осталось ли каких бумаг от него. — А они были? — быстро спросил Боциев. — А как же, были и письма, и бумаги, так их тот, чернявый, что на Булата Казаналипова лицом похожий, забрал с собой. Как память, говорит, об дяде, то есть об Почтареве. — И много было бумаг? — Много… бумаг с полкило потянуло бы. А вот, товарищ начальник, — вынимая из кармана бережно сложенные в пакетик окурки, — и бычки, то есть окурки, что после них остались. Поглядите, вроде бы как и не наши? — передавая полковнику пакетик, сказала старуха. Боциев тщательно осмотрел окурки, золотые ободки на них, понюхал табак и позвонил. — На экспертизу! И немедленно же доложить мне результаты, — приказал он вошедшему на звонок человеку. — Вы б могли узнать людей, посетивших вас ночью? — спросил он. — Да, батюшка, — всплеснула руками Дарья Савельевна. — Хоть бы через год, оба эти антихриста как живые стоят в глазах. — Один, говорите, грузин? — Точно, — подтвердила Дарья Савельевна. — А второй? — Не русский, хочь и говорит почище нас с вами. Высокий, чернявый, глаза такие, точно насквозь тебя видит, а голос вежливый да тихий. И говорит сладко, по-деликатному. Чай пил у нас тоже вежливо, по-господски, с улыбочкой, с собою вина красного принес… все как бы прилично. А у меня не лежит к нему сердце, особливо как второй «племянник», — усмехнулась старуха, — объявился. Засуетились они, об чем-то промеж себя погутарили — и прощаться. — Что говорили, уходя? — Грузин молчал, ну, а этот, Сергей Сергеич, что на Булата мордой смахивает, тот обещал через денек-другой зайти, даже заночевать у нас обещался. — А не говорили они, где остановились? — Этот, что первым явился, Сергей Сергеич, тот сказал, будто у вокзала на турбазе остановился и второго к себе на ночь зазвал. — Сергей Сергеич Почтарев? Так он себя называл? — спросил Боциев. — Точно! — подтвердила старуха, и полковник снова позвонил. — Выяснить срочно на всех отделениях турбазы, где и когда остановился там гражданин Почтарев Сергей Сергеич и куда, с какой туристской группой направляется. Кем и откуда выдана путевка, — приказал Боциев вошедшему. — Он говорил, что живет в Риге, а сюда приехал из Москвы, — сказала Дарья Савельевна. Полковник усмехнулся. — Вот и я думаю, что врет, — взволнованно сказала старуха, — гад такой! Я, товарищ полковник, спать теперь не буду. Да как же это такое? Два шпиена у меня в гостях были, чай-водку пили, а мы со стариком прохлопали, ровно дети какие! — Вы хорошо сделали, уважаемая Дарья Савельевна, вы правильно поступили, что не подали этим и виду, а утром прямо обратились к нам. Спите себе спокойно, не говорите никому, даже и вашему мужу, о том, что были у нас. Все будет как следует, и возможно, что вскоре мы вызовем вас. — Дай-то бог! — крестясь, проговорила старуха и, низко поклонившись полковнику, пошла домой. Боциев проводил Дарью Савельевну до дверей, потом позвонил по прямому проводу в Тбилиси, Нальчик и Грозный. Полковник просил соответствующие организации срочно узнать и сообщить, не выехал ли или не скрылся ли внезапно из соседних с Орджоникидзе городов молодой грузин, лет около двадцати восьми, по имени Ладо. Затем Боциев распорядился установить наблюдение за общественными местами, где могли появиться порознь или вместе двое людей, грузин Ладо двадцати шести — двадцати восьми лет и высокий смуглый человек лет пятидесяти пяти, Сергей Сергеевич Почтарев. Задерживать их запрещалось, но наблюдение за ними должно было быть неотступным. — Товарищ полковник, на всех четырех турбазах города человека из Риги с паспортом на имя Почтарева Сергея Сергеича не было. Списки проверены с первого мая и по сей день, — доложил вошедший к Боциеву сотрудник. — Проверьте списки и паспорта всех приезжих, остановившихся в гостиницах. — Уже сделано. Проверка не дала результатов. Будем ждать. — А подозрительные лица и их жилища взяты на учет? — Наблюдение ведется. Полковник посмотрел на говорившего: — Куда вчера и сегодня были выезды экскурсий и туристов из города? Может быть, эти лица сейчас где-нибудь на Цее или на Казбеке? — Вряд ли! — сказал сотрудник. — Сегодня, кроме автобусов с интуристами в Тбилиси да такси в Кисловодск и Нальчик, никаких экскурсий не было. В дверь постучали. В кабинет вошла миловидная девушка лет двадцати четырех. — Товарищ полковник! Экспертиза окурков показала: папироса иностранная, американская, фирмы «Кемел». Табак обыкновенный, никаких примесей нет. С окурков лабораторным путем сняты отпечатки пальцев двух людей, куривших сигареты. На четырех окурках отпечатки одни и те же, на одном, пятом, другие. — Спасибо, Зина. Поблагодарите товарищей за быструю и точную работу, — сказал полковник. Девушка ушла. Боциев поднялся с места. — Как мне сразу не пришло это в голову? — как бы самому себе сказал он. — Ну-ка, капитан, проверь негласно, кто, какие интуристы посетили наш город, сколько их было, из каких стран и не было ли среди них высокого, смуглого человека с проседью, отлично говорящего по-русски. Сообщи по телефону, чтобы на всем пути следования автобусов проверили, нет ли среди них указанного человека. — А если есть, то что? — спросил капитан. — Вести наблюдение, и все. Мы не имеем права трогать этого человека без каких-либо веских улик. Надо только внимательно наблюдать за ним. — Понятно! — ответил капитан. — Ну, теперь тебе легче будет разобраться в этом пустяковом деле, — сказал полковник. — Пустяковом! — удивился капитан. — Конечно! Следы уже есть, внешность обоих нам известна, место их случайной явки обнаружено, теперь остались пустяки: выяснить, кто они такие, зачем прибыли в Орджоникидзе, откуда пожаловали и кто их хозяева. Поручаю тебе это дело, но меня ставь дважды в день, если надо и чаще, в известность. Иди выполняй задание! — берясь за бумаги, отпустил Боциев капитана, молча слушавшего его. День был воскресный, учреждения не работали, поэтому не так-то легко было получить нужные сведения. В течение дня ответ пришел только из Грозного. Внезапного исчезновения «молодого грузина Ладо» там обнаружено не было. Зато часам к семи, когда на зеленые и веселые улицы города высыпала молодежь, когда ясней и рельефней заискрились под закатным солнцем снежные пеликаны Кавказа, из Ларса, находящегося совсем рядом с Орджоникидзе, пришла телефонограмма.«Внезапно заболевший острым приступом стенокардии интурист, пастор Иоганн Брухмиллер, ехавший в Тбилиси вместе с группой приехавших в СССР интуристов, ввиду тяжелого состояния снят с автобуса и оставлен на излечение в Ларсе. Врач, доктор Кирсанов, срочно выехал в Ларс для оказания помощи больному».— Почему так поздно сообщили? Ведь это необычное происшествие! — сердито спросил полковник. — Ведь телефонограмма пришла, судя по записи, пять часов назад! — Так точно! — хладнокровно подтвердил капитан. — Но я решил доложить вам о ней после того, как сам навещу больного. — Ты был в Ларсе? — Так точно. В роли шофера санитарной машины. — И как? — уже с нескрываемым любопытством спросил полковник. — Больной — высокий, плотный человек с проседью на висках. Лицо смуглое, по-русски не говорит. Состояние его тяжелое. Острый сердечный припадок, или, как определил доктор Кирсанов, «прединфарктное состояние». Необходим постельный режим, диета, питание и покой. — Он там? — Оставлен в Ларсе по категорическому настоянию. — Врача? — Нет, самого больного. Полковник усмехнулся: — Очень хорошо. Там легче будет проследить за теми, кто навестит «сердечного больного», — засмеялся Боциев. — За ним наблюдают? — Надежно! — коротко ответил капитан. — Не мешайте «больному» ни в чем. Если кто зайдет к нему или он сам вздумает кого позвать, исполняйте. Может быть, наш горный воздух подействует на его больное сердце и господин пастор внезапно исцелится, вздумает погулять, посидеть в лесу, на шоссе или у Терека, не мешайте. Захочет немецких книг или переводчика — пожалуйста. Вздумает послать телеграмму, письмо или воспользоваться телефоном — все к его услугам. Необходимо лишь одно: чтобы «больной» не заметил, что каждый его шаг наблюдается нами. Снимите с него фото. — Уже сделано, проявлено и отпечатано в восьми экземплярах, — коротко ответил капитан, вынимая из портфеля пачку фотографий. — Молодец, Сослан! Быть тебе через год майором, — беря фотокарточки, засмеялся полковник. — Это он, — внимательно разглядывая фото, пробормотал Боциев. — Старушка точно описала его. Кто, кроме тебя, знает о нем? — Уполномоченный Ларса, ведущий наблюдение, и я. Боциев кивнул головой. …Больной хорошо спал ночью, во всяком случае ночь прошла без камфары и уколов. Утром пастор попробовал было походить по комнате, но слабость, а также и фельдшер, наблюдавший за больным, помешали его эксперименту. Часов около десяти приехал доктор. — Сегодня вы выглядите молодцом, — выслушав больного, сказал врач, — нет глухих тонов и перебоев сердца. Отличный пульс, хорошего наполнения. Теперь вам нужен только покой. — А могу ли вечером выйти на воздух? — спросил через переводчика пастор. — Если посидеть на балконе, то да. Гулять же пока не нужно. — А как долго придется мне пробыть здесь? — осведомился Брухмиллер. — Дня четыре, и то, если не зашалит ваше сердце. Доктор уехал. Пастор, полежав еще с полчаса, достал из чемодана немецкую книгу, озаглавленную «Африка», и стал читать ее. Читал он, как видно, невнимательно, так как, пробежав несколько строк, стал листать книгу, пока не остановился на одной из карт, надолго задержался на ней. Книга, по-видимому, была географической, так как в ней было много листов и вклеек с цветным, четко изображенным Африканским материком, реками Нил, Конго, Нигер, Замбези, Оранжевая, Лимпопо, озерами Танганьика, Виктория, Ньясса, горами Килиманджаро, Кения и др. Пастор положил на одеяло книгу и тяжело задышал. Никто не входил, он негромко сказал по-немецки: — Есть кто-нибудь возле? Дайте, пожалуйста, воды. Но в передней, по-видимому, было пусто, тогда Брухмиллер снова взял книгу и, развернув «Африку» на девяносто девятой странице, стал читать текст. Там, начиная с седьмой строки, рассказывавшей об огнедышащей горе Килиманджаро, после слов:
«Гора не особенно высока, хотя ее снежная вершина видна на много километров вокруг. Сверкая вечными снегами и ледниками, она…» — дальше тем же шрифтом, продолжая строку, было напечатано: «Местечко Ларс. От самой дороги вправо, пройдя от старого здания бывшей здесь некогда разгонной почты ровно сто пятьдесят шагов, свернуть на юг… Влево от тропинки стоит огромный вековой бук в четыре обхвата, за ним с гор сбегает ручеек. Справа от него вьется горная тропинка, ведущая к аулу Мохеви. Пройти по ней девять (средних) шагов. Влево будут кусты, возле них большой, усеченный ветрами, дождем и временем камень. Копай под ним, в самой середине, на глубину полтора аршина».Затем опять шел текст, рассказывавший о склонах Килиманджаро, на которых рос густой, тропический лес. Пастор перевернул страницу, на ней была карта, а под ней рисунок горы, по-видимому одного из отрогов африканского великана и две небольшие, устремленные вверх стрелки. Тропинка, ручей, водопад, ниспадавший сверху, одинокий ствол какого-то мощного дерева и в стороне от него большой камень. Подпись под рисунком была короткой:
«Путь, по которому шла к вершине группа западногерманских альпинистов, поднявшихся 10 июня 1955 года до самого кратера Килиманджаро».Пастор изучающим взглядом долго всматривался в рисунок, затем медленно поднялся и, не спеша, неуверенно ступая, вышел на балкон. Солнце светило весело и ярко. Зеленые кусты и кудрявый лесок взбегали по горе вверх. Воздух был свеж и прозрачен. Брухмиллер всей грудью вдохнул густой, бодрящий воздух и огляделся. Шумы дороги доносились до него, по траве бегали босоногие ребятишки, семейка разноперых кур с важным, сердитым петухом копалась в земле. Молодая осетинка развешивала за домом белье. Все было мирно, обычно, спокойно. Никто не следил за пастором. Брухмиллер сел на стул и стал с балкона вглядываться в ту сторону, где, судя по карте и точным, детальным рассказам Щербатова, лежал клад. Но пейзаж Ларса и весь лесной облик маячившей перед ним горы вовсе не были схожи с тем, что было написано и нарисовано на девяносто девятой и сотой страницах книги. Гора была не рядом, а в стороне от дороги, никаких тропинок не было видно, кустарник густо облепил подошву горы. На рисунке же был сплошной лес могучих стволов. «Черт ее знает, где эта ведущая к камню дорожка!» — подумал пастор, вглядываясь вперед. — Отдыхаете? — услышал он голос начальника станции. — Это хорошо. Наш горный воздух лучше всякого лекарства. Пастор приветливо улыбнулся и развел руками. — Их ферштее нихт… мой не говорит русски… — проговорил он. — Да, да — засмеялся хозяин, — я говорю, воздух, воздух гут. — Он широко открыл рот и всей грудью вдохнул, показывая этим, как хорош и целебен воздух Ларса. — О я, яволь… — как бы догадавшись, проговорил Брухмиллер и, слегка опираясь на руку начальника станции, стал медленно сходить по ступенькам. — Э-э, друг, может, тебе еще нельзя это, — обеспокоился хозяин. — Ферботен, ферботен! — показывая на сердце, сказал он, вспоминая ставшее знакомым проклятое слово, которым фашисты в дни оккупации 1941–1942 годов запрещали решительно все в занятых ими в те дни советских местностях. Пастор слабо улыбнулся, но все с той же настойчивостью продолжал спускаться вниз. Во дворе, кроме мальчуганов да черной, с любопытством взиравшей на них козы, никого не было. — Куда вы… доктор сказал нельзя много двигаться, — разводя руками, попытался остановить его хозяин. Но пастор, открыв рот, широко вдохнул в себя воздух, улыбнулся и убежденно сказал: — Гут, зер гут… — Гут так гут, это верно, — согласился хозяин, — только не ходи ты далеко, чертов немец, а то еще загнешься где, а я за тебя отвечать буду, — кивая головой и уходя по своим делам, сказал начальник станции. Брухмиллер остался один. Он тихо брел мимо каких-то невысоких построек, прошел домик, из которого неслись по радио веселые частушки, миновал окраину и не спеша выбрался к леску. Пока никаких тропинок не было, хотя ручейки действительно попадались на пути. Пастор поднял голову. Ручейки сбегали с горы, за кустарником виднелись деревья, но открывавшийся пейзаж был абсолютно иным. — Черт знает что! Напутал этот старый черт или я вышел не к тому месту! — пожимая плечами, пробормотал пастор. Неудачи преследовали его. Почтарев, из-за которого и помогли ему приехать сюда Гопкинс и Вернер, умер. Молодой идиот Ладо чуть не провалил его в городе. Места, в котором были зарыты бриллианты императрицы, пока что не было видно. «Не могло ж за эти годы все здесь перемениться так, что даже гора и лес не похожи на рисунок князя!» — вглядываясь вперед, озирая лес, то останавливаясь, то снова шагая вперед, размышлял пастор. — «Не обманул ли меня этот старый негодяй Щербатов?» — подумал пастор. Но нет, он не осмелился бы. Ведь господа Гопкинс и Вернер знали о кладе, это они через свои органы отпечатали текст и месторасположение клада, взятые у князя. Можно допустить, что два русских голодных эмигранта могли попытаться надуть его, коммерсанта Мюллера, но обмануть американскую и немецкую разведку, втянуть их в дутое дело… Не-ет, этого не могло быть! И Щербатов, и Курочкин были слишком ничтожными людьми и отлично знали, что бы с ними сделал разгневанный Гопкинс. Но тогда в чем же дело? Где этот проклятый ручей и тропинка, идущая от него влево? Пастору смертельно хотелось сейчас же броситься на дальнейшие поиски нарисованной князем тропинки, но осторожность прежде всего. Эта тишина и безлюдье могли быть обманчивы. Надо было запастись терпением, ведь срок три-четыре дня, которые дал ему доктор, начался только сегодня. И пастор, постояв неподвижно под самым склоном горного отрога, повернулся и, делая вид будто бы гуляет, медленно побрел назад, срывая на ходу то полевой цветок, то листок с какого-нибудь кустика. Во дворе он встретил встревоженного фельдшера, укоризненно качавшего головой и то и дело показывавшего ему на сердце. Пастор мягко улыбнулся, ласково потрепал его по плечу и пошел в комнату, откуда вкусно пахло яичницей и еще чем-то, что приготовили ему заботливые стряпухи. В понедельник, часам к одиннадцати утра, обстановка прояснилась. Перед полковником Боциевым лежали две телеграммы — одна со станции Шелковской, другая из Тбилиси. В первой сообщалось, что на станции скончался мужчина, попавший под колеса поезда. Бумаги, найденные при нем (паспорт и командировочное удостоверение сроком на тридцать дней), были выданы тбилисской гормилицией и Цекавшири[69] на имя Владимира Ивановича Цагарели. Боциев немедленно телеграфировал, чтобы труп был сфотографирован, а лицо покойного Цагарели снято в профиль и анфас, а также пальцы покойного были немедленно дактилоскопированы. Все эти материалы полковник просил срочно выслать в Орджоникидзе. Вторая телеграмма сообщала, что из Тбилиси в связи с разгромом контрабандной группы бежал Владимир Отарович Муштаидзе, двадцати семи лет, человек без определенных занятий, подозревавшийся в переходах через турецкую границу и контрабанде. Приметы Муштаидзе, подробно приведенные в телеграмме, целиком совпадали с данными Дарьи Савельевны и теми, которые поступили со станции Шелковской. — Я говорил тебе, капитан, пустое дело, — протягивая Сослану телеграммы, сказал Боциев. — Ну, а как служитель бога? — Сегодня почувствовал себя лучше. Думаю, что завтра-послезавтра выясним, чего это он так внезапно заболел в Ларсе. — Никто не посещал его? — Пока нет. Вчера вечером его компаньоны — туристы справлялись из Тбилиси о нем. Сегодня утром тоже. — Что он делал ночью? — Долго лежал с закрытыми глазами, часа в два ночи достал из чемодана какие-то бумаги, рылся в них, читал, перечитывал, сердито что-то бормотал по-немецки, по-видимому не находя в них чего-то нужного. — Это он, вероятно, бумаги умершего Почтарева пересматривал. — Больше половины прочитанного разорвал в клочья, спрятав обрывки в карманы брюк. Наверное, ночью или днем выкинет, гуляя где-нибудь вокруг Ларса. В три часа я везу к нему доктора. Карсанов, конечно, понимает, что я неспроста стал его шофером, но он не интересуется ничем, кроме больного сердца интуриста, а я молчу. — Очень хорошо! Карсанов умный, тактичный и преданный родине человек. Ну, иди, шофер, вечером явись с очередным докладом, — пошутил Боциев, отпуская капитана. Доктор осмотрел пастора и облегченно сказал переводчику: — Железный организм у этого немца! Передайте ему, что все идет замечательно, сердце уже не шумит, работает без перебоев, пульс отличный. Если сегодня ничего не изменится, то послезавтра он сможет продолжить поездку. — Благодарю. Моему сердцу особенно помог ваш чудодейственный воздух. Мне много говорили о целебных свойствах Кавказских гор, его воздуха и источников, теперь я сам убеждаюсь в этом. Спросите доктора, могу ли я осторожно, соблюдая его указания, погулять вокруг этого местечка. Моя сегодняшняя прогулка очень помогла мне. Доктор подумал, взял руку, пощупал пульс, снова прослушал сердце больного и затем решительно сказал: — Можно! Воздух для сердца — главное. Но предупредите больного, что ходить надо медленно, останавливаясь и отдыхая, и, главное, не больше часа. Перед сном и утром после завтрака. И, поклонившись, доктор хотел уйти, но, что-то вспомнив, сказал фельдшеру: — Шофер далеко? — Здесь, на балконе, — ответил фельдшер. — Позвать? — Скажите ему, чтобы… Хотя… — раздумывая, сказал доктор, — хотя позовите его. Вошел шофер, что-то дожевывая и закрывая ладонью рот. — Как у тебя с горючим, Сабан? — спросил по-осетински доктор. — Мне надо съездить в Казбек. Там заболела девочка, дочка тракториста Губинидзе. — Хватит, товарищ доктор. Я будто знал. Оба бака доверху залил бензином. — Ну, тогда в дорогу, — обрадованно сказал доктор и, обращаясь к фельдшеру, напомнил: — Следи, чтобы много не гулял. Нельзя переутомлять его сердце, да питайте пока молочными и овощными блюдами, а завтра с утра можно и мясное. Автомобиль загудел под окнами и пошел по шоссе к Дарьялу. Брухмиллер, неплохо понимавший осетинскую речь, с удовольствием убедился в том, что никому из этих простаков даже и в голову не приходила мысль заподозрить его в чем-либо. Пастор плотно пообедал и решил перед второй прогулкой в лесок полежать, отдохнуть и спокойно подумать о происходящем. Нет, опасениям не было места. В дверь заглянул переводчик. — Что нужно, мой друг? — слабым, как бы сонным голосом спросил пастор. — Если завтра вам будет лучше, может быть, захотите проехать на водную станцию? Там купальни, лодки, пляж — словом, можно и покататься, и посмотреть, как отдыхают после трудового дня горожане. — Откуда? Ведь озера никогда здесь не было! — забывая о том, что он «иностранец», с удивлением воскликнул мнимый пастор. — В ваших путеводителях его еще нет, но озеро искусственное и создано руками самих горожан еще в пятьдесят втором году, — сказал переводчик. «Чуть не влип! Хорошо, что этот человек глуповат», — с облегчением подумал Брухмиллер. — Спасибо, мой друг, завтра вряд ли… я еще слаб. — Если я вам не нужен, господин Брухмиллер, то до завтра! Надо ехать в город. Всего хорошего! — Скажите, есть здесь поблизости водопад с ручьями вокруг и тропинки к нему? Я очень люблю красивые виды и охотно прогулялся бы к такому водопаду. Переводчик подумал и затем, утвердительно кивая головой, сказал: — Есть, как же! С полкилометра западнее местечка есть и дорога вверх, и водопад с ручьями. Пастор просиял. — Благодарю вас. До свидания! — кивнул головой Брухмиллер. «Простаки!» — еще раз подумал он и, закрыв глаза, вернулся к своим мыслям. Почтарева в живых нет. Местонахождение клада пока не обнаружено. Где-то тут, поблизости от него, лежали в земле бриллианты императрицы, но найти их было трудно. Надо пойти западнее того места, где искал вчера. Там гуще лес, легче укрыться от случайного глаза, да и ручьев, сбегающих с горы, там, кажется, больше. Пастор вспомнил о Лотхен. Сердце его немного защемило. Он не столько любил, сколько привык к своей уютной, говорливой жене. «Как она обрадуется, когда один из перстней императрицы засверкает на ее холеном пальце…» Мысль его перебежала к Щербатову, Курочкину. «Старику надо будет дать еще пятьдесят фунтов, и хватит. Жить этому старому грибу осталось немного». Пастор вспомнил Гопкинса, Вернера, своих спутников из Европы, с которыми вместе приехал на Кавказ. Брухмиллер не вспомнил лишь о Ладо, с трупа которого в это время в далекой Шелковской станице милиция снимала фото для полковника Боциева. Пролежав минут сорок, пастор встал, взял свою географическую книгу и опять несколько минут тщательно всматривался в ландшафт горного отрога Килиманджаро. — Не похоже, — пожимая плечами, пробормотал он, — хотя разве вот это… — Он тщательно разглядывал изображенный на рисунке покатый склон, густо затканный лесом. Брухмиллер положил в карман книгу, вынул из чемодана толстую складную металлическую палку и спокойно сошел во двор. Он дружелюбно улыбнулся осетинке, хозяйничавшей у плетня, потрепал по щеке молча и испуганно взиравшего на него мальчугана, обошел стороной злобно лаявшую цепную овчарку. Начальник почтовой станции, сняв с головы широкополую войлочную шляпу, приветственно помахал ему вслед. Пастор шел неторопливо, осматривая как бы с любопытством встречавшихся ему по пути людей, иногда останавливаясь возле какого-нибудь деревца или куста. Он срывал цветы, пышно украшавшие предгорья, нюхал какой-либо лист, растирая его между пальцами и даже пробуя на язык. При этом он восторженно покачивал головой, всем своим видом показывая, как захвачен роскошной флорой и всей природой этих мест. Пастор все больше удалялся от местечка, уходя глубже в лес. Вот он и совсем исчез за деревьями. Ларс остался далеко позади. Пройдя еще с четверть километра, Брухмиллер резко свернул на тропинку, причудливо извивавшуюся в темной зелени. «Она! — с облегчением подумал кладоискатель. — А вот и ручеек, вот поворот вверх. Она, она самая!» — весело ступая по краю сбегавшего с гор ручья, думал пастор. Да, теперь этот путь был весьма схож с тем, который был описан князем. Шум водопада подходил все ближе, вода уже сверкала сквозь сырую и темную зелень кустов. Тропинка рванулась влево. «Как в книге! — вынимая из кармана „Африку“, засмеялся пастор. — Не надо спешить. Все идет отлично. Сначала уничтожим эти дурацкие бумаги Почтарева». Брухмиллер сел на камень у самого края ручейка. Быстро оглядевшись и убедившись, что здесь нет никого, он вытащил из кармана брюк связку писем и пожелтевших от времени бумаг. — К черту! — разрывая письма, пробормотал он, швыряя клочки в быстро несущийся горный поток. — Пусть Терек унесет в море эту дребедень, — с облегчением сказал он, глядя, как разорванные в клочья бумаги, в пене и брызгах, исчезали меж кустами. Покончив с бумагами покойного Почтарева, пастор вымыл руки, вытер их платком, закурил и снова быстро и зорко огляделся вокруг. Было безлюдно. За деревьями шумел водопад, свежая тенистая прохлада окутывала тропинку; воздух был напоен ароматами горных цветов, трав и запахами буйно распустившегося леса. «Хорошо тут, куда лучше, чем у этой немчуры!» — делаясь снова «туземцем» и забывая о Мюнхене, Вернере и своей жене Лотхен, разнеженно подумал пастор. Но эта идиллия тянулась недолго. Брухмиллер встал, отвинтил что-то в своей палке, надавил сильно на рукоять, и из нижней части железной палки выдвинулась острая, довольно широкая двухлопастная лопата. «Хорошая работа! Спасибо Гопкинсу, снабдившему меня ею!» — вспомнил он с благодарностью американца, устроившего ему типографский вкладыш в географическую книгу и добывшего сделанную по особому заказу эту необходимую палку-лопату. Пастор пошел к водопаду, то отодвигая на ходу мешавшие ему идти ветки, то обходя сросшиеся кусты. Шум усиливался, и сквозь завесу ветвей и листвы, Сверкая и шурша, стали пробиваться тяжелые жемчужные капли водопада. Еще несколько шагов, и белые, пенящиеся струи горного водопада забурлили над головою пастора. Но Брухмиллера не привлекала к себе дикая красота потока. Глаза его рыскали по земле. Он искал большой плоский камень, под которым были зарыты бриллианты царицы. Но камня не было. Брухмиллер перескочил через стремительный поток. Нога его попала в воду. Желтый щегольской ботинок промок. Но и тут не было проклятого камня. В отчаянии пастор бросился к водопаду. Тысячи брызг, капелек сверкающей водяной пыли обдали его. Тут, довольно далеко от тропинки, стояло толстое дерево. Правда, это был не бук, это был ствол дикого ореха, но пастору было не до того. Под деревом виднелся выступ каменной гряды, обнажившегося от ветров и времени гранита. «Вероятно, это и есть, — облегченно обтирая мокрое от брызг лицо, решил он. — Старик легко мог спутать камень с выступом. Тут и поток, и водопад, рядом и тропинка. Конечно, это и есть место клада, — убеждая самого себя, решил пастор. — За дело! Нельзя терять ни минуты!» И он с силой ткнул в землю под выступом скалы свою лопату. Верхний покров земли легко поддавался усилиям Брухмиллера. Земля была сыроватой, и первые десять минут работа шла легко. Зато потом острие лопаты все чаще со звоном и скрежетом натыкалось на гранитное основание утеса. Порывши минут двадцать пять и изрядно устав, пастор наконец убедился, что тут был сплошной гранит. Никакого клада здесь не было. — О-о, ч-черт! — откладывая в сторону лопату, став на колени и ощупывая пальцами обнажившийся гранит, пробормотал он. Надо было искать где-то возле этого места. Приходилось начинать все снова, и Брухмиллер, усталый, потный и обескураженный неудачей, плеснув себе на лицо водой из потока, стал снова с ожесточением копать в метре от прежнего места. Здесь лопата зазвенела о гранит значительно раньше. Уже на пятой минуте пастор почувствовал, что везде сплошной камень. Он с отчаянием сплюнул и стал копать напротив, под самым стволом дерева. Тут работа пошла успешней, вырытая яма росла, земля поддавалась легко, на траве медленно росла черная куча выброшенной земли. Но клада не было. Так можно было проработать целую вечность, исковырять километры почвы вокруг всей этой проклятой земли, и все напрасно! Он развернул свою книгу. «Черт его знает, где этот старый подлец закопал царские сокровища!» — с отчаянием и тоской думал он, в сотый раз читая уже выученную наизусть запись Щербатова: «…водопад… тропинка слева… толстый ствол бука…» Он поднял голову и с ненавистью только теперь заметил, что дерево, под которым он так усердно рыл землю, было орехом. — Вот черт! — ударив с размаху лопатой по стволу неповинного дерева, пробормотал он. — Но где же этот бук, где водопад с плоским камнем, где, наконец, та самая тропинка, по которой надо идти к сокровищам? Оглядываясь, пастор заметил, что в стороне от проложенной вдоль ручья тропинки через лес в гору тянутся еще две. Брухмиллер взял свою лопату и устало пошел наугад по первой из них. Шел он недолго, не больше пятнадцати минут. То, что увидел он, наполнило его сердце отчаянием. Два водопада, один небольшой, другой побольше, висели над зеленой поляной. Несколько тропинок, во всяком случае не менее десяти, вверх и вниз обегали их. Дальше, за кустами, слышался шум еще одного потока, низвергавшегося сверху. Где был нужный водопад, под каким из многих десятков растущих тут деревьев находился клад, узнать было невозможно. — Да здесь целый лес буков! — роняя от отчаяния лопату, прошептал Брухмиллер и, переводя глаза дальше, увидел еще один водопад. «Шестой!» — с отчаянием подумал он. Найти в этом хаосе деревьев, кустов, скал, тропинок, водопадов искомое место было невозможно. Пастор опустился на камень и стал молча, бездумно, не шевелясь, всматриваться в могучую, девственную красоту природы. — Чтоб ты провалился! — наконец сказал он и, подняв с земли свою лопату, наугад пошел вперед. Мечта его рушилась. Он ясно видел, что бриллианты ускользают от него. — Неужели я напрасно рвался сюда? Не может быть! Надо искать, надо еще искать, лучше, старательней, — лихорадочно шептал он, шагая по тропинке и ища только одного — плоский камень, тот самый, под которым лежали бриллианты. — Он здесь, может быть где-то рядом, — возбужденно бормотал пастор, оглядываясь по сторонам, прыгая через пни и камни и убеждая самого себя в том, во что уж не верил и боялся признаться себе. Никакого плоского камня вокруг не было, а тропинка, разветвляясь, все уходила вверх и вела за собою готового закричать, завыть, заплакать от неудачи и отчаяния пастора. — Значит, все было напрасным — и мой приезд сюда, и расходы, и ответственность, и поиски этого проклятого клада! Он остановился. Идти дальше было глупо. Местность становилась все более дикой и неприветливой. Вдруг пастор услышал какой-то шум, голоса и шаги идущих сверху людей. Брухмиллер стал за куст. Тень от деревьев скрыла пастора. Шаги приближались, сверху сорвался камень, зашуршали ветки, послышались голоса, и пастор уже отчетливо стал различать отдельные слова. — Посидим немного, мама, у родника, а потом пойдем дальше, — упрашивал чей-то детский голос. — Нет, дочка, надо спешить к остановке. Автобус через полчаса подойдет из Ларса, — отвечал женский голос. Говорили по-осетински, и Брухмиллер хотя и с трудом, но все же понял их. По тропинке вышли девочка лет одиннадцати и женщина лет тридцати. — Надо торопиться, дочка, а то придется ждать целый час, — торопила женщина. — Мама, здесь кто-то из города, — шепнула девочка, заметив неосторожно высунувшегося пастора. — Здравствуйте! Гуляю. Любуюсь водопадом, — подбирая слова и выходя на дорожку, сказал Брухмиллер. — А вы кто? — поинтересовался он. — Из аула Корочи, что за этой горой. Вот веду дочку в город, к врачу ушному. Спешим к автобусу, — ответила мать, кланяясь и останавливаясь возле пастора. — Это хорошо. Вы в Ларс идете? — Нет! Зачем в Ларс! Спустимся вниз по тропинке, а там у шоссе остановка автобуса. «Отлично! — подумал пастор. — По крайней мере болтать не будут». И, окидывая глазом водопады, сказал: — Красиво тут. Целых два сразу. — И-и, этого добра у нас здесь больше двух десятков. Чуть ли не на каждом шагу ручьи спадают с гор, — махнув рукой, сказала женщина и, поклонившись, продолжала: — Извините, мы спешим! Мать и дочь скрылись на одной из тропинок, а ошеломленный фразой женщины Брухмиллер все стоял, растерянно повторяя: — Больше двух десятков! Делать тут дальше было нечего. Найти плоский камень среди раскиданных по этим отрогам водопадов было делом невыполнимым. В этой проклятой дыре надо было жить минимум полгода. Он со злостью швырнул ногой ненужную теперь лопату, и она со звоном полетела в кусты. Проклятие! Так хорошо составленный план, обдуманный им и одобренный Гопкинсом, рухнул. Этот болван князь теперь сам бы не смог найти зарытые им богатства. Брухмиллер, не двигаясь, стоял на одном и том же месте, бессмысленно поводя глазами и что-то бормоча.
Глава VI
Фото, снятые с покойного Ладо, были увеличены и размножены. Два из них были немедленно отосланы в Тбилиси, остальные уложены в фототеку полковника Боциева, а одно пришито к делу. Рядом с ним находились и три снимка, сделанные с пастора; первый — когда Брухмиллер лежал в постели и его осматривал врач; второй — когда пастор спускался с лестницы дома в Ларсе, намереваясь в первый раз идти на поиски клада, и третий — Брухмиллер в поте лица копающий яму под большим стволом ореха. Только когда Дарью Савельевну вместе с ее мужем Антоном Ефимычем пригласили к полковнику, старуха, чтобы успокоить удивленного и обеспокоенного мужа, рассказала ему о своем визите в милицию. Антон Ефимыч почесал голову, задумался, а затем сказал: — А что, жена, может, и вправду этот гость похож на Булата? — Вот придем к полковнику, узнаем, — решительно сказала старуха. И они вышли из дома. — Садитесь, друзья, извините, что побеспокоил пожилых людей, но мне нужна ваша помощь, — сказал Боциев, усаживая стариков возле себя. — Вот поглядите, не найдете ли среди вот этих двадцати фотокарточек кого-нибудь похожего на ваших ночных гостей. Оба старика стали медленно, по очереди рассматривать десятки неизвестных им лиц, изображенных на карточках. — Он! — решительно сказала Дарья Савельевна, протягивая мужу одну из карточек. — Гляди, Антоша, этот самый грузин, что вторым-то племянничком Почтареву назвался. — Точно! А вот и другой, что на Булата Казаналипова смахивает, — кладя на стол портрет пастора, спускающегося по лестнице, сказал Антон Ефимыч. — Так вы утверждаете, что именно они, вот эти два человека, были у вас тогда ночью? — Они! — убежденно сказал старик. Дарья Савельевна утвердительно кивнула головой. — Спасибо, товарищи! — сказал Боциев. — Мы сами уже знали об этом, но никогда не лишне еще раз убедиться в своих выводах. — Да как вы их, этих антихристов, нашли, как сняли? — разводя руками, спросил Антон Ефимыч. — Ну что ты говоришь, Антоша! Да разве ж можно спрашивать об этом? — сказала старуха. — Можно, можно, дорогая мамаша. Разве без вашей помощи, если бы вы не пошли утром в милицию, мы бы узнали об этих людях? Мы с вами делаем одно общее дело, — провожая стариков, тепло сказал полковник. — Скоро, очень скоро мы закончим это дело, но возможно, что вы оба еще раз будете нужны. — Служу советскому народу! — вытягиваясь во фронт, отрапортовал старый солдат. — Ну иди, иди, вояка! — добродушно сказала старуха. — А ты, батюшка, — уж совсем по-свойски обратилась она к полковнику, — вызывай нас, когда тебе это надо будет. Пастор шел обратно быстро, крупным шагом, размахивая руками и бормоча проклятия. Теперь этот плотный, быстро шагающий человек ничем не был похож на того скромного, вежливого, медленно гулявшего Брухмиллера, каким он был всего два часа назад. — Сорвалось! Проклятье! Эти богатства так и останутся зарытыми в земле, пока какой-нибудь остолоп, копая канаву или яму, не наткнется на мои сокровища!! Пастор забыл обо всем — и о том, что он должен еще быть в роли больного, и что «сокровища» были не его, а бывшей императрицы. — Все было напрасно! — размахивая руками, шептал он. — И расходы, и расчеты, и возня с этими идиотами, князем и Курочкиным… Да! Но что же теперь делать с Гопкинсом? Ведь Почтарева нет. Значит… — Пастор даже остановился, похолодев от страха. — Значит, придется в Тифлисе, — он поправился, — в Тбилиси пойти по тому адресу, который на самый крайний случай дал мне Вернер. Черт возьми, как все складывается скверно! Он возбужденно вытер лоб, поминутноостанавливаясь и разводя руками. — Принес же черт этого негодяя с предложением откопать проклятый клад!.. Но разве все было не продуманно или случайно? — забормотал пастор. — Вовсе нет! Все было тщательно, до самых мельчайших подробностей обдумано и разработано совместно с Гопкинсом и капитаном. Все, все детали, вплоть даже до внезапной болезни в дороге, — все это было разработано американцем. Пастор вспомнил пилюлю, которой снабдили его перед отъездом сюда. От нее внезапно начинало усиленно и тревожно биться сердце, неметь конечности и бледнеть лицо… А вклеенные в географическую карту подробные сведения о месте клада, а рисунок склонов этой подлой горы, которая сейчас возвышалась над ним, а водопад, тропинки… словом все, все было заранее подготовлено и рассчитано, кроме одного. Вся эта местность во всех ее углах — утесы, леса, склоны — как две капли воды похожи один на другой. Где тут, к черту, за двое-трое суток можно разыскать клад! Пастор в отчаянии оглядел зеленые отроги горы. «Будь ты проклята вместе с князем, императрицей и всем тем, что живет и растет в этом окаянном месте!» — со злобой подумал он, плюнул и широким, крупным шагом пошел к Ларсу. Ломаным, малопонятным языком, а больше знаками он объяснил встревоженному начальнику станции, что хочет немедленно же продолжать путь в Тбилиси. Удивленный хозяин вызвал к телефону переводчика, которому пастор резко и в категорической форме сообщил, что он «здоров, просит доктора больше его не навещать, а немедленно прислать машину, чтобы следовать дальше в Грузию». — Такси будет только завтра утром. Сейчас вряд ли найдем свободное, уже поздно. Потерпите, пожалуйста, до утра, а к девяти часам такси будет в Ларсе, — сказал переводчик. Пастор был сух, говорил он по телефону нелюбезно, короткими, отрывистыми фразами, и обеспокоенный этим переводчик осведомился, что с ним, не обидел ли кто из жителей гостя. — Я просто не в духе. Мне надоело сидеть в этой дыре, но делать нечего. Жду вас завтра к девяти, — вешая трубку, сказал Брухмиллер. «Идиоты, чтоб вас черт побрал!» — выругал он в сердцах и переводчика, и не понимавших ни его языка, ни его настроения окружающих. Он молча поужинал, сердито кивнул головой хозяину и лег в постель. Сон не шел к пастору. Мысли о том, что теперь, согласно приказу Гопкинса, ему обязательно нужно будет в Тифлисе пойти на явочную квартиру, чтобы у какой-то «Розочки» получить нужные американцу сведения, пугали его. «И за что я должен буду работать на этого подлеца? Клада не нашел, денег получил на расходы мало. Вся эта затея с бриллиантами мне самому уже обошлась больше ста фунтов, — вспоминая авансы и разные денежные выдачи князю и его сподручному, вздохнул пастор. — Но нельзя же возвратиться ни с чем? Разве они простят мне, если я даже не попытаюсь встретиться с этой „Розочкой“?.. Что же делать?» Он вздохнул, перевернулся на бок и продолжал все думать о том, как ему следует поступить в этой ненужной и опасной поездке в Тифлис. Так он проворочался на кровати часов до четырех и наконец, обессиленный, уснул тяжелым и тревожным сном. Брухмиллер проснулся в восемь, а к девяти приехал переводчик. На этот раз пастор был приветлив со всеми. Он тепло поблагодарил хозяина дома за гостеприимство, хотел даже расплатиться с ним, но начальник станции отвел в сторону руку Брухмиллера, попросив переводчика передать гостю, что «на Кавказе гость — лицо почетное и что упоминание о деньгах — это кровная обида хозяевам». Пастор мило улыбнулся, пожал всем руки, сел в такси и понесся по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси. Когда машина скрылась из виду, переводчик спросил хозяина: — Что он там рыл? — Не знаем! — пожимая плечами, ответил начальник. — Как крот, в четырех местах изрыл землю, затем чего-то озлился, швырнул в кусты свою лопату. Видимо, искал что-то.Глава VII
Туристы, приехавшие в Тбилиси три дня назад, разбились на группы. Одна поехала осматривать старинные достопримечательности Мцхета. Вторая группа осматривала самый город, начиная от частично уцелевшего майдана до Метехского замка и знаменитого Сионского собора, в котором, по традиции, служили грузинские экзархи. Когда туристы обходили тяжелые, несколько мрачные коридоры храма, фотографируя низкие своды, старые иконы, росписи и фрески древнего храма, молодая голландка, вспомнив о тяжело и так внезапно заболевшем Брухмиллере, сказала: — Как был бы рад видеть этот древний храм наш милый пастор! Ведь церкви и монастыри особенно интересовали бедного Брухмиллера. — Кстати, господа, какие о нем вести? — щелкнув фотоаппаратом, спросил итальянский художник. — Вчера ему было значительно лучше. Мы с Густавом, — сказал один из молодых немцев, — вечером звонили в… — он с трудом выговорил: — Ор-ж-кид-се, и нам любезно ответили из Бюро по туристским поездкам, что наш милый пастор поправляется и даже гуляет вокруг того селения, в котором мы оставили его. — Он уже здоров и, возможно, даже сегодня к вечеру будет здесь, — добавила переводчица. — Мы также запросили о здоровье господина пастора. — Чудесно! — обрадовались интуристы. — Нам очень не хватает этого милого собеседника. — Выясните, пожалуйста, когда господин пастор прибудет сюда, чтобы мы могли устроить ему приятную встречу, — попросил переводчицу один из молодых немцев. — После обеда я созвонюсь с Орджоникидзе и совершенно точно выясню день приезда господина Брухмиллера, — обещала переводчица, и они пошли дальше. Впереди был еще Метехский замок и поездка на новое, недавно созданное Тбилисское море. Вечером предстояло подняться на фуникулере на гору Давида, возвышавшуюся над городом. Третья группа туристов уехала в Коджоры, загородное дачное место, и затем должны были посетить знаменитый Ботанический сад. Шумный, веселый город с его приветливыми, экспансивными обитателями понравился иностранцам. — Будто бы нахожусь на юге Франции, где-нибудь в Савойе или Лангедоке, — сказала французская студентка. — Скорее, в Италии. Ей-богу, эти забавные мальчуганы живо напоминают мне нашу неаполитанскую детвору! — поддержал ее итальянский художник. В те самые часы, когда интуристы знакомились с Тбилиси, Брухмиллер несся на такси мимо развалин замка Тамары, не глядя на суровые, грозно свисающие скалы Дарьяла, не замечая могучей красоты ущелья и не слыша рокота бурных, стремительных вод Терека. «Все впустую! — в двадцатый раз проносилось в его мозгу. Клад не найден, а впереди опасное посещение неизвестных ему людей. — И на кой черт я ввязался в эту идиотскую авантюру!» — вздыхая, все думал пастор. А машина несла его мимо села Казбеги, мимо сел Сиони и Коби. Вот дорога стала кружить вверх, Терек остался позади, стало прохладней, воздух, холодный и чистый, проник в кабину. Пастор нехотя глянул в окошко. Все это он не раз видел еще в детстве, когда на арбе, верхом или в дилижансе ездил из Владикавказа в Тифлис. «И зачем только я впутался в это путешествие!» — снова тоскливо подумал он. Даже красоты перевала, виды с Крестовой горы и спуск в Койшаурскую долину не отвлекли его от тревожных дум. «Улица Малхаза Дидебури, дом четыре, квартира восемь», — неустанно проносилось в его мозгу. Часов около пяти пастор приехал в Тбилиси. Он давно не бывал в нем, почти сорок пять лет отделяли его от того дня, когда он бежал сюда от большевиков. Да, город стал совсем другим. Трудно было узнать в этом роскошном, богатом, с чудесными парками, широкими улицами и отличными европейскими зданиями прежний, несколько провинциальный Тифлис. Пастор ехал по улицам, когда-то знакомым ему, но все было по-новому, и он не узнавал мест, по которым бродил в прежнее время. Все было иным — и люди, и город, и время. Брухмиллер насупился и протянул шоферу бумажку с адресом гостиницы, куда надо было ему ехать. Шофер кивнул головой, и такси стало легко взбираться вверх по направлению к проспекту Руставели. Съехавшиеся к вечеру интуристы шумно приветствовали пастора. — Благодарю вас, господа! Ваша забота тронула меня и помогла подняться на ноги. Сейчас все отлично, и завтра я тоже стану знакомиться с этим чудесным городом, — сказал Брухмиллер. Фуникулер, на который поздно ночью поднялись они, замечательный вид ночного Тбилиси, сотни и тысячи мерцающих внизу и разливающихся по всей долине огней привели всех в восторг. — Город так прекрасен, что из него не хочется уезжать! — не сводя глаз с залитого огнями Тбилиси, сказал пастор. Прохладный ночной воздух окутал Давидовскую гору. Тихая музыка доносилась из окружающих здание фуникулера садов. Из ресторана слышался гул голосов. Грузинская и русская речь смешивалась с мягкой, несколько печальной песней, которая заглушенно слышалась из репродуктора. Ароматы цветов, запахи молодых насаждений и прохладный, напоенный свежестью воздух заполнили широкую площадку с баллюстрадой, с которой интуристы смотрели на ночной Тбилиси. — Что мы делаем завтра, уважаемая фрейлейн? Каково расписание завтрашнего дня? — спросил Брухмиллер переводчицу. — Завтра с десяти утра поездка в Манглиси. Это дачное место, отстоящее отсюда километрах в сорока. Завтрак в Белом Ключе, на обратном пути заедем в Цхнети, затем отдых. После обеда общее посещение нового города Рустави. Это гордость молодой грузинской металлургии и индустрии. Вечером театр имени Руставели. Идет опера «Даиси». — Прекрасно! — задумчиво сказал пастор. — Все очень интересно, но, возможно, что я все-таки и здесь похожу по церквам и старинным соборам этой древней христианской страны. Как вы знаете, это мой прямой долг, и я, как верующий христианин и служитель церкви, обязан в первую очередь посетить храмы и мечети и убедиться в том, что религия здесь свободна. — Пожалуйста. Если хотите, я приготовлю вам к утру список церквей города. — Не надо, — улыбнулся Брухмиллер. — Я сам найду их. Это надежней и убедительней будет и для меня, и для тех скептиков, которые будут интересоваться этим в Европе. Возвращались они на машинах по великолепному широкому шоссе, сбегавшему с горы. Под светом фар и электрических фонарей сверкал, переливался отлакированный шинами асфальт. По бокам стеной стояли темные кущи садов, а внизу рос, горел огнями и приближался Тбилиси.Глава VIII
Интуристы занимали несколько номеров гостиницы «Звезда Востока». Молодые немцы еще бродили по городу, когда пастор разделся, принял ванну и лег в прохладную постель. Но заснуть он, как и вчера в Ларсе, не мог. Завтра надо было навестить квартиру… Он поежился. Как он ни стремился быть изолированным от всех разведывательных дел мистера Гопкинса, стечение обстоятельств привело его к самой страшной из всех комбинаций — к непосредственному участию в этих делах. «И надо же было подохнуть этому проклятому Почтареву прежде моего приезда в Орджоникидзе! А что, если никуда не идти? Сказать Гопкинсу, что никого уже нет, что на его явке живут другие люди… Глупо! Разве он поверит? Почтарев помер, „Розочка“ исчезла, клада не нашел… Детские отговорки!» Вспоминая хмурое лицо Вернера и подписку, данную им американцу, пастор застонал. Все складывалось скверно. Идти было боязно, но еще страшнее вернуться ни с чем в Мюнхен. Никакие коммерческие и деловые связи не помогут. — Гопкинс — хозяин всего! — вспоминая, как было отказано ему в посещении СССР, пробормотал он. Надо было рискнуть, надо было завтра, когда его товарищи туристы разъедутся по своим маршрутам, рискнуть «в последний раз… и черт со всеми ними…» — подбадривая себя, решил пастор. Он еще долго лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок. Но на следующее утро страх охватил пастора так сильно, что он, вопреки своему вчерашнему решению, поехал вместе с группой интуристов в Манглиси, побывал в Белом Ключе и Коджорах, поднимался на развалины старинной крепости Кер-Оглы, а возле Цхнет взобрался на одну из гор, где посетил старинный монастырь, построенный грузинскими иноками еще в XIV веке. Чувство тревоги нигде не покидало пастора. Какое-то беспокойство охватывало его, как только какой-нибудь новый человек подходил к их группе. Уезжая в экскурсию, пастор, помня наставления в американской школе разведчиков, тоненькой, еле заметной волосинкой, завязал замок чемодана и такой же бесцветной ниткой привязал к ножке кровати саквояж. Только к вечеру нервное возбуждение оставило Брухмиллера. И когда туристы вернулись в город, пастор был уже совершенно спокоен. Никто не следил за ним, никакие страхи уже не пугали его. «Завтра пойду!» — твердо решил он и, успокоенный, плотно пообедав, вечером пошел в театр. Вернувшись, он внимательно осмотрел свою комнату. Вещи его лежали в том же порядке, в каком он оставил их. Обе нитки-волосинки были целы. Пастор, став на колени, с лупою в руках долго и тщательно осмотрел пол. Он был чист, без следов. Никто не входил в его номер, и это окончательно успокоило его. «Дурак, неврастеник, распустил нервы, как старая баба!» — обругал он себя, лег в постель и превосходно проспал вторую ночь в Тбилиси. — Сегодня я пойду осматривать храмы, — сказал он переводчице, предложившей ему поехать со всеми осмотреть могилу Грибоедова, похороненного высоко над городом, на склоне Давидовской горы. Пастор бодро зашагал по проспекту. Теперь он был спокоен и смел. Это последнее испытание — и затем возвращение домой, к делам, к своей Лотхен, к оставленным на время этого идиотского путешествия коммерческим операциям. «Хватит с меня авантюр! — решительно подумал он, поднимаясь крутыми переулками к улице. — Как она раньше, в мое время, называлась? — вспоминал эти места пастор. — Не то Ртищевская, не то Реутовская… Да… Реутовская, названная так в честь полковника Реута, защищавшего когда-то Шушу от персиян», — припомнил он. Улица эта тоже сильно изменилась, и Брухмиллер не сразу нашел нужный дом. Помня уроки американской разведки, он предусмотрительно прошел мимо нужного ему дома вверх почти до конца улицы. Ничего подозрительного не было. Пастор резко обернулся. Шумно разговаривая, так что голоса их были слышны чуть ли не на весь квартал, прошли две женщины, мальчуган, держа в руке полусъеденное яблоко, сонно поглядел на Брухмиллера, какой-то старик с углями в мешке обогнал пастора. Дома были полны покоя, улица почти пуста, дворы жили обычной крикливо-суетливой жизнью южного города. Пастор повернул назад и смело пошел к дому. Двор был невелик. Посреди двора был водопровод с привинченным к крану резиновым шлангом, из которого девушка лет двадцати поливала цветочные клумбы, и несколько акаций и тутовых деревьев, росших во дворе. Маленькая дворняжка затявкала на пастора. Девушка обернулась и, видя подходившего к ней Брухмиллера, с любопытством выжидательно уставилась на него. — Скажите, пожалуйста, — приподнимая шляпу, спросил пастор, — где здесь квартира Никогосова? — называя первую пришедшую ему на ум фамилию. На лице девушки отразилось недоумение. — Нико-госова? — переспросила она. — Тут нет таких, — с сильным акцентом произнесла она, продолжая с любопытством смотреть на пастора. — Нона, в чем дело? — раздался сверху женский голос, и Брухмиллер увидел на балконе пожилую женщину. — Ничего, мама, — лениво ответила девушка. Картина была самая мирная. Все дышало таким покоем и ленивой тбилисской жизнью, что Брухмиллер успокоился. — Ах нет, — делая вид, что читает в своей записной книжке другую фамилию, засмеялся он, — ошибся. Никогосовы — это в другом месте, а здесь мне надо Кугунидзе или Петрушова. Вот их адрес. — Кугунидзе? — пожимая плечами, переспросила девушка. — Таких тоже здесь нет, а Петрушов… во-он там, — она указала пальцем в конец, — вон их балкон и двери. Проговорив эти слова, она с тем же спокойно-ленивым видом стала поливать из шланга деревья, а успокоенный Брухмиллер твердым шагом пошел к указанному балкону. Брухмиллер поднялся на невысокий балкон первого этажа и, подойдя к двери, постучал. Неясный голос что-то ответил ему. Постучав на всякий случай еще раз, пастор открыл дверь, снял шляпу и шагнул в комнату. Девочка-подросток вопросительно глянула на него. — Здесь живут Петрушовы? — спросил Брухмиллер. — Здесь! — приветливо сказала девочка, указывая пальцем на открытую дверь. Он шагнул во вторую комнату и обомлел. Шляпа его выпала из рук, глаза округлились, а по спине пробежал холодок страха. За столом сидели старики Пашковы и пили чай. Дарья Савельевна так, словно только что видела Брухмиллера, улыбнулась ему и показала на стул: — Садитесь, гостем будете. — Вот хорошо-то, Сергей Сергеич, к самому чайку подоспели! Дарья, налей гостю стаканчик, — суетливо заговорил старик. Пастор отшатнулся к дверям, подбирая на ходу свою шляпу. В дверях стояли два человека в штатском, молча глядя на него. Брухмиллер побледнел и, тяжело дыша, остановился. — Ни-ни-чего не понимаю, — побелевшими, трясущимися губами пролепетал пастор. — Это ошибка, я не знаю вас, я, кажется, обознался, не туда зашел… — Сюда, сюда зашли. По верному адресу пожаловали, Булат Мисостович, — продолжая звенеть посудой, сказала Дарья Савельевна. Брухмиллер остановившимся взглядом уставился на двух стоявших у двери людей. За их спиной виднелся милиционер и та самая девушка, что минуту назад поливала акацию. Пастор съежился, посерел и трясущимися руками вытащил из кармана свой паспорт. — Я… ино… странец… турист… — растерянно тыча вперед документ, выговорил он. — Не волнуйтесь, гражданин. Сейчас все выясним. Товарищ Мартынов, обыщи гражданина на предмет оружия, — сказал милиционеру первый из стоявших у дверей людей. — Нету? Очень хорошо. Ну, следуйте за нами! — Это недоразумение! Я германский подданный! — пробовал было заговорить пастор. — Вот и хорошо! Разберутся, гражданин, и, ежели недоразумение, сейчас же отпустят, — спокойно ответил человек. У дверей дома стояла легковая машина, дверцы которой при появлении Брухмиллера распахнул шофер. — Пожалуйста, прошу вас, — очень любезно сказал человек в штатском. Брухмиллер оглянулся. У ворот стояло трое или четверо любопытных, мальчишка с недоеденным яблоком, какая-то старушка с чуреком в руках молча таращила на них глаза. Ничего особенного. Все было тихо, обыкновенно и спокойно. Пастор вздохнул и неловко влез в машину. — Я иностранец, я не совершил ничего противозаконного, и вы не смеете задерживать меня! — решительно заговорил он, глядя на невысокого, с седыми висками пожилого подполковника, пристально и очень внимательно смотревшего на него. — А мы вас и не задерживаем. После того как вы ответите на два-три вопроса, вы вернетесь в гостиницу к своим туристам, — спокойно ответил подполковник. — Какие вопросы? — нахмурился пастор. — Обыкновенные. Как вы попали в этот дом? И второй: что вы искали в лесу возле Орджоникидзе? Пастор вздрогнул. — Какой лес? Что вы выдумали? Возле какого Орджоникидзе? — Обыкновенный лес, вернее, даже не возле Орджоникидзе, а возле Ларса, где вы лежали с внезапно поразившей вас сердечной болезнью. Брухмиллер молчал. Подполковник вынул из стола пачку фотографий и мягко сказал: — Вот видите снимок — это вы зачем-то копаете землю возле большого камня. А это вы копаете уже в другом месте яму, под самым стволом ореха. А это вот тоже вы, но уже без лопаты, роетесь руками в третьей яме, вырытой вами у самого ручья. Пастор поглядел на снимок, потом растерянно взглянул на подполковника. — А это вот ваша лопата, которую вы, не найдя того, что искали, швырнули в сердцах в кусты, откуда она и попала к нам. Он вынул из-под стола знаменитую палку-лопату, которой так любезно снабдил Брухмиллера Гопкинс. — Подсматривали за мной? — хрипло спросил он. — Конечно, — согласился подполковник. — Но согласитесь, разве мы не должны были делать это, узнав о том, что интурист, которого мы гостеприимно и чистосердечно встречаем, оказывается бывшим русским белогвардейцем Казаналиповым. — Я давно немецкий подданный, и я ничего не делал предосудительного против вас. — Допустим, но ведь и мы, зная, что вы бывший Казаналипов, ни в чем не обвиняем вас. Нам только нужно знать, зачем вы симулировали болезнь… — Я не симулировал… Я действительно заболел, — перебил пастор. — Нет, вы чем-то сильнодействующим вызвали внезапный сердечный приступ. Но наутро вы уже были совершенно здоровы. Вот, кстати, медицинское заключение лечившего вас врача. Но и это — ваше частное дело. И в это мы не хотим вдаваться. Нам только нужно знать — и заметьте, мы должны это узнать, — зачем вы остановились в Ларсе. Что вы искали в земле вокруг станции? Вы же пастор, а не геолог. Зачем вы ископали ямами площадь у ручья и большого камня? Пастор молчал. — Быть может, с какой-нибудь военной целью? — спросил подполковник. Пастор по-прежнему молчал. — Не хотите говорить? В таком случае, мы отправим вас в Москву. Там скорее разберутся в вашем странном, запутанном деле, — закончил полковник Боциев. На следующий день Брухмиллер уже находился в Москве. Наутро пастор не вышел к завтраку. Встревоженные этим интуристы не нашли его и в занимаемом им номере. После завтрака человек, посетивший их, сказал на хорошем французском языке о том, что Брухмиллер совершил неблаговидный поступок и временно задержан. — Да, наши газеты были правы, предостерегая нас от поездки, — покачивая головой, сказал голландец. — И после всего этого вы все еще будете уверять, что у вас царят законность и свобода? — возмущенно воскликнул один из молодых немцев. — Для тех, кто приезжает к нам в гости как честный и любознательный человек, — да. Но для тех, кто засылается для целей, ничего общего не имеющих с туризмом… Туристы, снова негодуя, зашумели. — Господа, — поднимая руку, прервал шум итальянец, — а в самом деле, ведь мы ничего же не знаем ни о самом пасторе, ни о том, почему его задержала полиция. Сейчас мне становится странным и его внезапная болезнь в дороге, и то, что он отдельно от нас уходил куда-то и здесь, и в городе Ор-джо-никидзе. — Это верно, — сказал кто-то. — Но он интересовался религией! — сказала француженка, но, увидев ироническую улыбку на губах пришедшего к ним человека, пожала плечами и смолкла. — …и странно еще то, что здесь вот нас двадцать шесть человек, никого из нас нигде и ни разу не останавливали, никто не препятствовал нашей любознательности, не ходил за нами по пятам. Всюду мы были совершенно свободны в наших действиях и маршрутах, — продолжал художник. Иностранцы были смущены и растеряны. Действительно, за все время пребывания в СССР они не чувствовали на себе чьего-либо подозрительного взгляда, наблюдения или слежки. — Все это, господа, не просто, и мне кажется, нам не следует делать преждевременные выводы. Во всяком случае, мы просим вас, господин чиновник, — обратился художник к говорившему с ними человеку, — мы надеемся, что еще до нашего отъезда из СССР вы поставите нас в известность о деле и судьбе одного из наших товарищей. — Да, мы в России будем еще двенадцать дней, и было бы хорошо, если бы, уезжая, мы узнали, в чем же тут дело, — горячо сказал голландец. — Думаю, что очень скоро вы все узнаете о причинах задержания господина Брухмиллера. Пораженные новостью туристы еще долго обсуждали странную историю, приключившуюся с пастором. Пастора не сразу вызвали на допрос. Лишь на утро четвертого дня его ввели в кабинет следователя. — Итак, вы отказываетесь от всего? И от того, что вы были когда-то русским офицером Булатом Мисостовичем Казаналиповым… — Я немец, подданный Федеративной Республики Западной Германии, пастор Иоганн Брухмиллер. — Это по туристским бумагам, а на самом деле вы Генрих Мюллер, коммерсант и делец, владелец фабрики в Мюнхене и хозяин торговой конторы «Мюллер» в Доссельдорфе. Но еще раньше вы были подданным Российской империи Булатом Мисостовичем Казаналиповым из города Владикавказа, — сказал следователь. — Мало ли что было раньше! Российской империи не существует много лет, и я, будучи наполовину немцем, давно перешел в германское подданство. — Совершенно верно, и мы нисколько не в претензии на вас за это. Нас интересует другое. Зачем вы приехали в СССР? — Как турист. Это же ясно! — угрюмо сказал Брухмиллер. — Но помня, что у вас бывший царский офицер и подданный России не может рассчитывать на гостеприимство, я взял документы на имя пастора Брухмиллера. — Бросьте говорить пустяки! Нам совершенно безразлично, и вы это отлично знаете, были вы царским офицером и подданным или нет. Ведь я спрашиваю вас, зачем вы приехали в Орджоникидзе? — Потянуло на места, где провел детство. — А в Тбилиси зачем? — Здесь у меня прежде было много друзей. Хотел повидать тех, кто уцелел. — Под видом немецкого пастора? Брухмиллер понял, что ляпнул что-то неубедительное. — Разве они не спросили бы вас, зачем вы, их старый знакомый, явились к ним, прикрывшись чужим именем и подданством? Пастор молчал. — Не лгите и не скрывайте ничего. Мы знаем, что у вас были специальные поручения в Орджоникидзе к Почтареву, а также и в Тбилиси к ранее задержанному нами Петрушову. Но ни того ни другого вы не видели и, значит, не могли выполнить данное вам поручение. Брухмиллер не моргая смотрел на следователя. — Но мы также знаем и то, что вы, Мюллер — Брухмиллер — Казаналипов, уже с сорок третьего года отошли от всяких политических и прочих дел и занялись коммерцией и торговлей. Как видите, мы хорошо осведомлены о вас, господин Казаналипов. Пастор с надеждой глядел на следователя. — Мы знаем и то, что вас неоднократно американская разведка пыталась заслать в СССР. Вы несколько раз отказывались. Что же вдруг заставило вас теперь согласиться на это? Брухмиллер молчал, что-то обдумывая, губы его дрожали, а лицо то бледнело, то заливалось краской. — Говорите правду, вы только облегчите ваше собственное положение, — сказал следователь. — Зачем вы приехали в Орджоникидзе? Пастор молчал, судорожно теребя пальцами полу пиджака. — Не волнуйтесь. Обдумайте мой вопрос и отвечайте. Зачем вы приехали в Орджоникидзе? — За кладом, — глухо сказал пастор, и голос его оборвался. И следователь, и безмолвно сидевший возле него полковник подались вперед, с удивлением глядя на Брухмиллера. — За… кладом? — переспросил следователь. Пастор молча кивнул головой. — За каким кладом? — спросил полковник, продолжая удивленно смотреть на пастора. — За своим… который я зарыл в двадцатом году… при отступлении, — опуская голову, сказал Брухмиллер. Следователь развел руками и посмотрел на полковника. Тот покачал головой и неодобрительно сказал: — Опять ложь! Пять раз отказывались, а на шестой вспомнили, что когда-то зарыли клад? Так, что ли? — Да-а! — протянул следователь, тоже кивая головой. — Концы с концами не сходятся, господин Брухмиллер! Если б клад был, то вы с первого раза согласились бы ехать. Пастор опустил голову. Опять он соврал как-то глупо и неудачно. — Я буду говорить правду, — сказал он. — Только правду! Клад этот действительно зарыт где-то возле Ларса, но не мной, а… — он тихо сказал, — князем Щербатовым, когда-то приближенным ко двору императрицы. — Александры Федоровны Романовой? — вдруг перебил его следователь. — Да! — сказал пастор и тупо уставился на повеселевшее лицо следователя. Он видел, что еще секунда, и следователь рассмеется, что он с трудом сдерживает душивший его смех. Брухмиллер перевел глаза на полковника, но и на его лице была улыбка. — Этот Щербатов — бывший князь, зовут его Петр Александрович? — смеясь одними только глазами, спросил следователь. — Да! — сбитый с толку, сказал пастор. — А подручный его… — …Курочкин, белоэмигрант, чиновник колчаковского правительства. — Ничего не понимаю! — растерянно сказал пастор. — Поздравляю вас! — серьезно сказал следователь. Он позвонил. — Уведите задержанного! Через час продолжим допрос. Спустя некоторое время пастора вновь ввели в комнату. Перед следователем и полковником лежала папка с какими-то бумагами. — Садитесь, — указывая на стул, сказал следователь и, достав из папки какое-то дело, перелистал его и, взглянув прямо в глаза недоуменно ожидавшего его вопросов Брухмиллера, сказал: — Из каких драгоценностей состоит клад? Пастор помедлил с ответом и на всякий случай сказал: — Точно не помню… — Я покажу вам, — спокойно сказал следователь и, ведя пальцем по одному из листов папки, стал читать:— «Первое. Четыре золотых кубка, обнесенных по краю финифтью с бриллиантовыми орлами у рукоятей. Глаза орлов — рубин, топаз, изумруд, смарагд (все крупные)…»Пока следователь читал, пастор несколько раз менялся в лице. То ему становилось душно, то холодные мурашки пробегали по его спине. Уже отлично понимая, что он обманут, как мальчишка, он глупо, все еще боясь поверить правде, спросил: — Значит… клад… найден? Полковник с обидным сожалением вздохнул и молча посмотрел на него. Следователь прищурился и не спеша проговорил: — Значит, действительно плохи дела американской разведки, если Гопкинс посылает к нам таких наивных агентов. Разве вы не понимаете?.. — Понимаю… — упавшим голосом, тихо сказал Брухмиллер. — Я это начал подозревать еще там, в Ларсе, но возможность получить огромные богатства заволокла мне глаза и рассудок. Я был дураком и пешкой в руках этих негодяев. Спрашивайте меня! Все, что я знаю, скажу! — Пастор вскочил со стула. Глаза его были красны. Обида, злость, слезы виднелись в них. — Я разыграл идиота, но и эти подлецы получат должное. Все, все, что знаю, я расскажу о Гопкинсе, Вернере, об этих гнусных жуликах — Щербатове и его подручном! — Вот это нам и нужно, — сказал следователь. — Этим вы поможете и себе и нам. Особенно не отчаивайтесь… Этот номер с бриллиантами царицы Щербатов и Курочкин разыгрывают с простаками уже не в первый раз. Вот дела о «царских бриллиантах», на поиски которых из-за границы устремлялись наивные люди. Создателями были оба эти проходимца, бывший князь и бывший петербургский чиновник, и адреса кладов бывали разные. Вот, например, это дело, — беря из папки бумаги, продолжал следователь. — В семидесяти километрах от советско-финской границы задержан переброшенный через границу бывший поручик белой армии Карпов, задержан в тот момент, когда усиленно рыл яму в лесу, в километре от дороги. При допросе подробно рассказал, что искал драгоценности бывшей императрицы. Список этих дра-го-ценностей, — иронически протянул следователь, — целиком совпадает с вашим. А вот и другое дело, правда большей давности, — заговорил полковник, доставая еще одну бумагу. — Оно взято из архивов и приобщено к общему делу. Вот дата — тысяча девятьсот сороковой год, то есть еще до Великой Отечественной войны. Как видите, еще и тогда два этих молодца орудовали тем же способом, но только с помощью японской разведки. Вот дело о задержании двух русских белоэмигрантов, Калужкина и Лобового, незаконно перешедших границу с целью собрать необходимые для японской разведки военные сведения и откопать для собственного пользования клад, состоящий из части драгоценностей бывшей русской царицы, якобы зарытый на берегу Амура, в километре от села Софроновка, под дубом, возле черного камня. И тут и там указателем местонахождения клада был все тот же Щербатов. Ну как, ясна вам картина? Пастор тяжело дышал, лицо его посерело. — Я идиот, которого обвели, как мальчишку! — с трудом выговорил он. — Но эти мерзавцы рано смеются… — Пастор облизнул сухие, побелевшие губы. — Спрашивайте, я к вашим услугам. Брухмиллер рассказал все и о том, как ему было отказано в визе, и как его вызвали к Гопкинсу. — Ваши друзья, Гопкинс и компания, сейчас трубят чуть ли не во всех газетах Западной Германии, а также и ряде других стран о том, как ни в чем не повинный интурист Брухмиллер арестован нами. — Что я сейчас должен сделать? — коротко и решительно спросил пастор. Ненависть к Гопкинсу и Вернеру, так одурачивших его, охватила Брухмиллера. — Они сделали меня посмешищем и болваном, но и я не пощажу их! — задыхаясь от стыда и гнева, выговорил он. — Я… я хочу гласности… — Нам не стоит большого труда опровергнуть всю эту лживую газетную шумиху. У нас есть ваши показания, мы можем опубликовать их… — Нет, нет, этого мало! — яростно закричал пастор. — Я хочу гласности, сам, своими словами рассказать об этой банде жуликов, так… — он задыхался, — так бессовестно опозоривших меня. — Чего ж вы хотите? — спросил его один из следователей. — Я выступлю на пресс-конференции, — решительно сказал пастор. — Я выступлю перед журналистами, перед всеми… О-о, я отомщу, и пусть потом мне и придется плохо от Гопкинса и Вернера, но я рассчитаюсь с ними! — Вы хотите созвать пресс-конференцию? — спросил его собеседник. — Да, да! Пресс-конференцию. И да будут прокляты Гопкинс, Вернер, Щербатов и все клады!.. — с отчаянием выкрикнул пастор. — Думаю, что с вами ничего не случится. Гопкинс после вашего провала и не вспомнит о вас, а Вернера вы легко купите за тысячу марок. …В просторном зале было немного людей. Несколько советских и иностранных корреспондентов, три фотографа, четверо штатских, сидевших рядом с полковником, и все интуристы, все двадцать шесть человек, с которыми пастор совсем недавно приехал в СССР. Брухмиллер был мрачен. Его идиотская поездка в Россию, глупые поиски клада, жадность, превратившая его в посмешище для всех этих людей, — все стало достоянием газет, журналов, кино. Он вспомнил и Лотхен, которая считала его умницей и удачливым дельцом, он вспомнил и о подарках, которые обещал ей. Пастор, не глядя на окружающих, сел на приготовленный ему стул. — Начнем, — сказал председательствующий. И Брухмиллер, сначала угрюмо, потом спокойней стал рассказывать все то, что привело его в Россию. Иногда он отпивал глоток воды и, глядя в пространство, отвечал на вопросы корреспондентов. Пораженные интуристы молчали. На их глазах пожилой и почтенный пастор, их спутник и милый знакомый, превращался в неудачливого стяжателя и разведчика. Иногда возглас возмущения или презрения долетал до ушей Брухмиллера. Он рассказывал все, желая скорее закончить свою исповедь и уйти от негодующих, возмущенно слушавших его людей. — …Для того чтобы вы могли понять, господа, как одурачили пастора ЦРУ и федеративная разведка Гелена, сообщаю следующее, — обращаясь к аудитории сказал полковник. — Трюк с «зарытыми сокровищами» американцы использовали уже много раз. Так, например, в Венгрию они засылали простачков на поиски кладов, якобы зарытых бежавшими от Советской власти за границу адмиралом Хорти, князем Эстергази и графом Тиссой. В Польшу стремились за такими же фантастическими «богатствами» польские эмигранты. Их ловили на ту же дешевую наживку — поиски зарытых графами и польскими князьями огромных богатств где-нибудь в районе Польских Татр. И все, — повторяю вам, господа, — все эти одураченные «туристы», узнав, в чем дело, кляли свою доверчивую… — он помолчал и сказал, — простоту и проклинали своих друзей из немецкой разведки. И вы попались на эту дешевую приманку, Мюллер — Казаналипов; но не волнуйтесь, мы знаем, что причинить вред нам не смогли, что одураченные мнимыми богатствами люди — не шпионы, а простаки, выражаясь мягко. Настоящих шпионов мы не выпустим. Вас же вышлем обратно к вашим друзьям из Мюнхена в самые ближайшие дни. Все, — даже не глядя на пристыженного, растерянного, оцепеневшего от стыда Брухмиллера, сказал полковник. — Может быть, во время задержания вы подвергались насилию или какому-нибудь давлению со стороны следователя? — спросил один из корреспондентов, американец. — Нет, — угрюмо ответил пастор. Когда он торопливо рассказывал о кладе, о том, как обманули его эмигранты Щербатов и Курочкин, почти все в зале смеялись, а корреспондент «Таймса» сказал: — Неплохой сюжет для оперетки! Ни одного сочувственного взгляда, ни одного ободряющего слова! Все были или холодно-равнодушны или возмущены. — По-видимому, все вопросы господину Мюллеру — Брухмиллеру — Казаналипову заданы и больше их не будет? — обводя глазами присутствующих, спросил полковник. Кто-то из корреспондентов махнул рукой, другой пожал плечами, третий равнодушно покачал головой. Для них этот провалившийся глупец уже не представлял никакого интереса. — В таком случае, пресс-конференцию закрываю. Вы свободны, господин Брухмиллер. Приведите в порядок ваши дела, и завтра в восемь двадцать утра самолет с иностранными туристами вылетает в Берлин. Вот ваш билет, — протягивая одиноко стоящему пастору авиабилет, сказал полковник. — Нет, хотя конференция и кончилась, но мы еще имеем слово, — выходя из группы о чем-то совещавшихся людей, сказал Ганс, молодой турист из Бремена. — Мы, честные и далекие от всяких подлых штук и махинаций иностранные туристы, не можем и не хотим, чтобы вместе с нами летел нечестный человек, прикрывшийся званием пастора. — Ганс обвел взглядом присутствующих. — Что же касается его, — он презрительно ткнул пальцем в сторону стоявшего с низко опущенной головой Брухмиллера, — то пусть он летит без нас, на другом самолете, иначе, клянусь, ему несдобровать! — Да, это так! Мы не желаем быть в одной компании с подобным человеком! — возмущенно заговорили остальные. — Что ж, это резонно, — сказал полковник. — Дайте сюда ваш билет, Брухмиллер. Вы полетите в восемь сорок пять, на другом самолете… Благодарю вас, господа! — поклонившись остальным туристам, сказал полковник. На другой день, уже приближаясь к Берлину, незадачливый пастор-разведчик почувствовал себя несколько легче. Он молча выпил кофе и съел сандвич, предложенный ему стюардессой. Пастор кивком головы поблагодарил ее и стал упаковывать свои вещи. Так закончилось «дело о бриллиантах императрицы».
Кир Булычев ОСТРОВ РЖАВОГО ЛЕЙТЕНАНТА
Что сказали дельфины
Алиса проснулась от негромкого стука в окно. За стеклом, по карнизу, прыгал воробей и молотил в стекло клювом, норовя добраться до тарелки с клубникой на подоконнике. Воробью ничего не стоило сделать пять шагов в сторону и влететь в комнату через соседнюю распахнутую створку, но на это его воробьиного умишка не хватало. Алиса осторожно слезла с кровати, на цыпочках подошла к окну и переставила тарелку так, чтобы воробью было сподручней до нее добраться. Но воробей не понял, что Алиса хочет ему добра. Он раздраженно трепыхнул крыльями и улетел. — Глупый! — сказала Алиса, потом выбрала самую большую ягоду и съела ее. Она бы съела еще, но почуявший неладное робот — домработник, по имени Поля, — уже вкатился в комнату и сказал, что лучше сначала вычистить зубы и умыться, а клубника никуда не уйдет. — Что ты понимаешь! — сказала Алиса. — К ней же птицы подбираются. Вслед за роботом в комнату вошел, осторожно переставляя желтые, похожие на циркули, ноги, марсианский богомол. Он клубнику не ел, но, услышав, что Алиса проснулась, решил занять залитый солнцем подоконник. — Сейчас иду, — сказала Поле Алиса. — Папа уже уехал? — Ваш отец вернется к обеду, — сказал робот. — Он оставил вам записку. Поля помялся немного в дверях и добавил не без гордости: — Сегодня манная каша получилась без комков. — Вот уж никогда не поверю! — сказала Алиса. — Когда такое бывало? — Я ее размешивал. Алиса с сожалением поглядела на клубнику, потом отодвинула тарелку, чтобы богомолу было где улечься. Алисе хотелось клубники, но робот не уходил, следил за ней от двери, а характер у него был занудный. В столовой на столе лежала записка, которую отец надиктовал на машинку перед уходом.«Алиска, слушайся нашего домработника. Я вернусь часам к двум. Громадная просьба: не уноси из дома миелофон — с тебя станется. Если не забудешь, провидеофонь деду, он скучает. Папа».Письмо было ошибочным. Алиса, может, и не вспомнила бы про миелофон, но как только прочла записку, то подумала о дельфинах. — Манная каша уже остыла, — сказал робот. — А где зубная паста? — спросила Алиса из ванной. — Я ее вчера еще сюда клала. Алиса отодвинула стакан с зубной щеткой. Тюбика нигде не было. — Будьте добры, — сказал робот тихо, — возьмите пасту вашего отца. — Ты зачем ее утащил? — Простите, я сегодня же принесу новую, — сказал робот. — А зачем она тебе? — Но я же собираю медали, — сказал робот. — И мне их надо было почистить. — Ох, уж эти мне коллекционеры! — вздохнула Алиса. В Алисиной семье все были коллекционерами. Отец собирал бабочек с разных планет и старые книги, дед — фотографии знаменитых балерин, Алиса — марки, мама — тоже марки, но не научно, а только красивые. Ну и конечно, робот не удержался и стал собирать медали. Он даже ходил раза два в общество нумизматов, и о нем была заметка в журнале «Коллекционер». Заметка называлась «Первый робот-нумизмат». Домработник вырезал ее и повесил в рамке на стену возле своего ночного выключателя. — Какая сегодня будет погода? — спросила Алиса у телеинформатора. Экран телеинформатора засветился, и на нем появилась дикторша Нина. Она улыбнулась Алисе и сказала: — Сегодня будет ясный и свежий день. Ветерок уляжется к полудню, но жарко не станет. Два больших облака идут к Москве от Ярославля. Но их, наверно, остановят в Переяславле-Залесском, чтобы полить овощи. Купаться сегодня еще не стоит, вода довольно холодная. Спасибо за внимание. — Спасибо, — сказала Алиса. Она отлично знала, что Нина говорит не в самом деле — это запись, и каждый может включить ее и прослушать точно такие же слова, — но все-таки Алисе хотелось верить, что Нина рассказала про погоду специально для нее. Робот подогрел манную кашу и присел рядом с Алисой. Он подпер пластиковой рукой свою пластиковую голову и внимательно смотрел Алисев рот. — Хорошая каша, — похвалила Алиса. — Почти совсем нет комков. — Спасибо, — обрадовался робот. — Вы не пойдете сегодня в школу? — Нет, у меня уже каникулы, — сказала Алиса. — Занимайся своими делами. Я сама со стола уберу. — Хорошо, я тогда почищу медаль за взятие Базарджика, — сказал робот. — Но ты же ее вчера чистил! — Я немного оставил на сегодня. Робот ушел. Алиса допила какао, собрала посуду и отнесла ее в автомойку. Потом вошла в кабинет отца и прикрыла за собой дверь. Где же миелофон, о котором писал отец? Миелофон висел на стене. В сером футляре, на ремешке, он был похож на кинокамеру. Алиса стала на стул и достала аппарат. Теперь можно идти к дельфинам. Дверь медленно отворилась, и в комнату втиснулся марсианский богомол. Богомол был совсем ручным и ласковым. Сначала, когда первых богомолов привезли с Марса, некоторые люди их боялись, но богомолы оказались послушными и полезными в домашнем хозяйстве. Например, они могли колоть орехи своими твердыми челюстями. А кроме того, богомолы любили жонглировать разными предметами и умели долго стоять на одной ноге. — Ой, я даже испугалась! — сказала Алиса богомолу. — Разве можно входить без стука? Богомол сложился, как складная линейка, и ушел под стол. Переживать. Он считал, что Алиса была не права. Алиса включила видеофон и позвонила Берте Максимовне. Та сидела в кресле и читала толстую книгу. На Берте был зеленый парик «северная русалка» и зеленые чешуйчатые рейтузы. — Здравствуй, коллега, — сказала Берта Алисе. — Что нового? — У меня каникулы начались, — сказала Алиса. — Как себя чувствует Руслан? — Лучше. Вчера прилетал врач с Черноморского центра и сказал, что к вечеру все будет в порядке. Он, наверно, объелся треской. Кстати, девочка моя, ты не говорила со своим отцом? — Говорила. Но вы же знаете, Берта Максимовна, как он относится к нашей проблеме. — Значит, они не дадут аппаратуру? — Папа сказал, что Черноморский институт дельфиноведения получит аппарат, когда до него дойдет очередь. Алису так и подмывало сказать, что аппарат у нее в руках. Но она отлично понимала, что Берта — человек ненадежный. Она раструбит на всю Москву, что заполучила миелофон, и, даже если ничего не получится, будет говорить, что получилось. — Ну ладно, заходи ко мне, крошка, — сказала Берта. — Наши красавицы тебя с утра ждут не дождутся. Только не сейчас, а через часок, там чистят бассейн. Алиса терпеть не могла, когда ее называли крошкой, малюткой, чижиком или цыпленком. Такое обращение можно еще понять, если ты дошкольница. Но когда ты перешла в третий класс и имеешь премии за алгебру и биологию, когда тебе уже девять лет и несколько месяцев (два), всякие «крошки» и «цыпленки» довольно сильно обижают. Но Берта все равно бы не поняла, если ей сказать про это. Может быть, даже и засмеялась. И стала бы рассказывать общим знакомым: «Знаете, эта Алисочка просто прелесть. Я ее зову крошкой, а она дуется». И так далее. Алиса взяла синюю сумку, спрятала туда миелофон, чтобы робот не стал задавать лишних вопросов, и пошла к Берте. По дороге она вела себя не лучшим образом. Во-первых, съехала с третьего этажа вниз по перилам; во-вторых, вызвала такси, хотя надо было пройти всего два квартала; в-третьих, пока ждала машину, съела две порции мороженого в автомате у подъезда. Машина выскочила из-за угла, фыркнула, разгоняя воздушную подушку, и легла пузом на бетон. Алиса уселась на белое сиденье и, вместо того чтобы набрать адрес Берты, наиграла кнопками сложный и длинный маршрут с таким расчетом, чтобы проехать мимо бассейна у Института времени, заглянуть в Кунцевский ботанический сад и посмотреть, смонтировали ли уже в Филях экспериментальные дорожки. О них говорила вчера дикторша Нина. Был уже одиннадцатый час, и улицы почти опустели. Москвичи разошлись кто в школу, кто на работу, кто в детский сад, только на бульварах сидели бабушки и роботы с детскими колясками. У марсианского посольства остановился длинный автобус с герметическими дверями. Марсианские туристы в нем надевали дыхательные маски, собираясь выйти на улицу. Один марсианин в маске стоял на земле и ждал, когда можно будет открыть дверь. Само посольство было похоже на мяч, зарытый до половины в землю. Там, под куполом, у марсиан свой воздух и свои растения. Когда Алиса была на Марсе, она тоже ходила в маске. Только богомолам все равно, каким воздухом дышать. Навстречу на четырех автомобилях ехал свадебный кортеж. Машины были украшены разноцветными лентами и ехали медленно, покачиваясь на воздушных подушках. Невеста была в длинном белом платье, и на голове у нее была фата. Наверно, невеста из тех, кто пишет в газетах статьи, что надо возрождать добрые традиции, подумала Алиса. В бассейне, несмотря на предупреждение дикторши Нины, что купаться холодно, было довольно много народа. Алиса и сама подумала, не выкупаться ли, но машина уже повернула к мосту, к Ботаническому саду, У сада Алиса остановила машину и заглянула в киоск у входа. Робот в венке из одуванчиков дал ей букет сирени, и Алиса положила его рядом с собой на сиденье. Один цветок, пятилепестковый, Алиса оторвала и съела. На счастье. Машина ехала по окружному шоссе, по обе стороны которого поднимался густой лес. Такси замедлило ход и потом совсем остановилось. Из леса вышло стадо маралов и, поцокав копытами по шершавой пластиковой поверхности дороги, перешло на другую сторону, к кедровой роще. — Они в виноградники не забредут? — спросила Алиса у такси. — Нет, — ответила машина. — Там барьер. Маралы вдруг подняли головы, принюхались и мгновенно исчезли в чаще. — Чего они испугались? — расстроилась Алиса. Ей хотелось еще посмотреть на оленей. Такси не ответило, да и не надо было отвечать — по шоссе, пригнувшись к рулям, неслись велосипедисты. Они были в таких ярких разноцветных майках, что у маралов, наверно, в глазах круги пошли. После того как машина проехала молодые посадки каучуковых деревьев, похожих на осины, Алиса попросила на минутку остановиться в роще финиковых пальм. В роще было светло и спокойно. Только белки прыгали по земле, разыскивая меж мохнатых стволов завалявшиеся с осени финики. По краю рощи тянулся невысокий барьер сложенного пластикового купола, который автоматически накрывал рощу, как только погода портилась. Алиса села под пальмой и вообразила, что она в Африке и что белки — вовсе не белки, а мартышки или даже павианы. Одна из белок подбежала к ней и встала на задние лапки. — Не попрошайничай! — укоризненно сказала Алиса. — Ты дикое и вольное животное. Белка ничего не поняла и постучала себя передними лапами по животу. Алиса рассмеялась и подумала, что в Африку поиграть не удастся. Придется ехать дальше. — Теперь в Филевский парк, — сказала Алиса. Машина осторожно гуднула. — Ты чего? — удивилась Алиса. — Я подумала, что вы забыли о своих делах. — У меня каникулы, — сказала Алиса. — И кроме того, с каких это пор машины указывают, как себя вести людям? — Прошу прощения, — сказало такси, — но, во-первых, я не указывало, а напоминало, а во-вторых, насколько я могу судить, вы еще далеко не совершеннолетняя, и потому в данном случае я выступаю и в качестве воспитателя. Если бы вы были дошкольницей, я бы вообще вас не повезло без разрешения или сопровождения родителей. Произнеся такую длинную тираду, такси умолкло и больше до самого конца поездки не сказало ни слова. Машина въехала в жилой пояс. Когда-то здесь стояли довольно скучные пятиэтажные дома, потом их снесли и поставили вместо них восемнадцать игл-небоскребов, каждый из которых был не только жильем для нескольких тысяч человек, но и включал в себя несколько магазинов, мастерских, станций обслуживания, гаражей, посадочных площадок для флаеров, театр, бассейн и клубы. Можно было прожить всю жизнь, не выходя из такого дома, хотя это, наверно, было бы очень неинтересно. Небоскребы стояли на широких полянах и были окружены березовыми рощами, среди которых росло множество грибов-подберезовиков, семена которых и грибницы привозили каждый год с севера, так что можно было собрать за день сто корзин, но на следующее утро грибы вырастали снова. Подберезовики были гордостью жителей этого района, но сами они грибами объелись уже давно и потому всегда приглашали знакомых собирать грибы вокруг своих домов и даже посмеивались над грибниками. За небоскребами начинался Филевский парк. На широкой поляне человек сто любопытных смотрели, как работает экспериментальная дорожка. Техник в синем комбинезоне стоял посреди серебряной ленты, которая изгибалась, направляясь в ту сторону, в которую техник велел ей направляться. На груди техника висел микрофон, и он объяснял любопытным, как дорожка работает: — Если мне хочется, чтобы дорожка привела меня к тому вон большому кусту, я мысленно говорю ей: направо. И дорожка поворачивает направо. Все засмеялись, потому что дорожка так резко повернулась, что техник не удержался и упал на траву. Дорожка пробежала вперед и замерла. Алиса хотела было покататься на новой дорожке, но желающих было так много, что пришлось бы стоять в очереди полдня, прежде чем удалось бы покататься самой. Алиса решила лучше подождать, пока такие дорожки построят во всех парках. На соседней полянке тренировались космонавты, вернее, юные космонавты из ДОСКОСа — Добровольного общества содействия космонавтике. Люк в учебную ракету был открыт, и ребята по очереди спускались из него на траву по тросу. Они, наверно, воображали, что динодуки с Юпитера сожрали их трап. Алиса вернулась к машине. Пора было ехать к Берте. Некоторое время машина шла под трубой монорельса, потом повернула по набережной Москвы-реки и через старый Бородинский мост выехала на Смоленскую. Солнце спряталось за тучу; наверно, метеорологи опять ошиблись — даже в двадцать первом веке им верить нельзя. Под тучей висел воздушный велосипед регулировщика. Велосипед был синий, и регулировщик был в синем, и туча была синей. Алиса сразу придумала сказку о том, что регулировщик — сын тучи, и, если станет жарко, он превратится в дождь. Вот и зеленые арбатские переулки. Алиса почти что вернулась домой. Она оставила такси на стоянке, устланной разноцветными плитами, забрала букет сирени, проверила, на месте ли миелофон, и поднялась к Берте Максимовне. — Чего же ты так долго? — удивилась Берта. — Вы же сами сказали, чтобы через час. — Ах да, я совсем забыла! Я думала, мне позвонят из Монтевидео. Там, знаешь, говорят, достигнут контакт. Видела последний номер нашего журнала?.. Спасибо за цветы. Берта была немного сумасшедшая. Так думала Алиса, но, конечно, никому об этом не говорила, а перед ребятами даже иногда хвасталась немного своей дружбой с вице-председателем общества «Дельфины — наши братья». Берте уже лет пятьдесят, хотя она довольно молодая и носит парики «русалка» или «гавайский бриз». Она раньше была чемпионом Москвы по подводному плаванию, а потом вступила в общество «Дельфины — наши братья» и стала в нем главной. У нее во дворе дома большой дельфиний бассейн, и она все время старается найти с ними общий язык. Папа говорил Алисе, что Берта скоро разучится говорить с людьми и если достигнет взаимопонимания с дельфинами, то только потому, что будет обходиться без человеческого языка. Папа, конечно, шутил, но, по правде говоря, они с Бертой — научные противники. Папа — биолог и директор зоопарка, и он не верит в то, что дельфины — наши братья. А Алисе очень хотелось в это верить, и из-за этого у нее с папой были даже настоящие научные споры. — Знаешь что, деточка? — сказала Берта, резким движением откидывая на плечо зеленый локон. — Ты иди к дельфинам, а я потом подойду. Может, все-таки позвонят из Монтевидео. — Хорошо, — сказала Алиса. Ей только этого и надо было. Она хотела испытать миелофон без Берты. А потом положить его на место, чтобы папа не узнал, что она пробовала его на дельфинах. Папа принес миелофон вчера из зоопарка и объяснил, что миелофон экспериментальный. Он может читать мысли. Конечно, если эти мысли выражены словами. Папе дали аппарат для опытов с обезьянами, но сегодня он поехал не в зоопарк, а на совещание, и оставил аппарат дома. Вчера вечером они с папой испытывали аппарат друг на друге, и Алиса слышала собственные мысли. Это очень странно — слушать собственные мысли. Они звучат совсем не так, как кажется тому, кто их думает. Алиса брала в руки серую коробочку, вставляла в ухо маленький наушник и слушала, как довольно тоненький голос говорит быстро-быстро: «Не может быть, чтобы мои мысли… смотри-ка, я слышу собственный голос… Это мой голос? Я подумала про голос и точно то же самое слышу…» Алиса с папой попробовали послушать домработника. У домработника мысли были короткие и не путались, как у Алисы. Домработник думал о том, что надо подмести под плитой, почистить медаль и (тут люди узнали его страшную тайну) подзарядить потихоньку аккумуляторы, чтобы ночью, когда все будут думать, что он спит, почитать при свете собственных глаз «Трех мушкетеров». …Алиса подошла к бассейну. Оба дельфина, узнав ее, наперегонки поплыли к бетонной кромке. Они по пояс выпрыгивали из воды, чтобы показать, что они рады видеть гостью. — Подождите, — сказала Алиса. — У меня для вас нет ничего вкусного. Берта мне не велела вас кормить — у Руслана живот болит. Ведь правда? Один из дельфинов, которого звали Русланом, перевернулся на спину, чтобы показать Алисе, что живот у него уже совсем не болит, но Алису это не разжалобило. — Не уплывайте далеко, — сказала Алиса. — Я хочу послушать, есть ли у вас мысли. Видите, я достаю миелофон. Вы такого аппарата еще никогда не видели. Он читает мысли. Его придумали врачи, чтобы лечить психических больных и вообще чтобы ставить точный диагноз. Мне папа сказал. Понятно? Но дельфины ничего не ответили. Они нырнули и поплыли наперегонки по кругу. Алиса достала из сумки аппарат и, вставив в ухо наушник, нажала черную кнопку приема. Сначала ничего не было слышно, но когда Алиса покрутила ручку настройки, то вдруг совершенно явственно услышала мысль одного из дельфинов: «Смотри-ка, что она делает. Наверно, опыт ставит». Алиса чуть не закричала «ура». Может, позвать Берту? Нет, надо проверить. Один из дельфинов подплыл ближе. Он думал: «А на вид просто девчонка. Что же это она делает?» — Я читаю твои мысли, — тихо сказала Алиса дельфину. — Понял, глупый? Дельфин перевернулся и нырнул. Но мысли его тем не менее были ясно слышны. «Может, поговорить с ней? — думал дельфин. — А то она что-то задается…» Перебивая первую мысль, появилась другая — кто-то еще, наверно второй дельфин, подумал: «А я ее знаю, она из дома напротив, ее Алисой зовут». «Вот молодец! — подумала Алиса. — Но откуда он знает, что я из дома напротив?» И в тот же момент тот же голос, который звучал в миелофоне, сказал вслух и довольно громко: — Алиса-барбариса, машинку сломаешь, нас не поймаешь! Голос раздался, как ни странно, не из бассейна, а сзади. Алиса вскочила и обернулась. За низенькой бетонной оградой стояло двое мальчишек лет по шести и корчили ей дурацкие рожи. — А ну, уходите сейчас же! — рассердилась Алиса. — Вы мне весь опыт испортили! — Так мы и ушли, дождешься! — сказали мальчишки. Но Алиса сделала два шага в их сторону, и мальчишек словно ветром сдуло. Алиса огорчилась и снова села на берег бассейна. Опыт провалился. Хорошо еще, что она не позвала Берту, чтобы рассказать о своем открытии. Ну ладно, время еще есть. Можно продолжить. Алиса снова включила миелофон и, вытянув наружу усик-антенну, направила его в сторону дельфинов. В ушах потрескивало, и иногда раздавались какие-то хрюкающие звуки и взвизгивание. Они приближались, когда дельфины подплывали ближе, и почти совсем пропадали, когда дельфины ныряли или отплывали к дальней стенке бассейна. Так Алиса просидела минут пять, но ничего не дождалась. Наверху открылось окно, и Берта, высунув зеленую модную голову, сказала: — Алисочка, дружок, поднимись ко мне. Звонили из Монтевидео, отличные новости. И скажи роботу, чтобы он достал из холодильника рыбу. — До свидания, — сказала Алиса дельфинам. — Я к вам еще приду. Она осторожно, чтобы Берта из окна не увидела, спрятала миелофон и, сказав, что нужно, роботу, пошла к дому. Когда она скрылась за углом, дельфин, по имени Руслан, высунул из воды курносое рыло и сказал негромко своему соседу на дельфиньем языке: — Интересно, что там случилось в Монтевидео? — Не знаю, — ответил второй дельфин. — Жалко девочку, она так расстроилась. Может, стоило с ней поговорить? — Рано еще, — ответил дельфин Руслан. — Люди не доросли до общения с нами. Они многого не поймут. — К сожалению, ты прав, — сказал второй дельфин. — Взять хотя бы этих мальчишек. Крайне плохо воспитаны. Один даже кинул в меня палкой. И дельфины, резвясь, поплыли вокруг бассейна.
Туды-сюды дедушка
В первый день каникул человеку обычно нечего делать. Вернее, есть что делать и дел даже очень много, но трудно придумать, какое из них самое главное, и человек теряется среди многочисленных возможностей и соблазнов. Алиса попрощалась с Бертой Максимовной, вышла на улицу и посмотрела на воздушные часы, висящие в небе над городом. Часы показывали двенадцать. Впереди еще был целый день, а за ним пряталось множество совершенно свободных летних дней, обещанное папой подводное путешествие, экскурсия в Индию, экспедиция юннатов в пустыню и даже, если мама достанет билеты, поездка в Париж на трехсотлетие взятия Бастилии, которую парижане уже специально построили из легкого пластика. Жизнь обещала быть интересной, но все это относилось к завтрашним дням. А пока Алиса отправилась на Гоголевский бульвар. Миелофон лежал в сумке, и Алиса время от времени похлопывала по сумке ладошкой, чтобы проверить, на месте ли аппарат. Вообще-то говоря, стоило зайти домой и положить его на место, но жалко было терять время. Зайдешь домой, робот заставит обедать и будет говорить, что ты опять похудела, и что я скажу маме, когда она вернется, и всякие другие жалкие слова. Марсианский богомол попросится гулять, а гулять с ним — одно мученье: он останавливается у каждого столба и обнюхивает каждую царапину на мостовой. Так что понятно — Алиса домой заходить не стала, а отправилась на бульвар. Гоголевский бульвар, широкий и тенистый — говорят, там как-то заблудилась целая детсадовская группа вместе с руководительницей, — тянется от Москвы-реки до Арбатской площади, и в него, как реки в длинное и широкое озеро, впадают зеленые улицы и переулки. Алиса по извилистой тропинке, мимо апельсиновых деревьев, которые очень красиво цвели, направилась прямо к старинному памятнику Гоголю. Это печальный памятник. Гоголь сидит, кутаясь в длинный плащ, — Гоголь хоть и писал веселые книги, сам был довольно грустным человеком. За памятником, на боковой аллее должны расти ранние черешни. Они отцвели уже месяц назад. Вдруг ягоды уже поспели? На лавочке сидел старичок с длинной седой бородой, в странной соломенной шляпе, надвинутой на кустистые брови. Старичок, казалось, дремал, но, когда Алиса проходила, вернее, пробегала мимо, он поднял голову и сказал: — Куда ж ты, пигалица, несешься? Пыль поднимаешь, туды-сюды! Алиса остановилась. — Я не поднимаю пыли. Здесь же крупный песок, он не пылится. — Вот те раз! — удивился старичок, и борода его поднялась и уставилась пегим концом в Алису. — Вот те раз! Возражаешь, значит? — Дедушка явно был не в духе. И Алиса на всякий случай сказала: — Простите, я не нарочно, — и хотела уже бежать дальше. Но старичок не дал. — Подь сюды, — сказал он. — Тебе говорят! — Как так — подь сюды? — удивилась Алиса. — Как-то странно вы разговариваете. — А ты поспорь, поспорь. Сейчас возьму хворостину и отстегаю тебя по мягкому месту! Старичок был совсем необыкновенный. Как старик Хоттабыч. И говорил удивительно. Не то чтобы Алиса его испугалась, но все-таки ей стало немного не по себе. Больше никого на аллее не было, и если старик и в самом деле решит стегать ее хворостиной… «Нет, успею убежать», — подумала Алиса и подошла к старичку поближе. — Что же это получается? — сказал старичок. — Оставили меня на этом проклятущем месте, а сами смылись! На что это похоже, я спрашиваю! — Да, — согласилась Алиса. — У тебя в сумке калачика не найдется? — спросил дед. — А то с утра маковой росинки во рту не держал. — Нет, — сказала Алиса. — А что такое маковая росинка? — Много будешь знать, скоро состаришься, — сказал старичок. Алиса засмеялась. Старичок был совсем не страшный и даже шутил. Она сказала: — А здесь недалеко кафе есть. Диетическое. Пройдете два поворота… — Обойдусь, — сказал дед. — Без ваших советов обойдусь. Нет, ты скажи, пигалица, что такое деется? «Вот это старик! — подумала Алиса. — Вот бы его нашим ребятам показать». — Сколько вам лет, дедушка? — спросила она. — Все мои годки при мне, я еще царя-батюшку Николая Александровича, царство ему небесное, помню. Вот так-то. И генерала Гурко на белом коне. А может, это Скобелев был… — Долгожитель! — поняла Алиса. — Самый настоящий долгожитель. Вы из Абхазии? — Это из какой такой Абхазии? Ты это что? Да я тебя! Дедушка попытался вскочить со скамейки и погнаться за Алисой, но в последний момент передумал и вставать не стал. Алиса отбежала на несколько шагов и остановилась. Ей уже совсем не хотелось уходить от сказочного деда. — Так вот, говорю я, — продолжал дед, будто забыл вспышку гнева. — Что же это вокруг деется? Совсем с ума поспятили, туды-сюды! Если он помнит царя и еще каких-то генералов, которых не проходят во втором классе, то деду должно быть, по крайней мере, двести лет. Как же он законсервировался, и даже в газетах о нем ни слова не было, и папа о нем не знает? Ведь если бы знал, то наверняка сказал бы Алисе. — Ни те городового, ни те культурного обращения! Ходют туды-сюды голые люди, махают себе бесстыжими ногами. Ох, наплачетесь вы с ними, ох, и наплачетесь!.. Не видать вам… Дед всхлипнул и вдруг завопил яростно и тонко: — Конец света! Светопреставление! Грядет антихрист наказать за грехи великие… «Ой-ой-ой, позвать кого-нибудь, что ли? — забеспокоилась Алиса. — Наверно, у него мания. Больной человек». — А ты чего в трусах бегаешь? — вдруг спросил дед негромко, но сердито. — Юбки, что ль, у мамки не нашлось? Небось загуляла мамка-то, а? Загуляла?.. Девки-то кто в штанах, кто в трусах… — У меня мама архитектор, — сказала Алиса. — То-то и говорю, — согласился дед. — Не те времена пошли. А то выйдешь спозаранку, наденешь лапти… Ты садись, девочка, на лавочку, сказку послушаешь… Буренка твоя уже копытом теребит. И поднимаемся мы вслед за генералом Гурко, царство ему небесное, туды, понимаешь, сюды, на высоту двенадцать — восемьдесят пять, а там уже турок позицию себе роет… И за царя… Дед повторил несколько раз «за царя» и вдруг запел:Чемодан-установка профессора Шеина
— Ты что здесь делаешь? — спросил вдруг Герман, заметив Алису. — И здесь успела? — Мы очень испугались, — ответила Алиса. Она хотела показать девушку, которая тоже испугалась, но девушка, оказывается, незаметно ушла. — Вот, — расстроился Герман, — я же говорил, что детей типовыми стариками запугать можно! — Я думала, что он из прошлого, на машине времени. — Нет, не бойся, таких упрощенных дедов даже сто пятьдесят лет назад не было. Хотя я точно не знаю. У тебя что, каникулы уже? — Каникулы. А вы картину снимаете? — Историческую ленту. — С эффектом присутствия? — И симфонией запахов и термоэффектом. — А сегодня будете снимать? — Сегодня? Вот не знаю, что нам теперь делать с массовкой. Старики неудачные… Знаешь что? Сгоняем-ка мы на натуру! На Черное море. Хочешь с нами? — Очень хочу! А как папа? — С папой я свяжусь, — сказал Герман. — Надо только с режиссером поговорить. Володя! Володя, Чулюкин! Где ты? — Ну что? — спросил голос из кустов, и тут же на дорожке показался режиссер, быстрый, невысокий, в очень модной мексиканской шляпе с бубенчиками. Режиссер быстро передвигался и быстро говорил, но думал он, видно, еще быстрее, и часто фраза у него не договаривалась, потому что мысли заставляли, не кончив первую, начинать вторую. — Что, у нас получилось несчастье? — спросил он. — Старики оплошали, и не только… А впрочем, у тебя есть соображения по части… Может, нам перейти в павильон? — Володя, отпусти меня на побережье. Мне нужен закат, чтобы с фиолетовыми облаками. Все равно день пропал. — А как же Мария Васильевна? — Она обойдется. — И все-таки… А впрочем, поезжай. Только чтобы к утру вернуться, а то Мария Васильевна… Тут Чулюкин повернулся и исчез в кустах. Будто его и не было. — Вот видишь, — сказал Герман. Он вынул из кармана видеофончик и набрал номер Алисиного отца. — Слушай, Игорь, — сказал он, — я у тебя хочу дочку украсть на полдня. А к утру верну… Да нет, на Черное море, там тепло. Погоду я заказал… Вот и отлично! Герман отключился и сказал Алисе: — Твоего отца такой вариант вполне устраивает. Он все равно задержится до ночи. Крумсы делятся у него. Что это такое, кстати? — Какие-то звери с Сириуса. Я их никогда не видала. Но мне надо будет домой зайти. — И не мечтай. Натура не ждет. Или мы летим сейчас, или ты остаешься в городе. — Мне надо одну вещь домой занести. — Завтра занесешь. По машинам! Никаких машин не было, да им и нельзя заезжать на бульвар. Но при этих словах вдруг в кустах что-то загрохотало и зашуршало. — Аппаратуру сворачивают, — сказал Герман. — Пошли. Алисе пришлось пойти. Хоть она и жалела, что не смогла забежать домой и положить на место миелофон, который папа велел не трогать. Ведь невозможно же отказаться от такой поездки, не часто тебя зовут смотреть, как снимается настоящее кино. Флаер ждал киношников на крыше одного из домов на краю бульвара. Флаером лететь в Крым дольше, чем на метро, но киношники, как они ни спешили, вынуждены были воспользоваться своей машиной, потому что у них было много оборудования — камер и осветительных приборов, — перегружать которое в вагоны метро было долго и трудно. Тем более, что метро шло только от Москвы до Симферополя, а оттуда все равно на побережье надо лететь флаером или ехать на монорельсе. Обычно же после работы тысячи московских флаеров и такси отправлялись в Фили-Мазилово, к серебряному куполу с большой красной буквой «М» над ним. Здесь — московская станция Крымского метрополитена. Несколько параллельных туннелей тонкими ниточками связывают Фили с Симферополем. Ниточки эти совершенно прямые, и это значит, что на середине пути туннель метро углубляется на несколько километров под землю. В свое время строительство первых междугородных подземных линий было очень трудным делом, пока строители не ввели в работу проходческий автомат, который под температурой в несколько тысяч градусов расплавлял породу, облицовывал ее тугоплавким пластиком и оставлял за собой блестящую, оплавленную, гладкую, как серединка керамического стакана, трубу. Такие же линии метро соединяют Москву и с Ленинградом, и с Киевом, и даже со Свердловском. А к 2100 году будет закончена первая линия, Варшава — Нью-Йорк. Ее строят уже третий год, потому что под океаном туннель проходит чуть ли не по центру Земли и потому работы там продвигаются медленно, и о них в двух словах не расскажешь. А крымский туннель давно уже стал привычным и удобным — каждый москвич может после работы за сорок пять минут доехать в снаряде метровагона до Симферополя, а оттуда уже пятнадцать минут на флаере до любой точки побережья. К ночи можно вернуться в Москву загорелым и накупавшимся. Герман с Алисой, три ассистента, два робота, пилот разместились в мосфильмовском флаере. Он бесшумно взвился с крыши и, набрав высоту, полетел на юг, к Черному морю. Это было совсем неплохое начало для каникул. Алиса осмотрелась, нашла ящик поудобнее, чтобы усесться на нем, и придвинула его к окну. За ее спиной кто-то закряхтел. Алиса обернулась, удивившись, как это человек мог уместиться в такой узкой щели. Сзади, насупившись, сидел старик из массовки и жевал набалдашник своей толстой палки. — Ой, — сказала Алиса, — старик! — Это что такое? — удивился Герман. — Как он сюда пробрался? — Чулюкин просил взять на всякий случай, — сказал один из ассистентов. — Может, пригодится для первого плана. — Я пригожусь, я-те пригожусь! — сурово сказал старик. — Я с генералом Гурко Шипку брал. Молокососы… — Если ты, Алиса, боишься, то пересаживайся ко мне, — сказал Герман. — Вот еще чего не хватало! — обиделась Алиса. — Чтобы я роботов боялась. Уж лучше я тут, у окошка. Вообще-то она предпочла бы пересесть, но признаваться, что она испугалась, ей совсем не хотелось. Все равно лететь меньше двух часов. И когда один из ассистентов роздал киношникам, и в том числе Алисе, по галете и стакану сока, она даже отломила половину галеты и протянула старику. — Не стесняйтесь, — сказала она. — Берите. Мне все равно столько не съесть. Но старик робот покачал головой: — Ешь сама, пигалица. Я с утра щец похлебал, вот и вся недолга. Алиса поняла, что старик-типовик ее обманывает. Роботы не едят щей. Но, наверно, в нем такая заложена программа, что он думает о себе, что он вовсе не робот, а древний старик. Чтобы естественней изображать в кино. Не успела Алиса дожевать галету, как флаер пошел на снижение. Он проскользнул между невысокими лесистыми горами и полетел прямо в синее, чуть светлее неба, море. Над самым берегом, между двух высоких серых скал, флаер замер на месте и мягко опустился на площадку, обрывающуюся прямо к воде. — Ну вот, — сказал Герман. — Мы тут были на прошлой неделе. Чем не рай? На бугорке стояла палатка — маленький купол из легкого пластика. Из палатки вышел почти черный человек в плавках. Оказалось, его зовут Васей и он тоже киношник. — Обследовал? — спросил Герман. — Да, все точки выбраны. Хоть сейчас начинай. — Ладно, покажешь. Но сначала всем купаться. Ты, Алиса, пойдешь со мной, и ни на шаг в сторону. Чтобы не утонула. — Как же я утону? Я даже под водой плаваю сколько хочешь. — И тем не менее. Перед твоим отцом отвечаю я, а не ты. Ясно? — Ясно. — Сумку оставь здесь. — Нет, я ее с собой возьму. — Ну, как хочешь. Вася повел киношников по тропинке к воде, а роботы занялись устройством временного лагеря. Вода была теплой и ласковой. Алиса даже пожалела, что отец не возит ее по воскресеньям на море. Другие ребята ездят. Старик в лаптях спустился к морю за киношниками и уселся на берегу. — Не жарко? — крикнула ему из воды Алиса. — Ты далеко не плавай, пигалица, — сказал дед. — Рыба какая укусить может. Он уже привык к Алисе, да и Алиса к нему привыкла и совсем не боялась. Дед подумал-подумал и принялся разувать лапти. — Эй, старик, — сказал ему Герман, — и не думай. Перегреешь внутренности, мастерской здесь нет. Старик вздохнул и послушно надел лапоть обратно. — Жалко его все-таки, — сказала Алиса. — Жалко, конечно. Да что поделаешь, одежда для него — та же изоляция. А убедительно сделан? — Убедительно, — согласилась Алиса и нырнула. Под водой она открыла глаза и так испугалась, что открыла рот, наглоталась воды и пулей вылетела на поверхность. Она чуть было не ушла обратно под воду, но Герман подхватил ее и легонечко стукнул по спине, чтобы она откашлялась. — Что там такого страшного? — спросил он. — Морда, — сказала Алиса. — Такая страшная морда, что я просто не могу! В этот момент вода перед ними расступилась, и на поверхности показалось смеющееся рыло дельфина. — Пошел отсюда! — прикрикнул на него Герман. — Детей пугать вздумал! — Он шутил, — сказала Алиса, которая уже опомнилась. — Это я виновата, что не узнала. — Он у меня тут в друзьях числится, — сказал загорелый Вася. — Привет от Руслана из Москвы! — крикнула Алиса вслед уплывающему дельфину. — Итак, вылезаем — и за дело, — сказал Герман и поплыл к берегу. — С легким паром! — сказал купальщикам старик. — Спасибо, — ответила Алиса. Герман прыгал на одной ноге, стараясь вытрясти из уха воду. Потом остановился, пригляделся и спросил: — А там кто обосновался? — Какой-то отдыхающий, — сказал Вася. — Чего ж ты ему не сказал, чтобы он со своим хозяйством за скалу отступил? Ведь в кадр попадет. Панораму мне испортит. — Понимаешь, Герман, — сказал Вася смущенно. — Все это случилось как-то неожиданно. Я даже не успел среагировать. А сейчас хотел пойти к нему, да тут от Чулюкина звонок, что вы прилетаете, вот я и не успел. — И давно он здесь? — Часа два-три. — Смотри, какой деловой! И палатку поставил, и печку растопил, и лодку в море спустил, и даже удочки приготовил. — Вот-вот, — сказал Вася. — Сам удивляюсь. Понимаешь, какая штука получилась. Вижу, опускается на тот холмик маленький флаер, из Курортного управления. Выходит из него человек этот с чемоданчиком и садится на песочек. Помахал флаеру рукой, тот и улетел. Ну, я решил тогда, что он ненадолго, рыбку половить и вечером обратно, к цивилизации. Поглядел я в бинокль — человек пожилой, солидный. Ну что, думаю, я его буду беспокоить. И тут начались удивительные вещи. Ты мне не поверишь. Герман тем временем вытерся, надел тапочки и легкую распашонку. Распашонка не застегивалась, и под сердцем у Германа был виден тонкий шрам. Алиса знала, что сердце у Германа искусственное. Папа рассказывал. Еще много лет назад, когда Герман был почти юношей, сердце у него остановилось. Такой был в сердце порок. И пришлось врачам поставить искусственное сердце. Оно, конечно, лучше настоящего и работать будет всю жизнь, и все-таки Алиса Герману не завидовала. И всегда хотела спросить, заводит ли он сердце на ночь ключиком или оно само тикает. Но спрашивать о таких вещах не очень удобно. — Давай рассказывай дальше, — сказал Герман, когда начали подниматься по тропинке к палатке. — Так вот, смотрю я на него и вдруг вижу, что рядом с этим человеком появляется робот. Я голову могу дать на отсечение, что раньше его не было. И с флаера человек сошел один, и только с чемоданчиком. Отвернулся я на минутку, опять посмотрел — уже два робота. Один устанавливает кухонный комбайн, другой ставит палатку. Но самое интересное — палатка стационарная, большая, она даже в свернутом виде ни в какой чемодан не поместится. — Ну-ну, — сказал Герман. — И как тут солнце, горячее? — Думаешь, сочиняю? Ни в коем случае. Слушай дальше, что было. Спустился этот человек к морю, я уж за ним смотрю, глаз не спускаю. Нагнулся к воде, и в тот же момент — нет, ты не поверишь! — на воде покачивается лодка, довольно большая, сам знаешь — амфибия. — Не верю, — сказал Герман. — Но ты все равно продолжай. Получается у тебя это красиво. — Нет, мы сейчас к нему пойдем, я и сам собирался, и все узнаем. — Хорошо. И все-таки признайся, что придумал всю эту историю для того, чтобы оправдаться, что проспал, пока твой сосед нам своей палаткой панораму кашировал. — Клянусь чем угодно, ни слова лжи! — возмутился Вася. — Вот и сейчас, когда мы купаться шли, я обратил внимание — сидит между двух роботов и что-то им выговаривает. — Да ты посмотри получше: где твой сосед, где его роботы? В самом деле, холмик был пуст. И хоть до него было довольно далеко — метров триста, все равно, если бы на нем был хоть один человек или робот, заметить его было бы нетрудно. — Наверно, в палатку ушли, — сказал Вася. — Так. — Герман остановился посреди расставленного роботами кинооборудования и задумался. — Все-таки придется идти к соседу и попросить его подвинуться. Я думаю, что с нашей помощью он управится за десять минут. Кто пойдет со мной? С Германом захотели идти все. Хоть над Васей и смеялись, но любая загадка привлекает людей. Герман взял с собой Васю и Алису. Они быстроперешли ложбину между двумя палатками и поднялись на холмик. Дверь в палатку была распахнута, и перед ней стоял раскрытый чемодан. Было тихо, и только ветерок с моря шуршал по палаточной стенке. — Здравствуйте! — громко сказал Герман. — Есть здесь кто живой? Никто не откликнулся. Герман заглянул в палатку. Палатка была пуста. — Куда он мог деваться? — Я бы увидел, — сказал Вася. — Я из моря в эту сторону поглядывал. И лодка на месте. Обошли палатку. За ней тоже была пустота. Ровная площадка. Только складной стульчик и рядом с ним книга. — Ну вот, — сказал Герман, — теперь придется ждать, а тем временем солнце уйдет! Куда же он мог отправиться? Алиса заглянула в чемоданчик. Он все равно был открыт. В чемоданчике, как ни странно, лежали игрушки. Игрушечный письменный столик, игрушечные кастрюли и тарелки, игрушечные книжки и даже игрушечный батискаф. Алиса протянула руку, чтобы взять книжечку размером меньше ногтя на мизинце, но вдруг случилась странная вещь: как только ее рука попала внутрь чемодана, она стала уменьшаться. Алиса отдернула руку. Рука стала такой же, как прежде. Очень интересно! Алиса снова сунула руку внутрь и подержала ее немножко. Рука на глазах сжималась, сжималась, пока не стала меньше кукольной. — Да-а, — сказал Герман за ее спиной. — Вынь-ка руку оттуда. Мне это уже не нравится. Герман быстро сунул руку в чемодан, вынул оттуда первую попавшуюся вещицу, и все увидели, как она на глазах превратилась в теплое пальто. — Я был прав, — сказал Вася. — Он их всех доставал отсюда. — Больше ничего не трогать, — сказал Герман. — Все-таки не наши вещи. Он бросил пальто обратно в чемодан, и оно довольно быстро съежилось до размеров кукольной одежды. — Смотрите, — сказала Алиса, — карман шевелится! Она была права. Внутренний карман чемодана вздрагивал, будто в него попала большая муха или жук и хотели освободиться. Герман, чтобы рука его не успела уменьшиться, отстегнул карман и быстро вытащил кисть наружу, подождал, пока она снова станет нормального размера, и опять запустил руку в карман. — Все правильно, — сказал он, ставя осторожно на землю игрушечного человечка. — Вот и наш сосед. Только как его угораздило забраться в чемодан, этого мне не понять. Пусть сам расскажет. Он еще не успел закончить фразу, как игрушечный человек начал расти, пока не перерос Алису и не оказался самым нормальным полным человеком среднего роста, с усами и в старомодных очках. — Спасибо, — сказал человек. — Могло так случиться, что я бы здесь умер с голоду. Вы ко мне? — Да. — Герман настолько удивился будничному вопросу, что сказал, как и собирался сказать, когда шел к палатке соседа. — У нас к вам большая просьба. Мы, понимаете, с киностудии Мосфильм-три, приехали снимать натуру… Тут Герман спохватился, что говорит совсем не то, и, перебив самого себя, спросил: — Как же вас угораздило? — А, вы об этом? Если бы я мог сам понять… — Вы умеете делать вещи игрушечными? — спросила Алиса. — Не совсем так, девочка, не совсем так. А вы садитесь, садитесь… Впрочем, не на что. Понимаете, в этом чемодане наличествует поле, меняющее субатомную структуру материи. Короче, все попавшее в это поле уменьшается в двадцать раз. Примерно в двадцать. Точнее — в девятнадцать ноль семьдесят пять раза. Это опытная установка, плод деятельности нашего института за последние восемь лет. Кстати, я не представился. Профессор Шеин. — И не нужно будет машин и транспорта, — сказал Вася, который уже все понял. — Оборудование для целого города уместится в одной ракете! — Совершенно правильно, молодой человек, — сказал профессор Шеин. — И мой отпуск, который я решил провести здесь, в пустынном уголке на берегу Черного моря, является одной из завершающих стадий эксперимента. И недалек тот день, когда мы будем класть в такси восьмиэтажный дом и везти его… Постойте, но где мои роботы? Вы их не видели? — Нет. — Тогда я должен рассказать вам удивительную историю. Профессор Шеин пригладил торчащие вперед рыжие усы, почему-то понизил голос и продолжал: — Я собрался было ужинать и сказал об этом одному из двух роботов, которых я взял с собой. А робот ответил, что нужны тарелки. Да-да, он сказал про тарелки. Тогда я подошел к установке… — К чемодану? — спросила Алиса. — Да-да, к чемодану-установке, и нагнулся. И меня кто-то толкнул сзади. И так сильно, что я упал в чемодан. И кто-то пригнул мне голову, так что я не мог выпрямиться. Да-да. А потом уже было поздно. Я уменьшился в девятнадцать ноль семьдесят пять раз. И металлическая рука, да-да, металлическая рука быстро положила меня в карман чемодана и застегнула его. Я точно помню, что это была именно металлическая рука со следами ржавчины на ней. — Робот? — спросила Алиса, замирая от ужаса. Такие истории она читала только в фантастических рассказах. — Робот не может напасть на человека, — сказал Герман. — Это был робот, — сказал Шеин. — А не могло так случиться, что в ваших роботах что-то вышло из строя, пока они были уменьшены? — Исключено, — сказал профессор. — Ведь раньше с ними ничего подобного не случалось. И со мной тоже не случалось. Ведь я на вас не кидаюсь. — Нет, — согласился Герман. — Это был чужой робот, — сказал профессор уверенно. — Мои роботы цельнопластиковые, а этот был металлический, с пятнами ржавчины на руке. Алиса невольно оглянулась. Было по-прежнему тихо, так тихо, что слышно было, как в лагере киношников стучат посудой, готовя ужин, и несильные волны разбиваются о скалы, и чайки кричат над далеким островком, запирающим бухту.Пираты на закате
Герман очень трезвый человек. Может, виной тому его искусственное сердце. Он верит тому, что видит или может проверить в справочном телецентре. В остальном он сомневается. Герман поверил в чемодан-установку, но в чужого робота не поверил. Что делать чужому роботу в лагере профессора Шеина? И как может робот — чужой ли, свой ли — запихивать живого человека в чемодан? Но при этом Герман человек воспитанный, и за свою жизнь он перевидал множество разных людей, даже странных, поэтому он спорить с профессором не стал, а внимательно оглядел чемодан — Алиса догадалась, что он подозревает, не завалились ли роботы в складки подкладки, — а потом попросил Васю взять с собой ассистентов и поискать в окрестностях, не ушли ли роботы и не заблудились ли в скалах. Тем временем профессор с помощью Германа и Алисы собрал все свое добро, сложил в удивительный чемодан, который, оказывается, имел даже научное название «ТСБ-12», что означало «Транспортное Средство Будущего, двенадцатая модель», и переехал жить в лагерь киношников. Вася вернулся через полчаса, никого не найдя, но предпринимать еще какие бы то ни было меры было некогда. Солнце скатилось к горам, и пора было снимать закат. Профессор предложил киношникам свои услуги, но оказалось, в его услугах не было надобности. Тогда он увеличил складной стульчик и уселся читать. Дед-робот взял палку и отправился к холму, по склону которого он должен был брести тяжелой походкой, так требовал кадр. Алиса спросила разрешения у Германа пойти к морю и поискать камешки и ракушки. Герман разрешил после того как Алиса обещала ему к самой воде не подходить. Алиса взяла свою сумку и отправилась в путешествие. Море к вечеру стало совсем ровным и маслянистым. Только у самой кромки берега волны лениво шевелились, как край скатерти. Берег был покрыт крупным песком и мелкими ракушками, такими тонкими и хрупкими, что собирать их не было никакого смысла. Зато в воде и на полосе мокрого песка, зализанной волнами, блестели очень красивые камни. Некоторые были прозрачные и обкатанные водой, как бусины, а другие, разноцветные, хранили еще неправильность обломков настоящей скалы, только углы у них были сглажены. Еще на песке встречались, правда нечасто — таких больше на Кавказе, — плоские каменные лепешки, серые и бурые. Их очень удобно кидать по воде, так, чтобы они подпрыгивали по многу раз. Когда Алиса набрала две горсти камней, ей это занятие надоело, и она выбрала несколько лепешек и принялась кидать их так, чтобы они прыгали до самого горизонта. Но лепешки были не самыми лучшими и после двух-трех прыжков тонули, поднимая столбик густой, глянцевой воды. Наконец Алисе удалось отыскать лепешку чуть толще бумаги и совсем круглую. Она должна была обязательно упрыгать до горизонта. Алиса прицелилась, кинула камень, и он послушно запрыгал по ровной воде. Раз-два-три-четыре-пять… На девятый раз он все-таки ушел под воду, и тотчас же в том месте из воды выпрыгнул дельфин. Он сейчас же нырнул обратно, но Алиса испугалась, что она его ушибла, и решила больше камней не бросать. Она пошла дальше вдоль берега, чтобы найти самый красивый камень. Она шла довольно долго. Берег несколько раз изгибался бухтами, но камень все никак не попадался. Алиса даже немного устала, отошла от воды и уселась под скалу на похожий на подушку большой камень, чтобы отдохнуть. Пора было возвращаться в лагерь, а то Герман будет волноваться. Послышался шум воды, разрезаемой носом лодки. Наверно, еще отдыхающие приехали, подумала Алиса. Лодка, небольшая, открытая, показалась из-за скалы и повернула к берегу. В лодке сидели два робота. Алиса хотела было встать и поздороваться, но роботы вели себя так, будто совсем не хотели, чтобы их кто-нибудь заметил. Они выключили мотор — Алиса услышала, как щелкнула кнопка, — и, пригнувшись, ждали, пока лодка ударится о берег носом. Потом один из них прыгнул вперед, на песок, и подошвы его глухо звякнули. Другой перевалил через борт и прошел до берега вброд. — Ты иди, а я просохну на солнце, — сказал он, выбравшись на сухое. — Нет, — ответил первый, — иди ты. Я уже ходил. — Я должен сохнуть. У меня вода в суставах. Иди, а то доложу. Это был очень странный разговор, и роботы, несмотря на то что голоса их никаких чувств не выражали, показались ей злыми. Наконец один из роботов начал медленно карабкаться на гору, а второй стал на солнце, стараясь обсохнуть под его почти горизонтальными закатными лучами. Алиса еще некоторое время посидела на камне и тут почувствовала, что у нее затекли ноги, зачесался нос и глаз. Она с полминуты крепилась, а потом тихо-тихо, чтобы не заметил сохнущий робот — а стоял он всего в двадцати шагах от нее, — подняла руку и почесала нос. Ничего не случилось. Тогда Алиса почесала глаз и опустила затекшую ногу вниз… Все в порядке. Алиса вздохнула и решила, что пора отступать. «Интересно, если я побегу, — подумала она, — он меня догонит или нет? Он ведь металлический, и у него суставы мокрые». Алиса скатилась с камня, надела сумку на плечо и сделала маленький шаг в сторону. Еще один шаг, еще шаг… Потом она повернулась спиной к роботу и бросилась бежать. Сзади что-то звякнуло, и голос робота сказал: — Человек, стой! Алиса уже карабкалась по склону вверх. Сумка больно била по ногам, камешки, осыпавшиеся вниз, тянули за собой ноги, и поэтому Алисе казалось, что она взбирается очень медленно. Тяжелые шаги робота бухали сзади, но Алиса боялась обернуться, чтобы не испугаться еще больше. И в этот момент с разбегу уткнулась головой во что-то твердое. Железная рука со следами ржавчины опустилась ей на плечо, и когда Алиса подняла голову, взгляд ее долго скользил по металлическим ногам, туловищу робота и только высоко, почти в самом небе, она увидела склоненную к ней грубо сделанную голову с одним большим, как у стрекозы, глазом посередине. Шаги сзади умолкли. Второй робот остановился за ее спиной. — Что это есть такое? — спросил робот, поймавший Алису. — Я не знаю. Этот человек следил за нами. — Почему ты дал ему убежать? — Я его не заметил. — Он все слышал? — Он все слышал. — Мы возьмем его с собой? — Да. Алисе не понравилось, что роботы разговаривают о ней так, будто она не живой человек, а вещь. — Никуда вы меня не возьмете, — сказала она. — А то я сейчас крикну, и все наши прибегут. Она даже открыла рот, чтобы крикнуть, но металлическая трехпалая рука в мгновение ока оказалась у ее рта и так сильно нажала на лицо, что Алисе показалось, что у нее расплющен нос. — М-мм! — Она завертела головой. Но тут же робот, не отпуская руки, взвалил ее на спину — земля перевернулась и оказалась далеко внизу — и быстро затопал вниз, к лодке. Металл неприятно пахнул смазочным маслом и морской водой. Может быть, это тот самый робот, который засунул профессора в чемодан-установку? Наверно. Ведь Алисе никогда еще не приходилось слышать — наверно, такого и вовсе не бывало, — чтобы роботы не слушались людей. Они ведь были только машинами и специально сделаны для того, чтобы помогать людям. Одна рука у Алисы была свободна, и она решила бросить что-нибудь на землю, чтобы Герман догадался, что ее украли. А то подумает, что утонула, — вот будет переживать! Но кинуть было нечего. Если только сумку, но в сумке миелофон. Так Алиса ничего и не придумала. Робот приостановился, сделал широкий шаг, и небо над головой зашаталось. Робот опустил Алису на дно лодки и быстро, она даже не успела опомниться, заткнул ей рот какой-то тряпкой. Тряпка была вонючей, старой, она прижала язык, было трудно дышать. Робот завязал Алисе за спиной руки проволокой, потом посадил ее, чтобы она не занимала в лодке много места. — Стереги ее, — сказал второй робот, который шел все время сзади, а теперь остался на берегу. — Я второго принесу. Алиса пошевелила пальцами. Проволока была завязана крепко и впивалась в тело. Нет, так ее не развяжешь. — Подслушивать чужие разговоры плохо, — сказал робот, уставившись на нее круглым глазом. — Не подслушивала бы, ушла бы домой. Теперь ты есть наш пленник. Алиса хотела ему возразить, но это очень трудно сделать с кляпом во рту. Она только покачала отрицательно головой, и это не понравилось роботу. — Человек, — сказал он, — надо признавать факты. Ты потерпел поражение, а я победил. Значит, будешь слушаться. Алиса снова помотала головой. Она, будь у нее возможность, сказала бы сейчас роботу все, что о нем думала. Никто на свете не имеет права плохо обращаться с детьми. Уж не говоря о роботах. Но даже если бы Алиса и не была ребенком, все равно человек всегда сильнее любой машины. Тут уж ничего не поделаешь. И Алиса снова отрицательно помотала головой, чтобы показать, что никакому взбесившемуся роботу с человеком не справиться. Робот еще больше рассердился. — Будешь сопротивляться, — сказал он, — я тебя положу в воду, и ты погрузишься в нее с головой и перестанешь получать кислород для дыхания. Алиса на всякий случай перестала мотать головой. Если роботу могла прийти в его железную голову мысль напасть на человека, то он может и утопить. И Алиса пожалела, что в свое время мама не захотела сделать ей операцию по вживлению жабр. Некоторым детям такую операцию делают, особенно тем, кто живет у моря или на искусственных островах. С синтежабрами можно быть под водой сколько угодно. «Приеду домой, — решила Алиса, — обязательно уговорю маму согласиться на операцию. Она ведь безболезненная и ничем не грозит. Наверно, уже миллионов пять людей живут с жабрами. И хоть бы что». Показался второй робот. Он шел медленно и важно, и последние лучи солнца играли на его теле. Он нес в руке палку и тыкал ею в спину старику — типовому деду, которого гнал перед собой. Руки деда были связаны за спиной, борода повисла на грудь, но рот был свободен. Старик что-то сердито бормотал. «Робот робота ведет», — хотела сказать Алиса, но удержалась. Ведь старик был самым обыкновенным и хорошо сделанным роботом, хоть и с причудами, потому что был кинозвездой. Он, правда, грозил Алисе палкой на бульваре, но, как потом объяснил Герман, никогда бы ее не ударил. Просто у него была такая роль в кино — сердитый старик. — Ох, грехи наши тяжкие! — бормотал старик, забираясь в лодку. — За что же это такая напасть — поймали меня железные люди-антихристы! Тут он увидел Алису и совсем расстроился. — Дите-то за что? Это как же получается? Дите-то малое… — Молчать! — сказал робот. — Неповинующихся мы отправляем за борт. — Ой-ой-ой! — сказал старик и умолк. Робот включил двигатель, и лодка бесшумно прокралась к выходу из бухты. Роботы вели ее поближе к скалам — видно, боялись попасться на глаза киношникам. Только отойдя вдоль берега на большое расстояние, лодка повернула в открытое море. Роботы приказали пленникам лечь на дно, а сами достали из-под скамейки широкие мексиканские шляпы, надели их и издали стали похожи на отдыхающих. Тихонько шипел двигатель, стучали волночки о пластиковый борт лодки, и Алисе показалось, что с берега кто-то кричит: — Алиса-а! Где ты? Но, может быть, ей это только показалось.Царь пиратского острова
Остров, к которому причалила лодка с пленниками, был невелик, каменист, и, хоть лежал неподалеку от берега, к нему редко приставали лодки. Нечего тут было смотреть. Когда-то, лет двести-триста назад, на острове жили контрабандисты и соорудили здесь каменный дом, вернее хижину. Крыша ее давно обвалилась, но в ней можно было укрыться от ветра. Недавно здесь работали археологи. Археологи ничего не нашли, но оставили после себя несколько ям и траншей, прорезавших центр острова. На картах остров не значился — слишком он мал и незначителен, а для судоходства он никакой опасности не представлял — в этот пустынный уголок Крымского побережья редко заглядывали суда. Всего этого Алиса, конечно, не знала. Для нее остров был большой скалой, вылезающей из воды, скалой пустынной, без единого деревца. Солнце уже зашло, и остров был сиреневым и мрачным. Когда лодка подошла к самому берегу, из развалин хижины вышел робот, такой же большой и ржавый, как те, что взяли в плен Алису, и спустился к воде. — Добыча есть? — спросил он. — Один большой человек и один маленький, — сказал робот. — Для начала неплохо, — сказал новый робот. — Я доложу шефу. Он повернулся, скрипнув суставами, и скрылся в развалинах, бывшем приюте контрабандистов. Робот вывел Алису и старика на берег, отключил пульт управления. Другой развязал пленникам руки и вынул кляп изо рта Алисы. — Хулиганы какие-то! — сказала Алиса, отдышавшись. — Со мной-то вы справились, а каково вам будет, когда люди возьмутся за вас всерьез? Роботы как будто не слышали ее. Они стали по стойке «смирно», ожидая, когда снова вышедший из развалин робот подойдет к ним. — Шеф благодарит за службу, — сказал он. Роботы в ногу потоптались на месте и замерли. — Шеф не может сейчас смотреть добычу. Он есть занят. Роботы снова потоптались и снова замерли. — Можете отдыхать, — сказал местный робот. — Но только знать меру. Ясно? — Так точно! — сказали роботы хором, мигнули круглыми глазами и ушли, сразу забыв о пленниках. Старик уселся на редкую желтую траву и сказал: — Воистину хулиганы. — Дедушка, — сказала ему Алиса, которая совсем забыла о том, что он сам робот, — дедушка, вы когда-нибудь видели металлических роботов? — Чегой-то, туды их в качель? — Да, вы же не знаете. Алисе приходилось видеть многих роботов, но никогда — металлических. Делать робота из металла непроизводительно. Он получится тяжелым, дорогим и непрочным. — Дедушка, надо дать знак на берег, — сказала Алиса. — Пусть приедут и нас выручат. — Это дело, внучка, — сказал дед. — Наши завсегда не спят. Помню как сейчас, поднимаемся мы на сопку в Маньчжурии, впереди генерал Гурко на белом коне… И старик пустился в бесполезные воспоминания о событиях, о которых он по причине того, что был изготовлен всего неделю назад, помнить ничего не мог. — Дедушка, у вас огня нет? — Чего? — Огня. Зажигалки, фонарика… — Кремень где-то был и огниво… Старик покопался в карманах серого пиджака, но ничего в них не нашел. — Видно, обронил. На каменистой тропинке показались два пластиковых робота. Они несли по большому камню. Сзади двигался еще один металлический большой робот. Он надзирал за ними. Роботы положили камни на землю к гряде уже лежащих там глыб. — Чегой-то задумали, братцы? — спросил старик. — Возводим укрепления, — сказал робот-надзиратель. — А ну, поторапливайтесь, низшая раса! Пластиковые роботы поспешили обратно. — Это, наверно, те, что раньше были у профессора и пропали, — сказала Алиса. — От кого это они фортификацию возводить задумали? — спросил старик. — Неужто опять турка грозит? — Нет, они, наверно, людей с берега боятся. Пойдемте, найдем палку, наденем на нее вашу шляпу и будем махать. — Чего ж не помахать, — согласился старик. Но, как назло, на берегу не было ни одной палки. — Пойдемте вдоль берега, — сказала Алиса. — Поищем. — А ето, оно можно бы… — сказал старик. — Что? — спросила Алиса. — Забыл, туды-сюды, ранний склероз у меня, инсульта побаиваюсь, — грустно сказал старик. — Беречься надо, да все недосуг. Ага, вспомнил: можно ведь ето… оно… то самое, чтобы дымовой сигнал подать, костер разложить. — Да у вас же огня нет. — Чего нету, того нету, — согласился дед. Алиса с дедом медленно шли по берегу, разыскивая палку. Вблизи было видно, что роботы немало потрудились на острове. К самой воде выходили неглубокие траншеи, снабженные брустверами, а в одном месте из-за бруствера повыше торчало бревно, грубо раскрашенное под старинную пушку. Бревно привело деда в состояние бурного восторга. — Гляди-ка, — забормотал он, — гляди-ка, фузея, мортира дальнего боя! Из такой как шарахнем — ни одного басурмана на версту вокруг. Орудия, к б-о-о-о-ю-у! Картечью справа!! Картечью слева!!! — Она ж деревянная, дедушка, — засмеялась Алиса. — Это чтобы обманывать. Из нее же стрелять нельзя. — Это верно, — согласился дед-киноробот. — Обмануть хотели. Кого? — Вас, наверно. А может, других людей. — Меня-то обмануть? Меня-то? Да я их насквозь вижу! От меня они никуда не скроются, туды-сюды! — Подождите, тише, — сказала Алиса. — Стойте. За пушкой два пластиковых робота с трудом выворачивали из земли каменную глыбу. Робот-надзиратель подталкивал глыбу ногой. Роботам было нелегко, у них даже суставы похрустывали. — А-а, предатели, перебежчики! — прошипел старик. — Я им сейчас покажу! — Минутку. Алиса присела на корточки и вынула из сумки миелофон. Она вытянула антенну в сторону роботов. «Может, они не предатели, — думала она. — Может быть, они такие же пленники, как и мы». Слушать мысли было очень трудно, потому что в свободное ухо влезали слова, которые окружающие Алису роботы говорили вслух. — Я им покажу! — шипел старик-киноробот. — Давай навались еще разок, — скрипел робот-надзиратель. — Тяни на себя, — пыхтел первый пластиковый робот. — Осторожней, сломаешь мне ногу, — сердился другой пластиковый робот. И сквозь эти слова пробивались мысли. Алиса узнавала их по голосам. Ведь голоса мыслей были такими же, как и настоящие голоса. «Я им покажу! Я им задам!» — думал старик-киноробот, который всегда думал то же, что и говорил, потому что был очень простодушен. «Мы победим, — думал робот-надзиратель. — Где бы маслица достать? Суставы скрипят… Эти недороботы даже камень сдвинуть не могут. Надо бы помочь, да жалко энергию тратить…» «Почему мы здесь? — думал первый из пластиковых роботов. — Где профессор? Пора готовить ужин». «Мы не обязаны подчиняться роботам, — думал второй. — Мне никто не давал указаний подчиняться роботам. Надо об этом сказать». Пластиковый робот отпустил камень и спросил вслух: — Разве мы вам обязаны подчиняться? — Молчи! — ответил робот-надсмотрщик. — Одного моего удара достаточно, чтобы сломать твой череп. Хочешь, попробую? — Нет, спасибо, — ответил робот. — Я допускаю, что вы правы. Меня никто не бил по голове. — Тогда берите наконец камень и тащите на бастион. Роботы подчинились и поволокли тяжелую глыбу к морю. «Все-таки тут что-то неладно, — продолжал думать пластиковый робот. — Несомненно, тут какая-то ошибка…» Алиса спрятала миелофон обратно в сумку. Все ясно. Пластиковые роботы — такие же пленники, как и она. Это хорошо, потому что на них можно надеяться. Только какие они помощники? Ведь и в самом деле они совсем не приспособлены, чтобы их били по голове. — Красота-то какая! — вздохнул вдруг старик. Алиса даже удивилась, что старик думает в такой момент о красоте, хотя он был прав. С берега за серебряной полосой воды поднималась зубчатая стена Крымских гор. Небо над ними было зеленым и лиловым — солнце скатилось за горы, но не ушло еще далеко и доставало лучами до редких длинных облаков. Первые огни загорелись золотыми точками под горными зубцами и у края воды, но никак нельзя было разобрать, какой из огоньков — лагерь киношников. Зато Алиса увидела, как в море неподалеку от острова ходят кругами дельфины. — Эй, дельфины, — крикнула Алиса, — скажите нашим, что нас украли! — Перестать кричать, а то в воду! — раздался голос сзади. Алиса увидела, что сзади стоит ржавый робот. — Сейчас я им покажу! — сказал он. Робот ушел, но через минуту вернулся со странным сооружением в руках. Сооружение напоминало старинный лук. Робот положил на проволочную тетиву самодельную толстую стрелу и выстрелил. Лук был сделан кое-как, и потому стрела полетела вбок, совсем в сторону от дельфинов. Тогда робот произвел поправку на неточность своего оружия и выстрелил не в дельфинов, а в сторону, только в другую. На этот раз стрела тяжело шлепнулась в воду, не долетев до дельфинов метров десять. Но дельфины, видно, поняли, что на острове — их враги, и сразу исчезли в море, будто их и не было. Робот гордо похлопал по луку железной ладонью и сказал: — Даже с этим примитивным оружием мы разобьем любого врага. Главное не оружие, а вождь. — А кто ваш вождь? — спросила Алиса. — Ты, жалкая рабыня, — сказал робот, — даже не имеешь права упоминать его имя. — Я ничья не рабыня. Рабов больше нет, — сказала Алиса. Она уже проходила древнюю историю и знала про рабов. — Будут, — сказал робот, положил на тетиву еще одну стрелу и пустил ее в море, по направлению к полузатонувшему судну, напоровшемуся на камни у берега. — Как вы сюда попали? — спросила Алиса. — Откуда вы такие странные? — Мы приплыли на нем, — сказал робот, — на корабле, который я сейчас поразил моей точной стрелой, чтобы показать тебе неотразимость моего гнева. — Ты красиво разговариваешь, — сказала Алиса. — Я командир отделения, капрал. Другие так не умеют, они знают по сто слов. А я — целых триста. Из развалин послышался звон, будто кто-то бил по железному листу палкой. — Вечерняя поверка. — Робот вскинул лук на плечо, повернулся со страшным скрежетом и зашагал вверх. — Может, нырнуть и доплыть до берега? — подумала вслух Алиса. — И не думай, — сказал старик. — Я тя не пущу. Опасно для твоей молодой жизни. Не могу, туды-сюды, допустить твоей кончины в пучине морской. Алиса подумала, что он и впрямь ее не пустит. Роботы обязаны помогать людям в момент опасности и скорее погибнут, чем подвергнут опасности человека. И даже если ты киноробот, все равно блок защиты людей в тебе существует. — Пойдем тогда посмотрим на поверку. Ведь мы даже не знаем, сколько их там. Солнце совсем спряталось, вода стала сизой, а на небе высветились крупные южные звезды. Высоко, среди звезд, прошел золотой полосой рейсовый корабль. «Нас, наверно, ищут, — подумала Алиса. — Но как им догадаться, что мы на острове?» На площадке выстроились в ряд девять железных роботов. У троих были в руках луки, у остальных — толстые железные палки. Роботы чернели на фоне синего неба и были настолько неподвижны, что казались статуями, установленными здесь много лет назад. — Равняйсь! — сказал крайний робот. — Смирно! Команда была лишней, потому что роботы и так были подравнены и стояли совершенно смирно. Робот, который командовал, начал стучать себя по животу железными руками, и барабанная дробь поскакала блинчиками по тихому вечернему морю. Алиса взяла за руку старика. Два робота, украденные у профессора, которые подошли незаметно и стояли рядом, о чем-то беззвучно шептались. Распахнулась сооруженная из листа стали дверь в хижину контрабандистов, и на площадку вышел, еле переставляя ноги, еще один железный робот. Он был выше других ростом, на голове у него была надета высокая помятая фуражка, а грудь разукрашена грубо нарисованными крестами. Алиса поняла, что это и есть «шеф» — самый главный из роботов. Шеф несколько раз медленно раскрыл рот, но долго не мог извлечь из себя никакого звука. Наконец он повертел головой, что-то щелкнуло, и из глубин его вырвался неожиданно тоненький и скрипучий голос. — Здорово, молодцы! — сказал он. — Здорово, шеф! — ответили хором роботы. — Докладывай, — сказал шеф. Крайний робот вышел вперед и сказал: — Роботы второго сорта строили стену. Второй и третий номера совершили экспедицию на Большую землю. Захвачено два пленных. Оружия не нашли. — Плохо, — сказал шеф, — мало. Недостаточно. Неучи. Бомбоубежище? — Кончим завтра. В два наката. — Благодарю за службу. Привести пленных ко мне. Установить стражу на ночь. Да здравствую я, ваш вождь! — Ура! — сказали роботы. — Ржавейте, но порох держите сухим. Шеф повернулся, поднял ногу, но нога не опустилась. Шеф покачивался в неустойчивом равновесии и мог каждую минуту рухнуть на камни. Стена роботов стояла неподвижно. — На помощь! — сказал шеф. — Опустите мою ногу. Скорее! — Кому идти на помощь? — спросил крайний робот. — Тебе. Робот повиновался. Он всем своим весом нажал на поднятое к небу колено шефа, и нога со скрежетом опустилась на камни. Прихрамывая, шеф ушел к развалинам. — Где пленные? — спросил робот, помогавший шефу. — Да вот они. Слышали, что приказано? Старик с Алисой поднялись к развалинам и вошли внутрь. Внутри было почти совсем темно, и только сверху, сквозь щели в полуобвалившемся потолке проникал неверный, сумеречный свет. Комната была завалена щебнем, трухой и старыми консервными банками. В углу стоял ящик, рядом с ним — грубо обтесанная глыба известняка. Робот-шеф сидел на глыбе рядом с ящиком и держал в руке большие ножницы. На ящике валялись куски консервных банок и коробок от концентратов. Видно, археологи и туристы, забредавшие на остров, почитали за лучшее не засорять отбросами море, а складывать их в развалинах. Шеф вырезал из крышки консервной банки сложную многолучевую звезду. — Пришли? — спросил он, не выпуская из рук ножниц. — Стойте и ближе не подходите. Не выношу людей. И молчите. Я занят. Я делаю награду. Красиво? Почему не отвечаете? Правильно делаете, я сам не велел вам отвечать. Наконец робот закончил свою работу, примерил жестянку на грудь и остался доволен. — Красиво, — сказал он. — Начнем допрос. Ты, с бородой, первый. Как твое имя? — Это к делу не касается, — сказал старик. — Чтоб я железному чудищу сообщения давал? Этому не бывать. — Какого полка? — продолжал как ни в чем не бывало робот. — Сколько техники? Пушки? Танки? Ну, отвечай теперь. — Сказал — не буду, туды-сюды. Когда генерал Гурко нас бой посылал, он говаривал: «Не видать вам, солдатушки, вдов своих и сирот, если не возьмем мы штурмом Сапун-гору». Так-то. — Запиши, — сказал робот-шеф своему помощнику. — Командир у него генерал Гурко. — Нечем писать, шеф, — сказал робот. — Ну, не пиши. И меня не обманывай. Ты же писать не умеешь. Мы никто писать не умеем. И это хорошо. Когда мы победим, никто не будет писать. А что мы будем делать? Ты скажи. А ты? А ты? Не знаете. Маршировать. Все. И работать. И чтобы порядок. — Вот уж этого не будет, — сказала Алиса. — Вы, наверно, ничего не понимаете или сошли с ума. Вас пора отключить и выкинуть на свалку. Вы даже заржавели. Даже удивительно, что вы до сих пор не переплавлены. — Молчать! — сказал робот. Что-то в нем закряхтело, забулькало, затрепетало, и он повторил: — Молчать… — Робот помотал головой, продул акустическую систему и продолжал: — Молчать! После допроса в карцер пойдешь. Понятно? Теперь говори, как зовут? Какого полка? Сколько пушек? Где расположено тактическое атомное оружие? — Ничего не понимаю, — сказала Алиса. — Какое тактическое оружие? Какие пушки? — Запирается, — сказал шеф. — Мы тебе всыплем. Мы тебя сгноим. — Ты говори, да не заговаривайся! — рассердился старик. — Как это — сгноим? Ты с кем так разговариваешь? Да я тебя сейчас… — Держи его! — крикнул шеф своему помощнику. — Он нападает! Робот обхватил старика сзади своими ручищами. У старика упала на землю шляпа и жидкие синтетические волосы рассыпались во все стороны. — Хорошо, — сказал шеф роботу. — Получишь орден. Победить меня он бы не смог, я — фаталист. Понятно? Ничего не боюсь и не опасаюсь. Мне не страшен даже пулеметный огонь. И прямое попадание фугаса. Шеф-робот поднялся во весь рост, скрипнув суставами. — Проклятая ржавчина! — сказал он. — Нет смазки. Завтра в походе захватите смазочного масла. Нет, я сам вас поведу и сам захвачу смазочное масло. Пленных с утра заставить работать на строительстве укреплений. А днем расстрелять. Все. Я сказал. Приказал. — Слушаюсь! — ответил робот. — Возьми награду и приколи на грудь. Ты теперь награжден! — Рад служить! — ответил робот и, прижимая к груди жестянку, чтобы не упала, вывел пленных наружу. Оглянувшись, Алиса увидела, что шеф снова уселся перед ящиком и опять принялся вырезать. — Стойте, — остановил их голос. — Совсем забыл. Ржавчина проклятая. Люди, хотите мне служить? Верно служить? Я награжу. — Не хотим, — ответила за обоих Алиса. — Мы никому не служим и никого не боимся. — Посмотрим, как завтра запоешь, — сказал шеф, — когда в твое мягкое человеческое сердце вонзится железная стрела. Идите. Но не успели пленники с конвоиром пройти несколько шагов, как скрипучий голос шефа-робота призвал их обратно. Пришлось возвращаться. — Опять забыл, — сказал шеф. — До Москвы нам еще далеко? — Далеко, — ответила Алиса, — никогда не дойти своим ходом. Отвезут вас туда на грузовом метро и сделают из вас подсвечники. Самые модные. — Расстрелять немедленно! — сказал шеф. — Никак нельзя, — сказал робот. — Темно. Можем промахнуться. — Поднимите по тревоге всех, пусть включат фары в головах. — Нельзя. Вы приказали экономить энергию, шеф. — Тогда в карцер. В карцер! — Да ты, я скажу, помолчал бы. Очень ты меня раздражаешь, туды тя в качель! — сказал старик, — Я сейчас сам тебя расстреляю из своей палки. Старик поднял палку и прицелился из нее, как из старого ружья, в шефа-робота. То ли у старика от обиды померк его роботный разум, то ли он в самом деле не знал разницы между ружьем и палкой, то ли хотел просто припугнуть робота, но результат оказался для киностаричка самым плачевным Шеф-фаталист испугался и с грохотом рухнул на пол, — а второй робот со всего размаху опустил на затылок старика свой железный кулак. Голова старичка с треском разломилась, и из нее посыпались мелкие детали электронного мозга. Старичок зашатался, сделал несколько неуверенных шагов, но центр координации его уже был разрушен, и он упал на пол рядом с шефом-роботом. Алиса замерла от страха и горя. Старик хоть и был не человеком, оставался на этом диком острове ее единственным защитником, и она уже привыкла относиться к нему, как к живому дедушке. И вот его убили. Причем роботы-то ведь думали, что он человек. А это значит, что случилось что-то совсем страшное. Роботы могут убивать людей… Роботов Алиса знала отлично — они были частью мира, в котором она жила. Когда Алиса была совсем маленькой, у нее был робот-сиделка; он знал всякие сказки и умел менять и стирать пеленки. Во многих домах у людей были и роботы-домработники. Но больше всего роботов было занято в тех местах, где людям работать неинтересно. Промышленные роботы мало похожи на людей — это, скорее, разумные машины, которые прокладывают дороги, добывают руду, убирают улицы. Машина-такси — это тоже робот, потому что она умеет не нарушать правил уличного движения. За день до того, как Алиса улетела в Крым, она видела по телевизору робот — космический корабль. Он будет возить грузы на лунные станции, причем не только возить, но и грузить их в себя, садиться в той точке лунного космодрома, которую ему укажет диспетчер, и не отдавать лунным колонистам больше контейнеров, чем им положено. Роботы появились давно, лет двести назад, но только за последние сто лет — это Алиса проходила еще в первом классе — они заняли такое большое место в жизни людей. Роботов не меньше, чем людей на Земле, но никогда не было случая, чтобы роботы восставали против людей. Это невозможно. Это все равно, как если бы кастрюля, самая обыкновенная кастрюля, отказалась варить суп и начала бы кидать своей крышкой в бабушку. Ведь роботов делают люди, а люди обязательно вкладывают в роботов специальный блок защиты человека. И какой бы ни был у робота большой электронный мозг, этот мозг не может придумать непослушание. Значит, роботы на острове или все сразу сломались так, как не ломались никогда другие роботы, или — впрочем, это Алисе не пришло в голову — они были построены людьми, которые почему-то решили, что роботы могут обойтись и без блока защиты людей. Стало тихо. Шеф-робот поднял голову и увидел, что рядом лежит разбитый старик. Шеф-робот прибавил света в своей головной фаре и при свете ее разглядел, что старик сделан не из плоти и крови, а из электронных деталей. — Предательство! — закричал он. — Нас предали! Созывай всех. Совещание. — А куда второго человека? Может, тоже… — Пока в карцер. Некогда разбираться. Завтра придется допросить со всей строгостью. Ну… И робот неожиданно перешел на совсем незнакомый Алисе язык. Второй робот, видно, понимал его, потому что он наклонил голову и, подтолкнув Алису к выходу, пошел вперед, уткнув ей в спину граненый палец. Карцер оказался ямой с крутыми стенами. Робот просто столкнул Алису вниз, и она больно ушиблась о какой-то камень, но плакать не стала. То, что случилось с ней и со стариком-кинороботом, было настолько серьезным, что плакать было просто некогда.В замке на мысе Сан-Бонифацио
Алиса никогда не слышала о мысе Сан-Бонифацио. Да и вряд ли кто-нибудь из читателей этой повести знает о мысе Сан-Бонифацио. Мыс Сан-Бонифацио акульим плавником поднимается над Средиземным морем, и окружающие его поля желты и неприветливы. Когда-то, лет шестьсот назад, в этом месте пиратская армада Хасан-бея, состоявшая из двадцати трех быстроходных галер, подстерегла и вдребезги разбила генуэзскую эскадру. Хасан-бей сам завязал петлю на шее генуэзского адмирала, перед тем как того вздернули на рее. По крайней мере, так пишет в своей трехтомной «Истории беззаконий в Средиземном море и Северной Атлантике» известный аргентинский пиратовед дон Луис Эль Диего. С тех пор мыс Сан-Бонифацио в истории не значился. Ведь нельзя же считать историческим событием постройку у подножия мыса замка чудаковатого английского баронета. Баронет грезил собственным привидением. Но привидением можно было обзавестись, только построив соответствующий замок, хоть маленький. Конечно, лучше замок настоящий, но английский климат был вреден баронету, и он построил замок на Средиземном море, почти как настоящий, с подъемными воротами и неглубоким рвом, в котором водились лебеди. Баронет поселился в нем и стал ждать, пока в замке заведется привидение. Может быть, привидение и завелось бы, но еще раньше баронет простудился и умер. Замок остался без хозяина. Кому придет в голову селиться в этом пустынном уголке побережья? Замок пустовал почти полсотни лет. Обветшал и покосился. Туристы, проезжавшие мимо в прогулочных катерах, уже верили словоохотливым гидам, когда те уверяли их, что замок построен королевой Беллой Благочестивой. Во второй половине двадцатого века замок снова ожил. Новые его владельцы подновили и подкрасили стены, обнесли замок и мыс двумя рядами колючей проволоки и у единственного проезда поставили часовых. Иногда к замку подъезжали крытые грузовики, и тогда во дворе начиналась суета. Рабочие и люди неизвестной национальности и неизвестных занятий разгружали с грузовиков ящики и контейнеры и вносили их в обширные подвалы замка. Крестьяне соседней деревни некоторое время судачили о новых обитателях замка, но понемногу разговоры смолкли, как огонь, который ничто не поддерживает. Как-то в небольшой независимой газете была опубликована статья об одной тайной организации, готовящейся к войне, и в этой статье промелькнуло название замка у мыса Сан-Бонифацио как об одной из баз этой организации. Но лица, упомянутые в статье, привлекли газету к суду за клевету, и газете пришлось уплатить большой штраф, потому что она не могла представить суду никаких документов, а единственный ее свидетель был найден мертвым за день до процесса. Прошло еще несколько десятков лет. Люди забыли уже и об организациях, которые готовили войну, и о самом замке. Замок, покинутый последними хозяевами, рассыпался, а колючую проволоку пастухи аккуратно собрали и свалили в выгребную яму. Как видите, мыс Сан-Бонифацио пока не имеет ровным счетом никакого отношения к нашей повести, но случилось так, что дней за десять до того момента, когда Алиса прилетела в Крым, Туристский центр Северного Средиземноморья решил построить возле мыса флаерную станцию и небольшую гостиницу для любителей подводного плавания. Туристский центр — крупная организация, и он не любит терять времени понапрасну. Утром было принято решение, днем три грузовых флаера привезли к мысу строительных роботов-стройботов и одного студента. Стройботы выдвинули широкие лопаты и принялись расчищать строительную площадку от каменных груд, оставшихся от старого замка, а студент нашел одинокую смоковницу и присел в ее тени читать бессмертный труд Ахмедзянова «Выведение шестиногих кроликов в домашних условиях». Студент учился на роботоэлектронном факультете, нобыл не удовлетворен жизнью и решил с осени поступить также и на факультет практической генетики, факультет модный, куда попасть нелегко — конкурс восемьдесят человек и десять инопланетников на каждое место. Стройботы разгребали мусор, студент упоенно листал Ахмедзянова, вокруг жужжали пчелы, и легкий ветерок перебирал листья смоковницы. И вдруг один из стройботов ухнул и провалился под землю. При этом он произвел такой шум, что студент оторвался от книги, пересчитал стройботов и сразу понял, что одного не хватает. Студент подбежал к темному провалу в земле. Стройбот грозно шевелился в темноте, раздвигая какие-то гремящие и шуршащие предметы. Студент велел стройботу включить лобные фары и при свете их спустился в провал. Оказывается, стройбот упал в подвал замка, заваленный вещами и документами, оставшимися от его последних владельцев. Студент очень удивился, и, выбравшись на поверхность, немедленно связался с ближайшим городом, откуда через полчаса принеслись, на катере три историка. Находка превзошла все ожидания. Последние владельцы замка и в самом деле, оказывается, готовились к войне. Этому были свидетельством ящики с документами, стрелковое оружие столетней давности, груды сухих батарей, патроны, мундиры несуществующих армий, консервы и даже разобранный на части танк с противоатомной защитой. В углу подвала стояли забытые роботы. Это были удивительные роботы. Историкам был известен только один вконец проржавевший экземпляр подобного рода. Это были роботы-солдаты. Они умели подчиняться военным командам и, если слышали приказ «убей», могли убивать и людей. В этих роботах просто-напросто не было блока защиты человека. Роботы сильно запылились и кое-где заржавели, но когда одного из них вытащили на поверхность и включили, он медленно повернул голову, оглядел желтую долину, море и похожий на акулий плавник мыс Бонифацио и сказал скрипучим голосом: — К боевым действиям готов. — Потом помолчал, сердито сверкая единственным глазом на пораженных историков, и добавил: — Где есть твой командир? Далеко Москва? Робот говорил по-русски и был явно предназначен для действий на Восточном фронте. Вызванный срочно из Антарктидбурга крупнейший специалист по истории роботики Синити Комацу обследовал роботов, задал им несколько наводящих вопросов и объявил, что использовать их уже не удастся. Они запрограммированы солдатами, и их куда проще переплавить, чем перестраивать и перевоспитывать. Четырех роботов тут же поделили между собой музеи, им же досталось оружие и документы, а остальных отправили на переплавку. Воспользовались для этого катером, на котором приехали историки. К нему прицепили небольшую пластиковую баржу. В катер уселся студент, не расстававшийся с книгой, а на баржу погрузили роботов. Никто не заметил, что при погрузке один из роботов случайно включился. Студент читал о шестиногих кроликах и так увлекся, что не услышал предупреждения о надвигающемся шторме. Небо неожиданно потемнело, подул резкий ветер, и по морю пошли рядами белые, пенистые барашки. Студент бы и дальше не замечал ничего вокруг, но первая же большая волна ворвалась в распахнутую дверь каюты и смыла за борт книгу Ахмедзянова и еще несколько не менее интересных учебников. Только тогда студент спохватился, дал сигнал SOS и осторожно выглянул наружу. Баржа с роботами моталась на конце троса, стараясь оторваться от катера, тянула его назад и вообще угрожала безопасности молодого человека. Он сразу сообщил об этом на берег и получил разрешение отрубить трос и идти обратно. Так он и сделал и благополучно вернулся домой. А одному своему близкому приятелю он рассказал (правда, приятель ему не поверил), что когда он хотел обрезать трос, то увидел, что над баржей поднялась высокая фигура и оборвала трос с другой стороны. Больше того, студент уверял, что это был один из металлических роботов. Кроме своего приятеля, молодой человек никому об этом не сказал, законно опасаясь, что его могут заподозрить в трусости и с нею связанных галлюцинациях. Все решили, что баржа утонула. На самом же деле она не утонула. Несколько дней ее носили по Средиземному морю волны затянувшегося шторма, потом пронесли ее, полузатопленную, через Босфор (что очень удивительно) и в конце концов выбросили на берег небольшого островка у Крымского побережья. Роботы, проржавевшие за дни скитания по волнам, повредившие в качке некоторые ценные детали своих электронных мозгов, выбрались на берег и тут, просохнув, начали действовать. Один из десяти в свое время был запрограммирован как робот-сержант, робот-шеф, способный принимать решения в присутствии противника и командовать другими. Шеф-робот организовал свою команду на военный лад, и в его проржавевшем мозгу появилась мысль о том, что если уж он оказался на острове, то, значит, ожидавшаяся сто с лишним лет война все-таки началась и пора приступать к покорению противника. Противником — так уж роботы были устроены — мог оказаться в первую очередь тот, кто говорит на русском языке. В первый же день пребывания на острове роботы обнаружили среди камней перевернутую пластиковую лодку прогулочного типа, настолько простую в управлении, что ею мог бы управлять и ребенок. И шеф-робот послал двоих своих солдат на берег, в разведку. Они вернулись через несколько часов, и не одни, с добычей — двумя пленными роботами — и докладом о том, что первый встреченный ими человек говорил именно по-русски и был потому засунут в чемодан и уничтожен. Как он был уничтожен, роботы объяснить затруднились, но уверили шефа, что это случилось именно так. Шеф-робот объявил на острове военное положение, приказал заложить себе памятник и тут же направил на берег еще одну экспедицию. Он надеялся, что удастся достать оружие. Оружия не было. Зато попались еще пленные — Алиса и старик-киноробот. Алиса обо всем этом не знала да и не могла предположить, что когда-то на земле люди, которые были настолько учеными, что умели делать говорящих роботов, могли готовить их для войны с другими людьми, например с Алисиным дедушкой или прадедушкой. Не подозревал об этом и Герман Шатров, который, как и вся киногруппа, и профессор Шеин, не ложился спать в эту ночь, а обшаривал с фонарями ближайшие скалы в поисках Алисы и старика. Не спали спасатели Крымской станции, флаеры которых, плохо оборудованные для ночных полетов, кружили над побережьем; не спали и туристы, лагерь которых — двадцать три палатки — лежал за горой. Туристы тоже искали девочку и старика… Не подозревал об этом и Алисин отец, директор Московского зоопарка. Правда, он спал спокойно, зная, что Алиса в полной безопасности в Крыму, с его приятелем Германом Шатровым, — отцу пока ничего сообщать не стали. Зачем беспокоить человека раньше времени? …В половине первого ночи спасатель Соснин, пролетая на бреющем полете над одной незаметной бухточкой и осветив ее, увидел на песке несколько следов, превышающих размером человеческие. Следы вели наверх, по склону горы. Пролетев над цепочкой следов, он увидел в одном месте рассыпанные ракушки и камешки, которые переливчато заблестели под светом его фонаря.Падение ржавого лейтенанта
Алисе было страшно, Алисе было жалко старика. Но еще Алисе очень хотелось пить и есть… Она сжалась в углу ямы и закрыла глаза. И сейчас же увидела большой, больше ее, бокал с лимонадом. Лимонад переливался через край, и шипучие брызги его прыгали по камням. Алиса открыла глаза, чтобы отогнать наваждение. В яме было совсем темно, и только в неровном четырехугольнике неба горели звезды. Алисе пришла в голову мысль, что в сумке, о которой она совсем позабыла, может заваляться что-нибудь съестное. Или даже тюбик сельтерской. Это, конечно, была чепуха, и Алиса понимала, что это чепуха, но все-таки она расстегнула сумку и, замерев от возможности удачи, тихонько сунула туда руку. Но ничего не произошло. В сумке лежали аппарат миелофон, носовой платок и кляссер с менными марками. И еще несколько ракушек и камешков, найденных на берегу. С горя Алиса положила один из них в рот и стала сосать. Но пить все равно хотелось. — Робот! — позвала Алиса. — Робот, я хочу пить! Никто не отозвался. Может, закричать громко, так громко, чтобы все эти роботы испугались и забегали? Но Алиса не решилась. Она видела, как погиб старик, и понимала, что роботы могут убить и ее если подумают, что она выдаст своим криком их убежище. А может, на островке и вообще нет воды? Роботам ведь она не нужна. Пить хотелось так, что горело во рту и голова казалась большой и гулкой… Алиса встала и обошла свою тюрьму, ощупывая стены руками. С одной стороны стена была покатой, и Алиса попробовала выкарабкаться, но утыканная камешками земля не удержала ее, и Алиса соскользнула вниз. Алиса испугалась, что роботы могут услышать, как она барахтается в яме. Она прислушалась. Вроде бы все тихо. Но ведь роботы не спят. Один из них мог притаиться у ямы, и, когда Алиса вылезет, он ударит ее. Постойте, ведь есть же миелофон! Алиса достала его из сумки и вставила в ухо наушник. В аппарате что-то очень тихо потрескивало, но ни мыслей, ни голосов не было слышно. Алиса покрутила колесико миелофона, посылая его волны в разные стороны, но так ничего и не услышала. Значит, вблизи роботов нет. Алиса выплюнула камешек и сделала еще одну попытку выкарабкаться из ямы. Она уминала ногами ступеньки в откосе и, прижимаясь животом к склону, медленно ползла вверх. Было темно, камешки и песчинки скатывались вниз, ноги скользили, и приходилось замирать, распластавшись, чтобы удержать равновесие. Путешествие наверх казалось Алисе бесконечным, и она уже начала думать, что никогда не выберется из этой ямы, как вдруг руки ее, протянутые вверх, вместо стены встретили пустоту… Алиса выползла на поверхность островка и минуты две лежала, отдыхала и слушала, не идет ли кто-нибудь. Тихо. Теперь надо решить, в какой стороне может быть вода, если она есть на островке. Алиса решила, что если вода здесь есть, то она должна, в конце концов, стекать с острова в море, и поэтому лучше всего обойти остров вокруг. Она спустилась на четвереньках к морю и присела за камнем. Взошла луна, и море было разрезано лунным светом на две половинки. Лунная дорожка убегала к далекому берегу и упиралась в черную полосу гор. Среди гор мерцали разноцветные огоньки домов и палаточных лагерей. В одном месте на берегу горел костер, и белый столбик дыма от него был ясно виден на черном теле горы. «Поздно спать не ложатся», — подумала Алиса, не догадываясь, что костер горит в лагере туристов потому, что на костре висит котелок с черным кофе, — группы, возвращающиеся с поисков Алисы, пьют этот кофе, чтобы не заснуть. С неба протянулась к кромке воды полоска прожектора с невидимого в темноте флаера. Лучик ощупывал бухточки. Это тоже искали Алису. А горстка огоньков напротив островка означала вовсе не освещенный домик и не карнавальное шествие — киношники и спасатели обшаривали берег бухточки, где были обнаружены полчаса назад следы роботов. Алисе захотелось нырнуть в воду и поплыть к далеким огонькам, но она понимала, что утонет — она очень устала и ослабела без воды и пищи, переволновалась, и руки двигались еле-еле, не слушались. И даже коленки дрожали. Только Алиса решилась продолжить свое путешествие в поисках воды, как неподалеку раздались тяжелые редкие шаги. Один из роботов медленно спускался к морю. На мгновение о силуэт заслонил лунную дорожку, и Алиса узнала по фуражке шефа-робота. Он подошел к воде и остановился, с хрустом подняв железные руки и скрестив их на груди. Теперь Алисе никак нельзя было вылезать из-за камня: робот бы обязательно услышал ее. А шеф все не уходил. Он стоял на берегу, смотрел на огоньки далекого берега и, наверно, думал. Может, стоит узнать его мысли? Алиса тихонько достала наушник из сумки. Повернула колесико на миелофоне, пока не настроилась на мысли робота. И вот они уже ясно слышны. Робот думал медленно и со скрипом. «Десант… Надо высадить десант затемно. Они не ждут нападения… Они лягут спать. Захватим оружие… Где же подкрепления? Нет подкреплений. Нет связи с центром… Завтра будет связь… На острове в крепости оставим охранение… Пленные будут работать. Человека маленького надо убрать. И в воду. Чтобы следов не осталось… в воду… Всегда надо концы в воду… Крым — плацдарм… Послезавтра на Москву…» — Я лейтенант, — сказал вдруг робот вслух. — Я произвожу себя в лейтенанты. Завтра произведу себя в майоры. И снова мысли: «…Мы освободим всех пленных роботов, и армия моя несокрушима… пора поднимать по тревоге… Нет, сначала сам уберу маленького человека… он слишком много знает…» Робот перестал думать, опустил руки, ударив со звоном ладонями по бокам, и пошел наверх, к тюрьме, из которой Алиса так недавно выбралась. Алиса поняла, что теперь не до воды. Надо спрятаться, пока ее не нашли. Она выскочила из-за камня и побежала вдоль берега, ища надежное укрытие. Но островок был гол, и обыскать его можно было в две минуты. Меж камней темнело углубление. Алиса нырнула туда и замерла. Обеспокоенные роботы так топали по островку, что началось небольшое землетрясение. Вот шаги робота все ближе и ближе… Топ-топ… Остановились у Алисиного убежища. Неужели она плохо спряталась? Яркий свет ударил в глаза. Робот зажег фару на полную мощность и шарил ее лучом по камням. — Здесь! — крикнул он. — Человек есть здесь! Железная рука протянулась к Алисе, и она попыталась увернуться от нее, прижимаясь к стенке. Рука прошла в сантиметре от Алисиного лица и ударилась протянутыми вперед пальцами о камень. Алиса воспользовалась секундной заминкой и, оцарапав плечо о ржавую ногу, выбежала на берег. И тут же ей в лицо ударил свет прожектора другого робота. Ее заметили. Алиса металась по берегу, увертываясь от протянутых рук, от камней, которые кидали в нее, правда не очень метко, железные солдаты, но кольцо сдвигалось… — Бери живой! — крикнул лейтенант-робот над самым ее ухом, и Алиса скорее почувствовала, чем увидела руку, тянущуюся к ее голове. Деваться было некуда. И в этот момент между железной рукой и Алисой появилась другая рука, блестящая, белая, тонкая рука пластикового робота. — Беги! — сказал он. — Беги прямо. Мы задержим. Алиса послушалась его, и в тот же момент прожектор, светивший ей в лицо, погас — это второй пластиковый робот бросился наперерез солдату и разбил прожектор. Алиса ударилась носом о что-то твердое, пробежала несколько шагов и остановилась перевести дух и оглядеться. Она стояла на берегу, у самой воды. Сзади, освещенные луной, шевелились угловатые фигуры, и можно было различить пластиковых роботов — они были пониже ростом, потоньше, чем солдаты, но двигались куда быстрее и проворнее. Железные роботы молотили пластиковых по головам и плечам, но внешняя хрупкость пластика совсем не означала, что он был податливее солдатской брони. Из толпы роботов вырвался лейтенант и побежал за Алисой. Видно, он не выпускал ее из виду. Пластиковый робот, заметив его рывок, высоко подпрыгнул и упал ему под ноги. Лейтенант споткнулся и с грохотом покатился по камням. Из воды, метрах в двадцати от берега, черным углом торчал нос полузатопленной баржи, на которой роботы приплыли на остров. Вот где можно спрятаться. Алиса вошла в воду, подняв высоко над головой сумку с миелофоном, и, как только вода достигла груди, поплыла, подгребая одной рукой и стараясь не производить никакого шума. Сумка оказалась тяжелой, и очень хотелось бросить ее в воду, но Алиса знала, что миелофон — ценный аппарат и надо его обязательно сберечь. Плавала Алиса неплохо и даже сейчас, усталая и избитая, добралась до черного носа минуты за три, перебралась через борт и уселась на угол рубки, уходящей в воду. На берегу шум боя утихал. Железные роботы доламывали своих пластиковых противников. Все-таки их было как-никак десять штук, и они были специально приспособлены для того, чтобы убивать. Пластиковые же роботы хорошо умели готовить пищу и носить вещи. Как только бой кончился, беготня железных роботов возобновилась. Они обнаружили, что пленница исчезла, и снова затопали по острову, разыскивая ее. Вот один подбежал к самому берегу напротив баржи и осветил фарой песок, чтобы разыскать следы. Алисе было холодно и хотелось попрыгать, чтобы согреться, а приходилось сидеть и не двигаться. Стрекотание флаера послышалось почти над головой. Флаер зажег прожектор и рыскал им по острову. Роботы замерли и замолчали. Луч скользнул по берегу, по барже, но Алиса не посмела пошевелиться и привлечь внимание летчика к себе. Вдруг тогда роботы догадаются, что она прячется так близко от них, и заберутся на баржу раньше, чем придет помощь! Теперь Алиса не сомневалась, что флаер был послан ее друзьями. Ее разыскивают. И обязательно найдут. Но сейчас важнее было другое — надо предупредить людей на берегу, что роботы собираются вот-вот начать наступление. А ведь люди там, туристы и отдыхающие, даже не подозревают, что роботы могут нападать на людей. И роботы застанут их врасплох и могут кого-нибудь убить или ранить. Жалко, что не удалось найти, где у них спрятана лодка. Хотя лодку они, как сказал шеф, охраняют. «Придется, видно, плыть к берегу, — решила Алиса. — Может быть, я не утону и тогда успею раньше, чем роботы. Только надо это сделать незаметно. Подождать, пока они не прекратят поиски». Флаер улетел, и роботы, включив прожекторы, шарили лучами по воде, думая, наверно, что Алиса попыталась уплыть с острова и не успела отплыть далеко. — Человек мог спрятаться на барже, — сказал вдруг явственно скрипучий голос на берегу. — Но мы теряем время. Пора в поход. — Сначала убьем человека. Проверьте баржу. Шаги робота удалились по берегу. Алиса поняла, что больше ждать нельзя. Она спрятала сумку с миелофоном в углубление на палубе баржи, надеясь, что роботы в спешке не найдут аппарата. Потом она спустила ноги за борт, повисла на руках и, оторвавшись от борта, сразу ушла вглубь. Вынырнула и поплыла к берегу. Алиса еще не успела высохнуть, на ветру было холодно, и вода поэтому показалась ей в первый момент теплой, как будто ее специально нагрели. Алиса плыла, и ей казалось, что вот-вот должен раздаться сзади крик: «Вот она!» — луч прожектора должен догнать ее… И когда луч прожектора в самом деле настиг ее и, поймав в круг света мокрые светлые волосы, поплыл рядом с ней, она даже не удивилась и не очень испугалась. Она просто поплыла быстрее, хоть и понимала или, по крайней мере, должна была понимать, что так ей долго не продержаться. — Вот она! — догнал ее голос шефа-робота. — Оружие к бою! Алиса не оборачивалась, но и без этого она чувствовала, как роботы натягивают большие луки. «Вз-з!» — пролетела сбоку стрела. Вторая шлепнулась в воду далеко впереди. Алиса почувствовала, что устает. «Еще немного, — говорил она себе, — совсем немного, берег близко». Но она обманывала себя. До берега было еще очень далеко. — Спускайте лодку! — приказал шеф-робот. — Жаль, нет у меня моего верного пистолета. Я бью из него без промаха на тысячу метров. Алиса даже удивилась, как хорошо она слышала слова робота, хоть сердце ее стучало так громко, что казалось, молоточки бьют по вискам. — Заводи! — догонял ее неумолимый голос. — Пошли! Все погибло, поняла Алиса, и ей стало очень жалко себя, потому что теперь она никогда не полетит в Париж на праздники, и никогда не придет снова в школу, и никогда не прокатится на дорожке, которая идет туда, куда ты захочешь. Вода стала вдруг ненадежной и зябкой, как воздух, и перестала держать ее, а затягивала вглубь, и руки отказывались загребать, и ноги повисли, как неживые, и тоже потянули вниз. И Алиса подумала, что все равно ни Герман, ни лапа никогда не узнают, что с ней случилось… Она увидела, запрокинув голову, в последний раз звезды, и в тот момент что-то твердое легонько ударило ее снизу и вынесло на поверхность. Алиса попыталась вырваться, не понимая еще, что с ней случилось, но упругая поверхность, вынесшая Алису, не подавалась и продолжала нести Алису вперед, к горам. Если бы не было так темно, Алиса сразу бы догадалась, что ее подхватили дельфины, но она так устала и плохо понимала, в чем дело, что прошло, наверно, с полминуты, прежде чем до нее дошло, что она уже не плывет сама, а несется к берегу на своеобразном корабле — на спинах двух сомкнувшихся бок к боку дельфинов. Спинные плавники их были стенками люльки, и протянутые вперед руки Алисы лежали на их выпуклых лбах. Алиса не смела приподняться и посмотреть, что происходит сзади, — а вдруг дельфины расплывутся и она упадет снова в воду. А ведь она отлично знала, что в воде ей не продержаться и минуты — ноги и руки были ватными. Сзади послышалось легкое стрекотание лодочного мотора. Значит, роботы продолжали преследовать ее. — Скорее! — прошептала Алиса дельфинам. — Нам надо как можно скорее успеть к берегу, а то они начнут убивать людей. — Хорошо, — сказал вдруг один из дельфинов. Он говорил с трудом, еле выговаривая человеческие слова. — Не бойся. Мы скоро. — А все думают, что вы не умеете говорить! — обрадовалась Алиса. — Мы учимся, — сказал дельфин. Полоса света догнала дельфинов и осветила их блестящие спины и Алису, лежащую меж плавников. — Вперед, скорее! — кричал шеф-робот. — Они не уйдут! Дельфины поплыли еще быстрей, но все-таки Алиса чувствовала, что берег приближается медленней, хоть чуть-чуть, но медленней, чем лодка с роботами. Прожектор с лодки уже не отпускал дельфинов и уверенно следовал за ними, когда они пытались поворачивать, чтобы выйти из круга света. Рядом в воду вонзилась тяжелая стрела — роботы обстреливали дельфинов. — Очень плохие, — сказал дельфин и фыркнул. — Плохие люди. Таких не знаем. — Это не люди, — сказала Алиса. — Это сумасшедшие роботы. Они хотят убивать всех людей. Их надо остановить и предупредить людей, а то они могут такого натворить… — Роботы, — сказал дельфин, — машины. Машины делают люди. — Это, наверно, старые машины, и они попали в воду и сломались. Скорее. Лодка уже была совсем близко, и Алиса, оглянувшись, увидела, что нос лодки и белые бурунчики по его сторонам ясно видны на фоне черной воды. — Они нас догонят! — сказала Алиса. Это было уже совсем страшно. Дельфин хрюкнул громко и сердито. Рядом — Алиса скорее почувствовала, чем увидела, — показались над водой спины других дельфинов. Один из них повернулся и пошел навстречу лодке. — Смотри! — крикнул шеф-робот. — Торпеда! Стреляй! Белая стрела, видная издалека, просвистела и вонзилась в дельфина. Все это происходило очень близко. Она навсегда запомнила эту сцену — неверные мятущиеся лучи прожекторов, черные спины дельфинов, бурунчики, пена и короткий крик умирающего дельфина. Алиса посмотрела вперед. Метнувшийся луч прожектора высветил скалу впереди, и она поняла, что берег уже близко. Совсем близко. Но добраться до него дельфины не успеют. — Каждому по ордену! — кричал шеф-робот. — Живой или мертвой! И вдруг дельфины, которые везли Алису, резко вильнули в сторону, и на какое-то мгновение лодка оказалась сбоку, совсем рядом, и Алиса совершенно явственно увидела, как остальные дельфины — она не знала, сколько их: может, десять, может, двадцать, — темной массой ударили лодку в борт. Лодка резко накренилась, черпнула бортом воды. Роботы бросились к другому борту, чтобы удержать равновесие, но это только ускорило гибель их корабля. Лодка опрокинулась, и лишь секунду или две шефу-роботу удалось удержаться на поверхности, цепляясь за ускользающий борт. Остальные роботы пошли ко дну, как железные кувалды. Да, впрочем, так оно и было. Они же были железными. Шеф проскрипел отчаянно: — Я фаталист! В конце кон… Волны от лодки разбежались в разные стороны, и только дно ее виднелось из воды, как будто среди черных дельфинов затесался белый, в несколько раз больше ростом, чем остальные. В следующую секунду дельфины развернулись и как ни в чем не бывало подплыли к берегу, подплыли лихо и грациозно, и как бы шутя выгнули у полосы песка свои черные спины и подбросили Алису в воздух. Она шлепнулась на песок и хотела засмеяться, но заплакала и никак не могла остановиться. Дельфины крутились у берега, выпрыгивали из воды, фыркали, а Алиса ревела в четыре ручья. …И тут наступила тишина. Такая тишина, какой давно не было. Небо над морем начало бледнеть — майская ночь коротка, — лодка куда-то делась, видно унесло ее прибрежным течением или увлекли с собой дельфины, и ветерок, поднявшись к утру, был таким тихим и ласковым, что только чуть ворошил Алисины волосы. И если бы не нудная боль в исцарапанных ногах и руках, не смертельная усталость и возвратившаяся в тишине жажда, могло бы показаться, что вся ночь только приснилась Алисе. Алиса вздохнула и поднялась. Подниматься не хотелось, но надо было возвращаться в лагерь киношников. Они ведь, наверно, с ума посходили от беспокойства. Алиса поплелась в гору, чтобы сверху посмотреть, в какой стороне палатки. Здесь, на полпути к лагерю, ее и встретили спасатели специального отряда водослужбы. Они собирались с рассветом начать прочесывать морское дно. Днем, выспавшись, вся обклеенная пластырем и обмазанная лечебной мазью, Алиса вместе с киношниками отправилась на остров. Катер отчаливал из бухты, на берег которой уже были вытащены и лежали в ряд колодами утонувшие роботы. Рядом с одним из них валялся лук. Любопытные, собравшиеся со всего побережья, окружили стеной железные трупы, жужжали стереокамерами и громко удивлялись. Алиса спряталась за спину Германа, чтобы ее не узнали и не начали задавать глупые вопросы. Еще на рассвете ее фотографировали для утренней газеты, и весь Крым уже знал кое-что о ее приключениях. Берта, примчавшаяся из Москвы на метро, была одета в фиолетовый парик и живое платье из венерианских водорослей, которое меняло цвет и рисунок каждую минуту. Берта семенила рядом с Алисой и допрашивала ее с таким пристрастием, что Герману приходилось вежливо оттеснять ее. Остров был пустынен, и ветер гудел в развалинах. На ящике в резиденции ржавого лейтенанта валялись большие ножницы и жесть, из которой он вырезал награды. В углу кучей деталей и одежды лежало то, что еще вчера было стариком-кинороботом. Алиса показала журналистам и Герману яму, в которой она сидела. На одной из стенок ее, той, что была покатей остальных, сохранились выемки — ступеньки, по которым Алиса выбралась на свободу. На обратном пути заехали на полузатопленную баржу и взяли оттуда сумку с миелофоном. Остров уменьшался и уменьшался, уплывая в море. Катер подходил к берегу. Приключение окончилось. Совсем недалеко от берега катер догнали дельфины. Они плыли некоторое время рядом, резвясь и ныряя, как простые неразумные рыбы. Потом дельфины повернули к морю, а один отстал, повернулся к катеру и сказал тонким голосом: — Хорошо, Алиса. — До свиданья! Спасибо! — крикнула ему Алиса. А Берта сначала не поверила собственным ушам, а когда поверила, упала в обморок.Лев Полонский ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ
«Облегчить труд по нас грядущим»
Он чуть не крикнул в наступившую тишину: «Наперекор всему — вперед!» …И если бы во всей его жизни ничего не было, кроме этого мига, то и тогда стоило бы жить.Тайга казалась безбрежной. Не верилось, что она где-то начинается и где-то кончается. Почтовый тракт тянулся по берегу реки, слепо повторяя все ее изгибы и петли. А кругом — глушь, безмолвные чащи, которые не знали топора. Чтобы увидеть небо, надо было сперва проводить глазами верхушки кедра. Сибирские ямщики, такие же молчаливые и хмурые, как лес, неторопливо погоняли лошадей. — Уже недалече, каких-нибудь сто верст, — только это и услышали Катя и Андрей от ямщика на последнем перегоне. …Однообразие тайги внезапно нарушили гребень крепостной стены, караульные вышки и кирпичные глыбы плавильных печей. Космы огня выбивались из них, языки пламени плясали под черными мехами горнов. А над домной, похожей на перевернутую кадку, дрожало облако дыма. Это был Томский железоделательный завод. Что знал о нем Андрей Михайлов? В 1623 году кузнец Федор Еремеев нашел железную руду у реки Томь. Из нее выковал он подкову — на счастье. Следом за Еремеевым пришли сюда мастеровые люди. Они отлили первую сибирскую пушку. Но о томском железе вскоре забыли. На сто с лишним лет. Вспомнил о рудах Сибири уральский заводчик Акинфий Демидов. Он послал в таежные дебри своих рудознатцев, и после долгих поисков они открыли в Алтайских горах медь и серебро. Месторождение находилось у озера Колывань, а так как сыскали его в воскресенье, то и завод, заложенный Демидовым, стал именоваться Колывано-Воскресенским. Демидов выстроил еще один завод — Барнаульский, потом Шульбинский, заполучил из Томского и Кузнецкого уездов приписных крестьян. Хозяйство разрасталось, крепло, и каждый истраченный рубль обернулся нажитым червонцем. В Петербурге давно собирались отобрать заводы у Демидова и сделать их собственностью императорского «кабинета». Понимая, что с сибирскими владениями придется расстаться, Демидов сделал красивый жест и преподнес их императрице. Тем самым он сохранил ее покровительство. Огромный край, в котором можно было разместить несколько европейских стран, назвали Колывано-Воскресенскими заводами. На гербе его столицы, Барнаула, была изображена плавильная печь. Заводская канцелярия ведала всеми землями, а равно лесами, озерами, реками и горами, приисками, рудниками ломками цветных камней всего Алтая и Южной Сибири. Она была вершителем судеб всех русских селений и кочевий телеутов и кузнецких татар, она определяла ссыльных преступников и беглых крепостных, польских пленных и старообрядцев. Пришлых людей, откуда бы они ни явились, высочайший указ велел «селить по рекам, близ заводов текущим». Это было государство в государстве. Оно имело даже собственный монетный двор. На вновь созданном Сузунском заводе из добытого серебра чеканили монету, имевшую хождение лишь в Сибири. Два соболя — герб Сибири — смотрели с нее. Кроме Сузунского завода, построили еще Павловский и Алейский, выплавлявший свинец. Томский железоделательный был одним из самых молодых — его пустили в 1771 году. Работал завод уже не на бедных рудах, открытых некогда кузнецом Федором Еремеевым, — мощные месторождения железа были обнаружены у Кузнецка. В краю установили горно-военный строй. Администрация состояла из военных чинов, облеченных всей полнотой хозяйственной, полицейской и судебной власти. Обер-офицеров горных заводов жаловали рангами и привилегиями «по сходству математических их наук противу артиллерийских и инженерных чинов». Не случайно Андрей Михайлов вместе с назначением был удостоен звания капитан-поручика. Еще оставалось в силе положение о заводских командирах:Л. Фейхтвангер, «Мудрость чудака»
«Дабы российские дворяне, имея надежду получить в горной службе офицерские чины, без умаления в почтении своем перед прочими в службе находящимися, охотнее в горные науки и службу идти могли».— Говорила: «С тобой хоть на край света!», вот и угодила за тыщи верст от дома. — Андрей следил за выражением лица Кати. Он боялся, выдержит ли она, привыкшая к роскоши, суровую Сибирь, не сломит ли ее заскорузлая, как руда, жизнь в заводском поселении. Свадебное путешествие… У подруг не было такого. Дорога изнурила Катю, но лицо ее светилось радостью. — Я буду любить тебя здесь не меньше, чем в Петербурге, — сказала она Андрею и звонко поцеловала его на глазах у проходивших мимо крестьян. Они были неровни — сын служилого дворянина из Олонецка Андрей Михайлов и боярская дочь Катя Морозова. Отец сватал Катю за отпрыска князя Голицына, да разве совладаешь с ослушницей?! Катя унаследовала своеволие, присущее многим в роду Морозовых. Может, в нее вселился дух боярыни — фанатички Феодосии Морозовой, которая боролась с самим царем и ушла в ссылку, не подчинившись ему. И Морозов смирился. Отказав Кате в приданом, разрешил тихо, без оглашения, обвенчать ее с Андреем в одном из скромных приходов близ столицы. Поселились Михайловы в большом деревянном срубе, сбитом на пригорке. Неподалеку от дома высились крепостные ворота, которые с приходом темноты запирались. — После Петербурга наш Томск — чистый острог, не более. Ума не приложу, как это Катерина Кирилловна, столь авантажная собой, решилась последовать за вами, — говорил Андрею начальник завода Бердяев. На его столе стоял макет серебряной раки, которую Андрей видел в петербургской Александро-Невской лавре. — В молодости сам отливал раку для святых мощей, — пояснил Бердяев. — Первое серебро, что добыли в Сибири, пошло туда. Вместе с ним Михайлов обошел печи, спустился в штольни. У печей было нестерпимо жарко, а в рудничных шахтах, тянувшихся на глубине восьмидесяти — ста саженей, веяло холодом и сыростью. Воздух там был грязный и душный. Андрей, выросший в заводском Олонецке, обнаружил, что дело здесь поставлено шире. Не укрылось от него и то, что условия для служителей[70] в Томске куда жестче и тяжелее. На столбе у рудника висел царский указ, в котором говорилось, что люди, чьи бы они ни были,
«должны зарабатывать на заводах: первое — подати государственные по семьдесят копеек, другое — подати помещикам по сорок копеек, которые отдаваться будут в Нашу казну и куда надлежит, а что сверх тех податей зарабатывают, то им плачено будет по настоящим ценам».Остаться на их долю в лучшем случае могла треть заработанного. Провинившихся «нижних чинов» в Томске секли на помосте, между гауптвахтой и казематом. От порки не избавляли и подростков, занятых разборкой руды. Михайлов слышал, как рабочая команда вполголоса тянула:
«…самое лучшее, какое есть — белое вещество, а цветное — подобно цвету гранатного яблока. А оставшаяся масса сильно замутнена и не поддается осветлению».Где он еще встречал упоминание о перегонке нефти? Память не подводила Андрея. Это в старом русском лечебнике говорилось:
«…а собою он черен, а егда его поварим на огне, тогда он станет бел и чист».Не женское дело — техника, но Андрея тянуло поделиться с Катей. — Все, что на земле есть, рождено теплотою, — объяснял он. — И леса, и реки, и поля. Ветер, дождь, облака — тоже от теплоты. Ее дарит солнце. Теплота пробуждает вулканы, сотрясает землю, сверкает в молнии. В угле и нефти она на веки вечные заключена. Нам бы малой толикой теплоты, что по свету рассеяна, овладеть! — Что же ты надумал, милый? — с любопытством спросила Катя. — Хочу построить машину, которая бы теплотою работала. Понимаешь, если в закрытом сосуде из железа сжимать нефть и поджигать ее, то начнет выделяться тепло. Оно и будет толкать поршень. Соедини тот поршень с валом и колесом — машина сможет поднимать грузы, дробить руду, раздувать мехи, ткать холсты… Поставь ее на карету — и экипаж покатит без лошадей, поставь на корабле — и он без парусов и весело помчит по воде. Катя мало что поняла из его рассказа, но Андрей был увлечен и зажигал своей верой. Когда же он принимался за чертежи, пыл в нем угасал. Как воспламенить в цилиндре нефть? Выдержит ли он удары от взрыва? Сколько сделать поршней?.. Все это было неизвестно. Истратив жалованье, Андрей с трудом раздобыл в деревнях два пуда нефти. Лекари нехотя расставались с нефтью, просили за нее большие деньги. А на заводы она не завозилась. Андрея угнетало сознание того, что по всей России с нефтью плохо. Говорили ему, будто еще при Петре в москательных рядах Москвы еле набрали десять ведер нефти, когда она понадобилась царю. Иное дело — открыть большую торговлю с Баку. Уж там-то нефть в избытке. И в колодцах у гор, и на морском дне. — Ишь куда загнул! — сказал Бердяев, узнав, что мучит капитан-поручика. — Смотри, схимник, не загуби себя, как берг-механикус из Барнаула. О его «огненной машине» слыхал? А о том, что у него кровь горлом пошла от мытарств, тоже слыхал? Покряхтев, скорее для виду, Роман Васильевич разрешил Андрею взять малость железа и меди для опытов, но предупредил, чтоб все делал не в ущерб службе. На исходе зимы Катя родила сына. Пожелала, чтобы его нарекли Андреем. «Уж больно мужа любит, потому и дала его имя первенцу», — говорили женщины. Андрею было неловко приходить домой поздно, — каждый раз он клял себя за невнимание к жене, ставшей матерью, но бросить свою затею не мог. До конца марта лютовали морозы, дорогу замело снегом, и почтовой гоньбы не было. А когда утихли вьюги, в Томск пришла почта. Андрею вручили сразу три письма от друга, с которым вместе был в экспедиции на Каспии и учился в Петербурге. В тех, что были написаны раньше, Карл Габлиц рассказывал о своей службе. Он был директорским помощником садовой конторы в Астрахани:
«Пекусь о виноделии, хотя Бахусу поклоняюсь в меру, развожу диковинные деревья и цветы, но жаль, что дарить букеты некому (какой из меня жуир!). Стараюсь привить в Астрахани дерево тута, что мы с тобой встречали в Ширвани. Пора и России свой шелк иметь. Об опытах сих в Академию отчеты шлю», — сообщал Карл.Последнее письмо отличалось и содержанием, и по тону от предыдущих. Андрей прочел его несколько раз:
«Астрахань не узнать. Город бурлит, как котел. Прежде в порту стояли два захудалых бота, а нынче в нем уйма военных кораблей. Пришли они из Казани, где с 1773 года, по приказу светлейшего князя, строились для Каспия. А команда и офицеры посланы из Петербурга. Солдат и матросов в городе больше, чем штатских. Подле военных моряков наши мазуры[71] выглядят довольно жалко. Сам Александр Васильевич Суворов устраивал полкам смотр. Узнал я, что он подробнейшие сведения о Персии, Гиляне и Ширване собирает. Что за поход затевается — неизвестно. Замысел в секрете держат, но чую, у экспедиции сей — великость начертания. Судя по всему, войска в Прикаспийские земли пошлют. Видать, и нам с тобой дороги туда не избежать. Уже справлялись о тебе. Жди, что отзовут с завода».Это письмо Андрей скрыл от Кати: зачем волновать ее раньше времени. А сам все больше свыкался с мыслью о новой экспедиции на Каспий. Страшило то, что надолго расстанется с Катей, жаль было покидать завод. Но опыты с нефтяной машиной не ладились, всю нефть, которую купил, пережег. Как ни старался, а достать хотя бы полведра ее нигде не мог. Внутренний голос подсказывал, что без этой поездки ему не завершить своего начинания. Ночами Андрею снилось море, затянутые дымкой острова. С годами пережитое забывается, и былые невзгоды уже не казались тяжкими. Когда Андрея позвали к начальнику завода, тот держал в руках вскрытый конверт. — А вы, друг мой, важная персона, — встретил его Роман Васильевич. — Приказ получен — откомандировать вас в Астрахань, к генерал-поручику Суворову. Личное распоряжение князя Потемкина. Это после возвращения Михайлова и Габлица с Кавказа светлейший князь затребовал их к себе. К Каспию Потемкин питал особый интерес. Шел 1776 год, и война в Северной Америке ослабляла английские позиции в Индии. Потемкин считал момент подходящим, чтобы совершить то, к чему стремился еще Петр. Кратчайший торговый путь в Индию лежал через Каспий — стоило только утвердиться и главенствовать на море. Кое-что с этой целью уже было предпринято. Потемкин по распоряжению Екатерины двинул из Кизляра войска в Южный Дагестан. Небрежно выслушав, как томились в ханской темнице и как на руках у Андрея близ Каякента умер Гмелин, Потемкин подивился догадке академика, будто горы от Дербента и Баку до Черного моря идут, к Персии тянутся, следуя под морским дном, и простираются на Урале и Сибири, где руды в избытке. — Он для торговой фактории пригодное место выбирал, чтобы нефть и прочие богатства было бы удобнее возить, — вставил Габлиц. — Следовательно, островов на Каспии много, а из заливов чуть лучшие — Бакинский, Энзелийский и Ашрафский? — расспрашивал светлейший. — К Индии всех ближе Ашрафский? — Он самый, — подтвердил Андрей. — Гмелин считал, что из Астрабада, который у Ашрафской бухты стоит, выгодно посылать наши товары в Хиву и Бухару и дальше — в Индию. А оттуда, мыслил он, привозить золото, серебро, драгоценные металлы, камни и хлопок, — добавил Карл. У Потемкина вспыхнул единственный глаз: — А на какие силы могла бы опираться купеческая компания? — Гмелин прожект имел — большую крепость на восточном берегу построить, — сказал Андрей. — О нашем разговоре — никому ни слова… — Лишь перед тем, как отпустить студентов, светлейший внимательно разглядел их и удовлетворенно хмыкнул. То, что Андрея переводят в Астрахань, где затевается морской поход. Катя выслушала спокойно. — Что суждено, того не миновать, — сказала она. Катя могла смело, вернуться в Петербург, однако она объявила, что поедет в Астрахань. Собирались Михайловы недолго. Бердяев позволил Андрею взять с собой модель машины, распорядился упаковать ее в ящик. От себя он дал инструменты. — Будь на то моя власть, ни за что бы не отпустил тебя, — сказал он Андрею. И, кивнув в сторону Кати, добавил: — Ищешь счастья бог знает где, а оно — с тобою. Береги Катерину Кирилловну! До самой Волги Михайловым предстояло ехать в обозе, который вез железо и серебро в Петербург. Возчик головной подводы натянул поводья: — Пошел! Заскрипели колеса, застучали подковы по дорожным камням. А вскоре позади кареты, в которой сидели Андрей и Катя, сомкнулся лес, закрыв от взоров уезжавших Томский железный завод.
Поручение у экспедиции особое…
Я один командую здесь… и все повинуются мне: море, ветер, суда и люди.Словно просветы неба в облаках — бело-голубой андреевский флаг. Он развевался на мачтах фрегатов, бомбардирного корабля, палубных ботов. Эскадра ждала сигнала о выходе в море. Но командующий не спешил. Он посылал возмущенные письма в Петербург о том, что суда построены из гнилья, а рангоуты и такелаж закреплены как попало. В Астрахани поражались капитану второго ранга, который спорит с Адмиралтейской коллегией. «Как бы ему не дали по шапке», — говорили в порту. Однако Марк Иванович Войнович чувствовал себя уверенно, он никого не боялся в Адмиралтействе. Войнович был в фаворе у светлейшего, к нему благоволила императрица. Не случайно именно Марка Ивановича сделали начальником экспедиции, когда Суворова и большую часть войска перевели из Астрахани в Крым. Удивительная карьера Войновича была, в общем, обычной для екатерининского века. Далматинец из Дубровника, он воспитывался в семье гордого, но обедневшего патриция. Юношей уехал Марко в чужие края. Выросший на берегу Адриатики, он с детства привык к морю и ловко управлял парусами. Его приняли на венецианскую службу. Хозяин купеческой барки был доволен Марком, обещал со временем вывести в капитаны. Но Войнович был горяч, в страстях необуздан и вскоре стал виновником кровавой драмы. Венецианский суд приговорил его к смертной казни через повешение. Марко с улыбкой выслушал приговор, послав женщинам, сидевшим в зале, воздушный поцелуй. А на рассвете вместе с арестантом-единоземцем бежал из тюрьмы. Обманув погоню, они очутились на одном из островов Мраморного моря, где стояла русская эскадра. Так в 1770 году Войнович записался волонтером в Российский флот. Терять Марку было нечего, турок, с которыми сражались русские, он ненавидел и дрался храбро. В битве у архипелага потопил турецкий шлюп и захватил капудан-пашу. Его произвели в лейтенанты, назначили командиром фрегата «Слава». К концу войны он был награжден Георгиевским крестом, стал капитан-лейтенантом. По возвращении флота в Россию Потемкин обратил внимание на жгучего брюнета с широкими, плечами и осиной талией. Выяснив, что он сын аристократа из славянской республики Дубровник, соперничавшей с Венецией, князь пожелал принять его. Глаза капитан-лейтенанта сверкали решимостью, рассказывал он с жаром, и Потемкин взял его к себе. Представленный Екатерине, Войнович обворожил и ее. Полгода спустя Войнович стал командиром собственной шлюпки императрицы. По улицам Астрахани Войнович гарцевал так, словно был на параде. Барышни провожали его восхищенными взглядами, но он их не замечал. Начальника гарнизона Войнович обидел своим отказом осмотреть промысла. — Эка невидаль! Дырявые лодки, сгнившие причалы, холопы, пропахшие рыбой… — надменно сказал Войнович. — Почему же? — возразил генерал. — Наши промыслы — знатное хозяйство и дюже смелыми и предприимчивыми людьми славятся. Тому пример — приказчики нашего рыбника-купца Евреинова. Один из них — Шафиров, — при Петре Алексеевиче иностранной коллегией ведал, другой — Сердюков — Вышневолоцкую систему строил, судам с Каспия дорогу в Петербург открыл. Накануне ухода в море Войнович собрал офицеров. Потягивая трубку, обвел глазами подчиненных: — Поручение у экспедиции особое. Настанет час, возможно, открою его. Надворному советнику Габлицу, назначенному на эскадру, надлежит вести исторический журнал. Инженерный капитан-поручик Михайлов вкупе с ним будет описывать места, где побывает экспедиция, сделает физические и прочие наблюдения, которые к приращению познаний о Каспийском море служить могут. — Каков маршрут эскадры? — спросил Андрей. — Это известно мне! — грубо ответил Войнович. Капитан-лейтенанты Баскаков и Радинг — старшие офицеры эскадры — переглянулись. Войнович выбил из трубки пепел, свысока бросил: — Командиры кораблей узнают о рейсе, когда сочту нужным. Предупреждаю, что рескриптом императрицы власть над кораблями и людьми мне дана неограниченная. Войнович говорил правду. Инструктируя его, Потемкин подчеркнул, что цель экспедиции следует скрывать ото всех. Шагая по кабинету, князь Григорий Александрович наставлял капитана: — Должны будете основать укрепления на острове у восточного берега Каспия. Место для торгового пристанища выбирайте удобное и безопасное. Попутно всеми средствами способствуйте нашей торговле на море, ибо персияне ее весьма стесняют. Потемкин познакомил Войновича с обстановкой на Востоке, раскрыл свои далеко идущие планы: — Бомбейская и Батавская компании, компания из Гоа не дремлют и в персидской торговле глубокие корни пустили. Сведения имею, что, пока в Персии междоусобица идет, Англия Каспием овладеть хочет. Она и турок и арабов подчинить своему влиянию намерена. Обоснуемся на Каспии и вышвырнем оттуда англичан, голландцев, португальцев! Светлейший был в настроении, что случалось не часто. Он получил добрые вести с Черного моря: посланные им эскадры успешно охраняли права торговли России на Северном и Средиземном морях, вскоре под его опекой будет снаряжаться первая кругосветная экспедиция Григория Муловского. Во всем этом светлейший видел славное предзнаменование для каспийского похода. …Совет на флагманском корабле был окончен. Когда все разошлись, Войнович позвал Михайлова и Габлица. — Известно мне, что вы басурманскими языками владеете. В памяти их освежите. К экспедиции татарин-толмач приставлен, но доверия к нему не имею. — Голос капитана смягчился. — Как тебе понравился Войнович? — спросил Карл друга. Андрей помедлил с ответом: — Поживем — увидим. — А мне капитан не по душе. Хоть и георгиевский кавалер, а слишком уж на баловня судьбы похож. Кичлив, нахален, в глазах — цыганский блеск… Остановились Михайловы у Карла, в небольшом чистеньком доме с жалюзи, который стоял в саду. Чтобы не стеснять Катю и Андрея, Габлиц спал на веранде, благо ночи были теплые. А вечерами Карл допоздна спорил с Андреем и умолкал, лишь заметив, как Катю клонит ко сну. В технике он был не очень силен и мало что мог подсказать Андрею в работе над машиной, но сама идея ему нравилась. — Ты сеешь, дорогуша, а пожинать будут другие поколения, — говорил он. Андрей не соглашался, утверждал, что мыслит создать двигатель для своих современников. — Чудак человек! — возражал Габлиц. — Истина та, что мы сажаем деревья, а тенью от них пользуются потомки. Низкорослый, нескладный Карл был полной противоположностью Андрея — высокого, статного, подтянутого. Андрей готов был сжаться, находясь среди людей ниже его ростом. Его крупное, сильное лицо казалось высеченным из камня-валуна, каких много в северном озерном крае, откуда он происходил. Однако стоило увидеть его глаза, и впечатление менялось. Синие, как васильки, они светились энергией и умом, говорили о душевной доброте. Катя вздыхала, прислушиваясь к их разговору. — Хоть бы уж вы скорее уехали и скорее вернулись!.. В полдень эскадра должна была поднять паруса, а ночью в порту произошло событие, всколыхнувшее весь город. Ружейные выстрелы и крики разорвали тишину, шхуна «Улдуз», доставившая соль из Сальян, внезапно снялась с якоря и вышла в открытое море. На рассвете у старого берегового амбара обнаружили мужчину в изодранной одежде, лежавшего ничком. Лицо его было в подтеках, у виска запеклась кровь. В нем признали матроса с «Улдуза». Придя в сознание, он сказал, что владелец шхуны был подкуплен турками и собирался подорвать один из фрегатов. Воздев руки к небу, матрос поклялся именем пророка, что говорит правду. — Почему же ты, мусульманин, пошел против единоверцев? — задали ему вопрос. — Русские не делали мне зла, а турки зарубили отца и деда, — сказал он. Встревоженно поглядев по сторонам, матрос спросил переводчика, не ушла ли еще эскадра. Ему сказали, что она в порту. Тогда матрос потребовал отвести его к начальнику русских кораблей. Андрей, за которым послал Войнович, записал показания матроса:А. Дюма, «Виконт де Бражелон»
«Если плыть от Баку все время к югу, то в море покажется остров. На сто локтей поднимается он над водой. Раньше этот остров никто не встречал, хотя изредка в те края заходили рыбаки. Появился он после бури, какой еще не знал Хазар. Грохот стоял такой, словно горы сталкивались лбами. Огонь в море взметнулся до самого неба, а на берегу по засохшему руслу реки вдруг побежала к Хазару нефть. Потом нефть снова ушла в землю, но в море долго светились скалы. Двое шиховских гребцов отважились подойти на киржиме к острову, но, обнаружив на нем дворцы и башни, повернули назад. Шейхи под страхом смерти запретили правоверным приближаться к острову. „Шайтан-абад“ — „Чертово городище“ назвали они его. Однако он, матрос Музаффар, у которого нет ни дома, ни жены, ни детей, решил попытать счастья. Уже смеркалось, когда он подплыл к Шайтан-абаду. Он с большим трудом вскарабкался по камням наверх. То, что предстало его глазам, ошеломляло. Казалось, он видит сон. Одна из дверей дворца была открыта, и там виднелись слитки серебра, слоновая кость, оружие… И огромные изогнутые, как девичий стан, сосуды. Внезапно земля затряслась под его ногами, покачнулись скалы. Он бросился к лодке и налег на весла. А за его спиной долго слышался неясный, глухой шум. Он, Музаффар, убежден, что ему, как мусульманину, Шайтан-абад недоступен из-за проклятия шейхов. А у русских другая вера, им нечего бояться заклинания. Если они, выйдя в поход, посетят Шайтан-абад и увезут оттуда сокровища, то пусть дадут малую часть ему, Музаффару. Он готов показать русским дорогу к острову».— Что скажете, капитан-поручик? Истина или брехня? — Войнович уставился на Андрея. — Трудно сказать, — задумчиво произнес Андрей. — Уж больно похоже на сказку. Хотя, когда мы были с Гмелиным в южных ханствах, слыхали о прежде знатных островах Абесгуне и Сабаиле, которые затонули. Были на тех островах богатые города. Довелось самим стать свидетелями того, как вулканы под водой гудят. Еще сказывали нам о землях, что вслед за извержением над волнами вырастают. — Ладно, представится случай, проверим… Войнович вышел на палубу, где стерегли перебежчика. Постукивая носком сапога, капитан сказал: — Поедешь с нами. И смотри, если что не так, вздерну на рее! Боцмана бомбардирного корабля, на который поместили Музаффара, Войнович предупредил: — С нехристя глаз не спускать. Осматривая грузы, Войнович наткнулся на ящик с надписью «Томский железоделательный». — Чей? — раздраженно спросил он. — Капитан-поручика Михайлова… — доложил боцман. Позвав Андрея, Войнович дал понять, что не допустит негоциации, пятнающих честь флота. Он явно подозревал Андрея в том, что тот взял с собой контрабандный товар. Андрей поднял с палубы ломик, оторвал верхнюю доску ящика. Войнович увидел не товары для торга в чужих землях, как ожидал, а очертания какой-то странной машины. — Так вы алхимик… — Он пытался скрыть свое смущение. Однако замешательство капитана длилось недолго. Скривив губы, Войнович сказал, что машина не значится в реестрах и он не возьмет в плавание сомнительный груз. — О машине светлейшему князю известно. — Андрей решился на ложь. Войнович вскинул брови. Он был почти уверен, что капитан-поручик врет, и удивлялся его дерзости. Войновича позабавило, что кто-то пытается его заворожить именем Потемкина. Однако, будучи авантюристом по натуре, граф оценил находчивость Михайлова. Да и одумавшись, Марк Иванович счел лишним восстанавливать против себя инженера и его друга, натуралиста. Это были нужные люди. Притом на офицеров эскадры инцидент с ящиком мог произвести невыгодное впечатление. И Войнович пошел на уступку: — Пусть машина остается. Но опыты с ней в плавании запрещаю. Андрей был недоволен собой. Он всегда требовал от других правды и вдруг поступился ею. И никакими высокими интересами оправдать свой поступок не мог. …На третьем фрегате Войновичем был поднят брейт-вымпел, и ровно в двенадцать корабли пустились в море. Попутный ветер надул паруса, и Астрахань осталась позади. Андрей стоял на корме до тех пор, пока не исчез берег. С Катей и сыном он простился дома, думал, что так ей будет легче. В дорогу с собой Андрей взял эмалевый медальон с портретом Кати. Крепостной художник из Томска тонко передал черты ее лица. Сняв медальон с груди, Андрей положил его на ладонь. Катя смотрела на Андрея с эмали своими большими лучистыми глазами, и мягкая, чуть лукавая улыбка трогала ее губы. Когда он теперь вернется домой? И где его дом? В Петербурге, Томске или Астрахани? Ветер свежел, и волны убегали на север.
Остров Огурчинский. Тайна Шайтан-Абада
Стояли молча, охваченные тоскливым ожиданием. Глаза напрасно ощупывали тьму — она была непроницаема, как черный бархат. Кто-то сказал: — Темно, как в брюхе акулы. И вдруг разом крикнули несколько человек: — Вон! Смотрите! Смотрите!Плоские горы Мангышлака были унылы и скудны. Казалось, они покрыты грязным мартовским снегом. Одиночные, сверкавшие белизной холмы напоминали глыбы соли. Даже море у этих берегов выглядело белесым. Серые обрывистые берега перешли в пологие, и нескончаемая вьюжная степь плыла рядом с кораблями. Мелководье и ветер заставили эскадру уйти в открытое море; пурпурный кряж Балхана едва угадывался в туманной дымке. Норд-ост крепчал, потянуло прохладой, и верилось, что пустыня отступит. Брали пробы воды: она была противно горькой и соленой. Нет, река здесь не впадала в море. — То ли дело Каспий у Астрахани! Там на десяток верст — подсвежка, хоть воду из моря пей, — говорили матросы. К Огурчинскому шли медленно, боясь обмануться в своих ожиданиях. Бросив якорь в проливе, утешали себя мыслью, что за угрюмыми ущельями встретят родники и сады. Длинная, вытянутая по краям полоска земли напоминала формой огурец. Видимо, поэтому туркменский остров Айдак на картах был назван по-русски — Огурчинским. По другим слухам, остров славился плодородием, и на нем испокон веков сажали огурцы. Прежде чем дать приказ о высадке на остров, Войнович сообщил офицерам: — В планах экспедиции Огурчинскому большое место отведено. Задача наша — стоянку подыскать, где купцы смогут безбоязненно складывать товары. Надобно выбрать участок и для поселения. А туземных жителей велено нам склонить к приязненным отношениям с Россией. Баркасы были спущены на воду. Обгоняя друг друга, они понеслись к берегу. Около острова весла увязали в иле, и гребцы замешкались. — Вытащить баркасы на песок! — приказал Войнович. Он легко спрыгнул на берег и, смахнув пыль с ботфортов, направился к ближайшему ущелью. Следуя его примеру, Габлиц сделал широкий шаг и плюхнулся в воду. Утопая в тине, он с трудом выбрался на узкую песчаную отмель. Длинные космы морской травы потянулись за ним. Услышав сдержанный смех, Карл подшутил над собой: — Мне теперь все трын-трава! Горячий песок жег сквозь подошвы, знойный, сухой воздух был до того осязаем, что его хотелось отогнать от себя. Ущелье оказалось неглубоким, и, кроме змей, шуршавших под камнями, в нем ничего не нашли. По склонам редких балок росла полынь. Темные сырые пятна убеждали, что прежде в них собиралась дождевая вода. С одного из холмов неожиданно открылся вид на озера. — Вода! — радостно закричали люди. Андрей недоверчиво покачал головой: он встречал такие же озера в Ширвани и знал, что серебристые блестки на воде — это соль. Обнаружив солончаковые плеши вместо пресных озер, Войнович разбил моряков на группы и послал их в разные концы острова. Только Габлиц остался у соляных озер, чтобы взять пробы. Михайлов с матросами пошел в сторону четырех бугров, черневших у южного берега. …Колодец был вырыт среди бугров. Около него валялись веревка и сшитый из верблюжьей кожи мешок. Вода была сладкая, но достали ее немного. На выстрел к четырем буграм подоспело большинство высадившихся. — Да, небогато. Кот наплакал… — Убедившись в том, что колодец скуден, Войнович велел нанести его на карту и продолжать поиски. — Пустое дело, начальник, — вмешался Музаффар. — Колодец Балкуин больше сорока ведер в день не дает, это верно, но он единственный на всем побережье от Тюб-Карагана до Атрека. Музаффар поклялся, что слышал об этом от туркмен, приезжавших в Сальяны и Баку. Слова Музаффа подтвердились: никаких признаков воды на острове больше не было. Дали сигнал возвращаться на корабли, и вскоре у барказов собрался весь отряд. Недосчитались лишь Габлица и Музаффара. — Может, случилось что? — забеспокоился Андрей и хотел пойти на розыски Карла. — Отставить! — остановил его Войнович. — За своеволие я буду карать!.. — Кричать на себя не позволю! — Андрей не снес афронта. Желваки стянули скулы, застыла синева в глазах. — Это что, непослушание, бунт?! — Войнович настроился излить на капитан-поручика свою злость за неудачу с островом. Звериный рык, яростный и отчаянный, перекрыл его голос. Люди бросились к соляному озеру. Там они увидели барса, корчившегося в предсмертных судорогах, и двух человек, застывших у холма. Карл был смущен, показывал то на фиолетовые цветы, которые держал в руке, то на Музаффара. По рассказам Габлица и Музаффара восстановили картину того, что произошло. Между ущельем и солонцами Карл заметил терновник и множество колючих сухих кустов. Они не ласкали взгляда, но в песке под их тенью прижились необыкновенные цветы. Никогда прежде он не встречал таких. Сверкающими чешуйками покрывали они кряжистый, корявый ствол неведомого растения. Надрезав ствол, Карл забыл обо всем на свете, созерцая, как из него, медленно вздуваясь, выходит темно-бурый клейкий сок. Он не слышал ни сигнала сбора, ни мягкой поступи барса. Две тени мелькнули вдруг на гладком песке, послышалась возня, затем оглушительный рык, от которого кровь застыла в жилах. Он понял, что Музаффар поразил зверя в самое сердце. Музаффар объяснил, почему он очутился недалеко от ученого. Осматривая пещеру, он споткнулся и разбил ногу. Боль мешала идти. Возвращаться к берегу один он был не в силах, а свежие следы на песке говорили, что поблизости человек. Так он вышел к Габлицу. Раньше чем успел окликнуть его, заметил барса, приготовившегося к прыжку. Забыв об ушибе, Музаффар бросился на зверя. Подняв шальвары, Музаффар показал морякам пораненную ногу. С наступлением сумерек корабли покинули остров. А час спустя к Огурчинскому бесшумно пристал киржим, который незаметно шел за эскадрой. Его команда заночевала на берегу, а ранним утром двинулась в глубь острова. На головах у гребцов были тюрбаны, завязанные по-афгански. Путники остановились у пещеры, в которой Музаффар повредил ногу. Старший из афганцев, высокий, с ослепительно белыми зубами мужчина, нащупал в стене расщелину и вынул из нее несколько исписанных листков. — Ставьте парус! Искендер-хан ждет этой бумаги, — сказал он своим товарищам. В России не знали, что «Огурчинский» — это переделанное «Огурджали». А по-туркменски «Огурджали» означало «гнездо морских разбойников». Запершись в каюте, Войнович лежал на койке и курил. Он не разделся, и пепел из трубки падал на отглаженный мундир. За тысячи верст от Петербурга, лишенный общения со своим всесильным покровителем, капитан чувствовал себя беспомощным. Между тем он должен был принять самостоятельное решение. Острова восточного побережья, и прежде всего Огурчинский, с которыми светлейший связывал устройство фактории, оказались пустынными. Их не превратить в цветущий Мелитонис — Пчелиный остров, как назвал Потемкин будущий торговый город. Где заложить теперь укрепления и купеческое поселение? Эта мысль мучила Войновича. Заскрипело в углу, и Марк Иванович явственно представил, как по каюте ходит Потемкин. Половицы гнутся под тяжелыми шагами Григория Александровича. Сок от клюквы, которую всегда возил с собой светлейший, сверкает на его губах. «На то у тебя голова на плечах, а не кочан капусты, чтобы строить новые планы, коли старые провалились», — скорее всего сказал бы ему Потемкин. Перед выездом Войновича в Астрахань светлейший говорил о персидском городе Астрабаде. От этого порта — самый короткий путь до Индии. «Правда, утопающий в садах Астрабад очень далек от российских берегов, и властители его к славянам враждебны, но, завидев двадцатипушечные фрегаты, смягчатся», — рассуждал Войнович. Вдобавок он посулит им немалые выгоды. Со всеми сомнениями было покончено. Войнович встал, энергично сдул пепел с обшлагов и резким движением руки прочертил на карте стрелу от Огурчинского к Астрабаду. Но в сторону Астрабада двинулась не вся эскадра. Один из палубных ботов получил особое задание. В «Историческом журнале» экспедиции было записано, что судно послано к бакинским берегам «для проведания тамошних обстоятельств». Под этим Войнович подразумевал разведку Шайтан-абада, о котором рассказывал чудеса Музаффар. После того как перебежчик, рискуя собой, спас Габлица, капитан проникся верой в его слова. Но не настолько, чтобы, круто изменив планы экспедиции, идти к Шайтан-абаду всей эскадрой, как уговаривал его Музаффар. «Там много сокровищ, и одним кораблем их не увезти. Клянусь аллахом!» — сокрушался магометанин. По приказу Войновича на палубный бот, посылаемый к Шайтан-абаду, перешли Михайлов и Габлиц. Просчет с Огурчинским случился из-за неполноты знаний о Каспийском море. Хотя прошло больше двух тысяч лет с тех пор, как Геродот сказал: «Это отдельное море, не сливающееся ни с каким другим», Каспий по-прежнему оставался загадкой. Мнение «отца географии» Геродота опровергал Патрокл — управитель прикаспийских областей в царстве Селевка Никатора.[72] В поисках кратчайшего пути в Индию он совершил опасное и долгое плавание по Гиркану.[73] Патрокл достиг Апшерона и решил, что дальше начинается Северный, или Скифский, океан, а Каспий — это его залив. Птолемей восстал против поспешного утверждения, но Патроклу верили еще многие сотни лет, пока не совершил своего путешествия мореплаватель Рубрук. В 1624 году появилась опись портов Каспийского моря. Название у нее было длинное: «О ходе в Персидское царство и из Персиды в турецкие земли, в Индию и Урмуз, где корабли проходят, писанную московским купчиною Федором Афанасьевичем Котовым». Опись отличалась подробностями, правда весьма неточными, а порою и фантастическими, потому что была составлена в основном понаслышке. В ту пору на картах Каспий рисовали круглым, похожим на блюдце. Только при Петре Первом были получены научные данные о Каспийском море. 18 марта 1704 года в первой русской газете «Ведомости» сообщалось:А. Новиков-Прибой, «Морской пожар»
«В прошлом, 1703 году посылан морского флота капитан Еремей Мейер на Хвалынское море[74], которое граничит Московское государство с Персицким и с иными землями, чтоб для лутчего морского ходу учинить тому всему морю карту. И тот капитан того Хвалынского моря карту учинил, и напечатать велено таких листов многое число».Карта Мейера была все же далека от подлинного облика Каспия, и мореходы Карл Верден, Федор Соймонов, Василий Урусов два года плавали у западного и южного берегов на шнявах «Святая Екатерина», «Святой Александр», «Астрахань», чтобы описать море. В итоге штурман Верден составил «Картину плоскую моря Каспийского», где древний Хазар уже имел почти точные очертания. Гравированная в 1720 году в Петербурге, карта была напечатана затем во Франции астрономом Делилем. За издание ее Парижская академия наук избрала Петра своим членом. Петр Первый был не только организатором научной экспедиции на Каспии, — Верден, Соймонов и Урусов вели исследования моря по его плану с помощью лота, который он изобрел. Этот оригинальный прибор, идею которого сто лет спустя заимствовал американский гидрограф Брук, был сделан в виде щипцов с грузом. Стоило прибору достигнуть дна, как груз мгновенно отделялся, а крючья, захватив грунт, возвращались на поверхность. В середине XVIII века капитаны Ладыженский и Токмачев выходили разведать восточный берег Хазара и открыли глубокую бухту Кендырли. Но еще ни один русский корабль не касался вод заливов Мертвый Култук и Кайдак. Самое смутное представление имели мореходы и о каспийских островах. За какие-нибудь десять лет до экспедиции Войновича один из путешественников по Каспию, отражая уровень тогдашних знаний о море, писал:
«Оно, видно, не кругло, как прежде думали, но и не продолговато и разливается на многие заливы».Отделившись от эскадры, палубный бот взял ход поперек моря. Шли медленно, ибо мешал побочень,[75] сносивший с курса. Приходилось быть начеку из-за песчаных мелей — плешин. Если бы сплоховали, неминуемо сели бы на мель. Используя якорную стоянку у песчаного островка, Андрей и Карл промерили глубины, взяли пробы со дна. В «Исторический журнал» они вкратце занесли то, что видели, когда шли берегом от Мангышлака до Огурчинского:
«Где прежде был остров или матерой берег, ныне открытое море находят, а на других местах, где прежде море было, открываются ныне совсем новые острова, что самое делает величайшее затруднение в мореплавании по сему морю».Свежая запись гласила о том, что близ западного побережья, на глубине от трех до двадцати сажен, грунт по большей части песчаный, с ракушками, а кое-где каменистый. Отсюда уже было недалеко до Баку, и командир бота собирался подойти к городу. Андрей поддержал его: ему хотелось вновь осмотреть нефтяные колодцы, купить нефть. Тепловую машину он перенес с бомбардирного корабля на бот и жаждал испытать ее. Тетрадь, с которой он не расставался, в походе пополнилась расчетами; верилось, что они приблизят успех. Услышав о том, что корабль войдет в бакинскую бухту и часть моряков высадится на берег, Музаффар побледнел. — Не ходи туда, капитан! Плохо будет… — забормотал он. Черная бородавка на его щеке дрожала. Перебежчик стал плести нечто несвязное о фанатизме мусульман, об опасности, угрожающей одинокому, слабо вооруженному боту. Проговорится в городе кто-либо из русских о том, что корабль идет к Шайтан-абаду, и побоища не избежать. Андрей недоверчиво отнесся к мольбе Музаффара. Капитан-поручик знал, что большинство бакинцев уважает русских, а бакинский хан, хотя в душе и настроен против них, не посмеет совершить что-либо опрометчивое, ибо приходится вассалом Фатали-хану Кубинскому, верному другу Московии. Он расценил нежелание Музаффара заходить в Баку как страх перед своими сородичами. Бывшие товарищи матроса со шхуны «Улдуз» могли посчитаться с ним за побег. — После Шайтан-абада мы завернем в Баку, и ты сделаешь все, что тебе нужно. — Карл старался угодить и Андрею, и Музаффару, которому был обязан жизнью. — Ладно, днем раньше, днем позже… — Андрей не стал спорить. Командир бота, выслушав капитан-поручика и Габлица, согласился идти прямиком к Шайтан-абаду. На всякий случай он принял меры предосторожности: вверил руль своему помощнику, зарядил все десять трехфунтовых пушек, приставил к Музаффару дюжего матроса. Столкнувшись на корме с перебежчиком, выпросил у него нож из дамасской стали на память, одарив взамен черепаховой табакеркой. Чтобы не быть замеченными с берега, плыли в открытом море. Ночью бросили якорь, боясь напороться на камни, которых было немало на пути от Апшерона до Сальян. Под утро Музаффар разглядел в серых сумерках плиту, накрываемую волной, и сказал: — Совсем недалеко. В глубокой тишине подходили к острову, темневшему впереди. — Шайтан-абад! — крикнул марсовый. — Это он, — подтвердил Музаффар. В блеклом рассвете вырисовывалась каменная гряда с зубчатым венцом башен и замка. Соленый запах моря смешался с маслянисто-пряным запахом нефти. А чуть дальше вода вспухала пузырями, кипела, оливково-бурые гривы вздымались над ней. Острый, щекочущий ноздри воздух разъедал глаза, стеснял грудь. Несколько матросов испуганно крестились. — Что это? — встревожился капитан. — Подводная нефтяная река проходит. — Внешне Андрей был спокоен, но волновался сильнее других. Путешествуя с Гмелиным, он не раз замечал нефтяную пленку на море, однако здесь было огромное поле нефти. Что, если вулкан извергает ее со дна? Возможно, что остров силой Плутона был когда-то брошен в пучину, а теперь снова поднят ею. Не грозит ли вулкан кораблю? Но наряду с тревогой Андрей ощущал и смутную радость от того, что море сказочно богато нефтью. — Дальше бот не пойдет, наткнемся на камни, — сказал капитан. Андрей кивнул головой: — Спустите шлюпку. Вместе с Андреем в шлюпку сели Габлиц и трое матросов. Музаффар, которого Андрей хотел взять с собой, пряча глаза, отказался. Мелкая дрожь била ширванца. Капитан, решив, что он объят суеверным страхом, оставил его без присмотра. Опущенные в воду весла почернели, ладони у гребцов стали жирными и скользкими. — Шут его знает, какие сокровища мы встретим на острове, но около него изрядное богатство пропадает. — Карл натянуто улыбнулся. Слова повисли в воздухе. Матросам было не до разговоров. Они маневрировали среди камней, окружавших Шайтан-абад. Музаффар не ошибся — на северо-востоке скала была чуть покатой и позволяла высадиться. Привязав шлюпку, стали взбираться наверх. Первым шел Андрей, замыкал — Габлиц. — Однако тащить бивни и серебро по такой дороге будет нелегко, — пошутил Карл. — Если они вообще тут остались… — Андреем овладели сомнения. Он удивлялся, почему на острове, который некогда был обитаем, нет следов от тропинок или проходов. Да и зубцы на верхушке скалы, напоминавшие издали крепость, были созданы природой, а не рукой человека. Отыскивая лазы, моряки взбирались по наклонной стене. Подъем кончился. Андрей ступил на ровную каменистую площадку и увидел котлован, закрытый отовсюду скалами. Башен и дворцов не было. Лишь беспорядочно разбросанные валуны, зияющие ямы-воронки и лилово-синие озерца, в которых вздувалась грязная жижа, открывались взору. Шайтан-абад, Чертово городище, был диким, мертвым островом, без каких-либо признаков жизни. — Музаффар лазутчик и предатель. Надо скорее возвращаться на корабль! — объявил Андрей. — Но, может, в скалах есть потайные ходы и сокровищницы… — Карл не хотел верить в то, что человек, спасший его от смерти, лиходей. — К шлюпке! — крикнул Андрей. «К шлюпке!..» — подхватило эхо. Оно еще не умолкло, как раздался сильный гул и огненные языки поползли по воде. Море горело. Ни один из пятерых не видел прежде такого разгула стихии. «Будто молния объяла море», — подумал Андрей. Он с тревогой следил за огненным вихрем, метавшимся у Шайтан-абада. И в то же время восхищался могучей силой нефти. В глазах Карла было изумление: он любовался ослепительной игрой красок, стремительным движением огненных волн и жалел, что не способен перенести это на холст. Объятые трепетом, смотрели матросы на море. В буйном торжестве огня им чудился зловещийбожественный знак. — Смотри! — Карл показал Андрею на лодку, прятавшуюся за каменными островками; она уходила от пылавших разводьев. — С нее и подожгли нефть, бросив бочонок с порохом… — сказал Андрей. О своей участи люди, находившиеся на острове, не думали. С ужасом наблюдали они, как шипящие оранжево-красные полосы протянулись за кораблем. Казалось, еще немного — и огненное кольцо замкнется вокруг бота. Но корабль принял бой. Пушки и ружья были бесполезны, решали находчивость и быстрота. Капитан подставил паруса под удары ветра и на полном ходу проскочил сквозь бушующее пламя. Волны сбили огонь с корпуса, вспыхнувшего у ватерлинии. — Выбрались из западни… — У Андрея отлегло от сердца. — Огню за парусом не угнаться… — Лица матросов просветлели. Но теперь, перестав беспокоиться за корабль, они начали сознавать всю опасность своего положения. Неизвестно, когда погаснет огонь на море и будут ли на корабле ждать… Долго ли удастся пробыть на пустынном острове без пищи и воды… Вдруг поджигатели нагрянут сюда… Одна надежда — на то, что ветер усилится и, возможно, отгонит горящую нефть от Шайтан-абада. Впятером вытащили шлюпку из воды, закрепили ее среди скал. В дымном мареве старались разглядеть парус, но тщетно. Тогда, поручив шлюпку матросам, Андрей и Карл решили обследовать остров. По скальным уступам, как по ступенькам, спустились в котловину. Внизу каждый шаг стоил усилий. Ноги увязали в мелком щебне, пар, пахнувший серой, ел глаза. Рискуя провалиться в трещины, Карл подбирал с земли минералы и обугленные зерна. Андрей искал выходы нефти — он был уверен, что нефть, разлившаяся в море, связана с появлением Шайтан-абада. — Парус! Корабль с зюйд-веста… — Голова матроса возникла на гребне скалы. — Скорее! — Андрей потянул Карла за рукав. — Риск велик. Переждем… А корабль без нас далеко не уйдет, — помялся Карл. — О чем ты? — Все одно, поступок наш отмечен не будет. В планах светлейшего Шайтан-абад не значится, а сокровища острова — миф. Но Андрей уже не слушал Карла. В разрывах дымчатых облаков был виден бот. Там ждали Андрея, Карла, матросов. Ветер гнал пламя к северу, очистив от горящей нефти часть моря. Проходы были узкие и ненадежные, к ним снова подбирался огонь, чтобы ненадолго отступить. — Пробьемся? — Андрей выжидающе посмотрел на своих спутников. — Даст бог, пройдем. А нет, так лучше в море помереть, чем в каменном мешке, — ответил за всех пожилой матрос. Шлюпку спустили на воду. Оттолкнувшись от скалы, повернули навстречу ветру. Андрей сидел за рулем, Карл и матросы гребли. Желтые комочки огня подплывали к борту, и, если Андрей не успевал отклониться, их отгоняли веслами. Матросы подняли весла: горящая нефть лентой тянулась по воде, закрывая дорогу. Волны разрывали ее, но огненные концы вновь смыкались. — Подплывем поближе… — сказал Андрей. Дым, стелившийся над морем, мешал грести, ветер грозил бросить лодку в огонь. Матросы поняли замысел Андрея: как только волны разорвут огненную ленту, они устремятся в проход. — Пошли! — скомандовал Андрей. Весла врезались в воду, и шлюпка понеслась вперед. Жар обжигал руки, лицо, было нечем дышать. — Слева заходи! — отчаянно закричал Андрей, увидев, как алые клинья настигают шлюпку. Успев отвалить от них, что было сил налегли на весла. Огненная лента осталась позади. Час спустя они поднялись на палубу бота. Застали у пушек матросов, державших наготове зажженные фитили. — Ждем новых каверз от Музаффара, — объяснил капитан. — Он бежал? — догадался Андрей. — Уплыл, оборотень… — Капитан зло выругался. С почерневшими от дыма парусами, не заходя в Баку, корабль взял курс на Астрабад, где находилась эскадра.
Гленвил едет в Исфаган
Я был безнравствен, потому что меня никогда не наставляли в нравственности. Ничто, быть может, от природы не свойственно человеку в столь малой мере, как добродетель.Прочитав письмо, Искендер-хан бросил смятые листы в огонь. Лицо Искендер-хана оставалось бесстрастным, было невозможно узнать, обрадовали его новости или нет. На тонких губах Искендер-хана негде было задержаться улыбке. — Ты неплохо управился, Нежметдин, — наконец сказал он. Афганец ответил поклоном — он ждал, что прикажет ему Искендер-хан. Но тот не спешил. — Будь моим гостем, раздели со мной ужин, — пригласил его Искендер-хан. Он усадил афганца на дорогой ковер и, взяв из рук слуги чашу с пловом, поставил ее перед Нежметдином. Лишь после того как афганец отправил в рот пригоршню риса, Искендер-хан дотронулся до еды. «Хороший хозяин, такому и служить почетно, — подумал Нежметдин. — Гяур, а обходителен, как добрый мусульманин». Ему было известно, что Искендер — это переделанное на восточный лад имя англичанина: Александр. Убрав плов, слуга принес чай и большой поднос с абрикосами и виноградом. Нежметдин пил чай медленно, смакуя каждый глоток. Искендер-хан, отодвинув чай, не глядя отрывал от янтарной грозди упругие виноградины и говорил афганцу: — Пойдешь старшим на шхуну. Пушки прикроешь тряпьем или пенькой, чтобы вас принимали за рыбаков. Топи в открытом море все суда, которые будут идти с товаром из Баку в Астрахань. Нежметдин приложил руку к груди: — Я понял, хозяин. — Деньги тебе принесут на шхуну. — Искендер-хан проводил афганца до дверей. Оставшись один, он достал из ниши кальян и стал сосредоточенно тянуть из тоненькой трубки дым. В серебряном сосуде чуть слышно булькала вода, настраивая на размышления. Искендер-хан обдумывал письмо, которое он в скором времени, возможно, напишет энзелийскому и астрабадскому ханам. Поздравив их с гибелью русской эскадры, он напомнит ханам о могуществе Англии и ее дружеском участии и предложит построить большой персидский флот. Он подпишет эти бумаги скромно и внушительно: «От Ост-Индской компании — эсквайр Александр Гленвил». Но сначала он должен убедиться в том, что его план осуществился и военные корабли русских сгорели дотла. Если верить Музаффару, пославшему письмо с Огурчинского, командир эскадры Войнович дал уговорить себя и намерен попытать счастья на Шайтан-абаде. «Жадность и любопытство ослепляют, от этой ловушки способны уберечься немногие, — мысленно усмехнулся англичанин. — А Музаффар хитер и сладкоречив, он убедит и глухого». Если же Музаффар обманулся?.. Тогда фрегаты достигнут Астрабада и русские построят на берегу торговый город. Пойдет прахом то, что создавалось дорогой ценой, и он, всесильный и уважаемый Искендер-хан, станет мелким и никому не нужным негоциантом Александром Гленвилом. — Этому не бывать! — воскликнул Гленвил и отшвырнул кальян. Будучи наедине с собой, он давал волю своим чувствам. Каких трудов стоила ему все эти годы борьба с русскими! Он всячески мешал вояжу Гмелина вдоль персидского и гилянского берегов, он проведал о замыслах Потемкина. Улыбка приподняла края его губ — Гленвил представил себе бойкую статью в популярной лондонской газете:Бульвер-Литтон,«Пелем, или Приключения джентльмена»
«Бог покарал за гордыню испанцев, создавших Великую Армаду. Он наслал бурю, которая погубила корабли, идущие против Англии. Бог наказал и русских, решивших владычествовать на Каспии. Он поднял со дна моря огонь и сжег их эскадру».Оставалось ждать известий от Музаффара. Гленвил налил в глиняную чашку ром, залпом осушил ее и, положив в изголовье заряженный пистолет, лег спать. Под утро — самый крепкий сон, однако Гленвил спал чутко и раньше, чем слуга, услышал стук в окно. Он вздрогнул, когда за дверью сказали: «Да откройте же, дорогой Эльтон, мне не терпится вас увидеть!» Голос был старческий, хриплый, но в нем угадывались знакомые нотки. Прогнав отупевшего от сна слугу, Гленвил сам отодвинул засов и попал в объятия высокого, еще крепкого старика. — Фактор Джордж Томпсон? — поразился Гленвил. — Он самый, сынок, он самый… — Старик был растроган. — Прошу вас, не называйте меня Эльтоном, здесь даже для земляков я — Гленвил, — предупредил Александр. Взяв Томпсона под руку, он ввел его в дом. — Какими ветрами вас снова занесло в эту дыру? — Гленвил держался приветливо; даже глаза его, обычно холодные, любовно смотрели на старика. — Дела мои незавидные, — вздохнул Томпсон. — Потому-то, забыв о возрасте и болезнях, пустился в опасную коммерцию. — Будем верить, что дела поправятся. Если я в силах, рад помочь вам, — сказал Гленвил. — Спасибо, Александр. Именно тебя я и хотел просить об услуге. — Старик расстегнул ворот, мешавший ему дышать. Томпсон изложил, что привело его в Энзели. Почти все оставшиеся у него деньги он вложил в предприятие, которое затеял на паях с русским купцом. Они наняли корабль и, закупив в Шемахе шелк, будут торговать им в России и Австрии. Корабль уже ждет в Баку прибытия груза. Пусть Александр имеет это в виду и убережет русское судно от разных случайностей. — Положитесь на меня, Томпсон, ваши товары не тронут, — заверил его Гленвил. За окном рассвело, и он, позвав старика на веранду, посмотрел, стоит ли у причала шхуна. На ее месте покачивалась какая-то утлая лодчонка. «Ушли… — с досадой подумал Гленвил. — Ночью был попутный ветер, и афганец поднял паруса». — Так я могу быть спокоен? — вопросительно взглянул на него старик. — Конечно… — Гленвил пожал ему руку. Расставшись с Томпсоном, Александр тотчас же послал за лодочником Асланом. Тонкий и гибкий, как угорь, Аслан лучше всех в порту управлял парусами и мог бы догнать афганца. «Нежметдин, возвращайся назад!» — порывисто написал Гленвил и приложил к бумаге свою печатку. Но когда, сняв башмаки, Аслан перешагнул порог комнаты и с ухмылкой поглазел по сторонам, Гленвил скомкал только что написанную записку и небрежно сказал: — Я пригласил своего гостя покататься по бухте. Жди нас в лодке после захода солнца. Гленвил был огорчен тем, что афганец поторопился выйти в море, он от души жалел старика Томпсона, товары которого теперь вместе с кораблем, скорее всего, пойдут ко дну. Он был почти готов к тому, чтобы отменить рейс к бакинским берегам. Но трезвый расчет взял верх над минутной слабостью. «В конце концов, Томпсону за шестьдесят и он пожил в свое удовольствие, а умереть можно и нищим», — заметил себе Александр. Между тем и своими удачами, и даже жизнью Гленвил был обязан Томпсону. Уже давно никто не называл Александра Эльтоном. Это имя воскрешало в памяти многое… Александру было пять лет, когда в их большом, увитом цветами доме разыгрались трагические события. Его отец, капитан Ост-Индской компании Джон Эльтон, состоял на службе у персидского шаха. Начав с постройки торговых судов; он спустил на воду военный фрегат, заложил трехпалубный корвет. Командовал фрегатом англичанин Якоб Бритсен, на других судах заправляли факторы Джордж Томпсон, Рейнальд Гогга, Вудруф. «Путешественник» Ханвей Донас служил посредником между капитаном и Британским адмиралтейством. Власть Эльтона была велика. Шах произвел его в адмиралы, платил больше, чем главному визирю. Десять лет подряд Эльтон грабил русские, азербайджанские и армянские суда, брал дань с владельцев киржимов и сандалов. Он до смерти забивал провинившихся матросов, морил голодом крестьян, строивших причалы и амбары. Огромное состояние, нажитое в Персии, Эльтон перевел в Англию и хранил в ливерпульском банке своего младшего брата Вильяма. Когда страну охватили волнения и шах бежал, Эльтону посоветовали уехать. Однако жадность была в нем сильнее благоразумия, и он остался. Ночью солдаты из соседнего ханства и бедняки, перебив охрану, ворвались в порт. Эльтон подкатил в воротам своего особняка две пушки и стрелял из них в толпу, пока его не зарубили саблями. Разъяренная толпа подожгла дом англичанина, потопила его корабль. Но жена и сын Эльтона не погибли. Их спрятал в своей каморке садовник, а вечером вывел за городские ворота фактор Джордж Томпсон. Он поручил женщину и Александра заботам купца, державшего путь к Персидскому заливу. В те воды часто заходили суда Ост-Индской компании. Мать Александра не выдержала пережитых волнений и тяжелой дороги. В тридцати милях от залива она умерла. А мальчика доставили в Дувр на корабле, груженном бананами и джутом. Детство Александра прошло в доме его дяди, Вильяма Эльтона. Почтенный ливерпульский банкир, погоревав о погибшем брате, присвоил его капитал, а племянника держал у себя из милости. В пятнадцать лет Александр понял, что обворован дядей и не может рассчитывать на блестящее будущее. Позднее он связался с шайкой, грабившей почтовые кареты. Александр был удачлив, смел, и в прилежном студенте не сразу распознали лихого налетчика. Ему грозила тюрьма или ссылка на Ямайку, не вступись за него фактор Джордж Томпсон. Состоятельный купец имел вес в Ост-Индской компании и порекомендовал ей сына своего бывшего друга — Эльтона. Компания нуждалась в отчаянных, готовых на все молодых людях, а так как юный Эльтон был вдобавок сообразителен и тщеславен, она освободила его из-под стражи и послала в Бомбей. Индия оказалась для Александра хорошей школой. Он быстро выдвинулся, вошел в доверие владельцев могущественной компании, и его назначили резидентом на Каспий. Александр понимал, что об отце — грубом и жестоком, слишком прямолинейном по натуре человеке — в Персии осталась дурная слава, и дал себе зарок не повторять ошибок Джона Эльтона. Поэтому, отправляясь в Азию, он умышленно сменил отцовскую фамилию Эльтон на материнскую — Гленвил. На третий день новолуния поступили известия от Музаффара. Ширванец сообщал, что эскадра не свернула с пути, а на Шайтан-абад Войнович снарядил лишь транспортный бот. Однако и этот корабль избежал уготованной кары. «Плохая весть лучше неведения», — подумал Гленвил. Он недолго переживал неудачу с Шайтан-абадом. Предстояла новая, еще более опасная и сложная борьба с русскими. Она требовала изворотливости, напряжения сил, быстроты решений. Впрочем, без этого жизнь вдали от Британских островов показалась бы Александру скучной. Гонец, прибывший в Энзели из Астрабада, подтвердил донесение Музаффара: русская эскадра стала на якорь в Ашрафском заливе. Астрабадский властитель Ага-Магомет-хан в это время осаждал древний Исфаган, домогаясь шахской короны. Надо было искать встречи с ним. И Гленвил, взяв у энзелийского хана конвой, поехал в Исфаган. После дождей узенькая Пери-базар, выйдя из берегов, затопила дорогу. Пришлось спешиться. Гленвил ругал себя за то, что выбрал путь через Решт, считавшийся кратчайшим. Маленькое безымянное озеро, разлившись, достигло подлеска, и Александр с трудом пробивался сквозь заросли водяных растений. Дальше, за озером, было суше, но лес из высоких и прямых деревьев вставал стеной. Виноградные лозы толщиною в три руки, словно удавы, обвивали деревья, яркими гирляндами свисали с верхушек. Спутники Гленвила достали в ближайшем селении лодку и, оставив лошадей жителям, сели за весла. Шли против течения, как по длинному темному коридору. Непроходимая по берегам чаща своими лианами и кроной плотно смыкалась над рекой, не пропуская солнца. Но о Гленвиле недаром говорили, что он видит в темноте, как филин, У излучины реки берег был чуть светлее от намытого песка. Англичанин заметил странного вида камень. Гленвилу показалось, что он похож на горлышко бутылки. Александр повернул к берегу и вытащил из песка целую, запечатанную сургучом бутылку. Он сломал печать, вынул пробку и нащупал отсыревшую бумагу. На ней были записи и рисунки. У Гленвила от удивления приподнялись брови: текст был русский. Основатель будущей шахиншахской династии Каджаров Ага-Магомет-хан был раздражен затянувшимися военными действиями. Мысль о захвате престола беспокоила его сильнее, чем приход эскадры. Он даже находил, что, уступив русским землю для фактории, извлечет немалую пользу. — Какие заботы привели в военный лагерь моего брата Искендера? — Ага-Магомет-хан обратил к англичанину свое властное, злое лицо. — Тревога за Астрабад, на который покушаются недруги, — в тон ему ответил Гленвил. — Зачем нам трогать русских? Они не претендуют на мое ханство, я оставлю его приемышу Фетх-Али. Мудрый не ищет ссоры, но защищается упорно, — велеречиво сказал Ага-Магомет-хан. — Я напомню тебе арабский стих:
Мелиссополь — город пчел
Чалмы зеленою толпой. Здесь бродят в праздник мусульман.Вода в заливе была светло-голубая с прозеленью. Она напоминала Войновичу родную Адриатику. Быть может, поэтому он остановил свой выбор на Астрабаде. Из каюты был виден берег — зеленая долина лежала у подножия курчавых гор. А над ними вздымалась снежная голова Демавенда. Войнович писал Потемкину о прибрежных лесах, где каждое дерево — корабельная мачта, о садах с апельсинами-португалами, померанцами и лимонами, о реке Горган, сверкающей и острой, как кинжал. Он сообщал, что Ашрафский залив глубокий, надежно закрыт от бурь и способен вместить сто с лишним кораблей. Два города расположились на берегу этой самородной гавани: Астрабад и в сотне верст от него — Сары. Переговоры с Ага-Магомет-ханом об устройстве фактории завершились успехом. Правда, переименовать Астрабад в Мелиссополь — Город пчел — хан не согласился, но, по договоренности с ним, торговый порт заложен в живописном урочище Городовин. Войнович подробно перечислял, что уже построено на берегу: пристань длиною в пятьдесят саженей, дома для жилья и поклажи товаров, баня, лазарет, пекарня. На случай вражеских набегов устроена насыпь с восемнадцатью пушками. Донесение пестрело названиями чужеземных городов. По словам капитана, открывались обширные виды на торговлю с Персией и Бухарой, Хивой и Балхом, Индией и Кашмиром, Тибетом и Бадакшаном. Отсюда до Мешхеда было всего восемь дней езды, до Исфагани — четырнадцать, до Бухары — двадцать один день, до Басры — месяц, а до Бомбея через Кандагар — семь недель караванного хода. Войнович заверял светлейшего, что отношения с жителями у моряков сложились хорошие. Хан встретил их лаской, пообещал дать в помощь пятьсот подданных — райятов. Персияне часто приносят на корабли и в поселение плоды и живность, охотно берут взамен металлические вещи. Жителям розданы подарки — сукна, перстни, посуда, сабли. Особенно рады русской эскадре грузины, насильно переселенные сюда Шах-Аббасом — их много в окрестностях Астрабада. О казусе с Шайтан-абадом Войнович умолчал и запретил Габлицу упоминать о нем в «Историческом журнале». В заключение Марк Иванович писал, что будет счастлив получить от светлейшего князя приказ о подъеме флага и герб для нового торгового города. Курьер ждал донесения, нетерпеливо прогуливаясь по палубе. Самый быстроходный бот должен был доставить его в Астрахань, а оттуда предстояло добираться до Москвы, где находился Потемкин. Андрей уговорил курьера взять с собой письмо для Кати и передать его в Астрахани лично ей. Он писал:В. Хлебников, «Хаджи-Тархан»
«Жизнь, радость, голубка моя Катюша! Люблю тебя и привязан к тебе всеми узами. День свой начинаю с думы о тебе и Андрюше и засыпаю, тоскуя о вас. Ты не кляни судьбу, что достался тебе муж-бродяга — такая у нас планида. Душа рвется к тебе, а когда свидимся, один бог знает. Персидский берег, на коем обосновались мы, раю подобен: уже подходит декабрь, а тут щебечут птицы и деревья не роняют листьев. Но родная зима милее чужой весны. Встретили мы здесь народ, издавна согнанный с родных мест. Люди обжились, привыкли, а в глазах у них — смертельная грусть. Экспедиция наша славе и процветанию России способствует, и мысль об этом скрашивает разлуку с тобой. Она и мою веру в нефтяную машину укрепила. Свою жизнь без остатка готов отдать, дабы повести начатое до конца. Может, создам я то, что надумал, и тогда короче станут дороги, быстрее встретятся все разлученные. Свет очей моих, Катюшенька! Береги себя и сына, а обо мне не тревожься. Представится случай, и новую весть о себе подам. Целую тебя и обнимаю.О своей обиде на Карла он умолчал, не хотел огорчать Катю. Стычка была резкой и едва не закончилась ссорой. В «Историческом журнале» Габлиц явно преувеличил богатства Астрабада и его преимущества перед другими городами на Каспии. — Так пожелал Войнович, — объяснил он Андрею. — А ты промолчал?! — Истина всегда относительна. Зачем без нужды перечить капитану? — Но это же бесчестно! — вырвалось у Андрея. — Малая неправда… Она и светлейшего князя устроит, и матушку императрицу ублажит, — спокойно ответил Карл. — Как ты смел! — Эх, Андрюша, Андрюша… Наивный ты человек! Все мысли твои — о машине и нефти, а что это даст тебе?.. Нефть для забавы весьма хороша, это верно. Сказывают, при императрице Анне Иоанновне ледяной дом на Неве строили. Там и ледяные дельфины, и слон из пасти своей горящую нефть изрыгал. Даже ледяные дрова, помазанные нефтью, горели… — Я не о забавах думаю… — Андрей мог сказать ему, что еще сто лет назад почти вся нефть из Баку шла транзитом через Россию в Европу и купцы на том большой доход имели. Теперь же торговлю нефтью англичане и персы захватили, и в России нефть редкостью стала, огромных денег стоит, — но Карл уже насвистывал какую-то песенку. Между песчаной косой Миан-Кале и безымянной речушкой была мелкая бухта. В ней укрывались киржимы, привозившие с Челекена нафтагиль и нефть. Андрей часто приходил сюда, чтобы купить «белую» нефть, но находил лишь черную. Перегонять ее в Астрабаде не умели. Отчаявшись, Андрей пробовал растопить нафтагиль. Горный воск кипел, как сало на сковороде, становился жидким, а потом снова застывал. Для машины он не годился. Уже потеряв было надежду, Михайлов наткнулся на киржим, груженный кожаными мешками-тулуками с «белой» нефтью. Хозяин киржима, рослый, худощавый мужчина в стеганом длиннополом халате, просил за нее недорого. По-фарсидски он говорил нечисто, с акцентом. — Трухменец? — спросил его Андрей. Тот мотнул головой: — Афганец. Лицо у приезжего было мрачное, в голосе слышалось безразличие. Разговаривая с Андреем, он часто оглядывался. Позади него на корме, съежившись, лежал подросток. — Хворает? — Андрей показал глазами на мальчика. Афганец промолчал. Андрей нагнулся над больным; приложил ладонь к его лбу. Кожа была влажная и горячая. — Твой матрос? Юнга? — Двух братьев уже отнял у меня аллах. Он один остался… — сказал афганец. И уже другим, сдавленным голосом спросил: — Зачем тебе это? Андрей нанял арбу,[76] положил на нее два тулука и объяснил возчику, куда везти нефть. Сам он поехал в Городовин верхом. В тот же день Андрей привел на киржим судового врача. — Ты добрый человек, урус, — сказал афганец. Но смотрел он на Андрея с недоверием. Мальчик метался в беспамятстве, и Андрей с врачом остались около него до вечера. — Горячка. Но сердце у мальца крепкое, авось выкарабкается, — сказал врач. К утру больному полегчало. Еще несколько раз врач в сопровождении Андрея навещал мальчика. Больше не оставалось сомнений, что он будет жить. — Послушай, ага,[77] что я тебе скажу, — задержал Андрея афганец. — Я привык платить добром за добро. Берегитесь Ага-Магомет-хана, не верьте ни одному его слову. Он замышляет против вас. — О чем ты? — насторожился Андрей. — Больше ты ничего от меня не услышишь! Проводив Андрея на берег, афганец отвязал канат, и волны понесли киржим. На душе у афганца был сумбур. Он впервые ослушался Искендер-хана, которого уважал как честного хозяина. Вместо того чтобы следить за эскадрой, Нежметдин невесть зачем плыл к Атреку. Он не выдал русскому замысел, в который был посвящен, но предупредил его об опасности. А это — та же измена. Совесть не мучила его, когда он топил у Баку и Дербента купеческие суда. Он вырос в кочевом, жившем разбоями племени, а корабли, пущенные им ко дну, принадлежали врагам веры. Свою службу у Искендер-хана он считал не хуже любой другой. И все-таки русский офицер совершил невозможное, заставил его поступиться своими интересами и честью. Андрей сказал Карлу о разговоре с афганцем. Габлиц сморщил нос: — С меня хватит Музаффара. Может, и афганец хитрит… — Какой ему резон? — Положим, есть: держать эскадру в трепете и страхе. А в общем-то, извести графа. Карл не отпустил от себя Андрея. Он уговаривал его осмотреть развалины шахских увеселительных дворцов, показал семена померанца и стал уверять, что посадит их в России. Высказал свою догадку, почему эллины принимали Каспий за часть Северного океана. Плавая по морю, они встречали тюленя, который обычно водится во льдах. — Похоже, что ты прав, — согласился Андрей. Габлиц был в ударе. Не сдерживая восторга, он называл Каспий самым удивительным из всех морей. — Обойдешь его, и словно бы путешествие вокруг света совершишь, — доказывал Карл. — Суди сам: в астраханских степях — злые морозы, в Энзели — круглый год солнце. Вдоль Балхана и Красных вод тянется пустыня, а за рекой Атрек — луга и сады. На Мангышлаке дождь большая редкость, а в Талыше из-за ливней — болота. Вдоль берегов встретишь и впадины, что ниже уровня моря, и горные цепи, одетые в вечный снег. Есть бесплодные земли, где и колючка сохнет, а есть чащи с лианами и лесными завалами, в которых без топора не пройти. К нему стремятся и величавая, плавная Волга, и бешеный узкий Терек, и теряющая свои воды в песках Эмба. А где еще найдешь такую диковинку, как Узбой — высохшее русло реки?! — Добавь еще, что близ Каспия водятся леопарды и тигры, — улыбнулся Андрей. Ему нравилась влюбленность Карла в природу. — Зайдем к Войновичу вместе, — предложил Андрей. — Тороплюсь, дружище. Граф поручил подобрать земли под сады. И мне он участок пообещал… — Карлу явно не хотелось прогневить Войновича. Марк Иванович отправлялся с офицерами на охоту и был недоволен тем, что капитан-поручик вдруг неожиданно задержал его. — Стоит ли полагаться на какого-то лодочника-афганца? Неужто своими планами хан делился с ним? Пустое это… — отмахнулся Войнович. Андрей вновь завел речь о предупреждении афганца, когда командир эскадры получил от Ага-Магомет-хана приглашение на праздник. Помимо офицеров, на торжество звали матросов и солдат. — От опасений недалеко и до трусости, — ответил Войнович Андрею. — А персияне не посмеют напасть на нас, ибо знают, что за эскадрой — мощь Российской империи. Марк Иванович верил в свою звезду: на охоте он в двух шагах от себя сразил разъяренного кабана, наповал убил медведя. Полсотни оседланных лошадей, присланных ханом, польстили его тщеславию. С тяжелым сердцем собирался на праздник Андрей. Черновики своих записей и расчетов он захватил с собой, чертежи оставил командиру бота. — Ежели со мной что случится, сдадите их и машину мою в академию, — сказал он капитану. Когда подъезжали к деревне, в которой затевалось празднество, увидели множество сарбазов. Их было больше, чем крестьян. Андрей укрепился в своих подозрениях и, догнав Войновича, шепнул ему: — Еще не поздно повернуть назад! — Пойти на ретираду?[78] Чтобы эти нехристи смеялись нам вдогонку? Они не должны думать, будто мы их боимся… — сказал командир эскадры. При появлении моряков громче заиграли музыканты, расступились крестьяне. — Рады принять у себя дорогих гостей. Увы, неотложные дела вынудили славного Ага-Магомет-хана уехать в Сары, и он жалеет, что не будет веселиться с нами, — объявил старшина. В середину круга вырвались танцоры, им шумно захлопали, а тем временем сарбазы замкнули вокруг гостей кольцо. Теперь злой умысел хана был очевиден. — Я пошлю за трубачами, чтобы и наши люди сплясали, — сказал старшине Войнович. — Господа Радинг и Михайлов, отправляйтесь! — Пусть лучше остаются — разве здесь мало зурначей? — вкрадчиво сказал старшина. Андрей хотел сесть на лошадь, но старшина властно положил ему руку на плечо, а перед Радингом выросли два здоровенных сарбаза: — Стойте, иначе прервутся, как нитка, ваши жизни! Вмиг толпа пришла в движение. — Схватить их и заковать! — крикнул старшина. Сопротивляться было бесполезно, ибо на каждого из моряков приходилось по десять вооруженных сарбазов. Пленников увели в темницу, надели колодки. Около ворот выставили деревянную плаху и топор. — Ежели с кораблей или насыпи откроют огонь, полетят ваши головы! — предупредил старшина. Бледный, взъерошенный Войнович до крови искусал губы, стучал кулаками в дверь. Его терзали уязвленное самолюбие, сознание своего бессилия, страх за будущую карьеру. Никто из офицеров не осудил вслух командира за легковерие и беспечность, однако он понимал, что об этом думают все. Заняв место у окна, Андрей все эти дни писал до наступления темноты. Он помнил, как запертый в сырой башне Гмелин завершал свой труд. Андрей рассчитывал, где именно в нефтяной машине лучше установить впускной и выпускной клапаны, определял, с какой силой сжимать горючую смесь, чтобы она сама воспламенялась в цилиндре, искал надежную конструкцию вала, от которого движение передавалось бы на колесо или маховик. Он обнаружил промах в своих прежних расчетах: внутрь машины подавалось очень мало воздуха, поэтому она быстро глохла. Устав от работы, Андрей легко засыпал, но сон был недолгий и тревожный. Проснувшись, до рассвета томился в полудремоте, думая о Кате и сыне. «Худшая из стран — место, где нет друга», — повторял он про себя восточную поговорку. Он все отчетливее сознавал, что было ошибкой создавать факторию в Астрабаде, который далек от Астрахани. Куда разумней устроить ее в Баку, где и властители и население благоволят к русским, а город стоит как раз на середине обширных берегов Каспия. Недаром Петр хотел сделать Баку средоточием всей восточной торговли, а посланный им капитан Иван Рентель указал, что лучшей гавани на Каспии нет. На седьмой день пленники предстали перед Ага-Магомет-ханом. Воздев глаза к небу, хан просил извинить его за самоуправство черни и заявил, что наказал старшину Мамед-Ата Имранлинского плетьми. — Вы с миром вернетесь в Городовин и на корабли. Но сперва сроете форт и уберете пушки, — закончил Ага-Магомет-хан. — Фактория строилась с твоего согласия, Ага-Магомет-хан, и об этом извещена императрица Екатерина. Я не приму твоих условий, — сказал Войнович. — Вы взбунтуете против меня чернь, и тогда я вряд ли смогу вам помочь, — развел руками Ага-Магомет-хан. Глаза у него были поблекшие, уголки рта опущены. Подстрекаемый Гленвилом, хан решился было на расправу с моряками, собирался атаковать небольшой гарнизон Городовина, но, испугавшись последствий своего вероломства, заколебался. И теперь он изворачивался, юлил, вел двойную игру с англичанами и русскими. Не рискуя напасть на эскадру, Ага-Магомет-хан все делал для того, чтобы добиться ее ухода. Под страхом смертной казни он запретил своим подданным продавать съестные припасы морякам. — Поспешите, иначе мне не совладать с чернью, — настаивал Ага-Магомет-хан. Войнович уступил и послал срыть укрепления. Пушки были перенесены на фрегаты. Когда пленники вышли на свободу, Ага-Магомет-хан предложил возобновить переговоры. Он обещал открыть факторию, если корабли покинут гавань. Войнович ответил отказом, и 2 января 1782 года эскадра оставила Астрабад. По странному совпадению, в этот же день Екатерина, выслушав доклад Потемкина, подписала высочайшее разрешение на заключение трактата о торговом поселении Городовин.Андрей».
Нефть! И здесь нефть!
Нет на свете ничего труднее, как испугать мангуста, потому что он от носа до хвоста весь поглощен любопытством.От штормов укрывались в Гассан-Кули. Залив был мелкий, и большая волна в нем гасла, не достигнув середины бухты. Но и в погожие дни Войнович не спешил поднять паруса. Надменного командира эскадры словно бы подменили. Он захандрил, впал в апатию. Войнович молча соглашался с тем, чтобы велись промеры дна и брались пробы грунта, разрешал съемку берегов. Были дни, когда ему хотелось взломать на северном Каспии льды, достигнуть Астрахани, подав в отставку, удалиться в имение. Обогнув недоброй памяти Огурчинский, взяли курс на Челекен. Хотели запастись там провизией, свежей водой. Темно-желтым пятном на сине-зеленом море выделялся остров Челекен. Когда подошли к нему ближе, то земля уже казалась серой, а вода вокруг была бесцветной и мутной. — Вон тот холм, что выше остальных, — гора Чохран, за ней — вулкан Алигулу, — рассказывал офицерам Андрей. Он и Карл оказались единственными в эскадре, кто бывал на Челекене. Новая встреча с островом волновала Андрея сильнее, чем первая. Прошлый раз, осмотрев с Гмелиным нефтяные колодцы, он подивился, и только. А теперь жаждал узнать, велики ли запасы нефти, почем продают ее, легко ли вывозить с острова тулуки и чаны. Полсотни моряков высадились на Челекене. Держась друг за другом, цепочкой шли берегом мимо низких, занесенных песком кибиток, огибали солончаки. В грязных песчаных ямах пучилась солоноватая, пахнущая серой вода. На вкус она была еще противнее той отдававшей запахом бочки воды, что везли с собой из Астрабада. Туркмены не выражали радости, но и не проявляли враждебности. За баранье мясо и сыр брали сукно и лопаты, предлагали нефть и спрашивали, долго ли пробудут у острова корабли. Женщины, закрывая рот яшмаком,[79] подавали морякам бочонки — челеки — с водой. Старый пастух показал Андрею нефтяные колодцы, возле которых земля была темной, словно бы лоснилась от черного пота. Он жаловался на то, что персидские купцы задешево скупают у туркмен нафтагиль и нефть, а везти их к русским землям, в Астрахань, мешают. — Откуда на острове нефть? — спросил старика Андрей. — А откуда на небе звезды? — сказал в ответ пастух. — Это аллаху знать, не нам. Следуя за стариком, Андрей дошел до края острова, откуда был виден унылый берег Балханского залива. — Скажи, — обратился к нему пастух, — вы не теряли в пути человека? Он голубоглазый, седобородый, а на голове у него плешь. — Нужно увидеть этого человека, — сказал Андрей и взял с пастуха слово, что тот проводит его на балханский берег к рыбаку, подобравшему чужестранца. Несколько дней спустя приступили к описанию и промеру глубин Балханского залива, и старик туркмен повел шлюпку к мысу, на котором были развешаны сети, стояла одинокая кибитка. Из нее дружно высыпали босоногие мальчишки, выглянул старик. Мешая русские и французские слова, он просил моряков, чтобы они взяли его с собой. — Мое имя — Томпсон… Я англичанин, компаньон русского купца Демьянова, — говорил он. Томпсон рассказал о том, что из всех, кто был на корабле, спасся он один, назвал груз, который он вместе с Демьяновым вез в Астрахань. — Я знал Демьянова, англичанин, верно описал его, — шепнул Андрею Карл. — Что же случилось с вами? Наткнулись на риф? — спросил Андрей. — Рифа не было. Нас потопили, — сказал старик. — На траверсе Баку — Дербент. — Ведаете, кто разбойничал на море? — В голосе Андрея слышалось сомнение. — К нам подошли ночью. Флага не было. Огней тоже. Дали залп. В пробоины устремилась вода… Когда я выплыл, схватился за доски, а утром меня подобрал туркмен… Хозяин кибитки подтвердил, что, возвращаясь с хорошим уловом домой, увидел в море человека, лежавшего на доске. Он дал ему место в киржиме. Недалеко от плота туркмен заметил темные пятна, обломки мачты. Об англичанине Джордже Томпсоне доложили Войновичу. Вопреки ожиданиям, командир эскадры пожелал увидеть его. Он заставил старика повторить рассказ о нападении на судно. — Разбой был затеян вблизи от владений Фатали-хана? — переспросил Марк Иванович. Закрыв за англичанином дверь, Войнович достал из потайного шкафа ларец, открыл его и стал бегло просматривать бумаги, врученные ему начальником астраханского гарнизона. Тут были списки затонувших кораблей и пропавших товаров, жалобы купцов на препятствия, чинимые им в гаванях и в пути, иск за незаконное взимание пошлины. Вспомнилась инструкция Потемкина:Р. Киплинг, «Рикки-Тикки-Тави»
«Оказывать покровительство российской торговле, содержать в обуздании ханов, коих владения лежат по берегам Каспийского моря».Расправились морщины на лице Марка Ивановича, правая рука бережно легла на крышку ларца. Что ж, коли неудача постигла его с факторией, он сможет отличиться, защищая права купцов, устрашая и наказывая тех, кто мешает им торговать. Случай с нападением на корабль Демьянова — самый свежий. Он должен воспользоваться им, дабы искупить вину за Астрабад, поправить свое положение. Марк Иванович преобразился: он снова был энергичен и деятелен, как прежде — спесив. Приказал без промедления покинуть остров и идти во весь парус в Баку. Паруса взяли ветер, и три дня спустя эскадра достигла Жилого. Издали остров казался каменистым и пустым. А стоило подплыть к нему на шлюпке, как очертания острова изменили форму. Тысячи тюленей, принятых с кораблей за каменья, бросились к воде, обнажив оранжево-серый песок. Когда обошли кругом маленький безлюдный остров, увидели по другую сторону его бакланов. Свесив головы, птицы покачивались на воде. Они не взлетали и при появлении моряков. — Да у них крылья склеены! — сказал боцман. Вода у берега была тяжелая, темно-оливкового цвета. Знакомый Андрею запах ударил в нос. — Нефть! И здесь нефть! — воскликнул он. Черно-бурые ленты тянулись далеко в море, а там, где они обрывались, выступали фиолетово-рыжие маслянистые пятна. Напуганный историей с Шайтан-абадом, Войнович запретил Андрею искать выходы нефти и поторопился оставить Жилой. В «Историческом журнале» Андрей и Карл записали про нефть, обнаруженную у острова: «Явление сие иначе растолковано быть не может, как тем, что плавающая оная на поверхности моря нефть выходит из самобытных ключей, на дне оного находящихся, и по легкости своей наверх выплывающей, ибо как весь бакинский берег изобилует такими ключами, то весьма вероятно, что некоторые из них простираются своими подземельными проходами и до глубины морской». О том, что подводная нефтяная река тянется от Баку до самого Челекена, у Андрея не оставалось сомнений. Под его влиянием Карл даже занес в журнал:
«Также надлежит здесь еще вообще о нефтяных оных ключах объявить, что они до сего времени одни только те, кои на восточном берегу Каспийского моря отысканы; на западном же в разных местах они встречаются; да сверх того заслуживает еще внимания и любопытства физиков и то, что Балханские нефтяные ключи состоят в самом почти том месте, где на противолежащемперсидском берегу находятся Бакинские, коими не столько вся матерая тамошняя земля, полуостров Апшерон и остров Святой изобилуют, но и от которых и в довольном расстоянии от оных мест на море следы оказываются, как выше о сем было сказано».Андрей отвергал мысль Гмелина, полагавшего, что нефть следует из глубин моря и, смешавшись посредством соли с водой, опускается вниз. Где-то под морским дном есть нефтяной поток, берущий свое начало в недрах Кавказских гор. На поверхность моря из трещин и кратеров дна выходит лишь малая толика нефти. Нефть попадает в Каспий примерно так же, как соль. Будучи студентом, Андрей слушал лекцию Михаила Васильевича Ломоносова:
«Подземная вода вымывает соль из недр, вносит в реки, реки уносят в море…»Значит, если бы люди узнали, где нефтяная река уходит под морское дно, они получили бы множество великое пудов. Поставь на пути нефти запруду, и она потянется вверх, зальет все вокруг. Наполняй ею сколько угодно бочек, чанов, сосудов, тулуков, грузи на корабли! А в каком месте рыть шахту или проход, укажут масляные пятна у берегов, пузырьки газа на воде. Быть может, ему суждено выведать у подводного царства секрет, совершить то, о чем мечтал Михаил Васильевич. Андрей помнил его слова:
«О, если бы все труды, заботы, издержки и бесконечное множество людей, истребляемых и уничтожаемых свирепством войны, были обращены на пользу мирного научного мореплавания! Не только были бы уже открыты доныне неизвестные области обитаемого мира и соединенные со льдом берега у недоступных доныне полюсов, но могли бы быть, кажется, обращены неустанным усердием людей тайны самого дна морского…»Он отыскал на палубе Карла, выложил ему свой план. — Смело, дружище, больно смело! Только не проще ли выпустить из моря всю воду и добраться до нефти? И охота тебе загонять ежей под черепок? — сощурил глаза Карл. — Не веришь, что можно шахту под морским дном прорыть? — И в это тоже. — Побывав в Сибири, судил бы иначе, — сказал Андрей. — На Змеиногорском руднике глубокая подземная штольня есть, и по ней две версты бежит вода, пущенная из плотины. А в шахте высотою в девять сажен стоит циклопическое колесо. Система сия затопленные рудники осушает. Строил ее механикус Козьма Фролов. — Ширван с Сибирью не равняй. Дома, братец, и стены помогают. — Это так, — подтвердил Андрей. — Но работящих и сметливых людей всюду хватает. — Допустим, доберешься до той нефти, одаришь ею бакинцев, а России какой прок будет?.. За морем телушка — полушка, да рубль перевозу… — Мыслю нефть по морю и Волге без бурдюков и бочек возить. Читал я, что тыщи лет назад на Евфрате нефть в лодки, обмазанные асфальтом, наливали. Были эти лодки сперва круглыми, сбитыми из стволов акаций, потом их стали делать вытянутыми, с килем. По триста пудов в каждую такую посудину зараз грузили. А нам под силу суда с большими трюмами строить. Хранить ее в России с давних времен умели. На московских складах по двести пудов кизылбашской нефти[80] держали. — И ханы, полагаешь, мешать перевозке не станут? — Убежден, что союзу нашему с Ширваном крепнуть. Все одно жители его у России защиты от персидских и оттоманских сатрапов будут искать. — Упрямого не переспоришь — горько улыбнулся Карл. — Но для чего тебе, чудак человек, столько нефти? — Чтобы повсюду нефтяные машины работали, чтобы тяготы с человека сняли. — Все суета сует, — сказал Карл. — Умен ты, Андрей, а на мир сквозь пелену глядишь, не хочешь его в истинном свете видеть. Коли завершишь удачно свое начинание, скажи, кто на твою машину позарится? С дешевым крестьянским трудом ей не соперничать. Ну сделает тебя императрица придворным изобретателем, чужеземным послам на потеху твою механику будет показывать. Один такой изобретатель у нее есть — Кулибин. Но Кулибин из простонародья, а ты дворянин. Честь невелика… — Служить отечеству — выше чести не знаю! — Я выскажу тебе все. Диковинные часы для забавы Кулибину дали построить, а его прожект арочного моста через Неву так и остался прожектом. — И как же надлежит поступать? — Твердо стоять на земле. Создавать то, что встретит одобрение и даст верную пользу. «Облегчить труд по нас грядущим!» — вспомнились слова Ползунова. Карл предлагал изменить им во имя благополучия и спокойствия. Андрей подумал о том, что Карл заметно изменился. Слишком трезво он стал смотреть на жизнь. Что повлияло на него? Их встреча с Потемкиным, карьера Войновича или служба в садовом хозяйстве? — Твоя правда не для меня. От своего я не отступлюсь, — сказал Андрей. …26 июля на рассвете корабли вошли в бакинскую гавань. С крепостных стен их приветствовали залпом из одиннадцати пушек. Эскадра салютовала в ответ.
«Жребий сей я вытянул сам»
…улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих.Корабли стояли на рейде, но шлюпки между ними и берегом ходили редко. Войнович запретил команде оставлять суда. Бакинскому хану, явившемуся на флагманский фрегат, он сказал, что прибыл для учреждения коммерции и приведения ее в порядок. — Мы рады дорогим гостям, — вежливо ответил тот. Войнович дал понять, что будет вести переговоры только с самим Фатали-ханом. На четвертый день из Кубы приехал нарочный посол. Он передал командиру эскадры поздравление и приветствие от своего господина, сообщил, что скоро Фатали-хан будет а Баку. Войнович выслал навстречу ему своих представителей — Габлица и Михайлова. Увидев Андрея и Карла, Фатали-хан поднялся, усадил их рядом с собой. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком… — Он вспомнил давнюю встречу с ними и Гмелиным. Переговоры велись на берегу, близ крепости. По окончании их Войнович возвращался на корабль, Фатали-хан уезжал во дворец Ширван-шахов. Фатали-хан старался быть почтительным и тактичным, но дерзость и заносчивость Войновича сердила его. «Граф, обжегшись на горячем, дует на холодное», — подумал Андрей. Он и Карл находились при Войновиче в качестве переводчиков. Войнович ждал от Фатали-хана ответа за все потонувшие суда, настаивал на полной компенсации и выдаче гарантий. Напрасно Фатали-хан уверял, что пираты выходят из персидских портов и наносят убытки не только русским, но и азербайджанским купцам. Войнович не слушал его. Было очевидно, что несколько судов потерпели бедствие в шторм, однако Войнович желал получить возмещение и за них. Командир эскадры был непреклонен. Он требовал отмены всех пошлин, оказания привилегий российским купцам, уничтожения шхун и сандалов, принадлежавших азербайджанским торговцам. В противном случае Войнович грозил обстрелять город. Фатали-хан побелел от этих речей, но сдержал себя. В голосе его была обида: — Мы обращаем свой взор к России и жаждем присоединиться к ней. Она всегда была нашей заступницей, поэтому действия ее офицера нас удручают, — сказал Фатали-хан. В гневе Войнович продолжал возводить обвинения, одно нелепее другого. Андрей и Карл старались при переводе сгладить впечатление от его угроз, опускали бранные слова. Они сделали попытку образумить командира эскадры. Начал разговор Карл, но стоило Войновичу цыкнуть на него, как он умолк. Андрей не отступил. Он сказал Войновичу, что его требования и грубость идут не на благо отчизне, а во вред ей, позорят российский флаг. — Протяну обоих под днищем! — рассвирепел Войнович. Он приказал арестовать Михайлова, а Габлица отстранил от переговоров. Карл был встревожен. — Покаемся, Войнович отходчив, и все образуется. Ты же знаешь, как он влиятелен. — Ни за что! — Андрей взглянул на Карла с сожалением. Бесчинства Войновича вызвали глухой ропот у офицеров. Это не укрылось от капитана, и он стал любезней при встречах с Фатали-ханом. Вскоре заключили торговое соглашение. Оскорбленный Войновичем Фатали-хан не дал воли своим чувствам. Даже от приближенных он скрыл, как вел себя командир эскадры, умолчал об его угрозах. Тонкий и дальновидный политик, Фатали-хан считал, что из-за неразумного и грубого посланца императрицы было бы глупо ссориться с Россией и возбуждать свой народ против ее народа. Втайне от Войновича он послал гонца в Петербург с письмом к Екатерине. Фатали-хан заверял ее в неизменной преданности и дружбе и жаловался на командира эскадры, допустившего «худые поступки и злообращательное поведение». Арестованного Андрея держали в одной каюте с Томпсоном. Капитан-поручик близко сошелся с ним, расположил его к себе. Старый фактор сказал Андрею, что к концу жизни разочаровался в людях, в сердцах выругал Гленвила — виновника его несчастья. — Вы убеждены, что это его люди потопили шхуну? — спросил Андрей. — Так же, как в том, что я разорился дотла… Злой на Гленвила, отплатившего неблагодарностью за добро, он больше не хотел молчать. Да и вряд ли кто из владельцев Ост-Индской компании подаст ему, нищему, кусок хлеба, рассуждал старик. Почему же он должен блюсти ее интересы? И Томпсон упомянул бакинского посредника-купца, который предупреждал его и Демьянова об опасности. — Вы бы нашли его здесь? — Да. Он многое мог бы добавить к моему рассказу, — ответил Томпсон. Войнович выслушал Андрея с враждебной настороженностью. Однако, сообразив, сколь выгодно ему будет представить светлейшему свидетельства о происках англичан, объявил, что отпустит Андрея и Томпсона в город к посреднику-купцу. С палубы корабля город, заключенный в крепость, был похож на треугольную шляпу. Он выглядел живописно, возвышаясь над морем и окрестными холмами. — Древний город. На него, как на старую женщину, лучше смотреть издали, — провожая Андрея на берег, пошутил Карл. — Будет тебе… Все ты готов высмеять! — недовольно сказал Андрей. — Милый мой, в другом месте и при других обстоятельствах смех — крамола, а здесь это можно позволить… Сторожевые башни и крепостные ворота остались позади. Андрей снова шел по улицам Баку. Они были до того узкими и тесными, что казалось, будто их прорубили в каменном массиве домов. Вытянешь руки, и ладони упрутся в стены. Встречные сторонились, чтобы дать чужеземцам дорогу, иначе в крепости не разойтись. Дома, сложенные из неотесанных пористых камней, необмазанные заборы походили на груды развалин. Однообразно серыми были и грязные, немощеные улицы, и стены без окон. Лишь плоские кровли, залитые киром, чернели на уступах холма. Порядком проплутав в этом лабиринте, Андрей и Томпсон дважды выходили к Девичьей башне, у которой плескалось море, приближались к Шах-аббасским воротам с их красивыми сводчатыми арками, петляли вокруг старинной башни Суллуты-Кала и караван-сарая. И снова шли вдоль ровной крепостной стены, увенчанной зубчатым гребнем и квадратными бойницами. Они задержались у Ширваншахского дворца, невольно любуясь им. Он отличался от всех дворцов, которые Андрей видел в Персии и Гиляне. Томпсон сказал, что не встречал такого и в Аравии. Высокий портал из светлого камня был украшен ковровой резьбой, а купола дворца купались в солнце. Опоясанный орнаментом, взмывал ввысь тонкий и стройный минарет, причудливая вязь букв тянулась над входом в мавзолей дервиша. В перепаде улочек и тупиков с одинаковыми лестницами и заборами они бы затерялись, не укажи им прохожий, как пройти к дому купца Исмаила. Эта часть города была оживленной. В ней жили торговцы, ремесленники, люди, промышлявшие киржимами и лодками. Возле базара и лавок вертелись грузчики-амбалы и зазывалы, играли на дудуках и сазах музыканты. В низких прокопченных мастерских лудили посуду, обтачивали чубуки, шили башмаки, болванили папахи. За старой мечетью Мирзы Ахмеда стоял большой крепкий дом в два этажа. Андрей засмотрелся на его фасад, украшенный полукружиями окон и звездочками орнамента. Выпростав каменные руки водостока, дом занимал пол-улочки. — Где-то здесь, — прошептал Томпсон. Он узнал дом купца Исмаила по остекленному балкону и фигурной деревянной двери с витражом. Томпсон постучал и, забыв о своих мытарствах и обидах, шепнул Андрею: — Исмаил устроит нам славный обед, он мастер готовить бозбаш. Дверь открыл сторож. — Хозяин в Шемахе. Вернется через месяц, — огорчил он пришельцев. — Жаль, что мы его уже не застанем. Эскадра уйдет раньше, — сказал англичанину Андрей. — Что передать хозяину? — наклонил голову слуга. — Скажешь, что фактор Томпсон божьей милостью уцелел и очень хотел его видеть. — Старик вздохнул и, вытерев взмокшую лысину рукавом, стал спускаться по пустынной кривой улочке. Андрей шел следом за ним. Он чуть отстал от англичанина, разглядывая надпись на ветхом, покосившемся домике, и вдруг услышал глухой удар, короткий вскрик. Когда он подбежал к Томпсону, тот уже был мертв. Около него лежал камень, свалившийся с постройки. На улице не было ни души. Дом без крыши смотрел на них пустыми глазницами окон. Андрей влетел в проем двери, оглянулся по сторонам, взбежал по крутой лесенке наверх. Никого. Он затаил дыхание, но не услышал и шороха. Томпсона окружили мужчины, выбежавшие из ближайших домов. Они были удручены происшедшим, выражали соболезнование Андрею. — Все мы ходим под богом. Сорвался камень, случилось несчастье, — говорили горожане. «Суждено же было старику выжить в море, чтобы нелепо погибнуть на суше! — подумал Андрей. — А может быть, камень был брошен чьей-то рукой?» Сомнения еще долго не оставляли его. За два дня до выхода эскадры Андрей сказал Войновичу о своем решении остаться в Баку. — Это еще зачем? — хмуро посмотрел на него капитан. — Дождусь купца Исмаила и получу сведения о каперах. Рассчитываю также, живя здесь, открыть источник нефти и наладить ввоз ее в Россию. Андрей был уверен, что Войнович не откажет ему. И он не ошибся. Марка Ивановича радовала возможность избавиться от упрямого и беспокойного человека, который предостерегал его в Астрабаде, перечил ему в Баку. Вернувшись домой с эскадрой, Михайлов мог предать это огласке. А добейся он на Апшероне удачи, деяния его прибавят экспедиции славы. — Дозволяю! — сказал Войнович. Марк Иванович даже заручился у Фатали-хана обещанием оказывать всяческое содействие капитан-поручику. Карл пробовал образумить Андрея: — И горя хлебнешь на чужбине, и будущность свою загубишь… — Будущее я с нефтяной машиной связал, — ответил Андрей. — А многого ли добьешься, действуя на свой страх и риск? Подвижничество твое не оценят. — Я не перерешу… Но у Габлица был еще один довод: — И участь Томпсона тебя не остановит? — Нет! Вскоре после этого разговора Войнович вызвал Андрея к себе. — А может, затея пустая и планы измените, капитан-поручик? — Глаза его смотрели настороженно. — Решение мое твердое. — Тогда пишите прошение, и… — Войнович запнулся, — слово офицера, что не отправите реляций, интересам и славе экспедиции противоборствующих! Андрей понял, чем хотел заручиться Марк Иванович. Он наверняка действовал по подсказке Карла. Андрей слышал, что по заданию графа Габлиц уже начал составлять приукрашенный отчет о вояже. Было противно за Карла, неприятен был сам разговор с Войновичем. Но Михайловым владели иные помыслы и заботы, и он согласился: — Даю слово. Простились холодно. Андрей отдал Карлу оригиналы своих чертежей и записку о подводных нефтяных потоках, просил передать их в академию. — Буду посылать письма оказией, с торговыми судами. Кате ты все объясни… — сказал он. В письме к жене Андрей писал:А. Белый, «Петербург»
«Радость, зорюшка моя! Больно сказать это, но час нашей встречи еще не пришел. Экспедиция вернется в Астрахань, и только я задержусь в Баку. Жребий сей я вытянул сам. По-прежнему остаюсь любящим мужем и отцом, и твой светлый лик у меня всегда перед глазами. Но машина, которую я замыслил, завладела мной. Она — не пагубная страсть, а будто озарение свыше. Я мучусь духом и телом, чувствуя, сколько огорчений и страданий доставляю тебе. А поступить иначе не в силах. Я не нашел бы ни счастья, ни покоя, если бы отказался от планов своих и вернулся домой ни с чем. Знаю, что поймешь меня. Прозри меня великодушно.Он подумал, что, будь Катя в Баку, он чувствовал бы себя увереннее. Катя помогла ему в Томске, Катя была бы и здесь верным помощником, другом. Но разве вызовешь ее с ребенком в Баку, когда и для военного человека, закаленного моряка, путешествие небезопасно. Эскадра уже готовилась выйти в море, и в шлюпку для Андрея спустили сундучок с вещами и нефтяную машину, когда из-за Наргина показался корабль. Он быстро приближался к берегу. — Бот! Наш связной бот! — закричали на фрегате. Сделав маневр, быстроходный парусник стал рядом с другими судами. Его командир доложил Войновичу о том, что прибыл с бумагами от Потемкина и, не застав эскадры в Ашрафском и Энзелийском заливах, направился в Баку. С палубного бота Андрею передали письмо от Кати. Он читал его уже в лодке, отходившей все дальше от кораблей.Верный тебе Андрей».
«Милый мой Андрюшенька, друг мой сердечный! — писала Катя. — Ждем тебя, солнце наше, и не дождемся. Пора тебе покинуть дикие земли и возвратиться к нам. Право, батенька, магометане и медведи цены твоей не знают, а мы любим и чтим тебя. Хорошо ли покидать родных своих и от них бегать в морские и земные пустыни?! Разве наскучили тебе мои ласки, разве не желаешь ты видеть, как бегает малый Андрюшка — вылитый портрет твой? Помыслы твои благородны, а дела значительны, и я горжусь тобой. Но как тяжела разлука… Смилуйся над нами и скорей приезжай. Ждем тебя, любовь и защита наша».Сердце сжалось у Андрея, когда он прочел письмо. Словно бы чувствовала Катя, что он остается в Баку. А как звала она его! Хотелось отрешиться от своих прожектов, сказать гребцам, чтобы они повернули назад, к эскадре. Неумолимо надвигались дымчато-серый берег, срезанные глыбы гор. Андрей оглянулся и с болью в душе проводил взглядом вздернутые носы бушпритов и мачты, одетые легкой дымкой. Усилием воли он сдержал себя. — Родной земле от меня поклонитесь, — тихо сказал он матросам.
Имеющий уши да услышит
Как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно.На двести аршин уходила наклонная штольня. Рыть ее было легко, рыхлый песок сам ложился на лопату, но стены осыпались быстро, и приходилось обкладывать их камнями. Гора, подступавшая к берегу, нефтяной колодец у ее подножия и масляная пленка на воде подсказали Андрею направление шахты. Жители Биби-Эйбата уже привыкли к тому, что русоволосый офицер каждое утро поднимается с восходом солнца и спешит в свое подземелье. Одни помогали чужеземцу потому, что верили в него, другие — выполняя волю ханского визиря. — Ученый человек хочет открыть поток, который даст нефти больше, чем все наши колодцы, — сказал им визирь Мирза-бек-Баят. По его приказу в селе дважды объявляли авариз,[81] и все мужчины выходили на рытье штольни. Полководец и дипломат, главный советник Фатали-хана, Мирза-бек-Баят любил увлекающихся людей. Он нашел замыслы капитан-поручика выгодными для Ширвана и, чтобы подбодрить Андрея, показал ему в селении Балаханы колодец глубиною в девяносто аршин, который был построен местным мастером Аллахъяром четыреста лет назад. Попав в Балаханы, Андрей наблюдал, как рыли нефтяной колодец. Обвязавшись веревкой, мастер надвинул папаху на лоб и спустился вниз. Его помощники недвижно, словно бы оцепенев, стояли у края колодца, держа в руках веревку. Ствол был глубокий, и мастер не скоро достиг дна. Слышались гулкие удары кирки о землю и песня «Ай, бери-бах-берибах», которую пел мастер. Вот голос певца дрогнул, песня замерла, и подмастерья насторожились, готовые потянуть вверх веревку. Но мастер снова запел. Андрей знал, что, как только песня оборвется, помощники должны вытащить мастера, надышавшегося газом, на воздух. Он побывал в Сураханах, в сложенном из крепкого камня старинном храме Атешга, где горел газ. «Вечному» огню как богу поклонялись индусы, потомки гебров. Круглый год они ходили голые, с небольшой повязкой на бедрах, изнуряли себя постом. Андрею предложили остановиться в одном из лучших домов крепости, но он отказался. Он хотел жить около шахты. Да и в крепости Андрей острее ощущал бы свое одиночество. А на Биби-Эйбате ему повезло: он встретил старого друга. Садовник Гулам некогда помог Андрею бежать из башни, в которую его заключил уцмий Амир Гамза. Жизнь обошлась с Гуламом сурово. В неурожайный год у него сгорел сад, дом отобрали за долги, и он покинул Каякент. Так Гулам стал поденщиком у откупщика нефтяных колодцев. Но невзгоды не сломили Гулама. Он остался общительным и веселым человеком, всегда имел про запас забавную притчу. Отказавшись от удобств, Андрей без колебаний поселился в тесном, наполовину врытом в землю доме Гулама. В шахте работали пригнувшись; стоило расправить плечи, и голова упиралась в своды. Андрей запрещал вносить туда огонь: не ровен час, вырвется горючий газ и взорвет штольню. После того как он выходил из темноты на свет, глаза слезились, и перед ним долго мелькали яркие круги. Как-то, будучи в шахте, он услышал подземный гул и, забыв об опасности, ждал, что с минуты на минуту хлынет нефтяной поток. Но время шло, он со своими подручными углублялся в морское дно, а нефти не было. Порою его смущали пятна на воде, под которыми утихали волны. Они, как и пузырьки газа, внезапно исчезали, потом возникали там, где их не было прежде, и снова появлялись в ста саженях от шахты. Относило ли их течением и ветром, закрывались ли временами трещины в изгибах морского дна или, широко расплываясь в глубинах, нефтяная река текла повсюду? От этих мыслей он уставал сильнее, чем от рытья штольни. — Мучаешь себя, гардаш, — посочувствовал, ему Гулам. — Поедем рыбу удить, отдохнешь… — А к Шайтан-абаду поплывешь со мной? — спросил Андрей. Он начинал думать, что именно там найдет разгадку нефтяных потоков. Ведь нигде на море не наблюдал он таких огромных нефтяных полей, как у этого острова. — Поеду. Но об этом — никому. А то нам обоим несдобровать, — сказал Гулам. Чтобы усыпить подозрения биби-эйбатцев, взяли курс в сторону, противоположную Шайтан-абаду. А выйдя в открытое море, свернули на юг. В розовой дымке таяла пирамида крепости, за кормой исчезали пустынные острова бакинской бухты. На карте они значились как Наргин, Вульф, Песчаный — эти имена по сходству каспийских островов с островами на Балтийском море дали им вначале века Соймонов, Урусов, Верден. У Гулама были быстрые, проворные руки, и, хотя он редко выходил в море, паруса слушались его. Подогнув выше колен шальвары и упираясь широкими ступнями ног в днище киржима, он стоял у мачты, жилистый, худой, откинув назад голову, повязанную белой тряпкой. На темном от загара и нефти лице сверкали белки глаз, и казалось, что острый, с горбинкой нос, как руль, рассекает воздух. Закидывая в море сети, он выбирал их осторожно, словно бы поднимал из колодца бурдюк и боялся расплескать нафту. — А ты к нефти привык?.. За садами не скучаешь? — спросил его Андрей. — Человек ко всему привыкает, на то он и человек, — философски заметил Гулам. — Земля дарит людям и плоды, и нефть… — Сады с черными колодцами не равняй! Там, где прольется нефть, не только дерево — трава не вырастет, — возразил Гулам. — И на что, скажи мне, сдалась людям нефть! Для огня? Но и сухое дерево хорошо горит, и даже презренная рыба-змея, минога, высуши ее — горит долго и ярко. — Я покажу тебе великую силу нефти, которую на пользу людям обратить можно. — Ай, балам, не убеждай меня! Уговаривать и удивлять — дело звездочетов и мулл, а ты честный человек, — сказал Гулам. Он был всего на три-четыре года старше Андрея, но любил покровительственно говорить ему «балам» — дитя. — Ладно, молчу, — нахмурился Андрей. Багровел закат, предвещая ветер, и они держались у берега. Когда шли мимо бугристой пепельно-синей горы с двумя вершинами, Гулам сказал: — Эту гору зовут «Бакинские уши». Она и впрямь похожа на уши. Аллах вылепил ее такой, дабы напоминать людям: «И горы имеют уши». Мне говорили, что при Шах-Аббасе тут убивали тех, кто не умел держать язык за зубами и хулил властелинов. Заночевали на берегу, привязав киржим к дереву, стоявшему у воды. В дороге они съели по две овсяные лепешки с пендиром, легли спать голодные, а утром зажарили на костре рыбу. — После такого завтрака нам и шайтан не страшен, — пыжился Гулам. Но Андрей видел, что Гулам тревожно посматривает на море — надвигался шторм. — Отсюда до острова рукой подать, — сказал Андрей. — Ай, балам, я и не собираюсь томиться на берегу! — откликнулся Гулам. Свежий ветер подхватил киржим, понес его по вздыбленному морю. — У каспийского норда нрав крутой. — Андрей поднял воротник мундира. — Он нас хочет разбить о Шайтан-абад. «Только бы норд не нагнал туч, только бы…» — твердил про себя Андрей. Он боялся потерять из виду берег. Андрей помнил, что Шайтан-абад стоит как раз напротив лилово-рыжих холмов и скалы, похожей на орлиный клюв. Эти приметы врезались в память. К счастью, горизонт был чист. — Добрались! — воскликнул Андрей. На берегу виднелись знакомые очертания холмов и скалы. — А где же остров? Море кругом чистое… — удивился Гулам. Ошибки быть не могло, они шли верным курсом. Береговые приметы не обманывали. Куда же делся Шайтан-абад? — Отплывем подальше, — неуверенно сказал Андрей. Они прошли еще три мили, но не встретили даже рифов. Острова и след простыл. Не было ни нефтяных полос, ни разводий на море, лишь кое-где поблескивала радужная тягучая пленка. Остров поднялся со дна и снова ушел под воду. Как град Китеж из сказки… Но почему изменила свое русло подводная река? Не она ли питает нефтяные колодцы Челекена, струится у берегов Жилого? «Правду ли сказал Музаффар, что нефтяной поток бежал по земле к морю, когда вулкан сотрясал округу?» — спрашивал себя Андрей. — Еще искать будем? — Гулам с трудом управлял парусами. — Повернем к берегу. Они заметили длинную песчаную косу, дугой огибавшую лагуну, и повели киржим туда. — А, проклятый шайтан, пропади он пропадом, ловко скрывает от смертных свои тайны! Упрятал остров… — довольный, что добрался до берега, ворчал Гулам. Степь у моря была безлюдная, ветер крепчал, и Гулам, выжимая промокшую рубаху, приговаривал: — Пошли, аллах, нам добрых путников или щедрых кочевников! — Вряд ли кого встретим. Норд метет, ни зги не видно. — У моря замерзнем; хотим не хотим — пошли искать укрытие. — Гулам надел все еще сырую, занесенную песком рубаху, затянул потуже лоскут на голове. За оврагом наткнулись на глиняную мазанку. Она служила прибежищем для чабанов, гнавших отары с гор. Внутри мазанки мохнатыми горками стояли кизяки, посреди была вырыта ямка, выложенная камнем и плитками из обожженной глины. Над очагом не было трубы, здесь топили по-черному. Но разжечь кизяки Андрей и Гулам не могли: потеряли кресало. — Тут ветер не дует, и мы согреемся без огня, — сказал Гулам. В мазанке, лишенной окон, было темно; лишь узенькая полоска света падала из дверной щели. Оба чувствовали себя усталыми и, свернувшись на соломе, скоро задремали. Андрею снился Шайтан-абад: остров черной громадой вырастал из воды, и волны, пенясь и шумя, бежали от него. Скалистые гребни вонзались в небо, султан огня вспыхивал над Шайтан-абадом. И вдруг в пламени возникло искаженное гримасой лицо Музаффара. Он протягивал свои руки к Андрею, смеялся над ним, судорожно показывая на море, затянутое нефтью. Чернела, разрасталась бородавка на его лице. Андрей открыл глаза, и видение исчезло. Рядом посапывал Гулам. Андрей закрыл глаза, стараясь снова уснуть. В полудреме, сквозь завывание и гул ветра, услышал стук лошадиных копыт, голоса людей. Это уже было наяву — за стеной спешились всадники, о чем-то говорили между собой. Андрей хотел открыть дверь, позвать их в укрытие, но Гулам остановил его. — Разные люди попадаются в степи. Не спеши, — шепнул он. — Спрячься за кизяками… Скрипнула дверь, и ветер стал бить ею по стене. На пороге, подбоченившись, стоял коренастый мужчина. Он потянул носом воздух и закашлялся — от кизяков шел прелый запах. Мазанка ему не понравилась, он с силой хлопнул дверью. — Овечий загон, а не дом! — выругался он. С ним согласились: — Отдыхать будем в Алятах, село недалеко… — Правильно говоришь! Но один из приезжих был настроен остаться. — Разожгли бы печь, кости бы согрели, — сказал он. Ветер искажал голоса, но в какой-то миг Андрею показалось, что он уловил знакомые нотки. — Посидим хотя бы на камнях. Лошади устали, загоним их. И куда нам вообще торопиться?.. — уныло произнес кто-то. — Хорошо же ты служишь Искендер-хану… — А чем гяур Искендер лучше других гяуров?! От резкого порыва ветра зашуршал курай на крыше мазанки, заскрипел скрученный в столбы песок. До Андрея донеслись лишь обрывки разговора: — С уруса глаз не спускай! — К нему благоволит Мирза-бек-Баят… — Выведай, что замышляет Фатали-хан… После того как Ага-Магомет-хан захватит Гилян и Талыш… — Шахту разрушишь! Гулам сжал руку Андрея: — Понял, какие люди бывают в степи?! — Пора в путь! — раздался за стеной властный голос. Ему почтительно пожелали счастливого пути. — Все будет сделано… Видимо, около мазанки кто-то оставался. Прошел еще час, прежде чем и они сели на коней. Когда Андрей и Гулам выбрались из укрытия, всадники уже были далеко. В пыльной мгле смутно вырисовывались серые силуэты. — Считай, что мы съездили удачно. Ты не нашел Шайтан-абада, но предупрежден об опасности. Кто знает, тот защищен, — сказал Гулам. Старая истина — удача сопутствует предприимчивым. Хорошо, что он отважился снова поехать к Шайтан-абаду. Теперь, после случайно подслушанного разговора, у Андрея на многое открылись глаза. Стало ясно, почему так скованно и сухо держался с ним купец Исмаил. Он старался не встречаться с Андреем взглядом, говорил, что Томпсон спутал его с другим торговцем. В следующий раз притворился больным. Видимо, кто-то ожидал визита Андрея к Исмаилу и припугнул купца. А что, если Андрея и Томпсона выследили, когда они вместе шли к Исмаилу? Выходит, и смерть Томпсона — не случайность. Ветер утих, и Гулам пошел проверять киржим. Андрей хотел обследовать ров, тянувшийся от пустынного нагорья к морю. Темная и глубокая выемка в земле тревожила, манила, будила воображение. «Неужели это и есть застывшая нефть, о которой говорил Музаффар?..» — думал Андрей. Утешая в едкой густой жиже, он спустился к черневшему руслу, растер в руке легкие, шершавые камешки. Это был не песок с засохшей нефтью, как показалось ему вначале, а затвердевшая вулканическая лава. Находка обрадовала Андрея: было ясно, что нефть вливается в море подземными ходами, а отнюдь не течет поверху. Его догадка подтверждалась. Неделю спустя Андрей позвал Гулама в свой закуток-мастерскую. — Вынесем машину во двор, и ты увидишь… — таинственно сказал он. Гулам разочарованно протянул: — Ах, вот ты о чем… — Но, спохватившись, сказал: — Слушаюсь! Опустив на каменную плиту машину, Андрей проверил, ровно ли она стоит, налил в бак «белую» нефть. — Стань подальше и смотри! — Он отослал Гулама к воротам. Андрей почти не сомневался в успехе: много дней подряд он обтачивал поршень, стремясь сделать его более подвижным, менял форму шатуна и считал, что если не нашел искомое, то близок к нему. Сжав смесь, он с трепетом ощутил, как затряслась, загремела машина. Горючие газы уже давят на внутренние стенки машины, стремятся сдвинуть их, оторвать от корпуса. Но все стенки остаются на месте, все, кроме поршня. Он принимает на себя давление и отходит назад. Тепло, скрытое в нефти, подчинено его, Андрея, воле. Оно совершает работу! Андрей мысленно проследил за тем, что делалось в машине. Взвился над железным корпусом дымок, пришел в движение шатун, потянул за собой коленчатый вал. И тогда закрутился маховик. Темно-серый диск вращался все сильнее, гул нарастал. — Скажи, разве это не чудо?! — Обычно сдержанный, Андрей был неузнаваем. Взволнованный, возбужденный, он шагал из конца в конец двора, потирая лоб, жестикулировал. Синий дымок над машиной потемнел, густые клубы дыма окутали ее. Раздался треск, от цилиндра отлетел кусок металла, а по песку побежала нефть. По инерции еще кружился маховик, но машина стояла. — Она сломалась? Больше не будет крутиться? — спросил потрясенный Гулам. — Исправлю. Я знаю, что делать, — сказал Андрей. Он был слишком поглощен машиной, чтобы увидеть, как внезапно омрачилось до этого удивленное и радостное лицо Гулама. — Слушай и запомни, гардаш… Никому, кроме меня, свою машину не показывай. Слышишь? Иначе уничтожат и тебя и ее. — Будет тебе… — улыбнулся Андрей. Гулам выглянул на улицу, обошел забор. На душе у него полегчало: чужие никто не видел, как крутилась нефтяная машина.А. Грин, «Бегущая по волнам»
Встреча на перевале
Кто прорыл арык, знает, где источники.Как агент Ост-Индской компании, Гленвил мог бы быть гостем бакинского хана и жить во дворце. Но англичанин избегал огласки и остановился в караван-сарае. С Музаффаром он предпочел встретиться на углу. — Ты покажешь, где умер Томпсон, — сказал англичанин. Музаффара не удивило это желание, он ничему не удивлялся. Про себя он называл Искендер-хана «веселым хозяином». Музаффар был благодарен ему за богатую приключениями, тревожную жизнь. Их дороги сошлись давно. Сальянец Музаффар попал в плен к персам, совершавшим набеги на азербайджанскую землю. Проданный в рабство, он гнул спину на каменоломнях Казвина. Гленвил приметил его там и, заплатив выкуп, взял к себе в услужение. Со временем он стал давать Музаффару самые опасные и секретные поручения. Англичанка считал, что сальянец предан ему душой. Но он заблуждался. Музаффар был себе на уме и, представься случай, предал бы своего хозяина. А пока что он находил выгодным для себя верно служить Гленвилу. Выполняя волю Искендер-хана, Музаффар убил Томпсона, заставил молчать купца Исмаила. …Отослав Музаффара, Гленвил немного постоял у темно-серого недостроенного дома. Закрыв глаза, увидел перед собой живого, с грустной улыбкой старика, доверчиво обнимавшего его. Он еще сильнее, чем прежде, сожалел, что вынужден был убрать Томпсона, однако раскаяния не испытывал. Так уж сложились обстоятельства… Томпсон, доставленный после гибели шхуны в Петербург, угрожал бы интересам Гленвила, Ост-Индской компании, всей британской политике на Востоке. Другого выхода у Александра не было. Гленвил вздрогнул, невольно отшатнулся от стены, услышав, как с крыши посыпались камни, песок. Черная кошка, подняв хвост трубой, ступала по карнизу. Гленвилу, не ведавшему страха, стало стыдно за свою слабость. Он вдруг подумал, что и ему уготовлена такая же смерть, как Томпсону. Или его ожидает участь отца?.. Кляня себя за сантименты, погнавшие его к этому месту, он поторопился выйти на многолюдную, шумную улицу. Музаффар неотступно, словно страж, следовал за ним на расстоянии трех-четырех шагов. На этот раз Гленвилу было неприятно, что кто-то все время смотрит ему в затылок, и он предпочел, чтобы сальянец шел рядом. В караван-сарае «Мультани», построенном индусами двести лет назад, ворота держали открытыми днем и ночью. Огромный прямоугольник двора кишел мужчинами, одетыми в архалуки и бухарские халаты, сверкая золотистой россыпью сена и жемчугом питьевых фонтанов. Коричневые, серые, черные гроздья папах выделялись на белом фоне тюрбанов. Ржали лошади, чавкали и сопели верблюды, надрывались ослы. От этого гула не спасали и каменные стены комнаты-кельи, отведенной Гленвилу. Англичанину хотелось побыть в тишине, остаться наедине с собой. Он пересек полморя, для того чтобы выведать намерения русского капитан-поручика, помешать его планам. А в том, что они таят опасность для Англии, Гленвил был убежден. Что, если Михайлову удастся открыть богатые нефтяные ключи и направить торговлю горючим маслом — олеумом — через Россию?! Бомбейская компания лишится одной из самых выгодных статей своих доходов, а русские почувствуют себя уверенней на Каспии. Гленвила беспокоили слухи о машине, которую, оставаясь в Баку, Михайлов выгрузил с фрегата. На что она сдалась русскому вдали от родины, почему он дорожит ею, прячет от жителей Биби-Эйбата? Александр интуитивно угадывал, что между этой машиной и шахтой, вырытой Михайловым, существует какая-то непонятная, загадочная связь. Он уснул с мыслью о том, что сам побывает в штольне и, проследив за тем, где Михайлов держит свою машину, тщательно осмотрят ее. У порога комнаты, закрывая вход в нее, улеглись Музаффар и рулевой с «Улдуза» — Бахрам. Собравшись наконец проникнуть в шахту, Гленвил с удивлением обнаружил, что ее охраняют. — Так приказал Мирза-бек-Баят, — сказали ему в селении. Музаффар собрал для Гленвила подробные сведения о встрече Мирза-бек-Баята с Михайловым. Возвращаясь через Апшерон в Кубу, Мирза-бек-Баят со свитой зачем-то на весь день останавливался в Биби-Эйбате. Он ходил с русским вдоль берега, спускался в подземелье, потом вызвал старосту и сказал, что тот отвечает за шахту головой. — Без старосты в шахту не пробраться, — доложил англичанину Музаффар. — Подкупи его. Приближался праздник, и Гленвил, дабы расположить к себе старосту, поднес ему «байрамлык». Староста взял подарок, поблагодарил, но о том, чтобы допустить незнакомца в шахту, и слышать не хотел. — От гнева визиря кто меня спасет? — Он испуганно таращил на Гленвила глаза. «С трусливым дураком общего языка не найти», — подумал Александр. — Подожди, хозяин. Явишься к нему еще с одним приношением, и он не устоит, — посоветовал Музаффар. — Страх сильнее соблазна, — усомнился Гленвил. Он досадовал и на Музаффара, и на его сообщников, упустивших момент. Они промедлили с обвалом шахты, когда та была без присмотра, доставили ему тьму хлопот. Гленвила неотступно преследовала мысль: не узнал ли капитан-поручик о его замыслах, не поэтому ли обезопасил себя? После долгих раздумий Александр решил задержаться в Баку. Море было над ними. Андрею казалось, что он слышит, как рокочут волны. Под ногами хлюпала грязь. Тяжелые капли падали сверху, вода стекала по стенам, просачивалась из земли. Ее черпали ведрами, откачивали помпой. — Скоро плавать будем, а не ходить! — ворчал Гулам. А нефти не было. Продрогший от сырости, в мокрой одежде, с руками и лицом, перепачканными глиной, приходил Андрей домой. Мылся из бочки, сушил у горячей печи белье и запирался в сарайчике с машиной. Он далеко продвинулся в своих поисках: установил, что поршень должен быть податливей и мягче, а камеру, которая быстро перегревалась, надо окружить водяной рубашкой для охлаждения. Но в Баку этого не сделать. Будь он сейчас на железоделательном заводе… Андрей с тоской вспоминал о горнах и печах Сибири, об огненных дел мастерах. — Езжай в Лаич, — подсказал ему Гулам. Лаич! Мирза-бек-Баят подарил Андрею шашку, сделанную в Лаиче, — она со свистом рассекала воздух, мгновенно разрезала войлок и пеньку. Сталь не ржавела, не тупилась. Андрею говорили, что в Лаиче каждый из мужчин — медник или оружейник. Оттуда везли медную посуду в Баку, Дербент, Шемаху, Гянджу. Мастера Лаича делали кремневые ружья, кинжалы, пики. Они отливали даже малые пушки — «зумбураки». Андрея уверяли, что тамошние оружейники знают и секрет дамасской стали. Но путь в Лаич был долгий и нелегкий. Напрямик до него, правда, насчитывалось всего сто сорок верст; если мерить по-сибирски, это рукой подать. Однако находился он в горах, дорога петляла, и добраться до Лаича, да еще с грузом, было не просто. Перед тем как высадить капитан-поручика на берег, Войнович выдал ему жалованье за все время плавания да еще за год вперед, так что до сих пор стеснения в деньгах Михайлов не испытывал. Теперь деньги были на исходе. Поездка в Лаич обошлась бы Андрею дорого, но сулила она многое. — Со мной поедешь? — спросил он Гулама. — Разве я отпущу тебя одного? Уговорить откупщика колодцев, чтобы он освободил работника, Андрей взял на себя. Откупщик покуражился, но согласие дал. Он рассчитывал, что, добравшись до нефтяной реки, офицер не забудет его услуг. Биби-эйбатский староста помог Андрею нанять повозку, сказал, что помнит наказ Мирза-бек-Баята и будет в оба смотреть за шахтой. Капитан-поручик был старосте по душе, и он одолжил ему свою овчину и папаху. — На перевале выпадет снег. Даже северный, русский человек замерзнуть может, — сказал он. Едва начало светлеть, как они выехали из селения. Гулам погонял лошадей, Андрей сидел у машины. Крепко привязав к доскам, ее обернули рогожей, прикрыли овчиной. Ружья спрятали под соломой: Андрей не забыл разговора у мазанки и был готов ко всему. Даже старосте, спросившему его, зачем он оставляет Биби-Эйбат, не открыл назначения своей поездки, сказал, что этого требуют торговые дела. На шестой день пути увидели Лаич. Он лежал в низине, защищенной горами от бурь и врагов. Было в нем примерно триста — триста пятьдесят домов. Крепостной стены город не имел, но дома его тесно жались друг к другу, и сверху казалось, что все здесь живут под одной крышей. «Ишь, ремесло одно и народ дюже дружный!» — подумал Андрей. Их проводили в караван-сарай, осведомились, что они собираются купить — оружие или посуду. Узнав, что чужеземец — русский офицер да еще инженер, хозяева мастерских оживились: — Железа, меди, серебра не привез? Давно корабль из Астрахани был? Они забросали его вопросами. Ремесленники Лаича получали немного меди из Кедабека идашкесанский железняк, но этого им было мало. Русский металл они ценили высоко. Андрей ответил, что железа и меди, а тем паче серебра у него нет, а прихода корабля он сам ждет с нетерпением. За полгода лишь два русских судна добирались до Баку, но писем от Кати они не привезли. Капитаны сказали, что собирались в плавание тайком и с якоря снимались ночью. Поступали так, дабы уберечься от лазутчиков: уж больно много шхун и шнявов было потоплено между Астраханью и Баку. Андрей расспрашивал мазуров о Кате. Они пожимали плечами, твердили: «не ведаем». Лишь боцман, у которого брат плотничал в садовой конторе, вспомнил, что видел ее. Была она, по его словам, в добром здравии, собою видна и в похвальном расположении духа. Гулам попросил, чтобы их отвели к самым искусным мастерам. Ремесленники покосились, сказали, что у них все оружейники и медники — умельцы, потом зашептались и показали на крайний в городе дом. Возле ключа, бившего тугой серебристой струей, дорога упиралась в забор. Натянув поводья, Гулам с досады пробурчал: — И спросить не у кого, как проехать!.. Андрей кивнул в сторону женщин, мывших у родника посуду. — Вай-мэ, ты хочешь, чтобы нас побили камнями! — всплеснул руками Гулам. Женщины были в чадре, уродовавшей фигуру, закрывавшей лицо. Их всех можно было принять и за старух, и за девушек. Вспыхивали, сверкали отраженные в воде медные кувшины, казаны, сехенги. Но вот Андрей заметил, как чьи-то тонкие пальцы приподняли край покрывала, и в дрожащем зеркале-лужице возникло мягкое чистое лицо с большими глазами и вычурным рисунком бровей. — Скажи, куда нам ехать, красавица! — не сдержался он. Задернулся полог чадры, девушка сжалась, стала такой же, как все. — Ты с ума сошел! — не на шутку испугался Гулам. А девушка осмотрелась и торопливо сказала: — Сверните к горе и от виноградника — прямо. Незнакомка чем-то напоминала Катю: статной ли осанкой, смелостью, напевной речью… Андрей проводил ее взглядом и, нащупав на груди медальон, вздохнул. — Рассказать тебе, что сделали в Шихово с одним искусителем? Почему-то все назидательные и озорные истории у Гулама происходили в Шихово. — Валяй, послушаю твою баутку, — безучастно сказал Андрей. — Ладно, пощажу тебя. Тем более, что в Шихово ничего особенного не случилось: соблазнителя подбросили вверх три раза, а поймали только два раза. Закир-уста, к которому направили Андрея и Гулама, вытаскивал из горна вишнево-красные болванки и быстро клал их на почерневшую наковальню. Поручив заготовки подмастерьям, стоявшим подле него с молотками, он вытер руки о фартук и сказал приезжим: — Рад видеть вас. Андрей подошел к повозке, скинул с машины рогожу. Полюбопытствовал, как отнесется Закир-уста к механизму. У мастера в глазах метнулись искорки, задергались кончики усов. Не остался равнодушным. По Томскому заводу Андрей знал, что если есть у человека в глазах огонек, то и в груди есть жар. Понравился ему Закир-уста. — Твое железо отдает нефтью и гарью. Ты подрываешь им крепости? — Мастер говорил медленно, растягивая слова. — Эта машина не для войны. Она человеку в помощь, — ответил Андрей. — Пусть будет так, — сказал Закир-уста. Андрей вынул обломок металла, спросил, не возьмется ли мастер отлить новую крышку и поршень, показал чертеж. Мастер молчал. — Работа тяжелая, но я в долгу не останусь, — сказал Андрей. — Я стар, глаза мои устали… — нахмурился Закир-уста. — Мы будем вечными твоими должниками, уста. И дети наши запомнят твое имя. Очень просим тебя, — вмешался Гулам. — Но я слишком занят… — Сделай милость, не откажи. Никому, кроме тебя, эту работу не сделать, — упорствовал Гулам. — Я посмотрю… — уже другим тоном произнес мастер. — Машаллах! Золотые руки дороже золота! — воскликнул Гулам. В отличие от Андрея, он сразу раскусил, что мастер любит похвалу. — Возвращайтесь домой. После новолуния получите то, что заказали, — сказал Закир-уста. — Будешь из-за нас в Баку ехать, кузницу оставишь? — удивился Андрей. — Мы повезем в Баку много посуды… От задатка Закир-уста отказался, сказал, что его сыновья, заехав на Биби-Эйбат, получат с Андрея сполна. Андрея тянуло снова встать у горна, подышать раскаленным воздухом печи, самому приготовить из земли формы для литья. Но он понимал, что ремесленники, укрывшиеся ото всех в горах, не пустят чужого в свой цех. Заночевали в Лаиче, а утром собрались в путь. — Лучше оставайтесь, вьюга идет, — предостерег их конюх караван-сарая. — Послушай его. Смотри, как небо затянуло! — сказал Гулам. — Застрять здесь мало радости. Поспешим. — Андрей боялся за шахту. Похолодало. Темными и плоскими стали горы, гребнем выступавшие впереди. Снег на них дымился, синел. Вблизи от ущелья задул ветер. — Завалит нас на перевале — шахту в снегу начнешь рыть? — брюзжал Гулам. — Да ну, ветер разгонит облака! — сказал ему Андрей. Но сам с тревогой смотрел на морозный туман, сползавший в ущелье. На подступах к перевалу снежная крупа колола щеки, слепила глаза. Ветер пронизывал насквозь, перебивал дыхание. На распутье замело дорогу, и они не знали, куда ехать. «Проклятые крестцы![82] — мысленно выругался Андрей. — Говорят же, что распутье — притон нечистых духов». — Эх, до Шемахи бы доехать, а там спокойно будет! — убеждал себя Гулам. Андрей встряхнул овчину, накинул ее на плечи Гулама. — Возьми себе, — отодвинулся Гулам. — Будет тебе… Я привычный, в снежном краю вырос. — Андрей заставил его надеть доху. За изгибом дороги, версты через две, начинался перевал. Колеса скрипели на снегу, утопали в сугробах, буксовали на тонкой наледи. Повозку едва не занесло над бездной, и Гулам, обратив к Андрею побуревшее, мокрое от снега лицо, выдохнул: — Повезло… Дорога сужалась, вползала в теснины. Снежная кровля свисала с гор, грозя обвалом. В белом просвете выглянула сторожка. Когда приблизились к ней, лошади повели себя беспокойно. — Неужто волки? — привстал Андрей. Гулам покачал головой: — Чуют лошадей. Из сторожки выбежали люди, приветливо замахали руками. — Салам! — крикнул им Гулам. В ответ мужчины вскинули ружья. — Ложись и гони! — Андрей пригнул Гулама к сиденью. — Стой! — неслось им вдогонку. — Стой! Мужчины выводили лошадей, седлали их. Андрей и Гулам успели удалиться от сторожки, но преследователи могли быстро настичь их. Гулам вовсю погонял лошадей. Пока что дорога шла под уклон, но дальше она взбиралась на кручи. Андрей прицелился, выстрелил. Снова зарядил ружье… Повозку трясло, снег залеплял глаза, и попасть в преследователей было трудно. Их четверо? Нет, пятеро… Силы были неравны. Разрыв между повозкой и всадниками сокращался. «На подъеме они догонят нас», — ужаснулся Андрей. Свернуть некуда: справа — пропасть, слева — скала. Чуть дальше горы встают по обе стороны дороги. Они обложены мягким, рыхлым снегом. А за ними — цепи гор, одна, другая, третья… В таких местах и бывают обвалы. — Скорее! — подгонял он Гулама. — Мчи! Они оторвались от всадников, бешено понеслись вперед. — Уйдем! — отчаянно твердил Гулам. — Уйдем! Снег темнел в рытвине, к которой они приближались. Оттуда дорога круто взвивалась ввысь. — Плохо дело, — прошептал Гулам. Повозку подбросило, рвануло. Рытвина осталась за ней. Устало перебирая ногами, лошади с трудом шли вверх. А всадники были уже совсем близко. Андрей опознал их. Перекошенное злобой лицо, черная бородавка под глазом… Это был Музаффар. Рядом скакал человек, которого он десять лет назад видел в Персии, потом в Петербурге. Англичанин из посольства, лазутчик… Андрей протянул Гуламу второе ружье, шепнул: — В горы стреляй! Они пальнули — раз, второй… Всадники, решив, что целят в них, ответили залпом. Андрею показалось, что снежная кровля вздрогнула, поползла. Он выстрелил еще раз. Англичанин нагонял повозку. У него по-прежнему гладкое, бесстрастное лицо, отметил Андрей. А Музаффар крутил в воздухе нагайкой, бил каблуками лошадь. — Не уйти нам, — пробормотал Гулам. Еще один выстрел. И в ответ словно бы зашептались горы. Шепот нарастал, переходил в неясный гул. Огромную шапку снега, лежавшую на скале, вдруг изрезали трещины. Снег зашелестел, съезжая вниз. Мгновение — и осыпался рваный край кровли, потянулась лавина. — Гони! — закричал Андрей. Лошади что было сил рванулись, увлекая повозку за собой. Раздался оглушительный грохот. Эхо подхватило и унесло его, а над землей встало облако снега. Когда отъехали подальше, Андрей оглянулся и не увидел ни англичанина, ни Музаффара. Не было и остальных преследователей. Они остались по ту сторону громадной белой стены.Азербайджанская поговорка
Тайный советник ставит подпись
Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?Из Низовой шхуна зашла в Баку, приняв на борт груз красителя марены. Она захватила с собой и пассажира. Ветер дул попутный, горизонт был чист, и, миновав имевшие худую славу места, шхуна приближалась к острову Чечену. Пассажир носил мундир инженера капитан-поручика, изрядно выгоревший и потертый, в руках он держал треугольную шляпу. Из уважения к его чину шкипер уступил ему свою каюту и перешел в кубрик. Однако пассажир избегал каюты. Долгими часами стоял он на палубе, вглядываясь в морскую даль. Команда знала, что он участвовал в экспедиции Войновича и остался зачем-то в Баку. Он встречал шхуну на пристани и, прочитав письма, доставленные ему из Астрахани, попросил капитана взять его с собой. На вопросы пассажир отвечал невпопад, чаще молчал. Он был слишком занят своими мыслями. Несчастья одно за другим обрушились на Андрея. Недаром говорят: «Пришла беда — открывай ворота». Катя писала, что совсем извелась без него и второй месяц хворает. Уже не чает свидеться с ним и молит бога, чтобы он не оставил своими заботами маленького Андрюшу. Застанет ли он ее в живых, сумеет ли вознаградить за лишения и тяготы, на которые обрек? От этих мыслей больно сжималось сердце. Андрей чувствовал себя виноватым перед Катей: он должен был нести свой крест один. Письмо от Карла, небрежное и шутливое, еще сильнее подчеркивало одиночество и тоску, вставшие за каждой строкой Катиного письма. Карл извещал, что по возвращении в Петербург Войновичу был пожалован перстень знатной цены за труды его на Каспийском море и берегах персидских. Его произвели в капитаны первого ранга и послали в Херсон. «Поговаривают, что он будет командовать Севастопольской эскадрой», — добавлял Габлиц. О себе Карл писал, что он, аки тень, сопровождает Потемкина, но не остается в тени благодаря милости светлейшего. Князь Григорий Александрович поручил ему составить. «Физическое описание Таврии» и представил сей труд вместе с автором Екатерине. Императрица подарила Карлу табакерку, усыпанную бриллиантами. Будучи в Крыму, Карл занимался виноградниками и садами, разъезжал по соляным разработкам.Ф. Достоевский, «Записки из мертвого дома»
«Есть любопытная для тебя новость: на крымском берегу рыли траншею и нежданно нашли греческую амфору. Что бы, ты думал, в ней оказалось? Нефть. Тягучая и черная. Ее зажгли, и она горела так же, как горела бы при Сократе или Плутархе. Сказывают, что у Керченского пролива, в Чонгелеке и Чорелеке, и поныне встречаются выходы нефти и природных газов, — ежели не надоела тебе она, езжай сюда. Тем паче, что светлейший спрашивал о тебе»,— заканчивал он письмо. Андрей не ответил Карлу: бывший друг стал для него чужим человеком. И от Кати не укрылись перемены в Карле. Уж очень благоразумным и осмотрительным он стал, заметила она, — все держит нос по ветру. Косматые, темные волны бежали за кормой. Взгляд Андрея был прикован к ним. Подует норд — волны помчат обратно. Настанет безветрие — и море утихнет, чтобы разбушеваться вновь. Бессмыслен и могуч бег волн, и человеку ни ускорить его, ни замедлить. Он, безумец, бросил вызов природе и жестоко наказан за это. Думал, что вырвал у нее одну из тайн, верил, что стоит на пороге открытия, и потерял все. …Ветер бил в паруса, терлись, скрипели о дерево фалы, и Андрею слышался визгливый голос муллы: «Бисмаллах!» Как это было? Он не послушал Гулама и вынес машину во двор. Испытывал ее средь бела дня. Оборот за оборотом совершал маховик… Так быстро, что Андрей сбился со счета. Закир-уста из Лаича выполнил заказ на славу. Увлеченный машиной, Андрей не слышал крадущихся шагов за оградой, не видел испуганно-изумленных лиц в проломе стены. Нефтяная машина вращала колесо! В мыслях своих Андрей перенес ее на рудники, в кузницы, на повозки… Вообразил, как ликуют люди, избавленные машиной от тяжелых работ, и на душе стало легко и радостно. Он не испытал ни удивления, ни страха, когда, распахнув ворота, во двор ворвалась толпа. Спохватился, лишь услыша возгласы: «В ней ибис сидит!», «Ломай ее!» Громче всех кричал щуплый мулла в зеленой чалме. Град камней обрушился на машину. Из пробитого бака вытекала нефть, маховик покружился на песке и замер. По знаку муллы люди схватили машину, ринулись к берегу. Они сбросили ее в море со скалы. — Бисмаллах! — завывал мулла. Что было потом? Синее пламя вырвалось из земли, громовые раскаты потрясли воздух. Объятые ужасом, смотрели люди в сторону шахты. Груда дымящихся камней вставала над входом в подземелье. А мулла, вздымая руки, читал свою проповедь. Аллаху было угодно, чтобы они бросили в море железную машину, аллах сам покончил с шахтой. Мыслимо ли добраться до нефтяной реки, которую всевышний низвергает в пучины? Хватит того, что он дозволил смертным рыть колодцы на берегу. Люди безмолвно распростерлись ниц, совершая молитву. — Это же газ… Взорвался газ! — объяснял Андрей. Но его не слушали. Верующих потрясло проклятие муллы, которое так быстро дошло до небес. Взрыв в шахте напоминал взрыв, возникший в Сураханах, у храма Атешга. Полгода назад Андрей был очевидцем того, как индусы, поклонявшиеся огню, посылали на родину бурдюки со «священным» газом. От случайной искры взорвался один из бурдюков, следом за ним воспламенились остальные. …Обидно, что шахта погибла, когда он был так близок к цели. Незадолго до взрыва Андрей обнаружил газ, пробивавшийся из узенькой щели в стене. В темно-серой жиже, которую он вынес на свет, блестела оранжево-синяя жилка. Весь день он яростно копал землю, надеясь дойти до нефтяной реки. Но прожилка потерялась, струйка газа исчезла. Позднее, разобрав у входа в шахту завал, он и Гулам нашли обгоревшие трупы. В одном из них Андрей узнал Музаффара. Амбал Али, живший на окраине Биби-Эйбата, рассказал Гуламу, что Музаффар, а с ним еще двое останавливались в его доме. Али бедствовал и соблазнился хорошей платой. Музаффар с дружками невылазно сидел в кунацкой, изнывая от скуки. Постояльцы часами боролись на полу, точили на лидийском камне-оселке кинжалы, курили из кальяна. Амбал слышал, как они честили какого-то Искендер-хана, запретившего им возвращаться ни с чем. Когда толпа бросилась к дому Гулама, крича о машине, Музаффар шепнул дружкам: — Берите бочонок и фитиль! Али из любопытства выследил их. Заметил, что они достигли шахты. Сторожа бросили свой пост у подземелья, присоединились к толпе, и Музаффар свободно проник туда. Вскоре после этого раздался взрыв. Андрей представил, что произошло в шахте… Музаффар положил бочонок с порохом посреди штольни, протянул фитиль и сказал, чтобы зажигали от огнива конец. На запах и шум газа не обратили внимания. И когда полоснули камнем о камень, вихрь огня взметнулся к сводам, ураганом пронесся по штольне. Объятые огнем люди бросились к выходу, но дорогу закрывали камни. Как неприкаянный, ходил Андрей по Биби-Эйбату. Избегал нефтяных колодцев и тропинки, ведущей к шахте. Держался подальше от жителей. Чтобы утешить Андрея, Гулам предложил: — Возле скал не так глубоко, нырнем за машиной?.. Безразличный ко всему, Андрей отказался. Да и знал он, что возле скал до дна — три человеческих роста. Бесцельные хождения опостылели Андрею, и теперь он часами стоял у окна осунувшийся, мрачный. Гулам звал его рыбачить — он не захотел, приглашения на той[83] не принял. Он, быть может, и нашел бы в себе силы, чтобы заново рыть шахту, но к крепости причалил корабль, и капитан передал ему письмо от Кати. …Волны отступали от шхуны, светлела зеленая гладь моря. Легкий ветер доносил уже не терпкий запах соли и йода, а запах камыша и пресной воды. На горизонте была Волга. Что ждало его там, в Астрахани?
Декабрьским утром 1807 года тайный советник Габлиц ехал в Горный департамент. Накануне он допоздна заседал в Комитете по устроению Новороссийской губернии и лег спать в третьем часу. Карл Иванович чувствовал себя усталым. Но он обещал быть в департаменте и не заставил себя ждать. В спокойном и важном сановнике мало что осталось от суетливого и неуклюжего Карла. Завидев Габлица, швейцар кинулся открывать двери, а чиновники, сновавшие в вестибюле, низко поклонились: тайный советник Габлиц был и сенатором, почетным академиком. В Горном департаменте ему предстояли не ахти какие труды. Карла Ивановича назначили в комиссию, проверявшую состояние и ведение дел. Выяснилось, что в осеннее наводнение архив департамента, хранившийся в подвалах, затопило и много бумаг погибло. Габлиц велел составить об этом акт, сел просматривать его. Он собирался уже поставить под ним свою подпись, но его внимание привлек случайно уцелевший реестр. Сенатор вздрогнул, перестал читать списки, наткнувшись на фамилию Михайлова. Размытые, унесенные потоком бумаги… Чертежи, прошения, рапорты… Так печально закончилась борьба Андрея за нефтяную машину. Ему отказывали в средствах, отвергали его проекты. Последний раз Габлиц видел Андрея и Катю пять лет назад в Олонецке: Карл Иванович ездил туда как директор государственных лесов открывать Лесное училище. Встреча взволновала обоих, однако в ней не было теплоты. Андрей роптал на заводские порядки, ругал Горный департамент и министерство финансов, не давшие хода его машине. Мечтал снова побывать в Баку, добраться до нефтяной реки. Он рано поседел, ссутулился, глаза были опухшие, с покрасневшими белками. Андрей не жаловался на здоровье, но Габлиц понял, что он болен. Рука сенатора лежала на реестре. Бумага была жесткая и шуршала под ладонью. Карлу Ивановичу показалось, что он дотронулся до сердца Андрея, и он отдернул руку. Ему стало совестно: уговаривал Андрея перейти с печей в канцелярию, удивлялся его нежеланию покинуть завод, упрекал за то, что живет на отшибе, и не решился хлопотать за его машину. Успокаивал себя тем, что самолюбивый Андрей был бы недоволен ходатайством — ведь отказался он от денег Морозова. Карл Иванович вдруг подумал, до чего же нелепо устроен мир. Войнович, хотя и бездарен, дослужился до полного адмирала, чинуша Баскаков пробился в вице-адмиралы, ничем не блиставший интендант Григорьев стал губернатором. На одном из приемов в Зимнем дворце Габлица познакомили с чрезвычайным послом английского короля лордом Гленвилом. Это был тот самый Гленвил, что некогда пакостил на персидском берегу, топил корабли на Каспии. Бывший лазутчик сделался почтенным лицом в Британской империи. А Михайлов, деятельный, умный, щедро одаренный от природы, остался в глуши, непризнанный и забытый. — Ваше высокопревосходительство! — Сенатору пододвинули акт. Габлиц очнулся, рука его потянулась к перу. — Потеря была невелика. Старые, безнадежные дела, — кивая на реестр, сказал директор департамента. — Да, безнадежные… — протянул Карл Иванович и подписал бумагу.
А. Горцев ПЕПЕЛ ВРЕМЕНИ
За 15 часов до старта «Европы»
Четырехэтажный стальной обелиск ракеты сверкнул в окне жарким солнечным бликом. Немолодой полнеющий человек опустил темно-желтую штору — блистающий хоровод пылинок сразу растворился в полумраке. — Ну-с, Эрдманн, испытательный срок позади, — сказал он собеседнику в темных очках, стоявшему по другую сторону стола. — Надеюсь, мы сработаемся, вы освоились полностью… Садитесь, прошу вас. — Он пожал ему руку, давая понять, что официальная часть разговора окончена, потом продолжал: — Кстати, Цербер уже знает вас в лицо. Завтра с шести утра он будет круглосуточно пропускать вас на стартовую площадку, как и всех наших… — Спасибо, герр Схеевинк! — Тощая фигура Эрдманна, будто сломавшись, опустилась в кресло. — Но кто это Цербер? Сторож у проходных ворот? Я не заметил никакого сторожа… — Сторож дежурит только по ночам… А Цербер — это автомат, управляющий воротами, так его прозвали ребята. — Схеевинк издал несколько кудахтающих звуков. — До сегодняшнего дня вы о нем не знали, верно? Я пропускал вас, выключая автомат вот этим. — Он указал на ключ, лежавший на столе. — Будьте уверены, за месяц Цербер изучил вашу физиономию до тонкостей, но, учтите, только в очках. А в остальном он знает ее не хуже, чем ваша жена… Прошу прощения, я забыл, вы, кажется, одиноки? Да… Работать здесь, в пустыне, нелегко, народу не хватает, Еврокосм чертовски скуп на штаты… Теперь, слава богу, разделим груз на двоих… — Это меня не пугает. — Эрдманн покачал лысеющей головой. — Когда мы начинали там, в Пеенемюнде, с Вернером фон Брауном, я привык. Нам всем тогда пришлось привыкать… — Но здесь не Пеенемюнде, — произнес Схеевинк наставительно. — Оттуда вы швыряли на Лондон безмозглые стальные болванки, и только. А здесь Эль-Хаммад, космический полигон Еврокосма в самом центре Сахары… Те проклятые времена, слава богу, позади. Сегодня мы с вами космические работяги, такелажники, и наше дело — заброска на Луну грузов для международной базы, а главное — кабин для будущих пассажиров… — Кабин? Ах да… Никак не привыкну к этому американизму, герр Схеевинк. Слишком прозаично называть так космический корабль, чудо нашего века… Der Raumschiff, — произнес Эрдманн по-немецки. — Да, конечно, это звучит гордо, но слишком громко для двухместной кабины, — усмехнулся Схеевинк. — К тому же корабль никогда не управляется с берега, а наша кабина управляется с Земли… Но дело не в этом. Запомните еще раз, — подчеркнул он. — В кабинах места людей пока занимают манекены. Но они не просто весовой балласт для сохранения тягового режима. Если хотите, это… — …заместители человека, хотите вы сказать? — Эрдманн понимающе улыбнулся: шеф чем-то напомнил ему морского льва, лишенного усов. — Вот-вот. — Схеевинк утвердительно кивнул массивной головой. — Но заместители, так сказать, пассивные… — Да, в этом смысле им можно позавидовать, они ведь не боятся ни невесомости, ни перегрузок. — Эрдманн говорил, слегка заикаясь. — Да и вообще им нечего опасаться… — А чего опасаться нам? Сегодня мы знаем, что жизнь в скафандре в условиях космоса выдерживают все практически здоровые люди, пожилые даже лучше молодых… Пройдет года два, и на Луну полетят туристы, этакие, знаете, скучающие дамы с лорнетками и преуспевающие бизнесмены… ха-кха-кха… Поэтому на манекенах все должно быть надежно, система жизнеобеспечения в особенности. Да, Эрдманн, там, где дело касается жизни людей, никакие предосторожности не будут лишними. Все должно быть отработано так, чтобы в любой момент манекен можно было подменить человеком… — О, вы оптимист, герр Схеевинк! — недоверчиво протянул Эрдманн. — Боюсь, дамы с лорнетками полетят еще не скоро… Во всяком случае, не раньше, чем им будет гарантировано безопасное возвращение. — Это скоро, будьте уверены… Автономный взлет с Луны отрабатывается полным ходом… Там, у русских. При нынешнем темпе результат будет через несколько месяцев, так что уже можно рискнуть полететь в один конец, без обратного билета… Правда, на это годится не всякий… — Обратный билет будет, но с длительной остановкой… И они будут знать, что возвращение возможно, так сказать, технически… — Возможно, но не гарантировано, — возразил Схеевинк. — Думаю, дело не в этом. Просто некоторые любят азарт риска… Но, конечно, знать они будут. До сих пор на Луне побывало лишь двое мужчин поодиночке. Они оба вернулись. А теперь, Эрдманн, кто-то станет первой двойкой. Мне хочется, чтобы это были мужчина и женщина… — Лунные Адам и Ева? — Тонкие губы Эрдманна, не разжимаясь, расплылись в улыбке. — Именно, — закивал Схеевинк. — На лунной базе у кратера Аристарха валяется уже множество всякого добра в контейнерах, — они недурно устроятся… Месяца через четыре их заберет «Лунник-22», русские скоро закончат его доводку. Медовый месяц на Луне, неплохо, а? — Схеевинк затрясся в полукашле-полусмехе, потом достал белоснежный платок и отер лицо. — Ну, вряд ли все цело, — осторожно заметил Эрдманн. — Всегда можно запустить еще дюжину контейнеров, — пророкотал Схеевинк, — хватило бы ресурсов… Когда русские мягко посадили «Селену-9», стало ясно, что Луну можно доверху завалить любыми грузами и все будет в полной сохранности… Худое лицо Эрдманна помрачнело. — Дались вам эти русские! — проворчал он. — Если бы не американцы, ваша Голландия стала бы тогда еще одной зоной… Схеевинк пристально вгляделся в своего заместителя: — Не впутывайте меня в политику, Эрдманн. Я просто отдаю русским должное, они протоптали лыжню в космос… А вам они что, насолили? — Нет, почему же. — Эрдманн натянуто улыбнулся. — Я тогда вовремя попал к американцам… В темном углу кабинета засветилось табло телевизионных программ. — Ладно, Эрдманн, бросим эту тему. — Схеевинк поморщился. — С этим, слава богу, давно покончено, и, надеюсь, навсегда… Посмотрим сейчас хореоконцерт с «Земли-2» — «Фестиваль невесомых»… На стене ожил большой экран, показав группу девушек, свободно паривших в воздухе. В обтянутых голубых трико, украшенные фонтанами невесомых волос, они плавно плыли среди радуги цветных лучей, с тонкими светящимися жезлами в руках. Движением жезлов они управляли своими телами, то принимая позы летящих ласточек, то собираясь в красочную гроздь. Их танцу вторил многоголосый музыкальный узор. — Это же Матисс! — воскликнул Эрдманн. — Я подумал о том же… «Танец с вазой». Это была мечта о невесомости, не так ли? Освобождение от ига тяжести… Внезапно краски и музыка исчезли. Из серого клубящегося фона возникло четкое изображение: груда обнаженных человеческих трупов, в беспорядке наваленных друг на друга, словно бревна. Под напором стальной плиты бульдозера груда медленно двигалась, тела перекатывались, скользя, сгибаясь, раскидывая тонкие, как плети, руки. Страшные, уродливые куклы, ребристые каркасы, обтянутые кожей, они по временам застывали в позах, каких никогда не могло бы принять живое тело. Лицо Схеевинка побелело, он невольно откинулся назад, и в этот момент с экрана послышался властный мужской голос:— Франц! Франц! Это твоя работа, Франц? Мы знаем, что ты жив, Франц! Может быть, сейчас ты качаешь на коленях внуков? Ты видишь это, Франц? Ты узнаешь себя, Франц?Слева, на переднем плане, виднелся человек в серо-зеленой военной форме, с молодым надменным лицом. В руке он держал стальной хлыст.
— Франц! Франц! Где ты, Франц? Или ты предпочитаешь прятаться, Франц? Но знай, мы найдем тебя, Франц! Помни, Франц!Трупы надвинулись на передний план и начали исчезать из поля зрения, видимо скатываясь в ров. А голос, обращавшийся к неведомому Францу, все гремел, вселяя в душу неодолимый ужас. Зажмурившись, трясущейся рукой Схеевинк потянулся выключить экран, но остановился, услышав сзади глухое восклицание Эрдманна. Экран погас. Голос диктора произнес: — Вы видели одного из нацистских злодеев, сорок лет назад перешагнувших грань, разделяющую человека и зверя. Этот фильм, снятый в неизвестном до сих пор лагере уничтожения, недавно обнаружен в одном из уцелевших нацистских архивов. Вы все, живые среди живых, отдайте последний долг тысячам безымянных жертв! Глобовидение объявляет минуту телемолчания по всей планете… Очнувшись, Схеевинк выключил экран и оглянулся: Эрдманн сидел, закрыв лицо руками, конвульсивно вздрагивая. — Что с вами, дружище? — В зычном голосе голландца слышалась ласковая интонация сочувствия. — Проняло? — Мне стыдно, что я немец… — Эрдманн не отнимал рук от лица. — Нет, стыдно — это не то слово. Это мучительная, изощренная пытка… — Да… это было страшно, Эрдманн. Но это прошло, и слава богу. Я хочу думать, что это была последняя вспышка зверского начала в человеке, последняя и поэтому особенно отвратительная… Но посмотрите: сейчас начало восьмидесятых годов. Разве от рождества Христова люди не стали лучше? Разве нет у нас сегодня международной скорой помощи? Весь мир готов прийти на помощь одному. Раньше мы были только людьми, а сегодня, Эрдманн, мы становимся человечеством… А тех мерзавцев, убийц, уже похоронил пепел времени… — Нет! — Эрдманн вскочил, отняв от лица руки. — Мы до сих пор ходим со многими из них по одной земле! Забыли, простили… И это родилось в моей стране, в моей Германии! — Не горюйте, Эрдманн. — Схеевинк осторожно положил тяжелую руку на его костистое плечо. — Мы живем и делаем свое дело… Для всех, во имя всех… И во имя тех тоже, это им памятник. — Он вздохнул. — Ступайте отдохните. Я понимаю, какая это для вас травма… На завтрашнем старте можете не присутствовать, ночную проверку я тоже сделаю без вас… Оставшись один, Схеевинк заходил по ковру, заложив за спину полные, с перехватом в запястьях руки, — нервная дрожь все еще не успокаивалась. Лучше было скорее окунуться в дела, и он подошел к пульту связи. За десять минут он распёк бездельников, укрывшихся от жары в подземном хранилище жидкого фтора, поболтал с Ингрид, дежурившей на радарной вышке, и дал указания насчет пронырливых репортеров из «Фигаро». Потом позвонил Дюрану и доложил о подготовке к утреннему старту. Эту ужасную картину? Да, он видел тоже… Гнетущий, тяжелый осадок, ведь у него самого родители погибли в Дахау… Он глубоко вздохнул. Большое спасибо, да, конечно, здоровье нужно беречь, он всегда мечтал под старость сажать тюльпаны под Утрехтом, ха-кха-кха… Зимой он съездит повидать Кэте и детей, теперь, слава всевышнему, есть кому его заменить… Да, освоился вполне, отличный работник… да… да… видел тоже, реагировал очень болезненно… Конечно, конечно… это естественно, он же немец… Мерзавцев вроде этого Франца было не так уж много, а таких, как Эрдманн, большинство… Да, да, они стыдятся за тех… Завтра? Конечно, он его отпустил на день, пусть придет в себя… До свиданья, перед стартом он еще раз проверит все лично… Повесив трубку, Схеевинк покачал крупной головой, побарабанил по столу толстыми пальцами, машинально нащупав лежавший на столе ключ. — Tis van te beven de klinkaert, — пробормотал он. — Время звенеть бокалами… Заказав холодного пива прямо в душ, он продиктовал в магнитофон несколько распоряжений относительно завтрашнего старта. Потом встал из-за стола и подошел к сейфу.
Байконур спустя два часа после старта «Европы»
Двое шли рядом навстречу полуденному солнцу по желтеющей степи, приглаженной жарким суховеем. В ушах гудел ветер, сплетая бронзовые пряди на голове женщины с платиновыми волосами мужчины. — Пора назад, — вымолвил он. — Еще немного, — попросила женщина, указывая вперед обнаженной загорелой рукой: там выстроились низкорослые коренастые деревья, протянувшись шеренгой до самого горизонта. — Смотри, Алеша, они словно войско, готовое к параду, правда? Рощу наполнял беспокойный шелест, перебиваемый глухими стуками падающих абрикосов — их россыпи, как кучки золотых самородков, валялись повсюду на клочковатой, высохшей траве. Алексей Громоздов нагнулся, набрал полные пригоршни. — Нет, — сказал он. — Они — как строй обреченных на смерть с поднятыми вверх руками… Женщина встала перед ним, положила руки ему на плечи, заглянула в сумрачные глаза. — Ты не можешь забыть? — Ее голос звучал озабоченно. — Эту вчерашнюю программу Глобовидения? — Да, Оленька, — ответил он. — Она, как лемех, вывернула наружу старый пласт… Я сам был заключенным в этом лагере… Ольга на шаг отступила: — Ты? Ты был… там? И молчал? До сих пор? — Незачем было вспоминать. Об этом помнила только моя анкета, — ответил он, насупившись. — Тогда мне не было еще восемнадцати; стало быть, это произошло… — он прикинул в уме, — тридцать девять лет назад, весной сорок второго. Я угодил к ним в плен в первом же бою, в придонских степях. Через три дня я очутился в глухих горах, где-то в баварском Тироле. Там они на тысячах людей испытывали какие-то радиоактивные препараты, называлось это «Зондерлаг-11-19»… — Он умолк, сжав мягко очерченные губы. Ольга глядела на него широко раскрытыми тревожными глазами. — Говори… — Лагерь содержался в строжайшей тайне. За его пределы никто из меченых не выходил живым… — Меченых? — Так звали тех, кто получал радиоактивную дозу. Мне повезло, я был молод, здоров и силен, как зубр, попал в команду обслуживания… А этот… ты запомнила его? — Тот молодой, с хлыстом? — Да… Франц Баумер, помощник коменданта… Начитанный философ, сентиментальный поэт и холодный, лютый изверг. — Громоздов пожал плечами. — До сих пор не понимаю, как они ухитрялись сочетать все это в одном лице… Выходит, он жив, наверно, процветает, теперь ведь они прощены окончательно… — Но как же ты… вырвался? — В сорок четвертом лагерь был спешно ликвидирован и уничтожен искусственно вызванным оползнем. Кое-кому удалось спастись. Мы перебили охрану камнями и просто голыми руками… (Ольга заметила, как его взгляд ушел внутрь.) Что сталось с остальными, я не знаю… Из небольшого кожаного ранца за спиной Громоздова донесся мелодичный звонок. Потом на шуршащий шум наложился женский голос: — Алексей Николаич! Алексей Николаич! Вас ищет Еврокосм, директор Дюран из Эль-Хаммада… Говорите! — Да! Громоздов слушает! — О, Громоздоф, здравствуйте! — заговорил ранец. — Наконец-то я вас нашел!.. Слушайте, сегодня утром мы запустили на Луну очередную «Европу» с пассажирской кабиной… — Здравствуйте, Дюран. Все благополучно, надеюсь? — Да, спасибо, старт прошел нормально, кабина вышла на траекторию. Но, похоже, в ней находится человек… — Человек? — с удивлением повторил Громоздов. — Вы решили заменить манекена человеком? — Вы меня не поняли, — сказал ранец. — Конечно, нет. Но накануне ночью он мог незаметно проникнуть в кабину. — Но как? Ведь стартовая площадка охраняется. — Разумеется, это ведь не танцевальный зал. Но наши люди имеют свободный доступ на площадку круглые сутки. — Значит, кто-то из ваших мог тайком забраться в кабину? Что за нелепица! — Но одного человека недостает, — сказал ранец. — Начальника стартовой команды Петера Схеевинка… — Схеевинк… — повторил Громоздов. — Погодите, я читал его работы… — Да, он старый ракетчик. — Когда же вы его хватились? — Уже после старта… Утром его на площадке не оказалось, дома тоже, своего заместителя он накануне отпустил, и мне пришлось командовать самому… Вы понимаете, задержка сулила миллионные убытки. — Непонятно! — произнес Громоздов как бы про себя. — Неужели вы не проверяете кабину перед стартом? — Это делается заранее, после укладки манекенов, — объяснил ранец. — Кому может прийти в голову искать там человека? До начала стартового счета проверяются только внешние цепи питания и управления. Он эту проверку и проделал, есть его запись в журнале… Проверил лишний раз, он очень аккуратен… — Он работал один? — Да, — подтвердил ранец, — Его видел ночной дежурный у проходных ворот. — И пропустил его на площадку? — Нет, это не его функция, он только наблюдает. Воротами управляет автомат, знающий в лицо всех наших людей. — Но дежурный видел, как он прошел? — Нет, Схеевинк отпустил его спать. Громоздов обменялся взглядом с внимательно слушавшей Ольгой и пожал плечами. Она улыбнулась. — Послушайте, Дюран… не находите ли вы, что все это здорово смахивает на несвоевременную первоапрельскую шутку? — Черт возьми, Громоздоф, я бы очень хотел, чтобы это была шутка! — воскликнул ранец. — Но это факт, что Схеевинк был на площадке, а сейчас его нет… — Постойте! — Громоздов наморщил лоб. — Автомат ведет регистрацию проходящих? — Да, конечно, на специальной перфоленте… — Так ведь он мог просто выйти, и все! На ленте есть его отметки? — Пока неизвестно, — ответил ранец. — Сейчас как раз проверяем. Это длинная история — пропустить рулон через читающее устройство. А помимо ворот ни войти, ни выйти нельзя — сработает тревожная сигнализация. — Но ведь все это еще не доказывает, что Схеевинк находится в кабине! — Чтобы занять место в кабине, нужно выбросить один из манекенов, — разъяснил ранец снисходительно. — Когда мы это сообразили, мы нашли в стартовой яме остатки манекена… Громоздов посмотрел на Ольгу, улыбнулся, зажмурился и потряс головой: — Именно того манекена? — Мы уверены, что того. К сожалению, номер опознать не удалось, он сильно обгорел. Но на складе все запасные налицо, кабина управляется нормально, баланс веса прежний, значит, место манекена кем-то занято… — Или чем-то, — сказал Громоздов. — Погодите… Связь с ним есть? — Он не отвечает. — Так. А телеметрия дыхания? — Ничего. Датчики дают чистый контрольный код, как всегда при манекенах, они ведь не дышат. Но он мог отключить датчики. — Но что тогда доказывает, что Схеевинк в кабине? Вместо манекена можно уложить, скажем, свинцовую болванку того же веса… — Тут у нас некоторые так и думают, — произнес ранец. — Дело в том — я забыл вам это сказать, — что он, вообще говоря, мог выйти через ворота без контрольной отметки. У него был ключ выключения автомата. — Но ведь это меняет дело! — вскричал Громоздов. — Что же у вас думают? — Что он просто-напросто сбежал… — Но зачем тогда история с подменой манекена? — Когда под тобой становится горячо, действительно очень удобно сделать вид, что ты улетел на Луну. Выложить из кабины манекен, уложить его в яму под первой ступенью ракеты так, чтобы он не очень обгорел. Заменить его болванкой, как предположили вы. Сделать проверку и выйти с помощью ключа, вот и все… — Но это чушь! Зачем ему было бежать? Вы же его, наверно, давно знаете? — Конечно. Он честный католик, энтузиаст космоса. В эту версию я не верю. Он бы наверняка придумал чем-нибудь имитировать сигналы телеметрии дыхания. — Так… — Голос Громоздова звучал задумчиво. — Допустим, что он в кабине. Что могло его на это толкнуть? — Не могу себе представить, за каким чертом это ему понадобилось! — В голосе из ранца послышалось раздражение. — Какой-то импульс внезапного помешательства… Возможно, на него сильно повлиял этот вчерашний фокус Глобовидения, вы его видели? — Да, — Алексей встретился глазами с Ольгой, — это было сделано сильно… Но даже после этого вряд ли психически нормальный человек решится на такой шаг, если… — Алексей усмехнулся нелепости неожиданно возникшей мысли, — если только он не имел какого-то отношения к тем делам… — Слушайте, это абсурд! — Голос из ранца звучал уже сердито. — Что же, по-вашему, он просто избрал эффектный способ самоубийства? Проще было бы сбежать, а эту версию мы уже забраковали. Опасаться надо совершенно другого! — Чего же? — Чего угодно! — кричал ранец. — Риск слишком велик, вы понимаете, Громоздоф? Времени у нас в обрез, надо решать, что делать… — Дюран разразился каскадом французских слов. — Если он сошел с ума, он может уничтожить все заброшенное на Базу нуклонитовыми зарядами! Я хотел не дать ему высадиться, попробовать вернуть кабину на Землю… — И мягко приводнить где-нибудь в океане? Но ведь ваши кабины не рассчитаны на автономное возвращение, их нужно еще дооборудовать там, на Базе, — ведь так? Обновить обмазку, навесить парашютную систему, и так далее. Иначе кабина сгорит при входе в атмосферу! — Разве я всего этого не знаю, mon ami? — Из ранца послышался громкий вздох. — Но если дать ему высадиться, нельзя оставить его одного надолго! — Конечно. — Но забрать его оттуда немедленно может только ваш «Лунник-22», а он еще не готов, так ведь? Есть еще вариант: вывести кабину на лунную орбиту… Сейчас на маневр есть еще время, но через несколько часов будет поздно, и тогда останется лишь одно… — Что же? — Жесткая посадка, — произнес ранец раздельно. — Иначе говоря, разбить кабину с человеком о Луну? — Я не вижу другого выхода. Ольга прислушивалась с пылающими щеками. — Ни в коем случае, Дюран. — В мягком говоре Алексея она узнала хорошо знакомую непреклонность. — Он мог быть просто в состоянии аффекта. Возможно, он опомнится еще до посадки и вступит в связь. Разумный он или сумасшедший, мы не вправе дать ему погибнуть… Сегодня ночью стартует «Лунник-22», очередная отработка системы возврата на манекенах. Одного из них мы заменим нашим человеком. — Но ведь это колоссальный риск, черт побери! — рявкнул ранец с таким выражением, что Ольга вздрогнула и виновато улыбнулась. — Мы можем потерять двоих вместо одного! — Это особый случай, Дюран. Кто-то должен рискнуть… Помолчав, ранец заговорил деловым тоном: — Согласен, это особый случай. Но кого вы пошлете? — Только добровольца. — И вы всерьез думаете найти идиота, согласного рискнуть? — Да, — ответил Громоздов. — Я полечу сам. Думаю, Космоцентр меня утвердит. У Ольги вырвалось непроизвольное восклицание. — О, простите меня, Громоздоф, вы все тот же смельчак… Значит, решено… Но если вы передумаете… Помните, до посадки кабины на Луне остается восемнадцать часов. — Будьте спокойны, Дюран, мы не передумаем. Прощайте и не забудьте быстро прислать вКосмоцентр официальную телеграмму. — Обязательно, — заверил Дюран. — Со своей стороны прошу об одном: это не должно попасть в печать… Прощайте, дорогой друг, и будьте осторожны… Зашипев, ранец смолк. Некоторое время Ольга молча всматривалась в лицо Алексея — она знала, что изменить его решение нельзя. — Но если его в кабине нет? — вырвалось у нее. — Сыграю в манекена, только и всего. — Возьми меня вторым манекеном, — сказала она и вдруг разрыдалась. Он ласково поглаживал ее волосы. — Не надо, не плачь, это же невозможно, Оленька… Ты же понимаешь, второе место нужно забронировать… Порывшись в полевой сумке, висевшей через плечо, Ольга вынула угловатый, смутно фосфоресцирующий предмет. — Это обломок специального сплава, остаток одного из наших первых лунников, его мне дал на анализ Морев после возвращения с Луны… Возьми его с собой. Алексей отстранил обломок: — Я не верю в амулеты, Оленька… — Упрямец! — сказала она. — Но ты должен вернуться! — Я и вернусь, — пообещал он. — И привезу его… Они возвращались рука об руку по степи, пахнущей сухой полынью, как вдруг ранец заговорил опять — это снова был Дюран: — Слушайте, только что мы убедились, что Схеевинк наверняка находится в кабине… Я хотел предупредить вас, что отправил вам его портрет фототелеграфом. Сообщите, когда стартуете…Еще два часа в Эль-Хаммаде
Серый бетонный купол блиндажа, врытого в землю, глядел узким окошком в жаркое, белесое небо пустыни. Заглушив мотоцикл, парень в расстегнутой рубашке поверх коротких шорт перемахнул ногой через седло, сдвинул в сторону тяжелую дверь блиндажа и вошел внутрь. — Ребята, новость! — крикнул он. — Чего еще, Рене? — Долговязый техник, по прозвищу Дамми[84] погасив сигарету, небрежно швырнул ее на пол. — В контрольной ленте Цербера есть отметка входа Схеевинка. В двадцать два часа шесть минут, поняли? И выхода тоже, в четыре двенадцать ночи… — А я что говорил? — флегматично протянул Дамми. — Там никого нет, поняли? Голландец ловко обвел нас всех, вот и все… Никогда он мне не нравился, этот толстяк… «Слава всевышнему»! — передразнил он. — Хитро замаскировался, вечно с именем бога на устах… Ищи его теперь! Небось давно сел в Таманрассете на трансафриканский самолет! Машины-то его, наверно, нигде нет? — Что ты болтаешь, Дамми? — строго спросил молодой араб, завтракавший за низеньким столиком. — Схеевинк хороший человек, верующий… Помоги ему аллах, где бы он ни был… С тебя он строго требовал, вот ты его и не любишь… — Это с меня-то? — протянул Дамми. — Брось, Юсеф, уж я-то знаю всему цену. Свою работу делаю ровно на столько, сколько она стоит, понял? А святошу из себя не строю… Улететь в кабине! Что он, идиот, что ли? — А если его там нет, зачем ему надо было подменять манекен? Дамми воровато оглянулся и зашептала: — Хотите знать зачем? Представьте себе, что я давно где-то здорово нашкодил… ну, скажем, ограбил банк или музей… — Ну, представили. — И что на мой след напала полиция. И что она подослала сюда своего соглядатая… Знаете, что я бы сделал? Провел бы его на площадку, там прикончил, труп отправил бы на Луну вместо манекена, а сам бы смылся подальше, вот и все… — Ух и придумал! — рассмеялся Рене. — Так, может, это твоя работа? Уж очень гладко у тебя все получается. Верно? — Верно, Рене. Надо сообщить в полицию. Слушай, Дамми, а награда за тебя назначена? Тяжелая дверь снова откатилась в сторону, и в блиндаже появился Дюран. Трое вскочили, почтительно вытянулись. Дюран снял белый тропический шлем, отдуваясь, уселся. — Садитесь, — махнул он рукой. — Что нового, сэр? — развязно спросил Дамми. Дюран иронически оглядел его самодовольную физиономию: — Что, Дамми, работаете для «Фигаро»? Сколько они вам платят за строчку?.. Так вот, ребята. — Его тон стал официальным. — Полиция не должна ни о чем пронюхать, это может повредить Еврокосму. Никакой болтовни, — предупредил он. — Особенно вы, Дамми… И ни слова репортерам, будем Пинкертонами сами… Все поняли? — Да, шеф, — хором ответили трое. — Тогда вот что. В контрольной ленте нашлась еще одна отметка входа Схеевинка. Он вернулся на площадку спустя двадцать пять минут после выхода. Лицо Дамми вытянулось. — А больше отметок нет, сэр? — Нет, Дамми. — Но зачем ему надо было выходить, господин Дюран? — спросил Юсеф недоуменно. — Трудно сказать, Юсеф. Боюсь, он пронес на площадку какой-то груз. — Ясно, как день! — воскликнул Дамми. — Я нюхом чуял, что он за штучка! Это не груз, он кого-то провел на площадку! И дежурного сплавил, чтобы не было свидетеля! Там он того и прикончил, манекен заменил трупом и вышел без отметки. У него ведь был ключ! — Не мелите вздор, Дамми, — устало сказал Дюран. — Никого он не убивал. Он там, в кабине. — Но почему вы уверены, сэр? — Вот. — Дюран помахал ключом перед носом Дамми. — Час назад ключ нашли в его сейфе. Значит, без отметки Схеевинк выйти не мог… А вознестись на небо можно только в кабине. — Что, Дамми, проглотил? — насмешливо спросил Рене. — Отстань! — буркнул Дамми. — Еще надо разобраться, зачем он выходил. — Да, вот что, Рене, — вспомнил Дюран. — Надо вызвать Эрдманна. Поищите-ка его. — Слушаю, шеф… Где он может быть? — Дома его нет, машина у подъезда. Гуляет где-нибудь неподалеку в пустыне… Берите вертолет и привезите его сюда… Потом Дюран встал и подошел к телефону. — Срочно Космоцентр, Громоздова! — произнес он.Байконур, еще два часа спустя
— Психология одиночества? — переспросил Морев. — Да… Так хочется понять, зачем он это сделал. Бежал от людей или от себя? Неужели он в чем-то виноват? От себя ведь не улетишь, даже на ракете… — Голос Ольги звучал мечтательно. — Один… А я даже в одиночном полете никогда не была одна. Всегда есть связь, слышишь людей… Вот в большой сурдокамере — там я была одна. Через тридцать часов я готова была обрадоваться даже блохе! — Она улыбнулась. — А потом стала чувствовать что-то странное. Весь мир — внутри меня, понимаешь? Там жизнь, кровь струится по венам, распадаются и рождаются ферменты… И мне начало казаться, будто я — вся Вселенная… А ты? Там, на Луне? Ты об этом не очень-то распространялся. Почему? — Насчет одиночества? — сказал Морев. — А что было распространяться? Там было не до него, — усмехнулся он. — Работы было полно. Только иногда я вдруг чувствовал себя… ну, как актер, знаешь, в пантомиме. А зритель — Земля, она там висит, смотрит на тебя гигантским глазом… Они сидели на веранде, увитой заботливо ухоженной зеленью, в просветах виднелся степной горизонт. — Па-ап! Дядь Леша едет! — На веранду влетел мальчуган лет пяти на детском велосипеде-ракете. Морев привстал, увидел вдали столб пыли. — Верно, он… Всегда норовит не по дороге, а напрямик по степи… — Он покосился на Ольгу. Та чуть побледнела, закрыла глаза. — Летит он или нет? Громоздов подкатил к крыльцу, выключил зажигание, затянул тормоз. Поднялся по ступенькам, подхватил мальчика, подбросил: «Ух ты, космонавтище!» Потом пожал руку Мореву и поцеловал Ольгу. — Ну? — Утвердили. Но со скрипом… Ольга тихонько ахнула. — Значит, летишь, быть тебе лунарем-третьим… — Морев улыбнулся. — Четвертым, Иван, — поправил Громоздов. «Лунарь-первый» — под этим прозвищем Морев был известен во всем мире. — Верно, я и забыл… Но почему со скрипом? Громоздов промолчал, глаза его смотрели сумрачно. — Ты чего, Алексей? — Да ничего, — отозвался тот. — Видно, мое время на исходе… — Кто тебе это сказал? Комиссия? — Да нет, конечно… Но это висело в воздухе, понимаешь? — Брось и думать об этом! Это все Глобовидение, та сцена вывела тебя из равновесия… Ты не сказал им ничего? — Конечно, нет. О том, что я был именно в этом лагере, никто не знает, кроме вас двоих… Но встреть я этого типа теперь, — хмурые глаза Алексея мрачно сверкнули, — он не ушел бы живым… Клянусь, меня не остановили бы ни моральные, ни юридические запреты! В глазах Ольги застыли слезы. — Я не осудила бы тебя, — прошептала она. — Неужели все это действительно могло быть? Здесь, на Земле людей? Тогда я была годовалым ребенком… — Из-под прикрытых век покатились светлые капли. — Но я не поняла бы тебя теперь, спустя столько лет… Он наверняка промучается весь остаток своей жизни, как тот летчик, который сбросил бомбу на Хиросиму… — Ты права, — сказал Морев тихо. — Алексею, конечно, виднее, меня ведь после тех времен еще лет десять на свете не было… В музее, в Освенциме, видел многое своими глазами, но все равно не верится, что это делали люди… Знаю, а не верю, понимаешь, Алексей? Ведь этот Франц теперь постарше тебя… Не может быть, чтобы его не мучила совесть… — Нет, Иван. — Громоздов покачал головой. — Они не были людьми. И, конечно, не стали ими и под старость… Мучиться совестью может только человек… — А если бы ты встретил его в опасности? Если бы он нуждался в помощи, в глотке воды, в перевязке раны? — Чисто христианская проблема. — Алексей невесело усмехнулся и глубоко задумался. Морев вгляделся в старшего друга, сделал Ольге знак глазами. Та подошла к Алексею: — Тебе нужно отдохнуть… Ложись, прошу тебя, скоро придет твой медик-хранитель… Морев обнял Громоздова. — Ни пуха тебе, ни пера, старик… Не забудь про маяк на пирамиде, он доведет тебя… Витюк, прощайся… — Счастливо наверх, дядь Леша! — прозвенел мальчик. — Камешек привезите. Громоздов проводил его взглядом, уколовшим Ольгу, — у них детей не было. Потом прошел в кабинет, разделся, лег. Ольга уселась у изголовья. За распахнутым окном колыхалась прозрачная зелень молодого сада — по стене, догоняя друг друга, сновали смутные тени. Громоздов вдруг сел, положил на грудь руку… — Отлетал я свое, Оля… В его взгляде были растерянность и безнадежная тоска, вызвавшая в душе Ольги двойственное чувство тревоги и эгоистической радости. Устыдившись, она бросилась к телефону.Спустя 12 часов после старта «Европы» в Эль-Хаммаде
Дюран не отрываясь глядел на багряную полосу заката, повисшую за окном. Тревога в душе нарастала с каждым часом. Итак, большие боссы там, в Женеве, предоставили ему самому выпутываться как знает… Хорошо еще, ничего пока не просочилось в прессу… Позади осторожно открылась дверь. Дюран обернулся. — Ну? — спросил он нетерпеливо. — Его нигде нет, шеф. — Рене развел руками. — Мы облетали пустыню в радиусе полусотни миль… Но зато нашли нечто другое. — Что еще? — Дюран побагровел. — Машину Схеевинка. В тамарисковой роще… — В машине что-нибудь есть? — Ничего, только свежий номер «Альжери нуво». Дюран вздохнул — этот факт ничего не добавлял. — Искать еще, шеф? — спросил Рене. — Не надо, подождем… Эрдманн должен быть на работе завтра утром. — Дюран глянул на часы. — Через семь часов будем сажать кабину… — А русский вылетит? — Они должны стартовать вот-вот… Но им хватит восьми часов, они его нагонят… Вы ведь парижанин, Рене? — спросил Дюран неожиданно. — Да, шеф, — удивился Рене. — Я тоже… Хотели бы вы сейчас очутиться под каштанами? — Еще бы, месье Дюран! — Рене просиял. — А вы? Загорелое лицо Дюрана посуровело. Он злился на себя за лирический импульс. — Идите, Рене, работайте… — сказал он тихо. В этот вечерний час на площадке было все еще невыносимо жарко — бетон, разогреваемый вечным солнцем, казалось, не остывал круглые сутки. У стартовой башни белела просторная палатка, из которой доносилось гудение кондиционера. Рене откинул входное полотнище. Внутри, у стола, заставленного приборами, возились двое. — А, явился… — приветствовал его Дамми. — Сыскное агентство мистера Дюрана… Ну, что там, у русских? — У них-то все в порядке. — Рене принялся за работу. — Они нашли добровольца… Что, Дамми, хочешь слетать тоже? Из тебя, верно, вышел бы недурной манекен. — Он подмигнул Юсефу. — Нашел дурака! — сказал Дамми. — Да, уж ты бы на Луну не полетел. — Юсеф усмехнулся, блеснув зубами. — А ты, Рене? — Отчего же, полетел бы… Только не один. Вдвоем с хорошей девушкой… И с запасом винца, — добавил он. — Вот-вот, — пробурчал Дамми. — Голландец тоже не прочь был поухаживать, даром что у него в Утрехте семья… Как увидит Ингрид, так и тает, как мороженое на печке… — Ингрид оставь в покое! — Рене пристально поглядел на Дамми. — И голландца тоже! — вспылил Юсеф. — Стыда у тебя нет, он ей в отцы годится! — Ладно, не буду… А все-таки кого-то он с собой взял. Может, и девчонку. Затем и выходил… — Дамми оживился. — Ребята, это действительно идея! Нужно только высадить второй манекен! — Но мы нашли только один. — Один и искали, пустая твоя голова! Пари, что там есть еще один! — Что ж, ступай поищи Дамми-третьего, — посоветовал Юсеф. — Или то, что от него осталось… Дамми повернулся к нему, забавно вытянув шею, словно рассерженный гусь. — Слушай, ты… Я тебе сейчас покажу, что от Дамми-первого кое-что осталось! — Он угрожающе двинулся на Юсефа. Тот проворно выскочил наружу. — Пари, Дамми! — крикнул он на ходу. Дамми сделал зверское лицо, но гнаться за Юсефом не стал — этот зубоскал не стоил райской прохлады в палатке. В стартовой яме было горячо — после старта, словно лава, кое-где дымился шлак, и его жар чувствовали ступни даже через подошвы ботинок. Юсеф, приплясывая, походил около раскопанной кучи, где был найден манекен. Поморщился, вспомнив обгорелое пластиковое туловище с обрубками рук, лишившихся кистей. Пройдя несколько шагов в сторону, он споткнулся обо что-то твердое, торчащее из шлака. Нагнувшись и потянув, он с усилием вытащил целую — от плеча до кисти, — покрытую пузырями пластиковую руку. Дамми выиграл пари! В тот же момент в далеком Байконуре, рассекая ночь алым пламенем и грохотом, стартовал «Лунник-22».На Луне, спустя 23 часа после старта «Европы»
Человек в скафандре стоял рядом с кабиной, прочно осевшей на своих решетчатых лапах, — она была похожа на старинную голландскую мельницу без крыльев, почему-то окрашенную в угольно-черный цвет. Нужно было что-то делать. Человек не мог решить что. Стимула к действию не было — только странное равнодушное спокойствие, будто время не отсчитывало безвозвратные секунды, будто ресурсы в системе жизнеобеспечения были неограниченными. Это была Луна, мир гробовой тишины и абсолютного, потрясающего покоя, ковчег, одиноко плывущий в черно-звездном космосе… Но Земля не отпускала его и здесь. На ее радиоголос он не откликался, а она все равно висела в черноте эмалево-голубым шаром, полузакутанным в блестящую белую шаль облаков. И, глядя на нее, ему нестерпимо захотелось зажмуриться, зарыться, укрыться. Он опустился на грунт, лег лицом вниз — прозрачная броня гермошлема накрыла кучу сверкающего лунного щебня. Он вспомнил, как тревожно прозвучал тогда за дверью телефон. Вскочив с дивана, он метнулся в переднюю, в виски оглушительно забила кровь, и тело мгновенно покрылось испариной. Но тревога была напрасной — просто блуждающая волна в сети заставила аппарат нерешительно звякнуть. Он огляделся. В полумраке все казалось зловеще чужим. В зеркале он увидел свое лицо, подтяжки на белой сорочке, распахнутой на груди. Правее, в углу, виднелся «Конквистадор Вселенной» — уменьшенная копия, человек в скафандре, в позе метателя, замахнувшегося ракетой-копьем. Теперь это был враг, целивший прямо в него! Он почувствовал, будто внутри, ветвясь, пробежала трещина, — оттуда липким чудищем выполз страх, хватая за сердце. Бежать! Но куда? Он отступил на шаг, беспомощно оглянулся и вдруг бросился в дверь. Ворвавшись в кабинет, он выглянул в окно и прислушался: в темноте только цикады тянули бесконечную песню. Над спящим оазисом, как бдительный страж, висела яркая, холодная луна, и ему в голову пришла мысль, безумная в своей дикой нелепости. Но самым невероятным было то, что она была воплотимо реальной. И, осознав это, он почувствовал, как уползает прочь смертельный страх, втягивая серые щупальца. Он решился.Спустя сутки после старта «Европы». Эль-Хаммад
Невысокое утреннее солнце освещало группу людей, ожидавших у ворот стартовой площадки сигнального звонка. — Смотрите, шеф едет… Урча, подкатил открытый джип Дюрана. — Эрдманн здесь? — крикнул он, выходя из машины. — Нет, господин Дюран. — Ступайте, Юсеф, и вы, Коретти, ищите его дома… Взломайте дверь, — приказал Дюран. — Телефон не отвечает. Двое бросились к мотоциклам. — Ну, как наша кабина, сэр? — спросил Дамми. — Посажена благополучно час назад. — А «Лунник»? — Тоже. — Значит, теперь их там трое, — резюмировал Дамми. — Теплая компания… Дюран посмотрел на него уничтожающим взглядом: — Что за чепуха! Ясно только одно: из кабины были удалены оба манекена и место одного из них занял Схеевинк. — Но кто же второй, сэр? — Нет никакого второго, черт побери! — заорал Дюран, стукнув кулаком по капоту машины: эта дурацкая история ему осточертела. — Вы мне объясните, как мог пройти этот второй, если он чужой! Без ключа Схеевинк не мог провести никого! Он спятил, это ясно, и вместо второго манекена взял какой-то груз, может быть взрывчатку. За этим он и выходил… — Разрешите, господин Дюран? — пропел женский голос. Дюран с удивлением глянул на пышущую здоровьем румяную девушку в обтянутом комбинезоне, и впервые за утро улыбнулся. — Ну, Ингрид? Тоже что-нибудь придумали? — Я покажу вам фокус… Поди-ка сюда, Рене… Она взобралась ему на спину, обхватив за шею. Подобрав ее ноги, Рене низко опустил голову, и они двинулись к воротам. Лицо Ингрид осветил луч света. Створки ворот разошлись, пропустили их и тут же плотно сомкнулись. Глаза Дюрана расширились, а Дамми в восторге захлопал себя ладонями по бокам. — Вот это номер! — выговорил он. — Цербер пропустил их двоих, узнав Ингрид! Снова разошлись створки, и появился раскрасневшийся Рене с Ингрид на спине. Улыбаясь, она спрыгнула на землю. — Что это значит, ребята? — строго спросил Дюран. — Мы иногда пользуемся этой маленькой хитростью, господин Дюран. — Ингрид метнула в Дюрана неотразимо лукавый взгляд, — когда не хотим оставить отметку на контрольной ленте. Отмечается кто-нибудь один. А в оазисе за воротами так хорошо в жару… Дюран был поражен. Бдительного Цербера, новейшую распознающую машину, способную различить двух близнецов, легко было обвести вокруг пальца! Правда, для этого нужен был сообщник, которого машина знала в лицо… В конце концов, никакая крепость не устоит, если внутри есть предатель… Он представил себе физиономию Ремонье, конструктора Цербера, — его хватит удар… Нет, он вызовет его сюда и покажет ему фокус Ингрид, заключив предварительно пари. Ему стало весело. — Значит, и Схеевинк мог сесть вот так, верхом, на кого-то чужого! Но зачем, черт возьми? Зачем ему понадобился кто-то еще? — Погодите, здесь что-то не то, — вмешался Дамми. — Если бы он запланировал все заранее, он провел бы без всяких фокусов хоть целую роту. Но ключ он оставил в сейфе, значит, он не рассчитывал заранее, понятно? Второй появился неожиданно, вот что!.. Постойте! А что, если он заставил его? — Что ты болтаешь! Как — заставил? — А вот так, уткнувши в бок дуло пистолета! — Сесть на меня верхом под дулом пистолета? — Рене расхохотался. — Хотел бы я посмотреть, как это ты меня заставишь! Да я тебя просто придушу, и все… — Не успеешь, я пристрелю тебя раньше… — Нет расчета, Дамми, — вставил Дюран. — Тогда ведь вы не пройдете… — Не пройду? Думаете, не пройду? — Глаза Дамми горели азартом. — Да я… Его перебил пронзительный звонок телефона, установленного на щитке машины Дюрана. — Да! — Господин Дюран, это я, Юсеф… Из коттеджа господина Эрдманна… Его нет, но мы нашли письмо. — Читайте!— «То, что я видел сегодня в программе Глобовидения, составляет вечный позор немецкой нации. Я не хочу больше жить, называясь немцем. Ухожу в здравом уме и добровольно. Для того, что от меня останется, в песках пустыни достаточно места».Дюран опустил голову. — Это слишком… — прошептал он. — Что? — Ничего… Вы уверены, что это писал он? — Да, господин Дюран, тут на столе его записи в календаре, почерк тот же. — Ищите его повсюду! — прокричал Дюран. — Все на поиски!
Луна. Спустя час после посадки «Лунника-22»
…Легкое подрагивание почвы оторвало его от воспоминаний. Лунная твердь дрожала, словно где-то за горизонтом двигалась танковая колонна. Что это? Вулкан? Поднявшись на ноги, он несколькими длинными скачками взлетел на пологий холм — куполовидное возвышение, поднимавшееся невдалеке от места посадки. На холме, отливая матовым блеском в ослепительном солнечном свете, стояла решетчатая титановая пирамида, первый тригонометрический знак на Луне, установленный еще Моревым. Отсюда круглившийся горизонт выглядел особенно близким: казалось, Луну можно было обежать за несколько часов. Дрожание почвы прекратилось, и вдруг из-за горизонта желтой молнией взвилась огненная точка и рассыпалась медленными красными и зелеными звездами. Это могла быть только сигнальная ракета! Значит, Земля послала за ним? Уже? Потом горизонт в одном месте словно вздулся, там что-то блеснуло. Он вгляделся — это была человеческая фигура в скафандре. Она приближалась длинными плавными прыжками, как в замедленном кинофильме, поблескивая шлемом и раскачивая толстыми членистыми руками, — ее тень казалась черным провалом, пробегающим по лунной равнине. Он кинулся вниз, не рассуждая, — мысль, подстегиваемая жгучей подсознательной эмоцией, вслепую билась в черепной коробке. Забежав за кабину, он очутился в ее тени и понял, что здесь он невидим. Тень протянулась метров на двести черным острием, и он попятился назад, к ее дальнему концу.В то же самое вриемя на Земле, в Эль-Хаммаде
В окно виднелась старая часть городка — низкие, неровно обмазанные слепые стены, груженый осел, неторопливо бредущий по пыльной улочке в сопровождении дочерна загорелого белобородого старика. «Как лет двести назад», — подумал Дюран. Но из-под широкой белой халабии, в которую был одет старик, пела музыка — старик был озвучен новейшим транзистором, а поверх ослиной поклажи Дюран разглядел укрепленный на ней переносный телевизор. На экране что-то мелькало — старик не терял времени зря. Непостижимо! Дюран пожал плечами. Вторые сутки он не мог включиться в нормальный ритм — вся эта история начисто выбила его из колеи. Дело ничуть не прояснилось. Оно только все больше запутывалось, а между тем напряжение нарастало — там, на Луне, они вот-вот встретятся… Никаких следов Эрдманна не нашлось… Мысль понеслась вскачь, потом сделала неожиданный вольт в сторону письма Эрдманна. А если… Чушь, не может быть! Еврокосм прислал его с проверенными документами… Этот долговязый бездельник Дамми, голова у него варит неплохо. Появление второго действительно было неожиданным… Как он не подумал об этом раньше? Вот зачем Схеевинк выходил — его вызвал человек, знавший о Цербере, но не имевший доступа на площадку! И он мог принудить Схеевинка… Но он тоже не вышел обратно. Он не мог выйти один. Значит, в кабине их наверняка двое. Двое! И необъяснимым чутьем Дюран вдруг понял, кто был второй… Вскочив с места, Дюран вихрем ворвался в радиоаппаратную. — Живо, Байконур! — Алло! Дюран? Он узнал Громоздова. — Вы?? — Мы отправили Морева, — был ответ. — Но в чем дело? — Капитан Морев? Лунарь-первый? Значит, теперь он и первый, побывавший на Луне дважды! — Да, когда вернется, — ответил Громоздов. — Он вооружен? — Да. Он вышел на поиски… Но что случилось? — В кабине находятся двое… — Дюран кратко изложил суть. — Видимо, у него комплекс вины, письмо звучит совершенно искренне… После непродолжительного молчания из Байконура донеслось: — Понял, положение сложное. Как вы понимаете, Морев может взять только одного… — Боюсь, что только одного и придется возвращать… Ясно, что Схеевинк не полез в кабину добровольно… На этот раз молчание было более длительным. Потом Байконур ответил: — Вот что, Дюран. Немедленно фототелеграфьте нам портрет этого, другого. Дорога каждая минута. Сеанс связи с Моревым через полчаса, я опишу его устно. — Но зачем? — недоуменно спросил Дюран. — Никого другого там ведь не может быть! — У меня есть свои… соображения, Дюран. Шлите портрет немедленно!За 6 часов до старта «Европы»
Чем дольше он глядел на лунный диск, тем заманчивее казалась внезапно осенившая его полуфантастическая идея. Там, на Луне, они его не достанут. Если он протянет месяца три на ресурсах Базы, русский «Лунник» вернет его на Землю — первого лунного Робинзона, героя Земли. А пока он соберет станцию и займется научными наблюдениями… Закрыв глаза, он задумался. Потом, присев к столу, быстро набросал несколько строк и аккуратно запечатал конверт. Почему-то стараясь шагать на цыпочках, переоделся в комбинезон, рассовал по карманам несколько привычных мелочей. Подумав, сунул в карман пистолет — и вдруг замер, ошеломленный возникшим в сознании вопросительным знаком. Как проникнуть в кабину? Остаться незамеченным до самого старта? Цербер пропустит его не раньше шести утра, но тогда будет поздно. Ключ… Как дорого он дал бы за ключ! Но все равно, там ночной дежурный… Мысль о дежурном таила смутную угрозу, но не оставила следа. Схеевинк! Только он может провести его, он должен быть там, наверно, один. Или он еще дома? И, не рассуждая больше, он набрал его номер. Что он делает? А, он объяснит, что оправился, хотел бы ему помочь… Но в трубке звучали гудки, один за другим, — Схеевинка дома не было. Он на площадке, а у ворот — дежурный. Проклятый дежурный! Лишь теперь он понял, что из-за дежурного все висит на волоске, и вновь почувствовал в каждой клеточке тончайшее щупальце страха. Взяв себя в руки, он торопливо набрал номер аппаратного зала. Схеевинк ответил сразу: — Это вы, Эрдманн? Как чувствуете, отошли немного, а? — Да, спасибо за внимание, герр Схеевинк. Но… не спится. — Отдыхайте, отдыхайте. В нашем деле нужен спокойный ум… — Вы знаете, я вам завидую. Вашему спокойствию… — Он не знал, за что зацепиться. — Надо просто любить свое дело, Эрдманн. Для меня ночь перед стартом всегда торжественна, словно сочельник. А стартовая башня — как нарядная елка… — Но вокруг елки всегда веселый хоровод, а вы ведь один? Трубка в его руке дрожала, он чуть отодвинул ее от уха. — Один, Эрдманн. Я люблю побыть наедине с небом, оно сегодня особенно глубокое… (Один? А дежурный?) — Но я мог бы помочь вам. — В мозгу кружились бессвязные обрывки мыслей. — Ну, хотя бы… заменить у входа ночного дежурного… — О, не беспокойтесь, не нужно, я его отослал, пусть выспится… Спите и вы. Покойной ночи, надеюсь, послезавтра вы будете в форме… Ему везло. Как всегда, всю жизнь! Судьба убрала с его дороги единственное неодолимое препятствие, больше их не было. Он осторожно запер наружную дверь и стремглав кинулся к машине — его гнало бешеное нетерпение. Скорее туда, нужно дождаться его выхода или перехватить по дороге… Поняв, что машину нужно оставить здесь, он пробормотал проклятие. Спустя час ходьбы под звездами, тяжело дыша, он достиг ворот. Еще издали он увидел цепочку огней, окаймлявших верхушку стартовой башни, — значит, Схеевинк еще работает. По обе стороны ворот смутно белела бетонная ограда в два человеческих роста; откуда-то из-за нее доносилось гудение. Мощный светильник, свисавший над воротами, заливал ярким светом подъездную площадку и одиноко стоявшую на ней небольшую открытую машину. Беспокойно озираясь, Эрдманн заглянул в глазок рядом с воротами — дежурное помещение пустовало. Оставалось ждать. Укрывшись за машиной, он уставился на ворота. Что он должен предпринять, когда тот выйдет? И в его ушах зазвучал голос защитника на суде, в черной мантии и шапочке, стоящего за пюпитром:«Господа судьи! Мой подзащитный в давнем прошлом совершил тяжкое преступление. Но разве не искупил он вину, обрекая себя на добровольное изгнание за пределы Земли?..»(Уговорить его молчать!)
«…на длительное пребывание в качестве подопытного объекта в абсолютно враждебной среде, под воздействием совершенно неизвестных ранее природных агентов…»(Попросить провести на площадку полюбоваться ракетой в ночи? На этом можно сыграть. А если он откажется?) Размышляя, он ждал. Тьма на востоке бледнела, и это жгло, подхлестывало мысль все сильнее, все яростнее…
«Если вникнуть в его психологический статус, состояние человека, принявшего безумное и трагическое решение, — его можно понять. Он мог привести свой замысел в исполнение только с помощью другого человека, поневоле применив обман…»Он посмотрел на часы — было без пяти четыре. Луна заходила за холм, серебря сзади темные силуэты пальм, а свет на востоке брезжил все ярче…
«…или принуждение»…(А если придется отобрать у него ключ силой? И как гарантировать его молчание до старта?) Внезапно светильник погас, заставив его вздрогнуть. В тот же момент гудение, доносившееся с площадки, резко оборвалось — выключилось напряжение электропитания. Спустя несколько минут створки ворот раздвинулись, пропустив Схеевинка. Что-то мурлыча под нос, он направился к машине, и тут перед ним возник Эрдманн. Казалось, Схеевинк ничуть не удивился. — Что, Эрдманн, не спится? — Герр Схеевинк, — Эрдманн, как обычно, слегка заикался, — мне нужно пройти на площадку. — Но зачем? — При свете зари Схеевинк ясно видел его взволнованное лицо. — Мне нужно… Мне очень нужно… Нужно! Упорство, звучавшее в его словах, насторожило Схеевинка. И этот подскафандровый комбинезон! А очки? Где его очки? — Я вижу, вы чем-то взволнованы, — сказал он осторожно. — Но там все в порядке… Вы пешком? Садитесь, я подвезу вас… — Нет, я прошу вас… Мне нужно, слышите? Схеевинк невольно отступил. — Хотите знать зачем? Слушайте, но не удивляйтесь… И, пожалуйста, не считайте меня параноиком. Я займу место манекена… — Вы с ума сошли! — Нет, я в здравом уме… Я должен. Должен! — повторил Эрдманн. — Я принесу искупительную жертву за то, что мы с вами видели вчера. За наш национальный позор… Вы должны помочь мне, слышите? И молчать, пока кабина не совершит посадку на Луне. Я дам вам расписку, она снимет с вас ответственность… — Успокойтесь, Эрдманн… Ради всевышнего, придите в себя… Ваша жертва не нужна. Время для вашего подвига еще не пришло. — Он пытался как-то выиграть время. Внезапно с живостью, несвойственной полнеющему телу, он отпрыгнул назад и стал за радиатором. В тот же миг он увидел зловещее око пистолетного дула. — Ну, — сказал Эрдманн. Что-то в тоне его глуховатого голоса ужаснуло Схеевинка: перед ним стоял опасный маньяк, готовый на все. — Ключ! — Опомнитесь, Эрдманн! Ключа при мне нет. Надо дождаться шести утра, и Цербер пропустит вас… — Вы лжете! — дуло пистолета протянулось, опустилось и уперлось в живот голландца. — Без очков он меня не пропустит. Доставайте ключ. — Ищите. — Схеевинк нарочито медленно выгружал из карманов комбинезона отвертки, гайки, проводнички. Губы его что-то шептали. Скорее. Скорее! — Все, — сказал Схеевинк. — Вы видите? Ключа не было. — Но мы можем съездить за ним… ко мне… Эрдманн огляделся. На востоке заря уже тронула горизонт темным пурпуром — день не ждал, он не хотел ждать. И вдруг где-то в его мозгу нежданная мысль пробила дорогу, будто из летки, рассыпая искры, потек расплавленный металл. Автомат знает голландца в лицо, он его и пропустит, живого или…
«…ему пришлось взять его с собой…» — сказал защитник.Эрдманн опустил пистолет. — Едем… Быстро! Быстрее! Схеевинк уселся, включил стартер, — в то же мгновение мир обрушился в тартарары. Тяжелый удар по голове рукояткой пистолета оглушил его. Скорее! Скорее! Вывалить его на землю. Теперь машину, — он отвел ее в рощу, спустил в старое сухое русло. Вернувшись, он обхватил под мышки обмякшее, тяжелое тело, приподнял — рука, лежавшая на области сердца, не ощутила толчков. Он не хотел этого. Не хотел!
«…к сожалению, его спутник не вынес трудных условий космического полета…»И, прикрывшись трупом, как щитом, Эрдманн двинулся к воротам. На мертвое лицо Схеевинка упал луч света, и ворота растворились. В косых лучах низкого Солнца лунная равнина, лишенная атмосферной вуали, сверкала необыкновенно рельефно. В этом океане блеска пирамида была совершенно невидима, но установленный на ней радиомаяк вел уверенно: нужно было просто держаться направления, по которому до обоих ушей доходил звук одинаковой силы. И так сильно было в Иване чувство Земли, что никакими усилиями сознания он не мог избавиться от странной иллюзии, которой не испытывал в свое первое пребывание на Луне. Ему казалось, будто он находится в гигантском планетарии, с искусно имитированным звездным узором на глубоком черном небе, на котором висел рельефно вылепленный глобус родной Земли. Только человеческое искусство могло создать этот стальной, немигающий звездный блеск, — такими никогда не бывают звезды на настоящем небе. Удивительно было, что эта иллюзия отлично уживалась с точным знанием. Да, этот голубой глобус — это и есть Земля, где десять часов назад он прощался с Ольгой и Алексеем, радуясь, что тот остался. Когда пирамида наконец крохотным бугорком блеснула на черном горизонте, Морев остановился и позвал по радио. Но в ушах лишь перешептывались помехи, случайные отголоски космического хаоса. Достигнув холма и обойдя его, он увидел кабину «Европы» — угловатое черное сооружение, покоившееся на замысловатой системе опор. Рядом не было никого. Поднявшись по лесенке, Морев заглянул в иллюминатор — изнутри люк был отдраен, и в кабине было светло. Сразу бросилось в глаза: одно из кресел пусто, а во втором, развалясь, словно в шезлонге, сидела фигура в скафандре — ясно, второй манекен, он был виден в профиль. Значит, Схеевинк покинул кабину. Но где же он? Видел ли сигнальную ракету? Отвернув наружный люк, Морев проник в тесный тамбур. Выждав, пока бесшумно вдвинулась внутренняя переборка, он, согнувшись, протиснулся внутрь, разогнулся — и замер. У манекенов не было глаз, а этот — он глядел сквозь прозрачный шлем пристальным неживым взглядом. Морев сразу опознал Схеевинка по виденному на Земле портрету и почувствовал приступ душевной боли: его миссия оказалась напрасной. Но тут же высунулся железный бивень логики: второе кресло пустует. Значит, оно было занято не манекеном? Самостоятельно покинуть кресло мог только живой человек. Значит, их было двое? Морев внимательно осмотрел второе кресло — датчики и шланги жизнеобеспечения были аккуратно отключены и их концы заглушены. С трудом поворачиваясь в тесной кабине, он проверил действие жизнеобеспечения — все было в норме. Было ясно, что Схеевинк не покидал кабины, возможно погиб в полете… Значит, второй все-таки был. О нем Морев ничего не знал. Кто он такой? И где он? Неужели о нем ничего не знали? А если он… ненормален? И, осознав это, Морев невольно вздрогнул, — не остерегаясь, он прошел, возможно, на виду у опасного маньяка или даже врага… По прихоти судьбы эти двое тоже оказались первыми: первый лунный мертвец и первый лунный сумасшедший… Но в это не хотелось верить. Надо найти, позвать его… И, спустившись на грунт, Морев пошел вдоль длинной тени кабины, время от времени посылая радиозов среди мертвой тишины, но слыша только собственные шаги. А в ушах невидимки, притаившегося в тени, вдруг раздалось пощелкивание. Начал работать счетчик Гейгера, непременная принадлежность каждого скафандра. Это не походило на привычный фон лунной почвы: посланец Земли приближался, а щелканье усиливалось, нарастало… И вдруг нахлынуло звуковой лавиной — осколок старого «Лунника», любимый амулет Морева, был слегка радиоактивен от долгой бомбежки космическими лучами. И беглеца охватил ужас. Гость прилетел слишком быстро, это мог быть только русский… Он был в кабине и видел труп… А что, если этот русский из тех, кого он боялся всю жизнь? Из «меченых», получивших радиоактивную дозу и чудом выживших? Голос защитника давно умолк. Теперь с трибуны гремел прокурор:
«…наверняка найдут их даже на краю света…»Они нашли его! И, не выдержав, он вскочил на ноги и побежал, делая гигантские скачки, пустив в ход последние ресурсы воли и выносливости. — Стойте! Кто бы вы ни были! Стойте, это приказ Земли! Вы человек, вспомните это! Речь прокурора была английской. Это его успокоило, и он остановился. Двое стояли друг против друга на каменистой лунной равнине, искрившейся в свете низкого Солнца, ниспадавшей покатым горизонтом прямо в черное ничто. Сыновья Земли, в одинаковых серебряных скафандрах, — первая двойка на Луне, — они молча глядели друг на друга. И в ушах Морева зазвучал голос Алексея Громоздова, — пришло время сеанса связи: — Иван, там их двое… Иван, там их двое… Остерегайся второго, я узнал его, это он, ты помнишь Глобовидение, это он. Принимай решение, ты можешь взять лишь одного… Только одного. Любое решение, утвердим любое решение, слышишь? Иван машинально подтвердил прием нажимом кнопки на поясе. Он не чувствовал ничего, кроме безмерного холодного удивления. Вглядевшись, за прозрачной броней гермошлема он различил исхудалое, тронутое седой щетиной лицо, и на миг сердца коснулась жалость… Но тут же в памяти всплыло то лицо, молодое, надменное, над грудой потрясающе жалких человеческих останков, и крохотный островок жалости затопило тяжелой волной гневной горечи. Алексей был прав. Да, этот старик мучился, но не совестью, а животным страхом возмездия… И, угадав это, Иван вдруг понял, что жизнь столкнула его лицом к лицу с им же поставленной задачей… Беглец невольно сделал шаг вперед. — Оружие наизготовке, — услышал он тотчас же. Из-за прозрачного забрала на него глядело гневное мужское лицо с решительными синими глазами — такие глаза он видел у некоторых русских… Потом бывший штурмфюрер СС Франц Баумер перевел взгляд на Солнце — страшное косматое пламя в черной печи, огненную пасть колоссального закоптелого крематория, — и Иван Морев увидел, как по обе стороны его шлема медленно поднялись две суставчатые руки.
Георгий Тушкан КОМАНДИР ВАСИЛИЙ МОРОЗОВ
1
Тридцатипятилетний журналист Юрий Баженов, человек увлекающийся и романтически настроенный, рвался на фронт добровольцем. Но прежде чем попасть на фронт, ему пришлось постигать военное дело в Московском пехотном училище. Здесь он очень скоро понял, что немилая его сердцу «муштра» крайне необходима фронтовику. Именно здесь журналист Баженов научился ценить воинскую дисциплину, выдержку, сноровку. Он мечтал о подвиге и стремился на фронт, а его направили в Архангельский военный округ. Там Баженова, знатока воинских уставов, заставили заниматься с командирами, находившимися в резерве. Он проводил занятия с утра до вечера и надеялся, что наконец-то оценят его старание и отправят на фронт. А время шло… Через три месяца Баженов дал пространную телеграмму в Наркомат обороны. И его просьбу удовлетворили. В записках военного корреспондента Юрия Баженова рассказывается о многих замечательных людях. Здесь мы узнаем лишь об одном, о командире Василии Морозове.2
О Василии Морозове я услышал задолго до того, как познакомился с ним. Рассказы о его отчаянной храбрости, воинской сметке и командирском авторитете, о том, как его любят бойцы, звучали легендой. И я поехал к Морозову, чтобы «учесть боевой опыт» — так сухо звучало задание. С Морозовым я встретился ночью, когда гремящее море огня захлестывало своими волнами небо над Селижаровом, обжигая низко проносившиеся тучи, и снег, такой белый в ночи, был багрово красным от этого зарева. Казалось, пылает вся Валдайская возвышенность с ее крутыми скатами, глубокими лощинами и ледяной гладью больших и малых озер, с ее заснеженными лесами. Морозов подошел ко мне, окруженный группой младших командиров и бойцов, шумно обсуждавших победу. Он вынул наган из-за пазухи и сунул его в кобуру, кубанку сдвинул назад, обнажив высокий лоб, и быстрым движением пальцев коснулся щегольских черных усиков. Был он невысокий, худощавый, с тонкими чертами лица и пристальным взглядом небольших карих глаз. Мы стояли на дороге у еще теплого пепелища. Пахло гарью, и ветер надувал пустые рукава длинной рубахи, зацепившейся за угол русской печи, одиноко белевшей среди черных развалин. Издалека, где горели деревни, слышалась беспорядочная стрельба. Это отступавшие после боя гитлеровцы наугад стреляли в темноту затаившегося леса. От длинной вереницы машин, ожидавших бойцов у леса, доносился шум моторов и писк полевого телефона. — Есть связь с Жаворонком? — крикнул Морозов. — Нет, — ответил связист, и телефон запищал еще настойчивее. Сильный порыв ветра запорошил нам снегом глаза, и с окраины сожженной деревни донесся странный звук — протяжный, тревожный. Он беспокоил меня и раньше. — Покажи-ка, Звягинцев, — заметив мой недоумевающий взгляд, сказал Морозов. И молодой разведчик, словно ждавший этой команды, бросился со всех ног туда, где на фоне красного снега зловеще темнели фашистские кресты снадетыми на них касками. И вот уже в руках Морозова каска. Он щелкнул ногтем по пулевому отверстию в ней, а потом поднял ее наверх, и ветер, ворвавшись сквозь отверстие, завыл тоскливо и печально, как в трубе. Тягучие посвисты рождались на немецких могилах, неслись над красным снегом и замирали в лесу. — Считайте — двадцать пять могил, в каждой по десять фрицев, да семьдесят три непохороненных, а сколько трупов сами немцы сожгли. — Цепкий взгляд Морозова скользнул по отъезжающим машинам с ранеными. — Санитары прибыли, — доложил Звягинцев. Морозов резко повернулся: — Подойдите! Два санитара, сутулясь и переминаясь с ноги на ногу, подошли. — Почему оставили раненых на поле боя? — Всех, кого видели, взяли, тяжелораненых взяли, были легкораненые… — Где Писарев? Почему оставили автоматчика Писарева на поле боя? — Не видели мы его, — оправдывались санитары. — Когда лежишь носом к земле, ничего не видно, — глаза Морозова потемнели, — а раненого не только видно, но и слышно… Из-за вас мы Писарева потеряли. Сегодня я вашей работой недоволен, санитары. Идите! Санитары вытянулись, отдали честь и чуть не бегом двинулись от Морозова. Зарево охватило уже полнеба. С тихим урчанием прошли последние машины с бойцами. Машина Морозова стояла рядом, но он медлил. А из-за леса в это время выходили все новые и новые группы бойцов. — Наконец-то! — радостно крикнул он и шагнул навстречу молодому командиру, вынырнувшему из чащи. — А я Жду не дождусь! Молодец, Жарков! Спасибо за точный огонь. Садись со мной в машину. А ну, Звягинцев, на коня — и скачи вперед. Чтоб ужин был Жаркову и его ребятам. Чтоб печка в его избе жарко пылала. Возьми пластинки у Тюрина и патефон, отнеси Жаркову. Пусть ему и его ребятам Барсова и Козловский песни поют, пусть хор Пятницкого их развлекает! Звягинцев вихрем пронесся вперед. — Артиллеристы отличились? — спросил я. — Боевой народ! — ответил Морозов и, понизив голос, добавил: — Им завтра снова в бой… Так сказать, аванс выдаю. Они оправдают. Машина качнулась и пошла в темноту. В пути то и дело остановки. — Стой! — приказывает Морозов, завидев фигуру, согнувшуюся под тяжестью катушек с телефонным проводом. — Где телефонисты? Почему ты за них стараешься? — Не хватило двести метров кабеля. — Говорил им, пусть берут с запасом. Рация как? — Рацию наладить не могут, а телефонистов я провел к самой деревне. Залегли, слушают, как фашисты разговаривают, как телеги тарахтят. Немцы сейчас бревна тешут, доты делают! — Почему связисты сами за проводом не пришли? Боятся? А радистам скажи: пусть наладят рацию. Не сменю, пока не наладят. Время у них было. Подъезжая к деревне, мы услышали топот. Круто осадив коня, Звягинцев докладывал: — Я ему сказал, а он говорит: «Сам достал, сам и сделаю с ними все, что хочу». И грохнул все пластинки об землю!.. — Кто говорит? Что достал? — прервал его несвязную речь Морозов. — Тюрин говорит. Не дал пластинки Жаркову. Все вдребезги… И «Раскинулось море широко», и «Чего он моргает…»3
Тюрин, рослый и крепкий сибиряк, стоял у избы перед своими товарищами, стоял в одной гимнастерке, без шапки и не чувствовал холода. Лицо его выражало упрямство, глаза смотрели вызывающе. — Ты нечестно поступил, — начал Морозов, — ты подвел товарищей. Правильно, пластинки достал ты. Но люди, которые так цепляются за «свое», — эгоисты и себялюбцы, ненадежны в бою. Скажи всем, объясни своим товарищам, не раз выручавшим тебя в беде, почему ты это сделал. Не мне объясняй — им скажи. Наступило тягостное молчание. — Как же так? Как же так? — взволнованно сказал Жарков, обращаясь ко всем. — Сегодня Тюрин, заботясь только о себе, не выполнил приказа, потому что он хочет больше всех слушать песни, завтра он захочет рисковать меньше других и, чего доброго, во время атаки притаится под кустом! — Я не такой! — крикнул Тюрин. — Меня все знают, товарищ командир… — Не мне, ты им объясни, — спокойно показал Морозов на стоявших вокруг бойцов с осколками патефонных пластинок в руках. Тюрин спорил, не сдавался, но, наконец почувствовав все нарастающую враждебность, стал оправдываться срывающимся голосом. И когда суд чести окончился (а это можно было смело назвать судом чести) и каждый сказал, что думал, губы у Тюрина дрожали. — У немца, у черта, дьявола, а пластинки достану, — твердил он. — Я слышал, как немцы в деревне играли вальсы из кинофильма, — сказал Звягинцев. Он был сердит больше всех. — Будет вальс, — сказал Тюрин. — Будет! Мне было жалко Тюрина. По всему видно — боевой, обстрелянный боец, и вот поди ж ты, как в глазах товарищей упал. Целиком захваченный этой бурной сценой, я не заметил, как Морозов покинул наш круг. Но вот слышу его голос: — Писарев, откуда, друг? А я санитаров за тебя взгрел! Я посмотрел на Морозова. Лицо его сияло. Писарев шел к командиру вразвалку, держа руки в карманах. — Да так, немного задело, — сказал Писарев. И тут только я заметил кровавые пятна на рукавах, туго обтянувших перевязки. — Задело? — переспросил Морозов, гордясь мужеством, с которым автоматчик переносил боль. — Прихватило, — подтвердил Писарев. — Обе руки — насквозь… Автомат снимите, всю шею перетер, — попросил он, наклоняя голову. — Лесом шел, устал. Не отсылайте из части, товарищ командир, я скоро поправлюсь. — С такими молодцами скоро Берлин будем брать! — приговаривал Морозов, снимая автомат. — Жаль только, что завтра тебя с нами не будет. А чтобы скорее поправился, пошлем тебя в госпиталь… Не спорь! Ира! Перевяжи нашего Писарева, накорми его, напои, покурить дай, а потом поскорее отправь дальше.4
В низкой избе было жарко, как в бане, а Звягинцев все подкладывал и подкладывал в печь дрова. Тот, кто проводил дни и ночи на морозе, понимает, какое блаженство погреться у раскаленной печки. В комнате было шумно. В углу пищали телефоны, и связист беспрестанно твердил охрипшим голосом: — «Жаворонок»! «Жаворонок»! Я взял одну из трубок. «Мышь» вызывала по телефону «Кота», «Лев» запрашивал сведения у «Ящерицы» и «Дуб» отчитывал «Зайца». Санинструктор Ира разливала в миски горячие, жирные щи, душистый пар стлался по избе, раздражая запахом мяса и лука. — Жарков, комиссар, ребята, садитесь! Звягинцев, распорядись послать еду связистам! — Морозов подвинул скамейку Жаркову, сам сел на чурбан у стола. — Вы, сержант Иванов, опять за чужие спины прячетесь? — крикнул он в соседнюю комнату. Низкорослый Иванов вошел, ежась, будто от холода. — Вы, младший командир Иванов, скажите мне, как собираетесь воевать дальше? — Морозов положил ложку и встал. Все положили ложки. — Связь подвела, товарищ командир, — оправдывался Иванов. Морозов посмотрел на часы: — Приказываю не позже двадцати трех часов десяти минут отправиться с товарищем Шевчуком. Он старший. В деревне, занятой немцами, вы должны поджечь дома. О результатах доложите мне не позже четырех ноль-ноль. Имейте в виду, под домами немецкие доты. Шевчук разъяснит боевое задание. — Храбрый? — спросил я об Иванове. — Он проштрафился, — тихо отвечал Морозов. — А я нарядов не даю. Пусть проявит себя человек в трудном деле. Морозов сел на чурбан и взял ложку. — Вас накормили? — крикнул он вдогонку Иванову. — Нет, ужин запаздывает, — ответил Иванов. — Повара! — приказал Морозов. Повар прибежал, вытирая рот тыльной стороной руки. — Когда руки мыть будешь? — Раз пятьдесят мыл! — А может быть, больше? — Ну, раза два! — А если по-честному? — Честное слово, некогда, товарищ старший лейтенант! — Как стоишь! Лентяй! Как ты смеешь такими грязными руками готовить пищу моим бойцам-героям! Бери мыло. Мой руки! Повар поспешно мыл руки, разбрызгивая воду. — Еще, еще мыль! Да три сильнее, — не унимался Морозов. Смех и шутки посыпались со всех сторон. Когда красный от смущения повар вытер наконец руки полотенцем, Морозов приказал: — В первую очередь накорми боевиков, идущих ночью с Шевчуком на выполнение задания, и дай вареного мяса связистам. И чтоб ужин больше не опаздывал. Я прослежу. Помни: повар должен быть самым честным человеком. Не тряси головой. Если еще раз узнаю, что у тебя завелись дружки, пеняй на себя. — После ужина Морозов сказал младшим командирам и бойцам: — Отдыхайте спокойно, товарищи, завтра бой.5
Перед утром меня разбудили голоса. Командиры наклонились над картой, говорил Морозов: — Разъясните каждому бойцу задачу. На нашем участке фронта танков у немцев сейчас нет. Значит, наступления танков, за которыми идут или едут автоматчики, опасаться не приходится. Это точно. А если бы и были танки — для этого есть истребители. Еще разъясните бойцам, что наша специальная команда, истребляющая немецких автоматчиков, будет работать на флангах. Эти же истребители будут охотиться за «кукушками». Остальные бойцы пусть выполняют только свое боевое задание. Учитесь на ошибках и не повторите вчерашнюю ошибку сержанта Иванова, когда он, услыхав стрельбу на фланге и приняв одну «кукушку» автоматчика, засевшего на елке, за отряд автоматчиков, повернул своих бойцов… Схема связи готова? — Готова! — раздался голос из угла. Утро занялось холодное и пасмурное. Пелена падающего снега скрывала дали. — «Жаворонок», «Жаворонок»! Ну, как видимость? — допытывался в сотый раз Морозов в телефон и огорчался ответом. Звягинцев ввел пожилого бойца… — Товарищ командир, — сказал боец, — вот письмо от жены пришло, не получает пособия. Морозова ожидали командиры, возле дверей стоял наготове офицер связи, а артиллеристы ждали приказа. Морозов усадил бойца, внимательно прочел письмо, объяснил, какие есть льготы для семей военнослужащих, и обещал написать в военкомат. С лица бойца сошло выражение озабоченности. — Надо готовиться к бою, а ты бойцов с личными делами принимаешь! — выговаривал Звягинцеву комиссар соседней части. — А разве это не подготовка к бою? — запальчиво ответил Звягинцев. — Человек со спокойной душой в бой пойдет. Наш командир перед боем на все вопросы бойцов отвечает — это и есть подготовка к бою. — Правильно, Звягинцев, — поддержал его Морозов, — все боевые будни — подготовка к бою… Друже, — обратился Морозов к Жаркову, — выдвинув орудие вперед, ты правильно приказал, чтобы трактор был наготове и бойцы вышли в охранение. Но хладнокровие — лучшая черта. Нервность и горячность быстро передаются. Ты дашь задание нервно — так оно и будет выполняться. Помни: твердость и спокойствие… Я вышел на улицу. Снегопад ослабел. Бойцы укладывали на сани ящики с минами и патронами. Пронесли узлы с белыми халатами. Невдалеке ударило орудие. Я быстро вошел в избу. — Сто метров влево? — переспросил Морозов, держа трубку возле уха. — Быстрее вычисляйте! — приказал он артиллеристам, сидящим у окна. Второй выстрел дал перелет. Третий снаряд, как доносил «Жаворонок», ударил в избу, под которой затаились два пулеметных гнезда. — Теперь, — сказал Морозов, — пусть успокоятся. До поры до времени не станем их тревожить. Вызвать лучших радистов! Телефонистов — на линию. Пусть каждый боец знает, что нашу атаку поддержат артиллерия и минометы.6
Тонкий черный кабель тянулся по снегу справа от дороги, потом он вскочил на шест, перепрыгнул через дорогу, нырнул в кусты и вывел нас к подножию пригорка, изрытого минами и снарядами. На вершине бугра вместо двух рядов изб чернели пятна пожарищ. Светло-рыжие, короткошерстые немецкие лошади, так и не успев выскочить из огня, лежали, уткнувшись мордами в снег. Группы бойцов появлялись позади нас из зарослей и кустарника и, пригибаясь, проворно исчезали впереди, за бугром. Прошли минометчики со своей ручной артиллерией. Пронесли пулеметы. Мы тоже взошли на вершину. Этот бугор просматривался из деревни, занятой немцами, и простреливался минометами. Кругом было безмолвно и пустынно. Я заметил среди развалин дома голову в каске. Белки глаз и зубы блестели на черном, как у негра, лице. Вдруг голова исчезла. — Первая линия — пулеметчики. Закоптились у своих подземных костров, — отрывисто пояснил Морозов. Провод подвел нас к обгоревшей, случайно уцелевшей крошечной баньке без крыши, что стояла у самой опушки. Сквозь дверное отверстие тянуло табачным дымом и теплом. В бане толпились бойцы. — Плохо греетесь, — сказал Морозов. — Негде, очень уж тесно. — Как — негде! А деревня впереди за лесом? Там фашисты греются в теплых избах. Быстро займем — так, чтобы гитлеровцы не успели поджечь, — погреемся. Только чур: наступать не раньше чем будет приказ. Радист выкрикивал позывные. Я посмотрел на часы: 12.45. Вдруг кто-то из бойцов громко чихнул. Все на него зашикали. За лесом, совсем недалеко, послышалась короткая очередь, другая, опять тишина. — Немцы нервничают, — сказал Звягинцев. — А вы боитесь? — спросил я. Бойцы оглянулись, как будто только теперь заметили мое присутствие. — Чувство самосохранения есть у каждого, — ответил Морозов, чтобы рассеять неловкость. — Один наш полководец на вопрос, боится ли он, отвечал: «Ну, я тоже опасаюсь за свою жизнь, но я умею на свой страх наступить сапогом и крепко его прижать». Так и мы. Я хоть и сухощав, но увесист, из-под сапога не выпущу. Он у меня прижат крепко. Да и у других тоже. — Звягинцев маленький, значит, он больше всех боится, — сказал кто-то, и все засмеялись. — Пора! — сразу посерьезнел Морозов. Все направились к лесу. В лесу мы пересекли красный телефонный кабель, тянувшийся вправо, — соседский. Тихо щелкают затворы винтовок и шуршат патроны, наполняя до отказа магазины винтовок и автоматов. — Закурить бы, товарищ командир, — вздыхает кто-то. — Держи! Самокрутка пошла по кругу. Несмелый дымок медленно поплыл в морозном воздухе.7
Вздрогнула земля, и с деревьев посылался снег. Торопливо затарахтели по дороге убегавшие повозки, и из деревни, занятой немцами, донеслось пронзительное ржание раненой лошади. Все эти звуки потонули в грохоте рвавшихся в деревне снарядов. День был безветренный, но в лесу, где мы затаились, забушевала вьюга: с визгом посыпались пули, срывая ветки, сбивая сучья, усыпая бойцов хвоей. Свистели и рвались мины, вздымая снежные вихри над верхушками деревьев, и казалось, что лес стонет. — Не ройте носом землю, — послышался насмешливый голос Морозова. Кто-то вскочил. — Лежать! — приказал Морозов, отрываясь от телефонной трубки. — Надо будет — подниму! Бойцы лежали рядом с командиром, лежали наполовину оглушенные. Хотелось поскорее в бой, а надо было ждать. Но вот совсем рядом раздались громкие, как бы в упор, выстрелы. Звягинцев приподнялся. — Лежать! — сказал Морозов. — Разрывными садят! Лес наполнился треском и жужжанием. Это летели осколки. Сверху густо сыпался снег. Взрыв! И всех засыпало снегом и комьями земли. — Санитара, — тихо приказал Морозов. Слева из леса донеслись крики «ура», навстречу им застрекотали пулеметы. — Эх, не выдержали срока степановцы! — посетовал Морозов. — Что ты говоришь, комиссар? — переспросил он в трубку. — Немцы бьют минами по собственным дотам у леса?.. Хорошо укрепились?.. Только рота степановцев?.. Залегли? Неприятельские пулеметы неистовствовали. Разговор прервался. Связист убежал на линию. — «Ольха»! «Ольха»! Молодцы, связисты, отлично работаете! Мы сейчас вышибем немцев из деревни. «Ольха», опять огонь по деревне. Двадцать! Связь, связь! Последний связист убежал на линию исправлять кабель, разорванный минами. Время шло, связь молчала. Снова загрохотали разрывы снарядов, и, когда Морозов посмотрел на связного, тот понял, что момент настал. Несколько строк на клочке бумаги, адресованных командиру соседней части, связной спрятал на груди и повторил слова Морозова: «Соседи должны не ждать, а идти в атаку сейчас же, после артиллерийской подготовки. Морозов их поддержит». Связной помчался. Он то падал, то бежал, петляя во все стороны и прячась за толстые ели. Он хитрил, чтобы уйти от смерти, наполнявшей лес свистом пуль, воем мин. Он бежал все быстрей и быстрей, и все же громкое «ура» соседей обогнало его. — Ура! Ура! — неслось по лесу. Грозный клич рос, ширился. — Молодцы, связисты, хорошо работаете! — неслось по линии. — Сейчас возьмем деревню. Держитесь! Эти слова передавались от телефонистов к бойцам и вселяли уверенность. — Ребятушки, пошли! — Морозов поднялся и строго добавил: — Иванов, Семикин, Шустов, за мной! В правой руке Морозов сжимал наган, в левой — палку, которой он отодвигал в сторону ветки. — Перебежками, слушай мины, за мной! — крикнул он. И все побежали. Белые силуэты замелькали меж деревьев. Услышав приближающуюся мину, все упали в снег. Звягинцев упал на Морозова. Тот промолчал, укоризненно посмотрев на него. А когда Звягинцев вторично прикрыл собой командира, Морозов строго сказал: — Не смей этого делать! — Есть не делать этого! — с улыбкой ответил Звягинцев, зная, что он не выполнит этого приказа командира. Снова все побежали. — Эй! — окликнул Морозов и дотронулся палкой до снежной кочки под елью. То, что казалось кочкой, зашевелилось, и мы увидели бородатого бойца, засыпанного снегом. — Немецкие автоматчики, — показал он влево, где рвались разрывные пули. — А ты им не кланяйся, вперед? — Ур-ра! — раздавалось кругом. Справа бежали бойцы соседней части, и едва ли не первым несся наш связной. И хотя было еще далеко, он метнул гранату прямо в дыру, под дом, откуда торчало дуло пулемета. Удар потряс дом и выворотил пулемет наружу. Связной завернул за угол дома и увидел наведенный на себя пистолет. Удар прикладом — и фашист опрокинут навзничь. Боец повернул пулемет и разрядил его в убегавших врагов. Выхватив из сумки еще одну гранату, он бросился через улицу к избе напротив. Что-то его толкнуло, ожгло, и он очутился на земле, но вскочил, и тут же его снова бросило наземь. — Скорее, скорее! — звал он, протянув дважды раненную руку бежавшим навстречу. Взрыв мины — и он падает снова, из перебитой ноги течет кровь… — Я сам, теперь я сам себя перевяжу, — говорил он. — А вы бегите, бегите, добейте его, гада! Он метался и кричал, а санитары, подхватив его, спешили укрыться за углом развороченного минами, изрешеченного пулями дома. Трещали и рушились в огне избы. Ветер выметал из развороченного дома, в котором помещался немецкий штаб, бумаги, гнал их по улице. — Еще одна деревня наша, — говорил Морозов бойцам, тащившим немецкие минометы. — И следующую с ходу возьмем! — Возьмем! — раздались голоса и тут же смолкли — так потряс бойцов своей неожиданностью невесть откуда зазвучавший мирный штраусовский вальс. Все обернулись: Тюрин стоял на коленях, поддерживая патефон, и лицо его расплылось в улыбке. — Слушай команду! — закричал Морозов. — Деревня наша. Будем наступать дальше. Молодцы, ребята! Из леса, описывая в темном небе красную полудугу, вылетел один снаряд, за ним второй, потом где-то впереди загрохотали разрывы. Сражение продолжалось.Владимир Казаков ЗА ЧАС ДО ВЫЛЕТА
После двухнедельного обмена опытом, деловых встреч и прощального банкета мы покидали Америку. Младший директор авиафирмы «Боинг» предоставил в наше распоряжение вместительный лимузин и конверт с билетами на трассу «Голубая лента», связывающую Соединенные Штаты с Европой. Машина почти беззвучно скользила по мокрому асфальту, пожирая сотню километров, отделявшую нас от аэропорта. Тонко посвистывал ветер в полуоткрытых форточках; стеклоочистители, лениво покачиваясь, стирали водяную сыпь. Разговаривать не хотелось. Обволакивала приятная дремота, глаза, уставшие от ярких дорожных реклам, закрывались. Я сидел за спиной шофера, остановив безразличный взгляд на его упругом, подстриженном под скобку затылке, и мысли становились все более вялыми. Шофер повернул голову, блеснул загорелой лысиной, обрамленной кружком жестких волос, и неожиданно сказал по-русски: — Так я усну за рулем. Может, анекдотик?.. Впервые встречаю летчиков-молчунов! — А вам часто приходится иметь с ними дело? — Я же шофер фирмы, да и сам пилот. — Вы пилот? А почему же крутите баранку? — Чтобы водить самолет авиакомпании, нужно положить в ее сейфы кругленькую сумму, почти равную стоимости машины, на которой собираешься летать… Это мы знали. Оберегая себя от убытков в случае аварии по вине пилотов, авиакомпании допускали за штурвал только состоятельных людей. — Такой суммы у меня нет, — продолжал шофер, — да и моя прошлая карьера стоит закрытым шлагбаумом на пути в воздух. Долго просить не пришлось, и он рассказал нам историю своей жизни. Сон прошел. Слушая, мы перенеслись в мир, где воспитывается человек, готовый пойти на любую мерзость, в мир, где звериные повадки ценятся превыше всего… Давно промелькнула стальная арка аэровокзала, остановился автомобиль, а мы сидели в клубах едкого сигаретного дыма, дослушивая рассказ бывшего летчика ВВС США Рокуэлла Смита…Контракт подписан
Рокуэлла разбудило радио. Густой баритон бодро рявкнул песенку «Наш Билли».[85] Это было необычное начало передачи для радиоцентра провинциального городка. Быстро поднявшись, Рокуэлл выключил динамик и начал делать утреннюю гимнастику. Тренированное тело спортсмена быстро обрело бодрость, и, прервав упражнение, он двумя легкими прыжками оказался у письменного стола и взял с него лист плотной глянцевой бумаги. Левой рукой толкнул раму окна. Озорной ветерок перегнул лист, но Рокуэлл бережно его расправил и улыбнулся. Сияющие глаза в который раз перечитывали аттестат об окончании колледжа. С листом в руках он прошел к кровати, лег и закрыл глаза. Неслышно открылась дверь комнаты, и через порог ступил черноволосый, почти квадратный парень с залепленной пластырем бровью. Черты лица его были правильны, но странно безжизненны. Маленькие, близко расположенные друг к другу глаза с черными большими зрачками ярко блестели, а между тем в них не было заметно теплоты. Без оттенков, только блестящий взгляд казался до предела напряженным и внимательным. Голос его звучал глухо и монотонно. — Вставай, Рок! Сколько можно жить зажмурившись? А ну, вставай… вставай, ходячая формула! Рокуэлл сел на кровати. — Доброе утро, Джо! — У тебя такой вид, будто во сне ты откопал клад или нашел работу. — Крепкий сон и пять долларов в придачу я получил за ящики с лимонами, которые вчера таскал на станции. А как твои дела на ринге? Джо Кинг взял у Рокуэлла из рук аттестат. — Орешек по моим зубам… прокатился, — мрачно сострил Кинг, рассматривая аттестат. — Ты еще веришь, что эта красивая бумажка даст тебе возможность копаться в формулах и выковыривать мясо из зубов? — Не остри, Джо! Он трудно мне достался… а особенно маме. Центы, которые я получал, она выжимала из чужого грязного белья. А ведь у нее на руках еще и Нелли. — Красивая у тебя сестра! Наверняка выскочит замуж. — Кто возьмет уборщицу туалета ночного кафе? — Да хоть бы я!.. Поедем к ним. Они будут рады ученой родне. — С пустыми руками? Нахлебником? — Рокуэлл встал. — Не могу! — Значит, нужны деньги? — Работа по специальности. — Любая работа — это прежде всего деньги, — проворчал Кинг. — Хотелось бы по специальности. А в общем… — Есть бизнес, Рок! — почти закричал Кинг. Он вынул из кармана и взмахнул толстой пачкой денег. — Вот! Смотри! Любуйся! Рокуэлл, натянув на одну ногу брюки, застыл от изумления. — Где ты взял? Где ты столько взял, Джо? Кинг бросился к репродуктору и включил его.«…ание! Внимание! — заголосил динамик. — Говорит вербовочная станция ВВС США. Спешите к нам в бар „Вашингтон“. Бросайте ваши дела и…»— Слышишь? — поднял палец Кинг. — Я только что там продал душу за кучку этих банкнот. — Ты записался в армию? — И с большим удовольствием! — Зачем? — Вопрос, недостойный математика. Да затем, чтобы мне не били морду за восемь долларов в неделю. Чтобы дать своим предкам приличный угол и кусок паштета для их беззубых ртов. Чтобы увидеть, как живут люди на белом свете, а не тухнуть в нашем старом городишке… Одевай вторую штанину, и пошли! Сам увидишь, что игра стоит свеч! — Но, Джо… — Собирайся! Все возражения буду принимать там, а здесь, считай, у меня нет ушей и языка для разговора. Улица встретила их большим оживлением. Люди в одиночку и группами спешили на площадь. Оттуда доносилась джазовая музыка. Две молоденькие модистки, взявшись за руки, пробежали мимо, весело смеясь. Одна из них призывно махнула рукой. — Не торопитесь, красавицы. Честное слово, мы холостяки! — крикнул вслед Кинг. На площади полоскалось огромное голубое полотнище транспаранта. Золотились буквы: «Вступайте в ряды военно-воздушных сил, и вы увидите мир!» Друзья остановились в стороне и задымили сигаретами. Толпа бурлила около красочных макетов. На небольшой деревянной подставке отливал серебром тупорылый макет реактивного истребителя. Двухметровая электромодель вертолета висела над головами людей, и когда джаз на минуту смолкал, слышался свист его винта. Но самое значительное высилось в середине площади. Подняв игловидный нос к облакам, сверкал стеклом и никелем сказочный ракетоплан. Из его дюз вырывались пучки пламени, и он, поворачиваясь на треугольной штанге, бросал вызов солнцу своей величественной красотой. Мальчишки, вопя от восторга, кидали вверх бумагу и щепки, стараясь попасть в огонь. Площадь постепенно пустела — приближался рабочий час. Убежали веселые модистки, стрельнув лукавыми глазами в сторону Рокуэлла и Кинга. Осталось несколько десятков человек. Мелькали помятые шляпы безработных, претендующие на моду костюмы студентов, форма бойскаутов. Кинг выплюнул сигарету. — Это все мишура, игрушки. Пойдем вон к тому щиту, откуда нам заманчиво подмигивают цифры. Они подошли к фотовитрине — главному козырю выездной вербовочной станции ВВС, прибывшей в городок ночью. Внимание Рокуэлла привлекла диаграмма «бизнеса» в центре витрины. На площадках изломанной красной чертой нарисованы фигурки рабочего, учителя, летчика, а внизу подписи — сколько получает каждый из них. — Взгляни, взгляни, Рок… Вот стоимость твоего диплома, если будешь работать. А вот доходы супермена с кокардой воздушных сил. А ну, включи свою белобрысую счетно-решающую машину. — Разница пять тысяч в год, — подсчитал Рокуэлл. — Это значит, дружище, он может кормить своего пса бифштексами, курить гаванны и щедро давать на чай. Жизнь! Читай, осмысливай, решай! К витрине подошел юный бойскаут и, тесня Рокуэлла плечом, уставился на диаграмму. Скользя глазами по цифрам, он шевелил губами, и щеки его постепенно заливались румянцем. Он повернулся к Рокуэллу, хотел что-то сказать, но его схватил за руку пожилой господин в клетчатой паре и прошипел на ухо: — Домой, щенок! Я тебе покажу, как опаздывать на уроки! Я тебе покажу армию! Перед взором Рокуэлла встали натруженные руки матери и бледное, худое лицо сестры в ярком свете туалетной комнаты ночного кафе. — Но это кабала, Джо, — сказал он тихо. — Дур-рак! Всего на пять лет, а там стриги купоны, корми мамочку куриным бульоном и занимайся математикой от души. — Н-да-а… Пять, конечно… Но все же. Нет, я не согласен, Джо, — сказал Рокуэлл. — Пойдем в бар, промочим горло перед завтраком, — предложил Кинг. — Я не хочу тратиться. — Младенец! Они поят бесплатно всех, кому меньше тридцати, а на наших лбах еще ни одной морщинки. Бар «Г. Вашингтон» празднично убран и почти пуст. На столиках бутылки с виски и содовой водой. Закусок нет. Хотя утром танцевать не принято, под звуки маленького негритянского оркестра топчутся несколько пар. У буфетной стойки за столом с флажком ВВС США, воткнутом в бутылку, сидят тощий военный капеллан и здоровенный майор с эмблемой летчика на рукаве. При входе парней капеллан встал и поднял руку. Смолк оркестр. — Вы к нам, друзья? — Широкая добродушная улыбка играет на лице капеллана. — Да, сэр! — кивает Кинг. — Мой товарищ хочет послушать ваш приятный голос. Но сначала мы примем несколько капель вот этого лекарства. Капеллан поощрительно кивает. Через стекло третьей рюмки Рокуэлл уже смелее взглянул на стол у стойки. Капеллан заметил это и перемигнулся с Кингом. — Ну, Рок, шагнем в сторону неизведанного, — подтолкнул тот Рокуэлла к членам вербовочной комиссии. — Ваша фамилия? — быстро спросил капеллан. — Рокуэлл Смит. Но я еще не… — Перед вами откроется удивительная жизнь, парни, — перебил его майор. — Вы увидите белокурых красавиц Севера, смелых парижанок и страстных итальянок. Ваши возлюбленные и сестры будут радоваться редким подаркам. Под крыльями проплывут моря и океаны. Отцы и матери будут гордиться вами, когда вы, закаленные и богатые, со славой вернетесь домой… — Для того и живем, майор! — вставил Кинг. — Решайся, Рок! — Решайтесь, молодой человек! — И майор проглотил рюмку коньяка. — Клянусь честью — не пожалеете! — На сколько лет? — спросил Рокуэлл. — Пятнадцать, — сказал капеллан поспешно. — Нет! — Десять! — Нет… Пять. — Молодец, Смит! Было бы начало! — воскликнул капеллан. — Подойди и распишись вот на этом контракте. — Смелее, солдат! — Майор протянул самопишущую ручку. Рокуэлл пододвинул к себе разграфленный лист бумаги, расписался и, почувствовав за своей спиной чье-то дыхание, быстро обернулся. — Будешь летчиком, Смит! — захохотал незаметна подошедший сзади майор. — У тебя отличная реакция и чувства к нападению с хвоста.
Шаг в преисподнюю
Рокуэлл с отличием закончил летную школу. Ему все больше нравилась жизнь. Даже сложные полеты в сером, неуютном небе Исландии, где стояла его часть, доставляли удовольствие. Бок о бок с Джо Кингом он рьяно выполнял задания командования и готовился к первому шагу по служебной лестнице. Мать почему-то редко отвечала на письма, зато Нелли осыпала его тысячами поцелуев за денежные переводы. Она в короткий срок организовала свое «дело»: открыла шляпную мастерскую. Однажды Джо Кинг не явился к завтраку. — Хелло, Герберт! — окликнул Рокуэлл знакомого офицера. — Ты не знаешь, где лейтенант Кинг? — Говорят, ему поручили выполнить срочное задание, и он ночью отбыл в командировку. После еды Рокуэлл пошел в штаб и перечитал все приказы, висевшие на специальных щитах. Приказа о выезде Кинга не было. Расспросы сослуживцев и командиров тоже ничего нового не дали. Прошло три дня. Вечером, просидев около часа в аэродромном варьете, Рокуэлл ушел в свою комнату и лег спать. Сон приходил медленно. Когда начали затухать мысли и расплываться картины воспоминаний, резкий продолжительный стук в дверь полоснул, как пулеметная очередь. — Кто? — недовольно спросил Рокуэлл. — Дежурный по гарнизону! Рокуэлл в одном белье подошел к двери и повернул ключ. В комнату вошел офицер с голубой повязкой на рукаве. — Вот вам пакет, лейтенант. — Он протянул письмо, скрепленное сургучной печатью. — На аэродроме ждет самолет. Пакет передадите начальнику штаба ВВС наших войск в Южной Корее. Сведения совершенно секретные. — Чей приказ? — Посмотрите на подпись в сопроводительной… Теперь понятно? Распишитесь сами в получении пакета. Машина у подъезда. Вылет через тридцать минут. — К чему такая спешка? — удивился Рокуэлл. — Я еще должен получить оружие. — Не надо. Вас будут охранять. Машина ждет, лейтенант! Через полчаса двухмоторный транспортный «Боинг» взял старт. В грузовой кабине, забитой ящиками и бочками, сидели Рокуэлл и сержант, здоровый рыжий малый в веснушках. На коленях он держал автомат. Самолет летел плавно, слегка покачиваясь с крыла на крыло. Оба пассажира подремывали. — Кажется, светает! — первым очнулся сержант. — Хотите сигарету? — Курить бросил, — отмахнулся Рокуэлл и посмотрел в бортовое окно. В матовом свете утра тонкой полоской на горизонте темнел берег. Минут через десять стало совсем светло. И вдруг тонкий слух Рокуэлла различил сквозь гул моторов посторонний свист. Рядом с самолетом проскочила какая-то тень. Рокуэлл лицом прижался к окну и сразу отпрянул. — К нам пристраиваются истребители! — Вижу! — ответил сержант. — На их бортах красные звезды… Берут в «клещи»! — Рокуэлл вскочил и шагнул к кабине пилотов. Но дверь в кабину была заперта. Рокуэлл застучал кулаком, и почти в такт его ударам послышалась дробь автоматических пушек. — Самолет разворачивается! — закричал сержант. — Они ведут нас к себе! Пилоты дверь не открывали, и Рокуэлл отступил. — Нет, так просто я не дамся! — Он подошел к бортовому окну и выбил вентиляционную пробку. Свернув трубкой секретный пакет, он просунул его в отверстие. Ветер зло вырвал бумагу и унес в море. — Теперь они не получат главного! Дай автомат, сержант! — И не подумаю, — меланхолично ответил рыжий и сжал кулачищи на прикладе. — Предпочитаю глотать кислород, а не землю. — Трус! — Нет, просто у меня есть голова на плечах… Идем вниз! Не подумайте вырывать, лейтенант! Оружие вам уже ни к чему. «Боинг» резко пошел на снижение и плавно «прилип» к посадочной полосе. Рокуэлл с гордо поднятой головой шагнул в открытую дверь самолета. С двух сторон к нему подошли солдаты с красными звездами на пилотках, взяли за руки и привычным движением защелкнули стальные браслеты на кистях. Потом молча и невежливо толкнули в закрытый кузов автомашины с запахом карболки. Автомобиль рванулся с места. Рокуэлл упал со скамейки и ударился головой о стенку. Через несколько минут, бледный и злой, он очутился в большой светлой комнате. За массивным столом сидели два офицера в форме Советской Армии. — Ваша фамилия, лейтенант? — поднялся из-за стола статный полковник. Его седые жидкие волосы были тщательно приглажены. — Это вам знать не обязательно! — с вызовом ответил Рокуэлл. — Прошу садиться! Рокуэлл продолжал стоять. Полковник наклонился к капитану и что-то негромко сказал по-русски. Капитан неторопливо сунул горящую сигарету в пепельницу, встал, подошел и снял с Рокуэлла наручники. — Садитесь! — повторил полковник. — Мы все уже знаем от вашего спутника… Садитесь, Смит, и помните, что вы не у себя дома! — Трем истребителям захватить безоружный самолет не так уж трудно. — Легко, если пилоты не хотят умирать, — улыбнулся полковник. — Возьмите и прочитайте вот эту бумагу, ответьте на три вопроса. Берите… Не хотите? Ну что же, я прочитаю ее вам…«Я, бывший лейтенант ВВС США Рокуэлл Смит, отвечаю на заданные мне вопросы без принуждения и клянусь в правдивости сказанного…»Рокуэлл скривился в усмешке. — Первый вопрос, — продолжал полковник. — «Сообщите тактико-технические данные самолетов вашей части, фамилии и краткую характеристику руководящих офицеров». Ну, Смит?.. Ладно, слушайте второй. «Расскажите о системе радарных установок базы»… И последний: «Какие задачи поставлены вашей части на ближайший месяц?» Отвечайте! — Вы склоняете меня к нарушению присяги. Не знаю, как вас величать… — Зовите просто полковник. — Хотя вы и говорите отлично на нашем языке, язык у нас разный! Я все забыл, полковник, такого страху нагнали на меня ваши истребители. — Предупреждаю — не упрямьтесь! Будьте благоразумны. Если ответите, завтра же обменяем вас у южнокорейцев на нашего пленного. — Прекратим глупый разговор, — сказал он устало. — Ну что же. — Полковник начал говорить сухо и отрывистое: — Капитан, уведите… Пусть подумает в тишине. Все! Ведите! За дверью комнаты молчаливый капитан сдал Рокуэлла автоматчику. Через длинный коридор, через дверь черного хода его вывели во двор. Двор похож на большой асфальтированный плац. Низкие деревянные бараки на восточной стороне отбрасывают длинные негустые тени. Весь городок и высокое здание, похожее на немецкую кирку, огорожены колючей проволокой. По углам торчат сторожевые вышки. Рокуэлл все время слышит за спиной цокот подков автоматчика, чавканье рта, жующего резинку. — Поворачивай! — Солдат ткнул Рокуэлла стволом в бок, и по щербатым ступеням они спустились в сухой бетонный каземат. В камере стоял топчан, покрытый циновкой. Под маленьким решетчатым окном — помойное ведро. После ухода автоматчика Рокуэлл решил спать. Он знал, что ему пригодятся душевные и физические силы. Но сон не приходил. Не утихало возбуждение, в мозгу витали странные, расплывчатые картины, какие-то детали его пленения заставляли сомневаться, что он в стане врага. Весь день и ночь его не беспокоили. Утром солдат принес рисовую похлебку; в ней плавали две рыбьи головы. Рядом с миской он бросил сухую, обглоданную корку хлеба. — Забери свою жвачку! — Рокуэлл плюнул в миску и столкнул ее с топчана. — Зря бесишься, — сказал солдат равнодушно. — Не ты первый, не ты последний. В полдень его привели к полковнику на допрос. — Будешь отвечать? — Нет! — твердо ответил Рокуэлл. — На маршировку его! Час вокруг кирки с поднятыми руками по раскаленному асфальтовому плацу. Голова кажется жужжащей и хрупкой, готовой треснуть от малейшего толчка. Солдат толкает его стволом автомата. — Выше руки! Но они опускаются сами. И он не хочет их больше держать. Прямо над его ухом солдат разряжает автомат. Выстрелы бьют по мозгам кувалдой. Но Рокуэлл упрямо закусил губу и не поднимает рук. — Черт с тобой! — говорит солдат. Через несколько минут его сменяет другой. И еще час… Руки висят вдоль туловища плетьми. Горбится спина от тяжелых, налитых свинцом плеч. На лице свербящая корка из пыли и липкого пота. И еще час… Колени обмякли, крупно дрожат и складываются. Рокуэлла охватывает тяжелая апатия; ему безразлично, что с ним будет дальше, и, протащив ноги еще несколько метров, он садится на горячий асфальт. На крыльцо дома, обмахиваясь веером, вышел полковник. Он внимательно поглядел на пленника и закричал: — Будешь отвечать? — Нет! Нет! — ворочает языком Рокуэлл. — Ему жарковато. Пусть освежится под душем! — засмеялся полковник. Кирка оказалась мокрым бункером. В отделении, куда втолкнули Рокуэлла, — тьма. Цепляясь за осклизлую стену, он опустился в лужу. После раскаленной сковороды плаца это приятно. Остывает голова, и он уже может мыслить. Вспоминает училище, проповеди капеллана, рассказы офицеров-пропагандистов о коммунистических застенках. Все правда! Все так, как говорили! Да, красные — не люди. Варвары! Но не на такого напали! Он больше не откроет рта! Через ногу прокатилось что-то мягкое. Швырнул ногой — писк. Крысы! Рокуэлл вздрогнул от омерзения и вскочил. Два шага вперед, два в сторону. И вдруг он замечает, что на голову с равными промежутками падают капли. Начинает надоедать. Захлюпали ботинки. Писк! Рокуэлл махнул ногой, будто бил по мячу. Раз. Другой. Крысы метались, но не исчезали. Что-то острое царапнуло кожу ноги. Рокуэлл прыгнул в угол и замер. С каждого сантиметра потолка падают медленные тяжелые холодные капли. Носком ботинка, а потом — с отвращением — руками провел по плинтусу бункера — нор не было. Крысы и он! Он, капли, доводящие мозг до исступления, и крысы! Затошнило. Задрожали губы. Пусть лучше бьют! Он до судороги сжал пальцы и всей тяжестью тела кинулся на железную дверь… Но его не били, а через темный двор провели в кабинет полковника. Здесь же сидит и капитан с отекшим лицом и длинными узловатыми руками. Капитан подошел к Рокуэллу, нагнулся и задрал штанину его брюк. На белой коже ноги краснели пятнышки укусов. Капитан схватил руку Рокуэлла, быстрым движением вывернул ее за спину и крикнул по-русски: — Санитар! Противочумный… Вошел санитар со шприцем и сделал укол в руку Рокуэллу. Капитан отпустил пленного и махнул рукой санитару. Тот вышел. — Ну как, поговорим? — спросил полковник. — Пусть лучше я проглочу язык, и будьте вы прокляты! — истерически закричал Рокуэлл. — Возьмите себя в руки, Смит. — Полковник искоса взглянул на настороженного капитана. — Сейчас я вам устрою приятное свидание. Товарищ капитан… — Слушаю! — Введите. За капитаном закрылась дверь и сейчас же открылась. В комнату вошел… Джо Кинг. — Доброй ночи, Рок! Здравствуй, старина! Рокуэлл остолбенел. — Джо! Ты? Здесь? — Так же, как и ты, дружище. Честное слово, я соскучился по тебе! — Искренняя радость Кинга меркнет, когда он встречается взглядом с полковником, но подобие улыбки остается на вялых губах. — Зря противишься, Рок. Я был в такой же переделке, а сейчас обменен — и уже вольная птица. Лечу обратно в Кефлавик. Все в порядке, старина! Почерневшее, худое лицо и тусклый взор Кинга говорят другое. Потрепанный мундир висит мешком на когда-то мощных плечах боксера. Он прикуривает, не попадая кончиком сигареты в огонь. Удивление Рокуэлла проходит. — Летишь обратно? — говорит он. — Ты врешь! Значит, ты им все рассказал? Почему у тебя дрожат пальцы? И ты вроде стал меньше ростом! Не прячь глаза! Смотри на меня! Смотри! — Но, Рок… — Не можешь? — закричал Рокуэлл. — Это он, вот этот то-ва-а-рищ, сделал из тебя подлеца и провокатора! У-у, иезуитская морда! Ненависть, переполнившая душу Рокуэлла, толкнула его к тяжелому стулу. Дубовые ножки взвиваются над головой полковника. — Кинг! — властно крикнул полковник. И в тот же миг Джо Кинг коротким ударом в живот свалил Рокуэлла на пол. Стул рассыпался на паркете. — Спасибо, Джо… — Рокуэлл разогнулся и оперся на руку. — Полковник мне устроил действительно приятное свидание. — Прости, Рок. Ясолдат. — Ты забыл, что ты солдат американской армии, — с горечью сказал Рокуэлл и, пошатываясь, встал. — Ты еще не понял… — Молчать! — прервал Кинга полковник и указал на Рокуэлла: — В яму щенка! Пусть проветрится. Его повели в темноту, толкнули, и он полетел вниз, хватаясь за сухие мягкие комья земли. Яма. Время — вечность. Начинает светать. Над головой небо, закрытое сгустками облаков. Падает первая капля дождя. Потом ливень. Глинистые края ямы набухают, сползают. — Смит, наверх! — крикнул выросший наверху солдат. Оставляя отпечатки рук и коленок на вязкой глине, Рокуэлл выполняет команду. — Вперед! Кажется, для вас все кончилось. «Все кончилось, — про себя повторяет Рокуэлл слова солдата. — Расстреляют!» Его ведут к дому. Вводят в кабинет. Полковник в свежевыглаженной русской форме встал из-за стола. — Садись, лейтенант, и угощайся сигарами. — Вы удивительно добры. Перед казнью приговоренному положено чистое белье, и, может быть, все-таки накормите, то-варищ-щ! — Рокуэлл особенно выделяет последнее слово и кривит рот. Полковник с улыбкой смотрит на изможденное, заросшее лицо пленника, оглядывает заляпанную грязью одежду. — Да, здорово за двое суток скрутило тебя… Курящий не отказался бы от таких сигар… Ты выдержал испытание и теперь далеко пойдешь, парень. Пророчу тебе ответственную работенку. Твой коллега Кинг оказался слабее. Впрочем, нам подходит и такой сорт. Настоящему бойцу нужна психологическая закалка. То, что с тобой произошло, забудь и держи язык за зубами. Правда, тайна моего лагеря раскрыта болтунами из «Старз энд страйпс».[86] Они оповестили весь мир, как мы готовим своих ребят оказывать сопротивление коммунистическому промыванию мозгов в случае, если они попадут в плен к красным… Только теперь до Рокуэлла со всей ясностью дошел смысл происшедшего. — Так вы… не русский! — Полковник Уолтер к твоим услугам… Чтобы испытать своих ребят, мы устраиваем эту небольшую провокацию. — Вы юморист, господин Уолтер. — Ты, конечно, не в восторге! Но у тебя трезвая голова, и ты понимаешь необходимость почти для каждого пережить психическое состояние, вызываемое внезапным переходом от нашего образа жизни к жизни военнопленного. — Теперь все отлично понял. — Иди прими ванну, переоденься, закуси, а завтра махнешь через океан для службы на новой должности. — Как вы чувствуете себя в русской форме, полковник?! Не тесно? — Не надо острить! Слышал что-нибудь об условных рефлексах? Дельная наука! Ха, ха, русская форма! Если взять собаку и, сунув ей под нос красную тряпку, бить ее, то после нескольких сеансов она будет скулить при виде тряпки и без битья. — Благодарю за комплимент, сэр! — поклонился Рокуэлл. — Не принимайте близко к сердцу, лейтенант. Вас выдвигают, а за все надо чем-то платить. Уолтер под руку проводил Рокуэлла до дверей, объясняя, куда ему пройти, и пожелал счастливого воздушного плавания. Но если бы он знал, какую проблему начал решать мозг лейтенанта и как он решит ее в будущем, он бы послал Рокуэлла ко всем чертям.
Черная жаба
— Старший лейтенант Смит! Голос командира отряда оторвал Рокуэлла от письма, но не тронул сознания. Будто издалека слышался голос сестры: «Она просила тебя приехать и прийти на могилу. „Я все равно его увижу, я все равно попрощаюсь с ним“, — сказала она…» — Старший лейтенант! Вы что, оглохли? — Простите, шеф! — Рокуэлл вскочил из-за стола. — Я получил неприятное известие. — Что такое? — Умерла мать. — Я думаю, это не повод для отказа от вылета? — Нет, сэр… До взлета полчаса. — Двадцать шесть минут! — застучал полированный ноготь по стеклу наручных часов. — Уточняю задачу… Над Северным морем передадите свои координаты. На Оркнейских островах дозаправка. Пройдете Ашфорд и через Па-де-Кале вернетесь. — Ясно! — Рокуэлл затянул пояс высотного комбинезона и вышел из комнаты. Бомбардировщик «особого отряда» стоял над транспортной ямой. Луч прожектора упирался в фюзеляж, вырисовывая на фоне ночи длинный, стремительный корпус самолета. Где-то под землей загудел электромотор. Из черного зева подземного склада к самолету двинулась серая лента транспортера. Она скользила медленно и плавно, словно несла хрупкий, легко бьющийся предмет. Сначала на свету показалась тупая закругленная часть, а затем выползла вся бомба. С широкими перьями стабилизатора и белой полосой на лоснящемся туловище, лениво покоясь на матраце из пенопласта, она тащила за собой уродливую тень. «Жаба! Раз квакнет — и мира нет!» — эта мысль возникала у Рокуэлла перед каждым вылетом. Транспортер поднес бомбу к открытому люку самолета. Ловкие руки оруженцев подхватили ее, быстро закрепили на держателях. — Готово, старлей! — Что, готово? А рентгеноскопия подвесок? — раздраженно напомнил Рокуэлл. — Подвески проверены и опломбированы! — «Проверены»… — заворчал Рокуэлл. — Подать лестницу к кабине! «Проверены»… — бормотал он, залезая в кабину. Пальцы автоматически потрогали рычаги, безошибочно находя их в темноте, затянули воротник гермошлема, опустили лицевой щиток и нажали стартер. Сопло двигателя выбросило факел, натужно засвистело. — «Хаан-два», тринадцатому старт? — запросил Рокуэлл. — Четвертая полоса. Взлет в два сорок шесть, — ответили с КП. Припав на переднее колесо, самолет тронулся с места. Лучи крыльевых фар заскользили по шестигранным плитам бетонированной дорожки, высвечивая жухлые пучки травы в стыках, масляные пятна, черные линии горелой резины от заторможенных колес. В ярком свете играли ночные мотыльки, глупо тычась в стекла. Четвертая взлетная полоса. — Включаем радиофон, — предупредили с командного пункта, и сразу в уши ворвался металлический голос, записанный на пленку: — До взлета осталась минута. Пятьдесят секунд… Сорок… Десять… Одна. Старт! Рокуэлл, отжав рычаг газа, послал самолет вперед. Невидимый бугорок подбросил самолет. Надо дать ему снова коснуться, чтобы он набрал достаточную скорость для отрыва, но Рокуэлл до хруста в пальцах сжал штурвал и остановил интуитивное движение. Самолет поколыхался над землей, потом все же набрал скорость и полез вверх. «Неужели трусишь, старина?» — легко вздохнул Рокуэлл. Ему приятно, что самолет ушел от земли. Радуют веселые огни ночного города внизу. Он даже чувствует в герметичной кабине свежесть и запах облаков. Они пахнут, как полевые цветы. Мирно, чисто работает турбина. Стрелка радиокомпаса услужливо показывает курс на Оркнейские острова. Внизу море. Оно похоже на серое огромное плато с множеством могильных холмиков, которые скрывают останки самолетов и кораблей. Ну, черт с ней, с бездонной чашей воды, мрачной, как нутро черной жабы под фюзеляжем… В конце концов, сколько можно думать об атомной игрушке? Она прочно схвачена бомбодержателями, и никакая сила не заставит его нажать вот эту маленькую красную кнопку. Вот эту… Рокуэлл дотрагивается пальцем до холодной скользкой поверхности предохранительного колпачка и отдергивает руку. — «Хаан-два», я тринадцатый. Даю координаты… Ему ответили быстро: — Принято! Усилился в наушниках цыплячий писк приводной радиостанции острова. Рокуэлл переключил тумблер на радиомаяк, и самолет пошел на приятный женский голос, певший о любви и счастье быть любимой. Он чем-то напоминал голос его сестры, наверное потому, что больше не о ком было вспомнить. До сих пор у него не было семьи, не было тихого, мирного счастья. Всю недолгую жизнь он впряжен в сбрую из туго натянутых нервов. Ему не с кем поделиться затаенными мыслями, а они одолевают, озлобляют, по капле отнимают сон… Рокуэлл тряхнул головой. Снова зазвучала песня. Самолет плавно терял высоту. Как и в прошлый раз, его наверняка встретит охрана. Они боятся рабочих пикетов. Но для чего рабочие блокируют аэродром? Неужели трудно понять, что это просто тренировочные полеты и ни одна штуковина с начинкой не упадет на их головы? Светомаяк аэродрома пишет в небе восьмерки. Посадочная полоса высвечена рядами неоновых ламп. Они стоят ровно, как солдаты в строю, изредка подмигивая разноцветными глазами. Рокуэлл убавил подачу горючего, выпустил закрылки и тормозной парашют. Шасси почти неслышно коснулись земли, и аэродром мгновенно погрузился во тьму, только впереди зеленая моргалка указывала направление пробега. К машине Рокуэлла подкатил бензозаправщик, и электрокар с группой одетых в штатское людей. — Живей, ты! — закричал толстомордый парень в ковбойке шоферу. — Глаза не продрал! Шофер, торопливо размотав шланг, зацарапал отверткой горловину топливного бака. — Привет! — Толстомордый протянул руку пилоту. — Вам нужно побыстрее убираться, а то вряд ли полиция сдержит этих горлопанов. Они пронюхали о времени прилета, порвали колючки на границе летного поля и рвутся сюда. Издалека доносились крики. Громыхнул выстрел. Рокуэлл повернулся на звук. В темноте метались светлячки факелов. — Пока холостыми бьют, — усмехнулся парень и повернулся к шоферу: — Чего тянешь? Чего тянешь, спрашиваю? Мигом кончай заправку! Рокуэлл сплюнул и полез в кабину. Бомбардировщик взлетел. Земля не слышала мерного гула турбины, но при подлете самолета к городам в них гасли огни. Самолет набирал высоту. Как по команде, канул в темноту Лондон. Шесть тысяч метров. Облака рассыпались мелкими перьями, между ними весело плавает побледневшая луна. Восток дразнит отблеском далекой зари. Пора снижаться. Военная база сыплет «морзянкой», приглашает подойти к ней. Видны подслеповатые огни аэродрома. Рокуэлл опускает нос самолета, и вдруг огромной силы рывок бросил бомбардировщик вниз. Лямки привязных ремней впились в плечи. Потом неведомая сила опрокидывает его назад, и ему кажется, что он расплющивается о спинку сиденья. Рвутся наплечные лямки, и его вырывает из кресла, гермошлем скрежещет о тумблеры на потолке. Ударившись грудью о штурвал, он поймал рукоятку. Она отбросила его руку на приборы, посыпалось стекло. Все же он поймал рукоятки штурвала и уперся ногами в педали. Перед глазами дико крутились стрелки. «Попал в струйный поток. Сильное рему… Держись!» — подбодрил себя Рокуэлл, но свет большой красной лампочки пламенем заплясал в расширенных зрачках. Откуда-то снизу, с ног, холодной волной поднялся ужас. Он будто крючьями рвал грудную клетку, затыкал горло, расплющивал мозг. «Не ве-е-рю!» Но лампочка горела, дьявольски освещая табло, на котором пучились черные буквы:«БОМБА СБРОШЕНА!»«Сорвалась! Лопнули держатели… Вверх! Только вверх, подальше от проклятого места!» Наушники дребезжат голосами: «Тринадцатый, где вы? Дайте место! Курс? Высота? Где вы?» Рокуэлл не может открыть рта. Через двадцать секунд все будет кончено. Некому задавать вопросы, некому отвечать. Все съест ядовитый гриб. Глаза застилает туман, он мокрый и щиплет лицо, но и сквозь него виден кровавый нарыв на контрольном табло:
«БОМБА СБРОШЕНА!»Все поры раскрыты, все нервы напряжены. Это даже не нервы, а тонкие горячие крючочки. Мысль работает с пугающей ясностью. Расплавленный шар испепелит все живое на многие мили. Плазменная буря. Нет, не зря рабочие рвались к самолету… А он? Близость смерти неумолимо завладела им. Шея нервически подергивалась, мышцы онемели, руки казались деревянными болванками. Он закрыл глаза… Табло потухло. Время падения бомбы истекло. Рокуэлл медленно, с усилием накренил самолет. В блеклом утреннем свете без вспышек и взрывов серела земля. Не в силах оторвать от нее взгляда, он начал снижаться. Руки уже в состоянии нажать кнопку радиостанции. — Я тринадцатый, — разорвал он запекшиеся губы. — Попал в сильную болтанку… Оторвалась бомба. — Старался говорить спокойно, но не хватило дыхания, и дальше с хрипом: — Все в порядке… Она не взорвалась. Иду на посадку. — Шеф спрашивает, будете ли после отдыха продолжать полет? — спросила земля. — Я буду… боюсь, что в желтом доме! После посадки Рокуэлл открыл колпак кабины, откинулся на бронеспинку, смежил веки. Английский офицер помог ему выбраться из кабины и подсадил в закрытый автомобиль. — В профилакторий! — приказал офицер. Рокуэлл сидел не двигаясь. Потом медленно отвернул угол занавески окна. Около машины неслись мотоциклисты с пулеметами на колясках. К обочинам дороги жались пешеходы, спешащие на работу. И в каждом лице Рокуэллу чудилась бледная маска ненависти и отвращения. Он глубоко вздохнул, снял гермошлем и провел ладонью по мокрой голове. Удивленно взглянул на руку. Между пальцами остались большие пучки волос.
Боевой заход
После болезни и отпуска Рокуэлл добился перевода в патрульное соединение, где служил Джо Кинг. Жизнь текла спокойно и однообразно. По утрам в офицерском баре они лениво потягивали кофе и перелистывали газеты. Глаза Кинга с интересом останавливались на колонке происшествий. Рокуэлл предпочитал политические статьи. Сегодня у них был свободный от полетов день. — Какие планы на вечер? — спросил Рокуэлл, отбросив газету. — Организуем поккер. Хочу отыграться. — Прикрывая рот, Кинг зевнул. — Вон дежурный принес какую-то новость. Смотри, Джо, у него преторжественное лицо. — Прошу внимания! — громко сказал вошедший офицер. — Капитана Смита и старшего лейтенанта Кинга вызывает начальник штаба. Слышали? — Слышали. Пошли, Джо. Они вошли в просторную комнату, где на большом дубовом столе красовалась подставка с надписью: «С. И. Уолтер, полковник ВВС США — начальник штаба». Полковник оставил должность «главного промывателя мозгов» и купил новую. Раньше, входя в кабинет, Рокуэлл внутренне напрягался. Память цепко держала пережитое в Южной Корее. И хотя обстановка была другая — над столом скрестились флаги США и НАТО, а из золоченой рамы улыбался Кеннеди, — какое-то неприятное чувство заполняло грудь. Теперь это прошло. — Садитесь! — предложил Уолтер, а сам, отложив в сторону недописанную бумагу, встал и зашагал по комнате. — Получено сообщение. Три дня назад кучка пиратов захватила португальский лайнер. Во главе их мятежник, бежавший из тюрьмы. На борту пассажиры, в том числе американцы. Наши корабли преследуют судно, но оно скрылось в районе Малых Антильских островов. Прошу к карте… Капитану Смиту произвести поиск в этом районе. — Толстый палец обвел квадрат. — Вам, Кинг, вот здесь!.. В случае удачного поиска сообщите координаты судна, а капитану предложите вернуться в Пуэрто-Рико. — А если он не выполнит указания? — с усмешкой спросил Кинг. — Наведете эсминцы и вернетесь на базу. Все! Вы, Кинг, можете идти, а Смита попрошу остаться. Когда за Кингом закрылась дверь, Уолтер протянул Рокуэллу информационный листок. — Читайте подчеркнутое. Остальное объясню. — «Соединенные Штаты согласны помочь Португалии в захвате судна „Санта-Мария“»,[87] — прочитал Рокуэлл. — Все намного сложнее и неприятнее, чем кажется. — Уолтер взял у Рокуэлла листок. — На судне восстали коммунисты. Очаг маленький, но его надо немедленно потушить. Их главарь заявил, что, если наши корабли попытаются захватить судно, он потопит «Санта-Марию». Уолтер остановился перед Рокуэллом. — Если мне не изменяет память, у вас при полете над Англией оторвалась атомная бомба? — Был случай. — Так вот, парень… если экипаж откажется вернуться в порт и у тебя при пролете над судном… оторвется торпеда, это тоже будет случайным. Рокуэлл медленно встал. — Там пассажиры. Мирный народ. Да и американцы. — Давай рассуждать логично, Смит… Мы не можем допустить это корыто плавать в наших водах. Мятежники не дадут себя спеленать и потопят корабль. В этом случае они окажутся несгибаемыми борцами за так называемую свободу. Понимаешь?.. А если они совершенно случайно станут пищей акул, резонанс будет другим! — А пассажиры? — В том или другом случае их участь одинакова. Да и сейчас в лапах мятежников их жизнь не сладка. Рокуэлл хотел возразить, но подумал немного и спросил: — Это приказ? — Если бы существовал такой приказ, я бы не стал болтать с тобой. Это не приказ, но если сделаешь, как я тебе сказал, будешь обеспечен до конца своих дней… Надеюсь, ты понимаешь, кто в этом заинтересован? — Да, полковник! — Можно надеяться? — Буду действовать точно по обстоятельствам. — Отлично! — Рот Уолтера растянулся в улыбке. — Вылетай! Серое море. Ветер рвет седые верхушки волн, подталкивает самолет под крылья. Рокуэлл производит поиск судна методом «параллельных галсов». Через каждые пять минут радист бросает в эфир: — Не обнаружено! Тринадцатый галс. Курс — восток. Заканчивая поисковую прямую, Рокуэлл увидел на горизонте дымок и развернулся к нему. Постепенно вырисовывался силуэт большого корабля. — Смотри, какой белый красавец! — Однотрубный. На мачте флага нет, — сказал радист. — Ищи связь! Радист защелкал переключателями каналов. — «Санта-Мария», прием? — монотонно повторял он. — Ответьте… Капитан, встаньте в круг. Рокуэлл закружился над кораблем. На палубе стояли пассажиры и смотрели на самолет. — Вон красотка в белом машет ручкой. И никакой охраны… «Санта-Мария», ответьте… ответьте… Есть связь, капитан! — Переключи на меня. — Я «Санта-Мария», отвечаю, — послышался в наушниках густой спокойный голос. Рокуэлл назвал свои позывные и предложил: — Измените курс и вернитесь в Пуэрто-Рико. — Будем идти прежним курсом в Анголу, — кратко прозвучал ответ, а затем: — Конец связи с вами, перехожу на открытую международную волну. Рокуэлл кивнул радисту, и тот переключил диапазон радиоволн. Через минуту тот же голос вышел в эфир. — Всем! Всем! Я, капитан Энрике Гальвао, сообщаю, что в ночь с двадцатого на двадцать первое января группа противников португальского диктатора Салазара захватила лайнер «Санта-Мария»… В эфир неслись слова, полные горечи и решимости. — Салазар взял народ в железо, — пробормотал радист. — Несладкая жизнь! — …Пассажиры и экипаж просят сообщить их семьям, что они здоровы, и я добавляю — здоровы и свободны! — продолжал Гальвао. — Мы сделали первый шаг в борьбе против пирата Салазара и просим политического признания этой освобожденной части нашей национальной территории, во главе которой стоит генерал Дельгаго… Повторяю… Всем! Всем!.. Рокуэлл снизился и пролетел у самого борта корабля, погасив скорость до минимальной. Пассажиры толпились у поручней. Маленькая девочка, сидя на плечах отца, махала платочком. Увидев на капитанском мостике человека, он невольно поднял руку в знак приветствия. Хорошая зависть шевельнулась в душе к людям, преследуемым эсминцами, воздушными торпедоносцами и злобой властителей, но смело, без колебаний идущих к своей цели. Радист снова установил связь с судном. — Я «Нептун-три», — передал Рокуэлл. — Если не вернетесь в порт, буду принимать крайние меры! — Для нас пути назад нет! — ответили с корабля. — Произвожу боевой заход! — предупредил Рокуэлл и вывел самолет на прямую для торпедного удара. Рокуэлл хорошо помнил предложение Уолтера. Белый дым мирно курился из широкой трубы корабля и стлался по палубным надстройкам. — Смотрите, капитан, они бросились в каюты! — закричал радист. — Молчать! На прямой. Рокуэлл торопливо положил руку на пульт управления. Момент для сброса торпеды. Рокуэлл нажал кнопку… кнопку включения передатчика. И вместо смертоносного снаряда на корабль полетело короткое: — Желаю удачи! Самолет с ревом пронесся над белым лайнером и повернул к берегам. Рокуэлл вошел к начальнику штаба. В кабинете сидел Джо Кинг. Уолтер поднял круглые злые глаза и заорал: — Почему не выполнил приказа? Почему действовал, как мягкотелая девица? — Разве был приказ о потоплении судна? — с усмешкой спросил Рокуэлл. — А, вот как ты заговорил, скотина! Вы слышите его, Кинг? — Спокойно, полковник! — сказал Кинг. — Координаты вам известны. Сколько заплатите, если я утоплю португальскую галошу? — Поздно! Весь мир уже знает о политических целях восстания! Смит не смог заткнуть им глотку. Но ты, Смит, ответишь за невыполнение приказания. Пойдешь под суд! — Какое приказание вы имеете в виду, полковник? — Топить судно я тебе не велел. Так ведь? Ну? — К вашему счастью, свидетелей при этом не было. — Но ты забыл об официальном приказе сообщить координаты корабля? Ты их не сообщил! Вот за это и предстанешь перед военно-полевым! — Я забыл! — Знаю, что только так ты и будешь мычать. Преступление не велико, но… — Плевать я хотел! — взорвался Рокуэлл. — Сегодня двадцать пятое января. Через два часа кончается мой контракт с вами, и я свободный человек! Ясно, полковник? — Два часа? — скривил губы Уолтер, и глаза его превратились в ехидные щелки. — Благодарю за предупреждение. Так вот на что ты рассчитывал! Ну и глуп же! Двух часов вполне хватит на то, чтобы судить тебя и заставить раскошелиться на штраф, причем на это вряд ли хватит твоих сбережений. А если не хватит, ты увидишь небо в крупную клетку… Кинг, уведите арестованного! Это прозвучало так же, как несколько лет назад в Южной Корее: «Уведите военнопленного!» И с многолетним запозданием Уолтер прошипел: — Пошел к черту, Смит! Через час встретимся. На этом шофер закончил рассказ. — Полковник сдержал слово? — спросил я. — Если бы нет, я смог бы уплатить взнос авиакомпании. Шофер молча вылез из машины и услужливо распахнул нашу дверку. — Прошу, господа! До вылета вашего самолета еще целый час. Надеюсь, я не причинил вам беспокойства во время поездки?Владимир Казаков КАСКАДЁР
Я не был знаком с Кеном Тайлером, но видел один из его демонстрационных полетов. Это был пилот, летные рефлексы которого отработаны до птичьих инстинктов. Его истребитель бил франкистов в небе Испании, он считался лучшим летчиком в китайско-японскую войну. Последние годы Тайлер подвизался на трюковых съемках в Голливуде. И вот в журнале «Гражданская авиация» опубликован некролог на всемирно известного летчика-акробата…В маленьком баре старые товарищи продюсер Джеймс Семистон и пилот Кен Тайлер допивали кофе. Час прошел в воспоминаниях, а о том, зачем Джеймс вызвал товарища из Бруклина, еще не было речи. — Сколько воды утекло, Кен… — Мне стукнуло пятьдесят один, Джеймс. — Я знал, что тебе туго. Тебя видели в Бруклине и сказали… — Ближе к делу! — Тайлер гордо поднял седую голову. Семистон смотрел на товарища, и что-то вроде сострадания мелькнуло в его серых, облепленных морщинами глазах. Он потер гладко бритую голову повыше уха и положил пухлую руку на стол ладонью вверх. — Дай лапу, Кен… Предлагаю тебе выход из застоя. Тайлер коснулся протянутой руки. — Я снимаю фильм. Нужен каскадер. Ты можешь занять это место. — Трюк? — безразлично спросил Тайлер. — Пустячок. Сколько потрясающих сцен ты создал? Эта — пустячок! — Я не летал два года. — Постараюсь добиться нескольких тренировочных полетов. — Видишь? — Тайлер глазами показал на свои руки. Они лежали на столе, большие, волосатые, с глубокими складками на сочленениях. Средние пальцы касались друг друга и дрожали. — У пилота-акробата Кена — «Счастливчика» есть бесстрашное сердце. — Не так говоришь… Многого нет, что было раньше. И нет денег… Я согласен. Спасибо, Джеймс! На другой день Кен Тайлер осматривал железный макет буровой вышки, растянутый стальными тросами. Он должен пролететь на маленьком спортивном самолете под тросом. Опытным глазом рассчитал: чтобы не задеть вышку и трос, нужно пролететь с креном в сорок пять градусов и провести опущенное крыло не более как в трех метрах от земли. Приехав к Семистону, он сказал: — Трудно!.. Может быть, комбинированной съемкой? — Тогда зачем нужен Тайлер? Любой желторотик посчитал бы за честь. Фильм на конкурс — только правда и чистота. Лента с эпизодом без склеек. Большая премия. — Сколько тренировочных полетов? — Десять. Кен Тайлер подумал. — Мало, — буркнул он. — И замените трос на капроновый. — Я не узнаю тебя, Кен! Что это даст? — вскинул густые рыжие брови Семистон. — При неудаче и капрон разрежет, как нож. — Замени… Над кабиной самолета смонтируйте тонкий стальной обод, в кадре его не будет видно… Вычтешь из гонорара, — предупредил возражение продюсера Тайлер. — Когда начнешь? — Через неделю. Познакомлюсь с авиэткой и отдохну. …Наступил первый день съемок. Кен Тайлер взлетел и кружил над буровой вышкой, ожидая сигнала. Мысленно он уже сотни раз пролетал под тросом, пролетал точно, рассчитывая до сантиметра. За неделю он отдохнул, чувствовал себя так же, как два года назад, когда сам поджег самолет на высоте триста футов и посадил его, а вернее, его обугленные огрызки на плот в море. За этот трюк получил высшую награду Голливуда — премию Оскара. Львиная доля денег ушла на долги. И все равно жил неплохо, одевался в нью-йоркском «Брукс Бразерсе» — магазине Джона Моргана и многих президентов. Кен Тайлер! Имя раскрывало ему многие двери. Потом… Об этом не хочется вспоминать. Годы. Старость. Один неудачный полет, и…. и вот опять здесь, где начинал путь всемирно известного киноакробата… Кен Тайлер окинул взглядом обширные земли Голливуда и совсем неожиданно увидел красную ракету. Рука автоматически отдала ручку управления от себя. Авиэтка опустила серебристый нос и пошла на вышку. Все ближе и ближе пятидесятиметровая каланча с ажурным переплетением. Капроновые растяжки паутиновыми нитями блестят под солнцем. Его правая… Скорость! Удержать расчетную скорость. Но она падает! И Кен Тайлер с досадой поймал себя на том, что потихоньку, совсем незаметно, тянет сектор газа назад. Вышка растет. Тайлер видит перед собой решетку из черных литых треугольников. Они занимают все небо. Дрожь среднего пальца передалась на управление. Он не может унять эту противную дрожь. Кажется, над самыми бровями пролетает трос… Самолет сел. На автомашине подъехал Семистон. — Дубль… Ободом над кабиной ты разрезал трос. Восемьсот метров пленки придется выбросить на помойку. Давай еще разок. Кен Тайлер вылез из кабины. — Завтра, — сказал он и ушел, глядя себе под ноги. …Пятый дубль. Перед взлетом к авиэтке подъехал Семистон. Он испытующе посмотрел на пилота в кабине. — Ты не побрился, Кен. — Дурная примета скоблиться перед полетом. От винта! Через восемь минут авиэтка пошла на буровую вышку. Она скользила красиво, как чайка. В утренних лучах солнца переливались ее бело-синие крылья. Звук мотора похож на мощный шмелиный гуд. Семистон уже на съемочной площадке. Он поднял руку, и кинооператоры поймали самолет в прицелы объективов. По уверенному полету машины видно — будет удачный кадр. Вот авиэтка ловко, можно сказать, грациозно валится на крыло. К старому пилоту пришло «второе дыхание», и он обрел свой неподражаемый почерк. — Силен, бродяга! — восхищенно заорал кто-то из операторов. Но Кен Тайлер не читал сценария, и даже не знает названия фильма. Он не догадывается, для чего стоят невдалеке от вышки две красные, похожие на пожарные машины. На их крышах гофрированные раструбы. Когда самолет заревел почти под тросом, из раструбов сильной струей ударил дым, создавая иллюзию тумана. Это неожиданность для пилота. Все увидели, как легкая авиэтка совсем немного отпрянула в сторону, и крыло, коснувшись земли, разлетелось в щепы… Взревев сиреной, рванулась вперед санитарная машина. Ее обогнал фургон с кинооператорами. На подножке — Джеймс Семистон. Он на ходу соскакивает, подбегает к обломкам авиэтки. Отбросив в сторону кусок бортовой обшивки, видит Тайлера и на миг крепко сжимает одутловатые веки. Ручка управления проткнула пилоту грудь, седая голова лежит на обломке приборной доски… — Скорей! — кричит Семистон, рукой отстраняя врача. Из-за его спины выдвинулись операторы, и два киноаппарата быстро застрекотали, снимая крупный план. — Прощай, дружище!.. Все точно по сценарию, — шепчет продюсер, сдавливая пальцами набухшие веки. — Только зря не побрился ты, Кен…Автор.
Р. Бахтамов ТАМ, ЗА ЧЕРТОЙ ГОРИЗОНТА (Главы из повести)
Космонавт Эрик Гордин вернулся через пятнадцать лет на Землю. За это время произошли гигантские перемены, к которым сразу он не может привыкнуть. Но все живущие в этом новом для Гордина мире стараются сделать все, чтобы он быстрее освоился и почувствовал себя равноправным членом общества. Там, за чертой горизонта, пути человеческие.Сначала он ощутил ветер. Ветер толкнул его в грудь, бросил в лицо пеструю смесь запахов, шорох веток. Потом он увидел желтое с зеленым и голубое с белым. И над всем — нестерпимо яркий шар солнца. — Идите. Вас ждут. Гордин слышал голос и понимал, что это говорят ему. Но голос был далек, в ином мире. А мир, в который он попал, обрушился на него, как лавина. Земля только казалась желтой, а была и серая, и темно-коричневая с зеленым, и почти черная — там, где лежали тени. По небу плыли белые тени-облака. Плыли и менялись. Напрасно он пытался остановить их в памяти… Чья-то рука легла ему на плечо. Гордин пошел. Стоять или идти — сейчас не имело значения. И сразу все в нем напряглось: что-то давно забытое было в этой черной, пружинящей под ногами дорожке. «Две недели без увольнительной»… Он улыбнулся. Дорога рапортов. Практикантам ходить по ней не полагалось, им не о чем было рапортовать. В конце дорожки стояли люди — ждали его. И он шел, как должно, четким шагом. Он угадал, кто будет принимать рапорт. Высокий, с темным лицом и властными, широко расставленными глазами. Вытянувшись, Гордин произнес традиционные слова рапорта. — От имени… — начал высокий и запнулся. — От имени Высшего Совета, от имени всех людей… ну, и от своего собственного, конечно, поздравляю вас с благополучным возвращением на старую нашу, добрую Землю. Он обнял Гордина и сказал тихо: — Вы уж простите, если что не так. Я ведь человек далекий от рапортов. Евгений Дорн, художник. Наверно, это было ужасно. Но он рассмеялся. Интуиция… И все вокруг засмеялись. Кажется, они опасались встречи не меньше, чем Гордин. — Член Совета… — Заместитель председателя… Верейский. Знакомая фамилия. А лицо — нет. Чем-то он напоминает Дорна, может быть глазами. — Вы мало изменились, Эрик. Гордин не успел ответить. Вмешался Румянцев: — Кончайте, пора ехать. Верейский негромко фыркнул: «Порядки!» — но спорить не решился. Спросил только: — Надолго вы его отнимаете у человечества? — Месяц полного покоя. Верейский даже растерялся. — Подождите, а Хант? Не считаете же вы в самом деле, что Председатель Совета… — Хант — врач, — отрезал Румянцев. — И только в этом качестве… — Ах, в качестве… — Верейский улыбнулся. Сколько морщин! Должно быть, он очень стар. — Пора ехать, — повторила Румянцева. Она взмахнула рукой. Бесшумно придвинулась машина. — До свидания. — До встречи…Поморская легенда
* * *
Шек опустил стекло. Плотным, тугим комком ударил в лицо ветер. Мотор запел, срываясь на свист, и притих. — Компенсирует сопротивление, — сказал Шек. Небрежно держа руль, он смотрел на дорогу. Дороги, собственно, не было — узкая, заросшая травой полоса в густом лесу. Она петляла, обходя столетние дубы, выбегала на поляны, срывалась на дно оврага. Без видимого напряжения машина угадывала повороты, только над оврагом мотор тихонько завыл. — Вам удобно? — спросил Шек. Он хотел спросить совсем не о том. О машине. Это его машина, собственной конструкции. Будь его воля, они давно сидели бы на траве и рассматривали чертежи. Но в этой поездке он шофер. И еще справочное бюро, если пациент пожелает что-то выяснить. С врачом не спорят. С инженером можно, с агрономом, даже с археологом. А с врачом нельзя. И Шек молчит или задает бессмысленные вопросы. — Машина знает дорогу? Наконец-то! Теперь спокойствие. Голос ровный, будничный: он дает справку. — Модель видит дорогу впервые. — Эта модель? — Другие — видели, — признался Шек. — Но здесь нет переноса памяти. Машина честно выбирает дорогу. — А на развилках? Колебание, вероятно, в пределах тысячной секунды. — Две тысячных. В машинную память заложены общие принципы выбора маршрута. Не конкретного, а маршрута вообще. — И вам неизвестно, куда нас завезет? — Только приблизительно. — Шек повернул обтекатель, ветер усилился. — Ваша первая конструкция? — Первая. Если бы вы, Эрик, прошлись по ним рукой мастера… — Спасибо, Шек. Но я давно не мастер. А экранолетами я вообще не занимался. «Теперь врачи меня съедят, — думал Шек. — Впрочем, это неизбежно. Нельзя ждать, когда спящий проснется. Просто нет времени ждать». — Что там экранолет, — протянул он. — Обыкновенный автомобиль на газовой подушке. Вот двигатель… А это по вашей специальности. — Ой, Шек! — А почему, собственно, Эрик? Ах, да, забыл, что вы в состоянии отдыха. Кажется, у них это так называется… Гордин покачал головой: — Дело не в отдыхе. А почему вы так говорите о врачах? Вы их не любите? — Напротив, очень люблю. И охотно слушаю — когда болен. Но когда здоров… Вы можете объяснить: почему со всеми спорят — с инженерами, с физиками, с археологами, — только не с врачами. Почему? — Не знаю. А кто вам мешает спорить? — Бесполезно. — Шек пожал плечами. — У них Хант. — Спорят не с людьми, со взглядами. — Вы не знаете Ханта. Если вы завтра предложите новую теорию минус-поля, он посидит ночь, и к утру от теории останутся рожки да ножки. Интересно, что вы тогда скажете! — Спасибо. Шек рассмеялся: — Ловко. Ну, а если теория правильна и дело лишь в неумении доказать? Гордин не ответил. Шек хороший парень и фантазер. Инженеры против врачей? Чепуха! Карантин кончился, это важно. Свобода. Шек молчит, умница. Молчат стволы, слитые в бесконечный коричнево-зеленый коридор. Бесшумно (к ровному негромкому гулу он привык) скользит машина. Это и есть свобода — ветер, деревья, дорога. И человек, с которым можно помолчать. Двигатель охнул, замолк. Машина осела и, найдя опору, закачалась на резиновых катках. Гордин осмотрелся. Просека уперлась в поляну, дальше пути не было. Машина зашла в тупик. Вслух он это не сказал, чтобы не обидеть Шека. А Шек не двигался, сидел, смотрел вверх. На темной коре дерева отчетливо выделялся белый четырехугольник таблички. Не той, на которой писали во времена фараонов. Обыкновенной, канцелярской. Не очень доверяя себе, Гордин прочел ее дважды. Черным по белому, каллиграфическим почерком на табличке было написано: «Без дела не беспокоить. Надоело». — Я поставил бы в конце восклицательный знак. Шек ответил меланхолически: — Бут Дерри не нуждается в знаках. Для тех, кто с ним встречался, вполне достаточно слов. — Давайте разворачиваться. — А поговорить с ним не хотите? Дерри стоит того. — Очень может быть. Но у меня к нему ничего нет. Никаких дел. Шек улыбнулся: — Неважно, вы сами дело. К тому же нас привела сюда судьба. А с судьбой не спорят. — Ладно, — сказал он. — А кто этот Бут Дерри? Хотя бы по специальности? — Учитель. Нет, не учитель с большой буквы. Школьный учитель истории. Снаружи дом выглядел необычно. Внизу — массивный шестиугольник неправильной формы, а верх легкий — молочно-белая, почти прозрачная пластмасса. Смысл тут, во всяком случае, был. Нижний этаж занимала мастерская: станки (в том числе большой универсальный), тиски разных размеров, набор ручных инструментов, приборы, электронная аппаратура. В углу стоял шкаф с книгами. Но настоящее царство книг — наверху. Собственно, кроме стеллажей и столика с двумя креслами в кабинете, ничего не было, от этого он казался огромным. И форму — шестиугольник — диктовали книги. Исторические и философские занимали стеллажи вдоль основной стены, дальше, строго по стенам, — физика и химия, астрономия, биология, медицина. На восток и на запад смотрели окна: стиснутые книгами, они вытянулись от пола до потолка. Конечно, все это Гордин рассмотрел потом. Сначала он видел только Дерри. — Бут Дерри! — прокричал с высоты резкий, гортанный голос. Он был в самом деле высок и уж никак не молод — голова совершенно седая. А держался прямо. Может быть, слишком прямо. И лицо. Что-то острое, болезненное было в этом лице. Оно постоянно менялось, отражая все, что он чувствовал. Гордин отвел глаза, — такое ощущение, будто подсматриваешь. Дерри кивнул — садитесь — и продолжал ходить. — Садитесь, — сказал Шек громко. — Он будет ходить. И меня он тоже не слышит: обычные разговоры проходят мимо него. Зато он очень хорошо… — Эрик Гордин, — донеслось с высоты. — Ушел в полет на «Магеллане», год сорок шестой. Вернулся в две тысячи шестьдесят первом. — Отвечайте, он слышит, — прошептал Шек. — Да. — Достигнутая скорость? — Ноль девяносто девять. — Чепуха! На Глории разумных существ… — Видимо, нет. — Не «видимо», а «очевидно». Было очевидно до полета. Что думаете о ВК? Дурацкие клички вместо названия, но других нет. — Первый раз слышу. — За тридцать два дня не удосужились! Раньше люди были другими. Гордин не обиделся. Хорошо бы ехать сейчас в машине или слушать дождь. А глаза у Бута совсем больные. Лечиться надо. — Сумасшедший. В психиатрическую. А куда ребят? Они мне верят. Верят. — Бут тихо засмеялся. Лицо повторило смех, а глаза уже были яростными. — Их куда, я вас спрашиваю? — Не знаю, — сказал Гордин вяло. Одно время в моде был такой театр: актеры по ходу действия обращались с вопросами к зрителям. Он и был зрителем, который опоздал и попал на незнакомую пьесу в середине второго акта. — Ребятам нужна перспектива. Не помните, кто сказал? Макаренко, учитель двадцатого века. А что им делать? Ездить с экскурсией на Марс, писать стихи, малевать картины… ВК, корабль с роботами, — какой идиот это придумал! Да и не в том дело. ВК. — функция, и бессмысленный полет — функция. — Функция чего? — Молчать дальше было неловко. — Тысячи вещей. Утилитарности. Приземленности. Элементарного понимания физического и духовного. Для тела — спорт, для интеллекта — наука и искусство. А для души? Вот эти несчастные ВК, которых не удосужились хотя бы назвать по-человечески… О дискуссии знаете? — Нет. Такое лицо было у Дерри, что Гордин почувствовал себя виноватым. — Хорошо, я расскажу. Но его ненадолго хватило. Он все повышал и повышал голос, пока не начал кричать. Высокий, худой, он метался по комнате, выкрикивая неведомые Гордину числа, названия, имена. Внезапно он замер, огромный, неестественно прямой, с всклокоченными волосами, — памятник самому себе. — Конец, — сказал Шек. — Говорить с ним дальше бессмысленно, он ничего не видит и не слышит. Но если вам интересно, я доскажу по дороге. Гордин кивнул… — Началось с того, — говорил Шек, — что не вернулся «Берег», ушедший к третьей звезде в созвездии Кентавра. Звезда инфракласса, темная, одна из ближайших к Земле. Открыли ее в сорок седьмом. Ну да… через год после вас. «Берег» был хороший корабль. Большой, надежный, хотя не из быстроходных. Все шло нормально: сообщения в газетах, насмешливое лицо Маклярского на экране. («Маклярский?» — «Вы его знали?» — «По школе, мы учились вместе».) Сообщения стали реже, запаздывали — это тоже было естественно. Потом он выбрал планету (всего их там пять, но эта показалась ему самой удобной) и сел. «Планета обычная, типа С, присвоено имя „Лесная“, — передал он. — В атмосфере исключительно первичные газы. Интересно. Включаю приборы плюс органы чувств…» «И плюс осторожность!» — передал Хант. Он, видимо, знал Маклярского. Получилось минус осторожность, сигнал был последним. Я с ним не знаком, но говорят… Я был тогда мальчишкой, — продолжал Шек, — но очень хорошо помню, какой поднялся шум. Нашлись люди, обвинявшие Ханта в неосторожности. Это Ханта! Есть такой химик Уралов, он заявил, что дальний космос вообще не нужен. Сведения стареют раньше, чем люди возвращаются. А сами люди… простите. В общем, вполне достаточно роботов. С другой стороны — Бут Дерри. Тогда я впервые услышал его имя. Он предлагал послать целую эскадру, шесть кораблей. Он говорил (тогда еще не кричал), что человечество не может мириться с неизвестностью. И еще он утверждал, что Земля стареет, из жизни уходит риск. Что трусость Совета (он не назвал Ханта, но это само собой разумелось) превращает мужчин в старух, пригревшихся у земной — будь она трижды неладна! — печки и лениво размышляющих, что бы еще спихнуть на роботов… Ему бешено аплодировали. Но только мы, школьники. В Совете его почти никто не поддержал. Нет, это не то слово. Его буквально разгромили. Физики обиделись за роботов, химики — за Уралова, философы — за философию, совсем немного за себя, и все — за Ханта. Бута называли авантюристом, искателем дешевой популярности, предлагали лишить права учительствовать. Я думаю, это последнее его доконало. Он объявил, что человечество вырождается, привел в пример древнюю Спарту и викингов. Что было дальше, я мог только догадываться — экран выключили. Потом мне рассказывали, что выступил Хант и неожиданно поддержал Дерри. Он хотел послать эскадру — не из шести, конечно, а из двух кораблей. Это не прошло, большинство Совета в чудеса не верило. Думали, что нарушена связь, хотя радиосистема, конечно, дублировалась. Несмотря на зубовный скрежет физиков, Хант выдрал один корабль (он им был для чего-то нужен) и послал к Лесной. Корабль назывался «Компромисс» и вел себя соответственно. Это, однако, ничего не изменило. Связь с ним прекратилась, едва он сообщил о посадке. Третья экспедиция — двакорабля — ушла в прошлом году. Те самые ВК: ВК-7 и 8 с роботами. Месяца через четыре они выйдут на связь. — А ваше мнение, Шек? — В школе я был убежден, что Дерри прав. Сейчас я понимаю, что никакого вырождения нет. Но я хотел бы, чтобы меньше людей занимались стихами и картинами, а больше техникой. Сейчас в инженеры палкой не загонишь. И потом, мы почти не строим корабли дальнего космоса. Это мне тоже не нравится. — А история с «Берегом»? — Странно, но скоро все выяснится. — Вы уверены? Шек снисходительно улыбнулся: — Роботы не ошибаются. Темнело. Шек включил фары дальнего света. На поворотах машину качало, тогда казалось, что это танцуют, тяжело переваливаясь, мохнатые ели. — Далеко до города? — Час с минутами. Сейчас мы выберемся на шоссе, слезем с воздушных ходуль на старую добрую резину. Тогда будет скорость… Через час, уже в городе, Шек спросил: — Вы не передумали? Я бы мог пойти с вами. — Спасибо, не нужно. Хочу побродить по улицам. Здесь я когда-то жил. Боитесь, что потеряюсь? — Не потеряетесь, но будет трудно. Все-таки многое изменилось. — А может быть, Шек, я хочу, чтобы было трудно. Остановите, пожалуйста. Превосходная поездка. — Вы не обиделись… ну, из-за Бута Дерри? — При чем тут вы! Виновата теория вероятности. Из одиннадцати поворотов машина случайно угадала все одиннадцать. И после этого ее называют теорией… Спасибо, Шек.* * *
Когда-то он знал здесь каждую улицу. Город вытянулся вверх, но стал как будто просторнее. В его время яростно спорили: улицы-коридоры или высотные дома-одиночки (воздух, свет, кругозор). Улицы сохранились, хотя и сильно размытые полянами-площадями. Они в самом деле были похожи на поляны. Небрежно, почти случайно раскиданные по городу, они прятались за крутым поворотом, неожиданно возникали среди ровного течения улицы. Здесь не было ни асфальта, ни аккуратных дорожек желтого песка — просто земля, просто деревья вокруг и запущенные тропинки, которые куда-то ведут. Сам город, в сущности, изменился мало, это площади делали его непривычным. Потом он вспоминал и сравнивал. Все это было: желтый дом из Марсианской — Анин Архитектурный институт; серый обелиск в память первой экспедиции на Юпитер… Исчезла гостиница на углу 2-й Лунной, огромное здание Центра связи, шестиэтажный дом, где жил Володя Танеев. Вместо дома — глыба красного камня с барельефами: память о полете, из которого никто не вернулся. Других он почти не знал, а Володя был мало похож. Только губы его — приподнятые по углам, острые. Но это было потом — не в первый да и не во второй день. А в первый день он вышел из машины с чемоданчиком (все его личное имущество), пересек лесозащитную полосу и очутился в собственно городе. Машины тут не ходили, всю ширину улицы занимали тротуары и движущиеся дорожки. Часы показывали семь — солнце садилось, но светильники еще не горели. По тротуарам текла густая толпа гуляющих. А движущиеся дорожки пустынны. Изредка вырвется из толпы человек, пробежит по переходному мостику и устроится в кресле. Вспыхнет светлячок-лампочка, человек открыл книгу… Гордин не сразу приноровился к неторопливому шагу гуляющих. Но когда это удалось, он ощутил себя частью толпы. Он жил ее ритмом — никого не толкал, и его не толкали. Голоса уже не сливались в ровный, однообразный гул, он различал слова, интонацию. Он шел, подчинившись общему движению. Может быть, в этом и счастье — идти, ни о чем не думая, ничего не решая. Просто идти среди многих других. Все-таки было в этом что-то нереальное. Те же самые люди, по той же улице шли и год, и десять лет назад. А он был тогда один, в миллиардах километров от этой улицы. Шагала, неслась, летела по циферблату стрелка. Он ел или чистил зубы, толпа текла — люди умирали, рождались, делали открытия, играли в саду дети. Что-то изменилось, он не сразу понял что. Растекаясь, поток редел — улица вывела его на площадь. В это мгновение, словно только его и ждали, площадь вспыхнула, заиграла, закружилась в пестром хороводе огней. Зажглись скрытые в зелени деревьев фонари, загорелись многоярусные светильники на невидимых нитях, понеслись куда-то цветные рекламы… — Вам плохо? — Нет. Он отошел к дому. Стоял, чувствуя спиной надежность камня. Все другое было зыбко: и в нем, и вокруг — люди, свет, цветная игра реклам. Больше всего волновали почему-то рекламы. Он ушел с площади, выбрался на тихую, заросшую деревьями улицу. Здесь было темно, мало людей, скромная, по-провинциальному неторопливая реклама. А он не мог идти. Стоял и смотрел, как с наивным упорством чередовались цвета — красный, зеленый, синий, призывая его прочесть новый роман Густава Кора, загорать на солнце не больше двенадцати минут, заниматься гимнастикой по системе Ельга… Конечно, колдовство было не в надписях (он их не очень-то понимал). Колдовали огни, цвета. В них было что-то волнующее, что-то намертво связанное в его памяти со словом «город». Накрапывал дождь. Гордин машинально расправил накидку. Спрыгнули вниз, под ноги, огни реклам — синие тени, зеленые тени, красные. Смешно, никогда он о них не думал. В полете — тем более. Все было табу: земля, город, дождь. Он знал, что должен вернуться. Увидеть… мало ли что увидеть. Эту дрожащую зеленую полосу под ногами. И Володя Танеев знал, а не вернулся. Он дошел до угла, ткнул кнопку на плане. Четыре улицы прямо и две налево. Недалеко.* * *
Он лег и постарался уснуть. Прошло сначала пять, потом десять минут. Точно десять — шестьсот земных секунд. За окном барабанил дождь. Капли то звонко, то совсем глухо били в окно. Звонкий удар — стекло, глухой — пластмасса. Глухих ударов больше — дождь лишь слегка косит. На тумбочке — аппарат электросна. Он убрал аппарат подальше, на подоконник. Заходил по комнате. В общем, естественно — впечатления, перемена темпа. И неопределенность. Он ничего не мог придумать на завтра — ни распорядка дня, ни дел, ни обязанностей. В мире, где были только он, корабль и пустота, где двоилось самое время, ему просто необходимы были житейские мелочи — предметы реальности. Размышляя о них серьезно и обстоятельно (со стороны это было бы, наверно, смешно), он уходил от другого — над чем человеку в одиночестве, пожалуй, и не следовало думать. Он засыпал среди мыслей о дублере связи (он и основной-то системой давно не пользовался), о блюдах, которые ему завтра предложат на обед, о подлокотнике кресла, где обязательно надо сменить планку. Теперь это ушло, и ничего взамен. Люди, которых он узнал, и город, и эта квартира были ему сейчас не ближе, чем пустота. Чужие, абстрактные и беспокоящие. Он взял свою книгу. Ему ее разрешили взять с собой. Книга открылась сама.* * *
Он занялся гимнастикой, принял душ, позавтракал. Сразу — не раньше и не позже — запел телефон. Гордин включил звуковую связь. — Лида, секретарь Ханта. — Слова бежали стремительно, как телеграфная лента. — Лифт до нулевого этажа. Поезд. Остановка — здание Совета. Через пятнадцать минут вас примет Хант. — Понял, — улыбнулся Гордин. — Благодарю. — И звонкая трель отбоя. Лифт, черно-белые тени за окном. Вкрадчивый голос автомата: «Высший Совет — следующая». Снова от самых дверей вагона — движущаяся дорожка, потом лифт. В конце короткого и прямого коридора — белая дверь. — Вы — Гордин? Садитесь, отдыхайте. У вас пять минут. Быстрый взгляд (глаза совершенно зеленые), руки не отрываются от клавиш. — Ваше время. Идите. — А он свободен? Она пожала плечами. Хант был совсем другой. Большая голова тяжело опирается на сцепленные руки, волосы растрепаны, глаза сонные. Не отрываясь от экрана, кивнул. Человек на экране скользнул по Гордону равнодушным взглядом и продолжал. Говорил он, видимо, давно, и его это нисколько не утомляло, Фразы были гладкие, круглые, как камешки, обкатанные морем. Речь и шла о море, о породах рыб, которые следует разводить в первую очередь. — …Мы ценим науку (подробно: за что ценим и как). Мы сознаем свою ответственность (коротко об ответственности). Но когда мнения теоретиков расходятся (перечисление имен), мы в тупике и вынуждены обратиться (эффектная пауза) к авторитету Высшего Совета! — Не понимаю, — возразил Хант. — Названные вами ученые — консультанты Совета. И если мы начнем обсуждать, они же и здесь будут спорить. — Но вы в качестве главы Высшего Совета… — Я ничего не понимаю в рыбах. На экране круглые глаза, человек благодушно рассмеялся. — Это не так важно. Главное — ваш авторитет. — Но куда, черт побери, — Хант рассвирепел, — куда, на какую чашу весов я брошу этот авторитет! Можете вы мне это сказать? — Конечно. За тридцать лет работы кое-какой, пусть скромный, опыт мы накопили. Скажем, красная рыба. При несколько больших первоначальных затратах… — Ну и действуйте на основании этого опыта. Человек помолчал, подумал. Потом решительно: — Так нельзя. Нужно мнение Совета. — Хорошо, — сказал Хант устало, — я ознакомлюсь. Через неделю вас устроит? — Вполне. Экран погас и зажегся снова. — Метеоритный центр, — знакомая Гордину стремительная скороговорка секретаря. — Отправьте их к Лугову, — ледяным голосом ответил Хант. — Ловить за них метеориты я не буду. — В девять ноль-ноль прибывает «Меркурий». — Очень хорошо. Еще что-нибудь? — У меня все. — Час уже потеряли и еще неделю потеряем, — сказал Хант печально. — Толковый человек, специалист, но боится ответственности. Как вы думаете, откуда это? — От первобытных времен, — улыбнулся Гордин. — Не скажите. Если, к примеру, на тебя несется мамонт, не очень-то успеешь сбегать к вождю племени за указаниями. Вы же обходились. — Что делать! Оттуда и вовсе не сбегаешь. — А при возможности? — Конечно. За советом. — За советом, — повторил Хант задумчиво. — Потому мы и называемся: Совет. Совет и указание, думаю, разный вещи. Впрочем, ладно. Как вы себя чувствуете? Гордин помолчал. — Средне. — Будет хуже, — сказал Хант прямо. — Почти пятнадцать лет. А темп жизни высок, догонять трудно — вы скоро почувствуете. Мы, врачи, называем это психоаритмией — термин, который, к сожалению, уже можно встретить в энциклопедии. — Профзаболевание космонавтов? — Не только. С вами, думаю, обойдется сравнительно легко. — Почему? — Способность к отсеву лишней информации. Теперь о полете. Анализ материалов не закончен, пока несколько предварительных вопросов… Он слушал внимательно, не перебивал. Но по быстрым кивкам, по замечанию, брошенному мельком, Гордин понял: все это Ханту известно. И тем ни менее он спрашивает. Гордин улыбнулся. Председатель Высшего Совета — гений. А человеческое ему не чуждо. Отчет, стереозвуковые фильмы, диаграммы, показания приборов. Все так. Но в глубине души он надеется: есть еще что-то главное, чудо, что ускользнуло от приборов и станет известно сейчас, в разговоре. — О планете, пожалуйста, подробнее. — Это был единственный признак, что Хант оценил лаконичность ответов. — У вас хорошая зрительная память. Гордин откинулся в кресло, закрыл глаза. Уже не видел, как сдвинулись шторы, затеняя огромные окна. Он и Ханта не видел. Только светлую точку вдали. Она надвигалась, росла. Обозначился квадрат — серовато-белое, будто из талого снега слепленное поле. Черные тени. Но это уже были скалы Глории, корабль шел на посадку. При всем том он помнил, что сидит в кабине Ханта. Что он должен не просто увидеть, — показать Глорию, выбрав самое основное или, пожалуй, самое личное, ибо все, что несло в себе биты информации, стало добычей автоматов. Это было их право, он не вмешивался. Они фотографировали планету в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, вели запись в недоступных ему внезвуковых диапазонах, снимали электрические, магнитные, гравитационные характеристики. О чем же рассказывать? Хант не летал, во всяком случае далеко. Он поймет, но не почувствует, что это такое — первый шаг на чужой планете. И если есть награда за месяцы одиночества, за четыре постылых стены, за мертвое время и мертвое небо, за болезнь, описание которой вошло в энциклопедии, если может быть за все это награда, то одна — открытая тобой планета. Земля под ногами и неизвестность, ожидание чуда. Чудес нам и не хватает на нашей слишком известной Земле. — Планета как планета, — сказал он. — Молодая. В атмосфере много углекислого газа, но кислород есть. Растения… Вероятно, съедобны. Преобладают резкие цвета. Красиво, хотя к контрастам нелегко привыкнуть, вначале устаешь. — Красиво. — Хант как будто вздохнул. — Что меня удивило… Меды. Вы видели снимки. Похожи на медведей, только гораздо больше. — Да, — кивнул Хант. — И вашу встречу с ними видел. Почему не воспользовались оружием? — Меды травоядные. И они не виноваты, что у них плохо с нервами. — Полагаю, мы в этом тоже виноваты. — Хант нахмурился. — Если бы в последний момент вам не удалось их успокоить… «Не в последний, — думал Гордин, — раньше. Стрелять было поздно. И вообще я не люблю стрелять. Что я, ковбой, что ли…» — Никогда не слышал, чтоб оружием лечили нервы. Но вам, как врачу, конечно, виднее. — Превосходно! — воскликнул Хант. — Согласитесь, однако, что в случае крайней необходимости… — Крайней не было, — сказал Гордин устало. — Это удивительные существа. Они подходили ко мне так, словно знали давно. И чего-то от меня ждали. — У нас пока нет возможности исследовать все планеты средней перспективности, — вздохнул Хант. — Особенно сейчас. Вы, наверно, слышали? — Слышал. — Он чувствовал взгляд Ханта. Нужно было возвращаться, но перед глазами стояло серое плато, черные зубцы скал, оранжевое низкое солнце. — От Бута Дерри? — И от него тоже. Машина случайно забрела к нему. — Положим, не совсем случайно. — Вы этого не хотели? Хант усмехнулся: — Не так просто. Я мог попросить, чтобы вам сопутствовал кто-то другой, не Шек. Это было мое право. Но я обратился к нему, и он выбрал маршрут. Это было его право. Или обязанность, как он ее понимает. Последний вопрос. — Хант понизил голос: — Вы достигли скорости света? Гордин помолчал. Конечно, председатель Совета знает. Вероятно, ради этого весь разговор. — Да. — И что же? — Хант наклонился к нему. — Трудно объяснить. (Объяснить не трудно, а вспоминать мучительно.) Какое-то странное сознание раздвоенности. Как будто во мне два сознания: мое и не мое. Или лучше так: нас было двое. Я жил в нашем мире. Он — в чужом. — И что сделали вы? — Я — ничего. Сделал он. Потянул рукоятку. — Ну! — Рукоятка не пошла, это было учтено в конструкции. Тогда вмешался я. Время опыта истекало, и я, как положено, убрал скорость. — Вы могли перейти черту! — Нет. Пришлось бы сорвать пломбу. — Вас остановил кусок свинца? — Пломба, — повторил Гордин холодно. — Кусок свинца означал, что мне доверяют. Ведь проще было поставить ограничитель. — Но опыт… такой опыт! — Хант вытер лицо. — А если бы этот опыт, — Гордин сжал зубы, — не удался? Допустим, хотя это невероятно, что корабль выдержал бы и вернулся. Но вы бы ничего не узнали, ровно ничего. Приборы вышли из строя раньше, я проверял. — У вас хватило… — Хватило, опыт продолжался шесть секунд. — А если бы вас было двое? Трое? Корабль сопровождения? Гордин покачал головой: — Не вижу разницы. В случае неудачи все мы, в корабле, узнали бы одно и то же, но ничего не смогли бы рассказать. На том корабле могли бы говорить. Но ничего не узнали бы… — Простите, — сказал Хант, вставая. — Я сошел с ума. Приступ болезни: чем шире информация, тем острее жажда… Да, порог информации сейчас высокий. Надо, чтобы вы его перешагнули достаточно быстро, без особых эксцессов. На практике различают три сферы информации: НТ (научно-техническая), ИЛ (искусство, литература), СЖ (сфера жизни). Деление, понятно, условное, но не лишенное смысла. Беспокоит меня последняя сфера. Нет ничего труднее информации о самом простом, обыденном. А без нее вы останетесь гостем, вам будет скучно на Земле. Мы, конечно, не можем окунуть вас в информацию — вы утонете. Пробовали логические методы обработки. Логика остается, жизнь уходит. Помните пищу Юлова? Гордин кивнул. Он был великий мастер синтеза, Юлов. В продуктах, которые он изобрел, было все: калории, витамины, тончайшие оттенки вкуса и запаха. Продукты пользовались успехом: о них писали, их демонстрировали на выставках. Но почти не ели. Психологи объясняли это предубежденностью, консерватизмом сознания… — Достаточно полную сводку всего, что было, вы, разумеется, получите, — продолжал Хант. — А вообще вопрос стоит остро. Вплоть до временного отказа от полетов. (Он подождал ответа, Гордин молчал.) Конечно, от дальних полетов. Роботы без всякого ущерба для дела заменят человека. (Он снова выждал.) И наконец, мы не имеем права распоряжаться чужой жизнью. — Жизнью каждый распоряжается сам. — Все это много сложнее, чем кажется, — сказал Хант миролюбиво. И так же спокойно, не меняя тона: — А вы не жалеете? Столько лет… — Не жалею. — Идея-фикс, — пробормотал Хант. — Поймите, что это просто не нужно. Открытия безнадежно стареют в пути. Люди отстают от жизни. И над всем этим витает дух псевдоромантики. Можете вы объяснить, зачем нам сейчас дальний космос? — Наверно, могу, — сказал Гордин. — Но вы правы, это много сложнее, чем кажется. А в частности, еще Павлов… — Прошу вас! Рефлекс поиска, рефлекс на новое. Тот самый, что заставляет животное изучать неизвестные запахи, следы, все изменения в окружающей природе… Я изучал Павлова внимательно. Кроме того, кажется, ни один спор о космосе не обходится без этого рефлекса. — К счастью, не только спор. — Гордин улыбнулся. — Остается повторить вслед за Павловым: без этого рефлекса животное погибло бы. — Если человек — животное, то земное! — Так было. Сказав «а», надо сказать «б». Не стоит шутить с неизвестным. — Вы имеете в виду последнюю экспедицию. Не сомневаюсь, что автоматы дадут нам ясное представление о событиях. И окажется, что все просто, никаких чудес. Так случалось не однажды. — Но бывает, и автоматы ошибаются, как сказал… — Помню, Гордин. Давайте пока на этом остановимся. Учитесь, читайте. Наш оптимальный рабочий день — четыре часа — для вас не обязателен. Однако восемь — предел. И только с соблюдением графика смены занятий. Старайтесь больше гулять, ездить, встречаться с людьми. Гордин поднялся: — Благодарю вас. Можно съездить в школу к дочери? — Даже нужно. Если бы не запрет, вы получили бы сотни приглашений. — Понимаю. Псевдоромантика. — И живой интерес тоже. Теперь запрещение снято. Вы можете принимать приглашения или не принимать без всякого стеснения. И, конечно, высказывать в любом обществе любую точку зрения. Право, которого у нас лишены только члены Совета.* * *
Ничего необыкновенного не было. Сначала позвонили из отдела информации — убедиться, что он дома. Потом привезли и установили картотеку. Двое ребят в шортах показали, как ею пользоваться. Пока один объяснял, другой дирижировал тросточкой и притопывал в такт собственной музыке. Кончив, они облегченно вздохнули и ушли, весело поблескивая голыми коленками. В шкафу стояли пластинки — тонкие и упругие. Много — тысячи пластинок. И очень мало: трудно верилось, что здесь все. Все, что на протяжении пятнадцати лет писали газеты, говорили по радио, показывали в кино и по телевидению. Все, чем жили люди. Гордин дернул шнурок. Бесшумно двинулся транспортер; веером — слева направо — легли на стол пластинки. Чудо предусмотрительности и внимания — это он увидел сразу. Цвета — яркий (глаз сразу находит главное) и целая гамма мягких (глаз отдыхает); шрифты — основной и вспомогательный; тончайшей работы рисунки — иногда серьезные, чаще шутливые; можно запомнить навсегда или забыть — зависит от того, что тебя интересует. На просмотр пластинки Гордон тратил меньше трех секунд — первичная информация была сосредоточена в заглавии. Затем аннотация. И, наконец, текст — предельно сжатый, но вовсе не безличный: высказывания специалистов, комментарии газет. Если недостаточно, можно набрать номер отдела и код. Отдел давал информацию любой полноты, вплоть до первоисточников. Вечером был город. Он любил город и раньше, в прежней своей жизни. Любил не задумываясь, привычно и равнодушно. В это трудно было поверить. Он исходил город вдоль и поперек: от центральной площади до зеленого кольца бульваров. Он мог бы проделать этот путь с закрытыми глазами — так прочно вошли в его память прямые линии улиц, запутанные тропинки парков, памятники, дома. Но знание его было выше формальных примет. Он постиг (так, по крайней мере, ему казалось) сущность города — объединения, где ты наедине с собой и все время чувствуешь, что рядом люди. С особой силой он ощущал это ночью. Когда становилось очень уж одиноко в просторной квартире, он спускался вниз. Улицы спали, но город жил: в невидимых окнах зажигались и гасли огни, тихо, как мыши, скреблись машины, легко и немного устало шуршали листья. А вечером… Нет, теперь это было не так остро, как в первый раз. Шумных улиц он избегал. Но в огнях реклам, в матовом блеске мокрых тротуаров, в приглушенном смехе на темной аллее — всюду было что-то слишком резкое, тревожное. Он мог бы читать или слушать радио. Однако именно в эти часы его тянуло на улицу, тянуло к тому приподнятому, взвинченному состоянию, в которое приводил город. «Похоже на действие наркотиков, — качал головой врач. — А впрочем, образуется. С течением времени».* * *
— Ты дома? Мы идем. Они появились минут через десять. — Садись, — распорядилась Рита. — Мой друг Валь, я тебе, папа, говорила. Валь был высок, одного с ним роста, худой, угловатый, с длинными руками и развинченной походкой. Крупный подвижный рот и маленькие быстрые глаза. — Называй папу Эриком. Ты не против? — Пожалуйста. Ничего из этого не вышло. Валь не называл его Эриком, он молчал. Говорила Рита. О школе, о городе, о подругах. Неожиданно она встала и объявила, что торопится. — Поедем в Академию? Ты обещал. Она сказала это очень уверенно, но глаза были тревожные — вдруг откажется… — Хорошо, поедем. Миновали корпуса Академии — легкие цветные кубики из стекла и пластика. Машина свернула вправо; в сплошной стене деревьев открылся узкий проход. Так же внезапно возник огромный овал — что-то среднее между площадью и стадионом. — Комбинат отдыха, — сказал Валь. — Все двадцать четыре удовольствия сразу. А каков стиль здания… — Нам нравится, — сказала Рита упрямо. — Наглядное пособие. И для кафе удобно. — Это — кафе? — Обычно кафе. И сегодня тоже. Или ты предпочел бы актовый зал? «Я предпочел бы сидеть дома и читать, — подумал Гордин. — Остальное не так важно. Хотя можно бы найти и другое место. Космос между двумя чашками кофе. Экзотика». Они вошли. Почудилось, что зал вспыхнул, будто в этот момент сотни людей чиркнули спичками. Но это были всего лишь свечи на столиках, очередная мода. Впрочем, красивая. В зыбком свете рождались гигантские тени, бежали по стенам, взбирались на низкий потолок. Воздух был чист, прохладен, с запахом свежей травы. Казалось, они зашли на огонек в старую деревенскую таверну — выпить по кружке эля. На них не обратили внимания. Они прошли в глубину зала и сели за свободный столик. Девушки быстро принесли бокалы, сифон с арто, бисквиты. В зале стоял ровный гул — голоса, смех, слабый звон бокалов. — Здесь только ваши? Рита улыбнулась: — Не только. И гости. — Здешние — дилетанты, пришли послушать, — сказал Валь негромко. — Но много ребят с курсов, приезжих. Эти будут придираться. Что-то изменилось вокруг. Огоньки на столах гасли. Но темнее не стало; откуда-то, нарастая, лился матовый свет. Валь приподнялся и погасил свечу. Теперь Гордин видел: они сидят в центре, столики вокруг — в шахматном порядке, и пол, как в театре, покатый. — Сегодня у нас Эрик Гордин. — За соседним столиком поднялся высокий юноша. — Мы приветствуем его возвращение. Нам приятно, что впервые он выступает у нас. Выпьем за его здоровье и перейдем к делу. Регламент обычный. Но Эрика мы не ограничиваем, он достаточно долго молчал. К тому же по сведениям, собранным нашей службой информации, гость немногословен. — Костя Шульгин, председатель студенческого совета, — прошептала Рита. — Умница, прелесть! — Она покосилась на Валя. — И веселый. Между прочим, вставать не принято, атавизм. — А я вообще атавизм, — сказал Гордин. Сотни глаз смотрели на него из зала. Очень разные лица. И в чем-то похожие — поколение. Что их волнует? А что волновало его? Человек или машина. Цель жизни. Самовоспитание. Самодисциплина. Самоуправление. Пятнадцать… нет, двадцать пять лет назад — их тогда и на свете не было. Но они старше на пятнадцать долгих лет. Он летел (еда, сон, работа), а они жили земной жизнью. Конечно, они старше, он перед ними ребенок. Он встал. — По сведениям, которыми располагает наша служба информации, — сказал Гордин, — отчет о полете будет опубликован в конце месяца. Не волнуйтесь, повторять его я не буду. Я достаточно долго молчал и теперь готов отвечать на вопросы. Мягкий гул прошел по залу. Чтобы сосредоточиться, Гордин смотрел на лицо Валя. Валь улыбался, кивал. На первые вопросы ответить было легко. Нормально. Полетом доволен. Планета несомненно интересная. Практически без происшествий. Стихи Блока, Гойя, Веласкес. В музыке? Предпочитает тишину. Ни в чем не нуждался. Да, он думает, что полеты нужны. Зачем? Вопрос задавали еще Колумбу. — Могли вас заменить роботы? Сзади зашумели. Гордин поднял руку: — Наверно, могли бы. Фильмы, показания приборов… В смысле сбора сведений они не уступают человеку. Если бы из полетов привозили только научную информацию… (Это был все тот же спор, и отвечал он сейчас Ханту.) Но есть и другое; впечатления, чувства… Короче, информация эмоциональная. — А эмоциональные роботы? — Я читал, — сказал он медленно. — Наверно, их впечатления ярче и глубже моих. Но они — другие. А я хочу ощутить это сам. Собственными руками. В конце зала встал плотный блондин в черной куртке. На экране можно было рассмотреть его лицо: острый подбородок, чуть вздернутый нос, румянец на скулах. — Пьер Томассен из Лиллехаммерского технологического. Почему полет не был использован для проверки гипотезы Лунина? Все правильно. Этого следовало ожидать. Хорошо еще, что вопрос сформулирован так. — Опыт не был предусмотрен программой полета. — Почему? — Программа составлялась без моего участия. — Но выполняли ее вы. — Минуточку, — вмешался председатель. — Освежим в памяти гипотезу Лунина. — Профессор Лунин, — сказал металлический голос информационной машины, — рассматривает специальную теорию относительности профессора Эйнштейна как частный случай общей теории движения. Известно, что еще в двадцатом веке были открыты так называемые усиливающие средства, в которых скорость света может превышать «С», скорость света в пустоте. Согласно гипотезе Лунина, «С» не предел, но порог. За этим порогом лежит мир, где наша скорость света воспринимается как предельно малая. Профессор Лунин полагает, что число скоростных порогов (точек перехода) измеряется величиной достаточно большой, если не бесконечной. За каждым таким порогом лежит иная вселенная, соприкасающаяся с двумя другими в точках перехода. По убеждению профессора, прорыв в иной, для начала смежный с нами мир приведет к открытию принципиально новых закономерностей. Большинство ученых — разумеется — полностью отрицает гипотезу. И — естественно — возражают против экспериментов. — Голос остался бесстрастным, только «разумеется» и «естественно» были очерчены легкими паузами. — Предложение группы физиков и инженеров провести серию опытов на корабле «Магеллан» рассмотрено Советом шестнадцатого сентября две тысячи сорок шестого года и большинством голосов отвергнуто. Машина умолкла. — Повторяю, — сказал парень в черной куртке. — Программу составляли не вы. Но вы ее выполняли и могли попытаться перейти порог. Ваш корабль, единственный такого типа, давал эту возможность. — И все-таки я не мог. — Что же вам помешало? — Характер. Привык держаться программы. — Однако в полете сорок четвертого года вы нарушили добрых тринадцать пунктов инструкции. — Я нарушал инструкцию, когда не было выхода. — Гордин устал, спор терял смысл. — Почему бы вам не спросить тех, кто тогда руководил Советом? Он называл имена и слышал, как с каждым новым именем в зале становилось тише. — Их нет, — сказал парень в черной куртке. — Погибли. — Что вы считаете для пилота основным? — спросил кто-то. «Веру в то, что это нужно», — подумал Эрик. Но сказал другое: — Терпение. — А из летных качеств? — Быстрота реакции. Поднялась тоненькая девочка с косами: — Сорье пишет, что у вас от природы была плохая… реакция. — Сорье пишет правду. Удалось выправить. — Это было трудно? — Шесть лет, по восемь часов в день. — Сколько же вы вообще занимались? — Сколько мог. — Сорье пишет: восемнадцать часов. Правда? — Правда. — Что же оставалось для себя? — Ничего не оставалось. Так устроена жизнь: получаешь одно, теряешь другое. И никто не знает заранее, что больше: приобретения или потери. Помните?* * *
«Здесь живут Оля и Рита», — было написано на двери. А наискось — размашистая резолюция: «Иллюзионисты». — Так они и жили, — сказала Рита. — Вот эта Оленькина, а та моя. Хочешь взглянуть? Комнаты были одинаковые — небольшие и очень светлые. Но комната Оли казалась просторной: узкая кровать, столик, зеркало. Половину Ритиной комнаты занимало странное сооружение. «Тахта-комбайн», — определил Валь. На полу лежала шкура белого медведя — вещь уникальная с тех пор, как запретили охоту. И вообще тут было много музейного: редкая статуэтка слоновой кости, старинный китайский веер, пепельница из черного блестящего камня. — Роскошествуешь, — сказал Гордин. — Для контраста: Оленька у нас пуританка. И потом, у меня много друзей. Веер мне подарил Хант, а медведя — Румянцева. — Балуют тебя друзья. — И правильно. Я хорошая. — Чем же это ты хорошая? — Валь, быстро объясни Эрику, какая я прелесть. — Она правда ничего, — сказал Валь. — «Ничего»? Сейчас же извинись, или… или этот медведь тебя съест! — Если бы только медведь… — сказал Валь жалобно. Рита презрительно фыркнула: — Вообще здесь вам нечего делать. Идемте в гостиную. — Твой? В гостиной висел всего один этюд. Море. Над самой водой низкие холодные тучи. Вода тусклая, как ртуть, спокойная — слишком тяжелая, чтобы волноваться. И у берега (берег низкий, песчаный) тупоносая рыбачья шхуна. Поморы. — Конечно, Оленьки. Я же не работаю красками. — А почему? — Вчерашний день. Краски мертвы, не передают движения. — Разве? Смотри, какая вода. Ветер ничего с ней не может поделать. Шхуна ложится всем корпусом, вода медленно оседает, ворчит. Скоро будет совсем темно, зажгут фонарь на передней мачте. — Оленька может и красками, — неохотно согласилась Рита. — Но ты же не видел ее работ в свете. — Хорошо? — Плохо, — сказал Валь убежденно. — У Риты хорошо, а у нее плохо. Рита ее и сбивает. — Ты можешь хоть объяснить мне, в чем смысл световой живописи? — Нет, конечно. Это надо видеть. — Покажи. Рита покачала головой: — Не сейчас. В августе, на защите диплома. — Ладно, — сказал Гордин. — А карандашом или красками ты работать умеешь? Рита фыркнула. — Отвернись… Так… Теперь смотри! Со стены на него смотрел Гордин. Рисунок был схематичный, но тем отчетливее в лице проступал треугольник: прямая линия рта и морщины от углов губ к переносице. — Зачем ты… на стене? Рита засмеялась. — Чудак! Для того и стены. Раз!.. — Она схватила губку. — А хочешь, оставлю? — Лучше сотри, — сказал Гордин. — Как-нибудь потом. И не обязательно на стене. Рита опять замахнулась и бросила губку. — Оленька посмотрит, потом. — Как же ты все-таки живешь? — Обыкновенно. Валь, расскажи. — В ответ на его взгляд капризно вскинула брови, но сказала кротко: — Со стороны виднее. — Встает в девять, что, однако, не следует понимать буквально. Рефлекс номер один — кнопка магнитофона. Рефлекс номер два — бисквитное пирожное. Номер три — спор с Олей. Вечная тема из Гамлета: быть или не быть на первом уроке. В итоге компромисс: Оле — быть, Рите — не быть. — Это все Оленькины фантазии, — сказала Рита. — В субботу, например… В дверь постучали. — Оленька! — крикнула Рита и умчалась. Довольно долго ее не было. — Агитирует, — сказал Валь. — Только бесполезно. Во всем, что касается этого, — он понизил голос, — иллюзионизма, Оленька — кремень. «Кремень» — оказался худенькой белокурой девочкой с толстой косой и большими, удивленными глазами. И звали ее не Ольга, а Ольма — имя, которое иногда встречается на севере. — Совсем не такой, гораздо красивее, — сказала она, увидев рисунок, кажется, раньше, чем Гордина. — Я сделала бы так… На стене возник еще один Гордин — моложе и красивее. У него были чуть вьющиеся волосы, брови высокие, грустная складка в углах губ. — Ничего подобного! — возмутилась Рита. — Она же тебя как следует не видела. Влюблена заочно. — Рита! — сказал Валь. — А что, подумаешь — тайна! — Я вас таким и представляла, — сказала Ольма. — По портретам. — Вы долго жили на севере? — Всю жизнь. Приедете к нам? Адрес простой: Волонга, Чёшская губа. — Охотно, — сказал Гордин. — Я давно не был на севере, а посмотрел на этюд… — Сейчас. — Она сняла этюд. — Возьмите. К вашему приезду — видите? — зажегся огонь на мачте.* * *
Транспортер не работал, нервно подрагивали тонкие края ленты. Гордин толкнул рычаг. Лента тронулась и замерла. Пластинки кончились — тысячи одинаково белых, одинаково глянцевых, по единой системе пронумерованных пластинок. «Вот и все, — подумал он. — Очень хорошо, что кончилось. Теперь я свободный человек. Захочу — поеду к Рите… Хотя нет, у нее защита. Позвоню Ханту… А зачем? Поеду на юг, или на север, или в лес». Ни звонить, ни ехать не было желания. Он закурил сигарету, смял, прошелся по комнате. Определенно ему чего-то не хватало. Может, этих — белых, глянцевых. Лента не двигалась, теперь уже и края не дрожали. Стоп, извольте слезать. Станция назначения. Он перебрал отложенные пластинки. Дискуссия о полетах в космос. Вторая дискуссия. Проект раздробления Юпитера. Спор о свободном времени. Освоение Марса. Кислородные полимеры. Наследственный отбор. Проблема игр. Эмоциональные автоматы. Все это надо бы узнать подробнее. В пластинках мало информации. Но не сегодня, как-нибудь потом. Он понимал, что слишком резко изменился темп. События пятнадцати лет он проглотил за месяц. А теперь нужно жить по-другому, день за день. Он вспомнил о старых газетах, позвонил. Их прислали большие, великолепно оформленные. Он читал. В первые дни много писали о его полете. Фотографии: он и Рита. Рита, совсем ребенок, что-то рисует. Рита купается в реке, рассматривает картину в музее, смеется. Свои фотографии он раньше не видел — даже эту, за кульманом. А другие и не мог видеть: снимали на тренировках, в момент отдачи рапорта, перед стартом. Огромная голая равнина. Вдалеке — отлогие холмы, там стояли люди. Еще дальше, у самого края горизонта, лес. Три круга — черной, как будто вытоптанной земли, бурых холмов и серого неба, — это он запомнил. Потом (но это он увидел уже на экране) люди исчезли. Остались зрачки телекамер, круглые глазенки фотоаппаратов. Земля наблюдала за ним. Он внимательно, словно чужую, прочел свою биографию. Родился. Учился. Сконструировал. Опубликовал. Отправился. В беседе с нашим корреспондентом сказал… Ничего путного не сказал, мог бы и промолчать. Дальше шли телеграммы: длинные и короче, короче. Самые последние, пожалуй, ему даже нравились. Слово ценилось, и они долго думали над ними — он сам и автомат. Газеты той поры были интересны. Знакомые имена, события, которые начинались при нем. Перешагнул через пять лет, связь оборвалась. Незнакомые люди делали что-то, видимо, важное, но чужое. О главном он знал, остальное не имело значения. Вторую подшивку он просмотрел за полтора часа. С третьей было совсем легко: он сидел и с любопытством наблюдал, как машинка листает страницы.* * *
Последние известия он пропустил, можно было не торопиться. Но и гулять не хотелось. Гасли огни в окнах, город засыпал. Он дошел до угла и остановился. В огромном освещенном окне напротив Гордин отчетливо видел профиль девушки. Она была в черном платье и от этого казалась призраком. Это умеют фотографы: черный силуэт на белой глянцевой бумаге. Он машинально перешел улицу. Музыка стала громче. Почему-то он был уверен, что это рояль. Он еще раз взглянул в окно — девушки не было. Музыка прекратилась. — Простите. — Кто-то шел к нему с той стороны улицы. — У вас не найдется огонька? Доставая зажигалку, Гордин гадал — видел ли этот прохожий, как он стоял под окнами. Похоже, что нет. Все равно глупо. — Спасибо. — Молодой человек улыбнулся. — Похоже, вы член Великой Ассоциации Курильщиков? — И активный. — А я, наверное, ее почетный вице-президент. Костя. — Эрик. — Понимаете, не рассчитал. День рождения в разгаре, а сигареты кончились. Бросили жребий, и пришлось мне идти до самой Лучевой. — Напрасно. Тут автомат за углом, на Зеленой. — Я почему-то решил, что вы приезжий. — Я действительно недавно вернулся, но город я знаю. Они еще поговорили: о городе, о том, что лето прохладное. Удивительно, от каких случайностей зависит настроение, думал Гордин, с удовольствием попыхивая сигаретой. Что изменилось? Просто встретились два человека. — Не знаю, как вы, — сказал Костя задумчиво, — а я когда прохожу поздно вечером мимо освещенных окон… Трудно объяснить, но сердце щемит. Почему-то кажется — там удивительная жизнь, не похожая на нашу. И новые, необыкновенно интересные люди. А зайти неудобно. Постоишь и идешь мимо… Ясно, что он видел. Но куда он клонит? — Что делать. — Как — что? — вполне натурально удивился Костя. — Один раз в жизни махнуть рукой на все и зайти. — Зайти? — Да. Шли мимо, холодные, мрачные, одинокие. И вдруг яркий свет, звон бокалов, музыка. Не поймут, тем хуже для них — значит, и заходить не стоило. Но я думаю, что поймут. Рискнем? — Рискнем, — сказал Гордин. И уже в подъезде: — А как же с днем рождения? Ведь вас ждут. Костя толкнул дверь. — Конечно, ждут. Потому я и тороплюсь. — Заходите. — Мимо них промчалась девушка. Из комнаты донеслось: — Костя! — И не один. — А сигареты? — Говорю, не один! — Тащите их сюда. Но они уже вошли. — Знакомиться не будем, — сказал Костя. — Так интереснее. Официальный титул: «Наш дорогой гость». В экстренных случаях можно «Гость» или «Незнакомец». — Он обернулся к Эрику: — Перечислять имена бессмысленно, не запомните. Костя усадил Гордина у окна: — Ешьте. Пейте. Скучать не придется, сейчас организуем спор. Между прочим, народ ничего, толковый: физики, химики, математики. Иноверец один: вон тот рыжий, филолог. Организовывать не пришлось. Спор вспыхнул сам, и даже не один спор, а несколько. И все они начались не с начала, а с середины: спорщики с нетерпением ждали конца официальной части. Чтобы не уговаривали, Гордин налил в бокал немного вина. Пить не стал. В молодости не любил, а потом и не пробовал. Ему было хорошо, спокойно. В сущности, неважно, о чем они спорят. Главное — что спорят. Завтра будний день, спать осталось часа четыре, а им хоть бы что. И они не такие юные. Той, в белом платье, не меньше двадцати пяти! А филологу все сорок. Интересно он спорит. Сначала против него было трое, теперь шестеро. На каждое слово он получает в ответ десять. Перебивают, кричат, ругаются. А он методично твердит свое. Будто гвозди забивает. Подошла девушка в черном, церемонно поклонилась: — Наш дорогой гость, вы танцуете? — А музыка? — Всегда с собой. — Не помешаем? — Что вы! Они не обратят внимания, даже если мы станем бить в большие боевые барабаны. Хотели бы попрактиковаться? — С детства мечтаю. — Жаль, я не знала, оставила дома. А как вам это? — Она поправила черный круг медальона. Где-то далеко запели трубы, едва слышно откликнулись скрипки. Старинное, древнее. Он не сразу заметил, что танцует, — кружилась голова. — Хорошо танцуете, — сказала она любезно. — Сейчас мало кто помнит старину. Вальс. — Вы историк? — Много хуже. — Она нахмурилась. — И не надо об этом. Будем молчать и слушать музыку. Она прикрыла глаза, кивая в такт музыке. Ему вдруг показалось: он знает ее давно. И эти ресницы, и сухие, капризно изломанные губы, и черный круг медальона. — Все, — сказала она. — Конец. Через час вы меня проводите. А пока идите и слушайте, о чем там спорят. Вероятно, это интересно. Он подошел и сделал вид, что слушает. Стоял, мучительно пытаясь вспомнить, где он мог ее видеть. Конечно, не мог. Разве что во сне. Но тогда очень давно, в первые недели полета. Потом, когда нарушается связь, инстинкт самосохранения выключает все, что связано с Землей, даже земные сны. И все-таки он ее видел. Что-то мешало сосредоточиться. Не шум, к шуму он уже привык. Голос. Негромкий, ровный, вполне отчетливый. — …Повторяете прошлое. А эпоха ушла. Вернется? Не уверен. И вы не уверены. И никто. Ушла, прихватив с собой мечты о технократии. Не кричите, я рассчитываю на оппонентов, которые достаточно далеки от детского сада. Технократию не стоит понимать буквально. Факт, однако, что еще двадцать — тридцать лет назад физики, да и ученые вообще, считали себя солью земли, этакими рыцарями духа. Литература, искусство, музыка, понятно, нужны. Но во вторую очередь, как приправа к главному. Так оно отчасти и было. А почему, вы над этим когда-нибудь задумывались? Он слушал, кивал. — Наука то, наука сё… Верно — в частности. Но самое важное вы забыли. Наука была основой потому, что делала основное — кормила нас, одевала, учила видеть. В широком смысле слова, разумеется. А теперь мы сыты. Опять-таки это не следует понимать буквально. Конечно, открытия есть. Но учат ли они видеть? Сомневаюсь. И не надо объяснять, что путь познания бесконечен — это я знаю с первого класса. Для неспециалистов, а их большинство, существенно лишь то, что как-то влияет на жизнь. Я, например, знаю, что число π — это три и четырнадцать сотых. В справочнике оно расшифровано до двадцатого знака. Может быть, кому-то нужно знать и двадцать первый, но остальным людям, право же, это не очень интересно. Проще сказать, с какого-то момента прирост информации в науке становится величиной ощутимо малой… В искусстве потолка нет, по крайней мере он не виден. А молодежь — барометр чуткий. Мы еще спорим, а они идут в литературу, в музыку, в живопись. На худой конец — в биологию. Меньше зависимость от условий, заметнее движение. Не вижу тут причин для охов и ахов. Процесс естественный. — Подмена понятий, — возразил кто-то. — Вы не согласны со мной, Карл? — Почему же. Пять — в искусство, один — в науку. Общедоступная арифметика. Гордин оглянулся. За столом перед бутылкой вина сидел в одиночестве маленький тощий человек в дымчатых очках. — Паршивая арифметика, — пробурчал он. — Говорят, четыре процента, а в вине и двух нет. — Выпил, поморщился. — Бурда! — Налил еще бокал. — А с логикой у вас плохо, почтенный филолог. Винегрет. — Например? — Ну, какое сейчас время спорить. Танцевать надо или спать. Эпоха, условия… А вы все в кучу. Что вы собираетесь доказать? Что в литературе или музыке успех зависит от человека, а в науке — еще и от других людей и объективных условий? Но это было известно еще саблезубому тигру. Наука топчется на месте? Чушь. Развивается, и успешно. Конечно, со стороны виднее пики, резкие скачки. Но с места далеко не прыгнешь, надо разбежаться. В прошлом веке брала разбег биология, сейчас она «прыгает». А физика… — Вы уверены, Карл, что физика? — Представьте себе, уверен. Больше того. Я убежден, что у нас бы и темы для разговора не было… — Упрощаете. Наука бесконечна, поскольку бесконечен мир. Но наш мир ограничен околоземным пространством, окрестностями солнечной системы. И боюсь, надолго. Скорость света — барьер внушительный. Я не вижу, как его можно преодолеть. Зря вы смеетесь, Карл. Парадокс времени? Объяснение для маленьких. Классический пример с туманностью Андромеды ровно ничего не стоит. Верно, корабль, летящий с субсветовой скоростью, доберется туда и обратно за сорок лет. Но ведь это по его, корабельным, часам. А по земным? Итак, через два миллиона лет мы получим точные сведения о туманности Андромеды. Точнее, о том, что там делалось несколько раньше — всего миллион лет назад. Согласитесь, звучит внушительно даже в масштабах науки… Он помолчал. — И потом, скажем откровенно, это не вдохновляет. Предлагая вопрос, мы готовы к тому, что ответ придет через пять, через десять лет. Но через два миллиона… тут надо быть не энтузиастом — фанатиком. Мне бы, например, не хотелось тратить жизнь на то, чтобы сформулировать сегодня вопрос, ответ на который… В общем, я не фанатик. — Что-то вы, Миша, путаете. Речь ведь идет не о физических, а совсем о других парадоксах. Со скоростью света мы бы как-нибудь справились. Впрочем, будем говорить о прошлом, когда я учился в школе и ни в каких советах не состоял. Так вот, берусь утверждать, что если бы полеты Юферта, Гордина и Уварова проводились по нашей программе… — Извините, у вас тогда была одна программа, школьная. — Не надо придираться к словам. — Взаимно, Карл. Взаимно. — Дайте мне кончить. Так вот, если бы Совет принял тогда программу и разрешил эксперименты, нам не пришлось бы сейчас спорить об отставании науки. — Опять-таки упрощаете. Вы, Карл, упорно желаете видеть лишь один из возможных результатов: успех. А что было бы в противном случае? Неудача. Но вам, видимо, известно… — Известно, но у меня, черт возьми, есть причины. Обосновывая опыт, мы девять десятых времени тратим на учет возможных последствий, включая самые отдаленные. А подготовка опыта почти целиком сводится к соблюдению правил техники безопасности. Если так пойдет дальше, то последствий не будет, потому что не будет самих опытов. Останется одна сплошная безопасность… — Не терзайте бутылку, Карл. Вам не терпится стать жертвой? — Я могу подождать. Вот наука ждать не может. — А почему, собственно? Объясните, почему Земля должна жертвовать человеческой жизнью ради какого-то абстрактного физического опыта. Лучше потратить лишний год… Два, пять, десять! Столько, сколько нужно для полной безопасности. — Есть полюса, — пробормотал Гордин. — Туда ходят экспедиции. Но там не живут. Живут между. Он сказал это негромко, но Карл услышал. — А вы кто? — спросил он хмуро. — Случайный прохожий, по имени Эрик. Это имеет значение? — Не имеет, конечно. Просто я вас не видел. — Увлеклись спором. — Не только… — Карл усмехнулся. — Хотите? — Он потянулся за бутылкой. — Нет. — Гордин сделал вид, что не понял. — Я плохой спорщик. — Да и я тоже. Лучше выпьем. За человечество. Откуда-то появился Костя: — Дина вас ждет. Запишите мой телефон. Будет время — звоните. …Было еще темно, но воздух терял плотность, становился зыбким. Казалось, ночь тревожно вздрагивает, прислушиваясь к стуку каблуков. Ветер гнал с моря облака — бледно-серые, легкие, подкрашенные снизу охрой. — Я пришла, — сказала Дина. — Спасибо. Он молча кивнул: пожалуйста. Странная ночь. Он не устал. Мысли были ясные, но тоже какие-то зыбкие. Пусть будет до конца странно, не надо ничего спрашивать (про себя, однако, он подумал, что совсем не трудно найти этот дом и есть еще цепочка: телефон — Костя…). — Прощайте. Он пожал ее руку (рука была горячая, пальцы вздрагивали). Неожиданно она притянула его к себе и поцеловала в губы. — Все, — сказала она. — Конец. Больше мы не встретимся. — Почему? — Завтра возвращается человек, которого я люблю. Я ждала четыре года. Теперь понимаете? — Да, — сказал он. — Ничего вы не понимаете! Просто я сегодня сумасшедшая. И, пожалуйста, не воображайте. — Она засмеялась, но лицо у нее было такое, что Гордин отвел взгляд. — Если бы на вашем месте был кто угодно другой… Ну, не кто угодно… А что с того, если вы мне и нравитесь?.. — Ничего, — сказал Гордин. — Ничего, я понимаю. — Вы все понимаете, Эрик. Вы умный, и серьезный, и сдержанный… А какое мне завтра платье надеть? Зеленое? Или белое? — Не знаю. — А если бы я встречала вас, Гордин? — Это самое, — сказал он. — Черное. А вы, оказывается, знаете мое имя. — Не только имя. «Сейчас она скажет, что ей известно обо мне все. Открыты специальные справочные киоски. Полная биография Гордина. Набор фотографий. Сцены из жизни». Она не сказала. Стояла, смотрела на него, улыбалась. И снова — наваждение какое-то! — ему почудилось: он видел эту улыбку. — Знаю, что чепуха, и ничего не могу с собой поделать, — сказал он, — такое чувство, будто я встречал вас раньше. — Просто я сестра Нины. «Действительно просто, — подумал он. — Если бы я еще знал, кто такая Нина… Кажется, с Ниной я учился». Но хоть убей, он не помнил ее лица. — Ах, вот что! — воскликнул он без особого, впрочем, энтузиазма. — Тогда понятно… Она перестала улыбаться. — Теперь вы будете уверять, что не помните Нину? — Не очень хорошо, — признался Гордин. — Столько лет… — Перестаньте, Эрик. Вы видели ее в апреле. Она вообще была первым человеком, которого вы увидели. — Да, да, Румянцева. — Он схватился за голову. — Все верно, ее зовут Ниной. Но она не похожа на вас. — А все говорят, что похожа. Теперь он и сам это видел. Однако упорствовал: — Нет, не похожа. У нее недобрые глаза. Впрочем, — он опомнился, — мы ведь едва знакомы. Пациент Гордин. Врач Румянцева. Улыбаться не обязательно. А врач она, кажется, хороший. — Вы не только пациент, Эрик. Вы много хуже: напоминание. — Если не секрет — о чем? — Не секрет. Об одном человеке. Это случилось полтора года назад. Он летел на «Кактусе». Третьим пилотом. — Простите, — сказал Гордин глухо. Он мог быть первым пилотом, или вторым, или штурманом. У всех у них там, на «Кактусе», была одна судьба. Они получили столько рентген, что хватило бы на большой город. Случайность — взрыв солнечной активности, какой бывает раз в сотни лет. И уже в пределах системы, когда их поздравили с благополучным возвращением, готовились встретить. Даже в свинцовых гробах их нельзя было привезти на Землю. Похоронили вместе с кораблем. Братская могила на Марсе. — Прощайте, Эрик. — Пальцы девушки по-прежнему были горячие, но уже не дрожали.* * *
Они сидели в комнате Верейского. Ее так называли — комната. Официальное слово «кабинет» не вязалось с небольшой по-домашнему уютной комнатой. — Зато приемная… — Верейский мечтательно прикрыл глаза. — Лучшая приемная в нашей галактике. Идеальное место для широких собраний, узких совещаний, специальных заседаний и особых конференций. А посетитель? В ожидании приема он может знакомиться с новинками литературы, с последними достижениями науки и техники, смотреть панораму мировых событий… Так вы, значит, меня не помните? — Фамилия мне знакома, — сказал Гордин. — Я вас провожал. И даже произнес речь — надеюсь, не слишком длинную — от имени Совета. Но естественно: нас много, а вы один. К тому же за время пути… — Вы тогда уже были в Совете? На второй срок в Совет выбирали редко. А трижды — о таких случаях Гордин не слышал. — Нелепое исключение из золотого правила. — Но ваша фамилия… — …Может быть, попадалась на глазах. Заметки по теории вероятности. — Боже мой, так вы тот Верейский? Но он же… — Стар? Он действительно стар. Работать как следует уже не в состоянии. И хотя бы раз в месяц он должен подремать за председательским столом на специальном заседании или особой конференции. И посетители приходят редко. Когда я устаю (теперь это со мной бывает), я ухожу туда и сам у себя жду приема. Приятно, знаете ли: новинки литературы, достижение науки и техники, панорама мировых событий… А здесь я тружусь, за этим столиком. В моей специальности много ли надо: бумага, хорошо отточенный карандаш, голова… Если она работает. Никак нельзя было поверить, что этот крепкий еще человек и есть Верейский — тот Верейский, бог математики, автор «Заметок». В создании Гордина он стоял в том же коротком ряду, что Эвклид и Исаак Ньютон, Лобачевский, Эйнштейн, Лоретти… Человек, доказавший, что в природе нет абсолютно детерминированных процессов, что все они — даже смерть — носят (различие лишь в степени) вероятностный характер. — Итак, случайность: Хант уехал и вас направили к заместителю, — говорил Верейский. — Этим заместителем оказался я — другая и довольно редкая случайность. Случайно я вчера кончил статью и сегодня свободен. Посмотрим, что можно извлечь из этого сочетания случайностей. — Я не думал… — смутился Гордин. Конечно, абсурдно, чтобы его делами занимался Верейский: выбирал ему маршрут, советовал, куда устроиться на работу. — И напрасно, — сказал Верейский строго. — Совет для того и существует, чтобы давать советы. Он подмигнул Гордину. Но глаза не смеялись, смотрели прямо и остро. Гордин попросил разрешения осмотреть заводы — химический, машиностроительный: подводные рудники; фабрику — типовой исследовательский центр. Потом насчет работы. Может быть, космодром? У него есть опыт. Он давно кончил, а Верейский молчал. И думал, наверно, о вещах, несравненно более важных, чем дела и заботы Эрика Гордина. — Странно, — сказал он наконец. — Сколько же лет вас не было? — Около пятнадцати. — И вот уже я вас плохо понимаю. Хант прав, это варварство. Надо запретить полеты или что-то придумать. Ну зачем вам все это: заводы, рудники, космодромы… — То есть как? — Обыкновенно. Сидите и думайте. Молодой здоровый человек вполне может думать часов восемнадцать. Полезнее, чем терять время на осмотр динозавров. — Я и сам троглодит. — Пожалуй, верно. — Верейский пожевал губами. — Тогда вам придется поработать. Так. Химический завод. Машиностроительный. Подводный рудник. Фабрика. Что еще? Ага, центр. Сейчас нарисую вам центр. Видите, как просто. И объяснять вроде нечего. Типовой химический завод. Синтез материалов с заданными свойствами. Здесь сырье. Аппараты. Готовая продукция. Система управления ясна как стеклышко. Сначала идет продукт первого порядка, то есть чистокровный брак. Зная его характеристики, машина по вероятностному графику меняет параметры. Появляется брак второго порядка. Потом третьего. И так до тех пор, пока не доберутся до заданных свойств. — А если вероятностный график задан неправильно? — Элементарное корригирование в процессе поисков. Каждый продукт — куст точек. Две, три тысячи таких кустов — уже закономерность. Приближаемся мы к заданному продукту или уходим от него — разумеется, безразлично. В первом случае закономерность прямая, во втором — обратная. В машиностроении тот же принцип. Получение заданных размеров, чистоты поверхности и прочего не выходит за рамки программирования, которому учат в школе. Подводный рудник, фабрика, типовой исследовательский центр промелькнули с такой быстротой, что Гордин растерялся. Конечно, в принципе все понятно. Но техника: как это сделано. — Техника? — Верейский изумленно вскинул брови. — То есть всякие там, — он неопределенно покрутил пальцами, — болты, гайки… Теперь удивился Гордин: — Болты? Разве опять появились болты? — Не знаю, — пожал плечами Верейский. — Не знаю и знать не желаю, — повторил он высокомерно. — И можете не улыбаться. — Мне бы пощупать, — пробормотал Гордин смущенно. — Я ведь, в сущности, простой механик. Верейский фыркнул: — Не скромничайте (у него это прозвучало как «не хвастайтесь»). Не хотите же вы сказать, что смогли бы починить, — он поискал взглядом, — предположим… лифт! — Думаю, смог бы. — Ясно, вы сидели бы в кресле и командовали, а ремонтные автоматы… Вот это, кстати, штука довольно любопытная. — Почему же? — улыбнулся Гордин. — Тут возможен любой вариант. Например, автомат сидит в кресле и командует, а чиню лифт я. Или я работаю, автомат же, допустим, спит. — Плохо представляю, — сказал Верейский задумчиво. — Но если вы говорите… Нет, нет, я вам верю. И действительно нужно пощупать? Или это следует понимать фигурально? — Хотя бы посмотреть. — Блестяще! Случайности наконец-то сгруппировались так, что обнаружился вектор смысла. Теперь мы дополняем друг друга: вы, я и моя приемная. — Он широко распахнул двери: — Видели вы что-нибудь подобное в нашей галактике? — Не видел, — сказал Гордин. — Правда, я многого не видел. Часа два назад он проходил здесь. Приемная как приемная. Он осмотрелся. На Земле не умеют ценить место. Этот высокий, как в театре, потолок. Сотни метров площади, которые ничем не заняты. — Скажите, Эрик, в чем больше всего нуждался господь бог при сотворении мира? — Право, не задумывался. — В пустом пространстве, Эрик. Если бы Вселенная была загромождена столами, стульями и прочей нечистью… А теперь стоит захотеть — и здесь будет зал заседаний с микрофоном, сифоном и скатертью. Но нам это не нужно. Поэтому — следите за мной! — я подхожу к окну и делаю так… Он провел пальцем по карнизу. Из стены выдвинулось что-то вроде небольшого ящика со множеством цветных кнопок. — Наблюдайте. Раз! Стало темно. — Это предусмотрено программой, — пояснил Верейский. — Все действительно важное и таинственное совершается в темноте. — Охотно верю, — сказал Гордин. — Но я некоторым образом лишен возможности наблюдать. — Временно. Поищите, там около вас должны быть кресла. — Нашел. — Садитесь. Вы хотели химический завод? Пожалуйста. (На стене появилось светлое пятно-аквариум.) Ах, черт!.. (Аквариум исчез.) — Вам помочь? — Нет. Просто отвык. В этом деле нужна беглость пальцев. Да будет свет! Приемная исчезла. Гордин сидел в зале, перед слабо освещенным экраном. Верейский устроился рядом. Сказал: — Приготовления окончены. Программа самая широкая. Специально для вас. Экран вспыхнул. Внешний вид завода. Сверху на завод опустился световой нож — словно разрезал его пополам. Возникла цветная схема. Отошла влево. Появился низкий зал, плотно уставленный темными однообразными коробками. «Вскрыть бы коробку, — подумал Гордин. — Но где там…» Как раз в этот момент луч небрежно смахнул крышку, а потом медленно, аккуратно разобрал и собрал аппарат. — Не упускайте из виду схему, — напомнил Верейский. Гордин кивнул. Он уже приспособился. Цветные иглы на главной схеме вычерчивали ход процесса. Это давало возможность воспринимать сразу и устройство аппарата, и его место в общем комплексе производства. — Потрясающе, — сказал Гордин. — Техника показа изумительна. — Просто вы нас недооценивали, — хмыкнул Верейский. — И сейчас, смею вас уверить, тоже. — Почему же… — Гордин не договорил. На экране был тот же зал. Но теперь не фотография и не схема, а именно зал. Было тихо, и, однако, чувствовалось, что аппараты работают. Кроме одного. К нему подошел человек. Взглянул на прибор. Аппарат сдвинулся с места, подполз к низкому стеллажу. Человек потянул рычаг, крышка повернулась и… Гордин поднес руки к глазам, огляделся. Он здесь, руки — его, рядом сидит Верейский. И одновременно, вне всяких сомнений, он был там, в зале. Разобрал аппарат, сменил деталь, вновь собрал. Он ощущал мельчайшие зазубрины металла, мягкую округлость пластмассовых скобок, едва уловимый запах масла. Он и раньше, запомнив последовательность, смог бы разобрать аппарат. Но теперь он справился бы и не глядя: действовала другая, моторная память. Человек кончил работу, тщательно вытер руки и обернулся. Какая знакомая улыбка! Гордин улыбнулся в ответ — с экрана на него смотрел Гордин. — Вы этого ждали? — Верейский, кажется, был немного разочарован. — Не именно, но чего-нибудь в этом роде. С Гординым, конечно, фокус? — Невинная шутка. Все же остальное серьезно. Эффект присутствия с обратной связью. Машину, понятно, разбирали не вы. Но человек ее действительно разбирал (другой вопрос, что обычно это делают автоматы), а информация передавалась вам. — А вам? — Только зрительная. Зачем мне садиться в чужое кресло!.. Не устали? — Что вы! Я с удовольствием посмотрел бы всю программу. Но ваше время… Верейский усмехнулся: — Времени уходит немного — минут десять на объект. Но устаете вы по-настоящему, ведь каждый сигнал оттуда воспринимается мышечной системой. Вы и так побили рекорды. При такой программе объект полагается давать за четыре дня. И если вы еще сможете встать… Гордин встал. Поташнивало, кружилась голова — обычное после перегрузки состояние. Полагалось бы ему пройти. Но оно не проходило. Он попробовал расслабить мышцы и с трудом удержался, ноги стали ватными. Еще этот отвратительный гул в ушах. Он плохо слышал, что говорит Верейский. — …Картинки, да… Вашего… Право выбирать… А на экране мелькали бетонные капониры, ветер гнал серый, тяжелый, наземный песок. Бежали куда-то одетые в шлемы люди. Глухо рокотали взрывы, кидая в черное небо мячики скал. — Ваш полигон, — сказал Верейский. Гордин кивнул. За эти несколько минут что-то изменилось. Ни усталости, ни шума в ушах. Он сидит в кресле, слушает Верейского. Верейский говорит так, будто они давно уже беседуют на эту тему и Гордину все известно. И самое удивительное в том, что он понимает. На экране ракетный центр. «Ваш центр», — повторяет Верейский. Гордину известно, что центр создан недавно, основной полигон на Марсе вступит в строй только к концу сентября, что работать можно без спешки: от них ждут не конкретных конструкций, а новых идей, которые удастся осуществить, может быть, через десять лет. — Мы предлагаем хорошего дублера, — говорит Верейский. — Но на вашем месте я бы от него отказался. Пожара нет. К тому же с вашим здоровьем… — С моим здоровьем? — Вы перенесли огромную нагрузку, которую не всякий выдержит. В моем возрасте можно говорить комплименты девушкам не старше восемнадцати лет. Значит, так. Я бы решительно отказался. Дублер — это оскорбительно. Ошибайтесь, порите чушь — только дураки боятся ошибок, — но ошибайтесь без дублеров, самостоятельно. — Убедили.* * *
Он сидел на скамейке в саду и бездумно смотрел, как сгущаются тени. Первый свободный вечер с тех пор, как он руководит Центром. Неожиданно стало светло — в здании Академии зажгли огни. Он достал пригласительный билет, перечитал. Школа Академии художеств. Защита диплома. Фамилии. В списке Рита была третьей. Все это время он ее видел только по телефону: «Привет, Эрик, я тороплюсь», «Ничего, занята». И сразу исчезала. Не дочь — призрак линии на белом экране. Плохо верилось, что завтра это кончится. Он будет видеть ее ежедневно. Возвращаться вечером и знать, что она дома. Работает, читает книгу, просто валяется на тахте и слушает музыку. Никак не представить ее дома и себя — рядом. Уж очень привык быть один. А вдруг ей будет скучно? Хотя почему? Пусть живет как сейчас. Ничего он не собирается ей навязывать. И хорошо, что будет Оля, с Ольгой спокойнее. Он думал, что придется уговаривать. А Рита согласилась сразу. «Ты хочешь? Решено и подписано. Когда? Да хоть сразу… нет, на следующий день. А с Ольгой… Умница, Эрик!» Он посмотрел на часы. Без четверти, а идти туда два шага. Все-таки он пошел — может, удастся хоть издали поглядеть на Риту. Риту он не встретил. Но в зале к нему сразу же подошла Оля. Чинно подала руку, объяснила: Рита проверяет аппаратуру. И это хорошо. Когда занят, меньше волнуешься. Хотя волноваться нечего, заранее известно, что все будет в порядке. — Разве поморы перед плаванием так говорят? — спросил Гордин. Спросил и почувствовал, что на душе смутно. Не нужно говорить заранее, от этого одни несчастья. Он знал, что не в словах дело. Все идет слишком гладко. Думал об этом вчера на Совете и потом, когда Рита согласилась. — Вы, значит, суеверный? — Конечно, — сказал Гордин. В черта он, во всяком случае, верил. Его существование подтверждалось практикой. Стоило в полете успокоиться, как влезал черт и устраивал кутерьму. Потом, злорадно хихикая, уползал в дальний отсек и спал неделями. А Гордин лежал, смотрел в потолок и уговаривал себя включить эту сонную штуку. — Из молодых мало кто верит, — объяснила Оля. — Корабли теперь крепкие, радары, электроника. А старики говорят: море есть море. Они интересные, старики-то. Не скажет «вернусь», а «если вернусь». И вы так? — Я же старик, — сказал Гордин. — Вы старик? — Оля прыснула и покраснела. — А как вы говорите: «Космос есть космос», да? — Космос есть космос, — повторил Гордин. — Все правильно. — А мои работы вы посмотрите? — Обязательно посмотрю. У тебя тоже в этой новой манере? — В старой, — сказала Оля грустно. — Обыкновенные тряпки, вымазанные краской. С светопластиками у меня не получается. Старомодная я. — Тогда тем более посмотрю. Я ведь тоже старомодный. Мне тряпки нравятся. Твой корабль, например… Он всем нравится, кто ко мне приходит. — Вы его что же… показываете? — Нет. Просто висит. — У вас в комнате? — Да. Помолчали. Потом Оля сказала: — Вы не видели светопластику. Это правда хорошо. После Риты на мою мазню смотреть не хочется. — Поглядим, — сказал Гордин. — Все может быть, конечно. Но что-то не верится. На моей памяти было столько всяких: и звукопись, и трехмерное, и синтетическое… Я уж не помню. А тряпки, обыкновенные плоские тряпки, вымазанные краской, живут. Видимо, в них что-то есть. — Я пойду, — сказала Оля. — Сейчас будет самое скучное, нас вытянут на сцену. Но это пять минут. А потом вы увидите Риту, ее покажут первой. — Почему же в списке она третья? — В списке по алфавиту. Здесь, в актовом, покажут работы в новом материале. Остальные — в просмотровых залах. Так вы придете? Мой зал, — она улыбнулась, — налево по коридору, вторая комната. — Обязательно приду. Если ничего не случится. Ничего не случилось. Гордин прошел в первый ряд. Тихо шелестел звонок. Горел полный свет. Где-то далеко, на пределе слышимости, запели скрипки. Смолкли. Стало тревожно и тихо. Так уже однажды было. Он мог бы поклясться, что все было: свет, который медленно гас, музыка, тишина, тяжелые складки занавеса. И тревожное ожидание. Ну конечно. Сколько ему было лет? Шесть. Мама взяла его в театр. Первый театр в его жизни. Почему-то он сразу успокоился. Ничего не случилось, и не может случиться. Рядовой выпуск художественной школы. Защита диплома — формальность; комиссия знакомилась с работами раньше. Но в жизни выпускников это первое испытание. И хорошо, что так празднично: пусть останется в памяти. Медленно двинулся занавес. Он узнал лохматые брови директора, учительницу музыки. А рядом… рядом Верейский. Гордин удивился и сразу забыл — увидел Риту. Она о чем-то шепталась с соседкой, не с Олей, с другой. Кажется, она побледнела, но держалась спокойно. Не то что Оля — та как забилась в угол, так и сидела, не поднимая глаз. А вообще официальная часть была короткой. Сказал несколько слов Верейский. Директор представил выпускников и пожелал им успешной защиты. Снова открылся занавес. В глубине слабо освещенной сцены на фоне черного бархата выделялся белый прямоугольник. — Дипломная работа Риты Гординой, — сказал голос. — «Утро». Кроме белой доски, на сцене по-прежнему ничего не было. Гордин скосил глаза налево, потом направо. Соседи — серьезные, немолодые уже люди — сосредоточенно смотрели на сцену. Мелькнула шальная мысль. Воскликнуть: «Изумительное утро!» Или: «Какие краски!» Интересно, что ответят? Может быть, это такая игра? Сидящие в зале отдаются воспоминаниям на заданную тему и потом обмениваются впечатлениями. Скажем, утро. Утро на Ай-Петри: тонкая розовая полоска у горизонта. Утро на Глории: ослепительная желтая вспышка. И все это время он ждал, что сейчас появятся двое здоровых ребят, внесут картину и укрепят ее на этой доске. Не зря же ее там поставили. Внезапно прямоугольник как будто сдвинулся с места, поплыл, окруженный ровным белым пламенем. Пламя росло, пенилось: красное, голубое, оранжевое. «Цветные прожекторы — нехитрый фокус, — подумал Гордин. — Любопытно, где же светильники?» Он так и не узнал. Он вообще забыл о светильниках, о белой доске, о бархате. Было утро. Ясное зимнее утро. Желтый шар солнца только что оторвался от земли и медленно набирал высоту. На западе кучерявились облака, но воздух — легкий, прозрачный — дышал холодом. Можно было снять перчатки, пощупать воздух и сказать, что сегодня — через час, через два — пойдет снег. И будет он такой же, как воздух, — острый легкий, прозрачный. Он помнил это утро. Таким оно было, когда он улетал. Он гадал, когда пойдет снег — через час или через два… Гордин встал (на него оглядывались) и пошел к выходу. Смешно спрашивать, выпал ли в то утро снег. Но он ничего не будет спрашивать. Просто посмотрит на Риту и поймет. Вторая по коридору комната слева, он обещал. — Риту? Нельзя. Скоро. Скоро. Нельзя. Оля. Она висела на руке и бежала за ним по коридору. — Что, Оля? Она вырвала руку, сердито перекинула через плечо косу. — Я же вам говорю, а вы бежите! — Извини, пожалуйста. Мне надо. — Нельзя, — сказала Оля. — Вас не пустят. Это такое напряжение — работать светом. — Она взглянула на него и смягчилась: — Теперь уже совсем недолго. А хорошо, правда? — Конечно, — сказал он. — Конечно, хорошо. Она еще что-то объясняла. Светочувствительная пластмасса. Оттенки. Старение красок. Он спохватился вдруг: — Подожди. Значит, это исчезнет? — Да нет же. — Она засмеялась. — Я же вам объясняю. Это как фотография. Только рисунок. Светом. — И долго? — Вечно. — Она поняла. — Здесь же не тонкий слой краски, а вся масса. Можно снять слой, потом еще… Куда вы теперь идете? — Налево по коридору, вторая комната. — Он не мог стоять и ждать. Оля догнала его и пошла рядом. В дверях остановилась, хотела что-то сказать, но только вздохнула. В небольшой, по-дневному освещенной комнате висели две картины. Теперь вздохнул Гордин: космонавт. Хорошо еще, в человеческом костюме. При высадке без «сбруи» не обойтись, но до чего надоели на картинах круглые головы (устаревший шлем ШБ-4), бесформенное туловище (скафандр ВЗ) — гордые рыцари космоса… — Не нравится! А вторая? Картина напоминала ту, что висела у него: море, корабль, скорее, лодка — старинная, широкая, низкой посадки. Людей было двое. Молодой, заросший щетиной до самых глаз, согнулся, придерживая на колене карту. Но старик, низкий и устойчивый, как лодка, смотрел вперед. Ничего там не было: та же темная, с проседью вода и низкие тучи. И однако (Гордин почему-то не сомневался), там, где небо сходилось с морем, было что-то еще. Он не знал что. Вероятно, не знал и старик, похожий на Семена Дежнева. Но за чертой горизонта было что-то очень нужное. Более ценное, чем рыба нерпа, чем даже морской котик. И оба они знали, что, хотя это опасно, старик пойдет туда. Потому что так нужно.Валентин Иванов-Леонов «СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ БРАТЬЕВ» (Рассказ)
1
Охваченный тревогой, Вильям Кумало почти бежал к остановке автобуса для африканцев. Дома, в локации, лежал его отец один, раненый, беззащитный. Подосланные убийцы только случайно не убили его. Но они придут снова. Кумало не сомневался в этом. Три дня назад к его отцу — Элиасу Кумало — подошли двое. Один из них сунул ему в руку черный бумажный кружок с изображением белого креста. Это был смертный приговор «Союза братьев». Убийца выстрелил из пистолета в то время, когда Элиас рассматривал знак. Маленький, худенький Вильям едва дотащил отца домой. За неделю до этого один из европейцев-демократов, друг отца, получил сведения, что «братья» вынесли приговор Элиасу Кумало и двоим другим руководителям подпольной Африканской партии свободы. Отцу нужно срочно скрыться, уехать из Иоганнесбурга. Но в его руках были многие нити партии. Надо передать их товарищам. Да отец и не из тех, кто убегает от опасности. Но что бы там ни было, человек, которого приговорил «Союз братьев», должен умереть. От этой страшной мысли Кумало содрогнулся. Он заставит отца уехать из страны немедленно. Африканская партия свободы может спасти одного из своих руководителей. Надо сейчас же добиться согласия отца, если еще не поздно… По широкой Элофф-стрит между рядами небоскребов катился шумный, сверкающий лаком поток автомобилей, торопливо шагали по тротуарам буры и англичане, греки и индийцы, африканцы и «цветные». Красные лучи вечернего солнца пожаром полыхали в окнах домов, в стеклах машин. Но Кумало ничего не замечал. Все мысли его были там, дома. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что случилось непоправимое. Кумало вошел во двор, быстро взглянул на свое окно. Оно было закрыто, хотя утром он оставил его распахнутым. Кумало промчался мимо хозяек, варивших на железных печках обед, ощупью прошел по темному, задымленному коридору и открыл дверь. Лоб его покрылся холодным потом. Отец лежал на полу среди опрокинутых стульев. Странно неподвижное тело. Рот раскрыт в молчаливом крике. На груди пятно крови. Черная, уже посеревшая рука отброшена назад. В кулаке зажат гаечный ключ, которым он защищался от убийц. Горе, злоба, отчаяние переплелись в груди Кумало в один ядовитый клубок. Отец был святым человеком. Он вступился за свой народ, который топтали колонизаторы. Он не молчал, как многие другие. И вот его убили. Полиция и пальцем не шевельнет, чтобы разыскать и наказать убийц, руку которых направлял всесильный фашистский «Союз братьев». Но он, Кумало, не станет, как зимнее солнце, идти стороной. Он обойдется и без полиции. Придет время — и он найдет убийц. Он наступит на их подлые шкуры. Он знает, где их искать. Друзья отца помогут ему отомстить. Но замыслам Кумало не суждено было осуществиться. Судьба готовила ему новое испытание.2
Через день после похорон Кумало, угнетенный случившимся, шел с Гамильтоном Нкузой, другом отца и одним из руководителей Африканской партии свободы, по фешенебельному району Иоганнесбурга — Вестдену. Смеркалось. Нкуза, указывая на богатый двухэтажный особняк, тихо сказал: — Вот дом, видишь? Здесь живет Кокхран — один из главарей «братьев». Кумало взглянул на особняк, расположенный в глубине сада. — А откуда ты знаешь? — Секретная полиция знает все. А у нас есть там свои люди. Запомни этот дом. Из ворот особняка вышло двое буров. Один, судя по старомодной одежде, по большой рыжей бороде и широкополой шляпе, был деревенским жителем — какой-нибудь плантатор. Другой был горожанином — вылощенный, в элегантном светлом костюме, в золотых очках, с темными напомаженными волосами. Он производил впечатление богатого, образованного человека. Кумало остановился. Вот они какие «братья»! Глубоко посаженные колкие глаза плантатора внимательно скользнули по фигуре Кумало. Буры сели в машину и уехали. — Одного из них я никогда не видел, — сказал Нкуза. — Как ты думаешь, Гамильтон, эти вот знают, кто убил отца? — Едва ли. «Братьев» много. Но может быть, и знают. Смертный приговор выносят главари. — Они заплатят мне… — прошептал Кумало. На другой вечер, выходя из редакции газеты «Ассагай», где он работал курьером, Кумало заметил, что двое подозрительного вида африканцев увязались за ним. Он отчетливо слышал, как один из них сказал: «Вот он, тот самый». Что им нужно? Видно, «братья», подославшие их, хотели знать, как он, сын убитого ими, ведет себя, что делает, с кем общается. А может быть, у них на уме что-нибудь и похуже. В это утро Кумало проснулся, когда соседи еще спали. Чтобы не опаздывать в редакцию, приходилось вставать рано. Он ополоснул лицо водой и, не позавтракав, вышел на улицу. В черном леденеющем небе светились звезды. Поеживаясь от ночного холода, Кумало зашагал по неосвещенному переулку. Из шалашей и заклеенных бумагой окон домов доносился храп, приглушенный говор рабочего люда. Он почти миновал локацию, когда перед ним выросли двое здоровенных полицейских. Один из них, со вздернутым носом, сказал насмешливо: — Эй, Джон, куда спешишь? Для полицейских все африканцы — «Джоны». Кумало остановился. «Кто они — настоящие полицейские или?..» — Ночной пропуск! — Комендантский час только до пяти. Уже шестой час, — ответил Кумало, пятясь и оглядываясь назад. — В локации не нужно ночного пропуска. — Ты нас не учи. Нет пропуска? — А что я сделал? Я иду на работу. Он не успел отпрыгнуть. Полицейский со вздернутым носом схватил его за руку. Кумало рванулся изо всех сил, но «бобби» поднес к его носу дубинку. — Хочешь попробовать? Щелкнули наручники на запястьях. Кумало с горечью вспомнил о хозяйке, которой он не заплатил за квартиру. Теперь она решит, что он сбежал. И еще он подумал о Ребекке Нгойи, девушке из редакции, Станет ли она навещать его в тюрьме или забудет о нем? Ведь их дружба только началась… Его ввели в полицейский участок — мрачное помещение с зарешеченным окном. Под потолком — электрическая лампочка без абажура. Слева, у грубой деревянной скамьи, стояли два парня гангстерского вида, скованные друг с другом наручниками. У двери дежурил полицейский-африканец с коротким копьем. За голым, непокрытым столом сидел сержант-европеец в форме, застегнутой на все пуговицы. Он строго взглянул на арестованного — ни тени улыбки или дружественного участия на жестком, сухом лице. — Нет ночного пропуска! — отрапортовал курносый. — При аресте оказал сопротивление. — Имя? Кумало встретил враждебный взгляд сержанта и понял: этот властный служака сидит здесь не для того, чтобы разбирать, виновен арестованный или нет. Его задача доказать африканцу, что если он арестован, то арестован правильно. Кумало выдали потертое одеяло и втолкнули в камеру. Ни кроватей, ни стульев, ни скамеек. Африканцы разных возрастов лежали на цементном полу, завернувшись в одеяла или подложив их под себя. Один из них — пожилой мужчина — сидел за незаконную продажу самогона — скокианна. Африканец в роговых очках был «красным». Он пытался демонстративно проехать в автобусе, предназначенном для европейцев. Лицо его носило следы побоев. Старый, высохший знахарь непрерывно бормотал. Он дал своей белой пациентке «магическое» снадобье, от которого она умерла. Рядом с Кумало сидел угловатый африканец лет тридцати, по имени Мозес, рабочий с текстильной фабрики. Его арестовали за неуплату налогов. У него было семеро детей. Мозес, однако, не распространялся о своем горе и держался спокойно. — Ты за что? — спросил он Кумало. Кумало объяснил. Мозес буднично кивнул. — Урожай собирать поедем. Уборка. Всех подряд арестовывают. — Не поеду! — отрезал Кумало. Мозес удивленно посмотрел на него. — Ты что, в первый раз?3
В полдень арестованных сковали попарно и повели по Притчард-стрит в суд. У здания суда вытянулась длинная вереница грузовиков и фургонов, запряженных волами. На подножках сидели фермеры в широких шляпах, с загорелыми, обветренными лицами. Они ожидали окончания суда, чтобы отвезти осужденных африканцев на фермы. Почти все дела были о нарушении законов о «пропусках». Африканец задержан на улице, один из его многочисленных «пропусков» в «книжке туземца» не в порядке — десять дней тюрьмы или штраф два фунта. Подсудимые не протестовали, во всем соглашались с судьей. Кумало раздражала трусость этих людей. Клерк докладывал: — Бродяжничество. Задержан без пропуска, мой лорд. Судья, покосившись на подсудимого, выносил приговор: — Десять дней или два фунта штрафа… За барьер встал молодой африканец. Он держался смело и независимо. — Задержан без ночного пропуска, мой лорд, — доложил клерк. — При аресте оказал сопротивление. Судья открыл было рот, чтобы изречь приговор, но африканец вклинился: — Констебль ударил меня. Судья недовольно пожевал губами и посмотрел на парня, как смотрят на человека, который не умеет себя вести. — Я вижу, ты хочешь отнять у меня время. Находясь в чужом, европейском городе, ты должен беспрекословно повиноваться властям. — Иоганнесбург — мой город! Я здесь родился. — Баас![89] — рявкнул судья. — Я здесь родился, баас. Констебль ударил меня… — Год тюрьмы без замены штрафом. Следующий. Теперь Кумало понял, что те, кого он считал трусами и глупцами, вели себя разумно. Судье ничего не докажешь. А ведь и он, Кумало, сопротивлялся при аресте. К Кумало подошел бур с рыжей, седеющей бородой. Он остановился перед арестованным и, деловито разглядывая его холодными, глубоко посаженными глазами, словно перед ним была лошадь, спросил с кротостью, которая не вязалась с его угрюмым обликом: — Слушай, бой, поедешь ко мне на ферму? Подпишем контракт на год, и суда не будет. Кумало подозрительно заглянул в холодные светло-голубые глаза бура. «Что за человек? Кажется, я где-то его видел». Бур вытер платком загорелый лоб, на котором белела полоса от шляпы. — Христианин? — Да. — Я соблюдаю все воскресенья. Церковь неподалеку. — Сколько будете платить? — Три ранда в месяц. Церковь рядом. Как зовут? Кумало ответил. Густые выгоревшие брови поднялись. Бур пристально, с интересом взглянул на парня. На контракте, который подписал Кумало, плантатор поставил свою подпись: «Фан Снимен».4
К вечеру приехали на ферму. Кумало огляделся: двор, окруженный высоким забором с колючей проволокой, длинный глинобитный барак с узкими прорезями вместо окон, крепкие, окованные железом ворота, сторож с ружьем. Настоящая тюрьма. И здесь ему предстоит провести целый год! Старший надсмотрщик Урбаньяк — бур, лет сорока, с большими, оттопыренными ушами— приказал прибывшим построиться и произнес краткую речь, суть которой сводилась к тому, что батраки должны работать честно, им будет заплачено сполна, за нарушения будут наказывать. Потом всех повели в барак. Здесь стояли ряды цементных прямоугольных блоков. Каждый блок заменял собой постель. Кумало получил одеяло. Матраса не полагалось. Утром всех подняли надсмотрщики. Рабочие съели по миске махью — жидкой забродившей каши — и отправились в поле. Надсмотрщики — буры и африканцы — ехали верхом. У каждого длинный свернутый съямбок — ременный кнут. На лицах ни вражды, ни злобы — словно гнали рабочий скот. Солнце еще не появилось. Малиновое пламя заливало восток, счастливо улыбалось новое утро. Кумало шагал в колонне оборванных людей. Здесь были и те, кто попал сюда по контракту, и заключенные, которых Фан Снимен «арендовал» за небольшую плату у департамента тюрем. Отряд остановился на картофельном поле. Красные, высохшие грядки уходили к горизонту. — На месяц работы, — сказал Мозес, тот самый африканец из Иоганнесбурга, у которого было семеро детей. — Неужели можно все это убрать? — Поле казалось Кумало необъятным. Надсмотрщик подтолкнул его рукояткой съямбока. — Не разговаривать! Построиться! Все выстроились поперек грядок. И лопоухий Урбаньяк, имевший склонность к речам, снова произнес наставление: нужно соблюдать прямую линию, не отставать и выбирать все картофелины из земли до единой. — Помолитесь — и начинайте! Передвигаясь, Кумало и Мозес перетаскивали за собой мешок. Надсмотрщик ду Прииз то и дело соскакивал с лошади и шарил руками в земле, проверяя работу африканцев. Это был желчный и озлобленный человек, какой-то потертый и выцветший. Кумало работал тщательно, и надсмотрщик ни разу не поймал его. Отдыхать не разрешалось. Возвращаясь домой вечером, Кумало едва двигался. В компаунде в ожидании обеда Кумало сел у костра. Маймане — застенчивый паренек из Иоганнесбурга — понравился Кумало. Маймане сказал, что попал на ферму, потому что забыл дома документы. Полиция остановила его, и он оказался здесь. — Кумало видит там двоих из племени матабеле? — Маймане указал на крепких мужчин у соседнего костра. — Это внуки короля матабеле. Баас не отпускает их с фермы. Один из матабеле беззаботно разговаривал с соседом; другой, обхватив руками колени, молча смотрел на огонь. — Был еще третий матабеле, — зашептал Маймане, — но Маймане похоронил его. Кумало удивленно взглянул на собеседника. — Пусть тысяча муравьев вопьется в Маймане, если он врет. Третий матабеле отказался работать, и его повезли к большому дому. — Маймане настороженно оглянулся. — Третьего матабеле завязали в мешок и били шлангом для поливки, пока не умер. Надсмотрщикам не хотелось самим копать могилу. Они разбудили ночью Маймане. И Маймане выкопал могилу в вельде… Кумало слушал с возмущением. Куда он попал? Ярость мешалась с чувством страха перед зловещим «большим домом». Где же он видел этого плантатора?5
Палило солнце. Казалось, конца не будет картофельным грядкам. Надсмотрщик ду Прииз, как всегда желчный и озлобленный, придирался ко всему. Хозяин грозился выгнать его за то, что в грядках бригады нашли невыбранный картофель. Жертвой его стал Маймане. Парень отстал, изломал строй. В два прыжка лошадь ду Прииза оказалась рядом. Надсмотрщик вытянул рабочего кнутом, соскочил на землю и, сбив с ног, принялся пинать. Маймане закрывался руками. Из носа и рта текла кровь. Кумало шагнул к надсмотрщику и оттолкнул его. — Вы убьете парня! — с холодным бешенством проговорил он. Надсмотрщики накинулись на маленького Кумало. Тот, сверкая голубоватыми белками, защищался как мог. Мозес кинулся было ему на помощь. Но его схватили. Троих африканцев отвели в компаунд и закрыли в сарае. — Ну теперь нас запорют до смерти! — сказал Маймане. — И зачем Кумало вступился? — Он мог убить тебя своими ножищами! — Недавно рабочий Нкома только замахнулся на надсмотрщика, и ему всыпали двадцать пять ударов шлангом. А Кумало дрался с надсмотрщиком! Ночью у сарая послышались осторожные шаги. Кумало увидел в щель молчаливого потомка короля матабеле. Матабеле принес лом. Скрипнул вытаскиваемый крюк. Сторож спал у ворот, завернувшись в брезентовый плащ. Вырыли руками лаз под стеной, вылезли в темную безлюдную степь. — На станцию нельзя, — сказал Мозес, — там полиция. Перевернутый Южный Крест сиял над горизонтом. Беглецы пошли прямо на него, чтобы не кружить в необъятном вельде. Вокруг ни лесов, ни кустарника. В полдень, когда беглецы проходили мимо фермы, их заметили. Трое буров с винтовками подъехали к ним на джипе. Беглецов закрыли во дворе, огороженном крепким забором. Вскоре явились четверо верховых надсмотрщиков. Ду Прииз связал руки Кумало длинной сизалевой веревкой, другой конец которой приторочил к седлу. Другие надсмотрщики проделали ту же операцию с остальными пленниками. Надсмотрщики поехали рысью. Кумало бежал между Мозесом и матабеле, ударяясь об их плечи. Всадники курили, разговаривали. Они ни разу не обернулись. Кумало выбивался из сил. Ноги стали чужими. Справа свалился матабеле. Он не просил о пощаде. Несколько раз он молча попытался подняться, но веревка вновь и вновь кидала его на землю. Потом упал Маймане. Волочась по земле, он плакал и умолял остановиться. Надсмотрщики, казалось, не слышали его криков. Мозес держался, пока не разорвалось его сердце. Кумало бежал и бежал. Ровная степь летела, катилась ему навстречу. Пылало поднявшееся над головой солнце, пылал мозг, пылала земля под ногами. Перед глазами пятнами плавали вспотевшие спины всадников. Но вот наконец показалась вдали усадьба. Напрягай силы, Кумало! Работай ногами! Рано тебе умирать. Придет время, и ты расплатишься с врагами за все. У ворот компаунда всадники разделились. Ду Прииз повел Кумало к большому дому. Кумало дышал, как паровоз на подъеме. Земля колыхалась под ним. Надсмотрщик толкнул его в спину, и Кумало, словно автомат, вошел в ворота. Хозяин встретил его у конторы. Он глядел из-под густых выгоревших бровей. — Ты что же, раб божий, надсмотрщика хотел убить? — сказал он тихо, с деланной кротостью. — Я спас тебя от суда, кормил, поил, а ты, неблагодарный, взбунтовался и сбежал? Ты ведь христианин. Разве ты не знаешь, что противиться господину своему — все равно что противиться воле божьей? — Двадцать шлангов ему, хозяин! — сказал ду Прииз и сглотнул слюну от избытка усердия. — Бог с тобой, ду Прииз. Дай ты ему больше десяти, он же притворится потом, что не может работать. А в поле картофель неубранный. И так троих рабочих потеряли. Один убыток от вас, неразумных. — Туземец подбил остальных. — А ты слушай, ду Прииз, когда с тобой говорит старший. Десяти будет достаточно… Ну, Кумало, молись богу. Искупи со смирением грех свой, — сказал Фан Снимен с отеческой мягкостью, жестом отпуская надсмотрщика и африканца. Кумало привязали к столбу. Ду Прииз завернул ему рубаху и, отступив на шаг, с выдохом нанес удар тяжелым резиновым шлангом. На восьмом ударе Кумало потерял сознание. — Иди к хозяину! — приказал надсмотрщик, когда Кумало пришел в себя. — Благодари за учение. Такой порядок. Кумало молча пошел в сторону компаунда. — Я доложу баасу! — крикнул вслед ему ду Прииз. — Получишь еще за неподчинение. — Я поблагодарю вас за это учение! — шептал Кумало. — Настанет наше время…6
Через неделю после этого Кумало послал письмо Ребекке Нгойи. Он рассказал девушке, что с ним случилось, и, выразив надежду на скорую встречу, закончил в лирическом духе: «И тогда калабаш моего уха никогда не наполнится, слушая тебя». А на другой вечер в барак явился лопоухий Урбаньяк и сказал, что баас требует Кумало к себе. Хозяин принял его так, словно ничего не случилось. Он приветливо глядел на Кумало, двигая выгоревшими густыми бровями. — Ты, выходит, грамотный? — Я учился в девятом классе! — буркнул Кумало сумрачно. — Говори громче! — приказал Урбаньяк. Кумало нахмурился. — Что же ты сразу не сказал? Я дал бы тебе хорошую работу. Тут мой клерк заболел. Не знаю, что и делать. Сможешь вести переписку? Кумало пришел в контору. У поседевшего клерка где-то были жена, дети, выросшие без отца. Он был рад, что пришла замена и хозяин обещал отпустить его наконец через двадцать лет домой. Прощаясь на другой день, клерк сказал: — Будь осторожен, ничего не замечай в этом доме. Если хозяин заподозрит, что ты слишком любопытный… — А что здесь такое? Но клерк не хотел продолжать. Кумало ничего не узнал. Однако разговор этот он запомнил крепко. «Ступай осторожно, Кумало», — сказал он себе.7
Он стал вести несложную бухгалтерию, составлять по образцам договоры с фермерами на аренду земли у хозяина. Фан Снимен был богатейшим человеком. Он был членом правления африканерского[90] банка «Фольксбэнк». У него было тридцать тысяч моргенов земли, был парк грузовых машин. Все соседи пользовались транспортом плантатора. Они приходили в контору униженные и какие-то испуганные. Сам начальник полиции района дю Плесси держался с хозяином подобострастно и заискивающе. Всему этому была какая-то причина. Пришла повестка из суда. За убийство троих рабочих Фан Снимена приговорили к штрафу в двадцать рандов. Плантатор ходил сердитый, и Кумало старался не попадаться ему на глаза. Каждое утро Фан Снимен собирал слуг и надсмотрщиков-африканцев, тех, что не были в поле, и читал им проповеди. Кумало тоже был обязан присутствовать. Пересказывая житие какого-нибудь святого, Фан Снимен старался привить своим слушателям мысль о справедливости деления людей на высшие и низшие расы, на господ и слуг. «Противящийся господину своему — противится воле божьей, ибо бог сделал одного белым, а другого черным, одного — господином, а другого — слугою его. Ничто не делается без воли всевышнего». Надсмотрщики с благоговейным видом смотрели в рот хозяину. Кумало всегда молчал. По лицу его нельзя было понять, о чем он думает. Он быстро научился в этом доме скрывать свои мысли.8
Кумало приходилось бывать на соседних фермах, и хозяин давал ему верховую лошадь. В этот день Кумало поехал к Эбензеру — давнишнему должнику Фан Снимена. Дом Эбензера был невелик. Все здесь приходило в запустение. Ветряной насос, поднимавший воду из глубины земли, не работал. На всем лежала печать бедности. — Доброе утро, Эбензер, — сказал Кумало, подъезжая к окну на белом, перебирающем ногами коне. — Вас хочет видеть баас. — Это для тебя он баас, а для меня — тьфу! Кумало засмеялся. Он сказал фермеру, что Фан Снимен хочет взыскать с него долги. — У меня нет денег! — Тогда он отберет у вас землю. — Я не уступлю ему ее! — Судья заодно с ним. — Ну это у него не пройдет, у проклятого фашиста! — вспыхнул Эбензер. — Моя семья кровью заплатила за участок. И теперь отдать землю этому куклуксклановцу? Твой хозяин думает, что, если он из этого дьявольского «Союза братьев», так ему все можно?.. Кумало открыл рот от удивления. Вот оно что! Фан Снимен — член вездесущего «Союза братьев» — тайного общества буров-расистов. Это они убили отца, гиены! Вильям Кумало представил себе отца, всегда уравновешенного, справедливого. Однажды, когда у них дома собрались руководители Африканской партии свободы, один из них сказал: «Ты, Элиас, слишком смело выступаешь против „братьев“. Ведь на митингах бывают не только друзья. Осторожность, знаешь, не мешает. „Братья“ не любят, когда о них говорят вслух». — «Мы все рискуем, — ответил отец. — Но кто-то должен указывать народу на его врага. Союз направляет политику белых расистов. Они засели в правительстве. Конечно, риск есть. Но ведь и я не один». Отец был простым ткачом. Но он много знал. Он знал историю и, в особенности, историю зулусов, он читал книги великих революционеров. И если разгорался спор, отец почти всегда выходил победителем. Он говорил сыну: «Приходится воевать, Вильям. Ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы ты жил не так, как жил я, хочу, чтобы не было резерваций и пропусков, чтобы вы, молодые, могли поступать в университеты и работать там, где вам нравится. Мы должны быть свободными и равными с белыми. Разве это несправедливо?» И вот «братья» убили его. Кумало ехал обратно, обдумывая слова Эбензера. Знойное марево дрожало над раскаленной землей. Задыхалась под солнцем, разметалась в жару от горизонта до горизонта саванна, пахла разогретыми травами, увядающими цветами. Значит, Фан Снимен — один из «братьев»! Теперь понятно, почему соседи боятся его. Может быть, он даже какой-нибудь руководитель у них? Очень уж заискивают перед ним. Кумало вспомнил вдруг, где он видел раньше Фан Снимена: это он, плантатор, выходил тогда вечером в Вестдене из особняка, принадлежавшего одному из «братьев».9
Вечером в дом приехало около десяти гостей. Первым явился начальник полиции дю Плесси — бур лет пятидесяти. Он приблизился к двери Фан Снимена на цыпочках. На лице его заранее появилось заискивающее, угодливое выражение. Потом пришли двое: толстый плантатор Лашингер с желтым от лихорадки лицом и геолог Криел — маленький брюнет с рассеченной, как у кролика, верхней губой. Кумало не раз встречал его в вельде у буровых установок. Говорили, что геологи искали подземную воду для овцеводческих ферм. Судья Радеман — крепкий человек с рачьими глазами и жесткой седой щеткой волос на голове — прошел в кабинет хозяина, даже не посмотрев на клерка. Гости ничего не спрашивали. Они, видимо, бывали здесь раньше. Кумало провожал их подозрительными взглядами. Из двери высунулась рыжая с проседью борода Фан Снимена. — Ты мне больше не нужен. Иди в компаунд. «Собрались, — подумал Кумало. — Неужели и эти тоже „братья“ — враги его отца?»10
Чадили огненные косички свечей. Тени колыхались на потолке. На белой стене — скрещенные топор и кинжал. За столом на председательском месте мрачная фигура в черном балахоне. В узких прорезях капюшона — голубые холодные, как льдинки, глаза. На груди старшего «брата» массивный золотой крест. Десять человек фаланги, зловещие в своих черных одеяниях, сидели несколько поодаль от него, явно соблюдая дистанцию. — Проверяли этого Криела дю Плесси? — спросил Фан Снимен, глава сборища. — Мы не выпускаем геолога из виду уже год, святой отец, — ответил начальник полиции. Голос его звучал глухо из-под капюшона. — Чистый африканер? — Да, святой отец. Мы проверили его предков. Он принадлежит к расе африканеров. — Верующий? — Каждое воскресенье посещает церковь. — Как относится к красным кафрам?[91] — Криел — наш человек. Он ненавидит всех черных. — А ты, брат Лашингер, узнал о том, что я поручал тебе? Толстый Лашингер подумал, прежде чем ответить. — Да, апостол. Они нашли. — Кто сказал тебе? — Сам Криел. Он остановился в моем доме. Вчера он проговорился. — Где нашли золото? — Он не сказал. Это секрет его фирмы. — Какой фирмы? — Он работает в Трансваало-Американской корпорации, апостол. Воцарилось молчание. Трансваало-Американская корпорация — могущественный золотопромышленный концерн, и вступать с ним в конфликт мог лишь тот, кто чувствовал за собой силу. — Эта жила будет принадлежать нам, — сказал наконец «апостол». — Бог не допустит, чтобы она попала в руки британцев. Они завладели у нас всем. Но время их кончилось. Мы — правительство буров и наше братство — правим теперь страной, а не они. Однако слова его не вызвали особого воодушевления. За Трансваало-Американским концерном стоят английское и американское правительства. Ссориться с концерном нельзя. Нужно действовать осторожно, не вызывая никаких подозрений у золотопромышленников. — Позовите Криела. Когда Криел вошел в полутемную комнату, он увидел людей в черных капюшонах, с зажженными факелами в руках. На столе стоял гроб со снятой крышкой. В нем, прикрытое черной марлей, лежало нечто, имеющее очертания человеческого тела. Из груди торчала рукоять ножа. «Брат» с тяжелым золотым крестом стоял за гробом. «Союз братьев» твердо придерживался установленного средневекового ритуала. Криел остановился. Рассеченная верхняя заячья губа его дрогнула, в глазах полыхнул страх. Для чего гроб, маски? — Подойди ближе, будущий брат во Христе! Криел узнал голос Фан Снимена. — Веришь ли, что африканеры посланы на эту землю богом, что они будут править всей Африкой? — Да. — Готов ли ты бороться до конца за дело священной расы африканеров? — Умру, но не допущу, чтобы власть в Южной Африке захватили кафры. — Выслушай наш устав. «…Великая цель братства — навечно утвердить власть в Южной Африке тех, кого вразумил на это бог… Все низшие расы будут жить под руководством африканеров. Небелые расы должны быть отделены и развиваться в нужном нам направлении… Не будет пощады непокорным рабам… Пусть вступающий в братство помнит, что „Союз братьев“ предательства не прощает. Изменник умрет!» Двое в черных балахонах держали факелы по сторонам от Криела. — Возьмите с него клятву. — Повторяй за мной, — сказал толстый Лашингер и стал читать:«Я, Криел, чистый африканер, вступая в священный „Союз братьев“ избранной расы африканеров, клянусь выполнять все приказания моего старшего брата и комитета Двенадцати апостолов». — Лашингер приставил пистолет к груди Криела. — «Если в мыслях моих есть измена, пусть эта пуля поразит меня и пусть лягу я в этот гроб. Пусть кровь, которой я подписываюсь, станет ядом в жилах моих, если я изменю. Отныне я — раб и воин священного „Союза братьев“… Аминь!»— Подойди ко мне. — Фан Снимен вынул из шкатулки нож и гусиное перо, чиркнул ножом по руке Криела, обмакнул перо в кровь. В тишине Криел вывел подпись. — Ты не должен стремиться узнать тайны братства, — проговорил Фан Снимен, — но у тебя не будет секретов от нас. Что ищешь ты в вельде, брат? — Отвечай, это старший брат наш! — сказал Лашингер. Новообращенный колебался. — Это производственный секрет. Я дал подписку Трансваало-Американской корпорации. — Но ты клялся исполнить любой приказ братства. Что ищешь? — Золото. — Нашли? — Да. — На чьих землях? В соседней комнате раздался тихий стук, словно кто-то ходил там. Фан Снимен замолчал и предупреждающе поднял руку. Прислушались. Все было тихо. — Посмотреть? — спросил дю Плесси. — Снаружи моя охрана. Никто не пройдет. Видно, ветер. — Так на чьей земле золотая жила, брат Криел? — За мной следит Особый отдел милиции. Если я скажу, мне грозит большая неприятность. — Ты находишься под нашей защитой. Руководители полиции сами подчиняются братству. Криел все не решался. — Чего ты боишься? Наши люди всюду. Никто не станет министром, если этого не захочет Комитет Двенадцати апостолов нашего «Союза братьев». Мы не дадим тебя в обиду. — Меня уволят, и ни один горный концерн не примет меня на работу. А почти все рудники и шахты в руках англичан. Британцы стоят друг за друга. — Мы найдем тебе хорошее место. Это говорит тебе член комитета Двенадцати апостолов. Криел со страхом взглянул на черную фигуру с крестом. Приказы всемогущих «апостолов» должны быть выполнены беспрекословно! Криел знал, что «гестапо» братства — «Исполнительный комитет» — уберет его сразу, прояви он непокорность. — На землях Кригера и Эбензера, — прошептал Криел. В прорезях капюшона блеснули и тотчас потухли глаза. — Богатая жила? — Очень! — Не сообщай о своем открытии Трансваало-Американской корпорации. Это приказ! — Но я должен писать отчет каждую неделю. — Сообщи, что золота не обнаружил. Забудь о британцах, брат Криел. Власть их под Южным Крестом кончилась. — Я все сделаю, апостол. — Эбензер — чистый африканер, но он наш враг, — сказал Фан Снимен, обращаясь ко всем. — Он воевал против Гитлера, когда немцы поддерживали нас в борьбе за власть в Южной Африке. Он водил дружбу с кафрами. Эбензер — мой должник. И земля его станет нашей… Завтра же ты, судья Радеман, вызовешь его в суд. Назначай дело к слушанию. — А если он достанет денег и расплатится, апостол? — спросил судья. В рачьих глазах его было сомнение. — Этого нельзя допускать! — Если он уплатит долг, тогда я бессилен, — сказал Радеман. — Тогда он может поехать в вельд и не вернуться оттуда, — мрачно и решительно сказал Фан Снимен. — В большом деле один человек ничего не значит. Нам нужны средства для великой борьбы с низшими расами. Борьба будет жестокой. Победит тот, кто сильнее и тверже духом. Эбензер будет устранен. Кстати, поблизости появился партизанский отряд кафров. Они называют его «Копья народа». Эбензер может стать их жертвой… Ведь уже были случаи, когда плантаторы погибали, брат дю Плесси? Начальник полиции вздрогнул и с готовностью ответил: — Были. На все воля божья, апостол! — Кафры стали дерзкими, дю Плесси. Пришли сюда, на ферму, охрану — полицейских человек двадцать… Грохот поваленной мебели за стеной прервал его речь. Фан Снимен подчеркнуто неторопливо повернулся и указал на дверь. «Братья» кинулись в соседнюю комнату.
11
Кумало вышел из компаунда. В черном холодном небе — россыпь огней. Ночь вымела людей из вельда. В высоте прочертила след падающая звезда. Надрывно крикнула ночная птица. Тревожно завыл шакал. Кумало направился к большому дому. Страх холодил душу. Но кровь отца требовала, чтобы он шел. Он скользнул во двор, приблизился к дому, настороженно оглядываясь. Под навесом притаилась темная человеческая фигура. «Охрана!» Делая вид, что пришел по делу, Кумало подошел к двери. Когда брался за ручку, пальцы его дрожали. Он повернулся, снова взглянул под навес. Никого. Неужели показалось? Человек не мог выскользнуть так быстро. Кумало направился к навесу. Сердце билось у самого горла. Пусто. Только столб. Он вытер вспотевший лоб. «Кажется, ошибся». Окна конторы занавешены. Кумало снова приблизился к двери, постоял некоторое время, раздумывая. Нет, он ясно видел сейчас человека. Куда он спрятался? В дверь входить нельзя. Кумало слегка потолкал ее и пошел к воротам. «Может быть, все же лучше вернуться в компаунд?» Он шел в темноте некоторое время, потом решительно свернул влево, сделал большой крюк по степи и, не заходя во двор, приблизился к бунгало с другой стороны. Вечером он нарочно не задвинул шпингалеты окна, выходящего в степь. Открыв раму, он снял туфли и бесшумно влез в контору. Кумало наткнулся на табурет, замер, долго стоял, выжидая. Тихо ступая, он подобрался к кабинету хозяина, заглянул в узкую щель в двери. Люди в черных капюшонах. «Братья!» Кумало прильнул ухом к замочной скважине… Он услышал шаги и грохот упавшего стула, когда было уже поздно. Свет фонаря ослепил его. Двое схватили Кумало, навалились. Он узнал ду Прииза и лопоухого Урбаньяка. Из двери вышли люди в черных капюшонах, с факелами в руках. Кумало взял себя в руки, держался спокойно. Сквозь прорези в капюшонах на него смотрели ненавидящие глаза. — В дом пролез, — сказал Урбаньяк, тяжело дыша. — Чего же смотрел там? — зло спросил Фан Снимен. — Он обманул нас. Я думал, он вернулся в компаунд. — Я забыл в столе хлеб, баас, — сказал Кумало. Худенькая фигурка его казалась совсем маленькой рядом с высокими полными людьми в черных балахонах. — За хлебом, а в окно влез, проклятый кафр. — Урбаньяк выхватил пистолет. — Стой, стой, Урбаньяк. Зальешь мне тут кровью пол. Не люблю, когда в доме стреляют. Дети спят. Отвезите его куда-нибудь. Фан Снимен мрачно поглядел на Кумало. Взгляд этот не предвещал ничего хорошего. — Подними руки! Тяжелое, налитое свинцом сердце бухало в груди. Кумало покосился на входную дверь. Путь загораживали двое. Теперь живым не выпустят. Надсмотрщики привели трех оседланных лошадей. Кумало вытолкали во двор, связали ему руки, посадили на серого рослого Горизонта. Урбаньяк и ду Прииз вскочили в седла. Ду Прииз намотал на руку повод Горизонта. — Не упустите! — напутствовал Фан Снимен. — Действуйте твердо. Не стыдитесь окровавить ребро худому рабу своему, сказано еще в священном писании. — Хозяин подошел к лошади, что-то пристально рассматривая. — Ты что же, ду Прииз, не видишь, потник подвернулся? Холку коню хочешь сбить? Конечно, конь не твой, не ты наживал. Переседлай, ирод!.. Трое выехали в вельд. Слева от Кумало — Урбаньяк. В его опущенной руке пистолет. Кумало стал молиться, чтобы им повстречался отряд «Копий народа». Лошади всхрапывали, пугливо косились по сторонам. Глубокой черной чашей накрыла ночь саванну. Взгляд увязал в холодной густой мгле. Глухо стучали о сухую землю копыта, протяжно ухали африканские козодои. Конь под Кумало перебирал ногами. Ду Прииз грозно прикрикнул на него. Проехав полчаса, надсмотрщики стали совещаться, где «положить» пленника. Ду Прииз вынул сигареты, стал закуривать. Кумало, сжимая челюсти, смотрел на него горящими глазами. Вот он, момент! Другого уже не будет. И вдруг, яростно вскрикнув, ударил пятками коня. Пугливый Горизонт шарахнулся в сторону, едва не сбросил всадника и, вырвав повод из рук ду Прииза, понес. Вдогонку ударил выстрел. «Мимо!» — радостью обожгла мысль. Ужас гнал Горизонта по саванне. Конь летел, не разбирая дороги. «Раз, раз, раз, раз!» — с жадностью отсчитывал про себя Кумало саженные прыжки, уносившие его от смерти. Гремели за спиной выстрелы. Кумало мчался, наклонившись к шее, обхватив ногами коня, чувствуя резкий запах горячего конского пота. Сквозь слезы вглядывался в стремительно несущуюся навстречу под копыта коня черную, плохо различимую землю. Где-то высоко, сбоку взвизгнула пуля. Изогнув шею, Горизонт стлался над степью, выбивая копытами бешеную дробь. Неожиданно впереди выплыло что-то темное, бесформенное. Конь дико метнулся влево. И Кумало, еще не понимая, что случилось, упал в упругие колючие кусты. Надсмотрщики пронеслись мимо, преследуя в темноте коня. Кумало выбрался из колючек и бросился в сторону. У большого камня остановился, перетер об острую грань веревку на руках. Он бежал, пока не показался огонек. Это была ферма Эбензера — должника Фан Снимена. Кумало пошел к дому. Свет керосиновой лампы ослепил его. Он увидел в окне Эбензера, сидевшего за столом. «Надо предупредить фермера». Кумало постучал. Эбензер, взъерошенный, с расстегнутым воротом, открыл дверь. — Ну что еще надо твоему Фан Снимену?.. — начал он сердито, но Кумало перебил его: — За мною гонятся. Я спешу. — Кумало рассказал о заседании фаланги «Союза братьев» и о золоте. Эбензер слушал, бросая сквозь зубы негодующие замечания. — Убийцы! Этот твой Фан Снимен во время войны разгуливал со свастикой на рукаве и стрелял в солдат, которые должны были ехать воевать против немецких фашистов. Это теперь он у «братьев» — святой. — Они убили моего отца! — сказал Кумало глухо. — Поторопись, а то и тебя ухлопают. Спасибо, что предупредил. Я дам тебе немного денег, документы моего рабочего и его одежду. Эбензер принес документы, пиджак и сверток с продуктами. — Иди на север. Быстрее выйдешь из нашего района. Днем прячься. Кумало вышел в холмистый вельд. Над пиками встававших вдали гор поднималась луна. Кумало шел быстро, не оглядываясь. Часа через два он взобрался на холм и осмотрел вельд, залитый призрачным голубым светом. Преследователей не было. Вдали стояли молчаливые фермы — крепкие белые дома с высокими черепичными голландскими крышами. Кумало спустился на другую сторону холма и отправился к станции железной дороги. Он возвратится в город. Отныне судьба его — жить под чужим именем. Он вступил на тропу войны и уже не сойдет с нее.Евг. Брандис ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ЖЮЛЯ ВЕРНА
Несколько пояснительных слов
Давние занятия автора этих очерков Жюлем Верном и научной фантастикой завершились на первом этапе книгой о жизни и творчестве Жюля Верна. Но работа не прекращалась и после того, как в 1966 году книга была переиздана в расширенном виде. Накапливались всё новые и новые материалы. Отыскивались забытые рассказы, очерки и статьи Жюля Верна, многочисленные интервью, которые он давал журналистам; стали доступными опубликованные в редких изданиях его письма к родным и к издателю Этцелю, ближайшему другу и советчику писателя, его юношеские статьи и пьесы и т. д. Все это расширило представление о творческой деятельности и фантастических замыслах Жюля Верна, прояснило его взаимоотношения с выдающимися современниками, в особенности из мира науки, дало возможность проследить историю происхождения многих его замечательных произведений и новаторских идей. Возникла мысль написать еще одну книгу, но уже в другом ключе: «Забытые страницы Жюля Верна», или «Рассказы о Жюле Верне», или «О Жюле Верне и его друзьях». Дело, разумеется, не в названии. Это будет серия очерков, раскрывающих малоизвестные эпизоды жизни и деятельности знаменитого французского романиста от первых шагов в литературе и до глубокой старости. Что получится, сказать еще трудно. Нужно еще восполнить пробелы и наметить переходы, чтобы все очерки вошли как звенья в замкнутую цепь. Пока что вниманию читателей предлагаются шесть очерков, включающих забытые тексты Жюля Верна и записи его бесед с журналистами. Но и по этим фрагментам можно судить о замысле и особенностях работы.Писатель дает интервью…
Незаметно подкралась старость. Уже много лет Жюль Верн не выезжал из Амьена и все реже выходил из дому. Он страдал от диабета, почти полностью потерял зрение, стал плохо слышать. Окружающий его мир погрузился в полумрак, но работа почти не прерывалась. Дрожащей рукой он унизывал листы бумаги ровными полосками строчек, соглашаясь диктовать только в часы недомогания или крайней усталости. В каком он был состоянии, можно судить по его поздним письмам.«Я теперь совсем не двигаюсь и стал таким же домоседом, как раньше был легок на подъем. Возраст, болезни, заботы — все это приковывает меня к дому. Ах, дружище Поль! — жаловался он брату незадолго до своего семидесятилетия. — Хорошее было время, когда мы вместе плавали по морям. Оно уже никогда не вернется…»«Писать мне приходится почти вслепую из-за катаракты на обоих глазах», — сообщал он в 1901 году итальянскому литератору Марио Туриелло.
«Я вижу все хуже и хуже, моя дорогая сестра, — писал он в 1903 году. — Операции катаракты еще не было… Кроме того, я оглох на одно ухо. Итак, я в состоянии теперь слышать только половину глупостей и злопыхательств, которые ходят по свету, и это меня немало утешает!»Ежедневно со всех концов света Жюль Верн получал десятки писем. Юные читатели желали ему долгих лет жизни и подсказывали сюжеты для следующих томов «Необыкновенных путешествий». Известные ученые, изобретатели, путешественники благодарили писателя за то, что его книги помогли им в молодые годы не только полюбить науку, но и найти жизненное поприще. Массивный шкаф в его библиотеке, отведенный для переводной «Жюльвернианы», был забит до отказа сотнями разноцветных томов, изданных в разных странах, на разных языках, вплоть до арабского и японского. Русские издания едва умещались на двух верхних полках. Но это была лишь частица того, что тогда уже было напечатано во всем мире под его именем! Все чаще и чаще в Амьен наведывались парижские репортеры и корреспонденты иностранных газет. И Жюль Верн, так неохотно и скупо говоривший о себе и о своем творчестве, вынужден был принимать визитеров и давать интервью. Беседы тут же записывались и попадали в печать. Эти репортажи представляют несомненный интерес, так как содержат достоверные мысли и признания великого фантаста, не оставившего после себя ни мемуаров, ни дневников. В старых газетах и журналах мне удалось найти не менее полутора десятков таких публикаций. Среди них — рассказ о визите к Жюлю Верну известного итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса, интервью, записанные английскими журналистами Мэри А. Бэллок, Г. Джонесом, Ч. Даубарном, французским критиком А. Бриссоном, русским литератором А. Плетневым, корреспондентами газет «Le Temps», «Die Woche», «Neues Wiener Journal», «L'Echo de Paris» и др. Отвечая на стандартные вопросы, писатель поневоле должен был повторяться или варьировать одни и те же мысли. Наиболее подробно он останавливается на истории замысла «Необыкновенных путешествий» и своей неустанной работе над этой колоссальной серией романов. Почти в каждом интервью ему приходилось говорить о своих литературных пристрастиях, о науке и ее будущих возможностях, с которыми он связывал радужные перспективы не только технического прогресса, но и общественного развития. Не обходил он молчанием и тревожных вопросов международной политики: осуждал военные приготовления великих держав, рост вооружений и т. д. И, наконец, лейтмотивом последних интервью становится навязчивая мысль о близкой смерти и оригинальном литературном завещании, которое должно было еще на несколько лет продлить для читателей его интенсивную творческую жизнь. Я попытался свести воедино разрозненные высказывания, ограничив свою задачу монтажом и систематизацией материала по основным темам. Получилась довольно связная творческая автобиография Жюля Верна. Все, что здесь сказано, — это его подлинные слова, застенографированные или записанные под свежим впечатлением лицами, которым он давал интервью. Вопросы тоже не придуманы. Только задавались они в разное время, разными людьми, беседовавшими с писателем. Почти каждый журналист начинал с традиционного вопроса: — Мосье Верн, не могли бы вы рассказать, как началась ваша литературная деятельность? — Моим первым произведением, — отвечал Жюль Верн, — была небольшая комедия в стихах, написанная при участии Александра Дюма-сына, который был и оставался одним из лучших моих друзей до самой его смерти. Комедия была названа «Сломанные соломинки» и ставилась на сцене «Исторического театра», владельцем которого был Дюма-отец. Пьеса имела некоторый успех, и по совету Дюма-старшего я отдал ее в печать. «Не беспокойтесь, — ободрил он меня. — Даю вам полную гарантию, что найдется хотя бы один покупатель. Этим покупателем буду я!» Работа для театра очень скудно оплачивалась. И хотя я написал еще несколько водевилей и комических опер, вскоре мне стало ясно, что драматические произведения не дадут мне ни славы, ни средств к жизни. В те годы я ютился в мансарде и был очень беден. Пора было всерьез задуматься о будущем. Моим истинным призванием, как вы знаете, оказались научные романы или романы о науке — затрудняюсь, как лучше сказать… И все-таки я никогда не терял любви к сцене и ко всему, что так или иначе связано с театром. Мне всегда было очень радостно, когда мои романы, переделанные в пьесы, начинали на сцене вторую жизнь. Особенно посчастливилось «Михаилу Строгову» и «Вокруг света в восемьдесят дней». Инсценировки этих романов ставились и ставятся, как сообщает пресса, с неизменным успехом во многих столичных театрах. В общей сложности я написал около тридцати пьес. — Хотелось бы знать, мосье Верн, что побудило вас писать научные романы и как напали вы на эту счастливую мысль? — Откровенно говоря, я и сам не знаю. Меня всегда интересовали науки, в особенности география. Любовь к географическим картам и истории великих открытий, скорее всего, и заставила работать мысль в этом направлении. Литературное поприще, которое я избрал, было тогда ново и почти совсем не использовано. В занимательной форме фантастических путешествий я старался распространять современные научные знания. На этом и основана серия географических романов, ставшая для меня делом жизни. Ведь еще до того как появился первый роман, положивший начало «Необыкновенным путешествиям», я написал несколько рассказов на подобные же сюжеты, например: «Драма в воздухе» и «Зимовка во льдах». — Расскажите, пожалуйста, о своем первом романе. Когда и при каких обстоятельствах он появился? — Приступив к роману «Пять дней на воздушном шаре» — это было летом тысяча восемьсот шестьдесят второго года, — я решил выбрать местом действия Африку просто потому, что эта часть света была известна значительно меньше других. И мне пришло в голову, что самое интересное и наглядное исследование этого обширного континента может быть сделано с воздушного шара. Никто не преодолевал на аэростате такие огромные расстояния, поэтому мне пришлось придумать некоторые усовершенствования, чтобы баллоном можно было управлять. Помнится, я испытывал сильнейшее наслаждение, когда писал этот роман и, главное, когда производил необходимые изыскания, чтобы дать читателям по возможности реальное представление об Африке… Кончив работу, я послал рукопись издателю Этцелю. Он быстро прочел ее, пригласил меня к себе и сказал: «Вашу вещь я напечатаю. Я уверен, она будет иметь успех». И опытный издатель не ошибся. Роман вскоре был переведен почти на все европейские языки и принес мне известность… С тех пор по договору, который заключил со мной Этцель, я передаю ему ежегодно — увы, теперь уже не ему, а его сыну[92] — по два новых романа или один двухтомный. И этот договор, по-видимому, останется в силе до конца моей жизни…
По поводу «Гиганта»
Феликса Турнашона знал весь Париж. Только не под настоящим именем, а под псевдонимом «Надар». Это был удивительно разносторонний человек. За что бы он ни брался, все ему отлично удавалось и любому начинанию сопутствовал сенсационный успех. Издатель юмористических журналов, талантливый рисовальщик-карикатурист, театральный художник, остроумный писатель, автор многочисленных статей, очерков, афоризмов, блестящих эссе, составивших несколько томов… Казалось бы, вполне достаточно для одной жизни, если она и продолжалась девяносто лет! Но подлинную славу Надару принесли два его увлечения, вернее, две страсти, которым он отдавался со всем темпераментом своей пылкой натуры: фотография и воздухоплавание. Придуманное им усовершенствование дало поразительный эффект: он снимал «мокрым» способом — на влажную пластинку — и, кроме того, первый применил в фотографии электрическое освещение от гальванических батарей. Огромные матовые лампы с автоматическим включением угольных стержней делали фотографа независимым от дневного света. Надар превратил фотографию в новый вид искусства и создал портретную галерею знаменитых современников. Фотоателье на улице Анжу посещали артисты, писатели, художники, музыканты, ученые, общественные и политические деятели. Гектор Берлиоз мог застать здесь Шарля Бодлера, Жюль Верн — строителя Суэцкого канала Фердинанда Лессепса, Жорж Санд могла встретить Сару Бернар, Гюстав Доре — Александра Дюма, русский революционер Бакунин — немецкого композитора Вагнера. Избранные портреты из серии «Пантеон Надара» до сих пор издаются отдельными альбомами как шедевры художественной фотографии. Всевидящий фотоглаз Надара впервые запечатлел парижские катакомбы с оставшимися еще от времен средневековья штабелями человеческих черепов и костей, сложенных вдоль стен, и подъемные лабиринты парижской канализации, в которых скрывался Жан Вальжан, спасаясь от неотступного Жавера.[93] Надар делал замечательные натурные снимки и фотографировал Париж с птичьего полета. Первую в мире аэрофотосъемку он сделал в 1856 году. Представьте себе корзину, сплетенную из прутьев, — гондолу воздушного шара, где с трудом умещается, согнувшись в три погибели, высокий широкоплечий здоровяк с копной развевающихся по ветру волос, вооруженный громоздкой «фотографической машиной». В таком виде Надар изображен на одном из многочисленных шаржей. В 1859 году, во время сражения с австрийцами при Сольферино, он производил с привязного аэростата разведку расположения войск противника. В 1870 году, когда Париж был обложен прусской армией, Надар поддерживал на воздушном шаре связь с осажденной столицей. Встретившись однажды с баллоном противника, он завязал с ним поединок в воздухе и сбил вражеский аэростат. Это был едва ли не первый в истории воздушный бой. Аэрофотосъемка заставила Надара увлечься воздухоплаванием, а затем и авиацией, о которой могли тогда только мечтать самые смелые умы. Обладая способностью заражать окружающих своим энтузиазмом, он сыграл немаловажную роль в жизни и творчестве Жюля Верна. Познакомились они в начале 60-х годов, когда молодой писатель находился на распутье. Его тянуло к науке, к популяризации научных знаний, но «роман в совершенно новом роде», роман о науке и ее сказочных возможностях маячил еще где-то в тумане. Не кто иной, как Надар, подсказал Жюлю Верну тему первого романа и был его консультантом. «Виктория» — аэростат с температурным управлением, созданный воображением писателя, — снаряжалась для небывалого полета над Африкой, а Надар тем временем собирал средства на сооружение огромного воздушного шара, который он сам же и сконструировал с полным знанием дела. Написать роман о покорении воздуха, полный удивительных приключений, оказалось легче, чем воплотить в жизнь реальный проект. «Виктория» слетела с кончика пера, благополучно пересекла весь Африканский континент и опустилась на столе у издателя. 17 января 1863 года роман «Пять недель на воздушном шаре» вышел в свет, и… Жюль Верн проснулся знаменитым. С ходу была задумана целая серия «романов о науке», появилось уже и название серии — «Необыкновенные путешествия». Профессор Лиденброк уже опустился к «центру» Земли, одержимый Гаттерас уже подбирал спутников для экспедиции к Северному полюсу, а Надар все еще метался из Парижа в Лион,где на одной из шелковых фабрик изготовлялась прорезиненная оболочка «Гиганта». И по мере того как работы подвигались к концу, самый большой в мире аэростат привлекал к себе всеобщее внимание. «Гигант» имел девяносто метров в окружности, был снабжен двойной оболочкой и вмещал шесть тысяч девяносто восемь кубических метров газа. Гондола, построенная в виде шале — двухэтажного летнего домика с террасой, — предназначалась для двенадцати пассажиров, не считая самого пилота. Имя Надара не сходило со страниц печати. Его преследовали репортеры, куплетисты сочиняли про него песенки, художники рисовали карикатуры, юмористы изощряли свое остроумие. Надар стал героем дня. Правда, многих сбивало с толку несоответствие между словами и действиями Надара. Самый рьяный поборник принципа «тяжелее воздуха» — и вдруг строит аэростат, пусть даже и самый большой в мире! Но вскоре все разъяснилось: средства от эксплуатации «Гиганта» он собирался пустить на опыты с аппаратами тяжелее воздуха… И тут мы должны сделать отступление. 7 августа 1863 года в газете «Ла пресс» Надар опубликовал «Манифест воздушного самодвижения», в котором предал анафеме аппараты легче воздуха, то есть воздушные шары:«Аэростат родился поплавком и навсегда останется поплавком. Чтобы завоевать воздух, надо быть тяжелее воздуха. Человек должен стремиться к тому, чтобы найти для себя в воздухе опору, подобно птице, удельный вес которой больше удельного веса воздушной среды. Нужно покорить воздух, а не быть его игрушкой. Нужно отказаться от аэростатов и перейти к использованию законов динамического полета. Винт — святой винт! — должен вознести нас в небеса в ближайшем будущем. Тот самый винт бурава, который при вращении проникает в дерево, увлечет человека ввысь».Уже через несколько дней после опубликования «Манифеста» Надар вместе со своими единомышленниками, Габриэлем де Лаланделем и Понтон д'Амекуром, основал «Общество воздушного передвижения без аэростатов» или, как его называли иначе, «Общество летательных аппаратов тяжелее воздуха». Понтон д'Амекур и Лаландель не имели специального технического образования. Расчеты геликоптеров делали за них опытные инженеры, а модели выполняли искусные мастера. В 60-х годах и тот и другой напечатали несколько книг, посвященных воздухоплаванию и авиации. Понтон д'Амекур позже стал президентом французского Общества нумизматики и археологии. Лаландель, начав свою карьеру офицером морского флота, затем посвятил себя литературной деятельности и снискал популярность многочисленными «морскими романами». Увлечение авиацией у того и другого было недолгим. Тем не менее имена Понтон д'Амекура и Лаланделя, так же как и Надара, остались в истории французской авиации как имена ее зачинателей. Жюль Верн, тогда уже автор нашумевшего романа «Пять недель на воздушном шаре», не только становится членом «Общества воздушного передвижения без аэростатов», но и фигурирует в списке его учредителей в качестве инспектора. Первое собрание новорожденного «Общества» состоялось в присутствии представителей печати и большого числа зрителей. Лаландель, только что выпустивший книгу «Авиация или воздушная навигация без аэростатов», начал свою речь с объяснения новых терминов: — Авиация, — сказал он, — действие, подражающее полету птиц. Это слово необходимо для ясного и краткого обозначения таких понятий, как воздушная навигация, аэронавигация, воздушное самодвижение, передвижение судна и управление им в воздухе. Глагол «avier» — производное от латинского «avis» — птица. Отсюда слово «авиация». Мы придумали его вместе с мосье Понтон д'Амекуром, и оно кажется нам наиболее удачным. Надеюсь, это слово привьется! Другой термин — «аэронеф» — мы употребляем для обозначения самодвижущейся управляемой воздушной машины, в отличие от аэростата, свободно парящего в воздухе, но не управляемого… Закончив лингвистический экскурс, Лаландель подробно остановился на преимуществах завоевания воздуха винтами. — В недалеком будущем, — заявил он, — появятся аэронефы разных назначений: транспортные, пассажирские, почтовые, дальнего следования, каботажные, охотничьи, спасательные, сельскохозяйственные. Воздушный океан покроется сетью незримых дорог. Во всех направлениях его будут бороздить быстроходные корабли с винтами на мачтах вместо парусов. Все правительства создадут министерства авиации, наподобие давно уже существующих морских министерств. Дальше Лаландель популярно изложил теоретические основы принципа «тяжелее воздуха» и в заключение нарисовал многообещающую фантастическую картину применения разных аэронефов. — Что касается сельскохозяйственных, то они будут брать на буксир тучи и спасать поля, страдающие от засухи. Чтобы предотвратить избыток влаги, эти машины будут отводить тучи в засушливые места. Они спасут земледельцев от палящего зноя и от проливных дождей!.. В зале раздался смех. Лаландель, сделав «крутой вираж», поспешил приземлиться: — Но, увы, как далеки мы от этого сегодня! Ведь до сих пор подавляющее большинство людей считают, что подниматься к небу на управляемых механизмах тяжелее воздуха — чистейшее безумие! После выступления Понтон д'Амекура демонстрировались достижения авиационной техники. Первая модель, весом в один килограмм, была построена в виде орнитоптера.[94] Крылья держались на шарнирах и приводились в действие часовой пружиной. Предельная высота подъема достигала одного метра. Другие конструкции, более удачные, действовали от вращения в противоположные стороны несущих винтов, насаженных на вертикальную ось. В качестве двигателя здесь тоже применялась часовая пружина. Эти игрушечные геликоптеры взлетали на три-четыре метра. — К сожалению, — сказал Понтон д'Амекур, — отсутствие механического двигателя пока что исключает возможность создания длительно летающего геликоптера. Но я надеюсь преодолеть эту трудность с помощью паровой машины, которая заменит часовой завод. В настоящее время по моему проекту изготовляется миниатюрная двухцилиндровая паровая машина и геликоптер, рассчитанный на сравнительно большую подъемную силу. Он сможет держаться в воздухе несколько минут и преодолевать значительные расстояния… (Заметим в скобках: паровая машина оказалась непригодной из-за своей тяжести. Несмотря на горячее желание конструктора, паровой геликоптер не хотел оторваться от земли.) Потом слово взял Надар. От его грохочущего баса дрожали стекла. Продолжив обозрение блистательных перспектив авиации, он под гром аплодисментов объявил войну воздушным шарам. Собрание закончилось символическим актом: модель геликоптера врезалась в модель аэростата, подвешенного к люстре. «Победу» одержал геликоптер: воздушный шарик лопнул. Полемика между сторонниками «легче воздуха» и «тяжелее воздуха» разгоралась с каждым днем. Летом и осенью 1863 года все французские газеты и журналы — большие и маленькие, научные и литературные, серьезные и развлекательные — охотно предоставляли трибуну участникам этого исторического спора. И вот наступил долгожданный день. 4 октября на глазах у нескольких сотен зрителей, собравшихся на Марсовом поле, «Гигант» Надара величественно воспарил к небесам. Благополучно завершив пробный полет, Надар объявил запись на билеты. По правде говоря, охотников было не так уж много. Отпугивала даже не цена, а неизбежный риск путешествия по воздуху. Жюль Верн на правах почетного гостя должен был попасть в число первых пассажиров. Но очередь до него не дошла. Детище Надара постигла печальная участь. 18 октября, когда «Гигант», купаясь в лучах солнца, спокойно плыл над Парижем, поднялся сильный ветер. Унесенный воздушным потоком, «Гигант» залетел в Германию и разбился возле Ганновера. Вместе с воздухоплавателем едва не распрощались с жизнью его жена и несколько друзей. — Аэростат родился поплавком и навсегда останется поплавком! — сказал Надар, очнувшись от падения. «Будущее принадлежит авиации!» — сказал Жюль Верн и написал статью «По поводу Гиганта». Статья была напечатана в декабрьском номере журнала «Мюзэ де фамий» за 1863 год. На русский язык она не переводилась. Все попытки отыскать ее ни к чему не привели: в библиотеках Советского Союза этого номера «Мюзэ де фамий» не оказалось. Только благодаря содействию Жана Шено,[95] приславшего из Парижа фотокопию, мы можем теперь познакомиться с забытой статьей Жюля Верна. Вот что он пишет. Есть основания полагать, что воздухоплавание после смелых попыток Надара сделало новые успехи. Аэростатика давно уже казалась заброшенной и, по совести говоря, с конца XVIII века почти не прогрессировала. Физики того времени придумали все необходимое: газ — водород — для наполнения шара, сетку, чтобы удерживать оболочку и соединять ее с корзиной, и, наконец, клапан, чтобы давать выход газу. Были также найдены средства для подъема и спуска при помощи балласта и избыточного газа. Итак, на протяжении восьмидесяти лет искусство воздухоплавания пребывало в неизменном состоянии. Можно ли сказать, что попытки Надара привели к новым успехам? Вполне вероятно. Я сказал бы даже: несомненно. И вот почему. Прежде всего этот смелый и упорный художник оживил забытое дело. Воспользовавшись расположением к нему прессы и журналистов, он привлек внимание публики к воздухоплаванию. В начале всякого большого открытия всегда находится человек твердой закалки, идущий навстречу трудностям, влюбленный в недостижимое, который пытается, пробует, достигая большего или меньшего успеха. И наконец ему удается расшевелить тех, от кого зависит дальнейшее. И тогда вступают в игру ученые: дискутируют, пишут, подсчитывают, и в один прекрасный день открытие предается гласности. К этому должны привести и смелые полеты Надара. Искусство подъема и передвижения в воздухе станет практическим средством связи. И если это произойдет, потомство будет во многом признательно Надару. Я не собираюсь рассказывать здесь о полетах «Гиганта». Это сделали уже другие, те, кто сопровождали его в воздушном путешествии, те, кто были очевидцами и специально поднимались с ним для того, чтобы об этом рассказать. Я хочу остановиться на основных тенденциях развития аэронавтики. Прежде всего, исходя из опыта Надара, мы делаем вывод: «Гигант» должен быть последним воздушным шаром. Трудности спуска убедительно показывают невозможность управления таким огромным аппаратом. Некоторые просто хотят отменить воздушный шар. Но возможно ли это, если даже такая идея исходит от самого Бабине?[96] С другой стороны, Понтон д'Амекур и Лаландель утверждают, что они преодолели трудности и решили проблему. Но прежде чем говорить об их изобретении, покончим с воздушным шаром. Позвольте мне рассказать об аппарате де Люза. Я видел действующую модель и с уверенностью могу утверждать, что она сделана достаточно искусно, чтобы обеспечить управление аэростатом, насколько аэростат вообще может быть управляем. Изобретатель к тому же поступает вполне логично: вместо того чтобы пытаться толкать корзину, он пытается толкать аэростат. Для этого он придал ему форму удлиненного цилиндра и снабдил винтом. С обоих концов цилиндр присоединяется к корзине тросами, натянутыми на блоки. При помощи любого движителя тросы должны приводить цилиндр во вращательное движение, и тогда баллон будет буквально ввинчиваться в воздух. Аппарат действует, и действует хорошо. Конечно, он не сможет подняться при сильной циркуляции воздуха, но при умеренном ветре, я полагаю, не подведет. Впрочем, в распоряжении аэронавта будут еще наклонные плоскости. Развернутые в том или ином направлении, они позволят избежать вертикальных завихрений. Чтобы предотвратить утечку водорода, обладающего легчайшим весом, де Люз предполагает сделать свой баллон из меди и надеется при этом производить эволюции для подъема и спуска посредством особого клапана внутри аэростата, куда газ будет нагнетаться помпой. Такова суть конструкции. Самое изобретательное в ней то, что баллон становится винтом. Удастся ли это де Люзу? Мы скоро узнаем, так как он собирается совершить двухдневный полет над Парижем.[97] А теперь вернемся к проектам Понтон д'Амекура и Лаланделя. В них мы находим нечто более серьезное. Остается только выяснить, осуществима ли их идея применительно к средствам, которые им может предоставить современная механика. Вам, конечно, знакомы детские игрушки, сделанные из лопастей, которым придают быстрое вращательное движение с помощью быстроразматываемой веревки. Предмет взлетает и парит в воздухе, пока винт не перестает вращаться. Если бы это движение продолжалось, аппарат не мог бы упасть. Представьте себе непрерывно действующую пружину: игрушка будет держаться в воздухе! Геликоптер Понтон д'Амекура основан именно на этом принципе. Воздух образует точку опоры, достаточную для винта, который отбрасывает его вкось. Все это подтверждается на практике, и я видел собственными глазами, как функционируют модели, изготовленные этими господами. Натянутая пружина внезапно спускается, и вращающийся винт создает подъемную силу. Однако, как легко догадаться, столб воздуха, вытолкнутый винтом, придал бы аппарату обратное вращательное движение, и, если бы не удалось устранить эту помеху, аэронавт немедленно был бы оглушен воздушным потоком. Помеха устраняется с помощью двух винтов, наложенных один на другой и вращающихся в разные стороны. При этом аппарат может висеть неподвижно, и Понтон д'Амекур сумел этого добиться. Третий винт — тянущий, насаженный на горизонтальную ось, — движет аппарат в нужном направлении. Итак, два первых винта удерживают его в воздухе, а третий проталкивает, как если бы это было на воде. Вот в нескольких словах упрощенное объяснение принципов действия геликоптера. Но достижимо ли это на практике? Все будет зависеть от мотора, приводящего в движение винты: он должен быть одновременно и мощным, и легким. К сожалению, машины на сжатом воздухе или на паре, из алюминия или из железа до настоящего времени не дали желаемых результатов. Я хорошо знаю также, что экспериментаторы работали не в полную силу, а чтобы достичь цели, нужно отдаться этому целиком. По мере увеличения размеров аппарата будет уменьшаться его относительный вес. И в самом деле, машина мощностью в двадцать лошадиных сил весит намного меньше, чем двадцать машин в одну лошадиную силу. Так будем же терпеливо ждать более решительных опытов. Изобретатели — люди находчивые и смелые. Они доведут дело до конца. Но им нужны деньги, может быть, много денег. И раз это нужно, Надар ни перед чем не остановится. Для того он и собрал толпу, чтобы люди поглядели на его отважный подъем. Но зрителей пришло не так уж много: они не ожидали, что это зрелище доставит им удовольствие. Если Надар возобновит свои опыты, нужно подумать о будущей практической пользе, и тогда Марсово поле не вместит всех желающих. Речь идет теперь уже не о том, чтобы парить или летать в воздухе. Речь идет о воздушной навигации! Один ученый остроумно сказал: «Человек правильно сделает, если научится летать. Иначе он навсегда останется индюком, и к тому же еще смешным индюком». Прославим же геликоптер и примем за девиз слова Надара: «Все, что возможно, сбудется!» Жюль Верн был всегда верен этому девизу. Дружба с Надаром отразилась и на его дальнейшем творчестве. После катастрофы с «Гигантом» не прошло и полутора лет, как неугомонный Надар стал инициатором и участником самого необыкновенного из всех «Необыкновенных путешествий» — первого межпланетного перелета «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», того самого знаменитого перелета, который сокращенно называется «Из пушки на Луну». Правда, Надар действует в обоих романах (второй — «Вокруг Луны») под именем Мишеля Ардана, но это не меняет сути: каждому было ясно, что Ардан произошел от Надара путем простейшей перестановки букв. И кроме того, в самом звучании «Ардан» слышатся отвага и задор.[98] Когда изобретательные американцы объявили о своем решении запустить на Луну пушечный снаряд с единственной целью продемонстрировать успехи баллистики, Мишель Ардан, как помнят читатели, отправил из Парижа телеграмму:
«Замените круглую бомбу цилиндро-коническим снарядом. Полечу внутри. Прибуду пароходом „Атланта“».Все члены «Пушечного клуба» во главе с председателем Барбикеном встречают сумасбродного француза на пристани Тампа. И вот он показался на палубе.
«Это был человек лет сорока двух, высокого роста, но уже слегка сутуловатый, подобно кариатидам, которые на своих плечах поддерживают балконы. Крупная львиная голова была украшена копной огненных волос, и он встряхивал ими порой, точно гривой. Круглое лицо, широкие скулы, оттопыренные щетинистые усы и пучки рыжеватых волос на щеках, круглые близорукие и несколько блуждающие глаза придавали ему сходство с котом. Но его нос был очерчен смелой линией, выражение губ добродушное, а высокий умный лоб изборожден морщинами, как поле, которое никогда не отдыхает. Наконец, сильно развитой торс, крепко посаженный на длинных ногах, мускулистые, ловкие руки, решительная походка — все доказывало, что этот европеец — здоровенный малый, которого, говоря на языке металлургов, природа „скорее выковала, чем отлила“».Словесный портрет дополняется психологическими наблюдениями:
«Этот удивительный человек имел склонность к гиперболам, питая юношеское пристрастие к превосходной степени; все предметы отражались в сетчатке его глаз в сверхъестественных размерах. Отсюда у него беспрестанно возникали большие и смелые идеи: все рисовалось ему в преувеличенном виде, кроме препятствий и человеческих достоинств. Словом, это была богатая натура; художник до мозга костей, остроумный малый. Он избегал фейерверка острот, зато наносил словесные удары с ловкостью фехтовальщика… Он очертя голову бросался в самые отчаянные предприятия, всегда готов был сжечь свои корабли, подобно Агафоклу,[99] всякий час рисковал сломать себе шею и тем не менее всегда вставал на ноги подобно игрушечному ваньке-встаньке… Он был глубоко бескорыстен, и бурные порывы его сердца не уступали смелости идей его горячей головы. Отзывчивый, рыцарски великодушный, он готов был помиловать злейшего врага и охотно продался бы в рабство, чтобы выкупить негра».Жюль Верн воздал должное своему другу. Современники считали, что эта незабываемая характеристика почти в точности соответствует внешнему облику и душевному складу Надара. Итак, энтузиаст авиации увековечен в качестве межпланетного путешественника в двух замечательных романах, оказавших, как известно, вдохновляющее воздействие на Циолковского. Завоевание космоса в научной фантастике и в жизни — другая тема. Сейчас мы говорим о покорении воздуха. Надар дал толчок. Учрежденное им «Общество воздушного передвижения без аэростатов» на 1 января 1865 года уже насчитывало 282 члена и выпускало печатный бюллетень. И во Франции, и в других странах заметно увеличилось число последователей идеи механических полетов и возрос интерес к аппаратам тяжелее воздуха. Конструировались новые модели, проводились испытания, оживилась исследовательская работа по теории авиации. Значительный вклад в историю ее развития внесли труды русских ученых и изобретателей. В 1869 году А. Н. Лодыгин взял патент на проект геликоптера, несущий винт которого должен был вращаться от электрического двигателя. Геликоптер-электролет не был, однако, построен: он значительно опережал технические возможности своего времени. В 1882 году А. Ф. Можайский создает полноразмерный аэроплан с паровым двигателем и всеми основными частями летной машины (корпус, крылья, шасси). На несколько мгновений аэроплан Можайского отделился от земли. Французский часовщик Татен приблизительно в те же годы пытается построить аэроплан сначала с пневматическим, а потом с паровым двигателем. Любители-энтузиасты занимались «самолетостроением» и в Англии. Однако из-за отсутствия легкой и достаточно мощной силовой установки авиация еще не в состоянии была доказать маловерам свои несомненные преимущества перед воздухоплаванием. Поэтому и в 80-х годах еще не утихли горячие споры между сторонниками обеих систем летательных аппаратов, и Надар продолжал с прежней запальчивостью отстаивать принцип «тяжелее воздуха». В 1883 году в очередной книге очерков он дал новую серию афоризмов: «Чем больше будет вес, тем легче будет передвигаться в воздухе», «Воздушный шар — поплавок, был поплавком и сгинет как поплавок, пропади он трижды пропадом! Аминь. Но до каких пор придется это твердить?» и т. п. Жюль Верн, не желая отстать от друга, переносит дискуссию на страницы романа «Робур-Завоеватель». Робур, построивший воздушный корабль «Альбатрос», прокламирует теоретические основы авиации:
«Грядущее принадлежит летательным машинам. Воздух — для них достаточно надежная опора. Если придать столбу этой упругой материи восходящее движение со скоростью сорока пяти метров в секунду, то человек сможет удержаться на верхнем конце воздушного столба…. После того как были изучены особенности полета всевозможных птиц и насекомых, победила следующая простая и мудрая мысль: надо лишь подражать природе, ибо она никогда не ошибается… Не воздушным шарам, а летательным машинам принадлежит будущее, господа поклонники аэростатов!»В 1886 году, когда вышел в свет «Робур-Завоеватель», Надар продолжал неистово сражаться с противниками авиации. Лаланделя уже не было в живых, а Понтон д'Амекур, став заядлым нумизматом, и думать забыл о своих прежних увлечениях. Но Жюль Верн, воскресив в памяти незабываемые события 1863 года, воспроизвел в романе значительно улучшенную схему воздушного корабля Лаланделя и почти дословно — объяснение устройства геликоптера, как это изложено в брошюре Понтон д'Амекура «Завоевание воздуха винтами». К событиям 1863 года уводит и блестящая сцена состязания тяжелого «Альбатроса» с аппаратом легче воздуха «Вперед». Машина Робура, выиграв поединок, врезалась в управляемый аэростат и на лету подхватила падающего пилота. Как тут не вспомнить символический акт уничтожения воздушного шара геликоптером на учредительном собрании «Общества» Надара! На разных этапах развития техники качественно новые конструкции в своем первоначальном виде нередко повторяют формы старых. Например, первые автомобили по внешнему виду почти не отличались от дилижансов. На титульном листе книги Лаланделя «Авиация или воздушная навигация» изображен фантастический аэронеф будущего. Пароход с выдвижным килем и плоскостями по бортам, наподобие балансиров. Из труб валит дым. На палубе суетятся матросы. Но плывет корабль не по волнам океана, а по воздуху. На мачтах вместо реев и парусов навешаны елочкой несущие винты с широкими лопастями, а на корме укреплен на горизонтальной оси тянущий винт — пропеллер. Имеются и рули управления. Жюль Верн, воспользовавшись этой схемой, внес в нее существенную поправку: великолепный аэронеф Робура приводится в действие не паром, а электричеством! Гальванические батареи и аккумуляторы секретного устройства непрерывно извлекают двигательную энергию из окружающей воздушной среды и передают электрическим моторам. Вот что позволило Робуру совершить кругосветный перелет с крейсерской скоростью 200–240 километров в час — и продержаться в воздухе свыше сорока дней! «Альбатрос» воздействовал на воображение миллионов читателей. Заслуга Жюля Верна в том, что из разных типов летательных машин он выбрал одну из самых перспективных — геликоптер. Положив в основу романа столкновение двух принципов — «легче воздуха» и «тяжелее воздуха», — писатель решительно стал на защиту передового, революционного принципа в то время, когда достижения воздухоплавания были бесспорны, а успехи авиации проблематичны. Истекло еще восемнадцать лет… Со времени основания «Общества воздушного передвижения без аэростатов» авиация познала и горечь поражений, и радость первых побед. В 1904 году, незадолго до смерти, престарелый Жюль Верн воскресил своего Робура в романе «Властелин мира», написанном года за три до публикации. На этот раз гениальный изобретатель строит универсальную машину-вездеход, способную мчаться с огромной скоростью по воздуху, по земле, по воде и под водой, превращаясь по желанию водителя то в самолет, то в автомобиль, то в катер, то в подводную лодку. Превратившись в самолет, машина «быстро взмахивает своими широкими и могучими крыльями». Следовательно, это не вертолет, а орнитоптер. Робур, шагая с веком наравне, отказался от наивной конструкции аэронефа, повторяющего форму обыкновенного корабля. И уже в самом последнем (посмертно изданном) романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» Жюль Верн говорит о самолете с реактивным двигателем. Здесь фигурируют аэропланы, приводимые в действие силой расширения жидкого воздуха в момент его превращения в газообразное состояние. Самый принцип реактивной авиации предусмотрен правильно, но источник движущей силы не эффективен. Принцип «тяжелее воздуха» окончательно восторжествовал еще при жизни Жюля Верна, и авиация стала реальностью XX века. В октябре 1897 года французу Клеману Адеру удалось подняться на аппарате тяжелее воздуха и пролететь триста метров. В декабре 1903 года американцы братья Райт начали свои исторические полеты на аэропланах с бензинным мотором. Уже через год их машина покрывала до пяти километров и держалась в воздухе свыше пяти минут. А Луи Блерио между тем все еще не мог оторваться от земли. Прославивший его подвиг — перелет на моноплане через Ламанш (35 километров за 27 минут!) — он совершил в 1909 году. Надар (ему было тогда восемьдесят девять лет) послал рекордсмену приветственную телеграмму, а Жюль Верн уже не мог порадоваться новому торжеству идеи, которую он отстаивал с такой убежденностью. Но и он, писатель-фантаст, вошел в историю авиации наряду с ее первыми ратоборцами!
Двадцать четыре минуты на воздушном шаре
Вы видели «Тайну острова Бек-Кап»? В этом превосходном фильме, полюбившемся взрослым и детям, оживают старинные иллюстрации к романам Жюля Верна, показан мир его техники. Игра актеров удачно комбинируется с рисованными кадрами, напоминающими гравюры Риу, Бенетта, Невиля, Фера и других художников, долгие годы работавших в содружестве с писателем. Голос диктора восторжен, а сама техника — по нынешним временам наивна. Получается остроумнейший контраст: фантастические машины, восхищавшие когда-то читателей Жюля Верна, сейчас вызывают только улыбку. …По воздуху плывет корабль. Вместо парусов на мачтах укреплены медленно вращающиеся двухлопастные винты. Аэростат с температурным управлением. Под гондолой подвешена жаровня для нагрева газа. Управляемый аэростат сигарообразной формы. Пилот вертит велосипедные педали, приводя в движение воздушный винт. Подводные лодки разных конструкций: с плавниками, заменяющими весла, с гребными винтами, работающими от педального привода, и — чудо техники! — электрическая. Но как лениво ходят неуклюжие шатуны и каким допотопным кажется машинное отделение! Воздушные и подводные аппараты, придуманные Жюлем Верном или существовавшие в проектах изобретателей, соседствуют с всамделишными машинами, вроде «первобытного» локомотива с громадной трубой-воронкой и смешными вагончиками, похожими на дилижансы. Тут имеются и нарочитые временные смещения: кое-что перетянуто из самого начала XIX века. В изображении фантастических машин легко уловить и оттенок шаржа. Но все, вместе взятое, дает представление об уровне технической мысли более чем столетней давности. Жюль Верн с юношеских лет мечтал о воздушном полете, но осуществилась его мечта только осенью 1873 года. Этот любопытный факт из жизни Жюля Верна, возможно, остался бы неизвестным, если бы один из французских почитателей его таланта, просматривая старые комплекты «Амьенской газеты», случайно не натолкнулся на объявление, оповещавшее о выходе из печати брошюры Жюля Верна «Двадцать четыре минуты на воздушном шаре». Заметка об этой находке была помещена в очередном выпуске бюллетеня «Жюльверновского общества». Брошюры Жюля Верна не оказалось ни в одном из наших книгохранилищ. После бесплодных поисков мне удалось в конце концов ознакомиться с ее текстом с помощью известного знатока творчества Жюля Верна, итальянского профессора Эдмондо Маркуччи, который на протяжении многих лет собирал коллекцию произведений Жюля Верна на разных языках. В обширной «Жюльверниане» итальянского ученого нашлось и это редчайшее издание. Текст забытого очерка Маркуччи прислал перепечатанным на машинке, в виде брошюры такого же миниатюрного формата, как она была издана редакцией «Амьенской газеты». Крохотная книжечка в двенадцать страниц снабжена титульным листом:«Двадцать четыре минуты на воздушном шаре. Письмо Жюля Верна редактору „Амьенской газеты“ от 29 сентября 1873 года».Читая этот очерк, невольно думаешь о том, как сильно отличается смелая фантазия Жюля Верна — романиста от реальных впечатлений, навеянных его полетом на воздушном шаре! Вот как описывает Жюль Верн свои впечатления.
Дорогой г-н Жене! Посылаю Вам мои заметки о подъеме на воздушном шаре «Метеор», которые Вы хотели от меня получить. Вам известно, при каких условиях должен был произойти подъем: воздушный шар — относительно небольшой, емкостью в 900 кубических метров, весом, вместе с гондолой и оснасткой, в 270 кг, наполнен газом, превосходным для освещения, но весьма посредственным для полета. Подняться должны были четыре человека: воздухоплаватель Эжен Годар, адвокат Деберли, лейтенант 14-го полка Мерсон и я. В последнюю минуту выясняется, что поднять столько людей невозможно. Г-н Мерсон, уже не раз совершавший полеты вместе с Эженом Годаром и Нанте, решил уступить место г-ну Деберли, который, как и я, впервые пускался в воздушное путешествие. Уже должна была прозвучать традиционная команда: «Отдать концы!», и мы готовы уже были оторваться от земли… как в гондолу неожиданно забрался сын Эжена Годара, бесстрашный девятилетний сорванец, ради которого пришлось пожертвовать двумя мешками балласта из четырех, имевшихся в запасе. В гондоле осталось два мешка! Никогда еще Эжену Годару не приходилось летать в таких условиях. Поэтому подъем не мог быть продолжительным. Мы отчалили в 5 часов 24 минуты, медленно поднимаясь вкось. Ветер относил нас к юго-востоку, небо было чистым. Только далеко на горизонте виднелось несколько грозовых туч. В 5 часов 28 минут мы уже парили на высоте 800 метров по показанию анероида. Вид города был поистине великолепен. Лонгевильская площадь напоминала муравейник с копошащимися на ней красными и черными муравьями — так выглядели люди в военном и штатском платье. Шпиль кафедрального собора, опускаясь все ниже и ниже, отмечал, наподобие стрелки, непрерывность нашего подъема. Однако мы не ощущали никакого движения, ни горизонтального, ни вертикального. Горизонт все время казался на одной и той же высоте. Мы купались в воздухе, а земля, уходя все ниже, распластывалась под гондолой, словно черная крыша. Мы наслаждались при этом абсолютной тишиной, полнейшим покоем, который нарушался только жалобным скрипом ивовых прутьев, державших нас в воздухе. В 5 часов 32 минуты солнце восходит из-за туч, обложивших горизонт на западе, и обогревает оболочку шара. Газ расширяется, и мы достигаем высоты 1200 метров, не выбросив ни одного мешка с балластом. Это максимальная высота, достигнутая нами в течение всего полета. Вот что открылось нашему взору. Внизу, под ногами, — Сент-Ашель с его чернеющими садами, которые уходят куда-то вдаль, словно рассматриваешь их сквозь большие стекла бинокля. Кафедральный собор кажется сплющенным, а шпиль его попадает на одну плоскость с домами, находящимися у городской черты. Сомма извивается тонкой светлой лентой, железнодорожные колеи похожи на волосные линии, нанесенные рейсфедером; улицы напоминают спутанные шнурки, сады можно уподобить витрине зеленщика, поля кажутся набором разноцветных образчиков материй, которые в былые времена вывешивали у своих дверей портные, и весь Амьен представляется нагромождением маленьких серых кубиков. Так и кажется, будто на ровное место высыпали коробку с нюрнбергскими игрушками. Дальше мы видим окрестные деревни — Сен-Фюсьен, Вилье-Бретонно, Ля Невиль, Бов, Камон, Лонго — все это напоминает лишь груды камней, разбросанных там и сям для какого-то гигантского сооружения. Несмотря на то что нижний отросток аэростата Эжен Годар держит всегда открытым, ничто не выдает присутствия газа. Отяжелевший «Метеор» вскоре начинает снижаться. Чтобы затормозить спуск, выбрасываем балласт. Кроме того, опорожняем мешок, набитый рекламными объявлениями. Тысячи листков, реющих по ветру, указывают на большую быстроту воздушных струй в нижних слоях атмосферы. Перед нами — Лонго, но деревню отделяет от нас множество болотистых впадин. — Неужели мы приземлимся на болоте? — спросил я Эжена Годара. — Нет, — ответил он, — если у нас даже не останется балласта, я выброшу рюкзак. Мы должны во что бы то ни стало миновать это болото. Мы опускаемся все ниже. В 5 часов 43 минуты, когда мы находимся уже в пятистах метрах от земли, нас настигает пронзительный ветер. Мы пролетаем над заводской трубой и заглядываем в жерло. Отражение воздушного шара, словно мираж, перебегает от одного болотца к другому; люди, походившие на муравьев, заметно подросли, они снуют по всем дорогам. Между железнодорожными линиями, близ разъезда, я замечаю удобный лужок. — Попадем? — спрашиваю я. — Нет. Мы перелетим через железную дорогу и поселок, что находится за ней, — отвечает Эжен Годар. Усиливается ветер. Мы замечаем это по колышущимся деревьям. Невиль уже позади. Теперь перед нами равнина. Эжен Годар сбрасывает гайдроп, канат длиною в 150 метров, а затем и якорь. В 5 часов 47 минут якорь цепляется за землю. Подбегают любопытные, хватают гайдроп, и мы приземляемся без малейшего толчка. Шар опускается, словно мощная большая птица, а не как дичь с подбитым крылом. Через двадцать минут из шара выпущен газ, его свертывают, кладут на повозку, а мы отправляемся в карете в Амьен. Вот, дорогой г-н Жене, мои короткие, но вполне точные впечатления. Позвольте мне еще добавить, что ни простая прогулка по воздуху, ни даже длительное воздушное путешествие нисколько не опасны, если совершаются под управлением такого смелого и опытного воздухоплавателя, как Эжен Годар, имеющего на своем счету более 1000 полетов в Старом и Новом Свете.
Очерк Жюля Верна заканчивается похвальным словом Эжену Годару, который, по словам писателя, «благодаря своему опыту, выдержке, глазомеру является настоящим властелином воздуха». Чем интересен этот забытый очерк? Помимо того, что он дает очень точное представление о примитивных условиях полета на воздушном шаре, мы ощущаем, какая огромная пропасть лежала между научной фантазией писателя и реальными возможностями воздухоплавания XIX века. В то время когда Жюль Верн совершил этот скромный полет над Амьеном, его мужественные герои успели уже покорить не только воздушную стихию и глубины мирового океана, но и проникнуть в бездны космоса!
Писатель дает интервью…
— «Пять недель на воздушном шаре» — одно из самых популярных ваших произведений, мосье Верн, вы сами это знаете. Но чем объяснить такой успех вашего первого романа? — Мне трудно ответить на этот вопрос. Успех моего первого романа да и других, которые были написаны позже, обычно объясняют тем, что я в доступной форме сообщаю много научных сведений, мало кому известных. Во всяком случае, я всегда старался даже самые фантастические из моих романов делать возможно более правдоподобными и верными природе. — Только ли это? Ведь во многих ваших романах содержатся удивительно точные предсказания научных открытий и изобретений — предсказания, которые постепенно сбываются… — Вы преувеличиваете. Это простые совпадения, и объясняются они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю свои выводы, опираясь на множество фактов. Что же касается точности описаний, то этим я обязан всевозможным выпискам из книг, газет, журналов, различных рефератов и отчетов, которые у меня заготовлены впрок и исподволь пополняются. Все эти заметки тщательно классифицируются и служат материалом для моих повестей и романов. Ни одна моя книга не написана без помощи этой картотеки. Я внимательно просматриваю двадцать с лишним газет, прилежно прочитываю все доступные мне научные сообщения, и поверьте, меня всегда охватывает чувство восторга, когда я узнаю о каком-нибудь новом открытии… Настойчивой журналистке Мэри Беллок захотелось во что бы то ни стало увидеть собственными глазами замечательную картотеку писателя. Жюль Верн очень неохотно допускал посторонних в свое «тайное тайных», но на этот раз сделал исключение. Он предложил гостье подняться по узкой винтовой лестнице, показал ей свой более чем скромный рабочий кабинет, расположенный в круглой башне, провел по коридору, увешанному географическими картами, и отворил дверь в библиотеку — просторную, светлую комнату, уставленную вдоль стен высокими книжными шкафами, с громадным столом посредине, заваленным газетами, журналами, бюллетенями научных обществ и всякими периодическими изданиями. В одном из шкафов вместо книг оказалось несколько десятков дубовых ящичков. В определенном порядке в них были разложены бесчисленные выписки и заметки, нанесенные на карточки одинакового формата, вырезки из газет и журналов. Карточки подбирались по темам и вкладывались в бумажные обертки. Получались несшитые тетрадки разной толщины, в зависимости от числа карточек в каждой из них. Всего, по словам Жюля Верна, у него накопилось около двадцати тысяч таких тетрадок, содержащих интересные сведения по всем отраслям знаний. Любопытная англичанка не пропустила случая ознакомиться и с библиотекой писателя, где в изобилии были представлены труды по географии, геологии, астрономии, физике, технологии, записки путешественников, мемуары ученых, всевозможные энциклопедии и справочники, не говоря уж о прекрасном подборе художественной литературы.«Его библиотека, — пишет Мэри Беллок, — служит исключительно для пользования, а не для любования. Тут вы встретите сильно подержанные издания сочинений Гомера, Вергилия, Монтеня, Шекспира, Мольера, Купера, Диккенса, Скотта. Вы найдете тут и современных авторов».— Вальтер Скотт, Диккенс и Фенимор Купер — мои любимые писатели, — сказал Жюль Верн. — Читая Купера, я никогда не испытываю чувства усталости. Некоторые из его романов достойны бессмертия, и я надеюсь, о них будут помнить и тогда, когда так называемые литературные гиганты более позднего времени канут в Лету… С юных лет меня восхищали романы капитана Марриэта. Я и теперь охотно его перечитываю. Нравятся мне также Майн Рид и Стивенсон. К сожалению, недостаточное знание английского языка мешает узнать их ближе. «Остров сокровищ» Стивенсона есть у меня в переводе. Эта книга поражает необыкновенной чистотой стиля и силой воображения. Но выше всех английских писателей я ставлю Чарлза Диккенса. («При этих словах, — заметила Мэри Беллок, — на лице Жюля Верна изобразился неподдельный юношеский энтузиазм».) Автор «Николаса Никльби», «Давида Копперфильда», «Сверчка на печи» покоряет меня своим пафосом, умением вводить интересные сцены, сильные описания… Почти десять лет спустя оценка Диккенса была дополнена в беседе с англичанином Ч. Даубарном: — Я несколько раз перечитывал Диккенса от корки до корки. Этому писателю я многим обязан. У него можно найти все: воображение, юмор, любовь, милосердие, жалость к бедным и угнетенным, — одним словом, все… Даубарн зафиксировал и такое признание Жюля Верна: — На меня произвел сильное впечатление ваш новый писатель Уэллс. У него совершенно особая манера, и книги его очень любопытны. Но по сравнению со мной он идет совсем противоположным путем… Если я стараюсь отталкиваться от правдоподобного и в принципе возможного, то Уэллс придумывает для осуществления подвигов своих героев самые невозможные способы. Например, если он хочет выбросить своего героя в мировое пространство, то придумывает металл, не имеющий веса… Уэллс больше, чем кто-либо другой, является представителем английского воображения. — А еще какие писатели показательны для английского воображения? — Прежде всего Лоренс Стерн. Мое юношеское увлечение литературой было воспламенено Стерном. Я упивался «Сентиментальным путешествием» и «Тристрамом Шенди», этими остроумнейшими книгами, которые оказали на меня известное влияние. И, конечно, Эдгар По! Я читал его превосходные новеллы в переводе Бодлера и много размышлял о его творчестве. Фантазия его неистощима, но он, как и Уэллс, менее всего заботится о соблюдении элементарных законов физики и механики. Ему, например, ничего не стоит отправить своего героя на Луну в воздушном шаре. Я же старался придумывать более действенные способы. — Что вы скажете о французской литературе и каких авторов предпочитаете? — В нескольких словах этого не скажешь. Я согласен с теми, кто считает литературу моей страны одной из самых великих в мире. Мне близок гений Мольера. Когда-то я был без ума от Бомарше. Меня восхищала мудрость Монтеня и жизнелюбие Рабле. Что же касается новейших писателей, то Дюма-отец был всегда особенно близок, и я счел своим долгом посвятить его памяти один из своих романов — «Матиаса Шандора». Люблю также романыи «Легенды веков» Виктора Гюго, хотя порою он бывает чересчур напыщенным… Почти каждый посетитель задавал писателю дежурный вопрос: — Мосье Верн, вы один из самых популярных и самых плодовитых романистов. Не сочтите нескромным мое любопытство, но хотелось бы знать, как вам удается на протяжении нескольких десятилетий сохранять такую завидную работоспособность? На этот вопрос Жюль Верн отвечал с плохо скрытым раздражением: — Не надо меня хвалить. Труд для меня — источник единственного и подлинного счастья… Это — моя жизненная функция. Как только я кончаю очередную книгу, я чувствую себя несчастным и не нахожу покоя до тех пор, пока не начну следующую. Праздность является для меня пыткой. — Да, я понимаю… И все же вы пишете с такой завидной легкостью, что невольно… — Это заблуждение! Мне ничего легко не дается. Почему-то многие думают, что мои произведения — чистая импровизация. Какой вздор! Я не могу приступить к работе, если не знаю начала, середины и конца своего будущего романа. До сих пор я был достаточно счастлив в том смысле, что для каждого произведения у меня в голове была не одна, а по меньшей мере полдюжины готовых схем. Большое значение я придаю развязке. Если читатель сможет угадать, чем все кончится, то такую книгу не стоило бы и писать. Чтобы роман понравился, нужно изобрести совершенно необычную и вместе с тем оптимистическую развязку. И когда в голове сложится костяк сюжета, когда из нескольких возможных вариантов будет избран наилучший, тогда только начнется следующий этап работы — за письменным столом. — Если это не секрет, расскажите, пожалуйста, мосье Верн, как вы пишете ваши романы. — Не понимаю, какой интерес это представляет для публики. Но все же я могу раскрыть секреты моей литературной кухни, хотя и не решился бы рекомендовать их никому другому. Ведь каждый писатель работает по своему собственному методу, выбирая его скорее инстинктивно, чем сознательно. Это, если хотите, вопрос техники. За много лет вырабатываются постоянные привычки, от которых невозможно отказаться. Начинаю я обыкновенно с того, что выбираю из своей картотеки все выписки, относящиеся к данной теме; сортирую их, изучаю и обрабатываю применительно к будущему роману. Затем я делаю предварительные наброски и составляю план по главам. Вслед за тем пишу карандашом черновик, оставляя широкие поля — полстраницы — для поправок и дополнений. Потом написанное карандашом я не спеша обвожу чернилами, и тут мне как раз и пригождается чистая половина листа. Но это еще не роман, а только каркас романа. В таком виде рукопись поступает в типографию. В первой корректуре я исправляю почти каждое предложение и нередко пишу заново целые главы… Окончательный же текст получается после пятой, седьмой или, случается, девятой корректуры. Происходит это потому, что яснее всего я вижу недостатки своего сочинения не в рукописи, а в печатных оттисках. К счастью, мой издатель хорошо это понимает и не ставит никаких ограничений… Но почему-то принято считать, что если писатель много пишет, значит, ему все легко дается. Увы, это не так! Совсем не так!.. — Но ведь при такой системе значительно замедляется скорость работы. — Я этого не нахожу. Благодаря моим регулярным привычкам и ежедневной работе за столом с пяти утра до полудня мне удается уже много лет подряд писать по две книги в год. Правда, такой распорядок жизни потребовал некоторых жертв. Чтобы ничто не отвлекало от дела, я переселился из шумного Парижа в спокойный, тихий Амьен. Вы спросите: почему я выбрал Амьен? Этот город мне особенно дорог тем, что здесь родилась моя жена и здесь мы с ней когда-то познакомились. Мало-помалу в Амьене сосредоточились все мои интересы. Некоторые из моих друзей скажут вам, что званием муниципального советника я горжусь нисколько не меньше, чем литературной известностью, и я счастлив от того, что могу приносить моему городу посильную пользу…
История с географией
Наибольший прижизненный успех выпал на долю Жюля Верна в 70-х годах. С 6 ноября по 22 декабря 1872 года в фельетонах газеты «Ле Тан» печатался один из лучших его романов — «Вокруг света в восемьдесят дней». Эксцентричный англичанин Филеас Фогг, взявшийся на пари совершить кругосветное путешествие за восемьдесят дней (в го время такой маршрут отнимал не менее полугода), не может потерять ни одного часа. Он использует все виды транспорта, вплоть до буера (сани под парусом). Интерес читателя увеличивается по мере того, как у путешественника иссякает запас времени. Темп действия нарастает с каждой главой. Для географических описаний и рассуждений на научные темы у автора почти не остается ни места, ни времени. …Сенсационное путешествие приближается к концу. Преодолены все препятствия. Филеас Фогг надеется выиграть пари. Когда он уже близок к цели, сыщик Фикс сажает его за решетку. Пока удалось выяснить, что Фогг, принятый за вора, арестован по ошибке, истек последний — восьмидесятый — день путешествия. Но затем ложная развязка сменяется настоящей: обескураженный Филеас Фогг внезапно узнает, что он все-таки выиграл пари благодаря «найденному» в дороге лишнему дню. Он упустил из виду, что кругосветный путешественник при пересечении стовосьмидесятого меридиана теряет или выигрывает один день, в зависимости от направления, в котором движется (на запад или на восток). В беседе с одним журналистом Жюль Верн так объяснил свою идею:«Я обратил внимание на тот факт, что в настоящее время вполне возможно объехать вокруг света за восемьдесят дней, и мне тотчас же пришло в голову, что, воспользовавшись разницей меридианов, путешественник может либо выиграть, либо потерять один день в зависимости от того, поедет ли он против солнца или навстречу солнцу… Может быть, вы припомните, что мой герой Филеас Фогг благодаря этому обстоятельству прибыл домой, выиграв пари, вместо того чтобы потерять один день, как это ему показалось».Научная сторона замысла раскрывается только на последних страницах, когда Филеасу Фоггу становится известно, что ему удалось «обогнать время». Как только появился роман, Парижское географическое общество стало получать от разных лиц запросы: почему именно на стовосьмидесятом меридиане путешественники должны прибавлять или убавлять один день? Почему условная линия разграничений и перемены чисел не исключает недоразумений? Какие трудности возникают от несогласованности в международном счете времени? И тому подобное. Жюль Верн был не только романистом, но и автором известных трудов по истории географических открытий. По рекомендации профессора Вивьена де Сен-Мартена его избрали членом Парижского географического общества. Естественно, что письма читателей были переправлены в Амьен и президент Географического общества попросил писателя сделать сообщение по затронутым вопросам. Об этом вскользь упоминают биографы Жюля Верна. Значит, подумал я, в трудах Парижского географического общества могут оказаться какие-нибудь неизвестные сведения о Жюле Верне. И действительно, просмотр бюллетеней подтвердил догадку: нашлись не только подробные отзывы на географические труды писателя, но и текст его сообщения, не зарегистрированного ни в одном списке сочинений Жюля Верна. 4 апреля 1873 года он выступил на открытом заседании Парижского географического общества с докладом «Меридианы и Календарь». — Дело идет, — сказал писатель, — о довольно странном положении, которым воспользовался Эдгар По в новелле под заглавием «Три воскресенья на одной неделе»: дело идет о положении, в котором оказываются люди, совершающие кругосветное путешествие, отправляясь на восток или на запад. В первом случае, вернувшись к пункту отправления, они выигрывают день, во втором случае — теряют.
«Действительно, — писал он, — продвигаясь на восток, Филеас Фогг шел навстречу солнцу, и, следовательно, дни для него столько раз уменьшались на четыре минуты, сколько градусов он преодолевал в этом направлении. Так как окружность земного шара делится на триста шестьдесят градусов, то эти градусы, помноженные на четыре минуты, дают ровно двадцать четыре часа, то есть сутки, которые и выиграл Филеас Фогг. Иначе говоря, в то время как он, продвигаясь на восток, видел восемьдесят раз прохождение солнца через меридиан, его коллеги, оставшиеся в Лондоне, видели только семьдесят девять таких прохождений».Таким образом, вопрос поставлен, и мне достаточно будет резюмировать его в нескольких словах. Каждый раз, когда совершают кругосветное путешествие, направляясь к востоку, выигрывают один день. Каждый раз, когда совершают кругосветное путешествие, направляясь к западу, теряют один день, то есть двадцать четыре часа, которые солнце в своем видимом движении употребляет на то, чтобы обогнуть Земной шар, и это случается неизбежно, сколько бы времени ни было затрачено на переезд. Результат этот до такой степени действен, что морская администрация выдает добавочный дневной рацион судам, которые, отправляясь из Европы, огибают мыс Доброй Надежды, и, напротив, удерживает дневной рацион у тех, которые огибают мыс Горн. Отсюда можно сделать нелепое заключение, будто моряков, отправляющихся к востоку, кормят лучше, нежели тех, которые отправляются к западу. И действительно, когда все они, прожив одинаковое количество минут, возвратятся к пункту отправления, то окажется, что одни позавтракали, пообедали и поужинали лишний раз сравнительно с другими. На это дадут ответ, что они проработали лишний день. Бесспорно, но ведь они и прожили больше! Итак, очевидно, что на каком-нибудь пункте земного шара должна совершаться перемена даты вследствие потери или выигрыша одного дня, в зависимости от взятого направления. Благодаря тому, что один день выигрывается к востоку и теряется к западу, возникло недоразумение, длившееся очень долго. Первые мореплаватели навязали, конечно бессознательно, свой календарь новым странам. Вообще же дни исчислялись в зависимости от того, открывали ли земли с востока или с запада. Так, в течение многих столетий в Кантоне считали исходной датой прибытие Марко Поло, а на Филиппинских островах — прибытие Магеллана. Следует добавить, что на практике давно уже принят уравнительный меридиан, а именно — стовосьмидесятый, считая от нулевого меридиана, по которому ставятся судовые хронометры, то есть Гринвичского — для Великобритании, Парижского — для Франции, Вашингтонского — для Соединенных Штатов… Вот почему капитан корабля имеет обыкновение менять дату в судовом журнале при пересечении стовосьмидесятого меридиана, прибавляя или уменьшая один день, смотря по направлению, в котором он движется; но капитан, возвращающийся назад после пересечения этого меридиана, не меняет даты и потому от времени до времени могут и должны быть встречи капитанов, считающих разные числа.
Далее, отвлекаясь от практических возможностей своего времени, Жюль Верн высказывает фантастическое предположение, которое в наши дни стало уже очевидным фактом. Речь идет о такой скорости движения, когда солнце на маршруте будет сохранять для путешественника неизменное положение на небосклоне, и на всех остановках местные часы будут показывать одинаковое время. Нечто подобное наблюдают пилоты и пассажиры реактивных самолетов, покрывающих большие трассы. Научная полемика, вызванная романом «Вокруг света в восемьдесят дней», еще больше оживилась после выступления Жюля Верна в Географическом обществе. Во французских газетах печатались статьи по поводу объяснений, представленных писателем, и сообщалось, какие меры собирается принять Бюро долгот, для того чтобы окончательно урегулировать международный счет времени и добиться согласованности с другими странами в этом вопросе. И действительно, для устранения разнобоя в счете времени в 1884 году была созвана международная конференция. Было решено ввести так называемое поясное время. Поверхность земного шара условно разделили на 24 меридианальных пояса. В пределах каждого пояса с тех пор ведется одинаковый счет времени с расхождением в один час по сравнению с предыдущим или последующим поясом (к востоку — больше на час, к западу — меньше на час). Средним меридианом нулевого пояса решили принять Гринвичский меридиан — начальный и для отсчета долгот. Что касается определения Жюлем Верном возможности кругосветного путешествия в восемьдесят дней, то его расчет оказался настолько точным, что вскоре на имя писателя стали прибывать телеграммы от путешественников: рекорд, установленный Филеасом Фоггом на страницах романа, удалось не только достигнуть, но и перекрыть. В 1889 году молодая американка Нелли Блай проделала кругосветное путешествие за семьдесят два дня. Жюль Верн приветствовал ее телеграммой: «Я не сомневался в успехе мисс Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь!» Не довольствуясь этим рекордом, в 1891 году она еще два раза объехала вокруг света — за шестьдесят семь и шестьдесят шесть дней, после чего итальянец Улис Грифони написал роман «Вокруг света в тридцать дней», в котором Филеас Фогг умирает от огорчения, узнав, что некий американец больше чем в два раза превысил его рекорд. В 1901 году, когда была введена в эксплуатацию большая часть Великой Сибирской магистрали, парижский журналист Гастон Стиглер совершил кругосветное путешествие в шестьдесят три дня. На обратном пути он встретился на амьенском вокзале с Жюлем Верном. Писатель обратился к нему с шутливым вопросом: — Почему я не вижу с вами миссис Ауды? Разве вы не захватили ее с собой? — Действительность ниже воображения, — ответил путешественник. В романе «Вокруг света в восемьдесят дней», казалось бы наименее «научном» среди книг Жюля Верна, автор поэтизирует достижения науки и техники, благодаря которым люди «уменьшили» земной шар. Приведенные факты показывают, что для современников этот роман имел не только художественно-познавательное, но и в известном смысле практическое значение.
Идеальный город
Свыше пятнадцати лет Жюль Верн безупречно выполнял обязанности муниципального советника и, насколько это было в его силах, старался улучшить положение амьенской бедноты. Он пытался с помощью муниципалитета добиться снижения квартирной платы и налогового обложения неимущих граждан, но изменить законы буржуазного государства писатель, конечно, не мог. Тем не менее его бескорыстная общественная деятельность приносила определенную пользу. И не случайно именно в эти годы он обращал свою творческую фантазию на «создание» благоустроенных городов будущего с тщательно продуманной планировкой и прекрасной архитектурой. Жюль Верн был действительным членом Амьенской академии, старейшего научного учреждения Пикардии, основанного в XVIII веке. В 1874, 1875 и 1881 годах он избирался ее директором и неизменно, два раза в неделю, присутствовал на заседаниях. В «Записках Амьенской академии» он напечатал фантастический очерк «Идеальный город» и два рассказа — «Десять часов на охоте» и «В XXIX веке. Один день из жизни американского журналиста в 2889 году». Рассказы потом перепечатывались и переводились на разные языки, а очерк «Идеальный город», опубликованный только однажды в провинциальном издании, оказался в числе забытых произведений Жюля Верна. Мне очень хотелось прочесть этот очерк, но ни в одной библиотеке не удалось найти «Записок Амьенской академии». Пришлось еще раз обратиться за помощью к профессору Эдмондо Маркуччи. Он попросил своего знакомого, живущего в Амьене, снять фотокопию, и уже через месяц «Идеальный город» Жюля Верна лежал у меня на столе. Бандероль прибыла из Италии почти одновременно с печальным известием о смерти Эдмондо Маркуччи — в августе 1963 года.[100] «Идеальный город» — причудливая шутка в форме фантастического сновидения. Сравнивая Амьен своего времени с воображаемым городом 2000 года, писатель высмеивает разные недостатки и выражает пожелания на будущее. Многие подробности и шутливые намеки интересны были только амьенцам, и потому, наверное, автор не счел нужным перепечатывать свою юмористическую фантазию. «Дамы и господа! Разрешите мне пренебречь обязанностями директора Амьенской академии и заменить традиционную речь рассказом о приключении, случившемся со мной лично», — сказал писатель, открывая заседание Амьенской академии 12 декабря 1875 года. И дальше следует изложение фантастического сна. Вернувшись к себе домой на бульвар Лонгевиль из лицея, где он присутствовал при распределении наград учащимся, Жюль Верн прилег отдохнуть и крепко заснул.«У меня стародавняя привычка вставать ни свет ни заря. По какой-то непонятной причине я проснулся очень поздно… Солнце стояло в зените, была чудесная погода. Я открыл окна. Бульвар был заполнен гуляющими, как в воскресный день, хотя я отлично помнил, что сегодня среда. Я быстро оделся, позавтракал и вышел на улицу, не подозревая, что меня ожидают самые невероятные сюрпризы».Дойдя до улицы Лемершье, он с удивлением увидел, что она сплошь застроена прекрасными зданиями и простирается так далеко, что не охватить взглядом. За одну ночь выросли новые кварталы, обрамленные садами и бульварами. Железно-дорожный мост оказался на прежнем месте, но вели к нему не козьи тропки, а широкое шоссе, вымощенное плитками из порфира.
«Какие изменения! Неужели этот уголок Амьена не заслуживает больше названия „маленькой Лютеции“?[101] Неужели теперь можно будет здесь пройти в дождливый день, не увязнув по щиколотку в грязи? Неужели не нужно будет шлепать по размокшей глине, ненавистной местным жителям?»Всматриваясь в лица прохожих, он не нашел ни одного знакомого. Роскошные кафе, построенные в ультрасовременном стиле, были заполнены нарядной публикой. Из городского сада доносилась какая-то странная музыка.
«И в этой области все изменилось. Никакого музыкального ритма, никакого темпа! Ни мелодии, ни гармонии!.. Звуковая алгебра! Триумф диссонансов! Звуки, подобные тем, какие производят оркестранты до того, как прозвучат три удара дирижерской палочки!»Но слушатели аплодировали с таким энтузиазмом, словно приветствовали ловких гимнастов. — Не иначе, как это музыка будущего! — невольно воскликнул я. — Неужели я нахожусь за пределами настоящего? Об этом нельзя было не подумать, так как, подойдя к афише, на которой были перечислены программные вещи, я прочел поистине потрясающее заглавие:
«№ 1. Размышление в миноре о квадрате гипотенузы»…Тут требуется пояснение. Жюль Верн был хорошим пианистом и страстным любителем музыки. Уже в его время некоторые композиторы, объявлявшие себя новаторами, изгоняли из музыки ее первооснову — ритм и мелодию. Писатель попытался представить себе, во что же это может вылиться, если так пойдет дальше, и в этом отношении оказался провидцем. Как известно, в современной западной музыке нередко создаются именно такие «беспредметные» «алгебраические» произведения, о которых с иронией пишет Жюль Верн, словно ему удалось заглянуть лет на девяносто вперед! Писатель убедился, что изменилась и техника исполнения. Перед входом в концертный зал он увидел огромные рекламные щиты:
ПИАНОВСКИЙ Пианист императора Сандвичевых островов
«Я не имел ни малейшего понятия ни о самом императоре, ни о его придворном пианисте. — А когда сюда прибыл этот Пиановский? — спросил я у какого-то меломана с большими оттопыренными ушами. — А он сюда и не приезжал, — ответил амьенский старожил, глядя на меня с удивлением. — Когда же он приедет? — Да он и не приедет… У моего собеседника был такой вид, будто он хотел спросить: „А сами-то вы как сюда попали?“ — Но если он не приедет, то как же может состояться его концерт? — спросил я. — Концерт уже начался. — Здесь? — Да, здесь, в Амьене, и одновременно в Лондоне, Вене, Риме, Петербурге и Пекине! „Ну и ну! — подумал я. — Должно быть, все эти люди не в своем уме. А может быть, это вырвавшиеся на свободу обитатели Клермонского сумасшедшего дома?“ — Сударь, как это понять? — продолжал я. — Прочтите внимательно афишу, и вы увидите, что этот концерт — электрический. Я взглянул на афишу. Действительно, в этот час знаменитый Пиановский играл в Париже в зале Герца, но электрическими проводами его инструмент соединялся с роялями Лондона, Вены, Петербурга и Рима. И, таким образом, когда он ударял по клавишам, соответствующие ноты звучали и на этих отдаленных инструментах, на которых клавиши приводились в действие электрическим током!»Сейчас эти строки могут вызвать улыбку. Но не забудьте, они были написаны в 1875 году, за два десятилетия до изобретения радио А. С. Поповым. Великий фантаст не додумался до возможности беспроволочной связи. Она фигурирует только в одном из его поздних романов, написанных уже в те годы, когда «беспроволочный телеграф» стал применяться на практике. Дальше идет подробное описание преобразившихся улиц и площадей Амьена, застроенных красивыми домами, выросшими точно по волшебству на месте унылых пустырей и грязных тупиков с отвратительными лачугами. Пока писатель раздумывал, стараясь понять, что же произошло, его остановил какой-то незнакомец и заботливо осведомился о здоровье. То был врач, лечивший своих пациентов по новому методу. И тут автор вводит комический диалог с ядовитыми намеками по адресу современных ему медиков.
«— Наши пациенты, — сказал врач, — платят нам только тогда, когда они здоровы, а если заболевают, мы не получаем ни одного су. И потому мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы пациенты болели… Покажите-ка ваш язык! Я послушно показал ему язык, но, признаюсь, вид у меня при этом был довольно жалкий. — Так, так! — пробормотал незнакомец, осмотрев язык через лупу. — Обложен! А ваш пульс? Я безропотно протянул ему руку. Врач вынул из кармана какой-то инструмент и, приложив к моему запястью, получил диаграмму пульсаций, которую тут же и прочел, как телеграфист читает депешу. — Черт побери! Черт побери! — пробормотал он, затем так поспешно сунул мне в рот термометр, что я не успел даже опомниться. — Сорок градусов! — воскликнул он и побелел, как бумага. Его гонорары вылетали в трубу. — Но что со мной, доктор? — спросил я, ошарашенный таким неожиданным способом измерения температуры. — Гм! Гм!.. Да, я понял, что он хотел сказать, хотя ответ был не очень вразумительный…»Разговор продолжается в том же духе. Диалог выдержан в стиле мольеровской комедии. Пациенту кажется, что он сошел с ума, а врач уверяет, что это только выпадение памяти, что болезнь его скоро пройдет и он не теряет надежды ежемесячно получать свой гонорар… В сопровождении доктора, охотно взявшего на себя роль гида, Жюль Верн совершает прогулку по Амьену. Писатель замечает на каждом шагу признаки небывалого прогресса. В лицее одновременно обучается четыре тысячи человек. Вместо зубрежки латыни и древнегреческого ученики получают глубокие научные и технические знания. На правом берегу Соммы раскинулись новые промышленные районы столицы Пикардии, прорезанные широкими магистралями. Вместо дилижансов и омнибусов, запряженных лошадьми, по городу мчались трамвайные вагоны. О трамвае в те годы можно было только мечтать — это был городской транспорт будущего! В парке Отуа, излюбленном месте прогулок пикардийской молодежи, была открыта индустриальная и сельскохозяйственная выставка. Здесь автор увидел всевозможные электрические механизмы, полностью вытеснившие ручной труд из всех отраслей промышленности и земледелия. Центробежные насосы выпивали целые реки, подъемники с пневматическими рессорами передвигали тяжести в три миллиона килограммов, «жнейки выбривали поле, как брадобрей — заросшую щеку». В одну из машин закладывали шерсть и тут же получали готовые костюмы. Все эти чудеса привели писателя в такой восторг, что он невольно протянул руку и… опрокинул ночной столик. Грохот разбудил его, и он вернулся к действительности.
«Дамы и господа, — сказал Жюль Верн, заключая свою шутливую речь, — этим сном я хотел показать вам, каким представляется мне в мечтах Амьен в двухтысячном году».Так возникла в творчестве Жюля Верна тема идеального города, получившая дальнейшее развитие, но уже на серьезной основе, в его известных романах «Пятьсот миллионов бегумы» и «Плавучий остров».
Поезда будущего
А вот еще один фантастический сон… Собирая материалы для книги о Жюле Верне, я решил выявить все, что было напечатано под его именем на русском языке. Среди бездны книг нашлось, между прочим, и несколько таких, которые были приписаны предприимчивыми книгоиздателями великому фантасту, но в действительности принадлежали другим, менее популярным или вовсе не известным авторам. Удалось найти и забытый рассказ Жюля Верна, который публиковался на русском языке в 1890–1893 годах под разными заглавиями и в разных переводах. В журнале «Всемирная иллюстрация» (1890, т. 2, № 9) он был озаглавлен «Курьерский поезд будущего», в журнале «Вокруг света» (1890, № 31) — «Через океан», в журнале «Природа и люди» (1893, № 1) — «На дне океана», в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Самарские ведомости» — «Будущее поезда». Сначала я подумал, что это четыре разных рассказа, но потом убедился, что внимание переводчиков привлек один и тот же небольшой рассказ знаменитого писателя, промелькнувший, по-видимому, в какой-нибудь парижской газете. Привожу его без всяких сокращений.…Благополучно спустившись по лестнице, мы вошли в огромный зал, освещенный ослепительными электрическими рефлекторами. Глубокая тишина, царившая здесь, нарушалась лишь шумом наших шагов. «Где я? Зачем попал сюда? Кто этот таинственный проводник?..» — задавал я себе вопросы. Ответов не было. Продолжительная ночная прогулка, железные ворота, которые с шумом захлопнулись за нами, лестница, нисходившая, как мне казалось, в недра земли, — вот и все, что я мог припомнить. Впрочем, у меня и времени не было на размышления. — Вам, наверное, интересно узнать, кто я такой? — начал мой проводник. — Ваш покорный слуга полковник Пирс… Где вы находитесь? В Америке, в Бостоне, на станции Boston to Liverpool pneumatic Tubis Company.[102] — На станции? — Да, на станции. И, чтобы объяснить мне, в чем дело, полковник указал мне на два длинных железных цилиндра, около полутора метров в диаметре, лежавших на земле в нескольких шагах от нас. Я взглянул на эти цилиндры, направо проникавшие в стену, а налево оканчивающиеся гигантскими металлическими щитами, от которых поднимался вверх и исчезал в потолке целый лес трубок, и сразу понял все. Незадолго до того я читал в одной американской газете статью, где описывался необыкновенный проект соединения Европы с Новым Светом при помощи гигантских подводных труб. Автором этого проекта и был полковник Пирс, который в эту минуту стоял предо мною. Я начал припоминать содержание статьи. В ней сообщалось много подробностей относительно этого грандиозного предприятия. Для его осуществления одного железа требовалось около одного миллиона шестисот тысяч кубических метров, то есть тринадцать миллионов тонн. Для перевозки всей этой массы нужно было двести пароходов по две тысячи тонн вместимостью, причем каждому из них предстояло сделать тридцать три рейса. Суда этой армады должны были подвозить свой груз к двум главным пароходам, к которым прикреплялись концы труб. Последние должны были состоять из отдельных кусков, каждый длиною в три метра, ввинченных друг в друга, скрепленных тройным железным панцирем и покрытых сверху гуттаперчевым чехлом. По этим трубам проектировалось с необыкновенной быстротой пускать вереницу вагонов, движимых сильным давлением воздуха, подобно тому как в Париже пересылаются депеши с помощью пневматической почты… Статья заканчивалась сравнением нового способа передвижения с железными дорогами. Автор высчитывал прибыли грандиозного сооружения и восхвалял преимущества новой системы перед старой: отсутствие действующей на наши нервы тряски благодаря шлифовке внутренности стальной трубы, одинаковая температура в туннеле, регулируемая воздушной тягой, и баснословная дешевизна переезда. По его словам, благодаря быстроте передвижения и шлифовке внутренней поверхности трубы трение будет самое незначительное, что обеспечит прочность и вечное существование проектируемой пневматической дороги… Содержание статьи вспомнилось мне во всех подробностях. Значит, мечты воплотились в жизнь и эти два цилиндра, начинающиеся у моих ног, идут через Атлантический океан до самых берегов Англии! Несмотря на очевидную действительность, я все еще не мог поверить в это чудо. Что трубы проложены — это казалось возможным, но чтобы люди могли путешествовать в них, — нет, с этим я никогда не соглашусь!.. — Да и возможно ли создать воздушную тягу, достаточную для такого огромного расстояния? — усомнился я. — Конечно, и даже очень легко, — сказал полковник. — Необходимое количество воздуха нагнетают громадные мехи, имеющие форму высоких печей. Воздух выбрасывается из них со страшной силой, и, гонимые этим вихрем, наши вагоны несутся со скоростью тысяча восемьсот километров в час, то есть со скоростью пушечного ядра. Поезд с пассажирами проходит расстояние в четыре тысячи километров, отделяющее Бостон от Ливерпуля, за каких-нибудь два часа сорок минут. — Тысяча восемьсот километров в час?! — воскликнул я. — Да, и ничуть не меньше. И что за удивительные последствия такой быстроты! Часы в Ливерпуле показывают на четыре часа сорок минут больше, нежели у нас в Бостоне, и путешественник, выехавший из Бостона в девять часов утра, прибывает в Англию в тот же день в три часа пятьдесят четыре минуты пополудни. Вот уж действительно можно сказать — быстро провести время!.. В обратном направлении поезда наши опережают солнце на девяносто и более километров в час, так что, покинув Ливерпуль в полдень, пассажир достигает Америки… в девять часов тридцать четыре минуты утра, то есть раньше, чем он выехал из Ливерпуля! Не правда ли, это в высшей степени забавно? Мне кажется, что передвигаться быстрее просто невозможно… Я не знал, что и думать обо всем этом. Уж не с сумасшедшим ли я имею дело? Мог ли я поверить в эти чудеса, когда в моей голове беспрерывно возникали новые возражения? — Ну ладно, пусть будет так, — сказал я наконец. — Допускаю, что путешественники изберут эту бешеную дорогу и что вам удастся достигнуть такой неслыханной быстроты. Но каким же образом вы остановите ваш поезд? Ведь при торможении все разлетится в прах!.. — Ничего подобного, — ответил полковник, пожимая плечами. — Между обеими трубами, из которых одна служит для езды в одну сторону, а другая — в противоположную, и в которых вследствие этого воздушная тяга идет в обратном направлении, существует сообщение при выходе на каждый берег. Когда поезд приближается к берегу, то электрическая искра предостерегает нас об этом и летит в Англию, чтобы там уменьшили тягу, благодаря которой поезд мчится вперед. Теперь он уже движется дальше по инерции, пока встречный ток воздуха из лежащей рядом трубы окончательно его не остановит. Впрочем, к чему все эти объяснения? Не лучше ли вам убедиться на собственном опыте?.. И, не дождавшись моего ответа, полковник Пирс нажал на медный рычажок, блестевший на одной из труб. В ту же минуту стенка отодвинулась, и через образовавшееся отверстие я увидел ряд двухместных скамеек. — Это вагон, — сказал полковник. — Входите поскорее! Я вошел. Стенка тотчас же закрылась. При свете лампы Эдисона, повешенной вверху, я с любопытством озирался вокруг. Ничего необыкновенного! Длинный цилиндр, хорошо отделанный внутри, с пятьюдесятью креслами, расставленными попарно в двадцать пять разных рядов, клапаны на обоих концах вагона, служащие для регулирования воздуха, сзади — для пропуска свежего, спереди — для выпуска отработанного, вот и все. После нескольких минут осмотра я уже начал терять терпение. — Почему же мы не едем? — Как — не едем? Мы уже в дороге! — воскликнул полковник. — В дороге? Не двигаясь?.. Да разве это возможно?.. Я с напряжением прислушивался, не слышно ли какого-нибудь шума, который указывал бы на движение вагонов. Если мы в самом деле тронулись со станции и если полковник не шутил, говоря о скорости в тысячу восемьсот километров, то мы должны теперь находиться далеко от земли, под волнами океана. Над нашими головами беспокойно мечутся волны, и, может быть, в эту самую минуту киты, принимая нашу длинную железную тюрьму за гигантскую змею, ударяют о нее своими могучими хвостами!.. Я ничего не слышал, кроме тихого, приглушенного рокота, и, погруженный в безграничное удивление, не веря в действительность того, что происходило, сидел и молчал. А время между тем летело. Прошло около часу. Вдруг ощущение холода на лбу пробудило меня из оцепенения, в которое я мало-помалу погрузился. Я поднес руку к лицу: оно было мокро… Мокро! Почему? Уж не лопнул ли наш туннель под давлением воды, давлением ужасающим, увеличивающимся на одну атмосферу через каждые десять метров глубины? Уж не поглощает ли нас океан?.. Я был парализован ужасом. В отчаянии я хотел позвать на помощь, кричать… и… увидел себя в собственном тихом саду под сильным дождем, крупные капли которого и прервали мой сон. Просто-напросто я уснул, читая статью, посвященную фантастическому проекту полковника Пирса, и во сне увидел этот проект осуществленным…
Как называется этот рассказ в оригинале? Где и когда он был опубликован? К сожалению, ответить на эти вопросы затруднительно, так как заняться сплошным просмотром французских газет, а может быть, и журналов с конца 1889 и до начала 1890 года (предположительное время публикации) — дело очень сложное и хлопотливое. «Так посмотрите тогда французскую библиографию!» — возразят на это читатели. В том-то и дело, что французские библиографы и биографы Жюля Верна умудрились каким-то образом «потерять» этот рассказ. Ни в одном французском списке произведений Жюля Верна он не значится. А нет ли тут ошибки? Может быть, этот рассказ вовсе и не принадлежит Жюлю Верну? Может быть, он ему только приписан? Нет, ошибки тут быть не может. Этот рассказ наверняка принадлежит Жюлю Верну. Достаточно привести следующие соображения. Несколько разных переводов, появившихся почти одновременно, позволяют утверждать, что оригинал был опубликован на французском языке под именем Жюля Верна, и, следовательно, тут нет никакой подделки.[103] Кроме того, идея пневматического поезда, курсирующего между Европой и Америкой в подводном туннеле, незадолго до появления этого рассказа была высказана Жюлем Верном в известном фантастическом очерке «В XXIX веке. Один день американского журналиста в 2889 году» (1889). Жена миллиардера Беннета, отправившаяся в Париж «за шляпками», возвращается обратно в Америку по пневматической подводной трубе. «Эти подводные туннели, — поясняет рассказчик, — по которым можно прибыть из Европы за двести девяносто пять минут, и в самом деле гораздо удобнее аэропоездов, летящих со скоростью какой-нибудь тысячи километров в час». Таким образом, одна из сюжетных линий фантастического очерка «В XXIX веке» уже через несколько месяцев была обособлена и превращена в самостоятельный рассказ. Есть и еще, правда косвенные, доказательства авторства Жюля Верна. В свое время был популярен один из его молодых учеников и подражателей — Андре Лори, написавший около двух десятков фантастических и приключенческих романов, и лучший из них, «Найденыш с погибшей „Цинтии“», — в сотрудничестве с Жюлем Верном. Андре Лори — это псевдоним Паскаля Груссе (1845–1909), известного публициста и политического деятеля, активного участника Парижской коммуны, отбывавшего ссылку в Новой Каледонии. Известно, что Жюль Верн помогал ему разрабатывать фантастические сюжеты. Из научно-фантастических романов Андре Лори самый удачный — «От Нью-Йорка до Бреста за семь часов» (1883), где описывается создание трансатлантического подводного трубопровода для транспортировки пенсильванской нефти. Находчивый изобретатель Раймунд Фрезоль, когда возникла настоятельная необходимость как можно быстрее переправиться в Европу, приспосабливает металлический цилиндр и за несколько часов проносится в нем по трубе с потоком нефти, которую перекачивают двигатели, получающие энергию от Ниагарского водопада. Сама идея трансатлантического трубопровода и убедительное техническое обоснование «проекта» были подсказаны, по всей вероятности, Жюлем Верном, поскольку он сам, как мы знаем, обращался в этот период к подобным же темам. С тех пор идея пневматического поезда в подводном туннеле не раз фигурировала в фантастических произведениях. Из советских авторов сходный замысел воплотил в своем романе «Арктический мост» А. Казанцев. Рассказ Жюля Верна, который вы только что прочли, представляет тем больший интерес, что эта техническая задача высказана им едва ли не впервые в научно-фантастической Литературе. Поскольку под руками не было оригинального текста (я уверен, он еще когда-нибудь найдется!), пришлось обратиться к старым русским переводам, взяв за основу помещенный в журнале «Природа и люди» под заглавием «На дне океана». Мы дали его здесь с небольшими стилистическими исправлениями и уточнениями к тексту, взятыми из других переводов этого же рассказа.
Писатель дает интервью…
— Ваши герои всегда путешествуют. Ну, а сами вы, мосье Верн, разве вы не любите путешествовать? — Очень люблю, вернее — любил. В свое время я проводил значительную часть года на своей яхте «Сен-Мишель». Я дважды обогнул на ней Средиземное море, посетил Италию, Англию, Шотландию, Ирландию, Данию, Голландию, Скандинавию, заходил в африканские воды… Эти поездки очень пригодились мне впоследствии при сочинении романов. Я побывал даже в Северной Америке. Это случилось в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году. Одна французская компания приобрела океанский пароход «Грейтистерн», чтобы перевозить американцев на Парижскую выставку… Мы с братом посетили Нью-Йорк и несколько других городов, видели Ниагару зимой, во льду… На меня произвело неизгладимое впечатление торжественное спокойствие гигантского водопада. Поездка в Америку дала мне материал для романа «Плавающий город». Моя жизнь протекала мирно, в работе, и я не могу пожаловаться на судьбу. Только однажды со мной случилась печальная история, которая заставила меня стать домоседом и отказаться от путешествий. С нами жил племянник, сын моего брата, образованный милый молодой человек… И вот, в восемьдесят шестом году мне пришлось пережить нечто ужасное… Племянник внезапно помешался и решил меня убить, хотя между нами не было никаких размолвок. Он дважды выстрелил в меня из револьвера. Первая пуля слегка только задела плечо, а вторая застряла в бедре. Профессор Вернейль сделал операцию, но я так и не знаю, удалось ли ему извлечь пулю. Иногда я чувствую в ноге сильную боль и с тех пор хромаю. Несчастного племянника отправили в приют для умалишенных, а яхту пришлось продать… Море всегда меня привлекало, и для меня нет ничего заманчивей жизни моряка. Самому мне стать моряком не довелось, но во многих моих романах действие происходит на морях… — Как вы относитесь к спорту? — Разумеется, положительно. — А какой вид спорта предпочитаете? — Из того, что я говорил, легко догадаться: парусный. Когда-то я был искусным яхтсменом. — А есть ли вид спорта, который вы не одобряете? — Автомобильные гонки. Это безумный спорт, и я очень сожалею, что он получил такое распространение. Каждый владелец автомобиля рискует головой. Автомобили загрязняют воздух. В этом новом увлечении я вижу признак деградации современного цивилизованного общества. Ничего, кроме модного декадентства и умственного оскудения, в этом виде спорта я не усматриваю… Пешеходы теперь подвергаются опасности даже на амьенских улицах. Когда я выхожу из дому, любезные прохожие то и дело предупреждают меня: «Внимание, мосье Верн, автомобиль идет!» Впрочем, — добавил он, улыбнувшись, — я не отстаю от века. В нынешнем году печатается мой новый роман. Его содержание — автомобилизм… в настоящем и будущем…[104] — Хотелось бы знать, мосье Верн, какой из ваших романов вам кажется наилучшим или, иначе говоря, какое из своих произведений вы сами предпочитаете? — Хороший отец любит одинаково всех своих детей. А у меня, ни мало ни много, девяносто семь книг. Трудно мне назвать среди них самую любимую. Из романов последних лет я выделил бы, пожалуй, «Завещание чудака».[105] Иногда я его перечитываю и сам удивляюсь, как мне удалось так живо и занимательно познакомить юных читателей с географией Соединенных Штатов… Неплохо получился как будто и роман «Братья Кип».[106] Книга основана на реальных фактах и изображает трагическую историю двух братьев. Почти все действие происходит в Тихом океане. Быть может, мои слова могут показаться не совсем скромными, но, честное слово, когда я перечитываю собственные книги, то порою забываю, что являюсь их автором… — С тем большей объективностью вы можете судить о своих ранних романах. Едва ли не самый знаменитый из них — «Двадцать тысяч лье под водой»!.. — А знаете ли вы, что одним из самых больших моих успехов я обязан Жорж Санд? Это она навела меня на мысль написать «Двадцать тысяч лье под водой»! — Жорж Санд? Как странно… — Но это так. В тысяча восемьсот шестьдесят пятом году по просьбе Этцеля —он принадлежал к числу ее друзей — я послал ей «Пять недель на воздушном шаре» и «Путешествие к центру Земли». Вскоре я получил ответ — собственноручное письмо Жорж Санд, которое я берегу как реликвию. Вот оно, можете сами прочесть… Жюль Верн достал из секретера и протянул собеседнику, парижскому литератору Адольфу Бриссону, конверт с драгоценным письмом. Бриссон попросил разрешения скопировать его и воспроизвести в своем очерке. Вот что писала Жорж Санд:«Благодарю Вас за приятные надписи на обеих книгах. Ваши великолепные произведения вывели меня из состояния глубокой апатии и заставили испытать волнение. Огорчена я только тем, что слишком быстро их проглотила и лишена возможности прочесть еще дюжину подобных романов. Я надеюсь, что скоро Вы увлечете нас в глубины моря и заставите Ваших героев путешествовать в подводных лодках, усовершенствовать которые Вам помогут Ваши знания и Ваше воображение. Когда „Англичане на Северном полюсе“[107] выйдут отдельной книгой, прошу Вас не забыть прислать их мне. У Вас восхитительный талант и сердце, способное еще больше его возвысить. Тысячу раз благодарю Вас за те приятные минуты, которые Вы помогли мне испытать среди моих горестей».О капитане Немо и «Наутилусе» речь заходила почти в каждом интервью. Англичанин Даубарн, навестивший писателя в 1904 году, заметил, что новейшие конструкции подводных лодок свидетельствуют самым поразительным образом о воплощении в жизнь его идей. — Тут опять-таки, — возразил Жюль Верн, — нет никакого пророчества. Подводная лодка существовала и до появления моего романа. Я просто взял то, что уже намечалось в действительности, и развил в воображении. Капитан Немо желает оградить себя от всякого общения с людьми — отсюда и его имя. Поэтому я погружаю его в стихию, которая дает ему возможность не только получать двигательную силу — электрическую энергию из самого океана, — но и добывать в морской пучине все необходимое для жизни… — В связи с появлением подводных лодок морская война становится не той, что прежде. Каковы ваши прогнозы на этот счет? — Самые мрачные. В морской стратегии произошел полный переворот. Военное судно уже не может чувствовать себя в безопасности, имея против себя подводную лодку и торпеду. Если обыкновенный динамитный патрон производит взрыв, достаточный для расщепления стального рельса, что же тогда говорить о торпедах, начиненных куда более сильными взрывчатыми веществами! Какие адские силы вырвутся на свободу, если военная техника будет совершенствоваться с такой быстротой! — В настоящее время возможности кругового обзора ограничены перископом на поверхности воды. Это стесняет маневренность подводных лодок. Как вы думаете, мосье Верн, смогут ли они когда-нибудь атаковать одна другую в глубине моря? — В этой области мне тем более не хотелось бы прослыть пророком. Но, кстати, могу напомнить, что в моем романе «Флаг родины» изображен бой двух подводных лодок у Бермудских островов. Одна из них пытается проникнуть в подводный грот, а другая препятствует ей. Таким образом, сфера их действия ограничена узким скалистым каналом. Это, конечно, не то, что предполагаемое сражение в открытом море. — Вы, конечно, следите за русско-японской войной? — О да, и это пролитие крови приводит меня в ужас. Самые новейшие смертоносные орудия и взрывчатые вещества вводятся в употребление. Механические торпеды в один момент уничтожают огромные дорогостоящие суда… Это самая жестокая война из всех когда-либо бывших на земном шаре!.. Но, может быть, люди почерпнут из нее кое-что и полезное… Она должна привести народы к сознанию, что современные войны, помимо денежной стоимости, становятся все труднее и, вероятно, заставят нации реже прибегать к оружию… По правде говоря, я не очень-то верю в эффективность Гаагских конференций.[108] Есть, мне кажется, более действенные факторы, которые могут способствовать ограничению войн в будущем. Один из них — трудность доведения операции до определенного исхода благодаря усовершенствованию вооружения с обеих сторон, и другой — исключительная дороговизна, которая может привести к обнищанию целые государства. — Однако мы ежедневно видим появление все новых и новых усовершенствованных смертоносных орудий… — Цивилизованное варварство! — воскликнул Жюль Верн. — Тем более дипломаты должны стараться сохранить мир… Но что бы нам ни угрожало сейчас, я верю в созидательные силы разума. Я верю, что народы когда-нибудь договорятся между собой и помешают безумцам использовать величайшие завоевания науки во вред человечеству…
Однажды — это было в 1902 году — Жюля Верна посетил незнакомый молодой человек, корреспондент «Новой Венской газеты». По-видимому, он попал в удачный час: старый писатель был более словоохотлив и откровенен, чем обычно. Он подробно рассказал о своем первом романе, о методах своей работы, о последнем, еще не опубликованном произведении. На вопрос журналиста, чем можно объяснить столь широкое распространение его книг, Жюль Верн ответил: — Я стараюсь учитывать запросы и возможности юных читателей, для которых написаны все мои книги. Работая над своими романами, я всегда думаю о том — пусть иногда это идет даже в ущерб искусству, — чтобы из-под моего пера не вышло ни одной страницы, ни одной фразы, которую не могли бы прочесть и понять дети. — А вы получаете от них письма? — Да, и довольно много. Письма приходят из разных стран. Нередко мне приходится обращаться к помощи переводчиков. Некоторые читатели просят у меня автографы, другие высказывают свои мысли по поводу того или иного романа. И это придает мне уверенность, что работаю я не напрасно… Когда разговор, как всегда в таких случаях, зашел о науке, Жюль Верн заметно воодушевился. — Я отнюдь не считаю себя специалистом-ученым, но о науке готов говорить часами. Постараюсь быть краток, чтобы вас не утомить. Я считаю себя счастливцем, что родился в такой век, когда на наших глазах сделано столько замечательных открытий и еще более удивительных, быть может, изобретений. Можно не сомневаться, что науке суждено открыть людям много удивительного и чудесного. Скажу даже больше: я убежден, что открытия ученых совершенно изменят условия жизни на Земле и многие из этих чудесных открытий будут сделаны на глазах нынешнего поколения. Ведь наши знания о силах природы, взять хотя бы электричество, находятся еще в зачаточном состоянии. В будущем, когда мы вырвем у природы еще много ее тайн, все чудеса, которые описывают романисты, и, в частности, ваш покорный слуга, покажутся простыми и неинтересными по сравнению с еще более редкими и удивительными явлениями, свидетелями которых можете быть и вы… Еще немного времени, и наши телефоны и телеграфы покажутся смешными, а железные дороги — слишком шумными и отчаянно медлительными. Культура проникнет в самые глухие деревенские углы… Реки и водопады дадут во много раз больше двигательной энергии, чем сейчас. Одновременно будут разрешены и задачи воздухоплавания. Дно океана станет предметом широкого изучения и целью путешествий… Настанет день, когда люди смогут эксплуатировать недра океана так же, как теперь золотые россыпи. Двадцатый век создаст новую эру… Моя жизнь была полным-полна действительными и воображаемыми событиями. Я видел много замечательных вещей, но еще более удивительные создавались моей фантазией. Если бы вы только знали, как я сожалею о том, что мне так рано приходится завершить свой земной путь и проститься с жизнью на пороге эпохи, которая сулит столько чудес!.. Жюль Верн замолчал. Затем продолжил: — Я поставил своей задачей описать в «Необыкновенных путешествиях» весь земной шар. Следуя из страны в страну по заранее установленному плану, я стараюсь не возвращаться без крайней необходимости в те места, где уже побывали мои герои. Мне предстоит еще описать довольно много стран, чтобы полностью расцветить узор. Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что уже сделано. Быть может, я еще закончу мою сотую книгу! Закончу обязательно, если проживу еще пять или шесть лет… — И вы знаете, чему будет посвящена ваша сотая книга? — Да, я часто думаю об этом. Я хочу в своей последней книге дать в виде связного обзора полный свод моих описаний земного шара и небесных пространств и, кроме того, напомнить о всех маршрутах, которые были совершены моими героями… Но независимо от того, успею я выполнить этот замысел или нет, могу вам сказать, что у меня накопилось в запасе несколько готовых книг, которые будут изданы уже после моей смерти…
Жюль Верн угасал в своем кабинете, у стола, заваленного законченными и неопубликованными рукописями. Он умер на семьдесят восьмом году, 24 марта 1905 года, в восемь часов утра. Писатель оставил десять неопубликованных книг. Его прах давно уже тлел в могиле, но до конца 1910 года каждое полугодие, как это делалось на протяжении сорока двух лет, он продолжал дарить читателям новый том «Необыкновенных путешествий».
Н. Коротеев, М. Спектор В ЛОГОВЕ МАХНО (Главы из повести)
Поезд двигался медленно, однако вагон сильно мотало на расхлябанном пути. Матвей Бойченко притулился на узкой лавчонке в углу за дверью. Он считал, что устроился с комфортом. Ведь даже проход забит битком. Пассажиры теснились на лавках, мешках, котомках, а то и просто на полу. Над их головами, свешиваясь со вторых и третьих полок, шевелились и дергались ноги, обутые в лапти, опорки, сапоги, солдатские ботинки. Одежда на людях была заношена и грязна от бесконечного лазания под вагонами на станциях, пропитана угольной копотью тамбуров, подножек и крыш, пылью привокзальных площадей, на которых им приходилось ночевать. Едва весной 1919 года началось изгнание всех иностранных оккупантов с Украины, из России на юг хлынул поток беженцев, возвращавшихся в родные места. С ними в славящуюся обилием Таврию сейчас же ринулись жадные спекулянты и мешочники, охочие до легкой поживы, воры, беспризорники. Навстречу двигался такой же поток с Украины в Россию. И оба эти потока сталкивались на каждой станции и полустанке. Если бы не сцепщик, не вырваться Матвею так скоро из родного города. Дядька в промасленной форменной куртке долго присматривался к Матвею, по-юношески пухлогубому, большеглазому, чубатому. Потом он на всякий случай справился, куда хлопцу нужно ехать, и скомандовал: «Пошли!» Обрадованный Матвей хотел отдать доброму дядьке целую пачку махорки. Ее ничего не стоило выменять на буханку хлеба со шматком сала в придачу. Очень уж срочно Бойченко нужно было добраться до Знаменки, чтобы попасть в Елисаветград.[109] Но сцепщик отсыпал лишь горсть. И теперь Матвей подумал, что его чудесная, с комфортом, посадка в поезд осуществилась, наверное, не без помощи председателя губчека Абашидзе. Того самого Абашидзе, по особому заданию которого Бойченко и отправился в Елисаветград. За матовыми от пыли и гари окнами вагона сиял солнечный день. Яркая зелень ясеней, вязов и кленов то подступала к самому железнодорожному полотну, то отбегала, уступая место пестроте полян. Цветы покачивались под ветром, словно прощались. На боковой лавке, как раз против Матвея, сидя подремывал, зябко кутаясь в шинель, солдат с изможденным лицом. Время от времени он принимался по-стариковски перхать, иногда закашливался, открывал глаза и ловил ртом воздух. А глаза у него были молодые. Наискось от Бойченко на краю скамьи разместилась разбитная женщина в цветастом платке. Она визгливым голосом рассказывала соседкам историю своей жизни. — Этот австрияк чи немец мне и говорит: «Ауфвидерзеен… Их фаре нах хаус. Революция им Дойчлянд». — Ишь как насобачилась по-ихнему! — осуждающе протянул густой бас с верхней полки. — Насобачишься! Сам небось бежал от германца. А мне куда от хозяйства? Куда от пятерых мал мала меньше! Мой тоже все воюет. Ушел, родимый, да так и пропал! — слезливо запричитала женщина. Соседки, задрав головы и для пущей убедительности упершись кулаками в бока, накинулись на басовитого мужчину. Тот даже ноги на полку подобрал. — Ну-ну! Вы чего, бабы… Вы того, полегче… Разбитная женщина вмиг успокоилась. Вагон сильно дернуло. Поезд замедлил ход и вскоре остановился. Матвей обеспокоенно выглянул в окно. Состав замер посреди поля. Вдоль вагонов, придерживая сабли, пробежали военные с красными бантами на груди. Солдат, сосед Матвея, глянул через его плечо. Потом достал из-за пазухи какой-то предмет, завернутый в тряпицу, и засунул его меж узлов глубоко под лавку. — Попали в переделку… — процедил солдат. — Какая переделка? Это же наши, — сказал Матвей. — Наши… Похоже, что григорьевцы бунтуют… — Григорьевцы? — переспросил Матвей. Он отлично помнил, что конница Григорьева вместе с частями Красной Армии освобождала Николаев от войск оккупантов. Правда, и тогда григорьевцы пытались было учинить грабеж на рынке. Однако налет на поезд… Состав тронулся и стал быстро набирать ход. Вагон снова замотало. — Все предусмотрели, гады!.. — опять процедил солдат. — Что? — переспросил Матвей. — Заставили машиниста гнать поезд, чтоб пассажиры не разбежались… Из тамбура донесся резко оборвавшийся крик. Хлопнул выстрел. Говор в вагоне смолк. Люди заерзали, стали хвататься за свои мешки. — Скинули… И пулю вслед, — понесся шепоток. — Освободить проход! — зычно гаркнул чей-то голос — Быстро! Как стиснулись пассажиры, Матвей не понял, но проход оказался свободным. Из-за двери, прикрывавшей Матвея, появился верзила в кубанке. В руке у него был револьвер, на боку — шашка. Китель перетягивала новехонькая портупея, а на груди топорщился кумачовый бант. Верзила проговорил негромко и внятно: — Оружие есть? Сдать! В купе молчали. — Проверим… Деньги, ценные вещи? Сдать! — И, не дождавшись ответа, верзила бросил через плечо: — Взять! Из-за спины верзилы вынырнул коренастый бандит, ухватился за туго набитый мешок, который держала женщина, рассказывавшая свою жизненную историю. Она сопротивлялась молча, оттолкнула коренастого бандита, закричала: — Люди добрые! Помогите! Верзила выстрелил три раза подряд. Женщина повалилась на мешок с добром. — Проклятая мировая буржуазия! — внятно проговорил верзила. — Попортила людям нервы. Деньги, ценные вещи… Сдать… — Что же вы, ироды, делаете! — раздался с полки мужской бас. — Да как вы смеете, гады! — В окно. И пристрелить. Теперь из-за спины верзилы вылезло двое. — Я вам сейчас, гады! — басил мужчина. Но его схватили за ноги и сдернули с полки. Выстрел прозвучал глухо. Бандиты подхватили тело мужчины, как тараном, выбили окно и выбросили из поезда. — И ее… — приказал верзила. — Теперь стало свободнее. Пассажиры полезли в карманы, принялись развязывать котомки. Коренастый бандит саблей вскрыл мешок убитой женщины. Из него вывалились детские рубашонки, пальтишки, несколько пар стоптанных ботинок, штанишки на лямочках, матросский костюмчик. Вытряхнув все это на пол, коренастый принялся по знаку верзилы отбирать у пассажиров то, что приглянулось, и совать в мешок. Матвей опустил взгляд. За голенищем сапога верзилы торчал еще револьвер, привязанный тонким ремешком к поясу… Рука Матвея потянулась к оружию непроизвольно: ненависть и ярость клокотали в его душе. И тут Матвей ясно, словно над самым своим ухом, услышал голос Абашидзе:«Что бы ни случилось, ты не имеешь права распоряжаться собой. Рисковать ты имеешь право только ради дела, которое тебе поручено. И будешь отвечать перед партией за каждый свой рискованный шаг».Убрать руку, которая была уже готова схватить револьвер, Матвею стоило огромных усилий. Он сцепил пальцы так, что побелели суставы. И снова голос Абашидзе прозвучал в его ушах:
«Запомни… Речь идет о глубоком проникновении к анархистам-набатовцам. Не на день, не на два».Дуло револьвера коснулось подбородка Матвея. — Глухой, что ли!.. Чемодан… Матвей открыл. Там лежала чистая рубашка и две пачки махорки. — Куришь? — строго спросил верзила. — Нет. На хлеб выменять хотел. — Настоящая… — Забрав махорку, верзила положил пачки в карман галифе. — Курить вредно. Увижу — пристрелю. — Захохотал, оборвал смех. — А ты, служивый? — обратился он к солдату, сидевшему напротив Матвея. — Из госпиталя. Домой, долечиваться. В Одессу. — Мы ее брали. — Верзила ткнул себя в грудь револьвером. — Веселый город. Славно погуляли. Поправишься — давай к нам. Атамана Григорьева слышал? За окном раздался крик. Матвей глянул и увидел, как сброшенный с поезда человек, кувыркаясь, летит под откос. — Слышал, — ответил солдат. — Не оценили комиссары наших заслуг, — усмехнувшись, проговорил верзила. Забрав что приглянулось, бандиты перешли в соседнее купе. Сидевшая напротив убитой женщины старушка с тонкими поджатыми губами истово перекрестилась: — Слава тебе господи! Отмучилась Оксана… — и принялась собирать с полу детскую одежонку. — Что ж с ее ребятками будет? В разбитое окно врывался ветер. Он разогнал махорочный дым. Стали видны лица людей, бледные, осунувшиеся. Матвей прикрыл глаза. — Крепись, хлопец. Чтоб с такими гадами драться, сердце каленым должно быть, — тихо проговорил ему солдат. — Недолго Григорьеву гулять. Колобок… Что револьвер у бандита не выхватил — правильно. Закидали бы состав гранатами али просто порубали всех. Двух гадов убил бы, а сотни людей погибли бы им на радость. Вагон забился на стрелках. За окном замелькали белые хаты, крытые соломой. Поезд сбавил ход. Состав, словно в туннель, вошел между двумя другими, поплыли мимо платформы с орудиями и пулеметами, пульманы с лошадьми, теплушки, набитые григорьевцами. В разбитое окно ворвался визгливый голос оратора, вопившего о самостийности атамана Григорьева, который поведет свои войска на Киев — освобождать его от большевистских комиссаров. Сотни голосов горланили то «ура», то по-петлюровски: «Слава!» Наклонившись к солдату, Матвей проговорил: — Что же будет? — Эх, закурить бы!.. Бандиты, волоча за собой мешки, вышли из вагона. — Газетка у тебя есть? — спросил Матвей. — У Григорьева, я слышал, три дивизии под командой… — Бить придется. Только сил где взять? Деникин прет… Газетку… Махорки-то нет. — Я пачку в карман высыпал. Ой, не ко времени это… — Для кого как… — Молодой солдат скрутил здоровенную козью ножку, глубоко и со вкусом затянулся. — Как тебя зовут?.. Ну, а меня Найденов. Виктор. Вот что, Матвей, коли григорьевцы митингуют, значит, потом налижутся. Быть резне. Подадимся в лес. — Мне в Елисаветград вот так надо. — Матвей провел ребром ладони по горлу. — Пешком пойду. — Э, Матвей, да ты, видать, мало колесил! Тебя же в первом селе григорьевцы порубают. А поездов сегодня не будет. Словно подтверждая слова Виктора, за окном послышалось: — Освободить вагоны! Состав реквизируется! Слезай! Пассажиры стали безропотно собирать вещи. Найденов вытащил из-под лавки сверток, подмигнул Матвею. Тот подхватил чемоданчик, и они вышли. Меж вагонов бродили уже крепко подвыпившие бандиты, чертя по пыли низко повешенными саблями. Они приставали к женщинам, вышедшим из поезда, но пока еще шутя, беззлобно. У приземистого здания вокзала с разбитыми и простреленными окнами сидели на узлах, лежали на земле, бесцельно бродили тысячи три пассажиров. Над толпой висела серая пыль, которую пронизывало клонившееся к закату солнце. Найденов и Матвей юркнули в проулок и направились к темнеющему невдалеке лесу. Впереди и позади них тоже шли люди, таща на себе немудреный скарб. Видать, это были опытные путешественники по страшным и кровавым дорогам гражданской войны. — Найденов, а почему ты Григорьева «колобком» назвал? — Такой уж у него норов, — горько усмехнулся солдат. — Ловкий. Верхним чутьем берет бывший штабс-капитан. При Центральной раде Григорьев ей «верно» служил. Учуял, что послабела — к гетману Скоропадскому метнулся. Петлюра в силу вошел — он к Петлюре. Увидел, что большевики верх берут, — он к ним. Раскаялся: мол, хочу замолить грехи. Поверили ему, не поверили — дело особое, но сила-то у него есть. И немалая. Представляю, как они погужевались, «освободив» Одессу. Освободили ее от всего, что в ней «лишнего». Как в вагоне… Только на третьи сутки Матвей и Найденов вместе с другими беженцами вернулись в Знаменку из леса. По дороге к станции им то и дело попадались подводы, кое-как прикрытые рухлядью, из-под которой высовывались то чьи-то босые ноги, то перевешивались через грядку повозки длинные женские волосы. Хоронили жертв григорьевцев. Сердце Матвея ныло от ненависти и ужаса. В Елисаветграде Матвей быстро вошел в группу анархистов. Они были его старыми знакомыми. Осенью, когда гетманская варта арестовала в Николаеве членов подпольного Одесского губкома партии, комсомолец Бойченко по заданию большевиков ездил в Елисаветград аннулировать явки. Конечно, ни тогда, ни сейчас никто из анархистов не догадывался, что шестнадцатилетний Чистюля, как его прозвали, коммунист. И в партию его приняли даже без кандидатского стажа. Существовало такое положение для тех, кто с оружием в руках защищал Советскую власть. А Матвей Бойченко в четырнадцать лет сражался вместе с рабочими Николаева на баррикадах, когда они три дня не пускали в город австро-германских оккупантов. И конечно же, никто из анархистов и подумать не мог, что тихий и скромный Чистюля, знавший, как «Отче наш», многие сочинения апостолов анархизма, — чекист. Да узнай такое, они не пристрелили бы, а растерзали Матвея. Но проникнуть в святая святых, к секретам «легальной» организации, Бойченко все же не удавалось. А тут еще из разговоров анархистов Матвей узнал, что тайный съезд «Набата» прошел. Об этом проговорились в штаб-квартире набатовцев, у Якова Суховольского, где Матвей, подобно многим парням-анархистам, исполнял обязанности «мальчика за все»… Машинально разжигая примус, наливая воду в чайник, Матвей лихорадочно думал, как же теперь быть… Как достать у Волина хотя бы резолюцию съезда? «Хотя бы»! Ничего себе! А в голове вместе с ударами взволнованного сердца отдавалось: «О-поз-дал… О-поз-дал…» Со двора послышались голоса Миши Злого, Януса, Вальки и других пареньков-анархистов, таких же «воспитанников», как он. Сначала Матвей, занятый своими мыслями, не обращал внимания на спор. Но настойчиво повторяемые слова «атаман Григорьев», «комсомольцы» заставили его прислушаться. Потом он вышел на крыльцо. Его обступили. Подскочил Миша, по кличке «Злой»: — Ты, умная голова, скажи, кто такие григорьевцы? Матвей рассказал обо всем увиденном в пути и что ему пришлось пережить. — Ты и вправду умная голова, Чистюля! — воскликнул порывистый Миша. — Выходит, правы комсомольцы, называя Григорьева просто бандитом! — Насчет комсомольцев — не знаю, — осторожно заметил Бойченко… Через день после этого разговора в квартире Суховольского собралось человек тридцать анархистов. Главный теоретик «Набата» Волин первым взял слово. Он старательно оправдывал бунт григорьевцев, утверждая, будто советское командование обидело атамана, и в заключение заявил, что с Григорьевым необходимо как можно скорее установить связь. «Набатовцы готовы сотрудничать и с Махно, и с Григорьевым, лишь бы те воевали против Советской власти!» — понял Матвей. После Волина выступило трое в поддержку его предложения. Волин был признанным авторитетом для набатовцев, и казалось, собрание можно было закрывать, но тут поднялся Миша Злой. — Как это понимать? — выкрикнул он звонким мальчишеским голосом. — С кем связь? С бандюгами? Черта лысого! Мы должны поступить иначе! Вместе с коммунистами и комсомольцами выгнать григорьевцев из города. Я первый возьму винтовку и пойду в комсомольский отряд! Никогда Матвей не видел Мишу таким взволнованным. Суховольский вскочил и развел руками: — Миша! Что с тобой? Разгромили, разрушили… Ну и что? Никуда ты не пойдешь. Это же абсурд! — Нонсенс! — Тщедушный теоретик Волин вскинул руку с воздетым указательным пальцем. Миша усмехнулся. Матвей видел — это была злая и уверенная усмешка человека, знающего, что он делает. — Что ж, Яков, по-твоему, бандиты могут разбить типографию, где работаю я и мой отец? Разрушить завод Бургардта, Эльворти? Там работают многие анархисты. Вот хоть Наташа, Генка, Валька. Это же наше, народное, не буржуйское! Это нам надо защищать. — Конечно! — поддержал его Валька. — Чего говорить! — Мы вместе с Мишей! — закричали ребята. Волин надел пенсне, откинулся на спинку стула: — С ума посходили! Ну скажи ты им, Матвей! Скажи ты им, что они олухи царя небесного! Матвей почувствовал — кровь отлила от лица, когда он поднялся. «Черт дернул Волина… — подумал он. — Миша, конечно, прав. Да и какие ребята анархисты. Они рабочие парни и просто запутались. Их место с комсомольцами. И мое там!» Но в памяти всплыл ровный голос Абашидзе; «При всех обстоятельствах ты должен оставаться с набатовцами». Бойченко огляделся. Все смотрели на него. Он сказал: — Вопрос сложный… Правые анархисты, бакунинцы, поступили бы так же. Надо подумать… — и сел, вперился в стол. — Эх, ты!.. — воскликнул Миша. — Холуй! Трус и подлец! Волин вскочил и загородил Матвея, словно Миша бросил в него не слова, а камни. Матвей ничего не видел: глаза застилали слезы горечи, обиды и боли. Когда же ему удалось справиться с собой, он понял: молодежная группа покинула анархистов. Остальные разошлись тихо, незаметно. У стола сидел Волин, мерно постукивая пальцами по крышке. Тощий, сутулый Гордеев катал хлебные шарики, а румяный Суховольский устроился на подоконнике и глядел в небо. — На войне как на войне! — теребя бороденку, сказал Волин. — Люблю определенность. Я тобой доволен, Матвей. Вот победим — и отправим тебя в Кембридж или Оксфорд. Я уверен, нам будет не стыдно передать знамя анархизма в твои молодые, горячие руки. — Эх, — протянул Яков, — выпить бы! А тут протокол съезда. Резолюция… — Эврика! — хлопнул в ладоши Волин. — Мы поручим переписать их Матвею. У него же каллиграфический почерк! Ну, черт возьми, по маленькой! Бойченко онемел от радости. Соскочив с подоконника, Яков подошел к столу: — Имей в виду, Матвей, это секретнейшие материалы. Переписывая документы, Матвей наткнулся на фразу, которая была ключом ко всем действиям «Набата»: «Наступает давно предвиденный анархистами момент, когда масса населения, не удовлетворенная в своих чаяниях и разочарованная в последней социалистической (читай: Советской) власти, готова вступить с этой властью в решительную борьбу». Выходило, что поездка для «уламывания» Махно, которую решил предпринять Волин, заигрывание с григорьевцами — явное стремление анархистов пристроиться к вооруженной банде, взять на себя «идейное руководство» ею. Чекисты напали на след организаторов мятежа в Николаеве слишком поздно: они уже были арестованы. Оказалось, что двое из них засланы деникинцами, двое других — григорьевцы. Выяснилось, что когда Григорьев рассчитывал пойти на Киев и Харьков, он оставил на станции Долинская «окремый курень» Ткача. Задания ему были даны весьма деликатные. Ткач установил связь с батькой Варавой, махновцем, действовавшим отдельно от бригады. Кроме этого, отобрав десятка два надежных хлопцев, Ткач отправил их в Николаев, наказав проникнуть в гарнизон и прежде всего — во флотский полуэкипаж. Деникинцы тоже сообщили немало тревожного. Развязный офицер, молодой и заносчивый, стараясь изобразить на лице сардоническую улыбку, сказал Абашидзе: — Я не знаю сроков восстания, но знаю, что любой из немецких колонистов уже распределил, куда в его хозяйстве пойдет каждый спиленный телеграфный столб. И офицер оглядел Абашидзе, одетого в поношенную гимнастерку, солдатские обмотки и огромные, не по росту, ботинки, словно говоря: «А еще власть…» Разговор этот произошел днем, а вечером стало известно, что на город с севера и запада двинулись банды Варавы и Ткача. В окрестных селах поднялись кулаки и богатые колонисты. Интернациональный отряд в двести штыков — срочно мобилизованные коммунисты и комсомольцы города, несколько рабочих дружин — занял оборону за Южным Бугом и Ингулом. В городе осталась группа человек в тридцать: партийные работники, несколько бойцов из охраны ЧК, военкомата и милиции. Судостроительные заводы «Наваль» и «Руссуд» контролировали рабочие. Вооружился и полуэкипаж. Отряд возглавил анархист Проскуренко. Ему было около пятидесяти, он имел звание мичмана. В заместителях его оказался некий Евграфов, засланный в полуэкипаж григорьевцами. Предпринимать что-либо против них было поздно — не хватало сил. На первый взгляд, «свободные моряки» и вправду решили защищать город. Ночью отряд занял позиции против махновцев, но утром всем составом перешел на сторону противника. Банда Варавы и «свободные моряки» ворвались в Николаев. Махновцы захватили здание исполкома. Одна сотня кинулась к военкомату. Часть «моряков» — к ЧК, освобождать деникинских и григорьевских офицеров, членов их штаба. Остальные принялись разбивать магазины и лавки, грабить квартиры. Едва на улицах послышалась стрельба, Абашидзе понял, в чем дело. Позвонил военком и прокричал, что наседают махновцы, но он держится. — Абашидзе, сколько у тебя бойцов? — Тут нас семеро… — Эх, черт! Не прорваться нам к тебе. — Попробуем сами отбиться. Похоже, вот-вот подойдут. До звонка военкома Абашидзе в глубине души надеялся на его помощь, но теперь об этом нечего было и думать. Он попытался связаться с трибуналом, однако телефонистки уже разбежались. Выйдя из кабинета, Абашидзе приказал поставить на окно ручной пулемет. Арестованных офицеров — как сердце чувствовало — Абашидзе еще ночью отправил поездом в Харьков, но архив и дела находились в здании. — Вот что, Каминский, — сказал Абашидзе уполномоченному, — бери документы и пробирайся дворами к Госбанку. С тобой пойдут еще трое. Быстро! В случае чего — мы прикроем. Каминский попробовал было возразить, что четырех для такого дела мало. Однако Абашидзе только глазами на него сверкнул и повторил приказ. — Ты что, не понимаешь? Захватят бумаги — сколько наших ребят поплатятся жизнью! К банку — там охрана сильнее! Едва группа Каминского выскользнула через садовую калитку на соседнюю улицу, у здания ЧК появилось с полсотни «моряков». Увидев торчащий из окна ручной пулемет, бандиты затоптались на месте. Вперед выскочил Евграфов. — Полундра! — взревел григорьевец. Часовой не успел и выстрелить, как около него оказался Евграфов на вздыбленной лошади и шашкой зарубил часового. Второй чекист выстрелил в Евграфова, но промахнулся, попал в коня. Пулеметчик уложил с десяток бандитов, но удержать всю ораву не мог. Она ввалилась в двери. Вбежавший со двора Абашидзе — он провожал Каминского — с двумя пистолетами в руках не успел разрядить обоймы, как был сражен наповал. И в это же время ворвавшийся в здание Проскуренко выстрелом в затылок убил пулеметчика. Тогда Евграфов с несколькими бандитами стал рыскать по дому, отыскивая арестованных офицеров. Не найдя никого, взбешенный Евграфов выскочил во двор. Передав копии документов съезда анархистов через связного и ничего не зная о судьбе Абашидзе, Матвей вместе с Волиным и Гордеевым уехал в ставку Махно — Гуляй-Поле. На другой день к дому, где квартировали анархисты, подкатила крытая ковром тачанка, и их, хотя штаб находился через несколько хат, лихо домчали до волостного правления. Против двери, за столом, на диване, сидел узкоплечий головастый человечек с крупными глазами и тонким, нервным ртом. На нем был черный китель, исполосованный желтыми ремнями портупеи, а вокруг шеи, словно удавка, вился шнурок, что крепится к рукоятке маузера. «Махно!» — понял Матвей, шедший на полшага позади Волина. Рядом с батькой на диване сидел мужчина с аскетическим лицом — Аршинов-Марин, наперсник и воспитатель Нестора в Бутырках, где Махно отбывал «каторгу» за убийство пристава. Началась церемония знакомства с участниками совещания. По правую руку от батьки сидел Михалев-Павленко, как Матвей узнал впоследствии. Ему батька доверял, словно самому себе. Михалев влился со своими партизанами в отряд Махно еще во времена гетманщины. Рядом с Гордеевым разместился начальник штаба махновской бригады Озеров, бывший поручик царской армии. — Так что вы хотите сказать Нестору Ивановичу? — спросил батька ровным тенорком, говоря о себе в третьем лице. Матвей, устроившийся в дверях, старался приглядеться к Махно попристальнее. Но батька сидел на диване между двумя окнами, и яркий свет дня мешал. Видно только было, что Махно, прежде чем обратиться к Волину, несколько мгновений цепко глядел на него, но с первым же словом опустил глаза, как бы нарочно прикрыл их бледными, словно совиными веками. А спросив, вновь вскинул взгляд, но уже на Гордеева. И тот заговорил первым. Никогда еще Матвей не слышал от Ильи такой взволнованной и цветистой речи. Даже Махно стал глядеть на него с нескрываемым интересом. Но вдруг усмешка тронула батькин тонкий рот: — Слышишь, Михалев, як за восемьдесят тысяч гарно балакают? Гордеев чуть было не сбился с тона, и Матвей увидел, как у Ильи покраснели уши. Но Гордеев справился со смущением. — Мы, набатовцы, предлагаем вам, Нестор Иванович, стать основателем первого в мире анархистского безвластного общества, вождем третьей революции. — Это за те же восемьдесят тысяч, что получили у батьки в феврале? Или еще понадобятся? — издевательски ровно спросил Махно. — Они провели, Нестор, огромную работу… — вступился Аршинов. — Прокутили они денежки в городах! — вырвалось у Махно, и, хлопнув ладонью по столу, он будто припечатал: — Раз батька говорит, так оно и есть. Нам нечего делать в городе! Города следует сровнять с землей. Они — рассадники пролетарской, коммунистической заразы. Волин подался вперед, словно за руку схватил Махно: — Значит, Нестор Иванович, вы согласны стать вождем! — Если набатовцы откажутся от города. Горилки и тут хватает, — ломая тонкие губы, усмехнулся Махно и твердо повторил: — Село — опора батьки. Крепкий хозяин знает — там, где мы, духа продкомиссара не появится. — Но… — вмешался было Волин, нервно играя пенсне. — Секретариат «Набата» будет тут. Батьке воевать надо, а уж вы занимайтесь агитацией. — Махно старался говорить сдержанно, но голос его временами срывался. На этом и закончили, перешли к обеду. А Бойченко отправился на встречу со своим напарником. Матвей не очень-то доверял ему. И на то были причины. «Познакомил» их Абашидзе очень осторожно. Во время разговора Матвея с председателем ЧК вошел часовой: — Прибыл комендант трибунала и арестованный. Абашидзе подвел Матвея к окну, чуть отвел занавеску. На тротуаре, прижавшись плечом к акации, стоял рослый моряк, заложив руки в карманы. Он смотрел под ноги, сплевывал наземь. Матвей с трудом разглядел лицо: сухое — острый подбородок, нос с горбинкой. Неприятное. — Запомни его хорошенько, Матвей. Я думаю, тебе придется с ним работать. Задания ему будешь передавать ты и сведения получать — ты. Но он не должен знать, с кем ты будешь связан. Это Иван Прокопьевич Лобода. — Иван Прокопьевич Лобода, — повторил Матвей. — Он приговорен революционным трибуналом к расстрелу. Условно. За самоуправство. Лобода служил на одном корабле с Лашкевичем. Лашкевич сейчас командир сотни у Махно. Вот мы и хотим послать его к другу. Пройди в соседнюю комнату. Дверь я оставлю открытой. Уйдешь минут через пять — десять. Там есть другой выход. Матвей прошел в соседний кабинет, а через некоторое время часовой доложил, что осужденный Лобода доставлен. — Садись, Иван. Потрясло тебя крепко… — Я, товарищ председатель, вторые сутки не сплю, — услышал Матвей глуховатый голос. — Такой аврал. Да и тут мне неясно… Думал, как трибунал решил — к военкому да на фронт… А меня — в Чека. От вас, сказали, назначение пойдет. — Есть, Иван, в твоей жизни одно обстоятельство, которое меня заинтересовало. — Чего мне скрывать, товарищ председатель? Бойченко отметил — говорил Лобода нервно. И это не нравилось. — Ты в составе отряда матросов с эскадренного миноносца «Новик» сопровождал из Петрограда в Москву вагоны с ценностями Государственного банка… — Сопровождал. Потом нам охрану банка доверили. — И теперь, Иван, речь пойдет о доверии. Только несравненно большем. Служил с тобой на корабле Егор Лашкевич… — Точно. Он — коком, а я — торпедистом. Сотней командует у Махно. Хоть батька вроде и за нас сейчас, фронт против Деникина держит от Волновахи до Мариуполя… но сколь волка ни корми, товарищ председатель… — Письмо недавно тебе Лашкевич прислал. К себе звал, на легкую да веселую жизнь. Надо тебе поехать к нему… — Смеетесь? Я ему такое скажу, что враз порубает. — Подожди, не перебивай. Знаю, на фронт идешь. Кровью, а может, жизнью вину искупишь. А если тебе дать задание потруднее? — У Лашкевича в сотне гулять? — Быть в махновском логове нашим человеком. — А на грабежи, на безобразия поволокут — тогда как? Опять Иван виноват? Проще в приговоре «условно» зачеркнуть. — Ни пить, ни безобразить тебе ни к чему. Скажешь, что хворый. Придумал же куркулей при немцах контрибуцией облагать? Так позапугал вдвоем с приятелем, что за целую банду считали! — В разведчики предлагаете… Так надо понимать?.. — Что ответишь? Боишься — говори. Стесняться нечего. Лобода долго молчал. Матвей затаился: «Не соглашайся…» — Пойду, товарищ Абашидзе! Насмотрелся я на анархистские художества — грабежи да налеты — и в Питере, и в Москве. — Лашкевич анархист? — До легкой жизни он жадный. Нужна ему эта анархия, как пробоина. Егор мужик видный, вот и боится жизнь упустить. — Свой приговор отвезешь Лашкевичу. Скажешь — сбежал из-под расстрела. Теперь, мол, от тебя, Егор, ни на шаг. В Гуляй-Поле с тобой свяжется наш человек. Пароль: «Привет, Прокопьевич, от Абашидзе». Он тебе скажет, что нужно делать. Ясно? Матвей, тихо ступая, вышел из комнаты. Холодок недоверия к Лободе все же остался в душе у Бойченко. Не прошел он и со временем. Остался и теперь… Свернув во второй переулок от майдана, Бойченко услышал деловитое постукивание топора. За хатой у сарая он увидел фигуру в тельняшке. Матрос стоял к Бойченко спиной. Оглядевшись, Матвей прошел в калитку. Из будки около крыльца выскочила, гремя цепью, лохматая собака. Она остервенело брехала, вставала на дыбки, струной натягивала привязь. Матрос разогнулся, хмуро глядя на подходившего хлопца. — Чего тебе? — крикнул он. Это был Иван. Миновав ярившегося пса, Матвей подошел к Лободе, стал сбоку, оглядел сад, внутренность сарая. Никого. — Привет, Прокопьевич, от Абашидзе… Лобода искоса зыркнул на него, поиграл топором. — Отойди, хлопчик… Сорвется топор. Долго ли до греха. Слова эти были произнесены таким тоном, что Матвей с трудом заставил себя не попятиться. «Неужели Лобода предал? — мелькнуло в голове у Матвея. — Или… или он не верит, что в шестнадцать лет можно быть исполнителем особого задания ЧК?» Размахнувшись, Лобода ударил топором по оглобле. — Ты должен был передать свой смертный приговор Лашкевичу. Ты это сделал? Ты обещал Абашидзе притвориться больным и не участвовать в анархистских безобразиях. Ведь ты сделал это! И кличка у тебя здесь — Хворый, — решительно сказал Матвей. — Я думал, что у меня начальство будет хоть с пухом на губах! — Лобода бросил топор наземь. Но лицо его все еще было недоверчивым и хмурым. — Будь у меня борода лопатой, опасаться стоило бы больше. — Ишь ты!.. — Наконец-то Лобода добродушно усмехнулся. — Передай: лучшие части Махно снимает с деникинского фронта. Приказ отдан вчера. Измена… — Передам. На всякий случай, Иван, в Елисаветграде я живу на квартире у Суховольского. — Найду. Что делать? — Лобода присел на колоду. — Насмотрелся я тут на художества ихние. Иногда думаю — захвачу тачанку да как полосну по этой швали из пулемета… Что делать? — Пока наблюдать. И у меня руки чешутся. До скорого, Иван. — Да, долго болтать не след. — Лобода взялся за топор. Вернувшись в дом, где они жили, Матвей застал набатовцев в веселейшем расположении духа. — Полная победа, Матвей! — обнял его Гордеев. — Поздравь дядю Волина: он председатель реввоенсовета бригады имени батьки Махно. А Аршинов — руководитель культпросвета! «Скорее бы в Елисаветград! — подумал Бойченко. — Столько важных новостей!» Но в Елисаветграде пришедший из Харькова новый связной сообщил Матвею страшную весть об убийстве Абашидзе. Матвей горько плакал, словно мальчишка, бормоча сквозь слезы: — Мы отомстим… Ух, гады, как отомстим! В день, когда секретариат «Набата» должен был выехать к Махно в Гуляй-Поле, на квартире Суховольского неожиданно появился Лобода. Он вошел вразвалку, запыленный и усталый. — Застал! — выдохнул он и присел на стул. На него поглядели с недоумением. — Батько объявлен Советской властью вне закона, — сообщил хмурый Лобода. — Нестор Иванович приказал в Гуляй-Поле не ездить. Там со дня на день будут белые… — Подождите, подождите… — заершился Волин. — Как это — «вне закона»? Такого крестьянского вождя — вне закона. Нонсенс! — Приказ советского командования опубликован в красноармейских газетах вчера. Вот вы ничего и не знаете, — объяснил Лобода и, глянув в сторону Матвея, попросил: — Чайку бы… Нестор Иванович сдал командование бригадой. И еще. Аршинов просил передать — членам секретариата выехать в Харьков. После разрыва с Махно, он сказал, возможны аресты. На все остальные вопросы о батьке, о его дальнейших планах Лобода отговаривался незнанием. Матвей вышел проводить земляка до ворот. Прощаясь, Лобода быстро прошептал: — Еду в Песчаный Брод, к батьковой жинке Галине Андреевне Кузьменко, Учительница она. Батька скоро к нейзаедет. Вовремя ты весть об измене передал. Общипали наши Нестора, как курицу. Едва убрался. — Много еще сил у Махно? — В батьковой сотне сабель триста да двадцать тачанок. Все, что осталось от десяти тысяч. — Подумав, Лобода добавил: — А на Правобережье есть у Махно кое-какие силенки. Точно пока не знаю. Да, в районе Брода весь штаб. Михалев, Озеров и Бурбыга-«снабженец» сказали, навестят матушку. Ну, дробь! Скрипнула открываемая дверца в воротах. Матвей остановил Лободу и сказал ему о гибели Абашидзе. Неожиданно Иван как-то странно зарычал и так хватил кулаком по двери, что треснула доска: — Такого парня угробили! Гады… Бойченко вдруг подумал, что Абашидзе действительно был совсем молодым — лет двадцати двух. И от этой мысли Матвею стало еще горше. Пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Иван вышел на темную улицу. Назавтра Бойченко передал связному новые сведения. Тот очень обрадовался, узнав местонахождение махновского штаба. Грива каурого в темноте казалась чернее воронова крыла. Конь, не чуя поводьев, шел упругим шагом, изредка встряхивая головой и позванивая мундштуком. Ночь была душиста и ласкова, звезды переливались, словно нежились в безлунном небе. Лобода возвращался в Песчаный Брод из Добровеличковки, куда ездил по просьбе Галины Андреевны узнать, когда ее собираются навестить махновские командиры и как поживает батька. Иван заранее знал, что поездка, в общем, бесполезна. Никто, пожалуй, кроме самого Нестора, представления не имел, где он появится и что будет делать в ближайшие сутки. В общем, сдав бригаду, батька через неделю располагал отрядами почти в три тысячи сабель. А уж Лобода-то знал, как трудно бороться с этими летучими, подвижными, как ртуть, группами. При преследовании махновцы превращались в «селян», чтобы на следующий день или буквально через несколько часов, в тылу преследователей, опять стать прекрасно вооруженной бандой. В отличие от многих банд и контрреволюционных отрядов, махновцы как бы не имели тылов: баз продовольствия, обозов, госпиталей. Раненых оставляли у местных жителей, а чаще бросали на произвол судьбы. Оружие добывали в бою. На Гуляй-Польщине кулаки, которые всегда больше всех получали из награбленного, беспрекословно кормили батькиных «повстанцев». Но с переходом на Правобережье положение изменилось. Здесь порядков Нестора не знали. В Добровеличковке Лобода столкнулся с новыми методами махновских заготовок. Он приехал в село, когда батькин любимец Михалев проводил заседание сельсовета. Поигрывая нагайкой, Михалев спокойно и рассудительно внушал членам сельсовета: — Провианту на пять тысяч человек… На неделю. Фуражу на пять тысяч коней… На неделю. — Нету! Нету у нас столько! — заговорили враз селяне. — Заседание сельского Совета села Добровеличковки считаю закрытым… — вздохнул Михалев, отошел к открытому окну и крикнул собравшимся у сельсовета махновцам: — А ну, хлопцы, треба помогти нашему сельскому Совету! Дуже они слабки! — Добре! Добре! — загудели на улице. Один из членов сельсовета вскочил из-за стола: — Это грабеж! Никто у нас Советской власти не отменял! — Да? — удивился Михалев. — Здесь — вольные Советы. Без коммунистов! — Гады вы и бандиты! Цокнув сожалеюще языком, Михалев вытащил маузер и пристрелил возмущавшегося. — Добре! Добре, Михалев! — загудели махновцы под окнами и с шумом и гиканьем рассыпались по лавкам, хатам, амбарам. Брали хлеб, фураж — все, что плохо лежало. Послышалась стрельба. Вечером Лобода в послепогромной попойке узнал, что на площади убили милиционера, который пытался восстановить порядок, спьяну порешили трех продагентов и трех богатых евреев — скупщиков зерна. Завершив «заботы» по снабжению, Михалев напутствовал Лободу: — Скажешь, Иван, матушке Галине, как мы здесь стараемся. Она про такие дела дюже любит слушать. Будем мы у нее в гостях вечерять завтра. Тогда и про батьку сообщим. Добровеличковка отстояла от Песчаного Брода верст на пятнадцать. Иван ехал не спеша — повременит «матушка Галина» с сообщением о «подвигах». Лободе очень хотелось побыть одному, отдохнуть от махновской швали. Настроение у него было, как говорится, хоть кингстоны открывай. Проезжая через лес, Лобода заметил в лунном свете вроде бы фигуру плохо замаскировавшегося человека. Как будто слабо блеснул штык. Но Иван не остановился, не замедлил и не ускорил шаг коня. «Пожалуй, это чекисты… — подумал Лобода. — Караулят… Значит, передал Матвей про штаб… Вот встречка…» Лес, пронизанный лунным светом, молчал. В тишине мягко цокали по пыльной дороге копыта каурого. Только отъехав километра на два от того места, где в чаще он заприметил блеск оружия, Лобода пришпорил коня и наметом поскакал в Песчаный Брод. Наутро он был вызван наперсницей Галины Андреевны, учителкой Феней, и постарался, насколько у него хватило юмора, рассказать «матушке» о деяниях ближайших приспешников батьки. Хата учительницы Галины Кузьменко была столь старательно подделана под украинское жилье, что напоминала стилизованную декорацию к опере Гулак-Артемовского. И сама «матушка», статная кареглазая молодая женщина, одевалась с подчеркнутой артистичностью под «украинку». «Матушка» выслушала Лободу с интересом, требуя различных подробностей об убийствах, грабежах. Сердилась, что тот ничего не знал толком. — И чего за тебя, за Хворого, Лашкевич держится? — капризно заметила Галина Андреевна, перебирая букет полевых цветов. — Кореши мы, — хмуро ответил Иван. — На одном корабле служили. — Когда Лашкевич приедет? — полюбопытствовала Феня, которая, как слышал Иван, была неравнодушна к красавцу Егору. — Похоже, вместе с батькой… На следующий день перед вечером у хаты, где жила Галина Андреевна, остановились человек десять верховых и тачанка с пулеметом. Из нее вышли начальник штаба Озеров, ближайший друг батьки Михалев-Павленко и заведующий снабжением Бурбыга. Стемнело, и взошла луна. Наконец из хаты Кузьменко, пошатываясь, вышли батькины приспешники. Они старательно и церемонно раскланивались с «матушкой», стоявшей на крыльце. — Добре повечеряли, Галина Андреевна, — басил Бурбыга. — Так вы попомните, матушка, — держась за грядку тачанки, громко проговорил Озеров. — Скоро из Компанеевки тронется Нестор Иванович. К рассвету будет у вас. — До побачення, гости дорогие! — певуче ответила «матушка». «Долго, пожалуй, придется ждать вам свидания, „гости дорогие“! — усмехнулся Лобода. — Эх, предупредить своих нельзя! Да, пожалуй, и сил у нас не хватит самую щуку схватить». Кучер с присвистом тронул лихую тройку, мягко забили по пыли копыта верхового эскорта. Лобода ушел в хату, сел у окна, прислушиваясь. После отъезда гостей в жилище Галины Андреевны поднялась суматоха — готовились к приезду батьки, заново накрывали стол. В стороне дубравы, что была между Песчаным Бродом и Добровеличковкой, стояла тишина. Но с каждой минутой ожидания Лобода чувствовал, как в нем напрягались каждая мышца, каждый нерв. Та-та-та! — забил наконец пулемет. Вразнобой ударили выстрелы. Снова застрочил скороговоркой пулемет. Иван видел, как из соседней хаты выскочили Кузьменко и ее подруга. Звуки недалекой ночной схватки стихли неожиданно. — Лобода! Лобода! — закричала Галина Андреевна. Иван отозвался, будто спросонья: — Что там — Лобода? Высунувшись в окно, Иван спросил: — Где это? Стреляли вроде… — От черт хворый, все проспал! Вдали послышался мягкий топот. Галина Андреевна выбежала на середину улицы. — Что случилось? — крикнула она мчавшемуся во весь опор всаднику. — Почему стрельба? С трудом придержав разгоряченного коня, махновец ответил: — Погано, Галина Андреевна! Много красных! — и ускакал. Кузьменко кинулась к хате. Вскоре со двора выехала фура, запряженная парой приземистых крепких коней. Галина семенила рядом, давая наперснице Фене последние наставления. — Коли задержат, говори — срочно за врачом едешь. В Ново-Украинку или в Ровное. А там через Софиевку — и Компанеевка будет. Нестор другой дорогой не поедет. — Знаю! Чего учишь? — ворчала крепко подвыпившая Феня. …Феня вернулась к полудню следующего дня. Она рассказала, что встретила батьку сразу за Софиевкой. Узнав, в чем дело, Нестор Иванович тут же в степи собрал штаб. — Чего я им могла толком рассказать? — оправдывалась Феня. — Одно: у Брода много красных, была стрельба. Повернули они обратно в Компанеевку. Только вошли, как из села Камышеватое, что за балкой, стрельба поднялась. Ох, господи! Вот натерпелась! Да обошлось. Там григорьевцы с самим атаманом оказались. Крепко его красные потрепали. Едва ноги унес. И народу у него почти нет. А тебе, — обратилась Феня к Лободе, — тебе Лашкевич велел тотчас туда ехать. — Добро, — кивнул Иван и отправился седлать каурого. — Наметом скачи! — крикнула Феня вслед. — А то батька сердиться будет! В Добровеличковку Лобода доскакал единым духом, даже не останавливаясь в лесу у места схватки, где валялись перевернутая тачанка, мертвые лошади и несколько махновцев. В селе он узнал, что вся троица, наиболее приближенная к батьке, захвачена чекистами. Тогда, не щадя коня, Лобода помчался в Компанеевку, к Лашкевичу. Егор крепко задумался и сказал: — Сам доложу… — Спасибо, Егор, выручил. Тот только рукой махнул. Как всегда, Лашкевич расположился в хате напротив жилища Махно. Через несколько минут, когда Егор, видимо, доложил батьке о пленении членов штаба, Нестор завизжал так громко и пронзительно, что Иван слышал в хате через улицу каждое слово: — Пострелять! Всех чекистов пострелять! Всех! Всю охрану Михалева пострелять! «Да… — подумал Лобода. — Доложи я — не миновать пули…» Егор вернулся бледный. Выпил горилки. Хмель его не взял, но Лашкевич несколько успокоился. — Иван, — сказал Егор, — отправляйся в штаб атамана. Скажи, что совещания сегодня не будет. Заболел, мол, батька. Там сообщение о «хворобе» Махно встретили улыбкой. Иван не преминул заметить это Лашкевичу. Тот ответил, что соглашение между батькой и атаманом еще не найдено. — Что так? — поинтересовался Лобода. — Атаман соглашается драться против красных и петлюровцев, а про Деникина молчок. Сил вроде бы маловато. А ну их к ляду, пусть сами решают! Все равно, кого бить, абы пожива была! — махнул рукой Лашкевич и сказал Ивану, чтобы тот отправлялся снова в Песчаный Брод, успокоил «матушку» Галину. — Добро, — ответил Лобода, но поехал не в Песчаный Брод, а в Елисаветград. Глубокой ночью он постучал в квартиру Суховольского. Дверь открыл Матвей. — Ты один дома? — Один. Все сбежали в Харьков. Укрылись там в подполье. — Слушай, Махно бесится, что схватили Михалева, Озерова и Бурбыгу. Вряд ли он найдет еще таких преданных псов. Но это уже дело прошлое. В Компанеевке Махно встретился с Григорьевым. Похоже, что они объединятся. — Обожди, я скоро буду, — попросил Матвей… — Приказ такой: постараться поссорить Махно с атаманом, — сказал Бойченко, вернувшись. — Шутишь? — удивился Иван. — В большие дела мне хода нет. — Чего же сразу руки опускать! Посмотришь, что к чему. Так уж им и ссориться не из-за чего. — Матвей говорил бодро, но и сам не представлял ясного пути к выполнению приказа. Он помнил, однако, слова пришедшего к нему на связь Клаусена в ответ на его столь же скептический вопрос: «Если между ними есть разногласия — а они существуют наверняка, — не может быть, чтобы не подвернулся случай довести их до крайности». «Легко говорить… — рассуждал Иван по дороге в Компанеевку. — А я совсем не вхож в столь деликатные дела махновского штаба. Но кое-что сделать, конечно, можно…» Доложив Лашкевичу о выполнении задания, Иван поинтересовался, как с соглашением. — Не понравился браткам атаман, — ответил Егор. День стоял жаркий. Окна на чистой половине хаты были закрыты ставнями. Иван и Егор разлеглись в исподнем на прохладном полу и разговаривали. Лобода пристально рассматривал, как в крутых и узких солнечных лучах, пробившихся сквозь неплотно прикрытые ставни, мерцали медленно плавающие пылинки. — Чем же? — спросил Лобода, который не особенно различал оттенки в бандитизме батьки и атамана. — Да вот… — Лашкевич подтянулся, достал из брюк граненый флакончик с кокаином и отведал здоровую понюшку. — Я был на первой встрече атамана с Нестором Ивановичем. Батька прямо спросил: «Ну как, будем бить коммунистов и белых?» — «Будем бить коммунистов и петлюровцев», — ответил Григорьев. «А почему не Деникина?» — поинтересовался батька. «Деникина я еще не видел и не знаю, кто он, — сказал атаман. — А коммунистов и петлюровцев знаю». — Чего же батьке еще надо? — постарался удивиться Иван. — Петлюра — самостийник, а Деникин — золотопогонник. Петлюра — за помещиков, беляки — за помещиков, ну, а большевики — за совхозы, Чека и вообще властники. — Значит, не будет соглашения? — Уже подписали. — Егор махнул рукой. — Уговорил батька штаб. Сил, мол, больше. Мне это не по душе, да и другим тоже. «Выходит, действительно разногласия-то есть, — подумал Иван. — Не хочет Григорьев против белых идти. А почему? Непонятно…» — Чего это атаман беляков любит? — Коли удалось бы узнать, так батька с Григорьевым чикаться бы не стал, — фыркнул Лашкевич. — Надо помочь батьке, — сказал Иван. — Очень даже надо. — У тебя план есть? — спросил Егор. — Пока нет… И разговор окончился. А согласованные действия махновцев и григорьевцев стали на редкость наглыми. Банды нападали на совхозы, убивали организаторов, в военкоматах уничтожали учетные карточки, срывая сроки мобилизации, грабили крестьян. Дважды бандиты нападали на Елисаветград. Тем временем Лобода собирал нужные сведения про Григорьева. Окольными путями Иван прослышал, что атаман оставил в усадьбе одного помещика пулемет, два ящика патронов и винтовки. Лобода поведал об этом Лашкевичу, а тот передал батьке. Со слов же Ивана Лашкевич сообщил Нестору о личной расправе Григорьева над махновцем, который стащил лук с поповского огорода. Так же охотно передавал он Егору признания махновских командиров о том, что стоит показаться разъездам конницы Шкуро, как атаман отдает приказ отходить подальше в лес, мотивируя это слабостью сил. В начале июля объединенные банды ушли в Черно-Знаменские леса и закрепились в районе Оситняжка-Сентово-Федварь. Сотня Лашкевича обосновалась в Федваре. И тут на одной из попоек у Егора Лобода услышал, как приближенный Григорьева, бывший офицер Евграфов, хвастался, что порубал в Николаеве большого чекиста. Ух как захотелось Лободе разрядить обойму в его морду! Аж пальцы свело от злости. Однажды утром Лашкевич и Лобода объезжали лесные заставы. Они неторопливо двигались под плотным пологом дикой дубравы. Причудливые блики проплывали по кителю ехавшего впереди статного Егора, скользили по лощеному крупу его вороного коня. Проселок был еще сырой после дождя. Изредка под копытами лошадей смачно чавкала грязь. Неожиданно из-за куста послышалось: — Стой! — Свои… — Лашкевич сдержал вороного. — Все спокойно? — Двух каких-то пымали. — Часовой вышел из-за куста. — Григорьева шукают. Самого атамана им надобно. Лашкевич и Лобода проехали в глубину леса. Там у шалаша горел костер, около которого сидели махновцы. Между ними — двое, одетые в свитки и брыли. Едва увидев представительного, фертом сидевшего в седле Лашкевича, они вскочили. Выправка у них была отменной. «Офицерье… Белая косточка», — понял Лобода. — Кто такие? — наезжая на неизвестных грудью вороного, спросил Лашкевич. — Чего тут шастаете? — Имеем личный пакет к атаману Григорьеву. — От кого? — Доложим атаману, — отвечал бойкий «крестьянин» с холеным лицом. Второй держался позади. — Давайте письма, — настаивал Егор. — Вы задержаны. — Задерживайте. Пакет передадим только в руки атаману. — А каков из себя Григорьев ваш? — спросил Лобода. В голове его мгновенно созрел дерзкий план. — Мы его не видели, — отрапортовал «крестьянин». — А может, Махно видели? — полюбопытствовал Иван. — Тоже не видели. Мы не из этих краев. Махно нам не нужен. Мы с поручением к атаману. — Добро, доложим, — бросил Лобода и отъехал вместе с Лашкевичем. — Давай, Егор, к батьке. План у меня есть… Слухай, уговори Нестора Ивановича, щоб представился, будто он и есть атаман. Тогда оци офицеры сами передадут ему письмо. И скажут, что нужно. — Як ты додумався, Иван! — воскликнул просиявший Лашкевич. — Да ты ж у меня ума палата, як кажуть! И, не щадя коней, они помчались в штаб. Батьке план понравился. Переодевания и мистификации были в его вкусе. — Побачимо, с кем наш атаман якшается… Беляков под охраной доставить ко мне. Думал Нестора Ивановича провести, атаман? Шалишь! В штабе переодетых офицеров встретил сам Нестор в офицерском мундире царской армии, но без знаков различия, подтянутый, в фуражке, куда он спрятал свои анархистские патлы. Опершись на эфес сабли, Махно ел глазами деникинцев: — Я атаман Григорьев. Что имеете сообщить, господа? Вперед выступил молчавший до этого «крестьянин»: — Командующий Добровольческой армией просил передать вам пакет. Лично. А на словах — он ждет вас. Махно протянул руку. — Прошу извинить! — «Крестьянин» сел, положил ногу на ногу и ножом отодрал подметку на австрийском ботинке. Достал из-под нее сложенный вдвое пакет. — Прошу. Батька резким движеньем схватил конверт, вскрыл его, пробежал глазами бумажку. Лицо его побагровело, а уголки губ задергались. Еще раз глянув на офицеров, он подал Дашкевичу знак следовать за ним и вышел в соседнюю комнату. Там он еще раз прочитал подписанную самим Деникиным бумагу, скомкал ее, в руке: — Егор, вот этих деникинцев украсть так, чтоб ни одна живая душа не знала. Возьми Алима. А тебе — спасибо, Егор. — И батька положил руку на плечо Дашкевича. — Это не я придумал — Лобода, — смущенный лаской, ответил сотник. — У Ивана ума палата. Преданный человек. — И ему и тебе благодарствую. Змеюку пригрели! Деникин ему генерала сулит, коли нас продаст! Ну, он от меня получит! Пока чтоб тихо. А этих украсть сейчас же! — И вдруг, расчувствовавшись, батька проговорил: — Спасибо и тебе, и Ивану. А я было подумывал, что после гибели Озерова да Михалева с Бурбыгой, почитай, и не осталось до конца преданных мне людей. Полчаса спустя в глубине леса оба деникинца были зарублены Лашкевичем и Алимом, личным палачом батьки. Днем Махно собрал приближенных и под строгим секретом сообщил им о письме Деникина к Григорьеву. Решили на следующий день, в субботу, устроить митинг в соседнем селе Сентово и разоблачить атамана перед народом. Об этом Лободе рассказал Дашкевич, приказав Ивану скакать в Сентово, чтобы приготовить там ночлег для Махно. Прибыв в Сентово еще до захода солнца, Иван сразу же направился в исполком. Он передал, чтобы завтра был обед на пять тысяч человек, шестьсот мешков овса для лошадей. Исполкомовцы долго не совещались — знали: несдобровать, коли ослушаются. Устроился Лобода в исполкоме. Вечером он долго сидел на крыльце, глядя на село. Оно было большое и богатое. В нем на протяжении многих лет квартировали кавалерийские части. В центре раскинулся большой плац, где проходили учения. Рядом с ним — большая конюшня, но теперь над ее входом висело полотнище с надписью: «Клуб». Утром крестьяне стали сносить к исполкому мешки с овсом. Хмуро сваливали ношу с плеча, плевались и уходили. Над хатами бойко курились дымки — хозяйки варили борщ с салом и кашу на пять тысяч человек. В селе стояла тишина, словно в небе над ним собрались тучи и вот-вот ударит гроза. К полудню появились махновские тачанки. Они остановились на площади. «Как же это Махно расправится с атаманом? — думал Лобода. — Не один же атаман явится в Сентово! Не с одними телохранителями! Коли махновские тачанки будут в центре села, то григорьевцы вокруг расположатся. Чего задумал батька? Никогда не разберешься в его замыслах. Сколько штабные ломают голову, а Махно все по-своему переиначит». Действительно, после полудня вокруг плаца, где разъезжали махновские тачанки, стали располагаться григорьевские части. Появился в исполкоме и сам Григорьев — плотный, похожий на немецкого фельдфебеля, с пучком усов под носом, постриженный ежиком. Атаман приказал созвать крестьян на митинг в клуб к восьми вечера. Батька прибыл в Сентово как-то незаметно, проскочил на тачанке, запряженной вороной тройкой, прямо к дому попа и сидел там, словно паук. К восьми Лобода пошел в клуб. Огромный зал был переполнен. Селяне сидели чинно, бабы и молодайки лузгали семечки, громко переговаривались. Иван остановился у двери в задних рядах. На сцену вышли батька и атаман. Оба вооруженные, что называется, до зубов: при маузерах, саблях, а у Григорьева еще и из-за голенища торчал револьвер. Первым выступил Махно. Он говорил негромко, зная, что при крике его тенорок становится визгливым. Батька агитировал за вступление в повстанческую армию его имени для борьбы с белыми и коммунистами тоже, потому что он воюет «со всякими властями, во имя революции самих селян, за безвластие на всей земле». Слушали Махно хмуро. Потом говорил Григорьев, хвастался. Обещал сто тысяч на оборудование клуба, а также навезти в село всякой мануфактуры и галантереи. Хоть на полмиллиона. Первосортной. «Еще бы, сукин сын! — подумал Лобода. — Вы в Одессе на два миллиона награбили, да в Николаеве, да в Херсоне. Подзаработать хочет атаман. Что же это батька надумал?» Но после выступления Григорьева митинг неожиданно закончился, и было объявлено, что завтра, в воскресенье, состоится сходка. Лобода недоумевал. Атаман и батька, каждый в сопровождении огромной свиты телохранителей, разошлись по домам. Село быстро погрузилось в сон, вернее, в чуткое полузабытье. Все затаилось. Даже собаки не брехали в ту ночь. Наверное, хозяева попрятали их по подпольям, по сараям. Но на рассвете лай прокатился по окраинам. К исполкому, где разместился махновский штаб, подскакал Лашкевич. Иван узнал, что четыре сотни, прибывшие с ним, по приказу батьки заняли окраины Сентова. «Так! Захлопнулась западня! — понял Лобода. — Вот почему Махно был вчера миролюбив. Он дождался, когда григорьевцы войдут в село. Теперь они зажаты между тачанками в центре села и кавалерией по окраинам. Ну и хитер же Нестор!» На плац стал собираться ничего не подозревающий народ. Впрочем, ни григорьевцы, ни махновцы не ведали, что их «мирное сотрудничество» вот-вот взлетит на воздух. Перед началом митинга Махно зашел в исполком и, собрав свой штаб, накричал на командиров: — Если сегодня с ним, с этим гадом, не будет покончено, всех перестреляю! Батька сказал — значит, так. «Совещание» проходило при закрытых дверях, но окна оставались открытыми. Лобода слышал каждое слово. Вскоре в исполком пришел Григорьев со свитой. Иван увидел, как Семен Каретников, поймав за плечо пьяного уже с утра повстанца, сказал ему что-то и скрылся. Махновец же, вытаращив красные глаза, выхватил саблю и двинулся на григорьевца, мирно стоявшего у соседней хаты. Завязалась драка. Из исполкома выскочил юркий Махно и принялся бить защищавшегося григорьевца наганом по физиономии. Следом выбежал атаман, оттащил Махно и принялся уговаривать брызжущего пеной батьку, чтоб тот не горячился, что недоразумение уладится, что все это пустяки и не надо перед людьми срамиться. «Надолго ли Григорьеву хватит христианского смирения?» — усмехнулся про себя Лобода. Приведя себя в порядок после столь дружественных объятий, батька и атаман отправились на площадь. Но первым выступил не Махно, а новый член его штаба Алексей Чубенко: — Громодяне! Свободные селяне! Вступайте в нашу повстанческую армию имени батьки Махно! У вас разграбували кооператив. Це дило не наших повстанцев, а оцих григорьевцев. А сам атаман — бувший охвицер, и у ньего в глазах и зараз блестят золотые погоны… Тут на трибуну выскочил Григорьев. Выхватив револьвер, он заорал на Чубенко: — Брехня! Брешет этот сукин сын! Он ответит за свою брехню, громодяне! — Подожди, атаман! — крикнул Махно. — Поговорим. «Вот оно, начинается!» — понял Лобода и подался в сторону от исполкома, куда направились со свитами батька и Григорьев. Иван видел, что и убийца Абашидзе, липовый черноморец Евграфов — хитрая бестия! — тоже почуял неладное и не пошел в дом. От угла палисадника, где остановился Лобода, было хорошо видно, что происходило в помещении. Лиловый от бешенства Григорьев, держа в руке парабеллум, пошел на Чубенко: — Ну-с, сударь, скажите, на основании чего вы все это брехали крестьянам? — Ты говоришь — брехня? — завопил Чубенко. — А почему ты не сказав, що расстрелял нашего повстанца за то, що он вырвал лук на поповом огороде? А почему же это ты не захотел наступать на Плетеный Ташлык, когда там булы шкуровцы? К кому приезжали охвицеры, которых батько порубал в пятницу? Только Чубенко выговорил это, Григорьев вскинул парабеллум. Но стоявший рядом с атаманом Каретников снизу подбил ему руку. Пуля пошла в потолок. Тут же выстрелил Чубенко в упор, в лицо атамана. Пуля скользнула по левому надбровью Григорьева. — Ой, батько! Батько! — взвыл он и бросился из дома. — Бей атамана! — завизжал Махно и кинулся вслед. К выбежавшему на крыльцо Григорьеву подскочил конный махновец и полоснул его саблей. Атаман покатился со ступенек. Телохранитель Григорьева выхватил револьвер и хотел пристрелить батьку. Но один из махновских командиров схватил револьвер за ствол, попал пальцем под курок, получил в живот пулю и повис на григорьевце. Тогда Махно обежал телохранителя атамана и выпустил ему в спину всю обойму маузера. — Бей! Стреляй гадов, предателей! — вопил батька. — Оцепить село, чтоб ни один не ушел! Махновцы тут же, на плацу, стали приканчивать ошарашенных, ничего не понимающих григорьевцев. Лобода заметил, как скользнул в толпу Евграфов, побежал за ним, нагнал, когда тот готов был юркнуть в проулок между хатами. — Стой, Евграфов! — А, это ты… — И липовый моряк потянулся к кобуре. — Не шевелись! Это ты убил в Николаеве Абашидзе? — Я… Я Чека прикончил! Я. Скажи, Иван, об этом батьке! Я за него, скажи! — Хорошо, Евграфов, скажу. А пока, гадина, получай за Абашидзе! Лобода посылал в своего лютого врага последнюю пулю из обоймы, когда позади раздался голос Лашкевича: — Кого? — Евграфова, григорьевского! — Ну и молодец, Ваня! Прыткий, когда надо! Лишь через час в селе наступило затишье. Окруженные, зажатые между тачанками и кавалерией григорьевцы сдались. Штабное начальство атамана было перебито. Засовывая маузер в деревянную колодку, Махно блестящими, еще не остывшими от схватки глазами оглядел площадь, вытер пену, выступившую по углам рта: — Этих гадов не хоронить! Выбросить собакам! Батькин штаб отправился подкрепиться и отпраздновать победу. Изрядно выпив и успокоившись, Махно пожелал узнать результаты операции. — Ну, докладайте… Командиры сообщили, что большинство григорьевцев примкнуло к повстанческой армии, кое-кто сбежал. Верблюжанский же полк был распропагандирован красными, видимо, заранее. Едва там прослышали об убийстве атамана, как солдаты перебили своих командиров и перешли на сторону большевиков. Выслушав эту весть, Нестор махнул рукой и добродушно выругался. Потом подал команду: «По коням!» — и его сотни двинулись на север, в Черный Яр. По дороге батька налетел на железнодорожную станцию Хировка. Едва на путях стихла пальба, Махно с приближенными торжественно направился к зданию вокзала. Батька ударом ноги распахнул дверь в комнату телеграфиста. — Стучи! — приказал Махно бледному лысому человечку, сидевшему у аппарата. — К-куда… Кку-ку-да стучать? — Всем! Стучи. Всем! Всем! Всем!
«Копия — Москва, Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев. Подпись: Махно».«Ну вот, — подумал Лобода, — сожрал паук паука. И сам сообщил об этом. Вот и хорошо…»
Игорь Подколзин ОДИН НА БОРТУ
Когда Егор приоткрыл веки, ему показалось, что кругом разлилась густая, вязкая, как мазут, чернота. В ушах стоял звон, будто над головой кто-то глухо и настойчиво колотил в медный таз. От колена к бедру растекалась тупая ноющая боль. Он попытался встать, но перед глазами замелькали оранжевые искры, к горлу комом подступила тошнота, и он снова повалился на пол. Немного отдохнув, Егор нащупал в кромешной тьме ступеньки скоб-трапа и, еле сдерживая стон, полез наверх. За ворот бушлата от затылка к спине текло что-то липкое и теплое. Внезапно голова Егора уперлась в крышку люка. Он попробовал поднять ее, но она даже не сдвинулась с места. Тогда он согнул спину и, выпрямляя ноги, надавил на железную плиту. Все было тщетно. Да разве поднимешь ее, проклятую, если в ней пуда три! Был бы лом или еще что… Спустившись вниз, Егор стал шарить вокруг в надежде отыскать какой-нибудь предмет, который помог бы ему освободиться из этого стального ящика. Под руки попадались ведра, обрывки тросов, банки из-под краски и разный боцманский хлам. Наконец он нащупал лежащий у переборки пожарный багор. «Вот это как раз то, что надо», — подумал Егор и, перебирая ладонями по скользкой мокрой стене, пошел к трапу. Взобравшись на несколько скоб, он попытался просунуть багор под злополучную крышку. Несколько раз немудреное орудие вырывалось из рук и с грохотом падало вниз. Егор спускался, подбирал его и вновь колотил и царапал заклинившуюся крышку. Неожиданно корабль, качнуло, и в то же мгновение Егора словно ударило по глазам полосой света. Щель! Егор дрожащими руками просунул в нее багор. Так, что свело позвоночник, уперся плечом в крышку и всем телом нажал на рычаг. Узкая полоска стала шире. Егор уже мог видеть часть палубы и клочок серого неба. «Еще, еще немного! Ну хоть чуть-чуть!» — словно умолял кого-то Егор. Напрягая все силы, он давил и давил, толчками просовывая багор в зазор между комингсом[110] и краем люка. Внезапно судно резко накренилось на другой борт. Егор не удержался и сорвался с трапа, гулко ударившись головой о выступающий шпангоут. Резкой болью словно пронзило весь мозг. И опять противный клубок подкатил к горлу. От досады и отчаяния Егор готов был заплакать, но, взглянув вверх, снова начал карабкаться по трапу. Багор торчал на месте, зажатый двумя ребрами стали. — Ничего, ничего… Главное — понемногу, не торопясь, — успокаивая себя, шептал мальчик. Он снова ухватился за рычаг и почувствовал, как крышка подалась. Егор просунул в щель доску и, передвинув багор ближе к краю, навалился на него грудью. Щель стала шире. Обрывая на бушлате пуговицы, он протиснулся в образовавшееся отверстие и, царапая по настилу палубы пальцами, начал продираться наружу. «Если сейчас качнет, то конец», — пронеслось в мозгу, и он словно почувствовал, как хрустят его кости. Последним рывком, срывая ногти, он дернулся вперед и вывалился на палубу. Казалось, что сердце разрывается на части. Как рыба, вынутая из воды, он жадно хватал ртом холодный морской воздух. В висках упругими волнами стучала кровь. Отдышавшись, Егор встал на колени и огляделся вокруг. Все так же круто накренившись на правый борт, точно привалившись к гряде камней, лежал «Лейтенант Шмидт». Кругом не было ни души, только над почти погрузившейся в воду кормой с криком кружили чайки. А где же все? Неужели ушли? Оставили его здесь одного, на сидящем на рифах корабле? Не может быть, чтобы сами ушли, а его, юнгу, бросили! И вдруг он понял, посмотрев на небо, что прошло уже много времени. Очевидно, он потерял сознание и долго лежал там, в форпике,[111] — сейчас солнце уже опускалось к горизонту, а когда он побежал за злополучным бочонком, было утро. Но куда исчезли люди? Егор почувствовал странное одиночество. Ощущение горькой обиды и на матросов, и на боцмана, его доброго друга Евсеича, заполнило все его существо. Сами собой на глаза навернулись слезы, и он заплакал… Немного успокоившись, Егор вытер кулаками глаза и, прихрамывая, держась за леер,[112] пошел в кают-компанию. Забравшись на диван, он было попытался еще раз осмыслить свое положение, но веки слипались, а от усталости не хотелось даже думать: очень болело разбитое колено и ломило голову. Юнга прикорнул в уголке, засунул в рот горевшие огнем ободранные кончики пальцев, подтянул к подбородку колени и, убаюканный легким плеском волн о борт судна, заснул…«Лейтенант Шмидт», военный транспорт, шел в свой последний рейс. Корабль был старый, он долго и честно служил людям, но и его не пощадили годы. По решению комиссии, после похода на Север его должны были списать на слом. Чувствовал ли это сам корабль? Очевидно, да. Он кряхтел, взбираясь на крутые, гороподобные волны, и порой устало, словно надсадно, кашлял и отплевывался шапками черного дыма и клубами белесого пара. Команда любила своего «Шмидта». Перед походом боцман израсходовал весь запас краски, обновляя обшарпанные, побитые на швартовках, видавшие виды борта и надстройки. В пункт назначения прибыли благополучно. Разгрузились, пополнили запас воды и угля и, приняв на борт пассажиров, ждавших оказии в Петропавловск, вышли в море. Первые два дня все было нормально, жизнь на судне шла своим строго определенным порядком. На третьи сутки к вечеру резко упал барометр. На горизонте показались темные зловещие тучи. Пошел дождь. Потом налетел шторм. Огромные волны валили корабль с борта на борт. По палубе стремительными потоками гуляла вода. Пенистые гребни барашков захлестывали ходовой мостик.[113] В довершение всех бед из-за частого оголения винта начались перебои в машине. Ночью она совсем остановилась. Сдавало сердце работяги парохода. Напрасно перемазанные маслом машинисты и чумазые белозубые кочегары пытались наладить двигатель. Он молчал. Струйки пара с жалобным свистом выбивались из трубопроводов. Цилиндры только хлюпали и сопели, но не могли уже вращать вал. Волны, казалось, только и ждали этого — они с новой силой устремились на потерявшее ход беспомощное судно. В кромешной тьме горы воды набрасывались на корабль и кусали его, и грызли, и били глухими ударами. Проржавевший корпус стонал и скрипел, точно жаловался на свою злосчастную судьбу. Мощным всплеском волны разбило в щепки единственную шлюпку. Потоки воды несколько раз чуть не смыли катер. Сорвало с креплений и унесло в море оба спасательных плотика. К утру командир после совещания с замполитом передал в порт радиограмму с просьбой о помощи. Когда несколько рассеялся туман, люди увидели, что шторм и течение отнесли их в сторону от курса. Вдали за низкими тучами серой полоской виднелась земля с упирающимися в облака сопками. «Шмидт» дрейфовал в залив Кроноцкого. Едва позволила глубина, отдали якоря. Судно замедлило бег, развернулось против волны и остановилось, словно прилегло отдохнуть. Из порта сообщили, что на место катастрофы вышли спасатель «Наездник» и буксир «МБ-26». Вечером шторм усилился. Полосы белой пены, как следы гигантской метлы, покрыли воду. Остроконечные волны, как будто стремясь выместить всю свою злобу на непокорном корабле, с новой силой ударили в борта. В струну натянулись вытравленные до жвака-галса[114] якорные цепи. Срывая верхушки волн и бросая их на надстройки «Шмидта», завыл и засвистел в снастях шквалистый ветер. Обе цепи лопнули. Как освободившаяся от пут лошадь, корабль рванулся и в пене и бурлящем потоке стремительно понесся к берегу. Быстро изготовили к отдаче запасной якорь. Но как только его сбросили за борт, толстый трос мгновенно оборвался, будто был не из стали, а из скрученной бумаги. Через час «Лейтенант Шмидт» плотно сидел на камнях в полутора милях от берега… И, будто утолив свою жестокость, шторм начал стихать. А когда к приткнувшемуся к мели кораблю подошли «Наездник» и буксир, по поверхности воды еле-еле ходила зыбь. Дождь и ветер прекратились одновременно, а сквозь разбросанные клочья облаков в небе холодно замигали голубые северные звезды… С рассветом океан был спокоен и ласков, ничто не напоминало о вчерашней трагедии. В расстоянии полумили от «Шмидта» стояли на якорях спасатели. С них спустили бот, водолазы осмотрели корпус и после долгого совещания пришли к выводу: имеющимися средствами снять с рифов корабль нельзя. Приняли решение передать людей и наиболее ценное оборудование на буксиры и идти в Петропавловск. Оттуда потом прибудут суда аварийно-спасательной службы и решат, что и как делать дальше. В полдень начали перегрузку. Мачты «Шмидта» и буксиров соединили тросами, и на блоках в больших пеньковых сетках стали перебрасывать груз. Утром второго дня корабль полностью разгрузили, сняли абсолютно все представляющее какую-то ценность, к борту подошел катер, чтобы взять последних членов команды. Корабельный юнга, Егор Булычев, мальчишка лет четырнадцати, уже собирался идти на катер, но вдруг вспомнил, что на судне в форпике осталась гордость боцмана — новый дубовый анкерок. Егор бросился на бак, открыл тяжелую крышку люка, вставил вместо распорки швабру и стал на верхние скобы трапа. В этот момент нос корабля приподняло волной и накренило на борт. Ручка швабры переломилась. С грохотом тяжелая крышка ударила Егора по голове, и он, теряя сознание, полетел вниз…
— Проверили корабль? Никого не осталось? Всех сняли? — спросил командир у боцмана. — Всех. Лично осмотрел. Только вот Егора что-то не видно, все тут вертелся. Очевидно, с первым рейсом ушел. На корабле нет, все отсеки сам обошел. — Действительно, он уже, наверное, на «Наезднике». — Командир повернулся к сигнальщику: — Ну-ка, быстренько запросите их: Булычев там? Сигнальщик замахал флажками, вызывая спасатель. С «Наездника» стали отвечать. — Ну что, там он или нет? — Боцман начинал нервничать. — Отвечают, у них. Где же ему еще быть? — улыбнулся сигнальщик. — У него везде друзья, паренек что надо. — Слава богу, а то даже в пот ударило! — Мичман посмотрел на одиноко сидящий на рифах корабль и произнес: — Прощай, старина, мы еще придем к тебе, до свидания, друг! Корабли снялись с якорей и легли курсом на Петропавловск…
По прибытии в Авачинскую губу «Наездник» стал на рейде у мыса Сигнального, а «МБ» ошвартовался к причалу. Экипаж «Шмидта» выстроился на пирсе. Командир отдал приказ проверить личный состав. Помощник через полчаса доложил: — Все в наличии, нет юнги Булычева, он на спасателе. Приятели, видно, там у него, вот и загостился. — А что, они будут швартоваться к причалу? — Нет, им приказано идти во Владивосток недели на две. — Добро. Пусть и Егор идет с ними, моряку поход не повредит, а заодно мальчишка и тетку проведает. Экипаж «Шмидта» разместился на плавбазе. Утром «Наездник» поднял якорь и ушел во Владивосток…
Проснулся Егор от лютого холода. Все тело била мелкая дрожь. За стеклом иллюминатора серел рассвет. Еле-еле разогнув затекшие ноги, Егор сполз с дивана и стал пробираться по наклонному полу к выходу из кают-компании. Он долго открывал заклинившуюся от крена корабля дверь и наконец вышел на палубу. Светло-розовое солнце еще только выглядывало из-за горизонта. Все кругом дышало промозглым утренним холодом. Никогда еще Егор не видел «Шмидта» таким пустынным. Где-то скрипел и хлопал незадраенный люк, а за бортом лениво и монотонно плескалась волна. Был отлив, и громада парохода еще больше возвышалась над черными камнями. Егор почувствовал, что он голоден и ужасно хочет пить. Он прошел в офицерский буфет и открыл шкаф. Оттуда прямо на него со злобным писком выскочила огромная седая крыса и, скользя по мокрой палубе и судорожно перебирая лапами, исчезла под диваном в кают-компании. Оправившись от испуга, Егор стал искать какую-нибудь еду. На пустых полках валялись крошки хлеба, лавровый лист и кусок наполовину изгрызенной соленой чавычи. Егор пошарил в столе и нашел там нож. Он отрезал от рыбы хвост и с жадностью впился зубами в розовую мякоть. Он ел до тех пор, пока от соли словно огнем не стало жечь губы. Потом он напился, обшарил все стеллажи, но ничего съедобного не нашел. Он спустился вниз. Люк, ведущий в продовольственную кладовую, был открыт, но ее почти полностью заливала вода. Егор пошарил отпорным крюком: крюк уперся в ящик, но все попытки зацепить его были тщетны. Тогда мальчик поднялся на палубу и прошел на ходовой мостик; в штурманской рубке были сняты все приборы, даже диван убрали, на котором обычно отдыхал командир. Егор сел и задумался. Он начал понимать, что произошла какая-то ошибка и рано или поздно за ним придут. А пока надо действовать и прежде всего попытаться достать из кладовой ящик; больше ничего съестного на корабле, очевидно, не осталось. Спустившись опять в кладовую, он долго шарил футштоком,[115] пытаясь поддеть груз, но ящик соскальзывал и только уходил все дальше и дальше. Тогда Егор разделся и полез по трапу в ледяную воду. От холода захватило дыхание, словно обручем сковало грудь. Он погрузился по шею, но до ящика было еще далеко. Набрав полные легкие воздуха, Егор нырнул и, перебирая руками поручни, поплыл в глубину. Точно тисками сдавило голову, грудь готова была разорваться от недостатка воздуха, но он упрямо опускался ниже и ниже. Вот уже его руки коснулись ящика. В глазах пошли розовые круги, терпеть больше было нельзя, и Егор стремительно пошел наверх. Высунувшись по пояс из воды, он долго отдыхал. Тело уже не ощущало холода. Он опять глубоко вдохнул воздух и нырнул снова. Ему удалось даже немного поднять ящик, но воздух кончился, и Егор снова выскочил на поверхность. На этот раз он отдыхал дольше. После четвертой попытки он наконец обхватил ящик руками и, оттолкнувшись от пола, всплыл вверх. Ухватившись за поручень, Егор поставил свою добычу на колено и начал выбираться из кладовки. В ящике оказались три килограммовые банки компота… Он сложил их в кают-компании и опятьотправился осматривать судно. К полудню Егор возвратился в кают-компанию. Обыскав весь корабль, он нашел одеяло, кусок парусины, старый ватник и немного сухарей. На камбузе в бочке было около трех литров пресной воды. Открыв жестянку ножом, он начал макать сухари в сироп и с наслаждением есть сладкую размякшую кашицу. Он не заметил, как опорожнил банку и съел почти все сухари. Напившись воды, Егор лег на диван, подложил под голову ватник, укрылся одеялом и притих. Он долго лежал, выглядывая из своего убежища, как мышонок из норки, пока наконец не забылся тяжелым сном.
Раньше Егор плавал воспитанником на крабовом заводе, куда его с большим трудом через знакомого судового механика ухитрилась устроить вездесущая тетка. Родителей своих он помнил плохо. Тетка, одинокая старушка, жившая на пенсию и на то, что продавала со своего огородика, рассказывала ему, что отец его погиб на войне в сорок первом году, а мать пропала без вести. Переход на краболов был для мальчика целым событием. Он быстро привык к веселым рыбачкам и к морякам, которые всячески его баловали. Плавал бы он с ними и сейчас, если бы не заболел скарлатиной. Мальчика поместили в больницу в Петропавловске, где в ту пору находилось судно. А когда он выздоровел и выписался, краболова в порту уже не было, он ушел на промысел и ходил где-то в Охотском море, добывая огромных камчатских крабов. Весь день Егор бродил по городу, а к вечеру, голодный и иззябший, подошел к стоящему в порту пароходу с надписью на борту: «Лейтенант Шмидт». У трапа, ухватившись за поручни, возвышался усатый пожилой мичман-сверхсрочник, а рядом с ним стоял вахтенный матрос. — Дяденька, вы не во Владивосток идете? — робко спросил Егор. — А тебе туда зачем, малец? — Боцман с любопытством уставился на парнишку. — Судно мое, краболов, может, там. Отстал я. — Как же это так — отстал? Прогулял, что ли? А? — Моряки засмеялись. — Нет, заболел я, в больнице был, а судно ушло. — Заболел, говоришь? Здоровье подорвал? — Да, захворал. — Егор стеснялся называть болезнь, считая ее слишком детской, и решил упомянуть о другой, слышанной от санитарки: — «Инфаркт» у меня был. — Инфаркт? — Боцман оглушительно захохотал. — Ну, бес, инфаркт у него, скажите на милость! Вот салажонок. Но, очевидно, мальчонка действительно выглядел плохо. На его остриженной под машинку голове каким-то чудом держалась видавшая виды пилотка, старый ватник был велик, а на ногах его красовались явно не его размера сапоги. — Есть, поди, хочешь, горе ты мое? Ишь тощий — страх один! — пожалел его боцман. — С утра ничего во рту не было. Да и смерз я сильно. — Проходи. Пойдем на камбуз, посмотрим — может, что от обеда осталось. — Боцман взял его за плечи и повел на корабль. Через час Егор, сытый и согревшийся, сидел в кают-компании и рассказывал командиру и штурману свою историю. Рядом, загораживая собой дверь, стоял мичман и улыбался в усы. — Значит, плавал на краболове, — командир внимательно смотрел на Егора, — а потом тебя свалил «инфаркт»? Так, что ли? — А как же, и в Охотском, и на острова ходили. Хорошо там было! Раздольно, а крабов ешь — не хочу. — Ну, а дальше как же? Ведь краболов ушел на полгода. Куда же ты теперь? Что делать-то собираешься? — Сам не знаю. Может, как-нибудь разыщу своих. — Да, а звать-то тебя как? — Егор. Егор Булычев. — Как, как? — Командир и штурман, улыбнувшись, переглянулись. — Егор Булычев. Что особенного? Имя как имя. — Ну-ну, конечно, ничего особенного. Разве что Горький о тебе писал. — Никто обо мне не писал, да и адреса у меня нет. — И вдруг неожиданно для себя добавил: — Вот взяли бы вы меня к себе. А? — Да ведь у нас военный корабль. — Ну уж и военный — ни одного пулемета даже нет! — У нас задачи другие: мы обслуживаем флот, снабжаем военных моряков всем необходимым. — Вот и я бы обслуживал. — Да кем же мы тебя возьмем, на какую должность? — А вот хоть как в картине «Сын полка». Ну, воспитанником или там сыном корабля, что ли, сыном «Лейтенанта Шмидта», например. Командир и штурман от души рассмеялись: — Ну, разве что сыном знаменитого лейтенанта. — А что, товарищ командир, малец, видно, смышленый. Да и куда он теперь? — вмешался в разговор боцман. — А мы его к делу приставим, горнистом будет, как на миноносцах, любо-дорого посмотреть. Иметь на корабле горниста было давнишней мечтой командира, и боцман попал в самую точку. — Играть-то умеешь на трубе? — Уме-е-ю, — протянул Егор. — Вы только возьмите. — Ладно, научим, и не тому учили. Зачислите его, мичман, на все виды довольствия. Справьте обмундирование и все, что положено. — Спасибо, дяденька капитан! А я уж постараюсь. Да я, — от радости Егор даже не мог говорить, — все-все сделаю! Так Егор Булычев стал воспитанником-горнистом военного транспорта «Лейтенант Шмидт».
Казалось, что кто-то гудит в самое ухо. И громыхает над головой ржавыми железными листами. Как в полузабытьи, Егору чудилось, что диван куда-то покатился и проваливается в бездну. Он открыл глаза и приподнялся. Кают-компания действительно качалась, пол наклонялся все больше и больше, и по нему, журча, переливалась вода. Откуда-то снизу доносился зловещий скрежет стали о камни. Егор вскочил, шлепая по воде ногами, подошел и открыл дверь. Рев ветра и шум волн словно оглушили его. Корабль еще больше накренился. Море кругом кипело. Завиваясь белыми гребнями, по заливу ходили крупные волны. Вдали, у самой кромки берега, ревел и клокотал прибой. По надстройкам хлестали соленые ледяные струи, огромные валы перекатывались через борт и маленькими шипящими водоворотами завивались у фальшборта.[116] Корма корабля то приподнималась, то опускалась, ударяясь о скалы. Корпус мелко дрожал под напором воды. В залитом доверху машинном отделении что-то стонало и хлюпало. Егору стало жутко. «Прежде всего надо задраить люки, тогда судно все-таки будет удерживаться на плаву», — подумал Егор и, цепляясь за леера, обдаваемый холодными потоками, побежал по палубе. Он приподнимал вырывавшиеся из рук тяжелые крышки и накрепко завинчивал гайки-барашки. Один раз огромная волна оторвала его от люка и, закружив в водовороте, бросила к трубе. Захлебываясь, Егор попытался ухватиться за какой-то трос, но поток, отхлынув, увлек его за собой, и, если бы не леерная стойка, за которую судорожно уцепился мальчишка, быть бы ему за бортом. Он вскочил и по ходившей ходуном палубе побежал на мостик. Вскарабкавшись по трапу, Егор вошел в рубку, плотно закрыл за собой дверь и прислонился к иллюминатору. Океан разошелся не на шутку. Он словно стремился добить тяжело раненный корабль и обрушивал на него всю свою ярость. Только теперь, немного отдышавшись, Егор почувствовал, как у него от страха дрожат колени и подступает тошнота. Почему же не идут за ним? Где командир, где боцман? Ведь погибнет он здесь, среди разбушевавшихся волн, на покинутом командой тонущем корабле. Егор вцепился в стойку и всхлипнул. Неужели до сих пор не обнаружили, что его нет? Им хорошо там в тепле, а он один, голодный и промерзший до костей… Мальчик рыдал все сильнее и сильнее… Так он и прождал всю ночь в рубке, вздрагивая от сильных ударов, прислушиваясь к жуткому стону и завыванию шторма. И каждую минуту ожидая, что стихия разнесет в прах этот маленький ненадежный островок. Утром океан клокотал по-прежнему. Егор увидел, что за ночь волны сорвали мачту, согнули в дугу шлюпбалки[117] и начисто переломали все леерные стойки. Корабль с кормой, почти полностью ушедшей в воду, накренившись градусов на тридцать, представлял грустное зрелище. Егор очень хотел есть, его сильно мучила жажда, от слабости кружилась голова, а ноги были такими, будто в них совсем не было костей. Перебегая от предмета к предмету, он бросился в кают-компанию, где остались скудные запасы пищи и питья. Плотно закрыв дверь и накрепко задраив иллюминаторы, он залез на диван и, размочив в воде сухарь, стал жевать. На противоположном конце, из-за трубопровода, вылезла крыса и, уставившись на него злыми бусинками глаз, стала умываться и стряхивать воду. Егор бросил в нее ботинком, но она и не думала бежать, а только отодвинулась ближе к трубам и, ощерив усатую морду, зашипела. — Пошла прочь! — дико закричал Егор. Крыса, вильнув длинным мокрым хвостом, исчезла. Ночью мальчик несколько раз просыпался от того, что крыса бегала по его ногам, но голод и усталость сморили его и заставили ненадолго забыться. На рассвете шторм прекратился, ветер стих, над серым, свинцовым морем взошло холодное красное солнце. Егор съел последний сухарь, положил в ящик стола оставшуюся банку компота и пошел бродить по кораблю. Его бил озноб, но спичек не было, и развести огонь он не мог. В одном из рундуков он нашел английскую булавку, согнул из нее крючок и, распустив сигнальный фал[118] на нити, смастерил удочку. Для насадки решил использовать обгрызенные крысой остатки чавычи. Днем, когда море окончательно успокоилось, он сел на борт и закинул леску в воду. Раньше они с боцманом часто ловили рыбу, и было ее всегда очень много. Эх, где-то он сейчас, боцман Евсеич? Егор почувствовал, как защипало глаза, и, чтобы не расплакаться, стал смотреть на уходящую в воду нить. Сколько он просидел — час или два, — он не помнил. Неожиданно леска натянулась, потом резко дернулась и пошла круто вправо. Егор, еще не веря в свою удачу, дрожащими руками стал судорожно выбирать удочку. Наконец из воды показалась сверкнувшая жестяным блеском рыба. Не помня себя Егор выдернул ее на палубу и, боясь, что она свалится за борт, упал на нее животом. Он чувствовал, как под ним трепещет крупная треска. …Когда от рыбы осталась одна голова, Егор увидел, как из кают-компании выбежала крыса и, сев на хвост, уставилась на мальчика. Он бросил ей рыбий скелет, и она тотчас утащила его куда-то внутрь корабля.
— «Наездник» подходит. — Боцман открыл дверь командирской каюты. — Сейчас Егор прибежит. Ох, задам я ему! — Передайте, пусть Булычев явится ко мне. — Командир хитро подмигнул: — Поход походом, а дисциплина должна быть. А то болтался где-то две недели, и я, признаться, соскучился по его бесконечным вопросам. — Сейчас скажу сигнальщику. Отчитаем чертенка для порядка, — добродушно проворчал боцман. — Здесь без него словно пустота какая, а ему, паршивцу, наверное, хоть бы хны! Спустя полчаса в каюту командира постучали: — Разрешите войти, товарищ командир! — На пороге стоял здоровенный, краснощекий моряк. — Входите. — Матрос Булычев прибыл по вашему приказанию! — Я вас не звал. Впрочем, как вы сказали ваша фамилия? — Булычев. — Матрос улыбнулся. — Не знаю почему, но мной еще в Кроноцком кто-то из ваших интересовался. Фамилия-то знаменитая. — Погодите, погодите! — Командир встал. — Ничего не понимаю! Вы говорите, что Булычев — это вы? — Ну конечно, я, а кто же еще! — удивился моряк. — А у вас на спасателе мальчика, юнги, не было, тоже по фамилии Булычев? Беленький такой, круглолицый. — Нет, у нас только свои, чужих никого. А юнг вообще нет. — Что за чертовщина такая! И вы никого с «Лейтенанта Шмидта» не снимали? — Снимали, но среди них ребят не видно. — Хорошо. Идите и пришлите боцмана ко мне. Срочно!
Из Авачинской губы, оставляя за собой пенистый бурун, на полном ходу летел торпедный катер. Не отрывая бинокля от глаз, на мостике рядом с командиром стоял боцман… Вдали серым силуэтом виднелся сиротливо сидящий на мели «Лейтенант Шмидт»… — Все обошел, можно сказать, на брюхе оползал, — нигде нет! — Боцман снял шапку, вытер вспотевшее лицо и опустился на бухту троса. — Но был он здесь, точно был. Ума не приложу, где малец! Куда мог деться, неужто погиб? Ведь сколько времени прошло. И шторм был… Как же это я, старый дурак, недоглядел! — Не паникуйте, боцман, давайте еще раз осмотрим. — Командир прыгнул на борт и пошел на мостик. — Если не найдем, сообщим постам наблюдения и летчикам. Поиски ни к чему не привели, Булычев исчез… Через два дня береговой пограничный дозор обнаружил в тридцати километрах от залива Кроноцкого обессилевшего, лежащего на галечном пляже, почти потерявшего сознание мальчика, которого немедленно доставили в госпиталь. Когда мальчуган смог говорить, то сообщил, что он юнга с «Лейтенанта Шмидта»…
Уже третий день есть было нечего. Рыба, очевидно, куда-то ушла, а морские птицы — бакланы, топорки и глупыши, словно чувствуя опасность, избегали садиться на покинутый людьми корабль. Сначала Егор пытался жевать кусочки кожи, найденные в малярке, но от них только резало в животе и саднило рот. Сегодня же он допил и последние капли влаги, собранные накануне во время дождя. Юнга лежал на палубе и с грустью смотрел на далекий берег. Так больше нельзя, подумал он. Раз не идут за ним, значит, произошла какая-то страшная ошибка. И надо что-то делать. Только не сидеть и не ждать. Иначе он умрет здесь от голода и жажды. Егор встал и, еле передвигая ноги, пошел на затопленную почти до самой палубы корму. Море тихо перекатывалось по деревянному настилу. Вся поверхность залива была на редкость спокойной и гладкой, лишь мелкая рябь от слабого ветерка изредка пробегала и уходила к подернутому голубой дымкой берегу. Юнга приложил ладонь к глазам и посмотрел туда, где у кромки воды расходились белопенные гребни прибоя. Да, до берега не больше одной-двух миль. О том, чтобы достичь суши вплавь, нечего было и думать. Даже в разгар лета вода здесь холодна, как в горных реках. А если… Егор еще полностью не осознал своего решения, но почувствовал, как его бросило в жар от мелькнувшей в голове мысли. И как это не догадался сразу? Вероятно, все его думы были направлены на то, что вот-вот за ним придут, и он даже не, искал выхода, а просто сидел и терпеливо ждал. А теперь? Ну конечно, надо попытаться переплыть залив на чем-нибудь. Ну, хотя бы попробовать смастерить плот. Юнга бросился искать все, что могло плавать. Через некоторое время он притащил на корму два небольших бочонка, жестяной бидон из-под краски, деревянный щит, которым боцман закрывал кормовой люк, а также спасательный круг и пробковый матрац. Егор знал еще, что в машине есть большие аварийные брусья — ими пользуются при заделке пробоин. Юнга спустился в котельное отделение. Так и есть — вдоль бортов лежали покрашенные суриком деревянные бруски. Он попытался было вытащить один из них, но скоро убедился, что это не для его слабых сил. Несколько раз, прилагая отчаянные усилия, чуть не плача, он дергал бруски, пробовал вытащить из гнезд, но ничего не получалось. Тогда Егор вернулся в форпик и среди разного хлама отыскал пилу-ножовку. К вечеру распиленные на четыре части бруски были уже на корме. Окончательно обессилев, Егор поплелся в кают-компанию и свалился на диван. Перед тем как окончательно проснуться, Егору пригрезилось, что он пилит брус, а вместе с ним пила вонзается в его ногу и ржавые зубы рвут кожу и мышцы. Он закричал и, дернувшись всем телом, сел. Правая штанина была в нескольких местах разорвана, нега горела, точно ее ошпарили кипятком. Немного поодаль на диване сидела крыса и лапками размазывала по морде кровь. — Пошла вон, гадина! — Юнга отпрянул к стене, ища что-нибудь, чтобы бросить в крысу. — Убирайся прочь! — Под руку ему попалась пустая банка. — Получай, дрянь! — Егор, размахнувшись, бросил жестянку. С противным писком крыса юркнула в коридор. Шатаясь, Егор прошел на корму. Снял ботинок и морской водой промыл рваную рану на ноге. Затем принес из форпика трос и начал связывать им раму из брусьев. В центр он поместил бочки, бидон и сверху прикрыл дощатым щитом. Через несколько часов кропотливой работы плот был готов и качался, как поплавок, у кормы. Егор несколько раз становился на него, даже пытался прыгать. Плот выдерживал. Ну, вот и все, подумал юнга, и, взяв заранее оторванную от щита доску, оттолкнулся от борта и стал грести к берегу. Он знал, что если хотя бы немного заштормит, то он наверняка погибнет. Но выхода не было. «Так понемногу и поплывем, — думал Егор. — И ветерок поможет. Жаль, не из чего сделать мачту, а то бы можно было и парус поставить». Отойдя от корабля метров на десять, он увидел, как по палубе пробежала крыса и заметалась у того места, где несколько минут назад сидел Егор… Когда солнце опустилось за горизонт, Егор был приблизительно посередине между берегом и кораблем. Волны лениво подгоняли плот. Иногда они захлестывали его, и юнга давно уже промок насквозь. Чтобы не замерзнуть, он продолжал все время размеренно работать доской. Наконец на залив опустилась ночь. Егор уже не мог видеть ни корабля, ни берега. Кругом расплывалась сплошная чернота, и только бледно-голубые гребни волн фосфористым светом вспыхивали кое-где и тотчас словно растворялись в воде. На мгновение юнгу охватил страх. Куда же плыть? Ведь так его может унести в океан. Бывает, даже в лесу люди кружат на одном месте, а здесь море. «Спокойно, спокойно, — повторял Егор любимое выражение боцмана, — сейчас решим. Когда я вышел, ветер дул мне в затылок. Значит, так надо держать плот: все время спиной ощущать ветер. За такой короткий срок он вряд ли изменит направление». От этих мыслей Егор сразу повеселел и снова стал грести доской. Всю ночь он не сомкнул глаз. Когда же забрезжил рассвет, прямо перед ним был берег: Егор видел прибой, прибрежный плес и густые заросли кедрача, уходящие к сопкам сплошным зелено-желтым ковром. От радости он чуть не задохнулся и даже когда прибойное течение, разрывая тросы и разбрасывая брусья, понесло его к берегу, он не чувствовал страха. В голове стучала мысль: спасен, вот она — земля, вот он — берег. Ухватившись за бочонок, Егор очутился в воде, и через несколько минут он уже лежал на песке, загребая руками прибрежную ракушку и настойчиво карабкаясь подальше от набегающих сзади волн… Отдышавшись, Егор на четвереньках отполз к траве и уткнулся лицом во влажный, ароматный мох. Немного отдохнув, он встал, выжал одежду и развесил ее на низкорослом кустарнике. Затем забрался в заросли, стал полными пригоршнями собирать чернику, бруснику и морошку и набивать ими рот… Высушив одежду, Егор оделся и медленно пошел вдоль берега на запад, туда, где за синими сопками должен был находиться порт. Иногда он останавливался и отдыхал, и чем больше он шел, тем чаще и чаще были остановки. На ночь Егор, опасаясь медведей, забирался в расщелины прибрежных скал и, дрожа от холода, ненадолго забывался тяжелым сном. К утру следующего дня Егор, оборванный, страшно исхудавший, с разбитыми в кровь ногами, уже не мог идти. Он лежал на животе и смотрел, как перед самым его носом на тоненькой былинке карабкались муравьи. Юнгой овладело полное безразличие. Он хотел только одного — спать, и так, чтобы было тепло. У него кружилась голова и глаза застилала какая-то дрожащая пелена. Нет, так нельзя, — надо идти, карабкаться, ползти. Отчаянным движением Егор поднял голову. Прямо к нему бежали люди. Егор хотел закричать, но силы оставили его и он потерял сознание…
…В госпиталь за Егором пришел боцман. Он долго ждал, когда молоденькая медсестра оформит документы, затем его повели к юнге. Когда он увидел Егора, лицо старого моряка задрожало и скривилось в какую-то гримасу: — Похудел-то как! Ох, горе ты мое! Ну ничего, откормим. Два человека, большой и маленький, медленно шли в экипаж. Неожиданно Евсеич остановился, высоко поднял Егора под мышки перед собой и, посмотрев в бледное лицо мальчика, сказал: — Молодец ты, Егор! Ей-ей, молодчина, настоящий моряк! Так и держи в жизни, юнга! Так и держи!
Борис Зубков, Евгений Муслин ИГРА (Фантастический памфлет)
В руинах мира я стоял перед хаосом…Социолог Э. Рикер
1
Сливы были морщинистые, вялые и безвкусные. Противно теплые. Почти с отвращением Прайс доедал вторую коробку замороженных слив с позолоченной этикеткой фирмы «Пупс». «Мой пупсик, — игриво восклицала красотка на этикетке, — поглощай продукты фирмы „Пупс“, и я буду любить тебя вечно!» …Безвкусные сливы. Дрянь. Но Прайса интересовали косточки от слив. Вернее, только одна косточка. Золотая, полновесная унция чистого золота. Впрочем, ерунда — разве кусочек золота размером со сливовую косточку весит унцию? Полунции, самое большее. Но все охотились за Золотой Косточкой. Она доставалась как премия постоянным покупателям замороженных компотов «Пупс». Скрывалась где-то в одной из тысячи коробок, может быть, в одной из миллиона. Это уже секрет фирмы. По той же причине покупали карамельное пиво «Плю-плю»: одна из миллионов бутылок заткнута золотой пробкой. Но, только откупорив бутылку, вы могли обнаружить, что пробка золотая. К желанному выигрышу приходилось плыть через океан карамельного пива. Азарт! Всеобщая игра, прилипчивая, как репей, неотвязчивая, как наркотик. Золотой Косточки Прайс, разумеется, не нашел. Вытерев липкие пальцы, он нехотя включил телевизор. По седьмой программе передавали вечернее богослужение из церкви святого Христофора — покровителя кибернетики. На мгновение телеоператор прошелся объективом по гигантской куче рыбьих костей — это была статуя святого Христофора, выполненная в стиле «фиш». Затем на экран выскочил известный комик и заговорщицки подмигнул единственным глазом (второй ему выкололи рапирой, когда он агитировал за Большое Пари на встрече фехтовальщиков Западного Побережья). Комик выпалил скороговоркой: — Держу семнадцать против пяти! Сегодня преподобный О'Коннори и его коллеги пропоют не менее одиннадцати псалмов. Итак, одиннадцать псалмов и семнадцать монет против пяти! Заключайте пари, пока не поздно. Богослужение начинается через шесть минут! Звоните мне по телефону Ринг-Сквер-А — шестнадцать — двести восемьдесят. Выигрыш мы переведем на ваш счет, как только преподобный О'Коннори закончит свою благостную беседу со святым Христофором! Недурно они придумали. Проповедник не станет вступать в грязную сделку с телевизионной компанией — на это многие клюнут. Преподобный О'Коннори — это все же не то, что «темная лошадка» на скачках или подкупленный вратарь в футбольном пари. Может быть, позвонить на студию? Поставить пять монет против семнадцати, что пропоют только девять псалмов? Нет, он и так пустил на ветер премию за этот месяц. Куда он ее истратил? Ах да! Большое университетское соревнование: кто больше съест оладий. Этот худышка Мак оказался прожорливее всех — четыреста двадцать оладий за сорок одну минуту! А он ставил на толстяка Бака… Потом еще крупное пари — кто победит на выборах в городское самоуправление. И здесь просчет — кто бы мог подумать, что старый взяточник и аферист Маллок наберет семьдесят процентов голосов! Прайс залез в долги, чтобы расплатиться. Ежегодные страусовые бега, устроенные зоопарком. Опять проигрыш. Семьдесят монет как не бывало! Фирма «Тотальное Пари» предлагает угадать, сколько часов будет говорить сенатор Фул, отстаивая закон о невзимании налогов с наследств, завещаемых в пользу попугаев и домашних животных. Сенатор, страдающий недержанием речи, на сей раз иссяк на двадцатой минуте. Явное жульничество!.. Все то же «Тотальное Пари» призывает назвать букву, с которой будет начинаться фамилия первого самоубийцы на будущей неделе… Алфавит слишком велик, Прайс опять проиграл пари… В общей сложности две тысячи монет брошены на ветер. Есть от чего сойти с ума. Но… игра продолжается! Игра берет в плен, кружит голову, просачивается в кровь, гипнотизирует, засасывает… Золотой жбан! Как он мог забыть о нем! Жбан для имбирного пива из чистого золота! Вот уж если повезет, так повезет! Семь фунтов чистого золота! Цифры он всегда помнит хорошо. Семь фунтов золота — главная приманка Пестрой Ярмарки… Пестрая Автоматическая Ярмарка… Тысячи раз он видел ее рекламу:«Вас ждет Восхитительное Совершенство Автоматического Обслуживания. Сорок акров, наполненные Максимальным Удовольствием. Вы сможете позабавиться и купить первосортные товары фирмы „Пупс“».Но главное — каждый может выиграть Золотой Жбан! Даровая премия от фирмы «Пупс»! Премию выдает сюрприз-автомат. И никто не знает, на ком он остановит свой выбор. Запрограммирован ли он на миллионного посетителя, или на миллион сто первого, или подчиняется закону случайных чисел и неведомой статистики. Каждый сезон выигрывают не меньше семи Золотых Жбанов. Семь счастливцев за сезон — не так уж мало… Почему не попробовать счастья? У фортуны широкая спина — не разглядишь, что скрывается за ней… После серии кошмарных проигрышей, которые обрушились на него за последние два месяца, — это тоже шанс. Фактически он разорен, и жбанное золото могло бы спасти его. Решено! Он немедля отправится на Пеструю Ярмарку! Звонок прервал мысли. И повторился опять, настойчиво и слишком громко. Моди уехала к сестре, а сын?.. Все чаще он уходит из дома, никого не предупредив. Ясно, в доме ни души, открывать приходится самому… Через перископ, вмонтированный в косяк двери — необходимая мера предосторожности против внезапных посетителей, — Прайс разглядел почтальона. Лицо незнакомое. Открывать или не открывать? Он что-то показывает, делает рукой жесты, будто пишет. Ах, вот в чем дело — зеленый пакет, какое-то официальное сообщение, надо расписаться. Прайс не любил официальных писем, ничего хорошего они не сулили, но от грядущих неприятностей не сбежишь. Вздохнув, он открыл дверь. Ему показалась необычной сумка почтальона. Слишком угловатая и, видимо, слишком тяжелая — уж очень она оттягивала плечо. Впрочем, какое ему дело до сумки. Главное — письмо. Почтальон мешкал. Вероятно, ожидает, что известие окажется приятным и Прайс бросится ему на шею или подарит земельный участок на Южных островах… Удивительно холеный вид у этого типа, будто всю жизнь проводит в парикмахерском кресле; не похож он на почтальона. Но главное — письмо…
«Федеральная служба надзора шоссейных дорог и виадуков, Полицейское управление округа № 1701 и Администрация госпиталя На-Святом-Холме с полным пониманием ответственности и скорбя вместе с Вами, берет на себя печальную обязанность…»Какое торжественное вступление…
«Генри Прайс, Ваш сын…»Что случилось с Генри?.. c Бог мой! Генри попал в катастрофу!..
«Не будем скрывать, что положение почти безнадежное, хотя Администрация госпиталя На-Святом-Холме и приглашенные специалисты делают все, что в их силах…»Мальчик! Он погиб! Еще вчера вечером Генри был жив… Жив… А сейчас? Ты уже похоронил его?.. Врачи могут ошибаться… Госпиталь На-Святом-Холме? Не слыхал про такой… Мальчик умирает в захудалом госпитале, а вдруг его еще можно спасти? Прайс кинулся к телефону. Цифры на диске расплывались перед глазами; он поймал себя на том, что крутит диск бесцельно, не зная номера. Где же письмо? Он уронил его, а там телефон госпиталя. Совсем потерял голову. Прайс бросил трубку и нагнулся, стараясь найти зеленый конверт. В этот миг он увидел, что почтальон наводит на него объектив телекамеры. Странная почтовая сумка скрывала телекамеру! Мнимый почтальон одной рукой поворачивал рычаг, стараясь, вероятно, чтобы камера следила за каждым движением Прайса; в другой руке он держал микрофон и, покраснев от напряжения, в азартной спешке хорошо натренированной скороговоркой что-то выкрикивал. Прайс нашел в себе мужество прислушаться к этим словам, делая вид, будто ищет письмо. То, что он услыхал, было чудовищно! — Наша маленькая мистификация удалась! — изливался телекомментатор. — Содержание зеленого конверта принято за чистую монету! Фирма «Тотальное Пари» ставила десять против шести, что, получив трагическое известие, средний человек бросится к телефону. Этого требует дух деловитости, так присущий нашим согражданам. Только заядлые скептики ставили пятнадцать против семи, утверждая, что эта маленькая мистификация кончится нервным припадком. Ничего не поделаешь, они проиграли! Может быть, им повезет в следующий раз. Теперь нам остается только извиниться перед мистером Прайсом за вторжение в его дом… Они сделали отцовское горе предметом телевизионного пари! Оскорбили… Гадость, какая гадость! Стыд, горечь и ярость захлестнули Прайса. Он схватил тяжелую тумбу, на которой стоял телефон, и обрушил ее на незваного гостя и его телекамеру. Раздался оглушительный треск, телекомментатор заверещал что-то в микрофон дурным голосом и попытался выскользнуть за дверь, но дверь оказалась закрытой, а секрет замка знали только Прайсы. Поняв, что попал в ловушку, комментатор взвыл, зажал в руке микрофон и набросился на Прайса. Тот встретил его полновесным ударом, сразив мнимого почтальона железной полкой для шляп. Комментатор, запутавшись в микрофонном шнуре, упал чуть раньше, и это спасло его. Железная полка раскроила ему ухо, не причинив вреда черепу, но обильная лужа крови испугала обоих. Прайс подскочил к двери и трясущимися руками проделал все необходимые манипуляции, чтобы открыть сверхнадежный замок. Распахнув дверь, он увидел полицейского. Телекамера «Тотального Пари» оставалась включенной все это время, и каждый мог любоваться дракой, а полиция на сей раз оказалась удивительно расторопной. Полицейский положил тяжелую руку на плечо Прайса, тот попытался вырваться, но полицейский ткнул ему в бок чем-то острым, и Прайс почувствовал, как волна сладкой одури заливает мозг, потом он услыхал звук падения собственного тела, и все пропало во тьме. Полицейский вколол в него иглу усмирителя с усыпляющим наркотиком. Очнулся Кен Прайс в тюрьме.
2
Очнулся, хотел открыть глаза, но прежде испугался так, как не пугался никогда в жизни. Он не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой, он лежал на спине и не мог перевернуться на бок, не мог приподняться, ничего не мог. «Парализован! — ужаснулся Кен. — Полицейский перестарался и вкатил мне слишком много наркотика!» Он судорожно рванулся, стараясь одним рывком разбросать в сторону руки и ноги, почувствовать, что он все же в состоянии владеть ими. — Дорогой Прайс, не тревожьте себя понапрасну! — раздался совсем рядом знакомый и вместе с тем как-то измененный голос, будто говорившего держали за горло и слегка душили. — Вы должны привыкнуть к своему несколько стесненному положению… Кен наконец открыл глаза. Оказалось, что он висел в воздухе, туго запеленатый в прозрачную пленку. Он был завернут в нее, словно гигантская конфета! Концы пленки у головы и ног свернуты в жгуты и довольно сложной системой тросов подвешены к потолку. Прозрачный сверток, кокон с человеческим телом вместо гусеницы. Тугая оболочка сжимала грудь, стискивала ноги, не давала пошевельнуть даже кистями рук. Лишь в одном месте в пленке была дыра, обшитая резиновым шнуром. В эту дыру высовывалась его голова, а резиновый шнур сдавливал шею. Прайс висел где-то почти посередине длинного ряда точно таких же прозрачных свертков. — Добрый вечер, милейший Прайс! — сдавленный голос принадлежал соседу справа. — Какое счастливое совпадение, что нас повесили рядом! До вас у меня был ужасный сосед. Кошмарный тип! Он так храпел, что я не мог заснуть. Конечно, здесь многие храпят. Знаете, этот резиновый ошейник сдавливает шею. Я не жалуюсь, ошейник — единственное неудобство. А так здесь очень мило. И мы с вами можем поболтать о чем угодно, это не запрещается. Но… вы не узнаете меня? Когда человек запеленат с ног до головы, совсем не так просто узнать в нем старого товарища или сослуживца. К тому же бритва не касалась щек соседа по меньшей мере недели две-три. Все же, вглядевшись, Прайс узнал Корнелиуса Мома, одного из лучших химиков «Медикал-секьюрити», где сам Прайс работал коммивояжером. Год назад Мома постигла беда: он попал в передрягу, из которой не сумел выпутаться. Прайс прекрасно помнил эту историю. В то время химики «Медикал-секьюрити» изобрели бездымные сигареты специально для курильщиков, чьи жены не терпят табачного дыма. Великолепная реклама: «Вместе с табачным дымом улетучивается семейный покой. Бездымные сигареты — безоблачное счастье домашнего очага». Работа мчалась к финишу и сулила прибыль, еще небывалую в истории фирмы. Увы, Корнелиус Мом проболтался о затее с новыми сигаретами своей жене, а та за небольшую сумму продала секрет своему возлюбленному. Конкурирующая фирма опередила «Медикал-секьюрити». Мома вышвырнули за дверь и занесли в черные списки как ненадежного служащего. Сбережения быстро растаяли, жена сбежала. Мом поселился на окраине города, в жестяной лачуге Фонда-Для-Неимущих, потом устроился вышибалой в ночном баре, потом помогал бродячему фокуснику — в общем, скатывался все ниже и ниже. Да, Прайс знал Мома и печальную историю его падения… — Добрый вечер, мистер Мом. Вы превосходно выглядите. Как вы думаете, нас долго продержат вот так… подвешенными? У меня ноет все тело. Меня будто засунули в тюбик из-под зубной пасты. Я хочу позвать адвоката… — Спокойствие и терпение! Терпение и спокойствие, дорогой Прайс. Мы и так все время куда-то мчимся. Знаете, я когда-то увлекался альпинизмом. Голубые каньоны, снежные лавины, солнце в горах… Давно это было. Так вот, альпинист всегда имеет цель. Вершину! А мы сломя голову мчимся по холмам. Любой дрянной холмик, любой бугор принимаем за вершину. Потом вниз — и снова холмик. Гонка по холмам, как по зубьям бесконечной пилы. Бесцельная гонка. А здесь я отдыхаю и размышляю. Полиция нравственности подвешивает меня не в первый раз. За бродяжничество, не больше. В этой люльке чувствуешь себя младенцем. Спеленат, как младенец, и беспечен, как дитя. Ни о чем не заботишься. Напротив, здесь другие заботятся обо мне. Три раза в сутки подают шланги с питательной пастой. Через сорок шесть минут после каждого кормления снизу выдвигается ассенизационное устройство… Прайса передернуло, он всегда был застенчив, а тут на виду у всех кормление и это… В продолговатом низком зале висело еще около полусотни «предварительно изолированных», и монотонный гул голосов заполнял помещение. Время от времени тросы, на которых висели прозрачные свертки, приходили в движение. Тогда обнаруживалось, что под потолком тросы пропущены сквозь блоки. Колесики блоков начинали скользить по рельсам, прикрепленным к потолку, и очередной сверток уезжал в широко распахнутую дверь. Затем дверь быстро захлопывалась. — Их увозят на допрос, — прохрипел Корнелиус Мом. — Вы умеете двигать ушами? — Ннн… не знаю. Не пробовал. А при чем здесь уши? Мом хихикнул. — Не воображаете ли вы, что вас станет допрашивать настоящий инспектор? Я хочу сказать — живой инспектор. Много чести! Для такой мелкой сошки, как мы с вами, существует Жестяной Крикун. — Жестяной Крикун? Робот? — Разумеется. Ящик с мегафоном. Орет так, что глохнешь. Ни один вопрос не задаст по-человечески. Все время орет. Любой живой инспектор надорвал бы себе глотку, а этот… сами понимаете. Но главное, он берет тебя за уши, и тут уж держись! — Берет за уши? — Особыми присосками. Улавливает малейшее движение ушных мускулов. Предательские мускулы! Они слишком отзывчивы! Как только задумаешься, что бы такое ответить Жестяному Крикуну, мускулы напрягаются, и Крикун сразу чует, что ты в затруднении, придумываешь, как бы ловчее соврать. Кроме того, к присоскам приделаны фотоэлементы. Они следят, не краснеют ли у тебя уши. Солжешь — уши краснеют. Особенно туго приходится тем, кто умеет шевелить ушами. У них слишком развиты ушные мускулы. В детстве мои уши были предметом зависти всех моих сверстников, так я ловко умел ими двигать. А теперь! Когда Жестяной Крикун спрашивает, завтракал ли я в день ареста, мои уши напрягаются так, будто я собираюсь признаться, что украл статую Свободы. — Жестяной Крикун — он много задает вопросов? — Он обрушивает лавину вопросов и держит вас за уши. — Он выносит приговор? — Разумеется. — Он не ошибается? — Его никто не проверяет. — Но если приговор несправедлив? Если он… покажется несправедливым, я смогу обратиться к настоящим судьям… живым? — Здесь только один судья — Крикун. Он робот, а роботы беспристрастны. Вмешиваться в их правосудие — значит, нарушать Справедливость и Демократию. Прайс поежился, ему стало еще тоскливее и тревожнее. Он вспомнил, что на работе подчиняется Директору, который вовсе не Директор, а дюжина металлических ящиков, начиненных электронной требухой и усеянных красными волдырями индикаторов. — Скажу вам по секрету, — совсем тихо прохрипел Мом, стараясь вывернуться в резиновом ошейнике в сторону Прайса, — я кое-что разузнал. Здесь нет тюремщиков. Мы живем в свободном мире, даже в тюрьме у нас нет тюремщиков. Во всяком случае — живых. Только автоматы! Быть тюремщиком унизительно. Мы избавили наших сограждан от столь гнусного занятия. Превосходная идея истинной демократии! Последние слова Мом напряженно выкрикнул куда-то вверх, и Прайс невольно посмотрел на потолок. Там он заметил небольшой черный кружок и понял, что последняя тирада Мома предназначалась для подслушивающего микрофона. Пронзительно взвизгнули блоки, и сразу пять или шесть спеленатых заскользили к выходу, на допрос к Жестяному Крикуну. Но тут случилось нечто напоминающее аварию заводского конвейера. Дверь резко распахнулась, ударив ближайший сверток так, что оттуда раздался вопль, и тут же захлопнулась, но лишь затем, чтобы вновь открыться и нанести удар другому подвешенному. Между тем блоки продолжали скользить вперед, свертки наезжали друг на друга, а навстречу им из дверей двинулись другие спеленатые, возвращающиеся от железного «следователя». Блоки сцепились между собой, тросы схлестнулись, свертки образовали один огромный ком, дергающийся из стороны в сторону. Дверь методически раскрывалась и закрывалась, отбрасывая, сминая и расталкивая подвешенных, которые вопили и визжали на разные голоса, безуспешно стараясь выкарабкаться из прозрачных пленок. Прайс почувствовал, как заколебались и заскрипели блоки его подвески. Он стронулся с места и поплыл к двери. Сейчас он попадет в общую свалку! Тяжелая, пуленепробиваемая и огнестойкая металлокерамическая дверь может сломать ребра, пробить голову. Он зажмурился и оцепенел, предчувствуя неминуемые увечья. К счастью, навстречу ему двинулся еще один сверток; они столкнулись на полдороге к выходу и остановились. Мом оказался прав — живые тюремщики так и не появились, видно, в самом деле их здесь не было. Кто-то невидимый или, вернее, ЧТО-ТО невидимое приводило в движение блоки, и прозрачные коконы, болтаясь на тросах, сталкивались и расходились, дергались, расцепляясь, и вновь съезжались, соединяясь в беспорядочную мешанину. Наконец дверь прекратила свое движение и перестала наносить тумаки несчастным. В воздухе распространился запах разогретой смазки, подгоревших пластиков, почти раскаленного металла — словом, весь тот букет ароматов, что неизбежен при действии сложной автоматики да еще в условиях аварийного режима. В помещении для «предварительно изолированных» вновь воцарился прежний строгий порядок. Свертки образовали длинный ряд, и Прайс вернулся на старое место. — Ужасно, мистер Мом!.. Я так испугался… Дверь — она работала, как паровой молот, сокрушая все… — Пустяки. — Вы называете это пустяки? — Так случается каждый раз, когда Жестяного Крикуна подзаряжают. Он вдруг останавливается и ждет, пока его подзарядят. Это значит — в сенате обмолотили новую пачку законов. Крикуна начиняют законами, как детскую погремушку сухим горохом; законы так и пересыпаются в его жестяной башке. Полмиллиона законов и столько же дополнений и примечаний. А еще дополнений к примечаниям и примечаний к дополнениям. У него самая большая электронная башка во всем штате. Кстати, я не спросил вас, милейший Прайс, за какие грехи вы очутились среди подвешенных? — Я не виноват. Я ничего не сделал. Наоборот, надо мной надругались. Он рассказал, как жестоко его обманули, как сделали его отцовское горе предметом безжалостного телевизионного пари. — Они ворвались в мой дом, издевались. Я только защищался… Мом присвистнул. — Плохо! Вы подняли руку на частную инициативу и свободное предпринимательство. Крикун не любит подобные выходки. Хочу предупредить… Но Прайс вновь поплыл к двери. — Кен! Следите за своими мыслями! Мысль изреченная есть ложь! — выкрикнул Мом вслед удаляющемуся свертку. Тяжело и плотно захлопнулась дверь. «Странные слова, — подумал Прайс, — что он хотел сказать, о чем предупредить? „Мысль изреченная есть ложь…“» Он плыл внутри тускло освещенной трубы, почти касаясь ее стенок. Стало душно; казалось, резиновый ошейник стягивает шею все туже и туже. Неожиданно труба расширилась воронкой; он оказался в небольшом зале и тут же испуганно отшатнулся. Если бы мог отшатнуться! Занимая всю противоположную стену, перед ним стояла человеческая голова. Искаженные, грубо-примерные пропорции. Тяжелый нос, обрубленный цилиндром. Круглые, выпученные глаза. Рот зияющей щелью рассекал лицо на две половины. Истукан язычников. Скульптура модерниста. Игра природы, выдолбившей ветром и солнцем изваяние, к ужасу суеверных. Или всё вместе — идол, скульптура, скала — тяжелое, массивное, злобное. — Ваше имя? Не вопрос — вопль. Голос плотно заполнил все помещение. Прайс оглох, голос проник до каждой клеточки его тела. Но спрашивала не голова. Вопил стереорупор, укрепленный на потолке. Голова молчала. — Кен Прайс, — ответил коммивояжер. — Профессия? — прогремело сверху. — Коммивояжер «Медикал-секьюрити», Сентр-ринг, сто семнадцать… — Чем завтракали в день ареста? «Идиотский вопрос», — подумал Прайс. — Идиотский вопрос! — неожиданно рявкнула голова. Она раскрыла рот, в котором мог уместиться несчастный коммивояжер, и громоподобно извергла те слова, которые сам он не решился произнести вслух. «Мои слова!» — ужаснулся Прайс. — Мои слова! — прошипела голова и лязгнула челюстью. — Молчать! — рявкнул стереорупор. — Повторяю! Что ты ел утром в день ареста? — Галеты «Пупс», замороженные сливы и… — Ты любишь сливы? — насмешливо спросил рупор. Конечно, через рупор орет Крикун. Но зачем здесь голова? «Я искал золотую косточку, — хотел сказать Кен, но промолчал. — Может быть, лучше помалкивать?» — Я искал золотую косточку, — немедленно прогудел истукан. — Кто сказал про косточку? — тихо, но свирепо поинтересовался Крикун. — Я ничего не говорил, сэр! — Заткнись! Ты сам выдал себя! Ты тоже ищешь золотые косточки, заключаешь пари, участвуешь в тотальной игре! Почему же ты помешал другим честно держать пари? «Честное пари? Мерзость!» — подумал Кен, но вслух хотел сказать, что он только защищался от непрошеного вторжения в его дом… — Мерзость! Мерзкое пари! — перебил его истукан. Истукан говорил голосом, странно знакомым. Несомненно, очень знакомым! — Штрафую вас за неуважение к правосудию! — заорал Крикун. — Я ничего не говорил, сэр! Я только подумал… — Он подумал, а я сказал! — торжествующе подхватил истукан. «Его голос… Непостижимо знакомый… И чужой, словно никогда не слышанный. Почему чужой? Это мой голос… Он говорит за меня. Хуже! Раньше меня!.. Произносит вслух мои мысли…» — Вслух мысли. Вслух мысли. Вслух мысли… — забормотал идол. — От нас не скроешься. Говорящая Пасть знает свое дело, — захрипел с потолка Крикун. — Выкладывай все без утайки! Прайсу казалось очень обидным, что два робота — Крикун и Пасть — обошлись с ним как с младенцем. Запугали, надсмеялись, сумели прочесть его мысли и вынуждают признать свою вину в том, что, по его разумению, виной и преступлением быть не могло. Конечно, Крикун знает уйму законов. Он справедлив, беспристрастен — надо думать только так. Иначе… Пасть произнесет вслух все слова протеста, которые вертятся на языке, и тогда новый штраф, который проглотит двухмесячные, а то и полугодичные заработки. Пришлось рассказывать достаточно подробно, но не пытаясь оценивать свои поступки, не пытаясь жаловаться на бесцеремонность телекомментатора «Тотального Пари», не пытаясь, наконец, негодовать, что священную родительскую любовь и горе сделали предметом пошлой и жестокой инсценировки. Он говорил, а Пасть и Крикун орали, перебивали Прайса и друг друга. Пасть бесцеремонно, с дьявольским наслаждением профессионального доносчика выкрикивала все, даже самое крохотное, о чем Прайс хотел умолчать. Крикун тут же начинал бесноваться и угрожать, с быстротой пулемета обстреливая коммивояжера параграфами законов, пунктами и положениями устава Союза промышленников, разъяснениями сената, прецедентами Федерального суда. Вскоре, казалось, обессилели все трое. Хотя, конечно, обессилеть мог только Прайс. Полубесчувственному, ему объявили приговор и отправили по трубе на старое место, в общую шеренгу подвешенных. — Теперь вас распакуют в главной распаковочной и отпустят домой. Под залог. Лишаюсь приятного соседа, — пожалел Мом. — Я понял, о чем вы хотели предупредить, когда сказали… как это… мысль изреченная есть ложь. Вы хотели сказать о Говорящей Пасти. — Еще бы! Но не успел. Жалею! — Она действительно читает мысли? — До мозговых извилин она еще не добралась. Все дело в ошейнике. — Ошейнике? — На каждом спеленатом есть очень тугой ошейник. Заметили? В нем скрыты металлические пластинки… Спойте погромче песенку… — Какую песенку? Зачем? Мом выразительно показал глазами вверх, на потолок, где чернел кружок подслушивающего микрофона. Чтобы заглушить его словами песенки, Прайс, немилосердно фальшивя и задыхаясь, запел «Красная малиновка скачет на заре». — Пойте, пойте! Гоп-гоп-гоп! Нам всегда весело! Поймите, всякую мысль человек беззвучно и незаметно для себя произносит втихую, а уж потом думает, брякнуть ли ему это вслух или промолчать. Ничего не поделаешь, биотоки мозга постоянно вызывают слабые движения языка, губ, гортани… Веселее! Веселее! — «Красная малиновка скачет на заре!.. Гоп-гоп-гоп!..» — надрывался Прайс. — Гоп-гоп-гоп!.. Люблю повеселиться! Эта песенка напоминает мне студенческие годы… Понимаете, во все ошейники вделаны металлические пластины, они выуживают биотоки из мускулов языка, шеи и тому подобное. Говорящая Пасть мигом расшифровывает эти биотоки и узнает, что вертится у тебя на языке… Крикун держит за уши, а Говорящая Пасть хватает за горло, и тут уж ты не отвертишься… — Птичка ножками топ-топ-топ… — выпискивал Прайс. — Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! — бодро выкрикивал бывший биохимик, а теперь опытный бродяга и бывалый арестант доктор Мом. — Меня приговорили к штрафу! — почти крикнул Прайс. — Восемь тысяч! Это конец! Я разорен… — Скверное дело. — Мом хрипло присвистнул. — Восемь тысяч! Столько вы не заработаете и за два года. Он замолк. Удрученно молчал и Прайс. — Э, послушайте, — сказал Мом, — когда вас распакуют, отправляйтесь на Пеструю Ярмарку. Там есть Золотой Жбан. Он ждет счастливчика. Я тоже пытался его заполучить, но мне всегда не везет. Попытайтесь вы… Прайс вздрогнул: предложение Мома совпало с его надеждой. Ведь перед тем как попасть в лапы Крикуна и Говорящей Пасти, он уже собирался на Пеструю Ярмарку. Жбан из семи фунтов чистого золота — призрачная и последняя надежда заполучить свою долю в тотальной игре. Как только его «распакуют», он отправится на Ярмарку.3
…Стадо чернокожих венерианцев, пронзая воздух ультразвуковыми воплями, обступило последнее убежище белых колонистов Венеры… Доктор Асквит содрогнулся. …Раздался тысячеголосый визг. Это туземцы выпустили из больших кувшинов стаи реактивных гадюк. Омерзительные твари, извергая содержимое своих внутренностей, развивали космическую скорость и пробивали стальные стены убежища, словно ломти сыра. Они впивались в беззащитных колонистов, прокусывая литые скафандры. Скоро весь пол был усеян трупами людей вперемешку с извивающимися жгутами реактивных гадюк. — Их можно еще спасти! — воскликнул Неустрашимый Боб, появляясь в дверях убежища, как всегда, в самый критический момент… Доктор Асквит на мгновение перевел дух… — Их еще можно спасти! — повторил Неустрашимый Боб. — Переливание крови, черт меня побери! То же самое я сделал, когда моего лучшего друга Тома Слайка прищемило кольцом Сатурна. Беднягу почти размозжило это трижды проклятое кольцо, но добрая пинта свежей крови спасла Тома Слайка. Боб ринулся к выходу. Строча из пары снайперпулеметов, рассеял толпу чернокожих венерианцев и вскочил в седло ракетобуса цвета слоновой кости… Доктор сладко поежился: приключения Боба доставляли ему неизъяснимое удовольствие. …Через пять секунд Неустрашимый Боб уже выламывал дверь Центрального склада, где среди мешков сухого кислорода валялось множество жестянок с консервированной человеческой кровью. И все же Неустрашимый Боб опоздал! Центральным складом овладело стадо четвероруких вампиров. Чмокая фиолетовыми губами, они сосали из жестянок алую кровь, и у каждого по его четырем рукам текли потоки красной влаги, столь нужной сейчас колонистам. — Проклятье! — вскричал Неустрашимый Боб. — Как сейчас помню, точно такие же вампиры сожрали моего лучшего друга Мики Дауда… Доктор застонал от восхищения и страха… В это время Кен Прайс, оставив далеко позади пересечение трассы Юг-Юго-Восток-380 с трассой Запад-117, приближался к Пестрой Ярмарке. Сегодня рано утром в Центральной распаковочной его освободили из прозрачных пленок и вручили квитанцию с требованием незамедлительной уплаты штрафа. На квитанции перфоратором было выбито «8000». Действительно призрачной и действительно последней надеждой был Золотой Жбан. Бросив руль машины, он передал управление в надежные руки кристаллических полицейских, чьи наблюдательные вышки мелькали теперь чаще обычного, напоминая о приближении к перекрестку. Путепровод властно принял на свою горбатую спину поток машин и по ленте стеклобетона перенес их высоко в воздухе над таким же густым потоком машин, двигающихся по трассе Запад-117. Все это происходило в абсолютной темноте. Фары и сигнальные огни никто не включал: все равно в них нет необходимости, когда находишься во власти телеуправления кристаллических полицейских. Когда машина Прайса, вознесенная на самую вершину горба путепровода и словно повисшая в густом мраке, заскользила наконец вниз, коммивояжер почувствовал, как чья-то жесткая рука схватила его сердце и несколько раз грубо сжала его. Ощущение это было неожиданное, но вместе с тем настолько реальное, что Прайс мог бы определить, где лежит на сердце каждый палец грубой руки и как именно перебирает она жесткими пальцами. Он инстинктивно пригнулся, словно оберегая грудь от удара, но рука не обратила внимания на его оборонительное движение и сжала сердце еще жестче и больнее. Затем он почувствовал облегчение — это машина вышла на горизонтальный участок трассы. Его сердце превратилось в какой-то интимный и тонкий инструмент, чутко реагирующий на движение машины. И временное облегчение не принесло ничего, кроме страха, что все повторится скоро, сейчас. Так оно и случилось. Кристаллических полицейских не заботило самочувствие тех, кто двигался по дорогам в тысячах наглухо запертых жестяных коробках. Телеуправление спроектировали по принципу «избегать крайностей» — катастрофических столкновений. Ежеминутные легкие столкновения и удары, неприятные, но безопасные, сочли неустранимым злом. На прямом участке автострады скорость механического потока возросла, и машина коммивояжера задрожала от частых толчков. Кто-то тупо долбил ее сзади, с визжащим скрипом царапал слева и справа. Сердце сжалось в тугой ком. Стараясь облегчить боль, Прайс положил правую руку на грудь. Крепко надавил. Стало легче, и он смог левой рукой выключить тумблер телеуправления. Так же левой рукой он начал выруливать на обочину. Выбираясь из гущи себе подобных, машина стонала, стесывая бока о стальные ребра соседей. Наконец она остановилась на краю стеклобетонной ленты автострады. Ему казалось, что, когда он вытащит свое тело из духоты и стесненности автомобиля, его сердце также обретет свободу, избавится от гнетущей тяжести. Прижимая руку к груди и ободряя себя подобными соображениями, в общем-то довольно пустяковыми, он пошел вдоль шоссе, пока не наткнулся на указатель с красным крестом и фамилией врача.4
…В это время Неустрашимый Боб влип в неприятную историю. Погоня за бриллиантовым кладом Венеры занесла его в Спиральную Пещеру, из которой еще никто не возвращался. Невинное на вид Голубое Облако, стерегущее клад, обладало ужасным и неотвратимым свойством. Оно растворяло человеческую плоть быстрее и бесследнее, чем кипяток горсть сахара. Когда Неустрашимый Боб протянул руку, чтобы откинуть бронзовый засов, последнюю преграду на пути к бриллиантам, Голубое Облако бесшумно растворило его; осталась лишь его дрожащая рука, все еще протянутая в сторону бронзового засова… По спине доктора Асквита заструился холодный пот, и тут он увидел руку Неустрашимого Боба! Белесая пятерня маячила в окне. Доктор застонал и попытался спрятать голову под огромную резиновую присоску Самоусыпляющей Подушки. Окостеневшие от страха пальцы наткнулись на револьвер, который, как всегда, когда доктор читал о похождениях Боба, лежал рядом с тюбиком успокаивающих капель. Доктор высвободил голову из-под резиновой присоски и, тщательно прицелившись, выстрелил в окно, в белую руку. Кто-то громко вскрикнул, пятерня исчезла. …Кен Прайс, который не сумел найти кнопку дверного звонка и решился постучать в окно, сидел на газоне возле дома Асквита и пытался понять, что же все-таки произошло. Левую руку он прижимал к сердцу, из указательного пальца правой руки сочилась кровь. В него стреляли! Конечно, когда вдоль всей автострады орудует банда Адских Мальчиков, это всего лишь простейший акт самозащиты. Нервы у врача тоже не стальные. Бывает… Могло случиться и нечто похуже. Черт его дернул стучать в окно. Коммивояжер обязан помнить, что все стекла нижних этажей делают электропроводными и с вечера включают ток. Смертельный сюрприз для незваных визитеров! Он мог сейчас валяться на траве газона полусожженный, корчась в конвульсиях после ошеломляющего электрического удара. Да, ему просто повезло. Всего лишь отстрелили кончик пальца. Он родился под счастливой звездой. Его гороскоп, составленный в центральной конторе «Небесной Хиромантии и Астрогностики», ясно говорит, что умрет он спокойно и естественно, в возрасте семидесяти шести лет и пяти месяцев. До того дня ему не о чем беспокоиться… Если бы еще не хотелось пить. И сердце вот уж не вовремя разболелось. Прайс помахал рукой, остужая окровавленный и горящий палец, подобрал с газона кленовый лист и прижал его к ране. Надо сообразить, где он сейчас находится. Пересечение трассы Юг-Юго-Восток-380 с трассой Запад-117. Затем он проехал еще примерно полмили, прошел пешком шагов двести до указателя с красным крестом и свернул влево, к дому доктора. Значит, он находится где-то около Таунсвила, чуть южнее Синего озера. Там, где расположена Пестрая Автоматическая Ярмарка — цель внезапно прерванного пути. Хочется пить. На Пестрой Ярмарке автомат напоит его имбирным пивом. Холодное имбирное пиво в запотевших жестянках. Нет, почему же в жестянках? Там еще есть жбан для имбирного пива из чистого золота… Он бредит. Надо встать и попытаться добраться до Ярмарки. Автоматы работают день и ночь; он утолит жажду, найдет лекарство для сердца, купит бинт или пластырь, перевяжет рану. Все обойдется. Кен Прайс побрел в сторону автострады, по дороге придумывая себе особый способ ходьбы — почти не поднимая ног, как бы скользя по льду, неся свое тело плавно и неощутимо, не растревоживая сердце. И действительно, боль в груди медленно, нехотя отступила, затихла, лишь палец ныл и горел нестерпимо, словно в него воткнули раскаленный гвоздь. Так Прайс донес свое тело до того места, где час назад оставил машину… Вместо нее на земле валялся мятый, рваный по краям лист металла… Он забыл опустить монету в ближайший автомат платной стоянки! Телевизоры кристаллических полицейских обнаружили машину, рискнувшую не уплатить за стоянку, автоматы контроля вызвали Бродячий Пресс, и тот сплющил «хоркрайт» Прайса в лепешку. Прайс потрогал рукой еще теплый металлический блин. Теперь он мог надеяться только на самого себя, на свои ноги, на свою выдержку и на свои силы. Стеклобетонная полоса необозримой ширины, тускло освещенная подземными световыми люками, вела к Ярмарке. Прайс шагал, отсчитывая расстояние по количеству световых люков, оставляемых позади. Он насчитал сто семнадцать светящихся овалов, когда вышел наконец на предъярмарочную площадь. Пеструю Ярмарку устроили на землях, скупленных по дешевке, на болоте, кое-как засыпанном городским мусором. Наспех уложенный асфальт просел, избороздился трещинами, которые беспорядочной сетью покрыли нескончаемый серый плац. Трещины густо замазали черной смолой. Белые и красные шуцлинии, указывающие развороты и стоянки машин, не внесли упорядоченности в черную паутину смолы, наоборот, наложив на нее свою полицейскую геометрию, разорвали паутину на куски, усиливая хаос. Теперь Прайсу казалось, что, шагая каким-то особым образом, не переступая, к примеру, через красные полосы, а двигаясь только вдоль них, он укорачивает путь к воротам Ярмарки, сберегает силы и приближает исцеление. Но как ни старался он следовать своему плану пешего продвижения, сбивался, и старание это его еще больше утомляло. Так он брел, путаясь в липкой паутине смолы, увязая в ней, когда каблук попадал в особо жирную и свежую замазку трещины. — Ни слова, ни звука! — вкрадчиво произнес кто-то совсем рядом. — Мне все известно! Мне доступен бессловесный анализ мыслей! Рядом шел бродячий автомат-гадальщик, первый посол тысячеликого сонмища ярмарочных автоматов. Гадальщик, переваливаясь на коротких лапах, схожих с двумя утюгами, подлаживался под неуверенные шаги Прайса и нес привычную чушь про шестиугольные гороскопы и таинство линий на руке, настойчиво предлагал погадать на магическом кристалле из настоящего титаната бария. Прайс оттолкнул бродячего хироманта, и тот остановился, обиженно раскачиваясь на лапах-утюгах. У турникетов, отсчитывающих число посетителей ярмарки, невзрачный желто-белый автоматишко торговал пивом «Пупс». Дешевое пойло, которое можно пить галлонами: оно почти не утоляет жажду. Но сейчас даже самая малая банка пива — исцеляющий родник, за счастье припасть к которому не жаль отдать полжизни. Коммивояжер остановился перед автоматом, облизывая пересохшие губы, потянул за галстук, ослабляя ошейник тугого воротника, и приготовился насладиться питьем. Он поднял правую руку… Указательный палец… Указательный палец! ПАЛЕЦ! В дыру автомата надо вставить указательный палец правой руки. Это Автоматическая Ярмарка. Последнее достижение Торговой Супер-Автоматики. Все автоматы подчиняются тотальному Финансовому Центру. Вы суете палец в дырку. Электронный опознаватель молниеносно исследует микроузоры вашего уважаемого пальца, шифрует свои глубокомысленные выводы и сообщает их Тотальному Финансовому Центру. Узоры пальца неповторимы и строго индивидуальны — хвала всевышнему, создавшему их и облегчившему тем самым услуги Тотального Центра. Финансовый Центр выдирает стоимость покупки из текущего счета клиента и посылает автомату разрешение на выдачу товара. Масса удобств! Не надо возиться с засаленными бумажками и металлическими кругляшками, не надо таскать с собой безнадежно старомодные кошельки. Надо лишь иметь с собой палец. А он всегда при себе. Если только его не ранили… Прайс посмотрел на свою руку, словно на чужую вещь. Рука все еще торчала, протянутая к автомату «Пупс»; ее украшало нечто согнутое крючком, облепленное засохшей кровью, безобразно вздутое на конце. Это был его указательный палец, вексель и опознавательный знак Финансового Центра, потерявший теперь всякую цену. Огонь от раненого пальца поднялся по руке и жарким пламенем разливался по телу. Голова налилась тяжелым теплом, в висках застучало. Сухой и одеревенелый от жары язык попытался найти во рту хоть капельку слюны. А рядом, внутри желто-белого ящика, скрывался почти неиссякаемый источник прохладной жидкости. Прайс прижался лбом к холодной жести пивного автомата. — У тебя тоже есть свои мелкие пороки, — прошептал Прайс, поглаживая бока невзрачного автомата. — Небольшие грешки. Мелкие погрешности. Иногда ты срабатываешь неожиданно, не дожидаясь разрешения Тотального Финансового Центра. Крохотный изъян, пустяк — перегрелось реле или сточился зуб в крохотной шестеренке, кто знает… Как, дружище, у тебя там с реле? Не барахлит? Ты бы меня очень выручил… если бы реле барахлило… Надо попытаться обмануть Тотальный Финансовый Центр. Обмануть всего лишь на одну банку пива «Пупс». Коммивояжер робко вставил в овальную дыру автомата указательный палец левой руки. Совершенно никчемный, абсолютно неплатежеспособный палец, которым Тотальный Центр никогда не интересовался. Но что поделаешь, если на правой руке кончик указательного пальца тебе отстрелил какой-то психопат. Автомат неожиданно и бодро зашипел. Чтобы побудить его к дальнейшим действиям, Прайс изо всех сил дал ему пинка ногой. Автомат громко всхлипнул. Казалось, еще мгновение — он прокашляется и обругает обманщика. Но автомат прибегнул к другому акту самообороны. Под самой крышкой у него разверзлась длинная и широкая щель, из которой на Прайса обрушился поток замораживающей пены. Весь запас пены из подземного холодильника пивного автомата опрокинулся на мошенника, осмелившегося подсунуть Тотальному Центру незнакомый и незаконный палец. Пена, способная заморозить даже кипящий вулкан, мелкими грязными пузырьками облепила Прайса, одевая его в леденящую кровь шубу. Пенистая шуба вспухала и, теряя очертания человеческого тела, превращалась в холм тугой и непрозрачной массы. А пена продолжала извергаться. Ее хватило бы на то, чтобы превратить в сосульку целый взвод, разгоряченный бейсбольным матчем. Когда холод проник до костей и обледенил сердце, Прайс почувствовал нечто вроде облегчения, но тут же сообразил, что он замерзнет, если не сбросит шипящее и постепенно каменеющее покрывало. Он рванулся к черному кубу соседнего автомата — это был автомат-косметолог — и, обдирая пуговицы костюма, стал тереться об острую грань куба, соскребая с себя ледяную пену. Автоматический косметолог обрадовался ночному визитеру. Он извлек из своего нутра четыре мясистых щупальца и, облапив ими Прайса, заверещал бесполым голосом: — Мальчик, сунь пальчик! Если ты недоволен своим носиком, Электрический Выгибатель Хрящей сделает свое дело. Если тебе не нравятся собственные мочки ушей, Безболезненные Ножницы придадут им очаровательную форму! — Растягиваем уши! — завопил автомат, сильно возбуждаясь. — Размягчаем бородавки! Прайс с трудом вырвался из его пухлых лап. Рядом ярко вспыхнул желтый квадрат, и за стеклом светового люка две гуттаперчевые челюсти, усаженные острыми зубами, принялись пережевывать кусок мяса, обильно политый коричневым соусом. Автомат-кормушка громко и сладостно причмокивал; аромат мексиканского соуса и жареного мяса вкрадчиво коснулся ноздрей Прайса. Сам того не заметив, Прайс переступил магическое кольцо Пестрой Ярмарки. Теперь он ее единственный гость, единственный среди автоматов. Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади наблюдает за ним. Тяжелый взгляд буравил затылок. Он оглянулся. Никого. Сделал шаг в сторону и поскользнулся на кожуре от банана. Снова почувствовал на себе чей-то взгляд. Смотрит недоброжелательно, злобно. Коммивояжер внимательно огляделся вокруг. Выворачиваясь на тонком стержне во все стороны, бледно-зеленый киноглаз автоматического сыщика следил за ним. Пусть следит. Он не замышляет ничего дурного. Он хотел выиграть Золотой Жбан, а сейчас ему хочется пить и необходимо лекарство. Раненый палец одеревенел, и вся рука онемела до ломоты, висела плетью, не было сил ее поднять. Ручьи огня вновь добирались до сердца, а тонкий летний костюм промок насквозь от остатков замораживающей пены. Ледяной панцирь облепил спину, и Прайс дрожал от холода, одновременно сжигаемый изнутри. Если бы он мог прилечь, снять костюм, почувствовать теплоту постели или хотя бы прислониться спиной к подушкам удобного кресла, втиснуться в нечто уютное и спокойное. «Остуди жар сердца моего, согрей душу мою, леденеющую в пламени». Откуда эти слова? Когда-то он любил участвовать в телевизионных блиц-викторинах, и обрывки чужих мыслей, строк и рассуждений гнездятся в его мозгу по сей день. «…согрей душу мою, леденеющую в пламени»… Он увидел Красную Грушу. В ней была манящая простота детской игрушки, только увеличенной до размера в полтора роста взрослого мужчины. Благородство линий старомодной мебели, располагающая уютность беседки для отдыха в манере парковой архитектуры доатомного века. Автомат сделали в виде большой красной груши, стоящей тонким хвостиком вниз. Круто расширяющееся тело груши образовало нечто вроде навеса, под которым удобно примостилось кресло с пневматическим подзатыльником. Напротив кресла из Груши высовывались симпатично окрашенные в зеленый цвет присоски, похожие, впрочем, на три револьверные дула, нацеленные в спинку кресла. Впрочем, не старомодная приятность привлекла внимание Прайса: ему было не до нее; другое удивило и обрадовало — вместо овальной дыры, предназначенной для пальца правой руки, в Груше имелась тоже очень старомодная узкая щель для обычной звонкой монеты. Прайс со стоном опустился в кресло Красной Груши. Пневматический подзатыльник тихо зашелестел, наполняясь сжатым воздухом, и, приняв форму прайсовского затылка, удовлетворенно смолк. Подлокотники упруго выгнулись, подставляя под ладони мягкие подушечки. Подножка кресла медленно поползла вверх, чуть поднимая ноги и тем самым придавая человеку позу идеального отдыха. Чувство умиротворенности разлилось по телу коммивояжера, и ему захотелось навечно успокоиться в объятиях Гигиенического Кресла. Он пошарил в кармане, нашел несколько монет и протянул руку, чтобы опустить их в щель гостеприимного автомата — за все надо платить. Ему, в сущности, безразлично, что сделает автомат — побреет, выстрелит струей освежающего газа или подарит детскую погремушку. Видимо, его рука пересекла стерегущий луч фотоэлемента, и автомат заговорил: — Нет, нет, сэр! Прежде чем опустить монету, следует обратить свой взор к тому, кто один имеет право отнять или даровать жизнь. Нажмите кнопку номер два, и преподобный Патрик О'Коннори найдет вам слова утешения и напутствия. Рекомендуем вам также нажать кнопку номер один: она соединит вас с дежурным психологом, который сумеет убедить вас, что на этой грешной земле вы оставляете массу разнообразных удовольствий. Сэр! Фирма «Пупс» гарантирует вам эти удовольствия, если вы раздумаете кончить свои счеты с жизнью… Прайс отдернул руку с монетой. Идиот! Он уселся в кресло-автомат для самоубийц!5
Он брел среди автоматов, уже уверенный в том, что не выпросит у них ни глотка воды, ни унции лекарств. Если бы кто-нибудь в этот час рассматривал Пеструю Ярмарку сверху, хотя бы с высоты полицейского геликоптера, ему показалось бы, что по черной бумаге ползет, вспыхивая и затухая, мерцающая искра. Это автоматы-книготорговцы, автоматы-лекари, автоматы-гадалки, автоматы-адвокаты, автоматы, торгующие бумажными однодневными костюмами, наркотиками, контрабандой, и сотни других расторопных Жестяных Джеков зажигали перед Прайсом рекламные огни и тушили их, когда он проходил мимо. Он брел без цели, просто боясь упасть, держась на ногах только затем, чтобы не признаться самому себе — силы оставляют его. Он не чувствовал больше ни жажды, ни боли. Он слился с ними и весь был одной жаждой и болью. Когда дорогу преградил низкий и очень широкий автомат, Прайс остановился и, чтобы не упасть, ухватился левой рукой за решетку, вделанную в ящик автомата. За решеткой стоял Золотой Жбан! Жбан для имбирного пива. Из семи фунтов чистого золота. Крышка Жбана также из золота. «Все части, могущие быть отделенными от Жбана — крышка, ручки и четыре накладных медальона, — имеют отдельное клеймение Федерального надзора по драгоценным металлам и эквивалентным ценностям» — это из рекламы, он читал ее не раз. Приз красовался за перекрытием стальных решеток, прикрывающих полукруглую впадину в теле автомата. Ромбическая решетка должна была с мелодичным звоном и под звуки электронных фанфар подняться, освобождая золотой клад для счастливца. Все та же игра! Заманчивая случайность, коммерческий трюк. Многие приезжали на Пеструю Ярмарку только затем, чтобы попытать счастья. Седовласые джентльмены и бродяги в бумажных ботинках «носи-нас-один-раз»; дети, измазанные кленовым сиропом; перезрелые дамочки, мечтающие на золото Жбана основать приют для престарелых попугаев, — все они останавливались перед сюрпризом-автоматом и выжидательно замирали, пока семнадцать телеобъективов изучали их: лицо исследовали три телеобъектива, бюст — восемь телеобъективов, общее телосложение — шесть телеобъективов. Но мало кто удовлетворял неведомым и придирчивым требованиям автомата. Жбан оставался стоять за надежной решеткой, сюрприз-автомат гудел ровно, как нерастревоженный улей. Прайс опустился на колени, ноги уже не держали его. «Какая нелепость! — подумал Кен. — Я стою на коленях перед автоматом». Он поднял глаза и увидел, как все семнадцать телеобъективов автомата разглядывают его, медленно поворачиваясь в тугих шарнирах. И вдруг — о чудо! — внутри автомата что-то дрогнуло, зазвенело, стальные решетки неожиданно поползли влево и вправо, освобождая из плена Золотой Жбан. — Удача! Какая удача! — прошептал Прайс. — Наконец мне повезло! Он протянул руку, чтобы ухватить жбан за массивную золотую подставку… Но рука наткнулась на невидимую преграду — кроме решеток, жбан охранялся непробиваемым стеклом. — Малюсенькая формальность! — пропел медоточивым голосом сюрприз-автомат. — Необходимо внести вас в список счастливчиков. Каждый сезон мы публикуем список счастливчиков! Вложите контрольный палец в отверстие под зеленой чертой, и вас внесут в список счастливчиков! Малюсенькая формальность! Палец!.. Злобная ирония судьбы… Он проиграл. Боль в груди мягко повалила Прайса на землю. Пронзительно звучали фанфары, приветствуя «счастливца».Б. Ляпунов ЛЮБИТЕЛЯМ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ (Советская фантастика за 50 лет)
За полвека в нашей стране было издано множество фантастических рассказов, повестей и романов. Для того чтобы перечислить их все, понадобится не один десяток страниц, а сами произведения займут не один ряд книжных полок. Познакомимся с современной советской фантастической литературой для детей и молодежи. «Страна фантазия» стала теперь столь обширной, что мы не сможем, конечно, обойти ее всю, но постараемся осмотреть главные достопримечательности. Выберем наиболее интересные и значительные произведения, посмотрим, какие проблемы занимали фантастов раньше и какие волнуют их сейчас. История русской фантастики началась еще в XIX веке. В 1840 году писатель и общественный деятель В. Ф. Одоевский написал роман «4338-й год. Петербургские письма» — техническую утопию. В ней рассказывалось о преображенной России, о городе будущего, который возник из слившихся воедино Москвы и Петербурга. В романе был показан целый ряд грядущих достижений науки и техники: гигантские транспортные магистрали, электроходы, дирижабли, искусственные ткани и пища, фотография и телефон, космические сообщения. Прорыты туннели сквозь Гималаи и под дном морей и океанов — для электроходных поездов. Обширные площади заняты посевами. Созданы установки искусственного климата планетарного масштаба — горячий воздух у экватора нагнетается в трубы и затем распределяется по всем городским теплохранилищам. Он поступает в дома, оранжереи, а также смягчает климат в Северном полушарии. Предполагалось даже холодным воздухом охлаждать города на юге. Вулканы Камчатки используются для отепления Сибири… Одоевский сделал интересную для своего времени и первую в России попытку нарисовать картину завоеваний науки и техники завтрашнего дня. До наших дней широко известен роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», впервые опубликованный в 1863 году. В «Четвертом сне Веры Павловны» изображена счастливая жизнь свободных людей, достигших вершин научно-технического прогресса, преобразовавших природу своей страны — России. В 1892 году вышел фантастический роман Н. Шелонского «В мире будущего». В нем также предугадан ряд сегодняшних успехов науки и техники, как, например, искусственные материалы, превращения элементов и другие. А многое, о чем фантазировал автор романа, еще ждет воплощения в жизнь — сверхпрочный металл и синтетическая пища, передача мысли и продление жизни, анабиоз и антигравитация. Даже и немногие примеры показывают, что в произведениях фантастов прошлого встречаются интересные попытки изобразить мир Завтра, хотя почти все они писали преимущественно о науке и технике этого мира. В конце XIX века русская фантастика обращается к крупнейшим проблемам, которые в дальнейшем приобретут огромное значение в жизни человечества. В 1893 году подписчики журнала «Вокруг света» среди приложений получили книгу Константина Эдуардовича Циолковского «На Луне». Это было первым выступлением ученого в качестве писателя-фантаста. А в 1895 году вышел сборник его очерков «Грезы о Земле и небе». С тех пор и повесть и очерки многократно переиздавались — вплоть до наших дней. В конце прошлого века сама мысль о возможности межпланетных путешествий безраздельно принадлежала фантастике. И Циолковский не мог описать, как происходил бы в действительности полет на Луну. Даже герои Жюля Верна не добрались до серебряного шара, хотя и облетели вокруг него. Герой же Циолковского очутился в лунном мире самым простым способом: он перенесся туда во сне. Удивительный лунный мир предстает перед нами со страниц этой повести. Что увидел бы человек, оказавшийся в этом странном мире, где соседствуют яркий свет и резкие черные тени, где нет воздуха, где тяжесть в шесть раз меньше, чем на Земле, и где суровая холодная двухнедельная ночь сменяется жарким двухнедельным днем? Еще более удивительное путешествие совершает герой «Грез о Земле и небе». Из рассказов «чудака», побывавшего в поясе астероидов, читатель узнает об «эфирных» жителях — существах, которые в результате длительной эволюции приспособились к жизни в пустоте, питаясь, подобно растениям, солнечными лучами… Фантазия Циолковского уносила читателя к тем временам, когда потомки людей расселятся по всей Солнечной системе и она станет для них таким же родным домом, как теперь Земля. То были мечты ученого, искавшего дорогу в космос, Фантазию он считал началом научного творчества. «Сначала идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет…» И от сказки, вымысла Циолковский шел к научной фантастике. Герои его следующей повести, «Вне Земли», покидают Землю на ракетном корабле. Создавая теорию космонавтики, ученый в то же время стремился наглядно представить, как произойдет первый вылет за атмосферу, как будет протекать путешествие на спутнике-корабле, как станет осваиваться околосолнечное пространство. Повесть была им начата в 1896 году, главы из нее печатались в журнале «Природа и люди» в 1918 году, и отдельное издание вышло в Калуге два года спустя. Она стала библиографической редкостью, эта книга, о которой Юрий Гагарин после приземления первого корабля «Восток» сказал: «…Сейчас, вернувшись из полета вокруг Земли, я просто поражаюсь, как правильно мог предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе. Многие, очень многие его предположения оказались совершенно правильными». После запуска первого спутника космическая фантастика Циолковского обрела широкую популярность. Вышел ряд изданий и повести «Вне Земли» — родоначальницы подлинно научно-фантастической литературы о космических полетах. Циолковский рисует переживания пассажиров ракеты, победившей земное притяжение и летящей сначала вокруг Земли. Они видят нашу планету «извне», испытывают ощущение невесомости, выходят наружу в скафандрах. Затем они посещают Луну — уже не во сне! На маленьком ракетомобиле путешествуют по лунным горам и долинам. А потом ракетный корабль превращается в крошечную планетку со своей атмосферой, которая очищается растениями. Оранжерея дает обитателям ракеты и пищу. Постепенно около Земли создаются целые космические поселения… И пусть нас не смущают выбранные Циолковским имена героев — Галилей, Ньютон, Лаплас, Франклин и др. Этот коллектив ученых разных национальностей служит своего рода символом международного сотрудничества космонавтов. Циолковский-фантаст хотел прежде всего как можно более наглядно показать обстановку будущих заатмосферных полетов, обрисовать перспективы, которые откроет человечеству ракета — корабль Вселенной. Освоение межпланетных просторов и главного богатства космоса — солнечной энергии — он считал важнейшей целью космонавтики. Поэтому его фантастика и рассказывает о том, какие плоды получат люди, когда сумеют выбраться за пределы своей планеты. В истории фантастики творчество Циолковского занимает особое место. Были и другие ученые, которые популяризировали научные знания художественными средствами. Но он первым ввел читателя в свою творческую лабораторию, показал, как мечта сможет превратиться в действительность. «Эти мысленные эксперименты подготовляли воображение автора к той необычной обстановке, с какой придется встретиться будущему звездоплавателю. Помогали они и читателю вникнуть в условия межпланетного путешествия. „Грезы“ — это тренировка ума будущего автора „Исследования мировых пространств“, пробные полеты воображения, расправляющего крылья для небывало дальнего путешествия», — писал о Циолковском-фантасте, авторе «Грез о Земле и небе», Я. И. Перельман. Повесть же «Вне Земли», подчеркивал Перельман, была первым фантастическим произведением на тему о путешествии на ракетном корабле в мировом пространстве, написанным с образцовой научной добросовестностью. В 1902 году вышел фантастический роман А. Родных «Самокатная подземная железная дорога между С.-Петербургом и Москвой». В нем выдвигался проект туннеля, который соединил бы оба города, пройдя по прямой — хорде земного шара. Поезда в нем могли бы двигаться сами собой под действием силы тяжести и по инерции. Менее чем за час они проходили бы шестисоткилометровый путь. В фантастических романах А. Богданова «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1913) сплетены воедино события, происходящие на Земле и на Марсе. Марсиане посещают Землю, на которой назревает революция, а русский революционер летит вместе с ними на Марс и застает там сложившееся коммунистическое общество. А. Богдановым предвосхищены смелые технические идеи, как, например, применение атомной энергии в ракетных двигателях и возможность управления силой тяжести. В целом эта дилогия заняла значительное место в истории русской фантастики. К фантастике обращался и А. Н. Куприн, написавший повесть «Жидкое солнце» (1913). Он одним из первых русских писателей ставит вопрос о судьбе открытия и ответственности ученого. Герой рассказа находит способ концентрировать энергию солнечных лучей, получать «жидкое солнце» и мечтает применить свое открытие для изменения климата Земли. Но попытка кончается неудачей, и герой гибнет при взрыве. Ученый-одиночка не смог стать благодетелем человечества. Кроме того, А. Куприн написал фантастический рассказ «Тост» (1906). В нем описана встреча Нового, 2906 года на Северном полюсе. «Электроземно-магнитной ассоциации» удалось использовать магнитную силу Земли, которая привела в движение машины на фабриках и заводах, на полях, на транспорте, осветила все улицы и дома, обогрела их. И на Северном полюсе, где раньше была полярная ночь, «благодаря действию особых конденсаторов яркий солнечный свет весело заливал и зелень растений, и столы, и лица тысячи пирующих, и стройные колонны, поддерживавшие потолок, и чудесные картины, и статуи в простенках». Люди новой эры произносят тост в честь тех, кто жертвовал собой, чтобы построить этот свободный мир… Хотя и немногочисленные, произведения русской дореволюционной фантастики интересны своими прогрессивными идеями и смелыми техническими предвидениями. Кроме Циолковского, например, о космических полетах писали Б. Красногорский и Д. Святский. В романах «Острова эфирного океана» и «По волнам эфира» (1913–1914) они описали полет на космическом корабле с солнечным зеркалом, позволявшим использовать энергию светового давления. Подобная идея под названием «солнечного паруса» теперь уже встречается на страницах технических журналов. Инженер-электрик В. Чиколев пишет «Не быль, но и не сказку», опубликованную в журнале «Электричество» в 1895 году. Это фантазия о «веке электричества» в России. Дань фантастике отдал известный популяризатор физики, математики и астрономии Я. И. Перельман. Он написал дополнительную главу к роману Ж. Верна «Из пушки на Луну». Как известно, Жюль Верн допустил ошибку, считая, что невесомость наступает лишь там, где уравновешивается притяжение Земли и Луны. Поэтому его герои не испытывали неудобств, связанных с потерей веса. А что произошло бы на самом деле? Как, например, завтракали бы герои Жюля Верна, если бы они, конечно, остались живы после выстрела? «Завтрак в невесомой кухне» — так назвал Я. Перельман написанную им и опубликованную в журнале «Природа и люди» в 1914 году главу. Мишель Ардан ухитряется благодаря советам своих ученых друзей приготовить завтрак. Однако ему пришлось для этого немало потрудиться… Глава эта вошла в широкоизвестную «Занимательную физику» Я. Перельмана. В 1917 году появился журнальный вариант фантастического романа Н. Комарова «Холодный город», впоследствии выходившего отдельными изданиями. Приняв предпосылку о якобы наступившем повышении температуры на Земле, автор изобразил «холодный город», в котором искусственно поддерживались нормальные условия для жизни. Но благодаря тому, что в романе затронуто много других научно-технических проблем и деталей быта, его можно отнести к числу произведений о будущем широкого плана. Сразу же после революции начали появляться первые научно-фантастические произведения, авторы которых стремились показать, какие перспективы ожидают свободное человечество. Это относилось и к покорению космоса, и к преобразованию планеты, и к переустройству жизни как в более близкие, так и в более отдаленные времена. Новая фантастика продолжала традиции, сложившиеся уже давно: она показывала осуществление смелых научно-технических идей и пыталась нарисовать многоплановую картину грядущего. Она ставила также целью пропаганду научных знаний, подобно тому, как это делал, например, Циолковский. В период, когда началось восстановление разрушенного войной хозяйства и когда овладение знаниями, создание новой научно-технической интеллигенции, привлечение молодежи в науку стали одной из важнейших государственных задач, возросла и роль познавательной фантастики. Один из ее зачинателей, Александр Романович Беляев, отмечал тогда, что толкнуть человека на самостоятельную работу — это самое главное и лучшее, что может сделать научно-фантастическое произведение. В то же время начинают появляться и социальные утопии, продолжающие в новых условиях традиции русского утопического романа. Со временем они наполнялись все более конкретным и разнообразным научно-техническим содержанием и рисовали развернутые картиныжизни в будущем. Несмотря на фрагментарность и схематичность таких картин, на отсутствие в них образов людей завтрашнего дня, на их экскурсионно-описательную форму, на упрощенное понимание социальных проблем, они выражали стремление изобразить совершенное общество как высшую цель революции. Возникают и другие разновидности фантастической литературы. Использовав сложившуюся форму приключенческого романа, фантасты, и прежде всего А. Беляев, наполнили ее научным содержанием. С другой стороны, научно-фантастический роман приобрел у советских фантастов новое, только ему присущее социальное звучание — прежде всего у А. Толстого и у А. Беляева. В советской фантастике намечаются характерные для нее темы: популяризация тех или иных проблем, гипотез, идей, рождавшихся в науке и технике; судьба открытия и судьба ученого в Советской стране и капиталистическом мире; осуществление грандиозных планов переделки природы; необычайные путешествия, в том числе в космос. Возникают и жанровые разновидности фантастики: сложившийся благодаря А. Беляеву тип научно-фантастического романа, в котором научная посылка играет основополагающую роль; приключенческий роман с элементами фантастики; фантастическая сказка; научно-фантастический очерк. Создаются пьесы и сценарии. Появляется много научно-фантастических рассказов. Борьба двух систем — социалистической и капиталистической — находит свое отражение и в фантастике еще задолго до второй мировой войны. В преддверии ее появляется военно-утопический роман. Но еще раньше писатели-фантасты в различных аспектах стремились показать столкновение старого и нового, попытки помешать строительству первого в мире социалистического государства. Поэтому в фантастике того времени часто встречается детективно-шпионская линия, особенно в тридцатые годы. Далеко не всегда, однако, литературный уровень этих произведений соответствовал их идейному содержанию. В двадцатые годы издавались многочисленные переводные произведения, качество которых заставляло зачастую желать лучшего. Книжный рынок наводнялся продукцией различных многочисленных частных издательств; они поставляли развлекательное чтение, не слишком требовательному читателю. Это относится и к периодике, в которой часто помещались псевдофантастические авантюрные произведения зарубежных авторов. Вместе с тем в те же годы выходило немало интересных переводных книг. Советский читатель мог прежде всего познакомиться с творчеством классиков мировой фантастики — Жюля Верна, Герберта Уэллса, Эдгара По, Артура Конан-Дойля, Карела Чапека, с лучшими образцами произведений современных английских, французских, немецких, шведских и других авторов. В знакомстве с иностранной фантастикой значительную роль сыграли журналы «В мастерской природы», «Вокруг света» (московский и ленинградский), «Всемирный следопыт», «Мир приключений». Фантастика пользовалась в двадцатые и тридцатые годы большой популярностью. Тяга к знаниям была очень велика. И литература, рассказывающая о перспективах развития науки и техники, — литература мечты находила широкий круг читателей, особенно среди детей и молодежи. В стране шло грандиозное строительство, и стремление заглянуть в будущее, увидеть свершенными еще более смелые замыслы отвечало читательским запросам. Фантастика выпускалась в двадцатых годах многими издательствами, например: «Земля и фабрика», «Молодая гвардия», Госиздат, «Пучина», «Прибой» и др. С 1927 года в Ленинграде возобновилось издание журнала «Вокруг света». До 1930 года он выходил в издательстве «Красная газета», а с 1931 по 1941 год в издательстве «Молодая гвардия». С 1925 по 1930 год в Москве выходит новый журнал — «Всемирный следопыт» с приложением, которое также называлось «Вокруг света» (с 1927 по 1930 год). В 1927 году была выпущена «Библиотека „Всемирного следопыта“. Путешествия. Приключения. Научная фантастика». Возобновилось издание журнала «Мир приключений», выходившего в издательстве П. П. Сойкина с 1922 по 1930 год. Во всех этих журналах, а также детских — «Еж», «Юный пролетарий», «Знание — сила», «Пионер» — печатались научно-фантастические романы, повести, рассказы и очерки советских и зарубежных писателей. На страницах периодики впервые увидели свет такие произведения, как, например, «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Продавец воздуха», «Подводные земледельцы», «Звезда КЭЦ», «Лаборатория Дубльвэ» и многие рассказы А. Беляева, «Сказание о граде Ново-Китеже» М. Зуева-Ордынца, «Московские факиры» С. Григорьева. Фантастике уделяли внимание даже и специальные журналы. Так, журнал «В бой за технику» поместил роман А. Беляева «Под небом Арктики» и ввел отдел «Транспорт в научной фантастике», в котором печатались и разбирались отрывки из научно-фантастических произведений. Свою роль сыграл журнал «В мастерской природы» (1922–1929), организатором и вдохновителем которого был Я. И. Перельман. В нем систематически публиковались произведения советских и зарубежных фантастов. Проблема межпланетных путешествий, столь близкая Я. Перельману, была широко представлена в журнале. В ранней советской фантастике нередко встречались подражания авантюрным романам Запада, далекие от науки и настоящей литературы. Голое фантазирование, беспочвенные вымыслы, нагромождение приключений — таковы характерные черты этих эпигонских произведений. Так, например, в одном из ранних космических романов, спекулирующем на революционной романтике, встречались самые вздорные измышления, вроде межпланетных кораблей, использующих в качестве источника энергии психическую энергию человека, слоноподобных селенитов, двойников Земли и тому подобное. Художественная ценность таких произведений была крайне низка, и, естественно, они не оставили никакого следа в истории нашей фантастики. Появлялись и произведения небезынтересные с художественной стороны, но тоже подражательные и проповедовавшие чуждые нам взгляды на будущее. Мутному потоку переводной фантастической и приключенческо-фантастической литературы, а также откровенному эпигонству и халтуре следовало противопоставить другую фантастику. Опираясь на реальные достижения науки, надо было создать произведения, воспитывающие молодое поколение в духе идей социализма и рассказывающие о грядущем прогрессе. Разоблачение капиталистической идеологии становилось и в фантастике одной из главнейших задач. Вот почему с интересом восприняты были произведения первых советских фантастов, в числе которых были такие крупные писатели и ученые, как К. Циолковский, В. Обручев, А. Толстой, С. Григорьев, А. Беляев. Автор широко известных романов «Петр I», трилогии «Хождение по мукам» и многих других шедевров реалистической прозы, А. Н. Толстой вошел и в историю советской научно-фантастической литературы. В 1923 году в журнале «Красная новь» начал печататься его фантастический роман «Аэлита» (отдельное издание вышло в том же году в Госиздате). «Аэлита» была обработана А. Толстым для детей старшего возраста и вышла впервые в Детиздате в 1937 году, а затем многократно переиздавалась. Действие романа происходит на Марсе. Но не полет на Марс и не марсиане находятся в центре внимания писателя. В отличие от К. Циолковского и В. Обручева, А. Толстой не стремился популяризировать науку или придавать научную достоверность своей фантазии. Он лишь бегло объясняет устройство корабля, на котором инженер Лось и красноармеец Гусев отправились на Марс. И марсиане — тоже плод свободной фантазии автора. Для А. Толстого перенесение действия на Марс лишь прием, и в истории марсианской революции мы легко узнаем отзвуки событий, разыгравшихся на Земле. Недаром Лось и Гусев — живые образы петроградцев двадцатых годов, и недаром в повести точно указана дата полета — 18 августа 1921 года. Автор хочет, чтобы читатель поверил в правдивость описываемых событий, и достигает своей цели. Марсиан А. Толстой показывает похожими на людей, и оттого взволнованно и поэтично звучит рассказ о любви Аэлиты и Лося. Журнальный вариант романа назывался «Закат Марса». Марсианская цивилизация обречена на гибель диктатором Тускубом, который не желает возрождения угасающей планеты, ибо это привело бы к потере им власти, к революции, — вот с чем сталкиваются земляне. Они пытаются вмешаться в ход событий, но неудачно. Тем не менее конец повести оптимистичен: мы верим, что диктатура Тускуба будет низвергнута. Восстание подавлено. Лось и Гусев возвращаются на Землю. И через миллионы километров доносится голос Аэлиты, обращенный к любимому… Через два года после «Аэлиты» появляется роман «Гиперболоид инженера Гарина». Это — остросюжетное произведение с яркими, запоминающимися образами. Роллинг и Зоя Монроз, Гарин, капитан Янсен, Шельга. Каждый из них обрисован живыми человеческими чертами, характерными для выбранной писателем обстановки. Обстановка конкретна, и события, связанные с необычным изобретением Гарина, поступки и характеры героев предельно жизненны. Фантазия, сплетаясь с действительностью, придает достоверность авторскому вымыслу. Острое социальное звучание присуще «Аэлите», оно же отличает и «Гиперболоид инженера Гарина». Крах диктатуры Гарина неизбежен, как неизбежен провал всякой попытки установить мировое господство любыми средствами, — такова идея романа, идея, которая оправдалась всем ходом новейшей истории. Фантастические произведения А. Толстого привлекают уже не одно поколение читателей занимательной фабулой, мастерством показа человеческих характеров, сатирической и социальной направленностью, оптимизмом. Писатель показал непревзойденный пример того, как нужно ставить фантастику на службу современности. По силе воздействия «Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина» можно сравнить с лучшими произведениями Герберта Уэллса, общепризнанного мастера фантастики. Но Уэллс, разоблачая буржуазное общество, ничего не сумел ему противопоставить, кроме власти ученых и инженеров над миром. В конечном итоге Уэллс пришел к пессимистическим выводам о грядущем вырождении человечества («Машина времени»). Иные позиции у советского писателя Алексея Толстого. Он верит в лучшее будущее человечества и знает, каким путем оно будет достигнуто. Интересно еще одно произведение А. Толстого — фантастический рассказ «Союз пяти», вышедший в 1930 году. Как и «Гиперболоид инженера Гарина», он выражал ту же идею: господство над миром — неосуществимая мечта маньяков, какими бы средствами они ни пользовались. Разрушить Луну, чтобы внушить ужас населению Земли, вызвать панику и подчинить человечество своей воле — таков замысел героев повести. Снаряды, подобные изобретенной инженером Лосем ракете, бомбардируют Луну, и она разваливается у людей на глазах. Но… паника быстро проходит, и жизнь идет своим чередом. Кто не помнит увлекательный роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли»? Трое смелых путешественников через кратер потухшего вулкана пробираются в земные недра. Они встречают там удивительный животный и растительный мир прошлых геологических эпох и даже первобытного человека. Показать молодость Земли, ее древних обитателей — эта задача занимала не одного лишь Жюля Верна. В 1924 году появился научно-фантастический роман «Плутония». Его написал академик В. А. Обручев — геолог и географ с мировым именем. Герои Обручева, так же как и герои Жюля Верна, отправляются в свое путешествие пешком. Они попадают в подземную страну, где светит свое солнце, а животные и растения сохранились такими, какими они были в давнопрошедшие времена. В. Обручев писал, что хотел «дать нашим читателям возможно более правильное представление о природе минувших геологических периодов, о существовавших в те далекие времена животных и растениях в занимательной форме научно-фантастического романа». Роман выдержал множество изданий и вошел в золотой фонд советской научной фантастики. Особенный интерес он вызвал у молодых читателей. И как когда-то увлечение Жюлем Верном, литературой путешествий, приключений и фантастики, толкнуло молодого В. Обручева стать путешественником и ученым, так и «Плутония» навела многих на мысль заняться наукой о Земле. Вслед за «Плутонией», в 1926 году, вышел второй роман В. Обручева — «Земля Санникова, или Последние онкилоны». Он переносит нас в каменный век. Мы встречаемся с доисторическими животными и людьми, попадаем к легендарным онкилонам. Писатель предположил, что онкилоны не погибли, а переселились на неизвестный остров в Северном Ледовитом океане. Остров оказался заповедником. И на нем, подобно Плутонии, сохранился маленький мирок, где уцелело прошлое. Земли Санникова, как было доказано, не существует. Опять-таки фантастическое предположение понадобилось писателю для того, чтобы воскресить жизнь далекой эпохи в истории Земли. Как и «Плутония», «Земля Санникова» многократно переиздавалась. Помимо этих двух больших произведений, В. Обручев написал повесть «Тепловая шахта» (не закончена) и ряд рассказов, впервые опубликованных в его сборнике «Путешествия в прошлое и будущее», вышедшем впервые после смерти автора, в 1961 году. В него вошли напечатанные раньше рассказы «Видение в Гоби», «Полет по планетам» и «Происшествие в Нескучном саду», а также непубликовавшиеся повести — «Коралловый остров» и «Тепловая шахта». Одним из зачинателей советской научной фантастики, «советским Жюлем Верном» справедливо считают А. Р. Беляева. Он создал целую библиотеку научно-фантастических произведений, и лучшие из них до сих пор пользуются широкой популярностью. Творческий путь А. Беляева можно разбить на два этапа. Ранние произведения (1925–1930) представляют собой остросюжетную фантастику, посвященную судьбам ученых и научных открытий в капиталистическом мире. Многие из них носили памфлетный, разоблачительный характер. Наибольшую известность получили, кроме «Головы профессора Доуэля», романы «Человек-амфибия», «Властелин мира», «Человек, потерявший лицо». В эти же годы А. Беляев пишет много рассказов, в частности «Светопреставление», и почти полностью цикл об изобретениях профессора Вагнера. В конце первого периода в творчестве А. Беляева наметился поворот. Писатель начинает создавать произведения, действие которых происходит в нашей стране, и в числе его героев появляются советские люди. Таковы романы «Продавец воздуха» и «Подводные земледельцы». Продолжая новую линию, автор в тридцатые годы пишет повесть «Земля горит», романы «Воздушный корабль», «Звезда КЭЦ», «Под небом Арктики», «Лаборатория Дубльвэ», рассказы «Рогатый мамонт», «Слепой полет», «Ковер-самолет» (заканчивающий цикл о Вагнере) и др. В этих произведениях, как и в ранних очерках — «Город победителя», «Зеленая симфония», «Гражданин Эфирного Острова», — А. Беляев пытается заглянуть в будущее, нарисовать фрагменты коммунистического Завтра. Он показывает освоенную Арктику, преображенный Ленинград, агрогород в Поволжье, Волго-Донской канал, который тогда еще не был построен, подводное земледелие на Дальнем Востоке, внеземную станцию и полет на Луну. В романах «Звезда КЭЦ» и «Прыжок в ничто» дается картина Земли будущего, когда осуществились грандиозные проекты переделки природы. Одновременно А. Беляев продолжал работать над произведениями, близкими по направлению к его ранним вещам, построенным на зарубежном материале. В 1937 году появляется созданный на основе рассказа роман «Голова профессора Доуэля» (в журнале «Вокруг света»), а годом позже выходит отдельное его издание. Отдельным изданием выходит также новый вариант романа «Человек, потерявший лицо», под названием «Человек, нашедший свое лицо». В 1933 году он публикует роман «Прыжок в ничто». Вскоре выходят еще два издания этого романа. Незадолго до войны им был написан киносценарий «Когда погаснет свет». Последнее крупное произведение писателя — фантастический роман «Ариэль», вышедший в 1941 году. Талант А. Беляева был многогранен. Нельзя не поражаться эрудиции писателя и разносторонности его интересов. Одинаково свободно он ориентировался в технике, медицине и биологии, океанографии и воздухоплавании, космонавтике и астрономии, этнографии и геофизике. Он всегда находился в курсе новейших научных достижений своего времени. Более того, как писатель-фантаст, стремился опередить их, заглянуть далеко вперед. Например, о подводном телевидении, атомной энергии, полете на ракетоплане он написал задолго до того, как они вошли в жизнь. Но показ решенной проблемы, какой бы интересной она ни была, не являлся для писателя самоцелью. Иначе научная фантастика стала бы просто разновидностью научно-популярной литературы, беллетризацией познавательного материала. Научная проблема, открытие, изобретение становятся у А. Беляева основой, определяющим началом, «двигателем» сюжета. В произведение, приключенческое по форме, входят как полноправные герои люди науки. Оно наполняется атмосферой поисков, спецификой научного творчества. Характеры героев А. Беляева проявляются прежде всего в действии. В этом он видел основу своих произведений. Вместе с тем писатель ставит и социальные проблемы, связанные с ролью науки, ответственностью и судьбой ученого. На страницах его произведений мы встречаем образы ученых, которые служат «золотому тельцу» и ради личных эгоистических интересов готовы идти на преступление; ученых-идеалистов, пытающихся стоять вне политики и потому терпящих крах; ученых фашистского толка, стремящихся превратить науку в орудие господства над миром; ученых, которые посвятили себя работе на благо человечества. Начав с подражаний, пройдя, по его собственному выражению, «стадию ученичества у западноевропейских мастеров», А. Беляев утвердил в советской литературе научно-фантастический роман как полноправный вид художественной прозы. Он жил и творил в то время, когда наука и техника еще не приоткрыли для воображения столь удивительные горизонты, как сейчас. С другой стороны, и фантастика не ставила и не могла ставить тогда тех задач, какие встали перед ней сегодня, — показать человека и общество завтрашнего и даже послезавтрашнего дня. Писатель видел свою цель в другом: в создании советского научно-фантастического произведения, в первую очередь для детей и юношества, которое увлекало бы романтикой неизведанного, вызывало бы интерес к науке, завоевывало бы, говоря словами Циолковского, «энтузиастов великих намерений». А. Беляев первым прошел по пути, по которому советская литература мечты должна была пройти. Он адресовал свое творчество тому читателю, который желал увидеть воплощенным необыкновенное, хотел попасть в царство удивительных изобретений и открытий, утолить жажду приключений, романтики подвига. Он в полной мере владел умением придать фантастике правдоподобность и пользовался этим для того, чтобы, отобразив в коллизиях вымышленных отзвуки жизни настоящей, донести до читателя собственную веру в торжество идей справедливости, победы добра над злом. Писатель создавал фантастику различных направлений, и, по существу, в его творчестве наметились те ее разновидности, которые позднее, в послевоенные годы, получили широкое развитие. Это и роман-предостережение, и памфлет, и фантастика социальная, и произведения, в которых фантастика служит литературным приемом. В его произведениях показан решенным целый ряд научных и технических проблем, которые вошли в жизнь лишь в наши дни. В середине тридцатых годов с научно-фантастическими рассказами начинает выступать в журнале «Знание — сила» Г. Б. Адамов. В этих рассказах затрагивались проблемы энергетики. В одном из них, «Авария», описана арктическая электростанция будущего; в рассказе «Оазис Солнца» показаны осуществленными идеи Циолковского в области гелиотехники — о получении воды из атмосферы с помощью солнечного тепла. Известность Г. Адамову принес научно-фантастический роман «Победители недр», впервые вышедший в Детиздате в 1937 году. Для установки геотермоэлектрической станции в глубь Земли отправляется экспедиция. Экипаж подземного корабля испытывает ряд приключений и, выполнив поставленную задачу, благополучно возвращается. Следующим научно-фантастическим произведением Г. Адамова явился роман «Тайна двух океанов» (1939). Это история дальнего плавания подводной лодки «Пионер», оборудованной реактивными двигателями, мощными аккумуляторами энергии, различными ультразвуковыми и инфракрасными приборами. В романе, безусловно, чувствуется влияние Жюля Верна. Подводная лодка «Пионер» и ее плавание — это своего рода «Восемьдесят тысяч километров под водой» на современный лад. Но Г. Адамов, используя данные науки и техники нашего времени, естественно, идет далее Жюля Верна. Конструкция лодки, ее оборудование и вооружение, глубоководные скафандры делают «Пионер» намного совершеннее «Наутилуса». По форме «Тайна двух океанов» — произведение приключенческое. Острый сюжет, красочные описания подводного царства сделали роман популярным у школьников. Он многократно переиздавался. В 1946 году вышел еще один роман Г. Адамова — «Изгнание владыки». Также приключенческий по форме, он явился попыткой показать грандиозные перспективы социалистического строительства. В нем автор развернул широкую картину переделки природы Арктики, «великих арктических работ». Г. Адамов был одним из первых наших писателей-фантастов, целиком посвятивших свое творчество детям. Помимо Г. Адамова, в довоенной детской научной фантастике работали и другие писатели — Г. Гребнев, С. Беляев, В. Владко и др. Ряд написанных ими произведений был переиздан после войны и знаком детскому читателю сегодня. Среди них — повесть Г. Гребнева «Тайна подводной скалы», представляющая переработанный вариант его фантастического романа «Арктания (Летающая станция)», «Пылающий остров» А. Казанцева, «Генератор чудес» Ю. Долгушина, «Аргонавты Вселенной» В. Владко. В двадцатые годы читатель познакомился еще с одним писателем, отдавшим дань фантастике, — М. Е. Зуевым-Ордынцем. Создавая приключенческие произведения, он написал научно-фантастический роман «Сказание о граде Ново-Китеже» и несколько рассказов. Тема необыкновенных путешествий, географических и этнографических открытий появилась в русской дореволюционной и советской фантастике давно. Можно назвать, например, фантастический роман Н. Шпанова «Земля Недоступности» (1930), в котором рассказана история экспедиции к Северному полюсу на подводной лодке для поисков залежей полезных ископаемых. В журналах «Вокруг света», «Мир приключений», «Всемирный следопыт» печатались фантастические произведения на историко-археологическом, этнографическом и географическом материале. Фантасты изображали поиски неведомых науке исчезнувших цивилизаций, необычайные находки памятников материальной культуры, встречи с представителями будто бы уцелевших первобытных племен и даже далекими предками человека. Для довоенной фантастики характерно появление особой ветви — «литературы физического (а также биологического) парадокса». Что было бы, если бы уменьшилась или исчезла тяжесть на Земле? Уменьшилась скорость света? Исчезло трение? Не стало бы микробов? Не ощущалось бы чувство боли? Воскресли бы угасшие древние инстинкты и обострились органы чувств?.. А. Беляев, А. Палей, В. Язвицкий, Н. Мюр (псевдоним инженера В. Рюмина, автора книги «Занимательная техника наших дней» и др.), К. Циолковский (рассказ «Без тяжести», вошедший в «Грезы о Земле и небе») наглядно иллюстрировали положения физики и биологии в своих фантастических рассказах, прибегая к парадоксу. Пользуясь этим приемом, им удавалось показать роль ряда явлений, к которым мы настолько привыкли, что обычно не замечаем, а потому не представляем их огромного значения в нашей жизни. Сказочная фантастика также начала появляться в двадцатые годы. В отличие от обычной сказки, в ней присутствует либо элемент популяризации науки, либо используется прием, позволяющий показать необычное, недоступное нашим органам чувств или представить обычные явления под необычным углом зрения. Широкую популярность имела, например, книга Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1937), выходившая впоследствии несколькими изданиями. Это фантастические приключения двух ребят, которые уменьшились в размерах и потому смогли познакомиться с жизнью насекомых. Уже с середины двадцатых годов в советской фантастике начинают появляться произведения широкого плана, посвященные далекому будущему, — социальные утопии. Первую попытку сделал В. Итин в фантастической повести «Страна Гонгури» (1922). В повести рисуется картина страны победившего коммунизма и предвосхищаются научно-технические достижения как близкого, так и более отдаленного будущего — например, космовидение, автоматика, полеты на планеты, разгадка тайн тяготения и времени. Детский писатель С. Григорьев выступил с фантастической повестью «Московские факиры» (1925), вышедшей отдельным изданием в 1926 году под названием «Гибель Британии». Написанная в форме репортажа, она рисовала отдельные черты жизни «Новой страны» (Советской России), название которой символично — в ней новые люди, новые отношения, новые техника и наука. Повесть получила одобрительный отзыв М. Горького, который написал автору из Неаполя:«…„Гибель Британии“ весьма понравилась и удивила меня густотою ее насыщенности, ее русской фантастикой и остроумием».Социальная утопия интересовала А. Толстого. В плане задуманной им части «Судьбы мира» в романе «Гиперболоид инженера Гарина» автор написал:
«Война и уничтожение городов. Роллинг во главе американских капиталистов разрушает и грабит Европу, как некогда Лукулл и Помпей ограбили Малую Азию. Гибель Роллинга. Победа европейской революции. Картины мирной, роскошной жизни, царство труда, науки и грандиозного искусства».Чрезвычайно интересную картину будущего дает А. Толстой в рассказе «Голубые города» (1925). Эта картина, представляющая собой мечты главного героя, выделена подзаголовком «Через сто лет». Она начинается словами:
«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать шесть лет…»Герой был омоложен с помощью замораживания, действия магнитного поля и пересадки желез внутренней секреции. Его глазами описывается Москва XXI века. А. Толстой описывает не только Москву, но и дает Землю того же XXI века:
«…Там, где расстилались тундры и таежные болота, — на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых металлов на Севере, уран и торий, были, наконец, подвергнуты молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы радиоактивной энергии. От Северного к Южному полюсу по тридцатому земному меридиану была проложена электромагнитная спираль… Электрическая энергия этой полярной спирали питала станции всего мира. Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей…»Картины будущего рисовали и другие писатели — Я. Окунев, В. Никольский, Э. Зеликович, Я. Ларри, Г. Гребнев. Большинство их произведений — это беллетризованные очерки. Они показывали реализованным то, что в те времена казалось лишь далекой перспективой. Так, авторы этих утопий писали о транспорте на атомной энергии, космических полетах, переделке природы, синтетической пище, грядущих успехах энергетики, связи, промышленности, строительства, автоматики. Нередко в них описывалась борьба прогрессивного общественного строя с остатками капитализма. Но люди будущего, их характеры, взаимоотношения, духовный мир, а не только техника и бытовой уклад изображались схематично, обычно глазами современника, тем или иным чудесным образом попавшего в отдаленную эпоху. Общественное устройство изображалось также крайне схематично. Ранние произведения советских фантастов о будущем в литературном отношении далеко не совершенны. Тем не менее они проникнуты оптимизмом и верой в светлое Завтра человечества. Взгляды авторов на общество грядущего, на его жизнь были во многом наивны, что вполне понятно. Время, в которое они создавались, было временем становления первого в мире Советского государства, только что покончившего с гражданской войной и разрухой и лишь приступавшего к социалистическому строительству. Их можно считать предшественниками послевоенной социальной фантастики. В фантастике двадцатых и тридцатых годов сложились те основные направления, которые получили свое дальнейшее развитие в послевоенные годы. Если сначала чаще всего фантасты разворачивали действие за рубежом и их творчество во многом было подражательным, то постепенно стали создаваться произведения, посвященные будущим достижениям советской науки и построенные на советском материале. И хотя форма такого произведения тогда еще окончательно не определилась, поиски ее уже начались. Начав с изображения ученого-одиночки, изобретателя-уникума, находящегося в изоляции или в антагонизме с окружающей действительностью, советские фантасты перешли к показу коллективного творческого труда, процесса научного открытия, результатов решения тех или иных проблем. Появились первые произведения, показывающие грандиозные стройки будущего. Линия разоблачения капиталистических нравов и порядков была продолжена в послевоенных романах и памфлетах. Уже в ранний период отчетливо выявилась характернейшая особенность нашей фантастики — ее подлинный гуманизм. Произведения советских фантастов показывали будущее науки и техники, которые служат людям, а не являются орудием истребительной войны. Ни один советский писатель не выступал с проповедью насилия, человеконенавистничества, не призывал к агрессии и войнам. Нашей фантастике всегда были чужды пессимизм, неверие в силы человеческого разума, в прогресс человечества. Как только окончилась Великая Отечественная война и страна приступила к мирному строительству, возобновилось и развитие научной фантастики. Война вызвала появление новых областей науки и техники, таких, как радиолокация, реактивная авиация, ракетостроение, атомная энергетика. Намечались перспективы их использования уже для созидательных целей. Новые возможности открывались и для переделки природы, что не могло не оказать влияния на творчество писателей-фантастов. Изменившаяся политическая обстановка, выход Советского Союза на международную арену как мощного фактора мира, образование социалистического лагеря, обострение впоследствии идеологической борьбы между двумя лагерями не могли не отразиться на советской фантастике. Поэтому уже в первые послевоенные годы расширяется тематический диапазон научно-фантастических произведений. По-прежнему, но обогащенная новым материалом, развивается космическая фантастика, появляются произведения, затрагивающие будущее атомной энергетики, и особенно широко разрабатывается тема преобразования природы. Вместе с тем фантасты отображают многие другие проблемы, которые в то время лишь зарождались в лабораториях ученых и ожидали выхода в практику. Морская геология, искусственные материалы, синтетическая пища, полупроводниковая техника — таковы примеры подобных тем. Характерным для этого периода развития фантастики является не взгляд в далекое Завтра, а, наоборот, показ ближайшего будущего науки и техники, стремление изображать частности, а не давать общую картину. Отсутствие образов живых людей обедняло фантастику, сужало ее рамки и ограничивало возможности литературы мечты даже по сравнению с довоенным периодом. Лишь отдельные произведения говорили о проблемах дальнего прицела и рисовали более или менее широкое полотно, что относится прежде всего к фантастике на тему о переделке природы. Развивается фантастика познавательная, сказочная, очерковая. Вновь появляются приключенческие произведения с фантастической посылкой, произведения-гипотезы, памфлеты и романы-предостережения, романтическая фантастика о встречах с необычайным, об удивительных открытиях, фантазии о прошлом Земли, о жизни на других планетах. В послевоенной фантастике начинают появляться новые тенденции. Некоторые фантасты стремятся изобразить научный поиск как дело коллектива и прослеживают историю открытия — от замысла до воплощения. Зачастую именно это и служило для них основой сюжета. Судьба открытия изображается ими не только в своих практических следствиях. В некоторых произведениях показывается преемственность идеи: дело, начатое одним ученым, продолжается и завершается другим. То, что в предвоенной литературе лишь намечалось, в послевоенной стало проявляться все более отчетливо. Содружество ученых, разработка изобретения от истоков до широкого практического выхода встречается еще у Циолковского в его повести «Вне Земли». В сороковые и пятидесятые годы, каждый применительно к своей проблеме, об этом пишут многие фантасты. Ряд тем, которые затрагивались в довоенной фантастике, появляется вновь, но в ином виде, с учетом происшедших в науке и технике изменений и иной обстановки. Поиски новых видов энергии, прошлое нашей планеты, путешествия в недра Земли, полеты в космос, отепление Арктики — все это мы найдем в произведениях, выходивших после 1945 года. Фантастика того времени лишь ненамного опережала действительность и даже по литературной форме нередко приближалась к распространенному тогда «производственному» роману. Тема будущего в широком смысле слова не поднималась, как не затрагивались и проблемы, связанные с далекими перспективами научно-технического прогресса. Многое, о чем писали фантасты, вскоре сбывалось, но это не было тем смелым предвидением, которое отличало раннюю советскую фантастику, например произведения Циолковского. Помимо «производственного» романа, в фантастике тех лет встречается и приключенческий либо детективный роман с фантастической посылкой. На одно из первых мест выдвинулись сатирическая фантастика и сатирический памфлет. Обстановка «холодной войны», борьба за мир нашли свое отображение и в литературе, казалось бы прямо не связанной с современностью. В первые послевоенные роды работал целый ряд писателей-фантастов, чье творчество было адресовано в первую очередь детям и молодежи. Среди них — А. Казанцев, Г. Адамов, Н. Томан, Л. Платов, С. Беляев, А. Палей (начавшие писать научно-фантастические произведения еще до войны), В. Немцов, В. Сапарин, В. Охотников, Г. Гуревич, Г. Тушкан и др. А. Казанцев в своих послевоенных романах — «Арктический мост», «Мол Северный» («Полярная мечта») — рисует осуществление таких грандиозных инженерных проектов современности, как трансконтинентальный туннель и гигантская ледяная плотина в Северном Ледовитом океане. В центре внимания А. Казанцева — идеологическая борьба социализма и капитализма, что находит отражение и в разработке им космической темы («Внуки Марса», «Лунная дорога»). В перипетиях межпланетных экспедиций раскрываются и противопоставляются образы советских и западных космонавтов. Кроме того, А. Казанцев уделяет много внимания проблемам посещения Земли пришельцами из космоса (например, сборник «Гости из космоса»). Творческий путь В. Немцова начался с научно-популярной книги «Незримые пути», посвященной радиотехнике. Затем писатель выступает с целым рядом научно-фантастических повестей и рассказов, затрагивающих различные актуальные проблемы науки и техники ближайшего завтра. Среди них — добыча нефти под дном Каспийского моря, новые синтетические материалы, новые пути поиска металлических руд, новые области использования излучений, миниатюрные аккумуляторы и другое. Его интересует будущее сельского хозяйства («Семь цветов радуги»), энергетики («Осколок Солнца»), телевидения («Счастливая звезда», сокращенный вариант — «Альтаир»), искусственных спутников Земли («Последний полустанок»). Наряду с научно-техническими проблемами В. Немцов стремится показать моральный облик современника, строящего коммунизм, ставит в своих произведениях вопросы морально-этического характера. Познавательная фантастика была представлена в послевоенные годы произведениями В. Охотникова, написавшего ряд повестей и рассказов на различные научно-технические темы. Подземоход, машина, разрыхляющая почву ультразвуком, генератор, преобразующий химическую энергию угля в электрическую, усовершенствованный дорожно-строительный комбайн — таковы примеры тематики произведений В. Охотникова. Последняя его повесть — «Наследники лаборанта Сенявина» (1957). В послевоенные годы начал писать познавательную фантастику и В. Сапарин. Его рассказы печатались в журналах «Знание — сила», «Вокруг света», «Техника — молодежи» и выходили отдельными изданиями. Тематически диапазон писателя также очень разнообразен: от автоматики до полетов в космос межпланетной станции и освоения пустынь, от энергетики и телемеханики до новых синтетических материалов. Впоследствии В. Сапарин создал цикл рассказов, посвященных будущему Земли и освоению нашей соседки Венеры («Суд над Танталусом»). Писатель рисует не только необычайную обстановку, но и людей грядущего, преодолевающих трудности покорения неведомого. Осуществлению различных инженерных замыслов, проектов переделки природы, использования естественных ресурсов, проблемам физики, биологии, медицины, освоения морских глубин и Луны посвящены первые послевоенные произведения Г. Гуревича. Эти темы он продолжает разрабатывать и в последние годы, уделяя особенное внимание проблемам преобразования Земли и космоса. В 1944 году появились первые рассказы И. А. Ефремова. Сначала опубликованы были «Встреча над Тускаророй», «Дены-Дерь» (или, иначе, «Тайна горного озера», «Озеро Горных Духов»), «Катти Сарк». Затем к ним добавились «Последний марсель», «Телевизор капитана Ганешина» (другое название — «Атолл Факаофо»), «Голец Подлунный», «Обсерватория Нур-и-Дешт». Выходят сборники «Пять румбов» (1944), «Встреча над Тускаророй» с еще одним новым рассказом — «Бухта радужных струй». В 1945 году выходят «Тени минувшего», «Ак Мюнгуз» и «Алмазная труба». В 1947 году была издана повесть «Звездные корабли». Это научно-фантастические рассказы из цикла о необыкновенном — открытиях в области геологии, палеонтологии, ботаники, зоологии и химии моря. Для них характерна романтика приключений. В дальнейшем И. Ефремов обращается к тематике геологической и палеонтологической. Героями его становятся ученые. При этом писатель тесно переплетает прошлое и настоящее, воскрешает древние легенды, придавая им романтико-фантастическую окраску. Так, например, легендарное дерево жизни, эйзенгартия, в рассказе «Бухта радужных струй» вновь открывается в наши дни, а истоки открытия лежат еще в средних веках и далеком прошлом Мексики, когда будто бы было известно такое дерево. И в основе рассказов «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Озеро Горных Духов», «Белый рог» тоже лежат легенды. И. Ефремов положил начало в послевоенной фантастике литературе гипотез. Особенно характерна в этом отношении повесть «Звездные корабли». В ней, как и в других позднейших рассказах, автор отходит от приключенческой формы. Он по-прежнему красочно рисует ландшафты, насыщает произведения взволнованной атмосферой научного поиска. И все же «Звездные корабли» скорее спор, бой в защиту гипотезы, столкновение разных и притом далеких областей знания. Говоря словами героев повести, «одна невероятное, сцепившись с другим, превращается в реальное». Открытие происходит на стыке наук. И. Ефремов затрагивает в повести и астрономию, и космическую биологию, и геологию, и палеонтологию. Все они в конце концов служат художественным воплощением одной генеральной идеи, идеи о множественности очагов разума во Вселенной, о сходстве путей, по которым идет развитие жизни на разных планетах. И. Ефремов поэтизирует научный поиск и подвиг, совершенный во имя его. Герои произведений нередко рискуют жизнью или идут на заведомый риск, меняют даже жизненный путь, чтобы доказать правоту своих предположений. В остроте борьбы за правоту идеи и раскрывается прежде всего романтика ранней фантастики Ефремова, даже если она не связана с внешне эффектными приключениями. В январском номере журнала «Техника — молодежи» 1957 года произошла первая встреча читателей с героями нового романа И. Ефремова — «Туманность Андромеды». Эта встреча состоялась тогда, когда в небе над нашей планетой еще не появился ни один искусственный спутник. А в «Туманности Андромеды», шедшей из номера в номер, разворачивались события далекой космической эры. Люди XXX века отправлялись в межзвездное путешествие. Они посещали странные планеты других солнечных систем, испытывали необыкновенные приключения и переживали радость встречи с неизведанным. Земляне почувствовали себя членами великой семьи разумных существ, рассеянных по необъятной Вселенной, живущих на планетах-спутниках далеких звезд. Они вступили с ними в контакт, увидели их на экранах своих телевизоров, услышали голоса иных миров, объединенных в одном большом мире, названном писателем Великим Кольцом. Роман воспринимался поначалу как смелая фантазия, как художественное воплощение идей, занимавших еще Циолковского, который мечтал о всепланетном сообществе и полетах к иным солнцам. Может быть, эта фантазия и казалась тогда чересчур дерзкой. Но наступил октябрь исторического 1957 года. Четвертого октября зазвучали позывные первой из первых — советской искусственной луны. И потому окончание «Туманности Андромеды», романа об отдаленнейшем будущем, воспринималось с иным чувством: как-то стерлись грани между вымыслом и устремленностью в Завтра, которая проявляется уже в свершениях наших дней. Не случайно первый космонавт Юрий Гагарин, вернувшись из кругосветного путешествия на спутнике-корабле «Восток», назвал роман И. Ефремова в числе своих любимых книг. Не случайно книга завладела вниманием читателей во всем мире. И не случайно появление «Туманности Андромеды» послужило переломной вехой в развитии послевоенной советской фантастики. Дело не в одном простом совпадении, не в удаче писателя, давшего далекий космический прогноз именно тогда, когда человечество впервые шагнуло в космос.Такова только одна и притом не главная сторона. В романе показаны были необычайные достижения науки и техники, о каких ученые еще и не помышляют сегодня. Недаром автор снабдил роман словариком различных фантастических научных и технических понятий, придуманных им. Он хотел подчеркнуть, что будущее необычайно раздвинет пределы возможностей Человека. Однако и это тоже не самое главное в «Туманности Андромеды». На страницах романа перед нами возникли контуры мира грядущего: новая, переделанная Земля, новое, коммунистическое общество и новые люди. Это уже не наши современники, каким-либо необычайным путем попавшие в будущее на сто или тысячу лет вперед, и не экскурсанты, которые совершают беглую прогулку по планете хотя бы и послезавтрашнего дня. Здесь и не фрагменты всевозможных научно-технических революций, которые любили изображать авторы многих романов о будущем. Будущее предстало у писателя прежде всего человечным: его волнует то, какими станут люди, их жизнь, их взаимоотношения, их душевный мир. Его интересует, какие могут возникнуть в том трудно вообразимом, отделенном от нас вереницей веков времени чисто «людские» проблемы: семья, воспитание детей, личное и общественное, труд и обязанности, отдых и многое-многое другое. «Миллиарды граней грядущего» — так выразился писатель о задачах социальной фантастики. Да, у грядущего миллиарды граней, и И. Ефремов первый среди современных наших советских фантастов попытался отобразить важнейшие из них. Перемены, которые должны произойти в нас самих; физическое и духовное совершенство людей далекой коммунистической эпохи; вечный поиск, без которого немыслим прогресс, — все это находит воплощение в романе, все это образует широкое полотно, внешне мозаичное, но вместе с тем стройное и законченное. Где бы ни происходило действие — в звездолете, на чужой безжизненной планете или в различных уголках Земли, — мы ощущаем атмосферу светлой, радостной жизни. Конечно, писатель не мог предугадать ее во всех деталях. От этих далеких потомков нас отделяет гигантский промежуток времени. Оттого порой кажутся схематичными образы героев, наделенных необычными именами и живущих в необычной для нас обстановке, и описание планеты XXX века дано в виде беглой очерковой зарисовки. Некоторые страницы романа вызвали споры. Кое-кому показался слишком холодным, слишком насыщенным техникой этот мир далекого Завтра. Кое-кому трудно понять поступки героев «Андромеды», перекинуть мостик от современности к столь трудно вообразимому будущему. Но в том-то и заслуга писателя, что он отважился на такое путешествие во времени, отважился повести читателя за собой в отдаленнейшее будущее. Роман завоевал широкую популярность. Он вышел отдельным изданием в 1958 году, а затем неоднократно переиздавался и переводился на многие языки. «Земное» и «космическое» тесно переплетены. И правомерность этого подтверждена самой жизнью. Победы в космосе стали неотъемлемой частью нашего бытия. Все яснее становится неизбежность выхода человечества за пределы собственной планеты. Очевидно, это необходимая ступень в развитии цивилизации, вернее, одна из ступеней лестницы, которой нет конца. А цивилизация может существовать не на одной лишь Земле — таков вывод, к которому приходит наука. В повести «Сердце Змеи» (1959), которая является своего рода продолжением «Туманности Андромеды», он изобразил встречу землян с жителями неведомой «фторной» планеты. Это встреча друзей, а не врагов, как любят представлять ее иные западные фантасты. Это — высшее торжество разума, который един во всей Вселенной, который побеждает пространство и время. Литература, которую раньше часто называли литературой мечты, обретала новые крылья. Она выходила на новые рубежи. Начались поразительные космические свершения. Космонавтика как бы сфокусировала в себе достижения многих отраслей науки и техники. Рядом с ней бурно развивалось то новое, что вызвало целый ряд переворотов. Их последствия ныне ощущает каждый из нас — жителей века атомной энергии и реактивной авиации, химии и кибернетики, — века, когда захлестывает половодье открытий, властно вторгающихся в жизнь. Действительность быстро опережала недавнюю мечту фантастов, и даже такую, какая казалась чересчур смелой, не говоря уже о фантастике «ближнего прицела». Возникали неожиданные проблемы, связанные с дальними горизонтами науки. Стирались «белые пятна» на карте знаний, появлялись другие, еще более загадочные и сулящие поистине сказочные перспективы — для практики, для человека. Будущее представало в ином свете, если говорить о том, что дадут наука и техника человечеству даже конца нашего, не говоря уже о XXI веке. Фантазии открывался широчайший простор. И это относилось, конечно, не только к космической теме, хотя она становилась лидером фантастики. Воображение увлекало в путешествия на Луну и планеты, к звездам и отдаленнейшим галактикам. Оно делало людей будущего хозяевами Солнечной системы, покорителями межзвездных просторов, властелинами необъятного мира, имя которому — Вселенная. Однако мысль, устремленная далеко вперед, вела широкий поиск. Ее увлекали удивительные перспективы физики и химии, обещающие расширение власти над веществом, открытие новых видов энергии. Разгадка тайн живой материи намечала пути к победам над болезнями, старостью и смертью, к изобилию, к искусственной пище, к переделке окружающего мира — и нас самих в том числе. Но появилось и другое, что не могло не отразиться на фантастике уже конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. В Завтра устремлялась не одна наука, а и ее творец — человек. Он стал думать о будущем и работать для него. Представить себе это Завтра, во всей полноте, — задача, стоявшая еще в предвоенные годы, теперь стала для фантастики задачей номер один, причем на первое место выдвинулось изображение Человека грядущей эпохи, а не возможных научных и технических достижений. Подъем фантастики выразился не только в количественном росте, хотя и он тоже показателен. Фантастика стала качественно иной. Начал осуществляться завет Александра Беляева, считавшего главнейшей и труднейшей задачей фантастов показ будущего — не одной лишь техники, а и людей, не одной лишь науки, а и всех сторон жизни общества грядущего. В фантастику входит новый герой — человек из коммунистического Завтра. Именно первые серьезные попытки изобразить будущее в человеческом плане и являются самым примечательным для нового этапа развития нашей фантастики. Но и в тех произведениях, в которых наш современник путешествует во времени, мы встречаем жизнь более полнокровную, со своими особыми конфликтами и проблемами, порой весьма неожиданными. Внимание к психологическим, моральным, этическим, социальным проблемам, стремление как можно шире показать душевный мир людей из Завтра — также характерная черта новой советской научно-фантастической и фантастической литературы. Успехи сегодняшней науки на переднем крае, открывшиеся ныне далекие ее перспективы дали возможность насытить произведения фантастики той научной атмосферой, в которой будут жить наши потомки. Фантасты отходят от популяризации знаний, они все меньше показывают то, что зародилось уже сегодня, и все чаще, когда это необходимо, создают «фантастическую» науку — вводят несуществующие понятия и термины. Во многих произведениях фантастическая посылка служит лишь приемом, позволяющим особенно отчетливо благодаря необычности обстановки и сюжетных ситуаций отразить то, что волнует наших современников. Таковы, например, послевоенные фантастические романы-предупреждения и памфлеты. Иное преломление получили в современной советской фантастике и традиционные темы — такие, например, как космос. Не техника для освоения космоса и не экспедиции первооткрывателей Луны и планет, а поведение человека далекой космической эпохи в столкновении с природой, взаимоотношения людей, живущих в отрыве от Земли, наконец влияние «космизации» на психологию и мироощущение человека независимо от того, летит ли он к далеким мирам или остается на Земле, — вот что интересует в первую очередь фантастов. С особенной силой звучит и тема, лишь намечавшаяся раньше, — контакты земной и инопланетных цивилизаций. Она приобретает глубокое философское звучание, поскольку касается вопроса о сущности, происхождении и распространении жизни и разума во Вселенной. Одновременно появляются темы, которые подсказаны временем и которые в довоенной фантастике затрагивались и освещались по-иному. О людях и автоматах, о возможности возникновения в грядущем антагонизма человека и машины писали еще А. Толстой и К. Чапек. Но развитие кибернетики придало этой старой теме и актуальность, и новую окраску. Проблема «человек — машина» стала в нашей послевоенной фантастике одной из центральных, наряду с космической. В отличие от многих западных фантастов, наша литература утверждает оптимистические взгляды на будущее кибернетической техники, которая не должна вступить и не вступит в противоречие со своим создателем, не выйдет из-под его власти. Успехи биологии, биохимии, медицины открывают реальную перспективу избавления человечества от болезней, успешной борьбы со старостью и активного долголетия. Внимание фантастов привлекли также проблемы пространства и времени, психологические коллизии, которые могут возникнуть у людей будущего, и другие проблемы, специфичные для послевоенной эпохи бурного развития науки. Вместе с тем дальнейшей углубленной разработке подверглась тематика, характерная для предвоенных и первых послевоенных лет: будущее нашей планеты, пути завоевания Солнечной системы, необычайные путешествия — в недра Земли, в глубины Океана, фантазии о прошлом Земли, произведения о том, «что было бы, если бы…». Все это можно встретить на страницах современной фантастики. Много внимания уделялось встречам с необычайным — с загадочным в природе в самых разнообразных проявлениях, включая встречи с людьми из гипотетического антимира. Сохранилась, главным образом для детского читателя, и познавательная фантастика — рассказ или повесть, реже роман, а также очерк. Но теперь они уже не содержат столь детальных объяснений и описаний, а ограничиваются постановкой проблемы и показом ее в решенном виде. Выделилось и направление детской фантастической сказки. Но эти сказки строятся теперь на новейшем научном материале — например, из области физики, электроники, кибернетики. Появились и такие сказки, которые представляют собой своего рода социальные утопии для детей, сказочные путешествия. Фантастика проникла в различные литературные жанры. Это не только роман, рассказ, повесть, очерки, а и стихи, пьесы, киносценарии, юмор и сатира. Иногда фантастика как прием встречается в чисто реалистической прозе. В современной советской научно-фантастической литературе работает целый ряд писателей. Особенно много среди них молодых фантастов, начавших печататься в последнее десятилетие. Из авторов, пишущих для детей и молодежи, книги которых выпускались по преимуществу издательствами «Детская литература» и «Молодая гвардия», можно назвать А. и Б. Стругацких, Е. Емцева и Е. Парнова, Е. Войскунского и И. Лукодьянова, А. Днепрова, А. Громову, Г. Альтова, А. Полещука, С. Гансовского, В. Журавлеву и др. Первым крупным произведением братьев Стругацких, написанным для детей, был роман «Страна багровых туч» — начало цикла фантастики об освоении космоса. Некоторые из героев этого романа встречаются и в других произведениях Стругацких. От описания экспедиции на Венеру, содержащегося в романе «Страна багровых туч», а также приключений на других планетах в различных рассказах авторы затем переходят к углубленному показу человеческих характеров, взаимоотношений и поступков. Космос служит для них лишь фоном, позволяющим отчетливо изобразить становление и судьбы людей будущего. Герои Стругацких решают проблемы морально-этические и психологические, порой неожиданные, которые могут возникнуть в далекой космической эре. В дальнейшем Стругацкие создают произведения, посвященные грядущему, причем основное внимание, они опять-таки уделяют человеку, — «Далекая Радуга», «Полдень, XXII век», «Стажеры», «Трудно быть богом» и др. Немалое место в их творчестве занимает борьба с мещанством, индивидуализмом, пережитками прошлого. Пишут Стругацкие и сатирическую фантастику. Фантастические повести для детей написаны М. Емцевым и Е. Парновым. Затрагивая различные проблемы переднего края науки, они не только приоткрывают завесу будущего, но и ставят вопросы об ответственности ученого и судьбах открытия в мире, разделенном на два лагеря. Те же вопросы интересуют и А. Днепрова, который поднимает их в ряде произведений, в том числе в повестях и рассказах, вошедших в сборник «Пурпурная мумия», и А. Громову, выпустившую научно-фантастический роман «Поединок с собой» (издательство «Детская литература»). Встречам с необыкновенным посвящены рассказы С. Гансовского в сборнике «Шаги в неизвестное». В них автор описывает, какие неожиданности могут встретиться человеку в окружающем мире и как поведет он себя лицом к лицу с неведомым. Человек и космос, романтика открытий, подвиг во имя науки и блага людей, характеры космонавтов будущего, взаимоотношения человека и кибернетической машины — таковы некоторые линии в творчестве Г. Альтова и В. Журавлевой, чьи книги также выходили в издательстве «Детская литература». Человек и машина — одна из главных тем в творчестве И. Варшавского, написавшего за последние годы много научно-фантастических рассказов. И. Варшавский пишет также социальную, психологическую и юмористическую фантастику. Более подробный перечень произведений советских фантастов для детей и юношества дан в библиографическом списке. В библиографию включены произведения советской фантастики, выпущенные преимущественно за последние годы центральными детскими и молодежными издательствами, — книги отдельных авторов, сборники, альманахи, серии и библиотеки. Кроме того, в нее вошли некоторые книги довоенных и первых послевоенных лет, которые пользуются известностью до сих пор. Многие из них впоследствии переиздавались, что нашло отражение в библиографии; здесь указаны последние издания, но сказано и о других. Таким образом, наш библиографический список представляет собой основной фонд научно-фантастической и фантастической литературы для детей и молодежи, рекомендуемой любителям фантастики. Каждый из ранних этапов развития советской фантастики представлен вещами, выдержавшими испытание временем. И здесь указаны многие книги, которые сейчас можно встретить в библиотеках. В библиографии за 50 лет вы найдете романы, повести и рассказы А. Беляева, А. Толстого, В. Обручева, произведения К. Циолковского, впервые выходившие еще в двадцатые и тридцатые годы. Вы найдете также произведения Г. Адамова, А. Казанцева, С. Беляева, Г. Гребнева и других писателей, начинавших работать в фантастике до войны и продолжавших затем эту работу. В 1936–1939 годах в Детиздате выпускалась «Библиотека романов и повестей», а с 1939 года начала выходить «Библиотека приключений». В этой серии изданы были многие произведения советских фантастов. С 1943 года и по настоящее время выходит «Библиотека приключений и научной фантастики», в которой систематически печатаются романы, повести и рассказы советских фантастов, а также переводы произведений зарубежных авторов. Последнее десятилетие ознаменовано особенно бурным расцветом фантастики всех направлений, о чем мы говорили в обзоре. В библиографию вошли книги целого ряда авторов как старшего поколения, так и молодых. Их произведения печатались и в различных альманахах и сборниках, систематически выходящих теперь. Часть из этих сборников целиком посвящена фантастике («Фантастика», «НФ»), часть включает произведения фантастические и приключенческие («Мир приключений», «На суше и на море»); в этом случае охарактеризована только вошедшая в сборник фантастика. То же относится и к сериям («Библиотека приключений», «Библиотека приключений и научной фантастики», «Библиотека фантастики и путешествий»). Из «Библиотеки современной фантастики» взяты тома, включающие произведения советских авторов. К настоящему времени серийные издания включили очень большое количество романов, повестей и особенно рассказов. Поэтому отмечены лишь наиболее существенные особенности того или иного издания. Это относится и к сборникам произведений одного автора. Подробные обзоры новинок фантастики с 1961 по 1966 год были помещены в «Мире приключений» (№ 8, 11 и 13 под рубрикой «Любителям научной фантастики»). В этих обзорах кратко рассказано и о переводной литературе, которая также занимает свое место на нашей «книжной полке». Ведь советская фантастика — часть фантастики мировой, и знакомство с зарубежными новинками всегда представляет интерес для тех, кто следит за тем, что делается в Стране Фантазии. В послевоенные годы у нас издано много переводов классиков и современных авторов. Выпущены вновь собрания сочинений Ж. Верна и Г. Уэллса, переизданы фантастические произведения А. Конан-Дойля. Регулярно выходят книги в серии «Зарубежная фантастика» (издательство «Мир»), переводы издавались также издательствами «Знание», «Прогресс», «Детская литература». В сборниках и альманахах «НФ», «Черный столб», «Новая сигнальная», «В мире фантастики и приключений», «Эллинский секрет», «На суше и на море», «Лучший из миров» помещен ряд переводных произведений. Целиком посвящен зарубежной фантастике сборник «Современная зарубежная фантастика» (издательство «Молодая гвардия», 1964), а также «Научно-фантастические рассказы американских писателей» (издательство иностранной литературы, 1960). В «Библиотеке фантастики и путешествий в пяти томах» ей отведены два тома. В 1967 году закончен выпуск «Библиотеки современной фантастики в 15 томах»; из 15 томов 10 содержат произведения зарубежных авторов (Р. Бредбери, С. Лем. А. Кларк, А. Азимов, К. Чапек и др., а также антологии фантастической литературы Италии, Польши, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Японии, Англии и США). Переводы произведений зарубежных фантастов начали издаваться в Детгизе еще до войны. В серии «Б-ка романов и повестей» (1936–1939) и «Б-ка ф. и прикл.» (1946–1958) вышли романы Ж. Верна, А. Конан-Дойля, рассказы Г. Уэллса, М. Ренара, Э. По. Роман С. Лема «Магелланово облако» выпущен в серии «Б-ка прикл. и н. ф.» (1960 и 1963), а также во 2 издании подписной «Библиотеки приключений». Помимо центральных издательств, фантастику выпускают издательства республиканские, краевые и областные. Она выходит не только на русском языке, но и на языках народов СССР. Фантастика регулярно помещается на страницах периодической печати; из детских и юношеских журналов ее печатают «Техника — молодежи», «Знание — сила», «Вокруг света», «Искатель», «Юный техник», «Пионер», «Костер», «Уральский следопыт», альманах «Хочу все знать».
* * *
Библиотека приключений. М., Детгиз, 1956–1958. Из научной фантастики в б-ку вошли: Ефремов И. Звездные корабли. Т. 6. Обручев В. Плутония. Земля Санникова, Т. 11. Толстой А. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита. Т. 4. Библиотека приключений. М., «Дет. лит-ра». Начала выходить с 1966 года. 2 издание подписной 20-томной «Библиотеки приключений». Уже вышедшие из печати тома содержат следующие произведения фантастики: Грин А. Алые паруса. Бегущая по волнам. Золотая цепь. Т. I. Казанцев А. Пылающий остров, Т. 3. Библиотека советской фантастики. М., «Мол. гвардия». Выходит с 1967 года. Вышли из печати: Ефремов И. Сердце Змеи. Голец Подлунный. Озера Горных Духов. 1967. 144 стр. Львов А. Бульвар Целакантус. Повести и р-зы, 1967, 176 стр. Григорьев В. Аксиомы волшебной палочки. Н.-ф. р-зы. 1967, 160 стр. Биленкин Д. Марсианский прибой. Повести и р-зы. 1968, 288 стр. Библиотека современной фантастики, в 15 томах. М., «Мол. гвардия», 1965–1968. Из произведений советских авторов в б-ку вошли: Ефремов И. Звездные корабли. Туманность Андромеды. Т. 1. Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом. Понедельник начинается в субботу. Т. 7. Антология советской фантастики. Тт. 14 и 15. В 1 томе помещена статья Е. Брандиса и В. Дмитревского «Путешествие в Страну Фантастики»; в каждом томе имеется вступительная статья или послесловие, в 15 томе даны сведения об авторах рассказов, включенных в антологию. Библиотека фантастики и путешествий, в 5 томах. Приложение к журналу «Сельская молодежь». М., «Мол. гвардия», 1965. В библиотеку вошли следующие произведения советских фантастов: Громова А. Поединок с собой. Роман. Днепров А. Повести и р-зы. Альтов. Г. Р-зы. Варшавский И. Р-зы, Т. 1. Ефремов И. Сердце Змеи. Повесть. Стругацкий А., Стругацкий Б., Далекая Радуга. Повесть. Гансовский С. Шаги в неизвестное. Повесть. Новая сигнальная. Р-з. Биленкин Д. Р-зы. Григорьев В. Р-зы. Т. 3. Абрамов А., Абрамов С. Тень императора. М., «Дет. литра», 1967, 296 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Сборник содержит, кроме одноименного рассказа, повести «Хождение за три мира» и «Новый Аладдин», а также ряд других р-зов. Адамов Г. Победители недр. Н.-ф. роман. М.—Л., Детиздат, 1937. 320 стр. Адамов Г. Изгнание владыки. Роман. М.—Л., Детгиз, 1946, 596 стр. (Б-ка приключений). Адамов Г. Тайна двух океанов. М., Детиздат, 1960, 496 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Роман впервые вышел в 1939 году в «Б-ке приключений» Детиздата. Впоследствии многократно переиздавался. Он по мешен также в 18 томе «Б-ки приключений» Детгиза в 1959 году. Альтов Г. Легенды о звездных капитанах. Р-зы. М., Детгиз. 1961, 120 стр. В сборник вошел цикл «Легенды о звездных капитанах»: «Икар и Дедал», «Сверхновая Аретина», «Огненный Цветок», а также ряд других р-зов. Произведения Г. Альтова печатались в сборниках «Альфа Эридана», «В мире фант. и прикл.», «Золотой лотос», «Фантастика», «Эллинский секрет», «Янтарная комната», в альманахе «Мир приключений». Альтов Г. Опаляющий разум. Н.-ф. р-зы. М., «Дет. лит-ра», 1968, 208 стр. Содержание: Опаляющий разум. Клиника «Сапсан». Порт Каменных Бурь. Создан для бури. Шальная компания. Девять минут. Ослик и аксиома. Машина открытий. Альфа Эридана. Сборник н.-ф. р-зов. М., «Мол. гвардия», 1960, 208 стр. В сборник вошли р-зы А. и Б. Стругацких, Г. Альтова, В. Журавлевой, В. Савченко и др. Аматуни П. Г. Тайна Пито-Као. Фант, повесть. М., «Мол. гвардия», 1959, 207 стр. 1 часть трилогии. Полностью издана в Ростовском кн. изд-ве в 1962 и 1966 гг. Беляев А. Собрание сочинений в 8 томах. М., «Мол. гвардия», 1963–1964. В собрание сочинений вошли все наиболее значительные и получившие наибольшую популярность произведения А. Беляева: романы «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Продавец воздуха», «Подводные земледельцы», «Остров Погибших Кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Властелин мира», «Человек, потерявший лицо», «Человек, нашедший свое лицо», «Прыжок в ничто», «Звезда КЭЦ», «Воздушный корабль», «Лаборатория Дубльвэ», «Ариэль», а также киносценарий «Когда погаснет свет». 1 том содержит вводную статью (Б. Ляпунов, Р. Нудельман), 8 — рассказы, биографический очерк о Беляеве (О. Орлов) и библиографию его произведений (Б. Ляпунов). Беляев А. Остров Погибших Кораблей. Повести и р-зы. М., Детгиз, 1960, 672 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). В сборник вошли романы «Остров Погибших Кораблей», «Человек, потерявший лицо», «Подводные земледельцы» и «Продавец воздуха», а также рассказы «Хойти-Тойти», «Над бездной», «Светопреставление». Беляев С. Десятая планета. М.—Л., Детгиз, 1945, 72 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Антивоенный памфлет, содержание которого навеяно ужасами только что окончившейся войны с фашизмом. Беляев С. Приключения Самуэля Пингля. Н.-ф. роман. М., «Мол. гвардия», 1959, 296 стр. Впервые этот роман был опубликован в Детиздате в 1945 году. Брагин В. В Стране Дремучих Трав. Роман-сказка. М, «Дет. лит-ра». 1967. 303 стр. 1 издание романа выпущено Детгизом в 1948 году. Здесь указано 4 издание романа-сказки. В мире фантастики и приключений. Повести и р-зы. Л., Лениздат, 1959. В сборнике помещены рассказ И. Ефремова «Атолл Факаофо» и повесть А. Беляева «Звезда КЭЦ». В мире фантастики и приключений. Повести и р-зы Л Лениздат, 1963, 672 стр. Сборник, целиком посвященный фантастике (рассказы и повести И. Ефремова, И. Росоховатского, А. и Б. Стругацких, Г. Гуревича, Л. Лагина, И. Варшавского, А. Шалимова, Г. Альтова и В. Журавлевой). Помещена статья Е. Брандиса и В. Дмитревского «Мечта и наука». В мире фантастики и приключений. Повести и р-зы Л Лениздат, 1964, 712 стр. В сборник вошли: 1 книга романа В. Невинского «Под одним солнцем», повесть Г. Гора «Электронный Мельмот», а также повести и рассказы Г. Гуревича, А. и Б. Стругацких, В. Журавлевой, И. Варшавского, А. Шалимова, О. Ларионовой. В дальнейшем (с 1966 г.) сборники (с маркой «В мире фантастики и приключений») выходили под разными названиями. Варшавский И. Молекулярное кафе. Н.-ф. р-зы. Л., Лениздат, 1964, 256 стр. Сборник состоит из разделов: «Автоматы и люди», «Большой космос», «Секреты жанра». Варшавский И. Человек, который видел антимир. Н.-ф р-зы М., «Знание», 1965, 136 стр. В предисловии к сборнику, написанном Е. Брандисом и В. Дмитревским, содержится характеристика творчества писателя-фантаста И. Варшавского. Варшавский И. Солнце заходит в Дономаге. Фант. р-зы. М., «Мол. гвардия», 1966, 240 стр. Сборник состоит из разделов: «Вечные проблемы», «Дономага», «Фантастика в собственном соку». Произведения И. Варшавского печатались в сборниках «В мире фант. и прикл.», «Лучший из миров», «Новая сигнальная», «Фантастика», в альманахе «НФ». Вахта «Арамиса». Л., Лениздат, 1967, 472 стр. (В мире фант. и прикл.). В сборнике помещены: повесть О. Ларионовой «Вахта „Арамиса“», рассказы И. Варшавского, А. Шалимова, М. Владимирова, Д. Гранина. Сборник заключает статья Е. Брандиса и В. Дмитревского «Тема предупреждения в научной фантастике». Велтистов Е. «Электроник — мальчик из чемодана». Повесть-фантазия. 2 доп. изд. М., «Дет. лит-ра», 1968, 176 стр. Сказочная фантастика для детей среднего возраста. Велтистов Е. «Глоток Солнца». «Записки программиста» Марта Снегова. М., «Дет. лит-ра», 1967, 192 стр. Сокращенный вариант этой фант. повести напечатан в альманахе «Мир приключений», № 12. Владко В. «Аргонавты Вселенной». Н.-ф. роман. М., Трудрезервиздат., 1957, 542 стр. (Ф-ка и прикл.). Роман на русском языке впервые был опубликован в переводе с украинского в 1939 году в Ростове-на-Дону. Войскунский Е., Лукодьянов И. «Экипаж „Меконга“». М., «Дет. лит-ра», 1967, 528 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). «Книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах Вещества и о многих приключениях на суше и на море» — таков подзаголовок романа. Впервые он был выпущен в Детгизе в 1962 году. Перу этих авторов принадлежит также много рассказов и повестей, вошедших, в частности, в их сборник «На перекрестках времени» (М., «Знание», 1964), а также в сборниках «Фантастика», «Черный столб», альманахе «НФ». Вторжение в Персей. Сборник фантастики. Л., Лениздат, 1968, 472 стр. В сборнике напечатана 2 книга романа С. Снегова «Люди как боги» (1 книга — см. сб. «Эллинский секрет»). В разделе «У моря, где край земли…» — повесть Г. Гора «Имя», рассказы Г. Гора, А. Шалимова, О. Ларионовой. Сборнику предпослана статья Е. Брандиса и Вл. Дмитревского «Мир, каким мы хотим его видеть». Гансовский С. Шаги в неизвестное. Фант. повести и р-зы. М., Детгиз, 1963, 256 стр. Содержание сборника: «Шаги в неизвестное», «Миша Перышкин и Антимир», «Младший брат человека», «Стальная змея», «ПМ-150», «Голос», «Новая сигнальная», «Двое», «Хозяин бухты». Гансовский С. Шесть гениев. Н.-ф. повести и р-зы. М., «Знание», 1965, 238 стр. Помимо вошедших в сборник «Шаги в неизвестное» рассказов «Голос» и «Двое», в этом сборнике помещены повести «Шесть гениев», «Соприкосновение» и «День гнева». Произведения С. Гансовского печатались в альманахе «Мир приключений», «НФ», «Новая сигнальная». Гнедина Т. Последний день туготронов. Повести-сказки. М., «Мол. гвардия», 1964, 176 стр. Содержание: Последний день туготронов. Острова на кристаллах воображения. Гнедина Т. Беглец с чужим временем. Фант. повесть. М., «Мол. гвардия», 1968, 136 стр. Голубев Г. Огненный пояс. По следам ветра. Н.-ф. повести. Л., Гидрометеоиздат, 1966, 208 стр. Повесть «Огненный пояс» была впервые опубликована в 1965 году в журн. «Искатель» и вошла в сборник «Приключения» («Мол. гвардия», 1966). Повесть «По следам ветра» впервые вышла в 1963 году в изд-ве «Мол. гвардия». Гор Г. Кумби. Н.-ф. Повести. М., «Мол. гвардия», 1963, 272 стр. Г. Гор — автор многих фантастических произведений, адресованных взрослому читателю. В них затрагиваются философские, моральные и психологические проблемы будущего, проблемы пространства и времени и другие. Повести «Кумби» и «Странник и время» могут быть рекомендованы молодежи. Интересен также рассказ «Мальчик», помещенный в сборнике «Фантастика», 1965, вып. 2. Гребнев Г. Арктания. Фант. роман. М.—Л., Детиздат, 1938, 208 стр. Впервые роман был опубликован в журнале «Пионер» в 1937 году. Гребнев Г. Мир иной. В сборнике: Гребнев Г. Пропавшее сокровище. Мир иной. М., Детгиз, 1961, стр. 159–255 (Б-ка приключ. и н. ф.). Фантастическая повесть, рассказывающая о находке космического корабля инопланетян и полете на нем людей Земли. Грин А. Золотая цепь. Дорога никуда. Л., Детгиз, 1957, 391 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Грин А. Блистающий мир. Бегущая по волнам. Л., Детгиз, 1958, 360 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). А. С. Грину и его фантастике посвящена статья В. Дмитревского «В чем волшебство Александра Грина?» Громова А. Поединок с собой. Н.-ф. роман. М., Детгиз, 1963, 192 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Впервые роман был опубликован в журнале «Урал» в 1962 году. О романе (а также повести «Глеги») рассказано в обзоре «Любителям научной фантастики» («Мир приключений», № 11). Громова А. Мы одной крови — ты и я! М., «Дет. лит-ра», 1967, 239 стр. Повесть посвящена проблеме контакта между людьми и животными. А. Громовой написаны также фантастические повести «Глеги» и «В круге света» («Фантастика», 1962 и 1965). Губарев В. Необыкновенные путешествия. Повести-сказки. М., «Мол. гвардия», 1962, 224 стр. В сборник вошли: «Путешествие на Утреннюю Звезду», «Королевство кривых зеркал» и «Трое на острове». Губарев В. Часы веков. Повесть-сказка. М., «Малыш», 1965, 72 стр. Гуревич Г., Ясный Г. Человек-ракета. М.—Л., Детгиз, 1947, 80 стр. (Б-ка ф. и прикл.). В сборнике повесть «Человек-ракета» и рассказ «ЦНИИХРОТ-214». Гуревич Г. Подземная непогода. Н.-ф. повесть. М., Детгиз, 1956, 224 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Сокращенный вариант повести был опубликован в журнале «Знание — сила» в 1954/55 году. Гуревич Г. Прохождение Немезиды. Н.-ф. повесть и р-зы. М., «Мол. гвардия», 1961, 295 стр. (Ф-ка. Прикл. Путешествия). Содержание: Прохождение Немезиды. Инфра Дракона. Иней на пальмах. Гуревич Г. Пленники астероида. Н.-ф. повести и р-зы. М., «Дет. лит-ра», 1965, 270 стр. Содержание: Пленники астероида, Функция Шорина, Первый день творения, Мы — с переднего края, Ааст Ллун — архитектор неба. Г. Гуревич печатается с 1947 года. Большинство его произведений написано для детей и молодежи. Многие из них помещены в сборниках «Дорога в сто парсеков», «В мире фант. и прикл.», в альманахах «Мир приключений», «На суше и на море». Днепров А. Уравнения Максвелла. Сборник н.-ф. повестей и р-зов. М., «Мол. гвардия», 1960. 128 стр. Днепров А. Мир, в котором я исчез. Н.-ф. повести и р-зы. «Мол. гвардия», 1962, 104 стр. Днепров А. Формула бессмертия. Н.-ф. р-зы и повести. М., «Мол. гвардия», 1963, 160 стр. В сборник вошли: повесть «Глиняный бог» и «Формула бессмертия», а также рассказы «Лицом к стене», «Людвиг»; фантастические новеллы «Послесловие к Уэллсу». Днепров А. Пурпурная мумия. Повести и р-зы. М., «Дет. литра», 1965, 285 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). А. Днепров — автор многих научно-фантастических рассказов и повестей. Печатается с 1958 года. Первые его рассказы «Крабы идут по острову», «Суэма» вошли в числе других в его сборник «Пурпурная мумия». Произведения А. Днепрова печатались в сборниках «В мире фант. и прикл.», «Дорога в сто парсеков», «Золотой лотос», «Лучший из миров», «Фантастика», «Черный столб», в альманахах «Мир приключений» и «НФ». Долгушин Ю. Генератор чудес (ГЧ). М., «Дет. лит-ра», 1967, 518 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Роман печатался в журнале «Техника — молодежи» в 1939–1940 годах; отдельным изданием впервые вышел в 1959 году. Домбровский К. Остров неопытных физиков. М., «Дет. лит-ра», 1966, 192 стр. Приключенческо-фантастическая повесть, показывающая невозможность изменения объективных законов природы и построенная по принципу «Что было бы, если…». Дорога в сто парсеков. Н.-ф. повести и р-зы. М., «Мол. гвардия», 1959, 287 стр. В сборник вошли: повесть И. Ефремова «Сердце Змеи» и рассказы А. Днепрова, В. Журавлевой, В. Сапарина, Г. Гуревича, В. Савченко и др. Емцев М., Парнов Е. Последнее путешествие полковника Фосетта. Фант. — прикл. р-зы. М., «Мол. гвардия», 1965, 223 стр. В сборник вошли: повести «Последнее путешествие полковника Фосетта» и «Лоцман Кид», а также фантастические рассказы «Из глубины», «Снежок», «Фигуры на плоскости». Емцев М., Парнов Е. Зеленая креветка и другие рассказы. М., «Дет. лит-ра», 1966, 304 стр. Сборник содержит повесть «Бунт тридцати триллионов», (печаталась также в альманахе «НФ», вып. 1) и ряд рассказов. Емцев М., Парнов Е. Море Дирака. Фант. роман. М., «Мол. гвардия», 1967, 460 стр. (Ф-ка Прикл. Путешествия). Емцев М. и Парнов Е. — авторы многих научно-фантастических и фантастических произведений. Впервые начали печататься в 1962 году. Сокращенный вариант романа «Море Дирака» был помещен в альманахе «НФ», № 5, под названием «Черный ящик Цереры». Кроме того, произведения М. Емцева и Е. Парнова помещены в сборниках «Лучший из миров», «Фантастика», «Новая сигнальная», в альманахах «НФ» и «Мир приключений». Ефремов И. Великая Дуга. Повести и р-зы. М., «Мол. гвардия», 1956, 744 стр. (Б-ка н. ф. и прикл.). В сборник вошли научно-фантастические рассказы; они помещены и в сборниках И. Ефремова, выпущенных Детгизом: «Тень минувшего» (1945) «Звездные корабли» (1953) и «Озеро Горных Духов» (1954). В изд. «Мол. гвардия» вышли также сборники научно-фантастических рассказов И. Ефремова «Пять румбов» (1944), «Белый рог» (1945), «Рассказы» (1950). Ефремов И. На краю Ойкумены. Звездные корабли. М., Детгиз, 1959, 448 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). В сборнике помещена статья М. Лазарева «О творчестве И. А. Ефремова». Ефремов И. Туманность Андромеды. Роман. М., «Мол. гвардия», 1960, 352 стр. Ефремов И. Лезвие бритвы. Роман приключений. М., «Мол. гвардия», 1964, 640 стр. «Роман „Лезвие бритвы“ можно назвать экспериментальным в попытке отражения науки в жизни, — пишет в предисловии автор. — Цель романа — показать особенное значение познания психологической сущности человека в настоящее время для подготовки научной базы воспитания людей коммунистического общества». Ефремов И. Сердце Змеи. Сборник н.-ф. р-зов. М., «Дет. лит-ра», 1964, 368 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). В сборник вошли научно-фантастические рассказы: Встреча над Тускаророй. Озеро Горных Духов. Олгой-Хорхой. Белый рог. Бухта Радужных Струй. Обсерватория Нур-и-Дешт. Тень минувшего. Сердце Змеи. Журавлева В. Человек, создавший Атлантиду. Р-зы. М., Детгиз, 1963, 128 стр. В. Журавлева выступает с фантастическими произведениями с 1958 года. Ее рассказы печатались в сборниках «Альфа Эридана», «В мире фант. и прикл.», «Дорога в сто парсеков», «Золотой лотос». Забелин И. Загадки Хаирхана. Записки хроноскописта. М., «Сов. Россия», 1965, 304 стр. В сборник вошли: повести «Долина Четырех Крестов» (печаталась впервые в альманахе «На суше и на море», 1960), «Легенда о „земляных людях“», «Загадки Хаирхана». Забелин И. «Пояс жизни». Н.-ф. роман. М., «Знание», 1966, 272 стр. 1 издание романа вышло в 1960 году. «Золотой лотос». Фант. повести и р-зы. М., «Мол. гвардия», 1961, 240 стр. В сборник вошли: повесть Г. Альтова и В. Журавлевой «Баллада о звездах» и рассказы А. Днепрова, А. и Б. Стругацких, В. Сапарина и др. Каверин В. «Легкие шаги». В сборнике: Каверин В. «Три сказки и еще одна». М., Детгиз, 1963, стр. 123–157. Казанцев А. «Арктический мост». М., Детгиз, 1959, 533 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Казанцев А. «Внуки Марса». Н.-ф. повесть. М., Детгиз, 1963, 161 стр. А. П. Казанцев начал работать в научной фантастике еще до войны. Известность получил его первый роман — «Пылающий остров», неоднократно переиздававшийся. Казанцев написал целый ряд романов, повестей и рассказов. Здесь приведены его книги, изданные для детей за последнее десятилетие. Повесть «Внуки Марса» печаталась в альманахе «Мир приключений», № 7 (1962). Лагин Л. «Атавия Проксима». Фант. роман. М., «Мол. гвардия», 1956, 480 стр. (Б-ка н. ф. и прикл.). Лагин Л. «Старик Хоттабыч». Патент АВ. Остров Разочарования. М., «Сов. писатель», 1961, 780 стр. Лагин Л. «Голубой человек». М., «Сов. Россия», 1967, 319 стр. Л. Лагин, автор популярной детской сказки «Старик Хоттабыч», написал ряд фантастических романов, сатирических сказок и памфлетов. Здесь приведены последние издания его произведений. В сборниках «Фантастика. 1962 год», «В мире фант. и прикл.» (1963) напечатан памфлет «Майор Велл Эндью». Ларри Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали». М., Детгиз, 1960, 239 стр. Фантастическая сказка. Впервые вышла в Детиздате в 1937 году. Лукин Н. «Судьба открытия». Роман. Изд. переработанное. М., Детгиз, 1958, 534 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). 1-е издание романа вышло в 1951 году. «Лучший из миров». Сборник н-ф. р-зов, отмеченных на международном конкурсе фантастики. М., «Мол. гвардия», 1964, 256 стр. (Ф-ка и прикл.). В сборнике помещены рассказы советских фантастов Е. Войскунского и И. Лукодьянова, М. Емцева и Е. Парнова, А. Днепрова, С. Гансовского, И. Варшавского и др. Ляшенко М. «Человек-луч». Фант. роман. М., Детгиз, 1962. 286 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Роман печатался в альманахе «Мир приключений», № 4 (1959). Мартынов Г. «Каллисто». Н.-ф. роман. Л., Детгиз, 1962, 544 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Это издание включило в себя повести «Белый шар», «Гости Земли», «Каллисто» и «Каллистяне». Г. Мартынов создал ряд научно-фантастических произведений для детей. В Детгизе печатается с 1955 года (повесть «220 дней на звездолете»). Повесть «Сестра земли» помещена в альманахе «Мир приключений», № 5 (1959). Мартынов Г. «Гианея». Л., «Дет. лит-ра», 1965, 278 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Фант. роман, в котором рассказывается о встрече людей коммунистического общества Земли с представительницей человечества другой планетной системы. Мееров А. «Сиреневый кристалл. Записки Алексея Курбатова». Н.-ф. роман. М., «Мысль», 1965, 390 стр. Научно-фантастический роман, рассказывающий о находке на Земле следов иной, кремниевой жизни, существующей в другом космическом мире. Мелентьев В. «33-е марта». 2005 год. Фант. повесть. М., Детгиз, 1958, 165 стр. Мелентьев В. «Голубые люди Розовой Земли». Фант. повесть. М., «Дет. лит-ра», 1966, 256 стр. Повести-сказки для детей младшего и среднего возраста. «33-е марта. 2005 год» — фантастическое путешествие в будущее. Герои повести «Голубые люди Розовой Земли» совершают полет в космос вместе с прибывшими на Землю жителями другого мира.Мир приключений. Альманах. М., «Детгиз» («Детская лит-ра»).
№ 01 1955. № 06, 1961. № 11, 1965. № 02, 1956. № 07, 1962. № 12, 1966. № 03, 1957. № 08, 1962. № 13. 1967. № 04, 1959. № 09, 1963. № 05, 1959. № 10, 1964.В альманахе даются первые публикации романов, повестей и рассказов советских фантастов. В № 1—13 помещены следующие произведения: «Второе сердце» Г. Гуревича, «Человек-луч» М. Лященко, «Черные звезды» В. Савченко, «Сестра Земли» Г. Мартынова, «Внуки Марса» А. Казанцева, «Ошибка Алексея Алексеева» А. Полещука, «Благоустроенная планета» и «Должен жить» А. и Б. Стругацких, «Шаги в неизвестное», «Хозяин бухты» и другие рассказы С. Гансовского, «Made in…» и «В созвездии трапеции» Н. Томана, «Падение сверхновой», «Зеленая креветка» и другие рассказы М. Емцева и Е. Парнова, «Глиняный бог» А. Днепрова, «Виток истории» И. Росоховатского, «Хождение за три мира» А. и С. Абрамовых, «Глоток Солнца» (сокр. вариант) Е. Велтистова, а также рассказы молодых фантастов и фант. сказки К. Булычева. В № 8, 11 и 13 — обзоры Б. Ляпунова «Любителям научной фантастики».
На суше и на море. Повести. Р-зы. Очерки. (Путешествия. Прикл. Ф-ка). М., Географгиз, 1960, 1961, 1962, 1963; М., «Мысль», 1964, 1965, 1966. В альманахах опубликованы н.-ф. произведения И. Забелина, Г. Гуревича, В. Сапарина, И. Росоховатского и др. В альманахе 1961 года помещена статья Ж. Бержье «Советская научно-фантастическая литература глазами француза».
«НФ» Альманах научной фантастики. М., «Знание»,
Вып. 1, 1964, 328 стр. Вып. 5, 1966, 303 стр. Вып. 2, 1965, 296 стр. Вып. 6, 1967, 264 стр. Вып. 3, 1965, 280 стр. Вып. 7, 1967, 288 стр. Вып. 4, 1966, 368 стр.Альманах печатает новые произведения советских авторов. В вышедших из печати выпусках читатель найдет романы, повести и рассказы М. Емцева и Е. Парнова, Е. Войскунского и И. Лукодьянова, Г. Гора, Г. Гуревича, С. Гансовского, А. Днепрова, Г. Альтова, И. Варшавского, И. Росоховатского, О. Ларионовой, А. Шалимова, Л. Обуховой, А. Шарова. В альманахах систематически печатались первые произведения молодых фантастов. В вып. 1 помешена статья А. Громовой «Двойной лик грядущего», вып. 7 — И. Бестужева-Лады «Будущее человечества: утопии и прогнозы».
Невидимый свет. Сборник н.-ф. и прикл. р-зов. М., «Мол. гвардия», 1959, 192 стр. Сборник составлен из произведений довоенных лет. В него вошли рассказы А. Беляева «Невидимый свет», «Мистер Смех», Г. Гребнева «Невредимка», Э. Зеликовича «Опасное изобретение», М. Зуева-Ордынца «Панургово стадо». Немцов Вл. Три желания. Н.-ф. повести и р-зы. М., «Дет. литра», 1967, 590 стр. Первые научно-фантастические произведения Вл. Немцова появились вскоре после войны. В Детиздате в 1946 году вышел сборник «Шестое чувство». Для детей им были написаны повести «Золотое дно» (1949), «Тень под землей» и «Аппарат СЛ-1» (1954). Все они вошли в сборник «Три желания», в котором напечатана также повесть «Огненный шар». В Детгизе выходили сборники научно-фантастических рассказов и повестейВ. Немцова «Шестое чувство», «Тень под землей». Нечаев И. Белый карлик. Р-з. М.—Л., Детиздат, 1943, 55 стр. И. Нечаев, печатавшийся также под псевдонимом Н. Пан, — автор известной научно-популярной книги «Рассказы об элементах». Рассказ «Белый карлик» после войны перепечатан в журнале «Знание — сила» (1959). Новая сигнальная. Сборник н.-ф. повестей и р-зов. «Знание», 1963, 272 стр. В сборник вошли: повести А. и Б. Стругацких «Далекая Радуга», М. Емцева и Е. Парнова «Не оставляющий следа», рассказы И. Варшавского. Помещена статья Е. Брандиса и Вл. Дмитревского «Век нынешний и век грядущий». Ночь у мазара. Сборник н.-ф. и прикл. повестей, р-зов, очерков. Л., Детгиз, 1959. В сборнике помещен научно-фантастический рассказ А. Шалимова «Ночь у мазара».
Обручев В. А., Путешествия в прошлое и будущее. Н.-ф. произведения. М., «Наука», 1965, 243 стр. В этом сборнике помещены малоизвестные и неопубликованные ранее научно-фантастические произведения академика В. А. Обручева. Его популярные романы «Плутония» и «Земля Санникова» выходили в Детгизе в «Библиотеке приключений» (1958, т. 11). Охотников В. Наследники лаборанта Синявина. Повесть. М., Детгиз, 1957, 160 стр. В. Охотников написал ряд произведений, которые публиковались с 1947 по 1959 год. В Детгизе выходили, помимо повести «Наследники лаборанта Синявина», сборники повестей и рассказов «В мире исканий», «История одного взрыва».
Пальман В. Кратер Эршота. Фант. роман. М., Детгиз, 1958, 262 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). 2 дополненное издание романа вышло в Краснодарском кн. изд-ве в 1963 году. Пальмам В. Красное и зеленое. М., Детгиз, 1963, 248 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Фантастический роман «Вещество Ариль» выходил в 1961 году в Краснодарском кн. изд-ве. Планета туманов. Сборник н.-ф. повестей и р-зов. Л., «Дет. лит-ра», 1967, 384 стр. Сборник составлен из произведений А. Шалимова, О. Ларионовой, А. Шейкина, А. Томилина, А. Хлебникова и Л. Стекольникова. Платов Л. Повести о Ветлугине. М., «Мол. гвардия», 1957, 664 стр. Первые научно-фантастические произведения Л. Платова появились еще до войны. В этом сборнике помещена дилогия, состоящая из повестей «Архипелаг исчезающих островов» и «Страна Семи Трав». «Архипелаг исчезающих островов» выходил в Детгизе в 1952 году отдельным изданием (Б-ка н. ф. и прикл.). Полещук А. Ошибка Алексея Алексеева. Фант. повесть. М., «Мол. гвардия», 1961, 174 стр. Полещук А. Звездный человек. Фант. повесть. М., Детгиз, 1963, 224 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Полещук А. Великое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой. Фант. повесть. М., «Дет. лит-ра», 1965, 192 стр. А. Полещук пишет фантастику с 1957 года (роман «Звездный человек» был помещен впервые в журнале «Пионер»). Произведения А. Полещука печатались в сборниках «Фантастика», альманахе «Мир приключений» и выходили отдельными изданиями.
Рич В., Черненко М. Мушкетеры. Фант. повесть. М., «Дет. литра», 1964, 176 стр. В повести описаны события, связанные с поисками вымпела, доставленного когда-то на Землю жителями другой планеты. Росоховатский И. Виток истории. Сборник н.-ф. повестей и р-зов. М., «Дет. лит-ра», 1966, 223 стр. Сборник состоит из фантастической повести «На дальней» и ряда научно-фантастических рассказов. Помещен также сценарий-шутка «Виток истории». Произведения И. Росоховатского печатались также в сборниках «В мире фант. и прикл.», «Фантастика», в альманахах «Мир приключений» и «На суше и на море».
Савченко В. Черные звезды. Н.-ф. повесть. Р-зы. М., Детгиз, 1960, 248 стр. Повесть «Черные звезды» печаталась в альманахе «Мир приключений», № 4 (1959). Савченко В. Открытие себя. Н.-ф. роман. М., «Мол. гвардия», 1967, 348 стр. В. Савченко начал выступать с научно-фантастическими произведениями с 1955 года, когда в журнале «Знание — сила» появился его рассказ «Навстречу звездам» (в сборнике «Черные звезды» он опубликован под названием «Где Вы, Ильин?»). В сборник вошли также одноименная повесть и рассказы. В сборниках «Фантастика» помещены его повесть «Алгоритм успеха» (1964) и пьеса «Новое оружие» (1966, вып. 1). Сапарин В. Суд над Танталусом. Н.-ф. р-зы. М., «Мол. гвардия», 1962, 224 стр. В. Сапарин — автор ряда научно-фантастических повестей и рассказов. Печатается с 1946 года. В Детгизе выходил рассказ В. Сапарина «Исчезновение инженера Боброва» (1949). Светов А. «Веточкины путешествуют в будущее». Повесть-сказка. М., «Мол. гвардия», 1963, 120 стр. Стругацкий А., Стругацкий Б. «Путь на Амальтею». Н.-ф. повесть и р-зы. М., «Мол. гвардия», 1960, 114 стр. Помимо повести «Путь на Амальтею», сборник содержит рассказы «Почти такие же», «Ночь в пустыне» и «Чрезвычайное происшествие». Стругацкий А., Стругацкий Б. «Страна багровых» туч. Н.-ф. повесть. М., Детгиз, 1960, 296 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Первое крупное произведение братьев Стругацких, написанное для детей. Стругацкий А., Стругацкий Б.«Шесть спичек». Н.-ф. р-зы. М., Детгиз, 1960, 208 стр. Стругацкий А., Стругацкий Б. «Стажеры». Н.-ф. повесть. М., «Мол. гвардия», 1962, 256 стр. Стругацкий А., Стругацкий Б. «Далекая Радуга. Фант. повесть. М., «Мол. гвардия», 1964, 336 стр. В сборнике две повести: «Далекая Радуга» и «Трудно быть богом». Стругацкий А., Стругацкий Б. «Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста». М., «Дет. лит-ра», 1965, 224 стр. Стругацкий А., Стругацкий Б. «Полдень, XXII век. (Возвращение)». М., «Дет. лит-ра», 1967, 319 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Первым научно-фантастическим произведением А. и Б. Стругацких был рассказ «Извне» («Техника — молодежи», 1958), переработанный затем в повесть. О многих произведениях А. и Б. Стругацких рассказано в обзорах «Любителям научной фантастики» («Мир приключений», № 8, 11, 13). Произведения А. и Б. Стругацких печатались в сборниках «Альфа Эридана», «В мире фант. и прикл.», «Дорога в сто парсеков», «Золотой лотос», «Фантастика», «Новая сигнальная», «Эллинский секрет», «Янтарная комната», в альманахе «Мир приключений». Толстой А. Гиперболоид инженера Гарина, Аэлита. М., Детгиз, 1963, 447 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Трублаини Н. Глубинный путь. Н.-ф. роман. В кн.: Трублаини Н. «Лахтак». Глубинный путь. М., Детгиз, 1960, стр. 223–503 (Б-ка прикл. и н. ф.). Н. Трублаини — украинский писатель, автор приключенческих и научно-фантастических произведений. Роман «Глубинный путь» печатается в переводе с украинского языка. Томан Н. Говорит Космос!.. М., Детгиз, 1961, 192 стр. Содержание: Девушка с планеты Эффа. Говорит Космос!.. Катастрофы не будет, если… Томан Н. В созвездии трапеции. Фант. повесть, М., «Дет. лит-ра», 1964, 173 стр. Н. Томан — автор многих приключенческих произведений. Он пишет также фантастико-приключенческие повести. С фантастикой впервые выступил в 1939 году (повести «Мимикрии доктора Ильичева» и «Чудесный гибрид»). Тушкан Г. Разведчики зеленой страны. Повесть. М.—Л., Детгиз, 1950, 543 стр. (Б-ка н. ф. и прикл.). Фантастическая повесть, посвященная проблемам биологии. Тушкан Г. Черный смерч. М.—Л., Детгиз, 1954, 648 стр. (Б-ка н. ф. и прикл.). Приключенческо-фантастический роман-предупреждение.
Фантастика. Сборники. «Мол. гвардия». 1962 г. — 480 стр. 1963 г. — 368 стр. 1964 г. — 368 стр. 1965 г. — Вып. 1 — 288 стр.; вып. II — 360 стр.; вып. III — 224 стр. 1966 г. — Вып. 1 — 416 стр.; вып. 2 — 240 стр.; вып. 3 — 384 стр. 1967 г. — 416 стр. В сборниках напечатаны следующие крупные произведения: «Странник и время» и «Мальчик» Г. Гора, «Попытка к бегству» и «Суета вокруг дивана» А. и Б. Стругацких, «Глеги» и «В круге света» А. Громовой, «Майор Велл Эндью» Л. Лагина, «Уравнение с Бледного Нептуна» и «Последняя дверь!» М. Емцева и Е. Парнова, «Черный столб» и «Сумерки на планете Бюр» Е. Войскунского и И. Лукодьянова, «Я иду встречать брата» В. Крапивина, «Алгоритм успеха» и «Новое оружие» (пьеса) В. Савченко, «Чудовище подводного каньона» В. Сапарина, «Десант на Меркурий» Д. Биленкина, «Башня Мозга» и «Финансист на четвереньках» 3. Юрьева, а также рассказы А. Днепрова, А. и Б. Стругацких, И. Варшавского, М. Емцева и Е. Парнова, А. Полещука, Г. Альтова, Е. Войскунского и И. Лукодьянова, И. Росоховатского и др. В альманахе систематически помещались рассказы молодых писателей-фантастов. Им, например, целиком посвящен выпуск 1967 г. В сборнике 1962 года напечатана статья И. Ефремова «Наука и научная фантастика», 1966 (вып. 3), Р. Нудельмана «Фантастика, рожденная революцией». В сборниках 1965 (вып. 1) и 1966 годов (вып. 3) — регистрационный библиографический указатель фантастики, изданной в Советском Союзе в 1963–1965 годах.
Циолковский К. Э. Путь к звездам. Сборник н.-ф. произведений. М., изд-во Акад. наук СССР, 1961, 353 стр. В сборник вошли: повести «На Луне» и «Вне Земли», очерки «Грезы о Земле и небе» и другие н.-ф. произведения К. Э. Циолковского.
Черный столб. Сборник н.-ф. повестей и р-зов. М., «Знание», 1963, 296 стр. Сборник содержит: повесть Е. Войскунского и И. Лукодьянова «Черный столб», р-зы А. Днепрова, И. Миронова, фант. памфлет В. Сафонова «Пришествие и гибель Собственника». Помещена статья С. Ларина «Пафос современной фантастики».
Шагинян М. (Джим Доллар). Месс-Менд, или Янки в Петрограде. Роман-сказка. М., Детгиз, 1956, 351 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). 1 издание этого фантастического сатирического романа вышло в 1924 году. Читатель найдет в издании 1956 года статью М. Шагинян «Как я писала „Месс-Менд“». Шалимов А. «Тайна Гремящей расщелины». Н.-ф. р-зы и повести. Л., Детгиз, 1962, 288 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Содержание: Тайна Гремящей расщелины. Охотники за динозаврами. Призраки Белого континента. Беглец. Шалимов А. «Когда молчат экраны». Н.-ф. повести и р-зы. Л., «Дет. лит-ра», 1965, 208 стр. (Б-ка прикл. и н. ф.). Содержание: Цена бессмертия. Стажировка. Концентратор гравитации. Когда молчат экраны. Пленник кратера Арзахель. Произведения А. Шалимова печатались в сборниках «В мире фант. и прикл.», «Янтарная комната», «Вахта „Арамиса“», «Вторжение в Персей», «Планета туманов», в альманахе «НФ». Шалимов Л. «Тайна Тускароры. Призраки ледяной пустыни». Л., Гидрометеоиздат, 1967, 266 стр. (Н. ф. и прикл.). «Тайна Тускароры» — фантастико-приключенческая повесть. Фантастическая повесть «Призраки ледяной пустыни» под названием «Призраки Белого континента» опубликована в сборнике «Тайна Гремящей расщелины». «Эллинский секрет». Лениздат. 1966, 518 стр. (В мире фант. и прикл.). В сборнике помещены: 1 книга фантастического романа С. Снегова «Люди как боги», а также рассказы И. Ефремова («Эллинский секрет»), Г. Гора, Л. Борисова и Г. Альтова.
«Янтарная комната». Сборник н.-ф. и прикл. повестей и р-зов. Л., Детгиз, 1961. В сборнике помещены следующие научно-фантастические рассказы: Журавлева В. «Урания». «„Орленок“ не вернется», Альтов Г. «Полигон „Звездная река“», Шалимов А. «Музей Атлантиды», Гансовский С. «Гость из каменного века», Стругацкий А., Стругацкий Б. «Свечи перед пультом».
Научной фантастике посвящены книги, брошюры и статьи (в изданиях Дома детской книги, издательства «Детская литература», 1958–1968): Андреев К. Книги о будущем обществе. В сб. «Детская литература. 1960 год». М., Детгиз, 1961, стр. 33–57. Брандис Е. П. Советский научно-фантастический роман. Л., 1959, 48 стр. (Об-во «Знание»). Брандис Е., Дмитревский В. Через горы времени. Очерк творчества И. Ефремова. М.—Л., «Сов. писатель», 1963, 200 стр. Брандис Е., Дмитревский В. Мир будущего в научной фантастике. М., «Знание», 1965, 48 стр. Гуревич Г. Карта Страны Фантазий. М., «Искусство», 1967, 182 стр. Коммунистическое воспитание и современная литература для детей и юношества. М., Детгиз, 1961 (есть материалы о фантастике). Ларин С. Литературы крылатой мечты. М., «Знание», 1961, 48 стр. Ляпунов Б. Литература о будущем. У истоков советской научной фантастики для детей и юношества. В сб. «Детская литература», 1962 год. Вып. 1. М., Детгиз, 1962, стр. 116–146. Ляпунов Б. Любителям научной фантастики. В альманахе «Мир приключений», № 8. М., Детгиз, 1962, стр. 291–294; «Мир приключений», № 11. М., «Дет. лит-ра», 1965, стр. 769–783; № 13. М., «Дет. лит-ра», 1967, стр. 626–638. Ляпунов Б. В. Александр Беляев. Критико-биографический очерк. М., «Сов. писатель», 1967, 160 стр. В изд-ве «Книга» готовится к печати книга Б. Ляпунова «В мире фантастики». О фантастике и приключениях. О литературе для детей. Вып. 5, Л., Детгиз, 1960. Обсуждаем вопросы научной фантастики. В кн. О литературе для детей. Вып. 10. Л., «Дет. лит-ра», 1965, стр. 112–214. Рюриков Ю. Через 100 и 1000 лет. Человек будущего и советская художественная фантастика. М., «Искусство», 1961, 112 стр.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1969 Без номера
К. Домбровский СЕРЫЕ МУРАВЬИ
1948 год. 19 июня. 17 часов 59 минут 51 секунда.— Девять... Восемь... Семь... Шесть... Пять... Четыре... Три... Две... Одна... Зиро! Лейтенант Григ нажал кнопку. Четко чиркнуло реле. Электрический импульс промчался со скоростью света по лабиринту проводов, заставил сработать другие реле и где-то далеко привел в действие механизм взрывателя. — Одна... Две... Три... Четыре... Пять... Шесть... Три человека — двое в военном и один в штатском — внимательно следили за пером сейсмографа, которое чертило пока еще ровную, едва колеблющуюся линию. Четвертый, военный, не спуская глаз с большого хронометра, вел счет секундам: — Четырнадцать... Пятнадцать... Шестнадцать... В бетонном бункере, где находились эти люди, стояла та напряженная тишина, которая обычно сопутствует последним секундам перед завершением опыта. Слышно было только гудение приборов, тикание хронометра и отсчет времени. — Двадцать семь... Двадцать восемь... В пустынной части штата Невада в недрах земли стремительно распространялась ударная волна ядерного взрыва. Гигантским невидимым кольцом разбегалась она во все стороны, подобно волнам на поверхности пруда, в который от нечего делать бросили камень. Пустыня молчала. На многие мили вокруг не было ни одного города, ни одного ранчо. Здесь не пролегали автомобильные дороги, не было мотелей и кемпингов. Ни одна река не вытекала за пределы этой выжженной солнцем котловины. — Сорок шесть... Сорок семь... Перо сейсмографа сделало первый робкий скачок и затем в бешеной пляске заметалось по белой разграфленной ленте прибора. Стены бункера дрогнули. Тонко зазвенели незакрепленные детали аппаратуры, стаканы на столе и пустые жестянки от пива. — Ага! — удовлетворенно сказал старший военный. — Сработала! А почему на сорок седьмой секунде? По вашим расчетам, доктор, ударная волна должна была прийти только через пятьдесят секунд? — Должно быть, геологи что-нибудь напутали... Но сила взрыва очень большая... Человек в штатском взял со стола логарифмическую линейку и занялся вычислениями, поглядывая время от времени на ленту сейсмографа. — Представляю себе, что сейчас творится под землей... — сказал лейтенант Григ. — Этого никто не может представить, — ответил военный в форме майора инженерных войск. — Свет... Пыль... Грандиозный сгусток энергии, которая не может найти выхода... Это, должно быть, намного страшнее нашей фантазии... Откройте, пожалуйста, еще банку пива, здесь ужасно жарко... Ну что там у вас получается, доктор? — Я заканчиваю, коллега... — ответил человек в штатском. — Конечно, это пока только самое грубое приближение... Полные результаты будут завтра...
Глубоко под землей, на дне засыпанной шахты, бушевало облако раскаленных газов — безумное солнце, запертое людьми. Клубок ослепительного света полыхал в черноте подземелья. Кипели камни. Скалистые холмы, в недрах которых рвались на свободу взбудораженные ядерные силы, содрогались от мощных ударов, словно под землей дрались пьяные боги. Дымилась почва, крошились камни и дрожали утесы, миллионы лет простоявшие в неподвижности. Подземные воды, обращенные в пар, сжатые чудовищным давлением, насыщенные губительной радиоактивностью, напрасно метались в глубоких гротах, отыскивая выход. Адское месиво из пыли и света, из разодранных в клочья атомных ядер, вспыхнув космическим заревом, постепенно угасало в недрах земли. Ударная волна за несколько минут пересекла материк Северной Америки. Где-то слабо звякнули стекла, где-то подернулась рябью спокойная гладь воды; в богатом доме задрожали хрустальные подвески на старинной люстре. На автомобильном заводе в Детройте едва ощутимо вздрогнула прецизионная машина, контролирующая стальные ролики для подшипников передних колес автомобилей «плимут». На долю секунды нарушился идеальный ритм работы, и в готовую продукцию попал единственный ролик, имеющий ничтожный дефект. Этот ролик будет работать в подшипнике автомобиля, совершит много миллионов оборотов, но рано или поздно, может быть через десятки лет, незначительный дефект неизбежно приведет к аварии. Ударная волна вышла за пределы Американского материка. Пугая бледных глубоководных рыб, она прокатилась по дну Атлантического океана, заставила вздрогнуть меловые утесы на побережье Англии, раскачала стрелки приборов на сейсмических станциях Швеции, Советского Союза, Индии и Японии. Где-то в глубинах Тихого океана она столкнулась со встречной волной, идущей на запад, и когда, завершая свой путь вокруг земного шара, истратив начальную энергию, ударная волна вернулась в пустыню штата Невада, она была уже так слаба, что у нее не хватило силы даже едва пошевелить перо сейсмографа. Для чего это было сделано? Ни один из тех людей, кто находился в душном, заставленном приборами бункере, ни один из тех, кто послал их сюда, не смог бы исчерпывающе ответить на этот вопрос. Некоторые, вероятно, руководствовались просто любопытством. Ученым всегда хочется узнать, что получится в результате нажима кнопки. Некоторым важно было всего лишь проверить правильность своих расчетов, и часто они мало задумываются над последствиями. Так мальчишка подносит горящую спичку к бочке из-под бензина для того, чтобы посмотреть, взорвется или не взорвется, не понимая, что, если взорвется, он едва ли успеет об этом узнать. Другими руководил страх, опасение, что нечто подобное, а может быть и более страшное, сумеет сделать кто-то другой и вырвет у них из рук славу первооткрывателей. Честолюбивое желание быть первым, чего бы это ни стоило, многих людей привело к преждевременной гибели...
После ядерного взрыва под землей осталась глубокая трещина, заполненная радиоактивной пылью. Сдвинутые взрывом пласты твердой породы постепенно осели. Подземные воды прорыли новые пути, заполнили пустоты и образовали в трещинах небольшие озера. Вода в них смешивалась с радиоактивной пылью и сама становилась источником излучения. Постепенно скопившаяся вода просачивалась в рыхлые породы, стекала по склонам тяжелых древних пластов и в конце концов превратилась в подземный ручей, который после многих блужданий в недрах земли пробился на поверхность. В лесу на небольшой поляне образовалось крошечное озерцо, питавшееся источником радиоактивной воды. Вода в нем была чистая, холодная, кристально прозрачная и совершенно неподвижная. Это была мертвая вода. Казалось, ничто живое не могло выдержать той смертельной дозы радиации, которую нес в себе подземный ручей. Кусты и травы, что обычно растут по берегам озер, отступили в глубь леса. Многие из них пожелтели и зачахли, но некоторые, наоборот, расцвели пышным цветом. Лесные птицы и звери перестали ходить сюда на водопой, инстинктивно чувствуя безжизненность этого места. Только пауки не боялись цеплять паутину к сухим кустам, да большой старый муравейник у самого берега озера продолжал жить своей жизнью. Муравьи, как и прежде, суетливо таскали иглы хвои, прокладывали дороги и строили подземные галереи. Невидимая, неощутимая радиация, распространяемая водой, не погубила муравьев. Первый год муравейник болел, одно время он даже мог бы показаться заброшенным, но уже на следующую весну ожил: новые поколения муравьев все лучше приспосабливались к повышенной радиации, среди них даже появились более крупные и сильные, более энергичные и жизнеспособные.
Проходили годы. Прошло много лет. Земля неутомимо вертелась вокруг Солнца. Радиоактивность подземного источника медленно спадала в точном соответствии с законами физики. Муравьи плодились и развивались. На месте одного муравейника выросла целая колония, живущая по своим, непонятным людям правилам. Те, кто произвел подземный атомный взрыв, ничего об этом не знали и не хотели знать. Одни из них умерли, другие вышли в отставку и благоденствовали в своих комфортабельных электрифицированных скорлупках. Лейтенант Роб Григ сперва был майором Робертом Григом, потом полковником Григом, потом его стали называть Робертом Григом-старшим, а затем, когда Роб Григ-младший научился управлять автомобилем и пить виски, полковника стали называть просто «стариком Григом». Люди рождались и умирали. Набирали силу новые поколения, и забывалось старое. Сменялись на континенте президенты и правительства. Разгорались и утихали страсти предвыборных кампаний. Менялись моды, танцы и увлечения. Люди смеялись и плакали, боролись, падали и поднимались, обманывали, спорили, терпели поражения, изобретали новое, любили, голодали, прокладывали дороги, строили города, просиживали вечера у экранов своих телевизоров, ездили на пикники, покупали усовершенствованные машинки для стрижки газонов, орали на стадионах, жевали резинку и считали, что земной шар мчится в мировом пространстве только для них.
2
Семидесятые годы нашего века. 23 июня. 16 часов 35 минут.— Меня укусил муравей! — сказала женщина. В лесу играло радио. Большая белая машина стояла в тени деревьев на краю поляны, уткнувшись фарами в кусты можжевельника. Радио играло совсем тихо только для того, чтобы нарушать естественную тишину леса. Светило солнце, и в воздухе пахло разогретой смолой и хвоей. На зеленой траве ярким пятном выделялся красный шотландский плед, на котором лежала женщина. — Роб, ты слышишь, меня укусил за ногу огромный муравей! — повторила Мэрджори Нерст. Роберт Григ-младший захлопнул багажник и отошел от машины, держа в руках начатую бутылку виски и два пластмассовых стаканчика. — Это ничего, Мэджи, выпей, и все пройдет! Куда он тебя укусил? — Сюда, в ногу. Очень больно. Надо высосать ранку. На коже виднелось крошечное красное пятнышко. Роб Григ, все еще держа бутылку, наклонился к ранке. — Поставь бутылку! Неужели ты не понимаешь: надо выдавить немножко крови и высосать ранку, чтобы в ней совсем не осталось яда. Так всегда делают. Роберт Григ-младший поставил бутылку на землю, но она покачнулась и упала. Немного виски пролилось на траву. Григ выругался и снова поставил бутылку, сильно вдавив ее в землю. — Долго я буду ждать, Роберт? — спросила Мэдж. — Сейчас. Мэджи. Роб Григ так старательно выполнил приказание, что на ноге образовалось большое красное пятно. — Осторожно, Роб, нельзя же так! Останется синяк! — Ничего, через день все пройдет. — Роб Григ сплюнул кровь и потянулся за бутылкой. — А, черт! — Он хлопнул себя по руке, смахивая муравья. Второй муравей укусил его в шею немного ниже правого уха. — Что, и тебя укусили? Очень рада! Ну и местечко ты выбрал сегодня! В машине зазвонил телефон. — Это тебя? Григ махнул рукой и налил виски. — Не подходи, это старик. Я обещал вернуться к шести. У нас еще много времени. — Он выкинул из стаканчика заползшего туда муравья, выпил и растянулся на пледе. Лежа на спине, он смотрел, как медленно плывут облака над вершинами деревьев. Мэрджори встала и подошла к машине. — Я хочу позвонить домой. Пожалуй, надо предупредить, что я опоздаю к обеду. Клайв должен скоро вернуться. Машина приятно пахла кожей и свежей краской. Мэдж взялась, за телефонную трубку, чтобы позвонить матери, но в последнюю минуту передумала и набрала номер подруги.
3
23 июня. 17 часов 10 минут.— Мэрджори дома? — спросил Клайв Нерст, вешая шляпу. — Нет, она поехала к подруге. У нас сегодня к обеду шпинат. Вы любите шпинат? — Шпинат?.. Я люблю шпинат... А где Мэдж? А, да, вы сказали, она у портнихи... — А я очень люблю шпинат, — повторила миссис Бидл, провожая зятя неодобрительным взглядом. — Особенно в это время года, когда он совсем молодой. Ранний, парниковый, и более поздний бывают не так вкусны... Сейчас это сплошные витамины... Мэджи, наверно, скоро придет. Я оставлю для нее шпинат на кухне. Конечно, это будет уже совсем не то, но она сама виновата... Доктор Нерст, не дослушав конца объяснений миссис Бидл, поднялся по внутренней лестнице в свой кабинет. В наш век развитой техники остается все меньше таких отраслей научной деятельности, которыми человек может заниматься у себя дома, не имея сложной аппаратуры и штата помощников. Дольше других держались математики. Казалось бы, мир чисел, мир абстрактных понятий и логических связей никогда не потребует иного экспериментального оборудования, кроме карандаша и бумаги. Но теперь и математики все чаще прибегают к электронике и вычислительным машинам, на которых они ставят свои математические эксперименты. Доктор Нерст был энтомолог. Затянувшееся детское увлечение жуками, бабочками и стрекозами стало его основной профессией. Многие люди, кроме работы, дающей средства к жизни, имеют второе, иногда тайное, иногда явное призвание. Врач может быть в душе музыкантом, сапожник — художником, а художник — охотником. Доктор Нерст принадлежал к тем счастливым и цельным натурам, для которых все интересы заключены в одной области. Энтомология — наука о насекомых — одна из тех отраслей знания, которыми в наше время еще можно кое-как заниматься у себя дома. Может быть, все дело в том, что насекомые имеют подходящие для этого размеры. Они не слишком велики и не слишком малы. Это не дельфины, которым нужны бассейны с морской водой, но и не атомы, для исследования которых необходимы уже такие гигантские установки, что их невозможно охватить одним взглядом. С насекомыми дело обстоит проще. На столе у доктора Нерста стоял хороший микроскоп, а за стеклами книжных шкафов были расставлены витрины с наколотыми в них бабочками и жуками, собранными Нерстом во время путешествий в Бразилию и Центральную Африку. В последние годы доктор Нерст работал главным образом над исследованием проблемы биологической радиосвязи у насекомых. Этот вопрос вызывал оживленные споры в узком кругу специалистов. Собственно говоря, даже сам факт существования радиосвязи или другого механизма дистанционной передачи информации многими подвергался сомнению, а некоторыми вообще отрицался. Те же, кто соглашался в принципе, требовали экспериментальных доказательств. Прочное положение в тихом провинциальном университете, нет, прочное — это неверно, просто довольно устойчивое положение давало доктору Нерсту возможность спокойно заниматься своими исследованиями, пока они не требовали слишком больших затрат. Сейчас он заканчивал статью, в которой описывались результаты серии опытов по изучению одного вида ночных бабочек и излагались некоторые мысли, возникшие в этой связи, своей статье Нерст отстаивал принципиальную возможность существования у бабочек радиосвязи на ультракоротких волнах и высказывал некоторые предположения о возможном механизме этой связи. Доктор Нерст подошел к столу и снял прозрачный пластиковый чехол с пишущей машинки. В каретке оставался незаконченный лист рукописи. Доктор Нерст секунду поколебался, взвешивая, стоит ли садиться за работу сейчас, еще до обеда, но, прочтя последнюю фразу рукописи, такую длинную и запутанную, что ее необходимо было переделать, он придвинул к столу кресло и принялся за работу.
4
23 июня. 17 часов 13 минут.— ...Джен, миленькая, значит, ты не забудешь? Если он или мама позвонят, скажешь, что я была у тебя и только что вышла. Не забудешь?.. Ну, привет. Чао, моя дорогая... Мэдж кончила говорить по телефону и положила трубку. Она автоматически взглянула в автомобильное зеркальце и поправила свои темные волосы так, чтобы они не закрывали сережек. — Роб, ты спишь? Может быть, мы поедем? Григ не ответил. Он лежал совершенно неподвижно, откинувшись на спину, в той же позе, в которой его оставила Мэдж. В неестественно вытаращенных глазах отражались облака, которые плыли над лесом. — Роб, ты меня слышишь? Роб? Мэрджори еще никогда не приходилось видеть мертвого человека так близко. Она даже не сразу поняла, что он мертв. Это было так неожиданно, что никак не укладывалось в сознании. Сперва она попыталась его тормошить, думая, что он пьян или просто притворяется, но первое же прикосновение заставило ее довольно громко взвизгнуть от чувства панического ужаса. Мэдж заметалась по поляне, подбежала к машине, зачем-то схватила сумочку, которая лежала на сиденье, бросила ее обратно, еще раз попыталась поднять тело, но сразу же отпустила его, и голова глухо ударилась о землю. Мэдж выпрямилась и отошла в сторону, пытаясь собраться с мыслями. В траве валялась начатая бутылка виски и розовый пластмассовый стаканчик. В бутылке ползали большие серые муравьи. Мэдж, брезгливо морщась, осторожно налила виски, стараясь, чтобы в стакан не попали муравьи, и залпом выпила. Виски обожгло рот, и Мэдж вздрогнула. Она швырнула стаканчик и, подойдя к машине, присела, облокотившись о раскрытую дверцу. Все происшедшее представлялось ей настолько нелепым, что она никак не могла привести себя в рамки привычного поведения. «Что полагается делать в таких случаях? Осмотреть труп?» Мэдж встала и осторожно обошла тело. На нем не было никаких ран, никаких повреждений, ничего, что могло бы послужить причиной смерти. Просто человек, который полчаса назад был живой, теплый, ласковый и веселый, сейчас лежал неподвижный, мертвый. Мэдж захотелось плакать, кричать, но так как ее все равно никто не мог видеть, она подавила чувство растерянности и, со свойственной женщинам ее склада практичностью, стала обдумывать положение: «Позвать на помощь? Вызвать доктора? Но ведь он уже совсем мертвый...» Ей опять стало страшно и очень захотелось кричать. Никто не знает, что она поехала вдвоем с Григом... Позвать на помощь? Придут люди. Начнутся вопросы, надо будет давать объяснения, рассказывать, как и зачем она здесь очутилась. Как будто это и так не понятно! Газеты. Скандал. «Супруга доктора Нерста отравила в лесу сына полковника Грига». Они, конечно, придумают историю с отравлением или что-нибудь в этом роде, лишь бы раздуть сенсацию... Опять ей стало очень жалко себя и захотелось кричать... Никто не знает, что она здесь... Никто не знает, что она поехала сегодня с Григом за город... Их могли видеть в машине вдвоем у бензоколонки, когда они брали бензин. Отсюда до шоссе не больше десяти минут ходьбы. Можно сесть в попутную машину, надо будет выбрать какую-нибудь дальнюю, транзитную, не из нашего штата. Ее подвезут до города и уедут дальше... Или... можно поехать на его машине и бросить ее где-нибудь на улице. Но это сразу направит полицию на поиски того, кто пригнал машину... Полиция... Мэдж никогда не имела дела с полицией. Нет, во что бы то ни стало нужно сделать так, чтобы не быть замешанной в это дело. В конце концов, она не убивала Роберта. Она даже понятия не имеет о том, что с ним случилось. Чем-нибудь отравился? Виски?.. Мэдж прислушалась к своим ощущениям и сразу почувствовала боль в желудке. Может быть... Виски было какое-то странное... Или это ей только кажется?... Бедный Роб... Отвезти его в город? Нет. Жена доктора Нерста не может вернуться в чужой машине и с этим на заднем сиденье... Мэдж затрясла головой, стараясь отогнать от себя подобную мысль. Никто не знает, что она... Конечно, можно позвонить по телефону. Можно позвонить в полицию, не называя себя... А вдруг они потом узнают ее по голосу? Они могут записывать на магнитофон все разговоры. Конечно, записывают... Позвонить его отцу? Зачем? Если бы он был еще жив... А мертвому уже ничем не поможешь. Бедный, славный Роб... За спиной у Мэдж раздался звонок телефона. Этот резкий звук, ворвавшийся в тишину леса, больно ударил по нервам. Мэдж вскочила на ноги и, затаясь, слушала настойчивое гудение зуммера. Она старалась не шевелиться, словно боялась, что ее могут услышать на том конце невидимой нити, соединявшей машину с кем-то неизвестным в городе. Мэдж взглянула на часы: без двадцати шесть. Наверное, это опять его старик... Надо скорей уходить... Мэдж достала из сумочки губную помаду, взглянула на свое отражение в зеркале и, стараясь не смотреть в сторону красного пятна на зеленой лужайке, пошла к шоссе. Идти было неудобно и непривычно. Острые каблучки ее туфелек сильно вдавливались в землю. Мэдж остановилась и посмотрела на оставленные ею следы. Она живо представила себе, как полицейские сыщики разглядывают в лупу эти следы, как они осматривают машину, снимают отпечатки пальцев... По этим отпечаткам они сразу ее найдут... Возникло ощущение легкой тошноты. Надо уничтожить отпечатки пальцев... Она много раз видела в кино, как это делается, но никогда не думала, что ей самой придется этим заниматься. Мэрджори вернулась на полянку. Стараясь не смотреть на мертвого Грига, она достала из сумочки платок и плеснула на него виски. Затем, положив бутылку на землю, не прикасаясь к ней пальцами, старательно обмыла ее. Потом долго искала стаканчик, и найдя, вытерла и его. Невольно Мэдж взглянула на мертвого Грига. По его щеке полз муравей. Она отвернулась и подошла к машине. Зеркальце, телефон, рукоятка стеклоподъемника, верхний край дверцы... Кажется, больше нигде не могло остаться следов... Мэдж последний раз окинула взглядом машину, поправила прическу и пошла. Она сделала всего лишь несколько шагов, когда ей послышалось, что за спиной кто-то разговаривает. Мэдж почувствовала, как кровь приливает к корням волос и заставляет их шевелиться. Так поднимается шерсть у собаки в минуту опасности. Неясный звук голосов за спиной вызвал истерический шок. Полностью потеряв самообладание, поддавшись внезапному импульсу страха, Мэдж бросилась бежать не разбирая дороги. Ветка дерева больно хлестнула по лицу и вырвала из правого уха сережку. Мэдж не могла остановиться. Она бежала, падала, поднималась, и снова падала, и бежала, бежала, бежала, пока не услышала впереди за деревьями шум проезжающих машин. «Радио! Я же забыла выключить радио!» Мэдж остановилась. Острое нервное потрясение получило разрядку. Ей стало досадно за свое паническое бегство. «Конечно, это был голос диктора... К музыке так привыкаешь, что перестаешь ее замечать...» Первое непосредственное движение было вернуться, выключить приемник и найти серьгу. Но Мэдж не могла заставить себя снова увидеть то, что осталось в лесу. Да не все ли равно? Главное, никто не должен знать, что она там была. Главное, вычеркнуть навсегда это из своего сознания... Мэдж отряхнулась, поправила волосы и пошла по дороге. Впереди у большого рекламного плаката с надписью: «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОВИДАТЬ СВЕТ — ВСТУПАЙ В МОРСКУЮ ПЕХОТУ» — сидел на обочине мальчик и плакал. «Как он сюда попал?» — подумала Мэрджори. Повинуясь первому естественному порыву, она сделала несколько шагов к ребенку, но передумала, подавила в себе участие к чужому горю и быстро пошла прочь.
5
24 июня. 15 часов 13 минут.«...ядерных сил НАТО. Таким образом, количество американских атомных боеголовок, дислоцированных в странах Западной Европы, увеличивается до 8000. Это, несомненно, будет содействовать укреплению всеобщего мира. Продолжаем нашу передачу. Вы слушаете последние новости из Вашингтона...» — Да прекрати ты эту болтовню, Ган, уже надоело, — сказал шериф. — Сейчас будут передавать о бейсболе, — ответил Ган Фишер. Он сидел на столе в полицейском управлении города и задумчиво ковырял в зубах. Он провел здесь уже несколько часов, ожидая каких-либо новостей в связи с исчезновением Роберта Грига. Ганнибал Фишер — корреспондент местной газеты — основывал свое материальное благополучие главным образом на тесной дружбе с полицией. — Сейчас кончат эту волынку, и будет о бейсболе, — повторил Ган Фишер. — Можешь не слушать, выиграют «Мичиганские тигры». У меня точная информация, — сказал шериф. На столе зазвонил телефон. — Слушаю, — сказал шериф. — Да, сэр... Нет, сэр... Слушаю, сэр... Мы уже напали на след машины, сэр... — Шериф махнул рукой Фишеру, чтобы тот выключил радио. — Вчера между двумя и половиной третьего пополудни ваша машина заправлялась бензином в колонке на выезде из города и пошла на восток... Да, сэр, механик хорошо заметил — белый «кадиллак»... Нет, сэр, номера он не запомнил... Да, сэр, в машине были двое — молодой человек, судя по описанию, ваш сын, и женщина лет тридцати — тридцати двух, брюнетка, одета в светлое... Нет, сэр, больше он ничего не мог сказать. Машина взяла десять галлонов и ушла на восток по федеральной дороге... Конечно, сэр, мы сейчас опрашиваем все бензоколонки по этому направлению. Они должны были вновь заправляться не далее трехсот миль... Нет, сэр, это исключено. Все аварии на дорогах нами проверены, мотели и кемпинги тоже, ваша машина нигде не зарегистрирована... Слушаю, сэр. Как только будет получено что-нибудь новое, я немедленно сообщу. Шериф положил трубку и потянулся за сигарой. — Развлекается со своей дамочкой, а отец волнуется... — И все-таки тут что-то неладно, — сказал Фишер. — Парень должен понимать, что старик Григ поднимет на ноги весь город, если он вовремя не вернется. Он должен был позвонить домой. Что-то неладно. Мое чутье меня никогда не обманывает. — Странно, почему ты до сих пор не миллионер, если у тебя такое верное чутье... — Видишь ли, если тут замешана женщина, это в любом случае пахнет скандалом, а тогда, сам понимаешь, не меньше трех колонок на первой полосе и фотография... Минимум полтораста монет... — Так тебе старик и позволит устраивать сенсацию. Парень просто загулял и сегодня вечером будет дома. Ну, что бейсбол? Я был прав, «мичиганцы»? — Я не слушал, — сказал Фишер. Опять зазвонил телефон. Шериф снял трубку, и его лицо сразу приняло деловое выражение. Он включил магнитофон и кивнул Фишеру, разрешая взять параллельную трубку. Скрипучий голос, должно быть измененный, с сильным иностранным акцентом быстро произнес вроде бы заученную или заранее подготовленную фразу: «...восточная федеральная дорога, на сорок второй миле, первый поворот направо... В лесу брошена автомашина номер: «Миссикота МС-5128». Рядом труп». Сигнал отбоя. — Парень положил трубку, — сказал шериф. — Никто не хочет иметь дело с полицией. Ну, Ган, у тебя, кажется, сегодня большой день... Ган Фишер уже бежал к своей машине. Шериф положил телефонную трубку на стол и нажал кнопку диспетчерской связи: — Срочно, два «джипа» и санитарная машина на выезд! Всем патрульным машинам на восточной дороге усилить наблюдение в районе сороковой мили. Специальной службе установить, какой номер соединен с моим аппаратом...
6
25 июня. 8 часов 32 минуты.Доктор Нерст развернул утреннюю газету:
«УБИЙСТВО В ЛЕСУ» «КТО БЫЛА СПУТНИЦА РОБЕРТА ГРИГА?»— Опять ты читаешь газету за завтраком! — сказала Мэджи. — В конце концов, Клайв, это неуважение к семье. — Убили сына полковника Грига, — сказал Нерст. — Покажи! — Мэджи выхватила у него газету.
«Первым увидел труп в лесу констебль Роткин. Через несколько минут на место прибыл наш корреспондент и почти одновременно с ним остальные полицейские машины и автобус телевизионной компании. Шериф распорядился оцепить место происшествия и вместе с врачом и констеблем Роткиным пошел по следам автомашины, которые были хорошо заметны. На грунтовой дороге у въезда в лес и дальше на просеке были обнаружены следы двух машин. Один след принадлежал, несомненно, автомобилю Роберта Грига. Другой след, шедший туда и обратно, более свежий, был оставлен, судя по отпечаткам шин, старой машиной выпуска пятидесятых годов. По смятой траве было легко установить, что вторая машина развернулась приблизительно в пятнадцати ярдах, не доходя до того места, где лежал труп. Рядом с телом валялась открытая бутылка виски, в которую наползли огромные серые муравьи. Около машины было много отпечатков каблуков женских туфель. При внешнем осмотре машины не замечено никаких дефектов, кроме мелких царапин. Ключ зажигания был повернут в положение «радио», приемник включен, но не работал. Так же было и с телефонной рацией: она была включена, но связь отсутствовала. Врач осмотрел труп, но отказался на месте установить причину смерти. Высказывается предположение о возможности отравления. Женские следы ведут от машины по направлению к шоссе. При внимательном осмотре следов на земле найдена оправа золотой серьги, из которой вынут камень».
Доктор Нерст с интересом и удивлением следил за тем, как по мере чтения менялось выражение лица Мэрджори. «Какая она стала некрасивая и обрюзгшая, — подумал он. — Должно быть, женщины, слишком внимательно следящие за своей внешностью, сами не замечая, держат мускулы лица в состоянии постоянной мобилизованности и только в минуты большого душевного волнения теряют над ними контроль. Тогда они сразу становятся грубыми и безобразными. Как сейчас».
«По окончании осмотра шериф распорядился перенести тело в санитарный фургон и поручил одному из полисменов отвести в город машину Грига. Однако полисмен не смог завести машину, так как провода зажигания были оборваны. Тогда машина была прицеплена на буксир к одному из «джипов» и так доставлена в полицейское управление для детального исследования».
Мэдж скомкала газету, вскочила из-за стола и, не сказав ни слова, убежала к себе в комнату. Миссис Бидл осуждающе посмотрела на Нерста. — Вам бы следовало быть с ней более внимательным, Клайв. Последнее время она стала такой нервной. Миссис Бидл взяла с тарелки ломтик поджаренного хлеба, положила его обратно, снова взяла и отрезала крошечный кусочек ветчины. Миссис Бидл начала полнеть и считала нужным ограничивать себя в еде. — Я думаю, в июле мы могли бы поехать куда-нибудь во Флориду, недельки на две, — сказал Нерст. — Это было бычудесно, Клайв. Она стала такой нервной, ей необходимо развлечься и отдохнуть. Да и вам не мешало бы прервать ваши занятия: нельзя же все время только работать. — Я должен сперва закончить свою статью. Едва ли мне удастся освободиться раньше июля. Доктор Нерст поднял с пола брошенную газету. На первой странице была помещена фотография того места, где был найден труп, а рядом портрет улыбающегося Роберта Грига. Ниже была напечатана фотография серьги, снятая очень крупно. — Конечно, поехать во Флориду — это чудесно. Я всегда мечтала пожить во Флориде... А вы не думаете, Клайв, что в июле там будет очень жарко? Ах, Флорида... Майами... Палм-Бич... Такие чудесные места... Налить вам еще кофе? — Нет, спасибо. Нерст еще раз прочел сообщение корреспондента. «Что еще за «серые муравьи»? — подумал он. — Да еще «огромные»! Удивительно безграмотный народ эти газетчики. В наших местах нет ни одного вида крупных серых муравьев... Хорошо бы в самом деле поехать отдохнуть... Только, конечно, не во Флориду. Можно было бы пожить недельки две в лесной хижине, где-нибудь на берегу озера... Ловить рыбу... — Нерст очень ясно представил себе холодную свежесть раннего утра, когда над водою слоится туман, и солнце освещает лишь самые верхушки деревьев, и темные ели отражаются в неподвижной воде, такой спокойной, что жалко пошевелить веслом и нарушить величественную тишину наступающего дня... — Но Мэджи этого не понимает и не любит. Ей нужен усеянный телами пляж с яркими зонтиками и киосками, где продают всякую дребедень. Ей нужны прогулки на катерах с ревущими моторами, гогочущая толпа бездельников... Откуда там могли появиться «огромные серые муравьи»? Корреспондент специально упоминает о них, вряд ли это может быть случайной ошибкой...» Такие же серьги с рубинами он подарил Мэджи два года назад, когда они ездили в Чикаго. Точно такие же. Она тогда очень радовалась этому подарку... Она сама их выбирала... За дверью послышались уверенные и сердитые шаги Мэджи. Когда люди долго живут вместе, они привыкают узнавать настроение близкого человека по мельчайшим деталям его поведения, по едва заметным признакам. — Тебе не понадобится автомобиль? — спросила Мэджи. — Мне нужно съездить в город за покупками. — Мэджи, Клайв говорит, что в июле вы уезжаете отдыхать во Флориду! — сказала миссис Бидл. — Очень рада. Я могу взять машину? — Конечно, Мэджи, ты же знаешь, я всегда хожу в университет пешком. — Спасибо, я скоро вернусь. — Мэджи подставила щеку для поцелуя. — До свидания, Мэджи. — До свидания, Клайви. Мэджи ушла. «Она сердится, — подумал Нерст, — сердится на себя. Она недовольна своими поступками и ищет оправдания в осуждении других. Ей стало бы легче, если бы я дал ей повод для ссоры». Нерст поднялся на второй этаж. Он поднимался нарочно очень медленно, для того чтобы растянуть время, отведенное себе на обдумывание. Впрочем, он обманывал себя, полагая, что хочет что-то обдумать. Все было уже решено. Он знал, что сейчас, прежде чем войти в свой кабинет, он повернет налево и зайдет в комнату Мэджи. Он знал также и то, в чем ему предстояло убедиться, и это было так неприятно, что он старался идти как можно медленнее, чтобы подольше оттянуть неизбежный момент наступления полной ясности. Через открытое окно на верхней площадке лестницы он слышал, как Мэджи закрывает ворота гаража, как она хлопнула дверцей машины и дала газ, выезжая на улицу. Нерст постоял несколько секунд на площадке и открыл дверь спальни. Перед зеркалом на туалетном столике стояла шкатулка, в которой Мэджи хранила свои украшения. Нерст подошел к зеркалу. «Бедная Мэджи... Почему она не может найти в себе силы поговорить со мной откровенно? Ведь она же знает, что я ее люблю. Насколько все стало бы проще... Или, наоборот, сложнее? Сейчас, пока еще ничего не сказано, она одна со своими мыслями... Рассказав, она переложила бы все на мои плечи. Почему она этого не делает? Не доверяет мне? Или думает, что я не понимаю ее обмана? Ложь — это линия наименьшего сопротивления, это легче всего... А может быть, и в самом деле все это только мои пустые домыслы? Ревнивый муж! — Нерст усмехнулся, и его отражение в зеркале тоже криво ухмыльнулось. — Глупости. Сейчас я открою шкатулку, и там будут лежать обе серьги, и все снова станет на свое место. У Мэджи часто бывает такое настроение. Она часто сердится на меня, сама не зная за что, а потом об этом жалеет... Милая Мэджи...» Нерст открыл шкатулку. С методичностью ученого он перебрал безделушки, составляющие счастье женщины. На дне пустой шкатулки осталась погнутая шпилька и только одна серьга с рубином...
7
25 июня. 9 часов 01 минута.Когда следователь спустился в гараж полицейского управления, там все уже было подготовлено к осмотру машины Роберта Грига. Она стояла на отдельной площадке, куда был подведен дополнительный свет, Механик и радиотехник ждали со своими инструментами. Следователь молча обошел машину, внимательно вглядываясь в малейшие царапины на бортах. Машина оставалась в том самом виде, как ее нашли в лесу. Кузов и стекла были слегка матовыми от пыли, кроме тех мест, где снимались отпечатки пальцев. Никаких внешних повреждений не было. — Откройте капот, — сказал следователь. Механик поднял капот мотора. На первый взгляд здесь все было в порядке. — Проверьте аккумулятор. Механик проверил. — Норма. — Бензоподача? — Работает. — Попробуйте завести. Механик включил зажигание. — Машина обесточена. Обрыв в цепи. Провод, идущий от реле стартера к замку зажигания, оказался перерезан у самой клеммы. — Парень, который обрезал провод, наверно, очень торопился. Неужели трудно было взять отвертку? — сказал механик. Он был очень опытный мастер, любил свое дело, и его искренне возмущало всякое проявление небрежности и грубости в обращении с машиной, словно это был живой организм. — Он очень торопился, — повторил механик, — или он просто дурак. На кой черт ему понадобилось обрезать провод, когда можно просто отвернуть клемму? — Вы не скажете, каким инструментом обрезан провод? Механик освободил второй конец, присоединенный к реле, и сложил оба куска провода. — Очень странно, впечатление такое, что он разрезал каждую жилку в отдельности. Посмотрите — изоляция срезана удивительно точно, словно он спиливал ее тоненькой пилкой, а сам провод расправлен на отдельные жилки, и каждая проволочка перекушена в отдельности. Для того чтобы так разрезать провод, нужно потратить минут пятнадцать, а то и больше. — А для того, чтобы отвернуть клемму? Механик засмеялся. — Если нет под рукой отвертки, это можно сделать пятицентовой монетой за десять секунд! — Значит, он совсем не торопился? Замените провод, а этот отложите к вещественным доказательствам. После того как провод был заменен, машина по-прежнему не заводилась. Стартер нормально проворачивал мотор, но вспышек не было. — Надо осмотреть прерыватель... В пластмассовой крышке распределителя зажигания было вырезано круглое отверстие диаметром около четверти дюйма. В прерывателе отсутствовали вольфрамовые контакты. Они были аккуратно отрезаны или отпилены от стальных пластинок, к которым крепились. Механик снял прерыватель и перенес его на стол, чтобы удобнее рассмотреть. Официальная обстановка следствия мешала ему выразить свое негодование по поводу такого обращения с машиной. — Чем, вы думаете, было просверлено это отверстие? — спросил следователь. — Во всяком случае, не сверлом. Дрель сделала бы точное цилиндрическое отверстие, а здесь, вы видите, дыра хоть и круглая, но неправильной формы. Похоже, как будто ее выскабливали ножом или растачивали зубной бормашиной. Да, именно чем-то вроде бормашины. На деталях распределителя остались мелкие крупинки раздробленной пластмассы, а в тех местах, где были вольфрамовые контакты, осела тончайшая стальная пыль. Разглядеть ее удалось только в сильную лупу. — Знаете, сэр, я уже восемнадцать лет работаю по ремонту машин в нашей фирме, но мне никогда не приходилось видеть ничего подобного! Для того чтобы так чисто вырезать контакты прерывателя, нужно иметь специальный инструмент. — Зачем понадобилась дыра в корпусе? Механик пожал плечами. — Может быть, для того, чтобы пропустить дополнительный провод? Она как раз подходящего размера. Но в этом нет никакого смысла... Все это смахивает на поступки сумасшедшего. — Мы имеем дело с очень ловким и хитрым преступником... — задумчиво сказал следователь. — Ну ладно, посмотрим теперь, что с телефоном и радио. Включенный приемник молчал, хотя сигнальные лампочки горели. Телефон был обесточен. Корпус рации не имел внешних повреждений, за исключением того, что в боковой стенке отсутствовала пылезащитная сетка. Она была аккуратно вырезана по форме отверстия так, что снаружи ничего нельзя было заметить. Головки винтов, которыми крепились крышки приборов, остались неповрежденными, и на них сохранилась фиксирующая фабричная окраска. Это, казалось бы, доказывало, что ни приемник, ни рация не разбирались. Но когда техник вскрыл корпус приемника, он обнаружил, что из него исчезли все германиевые триоды. Концы проводников, на которых они крепились, были так же аккуратно отрезаны, как и детали крепления вольфрамовых контактов прерывателя. — Что вы об этом думаете? — спросил следователь. — Ничего не думаю, — ответил техник. — Здесь хозяйничал сумасшедший или человек, затеявший какую-то непонятную мистификацию. Он снимает приемник с машины, вскрывает его, достает из него транзисторы, которые можно купить в любом радиомагазине, снова собирает приемник и очень искусно подделывает заливку крепежных винтов. Нормальный человек этого сделать не мог. Следователь помолчал, придав своему лицу значительное выражение. Так часто делают чиновники, желая показать, что им доступно некоторое высшее понимание связи событий. Потом он сухо распорядился: — Соберите поврежденные детали и отнесите ко мне.
В кабинете было тихо, чисто и прохладно. Мягко шелестел вентилятор. Следователь уселся за свой рабочий стол, на котором были разложены документы по делу Грига и вещественные доказательства, упакованные в аккуратные пластмассовые мешочки. — Итак... — Он произнес это сакраментальное слово и задумался. Сыщикам вообще полагается задумываться — такая у них работа. Почти как у настоящих ученых — те тоже все время думают. Сегодня следователю предстоял длинный, напряженный, трудный день. К вечеру из столицы штата должен был приехать старший инспектор, курирующий их район. Следователю очень хотелось составить к этому времени хотя бы предварительную версию преступления. В том, что это было именно преступление, он старался не сомневаться. — Итак... — сказал он и занялся просматриванием документов. «Протокол судебно-медицинского исследования трупа. Смерть наступила от паралича сердца, за двадцать-тридцать часов до момента обнаружения трупа... Анализы позволяют высказать предположение, что причиной смерти могло послужить введение в организм небольшой дозы яда, сходного по своему действию с ядом кураре, которым пользуются бразильские индейцы. Однако это нельзя утверждать с полной достоверностью. В результате патологоанатомического исследования сердечно-сосудистой системы не было найдено изменений, могущих привести к смертельному исходу, тем не менее возможность естественной смерти не исключена...» «Анализ виски. Виски, марки «Олд Бенджамин». Цвет, запах и крепость соответствуют контрольному образцу. На вкус испытание не проводилось. («Конечно, — подумал следователь, — на вкус они проверяли только контрольную бутылку».) При химическом анализе обнаружено присутствие в растворе алкалоидов группы кураринов — декаметилен-бис-триметиламмония, пиролаксона и некоторых других. Инъекция кролику не вызвала паралича: возможно, была малая концентрация яда». «Справка. По данным спецслужбы, неизвестный мужчина, сообщивший о находке трупа, звонил из дорожной закусочной на шестидесятой миле...» Из числа вещественных доказательств, собранных на столе, наибольший интерес следователя вызвала сломанная оправа серьги... Это было довольно сложное и претенциозное произведение ювелирного мастерства, одно из тех, которые фирмы выпускают небольшими партиями и рассылают по всей стране. «Удивительно, что не нашли камня, — подумал следователь. — Если он просто выпал из оправы, он должен бы остаться на земле...» Следователь достал карманную лупу и принялся внимательно рассматривать сломанную оправу. Не могло быть сомнения: в местах, где должен крепиться камень, оправа не погнута и не сломана, а была разрезана, точно так же, как разрезаны крепления транзисторов в приемнике и крепления вольфрамовых контактов прерывателя. Это наблюдение снова заставило следователя надолго задуматься. Исчезновение камня и транзисторов из приемника никак не укладывалось в привычные схемы судебной практики. Следователь повертел в руках сломанную оправу и отложил в сторону. Он мог бы еще долго сидеть за столом, раздумывая о всех обстоятельствах дела, но время шло, а у него еще не было сделано никаких наметок. Первым делом он сразу отбросил, как незаслуживающие внимания, версии случайного отравления или естественной смерти от паралича сердца. В подобных случаях дело прекращалось, и его шансы на продвижение по службе соответственно уменьшались. Последнее обстоятельство играло едва ли не первенствующую роль в выборе той или иной следственной версии. С точки зрения карьеры, самым выгодным было бы умышленное отравление с последующим скандальным, процессом. Еще раз взвесив все «за» и «против», следователь принял решение разрабатывать именно эту версию. Постепенно в его мозгу сложилась примерно такая картина: Григ отправляется с неизвестной женщиной на пикник. Она отравляет виски и дает ему выпить. Затем уничтожает отпечатки пальцев и скрывается. Возможная причина убийства — ревность. Детали из машины и камень из серьги вынимаются с единственной целью запутать следствие, направить его на ложный путь... «Все было бы так, — подумал следователь, — если бы не слишком слабая концентрация яда в виски...» Следователь откинулся на спинку стула. В Нью-Карфагене редко случались убийства. Это был тихий провинциальный город, где люди жили спокойной, размеренной жизнью. Сенсации приходили сюда извне, из большого, шумного, тревожного мира. Сейчас маленький серый человечек, страшный своей убогой посредственностью, был поставлен в трудное положение: он должен был делать то, чего делать не умел, проявлять способности, которых у него не было. Он умел расследовать мелкие кражи, дорожные происшествия, умел собирать секретные материалы о тех жителях города, которыми интересовалось ФБР, но ему не приходилось иметь дела с убийствами, ограблениями банков и другими подобными происшествиями, способными вызвать сенсацию, привлечь к себе общее внимание. Он был достаточно сообразителен, для того чтобы понимать всю шаткость и необоснованность своих рассуждений, но, не умея придумать ничего другого, старался идти протоптанными дорожками стандартных мыслей, подчиняясь простой логике: если есть убитый, то должен быть и убийца. Это была его работа, которую он должен был выполнять для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Следователь придвинул бутылку. Там еще оставалось виски, и в нем плавало несколько мертвых муравьев. «Очень странно, что содержание яда недостаточно для отравления. Если бы было иначе, все оказалось бы очень простым. Это самое слабое место в моей версии, и его нужно распутать... — Следователь встряхнул бутылку. — Какие крупные муравьи... Никогда я таких не видел... Может быть, все дело в них?..» В сознании следователя начали ворочаться обрывки мыслей, еще не связанных в логическую последовательность. Он подумал о том, что открытое виски постепенно теряет крепость — спирт испаряется; он вспомнил о том, что ломтик лимона, брошенный в чай, обесцвечивает его; он знал о том, что в противогазе активированный уголь поглощает ядовитые вещества... Гак следователь постепенно пришел к догадке, что муравьи, находящиеся в бутылке, могли как-то повлиять на концентрацию яда в растворе. «Вроде как бы настойка на перце, только наоборот... — Эта мысль так понравилась следователю, что он решил возможно скорее проверить ее. — Итак, — заключил он свои размышления, — первое: разыскать женщину; второе: установить личность неизвестного, звонившего по телефону; третье: выяснить все относительно муравьев. Для этого проконсультироваться со специалистом. Розыск женщины, конечно, следует начать с ювелира, где она могла покупать серьги»... Если все даже самые нелепые и противоречивые факты аккуратно разложить по полочкам сознания, определить каждому его место и назначение, то все покажется простым и ясным, хотя может вовсе не соответствовать истине.
8
25 июня. 11 часов 25 минут.Говорят, в каждом американском городе, даже в самом скромном, обязательно есть главная улица — Мэйн-стрит. Была такая улица и в Нью-Карфагене. Так вот, доктор Нерст медленно шел по главной улице, поглядывая на рекламы, витрины и вывески, отыскивая нужный магазин. Пустое небо затягивала легкая, прозрачная туманная дымка, едва разбеливающая ослепительную синеву неба. Солнце светило прямо в глаза. Нерст машинально достал из кармана темные очки, но, едва надев их, снял и сунул обратно в карман. «Во всех детективных историях преступники обязательно ходят в темных очках, — подумал Нерст. — Какая мерзость, я уже начинаю чувствовать себя преступником... Интересно, те, кто сочиняет детективы, действительно являются специалистами в этой области или они всего лишь спекулируют на нездоровых инстинктах? В какой мере применим на практике опыт, почерпнутый в приключенческих романах? Сумели бы, например, Конан-Дойль или Агата Кристи так запутать следы настоящего, невыдуманного преступления, чтобы оно не могло быть раскрыто? Или, наоборот, сумели бы они, опираясь на свой литературный опыт, раскрыть убийство, совершенное ловким, умелым преступником? Кажется, Конан-Дойлю удавалось что-то в этом роде...» Нерст шел по главной улице. Яркие витрины, яркие рекламы, яркие вывески изо всех сил соревновались между собой, стараясь привлечь внимание прохожих: «Покупайте у Вулворта!»... «Спагетти! Только у нас лучшие итальянские спагетти!»... «Победа в джунглях» — два часа сплошных ужасов на большом экране!»... «Фильмы ужасов, романы ужасов... Не слишком ли много насилия в нашей Америке?» — подумал Нерст. «Пейте пиво — оно освежает!»... На витрине светлое пиво лилось бесконечной струей в стакан, так никогда и не наполняя его. Прошла навстречу молодая женщина. Нерст встретился с ней взглядом. Женщина посмотрела на него и отвернулась. Чем-то она напомнила его ассистентку мисс Брукс. Нерст посмотрел ей вслед. «Подумайте, не купить ли вам новый «бьюик»?»... «Силиконовый клей склеивает все, даже железо!»... «Киндл — ювелир». Доктор Нерст открыл дверь. — Я хотел бы купить небольшой подарок своей родственнице... — Кольцо? Серьги? Браслет? — Продавец смотрел на доктора Нерста с неотразимой приветливостью. — Да, что-нибудь в этом роде... Не очень дорогое. Около двухсот долларов. Продавец понимающе кивнул головой. — Посмотрите эти кольца. Какой размер вам нужен? — Размер? Разве их нужно покупать по размеру? — Это не обязательно, конечно, всегда можно кольцо немного растянуть, но все-таки лучше знать размер... — К сожалению, я не знаю... — Тогда, может быть, браслет? — Пожалуй, я предпочел бы кольцо или серьги с каким-нибудь камнем. Нерст искал глазами на витрине нужные ему серьги с рубином, но их не было. — Посмотрите из этих? Настоящий изумруд кабошон. Не правда ли, великолепны? — Продавец надел кольцо на свой холеный палец и продемонстрировал, как будет сверкать камень на руке неизвестной дамы. — Ваша родственница... блондинка? — Брюнетка. — Тогда ей лучше с рубином. Вот такое. Доктор Нерст чувствовал себя очень неловко, доставляя этому любезному продавцу столько хлопот, но он считал нужным создать впечатление случайности своего выбора. Оставаясь и здесь прежде всего ученым, он невольно использовал обычную методику биологического эксперимента, требующую чистоты постановки опыта, свободы от посторонних влияний и предвзятых решений. В то же время Нерст не мог не волноваться, так как он обладал достаточным житейским опытом, для того чтобы понимать, что если человек приходит в магазин и просит продать ему точную копию вещественного доказательства, потерянного на месте преступления, копию главной улики обвинения в предстоящем судебном процессе, то это не может не вызвать подозрения. Особенно у ювелира, который почти наверняка связан с полицией. — Может быть, вы покажете мне еще что-нибудь в этом роде? — Конечно, конечно, у нас огромный выбор! Продавец одну за другой доставал с полок маленькие витринки, в которых, как бабочки в коллекциях Нерста, были разложены почти такие же пестрые, но куда менее совершенные по форме драгоценности. Рассматривая их, доктор Нерст не мог освободиться от смутного чувства неловкости, вызванного фальшивостью ситуации, слишком напоминавшей детективный роман. «Камушки, камушки... Сколько таких ярких камушков прошло через руки моего деда... Мы, голландцы, всегда славились умением гранить алмазы. Теперь совсем утрачено это старинное мастерство, бывшее почти искусством. Огранка алмазов так же стандартизирована, как и всякая другая область промышленности. Странно, что понадобилось такое нелепое стечение обстоятельств для того, чтобы я вспомнил о своем деде — гранильщике алмазов...» Наконец, на одной из витринок среди сережек, похожих на стрекоз, и брошек, напоминающих жуков, Нерст увидел то, что искал. «Надо постараться, чтобы он сам предложил мне эти серьги, — подумал Нерст. — До чего же неприятно чувствовать себя преступником!» Продавец с профессиональной ловкостью перехватил взгляд доктора Нерста. — Если ваша дама брюнетка, ей могут подойти эти серьги. Нерст мучительно старался изобразить равнодушие. Он неторопливо рассматривал выставленные перед ним камушки, рассеянно постукивал по стеклу витрины дужкой своих темных очков и напряженно думал, чем бы еще отвлечь внимание продавца, но, так ничего и не придумав, спросил: — Так вы думаете, моя родственница будет довольна? — Я в этом не сомневаюсь. Это роскошный подарок, рассчитанный на очень изысканный вкус. Это редкая вещь для знатоков! Единственный экземпляр. Разрешите завернуть? — Пожалуйста. — Сто девяносто три доллара. Можно чеком. — Я заплачу наличными. — Благодарю вас. Отослать по адресу? — Нет, я возьму с собой. До свидания. — До свидания. Заходите к нам, пожалуйста, всегда, когда вам захочется сделать подарок. Мистер Киндл, ювелир, проводил Нерста до двери и даже выглянул наружу, чтобы посмотреть на машину, но доктор Нерст пошел пешком. Ювелир вернулся в магазин, подошел к телефону и набрал номер: — Это говорит Киндл, ювелир Киндл... Да... Только что от меня вышел еще один покупатель рубиновых серег... Да, точно такие же... О женщине я вам уже сообщал... Нет, он себя не назвал, но мне кажется, это кто-то из нашего колледжа... Да, конечно, у меня еще много таких же... Будет исполнено. Мистер Киндл осторожно положил трубку, достал из ящичка точно такие же серьги, как и те, что купил Нерст, и выложил их на витрину.
9
25 июня. 12 часов 30 минут.Ган Фишер остановил свою машину у закусочной на шестидесятой миле. На шоссе, как всегда в это время, было большое движение, но на автомобильной стоянке других машин не было. Ган не спеша прошел к закусочной. Будка телефона-автомата стояла снаружи, недалеко от входа. «Интересно, можно ли ее видеть из-за стойки?» — подумал Ган. В закусочной было пусто. Ган подошел к стойке и постучал ключами от машины, которые все еще вертел в руках. Вышел бармен. — Приготовить что-нибудь поесть? Бифштекс? — Пожалуй. И пиво. Бармен открыл бутылку и придвинул стакан. Ган Фишер налил пива и следил за тем, как бармен достает из холодильника мясо. — Не очень-то бойкая у вас торговля... — Сейчас еще рано, — ответил бармен. — Посетители будут позднее. Ган отпил пива. — Где у вас телефон? — Направо у входа, — не оборачиваясь, ответил бармен. — Вы успеете позвонить, пока жарится бифштекс. Ган повернулся. Через стекло витрины был виден угол телефонной будки. — Нет, я позвоню потом. Сперва поем. Бармен бросил кусок мяса на горячую сковородку. — Как хотите. Ган медленно тянул пиво. — Вы здесь один работаете? — Когда много народа, помогает жена. Ган поставил стакан. — Скажите, а вы не помните... Вчера, примерно в это же время... Бармен резко обернулся. — Вы из полиции? Ваши только что уехали. — Нет, я из газеты. — А-а... — Бармен опять занялся бифштексом. — А я сперва подумал, вы тоже из них... — Нет, я из газеты, — повторил Ган. — О чем они спрашивали? — Вы же сами знаете, если сюда приехали. Ган кивнул. — Ну и что же... Вы им сказали, кто звонил от вас по телефону? — Я не запомнил. Мало ли тут бывает проезжих. — Например, как сейчас? Это было приблизительно в половине четвертого, вчера... — Я не помню... А что он натворил, тот, кого разыскивают? — Вероятнее всего — ничего. Он может дать очень ценные свидетельские показания, но, так же как и вы, не хочет иметь дела с полицией. Он ваш родственник или просто приятель? — Я его никогда раньше в глаза не видел! — Это связано с убийством Грига. Он первым увидел труп и сообщил по вашему телефону в полицию. Бармен свистнул. — Почему об этом ничего не было в газете и по радио? — Полиция не разрешила давать сообщение. Понимаете, мне тоже нельзя портить отношения с ними. Ведь это мой хлеб. Бармен понимающе кивнул головой и перевернул бифштекс. — Тогда чего же вы у меня выспрашиваете?.. С картофелем? — Ага. И побольше лука... В нашем деле всегда нужно знать новости раньше других. — Я им ничего не сказал. Я действительно не видел, кто звонил отсюда по телефону. — Бармен поставил перед Ганом тарелку с едой: — Пожалуйста. — Спасибо. Как он выглядел? — Кто? — Ну, тот, кто был у вас вчера в половине четвертого пополудни. — Я не смотрю на часы, когда ко мне приходят посетители. Некоторое время Ган молча жевал. — Горчицы? — спросил бармен. — Спасибо. А вы не думаете, что упоминание в газетах о вашей закусочной, хотя бы и по такому поводу, сделает вам бесплатную рекламу? — Думаю. — Ну? — Был тут у меня вчера днем один метис... Лицо у него такое, знаете, конопатое, должно быть, после оспы... Но я не видел, что он звонил по телефону. — Номер машины не заметили? — Нет. У него была очень старая машина, года сорок девятого, наверно... — И он ничего не спрашивал? — Нет. Выпил стакана сока, взял сосиски и сразу уехал. — В половине четвертого? — Примерно в это время... Кофе? — Охотно. И нет ли у вас персикового джема? — Могу предложить сливовый. Персиков у меня оставалась только одна банка, да ее пришлось выбросить. Наползли муравьи. — Ничего, давайте сливовый. А что за муравьи? — Обыкновенные муравьи. Противные, серые, как мокрицы. Я оставил банку не плотно закрытой, так вы бы видели, сколько их набралось! Прямо облепили всю банку! — Очень интересно... — рассеянно заметил Ган Фишер, допивая кофе. — Ну что же, спасибо за вкусный завтрак и за то, что вы рассказали... Сколько с меня? — Доллар двадцать. Когда будете писать, не забудьте упомянуть, что у нас можно перекусить в любое время...
10
25 июня. 16 часов 47 минут.К середине дня стало пасмурно. Над землей повисло пустое бесцветное небо, унылое и серое, как застиранные простыни бедняка. По восточной федеральной дороге со свистом проносились блистающие лаком и хромом легковые машины, ревущие грузовики, красивые автобусы и тяжелые, высокие, как дома, фургоны, отсвечивающие алюминиевым блеском. Васко Мораес держался на своей машине ближе к обочине. Его старый «плимут» выпуска пятидесятого года был таким ветхим и обшарпанным, что уже давно перестал вызывать насмешки мальчишек на улицах городов. Теперь прохожие смотрели на него чаще с удивлением, как на музейную редкость, поражаясь тому, как может самостоятельно двигаться такая развалина. Васко Мораес купил эту машину несколько лет назад на свалке за восемьдесят семь долларов, и она уже хорошо послужила ему. Для его профессии возможность передвижения была едва ли не основной гарантией заработка. Профессия Мораеса состояла в том, что у него не было вообще никакой профессии. Он брался за любое дело, если оно не требовало специальных знаний и квалификации. А такие работы обычно носили случайный, сезонный характер. Чаще всего он нанимался на уборку фруктов или овощей. Сбор всегда нужно производить быстро и в определенное время. Поэтому фермеры охотно нанимают поденщиков. Но уборка заканчивалась, а вместе с ней кончалась и работа. Нужно было откочевывать севернее, где фрукты поспевают позже. Таким образом Васко Мораес начинал свой трудовой путь с весны в самых южных районах и, постепенно передвигаясь на север, доходил до границы с Канадой. Зиму он кое-как перебивался случайными заработками, а к весне снова оказывался на юге. Поэтому машина была для него единственным постоянным жилищем. Это был довольно распространенный тип кочевника двадцатого века — порождение стихийной погони за выгодой, порождение эпохи техницизма, когда человек, если он не успел вовремя закрепиться и приобрести необходимые знания и связи, оказывается навсегда выброшенным на обочины жизни. Слева, обгоняя, с глухим нарастающим шумом промчался тяжелый грузовик. В открытое окно ударила упругая теплая волна рассеченного воздуха. Мораес почувствовал, как машина откачнулась вправо и снова выровнялась, когда грузовик его обогнал. Он привык к этим воздушным ударам, к плавному нарастанию и резкому спаду шума обгоняющих машин. Когда это бывал сверкающий лимузин, удар получался сухим и жестким, как пощечина. И звук нарастал внезапно почти до свиста и резко обрывался. Когда обгонял грузовик или автобус, гудящий рев нарастал постепенно, удар воздушной волны походил на приятельский толчок в мальчишеской свалке. Если машина работала на солярке, к этому добавлялся едкий дым, от которого слезились глаза и который не сразу выветривался. Васко Мораес не мог ехать быстро, потому что «плимут» был очень старый и должен был прослужить ему еще неизвестно сколько лет. Он ехал медленно еще и потому, что все время высматривал поворот на ферму Томаса Рэнди, где был нужен поденщик. Слева от Мораеса одна за другой проносились машины, справа тянулся унылый пустырь автомобильного кладбища. Мораес ехал посередине, между стремительным потоком новых машин и мертвой свалкой ржавых обломков. Сзади раздался сигнал. Мораес посмотрел в расколотое зеркальце — это был громадный красный грузовик, тянувший на прицепе длинную мостовую ферму. Мораес всегда с уважением и сочувствием относился к водителям таких машин. Легко ли часами держать в руках многотонную махину и гнать, гнать, гнать по дорогам через леса и пустыни, в жару и в холод, ночью и днем, ночью и днем, все скорее и скорее, не имея права остановиться? Грузовик надрывно ревел, прося дороги. Мораес принял правее, он вел свой «плимут» по самому краю шоссе, но грузовик не прекращал сигналить. Длинная ферма на прицепе мешала ему маневрировать. Мораес выехал на рубчатую обочину, колеса дробно застучали по бетонным зубцам, и почти одновременно он почувствовал мягкий удар горячего воздуха слева и ощутил резкий хруст в правом переднем колесе своей машины. Руль дернулся, и Мораес едва сумел удержать его. Он съехал на обочину и открыл дверцу. Со свистом и воем пронеслась легковая машина. Мораес обошел свой «плимут» и толкнул ногой переднее колесо. Оно было перекошено и болталось на ступице. Подшипник вышел из строя. Авария случилась потому, что раскрошился один из стальных роликов, имевший незаметный, ничтожный дефект, пропущенный много лет назад прецизионной машиной, контролирующей эти ролики на заводе в Детройте. Лицо Мораеса, грязное, серое, изрытое оспой, как стены рейхстага в Берлине, стало еще мрачнее. Человек, едущий на такой старой, разбитой машине, внутренне подготовлен к любым авариям, и все же авария бывает всегда неожиданной. Мораес растерянно оглянулся по сторонам. Дорога проходила лесом. О том, чтобы вызвать помощь с ближайшей бензоколонки, он даже не подумал. Весь его капитал составлял один доллар тридцать пять центов. Будь у него запасной подшипник, он мог бы сменить его за час. Но подшипника не было. Оставалось только одно — идти назад и пытаться раздобыть подходящую деталь на автомобильном кладбище. Мораес достал из багажника ключ для коронной гайки подшипника и зашагал по шоссе. Как быстро летят и земля и деревья за окном автомобиля и как медленно ползут под ногами острые камни, когда идешь по обочине! Одна за другой, одна за другой, одна за другой, одназадругой, одназадругойодназадругойодназадругой мчались машины, пугая Мораеса шумом и свистом, обдавая пылью и едким запахом газов. Слева тянулся густой, словно бы совсем не тронутый цивилизацией, девственный лес, а справа — серая лента дороги с потоком куда-то спешащих автомобилей. Мораес свернул с обочины, перебрался через канаву и пошел напрямик к автомобильному кладбищу. Это был огромный пустырь, огороженный низеньким забором и заваленный ржавыми, искореженными, изуродованными временем и людьми автомобилями. Машины были навалены одна на другую в несколько слоев. Казалось диким и нелепым такое варварское уничтожение огромного труда, затраченного на создание всей этой никому не нужной теперь техники. Мораес медленно брел между горами автомобильных трупов и высматривал, нет ли где-нибудь «плимута» пятидесятых годов. Ему нужен был автомобиль, попавший сюда в результате аварии, а не естественного износа. Лишь в такой машине могли сохраниться отдельные детали в годном состоянии. Постепенно он добрался до самого конца свалки, примыкавшего к лесу. Только здесь он нашел то, что было нужно, — «плимут» того же года выпуска, что и его. Он лежал сверху, и Мораесу пришлось взбираться по машинам, чтобы добраться до передних колес. Старые кузова были измяты и сильно проржавели, тонкий металл иногда рассыпался в прах от одного прикосновения, но части, покрытые смазкой, еще держались. Карабкаясь, Мораес заметил множество больших серых муравьев, которые копошились на деталях. Передние колеса «плимута» оказались в довольно хорошем состоянии. Мораес подумал, что, пожалуй, имеет смысл снять целиком всю ступицу, но для этого он не захватил второго ключа. Он спустился на землю и отправился на поиски инструмента. Он заглядывал через выбитые стекла, открывал багажники там, где это было возможно, и всюду видел ползающих муравьев, которые не разбегались при его приближении. Наконец он заметил сумку с инструментами под разинутым багажником одной из машин. Это был черный «додж» более позднего выпуска, чем его. Машина лежала на боку. Вся передняя часть была смята и искорежена. Мораес заглянул внутрь. Снизу через выбитые стекла проросла длинная, бледная, как в подвале, трава. Сиденье было залито кровью. Когда-то кому-то эта машина доставила радость приобретения. Она вызывала восхищение знатоков и зависть соседей. Ее владелец упоенно мчался в ней по дальним дорогам, заботливые руки смазывали ее, полировали и смахивали дорожную пыль. Потом водитель на короткое мгновение потерял самообладание, допустил только одно лишнее движение или, наоборот, не сделал единственно необходимого поворота руля, и машину приволокли сюда, где через несколько лет она превратится в груду ржавчины. Мораесу показалось, что он слышит какой-то писк или жужжание. Он прислушался. Звук шел из приемника. Судя по всему, машина пролежала здесь больше года. Было невероятно, чтобы до сих пор мог работать приемник. Мораес перегнулся через выбитое ветровое стекло и постарался заглянуть под приборную доску. В полутьме он увидел нескольких муравьев, которые копошились на стенке приемника. Мораес не мог видеть, чем именно они заняты, но жужжание шло оттуда. Постепенно, когда его глаза привыкли к темноте, он различил насекомое, похожее на паука. Муравьи старались протащить его через дырку в стенке приемника. Мораес не был особенно удивлен этим. На его родине в Южной Америке муравьи строили иногда очень сложные сооружения, и никто на это не обращал внимания. Не было ничего странного и в том, что здесь муравьи сооружают свое гнездо в старом автомобиле. Было бы гораздо удивительнее, если бы оказалось, что радиоприемник в разбитой машине проработал больше года. Мораес обошел машину вокруг, высматривая, нельзя ли здесь еще чем-нибудь поживиться. Зайдя с той стороны, откуда была видна нижняя часть мотора, он опять заметил цепочку муравьев, которые ползли по машине. Каждый тащил что-то блестящее. Мораес проследил взглядом за ними и увидел, что они выползают из небольшой дыры, проделанной в стенке двигателя. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что муравьи тащат кусочки металла толщиной в спичку и длиной с муравья. Цепочка тянулась к соседней машине и дальше терялась в беспорядочном нагромождении ржавых остовов. Мораес ухмыльнулся хитрости муравьев, которые начали строить железные гнезда, поднял инструмент и направился к старому «плимуту», чтобы снять с него ступицу колеса.
11
26 июня. 18 часов 02 минуты.— Вам не кажется, что пахнет гарью, доктор Нерст? — Нет, это просто такая погода, доктор Хальбер. — Серое небо? — Да, такое небо бывает в Канаде в августе, когда горят леса. Тогда неделями в воздухе пахнет гарью и небо затянуто серой дымкой тумана. — Я не бывал в Канаде в августе, но мне кажется, пахнет гарью. Вас подвезти? — Доктор Хальбер открыл дверцу своей машины. — Нет, спасибо. Возможно, это смог нанесло с побережья. Спасибо, я обычно хожу пешком из университета. Автомобиль меня отвлекает, мешает думать. — По себе я этого не замечал. — Доктор Хальбер кисло улыбнулся, — Да, возможно, это туман с побережья. До свидания. — До свидания. Доктор Хальбер уехал, а доктор Нерст неторопливо зашагал по аллее вдоль стоящих у тротуара машин. Отсюда до его дома было девятнадцать минут ходьбы, если идти не торопясь. Он дорожил этими спокойными прогулками, когда остаешься один на тихих улицах и когда так хорошо думается. Но сейчас он не мог сосредоточиться. Смутное, неосознанное чувство досады, как тупой гвоздь в башмаке, мешало ему настроить свои мысли в нужном направлении. «Какая противная личность этот ювелир... — думал Нерст. — Любезный и скользкий до отвращения. Неужели все торговцы такие? Впрочем, я напрасно стараюсь убедить себя в том, что ювелир мне неприятен. Я недоволен не им, а самим собой. Своим поведением. И даже не поведением, не тем, как я держался сегодня в магазине, когда покупал эти серьги, а самим фактом покупки. Как часто люди сгоряча, не подумав, совершают поступки, внешне, кажется, безобидные, но влекущие за собой последствия, за которые приходится потом дорого расплачиваться. Правильно ли я сделал, купив эти серьги? Не было ли это с моей стороны наивным и глупым мальчишеством? Я поступил как школьник, начитавшийся детективных романов. Вместо того чтобы исключить улику, я сам создал лишний повод для подозрений. Тот, кто будет вести следствие, несомненно, допросит ювелира. Надо быть полным идиотом, чтобы этого не сделать. А ювелир, конечно, расскажет о моей покупке... А что особенного в том, что уважаемый профессор покупает подарок своей жене? Ничего. И все же... А быть может, все это результат моей мнительности? В конце концов, у меня нет никаких доказательств относительно Мэдж. Это только мои подозрения. Мэджи могла потерять серьгу где угодно. Наконец, она могла ее вообще не терять, а положить в другое место, и я ее просто не нашел... Но тогда не о чем и беспокоиться. А если допустить худшее — что эта потерянная серьга принадлежит ей, — тогда я поступил глупо. Иначе это не назовешь. Моя задача в этом случае должна состоять не в том, чтобы доказывать невиновность Мэдж: в этом не может быть никаких сомнений... — Нерст даже улыбнулся при мысли, что кто-то может допустить, что его Мэдж является соучастницей в убийстве. — Нет, моя задача состоит вовсе не в том, чтобы добиваться ее оправдания, а в том, чтобы вообще отвести от нее всякие подозрения о касательстве к этому грязному делу. А с этой точки зрения, мой поступок, покупка серег, может подействовать как раз в обратном направлении. Но, с другой стороны, почему бы не сознаться перед самим собой, что я сделал это не столько из опасения судебных кляуз, сколько из желания увериться в ее отношении ко мне?.. Когда она найдет купленные мною серьги, она должна понять, что я...» — Вы пешком, доктор Нерст? Нерст обернулся. Его догнал Лестер Ширер. Недавно он был принят в Университет и читал курс теоретической физики. — Да, я обычно хожу из университета пешком. — Странная погода для этих мест? — Возможно, это смог нанесло с побережья. — Может быть. Люди строят все больше машин для того, чтобы жить лучше, а эти машины отравляют воздух, насыщают его дымом и копотью и в конце концов отнимают у людей солнце. — Это одно из противоречий нашего безумного мира. — Неизбежное противоречие. — Я бы не сказал... — возразил доктор Нерст. — Я уверен, со временем все станет на свои места. Люди поймут, что нельзя рубить сук, на котором сидишь. Нельзя в стихийной погоне за мифом комфорта отравлять землю. — Вы верите в торжество человеческого разума? — Иначе нельзя. Нельзя жить, если не верить в человека. — В Человека с большой буквы, как писал Горький? — Я не люблю Горького. Просто я его мало читал. Но я верю в человека. — Быть может, вы и правы, говоря, что иначе нельзя жить. Но мы редко об этом задумываемся. Мы слишком заняты нашими повседневными заботами. Обычно наша экстраполяция распространяется лишь на самый ближайшийотрезок времени. Вам прямо? — Да. Мы ведь живем почти рядом. — Я не знал. Я вообще еще мало знаю город. — Такой же, как тысячи других. Некоторое время мужчины шли молча, занятые своими мыслями. «Мэджи, наверное, сейчас дома... — думал Нерст. — Она должна быть дома. Интересно, нашла ли она серьги. Может быть, их нужно было положить не в шкатулку, а на столик, прямо перед зеркалом, так, чтобы они сразу бросались в глаза... Нет, это было бы слишком нарочито. Это было бы вызовом. Так, как я сделал, будет лучше. Она откроет шкатулку и среди других безделушек найдет эти серьги. Только две. Как будто ничего не случилось. Этим я дам ей понять, что я все знаю, и все понимаю, и все прощаю, и хочу, чтобы все было между нами по-прежнему. Она умная и должна это понять. Она сделает вид, что ничего не заметила, и наденет сегодня эти серьги и тем самым без слов, ничего не говоря, скажет мне, что она меня понимает. Конечно, вся эта история с Григом чудовищное недоразумение. Когда будет установлена причина смерти, все успокоится само собой...» — Я слышал, доктор, вы занимаетесь проблемой биологи ческой радиосвязи у насекомых? — сказал доктор Ширер. — Да, я работаю в этой области, — сказал Нерст. — Это очень интересный вопрос. Разбирали ли вы его с физико-технической точки зрения? — Сейчас это мне кажется еще преждевременным. До последнего времени сам факт биологической радиосвязи представлялся весьма спорным. Пока мы не научимся уверенно принимать и генерировать радиоволны, на которых осуществляется эта связь, трудно говорить о механизме генерации. — Меня этот вопрос интересует с чисто теоретической, принципиальной точки зрения. Я всегда был далек от биологии, и тем более от такой узкой области, как энтомология, но, мне кажется, вокруг этой проблемы биологической радиосвязи было слишком много... как бы это сказать?.. — Спекулятивной шумихи? — Ну, вы, пожалуй, слишком резко выразились... — Все эти опыты с передачей мыслей, конечно, производят на первый взгляд несколько странное впечатление. Но, может быть, все дело в том, что это слишком необычно? Не укладывается в привычные рамки нашего рационального мышления, которое мы привыкли считать непогрешимым? — И все же это весьма смахивает на мистификацию. — В экспериментах на животных и особенно на насекомых мы получили совершенно достоверные результаты... Теперь я провожу некоторые опыты на обезьянах. Просто мы еще очень мало знаем. Мы всегда хотим видеть мир таким, каким создали его в своем воображении. Но мы забываем, что как бы много мы ни знали, мы не знаем всего. — Я не хочу с вами спорить, дорогой доктор Нерст, но этим, я бы сказал, скорее философским вопросам. Но у меня сложилось представление, что когда мы касаемся области телепатии, или, как вы говорите, биологической радиосвязи, здесь не хватает научной строгости. Неизбежной повторяемости результатов при воспроизведении одинаковых условий. — Конечно, здесь еще очень много субъективного и слишком часто желаемое выдают за существующее. Но я и не занимаюсь телепатией. Я энтомолог и изучаю насекомых. Когда я сталкиваюсь с новыми, еще не известными науке фактами, я их исследую и пытаюсь объяснить. Я как нельзя более далек от какой-либо мистики. Я исследователь, и только. Развитие кибернетики в наше время позволило вплотную подойти к моделированию некоторых простейших функций нервной системы, но мы еще очень далеки от ясного понимания всех физических процессов, связанных с тем, что мы называем мышлением. — Все, что вы говорите, не может вызвать возражения, но если последовательно развить вашу мысль, то следует прийти к заключению, что если у некоторых насекомых или, по крайней мере, у некоторых животных существуют органы дистанционной связи, будем говорить прямо — телепатической связи, то не исключена возможность существования подобных же органов и у человека? Хотя бы в зачаточном состоянии? — Я этого не отрицаю, но я не хочу делать преждевременных выводов, пока не располагаю достаточным количеством строго проверенных фактов. — Хорошо, допустим, такие факты со временем будут обнаружены. Тогда, естественно, возникает вопрос о возможности развития, стимулирования или усиления этой связи. Но если будет достигнута техническая возможность непосредственного воздействия на нашу психику, минуя аналитический аппарат мозга, то это неизбежно приведет к потере свободы воли? — Сейчас, на данном этапе исследования, я не хотел бы заглядывать так далеко. Мне кажется преждевременным рассматривать физико-техническую сторону процесса радиосвязи у насекомых, пока недостаточно изучена его феноменология. Тем более нельзя рассматривать социологические аспекты развития этой области знания в будущем. Ученый не может и не должен нести ответственность за те последствия, которые может повлечь за собой его открытие. Наше дело — двигать вперед науку. Задача других людей — отыскивать пути практического применения открытых нами закономерностей. Использовать их на благо общества. Но это уже совсем другая область деятельности, и я не хотел бы в нее вмешиваться. — Но вы только что назвали наш мир безумным. Уверены ли вы, что всякое новое открытие всегда обращается только на пользу людям? Способствует развитию цивилизации? — Но я сказал также, что верю в человеческий разум. Что бы ни делал человек, как представитель определенного биологического вида Homo sapiens — «Человек разумный», это всегда в конечном итоге идет на пользу вида. Это биологический закон. Иначе вид прекращает свое существование. Все, что сделано человеком в прошлом, способствовало развитию вида Homo sapiens. — Даже Хиросима? Двое мужчин медленно шли по каменным плитам тихой улицы университетского города. Над ними было пустое бесцветное небо, серое, как пепел пожарищ. От деревьев, посаженных вдоль тротуара, пахло медом. Цвела липа. — Хиросима? — Да, Хиросима. Разве Эйнштейн, Ферми, или Оппенгеймер, или даже Мария Кюри вправе считать себя невиновными? — Они занимались наукой. Только наукой. — А вы уверены, что они стали бы продолжать свои исследования, если бы знали, что из этого получится? — Эйнштейн знал. И Ферми и Оппенгеймер знали. Они все знали. Они действовали сознательно. Но они не могли поступить иначе. Они защищали свободу. — Свободу? А не думаете ли вы, что все было гораздо проще и циничнее? Может быть, ими руководило тщеславное желание отомстить немцам? А наши военные боялись, как бы русские или немцы не сделали свою бомбу? Я не удивлюсь, если со временем выяснится, что война искусственно затягивалась в ожидании момента, когда физики закончат свое дьявольское дело. Это русские заставили нас поторопиться. Если бы мы не высадились в Нормандии, встреча с Советами произошла бы не на Эльбе, а на берегах Ла-Манша. Хорошие ученые оказались плохими политиками. А когда они опомнились, уже ничего не могли поделать. — Вы хотите сказать, что ученый должен быть хорошим политиком? — Я хочу сказать, доктор Нерст, что в наше время ученый не может не быть политиком. — Слова Лестера Ширера звучали жестко и зло. — Мир сильно изменился за последнее столетие. На нас, на ученых, лежит слишком большая ответственность. Ответственность за нашу цивилизацию, за само существование Homo sapiens. Они остановились на перекрестке. — Мне налево, — сказал Нерст. — А вам, кажется, прямо? — Да, я живу в двух шагах отсюда. Мне было очень интересно с вами поговорить. — Я тоже получил большое удовольствие от нашей беседы. Не так уж часто нам приходится затрагивать столь общие вопросы. Заходите, пожалуйста, как-нибудь. Мы с женой всегда будем рады вас видеть. — Спасибо, с удовольствием. — До свидания, доктор Ширер. — До свидания, доктор Нерст.
«Мэджи, конечно, уже нашла серьги, — думал Нерст, подходя к своему дому. — Если она все поняла, она встретит меня на пороге и на ней будут серьги...» Нерст толкнул калитку. В доме звякнул звонок. Миссис Бидл повернула голову и приветливо улыбнулась. Она сидела на складном стульчике и подрезала розы. — Добрый вечер, Клайв. — Добрый вечер. Мэджи дома? Открылась дверь, и на пороге появилась Мэджи. На ней был кокетливый белый передничек, который она надевала, когда занималась хозяйством. — Добрый вечер, Клайви, как хорошо, что ты сегодня вовремя! Я боялась, что ты опять задержишься в лаборатории. — Она привычным движением отбросила назад волосы, чтобы он мог видеть ее новые серьги. — Спасибо тебе, дорогой, за подарок, спасибо, милый... — Уткнувшись горячим носом в его шершавую шею, она шептала: — Спасибо, милый, только ты ужасно рассеянный: ты ведь уже подарил мне такие же точно серьги в прошлом году, когда мы были в Чикаго... Ты забыл? Или, может быть, ты вообразил, что я их потеряла? Глупенький, они целы, вот они... — Мэрджори вытащила из кармана передника маленький футляр, где на черном бархате блестели две серьги. — Но это ничего... все равно я очень рада... Теперь у меня будет четыре штуки, две пары одинаковых сережек. Это очень хорошо, если я в самом деле одну потеряю... На улице против дома остановилась потрепанная машина. Мэджи увидела ее через плечо мужа. Из машины вышел незнакомый человек в сером костюме. Он подошел к калитке. — Клайв, к нам кто-то пришел. Ты уплатил очередной взнос за дом? — Я хотел бы видеть доктора Нерста, — сказал человек в сером костюме. — Это я, — сказал Нерст. — Калитка не заперта, входите. — Добрый вечер. — Человек неторопливо прикрыл калитку и прошел к дому. — Мне нужно с вами поговорить, доктор Нерст. — Мы ничего не собираемся покупать, дом застрахован, взносы уплачены... — Я не по поводу продажи. Мне нужно с вами поговорить. Я заезжал в университет, но мне сказали, что вы уже уехали. Я из Бюро расследований. Мэджи отошла в сторону и следила за разговором из глубины прихожей. — Пожалуйста... Чем могу служить? — сказал Нерст. Он все еще стоял в дверях, загораживая проход в дом. — Я предпочел бы... э... говорить только с вами. — Пройдемте в кабинет. — Нерст посторонился, пропуская посетителя. — Сюда, пожалуйста... Человек вошел в переднюю и остановился, осматриваясь, куда бы положить шляпу. — Можете оставить ее здесь. Пожалуйста, направо, наверх по лестнице. Серый человек не спеша поднимался по ступеням. Мэджи следила за ним из угла передней. Она постаралась встретиться взглядом с Нерстом, но он смотрел на посетителя. Человек остановился на площадке, не зная, куда идти дальше. Нерст взбежал по лестнице и толкнул дверь кабинета. — Сюда, пожалуйста. Серый вошел, за ним Нерст, и дверь захлопнулась. Мэджи продолжала стоять в углу передней. Через раскрытую дверь на улицу она видела мать, которая подрезала розы. Она, должно быть, укололась, потому что досадливо потрясла рукой и поднесла палец ко рту, чтобы высосать кровь. На пороге дома прыгал воробей, заглядывая в темноту передней. Мэджи пошевелилась, и воробей улетел. Мэджи крадучись подошла к лестнице и начала подниматься. Лестница заскрипела. Деревянные лестницы всегда скрипят. Мэджи старалась ступать у самого края ступеней, но они все равно поскрипывали. За дверью были слышны голоса. Мэджи прислушалась. Говорил незнакомый, но так тихо, что слов нельзя было разобрать. Мэджи поднялась на площадку и заглянула в замочную скважину. Посетитель замолчал. Клайв сидел за столом и что-то разглядывал в лупу. Потом он придвинул к себе бинокулярный микроскоп и долго возился с его налаживанием. — У нас есть основания предполагать, что мы имеем дело с умышленным отравлением, но нам нужно выяснить некоторые подробности... — сказал посетитель. — Жаль, что у вас нет живых... — сказал Нерст. Он наконец наладил микроскоп и теперь сидел неподвижно, уткнувшись в окуляры. Мэджи видела его со спины. «Он все-таки красивый, — подумала Мэджи. — Как ловко он орудует со своим микроскопом!». Серый человек терпеливо ждал. — Прежде чем ответить на ваши вопросы, — сказал Нерст, не отрываясь от микроскопа, — я должен заметить, что принесенные вами экземпляры представляют большой интерес. Насколько я могу судить, они не относятся ни к одному из описанных в литературе видов. Может быть, это даже новый род... Совершенно необычная форма головы... — Видите ли, док, — перебил следователь, — меня не очень интересуют научные подробности. Мне важно знать: куда делся яд из виски? Могут ли эти муравьи повлиять на содержание яда в бутылке? Понимаете, виски оставить, а яд впитать? — Они ближе всего подходят к американским иридомирмекс или динопонера, но существенно отличаются и от тех и от других... — Нерст оторвался от микроскопа и потянулся к полке за книгой. Он быстро нашел нужные страницы и бегло их просмотрел. — Конечно, вот, посмотрите сами... Человек сидел неподвижно в кресле и молчал. — Я знаю, — продолжал Нерст, — вам нужны конкретные данные, но вы просто не понимаете, какой интерес для науки представляет открытие нового вида муравья! И где? В Соединенных Штатах, которые изучены нами вдоль и поперек! — Все это очень хорошо, док, но меня интересует ваш ответ на поставленный мною вопрос: возможно ли, что эти муравьи... что их присутствие в растворе нейтрализовало или понизило содержание ядовитых веществ типа кураре. Я ничего не знаю о муравьях и обращаюсь к вам как к специалисту. Нерст снова склонился к микроскопу. — Нет, — сказал Нерст, — это безусловно не только новый вид, но и новый род... Что вы говорите? — повернулся он к следователю. — Я повторяю свой вопрос, доктор. — Да, но ведь я уже, кажется, сказал вам: для того чтобы дать обоснованный ответ, мне нужно провести кое-какие исследования. Прежде всего необходимо достать живых муравьев. Где, вы говорите, нашли их? — Это было на сорок второй миле по восточной дороге, направо в лесу. — Ну вот, я должен буду завтра поехать туда и собрать живых насекомых, а после этого я займусь исследованием. — И это продлится... — Я думаю, дней десять или неделю. — Не могли бы вы предварительно дать свои замечания хотя бы в самых общих чертах? Видите ли, это очень важно для хода следствия. — Пока я могу сказать только, что нам не известны случаи смертельного исхода от укуса муравья. Вообще в Штатах водятся ядовитые муравьи, например те же иридомирмекс, но их укус не опасен для человека. Вы спрашиваете далее, может ли повлиять присутствие муравья или вообще насекомого в растворе на концентрацию растворенных в нем веществ? Сразу ответить на этот вопрос я не могу, но должен сказать, что в принципе это отнюдь не исключается. Вообще избирательное абсорбирование различных веществ — явление довольно обычное. Оно широко применяется не только в лабораторной практике, но и в технике, в промышленности. Никоим образом нельзя утверждать заранее, что муравей, попавший в раствор, не может являться таким абсорбентом. Но это лишь, так сказать, негативная сторона вопроса. Повторяю, это не исключено, но так ли это в данном конкретном случае, можно решить только после достаточно подробного исследования. Наконец, вопрос: является ли именно этот муравей ядовитым? — также требует изучения. На первый взгляд, если судить по тому экземпляру, который вы мне представили, я был бы склонен ответить отрицательно. Дело в том, что у этого муравья нет жала... Нерст опять наклонился к микроскопу. Точно и ловко работая манипулятором, он повернул муравья так, чтобы удобнее было рассмотреть строение брюшка. — Да, конечно, жало у этого экземпляра лишь в самом зачаточном виде... Я не думаю, чтобы этот муравей мог ужалить. Но, впрочем, это еще ничего не доказывает. Должен снова повторить: я высказываю сейчас, по вашему настоянию, всего лишь самые беглые, поверхностные замечания, ни к чему меня не обязывающие. Вы должны понять: это новый вид, еще не известный науке, и при более подробном изучении все может оказаться совсем не так. — Вы могли бы взять на себя такое исследование? — Разумеется, я займусь этим немедленно и совершенно независимо от вашей просьбы. — Благодарю вас. Оставить вам это? — Если возможно. — Конечно. Когда можно ждать первых результатов? — Позвоните мне дней через пять... Мэдж и тихонько отошла от двери. В кабинете задвигали стульями. Мэджи открыла дверь спальни и остановилась на пороге. Мужчины вышли из кабинета. Мэджи встретилась взглядом со следователем и машинально поправила волосы. Блеснуло золото рубиновых сережек. В равнодушно-официальном взгляде полицейского промелькнуло любопытство. — Моя жена, — представил Нерст. — Очень приятно, — сказала Мэдж. — Очень приятно, — повторил следователь. Он старался незаметно нащупать в кармане кнопку включения магнитофона, но это ему не удавалось. — Ваша шляпа внизу, — сказал Нерст. — Да, да, я помню, — сказал сыщик.
12
25 июня. 19 часов 26 минут.Томас Рэнди стоял на обочине томатного поля и смотрел на унылое серое небо. — Ночью будет дождь. Сегодня можно не поливать, ночью будет дождь. Когда вечером такое серое небо, ночью всегда идет дождь. Э-гей! Дэви! Пошли домой! — Сейчас, папа, — отозвался Дэви. Он бегал у самой границы участка, там, где начинался лес, и ловил бабочек. Томас Рэнди еще раз окинул взглядом свои хорошо обработанные поля, белые строения фермы, волнистую линию холмов на горизонте, темную стену леса и серое бесцветное небо. «Хорошее небо», — подумал Том Рэнди. Он родился и вырос на этой ферме. Его отец прожил здесь всю свою жизнь. Его дед пришел сюда почти сотню лет назад в крытом фургоне с парой коней, топором и лопатой. Он корчевал лес, убирал камни, пас овец и стрелял волков. Его сын — отец Тома Рэнди — с бульдожьим упрямством боролся за этот клочок земли. Пахал, сеял, радовался первым всходам, убирал, молотил, разрезал длинным ножом первый горячий хлеб нового урожая, голодал в засуху, слезящимися от пыли глазами следил за каждым облачком на раскаленном знойном небе, занимал деньги под урожай, годами выплачивал ссуды, сажал яблони, рубил молодые яблони, когда они не давали дохода, выпрашивал семена на посев, мял в жестких пальцах сухую пыльную землю, любил ее, боролся за нее, дрался за нее до тех пор, пока его самого, строгого и неподвижного, не закопали в эту пропитанную его потом землю. Том Рэнди нагнулся и поднял горсть земли. Она была сухая и пыльная. «Ночью будет дождь, — подумал Рэнди. — Будет хороший дождь...» На дороге, ведущей из леса, показался автомобиль. Это был старый, разбитый, звенящий крыльями и лязгающий дверцами «плимут» послевоенного выпуска. — Хэлло, как тут насчет работы? — спросил водитель, притормаживая машину. У него было скуластое смуглое лицо со следами оспы на лбу. — Доллар двадцать, завтра с утра, убирать шпинат, — ответил Том Рэнди. — О'кей. Где поставить машину? — Направо, около сарая. Завтра к шести на работу. Как зовут? — Рэнди вытащил из заднего кармана записную книжку. — Васко Мораес. — Уоск Моррис? — переспросил Рэнди, — Нет... Вас-ко Мо-ра-ес. — По буквам, пожалуйста. — Я не очень твердо знаю английскую азбуку... Васко Мо-ра-ес... — Мексиканец? — Нет. — Метис? — Нет. Бразилиа. Бразильянос... Рэнди кивнул головой. — Ладно, доллар двадцать, завтра к шести. — Он обернулся, чтобы посмотреть, что делает Дэви. Бразилец включил скорость и поехал к ферме. Дэви сидел на корточках в траве и что-то разглядывал. — Дэви, пошли домой, пора ужинать, мама ждет. — Па, смотри, что я нашел! Мальчишки всегда что-нибудь находят. Если бы не эта удивительная страсть к поискам и находкам, к открытию новых миров, человечество не смогло бы так далеко продвинуться по пути цивилизации. Стремление искать, разведывать неизвестное, узнавать таинственное заложено в крови каждого мальчишки, но только немногим удается сохранить эту страсть на всю жизнь. Один такой любопытный мальчишка уже в зрелом возрасте нашел целый материк — Америку. Другой, двести лет спустя, копаясь под яблоней, нашел закон тяготения. Дэви пока нашел только стрекозу. Это была большая сине-серая стрекоза с прозрачными крыльями. Ее тело отливало металлическим блеском. Дэви держал ее на ладони, и стрекоза не делала попыток улететь. — Папа, смотри, что я нашел! — Идем, Дэви, мама ждет. В самом деле ты нашел замечательную стрекозу. Я такой никогда не видел. — Я нашел огромную стальную стрекозу! — сказал Дэви. — С ней очень интересно играть. Она может гудеть, как геликоптер, и она меня слушается... Я посажу ее в клетку от белого кролика...
13
26 июня. 05 часов 03 минуты.Ночью шел дождь. Том Рэнди несколько раз просыпался от ударов грома и шума дождя, и сейчас, лежа в постели, слушал, как дождь барабанит по крыше, стучит по стеклу, шумит в листьях кленов. Окно было не плотно закрыто, крупные капли попадали на подоконник, и на полу образовалась косая полоса воды. «Хороший дождь», — подумал Рэнди, стряхивая последние остатки сна. За стеной в кухне Салли гремела посудой. Лилась вода из крана. Рэнди натянул джинсы и босиком прошел к окну. По дороге он привычно включил радио. Через одиннадцать минут должны были передавать сводку погоды. Рэнди распахнул створки окна. Дождь был не сильный и скоро должен был перестать. Голубые холмы за дорогой вырисовывались четко и ясно, над ними светлела полоска чистого неба. Рэнди глубоко вдохнул свежий утренний воздух, насыщенный терпким запахом сырой земли, потом прикрыл окно и пошел умываться. Когда брился, он вспомнил, что не слышит радио. — Салли, — крикнул он, приоткрыв дверь. — Салли, включи радио погромче, я боюсь пропустить сводку погоды! Салли прошла в комнату, потом вернулась на кухню. Радио молчало. «Удивительный народ эти женщины! — подумал Рэнди — Неужели это так трудно — включить приемник так, чтобы я мог слышать сводку погоды? Когда женщина попадает на кухню, ей уже ни до чего нет дела». Рэнди с намыленной щекой прошел в комнату и повернул до конца регулятор громкости. Радио молчало. Рэнди потрогал шнур, еще раз щелкнул включателем, все было включено, но приемник не работал. Рэнди взглянул на часы — до сводки погоды оставалось еще около пяти минут. Он пошел добриваться, досадуя, что приходится торопиться. Ежедневная «Сводка погоды для фермеров» была основной информацией, с которой начинался рабочий день. Его мало интересовали биржевые новости — у него не было капитала; никогда не слушал городские новости — он редко бывал в городе; и его уже совсем не интересовала политика. То, что происходило в Европе, или в Аргентине, или в Тибете, было так далеко от его повседневных забот, что с тем же успехом радиодиктор мог бы ему рассказывать о войне марсиан или о гибели Атлантиды. Его интересовали только погода и цены на овощи. Кончив бриться, Рэнди опять вернулся к приемнику. До начала передачи оставалось еще две минуты. Он открыл заднюю крышку приемника, чтобы исправить контакт в предохранителе, и обнаружил, что внутри полно муравьев. Большие серые муравьи облепили детали приемника, ползали по конденсаторам и сопротивлениям, копошились в путанице проводов, еще более усиливая ее кажущуюся хаотичность. Первое побуждение Рэнди было вытряхнуть муравьев из приемника. Но годами воспитанная привычка всегда убирать за собою остановила его. — Салли, — крикнул он через открытую дверь кухни, — дай-ка мне твой пылесос! В приемник наползли муравьи, он поэтому и не работает! — Завтрак уже готов, Том, — ответила Салли. — Иди завтракать. Можешь заняться приемником после завтрака. — А где пылесос? — опять спросил Рэнди. — Пылесос в передней. Иди завтракать. В комнату вошел Дэви: — Папа, мама зовет завтракать. Все уже на столе. — Сейчас иду. — Рэнди стоял, нагнувшись над приемником, и наблюдал за тем, что делалось внутри. Кроме серых муравьев, он заметил несколько более крупных насекомых, похожих на пауков. Их спины отливали металлическим блеском, как у навозных жуков. Они медленно шевелили своими членистыми лапами и что-то делали. Рэнди присмотрелся внимательнее. Пауки грызли провода. — Папа, мама зовет завтракать. Все уже на столе, — опять повторил Дэви. — Папа, а зачем ты спрятал мою стрекозу, ту, которую я вчера поймал? — Я не брал твою стрекозу, Дэви. Скажи маме, что я сейчас иду. А где была твоя стрекоза? — Я ее посадил в клетку, где раньше жил белый кролик. А теперь клетка стоит, а стрекозы нету. — Том, иди завтракать. Все уже на столе! — крикнула Салли. — Сейчас иду, Салли, — ответил Рэнди. Серый паук перегрыз провод и остановился. К нему подбежал муравей, паук зашевелился, медленно переполз на другое место и снова принялся грызть проволоку, на которой держалась радиодеталь. Познания Рэнди в радиотехнике не шли дальше самых элементарных представлений — он умел сменить батареи в транзисторе, заменить перегоревший предохранитель или испорченную радиолампу. Поэтому он не мог судить о том, насколько целенаправленны действия муравьев и пауков, но у него создалось впечатление, что в поведении насекомых гораздо больше организованности, чем это обычно кажется неискушенному наблюдателю, следящему за тем, как лесные муравьи суетятся в своем муравейнике. — Том, Дэви, сколько раз нужно вам повторять? Завтрак на столе, кофе стынет, я испекла оладьи с джемом... Идите же наконец завтракать! — Салли, да только посмотри, что здесь делается! Они грызут провода! Я никогда не видел ничего подобного! Салли подошла к мужу. — Идем к столу, родной. Фу, какая гадость! Надо их немедленно вытряхнуть! Надо вынести приемник на двор и там вытряхнуть! Они расползутся по всему дому! Я сейчас принесу ДДТ. Том поднял приемник и пошел на веранду. Дождь уже прекратился, и только с деревьев падали крупные капли. — Салли, давай сюда пылесос, так не вытрясешь. Рэнди поставил приемник на землю и вернулся за пылесосом. Муравьи забеспокоились и стали расползаться из приемника. Несколько муравьев тащили серого паука, другие волокли отрезанный транзистор. В воздухе летали стрекозы и пахло озоном. — Папа, смотри, сколько здесь стрекоз! — крикнул Дэви. — И вон еще, еще! Рэнди обернулся. Дэви показывал ему на карниз веранды. Там пряталось от дождя штук шесть таких же больших стрекоз, как та, которую накануне поймал Дэви. Рэнди направил в приемник сильную струю воздуха из пылесоса. Одна из стрекоз опустилась на дорожку, туда, где кучка муравьев тащила серого паука. Дэви попытался ее поймать, но стрекоза улетела. Мальчик, заразившись настроением взрослых, стал давить расползающихся муравьев. Сухо хрустнул панцирь паука. Дэви наклонился, чтобы подобрать насекомое, и в этот момент один из муравьев его ужалил. — Мама, меня укусил муравей! Салли подбежала к сыну. — Куда он тебя укусил? — Вот сюда. — Дэви показал палец. — Знаешь, как больно! Салли попыталась выдавить капельку крови. — Больно! Салли надавила еще. Дэви закричал и вырвался. — Дэви, надо высосать ранку! Слышишь, Дэви! — Ничего, это пройдет, — сказал Рэнди. — Пойдемте завтракать, еще никто не умирал от муравьиных укусов. — Откуда ты знаешь? Может быть, эти муравьи ядовитые. — В наших краях никогда не было ядовитых муравьев. Уж я-то знаю. Вот когда я служил в армии, один парень рассказывал, что в Бразилии однажды муравьи съели собаку, так то в Бразилии. А здесь, когда я был маленьким, таким, как Дэви, меня сколько раз кусали, — это все ерунда, почешется и скоро пройдет. Дэви заплакал. — Дэви, подойди сюда! Дэви! Мальчик ревел. Том Рэнди подхватил его на руки. — Ну покажи, что у тебя случилось. Мужчины не должны плакать. Палец покраснел и немного распух. Дэви успокоился и теперь только тихо всхлипывал. К веранде подошел бразилец: — Доброе утро, мэм. Доброе утро, босс. — Доброе утро. Проходите в кухню, завтрак уже готов. — Спасибо, мэм. Что с мальчиком? — Его укусил муравей. — Муравей — это не опасно. Рэнди отнес мальчика в кухню и посадил за стол. Дэви не плакал. Он попытался что-то сказать и не смог. Он тяжело дышал и медленно сползал со стула. Мать кинулась к ребенку. — Том, выводи машину! Его нужно отвезти к доктору! Том Рэнди и сам понял, что дело плохо. Он побежал в сарай, где стоял пикап. Том распахнул ворота, с трудом протиснулся на сиденье — машина стояла слишком близко к стене — и повернул ключ зажигания. Стартер загудел, но машина не завелась. Он вторично повернул ключ. Машина не заводилась. Он подкачал смесь и опять включил зажигание. Мотор не пошел. Раз за разом он поворачивал ключ зажигания, стартер с визгом крутил мотор, но машина не заводилась. Подбежал Васко Мораес: — Скорее, босс, мальчику плохо! — Что-то с машиной. — Едемте на моей.
Старый, истрепанный «плимут», ревя мотором, гремя железом, напрягая последние лошадиные силы, мчался в город по восточной федеральной дороге, впервые за многие годы не по краю шоссе, а в общем потоке машин. Слева за окном был виден пустырь автомобильной свалки. Мертвые машины протягивали к небу свои мокрые ржавые кости. Дождик то прекращался, то снова начинал едва моросить. Было 6 часов 17 минут.
14
26 июня. 06 часов 17 минут.Доктор Нерст смотрел через мокрое ветровое стекло на бегущий навстречу асфальт. Стеклоочистители мягко постукивали в четком своеобразном ритме: «ты-со-мной, и-я-с-тобой, ты-сомной, ия-стобой, ты-сомной, ия-стобой...» Эту ритмическую говорилку Нерст придумал еще тогда, когда мокрыми осенними вечерами, проводив свою невесту Мэрджори Бидл, он возвращался домой. Это было счастливое время... Справа за окном тянулся пустырь автомобильной свалки. Нерст скользнул по нему равнодушным взглядом и снова перевел глаза на дорогу. Было еще очень рано, и автомобильный поток не заливал шоссе. После вчерашнего разговора с агентом из Бюро расследований Нерст находился в состоянии непрекращающегося нервного возбуждения. Тревожные события дня сплелись в его сознании в липкий клубок противоречий, сомнений и домыслов — домыслов, требующих немедленного разрешения. Дождь прекратился, и Нерст включил стеклоочистители. Навстречу, гремя железом, промчался старый «плимут». «Символ современной цивилизации, — подумал Нерст. — Цивилизации, которую защищает доктор Ширер. Доктор Ширер... А что, собственно, дает ему право поучать меня? Все его разговоры о моральной ответственности ученых за последствия их работы — не есть ли все это просто бегство в политику ученого-неудачника, не сумевшего сделать ничего значительного в своей области?» Промелькнул плакат, призывающий вступать в морскую пехоту. Скоро должен быть поворот и съезд в лес. Нерст сбавил скорость и стал внимательно следить за дорогой. Почти от самой обочины начинался лес, покрывавший пологие холмы. Большой фургон с тяжелым уханьем обогнал Нерста, и он едва не пропустил поворот. Резко затормозив, резче, чем это можно делать на магистральном шоссе, Нерст свернул к обочине и съехал на дорогу, которая шла вдоль опушки леса. Проехав несколько ярдов, он развернул машину и поставил ее так, чтобы она не мешала проезду. Он затянул ручной тормоз и выключил зажигание. Мотор вздохнул и затих. Сразу стал слышен шум дороги — шипение шин и тяжелое гудение грузовиков. Нерст открыл дверцу и вышел из машины. Воздух был сырой и свежий после дождя, и мелкая, чахлая трава вдоль дороги еще не просохла. От шоссе тянуло запахом бензинового перегара. Нерст сунул в карман перчатки, пробирки для муравьев, сигареты, очки и похожий на автоматическое перо индикатор ионизации. Солнце поднялось уже довольно высоко, в пасмурном небе образовались большие разрывы, и белые пятна облаков быстро скользили по небу, напоминая своими очертаниями причудливые контуры географических карт. Нерст обошел машину и направился в лес. Человеку, привыкшему ходить по каменным плитам, по асфальту тротуаров, по паркетам домов, странно и непривычно ощущать под ногой живое тело земли. Она была мягкая, упругая и податливая, и казалось, если бы не толстые подошвы резиновых сапог, ноги ощутили бы се теплоту. В лесу было сыро, темно и тихо. Сюда уже не доносился шум автомобилей и запах бензина. Капли дождя все еще блестели на ветках деревьев, на длинных, седых от росы иглах сосен. Нерст шел не разбирая дороги, прямо, стараясь лишь как можно дальше отойти от шоссе, углубиться в естественный мир природы, еще не разрушенный вторжением человека. Удивительно, как в наше время могут сохраняться подобные островки среди полей и дорог, линий электропередач и пыльных городов, построенных людьми. Нерст с наслаждением вдыхал густой воздух, насыщенный сырыми запахами леса. «Так ли уж нужна людям вся их цивилизация, которой они поклоняются как идолу? Должно быть, нужна, иначе люди не стали бы строить свои мосты и заводы. Но становятся ли они от этого счастливее?..» Нерст потянулся в карман за сигаретой, но, подумав, сунул пачку обратно. Слишком хорош был воздух, чтобы его стоило портить табачным дымом. Нерст остановился. Его поразила полная тишина леса. Только ветер едва шевелил верхушками деревьев да иногда тяжело падали задержавшиеся на ветках капли воды. Солнце просвечивало сквозь деревья и заставляло гореть ярким желто-зеленым огнем листья папоротников. Было очень тихо в лесу. Нерст не сразу понял, что в этой тишине не слышно ни щебета птиц, ни стрекота насекомых, ни даже шороха трав. «Удивительно тихо, — подумал Нерст. — Какой-то вымерший лес...» Слабый порыв ветра расшевелил верхушки деревьев, и по листьям, по веткам, по траве застучали крупные капли. С тихим жужжанием пролетела стрекоза. Нерст машинально проследил за ней взглядом. Ему показалось что-то необычное в ее полете, но стрекоза исчезла раньше, чем он успел ее разглядеть. В лесу остался слабый запах озона. «Интересный экземпляр, — подумал Нерст. — Для «Кордулиа металлика» слишком крупная. Жаль, что я не захватил сетки...» Муравьиную тропинку Нерст заметил внезапно, сразу, когда уже едва не наступил на нее. Это была обычная дорога, которую муравьи прокладывают к местам добывания корма. Нерст присел на корточки. Хрустнули суставы в коленях, и он поморщился. Земля была еще совсем сырая, и на траве блестели крупные капли. Муравьиная дорога была тщательно расчищена и выровнена. Ее вполне можно было бы принять за миниатюрную копию тех шоссейных дорог, которые люди прокладывают между своими городами. Дорога была пуста. Нерст заметил лишь двух-трех муравьев, куда-то спешивших. Они скрылись раньше, чем он успел их рассмотреть, но ему показалось, что это такие же крупные серые муравьи, как и тот, которого ему принес накануне следователь. Нерст посмотрел вправо и влево, но нигде не увидел муравейника. Он пошел вдоль дороги, стараясь не повредить ее. Муравьиное шоссе местами огибало крупные препятствия — стволы деревьев, сухие пни, большие камни, но там, где это позволяла местность, оно было проложено удивительно прямо. Можно было подумать, что муравьи прокладывали его к какой-то определенной цели. Поверхность почвы на дороге была плотно утрамбована и в самом деле напоминала асфальтированное шоссе. Местами на дороге валялись сухие веточки и листья, сбитые дождем. Муравьев почти нигде не было видно, попадались только редкие одиночки, и Нерст даже не пытался ловить их, зная, что дорога должна привести его к муравейнику. Запахло падалью. Впереди в кустах Нерст увидел что-то светлое. В траве лежал начавший разлагаться труп белого кролика. Подавляя отвращение, стараясь не дышать, Нерст нагнулся, чтобы лучше рассмотреть насекомых. Они несомненно относились к новому виду, именно тому, который принес полицейский. Должно быть, из-за дождя муравьи вели себя довольно флегматично. Не было заметно той беспорядочной суетни, которая всегда связывается с муравьями в представлении людей. Нерст увлекся своими наблюдениями и не заметил, что несколько более крупных муравьев заползли на его резиновые сапоги. Он достал из кармана металлический футляр с пробирками и пневматическое приспособление для ловли насекомых. Стараясь не запачкаться, он собрал несколько десятков муравьев и уложил закрытые пробирки в футляр. Нерст заметил некоторую странность в поведении муравьев — они начинали проявлять беспокойство и разбегаться еще до того, как он приближал к ним свою ловушку, словно они могли знать его намерения. Но, как это часто бывает, подобный мелкий факт, хотя и был им замечен, не закрепился в сознании и не повлек за собой никаких мыслей. Подул ветер, солнце скрылось, и опять начал накрапывать дождь. Муравьи попрятались. Нерст осмотрелся вокруг. Муравьиная дорога дальше не продолжалась. Очевидно, она была проложена только сюда. Нерст пошел вдоль нее в обратном направлении. Теперь он шел быстро и уверенно, ожидая вот-вот увидеть муравьиную кучу. Дождь закапал сильнее. Впереди на тропинке Нерст заметил какое-то крупное насекомое, похожее на паука. Оно быстро ползло по тропинке и, как показалось Нерсту, расчищало и выравнивало ее. Нерст достал очки, но, пока он их протирал и надевал, насекомое уже скрылось. Идти по лесу в очках было неудобно; дождь, хотя и не очень сильный, заливал стекла и мешал смотреть. Нерст уже давно миновал то место, где он впервые вышел на дорогу, а она уходила все дальше в глубь леса. Нерст шагал вдоль нее, и чем дальше, тем все сильнее им овладевало какое-то странное чувство беспокойства и неуверенности. Он отлично понимал, что для описания нового вида необходимо найти муравейник, но в то же время ему мучительно не хотелось идти дальше в лес. Это было смутное, неосознанное противодействие его собственной воле — ощущение, лежащее вне разума и логики. Словно бы кто-то сильный и благожелательный твердил ему: «НЕ ХОДИ, ОСТАНОВИСЬ. НЕ ХОДИ. ВПЕРЕДИ ОПАСНОСТЬ». Он с трудом заставлял себя сделать каждый новый шаг и наконец остановился. Впереди в просвете между деревьями виднелось небольшое лесное озеро. Издали Нерст различал серую поверхность воды, покрытую сеткой дождя. Снова появилась стрекоза. Она сделала несколько стремительных кругов и едва не задела его плечо. И только тут он заметил, что индикатор ионизации, который, выходя из машины, он сунул в наружный карман пиджака, горит ярким оранжевым светом. Биологически человек беззащитен перед радиацией. Мы можем ощущать жару или холод, недостаток кислорода или запах вредных газов, мы чувствуем боль от укола, и нам неприятно смотреть на слепящее полуденное солнце, но мы совершенно не ощущаем радиации, несмотря на её смертельную угрозу. Оранжевый «глазок» индикатора горел ровным светом, неслышно предупреждая, что радиация превысила допустимый уровень... Нерст отцепил прибор и поднес его к глазу, чтобы прочесть суммарную дозу: «Семнадцать рем... Это еще не так много, но нужно немедленно уходить... Пока я выйду из леса, доза удвоится... Надо уходить...» Нерст еще раз взглянул на видневшееся за деревьями озеро, куда вела муравьиная тропа, и зашагал обратно.
15
26 июня. 19 часов 15 минут.— Повторим? — спросил Ган Фишер. — Повторим, — сказал Васко Мораес. — Бармен, два виски! — Я бы, пожалуй, съел чего-нибудь... — сказал Васко Мораес. — И порцию сосисок! Двойную, — добавил Ган Фишер. Они сидели в баре на Госпитальной улице, напротив Городской больницы. — Да, сэр, он был очень славный мальчик... — сказал Мораес. — Такой ласковый и приветливый... Хороший мальчик. — Он умер в сознании? Он что-нибудь говорил? — Нет, сэр, он был уже без сознания, когда мы его принесли в больницу. Но я все очень хорошо помню, я все видел: это произошло, прямо сказать, у меня на глазах. — Значит, его укусил муравей? Обыкновенный муравей? — Нет, сэр, это был не обыкновенный муравей. Таких я раньше не видел. Это был огромный серый муравей, похожий на осу, только поменьше. И без крыльев. Летать они не могут. У нас в Бразилии есть летающие муравьи, но те не такие. Эти бегают очень быстро и такие хитрые... Такие хитрые... Вы не поверите, они строят железные города! А металл достают из автомобилей. — Откуда вы знаете? Васко Мораес не ответил. Рассказывать о посещении автомобильного кладбища ему не хотелось. Как-никак это хоть и свалка, но все же частное владение, и, строго говоря, сняв подшипник со старой машины, он совершил кражу. Ган Фишер тотчас заметил, что Мораес чего-то недоговаривает, и стал настойчивее: — Почему вы думаете, что эти муравьи строят железные гнезда? Я никогда о таком не слыхал. — Я тоже никогда не слышал, чтобы муравьи строили гнезда из гвоздей и проволок. У нас в Бразилии есть муравьи, которые живут на деревьях и шьют себе гнезда из листьев. Есть такие, которые вообще не имеют гнезд, а только кочуют. Это самые опасные муравьи. Когда они идут по лесу, они съедают все на своем пути — мышей, пауков, лягушек, а если не успеешь убежать, так и человека сожрут до косточек. Объедят так, что останется только скелет — прямо для магазина наглядных пособий! Я это знаю. Работал два месяца на такой фабрике — отмывал кости. Противная работа. — А вы сами видали такие, объеденные муравьями, трупы? — спросил Ган Фишер. — Я? Нет, не видал. Я ведь очень давно уехал из Бразилии. Ган Фишер отпил из своего стакана. Мораес ел сосиски. — Хорошие сосиски, горячие, — сказал он. — Я целый день ничего не ел. И они там тоже. Ну, им-то сейчас не до еды. Я сказал боссу, что буду ждать здесь, надо отвезти его на ферму. — А почему он не поехал на своей машине? — спросил Фишер. — Так ведь она не заводилась. Он гонял, гонял стартер — и ни одной вспышки. Искра пропала. А машина у него хорошая. В таком фургоне очень удобно спать, можно вытянуться во весь рост. — Может быть, в машине были обрезаны провода? — Я не знаю. А зачем их обрезать? Ган Фишер допил свое виски. — Повторим? — Пожалуй, хватит... — Ну, по одной? — Давайте. Фишер сделал знак бармену. Мораес доел сосиски. Он сидел молча, уставившись в пустую тарелку. Упоминание о машине Рэнди снова направило его мысли на полчища серых муравьев на автомобильном кладбище. — Я слышал, они, эти муравьи, забрались в приемник? — спросил Фишер. — Да, там вообще было много муравьев. Они всюду ползали, и в приемнике тоже. Они прогрызли в нем дырку и старались протащить туда какого-то паука. — В приемник? — Ну да, в приемник. Я сперва подумал, что это гудит радио, а потом разобрал, что гудит паук. — Когда это было? Мораес, словноистукан, смотрел прямо в глаза Фишеру. — Ну, когда вы видели муравьев в приемнике? — Когда?.. Тогда. — Утром? — Ну да, утром. — А как же Рэнди говорил, что приемник у него не работал и он сам открыл крышку? — Так я же и говорю то же самое. Он открыл приемник, а там полно этих серых муравьев. Они прямо так и кишели. Он хотел их высосать пылесосом, а они разбежались, и один укусил мальчика, а потом... — Это все я уже знаю. Рэнди рассказывал. Он говорил даже, что они отгрызли там какие-то детали? — Так зачем же вы спрашиваете, если сами все знаете? — Мне это нужно для газеты. Я у вас беру интервью. — А если я не хочу вам давать никаких этих интер... — На этом можно заработать. — Кому? Вам? — И вам тоже. — Никогда не слыхал о такой работе. Что надо делать? — Ничего особенного. Просто расскажите мне все, что вы знаете о серых муравьях. Что-нибудь такое, что будет интересно нашим читателям. Мне нужна сенсация... — А я ничего не знаю. У меня нету этой вашей сенсации. Я вам уже все рассказал. А сколько можно заработать? — Ну, скажем, пять долларов? — Не пойдет. На уборке шпината я получаю доллар двадцать в час. А мы сидим здесь уже битых два часа. — Два доллара сорок. У вас много работы? — Когда как... — Вы же все равно ничего не знаете. Сами сказали. — А если знаю? — Мораес опять посмотрел в упор на Фишера своим ничего не выражающим взглядом. Фишер молчал. — Допьем? — сказал он. Мораес кивнул. Допили. Фишер подозвал бармена и показал на стаканы. Бармен налил. — Десять долларов? — сказал Фишер. — Сто. Фишер засмеялся. — Почему не тысячу? — Мне нужно сто долларов. Деньги вперед. Фишер помолчал, прикидывая в уме, что мог бы рассказать Мораес и сколько на этом удастся заработать. — Вы читали газеты? Что вы думаете об убийстве Роберта Грига? — Я не читаю газет. Я вообще не умею читать. Так, немного, только то, что напечатано крупными буквами... Вывески, дорожные знаки... ну, и другое. — А радио вы не слушали? — У меня в машине нет радио. — А что вы делали в лесу? — В лесу?.. — Мораес опять уперся в него каменным взглядом. — Спал. Я иногда заезжаю в лес, чтобы переночевать, когда негде остановиться. Только последний раз это было давно. В Калифорнии, за перевалом. — А здесь, поблизости, вы нигде не заезжали в лес? — Здесь? Нет, нигде. — А вы не повторите фразу, которую я продиктую? — Зачем? — Так, для газеты. Фишер переменил позу, чтобы микрофон, спрятанный в кармане его пиджака, был направлен прямо на говорящего. Мораес отодвинулся. — Для газеты — сто долларов. А вообще чего вы ко мне пристали? Не буду я вам ничего говорить. Я ничего не знаю. Переночевал на ферме. Утром отвез больного ребенка в город. Вот и все. — Ладно. — Фишер достал из кармана бумажник и положил на стол две купюры по пятьдесят долларов. — Рассказывайте. Мораес посмотрел на деньги, потом на Фишера, потом снова на деньги и медленно протянул руку. Фишер быстро накрыл бумажки своей рукой. — Рассказывайте, — повторил он. — Деньги вперед, — сказал Мораес. Фишер отрицательно покачал головой. — Сперва рассказывайте. — Вы же из меня уже вытянули больше, чем думали. Фишер сложил бумажки и взял бумажник. — Ладно, пополам, — сказал Мораес. — Пятьдесят вперед, пятьдесят потом. Фишер молча протянул ему одну бумажку. — Так что рассказывать? — уныло спросил Мораес. — Все, что вы знаете о серых муравьях. Мораес помолчал, собираясь с мыслями, и начал: — Муравьи пришли сюда с Амазонки. У нас в Бразилии в древние времена было великое племя тупи-гуарани. Оно жило по берегам большой реки. Потом пришли белые люди и стали истреблять индейцев. Тогда вождь увел свое племя в глухие леса в глубь страны. Но там было сыро, темно и голодно, и люди умирали один за другим. Люди не знали, что делать, и сердца их ожесточились. Увидя это, Великий дух явился к ним и, для того чтобы людям было легче найти себе пропитание, превратил их в серых муравьев... — Довольно, — сказал Фишер. — Такие басни я умею сочинять лучше вас. Мораес остался невозмутим. — Тогда зачем же я вам нужен? Вы просили рассказать о серых муравьях, я... — Он поднялся из-за стола. — Я здесь, босс! К ним подходил Том Рэнди. — Надо ехать, Мораес, — сказал он. — Я готов... Мы тут немножко выпили... — Вижу. — Рэнди повернулся и пошел к выходу. Мораес последовал за ним, но, сделав несколько шагов, вернулся. Он остановился перед Ганом Фишером и, покачиваясь, смотрел на него. — Что? — спросил Фишер. — Остальные пятьдесят. Фишер пожал плечами. Тогда Мораес нагнулся к нему и зашептал в самое ухо: — Если вам нужны серые муравьи, поезжайте по восточной дороге на автосвалку, в самый дальний конец, ближе к лесу... Фишер невольно отстранился от горячего дыхания, щекотавшего ухо. Он хотел встать, но задел стол. Звякнула упавшая вилка. Ган рванулся за Мораесом, но тот уже уходил. — Проклятый метис! — пробормотал он.
16
27 июня. 14 часов 20 минут.Рыжая обезьяна сидела у Нерста на коленях. В лаборатории было тепло и солнечно. Солнечные блики светились в стеклянных пробирках и колбах, сверкали в хромированных деталях микроскопов и кинокамер, наполняли зеленым свечением листья растений. Доктор Нерст посмотрел на часы. Было начало третьего, а в пять нужно быть дома. Его ассистентка немного задержалась — она должна принести данные анализа муравьев. Нерст погладил бритую голову обезьяны. Тонкая мягкая шерсть уже успела немного отрасти и на ощупь напоминала нежный ворсистый нейлон. В нескольких местах на голубоватой коже поблескивали металлизированные участки, к которым во время опытов присоединялись провода электроэнцефаллографа для записи биотоков мозга. Это была очень развитая, умная обезьяна, давно привыкшая к тому, что большие добрые люди время от времени прицепляли ей на голову длинные, похожие на тонких разноцветных червей провода и потом заставляли ее делать то, что ей не всегда нравилось. Но это случалось довольно редко, а в остальное время она могла спокойно жить или, вернее, играть в жизнь, ограниченная шестью стенками своей клетки. Что происходило сейчас в ее мозгу? Нерст попытался представить себе немыслимо сложную путаницу пульсирующих, непрерывно меняющихся и взаимодействующих электрических полей, мгновенных импульсов, передающихся по аксонам и вызывающих в нервных клетках каскады новых электрических импульсов. Сможет ли когда-нибудь человек до конца, во всех деталях разобраться в этом электрическом хаосе? Сможет ли человек добиться такой же ясности понимания психических явлений, какой он достиг в области механики? Все механические процессы, происходящие в живом организме, могут быть с достаточной полнотой описаны системами дифференциальных уравнений. Но сможет ли человек и картину психической жизни представить в столь же ясной и точной математической форме?.. Конечно, сможет, потому что у науки нет иного пути. Конечно, сможет, подобно тому, как сейчас он умеет составлять математическое описание работы электронно-вычислительной машины, но задача эта неизмеримо более сложная, и немало лет упорного труда понадобится для ее решения... Рыжая обезьяна сидела у Нерста на коленях. Доктор откинулся в кресле и сделал вид, что дремлет. Обезьяна осторожными ласковыми движениями своих подвижных пальцев старалась приоткрыть его веки. Но, как только она их отпускала, глаза снова зажмуривались. Это была игра. Обезьяна знала, что ее хозяин не спит, а только притворяется, но делала вид, что не замечает этого. Рыжая обезьяна осторожно лизнула его подбородок и, вытянув свои большие безобразные губы, тихонько дунула ему в нос. Нерст чихнул и засмеялся. Обезьяна тоже засмеялась по-своему и крепче обняла его за шею. В лабораторию вошла ассистентка. Нерст встал. Рыжая обезьяна, оставшись одна в кресле, внимательно следила за тем, как ее хозяин и его помощница рассматривают принесенные бумаги. На фоне окна светлые волосы женщины казались ярким ореолом рядом с темным силуэтом Нерста. Обезьяна оскалила зубы и тихонько заворчала, но люди ее не заметили. Нерст перевернул страницу и коснулся руки ассистентки. Одним прыжком обезьяна вскочила на плечи женщины и вцепилась ей в волосы. Линда Брукс вскрикнула и сделала резкое движение. Нерст взял обезьяну на руки. — Она слишком ревнива. Придется ее запереть, — сказал Нерст. — Конечно, этого следовало ожидать — никаких следов кураринов, да и откуда им взяться: у того экземпляра, который мы дали для анализа, жалящий аппарат был лишь в рудиментарной форме... Вы его сфотографировали? — Конечно. — Вам не показалось, что он несколько отличался от того, который мне передал следователь? — Трудно сказать. Тот был сильно поврежден. Обезьяна сделала попытку вырваться, но Нерст ее удержал. «Быть может, — подумал он, — муравьи действительно явились абсорбентами яда, растворенного в спирте...» — Вы не прочли до конца. Там есть результаты исследования абсорбционной способности, — сказала мисс Брукс. — Это на следующей странице. — Да, ну что у них? — Почти никакой избирательности. Муравьи если и абсорбируют курарин из раствора, то в ничтожном количестве. — Ну что же, этого тоже можно было ожидать... Сколько у нас осталось из тех, которых я вчера принес? Восемнадцать? — Девятнадцать. После вашего ухода я нашла еще одного, — Где? — Он ползал на столе. Что мы сегодня будем делать? — Сейчас уже поздно, но, если успеем, я хотел бы проверить их реакцию на свет и вообще способность воспринимать простейшую информацию. Налаживайте кинокамеру, а я пока запру обезьяну. Мисс Брукс достала из шкафа кассету с пленкой и занялась подготовкой киноаппарата. Обезьяна, почувствовав, что ее хотят запереть в клетку, снова стала вырываться. Нерст крепче обхватил ее тонкие ручки. Перед ним опять возникла картина перекрещивающихся электромагнитных полей в пульсирующем мозге обезьяны. «Легче всего, — думал он, — объяснить поведение обезьяны просто внешней информацией, которая передается и перерабатывается ее мозгом. По моим жестам и движениям, по интонации голоса она может заключить, что ее собираются посадить в клетку, и это вызывает у нее протест. Но если всякий мыслительный процесс связан с переменным электрическим полем, то почему нельзя допустить непосредственного взаимодействия этих полей, которое воспринимается нами как неосознанное желание, тревога, удовлетворение? Мы слишком привыкли все мерить на свои, человеческие мерки. Быть может, у животных эта способность непосредственного восприятия электромагнитных излучений мозга развита сильнее, чем у человека? Ведь могут же муравьи, улитки, актинии и некоторые другие животные непосредственно ощущать ионизирующее излучение, которое совершенно недоступно нашему восприятию... А тревожное возбуждение, которое человек испытывает во время грозы, — не есть ли это явление того же порядка: непосредственное восприятие мозгом электрического поля? А нам, слепым от рождения, трудно это понять, как трудно представить себе ощущения собаки, идущей по следу, чующей запах, который для нас не существует...» Рыжая обезьяна бесцельно металась по клетке. Мисс Брукс неторопливо заряжала камеру. Она делала это очень ловко, точными, профессионально отработанными движениями. Нерсту доставляло удовольствие следить за тем, как ее руки легко касаются блестящих деталей механизма, как уверенно протягивает она глянцевитую похрустывающую пленку магнитной видеозаписи, как расчетливо поворачивает рукоятки, направляя камеру на объект съемки. Муравьи, принесенные накануне из леса, были помещены в специальный садок, окруженный со всех сторон водой, — небольшую гипсовую площадку с причудливым рельефом, напоминающим фотографии лунной поверхности. Муравьи вели себя вяло; они сбились в кучу в одном конце площадки и не проявляли интереса к разбросанным ячменным зернам, сухим веточкам и хвойным иглам. — Я хотел бы снять их довольно крупно, — сказал доктор Нерст. — Какой у вас объектив? — Сейчас установлен трехдюймовый, но я еще не наводила на фокус. Нерст нагнулся к садку. — Я вижу здесь одного более крупного? — Это, наверное, тот, которого я поймала вчера на столе. Я тоже обратила внимание, что он больше других. — Интересно... Возможно, это другая стаза того же вида... Нерст, не отрывая взгляда от муравьев, потянулся и щелкнул выключателем лампы. От яркого света муравьи зашевелились. — Это надо будет обязательно снять, у них вполне определенная реакция на свет... Мне бы нужно немножко меда... — Он рядом, на столе. Нерст набрал пипеткой несколько капель меда и поднес ее к муравьиному садку. — Так в кадре? — спросил он. Мисс Брукс заглянула в визир аппарата. — Немного левее, пожалуйста. Нерст передвинул пипетку левее. Набирая мед, он испачкал пальцы, и теперь они были липкими. Нерст подавил в себе естественное желание вытереть их. — Когда у вас будет готово — скажите. — Я готова. — Включайте камеру, потом я зажгу дополнительный свет. — Он нащупал рукой выключатель. Бесшумно заработала камера. Спустя несколько секунд Нерст нажал выключатель. Когда вспыхнул свет, муравьи опять забеспокоились. Нерст выдавил из пипетки каплю меда. Муравьи беспорядочно копошились, потом один из них, более крупный, отделился от общей кучки и побежал по направлению к меду. Убедившись в том, что новый предмет, появившийся на площадке, съедобен и сладок, он на секунду замер в неподвижности, слегка пошевеливая усиками, и после этого остальные муравьи, как по команде, устремились к меду. — Вы видели?! — воскликнул Нерст. — Удивительно четкая передача информации... — Вы полагаете, это биорадиосвязь? — Может быть... Может быть... Выключите камеру, Линда, мне нужно поместить этот экземпляр под микроскоп. Мисс Брукс послушно нажала выключатель. «Он как большой ребенок, — подумала она. — Во всем он хочет видеть желаемое... Совсем как ребенок...» Муравьи как бы угадали намерение Нерста. Еще до того, как он поднес руку с пинцетом, в котором был зажат кусочек липкой ленты, муравьи забегали, словно играя в пятнашки. На неровной поверхности гипсовой площадки муравьям негде было скрыться. Единственное, что они могли сделать, — это разбежаться в разные стороны и затем беспорядочно сновать туда и сюда, отвлекая внимание от намеченной жертвы. Прошло несколько минут, прежде чем Нерсту удалось поймать муравья и поместить его на предметный столик микроскопа. Пойманный экземпляр был значительно крупнее других и отличался более развитыми челюстями и острым жалом, высовывавшимся из брюшка. — Это, вероятно, «солдат», — заметил Нерст. Осторожно работая манипулятором, он попытался вызвать у муравья выделение яда. — Что вы сделали? — услышал он возглас Линды. — Ничего особенного... Кажется, немного повредил ему брюшко... А в чем дело? — Посмотрите, что с ними творится! Нерст оторвался от микроскопа. Муравьи, остававшиеся в садке, были заметно возбуждены. Они корчились на неровной поверхности гипса, как бы испытывая такую же боль, как и тот муравей, который находился под микроскопом. — Что же вы не снимаете?! — раздраженно воскликнул Нерст. — Это же очень важно! Включайте камеру! — Я включила. Вы не слышали. Но ведь самое интересное именно начало реакции, а я не могла знать заранее... — Непременно снимать. Все снимать! У них, видимо, есть очень эффективный способ передачи информации. Нам крайне важно это исследовать. Нужно подключить вторую камеру на микроскопе. Пока Линда Брукс настраивала вторую камеру, Нерст наблюдал за оставшимися в садке муравьями. Они постепенно успокоились и снова занялись медом. — Обе камеры должны включаться одновременно... Да, и обязательно с отметками времени, чтобы можно было установить корреляцию... Вполне возможно, что мы столкнулись с весьма развитой системой биологической радиосвязи... Если уколоть одного, боль испытывают все... Нерст замолчал, обдумывая в деталях весь ход предстоящего опыта. — Надо дать муравьям успокоиться, подготовить манипулятор, включить камеры... затем ввести иглу манипулятора в нервный узел... — Он сейчас вырвется! Муравьи на арене снова забеспокоились. Доктор Нерст перевел взгляд на экран проекционного микроскопа. На ярком зеленоватом поле экрана был хорошо виден «солдат». Он изгибался и дергался, пытаясь освободиться от липкой массы, удерживавшей его на стекле. — Не волнуйтесь, Линда, никуда он не денется, я его хорошо прилепил... У вас все готово? — Да, сейчас подключу напряжение. Нерст уселся перед экраном микроскопа. Как спортсмен перед соревнованием, он заботливо проверил свою аппаратуру, попробовал, как действует манипулятор. — Я готова, — сказала Линда. — Включайте. Загорелся индикатор камеры. Муравьи оживились. Нерст выжидал, пока они успокоятся. — Похоже, они воспринимают вибрацию камер... — заметил Нерст. Линда молча кивнула головой. У нее создалось такое же впечатление — она следила за теми муравьями, которые остались в садке. Нерст поудобнее взялся за рукоятки манипулятора, слегка пошевелил пальцами, чтобы они плотнее вошли в кольца. Раздражало то, что руки все еще были чуть липкими от меда. Он приготовился ввести иглу манипулятора под хитиновый покров головы «солдата», но в тот же момент «солдат» резко рванулся, как бы предвидя, что его ожидает. — Ага! — воскликнула Линда. — Вы видели, как он рванулся? — Нет, я смотрела на своих... Вы укололи его? — Мет, я только приготовился... Сейчас уколю... Нерст выждал подходящий момент и точным движением ввел иглу в тело муравья. — Смотрите, смотрите, доктор Нерст! Нерст обернулся. Все муравьи на арене скрючились в болезненной судороге, как если бы каждый из них испытал укол манипулятора. Нерст осторожно отвел иглу. «Солдат» остался неподвижным. Из жала в конце брюшка вытекла капля жидкости. Муравьи на арене постепенно освободились от судорожного оцепенения и снова задвигались. Нерст долго наблюдал за их возвращением к нормальному состоянию. — Это очень интересно... Это очень интересно... — задумчиво повторил Нерст. — Завтра, мисс Брукс, мы повторим эти опыты, но... — С экранирующей сеткой?.. Что вы ищете? — Платок, я испачкал медом пальцы... Да. С экраном. Если это случай биологической радиосвязи... — Я понимаю. Вряд ли нам успеют приготовить к завтрашнему дню экранирующие боксы. — Это должно быть совсем простое устройство, подобное тому, что мы делали для «Геликониды бразильской», нечто вроде клетки из тонкой, очень тонкой металлической сетки... — Ну да, мы будем снимать прямо через сетку, не вырезая отверстий для объектива... — Конечно... Нерст мысленно постарался представить себе схему опыта: муравей, заключенный в крошечную проволочную клетку, соединенную с заземлением; он вводит иглу манипулятора через ячейки сетки... старается коснуться муравья, но ему нужно немного переместить манипулятор... сетка мешает, иглу приходится вводить через другое отверстие... Линда Брукс внимательно следила за выражением его лица. Как это часто бывает между людьми, подолгу связанными совместной работой, она хорошо представляла себе, о чем он сейчас думает. Отвечая его мыслям, она сказала: — Пожалуй, удобнее экранировать муравьев на арене... — Будет хуже для съемки... — Но сетка будет мешать манипулятору... Нерст кивнул. — Вы сможете сами распорядиться и все подготовить? — Я думаю, часам к трем... Вы не задержитесь сегодня? — Линда впервые за этот день взглянула ему прямо в глаза. Нерст нагнулся к садку с муравьями. — Нет, мне нужно уйти. Мне нужно подумать. Мне нужно все хорошенько обдумать... Ведь мы наблюдаем лишь внешнее проявление их реакций на раздражение, а нам нужно искать пути объективного анализа нервной деятельности... Да, чтобы не забыть: отдайте, пожалуйста, на анализ выделения из жала этого «солдата». Весьма возможно, что там окажутся интересующие полицию алкалоиды. Это необходимо сделать срочно. Пускай немедленно позвонят мне домой, как только будет результат... — Хорошо... — Линда вынула предметное стекло микроскопа. — Контрольную камеру и энцефаллограф включить на ночь, как обычно? — спросила она. — Да, как обычно, мисс Брукс... И кроме того, включите, пожалуй, и вторую камеру на муравьев... Линда согласно кивнула головой. Нерст попрощался и вышел. Линда Брукс неторопливо складывала аппаратуру. В углу лаборатории на полке, среди пробирок и склянок, среди стеклянных боксов с высохшими жуками, рядом с забытым пинцетом, неподвижно застыли два больших серых муравья. Они держались в напряженных позах, приподнявшись на передних лапках, чуть пошевеливая своими тонкими усиками-антеннами.
Выйдя из лаборатории, Нерст повернул направо. Вдоль тротуара, как обычно, стояла вереница машин. Было пыльно и сухо. После дня, проведенного в лаборатории, Нерст испытывал потребность как-то систематизировать, осмыслить первые результаты наблюдений над муравьями. Если подтвердится его предположение о том, что в данном случае имеет место явление биологической радиосвязи, это может иметь решающее значение для всей его работы. Если это действительно так, то серые муравьи из рядового случая энтомологических наблюдений, одного из тысяч подобных описаний новых видов, превратятся в научное событие принципиальной важности. До сих пор все его попытки обнаружить у насекомых биологическую радиосвязь приводили хотя и к обнадеживающим, но все же не вполне убедительным результатам. То, что он наблюдал сегодня, что было зафиксировано на магнитной ленте, на первый взгляд обладало той необходимой научной достоверностью, которой ему все время недоставало. Конечно, сейчас, в ближайшие дни, нужно поставить серию опытов, в которых будут исключены все каналы возможной передачи информации, кроме электромагнитных колебаний. И затем... исключить эти последние. Таким путем удастся получить совершенно ясное решение вопроса... Придется немало повозиться, прежде чем будет определен спектр частот, но это совершенно необходимо. Впрочем, это будет хоть и очень кропотливая, но, в общем, чисто техническая задача. В конце концов, это займет не так уж много времени... — Клайв! Доктор Нерст обернулся, Мэдж высунулась из окна стоящей у тротуара машины. — Ты так задумался, что даже не заметил своей машины, не говоря уже о жене! — Здравствуй, Мэджи. Как ты здесь очутилась? — Ездила за покупками в город и решила заехать за тобой... — Мэджи открыла дверцу. — Садись. Нерст опустился на сиденье. Мэрджори включила зажигание и развернула автомобиль, стараясь не пользоваться задним ходом. «Почему женщины избегают обратной передачи? — подумал Нерст. — Впрочем, почти все ее не любят. Машина приспособлена для того, чтобы ехать вперед. Двигаясь задним ходом, чувствуешь себя менее уверенно, приходится перегибаться, смотреть назад, все это неудобно... Вроде научного поиска, который ведется ощупью, без твердой уверенности в справедливости исходных позиций...» — Тебе нужно еще куда-нибудь заехать? Почему ты повернула в эту сторону? — Просто мне хочется проехать по буковой аллее. Это не намного дальше... Некоторое время они ехали молча. Нерст наблюдал за тем, как нервно и напряженно Мэрджори ведет машину. — Ну, как твои опыты с муравьями? — спросила она. — Ты знаешь, очень интересно. Очень интересные результаты. Пока еще ничего нельзя сказать наверняка, но есть основания предполагать... — Они ядовитые? — Муравьи? Вероятно, нет. Во всяком случае, не все. Пока анализ не показал присутствия яда. — Это уже окончательно? — В тоне, которым это было сказано, прозвучало чуточку больше тревоги, чем ей хотелось бы показать. И Нерст это заметил. — В науке ничего не бывает окончательного. Я распорядился сделать еще один анализ. Машина остановилась у светофора. Мэдж сказала: — Ты знаешь, сегодня утром опять заходил этот, в сером костюме. Он интересовался результатами твоих исследований. — Он мог бы сперва позвонить по телефону. — Я ему сказала то же самое. Он звонил тебе? — Я назначил ему к пяти. Мэрджори взглянула на часы. Было 16 часов 35 минут. — У нас еще есть время. — Она помолчала. — Ты знаешь, все говорят о смерти Роберта Грига. Подозревают убийство. Если бы эти муравьи оказались ядовитыми, все сразу разъяснилось бы. — Пока у меня нет оснований утверждать, что они ядовиты, тем более в такой степени, чтобы их укус был смертелен. — Но ведь он умер! Нерст посмотрел на Мэдж. Она глядела прямо перед собой на дорогу и, казалось, была поглощена управлением машиной. — Почему ты уверена, что его искусали муравьи? Об этом ничего не писали в газетах, — сказал Нерст. Мэдж включила сигнал поворота и стала обгонять впереди идущую машину. Это дало ей паузу, необходимую для того, чтобы взвесить, о чем догадывается Нерст. «Он должен, — думала она, — он должен доказать, что эти мерзкие насекомые ядовиты. Это же так просто, так понятно, отчего умер Григ...» — Я не знаю, отчего он умер, — сказала Мэдж, — но весь город, решительно все говорят о том, что его убили из ревности... Но ведь это нелепо! Кто его мог ревновать? — Я не интересовался частной жизнью Роберта Грига. Я вообще не интересуюсь подобными молодыми людьми. — Понимаешь ли... Если бы тебе удалось установить, что муравьи ядовиты, это сразу явилось бы объяснением его смерти... Ведь ты ученый, ты же занимаешься наукой, твое мнение для них очень важно... А так... иначе... Будут искать убийцу. Ты же знаешь полицию: им обязательно нужно раздуть сенсационный процесс — это их бизнес. Они на этом зарабатывают, а страдают невинные... По-моему, это просто твой долг, нравственный долг ученого — установить, что смерть наступила от укуса муравья. Нерст потянулся в карман за сигаретами. — Закури и мне, — сказала Мэдж. «Чего она так вцепилась в руль? — подумал Нерст. — Кажется, она боится, что машина от нее вырвется и поедет сама, куда захочет...» Он щелкнул зажигалкой, но ветер загасил пламя. Он поднял стекло, прикурил и передал сигарету Мэдж. — У тебя несколько странные представления о науке, Мэдж. Конечно, как специалист, я должен высказать свое мнение, и я его выскажу, каким бы оно ни было. Но вообще я предпочел бы не иметь никакого отношения к этой грязной детективной истории. Единственное, что меня как ученого интересует во всем этом деле, — это то, что, по-видимому, здесь мы имеем дело с новым, совершенно неизученным видом насекомых. Не исключено, что этот новый вид муравьев обладает высокоразвитой системой биологической радиосвязи, и только этот вопрос, его подробное исследование может меня интересовать. Наука призвана устанавливать объективные истины, а не заниматься частными вопросами следственной практики. — Но ведь должна же быть от твоей науки какая-то польза! — Мы говорим с тобой на разных языках, Мэджи. Ты понимаешь пользу науки слишком утилитарно, практически. Нам трудно понять друг друга. Мы говорим на разных языках. — Нет, мы говорим на одном языке и прекрасно понимаем друг друга. Но ты из-за твоего всегдашнего упрямства не хочешь со мной согласиться. Ведь это так просто: надо им объяснить, что ядовитые муравьи укусили Грига и он от этого умер. Только и всего. Нерст не стал возражать. Просто ему надоело спорить. Мэрджори истолковала это как свою победу и тоже замолчала. Они ехали по буковой аллее, и косые лучи солнца, просвечивая между деревьями, попадали на щиток приборов. Солнечный блик то загорался, то гас, отсчитывая деревья, мимо которых проносилась машина.
17
27 июня. 17 часов 05 минут.Так бывает. Сидят два человека и разговаривают, и каждый ладит свое, гнет свою линию, старается в чем-то убедить собеседника. Говорит одно, думает другое, а сделает нечто третье, о чем сам еще не подозревает. И ведь часто каждый из собеседников знает или думает, что знает то, о чем хочет умолчать другой. И вот люди играют в прятки, стараются по едва заметному дрожанию губ, но не вовремя брошенному взгляду, по слишком настойчиво повторенному слову разгадать истинный смысл того, что не хочет сказать собеседник. А бывает и наоборот. Не желая сдерживать своей досады, человек бросает слова возражений против придуманных им самим, несуществующих утверждений противника. Вероятно, если бы люди могли обмениваться мыслями непосредственно, без помощи слов, если бы передача информации была всегда полной и истинной, беседа, обмен мнениями в нашем обычном понимании этого термина, стала бы невозможной или, во всяком случае, гораздо более краткой. Когда люди очень хорошо, очень полно и точно понимают друг друга, им почти не нужно говорить. Специальный агент Бюро расследований и доктор Нерст понимали друг друга плохо, и беседа их грозила затянуться. — Я еще не подготовил официального заключения, — сказал Нерст, — но проведенные опыты уже позволяют сделать некоторые выводы. Что, собственно, вам хотелось бы знать? — Прошлый раз я сформулировал интересующие нас вопросы. Я могу повторить... — промямлил следователь. — Не нужно. Я помню. Вы просили выяснить, могут ли принесенные вами муравьи абсорбировать содержащийся в спиртовом растворе яд. Да. Но в столь ничтожной степени, что это не может сколько-нибудь существенно повлиять на концентрацию раствора. Что же касается вопроса о том, ядовит ли именно тот экземпляр муравья, который вы мне дали для анализа, на это можно с уверенностью ответить отрицательно. Но это касается только... — Благодарю вас, это все, что нам нужно узнать. Когда вы подготовите официальное заключение? Мэрджори стояла в дверях и следила за разговором. — Вы не дали мне договорить. Дело в том, что среди этих муравьев, как и среди других, существует несколько разновидностей, несколько форм, или, как мы говорим, стаз, отличающихся одна от другой. Есть матки, есть рабочие муравьи и есть муравьи-«солдаты». — Да, да, доктор, я понимаю, но все это... — перебил следователь, но Нерст, в свою очередь, не дал ему говорить: — Нет, сэр, вы пока еще ничего не понимаете, и все «это» имеет самое непосредственное отношение к интересующему вас вопросу. Дело в том, что, насколько можно судить по предварительным данным, рабочие муравьи нового вида не имеют жала и ядовитых желез, но так называемые «солдаты» — мы употребляем этот термин пока условно, — «солдаты» этого вида ядовиты. Мне только что сообщили по телефону результаты анализа. У них есть хорошо развитый жалящий аппарат, выделяемый ими яд содержит вещества, которые мы относим к группе кураринов, и от них может умереть человек и, в частности, мог умереть Роберт Григ. Мэрджори переступила с ноги на ногу. Следователь встретился с ней взглядом, и она отвернулась. Следователь слушал Нерста, не пытаясь скрыть своего нетерпения и досады по поводу многословия ученого. — Простите, док, это все, конечно, очень интересно, но в данном случае нас интересуют лишь те муравьи, которые были обнаружены на месте преступления. Только они являются, так сказать, вещественным доказательством, и, если вы утверждаете, что они не ядовиты и, наоборот, могут сами поглощать вещества, растворенные в виски, — это все, что нам от вас нужно. Если существуют какие-то другие муравьи, ядовитые, — это уже не имеет прямого отношения к следствию. Я просил бы вас изложить в письменной форме ваше заключение, но только его первую часть, то, что касается неядовитых муравьев. — Но это же неверно! Я не могу давать такое одностороннее заключение — писать об одном и умалчивать о другом. Это противоречит элементарным правилам научной этики. Следователь едва заметно улыбнулся. Его туповатая, самодовольная физиономия выражала непоколебимую уверенность в собственном превосходстве, опирающемся на незыблемую силу власти. — Дорогой доктор Нерст, — почти ласково сказал он, — вы напрасно горячитесь. Конечно, мы примем к сведению все ваши замечания, но вы несколько забегаете вперед. Расследование причин смерти Роберта Грига не входит в круг ваших обязанностей. Вам совсем не нужно думать о том, отчего он умер. Это выяснит суд с нашей помощью. От вас требуется только дать свое заключение специалиста. Вы должны ответить ясно и четко на поставленные нами вопросы — да или нет. Все остальное, что касается ваших наблюдений над теми или другими муравьями, вы можете опубликовать в научных статьях или как там еще у вас полагается. Но к нам это уже не имеет отношения. Следователь сладенько улыбнулся. Он видел перед собой холодные, злые глаза Нерста и растерянный взгляд Мэрджори. Она опять отвернулась, когда он на нее посмотрел. — Хорошо, я выполню вашу просьбу, — сказал Нерст, — но должен вас предупредить: я оставляю за собой право полностью изложить свою точку зрения в печати. Я немедленно свяжусь с редакцией нашей газеты. — Пожалуйста, пожалуйста. Разумеется, это ваше право, как гражданина Соединенных Штатов.
18
28 июня. В начале десятого часа.Мистер Киндл, ювелир, взволнованно ходил по магазину, нервно потирая свои маленькие холеные ручки, то и дело поглядывая через витрину на улицу. Ювелир — такая уж у него профессия — всегда должен быть психологически подготовлен к ограблению или краже. Слишком соблазнителен для вора его товар, заключающий в маленьком объеме большую ценность. Тысячи долларов можно унести в жилетном кармане, целое состояние может занять не больше места, чем связка ключей. Поэтому в ювелирных магазинах всегда принимаются особые меры защиты — стальные решетки, надежные сейфы, изощренные системы сигнализации, — словом, все то, что может создать современная техника для защиты частной собственности. Все это было и в магазине мистера Киндла, и тем не менее магазин был ограблен. Мистер Киндл опять выглянул на улицу — полиция должна была прибыть с минуты на минуту. Сегодня, когда, обнаружив пропажу, он звонил в полицию, ему не сразу удалось разыскать по телефону того следователя, который допрашивал его по делу Грига. Мистеру Киндлу хотелось, чтобы расследованием занялся именно он — все же знакомый и как-то с ним связанный. Сперва следователь не хотел сам выезжать на место происшествия. Это и естественно. По сравнению с убийством Грига это дело представлялось ему рядовым, незначительным случаем. Вероятно, каждую минуту в Штатах совершается несколько десятков подобных краж. Киндл еще не подсчитывал убытка, но уже и так было видно, что ущерб не велик. Наиболее ценные вещи остались на месте. Следователь согласился приехать сам, лишь когда услышал, что украдены дубликаты серег, фигурирующих по делу Грига. Хорошо, что он догадался упомянуть об этом... У входа в магазин остановилась полицейская машина. Мистер Киндл выбежал на улицу. — Ну, рассказывайте, — сказал следователь. — Я пришел сегодня в магазин как всегда, в обычное время... — Дверь, замки были в исправности? — Да, я уже говорил вам по телефону. Все было в полном порядке. Я отпер дверь и сразу выключил сигнализацию. Она действовала нормально. — Вы не заметили следов взлома? — Абсолютно ничего. Все было в полном порядке. Я выключил вторую сигнализацию — это целая система перекрещивающихся в разных направлениях и на разной высоте невидимых инфракрасных лучей с фотоэлементами. Они расположены так, что человек не может сделать и двух шагов, не пересекая какой-нибудь луч, и тогда подается сигнал тревоги. Эта система тоже действовала исправно, я это проверил. Затем я прошел в свою конторку. Там тоже все было точно в том виде, как я оставил вчера. У меня и мысли не было об ограблении, но что-то меня смутно беспокоило. Вы знаете, это бывает: когда проходишь мимо знакомых предметов, иногда сразу не замечаешь, что чего-то не хватает, глаз воспринимает лишь общую картину... — Короче, пожалуйста... — Я и говорю, глаз охватывает общую картину, но если что-нибудь не в порядке, это можно сразу и не заметить, а беспокойство все же остается. Так и мне казалось, что в магазине что-то не совсем обычно. Я вышел в торговый зал... Вот из этой двери я вышел и сразу заметил, что в застекленной витрине, где разложены драгоценности, какой-то непорядок... — Вы что-нибудь трогали? — Нет, что вы, я абсолютно ни к чему не прикасался! Я только увидел, что многого не хватает, и сразу стал вам звонить. Вот, смотрите, это все находится в том виде, как я застал. Следователь подошел к длинному застекленному гробику на тонких ножках. В правом углу стекла было вырезано отверстие приблизительно круглой формы, диаметром около дюйма. Вырезанный кружок стекла лежал в витрине, видимо, там, куда он упал. Ниже, в затянутой черным бархатом плоскости витрины, и далее, в дне выдвижного ящика и дне самого прилавка, были вырезаны такие же отверстия, и последний кусочек стекла лежал на полу. Таким образом получилось сквозное отверстие, проходящее вертикально через всю витрину. Следователь заглянул в него и увидел край своего башмака. На полу в керамической плитке был заметен кольцевой след — канавка с оплавленными краями. В местах вырезов деревянные части были обуглены. Края стекла оплавлены. Создавалось впечатление, что преступник сделал это отверстие каким-то инструментом, дающим сильный и очень тонкий луч пламени. Линия разреза была подобна той, которая получается от применения автогенной горелки, когда ею режут металл, но разрез был выполнен с исключительной ювелирной точностью. На черном бархате лежали в строгом порядке кольца, серьги, кулоны, броши. Сверкали бриллианты, отсвечивали зеленым светом изумруды, синели сапфиры. Следователь недоуменно посмотрел на Киндла. — Что же у вас пропало? — Как же вы не замечаете?! — даже обиделся Киндл. — Вот здесь, и здесь, и еще тут, и здесь, и там... Вы видите? Лежат одни изуродованные оправы без камней. На витрине не осталось ни одного рубина! Они все исчезли. Они все вынуты из своих оправ. Но вынуты только рубины. А другие камни оставлены. — Извините, я сразу не понял, — сказал следователь. — Я думал, это просто такие кольца, без камней... Да, да, теперь я вижу... Вы говорите, рубины? Да... А почему, собственно, рубины? Киндл пожал плечами. Следователь нагнулся к витрине. «Почему пропали только рубины? — думал он. — Если тут есть связь с делом Грига, то это опять мистификация с целью запутать следствие. Не слишком ли сложно для убийства из ревности?» — Скажите, а вот эти оправы такие же, как та, что была найдена в лесу? — спросил следователь. — Совершенно правильно, артикул «1537-С». После нашей беседы, — мистер Киндл перешел на доверительный тон, — я решил выставить их на витрине. — Очень правильно... Очень правильно... Витрина хорошо запирается? — Да, конечно, витрина заперта, но самым обычным замком. Это ведь лишь мера предосторожности, чтобы случайный посетитель не мог незаметно выдвинуть ящик. Следователь осмотрел запор. Внешне он был в полной исправности. — Покажите ключ. Мистер Киндл достал из кармана связку ключей и передал следователю обычный ключик, какими запираются ящики письменного стола. — Ну знаете ли! Открыть отмычкой такой замок можно за тридцать секунд. — Да, но это нельзя сделать незаметно, когда я нахожусь в магазине. — Отоприте витрину. Киндл вставил ключ в скважину и попытался его повернуть. Ключ не поворачивался. Киндл потянул за ручку — витрина открылась. Он виновато улыбнулся. — Простите, витрина была не заперта... — Не заперта или отперта? — Мне трудно сказать. Иногда случается, что я на ночь забываю ее запереть. Вы сами понимаете, это совершенно бесполезно. Вы только что сказали, что опытный вор откроет этот замок за тридцать секунд. Если уж он сумеет взломать входную дверь, вскроет стальные жалюзи, откроет стальные решетки, которые я закрываю на ночь, сумеет выключить две системы сигнализации и все это сделает совершенно бесшумно, то открыть такой замок для него не составит труда. А мне в течение дня нужно десятки раз открывать витрину, и сложный замок был бы мне неудобен. — Я понимаю. Так вы утверждаете, что витрина не заперта? — Да. — А сигнализация и запоры входных дверей были в порядке? — Да. — Как же вы можете все это объяснить? Как мог сюда проникнуть вор? Киндл смущенно пожал плечами. — Видите ли, пока я тут вас дожидался, я сам думал об этом. Может быть... Но это лишь мое предположение... Может быть, он проник сюда еще до закрытия магазина, вчера. Ночью он где-то прятался, а сегодня утром ушел, после того как я отпер двери? А? Следователь молчал, как и полагается молчать глубокомысленным сыщикам, анализирующим обстоятельства преступления. Потом он наклонился к витрине и с помощью лупы стал рассматривать оправу серег, из которой был вынут рубин. На черной поверхности бархата в том месте, где должен находиться камень, можно было заметить тончайшие блестки золота. Так на земле после спиленного дерева остается белая россыпь опилок. Насколько он мог заметить, камень из оправы был вынут тем же способом, что и в первом случае, то есть оправа была не перекушена, не отогнута, а распилена. В наш рациональный век никто, а особенно агенты ФБР, не склонны верить в чудеса. Все должно иметь простое, обыденное, понятное объяснение. Чудо, вообще все выходящее за границы реального, всегда привлекает наше любопытство. Человек любит сказку, любит фантастику, любит все таинственное и необычное. Но это можно себе позволить в свободное время. Как только человек оказывается на работе, в узде своих служебных обязанностей, так любая мысль о сверхъестественном или даже просто необычном, выходящем далеко за рамки его повседневной деятельности, становится попросту невозможной. Следователь не мог допустить никакого иного объяснения пропажи рубинов, кроме того, что укладывалось в стандартные нормы криминалистической практики. Если есть преступление, значит, есть и преступник. Человек, совершивший преступление. Если пропали камни, значит, некто открыл витрину, вынул кольца и серьги, вырезал из них камни, положил обратно пустые оправы и насыпал кругом золотые опилки. Ничего иного следователь не мог предположить, потому что он твердо знал, что невозможно вырезать камни, не вынимая драгоценностей из витрины, потому что он знал, что человек неможет пролезть в дыру диаметром в один дюйм, он даже не может просунуть руку в такое отверстие. Значит, все это сделано лишь для отвода глаз. Преступник мог, правда не открывая витрины, вынуть драгоценности каким-либо инструментом — длинным пинцетом, крючком проволоки или чем-нибудь подобным, но это не меняло существа дела. Если есть преступление, значит, есть и преступник. Все необычное, не поддающееся рациональному объяснению, — это лишь дополнительные обстоятельства, умышленно созданные для того, чтобы запутать следствие. Слепая вера в невозможность необычного не позволяла следователю искать объяснений, отступающих от того, что уже случалось, что могло бы, по его представлениям, случиться. Поэтому, внимательно осмотрев витрину, он очень уверенно заявил: — Ну так. Мне все ясно. Можно заняться фотографированием и снятием отпечатков пальцев. Мы имеем дело с очень хитрым и опасным преступником... Мистер Киндл смотрел на него как на бога, сошедшего с Олимпа и заглянувшего к нему в магазин.
19
28 июня. Примерно в то же время.Зазвонил телефон. — Это вы, доктор Нерст? — Добрый день, мисс Брукс. — Добрдень... Доктор Нерст, было бы хорошо, если бы вы смогли сейчас приехать в лабораторию... У нас тут случилось... В общем, кто-то забрался в лабораторию. Пропали муравьи... И ваша обезьяна погибла. Я не знаю, что с ней случилось... Окно разбито. Не разбито, а в нем проделана такая дыра... Круглая... И микроскоп испорчен... — Мисс Брукс волновалась и говорила бессвязно. — Я сейчас выезжаю, — сказал Нерст. — Не трогайте ничего до моего прихода. Я сейчас выезжаю.
20
28 июня. 18 часов 35 минут.— Так вы полагаете, это лазер? — Я совершенно уверен — это лазер или другое устройство, действующее узким тепловым лучом. Доктор Ширер и доктор Нерст разглядывали дыру в окне лаборатории. Это было почти круглое отверстие такого диаметра, что в него могла бы пролезть рука ребенка. Края стекла были слегка оплавлены. Выпавший кусок лежал тут же на подоконнике. — И микроскоп? — спросил доктор Нерст. — Да, и микроскоп. Это еще лишнее доказательство того, что здесь был применен лазер или нечто подобное. Во всяком случае, это сделано именно лучом, а не какой-либо горелкой. Микроскоп пострадал, вероятно, случайно. Он просто оказался на пути луча. По этим двум точкам легко определить направление. Бинокулярный микроскоп, которым обычно пользовался доктор Нерст, стоял на столе у окна. Левый окуляр был начисто срезан. Металл в месте разреза оплавлен. Мелкие застывшие капельки блестели на побуревшей поверхности черного лака. — Вы его передвигали? — Нет. Доктор Ширер наклонился так, чтобы его глаз находился на одной линии со срезом окуляра и краем отверстия в стекле. Прищурившись, он старался определить направление. За окном были видны верхушки деревьев и белая стена здания. Нерст следил за направлением его взгляда. — Несколько правее в этом корпусе помещается лаборатория доктора Хальбера, — сказал он. — Я знаю, но это правее. А если провести луч точно по этим двум точкам, он упирается в глухую стену. Если не считать, конечно, веток деревьев. Может быть, вы все же двигали микроскоп? — Это можно проверить. Если луч лазера мог пройти через стекло и расплавить микроскоп, то он должен был оставить след и на стене лаборатории. Мы получим третью точку. Нерст подошел к противоположной стене и легко нашел тонкую оплавленную линию, образующую неполный круг. — Ага, этот разрыв — тень от микроскопа, — сказал подошедший Ширер. — Сейчас можно проверить. Он долго пристраивался, отыскивая нужное положение глаза. — Да, вы правы, — сказал он наконец. — Микроскоп не передвигался. Все три точки находятся на одной прямой. — Но зачем? — воскликнул Нерст. — Кому и зачем понадобилось делать такие эксперименты с лазером? А если бы здесь находились люди? Ширер пожал плечами. — Об этом я еще не успел подумать, дорогой доктор Нерст. Вы меня так озадачили этим происшествием... Я пока обратил внимание лишь на техническую сторону проблемы. У вас что-нибудь пропало в лаборатории? — Да. Пропали муравьи, которые были подготовлены для опытов, и отравлена обезьяна. — Обезьяна? Вы же энтомолог? — Да, но последнее время, в связи с работами по биологической радиосвязи, мне необходимо исследовать влияние некоторых биостимуляторов на деятельность мозга. А это можно наблюдать только на высших животных. Мы записывали электроэнцефаллограммы при различных условиях. — Я понимаю, но кому же могла помешать ваша обезьяна? Может быть, это просто случайное совпадение? — Нет, не думаю. Обезьяна умерла в результате отравления. При анализе мы обнаружили в крови пиролаксон и диплацин... Но это как раз я мог бы объяснить тем, что ее укусил один из тех муравьев, которыми я немного занимался последние дни. Вероятно, это именно так и было. Но мне совершенно непонятна эта дыра в окне. Как и зачем она была сделана? Ведь в нее даже нельзя просунуть руку... — Доктор Нерст перегнулся через стол и потрогал гладкий глянцевитый срез стекла. — Должен сказать, я не физик, но у меня тоже возникла мысль о лазере. Поэтому я и просил вас зайти ко мне. — Я не знаю, чем сейчас занимается доктор Хальбер, я с ним совсем не связан, но, может быть, кто-либо из его студентов экспериментировал с лазером и случайно... — Может быть... Не посоветовавшись с вами, я не хотел делать никаких предположений... Любое вторжение извне, нарушающее размеренный ход научной работы, всегда болезненно воспринимается ученым. Если англичане говорят: «Мой дом — это моя крепость», то для доктора Нерста такой крепостью, где он чувствовал себя изолированным от внешнего мира, была его лаборатория. Сама специфика работы с насекомыми позволяла довести до минимума штат помощников. Что бы ни происходило за стенами лаборатории, там, в большом, противоречивом и сложном мире, это не могло отразиться на ходе его исследований. Здесь он всегда мог быть самим собой, мог жить в своем, искусственно обособленном, замкнутом круге научных интересов. Он никогда особенно не задумывался над теми практическими результатами, которые могла иметь его работа. Это уже выходило за рамки его интересов, это было принадлежностью внешнего мира. Такое искусственное самоограничение необходимо некоторым людям, когда они работают над разрешением сложных проблем, требующих максимальной отдачи душевных сил. Неожиданное вторжение в его лабораторию не могло не вызвать в нем чувства досады, и в то же время, как исследователь, он был в какой-то мере даже рад этому событию, так как своей необычностью оно давало новый материал для работы мысли. — Я хотел бы показать вам кинодокументацию, снятую сегодня ночью, — сказал Нерст. — Может быть, мы вместе заметим какие-нибудь детали, на что я не обратил внимания. Ширер вертел в руках кусок стекла, выпавший из отверстия. — Я думаю сейчас над тем, — сказал он, — что хотя в принципе это и напоминает действие лазера, но ни один из известных мне приборов не может дать таких результатов... Это что-то новое... Удивляет прямо-таки ювелирная точность разреза. Диаметр луча, вероятно, не превосходил нескольких десятых, а может быть, и сотых долей миллиметра... Очень интересно посмотреть вашу пленку... Нерст нажал кнопку телекамеры. На окнах медленно опустились темные шторы. — Когда мы ведем длительное наблюдение за нашими питомцами, мы обычно включаем на ночь автоматические видеокамеры. Они записывают изображение на короткие отрезки пленки, по времени соответствующие одной секунде, с интервалами в минуту. Таким образом, мы можем потом видеть на экране сокращенную по времени картину поведения насекомого. Камеры синхронизированы, и мы можем просматривать две или три пленки одновременно на нескольких экранах. Это бывает необходимо для сравнения реакции различных животных на один и тот же раздражитель. Мы собрали эту установку специально для наблюдения за ночными бабочками. Нерст включил проектор. На телеэкране появилось изображение обезьяньего вольера. За прутьями решетки сидела, почесываясь, рыжая обезьяна. Иногда, если она меняла позу в промежутке между съемками, когда камера была выключена, изображение делало резкие скачки, но, в общем, давало достаточно полную картину поведения животного. В левом углу кадра был снят циферблат часов, справа на узкой темной полоске пульсировала тонкая светлая линия электроэнцефаллограммы. От головы обезьяны к потолку тянулся жгут проводов. — Очень интересно, — сказал Ширер. — И что же, она не делала попыток сорвать датчики с проводами? — Первое время, конечно, срывала. Но мы довольно быстро ее приучили. Обезьяна заснула. Сейчас, когда она была неподвижна, разорванные куски изображения сливались в одно целое. Минутная стрелка на циферблате часов двигалась со скоростью обычной секундной стрелки. В пять часов тридцать шесть минут обезьяна проснулась. Линия энцефаллограммы несколько изменила свой ритм. Обезьяна заволновалась. Она видела что-то происходящее за стенами клетки, и это привело ее в сильное возбуждение. Она запрыгала, заметалась по клетке, и, как бы вторя ее быстрым движениям, задрожала и заметалась на черном поле светлая ниточка энцефаллограммы. Обезьяна вцепилась в решетку своей клетки, напрасно пытаясь освободиться; она сорвала датчики, прикрепленные к голове, и линия энцефаллограммы на экране погасла. Через несколько секунд обезьяна успокоилась, затихла, скорчилась и перестала двигаться. Стрелки на экране показывали пять часов сорок четыре минуты. Экран погас. — Теперь мы увидим материал, снятый другой камерой. Она была направлена на мирмекодром — садок с муравьями. Нерст включил второй проектор. На экране снова возникло изображение. На этот раз была видна неровная «лунная» поверхность гипсовой площадки. На ней можно было различить черные точки ползающих муравьев. Для человека, не занимающегося специально мирмекологией, поведение муравьев кажется совершенно бессмысленным. Бесконечная суетливая беготня, лишенная цели и какой-либо организованности. Часто представляется загадкой, как из этого хаоса могут возникать сложные сооружения, удивительные своей точной планировкой и строгой целесообразностью. Ширер с любопытством профана следил за тем, что происходило на экране. Первое время муравьи проявляли мало активности. Сбившись в кучу, они копошились около корма. В пять часов двадцать две минуты муравьи заметно оживились. Они перестали кормиться и все повернулись в одну сторону. В пять часов тридцать семь минут муравьи забегали по площадке. В пять часов сорок минут на площадке появилась большая стрекоза. Она возникла на экране сразу, потому что ее прилет пришелся на то время, когда камера была выключена. Муравьи некоторое время копошились около стрекозы, а потом и стрекоза и муравьи исчезли. Отлет стрекозы так же не был снят. После этого на экране в течение нескольких минут был виден лишь пустой садок, окруженный широкой канавкой с водой. Доктор Нерст зажег свет. — Ну, что вы об этом думаете? — спросил он. — Очень интересно... — сказал Ширер. — Это очень интересно. Жаль, что ваш аппарат не был направлен на окно... Я не знал, что у муравьев бывает симбиоз со стрекозами. — Это пока единственный случай такого рода, — сказал доктор Нерст. — Я нигде не встречал упоминания о подобных фактах. К тому же, должен заметить, это не совсем обычная стрекоза. Судя по увеличенным фотографиям, я не могу отнести ее ни к одному из описанных видов. Правда, снимки, сделанные с телеэкрана, недостаточно четкие... — И тем не менее мы все это видели своими глазами... Впрочем, дело сейчас не в стрекозе; тот или иной вид — это не так уж важно. Существенно то, что мы знаем точно, когда произошло вторжение в вашу лабораторию. Вы обратили внимание на разницу во времени в реакции обезьяны и муравьев? Какая ошибка может быть в показаниях датчиков времени? — Не больше нескольких секунд. Это не имеет значения. То, что вы говорите, несомненно очень важно. Муравьи заметили происходящее в лаборатории на несколько минут раньше обезьяны. Вероятно, она проснулась от шума упавшего окуляра микроскопа. — Вполне возможно... Вполне возможно... Нельзя ли еще раз посмотреть фильм? Вы знаете, доктор Нерст, меня все время не покидает впечатление, что муравьи как будто чего-то ждали, если вообще можно применить к муравьям это выражение... Вам не кажется? — Может быть... — ответил Нерст. — Я предложил бы сейчас посмотреть обе пленки одновременно, чтобы сравнить реакцию. Нерст включил проекторы. Оба сосредоточенно следили за происходящим на экранах. — Вот! Очевидно, в этот момент что-то привлекло их внимание! — воскликнул Ширер. — Вы видели? — Да, но обезьяна в это время еще спит... Ага! Вы заметили? Я верну пленку и повторю изображение еще раз. Обратите внимание, в энцефаллограмме изменился ритм и появились резкие пики еще до того, как обезьяна проснулась! — Это естественно. Мозг начал реагировать на внешний раздражитель до того, как наступило пробуждение. Это позволяет установить здесь причинную связь: раздражитель, вероятно звуковой, — реакция мозга — пробуждение. — Да, но вы обратили внимание, что реакция муравьев — они заметно оживились — наступила до того, как обезьяна проснулась, но значительно позже, чем энцефаллограмма отметила восприятие звукового сигнала. Можно подумать, что муравьи реагировали на изменение энцефаллограммы, а не на ту причину, которая его вызвала. Следует сказать, что муравьи совершенно лишены органов слуха. — Ну что же, это, на мой взгляд, только подтверждает наше предположение, что источником раздражения для обезьяны был звуковой сигнал. — Я вижу в этом другое, — возразил Нерст. — Если допустить у этих муравьев существование биологической радиосвязи, а к этому есть веские основания, то можно предположить, что муравьи реагировали непосредственно на нервные импульсы в мозгу обезьяны. Что вы об этом думаете? — Но вы говорите о возможности биологической радиосвязи между муравьями, а не между муравьями и обезьяной? Это уже гораздо более смелое допущение. — А не может ли здесь явиться источником колебаний сам прибор — энцефаллограф? Возможно, что биотоки мозга обезьяны сами по себе слишком слабы, но, будучи усилены энцефаллографом, они воспринимаются муравьями? Иными словами, не может ли энцефаллограф явиться в данном случае генератором колебаний? — Я не знаком детально с конструкцией этого прибора, но в принципе всякий электронный прибор образует вокруг себя переменное электромагнитное поле и в этом смысле может быть уподоблен передающей радиостанции. Но в таких приборах обычно применяются устройства для подавления создаваемых ими помех. К тому же против вашей гипотезы можно привести и другое возражение: почему вы уверены, что муравьи реагировали именно на энцефаллограмму, а не на какое-то другое событие, происходящее в то же время? — Может быть, вы и правы, решить этот вопрос можно будет после детального исследования обеих пленок. Если обнаружится достаточно надежная корреляция между энцефаллограммой и поведением насекомых, то это будет говорить в пользу моей гипотезы. Если корреляции не будет — в пользу вашей. — Во всяком случае, это дело дальнейших исследований. Пока оставим этот вопрос открытым. Попробуем суммировать твердо установленные факты. — Ширер подошел к висевшей на стене черной доске и записал таблицу:
5 часов 22 минуты — первая реакция муравьев. 34 мин. — изменение энцефаллограммы. 36 мин. — просыпается обезьяна. 37 мин. — реакция муравьев. 40 мин. — появляется стрекоза. 42 мин. — резкое возбуждение обезьяны. 44 мин. — обезьяна умирает. 5 часов 46 мин. — исчезает стрекоза.Ширер стоял у доски, задумчиво постукивая мелом, как бы вторя ритму своих мыслей. Худой, высокий Нерст стоял рядом, заложив руки за спину, и едва заметно покачивался в том же ритме. — В этих цифрах самое существенное... — начал Ширер. — ...то, что прошло четырнадцать минут между первой реакцией муравьев и моментом, когда проснулась обезьяна, — продолжил Нерст. Ширер кивнул. Нерст сказал: — С аналогичным фактом я столкнулся вчера, наблюдая их поведение. Не говоря уже о весьма четкой дистанционной передаче информации, меня удивило то, что в ряде случаев реакция муравьев как бы предшествовала импульсу информации. — Почему «как бы»? — Может быть, я просто оговорился. Это отражает мое отношение к наблюдаемым фактам. Если оставаться в рамках рационального, на позициях причинности и единого хода времени, посылка информации должна предшествовать реакции. Следовательно, если муравьи в садке забеспокоились еще до того, как я ввел механический раздражитель — иглу манипулятора—в нервный узел одного из них, это доказывает, что подопытный муравей или они все тем или иным способом разгадали мои намерения. То есть источником информации в данном случае явился я сам, мое поведение... или... — Что «или»? — Или мои мысли. Об этом говорит и то, что их начальная реакция, когда я только еще собирался уколоть, и реакция на действительный раздражитель были совершенно различными. — Первая слабее? — Во много раз. — Это очень важное наблюдение. Ширер опять замолчал, разглядывая написанные мелом цифры. Наконец он сказал: — Ну что же, мне все... не ясно. И тем не менее попробуем сделать некоторые выводы. Я не биолог, поэтому буду рассматривать лишь факты, отвлекаясь от биологической характеристики объектов. Мы наблюдаем некоторую физическую систему, находящуюся в стабильном состоянии. Затем эта система получает неизвестный объем информации, который переводит ее в новое, возбужденное состояние. И лишь через четырнадцать минут после этого происходит событие, служащее источником информации для второй системы — я имею в виду обезьяну. Канал передачи информации к обезьяне нам известен: это звук, или свет, или то и другое вместе. Канал связи у муравьев может быть различным: это ультразвуковые или электромагнитные колебания или что-нибудь еще, нам пока неизвестное. Но из анализа распределения событий по времени можно сделать по меньшей мере два вывода: первый — муравьи обладают способностью воспринимать такую информацию, которой не воспринимает обезьяна, и второй — следует исключить возможность случайной посылки излучения лазера из лаборатории напротив. — Почему? — спросил Нерст. — Да потому, что действие лазера могло продолжаться всего лишь секунды, а муравьи начали волноваться на пятнадцать минут раньше. — А если предположить, что муравьи заметили что-то происходящее за окном, такое, что могло их интересовать, скажем прилет стрекозы, если допускать версию о симбиозе, в чем я не уверен, и случайно как раз в это время кто-то экспериментировал в лаборатории напротив и послал луч лазера, который случайно вырезал в стекле отверстие, через которое проникла стрекоза? — Слишком много случайностей, доктор Нерст. Возможность такого совпадения совершенно невероятна. — Но не исключена? Ширер молчал. — Видите ли, доктор Нерст, — наконец сказал он, — если бы мы имели какие-либо данные, подтверждающие, что в физической лаборатории велись в эту ночь такие опыты... Тогда ваше предположение еще могло бы иметь под собой какую-то почву... — А почему бы просто не позвонить доктору Хальберу и не спросить у него, кто работал сегодня ночью? — спросила мисс Брукс. Она уже давно вошла в лабораторию и тихо стояла у двери, не желая мешать мужчинам. — Добрый день, доктор Ширер. — Добрый день, мисс Брукс. — Ширер растерянно посмотрел на нее. — А почему бы и в самом деле не позвонить? — Я звонила. — Ну и что? — Сегодня ночью в физическом корпусе никто не работал. — Ну, вот видите, — оживился Ширер, — оказывается, можно было и не звонить. Мы это установили исключительно путем логического анализа фактов. — Правда, и женский способ оказался довольно эффективным, — усмехнулся Нерст. — Но тогда... — Ширер замолчал и поправил очки. — Тогда?.. — повторил Нерст и вопросительно поглядел на Ширера. — Нельзя же, в самом деле, допустить причинную связь между источником раздражения муравьев, отверстием в стекле, появлением стрекозы и исчезновением муравьев? — А почему бы нет? Как видите, мы поменялись ролями, — заметил Нерст. — Теперь вы выступаете в защиту случайности, а я готов допустить взаимообусловленность событий. — Но тогда мы должны приписать муравьям почти разумные действия? — Разумные — не знаю, но целенаправленные — да. Видите ли, доктор Ширер, для меня наша сегодняшняя беседа имеет очень большое, принципиальное значение. Я умышленно старался не влиять на ход ваших мыслей, и то, что вы, человек непредубежденный, далекий от биологических проблем, пришли к тем же выводам, или, скажем осторожнее, к той же постановке задачи, что и я, служит для меня веским подтверждением правильности моих концепций. — Вы хотите сказать, что допускаете у муравьев возможность разумной или, если хотите, осмысленной, целенаправленной деятельности? — А почему бы нет? Мир насекомых являет нам множество примеров удивительно сложной организации коллективов, удивительной целесообразности, почти разумности их действий. Доктор Ширер возмутился: — Я не берусь судить о сложных биологических проблемах, тем более в области энтомологии, я просто не знаю этого предмета, но я физик, и я знаю, что муравьи не могут пользоваться лазерами! — Я согласен. Теми лазерами, которые установлены в лаборатории доктора Хальбера, но... может быть, для того чтобы сделать круглую дыру в окне, и не нужен такой лазер? Жучок-древоточец может изрезать на куски мой книжный шкаф, не пользуясь вообще никакой техникой. — Но здесь мы имеем дело с металлом и стеклом! — Но вы же знаете, как в тропических странах трудно защитить оптические приборы от разрушительной деятельности микроорганизмов! — Так вы утверждаете, что это отверстие в окне сделано муравьями? — Я ничего не утверждаю. Я только хочу разобраться в фактах. Ширер взял со стола отрезанную часть окуляра микроскопа. Сдвинув на лоб очки и близоруко щуря глаза, он разглядывал линию среза. — Нет, доктор Нерст, — сказал он, — это не могло быть сделано без применения высокотемпературных воздействий. А насколько мне известно, из всех животных пользоваться огнем умеет лишь человек. Но даже если допустить, что это сделано путем каких-то механических или химических средств, то все равно это предусматривает наличие определенной технической культуры, чего не может быть у насекомых. Нерст загадочно улыбался, как человек, придержавший на конец вечера самый занятный анекдот. — Я видел сегодня удивительные вещи, доктор Ширер. — Более удивительные, чем это? — Ширер держал в руках кусок окуляра. — Не менее удивительные. Сегодня утром у меня был корреспондент местной газеты мистер Фишер. Это довольно энергичный молодой человек, которому очень хочется сделать карьеру. И, надо сказать, он сумел собрать интересные факты. Я был с ним на автомобильном кладбище и видел своими глазами, как эти серые муравьи добывают металл из разбитых машин. И не только металл. Из оставшихся в машинах транзисторных приемников они извлекают германий. Скажите, насколько мне известно, основа лазера — рубиновый стержень? — Ну, не только рубиновый. Сейчас есть конструкции и на других материалах. Но в первых лазерах применялись рубины. — Сегодня ночью из ювелирного магазина похищены все рубины, и только рубины. И, так же как здесь, никаких следов взлома, только оплавленная дыра в стекле... — Вы шутите, доктор Нерст? — Это факты, доктор Ширер. И далеко не все, которые мне известны. Мне кажется, мы стоим на пороге научного открытия огромной важности, и я приложу все усилия, чтобы довести его до конца. Но материал этого исследования выходит за рамки чисто биологических проблем — здесь, вероятно, придется решать ряд физико-технических вопросов, в которых я плохо ориентируюсь. Поэтому я предлагаю вам, как физику, принять участие в этой работе. — Если я вас правильно понял, доктор Нерст, вы обнаружили — или думаете, что обнаружили — у этих муравьев достаточно развитую способность к биологической радиосвязи, способность обмена информацией, нечто подобное нашей способности выражать мысли словами? — Ну, пожалуй, словами — это слишком сильно сказано. Я имею в виду возможность обмена информацией. Нечто подобное, но значительно более совершенное, чем язык пчел, многократно описанный в литературе. — Хорошо. Далее, вы предполагаете у этих муравьев некоторую, скажем прямо, техническую культуру? Они добывают германий из старых автомобилей, рубины из наших колец и делают из них лазеры, с помощью которых могут вырезать подобные дырки в стекле? — Дорогой доктор Ширер, конечно, относительно рубиновых лазеров это я пошутил. Пошутил для того, чтобы вас больше заинтриговать. Я не могу сейчас дать исчерпывающее объяснение того, каким способом было сделано это отверстие в стекле, но считаю наиболее вероятным все же то объяснение, которое было высказано вами, то есть: кто-то экспериментировал с лазером если не в лаборатории Хальбера, то в другой, — это, вероятно, выяснится в ближайшие дни. Я должен допустить возможность симбиоза между новым видом муравья и новым, тоже не изученным видом стрекоз. На это у нас есть документальное подтверждение в виде кинопленки. Далее я допускаю, что муравьи, в силу тех или иных особенностей своего эволюционного развития, приобрели способность, проще говоря, научились как-то использовать не только естественные, природные продукты вроде земли, хвойных игл или древесной коры, но и специфические продукты деятельности человека — некоторые металлы и минералы. Это тоже подтверждается прямыми наблюдениями. Вот, собственно, все, что я могу сейчас утверждать. И все это представляется мне более чем достаточным для того, чтобы новый муравей, которого я пока условно назвал «формика нерстис», стал предметом подробного научного исследования. И мне хотелось бы рассчитывать в этом деле на вашу помощь и непосредственное участие. — Ну, это уже реальная постановка вопроса, — ответил доктор Ширер. — Не знаю, смогу ли я действительно быть вам полезным, но, во всяком случае, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь в этой работе.
21
Утром через несколько дней.— Том!.. Том, ты взял в кухне дозиметр? — Да. — Том, надень противогаз! — Я надену его, когда мы будем в лесу. Иди в дом Салли и не выходи, пока я не вернусь... Не так, Мораес, кладите его туда... Том Рэнди и Васко Мораес укладывали в машину бидоны с ядохимикатами. Они оба были одеты в защитные костюмы из мутно-прозрачного пластика и поэтому походили на рабочих с атомной станции. Салли Рэнди, в унылом черном платьице стояла, крепко сцепив руки, и в этом трагическом и скорбном жесте отражалось бессилие и молчаливая стойкость женщины. Так же в давние времена стояли рыбачки на пристанях, глядя вслед уходящим в море парусникам; так же стояли жены и матери на околицах деревень, провожая мужчин на войну. — Том, я поеду с тобой. Я буду сидеть в машине, когда вы пойдете в лес. Я не могу оставаться дома одна... — А где воздух, Мораес? Вы положили баллоны с воздухом? — Я положил четыре баллона, босс, они под задним сиденьем. Рэнди повернулся к жене: — Тебе лучше оставаться дома, Салли. Мы скоро вернемся. — Я не могу оставаться одна дома. Я не могу, Том. Я все время буду... — Салли не договорила. Ее лицо стянула судорога душевной боли, и она стала совсем непохожа на себя. Мораес сочувственно посмотрел на нее. — Миссис Рэнди могла бы нам помочь... — тихо сказал он. — Если она будет сидеть в закрытой машине, пока мы будем в лесу... — Я буду сидеть в закрытой машине, — повторила Салли. — Я никуда не выйду. Я не могу оставаться одна дома... Рэнди взглянул на часы. — Нам пора ехать, — сказал он. — Там, наверно, уже все собрались... — Он посмотрел на жену. — Садись, Салли. Но ты никуда не выйдешь из машины... Когда они подъехали к опушке леса, там уже стояло несколько пикапов и грузовиков соседних фермеров. Мужчины сгружали с машин бидоны с растворами, лопаты, переносные опрыскиватели. Большинство фермеров были одеты в защитные костюмы, которые употребляются для работы с ядами, другие были в своих обычных комбинезонах, в куртках из грубой материи и выцветших джинсах. Некоторые были серьезны и озабоченны; другие, наоборот, пришли сюда, как на воскресный пикник. Некоторые уже успели выпить, у других недвусмысленно топорщились задние карманы брюк. Это было неорганизованное скопище мужчин — крепких и сильных, привыкших много и тяжело работать, умеющих каждый в отдельности хорошо постоять за себя, знающих и любящих свой труд, умеющих выдержать годы засухи или падения цен, прижимистых, кряжистых индивидуалистов, которым чуждо понятие коллективизма. Здесь каждый привык сам единолично решать свои дела, распоряжаться своей судьбой. Сейчас, взбудораженные газетными сообщениями и липкой плесенью сплетен о ядовитых муравьях, они собрались на опушке леса для того, чтобы, может быть, впервые в своей жизни сообща выступить против невидимого и непонятного врага. Они вооружились привычными им орудиями борьбы; они хорошо знали, как нужно истреблять насекомых-вредителей, и, несмотря на разговоры о смертельной опасности, не очень-то серьезно относились к намеченной акции. Человечество еще слишком недавно выяснило, сколь грозными могут быть невидимые и незаметные враги. Люди просто еще не привыкли, не научились по-настоящему бояться крошечных, слабых и почти беззащитных насекомых, страшных не своей силой, а своим количеством и чудовищной способностью к размножению. За тысячи лет эволюции человек приучился бояться стихийных бедствий, ураганов и наводнений, пожаров, землетрясений, диких зверей и больше всего самого себя, своих сородичей. Сколько бы жизней ни уносили ежегодно укусы насекомых, с ними трудно связать чувство страха или опасности, может быть, потому, что уж очень ничтожен живой организм, таящий угрозу. Современный обыватель скорее испугается бодливой коровы, чем ползущей по руке тифозной вши. А муравьи? С ними еще труднее связывалось представление о какой-то опасности. Слишком ярки у каждого привычные с детства представления о муравейнике, где они копошатся, как люди в большом универмаге. К машине подошел Рэй Гэтс — рослый парень в клетчатой куртке. — Хэлло, Рэнди, — сказал он, — ты слышал, у Бэдшоу твои муравьи съели свинью, прямо так всю и облепили. Он ее нашел сегодня утром на выгоне. — Смотри, как бы тебя самого не съели, надел бы комбинезон. — Он ее залил бензином и сжег. Воняло на всю округу. Вот смеху-то... — Парень переложил жвачку за другую щеку. — А ты сам их видел? Они, что же, очень больно кусаются? Рэнди не ответил. Гэтс постоял и пошел дальше жевать свою резинку. Фермеры стояли отдельными кучками, толкуя о видах на урожай, ценах на удобрения, прогнозах погоды и о свинье, которую съели муравьи. Никто не хотел или не мог взять на себя роль вожака, стать той организующей силой, которая могла бы превратить это сборище людей в коллектив. Стоял тихий, безветренный день, и в воздухе летали стрекозы. Рэнди помогал Мораесу надеть на плечи баллоны с ядохимикатами и сжатым воздухом. Подошел, неуклюже размахивая руками, высокий, седой, сутулый Бэдшоу. Он только что основательно приложился к своей фляжке и был в приподнятом настроении. — Я с Хьюгом и Смитом пойдем напрямик отсюда к федеральной дороге, — сказал он и кивнул в сторону леса. — А ты? Мораес пошевелил плечами, проверяя, удобно ли держатся тяжелые баллоны. — Так хорошо, босс, о'кей. Рэнди повернулся к Бэдшоу: — Я думаю, нам надо держаться цепью. Нужно прочесать весь лес, иначе зря затеяли всю эту кутерьму. Кое-кто из фермеров, вскинув на плечи опрыскиватели и держа в руках лопаты, уже шел к лесу. Бэдшоу сложил рупором ладони и крикнул: — Э-гей! Джентльмены! Рэнди говорит — нужно построиться цепью! Некоторые задержались, другие, не обращая внимания, продолжали топтаться на месте, подготавливая свое снаряжение. Большинство видело в этом мероприятии скорее развлечение, чем необходимость. Бэдшоу подошел к ближайшей машине и несколько раз нажал сигнал. Тогда все обернулись. — Джентльмены, Рэнди предлагает идти цепью, — повторил Бэдшоу. Послышались возгласы согласия и возражений. Никто из собравшихся, кроме немногих поденщиков вроде Мораеса, не привык подчиняться, но в то же время каждый на своем опыте знал роль организованности и умел ценить порядок в работе. Прошло некоторое время в бестолковых спорах и пустых препирательствах, прежде чем выстроилась неровная цепь добровольцев. По команде Бэдшоу они двинулись в лес. Фермеры шли на расстоянии примерно сотни шагов один от другого, стараясь не терять друг друга из виду. — Том, надень противогаз! — крикнула напоследок Салли. Не дождавшись ответа, она подняла стекла машины. Наступила тишина, и было слышно только тикание автомобильных часов. Последний из фермеров скрылся за кустами, росшими вдоль опушки. Мораес медленно брел в тишине леса. Слева за деревьями маячил белесый силуэт Рэнди, соседа справа Мораес потерял из виду. Он внимательно вглядывался в лесную чащу, стараясь не пропустить муравейника. Некоторые люди боятся лесов. С Мораесом этого никогда не бывало. Наоборот, нигде он не чувствовал себя так спокойно и уверенно, как в лесу. Быть может, в этом сказывались тысячелетние навыки его предков, живших в гилеях Бразилии, быть может, просто ему был глубоко чужд машинизированный быт Америки, быт, в котором о» так и не сумел отвоевать себе место. В лесу, в непосредственном общении с природой, он освобождался от постоянно давившего его чувства собственной неполноценности, ощущения, что он чем-то хуже других, этих сытых, веселых, самодовольных янки. Растянувшаяся цепочка фермеров углубилась в лес уже на порядочное расстояние, что-нибудь около мили, может быть больше, но никто еще не заметил никаких следов муравьев. Некоторые начинали сомневаться в том, существуют ли вообще эти ядовитые муравьи. Многие испытывали смутное чувство неуверенности в темном лесу. С тех пор как фермы стали отапливаться нефтью и углем, а доски и бревна стали покупаться на городских складах, фермерам уже не за чем было ходить в лес. Их жизнь целиком протекала на автомобильных дорогах и на территории фермы, среди обработанных полей и высаженных по линейке фруктовых деревьев. Живя в деревне, они меньше сталкивались с не тронутой человеком, дикой природой, чем иной горожанин, регулярно проводящий конец недели в туристских походах. В этом смысле Мораес представлял исключение. Кочуя по стране в поисках заработка, он часто останавливался на ночевку в лесу, и такое возвращение к первобытному образу жизни было для него не развлечением, а необходимостью. Плотный комбинезон плохо пропускал воздух. Мораес сильно вспотел и до половины расстегнул «молнию». Снятый респиратор болтался у него на груди. Справа и спереди в глубине леса послышался шум голосов и громкая ругань. Мораес подал знак Рэнди и стал забирать правее. Среди деревьев он увидел группу фермеров, которые с криком и смехом разоряли муравейник. Это была самая обычная муравьиная куча, какие сотнями встречаются в каждом лесу. Рыжие лесные муравьи копошились в развалинах своего гнезда. Бэдшоу лопатой разбрасывал муравейник, а трое других фермеров поливали все вокруг из своих опрыскивателей. Сильно пахло гексахлораном. От выпитого бренди Бэдшоу раскраснелся. Мстя за гибель свиньи, он дал волю своей ярости собственника. Он вонзал в муравейник лопату, как меч в тело поверженного врага. Его комбинезон был расстегнут, и на шее вздулись багровые жилы. — Это не те муравьи, сэр, — сказал подошедший Мораес. — Те гораздо крупнее и другого цвета. Те серые, а это обычные лесные муравьи. Они совсем не опасные. Бэдшоу продолжал свою безумную пляску победителя над разоренным муравейником. — Откуда я знаю, какие это муравьи! Они съели мою свинью, и мы их всех уничтожим! Всех до единого! — Он шлепнул себя по шее, скидывая муравья. — Хьюг, брызни-ка вон туда, надо облить все вокруг, они могут прятаться и на деревь... Бэдшоу не договорил. Он оперся на лопату и начал медленно оседать. Мораес не успел его подхватить, и Бэдшоу тяжело упал в разворошенный муравейник. Хьюг в десяти шагах от него все еще поливал ствол дерева. Мораес затянул «молнию» и накинул на голову капюшон. Подбежал Рэнди. Ом тоже был в расстегнутом комбинезоне и без противогаза. Мораес крикнул ему, чтобы он закрылся. По трупу Бэдшоу уже ползали рыжие муравьи, но среди них Мораес увидел несколько уже знакомых ему, крупных серых. Мораес направил на них струю ядохимиката. Муравьи скорчились и замерли. — Надевайте противогазы! — крикнул Мораес подбегавшим фермерам. — Надо облить все вокруг, надо облить одежду! — Он задохнулся от едкого запаха и натянул противогаз. Не спрашивая согласия, он направил струю распылителя на Рэнди, потом на себя. Люди бестолково топтались вокруг, не зная, что делать, боясь прикоснуться к трупу и еще не осознав до конца опасности, боясь за себя и еще не понимая, что серая смерть каждую секунду может упасть на них с любой ветки. Рэнди знаками показал Мораесу, что надо поднять тело и перенести его в сторону от муравейника. Мораес кивнул. Он остановил Рэнди, когда тот хотел взяться за плечи умершего. — Руки. Берегите руки, — сказал он. В противогазе голос звучал глухо и непохоже. Рэнди отдернул руки и сразу вспомнил о сыне. Мораес тоже об этом подумал и почувствовал неловкость. Может быть, не следовало так прямо напоминать о том, как умер мальчик. Вдвоем они перевернули тело на спину и немного оттащили его от муравейника. На груди у Бэдшоу шевелился серый муравей. Вокруг собралась толпа. Это была именно толпа, возмущенная, негодующая, испуганная и озлобленная, руководствующаяся не здравым смыслом, не разумной волей, а стихийным чувством толпы, жестоким, трусливым и нелогичным. Такие толпы с ревом и свистом гонялись за неграми, спасающими свою жизнь; громили еврейские магазины в чистеньких немецких городках; давя друг друга, спасались из горящих зданий во время чикагских пожаров и выли от восторга, когда на аренах римских цирков голодные звери рвали на куски живых людей. Рэнди еще раз облил тело Бэдшоу гексахлораном. Толпа шумела и волновалась. Рэй Гэтс, тот, который отказался надеть комбинезон, все жевал свою жвачку. Должно быть, он почувствовал укус или просто прикосновение колючей ветки, потому что вдруг замотал головой, затопал, завертелся на месте, отмахиваясь от невидимого врага, и, завернув на голову свою клетчатую куртку, побежал из леса. — Надо перенести тело в машину, — сказал Рэнди. — Не бойтесь, они здесь все уже мертвые... И он и муравьи... Толкаясь, мешая друг другу, фермеры подняли труп. Сейчас тут собрались почти все отправившиеся в лес и каждый был рад поводу прекратить поиски серых муравьев и вернуться домой. Каждый мог найти достаточно оснований для этого. Одни говорили себе, что их фермы далеко от леса, — пускай уничтожают муравьев те, чьи участки ближе. Другие все еще надеялись, что их-то это не коснется, подобно тому, как люди отгоняют от себя мысли о раковой опухоли. Наконец, третьи, наиболее трезвые, полагали, что и без них все равно кто-нибудь обязательно уничтожит муравьев, если они вредны и опасны для людей. Эта слепая вера в разумность и всемогущество человеческого общества, обеспечившего им такой удобный и комфортабельный американский образ жизни, побуждала сейчас каждого из них сложить с себя все моральные обязательства перед коллективом. Каждый привык к тому распорядку вещей, при котором он отвечает лишь за себя и за свое. Если испортится его машина, он будет ее чинить, потому что это его машина. Если протекла крыша в доме, он залатает ее, потому что это его крыша над его домом, где живет его семья. Что же касается интересов общества в целом, отвлеченных вопросов о том, откуда берется бензин в колонках, кто ремонтирует дороги и строит мосты, кто заботится об охране лесов и уничтожении вредных насекомых, — об этом они позволяли себе не думать, ограничиваясь тем, что за все это платили деньги: наличными или чеками, в форме прямых или косвенных, штатных или федеральных налогов. Поэтому, рассуждали они, те, кто получает эти деньги, те пускай и заботятся об их безопасности, тем более что сама опасность была какой-то эфемерной, нереальной, почти невидимой и пока коснулась только двух из них — тех, чьи фермы были расположены ближе к лесу. Когда Рэнди спросил, кто из фермеров пойдет с ним дальше, чтобы довести до конца начатое дело, никто не откликнулся. Толпа растаяла, как после уличного происшествия, когда предлагают записываться в свидетели. Мораес и Рэнди остались одни. — Надо бы предупредить миссис Салли, — сказал Мораес. — Она будет волноваться... Рэнди догнал одного из фермеров. Мораес видел, как он что-то ему втолковывал, а фермер нетерпеливо кивал головой, поглядывая на уходящих. — Я просил передать ей, чтобы она подогнала машину к повороту у сорок второй мили на федеральном шоссе, — сказал, вернувшись, Рэнди. — Пускай там дожидается нас, а мы пересечем лес напрямик... Пошли. Они снова разошлись на расстояние голоса. Мораес сдвинул противогаз, чтобы удобнее было дышать. Он по-прежнему не испытывал страха, только стал более осторожным. То, что в лесу скрывается смертельная опасность, было для него естественным, привычным с детских лет фактом. Идти по лесу представлялось ему не более опасным, чем ехать по шоссе в своем старом автомобиле. Мораес никогда не читал статистических данных и не знал, что в Соединенных Штатах ежегодно от автомобильных катастроф погибает во много раз больше людей, чем в лесах Бразилии от укусов ядовитых животных. Он спокойно и неторопливо шел между деревьями, поглядывая, не появится ли где-нибудь серая цепочка ползущих муравьев. Но лес был тих, молчалив и безжизнен.
Салли Рэнди остановила машину у выезда на магистраль.Она развернула ее так, чтобы через ветровое стекло была хорошо видна опушка леса, откуда должны показаться Рэнди и Мораес. Она заглушила двигатель и приготовилась ждать.
Мужчины брели по лесу, избегая чащоб и кустарников, стараясь реже задевать густые, нависшие ветки, в листве которых могли скрываться серые муравьи. В тишине леса Мораес услышал негромкое жужжание. Большая серая стрекоза пролетела мимо, развернулась и описала круг около того места, где остановился Мораес. Стрекоза была очень крупная, и ее прозрачные крылья издавали ровное гудение. В воздухе запахло озоном. «Такой же запах был утром на ферме, когда муравей укусил Дэви...» Стрекоза стала летать кругами, постепенно приближаясь к Мораесу. Повинуясь мальчишескому импульсу, он размахнулся саперной лопаткой, как бейсбольной битой, но стрекоза увернулась от удара; она отлетела на такое расстояние, чтобы он не мог ее достать, и неподвижно повисла в воздухе, уставившись на Мораеса большими выпуклыми глазами. Мораес направил на нее шланг распылителя и сразу открыл клапан. Сильная струя жидкости попала в насекомое. Стрекоза перевернулась в воздухе и упала на траву. Мораес подбежал и нагнулся. Облитая маслянистой жидкостью, она была неподвижна. Мораес обломил сухой прутик и пошевелил стрекозу. От нее отделился и упал на землю скрюченный мертвый муравей. Мораесу никогда не приходилось видеть таких стрекоз. Ее толстое тело казалось сделанным из металла. Он осторожно приподнял стрекозу — она была очень тяжелой. Ему показалось, что она пошевелилась, и он выпустил ее из пальцев. Стрекоза упала. Он слегка придавил ее ногой. Стрекоза хрустнула, как пластмассовая игрушка. — Что вы нашли? — спросил подошедший Рэнди. Мораес показал. — Я ее только немножко придавил, чтобы она не шевелилась. Я, пожалуй, отдам ее этому типу из газеты. Он остался мне должен пятьдесят монет, — ответил Мораес, поднимая мертвую стрекозу.
Салли Рэнди неподвижно сидела в машине, опершись на рулевое колесо, подавшись всем телом вперед, словно для того, чтобы быть поближе к лесу, и терпеливо смотрела на опушку. За спиной у нее по шоссе проносились машины — она их не слышала. Солнце сперва светило слева, и на приборной доске был яркий блик. Потом оно стало светить спереди, и приборы на щитке оказались в тени. Потом солнце скрылось за облаками и снова показалось, уже невысоко над деревьями. Она ждала. Она ни разу не изменила позы и не чувствовала, как затекли у нее руки и ноги от этой неподвижности. Том просил ее подождать, и она ждала. Она не делала никаких предположений и даже не волновалась. Она ждала. Упрямо и терпеливо. Солнце стало светить через ветровое стекло ей в глаза. Стало трудно смотреть на темную стену леса. Она опустила щиток затенителя и снова заняла прежнюю позу. Ей совсем не хотелось двигаться. Она просто ждала. Ждала, упрямо глядя на высокие стволы елей, на кусты вдоль опушки, на редкие молодые одинокие деревца, как бы выбежавшие из леса поближе к шоссе, чтобы поглазеть на дорогу. Она смотрела на все это зеленое великолепие и ждала. И все же она пропустила тот момент, когда они выходили из лесу. Она увидела их уже совсем близко, идущих по обочине дороги, усталых и озабоченных. Тогда она включила зажигание, чтобы прогреть остывший двигатель, и стала развертывать пакет с бутербродами.
22
8 июля. 10 часов 35 минут.— Если я вас правильно понял, — сказал доктор Нерст, — муравейника вы так и не нашли? — Нет, сэр, муравейника мы не нашли. То есть мы нашли то место, где он должен быть, но мы не могли туда пройти... Мораес был смущен сверкающей белизной университетской лаборатории, непонятными приборами на столах и пристальным вниманием ученых джентльменов, которые слишком серьезно расспрашивали его о том, чему он сам не придавал особого значения. — То есть мы могли бы туда пройти, — продолжал он, — там не было ничего особенного, но босс, мистер Рэнди, сказал, что дальше идти нельзя. У него была такая штучка, которой хозяйки проверяют продукты на радиоактивность, и она показала, что дальше очень сильная радиация и людям нельзя туда ходить, но я совсем ничего не чувствовал и мог бы пройти и дальше, если бы мистер Рэнди не велел возвращаться, но он сказал: дальше ходить нельзя... Мы видели там дороги, которые сделали муравьи, а дальше за деревьями было озеро... — Это, вероятно, то самое место, о котором я вам говорил, — сказал Нерст, обращаясь к Ширеру. Ширер кивнул и ничего не ответил. — И больше вы ничего не видели? — спросил Нерст. — Нет, сэр, но я нашел... — Мораес нашел кое-что весьма интересное, — перебил Ган Фишер. До этого он сидел молча, не принимая участия в беседе. — Я никогда не видал ничего подобного, — продолжал он. — Как только Мораес принес мне свою находку, я сразу подумал: это нужно показать вам. Ган Фишер вытащил из кармана помятую пачку сигарет и протянул ее Нерсту. — Что это? — спросил Нерст. — Стрекоза. — Стрекоза? Нерст осторожно раскрыл пачку. В комнате запахло гексахлораном. В картонном пакетике лежало основательно помятое насекомое. Нерст потянулся за пинцетом, и Линда Брукс подала ему инструмент, как это делают ассистенты хирурга на операции. Нерст освободил стрекозу от прилипшей бумаги и положил ее на белую поверхность стола. Стрекоза была слегка расплющена тяжелым сапогом Мораеса, крылья наполовину обломаны, и вся она была залита маслянистым пахучим раствором инсектицида. — Вы нашли ее в лесу? — спросил Нерст. — Да, — ответил Фишер. — Нет, Мораес поймал ее, когда она собиралась его укусить. Расскажите, Мораес, как было дело. Бразилец довольно связно рассказал, как ему удалось сбить стрекозу струей из опрыскивателя. — Это было совсем просто, — добавил он. Нерст пошевелил насекомое пинцетом, расправил крылья и осторожно снял прилипшие крошки табака. — Прежде всего ее нужно промыть, — сказал Нерст и передал пинцет ассистентке. Мисс Брукс осторожно приподняла стрекозу. — Она очень тяжелая, доктор Нерст, — сказала она. — Мне показалось, что она вроде как бы металлическая, — неуверенно заметил Фишер. — Что вы об этом думаете, доктор? — Пока — ничего. Но, насколько можно судить с первого взгляда, это не стрекоза, — ответил Нерст. — Во всяком случае, это не то насекомое, которое можно отнести к отряду одоната — стрекоз, хотя внешне оно очень их напоминает. — Новый вид? Так же, как муравьи? — Подождем, пока мисс Брукс приведет ее в порядок. Вы сказали, мистер Мораес, что видели около этой стрекозы муравья? — Да, сэр. — Мораес опять смутился, потому что не привык, чтобы к нему обращались «мистер Мораес». — Когда она лежала в траве, рядом с ней ползал серый муравей, но я не стал его подбирать... — Он был рядом или на ней? — Он корчился на листке травы, там, где упала стрекоза. Мисс Брукс подала Нерсту стеклянную пластинку, на которой лежала промытая и очищенная от грязи стрекоза. Она была гораздо крупнее тех обычных стрекоз, которые летают над ручьями в летние дни. Ее тело достигало почти четырех дюймов в длину и было немного тоньше обычного карандаша. Оно состояло из нескольких сегментов, поблескивающих, как вороненый металл. Хрупкие, прозрачные крылья были покрыты сетью жилок, имеющих неестественно правильную геометрическую форму. Голова почти целиком состояла из двух полушарий фасеточных глаз. Грудь и брюшко были раздавлены, блестящий темный покров потрескался и как бы раскололся. Нерст, осторожно действуя пинцетом, отделил кусочек чешуйки и перенес его под микроскоп. Он долго молча рассматривал его, а потом сказал: — Я отлично понимаю, что этого не может быть, и тем не менее это так. Посмотрите, Лестер, что вы на это скажете? Доктор Ширер нагнулся к микроскопу. Он снял очки и настроил окуляр по своему зрению. — Мне кажется... Это здорово похоже на металл... Особенно на линии излома заметен металлический блеск... Вы полагаете, что это... — Да. Нерст, нагнувшись над столом, разглядывал в лупу открывшуюся внутренность стрекозы. Он видел спутанные клубки тончайших нитей, разорванные полупрозрачные пленки, помятые трубочки и какое-то подобие микроскопических сот, черных и блестящих, словно они были из графита. Все это ничем не напоминало внутренности раздавленного насекомого. — Позвольте, я положу это под микроскоп, — сказал Нерст. — Моя лупа недостаточно сильная... Ширер уступил место у микроскопа. Мораес, Фишер и Линда Брукс молча следили за тем, что делал Нерст. Для каждого из них его действия имели свой смысл, свое содержание. Линда Брукс глядела на седеющий затылок Нерста и по его неподвижности угадывала то сосредоточенное внимание и напряжение, с которым он разглядывал новый для него объект исследования. Скупые движения его пальцев, поворачивающих кремальеры микроскопа, были ясны и понятны — сейчас он изменил увеличение, но это ему показалось неудобным, и он вернулся к прежнему масштабу... Он старается увидеть что-то в правом краю поля зрения и немного передвигает объект... Изменяет фокусировку осветителя для того, чтобы получить более контрастное изображение... Он очень заинтересован тем, что видит, но не хочет ничего говорить, пока не придет к определенным выводам... Ган Фишер искал в поведении Нерста подтверждения своим смутным догадкам — догадкам, в справедливость которых сам боялся поверить. По недостатку образования он не мог оценить всю невероятность своих предположений; наше время слишком полно необычным, и профан, читая о новинках кибернетики, разглядывая фотографии лунных пейзажей, пользуясь бытовой электроникой, перестает удивляться чудесам науки и теряет способность правильной оценки возможного в технике. Для профана стирается грань между реальностью и фантастикой, он привыкает к мысли, что все возможно, и не задумывается над тем, каким чудом является его транзисторный приемник. Когда Ган Фишер впервые увидел «стрекозу», у него сразу возникли некоторые предположения столь сенсационного характера, что если бы они оправдались, то это сыграло бы решающую роль в его карьере журналиста. Мораес, в свою очередь, глядел на действия Нерста, как на очередное колдовство белых людей, недоступное его пониманию, но могущее иногда приносить реальную пользу. Он уже получил свои пятьдесят долларов от Фишера и теперь думал о том, что этот седой джентльмен, который возится со своей машинкой, мог бы, вероятно, заплатить и вдвое больше за раздавленную стрекозу, если бы он сразу к нему обратился. Нерст уступил место у микроскопа доктору Ширеру. Тот молча, так же как и Нерст, в течение нескольких минут разглядывал объект под микроскопом, потом повернулся к Нерсту, встретился с ним взглядом и сказал: — Да. — Теперь многое становится понятным, — сказал Нерст. — И все колоссально усложняется, — заметил Ширер. — Ну, так что вы там увидели? — спросил Фишер. Вместо ответа Нерст подошел к микроскопу и переключил изображение на проекционный экран, так, что теперь его могли видеть все присутствующие. При рассматривании мелких объектов на экране обычно теряется ощущение масштаба. То, что сейчас было видно, весьма мало напоминало внутренности насекомого. Это было местами хаотическое, местами строго упорядоченное переплетение каких-то трубопроводов, тончайших нитей, похожих на провода, мутно-серых или почти черных деталей, разорванных клочьев полупрозрачной пленки и шарнирных соединений, словно бы сделанных из металла. — Похоже на сломанный кукурузный комбайн, — сказал Мораес. — Или на радиоприемник, если с него снять крышку, — заметила мисс Брукс. — Или на коммуникации нефтеочистительного завода... Нет, пожалуй, все же больше на механизм телевизора, по которому проехались на тракторе, — сказал Фишер. — Никогда не думал, что насекомые могут быть устроены так сложно. Какое здесь увеличение, доктор? — Около двухсот раз. Это не насекомое, мистер Фишер. То, что вы видите, — это не живой организм, а искусственно созданный механизм. Это не биологический объект, это продукт весьма развитой технической культуры. — Вы хотите сказать, что эта стрекоза... — Это не стрекоза, мистер Фишер. Это искусственно построенный летательный аппарат. Мы еще ничего не знаем об его устройстве, о принципе действия или конструкции, но то, что мы видим, не оставляет сомнения в том, что ни природа, ни человек, со всей его техникой, не смогли бы создать ничего подобного. — Кто же тогда его сделал? — спросил Фишер. — Муравьи... — торжественно сказал Нерст.
Рафаил Нудельман ТРИЖДЫ ТРИДЦАТОЕ ИЮНЯ
РАССКАЗЫВАЕТ КОЛЬКА КОРНИЛОВ
Мы с Валькой уговорились с утра идти купаться. Валька обещал, что зайдет за мной со своим Рексом. У Вальки расписание — он своего Рекса каждое утро гулять выводит ровно в семь часов. Рекс до того к расписанию привык, что, если Валька вовремя не соберется, он сам подходит к двери и начинает лаять. Гавкнет три раза, подождет, потом опять три раза. Валька говорит, что у всех животных есть такие часы, биологические, и животные могут по ним очень точно время узнавать. И у людей будто бы такие часы есть. Но я у себя этого не замечаю. Я, например, сколько угодно могу спать. А толково было бы — ложишься и сам себе говоришь: «Колька, проснись ровно в восемь!» Ты спишь, а эти часы идут себе да идут, а как подойдут к восьми — у тебя в голове вроде звонок звенит. Валька может себя на любой час настроить, чтобы проснуться, а я не могу. Меня мама будит, когда на работу идет. Но на этот раз я будильник завел на полвосьмого, а то Валька уже сколько раз меня ругал: «Кричишь тебе, кричишь, прямо охрипнешь, и Рекс надрывается, а ты непробудимый какой-то!» Будильник зазвенел над ухом, я открыл глаза и с перепугу даже не понял, что это гремит. Потом слышу: в кухне отец с матерью разговаривают. Мама спрашивает: — Ты сегодня поздно вернешься? А он говорит: — Да вряд ли. Мама молчала-молчала, потом спрашивает: — А это неопасно, Леша? Отец говорит: — Какая там опасность, что ты! Мы же не атомную бомбу испытываем. Тут я вспомнил, что у отца в институте сегодня испытания. К ним из Москвы должны приехать, и из Новосибирска, и еще откуда-то. Потом отец из передней закричал, что его шикарная шариковая ручка куда-то задевалась. Мама сказала в кухне: — Господи, опять он ее посеял, — и пошла искать эту самую ручку. Отец ее все время теряет, а мы с мамой ищем, потому что он говорит, будто эта ручка ему думать помогает. Хлопнула дверь, я вскочил и первым делом стал смотреть в окно. Законная погода — главное, что туч нет, а то я боялся, что дождь будет, как вчера. Тут мама вошла в комнату и удивилась: — Чего это ты ни свет ни заря вскочил? Я сказал, что мы с Валькой на речку идем. — Ну, идите, — говорит мама, — только чтобы никаких марафонских заплывов. И в четыре ноль-ноль чтобы дома быть! Купишь хлеба, масла двести граммов, колбасы триста. Я сказал: — Есть! — и на кухню побежал. Я теперь твердо решил со своим режимом бороться. Мы вчера мерились мускулами с Эдиком и Валькой, у меня мускулы оказались всех слабее. Валька назло мне говорит: «Это он спит слишком много, у него мускулам развиваться некогда». А Эдик стал про футболистов рассказывать, как они силовую зарядку делают. Ну, я тоже решил теперь зарядку делать. Вытащил я старый чугунный утюг — он у нас под плитой валяется — и стал его поднимать. Правой выжал десять раз, а левой всего семь. Он у меня вырвался из руки и как грохнется! Мама вбежала и спрашивает, кто это тут дом ломает. Я говорю, что никто его не ломает, просто у меня утюг упал, с непривычки, потому что я зарядку делал. И еще душ буду принимать. Про душ я прямо тут же на месте решил. Мама подумала и сказала: — Ладно. Только не забудь кран хорошо закрутить, а то он течет. И вытрись полотенцем. Вода была ужас до чего холодная, прямо колючая какая-то, я до десяти счетов простоял, а потом не утерпел и выскочил. Надо мне будет каждый день по одному счету набавлять. Пока я зубы чистил, мама собралась на работу, открыла дверь и насчет крана спросила. У меня изо рта паста текла, я только головой помотал, что закрыл. Мама про завтрак еще сказала, что он в кухне, и ушла, а я домываться остался. Потом я сардельки съел, чаем запил, кусок сахара прихватил для Рекса — он сахар очень любит — и пошел вниз. Лучше, думаю, Вальку на улице подождать, а то одному дома скучно. Возле нашего парадного девочка землю ногой ковыряла. Это Тимофеевых Лидка, которые над нами живут, ей три года всего, но она все равно вредная очень. Когда окна открыты, у нас все слышно, как она орет, даже уроки нельзя готовить. За мной сразу Лидкин отец вышел, наверно в сад ее вести, а она от него стала убегать и рожи корчить. Он ее догнал и за руку дернул, чтоб остановить, и тут она как заорет! Дальше я не смотрел, а пошел на улицу. Только я завернул за угол, Рекс на меня со всего размаха налетел. Встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи и в глаза смотрит: сахару ждет. Тут Валька подошел, крикнул на Рекса и очень удивился, что я так рано встал и даже на улицу вышел. Будто он один рано встает! Мы пошли, и тут Валька говорит, чтобы на тот берег идти, там все наши ребята собираются. А на том берегу мелко, там неинтересно купаться. Я говорю: — Давай на этом сначала, а потом на тот сходим. Мы спустились по откосу, выбрали себе место и разделись. Вода была теплая, в самый раз, — даже Рекс полез, только он сразу выскочил и стал по берегу носиться как ошпаренный. Мы вылезли и только легли загорать, а тут дядя Митя пришел. Он работает на радиозаводе, а живет возле реки. У него моторная лодка классная, он нас два раза на ней катал. На моторке кататься очень здорово, когда у нее нос задирается и она прямо как по воздуху летит. Дядя Митя пришел и спрашивает, кто помочь хочет: ему на тот берег в Заречную надо съездить и чтобы там моторку постеречь. Мы с Валькой обрадовались и в моторку полезли. Дядя Митя не к пляжу рулил, а ниже по течению, мы прямо возле институтского забора к берегу подошли. Это тот самый институт, где мой отец работает. У них там территория большая, ее всю огородили кирпичным забором, таким, Чтоб не лазили кому не надо. Мы один раз полезли, а там охранник такой злющий!.. Он Эдьку поймал и по шее надавал, а мы с Валькой удрали. А у них на территории ничего интересного и нет: деревья растут да кусты, а дальше корпуса институтские, — даже и лазить нечего. Дядя Митя велел, чтобы мы от лодки далеко не уходили; сказал, что придет через полчаса, и ушел. Мы сначала с Валькой съели бутерброды, которые ему сестра дала, а последний кусок Валька Рексу оставил. Он с Рексом всегда делится. — И мой сахар ему дадим, — говорю я. — Будет Рексу закуска. Тут Валька стал Рекса звать, а я влез на корму моторки — оттуда далеко видно — и стал пляж разглядывать. Но разве с такого расстояния кого-нибудь разглядишь! Видно, что люди купаются, и всё. Мне надоело смотреть, я повернулся и вижу: Валька по колено в воду зашел у самого забора, заглядывает на институтскую территорию и говорит: — Рекс туда побежал, вот дурак! Я его зову, а он даже не появляется. Я говорю: — Я сейчас оденусь, пойду с охранником поговорю, чтобы пустил нас Рекса ловить. А Валька только рукой машет. — Ну его, охранника, — говорит. — Я и сам туда пройду. Пока я одевался, Валька уже обошел по воде забор и куда-то исчез. Ну, думаю, даст ему сейчас охранник! Надо его поскорей оттуда вытащить. Я посмотрел кругом, вижу — никого поблизости от моторки нет, — успею за Валькой сбегать, пока дядя Митя вернется. Подтянулся на руках и перелез через забор: он не очень высокий и кирпичи неровно уложены — можно ногу поставить. Смотрю с забора, вижу — Валька около деревьев стоит, и Рекс с ним рядом, и там что-то на солнце блестит, аж глазам больно. А охранника нет. Я спрыгнул и к Вальке побежал. Он сначала испугался, а потом увидел, что это я, и говорит: — Смотри, какая штука! Чего они с ней делают, интересно? — А там машина какая-то стоит на бетонной площадке и по краям площадки зачем-то столбики. Я Вальке говорю: — Бери Рекса, идем, а то охранник увидит. И лодку мы бросили... А он говорит: — Не, я сам видел, как охранник отошел; он вон туда, за деревья пошел, в институт наверно. Сейчас побежим, я только машину хотел посмотреть. Эта машина была совсем как большущая бабочка: у нее с боков такие рамы выступали, будто крылья, а в середине кабинка небольшая, как в самолете «У-2», и тоже с колпаком пластмассовым. А колес у нее никаких не было, и гусениц тоже. Как же она, интересно, двигается? — Она летает, наверное, — говорю я. — У вертолета вон тоже крыльев нет. А еще есть такие машины, конвертопланы, так они даже без винта летают. Валька на меня руками замахал: — Скажешь тоже! У конвертоплана еще какой есть винт — он у него поворачивается; конвертоплан и как вертолет и как самолет летать может. Не, это не конвертоплан, это вообще чепуха какая-то! Вот он всегда такой: ни о чем с ним поговорить нельзя, все он лучше всех знает. Мне даже за отца обидно сделалось — станут они чепухой в институте заниматься! Я взял да и пошел к машине, чтобы Вальке доказать насчет винта. Проводов никаких не было: я не боялся, что током ударит, и прямо к машине подошел. Только винта я нигде не видел — может, он в кабине? — Да нету там винта никакого, — говорит Валька. — Ну тебя, я пошел, сейчас охранник вернется. Он и вправду пошел, а потом не выдержал и оглянулся. Я отодвинул колпак, залез в кабину и сразу увидел такой стержень в передней стенке, вроде винта изогнутый. Я как крикну: — Винт! Валька обратно к машине шагнул, спрашивает: — Где винт? — А вот он! — И я ткнул рукой в стержень. Тут вдруг я почувствовал, будто лечу куда-то. Деревья вокруг меня в разные стороны побежали все быстрей и быстрей и совсем в зеленые пятна стали сливаться. И какой-то серый туман появился, будто я в облако попал. Я еще успел Вальку увидеть: у него глаза круглые совсем стали, а рот раскрылся — это он кричал, наверно, только мне ничего слышно не было, у меня над самым ухом будто сирена завыла. А потом Валька пропал, и деревья тоже куда-то пропали, только серый туман кругом, даже вой прекратился. Я даже испугаться толком не успел, так все быстро случилось. У меня руки сами собой сработали, я ухватился за этот винт проклятый и дергать его стал, чтоб остановить машину, а он не поддается. Тут опять вой раздался, а туман этот стал во все стороны убегать: сначала пятна появились, а потом я увидел, что это деревья. И вдруг все кончилось. Никуда я больше не летел, машина стояла как вкопанная, только ни Вальки, ни Рекса почему-то видно не было. Я осторожно из кабины вылез, чтобы винт этот опять случайно не задеть. Я приготовился на твердое стать, а там никакого бетона не было! Просто земля обыкновенная, и все травой поросло, и в этой траве ромашки, здоровенные такие. А где же площадка?! Вдруг у меня сердце замерло — институтского забора тоже не было! На его месте деревья растут, и сквозь них река просвечивает. Может, землетрясение случилось? Нет, тихо все, только кузнечики в траве стрекочут. Что же это? А вдруг все куда-то исчезли, один я остался? Я выбежал из-за деревьев и остановился, будто на стенку налетел. Институтских корпусов и в помине не было!! Дорожки красные среди деревьев, пруд вдалеке блестит, колесо высоченное вертится... Парк какой-то... Мне совсем страшно стало, я даже пошевельнуться боялся: а вдруг все это тоже пропадет! Откуда здесь парк взялся?! Хоть бы один человек поблизости... Что же это стряслось? Института нет, и забора тоже... Не могли же они сквозь землю за одну минуту провалиться? Наверно, это я куда-то залетел, в другой город, что ли... Я как это подумал, так сразу успокоился и соображать стал. Наверно, в парке люди есть; надо мне сбегать, спросить кого-нибудь, куда ж это я попал. Ну да, а машина как же?! Еще придет кто-нибудь, пока я бегать буду, сядет в кабинку посмотреть — что тогда?.. Лучше я ее спрячу: тут кусты высокие — можно так спрятать, что никто и не увидит... Я за раму боковую схватился и стал изо всей силы на себя тянуть: на себя всегда легче, она тогда в землю не зарывается. Машина на вид легкая была, вся из прутьев, а с места не сдвигалась. Я даже разозлился, что у меня сил так мало. Уперся в землю ногами, как потянул — она сразу полметра по траве проехала. До кустов всего-то шагов десять, может, было, но я совсем из сил выбился, пока ее туда затолкал. Даже в глаза пот попал. Зато теперь ее никто со стороны не увидит — ветки здорово закрывают. Тут, пожалуй, и сам потом не найдешь, надо мне какую-нибудь заметку сделать. Я посмотрел кругом: какой-то камень плоский лежит, как лепешка совсем. Я его к кустам притащил и там бросил, пусть валяется, будто случайно. Быстренько рубашку заправил, лицо сполоснул и волосы мокрой рукой пригладил. И сразу в парк побежал. Интересно, куда же это я попал?РАССКАЗЫВАЕТ НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ
Я проснулся и прислушался — чего это тишина такая в квартире? Не просто тишина, а прямо-таки подозрительное отсутствие всяких звуков. Что бы это значило? В нашей коммунальной № 8 порядок железный: сначала тихонько так по паркету кто-то прошлепает — это тетя Маша пошла на кухню чай греть. Потом как загремит в коридоре — это, значит, дядя Митя на Мишкину ванну наткнулся. Минимум через день он на нее натыкается, а все равно не снимает. Откуда у человека выдержка такая — вот интересно! Скажет шепотом несколько слов, постоит, помолчит и движется далее по назначению. Ну, а потом несмазанные колеса как заверещат с визгом: все, общий подъем — это сам Мишка выкатил в коридор на своем велосипеде. В общем, звуков всяких разных у нас вагон, на любой джаз-оркестр свободно хватит. Тут у меня в мозгах сон рассредоточился по отдаленным углам чердачного помещения, и мне сразу стало нехорошо. Раз в квартире тишина — значит, все ушли, а раз все ушли — значит, я проспал, опоздал на работу! Сел на кровати, еще раз на всякий случай прислушался — а вдруг со сна уши заложило? Нет, никаких сомнений, дорогой товарищ Парфенов. Стыд вам, позор и общественное порицание в стенной печати вашего родного 11-го отделения милиции. «...Есть у нас еще такие товарищи, которые...» Точно, товарищи, сознаюсь, это я и есть «такие... которые», больше не буду. Достал одну тапочку из-под кровати, стал другую нашаривать и вдруг увидел календарь. Увидел и даже головой помотал — удивился собственной глупости. — Какое у нас сегодня число, доложите, товарищ Парфенов? — спросил я себя, выволакивая вторую тапочку из-под ножки кровати (как она туда попала — вот вопрос!). — Тридцатое июня тыща девятьсот семидесятого года! — доложил я, натягивая тренировочные брюки. — А что это значит, объясните как положено? — опять спросил я и, не дожидаясь ответа, подошел к окну. Окна нашей коммунальной № 8 выходят на речку. Обзор местности потрясающий, как в Бородинской панораме. В данный момент прямо по курсу просматривается дядя Митя, который беседует с какими-то двумя пацанами. Ну, ясно, дяде Мите в Заречную надо, он вчера меня подбивал съездить, а теперь пацанов уговаривает, чтоб не скучно было. На той стороне пляж, слева от него институтская территория, справа мост. Погода — чистые Сочи! А вчера такой ливень хлестал! Я решил, что все, пропал мой отпуск! — Тишина нам не страшна, — заявил я, выходя в коридор. — Потому что товарищ Парфенов Н. Н. с нынешнего дня находится в законном отпуске и имеет право спать, сколько ему совесть позволит. Тррах! Это я со всего размаха врезал лбом о край Мишкиной ванночки. Ну, мне бы сюда этого Мишку, я б ему показал, как на несмазанном велосипеде по коридору разъезжать и свои ванны повсюду развешивать! Вошел в комнату, посмотрел на себя в зеркало — готово, фонарь обеспечен. С этим украшением Лидочке теперь не покажешься, придется мне с Арсеном на стадион идти вместо запланированной танцплощадки. Допил я чай, помыл чашку и прикинул, с чего начать. Сначала, разумеется, в парикмахерскую надо сходить: фонарь фонарем, а побриться-постричься следует. Потом, пожалуй, на пляж можно податься. Отлично все складывается — в Заречной как раз и постричься можно, у дяди Пети. Заодно нанесу ему визит, так сказать, доброй воли. «Стыд вам и позор, товарищ Парфенов, комнату в городе получили и оторвались от широких парикмахерских масс Заречной стороны! Зазнались, полгода дядю Петю не навещали, а он, между прочим, не меньше тонны волос с вас настриг за всю вашу молодую жизнь». Прибрал я быстренько в комнате, постель заправил, окно прикрыл — на всякий случай, от дождя, — натянул штатское обмундирование и вышел. Ты смотри, десятый час только, а жара какая! У бочки с квасом уже целый хвост вырос, кто с бидоном, кто просто так. И на автобусной остановке очередь — спешат граждане, в Заречную торопятся, на пляж... В парикмахерской было прохладно и пусто. Дядя Петя стоял у кресла, щелкая ножницами, и комментировал последние международные события, а курчавый Ашот зевал и слушал его в пол-уха. Завидев меня, дядя Петя небрежно показал на кресло и продолжил свой международный комментарий: — Думаю, эти паразиты в Гессене тоже пройдут, ну и в Баварии, конечно... Канадку? «Канадку» — это относилось ко мне, а «паразиты», как я понял, — к западногерманским неофашистам. — Канадку, — сказал я, устраиваясь в кресле. — У меня отпуск с сегодняшнего, гуляю... — Едешь куда-нибудь? — спросил, не оборачиваясь, Ашот. — Кто его знает, — неопределенно ответил я, — еще не решил, поглядим... — Поезжай к нам в Ереван, — оживился Ашот, — горы посмотришь, древности посмотришь. А какой Севан! Слушай, почему не хочешь съездить в Армению? — Очень ему нужна твоя Армения, — сурово сказал дядя Петя и проехался по моим волосам жужжащей машинкой. — Ты смотри, чего на свете делается! В Индии дожди каждый день, в Чили землетрясение, в Нигерии что происходит — знаешь? А ты его в Армению зовешь. Я не совсем понял дяди Петину логику. Почему из-за землетрясения в Чили мне нельзя ехать в Ереван? Но я все равно в Ереван не собирался, у меня планы поскромнее, местного, так сказать, значения. На данном этапе меня в основном не древности привлекают, а Лидочка из горжилуправления. — Это ты где заработал? — спросил Ашот, заинтересованно разглядывая мою шишку. — При исполнении служебных обязанностей, — скромно ответил я. — На ванночку в коридоре напоролся. — Ай-яй-яй! — поцокал языком Ашот. — В отпуск с таким украшением идешь, нехорошо. Слушай, поезжай в Армению, там тебя никто не знает, подумают: герой, бандита обезоружил... Дядя Петя неторопливо навострил бритву и принялся за окончательную доводку моего волосяного покрова. — В Баварии они точно пройдут, — сокрушенно сказал он, огибая мое ухо. — И Гитлер там у них в Баварии начинался, и эти паразиты пройдут. ХДС с ними в блок вступит, социалистам коленкой дадут, и готово... — Ничего, дядя Петя, — утешил я его. — Им тоже вполне свободно могут коленкой выдать! Дядя Петя снял с меня простыню и с надеждой посмотрел на меня. Видно, решил, что сейчас он со мной обсудит международные проблемы. Потом увидел, что я твердо взял курс на двери, и только рукой махнул. Теперь он опять в Ашота вцепится. Водичка в реке была отличная. Сделал я свою стометровку кролем, прошелся дельфином, на спинке полежал и почувствовал, что жизнь, согласно с замечанием товарища Маяковского, прекрасна и удивительна. Вылез, прихватил свои вещички, пошел по пляжу — может, знакомых высмотрю. Прошел вдоль всего берега — никого не приметил. Потом гляжу: вдалеке, у институтской ограды, дяди Митина моторка причалена и пацаны около нее дежурят. Порядок, думаю, сейчас я с соседом поговорю, выскажу ему открыто насчет ванночки: мол, не пора ли нам, дядя Митя, кооперировать свои мужские усилия и устранить это вопиющее нарушение общественного порядка в нашей коммунальной № 8? Пока я шел к моторке, ребятишки куда-то подевались, и про лодку, видать, забыли... Я закинул свои вещички в моторку и лег на песок. Песочек горячий, солнце сквозь закрытые веки все красным светом заливает, тихо так, спокойно, ну райская жизнь! — Здорово, Николай, — сказал кто-то сверху. Я открыл глаза и увидел у самого своего носа здоровенные рыбацкие сапоги. Поднял взгляд вверх, вижу: дядя Митя вовсю надо мной сопит и лицо у него красное, потное. Я сел на песке и обнаружил рядышком с собой новый лодочный мотор. — Мотор вот купил, — сказал дядя Митя, утирая лоб рукой. — Менять хочу. В моем зажигание барахлит. А ребята мои куда девались? — Не знаю, — ответил я. — Были только что... Дорого дали за мотор? — Не, по случаю достался... Дядя Митя пустился было рассуждать о лодочных моторах, потом увидел, что я на эту тему высказываться не умею, замолчал и стал разглядывать пляж. — Куда же они запропастились? И Рекс ихний... И вдруг у него даже лицо переменилось. Я повернулся в ту сторону, куда он посмотрел, и вижу: из-за институтского забора прямо по воде пулей вылетает пес овчарка и за ним парнишка лет двенадцати, а лицо у него все перекошенное и рот настежь — то ли он крикнуть собирается, то ли воздуха ему не хватает. Мы с дядей Митей разом бросились ему навстречу: ясно, беда какая-то стряслась. Парнишка только одно повторяет: — Колька! Колька! — и рукой на институт показывает. Дядя Митя его за плечо ухватил, спрашивает: — Что — Колька-то? Что? Толком говори, Валентин! Но парнишка, видно, обалдел со страху, весь трясется, а тут еще овчарка эта кругом прыгает и лает так, что в ушах звенит. Ну и обстановочка — ничего не сообразишь! Я повернул Валентина этого к себе — он только глаза на меня таращит да трясется, аж подпрыгивает. — Ты первым делом успокойся, Валька, — говорю я. — Возьми себя в руки и расскажи толком, что случилось. Успокойся, — говорю, — ну чего ты? Это я всякие слова механически произносил, чтобы паренек от спокойной интонации в себя пришел. Он и вправду чуточку поспокойней стал. Но сказал такое, что мы с дядей Митей прямо обалдели: — Колька... пропал. Там, на площадке... — Тут уж он заговорил быстро, чуть не закричал: — Там такая машина стояла! Он говорил, что это, может, вертолет, а я говорю, что винта нету, значит, не вертолет! А он полез и пропал!.. — Как это пропал? Улетел, что ли? — спросил я. — Не летал он никуда. Вообще пропал, вместе с машиной. Прямо на глазах у меня, ну... растаял вроде. Пустая площадка — и все! Тут Валька еще сильнее затрясся, а дядя Митя рванул что было сил к институтскому забору. Я за ним кинулся, на ходу брюки и рубаху натянул. Валька опомнился, побежал за нами, а Рекс даже и нас обогнал. Я совсем забыл, что на институтскую территорию вход воспрещен, перемахнул через забор как на крыльях. «Как же так, — думаю, — на что у них там охрана стоит: чтобы ребятишки разгуливали?» Площадку я сразу опознал, про которую Валька говорил. Метров, наверно, сорок квадратных, бетоном аккуратненько залита, четыре столбика по углам: ограждение, что ли, тут было, а потом сняли. И никакой тебе машины — чистенький такой, гладенький бетон, хоть танцы на нем устраивай. Валька говорит дрожащим голосок: — Вот тут... тут она стояла! — и рукой на центр площадки показывает. — Я ему говорю: «Не лезь, увидят, наподдадут нам», а он все равно полез, а я собрался уходить, а тут он как заорет: «Смотри, винт!» Я только повернулся винт посмотреть, а там серый туман такой, и Колька в этом тумане, а потом он рассеялся, и нету ничего... Я прямо не знал, что на это сказать. В моей милицейской практике такие случаи не встречались, да и вообще я никогда в жизни не слыхал, чтобы ребята на глазах таяли. Тут не иначе наука причиной — дело ясное. Если только Валька этот всю историю не сочинил. Да нет, такое разве сочинишь! Вон он, на себя непохож, всего перевернуло. А раз был факт, значит данному факту должно иметься научное объяснение. В это время из-за деревьев какой-то здоровенный детина появился, неторопливо так идет, а как увидел, что мы у площадки стоим, сразу заторопился и крикнул издали еще: — А ну, живо все с территории! Вот он где, охранник этот замечательный. Ну, бдительность, прямо скажем, тут у них не на высоте: машину бросил, сам ушел куда-то! Парень подбежал, увидел, что машины нет, перепугался, щеки трясутся; и он все за Вальку руками хватается: видно, думает — раз мальчишка, значит, он и нашкодил. — Слышь, друг, — говорю я, — давай-ка бегом за начальством, тут видишь какая история... Вижу, не понимает он ничего, обалдел совсем, документы зачем-то требует... Показал я ему свой документ, он чего-то посоображал и бегом за деревья кинулся — в институт, должно быть. А мы стоим молчим, как на похоронах. Тут вдруг за моей спиной негромким таким, вежливым тоном спрашивают: — Что вы тут делаете? Я повернулся: мужчина какой-то, видно, он с другой стороны подошел. Высокий, худой, в очках, лицо такое серьезное, симпатичный. Я говорю: — Да вот, видите... — и показал на площадку. Он поглядел на площадку, и лицо у него такое сделалось, что я даже испугался: ну все, думаю, сейчас он грохнется! Но нет, устоял. — Где... машина? — Он очень тихо спросил, но таким голосом, что у меня мурашки по спине забегали на космической скорости. — Вот этот мальчик рассказывает, что они забрались сюда с приятелем... — начал я. И тогда этот гражданин посмотрел на Вальку. Я тоже посмотрел на Вальку и не понял: чего это он с таким ужасом на человека в очках смотрит, боится его, что ли? А у того лицо еще сильнее побелело, хотя вроде бы дальше некуда было, и он совсем уже шепотом спросил: — Колька? — Дядя Леша, — плачущим голосом закричал Валька, — Колька нечаянно! Он только винт мне хотел показать, что винт в ней есть!.. Дядя Леша, мы не нарочно! Тут уж я сообразил, и даже под ложечкой у меня заныло. Вон оно что! Это Колькин отец, должно быть! Тут дядя Митя видит, что все молчат как убитые, и начал для поднятия духа говорить, что, мол, ничего удивительного — нынче все мальчишки о машинах прямо обмирают: хлебом их не корми, только в машине дай покопаться... — Это не машина, — медленно, словно как сквозь сон, сказал мужчина. — Это хронолет... Я еще ничего толком и понять не успел, а чего-то мне жутко стало. А Колькин отец начал объяснять, вроде даже спокойно, только от площадки все глаз не отрывает, глядит на пустой бетон: — Это экспериментальная модель хронолета, то есть устройства для перемещения во времени... Кто-то, Валька наверно, тихо сказал: «Ой!» А я стоял, смотрел на пустую площадку, и в голове у меня все туманилось. Бывает, конечно, дети пропадают; искать их приходится когда в лесу, когда в городе, а когда и в речке баграми дно щупать. Но тут-то где искать? Не то он в будущее подался, не то в прошлое, да и вообще... Вот ведь история! Колькин отец, видимо, собрался с духом и решил действовать. У него и голос другой стал. — Вот что, Валька, — сказал он, — расскажи-ка мне подробно, как все происходило... Дядя Митя обрадовался, стал Вальку подбадривать: — Говори, говори, Валентин, припоминай все, как есть! Валька все заново рассказал, но путался и сбивался по-прежнему: понять, что к чему, было трудновато. — Ты точно видел, что он влез в эту, как ты говоришь, кабину? — спросил Колькин отец. — Точно видел, он там сидел и мне рукой махал, чтобы я к нему шел... А я не верил, что там винт есть... — тоскливо сказал Валька. — Это не винт, — сказал Колькин отец, только видно было, что думал он о чем-то другом. — У хронолета нет винта. Это пускатель поля... Вы подождите, я сейчас вернусь. И он бегом кинулся к институтскому корпусу. Мы так и стояли втроем около площадки, и Рекс тоже стоял и смотрел на пустой бетон. Минут через десять Колькин отец вернулся. Не один, с каким-то толстым, лысым дядей, видно начальником; за ними еще человек десять, а сзади всех охранник плетется и с ним рядом еще один, наверно командир вохровский: лицо у него красное и что-то он этому охраннику втолковывает насчет бдительности, не иначе. Вся эта толпа возле площадки собралась, и один, совсем молоденький инженер, белобрысый такой, даже присвистнул от изумления: — Вот это да! Лысый посмотрел на площадку и сказал: — Тут двух мнений быть не может, я думаю: поиск надо организовать немедленно. — Он сморщился весь и покрутил головой: — Ах, какая история дрянная! Ведь надо же... Какой-то из подошедших, седой такой старикашка, посмотрел на Колькиного отца и к лысому обратился: — Не стоило бы рисковать второй моделью, Виктор Сергеевич, комиссия сейчас подъедет... Тут этот белобрысый громко так сказал, со злостью: — Бросьте вы со своей комиссией. Парня спасать надо! Все они сразу словно от столбняка очнулись и заспорили; громче всех этот белобрысый старался и еще один, смуглый, на грузина похож — он старичка за пуговицу схватил и рукой у него перед носом замахал. Кто-то насчет радиуса действия начал говорить, а белобрысый ему в ответ крикнул, что всего десять точек надо обыскать... Тут Виктор Сергеевич — он у них явно за главного был — опять поморщился и говорит: — Виновных искать — это мы всегда успеем. Прошу немедленно подготовить вторую модель, отправлять будем с той площадки. — Он показал рукой вправо, за деревья. — Вот так. А что касается комиссии, товарищ Ермаков, — это он уже персонально к старичку обратился, — так там, я полагаю, тоже люди, а не роботы представлены... Инженеры гурьбой за деревья двинулись, вохровцы тоже за ними пошли, остались мы трое и Колькин отец с Виктором Сергеевичем возле площадки. Я, пока их споры слушал, постепенно понимать стал. Эта модель у них опытная, оказывается, была, радиус действия — десять лет, не более. А главное — двигалась она не как угодно, а скачками такими, ровно по году каждый. Тут уж даже с начальным образованием и то понять можно, где Кольку надо искать — тридцатого июня какого-нибудь грядущего года, в другой день его занести не могло. Мне даже чудно стало — как же так, ведь этого года и нет еще, а уже, значит, машина там стоит, на том же самом месте, и Колька возле нее в полной растерянности пребывает — куда ж это он попал?! Хотя вполне может и так быть, что он с перепугу возьмет и бросится сломя голову, лишь бы от этой машины подальше. Тут уж без розысков не обойтись, это точно. Да еще и неизвестно, в какой год он попал! Тут у меня сердце заколотилось со страшной силой. Неужели же я такой случай упущу? Мне и Кольку очень хотелось найти, жалко ведь парня — один, внезнакомом месте, да еще перепуганный небось насмерть — мало ли что с ним случиться может. А тут еще такая фантастика — в будущее слетать! Арсену скажу — от зависти лопнет. А если в отделении доклад потом прочитать: «О постановке охраны общественного порядка в 1980 году. Докладчик т. Парфенов (по личным впечатлениям)» — это ж такое будет! — Виктор Сергеевич! — Я шаг вперед сделал и вытянулся, как в армии, когда рапортуешь. — Разрешите мне слетать?! Колькин отец и Виктор Сергеевич даже рты раскрыли — так я их удивил. — Я в милиции работаю, Парфенов моя фамилия, — отбарабанил я поскорей. — Детей разыскивать мне не впервой. Опять же, в случае чего, я с милицией в два счета сконтактируюсь... там... — Я показал вверх, на всякий случай: кто его знает, где оно помещается, это самое будущее! Виктор Сергеевич усмехнулся и сказал: — Если милицию к тому времени «там» не ликвидируют за ненадобностью. — Да нет, я же серьезно, — сказал я. — Пусть меня только ориентируют, что и как. Если перегрузки, я выдержу — в армии ГТО первой ступени сдавал, с парашютом норму выполнил... — Это точно, — вмешался дядя Митя, — Николай вполне потянет, если чего... Валька тоже умоляюще посмотрел на Виктора Сергеевича. — А что, — сказал тот, — Алексей Иванович, а? Пожалуй, общественность-то права. Милиция — она в таких делах лучше разбирается. И перегрузки опять же... — Тут он почему-то засмеялся. Колькин отец подошел ко мне. Лицо у него совсем еще было серое, но глаза уже смотрели нормально. — Видите ли, Николай, — доверительно сказал он, — никаких перегрузок тут нет. Передвижение во времени происходит по совсем иным законам. Атомы тела вступают во взаимодействие с особыми полями. И мы, в общем, даже не представляем себе точно, как организм это переносит — на больших дистанциях, во всяком случае. Поэтому-то я за Кольку... волнуюсь, — добавил он, помолчав. Мне вдруг стало стыдно, что я прямо как на экскурсию напрашивался. Двадцать два мне скоро стукнет, а все не могу по-взрослому, по-серьезному. И еще я осознал — нет, не только любопытство во мне говорит, а помочь в беде хочется. — Я понимаю, — ответил я. — Если разрешите, я полечу. Я справлюсь. Это уж точно.РАССКАЗЫВАЕТ КОЛЬКА КОРНИЛОВ
Я до парка добежал и сразу медленно пошел, сам даже не знаю почему. Спросить надо взрослого кого-нибудь. Только что спросить? «Куда я попал?» А он меня тогда как начнет расспрашивать: откуда я машину взял да что за машина... Нет, не буду лучше никого спрашивать! И виду не подам, что я тут ничего не знаю. Пойду себе по парку, там, наверно, объявления какие-нибудь висят, прочитаю. Я пошел по той аллее, что к пруду уходила. Тут скамейки стояли, на одной сидела какая-то девчонка с книжкой. Только она и не читала вовсе, а по сторонам глазами стреляла. Я подошел к соседней скамейке и сел. Ух, до чего же мягко! С виду скамейка деревянная, а сядешь — как на диван. Тут я вспомнил, что не должен виду показывать, что удивляюсь, уселся, будто бы мне делать нечего, и стал ногами болтать. Поболтал сколько надо и к девчонке повернулся: — Ты чего читаешь? А она в книжку уткнулась, как будто меня не слышит. Это девчонки всегда так нарочно делают. Я у Людки Перфильевой когда промокашку прошу, так она тоже притворяется, что оглохла. Я встал и подошел к девчонке: — Ты чего читаешь, а? Она подняла голову, прищурилась зачем-то и сказала: — Я такое читаю, что ты в жизни не читал, вот! Интересно, что же это я в жизни не читал? Я в нашей библиотеке, наверно, все книги уже прочел, мне отец из институтской приносит. Особенно про шпионов, а то в нашей таких мало, и они все растрепанные, даже страниц не хватает. Я сел на корточки, чтобы название посмотреть, а она книжку к коленям прижала. Тогда я начал силой отдирать. Тут эта девчонка на меня закричала, что я дерусь, вырвала книжку и убежала. Какая-то старушка остановилась возле меня, подумала-подумала и сказала: — Нехорошо, мальчик, девочку обижать. Скажи мне свой номер, я твоему воспитателю позвоню. И почему ты вообще гуляешь в такое время? Я прямо перепугался, что она меня про какой-то номер спрашивает, и сказал: — У нас воспитатель заболел. Нас распустили. Я ее не обижал, она мне книжку не показывала. Я только хотел посмотреть. — Странно, — сказала она недоверчивым голосом, как мама всегда, если я что-нибудь разобью и говорю, что это не я. — Очень странно. Почему же вас повели в информаторий? Я решил, что лучше промолчать. Какой-то информаторий еще! Старушка постояла немного и отошла. А я в другую сторону побыстрей пошел, пока она не передумала. Повернул по аллее и вдруг вышел к самому пруду. И вовсе это не лодки плавали — так только издали казалось, — а какие-то штуки вроде катеров, только со всех сторон закрытые и прозрачные. Наверно, из пластмассы. Видно было, как люди изнутри смотрят. Вдруг один катер на моих глазах стал опускаться в воду и совсем исчез. Я даже испугаться не успел, а он снова появился, возле самого берега. Повернулся кормой и опять стал погружаться. Тут я увидел, что другие катера тоже ныряют. Один катер, оранжевый, как нырнул, так минут пять не появлялся. Только потом у того берега вынырнул. Здорово! Тут я вспомнил про свои дела и не стал больше смотреть. Прошел мимо пруда и прямо к большому колесу вышел. Колесо медленно так крутилось, как будто собиралось остановиться. А кабинки почти все были пустые и тоже закрытые прозрачными колпаками. Колесо стояло в большой загородке, над калиткой висел плакатик «Вход», и нигде никакой кассы. Я подошел поближе. Колесо вдруг остановилось, и нижняя кабинка открылась настежь, как будто меня приглашала. А чего, вот возьму и войду, если здесь кассы нет. Интересно же, я сроду на таком колесе не катался. Только я сел, колпак сам задвинулся, я даже рукой не успел пошевелить. И сразу темно стало. А из передней стенки высунулся руль — весь светящийся, как у телевизора экран. Я взял этот руль в руки и стал поворачивать. Вдруг все кругом посветлело, и я увидел, что лечу высоко где-то над горами. Я испугался, выпустил руль, и опять стало темно. Тут я понял, что светло получается, если руль держать, и опять за него ухватился. Точно, я правильно угадал! Ух, как здорово! Вроде бы по-настоящему летишь высоко-высоко, а под тобой горы, и река течет, маленькая такая, как ленточка. А по ней что-то плывет. Я хотел получше разглядеть, наклонился вперед, и вдруг горы начали приближаться и разошлись по обе стороны кабинки, а река стала большая, и вода совсем рядом. Я откинулся назад, и все остановилось — горы больше не уходили вверх, и вода была близко, как будто я прямо над рекой лечу. А плыл по ней пароход, я даже надпись разглядел: «Владимир Ульянов» — и людей на палубе. Я совсем уже все понял — это такая кабинка была, вроде телевизора, и, когда держишь руль, она тебе показывает как будто картину. А рулем можно управлять. Я попробовал, и сразу получилось! Если вперед руль нажмешь, так земля приближается, а если назад — поднимаешься в высоту, и все внизу сливаться начинает. Я подумал: «А если совсем низко опуститься, что будет?» — и нажал изо всей силы на руль. Кабинка быстро-быстро заскользила вниз, к самой земле, и вдруг остановилась, на секунду стала непрозрачной, а потом колпак откинулся, и я увидел, что передо мной вход в парк. Я хотел еще покататься, но неудобно как-то было без денег. Я не стал дожидаться, пока кто-нибудь придет, и вышел из загородки. Колесо щелкнуло и опять начало медленно кружиться, как раньше. Очень мало людей было в этом парке. И объявлений никаких. Я по всей аллее прошел и добрался до того места, где был главный выход. Постоял-постоял и повернул обратно. Нельзя мне из парка уходить, а если меня потом обратно не впустят? Тут я испугался: машина! Вдруг кто-нибудь ее нашел! Вроде бы люди в ту сторону даже и не ходят, ну, а если кто-нибудь зашел?! Я бросился со всех ног обратно к реке. Добежал до деревьев и сначала со страха даже место не узнал. Хорошо еще, что камень положил для заметки. Камень так и лежал, серый, плоский, приметный. И возле него окурок валялся... А раньше этого окурка здесь не было! Значит, приходил кто-то! У меня сердце чуть не выпрыгнуло, пока я пробирался в кустах. Нет, вот она, моя машина, стоит, как я ее поставил, закрытая ветками. В одном месте свет пробивался сквозь листья и падал на изогнутый рычаг. Меня даже ослепило, когда зайчик попал в глаза. А вдруг со стороны этот зайчик видно? Я стал пятиться между деревьями, чтобы посмотреть издали. И вдруг у меня за спиной, на соседней поляне, что-то хлопнуло, будто птица крыльями. Я застыл на месте и стал медленно поворачиваться. Нет, наверно, мне показалось. На поляне никого не было. Только серый туман висел над травой и быстро таял в воздухе. Пока я смотрел, он совсем исчез. Что же это за туман такой? И хлопнуло что-то! Я еще раз оглядел поляну, деревья за ней, прошел через посадку, вышел на свою поляну — нигде никого. Наверно, показалось мне. Лучше уйду я отсюда, пока никто не пришел. Я вернулся к главному входу, сел на скамейку неподалеку и стал ждать сам не знаю чего. Эта скамейка тоже была мягкая и пружинила. На ней, наверно, даже прыгать можно, как в цирке прыгают на батуте — я по телевизору видел. Может, все-таки спросить кого-нибудь? Ну, что они мне сделают? Я скажу, что не знал, какая эта машина. Я ведь правда хотел только винт Вальке показать! Ну да, спросишь, а потом Валька надо мной насмехаться будет, что я сам не смог разобраться, куда попал! Мне прямо обидно стало, что я никак ничего понять не могу; я вскочил со скамейки и пошел к выходу. Тут в воздухе над головой что-то зашелестело, и прямо у входа опустилась красивая яркая машина. Она была вся красная, а крылья белые, прозрачные, и спереди у нее торчали усики — совсем как стрекоза, только очень большая. Усики начали качаться быстро-быстро, и раздался громкий голос: «Номера двадцать пять и двадцать шесть, соберитесь к школьному аэробусу! Номера двадцать пять и двадцать шесть...» Вот это штука! Выходит, здесь у школьников свои машины специальные есть! А у нас в городе только автобусы ходят да одну троллейбусную линию недавно пустили. Из кустов, из аллей посыпали девчонки и мальчишки. Мне показалось, будто бы я увидел Леньку из параллельного шестого класса. Но, наверно, я ошибся: откуда здесь Ленька возьмется? Усики опять задвигались, и тот же голос сказал: «Аэробус отлетает. Есть свободные места. Номера двадцать семь и двадцать четыре, мы можем захватить вас в школьный центр». Мне хотелось посмотреть, как они там садятся, я подошел поближе и стал у самой лесенки. Из открытой дверцы высунулась женщина и спросила: — Ты какого номера? Ты двадцать четвертый? Садись быстрее, мы сейчас улетаем. Я вроде и не хотел садиться, а ноги сами собой меня понесли, понесли — и вдруг я увидел, что стою внутри большой светлой кабины, как в автобусе, только побольше, и кресла в ней все белые. Женщина показала мне на свободное кресло, а сама опять подошла к двери. Видно, там никого уже не было, потому что она быстро всех нас пересчитала, закрыла дверь и ушла куда-то вперед. Я даже не заметил, как мы поднялись. Ничего не шелохнулось, только стенки стали прозрачные, и я увидел под ногами парк, красные аллеи, пруд, реку. И машина там моя осталась. Что же теперь будет? Меня кто-то толкнул. Я повернулся, а это сосед мой, беленький такой и в очках. — Ты из двадцать четвертого? — спросил он. — Угм! — буркнул я. — А я из двадцать шестого. Вы в океанарии были или на космодроме? Я храбро соврал: — В океанарии. А вы где? — У нас сегодня урок истории был. Вы чего по истории проходите? Мы-то вообще в это время ничего не проходили, у нас только Валька физику на лето получил и то из-за Клавдии Ивановны. И чего этот беленький ко мне пристал? — Мы крестовые походы проходим! — сказал я, чтобы он быстрее отвязался. Про крестовые походы я в книге прочитал, на самом-то деле мы это не проходили. Но беленький и глазом не моргнул. — Нам про крестовые давно рассказывали. Правда, здорово, когда эти крестоносцы Константинополь брали? А помнишь, как одного с лошади свалили, а он как бахнется, аж все зазвенело. Кого свалили, что зазвенело? Ничего не поймешь! Я даже разозлился... — Слушай, — сказал я, — мы куда летим? Он повернулся ко мне: — В Центр. А ты разве не туда? — Не, я домой, — неуверенно сказал я. — Как это домой? — удивился беленький. — Ты заболел? А как же тебя пустили к дельфинам? Тебя кибер смотрел? Я и на один-то вопрос не смог бы ему ответить, а он их столько задал, что и сто человек не ответят. Но тут эта женщина, которая нас сажала, вошла в кабину и объявила: — Внимание, аэробус садится в Центре. Двадцать шестой номер к воспитателю, двадцать пятый — на сводный урок по физике... А ты куда? — спросила она меня. Я и так не знал, что ответить, а тут еще этот беленький стал из-за моего плеча высовываться и рот уже раскрыл. Но я его спиной прижал и сказал: — Я на сводный! На мое счастье, аэробус как раз сел, и дверь открылась. Я не стал слушать, что этот беленький той женщине говорит, протиснулся побыстрее к двери и сбежал по лестничке. Впереди меня выходили две девчонки, я пристроился за ними, потому что они сразу за хвост аэробуса завернули, и меня там никто увидеть уже не мог. Мы вышли на асфальтовую дорожку, прошли немного, потом с разных сторон еще стали появляться ребята и девчонки, и вдруг все остановились. Я тоже остановился и огляделся по сторонам. Это было тоже вроде парка — так много здесь было деревьев, — но все-таки не парк: среди деревьев стояли невысокие здания, самые разные — одно с круглой крышей, одно совсем как стадион, и еще, и еще: куда ни посмотришь — всюду среди деревьев здания. А мы стояли на большой поляне, по ней во все стороны расходились дорожки от центральной площадки, где стоял аэробус. Вдруг зеленая трава перед нашей дорожкой вздрогнула и зашевелилась. Я даже подпрыгнул от неожиданности и сам на себя рассердился: как маленький, травы испугался. Это была дорожка, вот что. На ней трава росла, и если посмотреть издали, так ничего не видно, а на самом деле — движущаяся дорожка. Я в «Технике — молодежи» читал, что такие дорожки в Японии делать начали. А выходит, они и у нас есть! Все встали на дорожку, и я за остальными. А что? Я немножечко только посмотрю, что тут у них и как, а потом, может, сам расскажу насчет себя этому, как у них, воспитателю. Ну, залетел я к ним без спросу, так я же не нарочно. Они отцу, наверно, в институт позвонят... Тут у меня прямо сердце ёкнуло: а институт-то где? Я уже сам давно понял, что куда-то в другой город залетел, только речка похожая. Какой-то наш город, советский, ведь все по-нашему говорят, только где он, этот город, помещается — вот чего я не мог угадать. Наверно, в Новосибирске: у них там в Академгородке как-то ребят иначе обучают, я читал. Потом я подумал, что это все равно где: позвонить ведь отцу отовсюду можно, по телефону можно даже с заграницей разговаривать, и успокоился. Дорожка везла нас и везла, и ребят на ней становилось все больше, потом вокруг пошли деревья, и дорожка стала вползать прямо в открытую дверь того здания, что с круглой крышей. Тут она ушла под порог, а мы оказались в большом круглом зале, вроде как в цирке, — скамейки по кругу, один ряд над другим, а посередине площадка пустая. Все пробирались по проходам и садились на скамейки. Меня сзади подтолкнули, я оглянулся — девчонка, та самая, что в парке сидела с книжкой. Она меня тоже узнала и засмеялась почему-то. Мне понравилось, как она смеется, я тоже засмеялся и спросил: — Ты где сидишь? — Я всегда наверху сажусь, там лучше видно. А если скучно, можно книжку почитать. А ты? — Я тоже наверх пойду. Мы с ней забрались почти на самый верх и сели на скамейку у прохода. Я уже заранее ожидал, что будет мягко, и удивился — эта скамейка была обыкновенная. Нет, все-таки не совсем обыкновенная. Только я уселся, как прямо из пола выполз белый столбик, развернулся — и получился столик. Он был из пластмассы и весь светился изнутри. Пока я этот столик потихоньку ощупывал, в зале стало темно, а столик все равно светился. Я посмотрел вокруг — ничего почти не видно, только по всему залу столики эти светятся, будто белые полосы в несколько этажей по кругу идут. Здорово: и писать можно в темноте, и читать! Девчонка рядом со мной пошевелилась и зашептала у меня над ухом: — Тебе физика нравится? — Очень, — ответил я. Это правда, нам только с учительницей не повезло, а так я физику больше всего люблю. — А мне больше всего космогония нравится, — сказала она. У нас вообще предмета такого нет! Ну и школа! — А как тебя зовут? — Коля. — А меня Лида, Тимофеева. Вот смешно! Это оручая Лидка из верхней квартиры, она ведь тоже Тимофеева. Только той всего три года. — Ты чего смеешься? — опять зашептала она прямо мне в ухо, даже щекотно стало. — Я еще одну Лидку Тимофееву знаю, — сказал я. — Маленькая такая, а кричит, как болельщик на футболе. — Тише! — прошипел кто-то сзади. Лида успела мне еще шепнуть: — Я тоже, когда маленькая была, сильно орала. Я тебе эту книжку дам, хочешь? Вдруг на площадке появился какой-то старик — я даже не понял, откуда он взялся, — и все зашумели и захлопали. Старик поднял руку и сказал: — Ну-с, по программе физического цикла мы рассмотрим сегодня строение атома и молекулы. Он куда-то отступил, а площадку начал затягивать синий туман. Он выползал откуда-то снизу и все вытягивался, пока не дотянулся до круглого купола, а тогда вдруг исчез. А над площадкой осталось висеть что-то ужасно мне знакомое. Как будто плетеная круглая корзинка, громадная и совсем живая — вся она дрожала и менялась. Голос старика стал ясно раздаваться у меня в ушах, пока я смотрел на корзинку. И тут до меня дошло — это же атом! Модель атома, я ее сам из журнала срисовывал. Только здесь была не картинка, а настоящая модель, она вся переливалась, и в ней что-то шевелилось и двигалось, а внутри ярким розовым светом горела огромная жидкая капля — ядро... Старик здорово рассказывал, все было понятно: и как атом устроен, и почему у него столько электронов, и как они там крутятся вокруг ядра и не могут оторваться. Потом он стал говорить, как атомы сцепляются с атомами и получаются те тела, которые мы видим. А над площадкой выплывали целые десятки корзиночек, уже поменьше, и все они сцеплялись в гроздья, потом перестраивались, и получалась решетка или длинная нить из бусинок-атомов, а от нее в стороны отходили нити покороче. Потом он стал говорить про атомы в нашем теле и как они там складываются в такие молекулы — белки. Пока он говорил, эти атомы-корзинки над площадкой связались в нить, и эта нить так здорово закрутилась, что я даже удивился — как она не путается! Получился совсем клубок, только с одной стороны в нем углубление осталось, как лодочка. Я хотел спросить, зачем это углубление, но Лида Тимофеева меня опередила. Она положила правую руку на край столика, и сразу он стал светиться красным. Старик замолчал, а Лида встала и спросила: — А зачем в молекуле такое углубление? И села. Столик у нее опять стал белый. Старик начал объяснять, что это для того, чтобы молекула могла сцепиться с другой молекулой, только не какой угодно, а какой нужно. Это углубление вроде отверстия в замке, а у той молекулы, с которой нужно сцепиться, есть выступ — как ключ от этого замка, и поэтому молекулы могут найти друг друга среди остальных. Тут я увидел, что Лида кладет на мой столик книжку. Я не хотел сейчас читать, мне было интересно слушать, но я не удержался и раскрыл книжку. И вдруг все кругом будто исчезло, ничего я уже не видал, а только смотрел на первую страницу. В самом низу там было напечатано: «Москва, 1980». Я еще раз прочел это и все равно ничего не понял. Как это — 1980 год? Я нагнулся к Лиде: — У тебя есть еще какая-нибудь книжка? — Зачем тебе? — Дай, не спрашивай! Она порылась под столиком и сунула мне какую-то книгу, совсем новенькую. Я даже названия не прочел, а сразу посмотрел на год издания. Одна тысяча девятьсот восьмидесятый! Одна... тысяча... девятьсот... восьмидесятый! Меня будто по голове стукнули — столик даже начал расплываться перед глазами. Я протер глаза и удивился: пальцы стали мокрые. И вдруг я сразу все понял. Никакой это не другой город, а это совсем другое время. Значит, эта машина, в которую я влез, была машина времени, как в книжке Уэллса, и я залетел на десять лет вперед. А Валька там остался. Я почему-то представил, что Валька остался далеко-далеко внизу, маленький такой, а я сразу стал старше на десять лет. То есть нет, я не стал старше, потому что я, наверно, в один момент перенесся. Это вокруг меня все стали старше! Как эта Лидка. Когда я был еще там, сегодня утром, ей сколько было? Ну, от силы три года... У меня внутри что-то медленно перевернулось. Я опять нагнулся к Лидке и спросил: — Тебе сколько лет? — Мне послезавтра тринадцать, — быстро прошептала она, — у нас в номере будет день рождения. Приходи... Какой там день рождения! Какие тринадцать, когда ей только сегодня утром было три года! Я же сам видел, как она рожи корчила и орала как сумасшедшая. Я с испугом посмотрел на Лиду, будто она выросла прямо на моих глазах. А может, это и не та совсем Лидка? — Слушай, ты где живешь? — спросил я. — Наш номер в седьмом корпусе, — ответила Лида. — Да нет, не здесь, а вообще. — В городе? — Ну да, в городе! — Мы раньше жили на Коммунистической, а теперь на Советской. — На Коммунистической? В каком доме? — Не помню, я тогда маленькая была. А что? Я боялся дальше спрашивать. Я тоже живу на Коммунистической. То есть жил, десять лет назад. Как же так, ведь я не вырос, почему же Лидка выросла? Ну да, конечно, пока я летел, время-то шло. Я через него перепрыгнул с немыслимой быстротой, поэтому мне и казалось, что я лечу, а для всех других оно нормально шло. Наверно, и Валька уже вырос... Ой, да он уже институт, наверно, кончил! И вдруг я понял, о чем мне надо спросить Лидку. Правда, сзади все время шипели, чтоб мы перестали шептаться, но я уж решил не обращать на них внимания, пускай потерпят... Я совсем тихо прошептал: — Ты не знаешь таких, Корниловых? У них еще сын есть, Колька, ему двадцать два года... Ужасно странно было говорить про себя, как про другого человека. Как же мне может быть двадцать два года, когда я вот тут сижу и все видят, что мне двенадцать? — Ой, — пискнула Лидка, — а ты их знаешь? Это наши соседи бывшие, дядя Леша и тетя Женя. Они под нами жили на Коммунистической. Только они давно переехали: дяди Лешин институт перевели сначала в город (я тогда еще маленькая была), а потом уже совсем. А Колька здесь остался, он здесь учился, и сейчас он тут в городе работает... Ой как мне страшно стало! Какой-то Колька Корнилов тут в городе живет... работает... Да вот же я здесь, Колька Корнилов, из шестого «Б», я еще в школе учусь, и никуда мои родители не уезжали! И я нигде не работаю! Сзади так зашипели, что Лидка замолчала и отвернулась от меня. Я встал, ничего не соображая, и начал спускаться по проходу. У самой двери меня догнала Лидка; лицо у нее было встревоженное. — Что с тобой? — быстро спросила она. — Ты заболел? Отвести тебя к киберу? — Нет-нет, — пробормотал я, — ничего, я сам пойду... Ты оставайся... оставайся, пожалуйста! Она все-таки вышла вслед за мной. — Ладно, я к тебе потом зайду, вечером. Ты в каком корпусе? В каком я был корпусе? Ни в каком я не был корпусе! Я даже вообще все равно что не был здесь. Не мог я здесь быть — и все; здесь был какой-то другой Колька Корнилов, взрослый. — Слушай, Лид, — сказал я, повернувшись к ней, — а ну, посмотри на меня. Ты меня не узнаёшь? Мне теперь ужасно хотелось все рассказать кому угодно, хотя бы и Лиде. Я чувствовал, что скрываться больше не могу. Лида широко открыла глаза и уставилась на меня очень подозрительно. — Ты знаешь, — неуверенно сказала она, — ты странный какой-то. Пускай лучше тебя кибер посмотрит. — Да что ты ко мне пристала со своим кибером! — закричал я. — «Кибер, кибер»! Я Корнилов, Колька, поняла! — Ка...кой Колька? — спросила она совсем испуганно. — Тот самый, про которого ты говорила. Соседский Колька, ну? А тебя я сегодня видел, когда ты в детский сад шла и орала во всю глотку. И тебе три года! Она открыла рот, но ничего не сказала. Я повернулся и побежал. Среди деревьев тихо ползали пустые дорожки, над кустами летали какие-то прозрачные птицы. Но я толком не видел ничего, бежал, как на кроссе, сам не знаю куда, лишь бы подальше. Вдруг деревья расступились, и я увидел широкую площадь, а на ней — красные аэробусы. Я метнулся туда. Странно было бежать через пустую громадную площадь чужого города, которого два часа назад еще нигде в нашем мире не было. Не было и не могло быть — целых десять лет надо было нам его дожидаться. Но он, значит, где-то был уже, раз я в него попал? Был вместе со своими парками, Школьным Центром, с этой площадью и с Колькой Корниловым, которому уже двадцать два года! Домой, быстрей домой, к Вальке, к Рексу, к отцу с матерью, в шестой «Б»! Если эта машина двигается по времени, вперед, то, наверно, можно так толкнуть рычаг, чтобы она назад пошла! Только как я узнаю, куда толкать? Ничего я сообразить не мог, а только подумал, что лучше бы я дома сидел и даже близко не подходил к этой машине! Я добежал до аэробусов и стал читать названия на табличках: «Школьный Центр — Жилые Корпуса», «Школьный Центр — Заводы», «Школьный Центр — Площадь Покорения Марса»... Я даже забыл на минуту про свою беду. «Покорение Марса!» Марс уже покорили! А может, мне не улетать сразу обратно? Вдруг мне ужасно захотелось узнать и про Марс, и вообще что люди сделали, пока я как дурак сидел в этой машине и все интересное пропускал! Валька небось все это видел, и по телевизору, наверно, Марс показывали, как по нему космонавты ходят! Нет, лучше вернуться и самому все увидеть, все, как есть. Нет, не как есть, а как будет. Как этот город построят, и как на Марс полетят, и еще, наверно, столько интересного, разве угадаешь! Вот хотя бы эти атомы, что старик показывал. Как это получается, что они видны? А кабины-то на колесе, а ныряющие катера! Ух, до чего здорово будет! Я бегом помчался вдоль аэробусов. Есть, вот он! «Школьный Центр — Школьный Парк». Теперь надо дождаться, пока кто-нибудь сядет. Скажу, что я деньги дома забыл... Мне опять повезло: подошли две женщины, потом мужчина с сумкой через плечо, поднялись по лесенке. Я тоже за ними поднялся. Этот аэробус совсем как школьный был, только поменьше. У входа касса, а над ней плакатик — я сразу увидел: «Школьники и пенсионеры бесплатно». Тут уж я успокоился: ничего не надо насчет денег придумывать. Я нарочно сел рядом с мужчиной — а вдруг мне удастся его расспросить? Тут только я заметил, что держу книгу, которую мне Лида дала. Мужчина тоже увидел у меня книгу и посмотрел на меня с интересом. — Фантастикой увлекаешься? — спросил он весело. — А почему ты не на занятиях? Болен, что ли? У них, видно, все знают, когда школьники занимаются. И урока пропустить нельзя, сразу все увидят, что ты прогульщик. Ну, на этот счет у нас лучше! Стал бы я на всех уроках у Клавдии Ивановны сидеть! Вот старик там, в лектории, — это да! Нам бы таких учителей, все бы на пятерки занимались. Я, видно, задумался, потому что мужчина тронул меня тихонько за плечо и сказал: — Да ты и вправду больной! Вид у тебя нехороший. И глаза... Ты что, плакал? Чего это они все так насчет здоровья беспокоятся? Чудные какие-то. Если человека по сто раз в день про болезнь спрашивать, он от одного этого заболеет, от вопросов, ей-богу. — Нет, я просто устал, — сказал я. — Я только сегодня приехал, ходил по городу и устал. Мне разрешили посмотреть город и еще съездить в парк. Мы уже летели над городом. Никогда я не думал, что наш город станет таким красивым. Справа, за громадным парком, какие-то длинные корпуса тянутся, наверно заводы, а слева город — высотные дома, улицы, сады, площади, мосты, какие-то каналы, что ли, вода блестит. У меня даже в глазах зарябило. Мужчина вдруг спросил: — Что тебе у нас больше всего понравилось? — Я... это... я сразу как-то все посмотрел... плохо запомнил. — У нас город красивый, — сказал мужчина, — и река хорошая. А вот проведут сюда в будущем году воздушный лифт, тогда от нас до любого места в стране будет рукой подать. Ты уже ездил на воздушном лифте? Нет? А я ездил, из Москвы в Хабаровск. Интересно! Сначала тебя поднимают в ракете прямо вверх, как в лифте, а потом ракета летит горизонтально... Ну, ты знаешь ведь? Я поддакнул. Мне ужасно хотелось спросить его про Луну, но аэробус уже садился. — Ну, до свиданья, что ли? — сказал мужчина. — Ты в нашем городе жить будешь, да? Конечно, буду! Только не сейчас, а через десять лет. А где он будет через десять лет, этот мужчина? Я вдруг испугался, а потом мне смеяться захотелось. Где ж ему быть, если он сейчас в этом городе живет! Значит, через десять лет этот мужчина, с сумкой через плечо сегодня, то есть 30 июня 1980 года, тоже сядет в аэробус из Центра в Парк?.. А кто же тогда будет с ним рядом? Этого я никак не мог сообразить. Мне почему-то казалось, что я и должен сидеть. Только какой я — двенадцатилетний или взрослый? Пока я это в уме решал, люди разошлись, аэробус улетел, и я остался один перед изгородью парка. Я подошел к входу и застыл. Ворота были закрыты. Я бросился к прутьям и стал дергать. Мне же нужно туда, там моя машина! Парк был закрыт — может, на перерыв, а может, и насовсем. Почем я знаю, какие у них порядки! Я бросился вдоль изгороди — может, удастся где-нибудь перелезть. Нигде ни один прут не поломан, даже не отогнут. Я прикинул на глаз высоту. Высоко, но попробовать можно. И тут мне сзади кто-то положил руку на плечо.РАССКАЗЫВАЕТ НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ
Я вылез из машины, чтобы размять ноги. В который я уже раз эту поляну сегодня наблюдал — прямо со счету сбился. Все в голове перепуталось: то деревья подрастут, то опять поменьше сделаются, то какое-то, глядишь, срубили, а на его песте молодые два деревца появились, а когда что произошло, запомнить невозможно. Выбрался я на соседнюю полянку, вижу — камень там лежит плоский такой, как лепешка. Сел я на этот камень и устроил перекур. Согласно медицине куренье для здоровья вредно, особенно в комсомольском возрасте, но по моим личным наблюдениям оно для умственной работы незаменимый стимулятор. Тишина на поляночке, птички чирикают, река невдалеке шумит. Ну и весело начался мой отпуск, почище всякой Армении! Поначалу-то очень интересно было. Колькин отец меня проинструктировал, где у хронолета активизатор поля, как рычагом маневрировать. В общем, освоил я эту технику в самые сжатые сроки — за пять минут ноль-ноль секунд. Ну и что? В армии машины посложнее были, и то ничего, справлялся. Потом он мне Кольку своего обрисовал и в дополнение к словесному портрету дал фотографию. Парень как парень, я сам в детстве примерно такой был: чуб белесый, нос курносый, брови еле просматриваются. Любительский снимок, конечно, да еще прошлогодний, но если к этому мои профессиональные навыки приплюсовать, то обознаться невозможно. Рассказал он мне кое-что из Колькиной биографии, да еще Валька сообщил ряд засекреченных сведений — как они с Колькой учительницу Клавдию Ивановну обманули и как Колька в лагере стекло разбил. А толстый этот, их начальник, Виктор Сергеевич мне и говорит: — Я думаю, к милиции вам обращаться незачем будет. Вы в первую очередь у нас же все и спросите: мы-то уж будем знать! Тут Колькин отец ему сказал что-то насчет нового проекта. Виктор Сергеевич сморщился и пробормотал, что, мол, бабушка надвое сказала, а Колькин отец возразил, что тогда и поиски были бы не нужны. Я не совсем понял, почему поиски могли бы быть не нужны, но спросить не решился. В общем, взял я старт в неведомое грядущее в одиннадцать ноль-ноль первого своего отпускного дня. Нажал рычаг, заволокло меня серым туманом, засвистело что-то, потом туман рассеялся — готово, прибыли на место назначения. Я сначала даже вылезть из кабины не мог, так удивился. Хронолет стоял не на бетонной площадке, а на траве, и института никакого рядом не было! Кого же я спрашивать буду? Обогнул деревья вдоль берега, вышел на соседнюю полянку — ни площадки, ни хронолета, ни Кольки. Ничего. И забора нет. И вообще, вместо институтской территории парк, хороший такой парк, благоустроенный, кругом клумбы, аллеи, скамейки, вдалеке пруд блестит и колесо с кабинками вертится — словом, все как положено. «Ну и влип же ты, — думаю, — Парфенов Николай! Где ты теперь Кольку Корнилова искать будешь?» Но тут же я себя подверг принципиальной критике. «Рассуждать надо, Парфенов Николай, — сказал я недотепе Кольке Парфенову. — Если, института нет — значит, его куда-нибудь перевели, а вместо него парк разбили. Такая идея была, даже в нашей местной прессе об этом писалось, видно, об этом-то проекте Колькин отец и толковал. Это раз. А второе: если нет Колькиного хронолета, так и его самого здесь нет. Отсюда вывод — двигаем дальше, так сказать, в дебри времен». Через час примерно я столкнулся с таким фактом, что двигать дальше некуда. Всю шкалу хронолета я уже перебрал, во всех тридцатых июня, какие за эти десять лет были, побывал, с полянки на полянку десять раз перебегал, даже в памяти путаться стало: а здесь-то я был? Примет ведь особенных, кроме деревьев да кустов, в ближайшем окружении не просматривалось, парк вообще вроде бы не очень менялся, а как раз это место, видно, совсем в дикости оставили, а людей тут я ни разу не встретил. Перебрал я таким примитивным способом все возможные тридцатые июня, куда Колька мог залететь, и понял, что с ходу форсировать реку времени мне не удалось, придется поискать броду. Надо по парку погулять, разобраться в обстановке, людей поспрашивать. Кого я ни спрашивал в этом парке, никто не видел мальчика, который хотя бы отдаленно походил на Кольку. А выйти из парка я не решился. Кто его знает, затеешь какую-нибудь историю, которая на данный исторический период не предусмотрена, и все будущее полетит вверх тормашками. Еще часа два я таким образом метался из одного года в другой и каждый раз по парку бегал. Удивительное все же дело! Сядешь в хронолет — мигом перенесешься через 365 дней, выйдешь в парк — на скамейке старушечка сидит. Еще прыжок на год — эта скамейка пустая, зато на другой девчонка книжку читает. Прыгнешь на год обратно — опять та же старушечка сидит, а девчонки и в помине нет. Даже как-то не верится, что между ними целый год пролегает, а не пять минут. Вроде бы закрываю я глаза, потом открываю, а нахожусь все время в этом самом парке, только люди меняются — то один, то другой. Люди эти, по-моему, даже стали ко мне привыкать, ведь я же перед ними регулярно появлялся, с интервалом максимум в полчаса. Они-то ничего особенного не видят — ну, бегает по парку парень и всех спрашивает: «Мальчика не видали? Мальчика не встречали?» А вот если взять в разрезе за десять лет, так интересная получается картина: каждый год, тридцатого июня, появляется в парке из кустов некий гражданин и проносится по аллеям, чтобы тут же скрыться в неизвестном направлении. Один парнишка меня все же взял на заметку. Не то я от всей этой сумятицы ошалел и вовсе перестал понимать, где нахожусь в данный момент, не то он целый год безвыходно в парке просидел, только у меня с ним накладка вышла. Он бегал за мной и все уверял, что меня в прошлом году видел и что я тогда тоже мальчика искал. Наконец я ему твердо пообещал, что если он сию минуту от меня не отстанет, так он еще и в будущем году рискует со мной встретиться... Тут он остановился — наверное, решил посоображать, стоит ли ему снова со мной встречаться или не стоит, — а я тем временем нырнул в кусты. Ну, не завидую я будущей милиции, когда хронолеты эти станут обычным делом и детишки начнут шастать кто куда! Кто в эпоху Великого Кольца, которую писатель Ефремов весьма убедительно изобразил, кто в Завтра удерет, чтобы новый фильм поскорей увидеть, а кто, например, к древним римлянам подастся — Спартаку помогать! И придется нашей славной милиции тогда на древние языки приналечь, тут десятилетним образованием да поддержкой широких масс не обойдешься. Тем более, что широкие массы при древних римлянах были угнетенные и в основном неграмотные, а с угнетателями разве сговоришься? Все это я самому себе внушал во время перекура для поднятия настроения, но дела от этого не двигались. А может, все-таки Колька в город отправился? Ведь он же не знает, что на хронолет сел, представления не имеет, куда это его занесло. Вообще-то он, по-моему, первым делом должен был бы в парке людей расспрашивать. Но тогда его хоть кто-нибудь да заметил бы... А машина? Куда он машину девал? Спрятал, что ли? Или его сразу обнаружили и вместе с машиной забрали для выяснения личности? Тоже вполне возможный вариант. На всякий случай надо кусты около полянки обшарить — нет ли там машины. Вернулся я к кустам, начал шарить. Не нашел ничего. Конечно, шансов маловато, но все же... Может, и мне в город пойти? Может, Колька там где-нибудь бродит, совсем растерялся и не знает, как быть? Или того хуже — выяснит он, где находится, и ум у него за разум зайдет, вполне свободно! Я и то стараюсь во все эти тонкости особо не вникать — как это я в будущем нахожусь и что же произойдет, если я, к примеру, сам с собой встречусь? Или, скажем, возьму и останусь здесь — что же, нас тут двое Парфеновых будет? Что же все-таки делать? Я решил еще раз по парку пройтись. Чутье мне подсказывало, что Колька именно в этот год попал. Не так чутье, впрочем, как разговор с одной девчонкой. Она у самого входа в парк сидела на скамейке и книжку читала — и так я умозаключил из этого разговора, что она Кольку моего видела. Походил я по парку, вернулся к выходу, хотел эту девчонку поподробнее расспросить, да, видно, опоздал — нет уже никого на скамейке. И вообще, гляжу, как-то пусто в парке стало. Только я обратно повернул, за моей спиной раздался свисток милицейский. Вот те, думаю, влип! Я повернулся и вижу — ко мне старшина направляется. Посмотрел я на него с законным любопытством — ребята ведь спрашивать будут: как там милиция, имеются ли какие преобразования, то да се! Но с виду ничего особенного. Летняя форма, правда, получше, материал легкий такой... И аппаратик на груди пристроен — вроде бы для радиосвязи — это тоже хорошо. Но вот разговор у меня с собратом по профессии получился неудовлетворительный. Говорил, правда, этот старшина вполне вежливо, но как заладил: «Парк этот только для школьников, в данное время закрывается, попрошу удалиться», так ничего и слушать не хотел. Я ему объясняю, что мальчишку ищу, а он отвечает: — Пройдите за ограду. Если ваш мальчик здесь, он выйдет через эти ворота, других нет. Если не выйдет, значит, и искать нечего. Железная логика! Не знаю, может, здешние ребята по этой логике и вправду действуют, но для Кольки-то она, точно, не подходила — он здешних порядков знать не может. Ну, я спорить все же не стал, вышел за ворота, тут же их за мной заперли. Подождал немного, поглядел на ограду, решил уж было перелезть через нее где-нибудь, к машине вернуться, и тут вижу — шпарит прямо к воротам невысокий такой парнишка, белобрысый, курносый, и вид у него обалделый. Увидал он, что ворота заперты, и, как мне показалось, чуть не заплакал. Дергал, дергал их, потом вдоль ограды побежал и тоже, гляжу, прицеливается, чтобы перелезть. Ну, думаю, порядок! Никакой здешний школьник не станет ломиться в парк в неположенное время — чего ему там делать! И по внешности этот паренек на Кольку тоже похож... Сейчас проверим... Подошел я осторожненько и положил ему руку на плечо.РАССКАЗЫВАЕТ КОЛЬКА КОРНИЛОВ
Я повернулся и увидел высокого такого парня в белой рубашке с засученными рукавами. Парень весело улыбался. Чему это он так обрадовался? — Колька? — спросил он. Я страшно удивился. Кто меня здесь мог знать? — Да ты Колька? Корнилов? — Он так в мое плечо вцепился, будто я собирался от него убежать. — Ну, Корнилов... — сказал я. — Ффу-у-ты! — облегченно вздохнул парень и опять улыбнулся. — А я тебя ищу, бегаю тут как угорелый. Зачем это я ему понадобился? И чего он бегает? — А вы... кто? — спросил я. — Я? Ну... Николай, скажем! Устраивает? — И он почему-то мне подмигнул. У меня вдруг под ложечкой противно засосало. Это потому, что я понял, кто меня здесь мог сразу узнать! Я вспомнил про того, второго Николая, в которого я вырос, и мне так стало страшно, что я попятился и к ограде прижался... Неужели это я сам на себя смотрю?! — А вы... откуда меня знаете? Он опять засмеялся: — Я-то тебя хорошо знаю... давно... А вот ты меня и вправду никогда не видел. Ничего, доставлю тебя к отцу, он тебе все объяснит! Он меня знает... а я его нет... Значит, и вправду это он! То есть я! Но ведь так не бывает... Не бывает, чтобы тут я и напротив тоже я! — Слушай, — сказал он и вдруг перестал смеяться. — Ты что, мне не веришь? Ну, хочешь, я тебе расскажу про тебя все: как ты с Валькой дружишь, как вы Клавдию Ивановну ругаете... все, все. А помнишь, как ты в лагере стекло разбил? Я в прошлом году в пионерлагере нечаянно мячом в стекло зафутболил. Никто не знал, что это я, только Валька... И еще я сам, конечно. Я сам! Я! Значит, это и есть я — такой здоровенный парень, в белой рубашке, в синих брюках? Я посмотрел вниз и увидел свои ноги, в шортах и сандалетах, загорелые, исцарапанные. И это тоже я! Вот на коленке ссадина — это я вчера с дерева неудачно приземлился... Как же так! Наверно, вид у меня очень жалкий был, потому что Николай этот вдруг спросил: — Слушай, ты не больной, а? — Не... — прошептал я. — Я... ну, просто устал немножечко... И голова закружилась. У меня действительно голова закружилась — не то от голода, не то от мыслей всех этих... Все равно я не понимал, как это может быть, что я сам с собой разговариваю. — Ох я дурак! — Он хлопнул себя ладонью по лбу. — Ты же, наверно, есть хочешь? Пойдем, я тут одну столовку знаю... там ничего кормят! Заправимся, а потом решим, как дальше быть. А? Я мотнул головой. Ужасно вдруг захотелось есть! Николай что-то посоображал в уме, даже губами шевелил — наверно, считать себе помогал. Я вот тоже, когда задачи в уме решаю, всегда губами шевелю. Мама говорит, что это глупая привычка. Я знаю, что глупая, только не знаю, как от нее отучиться. Чудно мне было рядом с ним идти, с Николаем. Я все на него исподтишка поглядывал: интересно все же, какой я буду. Ничего, мускулы у меня... то есть у него... а,запутаешься тут совсем! В общем, мускулы у нас здоровые, двух Эдиков одной левой на обе лопатки можно уложить. Я пощупал свои мускулы. Нет, слабые все-таки. Как же мне их развить? Может, они сами собой вырастут за эти десять лет? Я приостановился и спросил: — А вы как такие мускулы развили? Он улыбнулся: — Вполне можешь мне «ты» говорить, чудак! Да ты хоть соображаешь, кто я такой? — Соображаю... — сказал я. Он задумался и тихо так сказал, я еле расслышал: — Да... десять лет... Если б не хронолет, в жизни нам бы с тобой здесь не разговаривать... А я тебя только сегодня на фотографии разглядывал. — Он помолчал и добавил, спохватившись: — А мускулы... Ну, это дело простое, только дисциплина нужна. Зарядка ежедневно, душ холодный — и станешь в точности, как я! Стану... Конечно, я стану, как он. Иначе ведь и быть не может. Недаром я уже сегодня начал зарядку делать. И под душем десять счетов стоял. Интересно, а он это помнит? — А вы... а ты когда начал зарядку делать? — спросил я. Он задумался. Ну да, разве все упомнишь за десять лет! — Не помню точно. Лет десять назад. — И каждый день? — А как же! Вот это да! Я и не знал, что у меня такая воля железная — каждый день зарядку делать. Я думал, у меня воля слабая, вот даже вставать вовремя никак не научусь. А я, оказывается, все могу, нужно только знать, что я все могу, и еще захотеть — и все. Мы уже вышли из рощи перед парком и шли по улице. Здесь совсем не так было, как в Школьном Центре или на площади в городе: и улица как улица, и дома почти как у нас. Кое-где, правда, стояли новые дома, большие. Николай вдруг остановился и сказал: — Слушай, ты можешь немного подождать? Я тут в одно место забегу на минутку. Здорово, понимаешь, совпало, что я тебя именно здесь нашел — у меня тут старые знакомые. Когда еще сюда попадешь... Он зашел в дверь, над которой была вывеска: «Парикмахерская». Я в окно видел, как он там губами шевелит — разговаривает, наверно, а через стекло не слышно. А вот засмеялся. И парикмахеры чего-то говорят. Их там всего трое в комнате было — Николай и два парикмахера, один совсем старый дядька. Я думал, что в будущем все-все изменится, а эта парикмахерская была такая же, как и у нас. И кресла такие же, и зеркала, и ножницы. А вообще, чего я удивляюсь? Вилку еще когда изобрели, а в ней ничего особенного не меняется. Наверно, не все должно меняться. Просто люди делают, чтобы лучше было. Что плохое или неудобное, то меняют, а что хорошее — зачем его менять? Аэробусы — это правильно придумано, на них летать быстрее, и все видно вокруг и внизу. А то в автобусе другой раз столько людей набьется, что дышать невозможно. И кричат все, как будто от крика им больше места будет. И школа — это тоже правильно, чтобы ребята отдельно от родителей жили и все время вместе. Если б мы с Валькой всегда вместе были, и Эдик, и Толька — сколько бы мы интересного сделали! А то не успеешь игру начать или поговорить — и уже одному домой надо, другому за сестренкой в детский сад... И парк этот у них — сила! Океанарий у них там, космодром... Океанарий, это я читал — это где настоящие морские рыбы и животные живут и дельфины тоже. Вот с дельфином бы поговорить! Этот пруд с подводными катерами на самом деле, наверно, и есть океанарий; ребята опускаются под воду в катерах и наблюдают, как рыбы живут... Может, там и дельфины есть... А где же у них космодром? Эх, жалко, ничего я не увидел! Только на колесе покатался... Но колесо тоже, конечно, здорово... И еще мне понравилось, что люди у них все такие вежливые и добрые. Не то что у нас некоторые: «Ах, деточки, ах, дорогие!» — а чуть что им не понравится, так сразу: «Хулиганы! Лодыри бессовестные!» А у них здесь никто не ругается, все по-хорошему говорят. Вон сколько человек меня спрашивало, не больной ли я да не свести ли меня к киберу. Что это за кибер, интересно? Докторская машина, что ли, такая? Я так задумался, что даже не заметил, когда из парикмахерской вышел Николай. Лицо у него было задумчивое. Мы пошли молча, потом он говорит: — Да, стареют люди! Время идет, брат Колька, проходит время, ничего не попишешь! Мы еще немного прошли, и я увидел столовую — такой дом двухэтажный, сплошные окна, и в них видно, как люди сидят за столиками. И так мне сразу есть захотелось — даже икота от голода началась. Николай тоже обрадовался, когда увидел столовую, и говорит: — Вот она, старушечка! Ну, сейчас мы окрошечку сообразим! В столовой были автоматы, они бутерброды выдавали и соки разные. Я сначала думал — что-нибудь новое, а потом вспомнил, что и у нас такие есть, правда, только в одном месте, в кафе «Аэлита», около театра... Николай принес две тарелки с окрошкой, ложки и бутылочку пива. Мы стали есть, а я все в окно поглядывал — может, что-нибудь интересное увижу. Но там ничего не было видно, только деревья. Николай заметил, что я в окно смотрю, и засмеялся: — Чудно тебе, наверно, да? И мне чудно! Сидишь себе как ни в чем не бывало и окрошку наворачиваешь. А ведь это будущее, понимаешь, Колька? Завтрашний день, можно сказать! Ему легко говорить, он сам в этом будущем каждый день живет! А мне еще десять лет ждать надо, и в школу ходить каждый день, и зарядку каждое утро делать. Десять раз по триста шестьдесят пять зарядок, не считая високосных, — это сколько получается? Три тысячи шестьсот пятьдесят зарядок, ну и ну! Мы вышли из столовой, Николай закурил и спрашивает: — Ну, куда теперь? В парк? Он же хотел меня к отцу доставить — забыл, что ли? — Ты где машину-то спрятал, герой? Какой-то у него голос совсем другой сделался... Мне вдруг расхотелось вести его к машине. И чего это он так торопится? Не может, что ли, по городу меня поводить, все показать, что новое? — Ну, говори, где машина-то? В парке? — опять спросил Николай. Неужели мы сейчас улетим? И ничего я больше тут не увижу сейчас, а только через десять лет, когда вырасту? Ну, хоть самое главное надо спросить! — Николай! Расскажи, как Марс покорили! Он на меня глаза вытаращил: — Марс, брат, еще не покорили, ты что? Да ведь я сам читал название: «Площадь Покорителей Марса»! А он вроде не знает! Как же можно такое не знать! Я про всех космонавтов наизусть знаю: кто когда родился и сколько витков сделал, и кто в космос в скафандре выходил, и про многое другое! И давно уже решил, что буду учиться на космонавта. — А вы... где учитесь? — спросил я. Почему-то перестало у меня «ты» выговариваться. Но он, по-моему, не заметил. — Я уже не учусь, я работаю. А кончил я милицейские курсы, год назад... Как это — милицейские курсы?! Я чуть не заорал. Тогда это не я! Я ни за что не хочу милиционером становиться. Никогда в жизни не пойду на милицейские курсы! — Вы... шпионов ловите? — с надеждой спросил я. Он засмеялся: — Да что ты, какие тут у нас шпионы... У меня попроще работа. Мне ужасно обидно за себя стало. Да какое он имел право пойти в милицию, если я не хочу? Выходит, мне теперь космонавтом не быть из-за того, что он милиционером сделался? Значит, и я тоже должен буду в милиции работать? Нет, я вернусь и все иначе переделаю! — А кого же вы ловите? — угрюмо спросил я. — Мало ли кого! Вот хоть тебя сегодня поймал! — И он снова засмеялся. Вдруг у меня опять заколотилось сердце быстро-быстро. Я даже приостановился, но потом дальше рядом с ним пошел, чтобы он не заметил. И отвернулся нарочно, а то вдруг он догадается, о чем я думаю. Я не хотел, чтобы он догадался. Я вдруг такое подумал, такое, что даже самому страшно стало! Я подумал, что вдруг это вовсе не я! То есть что он — не я, не Колька Корнилов, а совсем другой какой-нибудь Николай. Мало ли Николаев на свете! Николай вдруг резко остановился, будто испугался чего-то и быстро втащил меня в какое-то парадное. И лицо у него стало испуганное. Он оглянулся на меня, рукой помахал и улыбнулся, будто ничего особенного не происходит, но я же не маленький. Что-то он от меня скрывает, ясно! Он осторожно выглянул на улицу, потом повернулся ко мне и сказал: — Ты тут постой, не выглядывай, я мигом вернусь! — и убежал. Кто же он такой?.. Про отца говорит... А отца-то моего в городе нет, я вспомнил, Лида же сказала... Про какого же он отца?.. И вот тут я вдруг на самом деле понял, кто это! Как же я раньше не догадался! Это его за мной послали! Из милиции послали — он же сам сказал: «Я тебя поймал!» Он меня ловил, потому что я взял машину времени и улетел, а машина институтская, и с ней сегодня должны испытания проводить. Ему дали, наверно, другую машину, которая может двигаться по времени, и он меня нашел. Только зачем он притворяется, будто он — это я, только старший? Может, думает, что я боюсь назад вернуться, отца боюсь и вообще? А про стекло и про Клавдию Ивановну — это ему, конечно, Валька все рассказал. Теперь он меня потащит в парк и заставит показать машину, и получится, что я нарочно все это сделал и возвращаться не хотел, а он меня поймал. У него, наверно, в парке другая машина стоит, на которой он прилетел! И вдруг я вспомнил окурок возле камня, и хлопок, и странный туман на соседней полянке... Ну, ясно! Это его машина там и хлопнула! У меня сердце ужасно колотилось. Что-то надо делать! Прямо сейчас, сию минуту, а то он придет! Я выглянул из парадного. Вон он стоит на углу, смотрит куда-то, не в мою сторону. Я выскочил на улицу и побежал во весь дух, не оглядываясь. Слева был переулок, я завернул туда, шмыгнул в подъезд и остановился. Он теперь опять начнет меня искать, будет спрашивать прохожих: кто-нибудь видел, куда я побежал... Нужно поскорее пробраться в парк и залезть в машину. Наверно, если этот рычаг обратно потянуть изо всей силы, она пойдет в прошлое! И я сам вернусь, безо всяких милиционеров. Сам сделал, сам отвечать буду. Не боюсь я отвечать ни капельки, пусть не воображают! Я быстро пошел переулками, чтобы людей поменьше встречать. Вдруг дома кончились, и за деревьями я увидел ограду парка. Тут же я побежал не скрываясь, потому что деревья меня заслоняли. Я даже не собирался через главный вход идти — милиционер, наверно, как раз там меня и дожидался. Я выбрал такое место, где деревья очень близко к ограде росли, поплевал на руки и по чугунным прутьям забрался наверх. А спуститься совсем просто было: я оттолкнулся и прыгнул прямо в траву. В парке никого не было. На пруду колыхались пустые катера, колесо все так же медленно кружилось. Я пробежал мимо них и оказался у реки. Над рекой летел аэробус из города. Я испугался, что меня увидят, и побежал не по берегу, а между деревьями. Деревья вдруг кончились, и я с разбегу вылетел на поляну. Это была та самая поляна, где раньше я видел туман, только теперь тумана не было, посреди поляны стояла белая сверкающая бабочка — совсем как моя машина! — а возле нее на корточках сидел Николай! Он услышал, наверно, как я выбежал, вскочил, увидел меня и бросился в мою сторону. Я рванулся назад, но поздно — он схватил меня в охапку и крикнул: — Колька, куда ж ты пропал! Я стал молотить его руками по лицу, по голове, по спине, стал вырываться, — только куда мне против милиционера, да еще такого здорового! Он втиснулся в кабину, так и не выпуская меня из рук; я еще слышал, как хлопнул рычаг; потом раздался вой сирены, и все вокруг заволокло серым туманом.РАССКАЗЫВАЕТ НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ
Мальчишка повернулся, и у меня отлегло от сердца. Порядок, дорогой путешественник Корнилов Николай, порядок! Теперь мы тебя держим, так сказать, в руках и доставим к папе и маме в целости и сохранности. — Колька? — спросил я. Он почему-то вытаращился на меня и не ответил. Я испугался — а вдруг ошибка? — Да ты Колька? — заорал я. — Корнилов? — Ну, Корнилов, — ответил он наконец. — Ф-у-у-ты! — облегченно вздохнул я. — А я тебя ищу, бегаю как угорелый. — А вы... кто? — спросил вдруг Колька. Кто я? Как ему объяснить? Рассказывать долго, да и устал он, наверно, пока по будущему бегал. Я вон какой здоровый, одних мускулов два кило, и то умаялся. — Я? Ну... Николай, скажем! — ответил я. — Устраивает? — и подмигнул ему для подкрепления духа. А у него лицо все перекосилось, и он к решетке прижался. — А вы откуда меня знаете? Любопытный какой выискался! Как я ему объясню? — Вот доставлю тебя к отцу, — сказал я построже немного — он тебе и объяснит откуда! Правильно, отец у него физик, ему и карты в руки. А мы послушаем. А то я, по совести сказать, тоже не очень соображаю, откуда мы с ним здесь взялись. Глаза у него стали недоверчивые. Видно, упрямый пацан. Беда с такими! — Слушай, — сказал я ему совсем серьезно, как взрослому — ты что: не веришь мне? Ну, хочешь, я тебе расскажу про тебя все: как ты с Валькой дружишь, как вы Клавдию Ивановну ругаете... все, все! — Тут я вспомнил «секрет», который Валентин на ухо мне нашептал. — А помнишь, как ты в лагере стекло разбил? Вроде дошло до него, что я не совсем посторонний. И верно — какой же я ему посторонний? Мы в данный момент оба здесь посторонние, и надо поскорей убираться туда, где нам по закону положено существовать. — Это вам... отец рассказал? — спросил Колька. Я кивнул: — Он. И доставить тебя, беглеца, велел в полной сохранности... Не возражаешь? Он мне понравился, этот Колька. Худенький, правда, такой, и насчет мускулатуры слабовато, но симпатичный парнишка, глаза смышленые. Только невеселый он что-то. — Слушай, ты не больной? — спросил я. Он прошептал еле слышно: — Не... Я... просто устал немножечко... И голова закружилась. Вот я дурак, не сообразил! Парню просто поесть надо. Я и сам, как с утра заправился, крошки во рту не имел. Куда же мне его сводить? Была тут когда-то в Заречном столовая, я раньше в ней бывал, пока в город не переехал. Ничего кормили... Интересно, как теперь? Изложил я Кольке в популярной форме насчет зареченской столовой, и мы с ним двинули в направлении этого пункта срочной гастрономической помощи. Честно сказать, меня не столько калории в данный момент интересовали, сколько посмотреть хотелось хоть краешком глаза, что же тут без меня совершилось. Какие наши, так сказать, ближайшие мечты и чаяния реализовались. Так что питание я больше для камуфляжа придумал — для себя, конечно. Кольку, понятно, накормить надо было. Чудно мне было с ним рядом идти. Вроде бы вот и ходим мы, и разговоры какие-то ведем, а ведь вдуматься — как это мы тут? И он тоже, смотрю, на меня поглядывает исподтишка, будто проверяет, здесь ли я, не померещилось ли ему. Видно, тоже страшно не в своем времени оказаться. Наверно, он оттаял душой, почувствовал ко мне наконец доверие, стал про мускулы расспрашивать, как я их отрастил. Пацанов этот вопрос здорово волнует. Удовлетворил я его законное любопытство, хотя, надо полагать, разочаровал изрядно. Тут ведь воля нужна, я себя десять лет заставляю зарядку делать и никак влюбиться в нее не могу. Встанешь иной раз утром и на гири эти прямо с остервенением смотришь, как на личного врага. А у Кольки, видать, характер есть, а воля — под вопросом. Он как услыхал, что зарядку каждый день нужно делать, так сразу нос повесил, не понравилось ему. Тут мой мыслительный процесс прервался, потому что прямо перед собой я увидел знакомую вывеску: «Парикмахерская». Сохранилась, значит, в неприкосновенности, хоть и домик-то старенький, и помещение не того... Попросил я Кольку подождать, а сам нырнул в дверь. Сколько же я здесь не был? Если по моим часам фирмы «Восход», на семнадцати камнях, то часа четыре, не больше. А если по календарю? В парикмахерской, как и четыре часа назад, было прохладно и пусто. И изменений особенных не наблюдалось, как ни странно. Дядя Петя все так же щелкал ножницами и говорил что-то, а Ашот скучал у окна — ну, будто они за все это время с места не сдвинулись! Да... сдвинуться, может, не сдвинулись, а вот дядя Петя немного постарел, сгорбился — это точно. Я остановился в дверях, и тут дядя Петя меня заметил, но никакого удивления не выразил, только головой мотнул в сторону кресла — садись, мол. Нет уж, дудки, дядя Петя, вы с меня свою норму волос сегодня уже настригли, хватит! Хотя он-то моего утреннего посещения помнить не может, для него это давно прошедшее время. Наверно, я сюда потом тоже заглядывал неоднократно. — Здорово, Николай! — сказал дядя Петя. — Слыхал, чего эти империалисты вытворяют... Так! Стало быть, на данном этапе его империализм занимает. Твердый старик! Эх, надо бы и мне газетку прихватить, ознакомиться с текущими материалами теперешнего дня — вот доклад был бы в отделении! — Стричься будешь? — спросил дядя Петя. — Венгерку? Польку? Он у меня на голове всю географическую карту собрался изобразить, что ли? Хватит с меня канадки... — Да нет, — сказал я, — так просто зашел. Отпуск у меня, гуляю... — Слушай, — сказал от окна Ашот, — поезжай в Армению! Горы посмотришь, древности посмотришь. Озеро Севан увидишь, наполнили его, знаешь? Я даже не знал, что его успели осушить! Да, быстро у них тут природа преобразуется! — Чего ты к нему со своей Арменией пристал! — сурово сказал дядя Петя. — Ты смотри, что на свете делается! В Чили землетрясение! В Японии тайфун! И эти империалисты еще... А ты ему про древности! Если б я сегодня не слышал уже все это, мне бы и в голову не пришло, что я через время перепрыгнул! — Слушай, — сказал Ашот, подойдя ко мне и заинтересованно разглядывая мою шишку, — где такое богатство приобрел, поделись секретом? Тебе с таким украшением только в горы ехать надо, будешь с горным бараном конкурировать, у него тоже рога первый сорт, знаешь! — Да ну тебя, — сказал, я смущенно, — напоролся я тут... — и прикусил язык: кто их знает, может, в ихнем времени я и живу не там, и никаких соседей с ванночками у меня нет. Тут я увидел, что в окно Колька заглядывает — заскучал паренек, идти надо. — Ну, еще столько же вам лет и здоровья! — сказал я и вышел. До столовки добрались мы без осложнений и поели нормально. Что-то мало в этой Заречной стороне изменений произошло. Правда, дома кое-где стояли новые, да вот парк разбили, а так все вроде по-прежнему осталось. В городе, даже из-за реки видно, изменения посущественнее, только в деталях не разглядишь, а побывать там нет времени. Диалектическое противоречие в личной моей жизни: вроде бы я временем распоряжаюсь как хочу, вдоль и поперек, так сказать, его изъездил, а у самого времени нету. Удивляло меня все же, почему это Колька молчаливый такой и ничем не интересуется. Другой бы на его месте все глаза насквозь просмотрел, а он молчит и какие-то мысли в мозгу провертывает. Устал, что ли? Или, может, боится, что дома ему попадет? Вот это уж зря, Корнилов Николай, нос надо выше держать! Мы с тобой в данный момент полномочные, можно сказать, представители героического прошлого в нашем славном будущем, — понял? Вышли мы с Колькой из столовой и взяли курс на парк. Только пошли хорошим шагом, и вдруг я будто опять на ванночку налетел: прямо на нас шла Лидочка из жилуправления! Тут уж мне милицейская школа помогла быстро сориентироваться — нырнул я в парадное, Кольку притиснул к стенке и повел перископическое наблюдение. Лидочка что-то сильнее всех переменилась, серьезная такая стала, даже грустная почему-то: идет и чуть не плачет. Если честно рассудить, по-комсомольски, то я в данный момент морально обязан к ней подойти и выяснить характер переживаний. Эх, была не была! Сказал я Кольке, чтоб еще меня подождал, и метнулся на улицу. Пока я до угла добежал, исчезла моя Лидочка в неизвестном направлении. Ну, вообще-то о ней должен позаботиться Парфенов Николай, проживающий на данном отрезке времени законно, а не зайцем... А если это Лидочка именно из-за него так грустит, то и Парфенову-младшему к ней соваться вроде неудобно. Вернулся я — вот те на! Куда же мой беглец девался? Видно, пока я на углу стоял, он тут какое-то новое стратегическое решение обдумал. Может, сам решил вернуться? Ну и положение! Допустим, я сейчас начну опять по городу метаться — так ведь Колька-то в это время, вполне возможно, стоит на бетонной площадке и с родителем выясняет отношение. А возвращаться мне тоже опасно: я вернусь, а он, может, тут по городу бегает. Как ни кинь, все клин. В общем, я принял решение: надо побыстрей до парка добежать! Машину свою Колька далеко утащить не мог, она тяжелая. Если найду машину — значит, здесь он еще, тогда порядок, розыск продолжается. А если нет машины — значит, улетел мой герой, тогда и мне надо за ним подаваться: проверить, добрался ли благополучно, не махнул ли по ошибке не в тот год... Добежал я до парка, перемахнул через забор и быстрей к речке. Все кусты вокруг своей полянки обшарил и вокруг соседней тоже — нет Колькиного хронолета. А ведь должен он быть где-то здесь — бетонные площадки-то в институте почти рядом расположены, метров в пятьдесят расстояние, не больше. Ну, против сурового факта не попрешь: раз машины нет, значит, и Кольки уже нет и мне здесь делать больше нечего. Вытянул я свой хронолет из кустов, присел на корточки, чтобы силовое поле активизировать, и вдруг услышал за спиной шум, будто медведь сквозь кусты ломится. Вскочил, оглянулся — прямо на меня из кустов бежит Колька. И в это время активизатор сработал. Тут уж не до рассуждений: поле-то активизируется всего на полминуты, если выключится, потом опять возись, а Колька, того и гляди, снова деру даст. Схватил я Кольку в охапку, бухнулся в кабину хронолета и локтем толкнул рычаг. Опять все серым туманом обволокло, и вой знакомый раздался — ну все, порядок, Корнилов Николай, летим домой! За хронолетом твоим я потом вернусь — главное, надо тебя по назначению доставить, в родительские руки.РАССКАЗЫВАЕТ КОЛЬКА КОРНИЛОВ
Вой над ухом прекратился, и я увидел, что мы с Николаем сидим в машине, но уже не в парке, а на институтской территории. И отец тут же стоит, и еще какие-то люди вокруг площадки, и среди них Валька! И все они сразу к нам бросились. Молодец Валька, он, значит, все время меня здесь дожидался! Пока они к нам бежали, Николай вылез из машины и меня вытащил. Тут подбежал отец. И я вижу — глаза у него какие-то странные и смотрит он не на меня почему-то, а на Николая и сразу спрашивает его: — Кто вы такой? Чего это он спрашивает? Ведь они сами его посылали! Но я ничего не успел сообразить — вдруг что-то громко хлопнуло, и прямо рядом с нашей машиной появилась другая, точно такая же. А в ней сидит парень в белой рубашке, а на коленях у него мальчик, чуть постарше меня... Неужели у них еще кто-то в хронолете летал, да еще с мальчиком?! Почему-то все кругом замолчали, как будто растерялись, только этот парень в белой рубашке не растерялся, вылез из машины, мальчика поставил рядом с собой и говорит: — Ну, вот и порядок! Вот и мы! Привез вам беглеца вашего! В будущий год он, оказывается, подался, в тридцатое июня семьдесят первого года... А я уж его и в семьдесят втором, и в следующих искал, все тридцатые июня на десять лет вперед обшарил... Тут вдруг он увидел нас с Николаем, и у него даже рот открылся. И все тоже стали вовсю на нас смотреть — то на меня, то на другого мальчика. А отец подошел к тому мальчику и спрашивает совсем тихо, я еле услышал: — Тебя как зовут? И вдруг тот мальчик закричал: — Папа, да ты что?! Я же Колька!! У меня по спине мурашки побежали. Какой еще Колька? Почему он его папой называет, это же мой отец! Я изо всех сил закричал: — Ты его не слушай, папа! Это я твою машину взял, только я нечаянно... Я хотел Вальке винт показать, а она меня унесла! — Где ж ты был? — спросил отец. — Я... в 1980 год попал, — сказал я. — А потом понял, куда меня занесло, и хотел обратно полететь, а тут он вот... Я показал на Николая. Он все время стоял молча и на отца как-то странно глядел. И тут вдруг один толстый дядька, который сзади отца стоял, как захохочет! И другие все засмеялись за ним, чего-то закричали наперебой, только мы четверо стояли серьезные, и еще отец с Валькой. Валька так на нас таращился, что я испугался, как бы у него глаза совсем не вылезли. — Ну, признавайся, Корнилов, — сказал этот толстый дядька, улыбаясь, и хлопнул отца по плечу, — признавайся: который тут твой?! Как это «который»? Но я ничего не успел сказать, потому что этот Николай, который меня привез, вдруг шагнул к отцу и говорит: — А меня ты не узнаешь? А, отец? У меня руки совсем холодные стали и в ногах как будто иголками закололо. Значит, я ошибся! Значит, этот Николай — это все-таки я, Колька Корнилов, взрослый... Правильно я сначала думал! Отец совсем побледнел и на Николая уставился, а все остальные тоже замолчали, и совсем тихо стало. — Ты — Николай? — недоверчиво спросил отец. — Ты тоже... — Корнилов Николай, — весело сказал Николай, — рождения пятьдесят восьмого года, в настоящее время... — Тут он запнулся и поправил себя: — ...В будущее время, в восьмидесятом году, работаю и проживаю тут же! — Это я Корнилов рождения пятьдесят восьмого! — закричал второй мальчик. — Это я здесь живу! И никакой у нас не восьмидесятый, а всего семьдесят первый!! А я кто же? У меня все в голове перепуталось. Значит, этот мальчик тоже я? И Николай? И я сам тоже я? Откуда же нас тут столько набралось? — Нет, так мы и до ночи не разберемся, — сказал толстый дядька. — А ну, давайте как-нибудь по порядку! Ну, вот вы хотя бы, товарищ Парфенов, — он повернулся к парню в белой рубашке, — докладывайте, как выполняли поручение. Этот Парфенов кашлянул растерянно, будто бы испугался, что все на него смотрят и ждут, чего он скажет. — Докладывал я уже... — тихо сказал он. — Обшарил все тридцатые июня, куда хронолет мог попасть. Последнюю остановку тридцатого июня семьдесят первого года сделал... В парке в этом... Смотрю — мальчишка собирается через ограду лезть... Приметы, которые вы мне указали, совпадают. Я к нему, к этому, стало быть, — он показал для верности на второго Кольку, — подошел, спрашиваю: «Ты Колька Корнилов?» Он подтверждает, спрашивает: «А вы кто?» Я ему сообщил, значит, для знакомства, что тоже Николай, а насчет всего прочего, объяснений всяких — это, мол, он пусть у отца спрашивает, когда прибудет на место назначения. Вижу, он мне не верит: понятное дело, думаю, в чужом городе да еще чужой какой-то пристал... Ну, сообщил я ему некоторые факты из его биографии: насчет Валентина, с которым он дружит, насчет стекла разбитого... Чтобы он, значит, понял, что не совсем я посторонний. Ну, потом сводил я его в столовую здесь, в Заречье, накормил, и только мы к парку двинули, он от меня сбежал! Чуть я отвернулся, гляжу — нет его. Думал, он самодеятельность решил проявить, своим ходом назад податься... Вот и метнулся я за ним, к своему хронолету. Только стал поле активизировать — он из кустов выбегает. Ну, я его в охапку, и вот... — Он развел руками. — Видно, ошибка какая-то вышла? Но ведь я же вам Кольку привез, не кого другого! Вашего же беглеца — хронолетчика! — Да я никогда на хронолете не летал! — вдруг разозлился второй Колька. — Что вы обманываете! Я из дому сегодня убежал, это правда; мне сидеть велели, а я в кино хотел... а потом на новый парк посмотреть, что там строят... — Он вдруг замолчал, а потом спросил удивленно: — А тут же парк должен быть? Куда он меня привез? — Это не семьдесят первый год, — сказал ему отец. — Ты не волнуйся, Колька, сейчас все поймешь. Эта машина — хронолет. Ты о ней слышал? — Ага, — кивнул Колька, — ты мне рассказывал, она во времени движется... — Когда я тебе рассказывал? — удивился отец. — Ах, да... Это потом, значит... Это потом я тебе расскажу... Или тебе? — Он посмотрел на меня и вдруг засмеялся. — Ох и путаница! Этому уже рассказал, а этому только еще в будущем расскажу, беда мне с вами, Колька! — Как это «потом»? — спросил Колька. — И не ему, а мне! — Постой, ты не торопись, — сказал отец. — Видишь ли, это тоже Колька... ну, ты сам, только на год моложе. У нас здесь сейчас семидесятый год. Мы свой хронолет только сегодня собрались испытывать. И вдруг ты... то есть, не ты, а он, вот этот Колька, — он показал на меня, — нечаянно влез в машину, и его занесло, ты слышал, как он сказал — в восьмидесятый год! Мы за ним человека отправили, вот из милиции, товарищ Парфенов Николай вызвался... — А Парфенов... меня нашел и подумал, что я — ваш Колька? — спросил Колька. — И меня к вам притащил? А это, значит, я? Он с любопытством и недоверием на меня посмотрел. Чего это он так смотрит? Думает, если на год старше, так уже и задаваться может?! — Понятно... — протянул Парфенов. — Не того, значит, Кольку я вам доставил... Тоже Корнилова, да не того. Вот оно какое дело... Он покрутил головой и улыбнулся: — Украл, значит, я мальчишку из родного времени и в прошлое утащил!.. Тут Николай его перебил: — Товарищ начальник, разрешите доложить? — Какой я начальник! — махнул рукой Парфенов. — А я под вашим началом служу, — весело улыбнулся Николай. — В восьмидесятом году! Все засмеялись, а толстый этот так захохотал, что стал платком слезы утирать. А Парфенов только головой замотал, как будто у него зубы вдруг заболели, а сам с Николая глаз не сводит. И отец тоже. — Я сегодня как раз от дежурства свободен, — сказал Николай. — Там, у себя, в восьмидесятом, конечно. Здесь-то я — вот! — Он показал на меня, подмигнул отцу и улыбнулся. (И отец тоже ему улыбнулся. Они похоже улыбались оба.) — Ну вот, и вдруг мне по видеофону звонит девочка одна знакомая... — Лида Тимофеева! — закричал я. — Правильно, Лида! Она с этим Колькой в школьном городке встретилась, напугал он ее своими разговорами — что он, дескать, Колька Корнилов, и все такое, и она решила мне позвонить. Тут я вспомнил про хронолеты... Как же еще Колька мог к нам попасть? По времени выходило, что он на десять лет вперед улетел, а десять лет назад этот институт на месте нашего школьного парка стоял, вот я и решил, что он где-нибудь в парке скрывается. Прилетел на аэробусе в Заречье, подхожу к парку, смотрю — он! Стоит около ограды и прикидывает, как ему перелезть. Я тебя сразу узнал, — сказал он, глядя на меня. — Когда я тебе руку на плечо положил и ты повернулся, я никак поверить не мог: неужели это я сам против себя стою, такой маленький... Мог бы не хвастаться! Ведь все равно он и был такой маленький, а я... я, когда им стану, через десять лет, так тоже большой буду! — Ну, он, по-моему, тоже догадался, кто я, — продолжал Николай, — но мне для верности пришлось ему и себя назвать, и про отца сказать, и про Вальку, и стекло разбитое напомнить... — Вот это здорово! — сказал вдруг Парфенов. — Это, выходит, мы с вами двум разным Колькам одно и то же говорили?! Вы про отца, и я про отца, вы про стекло, и я тоже... Ну, здорово! Да еще на одном и том же месте! — М-да! — сказал какой-то инженер рядом с толстым дядькой. — А еще говорят, что два разных тела не могут занимать одно и то же место! — Так мы ведь в разное время занимали! — не выдержал я. — Чего он путает! — Правильно, Колька, — поддержал меня отец. — Конечно, в разное. Товарищ Парфенов с одним Колькой тридцатого июня семьдесят первого года разговаривал, а Николай с тобой тридцатого июня восьмидесятого года. Правильно я говорю, Николай? — Верно, — согласился Николай, — Именно тридцатого июня восьмидесятого года, у той же самой ограды. Только это не все, дальше еще интересней получается... Я вот тут товарища Парфенова слушал и диву давался: прямо как будто мы с ним сговорились одно и то же с нашими Кольками делать! А ведь он точно говорит! Этот Парфенов своего Кольку в столовую водил, а потом тот от него убежал, и меня Николай тоже водил в столовую. Мы еще по дороге эту парикмахерскую встретили, куда он зашел. А потом я от него убежал, испугался, что он — не я, а милиционер какой-то из нашего времени. И в парке он тоже меня схватил, когда я из кустов выбежал. Все совпадает, даже дни одинаковые, только годы разные, вот здорово! Если б кому рассказать, только не говорить, где который год и который где Колька, он бы обязательно запутался, до того у нас истории похожие. — Будто мы по одному распорядку действовали, — сказал Парфенов и посмотрел на толстого дядьку. — Может, это со временем связано... с путешествием моим? — Нет, — ответил дядька. — Это у вас случайно получилось — оба вы Николаи, оба одного и того же мальчика искали... вот и вели себя примерно одинаково. — А насчет столовой, — весело сказал еще какой-то черноволосый молодой инженер, — так, видно, у товарища Парфенова и его подчиненного одна и та же столовая на примете в Заречной стороне! Может, вы и заказывали одно и то же, а? — Он засмеялся, и все остальные за ним. — А чего летом закажешь! — буркнул Парфенов. — Окрошку я заказал себе и ему, пива еще... Что у них лучше, в будущем — пиво холодное свободно, никакой тебе очереди. — И я окрошку заказывал, — еле сдерживая смех, сказал Николай. — И пиво... У нас оно тоже холодное, из автомата. — Ой, не могу! — сказал отец. — Говорите скорей, что вы еще одинаково сделали? Ну, а ты, герой... — это он второму Кольке сказал, — ты почему от человека убегал, когда он тебе помочь собирался? — Ну да... — протянул Колька. — Помочь, как же! Я ведь из дому без спроса ушел. Вот и решил: там случилось что-нибудь, и ты его за мной послал. Он про что ни спрашивал: как зовут, про Вальку — все ко мне подходило. Ну, я с ним сначала пошел, раз он меня знает. А потом он какой-то непонятный стал — в парадном от кого-то прятался и убежал куда-то. Я и подумал, что он подозрительный какой-то. Может, он вовсе не от тебя пришел, а наоборот — хочет через меня к вам в институт пробраться, как шпион. Я и решил его выследить, оттого и убежал. Он в парк пошел, а я за ним незаметно. Вижу — он с машиной возится. Я таких машин не видел, ты мне про хронолет только рассказывал, а не показывал никогда. Я совсем решил, что он шпион, раз у него машина такая в парке спрятана, и задержать его хотел... А тут он меня схватил... — Ты что же, в одиночку хотел шпиона задержать? — недоверчиво спросил Виктор Сергеевич. — Ага... — прошептал Колька и голову опустил. Зря он, по-моему, голову опустил. Это же здорово, что он не побоялся в одиночку! Он же не знал, что этот Парфенов не шпион. Тут я подумал, что передо мной-то ему гордиться особенно нечем. Он ведь из меня произошел! Если б я был трус, так ему бы тоже нипочем на шпиона не броситься... — Слушайте, — воскликнул Николай, — так мы и в этом схожи! Я тоже... одного человека на улице встретил, когда с Колькой к парку шел, и тоже спрятался... Были причины... Ну, хоть в парикмахерскую вы не заходили, а? А то ведь я забегал по дороге, долг отдать... — Заходил... — виновато пробормотал Парфенов и тяжело вздохнул. — Именно вот, товарищ Корнилов, я тоже в парикмахерскую заглядывал, старые знакомые у меня там... — Дядя Петя?! — спросил Николай, и тут они оба расхохотались. — Выходит, в будущем я вашим начальником стану? — спросил Парфенов. — Как же это: ведь вот он я? — Так ведь и Колька вот он! — сказал отец. — А в следующем году еще другой Колька есть, на год старше, а через десять лет — вот этот Николай. Так что и вы тоже в восьмидесятом году существуете, только на десять лет старше. И уже начальником стали... Вот если б вы позвонили к себе на работу или зашли, то вполне могли бы там с собой встретиться, как мой Колька с Николаем... — Да-а, не проявил я инициативы, — с сожалением сказал Парфенов. — А интересно было бы! — Ну что ж, — сказал Виктор Сергеевич, — штука получилась, конечно, изумительная, только надо бы все-таки поосторожней обращаться с историей. У меня уже у самого голова кругом пошла, а ребятам-то каково? И как же мы их теперь обратно перебросим? Их — это Кольку и Николая, значит, Мне вдруг страшно жалко стало с ними расставаться. Я подошел к Кольке, а тут и Валька к нему с другой стороны подошел. Колька сказал: — Здорово, Валька! Валька почему-то не нормальным голосом ответил, а просипел: — Здорово... Колька! — и неуверенно так спросил: — Ну, как там дела... вообще? Как Клавдия? — Законно дела, Валька. Мы с тобой в лагерь скоро поедем. А Клавдия на пенсию со следующего года идет, учителям пенсию раньше назначать начали, говорят, они с нами быстрее замучиваются... — Здорово! — заорал Валька. — Значит, я тоже перешел? А то у меня тут на лето... переэкзаменовка по физике, помнишь? — Он сконфузился. — Конечно, перешел! Знаешь, как ты здорово занимался, всю физику наизусть мог рассказать! — Куда мне... — Валька рукой махнул, но потом улыбнулся. — А что: раз уже известно, что я выучил и сдал — значит, выучу! Возьму и выучу, теперь уж иначе нельзя, а то все не так будет! Ну, совсем мне не хотелось с ним расставаться. Вот бы здорово было нам втроем ходить! Только ему неинтересно второй раз все то же самое переживать. Лучше уж я сам как-нибудь... Отец о чем-то поговорил с Виктором Сергеевичем и к нам подошел. Посмотрел на нас двоих, потом на Николая и опять головой замотал. — Ну, как там, Коля? — спросил он тихо. — Хорошо, отец, — ответил Николай. — А... так, вообще? — Полный порядок, отец, — сказал Николай. — У всех полный порядок, у нас у всех! — Ну ладно, — сказал отец, помолчав, и улыбнулся: — Ну что ж, привет там маме передай... и мне, что ли? Николай тоже улыбнулся: — С матерью-то я как раз чуть на улице не столкнулся сегодня, когда Кольку вел. Испугать я ее побоялся, вот и спрятался с ним в парадном. Она, видно, по делу в город приехала. Ты ей тоже привет от меня передай — ну, здесь которой... — Передам, — сказал отец. — Она обрадуется. Вон ты какой вырос! Постой, ты же в космонавты хотел? Я обомлел. Откуда он про это знает? — Хотел, но потом передумал. Мне моя работа нравится. И начальник неплохой. Мы посмотрели на Парфенова, который стоял поодаль и Рекса гладил. Он расстроился, наверно, что не того Кольку привез. И лицо у него было такое, словно он не верил, что через десять лет будет начальником отделения. А я уже знал, кем буду. И мне вдруг даже понравилось. С этим хронолетом можно здорово людям помогать, ребятам и вообще, вот как Николай мне сегодня или Парфенов... он ведь совсем не виноват, что у него так вышло. — Вот что, — сказал отец. — Надо вас отправлять поскорей, но кто-то должен с вами полететь, чтобы машину назад доставить. Хронолет у нас малогабаритный, экспериментальная модель, двум взрослым в нем не уместиться. Поэтому мы решили, Колька, — он показал на меня, чтобы никто не ошибся, какой Колька, — ты полетишь с ними. Только не задерживайся, понял?! — Понял! — закричал я в полном восторге. Отец, по-моему, сначала хотел поцеловать Кольку из семьдесят первого года, но раздумал и только пожал ему руку да что-то на ухо шепнул. Николаю он тоже руку пожал. Потом подумал, поглядел на меня и сказал: — Ну, с тобой не прощаюсь. До скорого! Но голос у него был какой-то странный. Мне все объяснили, как поле включать, если машина не на специальной площадке стоит, а на траве, и про рычаг — и мы забрались в хронолет. Я сам нажал рычаг, только не сильно — на один щелчок. Серый туман появился и развеялся, и мы уже стояли на поляне в парке. Только это был еще не такой парк, какой я видел. Пруд был и колесо тоже, только все было еще обыкновенное, а не такое, как через десять лет. Мы стояли и молчали. — Слушай, Колька, — сказал вдруг я. — Давай мускулами померяемся! Так я и знал — у него мускулы были тверже, чем у меня. — Я каждый день зарядку делаю, — сказал Колька. Ну вот, и он тоже. Я вздохнул. — Уже полгода, — добавил Колька. Ну, значит, мне еще полгода можно не каждый день! А там я привыкну, наверно. — Ладно, я пошел, — грустно сказал Колька. Он отошел немного, потом повернулся и крикнул: — А мы переезжаем! На другую улицу! Мы с Николаем смотрели ему вслед. — Он тебе понравился? — спросил я. — А тебе? — Ничего, по-моему. — По-моему, тоже ничего. Нам за него стыдиться не приходится, а? — Ага, — ответил я. — Слушай, а почему ты сказал, что Марс не покорили? — Потому что его действительно не покорили. Только первая посадка с человеком на борту была. — А площадь? — спросил я. — Площадь? — Он засмеялся. — Знаешь, когда наши ракеты только над самой Землей летали, в газетах уже писали про покорение космоса. Но это, в общем, правильно, — подумав, заявил он. — В принципе мы ведь его покорим, верно? Ну, пошли. Вот мы и на знакомой поляне. И надо прощаться. — Николай, — вдруг сказал я, сам себе удивляясь, — а эта Лида Тимофеева, которая с тобой говорила, она, по-моему, толковая девочка, ты как думаешь? Он посмотрел на меня: — Знаешь, Колька, я с тобой согласен. Очень она за тебя переживала. Я ей вечером обязательно позвоню, расскажу всю эту историю... Я почувствовал, что все могу ему сказать — прямо как самому себе, так он здорово меня понимает. — Знаешь что, — сказал я, — у нас она, конечно, маленькая еще совсем, но я так думаю — когда она вырастет, надо будет мне с ней подружиться... Он посмотрел на меня и засмеялся. — Оно бы неплохо, — сказал он, — но тут одна заковыка получается, учти. Лида, конечно, вырастет, но ведь и ты вырастешь. Сколько ей лет сейчас, у вас? — Три, по-моему... — печально сказал я. — Все понятно. Тогда ей будет тринадцать, а мне будет... ого, уже двадцать два! — Да, насчет дружбы, пожалуй, не выйдет, — сочувственно отозвался Николай. — И вообще — давай поскорее в свое время, а то отец знаешь как переживает! — Он, по-моему, спокойный был... — неуверенно возразил я. — Много ты понимаешь, я вижу! Психолог! — сказал Николай, усаживая меня в машину. — Ну, прощай. На вот на память. И он сунул что-то твердое мне в руку. Я сжал кулак, и зубы сжал, и так, сжатым кулаком, ударил по рычагу. И снова очутился на бетонной институтской площадке.* * *
Когда мы ехали с отцом домой (испытания отменили, потому что мы уже сами нечаянно все испытали), я спросил отца, откуда Николай знал, как запускать хронолет. Я уже понял, что он сам нашел мою машину в кустах, только вытащил не на ту полянку. Отец задумался, а потом сказал: — Понимаешь, Коль, если мы уже в семидесятом году додумались до хронолета, то через десять лет об этом многие будут знать. И, может быть, даже многие будут уметь с ним обращаться. — А почему же ты не спросил Николая, что они еще откроют? Можно было бы все узнать! — А зачем? — спросил отец. — Ведь все равно нам самим это нужно сначала сделать. Если мы чего-нибудь не сделаем, то и у них этого не будет. Это ж, брат, историю делать, а не в задачнике ответы подглядывать.Мы вышли у дома, отец пошел вперед, а я остался, потому что увидел Лидку Тимофееву. Какая она еще маленькая! Я стоял и смотрел на нее, и мне не верилось, что это та самая Лидка. Мне даже смешно стало, что я хотел с ней дружить, Она ведь еще и читать не умеет! Лидкаувидела, что я на нее смотрю, и подошла ко мне. Я присел на корточки и разжал кулак. — Смотри, что у меня есть, — сказал я. На ладони у меня лежал маленький пятиугольный значок, на нем был нарисован Марс и стоящий на нем космонавт, а внизу цифры — «1980». — Это чей? — спросила Лидка. — Твой? Тебе подарили? — Я сам себе подарил! — сказал я. — А где ты взял? — Это длинная история, — сказал я: все равно она ничего не поймет. — Расскажи про историю! Вот пристала! Я спрятал значок в карман и сказал ей на прощание: — Вот вырастешь, тогда я тебе все расскажу. Ровно через десять лет, тридцатого июня, я тебе позвоню вечером и все расскажу. Обязательно! И побежал по лестнице.
В. Мелентьев РАЗОРВАННАЯ ЦЕПОЧКА ПОВЕСТЬ
1
Зима выдалась шалая — недельные оттепели, разжиженные дороги, сизые, по-весеннему оживающие леса. Оттепели сменялись торжественными снегопадами, леса опять одевались в белое и словно затаивались. Потом, обычно к вечеру, небо прояснялось, жидкие лимонные закаты рождали яркие звезды и с непривычки кажущиеся свирепыми морозы. Именно в такие дни местные охотники уходили в леса — на свежем снегу хорошо вырисовывались следы зверя и птицы, дышалось легко и радостно. Декабрьская оттепель кончилась в понедельник. Потянул северный ветер, прекратилась капель, но было еще тепло и тревожно-тихо. Вечером во вторник сорвались первые снежинки. В среду начался неторопливый редкий снегопад, а в четверг пополудни вероятно около четырех часов дня, вскоре после особенно сильного снегопада, в окраинном доме нового поселка Южный выстрелом из охотничьего ружья Андрей Яковлевич Ряднов выбил оба стекла правой половины окна глухих рам, выходившего прямо на молодые сосновые посадки — густые и ослепительно зеленые. Минут через двадцать после выстрела Ряднов обратился к расчищавшему снег соседу: — Понимаешь, Петрович, стекло выбил. У тебя в запасе нет? Лев Петрович Липконос — невысокий, худощавый, лет пятидесяти с лишним, аккуратный, всегда чисто выбритый и обычно молчаливый — усмехнулся: — То-то я слышу у тебя грохнуло что-то... Запил, что ли? — Какое там запил!.. — А что случилось-то?.. — Да понимаешь... неувязка у меня получилась, — уклончиво ответил Ряднов. — Так нет стекла-то? В воскресенье съезжу в торговые ряды, куплю и отдам. — Оно, конечно, грех соседа не выручить, да ведь нету. — Жаль. — А что сделаешь? Напугали. У вас тут, говорят, все под подозрением: если появятся стройматериалы — сразу к следователю. — Бывало, — сразу согласился Ряднов, но, уходя, буркнул: — Вот домишко, кроме неприятностей ничего не получишь... Больше ни к кому из соседей Ряднов за стеклом не обращался. Забил окно фанерой и проложил изодранным детским одеялом.* * *
В пятницу утром мимо рядновского дома, по тропе, которая бежала к шоссе и дальше, к аэропорту, прошли рабочие с аэродрома и заметили рядом с тропой, в сосняке припорошенное колким снегом тело человека в ушанке, задранной стеганке, из-под которой ярко алела красная майка, и сообщили об этом в милицию. Работники милиции, старший следователь Петр Иванович Ивонин, фотограф и другие должностные лица прибыли через полчаса. Они сфотографировали подступы к трупу, а сам труп — во всех ракурсах, осмотрели окружающую местность. Впрочем, осмотр дал очень немногое — прошедшие снегопады, по сути, уничтожили все следы в посадках. Однако на белой глади обнаружилась стежка полузанесенных снегом заячьих следов. Она тянулась от рядновского огорода почти до сосновых посадок. Неподалеку от заячьих шли другие — человеческие — следы, настороженные и словно бы крадущиеся. Такой вывод и старший следователь Ивонин, и его товарищи сделали на том основании, что расстояние между ними было неодинаковое: иногда человек останавливался. Эти следы, не доходя до посадок, обрывались — человек потоптался и пошел обратно, ступая в свои же следы. Об этом свидетельствовали двойные отпечатки подшитых, с каблуками валенок. По характеру обратных следов можно было предположить, что человек тот спешил. Повторный осмотр трупа тоже не дал никаких обнадеживающих результатов. Убитый лежал ничком в глубоком снегу между рядами сосенок и так, словно в смертную минуту пытался перевернуться на спину или хотя бы на бок, чтобы выползти на тропу. Снег вокруг оказался чистым, нетронутым, и, следовательно, умер человек без борьбы. Когда его перевернули и осмотрели карманы, то обнаружили права шофера второго класса на имя Роберта Сергеевича Андреева, паспорт, военный билет, из которого явствовало, что убитый не призывался в армию по болезни, семьдесят два рубля тридцать четыре копейки денег, и больше ничего: ни записных книжек, ни писем, ни записочек.* * *
Следователь Ивонин, поджарый, сорокалетний блондин, в этот день был зол. И потому отсутствие прямых улик расценил как продолжение невезения. Дело в том, что утром он поссорился с женой и дочерью — обе упрекали его в жадности: он ни за что не соглашался с их решением купить дочери, студентке-первокурснице, новое зимнее пальто. Зима была теплой, шла к перелому, и великолепно можно было проходить и в старом. За лето же, не спеша, следовало сшить настоящее, модное зимнее пальто. Тем более, что весной предстояла покупка еще и демисезонного. Но ни жена, ни дочь не принимали никаких доводов, упрекали его в пристрастии к сыну, который, как стало известно вчера вечером, получил двойку по математике и, что хуже всего, был пойман с сигаретой в школьной уборной. Теперь классный руководитель вызывал родителей. Наконец, только вчера Ивонин закончил следствие по сложному делу о хищении автомобильных покрышек со склада легкового автохозяйства, и ему очень хотелось хоть несколько дней не то что отдохнуть, а хотя бы ликвидировать бумажные завалы в служебном столе. Когда ведешь крупное дело, на мелочь просто не хватает времени и накапливаются служебные документы, требующие внимания, ответов и решений. Но, пожалуй, самым неприятным было сознание, что он так и не сдал «хвост» в заочном юридическом институте, на последнем курсе которого учился. Все, вместе взятое, заставило Петра Ивановича неожиданно для себя вспылить, когда начальство предложило ему провести следствие по делу об убийстве в районе поселка Южный. Начальство к вспышке Ивонина отнеслось мудро: оно нахмурилось, но мягко, доходчиво разъяснило, что ему, начальству, и самому ясно, что Ивонину такое дело не по душе, но поскольку все остальные товарищи заняты, а он как раз свободен, то следствие он все-таки проведет. Борьба с хищением — дело важное и нужное, но жизнь человека есть жизнь и поэтому... Вот почему злой, а потому деятельный Петр Иванович действовал быстро, толково, коротко и вовремя отдавал нужные распоряжения. Отправив медицинской машиной труп на вскрытие, он сразу же приступил собственно к следствию.* * *
Естественно, что прежде всего Ивонин попытался изучить следы того, кто подходил к посадкам и почему-то вернулся обратно. Ивонин встал рядом с местом, где этот неизвестный топтался, словно устраивался поудобнее. Впереди сквозь сплошную стену густых сосен-подростков пробивалась тропка. Ивонин, а значит, и тот неизвестный, что топтался здесь, видел тропку значительно дальше того места, где был обнаружен труп. Следовательно, он мог видеть и человека, идущего через посадки по тропинке. Потом Ивонин по следам прошел вдоль изгороди рядновского огорода, но ничего нового, кроме свежей стежки не то лисьих, не то собачьих ямочек, не обнаружил. За огородами и молодыми садами стояли новые, преимущественно четырехоконные дома, многие с летними мансардами. Дома были какие-то сытые, ухоженные и потому несколько горделивые. Почему сытые? Ивонин и сам не знал. Просто они казались не то что солидными или богатыми, а именно сытыми — приземистые, крепкие. И только один дом, прищуренно нацеливающийся на тропку в сосняке наполовину заколоченным фанеркой окном, Ивонину не понравился. Он не казался ни сытым, ни ухоженным. Его гладкая серая стена выглядела затаившейся, недоброй. И это, единственное окно с фанеркой, тоже сразу не понравилось Петру Ивановичу — будто дом подглядывает за тропкой, неусыпно следит за ней. Ивонин прежде всего пошел к этому дому и никого в нем не застал. На стук вышел сосед, поздоровался и сказал, что хозяин приходит домой только под вечер. — Если, конечно, не ночует где-нибудь в другом месте. Ивонин строго спросил: — Это ж в каком таком другом месте? — Ему сразу не понравился сосед. — А кто ж его знает... Может, в милиции, а может, так... у кого еще. — А что ему жена по этому поводу говорит? — Так жена его бросила, бил он ее вроде. — Так... Вы не скажете, а в последние дни он ночевал дома? — И тут только Ивонин поймал себя на том, что не знает, о ком расспрашивает, и потому добавил: — Кстати, фамилия его... — и потер лоб, словно вспоминая фамилию. — Ряднов. Андрей Яковлевич Ряднов. Каменщик, — не торопясь, но уважительно сообщил сосед, и Ивонин подумал, что слишком точен в ответах рядновский сосед. Но потом решил, что сосед не хочет дополнительных расспросов и заранее выкладывает все, что знает. Поэтому мгновенная настороженность следователя прошла. — Насчет того, ночевал он или не ночевал, не знаю: мы с ним не больно дружим, — усмехнулся Липконос. — Да и то сказать, я живу здесь не так уж давно и чересчур в друзья никому не набиваюсь. — Понятно. А вчера, позавчера ничего такого... подозрительного не замечали? — И быстро уточнил: — Я говорю не столько о поведении Ряднова, сколько вообще... в округе. — Да нет, вроде все тихо, мирно. У нас тут народ все больше пуганый, осторожный. Так что... Да, нет... — Липконос подумал и с явным сомнением в голосе досказал: — Разве вот только... Приходил ко мне вчера Ряднов и просил взаймы стекла: говорит, выбил окно. — Вы ему дали? — Да нет, не дал. Нету у меня его, запасного стекла. Я ж говорю: здесь все пуганые, и я тоже стал... осторожным. Липконос смотрел прямо, и в его маленьких глазках — прямых и острых — таилась веселая усмешечка. Ивонин заметил ее, и усмешка не понравилась ему. Она заставляла разгадывать Липконоса в то время, когда мозг был занят совсем иной работой. И чтоб переключить внимание, он спросил: — Чем же это вы напуганы? Хулиганы, что ли? — Зачем? Я же говорю — народ у нас тихий, семейный. Солидный народ. Кроме вот только... соседа. А пуганный вашим братом, прокуратурой. Ивонин опять быстро и недобро взглянул на Липконоса и натолкнулся на его твердый, смелый взгляд и усмешку. — Чем же мы вас так напугали? — А помните, когда в поселке проверяли законность строительства? Вот с тех пор и... Ивонин сдержанно усмехнулся: помнят. Петр Иванович тоже участвовал в проверке действий местных домовладельцев и сейчас припомнил, что фамилия Ряднова упоминалась кем-то из проверяемых. И упоминалась неодобрительно. Ивонин нахмурился, но спросил мягко, заинтересованно: — Как же это он окно выбил? Пьян был, что ли? — И я у него так же спросил. Нет, говорит, тверезый. Просто так, дескать, получилось. Ну, правда, я как раз на дворе был и слышал, как у него в доме грохнуло что-то. А потом уже и он пришел. — Как это — грохнуло? — насторожился Ивонин. — Да так — грохнуло. Ну как, например, на пол что уронят или так, вообще... — Вроде выстрела? — А может, и вроде выстрела. Толком не разберешься — все ж таки две стены. А потом ведь аэропорт рядом. — Ну и что? — А то, что и над нами самолеты летают — глушат. А на взлете, особенно зимой, когда моторы прогревают, такую стрельбу откроют, что у нас здесь хоть пулеметы ставь — никто ничего не услышит. Так что и я точно не скажу, что у Ряднова произошло: может, выстрел, а может, и что другое. Они поговорили еще, и Ивонин прошел на рядновский огород, постоял у заколоченного фанеркой окна и понял, что окно было выбито изнутри: осколки стекол валялись в сугробе. Тогда Ивонин вернулся к Липконосу и составил первый протокол допроса. Липконос отвечал кратко, вразумительно и по отношению к Ряднову — объективно. Да иначе и не могло быть: Липконос работал кладовщиком в товарных складах аэропорта, а до приезда в эти места служил в военизированной охране на Дальнем Востоке и понимал дисциплину, порядок и умел вести себя с представителями власти. Узнав у Липконоса, где работает Ряднов, Ивонин сразу же поехал на строительство. Ряднова он вызвал в контору и, разглядывая его угрюмое, красивое лицо с пятнами густого румянца под зимним загаром, сразу же решил, что этот человек с крутым характером и сильной волей. Разговаривать с ним, видимо, придется долго и обстоятельно. Поэтому Ивонин зашел к начальнику СМУ и попросил его отпустить каменщика Ряднова в его распоряжение. — Он может помочь нам в одном очень щекотливом деле. Начальник поспешно согласился с Ивониным и хотел было вызвать секретаршу, но Ивонин остановил его: — Зачем информировать лишних людей? — и пожал плечами. Начальник понимающе покивал, и Петр Иванович увез Ряднова с собой.2
У входа в кабинет Ивонина ждал его институтский... Да нет, товарищем или приятелем его назвать было нельзя — слишком молод для этого. Однако Ивонин симпатизировал Николаю Грошеву — демобилизованному старшему сержанту, а сейчас, перед окончанием заочного юридического института, инспектору уголовного розыска. У Грошева была отличная память, довольно глубокие и разносторонние знания общественных дисциплин и философии. В армии он руководил группой политических знаний и, сам того не замечая, втянулся в изучение общественных наук. Ивонин же хорошо знал криминалистику и специальные юридические дисциплины. Они были отличным дополнением друг другу. Все свободное время Грошев, с разрешения своего и прокурорского начальства, помогал Ивонину, медленно, но верно познавая особенности следовательской работы. Чтобы успеть везде, Грошев ходил в ночные дежурства, после которых спал два-три часа, потом шел к Ивонину, работал под его руководством, снова спал часа три, занимался в институте. Он был молод, здоров и заданный себе режим выдерживал преотлично. Ивонину была приятна его помощь — неторопливая и обстоятельная. Пропуская мимо себя хмурого, но независимо шагающего Ряднова, Ивонин приветливо кивнул вставшему со скамейки Грошеву: — Вовремя. Займемся делом. После того как он увидел Николая, злость, нервозность этого дня постепенно оставляли Ивонина — в конце концов, теперь их двое, а это кое-что значит. Все трое вошли в кабинет, и Петр Иванович вынул из стола пачку бланков протокола допроса свидетелей — на этой стадии следствия, чтобы не возбуждать подозрений допрашиваемого, нужен был именно этот тип бланков — и положил перед Грошевым. — Заполни пока анкетные данные. А я забегу к начальству. В армии Грошев был помощником командира взвода пеших разведчиков, и кое-какие его знания и навыки помогали Ивонину в ходе следствия. Заполняя протоколы, Грошев учился и краткости изложения, и искусству допроса и приобретал навыки обращения с преступниками. Ивонин неплохо владел этими навыками, и Николай с удовольствием перенимал их. По учебникам этому не научишься. Грошев сел за второй столик, неподалеку от стола следователя, пригласил Ряднова и, спросив фамилию, имя, отчество, стал заполнять короткую анкету — начало протокола. Ряднов отвечал спокойно, не торопясь, и его крупные, темные от загара руки тяжело лежали на выбеленных раствором ватных брюках.* * *
Ивонин коротко доложил начальству о результатах поездки, показал первый протокол допроса Липконоса, из чего начальство могло сделать вывод, что времени он не терял, и сообщил: — Еще одного привез с собой. Сейчас начну допрос. — Ну вот и хорошо. Разворачивайтесь, Петр Иванович. — Как всегда, прошу разрешения подключить Грошева. — Пожалуйста. Растите кадры. Он парень обещающий. Когда Ивонин вернулся в кабинет, Грошев и Ряднов спорили. — Вы, конечно, как хотите, но я лично считаю, что это все ж таки судимость! — угрюмо говорил Ряднов. — Что тут у вас? — спросил Ивонин, бегло проглядывая анкетные данные. — Тридцать семь лет, беспартийный... — Вот товарищ Ряднов в свое время получил десять суток за мелкое хулиганство и утверждает, что это судимость, а я доказываю, что это не так, что... — Нет, конечно, — усмехнулся Ивонин, — это не судимость! Но гражданин Ряднов кое в чем прав: такая неприятность характеризует человека с определенной стороны. Ну, да это мы уточним. — И обратился к Грошеву: — Ты готов, Коля? — Да. — Ну-с, гражданин Ряднов, Сергей Яковлевич... — Андрей Яковлевич, — поправил Ряднов. — Правильно, Андрей Яковлевич. Вопрос первый: кто и когда выбил стекло в окне вашего дома? Ряднов запнулся, прикинул что-то в уме и твердо сказал: — Я выбил. А выбил... вчера, часа в четыре. — Как это произошло? При каких обстоятельствах? — Очень просто. У нас в тот день не хватало раствору — мало привезли. Гололед, снег, вот машины и не управились. И... я... да вообще все мы раньше времени пошли по домам. Я когда к дому подходил, посмотрел на небо, на посадки, и мне показалось, что на поле следы. — Чьи следы? — Заячьи следы. Чего, думаю, косой сюда выбежал? Заинтересовался, подошел — верно, заячьи следы. Я пошел по следам до посадок, посмотрел, куда они потянули, и вернулся обратно, отпер дом... В доме темно, вроде показалось холодно и как-то... нежилью отдает; и я подумал, что раз зайцы даже к поселку стали выходить, значит, их много и стоит побродить по пороше. — Так, понятно. Ну, а при чем здесь окно? — А окно при том, что я снял со стены ружье, осмотрел его и прикинул вскидку... И сам не знаю, как уж тут получилось, но нажал на спусковой крючок. На собачку то есть. Вот и разнес стекло. — Непонятно. Уточним, почему вы нажали на спусковой крючок? На эту самую собачку... Ивонин сказал это жестко, и Ряднов вдруг сник. Он долго молчал, часто облизывая губы. — Руки у меня дрожали, — проговорил он, — неприятности были... личные, а спуск на ружье мягкий... и короткий. — А почему на вашем ружье такой... нежный спуск? — На охоте стреляешь навскидку. Тут мгновения важны. Вот я так его и отрегулировал. — И сильно у вас дрожали руки? — Сильно. Выпил накануне... — А что у вас за неприятности? — Я сказал — личные. Ряднов ответил это так, что Ивонин понял: об этих неприятностях Ряднов не скажет. — Ну хорошо, и куда же вы пошли после выстрела? — Как — куда? К соседу. Думал разжиться у него стеклом, но у него не оказалось. — Сразу пошли? — Да... вроде бы сразу. — А сосед не дал? — Не дал. — И что же вы сделали? — Забил окно фанеркой и заложил... этим, ну... старенькое детское одеяльце у меня было. Потом обед сготовил, телевизор посмотрел. Вот и все... Обстоятельность Ряднова, его словоохотливость настораживали. Еще не имея акта вскрытия трупа и не зная точно, чем именно, из какого оружия был убит Андреев, Ивонин все-таки решился на довольно рискованный вопрос. — Понятно. А вы не скажете, почему у вас, охотника — ведь вы, сколько мне известно, охотник, — могло висеть заряженное ружье? Да к тому же заряженное не дробью, а жаканом... То есть пулей. Как вы это можете объяснить? Вам не кажется это странным? — А чего ж тут странного? Живу я один, у самого леса... Мало ли что может быть. Вот и держал... заряженным. А что касается жакана... так разве ж на такой случай будешь заряжать дробью? — На какой случай? — Ну... на такой... на лихого человека. — Ряднов поспешно уточнил: — У меня оно всегда по-таежному заряжено — один ствол жаканом, второй дробью. — Объясните, пожалуйста, а зачем вы применяли именно такой метод заряжания? — Так в тайге всегда можно встретиться с медведем-шатуном или там с рысью. Вот потому и держишь жакан на всякий случай. А вторым стволом, с дробью, работаешь. — А что, в наших лесах тоже есть рыси и эти... как их, шатуны? — Откуда? У нас, ясно, нет. Так это я ж говорю про тайгу. — Вот видите: зверей нет; а вы жаканы держите. Зачем? — Я же сказал — на всякий случай. От лихого человека. Первый выстрел, в случае чего, предупредительный — дробью, а нет — тут уже, значит... Ряднов развел руками и, кажется, впервые с некоторым подозрением посмотрел на Петра Ивановича. До сих пор, отвечая, он больше смотрел то в окно, то на Грошева, который быстро писал протокол. Смотрел так, словно искал у него поддержки и проверял по выражению его лица правильность своих ответов. Теперь же он смотрел только на Ивонина, и Петр Иванович не сводил с него взгляда, стараясь смотреть в какой-нибудь один глаз Ряднова. В таких случаях следовательский взгляд действует вернее. — У вас много патронов с жаканами? — Нет, один только был. — А почему ж так мало? — А зачем больше? Он же мне не для охоты требовался. — Понятно. Но вам не кажется странным, что вы, опытный таежный охотник, вдруг допустили случайный выстрел, да еще не куда-нибудь, а именно в окно? — Я же сказал: действительно дал промашку. Злой был, руки дрожали... Вот и... А еще, может, потому, что давно стрелял, отвык... Ряднов задумался. Его темные, под черными бровями глаза словно ощупывали комнату, следователя, Грошева и прикрылись мохнатыми ресницами. Ивонин усмехнулся. — Вы давно не охотились? — Я зимой вообще редко... да можно сказать, совсем не хожу на охоту. — Это почему же? — Работаем мы на морозе, наверху. Намерзнешься, не хочется в поле идти, опять на мороз, на ветер. — А в этот раз вы решили изменить правилу и пойти поохотиться. Так? — Да. Настроение такое, вот и решил проветриться. — Настроение... Настроение, оно, конечно, на многое влияет. А летом вы охотились? — Летом не охотятся. Запрещено. А весной и особенно осенью любил походить. — И как, удачно? С полем? — Да пустым не приходил, — не сдержав горделивой улыбки, ответил Ряднов. — Вы что же, хорошо стреляете? — Как вам сказать... В армии снайперил, по спортивной стрельбе имел первый разряд. Полковник наш все на сверхсрочную оставлял — обещал на мастера спорта представить. — А вы не остались? — Нет. Мать у меня болела... Одна она жила, вот я и не остался. — Только это и помешало? — Не это, я бы остался, — строго ответил Ряднов. — Я армию любил. И стрелять любил. — За что ж вам так полюбилась армия? — За порядок, — отрубил Ряднов и отвернулся. Ивонин вздохнул и спросил: — И вот вы, такой опытный стрелок, таежный охотник, любитель порядка, и вдруг стреляете в окно. Тут я что-то не понимаю... — Я не стрелял, я целился. — В окно?! — Ну, а куда ж еще? — повысил голос Ряднов. Потом что-то вспомнил и, видимо, успокоился. — Это ведь тоже привычка. В армии, когда проверяешь оружие, обязательно отворачиваешься в чистую сторону и держишь оружие вверх, в небо. А если прикидку делаешь, опять-таки обязательно в поле. Ну вот, наверное, поэтому... — Ивонин все так же пристально, иронически смотрел в глаза Ряднова, и каменщик, несколько замявшись, смутился и растерянно пояснил: — Потом еще — тоже привычка, — всегда хочется прицелиться во что-нибудь. — Во что же вы целились, гражданин Ряднов, за окном? — перебил следователь. — Не знаю... Не помню... — Он задумался. — Скорее всего, в сосенку какую-нибудь. В вершинку. — Ясно. Значит, целился в сосенку... — задумчиво и даже как будто сочувственно протянул Ивонин. — А может, и не в вершинку? Может, и в серединку? А? И это мелькнувшее сочувствие успокоило Ряднова, и он ответил умиротворенно, так, словно готов был помочь следователю: — Может... Только я почему-то думаю, что в вершинку — она на фоне неба хорошо просматривается, а серединка сливается. Так что, скорее всего, в вершинку. — А может, в серединку? — А может, и в серединку. Честное слово, не помню. Мягко зазвонил телефон, и Петр Иванович, все так же не спуская взгляда с Ряднова, снял трубку. — Да. Сейчас приду. Он ушел, а Ряднов долго смотрел в окно, потом обернулся и спросил у Николая: — Чего он добивается? Не знаешь? Николай пожал плечами, промолчал.3
В канцелярии Ивонину передали протокол вскрытия трупа Андреева и завернутый в бумажку жакан — кусочек свинца, похожий на древнюю картечину. Петр Иванович взвесил жакан на руке, вздохнул и стал читать протокол. За привычно официальными словами вставало главное: жакан проник в сердце. Отличный выстрел — мгновенная смерть. Смущало одно обстоятельство: жакан ударил не прямо в грудь, а в бок. В бок, перед самым бицепсом левой руки. Ивонин несколько минут стоял около канцелярского стола и думал, припоминая и положение трупа, и тропинки, и недоброе, косое окошко рядновского дома. Все было несколько необычным, и все требовало объяснения. И как бы отпечатав у себя в мозгу все, о чем думалось в эти минуты, Петр Иванович вернулся в кабинет, прошел на свое место. Андрей Яковлевич был уже не так покоен, как в начале допроса. Тревога уже смутила его, и он, не выдержав ивонинского взгляда, заерзал и отвел глаза. «Чует», — недобро подумал Ивонин. Недобро, может быть, потому, что внутренним зрением он еще видел место убийства, положение трупа и алую майку на его спине, под которой, как показывал протокол вскрытия, была свежая царапина, нанесенная каким-то острым предметом. — Так, на чем мы остановились? — внутренне подбираясь и сосредоточиваясь, протянул Ивонин. — Значит, стреляли вы... — Стрелял я в окно, а вот целился... — Именно. Целились, может быть, в вершинку, а может, и в серединку. Точно вы этого не помните, но возможно, и в серединку сосенки. Так? — Так. Андрей Яковлевич пошаркал ногами. Уже оттаявшие, подшитые, с каблуками, валенки оставили на крашеном полу длинные блестящие полосы. — Кстати, вы сказали, что заложили окно детским одеяльцем, а сами утверждаете, что живете одиноко, сами готовите... Откуда же взялось одеяльце? Растерянность на лице Ряднова сменилась привычной хмуростью. — Дочкино это одеяло. А жена от меня ушла. Взяла дочку и ушла... — Почему же она от вас ушла? — Так уж... — Знаете что, гражданин Ряднов, мы с вами не дети, и вы понимаете, где вы находитесь, и не можете не понимать, что если я задаю вопросы, а товарищ, — Ивонин кивнул на Грошева, и Ряднов внимательно посмотрел на него, — записывает, значит, нам это важно. Важно и нам, и вам. Поэтому прошу вас отвечать на мои вопросы как можно полнее и точнее. Ничего не скрывая. — Так я и не скрываю. — Вот и хорошо. Повторяю вопрос: почему от вас ушла жена? Ряднов трудно вздохнул и долго смотрел в окно, потом встряхнулся и, ни на кого не глядя, разглаживая измазанные раствором ватные брюки, стал говорить: — Ссорились мы с ней. Ревновал я ее. Соседи у нас были, вы их знаете, товарищ следователь, Андреевы. Шоферы. Так вот, стало мне известно, что она встречалась с младшим, с Робкой. Робертом. Ну вот... Вот она и ушла. — А где же эти Андреевы сейчас? — наклонился вперед Ивонин. — Не знаю. После проверки домовладений в нашем поселке они продали дом и уехали. А месяца через три и жена от меня ушла. — Развод не оформили? — Нет. Алименты плачу... Он ответил это таким тоном, таким грустным светом вспыхнули его глаза, что Ивонин не сразу решился продолжить допрос. Он с трудом сдержал вздох и спросил мягче, по-человечески заинтересованно: — После отъезда вы хоть раз видели кого-нибудь из Андреевых? — Нет! — зло отрезал Ряднов, и эта злость подстегнула Петра Ивановича. — А как же вам стало известно, что ваша жена встречалась... с этим самым Робертом, если они уехали да еще неизвестно куда? Ряднов долго молчал, невидяще глядя куда-то поверх следователя, и опустил глаза. — Тут так. Перед тем как им уехать, мне ребята на работе сказали: «Смотри, бригадир, за своей женкой». Честно говоря, я и раньше замечал, что она с ним... слишком свободно, что ли, вела себя. То обнимутся вроде в шутку, то он ее с работы подвезет — он же таксишник. Я вроде бы старался не думать, а все-таки грызло это меня. Спросил у нее. Она ответила, что, дескать, мы же с ним в одной школе учились. Старые друзья. Ладно, я поверил. Потом как-то раз меня предупредили: сам убедись — он за ней на работу приезжает. Ушел с работы пораньше, приехал к ее проходной, жду. Верно, подъехал. Она села вместе с подругой, и уехали. Я домой. Дома ее нет. Пришла поздно, привезла ковер. Говорит, устала, еле доперла. Брала на другом конце города, знакомая продавщица позвонила, чтоб заехала. Я спросил: «Одна брала или с кем еще?» Она сразу покраснела и говорит: «Нет, с подругой». — «На Робкиной, говорю, машине?» — «На Робкиной». Все вроде правильно: почему он не мог подвезти? И соседка, и старая знакомая. Но все вроде правильно и неправильно. Грызет у меня сердце, и все. Робку того я просто возненавидел, боялся даже встречаться с ним... — Почему же боялись, Андрей Яковлевич? — За себя боялся. Встречу, думаю, покалечу, а то и убью. — Ряднов поднял на Ивонина горящие, страдающие глаза и доверительно сообщил: — Да, вот до какого состояния дошел, а тут еще со всех сторон подзуживают. То один намекнет, то второй подкусит. Бабы поселковые то с жалостью на меня смотрят, то прямо в глаза смеются. Злюсь, бешенствую, но держусь. А потом, дело-то это на старые дрожжи легло. — Как понимать? — Ну это вы сами помните... Когда проводили у нас проверку домовладений, Андреевы показали, что будто я им кирпич продавал, краску. Я, как вы помните, от этого отказался. Ивонин медленно откинулся на спинку стула. В натренированной памяти сразу встали картины тех, уже давних допросов, неминуемых сплетен и дело Андреевых. Похоже, что Ряднов пытается установить с ним контакт, спрятаться за давнее знакомство. Психологически переключить внимание следователя. Не выйдет! Чтобы совладать с собой, Петр Иванович быстро спросил: — А на самом деле все-таки продавали? — Да нет, ничего я им не продавал и ничего не менял. Я их просто... презирал. Это ж хапуги. Старший возил ворованное машинами — он же на самосвале работал. Машину кирпича на стройку, а две на сторону. А младший таксишник. Сколько раз с какими-то тюками приезжал... — А вы молчали? — Молчал. Потому что подозрение еще не факт. Но чувствовал — хапуги. По всему чувствовал, а доказать не мог. И еще вопрос: почему Робку в армию не взяли? Почему? Говорят, по здоровью. А работать на такси может? И вот всё у них так — на обмане. — А жену вы били или нет? — Нет. Говорили про меня, будто бы я бил, но я не бил. На женщину у меня рука не поднимется. А вот Робку не отделал — до сих пор жалею. — Почему? — Да все б легче было. А то вот ругались мы с ней, ругались — я все допытывался, — а она взяла и ушла. А ведь раньше мы хорошо жили... — Скажите, Ряднов, а с тех пор как Андреевы уехали, вы хоть раз видели Роберта Андреева? — Я же сказал: не видел. — Ни разу? — Ни разу... — И не знаете, где он живет? Чем занимается? — Нет, не знаю. А заниматься он чем может? Шофер, наверно... Он шофер хороший. Отчаянный шофер. Ивонин задал еще несколько вопросов, смутно ощущая, что Ряднов слишком уж легко и просто идет в расставленные ему сети. Он даже жалел Ряднова, по-человечески жалел и понимал его: ведь и сам был женатым человеком и знал, что такое ревность. Особенно такая, когда не знаешь толком — правда это или нет. Подозрение — вот что самое плохое. Но как следователь, профессионально он обязан был либо обосновать свое, возникшее на допросе подозрение, либо отбросить его и двинуться дальше. Поэтому, задавая вопросы, он достал документы Андреева и когда ему удалось поймать все еще страдающий, но уже сломленный взгляд Ряднова, быстро подался вперед и, закрыв рукой большую часть шоферского свидетельства Андреева, показал Ряднову его фотографию. — Вы знаете этого человека, Ряднов? Делать это Ивонину, может быть, и не следовало бы. И учебники и практика предписывают следователю предъявлять фотографию к опознанию не в одиночку, а только в группе. Но дело оборачивалось так необычно, что Петр Иванович второй раз за время этого допроса позволял себе пойти на некоторое нарушение установившейся практики. Иначе он поступить не мог: он чувствовал растерянность Ряднова, его внутреннюю сломленность и спешил, потому что в иное время и в иной обстановке подозреваемый справится со своей слабостью и помешает самому главному в работе следователя — установлению истины. Ряднов посмотрел на фотографию, едва заметно дернулся и тоже впился взглядом в следователя. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу, и Ряднов сдался. Он отвел взгляд и глухо ответил: — Знаю. Это Роберт Николаевич Андреев, мой бывший сосед. — Так вот, Ряднов, Роберт Николаевич Андреев вчера днем, между двенадцатью и шестнадцатью часами, убит выстрелом в бок. — И, проверяя, как поведет себя Ряднов, добавил, словно уточняя: — Убит жаканом из вашего охотничьего ружья. Это была третья сознательная ошибка Ивонина. У него еще не было свидетельства баллистической экспертизы, которая подтвердила бы, что жакан, убивший Андреева, вылетел из рядновского ружья. Но Ивонин по опыту знал, что самая строгая баллистическая экспертиза не сможет с совершенной точностью определить этого, если оружие гладкоствольное и не имеет повреждений ствола. А какие ж повреждения ствола у ружья опытного таежного охотника? Но Ряднов не заметил этой следовательской промашки. Он медленно поднялся со стула, неотрывно глядя на следователя. Ивонин резко приказал: — Сядьте! И убили Андреева, как мы считаем, вы. Согласны, гражданин Ряднов? — Нет... Не согласен, — прохрипел Ряднов. — Я так и думал. Но должен вам сказать, что вы напрасно отпираетесь. Ведь калибр вашего ружья двадцатый? — Двадцатый. — И дома вы были до четырех? — Был... — Ну и так далее. Прочтите и подпишите протокол допроса. Коля, ты знаешь, как это делать, а я на минуту выйду. Он вышел в соседний пустующий кабинет, позвонил начальнику СМУ и получил подтверждение слов Ряднова: в день убийства раствора действительно не хватало и каменщики ушли со стройки раньше времени. — Это, конечно, нарушение трудовой дисциплины, но поскольку я как начальник считаю... — Ладно, — перебил Ивонин. — Напишите нам объяснение, а затем характеристику на Ряднова. Завтра утром документы должны быть у нас. Все. Потом Ивонин выписал постановление на арест гражданина Ряднова Андрея Яковлевича, обвиняемого в убийстве, и, доложив начальству, попытался получить от него подпись на ордере. Но начальство решило само прийти в кабинет Ивонина. Ряднов кончал читать протокол, почти машинально подписывая каждый листок. Ивонин и начальство искоса наблюдали за ним, за его хмурым, растерянным и в то же время злым лицом, за его твердыми, ни разу не дрогнувшими руками. Когда он кончил подписывать листы протокола, Ивонин осведомился: — Все записано правильно? Без искажений? — Все правильно. Без искажений. И все-таки... все-таки я не убивал. — И вдруг, резко повернувшись, Ряднов спросил: — А где он убит? — Я ждал этого вопроса, Андрей Яковлевич. Хотя, честно скажу, ждал раньше. Так вот, он убит в сосновых посадках, на тропке через них, как раз против вашего окна. Подвиньтесь поближе, и я вам расскажу, как это произошло. Ивонин взял лист чистой бумаги и набросал на ней план местности. — Вот, смотрите. Это ваш дом, огород, тропка, а вот место, где найден убитый Андреев. Дело происходило так. — Ивонин говорил доверительно, даже дружелюбно: напряжение уже оставило его и он был доволен четко выстроившимися уликами, подтверждавшими его версию. — Вы действительно ушли с работы раньше времени и в самом деле заметили на пороше заячьи следы и осмотрели их. У опушки вы увидели, что по тропке через посадки кто-то идет. Присмотревшись, вы поняли, что идет Андреев, ваш давний обидчик, виновник, как вы считаете, вашей неудачной жизни, человек, которого вы когда-то хотели убить. — На скулах у Ряднова вздулись желваки, и лицо стало злым. — Вы сразу же побежали назад. О том, что вы бежали или, по крайней мере, быстро шли по своим старым следам, свидетельствуют фотоснимки этих следов и общее их описание, в частности вот этих самых подшитых валенок, которые сейчас на вас. Вы в них были в тот день? — В них, — хрипло выдохнул Ряднов. — Ну вот. Дома вы зарядили ружье, а возможно, оно и в самом деле было заряжено заранее — вы это обстоятельство еще уточните, — подошли к окну, чтобы посмотреть, не выходит ли Андреев на открытое место. Андреев действительно как раз в это время приближался к выходу из посадок. Он увидел оставленные вами на свежем снегу следы, и они насторожили его: ведь он направлялся в ваш дом. Он взглянул на окно вашего дома, увидел ваше лицо и резко повернул назад. Вы поняли, что он от вас уйдет, и выстрелили. Андреев скрылся в посадках. Пойти проверить, убили ли вы его или нет, вы не пошли, потому что в таком случае ваши повторные следы сразу бы выдали вас. Ведь вы таежный охотник и понимаете значение следов. Вы долго прислушивались и присматривались к тропке. Но там все было тихо. Тогда вы пошли к соседу за стеклом. Вот показания Липконоса, вы пришли к нему минут через двадцать после выстрела. Больше из дому вы не выходили, чтобы не вызвать чьих-либо подозрений. Дескать, ничего не знаю. Так было или не так? Ряднов облизал губы и кивнул: — По-вашему, так... Только не видел я его, не видел! — Видели! — жестко сказал Ивонин и костяшками пальцев пристукнул по столу. — Да не видел! — взмолился Ряднов. — И не мог я его убить! Не мог! Ведь не до конца же я все знал. И верил, и не верил... — Ряднов прижал руки к груди и стал медленно обводить взглядом лица присутствующих, суровые и неприступные. Что-то дрогнуло в нем, в груди заклокотало, и он склонил голову. — Ах, что ты наделала со мной, Анька! Что ж ты наделала... — Ну как, Ряднов, признаетесь сразу или будете тянуть? Сами видите, что ваши собственные показания утверждают: убить Андреева могли только вы. — По-вашему, выходит... — Что значит «по-вашему»? Перед вами и нами факты. А они говорят, что убийца вы. Ряднов встал, вытянулся по-солдатски и строго, раздельно произнес: — Как хотите судите, что хотите делайте, но я не убивал. Не мог я убить человека. Пусть паршивого, но человека. — И вдруг сгорбился и растерянно, с великой надеждой поглядывая на людей в этой комнате — теперь явно враждебных ему людей, — прошептал: — Может, и в самом деле случайно? А? Ах ты горе какое... Допрос длился еще с час, но Ряднов стоял на своем: он не убивал. Если доказано, что убила Андреева пуля-жакан из его ружья, это могло произойти только случайно. С арестом он согласился: — Это я понимаю: раз такое дело... Он даже не попросил съездить домой за личными вещами, а сразу же вышел из комнаты, заложив руки за спину.4
Начальство долго пересматривало протокол, вздыхало и, наконец, вынесло свой осторожный приговор: — Поспешили вы, Петр Иванович. В вашей версии слишком много уязвимых мест. — Знаю. Но еще больше логически точных данных. — Не спорю. Но почему вы решили, что Андреев мог увидеть Ряднова в окно? Сейчас зима, и окна могли быть покрыты льдом, инеем. — Исключено: все дни стояла оттепель, а Ряднов живет один и, значит, топит только вечером. Поэтому в комнатах было, по крайней мере, прохладно, следовательно, окна не могли запотеть, а тем более покрыться инеем — разность температуры невелика. — Логично. Но почему Андреев повернулся, чтобы уйти обратно? И почему он шел по этой тропе? — Вполне естественно. По-видимому, он все-таки встречался с Рядновой... — Это нужно доказать. — Видите ли... несколько лет назад, как вы помните, мы вели расследование по делам домовладельцев поселка. Мне уже тогда было известно, что Ряднова встречалась с Андреевым. Об этом говорили многие соседи. Я забыл, а Ряднов, как вы сами видели, напомнил мне об этом. — Логично. — Так вот, вполне вероятно, что Андреев не выдержал разлуки и приехал на встречу со своей любушкой. Заметьте, что он шел днем, когда Ряднов, по всем правилам, должен быть на работе, а его жена могла уйти с работы. Андреев не хотел, чтобы его увидели и заново начали трепать их имена, а поэтому решил зайти с тыла. — Логично. Все логично. И все-таки... — Я вас понимаю: не слишком ли много логичных совпадений и не слишком ли поспешна попытка сразу, одним ударом вырвать признание? Даже если я и ошибся, согласитесь, что я обязан был сделать это хотя бы для того, чтобы проверить версию, дать Ряднову возможность отвести обвинение. Он этого не сделал. Больше того, он на всякий случай признал другой вариант: убийство по неосторожности, не умышленное убийство. — Логично. Но он не производит впечатление... слишком хитрого, расчетливого человека. Как вы думаете, Грошев? — Начальство круто повернулось к Николаю. — Не знаю... Я настолько удивлен случившимся, что еще не могу разобраться как следует. Но... несмотря на всю логику, мне его просто жалко. — Почему? — Видите ли, если человек действительно убийца, он не будет с такой точностью, даже горделивостью давать как раз те показания, которые логически подтверждают его виновность. По-видимому... Но начальство перебило Грошева: — Вот-вот. В этом все и дело. По-видимому, здесь либо полная невиновность, либо действительно неумышленное убийство. Поэтому сделаем так: в интересах справедливости исключим все возможности ошибки. Следствие вести в дальнейшем по новой версии. А потому, что вы, Ивонин, уже не сможете отказаться от своей, психологически это вполне объяснимо, и потому, что есть еще одно важное дело, я отстраняю вас от этого дела. Вы, Грошев, если хотите, можете работать с новым товарищем. Вам будет полезно посмотреть на дело иными глазами. Потому что, к сожалению, следственное дело — не математика. Тут бывает всякое. Когда начальство ушло, Ивонин медленно собрал документы и впервые за долгое время закурил. Грошев спросил его: — Скажите, у вас были хоть какие-нибудь данные обвинять Ряднова, вести следствие именно так, как его вели вы? — Нет. Была улика, намек на нее — разбитое стекло. Хотя, в общем-то, эта улика довольно шаткая: мало ли по какому поводу оно могло быть разбито? И я действительно трижды рисковал: ведь все могло пойти прахом. Но в том-то и заключается наше дело, что нужно следить за логикой мыслей и подозреваемого, и дела, и за самим собой. У нас тут тоже риск. Иногда неприятный, опасный, но что сделаешь? Все считают,что риск бывает только в открытой схватке с противником, с преступником. А бывает вот такой, за столом. — А вы как же считаете: убийца он или нет? — Если говорить честно, я все-таки убежден, что если он и убийца, то случайный. Начальство да и ты говорите правильно: преднамеренный убийца не будет так упрямо возводить против себя стену улик. Но вся беда в том, что в криминалистике известен и такой прием: логику переводить в алогичность. Преступление настолько обоснованно, что начинаешь сомневаться в самом обосновании. Иногда этим и пользуются преступники: помилуйте, да разве б я стал сам на себя наговаривать? Поэтому поживем — увидим. Вспомнив, что нужно идти домой и опять вести неприятный разговор с женой и дочерью, что нужно еще зайти в сыновнюю школу и выслушать наставление учителей, Петр Иванович опять рассердился и ткнул папиросу в пепельницу. — Ладно, Николай, пошли. Ты на досуге подумай об этом деле, посмотри, не напутал ли я чего, не упустил. Со стороны бывает видней. На выходе из помещения они столкнулись с женщиной в стеганке, ватных, перепачканных раствором и краской брюках, в теплом платке, который скрывал ее лицо. Уже вставший на пост ночной вахтер доказывал ей, что работа закончена, и советовал зайти завтра. Грошев распрощался и пошел на дежурство.5
Более углубленное следствие по делу об убийстве Роберта Андреева ничего нового не принесло. Следы, заметенные свежим пушистым снегом, были те же, что и на фотографиях; никто из опрошенных жителей не слышал выстрелов, так же как и Липконос, ссылаясь на привычку к детонации авиационных моторов с ближнего аэродрома, не видел ни Андреева, ни кого-либо другого, в том числе и самого Ряднова: ведь все произошло в рабочее время, когда большинство жителей было либо на работе, либо в школе, а те немногие, кто оставался в поселке, готовили обед, выполняли домашние задания, спали перед ночными и вечерними сменами. Произвели следственный эксперимент. У опушки на тропке было установлено чучело, и один из работников местного Охотсоюза первым же выстрелом рядновской «ижевки» пробил его навылет. Баллистическая экспертиза допускала, что единственная, находившаяся в распоряжении следствия пуля-жакан могла быть выстрелена из рядновского оружия. Оно, кстати, содержалось в образцовом порядке. Эксперимент удовлетворил Ивонина. Николай Грошев присутствовал и при допросе Анны Ивановны Рядновой. Она категорически отрицала и связь с Андреевым, и то, что муж ее бил. — Ушла потому, что надоела такая жизнь — все время на подозрении, все время скандалы. Дочка стала плакать, вскакивать по ночам. Да и другое. Мужа и раньше ни в кино не вытащишь, ни так пройтись, а как переехали в новый дом, и вовсе — даже в город неделями не выходили. Как высланные. — А теперь вы как живете? — Хорошо живу. Комнатку получила, сама себе хозяйка. Мне ничего не нужно. Анна Ивановна — рослая, красивая женщина лет тридцати — и в самом деле была полной хозяйкой самой себе. Особенно после того, как стала работать экспедитором столовой и буфетов в аэропорту. Все время в движении, с людьми. Она теперь и не мыслила другой жизни. Мужа она вспоминала добром: — Хоть и бирюк, но человек, в общем-то, хороший, душевный и как мужчина видный, хотя вокруг немало и получше. Об Андрееве у нее было свое точное мнение: — Веселый, не слишком честный и отчаянный. Запрос, посланный к новому месту жительства Андреевых, подтвердил характеристику Анны Ивановны. И в далеком сибирском городке братья Андреевы зарекомендовали себя хорошими шоферами, но людьми прижимистыми и в чем-то затаенными. Старший, семейный, водил самосвал, а Роберт работал на легковом такси. Поскольку на каждую машину полагалось по два шофера, а шоферов в городе не хватало, Роберт по нескольку недель работал по две смены, а потом брал отгулы сразу на неделю-две и часто уезжал из города. В таксомоторном парке рассказали, что Роберт работал смело, часто ходил в дальние поездки — в леспромхозы, таежные села. План перевыполнял, а что брал отпуска — так по закону, и не чаще, чем все остальные шоферы, сплошь охотники, рыболовы, шишкари. Старший Андреев не утверждал, что младший брат встречался с Анной Ивановной, но говорил, что она нравилась Роберту, и он жалел, что упустил в свое время такую женщину. Вспоминал он о ней и на новом месте жительства. Поэтому вполне вероятно, что приезжал он именно к ней, а так как не знал, что она уже не живет с мужем, направился к ее дому и напоролся на пулю. Присланная из СМУ характеристика отмечала, что Ряднов был в свое время снят с бригадирства за разбазаривание стройматериалов, не исключающее хищения. А его тяжелый, упрямый характер привел к мелкому хулиганству — драке в нетрезвом виде.* * *
Никто, ни один человек — ни из соседей, ни из сослуживцев — не пытался помочь Андрею Яковлевичу, и только одна крановщица из СМУ попробовала облегчить его судьбу. Она пришла к следователю и попросила разрешение на передачу. — А кем вы ему доводитесь? — Никем. Сослуживица. Всякий, кто хотя немного знал Ряднова, мог быть находкой для следствия, и поэтому женщину, которая назвалась Ларисой Федоровной Петровой, тоже допросили. Она сказала, что жалеет его, и не столько как немного нравившегося ей интересного мужчину, сколько просто как человека, которому не везет. — И десять суток ему зря дали — другие дрались, а он стал заступаться. Другие удрали, а он получил. И материалы у него растащили в его отсутствие, так что и гут он не виноват. Просто он за себя постоять не умеет, как маленький. — Характеристика говорит об обратном — тяжелом характере. — А кто его таким сделал? Андреевы! Они ему мстили за то, что он не захотел покрыть их воровство на стройке. — Согласитесь, Лариса Федоровна, что это тоже не делает ему чести. Хищение Андреевыми следствием вскрыто не было, и его показания могут походить на месть. Петрова промолчала. Ряднов, судя по всему, не очень обрадовался передаче Петровой. — Не надо бы ей за старое... — сказал он новому следователю. — Хороший человек, а не понимает, что я ей счастья не принесу. — Почему? — Ну, тут наше дело, — отрезал Ряднов и своих отношений с Петровой не касался.* * *
Прежде чем решить судьбу Ряднова, его дело «обговорили» все, кто был к нему так или иначе причастен, и пришли к выводу, что действия Ряднова все-таки были не умышленными. Прокурор говорил: — Во всей железной цепи наших построений есть один изъян: Андреев был убит выстрелом в бок. Если предположить, что он действительно увидел кого-то в окне рядновского дома и поэтому, решив уйти, повернулся, то версия приобретает смысл. Но вся беда в том, что следственный эксперимент показал: различить на таком расстоянии, кто смотрит в окно — мужчина или женщина, — трудно. Тем более, что в то время суток, когда стрелял Ряднов, стекла отсвечивали. Все это неопровержимые данные для защиты. И она, конечно, не преминет воспользоваться ими. Тогда наша квалификация преступления окажется несостоятельной. Доводы были доказательны, и Петр Иванович Ивонин объяснил возможное поведение Андреева перед смертью более убедительно: — Вполне вероятно, что Андреев увидел Ряднова, остановился в сосняке, чтобы не встретиться с ним, а потом, поразмыслив, решил уйти, чтобы встретиться с Анной Ивановной Рядновой позже, под покровом, так сказать, ночи, в большей безопасности и для нее, и для себя. И тут был произведен этот случайный и нелепый выстрел. Такой вариант тоже был возможен, и с Ивониным согласились. Однако сам Петр Иванович профессионально честно оговорился: — Несмотря на это, я должен сказать, что собранные нами по делу улики, логика событий подсказывают, что умышленное убийство не исключено. Оно лишь не доказано. И не доказано как раз из-за обилия второстепенных улик, прямых и косвенных. Преступник либо чрезвычайно умный, расчетливый и холодный человек — а этого впечатления он не производит, — либо действительно невезучий бедолага. — Что, впрочем, не освобождает его от ответственности. — Конечно... Хотя я снова обязан сказать: обстоятельства дела таковы, что, даже квалифицируя преступление как убийство по неосторожности, мы делаем это все-таки не с абсолютно чистой совестью. Вполне вероятно, что всплывут какие-либо обстоятельства. Надо подключить уголовный розыск. А то они успокоились, поверив нашей версии. Кстати, я должен вполне самокритично сознаться, что в свое время не успел довести до конца дело братьев Андреевых. — А что там было? — В ходе проверки законности приобретения домовладений в поселке Южном мне показалось, что Андреевы построили свой дом, по крайней мере, из ворованного кирпича. Старший Андреев возил в то время кирпич на строительство комбината и торговал им, пользуясь бесконтрольностью. Андреевы показывали тогда, что часть материалов они покупали у Ряднова. Но это следовало доказать. Но Андреевы продали дом и сразу же уехали. — Ну что ж, всякое преступление должно быть раскрыто, — жестко сказал начальник. — И хотя сейчас это дело неподсудно за давностью, оставлять его не следует. И значит, есть больше оснований перепроверить все, что касается Ряднова. — Правильно. Но вот еще в чем беда. Вы знаете, что по делу ограбления сельского магазина в Заборье фигурировал не установленный следствием шофер такси, который подвозил преступников и вывозил награбленное. Возможно, что тот шофер действовал, не зная, с кем имеет дело, но тем не менее ясности тогда внесено не было. А Ряднов вскользь сообщил, что подозревал Андреева в нечестности. — Опять давность лет?.. — Да, именно давность лет позволит нам заглянуть в прошлое Андреевых. — Почему? — Потому, что перед судом преступники, естественно, не хотят впутывать в дело сообщников, хотя бы затем, чтобы не представлять суду дополнительных свидетелей. Сейчас преступникам безразлично, что будет с их бывшими соучастниками: ведь судить-то их все равно не будут. Поэтому вполне вероятно, что они могут рассказать теперь то, что когда-то тщательно скрывали. — Логично. Так и порешим. Возможно, кое-что и прояснится.* * *
На допросах Ряднов держался несколько странно: он как бы радовался, что жизнь его рассекается надвое и от прошлого ничего хорошего не остается. На вопросы отвечал коротко, сдержанно, но охотно, даже не пытаясь найти для себя оправданий. Предъявленного обвинения не отрицал, но подчеркивал, что Андреева не видел и убивать его не собирался. Случай есть случай. На вопрос, как он расценивает свой случайный выстрел, усмехнулся и ответил: — И меня учили, и я сам в армии учил: заряженное оружие раз в году стреляет само по себе. И если оно у меня выстрелило, да еще в таком случае, значит, я виноват. Это я понимаю. Хоть в гражданке, хоть в армии, а за такое дело нужно нести ответственность. По-видимому, он понимал, что в его деле играют роль и десятисуточный арест за мелкое хулиганство, и неважная характеристика с места работы, и даже извлеченные из архивов показания Андреевых, что именно Ряднов продавал им стройматериалы и торопил следователей. — В камере у нас такие законники, что сразу определили: лучше мне не рыпаться, — сказал он следователю. — Лучше сразу идти под суд, потом уйти на этап и отработать свое, а там уже... начинать новую жизнь. Грошев, которого уже официально подключили к этому делу, никак не мог понять ни поведения Ряднова, ни собственного отношения к нему и поэтому поделился своими сомнениями с Ивониным. — Не нравится мне это дело, Петр Иванович. Неясное оно какое-то. — А что сделаешь, Коля? Мы ведь не боги. Обстоятельства же бывают выше человеческих сил. — Но сами вы как, Петр Иванович? Как вы лично, как человек, что ли, судите Ряднова? — Я же говорил: либо бедолага, либо очень опасный преступник, может быть, даже психически извращенный человек. А должен тебе сказать, что психически неполноценные люди иногда бывают удивительно изощренными преступниками. Грошев поморщился. — А у меня, Петр Иванович, такое состояние, что это не Ряднова обвинили, а меня. Ведь каждый из нас может оказаться в таком нелепом положении. — Я же так и сказал — бедолага. — А вдруг он все-таки не виноват? Ивонин с интересом посмотрел на парня и ласково улыбнулся. — Это хорошо, что у тебя рождаются такие мысли и ощущения. Но вот беда — факты. Упрямейшие факты. Что бы я ни допускал, что бы я ни думал — они поворачивают меня к убийству. Понимаешь, погиб человек. Может быть, плохой человек, может быть, даже преступник, но человек. Да еще молодой, из которого можно сделать полезного члена общества. При этом положении, какие бы личные симпатии и антипатии ни были у следственного работника, да что там следственного — просто честного человека, он обязан придерживаться фактов. Придерживаться и наказывать по всей строгости закона. И наконец, изменение поведения Ряднова. Согласись, оно... странновато. — Все правильно, Петр Иванович, все. И тем не менее тоскливо... — Это другое дело. Работка наша, в общем-то, не располагает к сентиментам. — Даже не в этом дело. Понимаете, тут еще и целесообразность. — Чего, чего? — Целесообразность. Представляете: погиб человек, может быть, преступник и, уж во всяком случае, не отличающийся высокими моральными качествами. Но он погиб, ничто ему не поможет. Вслед за ним мы изолируем от общества другого человека. Итог: так или иначе общество теряет сразу двух своих членов. А мы, к этому делу приставленные, юристы, сами не удовлетворены. Так что и с целесообразностью плохо, и с собственной совестью тоже... неважно. — Мудро. Очень и очень мудро. — Ивонин недовольно покривился. — Поскольку с совестью неважно, а погибший — потеря необратимая, пускай преступник ходит на свободе. Так? — Ивонин рассердился. — Я не говорю о примере — он губителен. Я говорю о той же самой целесообразности. Ты можешь ручаться, что оставленный на свободе преступник не совершит еще более ужасного преступления. Ядовитая змея в доме — вечная угроза. Возможно, она спит, но все жильцы этого дома не спят. Они живут в постоянном страхе. Разве не долг каждого человека убрать эту змею, освободить людей от страха, вернуть им покой? — Вот об этом и я говорю. — Грошев посмотрел на Ивонина. — А что, если я, Петр Иванович... займусь этим делом по-своему. — И, заметив протестующее движение ивонинской руки, быстро добавил: — Нет, нет. Вы не подумайте превратно, Петр Иванович. Ведь я выбираю профессию. Может быть, на всю жизнь. А тут... сомнения... Вы понимаете... — В основном, — жестковато ответил Ивонин. — Но интересно, как ты это сделаешь? — Точно не знаю. — У тебя есть своя версия? — Я не все понимаю, Петр Иванович. Я уже думал об этом. Но я просто проверю. Все. С самого начала. А? Ивонин, вспомнив свою молодость, вздохнул. Он понимал, что, если Грошев найдет что-то опровергающее его версию, которая, в сущности, стала основой обвинения, у него будут неприятности. Но с другой стороны... Его и самого что-то мучило и не давало покоя. В этом сложном деле что-то было не так. И он, склонив набок голову, пожал плечами. — Что ж... Валяй. Ничто не вечно под луной, в том числе и собственная убежденность, если она возникла на основании конкретных фактов. Ведь если появятся новые факты, долг честного человека — изменить убежденность. Поэтому, если ты и выкопаешь что-нибудь новое, интересное, я буду только рад. Причем, — быстро поправился Ивонин, — в обоих прямо противоположных случаях: и если Ряднов окажется совсем невиновным, и если он окажется опасным преступником. Самым главным для нас всегда является истина, как бы она ни была горька.6
Можно сказать, Николай Грошев остался с делом Ряднова один на один. Новый следователь по-прежнему вел следствие, Николай же отрабатывал свою версию. В этом, хотя и не без оговорок, его поддержал и прокурор: история сложная, подойти к ней лучше всего с нескольких сторон. И Николай попробовал сделать это. Прежде всего в архиве суда он разыскал дело о мелком хулиганстве А. Я. Ряднова и выписал адреса и фамилии свидетелей. Один из них — Сергей Иванович Назаров — жил совсем неподалеку от поселка Южный, и Грошев, не застав его дома, решил еще раз побывать на месте преступления. Он сошел с автобуса, с удовольствием вдохнул загородный, пахучий морозный воздух и не спеша пошел к дому Ряднова, мысленно стараясь поставить себя на его место. Вот он идет по улице, прикидывая, что нужно сделать по дому... Нет, отставить! Настроение у Ряднова, он и сам говорил, было неважное, неприятности у него были, а дом для него — постоянное напоминание о своей личной трагедии. Для всех уход Анны Ивановны был лишь поводом для разговора. Для Ряднова этот уход обернулся трагедией. Значит, он не должен был спешить домой. Вероятно, он шел медленно, стараясь, сам не замечая того, отдалить встречу с прошлым. Он шел и думал. Падал сухой снег: ведь в тот день морозило. Вот он свернул в свой переулок, ему открылась заснеженная посадка, пахнуло резким запахом замерзающей сосны. Он остановился, посмотрел на сосняк, на заснеженную поляну и на ее ровной, ослепительно белой... Стоп! Не ослепительно белой — солнца в тот четверг не было. На сизовато-серой поляне он увидел следы и подумал... В самом деле, что он мог подумать? Хотя он сам сказал, что он подумал. Сказал и доказал свою виновность. Впрочем, когда Ряднов шагал к дому, он еще не был преступником и поэтому не мог так думать и, наверное, подумал, что стоит посмотреть на следы. Спокойно! А почему эти следы показались ему в диковинку? Ведь он охотник и таких следов видел очень много! А эти его почему-то заинтересовали. Почему? Но проанализировать этот новый вопрос Грошев не успел: он посмотрел на рядновский дом и увидел, что из его трубы споро и домовито курчавился белый дым. Значит, в доме жили. Но кто? Ведь дом не конфисковали, а родственников у Ряднова, в сущности, не было. Толкнув калитку, Грошев постучал в дверь. Ее открыла Анна Ивановна, быстро и подозрительно оглядела его и, узнав, без особой радости бросила: — Проходите. Грошев и сам не знал, зачем он зашел в этот дом. Просто он по-человечески заинтересовался тем, кто сразу, без передышки, сел на еще теплое, живое домовище. — Значит, переехали? — спросил он, чтобы хоть что-нибудь спросить. — Да. Ведь он такой же мой, как и его. Дом-то... — Как это понять? — Очень просто. Без задних мыслей. Когда у него умерла мать, он продал домишко и мы начали строиться здесь. — Так это же он продал. — А строились вместе. Он стены клал, он все своими руками делал. — И опять-таки он стены клал. — А я помогала! — почти выкрикнула Анна Ивановна. — Понимаете, мы все здесь вместе делали. Вот! Вместе! — Понял. А ваша квартира? — А квартиру пока сдала. Подружке. Все было ясно, все понятно, но Николай уже не мог остановить разгона своих мыслей. Все дело Ряднова, каждое его слово на том, памятном допросе, все еще жило в нем, и потому Николай, как бы даже не желая, уточнил: — Это той, с которой ковры покупали? Анна Ивановна исподлобья быстро взглянула на Грошева и спокойно подтвердила: — Той самой. Говорить стало почему-то трудно, и Николай прикидывал, как продолжить разговор, чтобы узнать хоть что-нибудь новое по делу. Но его опередила Анна Ивановна: — А вы все ищете? И человека посадили, и галочку в сводке поставили, а все ищете? Можно было отшутиться и сказать, что, дескать, такая служба, можно было напустить серьезность. Но Николай не хотел, да, наверное, еще и не сумел бы сделать этого. Он вздохнул и промолчал. — Завздыхали... Кто ж это, интересно, вам донес? Только печку затопила, вы уж тут как тут. Хорошо работаете. Оперативно. Тут только Николай увидел клубочки пара у ее рта, заметил, что Анна Ивановна в стеганке и в теплом платке. — Я не скрою, Анна Ивановна, меня очень волнует судьба вашего бывшего мужа. И если вы сможете... если захотите, то вы могли бы мне помочь. — Чем же я вам могу помочь? — Ну хотя бы тем, что расскажите... поподробнее о ваших бывших соседях Андреевых, о... — Опять Андреев! — выпрямившись, закричала Ряднова. Что я, всю жизнь за них отвечать должна? Не встречалась я с ним. Понимаете — не встречалась! На всю жизнь ославил и после смерти покоя не дает. — Да я... — «Я, я»! А я! Я — не человек? Я, значит, пешка? Меня, значит, как угодно ославлять можно?! Зинка с ним встречалась — это точно. А я как дура помогала. Как же, думаю, подружке помогу, товарищу школьному хорошую жену найду. Ах, дура я, дура! Она как-то вдруг постарела, ссутулилась и в сумерках нетопленного дома казалась очень несчастной. Да, видимо, не только казалась, она и в самом деле была несчастной, и Грошев не мог не прийти ей на помощь. — Успокойтесь, Анна Ивановна. Вы меня не так поняли! Ну, честное слово, я вам верю. Я ж даже не знал, что вы дома. Ну вот, честное комсомольское слово, не знал! Ряднова недоверчиво посмотрела на Грошева, на его смущенное лицо и поверила. Она успокоилась, быстро подбросила дров в печь и резко спросила: — Так что же вам нужно? — Да я и сам еще не знаю, что мне нужно, — признался Николай. — Нужно ведь с чего-то начинать... — Что начинать? — опять насторожилась Ряднова. — Понимаете, Анна Ивановна, не нравится мне все это дело... вашего мужа. Совесть не спокойна. Мне все кажется либо не он убил, либо, если убил, то... преднамеренно. — Ах, вот что!.. — Она долго молчала, перебирал прошлое, и твердо сказала: — Я так же думаю. — Как — так же? — Он ведь какой! Если к нему по-хорошему, он себя не пожалеет. Ведь сколько к нему товарищей из армии приезжало, всех привечал, всем помогал. Но если возненавидит — может и убить. Может! Вы думаете, почему я ушла? Боялась. Он вот какой, — постучала она по загнетку, — кремень. Молчун. — Ну, а кто же распустил сплетню о вас? Кому это было выгодно? — Не знаю. Потому-то в начале наших споров с ним я ругалась, оскорблялась. Ведь когда за собой ничего не чувствуешь, все кажется простым и легким. Подумаешь, пошутили с Робкой! Мы с ним и в школе баловались. Подумаешь, он меня на машине подвез — так он же сосед! А уж когда пошло такое, я и Робку возненавидела: разве же он не понимал, какое он на меня пятно кладет? И своего тоже: разве ж он не видит, что я ему верная жена? А уж как возненавидела, тут уж все пошло... наперекосяк. Он свое, а я свое... А тут еще Зинку жалко — ноет: «Робка не пришел», «Робка не так посмотрел», «Ты с ним поговори», «Он тебя слушается». Ну и говорила. А он не слушался... — Они давно... расстались? — Кто? — Зина эта и Андреев. — Он-то давно, а она все ждет, все надеется. «Он, говорит, когда прошлый раз приезжал, ко мне не зашел. Потому что у меня мать, сестра...» Вот потому и упросила меня отдать ей комнату. — Но ведь... — А что ж вы думаете, я так ей и сказала, что твоего Робку мой Андрей убил? У меня язык не поворачивается... Там... Как-нибудь... подготовлю. Они замолкли, думая каждый о своем. Первые секунды Николаю показалось невозможным продолжать разговор — сколько неожиданно трудного раскрылось за ним! Но ведь, в конце концов, все, что он решил делать, он делал для этих же людей. И он спросил: — Простите, Анна Ивановна, выходит, Андреев приезжал не первый раз? — Сама его не видела. А Зинка говорит — видела. Ехала в автобусе, а он стоял на остановке, — А... может, она ошиблась? — Кто? Зинка? Да она его из миллиона сразу узнает. — Когда это было? — Н-ну... месяца три назад. — А раньше он не приезжал? — Точно не знаю, но, по-моему, приезжал. Я тут на новую работу переходила, ни до чего было. Но Зинка бегала сияющая. Поэтому думаю, приезжал. — И, предупреждая его вопрос, добавила: — Это еще в прошлом году. — Вы на допросе об этом говорили? — Нет. Не стоило. Зачем других людей втягивать, беды им нести? Им и без этого своих хватает. Наверное, можно и нужно было спросить и еще о чем-нибудь. Петр Иванович наверняка сумел бы сразу сориентироваться в обстановке. Николай беспомощно, как всякий уходящий, посмотрел по сторонам и увидел через открытую дверь злополучное окно. Фанерки в нем уже не было. Отблесками от печного чела сияло самое обыкновенное оконное стекло. Почему-то Грошеву это показалось не столько важным, сколько удивительным: только что перешла в свой старый дом, а стекло уже вставлено. Ряднова перехватила его взгляд и усмехнулась: — Сосед постарался... Грошев попрощался и, уже шагая к автобусной остановке, отметил в памяти странное поведение соседа: Ряднову отказал в стекле, а его жене вставил без просьбы.* * *
Первый свидетель по делу Ряднова теперь оказался дома. Плотный, краснолицый, коротко стриженный майор в отставке, не пригласив Грошева в комнату, в передней объявил, что он, как старший по наряду народной дружины, прекрасно помнит тот случай. — Я считаю, что таких, как этот ваш Ряднов, нужно выжигать каленым железом. Цацкаются с ними, распустили. А нужно сделать так, чтобы они и пикнуть не смели. — Простите, — перебил Грошев, — мне, собственно, интересно знать, как все это происходило. — Как происходило, я рассказал на суде, и именно я потребовал, чтобы этому прохиндею дали пятнадцать суток, потому что наши чересчур... — Он вздернул поблескивающую благородной сединой голову и насмешливо протянул: — Гуманные законы больше этим подлецам отпускать не могут, а я считаю... — И все-таки, как это происходило? — «Как, как»! Затеял драку возле магазина, распивали на троих, а когда его одернули, стал сопротивляться. Потом... — А мне докладывали, что он только разнимал дерущихся. — Ну, положим-то, докладывать вам просто не могли — чином, как говорят, не вышли. И потому вам нужно верить старшим и по возрасту и по званию людям, которые... — Простите, я действительно оговорился. Но мне хотелось бы уточнить: Ряднов первым полез в драку или он только пытался разнять уже дерущихся? — Вы что, молодой человек, советскому суду не верите? Вы считаете, что вам дозволено контролировать действия советского суда? А ну, предъявите ваши документы! Пришлось предъявить удостоверение, выслушивать наставления, на которые очень хотелось ответить резкостью, но привычная армейская выдержка взяла свое. Да и не стоило продолжать разговор, все равно ничего путного принести он не мог. — Отметим, — сказал на прощание Николай, — что дружинник, майор в отставке, не захотел или не сумел оказать помощь работнику милиции. Майор в отставке не нашел ответа, чуть приоткрыл рот, но Грошев уже захлопнул за собой дверь.* * *
Второй свидетель по этому же делу не мог показать ничего вразумительного. Когда его позвал старший по наряду — сам свидетель в это время разговаривал со знакомой девушкой, — он увидел только Ряднова, отталкивающего от себя старшего по наряду. «Ну отстань, отстань. Чего прицепился!» — сердито говорил тогда Ряднов. Второй свидетель помог старшему патруля. Тут подошла милицейская машина, и они доставили Ряднова в милицию. Вот, собственно, все, что помнит свидетель, и именно это он изложил на суде. — А сколько хоть их там было? Какие они? Неужели один Ряднов? — Собственно, я не помню... Но, кажется, там стояло еще двое таких... в строительных робах — в известке, в краске. Они тоже говорили, что тут дело не так, но наш старший крикнул, чтобы и их прихватили. Они и убежали.* * *
Ночью, ворочаясь, Николай оценивал первый день своей работы. Честно говоря, он был неудачен хотя бы потому, что все, на что надеялся Грошев, не принесло никаких результатов: осмотр места преступления и попытка психологически проанализировать поведение преступника не состоялись. Свидетели оказались не только никчемными, но и, возможно, вредными: если майор в отставке пожалуется, будут... ну не то чтобы неприятности, но косые взгляды. Положительным было то, что прибавились кое-какие неизвестные до сих пор данные: почти подтверждалось, что Андреев не встречался с Рядновой, хотя, честно говоря, утверждать или отрицать подобное почти невозможно. Во-вторых, Андреев имел подружку и приезжал в город неоднократно. Что делать дальше? Через Зинку, может быть, удастся установить и прежние связи Андреева, и тогда, возможно, разрешится самый главный вопрос: зачем и к кому шел Андреев в поселок Южный. Ведь через Зинку он должен был знать, что Ряднова не живет в своем доме. Так к кому он шел? И почему не открыто, а закоулками? Вопросы и сомнения одолевали Николая, но он решил не отвлекаться, до конца выяснить дело о мелком хулиганстве Ряднова. «Закончим одно, а потом пойдем дальше».7
После дежурства Грошев сразу же поехал на стройку, где недавно работал Ряднов, разыскал его бывшую бригаду и прежде всего обратился к бригадиру: — Скажите, вы не знаете, с кем был Ряднов в тот день, когда его взяли в милицию и арестовали на десять суток? Бригадир ничего об этом случае не знал. Потом, подумав, указал тех, кто иногда выпивал с Андреем Яковлевичем. Все они находились на рабочих местах, но оказалось, что никто из них в тот раз с Рядновым не выпивал. Не то что обозленный — к неудачам Николай готовился, он понимал, за какое сложное дело взялся, — а просто расстроенный, он спустился по внутренним лестничным маршам и вышел на улицу. Мороз ослаб, тянул мягкий, влажный южный ветер, нанося на город терпкие, свежие запахи лесов и далеких снежных просторов. Подумав, что опять начинается очередная оттепель, Грошев рассеянно вытирал испачканные на стройке сапоги о рельс. Рядом с ним остановилась тележка подъемного крана и оттуда сверху послышался женский крик: — Товарищ следователь! Подождите! Разговор есть Крановщица ловко, как опытный матрос, спустилась по лестнице и спрыгнула на землю — кургузая, в ватных брюках, в стеганке под брезентовой робой, в платке. Раскрасневшаяся она была очень миловидна и взволнованна. — Вы... Вы не насчет Ряднова? — Да. — Моя фамилия Петрова, Лариса Федоровна. Меня уже допрашивали, так что вы не бойтесь. Может, и помогу. Так славно она волновалась, так была решительна и хороша собой, что Грошев, сдержанно улыбаясь, рассказал, зачем он пришел на стройку. — Ах, паразиты, трусы несчастные! Как милицию увидят, так и душа в пятки. Ладно! Следуйте за мной. Грошев не мог не усмехнуться, услышав уже привычную по новой работе фразу в чужих устах. И он последовал за Петровой. Она легко вбежала на самый верх строящегося дома и крикнула: — Березин! Иди сюда. И ты, Хамидуллин, и ты давай сюда! Они подошли неторопливо, смотрели исподлобья и на Ларису Федоровну, и на Грошева. — Ну вот что, милые мои, не могли тогда Ряднова отстоять, хоть теперь говорите честно. И они, словно нехотя, стали рассказывать: — Выпили с аванса, показалось мало, сообразили еще на троих. В магазине к Андрею Яковлевичу все время приставали трое каких-то парней — толкали, пытались доказать, что Ряднов лезет без очереди, но Ряднов молча взял водку и закуску и вышел на улицу. Тут эти же трое парней опять пристали к нему, требуя отдать какой-то долг. — Тогда я сказал, — продолжал рассказ Хамидуллин, — чтобы они шли... — он виновато посмотрел на Петрову и, вздохнув, закончил: — подальше. Один сразу меня ударил. Второй ударил его. — Хамидуллин показал на товарища. — Так было? — Точно, — показал Березин. — А когда я поднялся, смотрю: тот, что Газиза ударил, уже лежит и лапти на стороны — это его Андрей «приласкал». А третий крутился сзади него. Я закричал... — Точно. Закричал. А тут дружинники. — Во-от. Эти трое сразу смотались, а Хамидуллин помог мне подняться. Смотрим, а на Ряднове уже висит дружинник. Он ему доказывает, мы им говорим, а они и слушать не хотят. — Допустим, что так, но дело сейчас не в этом. Вы хоть одного из троих знаете? — Я не знаю, — сказал Хамидуллин. — А я вроде бы одного знаю — того, что начал. Не ручаюсь, но вроде бы знаю. Тут, осенью, брательник мой из Заречья прилетел, а я его потом ходил провожать на аэродром. Так мы, когда пошли выпить... ну, «посошок» на дорогу, зашли в буфет, а тут аккурат женщина какая-то вошла со служебного входа. Красивенькая такая, глаза темные, румяная, а за ней этот... зачинщик. Он меня, ясно... Что говорил дальше Березин, Грошев упустил; он подумал, что красивой женщиной могла быть Анна Ивановна Ряднова, и это так его поразило, что он не сразу собрался с мыслями и услышал уже ненужное ему: — ...а скажите, товарищ следователь, это уж точно установлено, что Андрей того... убил? — Ведем следствие... А почему вы об этом спрашиваете? — Да мы тут обсуждали: может он пойти на такое или нет? Решили — может. Ведь он какой был, Ряднов? Не тронь его — кошки не толкнет, обойдет. Раз обидишь — насупится, второй раз — губу закусит, а потом — с маху выдаст. Он кремневый был. Трудный. — Не ври, Березин, не ври! — крикнула Лариса Федоровна. — Не мог он убить. — Много ли ты, Ларка, мужиков видела? А мы вот так решили: убить мог, но только если уж очень крепко его довели. Под самое сердце зацепили. — Простите, я не совсем понял, отвлекся... Так кто был там, в буфете? Этот самый... зачинщик? — Так я ж вам говорил. Он и кричит: «Анька, сгружать здесь будем?» Шофер он, выходит. Потому что с ключиками вошел. Узкоглазый такой, и личико узкое... — Ага, спасибо за рассказ. Может быть, и он поможет делу. — А, извините, нас не потянут? — Как видите, я протокола не составляю. Да и за что? Дело за давностью времени закрыто, и опасаться вам нечего. Но попрошу: если увидите кого-нибудь из тех трех, узнайте, кто они, откуда. Если наши попросят вас рассказать об этом случае, не забудьте ничего. В определенном положении это может быть очень важно. А почему — сказать не могу, сами понимаете, в армии служили. Он спускался вниз, к крану, теперь уже впереди невеселой Петровой. Прощаясь с ним, она сказала: — Нет, не мог он убить. Все равно не мог. Разве только случайно. И если я вам понадоблюсь... Может, даже там, где вам будет неудобно, вы только скажите. Я помогу. Чем смогу, тем и помогу... Она круто повернулась и, легко вскочив на груду бетонных плит на платформе крана, полезла наверх, в свою кабину Грошев проводил ее взглядом. Все-таки если такая открытая и смелая женщина — к сожалению, пока что только одна из всех знакомых Ряднова — верит, что он не мог быть убийцей, не все еще потеряно.* * *
Через несколько часов он уже знал, что узкоглазый шофер пришел в аэропорт из таксомоторного парка, что зовут его Станиславом Свиридовым и что живет он в новых домах, куда переехал из поселка Южный, с частной квартиры. Первое, что хотел сделать Грошев, — немедленно узнать у него, почему он придирался в магазине к Ряднову, но раздумал. Не нужно вспугивать, и так слишком много совпадений. Следует проверить. Ожидая обратного автобуса, он смотрел на сереющие заснеженные поля, темный, мрачный лес, на машины, мчавшиеся по асфальтовому шоссе и медленно, словно на ощупь, сворачивающие на зимнюю, временную перемычку, что соединяла эту проходящую возле аэропорта дорогу с другим радиальным шоссе. Смотрел, но ничего не видел. Он думал об Анне Ивановне и еще ничего не мог понять. Неужели и она, такая вроде бы открытая, тоже замешана во всем этом пока еще таинственном деле? В тот вечер Николай занимался, потом был на катке, а утром решил зайти к Ивонину и посоветоваться, так ли он ведет дело или не так. Петра Ивановича долго не было в кабинете — шло совещание, потом он ходил в буфет за сигаретами, где встретил товарища, и они выпили по бутылке пива. Ивонин пришел в кабинет раскрасневшийся и веселый — неожиданно решились все семейные дела: позвонила жена и сказала, что она получила премию на работе. Теперь вместе с дочерью они пошли по магазинам в поисках подходящей, модной материи. Это к лучшему: не сидят дома, не мешают заниматься — экзамены приближаются. — А-а, Коля! Ну как успехи? Занимаешься Рядновым? Грошев рассказал все, что сделал, и вообще, что прежде всего решил побеседовать со Свиридовым — его действия наиболее подозрительны и наводят на жену Ряднова. — Подожди. Спешить незачем. Ты говорил, что пытался думать за Ряднова. — Пытался. Но пока ничего не получилось. — Чего захотел, парень, сразу научиться думать за преступника! Для этого нужно знать их психологию, располагать богатым вспомогательным материалом и, главное, все прочувствовать. — Я пытался... — Пока что ты прочувствовал наиболее сильно только одно: невиновность Ряднова или хотя бы странность его преступления. Сейчас ты начинаешь колебаться. Ведь все говорят, что Ряднов мог убить. — Но ведь мог и не он. — Да, тем более что поведение его уважаемой супруги пока что выглядит... ну, как бы это сказать помягче, некрасиво. Верно? Так вот сейчас самый раз тебе и подумать за Ряднова как следует, без эмоций. Ведь твои чувства постепенно уравновешиваются. А уж потом берись за эту самую Зинку и за Андреева. Иначе в тебе все будет жить Ряднов и мешать следствию. Понял? — Понял... Почти. — Добро. А вообще-то говоря, ты молодец, цепко берешься. Цепко! Я, знаешь, сейчас даже подумал, не придется ли мне краснеть за свои первоначальные действия. Ивонин рассмеялся. Когда Грошев уходил, в кабинете Ивонина зазвонил телефон.8
Вечером дежурный по милиции вызвал Грошева и недовольно сообщил: — Тебя гражданка какая-то разыскивает. Говорит, по срочному делу. — Где? — Что я ее тут, что ли, держать буду? На улице, наверно... прохлаждается. У дверей милиции стояла Анна Ивановна Ряднова. Она сразу узнала Николая и почти побежала ему навстречу. Грошев успел неприязненно подумать: «Пронюхала... Вот и спешит...» Однако теперь Николай решил ни за что не поддаваться собственным чувствам. Факты — вот что отныне будет определять его действия. Теперь, когда эти самые факты тенью своей легли и на Анну Ивановну, он будет просто вежлив, но сдержан. Сдержанно-вежлив — такая формула поведения будет наиболее достойной и единственно правильной. Ивонин ее уже выработал, нужно вырабатывать ее и Николаю. И он, вытянувшись в строевой стойке, вежливо осведомился: — Что-нибудь произошло? — Нет... да... впрочем... — нижняя губа Анны Ивановны дрогнула, и она закусила ее. — Я не знаю, как вам сказать. Но только я не могу так... понимаете? Не могу... Вы меня простите, если можете, я вас от дела отрываю. — Нет-нет, что вы... Пожалуйста. — Я насилу вас разыскала, но поймите меня, очень прошу, поймите. — А что все-таки произошло? — Я даже не знаю... Только я теперь сама не своя. Как переехала в этот дом, так не нахожу себе места. Реву и реву... — Она виновато и все-таки чуть кокетливо посмотрела на Николая, а в глазах у нее были слезы. «Путает что-то, притворяется», — сердито подумал Грошев. — И не могу иначе. Ведь все в этом доме мы вместе с ним сделали, все своими руками. За что ни возьмусь, и он как будто рядом свою руку кладет. В погреб полезу, а там самые лучшие баночки с грибами, с вареньем в сторонке — значит, мне приготовил. Ведь любил он меня, понимаете — любил! — почти выкрикнула она. — Кто меня так полюбит. Вот так, как он?! Ох, дура я, дура... Она прикрыла глаза и покачала головой. Из-под век ровно и быстро покатились ручейки слез. Она опять прикусила губу, но на этот раз не совладала с собой и очень доверчиво положила голову на грудь Николаю. Грошев растерялся; вот такого он никогда не ожидал: подозреваемая рыдает у следователя на груди. Трогательная картинка! Он молчал, а с крыш неторопливо падали капли, звенели в желобах, стучали по оседающему снегу. Очередная капель размягчала все вокруг. И Николай подумал, что, может быть, Ряднова и не притворяется. Может, и в самом деле она поняла, чего лишилась, какое счастье от нее ушло. — Ладно, ладно... — Он слегка потряс ее за плечи и наклонился, заглядывая в лицо. — Успокойтесь... Не нужно. На порог вышел дежурный по милиции, посмотрел на них, презрительно фыркнул и постучал каблуками по порожку, словно отряхивал снег с подкованных сапог. Анна Ивановна выпрямилась, вытирая слезы, едва заметно грустно усмехнулась и быстрым движением поправила платок; очень она была красива в эту минуту. Так красива, что Николай не мог не полюбоваться ею, но сейчас же взял себя в руки. «Нужно быть сдержанно-вежливым и не давать свободы чувствам. Факты — вот что главное. Только факты!» — Так что у вас? — Рассказала я Зинке. Ревели мы вместе, ревели, и она на меня не обижается, потому, что уж делать — такова, видно, наша бабья доля: куда ни кинь — везде клин. Зинка рассказала, что в тот прошлогодний приезд Робка останавливался у своего друга Свиридова. А Свиридов работает у нас. Даже больше того: он, собственно, меня и устраивал. — Это ж какой Свиридов? Узкоглазый такой? Шофер? — удивляясь натуральности собственного тона, спросил Николай. — Вы уже знаете! Ну вот, чтобы вы ничего не подумали, я почему в аэропорт пошла? Ведь там больше летчики. Думала, найду себе пару. А они, черти, так вообще не прочь, а вот с ребенком взять — это мимо хаты. — А почему вас устраивал на работу в аэропорт именно Свиридов? — Это его еще Робка просил. А Свиридову как раз нужна была своя... свой человек. Знаете, когда экспедитор свой, он всегда может отпустить шофера приработать. И в путевке распишется, и все такое. Вот Робка меня и присоветовал. — Понятно. — Это не главное. Главное, что во второй раз Робка у Свиридова не останавливался, и где он был — неизвестно. — Почему вы так думаете? — А я не думаю, я знаю. — Она быстро оглянулась и жарко зашептала: — Зинка, когда увидела его на остановке, сразу побежала к Стаське, и тот так ругал Робку, так его честил: «Я, говорит, видел, как он с самолета сходил, и отвернулся от противности. Паразит, говорит, и предатель, всегда только себе, а на товарищей ему наплевать». Что у них произошло, не знаю. И Зинка не знает. Но они еще таксишниками вместе работали, а тут вот так, значит. Значит, серьезно. — Ну что ж... Спасибо за сообщение... Анна Ивановна поморщилась. — Вы вот что... Вы не благодарите. Вы лучше скажите, чем я могу помочь? Грошев промолчал, и она, вздохнув, заговорила, еле сдерживая наболевшее: — Я не могу так, понимаете, не могу. Я, может быть, только теперь поняла — муж он мне, и все. Пусть он хоть кто будет, а муж. И главное, из-за меня, дуры, сидит. Если б не я... Если б я хоть немного думала... Но и то сказать: когда у нас счастье, так разве мы думаем? Очень, очень я вас прошу, скажите: что мне делать? Я все сделаю. Все! В лепешкуразобьюсь... Что он мог сказать ей, ее ждущим глазам? Факты — вот что важно. А здесь одни эмоции, голые чувства... И он опять сломил все, что было у него на душе. — Подумаю. Придумаю — сообщу. — Вы не такой сегодня, — с грустью сказала она. — В прошлый раз я вам поверила. — Да нет... Вы разнервничались, вот вам и кажется. — Мне бы не казалось — сердце чувствует... — Успокойтесь. Просто неудобно получилось... Возле милиции... Она доверчиво и благодарно улыбнулась. — Вот, может, и поэтому... Тогда... Вот еще чего я хотела у вас спросить. Была я в тюрьме, спрашивала, как передачу моему передать, а они говорят, уже передали, и теперь только в следующем месяце. Это... это не вы? — Нет, не я. — Кто же это? — испуганно и ревниво спросила Ряднова и зло сощурилась. — Вроде никого у него не было. Может, товарищи... по работе? — Она подумала и все так же тоскливо протянула: — Может... И они меня, наверно, костят. Все меня теперь костят. И правильно. Вот что главное — правильно. Не попрощавшись, она круто повернулась и ушла, рослая, стройная женщина. Грошев смотрел ей вслед и думал, что, когда одного любят две красивые и, по всему видно, честные женщины, пожалуй, есть надежда, что он хороший человек. Но он остановил себя: «Не спеши с выводами».9
Решив еще раз прочувствовать за Ряднова тот страшный день, Николай оделся потеплее и поехал в поселок Южный. Уже в автобусе он старался думать так, как мог думать Ряднов, ничего не знающий о приезде Андреева. Без всякого насилия над собой Николай думал об одном: вот приеду, а дома Аня... Молодая, красивая и очень растерянная. Я ее успокою и... Что будет дальше, почему-то не думалось. Но, должно быть, хорошо. С этими мыслями он сошел с автобуса, свернул в переулок и прежде всего посмотрел на трубу рядновского дома. Дымка над ним не было. «Значит, не пришла». И он почти с ненавистью посмотрел на соседский, бывший андреевский дом: кажется, оттуда пришла беда. Ему стало грустно, и он медленно пошел по переулку, оглядывая побуревший за время оттепели соснячок, заснеженную луговинку перед ним. И тут он увидел заячьи следы. Вернее, не сами следы, а как бы их остатки. В свое время свежий снег запорошил их, сровнял с целиной, но сегодня, в оттепель, снег тронулся и осел, заполнил все те ямки и выемки, которые уже были на неоднократно уплотненном оттепелями насте. Теперь целина проявилась, как проявляется фотографический снимок, и Николай ясно видел заячьи следы — впереди две точки, позади две палочки. Но и теперь если смотреть на целину сверху или лицом к невидимому задернутому плотными облаками источнику света эти следы, наверно, мог бы заметить только опытный человек. Николай был как раз опытным — ведь недаром в армии, на таежной тренировке разведчиков, он быстрее других умел ориентироваться в следах, а главное, обнаруживать их. И это вполне естественно. Разведчик всегда следопыт. А Грошев был не рядовым разведчиком, а помощником командира взвода. А поскольку офицера почти никогда не бывало — и фактическим командиром. Остатки заячьих следов подстегнули его, как, наверное, в свое время и Ряднова, начисто выбив и грустную надежду ожидания, и горечь разочарования. Он весь подобрался и, как Ряднов когда-то, по его же следам пошел к соснячку. Тут он сразу понял, почему топтался Ряднов перед соснячком — осевший наст выдал тайну: именно здесь, перед тропкой, и так чем-то напуганный заяц сделал огромный прыжок в сторону, перемахнул через тропку и скрылся в посадках. В тот день Ряднов ясно увидел это. И, как Ряднов когда-то, Грошев представил, как летит вытянувшийся в невероятном прыжке белый как снег заяц, как он поджал уши и обнажил от напряжения резцы под верхней раздвоенной губой... Представив все это, Николай ощутил холодный, за сердце хватающий, расчетливый охотничий азарт. Теперь уже не существовало ни пустого дома, ни ожидания встречи, ни разочарования. Теперь были только два сложившихся воедино чувства-желания: догнать вот этого косого, снять его в прыжке; и второе, дальнее: ах, как хорошо поохотиться! Зайцев-то в поле много, вон даже к поселку стали выходить. Тут Грошев заставил себя взглянуть на тропку. Она была пустынна, затененным коридорчиком прорезая сосняк. Да, в этом состоянии жестокого охотничьего азарта, сменившего мысли об Ане, о соседях: если бы он, Грошев, увидел на тропке своего обидчика, такого, каким для Ряднова был Андреев, — он, наверное, тоже мог убить. Ну, не убить, но драться бы полез. Обязательно бы полез. И это открытие было таким страшным, таким неприятным, что Николай почувствовал слабость и горестное безразличие к собственной затее. Ивонин был прав. Все были правы, а он взялся за безнадежное дело. Он медленно, по старым рядновским следам пошел к переулку. Но идти ему не хотелось: всегда неприятно признаться в своем поражении. Он остановился возле изгороди рядновского огорода и по давней привычке разведчика пристально, изучающе осмотрел округу — снежную целину поляны, кое-где тронутую лыжнями, следы баловавшихся детей, стежки собачьих пробежек. Отмечая все это и автоматически отбрасывая как ненужное, Николай увидел еще одни заячьи следы — тоже давние, засыпанные когда-то снегом и теперь проявленные оттепелью. Эти были не такими длинными, как первые. Здесь заяц двигался настороженно, но так, словно знал: опасность есть, но я от нее уйду. Она меня не догонит. А первые были оставлены испуганным зверьком. Он мчался во весь опор и падал на снег всей тяжестью, оставляя глубокие выемки. Вторые следы шли от сосняка к рядновскому участку и обрывались под жидким кустом смородины или крыжовника. От этого куста и начинались те следы, по которым шел когда-то Ряднов и вот теперь прошел Грошев. В плане все это выглядело треугольником, где основанием была линия посадок, вершиной — куст крыжовника или смородины, а сторонами — заячьи следы. Левые — почти спокойные, короткие, правые — размашистые, испуганные. Догадок у Грошева еще не было. Было только неясное предчувствие чего-то интересного и, может быть, страшного. Николай быстро дошел до куста, убедился, что у зайца здесь была лежка, а потом двинулся по старой, только что открытой стежке следов. Только теперь Грошев полностью понял и оценил свою сегодняшнюю одежду: короткое гражданское пальто не мешало движению по глубокому снегу, а сапоги оберегали от тронутых оттепелью спрессованных слоев снега. Он решительно вошел в посадки. Снежный покров здесь был толще и почти не тронут оттепелью. Но зато и следы более заметны, в свое время они не так густо покрылись снегом: он оседал на густом сосняке. Следы вывели его, видно, к не взошедшему в свое время рядку деревцев. Грошев осмотрелся. Заячий пунктир пропадал под густыми ветвями сосен. Нагнувшись, чтобы проследить заячий путь, Николай увидел сломанную ветку и, раздвигая пахучие колючки, пошел дальше. Как это часто бывает, мозг не сразу успел проанализировать случайно замеченные детали. Но он работал подспудно и мешал сосредоточиться, вызывал тревогу. Вначале Грошеву показалось, что он забыл что-то важное, потом постарался припомнить, что именно, остановился и оглянулся. И только после этого понял, какую деталь он впопыхах отбросил: сломанную ветку. Нижнюю, уже крепкую ветку молодой сосны. Кем и когда она сломана? Он вернулся, осмотрел и ее и окружающие и вдруг увидел странную закономерность — поперек сосновых рядков шла как бы темная полоса: на части сосенок было явно меньше снега, чем на соседних. Исследуя эту закономерность, Грошев заметил другую странность: определенно человеческие следы под ветвями. Они были как раз у подножия одной из осыпавшихся сосенок и надежно прикрывались нижними, особенно пышными, опускающимися почти до самой земли ветвями. Заметить их не смог бы и опытный следопыт. Это было тем более загадочным, что в междурядьях и под деревьями следующего ряда мерцала ничем не тронутая целина. Николай покрутился, заглянул под соседние деревья, проверил междурядья. И только перейдя к третьему рядку, опять увидел странные следы — парные, общие для обеих человеческих ног. Похоже, что по посадкам прошелся великан или оборотень, запросто перешагивающий целые ряды сосен. Все было настолько непонятно и странно, что Грошев опять остановился, осмотрелся и увидел новые следы — теперь значительно левее и, следовательно, еще дальше от трагической тропки. Он правильно определил, что эти вновь обнаруженные им обыкновенные человеческие следы принадлежали Ивонину и его помощникам, которые сразу после обнаружения трупа Андреева прочесали посадки. Николай отлично понимал их: если снежная целина была чиста и не тронута, то никому и в голову не придет заглядывать под нижние ветви сосен. Двигаясь вдоль линии более темных из-за опавшего снега сосенок, Грошев заметил, что под некоторыми деревцами есть по две пары следов — с обеих сторон сосенки. И теперь, когда система этих необычных следов стала почти понятной, Грошев быстро прикидывал, как они могли появиться, но придумать ничего не смог, тем более что тут как раз и окончились посадки. За ними шли столбы высоковольтной передачи, а дальше начинался редкий лес. Правее раскинулась луговина, на которую выходила трагическая тропка и, забирая в сторону, скрывалась в таких же, но только более старых и еще более густых посадках: за ними было шоссе, проходившее мимо аэропорта. И здесь, на окраине посадок, Николай увидел тоже засыпанный когда-то снегом и теперь проявленный оттепелью лыжный след. Начинался он здесь или кончался, сказать трудно, потому что он оказался не только одиноким, но еще и необычным: по бокам следа не было ямок от лыжных палок. Грошев остановился и прикинул то, что увидел. Получалось, что неизвестный лыжник подошел к посадке, оставил лыжи и каким-то пока непонятным способом запрыгал дальше. Теперь стало очевидным, от кого несмело, но с опаской уходил заяц: именно от этого прыгающего лыжника. Когда лыжник затаился, то затаился, залег под кустом и заяц. А почему затаился лыжник? Николай вернулся назад, еще раз осмотрел странные следы под ветвями и понял, что неизвестный лыжник остановился возле невзошедшего ряда посадок не случайно. По этому рядку-просеке отлично просматривалась тропка, и, значит, отсюда ему легче всего было стрелять в бок шагавшему по тропке Андрееву. Однако при этом неизвестный лыжник должен был отлично знать, что Андреев идет именно по этой тропке и именно в этот час. Больше того: чтобы не спутать его с кем-нибудь другим, убийца должен был отлично знать Андреева — его облик, его походку, его одежду именно в этот день. Ошибаться в таком случае противопоказано. «Значит, кто-то знакомый. Хорошо знакомый». Но ради чего и почему он стрелял? Раздумывая, Николай бродил по посадкам, натыкался на следы милиционеров, но они не интересовали его. Он смотрел, в основном, под деревца. Уже почти на выходе из посадок Грошев наткнулся снова на парные следы — они шли почти от того места, где неизвестный сходил с лыж, и по диагонали выходили к тропке, а потом возвращались обратно. Выходило, что, после того как убийца выстрелил, он еще и пошел проверить, действительно ли его выстрел достиг цели. — По-видимому, только за этим, — задумчиво, вслух протянул Грошев. — Ведь Андреев не был ограблен. Значит, только за этим. Но каким же хладнокровием, какой расчетливостью нужно обладать, чтобы убить человека, да еще подойти к нему и проверить, убит он или еще жив. Значит, неизвестным преследовалась какая-то очень важная цель, ради которой он мог так рисковать собой. Какая это цель? Желание убрать ненужного, опасного свидетеля? Думая обо всем этом, Николай присел над парным следом и осторожно, кончиками пальцев перчатки, как кисточкой, стал расчищать снег на дне следа. Он делал это медленно, излишне старательно, словно опасаясь, что найдет нечто такое, что доставит ему боль или горе. И он нашел то, что доставило ему боль и обиду. В одном из парных следов явственно обозначился отпечаток ступни. Ступни подшитого валенка. С каблучком. На минуту Николай растерянно и грустно молчал, но потом вспомнил, что хотя у Ряднова тоже были подшитые валенки с каблучком, сюда, в посадки, он попасть не мог. Для этого ему следовало обходить посадки, а следов на снегу больше нигде не имелось. И потом, если Ряднов убивал отсюда, из посадок, ему не имело смысла стрелять в доме, ходить по заячьему следу. Следовательно, какие бы мысли ни рождались, какие бы неясности ни всплывали — можно было установить главное: в посадках был третий. Теперь его нужно было найти и снять тяжкое обвинение с Ряднова или доказать, что Ряднов был в посадках. Грошев неторопливой, спорой походкой побрел прямо по целине, вдоль лыжных следов. Они провели его через редкий сосновый лес и пропали возле хорошо накатанной лыжни: по ней, в какой-то добрый, веселый день прошла славная компания. Снег вдоль всей лыжни пестрел бороздками и провалами от лыжных палок. Николай несколько минут рассматривал лыжню, по характеру палочных росчерков определил, куда шли лыжники, и решительно двинулся в сторону аэродрома. Как он и ожидал, хорошо накатанная лыжня вышла к соединяющему два шоссе зимнику, пересекла его и пропала в лесу. Темнело. Усталый Грошев постоял на зимнике и медленно пошел к шоссе. Попадались только встречные машины, а попутных так и не случалось. Грошев кое-как доплелся до шоссе, остановил грузовую машину и, сидя в кузове, смотрел на расстилающуюся сзади дорогу. С одной стороны посверкивала огоньками большая пригородная деревня, почти вплотную примыкающая к аэропорту; с другой, в треугольнике между шоссе и зимником, тускло светились огоньки маленького поселка дорожников — теперь там жил дорожный мастер и несколько семей рабочих.10
Ивонин внимательно выслушал Грошева, потер щеку так, словно хотел проверить, как удалось выбриться, и сразу решил: — Надо посмотреть на месте. На месте было все так же: осевшие следы и пьянящий загородный воздух. Петр Иванович устало и раздраженно щурился и, бродя по посадкам, горбился. Грошеву стало жалко своего наставника, и он сказал о том, что могло успокоить Ивонина: — Но ведь тогда вы просто не могли заметить следов. Они были покрыты пушистым снегом. — А, брось! — перебил его Ивонин. — Сказать «не мог» — ничего не сказать. Я должен был заметить. Это мне полагалось по штату. — Это еще не все — должен... — Как это понять? — нахмурился Ивонин. — Есть еще реальная возможность. — Ты хочешь сказать, что я не воспользовался этими возможностями? — Не в этом дело... Вы не могли разгадать следы, потому что снегопад лишил вас этой возможности. Мне ясно, что заяц испугался убийцы и сбежал от него под куст рядновского огорода. Потом, когда убийца выстрелил, заяц удрал. Снега выпало еще больше, и его следы стали резче. Их заметили и Ряднов, и вы. — Ты думаешь, что Ряднов не видел первой стежки следов? — Убежден: они начисто скрылись под снегом. Ивонин молчал, покусывая губы. Николай покосился на него и вздохнул: — Меня волнует другое: мог ли Ряднов видеть труп или нет? Проверим еще раз. Они подошли к тому месту, где когда-то топтался Ряднов, и долго смотрели на тропку. Выходило, что Ряднов, если бы прошел чуть дальше, наверняка увидел бы труп Андреева, а с этого места мог увидеть, а мог и не увидеть: труп ведь лежал в снегу, сбоку от тропки. — Понимаешь, что странно: следы валенок. В обоих случаях подшитые. Но если стрелял и прыгал Ряднов, то ему не было смысла подходить к тропке вторично, с другой стороны. Они помолчали. — Впрочем, все это только предположения... Ясно одно — заяц расписал нам преступление по часам и даже по минутам. — Точнее, не заяц, а оттепель. — Она дописала. Теперь опять нужны факты. Займемся фактами. — Петр Иванович, да не в этом дело... — Нет, именно в фактах. Только они помогут найти убийцу. А что мы имеем? Мы имеем странное стягивание нитей к аэропорту. Вот с него и начнем. Вопрос первый: зачем и к кому прилетел Андреев? — Он минутку подумал и уточнил: — И прилетел ли? Если прилетел, то когда. Для этого сделай запрос в аэропорт отправления — там есть копии полетных листов, а в нем записи фамилий пассажиров. Второе: исподволь, чтобы не спугнуть, узнай врагов Андреева, именно врагов — ведь факта ограбления не установлено. Для этого постарайся побывать в таксомоторном парке. Третье: у метеорологов точно узнай время начала снегопада. Пока они ехали в город, Ивонин надавал столько советов, что выполнить их было под силу целой бригаде следователей, — так, по крайней мере, казалось самому Грошеву. А ведь у него были еще занятия в институте... Грошев делал все, что ему посоветовал Ивонин: послал запросы, проверил дела об ограблениях, к которым мог быть причастен Андреев, побывал в таксомоторном парке. Однако вся эта большая и кропотливая работа приносила прямо-таки удивительные результаты. Из аэропорта города, где последнее время жил Андреев, доносили, что Андреевы действительно летали, но ни один из них не носил нужных инициалов — Р. Н. Больше того: случилось так, что за испрашиваемый период ни один из Андреевых, пользовавшихся услугами воздушного транспорта («Прямо по рекламе дуют», — усмехнулся Николай), не брал билета до города Н. Похоже, что Роберт Андреев не летал. В таксомоторном парке старые шоферы, конечно, помнили Роберта. Но отзывались о нем очень неопределенно: «Шофер добрый, но и штучка добрая». «Отчаянный и нечистый на руку». Но врагов его не знали. Разве только Свиридов — поначалу они дружили, а потом почему-то разругались. Старые дела принесли только имена осужденных преступников и туманные намеки на участие в делах какого-то молодого шофера. Грошев добросовестно перечитал все показания свидетелей, акт экспертизы и в одной из подшитых к делу справок обнаружил фамилию Свиридова. Оказалось, что в ночь ограбления сельмага его машина находилась на линии. Но подозрений он не вызывал и даже не допрашивался. Если бы хоть одна из избранных Ивониным дорожек привела... да что там привела, просто бы приблизила к цели, Николай, может быть, по-другому повел дело. Но неудачи разозлили его. А разозлившись, он взял себя в руки и подумал: «Спокойно! А что бы я сделал, будь по-прежнему разведчиком?» Наблюдение в разведке ведется по строго продуманной системе — от ближних предметов к дальним и обязательно зигзагообразно. Это нужно для того, чтобы пока ты интересуешься дальним противником, ближний не всадил тебе пулю в лоб. И еще для того, чтобы глаз как бы автоматически проверял уже раз обследованный участок. — А я что делаю? Как раз наоборот: рядом еще всего не осмотрел, а лезу бог знает куда. Ну ладно, следователь из меня пока что липовый, но ведь разведчик-то я все-таки не такой уж плохой! Используем этот опыт. И прежде всего он, как когда-то в армии, решил установить сектор наблюдения, чтобы не спутаться, не распыляться, а действовать методически и спокойно. «Возьмем легенду Свиридова. Мог он убить Андреева? Что за это? Его еще неизвестно чем вызванная ненависть к бывшему дружку, его подозрительное, нечистоплотное поведение? Вот все, чем я располагаю. Проверим это». От кого Грошев мог узнать о Свиридове нечто новое, и так, чтобы его не вспугнуть? Конечно, от Анны Ивановны и той самой Зинки, которую Николай еще не видел. Но для того, чтобы поставить Свиридова под серьезное подозрение, прежде всего следовало точно узнать, где он был в тот день, что он делал. Второе: то же самое нужно попытаться узнать об Андрееве. До сих пор ни у кого не вызывало сомнения, что он шел к Анне Ивановне. Но ее показаниям не верить трудно. К кому он шел? Прилетев, по привычке пошагал в знакомый поселок? Возможно... Больше того: очень может быть, что именно в поселке у него есть те самые друзья, у которых он останавливался. Сектор наблюдения определился.* * *
Явившись в бухгалтерию столовой как работник автоинспекции, Грошев просмотрел путевые листы и сразу же установил, что Свиридов и в день убийства, и накануне, и после него вовремя являлся на работу и ездил по городу. Однако в день убийства в путевом листе была подозрительная запись: «Поездка на ремонт 9.00-11.15». Беседа в местном Обществе охотников дала новую ниточку: Свиридов действительно имел охотничье ружье двадцатого калибра. Но как проверить, пользовался он им или не пользовался? Грошев сразу же попросил того самого охотника, что стрелял по чучелу во время следственного эксперимента, помочь ему. Пожилой, обстоятельный Яснов согласился, и они пошли на квартиру Свиридова. Он жил с матерью-пенсионеркой и сестренкой — работницей текстильной фабрики. Двухкомнатная стандартная квартира: телевизор в углу, сервант, стол, тахта, над которой на коврике висело ружье, а под ним — патронташ. Ничего лишнего, и никаких примет нехваток. — Что вам? — сердито спросила сестра Свиридова. — Перерегистрация оружия, — как было договорено, сказал Яснов. — Вызывали мы его владельца, а он не являлся. Пришлось самим тащиться. Вот припаяем штраф, будете знать. Яснов сел за стол и, раскрыв папку, вынул нарочно прихваченную «бухгалтерию» и медленно стал разбираться в ней. — Та-ак... Санин... Сарнов... Свиридов! Та-ак! «Ижевка-20». — Это ж за что на нас штраф? — робко спросила старушка. — У них других слов нету — только штраф да штраф! — резко бросила девушка. — Штраф за то, что не явился на перерегистрацию. И взносов не платит. — Когда ему являться-то? Всё на работе, всё на работе... — Ладно, мама, что ты объясняешь?! — Так я же правду говорю. — Та-ак. Хорошо... А много ли дичи приносит ваш охотник? Может, ему и вправду не за что взносы платить? — Да какая там дичь! Какая уж там дичь! Сходит, пол-литра выпьют, постреляют в шапку и обратно. Охотнички! Хорошая еще была шапка — расстреляли. — Когда ж это с ним произошло? Такая прискорбная история! Зимой уже? — спросил Яснов и, поднявшись, прошел к тахте. — Разрешите посмотреть? — Смотрите, смотрите... Да нет, не зимой. Это осенью еще было. Поздней осенью. Ходили они тут, в аккурат еще Робка приезжал. — Старушка обернулась к дочери и взглядом попросила у нее подтверждения своих слов. — Мама! — крикнула девушка. — Кто тебя тянет за язык? — Так люди же спрашивают. — Люди свое дело делают. А ты им мешаешь. Яснов переломил двустволку и посмотрел ствол на свет. — А зимой он разве не охотится? — спросил Николай. — Редко. — Что так? На лыжах ходить не умеет? — Зачем? На лыжах он хорошо ходит, да только зимой день маленький — не управляется. — Грязновата... — отметил Яснов. — Не умеет обращаться с оружием. — Да полно, что вы! — испугалась старушка. — Он вот недавно ее чистил, винтовку-то свою. — Не видно что-то... Придется замечание делать. — Нет, верно, верно, — вмешалась девушка. — Оно у него все в кладовке хранилось, а когда мы купили ковер к тахте, он его вынул, вычистил и повесил. «Красивее, говорит, будет». Она, словно подтверждая свои слова, открыла кладовку, и Грошев заглянул в нее: лыж там не было. — Красивей-то красивей, а вот чистить нужно своевременно. А он, поди, месяца два не чистил. — Да что вы, когда мы коврик купили... Дочь с матерью поспорили, пока не установили, что ружье свое Свиридов чистил месяц или месяц с небольшим тому назад. — Это, конечно, терпимо, пусть поглядывает, а то и в шапку не попадет. Сделав отметки в карточке, Яснов стал завязывать папку. Молчавший до этой минуты Грошев недовольно сказал: — Копаемся мы... Так до вечера всех не обойдешь... Они попрощались и вышли. На улице Николай спросил: — Это действительно точно... по характеру смазки, что Свиридов чистил ружье месяц с лишним назад? — Ну, совершенно точно этого сказать нельзя. Но приблизительно именно в это время. — А как вы это определили? — Понимаете, в металле есть мельчайшие поры. Если почистить оружие сразу после выстрела, то через несколько дней поры в металле обязательно выделяют мельчайшие крошки пороховой копоти — сыпи, как мы называем. В данном случае на оружии есть слабые следы сыпи. Такая слабая сыпь могла появиться в двух случаях: если оружие было начищено сразу после выстрела и потом вычищено вторично или если оружие просто давно не чистилось, вот, например, как в данном случае. Грошев кивнул: убийство Андреева произошло как раз месяц с небольшим тому назад. И оружие правильно выделило сыпь. Очень правильно.11
Ивонин получил новое задание, часто выезжал, и Николаю не с кем было посоветоваться, да он и не очень стремился к этому. Ему казалось, что теперь он действительно на верном пути, и стоит только как следует поработать, не допустить ошибки, как все станет ясным и понятным. Истина будет восстановлена, Ряднов освобожден, и настоящий преступник получит по заслугам. В том, что Свиридов мог совершить преступление, он почти не сомневался. Но если даже он сумеет вывернуться, доказать свою невиновность (при этом Николай как-то упускал из виду, что не подозреваемый обязан доказывать свою невиновность, а следователь по закону должен обосновать и доказать его вину), это пойдет на пользу дела. У него будут развязаны руки, а из-под подозрения выйдет еще один человек. Словом, все получалось так, как в научных исследованиях: даже неудачный опыт бывает полезен. Он показывает, что исследования идут не по тому пути. И все-таки, как ни неопытен был еще Грошев, как ни наивен, время работы в милиции, армейская закалка да и приемы, которые он усвоил у Ивонина, позволили ему быть осторожным. Он не вызвал Свиридова, а сам рано утром приехал к нему в гараж, дождался Свиридова и, предъявив удостоверение, принялся за осмотр машины. Придраться к техническому состоянию любого автомобиля, да еще опытному человеку, можно всегда, особенно зимой. А Николай понимал толк в технике и как комбайнер, и как водитель транспортных и боевых машин в армии. И Николай придрался к люфту рулевого управления и, главное, к плохо отрегулированным тормозам. И тут случилось то, на что и рассчитывал Николай. Свиридов возмутился, как возмутился бы каждый шофер, любящий свою профессию. Он начисто отрицал и люфт, и плохую регулировку тормозов. — Молод ты еще, понимаешь! — возмутился он. — Я пятнадцать лет езжу... — Ну, положим, не пятнадцать... — Все равно — побольше, чем ты. Мне, понимаешь, на работу... — Ваша работа — на дороге. А сейчас гололед. Знаете, что было вчера? — Да что б там ни было... — Вчера вот такой, как вы, шофер сбил мальчишку — тормоза у него, видишь ли, отказали. Теперь сидит. — Ты мне на мозги не капай. Я тоже знаю, что к чему. — Ну, вот что, Свиридов, мне с тобой спорить некогда. Не веришь мне, поедем в милицию. Скажет начальник, что машина у тебя технически исправна, — пусть сам и отвечает. — Самому нужно думать! — Ты вчера юзом ездил? Свиридов осторожно прикинул в уме вчерашнее — Ну и что? — А вот то, что засекли тебя. Понял? Так вот, решай: или становись на профилактику, а я завтра приеду, проверю, или едем сейчас со мной. — Николай вдруг задумался и поправился: — Нет, завтра я не приеду. Послезавтра ты сам приедешь и все объяснишь. Вот этого Свиридов допустить не мог. В столовой и ее филиале была всего одна его машина. И если он не выедет два дня, будет полный срыв работы. Директор поймет, что в этом виноват Свиридов, и впредь ни за что не простит его маленькие, но выгодные «левые» ездки и комбинации с запчастями. И Свиридов согласился. — Ладно, только заедем, я скажу директору. — Зачем? Оттуда и позвоним... — У нас телефона нет. Только в диспетчерской да у начальства. Пришлось ехать на аэродром. Николай искоса наблюдал за Свиридовым, но ни излишней тревоги, ни страха не заметил. Вел машину он внимательно, профессионально, смело и в то же время осторожно, лишь искоса поглядывая на Грошева. Уже на выезде из города он победно посмотрел на Николая и спросил: — Ну что? Держат тормоза или не держат? — А я не говорил, что они совсем не держат. Но ход педали длинный, значит, не сразу схватывают. Да и колодки, видно, подносились. — Так это при гололеде еще лучше. Не сразу схватывает, значит, не занесет. — Теория... — покривился Николай, и возмущенный Свиридов замолк. Над шоссе, проревев моторами и хищно нацелившись в землю выпущенными колесами, заходил на посадку пассажирский лайнер. — Из Адлера прилетел. Курортники притопали. Когда подъехали к зданию аэропорта, из дверей уже выходили первые пассажиры и растерянно оглядывались — ни такси, ни автобусов не было. Свиридов с горечью посмотрел на пассажиров, и Грошев понял его. В это время он обязательно подцепил бы пару-тройку пассажиров и отвез бы в город: и по пути и «калым». — Ну, пошли, что ли, — буркнул Свиридов. — А зачем мне идти? Показать, что за тобой милиция приезжала? Чтоб трепались? Свиридов пристально посмотрел на него и благодарно улыбнулся. — Добро. Я сейчас. Он убежал, и к машине стали подходить пассажиры, упрашивая подбросить до города. Николай пожимал плечами. — Сам пассажир. Ожидаю шофера. Потом подошел автобус, и пассажиры рванулись к нему. Площадь перед аэропортом опустела. Через несколько минут после отхода автобуса из дверей показались летчики, во франтоватых синих пальто, в синих форменных фуражках набекрень — крепкие, моложавые ребята. Один из них — ладный, невысоконький, единственный из всех в рыжих унтах — подошел к Грошеву, дернулся, увидев милиционера, но сейчас же улыбнулся: — Может, и нас захватите? До города... — Сам пассажир — жду шофера. Если он возьмет — пожалуйста. Мне-то что. Летчик потоптался, обошел машину спереди и обрадованно крикнул: — Это Стаськина машина. Может, подвезет... — Всех не возьмет. Подождем автобуса. Летчики возвратились в здание аэропорта. Тот, кто стоял рядом с машиной, еще раз посмотрел на Грошева, пристально и изучающе, потом доброжелательно улыбнулся и тоже пошел к двери. Походка у него была легкая, спортивная, форменное пальто сидело как влитое, и даже унты подчеркивали его особый, летный шик. «Хорошие ребята... Дружный, должно быть, экипаж...» — подумал Николай и вдруг увидел Анну Ивановну Ряднову. Она медленно шла от пакгауза, в котором размещались камера хранения и склады грузов. Рядом с ней, заглядывая ей в лицо, крупно шагала полная, закутанная в платки женщина в полушубке. Грошев отодвинулся, так чтобы Ряднова даже случайно не могла его заметить: пока что эта встреча была ни к чему. Прибежал Свиридов и, уже усаживаясь на свое место, увидел Ряднову и крикнул: — Ань! Слышь! Я тут на пару часиков отлучусь, иди к директору. Он тебя ждет. Они проехали в центр города. Свиридов уверенно ехал в городскую ГАИ, но Грошев вдруг приказал ему ехать в другое место. — Это еще зачем? — возмутился было Свиридов. — Так надо! — жестко обрезал Николай и демонстративно передвинул пистолетную кобуру, Во дворе Николай спросил: — У вас ведро есть? — А... зачем оно? — Разговор будет долгим — спустите воду, чтобы не заморозить машину. Свиридов усмехнулся: — Ни черта ей не сделается — оттепель. В кабинете Ивонина они рядком повесили на вешалке шинель и пальто и чинно уселись за стол друг против друга. Окончив формальности, Николай задал первый вопрос: — Как давно вы знали Роберта Андреева? — Та-ак... — облизнул губы Свиридов. — Темнить начинаете. Ладно. Но мы по-честному. С Андреевым я знаком еще с шоферской школы, потом работали вместе, дружили. — Почему перешли из таксомоторного парка, и кто вас порекомендовал в аэропорт? — Надоело мотаться и, главное, быть на побегушках. А тут и калымнуть можно не хуже, чем на такси, и, главное, возле продуктов — всегда достанешь то, чего и в магазинах не найдешь. Летчиков сами знаете как снабжают. — А кто вас рекомендовал? — Робка с одним своим дружком. Тут у нас летает один. Радистом. Он и нашел это место. Предложил Робке, а тот мне. — Ясно. А почему вы поссорились с Андреевым? — Да так... Личное, — потупился Свиридов. — А точнее? — Ну, личное, и все. — Странно. Дружили, помогали друг другу; когда он прилетал в наш город, останавливался у вас и вдруг — поссорились? Почему? — Это очень важно? — Очень. — Тогда по-честному, только чтобы другие не знали. К сестренке он начал приставать, она и пожаловалась мне. Вот я его и выгнал, подонка такого. — А к кому он приезжал? К Зине или Анне Ивановне? — Знаете уже? — Мы многое знаем. — Тогда так. Робка был парень умный, никогда ничего прямо не говорил, все шуточками отделывался. Прямо он ни об одной не говорил, но намекал, что с соседкой встречается. И также намекал, что и с Зинкой тоже. Но та — дура, она ему не подходила. — Это ж почему дура? — Да такая она, знаете... будто недоваренная. Неинтересная, без огонька. Прока от нее не было, а Робка, он всегда выгоду искал. У него хватка братанина — мертвая. — Вот, кстати, действительно ли старший брат Андреевых воровал кирпич со стройки и продавал его частникам? — А кто его там не воровал? Только кому лень было или совесть очень правильная. Я ж там жил и знаю: все воровали. — Вы ведь не воровали? — А мне зачем? Я не жадный. Мне домов не нужно. — Понятно. А где вы обычно ремонтируетесь? — Как — где? В гараже. — И на лыжах вы ходите? — Хожу... Так это вы у меня на квартире оружие проверяли? — вдруг спросил Свиридов. — Я. — Ах, вот оно что... — Свиридов стал медленно приподниматься. — Ах, вот что вы мне шьете! Только загодя говорю — ничего не выйдет. — Какой сообразительный! Так как, сам скажешь или будем тянуть резину? — Говорить мне нечего. Понял? Робку я не убивал. Не дурак, да и не за что. — Допустим, — собираясь с мыслями, тянул Николай. — Допустим. До этого мы дойдем. Ведь, как вы сами знаете, главное — факты. Так вот, факты. Николай нещадно ругал себя: упустил, бездарно упустил! И даже не посоветовался ни с кем. А он теперь все продумал, все предусмотрел. Но делать было уже нечего. И он на ходу менял план допроса. — Какие вам факты? — ершился Свиридов. — А вот какие: зачем и к кому приезжал Андреев? — Не знаю. Я сказал — он скрытный. Мне и самому странным казалось: приедет на день, на два и сматывается. — Если на день, на два, так когда же он успел приставать к вашей сестре? — А он привык нахрапом действовать. Да и знал ее давно. — И еще такой вопрос: зачем вы провоцировали драку с Рядновым? — Робка просил. — Зачем? — Говорил, что из-за Ряднова им приходится дом продавать и сматываться. — И вы согласились? — Тогда ж мы дружили, а я для товарища могу на все пойти. Такой характер. — И лыжи вы товарищу отдали? С палками или без палок? — Я сказал — не шейте! — Слушай, Свиридов, перестань играть! Отвечай на вопросы и сядь. Дело серьезное. Очень серьезное. И пока я правды не выясню, я тебя не отпущу! — Может, вы год будете выяснять? — Вот год и будешь сидеть. Они встретились взглядами, и Свиридов, поняв, что работник милиции не шутит, отвел глаза. — Добро. Посидим, посмотрим. Так вот, лыжи я отдал не товарищу, а одной девчонке. — Кто она, где живет? В каких отношениях вы с ней находитесь? — зачастил Грошев. — Она дорожный техник. Зовут Людмилой Зориной, живет недалеко от аэродрома, там поселочек есть такой. Отношений у нас с ней особых не было — редко встречались. — А почему же вы отдали лыжи малознакомой девушке? — А вот так... Мы с ней раньше на трассе все перешучивались — она девка языкастая. А потом как-то в прошлом году, уже перед весной, я ходил на лыжах; вышел к ихнему хутору, она мне и встреться. Ну, слово за слово, поговорили, она домой воротилась. У них пол-литра нашлось, мы с ее отцом выпили. А я устал. Как подумал, что опять на лыжах тащиться — я уже на новой квартире жил, — взял и попросил: пусть постоят, а я за ними заеду. Но не заехал. Там весна, то, се... Вот так. — Проверим. С палками вы их оставили или без палок? — Ясно, с палками! Какой же дурак без палок ходит? Это ж не слалом. — Какие были палки? — Обыкновенные. Алюминиевые. — А стреляли вы когда из своего ружья? — Вам мать сказала — осенью. Больше не стрелял. — И, предупреждая вопрос Николая, раздраженно, но уже устало пояснил: — Мне вообще охотиться надоело — никакого проку. Думал продать ружье, да все времени не было. И еще: мать точно сказала, когда я чистил ружье — за неделю до убийства Робки. Это вы можете проверить по товарному чеку на ковер. После того как в Южном следователи напугали всех, я тоже стал чеки хранить. Вот и пригодились. — Так. Где вы ремонтировались в день убийства? — А я не ремонтировался. Я калымил, — откровенно насмешливо сказал Свиридов. — То есть как — калымил? — А так. Сказал Аньке, что на ремонт нужно, дескать, мороз хватает, будет гололед, а сам поехал к магазину. — Движением руки он не дал Грошеву перебить себя. — Когда мы на мясокомбинат ехали, я засек: из военторга выносят телевизоры. Все культмаги открываются в одиннадцать, а военторг — в девять. Значит, таксишников нет — они на вокзале в такой час дальних пассажиров выуживают, чтобы план одной ходкой сделать. Вот я и мотанул к магазину. Верно — нарасхват. Три ходки сделал. — Он полез в карман пиджака и достал бумажку. — Вот адрес каждого, кого возил. Я их уже объездил и предупредил, что об этом случае могут спросить, так вот, пусть не врут. Но, думаю, врать им не для чего. Итак, версия лопнула окончательно. А какая она была стройная! Мстя за обиженную сестру, Свиридов, узнав, что прилетел Андреев, отвез Ряднова к мясокомбинату, потом уехал на зимник, встал на лыжи, прошел к известной ему тропке, убил Андреева и тем же ходом вернулся на место. Очень все точно, ясно и понятно. Как говорится, хоть пиши с него роман! Издеваясь над собой, Николай не сомневался в полном алиби Свиридова и уже не огорчался: может быть, даже хорошо, что он спугнул Свиридова, дал ему время и возможность подготовиться к защите — не потребуется лишних усилий на распутывание. Конечно, показания Свиридова он проверит, но и без проверки видно, что парень этот жох, и на руку... ну не то чтобы не чист, но и не слишком чистоплотен. Впрочем, за использование машины в личных, корыстных целях дело Свиридова можно передать в товарищеский суд. Но это потом. — Скажи мне по совести, Свиридов, почему ты сразу догадался, что тебе шьют дело? — А чего ж тут хитрого! Когда я узнал, что убили Робку, Липконос сразу сказал: наверняка Ряднов. И Лешка так считал. А я не верил. Я ж немного знал Ряднова, не такой он человек. Он... самостоятельный. И я подумал, что пусть его и посадили, все равно кто-то да заинтересуется, сумеет дойти до корня. А раз так, кого потянут? Меня? Потому что я ему другом был. — Кому — другом? — Ну Робке. А что Ряднова я... стукнул. Так это просто дурак был. Верил Робке. А теперь сам понимаю, что если человек просит, чтобы за него другие морду били, значит, он и есть подлец. Ряднов вон не себя защищал, а товарищей — те пьянее его были. Вот я и не поверю, что он убил. Разве только случайно... Они молчали, и Грошев услышал шаги за дверью. Потом шаги удалились: видно, кто-то подходил к кабинету, но не решился войти. — Скажи мне, а как ты, именно ты, думаешь: кто мог убить Андреева? Кому выгодна его смерть? — Понимаешь, я честно скажу: как ни думал, как ни прикидывал — не знаю. Ведь только в двух случаях можно сделать такое, я так понимаю: если ты ненавидишь человека до конца, потому что в его руках твоя жизнь, и либо ты его, либо он тебя. А второе: просто подонок попался — ему абы убивать, бывают такие. Но ведь Робку даже не ограбили! Верно? — Верно. — Так что я теряюсь. Терялся и Грошев. Поговорили еще, прикинули, кому выгодна смерть Андреева, и на прощание Николай попросил Свиридова никому не рассказывать об их беседе. — Мне это самому ни к чему, — пожал плечами Свиридов. Вставая, спросил: — Так я могу быть свободен? — Да. Только прошу тебя: подумай, присмотрись, может быть, что-нибудь интересное надумаешь пли вспомнишь. Ведь жалко будет, если человек сидит зазря. — Добро. Подумаю. Он ушел, а Грошев остался за столом — он страшно устал. Так устал, что даже вспотел. Перечитывая листки протокола, он поймал себя на том, что плохо осмысливает написанное. «Да-а... Работка».* * *
В дверь робко постучали, и после того как Николай крикнул: «Да-да», в комнату вошла молодая, в модном пальто и в такой же, как воротник, мохнатой шапке из чернобурки, красивая женщина. Она медленно и нерешительно подошла к столу, и Николай понял, что он как будто видел где-то эту женщину с подведенными стрелками в уголках глаз, с неестественно бледной помадой на губах. Но где и когда, решительно припомнить не мог. — Вы ко мне? — Да. Вы меня не узнаете? — Нет... — Я же Петрова! Лариса Федоровна Петрова. Крановщица. Помните? — А-а... — совсем растерялся Николай. Никогда он не мог подумать, что та неуклюжая, хоть и миловидная девушка в брезентовой робе поверх стеганки, в платке, с обветренным лицом и вот эта смуглая, модно одетая, просто красивая женщина — одна и та же Лариса Федоровна. — Я к вам вот по какому делу... Все думаю, думаю и вот что вспомнила. Может быть, это и не важно, но... А может быть, и важно. Судите сами. — Вы садитесь, садитесь. Она села, потрогала свою огромную мохнатую шапку на густых и, видимо, крупно уложенных темных волосах: локоны выбивались возле ушей. — Я вспомнила, что в день убийства Андрей Яковлевич уехал с работы не в три часа, как все, а часов в двенадцать. Сразу после обеда. — Это вы точно знаете? — Точно. В обеденный перерыв мы разговаривали с ним, я взяла билеты в кино на вечер, на себя и на него, и сказала ему об этом. Он хмуро посмотрел на меня и грубовато — он всегда последнее время был грубоват — сказал: «Знаешь, Ларка, ни к чему это. Ты человек хороший, ты себе и помоложе найдешь, а я сейчас еще ничего не знаю. Потому честно тебе говорю — не надо». Мне не то что обидно стало, а грустно. Я же к нему с открытой душой — жалко мне его, а он вот так. Я сразу пошла на кран, залезла в кабину, включила отопление и сижу надувшись. А мне далеко видно. Вижу, что Андрей Яковлевич вышел из столовой, огляделся и прямиком к автобусной остановке. Тут как раз автобус остановился. Он побежал и успел сесть. — В какое это время произошло? — Я же сказала: сразу послеобеденного перерыва. После двенадцати. И тут глазное вот что: на той остановке останавливаются только два автобуса — аэропортовский и тот, что ходит до загородного дома отдыха. Знаете? — Знаю... — вздохнул Грошев: ему вдруг очень захотелось, чтобы она прекратила этот разговор. Он очень устал. Нервы не выдерживают таких ударов. Но он должен был слушать и слушал. — Ну вот я и подумала: если убийство произошло точно в четыре часа, тогда Ряднов мог быть виноват, я в этом по-прежнему не уверена. А если раньше? Вы понимаете: если раньше? — Она подалась вперед и уставилась на Николая огромными темными глазами. Щеки у нее порозовели, и ноздри тонкого носа вздрагивали. — Н-не совсем. — А это значит, что Андрея там просто не было. Он мог быть где-то в другом месте. Понимаете? Это же полное... как его... — Алиби? — Ну да, полное алиби. Доказательство, что он не мог совершить преступления потому, что его там не было. Так это называется? — Приблизительно так... — хмуро сказал Грошев и достал листки протокола. — Давайте зафиксируем наш разговор. Может быть, пригодится. — С удовольствием. — Лариса Федоровна подвинулась ближе. — Если я смогу хоть чем-нибудь помочь Ряднову, я буду очень рада. Заполняя общие данные. Николай механически отметил, что Петрова на три года младше его и на пятнадцать младше Ряднова. Отдав протокол на подпись, он хмуро спросил: — А почему вы не на работе? — У нас сессия. Я, видите ли, учусь в заочном педагогическом. И вот зимняя сессия. Когда Петрова ушла, Грошев долго стоял у окна и думал. Вот теперь, кажется, все становится на свои места. Опытный таежник, отличный стрелок, прекрасно знающий Андреева, Ряднов заранее прикинул, где и когда будет проходить Роберт, — откуда он знал о его приезде, это еще нужно уточнить, — ушел с работы, благо раствора все равно не было, и никто его не хватился, доехал на автобусе до кого-то из своих друзей-охотников, взял ружье и стал в засаду. Стал так, как может стать только опытный охотник, умеющий не только читать чужие следы, но и скрывать свои. Сделав свое черное дело, возвратился, отдал ружье и лыжи и успел домой. По расчету времени, все это могло произойти: ведь недаром Николай проделал такой же путь. Он горько усмехнулся. Верь после этого людям! И эта... Помогла, называется... В кино ему билеты брала! Он собрал документы, оделся и решил: нужно хоть немного отдохнуть, а потом придумать, что делать дальше. Шагая по главной улице мимо кинотеатра, он опять вспомнил Петрову, повернул назад и взял билет в кино. Перед фильмом он слушал оркестр и вдруг поймал себя на том, что ничего не слышит, а думает об одном: как же все-таки прыгал Ряднов через рядки сосенок? Ведь он большой, грузный человек! В зрительном зале он тоже думал и над этим, и над тем, как удалось Ряднову создать такое хорошее о себе впечатление не только у него, но даже у Ивонина и у очень многих опытных следственных работников. Перед фильмом шел старый журнал «Советский спорт», и с первых его кадров, как когда-то в посадках, мозг отметил какую-то важную деталь. Тревога, как и тогда, овладела Грошевым, и он старался понять, что же отметил мозг. На экране неслись бегуны; вратарь промахнулся, и мяч оказался в воротах; баскетболисты резко, стремительно взлетали к корзинке. И тут Грошев понял то, что отметил мозг. Он отметил первые, вводные кадры-заставки. Спортсмен с шестом в руках разбегается и взлетает над палкой. Ряднов действовал точно так же. Вместо палки у него был шест, и он, опираясь на него, отталкивался от сосенок и перелетал через рядок, сверху приземляясь у подножия деревца. Вот почему на снежной целине не было следов.12
Ивонин возвратился из командировки усталым и, как про себя определил Николай, «лирическим». Движения у него стали замедленными, отвечал он не сразу, задумчиво и необычно мягко. Он выслушал Грошева и долго, старательно вздыхал. — Ну что ж... Все правильно. Лишнее подтверждение виновности Ряднова как будто бы налицо. Можно почти с уверенностью сказать, что он не бедолага, а опасный преступник. Может быть, даже психически неуравновешенная личность. Очень хорошо и другое: полностью отпали подозрения в отношении Свиридова. Хотя в связи с этим я должен заметить, что тут тебе только повезло. — Почему? — Ведь, в сущности, ты допрашивал его по наитию. А это никуда не годится. У тебя, как в зарубежных романах, взыграли частные, что ли, чувства справедливости? Этакая личная доброта. А что было бы, если бы Свиридов и в самом деле был замешан в убийстве, а ты его предупредил? И тебе не кажется, что его предусмотрительность слишком уж... проницательная. Наконец, допрашивая, ты даже не взял на заметку — хотя бы на заметку — некоторых новых и очень важных персонажей. — Не понимаю, Петр Иванович. — Вот то-то и беда. Мы так мало знаем об Андрееве, а ты узнаешь, что был у него дружок летчик или что-то в этом роде, и даже не записываешь его фамилии. А он, оказывается, очень и очень нам нужен. Подожди, не перебивай. Тебя просто захватила атмосфера сыска. Понимаешь: не сбора фактов, не их анализа, а сыска. Есть версия — немедленно нужно ее подтвердить. Словом, метод Шерлока Холмса: мгновенное подтверждение. А наш с тобой опыт расследования этого преступления уже показал, что мы, мягко говоря, отнюдь не Холмсы, а рядовые следователи. Поэтому давай-ка мы и работать впредь по всем правилам науки. — Петр Иванович, ведь вас же не было, — обиженно протянул Николай, но Ивонин перебил: — Давай-ка без сантиментов, Коля. Давай смотреть на вещи трезво. Прежде всего, ты учишься. Ну что ж, в ошибках тоже наука. Второе: век живи, век учись. Как ты можешь заметить, эта истина относится больше всего ко мне. Третье. Недаром основным, ленинским принципом нашей работы является обязательное, неизбежное и окончательное раскрытие всякого преступления. Понимаешь: всякого. Каждый преступник всегда, везде и при любых обстоятельствах должен знать, что за совершенное преступление рано или поздно его постигнет вполне им заслуженная кара. В свое время я забыл об этом, положил дело на полку, а вот теперь оно мне мстит. — Все это правильно... Только... — Помолчи! — раздраженно махнул рукой Ивонин. — Лучше слушай. Будучи в командировке, я сделал крюк и заехал к одному из тех, кто отбывает срок за участие в ограблении сельмага. Тогда он был подростком, может быть, чуть романтиком... Да, к сожалению, есть и такая разновидность романтиков, когда в преступлении люди, особенно подростки, видят подвиг, возможность утвердить свою кажущуюся необычность, смелость и все такое прочее. Так вот, этот самый Эдик как раз из таких. Считал, что в наши дни по-настоящему смелыми и решительными людьми могут быть лишь бандиты. Ну-с, посидел он рядом с ними, разобрал, что к чему, и понял: нет никакой романтики, а есть лишь преступники — подлые и грязные люди. А у таких «романтиков» есть одна забавная черта. На допросах, «в деле» они бывают даже смелее, чем профессионалы. А вот как только рушится их выдумка, их представления, они теряются и бросаются в другую крайность. Так вот и этот. Жизнь для него кончена, все кругом подлецы, а он один хороший. А что сделал плохо, так он в этом не виноват — его подвели... Ну, и все такое прочее. Сейчас он очень не любит людей. Очень! И особенно своих бывших сообщников. Заметь, тех самых, кого когда-то боготворил. Ну-с, так вот, вышеозначенный Эдик официально показал, что во всех трех ограблениях принимал участие Роберт Андреев. Больше того: Эдик считает его главарем шайки. Это он разъезжал по районам, выбирал объекты, он подвозил и вывозил преступников. Андреев хранил и награбленное. Сделать это было не так трудно. Ведь из дела ты мог заметить, что грабители брали в основном дорогие вещи — часы, дорогой материал, и все такое... Эдик точно помнит, что когда официальный главарь шайки — Косой — допытывался у Роберта, кто, где и как прячет награбленное, Роберт смеялся: «Неужели ты думаешь, что я так глуп, чтобы прятать барахло дома: у меня брат с семьей. Есть у меня соседи — к ним не придерешься». Тогда они хохотали — ловко работает Робка. Но Эдик показал и еще нечто. Вернее, не показал, а предположил, что краденое сбывал Робкин дружок — летчик или что-то вроде этого. Словом, летающий. Он отвозил все это барахло, а обратно привозил деньги. Вот почему, в частности, трудно было обнаружить эту банду. Ивонин закурил и прошелся по кабинету. — Словом, была цепочка. Андреев передавал награбленное... Ну, условно назовем его «летчику»; тот отвозил куда-то дальше, а там была своя цепочка. И коль скоро это так, возможен и другой вариант. Бандиты ни на следствии, ни на суде не открывали имен: не знаем, кто возил, и точка. Нанимали, а кого — не знаем. Номера машин записывать не в наших интересах. Кому сбывали? А разным людям. Кому придется. Делали они это неспроста, а в надежде, что, будучи в заключении, они получат помощь от Андреева и других сообщников. Эдик тем особенно и возмущен, что никто ему ни в чем не помогал. Даже посылки и то не прислали. Мать шлет. Сестра шлет. А друзья, сообщники, забыли. Кстати, это тоже довольно показательно: подонки всегда остаются подонками. Так вот, смерть Андреева могла быть и актом мести со стороны сообщников. Могла быть... Но ведь могла и не быть, — снова задумчиво протянул Ивонин. — Ты как думаешь? — Трудно сказать... Ясно, что убить его мог только тот, кто хорошо знал его облик, походку, кто точно знал его маршрут, к кому и в какое время он идет. Андреев не был ограблен, хотя я установил... почти установил, что убийца удостоверялся в его смерти. Так что и у этой версии есть основания. Все не так просто. — Может быть. Ты замечаешь, я уже не говорю «да», «нет», а только «может быть»? Теперь примем на веру показания Эдика и согласимся, что Андреев прятал награбленное у соседей. Тогда кое-что можно понять в поведении Анны Ивановны. Точнее, понять по-иному. И, в частности, почему она ссорилась с мужем, почему ушла от него, — требовалась новая квартира, надежная. — Но тут есть... — Правильно. Есть, — поморщился Ивонин. — Но ты не перебивай. Не нарушай логического хода мысли. А если все вывернуть обратно, наизнанку? А вдруг это была не соседка, а сосед? Представляешь, прятал награбленное Андреевым сам Ряднов? Когда бандиты попались, что ему оставалось делать? Заметать следы. Ведь раньше он видел, что братья Андреевы живут нечестно, — молчал. А потом сразу возненавидел и демонстративно отказался от них. Отказался так, что и мы, следователи, узнали, и жена узнала, а через нее другие — семейная же драма. На такое дело бабьи языки ох как охочи! Не то что соседи или сослуживцы, а даже мы с тобой, и наше начальство — все поверили, что с Андреевым Ряднов не ладил. Ты понимаешь, какое твердое алиби на этот случай он себе заготовил? — А чего ж Андреев врал об Анне Ивановне? — с поразившей его самого неприязнью спросил Николай. — И тут может быть просто. Андреев сознательно отводил возможные подозрения, прикрывался Рядновой, путал. Ведь все, что мы знаем о нем, — все сводится к одному: хитрый, отчаянный, увертливый. Не брезговал ничем. Версия, как по-твоему? — Версия, — вынужден был согласиться Грошев. — Теперь пойдем дальше. Андреев приезжал в город не раз. Возможно, даже к Ряднову, а Ряднову ни к чему были эти визиты. И вот когда Андреев очередной раз известил его о своем приезде, он решил раз и навсегда разделаться с Андреевым. Возможен такой вариант? Грошев молчал. Все выстраивалось в новую и совершенно необычную цепочку событий, которая начисто убивала то, ради чего он занялся этим делом. И это было так трудно и так грустно, что Николай промолчал. — Понимаю, — все так же задумчиво усмехнулся Ивонин. — Трудно расставаться с верой в хороших людей. Очень трудно. Но есть еще одно обстоятельство. Когда я возвращался домой, я, естественно, все время думал об этом деле и прямо с вокзала поехал не домой, а к Рядновой и поговорил с ней. Так вот, читай запись того разговора. Ивонин передал Грошеву серые листки протокола, а сам отошел к окну. Цепочка дополнялась новыми звеньями. В тот самый день, когда Грошев ждал Свиридова в его машине, Анна Ивановна случайно разговорилась со сторожихой товарного склада, от которой и узнала, что в день убийства к складу приходил Роберт Андреев и спрашивал Липконоса. Узнав, что Липконоса нет, он ушел. Через полчаса после его ухода сторожиха пошла на склад столовой, чтобы купить хлеба и идти домой, в соседнюю деревню. Там она слышала, как какой-то гражданин спрашивал у кладовщицы, как бы ему разыскать экспедитора Ряднову. Обо всем этом сторожиха не рассказала Рядновой, потому что не придавала значения этим посещениям. Но недавно до их деревни докатился слух об убийстве, и она по-новому взглянула на события и поделилась своими наблюдениями с Рядновой, которую очень уважала. Ряднова прошла со сторожихой в кладовую и там показала ей фотографию мужа. Сторожиха признала в нем того, кто вызывал в день убийства Ряднову. ВОПРОС: Откуда сторожиха могла знать Р. Андреева? ОТВЕТ: Она его не знала. Но, услышав от людей описание его одежды — ватный костюм, сапоги, пыжиковая шапка и красный шарф, — его словесный портрет, решила, что это был он. ВОПРОС: Словесный портрет, данный сторожихой Осмехиной, совпадает с подлинным портретом известного нам Андреева? ОТВЕТ: Да, полностью совпадает. ВОПРОС: С кем вы делились вновь услышанными обстоятельствами? ОТВЕТ: Ни с кем. Я сразу же пошла к т. Грошеву в милицию, но мне там ответили, что он отдыхает. Николай снова и снова перечитывал протокол и наконец негромко сказал: — А ведь я ее видел со сторожихой. — Ну и что? — Ничего... Просто, видимо, говорит правду. — Они помолчали. — Как она выглядит, Петр Иванович? Ивонин резко обернулся и пристально посмотрел на Грошева. Тот выдержал взгляд. — Плохо выглядит. Под глазами круги, губы как будто искусаны. — Достается ей... — Они опять помолчали. — Странно получается, Петр Иванович. Две женщины, по-видимому, любят Ряднова. И две женщины, вольно или невольно, а копают ему могилу, Ведь тут вырисовывается хорошо продуманное умышленное убийство. А за это расстрел. — Не будем решать вместо суда. Пока что ясно одно: дело оборачивается новой стороной. И нам двоим тут не справиться. Я решил обо всем доложить начальству. Все очень серьезно.13
Положение было признано серьезным. В связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами дела Ряднова и, главное, появлением новых лиц привлекли опытного следователя Горбунова, очень спокойного, лысоватого, в очках без оправы, в мешковатом костюме, и снова подключили Ивонина. Получив указания, собрались в кабинете Ивонина. Горбунов молча листал дело Ряднова, всматривался в фотографии, сверял показания и вдруг решил: — Считаю, что дело движется успешно и мне тут ворошить нечего. Но поскольку я все-таки получил приказание, предлагаю следующее: Ивонин разрабатывает линию Андреева — летчика и всей банды Косого. Грошев пусть по-прежнему занимается линией Ряднов — Свиридов — обе женщины. А я... Я займусь Андреевым на выезде. Ведь, в сущности, мы ничего не знаем о его жизни там, на новом месте. Вот туда я и поеду. — Феликс Андреевич, — взмолился Ивонин, — мы и так накрутили больше, чем нужно... — Накрутить накрутили, но на вашем месте и другой бы накрутил. Человек-то признался? Вот вы и раскручивайте. — Ну, Феликс Андреевич... Это даже не по-товарищески — мы ждем помощи. — А, бросьте! Обиделись. А вы подумайте. У вас есть свои версии, свои взгляды, ощущения от встреч со всеми привлеченными к делу людьми, а мне этим нужно заниматься заново и, значит, терять очень много времени. Вы, как вы думаете, где-то ошиблись и по одному этому теперь будете проверять каждый факт со всех сторон. А мне этот же самый факт будет ясным и понятным, и я не всегда решусь его проверять. Чувствуете, какая психология? И самое главное: вы ведете дело на месте и как бы со стороны. А я пробую влезть в него издалека и как бы изнутри: прийти по следам Андреева в наш город. Что-то тут есть такое, что мне пока не то что не ясно — здесь все пока неясно, — а то, что не принимает душа. Понимаете, я примерно знаю уголовников, и тут не в них дело. — А в чем? — опять взмолился Ивонин. — Ну хоть подскажите, хоть поделитесь сомнениями. — В отсутствии ограбления. Если убивал уголовник, да еще и проверял, убит ли Андреев или нет, он обязательно взял бы деньги. Для него они всегда имеют существенное значение. Это только мальчишек можно поймать на рассказах о богатстве и легкой жизни уголовника. На самом деле это народ нищий. Деньги им ой как нужны! Ведь что ни говорите, а именно деньги их главная забота и цель. А он, такой дурак, убил, проверил, а денег не взял. — Пожалуй, тут, скорее, месть или ревность... — вставил Николай. — По материалам дела, скорее, так. Но и в этом случае убийца прекрасно понимал, что ему выгодней отвести от себя подозрение и хотя бы инсценировать ограбление: наверняка будут искать среди уголовников. Правда, при убийстве с ограблением, в случае провала, наказание беспощадно: расстрел. Верно. Но ведь можно только инсценировать... Направить по ложным путям нас с вами. А этого убийца не сделал, а ведь, судя по обстоятельствам, это опытный, вернее, хитрый, изощренный преступник. Он должен был продумать и этот вариант. Вот почему я думаю, что ограбление все-таки было, но взяли у Андреева то, о чем мы просто не предполагаем. Вот почему мне и хочется прежде всего узнать: а что мог иметь с собой Андреев? Зачем он приехал в наш город? Здесь, когда все напуганы, это вряд ли узнаешь. А вот там, где он жил последнее время, всего могут и не знать. Даже если кто-либо и известил сообщников или друзей Андреева, можно будет проверить кое-что по их поведению. Нет, нельзя сказать, что Горбунову поверили. Но все вынуждены были согласиться с ним, и он, получив благословение начальства, отправился на восток, в город, где последнее время жил Андреев.* * *
Ивонин и Грошев взялись за работу. Новый подход Горбунова к делу заставил и их по-новому осмысливать каждый уже известный факт, как бы мал он ни был, да еще и трудиться над сбором новых фактов и фактиков: все может пригодиться в данном случае. Каждый понимал, что прежде всего требуется как следует проверить самого Ряднова: вновь открытые обстоятельства настойчиво требовали это. Но версия Горбунова не позволяла действовать так, как прежде: быстро, решительно, почти с налета. Теперь нужно было идти кружным путем, постепенно собирать всевозможные сведения и с их помощью решить судьбу Ряднова. Грошев прежде всего стал проверять им же самим предложенную версию умышленного убийства. Ему казалось несомненным, и Петр Иванович в этом его поддерживал, что Ряднов мог взять оружие и особенно лыжи только у кого-либо из своих приятелей-охотников, и не в городе, а в селе возле аэропорта. У Ряднова просто не хватило бы времени съездить в город, взять все, что нужно, вернуться за город и, встав на лыжи, дойти до места убийства. Ведь в его распоряжении было всего три, максимум три с половиной часа. Вот почему Грошев прежде всего вооружился терпением и проверил расчет времени: сел на автобус, заехал в аэропорт, оттуда через деревню вышел на зимник, а потом пробежал на лыжах до места убийства: времени хватило. Побывав в тюрьме, Грошев договорился, чтобы там особо присмотрели за поведением Ряднова, установили, с кем он дружит, а по дороге из тюрьмы он опять заехал в Союз охотников к уже знакомому Яснову. Вдвоем они без труда установили всех владельцев оружия двадцатого калибра в деревне. Оказалось, что их не так много: всего шесть человек. Теперь следовало установить, с кем был знаком Ряднов. Тщательная проверка дала один ответ: ни с кем. В селе у Ряднова знакомых охотников не было. И все-таки Грошев не поверил этому. Теперь он верил только фактам. Яснов долго не соглашался помочь Николаю. Ему надоело ходить по квартирам. Но Николай уговорил его, и Яснов в конце концов согласился и поехал с ним «для проверки» оружия. И тут оказалось, что два охотника давным-давно продали свои ружья, и просто не снялись с учета. Четверо остальных содержали оружие в образцовом порядке, но только двое из них охотились зимой и имели лыжи. Один из них — подполковник в отставке, бодрый, веселый человек — пропадал на охоте целыми неделями и, как было точно установлено, в день убийства охотился километров за сорок вместе с такими же отставниками. Последний был просто жмот, с неохотой передавший Яснову свое оружие для осмотра. Но ведь и эта черта его характера, подтвержденная соседями, могла служить просто маскировкой. Но... Но выяснилось, что накануне убийства он с товарищами ушел на охоту в ночь и вернулся только через день с тремя зайцами. Значит, ни у кого в деревне одновременно ружье и лыжи Ряднов взять не мог. Яснов, как и всякий заядлый охотник, заразился азартом сыска, поскреб подбородок и предложил: — Тут еще поселочек есть. Бывших дорожников. Там тоже два ружья зарегистрированы. И оба двадцатого калибра. — Съездим. Дело шло к вечеру. Низкое, пасмурное небо заметно темнело, и на поля ложились густые, почти фиолетовые тени. Инспектор осмотрелся и махнул рукой: — Где наша не пропадала! Первыми, к кому они зашли, была семья Зориных: отец, работавший подсобным рабочим на аэродроме, и дочь — дорожный техник. Ружье у них висело на самом видном месте. Яснов представился, и Зорин равнодушно кивнул на стену: — Глядите. — Давно охотились? — дружелюбно спросил Грошев. — Никогда не охотился. Да оно, честно сказать, и не для охоты куплено. — А для чего? — Живем мы на отшибе, мало ли какие дела могут произойти. Вон, например, убили недавно одного в Южном. Ну и так, вообще. — А дочь у вас где? — Где ж ей быть... В городе, на работе. — И это она каждый раз в такую даль ездит? — Какая ж это даль? Да и автобусы ходят... исправно. — Но все-таки... далековато. Чего ж вы в город не переберетесь? Квартиры не дают? — Нет, не в том дело. Мы, понимаете, из Ленинграда... Она, дочь то есть, хватила в войну там такого, что еле вывезли. Ну, понятно, грудь у нее не очень крепкая. Туберкулез, в общем, был. Так вот, я ее сюда и вывез, чтоб дышала. Тут же воздух. Потом мать у нас умерла, и у меня, понимаешь какая штука, ранение грудное открылось. Так что ей бы теперь в самый раз в город переехать, а она меня жалеет: воздух же здесь какой — не надышишься. Вот и живем. Пока Грошев разговаривал с Зориным, Яснов разложил свою «бухгалтерию», снял ружье и осмотрел его. Потом, не торопясь, разломил и, быстро оглядев старика и Николая, положил ружье на стол. — Смотрите сами. В обоих стволах ружья торчали патроны. Николай первые секунды даже не понял, что тут могло заинтересовать Яснова. Ну, висит заряженное ружье, так хозяин сам сказал, почему он его держит. Но потом увидел разбитый пистон левого патрона и кое-что понял. — Что там, непорядок нашли? — спросил Зорин. — Есть некоторый... — покривился Николай. — Скажите... А патроны вы где храните? Что-то я не вижу патронташа, — Патроны? А они у меня в комоде. В верхнем ящике. — Ну-ка достаньте. Старик нехотя поднялся со скамеечки, открыл ящик и выложил на стол десяток патронов в бумажных гильзах. — Вот и все мое боепитание. Тут, значит, должно быть восемь штук утиной дробью заряжено — на таких поставлена буква «у», три — гусиной, на тех «г» стоит, и два жакана. Энти без отметки. Потому что других нету. — Патроны сами набивали? — спросил Грошев, быстро осматривая каждый бумажный картонный патрон. — Не приучен. Как купил ружье с патронами, так оно и лежит. — И не стреляли? — Ни разу и не стрелял. Не было случая. — А может, кто другой стрелял? — Кому ж стрелять-то? Ребята тут у меня бывают с аэродрома, так те если уж охотники, так охотники: знают, что кругом дичь распуганная — две ж дороги. — Вот что-то я одного не пойму: и гусиные, и утиные патроны на месте, а жаканов нет. — Как — нет? Должны быть, — уверенно ответил старик. Он пересчитал патроны и покрутил головой. — Должно, завалились. Старик опять отодвинул ящик комода, все перевернул в нем вверх дном, потом полез в соседний, перерыл и там. Пока он возился, Яснов мизинцем пошарил в стволе ружья и показал мизинец Грошеву. Сомнений не было. Из ружья стреляли не так давно: нагар был еще довольно свежий, неразложившийся. Яснов сделал такую гримасу, словно хотел сказать: «Вот, парень, какие дела! Нашли, выходит». Грошев, едва сдерживая нетерпеливую дрожь, сделал ему знак ни на что не обращать внимания и беспечно сказал: — Да брось, отец, возиться. Закатились куда ни то. Найдутся. — Да нет. Главное дело, тут они должны быть. Я ж то ружье и не заряжал ни разу. Куда ж они делись?.. — Ладно тебе, найдешь на свободе. Вы, значит, так с дочерью и живете? — Так с ней и живем. Ах ты напасть какая! — ворчал старик, отодвигая нижний, большой ящик комода. — А чего ж она замуж не выходит? — Так видишь, молодой человек, девчачье дело не нам с тобой разбирать. Кто мне нравится — ей не подходит. Кто ей нравится — я того не знаю. Кому она, вижу, нравится, тот ей опять же не нравится, — почти механически отвечал старик, перебирая простыни, полотенца и другое бельишко. — Это бывает... бывает, — поддерживал Яснов. — У меня у самого дочка. Беда, да и только. — Не говорите, — оторвался старик от ящика. — Ухлестывали тут за ней летчики. Одно время так тут что ни день, то гулянка. Завалятся гурьбой и ну трепаться, а то и выпьют, конечно, станцуют. Веселые ребята. Я уж ей говорил: ну чего ты ломаешься, отличные ж ребята? Выбирай и выходи замуж. Она у меня и вправду... ничего себе. Так нет. — Вот-вот, — искренне сказал Яснов. — Черт их разберет. С нами не посоветуются, поразгонят, а потом слезы. Оказывается, какой-то там нравится, да вот не так получилось. — В точности, как у моей. Строитель тут ей один нравился. Приезжал сюда несколько разов — ничего, видный мужчина, рослый, чернявый такой, суровый на вид. Так я примечал, что дело у них клеится. Опять нет. Вот уже месяца два все хмурая ходит. А то в городе ночевать остается, у подруги... Да куда ж они, черти, провалились?! — Да ладно тебе, отец, не ищи. — Нельзя, дорогой товарищ. Боеприпасы. Старик сложил белье и отодвинул еще один комодный ящик с темным бельем и так же старательно начал перекладывать рубашки, брюки и еще какие-то вещи. — А на лыжах вы тут ходите? — спросил Грошев. — Я не хожу. Грудь у меня заходится. А дочка шастает. Тут в хороший день — что твоя лыжная база. И с ее работы приходят передохнуть, и с аэродрома. Ну ты скажи — и тут нету! Куда ж я их задевал? И главное, с жаканами: самые опасные патроны. — У нее и свои лыжи есть? — Да, и свои, и еще две пары торчат. Один шофер бросил. Стаська. Все грозил приехать, да вот нет и нет. А вторые даже не знаю кто. Может статься, тот самый строитель и оставил. Они тут все катались вдвоем. — А сейчас не катаются? — Да вишь ты, что-то там у них произошло, не знаю, а она ж молчит. Вот и стоят лыжи-то... дожидаются. — Она сегодня приедет? — Сегодня ее не дождемся. — Это ж почему? — Да видишь, у нас с ней такой договор... Так она приезжает часов в шесть, ну в семь. И если до восьми нет, значит, уже не приедет. Ночует в городе, у подруги. Утром я ей звоню. Проверяю. — Так ведь сейчас... — Грошев взглянул на часы. — Знаю. Есть и другой договор: если загодя решает остаться, она звонит в диспетчерскую и просит мне передать. А я как домой иду, справляюсь. — Выходит, сегодня звонила? — Выходит... — Жаль, — очень натурально вздохнул Грошев, — хотелось бы поговорить с ней: я ведь тоже заядлый лыжник. Николай шепнул Яснову: — Надо изъять патроны... Жарко у вас, — продолжал Николай, — пойду подышу кислородом. Грошев вышел в сени, а Яснов, откашлявшись, нарочито сурово сказал: — Ладно, Зорин, не ищи свои патроны. Нашлись. — Где? — выпрямился старик. — Вот они. — Яснов показал ружье. — Не делом занимаешься, товарищ Зорин. Не делом. — Я что-то не понимаю... — растерялся старик. — Вроде бы я их не заряжал... — Главное не в том, что заряжал или не заряжал, а главное, что нельзя такие патроны хранить. Вот в чем беда. — И натурально вздохнул: — Могут быть неприятности. — Так я ж не знал... Купил ружье, зарегистрировал... — Надо было и с правилами познакомиться. Мы-то, старики, конечно, понимаем, а вот молодые... — Яснов кивнул на дверь в сени, — Они быстрые. Им все нужно. — Ну раз нельзя, так я разве против. Бери их, к шуту, чтоб не мозолили глаза. — Так-то лучше, чтоб не было неприятностей, — повеселел Яснов, вынул патрон и гильзу из стволов. — Может, чайку согреть? — спросил старик. — Опять вроде примораживает. — Подождем, что напарник скажет. Грошев от чая отказался. Он спешил. Он уже осмотрел все три пары лыж и на алюминиевых палках одной пары отметил некую странность. Палки не имели ремней, а там, где крепятся эти ремни, явственно проступали продольные полосы, как будто одну палку вставляли в другую. Грошев составил постановление на выемку и, оформив протокол, увез с собой ружье с патронами и лыжи.14
Утром следующего дня Николай помчался в прокуратуру еще затемно, надеясь побыть до начала работы одному. Очень хотелось собраться с мыслями, продумать предстоящий разговор с Зориной, подготовить необходимые документы. Но в кабинете уже сидел Ивонин. Когда Грошев взглядом спросил у него, что случилось, Петр Иванович нарочно замедленно, как и все, что он делал последнее время, махнул рукой: — Так... Дома непорядок... Нашел что-нибудь интересное? Выслушав Николая, Петр Иванович закурил и задумчиво потянул: — Очень интересная ситуация... Очень... А если добавлю к ней, что вчера звонили из тюрьмы и сообщили, что Ряднов подружился не с кем-нибудь, а с официальным, так сказать, главарем банды, в которую когда-то входил и Андреев, — с Косым. — Как же они очутились вместе? — Удивляться нечему. Ведь они пока что не были связаны. Или, вернее, еще неизвестно, связаны они или не связаны. — Но теперь... — Да и теперь это еще только подозрения. Крепкие, надежные, почти бесспорные, но все-таки подозрения. А встретились они так. Косой проходит совсем по другому делу. Вот его и привезли в тюрьму из колонии. Попал в камеру с Рядновым совершенно случайно. И подружились. — А не рассадить ли их все-таки? — подумал вслух Грошев. Ивонин пожал плечами. — Пока, собственно, нет оснований. Ряднов, если верить нашей же версии, не столько преступник, сколько бедолага, неудачник. Николая удивила несколько непривычная, мягкая манера разговора Ивонина, и он нетерпеливо заерзал на стуле. — Ты желваками не играй. Научись терпению, — грустно, «лирически» усмехнулся Петр Иванович. — Терпение тебе еще пригодится. Первое. Ряднов не только явно оказывает на него влияние. Косой в чем-то изменился, но в чем, пока еще непонятно. Это влияние настораживает. Ты тоже так думаешь? — А как же иначе? — Значит, все правильно. Второе. Ряднов отказался от свидания со своей женой. Больше того: отказался принимать передачи и от жены, и от Петровой. А ты, вероятно, знаешь, что передачи в его положении очень и очень желательны, ведь в тюрьме разносолами не балуют. — Это понятно... — Вот. А Ряднов отказался. И знаешь почему? «Не хочу, говорит, чужие жизни заедать. Я все равно списан, а они пусть живут». Странно? — Странно... — Это что! Это все еще полбеды. А беда наша в том, что Ряднов официально попросил встречи со следователем, который вел его дело. Ему предложили написать обо всем. Он отказался, говорит, что нужно побеседовать лично по очень серьезному делу. Вот такая-то ситуация, товарищ Грошев. Вопросы будут? — Вопросы? Понимаете, Петр Иванович, я даже не знаю... Вот складывается так, что если сегодня выяснится, что Зорина... Ну, словом, если Ряднов опять выскользнет, так я... Я не буду сдавать государственных экзаменов. — Даже так? — Ну сами посудите: ведь это значит, что я иду туда, где заведомо не смогу принести пользы. Сдавать экзамены на звание бездарности? — М-да... Крепко тебя захватило. Но ты понимаешь, что если Ряднов не выскользнет, то этих экзаменов не нужно сдавать мне: ведь посадили его, и по моей вине. Больше того: мне нужно бросать следовательскую работу. Ведь так? — Ивонин смотрел пристально и требовал ответа. Вот такого поворота событий Николай не ожидал: он не хотел обидеть Ивонина. — Не знаю, Петр Иванович... Не знаю. — Знаешь! Не хочешь обидеть, вот и выкручиваешься! — Ивонин вздохнул. — Вечный конфликт — старого с молодым. Ну да ладно. К Зориной ты не ходи. Я сейчас позвоню в дорожный отдел, и они там сами устроят встречу. Не нужно волновать не столько Зорину — ее все равно волновать придется, — а окружающих. Понятно? — Понятно. Они долго молчали, пока Ивонин не усмехнулся, грустно и, как показалось Николаю, саркастически. — А что я проделал, тебя не интересует? У тебя есть только своя версия или... как это называют у разведчиков? Легенда. Ты ее и разрабатываешь, а остальное — трава не расти?.. — Я так не думаю, Петр Иванович. И кроме того... — Ну да, конечно... Вы старший, и я не знаю, как вы решите... Мне неудобно... Так? — Примерно. — Врешь ты, Николай. Не мне врешь — сам себе врешь. Ну ладно! Не будем вдаваться в подробности — на досуге все сам осмыслишь. В частности, и с госэкзаменами. Так вот, сделано немного. Поговорил с этим самым божьим одуванчиком сторожихой. Она, оказывается, потому запомнила Андреева, что он сразу же пошел не к автобусу, который еще стоял у аэропорта, а на тропу в поселок Южный. Старушка еще подумала: «Спешит парень». Тут важно время. Очень важно. Было это примерно около двенадцати часов дня. Далее, ни в день убийства, ни накануне самолетов аэропорт не принимал. Они застревали где-то на полпути к нам. Значит, Андреев мог приехать только поездом. А поезда в наш город, как тебе известно, именно с этого направления приходят либо ночью, либо рано утром. Спрашивается в задаче: где был Андреев до полудня? Может быть, он приехал накануне? Возможно... Но в этом случае, почему он не сразу же поехал к Липконосу? К Липконосу или к Ряднову, а вначале приехал в аэропорт, а оттуда уже пошел в поселок. Причем учти, ведь он знал, что строители зимой, как правило, работают в одну смену, и, следовательно, Ряднов был на работе. Вывод: шел он к Липконосу. — Но если... — перебил Николай, но Ивонин плавным движением руки, будто отстраняя его, остановил: — Ты разрабатываешь свою легенду, а я свою. Я тебе помогал, а ты мне нет. Перебиваешь. Далее я узнал, что ни по одному телефону аэропорта никогда за все время работы Липконоса ему никто не звонил. Вывод: дело у Андреева было очень деликатное. Такое, что даже по телефону он говорить не хотел. Следуем дальше. Андреев действительно, по крайней мере дважды, прилетал в город: его узнала стюардесса самолета. Я показывал ей фотографию. Почему она его заприметила? Ничего особенного — красивый парень, на первый взгляд как будто немножко нахальный, а вел себя чрезвычайно скромно, незаметно. После второго прилета Андреев улетел на следующий же день, то есть с тем же экипажем и с той же стюардессой. Видимо, спешил. Замечаешь, везде и всегда спешил. — Но ведь то обстоятельство, что Андреев был в городе по крайней мере шесть часов до поездки в аэропорт, косвенно говорит и о том, что Ряднов мог узнать, что он в городе, и, больше того, узнать, что он обязательно приедет на свидание с Липконосом. А так как Ряднов живет рядом с Липконосом и на основании длительного наблюдения мог установить периодичность его смен, то мог рассчитывать и на появление Андреева. — Умно заговорил. Очень умно, но вот беда: я тебе об одном, а ты опять о Ряднове. Ну что ж... Отвлекаться от основной версии ты еще не научился. Впрочем, это сразу и не делается. Так вот, как ты подготовился к встрече с Зориной? Сразу у нее спросишь: знаете ли вы Ряднова и в каких отношениях с ним находились? Или какой-нибудь другой ход придумал? — Нет... — совсем растерялся Николай, так и не понявший, куда гнет Ивонин. — Нет, постепенно перейду к этому вопросу. — А как? — Расспрошу о знакомых, о том, почему у нее настроение последнее время плохое... — Словом, на психику? Но ведь если она знакома с Рядновым и знает, что он арестован, для нее твои вопросы не будут новинкой. Верно? — Верно... — Ну так вот тебе совет. Поскольку ты еще не решил, будешь сдавать государственные экзамены или не будешь, поучись. Может, пригодится. — Так я, собственно... — Все правильно. Потом, дескать, решу? Значит, так: возьми прежде всего фотографии Ряднова, Андреева и вот этих, — Ивонин вынул из стола пять фотографий неизвестных людей, — и покажи Зориной все вместе. Пусть она узнает знакомых. А потом уж... психология. И еще: ты завтракал? — Нет еще... Не успел. — Плохо. Профессиональной болезнью следовательских работников является неврастения и язва желудка. И вовсе не потому, что такая уж у них страшно нервная работа, хотя и это частично есть. А вся беда в том, что им, как правило, не удается вовремя поесть. Работают на голодный желудок. Это никуда не годится. Допрос — всегда схватка, борьба. И к ней нужно готовиться очень серьезно. В том числе и физически — подзаправиться как следует. Я вот сегодня дома ругался, а завтракать все-таки позавтракал. И кофейку выпил. И с собой прихватил. Так что сделаем так: ты иди завтракай, а я тебя, так и быть, выручу: направлю это твое имущество, — Ивонин подбросил изъятые у Зорина патроны, — на экспертизу. И не протестуй. Это приказ. Грошев встал и, не прощаясь, вышел. Он плелся по улицам, заполненным торопящимися на работу людьми, и не мог разобраться ни в себе, ни в Ивонине. Он не понимал своего друга-наставника. Если говорить честно, Ивонин сам себе рыл яму: вместо того чтобы направить все силы на изобличение Ряднова, он, кажется, делает все, чтобы спасти его от суда. Почему он это делает? Жалеет? А может быть, это такая же профессиональная гордость, как и у Свиридова? Она заставляет переделывать уже сделанное, ставить под удар свой авторитет. Ох, как это трудно и сложно!.. Видно, везде и во всем нужно обладать мужеством. Не только тем, с которым можно пойти на преступника и, может быть, на смерть, но и тем, которое позволяет осудить самого себя ради спасения другого. Такое мужество где-то рядом с совестью. А может быть, оно и есть сама совесть: непреклонная и неподкупная, не знающая отступлений и сделок? Но долго над этим он думать не мог — мысли опять захватили Ряднов и предстоящая встреча: нужно во что бы то ни стало убедиться в его виновности, иначе трудно, невозможно работать без убеждения и необходимости работы. Опять начались такие сложности, что Грошев внутренне махнул на все рукой и вошел в пельменную. Простояв с подносом в очереди, он взял две порции пельменей и бутылку кефира — он любил запивать пельмени кефиром. Медленно, маленькими шажками продвигаясь по залу в поисках свободного столика, он услышал знакомый голос: — Садитесь со мной. Он оглянулся и не увидел никого из знакомых. За столом сидела красивая девушка в малиновой обтягивающей трикотажной кофте и в черной юбке, она улыбнулась Николаю. — Давайте, я вам помогу. Николай узнал Петрову и почему-то покраснел. Он сел, и она помогла ему составить с подноса тарелки. — Все еще на сессии? — спросил Николай и запоздало поблагодарил: — Спасибо. — Пожалуйста. Да. Еще один экзамен, и я свободный человек... на полгода. — Трудно сдавать? — Понимаете, сейчас не очень. Я внутренне успокоилась, и теперь стало легко-легко. Николай не понял ее и промолчал, но Лариса сама продолжила разговор: — Я все-таки добилась свидания с Андреем Яковлевичем, а он от него отказался. Мне было очень обидно: старалась, старалась для человека, а он неблагодарно отвергает помощь. Но уже не выходя из... не знаю, как это у вас называется, из тюрьмы, что ли, столкнулась с красивой женщиной. Мы еще посмотрели друг на друга. Знаете, так, как смотрят только женщины — оценивающе. Автобусы там ходят редко, стою я на остановке, мерзну, злюсь, и вдруг подходит ко мне та женщина, уже вся в слезах, и представляется: здравствуйте, я жена Ряднова. Николай поднял глаза и взглянул на Ларису; она улыбнулась так тепло и в то же время озорно, что он так и не отвел взгляда. — Да-да! Именно так. Долго мы с ней в тот день разговаривали, и я поняла, какие дуры мы, женщины, бываем и как иногда можно узнать, что такое настоящая любовь, а что только рядом. Словом, я дала ей честное слово, что если Андрей Яковлевич сам не попросит, я ему помогать не буду и напоминать о себе тоже не буду — любит она его страшно. Прямо исступленно. А мне с того дня стало легче. — Почему? — искренне удивился Николай. — Вы ешьте, ешьте. Мужчины, как правило, не понимают женщин. Но я попробую вам объяснить. Андрея Яковлевича я никогда не любила, но когда он начал пить, когда с ним стали случаться все его несчастья, я его пожалела. А до этого мне жалеть было некого. Те, что за мной ухаживали, мне не нравились, и наоборот. А этого просто пожалела. Но жалость приняла за другое чувство. Понимаете? — Нет, — честно признался Николай и почему-то почувствовал странное облегчение. — Ну и не надо. Не надо вам это понимать. Важно другое. Все прояснилось, стало на свои места, и мне теперь легко. Хотя жалость и на месте. И я вам честно скажу: если я смогу ему хоть чем-нибудь помочь, вы мне скажете. Я все сделаю. Мы так и с его женой договорились. Понимаете, я не только не отказываюсь, я даже настаиваю: если хоть что-нибудь смогу сделать, сделаю. А в остальном я совершенно свободна. Понимаете? Это, оказывается, здорово — быть совершенно свободной! Он недоверчиво усмехнулся: он-то знал, что быть одному «совершенно свободным» очень трудно. С тех пор как он расстался со своей девушкой, ему хорошо было известно, что такое одиночество. И он подумал, что, может быть, не жалость, а именно одиночество толкнуло Ларису к Ряднову. Но как только на ум пришла эта фамилия, он опять стал думать о нем. — Вы не верите? Честное слово! — Не в этом дело, — нахмурился Николай. К нему пришла зависть к Ряднову. Подчиняясь этому чувству, он быстро, испытующе посмотрел на Ларису. Она была красива. За время сессии с ее лица сошел зимний загар, и оно посветлело, стало строже, но в то же время женственней. — А в чем дело? Николай промолчал. Он думал о том, что, может быть, и вот эта зависть к Ряднову могла повлиять на его отношение к Андрею Яковлевичу. Может быть, сам Николай ее не замечал, а она влияла, подсовывала емунеправильные выводы, предчувствия, и все такое... Вот и Ивонин говорит, что он не умеет трезво оценивать разные версии. Каким же строгим нужно быть к себе, чтобы решать чужие судьбы! Ох каким строгим! — Ох и бука же вы! Видно, у вас и работка... Кстати, я только сейчас об этом подумала: ведь вы еще молодой, а занимаетесь таким сложным делом. Неужели у вас нет... ну, с высшим образованием? Знаете... таких, как в книгах, опытных, серьезных, проницательных. — Она явно шутила, а может быть, даже посмеивалась. А ему не хотелось шутить, не хотелось смеяться. Ему вдруг захотелось сказать ей, что вот она, такая добрая, жалостливая, дала в его руки ту ниточку, которая может привести к страшному: человек, которого она жалеет и для которого она хочет сделать только хорошее, может быть расстрелян. Это была очень неприятная мысль, почти мстительная. Николай усилием воли взял себя в руки и, поддев на вилку остывшую пельменину, пожал плечами: — Есть у нас и такие. И даже похлестче, чем в книгах. А я занимаюсь этим делом только потому, что сам кончаю юридический. Лариса обрадовалась: — Да? Вот здорово! Значит, тоже заочник? И это у вас как бы дипломная работа? Да? Он не мог не улыбнуться. — Да, пожалуй, как дипломная работа. — Потом подумал и резко сказал: — Вот если сдам ее, получу диплом, а не сдам, придется снова идти учиться. — Ой, как у вас строго! — Она спохватилась: — Нужно бежать. Очень хочу поспеть на волейбольные соревнования, давно не бывала, а тут республиканские. Так что до свидания, и помните, если я смогу помочь, сделаю все, что смогу. — А почему вы думаете, что я хочу помочь Ряднову? А вдруг наоборот? — Не шутите. Этим не шутят, — строго сказала она. — Ведь вы не можете хотеть зла невинному. Вы же молодой и... наверное, комсомолец. Она ушла, и Николай, медленно доедая пельмени, думал о себе, о своей будущей работе, и значит, о Ряднове и предстоящем разговоре, на котором может решиться судьба сразу нескольких человек. И Анны Ивановны, и Зорина, и Ряднова, и, как знать, может быть, еще кого-то. Но одно его почему-то радовало. Судьба Ларисы Петровой уже решилась: она свободна.15
В кабинете Ивонина Николая ждала неожиданность. Петр Иванович молча протянул ему телеграмму из Москвы. «Ваш работник Горбунов откомандирован в распоряжение следователя по особо важным делам Задорожного, связь с которым поддерживайте впредь». Николай молча посмотрел на Ивонина. Тот пожал плечами. — Все удивляемся. Чего он там выкопал, не понятно. А что копнул глубоко — это точно. Иначе Москва не выслала бы следователя по особо важным делам и не отобрала бы у нас работника. Ивонин походил по тесному кабинету. — Вот что, Николай, я тебя очень прошу — говори с Зориной осторожно. От этого зависит многое. По сути дела, этим нужно заняться мне, но у меня тоже важное дело. Очень. Николай не стал спрашивать, что за дело. — Зорина тебе вызвана, условия созданы, иди и действуй. Как только кончишь, ставь в известность меня или начальство. Действуй! Условия и правда были созданы — маленький кабинет, стол, два стула, шкаф. Зорина действительно уже сидела в коридоре и ждала Грошева. Он пригласил ее в кабинет и опять невольно подумал, что с делом Ряднова связаны только красивые женщины. Людмила Зорина тоже была красива — выше среднего роста, гибкая, с очень чистым, не то что бледным, а белым лицом, каким отличаются коренные ленинградки, с тонким румянцем. Даже волосы у нее были типично ленинградские — светлые, почти льняные, чуть-чуть отдающие в рыжину. Он пригласил ее сесть. — Мне сказали... — начала Зорина. Николай постарался улыбнуться как можно приветливее. — Давайте сначала познакомимся. Вот мое удостоверение. Зорина прочла удостоверение, и Николаю подумалось, что она должна, обязана удивиться: округлить глаза, приоткрыть рот, покраснеть. Словом, сделать нечто такое, что сразу же указывало на ее волнение. Но Зорина равнодушно вернула удостоверение, равнодушно посмотрела на Грошева и спокойно спросила: — Ну и что? — Так вот, нам нужно побеседовать... — Тему беседы определите вы? — Да. — Ну что ж. Начнем... пожалуй. Что вас интересует в моей биографии? Или, может быть, биографии моих друзей? — При чем здесь биография? — Видите ли, что происходит с человеком, в конечном счете и есть его биография. Зорина говорила спокойно, даже снисходительно, и Николай понял, что первая схватка, еще не начавшись, уже проиграна: он не выбил ее из колеи, не встревожил. Он разозлился, но сейчас же заставил себя быть холодным. — Вы знали Свиридова? — Это какого? Шофера? Того, что лыжи мне подбросил? — Да? — Да. — Как вам сказать... Знать-то, конечно, знала — он пытался за мной поухаживать, но, естественно, у него ничего из этого получиться не могло. — Почему? — Герой не моего романа. — А лыжи он все-таки вам оставил? — Да. Из-за врожденной лености или легкомысленности. Или, наоборот, с дальним прицелом — будет причина заехать, забрести на огонек. — Понятно. А кто еще бывал в вашем доме? — Вам полный списочный состав или только выборочно? — Давайте не шутить. Вот бумага, напишите фамилии всех, кто бывал у вас в доме. Она опять спокойно взяла бумагу, ручку, а потом решительно придвинула чернильницу. — За какой период? С детства или несколько позднее? — Ну... предположим года за три. Он сидел и почти с неприязнью смотрел на эту красивую блондинку — такую нежную на вид, и такую колючую. Может быть, даже испорченную. Подозревает она, зачем ее вызвали, или нет? Вечные загадки, которые нужно постоянно разрешать следователю. Она протянула ему лист бумаги: — Вот. Двадцать семь человек. Год рождения проставлен не везде — не всех знаю достаточно полно. В таком случае ставлю приблизительно. Номера, обведенные кружочками, — те, которые были особенно часто. Если крестиком — так это те, кто за мной ухаживал. Подчеркнуто — мне нравились. — Теперь они вам не нравятся? — раздраженно — уж очень не понравилась эта пунктуальность — спросил Николай. — Нет. Вот уже полгода мне никто не нравится. Кроме одного человека. — Какого? — Это очень важно? — Да. — Хорошо, — тряхнула она волосами. — Раз нужно, значит, нужно, да и зачем скрывать? Кроме моего мужа, Сергея Яковлевича... Мгновенно припомнился первый допрос Ряднова, и Грошев невольно переспросил: — Андрея Яковлевича? И потом, сколько мне известно, вы еще не замужем. — Простите. Замужем я или не замужем, могут знать только я и мой муж. Имя своего мужа, как вы можете догадаться, я, в общем-то, знаю. Больше того: несмотря на ваше подозрение в моих умственных способностях, я, представьте, запомнила и его фамилию — Кравцов. Техник-строитель. Рабочий телефон 6-36-42. Была бы благодарна, если бы вы немедленно позвонили и проверили мои показания, а заодно и сообщили, что я задерживаюсь у вас. Он будет волноваться: нам нужно идти говорить о квартире. — Успеем... — Видите ли, когда я вошла сюда, — она рукой обвела кабинет, — то хотела сообщить вам, что мне сказали, будто разговор будет долгим. Поэтому я сразу хотела попросить у вас разрешения позвонить мужу. Но вы перебили. Так вот, будьте элементарно воспитанным человеком и исправьте свою ошибку. Она нагнулась над столом и легко передвинула телефон поближе к Николаю. О том, что второй раунд схватки провалился, говорить было нечего. Но что делать? — Я вам верю... — чтобы хоть как-то оттянуть время и найти новый настрой для вопроса, начал Грошев. — Меня, знаете ли, мало волнует, верите вы мне или не верите. Пока что я прошу исправить вашу ошибку. — И, замечая, что Грошев не спешит звонить, добавила: — Тем более, то и в милиции, по-видимому, существуют указания, предписывающие проявлять заботу о живом человеке. — И опять дерзко и в то же время небрежно, словно подгоняя следователя, махнула рукой: — Прошу. Нет, теперь она явно диктовала, и Николай, сам еще не зная почему, подчинился. Он набрал нужный номер и попросил Кравцова. Трубку сейчас же взяли. — Вот тут у меня сидит ваша... супруга. — У кого — у вас? — резко спросил голос. — У... следователя. Она хочет сказать вам несколько слов. Николай передал трубку и подивился, как сразу изменилась Зорина. Она вдруг покраснела и, устроившись поудобней, улыбнулась так мягко и ласково, что опять в пору было завидовать. И столько заботы звучало в ее голосе, столько сдерживаемого чувства, что Николай потупился, как будто этим стараясь помочь Зориной. — Сереженька, только ты, пожалуйста, не нервничай! Да нет, я еще не знаю, серьезно это или нет: вопросы пока бестактные... Да-да, конечно, либо я позвоню, либо этот очаровательный следователь... Что? Да, молодой. — Она быстро, оценивающе и остро взглянула на Николая. — Ну не то чтоб интересный, но ничего себе. Передаю ему трубку. — Я вас слушаю, — сказал мужчина. — Да, собственно, пока у меня нет к вам вопросов. Разве только... Просто мы не знали, что Людмила Зорина вышла замуж. — Да, к сожалению, об этом объявлений не дают, а больше вам... где же знать... Так вот, два месяца назад, в четверг, в снегопад, мы зарегистрировали свой брак. Если необходимо брачное свидетельство — или как оно там называется, — так оно хранится у Люси. Вопросы еще будут? — Да нет... пожалуй. — Отлично. Тогда очень прошу — не задерживайте ее: у нас еще много нерешенных вопросов. До свидания. Независимая пара, что и говорить! Грошев потер руками лицо. — Странно, что вы даже отцу ничего не сказали о своем замужестве. — Странность объясняется просто. Я не могу оставить отца, а муж не может оставить мать. Чтобы не волновать стариков, решили подождать с сообщением до получения квартиры. Дается это нелегко, но... — Ну что ж, продолжим нашу не очень приятную беседу. Вы сообщили, что в предложенном вами списке есть те, которые вам нравились. А вот такие, которые бы вам не нравились, среди них есть? — Всестороннее, так сказать, исследование? Были и такие. — Назовите. — Вот, например, номер шесть, Федор Лепунов, второй пилот; дядька хороший, но откровенный бабник. И любит выпить. — Понятно. — Номер шестнадцатый — Алексей Рачко. Юноша во всех отношениях положительный, и почему он мне не нравился — сама не знаю. Интересен, прекрасный спортсмен, остроумен, специалист своего дела — он радист, — но лысеет с темечка и ужасно благоразумен и расчетлив. Пытался волочиться за мной, но вызывал... я бы сказала, стихийную антипатию. Будучи юношей современным, сразу понял это и, когда приходил с экипажем выпить или потрепаться, вел себя скромно и... нудно. — А скажите, почему именно у вас собирались все эти товарищи? — Грошев похлопал ладонью по списку. — Закончим с одним. Номера двадцать шестой и двадцать седьмой — отцовские друзья. Нудные сваты, из тех, которые обязательно говорят: «А вот мы... А вот в наше время...» Таким образом, не нравились четверо. Все остальные — отличные ребята. Одно слово — летчики. Теперь второй вопрос. У нас собирались потому, что у отца всегда есть та самая закуска, которая больше всего ценится современными цивилизованными людьми. А именно: грибки, моченая брусника, огурцы, соленые помидоры, капуста, которую он умеет готовить по-гурийски, и прочие дары леса и огорода. Я не знаю, смею ли я спрашивать, но, возможно, вы заметили, что на любых домашних праздниках и просто выпивках потребляют только эту закуску. А сыр, колбаса и прочие признаки возрастающей зажиточности почему-то остаются на тарелках. Грошев улыбнулся. — Вы согласны? Так вот, кроме того, конечно, я этакая почти купринская Олеся во глубине родных лесов. Рыжая, языкастая и выпить не дура. Нет, честное слово, я люблю немного выпить. Тогда становлюсь слегка сумасшедшей. А все наши посетители — люди сильных профессий. Мне нравилось это. Но когда я влюбилась в совершенно негероическую личность, я их попросту отшила. Вас удовлетворяет мой ответ? Николай разложил на столе фотографии и попросил: — Вы не скажете, среди этих людей вы никого не знаете? Зорина брала фотографии по одной, добросовестно их изучала и молча откладывала в сторону. Пересмотрела все и покачала головой: — Нет. Ни одного знакомого. И вдруг взяла портрет Ряднова, посмотрела на него издалека, отставив руку, и восхищенно протянула: — Вот этот хорош. Грошев подался вперед. — Очень интересный мужчина. — И, положив портрет на стол, добавила: — Впрочем, я это говорю потому, что он похож на моего Сергея — такой же сумрачный и, вероятно, с таким же прямолинейным и потому нелегким характером. Тоже, наверное, жена души не чает. — Скажите, а вам не знакома такая фамилия — Ряднов? Андрей Яковлевич Ряднов? — Нет, — ответила она и, повторив «Ряднов», решительно подтвердила: — Нет, не знакома. Первый раз слышу. — Может быть, вы слыхали это имя от отца или от его товарищей? — Тогда бы я сказала, что оно мне знакомо. Можно было идти окольными путями, наводящими вопросами пытаться поймать, «расколоть» Зорину, но он прекрасно понимал, что это бесполезно: Зорина слишком современная женщина, прямая, умная и честная. Может быть, стоит говорить напрямую? И он решился: рассказал о вчерашнем посещении отца, о находках и своих подозрениях. Зорина задумалась, потом решительно заявила: — Прежде всего, извините. Не думала, что все так серьезно. И то, что я вам сейчас скажу, вероятно, страшно. Может быть, даже несправедливо, особенно если учесть, что так или иначе, а на нас с отцом тоже падает подозрение. Нет, нет, не перебивайте. Я убеждена, что почти все, — она потянулась к списку и постучала по бумаге ладонью, — могли проникнуть в наш дом и в наше отсутствие, тем более что нас с папой днем, как правило, не бывает. — Почему? — Видите ли... когда-то мы носили ключи с собой, и... либо я, либо отец их теряли. Мы стали оставлять ключи в условленном месте. Естественно, что наши гости, приходя с отцом или дожидаясь нас, очень скоро узнали, где мы храним ключи. И поэтому мы несколько раз заставали у нас на квартире веселые компании. — Кого именно? — Разные... Дело не в этом. Дело в том, что когда вы рассказали о странных следах в посадках, я сразу подумала об Алексее Рачко. Да. Не удивляйтесь. Как-то летом они сидели всем экипажем у нас. Прошел дождь, и обочины у шоссе превратились в реки. Рачко взял лыжные палки, оставленные Свиридовым, снял ремни и вдел одну палку в другую. Получился шест. Знаете, как прыгают с шестом через перекладину? Вот так прыгал и он. А ваш преступник взял у нас именно эти, а не другие лыжи. Именно эти. А ведь там стояли и другие, с бамбуковыми палками. Поинтересуйтесь. Очевидно, нужно было допрашивать еще и еще, выяснять малейшие детали и подробности, но Николай уже не мог сделать этого — рушилась вся тщательно, по кусочкам собранная им легенда, и вдруг неотвратимо возникла новая, еще более вероятная, еще более точная. — Я думаю так еще и потому, что Алексей — прекрасный физкультурник. Легкий, ловкий. Если бы он был хоть немного больше росточком, может быть, он стал чемпионом. Его называли «карманным радистом». Грошева осенило: вспомнились поездка на аэродром со Свиридовым, озабоченное лицо Анны Ивановны, шедшей рядом со старушкой, и подбежавший к машине щеголеватый невысоконький летчик в унтах. «Дружные ребята», — подумал тогда Грошев. Теперь он думал о другом: подошвы на унтах войлочные, как на подшитых валенках. И каблучки такие же. Значит, и следы в снегу не Ряднова, а Рачко... Впрочем... Впрочем, не спеши, Николай. Догадка еще не факт. Только факты могут изобличить Рачко. — Скажите, он летал на южной трассе? — Да, кажется. Впрочем, точно — на южной. А перед этим — на восточной. Нервное возбуждение еще сильней охватывало Николая. Хотелось двигаться, куда-то бежать, что-то делать. Немедленно делать. И он попросил Зорину: — Очень прошу: о нашей беседе пока что никому ни слова. Ну... кроме мужа. Он и так догадывается. И если я позвоню вам, пожалуйста, не откладывайте встречу. Все может быть важным. Хорошо? — Хорошо... — До свидания... Он быстро оделся и, оставив задумчивую и немного растерянную Зорину, помчался к Ивонину.16
Петра Ивановича на месте не оказалось. На столе лежала записка: «Срочно обратись в канцелярию». В канцелярии Николаю передали документы, нужные для посещения тюрьмы, где теперь находился Ряднов, и еще одну торопливую записку. Петр Иванович просил немедленно выяснить у Ряднова все странности его поведения. Немедленно, это слово было подчеркнуто. Поездка в тюрьму не входила в планы Грошева: ведь Ивонин не мог знать, что Николай, кажется, нашел настоящего убийцу. И он помчался к начальству. Его выслушали спокойно и, как всегда, благосклонно, но ивонинского решения не отменили. — Он старший. У него свои замыслы. Значит, все решения нужно с ним согласовывать. Кстати, машина вас ждет. Ивонин просил задержать специально для вас. Следовательно, этой беседе он придает особое значение. Они ехали по скользкой дороге, прыгали на снежных ухабах, и Николай никак не мог сосредоточиться на Ряднове. Теперь он все время думал о Рачко. Каков гад! Какая хитрость и изворотливость! Змея бодрствует. Змея меж нами. Это очень опасно. Змею нужно найти и обезвредить, иначе люди не будут спокойны. Теперь он не думал, сдавать или не сдавать экзамены и приготовил ли он свою дипломную работу или нет. Главное заключалось в том, что змея в доме. По тому, что задачи определились, он постепенно успокаивался и неожиданно подумал: а вдруг и это только намек, только догадка, очередная легенда, версия? Ведь сколько их было! Зачем, почему Рачко нужно было убивать Андреева? Что за спешка? Может быть, действительно нужно до конца разобраться с Андреем Яковлевичем? Разобраться и для свершения правосудия, и для себя лично, чтобы освободить мозг, чувства — все-все для активной работы по другой версии? Еще не зная, так ли он думает или нет, он почувствовал, что, видимо, в этом смысл ивонинского решения. Он заставил себя думать о Ряднове. Интересно, что Ивонин потребовал выяснить странности его поведения, а отнюдь не побеседовать о том, что Ряднов хотел рассказать своему следователю. Почему? Впрочем, и это правильно. Это может быть одной из форм проверки Ряднова. И только ли Ряднова? А может быть, и Николая Грошева, его наблюдательности, профессиональной памяти, умения охватывать мысленным взглядом суть многих, рядом живущих явлений и в их запутанном клубке находить единственную нить? С Андреем Яковлевичем они встретились в специально отведенном на такой случай кабинете. Ряднов узнал его, улыбнулся спокойно, с достоинством, как человек, который встретил на улице приятного ему знакомца. — Ну что ж, садитесь, Андрей Яковлевич. Нужно выяснить кое-какие детали вашего прошлого поведения. Ряднов сел, привычным жестом положил руки на колени и посуровел. — Если нужно — значит, отвечу. — Почему вы не сказали на следствии, что вы ушли с работы не в три часа, а около двенадцати? — Не знаю... Наверное, потому, что не спрашивали. — Так. А зачем вы ездили в аэропорт? Ряднов наклонил голову, вздохнул. — Думал, что все уже прошло, успокоился, а тут опять. Ну ладно. Все равно все отрезано. — Что отрезано? — Вся прошлая жизнь. Ее теперь, гражданин следователь, не имеется. Нужно будет новую начинать. Так что прошлая теперь значения не имеет. — Вряд ли. По-моему, она всегда будет иметь значение. Но сейчас дело не в этом. — Раз не в этом — значит, не в этом. Поехал я в аэропорт потому, что в этот день Лариса сказала, что взяла на меня билет в кино. Она и раньше ко мне хорошо относилась, заботилась, старалась оттянуть от водки, но... ну, не знаю, как сказать... Нравилась она мне — ведь хорошая девчонка. А вот любить ее я не мог. Аньку любил, а ее только уважал. И вот когда она сказала, что билеты взяла, я сам себя спросил: «Долго ты, Андрей, крутиться будешь? Как баба стал — девушка и то смелее тебя. Решаться надо». Вот я и поехал в аэропорт, чтобы встретить Аньку и раз и навсегда решить наши вопросы. Если ничего не осталось, нужно разводиться. И ей и мне что-то делать. А если нет, так нечего голову морочить. Вот. Все. — А Андреева вы там не видели? — А он там был? — вдруг побледнел Ряднов. — Был. Только с вашей женой не встречался. Вообще честно вам скажу — мерзавец он, этот Андреев, это он вас нарочно дразнил. Ну это вы потом узнаете и сами разберетесь со своей женой. Второе. Почему вы подружились с Косым? Вы его раньше знали? — Нет, не знал. Когда его сюда привезли, наши места оказались рядом. Ну, лежали, трепались. Он, конечно, хвалился вольной жизнью. Вечер хвалится, второй заедается, а я смотрю, завираться начал. Врет, и все. Я ему сказал. Он чуть не в драку. Ну я поздоровее — успокоил. Делать-то по вечерам нечего, засыпаем не сразу, каждого своя дума грызет. Опять стали говорить. Ну, долго ли, коротко ли, а выпытал я его жизнь и сказал, что мне такой не нужно: не выгодно. — Как, как? — Не выгодно, говорю. Ведь что выяснилось? Если разложить на время отсидки все, что он получил за свое награбленное, так это выходит трояк в месяц. А ведь здоровый парень. И работа опасная. Трудная работа, как он рассказывал. Пока выследишь, пока сделаешь, пока сбудешь — тоже ведь на что-то жить нужно. — Что-то я не совсем вас понимаю... — Так и я до этого не все понимал. А вот смотрите, что получается. Ну, допустим, взяли они полсотни часов. В магазине они вкруговую по двадцатке. Вроде бы тысяча рублей. Солидно? Ан нет, их ведь сбыть еще нужно! А тот, кто берется перепродать, дурак? Он тоже знает риск и больше чем за полцены не возьмет. Так это ж в том случае, если с рук и на руки. А ведь у них цепочки. Тут крадут, в другое место перевозят, там продают — рук через десять переходит, и к каждым рукам рубли так и прилипают. Никто же за так рисковать не хочет. Вот и получается, что они рискуют, они крадут и грабят, а наживаются на них другие. Сплошная эксплуатация. А что взамен такой эксплуатации? Пяток дней пьянки на малине, и все тут. Ни любви, ни удовольствия, волчья голодная жизнь. Вот подсчитали мы этак с ним приходы и расходы, он и задумался. У меня спросил, сколько я зарабатывал. Я сказал, да еще приплюсовал «левые» приработки. Совсем парень скис. Ну вот и прилепился ко мне — ведь человек. Пообтешется, может, еще и счастье свое найдет. — Ну и как он? — Косой-то? А ничего. Вот опять уедет в колонию, может, вместе попадем... Поживем рядом, я его из тюряги человеком выпущу. Поедем куда-нибудь на Восток жизнь переделывать. — Ясно. А что вы хотели сообщить следователю? — Не знаю, нужно ли это. Но послушайте. Косой очень Робку ругал. Говорит, мы его не выдали, а он, жадоба, даже посылки не прислал. В общем, он с ними был связан. — Это мы знаем. — Тем лучше. И еще Косой говорит, что у них цепочка была — все их барахло возил куда-то на Восток Робкин дружок. — Летчик? — Косой не знает. Знает только, что зовут Лёхой. Я ведь для чего это говорю? Чтобы вам легче было чистить всякую грязь. Я тут насмотрелся. Понял, что к чему. — А сами вы как... все это переносите? — спросил Грошев. — Переношу... Думаю много. Начинаю соображать: а не поучиться ли мне? Восьмилетку я когда кончил! Поперезабыл. А отбуду срок, может, даже в техникум поступлю: я ж теперь свободный человек. — Как это — свободный? — Ну в том смысле, что семьи у меня нет, никому я не нужный такой... замаранный... — Зачем вы так? Ведь вы сами отказались от свиданий. И от передач. — Ну и правильно отказался. Это ж они от жалости. Если б от любви, тогда да. А жалость, на кой черт она нужна! Это вон Косому жалость нужна. Его пожалей, погладь, он хвостом закрутит — не видел жизни. А мне жалость ни к чему. — Опять скажу вам, Андрей Яковлевич, не совсем вы правы. Но подсказывать не буду. В свое время все узнаете. Николай ехал и думал о Ряднове. Нет, видимо, недаром он в самом начале не поверил в его виновность. Есть в нем настоящая, русская кремневость, которая ни в обиде, ни в горе не позволяет не только терять себя, но и еще тащить других. Помогать другим ради высшей справедливости. Помогать по праву совести. Да скажи ему раньше, что у преступника может быть совесть, — он никогда бы не поверил. Преступник есть преступник, а вот Ряднов сам считает себя преступником и все-таки своей совести, своего человеческого достоинства не теряет. Может быть, в этом и есть главное, самая суть нашего воспитания? Ивонина Грошев застал необыкновенно возбужденного и даже яростного — почти такого же, каким был сам Николай несколько часов назад. — Ну как, убедился? — В чем убедился? — В том, что Ряднов опять вывернулся и тебе незачем сдавать экзамены? — Петр Иванович!.. — Неприятно слушать? А неприятно думать — приятно? — Давайте о деле. Вы читали протокол? — Читал. Вот потому и ругаюсь. Пока ты думал только о Ряднове, пока я рассуждал и прикидывал, настоящий преступник, Алексей Михайлович Рачко, одна тысяча девятьсот тридцать третьего года рождения, беспартийный и внесоюзный, бортрадист и все такое прочее, изволил смотаться. Понял? — То есть как это — смотаться? — Удрал-с! Понимаете, молодой человек? Пока мы играли в Шерлок Холмсов, разбирали версии, он, не будь дурак, уволился, получил деньги за неиспользованный отпуск и благополучно смотался. Якобы в Ленинград. Экипаж его провожал именно на ленинградский поезд — дружные ребята. Хорошие ребята! — Плохо. — Куда уж хуже... Наше начальство недовольно. Мне стыдно. А дома только и разговоров, что дочке материал на пальто куплен. Модный фасон теперь выбирают, и мне нет покоя. Пусть его моль побьет, и как можно скорее. — Что же делать? — улыбнулся Грошев. — «Что, что»! Искать! Опять искать! Такая уж наша жизнь: раз ошибся — десять лет ищи. И никуда не денешься. Каждое преступление должно быть раскрыто. Обязательно! Неотвратимо! — Ивонин пометался по кабинету и вдруг тихонько спросил: — А ты самое главное знаешь: почему Рачко убил Андреева? Ведь они были друзья. Не знаешь? А-а... Вот то-то и оно-то. В эту минуту Грошева волновало иное. Он думал о себе, вернее, об их общем и в то же время очень разном просчете. — Но где же мы ошиблись, Петр Иванович? — Милый ты мой, тут столько ошибок, что теперь мне и самому ясно, что следователи мы с тобой — ни к черту. И если будут расследовать всю эту петрушку в дисциплинарном порядке, каждый доследователь диву будет даваться, как это мы умудрились наворотить столько ошибок, когда, в сущности, все было понятно. Ведь когда все ясно, так каждый становится умником. — Ну, положим-то, не все... — Ты что же, решил все-таки экзамен сдавать? Заело? — Не в том дело. — Нет, в том! Именно в том! Нельзя оставлять недоделанное дело. Нельзя! Потому что есть собственная совесть. — Ивонин опять резко остановился и устало махнул рукой. — Знаешь что, парень, шел бы ты домой! И я тоже пойду. Нужно хоть немного прийти в себя, раздуматься. И отдохнуть. На том они и порешили.17
Был прожит еще один, трудный и грустный, день. Утром, не сговариваясь, оба пришли раньше времени, сели друг против друга за столом Ивонина. — Давай посумуем, — предложил Петр Иванович. — Я не понял... — Ну, подведем итоги. Прикинем, что к чему. Ночью я заново продумал все. И то, что узнал ты, и что узнал я. Я был на квартире Рачко, и мне рассказала его хозяйка, что Андреев пришел утром — он, видимо, действительно приехал поездом. Утренним. И вот что удивительно: и Рачко и его хозяйка предлагали Роберту раздеться, но он упрямо сидел в стеганке, говорил, что простыл. Однако был таким, как всегда, — веселым и озорным. Они много смеялись, выпили, и, когда Рачко собрался на аэродром, Андреев с ним не пошел; Рачко посмотрел в окно и решил, что погода все равно будет нелетной, и предложил съездить вместе: «Делать тебе, Робка, все равно нечего», — а потом вернуться и выпить. Робка отказался. Сказал, что хочет отдохнуть. Тогда Рачко вроде бы в шутку обнял его и стал подталкивать к выходу. И тут даже хозяйка заметила: Роберт побледнел, посерьезнел и резко оттолкнул Рачко. Тот удивился: «Ты что, с ума сошел?» — «Так, — ответил Андреев, — настроение поганое». Хозяйка говорит, что Рачко посмотрел на него как-то подозрительно, вернулся в свою комнату, пробыл там несколько минут, пока Роберт разговаривал с хозяйкой, и вышел оттуда с очками. Хозяйка видела, как он клал в карман защитные, в солидной оправе очки, и спросила: «Неужели там такое солнце?» — «Да, нынче там припекает», — ответил Рачко и взял с собой чемоданчик. В этом чемоданчике он привозил с юга мандарины, или мимозы, или еще что-нибудь. А хозяйка продавала. Везде выгода. Да... А через полчаса в аэропорт отбыл Андреев. Иванин замолк и долго пристально смотрел на Грошева: наверно, потому, что Николая что-то волновало в этом рассказе. Что именно, он еще не знал. Как и раньше, мозг засек какую-то деталь, а какую и почему, он еще не знал. — Кстати, тут анализы принесли, — сказал Ивонин и протянул помощнику бланки из криминалистической лаборатории. При исследовании выяснилось, что свинец жакана из зоринского ружья по содержанию примесей совершенно идентичен свинцу, из которого был изготовлен жакан, извлеченный из тела Андреева. — Следовательно... — словно нащупывая решение, протянул Грошев. — Ряднова надо освобождать. — Ты так думаешь? — с ехидцей спросил Петр Иванович. — А как же иначе? Ведь если наконец есть алиби... Да еще вот эти анализы показывают, значит, Ряднов не мог убить... — Хорошо, — перебил его Ивонин. — Хорошо, что ты додумался хотя бы до этого. А в моем рассказе тебя ничего не удивило? — Удивило, но... Но понимаете, я еще не понял что. — Интересный у тебя характер. С одной стороны — огонь. Все быстрей, смелей. А с другой — вот такая медлительность. — Это я за собой замечаю. Особенно последнее время. Засядет нечто в голову, а что — сразу не пойму. — И что у тебя сейчас засело? — Пожалуй, очки. Зачем он взял очки? — Формально... Этому не удивились ни хозяйка, ни Робка. Чтобы защитить глаза от солнца. Ведь Рачко летал на южной линии. У нас пасмурно, а там солнце. Юг. И всего несколько часов лёта. Но вот в чем вопрос: почему он не брал их раньше? Ты можешь придумать? — Могу, но... — Перед его мысленным взором прошел весь тот путь, который должен был проделать Рачко прежде, чем убить Андреева. Когда этот путь по снежной, осевшей целине добрел до сосновых посадок, Николай решительно сказал: — Для того чтобы прыгать в сосны. Без очков он мог бы выколоть глаза сосновой хвоей. — Совершенно верно. Лицо он обмотал шарфом, а глаза прикрыл очками. Но не кажется ли тебе странным другое: почему у него сразу зародилась мысль взять очки? — Вы думаете, что он заранее продумал возможности убийства, и именно там, и так, как он это сделал? — Да. Но почему? — Еще не понял. — Самое неприятное заключается в том, что мы могли бы понять это еще до начальной стадии следствия. Вот смотри. — Ивонин рывком отодвинул ящик и достал из него фотографию трупа и копию заключения судебно-медицинской экспертизы. — Читай. На теле, в районе четвертого позвонка, в четырех сантиметрах от него, имеется свежая царапина, нанесенная острым предметом, по-видимому ножом. Царапина нанесена в момент или сразу же после смерти. — Но ведь это же просто: падая, Андреев мог зацепиться за сучок. — Было бы правильно, если бы не фотография. Обрати внимание: стеганка на нем задрана и видна майка. Я помню ее — красная. Как кровь на снегу. Улавливаешь взаимосвязь явлений? — Значит, так: Робка не хотел ехать... Рачко обнял его и подтолкнул к двери. Робка оттолкнул. Зло оттолкнул. Рачко взял очки. Выходит, под стеганкой Андреева было нечто такое, что он скрывал и что сразу обнаружил Рачко. Но... но я не представляю, что это может быть. Просто не представляю! — Честно скажу, что на твоем месте я бы тоже не представлял. Но вот наш следователь уезжает на восток. Прошел по андреевским следам, и вдруг появляется следователь по особо важным делам. Что там может быть? Опять убийство?.. Не думаю. Ты знаешь, что я сделал? Прежде всего взял у сына экономическую географию, потом полез в энциклопедию. И выяснил, что в этой области имеются не только заводы и фабрики, но и золотые прииски. — Значит, вы считаете, что Андреев вез золото? — Уверен! В специальном поясе под стеганкой и пиджаком. И возил его не раз. И вот как это мне представляется. Я выяснил, что старший брат Андреевых — Николай — в свое время отбывал срок в тех самых местах, а после срока работал по вольному найму на прииске шофером, именно там он познакомился с Липконосом, вернулся — сразу начал строиться. Воровал, тащил и сбил младшего брата. Тот связался с ворами. Заметь — они не брали мелочи, а только новое, и только такое, что можно продать в магазине же. Рачко в то время летал на восток. Он отвозил краденое Липконосу, тот передавал другим. Потом обстоятельства сменились. Была нащупана лазейка для воровства золота. А Андреевы, опасаясь, что могут всплыть их прошлые делишки, уехали, в сущности поменявшись местами с Липконосом. В это же время Рачко попросился на самолеты, обслуживающие южную линию. Основания были: человек молодой — не все же время летать только на восток! Нужно накапливать опыт. Итак, кто-то передавал Роберту золото — сделать это было легко. Он ездил по всем приискам, Роберт летал к нам и отдавал Липконосу. Липконос — Рачко. Рачко отвозил куда-то дальше. — Не слишком ли это тонкая цепочка? — Вот именно. Именно в этой цепочке и вся суть. Понимаешь, я все последнее время занимался групповыми хищениями и убедился, что преступники тоже знают приемы следствия. Именно поэтому они и организуют такую тонкую цепочку из рук в руки. Знают только двое. Без свидетелей. В таком случае на любом допросе, на любой очной ставке один может отказаться от сообщника, и цепь порвалась. Но Рачко хитер, наблюдателен и расчетлив. Получая золото от Липконоса, он, может быть, и не знал, кто именно привозит ему золото. Но искал его. Он понимал, что Липконос не случайно устроился на аэродроме: много случайных людей и в то же время возможность передачи из рук в руки без свидетелей — всегда можно провести нужного человека от стойки в глубь склада. Вероятно, Рачко догадывался и каким образом перевозится золото: прием этот стар, как мир, и в общем-то надежен. Он понимал, что если Липконоса на работе нет, человек пойдет к нему домой: таскаться с такой начинкой опасно. Наверно, он все продумал и только ждал случая. А когда обхватил Робку, понял, что золото возит он и оно на месте, и приступил к действию. Как оно протекало, тебе понятно. Ивонин победно усмехнулся: — Вот, как видишь, есть и такая версия. Вопросы будут? — Мне непонятно, почему Рачко не попытался привести в порядок зоринское ружье. — Не успел, Коля. Вылет задержали, и он спешил к самолету. Ведь могло случиться так, что у нас начался снегопад, а южнее открылась погода. Тогда бы он опоздал, ему досталось бы от экипажа, и, главное, были бы дополнительные улики. — Тут есть и еще что-то... — Возможно. Грязное ружье в чужом запертом доме — отличная улика против владельца ружья. — И все-таки... Все-таки мне не думается, что Рачко так уж дотошно обдумал все ходы и выходы. — Возможно. Возможен и другой вариант. Он увидел на аэродроме Андреева, понял все и принял решение. Версий, как ты теперь знаешь, может быть много... — Да, но нам... — Нам, Коля, к этому делу возвращаться уже не придется. Оно полностью перешло в ведение следователя по особо важным делам — он копает... — А мы, значит... — Ты не обижайся. Тут есть что покопать. Тут, брат, нужна целая бригада. Представляешь, сколько потянется: и те, кто воровал, и кто скупал, и кто покупал. При такой ситуации возможны самые различные, иногда чрезвычайно опасные варианты и версии. Грошев промолчал. Себя-то он не считал достойным действовать в новой ситуации. Расследуя дело Ряднова, он понял, насколько трудная и сложная работа у следователя, но за Ивонина ему было обидно. Ну пусть ошибся человек. Так он же исправил свою ошибку, докопался до истины, правда с его помощью, но почему же продолжать работу он недостоин? Почему? — И правильно, — уверенно сказал Ивонин. — Каждому свое. Мы свое сделали. Теперь пора готовиться к экзаменам. — И все-таки обидно, что мы не закончили дело. Ивонин усмехнулся: — А ты знаешь, даже когда замешанные в этом новом деле получат свое, мне думается, что оно не будет закончено до конца. Кой-кто, мне кажется, вывернется: цепочка тонкая. Но они не будут радоваться и думать, что они умнее всех, что они нас провели. Нет! Они опять будут на контроле. И они чувствуют это и всегда боятся. А это тоже не жизнь — жить всегда под страхом. А Ряднова надо освобождать немедленно. И извиниться перед человеком.18
Алексея Рачко задержали только весной. Скрываясь, он применил простейший ход: во всех документах к своей фамилии приписал одну букву и стал Рачковым. Но подвела его опять-таки расчетливая жадность. Приехав из Ленинграда на юг, он решил остановиться не в гостинице, хотя в это время года они пустовали, а у одного из своих приятелей: все-таки можно было сэкономить на квартире. А дом приятеля был под наблюдением, и Рачко арестовали. Он быстро и легко «раскололся», признался на следствии, что мысль об убийстве Андреева пришла к нему еще дома, но окончательно он продумал ее после того, как увидел Роберта у складов. Он и раньше догадывался, что Липконос передает ему то золото, что привозит Андреев. Теперь он в этом убедился и решил разбогатеть сразу, одним ударом. Может быть, и не решился бы на это, но начавшийся снегопад позволил ему надеяться, что следы будут занесены снегом. Впрочем, это так и могло случиться, если бы не заяц... Рачко раскрыл и последнюю неясность: почему жакан попал в Андреева не сзади, а впереди бицепса левой руки. Ведь Рачко стрелял сзади. Оказывается, в последнюю минуту убийца решил окликнуть Роберта, и когда тот, оглянувшись, развернулся — выстрелил, загубив две хоть и подловатые, но молодые жизни: свою и андреевскую...* * *
Вскоре после окончания юридического института Николай Грошев возвращался с загородной прогулки. Он смотрел, как по сторонам машины разворачиваются знакомые картины аэропорта, высоковольтных линий, сосновых посадок. Многое вспомнилось, и он попросил остановить машину. Не спеша прошел до сосновых посадок, подышал их густым, терпким воздухом и подумал, что работа следователя — всегда разведка, как, впрочем, и работа разведчика — всегда следовательская работа. Теперь он окончательно решил: будет работать следователем. Он знал, что впереди еще немало сложных дел, разочарований и, может быть, даже ошибок. Но он знал и другое: здесь он на месте. Именно здесь он может принести людям наибольшую пользу. Николай огляделся, увидел освещенный закатом солнца знакомый дом и подумал: «Самое главное — никогда не останавливаться на полпути. Змея в доме — беспокойство людям. Змей не должно быть». И вдруг ему захотелось увидеть Ряднова. Ему открыла дверь какая-то растрепанная, заспанная женщина, ойкнула и захлопнула калитку. — Вам кого? — спросила она из-за забора. — Мне бы Ряднова. — Хватились! Он уж месяца три как здесь не живет. — А где же он теперь? — Не знаю. Уехали они с женой куда-то. Дом вот продали и уехали. На минуту Николаю стало грустно. Вот столько думал о человеке, переживал за него, а он уехал — и все. Даже не попрощался. А потом подумал: «А что ему, Ряднову, собственно, Грошев и все другие, кто занимался его делом? Сразу не разобрались, не поняли этого сильного человека, настоящего солдата и в радости и в беде. Да и вообще о юристах и врачах люди вспоминают не часто... Нет, не часто... Только по нужде. Ну и что ж? У каждого свое дело. И нужно делать его честно, по совести».М. Емцев, Е. Парнов СЕМЬ БАНОК КОФЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ АНТИДЕТЕКТИВ
1
Трансатлантический лайнер «Святая Мария» готовился покинуть порт Белен. Это было великолепное судно. Водоизмещение 50000 тонн. Скорость 32 узла. Мощность главных механизмов 120000 л. с. Плавает под бразильским флагом. Приписано к порту Рио-де-Жанейро. И т. д.2
Итак, лайнер «Святая Мария» готовился покинуть порт Белен. «Лайнер? — ворчал Альберт Иванов. — Это лайнер? Старая, довоенного выпуска галоша». Он пощупал бугристую поверхность влажного поручня. Многократные наслоения краски образовали подтеки и наплывы везде, куда доставали кисть и пульверизатор корабельных маляров. Альберт собрался было презрительно ухмыльнуться, но сдержался. Он подумал, что улыбка будет неправильно понята проходящими мимо людьми. Посадка заканчивалась, прибыл, кажется, последний катер. Альберт, делая вид, что внимательно рассматривает порт, краем глаза косился на прибывших. Какая это была пестрая толпа! Богатые и бедные. С портфелями крокодиловой кожи, узлами, спиннингами, гитарами. Это не миллионеры. Это коммерсанты средней руки. Цвет кожи пассажиров различен, как цвет их чемоданов. От грубой темнокожих до атласной, светящейся кожи леди неизвестных наций и таинственных профессий. Идут, идут. Англичане, испанцы, индейцы, мулаты, янки. Словно копыта по мостовой, цокают ноги по сходням. И все туристы, коммивояжеры, дельцы, прочие личности в чем-то очень похожи. Их объединяет неистощимая готовность удивляться. Некоторая наивность на грани с глуповатостью. Они уверены, что все будет прекрасно. Это будет очаровательное путешествие. Их ожидают прелестные минуты, не правда ли? Все туристы мира уверены, что вселенная существует только для того, чтобы раскрыть им свои ласковые объятия и принять нужную позу для фотографирования. Альберт сердито отвернулся. Лучше в последний раз поглядеть на порт. На желтую вечернюю воду, на тюки с кофе, связки бананов, горы кокосов и таинственные ящики с броской надписью: «Coixa para transporte de serpentes»[119]. Он спортсмен и ученый, наш Альберт Иванов, кандидат наук и мастер спорта. К тому же хорошо владеет английским языком, что весьма облегчило ему поездку на конгресс ботаников в Рио-де-Жанейро. — Сколько у них парусников! — воскликнул Евгений Кулановский. Он стоял на борту «Святой Марии» рядом с Альбертом, рассматривая порт Белен и вступающих на палубу пассажиров. Темнеющее зеркало залива разрезали узкие лодки с косыми бурыми парусами. Долго потом тянулся по воде острый, клином сходящийся след. — Рыбацкая беднота. Мотора не на что купить, —ответил Альберт. Он еще тверже уперся ногами в палубу и еще резче выдвинул крутую грудь. Мимо Кулановского проходили пассажиры, и их разноязыкий говор все еще волновал его, хотя он уже привык ко многому за месяц командировки и беспрестанных перелетов. «Там, на берегу, — говорил себе Кулановский, — чужая, совсем особенная жизнь. За зелеными и малиновыми окнами скрылись местные красавицы, необыкновенные, удивительные женщины. Я их больше никогда не увижу. Никогда. И они никогда не узнают, что я был здесь, стоял на палубе и тосковал о встречах». Тихая печаль пришла к нему. Ему было чуточку жаль себя. Жаль несодеянного, несбывшегося. Альберт тоже смотрел на знаменитый причал Вер-о-Пезо. Он видел латаные паруса, окурки, конфетные бумажки и банановые корки, мерно покачивающиеся на мутной воде у самых свай, вспоминал, какая в Белене грязная набережная. Он вспоминал и запахи Вер-о-Пезо, и горло сдавливала спазма брезгливости. Он был рад, что уезжает отсюда. Он любил новые высокие дома, прохладные чистые стадионы и парки. Влажный отрезвляющий ветер. Здоровую ненаперченную пищу. Здоровый мир. Не то что здесь, где все быстро рождается, загнивает и умирает. Нет, тропики не пришлись по душе Альберту Иванову. Конгресс, на котором он так успешно выступил, был для него изнурительным испытанием. Неделя влажной банной жары, многоязыкая говорливая толпа, толчея, суета. И эта растительность. Они сами напросились в путешествие по Амазонке. Оно было кошмарным... А Женька в восторге. Несмотря на пиявок, москитов и эту ужасную фейжоаду[120]. Альберт краем глаза глянул на Кулановского. Темный профиль его казался вырезанным из жести. Женька сделал неплохой доклад, удачно и остроумно ответил на вопросы. Что же, все идет как надо. По приезде домой придется засесть за докторскую. Засядем! А пока смотри, смотри во все глаза. Еще не скоро представится тебе подобный случай. И Альберт смотрел. — Гляди, какой типчик затесался в наш бомонд, — встрепенулся Евгений. По трапу подымался небритый человек, одетый в поношенную, истертую на сгибах до известковой белизны штормовку. К солдатским брюкам прилипла красная сухая глина. Ботинки были разбиты вконец. Но человек выглядел сильным, гордым. Такими, наверное, были герои Джека Лондона. Новичок живописен, решил Альберт, особенно на фоне остальной хлыщеватой публики. Но есть в нем какое-то несоответствие. Ага! Печальный, усталый взгляд и воинственность амуниции. Такой наряд предполагает металлический блеск серых глаз, выдвинутую утюгом нижнюю челюсть и так далее. Либо напротив, теплым черным глазам незнакомца очень пошла бы, допустим, старая скрипка. Впрочем, такие руки не для смычка. А для чего? Гитары, мотыги, кнута, винтовки. — Симпатичный пиратик, — сказал Женя и улыбнулся.3
Рибейра старался не привлекать внимания окружающих, но ему это плохо удавалось. Ступени трапа щелкали вызывающе громко. Поднимаясь на палубу, он с треском зацепился карманом куртки за какой-то крючок. В довершение всего помощник капитана нарочито долго проверял его документы, что задерживало остальных пассажиров. Рикардо Рибейро, а проще Дик, не мог знать, что виной тому была не столько его внешность, сколько судьба, наградившая его билетом в четыреста первую каюту. Эта каюта пользовалась на корабле дурной славой. В ней всегда что-нибудь случалось во время рейса. Кража, самоубийство или убийство из ревности. Один раз там даже нашла приют болотная гадюка, которая смертельно перепугала занявшего каюту миссионера. Но бедняга Рикардо всего этого, конечно, не знал и во всем винил одежду. «Проклятый наряд. Проклятый наряд! Ну ладно. Там посмотрим, как эти господа будут обходиться с Диком Рибейрой через полгода. И все же Мимуазе не стоило брать дорогую каюту. Все деньги ушли на билет. Конечно, их все равно не хватило бы рассчитаться с толстым Педро, но приодеться бы я смог. Хотя в Штатах проделать все это будет легче. А сейчас не до переодеваний. Нет времени. Они идут по пятам. Быстрее, быстрее, черт возьми!» Краем глаза он уловил приклеившихся к перилам двух тощих хлюпиков, которые таращили на него глаза. Мальчишки, вы бы еще рты пораскрыли! Не видели людей, которые возвращаются из сельвы? И что этот толстяк копается? Неужели читать разучился? — Документы в полном порядке, сеньор капитано, — льстиво осклабясь, сказал Дик. Проволочная щетина на его щеках и подбородке угрожающе оттопырилась. — Проходите. — Помощник протянул Дику документы и отвернулся. Его спина выражала глубочайшее неодобрение тем, кто продал билет такому господину. — Я пойду поваляюсь в каюте, — сказал Альберт и с холодным достоинством вклинился в толпу иностранцев. Поток пассажиров почти прекратился. Пиратик, очевидно, был одним из последних. Недовольно и глухо в утробе корабля заворчали машины. Застучали лебедки. Пронзительно, по-женски тонко визжали в клюзах якорные цепи. Сейчас тронемся. Сейчас забурлит вода и от борта побежит крутая мыльная волна. Женя повис на перилах и приготовился смотреть. «Чудак Альберт, ушел в самую интересную минуту. Прощайте, прелестные незнакомки. Сейчас я вас покину, и вы никогда не узнаете, какого ласкового и мужественного парня потеряли в моем лице. Прощайте, милые...» Стало еще темнее, вода блестела, точно покрытая слоем жира; в порту Белен зажглись разноцветные огни, море подмигивало дьявольскими красными глазами. — Карамба! — пробормотал Женя, перевешиваясь через перила. Он увидел, как неизвестно откуда появившаяся лодчонка легонько клюнула носом в борт «Святой Марии». Две темные фигуры на лодке пришли в движение. У Кулановского слегка перехватило дух, но он еще сильнее свесился вниз. Не каждый день удается увидеть, как на океанский лайнер забираются зайцы. Женя увидел, как с лодки бросили небольшой блестящий якорь. За ним по-гадючьи бесшумно шмыгнула веревка. Жене показалось, что якорь исчез в иллюминаторе каюты второго класса. «Все понятно. Этим трап не нужен, у них свои пути. Налицо преимущество нетрадиционного мышления. Конечно, есть риск. Но он, говорят, облагораживает. Как и ожидалось, первым полез маленький. Толстяк его, кажется, пытается удержать, но куда там! Ого! Новое действующее лицо!» Из иллюминатора высунулась лысая, в черном венчике волос голова и выкрикнула какие-то слова. Очевидно, роковые, так как маленький «заяц» оторопело застыл, затем быстрехонько скользнул вниз. «Ая-яй, лодка с толстяком за это время отошла и малыш повис над водной пучиной. Хорошенькая альтернатива! Вверху — грозная лысина, внизу — море. Но нет, толстяк не бросил друга в беде, он сопит, как тюлень, он гребет, он идет к нему на выручку! И вот крошка вновь в своей колыбельке. То-то. Надо слушать взрослых. Лысина исчезает, потом вновь появляется и вышвыривает якорь, причем удивительно метко, прямо в лодку. Бах! С грохотом захлопывается иллюминатор. Справедливо и по-мужски. Бросайте якорь в другие окна, а я занят. У меня послеобеденный сон. Ая-яй! Зайцы-то попались неугомонные! Они поплыли вдоль борта. Они ищут новых приключений. Их влечет незнаемое. И они, кажется, добьются своего. Опять! Ребята, а если снова лысина?» Женя ликовал от восторга.4
Живчик почувствовал, что веревка в одном месте сильно намокла и руки его с трудом держат скользкий канат. «Проклятье! Проклятье! Пожалуй, не долезу. Слишком высоко для меня. Второй раз ползти по мокрой веревке. Стар я для этих штучек. Стар. Но шеф сказал, что он никому не позволит даром есть хлеб. Врет он. Кое-кому позволяет. Образина. Скот. Ох, не долезу... Руки соскальзывают». Ленивец смотрел, как медленно лезет Живчик, и улыбался. «Ползет вельо[121], ползет. Как шелкопряд по ниточке. Сытно жрать захочешь — поползешь. Нервничает вельо. Зря нервничает. Боится промахнуться, вот и нервничает. Немолод, но еще сгодится». Ленивец ощупал упругие резиновые борта лодки и тихонько рассмеялся: «А ведь шеф у нас дурак. Дурак, да и все. Он сказал тогда, что на это дело пойдут двое. Пойдет Живчик как опытный и старый. К тому же у Живчика хорошая реакция. И меня послал шеф. Сила, так сказать, и мощь. Вот как рассудил шеф. Ну и дурак, что так рассудил. По веревке ползать Живчику трудно, а мне и вовсе невмоготу. Еще неизвестно, пролезу ли в иллюминатор. Голова-то пройдет, а живот? Хотя, по правде, шеф не думал, что мы полезем в окошко...» Ленивец перенес руки с бортов лодки на свой арбузообразный живот и покачал головой. «Середнячка нужно было посылать на это дело, а не нас. А еще лучше — двух середнячков. Вот и выходит, что шеф дурак. Глупо рассудил, хотя и долго думал. Ну, наконец дополз вельо, а то я думал, что снова свалится...» Евгений Кулановский досмотрел захватывающую сцену до конца.5
Пятидесятипятилетний сочинитель детективных и фантастических историй Питер Ик прошел по коридору завитой, выбритый, спокойный, как Атос в «Десять лет спустя». Долго и лениво ковырял ключом в замке каюты. Замок не открывался. Но мистер Ик не спешил и не раздражался. «Не знаю ни одной каюты в мире, которая открылась бы сразу. Даже на сверхфешенебельных кораблях барахлят замки. Почему? Это одна из тайн моря. У него много тайн, в том числе и плохие замки. А может, дело не в замках? Возможно, я виноват? Я просто открываю эти запоры не по правилам. Не в ту сторону. Щелчок замка — первый звук в симфонии уюта. Эту фразу надо где-нибудь использовать. Ого!» В лицо писателя были направлены два пистолетных ствола. «Сорок пятый калибр», — пронеслась мысль. Ленивец занял почти полкаюты. Живчик пританцовывал за его спиной, высунув руку с оружием через плечо приятеля. Все трое стояли некоторое время молча. — Чем могу быть полезен? — отрывисто спросил Ик. Голос его почему-то стал отдавать хрипотцой. — Молчанием, — сказал Ленивец. — Сохранением тайны на протяжении всего маршрута следования до Майами, — протараторил Живчик. — Хорошо, обещаю, — сказал писатель, протягивая руку. Последовали торопливые энергичные рукопожатия, после чего гангстеры покинули каюту. Ик пожал плечами. «Пат и Паташон. Клоунада. Стопроцентная рафинированная клоунада. Что они стащили?» Он внимательно осмотрел каюту. Из-под койки торчал кусок темно-зеленой резины. Ик нагнулся и вытащил еще мокрую надувную лодку. «Образец МР-7 для ВВС США», — отметил писатель. Лодка была кое-как сложена и, очевидно, в спешке спрятана под кровать. «Оказывается, они ничего не стащили, а, напротив, даже оставили. Аванс за молчание и сохранение тайны на протяжении маршрута следования до порта Майами, как выразился маленький клоун. Что ж... В этом что-то есть. Стоит подумать... Забавные ребята. Классические неудачники из гангстерского фильма. У меня, по-моему, тоже были такие герои. Один — проныра, другой — неуклюжий. Один — толстяк и глуп, как тюлень, другой — проницательный шустрик. Итак, они приплыли на резиновой лодке, забрались ко мне в иллюминатор, который я никогда не закрываю, и, пригрозив пистолетом, выбрались в коридор. Теперь эти ребята пассажиры «Святой Марии». Таковы факты. Вопросы? Что им здесь надо? Кто они? Цель? Ответ: не все ли равно? Это мой хлеб, и я бы мог разгадать смысл их появления. Я один знаю их тайну. Да, один. К черту! Пусть шатаются по кораблю, убивают, грабят, режут — меня это не касается. Тем более, что я дал им слово... Слово, данное преступнику, недействительно. Кто сказал, что они преступники? Подозреваемые в преступлении. Только суд может объявить человека преступником. Презумпция невиновности, так сказать. Возможно, в Соединенные Штаты бегут два честных, самоотверженных патриота. Их цель — найти и добиться справедливости. Их цель?.. Не все ли равно?»6
В это же время Альберт Иванов, как и писатель Питер Ик, лежал на спине в своей каюте и смотрел в потолок со следами мушиных лапок. «В Америке у меня только одно действительно важное дело, которое следует провести с величайшим старанием. Мы, несомненно, посетим лабораторию Фредриксона, и было бы чудесно, если бы он рассказал о своем последнем синтезе. А то потом наврут, перевернут, переиначат. Как это и было на пресс-конференции после конгресса». Альберт снова (в который раз?) ощутил, как грудь его потеплела и кровь прилила к щекам. «Так переврать мое выступление! И думать не хочется, что об этом скажут дома. Придется объяснять, рассказывать. Противно... Одно утешение, что дома не читают бразильских газет. А вот пришел Кулановский, и на лице у него написано Событие». — Слушай, Алик, я сейчас наблюдал вторжение зайцев, — Евгений повалился в кресло и взял с койки Иванова раскрытый биохимический журнал. «Молодец Алька, ни минуты даром не упускает. Вот лежит, и не просто лежит, а со значением. Журнальчик почитывает. И не какой-нибудь, а научный. А я? Что я? Ничего. Нет, легкомысленный я человек». Женя вздохнул и сунул журнал Иванову под бок. — О каких зайцах речь, Женя? — О безбилетных. О тех, за которыми гоняются ревизоры, которых ловят и которые плачут и просятся к маме. Хотя те, кого я видел, к маме не попросятся. И плакать они тоже, пожалуй, не станут. Но все равно это типичные зайцы. — Почему ты так решил? — Да потому, что я сам все видел. Персональными глазами. — Ну расскажи. — После того как ты отчалил, сказав, что пойдешь поваляешься, а сам принялся штудировать последнюю работу Фредриксона, я остался на палубе в зыбком одиночестве. Стою себе, поплевываю в окиян и вдруг вижу: к борту нашего лайнера причаливает лодка и два типчика по веревке забираются в каюту второго класса. Иллюминаторы кают этого класса самые нижние, как раз над водой. — Им выбросили конец из какой-то каюты? — Наоборот, они забросили ее в иллюминатор. То есть не ее, а его, коль тебе угодно величать веревку концом. — Как же она не свалилась? Не упала в море? За что она зацепилась? — На конце был якорь. Маленький якорь. — И ты все это разглядел? В темноте? На расстоянии? — Расстояние небольшое, да и темнота неполная. — Интересно. — Не правда ли? Они помолчали. Альберт Иванов определил свою позицию. Он ни за что не станет вмешиваться в это дело. — Нас это не касается, — твердо сказал он, словно ставя точку в конце абзаца. Женя тоже не собирался вмешиваться. Он все прекрасно понимал. Но ему хотелось подразнить товарища. — А если они подорвут наше корыто? — ехидно спросил он. — С чего бы им это делать? — сердито возразил Иванов. — Гангстеры — народ такой, — уклонился Кулановский, — кто их знает. Может, чью-нибудь богатую бабушку надо ликвидировать. Вместе с пароходом это очень даже способно. Потопла бабуся, мир праху ее. А наследство подайте на блюдечке. Очень просто. Фирма «Убийство». — А сами? — Сами! А резлодка на что? — продолжал развивать фантазию Женя. — Да и мешочки какие-то там были. Возможно, акваланги. Пока мы будем корчиться в смертельных судорогах на пылающем лайнере, бандиты, медленно шевеля ластами, поплывут к ближайшему атоллу, где их ждут пальмы, кока-кола, красотки и гонорары... А может, кто-то хочет получить крупную страховую премию... Они вновь помолчали. — Что будем делать? — спросил Женя. Алик насупился. — А почему, собственно, надо что-нибудь делать? Он вытянулся и взял статью Фредриксона. — Я лично не хочу ничего делать. Да и тебе не советую. Не вижу оснований. Мало ли зайцев прыгает по земному шару. Женя внезапно ощутил, как по полу каюты прошла легонькая, едва уловимая дрожь. Это заработали гребные валы. — Э, да мы наконец двинулись! Пойду посмотрю, — оживился приунывший было Женя. Выходя из каюты, он сказал: — Все же ты неправ! Альберт исподлобья глянул на закрывающуюся дверь. Перевернул несколько страниц и стал читать выводы: «Проведенная работа дала обнадеживающие результаты...» Обнадеживающие! Чертов скромник! Женя стоял на палубе и напряженно всматривался в горящие в ночи огоньки. В памяти навеки отпечатался плоский низкий берег, старые двух-трехэтажные дома, мачты рыбацких парусников, тусклые воды залива. «Провинция, глубокая провинция. Невзрачные ворота в рай и ад южноамериканских дебрей. И запах-то от тебя такой же, как от всех не очень преуспевающих портов. Плесень, гарь, тухлятина, подгоревшее масло. Нет, последнее, кажется, местного значения. На «Святой Марии» вовсю работает кухня, которая обслуживает три ресторана и многочисленные буфеты. Оттуда и запах масла. Работа двигателей слышна везде. А вот там поют под гитару. Это из третьего класса. Хорошо поют, задушевно. Наверное, тот здоровенный мулат, которого я видел при посадке в компании таких же силачей... Смешно, ей-богу. Злополучный иллюминатор как раз подо мной. Если спуститься во второй класс, то довольно легко найти эту каюту. И что потом? Можно постучать. Фу, какая ерунда! Нет, но посмотреть-то можно? Каюта должна находиться как раз напротив трапа на солнечную палубу. Да здесь, кстати, свисает одна из веревок, которой крепят сходни. Вот и ориентир!» Направляясь к трапу, он с удивлением ощутил, что ветерок с ночного удаляющегося берега принес тонкий запах ванили и корицы. «Вот тебе и прогорклое масло! Настоящий именинный пирог». Женя прошелся вдоль застекленной галереи прогулочной палубы. «Двойная стеклянная преграда отделяет пассажиров класса люкс от дуновения свежего воздуха, который им, впрочем, не так уж и нужен. У них эр-кондишен. Узкие переходы — едва-едва разминуться, латунные поручни жарко надраены и блестят, как позолоченные. Трап. Палуба. Еще один трап. Включили освещение. Это хорошо. Но почему разноцветные лампы? Ага, для красоты. На одной палубе у вас лицо фиолетовое, на другой — зеленое. Приятно, конечно. А вот и таинственная каюта. Точно ли я рассчитал? Да, кажется, вполне точно». Дверь поднадзорной каюты хлопнула, из нее вышел сухонький стройный человек и ленивой походкой направился к надписи «Для джентльменов». Длинные локоны его были слегка завиты, а усы закручены в тонкую ниточку. Женя даже споткнулся от неожиданности. Карамба! Ошибся каютой? Исключается. Она одна в этом месте. Здесь угол, других помещений нет. Только эта каюта и стенка ресторана второго класса. Значит, сообщник? У них есть сообщник здесь, на корабле? Почему же он им не помог при посадке? Подойти и заглянуть, пока он отсутствует? Не глупи! Может, здесь дело серьезное. Иногда ведь стреляют через дверь. Лишних свидетелей нигде не любят. Никто никогда не любит свидетелей. Удалимся». Питер Ик краем глаза заметил Женю и сказал себе: «Это не американец... и не англичанин».7
— Сообщник? Не говори чепухи, — сердито буркнул Алик, — стали бы они тогда так долго и нудно искать его иллюминатор. И этот якорь, если только он был на самом деле... а тебе не померещилось черт те что в потемках? — Был, был. — Нет, брат, здесь что-то не так. Ты ошибся каютой. — Я проверил. — Ну, тогда не знаю. Альберт нахмурился и снова схватился за прочитанный журнал. «Вот так и втягиваешься в авантюру. А почему? Дело здесь не только в Женьке. Мне ведь и самому интересно. Интересно — вот в чем корень зла. Любой, даже чисто логический сыск пробуждает азарт, и становится интересно. Этим и подкупают детективы. Но куда же все-таки девались эти зайцы? Женька так смотрит на меня, словно я комиссар Мегре и Холмс одновременно». — Ты бы пошел поглядел, что там наверху происходит, — сказал Альберт, — мы, кажется, остановились. Альберт ощутил, что у него затекла левая, заложенная под голову рука. Он сменил ее на правую и расправил помятые, совершенно слипшиеся, как карамельки без обертки, пальцы. «Куда же все-таки девались зайчата? Да и были ли они? Не хитрый ли это Женькин розыгрыш? В паше время — и зайцы? Причем как? Дедовским способом, по веревочке, — в открытый люк! Хотя в век сверхтехники ручной способ имеет свои преимущества. Нет нужды в сложной, ненадежной, дорогостоящей аппаратуре». Кулановский ворвался сияющий. — Случилось нечто грандиозное? — кисло осведомился Альберт. Периодические возникновения взволнованного Кулановского стали, по-видимому, обязательным атрибутом их путешествия. Впрочем, Альберт только так корчил недовольные рожи. В глубине души ему было жуть как интересно. — Нет. То есть да. Понимаешь, какая штука, мы действительно остановились, так как нас догнал один пассажир, вернее, двое. Потому и суета. Пока пришвартовывали глиссер, спускали трап, естественно, шум, крик, гам, неразбериха. Но самое интересное не в этом. Знаешь, кто нас догнал? — Кто же? — Доктор Трири. — Доктор кто? — Трири. — Ну и что? — Тебе это имя ничего не говорит? — Итальянец? — Господи, ну при чем тут итальянец или нет? — возмутился Кулановский. — Американец он. Доктор Трири знаменитый на весь мир проповедник наслаждения. Он же создатель химической теории экстаза. Он же председатель Всемирной лиги наслаждения. Насколько мне известно, очень деятельный тип. Разъезжает по всем странам со своими лекциями. — Ах, этот псих... Его же сажали, кажется? Нарушение закона общественной нравственности, что-то в этом роде. Или я перепутал? — Ты не перепутал. Но, как видишь, он уже на свободе. Он прибыл сюда со своим учеником. Если бы ты видел его, как он взлетел по трапу! Словно орел... — Женя, а как же твои зайцы? — Какие там зайцы? Трири на «Святой Марии»! До чего же интересно! «И в самом деле интересно», — мысленно согласился Альберт.* * *
Доктор Трири не носил сутаны. Когда-то его в этом одеянии мечтали видеть незабвенные родители. Но всевышний рассудил иначе. Доктор Трири носил нечто вроде профессорской мантии, черное и широкое. Его наряд произвольного покроя не стеснял движений, не сковывал свободу тела. «Свободу тела и духа. Ибо они взаимосвязаны». И когда он поднял свои руки, длинные бледные руки, руки, не знавшие оружия, спорта и труда, всем и впрямь показалось, что на палубу «Святой Марии» сел могучий орел или гриф, спустившийся сюда с далеких вершин Сьерра-ду-Мар. — И если наряд мой поражает ваш взгляд, — с ходу начал доктор Трири, — то подумайте немного, и вы поймете цель и назначение этого независимого покроя. И смысл, и цель, и назначение одно — свобода. — Он взмахнул рукой, и на тонком аскетическом пальце его сверкнул кардинальский аметист. — Святая свобода. Святая свобода тела, всего тела в целом и каждого органа, каждой клетки в отдельности. Да, да, я не оговорился! Любая клетка моего тела имеет право на свободное волеизъявление. Был час, когда... — Господин доктор, — вежливо перебил Трири помощник капитана, — может быть, мы соберем более представительную публику, допустим, завтра и с удовольствием послушаем вас в условиях, соответствующих ценности высказанных здесь мыслей? — Это неважно! Истина не ждет! Промедление смертельно! Моя аудитория иногда измеряется одним человеком, и этот человек — я сам, но и тогда я не замолкаю! Я буду говорить! Итак, я говорю, что был час, когда клетки наших тел, разобщенные и разделенные, носились в мировом океане жизни. В те далекие эпохи еще не существовал Организм. Да, да, я называю его с большой буквы, потому что роль Организма в порабощении и закабалении наших клеток, клеток нашего тола, столь же величественна, сколь и трагична. В то геологически трудно представимое время каждая клетка была свободна! Да, я утверждаю, что в те времена каждая клетка была... живой личностью! На свой страх и риск принимала она решения, приносившие победу или смерть, на свой страх и риск вела борьбу, побеждала или терпела поражение. Такая свободная клетка имела свои привычки, свои слабости, радости, огорчения. Да, да, не смейтесь там, сзади. Она допустила страшную, роковую ошибку, позволив закабалить себя в Организме, но мы не осудим ее за то, чего сейчас сами не можем избежать. Будем же милосердны к нашим клеткам, к нашему телу. Предоставим им ту минимальную свободу, которой мы располагаем. Не будем стеснять их неудобной одеждой и фасонной обувью. Пусть клетки вашего тела будут вольны хотя бы от моды! О различных аспектах освобождения клеток я буду говорить завтра. Доктор Трири так же внезапно замолк, как и начал, и зорко повел взглядом поверх голов слушателей. Немногочисленные зрители безмолвствовали.8
— Ну и что было дальше? — спросил Альберт. — Да ничего. После этой ахинеи насчет клетки доктор Трири замолк и довольно упорно нас рассматривал. И при этом, по-моему, он думал о нас всех что-то нехорошее. — Как он выглядит? — Довольно эффектно. Высокий, в черном и широком. Белый воротничок из валансьенских кружев делает его похожим на грифа. Костляв, сухопар. Лицо бледное, аскетическое, губы тонкие, — впрочем, ты завтра сам его увидишь. — С чего ты взял? — Я полагаю, мы все же посетим его лекцию. — Зачем? — Как — зачем? — Зачем нам слушать всякий бред? — Разумеется, это бред, но тем интереснее и забавнее его слушать. Ей-богу, ты еще не видел такого цирка! — Ну ладно, завтра посмотрим. Ты не досказал, что было дальше. — Да ничего выдающегося. Во время этой блистательной речи за доктором топтался увалень — его ученик. Здоровенный такой парень, красномордый и, по-моему, в стельку пьяный. Фамилия ученика Остолоп. Забавно, не правда ли? — Врешь. Откуда ты узнал? — Я слышал, как обращался к ним помощник капитана. Мистер Трири и мистер Остолоп. — Сочинил. Тут же, на месте сочинил! Что, я тебя не знаю? Кулановский вздохнул: — Ну сочинил. Одну букву. Оссолоп его фамилия. — То-то. А что потом? — Да ничего, говорю тебе. Поглядел на нас и отправился к себе в каюту.9
Торжественно, размашистым шагом доктор Трири миновал пассажирскую палубу и поднялся к себе в номера люкс. Словно подрубленное дерево, доктор рухнул в мягкое чашеобразное кресло. — Здесь дивно, Джимми, не правда ли? — слабым голосом произнес проповедник. — Можно будет хоть немного отдохнуть. — Вы правы, док. Здесь неплохо. Не хотите ли поужинать в ресторане? — Господи, Джимми?! — Ладно, ладно. Тогда оставлю вам ваши термосы, а сам схожу подкреплюсь чем-нибудь существенным. Джимми Оссолоп мягким движением притворил за собой дверь. «Старик ужасно нервный. Боится резких звуков. Стук двери способен нагнать на него истерику. Вообще он, док, молодец. Он многое может. Он мне предсказал, что лейтмотив не исчезнет неделю, как я ни прыгай, и действительно, уже четвертый день держится, проклятый, и не слабеет ни на секунду. Точка, тире. Точка, тире. Жирная черная точка и белое, сверкающее, словно проблеск молнии, тире. Точка, тире. Затем точка и несколько тире. Но чаще всего только точка и тире. И ничего больше. Точка, тире. Вот ведь проклятье, какой глупый лейтмотив. Док говорит, что это фокусы подсознания. Но, говорит, все равно это удивительно. Непостижимо, говорит док. Шутки подкорки и симпатики. Но мне не легче от этих шуток. Точка, тире. Подумать только! И какая жирнющая точка! Тире долго не держится. Промелькнет, и нет его. А точка висит. Еще три дня мучиться, если верить доку. Алкоголь не помогает, конечно. Но после выпивки как-то начинаешь смотреть на все со стороны. Вроде бы это не совсем твоя точка и не тебе принадлежащее тире».10
Питер Ик осторожно пробирался среди огнетушителей и канатов. «То, что свернутый стальной трос или бухта манильской веревки похожи на спящих змей, приходило в голову сотням тысяч людей, но помнили ли они о змеиной сущности спирали вообще? Прямая линия проста, кривая линия хитра, а завитая, как спираль, хандру нагонит и печаль. Чепуха!.. Кажется, я, как обычно, заблудился. Удивительная, феноменальная неспособность ориентироваться! Ориентироваться в пространстве и в людях. Почему же я писатель? Нет, нужно разобраться с самого начала. Мне было грустно, и я вышел, и самонадеянно направился в ресторан. Почему самонадеянно? Потому, что не спросил у стюарда, куда следует идти. Тут же я заблудился. По-моему, я нахожусь в районе грузового трюма и скоро буду туда спущен как лишний груз, балласт, который надлежит выбросу (выносу) из корабельного помещения. Придется обращаться за помощью к человечеству. Часть аппелирует к целому. Частность взывает к правилу. А вот и представитель этого правила. Он идет тем же порочным путем, что и я. Он путается в канатах и огнетушителях и, кажется, воображает, что попал в дебри амазонской сельвы. Кроме того, судя по некоторым приметам, как-то: росту, ослепительному румянцу, великолепным зубам и одеянию, — передо мной соотечественник. Он молод и глуп. И к тому же пьян. Но здесь мы переходим уже в позитивную область. Если этот парень пьян, значит, рядом ресторан». — Вы не скажете, как пройти в ресторан? — Ик был предельно вежлив. Одновременно он пытался магнетическим взглядом пробудить сознание в затянутых дымом глазах Оссолопа. — Ресторан? Я сам его ищу! Черт бы побрал их со всеми переходами! Никогда не встречал такой безумно громоздкой конструкции! Голова закружилась. Давайте спросим стюардессу! — Стюардессу? Но мы на морском корабле! — Разве? Тогда спросим у капитана. Он наверное должен знать, где у него ресторан. Не так ли? — Логично. Боюсь только, поиски капитана займут не меньше времени, чем поиски ресторана. — Тогда пойдем в бар. Ик с интересом рассматривал пошатывающегося Оссолопа. — Почему вы предполагаете, что бар найти легче, чем ресторан? — спросил он, сурово ожидая ответ. — Ресторан большой, не правда ли? — Джимми широко расставил руки, иллюстрируя мысль о том, как велик объект его вожделений. — Согласен. — А бар маленький, не возражаете? — Джимми свел ладони. — Допустим, хотя вы уж очень преуменьшили бар. — Я утрирую. Ну и вот! — Что же следует? — А то, что бар найти легче, чем ресторан. — Но почему? — возмутился Ик. — Разве стог сена найти труднее, чем иглу в нем? — Нет, но найти великое всегда труднее, чем малое. Я предлагаю начать с малого. А им является бар. Следовательно, ищем бар. Оссолоп победно поглядел на Ика: «Эх ты, точка с тире!» Питер Ик подумал и согласился: — Идет, ищем бар. «Ну что за клоун! Чудо, а не клоун. Глуп и весел, что может быть приятнее? По крайней мере, для меня. На сегодня, на вечер. Нет, он вполне способен заменить милую собеседницу». — А ведь я прав! — заорал Оссолоп. — Вот он, бар! Два коньяка и два кофе, мадам! Мое имя Джимми. И точка. Джимми, и все. Без выкрутасов. Я человек науки. — Питер Ик, писатель и публицист. Отсутствие выкрутасов, дорогой Джимми, — это уже в некотором роде выкрутас. — Возможно. А что вы пишете? Как вам нравится этот коньяк? — Не будем говорить о работе. Пишу я разное. Коньяк местный, неважный. — Мистер Ик украдкой разглядывал барменшу. «Она была, наверное, дьявольски хороша. Боже, до чего она была хороша! А теперь она будет становиться все хуже. С каждым днем. Это ужасно. Почему ты не воспринимаешь все так, как оно есть? Реальный миг, реальный день, реальный мир. Какое имеет значение, чем была и чем станет барменша? Главное — она есть. Клоун как-то изменился, в нем открылось что-то неприятное». — Вам очень досаждает критика? — Как вам сказать, Джимми? Не очень, но... с ними трудно найти общий язык. «Клоун, ты меня разочаровал. И ты суешь нос в литературу. Как вы мне надоели!» — Еще два коньяка, мадам! «Она, конечно, прелестна и сейчас. Синьора грация. Синьора экселенца. Превосходная синьора. Откуда она?» — Скажите, Питер, вас никогда не интересовали странные люди? — Странные люди? Америка полна ими. Я только и занимаюсь странными людьми. Простите, Джимми. Ваше здоровье, синьора. Если не секрет, то как мы с вами поздороваемся следующий раз? — Добрый день, Миму. — Миму? — Так меня зовут друзья. Полное имя Долорес Мария ди Мимуаза, но, сами понимаете, оно не очень уместно здесь. — Понятно. Благодарю вас, Миму. «Какая прелесть! Как просто, без ломанья, без хихиканья. Врожденное благородство. Ди... стало быть, в роду были дворяне, от них это величие и простота. Впрочем, у испанцев и португальцев «ди» это не совсем то, что «де» у французов...» — Вы не слушаете меня, Питер, и я третий раз повторяю вопрос: как вы изображаете странных людей? — Как? Ну, налегаю главным образом на их странности, и получается очень похоже. — Перед вами сидит очень странный человек, — торжественно объявил Оссолоп. — Лучшего объекта вам не найти. Опишите меня, Питер, и вы сразу получите Нобелевскую премию. Ик рассмеялся. — Хорошо, Джимми, об этом поговорим завтра. Хотите еще выпить? — Нет. Но боюсь, что вы не сможете меня описать. Я чрезвычайно сложен. Я невероятно сложен! — Как и любой человек, Джимми, не правда ли? — Нет. Любой человек не сложен. Любой человек ясен. Любой человек прост. А я, я совсем другое дело. Хотите знать, как я вас сейчас вижу? — Ну, Джимми, сейчас вы можете вообразить что угодно. Это не показательно, это не представительно. Это... — Простите, Питер, я вас перебью. Я должен вас перебить, у меня нет другого выхода. Я вас вижу как точку с тире. — Точку с кем? — Точку и тире. «Точка, тире, — отстукал он ложечкой по краю блюдца, — тире, точка». Ик пожал плечами. Оссолоп почувствовал облегчение. Когда выговоришься, сразу становится легче. — Понимаете, я сейчас все кругом вижу как точки и тире, ну и вас заодно, так сказать. Это у меня лейтмотив такой. Одни точки и тире. Понятно? — Отчего же не понять? Все очень просто: точки и тире. Так что же во мне главное — точки или тире? — К чему подобные разграничения? — Верно. Формализм здесь просто неуместен. Они помолчали. Ик с холодным интересом рассматривал Оссолопа. — И вы не боитесь заблудиться во множестве этих точек и тире? — спросил писатель. — Куда идти, с кем говорить, что делать? Ведь они вряд ли могут создать даже тот минимальный комфорт, которым мы пользуемся на «Святой Марии»? — Вы меня не так поняли, — ответил Оссолоп, — обычный мир я воспринимаю так же, как и вы, может, чуть острее. Я не собьюсь с пути и найду свою дорогу в бар. Дело в ином. Кроме всего этого, вокруг нас есть же еще надощущения, сверхчувства. — Астрал? Ментал? — Да нет, не то. От каждого предмета у вас остается образ, не так ли? То же самое остается от людей, животных, природы. Какие-то краски, формы, линии. Правда? — И что? — Так вот этот образ не всегда совпадает с нашими ощущениями. Ведь такое бывает? Видите и слышите одно, а образ создается совсем другой? — И у вас? — Вот именно. Я-то очень хорошо вас вижу. Я могу назвать цвет ваших глаз и форму носа, но все разно... — Я точка с тире? — Именно. Я знаю, да, я знаю! Наконец нашел слово! Я знаю, что вы точка и тире, и все тут. И все время помню об этом. Я знаю, что все вокруг — это всего лишь разнообразные сочетания и комбинации точки и тире. Вот! — Интересно. Ваше образное восприятие перестроилось по двоичной системе: точки — тире, один — ноль, да — нет. Забавно... Еще немного бренди, мадам Миму!11
— Эта? — Ленивец ткнул пальцем в дверь каюты. — Сейчас проверю. — Живчик извлек из заднего кармана брюк толстенную записную книжку. Ленивец только головой покачал. «Набираются же люди всякого. Книжки заводят! На свою голову уже не надеются. А все начинается сверху. Каков шеф, таковы и работники. Сдал старый Педро, сдал. Раньше на себя полагался, на свою смекалку, а теперь всё журнальчики полистывает, технические новинки вычитывает. И этот, вельо, туда же. Записать записал, а на какую букву, забыл. Роется, ищет. Интересно, читать-то он умеет или нет? Эх, ты!» — Она! Четыреста первая каюта, шестой палубный отсек! — торжественно провозгласил Живчик, захлопывая замусоленную книжицу. — Доставай повязку! Они приладили на рукава широкие белые ленты с красными крестами и пошли вдоль безлюдного коридора. — Санитария! — повизгивал Живчик. — Санитария! — басил Ленивец. Они стучали в каюты, и если им отвечали «войдите», Живчик, просунув голову в двери, вопрошал: — Мыши, крысы и другие насекомые... — ...не беспокоят? — Ленивец распахивал двери пошире и, нависая, как глыба, над Живчиком, обшаривал глазами помещение. Все шло как по маслу. Им отвечали «нет» или «не знаем». Они двигались дальше. Живчик сиял. Эта часть программы принадлежала ему. Старый опыт чего-нибудь да стоит. Рано некоторые решили списать его со счета, рано. И хлеба даром он никогда не ел. Из одной каюты на наглые выкрики гангстеров высунулось худое, землистое лицо и ехидно спросило: — Вы нас, кажется, за идиотов принимаете, милейшие? Живчик оторопел, а голова продолжала: — Откуда нам знать о насекомых, если только несколько часов назад эта лоханка снялась с якоря? Не орите здесь, а то я сейчас позвоню капитану и узнаю, кому понадобилось поднимать всю эту кутерьму! — Успокойтесь, господин, — Ленивец говорил, позевывая от пережитого испуга, — проверка ведется по плану. Один раз в начале, второй в середине, третий — в конце плавания. Вот наши документы. Ленивец сунул руку в карман и там сжал ее в кулак. Карман округлился, распух, вздулся точно перед взрывом. Пассажир что-то пробормотал и скрылся. — Пошли, вельо, да не очень-то кричи, а то и впрямь на кого-нибудь нарвемся. Оробевший было Живчик перед четыреста первой каютой оживился. «Как-никак мы близки к цели. Моя заслуга. Хотя Ленивец тоже... проявил. Не сробел в нужный момент. Из него выйдет толк. Нужна школа. Пока он сырой какой-то, жирный ленивый поросенок!» Четыреста первая на стук и возглас: «Санитария!» — ответила тоненьким женским голосом: — Прошу вас! Физиономии гангстеров вытянулись. Ленивец даже не произнес традиционную фразу насчет крыс и насекомых. Он широко шагнул в каюту. Живчик шмыгнул за ним. — Где хозяин? — Кого вы имеете в виду? — Черноглазая вертихвостка лет шестнадцати, подбоченясь, сурово смотрела на вошедших. «Задрать бы тебе юбку да всыпать, чтобы не прыгала по каютам взрослых мужчин. Соплячка, дрянь такая! Откуда она взялась?» Живчик совсем расстроился. — Закрой-ка дверь, мы сейчас с ней побеседуем, — сказал Ленивец и икнул. — Что вам нужно? Сейчас сюда придут! Не смейте запирать! «Ой! Мама про такое не говорила. Они страшные и некрасивые какие. Особенно этот толстый, настоящий поросенок». — Ладно, не шуми, детка. Мы ничего тебе не сделаем. Но ты нам все расскажешь. Хорошо? — Ленивец оглядывал каюту. — Я ничего не знаю. — Ты не знаешь, что в этой каюте едет Дик Рибейра? Ты никогда его не видела? — выскочил из-за спины напарника Живчик. — Я ничего не знаю. Сейчас сюда придут. И если вы не отстанете, я буду плакать и кричать. А потом я буду драться. Вот тогда берегитесь. — Успокойся, малышка. Мы не хотим тебе плохого. Как твое имя? — Ленивец перестал икать, но вновь начал зевать. — Лоис. — Очень хорошо. А кто твой отец? — У меня нет отца, у меня есть мама. — И ее зовут?.. — Ничего я вам не скажу! Ничего! Уходите немедленно или я позову на помощь! Живчик кипел от негодования: «Ох же и дрянь! Ну и дрянь! Сначала пару хороших пощечин, затем ремнем по спине, а потом пониже, да так, чтобы с неделю садиться не могла! Но что поделаешь! Надо терпеть. И от этой чернявки приходится терпеть. От всех терпишь, что за профессия, ей-богу! А иначе нельзя. Преждевременный скандал грозит провалом. Это даже Ленивец понимает». — Ладно. — Ленивец решительно встал с кресла. Из этой девчонки сведения можно добыть только кнутом, но это успеется, и поэтому лучше уйти. — Передай привет Дику, если увидишь его, и скажи, что два старых приятеля из Белена хотят с ним встретиться. И добавь, чтобы он не пытался от нас сбежать. Добудем со дна морского! — Это уж точно! От нас не улепетнешь! — подтвердил Живчик и демонически захохотал. На душе его скребли кошки. Блистательная операция если и не проваливалась, то откладывалась на неопределенный срок. Будь все проклято! Они вышли. Лоис, бледная и ослабевшая, упала в кресло. Ей было по-настоящему страшно. Потом заплакала. Ей было очень страшно. — Подсадная утка, — сказал Ленивец. — Обходный финт Дика, — сказал Живчик. — Долго она не высидит. Побежит к маме или к Дику рассказывать о том, как злые дяди ее напугали. Надо следить, она приведет нас в гнездо. — А если будет сидеть здесь всю ночь? — Что же, — Ленивец зевнул, — придется ночью ее навестить. Не бегать же нам за Диком по этому корыту? Того и гляди, нарвешься на кого-нибудь, кто знает пассажиров в лицо. Было бы неприятно. — Да, этого не хотелось бы. Ленивец посмотрел на товарища. Неудача сокрушила Живчика. «Сник, вельо, побледнел. Все морщины обозначились на лице. Словно пузырь с воздухом прокололи. Завял и обмяк Живчик. Эх, ты!» — Ну ты, вельо, не скисай, — грубо сказал Ленивец, — добудем мы клятого Дика и все, что надо, сделаем. Держись, не так уж плохи дела. Не уйдет он, ему разве что за борт прыгать, а другой дороги, кроме наших лап, нет. — Да я что ж, я ничего. Живчик отвернулся, стараясь не смотреть Ленивцу в глаза. «Поросенок тебя пожалел, Живчик. Докатился, старик. А что ж, поросенок не так уж плох, ума маловато, правда, но работать с ним надежно». — Слышишь? — Что? — Не выдержала уточка, полетела в гнездышко. Давай за ней!12
Питер Ик допил бренди и решил перейти на виски. В буфете был превосходный шотландский «хейг». «Это невозможно. Это совершенно невозможно. Почему они все умничают? Почему? И этот туда же... Точка, тире. За что на меня со всех сторон наседают умники? Интеллектуалов сейчас больше, чем дураков. Это верный признак приближающейся всемирной катастрофы. Но что теперь делать? Уходить не хочется, оставаться противно. Ах, донья Миму, донья Миму, секунды счастья мчатся мимо, жизнь до смешного коротка, сиди и слушай дурака... Добавить разве коньяка?» Он критически посмотрел на виски пополам с водой. Смесь была едва желтоватой. Потянул носом. Из стакана пахло торфяным дымом. «Эх, Шотландия!» — Вы нелюбопытны, — сказал Оссолоп, — это очень плохая черта в писателе. Вы никогда не станете великим. — Как вы никогда не станете приятным и вежливым собеседником, — проворчал Ик, доливая в стакан еще виски. «Кажется, мне уже пора удаляться. Не знаю, как тире, а точка перебрала основательно. О, какое волшебное явление! Это ее дочь, несомненно. Девочка взволнована, она ужасно взволнована. Она как птенец, выпавший из горящего гнезда, у нее дымятся крылышки и беспомощно раскрытклювик...» — ...видеть Дика Рибейру, — донеслось от стойки до ушей писателя и пьяного ученика доктора Трири. Джимми Оссолоп вздрогнул. «Господи, что я здесь делаю? Как я сюда попал? С ума сойти, как человек может распуститься. Где мои сигареты? Вот они, милые. Сейчас все пройдет. За дело, Джимми, за дело. Выходит, женщины знают, где Дик. Которая из них? Займемся сначала молодой. А старуха не уйдет, ей от бара не отклеиться. Вперед, Джимми! Не шататься, это на девушек производит тяжелое впечатление». Питер Ик отпил немного, поморщился и взял в рот ломтик лимона. «А ведь донья Миму разгневана! Эти красные пятна на шее, они совсем ей не идут. Вот она создает повелительный жест, именно создает, а не делает, и выпроваживает дочь. В чем смысл этого жеста? Ступай и сиди. Или ступай и жди. Бедная девочка ушла, вобрав голову в плечи. Строга Миму, очень строга». — Вы куда, Джимми? — Простите, одну минуточку, одну-единственную... «Ай да точка с тире! Какая прыть! Как он, однако, быстро протрезвел? Неужели эта девица его так воодушевила? Нет, нет, он дремал и при появлении девочки, и во время разговора с матерью, девочка вовсе ни при чем. Что же все-таки? Как-то сразу, даже противоестественно... Что-то произнес и побежал. Было какое-то восклицание... пожалуй, имя, чье-то имя было произнесено. Так!» Увидев входящих в салон Живчика и Ленивца, писатель быстро соскользнул с табурета. — Сколько, Миму? «Это уже слишком. Зайцы стали так же нахальны, как и охотники. Меньше всего я хотел бы выяснить сейчас внутренние комплексы этих ребят. Они, наверное, состоят из одних точек. Точек, которые остаются в яблочке мишени после стрельбы. К черту. Я удаляюсь». — Ваша лодка в целости. Можете получить в любой момент, — тихо сказал Ик, минуя Ленивца. Тот приятно осклабился и покосился на Живчика. Вот что значит правильное воспитание клиентуры! Учись, учитель.13
В баре было немного народу. Разговор мог бы получиться глубоким и содержательным, если б эта чертова кукла не уперлась. Слишком самостоятельный вид у этой женщины. — Ты нас знаешь, Мимуаза, не правда ли? Ленивец накрыл табурет своим телом. Миму показалось, что он стечет на пол, как жидкое тесто. — Да, господа, знаю. Не очень близко, но, кажется, мы встречались, и не раз, внизу у Вер-о-Пезо. — Именно. Мы тебя тоже знаем. И ты не можешь пожаловаться, что мы тебя обижали. Не так ли? — Нет, синьоры, ни за что на свете. Зачем мне брать грех на душу и говорить то, чего нет. Я не из тех женщин, которые сочиняют небылицы. Вам это, надеюсь, известно? — Да, Миму. Ведь мы знали тебя еще тогда, когда ты стояла за стойкой у Толстого Педро. Не забыла? — Еще бы забыть! Тогда был жив мой последний муж. Он не дурак был выпить и всегда приводил с собой большую компанию пьяниц. Я вас часто тогда видела. Это ж была почти даровая выпивка. Толстый Педро через месяц выгнал меня из ресторана за перерасход спиртного. — Слушай, Миму, мы бы сразу пришли к тебе, если б знали, что Дик станет валять дурака и будет прятаться от нас. Где Дик, Мимуаза? Женщина внимательно посмотрела на сидящих перед ней мужчин. Сердце ее часто заколотилось. Словно вбивало в голову слова: «Это твои враги, Миму. Это твои настоящие, злейшие враги. Может, раньше ты с ними шутила, плясала и пела, но то время давно ушло. Сейчас они здесь, чтобы отобрать у тебя твой последний шанс, Миму. Будь коварной и беспощадной, как и они. Держись, Миму!» — Не знаю. Сама ищу. Вот дочку второй раз послала к нему, сказала, пусть дождется и приведет, как только тот появится. Напился, наверное, да валяется где-нибудь пьяный, как свинья. Наступило долгое, тяжелое молчание. Ленивец, не поднимая глаз, сказал: — Слушай, Миму, у тебя дочь еще девчонка... да и сама ты... одним словом, завтра утром ты сведешь нас с Диком, поняла? В противном случае пеняй на себя. Ясно? Живчик отвернулся и посмотрел в конец бара. — Да, — ответила Миму, с трудом разжимая губы, — все ясно. «О, будьте вы прокляты! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». — Что вы хотите от Дика? — Нам нужен он сам, а там уж мы договоримся. Через тебя, во всяком случае, работать не станем. «Проклятье на ваши головы, на головы матерей, родивших вас, на головы всех женщин, любивших вас, проклятье... За что мне такая кара? Последний шанс, единственный шанс. Бедный Дик... Бедный мой мальчик». — Куда мне сообщить, если он появится раньше? Наступила мгновенная заминка. Сказал Живчик: — Мы придем сюда завтра к девяти. Ленивец добавил: — Сегодня перед закрытием мы еще заглянем к тебе. Пошли, вельо. Они ушли. Миму налила себе большую рюмку бакарди и, отвернувшись от столиков, быстро выпила. «Спокойно, девочка, не теряй головы. Ты же знаешь их: это трусливые и подлые шакалы. Они будут лаять, кружить и тявкать, но не решатся сразу укусить. Старик, тот вообще пустое место. В толстяке, правда, есть грозная сила, он пугает. Но все равно так просто я не сдамся. Я буду драться. Нужно все рассказать Дику. И успокоить Лоис. Бедная девочка, она-то тут совсем ни при чем. Но должен же мне кто-нибудь помогать? Я одна, совсем одна! Всю жизнь одна! Господи... Где же эти подлецы остановились? Скрывают номера кают, боятся, выдам? А что я могу сделать? Натравить помощника капитана, пусть еще раз проверит документы? Но он уже проверял их при посадке. Да и в порядке их фальшивки, я в этом уверена, они такие вещи отлично умеют готовить, к ним не придерешься. Да и как их выдашь? За это полагается нож. Таков их проклятый закон... Что же делать? Что делать?!»14
Евгений Кулановский вышел перед сном из каюты на палубу. «Святая Мария» двигалась в теплом сиренево-сером тумане. Стоял полный штиль. Приятно пахло йодом. Океан слабо люминесцировал серовато-синим светом. «Надо прогуляться по кораблю, — решил Женя, — и бай-бай. Альберт уже видит первый сон. Он спит, заложив Фредриксона под подушку. Для усвоения во сне. Гипнопедия. На солнечной палубе крутят фильмы. Выстрелы и хохот. Боевичок. В холле класса люкс полумрак, там чинно танцуют под блюз. В третьем классе тоже не спят, звучат гитары и другие щипковые инструменты. Отчетливо доносятся слова народных песен штата Байя. Или Баийя? Все едино. А вот здесь, в полумраке... Эээ, там происходит что-то нехорошее! Придется вмешаться. Не проходите мимо, как говорят». Он прислушался. Как будто бы женский плач, всхлипывания и удары... удары по чему-то мягкому, кажется, по человеческому телу. Кулановский сделал несколько торопливых шагов к темному закутку и остановился. «Ба, да здесь перепутаны причина и следствия! Девчонка избивает большого взрослого мужчину? Плачет, всхлипывает, но изо всех сил колотит кулачками по его груди, животу. Тот только охает! — Эээ, что вы делаете?! Отпустите парня, вы его изувечите! Женя говорил по-русски. Лоис использовала португальские ругательства, Оссолоп стонал по-английски. Все было как на Вавилонской башне во времена оны. — Отпустите его, и больше женственности, девочка, вы ведь только начинаете свой жизненный путь! Нельзя истреблять мужчин такими примитивными способами. Признаюсь, для начала у вас получается это вовсе неплохо. — Вот тебе за всех и за все! — Лоис надавила острой коленкой на грудь Джимми. — Ооо...х! — выдавил Джимми. — Хватит, хватит! — Женя тронул девушку за плечо. — Не надо! Еще минута, и ему будет конец. Финиш. Капут. Карамба. Стоп! Лоис отпустила Оссолопа и рванулась к Жене: — А ты откуда взялся? Ты кто? Ты с ним? Женя поднял руки вверх. — Ешьте меня с маслом и без оного, девочка! Я за справедливость! Если парень заслужил высшую меру наказания, пусть пройдет через суд! Суд, сеньорита, вы меня понимаете? Я лично по-португальски ни бум-бум. — Она дала мне в большое дыхание, и я перевернулся, — заявил Оссолоп, садясь. — Все вы подлецы! Честная девушка шагу не может ступить, везде эти свиньи со своими лапами! — Она дала мне в дых... Я, правда, немножко выпил... Евгений Кулановский улыбнулся. «Черт возьми! Ну и темперамент!» В неровном электрическом свете горело, дрожало, сияло огненное девичье лицо. «Будь я проклят, если когда-нибудь видел такое лицо. Будь я проклят, если увижу!» — Наконец я с вами расквиталась, твари! — еще раз всхлипнула Лоис и занялась прической. Джимми быстро вскочил на ноги. — Ей-богу, я вел себя с ней джентльменом! — вывернув руку, он пытался счистить прилипшие к спине окурки. — Мда? — Ирония спасла Женю от необходимости быстро отвечать на малопонятную скороговорку Оссолопа. — Вы не верите? Но серьезно, я имел к ней деловой разговор. — Такой деловой разговор? Мы смеемся, мистер... мистер? — Английский язык в устах Кулановского претерпевал значительные деформации. — Оссолоп к вашим услугам. — Да, я помню, который есть с доктором Трири? — Да, я его секретарь. Я вам благодарен. Конечно, смешно думать, что могла быть серьезная драка, но царапины и укусы, они ведь тоже малоприятны, не так ли? — Разумеется, если они незаслуженные. — Незаслуженные, тем более. Нет, правда, я был корректен, хотя, признаться, перед этим изрядно выпил, и... она меня неправильно поняла. К тому же, я португальских слов знаю еще меньше, чем она английских. Она считает вас немцем. Вы действительно немец? — Нет, я русский. — Ооо! Вот так встреча! Интернационал! Но посмотрите, каковы женщины? Дерется, ругается, но не уходит! Почему ты стоишь, девочка? Ты же обижена? — Я хочу знать, что такое вы мне собирались сообщить. — Португальское произношение Лоис показалось Кулановскому верхом музыкальности. — Что она сказала? — спросил Женя, сгорая от любопытства. — Она меня реабилитировала. Она сказала, что ее удерживает интерес; я бы назвал это любознательностью. Она хочет вести со мной переговоры. Одновременно она просит, чтобы вы не уходили, мистер... — Кулановский. — Благодарю, мистер Кулановский. Вы сами видите, насколько деловая атмосфера была у нас в начале разговора, а затем все как-то неожиданно переменилось. Видно, не стоило нам перемещаться из света в тень. — Да, это обычно обостряет отношения. Ну хорошо, я, пожалуй, пойду. — Нет, нет, ни в коем случае. Вы будете свидетелем. — После такой репетиции... — возразил Женя, не собираясь, однако, уходить. — ...после такой репетиции все ошибки будут исправлены и порядок восторжествует! — заверил Оссолоп. — Прошу вас, не будем делать холодную погоду в этот теплый вечер. Не будем? Ну и отлично! А теперь, девочка, слушай меня внимательно. Ты любишь свою мать, не правда ли? А твоя мама любит одного человека, так ведь? Ну вот, а я могу сделать так, что человек, которого любит твоя мама, станет очень богатым. Но для этого я должен встретиться с ним, понимаешь? Если ты меня приведешь к нему или его ко мне, ты сделаешь счастливыми и Дика Рибейру и твою мать. Именно это я и хотел тебе сказать с самого начала. Женя с напряжением вслушивался в воркующую речь быстро оправившегося Оссолопа. И все же доброй половины слов Кулановский не разобрал. Но тут Оссолоп перевел дух, и Женя замер. Черноглазка в этот момент снова рассердилась, но на сей раз сила бури не превышала пяти баллов. Она упомянула какого-то Дика и, отрицательно покачав головой, величественно удалилась. Гордая и непокоренная. — Господин Кулановский меня извинит. — Оссолоп пожал плечами и тоже поспешил прочь. Женя остался наедине с затухающим океаном. «Извинит, разумеется, извинит. Пора и нам на боковую, интермедия закончилась. Чем же девочка меня потрясла? Внешность? Ну нет, у нас в институте Тереза Кондратюк, например... Так что же? Темперамент? Что такое темперамент? Мне, говорят, не хватает темперамента. Гм, что же такое темперамент? Определим его как энергию, расходуемую на выполнение работы. Вполне научное понятие. Хотя, пожалуй, лучше будет назвать темпераментом общий энергетический уровень организма. Сравнить безработного холерика и безработного меланхолика. Энергия, энергия... Пьяный более темпераментен, чем трезвый. Темпераментному человеку живется приятнее. Приятнее? Разве приятнее? Ведь он не знает другого темперамента и не способен сравнивать... А куда я, собственно, иду?» Вопрос был задан вовремя. Женя увидел, что он попал в незнакомую часть корабля. Узкий длинный коридор. Больнично-белые двери кают с черными номерами. Надраенные латунные ручки дверей. Латунь и медь — металл парадов и торжеств. Бей, барабаны, бей! В дальнем конце коридора возникла уже знакомая фигура. «Нет, нет, не может быть. Такого не бывает. Или такого быть не должно. Бывает, бывает. Видишь, она сама идет прямо к тебе. Она сама, ты же хотел ее видеть? Ты, кажется, собирался общаться с ней? Вот тебе случай, неповторимый, учти! Не упусти мгновение!» — Сеньорита, какая встреча! — фальшиво изумился Женька. — Надеюсь, вас никто больше не беспокоил? — От волнения он не заметил, что говорит по-русски. — Я не могу там одна сидеть, понимаешь, рыжий? Под дверью все время ходят, постукивают, и мне страшно. — Гм, нет, то есть да, тьфу ты, какая жалость, что я не силен в португальском. — Мама мне запретила приходить к ней, а я боюсь, боюсь туда возвращаться. Я никогда не бывала так долго одна, а здесь еще эти свиньи все время лезут. — Может быть, мы найдем какой-нибудь нейтральный плацдарм для общения, например английский язык. Вы говорите по-английски? — По-английски? Мало. Кое-что. Ты знаешь английский? Ты англичанин? Общение двинулось вперед семимильными шагами. Существование Кулановского на «Святой Марии» приобретало смысл.15
Оссолоп с облегчением вздохнул: — Наконец-то эта девчонка убралась из каюты! Я бы не хотел встретиться с ней второй раз. Разумеется, реванш за мной, но только не сейчас. Я уже не пьян, сигареты действуют отлично и мгновенно, но к черту помехи! Моя цель Дик Рибейра. Если я это сделаю раньше шефа, то... ситуация приобретет неожиданную окраску. Уважаемый учитель, вы останетесь великим и единственным, но, но... десять тысяч но! Ваши проповеди продолжают потрясать и умилять слушателей, вас приветствуют, вами восхищаются тысячи поклонников и поклонниц. Отели, церкви, стадионы, наполненные слушателями, рукоплещут вам, нередки случаи, когда обожатели уносят вас с кафедры на руках, оставляя в когтях клочья ваших брюк. Тик-так, тик-так — часы бьют полночь, из-за занавеса появляется безответственная фигура вашего ответственного секретаря — и вы уже не фюрер, не владыка. Вы марионетка, дорогой учитель! Фу, черт, все же голова болит. Как проникнуть в четыреста первую? Если Рибейра там, может быть, он откроет?» Оссолоп осторожно подергал ручку четыреста первой каюты. Дверь не поддалась. Он постучал. Из каюты — ни звука. «Если великий Дик Рибейра отсутствует, то, может быть, мы познакомимся с его жильем путем непосредственного осмотра? Кое-какие детали быта могут стать путеводной нитью Ариадны. Но проникновение без разрешения хозяина рассматривается в некотором роде... Ничего, не поймают. Скажу, ошибся каютой. Прикинусь пьяным. Сдала ли девчонка ключ? Сдала. Ах умница, ах прелесть! Прощаю тебе все. Побои прошлые, побои грядущие, побои настоящие. Все тебе прощаю за то, что, уходя, ты повесила ключ от четыреста первой каюты на доску. А теперь, стянуть его из-под носа портье ничего не стоит. Телефонный звонок... так... портье отвернулся... готово». Оссолоп прошел по коридору в дальний конец, где была каюта Дика. Дрожат колени. Дрожат руки. Весь дрожу. Великий миг. Светлая минута. Но... но... может, все липа? Цифру «401» я услышал еще в Белене, когда шеф вернулся от Толстого Педро. Да и девчонка его упомянула, а затем сюда прискакала. Но чем черт не шутит? Терпение, Джимми, терпение!» Оссолоп, слегка побледнев, вошел в каюту и быстро запер за собой дверь. «Теперь сюда не войти без стука. Ключ-то все-таки один. А этот ключ здесь под рукой, на столе. Приступим к тщательному и кропотливому осмотру. Немножко передохнуть. Один глубокий вздох, второй. Приседание. Асана по системе йогов. Как будто убрались круги из глаз. Итак, приступим».16
Живчик задумчиво почесал переносицу. — Баба упорная, но похоже, что завтра мы будем говорить с Диком. Она сделает. — Должна, — зевнул Ленивец. — Пора позаботиться о ночлеге. — Что же, все шлюпки к нашим услугам. Слушай, Ленивец, не заглянуть ли нам перед сном в каюту Дика? Вдруг появился? — Это можно. Только вряд ли. Здесь заправляют две бабы. Дик появится, когда они захотят. Но проверка не помеха. Пойдем. — Слушай, Ленивец, может, нам пока обыскать каюту Мимуазы? Вдруг Дик у нее? — Наверное он там. Но ее каюта — опасное дело. Служебная часть корабля. Можно нарваться. Да я уже и спать хочу. И зачем? Утром, в крайнем случае, днем, мы будем разговаривать с Диком. — Чем раньше, тем лучше, — пробормотал Живчик и вставил отмычку в замок четыреста первой каюты. Услышав царапанье в замочной скважине, Оссолоп быстро выключил настольную лампу и прыгнул на постель. В последнюю секунду он успел задернуть шторки койки. Живчик и Ленивец вошли в четыреста первую не торопясь. «А куда, собственно, спешить? — раздумывал Ленивец. — Дика здесь нет, а если придет, лишь обрадуется старым друзьям». — Слушай, Живчик, не заночевать ли нам здесь? Заодно и хозяина дождемся. Хорошая мысль, вельо? — Ленивец блаженно развалился в кресле. Живчик возился с отмычкой. «Открыть открыл, а выдернуть не может. Эх, ты!» — Уф, черт. Еле вылезла, проклятая. Не надо захлопывать, пусть дверь останется чуть приоткрытой. — Живчик включил верхний свет, сел во второе кресло. Сел чинно, аккуратно, не то что этот ленивый поросенок. — Что же, можно, — поджав губы, согласился Ленивец. И почему не ему пришла эта мысль? И обрадованно возразил: — А что делать с девчонкой? — Она не придет. Напугана, — сказал Живчик и увидел ключ от каюты рядом с настольной лампой. Несколько мгновений они молчали, Живчик прикрыл глаза. «Отдохнуть бы где-нибудь в теплом местечке. Забиться в угол, и чтоб никто, никто не...» — Закрой дверь, — резко сказал Ленивец. Живчик встал, и в тот же миг из-за шторы с койки Дика метнулось к двери неправдоподобно большое темное тело Оссолопа. Он вылетел из каюты в коридор, но Живчик подставил ему ногу и заорал: — Стой, Дик! Это мы, твои друзья! Через секунду Ленивец, прижимая потным горячим телом голову Оссолопа к ковру, приговаривал: — Куда? Куда? Куда? — При этом грудь его ходила, как воздуходувка. — Что здесь происходит? Техник-электрик Альдо Усис любил порядок. «Ведь если рассудить здраво, то человек отличается от животного только своей способностью создавать порядок. Настоящий правильный человек всегда знает, где что у него лежит, в какое время он будет обедать, когда ляжет спать. Настоящий правильный человек. Всем известно, какой образцовый порядок у меня в семье. Да и на службе не могут сказать, что я неаккуратен или, хуже того, небрежен. Взять, например, коридор, по которому я сейчас иду. Здесь полный порядок. Чисто, светло. Плафоны протерты, все лампочки целы. По обеим сторонам двадцать четыре двери кают, это всем известно. Каждая дверь имеет свой освещенный номер, чтобы пассажиры не блуждали, как дикие овцы, а шли прямо в свои каюты. Да, здесь порядок! А вот в холодильных камерах, куда меня вызвали, непорядок. Испортился холодильник. Вероятно, не выполняли как следует инструкцию по эксплуатации холодильных агрегатов. Они там, на кухне, очень часто нарушают инструкцию. Я же никогда в жизни не нарушил ни одной инструкции, и у меня, на моей памяти, никогда не ломался ни один электроагрегат. За исключением тех, которые имели фабричный или заводской дефект». Под ноги Усису плюхнулись два сопящих тела, затем их накрыло третье, массивное и большое. — Что здесь происходит? — повторил свой вопрос Усис, вложив в голос весь имеющийся металл. «Какое дикое и бессмысленное нарушение порядка!» — Пусти его, это не Дик, — хватая воздух большим беззубым ртом, выдохнул Живчик. — Какого дьявола?! — возмутился Джимми. — Кто вы такие? — Но, но! — Ленивец не выпускал рук Оссолопа. — Что здесь происходит? — в третий раз спросил Усис. — Что надо, то и происходит, — огрызнулся Живчик. — Встреча друзей. — Какого дьявола? — Ругательства Оссолопа звучали пасторской проповедью в сравнении с возгласами гангстеров. — Это не Дик, Дика я хорошо знаю! — Ворюга! — радостно завопил Ленивец. «Не так часто ему удавалось выступать в роли охотника». — Господа, я прошу предъявить ваши документы! — сквозь крики пробился наконец Усис. — В противном случае я вызову корабельную полицию. Только теперь все трое разглядели форменный китель Усиса. Преображение было мгновенным. Они попытались улыбнуться. Живчик застенчиво прикрыл рот ладошкой. Оссолоп расправил плечи и независимо отряхнул коленки. Ленивец отодвинулся в арьергард, сохраняя приветливый вид. — Дружеская шутка, сеньор, — начал довольно развязно Живчик, но закончил почти горестно: — Так уж получилось... — Ваши документы, господа! Номера кают? Фамилии? Нарушение порядка на корабле... Отошедший за спину Усиса Ленивец снял со стены ярко-красный огнетушитель и, перевернув его днищем вверх, опустил этот мирный безотказный прибор фирмы «Шелл» на голову техника-электрика. Удар был мягкий, плавный, почти нежный, и Альдо так и не смог понять, почему он падает. Он увидел только, что ботинки нарушителей порядка брызнули в разные стороны. Техник был без памяти секунд десять, но ему показалось, что прошли годы. Когда сумеречный провал миновал, он сел на ковер, а затем и встал. Прямо перед ним была распахнута дверь четыреста первой каюты. Ощупывая голову, Альдо поднял огнетушитель и повесил его на место. Так было положено начало восстановлению порядка. Затем Усис вошел в каюту и жалобно позвал: — Кто-нибудь есть? Никто не ответил. Альдо взял ключ со стола, погасил свет, запер дверь, ключ отнес к портье. — Кто у вас проживает в четыреста первой? — Четыреста первой? Сейчас. Сеньор, она записана за неким Диком Рибейро. Но он попросил разрешения поселить вместо него девушку, дочь нашей барменши, а сам перешел в другую каюту. А что? — Последите за каютой. — Усис потрогал твердеющее образование под волосами и добавил: — Там непорядок. Портье открыл рот, но техник-электрик уже уходил, так и не разъяснив, что же за непорядок в роковой четыреста первой каюте. Усис приближался к холодильному отделению в прескверном настроении. «Можно позвонить помощнику капитана и все рассказать. Наверное, так и нужно сделать. Хулиганов поймают и накажут. Порядок будет восстановлен. Интересно, кто из них Дик Рибейра? Почему я не рассказал портье о трех бандитах? Почему сразу не позвонил помощнику капитана? Почему не потребовал ареста этого Дика Рибейры? Я испугался, вот и все. Я просто очень сильно испугался. Это было слишком резкое и внезапное нарушение порядка. Спрашивается, за что они меня ударили? Что я им сделал? Я просто спросил документы. Каждый здравомыслящий сотрудник поступил бы на моем месте аналогичным образом. Разве не так? Они не захотели мне показать свои документы. Почему? Очевидно, им не хотелось, чтобы официальное лицо знало и могло сообщить куда надо об их недостойном поведении. Только ли? Нет, не только. Возможно, они не обладали нужными документами, либо документы компрометировали их обладателей. Кто такой Дик Рибейра? Соучастник или жертва? Поскольку он бросил меня, бездыханного и полумертвого, на произвол судьбы, я могу думать о нем очень плохо, хотя он и занимает приличное помещение. Этот человек либо трус, либо негодяй, либо то и другое одновременно. Трусливый негодяй!» Усис с отвращением распахнул дверцу холодильника. «Плохо. Все очень, очень плохо. А если это были профессиональные гангстеры? Тогда, пожалуй, лучше с ними не связываться. Они народ серьезный. Вот почему я до сих пор не позвонил помощнику капитана. Конечно же, они не соблюдают инструкций. Конечно же. Холодильник миллион лет не размораживался. В морозильнике образовались сосульки, подобные сталагмитам, что встречаются в подземных пещерах. Затем холодильник переполнен. Нельзя так перегружать аппарат. Машина не человек, она требует в уходе за собой нежности», — Эй, буфетчик, подойди сюда! — Сию секунду, сеньор. — Есть у тебя серая бумажка с черной надписью: «Инструкция по уходу и эксплуатации»? Есть? И ты, кажется, человек грамотный? Отлично. Тогда почему же ты не читаешь эту бумажку и не делаешь так, как там написано, а поступаешь совсем наоборот? Ты не соблюдаешь установленный порядок, и поэтому твой холодильник испорчен. Зачем ты набил его всяким хламом, которому замораживание совершенно не нужно? Вот, например, эта банка с зернами кофе. Ты полагаешь, они испортятся, если постоят в сухом теплом месте? Зачем ты их сюда сунул?! — Простите, синьор, эту банку принесла сеньора Мимуаза, она просила сохранить ее в холоде несколько дней. — Чепуха! У тебя в шкафу на полке я вижу шесть таких банок, и ничего с зернами не случится. Присоедини к ним седьмую. — Я это сделаю, сеньор техник. — Отлично. Теперь ответь мне, пожалуйста, как тебе удалось втиснуть этот окорок в морозильное отделение, и еще ответь мне, как ты собираешься извлекать его оттуда? Он примерз к стенкам с четырех сторон. Отвечай мне, буфетчик! Хуанито, молоденький и очень хорошенький буфетчик, опустил глаза книзу, туда, где из-под полы белого халата выглядывали узкие носки сверхмодных сверкающих туфель. — Ты не ответишь мне, буфетчик, и не один здравомыслящий... — Я его разморожу. — Но тогда ты разморозишь и свой окорок. Нет, не изворачивайся, мальчик, ничего хорошего никогда не получалось у людей, которые не умели ценить порядок, соблюдать порядок и поддерживать порядок ежедневно, ежечасно. Любая машина — это олицетворение порядка, выполненное в металле... «А может быть, пока никуда не звонить? Подождать, осмотреться. Последить самому. Вдруг они и в самом деле гангстеры, а не просто пьяные хулиганы?..»17
Донья Миму, сложив руки на коленях, горестно смотрела на Дика Рибейру. «Он еще улыбается! Он еще улыбается своей белозубой вызывающей улыбкой, от которой у меня заходится сердце. Ему еще хочется улыбаться. Бедный беззаботный Дик! Словно это его не касается...» — Словно тебя это не касается, — сказала донья Миму. — Очень даже касается, Долли, — ответил Дик. Он называет ее на американский манер, хотя Миму это и не очень нравится. — Очень даже касается. Дик уже не улыбается. Он разлегся прямо на ковре, без туфель, в своих поношенных бу-джинсах, в рубашке с подвернутыми рукавами. Несмотря на резкие морщины и складки на лбу, он еще молод. Молод и весел. Лежит на полу, подложив под голову рюкзак, потому что ему, видите ли, тесно на койке. Он там задыхается. Донья Миму покачала головой. — Я в отчаянии, Долли, — говорит Дик и опять улыбается. — Ты какой-то несерьезный! Это опасно. Это очень опасно. Ты знаешь этих людей? — Я знаю этих людей и поэтому не думаю, что это так опасно, как ты говоришь. И я серьезен. Но я не хочу бояться, понимаешь, Долли? — Ты должен бояться, Дик, ты обязан это сделать для меня. Если не будешь бояться, ты попадешь к ним в лапы, и дело кончится плохо. — Хорошо, родная, я буду бояться. Но что я могу сделать? Она вздохнула и опустила голову. — Чего они хотят, Дик? Они не стали со мной говорить об этом. — Нетрудно догадаться, что им надо. Старый Педро истратил на нашу экспедицию часть своих наличных денег. Он хочет вернуть их хотя бы в том количестве, в каком вложил. И сразу! Деньги ему нужны сейчас. Но ты же знаешь, что мы ничего там не нашли. Ни одного камешка, хотя бы в полкарата. Педро нужны гарантии, что долги будут возвращены. Конечно, я их верну, если разбогатею. А если нет? Педро всегда предпочитал синицу в руках журавлю в небе. Поэтому он и остался на задворках Белена. Он там бог, но выше ему не подняться. Если я не могу платить долги, то должен отработать. Знаешь, у него есть несколько участков, где они уже лет двенадцать перемывают пустую породу. Прикуют меня стальной цепочкой к тележке, и года три я буду работать за то старое изношенное барахло, которое громко называлось снаряжением. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я стал подпольным каторжником? — Как ты можешь так говорить, Дик? — Если я не хочу платить долги или отрабатывать, то... — Дик, а нет ли еще какой-нибудь причины? Ведь не так просто снарядить погоню, да еще на корабль. Только для мести? — При чем тут месть? Педро человек жестокий. Он кому хочешь перережет глотку. Если это ему выгодно. Я не ручаюсь, что он не пронюхал о моей карте. Конечно, карта без меня слепа, но, в конце концов, можно попытаться заполучить и карту и меня. — Кто тебя мог предать? — В живых остались только проводники. Они известные пьяницы и всё могут разболтать, если их хорошо подпоить. — Что? Что они могут разболтать? Ведь вы же ничего не нашли. — Мы не нашли камней и побрякушек инков. Но зато мы нашли месторождение золота. Много золота, но не для человека, для машин, понимаешь? Руками-то золото не добыть. Нужны мощные драги. Я составил карту этих месторождений. Условную, свою карту, чтобы только я один знал, как туда добраться. Эти месторождения ни одному нашему богачу не поднять. Здесь нужен капитал, машины, специалисты, оборудование. Вот почему я подаюсь в Штаты, я уже тысячу раз объяснял тебе. Там я найду деньги и технику. Это непросто, но вполне реально. А у нас ни денег, ни техники, да и говорить со мной никто не станет. — А Педро? — А что Педро? Он тоже не в состоянии поднять промышленную разработку в тех местах. Там мало золота, понимаешь? Там мало золота в каждом сите песка. Но зато огромная площадь. Оно есть везде, но его понемножку. А может, и не везде одинаково, может, есть там и богатые районы. Почем я знаю? Я не успел взять все пробы, все обследовать. Когда ребята один за другим стали умирать, я понял, что пора сматываться. И правильно сделал, задержись немного, и я бы сейчас с тобой не разговаривал. — А Педро... — Святая Мария, не идет у тебя с языка этот Педро! Если б я не был должен ему эти паршивые деньги, я бы рассказал все, и он отступился. Он знает свои силы. Он на многое не претендует. Но пока он не выколотит из меня свои деньги, не успокоится. У него волчья натура и бульдожья хватка. Ему наплевать, что я могу заработать миллионы, ему главное, чтобы я вернул взятые у него несколько сотен долларов. Мелкий человек, хотя и считает себя образованным. — Что же делать, Дик? — Я хотел бы с ними встретиться. Я буду знать условия, и тогда мы подумаем. — Нет, Дик, нет! Ни за что! Пусть режут меня, пусть мучают Лоис, но я не хочу! Я не могу тебя потерять! Не хочу, не хочу! Донья Миму опустилась на ковер рядом с кладоискателем. — Я слишком долго ждала тебя, Дик. Я всей жизнью за тебя заплатила. А ты знаешь, какая у меня была жизнь! Ты же знаешь! — Я все знаю, Долли, и ни на чем не настаиваю. Я сделаю так, как мы придумаем вместе, как ты скажешь. В каюте доньи Миму наступило долгое молчание. — Слушай, Миму, я забыл тебя спросить, как там дела с зернами, что я отдал тебе? — внезапно спросил Дик. — Я сделала так, как ты велел. Спрятала их в холодильнике у Хуанито. Поставила вниз, чтоб они не очень перемораживались. — Спасибо, дорогая. Ты знаешь, я надеюсь в Штатах подзаработать на этих семенах. Хотя бы на первое время, для начала. Там такие вещи любят. А провезти их, как видишь, очень просто. Они очень похожи на зерна кофе. Я для этого их специально ссыпал в кофейную банку. — Дик, это несерьезно. Не будем отвлекаться. Мы должны что-то придумать. Мы должны что-то придумать. В каюте доньи Миму опять настала долгая тишина.18
Питер Ик отшвырнул отстуканные на портативной машинке страницы и встал от стола. «Вот еще одно утро. Утро в океане. Боже мой, как это скучно. Не все ли равно, где вас застигнет утро? В океане или на суше? Оно предвещает еще один день тусклой бесполезной жизни. Нужно что-то делать. Нужно общаться с людьми. Это ужасно. Нет, не ужасно. Скучно. Тошно. Противно. Надо бриться. Чистить зубы. Как сказал этот парень в баре? Точка и тире? А что, если описать человека, который весь мир воспринимал в двоичной системе? Допустим, такой человек живет на некоторой планете в районе звезды X. А что такое — воспринять мир в двоичной системе? И вообще, что такое восприятие мира? Восприятие? Я, безусловно, слышал сквозь сон звуки какой-то возни. Не знаю, что мне приснилось, что я действительно слышал и что додумал только теперь. Не в этом дело. Больше экспрессии, черт возьми! Почему бы не начать с убийства в машинном отделении? Или в капитанской рубке? Убийство сразу же возбудит острый читательский интерес. Ну кому интересно, что я умер? Вот если бы меня убили... Репортаж с того света! Показания трупа... Но об этом я, кажется, писал в «Судебном разбирательстве в склепе»...19
— Не надо. Не надо так, Лоис. Погоди немножко. Погоди. Ей-богу, я даже не знаю, что тебе сказать. Все хорошее, как и плохое, происходит неожиданно. — Эй, ты что?! Евгений Кулановский открыл глаза и раздраженно посмотрел на Альберта, который тряс его за плечо. — Боже, — сказал он хриплым со сна голосом, — только что перед моим внутренним взором витал прелестный образ — и вдруг я вижу твое, извини за грубость, лицо! Такие потрясения вредны для старого человека. Оставь меня, юноша. Пожалей мое дряхлое сердце. — Ничего, оно переживет, — грубо заявил Альберт. — Где ты вчера шатался? Судя по всему, ты явился на рассвете? — Не спрашивай, не спрашивай, не выпытывай. — Женя сладко потянулся и уперся головой и ногами в стенки койки. — Она пришла ко мне как дар небес, и мы очень мило трепались, пока не стали слипаться наши утомленные вежды. — Смотри, Женька, ты знаешь, где мы находимся. Это, по меньшей мере, легкомысленно. — Ах, не говорите мне о здравом смысле! Мозг почтительно смолкает, когда сердце открывает свой изящный ротик! — Только у тебя. — Чем я выгодно отличаюсь от остального человечества. Женя обнял приятеля, принимая позу красавицы, готовящейся к вальсу. — Ты с ума сошел! — сказал Альберт с некоторой завистью. — Да, сеньоры, да, господа, да, товарищи! Я сошел с ума, а попросту — я влюблен в маленькую черноглазую Лоис, и она отвечает мне тем же. Это произошло вчера... — Женька! — Я ничего не слышу, я ничего не слушаю! Ты видишь, я затыкаю уши? Значит, я образцовый, образцово-показательный влюбленный. Последние, как известно из классической литературы, ничего не видят, на все натыкаются, ничего не слышат, всегда ошибаются, ничего не соображают и не понимают! Они заняты главным — они любят! Тра-ля, тра-ля, тра-ля! Наконец-то мое бытие на этой атлантической лоханке приобрело смысл. Глубокий смысл и международное значение. И не прерывай меня, мой друг! Не прерывай, ибо я добр, красив и совершенен! Мне ничего не надо слышать, знать или делать. Все главное в этом мире сейчас происходит во мне, в моей душе, в моих нелепых мозгах. Ах, Лоис! — Женька, не валяй дурака. Кто она? — Сеньор, было чудо. Обычное чудо, которое свершается, если о нем попросит очень хороший человек. Я попросил, и чудо произошло. Я увидел свой предмет, который... которая сидела верхом на мистере Остолопе и колотила его. Я, разумеется, был рыцарем, тотчас вмешался и спас... свою девочку от излишнего перерасхода энергии. После этого, обругав меня, она удалилась, но, но, но... Уже что-то свершилось между нами, уже промелькнула, подобно молнии, та нить, коей предстояло через несколько часов превратиться в веревку, канат, трос, связующий два сердца, два сердечных атома в одну молекулу любви. — Вот я расскажу этой девочке про Галю, про златокудрую красотку с синими глазами. Или, вернее, расскажу Гале про эту девочку. — Если вы это сделаете, кабальеро, — меланхолически сказал Женя, — я вас зарежу и труп по частям буду выбрасывать в иллюминатор. Это называется расчлененкой. Смекаете? Кроме того, имейте в виду, что за нами плывут акулы. Я буду наблюдать в окно, как они, несомненно, с большим аппетитом станут пожирать ноги и руки уважаемого сеньора и особливо его голову, в которой нашел приют самый болтливый язык в мире. И при чем тут Галя? Упомянутые вами девушки разделены значительным пространством, они же разделены и временем, как вы можете заметить! — Женька, не дурачься! Послушай... — А что там слушать, милый? Что я могу услышать? Ай лав ю! Вот смысл и цель! Ай лав ю! Вот награда! Ну говори! Что ты сидишь с видом Шерлока Холмса, которого снова провели вокруг пальца мальчишки из неполной средней школы? — Сегодня утром, когда ты спал, я прогуливался по палубе и видел, как нас догнал вертолет и на «Святую Марию» спустили еще одного пассажира. Эффектное зрелище. Лайнер и вертолет. — Еще одного пассажира? Это становится интересно. И кто же наш новый пассажир? — Евгений вновь стал серьезным настолько, насколько это было ему доступно. — Некто Сэм Смит. — Откуда ты узнал? — Я своими ушами слышал, как он представился капитану. — Не находишь, что наш корабль представляет интерес для слишком большого количества людей? Моя интуиция подсказывает, что за всем этим что-то скрывается. Какая-нибудь афера в международном плане. — Теперь и я начинаю так думать. Поэтому твое увлечение мне не представляется своевременным. — Ах, не скажи, ничего нельзя загадать. Да и когда любовь была своевременной? Она всегда кому-то или чему-то мешала. Нет, но все же хотелось бы понять, почему они все так рвутся на «Святую Марию»? — Может быть, ты представишь меня своей пассии? — Я слишком плохо говорю по-английски, чтобы найти для этого слова. — This is a friend of mine[122], Женечка. — Я подумаю над вашим предложением, мистер Альберт.20
Живчик и Ленивец в помятых костюмах, так как ночлег их не был ни изысканным, ни уютным (они спали, накрывшись брезентом на дне бассейна, откуда на ночь спускали воду) прошли по знакомому коридору к четыреста первой каюте. Живчик ощущал во рту отвратительный металлический привкус после вчерашней драки, после почти бессонной ночи, после всей этой кутерьмы, связанной с розысками проклятого Дика Рибейры. «Я стар. Я устал. Я болен. И чего еще ноет эта жирная свинья?» — Слушай, вельо, я шагу не могу ступить, расползаются брюки, — смущенно шептал Ленивец. — Заколи булавкой! — прошипел Живчик. — Она не держит! — Не знаю. Потерпи. Мы не можем сейчас идти в Бюро обслуживания. Вот увидим Миму, я попрошу ее зашить дыру. А пока закройся ладошками и шагай. Они прошли, как могли, с независимым видом мимо портье и его доски с ключами и проникли в заветный отсек. — Смотри, огнетушитель повесили! — Тише ты! — А кондуктора убрали, — с некоторым сожалением произнес Ленивец. — Если Миму выполнила наш приказ, Дик уже дожидается в своей каюте. На этот раз Живчик быстро справился с капризным замком. Они вошли в каюту. На койке Дика лежал здоровенный негр и читал газету. Огромные ноги в грубых матросских ботинках он изящно примостил на полированной спинке кресла. — Ты кто такой? — в отчаянии заорал Живчик. — Это не Дик?! — Какой к черту Дик! Дик белый! Негр с неменьшим изумлением взирал на посетителей. Он снял ноги со спинки кресла и сказал: — Меня зовут Даниил. Что вам угодно, сеньоры? — Будь ты проклят и прокляты твои родители! Что ты здесь делаешь, в чужой каюте? — А что делаете здесь вы, сеньоры? Эта каюта вам тоже не принадлежит, насколько мне известно. — Заткнись! Отвечай на вопросы, или мы свернем тебе шею! В это время, и даже несколько раньше, техник Альдо Усис подошел к портье и спросил: — Не приходил пассажир из четыреста первой? — А? Кто? — Портье с трудом оторвался от увлекательного детектива, сочиненного неким Питером Иком. — Я говорю о четыреста первой. Там есть кто-нибудь? — Есть, есть. Донья Мимуаза брала ключ, и с ней был еще кто-то... Когда техник приблизился к четыреста первой, из-за двери доносились звуки передвигаемой мебели. Альдо извлек браунинг из кармана и повернул ручку двери. — Руки вверх! Что здесь происходит? — Ох и надоел ты со своими вопросами! — ответил Ленивец, вставая с человека, крепко обнявшего стонущего Живчика. Человек выпустил неудачливого гангстера и обернулся. — А вам не надоело кататься на посторонних... ого, Даниил, как ты сюда попал? — Ох, сеньор техник, — сказал Даниил, отталкивая Живчика, — не надо было мне соглашаться! — Соглашаться? С кем соглашаться, Даниил? Дверь четыреста первой каюты распахнулась еще шире, совсем широко, как только возможно широко, и на пороге ее появились две новые фигуры. Войти в каюту они не могли, так как перевернутые кресла и люди наполняли ее до отказа. Они остановились у входа, и тишину прорезал начальственный возглас: — Что здесь происходит? Кто из вас Дик Рибейра? Ленивец только головой помотал. «Дался им этот вопрос. Весь мир интересует, что здесь происходит. И всему миру нужен Дик Рибейра. Экие, право!» Живчик все еще хватал ртом воздух, как выловленная рыба. «Все. Ну и пусть! Хоть отдохну немного. В тюрьме и то спокойней. Дурацкая скачка с препятствиями! Педро может быть доволен. Мы сделали что могли. Не получилось. Бывает». Даниил в ужасе смотрел на пришедших. «Это же сам сеньор помощник капитана. Он лишит меня работы. Они выгонят меня с корабля. Зачем только я послушался эту страшную женщину? Паршивый десяток долларов отнимет у тебя работу, Даниил! Ты погибнешь как собака. Ты снова будешь месяцами околачиваться в порту. Господи, пронеси!» Альдо Усис все еще сжимал браунинг. «Сейчас будет наведен порядок. Это хорошо, что сеньор помощник капитана увидит меня здесь. Я не только исполняю свои обязанности как техник. Я забочусь о порядке на «Святой Марии». Я ловлю нарушителей порядка с оружием в руках. Это хорошо, что сеньор помощник капитана увидел меня в данную минуту». — Что же вы молчите? — сказал Сэм Смит. — Вас спрашивает сеньор помощник капитана. Кто из вас носит имя и фамилию Дика Рибейры? Отвечайте. Первым заговорил Усис: — Сеньор помощник капитана, я не знаю, кто из них Дик Рибейра, но оба они хулиганы и драчуны. Они создают непорядок. — Опусти браунинг, Альдо, — поморщился помощник капитана. — Он у тебя ведь всегда заряжен? А как сюда попал Даниил? — Сеньор помощник... — начал было негр. Но Сэм Смит перебил его: — Почему Дик Рибейра неотвечает за себя? — Здесь нет Дика Рибейры, — угрюмо сказал Ленивец. — Ах вот как! — Смит щелкнул пальцами. — Тогда надо разобраться, кто вы, как сюда попали и что вы все здесь делаете. Он протиснулся в каюту, поставил перевернутое кресло на три уцелевшие ножки и пригласил помощника: — Садитесь, кэп, и начинайте следствие. Помощник капитана неодобрительно посмотрел на Смита. Фиглярничает парень. Он сразу ему не понравился. Еще когда капитан представил их друг другу в рубке. Не понравился, потому что, перед тем как войти в рубку, слышал слова капитана: — Вы можете меня купить, но не испугать. Нужно сильно довести старика, чтобы он сказал так. А старика не следовало доводить. Старик, это известно всем, очень хороший. Поэтому помощник капитана, с трудом втиснув грузное тело в кресло, еще раз неодобрительно посмотрел на Сэма Смита. — Пусть только говорит помедленнее, — сказал Сэм. — Хорошо, сеньор... — кивнул помощник. — Рассказывай, Альдо.21
— Ладно, с тобой, Альдо, все ясно. Теперь, Даниил, объясни мне, — помощник капитана строго поглядел на негра, — что ты здесь делаешь? Пять минут назад я послал тебя подкрасить поручни в третий класс, ты мне ответил: «Есть, сеньор», а сам здесь, в компании драчунов. Как это объяснить, Даниил? — Сеньор помощник, я... — Там был другой негр, — Сэм Смит наклонился к уху помощника капитана, — я его хорошо разглядел. Он похож, но другой. Более тонкие черты лица да и поменьше ростом. — Разве? Почему же он отозвался на имя Даниил? Что это все значит? Даниил вдруг заплакал. Драгоценные караты слез покатились по темным щекам. Он давился слезами и словами: — Меня обманули, сеньор помощник капитана, меня ужасно обманули. — Ну хорошо, успокойся, а пока я поговорю с этими джентльменами. Господа, кто вы такие и что вы делаете в каюте, которая вам не принадлежит? — Мы друзья сеньора Дика Рибейры, — забасил Ленивец, — но нам никак не удается его здесь застать. — Тут одни посторонние лица, сеньор помощник капитана, — вклинился Живчик. — Ах вот как! Здесь посторонние? А вы, оказывается, свои? А ну-ка, покажите ваши документы! — Вряд ли человек в таких брюках располагает какими-либо документами, — философично заметил Сэм Смит, изучая скованную позу Ленивца. — Наши документы в каюте третьего класса, секция седьмая, номер двести семьдесят пять, — оттараторил Живчик, мельком запомнивший этот отсек во время вечерних странствий. — Проверим, Альдо, позвоните дежурному третьего класса и спросите, кто обитает в названной каюте. Усис сурово глянул на подопечных Толстого Педро и набрал номер. Некоторое время он ждал ответа, затем лицо его прояснилось. — Там помещена почтенная супружеская пара, сеньор помощник. — Ясно. Жулики. Отвечайте, что вам надо было от Дика Рибейры? — Мы его друзья, договорились о встрече, и вот... — Вы всему миру друзья. Ладно, с вами еще будет разговор. Альдо! — Да, сеньор помощник? — Позвоните сержанту, пусть откроет арестантскую, и отведите туда обоих. — Понятно. Но вчера был еще третий, сеньор помощник. — Не будьте кровожадным, сеньор техник. Вы отомщены. Ведите их. В случае чего, разрешаю применить оружие. — Есть, сеньор помощник. Когда Усис, держа в правой руке браунинг, медленно переступая негнущимися ногами, торжественно вывел гангстеров из каюты, помощник капитана обратился к Даниилу: — Успокоился? Ну, а теперь выкладывай правду! И смотри мне! Даниил задрожал, и слезы опять покатились из его переполненных мукой глаз.22
Питер Ик закрыл машинку и принялся за утренний туалет. «Зачем мне копаться в чужом да еще больном восприятии? Пусть делают это другие. Психологи. Анатомы. Психоанатомы. Следует поступить иначе. Возьмем зауряд-явление. Например, этих моих вчерашних гостей. Они самые средние жулики. Их возраст не позволяет им рассчитывать на многое в будущем. Бесталанные жулики. Работяги, но и только. А ведь гангстеризм требует таланта, изобретательности, творчества. Да, да, именно творчества! Вдохновение, полет фантазии, энергия! Необходимые компоненты успеха. Эти же — середняки со стереотипным мышлением. Может, мне все же заняться моими жуликами? Кто они такие, зачем? Может, тут есть сюжет? Или будет? Их цели, их биографии, прошлое, настоящее и, разумеется, будущее. Можно ли сконструировать линию поведения и предсказать конечный результат? Можно, но мало исходных данных. Нужно еще разок-другой увидеть их». Питер Ик вышел из своей каюты в хорошем расположении духа. Его волосы были уложены, усы, как обычно, подвиты и надушены, кожа хранила воспоминание о холодном душе. Тяжелый осадок ночных снов растаял, как ледок на утреннем солнце. Питер Ик остановился и осторожно прикоснулся к усам. Прямо перед ним по трапу с верхней палубы спускались трое. Спины жуликов писатель узнал с полувзгляда, а вот кому принадлежит третья, замыкающая шествие, можно было особенно не раздумывать. Эта спина принадлежала порядку и закону, а личность при этом роли не играла. «Простите, но ведь это, кажется, эпилог? Сюжет скомкан и уродливо обрезан! Где кульминация? Где сложная многоходовая и совершенно неожиданная развязка? Какой примитив! Кто позволил из Конан-Дойля стряпать комиксы? Дьявольщина! Все летит к черту! Как же быстро вас поймали!» В узком переходе вдоль левого борта писатель снял пурпурный огнетушитель «Шелл» и, быстро оглянувшись, неслышным семенящим шагом настиг Усиса. Удар по затылку техника-электрика был мягким, почти нежным. — Я ж говорил, что у них есть третий, — пробормотал Альдо, роняя браунинг и медленно опускаясь на колени. Ленивец и Живчик оглянулись и увидели павшего ниц конвоира. Сзади стоял знакомый им человек и делал знаки, обозначавшие: валяйте, мол, ребята, на все четыре стороны. Впрочем, свободной была только одна, и гангстеры ринулись вперед. Питер Ик удалился в противоположном направлении. «Нужно срочно засесть за теоретическую часть, — решил он, — иначе практика обгонит. Реальность задает слишком нервозный темп. Нужно догонять».23
— Дорогой Джимми, как вы думаете, чем отличается великий человек от простого смертного? Оссолоп широко открыл глаза. — По-моему, способностью свершать великие дела. — Это итог, Джимми, итог. Это результат некоего свойства, присущего великому человеку. А вот каково само свойство, как его определить в наших беспомощных словах? Джимми пожал плечами. Трири улыбнулся. — Это же так просто, дорогой, так просто. Великого человека отличает способность увидеть, ощутить правду, какой бы она ни была, во весь голос высказать ее, как бы это ни было неприятно множеству людей, и, наконец, действовать соответствии с этой правдой. Это три обязательных компонента в рецептуре величия. Отсутствие хотя бы одного из них превращает человека из великого в преуспевающего, признанного, талантливого и так далее, но величие при этом исчезает. — Что такое правда? — О мой дорогой, правдой можно назвать любое орудие, которое не заметил противник, и которое вы выгодно использовали для достижения своей цели. Оссолоп внимательно посмотрел на учителя. — И вы, доктор?.. — И я, мой мальчик, и я, не будем излишне, по-обывательски скромны и назовем кошку кошкою. И я, мой мальчик, увидел силу наслаждения, увидел главную движущую силу, которой подчиняются человеческий организм и общество, и я провозглашаю ее во все горло, во всю глотку, насколько мне хватит дыхания, и я буду действовать так, как мне подсказывает мое понимание этой сегодняшней правды. Сегодняшней потому, что правда, подобно реке, течет, меняет направления и русло, и каждый год, день и час в ней появляется что-то новое, неожиданное. Время приносит нам новую правду. И я, мой Джимми, и я, именно я! Я приведу мир к золотому веку и стану тогда президентом Соединенных Штатов. Доктор Трири закончил речь, сверкнув глазами. На одном из них было маленькое, почти незаметное, бельмо. Оно делало его взгляд похожим на взгляд статуи — слепым и многозначительным. И слепо и многозначительно доктор окинул ученика. «Когда Джимми не пьет, что бывает, правда, редко, он производит хорошее впечатление. У него великолепный цвет лица и замечательные зубы. Губы, правда, немного толстоваты, но они придают ему вид добродушного, покладистого парня. В действительности все совсем не так. Это скрытный, хитрый человек. Когда он напьется, как самая последняя свинья, лицо у него лиловеет и приобретает неприятную прозрачность. Словно выброшенная на берег медуза. Глаза заплывают, совсем тонут в щелках. Сегодня у него какой-то прибитый вид. Верно, вчера перебрал». — Ну, хватит разговоров, Джимми, за дело! У нас, кажется, оставалась неразобранной корреспонденция? Покажите мне. Есть что-нибудь интересное? Уже радиограмма из Майами. Когда они только успевают! Сейчас. Доктор Трири пожевал тонкими, иезуитскими губами. — Из Майами сообщают, что за Диком Рибейрой охотится некто Сэм Смит. Он уже здесь. Нам предлагают объединить усилия. Джимми, вам придется связаться с этим человеком. Потом вы познакомите нас. — Стоит ли, док? — Что вы хотите сказать своим «стоит»? — Доктор Трири смотрел на Джимми неопределенно и водянисто. Оссолоп распрямился, трогая наиболее болезненные места на ребрах, которых коснулись пухлые пальчики Ленивца. — Видите ли, док, я думаю, что мы и сами бы справились с этим Диком. Ведь дело только в цене? — Нет, — доктор был категоричен, — те, кто послал телеграмму, знают толк в подобных делах. Если они советуют объединиться, надо объединяться. Вам известно, что для нас значат эти люди? Это промышленность, это реклама, это сбыт, организация и так далее. Ступайте и разыщите этого Смита. — Конечно, док, конечно. Я найду его. Но в процессе... — В каком процессе? — В процессе налаживания контактов с Диком Рибейрой может статься так, что весь материал окажется в наших руках, а у Смита голая ладонь! Ведь может такое произойти? Случайность, поворот судьбы — и Дик полюбит нас нежнее, чем Смита, и тогда... — Понимаю. Это другое дело. Такое возможно, и мы будем от всего сердца приветствовать подобный поворот судьбы. Но без пошлостей. Помните, что нужен не только материал, но и точное указание самого места, — следовательно, лучшего проводника, чем этот Рибейра не найти, а если он откажется работать на нас, то пусть не работает ни на кого. Вы его видели? — Он где-то прячется. Но я его добуду! — Отлично. Действуйте. Я начну готовиться к лекции, которая состоится сегодня после обеда.24
Словно черный орел, словно гриф с белым воротником, взлетел доктор Трири на помост, откуда каждый слушатель мог видеть его горящий взор, слышать огненное слово пророка. — Да, друзья мои, я делаю не доклад, не научное сообщение, не объективную информацию несу я в мир, я вещаю вам слова, созданные не логикой, не наукой, не искусством, а слова, рожденные жизнью в душе моей! Поэтому я их проповедую, потому мое выступление есть проповедь, а я есть проповедник. Проповедник истины, спросите вы? Нет, отвечу я! Проповедников было много до меня, и все они ушли во тьму веков, не совладав с реальностью. Проповедник силы, спросите вы? Нет! Разума? Нет! Так чего же? — С кроткой нездешней улыбкой обвел он взглядом слушателей. — Я проповедник наслаждения! Да, друзья, я утверждаю в мире наслаждение! Моя проповедь состоит из двух частей, из двух антагонистических начал. Как Ормузд и Ариман, добро и зло. Свет и тьма. Любовь и ненависть. Я начинаю с критики и заканчиваю утверждением. Критика и утверждение — это два полюса, которые не могут существовать порознь. Каждый раз я меняю полюс критики, оставляя один и тот же полюс утверждения. Таким образом, мое утверждение, подобно свету маяка, поворачиваясь, озаряет самые различные стороны горизонта жизни...25
— Слушай, вельо, — сказал запыхавшийся Ленивец, — я не могу бегать, как мышь, по этому судну! У меня совсем штаны развалились! Я обе половинки в руках таскаю. — Зайдем в туалет! — скомандовал Живчик. Туалет, слава мадонне, был пуст. Живчик осмотрел своего друга. — Да, дело дрянь. Гнилые нитки. Теперь штанины разлезутся в разные стороны, а ты останешься посредине. Придется выбросить, ничего не поделаешь. — А как же я? — взмолился Ленивец. — А ты ходи, как спортсмен, который только что из бассейна и торопится к себе в каюту. — Задержат? — грустно поник головой толстяк. — Без халата задержат. — Могут, — согласился Живчик. — В следующий раз, когда пойдешь на дело, будешь одевать барахло, которое еще не совсем сгнило, а только начало подгнивать. Пойди в кабину, разденься и покажись. Увидев белый живот Ленивца, свисающий над грязными цветастыми трусами, Живчик даже застонал. — Э нет, братец, на спортсмена ты не похож. Скорее, на кусок свиного сала. Гангстеры задумались. — Слушай! — Живчик встрепенулся. — Я, кажется, придумал. Надевай вместо штанов рубаху. Как будто бы сверхмодный фасон. — Ты думаешь? — Ленивец стал подозрителен. — Дело тебе говорю! Ступай в кабину и переодевайся. Ленивец покорно скрылся в кабине, и оттуда долго доносилось сопение и вздохи. — Ты заснул? — спрашивал Живчик. — Не лезут ноги в рукава, черт бы их побрал! — кряхтел за перегородкой неудачливый толстяк. Когда он вышел, Живчик вздрогнул. — Ты как глобус на спичках, — заявил он. — Чего это ты так брюхо развесил? — Так ведь рубаха ж! — Подбери. А воротник у тебя оказался на самом интересном месте, подтяни сзади. А эта дыра откуда? — Раньше она была на рукаве, под мышкой, и ее не было видно, а теперь видишь куда вылезла, прямо на всеобщее обозрение, — сокрушался Ленивец. — Не нужно всякий хлам на себя пялить, когда на серьезное дело собрался, скупердяй! — ворчал Живчик. — Ты, кажется, этого Дика на свалке надеялся найти? Слушай меня. Разорви штанины до конца и обмотай ими вокруг пояса, да так, чтобы получился широкий пояс, на весь живот, вот правильно! Конец штанины небрежно спусти спереди. Эта небрежность прикроет отверстие на вороте. Да закатай рукава на ногах! Ты бы еще запонки у щиколотки прицепил! Ходить-то хоть можешь? Впавший в какую-то каталепсию, Ленивец с трудом пошевелился. — Вроде могу. — От волнения голос у него стал высоким и сипловатым. — Ну и отлично. Пошли. Тебе еще туфли другие и что-нибудь на голову, и был бы ты как шотландец в национальном наряде. Но сойдет. И так похож на чудака иностранца. Пойдем. — А куда идти? — обреченно спросил Ленивец. — «Куда идти, куда идти»! Словно не знаешь? — Не знаю, — жалобно вздохнул новоиспеченный чудак. Живчик подумал. — Пойдем к Мимуазе, поговорим с ней как следует! — Пойдем, — печально кивнул Ленивец. Живчик незаметно ухмыльнулся. «Вот так оно и бывает. Только так, и не иначе. Храбрость Ленивца вошла в поговорку на задворках Вер-о-Пезо. Ленивец пули не боится, это всем известно. Почему не боится — вопрос другой, но не боится, и все тут. И ножа он не боится. Он всегда руку с ножом обломать может. И вообще Ленивцу сам черт не брат. Он бывал в таких переделках! А вот ведь скис Ленивец! Стыдно ему. Стыдно ему вместо штанов рубаху носить и в таком виде по фешенебельному лайнеру прогуливаться. Смущается! Вот посмеемся на берегу!» Они вышли из туалета и направились к бару доньи Мимуазы. Навстречу им попадались пассажиры и кое-кто из команды. Наряд Ленивца воспринимался с интересом, но без энтузиазма. Только раз гангстеров шокировала маленькая девочка: — Мама, мама! Смотри, кто это такой? — Иди, иди, детка, этот дядя больной. Угловым зрением Живчик заметил, что Ленивец побагровел и стал хватать ртом воздух. Затем он услышал тоскливый шепот: — Слушай, вельо, иди один. Я тебя в туалете подожду, ей-богу. Я там у кого-нибудь штаны достану. — Да? — Живчик был язвителен и ироничен. — Поднять шум на весь океан? Учти, толстяк, я за тебя работать не собираюсь. С Миму и Диком нужно быть настороже. Идем. Ленивец обреченно сопел за спиной неумолимого друга. Живчик неистовствовал. У него был для этого благодарный повод. «Шеф все узнает. Он поймет, каким дураком был, когда посылал этого жирного поросенка на дело. Какой с него прок! Он сейчас вроде проколотого пузыря. А храбрился! Подсмеивался над старыми кадрами. «Вельо, вельо»! Вот тебе и вельо. Сам ты вельо! Стоило с тебя спустить брюки, как ты уже ни на что не годен!» Они прошли по кормовым трапам и, стараясь остаться незамеченными, поднялись на палубу первого класса, где находился бар доньи Мимуазы. В это время радио «Святой Марии» передало объявление: — Подсобный матрос Даниил, подойдите к радиорубке, вас вызывает помощник капитана! Подсобный рабочий Даниил, у радиорубки вас ждет помощник капитана! Сначала они не придали объявлению никакого значения, но уже через несколько шагов Ленивец осторожно тронул плечо спутника: — Слушай, вельо, а ведь помощник называл Даниилом этого негра там, в каюте? — Какого? — Того, с кем я подрался. — И что? — «И что»! Не соображаешь? Зачем им вызывать матроса, когда он рядом с помощником капитана? Здесь что-то не то. — Глупости! — отрезал Живчик. — Пока мы чинили твои штаны, негр мог куда угодно податься! Вот его и вызывают. Живчик раздраженно толкнул дверь бара. В этот ранний час заведение Миму пустовало. Сама хозяйка, стоя на рабочем месте, разливала в четыре рюмки коньяк. Лицо ее было бледным, губы сжаты. Скорбная складка у переносицы придавала ей выражение мученической решительности. Напротив барменши на высоких вертящихся табуретах сидело четверо. Помощник капитана, Сэм Смит, подсобный рабочий Даниил, и Альдо Усис с забинтованной головой. Все четверо сосредоточенно смотрели на плотно сжатый рот доньи Мимуазы. Первым гангстеров заметил перевязанный Альдо Усис. — Они! — Техник-электрик заорал так зычно, что бутылка коньяка в руках Миму дрогнула и опрокинула рюмку. — Действительно они, — пробормотал помощник капитана. Сэм Смит выхватил пистолет. Никто бы не подумал, что этот джентльмен умеет так ловко обращаться с оружием. Негр Даниил широко открыл заплаканные глаза. Живчик и Ленивец, сдавив друг друга в дверях, выскочили из бара. Погоня! Погоня! Настоящая большая погоня на «Святой Марии». — Держи! Держи их! — истошно вопил жаждущий крови Альдо Усис, перепрыгивая через канаты и тумбы. — Это уж слишком, это уж из рук вон, — приговаривал, посапывая, помощник капитана. К тому времени, когда гангстеры и преследовавший их техник-электрик исчезли, помощник только-только оторвался от круглого сиденья у стойки доньи Миму. Сэм Смит презрительно ухмыльнулся, спрятал пистолет куда-то под мышку и остался неподвижен. — Нехорошо, донья Мимуаза, — сказал негр Даниил. Глаза его снова увлажнились. Ленивец и Живчик бежали по узким переходам, скатывались вниз в темные провалы салонов, взмывали вверх, на чистые просторы палуб и чувствовали себя настоящими стопроцентными зайцами. Где-то сзади, по следу, шла тощая и злая гончая. Ее лай временами оглушал их, временами пропадал, но все время они ощущали у себя на затылке горячее собачье дыхание. «Ох плохо быть шестидесятилетним зайцем!» — держась за сердце, думал Живчик. «Ох, плохо быть стокилограммовым зайцем!» — стонал Ленивец, удерживая разворачивающийся пояс. «Дурак наш шеф, что послал нас на это дело!» — таково было единодушное мнение гангстеров. На тесной лесенке дорогу бежавшему впереди Ленивцу загородил человек, похожий на боцмана. Ленивец точно не знал, но полагал, что только у боцмана могут быть усы такой внушающей уважение пышности. — Вы куда? — грозно спросил усач. — Вы не видели здесь двух? Один высокий, другой пониже? Не пробегали? — задыхаясь, спросил Ленивец, кулаком вытирая пот. — Нет, а что? — Мы их ищем, — выдохнул Ленивец, отодвинул боцмана в сторону и прошел вперед, обнаружив за собой запыхавшегося Живчика. Гангстеры бросились дальше. — А вот теперь вижу! — заорал боцман и включился в погоню. Да, стая гончих росла, а дичь оставалась той же! Зайцы слышали лай с нескольких сторон. Некоторые зарвавшиеся гончие неожиданно возникали впереди беглецов. Тогда Ленивец грозно вытягивал свой огромный кулак, и преследователи куда-то исчезали. И тем не менее кольцо сужалось. Уже передали по радио, что их разыскивают, уже каждый встречный мог проявить себя как гончая, кончались силы, дыхание, жизнь. В этот трагический момент они взлетели на солнечную палубу, где доктор Трири произносил свои удивительные речи. О чудо! Здесь было полно народу. Дамы и пожилые джентльмены сидели на скамьях, стульях, шезлонгах. Остальные толпились как попало, в проходах между скамьями, многие разместились на огромных, похожих на сундуки, ящиках со спасательными поясами, некоторые по-восточному расположились прямо на полу, согнув ноги калачиком. Впереди, на авансцене, шел жаркий, словесный бой между доктором Трири и каким-то светлым пареньком в гавайке навыпуск и с упрямым волевым подбородком. Слушатели то и дело разражались криком, они смеялись и хлопали. — Осторожно, все ноги оттоптал, бегемот! — шипели потревоженные Ленивцем слушатели. — Ничего, ничего, мозолям нужен массаж, — торопливо утешал толстяк. Они считали, что устроились надежно. Со всех сторон их окружали взволнованные, что-то выкрикивающие люди. Проповедь доктора Трири могла затянуться на несколько часов. Будущее, казалось, было обеспечено. Правда, сидя на палубе, они не могли внимательно следить за ходом дискуссии, но это их почему-то не огорчало. Ленивец завистливо изучал покрой брюк стоящего впереди мужчины. Живчик тяжело вздыхал — здесь внизу воздуха было немного. — Это как в хороший футбольный день в Рио, правда? — оптимистично заметил Ленивец, просовывая голову меж чьих-то колен. Загнанный Живчик только кивнул. «Хорошо тебе, поросенку, а вот побыл бы на моем месте... Не то бы заговорил! Матч ему припомнился, свинья этакая! Тут никак отдышаться не можешь, а он со своим футболом...» Единственно, что огорчало Ленивца, так это некоторая текучесть толпы. Люди впереди то и дело двигались, открывал для постороннего обозрения двух грешников. И хотя спины и бока беглецов были надежно закрыты толпой, Ленивец ощущал беспокойство. Самые светлые минуты обладают неприятной особенностью прерываться болезненно резко и печально. В жизни дичи этот момент связан со звуком выстрела. И если даже нет прямого попадания, все равно страх охватывает тело жертвы и понуждает ноги к движению, направленному в сторону, противоположную опасности. Толпа, загораживавшая Ленивца и Живчика от вдохновенного лица доктора Трири, потеснилась, и гангстеры увидели на авансцене уже примелькавшуюся им фигуру Альдо Усиса в сопровождении сержанта судовой полиции. Обуреваемый жаждой мести, электромеханик оттеснил доктора Трири и его оппонента в сторону и занял центральное положение возле микрофона. — Леди и джентльмены! Спокойствие и внимание! — сказал Усис. — Среди вас скрываются два бандита, неоднократно совершавших покушения на персонал экипажа «Святой Марии». Внимание и спокойствие! Один из них толстый, второй — маленький. Спокойствие и внимание! Никто не должен уходить, пока... Все же звезды и созвездия, под которыми родились Ленивец и Живчик, были добры к ним в этот день. Возможно, боги только играли, оттягивая развязку, но, как знать, быть может, они и вправду желали спасения этих двух заблудших душ? Что мы знаем о намерениях богов? Ровным счетом ничего. Одним словом, произнося свою речь, Альдо Усис увидел в первых рядах слушателей Джимми Оссолопа. Почтительный ученик прославленного доктора сидел на стуле с чуть припухшей физиономией и смиренно держал на коленях материалы, которые Трири собирался демонстрировать в своей программе Утверждения. Ведь пока проповедовалась Критика, он успел обшарить максимально возможное количество намеченных кают. Но проклятого Дика так и не обнаружил. — Это он! — невежливо и нелогично прервал свое обращение Усис, переворачивая микрофон и набрасываясь на смущенного Оссолопа. — Это один из них! Это третий! Я его знаю! Хватайте его! Вяжите его! Он соучастник! Я ему покажу! — Позвольте... — начал было доктор Трири, у которого в разгар проповеди уводили адепта и ассистента. — Не позволю! — взревел Усис. Его рот во гневе ощерился внезапно выросшими клыками. Оссолоп в мгновение ока был скручен и спеленат. Его не уводили, а почти уносили. — Не знаю, что и придумать, — говорил, тяжело вздыхая, Ленивец, — проповедь по техническим причинам переносится. Все разбегаются. Теперь куда? — Есть одно место! — Живчик хитро прищурил глаз. — Меня этот доктор надоумил. Я слышу, он все время твердит «ныряет, ныряет». Вот я и подумал, почему бы и нам не нырнуть, а? — Еще успеем, — мрачно возразил Ленивец. — Поймают, тогда... — Брось, парень, я не о том! Идем-ка мы с тобой в бассейн! Там нас голеньких никто не выловит! А? Ленивец в сомнении покачал головой. — А если застукают? — спросил он. — Голый далеко не убежишь. Весь на виду. В трусах да плавках разрешается быть только на площадке бассейна. — А что делать? — Делать, пожалуй, нечего. Ты прав.26
Женя и Лоис разговаривали по-английски. Настоящему англичанину было бы интересно послушать их диалог. Возможно, настоящий англичанин остался б при мнении, что молодые люди просто валяют дурака. Никто не поручится за настоящего англичанина. Но Женя и Лоис использовали свой английский с самыми серьезными намерениями. Он служил, как и положено языку, общению. — Здесь такая теснота, что некуда пятки возместить! Это плохой бассейн третьего класса, — говорила, нежно улыбаясь, Лоис. (Так, по крайней мере, звучит ее речь в подстрочном переводе с английского.) — Ужасный теснота, — подтверждал Женя. — Но ничего, я вижу неподалеку свободный шезлонг, целый два, идем туда сильнее, мы на них успокоимся. — О какая прелесть! Бегали! Держась за руки, они устремились через вытянутые ноги поджаривающихся купальщиков. Женя был горд. «Да у меня просто соколиный глаз. Чтобы в этой свалке дымящихся тел отыскать свободное местечко... Да еще два рядом. Нет, я просто молодец!» — Я иду делать большой туалет меньше, — заявила Лоис и удалилась в кабину для переодевания. Женя проводил ее нежным взглядом. «Ах, Лоис! Солнечное создание. Как с тобой легко и просто! Ты сама не знаешь, какая ты прелесть. Ты чудо! Ты мечта! Ты...» Слава богу, Лоис вовремя вернулась. В купальнике она выглядела школьницей, принимающей участие в спортивных соревнованиях. Женя опять умилился: «Цыпленочек. Желторотый, совсем желтый цыпленочек». — Я тоже пойду уменьшать свой большой туалет. — Женя перекинул плавки через плечо и отправился переодеваться. Что было потом? Потом они лежали рядом, над ними было смеющееся небо. И солнце, которое радужными кругами пробивалось сквозь их сомкнутые веки. Плеск воды в бассейне. Ласковый бриз. Их косноязыкие английские фразы становились все короче и реже, пока не исчезли совсем. Да и зачем им нужны были слова? Постукивание мизинцем по соседней всепонимающей ладони немедленно вызывало ответный сигнал, на вздох отвечали вздохом, а изредка по лицу кто-то проводил ласковым пальцем, и было смешно и щекотно. Женя видел, не глядя, совсем рядом большой черный улыбающийся глаз и чувствовал себя счастливым. «Может ли жизнь дать мне большее? Сомневаюсь. Я молод. Я здоров. У меня есть друзья и любимое дело. Есть будущее. И есть настоящее. Рядом со мной маленький замечательный человек. Таинственный и прекрасный. Я счастлив, что он есть вообще и что он сейчас со мной». Нагревшись так, что кожа стала дымиться, они спустились в бассейн и долго плавали, пока прохлада не прогнала солнце из их тел.27
— Мы устроимся так, — сказал Живчик, раскладывая свое тощее тело на единственном добытом ими шезлонге, — один будет греться на солнце, второй мокнуть в бассейне. Затем смена. Идет? — Это хорошо, — одобрительно отозвался Ленивец, с интересом рассматривая множество брюк, лежавших и висевших по соседству. Хозяева некоторых отсутствовали, очевидно мокли в бассейне, — ты здорово придумал, ничего не скажешь. — Ну и ладно. Я пока погреюсь, а ты иди поныряй. Живчик вытянул кадык навстречу приветливым солнечным лучам. Но уже через несколько минут гангстер стал ерзать, подушкой ему служил пиджак с двумя пистолетами в боковых карманах. «Чертов поросенок! Почему я должен таскать его люггер? Пожадничал на штанах, а я отдувайся. Ишь, поплелся в бассейн, бегемот! Ну хорошо. Допустим, мы переждем здесь эту суету. Но задание мы так и не выполнили. Где Дик Рибейра? Где товар? Что скажет нам на все это старый Педро? И думать не хочется. Он скажет нам что-нибудь нехорошее. А меня снова попрекнет хлебом, который я, по его мнению, ем даром. Побывал бы он на моем месте, побегал бы здесь, старая свинья. Ну хорошо. Раз мы не можем найти Дика днем, мы найдем его ночью. Именно! У этой Миму. Именно! Не просто, но реально. Либо у Миму, либо в четыреста первой. У него только две точки. При встрече первым делом набью морду, а затем уже начнем торг. Пусть не мечтает заполучить все денежки Педро. Бегай за ним да еще ему плати! А кто мне оплатит профессиональную вредность?» Вынырнув из сверкающей зеленой воды бассейна, Лоис ожидала появления Кулановского. Она уже предвкушала, как расхохочется, как брызнет в Женю соленой водой. Она представила себе его прилипшие волосы, смешно выпученные глаза, широко открытый рот и тихонько пискнула от удовольствия. Внезапно прямо перед ней чинно, не торопясь, проплыл толстяк с очень знакомым лицом. Она сразу его узнала. Один из тех двоих, вчерашних. Сейчас он был, правда, совсем не страшный, такой себе тюленчик с пухлыми щечками. Но Лоис твердо помнила, что внешность обманчива. — Давайте уплывать, — сказала она подплывшему Жене. — Мы только здесь пришли? — удивился он. — Давайте уплывать, — твердила девочка. — Что случилось, Лой? — спросил юноша, когда они расположились на своих шезлонгах. — Мне стало страшно. Там есть один толстяк, ты видел? — Видел. Большой белый живот, маленький голова? — Да. Он бандито, гангстер. Он вчера мне угрожал. Обижал меня. Обещал еще обидит. С ним раньше был маленький такой. Сейчас его нет. Один толстый. Евгений Кулановский даже привстал на сиденье. — Что он хотел от тебя? — Они требовали сеньора Дика. Дика Рибейру. Приятель такой у мамы. Я не знала, где он, не смела сказать. — Я побью его! — Что ты! Нельзя! Никак нельзя. Он имеет пистолет. Он убьет тебя. Понимаешь? Это бандито, гангстер. Ничего нельзя делать. Надо молчать. И ждать. Его заберут другие. Лоис вцепилась в руку юноши. «Не надо, рыжий, не храбрись. Это страшные люди, и тебе нельзя вмешиваться. Не надо, очень прошу тебя. Мне будет плохо, случись что-нибудь с тобой». Женя сел и огляделся. Однако они с Лоис, оказывается, не одни. Вокруг много самых разных людей. Мужчин и женщин. Молодых и старых. Красивых и безобразных. Средних. Всяких. И каждый из них что-то переживает, чувствует себя счастливым, несчастным. Лоис встала, улыбнулась Жене и куда-то пошла. Пошла лениво, оглядываясь по сторонам. В углу площадки примостился бородатый фотограф с допотопным аппаратом и макетами фотографий. Лоис шла к нему. По пути она поравнялась с полицейским. Сержант Лех только что спустился с верхней палубы, где в каюте помощника капитана он пережил несколько неприятных минут. Ученика этого болтливого доктора Трири пришлось отпустить. Усис получил порицание за опрометчивость. «Ох и Альдо Усис! Ну и дурак. Выкупаться, что ли? Проклятый мундир, как он мешает жить!» Проходя мимо сержанта, девочка сказала: — Лех, там в бассейне толстый бандит. Остановившись возле фотографа, Лоис осмотрела витрину и сделала жест рукой: — Эжен, сюда! Женя запрыгал через коричневые тела и разноцветные шезлонги. Сержант вспотел от волнения. Он ощупал кобуру с пистолетом и подошел к бассейну.28
Узрев сержанта Леха, Ленивец глубоко поднырнул под тела купальщиков и вынырнул на противоположном конце бассейна. Сержант не торопясь прохаживался возле лесенки, по которой купающиеся выбирались на палубу. Торопиться было некуда, уха была приготовлена, оставалось поставить ее на огонь и дать воде покипеть. Лех не торопился и внимательно наблюдал за всеми передвижениями Ленивца. Тот тоже не спешил выходить из воды и подолгу отдыхал у стены, цепляясь волосатыми ручищами за нежный кафельный бортик. Ленивец понимал, что теперь от закона его ничто не спасет. Разве что чудо. Лесенок было всего две. Одна подымалась из воды возле белой вышки, но над ней нависала мелкая и сверхпрочная нейлоновая сетка, ограждавшая дно бассейна от медных лбов неистовых ныряльщиков, у другой стоял невысокий, но плечистый и полный уверенности в своей силе сержант. Положение безнадежное. Сверкая изумительной игры каплями, купающиеся то и дело поднимались из бассейна. Один Ленивец как ракушка приклеился к голубой кафельной стенке и, казалось, намерен был оставаться там до конца плавания «Святой Марии». Тем временем Живчик, разморенный солнцем и относительной безопасностью, сладко дремал между двумя пистолетами. Говорят, будто есть телепатия! Это наглая ложь! Если бы все проклятья и призывы мокнущего в бассейне Ленивца приобрели материальную силу, от Живчика не осталось бы ни одного нераздробленного атома. Он обратился бы в пепел Геркуланума и Помпеи одновременно. Но увы, телепатия, которой нет, не помогла толстому гангстеру. Сержанту между тем стал надоедать этот безмолвный поединок. Он сделал Ленивцу выразительный знак рукой. Хватит, парень, пожалуй, бриться. Ленивец энергично завертел головой, из ушей теплыми струйками побежала вода. Он ясно показывал, что из бассейна выйдет только на носилках. Тогда сержант похлопал себя по кобуре. Ленивец поморщился, нырнул и скрылся под телами купающихся. Сержант задумчиво вертел жаркую латунную пуговицу. «Глупое положение. Идти за помощью неразумно. Во-первых, толстяк убежит. Во-вторых, сейчас совсем не хочется обращаться к капитану. Лучше всего, если гангстер будет задержан сержантом в одиночку. Это восстановит пошатнувшуюся репутацию полиции на корабле «Святая Мария». Через несколько минут вахтенный матрос обратился к купающимся по радио: — Леди и джентльмены, освободите, пожалуйста, бассейн! Вода будет спущена. Испортился насос. К вашим услугам бассейны на других палубах. Оставшись один в бассейне, Ленивец с тоской следил за понижавшимся уровнем воды. Вскоре он уже не мог плавать. Его коленки волочились по дну. Ленивец встал на ноги и посмотрел вверх. Там соблазнительно улыбающийся сержант делал ему манящие знаки. Загорающие с ленивым интересом комментировали упорство последнего купальщика: — Это называется плаванием до последней капли воды! — О да! Видно, большой энтузиаст. Недаром ведь жизнь зародилась в океане. — С таким животом, разумеется, в воде легче, чем на суше. — Почему человеку мешают быть речным быком? Какая жестокость! Ленивец обреченно вздохнул и стал медленно подниматься по белой лесенке. — Полиция «Святой Марии» приветствует первого пациента, — тихо сказал ему сержант Лех. — Дайте хоть одеться, — буркнул Ленивец. — Отчего же! Пожалуйста. Мокрый и обнаженный вы нам не нужны. Ленивец медленно двинулся к шезлонгу, на котором Живчик, накрыв лицо шляпой, тихонько посвистывая, видел первый сон. «Попался. Эх, послушался безмозглого вельо. Что делать? Что делать? Вот беда, совсем голый. А что, если одеться, а потом...» Дальнейшее произошло внезапно для самого Ленивца. Он поравнялся с шезлонгом Живчика и в этот миг отметил, что от сержанта его оттеснили две полные женские фигуры. Ноги Ленивца, неконтролируемые ноги зайца, подогнулись и в стремительном броске понесли тяжелое тело прочь от блюстителя порядка. — Стой, держи! — закричал сержант, забыв от неожиданности похвальное намерение полиции не поднимать шума. Живчик подпрыгнул на своем брезентовом ложе и как ужаленный вскочил на ноги. Погоня! Погоня! Суматоха, неразбериха! Великолепная, бездарная, сумасшедшая погоня! Попробуйте поймать голого и скользкого тяжеловеса на площади в тридцать квадратных метров, где все сантиметры заняты чуть менее тяжелыми, но такими же скользкими людьми. .... Ах, какая это была изумительная погоня! Это была поистине волшебная погоня. Разумеется, все бросились помогать сержанту и закону в его лице! Но чем больше эти взволнованные и бестолковые люди помогали, тем вернее ускользал от преследования Ленивец! Придерживая ниспадающие трусы, толстяк просачивался сквозь ограждения из мокрых рук, а если это не удавалось, то шел напролом, все дальше уносясь от ревущего в досаде сержанта. Трудно ловить голого! У него связи с миром настолько нежны и неощутимы, что даже закон не способен его ухватить. И напрасно Лех, сокрушая ребра, ноги и шезлонги, рвался к цели. Она в этой ситуации была недостижима. Нежно-розовая складчатая спина Ленивца мелькнула раз, другой и пропала за стеной мятущихся человеческих тел. — Будь вы прокляты! — бранился сержант, щедро награждая матросов толчками и пинками. — Все дело испортили! Негодяи! Но что он мог сделать? Ничего. Его помощник был затерт где-то в общей свалке. Сержант мог рассчитывать только на себя. Самонадеянность получила обидный и тяжелый урок. Дичь была так близка, так возможна! Похожий на большую жирную рыбу, Ленивец взмахнул серебряным хвостом, ударил раз, другой и — ах! — ушел в заповедные и недоступные омута. Рыба ушла из рук! — Будь вы прокляты! — стонал сержант, едва не плача. А что толку ругаться? «Раньше надо было думать. Раньше. Несколько минут назад. Нет, ты был слишком доволен своей выдумкой с бассейном. Ты гордился своей изобретательностью. Вот и результат. Дичь упорхнула».29
«Погоня ураганом пронеслась по палубе. В душах одних она пробудила пламя охотника, в душах других страх дичи. Погоня коснулась огненным дыханием мужчин и женщин и унеслась прочь, чтобы в другом месте взорваться подобно шаровой молнии и заставить одних бежать, других — преследовать. Такова уж ее природа, ничего не поделаешь. На то она и погоня». Питер Ик, не раскрывая блаженно зажмуренных глаз, чуть-чуть отъехал в тень.30
— Смотри, Эжен, — сказала Лоис, — этому больше всех досталось. — Бедный. Он без памяти. Женя наклонился и перевернул старика лицом к солнцу. В суматохе тому, очевидно, ушибли грудь и голову. — Ох! Это есть второй бандито! Он был у меня с тем толстяком! Лоис чуть выдохнула эти слова, но Женя их услышал. — Вот как! — Уйдем, скорее уйдем! Прошу тебя! Очень прошу!31
Питер Ик совсем расклеился от зноя и умственного напряжения. «Теоретические сюжетные построения совсем загнали меня в тупик, и я принял правильное решение промыть мозги в бассейне. Но пока до него доберешься, обольешься потом. Следовательно, на обратном пути я тоже стану потным. Есть ли смысл при таких условиях посещать бассейн? Нет, на обратном пути я буду настолько охлажден, что, может быть, сумею донести прохладу на себе до каюты. Так я рассуждал, пока мне в голову не пришла превосходная мысль о гончей и дичи. Потом что-то меня отвлекло, и я потерял нить. То, что я взял полотенце, было правильно. Но я забыл сигареты, и эта ошибка грозила отравить мне купание. Хотя я могу их купить где-нибудь на палубе. Здесь много буфетов. Здесь много баров. Значит, все хорошо! Да, хорошо, и я иду на пляж. О чем же я думаю? Вокруг меня океан. Я его вижу с любой палубы. Он не волнует меня. Большая плоская, выкрашенная в грязно-голубой цвет доска. Потом я сижу в шезлонге и обдумываю коллизии, связанные с преследованием. Мне приходит в голову одна любопытная идея, и я спешу к себе в каюту, чтобы сделать заметку! Так я оказываюсь на второй палубе. Здесь темно и прохладно. И пусто. Немного же таких местечек на «Святой Марии». Навстречу мне идет голый человек. Значит, рядом бассейн. Этот человек ужасно торопится. Он не идет, он бежит. Господи, да это же мой герой! Его уже раздели. Так. Он свернул с моего пути и скрылся в туалете. Он скрылся в туалете с надписью: «Les dames». Интересно! Там он надеется переждать погоню. Наивная глупая дичь! Почему дичь всегда наивная? Да, сейчас должен показаться охотник. Ему уже пора быть здесь. Интересно, где вторая дичь? Старенькая, маленькая и очень суетливая. Однако мой сюжет подвергается значительной деформации. Герои разделились в пространстве. Один бегает в трусах. А второй что делает? Может, его уже изловили? А я в своих теоретических изысканиях двигаюсь со скоростью черепахи, а жизнь летит как ракета. Что же делать? Придется пересаживаться в ракету. А вот и охотник. Совершенно официальное лицо». — Добрый день, сеньор! — Здравствуйте, сержант. — Сеньор, здесь не пробегал мимо вас толстый человек без костюма? Вы не видели? — И без рубашки? — Да, да. — И без туфель? — Да. — И без галстука? — И без запонок, без брюк, без носков, без носового платка! Я спрашиваю, не видели ли вы толстого человека в трусах? — Видел, сержант. — Куда он прошел? — Он прыгнул за борт. — ?! — Охнув, сержант бросился к борту. Питер Ик присоединился к нему. Они стали с сумасшедшей внимательностью исследовать бурлящие волны за бортом лайнера. Сделав ладони козырьком, всматривались в горизонт. Пристально разглядывали ослепительно голубой, словно проглаженный утюгом кильватер. — Но там никого нет! — Сержант уставился на писателя. — Значит, он утонул, — печально вздохнул Ик. — Здесь приличная высота, не меньше пятидесяти футов. Если он давно не тренировался в прыжках, он был обречен. Лех изучающе осмотрел Питера Ика. — Разрешите ваши документы! — Я не беру документы с собой в бассейн. — Вы знаете, что бывает за дачу ложных показаний? — А вы, по-моему, не успели еще привести меня к присяге, сержант. — Почему вы не хотите сказать мне правду?! — Я видел, как он перелезал через борт. Возможно, в последний момент он передумал и спустился ниже, на палубу, что под нами. Не знаю. Но я бы на его месте прыгнул. — Почему бы вы так поступили на его месте? — Видите ли, у него было лицо человека, не имеющего будущего. А жить без будущего не может даже клоп.Он должен надеяться на то, что ему еще придется кого-нибудь укусить, — с издевательской серьезностью пояснил классик. — Извините, я запишу ваше имя и номер каюты. — Ради бога, сержант, сделайте одолжение, Питер Ик из двести семнадцатой. Сержант Лех еще раз посмотрел на собеседника: «Сумасшедший? Здесь на «Святой Марии» полным-полно сумасшедших. Ни одному слову верить нельзя. Все врет. Нужно вернуться и пойти левым переходом». Обследовав попавшийся на пути туалет, где никого не было, кроме негра, мывшего голову под краном, и хорошенько поразмыслив, сержант решил направиться на розыски толстяка другим переходом. «В конце концов, — утешал он себя, — раздетым гангстер далеко не может уйти. Нужно разыскивать в окрестностях бассейна. Придется просить помощь у капитана. Как неприятно, черт возьми!» «Как неприятно, черт возьми! — Питер Ик был недоволен. — Сюжет оказался слишком динамичным. Жизнь обошла теорию и на корпус вырвалась вперед. Что делать, придется снова вмешиваться». Писатель прошел на площадку бассейна и осмотрелся. Жужжание человеческих голосов к этому времени приобрело покойную равномерность. Только в одном месте несколько человек хлопотали возле кресла, закрытого от солнца навесом. Сидевший в этом кресле, судя по резким взмахам рук, яростно отбивался от заботливого окружения. «Сюжет нельзя пускать на самотек. Это чревато неопределенностью развязки. Разлука двух героев не предусмотрена теорией. Где же второй? Он там, где одежда первого. Вернее, одежда первого там, где расположился второй. Чем, интересно, выдал себя толстяк? Почему погоня так милостива к суетливому? Кто глупее — дичь или охотник. Разумеется, охотник, ведь он сильнее. Но дичь наивнее. Наивность и глупость разве не однозначны?» Питер Ик медленно обходил отдыхающих. Он видел людей с ушибами и синяками. Всюду попадались поломанные шезлонги. «Это лицо погони. Там, где она проходит, остаются изуродованные кусты, измятая трава, грязь, хаос». — Оставьте меня в покое, я хорошо себя чувствую! — ворчал Живчик, отмахиваясь от непрошеных доброжелателей — Не нужно никакого врача, я вас умоляю! — Он готов был пасть на колени. Гангстеру был оказан примерный уход. Одна красотка уступила свое кресло с зонтом. Две другие повязали ему голову мокрым цветастым полотенцем, отчего Живчик стал походить на азиатского владыку, которому осточертел его гарем. Остальные соседки донимали старика вопросами о самочувствии. Питер Ик застал Живчика в тот момент, когда он со слезами просил заботливых матрон отпустить его. — Но вы сделаете два шага и упадете в обморок! — внушительно и кротко увещевала беспокойного старика купальщица с формами Геркулеса. — Вам только кажется, что вы здоровы, но в действительности вы совсем-совсем больной! Мне вот тоже до недавнего времени многое казалось, а все получилось совсем наоборот, — туманно разъясняла Живчику дама неопределенной наружности и еще более неопределенных лет. — Покой, папаша, только покой сохранит ваши кости в целости и сохранности, — твердо говорила молодая невидная девушка, у которой бикини были надеты прямо на скелет. — Ему нужен массаж, — твердо сказал Ик, отстраняя женщин. — Позвольте, сеньоры, позвольте! Я кое-что понимаю в этих вещах. Он сделал несколько небрежных взмахов полотенцем над головой Живчика и, наклонившись к его уху, прошептал: — Толстяк ждет в туалете для дам по правому борту отсюда. Живчик узнал таинственного сообщника и доверился ему: — Спасибо, парень. А там нет этих? Он сделал выразительный жест, долженствовавший изображать погоны на плечах. — Нет, — ответил Ик и громко заявил: — Вам, сеньор, необходимо немедленно уйти в каюту и лечь. — Да, да, я тоже так думаю, — засуетился Живчик, выпрыгивая из гнездышка. Он небрежно попрощался со своими сиделками и удалился, волоча по полу тяжелый пиджак с двумя шестизарядными люггерами. — Ах, ах, как же так! Он еще очень слаб! — причитало окружение. — Вы, наверное, не видели, как он был плох вначале. — Ничего, старая лошадь выздоравливает на бегу! Питер Ик равнодушно смотрел вслед гангстеру.32
Живчик с ходу влетел в мужской туалет, никого там не обнаружил, кроме негра, отчаянно мывшего холодной водой в раковине лицо и голову. Живчик растерялся. «Обман? Не может быть!» — Приятель, сюда не заходил один такой, толстый? Негр плескался, фыркал и не отвечал. — Эй, ты, что молчишь? Тебя спрашивают! Негр поднял голову, и Живчик увидел несчастное мужское лицо в бурых и желтых пятнах. — Да ты не негр! Что с тобой, приятель? Постой! Будь я проклят! Дик Рибейра?! — Андрэ-ругатель! Здорово, вельо! Как прыгаешь? — Тьфу, тьфу, не сглазить бы! Ты самый настоящий Дик, которого я уже знаю миллион лет и буду знать сотню миллионов! Но что с твоим лицом, друг? Ты решил работать негром? Это не так уж хорошо оплачивается! — Не говори, старик. Всегда становишься посмешищем, когда слушаешься женщину. Но мужчина никогда не поумнеет. Правда? — Как знать, как знать, Дик. Но с чего это ты разукрасил руки и лицо, как индеец перед праздником Солнца? — Понимаешь, вельо, — понижая голос, доверительно сказал Дик, — за мной здесь охотятся. Двое от Педро. Я старику остался кое-что должен. И Миму посоветовала мне покраситься под негра. Мы тут с одним матросом, Даниил его зовут, схожи. Поэтому я изуродовал себя. Черной краской, которую Миму достала у парикмахера. — Ага, — сказал Живчик. — Ну да, вот какое дело, понимаешь. Я изукрасился, как не знаю кто. А сейчас надобность отпала. Пока я бегал с ведром и шваброй по палубе третьего класса, через радио дали объявление. Слышал, может? Матрос Даниил, к капитану! — Слышал, — сказал Живчик. — Получается, что мне нужно выходить из подполья. Требуется какая-то другая конспирация. Зашел я в туалет отмыться, а проклятая патентованная краска никак не сходит. Минут двадцать бьюсь и никак! — Эту краску нужно одеколоном, а еще лучше ромом смывать, — посоветовал Живчик. Помявшись, он объявил: — Слушай, Дик, а ведь это я от Педро! Мы тебя разыскиваем. Дик Рибейра изумленно вытаращился на приятеля: — Ты? — Ну да, мы с Ленивцем. Мы и с Мимуазой насчет тебя разговаривали. Я и Ленивец. — Ты?! Ты? Дик Рибейра присел от хохота. Заботы минувших дней и ночей свалились с его плеч пустой никчемной ношей. — Андрэ-ругатель! Гангстер! Кто б мог подумать, что это ты! Нет, видно, плохи дела у старого Педро, раз он набирает такие кадры! Не обижайся, ради бога, вельо! — А что, собственно? Чем я не подошел этой свинье? — Не сердись, вельо, я просто вспомнил, как ты... Дик снова заливисто захохотал. — Разобрало тебя, — с неудовольствием сказал Живчик. — У меня и люггер есть. Так что ты брось эти смешки! Дик вцепился в плечо гангстера. — Нет, нет, я так, я не могу! Андрэ, ты помнишь, как на Вер-о-Пезо торговки из нижнего ряда засадили тебя в бочку с рассолом. И мы вынимали тебя оттуда. Помнишь? — Я бросил пить, Дик, уже с месяц не пью. На этих условиях меня и Педро взял к себе. Спиртного ни-ни. Только по праздникам. — Ладно, — продохнув от смеха, сказал Дик, вытирая счастливые слезы на пятнистых щеках. — Но что же Миму? Она-то тебя знает! А все твердила — Живчик и Живчик. С каких пор ты стал Живчиком! — Ты слишком долго был на Льянганати, — заметил Живчик, — нельзя на восемь месяцев уходить из дому. Многое изменилось. Меня так начали звать, когда я стал работать у Педро. Миму его знает, это прозвище. Его весь Вер-о-Пезо теперь знает. — Что хочет от меня хозяин? — Поговорим в другом месте. Одно скажу, чтобы ты не беспокоился о своих долгах. Педро на них не рассчитывает. Он так и сказал. Это, сказал он, бросовые деньги, что я вложил в Льянганати. Хотя все знают, что ты окупил их в прошлую экспедицию. Но об этом после. Сейчас другие дела. Ленивца надо выручать. Он, кажется, в соседнем дамском туалете и выйти не может. Парень безо всего, в одних трусах. За ним сержант гоняется. И еще один тип. — А за тобой нет? — Я не такой приметный. Ты знаешь, ведь мы зайцами. Билеты дорогие, да и документы... Все ты, паршивец, виноват. Посидел бы хоть сутки в Белене, мы с тобой успели бы переговорить, и все было бы о'кэй. Ну да ладно, что будем с Ленивцем делать? — Не знаю. Мне не до Ленивца. Видишь, какая у меня морда? — А ты перевяжись платком, словно зуб болит, вот одна щека будет закрыта. Вторую прикрывай рукой, — посоветовал поднаторевший на маскировке Живчик. — Рукой! А рука-то какая? — Дик сунул под нос гангстеру ладонь, покрытую черными пятнами. — Человек я или ягуар? — Проскочишь как-нибудь. Пойдем. Дичь и Охотник вышли из туалета вместе, демонстрируя трогательное диалектическое единство цели и средств, как сказал бы Питер Ик. Напротив, возле женского туалета образовалась небольшая очередь из молодых веселых сеньорит. В женском туалете из двух кабин функционировала только одна. Вторую занимал непокоренный «Ленивец. Не подумав, Живчик сунулся к женщинам, но был отвергнут: очередь встретила его в штыки. — Сеньор, вам не сюда! — Сеньор, вы, случайно, не дальтоник? — Он не дальтоник, а лунатик. — Я его знаю. Его только что ушибли в свалке. — Это многое объясняет. — Прекратите, сеньориты, прекратите! Нельзя смеяться над старым и ушибленным. Мы разрешили бы вам, уважаемый, пользоваться тем, что не положено, но сами видите, как здесь тесно. — Тьфу! — Расстроенный Живчик отошел от зубоскалок. Он был красен, как вареный омар. — Вот стрекозы, ведь и вправду не пропустят, — огорченно сказал он Дику Рибейре, который, повязавшись платком, с улыбкой наблюдал, как старик атаковал дверь с надписью: «Les dames».33
Но все обошлось. Ленивцу принесли кое-что из старого барахла Рибейры и через несколько минут все трое уже сидели на ковре в каюте Мимуазы и потягивали ром. — Слушай, Дик, ты все же напрасно от нас бегал, — говорил Живчик. Сидевший рядом Ленивец ощупывал очень тесные и уже треснувшие в нескольких местах короткие брюки Дика. В его глазах они были королевским горностаем. — Я думал, что Педро будет вытрясать из меня долги. — Брось. Педро интересуется только теми зернышками, которые ты привозил прошлый раз. — Какими зернышками? — Да как ты их называл — монц, понц? — Бонц? Это не я их называл, это индейцы их так называют. — Неважно, как и кто их назвал. Важно, что они нужны шефу. Прошлый раз ты ему передал немного этих зерен. Шеф проверил у своих друзей и теперь готов купить их у тебя. Он покупает все, что ты принес. Если бы ты вел себя как человек, мы бы закончили наш бизнес еще в Белене. — Да, парни, я просто не подумал, что Педро может расстаться хоть с одним крузейро, не перерезав человеку глотку. — Педро изменился. Постарел. — Я вижу. Тебя на работу взял. — Журналы читает, — ввернул оживший Ленивец. — Насколько я знаю, семена бонц Педро гонит на химию, — задумчиво сказал Дик, — а химия сейчас в цене. — Слушай, Дик, — вмешался Ленивец, — мы не будем с тобой торговаться. Педро положил тебе цену за эти семена, и ты ее получишь. Педро сказал, что он может рассчитывать на твою уступчивость. Как-никак твоя экспедиция влетела ему в копеечку. Дик улыбнулся: — Педро есть Педро. Ладно, парни. Я продам вам эти семена. Где деньги? Живчик лихо постучал себя по подметке. — Отлично. Придет Миму, я пошлю ее за семенами — они хранятся на кухне, и мы закончим сделку. А пока, я думаю, нам не помешает распечатать вторую. Донья Мимуаза, забежав в перерыв к себе в каюту, увидела трех очень добрых и вежливых мужчин. — Значит, все устроилось? — радушно спросила она, поднимая две пустые бутылки и отыскивая взглядом третью. — Совершенно верно, дорогая. Они славные ребята, — доверительно сообщил Дик. — Не сомневаюсь. Я рада за тебя, что все обошлось. — Слушай, родная, парни, оказывается, хотят приобрести эти зернышки, что я нашел возле озера с кошачьим золотом. Принеси их из холодильника, пожалуйста. — Хорошо. Сейчас? — Да, если можно. — А зачем ты их держишь в холодильнике? Это разве мясо? — спросил Живчик. — У них очень нежная и тонкая кожица, и они плохо высушиваются. А на Льянганати разве можно что-нибудь высушить? Там дожди. Там такие дожди... — Дик грустно замотал головой. Волосы его свесились по щекам. — И поэтому прошлый раз некоторые зерна начали гнить. Педро говорит, что половину пришлось выбросить. Врет он, цену набивает. Но действительно могли, кожица у них нежная, нежная... — Слушай, Дик, а как ты узнал, что они такие? — Это, парни, целая история. Все получилось в прошлый раз на обратном пути. Мы возвращались в две партии. Первая была большой. Там шел Рыжий, Акути, Швед и три индейца — каражо. Они, собственно, и несли основную поклажу. Через пять дней тронулись и мы с Джимми. Старый Джимми, славный был индеец... Дик задумался. Ленивец и Живчик жадно смотрели на кладоискателя. — Ну, дальше, дальше! — Да, мы с Джимми понимали, что сделали глупость, оставшись на эти пять дней. Все время шли дожди. День и ночь. День и ночь... Проклятый дождь. Если б не дожди, в Льянганати можно было бы влюбиться, ей-богу, парни, это такой край, такой край. — Ты лучше расскажи нам, как вы нашли эти самые зернышки? — Разве это я? Набрел на них Джимми. Мы шли, шли. Мы за те пять дней здорово сдали, а здесь прямо-таки доходили. Правду сказать, я почти валился с ног, а Джимми ничего, он молодец, он держался. Он видел, что я не ходок, да, верно, и не жилец. Но он молчал, потому что ничего изменить не мог. Мы шли и шли. — Ну шли, и что дальше? — подгонял рассказчика Живчик. — А ты не торопи меня. Да, мы прошли это озеро «Кошачьего золота», где капитан Лох получил от судьбы большую затрещину, спустились уж не помню в какую долину и заблудились. Потому и заблудились, что я требовал дальше идти. Я торопился, парни. Я знал, что надолго меня не хватит. Боялся я ночлега. Индеец послушался меня, мы шли весь вечер и, понятное дело, зашли куда-то не туда. Сделали привал. А дождь все льет. Проводник мой ушел, что-то долго его не было. Потом приходит бледный, серьезный такой. «Благодари своего бога, — говорит, — Я нашел кусты с плодами бонц». — «Что это еще за бонц?» — спрашиваю. А он не отвечает. Только головой трясет. Потом сказал, что напиток из этих зерен он пробовал маленьким ребенком, когда была жива какая-то его прабабка. Ладно, говорю, и сам смотрю и вижу, что у него и правда в руках большая ветка с ягодками. По форме да и на ощупь они кофейные зерна напоминают, только кожица на них такая нежная, нежная. Пока они сырые, еще можно различить, а высохнут, так совсем как кофе. Джимми приготовил чай из этих зерен, и мы выпили его. — И что? — Это, парни, такое, такое... Не могу вам даже рассказать, что это такое, только спасся я благодаря плодам бонц. И то место заметил. — Дик, а почему ты сам не...? — Чай из этих зерен можно пить только раз в жизни. Самый меньший перерыв должен быть двадцать лет. Так мне сказал индеец. А этому покойнику я верил. Он был честным человеком, хотя и пьяницей. Кто выпил два-три раза подряд — конченый человек. Вот я, например, тогда выпил и словно ожил. Я шел играючи там, где раньше проползал на четвереньках. Еды не нужно, немного воды, и все. И ты бог. И все же... я бы не захотел больше так идти. Только удирая от смерти. — Почему, Дик? — Видишь, какое дело. Дорогу я видел и выбирал хорошо. И ни разу не свалился в пропасть. И в реке мы не утонули. И жакаре и анаконды были нам не страшны. Только все время мне казалось, что небо поросло волосами. Длинными грязными волосами. И волосы эти вверху мотаются, меня чуть ли не по голове задевают. Самое смешное, парни, что небо-то я отлично видел, и облака, и редкий солнечный свет, но и волосы тут же почему-то маячили. Странно. Как посмотришь вверх, чуть ли не тошнить начинает. Это волосы в лицо и рот лезут. Брр! А у индейца другое. Его смех одолевал. Всю дорогу прохохотал. Я удивлялся, как он тогда себе шею не свернул. — Ты рассказывал про это Педро? — спросил Ленивец. — Я ему все рассказал и дал немножко ягод бонц. — А сам ты не захотел с ними возиться? — Нет, эта возня не по мне. Золото — другое дело. Металл чистый, благородный. В каюту вошла донья Мимуаза. — Вот, — она поставила банку на пол в центре между тремя собеседниками, — я пошла. — Снимай ботинок, Андрэ, — сказал Дик. Живчик скинул ботинок, приподнял стельку, извлек из-под нее плотную пачку банкнот и протянул их Дику. Пока кладоискатель пересчитывал ассигнации, Ленивец открыл банку и заглянул внутрь. — Совсем как кофе. Настоящий «Red circle» — первый сорт. И пахнут так же. — От такого кофе ты, брат, на седьмое небо заберешься и забудешь, как оттуда спуститься. Хорошо. — Дик спрятал деньги в карман куртки. — А теперь, Андрэ, скинь второй ботинок. — Какого дьявола?! — Живчик взвился в воздух и схватился за карман, но в руке Дика уже предупредительно поблескивал вороненый ствол. Ленивец изумленно смотрел на Живчика. — Вельо?! — В голосе толстяка звучала угроза. — Даже так?! Ну и тут ты отличился, вельо. — Дик укоризненно покачал головой. — Это уж никуда не годится. Товарища подводишь. — Мне деньги нужны, — захныкал Живчик, садясь и снимая второй ботинок. — Жрите! Дик извлек из ботинка Живчика пачку денег, раза в полтора толще первой. Ленивец молча наблюдал. Белые желваки двигались на его небритых щеках. Рибейра разделил вторую пачку денег на три равные стопки. Одну он протянул Ленивцу, вторую — Живчику. — Всем нужны деньги, — примирительно сказал он. — Но шестьдесят процентов комиссионных, сам понимаешь, парень, многовато даже для старого гангстера. Я уж не говорю о том, что вы сэкономили на билетах и других мелочах. Это ваши чистые деньги. Педро мог бы ловить меня, не тратясь на комфорт для своих помощников. Но это не мое дело. Так, говорят, Толстый Педро сильно изменился? — Сильно, — хором ответили довольные гангстеры. — Журналы читает, — разъяснил Ленивец. — Какие журналы? — спросил Дик.34
Улыбнувшись, доктор Трири сложил листы газеты и ласкающим движением опустил их на лакированный столик. Он поднялся из низкого теплого кресла, сплел пальцы за спиной на манер сложного морского узла, поднял лицо к потолку и медленно закружился вокруг стола, на котором в струях кондиционированного воздуха, точно живая, шевелилась газета. «Вот, оказывается, как они меня увидели... Проповедник наслаждения, апологет теории экстаза обладает, как пишут они, каучуковым позвоночником и бледным маленьким личиком. У него, пишут они, длинные жирные немытые волосы битлза, желтоватые белки глаз, хрустящие суставы и плохие манеры. Их охватило, как они пишут, ощущение немытости, затхлости. Они, оказывается, были шокированы его несовременностью. Это одеяние, эти духи из тех сортов, которыми сбрызгивают покойников...» Доктор Трири сложил губы трубочкой, выдохнул воздух и вновь улыбнулся. «Таким увидели вы меня. А я? С ваших губ тогда еще не был стерт парафинистый жир бифштексов, которыми вы заправлялись, перед тем как втиснуться в толпу слушателей. В ваших глазах еще не отстоялась непрозрачная желтая взвесь опьянения. Ваши языки еще не слушались вас и лежали в ваших ртах тяжелые, сырые, словно вылепленные из теста. Но вы уже были готовы лгать, издеваться, извращать и разносить эту ложь по всему миру на страницах своих газет. Мелкие злые репортерские шавки. Ничтожные рабы ничтожных целей. Вам ли судить меня?» Доктор Трири свернул газету трубкой и осторожно опустил ее в корзинку для бумаг. «Статья лжива, но она ранит — что-то во мне затронуто, и оно требует немедленного успокоения. Уверенность не поколеблена, но равновесие слегка нарушено. Стрелка чуть дрогнула — это опасно. Где мое оружие? Где мои мечты? Они мне помогут. Эскизы, которым, быть может, и не суждено стать картинами. Тезисы нереализованных трудов. Сказки, вплетенные в реальность. Кто знает. Грядет день, и тогда зазвучат колокола, в которые сейчас никто не верит. Мы подождем, мы посмотрим. Но ждать мы будем не сложа руки. Смотреть, не закрывая глаз... Следует помнить одно. Следует помнить главное. Это главное оградит меня от любых нападок, самых несправедливых, самых предательских. О чем я? Да, наслаждение... Человек беззащитен перед наслаждением. Эволюция ничем не вооружила организм для обороны от приятного. Формы удовольствий меняются, суть остается. Понятие счастья густо замешано на сиропе наслаждения. Главный вывод: все разновидности наслаждения являются формой оплаты организму за его непрекращающуюся борьбу с энтропией[123]. Оно приходит тогда, когда мозг и тело выполнили свой долг перед эволюцией. Спастись от смерти, насытить голод, победить, выжить, разбогатеть... Эти биологические функции щедро оплачены наслаждением. Человек идет путем наслаждения. Этот путь обязателен, но недостаточен. Только термодинамически возможное направление реакций, как сказал бы химик, — но не всегда оно реализуется. Существует еще и кинетика. Препятствия, мешающие системе перейти на уровень с более низкой энергией. Попросту, наслаждение нужно заработать, преодолеть преграду, перепрыгнуть через барьер. И люди прыгают. Все выше и выше. Во имя радостей из категории обыденных удовольствий. И вот здесь появляются волшебные, сказочные вещества, которые без особых энергетических затрат переводят человека в райские сады неизведанных ощущений... Человечество сделало рывок по пути химического счастья, воплощенного в стимуляторах, транквилизаторах, допингах. Все и всё равны перед таблеткой Счастья! Я поведу вас вперед, я не брошу вас на нелегком пути к победе!» ...Доктор Трири развернул и тотчас захлопнул тетрадь, где на первой странице его нервным почерком было начертано: «Эпоха химического счастья. Апогей». «Нет, нет. На сегодня хватит. Я уже подзарядился. В тело ворвались громкие и требовательные удары взволнованно пульсирующего сердца. Впечатление от лживой газетной статейки смыто начисто. Конечно, это еще не научный труд. Над многим следует поработать более основательно». Доктор Трири обессиленно и сладостно вытянулся в кресле. Руки похолодели, на лбу выступил холодный пот, по лицу разлилась смертельная бледность. «Снова вегетативка шалит, нужно опять принимать микстуру, внутреннее волнение не проходит бесследно. Нервы, нервы, как вернуть вам прежнюю силу тех времен, когда мог по пять, по шесть часов подряд выступать перед самыми разными аудиториями — и ни малейшей усталости, ни сухости во рту, ни сердцебиений, ничего, абсолютно ничего. Сейчас не то. Видение величественных картин будущего буквально разбивает. И почему? Ведь никогда не курил, не пил, был предельно осторожен к лекарствам, к химии этой относился с предубеждением и отвращением...»35
Женя застал друга лежащим на койке в одних трусах. Альберт был красным и злым. При появлении соотечественника он перевернулся лицом к стенке. «Какая муха его укусила? — удивился Кулановский. — А впрочем, аллах с ним. Не хочу ни о чем думать. Не хочу соображать. Мозги вытекают. И все же чем-то он недоволен? Или точнее, кем? Методом исключения прихожу к выводу, что мной. Почему? Завидует?» — Хочешь кока-колы? — возможно приветливее обратился он к Альберту. Ответом, как бы сказал Ик, было молчание. — Как хошь... Только что из холодильника. Кола ледовая, жгучая, бедовая. Альберт резко сел на койке. — Слушай, Женька, объясни мне, как же все-таки получается? — Об чем речь, милай? — Ты мне как будто сказал о лекции этого подонка доктора Трири! — Я. — Почему же сам не пришел? Женя развел руками. — Понимаешь, обстоятельства всякие и... Лоис. — Да, да, Лоис, любовь, солнце, вода, ветер! Мильон объективных причин. А я пошел. Пошел из-за тебя! И должен был выслушать всю чушь, которую нес досточтимый доктор. — Надеюсь, там было не слишком жарко? Успокой меня. Иначе я буду думать, что ты перегрелся. Чем же перенапряг твои мозги бедный проповедник? — Он гад. Беспардонная чудовищная спекуляция на некоторых особенностях развития науки. Такого я еще не слышал! Это очень умный и опасный гад. Я не мог молчать, Женя... — Ты выступал? — Я-то выступал, а вот где ты был, скажи на милость? И как ты так здорово все умеешь устраивать, втравить человека, а сам в кусты! — Ладно, — примирительно сказал Кулановский, — не кипятись. Выпей содовой со льдом, и все пройдет. — Дело не в этом, Женька! Как ты не понимаешь? Если бы ты там был... У меня нет слов, нет точных слов, чтобы объяснить, какой мерзавец этот Трири! Я сам все одергивал тебя, чтобы ты не совал свой нос куда не следует, а теперь я, я говорю тебе, что этого нельзя так оставить. Это фашист, человеконенавистник новой формации, отлично эрудированный, который может принести страшные беды. Здесь, на Западе, за таким многие пойдут... — Да мало ли здесь таких, Алька! Нельзя же из-за каждого сумасшедшего... — Он не сумасшедший. — Значит, лжец, демагог... — И лжец и демагог. Но тонкий, умный, артистичный. Он на две головы выше любого политикана. Он обращается к чувству, к разуму и к вере. За ним пойдут не только идиоты. Женя впервые видел Альберта таким взволнованным. Постепенно он начал понимать, что дело с этим иезуитом химических наук действительно обстоит серьезно. И, как бы угадав его мысль, Альберт сказал: — Это реальная опасность. Мы с тобой вчера полушутили, что твои зайцы могут взорвать пароход. Трири способны взорвать мир. — Что же делать? — растерянно спросил Женька. Ему было ужасно стыдно, что в столь серьезный момент он беззаботно флиртовал с Лоис. — Может, все-таки выпьешь стаканчик? — искательно заглядывая в глаза Альберту, предложил он. — Ну тебя к черту! Ты бы послушал, что нес доктор Трири! Таких за решетку надо прятать! — Могу себе представить. Наслышан как-никак. Наслаждение как универсальный спаситель человечества. — Именно! — опять взъярился Альберт и машинально отпил из стакана. — Но об этом он подробно будет распространяться в своей программе Утверждения. Пока он в основном обрушился на науку, на ее законы и ученых. А я ему показал, какие логические ляпы он допустил в своих выпадах против науки. О, как всякий перебежчик, он отлично знает уязвимые места преданного им лагеря. Ну я ему задал! — Что же ты ему сказал? — Прежде всего, что на трудностях научного развития спекулировали не один раз и он не первооткрыватель в этом деле. Во-вторых, я ему сказал, что действительно в любой отрасли знания есть свой закон, закон с большой буквы. И этот закон не нужно объяснять, он сам объясняет природу, а его следует использовать для развития науки и практических целей. Затем я ему сказал, впрочем, я не успел, так как началась заварушка, с палубы стали тащить этого Остолопа, поднялся крик и наша дискуссия оборвалась. — Беспокойный корабль, — вздохнул Женя. — Все время какие-то волнения. Ох, чует моя душа бурю! Кстати, предварительные данные показывают, что замеченные мной зайцы — гангстеры. — Нет, — сказал твердо Альберт. — Гангстеры — это заблудшие овцы. Основная задача: набить морду доктору Трири. — Ты... буквально? — Фи, Евгений! Ты же за границей! Его нужно убить морально. Показать слушателям, что перед ними выступает негодяй, преступник и шут гороховый. — А если и слушатели... того? — Что? — Вполне достойны доктора Трири. Что тогда? Альберт задумался. — Ты прав. Каков поп, таков и приход. Судя по некоторым, не скажешь, что доктор выступал перед квалифицированной аудиторией. Многие пришли посмеяться, как в мюзик-холл. Совмещение приятного с полезным. Загар и возвышенные речи полубезумного проповедника. Понимаешь? — Конечно. А тебе сейчас не кажется, что ты отнесся к нему слишком серьезно? Это же Запад. Безответственность. Стоит ли так переживать? Пусть доктор Трири строит воздушные замки. Как видишь, его слушают и зевают. — Ну нет! — Альберт встал с койки и твердыми уверенными шагами прошелся по каюте. Теснота и нагота лишали его движения величественности. — Доктор ядовит. И весьма. С этой заразой нужно бороться. У меня вполне достаточный запас английских слов, чтобы доказать, насколько он опасен даже для их демократии. И я сегодня это сделаю. — Каким образом? — Продолжение лекции состоится вечером в библиотеке. Туда не придут идиоты с солнечной палубы. Туда придут те, кто интересуется и понимает. И если хоть один из них будет на моей стороне, моя совесть ученого будет спокойна. — Ну-ну, — успокоительно сказал Женя. — Один тебе всегда обеспечен. А вообще ты, наверное, прав. Посмотрим. Навестим салон доктора и сообразно обстоятельствам... А пока я хотел бы часок отдохнуть. Он разделся и растянулся на неприятно теплых простынях. — А ты знаешь, — сонным голосом заявил он, свешивая голову через бортик койки, — этот бассейн в третьем классе совсем неплох. Совсем, совсем неплох. Можно освежиться. Если только какая-нибудь драка не помешает. Уж очень они драчливые. Южный народ. Темперамент их одолевает. — Да! Темперамент! Видел я тебя с твоей девочкой, когда шел на лекцию. Ну и вкус у тебя, старик! Женя покраснел и небрежно потянулся. — Что ты понимаешь в женщинах!.. — пробормотал он. — Я? Ничего, — ответил снизу Альберт. — Но, судя по вашему выбору, и вы, сэр, недалеко ушли. Ужасно и больно смотреть. — На завистливые происки не реагирую. — Женя отвернулся к стене и сразу уснул. Альберт сел в кресло, сжал кулаки и задумался: «Самое слабое место у этого доктора заключается в противоречивости, эклектичности отдельных положений и всего материала в целом. Но когда и кому из маньяков мешала противоречивость? Можно доказать, что доктор Трири дурак, но, во-первых, это совсем неверно, а затем и тактически неправильно. Глупость очевидна, но доктор не глуп, более того — умен. Просто он апеллирует к глупости, ищет ее поддержки. Куда он зовет? К сладкому самоубийству. Зачем? Чтобы возглавить золотой век, воцариться, отцарствовать и утащить за собой в могилу одураченный мир. Конечно, вряд ли этот Трири выполнит свою программу. Не такие уж дураки там, чтобы допустить его к власти. Но скольких он собьет с пути, искалечит, осквернит, погубит! Нет, конечно, это типичный фашист. Надо отбросить иллюзии. Фашистами становятся не только ефрейторы и лавочники, но и университетские профессора».36
— Дик, родной мой, что хотели от тебя эти бандиты? — Э, Миму, они неплохие ребята. Все устроилось как нельзя лучше. Толстый Педро нам не страшен. А зернышки они у меня купили и дали вполне приличную цену. Тут такое дело, Миму... — О мой мальчик, прости меня, я виновата. Я выдала тебя. Я не могла иначе. Сам сеньор помощник капитана меня допрашивал, а глупый Даниил все разболтал. Прости меня, Дик! Я не думаю, что они сделают тебе плохо. — О чем ты, детка? — Тут тобой интересовался один человек. — Двое? — Нет, один. Американец, худой, высокий, красивый, как Джеймс Бонд. Он придет сюда поговорить с тобой о деле. Я забегала предупредить тебя, но здесь уже сидели эти бандиты, эти пьяницы, чтобы им провалиться на ровном месте! Чтоб их... — Погоди, успокойся, у тебя снова подскочит давление, если ты разволнуешься. Помолчи. Дик прошелся по каюте. Он был без сапог и шагал упруго и волнисто, как ягуар. — Нам нужно очень хорошо подумать. Очень, очень, очень хорошо подумать. — О чем думать? — Понимаешь, Миму, какое дело, — Дик раскачивался на носках в такт мыслям, — твой американец уже был у меня. Сразу после Андрэ. Он так и сказал, что ты им призналась, где я. И он пришел ко мне. — Зачем? — После него был еще один человек. Парень. Толстый и высокий. Он тоже разнюхал, где я. Вот так... Мимуаза присела и сложила руки лодочкой на массивных коленях. Снизу вверх она горестно смотрела на Дика. Она так и думала, что добром вся эта история не кончится. Уж если началось, оно будет идти, идти одно за другим. Беда за бедой. Несчастья, как бусинки, нанизаны на одну нить. Стоит только подставить шею... — Да, — задумчиво промычал Дик. Сейчас он будто не видел подруги, как бы всматривался в себя. — Да, они все были у меня и они все хотели бы купить зернышки бонц, которые я вывез с Льянганати. Они словно с ума посходили. Их не интересовала карта золотых месторождений, им вообще не нужно золото! Им ничего не нужно, кроме этих паршивых зерен, от которых голова идет кругом и человек начинает сходить с ума. Им нужны зерна, и баста! И они готовы платить. Огромные деньги! Таких денег мы не знали с тобой, Миму, да боюсь, и не узнаем. Никогда не узнаем! Брови сошлись над переносицей Дика скорбным углом. Донья Миму молчала как завороженная. — Я страшно продешевил, девочка. — Дик по-прежнему раскачивался на носках. — Счастье ушло от меня, когда я взял грязные деньги Толстого Педро. Этот человек всегда приносил мне несчастье. Миму. Видит бог, я не жалуюсь на свою судьбу, я не из тех, кто ноет, ты знаешь, но это была действительно большая удача, и ее отнял у меня эта старая скотина. — Не ругайся, Дик, это грешно. — Ты бы не так ругалась, если б знала, какую сумму мне предлагал американец. Это состояние, большое состояние. Они замолкли. — Дик, что ты задумал? — с тревогой спросила Миму. — Дик, ты задумал нехорошее. — Я скажу тебе, — ответил кладоискатель, — я тебе все скажу... Ты у меня одна, и ты должна знать. Я пойду к этим ребятам, верну им деньги и выкуплю за тройную цену зерна бонц и продам их американцу. Ну, а если Живчик или Ленивец не согласятся... — Дик растоптал на полу что-то невидимое и отвратительное. — Конечно, стрелять я не буду, но... Лоб Миму покрылся морщинами напряженного раздумья. Она что-то соображала. — Значит, ты не сказал американцу, что уже продал семена? — тихо спросила она. — Не сказал. За кого ты меня принимаешь? Упустить такую возможность? — А второй джентльмен, он также обещал тебе большие деньги? — Поменьше, чем американец, но тоже куш порядочный. Да о чем говорить, девочка! Нужно вернуть зернышки, и все тут! — Погоди, Дик, погоди. Послушай меня. Я тебе плохого не скажу, не посоветую. Ты меня знаешь. — Я тебя знаю, Миму, только говори быстрее, что ты там придумала. Действовать нужно, а не разговаривать! Время уходит, вечером мы уже будем стоять на причале, а там ищи-свищи ребят! — Не спеши, Дик, не спеши. Пусть они себе бегут на здоровье куда хотят. — Объяснись, Миму, а не то я лопну от любопытства. В чем дело? — А дело в том, что я далеко не уверена, получили ли твои бандиты настоящие семена бонц. И даже если ты потребуешь их от меня, то и тебе я не смогу их дать. Они глянули друг другу в глаза. — Неприятная история вышла, да ничего не поделаешь, нельзя ее скрыть от тебя. Я собиралась все объяснить, но ты как-то все вперед выскакиваешь. Отдала я банку с твоими семенами, Дик, в холодильник, к Хуанито. Холодильник поломался, и пришел его чинить наш механик Альдо Усис. Этот дурак, что везде и всем про порядок рассказывает. Он выкинул банку, а Хуанито присоединил ее к остальным. Мальчик подумал, что в ней кофе. Ведь твои семена так похожи на настоящие кофейные зерна! И приятелям твоим я подсунула неведомо что. Некогда мне было настоящие зерна разыскивать. Таких банок у Хуанито штук шесть-семь, да я и не отличу твои семена от кофе «Red circle». — Так, — сказал Дик. — Зерна отличить просто — они похожи, но не пахнут так сильно, как кофе. А ты молодец, Миму! У тебя есть голова на плечах. Но теперь уже хватит слов. Ступай к Хуанито и принеси мне две банки: одну с тем, что надо, а вторую с кофе. — А если мальчишка уже пустил семена в дело? Он снабжает кофе все буфеты и рестораны корабля. Дик Рибейра вздрогнул. — Все равно, — сказал он, — принеси мне две банки с чем угодно. А там будет видно... Принеси с чем угодно!37
— С чем угодно, понимаешь? Мы могли купить не тот товар. Живчик, как всегда, был язвительно подозрителен. Но Ленивец не смотрел на него. Он воспринимал своего спутника как ячмень в углу глаза, который болит и мешает смотреть. Он был зол на Живчика. «Ай да вельо! Вот скотина. Своего решил надуть. Держись, старый, ох, держись! — Ленивец ощущал, что его большое тело наливается мутной тревожной силой. — Плохо тебе будет, вельо. Плохо». — Ничего, Живчик, — успокоил он старика, — мы сейчас придем в четыреста первую и там устроим пробу. Живчик недоверчиво посмотрел на него. — Ты и пробуй. Ты толстый, тебя не проймет. А у меня сердце больное. — Одно зерно не повредит. Но сначала прихватим кое-что из выпивки. Они прихватили. Закупки заняли довольно много времени. Нагруженные свертками и бутылками, в одном из переходов гангстеры встретили злосчастного Альдо Усиса. Тщательно перебинтованный механик не рискнул вступить в единоборство с двумя мошенниками. Он спрятался под трап, по которому грохотали ботинки Ленивца. Стиснув в кармане браунинг, Альдо шептал страшные проклятия. Когда гангстеры миновали его, механик выскочил из-под лестницы. В его глазах светилась почти неземная жажда отмщения. Навстречу ему торопливо шагал стандартный красавец мистер Смит. Он был озабочен и серьезен. В руках он держал обернутый в рекламные афишки округлый предмет. Смит двигался стремительно и бесшумно. «Это тот, кто нужен», — подумал Усис. Альдо вспомнил мгновенную реакцию американца. Хотя он и не стрелял тогда, но так выхватить пистолет может только человек, который выбивает девяносто девять из ста. «Сейчас он мне поможет, этот великолепный профессионал». — Сэр, там бандиты, — сообщил он, преграждая путь Смиту. Американец сделал вид, что не слышит, и попытался обойти Альдо. Но упрямый борец с энтропией загородил вход на лестницу, куда Смиту почему-то дозарезу хотелось попасть. Тогда американец пожал плечами и сухо улыбнулся: — Не понимайт португалиш. — Как так? Вы же говорили с сеньором помощником капитана! Я помню вас! А там те самые бандиты, в которых вы собирались утром стрелять! Их нужно задержать. Лицо Смита стало кислым и скучным. — Вы хотите, чтобы я в них сейчас стрелял, поскольку мне не удалось это сделать утром? — спросил он у слегка ошарашенного Альдо на чистейшем португальском языке. — О нет, нет! Я просил бы вас помочь их задержать. Я один, их двое. Мне не просто это сделать. — А чем они вам, собственно, так досадили? — допытывался Смит. — Они били меня по затылку. Вот этим били. Усис подвел Смита к огнетушителю, снял его и сделал взмах в воздухе, показывая, как обращались гангстеры с огнетушителем и его, Альдо Усиса, головой. Смит положил ношу на пол и взял огнетушитель в руки. — И куда приходились удары? — участливо спросил он. — Вот сюда. — Усис развернулся и похлопал себя по затылку. В уголках его глаза затаились скорбь и мольба о сочувствии. Смит молниеносно огляделся по сторонам и легонько тюкнул огнетушителем Усисово темя. Механик привычно опустился на колени. Двойник Бонда аккуратно повесил прибор на место. Достал белоснежный платок и тщательно обтер им красное чудо концерна «Шелл». Потом взял сверток и спокойно ушел.38
Питер Ик иронически улыбнулся, но глаза остались серьезными. Проповедник нес чушь, однако он чем-то забавлял писателя, и тот слушал с удовольствием. Ик устроился поуютней и вытянул ноги. Кроме него, в библиотечном салоне было всего человек двадцать. Эта злосчастная Точка с тире тоже присутствовала. Джимми помогал доктору Трири, подсовывал какие-то бумажки, что-то нашептывал — одним словом, вел себя как заправский суфлер. «Верит ли он в то, что говорит? — думал Ик, разглядывая подвижную фигуру доктора. — Зачем он этим занимается? Откуда берутся такие типы? Он не коренной американец, акцент у него, мне кажется, английский, я бы даже сказал, оксфордский». — Будет бунт, — разглагольствовал между тем доктор. — Наслаждение победит искусственные преграды. Опыт человечества богат аналогичными битвами. Все это уже было, и все повторится снова. Прольется кровь, погибнут многие люди, даже народы, но сторонники химического счастья победят. Распадутся союзы государств и отдельные государства. Жизнь воссоздастся на новой основе. Не материя и не дух станет фундаментом человечества. Личность трансформируется. Люди будут носить несколько документов в кармане, выступать под разными именами, в разных ролях... — Это они проделывают и сейчас весьма успешно. Не прибегая к химическому счастью! — Питер Ик не выдержал и включился в пророческие возгласы доктора Трири. Сзади одобрительно засмеялись. Джимми подал платок, и Трири смахнул со лба мелкие капельки пота. Он сидел бледный и настороженный. — Желающие, — хрипло объявил Джимми, — могут задать проповеднику вопросы. Доктор Трири готов ответить. Мы защищаем свое учение в любых формах, за исключением форм прямой агрессии, — туманно пояснил он. Наступила пауза. Библиотечный салон располагал к лени, неподвижности. Когда Трири умолк, все почувствовали облегчение. Тишина успокаивала, и никто не торопился ее нарушить. Со стен, по-старинному обитых гобеленами, источалась мудрая всепонимающая дремота. Там кавалеры на высоких каблуках играли на свирелях вечные песни дамам в кринолинах. Питер Ик передохнул и встал. — Позвольте вопрос... он скорее похож на небольшую речь... но если уважаемый проповедник сможет опровергнуть меня во мнении... я буду благодарен, если мне разъяснят мои ошибки и покажут, в чем заблуждаюсь. Мне хотелось бы знать, почему доктор выбрал именно химию, химические соединения как основу будущей духовной культуры человечества? Ведь все, что сказано, уже так не ново! Вино и его разновидности используются уже тысячелетия. Следует заметить, что использование это идет весьма интенсивно, но... простите, может быть, я не понимаю, однако где же счастье, о котором шла речь? Или у доктора другие данные о состоянии мира и культуры? Возможно, он располагает новейшими сведениями о делах на нашем грешном земном шаре. Но что касается меня, я не думаю, что стимуляторы могут изменить лицо мира. Как и другие химические соединения. — Доктор ответит сразу на все вопросы, — вставил Джимми, как только Ик сделал паузу. — Я согласен с... господином... — Альберт сделал соответствующий жест рукой, Ик поклонился, и они обменялись улыбками. — Но от себя мне хотелось бы добавить несколько слов. Прежде всего замечу, что доктор противоречит себе. Он отвергает вначале то, что принимает как должное в конце. И наоборот. Сегодня днем впрограмме Отрицания доктор Трири отверг научный метод развития мира. Он низверг науку с заоблачных высот и растоптал ее. Но это не помешало ему сегодня же, в программе Утверждения, использовать для своих целей ту же науку. Все разновидности допингов, с помощью которых доктор собирается менять лицо земного шара, найдены учеными. И будущее этой области зависит от прогресса науки. Отвергая науку, доктор Трири перерезает ниточку, на которой висит его, с позволения сказать, учение. Я говорю о наслаждении. Чисто физиологическая функция человеческого организма положена в основу философской и социальной системы. Абсурд! И почему именно наслаждение, а не что-либо иное? Жевание, например, пищеварение, подмигивание левым глазом, которое некоторым людям также доставляет удовольствие, или я уж не знаю что. Понять выбор доктора можно, он лежит в области приятного, но этого еще мало для обоснования философской концепции. Что же касается картин будущего, нарисованного уважаемым проповедником, то они не выдерживают критики. Не нужно быть специалистом, чтобы предсказать, какой вред нанесет человечеству повсеместное распространение даже слабых допингов. Доктор Трири должен отвечать за свои слова. Безвредных допингов нет. Долговременное отравление химическими препаратами нарушит динамическое равновесие в организме. Не исключены плачевные генетические последствия. Ваш хваленый мир будут населять мутанты, главным образом идиоты, дебилы, так сказать. Несть числа ошибкам и алогичностям в проповеди доктора Трири. Как научный работник, я выражаю свое полное несогласие со сказанным. Как человек, я протестую, ибо деятельность господина Трири преступна. Евгений бурно аплодировал: «Ай да Алька! Врезал, вколол, низверг. Гранит, глыба, человечище! Проклятый акцент. Он придает даже серьезным речам несерьезный оттенок. Поэтому, верно, и улыбались некоторые слушатели. И пожилая пара, и вон те, похожие на сусликов. Конечно, смешно, когда говорят, что «как я есть научный рабочий, то мое достоинство сопротивляется нелогичностям доктора Трири». Но все равно Алька молодец!» Проповедник, казалось, не слышал слов Ика, Альберта и еще одного молодого человека, блондина с нервной беглой скороговоркой и таким чудовищным акцентом, что смысл речи уловить было почти невозможно. Трири смотрел вверх. Он не понимал ничего из того, что ему говорили, да и не хотел понимать. Все сказанное другими было чушь, пар дыхания, туманное пятно на стекле. Оно возникло и уйдет. Да и сами говорившие... мертвецы? Нет, нет, совсем не то. Они стали как бы двумерными. Ими можно было закладывать страницы. Упаковывать в стопки и пересылать бандеролями. — ...Ступени, ведущие в храм, — Трири с некоторым удивлением обнаружил, что уже стоит и говорит, — посвящение не бессмысленный знак, подарок судьбы и случая. В наслаждение нужно обращать как некогда — в христианство. Постепенно. Ступень одна, вторая, третья. Ибо стоящий вверху не помнит вопросов стоящего внизу. Я не боюсь обвинений в плагиате. Я утверждаю, что высшие ступени наслаждения полностью теряют обычность, связанную с самим словом. Там к человеку приходит просветление. Мы достигаем того же, что йоги, но делаем это химическими средствами. Я не открываю ничего нового. Я обращаю внимание на то, что уже известно, и утверждаю многовариантность известного. Я не гений, но я чувствую душу человечества. И наука здесь ни при чем. Она может быть и не быть. По никогда ничего не должно быть слишком много или слишком долго. Мои противоречия — суть фундамента моей веры. Моя вера порождает противоречия. Ничто не опасно для тех, кто уверенно идет к своей гибели. Мы не знаем, что имеем право называться началом и этим наши права исчерпываются. После нас придут другие, они заменят нас, наши понятия, но сохранят направление. А затем и само направление начнет меняться. Так изгибается световой луч, проходя мимо больших масс. Наша награда — в нашей обреченности. Не сохранять себя на века, а, дав толчок, уйти, исчезнуть, стереться. Мы создаем эпоху, но никто не сможет объяснить, в какой момент она началась. Вопрос бессмысленный, как поиски начала круга. И для науки ее высшая награда и цель будет в исчезновении всего, что сейчас зовется Наукой... Джимми подошел к стюарду, который принес кофе в читальный салон, и взял поднос из его темных тонких рук. Чтобы не перебивать доктора процедурой питья, чашки были расставлены на журнальном столике. Когда проповедник закончил туманные и, как показалось многим, не связанные с вопросами ответы, Джимми угостил слушателей успевшим остыть, но еще благоухающим напитком. Прихлебывая кофе, Питер Ик заметил на себе пристальный, немного печальный, слегка сочувствующий взгляд проповедника. Такой же взгляд, адресованный Альберту и ему, перехватил и Женя Кулановский. Но в отличие от писателя, ему не показалось, что проповедник проникся высокой грустью и сочувствием к своим оппонентам. Совсем наоборот. Молодой ученый увидел там неприязнь и ожидание. Злорадство, промелькнувшее во взгляде доктора, заставило его насторожиться. Женя допил кофе, отставил чашку и принял на себя немой вызов Трири. Глаза проповедника внезапно выцвели и остекленели. После кофе стиль проповеди доктора сильно изменился. Он стал энергичнее, суше. Время от времени доктор посматривал на Кулановского и Альберта, и тогда Женя отчетливо ощущал укол заинтересованности. Нехорошее, напряженное ожидание проглядывало сквозь пыльные зрачки адепта наслаждения. «Чего он ждет?» — подумал Женя. И сразу же вспомнил про Лоис. Она ведь тоже ждет! Они договорились встретиться на прогулочной палубе. Женя прошептал что-то на ухо Альберту и потихоньку выбрался из холла. В дверях он снова поймал взгляд проповедника. Тот смотрел на него напряженно, словно ожидая, даже требуя чего-то, что он, Женя, не выполнил. К требованию примешивалось некоторое удивление и разочарование. Женя издевательски подмигнул доктору и выскользнул из салона. Его уход послужил сигналом. Слушатели стали разбегаться, как тараканы в лучах яркого света. Доктор остался наедине с учеником. Трири сидел, устало свесив руки вдоль тела. — Джимми, — слабым голосом произнес он, — вы сделали то, о чем я просил? Оссолоп не отвечал, он рылся в саквояже доктора, запихивая туда бумаги и рекламные проспекты химических компаний. Этими материалами в изобилии оснащалась каждая лекция доктора Трири, поскольку фирмы щедро оплачивали столь оригинальную рекламу. — Джимми? — Да, доктор, да! — Оссолоп обернулся, он был возбужден, не пьян, а просто страшно, дико зол. — Я сделал все, как вы сказали, и результат вы видели! Ничего, ровным счетом ничего! — Может, время... — задумчиво промолвил доктор. — Какое там время?! Действие семян бонц мгновенно, вы знаете. Нас надули, док, подло надули! — Больше, Джимми, больше. Нас ограбили, нагло ограбили среди бела дня! Я истратил почти все свое состояние, Джимми, почти все деньги. Что делать, что делать? — Как — что делать?! — заревел Джимми, подскочив. — Я с него голову сниму! — Снимайте, Джимми, делайте что угодно. Я устал. Мне бы чашечку крепкого кофе. Настоящего крепкого кофе.39
Вопль, вырвавшийся из груди ученика доктора Трири, ударился о стеклянные двери и проник в соседнюю комнату, заставленную стеллажами с книгами. Он не миновал вооруженных микроусилителями ушей Сэма Смита, склонившегося над зашифрованным документом с грифом «Совершенно секретно». Рука этого мужественного человека, сжимавшая на сей раз авторучку, застыла, точно скованная космическим холодом. «...Полукустарник бонц, — сообщала шифровка, — растение, высота которого колеблется от тридцати до ста пятидесяти сантиметров. Его узкие стреловидные листья обладают приятным бальзамическим запахом. Для того чтобы определить специфический аромат растения бонц, достаточно растереть в руках высушенные веточки, сорванные в сухую погоду. Стебли бонц прямые, разветвленные, голые, деревянистые внизу, эластичные и упругие на концах. К старости растение приобретает буроватый, темный цвет. Его острые листья имеют голубой отлив, снизу пушистые, сверху приглаженные, и нижние и верхние — одноперистые, трехраздельные с узенькими долями. Цветы мелкие, с лепестками, внутри белыми, снаружи розоватыми. Ягоды светло-кофейного Цвета, темнеют при хранении. Растет одиночными экземплярами на склонах гор, в оврагах, на берегах ручьев и рек, любит глинистую и глинисто-каменистую почву. Из плодов растения методом водной экстракции выделен ряд алкалоидов, по своей активности в миллионы раз превышающих нервный газ...» Смит отложил листок и на цыпочках подошел к двери. Его прямой кинематографический нос чуть коснулся холодного стекла. В салоне метались две фигуры. На журнальном столике стояла очень знакомая банка из-под кофе, возле нее высилась груда темных зерен. Ученик председателя Лиги наслаждения, указывая на плоды, широко, точно зевая, раскрывал рот. Усилители в ушах ревели. — Это кофе! Нас надули! Это кофе, обычный кофе. Нас надули! — рычал Оссолоп. Апологет наслаждения и великий проповедник кивал в такт головой. Глаза его слезились. Смит смотрел на происходящее ровно пять секунд. Затем плотно прикрыл дверь, закрыл справочник по растениям Льянганати и поставил его на полку, спрятал шифровку в карман и только после этого направился к себе в каюту. Оттуда он позвонил вниз и попросил прислать к нему в номер кипятку. «Побольше кипятку. Два-три кофейника чистого кипятку. Ничего более». Усевшись поплотнее в кресле, он стал ожидать стюарда с кипятком. На дне кофейной чашки лежали несколько темных зерен. Обдав горячей водой, их легко растереть и сделать то, что именуют водной экстракцией. Эффект смеси, конечно, не сравним с действием чистого вещества, но все же какие-то ощущения должны возникнуть...40
Питер Ик был не в настроении. «К черту всех лекторов и все лекции мира. Человек ничему не может научить другого. К черту доктора с его бредовой идеей, с его холодным жидким кофе. Нужно зайти к донье Миму и выпить одну-две чашки покрепче, с коньяком. А еще лучше коньяк в чистом виде. Уже вечереет, чашка кофе не поможет...» Писатель прошел в знакомый бар. На месте Мимуазы стоял худенький юноша с усиками. — Где же Миму? — Сеньора Мимуаза больна. — Мальчик едва говорил по-английски. — Как тебя зовут? — Хуанито, сеньор. — Налей мне две чашки покрепче, Хуанито, да не забудь коньяк. — Кофе придется подождать, сеньор. Один момент. Бой надавил красную кнопку, и кофемолка взвыла, как циркулярная пила. — Ты знаешь, кто у тебя только что был, малыш? — Нет, сеньор. Вы о господине в черном? — Что он здесь делал? — Пил кофе, сеньор, выпил две чашечки кофе. Ик перелил коньяк из рюмки в запрокинутую голову, блаженно зажмурился и глотнул. — А больше он ничего не пил? Отменное бренди. — Нет, сеньор, этот господин никогда не берет спиртное. Я, по крайней мере, ни разу не видел, чтобы он пил. Писатель покачал головой: — Вот как? А мне показалось... Во всяком случае, выглядел он не совсем обычно. Ну что же кофе, малыш?41
Сэм Смит вбежал в радиорубку и захлопнул за собой дверь. Радист спал в кресле, безмятежно уронив голову в простертые куда-то руки, пальцы которых чуть-чуть не дотягивались до порожней бутылки с гордоновским джимом. Причинно-следственные связи напрашивались сами собой. Сэм тряхнул радиста за плечо. Тот капризно пошевелил набухшими губами, словно ребенок, только что насосавшийся молока, и продолжал спать. Смит затряс несчастного радиста так, что зазвенела медная подвеска антенны и затряслись стрелки во всех опутанных проводами приборах. Из-под радиста вылетел расплющенный журнал «O cruzeiro»[124], но сам он даже не разлепил глаз. Сэм брезгливо уронил его обратно в кресло и задумался. И тут Сэма осенила блестящая идея. Он дал радисту серию нервных зуботычин в ритме sos (. . . — — — . . .). Сна как не бывало! Через пять секунд с антенн «Святой Марии» сорвалась шифрованная радиограмма. Ее без труда расшифровали в здании без вывески в Вашингтоне: «Предыдущее сообщение не подтверждается. Принимаю меры. На всякий случай готовьте тщательный обыск судна. Сэм-045».* * *
Два очень пьяных гангстера вышли из роковой четыреста первой каюты и, шатаясь, побрели по коридору. — Наверное, виски перебили все. — Живчик растирал огромный желто-голубой синяк, с царственной небрежностью подаренный ему Ленивцем. — Нет, — миролюбиво отозвался гуманный Ленивец. Он не собирался долго задерживаться на физическом методе перевоспитания старого мошенника и планировал ближайшей ночью перейти к экономическим санкциям. «У вельо нужно отобрать часть денег. Свинья все-таки этот Дик». Ленивец нахмурился. — Свинья этот Дик, — послушно сказал восприимчивый сейчас к телепатии Живчик, — надуть старых приятелей! Куда это годится? Видно, забыл, что с Толстым Педро шутки плохи. Слишком долго прошатался в сельве. Одичал. — Ничего. Мы ему напомним, — многозначительно бросил Ленивец. Перед трапом, ведущим на верхнюю палубу, был темный тупичок, где в решетчатых ящиках хранились спасательные пояса. Вот здесь-то и настиг гангстеров обезумевший Альдо Усис. Он возник из темноты с огнетушителем в руках. Его огромные глаза влажно горели, как у лемура. Он олицетворял собой дорвавшуюся до любимой работы богиню отмщения Немезиду. — Пожар, пожар... — шептал Альдо, растворяя ненависть в шипящей струе. На «Святой Марии» все было чуть-чуть устаревшим: двигатели, корпус корабля, обивка кают и капитан. Только огнетушители почему-то приобретались самой последней и совершенной конструкции. Едкая, быстро твердеющая на воздухе пена ослепила, оглушила и облепила лица гангстеров. Как шевелящаяся короста, как линяющая змеиная кожа, отлипала подсохшая пена и вновь нарастала, рожденная насыщенной газом струей. Это было ужасно. — Санта Мария... — бормотал Ленивец, падая на колени и раздирая грязными ногтями лицо. — Чтоб тебе издохнуть! — ругался Живчик, фыркая и отплевываясь. Альдо Усис демонически захохотал, сорвал со стены другой огнетушитель и взлетел по скрипящему трапу, наверное, на самое небо, где только и место таким счастливчикам. Ленивец в этом нападении узрел нечто мистическое. Он не на шутку перепугался. «Плохое предзнаменование, вельо. Знак верной неудачи. Уж я в таких вещах понимаю». — Вернемся, может быть, назад? Оставим черта Дика на этот вечер в покое? — Ты что, вельо, спятил? — ощерился Живчик. — Утром мы в порту, а там Дика не поймаешь.«Погоня всегда погоня. Закон ее известен. Лететь, хватить тащить рвать. Миг победы далеко, и нужно как следует наддать, иначе опоздаем. И гончие летят, вытянувшись в стрелу». Питер Ик недолго искал нужные слова.
42
Отправив радиограмму, Сэм Смит поставил пистолет на предохранитель и подвесил его под левым рукавом элегантнейшего вечернего костюма. Он покинул свое кресло и упругой неслышной походкой направился в служебный отсек к каюте доньи Мимуазы. Сэм Смит по роду своей сложной деятельности многое знал и многое мог предугадать. Кроме одного. Он не знал и не предвидел, что у дверей каюты его ожидает засада. Сжимая рифленую рукоятку кольта потной горячей рукой, к той же заветной цели крался, отвратительно ругаясь про себя, мистер Оссолоп. Неудачливый ученик доктора Трири тем более не мог предвидеть засады. Оба одураченных соотечественника не знали да и знать не могли, что в двух шагах от каюты Миму надежно укрылся небожитель Альдо Усис, вооруженный четырьмя багряными огнетушителями с белой раковиной фирмы «Shell». Из такой раковины когда-то, как говорят, родилась Венера. Но что все радости этой богини по сравнению с минутой, когда на спины и затылки врагов обрушится белопенная Усисова струя. Тугая струя, которая заглушит сладострастный шепот: «Пожар!..»43
— Они убьют тебя! — крикнула Миму. — С ними нельзя шутить, Дик, никак нельзя! — Нельзя, — беспечно откликнулся захмелевший кладоискатель. — Слушай, Дик, я тебе дело говорю. Они страшные люди. Я их рассмотрела, пока они здесь торговались. Тот красавчик-гринго настоящий убийца, я таких знаю, я их за версту чую! Ему человека шлепнуть, что муху задавить. — Они не догадаются. — Как же, надейся! Платить такие деньги, да чтоб не проверить товар? За кого ты их принимаешь? Дик, они убьют тебя! — Она рыдая бросилась к нему на грудь. «Дик, они убьют тебя, и ты будешь лежать холодный, деревянный, такой страшно незнакомый и чужой, а я буду биться возле тебя, буду звать тебя, не слезы, а кровь польется из моих глаз, и тогда я умру снова, и на этот раз уже навсегда. Я буду считаться живой, я буду числиться среди живых, я буду притворяться живой, но ты знаешь, что я умру с тобой». Рыдания сотрясали се, как сейсмические толчки. — А что делать? — Рибейра нахмурился. Он бестолково утешал Миму, пытался оторвать ее от себя, поскольку грудь его уже была мокрой. — Нужно спрятаться, — вдруг твердо сказала женщина и перестала рыдать. — Я это уже делал. Ничего хорошего, как ты знаешь, не получилось. Как спрятаться на этой посудине? — Я знаю одного человека, — медленно произнесла Мимуаза, — он... хорошо ко мне относится. Я пойду к нему. Я попрошу его. Я стану умолять. Он сделает все, что нужно. Он спрячет тебя на «Святой Марии». — Миму, а деньги? — Что деньги? — Их ведь тоже надо куда-то спрятать? — Возьмешь с собой. Дик покачал головой и улыбнулся. — Нет, девочка, нет. Ни за что. Ты же сама говоришь, что мои клиенты могут устроить мне срочное свидание с господином Богом. К этому следует подготовиться. Меньше всего я хочу, чтобы деньги возвратились к своим хозяевам. Держи их у себя, так будет верней... Пока они не вернут своих паршивых денег, они не убьют меня. — Где, где я могу их держать? — Миму только развела руками. — Замки наших кают сами отскакивают, стоит только посильнее нажать. В баре всегда полно народу, на кухне ни одного укромного местечка. Нет, Дик, нет. Ты возьмешь их с собой. Здесь такая куча денег, мне даже страшно... — Самое лучшее, — сказал читавший в молодости романы мистера Ика золотоискатель, — хранить такие вещи на виду. Не совсем на виду, но так, чтобы никто не мог догадаться. Например, в этой твоей старой сумочке, которую ты везде таскаешь с собой. — Они и до меня доберутся. — Миму покачала головой. — А впрочем, возможно, ты прав. Я сделаю так, как ты хочешь, Дик. Дик смотрел, как его подруга набивала ридикюль банкнотами. В голове кладоискателя, пошатываясь, бродили добрые хмельные мысли. «Все будет о'кей, Долли, не робей, девочка. Удача, как и беда, не ходит в одиночку. Теперь дела Дика Рибейры сильно двинутся в гору. Кое-кто еще погрызет ногти от досады и зависти». — Дик, поклянись, что будешь послушным и спрячешься куда надо. — Клянусь, — торжественно заявил Дик и подмигнул, — тебе ни в чем не могу отказать. Когда Миму покидала каюту, он остановил ее: — Скажи, сколько там осталось у Хуанито банок с немолотым кофе? — Когда я там была, будто четыре. Сейчас не знаю. А что? — Ничего, ничего. Я так. Оставшись один, Дик запер дверь каюты и, как всегда, растянулся на ковре. «Видишь, как получается, оказывается, не в твоей карте дело, не в золоте, — им уже золото не нужно, они на другое бросаются. Теперь, парень, думай, вовсю думай. Удачу нужно подогревать, если хочешь слопать ее в теплом виде. Эта банка мне очень пригодится. Если уж теперь за нее платят такие бешеные деньги, то в Штатах, я надеюсь... одним словом, думай, парень, соображай, у тебя секунды на счету. Банку нужно вернуть, и это, видно, нетрудно сделать — Хуанито я знаю: а зерна бонц, если сравнить с натуральным кофе, рядышком их положить... разницу все же можно уловить, всего четыре банки. Двигай, Дик, топай, не валяйся здесь, как старый кайман; встал, пошел, ну!.. А вдруг я уже продал кому-нибудь из них настоящие зерна? Я был глуп, я был расточителен, я швырял эти банки им в лицо, я загребал деньги, получил тысячи, а мог иметь миллион, нет, я не лучше Толстого Педро, я никогда не научусь делать большие деньги, всегда срываюсь. Кто из них наиболее опасен? Живчик с Ленивцем не в счет, с ними и разговора не будет; молодой гринго слишком труслив; самый опасный — ох права Миму! — американец, спортсмен этот, убийца от бога, от дьявола, у него зерна не получишь, да и зачем получать, коли платит он лучше всех, больше всех, быстрее всех? Ну, Дик, давай, встал, пошел, ну!.. Сначала Хуанито, затем — остальные!..» Дик надел очки, темные анодированные стекла от солнца. Он нахлобучил широкополую шляпу, закрывшую лицо почти до подбородка. Он опустил в карман потертых брюк старенький верный кольт и ринулся назад по следу. Его видели на узких трапах «Святой Марии», его видели на нижней палубе, его видели в камбузе. Там он задержался надолго и, только выяснив, что все кофе у Хуанито уже разошлось, и очередную партию банок нужно теперь получать со склада, и что, кажется, сам Хуанито работает сегодня в баре наверху вместо Мимуазы, которая не то заболела, не то отпросилась у шефа, и что еще, кажется, Хуанито забрал в бар последнюю банку, и что... но Дик, не дослушав, заложил крутой вираж и понесся вскачь, планируя на палубных просторах и сбиваясь на рысь в коридорах «Святой Марии».44
На подступах к бару Мимуазы дорогу Дику загородила возбужденная толпа. Смех. Выкрики. Аплодисменты. Все это относилось к человеку в черном, который медленно вышагивал, высоко поднимая согнутые в коленях ноги. Его руки, прямые, неподвижные, точно деревянные, были простерты вперед и чуточку вверх, а глаза горели каким-то потусторонним огнем. Дик, тяжело дыша, остановился, наткнувшись с разбегу на неожиданное препятствие. И вот что он услышал: — Как только вышел из бара, сразу и начал... — Так и сказал? — Он много кое-чего сказал, в том числе и это! — Может быть, пьян? — Не похоже, идет-то как, идет... — Не скажите, это совсем не показатель. — Я знал одного... — Оставьте, ради бога, разве не ясно, что человек болен! Я бы позвал врача, у него температура! — Может, вы и правы, солнечный удар порой проявляется в самых неожиданных формах! — Никакого врача не надо, он мертвецки пьян, пусть выкупается, в такую жару только на пользу... — Господа, ну смешно же, это же самореклама, типичная самореклама, проповедник Трири решил поддержать свою падающую популярность небольшим скандалом... — Может, вы и правы, щепотка экстравагантности, так сказать... — Разумеется, щепотка экстравагантности все равно что щепотка соли в пресное блюдо! Но все же... — А вдруг? — Вы думаете?! Может, вы и правы... — Ради бога, смешно же... — Господи, а вдруг? — Ну, знаете! — Да, конечно, было бы забавно, но все же... — Может, вы и правы... — Нет, нет, господа, а вдруг он действительно как Христос пойдет по водам? — Ну, вы уж... — Нет, нет, нет, а вдруг? — Что затвердил, ей-богу! — Нет, нет, нет, нет, господа, а... как же тогда мы, как же мир, человеческий опыт, мироздание? — Вот идет он по морю, шагает себе спокойно, а все, все вокруг летит к дьяволу, в тартарары! Вы это себе представляете? — Ради бога, успокойтесь, он пока еще на твердой, очень прочной палубе, и мы сейчас все увидим, а кроме того, большинство явлений легко объяснимы современной наукой, и любой физик... — Оставьте, с человеком бог знает что делается, а мы стоим, смотрим, и никому не придет в голову оказать помощь... Его уже уговаривали... — Может, вы и правы, но все же... Потом ослепленный Дик прозрел и увидел южное небо, затянутое белесой, туманной дымкой. Дремотный, ленивый, весь в испарениях океан. Палубу, блиставшую надраенными деревянными рейками. Ослепительно черного доктора Трири с меловым лицом и сатанинскими глазами. Людей, образовавших вокруг проповедника подвижное полукольцо. Дверь, ведущую в бар Мимуазы. Цель была отделена от преследователя десятком шагов, но Дик не мог двинуться с места. Завороженно и почти любовно он следил за доктором. «Господи, а вдруг это правда? Вдруг ему дано, и он пойдет? Вдруг это случится здесь, сейчас, на глазах у всех? Он пойдет, и все станет на свои места. Все будет, как написано в святых умных книгах. Справедливость. Любовь к ближнему. И не надо бояться смерти, потому что есть тот свет. Есть правда, есть вера, есть то, о чем когда-то в незапамятные времена говорила моя старая больная мать. Почему-то она вспоминается только старой и больной. И воздастся ее обидчикам, и воздастся обиженным. Господи...» Доктор Трири наклонился к воде и, резко обернувшись, равнодушно произнес: — Я сказал, что пройду по водам, но ведь я не умею летать. И он схватил вдруг канат и перешагнул через фальшборт. Заскрипел блок, и канат начал разматываться с сумасшедшей скоростью. Сердобольные зрители бросились к стопору, а Дик кинулся к борту. Он увидел доктора, который, вцепившись в канат длинными бледными, точно вареная спаржа, пальцами, раскачивался над океаном. Затем он сорвался и упал. Вода в месте падения стала желтоватой и мутной, вокруг белого пузыря побежали расширяющиеся круги. — И аах!.. — пронеслось над водной гладью. Чудо не состоялось. Гипноз рассеялся. Все забегали, загомонили. Толкались бестолково и суматошно. В воду полетел спасательный круг, пояс, еще пояс, еще и еще. Раздался свисток. — Человек за бортом! Что-то кричали на капитанском мостике. Тренькал судовой телеграф. Останавливались машины. Спускали на скрипящих талях шлюпку, в которой сидели матросы и добровольцы-спасатели. Дик плюнул в воду и отошел от борта. Он не видел, как вылавливали возомнившего о себе доктора. Не видел он и того, как сквернословящего и размахивающего кулаками проповедника унесли на носилках в больничный отсек, где его переодели и привязали к койке. Операция эта проводилась под руководством и при участии его ученика и последователя мистера Оссолопа. Не знал Дик и о том, что через полчаса после учиненного Трири чуда в Майами полетела радиограмма: «...праздничную встречу проповедника Трири с его последователями отменить. Готовьте психиатра, трех санитаров и закрытую машину».45
Ничего этого Дик не знал, ему было не до проповедника Трири, едва он увидел, что дорога к цели расчищена и внимание всего лайнера обращено на неудачную попытку апологета наслаждения сотворить чудо. «Теперь только и работать», — сказал себе кладоискатель, входя в бар и снимая очки и шляпу. В баре были только двое: Хуанито, который нетерпеливо топтался за стойкой, и пожилой усатый человек, лениво и мечтательно воззрившийся на рюмку с коньяком. — Здравствуй, Хуан! — Привет, Дик, я слышал, что ты едешь с нами, но тебя совсем не видно. Миму говорила, будто ты болен. — Так оно и есть, я немного прихворнул, а сейчас все в порядке... Есть дело, Хуан, только говори потише, оно не для чужих ушей. — Ладно, Дик, давай выкладывай, но прежде скажи, что ты думаешь обо всем этом? — О чем? — Да о проповеднике, который сиганул с корабля? — Ах, этот! Мало ли сумасшедших проповедников в мире, я на них насмотрелся и знаю, что в жару, когда у них мозги совсем плавятся, ничего хорошего не жди. — А меня он удивил! — Нечего удивляться, Хуанито, я знал одного такого, который каждую неделю вешался перед толпой, и ничего не получалось — рвалась веревка, но все ходили слушать проповеди, пока его не разоблачили; веревка у него оказалась специального изготовления. — Нет, Дик, то был шарлатан, а это человек серьезный; перед тем как свихнуться, он заходил ко мне. Чинно так посидел, выпил свой кофе и вот, видишь, неожиданно свихнулся; а возможно, ты прав, что это жара на него так подействовала: у людей умных да образованных мозги — самое слабое место, так и тают на солнце. Дик внезапно насторожился: — Он пил твой кофе, Хуанито? — Конечно. Чей же еще? — Эту банку ты принес снизу, из холодильного отделения? — Дик! Ты все знаешь! — Вот тебе деньги за десять таких банок, мальчик, я ее забираю. Хуанито спрятал деньги в карман, пожал плечами и улыбнулся. — По-моему, вас с Миму тоже хватил удар. Это четвертая банка, которую вы сегодня у меня покупаете. Я не знаю, зачем вам оно нужно, но раз берете, стало быть, нужно. Я-то не остаюсь в накладе... Сеньор, ваш кофе готов, вы, кажется, просили по-турецки?.. А теперь, Дик, скажи, что за дело у тебя ко мне и почему бы... Но Дик не слушал буфетчика. Как кот в засаде, следил он за тем, как посетитель медленно подносил чашечку к своим тщательно подстриженным и расчесанным усам. Глухо заурчав, Дик выпрыгнул из-за стойки и, подлетев к усачу, вышиб чашку из рук. Затем схватил банку и выбежал из бара. — Хулиган! Бешеный! — крикнул ему в догонку возмущенный Хуанито. Но Дик уже был далеко. Он бежал широко и свободно. Счастливый охотник, настигший дичь. «Все. Точка. Теперь притаиться, и ни-ни!.. Миму сумеет спрятать и меня и заветную баночку. На берегу нас ожидает богатство, а до берега рукой подать. Все. Точка!» Дик слетел по трапу, но невольно вынужден был прервать свой стремительный бег. Прямо перед его носом вынырнула спина Альдо Усиса, который, выкрикивая непонятные угрозы, скрылся за поворотом с очередной партией огнетушителей. Тронувшийся на огнетушителях, техник-смотритель еще на бегу пустил в дело один из своих фетишей. Так и несся он, выбрасывая пузырящуюся мыльную пену. После него на пустынной в этот предвечерний час палубе осталась большая продолговатая лужа.46
Дик остановился перед этой лужей, в которой уже плавился закат, обдумывая наиболее подходящие пути для ее форсирования. Звонко щелкнул дверной замок, и на палубе появилась Мимуаза. Пена в луже Альдо Усиса печально вздохнула и опала. Предусмотренный для беспрепятственного стока наклон палубы погнал жидкость к широкому желобу. Мимуаза вышла из отсека, в котором находились каюты высокого начальства «Святой Марии». Ее щеки розовели, мокрые глаза сияли. Она радостно размахивала заветной сумочкой, шаг ее был решителен и целеустремлен. Подойдя к оставленной Альдо Усисом луже, она остановилась и увидела на другом берегу своего Дика Рибейру. Кладоискатель прижимал к сердцу заветную банку с зернами бонц. — Дик! — Миму рванулась вперед. Ах, эта ужасная, скользкая, точно намыленная поверхность! Шлеп! Мимуаза довольно некрасиво растянулась на животе, сумка выскользнула из ее рук и заскользила по направлению к Дику. — Долли! — Дик бросился на помощь. Ах, эта безобразная, льдистая, лишенная намека на трение плоскость! Рибейра упал, больно ударившись о палубу коленками и локтями. А драгоценная банка вырвалась из рук и полетела к донье Долорес Марии ди Мимуазе. Удивительная трагичная симметрия была в этом падении. На одном берегу лужи барменша безуспешно цеплялась за скользкую палубу и нетерпеливо дрыгала пухлыми ножками, на другом — бессильно распластался кладоискатель. С одной стороны лужи, на уровне палубы, — огромные темные глаза Миму, ее черные удивленно расширившиеся зрачки. Это было смешно и чертовски обидно... С другой стороны, на уровне палубы, — оскаленные зубы Дика. И как раз посередине лужи заветная сумочка медленно подъезжала к заветной банке. Встретившись, эти предметы взаимно погасили наступательную скорость и прекратили свое движение относительно палубы, подтвердив тем самым релятивистский принцип Галилея. — Ложись на спину, потом садись! Иначе мы не встанем, — посоветовал уставший от проклятий Дик. Они попытались перевернуться. Маневр удался. Потом они сели и, переведя дух, приступили к вставанию. В этот миг кладоискатель ощутил легкий толчок, такой, словно на корабле притормозили машину. Был ли толчок или нет, трудно сказать. Никому это не известно, да потом никто особенно и не допытывался. Известно только, что в этот миг штурман «Святой Марии» вышел проверить местоположение судна. Вооруженный допотопным секстантом, он стоял отдаленный от лужи Альдо Усиса тремя палубами и множеством деревянных, металлических и административных перегородок. Возможно, что этот молодой и красивый штурман и приказал сбавить обороты на валах двигателей «Святой Марии», а Дик ощутил перемену скорости как толчок. Это особенно обидно своей бессмысленностью. Судно было оборудовано совершенной радионавигационной системой, которая делала излишней работу штурмана. Но ведь вполне возможно, что никакого толчка на самом деле не было, что Дику это просто показалось. Одним словом, когда Дику и Мимуазе удалось подняться во второй раз, они увидели, что заветные сумочка и баночка медленно дрейфуют к бортовому желобу, по которому тихо лилась в океан желтая водица. Крупный план. Огромные расширившиеся зрачки Мимуазы. Широко открытый рот Дика Рибейры. Дружно вскрикнув, они бросились к борту. Была еще крохотная, микроскопическая доля надежды. Сумка и банка не пролезут в бортовое отверстие, застрянут, останутся на корабле. Но бутерброд упал, как всегда, маслом вниз. Во всем этом была видна рука дьявола, как потом говорил Дик Рибейра. Подплыв к отверстию, сумочка с деньгами притормозила и, словно благовоспитанная леди, пропустила вперед подружку. Первой ушла в океан банка с семенами. За ней скользнула и сумка. Возможно, штурман «Святой Марии» закончил бессмысленное в своей основе определение координат лайнера, записал в книжечку, а прибор спрятал в футляр. — Дик, а Дик? Как же это так?! Пойдем, Дик. Делу все равно не поможешь, а спрятаться надо, тебя наверное ищут, черт с ними, с деньгами, были б мы живы и здоровы... — Пойдем, Миму, я все же неудачник, что ни говори, а я неудачник. Такое дело... Ты права, черт с ними, на худой конец у меня есть карта — это дело верное, чистое дело, не то что эта поганая торговля поганым бонцом, но все-таки... ох, Миму, Миму, везет тебе с неудачниками, прямо-таки судьба твоя всю жизнь возиться с неудачниками...47
Возмущенный Хуанито все еще ругал Дика. Выбитая из рук Питера Ика чашка упала на пол и разлетелась. Горячий кофе пролился прямо на брюки классика. Питер Ик встал, промокнул салфеткой колена, вытер платочком усы, потом вытер залитые кофе руки и направился к выходу. Касаясь двери, он еще слышал возмущенные возгласы Хуанито. И вдруг все смолкло. Пропал гул машины под ногами, замолкли на всех палубах многочисленные транзисторы, стих шелест бриза. Затем все исчезло. И тогда перед глазами появилась книга. Страницы в ней шевелились, точно живые, и перелистывались с дьявольской скоростью, но все равно он успевал прочесть все, успевал запомнить все, все до последней точки. За долю секунды даром ясновидения он познал эту книгу. Ее героев, их мысли, чувства, слова. Он знал начало и конец. Он знал все. Это была его сто семьдесят первая книга. Пошатываясь, писатель вышел из бара и лунатическим шагом прошел к себе в каюту. Там он присел к пишущей машинке и начал печатать со скоростью около 500 слов в минуту. Как известно, почти столько же пуль выпускает пистолет-пулемет Томми. Через два часа новый роман Питера Ика был закончен. Одновременно был установлен и рекорд скоропечатания. Творческая работа поднялась на угрожающую для издателя и читателя вершину. В воздухе запахло книжным ураганом, переходящим во всемирный бумажный поток... Ик устало опустил руки. Рядом с машинкой высилась кипа отпечатанных листов. Они еще не были разложены по экземплярам. На верхнем листе значилось:«Семь банок кофе»
(Фантастический антидетектив)
Трансатлантический лайнер «Святая Мария» готовился покинуть порт Белен... и т. д.48
Необъятный величественный закат продемонстрировал положенную гамму красок и растворился на горизонте. Застывшее в невероятном крене по отношению к курсу «Святая Мария» облачко поймало последний луч и превратилось в перламутровую летящую тарелку. Но скоро и его проглотила ночь. Зато залитый светом лайнер скользил по черному лаку океана, как «Летучий голландец» в день юбилейного карнавала утопленников. Впрочем, грешникам морей даже не снилось такое веселье. На всех палубах гремели оркестры. Танцевали под открытым небом. Прямо под Южным крестом, точным подобием того, который трепетал в фиолетовом ромбе на кормовом флаге. Сёрф, шейк, халли-галли, фраг, мэдисон и бассанова сменяли друг друга без перерыва. Временами рокот барабанов и рев труб заглушали раскаты смеха. Привлеченные голубоватым огнем «Святой Марии», на головы танцующих шлепались ошалевшие летучки. И каждый раз это вызывало бешеный восторг. Все было именно так, как обещали туристские проспекты. Женя и Лоис не принимали участия в общем веселье. Им было немного грустно. Кроме того, Женино развитие по части танцев остановилось на рок-н-ролле. Они стояли рядышком и, свесившись за борт, следили за призрачным отражением корабля. Светящаяся тень застыла в мазутном зеркале, и далеко-далеко в небе смутно блестела другая тень. В этом была загадка, которую не стоило разгадывать, и грусть, и южная пряная тишина. Еле ощутимо вибрировали перила. Прогудел обозначенный красными и зелеными огнями встречный корабль. «Святая Мария» шла, как говорится, в галфвинд, и упоительный ветер бил прямо в лицо. Вращающийся прожектор обрушивал дымный меловой свет на согнувшиеся фигурки и сразу же уносился к танцующим. А «Святая Мария» шла строго намеченным курсом, и каждый оборот гребных валов приближал ее к цели. Меньше суток оставалось до конца путешествия. Женя, естественно, думал о неизбежном расставании, сосредоточенно следя за светлыми струями внизу, бьющими из шпигатов. Лоис, наверное, думала о том же, хотя часто оборачивалась и подолгу глядела на танцевальное неистовство. — Разве это танцы? — вдруг сказала она. — Вот коко, бамбело и замбе — совсем другое дело! Поглядел бы ты, рыжий, как их отплясывают кариоки-негры! Женя согласно кивнул, хотя вряд ли понял, что она сказала. В этот момент неизвестно как оказавшаяся в открытом море бабочка нимфалида бессильно опустилась прямо на голову Лоис. Раскрыв крылышки, она затрепетала сверкающей диадемой, отчаянно цепляясь лапками за мятущиеся на ветру черные пряди. «Сам океан венчал царицу ночи», — как сказал бы в этом случае Питер Ик. Женя оценил всю важность момента, весь его, так сказать, неожиданный лирический подтекст, но ничего не сказал. Разговор явно не клеился: «Значит, завтра мы прибываем». — «Si»[125]. — «И расстаемся». — «Si». — «Хорошо, что мы все же встретились, а то, что расстаемся, — это не беда. Ведь правда?» — «Nāo importa»...[126] — «Ты очень хорошая, Лоис! Ты удивительно хорошая... — «Obrigado»[127]. Нет, разговора явно не получалось. Каждый думал о своем и на своем языке. Чудовищные английские фразы, с помощью которых они обычно обменивались самой минимальной информацией, никак не вязались с этой ночью. — Boa noite, senhores![128] — послышалось у них за спиной, Это был Альберт, удивительно способный к языкам. Повторенную несколько раз про себя фразу он произнес с неподражаемым изяществом и легкостью. — This is friend of mine Albert![129] — Женя сказал точно так, как это посоветовал совсем недавно Иванов. Теперь они молчали уже втроем. Но сродство душ было необратимо нарушено. Внутренний диалог оборвался. Женя не то чтобы был этому рад. Но грусть как-то сама собой развеялась. Он с интересом подумал о дальнейшем своем путешествии и понял вдруг, что ужасно соскучился по дому.Арк. Локерман ПОЧТИ ОХОТНИЧИЙ РАССКАЗ
Щелгунов, старый охотник, очень тогда удивлялся: ну и зверь нынче пошел, совсем не чуткий, не активный. Это уж такая удача, расскажи — не поверят! Активность тогда, к счастью, проявил только Женька. Считать его удачником нельзя. Как только проявит он активность, так неприятности. Ему не везло. Дело об извлечении сигарет из автомата с помощью приспособления собственной конструкции прекратили за несовершеннолетием изобретателя. Приспособление все признали хорошим, но все же пришлось Женьке школу покинуть, подать заявление в вечернюю и начать трудовую жизнь. Мама всем рассказывала про Женькины беды, и глаза у нее при этом становились такими, что ей очень сочувствовали. Обсуждались разные варианты — на стройку, в сапожную мастерскую, почтальоном, в штамповый цех и так далее. Дельный совет маме подала сослуживица: — Отдайте его в геологи! Он там, в тайге, горя хлебнет, станет городскую жизнь ценить и вас слушаться! — Да кто ж его возьмет? — вздохнула мама. Оказалось, что сослуживица говорила не зря — у се племянника есть знакомая, которая недавно переселилась в новый дом, и соседка у нее там инженер-геолог, такая худенькая, но симпатичная блондинка. Так вот, она говорила, что в их партию на сезон нужны рабочие и берут старшеклассников. Сами понимаете, самостоятельные люди к ним не больно-то идут! Знакомство состоялось. Женька не предполагал, что инженер, да еще геолог, может выглядеть почти как его одноклассница, но Надежда Ивановна оказалась такой. Старше она выглядела только из-за очков в тяжелой черной оправе. Она сказала: — Пойдемте к Маркову, начальнику нашей партии. На пути она предупредила Женькину маму: — Видите ли, Федор Андреевич человек отзывчивый, но не всегда бывает понятно, когда он шутит. Про него говорят, перефразируя Бабеля, что он среди геологов слывет грубияном. Мама Бабеля не читала, но все это не предвещало хорошего, и она вздохнула. Женя уже приобрел некоторый опыт поисков работы, знал, что все начинается с паспорта и анкеты. Здесь было по-иному. Марков оказался очень высоким, худым, седоватым и лысоватым. Он выслушал Надежду Ивановну хмурясь, плотно сжав губы, глаза его сверлили Женьку, как бурав. — Поздравляю! — загрохотал он. — Вы, Семенова, отыскали ценное пополнение — исключен, как говорится, за тихие успехи и громкое поведение! Да что у нас здесь — штрафбат? Тут заговорила мама. Из ее слов получилось, что все это, конечно, так, но на самом деле совсем не так! У ее сына масса положительных качеств, правда еще не полностью проявленных. Глаза у нее при этом стали такими, что ей трудно было не поверить! — А пороть его пробовали? Некому? Так приглашайте меня, имею опыт. Только сперва проверим силы.Ставь локоть на стол! — скомандовал начальник. Все, кто были в комнате, подошли поближе, с интересом смотрели. Женька упирался изо всех сил, напыжился и покраснел, но вскоре его рука была прижата. — Три с минусом, — определил Марков, — а теперь подпрыгни, достань потолок! Женька прыгнул, почти достал. — Четыре с плюсом! Ну, а какой будет угол, если синус равен двум? Женьке повезло — про синусы-косинусы он знал хорошо, но во всем этом была какая-то насмешка! Поэтому он ощетинился, ответил, кривя губы: — К вашему сведению, это ерунда, таких синусов не бывает. Два с минусом! Мама вздрогнула, а Марков захохотал: — Я же говорил, ценное пополнение для нашего штрафбата! Он повернулся к маме: — Рад сообщить, что ваш сын зачислен с сего числа маршрутным рабочим, будет таскать образцы, рыть канавы и прочее. Роль труда в процессе очеловечивания обезьян доказана. Все будет на уровне, если предоставите мне право телесных наказаний! Мама, неожиданно для Женьки, вдруг начала улыбаться, кивать и ушла очень довольная, а сыну сказала, что хорошего человека видно сразу. Женька настроен был не так оптимистично. Шутки он понимал, но все же ему стало жутковато, когда, прощаясь, начальник больно сдавил его плечо и, грозно нахмурив брови, отчеканил: — Ты у меня смотри, душу выну! Все-таки, как ни храбрись, а уезжал Женька из дому один, надолго, в первый раз!.. С тех пор прошло, вернее, промелькнуло четыре месяца, и о том, как поступал на работу, Женька иногда вспоминает с веселой улыбкой. Свои обязанности он освоил быстро и выполнял их с жаром, когда не увлекали его какие-нибудь иные начинания. Федор Андреевич покрикивал грозно, но телесных наказаний не применял. Всего один раз Женька получил оплеуху, и то не от него, а от Вахтанга, и, надо признать, за дело. Вообще все шло хорошо, пока Женька не начинал что-нибудь по собственной инициативе. Тут уж обязательно подстерегали его неприятности. Например, отыскал улей диких пчел в дупле кедра. Хотел угостить всех медом. Действовал вроде по всем правилам, а кончилось тем, что раздуло его, как мяч, четыре дня не мог работать — была высокая температура. Но это ерунда, тогда все обошлось, только посмеялись. Марков сказал: — Это полезно. Пчелиным ядом лечат разные стариковские хворобы. Лечиться можно и впрок! Хуже было, когда он, убежав от Надежды Ивановны, заблудился, вернее, когда нашелся. Скандал тогда получился большой — решили даже его уволить и, безусловно, он был виноват. Женька дал честное слово и очень старался не самовольничать, быть дисциплинированным, как на военной службе. И все же в самом конце работы, что называется под занавес, благодаря его активным действиям произошло это событие, невероятное, напоминающее «охотничий» рассказ. Инициатива, бесспорно, была Женькина, но на сей раз считать его виноватым, по-моему, нельзя. Вот как это было. В шестом часу уже совсем стемнело. Шли с утра, и все — пять человек и девять лошадей — очень устали. По-доброму давно следовало стать на ночлег, раскинуть палатку, запалить костер, но об этом никто и не думал. Это был не обычный переход, с лагеря на лагерь, каких за лето насчитаешь десятки, а долгожданный, последний! Еще немного — и впереди чудеса! А пока только мгла да заснеженная тропа. Она видна еле-еле, то и дело виляет, обходя деревья и скалы, а вьюки будто распухли, цепляют за что попало. Лошади злятся, спешат. Трещат ветки, трещат вьюки, раскачиваются деревья, осыпая снег на разгоряченные лица, за шиворот. — Стоп! — закричал Марков. — Успокоить нервных! Он шел первым, за ним Вахтанг. В середине каравана Женька и Надя. Она ведет одну лошадь, остальные по две — в связке, задняя привязана уздечкой к хвосту передней. Замыкающим шагает Степан Петрович, повар и конюх партии, — тут нужен глаз да глаз, а то что-нибудь обязательно потеряется. Отдышались, подтянули вьюки, построили караван. — Интервал пять метров! — гаркнул Марков. — Не налезай, бойся лошадиного зада! — Соблюдай правила безопасности конного передвижения по пересеченной местности! — в тон ему добавил Вахтанг. И снова — вперед! Виляет тропа, трещат ветки, трещат вьюки, порошит снег. Земля будто изрыта оспой — просадочные воронки и бугры, похожие на доты. Причудливый рельеф вечной мерзлоты, окаменевшая мертвая зыбь: вверх — вниз, вверх — вниз... Наконец пересекли долину. Начался подъем на хребет. Значит, осталось немного, но самое трудное еще впереди. На повороте, сквозь редкую поросль, Вахтанг увидел Надю. Она клонилась вперед, почти падала. Так бредут, когда уже нет сил, на одной воле! Он закричал: — Федор Андреич, чего нам спешить в эту дыру Николаевку, давай отдохнем, сил нет! — Стоп! — скомандовал Марков. — Подтянись! Женька, доставай термос! Сам Марков, вероятно, устал больше всех. Как ни бодрись — сорок шесть и две фронтовые метки на правой ноге. Его чисто выбритое лицо стало серым, сливалось с беличьей шапкой. Выделялся лишь красноватый, загнутый в небо нос, ракетодром, по определению Вахтанга, да глаза с очень подвижными зрачками, то маленькими — колючими, то расширенными — веселыми. Женька притащил термос. — Ну как, теперь понял, будешь мамочку слушать? — спросил Марков, подтягивая задубевший ремень, морщась от усилия. — Кое-что понял, — неопределенно ответил Женька, чему-то улыбаясь. Он осторожно поднес Наде пластмассовую крышку-стаканчик. Чай был не очень горячий, но крепкий, почти черный. — Женьке простительно, он совершил ошибку еще несовершеннолетним, но можно ли считать нормальными некоторых других? — Вахтанг, прищурясь, посмотрел на Надю. — Ей говорят — сиди в лаборатории! Ему, — он перевел взгляд на Маркова, — двадцать раз предлагают — будь начальником, сиди в кабинете со звонком к секретарше! А он в темноте, на морозе, тянет ремень у лошадиного хвоста! — В кабинете кресло с колючками, — пробормотал Марков, с трудом раскурив помятую папиросу. Разговор шел в обычном шутливом тоне, но эта тема возникла не случайно. Всем им, пожалуй кроме Женьки, хотелось в эти минуты жизни более легкой и уютной. Чай явно прибавил сил Наде. Она спросила: — А что сказать о том, кто третий год собирается в отпуск, к папе, в мандариновый сад? — Тот, безусловно, аномалия, как... Вахтанг, поясни! — попросил Марков, прячась за лошадь. — Рэзать будем! — Вахтанг сделал зверское лицо, взмахнул незримым кинжалом. Женька засмеялся, глядя на Вахтанга: он уже знал, что подразумевал Марков. Шутка эта имела давнюю историю. Четыре года назад к Маркову прислали молодого специалиста с тоненькими, подбритыми наискось усиками, в пестром свитере и немыслимо остроносых туфлях. Марков встретил его с ледяной вежливостью и направил в отряд, который искал россыпи среди заболоченной равнины, где комаров было в миллионы раз больше, чем золотых песчинок. Марков тогда сказал Наде: «Я поставлю дюжину цинандали, которого здесь не бывает, если до конца сезона этот ферт не отбудет в теплые края под любым соусом!» Вахтанг не отбыл — сначала ходил опухший, потом привык, с работой справился, обнаружив и усердие и смекалку. Марков слово сдержал. Из вагона-ресторана проходящего поезда притащил рюкзак цинандали, позвал Вахтанга. После третьей бутылки они выпили на брудершафт. После четвертой Марков сказал: «А все-таки ты аномален, как розовый ишак!» Вахтанг вскочил, вонзил нож в стол, закричал, сверкая глазами и зубами: «Зачем говоришь несправедливо! Ну верно, жоржики на курортах шляются! Там зачем думать — все такие! Их сколько? А нас сколько? Как раз они, а не мы аномальные ишаки!» С тех пор аномальные и нормальные ишаки прочно вошли в арсенал шуток, а Вахтанг постепенно стал ближайшим помощником Маркова, что говорило о многом. — Как вернемся, в отпуск уеду немедленно, чтобы не давать больше повода для бездарных острот! — заявил Вахтанг. И снова — вперед! Вскоре они вышли на голый, заснеженный склон. Тропа пошла круто, в лоб. Ух и тяжело! Уже давно пришло второе дыхание, но и его не хватает. Надо помогать лошадям, изо всех сил тянуть за повод, бежать и вдруг отскакивать, давая им дорогу. Они идут скачками, глаза их сверкают зло — того гляди, сомнут! Из-под копыт — фонтаном — комья снега, земли и листьев. Частые остановки, тяжелое дыхание, стремительный бег. Отдав все силы, лошади мгновенно замирают, торчком ставя копыта, как бы впиваясь в мерзлую землю. Разит потом и прелью. Еще рывок, еще — и наконец-то под ногами ровная каменистая площадка, а выше лишь прозрачная синева! Выскочив на перевал, и люди и лошади застывали неподвижно, словно от удивления. Впереди сверкали огни, подмигивали, переливались! От них невозможно было оторвать глаз. Это были первые электрические огни, которые они увидели за четыре месяца. Лошадиные спины дымились, как вулканы. Марков, страстный курильщик, первым делом вытащил папиросу. Надя, не выпуская повода, обхватила лошадь за шею, почти повисла, чтобы не упасть. Огни она видела как сквозь туман. Вахтанг снял шапку, вытер ею, мокрой и холодной, потное лицо, заиндевевшие усы. Все лошади, как по команде, начали шумно принюхиваться, насторожили уши и вдруг нестройным, но все же коровы и ржанием приветствовали давно оставленный дом. — Поди же ты, почуяли, признали! — обрадовался Степан Петрович. Женька смеялся, аплодировал. Он чувствовал себя лучше всех, что и не мудрено: в семнадцать лет горы еще не кажутся крутыми. Когда отдышались, стало слышно, как в поселке постукивает движок. Огни засверкали еще веселей и ярче. — Море огней! — Настоящий город! — Живут же люди! Все восклицания были искренни. — А кто говорил — дыра? — не без ехидства спросил Степан Петрович, для которого Николаевка была дом родной. — Я глупо ошибался! Теперь это понял. — Вахтанг прижал руку к сердцу. — Выходит, не только у жирафа от головы до хвоста и обратно расстояние не одинаково, — усмехнулся Марков. Действительно, четыре месяца назад, когда они уходили из Николаевки, эти огни не вызывали эмоций. Вероятно, они еще долго любовались бы этим оазисом света среди безграничной тьмы, но ветерок, вроде и не меняясь, быстро стал иным — вместо приятной прохлады он уже нагонял холод. Вахтанг натянул шапку, Надя зябко поеживалась. Лошади быстро стали одинаковыми — их посеребрил иней. — Двинулись! — скомандовал Марков. — А то прохватит, сейчас, наверно, минус десять. — Надо подхвостники подтянуть, спуск крутой, — напомнил Степан Петрович. — Тут случай был — вьюк коню на голову, тот с испугу на дыбы, да и вниз — сперва галопом, потом кувырком! — Ну и что же? — заинтересовался Женька. — «Что же, что же»! — хмуро повторил Степан Петрович. — Акт составили, а шкуру в Заготсырье сдали. Лошади, которых вел Женька, стояли рядом, доверчиво касались мягкими губами его плеч и лица. За лето все они стали совсем своими, с ними можно было даже разговаривать. И представить страшно, что кто-нибудь из них вот так, кувырком! Тщательно проверили упряжь и через час благополучно закончили путь. Если Николаевка (42 двора, клуб, магазин) была единогласно признана городом, то дом Шелгунова мог быть назван только дворцом. После приплюснутой тесноты палаток так приятно ходить не сгибаясь, а главное, во «дворце» было тепло, даже жарко. Великолепно сияли две сорокасвечовые лампочки — одна в кухне, другая в горнице. Уютно тикали ходики. Стены были сплошь покрыты картинками из журналов. Юрию Гагарину с противоположной стены ослепительно улыбалась актриса Лиа де Путти из «Прожектора» за 1925 год. Шелгунов был рад возвращению геологов и хорошо понимал, что надо людям, которых выгнал из тайги снег. Он постарался как мог — истопил баньку, поставил на стол все, чем богат, даже пол-литра раздобыл, хотя это был «дефицит», в магазин уже с месяц не привозили. — Итак, мы у финиша. Поздравляю с благополучным, без происшествий, окончанием работ! — провозгласил Марков. После всего этого они, не пошевельнувшись, проспали часов двенадцать. За окном голубело прозрачное, холодное небо, а посреди стола бронзовый пузатый самовар сиял и излучал тепло, почти как солнце. Степан Петрович неутомимо подкидывал оладьи. Они получились отменные, румяные и пузатые. В туесках с медом и брусникой уровень быстро понижался. Ели и похваливали. — На печке не то, что на костре, совсем иное дело, удовольствие одно! — скромно отвечал на похвалы Степан Петрович. И все с умилением смотрели на белую печку с докрасна раскаленной чугунной плитой, всем сердцем ощущая, какое это великолепное изобретение! Скоро им предстояло возобновить знакомство и со многими другими, пожалуй не менее замечательными. На таком лучезарном фоне была только одна тучка. Женька вспомнил о ней, когда Надежда Ивановна, взглянув на часы, решительно поднялась из-за стола. Из полевой сумки она достала сложенную гармошкой карту и линейку, начала что-то измерять. Женька, перестав жевать, хмуро следил за ее движениями. Потом посмотрел в окно. Все было по-прежнему: кое-где пятнами лежал снег, лениво шевелились тонкие ветки березы. — Еще холодней стало! — неизвестно по каким признакам заключил Женька. — Собаку и ту выпустить жалко! — Ничего, — попивая чай, благодушно отозвался Марков, — человек, в отличие от собаки, имеет спички, может погреться у костра. — Шевелись быстрей, тогда не замерзнешь, — посоветовал Вахтанг. Им хорошо говорить! Федор Андреевич вообще никуда не идет, будет заканчивать карту, а Вахтанг сам сказал — сбегаю на три часа, и аминь! Только Наде да ему, Женьке, предстоит мерзнуть, наверно, до вечера. Женька понимал — остались доделки, у каждого свои, но все-таки было обидно. И вообще, чего они все так торопятся в город? Сегодня вполне справедливо было бы сделать выходной! Женька никуда не спешил, а когда вспоминал, что все его приятели уже второй месяц сидят за партами, улыбка сама собой раздвигала его губы. Сейчас было не до улыбок. Надежда Ивановна ему ничего не ответила, начала одеваться — натянула толстые шерстяные носки, аккуратно заправила в них брюки, взяла свитер. Больше надеяться было не на что. Женька набрал в рот брусники сколько поместилось и, с раздутыми щеками, шумно дыша, проверил рюкзак. Все, за что ему могло попасть — бумага, вата, мешочки для образцов, липкий пластырь, зубило, — оказалось на месте. Затем он намазал медом четыре ломтя хлеба, подумал и добавил четыре оладьи да горсть сахару. Завернул все это в кальку, уложил в мешок для проб. Мешки эти сшиты из разноцветных обрезков. Женька выбрал самый веселый. Надежда Ивановна надела ватник, поправила очки и завязала под подбородком меховой шлем, который был ей великоват — закрывал щеки и лоб до бровей. Она достала из сумки зеркальце, густо смазала лицо вазелином и широко накрасила губы. В горнице на одной из картинок примерно в таком виде были изображены марсиане — шлем, очки, яркие губы. Дед Шелгунов с интересом глядел на Надю. Остальные не обращали внимания, понимая, что делается это не для красоты, а для защиты от ветра. — Женя, захвати с собой, — Марков протянул сверток, — здесь вся испорченная фото- и кинопленка. Сожги, только подальше от поселка и очень осторожно! Дыму будет море, близко не стой! Женька ощупал сверток, сказал: — Может, оставим, вдруг она пригодится! — Она может пригодиться, только чтобы устроить пожар! Понял? Не дождавшись ответа, Марков добавил: — Надя, проверьте, чтобы сжег, а то этот Плюшкин еще прибережет! Бесшумно ступая, они вышли в сени и там надели сапоги. — Холод-то какой! — Женька хмуро посмотрел на Маркова и Вахтанга, которые их провожали. — Вот тип! — возмутился Вахтанг. — В таком обществе идет почти на увеселительную прогулку и еще ноет!* * *
Началась увеселительная прогулка. Шли молча, привыкая к солнечному блеску, поеживаясь. За огородами опустились в овраг. Перешли ручей по заледенелому бревну и, скользя по седой траве, опираясь на молотки, одолели крутой подъем. — Тетя Надя, сколько нам сегодня топать? Она уже привыкла к тому, что у нее появился племянник, на голову ее выше. — Километров двенадцать. Подход — четыре, с работой чуть больше трех и обратно пять. Маршрут был, что и говорить, льготный, вдвое короче, чем обычно. Женька повеселел. Хорошо было и то, что подходы длинные, — можно разговаривать, петь, действительно как на прогулке. Правда, и на подходах Надя то и дело поглядывает на карту, но все же тут она совсем иная, чем за работой. На гребень поднялись за час. С высоты серые крыши, стога и огороды Николаевки выглядели довольно уныло. Над избой Шелгунова свечкой стоял дымок, но назад, к теплу печки, уже не тянуло. Дышалось легко, пахло снегом и соснами. Низкорослые, ветвистые, они захватили скалистые вершины и солнцепечный склон. Лицо Нади, обычно бледное, порозовело, а о Женькины щеки, казалось, можно зажигать спички. За гребнем сразу стало сумрачно. Могучие суровые кедры, как воины, стояли там в полный рост, не боясь северных ветров. У земли они были покрыты шрамами. Это были следы не войны, а тяжелых ударов колотушек, которыми сбивают шишки. Женька побегал между деревьями, от ствола к стволу, и быстро набрал с десяток шишек. Самую крупную отдал Наде, чуть помельче взял себе, остальные в рюкзак. Не теряя высоты, перевалили еще через два гребня. Шли редким кедровником с еловым подлеском. Везде попадались шишки. Видно, полны беличьи кладовые, коль никто не подобрал эти самопады, переспелые, смолистые, подклеванные птицами. Люди сюда редко заходят, потому что еще лучший кедровник с другой стороны поселка. По прямой они отошли от поселка всего на три километра, но тишина и глушь была такая, словно и не ступал тут человек. Чтобы не чувствовать себя совсем одиноким, проглоченным тайгой, надо разговаривать или петь. Женька начал:* * *
За столом, возле самовара, Марков и Вахтанг играли в шахматы. Это был блиц, когда дорога каждая секунда, поэтому они толком даже не взглянули на вошедших. То и дело раздавались сухие щелчки переключения шахматных часов. Надя и Женька стояли молча, осваиваясь с тем, что они дома. По-прежнему сиял и безмятежно мурлыкал самовар. Улыбалась со стены актриса Лиа де Путти. В том, что на них после всего пережитого никто не обратил внимания, было что-то очень обидное. Наверно, разрядка наступила бы и независимо от этого, но ярко накрашенные губы Нади вдруг задрожали, искривились, она заплакала горько, по-детски, закрыв лицо грязными руками. Вахтанг вскочил, закричал: — Успокойся, очень прошу! Черные, выпуклые его глаза смотрели растерянно то на Надю, то на Женьку. Женька тоже готов был заплакать, но крепился. Марков остановил шахматные часы. — Что случилось, чего, Семенова, нюни распустила? — Он скрыл тревогу за привычным шутливо-грубоватым тоном. Рассказ всхлипывающей Нади, даже с дополнениями Женьки, был не очень вразумителен, состоял из отдельных слов: барсук, дым, рев, треск, медвежья лапа. Все слова были с восклицательными знаками и заключали море эмоций, так сказать, в подтексте. — Ну ладно, как там ни было, а обошлось. — Марков выиграл предыдущую партию и был хорошо настроен. — Все живы-здоровы, отделались, как говорится, легким испугом! Умывайтесь, и будем обедать. Вахтанг, твой ход, включаю часы! Снова раздавались удары, будто они играли не в шахматы, а в домино. Пока Надя умывалась, мыло несколько раз выскальзывало из ее дрожащих рук, юлой вертелось в тазу. Женька рассказывал Шелгунову подробности. — Постой-ка, говоришь, на снегу следы барсучьи? — спросил тот и сам ответил: — Не должно бы! Барсук, как медведь, в нору до снега ложится. Может, заяц петлял? — И вообще все это как охотничий рассказ! Под землей выл хор грешников, а медведь помахал им лапкой: мол, счастливого пути! Да знаете, что бы он с вами сделал? — рассердился Марков. Партию он проиграл и отчасти поэтому особенно ярко представил, что мог сделать медведь. — Неужто так его задымили, что выскочить не успел? — Шелгунов задумчиво почесал бороду. Ему под восемьдесят, но он еще бравый, легкий на ногу. Только глаза подводят — слезятся. Из-за них он уже два года, как охотничать перестал. Вахтанг, тоже задумчиво, погладил усы: — Они, дед, не просто его задымили, а, наверно, отравили удушающими газами, как на войне. Кинопленка, когда горит, выделяет страшные яды — синильную кислоту, окись углерода. — Только загорелось, сразу вырос черный гриб, почти как от атомной бомбы! — пояснил Женька. — Я же тебя, балду, предупреждал — осторожней! — Марков торопливо, сломав две спички, закурил. Чем дальше, тем больше он верил, что рассказ не охотничий. Предупреждение, конечно, тут ничем помочь не могло. Произошел случай, который невозможно предвидеть, как падение камня с крыши. Все это Марков сознавал, но нервы бушевали, требовали разрядки. — Федор Андреевич, — виновато сказала Надя, — там ведь все осталось! И карта и записи. — Ну и черт с ними! — Марков швырнул папиросу. Целил в таз, попал в валенок. Ожесточенно вытрясая, спросил: — Так чьи же это были следы, Семенова? — Женя сказал — это барсук! — А вы сами посмотрели? — Нет, я же все равно не умею отличать. — А следовало бы, давно следовало научиться! — Глаза у Маркова стали колючими, зрачки сузились. — И пора знать, что в этих широтах барсук по снегу не шляется, а изволит дремать. Сами ни черта не знаете, — загремел он, — идете на поводу у невежественного авантюриста, потакаете его дурацким затеям! «Авантюрист» Женька потупился и надул губы. — Шишечками, видите ли, питается. Просто дико повезло. При других обстоятельствах, уверен, откусил бы вам барсук нос. Охотнички нашлись! Марков снова закурил и продолжал нотацию, но уже более спокойно: — Я вам, Надя, уже говорил: геолог, который не знает и не любит живой природы, видит только камни, всегда будет попадать впросак. Да и вообще это ремесленник, а не настоящий исследователь. — Я же, Федор Андреевич, стараюсь исправить этот мой недостаток, — голос Нади дрожал, — я купила Брема и, когда вернемся, обязательно прочту про всех животных. — Про обезьян можете не читать, — буркнул Марков, — их здесь не так уж много! Надя сжалась. В детстве ее дразнили обезьяной. Слезы потекли неудержимо. Вскочил Вахтанг, грудью пошел на Маркова, закричал: — Зачем обижаешь, зачем насмехаешься? Глаза у него стали круглые, как у ястреба. — Я насмехаюсь? — искренне удивился Марков. — Да ну вас всех! Тьфу, навязались психи на мою голову! Он круто повернулся, наклонился над картой, всем своим видом показывая, что работает и ничего больше не желает знать. Вахтанг подошел к Наде, сел рядом, взял ее за руку, что-то сказал, и вдруг еле заметная (сквозь слезы) улыбка на мгновение сделала ее такой красивой! Размеренно и очень громко стучали ходики. Задумчиво теребил бороду Шелгунов. По-прежнему надув губы, смотрел в пол Женька. Наконец тишину нарушил Марков. — Пора обедать! — Он подошел к Наде, сказал: — Признаюсь в недостатке, который не исправить даже чтением Брема. Во гневе несправедлив, прошу извинить! Все повеселели. Женька сначала ел без аппетита, потом разошелся, ложка сверкала, сверкал и нос. Надя, казалось, глотает песок. Вскоре она положила ложку. — Федор Андреевич, как же все-таки быть, ведь там карта осталась, она секретная! — Н-да! Этого я не учел. — Марков прищурил левый глаз. — А вдруг то был не медведь, а некто загримированный? Быть вам под судом вместе с Женькой! Шутка не развеселила, поэтому Марков изменил тон: — Не унывайте, Надюшенька, запасайтесь калориями. Сейчас оседлаем коней, учиним розыск и следствие. Шелгунов внушительно поднял палец: — На берлогу надо идти умственно, дело не простое! Однако, поеду с вами да братьев Грибановых покличу, они у нас первые охотники.* * *
Отряд выглядел грозно. Восемь ружей, две рогатины, топоры, лом, кайла, веревки — всё захватили. Командовал Шелгунов. Он хотел было тащить еще и путно — сеть, которой накрывают берлогу при зимней охоте, но раздумал. Братья Грибановы, здоровенные, очень похожие, привели с собой двух лаек — Симку и Тимку, тоже очень похожих, пушистых, остроносых, с такими умными, человеческими глазами, что в них даже как-то неловко было смотреть. Лошадей привязали у края болота и осторожно, в боевом порядке подобрались к куруму. Там была такая неподвижная тишина и спокойствие, что Женька подумал: как будто все нам приснилось! Но нет! В яме, вцепившись когтями в корневище, застыла медвежья лапа. Рядом лежала порванная полевая сумка. Надя поспешила надеть ее на плечо. Собаки довольно равнодушно обнюхали лапу. Их специальность — живые медведи. — Дым, значит, его от чела отогнал, — рассудил Шелгунов, — так он через небо выбивался. Братья Грибановы согласно кивнули. Женька сообразил, что челом Шелгунов называет лаз в берлогу, а небом дыру в ее кровле. Вниз, к лазу, спустились Грибановы да Женька в качестве проводника. Остальные смотрели на них сверху. Ружья держали наизготовку. Грибанов-старший ткнул в берлогу рогатину. Она не вошла и на метр, во что-то мягко уперлась. — Собаку пусти, а то всяко бывает! — скомандовал Шелгунов. Подтолкнули в лаз Симку. Он влез, только хвост торчал, но дальше не пошел, зарычал, впрочем довольно равнодушно, и, пятясь, вылез. Тогда старший Грибанов, ничего не сказав, решительно заполз сам, держа в руках электрический фонарик и нож. Вылез он почти так же быстро, как Симка. — Дела! — сказал он. — Тут второй, как пробка в горловине. — Я того и опасался! — обращаясь к Маркову, возбужденно сказал Шелгунов. — Бывали случаи: одного убьют — другой затаится, жердями тычут, не пошевельнется. Только собака живого от мертвяка отличит. Глаза Шелгунова не слезились, взгляд был остр. Снова старший Грибанов, уже не с ножом, а с веревкой втиснулся в берлогу. — Неловко лежит, боком, не уцепишь! — сказал он. Решили раскрыть кровлю берлоги возле отдушины, где торчала лапа и земля потрескалась. Когда ломали кайлом и ломом, оказалось, что кровля подготовлена медведем к зимовке по-хозяйски — щели между глыбами были тщательно заделаны ветками и мохом. Шелгунов все время стоял с ружьем на страже. Собаки спокойно лежали у его ног. За час разворотили дыру и, обвязав веревкой, с трудом вытянули владельца торчащей лапы. Он был красив — шуба как цигейковая, новая. — Пестун это, второгодок, — определил Шелгунов, — только жить начал и, нате пожалуйста, такая оказия. Шелгунов вздохнул, заморгал. — Никогда я себе этого не прощу! — Надя едва сдерживала слезы. — Не распускайте нюни, Семенова, — сухо сказал Марков, — медведь не воробей, пользы не приносит. Разговор с хищниками короткий: или мы их, или они нас! — Они-то при чем? Если бы не этот авантюрист, — Вахтанг кивнул на Женьку, — проспали бы они до весны. — Еще один защитник нашелся, — рассердился Марков, — их и так хватает, особенно из числа тех, кто ходит только по асфальту. «Ах, медведи, ах, волки. Обижают бедненьких!» А сколько нашего брата, таежников, полегло, про то молчат. Нам работать надо, а из-за них, как на вулкане, озирайся, бойся. — Где волков уничтожают, там и зайцы вымирают, — проявил эрудицию Женька. — Я читал, что нельзя нарушать в природе равновесие... — И так далее, смотри популярные журналы, — прервал его Марков. — А позвольте спросить, как же сохранилась жизнь в Новой Зеландии, где никогда не было хищников? В Англии вот уже три столетия, как волков уничтожили, а зайцы, говорят, не жалуются! Так что обойдемся без таких сомнительных регуляторов. Спокойнее оно и прелестней! — Так-то оно так, но все-таки молодяк он был! — задумчиво сказал Шелгунов. Вахтанг посмотрел на медведя. Молодяк-то молодяк, а клыки торчат, когти тоже — смотреть страшно. Он представил, что мог сделать такой, разъяренный, и поспешно стал рядом с Надей, готовый защищать ее от всех медведей мира. Все молчали, словно ожидая чего-то. — Продолжим, — сказал Марков. — Чтоб от греха подальше, надо все-таки собаку в берлогу спустить, — решил Шелгунов. Обвязали веревкой Тимку, спустили, подождали немного и вытащили. Его молчаливая информация была признана вполне надежной. Шелгунов посмотрел на Женьку, сказал: — Только тебе, парень, туда, пожалуй, и пролезать. Не побоишься? — Нет, — ответил Женька и скинул ватник. В слабом свете фонарика под низким сводом он увидел медвежонка, застывшего на постели из мха. Прижавшись к нему вплотную, Женька пытался протиснуться, но не смог, дышать было трудно. Пахло гарью и еще чем-то. Он разглядел, что в голове берлоги, загородив лаз, лежит бурая медведица, до половины подмяв под себя еще одного медвежонка. Когда Женька вылез, веснушки на его носу были заметны гораздо резче, чем обычно, дышал он тяжело и голос дрожал. — Наверно, потому и выскочить она не сумела, что подмяла одного под себя, а лаз узкий, — сказал Грибанов-старший. — Иначе, думаю, не удержали бы ее все киногазы, — добавил Вахтанг. — Да и не чуткая она была, — решил Шелгунов, — ведь с открытым челом лежала, а не услышала, что человек рядом. Он посмотрел на Маркова, пояснил: — К морозу-то медведь чело берлоги затыкает ветками да мохом. И то случалось — не успеет охотник подойти, а он уж вскочил, встречает! — Раз на раз не приходится, — заметил старший Грибанов. — У дяди нашего, что в Аккурае живет, сынишка так же вот в пещеру заглянул, а там медведь, глаза открыты и вроде на него смотрит, а не шевелится. Так и лежал он, пока парнишка охотников не привел... Поработать пришлось крепко, до темноты. Когда все было кончено — поверженные враги лежали в ряд, — Марков сказал, выпуская дым: — Спектакль в сумасшедшем доме, по-иному не назовешь! — Не забывайте, что и вы участник, — заметилВахтанг, переходом на «вы» подчеркивая иронию. — В таком обществе и не мудрено, — ответил Марков. Вахтанг засмеялся, а вслед за ним и Марков. Женька не понял, чему они смеются. Он стоял возле Нади, и они, как тогда, удирая, крепко держали друг друга за руку. Они смотрели на медведей, и было им совсем не до смеха.* * *
А на следующий день, в девять утра, Надя и Женька уже шли по знакомой дороге заканчивать так неожиданно прерванный маршрут. Женька тащил не только рюкзак, но и ружье. Оба ствола зарядил медвежьими пулями — жаканами. Был он тихий и усердный, как никогда. От тети Нади не отходил и все команды выполнял точно, воздерживаясь от каких-либо активных предложений. В середине дня он спросил: — Можно, я костер разведу? Погреемся и съедим завтрак, он со вчерашнего дня лежит. Место для костра они выбрали вдвоем, очень тщательно, опасаясь какого-нибудь подвоха. Но все было тихо, спокойно, и ружье не потребовалось.* * *
Эта история стала широко известна, конечно, в пределах круга родных и знакомых, тем более что каждый из ее участников демонстрировал памятный подарок — медвежью шкуру. Вахтанг и Надя захотели взять маленькие, но одинаковые. Марков и Женька кинули жребий. Женьке досталась самая большая, с обгорелым боком. Его мама смотрела на нее с ужасом, жаловалась, что стала плохо спать. Всем знакомым она пересказывала эту историю, говорила, что никогда, ни за что больше не пустит Женечку в эти ужасные экспедиции. Пусть лучше опять уроки прогуливает, пусть даже... Глаза у мамы при этом становились такие, что все ей сочувствовали и соглашались. Вскоре Женькина активность приняла совершенно неожиданное направление. — Понимаете, — изумленно рассказывала мама, — сидит и занимается и утром, до работы, и ночью, после школы. На шкуру эту обгорелую посмотрит, посвистит и снова нос в книгу. Той сослуживице, которая подала дельный совет, мама говорила: «Не знаю уж, как вас и благодарить. Все, как вы сказали, — горя хлебнул и образумился, от меня теперь никуда, все дома и дома». Так называемые «хеппи энд» всем надоели, но что делать, если это правда. В конце полугодия Женька стал отличником. С ним отродясь такого не случалось, и мама очень волновалась. Удивлялись и Женькины друзья по активным внеклассным действиям. Только Генка — ближайший друг — знал причину. Ему Женька сказал: — Я решил — иду на геологический, а там такой конкурс, что дуриком не проскочишь!Генрих Гофман ГОЛОВА В МИЛЛИОН МАРОК
ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Двухмоторный транспортный самолет «ЛИ-2» с надрывным гулом оторвался от пожухлой осенней травы полевого аэродрома и устремился в ночное небо. Под крылом проплыл обрывистый берег Днепра, Киев, утонувший во мгле светомаскировки. Только груды битого кирпича и стекла на развалинах Крещатика сверкали в свете луны каким-то причудливым блеском. Девять парашютистов-десантников, прильнув к иллюминаторам пассажирской кабины, пристально всматривались в родную, истерзанную врагом и лишь недавно освобожденную землю. Лучи синей лампы тускло освещали их спины, на которых горбились ранцы десантных парашютов. Командир окинул взглядом их круглые, обтянутые одинаковыми кожаными летными шлемами затылки. И только сейчас окончательно осознал сложность боевого задания, всю меру своей ответственности за этих людей. Девять человек; он — десятый. Что их ждет впереди, как-то сложится их боевая судьба? Под однотонный рокот моторов текли неторопливые мысли. Командир вспомнил, как вместе со своей группой десантников приехал он в Киев и прямо с вокзала явился к начальнику Украинского штаба партизанского движения генералу Строкачу: — Товарищ генерал! Командир партизанского отряда капитан Мурзин задание выполнил. О боевых действиях отряда сообщил Центральному Комитету Компартии Молдавии и прибыл по вашему приказанию. — Спасибо, Даян Баянович! От имени Родины спасибо. — Генерал усадил Мурзина в глубокое кресло и продолжал: — Вы с честью выполнили задание командования и ЦК нашей партии. Но война еще не закончена... Она принимает особенно ожесточенный характер. В скором времени наша армия начнет наступление на территории Польши и Чехословакии. Народы этих стран уже поднимаются на борьбу. Предстоят большие дела... Как вы думаете, товарищ Мурзин: если бы вас забросили в одну из этих стран?.. Ну... скажем, в Польшу или Чехословакию, а может быть, в Венгрию. Там начинается народная война против фашистов, надо помочь, а у вас огромный опыт партизанской борьбы. Справились бы вы с такой серьезной задачей? — Дайте подумать, товарищ генерал. Если разрешите, я и с ребятами своими посоветуюсь. — Вот, вот. И я о том же думаю. Даю вам два дня на размышления. А через два дня явитесь ко мне в десять ноль-ноль. Тогда и продолжим этот разговор... За грозным ревом моторов Мурзину показалось, что он явственно слышит спокойный голос генерала. Он вспомнил, как вышел тогда на улицу, где его поджидали товарищи. Их было несколько человек — основное ядро партизанского отряда, — вместе с которыми минувшей зимой он опустился в районе оккупированной Одессы. Рядом прошли они долгий, нелегкий путь по тылам врага, не раз смотрели в глаза смерти, терпели невзгоды и лишения партизанской жизни. Радостью засветились лица друзей, когда Мурзин сообщил им о двухдневном отдыхе в Киеве. О предложении Строкача он решил пока ничего не говорить. Хотелось сначала обдумать все самому. Разместились в пустой трехкомнатной квартире и устроили торжественный обед по случаю благополучного возвращения в столицу Украины. Под вечер молча шли по разрушенному Крещатику, где завалы битого кирпича, щебня, суровые, утомленные лица прохожих — все напоминало о недавних страшных днях оккупации. Первым нарушил молчание Павел Куделя: — Хлопцы! А война ведь еще не кончилась. Еще до Берлина нужно дойти. — Дойдем! — ответил Мурзин. И тут же подумал: «Может, сейчас рассказать ребятам о разговоре с генералом?» Он напряженно вглядывался в лица друзей. Согласятся, не подведут?.. У каждого из них лежал за плечами тяжелый боевой путь. И вот снова впереди смертельная опасность, кровопролитные бои... Дома, как говорится, и стены помогают. А там, на чужой земле? Да, конец войны не так уж близок. Скольких еще жертв потребует она, пока враг будет раздавлен окончательно?.. Конечно, не подведут ребята, согласятся! Не такой это народ!.. В назначенный день ровно в десять Мурзин доложил Строкачу: — Мы все обдумали, товарищ генерал. Решили и дальше драться в тылу врага. — Я был в этом уверен. — Строкам поднялся из-за стола и крепко обнял Мурзина. Мурзин и его друзья были зачислены в чехословацкую группу... Первым, кого они увидели в лесной школе, был высокий, подтянутый брюнет с колодкой орденских планок на груди. — Начальник школы, — представился он. Потом он долго беседовал с каждым в своем кабинете. Интересовался всем. Откуда родом? Есть ли родственники? Где воевали? В каких диверсиях участвовали? Много ли уничтожили вражеской техники? Что нового подметили в действиях немецких карательных отрядов? Только к обеду знакомство было закончено, и начальник пригласил Мурзина и его товарищей осмотреть школу. Сначала он повел их к двухэтажной деревянной даче. — Жить будете здесь, на втором этаже. Вместе с чехами и словаками. Дом этот у нас интернациональный. Здесь разместятся и поляки, и венгры, и румыны, и... немцы. Все они будут вашими братьями по оружию, по борьбе с фашизмом. Они поднялись на второй этаж, прошли в огромный зал, уставленный кроватями. На одной из них сидел офицер в форме чехословацкой армии. Другой офицер в такой же форме стоял у окна. — Знакомьтесь! — сказал начальник школы. — Эти товарищи прибыли из Москвы. Они служили в чехословацком корпусе генерала Свободы, а теперь вместе с вами будут заброшены в тыл врага. Офицер, сидевший на кровати, встал. Это был широкоплечий человек, с правильными чертами лица и глубоко посаженными голубыми глазами. — Надпоручик Ян Ушияк, — представили его. — Рад познакомиться, товарищ, — мягким голосом сказал Ушияк. — Да вы хорошо говорите по-русски! — удивился Мурзин. — Я не только могу говорить по-русски. Я умею даже ругаться, — улыбнулся Ушияк, протягивая руку. — Но мы будем дружба, будем... будем хорошо воевать... будем бить фашистов... А пока, для первого знакомства, пойдемте вместе обедать, — предложил он. В столовой Ян Ушияк рассказал Мурзину, что он и его друг Ян Милек словаки, коммунисты. Осенью сорок первого года они попали в немецкую армию и были брошены под Одессу. Но воевать на стороне Гитлера, поработившего их родину, они не пожелали и поэтому, когда их дивизия вступила в бой, сразу же перешли на сторону Красной Армии. За обедом Мурзин узнал, что его новые друзья сражались с гитлеровцами на Первом Украинском фронте, откуда и прибыли в эту школу. — Здесь мы изучаем ваш опыт партизанской войны. Хотим помогать своему народу, — закончил Ян Ушияк. — Надо скорее туда, в Чехословакию, — добавил его товарищ. — А начальник школы говорит, что надо снова учить подрывное дело, стрелять по мишеням. Так вся война без нас кончится. — Ничего, и на вашу долю останется, — вмешался начальник школы. — Но прежде необходимо усвоить тактику партизанской войны. Наши товарищи вам в этом помогут. Вот, к примеру, Мурзин. Он уже много партизанил. Поначалу на Украине, а потом и в Молдавии. Он вам может дать добрый совет. Возможно, вместе с ним и полетите к себе на родину. — Содруг Мурзин окажет нам большую честь, если согласится сражаться с фашистами на нашей земле, — сказал Ян Ушияк. — Согласиться недолго, — ответил Мурзин. — Только не знаю, как ваш народ нас встретит. В нашей стране весь народ был с нами. Без народной поддержки ни один партизанский отряд не выживет... — О, содруг Мурзин, в Чехословакии народ тоже будет с нами! Вы там будете, как здесь, дома. Ты откуда, на какой земле родился? — Я из Уфы, — вздохнул Мурзин. — Слышали такой город? — О! — еще больше оживился Ушияк. — Это же есть наша вторая родина. Это недалеко от города Бузулук. Мы там формировали нашу новую часть. А в Уфе жил Клемент Готвальд. А еще раньше жил Ярослав Гашек. Я очень хорошо знаю Уфу. Там добрый, хороший народ. У нас в Чехословакии тоже добрый, хороший народ. Полетишь с нами, сам увидишь. В голосе Ушияка, во всем его облике было столько неподдельного дружелюбия, что и Мурзин и его друзья прониклись к нему искренним уважением. Через несколько дней капитана Мурзина вместе с надпоручиком Ушияком вызвали на совещание к начальнику школы. Там в небольшом зале собрались партизанские командиры. Член ЦК Компартии Чехословакии обратился к собравшимся: — Дорогие друзья! Гитлеровское гестапо со свойственной немецкой педантичностью истребляет цвет нашей нации — ее наиболее выдающихся деятелей. Устанавливая новый порядок в Европе, фашисты не останавливаются ни перед чем. Чехословацкий народ стонет под гнетом оккупации. Центральный Комитет Компартии Чехословакии обратился в ЦК ВКП(б) и к Советскому правительству с просьбой оказать помощь народному восстанию, которое мы готовим на территории Словакии. Нам нужны опытные кадры партизанских командиров, которые могли бы помочь нашим людям советом и делом. Чехи и словаки ждут помощи от советского народа. Там вас встретят как братьев. Ведь у нас один враг и одни цели. После совещания Ушияк и Мурзин долго бродили по сосновому лесу. Ян Ушияк с любовью рассказывал новому другу о своей родине, о людях, которые ждут их далеко за Карпатами. Мурзин не предполагал тогда, что судьба надолго свяжет его с этим человеком. ...Вспоминая подробности недавнего прошлого, капитан время от времени поглядывал на звездное небо, раскинувшееся за иллюминаторами. Неожиданно на темном фоне сверкнули ослепительные вспышки. Разноцветными гусеницами поползли ленты трассирующих пуль. Но по-прежнему ровно урчали моторы. Самолет приближался к линии фронта. Уже не один раз перелетал Даян Мурзин через этот огненный рубеж. Бывало, щупальца прожекторов освещали кабину, словно вспышки магния, осколки зенитных снарядов барабанной дробью стучали в металлическую обшивку самолета. Но в такие моменты он обычно чувствовал себя уверенно и спокойно. Его всегда больше пугала тишина — ожидание чего-то непредвиденного и потому страшного. Слух уже привык к ровному рокоту моторов и не воспринимал его. А там, за этим рокотом, и притаилась в ночи тишина. И потому гулко забилось сердце, тошнотворный комок подкатил к горлу. Но Мурзин улыбнулся, вспомнив поговорку, услышанную от летчиков: «Кому суждено быть сбитым, тому никогда не быть повешенным». Самолет тряхнуло, небо разорвалось огненными вспышками. Будто красные шарики, начали лопаться за бортом разрывы зениток. Линия фронта! И как ни странно, Мурзин сразу почувствовал облегчение, ту самую собранность и спокойствие, которые всегда приходили к нему, когда опасность приближалась вплотную. «Раз не попали с первого раза, значит, самое страшное уже позади». В противозенитном маневре летчики швыряли самолет из стороны в сторону. Сверкающие зарницы разрывов вспыхивали то с правого, то с левого борта, освещая напряженные лица людей в кабине самолета. Эта пляска смерти продолжалась не более одной минуты. И разом погас огненный фейерверк, смолкли разрывы. Самолет выровнялся, и снова стало слышно ровное гудение его моторов. Линия фронта медленно таяла за хвостом самолета, растворяясь в ночи. Мурзин задумался. Его одолевали сомнения. Чужая страна. Что он знает о ней? Местность незнакомая. Да и народ пока незнакомый. Правда, Ушияк уверял, что словаки и чехи ненавидят фашистов. Мечтают скорее освободить свою землю. С нетерпением ждут Советскую Армию... Ушияка проводили прошлой ночью. Перед вылетом расцеловались, будто знали друг друга всю жизнь. А пробыли вместе всего-то два месяца. Перед самым выпуском начальник школы зачитал приказ. Ян Ушияк назначался командиром партизанского отряда, а Даян Мурзин — начальником штаба и одновременно, как имеющий большой опыт партизанской войны, советником командира. Ян Ушияк улетел во главе первой группы отряда. А уже утром сообщил по радио, что приземлились благополучно, готов принять и вторую группу, которую возглавлял капитан Мурзин. Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше, но Мурзин нервничал. Нет, внешне он казался спокойным. Не показывал вида. А в душе росло чувство тревоги. «Выйдут ли летчики точно в намеченный район? Заметят ли зажженные на земле костры? Обеспечил ли Ян Ушияк надежную охрану площадки, где должны приземляться десантники?» Из пилотской кабины вышел штурман. Подойдя к Мурзину, он склонился, стараясь перекричать шум моторов: — Товарищ капитан! Через тридцать минут должны быть в точке высадки. Погода хорошая. Ветер всего три метра в секунду. Так что особого сноса не будет. Только предупредите людей, чтобы сразу кольцо не рвали. А то три дня назад у нас такую кутерьму на аэродроме устроили... — А что случилось? — заинтересовался Мурзин. — Вспоминать смешно, а могло закончиться катастрофой. Куделя подвинулся, уступая место штурману. Тот присел на скамейку возле Мурзина и продолжал: — Высаживали мы одну группу в Чехословакии. В намеченный район вышли точно. Открыл я дверцу, подал команду прыгать. Десантники все до одного покинули самолет. Закрыл я дверь, захожу в пилотскую кабину, а командир корабля спрашивает: «Что там случилось? Управлять тяжело стало. Вроде на рулях кто повис». — «Ничего, говорю, не случилось. Все десантировались по моей команде...» А сам припоминаю, что вроде бы один еще в дверях за кольцо дернул. Я даже видел, как его купол распускаться начал... Тут второй летчик и говорит: «Держи, командир, штурвал крепче. Я, говорит, пойду через турельный колпак стрелка загляну на хвост». И пошел. Возвращается через минуту. Взволнованный. И докладывает первому: «Товарищ командир! У нас один десантник за хвостом болтается». Выскочил я к турели и вижу: белый купол на руле глубины, а человека в темноте не разглядеть. Жив ли он, нет ли, понять невозможно. Развернулись мы блинчиком на обратный курс. Потопали потихоньку до дому. Командир корабля в штурвал вцепился, только капельки пота на лбу выступили. Летим молча, и каждый об том человеке думает. Живой он или мертвый? Когда фронт перелетели, светать начало. Видим, за хвостом на стропах человека треплет. И помочь ему нечем. А может, он уже и в помощи не нуждается. Мы-то не знаем, выжил он или нет. Сообщили на аэродром о происшествии. Запрашиваем: садиться или нет? А ежели не садиться, то что делать? Долго ответа ждали. Только когда к аэродрому приблизились, видим, на посадочной полосе, у самого ее начала, три открытых «виллиса» в ряд стоят и на каждом люди. Тут и команда по радио поступила: приказывают снизиться и на самой малой скорости пролететь над посадочной полосой, да так низко, чтоб с этих машин человека могли бы снять... — Так спасли его или нет? — не вытерпел Мурзин. — Слушай, что дальше было... Снизились мы, значит, заходим издалека... К посадочной приближаемся. Видим, три «виллиса» сорвались с места, скорость набирают. Люди на них во весь рост поднялись. Прижались мы еще ниже к земле и медленно так обгоняем эти автомобили. На них десантники с ножами стояли... Молодцы! Чисто сработали. Обрезали они стропы и подхватили нашего крестника... Потом уж на аэродроме мы с ним познакомились... Парень молодой, крепкий, выдержал. Считай, больше двух часов за самолетом болтался, а ничего. Говорит, со скуки достал из-за пазухи шоколад и сосал его всю дорогу. — Где же он сейчас, этот малый? — полюбопытствовал Мурзин. — В госпиталь отправили на обследование. Вот они, какие дела. Ну да ладно, заговорился я с вами. Пойду сверю курс. А вы ребятам своим все-таки скажите, чтоб раньше времени за кольцо не дергали... — У меня народ опытный. Штурман поднялся и исчез за дверью пилотской кабины. Через несколько минут раздался тревожный вой сирены. Зажглась и погасла красная лампочка. — Приготовиться к прыжку! — подал команду Мурзин. Он встал и, придерживаясь рукой за борт, подошел к двери, возле которой уже орудовал штурман. Тяжелая дверь распахнулась. В кабину со свистом ворвался холодный ветер. Далеко внизу в глубокой тьме пылали четыре ярких костра. Мурзин в последний раз придирчивым взглядом окинул своих десантников, проверил подгонку снаряжения на каждом. Ободряюще улыбнулся. — С прыжком не медлить. Парашют раскрывать через три секунды после отделения. Снова дважды надрывно прогудела сирена и дважды красная лампочка осветила кабину. — Пошел! — крикнул Мурзин. Один за другим десантники молча исчезали в черном квадрате открытой двери. Капитан Мурзин покинул самолет последним.ИМЕНИ ЯНА ЖИЖКИ
С утра сильный северо-западный ветер разметал по небу дождевые тучи. В голубых просветах заиграли яркие солнечные лучи. На сизых макушках высоких гор появились первые снежные россыпи. В лесу, где разместились партизаны, хотя холод, особенно по ночам, давал о себе знать, земля еще не оделась в снежный наряд. Днем снежинки таяли прямо в воздухе, а ночью оставались лежать на палых листьях до восхода солнца. В тот день Мурзин и Ушияк уже собрались отправиться на встречу с представителями подпольных организаций, когда в лагерь пришел Гаша Ташиновский. — Хорошо, что застал вас. Боялся разминуться, — обрадовался он. — А что случилось? — нахмурившись, спросил Мурзин. — Нет, все в порядке, — поспешил успокоить его Ташиновский. — Просто руководители городских подпольных групп Компартии решили переменить место встречи. В населенном пункте собираться рискованно. Боши могут нагрянуть. Поэтому совещание перенесли в маленький туристический ресторанчик на горе Мартыньяк. Там обеспечена надежная охрана. Пойдем. Нас ждут ровно в полдень. А туда добираться не меньше двух часов... И действительно, скрытый в лесу возле горной дороги, заброшенный летний ресторанчик оказался самым подходящим местом для тайного совещания. Туристский сезон уже кончился. А проливные дожди, хлеставшие последние дни, вряд ли могли привлечь в горы случайных путников. Когда Мурзин, Ушияк и Ташиновский в сопровождении шести партизан вошли в зал ресторана, их там уже ждали. Здесь собрались представители партийных организаций Коммунистической партии Чехословакии из городов: Брно, Всетин, Валашские Мезеричи, Моравская Острава, Преров. Рассевшись за маленькими столиками, делегаты попросили Ушияка рассказать о деятельности партизанского отряда имени Яна Жижки и подробно остановиться на том, какую помощь партизаны хотели бы получить от подпольных организаций. Ушияк вышел из-за стола и начал говорить: — Товарищи! Наш партизанский отряд прибыл в Моравию для активных действий. До сих пор мы находимся в стадии организации, но уже приступили к диверсиям. Только за последнее время наши люди взорвали железнодорожный мост на участке Злин — Преров, подорвали возле Всетина три немецких воинских эшелона с оружием и боеприпасами. Действуя из засад, партизаны уничтожили восемь немецких грузовиков с военным имуществом. Мы разгромили небольшой гарнизон в селе Карловиче, обезоружили роту венгерских солдат на дороге Злин — Всетин. Взорвали два склада с боеприпасами. Это только начало. Численность наших отрядов растет с каждым днем. В дальнейшем партизаны намечают усилить удары по гитлеровским коммуникациям. Но впереди зима. У нас нет теплого обмундирования, не хватает медикаментов и продовольствия, хотя местное население и помогает нам в меру сил. Мы не можем брать продовольствие бесплатно, поэтому нам нужны деньги, чтобы расплачиваться с крестьянами. Все молча слушали Ушияка, а когда он кончил говорить, поднялся представитель города Брно. — Ясно, — сказал он. — Теплую одежду и деньги мы соберем. Но партизанская война — это очень мало. В Моравии надо поднимать людей на восстание. Брновский военный гарнизон готовит вооруженное восстание. Нам надо объединить свои силы. Поднимать восстания и в других городах. Время для этого подходящее. Много гитлеровских дивизий ушло из Моравии в Словакию, много отправились на Восточный фронт. Сейчас в Моравии боши не имеют больших сил. Так давайте воспользуемся моментом, подымем вооруженное восстание на моравской земле... Делегаты других городов тоже высказались за это предложение. — А хватит ли у вас оружия, хватит ли людей? — спросил Ушияк. — Оружие добудем, и люди есть! — Мы можем вам людей дать! — Берите наших! — Организуем партизанскую бригаду! Предложения неслись со всех сторон. После бурного обсуждения единогласно решили: готовить на Моравии вооруженное восстание; партизанский отряд имени Яна Жижки преобразовать в бригаду; от каждой подпольной организации послать в нее по пятьдесят человек; в десятидневный срок собрать для партизан деньги и теплую одежду. Мурзин подсчитал, что в ближайшее время в бригаде должно появиться около тысячи бойцов. Сразу возникают новые задачи: надо подумать о их размещении, подготовить подходящие районы для базирования новых отрядов. Довольно потирая руки, к нему подошел Ушияк. В его добрых голубых глазах, в простодушной улыбке сквозила нескрываемая радость. — Скоро настоящую войну начнем, Даян, — сказал он. — Это хорошо. Но все получается как-то стихийно. Разве такое восстание можно проводить без решения Центрального Комитета Компартии Чехословакии? — Не беспокойся. Предварительное решение о восстании принято нашим ЦК. Сейчас мы должны подробно разобрать все организационные вопросы, а потом окончательный план будет представлен на утверждение в ЦК Компартии. По нашей радиостанции будет передан сигнал к вооруженному восстанию. — Что ж, если на то будет решение вашего ЦК, мы будем его выполнять. Но об этом надо немедленно сообщить и Советскому командованию. В Киеве и Москве должны знать о наших планах. — Да, конечно. Иначе я и не мыслю. Сейчас в Москве находится Клемент Готвальд. Наш подпольный ЦК имеет с ним надежную связь. Без его указания восстание не может начаться... К Ушияку подошел молодой высокий чех и, взяв его под руку, начал что-то ему рассказывать. Улавливая отдельные знакомые слова, Мурзин понял, что разговор идет о партизанском отряде Грековского. Ушияк внимательно выслушал собеседника и тут же представил его Мурзину: — Знакомься, Юра[130]. Это слесарь Всетинского военного завода Карел Гопличек. Он же руководитель подпольной коммунистической организации Всетина. Мурзин встал и пожал чеху руку. А Ушияк продолжал: — Содруг Гопличек говорит, что наши люди из отряда Грековского прошлой ночью взорвали трансформатор Всетинского оружейного завода у деревни Яблунка. Уже второй день завод не работает. И не будет работать еще двое суток, пока не восстановят этот трансформатор. — Та-ак! Слушай, Ян. Это хорошая мысль. Я видел в горах высоковольтные линии. Будем взрывать металлические опоры электропередач. Представляешь, сколько заводов выйдет из строя в Зволене, Всетине, Моравской Остраве, пока боши восстановят эти линии? — Ано, ано! Мы обязательно должны это делать. — А теперь пусть Карел Гопличек скажет, сколько оружия он может передать партизанам со своего завода к началу восстания? — попросил Мурзин. — Он говорит, что его ячейка выносит с завода каждый день по два автомата и около сотни патронов. Этого, конечно, мало, — перевел Ушияк, — но они сообщают Грековскому о каждом транспорте, который прибывает на завод за оружием. По его сведениям, Грековский уже захватил два грузовика с боеприпасами. Надо организовать партизанские засады на дорогах в окрестностях Всетина, тогда можно добыть много оружия. А еще лучше атаковать ночью заводской склад. Сейчас его охраняют солдаты венгерской армии. — Дельное предложение. Надо посоветоваться с Грековским, как это сделать. Мурзин начал обдумывать планы будущих диверсий на территории Чехии и Моравии. Карел Гопличек стоял рядом и думал: «Если бы я был не простым рабочим-слесарем, а директором Всетинского завода, с каким удовольствием передал бы я этим людям тысячи автоматов, чтобы скорее избавить родину от фашистов!» Меньше всего мог тогда предполагать коммунист Карел Гопличек, что пройдет всего несколько лет и народная власть, за которую он боролся, поставит его директором Всетинского завода. Только в новой Чехословацкой Социалистической Республике этот завод будет выпускать не оружие, а бесчелночные ткацкие станки для легкой промышленности братских стран социализма. Но прежде чем это случилось, пришлось пролить еще много крови...В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ
Над Прагой моросил мелкий, колючий дождь. В Градчанах, возле Чернинского дворца, построенного еще в семнадцатом веке, выстроилась вереница легковых автомобилей. Рядом со сверкающими черным лаком массивными «мерседесами» и «оппель-адмиралами» на небольшой площадке разместились машины классом пониже: «вандереры», «оппель-капитаны» и «татры». Они только что доставили своих хозяев к шикарной резиденции статс-секретаря протектората Чехии и Моравии Карла Германа Франка и теперь терпеливо ждали их возвращения. Редкие прохожие, попав на эту площадь, ускоряли шаг, стараясь побыстрее ее миновать. Здесь, как и много столетий назад, веяло смертью. В средние века на площади казнили инакомыслящих. Трупы зарывали тут же. Столетия спустя во время земляных работ здесь находили человеческие скелеты. Но все они были без черепов: отрубленные головы выставлялись на всеобщее обозрение, а потом их зарывали в другом месте. И хотя времена средневекового варварства давно миновали, с появлением в Праге группенфюрера СС Карла Германа Франка площадь эта вновь, и с еще большей силой, обрела свою страшную славу. Именно отсюда, из Чернинского дворца, отправлялись по чешской земле помощники смерти в черных мундирах СС. В наступающих сумерках часы на башне Лореты пробили семь звонких ударов. Над площадью разнесся приятный перезвон колокольчиков. А в это время под сводами Чернинского дворца, расписанного кистью знаменитого художника Райнера, начиналось экстренное совещание ответственных руководителей службы безопасности СС и полиции протектората Чехии и Моравии. На потолке просторного зала заседаний красовалась фреска, изображавшая «Гибель титанов», а под ней в удобных креслах разместились генералы и полковники гитлеровской службы безопасности: штурмбанфюреры, оберштурмбанфюреры, штандартенфюреры и другие оберфюреры СС и полиции. Еще до появления Франка его заместитель бригаденфюрер СС фон Бургсдорф предупредил присутствующих: — Партайгеноссен! Прежде чем выступит господин статс-секретарь, мне поручено передать вам, что все, о чем он будет говорить, касается секретных государственных дел чрезвычайной важности. Любое разглашение сведений о сегодняшнем заседании будет караться смертью или лишением свободы как измена родине. Убедительно прошу вас не считать это предупреждение пустой формальностью. От имени статс-секретаря предупреждаю, чтобы за стены этого зала не проникло ни единого слова. За это несут ответственность все без исключения. По окончании заседания каждый из присутствующих должен подтвердить принятое на себя обязательство подписью на протоколе. Напоминаю, что всякие письменные заметки воспрещены! Вслед за этим в сопровождении адъютанта появился сам Карл Герман Франк. Статс-секретарь протектората взошел на трибуну и обратился к собравшимся: — Господа! Партайгеноссен! Будущее империи зависит от нашей способности удержать завоеванные территории. И тут многое зависит от того, как мы поведем себя в это трудное для империи время. Победоносная армия фюрера из-за недостатка людских резервов вынуждена сокращать фронт. Но наше положение крепко, хотя в настоящих условиях и появились кое-какие трудности. Болгария, Румыния и Финляндия не являются более нашими союзниками. Англичане и американцы наращивают свои усилия как в Италии, так и во Франции. А русские армии близко. Несмотря на все это, великая германская империя Адольфа Гитлера твердо стоит на ногах. Доблестные солдаты фюрера силой оружия подавили словацкое восстание. Безвольное, изжившее себя правительство регента Хорти, которое в любую минуту могло нас предать, больше не существует. Вместо него Венгрией управляют наши друзья из партии «Скрещенные стрелы». В скором времени германская армия получит новое секретное оружие, и тогда на фронтах войны должен наступить коренной перелом. Враги германской империи захлебнутся в собственной крови. Они еще почувствуют силу наших ударов. По понятным причинам я не могу раскрыть вам всех планов германского командования, но хочу сказать, что английским десантам во Франции готовится второй Дюнкерк. Но я сослужил бы плохую службу фюреру и фатерланду, если бы призывал вас к самоуспокоенности и беспечности. Сегодня, как никогда, мы должны напрячь все свои силы. Обстановка очень сложная. Чехия и Моравия тоже должны внести свой вклад в общее дело победы Германии в этой войне. И мы выполним свой долг перед фюрером! В последние дни в Моравии да и в Чехии увеличился саботаж чехов на заводах и фабриках, в шахтах и рудниках. Участились террористические акции против солдат и офицеров германской армии. Террористы взрывают железнодорожные мосты, нападают из-за угла на преданных нам людей, пускают под откос воинские эшелоны. В последних донесениях секретной службы СД откровенно говорится, что, несмотря на чувствительные удары, нанесенные нами подпольным коммунистическим организациям, их влияние и активность возрастают с каждым днем. И в этом повинны мы, немцы. Потому что не все немцы, приехавшие в Чехию и Моравию, осознали, что здесь им предстоит сражаться, что здесь они тоже находятся на поле боя. Чехам прежде всего надо показать, кто здесь хозяин, чтобы они знали раз и навсегда, что решающее слово принадлежит здесь рейху, представленному именно вами, господа. Империя не позволит шутить с собой — она здесь хозяин. Среди вас не должно быть никого, кто симпатизировал бы чехам. Чех должен видеть, что немец господин — господин с головы до ног! Карл Герман Франк отпил из стакана немного воды, вытер платком лоб и продолжал: — Директива фюрера по-прежнему гласит: «Надо со всей определенностью и решительностью обеспечить полное понимание чешским населением своей подчиненности империи и необходимости покоряться ей. Немцы, со своей стороны, должны знать, что эта территория составляет часть империи и что они пользуются здесь всеми правами и играют руководящую роль». Я уже объявил жителям Чехии и Моравии, что не остановлюсь ни перед какими жертвами, чтобы до конца очистить эту землю от партизанских бандитов и тех, кто их здесь поддерживает. Но, видимо, мое предупреждение истолковано чехами как пустая угроза. Пусть же теперь они пеняют сами на себя. Я приказываю вам беспощадно сжигать дотла селения, в которых будут обнаружены партизаны. Все взрослое население этих сел должно подвергаться полному уничтожению. Только такими мерами устрашения мы сможем навести порядок в Чехи» и Моравии и таким образом выполним свой долг перед фюрером! Хайль Гитлер! — Франк резко выбросил вперед правую руку. — Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль! — рявкнули в ответ десятки глоток. Карл Герман Франк умолчал, конечно, о том, что, вытащив из сейфа старую стенограмму выступления бывшего имперского протектора Гейдриха, изучал ее сегодня весь день. Эту речь Гейдрих произнес на третий день своего пребывания в Праге, в этом же самом зале. И статс-секретарь протектората почти дословно использовал в сегодняшнем выступлении многие выдержки из этой стенограммы, оставшейся после убийства Гейдриха. И теперь, окрыленный своим величием, о котором он, бывший книготорговец из Карловых Вар, когда-то не мог и мечтать, Франк стоял на трибуне и благосклонно улыбался всей этой ревущей ораве своих сподручных. — Я хочу лишь добавить, — сказал он, когда зал утих, — что чехам пора перестать думать о том, что Чехия и Моравия их территория... В германской истории Чехия и Моравия были сердцем империи... И именно отсюда чаще всего вонзали нож в спину империи. Но на этот раз ничего подобного не должно повториться! И эти слова тоже принадлежали не Франку, а Рейнгарду Гейдриху, которого чешские патриоты заставили замолчать навсегда. Дальнейшее уже происходило в кабинете статс-секретаря. Здесь собрались лишь самые крупные деятели СС и СД протектората — приближенные Карла Германа Франка: начальник управления гестапо, руководитель службы безопасности, шеф тайной полевой жандармерии, несколько высших чинов СС и начальники гестапо городов Злина, Брно, Остравы и Всетина. Со стоянки автомашин перед Чернинским дворцом давно уже исчезли «вандереры», «оппель-капитаны» и «татры». Но до поздней ночи продолжали стоять величественные «мерседесы» и «оппель-адмиралы». Судя по всему, во дворце намечались конкретные мероприятия по массовому уничтожению всех непокорных в Чехии и Моравии. Шеф гестапо штандартенфюрер Гешке доложил Франку: — Временные успехи русских на Восточном фронте, видимо, неправильно истолкованы населением Чехии и Моравии. Местные жители считают, что мы уже не в состоянии навести должный порядок на территории протектората. Только этим следует объяснить небывалый рост подпольных групп сопротивления на этой земле. По докладам моих агентов такие нелегальные группы создаются почти во всех городах протектората Чехии и Моравии. В горных районах создаются партизанские банды, а жители сел и деревень поддерживают их не только морально. Они снабжают эти банды продовольствием и посылают своих селян для пополнения. Открытое сопротивление германским войскам принимает все более массовый характер. Должен заметить, что выявление этих бандитов и коммунистических агентов не легкое дело. Днем они покорно снимают шапки перед солдатами фюрера, а ночью стреляют им в спину... Карл Герман Франк сощурился и глянул на Гешке со злой иронией: — Дорогой Гешке, уж не собираетесь ли вы подать в отставку? Неужели вы совсем разучились работать? — Как вам будет угодно, господин статс-секретарь, — покорно сказал шеф гестапо. Вид у него был довольно унылый. — Господа! — обратился Карл Герман Франк ко всем присутствующим. — Штандартенфюрер Гешке нуждается, видимо, в добром совете. И я готов помочь ему выйти из затруднительного положения. Я глубоко убежден, что для борьбы, я бы даже сказал — для успешной борьбы с любыми антигерманскими группировками, в первую очередь необходимо возглавить эти самые группировки. — Он сделал паузу и оглядел всех присутствующих, проверяя, какое впечатление произвели на них его слова. Он рассчитывал на эффект. Слова его действительно произвели впечатление, и статс-секретарь остался доволен. Он продолжал: — Да, да! Именно возглавить, господа. И тогда наши враги придут к нам сами. — Благодарю вас, господин группенфюрер. Как всегда, все гениальное очень просто. Я приношу извинения за то, что сам не додумался до такой простой идеи. — Гешке поклонился в сторону Франка. — Но это действительно гениально! — воскликнул шеф гестапо города Брно штурмбанфюрер Козловский. — Если позволите, господин группенфюрер, у меня есть превосходная кандидатура для этой цели. Все головы повернулись в сторону невысокого лысоватого штурмбанфюрера в пенсне в золотой оправе. Для присутствующих не было секретом, что польский немец Козловский пользовался особым расположением Карла Германа Франка. — Кого вы имеете в виду? — спросил Франк, разглядывая поднявшегося с кресла штурмбанфюрера Козловского. — Вы должны его помнить, господин статс-секретарь. Это тот самый человек, который еще в тысяча девятьсот сорок первом году выдал нам нелегальную коммунистическую организацию в городе Брно. До недавнего времени он использовался в качестве камерного агента в Берлинской тюрьме. Такая работа ему пришлась не по вкусу, и он прислал мне письмо, в котором сообщил, что прекрасно знает местные условия и мог бы стать полезным на моравской земле. Я взвесил это предложение и запросил его из Берлина. Теперь он находится в моем распоряжении. Этот человек прекрасно знает условия коммунистического подполья, сейчас он нащупывает старые связи. Это блестящая кандидатура, чтобы возглавить патриотическое движение чехов. Эти бандиты устремятся к нему, как мотыльки на свет лампы... — Как его имя? — Я зову его Франта Великий, господин статс-секретарь. — Хорошо! Действуйте. Я думаю, у вас не будет возражений? — обратился Карл Герман Франк к штандартенфюреру Гешке. — Нет, нет. Это агент сто пять. Его очень высоко оценивали в Берлине. А теперь я хотел бы добавить, что мой доверенный человек уже вошел в партизанскую банду, которая действует возле Всетина. — Кто же руководит этими бандитами? — поинтересовался Франк. — Пока мне известно только, что партизаны действуют под именем Яна Жижки. Командует ими советский парашютист. Его фамилии мы пока не знаем. Но я имею словесный портрет. Он ходит в черной кожаной куртке. Имеет черные усы и бороду. Звание его пока неизвестно. Но по тому, как умело руководит он боевыми операциями, можно полагать, что звание у него немалое. — Генерал, что ли? — пошутил Франк. — Может быть, и генерал, — вполне серьезно ответил Гешке. — В недавних боях возле моравско-словацкой границы эти бандиты под его руководством убили более шестисот наших солдат и офицеров. Тогда нам удалось их отогнать. Но теперь у них, кажется, еще больше сил. А наши гарнизоны ослаблены... Я думаю, надо объявить местным жителям, что за голову этого командира мы заплатим большие деньги. — Но как же его назвать? — уже сердито повторил Франк. — Один из моих агентов называет его Черный генерал. — Ну, это уже становится смешным, — возразил Франк. — Генерал Гоффле, командующий оккупационными войсками в Словакии, говорил мне, что словацкими партизанами тоже командует какой-то Черный генерал. Не может же он один быть и в Словакии и в Моравии? — Я думаю, он мог перебраться из Словакии к нам в Моравию. — Но генерал Гоффле утверждает, что словацкие партизаны по-прежнему досаждают ему в Словакии. Они скрываются в горах и в удобные моменты совершают атаки на наши коммуникации. — Ну что ж, пусть имя «Черный генерал» будет условно. — Зачем условно? — перебил шефа гестапо руководитель службы безопасности, листая свою записную книжку. — Сегодня мои люди доложили мне, что партизанской бандой Яна Жижки командуют двое. И вот их имена... — Наконец он нашел нужный листок и, надев очки, сказал твердым голосом: — Один из них надпоручик чехословацкой армии Ян Ушияк, а второй — советский партизан офицер Мурзин. Он в звании капитана или майора. — И этим сведениям можно верить? — спросил Карл Герман Франк. — О да, экселенц. Мои люди не ошибаются. Эти данные мне сообщил начальник полиции безопасности в городе Злине оберштурмфюрер СС Гельмут Хайнеке. Тот самый, что исполнял раньше обязанности комиссара гестапо в Кобленце и Висбадене. Еще тогда я привык ему верить. — Вот и хорошо. Завтра же я передам в ваше распоряжение несколько батальонов СС из частей пражского гарнизона, подчиню вам гарнизон Всетина и Злина, а также группы тайной полевой полиции. На большее пока не рассчитывайте. Командующий группой армии «Центр» генерал-полковник Шернер не даст нам сейчас ни одного солдата. Весь свой резерв он перебрасывает из Моравии в Польшу. Поэтому уничтожать партизанских бандитов нам придется своими силами. — Будет исполнено, экселенц! — Руководитель службы безопасности поднялся с кресла, снял очки, склонился в услужливой позе. В полночь, когда за окном часы на башне Лореты пробили двенадцать ударов, Карл Герман Франк закончил совещание и распрощался со своими подручными. Потом он погасил лампу и, подойдя к окну, отбросил плотную штору. Перед ним во мраке лежал затемненный город. От подъезда дворца, поблескивая притушенными синими фарами, одна за другой отъезжали машины и стремительно исчезали в ночной мгле. Тревожный перезвон колокольчиков монастыря святой Лореты вновь прозвучал над опустевшей площадью.ОТРЯД «ОЛЬГА» И ДРУГИЕ...
На горе Чертов млин, где располагался штаб иосновная база партизанской бригады имени Яна Жижки, царило необычайное оживление. От бункера к бункеру сновали люди, выносили из подземных укрытий оружие, вещевые мешки с продуктами и толовыми шашками. Солнце еще не успело скрыться за вершинами поседевших от снега гор, когда перед штабной землянкой выстроилось несколько небольших партизанских групп. По решению командования бригады эти группы должны были отправиться в различные районы Чехии и Моравии, чтобы, по примеру Степанова[131] и Грековского, создать там крупные боеспособные партизанские отряды. Ян Ушияк обратился к уходящим с напутственной речью. В первой шеренге одной из групп стояла невысокая, хрупкая на вид, совсем еще юная девушка. Это была Ольга Франтишкова. Она вступила в отряд еще под городом Мартин, отличилась в боях с карателями, вместе с другими проделала нелегкий путь из Словакии к подножию Бескидских гор. Теперь ее назначили командиром будущего партизанского отряда «Ольга», которому предстояло действовать в районе города Кромериж. Задача у девушки была не из легких: ведь отряд еще предстояло создать. Надо было проверить каждого, кто придет в него, обучить людей пользоваться оружием, сделать из вчерашнего крестьянина, рабочего или горожанина настоящего партизана. Трудные испытания ждали впереди Ольгу. И Мурзин, рассеянно прислушиваясь к речи Ушияка, внимательно вглядывался в ее нежное по-девичьи, но строгое лицо и в десятый раз задавал себе один и тот же вопрос: «Выдержит ли?» И сам отвечал себе: «Выдержит! Девка с характером. И хлопцы ее слушаются!» Вместе с Ольгой уходили чехи Пепек и Вернер и бежавший из фашистского плена русский солдат Сергей Жуков. Все они — надежные, испытанные в боях люди. Командиром другой группы партизан, направлявшейся в район Визовице — Плоштина, был назначен летчик-истребитель Петр Будько — воспитанник Чугуевского авиационного училища, острослов и храбрец. За него Мурзин был абсолютно спокоен. Ян Ушияк закончил свою речь и обратился к Мурзину: — Юрий братор! Может быть, ты что-нибудь скажешь? — Нет, Ян. Ты сам уже все сказал. Если только у кого-нибудь будут вопросы. Но вопросов не было. Начали прощаться. Группы перемешались. Партизаны обнимались, пожимали друг другу руки, обменивались короткими напутственными словами. В это время из леса показался один из дозорных и, запыхавшись, подбежал к Ушияку. — Пан велитель![132] Мы там одного парня задержали. Петром назвался, вас спрашивает, — доложил он. — Веди сюда, — распорядился Ушияк и повернулся к Мурзину. — Сейчас, Юрий братор, я тебя с хорошим человеком познакомлю. Давно хотел это сделать, как раз теперь выпал случай. Партизанские группы одна за другой скрылись в поредевшем осеннем лесу. А через некоторое время дозорный привел на поляну к штабному бункеру высокого, большелобого, с гладко зачесанными назад волосами парнишку. На вид ему было не больше шестнадцати: ямочки на щеках и пушок на верхней губе, к которому еще не прикасалась бритва, выдавали его возраст. И улыбка у него была мальчишеская: доверчивая, открытая. — Знакомься, Юрий братор! Это и есть наш Петр, — представил Ушияк парнишку. — Честмир Подземный! — проговорил тот, протягивая Мурзину руку. — А «Петр» — это его партизанская кличка, — пояснил Ушияк и спросил о чем-то паренька по-чешски. Тот ответил. Ушияк перевел Мурзину: — Он принес нам деньги. И хочет сообщить кое-какие сведения. Обняв паренька за плечи, Ушияк повел его к входу в штабную землянку. В землянке Честмир Подземный подошел к большому деревянному столу и начал выворачивать свои потайные карманы. Неторопливо выкладывал он довольно объемистые пачки немецких оккупационных марок и чешских крон. — Откуда столько? — полюбопытствовал Мурзин. — Немного ребята собрали, остальные взяли в полиции. — Честмир перешел на чешский язык. — Его подпольная группа разоружила полицию в Валашских Мезеричах. Забрали три автомата, шесть карабинов и эти марки, — перевел Ушияк. — Рискованно действуют, — нахмурился Мурзин. — Не, пан велитель. Без стрельбы обошлось. Полицаи просили, чтобы их покрепче связали. Подземный снова улыбнулся своей открытой улыбкой. На щеках его еще отчетливее обозначились ямочки. Ушияк убрал пачки в небольшой металлический ящик, в котором хранились все деньги отряда. Мурзин попросил: — Переведи, Ян. Хочу с ним поговорить. Сколько ему лет? Петр отвечал охотно: — Скоро девятнадцать исполнится. — И давно он в подпольной группе работает? — С семнадцати. Раньше его брат в подпольной организации Компартии работал. А в сорок втором году его гитлеровцы расстреляли. Вот он и решил заменить брата. Связался с его друзьями. Они его в группу зачислили. А теперь он сам руководитель подпольной диверсионной группы. — Та-ак! А отец его знает об этом? Когда Ушияк перевел вопрос Мурзина, Подземный усмехнулся. Но вдруг лицо его стало грустным. — Его отец с тридцать девятого года в концлагере, — сказал Ушияк после паузы. — В Ораниенбурге, это возле Берлина. Неизвестно, жив ли он, давно писем не было. — А разве им разрешают переписываться? — Разрешают один раз в два месяца. Только писать надо на немецком языке. Петр этот язык знает, а отец нет. Ему письма сына товарищ читает, он же и пишет. — Та-ак! Сколько же в группе Подземного людей? — Теперь больше пятидесяти. На этих ребят можно положиться, — уже от себя добавил Ушияк. — У него, Юра, и фамилия правильная. Одно слово, Подземный. Это значит, он под землей пройдет, когда надо, а задание выполнит. Со Всетинского военного завода оружие и динамит доставал, с Пражским подпольным центром связь устанавливал. Здесь, в Валашском крае, он большим доверием пользуется у руководителей центра. Не смотри, что молодой. За брата и за отца один мстит бошам... Подземный поднялся с табуретки и стал застегивать пуговицы потрепанной куртки, собираясь в обратный путь. Ушияк стал его отговаривать: — Нарвешься в ночное время на патруль, потом не выкрутишься. Переночуешь в отряде, а уж ранним утром отправишься домой. — Верно, верно, — поддержал Ушияка Мурзин. — Пусть раздевается, сейчас чай вскипятим. Вместе поужинаем... Подземный остался.ЗАПАДНЯ
Рано утром, прихватив с собой для охраны двенадцать партизан, Ушияк и Мурзин спустились с горы Чертов млин и стали подниматься по лесной туристической тропе на гору Княгиня. Там, в обусловленном месте, они должны были встретиться с представителями Пражского подпольного центра. Эту встречу организовал инженер Дворжак, которого в самые последние дни Мурзин начал подозревать в предательстве. Над землей стелился редкий туман. Чуть повыше, над лесом, он становился гуще. Сырой воздух неприятно холодил лицо и руки. Вскоре сквозь поредевший лес партизаны разглядели крутой косогор. На поляне сходились три туристические тропы, но вокруг никого не было видно. — Ты ступай вперед, а мы пойдем за тобой на некотором расстоянии, — предложил Мурзин Дворжаку. — Вы, наверно, боитесь? Потому и хотите, чтобы я шел один. — Иди вперед, раз тебе приказывают, — уже внушительнее сказал Мурзин и, расстегнув кобуру, вытащил пистолет. В глубине души он чувствовал, что сейчас что-то произойдет. Нет, это было не предвидение — просто каким-то внутренним чутьем он ощущал приближение опасности. Дворжак пугливо глянул на Мурзина сквозь свои темные очки и покорно пошел вперед. Несколько поодаль за ним двинулись и остальные. Ушияк укоризненно покачал голевой, но ничего не сказал Мурзину. Дошли до середины поляны. Впереди сквозь плотный туман прорезалась темная полоска густого леса. Навстречу партизанам вышли из-за деревьев три человека. Дворжак остановился, подождал остальных и, кивая на самого высокого из незнакомцев, сказал: — Руководитель Пражского подпольного центра... Но закончить фразу он не успел. Мурзин, разглядывавший гусиное перо на зеленой шляпе этого человека, увидел вдруг за его спиной вооруженных гитлеровцев. Они выбегали из леса и охватывали полукольцом столпившихся партизан. — Засада! — крикнул Мурзин, хватаясь за автомат. Дворжак и «представители пражского подполья» метнулись в сторону, мигом скатились в небольшой овражек. И тут же перестук пулеметных очередей врезался в тишину. Пули пронзительно засвистели над головами. Мурзин кинулся на землю и дал по фашистам длинную очередь. Открыли огонь и другие партизаны. — Отходим назад! — крикнул Ушияк. Короткими перебежками, отстреливаясь на ходу, они устремились назад через поляну к лесу. Но и там уже были враги. Из-за деревьев вспыхивали желто-зеленые огоньки автоматных очередей. Партизаны, продолжая отстреливаться, ринулись в сторону, к обрыву. На дне явственно слышалось клокотливое урчание горного ручья. Вдруг Ушияк неуклюже взмахнул руками и повалился на землю. В одно мгновение Мурзин оказался возле него. — Ян, что с тобой? — Юра, беги в бункер, веди сюда ребят! Я продержусь... — Нет. Я тебя не оставлю! — Я ранен в обе ноги и, кажется, в бедро. Беги скорей за ребятами. Я тебе приказываю, — пересиливая боль, простонал Ушияк. Мурзин с помощью двух партизан подтащил Ушияка к обрыву и, собираясь уже прыгнуть вниз, почувствовал острую боль в правой ноге. Одного взгляда на сапог было достаточно, чтобы понять, в чем дело. В голенище, чуть повыше ступни, виднелось два пулевых отверстия. «Это мелочь», — мелькнуло в сознании. И, подтянув Ушияка, он скатился с ним вместе в обрыв. — Беги, Юрка, за ребятами. Я же приказываю, — уже со злостью сказал Ушияк. — Берегите велителя! — приказал Мурзин партизанам и, превозмогая дикую боль в ноге, прихрамывая побежал к ручью. Над обрывом продолжалась беспорядочная стрельба. Откуда-то издалека слышался лай собак. Стремясь запутать свой след, Мурзин зашел в воду и побрел вниз по течению. Быстрый поток обгонял его, нес впереди розовую струйку воды, перемешанной с кровью. А Мурзин все бежал по скользкому каменистому дну ручья, спотыкаясь, припадая на раненую ногу, скрипя зубами от нестерпимой боли. «Только бы хватило сил! Только бы не упасть!.. А может, вернуться и помочь Ушияку? Все-таки одним автоматом больше. Но гитлеровцев не меньше сотни. Что может сделать горсточка партизан? Нет. Возвращаться нельзя. Тогда погибнут все! Надо быстрее поднять отряд. Тогда еще можно рассчитывать на спасение Ушияка. — Мурзин вспомнил партизана Козака, которого Ушияк оставил за себя в лагере на время отсутствия. — Эх! Если бы Козак услышал стрельбу. Он бы догадался поднять партизан. А может, он их уже ведет на гору Княгиня, может, они где-то здесь, совсем близко?» Мурзин выбрался из ручья, пересек небольшую лощину и стал подниматься в гору. До партизанской базы оставалось совсем немного. Но что это? Там идет пальба. Неужели и туда подобрались фашисты? Настороженный до предела слух уловил звуки лесного боя. Да, сомнений не было. На партизанский лагерь тоже напали каратели! Мурзин, в конец обессиленный, опустился на землю возле высокой ели, оперся спиной о могучий ствол. Теперь выстрелы доносились совсем отчетливо. Боль становилась все сильней, отдавала в бедро, хватала за сердце. С трудом, не в силах сдержать стона, он стянул с ноги промокший, набухший кровью сапог. Испарина выступила на спине и на лбу. Но боль, казалось, поутихла. Мурзин разделся, снял нижнюю рубашку, разорвав ее на полосы, кое-как обмотал ногу. Затем вновь натянул гимнастерку, надел на себя кожаную куртку и, затянув ее потуже ремнем, двинулся к лагерю. Продырявленный пулями сапог он засунул за пояс. Теперь идти стало немного легче. Между тем выстрелы, доносившиеся со стороны лагеря, стали удаляться. Скрываясь за стволами деревьев, Мурзин все ближе и ближе подбирался к партизанским землянкам. Он уже миновал опустевший пост, где всего несколько часов назад его и Ушияка провожали дозорные. Чуть поодаль наткнулся на трупы двух партизан и трех гитлеровцев. До большого бункера оставалось не более пятисот метров, а перестрелка слышалась значительно дальше. С величайшей предосторожностью прокрался Мурзин еще метров двести и явственно услышал отрывистую немецкую речь. Обойдя стороной опасное место, он еще ближе подобрался к бункеру, сквозь оголенные деревья разглядел множество эсэсовцев. Никого из партизан возле бункера не было. Напрягая последние силы, Мурзин пополз назад, подальше от разгромленного партизанского лагеря. Мысль о раненом Ушияке не покидала его. Попадись ему сейчас на глаза надпоручик Дворжак, он, наверное, не раздумывая вцепился бы ему в глотку. «Вот тебе и народ, вот тебе и доверие, — вспомнил он недавний разговор с Ушияком. — Успел ли Козак вывести людей из землянок?.. Судя по выстрелам, там в горах еще идет бой... — Неожиданно обожгла мысль: — А почему же я здесь? Надо спешить к ним, чтобы принять на себя командование», Мурзин остановился, хотел было вновь повернуть в горы, но вспомнил, что перед уходом из лагеря Ушияк приказывал Козаку в случае нападения врагов уводить отряд под Злин, к Степанову, А туда около пятидесяти километров. С перебитой ногой за ними теперь не угнаться. Главное сейчас — где-то переждать, пока фашисты уйдут из партизанского леса. Он с трудом потащился к небольшой горной речушке, протекавшей поблизости, продрался сквозь густой кустарник на ее берегу и, выйдя к деревянному мостику, залез под него. Здесь он почувствовал себя в относительной безопасности. Необходимо было хоть немного передохнуть, собраться с силами. Но от большой потери крови он впал в беспамятство. В глазах стало темнеть, нескончаемой чередой поплыли то синие, то оранжевые круги. В голове стоял звон, слышались неестественно протяжные и какие-то звенящие выстрелы.* * *
Мурзин очнулся лишь вечером. Все тело сковал леденящий холод. Но раненая нога горела по-прежнему. Рядом бурлила горная речушка. В наступающих сумерках лес сливался в одну серую массу. Вокруг стояла гнетущая тишина. Потом откуда-то издалека донесся голос одинокой совы, и опять все стихло. Он попробовал приподняться. Боль резанула с удвоенной силой. «Та-ак! — мысленно произнес Мурзин. — Крепись, капитан! Не погибать же здесь. Надо встать, надо добраться до лагеря. Если гитлеровцы ушли, там может появиться кто-нибудь из наших». Он нащупал обломок доски, оставленный кем-то возле самого моста, оперся на него и поднялся на ноги. И речка и лес поплыли перед глазами. Тошнота подкатила к горлу. Захотелось пить. И хоть река была рядом, напиться стоило большого труда. Нагнувшись, он оперся руками о камни, склонился над самой водой и припал губами к ледяной влаге. Утолив жажду, Мурзин заставил себя идти. Он карабкался вверх по склону, от дерева к дереву, от куста к кусту, цеплялся за оголенные ветки и упорно шел в сторону партизанского лагеря. Голода он не чувствовал. Боль в ноге, сознание собственного бессилия отвлекали его от мысли о пище. Так он прошел около двух километров. Казалось, где-то здесь, совсем рядом, должен быть партизанский бункер. Но в кромешной тьме невозможно было что-либо разглядеть. Перед глазами беспрерывно плыли оранжевые круги. «Неужели это конец? Неужели никто не придет на помощь? Совсем один на чужой земле. Только бы живым не попасть к врагам». Хотелось лечь на сырую землю и хоть ненадолго забыться. Вдруг до его слуха донесся монотонный рокот моторов. Далеко в звездном небе где-то летел самолет. «Может быть, это наш, с Большой земли, летит на гору Княгиня?» Мурзин запрокинул голову, но ничего не увидел. Звезды путались в небе, цеплялись за ветви деревьев и вдруг разом закружились в гигантской карусели. Мурзин упал и снова потерял сознание. Утром на него наткнулся старый лесник Ян Ткач. Старик привел его в чувство. (Это был тот Ян Ткач, который еще на горе Княгиня предупредил партизан о подходе гитлеровцев.) Ян Ткач склонился над Мурзиным и размотал грязную рубаху на его ноге. Оба пулевых ранения прошли навылет, не зацепив кости. — То не так сильно, — сказал старик. Он объяснил Мурзину, что кругом рыщут фашисты и потому выходить из леса опасно. Посоветовал спрятаться здесь, подождать, пока он сходит в село и приведет своего товарища лесника Кржановского, у которого есть бинты и лекарства. Прежде чем уйти, Ян отыскал деревянную оленью кормушку, перенес в нее Мурзина, оставил ему кусок сала и краюху хлеба и только тогда покинул раненого. Не меньше четырех часов пролежал Мурзин в одиночестве. О чем он только не думал все это время! Порой ему мерещился лай овчарок, порой казалось, что где-то рядом его окликают партизаны. Но оголенный осенний лес молчал по-прежнему. Наконец неподалеку послышался тихий посвист. Мурзин настороженно прислушался. Посвист повторился. Сомнений больше не было: это возвращался Ян Ткач. Вскоре старик показался среди деревьев. Рядом с ним шагал человек в зеленой форме лесника. — Кржановский, — представился он, подходя вплотную. Кржановский вынул из сумки термос с теплой водой, достал белые тряпки и стал промывать раны. От боли Мурзин стиснул зубы. Капельки холодного пота выступили на его лбу, когда Кржановский плеснул на рану фиолетовую жидкость. «Наверно, марганцовка», — подумал Мурзин и почувствовал, что снова теряет сознание. Когда он очнулся, Ян Ткач, склонившись над ним, участливо гладил его по голове. — Спознал меня, Юрий братор? — спросил он и ласково улыбнулся. — А где Кржановский? — спросил Мурзин, увидев, что старик один. — Той сейчас приде. И действительно, вскоре появился Кржановский, о чем-то поговорил со стариком, который все время согласно кивал головой. Потом Ян Ткач объяснил Мурзину на смешанном русско-чешском языке, что они собираются перенести его в более безопасное место. Кржановский развернул свой свернутый в скатку брезентовый плащ, привязал его концы к толстой палке и с помощью старого лесника уложил Мурзина в эту самодельную люльку. Разом взвалив концы палки на плечи, Кржановский и Ткач потащили раненого еще выше в горы. Невысокий, худенький Ткач шел впереди, сгибаясь под тяжестью ноши. Мурзин видел, каких это стоит ему трудов. — Остановитесь, передохните немного, — просил раненый. Но Ян Ткач только отмахивался. Он ускорял шаг, стараясь показать, что совсем не устал. Вскоре они добрались до огромного дуба. Лесники положили Мурзина на землю, а сами подошли к могучему стволу. Почти до самого вечера ковыряли они ножами и палками землю под вековым красавцем дубом, пока между его корнями не образовалось маленькое убежище, способное вместить одного человека. Лесники натаскали сухой травы, перенесли туда Мурзина и замаскировали яму ветвями и прелыми листьями. Прощаясь, они пообещали вернуться утром, принести еду и овчины. Оставшись один, Мурзин начал обдумывать случившееся. «Основная база разгромлена. Ушияк неизвестно где. Может, его уже нет в живых. В каком положении остальные отряды партизан, уцелели или тоже подверглись нападению карателей? Успели ли радисты спасти рацию?» Жгучая обида раздирала душу. Ведь, казалось бы, все было предусмотрено. За последнее время размах партизанской борьбы в Моравии ширился с каждым днем. Подготовка к вооруженному восстанию в Брно и других городах протектората шла полным ходом. Ждали только начала наступления Советской Армии, к которому решили приурочить начало восстания. И вдруг такая нелепость накануне решающих боев. Мурзину казалось, что и другие отряды партизанской бригады разгромлены. Ему мерещилось, что гестапо вскрыло и подпольные центры городских коммунистических организаций. Иначе почему же никто из связных не сообщил своевременно о подходе карателей к партизанскому лесу? «Теперь все пропало, — думал Мурзин, — не оправдал доверия командования Украинского штаба партизанского движения. Зачем тогда жить?» Он достал пистолет, положил его рядом. Вспомнил мать, отца, башкирское село, где родился и рос, босоногих мальчишек — закадычных друзей детства, с кем не раз ездил в ночное пасти табуны лошадей. В памяти возникли дни войны. Вместе с московской разведчицей Ольгой забросили в Донбасс под Макеевку. Приказали связаться с подпольной организацией города Шахты. Там в ту пору готовилось восстание в тылу гитлеровских войск. Мурзину надлежало командовать Рудченковской подпольной организацией. Задание это он выполнил. Отыскал в Шахтах товарища Шведова — руководителя Шахтинского подполья. Стал вести боевую работу в поселке Рудченково. Устраивали побеги военнопленных, взорвали два склада с боеприпасами, а однажды ночью вырезали шесть метров подземного телефонного кабеля, который связывал ставку Гитлера с командованием группы армий «Юг». Переполох был страшный. Фашисты расстреляли двадцать заложников, но так и не напали на след подпольщиков. С ликованием встретила донбасская земля своих освободителей. Но война продолжалась. И Мурзин получил новое боевое задание. Во главе группы из восьми человек его забросили во вражеский тыл под Одессу. В тяжелейших условиях оккупации создал он мощный партизанский отряд. Громил в Молдавии мелкие вражеские гарнизоны, вершил суд над предателями Родины, взрывал мосты и военные склады, устанавливал Советскую власть в населенных пунктах. Словом, делал все, что было и его силах, чтобы приблизить час нашей победы. А теперь вот в Чехословакии... В памяти возникали то суровые, то радостные лица боевых друзей, костры на лесных привалах, лихие засады, после которых враги недосчитывались десятков, а то и сотен своих солдат, офицеров. Нет, не зря бродил он по тылам гитлеровской армии, не зря проливал свою кровь, терпел лишения. В победах советских войск есть небольшая крупица и его заслуг. А когда-нибудь настанет долгожданный день окончательной победы. Он придет обязательно! Мурзин представил, каким праздничным будет этот день великой победы, и с грустью подумал о себе. «Так нет же, — твердо решил он, поглаживая холодную сталь пистолета, — застрелиться никогда не поздно. Если уж суждено погибнуть, так прихвачу с собой еще нескольких гадов. В автомате есть половина диска. Шестнадцать патронов в двух пистолетных обоймах. С таким арсеналом еще можно воевать. Только бы не потерять сознание, только бы меня не застигли врасплох». С этими мыслями он заснул. Спал долго. Проснулся от удушья. В тесной яме почти не было воздуха. Мурзин приоткрыл глаза и не увидел ни единого проблеска света. Думая, что еще ночь, он поднял вытянутую руку, попытался раздвинуть наваленные сверху ветви и листья. Пальцы вонзились в холодный и липкий снег. Слой снега оказался довольно толстым. Несколько минут орудовал он дулом автомата, пока проделал небольшое отверстие над головой. В него хлынул яркий дневной свет. Дышать стало легче. В лесу было тихо. Весь день пролежал Мурзин, поджидая лесников. Время от времени он брал пригоршню снега и съедал его, чтобы утолить жажду. Но ни Ян Ткач, ни Кржановский не появлялись. Не пришли они и на второй и на третий день. Откуда мог знать Мурзин, что все окрестные леса кишели карателями. Немецкие части, отведенные с фронта для отдыха, по приказу Карла Германа Франка прочесывали весь партизанский район. И Ян Ткач боялся оставить след на снегу, по которому враги смогли бы обнаружить убежище партизанского командира. С каждым днем Мурзину становилось хуже. Простреленная нога распухла и посинела. Раны все больше и больше гноились. На память часто приходило страшное слово «гангрена», слышанное от врачей еще в московском госпитале. Тогда большинство смертельных исходов медики объясняли этим словом. И Мурзин понял, что сейчас он сам хозяин своей судьбы. Рассчитывать на чью-либо помощь было бессмысленно и, доедая последний кусочек черствого хлеба — остаток запасов, оставленных лесниками, он решился на отчаянный шаг. Разбив стекло ручного компаса, выбрал самый острый осколок. Этим нехитрым инструментом вскрыл себе рану и стал осторожно выскребать гной. От боли тело покрылось испариной, по лицу заструился пот, Но сознание работало четко. Он очистил раны, насухо вытер их носовым платком и вновь обернул тряпками. К вечеру стало легче, боль поутихла, и он повторил операцию. Голодный и обессиленный, дважды проделал он то же самое и на следующий день. Это был пятый день его одиночества. В голове все настойчивее возникала мысль о самоубийстве. И вдруг его слух, привыкший к шорохам леса, уловил чьи-то, шаги. Мурзин схватил автомат, приготовил его к стрельбе. Но тут же узнал знакомый голос лесника. Это был Ян Ткач. Он принес две овчины, сало, хлеб, колбасу, горячий чай в термосе. Лесник долго рассказывал Мурзину, как свирепствуют фашисты в округе. Перечислял повешенных, сожженные села. Сокрушенно покачивая головой, говорил о расстрелах подпольщиков и заложников. Объяснял, почему так долго не приходил. С величайшей осторожностью подсунул он под Мурзина одну из овчин. А когда тот удобно расположился на ней, прикрыл его второй овчиной. Покормив раненого, лесник заботливо разложил возле него принесенные свертки с продуктами, стал вновь маскировать яму ветвями и листьями... Двадцать один день пролежал Мурзин в яме под могучим столетним дубом. Трижды за это время наведывался к нему Ян Ткач, приносил еду и тряпки для перевязок. Раны уже закрылись, начали заживать. Помогло и сырое сало, которое по древнему башкирскому обычаю Мурзин прикладывал к ранам. В конце ноября неожиданно наступила оттепель. Сначала со снегового покрова над убежищем Мурзина начали падать крупные холодные капли. Потом по стенкам покатились целые струйки талой воды. Промокшая овчина стала не в радость. Яму почти наполовину затопило водой. Мурзин уже собирался самостоятельно покинуть свое убежище, когда вновь появился Ян Ткач. — Пан капитан! Я спознал, что боши вже вшли. Понесу тебе к мени, — радостно сообщил лесник. — Я теби бункер в сарае сробил. Опираясь на палку и плечи лесника, все еще боясь ступить на раненую ногу, Мурзин лишь к вечеру дотащился до села, где проживал Ян Ткач. В темноте его провели в дом. Жена лесника Аничка Ткачева захлопотала возле ведер с горячей водой, приготовила большое деревянное корыто. Приветливые хозяева раздели Мурзина, посадили в корыто и принялись отмывать. Такого наслаждения он уже давно не испытывал. Купание продолжалось почти до утра. Чистое белье лесника оказалось чуточку маловато, но это не имело никакого значения. После сытного ужина Ян Ткач проводил Мурзина в сарай и провел в бункер, вырытый под коровником. Там было темно, по тепло и сухо. Боль в ноге почти утихла. Мурзин растянулся на душистом сене и впервые за последние дни спокойно заснул, На другой день услышал над головой торопливые шаги. Было обеденное время, и Мурзин решил, что это лесник принес ему поесть. Но Ян Ткач, спустившись в бункер, взволнованно проговорил: — Пан капитан! Пришли двое хлопов. — Кто? — насторожился Мурзин. — Один великий, русс. Мает автомат. Другой чешский достойник[133]. Мает пушку, то е пистолет. — Что они хотят? — Про теби пытают. Мурзин задумался: «Кто бы это мог быть?..» И вдруг решился: — Вот что, Ян. Ты иди в дом. Угости их малость. Ничего про меня не говори. Скоро темнеть начнет. Я тогда выйду и постучу в окно. Ты скажешь, что пришел лесник, откроешь мне дверь. А сам сразу в сторону отходи. Если это гитлеровские собаки, я стрелять буду. А если не выстрелю, значит, наши. — Ано, ано! Ян Ткач выбрался из сарая, а Мурзин стал дожидаться наступления темноты. Он знал, что фашисты несколько дней назад покинули село, и потому не очень волновался за исход этой встречи с двумя незнакомыми людьми. Не впервой ему было вступать в единоборство с превосходившим по численности врагом. К тому же на его стороне была внезапность, а это, как правило, уже наполовину обеспечивало победу в короткой схватке. Но где-то в глубине души Мурзин надеялся, что это могут быть его партизаны. Иначе бы он не рискнул покинуть надежное убежище под коровником. Когда сгустились сырые осенние сумерки, он выбрался из сарая во двор. Мглистые, темные облака распростерлись над горами. Под ногами чавкал талый снег. Мурзин проковылял к закрытому ставнями окну, сквозь щель в них пробивалась только тоненькая полоска света. Мурзин постучал два раза. За окном послышался скрип половицы, затем дверь распахнулась и на улицу вышел Ян Ткач. Мурзин положил руки на автомат и, отстранив лесника в сторону, миновал сени, шагнул в комнату. Увидев вооруженного человека, двое мужчин вскочили из-за стола... В тот же момент один из них радостно вскрикнул: — Гляди-ка! Да это же наш капитан! Теперь уже и Мурзин узнал здоровенного крепыша — ростовчанина Костю Арзамасцева, которого сам отправлял в отряд Степанова. — Товарищ капитан! Живы! А мы вас уже который день по лесам шукаем. Арзамасцев бросился в объятия Мурзина. — Вот здорово! А капитан Степанов четырнадцать групп за вами на поиски отправил. Мы с содругом вторую неделю бродим вокруг да около. Собирались было ни с чем назад возвращаться. В комнату вернулся Ян Ткач. Радостная улыбка сияла на его лице. Он тут же полез за старинный комод и достал заветную бутылку сливовицы. — Спевай, пан капитан, що вояков спознал, — сказал он, ставя ее на стол. Мурзин присел на скамейку, поудобнее вытянул больную ногу. — Та-ак! Рассказывай, Арзамасцев, что у вас там творится? Где отряд? Где Степанов? — Капитан Степанов в селе Гощалково. Поприжали нас было боши, но мы вовремя из кольца вырвались. В другой район перешли. Кое-кто из ваших людей к нам пробрался. От них-то мы и узнали, что с вами беда стряслась, — Об Ушияке ничего не слышал? — Говорят, его убили. Мы уж думали, что и вас нет в живых. Те, кто до нас добрался, рассказывали, что много ваших тогда полегло. Радисты все погибли. А про вас и про Ушияка никто ничего не знал. Потом уж связные из Всетина говорили, что Ушияка в какой-то деревне фашисты застрелили. Вроде бы и вас там же убили. Степанов нас и послал выяснить обстановку да попробовать след ваш найти. По радио он уже сообщил на Большую землю, что вы с Ушияком пропали. Теперь он сам принял командование бригадой. — Откуда же вы радиостанцию раздобыли? Ты же сказал, что все радисты погибли. Наверно, и ваша рация врагам досталась? — А у нас своей станции нету, товарищ капитан. Мы в своем районе группу наших десантников встретили. У них своя рация есть. По ней теперь и держим связь с Киевом. Эти радостные известия были сейчас нужнее любых лекарств. Мурзин забыл про ноющую боль в ноге, забыл о перенесенных невзгодах. Хотелось вот сейчас, не медля ни минуты, распрощаться с гостеприимными хозяевами и двинуться в путь, чтобы побыстрее встретить Степанова, связаться со штабом партизанского движения Украины, доложить генералу Строкачу о том, что партизанская война в Моравии продолжается. Но и Арзамасцев и второй партизан уговаривали его дождаться утра. Да и растроганный Ян Ткач настойчиво просил отведать душистой сливовицы, чтобы как-то отметить встречу. Чтобы не обидеть старого лесника, Мурзин согласился. А через пять дней он уже был в отряде Степанова.В ОТРЯДЕ СТЕПАНОВА
...К середине января зима окончательно вступила в свои права. Ослепительно белый, искрящийся снег покрывал теперь не только вершины Бескидских гор, плотным слоем улегся он на пологих скатах, в ущельях и просторных долинах. В бодрящем морозном воздухе все чаще слышался звенящий перестук автоматных очередей, гулким эхом перекатывались в горах громовые раскаты далеких взрывов. В партизанской бригаде имени Яна Жижки с радостью восприняли весть о новом наступлении Советской Армии. Войска Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов прорвали оборону противника и устремились в Силезию. Геббельсовская пропаганда, трубившая о крупных успехах германской армии в Арденнах, заговорила о вынужденном сокращении линии фронта на востоке. Остатки разгромленных гитлеровских частей отступали под ударами советских танков. Некоторые из них отводились на отдых и пополнение в Чехию и Моравию. Но и здесь солдат фюрера настигали пули чехословацких патриотов. Воодушевленные успешными действиями советских войск, партизаны Моравии усиливали удары по вражеским коммуникациям. Мурзин уже окончательно оправился после ранения. Опираясь на сосновую палку, он все чаще покидал гостеприимный домик матки Чешковой, ходил на встречи с представителями подпольных организаций, принимал связных с донесениями от командиров партизанских отрядов и батальонов. Из Украинского штаба партизанского движения регулярно поступали радиограммы. Генерал Строкач придавал огромное значение разведке, да и сам Мурзин прекрасно понимал, какие ценные сведения он может сообщать советскому командованию, находясь в глубочайшем тылу германской армии. Поэтому с особым вниманием он выслушивал сообщения разведчиков о перевозках гитлеровских войск, о местах дислокации воинских гарнизонов и баз снабжения. Эти данные немедленно передавались в Киев, генералу Строкачу. Но чем бы ни занимался Мурзин, из головы не выходил Ян Ушияк. «Где он? Что с ним случилось? Неужели попал в руки гестапо?» Эти мысли не давали покоя. Мурзин уже направил несколько партизан в район горы Княгиня с поручением выяснить судьбу командира бригады. Со дня на день он ожидал их возвращения, а потому так взволновался, когда ему доложили, что трое неизвестных пришли в село Гощалково и хотят разговаривать только с ним. — Веди их сюда! — приказал Мурзин связному. Вскоре в землянку вошли трое — двое мужчин и женщина. Рваная одежда, измученные, исхудалые лица, ввалившиеся глаза... Мурзин не сразу узнал тех, кого всего полтора месяца назад отправляли они вместе с Ушияком в глубь Моравии для организации нового партизанского отряда. Только когда тусклый свет керосиновой лампы упал на бледное лицо женщины, Мурзин разглядел большие карие глаза, длинные ресницы и узнал Ольгу Франтишкову, которую уже считал погибшей. Вместе с ней пришли чех Пепек и Сергей Жуков. Опершись о палку, Мурзин торопливо поднялся со стула, обнял девушку: — Молодец, Ольга! Молодец, что живая! А я уж думал, что никогда тебя не увижу... Где же вы, черти, так долго пропадали? — Мы вас уже две недели разыскиваем, — ответила за всех Ольга. Голос у нее был хриплый, видимо основательно простыла во время многодневных скитаний по зимнему лесу. — Пришли на гору Чертов млин, а там только ветер в бункерах. С большим трудом ваш след отыскали. — Та-ак! Хорошо хоть нашли. Чего же мы стоим? Садитесь на топчан. Степанов! Принимай гостей, — усаживал партизан Мурзин. — А теперь рассказывайте. — Пусть Серко Жуков докладывает. Ему легче по-русски, — смущенно сказала Ольга. — Серко? По-своему, значит, переименовали? Ну пусть будет так, — засмеялся Мурзин. — Давай, Серко, докладывай! — Тогда я по порядку, — сказал тот, глянув на Ольгу. Девушка согласно кивнула. — Так вот. Почти неделю добирались мы до границы Вышковского района. Под горой Боржи наткнулись на деревню Немоховицы. Здесь и нашли пристанище. Потом жители Немоховиц с гордостью говорили своим соседям, что в их деревне есть партизаны. — Не очень хорошее начало, если вас так рекламировали, — вмешался Степанов. — Нет, нет, о том они шепотом говорили. То не для бошей, а для своих, — вставила Ольга. — Так вот, — продолжал Жуков. — Именно в Немоховицах, в домике Поспешилов, и родился наш партизанский отряд «Ольга». В этот домик сносили мы добытое оружие и прятали его в стене, здесь отдыхали после операции. В погребе Поспешилов устроили госпиталь для раненых. — Значит, вы и повоевать успели? — не вытерпел вновь Степанов. — Подожди, Иван! — вмешался Мурзин. — Пусть рассказывает все по порядку. — Пришлось и повоевать, — ответил Жуков. — Первым к нам в отряд пришел чех Каменный. Он скрывался от мобилизации в Германию. Потом хозяин нашего домика Поспешил, и Милан Диас из ближайшей деревни Бранковице, и еще кое-кто из местных — словом, больше десяти человек стало в отряде. Однажды вечером собрали мы всех партизан у Поспешилов. Я развернул советский флаг, который сделал из красного ситца. И перед этим флагом все принесли присягу: поклялись, что будут верно служить своей родине и беспощадно уничтожать фашистских захватчиков, что будут карать смертью предателей и никогда не сдадутся живыми фашистам. На другой день мы выехали в лесничество и отобрали там у лесников ружья, которыми вооружили отряд. Постепенно к нам приходили новые люди. Среди них Тимофей Гончаров, родом откуда-то из-под Омска. Из плена бежал. Сейчас у нас в отряде двадцать один человек. В Нижковицах разоружили полицию и достали для всех оружие. Имели бой с полицейскими в лесничестве «Золотой олень». Убили четырех жандармов и потеряли одного партизана. — Его раненого захватили. Ему был только двадцать один год. Он был студент экономической школы в Пржерове, — тихо сказала Ольга. — Да, его, раненного, стали пытать, — продолжал Жуков, — топтали ему пальцы кованым сапогом, а наш Иржи Ировский молчал. Только когда стало невыносимо больно, он крикнул палачу: «Перестань, собака! Не видишь, я умираю». И умер, так и не выдав наше пристанище. За этим фашистом наши партизаны теперь охотятся. Хотим отомстить за Иржи Ировского. — Ему только двадцать один год был, — добавила Ольга. Видно было, что она с трудом сдерживает слезы. — А тебе-то сколько? — спросил Мурзин. — Мне уже двадцать два. — Три партизана были легко ранены в этом бою, — продолжал Жуков. — А однажды наш связной из Морковиц Иржи Глоза сообщил, что на запасных путях между Морковицами и Незамыслицами гитлеровцы держат несколько вагонов с боеприпасами. Мы посовещались и решили совершить диверсию. Поздно вечером шесть наших партизан арестовали служащих вокзала в Морковинах, в том числе и начальника станции. Тот сообщил, что на путях стоят тридцать четыре цистерны с горючим. Охрана — всего несколько венгерских солдат. А вагоны с оружием уже отправлены. Тогда мы решили выпустить бензин из цистерн. Сняли охрану. Гаечными ключами открыли краны цистерн, и очень весело было смотреть, как вытекало на землю горючее. Бензин прямо рекой лился по железнодорожным путям. На двадцать восемь миллионов крон бензина вылили. — Откуда такие точные сведения? — спросил Степанов. — То правда же! — воскликнула Ольга. — То нам потом железнодорожные служащие рассказывали. — Та-ак! Начало хорошее, — одобрил Мурзин. — Командовать тебе, Ольга, большим партизанским отрядом... — Не-е. Я хочу то попросить. Назначьте командиром кого-нибудь из мужчин, а я ему помогать буду. — Почему? — удивился Мурзин. — В новой свободной Чехословакии мужчины и женщины будут равны, я так думаю... — То будет потом, — перебила его Ольга. — А теперь еще рано. Некоторые крестьяне сомневаются. Вот если бы мужчина отрядом командовал, к нам бы больше людей пришло. То правда же. — Да, это так, товарищ капитан, — поддержал Ольгу Жуков. — Я сам слышал, как местные жители про то говорили. Народ здесь еще со старыми пережитками. — Так! А ты, комиссар, как думаешь? — спросил Мурзин у Степанова. — Думаю, что им виднее. Раз сами просят, надо удовлетворить. — Хорошо! Согласен. Кого рекомендуешь командиром назначить? — Мурзин пристально посмотрел на Ольгу. — Пусть Серко Жуков командует. Он смелый... — Зачем же я? — перебил Ольгу Жуков. — Вот Пепек. Он коммунист, чех. Ему легче с местными жителями разговаривать. Да и смелости ему не занимать. — А ты, Ольга, как думаешь? — Можно и Пепека. Тоже хороший воин. — А как думает сам Пепек? — обратился Мурзин к сидевшему молча невысокому, коренастому партизану. — Я коммунист, — ответил тот. — Как прикажете, так и будет. Мурзин и Степанов не стали возражать. Пепек был утвержден на должность командира отряда «Ольга». А Ольгу Франтишкову назначили его заместителем. Обсудив положение отряда «Ольга» и учитывая его малочисленность, Мурзин и Степанов посоветовали Пепеку не задерживаться с отрядом на одном месте, чаще менять базы отдыха и стоянки, но постоянно действовать в районе Кромериж, Вышков, вдоль горной цепи Хржиб. Договорившись о местах встречи связных отряда с представителями штаба партизанской бригады, Пепек, Жуков и Ольга распрощались с Мурзиным и Степановым и отправились в обратный путь к своему отряду. И хотя все напутственные слова были сказаны, Мурзин вместе с ними вышел из бункера и, спускаясь по горной тропе к селу Гощалково, вновь и вновь наказывал Пепеку быть бдительным и тщательно проверять новых людей, которые будут приходить в отряд «Ольга». Проводив партизан до домика матки Чешковой, Мурзин обнял каждого из них на прощанье. Когда же они скрылись за поворотом улицы, он поднялся на крыльцо дома и столкнулся в дверях с Костей Арзамасцевым, которого посылал на поиски Ушияка. — Ты уже здесь? — удивился Мурзин. — Так точно. Задание выполнил, товарищ капитан. — Заходи, докладывай. Мурзин нетерпеливо увлек Арзамасцева в небольшую комнату и усадил на скамью. Сам, опираясь на палку, уселся рядом. — Ну, говори. Что узнал? Где Ушияк? — Хорошего мало, товарищ капитан. Нет больше Яна Ушияка. Арзамасцев подробно рассказал Мурзину о том, как, не желая сдаваться, Ушияк пустил себе в висок последнюю пулю. Мурзин слушал не перебивая, печально опустив голову. «Эх, братор Ян, сгубила тебя твоя доверчивость! Слишком уж ты был чист душой, чтобы поверить в чужую подлость». Чувство вины одолевало Мурзина: надо было настоять на своем, надо было любыми способами убедить Яна, что Дворжак враг! И как это Ушияк мог во второй раз поверить этому негодяю? — Та-ак! — протянул Мурзин, когда Арзамасцев замолк. Но это мурзинское «та-ак» прозвучало не как обычно — раздумчиво, а решительно, угрожающе. — Дворжака надо поймать во что бы то ни стало и повесить. Надо предупредить все отряды, дать им точное описание этого провокатора... — Я еще одну печальную весть принес, — проговорил Арзамасцев. Мурзин настороженно повернул голову в его сторону. — Боши лесника Яна Ткача увезли в гестапо. За то, что он вас укрывал. — Откуда они про это узнали? — А тот парень, что со мной за вами ходил, уже больше двух недель в Злине в гестапо сидит. Ранили его в перестрелке, вот и попался к ним в руки. Видно, пыток не выдержал, продал Яна Ткача. А может, и кто другой выдал, сейчаструдно гадать... — А что с женой его Аничкой Ткачевой? — тихо спросил Мурзин. — Дома она. Ее пока не тронули. Может, еще и сам Ткач вернется, может, выкрутится, — с надеждой в голосе проговорил Арзамасцев. Откуда было знать Косте, что еще вчера, не выдержав зверских пыток, Ян Ткач повесился в тюремной камере.РАЗГРОМ ЖАНДАРМЕРИИ
Однажды Мурзин и Степанов в сопровождении небольшой группы партизан отправились в отряд Петра Москаленко. Мурзин уже твердо стоял на ногах и ходил без палки. После ранения это был его первый выход из села Гощалково. Ему хотелось лично побывать в каждом отряде и батальоне, познакомиться с обстановкой на месте, поговорить с людьми. До отряда Москаленко было еще далеко, когда наступили сумерки, и Степанов предложил переночевать в доме лесника. Чувствуя усталость после непривычного перехода по заснеженным горным тропам, Мурзин согласился. Вся группа, около тридцати человек, явилась к леснику Свачину, который уже давно сотрудничал с партизанами. После нехитрого ужина, состоявшего из брынзы и хлеба, улеглись спать прямо на полу, вповалку, поближе к жарко натопленной печке. Ночь прошла спокойно. Наутро, когда партизаны, поблагодарив хозяина, собирались двинуться дальше в путь, к леснику пришел учитель и сообщил, что на окраине города Фриштак живет в своем имении помещик Попежик, который дружит с гестаповцами и всячески издевается над крестьянами окрестных сел за то, что те не желают на него работать. Среди сопровождавших Мурзина партизан был матрос Михаил Журавлев. Он бежал из фашистского плена и, прежде чем попасть в партизанскую бригаду имени Яна Жижки, скрывался в этом районе. Услышав рассказ учителя о помещике Попежике, Журавлев сказал, что он тоже знает о его жестокости. Партизаны решили примерно наказать Попежика. До города Фриштак было около двенадцати километров, и Мурзин решил переждать день в домике лесника Свачина. Вместе со Степановым он разработал подробный план визита в помещичье имение, а с наступлением темноты повел партизан. План был таков. Попежику отводилась роль «приманки», чтобы захватить в его доме несколько жандармов. К имению добрались лишь в полночь. Помещик уже спал. Когда его разбудили, он долго протирал глаза, стараясь понять, кто стоит перед ним. Наконец он пришел в себя, быстро вскочил с постели и трясущимися руками стал натягивать на себя одежду. — Это ты хозяин имения? — спросил Мурзин. Попежик молча кивнул головой. От страха он никак не мог попасть в рукав куртки. — Почему ты издеваешься над своими рабочими? Почему притесняешь крестьян? — То не есть правда. Я есть честный человек... Я хочу помогать партизан... — Хорошо! Посмотрим, как у тебя это получится. — Мурзин убрал в кобуру пистолет, уселся в кресло. Степанов и около десятка партизан встали рядом. — Так вот, господин Попежик. Сейчас ты пойдешь к телефону и позвонишь в полицию города Фриштак. Скажешь, что к тебе в имение зашли два раненых партизана и нужно срочно приехать, чтобы захватить их врасплох. Понял? Попежик растерянно озирался по сторонам. — Ну, ну, решайся. Где у тебя телефон? — Телефон там... Во дворе... В другом помещении... — Значит, пойдешь туда и позвонишь. Журавлев, Арзамасцев, проводите! И смотрите: если что не так, кончайте его на месте. Понял, Попежик? Когда Журавлев и Арзамасцев увели Попежика из спальни, Мурзин обратился к Степанову: — А сейчас давай-ка расставляй народ. Надо же с почестями встретить господ жандармов. Через несколько минут в спальне остался Мурзин с двумя партизанами. Вскоре вернулся Попежик в сопровождении Арзамасцева и Журавлева. — Пан велитель! — обратился он к Мурзину еще с порога. — Сейчас приедут. Будут здесь через полчаса. Вы спрячьтесь в соседних комнатах, а я пойду их встречать к воротам... — Нет, Попежик. Не будет по-твоему. Раз нам оказана такая честь, мы сами встретим жандармов. Вы, — обратился Мурзин к Журавлеву и Арзамасцеву, — оставайтесь с ним здесь, а мы пойдем встречать гостей. Четверых партизан Степанов поставил возле ворот. Несколько человек осталось в темном коридоре. А сам Степанов вместе с Мурзиным и остальными разместились возле окна, чтобы схватить жандармов живыми, когда они войдут в кабинет. Вскоре на дороге к имению засветились фары легкового автомобиля. Выхватывая из темноты кружащиеся снежинки, лучи света приближались к воротам усадьбы. Наконец машина остановилась возле самых ворот, фары потухли, и вместе с темнотой на землю опустилась напряженная тишина. Четыре темных фигуры направились через двор к флигелю. Неожиданно у входа в дом раздался чей-то возглас на немецком языке и началась свалка. Мурзин, Степанов, а за ними и остальные партизаны бросились опрометью из кабинета на улицу. Степанов с ходу кинулся на здоровенного фашиста, пытавшегося вытащить из кобуры пистолет. Через мгновение тот лежал на снегу, а Степанов, усевшись на нем верхом, закручивал ему руки за спину. С остальными тремя тоже справились без единого выстрела. Оторопевших жандармов привели в кабинет помещика. Из соседней комнаты ввели перепуганного хозяина. Жандармский офицер со связанными позади руками стал истошно кричать на трясущегося Попежика. Он ругал его то на немецком, то на чешском языке и все норовил высвободить руки. — Ну ладно! Хватит! — прервал его Мурзин и стукнул рукояткой пистолета по письменному столу. Офицер умолк, презрительно оглядел партизан. Фуражку он потерял во время борьбы, белесые волосы его были взлохмачены. Из-под густых нависших бровей сверкали ненавистью голубые глаза. — Настоящий ариец! — спокойно проговорил Мурзин. — Партизан! Бандит! Капут!! — выкрикнул тот. Слезы бессильной ярости стремительно покатились по его гладко выбритым щекам к подбородку. — Юра! С этим все ясно, — сказал Степанов и, подняв пистолет, выстрелил в грудь фашиста. Трое других жандармов, молча наблюдавшие эту сцену, словно по команде, упали на колени и стали молить о пощаде. — Я есть только шофер машина! — неустанно твердил один из них. А жандарм со знаками сержанта на погонах так рьяно плюхнулся на колени, что не удержал равновесия и, ткнувшись лицом в дощатый пол, в кровь разбил себе нос. Руки его были связаны за спиной, и партизанам пришлось поднимать его с пола. У Мурзина вдруг зародился дерзкий план. — Слушай, Иван, подойди-ка сюда, — позвал он Степанова. — А что, если нам с их помощью прорваться в здание жандармерии? Сейчас ночь. Там могут быть только дежурные, остальные спят. — Что ж, дело говоришь, — согласился Степанов. Он повернулся к сержанту немецкой жандармерии, из нога которого все еще капала кровь, и приказал ему следовать в соседнюю комнату. Тот испуганно втянул голову в плечи, покорно побрел к двери. Мурзин пошел за ними. Оказавшись в спальне помещика, немец начал молить Степанова сохранить ему жизнь. Степанов молча развязал ему руки и лишь потом объяснил, что партизаны оставят его в живых, если он проведет их в помещение жандармского участка. Сержант согласно кивнул головой. Достав из кармана платок, он приложил его к носу. ...А через двадцать минут от ворот помещичьего имения отъехал легковой автомобиль немецкой жандармерии города Фриштак. За рулем, переодетый в форму жандарма, сидел Костя Арзамасцев. Рядом с ним ерзал на сиденье пленный жандармский сержант. Позади восседали Мурзин и Степанов, причем Степанов напялил на себя шинель и фуражку расстрелянного жандармского офицера. Вслед за ними со двора имения выехал небольшой автобус, реквизированный у помещика, в котором разместились остальные партизаны. Около двух часов ночи оба автомобиля въехали в спящий город, миновали несколько пустынных улиц и остановились неподалеку от жандармского участка. Выбравшись из машин, партизаны построились в колонну по три. Под руководством Степанова и пленного сержанта подошли они к будке караульного. Завидев жандармского офицера и сержанта, караульный собрался было докладывать, но тут же выскочивший из строя Журавлев сбил его с ног, а чех Карел проворно засунул в рот фашиста кляп. Теперь путь был свободен. Партизаны ворвались в помещение, где жили жандармы. Разбуженные шумом, жандармы вскакивали с постелей, растерянно метались по комнатам, кричали, ругались, некоторые становились на колени и плакали, глядя на черные дула направленных на них автоматов. Неожиданно пленный сержант, находившийся возле Мурзина, закричал: «К бою!» — и вцепился Мурзину в горло. В тот же момент Михаил Журавлев стукнул сержанта прикладом по голове. Разжав пальцы, фашист плюхнулся на пол. Несколько жандармов, попытавшихся броситься к пирамиде с оружием, упали, сраженные автоматной очередью, выпущенной Степановым. Остальные партизаны тоже открыли уничтожающий огонь по жандармам. За одну-две минуты с гитлеровцами было покончено. Забрав около тридцати винтовок, десяток автоматов и несколько ящиков патронов, прихватив с собой секретные документы жандармерии, партизаны покинули участок и на тех же машинах благополучно выбрались из города. К рассвету, пустив автомашины под откос, Мурзин со своими друзьями уже входил в лес. После удачной ночной операции было решено отдохнуть в доме лесничего. Не успели еще расположиться на отдых, услышали передачу пражского радио. Скорбным голосом диктор сообщил, что этой ночью в городе Фриштак партизаны злодейски напали на жандармский участок. «Весь личный состав жандармерии, — продолжал диктор, — во главе с начальником участка героически, до последнего патрона, сражались с превосходившими силами бандитов. Они погибли смертью храбрых, как и подобает солдатам великой Германии». На этом передача закончилась, но, несмотря на усталость, партизаны еще долго не могли уснуть, обсуждая итоги ночной диверсии. «Это вам за Ушияка», — думал Мурзин, укладываясь поудобнее на полу возле Степанова.АГЕНТЫ ВЫХОДЯТ НА СЛЕД
Карл Герман Франк нервно теребил клочок бумаги с донесением службы безопасности. Перед разгневанным статс-секретарем протектората стоял навытяжку оберштурмфюрер СС Гельмут Хайнеке. Он, не моргая, глядел в холодный стеклянный глаз своего всемогущего шефа и молил бога, чтобы Франк не отправил его на Восточный фронт. — Еще два месяца назад вы лгали мне, что эти бандиты Ушияк и Мурзин уничтожены вашими людьми. А сегодня вы имеете наглость утверждать, что не в состоянии с ними справиться. — Смею доложить, господин группенфюрер, Ушияк и Мурзин действительно уничтожены. Их банда разбита и больше не существует. — Кто же тогда, по-вашему, действует в нашем тылу? Вы хоть отдаете себе отчет в том, что происходит? Наступление советских армий с рубежа Вислы уже сказалось на положении наших войск в Арденнах. Заботясь о дальнейшем ходе событий на фронте, германское командование срочно перебрасывает войска с запада на восток. И в это критическое для нас время на наших коммуникациях свободно, да, да, свободно действуют партизанские банды. Вы только взгляните, что они сделали! — Франк потряс в воздухе листком с донесением. — Вот, полюбуйтесь! Возле деревни Штечки уничтожено двадцать грузовых автомобилей и шесть бронемашин! Это восьмого января. А десятого взорван воинский эшелон под городом Липник. Еще через день, двенадцатого января, под откос полетел эшелон с танками в окрестностях Моравской Остравы! Взорваны мосты на железнодорожных линиях Всетин — Злин — Граница — Рожнов! Партизанские банды обнаглели настолько, что безнаказанно спускаются с гор и врываются в крупные населенные пункты с нашими гарнизонами. В городе Фриштак бандиты уничтожили в ночном бою целое подразделение полевой жандармерии. Где-то там же разоружили целую роту венгерских солдат... Москва и Лондон трубят на все голоса об этих событиях... Не кажется ли вам странным, что все это происходит в вашем районе?.. — Осмелюсь заметить, господин группенфюрер! Венгерская рота была разоружена в районе Брно. За этот район отвечает штурмбанфюрер Козловский. — Да! Но он, не в пример вам, принимает решительные меры. Банда, разоружившая венгерских солдат, уже уничтожена. Его люди расстреливают этих бандитов еще до того, как они успевают уйти в лес. Вот, можете убедиться. — Франк взял со стола одно из очередных донесений и протянул его Гельмуту Хайнеке. — Только вчера служба Козловского ликвидировала в деревне Селаш целую группу потенциальных бандитов. Наши люди сами увели их в лес, не дожидаясь, пока это сделают партизаны... — Осмелюсь доложить, господин группенфюрер! Мои люди тоже уничтожили большую банду вместе с Ушияком и Мурзиным. — Если вы действительно уничтожили этих бандитов, то кто же действует в вашем районе? Кто взрывает мосты? Кто взрывает эшелоны? Кто, наконец, совершил нападение на жандармерию в городе Фриштак? Уж не этот ли мифический Черный генерал? — Да, да! Видимо, это он, — поспешно проговорил Гельмут Хайнеке. В глубине души он поблагодарил бога за то, что статс-секретарь протектората напомнил ему о Черном генерале, на которого теперь можно было валить все беды. — Какие же меры вы принимаете? — уже мягче спросил Карл Герман Франк. — В настоящее время, господин группенфюрер, я не располагаю достаточными силами, чтобы прочесать Бескидские горы. В моем распоряжении есть только несколько малочисленных групп СС и агентурная сеть гестапо... — И этого вам мало? — перебил его Франк. — Вы просто разучились работать. Я даю вам последнюю возможность доказать свою преданность фюреру и фатерланду. В этот исторический момент, когда враги великой Германии стоят у порога нашего дома, необходимы самые радикальные меры. Возьмите группу Просковца и направьте его людей в горы. Пусть они под видом партизан установят контакт с этими бандитами. Поручите им поймать этого Черного генерала. Я полагаю, не нужно большой фантазии, чтобы заманить его в подготовленную ловушку. Было бы хорошо доставить его в Прагу живым. Но в крайнем случае я буду рад услышать, что он уже мертв. — Яволь! Мы постараемся доставить вам эту радость, господин группенфюрер! — Да! Чуть не забыл. У вас же есть, наконец, батальон «Зюд-Ост», который расквартирован в Визовицах. Этот батальон можно тоже привлечь для карательных операций. — Никак нет, господин группенфюрер! Батальон «Зюд-Ост» находится в личном распоряжении оберштурмбанфюрера Скорцени[134]. А Скорцени сейчас нет в Моравии. Без его приказа командир батальона не станет мне повиноваться. Карл Герман Франк задумался. Оберштурмфюрер Хайнеке был прав. Да к тому же от батальона «Зюд-Ост» фактически осталось одно только название, — Прекрасно! Я постараюсь связаться со Скорцени. Быть может, он разрешит воспользоваться батальоном «Зюд-Ост». Кроме того, я переговорю с генерал-фельдмаршалом Шернером. Думаю, что и он не откажет нам в поддержке. Таким образом, подкрепление вы получите. Но если и в этом случае вы не расправитесь с бандами Черного генерала, берегитесь. Тогда вам придется держать ответ перед самим рейхсфюрером Гиммлером. Я не буду объяснять, чем это может для вас закончиться! Идите! Когда оберштурмфюрер СС Гельмут Хайнеке скрылся за массивной дверью, статс-секретарь протектората вызвал своего адъютанта. — Соедините меня с генерал-фельдмаршалом Шернером, — приказал он, подходя к висевшей на стене огромной карте. На этой карте, утыканной маленькими нацистскими флажками, обозначалась линия Восточного фронта к исходу минувшего дня. Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить создавшуюся обстановку. Русские танки прорвались к Одеру в районах Глогау и Штейнау. Вышли с севера к крупному промышленному городу Бреслау. А еще южнее советские войска в нескольких местах форсировали Одер и кое-где перешли восточные границы Моравии. Особенно продвинулись они на севере, словно занесенный меч, нависли над всей Моравией. И Силезский промышленный район оказался у русских. Карл Герман Франк напряженно всматривался в названия немецких городов, оставленных солдатами фюрера. «Майн готт, — мысленно произнес он. — Если так пойдет дальше, что же останется от империи?..» Телефонный звонок прервал его невеселые мысли. — Господин группенфюрер! Генерал-фельдмаршала сейчас нет. Он выехал на командный пункт семнадцатой армии. Можно вас соединить с начальником штаба. — Хорошо! Я буду говорить с генералом Нацмером. Через несколько секунд в трубке послышался старческий голос начальника штаба группы армий «Центр». — Дорогой Нацмер! Я решился побеспокоить вас по очень важному делу. У нас на Моравии в тылу ваших армий действуют партизанские банды. Они нарушают наши коммуникации, терроризируют население. Служба безопасности не располагает в настоящее время достаточными резервами для их полного уничтожения. Я хотел бы просить генерал-фельдмаршала выделить нам резервные части для карательной операции. Быть может, вы доложите ему о моей просьбе? — Нет, нет. Сейчас даже говорить об этом бесполезно. Разве вы не знаете, что здесь у нас творится. Русские упорно стремятся окружить Бреслау. Генерал-фельдмаршал запросил у ставки новые войска. И пока их не перебросят к нам с запада, мы не в силах дать вам ни одного солдата. — Дорогой генерал! Но у вас же есть миллионная армия. — Господин группенфюрер! Вы бы лучше посчитали, сколько бросили против нас русские. С начала их наступления мы потеряли больше двухсот тысяч солдат. Почти пять тысяч орудий и минометов осталось по ту сторону фронта. Я понимаю ваше положение, но постарайтесь обеспечить тылы группы армий «Центр» силами СД и полевой полиции. Понимая, что дальнейший разговор ни к чему не приведет, Карл Герман Франк молча опустил на рычаг телефонную трубку и сел писать срочное донесение рейхсфюреру СС господину Гиммлеру.* * *
Оберштурмфюрер СС Гельмут Хайнеке вернулся из Праги в Злин в мрачном расположении духа. Угроза сумасбродного шефа отправить на фронт не выходила из головы. За последние годы он уже дважды катился вниз по служебной лестнице. Казалось, совсем недавно выполнял он обязанности гестаповского комиссара в Кобленце и Висбадене, но неожиданно был отстранен от должности и направлен во Францию. В оккупированной Франции он не совсем удачно провел карательную операцию против отрядов Сопротивления и тоже вынужден был расстаться с этой работой. Из Франции он прямым сообщением попал в город Злин, куда его назначили начальником полиции безопасности. Поначалу здесь было спокойно. Но с появлением партизан в окрестностях Злина и Всетина Гельмут Хайнеке потерял покой. В том, что партизаны из всей Моравии избрали именно этот район, Хайнеке винил только свою судьбу. Он был фаталистом и твердо верил, что каждому начертано нести свой крест. Гельмут Хайнеке не вдавался в анализ происходящих событий. Даже крупное поражение германских армий на Восточном фронте беспокоило его постольку, поскольку он сам, при соответствующих обстоятельствах, мог угодить на фронт — в самое пекло войны. Поэтому мысли его были заняты только одним: как можно быстрее мобилизовать имеющиеся в его распоряжении силы и окончательно разделаться с партизанами во вверенном ему районе Злина и Всетина. Приехав в свою резиденцию, расположенную в самом центре Злина, оберштурмфюрер СС Хайнеке вызвал своих ближайших помощников. После длительного совещания был разработан план хитроумной операции по борьбе с партизанами. А через два дня в Злине, Всетине и других населенных пунктах, разбросанных неподалеку, появились броские объявления. От имени германского командования в них сообщалось, что за поимку Черного генерала — руководителя партизанских банд в Моравии — будет выплачена награда в один миллион оккупационных марок. Примерно в это же время в окрестностях Злина и Всетина начала действовать новая партизанская группа «русских» под командованием Просковца.* * *
Штурмбанфюрер Козловский вызвал своего адъютанта и приказал подать коньяк и кофе. Шеф гестапо города Брно, развалясь, сидел в огромном кресле, обитом телячьими шкурами. Против него, по другую сторону невысокого столика, на самом краю точно такого же кресла, примостился огромный, двухметрового роста мужчина. Он был почти на две головы выше своего собеседника, но ему явно хотелось казаться ниже: он сидел сгорбившись, ссутулив плечи, и, опустив голову, заискивающе поглядывал на всемогущего шефа гестапо. — Так вот, дорогой Франтишек Шмидт! — обратился к нему штурмбанфюрер Козловский, когда адъютант, оставив на столике поднос с уже начатой бутылкой французского коньяка и двумя дымящимися чашечками кофе, скрылся за дверью. — Вы славно поработали. Статс-секретарь протектората Карл Герман Франк просил передать вам свою благодарность, Я уверен, что в скором времени на вашей груди появится Железный крест, но для этого необходимо сделать еще кое-что... Давайте выпьем за ваши успехи, а потом продолжим наш разговор. Шеф гестапо наполнил коньяком небольшие узкие рюмки. — За великого фюрера великой Германии! Оба отпили из рюмок ароматную, крепкую жидкость. — А теперь о делах, дорогой Франта Великий! — Сегодня я уже Франц Брин, — робко поправил шефа Франтишек Шмидт. — Да, да! Я знаю много ваших имен. Франта Веселый, Новак, Покорный. Но для меня вы всегда Франта Великий. Вы великий агент и по росту и по делам. Служба безопасности никогда не забудет ваших услуг. Ведь если бы не вы, нам вряд ли удалось бы раскрыть коммунистическое подполье в городе Брно. И сегодня вы продолжаете преданно служить на благо великой германской империи. Я хочу выпить за ваши прошлые и будущие заслуги. Штурмбанфюрер Козловский до дна осушил рюмку. Франтишек Шмидт последовал его примеру. — Так вот, дорогой мой Франтишек Великий. Группенфюрер Карл Герман Франк и я представим вас к награде Железным крестом, если вы доставите нам живым или мертвым Черного генерала. Конечно, лучше живым. Он может нам еще пригодиться. — А кто это такой? — спросил шефа Франтишек Шмидт. Он задумался, силясь вспомнить, где и когда слышал уже это имя. — В лесах, на склонах Бескидских гор, обосновались наиболее активные партизанские банды. Ими командует какой-то Черный генерал. Во всяком случае, так информировал статс-секретаря протектората оберштурмфюрер Гельмут Хайнеке. И, хотя за район Бескидских гор отвечает Хайнеке, я хочу, чтобы именно мои люди поймали Черного генерала... — Но никакого Черного генерала на Моравии не существует, — сказал Франтишек Шмидт. Узкие длинные губы его растянулись в усмешке. — В Бескидах партизанскими бандами командует советский майор Мурзин. Вот его фотография. Она попала ко мне случайно, от одного из моих людей. Франтишек Шмидт достал из внутреннего кармана пиджака бумажник, выложил на стол несколько паспортов и извлек из одного из них любительскую фотографию. Штурмбанфюрер Козловский торопливо взял фото и стал пристально разглядывать изображенного там чернобородого человека. — Его-то вы и должны доставить ко мне в Брно, — сказал он после паузы. — Если доставите живым, получите миллион марок и Железный крест. Можете верить моему слову. Карл Герман Франк сам обещал мне это. — Хорошо, господин штурмбанфюрер! Я постараюсь выполнить ваше задание. Имейте в виду, что партизаны, которые действуют в районе Брно и Кромерижа, тоже подчиняются этому человеку. А я уже связался с группой английских парашютистов. Они в полной уверенности, что я представляю центральный штаб Сопротивления и прибыл в Моравию из Праги. Через них мои люди устанавливают контакт с одной из партизанских банд. Постепенно я доберусь и до самого Мурзина. Думаю, он клюнет на мою приманку... — Желаю успеха! — Шеф гестапо города Брно поднялся с кресла. Вслед за ним вскочил и Франтишек Шмидт. Разница в их росте была поразительной. Рядом с невысоким штурмбанфюрером Франт Великий выглядел исполином. Он смотрел на шефа гестапо сверху вниз, наклонив голову. Козловский дружелюбно спросил: — Дорогой Франтишек! Какой же у вас рост? — Два метра пять сантиметров, — смущенно ответил тот. — Великий, поистине великий! — воскликнул Козловский, восхищенно оглядывая своего агента. И вдруг, спохватившись, добавил: — Вам, видимо, потребуются деньги? — Деньги никогда не бывают лишними. Шеф гестапо подошел к сейфу. Щелкнул замок. — Вот, возьмите. — Козловский протянул Шмидту пачку оккупационных марок. — Когда привезете Черного генерала... или как его там... Мурзина... Словом, когда привезете этого человека, получите несравненно больше. — Господин штурмбанфюрер! Ваши деньги не пропадут даром. К концу февраля майор Мурзин будет доставлен в этот кабинет. — Ступайте, Франтишек. Да хранит вас бог!ТАК ПОГИБ СЕРГЕЙ ЖУКОВ
Зима выдалась на редкость теплая и сырая. Не раз снежные бураны со штормовыми ветрами заметали дороги в горах. Но стоило небу очиститься от хмурых туч, как яркие солнечные лучи растапливали снега, образуя множество журчащих ручейков. Хвойные леса, синевшие шапками на вершинах и склонах гор, быстро сбрасывали снежный наряд и сияли изумрудными красками на белом фоне горных лугов. Партизанские батальоны и отряды бригады имени Яна Жижки обосновались в высокогорных селениях. Местные жители всячески поддерживали партизан, укрывали от полиции и карателей, снабжали продовольствием и медикаментами. Подпольные патриотические организации Моравии провозгласили лозунг: «Ни одного килограмма продовольствия бошам. Все излишки отдавать партизанам!» С каждым днем отряды и батальоны партизан пополнялись всё новыми и новыми бойцами. К началу февраля один только батальон Степанова насчитывал около восьмисот человек. Теперь партизаны отдельными боевыми группами спускались с гор, выходили на вражеские коммуникации, где почти ежедневно совершали смелые диверсии. Немцы шли на различные хитрости. Впереди каждого воинского эшелона стали пускать платформы, груженные балластом, усилили охрану железнодорожных перегонов, но все это не спасало гитлеровцев от участившихся взрывов на железных дорогах. Каратели неистовствовали. Гестапо расстреливало заложников, ввело смертную казнь за малейшую провинность. Появился на улице города после комендантского часа — расстрел. Задержан без соответствующих документов на проезжей дороге — расстрел. А тех, кто попадался в руки карателей в лесу или в поле, убивали на месте без суда и следствия. Все это происходило внизу, в густо населенных долинах. А в горах властвовали партизаны. На всех горных тропах, берущих начало у шоссейных дорог, пестрели предостерегающие надписи на немецком языке: «Внимание! Остерегайтесь! Партизаны!» Фашистам было чего остерегаться. В конце января партизаны только второго батальона взорвали несколько металлических опор высоковольтной линии Брно — Моравская Острава. Металлургический комбинат и шахты Остравы три дня стояли без электроэнергии. В селе Кашава, что неподалеку от Злина, партизаны захватили обоз и, разоружив тридцать венгерских солдат, отпустили их по домам. А партизаны отряда «Ольга» вновь отправились в долину, поближе к вражеским коммуникациям. Взвод Матоушека[135] спустился с гор в окрестностях деревни Кудловицы и уже перед утром совершил нападение на бронемашину с зенитным орудием на прицепе. Сопровождавшие орудие восемь гитлеровцев подняли руки. Захватив одиннадцать винтовок, семь пистолетов и около тридцати ручных гранат, Матоушек повел своих бойцов в направлении Кромерижа, расстреляв предварительно пленных на опушке леса. На ночь разместились на окраине села Собесуки. Набившись в маленький тесный домик, партизаны отдыхали после утомительного перехода: одни дремали сидя, притулившись к стене и опираясь на оружие, другие разговаривали вполголоса, вспоминали родных и близких. Неожиданно в тишине прогремел выстрел. Мигом погасла керосиновая лампа над столом. Все схватились за оружие, застыли в немом оцепенении. И в этот момент раздался прерывистый возглас на ломаном чешском языке: — Комрады! Не бойтесь... Это я... Нечаянно сам себя стрелил... В темноте блеснули лучи фонариков, и все увидели Сергея Жукова, лежавшего в луже крови. Партизаны бросились к нему. — Как то случилось, Серко? — воскликнул Матоушек. На полу рядом с Жуковым валялся его пистолет. Сергей всегда носил его во внутреннем кармане пиджака. И сейчас, когда Сергей Жуков задремал, сидя на стуле, пистолет вывалился из его кармана и, ударившись о пол, выстрелил. Пуля пробила Сергею левое легкое и вышла под лопаткой. Партизаны перевязали ему рану, остановили кровь. Жуков задыхался. Партизаны собрали все подушки, которые были в доме, уложили раненого на них. Но Сергей продолжал задыхаться и просил, чтобы его застрелили. Никто из партизан не мог на это решиться. Тогда, собрав последние силы, Сергей Жуков обратился к своему второму номеру по пулемету. — Ягда, друг! Покончи мои мучения! Выстрели мне в висок, — простонал он. Со слезами на глазах Ягда стал утешать Сергея. Он обещал, что доставит его в больницу, что тот еще будет жить. Но Сергей не унимался: — Эх, Ягда!.. Если уж ты, лучший друг, не можешь выполнить... мою последнюю просьбу... то хоть подай мне пистолет... Я сам... Сам разделаюсь... Но никто не был в силах выполнить его просьбу. Наконец Сергей потерял сознание. Партизаны осторожно перенесли его на кровать. С наступлением рассвета партизаны собрались уходить. Посовещавшись, они решили оставить раненого на попечение хозяина, лесника Ганака. Ему вручили пистолет Жукова и посоветовали: — Если нагрянут гитлеровцы, застрели хлопца. Скажешь, что партизан все время держал тебя под угрозой этого пистолета и ты не мог донести о нем в гестапо. Молчаливо, с глубоким волнением прощались партизаны с Сергеем Жуковым. Столько кровопролитных боев невредимым прошел этот бесстрашный русский солдат, а теперь погибал от нелепого случая, от своей же пули! Партизаны по очереди подходили к кровати и, постояв недолго над Сергеем, выходили на улицу. Вскоре оба взвода, растянувшись цепочкой, двинулись в путь к подернутому сизой дымкой лесу. А двое — связной Карел Пеликан и Александр Халупа — направились по приказу Матоушека в город Здоунки за доктором Зламалом. Доктор Зламал не стал расспрашивать о подробностях. Он немедленно отправился к леснику Ганаку. Все, что мог, сделал он для спасения партизана. Но случай был настолько тяжелым, что Жукова было необходимо переправить в больницу. Тогда несколько местных жителей — друзья лесника — перенесли раненого в корчму Ковача в селе Уездско и там положили на телегу с пивными бочками. Кучер Иозеф Мадерка осторожно тронул лошадей. Хозяин корчмы поехал впереди повозки на велосипеде, чтобы в случае необходимости подтвердить, что раненого подобрали на дороге. Так Сергея Жукова довезли до города Кромерижа и, снабдив чужими документами, поместили в городскую больницу. Через несколько дней кризис миновал, состояние раненого стало заметно улучшаться. Не прошло и десяти дней, как он начал подниматься с постели. Партизаны уже собирались вывезти его в лес. Но... Гестаповцы нагрянули в городскую больницу неожиданно. Она увели раненого партизана и доставили его в известную своими зверствами Литенчицкую ягдкоманду. Жукова сразу же подвергли допросу. Гитлеровцам важно было узнать, где скрываются партизаны, где расположены их основные базы. Превозмогая адскую боль, Жуков молчал. После ужасных пыток, избитого и полуживого, его посадили в автомашину и стали возить по ближайшим деревням, требуя назвать жителей, у которых останавливались партизаны. И вновь Жуков не проронил ни слова. Он переносил нечеловеческие мучения и молчал. Тогда взбешенные гестаповцы раскалили докрасна стальной прут и вонзили его в еще не зажившую рану партизана. Этой зверской экзекуцией руководил немецкий комендант города Кромерижа полковник Кобличек. Советский солдат Сергей Жуков молча умер, но никого не выдал. Несколько местных жителей, невольные свидетели дикой расправы над раненым партизаном, рассказывали потом Ольге Франтишковой и Матоушеку о том, как геройски погиб их русский товарищ. Партизаны отряда «Ольга» поклялись отомстить за смерть Сергея Жукова.КОНЕЦ ФРАНТЫ ВЕЛИКОГО
Честмир Подземный вернулся от Мурзина в город Валашские Мезеричи уже под вечер. Прежде чем направиться домой, он зашел к своему товарищу Рудольфу Петрвальскому, который до последнего времени был членом подпольной организации в Моравской Остраве и только недавно перебрался в Валашские Мезеричи, где сразу же вступил в диверсионную группу Честмира Подземного. — Послушай, Рудольф! — без обиняков сказал Подземный. — Нам надо захватить одного провокатора. Есть приказ доставить его живьем в лес к партизанскому командиру. — Раз надо, то будем делать... А ты, Петр, знаешь того человека? Все члены диверсионной группы называли своего командира только его подпольной кличкой. — Я-то знаю, — ответил он хмуро. — На вот. Можешь и ты посмотреть. Подземный протянул Рудольфу фотографию. — Так это же Павел! — удивленно воскликнул тот. — То руководитель всех подпольных организаций западной и южной Моравии! — Откуда ты это взял? — То правда же! Он приходил к нам в Остраву, встречался с нашим руководителем. Я сам при том присутствовал. Он еще просил списки нашей организации... — Вот поэтому подпольная организация в Остраве и была разгромлена... А тебе пришлось бежать к нам в Валашские Мезеричи... Петрвальский помрачнел. Сказал: — Наверно, так и есть. Меня потом предупредили, что это подозрительный человек. А я не поверил. Кто-то даже сказал, что он агент Большой Франта. — Очень может быть. Тем более мы должны постараться захватить его живым. Он много может рассказать. Завтра утром Жозефия Сикорова скажет тебе, куда ты должен прийти. Возьмешь с собой пистолет. — Хорошо! Я буду ждать ее дома. Но, Петр, ты знаешь, что у этого Павла под пиджаком, на груди, висит бельгийский пистолет «ФН». Я сам видел. На встрече в Остраве он показывал нам эту пушку. Ремень через плечо, а на уровне сердца кобура с пистолетом. Это лучший крупнокалиберный пистолет в Европе. И говорят, стреляет он из него без промаха... Хвастал, что пистолет ему подарил сам доктор Бенеш. — Спасибо за предупреждение. Это надо учесть. А если это действительно Большой Франта, то он еще прекрасно владеет приемами дзю-до. Об этом я тоже кое-что слышал. — Возьми побольше ребят, Петр. — Ладно. Итак, до завтра. И никому ни слова. Честмир Подземный распрощался с Рудольфом и направился на конспиративную квартиру, куда на другой день должен был явиться Франц Брин — Большой Франта. Эта конспиративная квартира находилась в центре города, поэтому необходимо было предупредить хозяйку, чтобы она отвела Франца Брина на другую конспиративную квартиру, находившуюся в небольшом отдельном домике почти на самой окраине Валашских Мезерич. Но не успел Подземный окончательно договориться с хозяйкой, как в дверь постучали четыре раза. — Это кто-то из наших, — сказала хозяйка, услышав условный сигнал, и направилась к двери. — Подожди! — удержал ее Подземный. — Я спрячусь в спальне. Может быть, это кто-нибудь от Франца Брина. Скажешь тогда, что я приду сюда завтра утром. Честмир Подземный скрылся за портьерой. Послышался скрежет отодвигаемой задвижки, легкий скрип отворяемой Двери, и мужской голос вежливо спросил: — К вам можно? — Проходите! — ответила хозяйка. — Но мы вас ждали завтра. — А разве Петр еще не вернулся? Подземный узнал голос Франца Брина. Сердце его учащенно забилось. — Нет, не вернулся. Он должен прийти сюда завтра утром, — сказала хозяйка. — Разрешите присесть? — Пожалуйста. Из темной спальни через просвет в портьере Подземный увидел, как Франц Брин подошел к столу, выдвинул стул и присел, не снимая пальто. — Понимаете, мне довольно опасно долго находиться в вашем городе. К тому же завтра днем я должен уйти на встречу с английскими парашютистами, чтобы передать информацию в Лондон. Наш президент очень интересуется движением Сопротивления в Моравии. Вот я и думал, что Петр уже вернулся и можно еще сегодня узнать место и время встречи с Мурзиным. — Нет, Петр придет только завтра утром. Брин по-хозяйски расселся на стуле, широко раздвинув ноги, плотно упершись в пол огромными, на толстой подошве солдатскими ботинками. Цедил слова неторопливо, спокойно. Подземный еле удерживался от желания сейчас же, немедленно влепить пулю в его узкий, сдавленный лоб. Он вслушивался в нагловатый, с хрипотцой голос, и его трясла дрожь от сдерживаемой с трудом ярости. Вот он, убийца Яна Ушияка, сидит в двух шагах от него, не подозревая о нем. А расправиться с ним нельзя! Надо ждать до завтра! Надо взять живым! — А вы не могли бы сказать, как далеко от Валашских Мезерич находится штаб Мурзина? — лениво и вроде бы без особого интереса спросил Брин. И пояснил: — Меня беспокоит, что если завтра утром придется туда идти, то я могу не успеть на встречу с английскими парашютистами... — Я даже не представляю, в какой это стороне, — ответила хозяйка. — Мне никогда не приходилось туда ходить. — А сам Мурзин не приходит сюда? Вы его когда-нибудь видели? — Нет. Я знаю только Петра и еще трех его товарищей. В прошлый раз вот с вами еще познакомилась. — Это хорошо. В нашем деле нужна строжайшая конспирация. Я сам каждую ночь меняю квартиры, чтобы гестапо не напало на след. Еще не знаю, где эту ночь провести придется. А вы бы не разрешили у вас переночевать? Хозяйка промолчала. Брин приметил ее замешательство и сказал успокаивающе: — Не беспокойтесь. Я не требовательный постоялец. Сейчас я должен уйти на встречу с одним человеком. И, если вы не против, потом вернусь. Мне только бы поспать ночь. Я чертовски устал. — Он зевнул, прикрыл рот огромной ладонью. — Конечно, конечно. Пожалуйста. Можете сегодня переночевать здесь, — наконец согласилась хозяйка. — Ведь завтра утром Петр придет сюда, чтобы встретиться с вами. — Благодарю! Вы очень любезны. Я скоро вернусь. Франц Брин поднялся со стула и направился к выходу. Когда дверь за ним захлопнулась, Подземный вышел из спальни. В раздумье остановился посреди комнаты. Что делать? Мысль захватить Франца Брина спящим казалась очень заманчивой. «Но это же центр города! Как потом провести его по улицам? Кругом фашисты. Ночью множество патрулей. И главное, за этой квартирой, возможно, уже следят, — раздумывал Честмир Подземный. — Нет. Лучше действовать, как намечено. За ночь предупредить Эмиля Гонзика. Еще двух товарищей. С рассветом собраться на конспиративной квартире в отдельном домике. Там сразу же за огородами начинается лес. Да, так и нужно делать. К тому же, пока его поведут на ту квартиру, можно проследить, не тянется ли за ним гестаповский хвост». — Это хорошо, что он переночует здесь, у тебя, — сказал Подземный, приняв окончательное решение. — Завтра, когда он проснется, скажешь ему, что от меня приходил человек и передал, чтобы он шел на вторую конспиративную квартиру. Он не знает, где она находится. Поэтому ты проводишь его сама к Яну Плахетке. Доведешь до дома и уйдешь. В дом он пусть войдет один. Поняла? И ни о чем ему не рассказывай. Не знаю, мол, ничего, вот и весь разговор. До свидания! — Честмир крепко пожал женщине руку. Рано утром Рудольф Петрвальский, Эмиль Гонзик и еще два подпольщика сидели за столом в аккуратно прибранной горнице. Хозяин дома только что отправился на работу, и Честмир Подземный давал товарищам последние указания. На столе дымился чугунок с вареной картошкой, на большом блюде были разложены ломти свеженарезанной ветчины, рядом стояла уже начатая литровая бутылка сливовицы. Когда в дверях послышался условный стук, Честмир Подземный спрятался в соседней комнате, а Эмиль Гонзик — невысокий, коренастый крепыш — поспешил открыть дверь долгожданному гостю. Франц Брин уверенной походкой, громко стуча тяжелыми ботинками, прошел в горницу и, окинув взглядом присутствующих, спросил: — А где же Петр? — Он вот-вот должен прийти. Садитесь с нами завтракать, — предложил Гонзик Брину. — А-а! Старый знакомый! — воскликнул Франц Брин, снимая пальто, и, подойдя к Рудольфу Петрвальскому, протянул ему руку. — Давно не виделись. Как идут дела у вас в Остраве? — Плохо. Руководители подполья арестованы, — сказал Петрвальский и осторожно добавил: — Вскоре после вашего отъезда... Франц Брин и глазом не моргнул. Подсел к столу. Гонзик пододвинул ему тарелку, наполнил рюмку прозрачной желтоватой сливовицей. — Это никуда не годится. Видимо, люди пренебрегли конспирацией, — строго сказал Брин. — И это в такой напряженный момент, когда со дня на день из Лондона может последовать приказ переходить к активным действиям! — Скажи-ка, Павел... так тебя, кажется, звали в Остраве?.. Почему ты здесь, в Мезеричах, назвался Францем Брином? — неожиданно спросил Рудольф Петрвальский. Франц Брин раскатисто рассмеялся. — К чему такой глупый вопрос? Ты что, не знаешь, что условия конспирации требуют частой смены документов? Учить тебя надо? Я и Павел, я и Франц Брин! Понятно? А если хочешь знать, могу сообщить тебе по дружбе, что на самом деле я Франтишек Новак, инженер из Праги. Старейший член Социал-демократической партии Чехословакии... Так-то вот! — Но ты же говорил в Остраве, что являешься представителем подпольного ЦК Компартии, — перебил его Петрвальский. — И это тебе надо объяснять? Пожалуйста, объясню. В настоящее время, перед лицом общего врага — германского фашизма, наши партии действуют единым фронтом! И я имею полномочия возглавлять патриотическое движение в Моравии и от социал-демократов, и от подпольного ЦК Коммунистической партии. — А кто выдал членов национальных комитетов в Брно, Всетине, Злине, Остраве? — вмешался вдруг в разговор молчавший до этого Эмиль Гонзик. — Ведь вы их всех знали... Франц Брин нахмурил брови. На каменных скулах его обозначились желваки. — А это уже оскорбление, — сказал он жестко. — И знаешь, как отвечают на такие оскорбления?.. Но ты еще слишком молод, а интересы нашего дела выше самолюбия — для меня, во всяком случае. Поэтому я отвечу на твой вопрос: наша разведка доподлинно установила, что наших людей в Остраве и Злине предала Маняка Седлачкова из села Горние Слоупнице. Она быласвязной между нашими подпольными комитетами и выдала их гестаповцам. Могу назвать еще и других предателей... Франц Брин говорил неторопливо, убедительно, подчеркивая каждое слово. — Ладно! Давайте выпьем за наши успехи, — предложил Рудольф Петрвальский, вспомнив указания Петра. — Давно бы пора! — сразу меняя интонацию, дружелюбно воскликнул Франц Брин. — А то пригласили к столу, а сами пристаете с глупыми подозрениями. Хотя в общем-то вы молодцы: бдительность в нашем деле необходима. Выпив рюмку вместе со всеми, Эмиль Гонзик вышел из-за стола, прошел в соседнюю комнату. Честмир Подземный с пистолетом в руке стоял за дверью и, стиснув зубы, прошептал ему злобно: — Что вы медлите? Зачем завели с ним эти разговоры? — Слушай, Петр! Оказывается, он не предатель. Он говорит, что функционеров выдала Маняка Седлачкова, — зашептал в ответ Гонзик. Едва сдерживая закипевшую ярость, Честмир Подземный крепко выругался. — Ты что, не слышал приказ? — сказал он. — Ударь его чем-нибудь тяжелым по голове, и быстро связывайте... Только смотри не убей... Он мне живой нужен. Взгляд Подземного упал на брусок для точки косы, — Возьми вот этот брус... Бей по затылку... Скорей... Эмиль Гонзик покорно взял брусок, сунул его в карман брюк и вернулся в горницу. За окном неожиданно грянул духовой оркестр. Гонзик подошел к окну, приподнял занавеску. — Какая-то немецкая часть входит в город, — сказал он, разглядывая нестройные ряды солдат, шагающих за изгородью палисадника. Франц Брин, повернувший было голову на звуки музыки, сразу отвернулся и обратился с каким-то вопросом к Рудольфу Петрвальскому. Теперь Гонзик оказался за его спиной. Он шагнул к столу, выхватил из кармана брусок, занес руку над головой провокатора и резко опустил ее для удара. Но в самый последний момент, словно почувствовав надвигающуюся опасность, Франц Брин уклонился в сторону, вскочил со стула и молниеносно ударил Гонзика ногой. Крепко стукнувшись о стену спиной, Гонзик не потерял самообладания. Он быстро швырнул брусок в голову Брина. Но и на этот раз Франц увернулся от удара. Рудольф Петрвальский и два других подпольщика вскочили из-за стола, собираясь броситься в драку. В это время дверь соседней комнаты распахнулась, в горницу с пистолетом шагнул Честмир Подземный. — Дураки! Вот мои документы! — Франц Брин быстро сунул руку за пазуху. Мгновенно оценив обстановку, Честмир Подземный нажал спусковой крючок. Грохнул выстрел. Франц Брин дернулся. Из его руки выскользнул уже выхваченный из кобуры пистолет и громко стукнулся о половицу. Одновременно прозвучали еще два выстрела. Это Рудольф Петрвальский и Эмиль Гонзик выпустили в провокатора по пуле. — Быстро заберите у него документы, возьмите пистолет! И бегом через окно на задний двор! — скомандовал Честмир Подземный. Эмиль Гонзик подскочил к убитому. — Быстрее, быстрее! — торопил Подземный. Рудольф Петрвальский выставил окно. Подпольщики выбрались наружу и огородами побежали к лесу. Духовой оркестр, удаляясь, все еще продолжал играть бодрый походный марш. Пронзительные трубные звуки неслись над окраиной города. Укрывшись за деревьями, Честмир Подземный и его друзья остановились. — Посмотри, Петр, за нами никто и не гонится, — сказал Эмиль Гонзик. — А тебе хотелось бы, чтобы нас поймали? — шутливо проговорил Подземный. Нервная улыбка скользнула по его побледневшему лицу. — Где документы этого проходимца? — На. Вот его бумажник. Честмир Подземный взял у Эмиля Гонзика черный кожаный бумажник. Раскрыв его, он вытащил несколько паспортов. На каждом из них красовалась фотография Франца Брина, и в каждом были вписаны различные имена и фамилии. — Франтишек Покорный, Франтишек Шмидт, Франц Брин, — вслух перечислял Честмир Подземный. — А вот и Франта Великий. Конечно же, это он. А вы завели там с ним глупые разговоры. Хорошо еще, что я успел в него первым выстрелить. А то бы он перестрелял вас, как диких коз. — Да! От этих пуль уцелеть трудно, — сказал Рудольф Петрвальский, разряжая пистолет Брина. — Калибр девять миллиметров. Я думаю, что это разрывные пули. — Петр! Смотри, к дому Плахетки никто не подходит. Может быть, никто не слышал, как мы стреляли? — сказал Эмиль Гонзик. — То правда же! — поддержал его Рудольф, вглядываясь в домик Плахетки. — Я сам вижу. Но если туда зашли люди, пока мы бежали? Давайте подождем еще немного, тогда вернемся. — Представляю, какое выражение лица будет у Яна Плахетки, когда он придет с работы и увидит у себя в горнице труп, — усмехнулся Гонзик. — Надо его предупредить, а то, чего доброго, может наделать глупостей. Ты, Рудольф, давай пистолет и отправляйся к нему на работу. Скажи, чтоб до вечера он домой не ходил, — распорядился Честмир Подземный. Потом, задумавшись на минуту, добавил: — Постой! Ты теперь без оружия. Зайди сейчас в дом. Если в нем никого нет, оставайся там и махни нам рукой из окна. Отсюда хорошо видно. А если там боши, скажешь, что пришел к товарищу и ничего не знаешь. Понял? Рудольф Петрвальский кивнул. Выйдя из леса, он неторопливой походкой спустился по открытому склону. Честмир Подземный и его друзья напряженно следили за каждым движением Рудольфа. Вот он свернул на городскую улицу, подошел к домику Плахетки, вот скрылся за дверью дома. Не прошло и минуты, как он высунулся в окно, призывно помахал рукой... — Тащите его в сени. В чулане спрячем, а ночью на огороде зароем, — распорядился Честмир Подземный, когда подпольщики вошли в дом, и первым подхватил тело убитого под мышки. Впятером затащили в чулан тяжелую ношу. Больше часа мыли крашеный пол. К приходу хозяина конспиративной квартиры пол горницы был надраен до блеска. Правда, исчезла ковровая дорожка, в которую завернули Брина. Но, узнав, в чем дело, Ян Плахетка не рассердился. С наступлением темноты он помог товарищам вырыть яму в дальнем краю огорода. Так бесславно закончил свой жизненный путь один из лучших агентов штандартенфюрера Отто Козловского, профессиональный провокатор инженер Новак, прозванный гестаповцами Франтой Великим.ВОЗМЕЗДИЕ
Командование отряда «Ольга» поручило взводу Иозефа Матоушека привести в исполнение смертный приговор, который партизаны вынесли полковнику Кобличеку — коменданту города Кромерижа, замучившему Сергея Жукова. Неподалеку от Кромерижа и всего в двух километрах от Литенчиц, где находилась ягдкоманда, зверски расправившаяся с Сергеем, располагался красивый замок графа Дубского. Партизанские разведчики доложили Матоушеку, что в этом замке часто бывает полковник Кобличек. Дочь графа Дубского, двадцатидвухлетняя Элизабет Дубская-Эйхлер, муж которой пропал без вести на Восточном фронте, работала в гестапо города Кромерижа. Полковник Кобличек часто после работы отвозил ее на своей машине в замок. Он явно пытался добиться благосклонности молодой графини. Этим и решил воспользоваться Иозеф Матоушек. Он намеревался захватить замок и под страхом смерти заставить Элизабет Дубскую-Эйхлер позвонить в Кромериж полковнику Кобличеку и попросить его срочно приехать к ней. По мнению партизан, это был самый надежный способ захватить коменданта живым, затем доставить его в лес, где и должно было свершиться правосудие. Старинный родовой замок Дубских был обнесен высокой каменной оградой. Въезд в усадьбу был только один — через массивные железные ворота, которые почти всегда были заперты. В ночь, назначенную для проведения операции, тридцать два партизана во главе с Матоушеком вышли из леса, подступавшего почти к самому замку, и при помощи принесенных с собой самодельных деревянных лестниц перебрались через ограду в сад. Подняв с постели старого графа и его близких, партизаны обнаружили, что графини Элизабет в замке нет. По словам насмерть перепуганного графа, она осталась ночевать в городе. Тогда Матоушек приступил к допросу членов графской семьи. Его интересовало, в каких отношениях находится полковник Кобличек с графом Дубским и как его можно заманить в замок. На всякий случай партизаны перерезали телефонные провода, а весь обслуживающий персонал замка согнали в одну комнату и выставили надежную охрану. После длительного допроса, длившегося до самого утра, Иозеф Матоушек решил не уводить партизан из замка, а дождаться вечера в надежде, что полковник Кобличек пожалует сюда сам. Выставив караульных в саду и внутри двора, он разрешил остальным укладываться спать. Он и сам собирался уже отдохнуть, когда запыхавшийся партизан вбежал в кабинет графа Дубского и, схватив Матоушека за руку, подвел к окну: — Смотри, пан велитель! Из окна второго этажа замка был хорошо виден остановившийся возле ворот сверкающий лаком легковой автомобиль. Из него выходили увешанные наградами гитлеровские офицеры. Раздумывать было некогда, и партизаны в считанные секунды заняли необходимые позиции. Служанка Аничка Выкоукалова, жительница деревни Гоштицы, помогавшая Матоушеку во время допроса графской семьи, была послана к воротам, чтобы от имени графа встретить дорогих гостей. Генерал в сопровождении своих высших штабных офицеров вошел в распахнувшуюся калитку и направился к зданию, Его шофер оставался сидеть за рулем. Но Аничка Выкоукалова сумела уговорить и его. Обер-ефрейтор выбрался из машины и последовал в вестибюль замка вслед за начальством. Едва Аничка успела запереть входную дверь, как из-за длинных портьер и из соседних комнат выскочили партизаны. — Хенде хох! — властно скомандовал Иозеф Матоушек. Увидев угрожающие дула винтовок и автоматов, генерал и его офицеры подняли руки. Только генеральский шофер схватился было за кобуру пистолета, но тут же повалился на пол, пронзенный штыком. Генерал дрожащей рукой протянул Матоушеку свои документы. Куда девалась его генеральская спесь! Когда офицеров увели в подвал замка, генерал безропотно развернул перед партизанским командиром оперативную карту и стал пояснять значение отдельных пометок. Свой визит в замок графа Дубского генерал мотивировал тем, что давно знаком с графом и хотел спросить разрешение хозяина на размещение штаба в его замке. Еще не окончился допрос пленного генерала, как к воротам замка подкатила вторая легковая машина. Генерал тут же сказал, что это остальная часть офицеров его штаба. И опять служанка Аничка Выкоукалова выбежала к воротам встречать гостей. — Милости прошу, господа, входите! Пан граф с генералом ожидают вас! Пройдя через двор, офицеры в нерешительности остановились возле парадного входа. От имени графа Дубского Аничка настойчиво попросила их войти в дом. Распахнув перед офицерами дверь, она не сходила с места, пока все четверо фашистов не прошли мимо нее. Партизаны мгновенно их обезоружили и тоже отправили в подвал. Иозеф Матоушек продолжал допрос плененного генерала. Оказалось, что генерал, чью грудь украшал Железный крест с дубовыми листьями и множество других фашистских наград, уже побывал в Советском Союзе. Его солдаты безуспешно штурмовали неприступные окраины Ленинграда. Он рассказал также, что не впервые в Моравии. Еще в 1939 году он принимал участие в оккупации Чехии и Моравии. Еще тогда-то он и подружился с фашистским прислужником графом Дубским, в замке которого намеревался сегодня разместить свой штаб. Он слышал о действиях партизан в горах Валашского края, но их появление в замке графа Дубского явилось для него полнейшей неожиданностью. После допроса генерала Иозеф Матоушек вновь взялся за графа Дубского. Вскоре граф согласился позвонить в Кромериж и пригласить в замок полковника Кобличека. Партизаны соединили перерезанные телефонные провода, и граф Дубский, не спуская глаз с наведенного на него пистолета, пригласил полковника Кобличека к себе в гости. Едва он успел положить трубку, как затрезвонил телефонный звонок. Графа Дубского вызывали из Литенчицкой ягдкоманды. — Все ли у вас в замке спокойно? — спросил встревоженный мужской голос. — Да! — заметно волнуясь, ответил граф. — У меня все в порядке... Во время этого разговора Матоушек не опускал пистолета. А граф Дубский старался изо всех сил. Партизаны пообещали ему, что если он будет беспрекословно выполнять их требования, то и он и члены его семьи останутся живы. Через несколько минут телефон зазвонил вновь. Просили к аппарату генерала. Но и он, взяв трубку, поглядывал на пистолет Матоушека и довольно спокойно ответил, что чувствует себя превосходно и, видимо, вместе с офицерами останется ночевать в замке графа. Уже под вечер в замок приехала Элизабет Дубская-Эйхлер. Несмотря на свои двадцать два года, она успела прожить довольно бурную жизнь. Первый ее муж был убит на Восточном фронте, второй оказался замешанным в заговоре против Гитлера и был расстрелян в конце 1944 года, а последний, третий, уже долгое время числился пропавшим без вести. И графиня Элизабет Дубская благосклонно принимала ухаживания коменданта города Кромерижа. Неожиданная встреча с партизанами в замке отца ошеломила молодую графиню. — Папа! Что здесь происходит? — вскрикнула она, увидев дрожащего, подавленного графа Дубского. — То, что видишь. Возьми себя в руки, Элизабет. Это судьба. Но графиня совсем потеряла самообладание, когда увидела в окно машину полковника Кобличека. И на этот раз Аничка Выкоукалова проворно выбежала к воротам замка и отворила калитку перед комендантом города Кромерижа. Полковник Кобличек в сверкающем, свежевыутюженном мундире бодро вошел в вестибюль. Но вместо голубых глаз Элизабет на него смотрели черные глазки автоматных дул. Он так растерялся, что забыл даже схватиться за свой роскошно отделанный пистолет, который тут же перекочевал в карман Иозефа Матоушека. Вся спесь мгновенно слетела с полковника. В кабинете во время допроса он пообещал партизанам достать для населения вагоны сахара, испуганно лепетал, что сам давно уже искал встречи с партизанскими командирами и хотел установить с ними тесную связь. Он клялся помогать партизанам в борьбе против гитлеровцев и готов был сделать все, что угодно, лишь бы его отпустили подобру-поздорову. Телефон начинал звонить все чаще. И Матоушек решил не испытывать больше судьбу. Семерых убитых офицеров штаба партизаны оставили в погребе замка. Сдержав слово, они не тронули графа Дубского и его семью. Графу вручили письмо, адресованное Литенчицкому гестапо. В письме было предупреждение, что если хоть один волос упадет с головы жителей деревни Гоштицы, возле которой стоял замок Дубского, то партизаны немедленно казнят генерала и уничтожат все немецкие семьи в этой округе. Прихватив с собой плененного генерала и полковника Кобличека, партизаны покинули замок и скрылись в Хржибских лесах. С ними ушла и служанка Аничка Выкоукалова, на деле доказавшая, что может быть отважной партизанкой. На другой день после событий в замке графа Дубского каратели ворвались в деревню Гоштицы. Они согнали всех жителей в замковый парк и заставили невинных людей копать себе братскую могилу. Но в самый последний момент граф Дубский подошел к офицеру, который командовал этой расправой, и поручился своей графской честью за то, что никто из гражданского населения деревни не принимал участия в действиях партизан. Одновременно он вручил офицеру письмо, оставленное Матоушеком. Посовещавшись, гестаповцы отпустили заложников и уехали из замка, увозя с собой трупы семерых офицеров штаба. ...Иозеф Матоушек через связного известил командира отряда «Ольга» об успешно проведенной операции. По приказу Ольги Франтишковой партизаны срочно заняли село Уездко, позаботившись о том, чтобы в этот населенный пункт никто не смог проскочить незамеченным. Здесь, на месте гибели Сергея Жукова, должен был состояться партизанский суд над полковником Кобличеком. Стоял теплый апрельский вечер, когда на единственной улице села Уездко показался взвод Матоушека. Все жители вместе с партизанами высыпали из домов и с любопытством разглядывали это необычное шествие. Впереди взвода с гордо поднятой головой вышагивал Иозеф Матоушек. Вслед за ним, в окружении партизан, ссутулясь, шествовал высокий, холеный генерал. На его груди в лучах заходящего солнца поблескивали гитлеровские ордена и медали. А позади него, со связанными за спиной руками, в щеголеватом, но теперь уже помятом мундире, плелся комендант города Кромерижа, полковник Кобличек. Опустив голову, он смотрел под ноги, боясь встретиться с ненавидящими взглядами местных жителей. Той же ночью в Уездко состоялся партизанский суд. На суде присутствовали и представители населения. Заседали недолго. После короткого совещания Ольга Франтишкова огласила приговор: — Коменданта города Кромерижа полковника Кобличека, как предателя чешского народа и нацистского пособника, совершавшего злодейские казни партизан, суд приговорил к повешению. Приговор суда был воспринят с единодушным одобрением и к утру приведен в исполнение.Валентина Журавлева СНЕЖНЫЙ МОСТ НАД ПРОПАСТЬЮ
С ума можно сойти! Не получается у меня статья. Вот пожалуйста, наугад открываю «Вопросы психологии»: «Наибольшее рассогласование между двумя гипотезами определяется средним значением и дисперсией суммы случайных переменных, которая равна сумме средних значений и дисперсий распределений, яз которых берутся переменные». Здорово, а? «Дисперсия суммы... которая... из которых...» Статья, в общем, пустая, но как звучит! — Скрибас? — спрашивает Гроза Восьми Морей на своем сомнительном эсперанто. — Пишешь, говорю? Он стоит у входа в палатку, в руках у него сковородка, солнце весело отражается в лысине Грозы Восьми Морей. — Заходи, дед, — приглашаю я. — Видишь, дела идут совсем малбоне. Не выходит статья. — Бывает, — успокаивает меня Гроза Восьми Морей. Он устанавливает сковородку на ящик, заменяющий стол, и бормочет: — Ши ирис претер домо сиа... нет, домо де сиа онкло. Она шла мимо дома своего дяди. — Какого дяди? О чем ты говоришь, дед? — Сиа онкло. Своего дяди. С предлогом «претер» упражняюсь. А тебе принес роста фиш. Жареную кефалку, значит. Я ем кефаль, слушаю болтовню деда, и у меня появляется отличная мысль. Мои попытки писать научным языком, в сущности, немногим отличаются от эсперантских упражнений Грозы Восьми Морей. Ну, а если я просто расскажу, как был открыт АС-эффект? Пусть редакторы сами уберут лишнее, уточнят термины — словом, сделают, что полагается. Главное — факты. — Ли ригардис... ригардис... — Гроза Восьми Морей огорченно вздыхает. — Забыл, понимаешь. Вот ведь... Он смотрел, ли ригардис, а куда он, печки-лавочки, ригардис — забыл... Ладно, ты себе скрибу, дону скрибу, я пойду, надо сети готовить. Итак, история открытия АС-эффекта. История эта уходит в глубь веков. В седую древность. В эпоху, когда мы жили в своем Таганроге и учились в шестом классе. С тех пор прошла целая вечность. Пять лет! Да, пять с половиной лет. Мы были тогда в шестом классе, заканчивалась третья четверть, и у Насти была двойка по арифметике. С этой двойки, собственно, все и началось. Вообще-то арифметика не ладилась у Насти с первого класса. Но в тот раз положение было прямо-таки катастрофическое. Мы — я и Саша Гейм — старались вытащить Настю. Я старалась, потому что дружила с ней. Да и как староста класса я обязана была что-то делать с ее двойками. А Гейм уже тогда считался математическим вундеркиндом, блистал на олимпиадах и задачки, которые нам задавали, щелкал как семечки. В полном блеске Гейм развернулся позже, через год-полтора, но для нас он уже давно был математическим гением. Он занимался с Настей почти каждый вечер, я тоже помогала: без меня у Гейма просто не хватило бы выдержки. Занимались мы много, однако у Насти ничего не получалось. А впереди была последняя в четверти контрольная работа. Так вот, собрались мы у Насти перед контрольной и стали решать задачи. Гейм в этот вечер кипел от злости. Накануне он достал математическую книгу, тайком читал ее на уроках, и теперь ему отчаянно хотелось удрать домой, к этой книге. — Попытайся немножко подумать! — с раздражением сказал Гейм, скомкав очередной лист с неправильным решением. — Нельзя решать, не дочитав условий. Что ты смеешься? — У тебя в очках лампа отражается, — объяснила Настя. — В каждом стекле по лампе. И когда ты злишься, они вспыхивают, как будто перегорают. — Есть два пункта, — каменным голосом сказал Гейм. — Пункт «А» и пункт «Б». Тебе понятно? — Он взял два карандаша, положил по обе стороны задачника. Настя перестала смеяться. — Расстояние между пунктами восемь километров. Ясно? Из пункта «А» вышел пешеход со скоростью пять километров в час. Одновременно и в том же направлении вышел из пункта «Б» автобус. Заметь, они движутся в одну сторону, это очень важно. — А куда они движутся? — спросила Настя. — Туда! — закричал Гейм и показал руками на край стола. — Куда-то туда, какая тебе разница! Главное, они идут в одном направлении. И автобус через двенадцать минут догоняет пешехода. Надо найти скорость автобуса. — Ладно, — согласилась Настя. — Не кричи, я найду. Она стала решать задачу, поглядывая на карандаши. Гейм сидел на подоконнике и смотрел на часы. — Фу, — радостно вздохнула Настя, — смотрите, сто семнадцать без остатка делится на тридцать девять. Значит, все правильно. А я боялась, не будет делиться. Ответ: три километра в час. — Три километра! — Гейм подпрыгнул на своем подоконнике. — Ты, Настя, уникальная дура. Пешеход дает пять километров в час, автобус позади пешехода, автобус его догоняет, значит, скорость у него больше, чем у пешехода. Подумай: как автобус догонит пешехода, если будет ползти со скоростью три километра в час?! Тут мне пришлось вмешаться, потому что Настя обиделась на «уникальную дуру». Я полистала задачник и нашла другую задачу, полегче. В девять утра со станции вышел товарный поезд, а в полдень отправился экспресс. Скорости поездов известны, надо узнать, в котором часу экспресс нагонит товарный поезд. — Допустим, ты не дура, — великодушно сказал Гейм. — Я не настаиваю. Но логически мыслить ты не можешь, это аксиома. Вот если бы ты прочитала книгу Пойа «Математика и правдоподобные рассуждения»... Пойа дает общий метод решения задач. Решать надо всегда с конца. — Я и решаю с конца, — возразила Настя. — Смотрю ответ, потом решаю. — «Смотрю ответ»... Я же тебе о другом говорю! Решать задачу с конца — значит представить себе, что именно надо найти. Вот в этой задаче надо найти время. Давай рассуждать дальше. Что такое время? — Ну, время... это такое... оно идет. — Время — есть расстояние, деленное на скорость. Поняла? Скорость нам известна. Разность скоростей в данном случае. И если мы узнаем расстояние, задача решена. Ясно? — Нет, с конца я не могу. С ответа могу, а с конца — нет. Гейм хотел сказать что-то ехидное, но я ему показала кулак. Настя долго возилась с задачей, перемножала и делила какие-то шестизначные числа. И наконец объявила ответ: экспресс догонит товарный поезд в десять часов утра. — Слушай, Кира, с ним что-то происходит, — испуганно произнесла Настя, показывая на Гейма. — Ты посмотри на него. Еще бы! Экспресс догнал товарный поезд до того, как он, экспресс, вышел со станции. Мне было жалко Гейма, я понимала его чувства, но ведь к контрольной все равно надо готовиться. Гейм мрачно уставился на часы, а я дала Насте еще одну задачу. — Эту я обязательно решу, — неуверенно сказала Настя. — Ты не сердись, Саша. Ты же сам говорил, что Эйнштейн в школьные годы хватал двойки по математике. А ты ко мне придираешься. Я решу задачу, я ее понимаю. «Из закипевшего чайника отлили две трети воды». Значит, там осталась одна треть, видишь, я все понимаю. «Оставшийся кипяток долили водой, температура которой равна двадцати градусам. Определить температуру воды в чайнике». Ну, тут четыре вопроса... Гейм подошел и стал смотреть, как она решает. Настя написала четыре вопроса, вывела ответ и облегченно вздохнула. У Гейма позеленело лицо. Он взял свою шапку и ушел, хлопнув дверью и не простившись. Настя растерянно моргала, с трудом сдерживая слезы. — Я же не хотела его обидеть, — повторяла она. — Ну, Кира, правда, я его не хотела обидеть, почему он ушел? Вот еще вопрос! А что должен был сделать Гейм, если по Настиному решению вода в чайнике имела температуру в двести четырнадцать градусов?! Гейм ушел, а я не могла уйти. Но я не знала книги Пойа «Математика и правдоподобные рассуждения» и вообще не была математическим вундеркиндом. Я ходила в театральный кружок, там говорили не о математике, а о системе Станиславского. Дома тоже говорили о системе Станиславского, отец и мать у меня театральные художники. И я стала учить Настю решать задачи по этой системе. У меня просто не было другого выхода. — Не реви, — строго сказала я Насте. — Прекрати реветь и представь себе события, которые происходят в задаче. Ну, как будто это театр. Или кино. Вот пешеход идет по дороге. Ты вообрази себе эту дорогу. Вообрази пешехода. Кто он такой. Как одет. И зачем ему надо идти. А тут еще дождик, такой мелкий, противный дождик, представляешь? Ну, понятное дело, пешеход переживает, он даже злится на себя, что не стал ждать автобуса. И подсчитывает: догонит его автобус или не догонит? — Нет, — перебила Настя. — Он знает, что автобус его догонит. Он подсчитывает, скоро ли автобус его догонит. Вот, думает, подниму тогда руку, и водитель остановит автобус. А дождь, конечно, идет все сильнее... Ну, тут я обрадовалась в десять раз больше, чем промокший пешеход при виде автобуса. — Давай, Наська, — скомандовала я. — Вживайся в образ, у тебя получается! У нее в самом деле получалось. Она грызла карандаш, который изображал пункт «А», и смотрела на меня очень странным взглядом. Она как будто сквозь меня смотрела, куда-то очень далеко. И там была дорога, не очень хорошая грунтовая дорога, по которой шел пешеход, симпатичный парень в клетчатой ковбойке, и прислушивался: не идет ли сзади автобус. — Не вышло, — вздохнула Настя. — Не взял его автобус, обрызгал водой, обфыркал вонючим дымом и помчался дальше. Со скоростью сорок пять километров в час. Она не заглядывала в ответ, она сама нашла эти сорок пять километров в час! Тут мы сразу принялись за поезда. Правда, сначала не получалось. Настя продолжала думать о пешеходе, которого не подобрал автобус, дождь в той задаче уже лил как из ведра, и спрятаться пешеходу было некуда. Все это мешало Насте вжиться в образ товарного поезда, которому очень обидно, что его вот-вот перегонит расфуфыренный экспресс. Зато в образ закипевшего чайника Настя вжилась как-то сразу. Она даже пофыркивала, вживаясь. И очень сочувствовала чайнику. Он был уже не новый, закопченный, грузный, с накипью. Ручка на нем оторвалась, ее небрежно завязали проволокой. А ведь когда-то он ходил в туристские походы... Вот так все началось. Конечно, я тогда не предвидела, во что это выльется. Меня радовало, что Настя получит тройку в четверти. Она и получила свою тройку. Это была колоссальная победа, и мы продолжали заниматься. Я заставляла Настю вживаться в каждую задачу. Метод действовал надежно, только времени нужно было много: не так просто вжиться, скажем, в образ колхозного поля, которое засеяно на три восьмых пшеницей, на две девятых кукурузой, потом еще чем-то, и в связи с этим надо что-то узнать... Что поделаешь. Гейм уже начал свою стремительную карьеру, у него не было ни минуты свободного времени, а я могла учить Настю только по системе Станиславского. И вот пошло — в шестом классе, в седьмом и дальше. Настя старалась, она даже похудела, и только глаза у нее с каждым годом становились больше. Раньше я как-то не обращала внимания на цвет Настиных глаз. А тут вдруг заметила, что глаза у нее, как небо в грозу. Серые, а кажутся темнее черных. Большущие глаза цвета грозового неба. И в них все чаще появлялся странный взгляд — сквозь вас, сквозь стены, куда-то далеко-далеко, где идут поезда из пункта «А» в пункт «Б» и автобусы догоняют пешеходов. А я подталкивала Настю: «Давай вообрази, как там все происходит» — и не думала, к чему это приведет. Мне это казалось обычным. Скажем, у Игоря Лаубиса хорошая память — он этим берет. Нина Гусева перечитала уйму книг, ей начитанность помогает. Саша Гейм прирожденный математик. Ну, а Настя держится на воображении, только и всего. Я тогда не понимала, что затеян психологический эксперимент. Допустим, память — тут целая наука, как ее развивать. Но никто не ставил такого, как бы сказать, такого нахального опыта по развитию воображения. Никто не знал, что здесь скрыты невероятные возможности. Наш дом в Исполкомовском переулке, а за углом, на Карла Либкнехта, одно лето жил мальчишка, упитанный, розовый балбес. Так вот, он все лето тренировался по плеванию в цель. Сидит на скамеечке и плюет в картонку с кругами. Смотреть противно. За три месяца он научился попадать в десятку с пяти шагов. Вот что может дать упорная тренировка! А Настя тренировалась не три месяца, а все пять лет — до окончания школы. Она перевоображала тысячи задач! К тому же у нее наверняка были соответствующие природные данные. Мы перешли от задач с пешеходами, поездами и городами в безлюдную область синусов, усеченных конусов и биквадратных уравнений. Но Настя могла вообразить любую задачу. Даже тригонометрические функции острого угла она видела как взаимосвязанные особенности характера некоего человека по фамилии О. Угол. Человек этот менялся на глазах: одни качества вытеснялись другими, что-то безгранично увеличивалось, что-то безвозвратно терялось. В шестьдесят градусов О. Угол был уже не таким, как в двадцать. Да что там О. Угол! У Насти оживали совсем уже безликие иксы и игреки. Я ко всему, казалось, привыкла, но и меня поражало — как она различает иксы и игреки, ведь они у нее в каждом примере были разные. Я приставала к Насте — вот тебе система уравнений: 2x2 — y = 2, x3 — y = 1, объясни, пожалуйста, что ты там видишь. Как же, говорила Настя, этот икс такой маленький, такой серенький малышок-первоклассник. Видишь, он пыжится, ему хочется казаться старше, он возводит себя в квадрат, в куб, удваивает — и все равно остается маленьким. И мордочка у него измазана чернилами. Отними игрек — и почти ничего не останется. Но ведь его жалко, этого малыша, продолжала Настя, я думаю, пусть у него ничего не отнимают. Пусть этот игрек уберет свои лапы, исчезнет. Ну и тут уж совершенно ясно видно, какой он малыш, этот иксёнок: возвел себя в третью степень, и все равно равен единице... В восьмом классе меня однажды послали к первоклассникам, у них заболела учительница, надо было заполнить свободный урок. Я взяла с собой Настю. Это очень важный эпизод в истории открытия АС-эффекта. Представьте себе три десятка первоклассников, они, конечно, отчаянно шумят, возятся. И вот Настя начинает им рассказывать про Красную Шапочку. Через две минуты наступает такая тишина, что я слышу, как скрипят новые Настины туфли. Я, дура, радуюсь и не думаю, что малыши могут испугаться. Настя рассказывает, как Красная Шапочка идет по дремучему лесу. Она совсем не старается добиться художественного эффекта. Она смотрит сквозь нас и рассказывает то, что видит. А видит она страшный лес. Он уходит в бесконечность. Ни один звук не возвращался из бездонной фиолетовой тьмы. Костлявые серые стволы тесно обступают Красную Шапочку, а над тропинкой клубятся душные испарения, сгущаются в липкий белесый туман. Змеящиеся ветви деревьев беззвучно опускаются позади Красной Шапочки, отрезая обратный путь... Эти извивающиеся змееветви доконали двух маленьких девочек на первой парте, они начали реветь, но Настя на них и не взглянула. А я растерялась. Ведь рассказывала Настя правильно, и малыши слушали. Тем временем Настя дошла до того, как Серый Волк съел бабушку. Сами посудите, каким он должен быть, этот проклятый волк, чтобы вот так запросто сглотать целую бабушку. И Наська выдала им соответствующего волка. Малыши завыли, прибежала завуч, мне крепко досталось... В этот день я начала понимать, что затеяла с Настей нечто необычное. Я пошла в библиотеку, взяла учебник психологии для педвузов и стала читать. Ну, не скажу, что все было понятно. Но две вещи я себе уяснила. Во-первых, после школы я пойду на психологический. Во-вторых, эксперимент надо продолжать. В восьмом классе Настя училась на четверки и пятерки. Значит, ничего плохого от развитого воображения быть не может. Это я тогда так рассуждала. Наивно, конечно: раз хорошие отметки — все в порядке. Теперь-то я понимаю, что Настя просто была бы другим человеком, если бы в тот вечер перед контрольной я не выпустила джина из бутылки. И у меня тоже была бы другая судьба. Я ведь мечтала о кино, о театре, три года ходила в театральный кружок, а тут мне сказали: так нельзя, выбирай. Они были правы, не спорю. Я пропускала репетиции, не учила роли, вообще утратила интерес к искусству. Читала книги по психологии, одолела даже две работы Жана Пиаже: «Проблемы генетической психологии» и «Роль действия в формировании мышления» — и постепенно крепла уверенность, что я на верном пути. Понимаете, в психологии слишком сильна, как бы это сказать, наблюдательская тенденция. Взгляд со стороны. Даже психологические эксперименты — это тоже наблюдение в слегка измененных условиях. Представьте себе, что физики ограничились бы экспериментами при небольших температурах, давлениях, скоростях; где была бы сегодня физика? Конечно, психология имеет дело с человеком и вынуждена быть осторожной, но все-таки мы должны перейти к активным экспериментам по исследованию возможностей человеческого мозга. Смешно. Тогда меня огорчало, что я не могу поставить опыт на себе. Не было новых идей. Мне оставалось продолжать эксперимент с Настей. Я объявила Насте, что отныне она подопытный объект. Настя улыбалась и смотрела на меня — нет, сквозь меня! — своими глазищами цвета грозового неба. С этого времени я заставляла Настю вживаться в образы по всем предметам — по литературе, по физике, по химии и даже по черчению. Конечно, не все шло гладко. Скажем, история. История требует точности, это не математика, где можно вообразить пешехода веселым или, наоборот, грустным, можно мысленно остановить автобус или представить себе, что он проехал мимо. Настя однажды вообразила, как Меншиков, уже в ссылке, стоит у окна избы, и на дворе идет дождь, и Меншиков нехотя, небрежно водит по подбородку старой электробритвой «Харьков». Подумать только, электробритва в первой половине восемнадцатого века! Но Настя утверждала, что очень хорошо видит эту картину и даже слышит монотонное жужжание электробритвы... Лучше всего у Насти получалось с математикой, физикой, химией. Думаю, это не случайно. Если расположить все отрасли науки и все виды искусства в ряд по степени точности, на одном конце ряда будет история, наука документальная, полностью исключающая вымысел, а на другом — поэзия, почти нацело состоящая из вымысла. Ну, а математика, физика, химия — как раз посредине. Стихи Настя не могла сочинять: ей нужны были исходные данные, условия задачи. Зато с математикой дела у нас шли блестяще. В девятом классе это признал даже Саша Гейм. Произошло это так. Однажды на большой перемене он объявил, что есть задачка из репертуара приемной комиссии физтеха. С бассейном и четырьмя трубами. Народ, естественно, возмутился: всем изрядно надоели задачечные бассейны, специально созданные, чтобы топить бедняг абитуриентов. Но слова «приемная комиссия» и «физтех» звучали весомо. Игорь Лаубис пошел к доске, а Гейм стал излагать задачу. Когда открыты первая, вторая и третья трубы, бассейн заполняется за двенадцать минут. Если открыты вторая, третья и четвертая трубы — за пятнадцать минут, если первая и четвертая — за двадцать. Спрашивается: за какое время бассейн наполнится водой при четырех открытых трубах? Я следила за Настей. Она смотрела сквозь Гейма и, конечно, видела этот бассейн. Вероятно, она видела и трубы, и краны, и, может быть, даже людей, сидевших у бассейна и ждущих, когда же он, наконец, заполнится. Игорь стал писать на доске уравнения, ребята ему подсказывали. Но тут Настя сказала: «Совсем маленький бассейн. За десять минут заполнится». Гейм сразу насторожился и стал допытываться, откуда Настя знает ответ. — Вот бассейн, — ответила Настя. — Бетонные стенки, лестница, два трамплина. И трубы. Черные такие трубы, а на них белой краской написаны номера... — Почему трубы черные? — перебил Лаубис. — Может быть, они серые. Или оранжевые. — Черные. С большими белыми номерами, — повторила Настя. — Я так вижу, тебе какое дело? Номера один, два, три. Идет вода, за минуту она заполнит бассейн на одну двенадцатую. Рядом трубы с номерами два, три, четыре. В минуту заполняют одну пятнадцатую бассейна. И снова трубы с номерами один и четыре. Одна двадцатая объема в минуту. Каждый номер повторяется два раза, это же сразу видно. Восемь труб, два комплекта по четыре. За минуту они заполняют одну пятую бассейна, весь объем — за пять минут. Значит, четырем трубам нужно вдвое больше времени. Вот и все. — Учитесь, народы, — торжественно объявил Гейм. — Логика и ясность мышления. Моя школа! Как же, его школа... Меня не раз подмывало все рассказать, но я не решалась. В книгах по психологии я вычитала, что математические способности связаны с умением оперировать абстрактными понятиями. Математик, говорилось в книгах, мыслит обобщенно, свернутыми структурами. Вот задача такого-то типа, думает он, здесь надо сначала идти таким путем, потом сделать то-то и то-то. И так далее. Понимаете, без всяких картин. Наоборот, математическое мышление как раз и состоит в том, чтобы уйти от конкретных картин к операциям с обобщенными образами и символами. Получалось, что моя работа с Настей — просто бред, ересь какая-то. Я попробовала говорить с парнем, который учился на пятом курсе нашего педвуза. Разговор не получился: он начал посмеиваться, я замолчала. Оставались книги. Я много читала, мне казалось, что должна отыскаться книга, которая ответит на все мои вопросы. Книгам уже было тесно в моей комнатушке. Они лежали на столе, на подоконнике, на полу. Однажды, чтобы освободить место, я перенесла в отцовский шкаф все, что когда-то собрала о театре. «Ну вот, — грустно сказал отец, — сегодня ты сделала окончательный выбор. Жаль. Ты стала бы хорошей актрисой». Театр. Теперь у меня не хватало времени, чтобы съездить в Ростов на премьеру. Двадцать четыре часа оказались такими же тесными, как моя комнатушка. Я почти физически ощущала эту тесноту. А эксперимент продолжался. Настя шла по математике на пятерки. Она даже попала с Геймом на областную олимпиаду. Я поехала с ними, мне хотелось присмотреться к ребятам-математикам. Что ж, в общем, они были похожи на Гейма: мыслили этими самыми свернутыми структурами, символами и, конечно, не вживались в образы иксов и игреков. И все-таки Настя до самого конца олимпиады держалась в призовой группе. Срезалась она перед финишем. По условиям задачи надо было найти высоту облаков над рекой. А наблюдатель был где-то в стороне. Так вот, Настя — единственная! — учла при решении кривизну земной поверхности. И совершенно напрасно. У жюри начался спор, мнения разделились. С одной стороны, задача не требовала поправок на кривизну. С другой стороны, наблюдатель стоял далеко от того места, над которым висели облака, поправка на кривизну давала разницу около тридцати сантиметров. Я-то понимала, что для Насти просто не было выбора. Она видела эти облака, видела, как они уходят к горизонту и, конечно, должна была учесть выпуклость Земли. Словом, Насте снизили баллы за громоздкость решения. По-моему, несправедливо. Определенную роль тут сыграл психологический фактор. Члены жюри с некоторым сомнением поглядывали на Настю. Ну представьте себе ребят на математической олимпиаде. Сосредоточенные, эрудированные, прямо-таки излучающие любовь к математике, к науке — и потому очень надежные. А рядом — Настя. Начинающая кинозвезда с обложки «Советского экрана». Рассеянно смотрит куда-то в пространство, ничего не записывает... Гейм занял первое место, Насте досталось седьмое, вернулись мы все-таки с победой. — Не дуйся, — утешал меня Гейм. — Совсем неплохой результат для Насти. В десятом классе нажмет, выйдет на призовое место. Хотя, честно говоря, нет у нее божьей искры. Он, конечно, не сомневался, что у него эта самая искра есть. Тщеславие вундеркиндов... — Слушай, Гейм, — предложила я, — давай договоримся так. Если Настя в ближайшие пять лет перегонит тебя, ты устроишь артиллерийский салют победительнице. — Как это — салют? Вот они, свернутые структуры. Ни капли настоящего воображения! — А так. У памятника Петру стоят две старые пушки. Зарядишь их и выстрелишь. А если ты выиграешь, мы тебе отсалютуем из пяти орудий. Две пушки у Петра, две у музея и одна возле проходной судоремонтного завода. На весь Таганрог будет шум... Тут до него дошла эта картина. Мы заключили торжественное соглашение. Пять лет... Понимаете, есть в психологии мнение, что математические учебные способности вовсе не гарантируют наличия математических творческих способностей. На эту тему психологи спорят по крайней мере полстолетия. И могут спорить еще столько же. А я должна была что-то решать. Настя относилась ко мне, как спортсмен к тренеру: мое мнение много для нее значило. В общем, я переворошила массу литературы, подумала и решила: Настя должна поступать в физтех. Летом мы с утра шли в порт, на мол. Порт в Таганроге небольшой, тихий. Бетонный мол — излюбленное место рыбаков. Они целыми днями сидят там со своими удочками. А мы сидели с книгами. За лето я погрузилась в самые дебри психологии — теорию интеллектуальных операций, генетическую эпистемологию, факторный анализ, функциональное моделирование. Настя читала курс высшей математики Фихтенгольца и для практики пыталась рассказывать на английском языке душераздирающие истории из личной жизни дифференциалов и кривых второго порядка... Кое-что мне удалось записать и потом проанализировать по методу Лирмейкера. Результат был ошеломляющий: индекс фантазии превышал 250. Между тем сам Лирмейкер говорит, что ему ни разу не встречался человек, индекс которого был выше 160. Отрабатывая технику анализа, я проверила научную фантастику, сказки, мифы. Лишь в двух случаях индекс фантазии достиг200 — это соответствовало, по Лирмейкеру, гениальной фантазии. В конце лета я устроила специальное испытание и заставила Настю написать сочинение на тему «Пятое время года». Сама я тоже с превеликим трудом выжала три странички на эту тему (индекс фантазии 106). Я брала самые жесткие коэффициенты, которые только допускал метод Лирмейкера, — все равно у Насти получалось 290 единиц! Конечно, шкала Лирмейкера тут просто теряла смысл. Качество, которое выработалось у Насти, уже не было фантазией в обычном понимании этого слова. Это новое качество так относилось к простой фантазии, как интегральное исчисление относится к арифметике. И еще одну работу я проделала в это лето: составила сборник задач и упражнений по развитию ультрафантазии. Все эти годы я шла, в сущности, на ощупь, у меня не было сколько-нибудь обоснованной системы. Да и не могло быть, никто не ставил таких опытов. И вот теперь я отчетливо видела пути развития ультрафантазии. Видела ошибки, допущенные раньше. Начнись опыт сейчас, я добилась бы тех же результатов за два года, а не за четыре. В десятом классе у Насти были сплошные пятерки. Гейм уехал в Новосибирск, в физматшколу, и Настя сверкала на нашем небосклоне без конкуренции. Да, пожалуй, тут надо сказать о парнях. Математическая слава плюс огромные глаза цвета грозового неба действовали как магнит. Сначала это меня тревожило. Мерещились разные ужасы: а вдруг Настя выйдет замуж и не пойдет в физтех... Ничего, обошлось. Видимо, не очень приятно, когда смотрят сквозь тебя и думают о чем-то своем. В соответствующих кругах сложилось мнение, что Настя — зубрилка, мечтающая только о золотой медали. Она и в самом деле получила золотую медаль. Я с трудом вытянула на похвальную грамоту; все считали, что Настя мне помогает, приходилось поддерживать честь фирмы. Медаль — это хорошо, а вот сомнений у меня тогда было более чем достаточно. Я вдруг обнаружила: на переднем крае точных наук господствует идея, противоречащая самой основе моего эксперимента. Считается, что современная наука работает там, где воображение бессильно. Чем смелее ученый уйдет от наглядных представлений, тем дальше он продвинется. И это подкреплялось убедительными примерами. В самом деле, попробуйте вообразить фотон, который ведет себя иногда как частица, иногда как волна, иногда как волно-частица и к тому же не имеет массы покоя... Теория относительности, квантовая механика, ядерная физика — каждый шаг вперед удавалось сделать лишь ценой отказа от наглядных представлений. Именно поэтому так выросла роль математики. Получалось, что я иду против течения. Для утешения я придумала теорию щелей: продвигаться вперед можно не только с позиции математической силы, но и окольными путями — существуют щели, по которым воображение способно прорваться далеко вперед... Мы поехали в Москву и без особого труда поступили: Настя—на свой физико-технический, я — на психологический факультет МГУ. Забавное было зрелище, когда мы впервые появились в коридорах физтеха. Я не сомневалась в Насте и позволила себе немного порезвиться. Оделись мы просто, но очень эффектно. Психология кое-чему научила меня в этом смысле. К тому же мы с апреля ходили на мол и успели основательно загореть. Широкие массы бледнолицых абитуриентов были потрясены. — Дорогие девушки, — вежливо обратился к нам долговязый парень — неужели вы решили бросить ВГИК?.. — О чем ты говоришь, Борис? — вмешался другой интеллектуал. — Актрисы просто пришли посмотреть. В перерыве между съемками. Это была одна шайка. Ребята из математической школы Костылева. Они понимали друг друга с полуслова, чистенько подхватывали реплики, просто прелесть. Мы им подыгрывали: «Загар? Отдыхали в Крыму, подумаешь. Говорят, главное перед экзаменами — свежий воздух и хорошее питание...» Развлекались они минут двадцать. Зато с каким удовольствием я рассматривала их физиономии после экзамена! Решая задачу, Настя самостоятельно пришла к формуле Коши-Буняковского. — Значит, свежий воздух, да? — сказал мне долговязый. Сам он едва-едва дотянул до пятерки, и вид у него был взъерошенный. — Значит, свежий воздух и хорошее питание? Артистки! Не бросайте ВГИК, подумайте о судьбах родного киноискусства... Мы поселились у Лидии Николаевны, двоюродной тетки Насти. В наше распоряжение была выделена шикарная комната в двенадцать квадратных метров, из которых по крайней мере три метра занимали камни, минералы, полезные, полуполезные и просто бесполезные ископаемые, собранные мужем Лидии Николаевны, геологом, работавшим сейчас в Афганистане. Камни были на подоконнике, на полках, на полу. Тахта, которая мне досталась, стояла на четырех глыбах полупрозрачного, похожего на лед, флюорита. Два дня мы сдирали пыль, въевшуюся в поры камней, и довели минеральное царство до блеска. Потом заново разложили камни. На стол поставили большую друзу золотистого пирита. Лидия Николаевна, работавшая в архитектурном институте, объявила, что камни отлично вписались в интерьер. Конечно, не худо было бы убавить камней и прибавить этого самого интерьера. Однако я не хотела переходить в общежитие до завершения эксперимента. Вывод формулы Коши-Буняковского (чем я немало гордилась) еще не гарантировал, что Настя сможет самостоятельно делать новые открытия. Тут вообще складывалась кошмарная ситуация. Я не могла требовать от Насти открытий сразу, на первом курсе. А с другой стороны, нельзя было ждать пять или десять лет, это меня никак не устраивало. Психологические эксперименты требуют иногда столько времени, что и трех жизней не хватит. Я злилась, но ничего не могла изменить. Насте надо было заниматься. Мне тоже. Много времени уходило на дополнительные предметы — я составила индивидуальные планы на два года вперед. Плюс спорт: четыре раза в неделю мы ходили на плавание. Наконец, Москва — с ее театрами, концертными залами, картинными галереями, музеями и просто площадями и улицами, которые обязательно надо было обойти. Я много ходила. Мне нравилось ходить по улицам большого города, смотреть на прохожих, на дома, на витрины и думать. Однажды (это было в конце зимы) я забежала погреться в метро и на встречном, поднимающемся вверх, эскалаторе увидела ребятишек с воспитательницей. Вероятно, это была группа из детского дома. Трудно сказать, куда они ездили в такой мороз. Ребятишки были в одинаковых шубках, шапках и рукавицах. «Двадцать шесть человек, — сказал кто-то за моей спиной. — Две футбольные команды и запасные игроки. Подрастает смена». «Вот именно, — насмешливо отозвался другой голос. — Сегодня у них равные шансы. Потом кто-то станет капитаном, а кто-то просидит всю игру на скамейке, в запасе...» Я хотела обернуться, и вдруг — мгновенно, в какую-то неуловимую долю секунды — у меня появилась мысль, которую я ждал все эти годы. Я отчетливо увидела, что надо делать дальше. Увидела картину, в которой эксперимент с Настей был лишь одним из эпизодов. Ушел поезд, на время опустел перрон, а я стояла, смотрела на рельсы, и сердце стучало так, словно я бежала куда-то из последних сил. С этого дня я начала готовиться к следующему эксперименту. Время — вот чего мне постоянно не хватало. Слишком быстро прошел этот первый год в Москве. Летом, сразу после экзаменов, я устроила Настю лаборанткой в институт технической кибернетики. Я надеялась, что Насте представится случай проявить свои способности. Случай действительно представился, хотя все получилось совсем не так, как я рассчитывала. После первого трудового дня Настя вернулась в восторженном настроении, невнимательно проглотила парадный обед, сооруженный мною под руководством Лидии Николаевны, и весь вечер вводила нас в дела лаборатории бионики. Группа, в которой работала Настя, занималась проблемой распознавания образов. В общих чертах эта проблема мне знакома, она затрагивает и психологию. Возьмем какую-нибудь букву, скажем «а». Ее можно написать по-разному: прописью, печатным шрифтом, мелко, крупно, самыми различными почерками, но человек легко определит, какая эта буква. Можно положить «а» набок, перевернуть, зачеркнуть каким-нибудь замысловатым узором — все равно человек увидит и узнает «а». Наш мозг умеет выделять главное, характерное для всех изображений объекта и отбрасывать несущественные детали, как бы они ни искажали этот объект. Значит, существуют приемы, с помощью которых мозг распознает зрительные образы. Чтобы научить машину распознавать образы (без этого она не сможет читать и вообще видеть), нужно найти приемы распознавания, суметь их промоделировать; в этом одна из главных задач бионики. В Настиной лаборатории опыты велись на персептроне — электронной машине, специально сконструированной для распознавания образов. Персептрону показывали набор географических карт, и машина безошибочно отыскивала два одинаковых изображения среди сотен более или менее похожих. Настя уверяла, что персептрон — просто чудо. — С таким персептроном, — сказала Настя, — мы обязательно утрем нос самому Розенблатту, основоположнику персептроники. Тут она замолчала и стала смотреть на камни в углу комнаты. Сначала мне показалось, что Настя представила себе эту картину — как осуществляется процедура утирания носа и как ведет себя при этом основоположник персептроники. Но по глазам (в них начали собираться грозовые тучи) я поняла, что дело серьезнее. У Насти появилась идея. Понимаете, наступил момент, которого я ждала столько лет! Мне хотелось расцеловать Настю, но из психологических соображений я сдержала восторг. Надо было по-деловому все обсудить. Идея в самом деле была замечательная. Предъявим персептрону много разных фотографий одного и того же человека. Пусть машина выделит наиболее характерные черты и даст обобщенный портрет. Каким бы искусством ни обладал фотограф, он не может снять обобщенный образ. Обобщение под силу только живописи. Но живопись — в отличие от фотографии — не документальна. Если идея окажется верной, персептрон позволит соединить конкретность и точность фотоискусства с художественным обобщением, свойственным живописи. И тогда останется сделать только шаг, чтобы прийти к новому синтетическому виду искусства — фотописи... Мы не спали до поздней ночи, на все лады развивая эту идею. Мы не представляли, как обернется дело. Это моя вина. Я обязана была предусмотреть возможные осложнения. Утром, проводив Настю, я пошла в читалку. В этот день мне никак не удавалось сосредоточиться, мысли все время вертелись вокруг Насти, персептрона и фотописи. Я даже попыталась представить, как мы утираем нос Розенблатту. А вернувшись домой, обнаружила плачущую Настю. На кровати лежал чемодан, и Настя, глотая слезы, укладывала в него свои вещи. Пришлось потрудиться, пока я получила информацию о случившемся. Так вот, утром Настя изложила идею своему непосредственному начальнику, программисту Юрочке. При этом она называла его «шеф» и смотрела на него глазами цвета грозового неба. Юрочка, конечно, не устоял. Он пробормотал: «Головокружительная идея!» — и пошел к руководителю группы, бородатому Вове. Тот сначала морщился и хмыкал, но Юрочка привел неотразимый довод. Он напомнил, что в связи с юбилеем П. П. Пыхтина, старшего научного сотрудника отдела экономики, юбилейная комиссия готовит альбом; там собраны полторы сотни снимков, просто готовый материал для персептрона. И лаборатория бионики, которую упрекали в прохладном отношении к предюбилейной возне, теперь сможет внести свой вклад, украсив альбом первым в мире фотописным портретом. Вова поскреб бородку и согласился. Начали обсуждать детали. Выяснилось, что попутно удастся проверить некоторые спорные положения, содержащиеся в недавно опубликованной статье киевских биоников из группы Стогния. «Такой появился энтузиазм, — вытирая слезы, рассказывала Настя, — их уже нельзя было остановить...» Но она, разумеется, и не думала их останавливать. Подготовка опыта заняла три часа, пришлось переналаживать фотоблок. Восемь минут машина рассматривала альбом. Еще двадцать пять минут ушло на обработку полученного фотописного портрета. К обеденному перерыву портрет был готов. Сработали неведомые каналы информации, вокруг персептрона собрался народ из разных отделов и лабораторий. Появление первой фотописи шумно приветствовали. Портрет получился яркий. Пыхтин выглядел на нем несколько необычно и в то же время был чрезвычайно похож. Юрочка, дававший пояснения, подчеркивал, что лаборатория реализовала идею нового сотрудника. Идея всем нравилась, новый сотрудник — тоже. Прибыл Павел Павлович Пыхтин, осмотрел портрет, промолвил: «Гм, любопытно...» Увеличенный снимок повесили в холле, рядом с объявлением о юбилейных торжествах. С этого и началось. То ли освещение в холле было другим, то ли сказалось увеличение, во всяком случае что-то сразу изменилось. Настя считает, что сработал фактор времени: в фотопись надо хорошенько всмотреться. Так или иначе, все скоро заметили, что П. П. Пыхтин выглядит на портрете как-то непривычно. Не было, например, модных очков. Казалось, это делает П. П. Пыхтина моложе, и только. Но вместе с очками исчезла интеллигентность. Что-то изменилось в выражении глаз и маленького, плотно сжатого рта. Персептрон сделал то, что удается лишь очень талантливому портретисту. Он убрал все внешнее. Изменения были почти неуловимые. Но с портрета смотрел настоящий Пыхтин. Человек не очень умный, но старающийся казаться умным и значительным. Человек не очень добрый, однако носящий добрую улыбку. «Он был без грима, — сказала Настя. — Наверное, таким он бывает наедине с собой». В холле наступило неловкое молчание. Потом все разошлись по своим комнатам. Инженер Филипьев, обычно спокойный и немногословный, долго и взволнованно втолковывал, что сами виноваты: следовало найти другого человека. Карьера П. П. Пыхтина началась когда-то со статьи, разоблачающей приверженцев буржуазной лженауки кибернетики. Филипьев припомнил другие эпизоды и предсказал, что у Пыхтина не хватит ума свести историю с портретом к шутке. Предсказание не замедлило сбыться; последовал телефонный звонок. Бородатый Вова и Юрочка героически приняли удар на себя, а Настю отправили в командировку. Решение было почти гениальное. Юбиляр мог считать, что лаборатория бионики и Настя наказаны. Лаборатория и Настя могли считать, что никакого наказания нет, так как ехать Насте предстояло в курортные края, на черноморское побережье Кавказа. По этому случаю в лаборатории был распит баллон томатного сока. Бородатый Вова от имени коллектива выразил уверенность, что новую лаборантку ожидает блестящее будущее, ибо устроить такой переполох на второй день пребывания в храме науки — это надо уметь... — Так в чем же дело? — спросила я. — Выходит, все отлично устроилось? Настя, всхлипывая, покачала головой: — Придется ехать на дельфинью базу, а там нет ни дельфинов, ни базы. В сентябре только начнут строить. В лаборатории интереснее. На следующий день я пошла в институт. Говорила с бородатым Вовой. Слушала Юрочку, который клялся продолжать исследования по фотописи. Ходила к начальству. Изменить уже ничего нельзя было, уехал директор института. Но я договорилась, что меня тоже зачислят лаборанткой и отправят вместе с Настей. — Дельфинов, конечно, на базе нет, — сказал бородатый Вова, задумчиво рассматривая мое заявление. — Дельфины пока резвятся в море. Но при выдающихся способностях Анастасии Сергеевны не представляет никакого труда, предположим, расшифровать парадокс Грея и без дельфинов. Я спросила, что это такое — парадокс Грея. Вова вздохнул, еще раз прочитал мое заявление и не совсем уверенно предложил перенести разговор о парадоксе Грея на внеслужебное время. Я вежливо отклонила это любезное предложение. — Кажется, что-то припоминаю насчет парадокса, — сказала я, и это было химически чистое вранье: я не могла ничего вспомнить, поскольку ничего и не знала. — Пожалуй, вы правы. Парадокс Грея можно расшифровать и без дельфинов. Мы этим займемся. — Вот-вот, — пробормотал Вова, поскребывая бородку. Он растерялся от такого нахальства. — Займитесь. Обязательно займитесь. Человечество ждет. Через два дня мы были в Адлере. После нудных московских дождей мы попали под ослепительное солнце. Над бетонными плитами аэропорта поднимался теплый воздух, и я подумала, что ссылка получилась не такая уж плохая. За сорок минут автобус доставил нас до дельфиньей базы. Тут мои восторги несколько утихли. Место, что и говорить, было курортное: обрывистый берег, внизу золотистый пляж, скалы, синее море и деликатный шорох прибоя. Четыреста метров сплошной красоты. И на этих четырехстах метрах стояли грязноватые склады времянки, высились холмы небрежно разгруженного кирпича, лежали под навесом мешки с цементом, а на самом видном месте возвышалась классическая сторожка допетровского стиля — неопределенного цвета, неопределенной формы, скроенная из неопределенного материала. Вокруг сторожки была растянута паутина сетей. Между сетями, радостно повизгивая, прыгал лохматый рыжий пес. — Гениальная собака, — сказала Настя. — Сразу увидела в нас сотрудников Института технической кибернетики. Мы спустились с обрыва и, сопровождаемые гениальной собакой, по лабиринту сетей пробрались к сторожке. У входа, на раскладушке, спал маленький лысый старичок. На груди старичка лежала книга в потрепанном сером переплете. Собака негромко тявкнула, старичок тотчас приоткрыл глаза и быстро сел на раскладушке. Книга упала, я ее подняла. Называлась она «Основы эсперанто». — Ми эстас гардисто, — бойко произнес старичок. — Сторож я. А вы кто? Кио ви эстас? Через десять минут мы полностью уяснили ситуацию. База действительно существовала только в проектах. Пока была территория, куда завозились стройматериалы и кое-что из оборудования. Слово «территория» сторож произносил на эсперанто, и звучало это внушительно — територио. С южной стороны територио граничила с могучей и процветающей базой Института гидрологии, а на севере упиралась в крутой обрыв. Жилых строений на територио, помимо допетровской хижины, не было. И заботиться о нас должен был, по мнению ученого сторожа, камарадо Торжевский, ведавший територио и материалами. — Камарадо Торжевский... как его... ли эстас саджа хомо, — объяснил сторож. — Толковый мужик, говорю. — Что же, — спросила я, — в эсперанто все существительные оканчиваются на «о»? — Все! — радостно подтвердил просвещенный дед и указал на собаку. — Хундо. А зовут Трезоро: Сокровище, значит. Сторож-эсперантист Григорий Семенович Шемет оказался презанятной личностью. По специальности он был часовых дел мастером и почти безвыездно прожил полвека в Новгороде. Жил в одном и том же доме, работал в одной и той же мастерской. Жизнь шла плавно и размеренно, как хорошо отрегулированные часы. И совершенно неожиданно для своей многочисленной родни Григорий Семенович сбежал в Архангельск, пристроился в рыбачью артель. У него вдруг появилась неодолимая тяга к морю, к новым местам и неустроенной, полукочевой жизни под открытым небом. Беглеца отыскали и упросили вернуться. Но он сбежал снова — на этот раз к Охотскому морю. Родня смирилась: решено было каждую весну отпускать старика. Он прошел страну «лавлонге кай лавлардже» (что значит вдоль и поперек), удачливо ловил рыбу на восьми морях и теперь собирал деньги на туристский круиз вокруг Европы. Дед был на редкость бойкий и подвижный. Рассказывая, он быстренько убрал раскладушку, пригласил нас в свою хижину и угостил чаем. В хижине было очень чисто, прохладно, неструганые доски пахли смолой. Не знаю, как Григорий Семенович годами сидел в часовой мастерской, это трудно было представить. — А зачем эсперанто? — спросила Настя. Дед всплеснул руками. — В этой Европе, я тебе скажу, полным-полно разных народов. Не могу же я все языки учить. Не управлюсь до отъезда. И потом, дорогие мои белулиной, то есть красавицы, эсперанто — язык звучный, ходкий, стройный. Вот я вам для примера прочитаю «Парус» в переводе на эсперанто. Стихи поэта Лермонтова, однако, остались непрочитанными, так как прибыл камарадо Торжевский. Он прибыл на новенькой голубой «Волге», за которой шел караван из трех грузовиков, нагруженных кирпичом. Камарадо Торжевский был великолепен. Казалось, он сошел с плаката «На сберкнижке денег накопил, путевку на курорт купил». Впрочем, сторож-эсперантист не ошибся: Торжевский оказался дядькой умным и дельным. — Вы же свои парни, — сказал он. — Не надо так смотреть на мой новый костюм и на мою новую «Волгу». Это не роскошь, а скромная экипировка современного толкача. Ибо кто даст мне шифер и провода, если я появлюсь в мятой сорочке? И поскольку вы присланы мне помогать, смотрите и учитесь. Контакт с братьями-дельфинами зависит пока от нас, снабженцев. Не будет базы, не будет и контакта. Мы заверили Торжевского, что приложим все усилия, чтобы ускорить контакт с братьями-дельфинами. — Это хорошо, — одобрил Торжевский. — Братья-дельфины будут рады. А пока приложите усилия к разгрузке кирпича. Эта банда, именующая себя грузчиками, бросает кирпичи так, словно это золото. А кирпичи — не золото, они бьются. Да. А потом поедем добывать палатку и спальные мешки. Так началась наша жизнь в ссылке. Работы было много. Мы встречали вагоны с оборудованием, добывали автотранспорт, распоряжались при погрузке и честно трудились на разгрузке. Торжевский переложил на нас грубую прозу снабжения, оставив себе утонченную снабженческую лирику. Он часто уезжал, вел где-то хитроумные переговоры, в результате которых наши склады пополнялись финскими декоративными панелями, транзисторными кондиционерами и ультрамодерными стеллажами для несуществующей еще библиотеки. О парадоксе Грея я вспомнила только через неделю. — Вот еще! — недовольно сказала Настя. В этот момент она сосредоточенно рассматривала в зеркало кончик своего носа. — Слушай, как ты думаешь, кожа сойдет, а? Обязательно надо достать крем. — Раньше она бы сказала «купить». — А с парадоксом Грея ничего не выйдет. Ты даже не представляешь, что это такое... Ну, тут Настя была неправа: после разговора с бородатым Вовой я сразу помчалась в читалку и кое-что успела полистать. Работы Крамера, Алеева, Першина, сборник статей по демпфирующим покрытиям. Несоответствие между скоростью дельфинов и мощностью их мускульной системы — вот в чем состоит парадокс Грея. Дельфины развивают до шестидесяти километров в час. Их мускулатура должна быть раз в десять сильнее, чем она есть на самом деле. Одно время считали, что Крамеру удалось разгадать парадокс. Твердый корпус корабля плавно обтекается водой только при небольших скоростях. С увеличением скорости поток воды срывается, в нем образуются вихри, и сопротивление резко возрастает. Так вот, Крамер предположил, что кожа дельфинов, изгибаясь, как бы приспосабливается к потоку воды, предотвращая возникновение вихрей. Были испытаны пружинящие, демпфирующие оболочки; в какой-то мере они действительно препятствовали вихреобразованию. Однако парадокс Грея остался: демпфирование объясняет его лишь частично. Должны существовать другие, более эффективные, способы уменьшения сопротивления. — Подумай, о чем ты говоришь! — возмущалась Настя. — Как можно браться за парадокс Грея, не имея ни оборудования для опытов, ни самих дельфинов?! Я возражала: — Но ведь именно в этом изюминка. Представляешь, как здорово: разгадать тайну дельфинов, не имея ни одного дельфина... Убеждать пришлось долго. Это был первый случай, когда Настя не хотела даже попытаться решить задачу. По ее мнению, затея была совершенно несерьезная: смешно браться за изучение дельфинов, когда нет никакой возможности получить хотя бы завалящего дельфина. Я убедила Настю чисто случайно. — Подумай логически, — сказала я. Когда нет доводов, всегда приходится призывать логику, хотя логика тут как раз ни при чем. — Подумай логически. Ведь у других исследователей были дельфины, но ничего не получилось. А у тебя дельфинов нет. Следовательно, у тебя получится. — Ну, знаешь, — возмутилась Настя. — Это такая чушь, что... Она вдруг замолчала и уставилась на меня. Она смотрела на меня глазами грозового неба, и я поняла, что дело идет на лад. — Ты считаешь, изучать дельфинов надо без дельфинов? — совсем другим тоном спросила Настя. Что мне оставалось делать? Я чувствовала, что говорю чепуху, но все-таки повторила: — Если рассуждать логически, виноваты именно дельфины. У других исследователей были дельфины, но парадокс остался неразгаданным. У тебя нет дельфинов, следовательно ты разгадаешь парадокс. — Да, конечно, — пробормотала Настя, глядя сквозь меня. Через полчаса она спросила: — А как с трубами? Сегодня они прибудут на станцию, надо доставать машины и кран. Я сказала, что все сделаю сама. Пусть она спокойно занимается дельфинами. То есть не дельфинами, а их отсутствием. Не таким отсутствием, которое просто отсутствие, а таким, которое дает больше, чем присутствие... Это был уже чистый бред, и я на всякий случай прибегла к волшебному слову «логически». Впрочем, Настя не слушала меня. Она рассеянно сказала: «Ага» — и пошла к морю. Весь день я моталась как угорелая с этими трубами. А Настя лежала на досках и смотрела в море. Я принесла ей кефир и печенье, не было времени возиться с обедом. Вообще с этого дня мне пришлось работать за двоих. Я не разрешала Насте отвлекаться. Пусть думает. Я только не понимала, что она может представить себе в данном случае. Ну... вот море, а в нем плывет дельфин. Что дальше?.. Однажды мне даже приснилась эта картина. Дельфин грустно улыбался и говорил голосом Торжевского: «Не надо так на меня смотреть!» Настя размышляла два дня. На третий день она дала мне список книг, которые ей были нужны. Список ничего не объяснял. Все книги относились к теории катализа. Катализаторы, конечно, могут увеличить скорость химической реакции, но как они связаны с увеличением скорости дельфинов? Что делать, я поехала в Сочи и раздобыла книги. Затем Настя вручила мне еще один список — химикаты, лабораторная посуда, прибор для хромофотографического анализа. С этим было проще: я пошла к соседям, гидрологам, и выпросила все необходимое. Мы поставили вторую палатку, теперь у Насти была своя лаборатория. — Если дело дойдет до дельфинов, — сказала я Насте, — ты, пожалуйста, предупреди заранее. Все-таки придется снаряжать корабль. — Дельфины? — переспросила Настя. — Нет, дельфины не нужны. На следующий день Гроза Восьми Морей сказал мне: — Послушай, белулино, ты бы хоть домой съездила. Тут «Метеор» ходит. Пост лаборо венас рипозо. Отдыхать, значит, надо, не только вкалывать. А у тебя сплошная лаборо и никакого рипозо. Вот и Наська отощала на твоем кефире. Одни глаза остались. Сегодня уха будет, смотри у меня — чтоб к пяти была здесь. Я вернулась в девятом часу, голодная и злая. Орал магнитофон, возле сторожки веселились бородатые гидрологи: они старательно обучали деда танцевать шейк. Ухи не было, это я сразу обнаружила. Съели мою уху, вертятся вокруг Насти, деду голову заморочили — я их погнала со страшной силой. Ужин получился дурацкий: вино, яблоки, печенье, полуокаменевший сыр. Голова гудела от усталости и от вина. Я как-то не обратила внимания на Настины слова: «Знаешь, завтра будем испытывать». Мы уже забрались в свои мешки, я машинально пробормотала: «Ладно, завтра». И вдруг до меня дошло: будем испытывать! — Слушай, что испытывать? — спросила я. — Ты о чем говоришь? — Плавать будем завтра. Если все сойдет, мы с тобой завтра побьем мировой рекорд. Спи. Да, слушай, а этот Алеша — славный парень, ты заметила? Ну, высокий, с усиками. Он из Ростова, почти земляк. Спать мне уже не хотелось. Какой тут мог быть сон, если Наська решила задачу! — Ладно, объясню, не кричи, — нехотя уступила Настя. — Да и объяснять-то нечего, все очень просто. Ты же сама говорила, что без дельфинов легче разобраться в этом деле. Говорила ведь? Ну, я представила себе море, представила дельфина, потом убрала этого дельфина, понимаешь? Я ничего не понимала. Плывет дельфин — это можно представить. А что останется, если убрать дельфина? — Море останется, — с досадой сказала Настя. — Как ты не видишь? Это же очень логично, ты сама говорила. Останется вода, следовательно, думать надо только о воде. Без всяких дельфинов. Надо представить себе воду, ясно? Я спросила почти наугад: — Молекулы воды? — Нет. В том-то и дело, что не молекулы. Если бы вода состояла из молекул, она кипела бы при минус восьмидесяти градусах. Молекулы воды объединены в группы, в агрегаты. Поэтому вода жидкая. Ну, представь себе лед с его кристаллической решеткой. Громадный кристалл — как склад на товарной станции. Так вот, когда лед тает, кристалл распадается на агрегаты. Вместо склада — отдельные ящики, ясно? В ящиках, допустим, мячи. Они вообще-то подвижны, их легко растолкать, но ведь упаковка мешает! Так и с молекулами воды. Они заперты в этих агрегатах, как мячи в ящиках. От этого зависят все свойства воды. В том числе сопротивление, которое она оказывает движению. Попробуй сдвинуть с места мячи, если они в ящиках. А дальше я рассуждала так: надо раздробить агрегаты на отдельные молекулы, тогда вязкость воды резко уменьшится. Может быть, дельфины именно так и... — Подожди, — перебила я. Дельфины меня теперь не интересовали. — А как раздробить эти самые агрегаты? Настя пренебрежительно фыркнула. — Ты же принесла мне книги. Опять логика: кто-то где-то должен был решать подобную задачу для других целей. Вода — такое распространенное вещество... Словом, я обнаружила, что проблемой дробления агрегатов интересуются биохимики. Конечно, им и в голову не приходило, что это путь к уменьшению вязкости воды. Просто агрегатированные молекулы воды участвуют в энергетических процессах организма. При желании завтра посмотришь книги. Важно одно: когда агрегат захватывает лишний протон, он сразу разваливается на отдельные молекулы. Как карточный домик. Понимаешь? После этого мне оставалось найти вещество, которое легко отдавало бы протоны. Завтра на себе попробуешь. Я взяла за основу крем «Лунный», все-таки мы с тобой не корабли, чтобы мазаться всякой протонной дрянью. И хватит, я спать хочу. Отстань! — Спи, — сказала я, разозлившись. — Ты даже не представляешь, что ты сделала. И все твои рассуждения... снежный мост над пропастью незнания. Шаткий снежный мост. — Как? — удивилась Настя. — Снежный мост над пропастью? Вот здорово! Я прямо вижу этот мост... Она помолчала, рассматривая свой снежный мост, потом спросила: — Слушай, Кира, это из поэзии, да? — Нет, из прозы. Так Карл Пирсон отозвался о законе наследственности Грегора Менделя. — Но ведь Мендель был прав! И потом, это просто красиво — снежный мост над пропастью. Я уточнила: — Над пропастью незнания. — Ну и что? Главное — не упасть. Нет, подумала я, главное — решиться и вступить на снежный мост. Не ждать, пока возведут бетонные фермы, а найти узкую снежную полоску — и отважиться. Странно: я крепко спала в эту ночь. Утром меня разбудил невероятно вкусный запах — дед и Настя жарили помидоры. Я подумала, что день будет удачный. После завтрака Настя дала мне баночку с зеленоватой мазью. — Ты уж постарайся, — жалобно сказала Настя. — Ты ведь у меня за дельфина. Дед помог отмерить вдоль берега стометровку. Секундомера у нас не было, пришлось взять мои часики. — Ну, девки, приступаем, — объявил Гроза Восьми Морей. — Под моим руководством. Мазь была холодная, и вода была холодная. Я стояла на скользком камне, а дед, Настя и хундо Трезоро смотрели на меня с берега. Снежный мост, подумала я, только бы он выдержал... Я чувствовала, что плыву хорошо. Такое ощущение бывает редко: кажется, что летишь, не встречая сопротивления. И не было усталости, я всю стометровку наращивала скорость. — Сорок восемь секунд, — крикнула с берега Настя. — Нам не страшен снежный мост, снежный мост, снежный мост... Мировой рекорд для мужчин был пятьдесят две секунды, я это хорошо помнила. Даже если Настя на секунду или две ошиблась, все равно — мировой рекорд побит! — Возьмем русалок, — сказал дед. — Они ведь девки, а не мужики. Народная мудрость! Девки должны лучше плавать. Или вот возьмем привидения... — Стоп, дед, — остановила его Настя. — Привидения — это из другой оперы. Давай, Кира, стометровку на спине. Рекорд был минута и шесть секунд, я прошла дистанцию быстрее, теперь я хорошо чувствовала скорость. — Квиндек сеп, печки-лавочки! — восторженно произнес дед. — Пятьдесят семь секунд. Как «Метеор» шла. В этот день были забыты все снабженческие дела. Мы плавали и записывали результаты. К двум часам дня нам принадлежали почти все олимпийские и мировые рекорды. Даже в заплыве на восемьсот метров я могла рассчитывать на серебряную медаль, а Настя — на бронзовую. У нас кончилась мазь, иначе и здесь мы вытянули бы на золотую. Потом я, уставшая и счастливая, лежала на огненном, обжигающем песке и смотрела, как дед и Настя сооружают праздничный обед. Чуть-чуть кружилась голова, и, когда я закрывала глаза, земной шар начинал плавно раскачиваться. — Сейчас бы холодного лимонада, — вздыхает дед. — Вы, девки, лишнюю калорию боитесь проглотить, фигуры бережете. А мне лично никакая калория не страшна. Мой организм устойчивость имеет против этих калорий. Гроза Восьми Морей лукавит, я его насквозь вижу. Он хочет, чтобы Настя пошла к гидрологам за пивом. — Не хитри, дед, — говорю я. — Пиво будет вечером. Сейчас нужно сохранить ясность мышления. Тут такая проблема: как назвать открытие, чтобы коротко было и звучно. Придумай. — Мне бы твои заботы, — ворчит дед. Он явно польщен. — Назови так: «Стремительное метеорное плавание имени Анастасии Сарычевой». Что ж, это не лишено смысла. Эффект Анастасии Сарычевой. АС-эффект. Как качается земной шар! Разрушенные агрегаты очень быстро восстанавливаются, иначе вода бы за мной вскипала без всякого расхода энергии. Да, конечно, разрушение и восстановление агрегатов идет лишь в тонком слое. Ну и что? Это нисколько не помешает использовать АС-эффект (все-таки звучит: АС-эффект!) на скоростных кораблях. — Слушай, Настя, сегодня же дадим телеграмму Гейму. И бородатому Вове. — Нет, Гейму лучше позвонить. Он сейчас в Таганроге. А с Вовой подождем несколько дней. Мне еще не все ясно. Настя рассказывает деду про Гейма и про артиллерийский салют из двух пушек. Нет, две пушки мало! Если у Гейма есть совесть, он устроит салют из всех пяти пушек. АС-эффект годится не только для кораблей. Вода — кровь нашей цивилизации. Она везде — в трубопроводах, гидросистемах, турбинах... — Насчет пушек, конечно, здорово закручено, — говорит дед, — но я вам так скажу: нечего шуметь, это дело надо держать в строгом секрете. Между прочим, на эсперанто «секрет» означает «тайна». Ясно? Чтобы ни-ни. Полный секрет. А вы прославитесь рекордами. Вас, может, по всему миру будут возить. На всякие там спартакиады и олимпиады. Портреты будут в журналах. И я с вами покатаюсь, посмотрю мир... — А что, Кира, давай так и сделаем? — смеется Настя. — Григорий Семенович выдал гигантскую идею. Даже юридически нельзя придраться: условия соревнований не запрещают применять мазь. Представляешь, что будет? Ты сразу получишь прекрасную трехкомнатную квартиру. Как чемпионка мира... Они еще долго веселятся, наперебой обсуждая феерические перспективы нашей спортивной карьеры. Я слышу лишь обрывки фраз, меня лихорадит от сумасшедшей мысли: а если применить АС-эффект в нашей кровеносной системе? — До ни коменцу, — объявляет наконец Гроза Восьми Морей. — Хватит трепаться, приступаем к обеду. Эх, по такому случаю и без этого, без ботело да пиво. Пропадешь с вами!.. Смой песок, говорю, и чтоб сразу обедать. Живо! Да, надо спешить. Я потеряла массу времени, ожидая, пока опыт с Настей даст надежные результаты. Зато теперь можно уверенно идти вперед. Уверенно? Новый опыт — новая пропасть. И какая! Пусть. Я отыщу снежный мост, обязательно отыщу и не побоюсь вступить на него. Жди меня, снежный мост!Юлий Файбышенко ДЕЛО ЧАСОВЩИКА
Осенью двадцатого года следователь Суховского угрозыска Сашка Клешков сидел за своим столом в комнате двухэтажного особняка, где размещался уездный отдел милиции, и разговаривал с новичком в их отделе — Владимиром Гуляевым. В открытую форточку сильно дуло, и бумаги на столах, предусмотрительно придавленные папками и пресс-папье, шевелились. Сашке было семнадцать лет, он был высок, худ, узколиц, и глаза его из-под темных густых бровей глядели на собеседника с недоверием и застенчивостью. — На Краскова я ходил два раза, — говорил Сашка, — и оба раза он от нас срывался. Знаешь, где накрывали его? — засмеялся он. Гуляев улыбнулся, заранее непонимающе подняв брови. — Ты в Графском не был? — Я тут нигде не был, — сказал Гуляев. Гуляев был высок, строен, крепок, светлые волнистые волосы были расчесаны на английский пробор, серый пиджак хорошо сидел на его торсе, а серые брюки-галифе под коленями были схвачены коричневыми крагами. — Вот, — сказал Клешков, окидывая его костюм взглядом, который трудно было назвать приветливым. — Там мы его оба раза накрывали, в совхозе. Есть там совхоз, еще с восемнадцатого года. Граф разводил племенных лошадей. Ну, лошадей и обобществили. Когда немцы приходили, потом Деникин был, лошадей этих Рыбаков уводил, Рыбаков — управляющий. Не слыхал? Голова! Таких, если хочешь знать, по всему свету поискать. Ему любая лошадь ногу подает — веришь? — как собака. — Чего же там Красков искал? — спросил усмехающийся Гуляев. — А ты у него спроси, — ответил Клешков и повернулся к новому сослуживцу спиной. Гуляев посмотрел на эту худую, ссутуленную спину в серой косоворотке и пожал плечами. Дверь приоткрылась. — Клешков, Гуляев, к начальнику Иншакову! — прокричал милиционер в надетой набекрень кубанке. По всему зданию суетились люди. Бежали куда-то милиционеры, на ходу опоясываясь амуницией, двое парней катили пулемет. Какие-то штатские перекликались на лестнице. — С чего паника? — спросил Клешков рослого мужчину в шинели с «разговорами». — Что это, Фомич, вы всю батарею выкатили? — Красков вылез, — ответил мужчина, грозя кому-то кулаком, и поспешно скатился по лестнице. — Слыхал? — сказал Клешков, подходя к двери, обитой когда-то черной кожей, а теперь курчавившейся лохмотьями грязной ваты. — Опять Красков. — Ну, житуха! — помотал он головой. Начальник Иншаков сидел за большим столом, покрытым зеленым сукном. Чернильница, ручка, папки на столе, кресла у стола и даже окно чуть не до пола — все было громадно, и потому сам начальник, с румяно блистающей лысиной, с узкими щелями быстрых глаз, был особенно мал в кабинете. Иншаков подождал, пока вошедшие уселись по знаку его руки, и повернулся к окну, слушая, как зычно гремит там команда и командирский мат. — Я вас чего вызвал, — сказал начальник басом и внушительно посмотрел на Гуляева (он не любил высоких людей). — Я вас позвал вот зачем. — Красков появился? — подал голос Клешков. — Тебя не спрашивают, — сказал начальник. — Вредный у тебя характер, Клешков, тебя не спрашивают — ты сам лезешь! Клешков покраснел и уставился в пол. Начальник еще некоторое время осуждающе глядел на него, потом сказал: — Получено сведение. Убит часовщик. Оба следователя с ожиданием смотрели на узкий сомкнутый рот начальника. — Ухлопали. — Начальник вылез из-за стола и подошел к карте района, приколотой к стене. С минуту он смотрел на нее, заложив руки за спину, потом опять отошел к своему креслу и сел. — Вот какая международная ситуация, — сказал он и строго оглядел обоих. (Они ждали.) — Сведение только что получено, — сказал начальник и снова посмотрел на обоих. — Все ясно? — Можно идти? — спросил Клешков. — А что еще известно? — спросил Гуляев. — Адрес такой: Верхняя улица, пять, — сказал начальник, игнорируя вопрос Гуляева, и, вдруг покраснев, закричал: — Ну, чего сидишь? Ты следователь или кто? Какие такие еще тебе данные нужны? Иди и сам ищи! Шерлок, понимаешь, Холмс! Оба следователя поспешно вышли из кабинета.Сени были темны и забиты старой изломанной мебелью. В первой комнате свет падал из узких окон и освещал комод с пустыми выдвинутыми ящиками, черные грязные следы на полу и разбитое трюмо в углу. В спальне, под огромным портретом неведомого красавца с нафабренными усами, в визитке и с галстуком-бантом, на стуле, отклонившемся назад и удерживаемым в таком положении только упором тела в стену, сидел человек или, вернее, то, что было несколько часов назад человеком. Он сидел, разбросав босые ноги в узких довоенных брюках, желтые пятки его были распяты на полу, а пальцы ног стиснуты и согнуты в диком последнем напряжении, голова запрокинута настолько, насколько позволяла щетинистая длинная шея с выдавшимся острым кадыком, и упиралась в стену. Клешков долго осматривал все вокруг. Следов ног было много, но грязь не сохранила точную форму обуви, и трудно было определить, сколько же всего было людей. В виске сидевшего чернело маленькое отверстие и темная полоска засохшей крови, скатившаяся по щеке и застывшая на рубашке, — одни только и говорили об убийстве. Клешков обошел весь дом. Задние комнаты пахли хламом и пылью, в кладовке валялась пустая лампада и несколько икон. В буфете вместо посуды лежали две книги. Клешков взял их в руки. На обложке одной было напечатано: «Николай Бердяев». Ниже: «Судьба России». Еще ниже: «Опыты по психологии войны и национальности». И совсем внизу: «Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахарова. Москва, 1918 год». Вошел Гуляев. — Что-нибудь нашел? — спросил он. — Так они тебе и оставят, — сказал Клешков, — ищи дураков! — Оставят, — уверенно сказал Гуляев. — Во всех учебниках по следственному делу написано, что без следов не остается ни одно преступление. — Следы-то вон они, пожалуйста, — сказал Клешков, — самые настоящие, а что дальше? Гуляев долго осматривал грязь. — Было их человека три-четыре. — Пять, — насмешливо хмыкнул Клешков. Гуляев разогнулся, посмотрел на него, потом увидел книги. — Дай-ка, — сказал он. Клешков протянул обе. — Бердяев, — сказал Гуляев, перелистывая страницы. — А часовщик-то был непростой... — Это почему же? — спросил Клешков. — Эту книгу обыкновенный часовщик ни за что бы не взял, — сказал Гуляев, — ее и интеллигент не всякий осилит. — Он стал просматривать вторую книгу. — Подчеркнуто... — И что? — спросил Клешков. — Надо узнать: зачем? — Попробуй узнай. Гуляев сложил вторую книгу: она была растрепанная, пухлая, без обложки. — И какого черта, — он взглянул на товарища с обидной усмешкой, — какого черта ты пошел в угрозыск, если с самого начала знаешь, что ничего не откроешь? — А я не сам пошел, — озлобленно огрызнулся Клешков. — Я по комсомольскому набору. А вот ты, если такой умелый, скажи, что ты открыл. — Открыл, что часовщик — личность сомнительная, — сказал Гуляев, глядя на вишневое деревце, постукивающее в окно от порывов ветра. — Открыл, что убили его после допроса... — И-ди ты! — издевательски восхитился Клешков. — Не заметил? — И Гуляев прошел в соседнюю комнату. Клешков вошел за ним. — Гляди. — Гуляев распахнул рубаху на убитом и, вытянув из-под брюк, задрал ее вверх. Бок мертвеца был весь в рубцах. — И на спине то же самое, — сказал Гуляев. — Значит, чего-то от него хотели. Это раз. Во-вторых, что-то искали: все ящики выдвинуты в столе, буфете и комоде. — Это-то ясно, — самолюбиво сказал Клешков. — Они вон и сапоги его утащили. Видно, грабить явились. Может, у него золотишко водилось. А то и брильянты. Гуляев долго смотрел на ноги убитого. — Да, — сказал он, — этого я не учел. Простые грабители. Даже сапоги унесли. — Простые не простые, — сказал Клешков, — а надо еще на месте работы проверить. Он на базаре в будке часы чинил. — Давай я туда поеду, — сказал Гуляев, — а ты тут еще раз все осмотри — и тоже туда. — Ладно, — сказал Клешков, — мотай, а я тут покопаюсь, Гуляев взял обе книги, завернул их в бумагу, лежавшую на полке, и пошел к выходу. — Соседей обязательно опроси, — сказал он, поворачиваясь от двери. — Без тебя знаю, — пробурчал Клешков. Дверь хлопнула, и он остался в доме наедине с мертвым. Клешков покосился в сторону убитого. Все было по-прежнему, только в лице, как показалось ему, прибавилось зеленовато-синего цвета. «Может быть, еще вчера убили?» — подумал Клешков. Труп был обнаружен утром, потому что кому-то из милиционеров потребовалось починить часы, и, поскольку часовщика на обычном месте не оказалось, он направился к нему на дом, благо на рынке всегда могли найтись люди, знающие, где живет каждый из лоточников и иных завсегдатаев базара. «Не работал он со вчерашнего вечера, — думал Клешков. — Прийти к нему могли в любое время. Но за что все-таки они его убили?» Он опять обошел весь дом. Видно было, что хозяин не очень-то следил за ним. У парадного выхода, который с улицы был забит досками, изнутри была антресоль. Сбоку стояла лестница. Сашка поднялся по ее скрипучим поперечинам, залез на самую антресоль, доски заскрипели. Антресоль была завалена разным тряпьем. Видно было, что и тут пошуровали недавние пришельцы. Все было перевернуто, все раскидано. Старые нижние рубахи, какие-то лоскуты. Сашка, сидя на корточках, перебирал все это. Сейчас он злился и мучился. В угрозыске Сашка работал четвертый месяц, а до этого служил на электростанции в губернском городе. Он уже написал десяток заявлений с просьбой отправить его на фронт, но ответ был один: рано. Наконец его вызвали в губком и выдали направление в Суховский угрозыск. «Иди, — сказал ему секретарь, — прививай там, в милиции, дух нашей комсы... А насчет фронта — запомни, товарищ Клешков: для комсомольца и коммуниста сейчас везде фронт». И он уехал в Сухов. Уезд был неспокойный. То в одном, то в другом селе отказывались сдавать хлеб по разверстке, стреляли в комбедчиков и коммунистов. Три месяца назад объединенные банды Краснова и Хрена вырезали продотряд Двенадцатой армии, когда он появился в богатом лесном селе Бывшеве. Сашка уже участвовал в операциях против банд, но сам должен был раскрывать преступление впервые. И поэтому он молча сидел на антресолях и, зажигая спичку за спичкой, рассматривал богатство, которое, достанься, по его мнению, другому следователю, послужило бы наверняка к полному раскрытию преступления, а для него, Сашки Клешкова, комсомольца с электростанции, окончившего всего три класса ре-ильного, а потом удаленного за невнесение платы за обучение, для него все это было темный лес. Но вот посреди тряпок показалось что-то иное, и Сашка свободной рукой выгреб и успел заметить, перед тем как спичка обожгла ему пальцы, поношенный офицерский френч. Спичка погасла. Сашка хотел было зажечь другую, как вдруг ударила дверь и он услышал тяжелые и осторожные шаги. Дом был старый, сухой, все комнаты прослушивались насквозь. Сашка, стараясь это делать как можно тише, зарылся в тряпки и стал ждать, что будет. Шаги стихли. Видно, вошедший добрался до трупа. Тишина длилась так долго, что Сашка подумал, не пригрезились ли ему все эти страхи. На всякий случай он ощупал карман пальто: браунинг был на месте. Сашка сунул руку в карман, нашел его ребристую рукоять и успокоился. Шаги опять зазвучали. Слышно было, как хрипнули дверцы буфета, потом загремели ящики комода, звякнуло что-то. Шаги приближались. Сашка, вцепившись в рукоять браунинга сразу вспотевшей рукой, соображал, что ему сейчас делать. Скрипнула дверь. Полоса бледного света упала в прихожую. Потом осторожно вошел кто-то очень увесистый. Сашка, закрытый набросанным тряпьем, ждал. Ему казалось, что вошедший чувствует его присутствие, и потому был неподвижен, как камень. Вошедший стоял, не делая ни одного движения. У Сашки першило во рту и чесалось в ухе. Он еле сдерживался. Раздался непонятный шум, вошедший рванулся. Что-то мягко шлепнулось на пол, и густой хрипучий бас сказал: — Ах, чтоб тебе, чертова животина! — и шумно откашлялся. Опять хрипнула дверь, полоса света погасла, и Сашка услышал, как быстрые грузные шаги прошли через весь дом и закончились резким хлопком входной двери. Сашка, раскидав тряпки, соскочил с антресолей и зажег спичку. У двери, наклонив голову, смотрел на него черный кот с белыми пятнами на шее, смотрел, жмурился и мяукал. «Ну и ну! — подумал Сашка. — Кого-то одного этот кот спас». Прислушиваясь к каждому звуку, стараясь неслышно ступать, Клешков прошел через дом, вышел во двор. Калитка еще покачивалась. Подойдя к забору, Сашка забрался по рассыпавшейся поленнице и выглянул на улицу. Метрах в пятидесяти около забора прикуривал на ветру крупный человек в крестьянском кожухе и солдатской папахе. Больше на улице никого не было. Сашка выскользнул из калитки и, надвинув кепку на лоб и подняв воротник, поплелся в ту же сторону, что и человек в папахе, старательно глядя под ноги и всеми силами изображая человека, занятого какими-то своими мыслями и делами.
На базаре народу было много, и Сашка испугался, что потеряет из виду серую папаху. Но та двигалась от лотка к лотку, переходила к ларькам, где продавали квас и из-под полы самогон, пересекала рыночную площадь к лабазам, где теперь торговала керосином и спичками местная кооперация. Сашка исправно пил квас, торговался с бабкой, продававшей семечки, а сам все смотрел за серой папахой. Владелец ее тоже несколько раз к чему-то приценивался, оглядываясь по сторонам. Потом, видно успокоившись, пошел к лотку, где раньше торговали мясом, а теперь кто чем мог: кто пирожками с требухой, кто рыбой, кто тайным, совсем не относящимся ни к чему съестному товаром, который предлагался только на ухо, да и то не всем, а по выбору продавца. Около одноглазого мужика в картузе и фартуке, надетом прямо на черную чуйку, толпился народ, кричали молодые отчаянные бабы в платках, прокладывая локтями дорогу к лотку, суетились инвалиды, молча напирали седые, мрачные старухи. Сашка подошел. Мужик, точно тяпая топором, отрубал куски мяса. «Откуда это?» — подумал было Сашка. Но мужик уже кричал нараспев: — А йдить-но сюды, люды добри! Едину свою коняку на мясо порешив! Забирай скорийше, бо поздно буде. Сашка узнал мясника, которого недавно допрашивал у себя в милиции об источниках его нетрудового дохода, потому что при обыске нашли у него золотые монеты и пачки николаевских сотенных. Мясник, краснорожий, одноглазый мужик, все орал и отрубал куски конины, а Сашка, оглянувшись, увидел серую папаху, которая стояла шагах в десяти и прищуренно наблюдала за свалкой у лотка. Сашка сразу же пошел дальше и вдруг увидел Гуляева, разговаривающего с двумя лоточницами. Гуляев в его крагах и серой блинчатой кепке казался на базаре совершенно инородным телом, и Сашка решил к нему не подходить, чтоб не привлечь внимания. Он опять нашел торговку семечками, сунул ей бумажку и, пока она ссыпала семечки в его карман, оглянулся. Серой папахи не было. Сашка бросился к лотку с мясом, не обращая внимания на крик торговки, у которой просыпались семечки. Папахи не было. Он остановился, не зная, что делать. Подошел Гуляев. — В будке — только части для часов, — сказал он, — вот опрашиваю торговок. — Погоди, — сказал Сашка, — ты стой тут, а я обойду базар. Он зашагал к тому месту, где мужики продавали картошку и хлеб. Покупатели толпились у подвод. Лошади смачно хрупали сеном. Продавцы и возчики, недружелюбно косясь на городских, о чем-то вполголоса переговаривались, сходясь в небольшие кучки. Серой папахи тут не было, хотя папах здесь хватало. Сашка пошел дальше. У двухэтажного дома с мезонином, где раньше жил купец Второв, а теперь размещалось правление кооперации, стояло несколько оседланных лошадей. Рослый красноармеец в шинели с «разговорами» и в буденовке, опираясь на палку, торговался с красноносым старичком в котелке и поношенном пальто. Пьяная баба пробовала плясать в кружке молчаливо стоящих мужиков. Вдруг сзади сухо хлопнули выстрелы. Сашка обернулся. От лотка, где торговал мясник, кинулась врассыпную толпа. Еще несколько раз ударили револьверные хлопки, и он увидел двух мужиков, бежавших от лотка куда-то к подводам и стрелявших в ту сторону. Вдруг из ряда стоявших подвод вылетела одна, запряженная в тройку, на ней стоял, нещадно орудуя кнутом, человек в серой папахе, а в сене на телеге лежала женщина в шляпке. Лошади рванули, и телега, завалясь набок и треща, лихо сделала полукруг и понеслась по улице, ведущей к полю. Двое бегущих остановились и снова раз за разом выстрелили, тогда из телеги тоже сверкнуло, и один из мужиков схватился за плечо. Сашка кинулся к ним, на ходу доставая браунинг. — Стой! — закричал он издалека. Но один из стоящих пальнул ему навстречу, и Сашка услышал рядом с ухом короткий высвист пули, а когда он разогнулся, мужики уже мелькали в толпе, а подбежавший Гуляев подбрасывал на руке еще теплый наган, оброненный раненым. — За ними! — крикнул Сашка, и они помчались за бегущими. Но теперь понять было ничего нельзя, во все стороны врассыпную бежали мужики, торговки, старухи. Весь базар разбегался. Сашка взглянул в сторону, откуда бегут, и понял, в чем дело. Со стороны улицы Коминтерна замелькали кожаные куртки. — Что там было? — затеребил он Гуляева. — Выстрелили в мясника, — торопливо сказал тот, шаря глазами по толпе, — а у него, оказывается, охрана была. Устроили целый бой. Последние беглецы скрывались за домами. Чекисты вели троих каких-то людей, но это были явно не те. — Упустили, — вздохнул Сашка. — Упустили, — согласился Гуляев, — но еще посмотрим. Следы всегда остаются. — Иди ты! — сказал Клешков со злостью. — Они из-под носа убегают, а он все про следы!
— Ну, давай живописуй, — сказал начальник, поглядывая на Клешкова, — ты у меня кто — следователь рабоче-крестьянской милиции или саботажник? Тебе какое задание было дано, а? Тебе было дано задание: расследовать. А ты что сделал? Ты всех задурил! — Погоди, Иншаков, — сказал Бубнич, председатель ЧК, — ты дай ребятам все рассказать по порядку... Они сидели за столом у начальника, а Гуляев и Клешков мучились на стульях у двери. Собственно, мучился и краснел больше Клешков. Гуляев же сидел невозмутимо, посматривая на стекла, сквозь которые были видны далекие лесистые холмы за городком, и поигрывая ногой в краге. — Так, давай по порядку. Ты, значит, пошел искать этого в папахе. — Я пошел искать... — опять начал сбитый с толку, растерянный Клешков, слизывая языком пот с верхней губы, — а тут... — Позвольте тут мне, — сказал Гуляев. Начальник хмуро оглядел его, хмыкнул и отвернулся. — Давай ты, — сказал Бубнич, оглаживая выпуклый, огромный из-за лысины лоб. Зато на его затылке густые черные волосы дыбились во все стороны. Кепка не могла нормально держаться на голове Бубнича — она вечно была приподнята и пружинила на затылке. — Когда Клешков сказал мне, чтоб я его подождал, а сам куда-то заторопился, я, конечно, ничего не понял, — рассказывал Гуляев, и на его тонком мальчишеском лице с упрямым подбородком ничего не отражалось, — но когда я подошел к лотку, где торговали кониной, я увидел, что идет человек в серой папахе... — Как выглядит? — перебил Бубнич. — Рослый, плечистый, борода — веником, лицо насупленное... И с ним девушка. Или, скорее, молодая женщина. Лет двадцать пять ей — не больше. Черное пальто в талию и черная шляпа с широкими полями... — Шляпу она может сменить, — сказал Бубнич. — Приметы? — Похожа на... — раздумывал Гуляев, он тоже немного порозовел, и только тогда Клешков понял, что он уж не так и бесстрастен, как прикидывается, — похожа на учительницу или на курсистку... — Он взглянул на Бубнича. Тот смотрел, усмехаясь. — Нос, рот, лоб какой, волосы — запомнил? — спросил он. — Нос тонкий, привздернутый, глаза, кажется, серые, — с усилием и теперь уже краснея, припоминал Гуляев. — Скул почти нет, чуть-чуть выдаются, волосы светлые, почти белые. — Как у него, — перебил начальник, показав пальцем в сторону Гуляева, — так бы и говорил. — Светлее, — поправил Гуляев, и лицо его напряглось. — Вот все, что помню. — Не так уж плохо, — сказал Бубнич. — Ну, дальше. — Они проходили мимо лотка. Вдруг девушка выхватывает браунинг и несколько раз через всю толпу — в мясника. Тот упал, и откуда-то выскочили двое других, они, кажется, все время вертелись около мясника и стали стрелять в них. Девушка и бородатый кинулись к подводам и ускакали. А тех двоих мы упустили, потому что началась паника. Прибыли ваши, и все разбежались... В толпе мы потеряли их. — Значит, виновата ЧК, что быстро прибыла, — усмехнулся Бубнич, оглядывая обоих ребят. — Почему, — сказал молчавший Клешков, — мы сами... Мы не отпираемся. — Ладно, — сказал Бубнич, — в конце концов не так уж и плохо. А френч-то ты правильно прихватил. Френч-то; братцы мои, с явными следами погон, и, похоже, часовщик наш недаром тут появился сразу, как мы Деникина отсюда выгнали. Да-а... Ну все-таки какие же соображения? — Ловить надо, вот и все соображения. — Ловить-то ловить, но кого? — сказал Бубнич. — И тех, и энтих, — пристукнул ладонью по столу начальник, — а то мой детприют, — он указал в сторону следователей, — и тех и других — любых упускает. Бубнич улыбнулся, оглядывая мрачного Клешкова и невозмутимого Гуляева. — Ты это брось, — сказал он, — ребята для первого раза не так уж плохо действовали... Ну ладно, до завтра! Бубнич двинулся к выходу. Гуляев распахнул дверь и, пропустив его, вышел сам, но когда Клешков шагнул к выходу, начальник остановил его. — Слышь, Клешков, — сказал он, вставая над столом и многозначительно пристукивая кулаком в такт словам, — ты приглядывайся. Клешков недоуменно посмотрел в увильнувшие глаза начальника. — Не нашей кости этот ваш... Гуляев, — сказал начальник. — Гимназию кончил. Родители — буржуи. Отец в гимназии учил. Ты приглядывайся... — Я и так, — сказал Клешков, потряс протянутую ему широкопалую руку и вышел.
Клешков сидел дома, читал «Графа Монте-Кристо». Книга эта досталась ему с трудом. Она уже месяц ходила по всему угрозыску, и Клешков, как руководитель комсомольской ячейки, вынужден был дважды отказываться от своей очереди, потому что другие, менее сознательные, прямо рвали ее из рук, особенно несознательная несоюзная молодежь из отдела снабжения. Но вот она все-таки дошла до него, эта книга, а он не может ею полностью насладиться, потому что никак не удается отвлечься от утренних событий. Конечно, было стыдно так опростоволоситься, как сегодня они с Гуляевым, и в особенности обидно было потому, что больше всего опростоволосился он. Ведь бандюги могли не убежать, если б он предупредил Гуляева, да и упустить серую папаху было тоже грехом немалым. За тонкой стенкой кричали голоса хозяйки и соседок, забредших посплетничать и обсудить события последних дней, и теперь за чаем бабы давали выход страстям. Клешков был вселен в этот дом по уплотнению. Хозяева были лавочники. Мужа расстреляли как заложника в начале девятнадцатого года, после того как в уезде после ухода немцев начались убийства коммунистов. Вдова, завалив всю оставшуюся ей жилплощадь перинами и тюками мануфактуры, лишь плакала да молилась и смертно ненавидела своего квартиранта. Но ненависть ненавистью, а взаимное вынужденное соседство кое к чему принуждало, и оба они сумели наладить общежитие так, словно второго тут вовсе не было. Клешкова это вполне устраивало. Он встал, подошел к примусу, стоявшему на столе, в стороне от стопки книг, накачал его, зажег. Керосина было мало, но Сашка надеялся, что чай все-таки согреется. К чаю у него было две каменные жамки, доставшиеся как прибавка к недельному пайку, и сэкономленный как раз для такого случая и обкусанный кусок сахару. От вида этого богатства настроение у Сашки поднялось, и он сходил в сенцы, принес веник и вымел свою узкую, как пенал, комнату. В окно постучали. Он выглянул, но была видна лишь стена соседнего дома в пяти шагах, и ничего кроме. В сенях уже гремели шаги. Он узнал Мишку Фадейчева, по мнению Клешкова самого отчаянного парня из всех, кто жил до сих пор на свете. — Здорово, Клеш, — сказал Мишка, пожимая руку Сашке. — Ты чего это? Примус греешь? Вот это в самый раз. Он сел не раздеваясь, как был, в кожанке и кубанке, пересеченной красной полосой вдоль всего переда. Еле отросшие усики дергались на его белом, нездоровом лице. Мишка Фадейчев три месяца как был отчислен из бригады Котовского. Легкие его хрипели от каждого вдоха, а когда приходилось с ним мыться в бане, Клешков с почтением смотрел на шрамы, сплошь переплетшиеся на его щупловатом, но жилистом теле. — Чего делать будем? — спросил Фадейчев, когда Сашка придвинул ему стакан чаю, обкусанный кусок сахару и жамку. — Может, к Маруське сходим? Клешков, уже прихлебывавший пустой чай вприкуску с жамкой, закачал головой с великим ожесточением. Маруська Наливная продавала самогон и даже устроила у себя что-то вроде распивочной. Другую бы давно свели за это дело в милицию, а то и в ЧК, но Маруська при Деникине спасла двух раненых большевиков, и они теперь были большими людьми в губернии. Поэтому ее не трогали из уважения к прошлым заслугам, а несознательная Маруська пользовалась этой снисходительностью власти. — Ты чего читаешь? — спросил Фадейчев, дожевывая жамку. — «Граф Мо-нте Кри-сто», — с усилием прочел он и пренебрежительно бросил книжку на кровать. — Да на кой тебе, Сашка, читать о разных графах? Мы их к стенке ставим, а ты книжки о них читаешь! — Он был граф не такой! — запротестовал Клешков. — Он за бедных стоял, а разных богатеев казнил и наказывал. — Ну, если так, — сказал Мишка, — другое дело. Это и у нас было. Раз приходим в Фастов, а там митинг. Что такое? Бойцы узнали, что комполка из дворян. И судят его. Ну, наш комбриг сразу в это дело влез, говорит: «Т-това-рищи бб-бой-цы, — знаешь, как он у нас умел! Все, значит, — раз — притихли. — Т-товарищи, грит, как п-показал с-себя в б-бою нас-сследник дворянских кровей?» Ну, они орут: хорошо, мол. А наш комбриг говорит: «К-ккакой же может б-быть суд в та-ком с-случае? Раз в бою он хорош, то какое вам дело, от кого он родился?» Отпустили. — Ну вот, — сказал Клешков, прихлебывая чай, — вот и этот граф из таких. — Слышь, — решительно встал Фадейчев, — айда к Маруське. Горит у меня все — надо сёдни выпить. — Несознательно как-то, — сказал Клешков. — Узнают на службе... — А плевать! — сказал Фадейчев. — Раз в год можно. Чтой-то у меня сёдни настроение такое! Клешков оделся, они вышли из дома и пошли вдоль темной улицы, чуть освещенной слабым светом из окон. Ветер шуршал в тополиных кронах, теребил свесившиеся из-за заборов полуоблетевшие ветки яблонь. Где-то далеко тявкала собака. Был уже комендантский час, и прохожих не было. Лишь в одном месте вылезла было навстречу из калитки какая-то фигура и, услышав дружный шаг идущих, нырнула обратно, чтоб уже не показываться. Мишка шагал, дергая за ветки, торчащие из-за заборов, нет-нет да и ударяя кулаком по ставням наглухо прикрытых окон. — Миш, — уговаривал Клешков, — да чего ты... — Запрятались, забились гады! — цедил Фадейчев, отшвыривая какие-то железки с мостовой. — Ребята против панов кровь проливают, а эти себе бока у печей поджаривают и только и мечтают, как обмануть Советскую власть! — Да ладно, Миш, — говорил Клешков. — Чего ты, раньше этого не знал? Обыватели! — Рубить их надо! В капусту! — свирепствовал Мишка и снова бил по ставне или калитке. У здания сельсовета одиноко горел фонарь и томился часовой, подремывая над своей винтовкой. — Эй, — заорал Мишка, когда они подошли, — завтрашний день проспишь! Солдат дернулся и ошалело уставился на них. — Ты чего? Проходи, проходи! — У, рыло самоварное! — ощерился Мишка, останавливаясь против него. — Ты спать сюда поставлен или от контры стеречь? — Иди, иди, — сказал часовой и пошевелил винтовкой. Тогда Мишка вообще сорвался с цепи. — Ты чего меня пугаешь, селедка немытая? — завопил он на последней ноте своего фальцета. — Убери свою пукалку, гад, а то я счас не знаю, что с тобой сделаю! — Миш, пошли! — тянул его за локоть Клешков. У Мишки не поймешь, с чего иногда начиналось такое, и тогда никто не знал, как его усмирить. — Пузо подбери, пехота! — орал Мишка. — В армию его взяли, а он все как в деревне... — Айда, Миш! — Клешков насильно поволок Мишку от часового, а тот вдруг принялся свистеть в свисток. Клешков втянул Фадейчева за угол, а свисток все заливался. Слышался топот — видно, бежал патруль. — Быстрей! — сказал Клешков, и они побежали. — Ну и неуемная ты голова. Фадейчев, хрипя на бегу, вдруг захохотал. — Ты чего? — спросил Клешков. — Да из-за этого... Раззявил рот! Надо было взять да заарестовать нас обоих. На тихой окраинной улочке они остановились. Брехали собаки, с хрипом дышал Фадейчев. Они немного постояли отдыхая. — Пошли, — сказал Мишка, и они зашагали вдоль канавы к полурастасканному дырявому забору, за которым тускло светился тоненькими полосками между ставен Маруськин дом.
Маруська открыла только после долгого стука, — Ктой-то? — спросила она, показываясь в проеме за приоткрытой на цепочке двери и подымая лампу. — Ой, — отшатнулась она, — опять с обыском? Вот я напишу в губернию, как мне жить не дают! — Да открой, Марусь, — сказал Мишка, вставляя ногу между дверью и косяком. — Мы к тебе без дела... Так! — А ну убери ногу, идол! — завопила Маруська. — Говорю — не открою, значит, не открою! — Да угомонись, Марусь! — снова попросил Мишка. — Мы выпьем и уйдем себе тихонько! — Говорю — убери ногу! — кричала Маруська. — А то вот жильцов позову! — Каких таких жильцов? — спросил Клешков, просовывая голову из-за Мишкиного плеча. — А они у тебя прописаны? Маруська замолчала, разинув рот, потом все же открыла цепку. — Ну входите, злыдни! — сказала она. — И чего только власть смотрит! А этот туда же: в кожане, а приходит водку лакать! Оба прошли через темную прихожую на кухню. На дощатом столе стояли два стакана и блестел при свете лампы, подвешенной у стены, пролитый самогон. Маруська вошла шаркая, поставила упавшую лавку, сказала: — Пришли, так садитесь! Чего стали? Клешков и Фадейчев хотели было сесть лицом к внутренним комнатам, но она так настойчиво совала им под ноги скамью, чтобы они сели спиной к двери. — Сколько нести-то? — спросила она. — Одну литровку, — сказал Мишка, а когда Клешков раскрыл было рот, дернул его за рукав. Маруська вышла. — Кто-то был и смотался. — Фадейчев дернул усом. — Самогон пролил и лавку повалил. Сашка Клешков неслышно встал и прижался к косяку около раскрытой двери в комнату. Дверь была завешена серой занавеской. Клешкову послышался дальний шепот, потом зашаркали шаги. Клешков сел на скамью между стенкой и столом, так что теперь ему виден был профиль Фадейчева и вход. Маруська вошла, неся в руке бутылку с мутной жидкостью, в другой — два ломтя хлеба. — Ты чем рассчитываться-то будешь? — спросила она. — Чай, советскими? Мишка вынул пачку денег. Они с каждым днем стоили все меньше, и Клешков посмотрел на Маруську. Ее нестарое еще, распухшее лицо с фиолетовыми пятнами на щеках сразу же зажглось. — Ты их в сортир отнеси! — заорала Маруська. — Они только там и годны! Чего я с ими делать буду? Клешкову показалось, что вдалеке скрипнула дверь. — Приходят, будят добрых людей, — орала еще громче Маруська, — а чем заплатить — не имеют! Фадейчев сидел весь красный, растерянно озираясь и потея, а Клешков, про себя отметив, что еще ни разу не видел таким беспомощным своего лихого приятеля, внимательно смотрел на Маруську и слушал. Чем больше она поднимала голос, тем больше ему не верилось, что она орет от злости. Он слушал. — Вот завтра схожу в Чеку, скажу, что ко мне ходите! — кричала Маруська. Клешков скорее учуял, чем услышал, как по двору идут. Хрустела щепа, разбросанная по земле. Он встал. — А ну помолчи! — приказал он негромко. И Маруська сразу смолкла, точно она только и ждала, чтобы ей это сказали. Теперь уже явно слышен был хруст щепы. — Кого прятала? — спросил Клешков, надвигаясь на Маруську. Но та, отшатнувшись, вдруг отчаянно закричала: — Ря-туй-те-е! Почти в ту же секунду Клешков ударил по скамье, и Мишка упал на пол, и тотчас же сверкнуло, грохнуло и посыпалось стекло. Прежде чем Клешков опомнился, вскочивший Фадейчев рванулся к разбитому окну, хряснула рама, и что-то тяжелое выпало наружу. Сразу задуло в окно, и ударили один за другим три выстрела. Клешков, зажмурившись, ринулся в окно и вывалился на землю. Из-за забора опять грохнуло. Он увидел, как в ясном свете луны Мишка крадется к щели в заборе, увидел мелькнувшее в другой щели человеческое лицо и выстрелил в него. Мишка вырвался на улицу. Еще раз выстрелили. Клешков через другую дыру нырнул туда же. Около чего-то темного стоял знакомый силуэт Мишки, и его голос говорил с непривычной, неправдашней ласковостью: — А ну вставай! Вставай, браток! Вставай, а то хуже будет. Клешков, спеша к нему, споткнулся о второе тело. Он наклонился. Черная ленточка тянулась ото лба, стекала на переносье, изгибалась вдоль крупного носа. Чужое, незнакомое, мертвое лицо. — Давай сюда! — позвал Мишка. Клешков подошел. — Живой, — сказал Мишка, — прикидывается! — Он ткнул рукоятью кольта в плечо лежащего, и тот весь содрогнулся. — Вставай! Тот нехотя поднялся, один рукав его распахнутого крестьянского полушубка был пуст. — Что, однорукий, что ль? — спросил Мишка. — Ранен, — определил Клешков и, отвернув полу, сказал: — Да это ж тот! — Кто? — спросил Мишка, ощупывая карманы пленного. — Это они сегодня на базаре устроили стрельбы. Скажешь, нет? — приблизил он лицо к пленному. Тот отвернулся. С нижних улиц приближался конский топот. — Ох, убивцы! — застонала, стоя в калитке, Маруська. — Стыдно тебе, — сказал Клешков, — комиссаров спасала, а теперь бандитву укрываешь! — Я не комиссаров! И не бандитву, — сказала вдруг злым голосом Маруська, — я людей покрываю, понял, балбес стриженый? Я укрываю, а ты стреляешь? — Вот мы тебя счас в ЧК отволочем, ты у нас расскажешь, кого покрываешь и кого мы стреляем, — сказал ей Мишка. Из-за поворота вырвалось несколько всадников.
...Бандит оказался крепким орешком. Его допрашивали всю ночь. Бубнич, Мишка Фадейчев и Клешков сидели за столами вокруг него, а он — рослый, скуластый мужик с русыми волосами, распадавшимися посредине, — стоял в центре комнаты и молчал. К рассвету уже вспотели и утомились все — и допрашиваемый, и допрашивающие; комната была полна папиросного дыма и мутного света близкого утра. — Ты вот что скажи, — говорил Бубнич, непрерывно куря и платком утирая лысину, — за что вы убили часовщика? — Ничего такого не знаю, — бубнил задержанный, пряча глаза под белесыми ресницами, — никого мы не убивали. Только что когда они убили Кривого, мы тут и вступились. — А за что они убили Кривого? — спрашивал в сотый раз Бубнич. — Ну чего ты, парень, виляешь, ты пойми: нам не ответишь — трибунал близко. А ответишь — жив будешь. Мужик молчал. Изредка лишь он облизывал губы и скользил по сидящим безразличным взглядом голубых глаз. О себе он тоже ничего не рассказывал. — Дай ему стул, Клешков! — махнул рукой Бубнич. — Ну, парень, всех ты нас загонял. Клешков подошел и сунул под колени пленному стул, тот так и рухнул на него и тут же дернулся — простреленное плечо заболело. — За что ты борешься, парень, не пойму, — сказал Бубнич. — Или ты кулак? Задержанный скривил рот в усмешке. — Самому смешно, — улавливая эту усмешку, сказал Бубнич. — Ну вот смотри, сидят двое ребят: один вообще беспризорник, другой — рабочий с электростанции. Они тебе враги? Мужик с некоторым интересом скользнул по ним взглядом. — Взять меня, — сказал Бубнич. — Я, правда, был студентом. Но кто у меня отец? Сапожник. Да и я недоучка: как связался с подпольем, так пошел по ссылкам и, конечно ж, ни до чего не доучился. Мужик глотнул воздух и посмотрел на Бубнича отсутствующим взглядом. Бубнич налил тепловатую воду из графина, подошел и дал ему. Тот жадно выпил. — Ну, а у твоего Краскова что, до революции ничего не было? Бедняк он? — Мы не красковские, — сказал наконец мужик. — Я из отряда Хрена. Наш батька отродясь в богатеях не был. И теперя он стоит за правильную власть. За то и бьемся. — Это какая ж правильная? — спросил Бубнич. Но мужик, побагровев, уставился в пол и замолчал. — Советская власть без коммунистов, что ль? — спросил Бубнич. — Так это знаешь какая власть? Для кулаков. Мужик смотрел в пол. — Нет, он все-таки кулак, — сказал Бубнич, вставая, — все ясно. Оттого и у Хрена служит. Все! Можно вести. Фадейчев встал. За ним поднялся и мужик. — В расход? — спросил он, криво улыбаясь. — А ты думал — к мамке на галушки? — усмехнулся Бубнич. Мужик все еще стоял. Потом повернулся, шагнул к двери, оглянулся оттуда. — Никакой я не кулак, — сказал он. — А только продразверстка ваша — все равно народ ее ликвидировает. — Давай, давай! — торопил его Мишка. — Погодь, — сказал он. — Ладно. Меня можете щелкнуть. Мне, может, туда и дорога. Я часовщика кончал — он не ваш, он на Краскова работал, — но ваших я тоже кончал — не отпираюсь. А вот пока вы меня терзали, батько Хрен небось уже Графское взял. И вполне там за меня рассчитается. — Хрен сейчас в Графском? — переспросил Бубнич, нагнувшись над столом и неотрывно глядя на мужика. — Ты не сочиняешь? — Вот завтра услышите, — сказал парень. — А я — что! Меня можно и к стенке.
Бешено дроботали копыта. Комки непросохшей земли били в лицо. Ветер гудел в ушах. Клешков скакал сгорбившись, почти припав к шее крупного гнедого коня. Рядом, старательно следя за дорогой, скакал Гуляев. Начальник милиции Иншаков и председатель ЧК Бубнич вели отряд переменным аллюром. До Графского было семьдесят километров, надо было успеть и не запалить лошадей. Впереди, в строю чекистов, Клешков время от времени видел кубанку Фадейчева, его лихую, перенятую от казаков посадку, чуть боком, с правой рукой, брошенной поперек седла. Они проскакивали деревни, словно вымиравшие при их появлении. Однажды на повороте по ним стреляли, но отряд не остановился. Дорога, узкая и слабо проезженная, вся в пожухлой осенней траве, шла между стен сплотившихся сосен. Начинался огромный Черный бор, уходящий до самой Припяти. Лошади уже отфыркивались, и у многих потемнели от пены бока, а командиры все подхлестывали и подхлестывали. Оставалось километров семь. Уже видно было пламя. Стволы сосен начинали лучиться, отражая его огненные отсветы. Еле слышно доносились хлопки выстрелов и пулеметная дробь. Кони забеспокоились, впереди, во взводе ЧК, заржала лошадь. Отряд стал замедлять ход. Начальник Иншаков и Бубнич, толкнув коней, перепрыгнули кювет и, подъехав к соснам, о чем-то переговаривались, глядя на карту. Начальник вдруг посмотрел в сторону сгрудившегося на дороге отряда, где задние все еще осаживали лошадей, выискал глазами Клешкова и махнул ему рукой. Клешков поднял на дыбы своего гнедого и в два прыжка оказался рядом с начальником. — Возьми двух человек, разведаешь, что там. И подходы. Раздался топот, около них затанцевала вороная кобыла Фадейчева. Мишка попросил: — Товарищ комиссар, дозвольте в разведку! — Вот, пусть он будет старшим, — сказал Бубнич, оторвавшись от карты. — У него опыт есть. Начальник отчего-то побагровел, но кивнул. — Даешь! — гаркнул Мишка, и кобыла вынесла его на дорогу. Клешков и вызванный им Гуляев поскакали за ним. Дорога сужалась все больше, и вот уже стали видны редкие сосны, кусты орешника на опушке и сквозь прогалы деревьев — далекое пламя над длинными амбарами и конюшнями, расставленными неподалеку от двухэтажного барского дома с мезонином и колоннами перед входом. Со всех сторон трещали выстрелы. Мишка подъехал шагом к последней сосне, около которой вился орешник, и остановился, глядя на совхоз. Гуляев и Клешков подъехали и стали по бокам от него. Стрельба в совхозе вдруг затихла. Издалека стало слышно, как трещит пламя. Огромный старый дом с пятнистой колоннадой еще не горел. Вокруг него и в особенности за ним вздымалось целое море могучих лип. — Им бы, дуракам, из парка зайти, — сказал Мишка, — а они в лоб прут. — А может, они и из парка, — сказал Гуляев, — пока не видно. — Я еще с дороги видал, — сказал Мишка. — Дубовые вояки. Видно было, как между горящими службами и конюшней пронесся жеребенок, остановился, попятился от огня и опять помчался, подняв хвост трубой. Вдруг из-под куста, неподалеку от горящей конюшни, встал человек в венгерке, он махнул рукой, и отовсюду — из-за бревен, набросанных около служб, из-под кустов — начали вскакивать люди. Ветер донес слабый крик. Маленькие фигурки со всех сторон, пригибаясь, стреляя, бежали к дому. И тотчас же сверху, из окна мезонина, вырвалась и забилась красная вспышка, и ровное татаканье «максима» угомонило нападавших. Некоторые еще бежали вперед, но иные уже лежали на земле неподвижно, другие падали и отползали, а из окон непрерывно сверкали вспышки и сверху, откуда вся площадка перед домом, освещенная пламенем, была как на ладони, точно стегал огнем пулемет. — Ну, лупит! — с удовольствием сказал Мишка. — Прям как у нас в бригаде Жорка Никоненко. — Что делать будем? — спросил Гуляев. — Скачи к нашим! — нахмурился Фадейчев. — Скажи, совхозники еще держатся, надо атаковать. Объясни обстановку. Скажи, за тыл эти остолопы не беспокоятся. Гуляев тронул коня и неслышно по мягкой земле поскакал в сторону бора. Клешков толкнул Фадейчева в плечо. Тот взглянул влево. Шагах в ста от них из-за куста следили за мчавшимся между сосен Гуляевым два человека в шинелях и черных папахах. Один уже вел стволом вслед Гуляеву, когда Фадейчев, диким криком сорвав с места лошадь, рванулся на них, а Клешков поскакал, обходя их, чуть в сторону. Двое у куста упустили только мгновение. Они только секунду ошалело пялились на летящего на них Мишку с низко опущенной вдоль крупа лошади шашкой, и именно этого мига им не хватило, чтоб прицелиться. Один успел только вскинуть винтовку и упал под шашкой Фадейчева, а второй сразу побежал вниз, в сторону боя, по скату холма. Ровно идущий гнедой Клешкова настигал его. Клешков, в азарте погони не замечая того, что потерял кепку, склоняясь с седла, стволом нагана вел бегущую перед ним фигуру. Бандит несколько раз оглянулся, и глаза его почему-то смотрели не на Клешкова, а на морду настигавшей его лошади, потом он на бегу выкинул винтовку на одной руке стволом назад и несколько раз выстрелил. Цвинь-цывинь — высвистнуло около уха Клешкова. Он ударил лошадь каблуками, она рванулась, и Клешков, свесившись с седла, дернул за отставленный назад ствол винтовки, и она покатилась по земле. Гнедой в два прыжка обогнал бегущего и, осаженный всадником, встал у того на дороге. Бандит стоял, закрываясь косо вскинутыми ладонями и зажмурив глаза. — Пшел! — Клешков ткнул его ногой. Бандит взглянул и, повернувшись, покорно побрел к бору. Он был без шапки, и давно не стриженные волосы неровными косицами курчавились на красной, обветренной шее. На опушке выстраивался отряд, и Мишка Фадейчев, вытирая рукавом кожанки шапку, ехал в ту сторону и поглядывал издалека на Клешкова. — Язык! — сказал начальник, подъезжая. Его длинная шинель свисала ниже стремян, а военная фуражка была надвинута на брови. — Что за банда воюет? — спросил он, останавливая лошадь перед пленным. — Повстанческий отряд Хрена, — мрачно сказал мужик, затравленно косясь на подъезжающих всадников. — Отряд! — сказал начальник и отплюнулся. — Бандиты, а туда же — отряд! Возьмите там его! — крикнул он, оборачиваясь к строю. Подъехавший милиционер погнал пленника в бор.
Жидкая лава отряда вырвалась к площадке перед домом как раз в тот момент, когда люди Хрена снова поднялись в атаку. Перед обезумевшими бандитами заплясали лошади, засверкали клинки, и в грохоте непрерывно бившего «максима», в треске пламени началась ожесточенная рубка. Клешков погнал рослого дядьку в куртке-безрукавке прямо на дом. Бандит дважды выстрелил в него, и тогда Клешков понял, что так можно налететь на пулю. Он выстрелил в спину мечущегося человека, тот покатился по земле, а Клешков повернул было коня в ту сторону, где еще слышались крики и выстрелы, как вдруг увидел, что ствол притихшего было пулемета на мезонине в тридцати метрах от него поворачивается прямо в его сторону, он открыл рот, чтобы крикнуть и предупредить: «Свои!», но ствол затрясся, выкинул красное пламя, и Клешков, почувствовав, как дернулся его гнедой и как мягко стал заваливаться на бок, успел только вытянуть ногу из стремени — и уже падал, уже лежал на траве, рядом с вытянувшимся в агонии и сразу затвердевшим телом лошади и, не понимая, смотрел вверх на пулемет. Потом он повернул голову в направлении схватки и увидел, как падают всадники, освещенные огнем, и как с яростным криком несется прямо к дому на своем вороном Фадейчев, рукой подняв кубанку с алой полосой на ней. Но пулемет повернулся к нему, и снова задрожало пламя. Клешков увидел, как друг его вместе с конем на полном скаку остановился и рухнул на бок. Тогда, все еще не поняв, что же именно происходит, почему свои стреляют по своим, Клешков нащупал на поясе обе лимонки, привешенные перед походом, не торопясь отцепил их, взвел на обоих чеки, вполглаза следя за буйствующим наверху пулеметом, и, чувствуя себя открытым для первой же пули, вскочил, швырнул одну за другой бомбы в мезонин и тут же упал. Дважды рвануло. Клешков лежал лицом в теплом еще боку своей лошади и ждал очереди в свою открытую сверху спину. Но еще несколько раз ударили винтовочные выстрелы, затем наступила тишина, во время которой особенно слышно было, как трещат кровля конюшни, стены амбара и вдруг кто-то невдалеке закричал «ура» и со всех сторон громко затопали сапоги. Клешков взглянул в сторону пламени. Оттуда бежали люди, и впереди всех — высокий знакомый человек в сером пальто, серой кепке и крагах. Клешков встал. Из дома не стреляли. Он кинулся ко входу между колонн, ворвался в дом. Там в зале лежали двое раздетых догола людей, и рядом у окна скорчился человек в военной форме. Клешков пробежал по всем комнатам. Окна и двери, выходящие в парк, были распахнуты. Уже чекисты в кожанках, обежав дом, стреляли по кому-то укрывшемуся между деревьев, уже весь дом наполнялся голосами, а Клешков все еще стоял перед раскрытой дверью в парк и смотрел на могучие липы, уходящие куда-то вниз длинными аллеями и стоящие густо в промежутке между аллеями, смотрел на их пламенную листву, в которой словно бы вторично отражался огонь догоравших невдалеке строений. Давно уже он не видал такой красоты. А вокруг всё стегали и стегали выстрелы. — Жив? — подошел запыхавшийся Гуляев. — Видел ты, кого угрохал, нет? — Нет, — сказал Клешков. — Двух таких вояк, — покачал головой Гуляев. — Ну и банда! Они бы нас, как кур, перестреляли, если б не ты. Мы там все как на ладони, а пулеметчики наверху. Клешков вслед за Гуляевым вошел в зал. В голове у него гудело, и он еще никак не мог прийти в себя с той секунды, когда прогнулось и стало заваливаться на бок тело гнедого. В зале было полно бойцов, переговаривавшихся, хохотавших. Несколько человек толпились около убитых, в углу Клешков увидел Мишку Фадейчева с оскалом схватки, закостеневшим на лице. Его перевязывал чекист с рыжими баками, выбившимися из-под фуражки. Увидев Клешкова, Мишка махнул ему рукой. Клешков подошел. — А я думал, ты готов! — сказал он. — Я видел, как они тебя подсекли. — Коня гробанули! — Фадейчев морщился от боли в руке и вертел головой. — Какой конь был! Подошли и остановились невдалеке Бубнич и начальник. Бубнич все тер лоб, а начальник уже отдавал крикливым тенорком приказания. — Ребята у тебя, — сказал Бубнич, поворачиваясь к начальнику, — оторви да брось! Он подозвал Клешкова и Гуляева и сказал, оглядывая обоих: — На уездной конференции комсы прямо так и скажу о вас, ребята: вели себя геройски. Молодцы комсомольцы. — Я не комсомолец, — сказал Гуляев. — Нет, так будешь, — сказал Бубнич. — Раз так сражаешься, обязательно будешь в комсомоле. Начальник косо посмотрел на Гуляева и повернулся к Бубничу: — А дела у нас дырявые, комиссар. Шесть убитых, двадцать покалеченных. — Да-а, — сказал Бубнич, вертя головой и оглядываясь. В зал всё вносили и вводили новых и новых раненых. — А что, собственно, получилось? —спросил Бубнич. — Как это вышло? Против бандитов помогали, и, оказалось, бандитам же? — А ну, давай пленных! — крикнул начальник. — А этих закопать! — крикнул он, указывая на трупы. — Наших будем хоронить отдельно. — Кто эти-то? — спросил Бубнич, показывая на голые тела мертвых. — Должно, наши — из совхозу, — ответил, появляясь, Фомич — взводный милиции. — Они завсегда так наших телешат. Всё сымают, стервецы. — Их тоже отдельно закопать, — сказал Бубнич. Комвзвода кивнул, ушел отдавать приказания. Привели пленных. Один был взятый Клешковым мужик, второй — высокий босой малый, в распоясанной солдатской рубахе, третий — кряжистый бородач в полной солдатской форме, но тоже уже без сапог. — Фамилия? — спросил начальник у парня. — Чумак, — сказал тот, испуганно рыская взглядом по лицам. — Я с ими первый раз! — Разберемся! — отрезал начальник. — Твоя фамилия? Бородач переступил босыми ногами, долго морщил лоб. — Глухой? — спросил начальник. — Смотри, враз научим слышать! — Ты не пужай, — вдруг голосом, как из бочки, ответил бородач. — Меня, брат, с четырнадцатого года все пужают, никак не испужают. — Ты, контра! — сказал начальник. — Ты у меня пошлепай губами — я тебе враз... — Как зовут-то? — спросил Бубнич, перебивая начальника и заслоняя его собой. — Зовут-то Иван, — сказал бородач, — Чего еще спросишь? — Как отчество? — Парамоном отца звали. — Ты тут за кого воевал, Иван Парамонович? — спросил Бубнич. Обиженный начальник убежал в другой угол зала, и оттуда раздавался его тенор. — Я за своих воевал, — усмехнулся бородач. — Небось не перепутал. — Может, и перепутал, Иван Парамонович, — сказал Бубнич, — по всему видать, ты землицу имеешь, чего ж в банду пошел? Али на поле дела не хватило? — Дела-то хватило, — сказал бородач, вскидывая тяжелый взгляд серых глаз. — Да оно, вишь как, пришли такие, вроде тебя, да и разорили хозяйство. — Кулак? — в упор спросил Бубнич. — Я такого слова не знаю, — сказал бородач, — умеешь хозяйствовать, ночи не спишь, плуги, веялки ладишь — вот и дело идет. А для тебя, оно конечно, кулак. — У нас один тоже в деревне был, — зачастил Чумак, — мироед, вроде этого. Все дворы у его в долгу. — А как же вы в одну шайку попали? — спросил Бубнич, отворачиваясь от бородача. — Он — мироед, ты — бедняк? — А ён не наш, — влез в разговор небритый мужик, взятый в плен Клешковым. — Етот ихний. — Чей — ихний? — спросил Бубнич. — Красковский, — заспешил Чумак. — Мы совхоз взяли, а тут они на нас. Мы — бечь. А потом батько нас собрал, гуторит, их же два десятка, не боле. Мы внове на них, а тут вы! — Да, — сказал Бубнич, — сам черт тут голову сломит... А чего вы между собой передрались? — спросил он у бородача. — Это между кем — промеж собой? — спокойно переспросил бородач. — Промеж собой, когда свои, а эта голь — она кому своя? Может, вам? — Может, и нам, — сказал Бубнич. — Ну ладно. Сколько у Краскова народу? — спросил он бородатого. — У капитана Краскова народу хватит, — сказал тот. — Да десятка два у него! — зачастил Чумак. — Только они все навроде этого. Сплошь ухорезы! — А ты чего к Хрену пристал? — спросил у третьего пленного Бубнич. — С горя я, ей-бо, с горя, гражданин товарищ, — сказал тот глухо и посмотрел из-под бровей запавшими больными глазами. — Батьку мого ваши вбилы... за реквизицию... Ось я и прилып до того Хрена... — Видать, кулак был батька! — определил подошедший начальник. — Та який кулак, — застрадал мужик, — одна коровка — усе хозяйство. Лошади и то не було. — А ты, значит, осознал? — спросил начальник. — Як есть усе осознав, — забормотал мужик и вдруг хлопнулся на колени. — Не вбывайте мене, граждане товаришы! Бородач презрительно отвернулся. У Чумака затряслись губы. — Встань! — приказал Бубнич и обернулся. Из парка звал, кричал, вопил чей-то голос. Все, кто был в доме, кинулись к окнам и затеснились в узких дверях, ведущих в парк. Голос все кричал за липами аллеи, и все толпой понеслись туда. Клешков бежал сзади и подбежал, когда из толпы уже вылез Гуляев с восковым, мутным лицом и пьяно зашагал куда-то в гущу кустов. Клешков протолкался сквозь остолбенело стоявшую стену людей и замер. Под деревом на куче свежекопанной земли лежали во всю длину взбугренные страшным последним усилием синеватые человеческие ноги. И только потом Клешков различил, что они не были отрублены, что это была половина человека, вся верхняя часть которого была закопана в землю. Клешков стоял и смотрел на эти ноги и представлял, как его держали, может быть наступив на поясницу, как он пробовал руками отпихнуться от дна ямы, а сверху уже беспощадно сыпали и сыпали землю, и он задыхался и кричал, а земля лезла в рот, ноздри... А может, и руки-то у него были связаны... Звякнуло железо, двое начали спешно копать. Вокруг молчали, и только дыхание было громким и частым. Клешков отвернулся, чтобы не видеть лица, которое сейчас откопают. Лопаты шумно вгрызались в землю. Вдруг все смолкло. — Рыбаков! — сказал писклявый голос начальника. Клешков вспомнил веселого вихрастого человека, выступавшего у них месяц назад о необходимости любить и беречь лошадь, и в горле у него возник и застрял комок. — А-а! — взвыл чей-то голос. — Вот они как нас! И тут же застонал, заскрежетал Мишка. — А ну! — крикнул он мучительно задрожавшим голосом. — А ну, сочтемся! И побежал к дому, высоко подняв локоть раненой руки, а здоровой на ходу выдергивая свою знаменитую шашку, подаренную ему самим Котовским. За ним с ропотом хлынула толпа. Клешков бежал рядом с другими, ежесекундно ощущая, что все свершенное с управляющим совхозом могло быть сделано с ним. От ужаса у него поднялась на голове фуражка, и ненависть, которую он ощущал сейчас, как и все бегущие рядом с ним, не могла не пролиться куда-то, иначе от нее могло разорваться сердце. Пленные так и стояли в углу, под охраной двух милиционеров, когда ввалилась толпа. — А ну, катюги! — медленно подходил к ним Мишка, напрягая отведенную руку с шашкой. — А ну становись! — Не надо! — вскрикнул Чумак, хватаясь рукой за голову и вжимаясь в стену. Пожилой мужик, взятый Клешковым, смотрел остановившимися глазами. Бородач побелел и отвернулся. — Фадейчев, — крикнул сзади голос Бубнича, — не сметь! Но шашка уже свистнула, и Чумак сполз по стене. — Отставить, Фадейчев! — снова закричал Бубнич. И тотчас сзади завязалась борьба, и чей-то жестяной голос сказал: — Тебе здесь дела нету, комиссар. Опять свистнула шашка. Коротко охнув, упал пожилой, следом упал бородач, а шашка все свистела и свистела... — Иншаков, наведи порядок! — задыхаясь, закричал сзади Бубнич. И тотчас же тенористый голос начальника закричал: — Эй, Фадейчев, а ну кончай! Слышь, тебе говорят! Они ж и так мертвяки все трое. Толпа стала расходиться. Клешков взглянул на тела, залитые кровью, и, чувствуя, что давится, выбежал в парк. Когда он вернулся, Бубнич, стоя перед бледным, но невозмутимо усмехающимся Мишкой, кричал что-то о трибунале, а Фадейчев старательно вытирал тряпкой свою именную шашку. Проходившие мимо чекисты и милиционеры сторонились его, и в глазах их было восхищение и страх. — Пойдем на воздух, — сказал подошедший Гуляев. Мальчишеское упрямое лицо его как-то затвердело и осеклось за этот день. Клешков молча вышел за ним. В парке было тихо. Но амбары и конюшни все еще не догорели. Пламя бурлило невдалеке, по деревьям пробегали алые отсветы. Они стояли перед центральной аллеей. Шеренги лип уходили вниз. По сторонам от аллеи парк ветвился десятками самых разных крон. Тут были и клены, и березы, а вдалеке поднимали багряные вершины огромные дубы. Кустарник оплетал все прогалы между деревьями. В одном месте ощутимо чувствовался какой-то порядок, и Клешков разглядел там округлые яблоневые кроны — там был фруктовый сад. Начинало смеркаться. Апельсинового цвета полоса растекалась на небе, пересекаемая вершинами деревьев. — Сад не осматривали, — сказал Гуляев. — Что? — спросил Клешков. — Говорю, в таком парке можно целую дивизию спрятать, не только банду. Из дома, брякая шпорами, выскочил Фадейчев. Он нес под мышкой какую-то одежду. — Эй, Гуляев! — сказал он командно. — Скинь-ка свой макинтош, а то так и хочется обойму в тебя всадить — больно вид кадетский. Гуляев даже не посмотрел на него. — Слышь, нет! — сказал, толкая его здоровым плечом, Мишка. — Бери, у ребят разжился. Гуляев повернул к нему голову и сказал срывающимся голосом: — Ты ко мне больше не подходи... И не обращайся. И больше не пробуй со мной разговаривать! — Что-о? — сказал Мишка. — Чего такое? — Он вдруг бросил куртку на землю и грудью напер на Гуляева. — Ты что, кадетская твоя утроба, ты что это мне говоришь, а? — Я тебе сказал, — сощуриваясь, чтоб выдержать белую накаленную злобу Мишкиного взгляда, сказал Гуляев. — Ко мне больше не обращайся. Я с палачами никогда рядом не был и не буду. — Ах, с палачами! — прошептал Мишка, не сводя с него белого своего взгляда и быстро облизывая губы. — Ах, с палачами, падло кадетское! — Он вдруг до крика поднял свой голос: — Давно я к тебе присматривался! — Он дернул шашку за эфес, но его трясло, а шашка не поддавалась. — Гад ползучий! — шептал Мишка, и его трясло все сильнее. — Из-ме-на! — вдруг закричал он громко и как-то беззащитно. Клешков кинулся и обхватил его руками, но Мишку било так, что удержать его было невозможно, вдруг рывок тела расшиб руки Клешкова, и Мишка уже катался по земле среди сухих листьев и кустарника и хрипел, исходя криком, который не мог прорваться, а на губах его была пена. Отовсюду высыпали люди. — Наваливайся! — крикнул кто-то. — Падучая. Клешков и другие навалились на выгнувшегося, как пружина, Мишку, но и под столькими телами выгибала, трясла его страшная сила припадка. Наконец он затих. Какой-то боец обтер ему рот, и все отошли, а он остался лежать, приложив щеку к земле и усмехаясь какой-то изнеможенной улыбкой. Клешков посмотрел на него и отошел. Ему сейчас ни до кого не было дела. У него в голове был туман. За что убили пленных? А за что они так наших? «Мишка, Мишка! И вправду — палач! А этот... Гуляев. Чистеньким хочет быть, а тут классовая борьба... Они нас щадят? Видал же, как они щадят!.. Но ведь пленные, и разве можно так...» Через два часа свисток взводного собрал всех около дома. Приказано, не откладывая, устроить прочес парка: слишком опасно было не знать ночью, что и кто находится в двух шагах. Клешков шел в десяти шагах от Гуляева, оглядывая кусты, роняющие кудрявые тени от луны, уже вылезшей и начинавшей свой вечерний обход. Вокруг стрелял хворост под ногами, перекликались бойцы. Клешков обогнул громаду сросшегося кустарника, вышел к фруктовому саду. Недалеко от крайних яблонь виднелась огромная черная тень. Трудно было даже угадать, что это такое. Если это был дом, то почему ясно видно, как во все стороны торчат ветки? Клешков двинулся к этому сооружению по тропинке, высветленной луной. Вдруг ему показалось, что он слышит какой-то скрип. Он приостановился за деревом и увидел что-то шевелящееся на фоне странного холма. От черной массы отделилась тень и шагнула навстречу. — Стой! — крикнул он и выскочил из-за дерева. Тотчас же лунный сумрак озарился вспышкой. Ударил выстрел. Клешков, падая на землю, дважды выстрелил в ответ, но силуэт врага уже затерялся в кустарнике за яблоней, и оттуда сразу же замигали вспышки выстрелов. Клешков ударил по вспышкам, но они передвинулись, хотя и не удалились. Уже стеганул по кустам винтовочный огонь со всех сторон, а оттуда все слышалась одиночная пальба. «Почему он не уходит?» — недоумевал Клешков. Мимо него пронесся в сторону кустов Гуляев и еще какой-то боец, и оттуда снова дважды хлестнули выстрелы. Боец, бежавший рядом с Гуляевым, пошатнулся, словно ударился о стену, и упал посреди высвеченной луной полянки, а Гуляев все бежал к кустам. Оттуда снова выстрелили. Мимо Клешкова мелькнула быстрая тень, грохнул взрыв, и торжествующий Мишкин голос заорал: — Сюда! Клешков подбежал вслед за Гуляевым и успел разглядеть плотного невысокого человека, на котором, охватив его здоровой рукой, сидел Фадейчев. Гуляев ударил рукояткой нагана человека, пытавшегося скинуть Фадейчева, и тот осел. — Обыщи его! — крикнул хрипло дышащий Мишка, соскакивая с пленного. Клешков охлопал карманы, пошарил за пазухой. Вытащил две обоймы, браунинг. Пачку махры и бумагу. Последнее тут же выхватил из руки Мишка. — Взяли? — подбежал во главе нескольких человек запыхавшийся начальник. — Пока вы спали! — хвастливо сказал Мишка, с независимым видом сворачивая одной рукой самокрутку. — Налетай, братва! — заорал он, размахивая пачкой. — Подешевело! Трофеи появились!
...Капитана Краснова допрашивали наверху в мезонине. В окно с разбитыми стеклами видно было, как дотлевает закат. Мишка Фадейчев с кольтом на коленях сидел у выхода, нянча раненую руку. Гуляев и Клешков стояли, прислонясь к стене, Бубнич и начальник Иншаков сидели за столом, освещенным керосиновой лампой. Красков, плотный, с узкими бедрами и широкими плечами, даже в разодранном френче казался ловким и подтянутым. Кудрявая, падавшая искоса на лоб челка, узкая черная змейка усов под горбатым, воинственным носом и возбужденно сверкавшие глаза подчеркивали породистую смуглую красоту его лица. — Ну, Красков, — начальник сурово поглядел на пленника, — расскажи, сколько ты людей перестрелял, перевешал? — Я стрелял, а вы в куклы играли, — усмехнулся Красков, и на лице его промелькнуло и исчезло выражение ненависти. — Так-так, — забарабанил пальцами по столу начальник. — Смотри, Красков! Будешь так держать себя, долго не выживешь. — А я долго и не собираюсь, — сказал Красков. — И послушай-ка, я понимаю, что ты в университете не обучался, но прошу запомнить: когда разговариваешь с образованным человеком, надо выкать, а не тыкать. — Ну, ты, тварюга бандитская! — вскочил начальник. — Я тебе сейчас так тыкну, что не поднимешься! Но Бубнич за рукав потянул его вниз, и он с размаху сел. Красков стоял в той же небрежно-ленивой позе, как и раньше, и казалось, даже не слышал угрозы. — Скажите, Красков, — спросил Бубнич, — почему вы сразу признались в том, кто вы? — А я своего имени не прячу, — опять усмехнулся Краснов, и желваки вспрыгнули на его скулы. — Ладно, давайте поговорим серьезно, — сказал Бубнич. — Выяснять вашу идейную платформу не будем... Скорее всего, ее у вас нет... Красков захохотал, крутнув головой. — Нет и не может быть, — повысил голос Бубнич. — Слишком много убитых, повешенных для идейных убеждений... А закапывать в землю живьем — так это попросту палачество... Садизм! Даже в полумгле комнаты видно было, как побледнел Красков. — Это не мои люди, — сказал он, — не моя работа, — резко закончил он, когда увидел, как язвительно улыбается начальник. — Это работа Хрена. — Ты вот что скажи, — заспешил начальник, — почему это ты, вместо того чтобы коммунистов по деревням резать, с Хреном связался? Красков даже бровью не повел в его сторону, — Ответьте, Красков, — сказал Бубнич. Красков с минуту смотрел на них обоих, потом сказал: — Пожалуй, объясню. Хрен — разбойник! Самый типичный. Ему важна добыча. И отряд его — шайка! — А вы, значит, все-таки за идею? — усмехнулся Бубнич. — Ну конечно же, — глумливо покачал головой Красков. — Я агент Антанты, деникинец, наемный агент капитала... — А разве не так? — спокойно переспросил Бубнич. — Я борюсь за Учредительное собрание, — холодно и надменно сказал Красков и оглядел всех собравшихся в комнате. Я борюсь за то, чтобы все классы и слои России были представлены среди его делегатов. Ясно? — Кадет или эсер? — спросил Бубнич. — Именно кадет, в самом чистом виде. — Ваше социальное происхождение? — спросил Бубнич. — Помещик? — Сын акцизного чиновника, студент, офицер военного времени. А мать — крестьянка. Не сходится с вашей доктриной, а? — Власть рабочих не признает самая отсталая часть буржуазной интеллигенции, — сказал Бубнич. — Она будет сурово наказана. Сурово. — Карать вы умеете, — усмехнулся Красков. — Пусть он лучше скажет, за что с Хреном сцепился, — опять подал голос начальник Иншаков, — и почему его уже дважды на этом месте ловили, а он все лезет и лезет в Графское? Красков обеспокоенно посмотрел на Бубнича, потом на Клешкова и Гуляева, приткнувшихся к стенке. — Были нужны лошади, — сказал он быстро. — Лошадей вы еще в прошлом году отсюда распугали, разогнали, — сказал Бубнич. — Что-то не вяжется, а, Красков? Красков молчал. Он прищуренно смотрел на носки своих сапог и о чем-то тревожно думал. — Вы его еще спросите, товарищ комиссар, — заговорил из-за спины Краскова Мишка Фадейчев, — чего он не бежал, гидра? Ему ж уйти ничего не стоило. Красков окаменел, стиснув зубы. Молчал. — Почему не отвечаете, Красков? — спросил Бубнич. Красков снова осмотрел всех. Взгляд был затравленный и какой-то выпытывающий. Внезапно грохнуло. Мишка схватил свой кольт. Клешков и Гуляев уставились на Краснова. Тот стоял весь напружиненный, набычив голову. — Посмотри-ка, Клешков, что там, — сказал начальник, подымаясь из-за стола. Клешков подошел, выглянул в окно. Внизу спокойно расхаживали несколько бойцов, сбоку бродили расседланные лошади, прыгал стреноженный рослый вороной конь. Метрах в ста вспыхивали и гасли змейки огня над стенами конюшни. — Крыша конюшни упала, — доложил Клешков, отходя, — а так все тихо. — Так все-таки почему вы напали на банду Хрена? — снова начал допрос Бубнич. — И предупреждаю, Красков: для трибунала ваша откровенность может иметь решающее значение. Красков с минуту думал, глядя перед собой. Потом решительно махнул рукой: — Ладно. — Он шагнул к столу, и в ту же секунду стол с грохотом опрокинулся, лампа разбилась на полу и доски пола вспыхнули, звякнули остатки стекла и послышалось падение тела, потом заржала лошадь и несколько раз ударили выстрелы. Клешков кинулся к окну и увидел, как в отблесках догорающих строений уходит на неоседланной лошади припавший к ее шее Красков. Он прицелился с локтя и выстрелил, но браунинг уже не брал на такое расстояние. — Ушел, — сказал он. Мишка, подошедший к окну, вылез в него до пояса, потом сказал: — Высоковато. Лихой офицерик. Бубнич тушил горящий пол, а начальник все еще не мог выбраться из-под стола. — Ну и де-ла! — сказал Клешков. — А ну пошли отсюда! — гаркнул выбравшийся наконец из-под стола начальник. — Охраннички!
В большом зале спали бойцы, подстелив шинели, бросив под голову охапку сена. Мишка спал в углу, бережно уложив на груди раненую руку. Клешков лежал, глядя в потолок. Такой день, как сегодня, редко мог пройти бесследно, и было о чем подумать. Рядом, подложив под голову кепку, не снимая своего пыльного, но все еще щегольского пальто, лежал Гуляев. Он о чем-то думал, кося глазом в потолок. — Здорово он нас обманул, — сказал вдруг Гуляев. — Кто? — спросил Клешков, повернув к нему голову. Вокруг царствовал храп, кто-то выкрикивал во сне, и голос Гуляева был плохо слышен. — Красков обманул ловко, — сказал Гуляев, приподнимаясь на локте. — Использовал отвлекающий эффект. — А с чем его едят? — спросил Клешков. Ему сейчас не хотелось ничего слушать, да и Гуляев был ему не очень приятен после истории с Мишкой. Конечно, Мишка поступил гнусно: убил людей. Но люди эти были бандиты, а на Мишкином теле не было места свободного от шрамов. Он к врагам имел счеты. А Гуляев не имел права ему так говорить. Но потом Клешков вспомнил Чумака, его искреннюю злобу к бородачу, его запуганность, темноту, и снова все в нем раздвоилось. Он сейчас не знал, кто прав, кто виноват, и даже не знал, кто он сам, Клешков, чего он хочет от этого мира. — Нет, — говорил азартно Гуляев, — англосаксы так не поступают. — Как не поступают? — спросил Клешков. — Так, — ответил Гуляев, отвлекаясь какой-то мыслью. — Раз они решили что-то сделать — они доводят до конца. — Ну, а что тут до конца доводить? — спросил Клешков, постепенно заинтересовываясь. — А то, — сказал Гуляев и сел. Волосы его растрепались. На впалых щеках пробивалась еле заметная светлая щетина. — Красков был у нас в руках. Мы его упустили. Теперь во что бы то ни стало должны опять взять. Именно мы. — Это и так ясно, — отмахнулся Сашка. — И при чем тут эти англосаксы! — Слушай, Саш, — потянул его за плечо Гуляев, — давай поклянемся взять Краскова своими руками. — Да чего клясться-то? — удивился Клешков и привстал, опираясь на локоть. — Это и так ясно, он же бандит и контра. — Понимаешь, какая мысль покоя не дает, — повернулся к нему Гуляев, смахивая со лба прядь. — Помнишь, Иншаков спросил у него: почему он не бежал? — Это не Иншаков, это я спросил, — сказал Мишка хриплым дискантом, разлепляя глаза. — Он, гад, нас от чего-то уводил. Гуляев помедлил. Потом замолчал и снова прилег. Мишка приподнялся и сел, осторожно пестуя руку в грязных бинтах. — Знаешь, Сашк, я тоже не пойму, чего мы там не посмотрели как следует. — Где? — А вот откуда он вывалил, когда в кусты сиганул. — А может, сейчас пойти? — спросил, заражаясь его азартом, Клешков. — Правда подозрительно. Мишка вскочил и стал запоясываться здоровой рукой. Кольт его торчал из кармана. Он было нагнулся, чтоб взять шашку, но Клешков сказал: — Не бери. Звону много будет. Гуляев тоже встал и стал готовиться. Клешков жестом показал, чтоб подождали, и побежал наверх предупредить командиров. Но в комнате наверху гремели голоса, и Клешков остановился в нерешительности. — Я буду ставить вопрос перед укомом и исполкомом! — негодовал голос Бубнича. — А хотя перед Иисусом, — равнодушно протенорил начальник. — Революция не должна себя марать! — кричал Бубнич. — А ты мог прекратить самосуд, я видел, что мог, а ты не стал! Мог пресечь нарушение дисциплины — и не захотел! — Чего ж ты не сумел? — с мужицкой ехидцей спросил тонкий голос начальника. — Ты видел, в каком я был положении... — Ну и я был в положении, — ответил начальник. — И еще тебе вот что скажу: прав Фадейчев там или неправ, он наш боец! Понял? И что бандитов посек, я его за то не виню! Ты Рыбакова, мертвяка, чай, видел? Фадейчев врага посек. Это точный факт! Какие они там ни есть темные, несознательные, а пулю он бы в тебя всадил, коли б мог, это как пить дать. И потому вину Фадейчева отметаю! — Левый уклон у тебя, братишка, — с неожиданным спокойствием ответил ему голос Бубнича. — Левый уклон у тебя, и мозги мы тебе на комитете обязательно вправим. Нужна законность, — поднял он голос, — законность, а не беззаконие — пойми! Клешков на цыпочках спустился по лестнице к ожидающим Фадейчеву и Гуляеву и махнул им рукой: — Пошли.
Они прошли через аллею и углубились в парк. Гуляев шел первым, Клешков и Фадейчев за ним. Вокруг рокотали деревья, шуршали кусты, изредка потрескивал под ногой хворост. Луна стояла высоко, и парк, весь в тенях, в брожении лунного света, казался сказочным, таинственным и опасным. Они поневоле пошли медленнее, осторожнее, оглядываясь по сторонам. Ветер гудел в кронах. Вот уже показался и яблоневый сад. Они вступили в его пачухую шорохливую дремоту. Листья еще держались на деревьях и под луной поблескивали серебром. Лишь одно дерево стояло совершенно голое, и черная тень под ним была похожа на спрута. Переплетения косых и распятых щупалец. — Вон, — прошептал Гуляев, когда они подошли к сухой яблоне. — Вон эта штука! Они, стараясь ступать как можно тише, двинулись в сторону странного темного холма. Холм был высокий и округлый и немного напоминал огромный старинный шлем. Они подошли вплотную. Гуляев протянул руку и ощупал травянистые склоны. — Плющ, — сказал он, — под ним дерево. Фадейчев пошел в сторону, ощупывая бока сооружения. — Это беседка, — догадался Гуляев, — надо искать дверь. — Сюда, — вполголоса позвал Мишка. Они подошли и нырнули вслед за ним в черное отверстие входа. Мелодический странный звук ответил их шагам. Мишка шарахнулся в сторону, но звук подхватил его шаги и запел в той же тональности. — Мрамор, — определил Гуляев, наклоняясь и ощупывая пол. — Мраморные плиты. Фадейчев зашевелился в углу, потом звонко зацокал чем-то каменным, вспыхнула искра и медленно затлел трут. Гуляев подошел и зажег от еле тлеющего пламени клочок газеты. Внутренность просторной беседки осветилась. В одном углу что-то лежало. Клешков подошел, поднял: это была широкая черная шляпа с загнутыми полями. — Женская, — сказал он. — Та-ак, — сказал Гуляев. — Вот в чем было дело. Он нас отвлекал, а какая-то женщина в это время сбежала. — Отчего пол так гудит? — спросил Клешков. — Черт его знает, — ответил Гуляев, продолжая размышлять. — Не, ты смотри, звук! — крикнул Мишка, прыгая с плиты на плиту. — Как в церкви. Пол глухо и мелодично гудел от каждого прыжка. — Ты гляди! — восхищался Мишка, и вся беседка наполнилась гулом, а Мишка, точно сойдя с ума, все прыгал и прыгал с плиты на плиту, как дети, играющие в классы. — Ау! — вопил Мишка и прыгал, и пол откликался: «Ау!» Вдруг тяжелый скрип приковал всех к месту. Тяжелая пыльная плита начала медленно подниматься. — Что это? — спросил Мишка. — Еще раз! — закричал, бросаясь к нему, Гуляев. — Еще прыгни на ту же плиту! Они оба прыгнули одновременно. Плита поднялась и стала торчком. Под ней виднелись винтом уходящие вниз каменные ступени. Все трое стояли над отверстием и молча смотрели в его глухое черное нутро. — Я — первый, — вдруг решил Мишка. Он надвинул кубанку и полез вниз. Голова его исчезла в темноте и вновь вынырнула. — Огня дай! — Он взял у нагнувшегося Гуляева кусок горящей газеты и опять исчез, оставив лишь отблески на стенах входа, которые постепенно гасли. — Конец, — дошел его голос. — Теперь вы. Клешков, за ним Гуляев спустились по скользкой каменной лестнице, оскользаясь и хватаясь за слизистые камни свода. Внизу была темень. — Счас! — сказал Мишкин голос, и опять послышались удары кремня о кресало. Опять затлел трут. В скудном его свете виден был черный, уходящий вдаль ход, перегороженный какими-то округлыми предметами. Густо и пряно пахло вином. — Бочки, — догадался Гуляев. — Эге! — ответил веселый Мишкин дискант, и слышно стало, как потекла струя. — У них тут кранты везде — техника! — восторженно сказал Мишкин голос. Они подошли. Клешков тоже нащупал мокрую скользкую медь крана, отвернул и подставил рот; тотчас же ударила густая, терпкая струя вина. Клешков захлебнулся, закашлялся, отвел лицо в сторону. Мишка возился уже где-то за бочками. Вдруг вспыхнул яркий огонь. Гуляев и Клешков с пистолетами в руках боком пролезли между бочками и стеной. Мишка размахивал какой-то ярко горящей палкой. — Глянь, какая штуковина, — сказал он, — пакля в керосине. Вот еще есть. Он толкнул ногой что-то на полу, и Гуляев подхватил подкатившийся факел. — Неплохо кто-то устраивался, — сказал он и, подойдя к Мишке, зажег свой факел от его. Теперь видно было, как узок ход, как блестит камень на повороте и как лучатся слизью его углы. — Пошли, — негромко сказал Мишка; его лихость вдруг пропала, и он пошел вперед к повороту. Гуляев и Клешков, держа наготове пистолеты, пошли за ним. Шаги их глухо чавкали в грязи. Ход шел далеко вперед, но Мишка вдруг остановился, они подошли и остановились тоже. Шагах в семи стоял стол, на нем бутылка вина и ломоть хлеба, а позади стола на каких-то тюках ворочалось и глухо стонало что-то живое. Мишка шагнул вперед, обошел стол, и они увидели на куче тряпья мечущуюся в беспамятстве женщину и услышали ее хриплый и неразборчивый шепот. Все трое подошли и стали вокруг. Седые волосы метались над молодым лицом. Платье на груди было расстегнуто, и видны были пропеченные кровью бинты. Женщина застонала. Гуляев воткнул факел между досками рассевшегося стола, взял бутылку с вином и подошел к женщине. Бегущий свет факела ударил ей в лицо, она открыла глаза и отпрянула от наклонившегося к ней Гуляева. — Викентий! — вскрикнула она. — Викентий! — Огромные, расширенные ее глаза смотрели на незнакомцев. — Спокойно, — сказал Гуляев, протягивая ей бутылку. — Глотните. Будет легче. — Вы из отряда? — вдруг схватила его за руку женщина. — Он прислал вас? — Он, — сказал Гуляев. — Выпейте. Она жадно прильнула ртом к бутылке, которую наклонял к ней Гуляев. — Красных выбили? — задыхаясь, оторвалась она наконец. — Викентий жив? Выскочил, как мальчик, я его удерживала. Я уверена была, они не найдут ход. А он все-таки выскочил, чтобы отвлечь... Он жив или нет? — Она исступленно уставилась на них. — Чего ему сделается! — сказал, подходя, Мишка. — Жив-здоров. Женщина вскрикнула и упала на спину. Глаза ее неотрывно глядели на Мишкину папаху, где красноречиво и победно алел красный лоскут. — Ну чего, — сказал Мишка, вставляя свой факел в другую расселину стола, — чего орать-то, жив твой Викентий — это точно. Ошибочка вышла. Недосмотрели. Женщина, прижав руки к груди, смотрела на него, вся вжавшись в свое ложе. — Ну чего гляделки выпятила! — раздражаясь, повысил голос Мишка. — Чего, не видала ни разу красного бойца? На, смотри! Женщина вдруг подняла руки к лицу и зарыдала. — Слушай, — подскочил Гуляев к Клешкову, — удача! Это та, понимаешь? — Кто — та? — спросил Клешков. — Та, что убила мясника на рынке. — Ну? — ахнул Клешков. — Ну и положеньице! Женщина рыдала в голос. — Не ори! — стервенея, кричал, наклоняясь над ней, Мишка. — Слышь! Не ори! — Он отскочил, и даже в свете факела видно было, как горят его глаза и как белеют скулы. — Замолчишь или нет? — гаркнул он, срываясь. — Молчи, зараза кадетская, а то сейчас жизни решу. Рука его была в кармане. Женщина всхлипнула и затихла. — То-то, — успокоившись, сказал Мишка и повернулся к обоим приятелям, — знаю я, как этих мадамов успокаивать. А теперь отвечай, — спросил он, — чего вы с Викентием все жметесь к этому месту, а? Женщина закрыла глаза. — Слышь? — Мишка подошел и тронул ее за плечо, она вся изогнулась от этого прикосновения и закрыла лицо рукой. — Скажите, — сказал Гуляев, тоже подходя к лежащей, — это вы убили мясника? Женщина открыла глаза. Она смотрела из-под руки с такой ненавистью, что всем троим стало неловко. — Да, я убила, — сказала она, — убила за то, что он убийца, и по заданию организации. И если б могла, убила бы каждого из вас... — У, стервоза! — взорвался Мишка. — Ей-богу, нет никаких моих силов! — Он выдернул из кармана куртки увесистый кольт. — Ну, молись, змея белогвардейская! Женщина, закрыв глаза, приподнялась и села, повернувшись к нему грудью. Но прежде чем Мишка успел выстрелить, Клешков выбил у него кольт, и тот звонко ударился о камень. — Ты-ы! — попер на Клешкова Мишка. — Контру жалеешь? — Ты, Мишка, все пулей норовишь окончить, — бормотал, отступая, Клешков, а Гуляев в это время подобрал и сунул себе за пазуху Мишкин кольт. — Сосунок, — орал Мишка, напирая на отступающего Клешкова, — увидел буржуйскую бабу и нюни распустил! Он вдруг шарахнулся назад, а Клешков рванулся и не вырвался из сдавивших его медвежьих тисков. — Эй, ты! — гаркнул низкий бас. — А ну брось пушку! Брось, говорю, а то этих пришибу. Клешков услышал, как Гуляев бросил свой наган. — Взять! — услышал он команду и увидел, как метнулся в сторону Мишка и упал, сшибленный чьим-то пинком, а Гуляев, вырвавший было из-за пазухи Мишкин кольт, вскрикнул от боли: женщина ринулась со своей постели, зубами впилась ему в руку. — Уходить! — крикнул знакомый голос. — Этих взять с собой. Пригодятся. Снаружи глухо раздавались выстрелы.
...Из-под дверей амбара сочился дневной свет. За дверьми слышались голоса. Сапоги часового изредка останавливались, размыкая полоску света, и снова мерно двигались мимо дверей, Они лежали на земле, связанные по рукам и ногам. Клешков с усилием поднял голову. Впереди, боком к нему, лежал Мишка. Было видно, как он спеленат веревками и как режет петля его раненую руку, притянутую к груди. Сашка опустил голову. Болела натертая шея. Красковцы гнали их на арканах рядом с лошадьми, пока Мишка не попытался повеситься, зацепившись ногами за какой-то куст. Тогда их всех троих швырнули поперек седел и так и довезли до своего гнезда сквозь лес и сплошные болота. Клешков чувствовал себя виноватым. Это он вышиб у Мишки кольт. А Мишка был прав. Если б они убили эту проклятую седую бабу, они встретили бы банду выстрелами, а вместо этого они лежат вот тут и неизвестно, что еще придумают бандиты. — Миш, — сказал он. Мишка не шевельнулся. Сзади голос Гуляева, чуть охрипший, но все такой же ровный, сказал: — Привет и братство, как писали депутаты Конвента. Как себя чувствуешь, Клешков? — Я-то ничего, — сказал Клешков с неохотой. — Как вот Мишка там? — Фадейчев! — позвал Гуляев. Мишка не откликался. Клешков смотрел в потолок. Сквозь щели голубело небо. — Как кур в ощип попались, — сказал он. — И все ты, Гуляев! — Все я, — сказал Гуляев. — Неужели ты ныть будешь, Клешков? Я от тебя не ждал. Кто-то из англосаксов сказал: надеяться и действовать не поздно до самой смерти. — А, иди ты со своими англосаксами, — сказал Клешков, — и без них тошно. Мишка вдруг заскрежетал зубами и застонал. — Больно, Миш? — спросил Клешков, поднимая голову. Фадейчев не ответил. — Обидно, — вдруг сказал Гуляев. — Я это дело уже почти понял, тут вся загвоздка в том, что именно они ищут в совхозе, и вдруг... Загромыхал замок, распахнулась половинка дверей. Просунулась бородатая рожа. Самого лица не было видно, но борода была заметна и широка. — Эй, анчихристы, — сказал пропитой голос, — не болтай, а то Носов не стерпит! — Это кто Носов? — спросил голос Гуляева. — Иван Порфирьич Носов, георгиевский кавалер и унтер-цер армии его императорского величества. Он как красного учует, так и мечтает, как бы его штычком пошшекотать. — Серьезный он у вас человек, — опять сказал голос Гуляева. — Положь голову, — грянул часовой, — и не подымай, пока не приказано! Разговорился у меня! Я — Носов! И я иш-шо кишки с вас выпушшу! Дверь закрылась. Все лежали молча. Мишка опять застонал. Клешков попробовал перекатиться к нему, но сил не было. Около дверей амбара опять заговорили. — Скоро, Порфирьич, мы с тобой миллионщиками ходить будем, — сказал чей-то хрипатый бас. — Не пойму, точно ето, ай как, — ответил голос часового, — штой-то давно ету байку слышим, а денег усе нету. — Найдем, — сказал хрипатый, — раз ента Седая опять с нами, все чин чином будет. — Разжиться бы — оно неплохо, — сказал часовой. — Разживемся, — сказал хрипатый. — А теперча давай одного из энтих на допрос.
В чисто прибранной горнице пахло ладаном от лампад, развешанных перед каждой иконой. На полу лежали половики. Капитан Красков в нижней рубашке брился перед зеркалом. — Входите, входите, товарищ Клешков! — весело сказал Красков, соскребая лезвием мыло со щеки. — Рад принять вас в домашней обстановке. Клешков оглянулся. Позади в дверях стоял огромный мужик в солдатской шинели. Он всмотрелся и понял вдруг, что уже видел его когда-то. — Хотите познакомиться с Никитой Дмитриевичем? — добриваясь, спросил Красков. — Лучше позже. Он тогда все свои таланты разом предъявит. Он быстро надел френч, застегнул его и позвал: — Мадам, прошу. Вошла Седая. Строгое черное платье чуть топорщилось на груди, но бинтов не было видно. — Этот? — спросил Красков. — Нет, — сказала она, присаживаясь на стул около стола и глядя на Клешкова. — Этот скорее вел себя по-джентльменски. — Перейдем к делу, — сказал Красков и, подойдя, в упор посмотрел зеленоватыми умными глазами. — Чем вы занимались в угрозыске? Клешков смотрел под ноги. — Нет смысла молчать. Это несет болезненные последствия, — сказал Красков. — Я и так все знаю — и то, что вы комсомолец, и то, что доброволец. Впрочем, одно с другим связано. Будете отвечать? Клешков покачал головой. — Митрич! — сказал Красков. Тяжелое колено вдавилось в крестец Клешкову, и одновременно дюжие лапы вывернули ему руки. Клешков упал на колени. — Будете отвечать? — холодно спросил Красков. Клешков снова покачал головой. Свистнула плеть. Обожгло лицо. Кроме саднящей боли, Клешков почувствовал сладковато-соленый вкус крови, скатившейся к губам. Еще и еще раз врубалась нагайка в лицо. Клешков дергался, пытался спрятать голову, но нагайка прожигала, прорубала кожу. — Хватит! — сказал голос Краскова. Клешкова подняли. — Ну как, одумались? — спросил Красков. Клешков с трудом разлепил глаз, другой не разлеплялся. Все лицо жгло, как будто в него вкопали порох и подожгли. Он увидел Краскова, молча глядящего на него, и Седую, отвернувшуюся к окну. — Отвечать не собираетесь? — спросил Красков. Клешков упрямо покачал головой. Он не собирался. Он давно готов был ко всему этому, весь мировой капитал был против него, комсомольца. И он знал об этом, когда вступал в ячейку. — Свяжи ноги и брось в соседней комнате, — сказал Красков кому-то. Клешков был тут же связан, и шерстистый кляп душно и противно забил ему рот. Его кинули на пол в соседней комнате, и он, хотя саднило лицо, стал слушать, что происходит за стеной. — Развязать, — сказал голос Краснова. — Ну, здравствуйте, чекист товарищ Фадейчев, не ожидали попасть в такое общество, а? — Ты, падло буржуйское! — с натугой сказал Мишкин дискант. — Рази б я с тобой разговаривал? Я, попадись ты мне в руки, враз бы тебя располовинил. — Вот это разговор, — сказал Красков. — Сразу видно... Но тут послышался топот, взвизгнула женщина, затопотали в борьбе ноги по полу, упал стул. Ударил выстрел. — Да что вы, вахмистр! — негодующе крикнул голос Краснова. — Никак не мог отодрать, вашбродь, — хрипато пробасил вахмистр. — Вынесите и посмотрите, нельзя ли чего сделать! — Слушсь! — рявкнул голос вахмистра, и что-то тяжело проволочили по полу. — Мерзавцы! — сказал женский голос. — Я бы их попросту расстреляла. — Не-ет, — протянул голос Краскова, — мы устроим развлечение поинтереснее... Но это позже, а сейчас надо все-таки докопаться, кто из них занимался вашим делом. Давай последнего! — крикнул он кому-то. — Доброе утро, — сказал голос Гуляева. — Доброе утро, — ответил Красков, и женщина что-то выбормотала неслышно. — Владимир Гуляев, судя по удостоверению, — сказал Красков. — Скажите, Володя, вы из какой семьи? — Отец — учитель гимназии, — сказал ровный голос Гуляева. — Что еще вас интересует? — Меня вот что интересует, — в тон ему ответил Красков, — вы с красными по идейным соображениям? — Как вам сказать... — сказал голос Гуляева, и Клешков похолодел от самого тона его слов, — Пожалуй, я объясню. Была пауза. Клешков почувствовал, как слезы душат его. Прав, прав был начальник, гада считал он товарищем! Надо было раньше следить. — Вы читали Бердяева? — спросил Гуляев за стенкой. — Кое-что, — сдержанно ответил голос Краскова. — Помните, он говорит о вечно женственном в русской натуре, об отсутствии в ней мужества? — Да, это в его последней книге, забыл, как она называется... — «Судьба России», — сказал Гуляев. — Да-да! — возбужденно прокричал Красков. — Именно «Судьба России»! — Ну вот, — говорил голос Гуляева, — а мне кажется, что большевики как раз и способны сделать из нас мужественный народ со своей мессианской задачей в нынешнем мире. — Вот как? — сказал Красков. — А не сделают ли они из нас просто монархию наоборот? Но дело не в этом. Володя, вы делали обыск у Калитина? — У часовщика? — спросил Гуляев. — Да, — подтвердил Красков, — у часовщика. — Делал, — сказал Гуляев после молчания. — А какие вы книги у него нашли? — нетерпеливо спросил голос женщины. Гуляев молчал. — Нас, собственно, интересует даже не какие книги, а где они сейчас? — спросил Красков и, подождав, добавил: — Володя, не упорствуйте, я не хочу превращать вас в рагу, как этих... Я прошу вас нам помочь... Гуляев молчал. — Вывести! — крикнул Красков. — Полчаса на размышление, — добавил он. Клешкова тоже подняли и, развязав ноги, повели в амбар. Войдя, Клешков увидел Гуляева со связанными руками, приткнувшегося спиной к стене амбара. Не говоря ни слова, он прошел мимо и лег на землю. — Били? — спросил Гуляев. Клешков даже не посмотрел в его сторону. — Саш, ты что? — спросил обиженный голос Гуляева. — Ты почему не отвечаешь? — Ты кто? — спросил Клешков, съезжая по стене амбара и садясь. — Только не крути мне мозги: ты с нами или с ними? — А-га, — сказал Гуляев, — значит, об этом все еще надо спрашивать? Клешков вспомнил вдруг, как после броска бомбы первым вскочившим и побежавшим к дому был Гуляев, потом вспомнил, как они втроем брали Краскова, и устыдился. — Уж больно мудрено ты с ним разговаривал, — сказал он примирительно, — и они с тобой как-то... В Мишку вон сразу пульнули. Гуляев не отвечал, и Клешков замолчал тоже, вспоминая о Мишке и думая о том, что их ждет. Ждала их смерть. О ней думать не хотелось. Клешков уперся подбородком в подогнутые колени и стал прикладывать к жесткой грязи галифе то одну, то другую воспаленную скулу. Во дворе кричали, топали. Ржали лошади. Клешков не то чтобы задремал, но как-то отвлекся ото всего и даже боль почти перестала его тревожить. — Выходи! — раскрывая ворота, закричал давешний бородатый часовой. Они вышли из амбара. Солнце стояло высоко на небе. За домом виден был клочок окруженного плетнем огорода и пристройки. Всю поляну, на которой стоял хутор, окружали мачтовые сосны, негромко рокотавшие о чем-то своем. На сосне, стоявшей отдельно от других, сидел молодой солдат и ладил петлю на длинном суку. Клешков взглянул и отвернулся. Гуляев вышел вслед за ним и тоже посмотрел на петлю. Солдат на суку свистел. На крыльцо дома вышел угрюмый мужик в синей рубахе враспояску. Увидел черного борова, рывшегося невдалеке, и побежал на него с криком. Боров захрипел и умчался. На крыльцо вышел Краснов в фуражке, в кителе, в перчатках, за ним показалась в дверях Седая. Огромный человек в военной формеподошел к крыльцу и, задрав округлую бородку, козырнул снизу. — Все готово, вашбродь. Клешков вдруг понял: этот человек заходил тогда к часовщику и потом умчался вместе с женщиной на подводе. Красков спустился с крыльца и подошел к обоим. — Ну, Владимир, — сказал он Гуляеву, — ничего не добавите к тому, что я хотел узнать? Гуляев отвернулся, и Клешков вдруг проникся горячей жалостью к товарищу, которого он так оскорбил. — А ты? — спросил Красков, холодно оглядывая Клешкова. Тот ненавидяще мотнул головой. — Хорошо, — сказал Красков, — будем кончать. Он опять пошел к крыльцу, на ходу крикнув: — Вахмистр, начинай! Вахмистр козырнул и кинулся куда-то в сторону пристроек. Через минуту оттуда показалась процессия. Два солдата вели под руки обвисающего, но все-таки рвущегося из рук Фадейчева. Кожанка его была ржавой от крови. Лицо было разбито, один глаз не глядел. Зато другой, увидев товарищей, заблестел решительно и горделиво, и Фадейчев, выпрямившись, пошел сам — заплетающимися ногами, но сам. Вахмистр поднес под сосну скамью из дома, и Мишка попытался на нее взобраться, но сил не хватило, и он чуть не упал вместе с ней. Вахмистр поднял и поставил его на скамью, а солдат сверху норовил накинуть петлю ему на шею. Мишка с высоты скамьи осмотрел двор, единственным глазом подмигнул товарищам, откашлялся и сказал: — А главному гаду я метку оставил. Красков на крыльце усмехнулся и посмотрел на свою перевязанную ладонь. — Желаете последнее слово? — предложил он любезно. Мишка поднял голову и снова осмотрел двор. Непрерывно стрекотали где-то цикады. — Да здравствует коммуна! — сказал Мишка. — Я за ее весь век бился, и она будет! А все вы, гады, сгниете середь червей без доброго слова. Красков на крыльце поморщился и посмотрел в сторону Гуляева и Клешкова. Те смотрели на Фадейчева. — А вам, родимым своим товарищам, — сказал Мишка, и голос его зазвенел, — желаю честной жизни и легкой смерти! Он сам спрыгнул со скамьи, петля натянулась и дернулась... Оба — и Клешков, и Гуляев — закрыли глаза. — Не передумали, Гуляев? — донесся голос Краскова. Гуляев мотнул головой и посмотрел на Клешкова, тот смотрел на него. — Прости, коли чем обидел, — сказал Клешков. — Я тебя всегда за друга признавал. Гуляев прикрыл глаза и снова открыл их, глядя на него прощальным добрым взглядом. Вахмистр выкликнул несколько фамилий. Несколько человек небрежно встали шагах в двадцати от обоих пленных, и дула поднялись на уровень их лбов. — Вахмистр, люди предупреждены? — крикнул Красков. — Так точно, вашбродь! — Можно приступать. — Слушаюсь! От-деление! — гаркнул вахмистр. — К стрельбе залпом — товсь! Стволы застыли, нащупывая лбы обоих. Клешков посмотрел в черные дыры их. Вот отсюда сейчас рванет желтым огнем, и страшная сила разобьет его лобную кость, расшибет мозг и навеки остановит сердце. — Пли! Ударил залп. Клешков закрыл глаза. Он стоял на прежнем месте, и щепка, лежавшая у его ноги, лежала там же. Он повернул голову, Гуляев с таким же удивлением смотрел на него. Красков уже опять стоял перед ними. — Молодцы, — сказал он. — Отважные солдаты. Умирать умеете. — Глаза его, когда он остановил их на Гуляеве, полны были доброжелательства и интереса. — Хочешь жить? — повернулся он к Клешкову. Тот поежился и промолчал. — А вы? — повернулся он к Гуляеву. — Хочу, — сказал тот. — Хочу и думаю, что нет пока смысла умирать за большевиков! Клешков дернулся, а Красков в неподдельном восторге повернулся к крыльцу и крикнул Седой: — Вы слышите? Он вполне разумный человек. — Капитан, — перебил его Гуляев, — я действительно понял, что смогу вам помочь. Но при одном условии. — Говорите, — насторожился Красков. — Вы дадите честное слово, что не убьете моего товарища. — Какой ты мне товарищ, змея подколодная! — плюнул в его сторону Клешков. — Даете слово? — спросил Гуляев. — Пожалуй, — протянул капитан, проницательно всматриваясь в его решительное лицо. — Пожалуй, даю! — Тогда я ваш! Клешков с ненавистью посмотрел на стройную спину идущего за Красковым Гуляева. Потом перевел взгляд в сторону виселицы, где покачивалось тело Мишки. — Пошел! — ткнул его в спину конвоир.
Весь вечер и весь следующий день Клешков просидел в амбаре. Его приходили кормить. Но он почти ничего не ел, а все думал о том, что случилось, и пытался понять, как же он мог прозевать такого гада, как Гуляев. Начальник правильно говорил ему когда-то, что нет у него классового чутья. Мишка висел там где-то, но мысли о нем были лишены той боли, которая вначале сжигала его. Лицо поджило и больше не мучило. Но он никак не мог выбраться из состояния полудремоты, из ощущения того, что все, что с ним происходит, происходит не на самом деле, а лишь смотрится им со стороны. И он — это не он, а что-то неясное, зыбкое. На следующий день пришла и постепенно начала крепнуть в нем мысль о побеге. Он стал внимательно слушать суету на дворе. А там с самого утра звучала команда, стучали копыта. Несколько раз слышался нервный голос Краскова. Однажды Клешков подслушал разговор двух солдат: часового и какого-то еще, с молодым и напористым голосом. — Лишь бы энтот не подвел! — говорил часовой. — Да вроде не подведет, — отвечал молодой голос, — из образованных. На краснопузого не похож. — Только бы добраться нам до того места. — Доберемся, — сказал молодой, — а потом что? — Как — что? — Опять капитан нас расходовать будет: то на село нападать, то еще что... — А что ж, к красным уходить? — Зачем к красным, — сказал молодой, — можно и не к им, а подыхать, когда в кармане полно, — это к чему же? — Оно точно, — сказал часовой, — дак ведь что жа? — Фокин и Ложкин сговариваются, — настойчиво забубнил молодой голос, и оба перешли на шепот. «Видно, Красков за что-то получит кучу денег, — подумал, отползая, Клешков, — и Гуляев ему в чем-то должен помочь». К вечеру раздались радостные крики и затопали лошади. Потом послышались голоса Краскова и (Клешков вздрогнул) Гуляева. Вернулся, предатель. Во дворе началась суматоха, стали выводить лошадей. Открылись двери амбара. Клешкова вывели. Гуляев, стоявший у крыльца, мельком глянул в его сторону и продолжал разговаривать с Красковым и Седой, кругом седлали лошадей. — Садись! — зычно скомандовал вахмистр. Клешкова посадили на буланого рослого копя. Привязали ноги к стременам, руки связали за спиной. Его лошадь была веревкой соединена с лукой седла вахмистра. — Трогай! — крикнул Красков. Около него сидели на конях Гуляев и Седая. У Гуляева возбужденно мерцали глаза. На рассвете банда добралась до совхоза, Красков шепотом отдавал приказания. Клешкова сняли с лошади, и молодой солдат, приставленный к нему, погнал его вслед за группой, которую вел Красков. Другая группа—человек восемь во главе с вахмистром — нырнула в кусты и исчезла. В смуте начинающегося утра листья на деревьях казались сухими. Они вступили в парк. Сквозь деревья виден был вдалеке молчаливый барский дом. Крышу мезонина скрывали подступившие липы. Красков выделил еще четверых, и они, крадучись за деревьями, побежали в сторону дома. Красков и человек пять оставшихся с ним вышли к фруктовому саду. Ударил взрыв, защелкали выстрелы. Потом застучал из дома «гочкис», но снова грохнуло, и он затих. Выстрелы стучали все чаще. Красков вел и вел группу по тропинкам между яблонь. Вот уже осталась сбоку беседка. — Оно, — сказал Красков, останавливаясь. Гуляев и Седая подошли к нему. Седая была в военных галифе, сапогах и куртке из козьего меха. — Копать! — приказал Красков, и все солдаты, бывшие при нем, вытащив саперные лопаты, стали окапывать и подрывать сухое дерево, единственное среди еще живых и полных листвы яблонь, — Быстрей! — приказал Красков. Часовой около Клешкова жадно смотрел на копающих. Наконец он не выдержал и побежал к ним. Красков и Седая, прислушиваясь к выстрелам, отошли от копавших и оказались недалеко от присевшего на сивую осеннюю траву Клешкова. — Как же вы будете использовать эти средства? — спросил Красков. — Их ждут в губернии, — сказала Седая. — Мы поднимем все дальние уезды, если будем иметь деньги на оружие и на связь. — Мои люди потребуют долю, — хмуро сказал Красков. — Это деньги не мои, — надменно сказала Седая, — и вы это знаете, капитан. Они нужны для дела. — Но люди знают, — сказал Красков. — Их же не удержишь. — Я не виновата, что вы проболтались, — резко перебила Седая. — Так было надо, — сказал Краснов, прислушиваясь к стрельбе, — иначе их вообще нечем было соблазнить. Калишкин, Демичев, Фокин, — крикнул он, — а ну зайдите с этой стороны, что-то там у нас не ладится! Трое солдат с неохотой бросили лопаты, переглянулись и медленно побрели в сторону стрельбы. Сухая яблоня начала крениться. Красков кинулся на помощь копающим. Седая подошла, что-то вполголоса советуя ему. Гуляев прокрался к сидящему Клешкову и рывком ножа развязал ему руки. — Беги, — шепнул он, — наши не поверили. Не поняли. Я еле ушел. Лошади в овраге, за парком. Клешков с ненавистью посмотрел на него. — Иди! — шепнул Гуляев и побежал к копающим. Клешков, не зная, что делать, неслышно кинулся к близкой беседке, нашел вход и приник изнутри к стенке из плюща. Отсюда было видно, как упало дерево и как вытаскивают Красков и солдаты из ямы какие-то ящики. Стрельба почти кончилась. Около яблони появился вахмистр и несколько солдат, потом подбежали другие. Клешков услышал крики и увидел, как Красков, не подпуская солдат к ящикам, направил пистолет на вахмистра, но тут со всех сторон на него уставились винтовки. «Решили взять его и перейти к нашим!» — подумал Клешков. Он выскочил из укрытия и подкрался к кричащей кучке солдат. — Вы получите свою долю, — говорил Красков, — но после того, как выбьете красных из дому. — Их там кот наплакал, — сказал вахмистр, — вы, вашбродь, на их плюньте. Они не сунутся. А деньги поделим по справедливости. — Деньги нужны для борьбы с большевиками! — крикнула Седая, появляясь в кругу озлобленных солдат. — Поймите же, вы не можете взять все! — Почему же не можем, — сказал коренастый бородач, и Клешков узнал в нем их первого стража. — Мы тоже на их имеем право. Сколько наших полегло, пока мы тут ковырялись. Третий раз, чай, уж сюда приходим. Пока Красков и Седая спорили с солдатами, один из них, молодой парень в сдвинутой на ухо фуражке, обошел капитана сзади. Все спорящие обернулись на треск. Солдат отдирал доски с ящиков. — Фокин, — крикнул Красков, — назад! — Уймись, вашбродь! — сказал Фокин выпрямляясь. — Мы тебе в семнадцатом решку не сделали, так как бы теперь... Ударил выстрел. Фокин попятился и упал. Вокруг взревели голоса. — Вот что, вашбродь, господин капитан, — сказал вахмистр, приближаясь, — деньги ети обчественные, и ты их не получишь. А за то, что Леху убил, мы тебя доли лишаем. — Правильно! — заорали вокруг. — Ребята! — Красков махнул наганом. Напершие было на него люди остановились. — Вы знаете меня, третий год вместе воюем. Я сказал, что вы получите долю, и вы ее получите, но все... — он вдруг вырвал из кармана лимонку, — все эти деньги вы не получите. Они не ваши. Они не для этих целей. — Он стоял и держал в ладони лимонку. — Митрич, — обернулся он к вахмистру. — Ты меня знаешь. Лучше уступи. Иначе никому ничего не достанется. Вахмистр смотрел в землю. Потом оглядел солдат. — Ладно, — сказал он, — чего орать, робята! Вы нашего капитана знаете. Он карактерный. Сколько на душу даешь, капитан? — По десять тысяч! — сказал Красков. Седая за его спиной дернула подбородком, а вахмистр, шагнув вперед, сказал: — По тридцать — и лады. — Лады, — сказал капитан, не выпуская из руки лимонку. — Отсчитывайте, Елизавета Михайловна. Каждому по тридцать тысяч. Женщина склонилась над ящиком, а солдаты выстроились в очередь. — Поздно! — вдруг закричал Красков, рванулся в сторону и кинул лимонку. Ударил взрыв. Солдаты попадали и сразу же расползлись по кустам, щелкая затворами. Клешков оглянулся. Между кустами цепью двигались в своих буденовках красные стрелки. Теперь из-под яблонь и из-под кустов началась пальба. Красные, перебегая между деревьями, ответили. Клешков выполз из-под дерева и стал искать под ногами что-нибудь тяжелое. Увидел кусок кирпича и поднял его. Вокруг шла перестрелка. Кричал вахмистр, отдавал какие-то приказания Красков. Один из солдат кинулся в ту сторону, где у красковцев ждали лошади. Но вдруг споткнулся, упал, дернулся и затих. Красков оглянулся, выругался и послал кого-то еще. Он стоял за деревом и экономно стрелял навскидку. Второй посланный тоже упал. Красков продолжал стрелять, на лице его было выражение отрешенного спокойствия. Клешков, затаившийся в двадцати шагах за кустом, заметил, как Седая зажгла скруток бумаги и наклонилась над ящиками. «Хочет сжечь!» — подумал он. Привстал и, нацелившись, швырнул осколок кирпича ей в голову. Седая, схватившись за голову, осела, потом упала у ящиков. Теперь стреляли со всех сторон. Вот зачастил со стороны красных «максим». Упал, вскинувшись над кустом, вахмистр, потом еще несколько, солдаты кинулись бежать, но сзади их тоже ошпарили огнем. Потеряв еще двух, они опять разбежались по кустам, и вспышки оттуда показывали, что сдаваться они не собираются. Но Клешков, выглядывая из малинника, в котором он засел, видел, что бандитов осталось всего несколько человек, а красные перебегают все ближе. «Надо брать Краскова, — решил он про себя и пополз в сторону яблони, откуда неторопливо бил наган Краскова. Почти после каждого его выстрела в перебегавшей цепи красноармейцев кто-нибудь оставался лежать. Наконец выстрелы со стороны бандитов смолкли. Клешков поднял голову. Красков пошарил по карманам, потом, взяв наган, не прячась, пошел к ящикам. Он увидел лежащую женщину и присел над ней. — Лиза, вы живы? Та подняла голову. — Что происходит? — Конец, — сказал он и стволом нагана показал на красных, перебегавших уже совсем недалеко. Клешков собрался в комок и кинулся на Краскова, но удар наганом по голове бросил его на землю. Он тряхнул головой, взглянул с земли и увидел стоящих в двух шагах друг против друга Гуляева и Краскова. — Продал нас все-таки, холуй? — спросил Красков, опустив наган. — Это ты Россию продал, — спокойно ответил Гуляев и крикнул, подняв браунинг: — Бросай оружие! — Лиза, — наклонился над женщиной Красков. — Слышишь, чего он хочет? Она что-то шепнула ему. Он кивнул, поднял наган, оглянул еще раз Гуляева, сунул дуло женщине в ухо и почти немедленно после этого себе в рот. Два выстрела почти слились. Клешков поднялся. Между яблонями лежали трупы. Приближалась, осторожно осматриваясь, красная цепь. От цепи кинулся к ним человек в кожанке. — Живы! — сказал Бубнич, обнимая Клешкова. — Ну везет вам, братцы! А ты, — он обернулся к Гуляеву, — ты нас извини. Я как прочел записку твою, сразу Иншакова взял за горло, говорю: зря парню не поверил, надо делать, как он сказал, явно банду упускаем. Гуляев стоял, смущенно улыбаясь и посматривая на Клешкова. Вокруг толпились красноармейцы, заглядывая в ящики. — Николаевские, братцы! — А тут золото! Откуда-то появился начальник Иншаков. — Я тебе сколько раз говорил, Гуляев, — пронзительно закричал он, — чтоб не самоволил? Говорил я тебе или не говорил? — Говорил, — усмехнулся Гуляев. — Вот, — сказал начальник и, сдернув с лысины кепку, обмахнул ее рукавом. — Говорил. А теперь объявляю благодарность, понял? — Служу трудовому народу, — сказал Гуляев и побледнел. — То-то, — сказал начальник.
Они ехали стремя в стремя в центре возвращающегося отряда. — Я сразу понял, чего он от меня хочет, — объяснял Гуляев, — ему нужно было добраться до книг. Там был какой-то знак или пароль. Этот часовщик был связующим звеном, он один знал, где деникинское казначейство спрятало свои ценности. Но эти — из банды Хрена — тоже пронюхали об этом. Убили часовщика, но, кажется, не добились от него, где спрятаны деньги и золото. — А как ты узнал? — спросил Клешков. — А он же послал меня за книгами. Я должен был привезти книги, взятые у часовщика, но я понял, в чем дело, когда сопоставил три подчеркнутых слова в разных концах той растрепанной книжки, помнишь? — Помню, — сказал Клешков. — Все три слова так и складывались: «под сухой яблоней». Одно от другого отделялось тридцатью страницами и маленькая черта чернилами. Я это и учел. Побежал к Иншакову. А тот счел меня изменником. Посадил в холодную и хотел только завтра допрашивать. Весь план мой рушился. Тогда я попросил у караульного карандаш и бумагу и все написал Бубничу, а потом, когда вывели меня в уборную, удрал. Я знал, что Бубнич-то сразу поймет. — А если б не понял? — спросил Клешков. — Тогда б ты чего добился? Только бы деньги бандитам добыл? — Я все обдумал, — ответил Гуляев. — Даже если б деньги попали к ним, Красков же мне верил. И я бы нашел, как их накрыть. Главное было — вернуться к ним. Во что бы то ни стало. Они замолчали. Отряд перешел на рысь. Потом остановился. Впереди слышались выстрелы. — Что там опять? — спросил Клешков. — Атаман Хрен, — сказал Гуляев. — До этого мы пока не добрались. — Доберемся, — сказал Клешков и пришпорил коня.
В. Фирсов БЕССМЕРТИЕ ДЛЯ РЫЖИХ
Академик Рим стремительно шагал по своему скромному — в духе времени — кабинету, заложив руки за спину. Референту, который стоял у стола с папкой в руках, почтительно следя глазами за патроном, постепенно стало казаться, что комната начинает медленно вращаться, как гигантская центрифуга. — Значит, говорите, добился Элинвар? — бросил на ходу академик. — Опередил нас? А вы все куда смотрели? Референт только руками развел. Сказать ему было нечего. — А теперь — сразу с докладом к Президенту? — Академик даже пришлепнул губами, изображая возмущение. — Ловок, ловок Элинвар. Ничего не скажешь. Но мы завидовать не будем. К тому же, насколько я понял, успех лишь частичный... Прочитайте, что там про рыжих? — Академик круто повернулся к зеркалу и с видимым удовольствием пригладил свои черные, ежиком, волосы — не то чтобы очень густые, но для мужчины его возраста вполне достаточные. Референт раскрыл папку и быстро нашел отчеркнутое красным карандашом место. — «К сожалению, действие препарата ограничено особенностями хромосомного строения организма, — прочитал он. — Выявлено, что цвет волос человека служит своеобразным индикатором, сигнализирующим о том, будет препарат усвоен организмом или нет. Нами обнаружено и доказано в серии опытов, что препарат усваивается только рыжеволосыми людьми. Это, безусловно, является крупным недостатком препарата, так как полностью исключает возможность его применения огромным числом людей». — Значит, полностью исключает... — задумчиво повторил академик и опять пригладил волосы. — Иначе говоря, бессмертие только для рыжих? А что скажет Президент? Не хотел бы я быть на месте Элинвара... Он остановился перед большим — в полтора человеческих роста — красочным портретом Великого Человека, Первого Гражданина и Пожизненного Главы Государства, занимавшим все пространство между окнами кабинета от пола до потолка. Живописец изобразил Президента на эспланаде Дворца Государственного Совета, откуда он внимательным взором обозревал вверенную его попечению страну. Несмотря на свои годы, Президент был высок и строен, как и положено Великому Человеку, а его иссиня-черной шевелюре мог позавидовать победитель недавно прошедшего в Столице всемирного конкурса красоты. — Значит, только для рыжих... — повторил академик и опять закружил по кабинету. — А другим что? Сам-то он каков, изобретатель? — Рыжий до невозможности. Про него говорят, что у Элинвара не голова, а восходящее солнце... Академик Рин поморщился. Неосторожное сравнение привело его в дурное настроение. — Так и следовало ожидать, — пробормотал он. — Все бескорыстные таковы. Каждый в бессмертные норовит... Он ходил по кабинету так долго, что референт даже стал покачиваться и с тревогой ощутил неприятное шевеление в желудке, как при морской болезни. — Откуда сведения? — спросил Рин наконец. — От моей супруги, — с готовностью ответил референт. Академик гневно воззрился на него. Тот понял свою ошибку и мигом разъяснил: — Она сейчас секретарем у Элинвара. Перепечатывала его доклад для Президента и, конечно, сделала мне копию. — Интересно было бы посмотреть на их препарат. Мне лично он бесполезен, — Рин снова провел ладонью по волосам, — но как-никак я директор Института Бессмертия. Референт словно дожидался этих слов — он тотчас протянул на ладони небольшую ампулу, в которой перекатывались ярко-синие горошины. — Супруга принесла, — пояснил он, увидев удивленный взгляд академика. — Их там наделали видимо-невидимо. Теперь все синие ходят. — Это почему же? — поинтересовался Рин, с удовольствием встряхивая ампулу. — Таково свойство препарата. Если препарат не усваивается, он кумулируется в кожных покровах, и человек постепенно синеет. Говорят, пожизненно, если всю дозу принять... — И все равно глотают, — прошептал академик. — Надеются... Какова же дозировка? — Одна таблетка ежедневно в течение двух недель. Обязательно перед едой. — Все-таки я правильно сделал, выгнав рыжих из института — сказал Рин. — Рыжие — они всегда рыжие. Только о себе думают. Бессмертия захотелось... Его, между прочим, заслужить надо! Делами, а не таблетками. Вот так-то. Он взглянул на часы. Подходило время обеда. — Вызовите мою машину. Когда за референтом закрылась дверь, академик торопливо налил стакан содовой, вытряхнул из ампулы на ладонь синюю горошину и отправил ее в рот. — Подумать только! — пробормотал он, запивая таблетку. — Бессмертие для одних рыжих! Да за это расстрелять — и то мало!В Институте Бессмертия действительно не было ни одного рыжего. Академик Рин уволил их, едва став директором института. Нельзя сказать, что инициатива этого мероприятия принадлежала целиком ему одному. Как всегда в подобных случаях, был целый ряд привходящих обстоятельств — таких, как чье-то мнение, узнанное или угаданное, что-то прочитанное между строк в бумагах, где о цвете волос и не говорилось, и многое тому подобное. Конечно, не последнее место здесь занимала личная неприязнь. Академик Рин очень не любил рыжих. Это чувство зародилось в нем еще в те забытые годы, когда он был босоногим мальчишкой, и безжалостные товарищи дразнили его «Ринришка — рыжая мартышка» и кидали в него гнилыми бананами. А был он рыж до чрезвычайности — до пламенной красноты, и это доставляло ему множество больших и маленьких огорчений. Когда на спортплощадке гимназии начинался бейсбольный матч, его всегда оставляли в запасных, хотя ему так хотелось самому точными ударами биты посылать мяч вперед под восторженные вопли болельщиков. В старших классах девочки никогда не приходили на назначенное им свидание. Конечно, виной этому была его рыжая голова. Постепенно Рин все больше убеждался, что быть не таким, как все, очень плохо. Уже к третьему классу он возненавидел свою огненную шевелюру и старался всегда ходить стриженным наголо, что, впрочем, не спасало его от насмешек. Он перепробовал все: ходил в шапочке даже в сорокаградусный летний зной, ежедневно брил голову под Юла Бриннера — популярного киноактера... Все было напрасно. Прозвище «рыжая мартышка» словно приклеилось к нему. С опостылевшим цветом волос он расстался лишь после гимназии. На приемные экзамены в университет приехал черноволосый юноша, в котором только с трудом можно было узнать прежнего Рина. Правда, много неприятностей доставляла ему не очень прочная в те времена краска. Приходилось воздерживаться от купания в самые жаркие дни, и лишь героические усилия спасали его реноме в дождливую погоду. После окончания университета Рин стал заниматься наукой. Вскоре появилась его первая научная работа, посвященная коагуляционной теории происхождения жизни. С тех пор прошло много-много лет. Избранная им тема оказалась поистине золотой жилой, которая принесла ему славу, ученые степени и высокие чины. За свою долгую жизнь Рин повидал многое — и хорошее, и плохое. Он приобрел огромную эрудицию, накопил опыт, умение обращаться с людьми и правильно ориентироваться в самой сложной обстановке. В нем сложилось твердое убеждение, что жизнь, которую, как известно, судьба дает нам лишь один раз, надо прожить с максимальной пользой для себя. И этого правила он придерживался неукоснительно. За все эти годы Рин никогда не забывал, что он рыжий, и тщательно скрывал это. Он смертельно боялся, что однажды тайна откроется, и тогда его карьера окончится. В Институт Жизни он пришел по призыву Президента. «Я обещаю моему народу самую долгую и самую счастливую жизнь», — провозгласил Президент в день своего вступления на высший государственный пост. «Долг ученых — добиться для моих сограждан самой большой в мире продолжительности жизни. А о том, чтобы эта жизнь была счастливой, позабочусь я сам». На призыв Президента откликнулись немногие, и блестящий молодой ученый быстро занял видное положение. Совсем немного времени спустя он стал основателем коагуляционной теории и получил всеобщее признание. Быстрое выдвижение Рина нельзя объяснить одними его научными заслугами. В науке, как и везде, существует своя иерархия, и всякое продвижение вверх по служебной лестнице возможно лишь при определенных условиях. Но Рину просто везло. Его старшие коллеги всегда очень вовремя заболевали, умирали или просто исчезали с научного горизонта, освобождая для Рина вожделенное место. Он умел использовать все — от автомобильной катастрофы до поворота фронта научных исследований. Конечно, многое значило и его умение быть всегда в главном потоке событий. Решающая перемена в его судьбе произошла в тот день, когда в Институте Жизни зачитывали меморандум, призывавший всех граждан страны голосовать за присвоение Президенту звания Пожизненного Главы Государства. Рин помнил, как волна точно рассчитанного воодушевления вынесла его на трибуну, откуда он под вспышки фотокамер многочисленных репортеров кричал в микрофон, что отныне институт должен посвятить свою деятельность только одной цели — разработке «эликсира бессмертия» для Великого Человека. «Дело нашей чести, — провозглашал Рин, — к тому духовному бессмертию, которое Первый Гражданин Государства давно заслужил своими неустанными трудами на благо народа, присоединить еще и бессмертие физическое, дабы не лишить грядущие поколения счастья быть руководимыми Великим Человеком». Буря аплодисментов, последовавшая за этими словами, не стихала ровно тридцать минут — именно эту цифру назвали все без исключения газеты в своих экстренных выпусках. Через несколько дней директор Института Жизни был с почетом уволен на пенсию, а на его место назначен профессор Рин. Немного позже он был избран в Действительные члены Государственной академии наук. Значительная ссуда, полученная институтом от правительства, позволила начать широкую разработку «эликсира бессмертия» — разработку, основанную на трудах директора Института Жизни академика Рина по коагуляционной теории бессмертия. Сам институт вскоре был переименован в Институт Бессмертия. Еще в те отдаленные времена, когда Рин только начинал свою карьеру, он уже задумывался над проблемой подбора кадров. Существуют самые различные критерии, по которым можно не принять человека на работу или уволить уже принятого. Критерии эти общеизвестны. Заслуга Рина в том, что он свел их в единую систему, подобно тому как Менделеев поступил с химическими элементами. Как известно, в наше время таблицы пользуются большой популярностью. С их помощью можно открыть неизвестный элемент, найти идею для фантастического романа или предсказать возможность телекопировки материальных тел. Поэтому нет ничего удивительного, что таблица помогла Рину сделать свое открытие. Эта таблица была итогом его многолетних раздумий. Каждая ее позиция была тщательно продумана и обоснована, хотя некоторые пункты могли при первом взгляде вызвать недоумение. Рин прекрасно знал, что рост, например, очень важен для профессионалов-баскетболистов, а вес — для жокеев, что посты, которые некто занимал прежде, важнее, чем многолетний стаж другого претендента, и что хорошо, если у человека имеются многочисленные печатные труды, но наличие у него диплома гораздо важнее. Беспокоил его досадный пробел в одной из колонок таблицы. Рин пробовал заполнить его так и этак, но каждый раз чувствовал: не то! Незавершенность таблицы он воспринимал почти болезненно. Инстинктивно Рин догадывался, что все же есть какие-то тайные критерии для подбора людей. Нельзя же было принимать всерьез стихийный субъективизм, провозглашаемый некоторыми руководителями. И действительно, настал день, когда истина открылась ему. Возможно, Рин даже с помощью таблицы не дошел бы до этой мысли. Ответ на свои сомнения он услышал из уст человека, мнением которого ни в коем случае нельзя было пренебрегать. Сейчас трудно установить, почему был дан настоятельный совет, если он вообще был дан. Иногда ведь принимают желаемое за действительное. Может быть, тот человек был женат на злой рыжей женщине. Или рыжий невежа толкнул его на улице. Или обругал кто-то рыжеволосый, занимающий более высокий пост. Или у него просто идиосинкразия на этот броский цвет, вызывающая сыпь и дурное настроение... Кто знает? Но сказанные слова не остались неуслышанными. Вскоре они уже были канонизированы и приняты как руководство к действию. Когда Рин вдруг понял, что таблица наконец-то заполнена целиком, радостный трепет охватил его. Он лихорадочно припоминал известные ему факты, подтверждающие его догадку. Да, все сходилось! Из соседнего института уволили опытного, незаменимого рыжего хозяйственника. Исчез неизвестно куда популярный рыжий диктор крупнейшей телевизионной фирмы. Рыжему профессору, которого уже прочили в лауреаты Большой премии Президента, дали отставку, а премию отдали другому — черноволосому... Было ясно, кампания против рыжих началась. Период сомнений и колебаний у Рина закончился так быстро, что вскоре он сам уже не помнил, были ли они. Подобно всем перекрашенным, он давно распростился со своей сущностью, начисто отрекшись от всего того, что когда-то ему было дорого и близко. В душе он давно был стопроцентным брюнетом. Короче говоря, его былая антипатия к рыжим вылилась в директивное распоряжение по институту. Конечно, директива эта не была письменной. Все было сделано деликатно и незаметно с приличествующей постепенностью. Вскоре Институт Бессмертия стал стопроцентно черноволосым. Закончив это важное мероприятие, Рин взвалил на себя тяжелое моральное бремя. Он никогда не забывал, что в свое время перекрасился, и по-прежнему боялся разоблачения. Однако за минувшие годы химия добилась грандиозных успехов и ему уже не приходилось панически бояться случайного дождя. Друзья и знакомые только удивлялись, что, несмотря на значительный возраст, Рина совершенно не берет седина. О том, что академик перекрашен, не знала даже его собственная жена. Правда, старший сын волосами пошел не в родителей: в его кудрях поблескивала подозрительная золотинка, но супруга со слезами призналась, что кто-то из ее предков был рыж как викинг, и только удивлялась, что муж счел это объяснение достаточным. В общем, дела шли нормально. В институте, очищенном от рыжих, кипела неторопливая работа. Бравые брюнеты из гвардии Рина выступали по телевидению, обменивались опытом, организовывали шумные конгрессы. Изгнанные рыжие тоже не пропали — они строили шахты и дороги, искали подземные сокровища где-то на краю земли, словом, приносили посильную пользу. Некоторые, наиболее упорные, пристраивались в другие институты, выступали против риновского коагуляционного учения, выдвигали свои идеи. Рин походя громил их. В руководимом им институте дело было поставлено солидно: защищались магистерские и докторские диссертации, издавались и переиздавались труды, переводились на многие языки. Только до бессмертия было так же далеко, как до звезд.
Подозрительные признаки Рин заметил у себя через день после того, как была проглочена последняя, пятнадцатая таблетка. Какой-то странной синевой начали отливать ногти на руках. Встревоженный академик вызвал своего врача, но тот сказал, что это связано с нормальным в таком возрасте спадом деятельности сердца и скоро пройдет бесследно. Однако подозрительная синева не проходила и даже усилилась. Терзаемый сомнениями, академик стал держать руки в карманах, а при случайных встречах со знакомыми только махал им рукой в перчатке. К счастью, на улице уже похолодало, и никто не обращал на перчатки внимания. Еще через несколько дней Рин с ужасом заметил, что у него голубеют белки глаз. Он заперся в ванной, разделся и внимательно осмотрел все тело. На боках и животе кожа явственно посинела. Тогда он понял, что произошла страшная ошибка. Он набрался духу и позвонил в лабораторию к Элинвару. — Я слышал, что вас можно поздравить с успехом, — с трудом выдавил он в трубку. — К сожалению, информация, которую я получил... Имя академика Рина было хорошо известно Элинвару. Поэтому он говорил откровенно. — То, чего мы добились, можно рассматривать лишь как частичный успех. Что это за препарат, если он на одних действует, на других нет? Разве рыжие — не люди? Сам ведь рыжий, знаю! — П-п-почему рыжие? — пролепетал Рин. — Что же делать! Я так и указал в докладе: «Нами обнаружено, что препарат не усваивается только рыжеволосыми людьми. Это, безусловно, является его крупным недостатком...» Ошеломленный академик поднес руку к лицу. На ладони проступало яркое синее пятно. — Но самое удивительное вот что, — рокотал в трубке голос. — Никто не хочет дарового бессмертия. Мы не можем найти добровольцев для опыта. Люди говорят — жизнь тем и хороша, что у нее есть конец... Академик не слушал его. Он с ужасом рассматривал свои синеющие ладони... На этом и заканчивается история о препарате бессмертия. Говорят, его так и не удалось испытать. Те, кому это предлагали, ответили, что они не хотят терять своего права на смерть. К тому же неожиданная смерть Президента от апоплексического удара на длительное время отодвинула в сторону даже самые наиважнейшие дела. Проблема личного бессмертия, в свое время так блестяще и вовремя выдвинутая Рином, как-то потеряла свою актуальность. И хотя препарат бессмертия, по утверждению Элинвара, вполне пригоден, по меньшей мере для двух третей человечества, изготовленные в лаборатории запасы лежат пока без всякой пользы. Не хватает только двух ампул. Содержимое одной из них скормили морской свинке тридцать пять лет назад. Свинка эта до сих пор живет в лаборатории. Куда исчезла вторая ампула, никто не знает. Так что препарат еще ждет своего часа, потому что межзвездные полеты, для которых создавал свой препарат Элинвар, в ближайшее время вряд ли начнутся. И история академика Рина на этом заканчивается. Он пропал внезапно, не оставив никаких следов. В институте забеспокоились было, обратились в полицию, но там ответили, что в исчезновении Рина состава преступления нет, и дело закрыли. Вскоре директором института был назначен Элинвар, который и возглавлял его бессменно до самой своей кончины. Любители ночных прогулок утверждают, что иногда в лунные ночи, когда окрестности корпусов Института Бессмертия залиты призрачным светом, на пустынных аллеях можно встретить странного старика. Его высокая сгорбленная фигура в свете луны кажется неестественно синей, а глаза вспыхивают недобрым голубым огнем. Старик идет по аллеям, стуча палкой. В центре сквера, где возвышается бронзовый памятник создателю препарата бессмертия, старик останавливается, долго с ненавистью смотрит на освещенное луной изображение давно умершего человека, затем, поникнув и словно став ниже ростом, медленно бредет вдоль темных зданий института. Кто он, никто не знает, потому что днем он не появляется никогда. Может быть, это и есть тот полулегендарный человек, который захотел дарового бессмертия. Это предположение кажется весьма вероятным, потому что, по слухам, довольно густая шевелюра старика даже в неверном свете луны сверкает как золото.
Э. Зеликович ОПЕРАЦИЯ №2 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДБОРКА
* * *
МАЙКЛ ДЖЕФФРИС ВНЕЗАПНО ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ. ПРИЧИНА НЕИЗВЕСТНА: ПОКОЙНЫЙ НЕ ОСТАВИЛ НИ ПИСЕМ, НИ ДАЖЕ ЗАПИСКИ. АВИ, 8 июля.* * *
ИЗ СТАТЬИ «ДЕЛО ЗАПУТЫВАЕТСЯ»
(«У рубежа XX-XXI». Вечерний выпуск 9 июля)
...печальная весть, распространенная Агентством всемирной информации о самоубийстве писателя Джеффриса. Что побудило его решиться на столь трагический шаг? Самый факт, как и многое другое в этом деле, становится все более загадочным. Взволнованная общественность с нетерпением ожидает дальнейших, известий, в филиалах АВИ и редакциях газет и радио не умолкают телефоны. Но истекшие два дня не внесли ясности, наоборот, вопрос невероятно осложнился двумя сенсационными сообщениями директору нашей газеты. На протяжении веков тысячам следователей приходилось ломать голову над задачей: «Кто убийца?» Это естественно и тривиально. Мы же столкнулись сейчас — впервые в истории — с беспрецедентным вопросом: кто самоубийца? Всемирно известный старый мастер слова Майкл Джеффрис или завоевывающий известность молодой талантливый режиссер Чарлз Дейвис? Никогда в подобных случаях никаким сомнениям не могло быть места. Тем более, что и Дейвис — увы! — также трагически перешел в лучший из миров, и притом пятью неделями ранее. Дико? Нелепо? Да. И все же, вопреки всякой логике и смыслу, ошеломительное утреннее телефонное сообщение и последовавшее за ним вскоре не менее странное другое (печатаем ниже) придали делу исключительно парадоксальный оборот. Дирекция газеты тут же поручила трем корреспондентам под руководством Гарри Стоуна в срочнейшем порядке выяснить обстоятельства дела. Результаты расследования будут немедленно публиковаться.ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ СЕГОДНЯ УТРОМ
Со слов секретаря: — Дирекция «У рубежа XX-XXI». Кто у видеофона? — Художница Мод Джеффрис, Прошу директора. — Сейчас справлюсь. Соединяю. Далее — с фонограммы: — Доброго утра, миссис Джеффрис. — Мой покойный муж не оставил... Да-да, доброго утра, мистер Стэмпфорд... Извините, я так взволнована... Не оставил даже записки, так ведь? О нет! Мы ошибались, он оставил нечто несравненно большее... Он умер... Понимаете? У-мер! Более месяца назад! В клинике во время операции!.. — Что-о?!. Какая все-таки странная, извините, мистификация... — Оставьте, мистер Стэмпфорд! Видите, на что я стала похожа? О господи, какой ужас, если бы вы знали, какая жуткая ночь... — М-да-а... Но позвольте, что произошло? — Какая-то чудовищная биологическая путаница, психологический хаос... Помогите мне разобраться в этом странном деле, это будет интересно и для вашей газеты... Надо все расследовать и опубликовать, пришлите ко мне корреспондента, я покажу ему такой документ, от которого вполне можно помешаться... — Пришлю троих. Когда прикажете? — Поскорее. Срочно. Пока я сама еще не успела сойти с ума. Всего хорошего! — Погодите! У меня уже мутнеет в голове. Кто же в таком случае — извините за бестактный вопрос — отравился вчера ранним утром на своей собственной кровати и в своем собственном, то есть в вашем доме?! — Режиссер-сценарист Чарлз Дейвис. — Что-о?! При чем тут Дейвис?! Ведь он же более месяца назад погиб при аварии с мотопедом и был кремирован! Ничего не понимаю!.. — Я тоже не понимала... И снова не понимаю... Давайте же быстрее. Ради бога!..ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ
— Мистер Стэмпфорд, у видеофона продюссер «Грейт филм Ко» Ричард Гаттон. — Соедините. — Доброе утро, старина. Отчего у вас такой взъерошенный вид? — Гм... Добрый день, Гаттон. Слушаю вас. — Думаю, вас заинтересует такой факт. За три дня до самоубийства Майкл Джеффрис, с которым я не был знаком, неожиданно явился ко мне в бюро. При чтении газетной вырезки о гибели моего друга Чарли Дейвиса он упал в обморок... — Ничего не понимаю! Зачем Джеффрису понадобилось читать у вас в бюро информацию месячной давности о смерти Дейвиса? — Не в этом дело. Чарли должен был дать мне еще два экземпляра сценария «Звезда Востока», но не успел, бедняга, погиб в тот день... — От вас спятить можно! Какое отношение имеют к обмороку Джеффриса сценарии и звезды вашего друга Чарли? Говорите же толково! — Да слушайте же, черт вас подери! И не хватайтесь за голову. Рано еще. Информирую вас, что Джеффрис покончил самоубийством потому, что был ясновидящим, Сведенборг номер два... — Что?! Этого еще не хватало! Кто это сказал? — Я говорю вам это. Никто этого пока еще не знает. Ведь у ясновидцев и прочих медиумов болезненно чувствительная нервная система, крайне неустойчивая психика и... — Но откуда вы взяли, что Джеффрис был ясновидцем? И при чем тут Дейвис со сценариями и звездами?! — Спокойно, старина! Наш дежурный врач дал Джеффрису успокаивающее, и он уснул. Вскоре он стал что-то бормотать. Я уловил такие слова: «Экземпляры были... верхний левый ящик письменного стола... серая папка... красной ленточкой... Просите Мери...» А дальше стало невнятно. Затем он смолк и заснул. А потом Вероника увезла его домой... — Какая Мери?.. Какая Вероника?.. — Мери? Жена, то есть вдова бедного Чарли. А Вероника — сестра Джеффриса. Она сопровождала его ко мне. Теперь, надеюсь, вам все ясно? — Гм. Вам бы детективные сценарии сочинять! — Так вот, слушая бормотание Джеффриса, Вероника ужаснулась: «Боже, какую несусветную чушь несет наш бедный Майкл!» А врач сказал: «Типичный бред. Это нормально в подобных случаях». — Не вижу ровно ничего интересного в вашем абсурдном сообщении, Гаттон. Сплошная абракадабра. —Да? Плохо видите, Стэмпфорд! Так вот, я сейчас же в машину — и к Мери. Преподнес ей такую версию: Чарли сказал-де мне, если срочно понадобятся экземпляры «Звезды Востока», а его в это время почему-либо не будет на месте, чтобы я попросил ее, Мери, отдать их мне. Хватайтесь теперь за голову: Мери тотчас же достала экземпляры, они лежали именно там и в той папке! Ну как, Стэмпфорд, абракадабра? — М-да... Это даже для ясновидения совершенно сногсшибательно. — При этом заметьте: Мери понятия не имела обо всем этом деле, а Джеффрис и Чарли не были знакомы и вообще никогда нигде не встречались. Сенсация — полностью ваша монополия. Я никому ничего об этом не говорил. А вы тисните скорее на полосу тот репортаж о «Грейт филм». — Тисну... Весьма благодарен, дорогой Гаттон. Но погодите, для использования вашей информации необходимы какие-то доказательства. — Есть две надежные свидетельницы: Вероника и Мери. Все? Прощайте, Стэмпфорд.* * *
Директору м-ру Роджеру Стэмпфорду
Дорогой сэр!
Препровождаю отчет со сведениями, собранными, согласно Вашему распоряжению, по делу «Джеффрис — Дейвис»: краткие записи фактов, диктофонографии и магнитоленты бесед, различные фотоснимки и фотокопии документов. От выводов и собственных теорий, гипотез и комментариев в отчете мы, согласно Вашему указанию, воздержались. Весьма преданный Ваш Гарри Стоун.* * *
«У РУБЕЖА XX-XXI»
Специальное приложение к номеру от 13 июляОПЕРАЦИЯ № 2
Материалы из отчета Гарри Стоуна по делу «ДЖЕФФРИС — ДЕЙВИС»
Отдельный сброшюрованный выпуск.
* * *
ИНТЕРВЬЮ У МИССИС ДЖЕФФРИС
Нас приняли две дамы: изящная блондинка с бледным лицом и испуганными голубыми глазами и спокойная, довольно высокая шатенка с легкой проседью и прямым пытливым взглядом. В кабинете покойного, куда нас поспешно провели, мы, с разрешения хозяек, тотчас же включили магнитофон и диктограф. Блондинка сказала (даю отрывки лент), указав на вторую даму: — Знакомьтесь, это миссис Вероника Белл, младшая сестра Майкла. После трагедии она все время со мной — я не в состоянии оставаться одна в пустом доме. Вероника и нашла тот страшный документ с разгадкой. Но какой ценой нам далась эта разгадка! Ужасающей. Мы узнали безумные вещи. И на место одной загадки встала другая. Рассказывать вам все по порядку? Или вы пожелаете сначала задавать вопросы? — Нет, мы будем слушать то, о чем вы пожелаете нам рассказать. — Благодарю вас. Вероника, я попрошу вас приготовить кофе. Джентльменам придется, вероятно, задержаться у нас. Ознакомиться с обстоятельствами дела не так просто. Сначала придется посвятить вас в одну нашу семейную традицию. Извините, я говорю очень бестолково, но я очень взволнована. — Мы понимаем вас. Считайте, что перед вами не газетчики, а доверенные лица. Говорите свободно о чем угодно. Без вашего согласия ничто не будет оглашено. — Благодарю вас. Я хотела только сказать, что мы с мужем не мешали друг другу заниматься своим искусством. Он писал у себя в кабинете, а я рисовала в своей мастерской. И никогда не глядела на то, что он делал за столом. Никогда не касалась его рукописей и записок. Вам еще не наскучило выслушивать подобные подробности? — Мы понимаем, что это имеет отношение к событию. — Благодарю вас. Совершенно верно. Если бы я совала нос в его рукописи и тетради, события, быть может, обернулись бы иным образом. А после такой его смерти я уж и вовсе не в силах касаться его бумаг и вещей. Вам понятно это? — Понятно. Пожалуйста, продолжайте. — Благодарю вас. Это делает за меня Вероника. Поэтому она... но сначала должна сказать вам... простите, я все время сбиваюсь... что Майкл после второй операции, а она была за пять недель до его смерти, резко изменился. Он стал как бы чужим человеком. Это был как бы не он, а кто-то другой. Словно его подменили. Но не его самого, а... как бы это вам объяснить... а его душу. Внешне он оставался таким же, и голос его почти не изменился, но вот манера речи и мышления стали другими. Понятно? — Признаться, это уже менее понятно. — Да-да, это естественно, ни я, ни кто другой также ничего не понимали. Но и мало кто знал об этом. Мы оба, не сговариваясь, скрывали это. По разным причинам, вероятно. А Майкл стал к тому же еще упорно избегать друзей и знакомых. При неизбежных же встречах он молчал, вопреки элементарной вежливости. Даже со мной он, против обыкновения, стал скрытным. Видимо, он что-то переживал. А через неделю после возвращения из лечебницы он вдруг за одну ночь поседел. После этой ночи он стал целыми днями писать. — А затем, вероятно, уничтожал написанное? — О нет! И весь последний день с утра писал. Вечером я отвезла его к профессору Брауну. Обратно привез его сам Браун. После полуночи. О чем они говорили, осталось неизвестным, но вернулся Майкл в страшно мрачном настроении. Ничего не ел, не пил и быстро прошел в кабинет. А рано утром разыгралась трагедия. — А какие операции перенес ваш покойный супруг? — Первая — обычная: пересадка сердца. И, как обычно, она прошла удачно и с отличным результатом. Правда, уже после нее Майкл впал в сплин... — Простите, а вторая операция какая? — Операция головы. Браун констатировал острый склероз мозга. — А в клинике были известны происшедшие у пациента после второй операции психические изменения? — Конечно! Профессор даже предупредил меня об этих изменениях. Но только при выписке из лечебницы. А до этого меня вообще не допускали к Майклу. Я ни разу не видела его до самой выписки. Неслыханный случай. — Да, действительно очень странно. Почему же они не допускали вас, миссис Джеффрис? — На все мои просьбы и мольбы они твердили одно: больной перенес серьезную, тяжелую операцию, ему необходим абсолютный душевный и психический покой — ни малейших эмоций и переживаний! — А что они сказали вам, когда вы забирали вашего супруга домой? — А тогда Браун поговорил со мной, еще до свидания с Майклом, наедине. Я сразу почувствовала, что этот крупнейший ученый, великий хирург и холодный человек подготавливает меня к чему-то очень нехорошему. — И что же он сказал вам? — Вкратце это сводится вот к чему: первое и главное — пока ни о чем не говорить с Майклом, молча забрать его домой. Дико, не правда ли? Потому что в результате операции у него многое выпало из памяти. Он совершенно не помнит, например, свое прошлое, не знает, кто он. Представляете мое состояние? — Безусловно. Все это крайне странно. — Браун призвал меня к мужеству. В утешение он сказал, что в медицине таких случаев известно немало. Более того, у Майкла появилась навязчивая идея: он считает себя кем-то другим. Но во избежание шока его не следует разубеждать в этом. И вообще его нельзя абсолютно ничем волновать. Разговаривать с ним надо будет очень осторожно, стараться говорить поменьше, ничем его не утомлять. Представляете? — Да, тяжелое это было для вас испытание. — Теперь уже можно вам сказать, что Вероника занялась столом Майкла. И обнаружила эту толстую лиловую тетрадь. Если бы я добралась до этой тетради несколько дней назад, быть может, удалось бы уберечь хотя бы Дейвиса. От самоубийства. — Дейвиса?.. От самоубийства?.. — Да-да. Вы думаете, вероятно, что в моем потрясенном мозгу уже окончательно все перемешалось. Возможно. Попробуйте сами разобраться в том, что с кем произошло. Ради этого я и побеспокоила вас. — Простите, но ведь Дейвис погиб более месяца назад при дорожной катастрофе! И какое отношение он имеет к вашему покойному супругу?.. — Абсолютно никакого. Не имел. В том-то и дело... А вот и Вероника с кофе. Очень кстати, мне незачем больше рассказывать — сами увидите. Будьте любезны, джентльмены, пересядьте в кресла к тому столику.* * *
После кофе обе дамы, предоставив нам лиловую тетрадь, удалились. Бегло просмотрев ее, мы установили следующее: 1. Записи в тетради представляют отдельные, датированные отрывки. Поэтому в дальнейшем будем называть эту тетрадь условно «дневником». 2. Дневник состоит из двух частей: А) записей, сделанных до второй операции; Б) после нее. Эти части мы обозначили, в качестве разделов дневника, литерами «А» и «Б». 3. Разделы, по смыслу их содержания и различию стиля, написаны как бы двумя разными лицами. Однако почерки в обоих разделах, хотя и не вполне идентичны, все же по характеру родственны между собой. 4. Раздел «А» написан аккуратно и чисто. Раздел «Б» испещрен помарками; много вставок и вычеркнутого. Видимо, автор этих заметок писал их второпях и в сильном волнении. Я поручил Бобу зачитать дневник вслух. Затем, ничего не обсуждая, мы условились с нашими дамами о следующем: после обеда Герберт вернется и сделает фотоснимки страниц тетради, что и было выполнено. Прилагается 1 комплект фотокопии.ГАРРИ СТОУН.
* * *
РАЗДЕЛ «А»
От редакции «Специального приложения»
Этот раздел представляет интимный разговор автора с самим собой о своих переживаниях и сомнениях. Майкл Джеффрис жалуется на плохое самочувствие и упадок творческого настроения. Немногие литературные заметки в этих записках перемежаются с различными размышлениями и рассуждениями общего порядка. Таким образом, раздел «А» в целом не имеет отношения к делу. Однако он образует некоторый фон дальнейших событий. Для характеристики этого фона предлагаем вниманию читателя несколько отрывков из раздела «А».* * *
...Сегодня, 5 мая, вот уже неделя, как я снова дома... ...Не «протестная» ли это реакция, как говорят медики, на чужеродную субстанцию? Многие барьеры тканевой несовместимости триумфально преодолены, но по-прежнему деспотически властвует несовместимость психическая, душевная: подавляет отвратительное сознание своего нечеловеческого сердца. ...Доброе и нежное, отзывчивое и благородное человеческое сердце... А у меня теперь просто свинячье. Грустно-символично: писатель не с чутким человечьим, а со свинским сердцем. Нет, наше сердце — это не только и не просто гидравлический насос, равно пригодный и для механической работы внутри бездушного робота: оно и моральный резонатор, тонко реагирующий на человеческие переживания... Утро, 6 мая. ...На фотографиях, как на испорченных часах, время останавливается. Стоят передо мной два таких печально-немых свидетеля утерянного прошлого и в упор на меня смотрят. Самоуверенно легкомыслен взор на левой фотографии: в 17 лет человек чувствует себя завоевателем необозримого будущего... С укоризной смотрю я со второй фотографии, сделанной перед операцией. Здесь взгляд, беспокойно направленный уже в прошлое, как бы говорит: тебе было столько дано, а что ты сделал со своей жизнью?.. Глаза мои затуманиваются, фотографии раздвигаются, 42-летний путь между ними предстает длинным прокурорским счетом... Хочется убрать с глаз долой этих назойливых обвинителей, но боюсь огорчить Мод. Вечер, 9-е. ...Кажется, найден источник сплина и апатии, в наведении которых я напрасно обвинял свое бедное свиное сердце. Благодаря магическим средствам Брауна оно, по-видимому, не только физиологически прижилось, но и психически «очеловечилось»... Нет, сердце реабилитировано, не в нем беда, что-то неладное творится с головой: появились какие-то странные приступы и головокружения. Новое заболевание?.. Утро, 14-е. После множества обследований Браун диагносцировал острый церебросклероз и посоветовал снова перебраться в клинику. Не хотелось бы, но приступы усугубляются... Май, 16-е, под вечер. ...По настоянию Брауна срочно ложусь в клинику. Записи эти придется прервать (надеюсь, временно) и спрятать их (надеюсь, пока) подальше. А затем... Если произойдет чудо, я пущусь еще в большое творческое плавание... Браун советует уповать на медицину... Она действительно творит чудеса... Меня же терзают сомнения, хотя в виртуозность Брауна глубоко верую и убежден, что в этом я, во всяком случае, не ошибаюсь.* * *
РАЗДЕЛ «Б»
(Печатается полностью)
4 июля, 5.30 утраДа, в этом он не ошибся. Трагически для нас обоих. Да, гениальный Мефисто действительно сотворил чудо. Но не то, которое ожидал Джеффрис. Чудовищное. И продолжить эту тетрадь суждено не ему, а мне. Я обязан продолжить ее. Обязан предостеречь от моей судьбы тех, кто был бы склонен — сознательно и легкомысленно — дозволить коварному случаю увлечь себя на запрещенный природой иллюзорный путь. Пусть никто не дерзает преступать ее вето. Поддавшихся соблазну не минует возмездие. Природа мстительна и не прощает ошибок.
* * *
Эту тетрадь я нашел сегодня ночью в глубине письменного стола. Какие-то заметки. Творческие переживания Джеффриса. Не хотелось читать. Но что-то ультимативно требовало пробежать эти страницы до конца. И тогда меня осенила чудовищная догадка. Это было страшное открытие — эта лиловая тетрадь. Взглянул сейчас в зеркало: шапка из морской пены, а еще вчера только кое-где мелькала проседь. Шесть дней назад незнакомая женщина перевезла меня из лечебницы в незнакомый дом. Ее дом. А тремя неделями раньше, открыв глаза, я непонимающе огляделся. Силюсь что-либо сообразить, осмыслить. Ничего не получается. Застилаемые туманом мысли ползут вяло, нехотя, неясными обрывками. Но трагические события вжигаются в память. Внезапно в воображении вырисовалась озаренная летним солнцем картина катастрофы — последнее осознанное до провала в Ничто.Исток событий
Чудесное утро 2 июня. Еду на мотопеде за город к родителям. Кругом, отставая и обгоняя, снуют легкие и тяжелые машины. Затем... скупые кадры так стремительно промелькнули, что я не успел понять, что именно случилось. Резкий толчок швырнул меня, мир перевернулся, что-то на меня обрушилось. Мгновенная неимоверная боль в груди и животе, и все остановилось, прекратилось. Вселенная угасла. Стало Ничто. Где Ничто протекало и как долго оно длилось, не представляю: меры пространства и времени были утеряны. Казалось, я целую вечность витал в бесконечности. Но вот механизм бытия вновь запущен: я очнулся на больничной койке. Странно себя чувствую. В чем странность? Пытаюсь анализировать. Не могу. Но делаю изумительное открытие: ощущаю свое тело невредимым. И никаких болей. Абсолютно. Будто ничего не произошло. Превосходная анестезия! Даже бинтов нигде, кроме головы, не чувствую. Значит, голову все-таки разбило. Робко пробую шевельнуться. Движения свободны. Подтягиваю свои длинные ноги. Легко! Только они кажутся почему-то короче. Неужели... Но нет — пальцы подвижны. Видимо, все прекрасно. Дешево отделался. И все же странно. Чудо хирургии и терапии? По-видимому. Божественное искусство, отлично починили! Ощупываю лицо. Основательная борода! Но как сильно изменились руки. И обмякли. Медленно, бесшумно открывается дверь. Мужчина в белом колпаке и халате. Внимательно глядя на меня, не спеша подходит к кровати. Садится на стул у ног и, помолчав, заговаривает.Диалог о непонятном
Записанный в привычной для меня профессиональной форме, этот диалог имел бы примерно такой вид: ПОСЕТИТЕЛЬ. Добрый день, наш дорогой пациент. Я — ваш палатный врач Грэхэм Крол. Как вы себя чувствуете? Я. Неплохо, доктор. Гм, гм... что-то в горле — заговорил вдруг тенором. У меня баритон. ВРАЧ. Ничего удивительного. После перенесенного вами и не такое еще может произойти. Я. Где я, доктор? ОН. В клинике профессора Вильяма Брауна. Я. А какое сегодня число? ОН. 13 июня. Я. Только-то?.. А мне кажется, будто с момента катастрофы протекла вечность. Странно... И как-то странно чувствую себя. ОН. Еще бы! Кроме катастрофы, вы перенесли еще и серьезную операцию. Я. Тем более странно, что нахожусь в таком сравнительно благополучном состоянии. После такой аварии... Всего одиннадцать дней назад... ОН. Да, срок действительно поразительно короткий. Радуйтесь: вы обрели вторую жизнь. Еще несколько лет назад подобное считалось бы немыслимым чудом. Необузданной фантазией писателей. Я. Чему же я обязан всем этим, доктор? ОН. Многому. Прогрессу медицины, последним ее успехам и важным открытиям, в том числе и профессора Брауна. И, конечно, его исключительному мастерству. Искуснейший хирург, мировая известность! Я. А почему у меня забинтована голова? ОН. Голова! Это же самый сложный и ответственный участок. Но хватит на первый раз — много разговаривать вам еще нельзя. (Он мягко улыбнулся и встал.) Бодритесь, всего наилучшего! Беседу эту он провел в успокаивающем, очень осторожном, вежливом тоне. Но при свойственных мне педантичности и подозрительности я обратил внимание на то, что он ни разу не назвал меня по имени. Странно. Почему мне все кажется странным?.. После обеда явился другой врач. Коренастый, розоволицый, с выпуклым объемистым лбом и насупленными светлыми бровями над строгими серыми глазами. По его солидной походке я понял, кто это. Между нами состоялся.еще менее ясный диалог
ПРОФЕССОР БРАУН. Здравствуйте, дорогой клиент, поздравляю вас с благополучным возвращением к жизни! Надеюсь, вы чувствуете себя сейчас еще лучше, чем утром. Я. Здравствуйте, профессор. К сожалению, хуже. Со мной творится что-то дикое. Боюсь даже умопомешательства. БРАУН (помрачнев). Что такое? Я. Мне все кажется странным, необыкновенным. БРАУН. Что именно? Конкретно? Я. Гм... Трудно описать. Например, зрение. Неясно вижу. Туманно, расплывчато. БРАУН. Очевидно, вам требуются очки. Сейчас проверим. (Достает из моей тумбочки очки.) Я. Но я никогда в жизни не носил очков! БРАУН. Но сейчас настал момент, когда они понадобились. (Надевает очки мне на глаза.) Ну, как видите? Я. Намного лучше. Гм... Даже хорошо. Странно... Почему-то сразу подошли какие-то чужие очки. БРАУН. Ну вот и все прекрасно... Я. Далеко не все, профессор. У меня странное ощущение, будто мое тело стало короче. И какое-то дряблое, словно постаревшее. Не узнаю своих рук и ног. Будто чужие. Очень тревожно это нелепое, необычное чувство. Боюсь, что схожу с ума. БРАУН. Ну-ну-ну, ничего страшного! Естественная реакция организма на все вместе взятое, главным образом — на внесенные в него реанимационные препараты. Но дилемма «жизнь — смерть» не оставляет места выбору. Приходится идти на некоторые жертвы. Сравнительно небольшие. Все уладится, главное — не волноваться. Вам совершенно необходим полный покой. А теперь вам надо отдохнуть. Сейчас получите очередную инъекцию. До свидания, дорогой клиент! И он тоже не называл меня по имени.* * *
Всего, что было пережито, передумано и перечувствовано за долгие дни и ночи в лечебнице, описывать не буду. Пришлось бы написать целую книгу. Ограничусь в дальнейшем отдельными отрывками.* * *
Загадки уже «из рога изобилия»
Настало утро. Буфетчица принесла завтрак. ОНА. Доброе утро, сэр. Ну вот я опять к вам — сегодня моя смена. Поставила поднос на тумбочку и отошла. Отвернувшись, вынула из халата зеркальце и украдкой взглянула в него. Я. Доброе утро. Спасибо, мисс... как вас звать? ОНА. А вы забыли?.. Это бывает после операции, мистер Джеффрис. Я. Дейвис моя фамилия. Так как же вас зовут, дорогая мисс? ОНА (удивленно расширив глаза). Но я же отлично знаю вашу фамилию, сэр... Ну вспомните меня, сэр, я же Мери! Я. Как я могу вспомнить того, кого не знал? Не удастся вам меня разыграть, веселая мисс! Какое, однако, любопытное совпадение — «Мери» зовут и мою жену. ОНА. У леди Мод есть еще второе имя? Я. Какая там еще леди Мод! Ничего у вас не получится, мисс Мери. Дайте, пожалуйста, зеркальце. ОНА (внезапно засуетившись). У меня нет зеркала... Пейте скорее кофе, пока не остыл, а мне надо бежать... Я. Мисс Мери! Что это значит? А что у вас в левом кармане халата? ОНА (бросившись ко мне, испуганно шепчет). Я дам вам зеркало, но, ради бога, тише, умоляю вас, сэр, нам запрещено... Быстро входит Крол. КРОЛ. Что тут за разговоры, Мери? А больные ждут завтрака. Сейчас же отправляйтесь! Доброго утра, наш дорогой пациент! Ну, как вы себя чувствуете? Я. Здравствуйте, доктор. Как вчера. Неплохо и странно. ОН. А сегодня у вас совсем молодцеватый вид! Скоро начнете ухаживать за хорошенькими буфетчицами... Кстати, что вам наговорила тут эта болтливая девушка? Я. Ничего особенного. Пожелала, как полагается, доброго утра, осведомилась о моем здоровье, настроении... Милая девушка. А что? ОН. Ну, я очень рад, что она вам понравилась — вам полезны положительные эмоции. Помочь позавтракать? Сейчас пришлю сестру. А после обхода зайду еще.Крол «объясняет»
Вскоре он вернулся. Я. Доктор, можно мне позвонить жене? ОН. Что вы! Ни в коем случае! Вам нельзя вставать с постели. Садиться — только во время еды. Я. Тогда я попрошу вас вызвать ее сюда. Очень хотел бы увидеть ее и детей. ОН. К сожалению, и это пока исключено. В любом случае это было бы для вас каким-то переживанием, волнением. А вам ничего подобного нельзя. Вы должны в полной мере отдавать себе отчет в том, что вы пережили катастрофу и перенесли серьезную операцию. А остались живы и даже будете здоровы! Так потерпите же, наш дорогой клиент! Я. Гм... Хорошо. Но скажите все же, пожалуйста, какими чародейскими средствами достигнуто это чудо? ОН. Для этого пришлось бы слишком много рассказывать. А вам вряд ли стоит забираться в дебри медицины и биологии. Я уже говорил, что в последние годы в мировой науке был сделан ряд открытий, некоторые из них — совершенно сенсационные. Найдены новые возможности и изобретены средства дальнейшего подчинения природы. Вернее, средства и способы использования законов природы при подчинении им. Вот и все, что я могу пока сказать вам. Я. Благодарю. А теперь что-нибудь о самом чародее. ОН. Я уже говорил вам. Могу добавить: автор ряда трудов о факторах и барьерах тканевой несовместимости, о методах и средствах их преодоления, о принципах совмещения чужеродных тканей и тому подобном. Удостоен многих премий. Фанатик науки и своих идей. Для нас, его ассистентов и адептов, он непререкаемый авторитет. Вам необычайно повезло — вы попали именно в его руки! Я. Благодарю вас, доктор. ОН. А теперь, дорогой пациент, получайте свою инъекцию и отдыхайте.Секрет зеркала
Придя после обеда за посудой, буфетчица сунула мне под подушку бумажку и отрывисто прошептала: «Нам запрещено разговаривать с вами, сэр... Не выдавайте меня, вы ведь всегда хорошо относились ко мне... а то я получу выговор... вечером верните зеркало...» — и стрелой вылетела из палаты. Я вынул из бумажки зеркало и поднес его к лицу. Но увидел не себя. На меня глянул в упор мутным взором незнакомый старик с белой от бинтов головой и седоватыми бакенбардами и бородой. А мне тридцать один год. Неприятнее всего были выцветшие голубые глаза. До катастрофы они были золотисто-карими. Я опустил зеркало. Вновь поднял его. И повторял это безнадежное упражнение со все возрастающим ужасом. Наваждение устойчиво держалось. Наконец, не будучи более в силах смотреть на чужое лицо в зеркале, я оставил это безумное занятие. Захотелось закричать от страха. Было так жутко, как при встрече ночью с призраком мертвеца в безмолвии пустого дома. Но предаваться скорби было некогда — быстро следовали новые открытия, и я окончательно запутался в паутине загадок.Пожизненно в одной роли и несмываемом гриме
Голос мой так и остался тенором. И почерк стал уже не тот. А очки ношу теперь постоянно. Все это так странно. Персонал лечебницы ведет себя со мной подчеркнуто сдержанно. Я стал задавать наводящие вопросы. И обнаружил, что не только буфетчица, но весь низший персонал принимает меня за Джеффриса! Ни больше ни меньше, как за известного писателя Майкла Джеффриса!.. Все здешние врачи почему-то проявляют ко мне повышенный, какой-то особый интерес, чуть ли не с любопытством смотрят на меня. Не потому ли, что и они считают меня знаменитым Джеффрисом?.. Или все это только кажется при моей подозрительности? Однако никто не называет меня по имени — ни Джеффрисом, ни Дейвисом. Со мной явно ведется какая-то дипломатическая игра, что-то от меня скрывается. Но что? Почему? Зачем?.. Прямого ответа на эти вопросы мне, несомненно, не дадут. Поэтому я прибег к хитрому трюку — задал Кролу провокационный вопрос: почему-де после всей этой истории я стал похож на лежавшего до меня на этой кровати писателя Майкла Джеффриса? Ответ, совершенно неожиданный, ошеломил бы любого на моем месте: Крол подтвердил, что я действительно очень похож на Джеффриса, который действительно лежал здесь до меня и именно на этой кровати!.. Произошло это вследствие стечения необыкновенных обстоятельств. Сходство же мое с Джеффрисом вызвано биологическими факторами. Они настолько сложны, что непосвященному не могут быть понятны. Объяснить их мне пока нет возможности. Мало того, Крол еще прибавил: из всего этого логически вытекает, что вам следует временно вести себя с окружающими так, будто вы действительно Джеффрис. В качестве актера вы без труда справитесь с этой ролью. Но, возразил я, это немыслимо по двум причинам: во-первых, я не знаю ничего того, что знает, должен знать писатель Джеффрис. И окружающие быстро обнаружат это. Во-вторых, как могут существовать одновременно два Джеффриса? И притом — фальшивый и подлинный? На первое Крол ответил: вы должны держать себя крайне осторожно, замкнуто, молчаливо. Никто этому не удивится, так как Джеффрис перенес недавно две серьезные операции. Естественно, что многое он мог забыть и стал нетрудоспособным. По крайней мере, временно. А затем видно будет. Что же касается второго моего довода, то Крол заверил меня, что проблемы «двух Джеффрисов» не существует: по известным причинам, говорить о которых пока еще преждевременно, пути наши — мои и Джеффриса — нигде не пересекутся. Я полюбопытствовал: не находится ли Джеффрис в четвертом измерении? Крол странно улыбнулся: да, нечто вроде этого. На этом разговор закончился, и Крол удалился. Размышляя над его туманными словами, я вскоре уснул. Вообще я большую часть суток спал: меня непрерывно держали на легких, приятных наркотиках. В «антрактах» я подвергался сложной системе процедур, облучений, электризации, различных вливаний и уколов. Кроме того, меня обильно пичкали всевозможными стимуляторами и витализаторами. Как по волшебству, я с каждым часом все более креп. На восьмой день после возвращения из Ничто я стал уже прогуливаться по саду. А на десятый — сняли сиголовы бинты. Я увидел в зеркале чужую шевелюру с сединой. В ужас я уже не пришел — привык к творившемуся со мной невероятному. С глубокой скорбью, но покорно я подчинялся своему жребию как чему-то должному и неизбежному.Но это было еще далеко не все
Вечером того же дня Браун вызвал меня к себе в кабинет. И вот какой состоялся разговор. БРАУН. Мы находим, дорогой мистер... Как вы желаете, чтобы мы называли вас, — Джеффрисом или Дейвисом? Впрочем, здесь это безразлично. Итак, мы с удовлетворением констатируем, что ваше состояние в медицинском отношении превосходно. Это позволяет дней через пять выписать вас. Я. Вам виднее. Подчиняюсь. Как и во всем до сих пор. Благодарю за все. Сколько я должен вам, профессор? ОН. Ничего. Я. Как так?.. ОН. Деньги здесь ни при чем. То, что проделано с вами и над вами, не может быть оплачено никакими деньгами. Это неоценимо. Опыт, чрезвычайно обогативший науку и практику. Дело сейчас не в деньгах, а кое в чем гораздо более серьезном и сложном. Ради этого я и пригласил вас сюда. До сих пор вы проявляли себя очень хорошим больным: дисциплинированным, терпеливым, без излишнего любопытства. Любознательность больных справедлива, но подчас весьма неудобна для медиков. Мы высоко ценим ваше поведение в клинике. Я. А в чем дело, профессор? ОН. От вас потребуются еще две жертвы. Я. Жертвы?.. Разве я приносил жертвы? ОН. Конечно, вам пришлось многим поступаться и жертвовать. Мы понимаем, что переживания ваши весьма тяжки. Я. Хорошо, согласен. Если буду в силах. Я обязан вам жизнью, профессор, но от смерти я оторван ценой ужасающих потерь. Мне действительно очень тяжело. Что же от меня требуется? ОН. То, что неотвратимо вытекает из данной ситуации. Вы выписываетесь из клиники. Возникает вопрос: куда? В беседе с Кролом вы согласились, что для внешнего мира вы — Джеффрис. Я. Профессор! Это ужасно, это немыслимо, я не выдержу этого! ОН. Не волнуйтесь, дорогой наш клиент, пока иначе нельзя. Это — железная логика. Затем все уладится. Я. Хорошо, пусть будет так. У меня нет выбора. Я перееду в дом Джеффриса. У него есть жена и дети? ОН. Детей нет. Жена — миссис Мод Джеффрис. Очень милая, умная дама. Как и прочие, она будет видеть в вас Майкла Джеффриса. Своего супруга. Я (закричав). Профессор! А как же быть с моей бедной Мери!.. С родителями?.. ОН. Дорогой мой, я глубоко сочувствую вам, но действительность неумолима. Отдаете ли вы себе отчет в том, в какую катастрофу вы попали и что с вами произошло? Я. Я был очень сильно искалечен и только с помощью вашей необыкновенной науки и исключительного искусства — правда, ценою больших потерь — вы сохранили мне жизнь. ОН. Совершенно верно, ваш организм был настолько искалечен, что вы должны были погибнуть. Однако вы удобно сидите в кресле, беседуете и даже относительно здоровы. Потому что произошло небывалое, невероятное, и никто, кроме нас, не знает о нем. По важным причинам. Я. Но что вы скажете моей бедной Мери? Жив я? Или умер, что ли? Во всяком случае, живым или мертвым, но вы должны вернуть ей ее Чарли! Ко мне вы до сих пор не допускаете ее, и я понял, почему: для внешнего мира я — Джеффрис. Но ей-то что вы говорили все это время?! ОН. Не волнуйтесь, дорогой Чарлз, обсуждать тяжелые проблемы следует только спокойно и трезво. Ваша жена понимала, что увидеть вас в бессознательном и изуродованном состоянии причинило бы ей тяжелейшую нервно-психическую травму. И ни с какой точки зрения не оправданную. А то, что произошло, что сделано с вами здесь, ей, как и всем, неизвестно. В ее представлении вы находитесь в тяжелом состоянии, между жизнью и смертью; над вами надо длительно работать всей клинике, чтобы поддерживать в вас жизнь, в случае же малейшей неудачи вы можете в любой момент скончаться. Я. Но ведь я жив! Была же удача! ОН. Но с таким результатом, что пока вы не можете предать перед своей женой. Эмоционально-психический барьер не позволит ей принять вас в вашей данной форме в качестве ее Чарлза. Попытки убеждения привели бы только к шоку, вы только нанесли бы своей любимой новую, непоправимую травму, заставили бы ее пережить вторую трагедию. Я. Но я истосковался по ней и детям! Взглянуть бы на них! ОН. Дорогой Чарлз, из всего сказанного вытекает, что пока даже этого нельзя. Совершенно категорически. В этом вторая жертва, которая от вас требуется. В настоящих условиях ваша встреча с женой и детьми даже инкогнито была бы для вас драматической, крайне болезненной. Весьма краткая иллюзорная радость была бы отравлена бесконечными страданиями. Продумайте это тщательно, и, мой друг, вы несомненно согласись со мной. Потерпите еще некоторое время, освоитесь сначала с новой ситуацией. В течение ближайших недель положение безусловно определится, нормализуется, и появятся различные возможности.Знакомлюсь со своей ново и... старой женой и собственным домом
28 июня явилась миссис Мод Джеффрис. Не буду описывать эту необычайную встречу в этой необычной ситуации. Обойду молчанием и поездку «домой», и приезд, и первые, очень скупые разговоры. Познакомился с «моей» сестрой — вдовой Вероникой Белл. Она на 4 года моложе Майкла Джеффриса. Преподает английский язык в каком-то колледже. Также симпатичная дама, слава богу. Мне хочется называть обеих «тетями» — ведь они на целое поколение старше меня. Впрочем, внешне и я старик... Максимально молчу — импровизирую роль старого склеротика, потерявшего память. А после серьезной операции и вовсе забывшего все на свете. Но по мере освоения обстановки постепенно «вспоминаю» кое-что. Как бедная Мод тогда радуется! Знакомясь в школе с иностранными языками, я обратил внимание на то, что по-английски мы всем говорим только «вы». На других языках существует еще одна форма: близкие обращаются друг к другу на «ты». Особенность нашего языка оказалась в моем нелепом положении очень удобной: интимное «ты» в отношениях с миссис Джеффрис было бы мне крайне неприятно. Я глубоко признателен Мод — она ведет себя сдержанно, тактично и героически скрывает свои страдания. Какая же, наверно, красавица была в молодости... Она и теперь еще очень хороша и выглядит намного моложе своих 54 лет. Тяжело мне разговаривать с ней. И неотступно преследуют мучительные вопросы: что же будет и как быть дальше? Доколе придется влачить такое существование? И во что все это может вылиться? На столе стоят те же две фотографии. И на меня Джеффрис-старший смотрит неодобрительно. Чувствую в его взгляде упрек, будто я обокрал его. Да, игрою слепого случая я вытеснил его с его места в жизни. Фотография свидетельствует также, каким он ушел отсюда и каким пришел сюда, по непонятному капризу судьбы, его странный двойник. Я уже не в силах выносить этот полный укора взгляд. Но фотография магнетически тянет к себе мой взор, навязчиво не исчезает из поля зрения. А спрятать ее я не смею, и мне жалко бедную Мод. Да, нелепо и отвратительно мое существование. Но все испытания ничтожны перед главным: отчаянно тоскую по Мери и детям. Хотя бы родителей повидать, взглянуть на мою бедную маму... Не могу, не хочу мириться с наказами и логикой Брауна.Противоречия и парадоксы
Неустанно ломаю голову над загадками. Среди помешанных мания величия не столь уж редка. Одних Наполеонов известен в психиатрии легион. Ситуация обычна: герой твердо знает, что он — Наполеон, и старается убедить в этой истине заблуждающихся собратьев. Совершенно беспрецедентно и алогично обратное: не я вообразил себя знаменитым писателем Джеффрисом, а мои собратья хотят убедить меня в этом. Кто же после этого «Наполеон» — я или они? Задача противоречивая, противоречие неразрешимо. Ведь невозможно допустить, что все кругом помешались, один лишь я в своем уме. Тем более, что я и на самом деле очень похож на Джеффриса. Но ведь в действительности я — Чарлз Дейвис и ни в малейшей мере не Майкл Джеффрис! С другой стороны, и каждый «Наполеон» глубоко убежден, что он действительно Наполеон, все же окружающие ошибаются. Получается: еще один «Наполеон». Но у меня же есть доказательства! Я могу выложить перед жюри информацию, поступившую с детства в мою голову. Она целиком принадлежит Дейвису и ни на йоту — Джеффрису. Почему я все же похож на Джеффриса? И именно на него? Какая связь между этим и фактом, что я лежал на той же кровати в лечебнице? Почему мне не объясняют этого? И, наконец, куда девался Джеффрис? Почему наши пути не могут пересечься в трех измерениях геометрии Евклида? Со мной стряслось что-то глубоко мистическое, ужас охватывает меня, я схожу с ума.Теории, идеи, гипотезы...
Спешу закончить эти вводные в «историю вопроса» фрагменты — времени осталось очень мало. Прошел еще один день, еще один день я терялся в догадках. По-видимому, пришел я к заключению, тут фигурируют какие-то биотоки, «месмерические флюиды» Джеффриса. Они аккумулировались в кровати. Меня оперировали с трансплантацией различных тканей. Вместе с этим «сырьем» биотоки и «флюиды» Джеффриса переформировали, очевидно, мой организм «по образу и подобию» их генератора. Или, быть может, мое сходство с Джеффрисом — эффект целенаправленных биохимических фокусов ученого Мефистофеля? Результат — перерождение моих индивидуальных тканей под ткани Джеффриса. Своеобразное, «запрограммированное флюидами» превращение одного человека в другого! А зачем?.. Великий эксперимент. Но такой эксперимент привел бы в бешеный восторг всех биологов, о такой сенсации надо было бы кричать на весь мир, демонстрировать меня на глобальных конференциях ученых и миллионах телеэкранов. А они втихомолку упрятывают Джеффриса, меня же сбывают его жене. Почему?!. А не проделали ли они и с Джеффрисом то же, что со мной? Не стал ли и он, вроде меня, непохож на себя, и им приходится скрывать все это? Так что, быть может, одновременно где-то происходит параллельно еще одна нелепая биологическая путаница, абсурдный психологический хаос. Ночью мне взбрела на ум совсем фантастическая, сверхдикая гипотеза: они убили Джеффриса. То есть он умер по их вине. Быть может, при операции. Врачебная ошибка. Чтобы скрыть это скандальное дело, проделали — с первым попавшимся под руку — такой фокус: привили мне какие-то ткани Джеффриса, вследствие чего я и стал похожим на него. А затем подсунули меня его жене взамен ее покойного супруга. Объект физически вполне сходный, хотя духовно, в качестве Джеффриса, — выживший из ума. Блестящая теория, не правда ли? Или я уже окончательно помешался?..* * *
Так провел я в доме Джеффриса 6 дней. В следующую ночь пришла еще одна идея: не порыться ли в столе Джеффриса? Быть может, найдется что-либо наводящее на путь истины. И тут я натолкнулся на лиловую тетрадь. Стал вписывать в нее эти фрагменты. Одновременно начал вести дневник. Вклеиваю его сюда.Вклейка
Утро 4 июляКогда меня осенило прозрение, захотелось кричать от жгучей досады. Сколько дней и ночей я беспомощно путался в лабиринтах противоречий, тонул в диких теориях, захлебывался в мистике! И как проста и логична оказалась разгадка. «Проста»! Но кому могло прийти подобное в голову?! Теперь все парадоксы разрешены. Все фигуры стали на свои места. Поэтому в верности своей догадки не сомневаюсь. Но говорить о ней еще рано. Гипотеза есть гипотеза. Я обязан проверить ее и убедительно доказать. Дерзко-фантастичная, она должна стать незыблемой истиной. И тогда я предъявлю гениальному Мефисто большой счет. Но как и чем он оплатит его?.. Нервы взвинчены до предела, не терпится, в голове бушует ураган планов. Но после этой ночи я уже не в состоянии ничего предпринять. Надо сначала набраться сил и мужества. Успокоиться. Без торопливости. Тщательно все продумать. Бедная моя Мери... И Мод. Что с ними будет, когда они узнают всю правду... Какие же они обе несчастные! Но общо-человеческая совесть не позволяет мне покинуть этот мир молча.
Вечер, 5 июляУтром был с Вероникой у Гаттона. Знакомые здание, лифт, коридор, дверь, в которую я сотни раз влетал без доклада... По привычке, чуть было не гаркнул мессенджер-бою: «Ну, как дела, милый Питт?» Мальчишка шмыгнул в кабинет, затем немедля распахнул дверь: «Пожалуйте, сэр!» И мой добрый старый Ричард, увидев на визитной карточке имя знаменитого писателя, почтительно, с широкой улыбкой выскочил навстречу. Ах, теперь вспомнил, я же должен был дать ему еще два экземпляра сценария «Звезда Востока». И «телетайп памяти» выстукал: «Экземпляры были приготовлены для вас, они находятся в верхнем левом ящике письменного стола в серой папке, перевязанной красной ленточкой. Попросите Мери, и она даст их вам». Нестерпимо хотелось озвучить этот воображаемый текст... К счастью, словоохотливый Ричард сразу же зарокотал своим басом: ОН. Доброе утро, садитесь, миледи, садитесь, сэр! Чем я обязан такому высокому посещению? Я. Доброе утро, мистер Гаттон. Разрешите сразу приступить к делу. Вы ведь хорошо знали режиссера и сценариста Дейвиса, не правда ли? ОН. А как же! Мы с беднягой Чарли много лет дружили. Я. Мне говорили об этом, поэтому я и обращаюсь к вам. К сожалению, сам я не был знаком с ним, мы даже никогда нигде не встречались. А сейчас мне понадобились сведения о нем для одной работы... Прошу вас не отказать в любезности рассказать подробности о катастрофе, в которую несчастный попал. ОН. К сожалению, как раз об этом я не могу сообщить вам ничего сверх того, что было в газетах. Я. А что было в газетах? ОН. Вы не читали?.. Одну минуту, я вырезал описание этих жутких подробностей, сейчас достану... ВЕРОНИКА. Простите, мистер Гаттон, мой брат Майкл не мог знать об этом, он находился в то время в лечебнице и перенес серьезную операцию. А затем врачи строго запретили волновать его чем бы то ни было. Никаких разговоров, рассказов и чтении о неприятном. Я. Но, дорогая Вероника, я уже в достаточной мере окреп и горю желанием начать работать. Я взял две протянутые вырезки. Первая — с портретом в черной рамке и крупной подписью: ЧАРЛЗ ДЕЙВИС. Подтверждение номер один. В нетерпеливых поисках нужного мои глаза беспорядочно забегали по строчкам: «...задняя машина... передняя машина... наскочила... столкнулись...» Не то, не то... дальше... «...грузовая... легковая... мотопед между ними... упал... перевернулась...» Дальше, дальше... Вот оно — так и есть: «...раздавлены грудная клетка, сердце, легкие... печень, почки... переломан позвоночник... ряд других костей... мгновенно последовавшая необратимая смерть... совершенно исключается вследствие полного разрушения... ни о какой трансплантации и реанимации... безвозвратно...» Доказательство номер два. Более чем достаточно. Но в бешеной инерции глаза продолжали бежать по строчкам, как несется под гору к катастрофе оторвавшийся от поезда вагон: «...побледневшей жене погибшего, известной актрисе Мери Дейвис, при кремации стало дурно. Поддерживавшие ее под руки отец покойного и рыдающая мать...» Человеческие нервы не приспособлены к подобным необычным информациям: кабинет затуманился инакренился, все вокруг почернело. Потом издали донеслись женский и мужской голоса: «Майкл, Майкл, очнитесь!» и «Вам лучше, сэр?..» Укачивает. Тошнит. Холодно голове. Раздвигаю веки. Где-то высоко — Вероника с графином и полотенцем. Испуганное лицо стоящего на коленях Ричарда. Подкладывает руки под мою голову и осторожно приподнимает ее. ВЕРОНИКА. Открыл глаза, слава богу. РИЧАРД. Прошу вас, миледи, скажите секретарю, чтобы позвали помощь.
* * *
На обратном пути Вероника словно прилипла к рулю, ни разу не обернулась и не проронила ни слова. Только дома она не удержалась и гневно выпалила: «Пусть теперь Мод разъезжает с вами!» Бедная женщина не могла, конечно, понять, почему я упал в обморок. Эпилогом драмы будет разговор с Брауном. Но сначала — к Мери. Неудержимо тянет увидеть ее и детей. Попрошу Крола отвезти меня. Только он может это сделать. Должен. Он не посмеет мне отказать.6 июляВернулся от Мери. Это было страшнее всего — прийти в свой дом как чужой. Свидание мертвеца с семьей. Да еще в роли Джеффриса. Осталось еще только последнее объяснение с Брауном. Сознаю, что в последующей вечности мне будет все безразлично. Но пока жив, не могу удержаться.
7 июля, 18.30 час.Сейчас Мод отвезет меня к Брауну. Должен решительно выяснить все обстоятельства. Постараюсь все фиксировать. Завтра перенесу это сюда — и конец эпопее.
* * *
Но покойный не написал больше ни слова.ГАРРИ СТОУН
* * *
ПОДБОРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОТКЛИКИ НА ДЕЛО «ДЖЕФФРИС — ДЕЙВИС»
(Из вечернего выпуска «У рубежа XX-XXI», 13 июля).
Первые ласточки
Появившаяся сегодня утром наша брошюра «ОПЕРАЦИЯ №2» вызвала бурную общественную реакцию. На миллионах радужных экранов — возбужденные, размахивающие руками, потрясающие кулаками ораторы. Страсти разгораются, разрастаются дискуссии и полемики. Каждый комментирует и расценивает события на свой лад: одни утверждают, другие оспаривают; одни доказывают, другие опровергают; восторгаются и возмущаются; оправдывают и осуждают; гадают, фантазируют, философствуют — чего только не делают! Юристы и законники призывают власти привлечь профессора В. Брауна с ассистентами к ответственности, требуют расследования дела, суда и наказания виновных в самоубийстве человека, павшего жертвой преступной операции, и объявления подобных операций противозаконными. Не преминула воспользоваться прецедентом и противница нашей газеты — клерикальная пресса: она настаивает на запрещении «кощунственных превращений одного человека в другого» с пресечением дальнейшей «богохульной деятельности безбожников и преданием адова логова очистительному огню». И прочее в этом роде. Таким образом, дело это, порядком нашумевшее за немногие дни, приобрело теперь уже скандальный характер. А что, собственно, произошло? По существу, никто этого до сих пор так и не знает. При всей неразберихе мнений одно несомненно: вместо истошных криков следует прежде всего обратиться к профессору В. Брауну за разъяснением медицинской сути «операции № 2». У читателей может возникнуть недоуменный вопрос: почему мы не сделали этого до сих пор, почему не начали именно с этого? На то у дирекции нашей газеты были веские основания. Но завтра же мы постараемся получить у профессора Брауна интервью и не сомневаемся, что это нам удастся. Интервью будет немедленно опубликовано. Читайте нашу газету!* * *
АВИ — РАДИО, 13 июля, 23 часа 10 минут.
ЧАС НАЗАД СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ, НА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОМ ГОДУ ЖИЗНИ, КРУПНЕЙШИЙ ХИРУРГ ВИЛЬЯМ БРАУН.* * *
В последний час
(Из утреннего выпуска «У рубежа» от 14 июля)
МЕРИ ДЕЙВИС не будет участвовать в новом фильме «Звезда Востока». Вчера актриса отвезена в лечебницу для нервнобольных. На полу ее будуара обнаружена брошюра «ОПЕРАЦИЯ № 2». АВИ, 14 июля.ВИЛЬЯМ БРАУН покончил жизнь самоубийством, как показало вскрытие. Принятый им специфический яд исключил реанимацию. Причина самоубийства неизвестна — покойный не оставил записки, АВИ, 14 июля.
* * *
Новая информация по делу «Джеффрис — Дейвис»
(«У рубежа», 15 июля, утренний выпуск)
Всего одна неделя протекла с момента первого сообщения АВИ по этому странному делу — неделя, до предела насыщенная информацией поистине калейдоскопической пестроты; события развертывались и сменялись со стремительностью фильма, демонстрируемого с бешеной скоростью. И не успел еще затухнуть резонанс от самоубийства одной знаменитости, как в самый разгар дискуссий, связанных с этой скорбной вестью, прикованную к телеэкранам общественность потрясло немотивированное самоубийство другой знаменитости. Но и это еще не положило предел сенсациям: вчера поздно вечером в доме директора нашей газеты раздался неожиданный звонок миссис Вероники Белл. Она обнаружила новый документ, проливающий свет — на что бы вы думали? На самоубийство профессора Брауна! Это ошеломляющее известие заставило самого мистера Роджера Стэмпфорда тотчас же помчаться к миссис Белл. Она дала ему следующее интервью:Как известно, в вечер, предшествовавший смерти моего брата, состоялась встреча его с профессором Брауном. Привез его профессор домой в крайне подавленном настроении. Брат удалился в кабинет, бросив на ходу, что просит не беспокоить его. Это были его последние слова. По-видимому, трагическая смерть брата была как-то связана с его последней беседой с профессором. Но этой беседе суждено было, очевидно, остаться навеки тайной, похороненной вместе с ее двумя участниками. Сегодня, продолжая разбирать вещи брата, я дошла до его платяного шкафа. И нашла в карманах его пиджака записку с двумя микромагнитофонами. При каждом — по шести автоматически сменяющихся лент повышенной емкости. На дне шкафа стоял футляр с фонорепродуктором к ним. Мы приступили к запуску лент и с удивлением услышали разговор Майкла Чарлза с Брауном. Но Мод уже была не в состоянии испить эту новую горькую чашу: едва дослушав до середины, она лишилась чувств и слегла. Теперь мы в полной мере познали трагедию человеческой души.
Вот текст записки Джеффриса:
Перенести с этих лент в тетрадь хаотическую полемику с профессором Брауном я уже не в состоянии. Силы и терпение ко всему иссякли. Выражаю миссис Мод Джеффрис и миссис Веронике Белл глубокую признательность за их доброту и чуткость.
ЧАРЛЗ ДЕЙВИС
Миссис Белл доверила ленты директору нашей газеты. Группа спецкоров занимается подготовкой их к опубликованию в вечернем выпуске.
Из вечернего выпуска «У рубежа» от 15 июля
ОТ РЕДАКЦИИ
Предлагаем вниманию читателей обещанный материал (см. утр. вып.). В нем выясняются обстоятельства, связанные с «операцией № 2» — операцией, медицински великолепной и непревзойденной, дерзко задуманной и блистательно выполненной. Тексты фонофильмов печатаем в натуральном виде — без редакторской обработки. Знаки препинания и некоторые ремарки (в скобках) принадлежат, разумеется, нам. Тексты даем отдельными фрагментами: полемика двух лиц, покончивших с собой в течение пяти дней, слишком длинна в целом, громоздка и не все в ней существенно. От собственных комментариев, как и до сих пор, воздерживаемся, оставляя их на усмотрение читателя. Снабжаем эту своеобразную полемику фигуральным заголовком:ЭТИЧЕСКИЙ «НАТУРФИЛОСОФИЧЕСКИЙ» ДИСПУТ
— ...Я осмелился побеспокоить вас, профессор, для очень серьезного разговора. И очень трудного. Поэтому я хотел бы просить вас разрешить мне говорить и ставить любые вопросы прямо. И совершенно откровенно. — Готов выслушать вас и по возможности отвечать. Я ожидал подобного разговора. Раньше или позже, но он был неизбежен. — Я знаю теперь все, профессор. Обе трагедии — свою и Джеффриса. Я понял, уважаемый профессор, что вы сделали. Теперь хотелось бы узнать все обстоятельства дела. — Вполне естественно. Это ваше бесспорное право. — И узнать я должен чистейшую истину. Какой бы она ни была. Вы скрывали ее и, извините, обманывали меня. — Мы были вынуждены это делать. Ошеломить вас горькой правдой? Сказать о вашей ужасной гибели? Об операции, в результате которой вы попали в такое положение? Это ни в коем случае нельзя было допустить. Это означало бы нанести вам жесточайший удар, вызвать непоправимый шок. Оставалось только ждать, пока вы сами в конце концов догадаетесь, — иного выхода не было. А тем временем, рассчитывали мы, вы постепенно свыкнетесь, освоитесь со своим новым положением. И тогда ваша реакция на свершившееся будет уже не так остра. Вас интересует, конечно, зачем и как мы это сделали? — Зачем — это мне ясно: великий эксперимент. — Рад, что вы поняли это. Легче будет разговаривать. Ибо, судя по вашему вступлению, вы намереваетесь предъявить мне претензии. — Да, претензии, с вашего разрешения, профессор. — Отчет я обязан дать вам. Но откуда претензии? По-видимому, вы не совсем верно представляете себе картину. — Думаю, что не ошибаюсь: вы из частей двух дефектных машин собрали одну годную. Не так ли? — Примерно. — Я преклоняюсь перед вашим искусством. Грандиознейший эксперимент. Свидетельствую своей персоной, что он дал потрясающий результат. Фантастический, гениальный эксперимент. — Даже так? Совсем хорошо. — Нет, профессор, совсем не хорошо. У этого эксперимента, как бы замечателен он ни был, есть оборотная сторона. Порочная. И я оказался его жертвой. И не только я. — Жертвой?.. Вас настигла ужасная гибель, ваш организм вышел из аварии, как из мясорубки, практически он был уничтожен, только мозг каким-то чудом уцелел, и тогда свершилось еще большее чудо — вам дали вторую жизнь. Поэтому вы оказались «жертвой», за это вы в претензии? — Да, за это, профессор. Да, катастрофа стоила мне жизни. Я безвозвратно потерял ее. Да, чудотворец дал мне вторую жизнь. Но какой ценой! И какую? Совершенно нестерпимую. Во сто крат лучше вовсе не жить, чем так — в таком виде и качестве. Вы дали жизнь физиологическую. Но эксперимент был проделан не над кроликом. У человека есть еще психика. Так что возникает вопрос моральной ответственности экспериментатора. — Ответственности за возвращение к жизни? Парадоксальная постановка вопроса. — В моем беспрецедентном случае все сплошь парадоксально, все мое существование. Прежде всего, представьте психологию здорового молодого человека, очутившегося в старом, подержанном теле. Да еще с отвратительной заплатой — со «свинским», по выражению Джеффриса, сердцем. — Ваша претензия по меньшей мере удивительна. Я представляю себе психологию человека, которого пожар лишил всего и оставил голым. Люди приютили обездоленного и дали ему одежду, хотя старую и поношенную. Какая была. Но вполне пригодную. Может ли человек быть в претензии в подобных случаях? — Но мой случай не подобен. Единственный и исключительный. Тут речь идет о самой жизни. — Тем более. Я исходил из непреложного биологического закона: жизнь есть благо. Лучше жить как-нибудь, нежели оставаться в смертном небытии. А если лишение человека жизни — злодеяние, то обратное должно считаться гуманным. — Простите, профессор, но в моем случае злодеянием оказалось возвращение к жизни. Гуманнее было бы сжечь мой мозг в крематории вместе с моими останками. К несчастью, вы сумели вживить его в какую-то оболочку и возродить в нем мое сознательное человеческое бытие. — И это вы считаете злодеянием? — Да, профессор. Для подопытного ваш эксперимент обернулся злом. Я познал свою трагедию и трагизм своего нового, жалкого существования. Чародей выступил в роли злого гения, Мефисто. Он сыграл со мной злую шутку — воскресил меня на муки. С позиций гуманизма такой эксперимент вообще бессмыслен. Погибший не горюет по поводу своей гибели. Оставаясь мертвым, я не страдал бы. А вы заставили меня переживать мое страшное горе. Я глубоко несчастен. — И вы не испытываете никакой радости бытия? Совершенно? — Абсолютно. Физиологически результат эксперимента, как я признал, безукоризнен. Но вы не учли, профессор, сложное душевное состояние человека, мозг которого попал в чужое тело. — Наивный упрек. Нам в полной мере известно, какими сложнейшими психологическими производными чревата проблема трансплантации головного мозга. Для врача это элементарно. Мы предвидели даже такой поворот: синтезированный нами квазигомункулус, когда он восстанет из пепла и воспрянет духом, может предстать перед нами грозным истцом и даже прокурором. Мы все учли. И сознательно на все пошли. Противное означало бы отказ от эксперимента. — Вы смело пошли на все, а пожинать горькие плоды эксперимента выпало на мою долю. На вас ложится моральная ответственность за те душевные муки, за тот душевный разрыв, которые я испытываю. — Разрыва уж во всяком случае не должно быть: весь ваш душевный мир целиком остался при вас. Именно душа, то есть личность, сознание, ваше «я» переселены нетронутыми. — Но вместе с тем — и даже именно потому — произошло трагическое раздвоение индивидуальности. Каждый Джексон всегда был и оставался одним и тем же Джексоном. И для себя, и для других. — Для других — не всегда. Человек может скрываться под подложными документами. Или играть роль на сцене, к чему вы, конечно, привычны. — Но во всех случаях подлинная личность установима. Я же скрываюсь в подложном теле. Я вынужден всегда играть чуждую мне роль в несмываемом гриме. Здесь истина неуловима. Потому что она двойственна. И эта двойственность моего существования трагична. Я раздираем ею. Для внешнего мира я Джеффрис, хотя и «выживший из ума». Для себя — Дейвис, но выживший из тела. Тяжело всегда быть в чужом доме, спать в чужой постели, ходить в чужом платье. Но совершенно невыносимо всегда жить в чужом теле. Да еще в плохом.* * *
— ...Как вы додумались до этого? — Я долго ломал голову над загадкой — почему после операции я стал так похож на Джеффриса? И куда он девался? Невероятно жуткое чувство охватило меня, когда я внезапно понял, что он никуда не девался, я увидел, где он. С содроганием и безмерным отвращением ощутил я тогда свое новое, ветхое тело, до моего сознания дошло, что оно и есть Джеффрис. Теперь оно принадлежит мне, теперь это я, это мое «я» в нем. И уж вовсе ни с чем не сравним ужас от вывода отсюда: вы убили Джеффриса. Я живу в покойнике. Меня вселили в чужой труп. Труп убитого. — Та-ак. Что вы еще поняли? — Еще более страшную для меня истину. Я понял причину, которая могла побудить вас произвести эту двойную операцию. По-видимому, я погиб при аварии: грузовик раздавил меня насмерть. Но головной мозг остался, очевидно, жизнеспособным. — Воздаю вам должное: разумные, тем более для неспециалиста, правильные заключения. Но почему вы решили, что мы убили Джеффриса? — Потому что я сообразил, что пересаживать можно руки, ноги, почки, легкие, сердца — что угодно, но не головной мозг. Убрать из черепа мозг — значит убить человека. Пересадить в его череп чужой мозг — это то же самое: убить его. Потому что тогда этот человек будет уже не им, а кем-то другим — тем, кому принадлежит пересаженный мозг. Плохой мозг нельзя, как сердце или почки, заменить хорошим. Так это? — Так, Не может существовать «донорского мозга». Это понятие в принципе абсурдно. Я слушаю вас дальше. — Таким образом, сообразил я, заменив Джеффрису мозг, вы тем самым превратили его в меня. И если его мозг никуда не пересажен, то Джеффрис, как личность, безвозвратно погиб. Ибо то, что называется душой, — в мозгу человека; «душа» эта единственна и неповторима, невосстановима и незаменима. Вы согласны с этим? — Вполне. Ваши рассуждения безупречны. Дальше. — Так вот, вселив мою «душу» в другое тело, вы дали мне вторую жизнь. Джеффрису же, то есть его телу, вы заменили душу. То есть убили его. Так что, помимо прочего, возникает вопрос морального порядка: я получил вторую жизнь ценою смерти своего ближнего. Вы не можете не согласиться, что жить с таким сознанием — ужасно, невозможно. (Пауза.) — Подтверждаю: мы убили Джеффриса. И признаюсь: мы и его обманывали. Мы говорили ему и его жене, что у него церебросклероз. (Пауза). Но довожу до вашего сведения: в действительности у него была быстроразвивавшаяся злокачественная опухоль в головном мозгу. Неизбежен был скорый летальный исход. Никакие силы в мире не могли бы спасти его. Его дни были сочтены. Немногие и мучительные дни. — Так вот что... Гм... — До этого вы не додумались. Диагноз полностью подтвердился при трепанации черепа. Мы обязаны были произвести ее, хотя шансов на спасение больного не было никаких. Чтобы проверить и убедиться. Вы удовлетворены? — Гм... (Пауза.) Извините, профессор, но в таком случае возникает другой вопрос. Также принципиального порядка. В начале эры трансплантации сердец имели место чудовищные по своей аморальности преступления: человек мог быть спасен, но энтузиасту-экспериментатору понадобилось его сердце для пересадки кому-то. Гениальный безумец, фанатик может пойти на натяжку и выбросить ради эксперимента, пусть очень важного и интересного, из головы человека жизнеспособный мозг и заменить его другим. Допустим, что возникает подобное подозрение. Разве можно было бы опровергнуть его, доказать, что Джеффрис действительно находился в безнадежном состоянии? — Наивный вопрос. Джеффрисом, как и вами, занималась, а также участвовала во всех ваших операциях, группа из пяти заслуженных медиков, а не какой-то один безумный фанатик. Произведено множество зафиксированных обследований. Мозг Джеффриса законсервирован, и эксперты могли бы убедиться в безошибочности диагноза и доказуемых выводов. Это удовлетворяет вас? — Еще раз прошу извинить. Если отпадает криминальный момент, то все же остается этический. И голос совести, с вашего разрешения. Простите, но я должен скрупулезно и придирчиво проанализировать вопрос во всех аспектах. От этого будет зависеть то или иное мое решение. — Допустим. Но вопрос совести, во всяком случае, исключается: не было такого, против чего она могла бы протестовать. Потому что никому нечего было терять. Перед нами находились два явных мертвеца. Со всех точек зрения мы были вправе пойти на эксперимент — попытаться скомбинировать из двух смертей одну жизнь. — Простите, профессор, но Джеффрис не был мертвецом. Мозг был вынут из человека, который... — Который не мог выйти из клиники живым, и жить ему оставалось не более... — ...а медицинская этика требует... — Это уж вы оставьте! (Пауза, затем голос понижается.) Нескончаемая, бесплодная вековая дискуссия. Ученый имеет право на эксперимент. Иначе не было бы прогресса. Я говорю о праве медика на эксперимент на благо людей, благо будущих поколений. Это — человечное право, и намеченный нами путь открывает перед обществом перспективы, предвидеть которые сейчас невозможно. (Дейвис пытается что-то вставить, но Браун повышает голос.) — Я утверждаю: наш эксперимент — осмысленный и гуманный. Была одна смерть, через несколько дней последовала бы вторая. А мы одну жизнь все же восстановили. (Пауза.) А у вас какая-то упорная тенденция приписать нашим действиям элемент аморальности. — Прошу извинить, профессор. Я уже говорил: мне необходимо всесторонне выяснить вопрос. Исчерпать без остатка. «Чтобы исключить», по выражению врачей. — Хорошо, согласимся с этим. Еще раз попытаюсь разъяснить вам. Как я сказал, мы были обязаны произвести трепанацию черепа Джеффриса. При этом предстояло столкнуться с дилеммой: либо дать больному спокойно скончаться на операционном столе, что было бы гуманнее всего, либо вернуть больного в палату, предоставив ему возможность очнуться и прожить еще несколько мучительных дней. Ничего иного, казалось бы, не дано. Но действительность неожиданно выдвинула третий — непредвиденный вариант.* * *
— ...Для подопытного подобная операция имела бы еще смысл в случае пересадки старого мозга в молодое тело. Мозга великого человека, которому важно было бы дать вторую, обновленную жизнь на благо общества. А вы воссоздали нелепого индивида, жалкую шутовскую фигуру, трагикомического гомункулуса, комбинацию из тела старого писателя, мозга молодого режиссера и сердца юной свиньи ради... — А ради науки — это не на благо... — Но я вправе протестовать против пересадки моего мозга в это малоприятное, дряхлое тело Джеффриса! Сунули в первое попавшееся под руку! — Успокойтесь. (Пауза.) Да, в первое попавшееся. Иначе эксперимент неосуществим. На кого-то ведь должен пасть выбор. А на кого? Выбрать двух подходящих живых людей, пересадить головной мозг одного в организм другого, а прочее выбросить? Подобное абсолютно исключается. Вы же это прекрасно понимаете. — Понимаю, но... — Молчите и слушайте. Эксперимент долго отрабатывался на животных. В него вошел и ему предшествовал огромный труд множества ученых в течение десятилетий. Наша группа дошла до человека. Но ведь взять человека невозможно. Следовательно, подобные эксперименты на людях вообще немыслимы. Принципиально. Оставалось только рассчитывать на случайность. — Я представляю себе... — Плохо представляете. Нужны двое, нужны, к сожалению, несчастный случай, смерть, смертельная болезнь. Причем подходит далеко не каждый случай, не каждая смерть и болезнь. — Крол говорит, что вы достигли блестящих успехов... — В области консервации и реанимации изолированных тканей и отдельных органов с последующим вживлением их в чужие организмы. Лишили фантастов одной из их излюбленных тем. — Теперь я — эта фантастика. — Нет, не фантастика. Мы действительно можем отдельные органы двух и более особей гармонично совмещать воедино, синтезировать в один жизнеспособный организм. Причем с течением времени сроки консервации всё удлиняются. — Крол сказал, что последний период был богат крупными открытиями с успешным применением их на практике. — Да, достижения велики, но барьеры несовместимости преодолены еще далеко не полностью. Нельзя, например, произвести трансплантацию данного головного мозга в любой организм, хотя причины этого найдены и законы исследованы. Сроки консервации и реанимации уже значительны, но все же ограничены. Так что пока положительный результат экспериментов требует сложного биологического соответствия двух субъектов, совпадения во времени и ряда других условий. — Но вероятность совпадения всех условий... — Порядка шанса отдельного билета на единственный в лотерее крупный выигрыш. Теперь понятно, почему мы «сунули в первое попавшееся»? — Но непонятно, почему вы выиграли при таком ничтожном шансе! — Потому что на какой-то билет выигрыш падает. Этот билет и достался нам. Исключительная удача, на наше счастье в кавычках. — И на мое несчастье — без кавычек. — Допустим. И вот, когда мы уже почти подготовили Джеффриса к операции, как раз случайно... — В ваши руки попали мои истерзанные останки. Удивительно удобное для вас совпадение во времени! — И самое замечательное: у погибшего сохранился именно и почти только головной мозг. Положение — совершенно парадоксальное: Дейвис бесповоротно погиб, его организм был на девяносто пять процентов разрушен, а живой Джеффрис на девяносто пять процентов находился в неплохом для его возраста состоянии. Но обрести вторую жизнь... — Суждено было уничтоженному Дейвису, а не еще живому Джеффрису. Печальный парадокс для обоих подопытных. — Только для Джеффриса. По крайней мере, мы тогда так полагали. И естественно, что у всех в нашей группе возникла мысль — попытаться дать жизнь хотя бы одному... — То есть избрать обоих жертвами своего первого эксперимента на человеке. — Напоминаю (голос повышается), что вы по своей вине потеряли свою первую жизнь. Это не позволяет вам предъявлять какие бы то ни было претензии. Ставить условия и выбирать мог бы только сознательно пошедший на опыт. А вы, превратив себя в мертвеца, сами дали нам этим моральное право на любой эксперимент. — И вы без колебаний воспользовались этим правом. — Безусловно. Ведь ждать другого такого случая пришлось бы, быть может, годы. Или вовсе не дождаться. Редчайшее совпадение всех цифр номера на билете... — И серии, иначе получился бы ничтожный выигрыш, а не тот единственный крупный, какой вам был нужен. — В том-то и дело. При экспериментировании на животных мы искусственно подгоняли объекты под нужную «серию» путем тщательной селекции и длительной подготовки экземпляров. А при человеческих объектах ни о чем подобном не может быть речи. Тут не только на исследования, пробы, обработку подопытных для, говоря популярно, «биологической настройки в унисон» не оставалось времени, но даже размышлять было некогда. Бери, что есть, и притом немедленно. Теперь или, быть может, никогда. — Итак, вы действовали вслепую, наугад. На что же вы рассчитывали при ничтожном шансе на удачу? — А на что рассчитывает покупатель лотерейного билета? Авось выиграю. Ведь альтернативы не было, терять было нечего и ни для кого никакого риска. Нам просто повезло — поразительное сочетание всех существенных факторов. — В таком случае я дивлюсь самому себе — существую ли я вообще?.. Нельзя не признать, что вы произвели небывалый, необычайно смелый эксперимент. — Рад, что вы хоть это понимаете. Это величайший эксперимент нашего времени. В полной мере оценить его по достоинству, постичь торжество наших идей может только истый ученый. Вы — уникальное произведение, апофеоз трудов всей моей жизни, венец моего творчества. — Спасибо за такую честь. Но сожалею, что она выпала на мою долю. Как потерпевшего меня не интересует высокая медицина. Боюсь, что и общественность не согласится с вами. Не поймет и осудит. — Возможно. Тогда труд десятилетий будет обесценен. Это было бы для меня решающим, трагедией. Прошедшая жизнь, а тем более дальнейшее мое существование потеряли бы всякий смысл.* * *
— ...И наконец, о самом главном, для меня решающем. Это — семья. Но не хотелось бы обнажать перед вами свою святая святых. — У меня нет своей семьи. Но я понимаю эту привязанность. И готов признать ее благороднейшей. Но в корне — она все же биологический примитив. А у мыслящего человека имеются еще и высшие идеалы — наука, искусство, служение человечеству. — Эта дверь для меня наглухо заперта. — Почему? Вы высоко интеллектуальны и эрудированы. У вас есть свое искусство, которому вы преданы. — Для меня нет его больше. Человек, составленный из двух, оказывается в парадоксальном, ложном положении. Для себя я Дейвис, для людей — Джеффрис. Кто же я на самом деле? И какой смысл в данном случае имеет это понятие «на самом деле»? Чем оно определяется? В моем «гибриде» оно утеряло всякий смысл. В литературном мире я не способен фигурировать в роли писателя Джеффриса — я не обладаю его качествами. В лучшем случае такой полностью «деградировавший Джеффрис» может вызывать лишь сочувственное сожаление. А в театральных сферах никто не признает режиссера Дейвиса в этом старом и обветшалом Джеффрисе. К тому же еще «выжившем из ума». Так что «на самом деле» я ни тот, ни другой. — Но это ни в коей мере не означает, что вы вообще не способны никем быть. Не сомневаюсь, что и в вашем положении возможно неплохо приспособиться. — Нет, профессор, в такой форме я не годен ни для общества, ни для себя. Для себя такое существование бессмысленно и вообще невозможно. Я годен только для вас. Как уникальный экземпляр сотворенного вами чуда. Для демонстрации меня на медицинской арене и на лекциях студентам. Впрочем, я представлял бы ценнейшую находку для антрепренеров. Сенсационный экспонат на выставках, эстрадах, телевидении, в цирках. Неплохой бизнес. На все пять континентов. Дело пахнет миллионами. Хотите пополам? — Оставьте этот тон, если не хотите, чтобы я прекратил разговор. — О, профессор, теперь и я очень рад — чувствую, что и вы меня понимаете. Принципиальность. В таком случае я могу раскрыть перед вами свою святая святых. (Пауза, затем тихий голос Брауна.) — Говорите же. Я слушаю вас. — Я так любил Мери и детей... (Голос дрожит.) А теперь, потеряв их, я совершенно лишаюсь рассудка... (Пауза.) Я не могу жить без них. Но для них я существую только в урне крематория. (Длительная пауза.) Вчера я был у них в этом жалком виде, выступал в этом шутовском гриме. Они уважительно и сочувственно отнеслись к чудаковатому старичку, не имеющему потомства, но помешанному на детях. Из такта и сострадания к бедному больному дедушке Джеффрису они снисходительно позволили ему обнять себя. Я не постыдился слез. Мой мозг Дейвиса горел, мое очеловеченное свиное сердце Джеффриса разрывалось. Обнять Мери я, конечно, не посмел. (Длительная пауза.) Возродив меня, вы лишь заставите мою бедную Мери вторично пережить ужас моей гибели. Третьего дня я узнал из старой газеты, что с ней было при кремации моих останков. Допустим, со мной снова что-либо случится и она узнает, что это моя душа явилась к ней вчера. Призрак из загробного мира. В загримированном под Джеффриса виде. Модернизованная спиритическая материализация бессмертной души. Представляете, каким ударом это для нее будет? (Пауза. Далее — медленно, глухо.) Более мне нечего прибавить. Пора кончать этот тяжелый, печальный разговор. Что же мы вынесли из него, что приобрели? — Я приобрел многое. — Понимаю. Наука. — В данный момент я думал уже не о науке. — Почему? Ведь наука, а вместе с ней и вы, профессор, в выигрыше. Именно и только вы. Для остальных — стоила ли игра вообще свеч? Явно, нет. Джеффриса вы не исцелили, леди Мод вы не вернули ее Майкла, как не вернули Мери ее Чарли, а мне — моей Мери и детей. — Но вторая жизнь вам дана. Реальный факт. — Голый факт, пустая жизнь. Отвратная. Я выброшен из семьи, общества, не могу применить свой интеллект, профессионально работать. Я отказываюсь от такой жизни. И вдобавок жжет стыд. Как человека, получившего в собственность чужую, заведомо краденую вещь. Да еще какую. И какой ценой. Ценой чужой жизни. — Вы не ответственны за это. Все произошло не по вашей воле и без вашего ведома. К тому же вы получили вещь, ставшую ненужной ее собственнику, бесполезную для него. — И тем не менее. Ведь вместе с телом в меня перешла часть жизни Джеффриса, но не отданная добровольно, а отобранная. Я чувствую себя человеком, которому навязали имущество, украденное у убитого. (Пауза.) Небытие несравненно легче существования с сознанием, что вы живете чужой жизнью и ничто собственное не принадлежит вам — ни материально, ни духовно. Ни вы сами себе. Депрессивные настроения центробежно нарастают, угнетая до предела и неизбежно ведя к развязке. Как врач вы скажете, что все это — идея фикс. Но как врач вы не можете не понимать, что жить с такими идеями невозможно. (Пауза.) Ваше заключение, профессор? — В детстве я слышал от отца легенду. В осажденном городе люди изнемогали от жажды. С огромным трудом некто достал чашку воды. И целиком отдал ее другу. Но друг сказал: вода тухлая. Тогда принесший чашку с размаху швырнул ее оземь. — Гм... А у вас, профессор, хватило бы решимости поступить так? — Безусловно. — В таком случае я попрошу вас дать мне снотворное. Чтобы я смог спокойно уснуть. И с гарантией, что никогда не проснусь. (Пауза.) — Обдумано? Решительно и бесповоротно? — Абсолютно. (Пауза.) — Если так, дорогой Дейвис...* * *
Далее стук медленных шагов, короткий легкий шум. Затем следует неозвученная лента. Возможно, какое-либо резкое движение носителя ММФ нарушило контакт батареи и ротора. Или последний был намеренно отключен?..Ответственный за фонорепродукцию спецкор «У рубежа XX-XXI» ГАРРИ СТОУН
Е. Федоровский АСЫ НАЧИНАЮТ ВОЙНУ
На рассвете 14 мая 1944 года американская «летающая крепость» была внезапно атакована таинственным истребителем. Единственный оставшийся в живых хвостовой стрелок Свен Мета показал: «Из полусумрака вынырнул самолет. Он стремительно сблизился с нашей машиной и короткой очередью поджег ее. Когда самолет проскочил вверх, я заметил, что у моторов нет обычных винтов, из них вырывалось лишь красно-голубое пламя. В какое-то мгновение послышался резкий свист, и все смолкло. Уже раскрыв парашют, я увидел, что наша «крепость» развалилась. Ее пожирал огонь». Так впервые гитлеровцы применили в бою свой реактивный истребитель «МЕ-262» «Штурмфогель» («Альбатрос»). Этот самолет мог бы появиться на фронте гораздо раньше, если бы не целый ряд самых разных и, разумеется, не случайных обстоятельств. О них и рассказывается в этой повести.ПРОЛОГ
Взбивая кремнистую кастильскую пыль, мчался по горной дороге военный грузовик. В кузове пошатывались летчики-немцы и орали «Милую пташку». Они возвращались из Валенсии и еще были полны воспоминаниями о наслаждениях, которые сумел дать краткосрочный отпуск. Поэтому они неохотно прервали песню, когда увидели молодого человека с поднятой рукой. — Нам по пути, комрады? — крикнул тот по-немецки. Летчики подхватили соотечественника за руки и легко вскинули в кузов. У новичка была типичная физиономия северянина: белобрысый, синеглазый, с конопушками на тонком, прямом носу. Одет он был в полувоенный френч, солдатские брюки. За спиной болтался тощий ранец из пегой телячьей шкуры. Оказалось, он направлялся в тот же отряд Мельдерса, куда ехали летчики. Раскаленный от зноя аэродром был почти пуст. На стоянках остались лишь машины отпускников, остальные ушли на задание. Разгоняя солдат-марокканцев из аэродромной охраны, летчики бросились к бочкам с охлажденной кислородом водой. Новичок же сдал в штаб свои документы и вскоре подошел к огромному детине-механику, который отчаянно растирал полотенцем рыжую грудь. — Пилот? — спросил механик. Новичок кивнул. — Тогда примите душ. Вода холодная, как в Шпрее. Сразу почувствуете себя ангелом. — Разве что без крыльев. — Крылья будут. Гедке заболел дизентерией, его машина свободна... — Я не уверен, что мне сразу доверят самолет. — Хотите, я поговорю с Вайдеманом? — простодушно предложил механик. — Альберт у Мельдерса[136] правая рука, а я у Альберта... Меня зовут Карл Гехорсман. — Эй, новичок! — крикнул фельдфебель из штаба. — К начальнику оперативного отдела Зигфриду Коссовски. Немедленно! Новичок побежал к палаткам, откинул плотный полог и вытянулся перед седоусым пожилым капитаном, у которого вдоль виска до скулы алел глубокий шрам. — Рекомендации у вас веские, — проговорил Коссовски, лениво перебирая бумаги, — но почему вы захотели попасть именно в Испанию? — Хочется настоящего дела, партайнгеноссе... — Вам двадцать два... Понимаю. Но не понимаю, как вы в семнадцать научились летать? — Когда у вас в кармане ни пфеннига и никого не осталось дома, и вы в какой-то дыре в Швеции... — Там вы стали личным механиком у генерала Удета? — Да. Он и ввел меня в авиаклуб Лилиенталя. — Почему же вы не остались с Удетом? — Я хочу заработать офицерское звание на войне. Прямой ответ понравился Коссовски, хотя он по долгу службы привык и не доверять первому впечатлению. Коссовски раскрыл диплом об окончании школы Лилиенталя, и тут до его слуха донесся рокот моторов. На аэродром возвращались двухкрылые «хейнкели». Обгоняя друг друга, они заходили на посадку и приземлялись, сильно делая «козла»[137]. — Пилоты измотаны боем, — проговорил, нахмурившись, новичок. — Ну, да вам придется испытать такое, — ответил Коссовски. — Спасибо, господин капитан. Вы еще увидите меня в настоящем деле. Мотор одного из истребителей дымил. Машина косо промчалась по аэродрому, сбила крылом бочку, развернулась, взвихрив пыль, и замерла. Техники и летчики бросились к самолету. Пилот поднял на лоб разбитые очки, расстегнул привязные ремни, попытался встать, но не смог. Гехорсман, обогнав остальных, выдернул его из кабины и стащил на землю. — Опять вы лезли в самое пекло! — заворчал он. — Красные ощипали меня, как гуся, — вяло пробормотал пилот, стягивая шлем с мокрой, большелобой головы. Сквозь толпу протиснулся Коссовски: — Что случилось, Альберт? — Мы попали черт знает в какую головомойку и едва унесли ноги, — ответил пилот. — Вы родились в сорочке, господин обер-лейтенант! — крикнул новичок, рассматривая пробоины. Пилот удивленно оглянулся и вдруг раскинул руки: — Пауль Пихт! Ты ли это? Я не верю своим глазам! Новичок и пилот стиснули друг друга в объятиях. — Вы знакомы, Вайдеман? — удивился Коссовски. — Еще со Швеции, Зигфрид, — ответил пилот радостно. — Дети рейха наконец собираются вместе...НАКАНУНЕ ЭРЫ
1
В солнечный и тихий день 30 июня 1939 года над бетонной полосой испытательного аэродрома в Ростоке пронесся с необычным ревом маленький самолетик. Он сделал «горку»[138] и тут же зашел на посадку. Рев как будто захлебнулся. Из тесной кабины выбрался летчик. Он сорвал с головы шлем и ударил им по фюзеляжу. — Я жив! — закричал он подбегающим техникам и механикам. Тут же по полевому телефону набрали номер главного конструктора. Хейнкель схватил трубку: — Ну как, Варзиц? — Я рад сообщить вам, доктор, что ваш «сто семьдесят шестой» впервые в мире совершил ракетный полет! — Как вы себя чувствуете? — Я жив, жив! — Сколько вы продержались, Варзиц? — Пятьдесят секунд. — Я немедленно сообщаю в Берлин, Варзиц. Приготовьте самолет к двум часам. Хейнкель быстро связался с отделом вооружений министерства авиации и попросил соединить его с генерал-директором люфтваффе[139], старым своим другом Эрнстом Удетом. — Дорогой генерал, — воскликнул он, услышав в трубке ворчливый голос Удета. — Я поднял свой «сто семьдесят шестой» в воздух! Очень прошу вас сегодня же посмотреть на него в небе. — Зачем спешить, доктор? — спросил недовольно Удет, но тут знаменитый пилот, очевидно, понял нетерпение Хейнкеля и, помолчав с минуту, бросил: — Ладно. Ждите. Во второй половине дня Варзиц еще раз поднял свой маленький самолетик. Машина с короткими, будто срезанными крыльями, на маленьких, как у детской коляски, шасси взвыла так оглушительно, что механики зажали уши, испугавшись за свои перепонки. Огнедышащей ракетой «Хе-176» пронесся по аэродрому и взмыл вверх. Эрнст Хейнкель, владелец и главный конструктор всемирно известной фирмы «Эрнст Хейнкель АГ», не мог скрыть своего торжества. Его реактивное детище — первое в Германии — увидело наконец небо. Он был настолько захлестнут ощущением удачи, что не заметил настроения генерала Удета. Прославленный ас первой мировой войны, хмурясь, слушал Хейнкеля и позевывал. Он, ведающий всей технической частью министерства и теснейшим образом связанный с авиационными промышленниками, на этот раз не хотел понять Хейнкеля, который расхвастался маленьким, ужасно свистящим попрыгунчиком. — И это все? — спросил Удет, когда самолетик пронесся мимо них, отчаянно тормозя. Хейнкель с удивлением уставился на генерала. Его большой нос начал багроветь, а веко кривого глаза дергаться. — Право, доктор, вы настоящий энтузиаст, — Удет положил руку на плечо конструктора. — Но, боюсь, меня эти прыжки — вы не обижайтесь, если я назову их лягушачьими, — не привели в восторг. Впрочем, поздравьте Варзица. Он — храбрец. — Разве вы не хотите поздравить его лично?.. Он был бы счастлив, — пробормотал Хейнкель. — Простите, доктор. Я слишком долго ждал, когда же наконец ваш лягушонок оторвется от земли. Я спешу. До свидания. Хейнкель неумело вскинул руку в нацистском приветствии. Как обиженный ребенок посмотрел вслед квадратной генеральской спине, резко повернулся и, подталкиваемый сухим горячим ветром заработавших винтов, по-старчески засеменил к дожидавшемуся поодаль Варзицу. — Эти люди не заметят и божественного перста истории, — пробормотал Хейнкель, и Варзиц расценил эту фразу как невольно вырвавшееся извинение. И хотя Хейнкель мог и не извиняться перед собственным летчиком-испытателем этой заранее смонтированной фразой, он действительно оправдывался, что не сумел объяснить Удету невероятность происшедшего. — Все же сегодня великий день, доктор, — сказал Варзиц. Летчик был взволнован неожиданным доверием Хейнкеля. Эта вспышка откровенности значила для него больше, чем само участие в решающем испытании реактивного самолета. Она заслонила собой и напряжение страшного пятидесятисекундного полета, и фантастичность перспектив, открывшихся ему там, наверху. Но Хейнкель уже понял, что в раздражении сказал ненужную, очевидно опасную, фразу. — Я уверен, Варзиц, ОН нас поймет, — напыжившись, проговорил Хейнкель. — Фюрер оценит наши усилия. Так что будем работать дальше. В это время Удет, не заглянув, как обычно, в пилотскую «Зибеля», прошел в задний отсек, отделанный под походный бар. — Пусть штурвал берет второй, а ты приготовь мне бренди, — сказал он шеф-пилоту и адъютанту Паулю Пихту. Ледяное бренди вернуло генералу утраченную бодрость. Раздражение исчезло. К тому же самолет взлетел, а в воздухе Удет всегда чувствовал себя лучше. — Ты видел эту лягушку, Пауль? — Видел, господин генерал, — ответил адъютант. — Недоносок без пропеллера. Дурацкаяработа... Еще бренди, Пауль! Оглядев любовным взглядом пятиярусную галерею бутылок, самую полную, как утверждали знатоки, коллекцию бренди в мире, Удет снова с тоскливой горечью подумал: никогда, нет, никогда ему не вкусить всю крепость напитка, заключенного в этих бутылках. С тех пор как он перестал летать, опьянение к нему приходило тусклым, земным. Удет взглянул на адъютанта. Тот сосредоточенно готовил новую смесь из бренди и лимонного сока. Прямого, иногда даже грубоватого генерала устраивал этот молодой человек — умный, расторопный и преданный лейтенант Пауль Пихт. С ним Удета свела судьба в Швеции. Пихт хотел добыть офицерский чин в бою, и Удету пришлось согласиться с просьбой послать его в Испанию, хотя Пауль мог заполучить серебряные погоны и без этого риска. Но Удет сам был таким же отчаянным и не любил протеже. Пихта испытывали, Пихта проверяли. Генерал-полковнику, впоследствии генерал-директору люфтваффе, заместителю самого Геринга, полагался шеф-пилот и адъютант с более высоким чином и положением, но Удет умел ценить и храбрость, и преданность, и ту особую любовь к авиации, которая сроднила их обоих — старого и молодого, готовых за эту любовь отдать собственную жизнь. — А ты что скажешь, Пауль? — спросил Удет, принимая от Пихта новый стакан. — Что вас интересует, господин генерал? — Брось ты этот официальный тон, чинуша несчастный! «Господин генерал, господин генерал»! А что у генерала на душе, ты-то знаешь, господин адъютант? Молчишь! А ведь ты меня помнишь другим, Пауль. Ты помнишь, как обнимал меня Линдберг? Ты видел, как надулся этот старый попугай Хейнкель, когда я сел в Италии, установив новый мировой рекорд на его дурацкой машине! Ведь это было в прошлом году, Пауль! В прошлом году! Слушая хвастливые жалобы Удета, Пауль Пихт привычно подумал о том, что вовсе не нужно особой проницательности, чтобы разглядеть смятенную душу генерал-директора. Для многих коллег Удета его неожиданное возвышение казалось трудно объяснимым капризом Геринга. Не поддался же в самом деле «Железный Герман» сентиментальной привязанности к старому однокашнику по эскадрилье Рихтгофена? Деловые качества? Но Удет совсем не похож на дирижера величайшего авиапромышленного оркестра, призванного прославить Германию могущественным военно-воздушным флотом. Нет, не Удет нужен был Герингу. Только его имя, имя национального героя Германии, всемирно известного воздушного аса. Удет — хорошая реклама для немецкой авиации. Удет — добрый, проверенный посредник между новым руководством люфтваффе и авиапромышленниками. Удет, наконец, послушный исполнитель воли и замыслов Геринга. «Железный Герман» не погнушался использовать его и как «противовес» хитрому, пронырливому, иногда чрезмерно энергичному Мильху — второму своему заместителю, генерал-инспектору люфтваффе. Удет, разумеется, уже осознал и покорно принял уготованную ему роль. Отказаться от нее он мог, лишь признавшись в измене нацизму. Но, как виделось Пихту, его начальник не очень страдал от иллюзорности нынешней своей власти. Его бесило расставание со своей прежней артистической властью над толпой. «Акробат воздуха» не привык, чтобы боялись его, он привык, чтобы боялись за него. — О чем ты думаешь, Пауль? — Генерал в упор, как будто впервые, посмотрел на своего адъютанта. — О Стокгольме, господин генерал, о ваших гастролях. ...Стокгольм в конце двадцатых годов был европейской ярмаркой, европейским перекрестком. Сюда съезжались из голодной Европы злые, предприимчивые и азартные юнцы. Юный Пауль Пихт тоже стоял в толпе, высоко задрав голову, А в небе носился, кружился, переворачивался белый самолетик. Вот он мчался к земле. Толпа испуганно ухала, инстинктивно подавалась назад. Самолет разворачивался так низко, словно крылом задевал землю. Но оно лишь касалось травы. На траве лежал дамский платок. Крючок на конце крыла цеплял красный шелк и уносил его ввысь. И вот уже подхваченный ветром он спускался к толпе из поднебесья. Тысячи рук тянулись к платку. Тысячи глоток вопили: «Удет! Удет!..» — В Стокгольме я понял, что должен летать, — задумчиво проговорил Пихт. — Да, Стокгольм, — довольно улыбнулся Удет. — Оглушительный успех. Я был отличным летчиком, Пауль. — Германия вами гордится, господин генерал. — Германия не дает мне летать! — Вы должны ценить заботу рейхсмаршала. — Да, да, Пауль, я был сердечно тронут. Герман проявил истинно братские чувства... — Вы нужны рейху, генерал. Ваш опыт... — Мой опыт? — взорвался Удет. — Что толку в моем опыте, если я не могу взять в руки штурвал. Ты видел этого мальчишку Варзица, Пауль? Зеленый трусливый сопляк! Он вылез из кабины белый, как мельничная мышь. Но как он смотрел на меня! Как на инвалида, Пауль, как на последнего жалкого инвалида! Налей мне двойную! Разливая бренди, Пихт невольно представил себе элегантного, широкоплечего Удета, вылезающего из «Хейнкеля-176». Да, будь сегодня на месте Варзица Удет, обстановка на аэродроме могла бы стать иной. «Король скорости» сразу бы оценил удивительные возможности реактивного мотора. Теперь же Удет увидел в затее Хейнкеля лишь грубое посягательство на те устои воздухоплавания, которые были освещены им самим. — А как тебе понравилась эта прыгающая лягушка, эта скорлупа с крылышками, а, Пауль? Доктор носится с ней, как будто и в самом деле снес золотое яйцо. — Вы хотите услышать мое неофициальное мнение, господин генерал? — Я хочу знать твое мнение, Пауль, и катись ты еще раз к черту со своей официальностью! — Я очень уважаю заслуги доктора Хейнкеля перед немецкой авиацией, но считаю, что в данном случае ему изменило чувство ответственности перед немецким народом. «Хейнкель-176» —машина несерьезная. Мне бы не хотелось так думать, мой генерал, но, видно, у доктора рыльце в пушку, если он взялся за разные фокусы. Его дело бомбардировщики. — Да, ты прав, Пауль. Геринг не устает мне твердить: бомбардировщики, бомбардировщики. Но я же говорил Герману: мое дело истребители. Скорость, скорость, скорость! А ведь у Хейнкеля были весьма приличные истребители. У него всегда не ладилось дело с шасси, но зато какая рама! И в этой новой машине что-то есть, Пауль, что-то в ней есть! — Новый мотор. Реактивная тяга. Но это пока лишь идея, лишенная всякого практического применения. Пятьдесят полетных секунд никого не убедят. — Спасибо, Пауль. Ты прав. Завтра же позвоню Хейнкелю и наложу запрет на дальнейшие работы над этим выродком. — Не торопитесь, мой генерал. Реактивный мотор — безусловное новшество в авиации. Пусть бесполезное. Стоит ли вам брать на себя незавидную роль врага технического прогресса? При вашей должности это вам не к лицу. Что, если показать машину фюреру? Она развлечет его. Наш фюрер обожает всякие технические курьезы. Ну, и если Хейнкель докажет полезность своего детища в будущей войне... — Ты молодчина, Пауль! Сообщи Хейнкелю, чтобы он притащил свою лягушку в Рехлин. А теперь помоги мне подняться. Скоро Берлин. Я хочу сам посадить «Зибель»...2
3 июля 1939 года на имперский испытательный полигон в Рехлине прибыл Гитлер. Его сопровождали Геринг, Мильх, Удет, генералы вермахта, начальник штаба люфтваффе Йошоннек и командир отряда испытателей Франке. Гитлер сбросил легкий плащ на руки адъютанта Энгеля и остался в коричневом пиджаке, черном галстуке и черных брюках — традиционном костюме члена нацистской партии. Из ангара техники вывели маленький самолетик. Вся носовая часть фюзеляжа была застеклена, и сквозь плексиглас виднелись ручка управления, крохотное сиденье для пилота, сектор включения двигателя. Удет толкнул шасси носком сапога, самолетик заметно покачнулся. — Мой фюрер, «Хе-176» три дня назад я наблюдал в полете, — торопливо начал он, подумав, что этим жестом выразил свое отношение к новинке, которая может вдруг и понравиться Гитлеру. — Проектировать ее начал уважаемый доктор Хейнкель два года назад. Внутри фюзеляжа установлен жидкостно-реактивный двигатель, который работает на метаноле с перекисью водорода. Гитлер с сомнением потрогал крылья: — Какой размах? — Пять метров. — Диаметр фюзеляжа? — Максимальный — восемьдесят сантиметров. — Как же умещается летчик? — Ему в кабине вполне удобно, — выкатился вперед Хейнкель и махнул Варзицу. Летчик, откинув колпак, вскочил в кабину. Эта кабина в случае аварии сбрасывалась, и Варзиц незаметно скользнул взглядом в сторону спасительного рычага. По аэродрому пронесся свист запущенного двигателя. Из хвоста малютки вырвалось длинное белое пламя. Самолет помчался по бетонке. В небе летчик развернулся и пролетел над аэродромом. Геринг и Удет покосились на Гитлера, стараясь угадать, какое впечатление произвел на фюрера полет. Но Гитлер, привычно поигрывая пальцами на отвороте френча, оставался спокойным. Вскоре запас топлива и окислителя кончился. Самолет остановился посреди аэродрома, и его тут же отбуксировали в ангар. Варзиц отрапортовал об окончании полета. — Сколько вы заплатите летчику за это испытание? — спросил Гитлер Хейнкеля. — По высшей ставке, мой фюрер. — Поздравляю, обер-лейтенант, — сказал Гитлер. — Я думаю, что нам следует поздравить пилота с чином капитана, — проговорил Мильх. Гитлер пожал руку Варзицу: — Ну, что вы думаете об этой штуке, капитан? — Я убежден, что через год или два только немногие военные самолеты будут иметь винты и моторы внутреннего сгорания, — горячо ответил Варзиц. Гитлер поморщился. Он не любил предсказаний. Предсказывать, предвидеть — привилегия фюрера. Он повернулся к Удету: — Выдайте капитану Варзицу двадцать тысяч марок из специального фонда. А теперь послушаем Хейнкеля. Почему вы отказались от пропеллера? — История авиации — история борьбы за скорость, — заторопился Хейнкель. — Скорость поршневых самолетов стала затухать. Из мотора уже ничего нельзя выжать, а у реактивного самолета неиссякаемый запас скорости; за ним будущее. — Объясните! — Враг скорости — сопротивление воздуха. Чтобы это сопротивление победить, нужно увеличить мощность мотора, следовательно, вес самих моторов, баков с горючим, фюзеляжа... — Надо поднять самолет выше, в разреженное пространство, — указал Гитлер. Вопреки обыкновению, беседа Гитлера не заинтересовала. — В других странах делают реактивные самолеты? — Пока нет, но, насколько мне известно, над созданием реактивных двигателей работают Уиттл и Гриффит в Англии, Ледок — во Франции, Цандер, Победоносцев, Люлька, Меркулов — в России... Кстати, именно Россия, очевидно, продвинулась в этой работе особенно далеко... Но что-то мешало Гитлеру относиться всерьез к «детской коляске». — Кажется, вы были удостоены в прошлом году Национального приза за искусство и науку? — Да, мой фюрер. — Вместе с Мессершмиттом, — подсказал Удет. Гитлер протянул Хейнкелю руку: — Благодарю, доктор. Вашу машину мы поставим в Музей авиации. Гитлер действительно сдержал слово. «Хе-176» вместо ангара перекочевал в Музей авиации и сгорел во время бомбежки Берлина. Но через шесть лет после этого события...3
— Господин директор, вас вызывает Берлин. Мессершмитт поднял тяжелую черную трубку, поворочал языком. Так делает спринтер перед стартом. — Мессершмитт слушает... А, это вы, Пауль!.. Я это предчувствовал. Вот как! Понимаю... Вполне официально? Рад. Жду... Ценю... До свидания. Мессершмитт положил трубку, легко («окрыленно», записал бы его секретарь) поднялся с кресла, подошел к огромной, во всю стену, витрине. За невидимым — ни пылинки — стеклом выравнялись, как на параде, призы — массивные литые кубки с немецких ярмарок, элегантные статуэтки парижских эспо, фарфоровые, с позолотой, вазы итальянских и швейцарских мэрий, кожаные тисненые бювары — свидетельства о рекордах. «Вся жизнь на ладони», — с удовольствием подумал Мессершмитт, вышагивая вдоль витрины. Он взял в руки последний, самый ценный, отобранный у Хейнкеля кубок — за мировой рекорд скорости — 755 километров в час. Рекорд, установленный на его лучшей модели — «Ме-109Е» — каких-нибудь четыре месяца назад. «И все это только прелюдия, красивая прелюдия, не больше, — подумал Мессершмитт. — Настоящая авиация лишь зарождается. И первое слово все-таки скажу я». Он позвонил секретарю и попросил немедленно вызвать профессора Зандлера. Вилли Мессершмитт старался казаться угрюмым, при разговоре он глядел на собеседника исподлобья. Почти двухметрового роста, худой, большеголовый, с крупными угловатыми чертами лица конструктор вызывал невольную робость у своих служащих. Увидев в 1910 году первый аэроплан Блерио, он поклялся научиться делать такие же самолеты. Мессершмитт голодал, клянчил деньги у богатых фабрикантов, учился, терпел неудачи, но шел напролом. Мастерская, заводик, завод, концерн... «Мать Германия, в блеске стали на твою мы защиту встали. Сыновьям своим громом труб ответь, за тебя мы хотим умереть...» Теперь тысячи пилотов с этой песней устремляются в небо на его, Мессершмитта, самолетах. Четыре года назад сошел с конвейера «Мессер-шмитт-109» — самый удачный истребитель из всех построенных ранее. Но воздушные бои в Испании заставили конструктора улучшать машину. Требовалась скорость — Мессершмитт установил двигатель «Даймлер-Бенц» мощностью 1100 сил. Усилил вооружение, заменив мелкокалиберный пулемет на автоматическую пушку. Но когда в пикировании «Мессершмитт-109Е» попал во фляттер[140], конструктор впервые понял, что поршневой самолет исчерпал себя в смысле возможностей дальнейшего прогресса. Выход из тупика открывал реактивный самолет. Тогда Мессершмитт переманил от Хейнкеля профессора Зандлера — специалиста по реактивной авиации и аэродинамике крыла. В своей фирме он организовал отдел реактивной техники и выделил для него испытательный аэродром в Лехфельде, неподалеку от Аугсбурга. Теперь он ожидал, когда оттуда приедет Зандлер, конструктор и начальник этого отдела. Профессор Зандлер вошел в кабинет с неестественно натянутым лицом. Чувствовалось, что перед дверью он не без труда придал ему выражение равнодушной заинтересованности. Обычно сутулый, сейчас профессор старался держаться прямо. «Трусит, — решил Мессершмитт, — трусит, оттого и пыжится. А чего трусит?» — Послушайте, Иоганн, — начал Мессершмитт, не присаживаясь и не предлагая сесть Зандлеру, — что-то вы давно не приходили ко мне с новыми идеями. Устали? Или не верите в проект? — Господин директор... — Вы не уверены в идее или в возможности ее экономного решения? Или вас тяготит отсутствие официальной поддержки? — Господин директор... — Или вы боитесь, что нас обгонят?.. Нас обогнали, Зандлер... Обогнали на год, а может, и на два. Вчера, Зандлер, ваш старый приятель доктор Хейнкель добился своего. Он поднял в воздух свой новый истребитель, Зандлер! — Вы шутите, господин директор! Этого не может быть! — Почему же, Зандлер? Не обещал ли Хейнкель подождать, пока вы раскачаетесь? — Господин директор, я убежден... — Ну вот что, Зандлер, машина, которую испытывает Хейнкель, не вызвала восторга в Берлине. Это просто кузнечик. Прыг-скок. Прыг-скок. Кузнечик, Зандлер. Но это кузнечик с реактивным двигателем. Вот так-то, господин профессор. — Значит, первое слово уже сказано? — Это не слово, Зандлер. Это шепот. Его пока никто не расслышал. Хейнкель, как всегда, поторопился. Ему придется свернуть это дело. Заказа он не получит. — Мессершмитт позволил себе усмехнуться: — Мне только что позвонил из Берлина адъютант Удета господин Пихт. Нам предлагают форсировать разработку проекта реактивного самолета. Но пока мы не вылезем из пеленок — никаких субсидий! На наш риск. Завтра, Иоганн, вы представите мне вашу, я подчеркиваю — вашу, а не финансового директора, проектную смету. — Хорошо, я представлю вам смету. — Идите, Иоганн. Да, постойте. Вы понимаете, конечно, что до начала испытаний о характере проекта не должен знать никто. Я повторяю — никто, кроме инженеров вашего бюро. — Я полагаю, что господин оберштурмфюрер[141] Зейц по долгу службы... — Господин Зандлер, что-то я не помню приказа о переводе Зейца в ваше конструкторское бюро. — Должен ли я понимать это... — Вы должны торопиться, профессор. За нами гонится История! — Я свободен? — спросил Зандлер. — До свидания. Впрочем, а как мы назовем свой самолет? — Об этом еще рано думать. — Нет. Мы назовем его сейчас. Чтобы никто пока не знал о нем. — Мессершмитт отмерил несколько крупных шагов по кабинету. — Придумал! Мы назовем его «Штурмфогель»! «Альбатрос»! «Буревестник»! «Буря-птица!»... Глядя в спину уходящему Зандлеру, Мессершмитт очень явственно представил себе, как десятки конструкторов из разных стран лихорадочно, наперегонки, разрабатывают идею применения реактивной тяги для полетов машин тяжелее воздуха... Десятки конструкторов... И русских в том числе... Русских, которых особенно ненавидел Мессершмитт.4
31 августа 1939 года Хейнкель приехал в Берлин и пригласил Удета пообедать в ресторане «Хорхер». «По старой дружбе», — сказал Хейнкель. Удет не нашел сил отказаться. Он пришел в ресторан возбужденный, запальчивый и пил по-старому, не пьянея. Азартно, громко он вспоминал воздушные моменты былых полетов. Хейнкель вяло поддакивал. Он ждал, когда генерал заговорит о его реактивных истребителях. Но Удет упорно сворачивал с сегодняшнего дня в блистательное прошлое. Обед затягивался. Уже глубоко за полночь Хейнкель, видя, что генерал начинает повторяться, сказал: — Генерал, видит бог, как я люблю вас. И любя, и зная вас, я не могу понять, чем же не понравились вам мои «сто семьдесят шестой» и «сто семьдесят восьмой»? — Доктор, вы назвали меня генералом, и я вам отвечу как генерал. То, что ваши «сто семьдесят шестой и восьмой» не умеют летать — неважно. Придет время, научатся, верю. Но они не умеют стрелять. И не научатся. — Дайте срок. Научим и стрелять. — Хейнкель почувствовал, как ярость клубком подкатила к горлу. «Какое чудовищное недомыслие! И этот человек руководит вооружением страны!» — В это не верю. Но, допустим, они будут стрелять. Когда? В кого? — Я выпущу их в серию через два года! — Фантастика, доктор! Я повторяю: нам нужны только те самолеты, которые смогут принять участие в военных действиях уже сегодня! — Удет с удовольствием следил за игрой пятен на ухоженных докторских щеках. — Реактивные истребители изменят весь ход воздушных сражений. С такими самолетами Германия выиграет войну у любого противника. — Германия выиграет войну у любого противника, не пользуясь вашими редкостными чудо-истребителями. Но, доктор, не без помощи, не без помощи ваших великолепных бомбардировщиков. Массированный бомбовый удар станет нашим главным козырем в этой войне. — Вы мне льстите, генерал. Но вы недооцениваете быстроты технического прогресса. Вы не верите в конструкторов. Еще неизвестно, какие сюрпризы они преподнесут к началу этой войны. — Сюрпризов больше не будет, доктор. Разрешите сверить наши часы. На моих — три часа двадцать три минуты... Так вот, эта война начнется ровно через семнадцать минут! — Удет торжествующе засмеялся. Наклонившись к Хейнкелю, он прошептал: — Наконец-то поляки напали на нас! Мы вынуждены защищаться! Выпьем за победу в этой войне, доктор! — Это будет большая война, генерал. — Быстрая война, доктор!ЧЕРЕЗ ГРОЗЫ ДНЕЙ
1
Поздно вечером капитан Альберт Вайдеман, командир 7-й авиагруппы 4-го воздушного флота люфтваффе, получил секретный пакет. Сонно жмурясь, он вскрыл конверт, минуту сидел молча и вдруг с силой хлопнул ладонью по колену: — Началось! Он схватил телефонную трубку. — Всех командиров отрядов, инженеров и пилотов в штурманскую! Срочно! Вайдеман быстро натянул брюки и куртку. — Друзья! — торжественно начал он, входя в штурманскую комнату и останавливаясь перед застывшими в приветствии летчиками. — Рядом с нами Польша. Завтра утром Германия начинает войну. Первый воздушный флот Кессельринга из Померании и Пруссии и наш четвертый совершат массированный налет. Тысяча пятьсот машин поднимаются в воздух. Цель — завоевать господство в воздухе, разгромить все польские аэродромы, атаковать заводы, железнодорожные станции, разогнать кавалерию. Мосты не уничтожать. Они пригодятся нашим танкам. Наша группа действует как штурмовая авиация по направлениям — Ченстохова, Петроков, Радом. Техникам приготовить машины к трем ноль-ноль. Круто повернувшись, он вышел из штурманской. Оставалось несколько часов на отдых. Не раздеваясь, он лег, закрыл глаза. Ровными толчками стучало сердце. Голова работала четко, как выверенный механизм. По освещенному аэродромными огнями потолку скользили тени, как будто это двигались стрелки на приборной доске. Издалека донесся мелодичный бой. Часы на ратуше Намслау двенадцатью ударами возвестили о начале сентября, первом дне осени, первом дне второй мировой войны... Без четверти четыре авиагруппа Вайдемана взлетела и развернулась к востоку. Над самой землей Вайдеман вывел самолет на пике. На ровном ржаном поле валялись трупы лошадей и всадников. Одна лошадь, обезумев от страха, неслась по жнивью, сшибая снопы. У ее копыт, зацепившись ногой за стремя, болтался легионер. Двинув ручкой газа, Вайдеман пошел в высоту. Он увидел, как навстречу лошади, дымя сизыми выхлопами, мчались танки с белыми крестами на бортах. Танкисты, высунувшись из люков, стреляли по лошади из парабеллумов. Под Ченстоховой группа обрушилась на аэродром. В березовой роще белели цистерны с горючим, у длинных ангаров и кирпичных мастерских рядами стояли самолеты. Сверху хорошо было видно, как техники стягивали с моторов чехлы, коноводы запрягали лошадей в брички-бензозаправщики, зенитчики, еще не очнувшись от сна, бежали к пулеметам. Через минуту аэродром скрылся в дыму и огне. Истребители тройками сваливались с неба, стреляя из всех пулеметов. Только одному польскому пилоту удалось добраться до своего самолета и запустить мотор. Он вырвал машину из костра пылающих истребителей и сразу пошел на взлет, на верную смерть — один против шестидесяти. Аэродром пылал. Горели ангары, горели цистерны, горели самолеты, так и не успевшие взлететь. Над самой землей проплыли пять трехмоторных «юнкерсов». Флагман развернулся навстречу черному дыму и нацелился на посадку. «Юнкерсы» садились, тормозя изо всех сил. В конце полосы распахивались дверцы и автоматчики на ходу спрыгивали на землю, рассыпались цепью, расстреливали тех, кто еще был жив на аэродроме. Вайдеман повернул свою группу к Петрокову.2
Конструктор Иоганн Зандлер даже для немца был великолепным образцом аккуратности. В кабинет он приходил ровно в восемь утра, и за три года работы у Мессершмитта еще не было дня, чтобы он опоздал. Он носил несколько старомодные, чуть ли не кайзеровские усы, но костюмы выбирал вполне современные, как и сорочки и галстуки. Фигурой он походил на длинного и прямого, как штык, англичанина. Не хватало лишь трубки. Он курил сигареты. Курил одну за другой, жадно и быстро, до головокружения. Дочь не позволяла ему курить дома, но у себя в кабинете он был предоставлен самому себе. Сюда никто не имел права заходить, кроме оберштурмфюрера Вальтера Зейца, отвечающего за безопасность и секретность всех работ, которые ведутся на испытательном аэродроме в Лехфельде. В этом кабинете Зандлер не склонялся над чертежной доской, не делал расчетов. Здесь он только думал. Лицо у Зандлера было землисто-серое, под бесцветными глазами голубели набухшие мешки. Сердце и почки давно требовали лечения. Но Зандлер не находил для этого времени. Он мерил кабинет длинными ногами и курил. Когда ноги уставали, он садился в кресло. Когда в горле начинало саднить, он брал из сейфа бутылку крепкого старого пива, выпивал бокал и снова затягивался сигаретой. Сегодня он думал о том же, что занимало его вчера и год назад. О самолетах с ракетными и турбореактивными двигателями. Фантазия рисовала ему эти самолеты, один причудливей другого, не похожие на те, что летают сейчас. Коллега Зандлера — Оберт, первым понявший гениальность открытий Циолковского, калужского учителя физики, не смог их реализовать. После Циолковского появилось много работ. Но все на бумаге, в моделях. Зандлер хотел создать реактивный самолет в металле. Он с успехом справился с планером самолета, рассчитав и применив стреловидное крыло. Но не было надежного двигателя, и это обстоятельство сводило его, Зандлера, труд к бессмыслице. Двигатель есть у Хейнкеля. Но начатое старым конструктором дело теперь ловко перехватил Мессершмитт. «Кто-то сильно помог господину Мессершмитту, — подумал Зандлер. — С точки зрения интересов рейха, надо бы поддержать Хейнкеля. Ведь он бьется над реактивным самолетом и двигателем четыре года. И, конечно, не подумает продать Мессершмитту документацию своей реактивной машины. Двигатель придется искать другой...» Телефонный звонок прервал размышления Зандлера. — Доброе утро, профессор, — раздался в трубке густой, хорошо поставленный голос оберштурмфюрера Вальтера Зейца. — Извините за беспокойство. Поздравляю с началом войны. Сегодня на рассвете мы ответили на удар поляков. Повсюду наши войска одерживают победу. — Хорошо, господин Зейц, — как можно приветливей отозвался Зандлер, стараясь скрыть раздражение. Оберштурмфюрер Вальтер Зейц был в Лехфельде не только представителем СД[142], но и арбайтсфюрером нацистской партии, и Зандлер, подавляя странную тревогу, пытался относиться к нему как можно предупредительней. Но в душе Зандлера Зейц вызывал злость. Арбайтсфюрер умел задавать такие вопросы, над которыми бился сам конструктор. И когда Зандлер ответить не мог, Зейц поджимал губы и снова задавал нечто вроде: «А скажите, профессор, не задумывались ли вы над тем, что скоростной истребитель теряет маневренность?» Зандлер хорошо знал, что на скорости около тысячи километров в час маневр чрезвычайно затруднителен. Система тормозов, позволяющая резко убавить скорость, одновременно отнимала мощность у двигателя, лишенного воздушного напора. Это вело к потере высоты, к плохой управляемости — словом, к ухудшению боевых качеств машины. Как помирить маневренность со скоростью, Зандлер еще не знал. — Я вам не помешал, профессор? — спросил Зейц, появляясь в дверях. — Нет, господин Зейц. Сегодня по случаю победы можно отдохнуть. Полнолицый, голубоглазый оберштурмфюрер был олицетворением того строя, который установился в Германии пять с половиной лет назад. Зейц принадлежал к СД — гвардии СС, элите элит, заплечных дел мастера формировались из других каст помельче. Для Зейца — смелого и сильного, происшедшего без чужеродной примеси крови от древних германцев — служба заключалась в простом выполнении приказов и инструкций. Это делал он всегда точно, предупредительно и как-то весело. Зандлер завидовал его способности ни о чем не думать, обходить опасные повороты, смотреть на жизнь легко и беззаботно. Зейц протянул Зандлеру дорогую гаванскую сигару. — Это наш первый трофей, профессор, — важно проговорил оберштурмфюрер. — На днях моряки захватили польское судно из Гаваны. У бедняг испортилась рация, и они, ничего не зная о войне, спокойно зашли из Атлантики в наш Кильский канал. — Господин Зейц, — проговорил Зандлер, срывая с сигары золотой ободок, — на днях я был у Мессершмитта, и Главный конструктор приказал мне форсировать работы над реактивным самолетом. — Я знаю об этом, — многозначительно ответил Зейц, усаживаясь в кресло. — Хочу посоветоваться с вами относительно теоретического обоснования этой работы... — Да-да, — подбодрил профессора Зейц. Зандлер достал из стола книжку в синем переплете. На обложке белел крест, выцарапанный над пылающей землей. — Послушайте, что пишет один человек... «Страна, потерявшая господство в воздухе, увидит себя подвергающейся воздушным нападениям без возможности реагировать на них с какой-нибудь степенью эффективности; эти повторные, непрекращающиеся нападения, поражающие страну в наиболее сложные и чувствительные части, несмотря на действие ее сухопутных и морских сил, должны неизбежно привести страну к убеждению, что все бесполезно и всякая надежда погибла. А это убеждение означает поражение...» — Кто это написал? — Итальянский генерал Джулио Дуэ. — Ну, это еще не авторитет, — протянул Зейц. — Но послушайте дальше. «Я хочу только сделать упор на одном моменте, а именно на силе морального эффекта... не достаточно ли будет появления одного только неприятельского самолета, чтобы вызвать страшную панику?.. Может быть, это произойдет еще прежде, чем сухопутная армия успеет закончить мобилизацию, а флот — выйти в море». — Вот это уже превосходная идея! — радостно воскликнул Зейц. — Стало быть, я правильно понял, что моральный эффект, стремительная скорость нового оружия сильней каких-то там проблем маневренности в бою? Зейц догадался, что профессор ловко обошел его, и хотел было вспылить, но вовремя одумался. «В конце концов, стоит ли спорить о курице, если она еще не вылупилась из яйца». Вслух Зейц произнес: — В следующий раз непременно прочитаю генерала Дуэ. — И, хотя был в штатском, четко, по-военному, повернулся и вышел.3
27 сентября капитан Коссовски впервые изменил тому железному регламенту, которому подчинялось каждое его движение в утренние часы. Когда он попросил жену принести ему «Фолькишер беобахтер», та в изумлении всплеснула руками: — Зигфрид, ведь ты еще не брился! Неужели новое назначение так на тебя подействовало? Но Коссовски не счел необходимым объяснять супруге свое отступление от правил. После трехлетней разлуки он так и не смог вновь привыкнуть к фрау Эльзе, как к человеку, с которым следует делиться своими мыслями. Три года в Испании отучили его вообще поверять свои мысли кому бы то ни было. Жена не могла составить исключения. Вот, может быть, сын, когда подрастет... Но сначала нужно воспитать в нем те качества, которые он ценил в себе, — сдержанность, твердость духа, верность раз и навсегда утвержденным принципам. Он развернул газету и сразу увидел то, что искал, — декрет о создании Главного имперского управления безопасности. Значит, слухи, упорно циркулирующие в салоне Китти, где собирались по ночам люди, хорошо осведомленные в тайных делах рейха, были справедливы. Гейдрих[143] добился своего. Отныне в его руках почти все рычаги незримого управления рейхом — гестапо, СД, СС, полиция, жандармерия. Теперь уж он доберется и до Канариса — абвер остался единственной тайной силой, неподвластной ему. Коссовски отложил газету и отправился в ванную. Через час зеленый армейский «оппель» доставил его к массивному серому зданию на Кайзервильгельмштрассе — министерству авиации. Табличка «Форшунгсамт» у пятого подъезда извещала прохожих, что здесь расположилось некое научно-исследовательское управление министерства. Но мало кто даже из летчиков знал, что под этой вывеской скрывается служба разведки и контрразведки люфтваффе. Коссовски поднялся на третий этаж и вошел в кабинет своего нового шефа — майора Эвальда фон Регенбаха. Все, что он узнал о Регенбахе, не оставляло места для иллюзий. Коссовски понимал, что придется работать за двоих. Своему посту в «Форшунгсамте» Регенбах был целиком обязан родственным связям. Одна из его аристократических теток была близкой приятельницей рейхсмаршала. Сам Геринг подписал Регенбаху направление на высшие курсы штабных офицеров люфтваффе. До этого Эвальд баловался журналистикой, писал либеральные статейки. Впрочем, по всем отзывам, нынешний Регенбах, известный среди друзей под именем «Эви», был всего лишь избалованным светским бездельником, тяготившимся службой и делившим свое время между театром и ипподромом. Подтянутый и прямой, с четкими, правильными чертами лица, будто вытесанного из дорогого камня, Эви пользовался неизменным успехом в аристократических кругах Берлина. Его жена блистала на всех дипломатических раутах. Да, капитану Коссовски, сыну безземельного юнкера, нелегко будет найти общий язык с «милым Эви». Открывая дверь кабинета, Коссовски хорошо представлял себе, с какой снисходительной миной встретит его новый шеф. — Я рад, что вы будете работать у нас, — сказал Регенбах, когда Коссовски, представившись, сел в предложенное ему кресло. — Нам нужны опытные люди, понюхавшие пороху. Боюсь только, что после испанских приключений вам покажется у нас смертельно скучно. Мы же, в сущности, бюрократическая организация. Пишем разные справки. Шпионов ловят Канарис и Гейдрих, а с нами лишь консультируются. — К сожалению, следует ожидать, что в условиях военного времени активность вражеской разведки увеличится... Работы хватит и для нас, — заметил Коссовски. — Ну, эта война ненадолго. С поляками мы уже расправились, а стоит нажать на французов, как они вместе с Англией запросят мира. Впрочем, прогнозы — не моя стихия. Вечно я попадаю впросак! — засмеялся Регенбах. — Надо ввести вас в курс дела. Мы поручаем вам совершенно новый участок работы. Она даже как-то связана с нашим официальным наименованием. — Слушаю вас, — проговорил Коссовски. — Наши блистательные конструкторы изобрели какой-то новый самолетный мотор. Не пойму, в чем там дело, но кажется, он вовсе без пропеллера. Ну, бог с ним. Важно, что тут мы утерли нос всем американским эдисонам. Пригодится ли эта штука на войне, никто не знает. Но так или иначе, в министерстве создали новый секретный отдел. Как же он называется?.. — Регенбах порылся в бумагах: — Ага. Отдел реактивных исследований. Ну, а раз есть отдел, да еще сверхсекретный, надо охранять его от вражеской агентуры. Для чего и создан на свет капитан... Зигфрид Коссовски. Узнайте, капитан, кто с этим моторным делом связан? Таких, наверное, еще немного. Запросите на них досье. Ну и... Что еще? Если поймаете шпиона, покажите, пожалуйста, мне. Стыдно сказать, два года в контрразведке — и ни одного живого шпиона в глаза не видел. Регенбах встал, и Коссовски понял, что аудиенция с начальством, оказавшаяся, как он и предполагал, сплошным балаганом, окончена.4
После взятия Варшавы Альберт Вайдеман получил отпуск. Поезд Варшава — Берлин останавливался редко, и Вайдеман скучал в своем купе. Глядел в окно на опустевшие осенние поля, на промокшие деревушки с остроконечными крышами костелов. В Сквежине в купе вошел бледный фельдфебель лет пятидесяти в форме люфтваффе. Фельдфебель, увидев Вайдемана, щелкнул каблуками сапог: — Эрих Хайдте. — Фронтовик? — Бортмеханик на «Дорнье». — Отвоевались? — Получил отпуск и медаль в придачу. За геройскую кампанию. — Сегодня мы все герои. Задавили поляков. Фельдфебель усмехнулся: — Приеду домой в ореоле славы. С окровавленным мечом. Он пропел несколько тактов вагнеровского марша: «Трум-бум-бум-бум». Откровенная ирония попутчика показалась Вайдеману подозрительной. — Жена будет рада, — сухо заметил он. — Бобыль. Осталась только племянница Ютта, — ответил фельдфебель, доставая из внутреннего кармана френча любительский снимок и протягивая Вайдеману. Со снимка на Вайдемана пристально смотрела длинноволосая девушка в черном свитере. — Хороший снимок, — сказал Вайдеман. — Сам делал. У меня к фотографии пристрастие. Разобьем Англию, куплю себе приличное фотоателье... Поезд с грохотом помчался через Одер. В купе вошел проводник — немец, сменивший поляка, в черной форме и с серебряными орлами на фуражке. Проводник выбросил руку и объявил: — Граница рейха. Прошу предъявить документы.5
Чуть ли не первым человеком, которого Вайдеман увидел на берлинском вокзале, был оберштурмфюрер СД Вальтер Зейц. С Зейцем свела его судьба еще десять лет назад в Швеции. Оба были горячи, молоды, беспечны. И одиноки. Оба не знали ни родительской любви, ни родительской опеки. В карманах редко звенели кроны, но жизнь после берлинской дороговизны все же казалась сытной и приятной. Вайдеман работал в сборочной мастерской — филиале завода Юнкерса в Упсале — и готов был подняться в воздух на любом гробу — лишь бы платили. Зейц сидел в конторе — разбирал рекламации, которые иногда поступали из шведского министерства транспорта, и заодно помогал заезжим немцам устраивать разные коммерческие и не совсем коммерческие дела. Третьим в их холостяцкой компании был Пауль Пихт, пожалуй самый энергичный и пронырливый. Пихт задумывался о карьере, когда Вальтер и Альберт не помышляли ни о чем, кроме девушек. Накопив немного денег, Пихт все их, не моргнув глазом, ловко всунул шеф-инженеру, и тот назначил его главным механиком авиамастерской. А когда в Швецию на гастроли прилетел прославленный Удет, Пихт первым понял, где можно поживиться. Он мыл, чистил и скреб самолет Удета, как свой собственный мотоцикл, а когда в моторе что-то забарахлило и выступления могли сорваться, он двадцать часов копался с двигателем, пока все не отладил. И главное — отказался от платы. Сделал вид, что старался только из любви к лучшему немецкому летчику. И не прогадал. Удет взял его с собой личным механиком. Зейц и Вайдеман долго еще оставались в Швеции, пока фюрер не бросил клич сынам фатерланда: «Немцы, объединяйтесь!» Теперь уж подвезло Зейцу. Один из его бывших клиентов стал важной фигурой у Гейдриха. Зейца взяли в училище СС в Орденсбурге. Вайдеман попал в летную школу в Дрездене, а оттуда в Испанию в истребительный отряд Мельдерса. — Ну, а где ты сейчас? — спросил Вайдеман, когда приятели зашли в кафе на привокзальной площади и сели за столик. — Я работаю у Мессершмитта, — скромно ответил Зейц. — Становлюсь провинциалом. Ему не хотелось посвящать Альберта в свои дела. — Женился? — Один как перст, — вздохнул Зейц, поигрывая глазами. — Видимо, не суждено. А ты? — Та же история. Гарнизонная жизнь не располагает к устройству семейных очагов. Ты видел Пауля Пихта? — неожиданно спросил Вайдеман. — Вы же вместе долго воевали в Испании! Я там пробыл совсем немного. — Да, он — молодчага. Схватил там крест. — За что же? — Представляешь, его обстреляли республиканцы, и он вынужден был сесть на их территории. Самолет горит. Он чудом выбрался из кабины. Уже готов был стреляться — не сдаваться же в плен, — как его спас сам Мельдерс. Сел рядом, засунул его в кабину и взлетел перед носом республиканцев. Мельдерсу — рыцарский крест, Пихту — Железный. И, что любопытно: Мельдерс потом стал таскать Пихта всюду за собой. И не давал много летать. Вдруг собьют, и нельзя будет похвастаться. «Да-да, это тот самый Пихт, которого я выкрал у республиканцев». — Я слышал, — задумчиво проговорил Зейц. — Он снова под крылышком генерала Удета. Ходит в адъютантах. — Хотелось бы увидеть его, отпраздновать Польшу, — проговорил Вайдеман. Он простился с Зейцем, вышел из кафе и окинул взглядом площадь: искал такси. Шагах в двадцати от него в черный лимузин садился тот самый фельдфебель Хайдте, сосед по купе. Вайдеман кинулся к машине — может, по дороге. Но фельдфебель, по-видимому, не заметил его. Лимузин сорвался с места, чуть не обдав Вайдемана фонтаном брызг. Лицо человека за рулем показалось Вайдеману знакомым. Всю дорогу до отеля он вспоминал, где же видел это холеное лицо, мягкое, упрямое и безразличное. И только входя в вестибюль отеля, Вайдеман понял, что встречался с этим человеком в министерстве авиации. Человек беседовал с ним перед Испанией, когда Вайдеман оформлялся в легион «Кондор». Майор Регенбах, фон Регенбах. Контрразведчик. Значит, предчувствия не обманули его. Вместе с ним в одном купе ехал человек из «Форшунгсамта»...КРЕЩЕННЫЕ ОГНЕМ
1
Весной 1940 года 7-ю авиагруппу Вайдемана перебросили на западную границу. Весна шла дружно. Уже в конце апреля в Голландии наступили на редкость солнечные, по-летнему теплые дни. Море было тихим. Туманы жались к берегам, скрывая дамбы. Но 8 мая вдруг поползли тучи, пошел мелкий дождь. Он трудолюбиво обмывал и без того чистенькие черепичные крыши, асфальтированные дорожки, поля цветов. В полночь осоловевшие от безделья голландские пограничники были разбужены тяжелым воем самолетов. Пока тормошили спящих телефонистов, пока дежурные офицеры дозванивались до своих начальников, гул прекратился. Самолеты ушли. Часовые поглубже попрятались в дождевики. Разошлись по еще не остывшим постелям зенитчики, успокоились дежурные офицеры. И тут из низких туч посыпались парашютисты. Они приземлялись на аэродромы Гааги и Роттердама, Дордрехта и Моердьяка, рядом с мостами через Маас, Лек и Ваал, в расположение войсковых частей, артиллерии и бесшумно снимали часовых. И снова донесся тревожный гул самолетов. И снова стих... Эти самолеты отцепили планеры. — Придержи штурвал, Шверин, я включу посадочную фару... — Вайдеман пошарил по темной приборной доске. — Давно не летал на этих фанерных катафалках, черт возьми! — Включатель должен быть слева, — сказал Шверин. — Нашел. — Вайдеман включил фару. Желтовато-синий свет уперся в стену плотного, непробиваемого тумана. Слева и справа скользили в тучах пучки света от других планеров. — Вот уж мы сядем им на холку! — заржал Шверин. «Разбойник», — подумал Вайдеман, косясь на развеселившегося Шверина. Он прислушался к тишине. Транспортные «юнкерсы» уже ушли за новым десантом. Были слышны только короткие вскрики на земле, поскрипывание деревянного фюзеляжа да возня Шверина на правом сиденье. Вайдеман открыл форточку и старался отыскать на приближающейся земле посадочную полосу. Авиагруппа должна была вместе с десантниками захватить аэродром в Масстрихте и перегнать «спитфайры», лучшие английские истребители, на германский аэродром под Аахен. — Лейтенант! — крикнул Вайдеман стоящему в дверях пилотской кабины командиру парашютистов. — Сколько у тебясолдат? — Сто двадцать. — А на аэродроме, наверное, не меньше трех тысяч голландцев. — Не меньше, — усмехнулся лейтенант. — Они вышвырнут вас, как щенков. — Пари! Эти кролики разбегутся при первых же выстрелах. Планер вынырнул из туч. На земле уже горел какой-то дом и освещал широкую равнину. Вайдеман потянул штурвал на себя, стараясь погасить скорость. По днищу планера захлестала мокрая трава, толстые шины колес коснулись земли и заскрипели на твердом, укатанном поле. Солдаты выпрыгнули из планера и скрылись в темноте. Повсюду белели успевшие намокнуть шелковые полотнища парашютов. Где-то недалеко шла беспорядочная стрельба. Вайдеман надел стальной шлем, достал из-под сиденья автомат и вышел наружу. Зябко поеживаясь, подошли пилоты и техники с других планеров. — Вот что, ребята, — сказал Вайдеман, — под огонь не лезьте, обойдутся без нас. Важно угнать «спитфайры». Никто не летал на них? — Откуда же?! — Учтите, машина капризная. Чуть перетянешь ручку, сваливается в штопор без предупреждения. Взлет обычный, только разбег побольше. Потяжелей. На посадке задирайте нос повыше, а то расшибете лбы. Из темноты выскочил ефрейтор с окровавленной рукой, засунутой за отворот плаща. — Аэродром наш! — крикнул он. Около дороги ждал грузовик. Пилоты набились в кузов, а Вайдеман и Шверин залезли в кабину. Вдали шел бой. Пунктирными линиями прорезали темноту трассирующие пули автоматов. Гулко толкали воздух взрывы гранат. Иногда взлетали белые ракеты и меркли, запутавшись в кромке низких туч. Несколько раненых сидели у дороги, перевязывали друг друга индивидуальными пакетами. — Эй! — крикнул один из них. Шофер затормозил. — Поторапливайтесь! Голландцы очухались и нажимают на аэродром! Минут через десять грузовик подкатил к накрытым брезентом истребителям. Пилоты помогли техникам расчехлить моторы. — Дьяволы! — выругался Шверин. — Они слили бензин. Пока разыскивали бензозаправщик, бой приблизился к самой границе аэродрома. Тогда отряд парашютистов проник в тыл к голландским солдатам и открыл там бешеную стрельбу. Голландцы отступили. Летчики спокойно вытянули на полосу неуклюжие «спитфайры», запустили моторы и взлетели, взяв курс на восток. В кабине Вайдеман ощутил чужой, резкий запах ацетона. Некоторое время он дышал ртом. На приборной доске система обозначений была английской, и пришлось мысленно переводить ее в метрическую. Самолет могуче набрал скорость, и Вайдеман, пробив облачность, даже зажмурился от света, который сразу залил всю кабину. На востоке уже рассвело, и вот-вот собиралось показаться солнце. Внизу колыхались желтоватые облака. «Спитфайры» выскакивали из них, качаясь с крыла на крыло... А еще через день, 10 мая 1940 года, у самолетов 51-й бомбардировочной эскадры[144] были закрашены опознавательные знаки люфтваффе. Летчики этой эскадры отличались особым усердием, но даже им не сообщили о цели полета и маршруте. Они вышли из своих казарм в абсолютной темноте, надели парашюты, заняли места в кабинах и по радио доложили о готовности на флагманский корабль командиру эскадры полковнику Йозефу Каммхуберу[145]. — Превосходно, парни, — сказал Каммхубер (в эскадре он был за панибрата). — Держитесь тесней за мной. Навигационных огней не зажигать. Бомбить по моей команде. Я скажу одно слово «этуаль», по-французски — «звезда». Через пять минут полета поворачиваем обратно. Взревели моторы. Прожекторы на мгновение осветили взлетную полосу. Самолеты, тяжело груженные бомбами, оторвались от земли. Штурманы догадались, что они летят к границе Франции. На картах они привычно чертили курс, вели счисление по времени и скорости полета, передавали летчикам записки с поправками. И вот в тишину эфира ворвался голос Каммхубера. — Этуаль! Руки привычно легли на рычаги бомболюков. Самолеты подбросило вверх — так бывает всегда, когда они освобождаются от груза бомб. Бомбы со свистом понеслись вниз и врезались в крыши спящих домов. Так погиб немецкий город Фрейбург. Пропагандистский повод к нападению на Францию был обеспечен. Геббельс объявил о злодейском нападении противника на мирный германский город. В пять часов тридцать пять минут того же дня танковая группа Клейста ринулась через Люксембург и Арденны на Седан и Амьен к Ла-Маншу. Группа армий фон Бока вторглась в Голландию и Бельгию, отвлекая на себя основные силы французов. Армия фон Лееба ударила по линии Мажино. Через семь дней премьер-министр Франции маршал Петен запросил перемирия. Оно было подписано в том же самом Компьенском лесу в специально привезенном сюда по распоряжению Гитлера салон-вагоне маршала Фоша, в котором совершалась церемония подписания перемирия в 1918 году...2
...Веяло теплом. Пауль Пихт, прилетевший с генералом Удетом на парад по случаю победы над Францией, прямо с аэродрома Ле-Бурже поехал в центр Парижа. Он оставил машину на набережной Сены рядом со знаменитой Эйфелевой башней. В Париже он был всего один раз вскоре после войны в Испании. Но он так много знал об этом городе, что все казалось давно знакомым — и бесчисленные кафе, где добрые и веселые французы проводили время за чашкой кофе или бутылкой дешевого вина, и каштаны, посаженные вдоль широких тротуаров, и запах миндаля, и заводик великого авиатора Блерио на берегу Сены, и громадное подземелье Пантеона, освещенное голубым светом, с могилами Вольтера и Руссо, Робеспьера и Жореса, и собор Парижской богоматери с химерами, которые зло и печально смотрели с высоты на медленно текущую толпу. Пихт всмотрелся в мелькающие лица. Нет, парижане остались парижанами. Война как будто прошла мимо них. Он вступил на подъемник Эйфелевой башни и приказал служителю поднять его наверх. Когда он сошел с лифта на балкон, то услышал вой ветра. Парижское небо словно сердилось на чужаков из воинственной северной страны. Башня раскачивалась. Город и далекие окраины казались зыбкими, неустойчивыми, как и пол под ногами, исшарканный миллионами ног. На верхний балкон башни поднялась группа офицеров. Среди них Пихт увидел Коссовски и начальника отдела в «Форшунгсамте» Эвальда фон Регенбаха. — Я не замечаю в вашем обществе всемогущего шефа, — пожимая Паулю руку, проговорил Регенбах. — Он уехал с Мильхом в штаб-квартиру фюрера. — Разве фюрер уже в Париже? — Нет, но его ждут с часу на час. — Кстати, Пауль, — вмешался Коссовски, — ты не видел Вайдемана? Он тоже будет на параде, и Зейц. — Вот уж, действительно, собираются старые друзья, — улыбнулся Пихт. — Ты где остановился? — В «Тюдоре». Там отвели генерал-директору апартаменты. — Вот как! Там же и мы остановились, и Вайдеман, и Зейц... В небе послышался гул моторов. Над Парижем в сопровождении «мессершмиттов» пролетел трехмоторный «юнкерс». Он заложил вираж, сделал круг, словно накинув петлю на шумный и беспечный город. Это летел Гитлер. — Скажите, Коссовски, что вы думаете об Удете и его окружении? — спросил Регенбах, когда Пихт, простившись, спустился вниз. — Кажется, генерал много пьет и заметно поглупел. — Даже пьяный Удет не скажет и не сделает ничего компрометирующего. Он абсолютно лоялен. — Может быть, может быть, капитан. Но меня интересует не глупый генерал, а его умный адъютант. Вы, я заметил, лично знакомы с Пихтом? Расскажите мне о нем. Давно хотел порыться в картотеке, но сейчас решил, что ваш проницательный ум, Зигфрид, откроет мне больше любых характеристик. Вы друзья? — Мы встречались в Испании. Там Пихт воевал вместе с известными вам Мельдерсом и Вайдеманом. Там и удостоен Железного креста. — Храбро воевал? — Не видел. Я ведь в боях не участвовал. А по их словам, они все орлы, Как вы заметили, Пихт исключительно приятный в общении человек. С теми, кто ему полезен. С посторонними и подчиненными он резок, даже, пожалуй, нагл. Впрочем, наглость импонирует некоторым политикам, как развязность дамам. — Женат? — Холост. — Родители живы? — Воспитанник сиротского дома в Бремене. — С Удетом он познакомился в Испании? — Нет. В Стокгольме, когда Удет был на гастролях в Швеции. Удет взял Пихта к себе механиком, ввел в клуб Лилиенталя и научил летать. Регенбах засмеялся: — Лоялен? — Безусловно, предан партии. Обязан ей своей карьерой. И характер у него истинного наци. Ницшеанский тип, если хотите. Обожает фюрера и поклоняется ему. На мой взгляд, искренне. А почему бы нет? Регенбах не ответил. Он задумчиво разглядывал Париж. Вдруг он снова повернулся к Коссовски: — Вы знаете о том, Зигфрид, как ловко Пихт топит Хейнкеля? Хейнкеля не любит Гиммлер. — Почему топит? — Маленький подслушанный мною разговор. — Вы считаете, Пихт работает на гестапо? — Я спрашиваю вас. — Ну что ж, коль скоро он не работает на нас, должен же он на кого-то работать. Ведь кто-то приставил его к Удету. — Вы мудры, Зигфрид. Но ведь мог бы он работать и на нас. Не правда ли? Как часто вы с ним встречаетесь? — У нас мало общих знакомых, — ответил Коссовски. — Напрасно. Таких людей не следует выпускать из поля зрения.3
Пихт увидел Вайдемана на параде в честь победы над Францией. Вечером они договорились встретиться в «Карусели». В этом фешенебельном ресторане немецкие офицеры чувствовали себя довольно уютно. Чужих туда не пускали. Скандалов не было. Вайдеман уже неделю жил в Париже, и в «Карусели» его знали все, и он знал всех. И Вайдеман и Пихт обрадовались встрече. В последние месяцы (что ни месяц, то новая война!) им было не до переписки. На письмо Пихта, полученное в Голландии, Вайдеман так и не собрался ответить. — Что-то тогда стряслось, Пауль. Какая-то мало приятная история. — На лбу Вайдемана собрались тремя рядами окопов морщины. — Черт возьми, действительно я забыл, что тогда стряслось. — Да брось ты вспоминать! Не все ли равно?! Ну, закрутился с какой-нибудь прекрасной цветочницей. Выпьем, Альберт, за тюльпаны Голландии! За желтые тюльпаны Голландии! — Пихт уже был заметно навеселе. — Нет, Пауль, подожди. Я вспомнил! Это были не тюльпаны. Красные маки. Целое поле красных маков. И оттуда стреляли. — Война, — лаконично заметил Пихт. — Нет, не война, Пауль. На войне стреляют люди. А стреляли не люди. Красные маки. Там больше никого не было. Мы прочесали все поле, Пауль. Стреляли красные маки! — Выпьем за красные маки! — Подожди, Пауль. Они ранили генерала Штудента. В голову. Он чудом остался жив. И я чудом остался жив. Я стоял от него на шаг сзади. Клемп стоял дальше, а его убили. — Выпьем за Клемпа! Зря убили Клемпа! Дурак он был, твой Клемп. Ему бы жить и жить. — Пауль, ты знаешь меня. Я не боюсь смерти. Я ее навидался. Но я не хочу такой смерти. Пуля неизвестно от кого. Чужая пуля. Не в меня посланная. Может, я просто устал, Пауль? Третья кампания за год. Польша. Голландия. Франция. — Вайдеман наклонился к Пихту, стараясь поймать выражение его стеклянных колючих глаз, но тот смотрел на сцену, на кривляющегося перед микрофоном известного шансонье. Подергивая тощими ногами, тот пел по-французски немецкую солдатскую песню: «Мир сед, мир дряхл, раскроим всем черепа. Шагай бодрей, Рахт, девчонки ждут тебя»... — Слушай, Пауль, — Вайдеман понизил голос, — Зейц теперь служит у Мессершмитта? — Именно. Но не у Мессершмитта. У Гиммлера. Он отвечает за секретность работ. А на черта тебе сдался Зейц? — Не кажется ли тебе, что я прирожденный летчик-испытатель? Пихт отвернулся от сцены, заинтересованно поглядел на Вайдемана. — Ай, Альберт, какой позор! Тебе захотелось в тыл. Поздравляю! — Да ты что, Пауль! — вспылил Вайдеман. — Я пошутил, полигон тоже не сахар и хорошие летчики там нужны... Но Зейц тебе не поможет. Мессершмитт его не очень жалует. — Значит, пустое дело? — С Зейцем пустое. Но почему бы тебе не попросить об этой маленькой услуге своего старого друга Пихта? Пихт не такая уж пешка в Берлине. — Пауль! — Заказывай шампанское и считай, что с фронтом покончено. Завтра я познакомлю тебя с Удетом, и пиши рапорт о переводе. Я сам отвезу тебя в Аугсбург. Только допьем сначала, старый дезертир! Вайдемана передернуло: — Если ты считаешь... — Брось сердиться, Альберт! Я же сам стал тыловой крысой. И если тебя тянет в Германию, то меня порой тянет на фронт. Хочется дела, Альберт. Настоящего дела! — Пихт встал, он шатался. — Выпьем за настоящее дело! За настоящую войну, черт возьми! Когда Пихт сел, Вайдеман снова потянулся к нему: — Пауль, а тогда, в последние дни Испании, ты знал, что Зейц работает на гестапо? — И в мыслях не держал. — Вот и я тоже. — Только однажды, — пьяно ворочая языком, проговорил Пихт, — произошла одна штука. Но тебя, к счастью, она не коснулась. Ты был на другом аэродроме. Она коснулась Зейца, меня и Коссовски... — А вот, кстати, и они, — сказал Вайдеман, пытаясь подняться навстречу Зейцу и Коссовски. Высокий и худой Коссовски был в форме офицера люфтваффе, Зейц — в штатском. — Чудесный ресторанчик, — рассмеялся Зейц, наливая рюмки. — И прекрасно, что сюда не шляются французы. — Хорошо бы нам остановиться на Франции, — задумчиво проговорил Коссовски, рассматривая на свет игристое вино. — Нас, немцев, всегда заводит хмель побед так же далеко, как это шампанское. — Нет, фюрер не остановится на полпути! — ударил кулаком Зейц. — Значит, «Идем войной на Англию, скачем на Восток», — напомнил Коссовски нацистскую песенку. — Сила через радость — так думает фюрер, так думаем мы. — Зейц поднял бокал. — Я вспомнил оду в честь Вестфальского мира, — не обращая внимания на Зейца, продолжал Коссовски. — Пауль Гергардт написал о наших воинственных предках и господе боге вскоре после Тридцатилетней войны, кажется, так:4
Утром в отеле «Тюдор» он поймал себя на том, что думает по-русски. В первую минуту это огорчило его. Никаких уступок памяти, так можно провалиться на пустяке! Но чем меньше времени оставалось до назначенного часа, тем слабее он сопротивлялся волне нахлынувших воспоминаний, далеких тревог и забот. Машинально он завязал галстук, одернул пиджак. «Как же вчера скверно сработал Виктор с этой дарственной бутылкой вина... Он бы мог найти менее рискованный путь предупредить меня... Или уже не мог? Он боялся, что я пойду на явку сразу же и провалюсь...» Никогда еще нервы его не были так возбуждены, мысли так непокорны, движения безотчетны. «Хорошеньким же птенцом я окажусь... Взять себя в руки! Взять! Я приказываю тебе!» Глядя на себя в зеркало, он пытался погасить в глазах тревогу. — А штатское вам идет, — сказала, кокетливо улыбаясь, горничная. «Врет, дура, врет». Он механически коснулся ее круглого подбородка. — Штатское мне не идет. А идут серебряные погоны. Откуда ты знаешь немецкий? — Я немка и здесь исполняю свой долг. Он отвернулся, снова уставился в зеркало, чтобы увериться в своем нынешнем облике, чтобы отвязаться от назойливой мысли, что вот сейчас он выйдет, бесповоротно выйдет из роли. «Пятая колонна, проклятая пятая колонна...» — Жених на родине? — Убили его партизаны в Норвегии. Перед смертью он прислал открытку. Вот поглядите. — Горничная из-под фартука достала чуть смятую картонную карточку, изображавшую королевский дворец в Осло — приземистый замок из старого красного кирпича и посеребренные краской сосны. Почему-то эта фотография помогла ему взять себя в руки. — Не горюй, женихов на фронте много. Всех не убьют. Париж взяли, скоро войне конец. — Не надо меня утешать. Я-то знаю, война только начинается. Скоро мы, немцы, пойдем на Восток! — Ух какая ты воинственная! — сказал он и направился к двери. Он взял такси и попросил отвезти в Версаль. Но на полдороге вышел у ювелирного магазина, долго стоял у прилавка, любуясь камнями и колеблясь в выборе. Выбрал, наконец, камею на розоватом сердолике. — Одобряю выбор, месье. У вас хороший вкус. Невеста будет довольна, — затараторил чернявый бижутьер. «Почему невеста? Почему не жена?» — удивился он галантной проницательности продавца. Он сказал шоферу, что раздумал смотреть Версаль и хочет вернуться в Париж. Через час он стоял перед тем самым домом на бульваре Мадлен, о котором ему сказал гарсон Виктор в «Карусели». Это была вторая, последняя явка. Он еще раз прошелся по бульвару, терпеливо оценивая прохожих, и вошел в подъезд. Третий этаж. Бесшумно открывается дверь. — Господин де Сьерра! «Зяблов, это же Зяблов! Живой, всамделишный Зяблов!» — Прошу вас. — Господин де Сьерра подвел гостя к двери в другую комнату и тихо, но ощутимо сжал его плечо... — Ну, здравствуй, Март, рад видеть тебя живым, — проговорил де Сьерра, когда они вошли. — Здравствуйте, Директор, — сказал он по-русски и подумал, что эта небольшая передышка, пожалуй, крошечная полоска света во враждебном мраке окажется экзаменом более строгим и жестоким, чем все перенесенные испытания. И вовсе неважно, что Зяблов — учитель по спецшколе и командир — зовется сейчас «Директором», а он, Мартынов, — «Мартом». Он не слышал родного языка больше двух лет, он не видел родного лица больше двух лет, он не знает, чем живет родина больше двух лет, и не получал из дома писем больше двух лет. А этот срок слишком долгий даже для его профессии. — Вам известно, как Виктор предупредил меня в «Карусели»? — спросил Март. — Да. Но другая явка провалена, и Виктору пришлось рисковать. — Вы знаете, что война идет к нашим границам? — Спокойно, Март, — проговорил Зяблов. — Слушай меня внимательно, времени для свиданий у нас мало... Итак, будем считать, что первая часть задания выполнена тобой образцово. Крыша у тебя надежная. О твоем отчете по Испании в Центре знают. Твои сообщения о новых видах оружия нельзя недооценивать. Все, что тебе удастся узнать в этом плане, держи особо. Но никакого риска. Всякая мало-мальски рискованная операция сейчас, когда с Германией заключен пакт о ненападении, абсолютно исключается. — Да ведь фашисты теперь бросятся на нас! — Хочешь знать мое личное мнение — слушай. Да, война приближается к нашим границам. Близится решающая схватка. Кроме нас, шею Гитлеру никто не свернет. Это нам обоим ясно. И не только нам. А значит? Мы должны находиться в состоянии полной боевой готовности. И поэтому не имеем права рисковать ни одним человеком! Во время войны он будет во сто раз полезнее. — Нас мало. — Этого ты не знаешь. А может, и я не знаю. Но не забывай — за коммунистов голосовало пять миллионов немцев. Это враги нацизма. Это твои союзники, помощники, твоя опора. Связь с коммунистическим подпольем осуществляется и будет осуществляться. Но я считаю, пока — подчеркиваю, пока — тебе нужно стоять в стороне от подполья. Работай в одном канале—люфтваффе. Новые самолеты, новые моторы, новое вооружение. Сконцентрируйся на Аугсбурге. Мы подберем там тебе помощника. Когда начнется война, выйдешь на связь с Перро. В третий, шестой, двенадцатый и так далее день войны ты встретишься с Перро в Тиргартене, на пятой аллее налево от центрального входа в семь часов вечера. Имей при себе свежий номер «Франкфуртер Цейтунг». Пароль: «Дядя Клаус». У Перро будет программа Берлинского ипподрома. Подчеркнута третья лошадь в четвертом заезде. Получишь у него код, данные на выход. Остальное — по обстановке. Действуй самостоятельно. Перро — это связной Центра, надежный человек. Он ненавидит фашистов, как и мы. Во что бы то ни стало обзаведись собственным передатчиком. Время у тебя есть. Ясно? — Понятно. К выполнению задания готов. — Хорошо, Март, — Зяблов встал. — Командирован ты, считай, до дня победы. Дату поставишь сам. Верю: увидимся. Самый никудышный разведчик — мертвый разведчик. Ты нам нужен живой. Когда Март снова появился на улице, солнце садилось. Весь вечер он бродил по городу. «Бош! Бош! Бош! Победитель в стане поверженных». В темно-синем безоблачном небе по гирляндам опознавательных огней угадывалась Эйфелева башня. Париж бесстрастно отдавал победителям свои огни, свои запахи, свою неповторимость. Под Триумфальной аркой, не затухая, плескался скорбный огонь на могиле Неизвестного солдата. И рядом, на карауле, ноги врозь, под сверкающей каской — неживое лицо — стоял, сторожа его, пленного, коричнево-рыжий в рекламном зареве солдат фатерланда. Площадь Звезды... Расходятся, разбегаются асфальтовые лучи... И один луч, пересекая Германию, пересекал всю Европу, тянулся к России, к Москве, на Красную площадь. Март пошел на восток по бульвару Гюисманса. Пошел навстречу своим, ожидая их, воюя рядом с ними.ПРЕКРАСНАЯ ЭРИКА И РЮБЕЦАЛЬ
1
По утрам оберштурмфюрер Вальтер Зейц настраивал себя на такие мысли и поступки, которые были присущи только должностному лицу. Даже поиски невесты он рассматривал как сугубо служебное дело. Рабочий день его начинался кропотливым разбором почты. Самому Зейцу мало кто писал: родных не осталось, берлинские приятели не вспоминали о нем. Мешок писем и бандеролей приносил ежедневно одноглазый солдат из военной цензуры. Осуществляя негласный надзор за душами служащих Мессершмитта, Зейц был в курсе многих глубоко интимных дел жителей Лехфельда. По утрам он подыскивал себе невесту. Просмотр корреспонденции лехфельдских девиц заметно сузил круг претенденток. Все чаще его внимание задерживалось на письмах Эрики Зандлер. Дочь профессора вела исключительно деловую переписку: обменивалась опытом с активистками Объединения немецких женщин. Среди ее корреспонденток была сама фрау Шольц-Клинк, первая женщина Новой Германии. Из писем явствовало, что фрейлейн Эрика готовит себя в образцовые подруги истинного рыцаря третьего рейха. Личные наблюдения еще более расположили Зейца к Эрике. Будущая невеста была пышна, строга, то есть выдержана в лучших эталонах арийской красоты. Зейц уже предпринял ряд шагов к сближению с прекрасной Эрикой. Он буквально вынудил профессора приглашать его к себе в дом, пользуясь тем, что Зандлер испытывал перед гестаповцем непобедимую робость. Зейц не помнил случая, чтобы его ученый коллега хоть раз осмелился взглянуть ему в глаза. Он снова и снова возвращался к профессорскому досье. Нет, у Зандлера не было абсолютно никаких причин тревожиться за свое прошлое. У него даже были заслуги перед фюрером: он был одним из первых конструкторов Мессершмитта, вступивших в нацистскую партию. Его партийный формуляр отличался исключительной аккуратностью, свидетельствовал о безупречном выполнении всех партийных распоряжений. Никого, кроме сослуживцев, профессор не принимал, ни с кем не переписывался... Что это? Страх? Глубокое подполье? Нет, для подпольщика он трусоват. Во всяком случае, Зейц был уверен, что стоит как следует нажать на профессора, и он расползется студнем... К сожалению, Зандлер и дома оставался таким же бесхребетным существом. Отцовская власть не отличалась деспотизмом. Главе семьи разрешалось обожать свою Эрику. Не больше. Дочь с пятнадцати лет росла без матери и если кому доверяла, то разве что секретарше Ютте, девице, на взгляд Зейца, малопривлекательной, к тому же излишне острой на язык. Своенравная Эрика возвела Ютту в сан домашней подруги и наперсницы. Эта «кукольная демократия» особенно злила Зейца, когда перед посещением дома Зандлера он покупал в кондитерской не одну, а две коробки конфет. Но что делать! Претендент на руку прекрасной Эрики должен покорить сразу два сердца. Машинально сортируя конверты, Зейц думал о том, что стоило бы сегодня вечером намекнуть Ютте на солидное вознаграждение в случае удачного сватовства. Неплохо бы и припугнуть девчонку. Кстати, при умелой обработке можно было бы использовать ее и для слежки за домом Зандлера. Мало ли что... Уж больно пуглив этот профессор. Из его бюро давненько не поступало заявок на обеспечение секретности испытаний. Чем они только там занимаются? Какую чепуху пишут люди друг другу! Находят время на всякий вздор. Натренированный глаз Зейца, равнодушно прочитывающий письмо за письмом, вдруг зацепился за нужный адрес: фрейлейн Ютте Хайдте пишут из Берлина. Любопытно! Ну конечно, тетя! Кто же еще? Отчего бы бедной девушке не иметь в Берлине такую же бедную тетю? Тетя Хайдте обеспокоена здоровьем своей крошки и просит ее не забыть день памяти бедного дядюшки Клауса, который очень ее любил и всегда читал ей сказки о Рюбецале — гордом и справедливом духе. Маленькая Ютта, оказывается, горько плакала, слушая эту сентиментальную размазню: Рюбецаль! Уж сегодня из фрейлейн Ютты слезы не выжмешь. Разве что ему самому взяться за это дело? Рюбецаль, Рюбецаль... Бедный дядюшка Клаус! Надо будет заняться племянницей. Рюбецаль! Лезет же в голову всякая дрянь!.. Зазвонил телефон. Говорил секретарь Мессершмитта. Шеф приглашал к себе. Зейц подобрался. Подобные приглашения случались не часто. За полтора года службы Зейц так и не уяснил себе истинного отношения к нему шефа. Мессершмитт всегда принимал и выслушивал его с исключительно серьезным деловым видом. Ни проблеска улыбки. Эта-то серьезность по отношению к довольно мелким делам, о которых был вынужден докладывать Зейц, и заставила его подозревать, что шеф просто издевается над ним, по-своему мстит за то, что не может ни уволить его, ни заменить, ни, тем более, ликвидировать его должность. Между тем за полтора года Зейцу так и не представилось случая доказать свое рвение. В тщательно отлаженном механизме фирмы он казался ненужным колесом. Всех недругов, как явных, так и тайных, Мессершмитт выгнал задолго до появления Зейца в Лехфельде. Случаев саботажа и диверсий не было. За политическим настроением служащих следил, опять же помимо Зейца, специальный контингент тайных доносчиков. Взять контроль над ними Зейцу не удалось, и он начал исподволь плести свою сеть осведомителей. Из Берлина штандартенфюрер Клейн регулярно высылал выплатную ведомость на агентуру. И хотя Зейц давно привык считать особый фонд своей добавочной рентой, список завербованных на случай ревизии должен быть наготове. Каждый раз, перед тем как идти к шефу, Зейц на всякий случай пробегал его глазами. Кадры надо знать... В кабинете Мессершмитта Зейц увидел старых знакомых — Пауля Пихта и Альберта Вайдемана. Мессершмитт всем корпусом повернулся навстречу Зейцу. Как видно, он только что закончил демонстрацию свой победоносной панорамы. — Господин Зейц, насколько я понимаю, мне нет необходимости знакомить вас с нашим новым служащим капитаном Вайдеманом. Я полагаю, вы знакомы и с лейтенантом Пихтом, который, увы, никак не соглашается отказаться от берлинской суеты ради наших мирных сельских красот. Я попрошу вас, оберштурмфюрер, взять на себя, неофициально конечно, опеку над своими друзьями. Господину капитану не терпится взглянуть на нашу площадку в Лехфельде. Господин лейтенант также выражает желание совершить загородную прогулку. Поезжайте с ними. Кстати, представьте господина Вайдемана господину Зандлеру. Капитан прикреплен в качестве ведущего летчика-испытателя к конструкторскому бюро Зандлера... — Простите. Разве господин Зандлер делает самолеты? Что-то я не видел его продукцию. — Увидите, Зейц. Увидите. За полтора года вы могли бы заметить, что мои заводы делают самолеты, и только самолеты. И все мои служащие заняты исключительно этим высокопатриотическим делом. Господин Вайдеман, господин Пихт, буду счастлив видеть вас у себя...2
В машине было душно. Вайдеман опустил стекло, подставил голову под прохладную струю ветра. С шелестом взлетали прошлогодние листья. Мимо проплывали холмистые дали, темные буковые и дубовые леса. Мелькали деревушки — в палисадниках дремали домики, придавленные черепичными крышами, сонные коровы брели по асфальтированным улицам, так же сонно били в колокол кирхи, и крестьяне лениво убирали навоз... «Все складывается замечательно. Главное — обжиться», — подумал Вайдеман. Мелькнули два указателя. На одном было написано: «Дахау». На другом: «Лехфельд». Зейц свернул вправо. Дорога нырнула в буковый лес. Пронесся позеленевший от мха замок с затянутым тиной болотцем, через который был переброшен каменный арочный мост. Блеснула вывеска: «Добрый уют». Из полусумрака леса машина выкатила на равнину. Впереди острыми зубьями крыш краснел Лехфельд. Зейц направил «мерседес» к аэродрому. На обочине дороги выросли каменные белые кресты с самолетными винтами. Пихт похлопал Вайдемана по плечу: — Это неудачники, Альберт. А нам пока везет. Машина остановилась у бетонного одноэтажного здания с маленькими, словно бойницы, окнами. Служащий охраны козырнул офицерам. Вайдеман, выпрямившись, вошел в здание. «Ну, теперь держись, раб божий!» Все трое прошли по темному коридору в самый конец и открыли тяжелую, обитую кожей дверь. Первое, что почувствовал Вайдеман, это был тяжелый запах прокуренного кабинета. — Вы поторопились, господа. Похвально, — сказал Зандлер. Вайдеман почувствовал, как сухая рука Зандлера стиснула его руку, а выцветшие светлые глаза вонзились в его лицо. «Вот кому я доверяю свою судьбу». — Вам, капитан, сейчас придется позаниматься. Вы должны изучить совершенно новые области аэродинамики и устройство самолета, на котором будете летать. Время у вас пока есть. — Не совсем понимаю вас, профессор. — Потом поймете. — Зандлер положил руку на мускулистое плечо Вайдемана. — Вам не терпится поглядеть на самолет? Идемте. Профессор повел пилотов в ангар, охраняемый двумя солдатами. — Обождите меня здесь. Вайдеман, Пихт и Зейц остановились у входа. Зандлер приказал снять чехлы, потом подошел к распределительному щитку и включил рубильник. Яркий свет залил ангар. У Вайдемана перехватило дыхание — в центре ангара на высоко поднятых шасси стоял серебристый самолет. — Вот он, «Альбатрос», — торжественно объявил Зандлер, и металлическое эхо прокатилось по ангару. Крылья «Альбатроса» уходили назад. Акулоподобный нос как бы рассекал воздух. Фонарь плавно закруглялся, так что летчик хорошо мог осматривать и переднюю и заднюю полусферу. Зандлер любовно провел рукой по отглаженному, с заточенными заклепками крылу самолета: — Как видите, «Альбатрос» создан для большой скорости. Стабилизатор поднят, чтобы не попадал под горячие струи двигателей. Киль, как и крылья, скошен назад для уменьшения лобового сопротивления воздуха. Корпус машины — планер — готов выдержать скорости, близкие к звуковым, а также перегрузки, которые могут возникнуть при фляттере или при выходе машины из пике. Вайдеман поднялся по стремянке, открыл фонарь и опустился на прохладное, твердое сиденье. Яркие зеленые стрелки мерцали на черных циферблатах приборов. Высотомер, компас, радиокомпас, указатель скорости, счетчик боезапаса... Все на месте. Но где указатели работы двигателей? Ага, вот они... Но совсем не похожи на те, что привык он видеть на винтомоторных машинах. Вместо сложной системы секторов с рукоятками шага винта, газа и качества топливной смеси здесь был только один легко передвигающийся рычаг подачи топлива. А работа двигателей контролировалась указателями температуры газов за турбинами, маметром[146] и расходометром топлива. Ногой Вайдеман надавил педаль, она послушно сдвинулась. Покачал ручкой — на концах крыльев колыхнулись элероны... — Хорош «Альбатрос»! Пора посмотреть его в воздухе. За чем же задержка, профессор? Зандлер похлопал рукой по обтекателю двигателя. Гулко, как бочка, отозвалась пустота. — Нет моторов, капитан. Они нас чертовски держат...3
Да, двигатели сильно задерживали работу Зандлера над «Альбатросом». Ни одна машина не делала истории, пока ее не обеспечивали мотором. Как раз здесь и находилась ахилесова пята новой реактивной авиации. Десятки моделей разлетались в прах на испытаниях. Инженеры искали надежный металл и горючее. Искали и гибли, как погиб Макс Вальс, опробуя ракетные автомобили и дрезины, как взорвался вместе с лабораторией и лаборантами университетский друг Зандлера Тиллинг во время опытов с горючим. На фирме «Юнкере» проектировал двигатель доктор Франц. Он рассчитывал его на тягу 600 килограммов при скорости полета 900 километров в час и на горючее — дешевое дизельное топливо. Пока Франц строил свой двигатель «109-004», Мессершмитт приказал поставить на «Альбатрос» двигатели фирмы «БМВ». Они делались в Шпандау. Их привезли в Лехфельд, на стендах замерили тягу. Получилось двести шестьдесят килограммов. Зандлер сообщил об этом шефу по телефону. — Да это же примус, черт возьми! — выругался Мессершмитт. — Я не могу рисковать планером, устанавливая на него двигатели «БМВ», — сказал Зандлер. Мессершмитт задумался. Видно, какое-то обстоятельство его сильно торопило. — Нет, профессор, вы должны поставить их на «Альбатрос». — «Альбатрос» не взлетит! — Должен взлететь! Новая авиация стучится в двери, Иоганн, и нам надо спешить, каких бы затрат это ни стоило. — Я не могу рисковать, — упрямо проговорил Зандлер. — Слушайте меня внимательно, профессор. — Зандлер уловил в голосе шефа железные нотки. — Делайте три модели планера. Две мы развалим на этих движках, третью сбережем для двигателей Франца — должен же он когда-нибудь их построить... Зандлеру ничего не оставалось, как подчиниться. Испытателем «Альбатроса» с двигателями «БМВ» он назначил нового летчика — капитана Вайдемана.4
Было еще темно и очень холодно, когда Вайдеман в сопровождении техника и дублера выехал к самолету. «Альбатрос» стоял в самом конце взлетной полосы. Возле него возились инженеры и механики с отвертками, ключами, измерительными приборами. — Как заправка? — Полностью, господин капитан, — ответил из-под фюзеляжа механик Карл Гехорсман. Вайдеман не спеша надел парашют, подогнал ремни и залез в кабину. За время, проведенное в Лехфельде, он изучил каждую кнопку, переключатель, винтик и мог отыскать их с закрытыми глазами. Днями просиживая в кабине, он мысленно представлял полет, почти до автоматизма отрабатывал свои действия в любой сложной комбинации. Но сейчас, когда, удобно устроившись в кабине, он взялся за ручку управления машины, то почувствовал неприятную дрожь в пальцах. Тогда Вайдеман опустил руки и несколько раз глубоко вздохнул — это всегда помогало успокоиться. «Не валяй дурака, представь, что ты на привычном «Ме-109». Представил? Отлично». Он включил рацию и в наушниках услышал близкое дыхание Зандлера. — Я «Альбатрос», к полету готов, — сказал Вайдеман. — Хорошо, Альберт. Итак, задача у вас одна — взлететь и сесть. Не вздумайте делать чего-нибудь еще. — Понимаю. — И внимательно следите за приборами. Запоминайте малейшие отклонения. — Разумеется. — К запуску! Вайдеман включил кнопку подачи топлива в горючие камеры двигателей. Через несколько секунд загорелись лампочки-сигнализаторы. За фонарем зарокотал моторчик стационарного пускача. Глухо заверещали лопатки компрессоров. Альберт включил зажигание. «Альбатрос» вздрогнул. Оглушил резкий, свистящий рев. Машина, удерживаясь на тормозах, присела, как бегун перед выстрелом стартера. На приборной доске ожили стрелки. Вайдеман протянул руку к тумблерам, щелкнул переключателями, проверяя приборы, еще раз окинул взглядом свою тесную кабину... «Кроме всего, что ты знаешь, нужна еще удача», — подумал он и нажал кнопку передатчика: — Я «Альбатрос», прошу взлет. — Взлет разрешается. Ветер западный, десять километров в час, давление семьсот шестьдесят... Привычное сообщение Зандлера успокоило пилота. Вайдеман отпустил тормоза, двинул ручку подачи топлива вперед. Двигатели взвыли еще сильней, но не увеличили тяги. Ручка уже уперлась в передний ограничитель, вой превратился в визг. Наконец истребитель медленно тронулся с места. Компрессоры на полных оборотах, температура газов за турбинами максимальная... Но самолет нехотя набирает скорость. На лбу пилота выступают капельки пота. Вайдеману не хватает рева винта, упруго врезающегося в воздух, тряски мотора, в которой чувствуется мощь. На поршневом истребителе Вайдеман давно был бы в воздухе, но этот «Альбатрос» уже пробежал больше половины взлетной полосы, раскачиваясь, вздрагивая и не выказывая никакого желания взлететь. Вайдеман торопливо потянул ручку на себя. Нос самолета приподнялся, но встречный поток не в силах был подхватить тяжелую машину с ее короткими, острыми крыльями. Уже близок конец полосы, виден редкий кустарник, за ним — ореховый лес. И тут Вайдеман понял, что машина уже не взлетит. Машинально он убрал тягу. Завизжали тормоза. В одном двигателе что-то булькнуло и бешено застучало. Самолет рванулся в сторону. Вайдеман попытался удержать его на полосе, двигая педалями. Единственное, что ему надо было сделать сейчас, это спасти дорогостоящий самолет от разрушения, погасить скорость. «Альбатрос» пронесся к кустарнику, рванул крыльями деревца, шасси увязли в рыхлой, болотистой земле. Вдруг стало нестерпимо тихо. Правый двигатель задымил черной копотью. Через несколько минут до слуха донесся вой санитарной и пожарных машин. «Не надо показывать страха...» Вайдеман провел ладонью по лицу, расстегнул привязные ремни. — Что случилось, Альберт? — Зандлер выскочил из открытой легковой машины. — Об этом вас надо спросить, — ответил Вайдеман, садясь на сухую кочку. Его бил озноб. — Двигатели не развили тяги? — Конечно. Они грохотали так, как будто собирались выстрелить, но скорость не двинулась выше ста, и я стал тормозить в конце полосы, чтобы не сыграть в ящик. — Вы правильно сделали, Альберт. Едемте ко мне! Вайдеман сел рядом с Зандлером. Машина выбралась на бетонку и понеслась к зданию конструкторского бюро. — Значит, двигатели не выдержали взлетного режима, — как бы про себя проговорил Зандлер, закуривая сигарету. — Сейчас же составьте донесение и опишите подробно весь этот неудачный взлет. А потом садитесь за аэродинамику и руководства по «Альбатросу». К несчастью, времени у вас опять будет много...5
О чем может думать энергичная и миловидная двадцатитрехлетняя девушка, смахивая пушистой заячьей лапкой невидимую глазу пыль с полированной мебели в чужой квартире? О том, что свою квартиру она не стала бы заставлять подобной рухлядью? Но своя квартира, увы, не достижима даже в мечтах. Пожалуй, если почаще улыбаться господину... Но нет, хоть и нетрудно прочесть все эти мысли на затуманенном девичьем лице, дальше подсматривать неприлично. Сторонний наблюдатель, взявшийся бы разгадать нехитрый по всему ход мыслей в хорошенькой головке фрейлейн Ютты, уже третий год работающей секретаршей у профессора Зандлера, был бы возмущен и удивлен, доведись ему на самом деле узнать, о чем же размышляет фрейлейн Ютта во время ежедневной уборки. Возможно, что он даже забросил бы все свои дела и разыскал среди жителей Лехфельда некоего господина Зейца. Того самого Зейца, что носит на черном мундире серебряные нашивки оберштурмфюрера. Впрочем, Зейц не единственный гестаповец в городе... Так или иначе, но ни стороннему наблюдателю, ни господину Зейцу, ни даже фрейлейн Эрике, хозяйке и лучшей подруге Ютты, не дано знать, о чем же размышляет она в эти полуденные часы. И все потому, что фрейлейн Ютта не забивает свою голову пустыми мыслями о мебели и женихах. Размахивая пушистой лапкой, она усердно упражняется в переводе газетного текста на сложнейший цифровой код. Подобное занятие требует от девушки исключительного внимания, и естественно, что она может и не услышать сразу, как стучит в дверь нетерпеливая хозяйка, вернувшаяся домой с городских курсов домоводства. — О, Ютта, ты, наверное, валялась в постели! У нас будет куча гостей. Звонил папа. Он привезет каких-то новых летчиков и господина Зейца. — Как! Наш добрый черный папа Зейц?! Эрика, быть тебе оберштурмфюрершей. Будешь носить черную пилотку и широкий ремень. — Когда я вижу черный мундир, моя душа трепещет, — в тон Ютте засмеялась Эрика, — но Зейц... Он недурен, не правда ли?.. Есть в нем этакая мужская грубость... — Невоспитанность... — Нет, сила, которая... выше воспитания. Ты придираешься к нему, Ютта. Он может заинтересовать женщину. Но выйти замуж за гестаповца из нашего города?! Нет! — Говорят, у господина Зейца влиятельные друзья в Берлине. — Сидел бы он здесь! — Говорят о неудачном романе. Замешана жена какого-то крупного чина. Не то наш петух ее любил, не то она его любила... — Ютта, как ты можешь! Помоги мне переодеться. Да! Тебе письмо от тетки. Я встретила почтальона. Ютта небрежно сунула конвертик в кармашек фартука. — Ты не любопытна, Ютта. Письмо из столицы. — Ну что может написать интересного эта старая мышь тетя Марта! «Береги себя, девочка, кутай свою нежную шейку в тот голубой шарф, что я связала тебе ко дню первого причастия». А от того шарфика и нитки не осталось... Ну так и есть. Я должна себя беречь и к тому же помнить, когда окочурился дядюшка Клаус. — Ютта, ты невозможна! — Прожила бы ты с таким сквалыгой хоть год! Представляешь, Эрика, мне уже стукнуло семнадцать, а этот дряхлый садист каждый вечер читал мне вслух. Про белокурую фею, обманутую русалку и про этого несчастного духа, как же его... —Рюбецаля? — Точно. Рюбецаля. Имя-то вроде еврейское. — Ютта! — А я никого не оскорбляю. Еще неизвестно, кто этого Рюбецаля выдумал. Ютта подошла к высокому зеркалу в зале, высунула язык своему отражению, состроила плаксивую гримасу: — Эрика! Слушай, Эрика! А у тебя нет этой книжки? Про Рюбецаля. Дай мне ее посмотреть. Вспомню детство. — Вот и умница, Ютта. Я знаю, что все твои грубости — одно притворство. Я поищу книжку. — Я всегда реву, когда вспоминаю этого жалкого духа. Как он бегал один по скалам, и никому-то до него не было дела, и всем он опротивел и надоел. Вроде меня. Только он был благородный дух, а я простая секретарша, даже служанка. — Ютта, как тебе не стыдно! После всего... Сейчас же перестань! В конце концов, не забывай: в тебе течет чистая арийская кровь! Ну-ка улыбнись! Сейчас поищем твоего Рюбецаля! Оставшись одна, Ютта достала из фартука смятое тетушкино письмо, перечитала его и прижала к сердцу. — Итак, сегодня я увижу Марта, — сказала она себе.6
Уж чего совершенно не умел делать Иоганн Зандлер, так это веселиться. За бражным столом он чувствовал себя неуютно, как профессор консерватории на репетиции деревенского хора. Все раздражало и угнетало его. Но раздражение приходилось прятать за церемонной улыбкой. Улыбка выходила кислой, как старое рейнское, которым он потчевал летчиков. С тех пор как двенадцать лет назад фрау Зандлер завела обычай зазывать под свой кров «героев воздуха», профессор привыкал к вину, к этой дурацкой атмосфере провинциальных кутежей. Привыкал и не мог привыкнуть. Когда в 1936 году экзальтированное сердце фрау Зандлер не выдержало известия о гибели майора Нотша (майор разбился в Альпах), профессор решил покончить с гостеприимством. Но своевластная Эрика сравнительно быстро принудила «дорогого папу» впрячься в привычную упряжь. И тележка понеслась. Дочь увлеклась фотографией. На перилах окружавших зал антресолей висели грубо подмазанные неумелой ретушью фотографии прославленных немецких асов. Многие из них сиживали за этим столом, многие добродушно хлопали по спине «мрачного Иоганна», но никого из них Зандлер не мог бы назвать своим другом. Так же как и этих самодовольных парней, бесцеремонно завладевших сегодня его домом. Из всех гостей его больше других интересовал Вайдеман. Ему первому пришлось доверить свое дитя, своего «Альбатроса». Что он за тип? Самоуверен, как все. Безжалостен, как все. Пялит глаза на Эрику, как все. Пожалуй, молчаливей других. Или сдержанней. Хотя этот тип из министерства никому рта не дает открыть. Столичный фрукт. Таких особенно приваживала фрау Зандлер. О чем он болтает? О распрях Удета с Мильхом? Зандлер не смог поймать нить беседы. Но он почти физически ощутил, как вдруг напряглась ушная раковина сидящего наискось от него Зейца. Всегда, когда Зейц был за столом, Зандлер не выпускал из поля зрения изощренный орган слуха господина оберштурмфюрера. Он научился ориентироваться по чуть заметному шевелению гестаповского уха, улавливать степень благонадежности затронутой темы. Сегодня ушная раковина Зейца была в постоянном движении — он усердно уминал цыпленка в сметанном соусе. Но вот ритм нарушился: слух напрягся. Пихт рассказывал о первых сражениях «Битвы над Англией»: — Английская печать уже навесила вашему уважаемому шефу ярлык детоубийцы. — А за что? Уж скорее его следовало навесить Юнкерсу. Бомбардировщики-то его, — вступился за хозяина хитроватый капитан Вендель, второй летчик-испытатель. — Ну, у толстяка. Юнкерса репутация добродушного индюка. Гуманист, да и только. А бульдожья хватка Вилли известна каждому. — Да уж, наш шеф не терпит сантиментов, — заявил Вендель. Пихт повернулся к Вайдеману. — Я тебе не рассказывал, Альберт, про случай в Рене? Вы-то, наверное, слышали, господин профессор. Это было в 1921 году. Мессершмитт тогда построил свой первый планер и приехал с ним в Рене на ежегодные соревнования. Сам он и тогда уже не любил летать. И полетел на этом планере его лучший друг. Фамилии я не помню, да дело не в этом. Важно, что лучший, самый близкий друг. И вот в первом же полете планер Мессершмитта на глазах всего аэродрома теряет управление и врезается в землю. Удет, он-то мне и рассказывал всю эту историю, подбегает к Мессершмитту, они уже тогда были дружны, хочет утешить его, а тот поворачивает к нему этакое бесстрастное лицо и холодно замечает: «Ни вы, Эрнст, ни кто другой не вправе заявить, что это моя ошибка. Я здесь ни при чем. Он один виноват во всем». Понял, Альберт? То-то. Я думаю, это был не последний испытатель, которого он угробил. Не так ли, господин профессор? Профессор сник. Судорожно собирая мысли, он не спускал глаз с раскрытой, как мышеловка, ушной раковины Зейца. — Я не прислушивался, господин лейтенант. Вы что-то рассказывали об испытаниях планеров. Я не специалист по планерам. Эрика поспешила на помощь отцу: — Пауль! Можно вас попросить об одной личной услуге? — Обещаю безусловное выполнение. — Не обещайте, не услышав. — Эрика поджала губы. — Если генерал-директору случится посетить Аугсбург, уговорите его заехать к нам. Я хочу сама его сфотографировать. Его старый портрет уже выцвел. — Генерал-директор, без сомнения, будет польщен таким предложением. Он высоко ценит юных граждан Германии, которым не безразлична слава третьего рейха. — Так я могу надеяться? Пихт встал, наклонился через стол, почтительно, двумя руками взял мягкую ладонь Эрики, коснулся губами запястья. — Вы умеете стрелять, фрейлейн? — Нет, что вы! — Надо учиться. У вас твердая рука! Позеленевший от ревности Зейц повернулся к Зандлеру: — Где же ваша несравненная Ютта? Или сегодня, в честь почетных гостей, вы изменили своему правилу сажать прислугу за стол? — Ютта не прислуга... — оробев, начал профессор. — Я слышу, господин Зейц интересуется нашей Юттой, — воскликнула Эрика. — Вот сюрприз! Но сегодня она не сможет развлечь вас. У нее болит голова, и она не спустится к нам. — А если я ее попрошу? — Ну, если вы умеете и просить, а не только приказывать, испытайте себя. Но, чур, никакого принуждения. Ведь вы не знаете своей силы... Эрика шаловливо тронула черный рукав Зейца. Зейц встал, расправил ремни и направился к деревянной лестнице на антресоли. Заскрипели ступени. Ютта поспешно закрыла дверь, внутренне собралась. Из ее комнатки, если оставить дверь приоткрытой, было хорошо слышно все, о чем говорилось в зале. При желании она могла и незаметно рассмотреть сидящих за столом. Ни Зейц, ни Вендель, ни другой испытатель из Аугсбурга — Франке — не интересовали ее. Они уже не раз были в этом доме. Все внимание Ютты было обращено на двух приезжих. Один из них может оказаться тем самым Мартом, о приезде которого сообщило присланное из Берлина письмо. Ведь именно сегодня он должен связаться с ней. А до полуночи осталось всего полтора часа. Появление этих двух здесь сегодня не может быть случайным. Но кто же из них? Конечно, когда она спустится, он найдет способ привлечь к себе ее внимание. Но прежде чем показаться внизу, она хотела бы сама узнать его. Кто же он? Кто? Он скажет ей: «Фрейлейн, по-видимому, вы до сих пор любите читать сказки?» Она ответит: «Я ненавижу их, они мешают нашему делу». Он скажет: «Но они учат любить родину, не правда ли?» Она скажет: «Так говорил мой дядюшка Клаус. Но ведь любить родину — это значит сражаться за нее? Вы сражаетесь за фатерланд?» И тогда он ответил: «Я, как несчастный Рюбецаль, летаю над землей, оберегая покой людей». Так он скажет или примерно так. Но кто же он? Их двое. Высокий лейтенант или плотный коренастый капитан? Лучше бы лейтенант! Ох, Ютта, Ютта! Красивый парень. Только уж очень самоуверен. И рисуется перед Эрикой. «Мы с генералом», «Я уверен»... Фат. Эрика уже размякла. А он просто играет с ней. Конечно, играет. Наверное, у него в Берлине таких Эрик... Как он на нее смотрит! А глаза, пожалуй, холодные. Равнодушные глаза. Пустые. Разве у Марта могут быть такие стеклянные, пустые глаза? А капитан? Этот как будто проще. Сдержанней. И чего он все время крутит шеей? Воротник жмет? Или ищет кого-нибудь? Меня? И на часы смотрит. О чем это он шепчется с Франке? А теперь с Зейцем. А лейтенант развязен. Руки целует Эрике. Расхвастался связями. А Зейц даже зашелся от злости. Встал. Идет сюда. Только его мне и не хватало. Ну что ж. Даже лучше. Все равно надо сойти вниз... Ютта быстро прикрыла дверь, забралась с ногами в мягкое кожаное кресло. Зейц постучал, тут же, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Сколько в нем благодушия! — Простите, фрейлейн, за позднее вторжение. Поверьте, оно вызвано моим глубоким расположением к обитательницам этого милого дома. Сочувствую вашей бедной голове, но... — Ваше чувство к госпоже Эрике для меня не секрет, господин Зейц. — Тем лучше. — Взгляд Зейца внимательно ощупывал комнату. — Надеюсь, вы одобряете мой выбор? — Эрика—девушка, заслуживающая безусловного восхищения. Но я не думаю, чтобы она уже была готова к брачному союзу. Ей еще нет двадцати. — Фюрер ждет от молодых сил нации незамедлительного исполнения своего долга. Германия нуждается в быстром омоложении. Я уверен, что фрейлейн Эрика во всех отношениях примерная девушка, хорошо понимает свой патриотический долг. — У нее остается право выбора... — Ерунда. Она слишком юна, чтобы самостоятельно выбирать достойного арийца. Ей нужно помочь сделать правильный выбор. Подобная помощь будет высокопатриотическим поступком, фрейлейн Ютта. — Вы переоцениваете мое влияние, господин Зейц. Зейц уселся на ручку Юттиного кресла, приблизил к ней свое лицо. Глаза его сузились. — Это вы, фрейлейн, недооцениваете меня. — Он рассмеялся: — Хватит сказок, Ютта, хватит сказок. Она похолодела. Непроизвольно дрогнули ресницы. — Какие сказки вы имеете в виду? Она взглянула прямо в узкие глаза Зейца. Он все еще смеялся. — Разве вы не любите сказок, Ютта? Разве вам их не читали в детстве? Бабушка? Ха-ха-ха! Или дядюшка? Ха-ха! У вас же есть дядюшка? — Он давно умер. Я что-то не понимаю вас. Вы... Не может быть! Зейц, казалось, не замечал ее смятения: — Видите. Дядюшка умер. Бедный дядюшка Клаус! Он уже не может помочь свой любимой племяннице. А ведь ей очень нужна помощь. Одиноким девушкам трудно жить на свете. Их каждый может обидеть... Зейц положил обе руки на зябкие плечи Ютты. Она дрожала. Все в ней протестовало против смысла произносимых им слов. Так это он Март! Невозможно! Но как тогда он узнал? Значит, провал. Их раскрыли. Надо закричать, предупредить его. Март сидит там внизу, не зная, кто такой Зейц, не догадываясь. Или там никого нет? Его схватили уже. И теперь мучают се. Там, внизу, чужие. Кричать бессмысленно. Или... Это все-таки он, наш? И все это лишь маскировка, игра... Но можно ли так играть? Она не могла вымолвить ни слова. — Кто защитит одинокую девушку? Добрый принц? Гордый дух? Рюбецаль? Вы верите в Рюбецаля, Ютта? Он проверяет ее. Ну конечно. — Да. — Я буду вашим Рюбецалем, фрейлейн, — серьезно проговорил Зейц. — Как вам нравится такой дух? Несколько крепок, не правда ли? Нет, это невозможно. Тут какое-то страшное совпадение. Надо успокоиться. Надо ждать. Он сам выдаст себя. Спросить его, откуда он знает о дяде Клаусе? — Как вы узнали о моем старом дядюшке? Ведь сегодня день его памяти. — Зейц знает все. Запомните это. Я же дух. Могу быть добрым. Могу быть злым. Но вы ведь добрая девушка? Слышите? А теперь отдыхайте. — Вы знаете, у меня прошла голова. Ваше общество располагает к беседам. Я хочу сойти вниз. Только разрешите мне привести себя в порядок. Зейц вышел, а Ютта еще долго сидела в кресле, не шевелясь, слушая, как утихает сердце, стараясь понять, что же произошло? Когда она спускалась по лестнице, ловя и оценивая прикованные к ней взгляды сидящих за столом, в наружную, дверь постучали. — Открой, Ютта, — сказала Эрика, по-видимому не очень довольная ее появлением. В дверях стоял, улыбаясь, пожилой худощавый офицер. Наискось от правого глаза тянулся под козырек тонкий белый шрам. Жесткие седоватые усы подчеркивали синеву тщательно выбритой кожи. Офицер погасил улыбку: — Передайте профессору, что его просит извинить за поздний визит капитан Коссовски. Ютта пошла докладывать, а навстречу ей из зала надвигался, раскинув руки, коренастый капитан. — Зигфрид, затворник! Ты ли это?МИР — ТВОЕ КОЛЬЦО
1
Официальный заказ на продолжение работ над реактивным самолетом мог бы доставить другой офицер отдела вооружений люфтваффе, но Пихт попросил Удета, чтобы тот послал в Аугсбург именно его. Он хотел навестить Вайдемана. На следующий день после вечера в доме Зандлера Пихт был уже в Аугсбурге. — Поздравляю вас, господин конструктор, — сказал он, передавая бумаги Мессершмитту, — кажется, «Альбатрос» расправляет крылья. — Я ни минуты не сомневался в этом, — проговорил Мессершмитт, польщенный похвалой. — Коньяк, вино? — Пожалуй, коньяк. Мессершмитт открыл буфет. — Только Хейнкель наступает вам на пятки. — Пихт приподнял хрустальную рюмку, любуясь золотистым цветом коньяка. — Я пока не получал никаких известий, — постарался как можно более равнодушно сказать Мессершмитт. — И не получите. Герман Геринг приказал держать в секрете работы фирм. — Ну-ну, Геринг и Удет всегда были расположены ко мне... Если не сами они, так их ближайшие помощники. — Мессершмитт многозначительно посмотрел на Пихта, не исподлобья, как обычно, а открыто, прямо. Пихт промолчал. — Кстати! Я давно собирался сделать вам одно небезынтересное предложение... — Старый попугай на другой же день после полета вашего «Альбатроса», — как будто, не слыша последних слов, продолжал Пихт, — поднял свой «Хейнкель-178». Тот самолет, над которым он безуспешно бился с тридцать восьмого года. Обжегшись на ракетном «сто семьдесят шестом», на эту машину он поставил турбореактивный двигатель, который работает на бензине. — Не помните марки двигателя? — «ХеС-ЗБ» с тягой пятьсот килограммов. — Мне как раз не хватает такого двигателя! — сердито воскликнул Мессершмитт. — Кстати, это первый турбореактивный мотор, который поднял самолет в воздух. — Н-да-а, — протянул Мессершмитт, понимая, что такой, видимо, уже отработанный, технически доведенный двигатель никто не сможет выцарапать у Хейнкеля. — В этот же день пятого апреля, он испытал другой самолет — «Хе-280В-1». — Эту каракатицу с двумя хвостами? — И двумя двигателями по шестьсот килограммов тяги на каждый. В горизонтальном полете самолет достиг скорости восьмисот километров в час. — Я понимаю интересы рейха, — морщась от боли под ложечкой и поглаживая свои черные, начинающие редеть полосы, заговорил Мессершмитт. — Отдел вооружений ждет такой самолет, но, поверьте, Хейнкель снова зарвется. — Неужели вы думаете, что мы сможем закрыть работы Хейнкеля над этим самолетом? — Я не говорю об этом, — растерянно пробормотал Мессершмитт. — Словом, время покажет, что выйдет у Хейнкеля, — пришел на выручку Пихт. — Да, конечно, время, время... — Мессершмитт оценил полученные сведения и судорожно думал, как бы отблагодарить за них адъютанта Удета.2
Если бы Мессершмитт знал, о чем несколько часов назад говорил расторопный адъютант Удета его летчику-испытателю Вайдеману, он вряд ли бы захотел предложить ему выгодное дело. Но разговор проходил с глазу на глаз, притом в машине Пихта. — Как у тебя идут дела, Альберт? — спросил Пихт, едва машина двинулась с места. — Кажется, я неплохо устроился, но скука... — Ты можешь развеяться хотя бы в Аугсбурге. — Но я не сынок Круппа и не родственник президента Рейхсбанка! — Деньги можно делать всюду, где имеют о них представление. — Мне платят за голову, которая пока цела. — В лучшем случае, — проговорил Пихт, глядя на дорогу. — Что ты этим хочешь сказать, Пауль? — Хуже, если ты останешься инвалидом и тебя отправят в дом призрения, где собираются неудачники и старые перечницы... Пихт знал, чем уязвить Вайдемана. Альберт всегда жил гораздо шире своих возможностей и частенько оставался без денег. — В конце концов, каждый старается где-то что-то ухватить, — продолжал Пихт. — Разница лишь в измерениях, в нулях, словом. — Как же ты, к примеру, ухватываешь? — Вайдеман заглянул в лицо Пихта. — Очень просто, — с готовностью ответил Пихт. — Я работаю на Мессершмитта. — Я тоже работаю на Мессершмитта, но что-то он не платит мне больше двухсот марок. — Еще тысячу ты можешь получить от Хейнкеля. — Каким же образом? — Положись на меня. Это я устрою тебе по старой дружбе. — Как я буду окупать эти деньги? — Ты будешь передавать ему все сведения об «Альбатросе». — А ты каналья, Пауль! Я же нарушу в таком случае один весьма существенный пункт контракта... — Пустое! Он не стоит тысячи марок. Ведь и ты и я работаем для рейха. А если шефы грызутся, то это не наше дело. Пусть грызутся, лишь бы скорее кто-то из них сделал хороший самолет. Вайдеман сдвинул фуражку на затылок и почесал лоб. «А что, если Пихт подложит мне свинью? Да меня Мессершмитт заживо съест. Хорошо, Мессершмитт, а Зейц, а гестапо? Но Пихт ведь старый товарищ. К тому же он сам ляпнул о своей дружбе с Мессершмиттом, и, узнай об этом Удет, ему не сносить головы за разглашение служебной тайны. И опять же тысяча марок... Это очень неплохие деньги за какого-то «Альбатроса», который еще неизвестно когда обрастет перьями»... — Хорошо, Пауль. Я буду работать на старичка Хейнкеля, если он и вправду будет платить мне по тысяче марок. Только кому и как я должен передавать эти сведения? — Наверное, пока мне, а я — ему. — Пихт достал блокнот и авторучку. — Пиши расписку и получай аванс. «Оппель» затормозил. Дорога была пустынна. За вспаханным полем виднелась лишь маленькая деревушка. — Может, без расписки... — проговорил, упав духом, Вайдеман. — Расписку я потом уничтожу. Но надо же мне отчитаться! Аванс солидный — тысяча пятьсот марок. — Пихт достал запечатанную пачку и положил на колени Вайдеману.3
Беспечно размахивая хозяйственной сумкой, Ютта шла в ресторанчик «Хазе», где покупала обеды. Она думала о том, что в тот вечер, когда должна была произойти встреча, к ней никто другой, кроме Зейца, так и не подошел с паролем «Рюбецаль». Неужели долгожданный Март — это Зейц? Вот уж никогда бы не подумала! Но Зейц не решился тогда раскрыться до конца. Может быть, он благоразумно хотел воздержаться, опасаясь нового пилота Вайдемана, или этого столичного вертопраха Пихта, или того, кто пришел в самый последний момент. Кажется, он отрекомендовался капитаном Коссовски. Ютта припомнила лицо гостя. Оно было серьезное, умное. Глаза — ласково-проницательные. Несколько раз Коссовски глядел на Ютту, что-то собирался сказать, но так и не сказал. Ютта почувствовала даже какое-то доверие к этому пожилому человеку, который, очевидно, привык бывать в свете, держался просто и в то же время с достоинством, улыбался, но легко переходил на деловой тон. Наверное, такие люди, избрав в жизни идеал, никогда от него не отступали. Рядом остановилось такси, из машины вышел старик—военный с тростью к небольшим саквояжем. — Эрих? — растерянно прошептала Ютта. — Конечно, Эрих! Я гнался за тобой по пятам. Ну, здравствуй, моя детка! — свободной рукой Эрих прижал девушку к груди. — Я тебя сразу узнал. — Эрих... Надо же так встретиться! — только и смогла сказать Ютта. — Я ехал к тебе. — Ты ранен? — Пустяки! Какой-то сумасшедший обстрелял наш «дорнье». Зато теперь уж на фронт не возьмут. — Так идем ко мне. По дороге Эрих рассказал, что в Лехфельде собирается заняться каким-нибудь делом и жить рядом с ней. — Это замечательно! — обрадовалась Ютта. Дома она познакомила Эриха с дочерью профессора. Эрика приняла живейшее участие в судьбе дяди подруги. — Может быть, я скажу папе, и он порекомендует Эриха на аэродром? Ведь Эрих — бортмеханик. — Признаться, фрейлейн, мне порядком надоели военные, да и боюсь я с такой-то ногой... — Но у вас нет другой специальности. — Будет. Ведь я немного фотограф. — Прекрасно! У нас с вами одно хобби. — Где ты собираешься жить? — спросила Ютта. — Помоги мне снять квартиру. — Кажется, в особняке тетушки Минцель живет Зейц? — проговорила Эрика. — Да, он на втором этаже. — Но первый же пустует. — Первый меня бы устроил. Мне удобней на первом соорудить ателье. — Мы поговорим с Зейцем... Хайдте удалось устроиться в Лехфельде и открыть маленькое дело — собственное фотоателье.МАРТ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
1
Металлический голос Геббельса, казалось, завладел всем Тиргартеном. Он рвался из репродукторов, установленных на каждом перекрестке парка. «Наши доблестные войска овладели вчера городами Витебск, Молодечно, Фастов. Красная Армия беспорядочно отступает... Наша авиация безраздельно господствует в воздухе...» С того места, где стоял Март, хорошо просматривалась вся аллея. Пятая слева. В этот предвечерний час она пустовала. Занята была лишь одна скамья. Но человек, сидевший на ней, не мог быть тем, которого он ждал. Это был Эвальд Регенбах, начальник отдела в контрразведке люфтваффе — «Форшунгсамт». Его появление здесь было невероятным, противоестественным. «Ловушка? Очевидно, ловушка. Значит, Перро, кто бы он ни был, уже схвачен. И все сказал. Так? Нет, не так». Это второе допущение было еще более невероятным. «Надо думать. Если Перро предал, то пришел бы сюда сам. Так надежнее. Им же нет смысла брать меня сразу. Значит?.. Во всяком случае, если это ловушка, за мной уже следят. И то, что я не подойду к нему, будет подозрительно само по себе. Наше знакомство ни для кого не секрет. А главное — и это действительно главное, — Перро не мог предать. Если делать такие допущения, вся моя работа теряет смысл, все эти годы — никому не нужный кошмар. Нельзя не верить в себя, не верить в тех, кто рядом. Я обязан верить. И обязан делать допущения. Не рисковать. Перестраховываться. Обязан. Но не сейчас. Тогда все кончено. Если перестраховаться сейчас, можно спасти себя, уйти от них, но зачем тогда все? Покинуть свой пост, свой окоп. Отступить?» Ему отступать некуда. «Я пройду мимо этой скамейки и окликну его. Или подожду, пока он окликнет сам! Нет, он углубился в чтение, ничего не видит, не слышит. Нужно сесть рядом, как условлено, вынуть газету «Франкфуртер Цейтунг», расслабиться. А вдруг он наш? Почему это кажется мне невероятным? Наоборот: именно так все и должно быть. А разве ему будет легче поверить мне?» Он окликнул его раньше, чем уселся на скамью, и успел поймать мгновенное выражение неприязни в дружелюбно изумленных глазах. Перро незаметно скомкал программу бегов, сунул ее в портфель. — Вы, наверное, ждете здесь даму? Не хотел бы вам мешать, — сказал Регенбах. — Почти угадали, но у меня еще уйма времени. — А мое уже истекает. Я должен идти, — Регенбах поднялся. — Подождите минуту. Мне показалось, я видел у вас программу воскресных бегов. Вы знаток? Каждой нервной клеткой своего тренированного организма Март ощущал невероятное напряжение, овладевшее собеседником. Но в эту минуту он никак не мог ему помочь. Разве что абсолютным спокойствием. — Когда-то увлекался. Сейчас захожу редко. — Покажите мне программу. Перро не верил. Не мог, не хотел верить. Но что-то заставило его снова сесть, открыть портфель, достать и протянуть Марту программу. Он был совершенно спокоен, невозмутим, как всегда. — Так, четвертый заезд. Вы ставите на Арлекина? — спросил Март. — Хочу рискнуть, — ответил Регенбах. — А я думаю поставить на Перро. Во всяком случае, мой давний знакомый дядюшка Клаус поступал только так. — Март развернул «Франкфуртер Цейтунг». — Я очень рад, Март, — тихо сказал Регенбах. — Здравствуй. Они помолчали, заново привыкая друг к другу. — Я получил для тебя инструкцию из Центра. Действовать ты по-прежнему будешь совершенно самостоятельно. Задание прежнее. Связываться с Центром в дальнейшем будешь тоже сам. В Лехфельд направлен тебе помощник Эрих Хайдте, дядя Ютты. На меня рассчитывай лишь в крайнем случае или при дублировании особо важной информации. Рация у тебя установлена? — Пока нет, — ответил Март. — Надо достать... Регенбах вынул из портфеля пачку сигарет. — Возьми. Здесь код, волны, частоты, время сеансов. Директора особенно интересуют стратегические планы главного верховного командования, в первую очередь направления ударов трех групп войск — фон Лееба, фон Бока, фон Рундштедта, оперативные планы люфтваффе, включая направление основных ударов бомбардировочной авиации, расположение складов бензина и дизельного масла, местонахождение Гитлера и основных штабов, перемещения дивизий, новая военная техника, потеря живой силы и техники, настроение гражданского населения. Ясно? — Ясно, — кивнул Март. — Все? — Все. Да, Директор просил сообщить, что тебе присвоено очередное воинское звание. Март молча наклонил голову. — Прости, ты — русский? — Регенбах сжал его локоть, — Да, русский, москвич. — Я знаю, тебе тяжело. Держись, москвич. Я очень верю в Москву. В Москву фашизм не пройдет.2
Эрих Хайдте с треском захлопнул окно и, пока по мостовой не протопал батальон, стоял, прижавшись спиной к прохладной стене. «Итак, началось... Сидеть и ждать, что получится из этой драки, не могу. Драка будет страшная и долгая». Эрих вышел из ателье и, опустив монету в автомат, позвонил Ютте. Она была ему нужна. Потом он вернулся к себе, прошел в фотолабораторию, освещенную тусклым красным фонарем. Стены Эрих предусмотрительно обклеил фотографиями красоток, переснятых с трофейных французских журналов. На полках стояли банки с химикатами, лежали коробки с фотографической бумагой. В одной из них хранились пленки, за один кадрик которых Эриха могли бы сразу отправить на виселицу. На пленках были засняты почти все самолеты, какими располагали гитлеровские люфтваффе. Эти снимки Эрих хотел любой ценой переслать тем, кто сражается с Гитлером. О них он рассказывал в Берлине Перро, но тот ответил, что пока нет канала, по которому они могли бы попасть по назначению. В верхнем углу лаборатории отклеились обои, и Эрих туда засунул пакет с негативами — в случае обыска полицейские вряд ли обратят внимание на обои. Другие сведения, раздобытые Эрихом, надо бы передать по радио. Но у него не было рации, а без рации Эрих был нем. Трижды прозвенел звонок. Второй сигнал прозвучал чуть длиннее первого и третьего. Условный знак Ютты. Эрих открыл дверь и вывесил табличку о том, что ателье закрыто на обед. Ютта тоже была встревожена сообщением о начале войны с Россией, победными сводками первых часов русской кампании. Радиорепортеры уже успели побывать в танковых и воздушных армиях, в частях, ведущих бои с пограничными войсками, теперь громогласно вещали о близком поражении Красной Армии. — Все это чушь! — сказал Эрих и прошел из угла в угол. — Русских им не победить. Эрих остановился напротив Ютты: — Ты помнишь сказку о Рюбецале? — Которую рассказывал дядюшка Клаус? — растерянно прошептала Ютта последние слова пароля. — Сегодня день памяти дядюшки Клауса. — Ты... Март? — Всего лишь связной Марта. Так мне приказал Перро. — Его здесь нет? — Не знаю. Может быть, есть, может, нет. Но о нем знать тебе пока не следует. Всю работу ты будешь вести через меня. Понятно? Ютта кивнула головой. Из-под опущенных ресниц она наблюдала за шагающим из угла в угол Эрихом. Тот морщил лоб и ерошил седые волосы, как всегда, когда сердился. Она сидела перед ним смущенная, как школьница. И как школьница теребила подол широкой клетчатой юбки. Когда отца увезли штурмовики, Ютта жила сначала у тетки в Берлине. А потом перешла на нелегальное положение. Но скоро ее выследили и посадили в концлагерь. Оттуда удалось бежать. Друзья достали ей новые документы, познакомили с «дядей» и велели работать в Аугсбурге. Потом ее свели с человеком, который назвался Перро. Он устроил Ютту в рекламное бюро. Здесь она позировала, снималась с военными, помогала хозяину в фотолаборатории. Часто в бюро заходила Эрика Зандлер. Она любила щелкать, а проявлять, закреплять, печатать — терпения не хватало. Да и портить руки фрейлейн Зандлер не хотелось. Сначала Ютта приходила к ней помогать печатать фотографии, а потом Эрика уговорила отца взять Ютту в дом секретаршей, а вернее — горничной. На нее легли все заботы по дому. Иногда профессор просил се попечатать на машинке, иногда диктовал. — Место у тебя пока надежное, — сказал Эрих. — И ты хорошо держишься, Ютта. Но когда все складывается слишком удачно, жди удара. Ты сидишь слишком близко от пекла, чтоб тобой не заинтересовались черти. Вот это и плохо. Допустим, Зейц рано или поздно захочет разобраться в твоем прошлом. Ты-то свою биографию знаешь? — Я не девочка, — обиделась Ютта. — Подожди. Не красней. А тетя Марта? Дядя Клаус? Кто они? — Тетя Марта и правда живет в Берлине. Только я не пишу ей. А дядя Клаус действительно умер прошлым летом. — С тетей надо увидеться как можно скорее и начать настоящую переписку. Ясно? — Да. — С тобой я буду теперь встречаться у Зандлера. Постараюсь сделать так, чтобы мои визиты выглядели естественно. Дом Зандлера нам нужен еще и потому, что сам он вне всяких подозрений. Перепроверен трижды три раза. Да и вообще весь как на ладони. Рацию у профессора искать не будут. — Рацию? — Да, Ютта, теперь нам нужна рация. Без нее мы ничего не значим. Даже ту информацию, которую имеем, не можем передать. Прежняя, кажется, вышла из строя? — Я ничего не могла с ней поделать. — Да и не только ты. Рации были ненадежны, слишком капризны. Вот и очутились мы, как робинзоны, в этом море войны. Код есть, рации нет. — Мне кажется, радиостанцию добыть можно, — не совсем уверенно проговорила Ютта. — Кто поможет? Уж не Зейц ли? Если у тебя есть план, скажи о нем. Только ничего не предпринимай одна. Таков приказ Перро. — Пока у меня нет никакого плана, — ответила Ютта. — Но у меня есть человек, который мог бы стать нам полезным. Ты с ним познакомишься. Он частенько заглядывает в пивную «Фелина». Это Карл Гехорсман. Механик на аэродроме Зандлера. — Хорошо, попробую приглядеться к Гехорсману, — сказал Эрих, выслушав Ютту. Эрих не знал Марта. Перро лишь сказал, что он объявится, когда ему потребуется помощь. Одновременно он просил подыскать надежный почтовый ящик для связи Эриха с Мартом.3
В баре пахнет тушеной капустой, кислым пивом, табачным дымом и дешевыми духами. Визжит радиола. Танцуют солдаты из батальона обслуживания и охраны. Их подружки в коротких юбках клеш энергично работают локтями. Карл Гехорсман медленно тянет вино. — Почему эти парни остались в тылу, а мои все до единого сразу попали на Восточный фронт? — спрашивает он Эриха. — И эти там скоро будут, — говорит Эрих, опираясь на трость. — Гитлеру надо много солдат, но все равно им Россию не перемолоть. — Черт возьми! Почему ты думаешь, что победят русские, а не мы? — Если и победят фашисты, ты все равно проиграешь. Гехорсман молчит. Эриху кажется, что он видит, как в большой рыжей голове Карла ворочаются мозги. — Пожалуй, проиграю, — наконец соглашается Гехорсман. За несколько встреч Эрих близко сошелся с механиком. Теперь он говорит с ним напрямик. Гехорсман — простой рабочий. Он не из тех, кто выдаст. И все же Эрих не может просить Карла помочь достать рацию. Карл еще не готов для этого. Он откажется. Его надо поставить в такие условия, когда он будет вынужден согласиться, чтобы помочь. Гехорсман из внутреннего кармана френча достал фотографии сыновей и разложил их веером: — Ты хорошо переснял их, Эрих. Они как живые... И уже далеко. — А ты не боишься потерять их... совсем? — Потерять?.. Как потерять? — Глаза у Карла округлились от негодования. — Ради них я лез в самое пекло, шнырял по свету за лишним пфеннигом, чтобы только прокормить. Чуть не залез в петлю, когда у нас был кризис... Смешно ты говоришь — «потерять...» — Но теперь они принадлежат фюреру. А фюрер говорит: «Я с легким сердцем и твердой душой посылаю молодежь на смерть, когда этого требует Германия!» Гехорсман в сердцах хлопнул ладонью по столу: — В первую очередь, они принадлежат мне! С фюрером мы не знакомы... Но я хочу, чтобы ребята нашли в России кусок хлеба. Когда-нибудь и у них будут семьи и дети... И им не придется ломать горб, как ломал их отец. — Дай-то бог, чтобы ребята уцелели, — помолчав, проговорил Эрих, — кровь-то у них все же твоя... рабочая. Гехорсман довольно улыбнулся: — Вот это верно. Моя кровь. Он поднял кружку и отпил добрый глоток. — Я видел, к вам сел транспортник... Прилетел кто? — безразлично спросил Эрих. — На ремонт пригнали. Ребята загнали машину к самому лесу и разобрали по косточкам.4
Зейцу удалось потушить пожар, который мог бы разгореться из-за пропажи радиостанции с транспортного самолета «Юнкерс-52», который ремонтировался в мастерских Лехфельда. Весть об этом непременно дошла бы до Берлина, и тогда оберштурмфюреру не сносить головы. Во всяком случае, его положение сильно бы пошатнулось. К счастью, удалось дело замять. Это было на руку также инженеру снабжения и самому Зандлеру. Они даже верить не хотели в существование какой-то «красной» организации. Но Зейц понял — не в игрушки же кто-то собирался играть с мощной радиостанцией! Может быть, она понадобилась агенту англичан, а может, и русских? Трехмоторный транспортный самолет «Ю-52» стоял в дальнем углу аэродрома, недалеко от небольшого орешника. Ночью этот участок тщательно освещался, и двое часовых не могли не заметить похитителя. Радиостанция и часть приборов лежали под левой плоскостью самолета на листах дюраля и были накрыты брезентом. Когда механики кончили устанавливать переборки отсека бортрадиста, они подняли брезент и увидели, что радиостанции нет. Зейц стал опрашивать всех, кто так или иначе был связан с ремонтом «Ю-52» или кто находился на аэродроме в рабочие часы. Он заинтересовался Гехорсманом. Гехорсман злорадно захохотал, выпучив синие глаза с белесыми ресницами: — Вы думаете, что Карл Гехорсман способен на воровство? Вы очень ошибаетесь! Карл Гехорсман всю свою жизнь работал и только вот этими руками добывал деньги, господин Зейц. Понемногу распутывая, казалось бы, безнадежное дело, Зейц пришел к выводу, что рация была похищена в полдень, когда механики уходили на обед, а посты часовых на день вообще снимались. Похититель, видно, хорошо знал эти порядки. Он проник к аэродрому через лес, прополз по густой траве к транспортному «юнкерсу» и взял радиостанцию. «Это был кто-то посторонний, — решил Зейц, — кто же? Дорого бы я заплатил тому, кто сработал так чисто. Он, наверное, не нужен сам себе так, как нужен мне...»5
В доме тихо и пусто. Профессор остался в Аугсбурге. Эрика уехала в Мюнхен. Ютта осторожно прошла к себе в комнату. Поставила чемодан и буквально упала на диван. Руки от тяжести чемодана болели, ныла спина. Медленно, метр за метром, она обследовала квартиру. Ну что же, все ясно. Передатчик удобнее всего разместить в нише за комодом. Антенну надо протянуть под обоями и через дымоход камина вывести на крышу. В чемодане все детали передатчика и приемника были аккуратно обернуты в бумагу. Эрих потрудился. В три часа ночи Ютта надела наушники и включила передатчик. Тихо засветились красноватые огоньки лампочек, потрескивая, заработали выпрямители. Худенькая, прозрачная рука легла на телеграфный ключ и отстучала адрес. Это были просто кодовые числа и буквы. Но тот, кто в этот момент дежурил у приемника, настроенного на единственную, известную только двум радистам волну, понял, что эти обыкновенные числа и буквы обращены к нему. Он быстро отстучал ответ — готов перейти на прием. Стремительные точки — тире полетели в эфир, побеждая пространство, расчищая себе дорогу через хаос чужих звуков и волн. «От Марта Директору. Выхожу на связь. Мессершмитт усиленно работает над созданием реактивных самолетов. Основные бомбардировщики люфтваффе: «Хейнкель-113» и «Юнкерс-88». Соответственно данные... После налета дальних бомбардировщиков на Берлин вводится световая маскировка. Ложные огни сооружаются в 30 километрах северо-восточней. Жду указаний. Март».6
Эвальд фон Регенбах долго стоял, посвистывая, у карты Европы, истыканной флажками свернутых и развернутых фронтов. Флажки подбирались к правому краю карты. Он достал сводку, переколол несколько булавок. Одна воткнулась в черный кружочек, наименованный Смоленском. Ниточкой Эви смерил расстояние до Москвы. Засвистел погромче. На этот раз марш из «Гибели богов». В дверь позвонил Коссовски. У Коссовски лихорадочно горели глаза, на лбу выступила испарина. Когда капитан вытирал лоб тыльной стороной ладони, красный шрам на виске напрягался, как стрела в арбалете. — Вы больны, Зигфрид, и перегружаете себя работой. Так нельзя. Посидите дома, — сказал Регенбах. — В такое время? Мы на пороге величайших событий. — У вас жар, Зигфрид. Вы на пороге госпиталя. Поверьте, фельдмаршал фон Бок возьмет Москву и без вас. — Я прошу оставить меня на службе. Коссовски вызывающе стоял по стойке «смирно». Регенбах подошел к нему, подвел к креслу, усадил. — Как хотите. Тогда у меня есть для вас небольшой подарок. Маленькая, очень маленькая подпольная радиостанция. В Аугсбурге. Аугсбург ведь по вашей части? Коньяк у Мессершмитта пьете? Отрабатывайте. Регенбах достал из сейфа бутылку, налил две рюмки, пододвинул одну Коссовски. Тот выпил залпом. Регенбах лишь пригубил: — Я только что от Геринга. Он собирал нас по поводу «Красного оркестра»[147]. Гитлер в ярости. Требует самых экстренных мер. От функабвера[148] докладывал генерал Тиле. В августе они засекли еще полтора десятка передатчиков. В том числе в Аугсбурге. Но основные центры передач — Берлин и Брюссель. Поэтому на периферию мониторов не дадут. Искать придется вслепую. СД отдал распоряжение искать по своим каналам. Но вам придется подключиться. Во всяком случае, рапорт с нашими соображениями надо представить немедленно. Есть вопросы? — Выявлен характер сообщений? — Ни черта они не выявили. Всю техническую документацию получите у капитана Флике из функабвера. Еще что? — Больше вопросов не имею. — А у меня есть один. Этот Зейц, эсесовец, вы ведь, кажется, с ним работали? — Да, в Испании. — Вот-вот. Так что он там делал? — Это было не очень опрятное задание. Не хочется вспоминать. Поверьте, я его касался только боком. — Не чистоплюйствуйте. — Зейцу было поручено организовать контрабандный вывоз валюты. — Да, хорошенькое дельце. И он преуспел? — Сначала у него не ладилось. Чуть было не влип в историю. Но выпутался. Ему удалось отправить в Германию довольно крупную сумму, — Через вас? — Через меня. — Вам не кажется подозрительным, что этот Вайдеман снова работает с Зейцем? — Вайдеман — безусловно порядочный парень. — Редкая характеристика в ваших устах. Ну, все.НЕБО СТАЛЬНОГО ЦВЕТА
1
«От Марта Директору. Мессершмитт модифицирует свой основной истребитель. Новое обозначение «Ме-109Ф». Увеличены мощность двигателя, скорость, броневая защита. В ближайшее время в серию запускается поршневой истребитель «Фокке-Вульф-190» с двигателем воздушного охлаждения, В первых сериях для секретности предусмотрена мина, уничтожающая самолет при аварийной ситуации. Для «Ме-262» поступили турбореактивные двигатели «БМВ-109-003» и «Юнкерс-Юмо-109-004», развивающие тягу до тысячи килограммов. Испытания назначены на конец ноября. Март». Ютта откинулась в кресле, прислушалась. Все тихо. Она убрала рацию, подошла к туалетному столику, показала язык своему испуганному отражению. «Чего трусишь, худышка? Все в порядке, выигран еще один бой».2
24 ноября 1941 года, как и всегда в начале седьмого, капитан Альберт Вайдеман подъехал на своем «оппеле» к небольшому, укрытому за высоким железным забором особняку на Максимиллианштрассе. Как всегда, преодолев мальчишеское желание перепрыгнуть через перила подъезда, он степенно поднялся по ступенькам и постучал пузатым молоточком в гулкую дверь. Он живо представил себе, как сейчас возникнет перед ним лукавое личико Ютты, как она примет у него фуражку и скажет при этом: «Капитан, я вижу у вас еще семь седых волосков». А он ответит: «Выходит, всего сто восемьдесят пять. Я не сбился? Еще каких-нибудь три дня, и я получу обещанный поцелуй!» Эта игра, случайно начавшаяся с полгода назад, по-видимому, веселила обоих. Капитан «седел» все более быстрыми темпами. Он постучал еще раз. Но за дверью было тихо. «Ютты нет, — подумал он разочарованно, — потащилась куда-нибудь с Эрикой. А профессор? Ведь он ждет меня». Два раза в неделю профессор Зандлер знакомил своего главного испытателя с основами аэродинамики реактивного полета. «Профессор наверху и не слышит, — догадался Вайдеман. — Нужно стучать громче». Он со всего размаха хватил молотком по дубовым доскам. — Ну и силища! Вам бы в кузницу, господин капитан, — раздался за его спиной насмешливый голос Ютты. Она стояла у подъезда, искала в сумочке ключ. — Вы уж простите меня, капитан. Бегала в аптеку. Фрейлейн Эрика у нас заболела. Второй день ревет. — Что же так взволновало бедняжку? Выравнивание фронта под Москвой? Или смерть генерала Удета? Его уже похоронили. — Неужели вы так недогадливы? Ведь вместе с Удетом разбился Пихт! А Эрика влюбилась в него с первого взгляда. — О, это большое несчастье! — насмешливо покачал головой Вайдеман. — Но откуда у вас такие сведения? В официальном бюллетене о смерти Пихта нет ни слова. — Он же обязан сопровождать генерала... — Ему сейчас не до любви, поверьте. Можете успокоить фрейлейн Эрику. Я думаю, что Пихт жив. — Он не разбился вместе с генералом? —Никто вообще не разбивался. Удет покончил с собой. Пустил себе пулю в лоб в своей спальне. — Ой! Пойду обрадую Эрику! — Самоубийство национального героя — сомнительный повод для радости, фрейлейн Ютта. Я буду вынужден обратить на вас внимание господина оберштурмфюрера Зейца. — А он уже обратил на меня внимание, господин капитан! Вот так! — Ютта сделала книксен и побежала наверх. Вайдеман огляделся. Прямо на него уставился с обтянутого черным муаром портрета бывший генерал-директор люфтваффе Эрнст Удет. «А ведь этот снимок Эрика сделала всего полгода назад», — вспомнил он. — Альберт, вы пришли? Поднимайтесь сюда! — крикнул Зандлер На лестнице Вайдеман столкнулся с Эрикой, — Альберт, это правда? «Счастливчик Пихт, — искренне позавидовал он. — С ума сходит девчонка». — Всю правду знает один бог. — Вайдеман помедлил. — И, конечно, сам господин лейтенант. — Он не ранен? — В интонации, с которой Эрика произнесла эту фразу, прозвучала готовность немедленно отдать последнюю каплю крови ради спасения умирающего героя. — Я не имел чести видеть господина лейтенанта последний месяц. Все, что я видел, так это его «фольксваген». Час назад он стоял у подъезда особняка Мессершмитта. «Сколько же во мне злорадства, — подумал Вайдеман. — Ишь как ее корежит. А чего я от нее хочу?» — Я думаю, что сломленный горем Пауль приехал к нашему уважаемому шефу, чтобы попроситься у него на фронт. — Как вы странно шутите, Альберт. Ведь вы его друг. — Больше чем друг. Я обязан ему жизнью. Вайдеман щелкнул каблуками. Но Эрика вцепилась в него. — О, правда? Расскажите, как это было. — Меня ждет профессор. — Папа подождет. Пойдемте ко мне. Когда это было и где? — Это было в Испании... Будуар Эрики являл собой смешение вкусов. Вышивки, сделанные по рисункам тщедушных девиц эпохи Семилетней войны, соседствовали с элегантными моделями самолетов. Рядом с дорогой копией картины Кристофа Амбергера висела мишень. Десять дырок собрались кучкой чуть левее десятки. — Это моя лучшая серия, — сказала с гордостью Эрика. — Я тренируюсь три раза в неделю в тире Зибентишгартена. Она зашла за голубую шелковую ширму. Горбатые аисты строго глядели на Вайдемана, как бы взывая его к добропорядочности. Он отвернулся и увидел в зеркало, как аисты благосклонно закивали тощими шеями. Голубой шелк волновался. — Я слушаю, Альберт, Вы сказали, что Пауль спас вас в Испании. Он мог погибнуть? — Все мы там могли погибнуть, — нехотя буркнул Вайдеман. — А спас он меня, выполняя свой воинский долг. Республиканцы нас зажали в тиски, один их самолет вцепился в мой хвост. Но Пауль отогнал его и вытащил меня из беды. — Видите, он настоящий герой! Вы подружились с ним в Испании? — Нет, раньше, в Швеции. — Как интересно! А что вы делали там? — Об этом вам лучше расскажет господин лейтенант. Он любит рассказывать дамам о своих шведских похождениях. Вот, легок на помине. Кажется, я слышу внизу его голос. — О, Альберт, идите же к нему! Подождите! Скажите, я сейчас выйду. Эрика высунулась из-за ширмы, потупила глаза, открыла их с виноватой улыбкой, но затем сдержанно произнесла: — Альберт, я уверена в вашей скромности. Пихт, как полчаса назад Вайдеман, стоял, задрав голову перед портретом Удета, выдерживая его мертвый взгляд. — У вас в доме еще остался черный креп? — повернулся он к Ютте. — Да. — Вчера, Альберт, в Бреслау разбился Вернер Мельдерс. Он летел с фронта на похороны. Его сбили свои же зенитчики. Оба летчика и Ютта молча перевели взгляд на портрет Мельдерса. Широкоплечий, широколицый полковник Мельдерс улыбался снимавшей его Эрике. — Мельдерс командовал всеми истребителями легиона «Кондор» в Испании, Ютта. Мы с Паулем выросли под его крылом. — Я принесу креп, — сказала Ютта. Оставшись вдвоем, они испытующе оглядели друг друга. — Ну и гусь, — сказал Пихт. — Прижился? — Ты с похорон? — спросил Вайдеман. — Как это выглядело? — Пышно и противно. Самую проникновенную речь произнес Мильх. Его записывали на радио. Геринг не выступал. — Ну, а что говорят? — Кессельринг довольно громко назвал Удета дезертиром. Генерал Штумпф утверждает, что он давно замечал симптомы сумасшествия. Но многие подавлены. Йошоннек, начальник штаба люфтваффе, сказал мне: «Теперь я его понял». — Его убила Москва? — Москва его доконала. Русские начали ломать нашим авиаторам хребет, и Удет не мог вырвать самолеты для Западного фронта... Поэтому он много пил. И не мог влиять на события. Со стороны все выглядит намного мрачнее. Он не увидел выхода в будущем и обвинил себя за прошлое. В конце концов, эта смерть оказалась для многих выгодной. Виновник наказан собственной рукой. Он обелил других перед фюрером. — Что станет с тобой? Ты был у Геринга? — Да, я передал ему бумаги Удета, последнее письмо. Он налился кровью, когда читал. Но ко мне отнесся благосклонно. Сказал: «Кажется, вы говорили, и не раз, что на почве алкоголя у генерала наблюдается помутнение разума?» Я подтвердил. Он приказал мне представить обстоятельный доклад экспертам. Вчера он подозвал меня, сказал, что понимает мою скорбь, поздравил с капитанскими кубиками на погонах и разрешил взять месячный отпуск для поправки здоровья. Кстати, Геринг распорядился, чтобы никто, кроме гробовщика, не видел лица Удета... — И ты сразу кинулся к Мессершмитту? — С чего ты взял? — Ты заезжал сегодня к Вилли? Пихт расхохотался. — Альберт! Контрразведка по тебе плачет. Я завез его секретарше посылку из Берлина. А уж если говорить серьезно, я попросился к нему в отряд воздушного обеспечения... В это время дверь кабинета открылась, и вышел профессор Зандлер. — Добрый вечер, профессор! У вас цветущий вид, — проговорил Пихт. — Добрый вечер, господин Пихт. Сочувствую вашему горю. Это потеря для всех нас. Я очень ценил генерал-директора... — Мне казалось, профессор, что генерал-директор не очень одобрял избранное вами направление работы. Не так ли? — Его оценка менялась. Господин главный конструктор говорил мне, что генерал Удет очень внимательно прислушивался к его доводам в защиту реактивной тяги. Да и здесь, в этом доме, генерал проявил большую заинтересованность в моих исследованиях. Я не сомневаюсь... — Конечно, вам, господин профессор, лучше меня известна точка зрения покойного генерала. Но разве для вас секрет, что после посещения Удетом Аугсбурга и Лехфельда министерство еще раз потребовало категорического исполнения приказа Гитлера о восемнадцатимесячной гарантии начала серийного производства? — Сегодня мы можем дать такую гарантию. — Как! Ваш «Альбатрос» уже летает? — Он взлетит завтра, — сухо сказал Зандлер. — Извините, господин Пихт, мне очень нужен господин капитан. Альберт, я вас жду. «Старый козел начал взбрыкивать, — подумал Пихт. — Неужели дело идет на лад?» Он окликнул Вайдемана: — Альберт! Ты и вправду собрался завтра подняться на зандлеровской метле? — Ну да! — Держу пари, что завтра тебе не удастся оторваться от земли. — Ящик коньяка! — И ты навсегда откажешься от всей этой затеи? Поверь, она пахнет гробом. — Нет, не откажусь. Отвечу тоже коньяком. Так что завтра в любом случае перепьемся. С вашего разрешения, фрейлейн, — сказал Вайдеман, уступая дорогу Эрике. — Вы живы, лейтенант? — спросила Эрика сияя. — Извини, уже капитан, — поправил ее Пихт. — Я не мог умереть, не оставив после себя вдовы. Строгий немецкий бог не простил бы мне подобного легкомыслия в исполнении столь важной национальной задачи. Здравствуй, Элли! Я привез тебе любимые тобой «Шанель».3
Утром слегка подморозило. Вчерашний ветер нагнал на взлетную полосу опавший лист. Механики расчехлили самолет задолго до рассвета и начали предполетный осмотр двигателей. Поеживаясь, Карл Гехорсман регулировал клапаны подачи топлива и думал об Эрихе Хайдте, дяде Ютты. «Что заставляет парня рисковать? Сидел бы в своем ателье и копил марки, если уж ногу покалечил. Может, Гитлер и правда победит, тогда немцы получат в России большие наделы и заживут лучше. Почти каждый верит в это. Может, и я заведу себе хозяйство. Ха-ха! «Образцовое хозяйство Карла Гехорсмана с сыновьями». Гехорсман покрутил головой, представив себя в необычной роли. Карл работал в 1925 году в России, обслуживал самолеты Юнкерса, летающие по договору с Добролетом на почтовых линиях. Он ничего не имел против русских и чувствовал, что русские сумеют постоять за себя. «Только ребятишек жалко. Написать бы им, чтобы они сматывались из России, пока целы». Налив в ведро бензина, Гехорсман вымыл руки и отступил назад, любуясь серебристым «Альбатросом». Истребитель каждой своей линией был устремлен вперед. «А если такой самолет пойдет в серию, он натворит дел», — вдруг подумал он.АБВЕР ПОДНИМАЕТ ТРЕВОГУ
1
Капитан функабвера Вернер Флике удовлетворенно хмыкнул. Наконец-то! Операция, ради которой он уже третий месяц сидит в Брюсселе, близится к концу. Почти все это время он провел у распределительных щитов подстанции Эттербеека, одного из пригородов бельгийской столицы. Терпения у него хватило, и вот награда. Когда, еще летом, выяснилось, что наиболее мощная подпольная радиостанция, передающая на Восток, находится в Брюсселе, сюда прибыл целый отряд мониторов-радиопеленгаторов. Но они засекли район лишь приблизительно: где-то в Эттербееке. И тогда Флике засел на подстанции. Начиналась передача, и он последовательно выключал дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей. И вот сегодня, 13 декабря, удача. Выключен очередной рубильник, и морзянка исчезла. Неизвестная станция смолкла. Впрочем, уже известная. Адрес точный: одна из трех двухэтажных вилл на Рю де Аттребэте. Флике включил рубильник. Сейчас в комнате, где ведет передачу таинственный радист, снова зажегся свет, радист выругался и положил руку на ключ. Да, в наушниках снова затрещала морзянка. Флике посмотрел на часы: 23.15. В 23.20 два взвода СС выгрузились из машин. Солдаты натянули на сапоги носки, неслышно окружили три виллы. В 23.30 благонамеренные жильцы вилл на Рю де Аттребэте были разбужены одиночными выстрелами. В 23.32 их сон был окончательно нарушен длинной автоматной очередью. В 23.33 глухой взрыв заставил их выскочить из кроватей и осторожно подойти к широким, до блеска вымытым окнам... Но больше уже ничто не нарушало пригородную тишину. Поругав беспокойных немцев, потревоженные владельцы вилл вернулись к приятным сновидениям. В 23.45 командир роты СС докладывал капитану Флике: «Их было трое: двое мужчин и девушка. Живыми взять не удалось. В камине найдены обгоревшие страницы трех книг на французском языке». «Маловато, — подумал Флике. — Придется завтра продолжить обыск». На другой день эсэсовцы задержали пожилого бельгийца, постучавшегося в дверь виллы. Он оказался скупщиком кроличьих шкурок, и его отпустили после допроса. Поздно вечером 14 декабря Перро принял радиограмму Центра: «От Директора Перро. По сообщению Кента вчера разгромлена брюссельская радиостанция. Возможно, захвачен шифр. Переходите на третью запасную систему. Чаще меняйте место передач и время сеансов. Директор». Такую же радиограмму в этот день получила в Лехфельде Ютта Хайдте.2
Каждый раз, переступая порог «лисьей норы», полковник Лахузен, начальник II отдела абвера, перебирал в уме английские поговорки. Старый лис адмирал Канарис считал себя знатоком английского народного языка и любил, когда подчиненные предоставляли ему возможность проявить свои знания. Адмирал стоял у окна, вертел в руках знаменитую бронзовую статуэтку трех обезьянок. Одна держала лапу у глаз, как бы смотря вдаль, другая приложила ладонь к уху, третья предостерегающе поднесла палец к губам. — Я всегда считал эту вещицу символом абвера — все видеть, все слышать и молчать. Не так ли? — спросил адмирал. Он поставил статуэтку на стол. — Садитесь, полковник. Вы слышали, чтобы обезьяны перебегали в чужие стаи? Не слышали? Лахузен посмотрел через голову адмирала. На стене висела японская гравюра — беснующийся дьявол. Рядом две фотографии: генерал Франко (в верхнем углу размашистая дарственная подпись) и злющая собачонка — любимица адмирала такса Зеппль. — Полковник, вы, конечно, слышали, что дешифровальный отдел сумел раскодировать значительное количество радиограмм, посланных агентами большевиков с начала войны до 13 декабря. К сожалению, затем они сменили код, и пока ни одной новой станции не захвачено. Судя по радиограммам, против нас действует не одна, а десятки подпольных организаций, или, что менее вероятно, одна организация с многочисленными филиалами. Анализ передаваемой информации показывает, что советская разведка имеет доступ к самым жизненным центрам империи. Ее достоянием становятся сведения и решения, известные весьма узкому кругу лиц. Общая ответственность за ликвидацию этой угрозы возложена фюрером на Гейдриха. Но... Адмирал потер руки. — Но и мы не можем остаться в стороне. Тем более, что здесь затронута честь мундира. В списке людей, неоднократно имевших доступ к переданной информации, есть двое сотрудников отдела контрразведки люфтваффе. — Кто же? — Майор фон Регенбах и капитан Коссовски. — Это невозможно. — Вы хотите за них поручиться? Полковника передернуло. — Я сказал, что не верю своим ушам. Эвальд фон Регенбах... — У нас нет стопроцентной уверенности в предательстве кого-то из них, но факты... Факты весьма уличающие. Во всяком случае, нам надлежит разобраться в этом деле раньше, чем спохватятся молодчики Гейдриха. — Вы поручаете мне установить слежку за обоими?.. — Слежка не помешает. Но одной слежки мало... Впрочем, имеем ли мы право вмешиваться в дела, относящиеся к санкции контрразведки люфтваффе?.. Пусть они сами расхлебывают эту кашу. — Как! Вы хотите... — Вот именно, полковник. Вы очень догадливы последнее время. Пожалуй, я смогу рекомендовать вас в качестве моего преемника. — О, господин адмирал... Лахузен приподнялся со стула. — Сидите. Вернемся к нашим обезьянкам. Я вас слушаю. — Вы предлагаете, чтобы они «cook their own goose?» — Лахузен припомнил старую английскую пословицу. — Совершенно точно, полковник. Пусть они сами изжарят своего гуся. Побеседуйте с ними на досуге. По-видимому, именно среди них нам следует искать русского агента, подписывающего свои донесения именем «Перро». Вы знаете, кто такой Перро? — Французский сочинитель сказок. Красная Шапочка и Серый волк. — Вот именно. Сказку вам придется переделать. Серый волк съедает Красную Шапочку, и никакие охотники ей не помогут. У Канариса дрогнули уголки рта, и Лахузен позволил себе рассмеяться. — Еще один момент, Козловски... — Коссовски, господин адмирал. — Да, Коссовски... В сферу его деятельности входит общий надзор за обеспечением секретности работ фирмы «Мессершмитт-АГ». Так вот, как свидетельствуют эти радиограммы — вы прочтете их, полковник, — в Аугсбурге действует весьма энергичная группа русских разведчиков во главе с каким-то Мартом. Он буквально засыпал Москву технической документацией. А вы ведь знаете, чем занимается сейчас Мессершмитт. — Так точно. Секретным оружием, — Увы, давно не секретным... — Значит, Коссовски... — Коссовски, как и вы пять минут назад, ничего не знал о существовании Марта. По службе, конечно, по службе. По службе он узнает об этом завтра. От вас, полковник. Ясно? — Слушаюсь. — Я думаю, он сам догадается направить в Аугсбург подразделение функабвера. Марта нужно унять. Канарис наклонил голову, давая понять, что инструктаж закончен. Лахузен вышел. Вслед ему со стены корчил рожу черный японский дьявол.3
Только через год Мессершмитт смог назначить новое испытание «Альбатроса». Накануне Вайдеман зашел в ресторан «Хазе» и там встретил Пихта. Он выпил несколько рюмок и захмелел. — Пожалуй, хватит, Альберт, — остановил его Пихт, — тебе ведь завтра лететь. — Чепуха! «Альбатрос» взлетит у меня как стрекоза. — Ну, тогда выпьем за то, чтобы ты завтра не сломал себе шею. — Если признаться по совести, я все-таки боюсь этой машины, Пауль, — нахмурился Вайдеман и опустил голову. — Я не знаю, когда она начнет взбрыкивать. Я делал на ней подлеты[149]. Треску много, а сил нет. Пихт подлил вина в рюмки. — Это я виноват, что впутал тебя в эту историю. — Брось... Это все же лучше, чем сейчас на фронте. Здесь мой враг мой же самолет. Я не знаю, в какой момент он подставит подножку. Вайдеман уже опьянел и начинал повторяться. Вдруг Пихт заметил Гехорсмана, который решительно пробирался через толпу танцующих к их столику. Добравшись, наконец, до цели, он возмущенно засопел: — Господа, завтра полеты, а вы... как последние скоты. — Пошел вон, рыжий пес! — закричал Вайдеман. — Как вас развезло! А ну вставайте! Огромными руками, как клешнями, Гехорсман обхватил Вайдемана и потащил к выходу. Пихт отворил дверцу «фольксвагена». Гехорсман приложил ко лбу Вайдемана платок и вылил ему на голову остатки сельтерской. Вайдеман пьяно всхлипнул: — Милый рыжий песик, ты всегда шел со мной рядом... Испания, Польша... Господи, я никогда не мог пожаловаться на мою машину. Я знал ее каждую косточку. Ты истинный немецкий мастер. Такие вот руки, — Вайдеман попытался схватить руку Гехорсмана, — всегда умели держать молот и винтовку... Дай я тебя поцелую, рыженькая моя собачка... — Хватит лизаться, я не девка, а отец семерых детей, — легонько отталкивая Вайдемана, ворчал Гехорсман. — А где они? — На русском фронте. — Дай мне еще выпить за твоих солдат, Карл. — Э, нет. Я провожусь с вами всю ночь, но к утру сделаю трезвыми, как стеклышко.4
...День 18 июля выдался на редкость солнечным. Проводить испытания приехал из Аугсбурга сам Мессершмитт. Все было проверено и перепроверено, но инженеры и механики не могли уйти от самолета по той причине, что вложили в истребитель слишком много своего труда. Зандлер решил для испытаний выделить самолет наблюдения, обычный «мессершмитт». Сопровождать Вайдемана вызвался Пихт. Мессершмитт оглядел пилотов с явным удовольствием: — Как вам нравится работать у меня, господа? — Благодарим, господин конструктор, — ответил Вайдеман. — Вы, Вайдеман, по расчетам, очевидно, взлетите вот здесь. — Мессершмитт топнул ногой по бетонке. — По расчетам... Но, к несчастью, иногда бывает, что и мы, конструкторы, ошибаемся. Надеюсь, прошлой ошибки не повторится. Ребятишки Юнкерса сделали, кажется, неплохой мотор... Можете готовиться к полету. — «К несчастью», «кажется», — проворчал Пихт, когда они с Вайдеманом отошли. — Не завидую тебе, Альберт. Когда-нибудь мне придется раскошеливаться на цветы к гробу лучшего друга... — Прекрати! — оборвал Вайдеман, кривясь от головной боли. — Что-то я все хуже и хуже стал тебя понимать. Пихт и сам почувствовал, что сказал не то. — Нервы, наверное, сдают. Гибнут люди — сначала Удет, потом Мельдерс, потом... — Прошу: давай перед этим полетом не будем говорить о смерти. Я ее, курносую ведьму, сам боюсь... Ну, рыжий дьявол, снаряжай! — крикнул, стараясь казаться беспечным, Вайдеман. Карл Гехорсман помог ему надеть парашют и взобраться на крыло. Вайдеман с облегчением опустился на сиденье и осмотрел кабину. Все в порядке. На привычных местах замерли знакомые стрелки. Они оживут, когда загрохочут моторы. Впереди, сквозь прямоугольник броневого стекла, была хорошо видна бетонная полоса. Вайдеман покосился на узкие, уходящие назад крылья. Далеко вперед из-под них высовывались круглые, сигарообразные двигатели. «Черт знает, что можно ждать от вас!» — подумал Вайдеман и устало провел рукой по лицу. Сухо щелкнул переключатель рации. — Я «Альбатрос», к полету готов, — пробубнил Вайдеман. — Хорошо, «Альбатрос». Вы пристегнули ремни? Необычная забота Мессершмитта в первое мгновение озадачила Вайдемана. «Покойнику всегда говорят ласковое». Он дотронулся до плеча и с удивлением обнаружил, что забыл застегнуть привязные ремни. Вайдеман торопливо нашел их, стянул концы. С лязгом металлические кольца вошли в гнезда и зацепились за зубья. — Готов! — еще раз проговорил Вайдеман. Гехорсман опустил фонарь и помахал пилоту, Шум запущенных двигателей показался Вайдеману более глухим. Но тяга увеличивалась. «Альбатрос» качнулся на носовое колесо. «Придется брать ручку больше на себя», — подумал Вайдеман. — Прошу взлет! — крикнул он. — Взлет! — донеслось из наушников. Турбины сорвались на вой. Самолет начал разбег. Вайдеман одним глазом покосился на указатель скорости. Стрелка уже перевалила за 150 километров в час. По расчетам, сейчас самолет должен оторваться от земли. Но по тому, как тяжело он приседал и выпрямлялся на швах бетонных плит, Вайдеман понял, что «Альбатрос» и на этот раз не взлетит. Он энергично потянул ручку на себя, стараясь увеличить угол атаки крыльев. Машина приподнялась, словно собираясь выстрелить в воздух. Поздно! Скоро конец полосы. Вайдеман рывком убрал тягу подачи топлива и нажал на тормоз основных шасси. Только сейчас он поблагодарил Мессершмитта за напоминание о привязных ремнях. Его бросило на приборную доску, ремни с хрустом впились в плечи... К самолету, как всегда, первым подбежал Гехорсман. Он привычно выдернул Вайдемана из кабины и бережно опустил на землю. — Вы ударились? Вам нехорошо? — пробормотал он. — Не нужно было пить вчера. Вайдеман вдруг поднял на него налитые кровью глаза и с неожиданной силой ударил кованым ботинком по колену Гехорсмана. Старик скривился от острой боли. Его замызганная пилотка свалилась, болезненно вздрогнула рыжая с сединой голова. Карл медленно выпрямился. Удар показался ему таким несправедливым, что по глубоким, черным морщинам потекли слезы. — За что? — прошептал побелевший Гехорсман. Вайдеман отвернулся. Подъехала машина Мессершмитта. Конструктор спрыгнул с подножки и подбежал к испытателю. — Что случилось, капитан? — Я не набрал нужной скорости. Машину все время тянуло на нос. Она не слушалась рулей. — Понятно. — Мессершмитт выпрямился и посмотрел на Зандлера, который уже успел подъехать на санитарной машине. — Что скажете вы, профессор? — По-видимому, для самолета с носовым шасси мала взлетная площадка... — Правильно. Но мне нужен солдатский самолет — простой в управлении и обслуживании, умеющий взлетать с самых малых фронтовых аэродромов. — Необходимо сделать кое-какие расчеты. — Делайте, профессор! Думайте, впрягайте своих инженеров, только быстрей, быстрей! Мессершмитт сел в свою машину и пригласил Зандлера. — И еще одно обстоятельство, — проговорил он, когда «мерседес» набрал ход. — Подумайте о замене Вайдемана. Психологическая травма... Вы знаете, что это такое, Иоганн? — Весьма относительно. — Это самое страшное для испытателя. Вайдеман дважды попадал в аварию. Дальше он будет бояться своей машины, потому что испугался ее еще до начала полета. Одиннадцатого августа я проведу еще один полет и назначу пилотом своего испытателя Франке.5
У Эриха Хайдте уже давно зажила нога, но на людях он ходил, по совету Перро, тяжело опираясь на трость. По мере того как все глубже и глубже уводил его лес, он ускорял шаги. В том месте, где автострада описывала дугу, неподалеку от пивной «Добрый уют», на опушке рос старый дуб. Если тщательно обследовать потрескавшуюся, пепельно-серую кору, то опытный глаз заметил бы крохотную шляпку ржавого гвоздя. Стоит потянуть ее ногтем, и кусок коры отделится от ствола, открыв дупло. Лес посветлел. Скоро будет опушка. Эрих огляделся и пошел медленней. По автостраде с шумом проносились машины, но здесь было тихо. Тяжелый, нагретый солнцем лес, приглаженный и вычищенный от листьев, безмолвствовал. Эрих опустил руку в дупло и извлек маленькую пластмассовую коробочку, обклеенную красной лентой. Между концами ленты оставался зазор. Эрих приложил спичку. Зазор скрылся. Значит, никто посторонний коробку не брал. Он натянул резиновые перчатки, которыми пользовался, проявляя снимки, и снял крышку. Записка была предельно краткой: «Сообщите Перро для Центра: «Испытания 11.08. Март». «Придется ехать к Перро», — подумал Эрих. С тех пор, как Эрих приехал в Лехфельд, с Перро он встречался дважды. В первый раз передал пленки с заснятыми боевыми самолетами люфтваффе. В другой — большое зашифрованное письмо и микропленку «Альбатроса» от Марта. «Все-таки интересно было бы встретить Марта. Кто он такой? Как выглядит?» — подумал Эрих. В эту же ночь он выехал последним поездом в Берлин.6
В пять часов утра 11 августа 1942 года инженеры и техники стали готовить к полету новую модель «Альбатроса». На этот раз «Альбатрос» испытывался в Рехлине — на имперском аэродроме. Мессершмитту не терпелось показать самолет высшим чинам люфтваффе, чтобы заручиться поддержкой и получить кредит на продолжение работ над своим реактивным чудом. Генералы люфтваффе и Мессершмитт прошли на трибуну. Руководил полетом Зандлер. — Вам надо поскорей забраться на высоту... От удачи сегодняшнего полета зависит вся наша работа, — сказал Зандлер пилоту Франке. — Понимаю. — А эта машина пока единственная, годная в полет! — почему-то разозлился Зандлер. — Идите одеваться! Франке, обескураженный суровым тоном профессора, вышел. В восемь утра Зандлеру доложили, что самолет и летчик к испытаниям готовы. — Франке, включите рацию! Красный свет маяка в конце взлетной полосы сменился на зеленый. До Зандлера донесся мягкий, вибрирующий звук — заработал компрессор. Через минуту раздался громкий выхлоп. Из турбин вырвалось облако белого дыма и струи сине-алого пламени. — Создаю давление, — передал Франке. Инженеры и техники бросились к автомашинам, чтобы сопровождать самолет во время разбега и следить за работой турбин. Истребитель с грохотом двинулся вперед. Вот машины отстали — он заметно прибавил скорость. — Франке, дайте полную тягу! — закричал Зандлер в микрофон. — Тяга полностью, — передал Франке. — В конце полосы убирайте шасси! «Альбатрос» тяжело повис над землей, вяло качнул крыльями. И вдруг в этот момент сильная белая вспышка кольнула глаза Зандлера. Через несколько секунд долетел грохот взрыва, стекла в диспетчерской со звоном рассыпались по полу. Завыли сирены. Пожарные машины рванулись к месту катастрофы. «Альбатрос» горел, окутываясь черно-желтым пламенем. — Франке! Франке! — тряс микрофон Зандлер, не отдавая отчета в том, что летчик уже погиб. И когда понял это, то уткнулся в пульт управления и судорожно сжал виски. В толпе генералов, которые молча расходились к своим машинам, понуро шел Мессершмитт. Главный конструктор понимал, что теперь ни поддержки, ни тем более кредитов он не получит.7
Коссовски получил известие о рехлинской катастрофе в тот же день вечером. Он взял из сейфа папку с материалами об испытаниях «Ме-262». В первой тетради были записаны все аварии и катастрофы, которые произошли с тех пор, как Мессершмитт начал заниматься реактивной авиацией. «Двигатели не развили тяги. Авария. Испытатель Вайдеман... «Альбатрос» с добавочным поршневым мотором взлетел. Прогар сопла левой турбины. Испытатель Вайдеман... На высоте 40 метров обрезало правый двигатель. Испытатель Вайдеман... Взрыв мотора «Брамо» на испытательном стенде. Причина не выяснена... «Альбатрос» с носовым шасси не развил взлетной скорости. В конце полосы Вайдеман затормозил...» И вот 11 августа взорвался весь самолет. Испытатель Франке погиб. О дне испытаний знали Зандлер, Вайдеман, сам Франке, Гехорсман и другой обслуживающий персонал. «А таинственное исчезновение мощного передатчика с транспортного «Ю-52»? — подумал Коссовски. В вечерние часы его мозг работал с завидной четкостью. Вайдеман, Вайдеман... Слишком прозрачно. Впрочем, нет. Если так настораживает Вайдеман — значит, не он. Чутье опытного контрразведчика восставало против Вайдемана. Кто же рекомендовал его в Лехфельд? Удет? Но Удет — это Пихт. Вайдеман — Пихт. Это Швеция, это Испания, Франция... И еще Зейц. И еще Гехорсман... Гехорсман — Зейц — Вайдеман — Пихт... «Нужно немедленно выехать в Лехфельд. Кстати, проверю, чего добился Флике», — решил Коссовски и пошел к Регенбаху. — Да-да, я уже знаю о катастрофе, — встретил его майор. — Расскажите, что же вы собираетесь делать? Коссовски хотел отделаться общими фразами, но Регенбах вдруг потребовал рассказать обо всем самым подробнейшим образом. Он задавал вопрос за вопросом, и хотел этого или не хотел Коссовски, но ему пришлось изложить все подозрения, которые касались Вайдемана, Зейца, Пихта, Гехорсмана, инженеров, Зандлера. — А Март, а радиостанция в Аугсбурге и Брюсселе? — сухо спросил Регенбах. — Мне кажется, ищейка пошла по другому следу. — Можете на меня положиться, господин майор, — официальным тоном проговорил Коссовски. Регенбах близко подошел к капитану и внимательно посмотрел ему в глаза. — Вы хороший шахматист, Зигфрид? — задал он неожиданный вопрос. — Играю немного. — Тогда вы, конечно, знаете, что такое гамбит. — Начало партии, когда один из противников жертвует пешку или фигуру ради быстрейшей организации атаки на короля. — Совершенно верно. Слово «гамбит» происходит от итальянского выражения — «даре ил гамбетто» — подставить ножку. Так вот, Зигфрид, чтобы подставить ножку этому самому Марту, нам придется разыграть оригинальный гамбит. — Чем же мы пожертвуем? — Внезапностью. Коссовски непонимающе поглядел на Регенбаха. — Мы сообщим по каким-либо каналам всем подозреваемым важные государственные тайны. Разумеется, разные. И вполне правдоподобные. Если кто-то из них агент, он не сможет не воспользоваться радиостанцией в Аугсбурге. На это уйдет несколько дней, но мы не будем горячиться, будем просто ждать. — Не ново, однако попробовать можно, — сказал Коссовски. Дня два Коссовски составлял подробнейшие инструкции для лиц, участвующих в операции. Утром третьего дня перед Регенбахом он положил папку. На черном коленкоре была приклеена полоса бумаги с надписью: «Операция «Эмма».ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
1
Ютта получила телеграмму из Берлина. Тетя просила достать очень ценное лекарство. Даже в столице его найти невозможно, а она так страдает от язвы желудка. Если лекарство будет, то пусть Ютта не посылает его, а подождет тетю. Она собирается навестить Эриха и Ютту в самые ближайшие дни. Днем позже Эрих получил письмо от фронтового друга. Телеграмма Ютты давала совершенно новый, более сложный код к расшифровке письма. Невинная болтовня друга открывала тревожное сообщение Перро. Он написал о подозрениях Коссовски, о скором приезде капитана в Лехфельд, а также о том, что Марту будет подсунута в ближайшее время фальшивка якобы важного государственного значения. Пусть он ее не передает в Центр, а Ютта срочно отстучит ложную телеграмму такого содержания: необходимо обезвредить Коссовски, но не в Лехфельде или Аугсбурге, а где-то в Берлине. Возможно, следует Марту запросить из Центра группу обеспечения для проведения этой операции. Эрих немедленно отправился к тайнику и вложил записку. На следующий день пластмассовая коробочка в дупле старого дуба была уже пуста.2
В три ночи капитана функабвера Флике разбудил дежурный солдат. В районе западной окраины Лехфельда заработала подпольная радиостанция. Мониторы устремились туда, но на полдороге радист оборвал связь. Телеграмму он передал предельно короткую. Службе перехвата все же удалось ее принять. Как и ожидал Флике, она была закодирована. Опытный дешифровальщик определил, что агент воспользовался неизвестным кодом. Флике передал телеграмму в различные дешифровальные отделы, в том числе и в «Форшунгсамт» люфтваффе. Коссовски не на шутку взволновался. Ее содержание с головой выдаст таинственного Марта. В том, что агент попал в силки, им расставленные, Коссовски не сомневался. Операция «Эмма», несмотря на простоту и неоригинальность, по-видимому, сработала безукоризненно. Об этом он доложил Регенбаху. — Посмотрим, — уклончиво ответил Регенбах. — Как только заполучу от дешифровальщиков настоящий текст, я немедленно вызову вас. Коссовски пытался сесть за работу, но не мог сосредоточиться. В кабинете было солнечно и жарко. Он снял френч. Высокий, чуть сутуловатый, седой, среди серых казенных стен он казался чужим человеком. Но эти стены надежно оберегали его на протяжении многих лет. В эти стены он входил мучительно долго, прокладывая ступеньку за ступенькой в свирепых джунглях подозрительности, взаимной слежки и вероломства. Все это скрывалось, разумеется, за тщательно отрепетированным дружелюбием, простотой, даже фамильярностью подчиненных и начальников. Коссовски был слишком умен и осторожен, он умел вовремя предупредить надвигающуюся опасность. Сейчас же он вдруг почувствовал, что она где-то рядом, но с какой стороны ее ждать, не знал. Так прошел день. Сумерки накрыли город. Стало тише и прохладней. Где-то далеко прокатывался гром. Коссовски задернул черную штору, положил руку на включатель электрической лампочки, но света не зажег. Так и остался сидеть в своем жестком кресле. Давно Коссовски не ощущал такого мерзкого состояния. В последний раз, пожалуй, тогда, в Испании. Правда, с тех пор этот кошмарный страх посещал его по ночам. Смертельная опасность невидимой лавиной надвигалась из темноты, и не было сил пошевельнуться, защитить себя. Кончалась жизнь. Но он не мог даже крикнуть. И никто не услышал бы крик обреченного. От ночных кошмаров оставалась наутро настороженная тень в глазах. Откуда надвигается роковая беда? Беда таилась повсюду. Тогда, в Испании, он не уступил страху. Не выдал себя. Но внезапный холод опустошил сердце и все тело, едва он услышал протяжный голос Зейца: «Выбора у тебя нет, приятель. Нам деваться некуда, и тебе придется послушать нас. Или... Впрочем, какое дело мертвецам до того, что происходит с живыми. Трупы не любопытны. И не разговорчивы...» Он не мог ничего ответить. Он знал, что любой ответ приведет его к гибели. Тогда его спас Пихт. Сейчас надежда только на себя. К тому же сила, навалившаяся на него теперь, была, очевидно, беспредельно огромнее той, что угрожала ему в Испании. Вдруг сон улетучился, как паутина, сорванная ветром. Коссовски вспомнил день, когда Регенбах как бы между прочим сказал: «А старикашка Хейнкель потихоньку лепит самолет-гигант с четырьмя реактивными моторами». Неделю спустя служба радиоперехвата расшифровала телеграмму с подобным сообщением. Она была подписана именем «Март»... Почему пришло на память именно это? От резкого, короткого звонка Коссовски вздрогнул. Он поднял телефонную трубку и услышал голос Регенбаха. — Коссовски, немедленно едем в абвер к Лахузену. «Вот откуда началось», — подумал Коссовски. «Оппель» бесшумно мчался по широкой Вильгельмкайзерштрассе. Всю дорогу Регенбах молчал. Со стоном взвизгнули тормоза. Открылась и закрылась дубовая черная дверь. Коссовски вошел в кабинет начальника II отдела абвера и доложил о прибытии. Регенбах отошел в тень. «Значит, он уже был у Лахузена», — подумал Коссовски и снова ощутил на сердце мерзкий холодок. Опасность столкнулась с ним лоб в лоб. Огромная, безжалостная. Он сам был ее частицей и потому хорошо знал, что сопротивляться бессмысленно, если приговор уже вынесен. А приговор вынесен. Он прочел его в глазах Лахузена. Полковник Лахузен не смог скрыть того профессионального, слегка сострадательного любопытства, какое всегда испытывает охотник к смертельно раненному зверю, сыщик — к пойманному с поличным вору, палач — к смертнику, а контрразведчик — к допрашиваемому шпиону. Лахузен заговорил о лехфельдской радиостанции. Начало беседы мало походило на допрос. Полковник, казалось, советовался с младшим коллегой. Советовался, мягко и настойчиво загоняя Коссовски в только ему известную ловушку. Коссовски понял, что он может никогда не узнать, какая вполне невинная фраза окажется для него роковой. Ни в чем не обвиненный, он ни в чем не сможет оправдаться. Когда полковник обмолвился о Регенбахе, присутствующем тут же, Коссовски уже знал точно, что ему нечего надеяться на спасение. Лахузен поднялся. Лицо его, вначале освещенное слабым отражением настольной лампы, скрылось в тени. — Майор Регенбах сказал мне, — неожиданно ласковым тоном заговорил полковник, — что вам не терпится выехать в Лехфельд и самому поймать шпиона. Поезжайте, Коссовски, ловите... — Да, но... — Коссовски так оглушило это разрешение, что он не смог быстро прийти в себя. — За чем же задержка? — спросил полковник. — Мне важно знать, расшифровали или нет ту телеграмму, которую перехватили после осуществления операции «Эмма». — Понимаю... Вам знать важно. — Лахузен подошел к Коссовски почти вплотную и вдруг круто вильнул в сторону. — Я сожалею, мы расшифровать ее не сумели. Вы свободны, капитан. Извините за поздний вызов. Такова служба... Вы, майор, останьтесь. — Значит, Коссовски? — Лахузен взял текст расшифрованной телеграммы. В ней Март сообщал Перро, что предупреждение он получил и срочно ждет его лично. Лахузен, разумеется, промолчал о том, что проверка второго подозреваемого, то есть присутствующего здесь Регенбаха, окончилась. Регенбах попросту не передал того сообщения, о котором ему якобы по секрету сказал Лахузен. Коссовски же передать мог. Телеграмма о том, что Хейнкель работает над созданием четырехмоторного реактивного самолета, была послана Центру и подписана «Перро». Лахузен сам просил Регенбаха намекнуть об этом Коссовски на несколько дней раньше. Но обвинение в шпионаже, считал Лахузен, слишком серьезное, чтобы немедленно арестовать такого человека, как Коссовски. И поэтому он решил выждать, когда тот сам выдаст себя и заодно Марта, с которым постарается встретиться в Аугсбурге или Лехфельде. В ту же ночь, после ухода Коссовски домой, был вскрыт его сейф и изучено дело, которое он вел, расследуя аварии и катастрофы «Альбатроса». За Коссовски решено было установить самую тщательную слежку. Возможно, Лахузен имел бы больше оснований для ареста Коссовски, если бы он знал о том, что произошло в Испании в жаркий полдень августа 1937 года. Но Лахузен об этом не знал. Знали трое: Зейц, Пихт и Коссовски. И все молчали.3
«Испания, чертова Испания... Пихт привел этого самого Штайнерта к нам, — думал Коссовски. — Я не поверил его документам. Зейц застрелил Штайнерта. А ведь Штайнерт нес от Канариса секретный пакет Франко. Откуда я тогда мог знать, что Штайнерт подполковник и что он хотел предупредить о наступлении красных под Валенсией?! А мы не хотели тащиться с ним по жаре и горам. Когда я получил приказ о розыске Штайнерта, я разрыл его могилу и труп сбросил в реку. Но дело было сделано...» Лехфельд после духоты и столичной суеты всегда казался Коссовски чем-то вроде домика его старой бабушки. Такой же опрятный, позеленевший от старости, тесный и добрый. Когда на аэродроме не было слышно душераздирающего воя турбин, здесь устанавливалась глубокая, почти сельская тишина. Далеко от узких улочек лежал авиагородок: прямой проспект с особняками и виллами. Здесь жили служащие Мессершмитта. У самого аэродрома тянулись бараки, одинаково длинные и низкие, с редкой зеленью перед окнами. А за кирпичным забором, обтянутым сверху колючей проволокой, тянулся испытательный аэродром и орешник, рассеченный магистралью Берлин — Аугсбург. Коссовски приказал шоферу ехать на аэродром. Вайдеман играл в «джокер», когда в общежитие пилотов вошел Коссовски. — Зигфрид! Ты имеешь обыкновение появляться, как дух, — бесшумно и внезапно. По каким делам сюда? — Проездом, Альберт. Некоторым образом я теперь отвечаю за Лехфельд. А заодно решил навестить друзей. «Надо быть начеку с этим волкодавом», — подумал Вайдеман. — Кстати, ты здорово выглядишь, — сказал Коссовски. — В двадцать восемь лет рано жаловаться на здоровье. — Ты дружишь с Пихтом? — Как сказать?.. Вначале были дружны, сейчас, по-моему, между нами пробежала какая-то кошка. — Почему? Вайдеман пожал плечами. — Когда-то вас что-то объединяло. А сейчас дороги расходятся? — Шрам на лице Коссовски напрягся сильней. — Да нет, ты неправ, Зигфрид, — набычившись, произнес Вайдеман. — Я и сам не могу объяснить это. Хотя у него сейчас свои увлечения, у меня — свои. — Ютта? — Откуда ты узнал? — Шея Вайдемана сделалась пунцовой. Коссовски рассмеялся: — Уж если одна девица занята Пихтом, то другая... — У меня серьезно, — А у Пихта? Вайдеман вдруг разозлился: — Откуда мне знать, что у Пихта?! «Значит, Ютта — ее дядя Эрих Хайдте — Вайдеман», — мысленно протянул ниточку Коссовски. — Слушай, Зигфрид, если ты приехал искать шпионов, так ищи где-нибудь, но не среди нас. Коссовски засмеялся: — Ну что ты, Альберт, в самом деле!.. Наоборот, я хочу вас обезопасить в случае чего. По старой дружбе. ...Вечером Коссовски уехал к Флике. Капитан функабвера жил в походной мастерской мониторов. — Станция водит меня за нос, — пожаловался Флике. — За все месяцы мы смогли только определить район, где действует передатчик. Это Лехфельд. Довольно близко от аэродрома, может быть, авиационный поселок. Три монитора день и ночь дежурят в том районе. — Вас никто не может обнаружить? — Нет. Мониторы скрыты за палатками над водосточными люками. Солдаты и офицеры переодеты и делают вид, что ремонтируют канализацию. — Вы хорошо придумали, Флике. — Но радист замолчал. Последняя радиограмма, кажется, расшифрована. — Да? — Коссовски чуть не выронил планшет, который держал в руках. — А вы разве не знаете? — удивился Флике. — Я уехал до того, как расшифровали телеграмму, — медленно произнес Коссовски. «Они следят за мной, — подумалон. — Неужели стало что-либо известно об Испании? Кто выдал — Пихт или Зейц? Или они вместе?» Коссовски несколько раз хотел рассказать в абвере об убийстве связного Канариса подполковника Штайнерта, но не хватало духа пройти всего три квартала до всемогущего управления разведки вермахта. Несколько раз он садился за бумагу и рвал ее, не дописав строчки. Из троих он был самым виновным. Он приговорил Штайнерта, Зейц исполнил приговор, Пихт остался свидетелем... Если кто-то из них связан с Мартом, Коссовски будет очень трудно их обвинять. Впрочем, нет, Коссовски найдет выход, лишь бы только напасть на след этого Марта. Резидент в Аугсбурге и, возможно, другой в Берлине снимут с него вину пятилетней давности. Даже сам Канарис... После Флике Коссовски навестил Зейца. — У вас под носом работает подпольная станция, — прямо объявил он, — загадочный Март шлет в Москву телеграмму за телеграммой, в Лехфельде авария за аварией... Кто их делает? Вайдеман? Только ли он один? — Я не понимаю вашего тона, Коссовски. С каких пор служба безопасности стала подчиняться контрразведке люфтваффе? — Говорю я об этом потому, что у нас с вами одна задача — обеспечить секретность работ на заводах Мессершмитта. Мне необходимы все данные о служащих фирмы. — Я не могу их дать вам, Коссовски. — Меня интересует весьма узкий круг лиц, так или иначе связанный с секретными материалами, — как бы не слыша, продолжал Коссовски настойчивым тоном. — Весьма узкий... — Кто же, если не секрет? — Зандлер, Вайдеман, Вендель, Гехорсман, секретарша Зандлера, Пихт и вы, Зейц. — По-вашему, кто-то из этих — Март? — У меня нет еще доказательств. Но если вы дорожите своей головой, вы поможете их достать... Вдруг в кабинет вошел шофер и молча протянул Коссовски радиограмму от Лахузена. Начальник II отдела абвера требовал немедленно выехать в Берлин. От перегретого мотора тянуло теплом. О том, что может произойти в Берлине, Коссовски не думал. Мало ли какая идея осенит Лахузена? Он вспоминал кое-какие нащупанные нити, связывающие те или иные события. Обескураживал Коссовски вчерашний разговор с Пихтом. Пауль вел себя в высшей степени высокомерно. — Может быть, тебе стоит вспомнить Испанию? — спросил Пихт прямо. — Это уже давно забылось, — стараясь быть спокойным, проговорил Коссовски. — Напрасно ты так думаешь, Зигфрид. — Сейчас меня интересуют аварии с «Альбатросом», — насупился Коссовски. — Ты знал, когда должен лететь Вайдеман? — Разумеется. Я же его сопровождал в первых испытательных полетах. — Но почему однажды перед полетом вы напились? — Напился не я, пить хотел Вайдеман. Он боялся этих испытаний. — Тогда пусть он поищет более спокойное место. — Вот и скажи ему сам об этом. — Вайдеман говорил об испытаниях в Рехлине? — спросил Коссовски. — Я не интересовался. Кроме того, ты осведомлен, разумеется, о приказе, запрещающем должностным лицам разглашать время и место испытаний? — Но Вайдеман мог поделиться этим с другом... — Коссовски, ты считаешь меня дураком. Вайдеман всегда выполняет любой приказ с безусловной точностью, независимо от того, пьян он или нет. — Ты допускаешь возможность, что в Рехлине самолет взорвался от мины, скажем, с часовым механизмом? Пихт откровенно захохотал, глядя на Коссовски: — Тебе ли не знать, Зигфрид, о том, что с тех пор, как появился первый аэроплан, в авиации потерпело аварию две тысячи триста семнадцать самолетов. Не сбитых в бою, а просто потерпевших аварию из-за туманов, гроз, плохих аэродромов, слабой выучки, а главное, от несовершенства конструкций. «Альбатрос» — нечто новое в самолетостроении. И я не знаю, сколько еще аварий и катастроф произойдет с ним, пока он как научится летать. И если такие бдительные контрразведчики, как капитан Коссовски, будут искать в них мину и подозревать пилотов в шпионаже, клянусь, он никогда не взлетит....Машина со скрежетом тормозов остановилась. У шлагбаума стояли два жандарма с блестящими жестяными нагрудниками на шинелях. Шофер предъявил пропуск. Жандарм осмотрел машину и, козырнув, разрешил ехать дальше. Берлин, как обычно, был погружен во тьму. Машина помчалась мимо черных громад зданий. — Остановитесь у абвера, — сказал Коссовски, когда «оппель» выехал на Кайзервильгельмштрассе. Коссовски думал, что Лахузена он не застанет, но тот, оказывается, ждал его. Лицо полковника абвера выражало крайнее недоумение. — Проходите и садитесь, капитан, — проговорил Лахузен, собирая со стола документы. — Вы устали, конечно, но придется еще поработать. Невероятное дело! Из ряда вон... — Не понимаю вас, господин полковник. — Ах да! В руки гестапо попал человек. У него выколотили признания. Он оказался связным «Роте капеллы» — красной подпольной организации. Он шел к Перро. И знаете, кто им оказался? Майор Эвальд фон Регенбах! Если бы Коссовски не сидел в кресле, у него, наверное, подкосились бы ноги. Он мог подозревать Регенбаха, как подозревал в измене и второго коричневого фюрера — Гесса, когда тот перелетел в Англию, но то, что неуловимый, всезнающий, загадочный Перро — это Регенбах, никак не укладывалось в его сознании. — Мы узнали об этом утром. Канарис уехал к Гиммлеру, потом докладывал рейхсмаршалу Герингу. Ведь Геринг рекомендовал Регенбаха на высшие курсы штабных офицеров люфтваффе. Тот дал согласие на арест совсем недавно: от улик не уйдешь. — Какая же роль уготована мне в этом деле? — спросил Коссовски. — Самая первая. Гиммлер по старой дружбе обещал Канарису передать Регенбаха нам. За его домом установлена слежка. Вы с тремя нашими людьми его арестуете. Сейчас. — Неужели даже среди таких немцев могут быть красные? Лахузен развел руками. — Теперь от Перро нас поведет прямая дорога к Марту с его рацией в Лехфельде... — жестко проговорил Коссовски. — Вот поэтому мы и решили дать вам первую роль, так как вы наиболее преуспели в этом деле, — сказал Лахузен. — От того, насколько удачно вы проведете операцию, будет зависеть ваше повышение по службе. — Я всегда служил рейху и фюреру... — начал, поднявшись, Коссовски. — Да-да, — перебил его Лахузен. — Вы были исполнительным работником. Только не поскользнитесь сейчас. Регенбаха нужно взять живым. Пароль «Изольда». Лахузен нажал на кнопку звонка. В кабинет вошли трое сотрудников абвера. Одного из них Коссовски уже знал — это был шофер, который возил его в Лехфельд. — Довольно шустрые ребята, — порекомендовал Лахузен, — вы поедете с ними, капитан. Да! И как только возьмете Регенбаха, сразу же позвоните мне. Я буду вас ждать. ...В два часа ночи машина остановилась у подъезда аристократического особняка недалеко от Тиргартенпарка. Из темноты выросли две тени в штатском. Коссовски назвал пароль. — При любом подозрительном шорохе ломайте дверь и берите, — сказал Коссовски абверовцам. — Я же позвоню ему из автомата. «Если Регенбах еще ни о чем не догадывается, попробую взять его без лишнего шума, а то, чего доброго, он вздумает пустить себе пулю в лоб», — подумал он. В трубке довольно долго раздавались гудки. Наконец кто-то поднял трубку и держал ее в руке, словно раздумывая, отвечать или не отвечать. — Господин майор? — спросил тогда Коссовски. — Да, — сонным голосом ответил Регенбах. — Извините за поздний звонок, но я только что вернулся из Лехфельда и привез ошеломляющее известие, которое не терпит отлагательств. — Что случилось? Вам удалось выудить Марта? — Разрешите мне заехать к вам и все объяснить. Некоторое время Регенбах колебался: — Вы где сейчас? — Совсем рядом, звоню из автомата. — Хорошо, жду. Коссовски кинулся к особняку Регенбаха. — Встаньте в тень. Беру его сам, — шепнул он абверовцам. Через пять минут Коссовски нажал на кнопку звонка. Регенбах встретил его в пижаме и домашних туфлях. — Здесь никого нет? — спросил Коссовски. Из глубины спальни раздался лай. — Прекрати, Зизи! — приказал женский голос, и собака успокоилась. Регенбах и Коссовски прошли в кабинет. Опытным взглядом Коссовски ощупал карманы Регенбаха и убедился, что пистолета там нет. — Ну? — нетерпеливо спросил Регенбах. — Перро... — Что «Перро»? — Я привез приказ арестовать вас, Перро... Регенбах побледнел. Рука упала на ящик письменного стола. — Отойдите! — крикнул Коссовски. За дверью послышались шаги. Тот абверовец, который был шофером у Коссовски, подошел к майору и ловко защелкнул наручники. — Что случилось, Эви? — Растолкав офицеров, в кабинет стремительно вошла красивая женщина в халате из цветного японского шелка. — Успокойся, дорогая, — пробормотал Регенбах и опустил голову. — Фрау, дайте одежду вашему мужу, — приказал Коссовски. — Я пожалуюсь штандартенфюреру! — Бесполезно, Лези. — Регенбах вдруг выпрямился и в упор посмотрел на Коссовски. — Вы неплохо сработали, Зигфрид. ...Лишь на рассвете Коссовски добрался до собственного дома. Голову ломило от нестерпимой боли. Он понимал, что ему надо присутствовать на первом допросе Регенбаха. От первого допроса, как это часто бывает, зависели и остальные допросы. На первом допросе в какой-то мере можно определить характер преступника, его стойкость, мужество или трусость, его поведение в дальнейшем. Но он настолько устал, что даже Лахузен заметил землистый цвет его лица и предложил поехать домой выспаться. Слишком трудным и нервным был этот день даже для такого опытного контрразведчика, каким был Коссовски.
4
Коссовски стал временно замещать должность начальника отдела «Форшунгсамта», но ответственность за секретность работ в Лехфельде с него не сняли. Допрашивая Регенбаха, он никак не мог уловить связей, которые тянулись из Берлина в маленький, ничем не примечательный городок под Аугсбургом. Регенбах молчал. Он терял сознание от боли при пытках, его лечили в тюремном лазарете и снова истязали, но едва он приходил в себя, сжимал рот и не произносил ни единого слова. Коссовски понимал, что у Регенбаха наступило такое ожесточение, которое заглушало даже самую чудовищную боль. Понимал он и то, что такие уловки, как обещание сохранить жизнь, дать возможность жить дома при домашнем аресте, даже вручить пистолет, чтобы тот сам покончил с собой, — ни к чему не приведут. Поэтому оставался лишь один метод — сломить ожесточение постоянной, не прекращающейся ни днем, ни ночью болью. Таинственный Март был надежно прикрыт яростным, нечеловеческим упорством Регенбаха. Снова и снова Коссовски сопоставлял факты, искал зацепки в лехфельдских авариях, во временах уже забытых. Но картина получалась расплывчатая, неясная, как ранние осенние ночи, когда он, изнуренный, с тяжелой головной болью, возвращался домой отдохнуть, чтобы с утра снова тянуть бесполезную канитель с Регенбахом, с ускользающими именами Вайдемана, Зейца, Пихта, Ютты... Вдруг капитан функабвера Флике прислал из Лехфельда две перехваченные телеграммы. Расшифровать их удалось далеко не полностью. Но все же стало ясно, что Центр дважды запрашивал сведения о каком-то объекте «Б». Значит, лехфельдская радиостанция должна непременно отозваться. Коссовски выехал в Баварию. Осень уже собрала свою жатву. Леса и рощи стали светлей, прозрачней. Опустели поля. Лес неподалеку от Лехфельда съежился и потемнел, шире открыл кладбище, где рядом с крестами и памятниками стояли погнутые винты самолетных моторов — здесь мокли под моросящим дождем мертвецы-пилоты. Коссовски сразу же проехал к Флике. Шарообразная голова капитана с уныло повисшим носом и маленькими, запавшими глазами освещалась крошечной лампочкой от бортового аккумулятора, которая висела над крупномасштабной картой района Аугсбурга и Лехфельда. Сверху опускались шнурки с грузиками, при помощи которых можно было по пеленгам засечь подпольного радиста. — Ничего утешительного, — развел руками Флике, увидев входящего в автофургон Коссовски. — Станция должна заработать, — сказал Коссовски. — У вас можно соединиться с Зейцем? — Разумеется. — Флике нажал на коммутаторе кнопку и набрал номер телефона оберштурмфюрера. — Говорит Коссовски. Вальтер, вам известно о новых телеграммах? — Разумеется. — Как вы думаете, радист отзовется? — Конечно. Только я до сих пор еще не знаю, что это за объект «Б». — Я тоже не знаю. Но радист должен рано или поздно ответить центру, — помолчав, проговорил Коссовски. — Поэтому и дайте в мое распоряжение взвод солдат. Мы должны сразу же определить местонахождение рации и взять радиста. — Хорошо, я дам вам взвод солдат из охраны аэродрома, — поколебавшись, согласился Зейц. — И еще одна просьба... Я в Лехфельде, и об этом должны знать только вы... Понятно? — Ладно, — отозвался Зейц и положил трубку. ...Рация заработала в одиннадцать ночи, когда на город опустилась холодная, звездная ночь. Одна за другой понеслись в эфир торопливые точки — тире. Сразу же в динамик ворвались голоса функабверовцев, которые дежурили на мониторах. — Я «Хенке», сто семьдесят три градуса... — «Бове», сорок семь... — Говорит «Пульц», двести шестьдесят... — Я «Кук», сто двенадцать... Флике стремительно передвигал на карте Лехфельда красные шнурки с тяжелыми грузиками. В перекрестке этих шнурков Коссовски увидел район авиагородка. Кровь ударила в виски. «Все точно!» — Он бросился к выходу к своей машине: — Тревога! — Куда? — вынырнул из темноты унтерштурмфюрер. — Оцепить дома Зандлера, Хайдте, Венделя, Бука! Шофера поблизости не оказалось, и Коссовски сам погнал «оппель». Хорошо, что никто не шатался по шоссе. «Скорей, скорей!» — Он нажимал на газ. Машина летела на предельной скорости. Коссовски, обычно предусмотрительный, осторожный, на этот раз не думал, сможет ли он один справиться с Мартом или радистом. Он хотел лишь застать их за рацией, у работающего ключа. Коссовски всего на мгновение оторвал взгляд от дороги, но в память уже цепко вошла увиденная картина: приземистый особняк Зандлера, бордовые шторы гостиной — там кто-то есть. Нога соскользнула с рычага газа на большой рычаг тормоза. Коссовски толкнул дверцу и выскочил из машины, выхватывая из кобуры пистолет. Дверь заперта. С яростью, которая вдруг приходит в такие моменты, Коссовски рвет ее. Она распахивается. В коридоре на вешалке — шинели и фуражки. В гостиной громко кричит радиола. На кушетке валяется Пихт. Эрика сидит у него в ногах. За столом пьет водку Вайдеман. Секунду, может быть, все недоуменно смотрят на Коссовски. — Где Ютта? — кричит Коссовски, чувствуя, как ладонь немеет от ребристой рукоятки пистолета. — Она больна, — шепчет Эрика, бледнея. В три прыжка Коссовски вбегает к антресолям. С грохотом падает перед ним дверь. В углу на тумбочке горит крошечная лампочка под голубым абажуром. На столе стоит чемодан с зеленым глазком индикатора, рычажки настройки, ключ, полоска бумаги... — Руки! — Коссовски успевает заметить отступившую в темноту Ютту. «Почему поднимается одна рука?» — мелькает мысль. Что-то тяжелое падает на пол. Глаза ослепляет яростная вспышка. Чудовищная сила бросает Коссовски вниз. Падая, он ударяется затылком, скребет по ковру, встает и, шатаясь, опаленный, почти без сознания, вываливается в коридор. Оттуда, где была комната Ютты, бьет огонь и освещает его корчившуюся фигуру. Затухающее сознание ловит еще какой-то резкий звук. Боли нет, только что-то мягкое, сильное ударяет в грудь и опрокидывает навзничь. Коссовски уже не слышал ни сирен, ни криков подоспевших солдат, ни воя примчавшейся санитарной машины. Он был без сознания.ГОД, ПЕРЕЛОМЛЕННЫЙ НАДВОЕ
1
Испытания «Альбатроса» вступили в решающую стадию, но неожиданно из штаба люфтваффе Мессершмитту пришел приказ сформировать из летчиков, занятых в работе фирмы, боевой отряд и направить в район станции Морозовской, северо-восточней Ростова. Мессершмитт понял, что воздушные силы на Восточном фронте основательно поистрепались, летные школы не в состоянии восполнить потери и поэтому командованию пришлось собирать в Германии резервы и бросать на фронт. Знал он и о том, что инструкторы школ тоже направлялись в бомбардировочную и транспортную авиацию, чтобы по воздуху снабжать тот огромный «котел», в который попала армия Паулюса. Летчики Мессершмитта назначались в действующую истребительскую эскадру асов «Генерал Удет». К машинам, помимо крестов и номерных цифр, полагался отличительный знак эскадры — красный туз, обрамленный венком и сверху короной. Техники выкрасили самолеты в маскировочные пятнистые цвета, намалевали на бортах эти знаки, поставили новые моторы. Скрепя сердце Мессершмитт утвердил список личного состава отряда. Командиром назначался Вайдеман. Вместе с ним вылетали на русский фронт второй испытатель Вендель, пилоты воздушного обеспечения Пихт, Шмидт, Штефер, Привин, Эйспер, Нинбург, механик Гехорсман. Вайдеман и Пихт поехали проститься к Эрике и Зандлеру. После невероятного случая с Юттой профессор и Эрика долго не могли прийти в себя. Ютта, секретарша самого конструктора, оказалась красной радисткой. Она взорвала себя и рацию гранатой, которую, очевидно, берегла на тот случай, если ее попытаются схватить гестаповцы. Огонь, несмотря на все усилия пожарных, успел сожрать все, что могло бы оказаться важной уликой. Весь пепел был собран и отправлен экспертам, но они нашли в нем только несколько попорченных деталей. Эти детали позволили установить, что радиостанция была немецкого производства и монтировалась обычно на транспортных трехмоторных самолетах «Юнкерс-52». Дом отремонтировали, стену, отделявшую комнату Ютты от спальни Эрики, завесили крепом. Зейц, который в последнее время особенно часто навещал профессора, говорил, что в ту же злопамятную ночь скрылся и дядя Ютты — Эрих Хайдте. А Коссовски выжил. Опытный хирург сделал отчаянно смелую операцию, и теперь капитан лежал в лучшем военном госпитале в Бермхорне. Когда Пихт и Вайдеман вошли к Зандлеру, им бросилось в глаза, как изменился профессор: опустившиеся плечи, бледное, какое-то голубоватое лицо, резкие морщины. Эрика была сильно встревожена здоровьем отца. Пихт крепко обнял девушку. — Это встреча или прощание? — спросил Вайдеман. Эрика освободилась от объятий и вопросительно посмотрела на Вайдемана. — Встреча, Альберт, — сказал Пихт. — Альберт, почему вы всегда так зло шутите? — Эрика отошла к буфету и сердито зазвенела чашками для кофе. — Тогда пора прощаться, — посмотрел на часы Вайдеман, пропустив мимо ушей слова Эрики. — Что это значит, Пауль? — Через три часа мы улетаем на фронт. — На фронт? Пихт кивнул: — На русский фронт. — Надолго? — Постараюсь вернуться, как только мы победим. — Не волнуйтесь, фрейлейн. — Вайдеман сам достал из буфета коньяк и наполнил рюмки. Выпьем за наши победы в русском небе! — Ты вылетаешь на новом «фоккере», кажется? — спросил Пихт. — Да. Я должен оценить его боевые качества и прислать фирме обстоятельный отчет. В дверь позвонили. — Это, наверное, Зейц, — шепнула Эрика и выбежала в переднюю. Оберштурмфюрер сухо поздоровался с летчиками и сел за стол. — Какой ты стал важный, Вальтер! — толкнул его локтем Вайдеман. — Дел много... — односложно ответил Зейц. — А вы на фронт? Прощальный ужин? — Как видишь... Зейц поднял рюмку: — Не дай бог попасть вам в плен. — А мы не собираемся попадать в плен к русским, — засмеялся Пихт и снова обнял Эрику. — Надеюсь, невеста меня подождет? Эрика покраснела и опустила голову. — Как здоровье Коссовски? — вдруг серьезно спросил Пихт и в упор посмотрел на Зейца. Тот нервно сжал рюмку: — Поправляется, кажется. Я дважды навещал его... — Ну, бог с ним, передай ему наши пожелания. — Пихт допил рюмку и встал, окинув взглядом, словно в последний раз, уютную гостиную Эрики.2
Колючие метели носились по огромной русской степи. Обмороженные техники в куртках из искусственной кожи возились по ночам у моторов, едва успевая готовить машины к полетам. «Ме-109» не выдерживали морозов. Моторы запускались трудно, работали неустойчиво, в радиаторах замерзала масло. Прожекторы скользили по заснеженным стоянкам, освещая скорчившихся часовых, бетонные землянки, вокруг которых кучами громоздились ржавые консервные банки, картофельная шелуха и пустые бутылки от шнапса. Только в дотах можно было обогреться. — Ну и погода, черт возьми! — ругался лейтенант Шмидт. — Если я протяну здесь месяц, то закажу молебен. — Перестань ныть, — мрачно отозвался Вайдеман. — Мы здесь живем, как боги. Посмотрел бы, в каких условиях находятся армейские летчики... — Я не хочу, чтобы здесь замерзли мои кости! — взорвался Шмидт. — Я не хочу, чтобы о нас в газетах писали напыщенные статьи, окаймленные жирной черной рамкой! — Ты офицер, Шмидт! — прикрикнул Вайдеман. — К черту офицера! Неужели вы не понимаете, что мы в безнадежном положении? Наши дивизии все равно пропадут, и отчаянные наши попытки пробиться к ним стоят в день десятков самолетов. Я не трус... Но мне обидно, что самую большую храбрость я проявляю в абсолютно бессмысленном деле. — Фюрер обещал спасти армию, — проговорил Пихт. Летчики замолчали и оглянулись на Пихта, который сидел перед электрической печью в меховом комбинезоне и грел руки. — Из этой преисподней никому не выбраться, — нарушил молчание фельдфебель Эйспер. — Позавчера мы потеряли семерых, вчера — Привина, Штефера. Сегодня на рассвете — Нинбурга... — Это потому, что у нас плохие летчики. — Вайдеман бросил в кружку с кипятком кусок шоколада и стал давить ложкой. — Такие нюни, как Шмидт... — Черта с два, я уже сбил двух русских! — А они за это время четырнадцать наших. — У них особая тактика. Видели, как вчера зажали Пихта? — Какая там особая! Просто жилы покрепче. Вайдеман отхлебнул чай и поморщился: — В бою надо всем держаться вместе и не рассыпаться. Русские хитро делают: двое хвосты подставляют, наши бросаются в погоню, как глупые гончие, а в это время их атакует сверху другая пара. — Но и мы так деремся! — Завтра, кто нарушит строй, отдам под суд, — не обращая внимания на Шмидта, сказал Вайдеман. ...На рассвете техники стали подливать в моторы «мессершмиттов» антифриз[150]. Пихт побежал к своему самолету. Обросший, с коростами на щеках и носу, фельдфебель Гехорсман паяльной лампой грел мотор воздушного охлаждения «фокке-вульфа». — Что невесел, Карл? — спросил Пихт. Гехорсман стянул перчатку и показал окровавленные пальцы: — Я не выдержу этого ада. — Вот коньяк, выпей, будет легче. — Пихт протянул ему фляжку. — Слушайте, господин капитан, — проговорил Гехорсман тихо. — Смотрю я на вас — вы не такой, как все. — Это почему же? — Да уж поверьте мне. Если бы все были такие, как вы, Германия не опаскудилась бы, боль им в печень! — Брось, Карл, — похлопал его по плечу Пихт. — Самолет готов? — Готов. — Когда-нибудь ты все поймешь, — многозначительно произнес Пихт. — Я могу рассчитывать на тебя? — Как на самого себя! — Хорошо, Карл. А теперь давай парашют. Гехорсман помог натянуть на меховой комбинезон парашют и подтолкнул Пихта к крылу: — Только берегитесь. Русские когда-нибудь посшибают вас всех. Из землянок выходили другие летчики и медленно брели к своим машинам. — Ты знал Эриха Хайдте? — вдруг спросил Пихт. — Знал, — помедлив, ответил Гехорсман. — Он был неплохой парень? Гехорсман сделал вид, что не расслышал, он спрыгнул с крыла и отбежал в сторону. Над аэродромом проплыли на большой высоте две группы трехмоторных «юнкерсов». Около восьмидесяти самолетов. Их и должны были прикрывать асы отряда Вайдемана. Истребители, стреляя выхлопами, стали выруливать на старт. Снежная пороша забушевала на стоянках. Пихт включил рацию. Сквозь треск в наушниках прорвался голос Вайдемана: «Так не забудьте: кто выскочит из строя, отдам под суд». Истребители на форсированном режиме догнали транспортные самолеты и построились попарно сверху. Пихт посмотрел вниз, на белую снежную пустыню. Ни деревень, ни городов — снег и снег. Люди давно ушли отсюда, а если кто и остался, то, наверное, зарылся так глубоко в землю — не достать никакими фугасами. Иногда через поля, а чаще через холмы пробегали обрывистые змейки покинутых окопов. — Внимание, проходим линию фронта, — предупредил Вайдеман. Никакой линии внизу не было. Та же равнина, те же снега. Только где-то на горизонте дымно чадил подожженный дом, тянул черную ленту. В небе слева вдруг что-то передвинулось и насторожило Пихта. Закачали крыльями пузатые транспортники, закружились турели с короткими спарками пулеметов. «Яки»! Светло-зеленые истребители с яркими красными звездами стремительно сблизились с тяжелыми самолетами, и строй сразу же стал распадаться. Одна машина, задымив, пошла к земле. — Русские! — закричал Вайдеман. — Звенья Пихта и Шмидта — вниз! Пихт, убрав газ, нырнул в образовавшуюся брешь и сразу же попал в клещи двух «Яков». Он двинул ручку вперед, крутнул нисходящую спираль. Ушел! И тут в прицеле появился «Як». Истребитель шел в атаку против трех «юнкерсов». Пихт дал длинную очередь. Трасса прошла перед носом истребителя. Русский летчик оглянулся назад, увидел повисший в хвосте «мессершмитт» Пихта, видимо, что-то закричал и змейкой стал закрывать своего товарища, который шел впереди. Откуда-то сбоку вывалился Шмидт. — Мазила! — заорал он, повисая на хвосте ведомого и стреляя из всех пулеметов. «Як» завалился на крыло и, рассыпаясь, полетел вниз. Пихт бросил истребитель в сторону, оглянулся — своего ведомого нет. «Яки» и «мессеры» крутились, как взбесившиеся осы. Внизу на земле дымило несколько рыжих костров — горели первые сбитые самолеты. Русских было немного. Но две пары сковали Вайдемана. Две пары щелкали «юнкерсов». Три истребителя навалились на Шмидта и его ведомого. Шмидту удалось сначала вырваться из тисков, но на крутой горке[151] его самолет потерял скорость и завис. В этот момент «Як» с короткой дистанции срезал самолет очередью. «Мессер» взорвался, рассыпав по небу куски крыльев и мотора. «Отвоевался Шмидт», — успел подумать Пихт. Строй «юнкерсов» распался окончательно. Теряя машину за машиной, группы разворачивались и, разгоняясь на планировании, пытались оторваться от «Яков». «Теперь попробуй уберечь себя», — приказал себе Пихт. Он направил машину вверх, где дрался Вайдеман. Один из «Яков», заметив его, вошел в полупетлю. Нажав на гашетки, Пихт отбил атаку. «Як» скользнул на крыло, тормозя щитками и стараясь зайти «мессеру» в хвост. «Нет, не отцепится». — Пихт вытер пот. На помощь «Яку» подоспел еще один. — Фальке![152]—закричал Пихт, вызывая Вайдемана. — Отгони сверху, они зажали меня. — Не смогу, Пауль... — хрипло отозвался Вайдеман. В бешено перемещающихся линиях земли и неба Пихт все же увидел его самолет — единственный «Фокке-Вульф-190» новейшей модификации, который еще не вошел в серийное производство. Пихту удалось на несколько секунд отбиться от «Яков». Он пристроился к Вайдеману, загородив ему дорогу, где он мог уйти от русских истребителей левым разворотом. — Освободи путь! — закричал Вайдеман. «Як» открыл огонь. — У меня заклинило мотор! — сообщил Вайдеман. — Попал снаряд? — Наверное. Я выхожу, следи за мной. «Фоккер» быстро проваливался вниз. — Садись на вынужденную. Видишь реку? — спросил Пихт. Вайдеман промолчал, видимо отыскивал на карте место, над которым сейчас летел. — Да, кажется, рядом можно сесть. Но там русские! — Вряд ли. Зажигание выключено? — Да. — Перекрой баки! Сильно раскачиваясь с крыла на крыло, «фоккер» Вайдемана планировал с выключенным двигателем. Вот он перевалил через овражек, достиг реки. — Если русские, беги! — успел крикнуть Пихт. Самолет Вайдемана врезался в сугроб и пропал в фонтане снега. Пихт резко потянул ручку на себя. От перегрузки в лицо ударила кровь. Два «Яка» шли на него. Тогда он закрутил отчаянный штопор, вышел почти у самой земли и хотел уйти на бреющем. Но «Яки» решили доконать его «мессер». Тогда Пихт снова полез вверх. Последнее, что он увидел в холодном небе, — дымящийся «юнкере». Чей-то истребитель отвесно шел к земле и, воткнувшись в запорошенную землю, взорвался, как большая фугасная бомба. «Мессеры» и «юнкерсы» скрылись. Теперь Пихт видел только «Яки». Взрыв у мотора сильно качнул самолет. В следующую секунду будто треснул фюзеляж. Пихт выпустил управление из рук и до боли сжал зубы. «Все... — На плечи навалилась страшная усталость. — Обидно, такая нелепая смерть...» Мотор захлебнулся и трясся оттого, что еще крутился погнутый винт. На мгновение Пихт услышал цепенящую тишину, а потом свист. «А может, попробовать?» — лениво шевельнулась мысль. Рука нашла у левого борта ручку, потянула вверх. Скрипнул задний козырек кабины и рванул фонарь. Морозный воздух хлестнул по лицу. И тут Пихт увидел кружащуюся внизу белую землю, проволочные заграждения, дорожки темных окопов. Правой рукой он раскрыл замок привязных ремней. Больно дернули лямки парашюта. «Яки» прошли рядом. В заиндевевших фонарях Пихт увидел любопытные лица пилотов. На землю он свалился как будто сбитый ударом кулака. Подбородок попал на твердую кочку земли. В снег закапала кровь. Он стянул перчатку и зажал рану. — Да вот он! — услышал Пихт голос за спиной. — Вот фриц проклятый, притаился, — проговорил другой. — Тише, Семичев! Еще стрелять будет. — Я вот ему стрельну! Из глаз Пихта сами собой потекли слезы. Он уткнулся в колючий сугроб и замер. Над головой захрустел снег. — Может, убился? — почему-то шепотом спросил солдат. — Давай перевернем. Кажется, дышит еще. — А парашют добрый. Нашим бы бабам на платье... — Да он пойдет и на военную надобность. Берем? — Давай! — Солдаты взялись за плечи Пихта. — Я сам, — проговорил Пихт. — Живой! Что-то лопочет по-своему! — обрадованно воскликнул солдат. Пихт поднялся на колени и освободился от ремней парашюта. — Не балуй! — отскочив и вскидывая винтовку, неожиданно закричал солдат в рыжей старой шинели и подшитых валенках — видимо, Семичев. — Хенде хох! Другой, помоложе, маленький и узкоплечий, вытащил из кобуры парабеллум, поглядел на Пихта и удивленно свистнул: — Плачет... — От мороза надуло, — сердито сказал солдат с винтовкой, Семичев, — он ведь немец, к зиме непривычный. Тот, кто обезоружил Пихта, был так мал, что винтовка, перекинутая через плечо, ударяла его прикладом под колено. Лицо у солдатика почернело от холода, на бороде заиндевел белесый пушок. Он еще раз взглянул на Пихта. — Первый раз вижу фрица так близко. — Насмотришься еще, — вздохнул Семичев и дернул винтовкой. — Ну, идем, гей форвертс! Вдруг издалека донеслись выстрелы. Стреляли беспорядочно и зло. Пихт увидел зарывшийся в снег «фокке-вульф» Вайдемана. Альберт, сильно хромая, бежал в сторону немецких окопов. Значит, уцелел... Шагов через двести Пихт свернул в лесок. Пахнуло дымом и душноватым солдатским теплом. Он спустился в траншею. У дверей одной из землянок появился солдат с грязным ведром. Видимо, он собирался выбросить сор на помойку. Увидев летчика в серо-голубом немецком комбинезоне, солдат истошно закричал: — Братцы, глядите! Фрица ведут! Из землянок выскочили солдаты, кто в нательном белье, кто в гимнастерках без ремня, в шинелях внакидку, а кто и совсем голый до пояса. Гомон вдруг смолк. В настороженной тишине Пихт почувствовал и любопытство, и ненависть, и еще что-то недоброе. — Длинный, гадюка, — тихо проговорил кто-то. — Жидковат только... — А видел, как наших сшибал?! Семичев, видимо гордый поручением привести пленного, сообщал подробности: — Упал, значит, и лежит, примолк. Думал, мы не заметим. — А может, треснулся об землю и дух на миг потерял? — Да нет, мы когда подошли, он забормотал чтой-то по-своему и стал снимать парашют. Дескать, «Гитлер капут». Солдаты засмеялись. Кто-то спросил: — И куда его теперь? — А там разберутся. В командирской землянке было жарко. На раскрасневшейся железной печке подпрыгивал чайник. В темном закутке виднелись нары, но свет падал только на стол, сколоченный из расщепленных и необструганных бревен, да на сердитое лицо старшего лейтенанта в расстегнутой гимнастерке с перевязанной рукой. — Товарищ комбат! — крикнул с порога Семичев. — Ваше приказание выполнено, фриц доставлен. — Встань у двери. — Комбат здоровой левой рукой застегнул воротник и, поднявшись, обошел вокруг Пихта. — Значит, попался? Ферштеен? Пихт отрицательно замотал головой. Комбат неуклюже достал из кобуры наган и взвел курок. — К стенке! — закричал он вдруг. — Семичев, ну-ка отойди в сторону. — Я прошу доставить меня к старшему командиру, — проговорил Пихт. — Что он говорит? Понял, Семичев? — Никак нет, товарищ комбат. — Просит доставить к старшему командиру, — отозвался из темноты нар глуховатый голос. Пихт повернулся на голос. С нар сползла шинель, и появилось вдруг заспанное лицо. Офицер с капитанской шпалой на петлицах сунул босые ноги в валенки, поискал в кармане очки и нацепил на широкий нос, отчего лицо посуровело, сделалось строже. У капитана на шее лиловел фурункул, и голову он держал, наклонив в сторону, изредка притрагиваясь рукой к больному месту. — Я для него старший! — куражливо крикнул комбат. — Ладно, Ларюшин, — остановил его капитан. — Я поговорю с пленным, а то ты сгоряча его пустишь в расход. На хорошем немецком языке капитан спросил Пихта: — Какого ранга вам нужен старший? — Полка или дивизии. — Они, гады, семью мою под Смоленском... — прошептал комбат и вдруг смолк, всхлипнул носом. — По какому делу? — спросил капитан, неодобрительно покосившись на Ларюшина. — Извините, но я вам не могу сказать. Лишь прошу об одном — на нейтральную полосу приземлился новейший истребитель «Фокке-Вульф-190». Добудьте его любой ценой... — Ларюшин, позвоните в штаб. — Всем туловищем капитан повернулся к Пихту. — Вы из эскадры асов «Удет»? — Да. Комбат крутнул ручку полевого телефона: — Алло, алло, шестой говорит. Дайте второго... Смирнов, ты?.. Слушай, надо позвать из дивизии особиста. Пленный немец-летчик просит... Да, важный... Из эскадры «Удет»... Ну, привет. Пихт переступил с ноги на ногу, спросил: — Вы не можете дать мне чаю? — Что он мелет? — Комбат оглянулся на капитана. — Чаю просит. — Вот нахал! — удивленно воскликнул комбат и вдруг засуетился, достал откуда-то из-под вороха карт кружку, горсть сухарей, кусок сахару, налил кипятку. От чая пахнуло нагретой медью и дымком. Жадно Пихт впился зубами в черный сухарь. — Не кормят их, что ли? — спросил комбат. — Видать, проголодался, — ответил капитан. Через час приехал майор из отдела разведки дивизии, а вечером Пихта доставили на аэродром. Сопровождавший офицер помог ему снять комбинезон и надеть армейский полушубок, от которого пахло по-домашнему теплой овчиной и кожей. Вместо шлема Пихт надел шапку. Из ящиков офицер соорудил нечто вроде сидений. В кабине витал стойкий запах ржаных сухарей, стылого металла, оружейного масла. — Не замерзнем, наверное. — Офицер с сомнением потрогал заиндевевшие стенки фюзеляжа. Взревели моторы, погрохотали, то сбавляя газ, то прибавляя. «Дуглас», наконец, качнулся и начал разбег, — У вас есть папиросы? — спросил Пихт. — Пожалуйста. — Офицер щелкнул портсигаром. От крепкого дыма Пихт закашлялся. Настоящий русский табак вошел в легкие и закружил голову. В иллюминаторе плясали близкие зимние звезды. Убаюкивающе гудели моторы. Пихт привалился спиной к переборке кабины, попытался задремать, но не мог. От волнения дрожали руки и сильно билось сердце. Офицер открыл дверцу кабины летчиков и попросил радиста включить приемник. Стихийно-могучая «Песня темного леса» Бородина ворвалась в стылый фюзеляж «Дугласа». Пихт судорожно глотнул. Снова, как и в первый раз, на глаза набежала слеза. «Нервы», — подумал Пихт и отвернулся, испугавшись, что офицер заметит слезы. Неожиданно музыка оборвалась, и донесся бой кремлевских курантов. Часы били полночь. — Далеко еще до Москвы? — спросил офицер летчиков. Второй пилот — молоденький, курносый парень — посмотрел на часы и, не оборачиваясь, ответил: — Минут сорок лета... «Сорок минут... Сорок», — подумал Пихт и прижался лбом к холодному плексигласу иллюминатора.3
Пихт шел бесконечно длинным пустым коридором, и взгляд его цепко останавливался на каких-то пустяковых деталях: на отбитой штукатурке, отсыревшем углу, где стояла старая фарфоровая урна, склеенная гипсом, на окнах с бумагой крест-накрест или забитых фанерой, на паркетном полу, на котором каждая дощечка издавала тягучий и больной звук. Большинство кабинетов было закрыто. Сопровождающий офицер остановился перед угловой дверью, на которой висел обыкновенный тетрадный лист, пришпиленный кнопками. На бумаге косо была выведена фамилия: «Зяблов». Из-под двери на пол падала полоска света. Офицер постучал. — Войдите, — услышал Пихт глуховатый голос. — Товарищ полковник, по вашему приказанию пленный доставлен! — доложил офицер и отступил в сторону. — Вы свободны. Вот вам пропуск в гостиницу. Когда офицер вышел, Зяблов по-стариковски медленно поднялся из-за стола. В округлившихся его глазах светились и радость, и изумление. — Мартынов? Павел? — тихо, почти шепотом спросил он. — Собственной персоной, товарищ полковник, — ответил Пихт-Мартынов по-русски. Зяблов быстро подошел к нему и обнял: — Здравствуй, Павлушка! — Здравствуйте... Здравствуйте, — снова повторил Мартынов, удивившись, как нежно звучит это обыкновенное русское слово. — Кто думал, где мы встретимся... Он почувствовал, что язык стал каким-то непослушным и твердым, как-то странно прозвучали его слова. Будто он вообще был немым и только сейчас обрел дар речи. Звук «л» соскальзывал, «г» получалось как горловое, твердое «х». — Акцент у тебя сильный, — огорчившись, произнес Зяблов. — Я боялся, что за русского не признают, когда вернусь домой. Зяблов на столе расстелил газету, достал из шкафчика бутылку водки, колбасу, соленый огурец и полбуханки ржаного хлеба. — Ты раздевайся, покажись, — сказал он, рассекая огурец на дольки. Павел сбросил полушубок и, улыбаясь, подошел к столу. Зяблов взял с тумбочки стакан, поискал второй — не нашел, снял с кувшина крышку: «Мне, старику, и этой хватит», и разлил водку. — Ну, Павел, как говорят, — за встречу! Водка обожгла горло. Павел закашлялся, пытаясь поддеть ножом пластинку огурца. — Что, крепка? — обрадованно воскликнул Зяблов. Горячая волна захлестнула грудь, В этот момент от Павла умчались все, с кем он встречался, — и Зандлер, и Зейц, и Вайдеман, и Коссовски, и Мессершмитт. Они как будто существовали отдельно, призраками на другой планете, на чужой земле. Сейчас был только старый-престарый друг, бывший наставник по спецшколе Зяблов. — Скажите, «фоккер» добыли все-таки? — спросил Павел. — Добыли, — кивнул Зяблов. — Бросили батальон Ларюшина в бой. Оттеснили фашиста, уволокли самолет на тягаче. А вот летчик успел все же скрыться. — Из-за этого «фоккера» погибла чудесная радистка Ютта, — нахмурился Павел. — Как это произошло? — спросил Зяблов. — Вы потребовали срочно передать данные об этом истребителе... Мы рискнули, и... немцы засекли рацию. Коссовски ее раскрыл. Зяблов подал бланк радиограммы, последней Юттиной радиограммы... Павел взял бланк и свое донесение. Буквы перед глазами стали раздваиваться. Радист, принимающий эту телеграмму, в конце поставил знак «неразборчиво». Что произошло дальше, знал только Павел. Дальше ворвался Коссовски. Ютта схватила гранату и швырнула ее на пол... И Павел ничего не мог поделать. Когда забушевал огонь, он, якобы помогая пожарникам, лишь сжег уцелевшие клочки телеграммы и кода. Зяблов, думая о чем-то своем, собрал в газету остатки еды и спрятал пакет в стол. Потом он достал из сейфа толстую папку с надписью «Март». — Ну давай, дорогой товарищ Март, разберемся, что к чему... За черным окном посвистывал ветер. Неизвестно, как он проникал через стекла и тихо шевелил плотные, старые шторы. На ночной улице властвовала тишина. Только кружил мягкий и крупный снег. — Итак, — проговорил Зяблов, — первая часть твоей работы, начиная со Швеции и Испании, выполнена тобой неплохо... Стравливал по возможности Хейнкеля с Удетом, Мессершмитта с Хейнкелем, лишал Вайдемана уверенности в новой машине, ухаживал за дочерью Зандлера... Связь между нами, Перро-Регенбахом и тобой осуществлялась тоже нормально. Кстати, Регенбах был искренним антифашистом, хотя и не примыкал к коммунистам. Эрих Хайдте и, конечно, Ютта работали по его заданиям. Но Ютта и Перро погибли. Обстановка сложилась серьезная... Полковник подошел к батарее и приложил к ней зябнущие руки. — Ты наломал дров, когда с помощью Эриха Хайдте решил выкрасть радиостанцию с «Ю-52»... Слава богу, что эта история сошла с рук. Пока сошла. — Зяблов поднял палец. — В руках Коссовски сейчас есть веская улика — Ютта пользовалась этой рацией. Коссовски пока лежит в госпитале, но, будь спокоен, он все поставит теперь на свои места. — Однако добывал рацию Эрих, я лишь шифровкой изложил ему план... — Все равно. Коссовски может нащупать твои связи с Хайдте. Вторая ошибка — зная о том, что функабвер прислал мониторы в Аугсбург и Лехфельд, вы все же решили передать сведения об объекте «Б», то есть о «фокке-вульфе». — Центр требовал срочного ответа на запрос. — Понимаю, как важно знать, что это за птица — новейший истребитель и какого сделать на нее охотника. Все понимаю, но я бы лично поискал другие возможности. — Мы не знали о том, что приехал Коссовски. Он жил в Лехфельде нелегально. — Ну и что же из этого? Коссовскине Коссовски, а функабвер-то был. — Они вытащили свои мониторы из водосточных труб и машины перебросили в другое место. — Ты видел в городе закрытые армейские машины? — Видел. — Так антенны они спрятали под брезент. Эти машины были даже замаскированы под санитарные. — Точно! Я видел несколько санитарных машин, хотя в них особой надобности не было. — Вот-вот. Теперь третья ошибка — ты не сумел спасти Эриха Хайдте. Куда он скрылся? Или попал в гестапо? — Я просил Центр убрать Коссовски. — Пока это сделать невозможно, Павел. Мы не можем послать человека с единственным заданием убрать этого Коссовски, хотя и несомненно талантливого и осторожного контрразведчика. Придется уж тебе самому поискать какой-то выход... Зяблов подошел к столу и снова порылся в бумагах: — Теперь Гехорсман... Перед тобой стоит очень трудная задача привлечь этого доброго, но еще довольно темноватого немца к работе на нашей стороне. Сопротивление нацизму в Германии растет сейчас не по дням, а по часам. Но немало немцев, привыкших к дисциплине и повиновению, еще не избавились от иллюзий. Они верят в «чудо-оружие». Видимо, к таковым относится и Гехорсман. Поэтому с ним надо работать очень осторожно и убедительно. Зяблов выключил свет и раздвинул шторы. Занималась робкая зимняя заря. Улицы и дома были в белом. По замерзшей Москве-реке тропкой шли женщины на работу в первую смену. Кое-где еще висели аэростаты заграждения, высеребренные инеем. — Как ты думаешь, они все же успеют бросить «Альбатрос» на фронт? — Трудно сказать. Мессершмитт продолжает доводку на свой страх и риск. — Значит, торопится? — Выходит, так. Помолчав, Павел спросил: — Владимир Николаевич, скажите честно — у нас-то есть что-либо подобное? — Есть! И не подобное, а лучше, надежнее. Когда-нибудь о таком самолете напишут истории... Насколько я понял, немцы ищут решения быстрого и компромиссного. Торопятся, делают тяп-ляп, обжигаются... — Зяблов сел за стол и задумался. — И все же хотелось бы нам знать об «Альбатросе» побольше. — К сожалению, я не имею допуска к этому самолету... — В том-то и беда... Сейчас идет война и людей, и техники. Нам очень важно в подробностях знать, какое еще оружие фашисты думают применить на фронте... До мелочей, до винтика... Можно применить такой вариант — скажем, заполучим знающего человека, ну, хотя бы Гехорсмана... — Рискованно, Владимир Николаевич. — Верно, рискованно и субъективно, — согласился Зяблов. — Гехорсман при всем старании всего рассказать не сможет. А если Зандлера? Самого Зандлера? — Он умрет от страха, как только узнает о том, что попал к русским. — А если поискать у него слабые струнки, взять на крючок? — Но самолет будут продолжать делать другие. — Да, ты прав... Тогда придется сделать такую штуку: устроить шум на всю Германию, скомпрометировать «Альбатрос», пока он не вошел в серийное производство. — Уничтожить опытный образец? — Да, уничтожить! Взорвать, сжечь, разбомбить! — Хоть и чудовищно трудно сделать это, но попробовать можно. — Несомненно, явная диверсия натолкнет фашистов на мысль, что для нас не существует секрета «Альбатроса» и места, где его делают. Стало быть, вряд ли они отважутся все начинать сначала. Да и заказов из министерства авиации они не получат. Тебе придется им помочь в этом. — Разве вы направите меня обратно? — Да. Именно на эту отчаянную диверсию. Павел порывисто встал и отошел к окну. Упершись лбом в оконную раму, он глухо проговорил: — Я не был в России восемь лет... Я не видел родного лица восемь лет... Пошлите меня лучше на фронт. Я хочу убивать их, а не играть в друзей. Я устал, черт побери! Некоторое время Зяблов молча смотрел в спину Павла, давая ему выговориться. Но Павел смолк, и тогда Зяблов жестко произнес: —Хорошо... Я дам тебе отпуск. Ты останешься работать в управлении... Хорошо... В конце концов, ты заслужил это! — Владимир Николаевич поднялся и заходил по кабинету. — Я не буду говорить банальные слова о том, что иной раз один такой, как ты, стоит целых дивизий. Ты уйдешь... Ты не полетишь обратно в Германию... Но ведь там остались не только враги, но и друзья. Они борются. Они хотят победить. Нам придется восстанавливать все связи заново. Без уверенности в успех. Без надежды на успех! Если этот самый «Альбатрос» войдет в серию, он отдалит день нашей победы!.. Подожди, не перебивай! Идет страшная война, которая не снилась ни одному поколению. И если «Альбатрос» ее затянет хоть на день — он убьет тысячи тысяч людей. Людей, Павел! Зяблов остановился рядом и сжал локоть Павла. — Нам не нужен фашистский «Альбатрос». Мы делаем машину, повторяю, во сто крат лучше, надежней, смертоносней... Но если тебе удастся разнести в пыль опытный образец «Альбатроса», работа над этим фашистским реактивным выродком надолго задержится, если не прекратится вообще. Закрыть «Альбатросу» дорогу к небу, к новым жертвам, приблизить час нашей победы. Вот смысл всего, что должен был ты сделать. — Я не школьник, Владимир Николаевич, — тихо, но упрямо проговорил Павел. — Слушай меня внимательно. Твой «Альбатрос»... — Мой? — Твой «Альбатрос», рядом с которым ты сидишь, мы ссадим с неба и без твоей помощи. Но нам рано сворачивать в сторону. Ох, как рано! Зяблов вздохнул и опустился в кресло. В окно бил холодный утренний свет. Он огорчал и чем-то тревожил. Может быть, тем, что невысоко в небе висели серебряные от инея аэростаты или стекла были заклеены крест-накрест, и все это напоминало о том, что идет война и надо долго еще идти по ней до победы. Каких бы мук, сил и потерь это ни стоило. Павел повернулся к Владимиру Николаевичу. — Когда? — Что «когда»? — переспросил Зяблов, сделав вид, что не понял. — Когда мне возвращаться туда? Зяблов посмотрел на часы, нахмурился и, глядя куда-то в сторону, проговорил: — Сегодня... Вернее, сейчас... Как бы немцы не заподозрили, что ты был у нас. А так вернешься, скажешь — плутал. — Понимаю. — Ребятам нашим я скажу, как тебя на ту сторону кинуть. — Владимир Николаевич замолчал, опустил голову еще ниже к бумагам и тихо добавил: — Ты ведь знаешь, Павлушка, мы будем ждать тебя...Александр Мирер ГЛАВНЫЙ ПОЛДЕНЬ
ЗАЧЕМ ЭТО НАПИСАНО
Сурен Давидович, Анна Егоровна и профессор Быстров сказали, что мы со Степаном должны написать о «Щекинских событиях». Потому что никто из взрослых не знает того, что знаем мы. А писать мы должны толково и не пропускать подробностей: любое событие состоит из подробностей, как машина из деталей. Пропустишь одну деталь, и вся машина развалится. Наш рассказ они хотят послать «тем, кому следует позаботиться, чтобы десантники не смогли приземлиться еще раз». Сурен Давидович сказал, чтобы записывал я, Алешка, то есть Соколов Алексей. Я пишу быстро, и у меня «есть литературная жилка» — это он так говорит, а ему виднее. Я записал вот это и показал Сурену Давидовичу, что в первом абзаце три «что» и еще один раз «чтобы». Он обещал литературно обработать это дело, а мне велел писать поразборчивей.ЧАСТЬ I
НАЧАЛО. ФЕДЯ-ГИТАРИСТ
В тот день с утра было очень жарко и солнечно. От жары я проснулся рано, позавтракал вместе с матерью и рано, задолго до восьми, пошел в школу. Помню, как на проспекте сильно, терпко пахло тополевыми чешуйками, и липы были дымные, светло-зеленые, и солнце горело в витринах универмага. Дверь магазина была заперта, но Федя-гитарист уже сидел на ступеньках со своей гитарой и жмурился. Я еще подумал, что на молокозаводе кончилась ночная смена и Федя прямо с работы явился на свидание с Неллой, продавщицей из обувной секции. Я прошел по другой стороне улицы, свернул за угол, к школе, и тогда уже удивился — не такой он человек, Федя, чтобы сидеть и ждать. Он лучше встретит девушку около дома и проводит с громом, с гитарой — э-эх, расступись!.. Он такой парень. Утро, вечер — ему все нипочем. Я думал о нем и улыбался, потому что мне такие люди нравятся. Потом я стал думать, удастся ли днем, после школы, накопать червей для рыбной ловли. Я прошел по пустой лестнице, положил портфель в стол и посмотрел в окошко. Федя-гитарист по-прежнему сидел на ступеньках универмага и держал на вытянутых руках гитару. Понимаете? Он ее рассматривал и хмурился: что это, мол, за штука? Пожал плечами. Взял несколько аккордов и еще пожал плечами... Потом он стал притопывать ногой и с удивлением смотрел на свой ботинок, заглядывая сбоку, на петушиный манер, — гитара ему мешала. Я опять заулыбался — наш знаменитый гитарист будто заново учился играть на гитаре. Выдумает же — забавляться так чудно и в такую рань! Минуты через две-три у универмага появился заведующий почтой — наверно, Федя его окликнул. Мне через стекла было не слышно, что сказал Федя-гитарист, но заведующий почтой поклонился, свернул и подошел к ступенькам. И тогда произошло вот что. Заведующий сделал неверный шаг, двумя руками схватился за грудь, сразу выпрямился, опустил руки и зашагал дальше, не оглядываясь на Федю. Через полминуты стеклянная дверь почты блеснула на солнце, заведующий скрылся за ней, а потом до меня долетел резкий стук закрывающейся двери. Федя сидел на ступеньках, словно ничего не произошло, и постукивал по гитаре костяшками пальцев. А я уж смотрел на него во все глаза — что он еще выкинет? На улице стало людно — шли служащие и продавцы на работу, из всех подъездов выскакивали ребята и мчались к школьному подъезду. До звонка оставалось всего пять минут. Степка давно пришел и, торопясь, сдувал с моей тетради задачки по геометрии. Я смотрел, значит, целых полчаса, а Федя все сидел, опустив гитару к ноге, и равнодушно жмурился на прохожих. И вдруг он поднял голову... Тяжко подрагивая при каждом шаге, к почте торопился седой, грузный телеграфист, важный как генерал. Он всегда проходил мимо в это время, всегда спешил и перед угловой витриной универмага смотрел на часы и пытался прибавить шагу. Он весит килограммов сто, честное слово! Именно его Федя выбрал из всех прохожих и что-то ему говорил, просительно наклоняя голову. Тот обернулся, поперек тротуара пошел к ступенькам — даже его спина, туго обтянутая форменной курткой, выражала недовольство. Я приподнялся. Старый телеграфист будто налетел на невидимую веревку. Нырнул всем корпусом, просеменил и остановился, схватившись обеими руками за грудь. Я думал, он упадет. Гитарист равнодушно смотрел на свой притопывающий ботинок, не приподнялся даже, скотина такая! Старик же мог насмерть разбиться о ступеньки. К счастью, он не упал — выпрямился и как будто взял у гитариста что-то белое. И сразу пошел дальше, прежней походкой. Хлопнула дверь почты, только солнце уже не блеснуло в стекле. А Федя-гитарист встал и пошел прочь. Гитара осталась на ступеньках... Я оглянулся — учителя еще не было — и прыгнул со скамьи прямо к двери. Кто-то вскрикнул «ух!», я вылетел в коридор и ходом припустился вниз, торопясь проскочить мимо учительской, чтобы вдруг случайно не встретиться с Тамарой Евгеньевной. Звонок заливался вовсю, когда я выбежал из подъезда. Улица казалась совсем другой, чем сверху, и гитары не было на ступеньках универмага. Я пробежал вперед, на газон между тополями, и увидел совсем близко Федю — он успел вернуться за гитарой и опять отойти шагов на двадцать. Черный лак инструмента отражал все, как выпуклое зеркало на автобусах, — дома, деревья, палевый корпус грузовика, проезжающего мимо. И меня, а рядом со мной кого-то еще. Я оглянулся. Рядом со мной стоял Степка, совершенно белый от волнения.ТАКСИ
— Ты что? Тревога? — спросил Степка. — С ним что-то неладно. — Я кивнул на спину гитариста. — С Федором? А тебе-то что за дело? Ну и псих... Я не знал, как быть. Мы торчали посреди улицы, где любой учитель мог нас взять на карандаш и завернуть обратно в школу. А гитарист удалялся по проспекту вниз, к Синему камню — это у нас поселок так называется, два десятка домов за лесопарком. Тут выглянула из школы техничка тетя Нина, и нам пришлось перебегать улицу и прятаться за киоском. Гитарист неторопливо вышагивал, здоровался со знакомыми, встряхивая чубом. Мы вылезли из укрытия и пошли за ним. Зачем пошли? Я этого не знал, а Степка тем более. Он взъерошился от злости, но вел себя правильно — шел рядом и молчал. Так мы прошли квартал, до нового магазина «Фрукты-соки», перед которым стояло грузовое такси. Оно тоже было новое. Взрослые на такое не обращают внимания, а мы все знали, что в городе появились два новых грузовых такси, голубых, с белыми полосами и шашками по бортам и с белыми надписями «таксомотор». Сур нам объяснил, почему «таксомотор»: когда автомобили только появились, их называли «моторами». Так вот, одно из новых такси красовалось у тротуара и уютно светило зеленым фонариком. Мордатый водитель сидел на подножке, насвистывая Федину любимую песню «На Смоленской дороге снега, снега...». Мы видели по гитаристовой спине, что он и такси заметил, и водителя, и свою «Дорогу» услышал и узнал отлично. Он небрежно вышагивал — высокий, поджарый, в черных брюках и рубашке и с черным инструментом под мышкой. Конечно, водитель с ним поздоровался. Федя остановился и сказал: — А, привет механику! Я подхватил Степку за локоть, и мы прошли мимо и остановились за кузовом машины. Степка молча сердито выдернул локоть. Машина дрогнула, завизжал стартер... Я пригнулся, заглянул под машину и увидел ногу в черной штанине. Нога поднималась с земли на подножку. Это гитарист садился в кабинку. «Давай!» — сказал я, и мы разом ухватились за задний борт, перевалились в кузов, под брезентовую крышу, пробежали вперед и сели на пол. Спинами мы прижимались к переднему борту, и нас не могли заметить из кабины. И машина сразу тронулась. Пока она шла тихо, я рискнул приподняться и заглянуть в окошечко — там ли Федя. Он был там. Гриф гитары постукивал о стекло. Я прижал губы к Степкиному уху и рассказал о заведующем почтой, телеграфисте и вообще о Фединых фокусах. Машина ехала быстро, на ухабах нас било спинами и головами доски борта. Поэтому, может быть, посреди рассказа я стал сам с собой спорить. Сказал, что я дурень и паникер и напрасно втянул Степку в историю. Конечно, Федя вел себя очень странно, да какое наше дело? Он вообще чудной. А я — паникер. Степка убрал ухо и сморщился. Он моей самокритики не выносит. Он показал, как играют на гитаре, и прошипел: — А это он что — разучился? Ты видел, чтобы он гитару забывал? Я зашептал в ответ, что после ночной смены можно голову позабыть, а не гитару. Что Феде просто надоело ждать Нелку. А пока он сидел, ему было скучно, и он шутил с знакомыми. Например, так: «А почту вашу ограбили». Почтари — будь здоров! — хватались за сердце. Потом он решил поехать Нелке навстречу, воспользовался своей популярностью и поехал на грузовом такси. Нормальное поведение. Друзей у него в городе каждый третий. Ну, каждый пятый, не меньше... — К Нелке поехал? — сказал Степка. — Она живет в обратной стороне вовсе. — Он подумал и добавил: — Хороши шуточки. А с гитарой на завод не пускают. — Его везде пропустят. — Это молокозавод, — сказал Степка. — Там чистота и дисциплина. А ты — идиёт. Я все-таки рассердился. Ну, паникер, ну, шпионских книжек начитался, но почему я идиот? — Потому. Федька вчера выступал в совхозе, в ихнем клубе. Загулял, наверно. А ты — лапша. Начал дело — доведи его до конца. — Вот сам и доводи до конца, — окрысился я и полез к заднему борту, чтобы спрыгнуть, и в эту секунду по кузову забарабанили камешки, машина резко прибавила скорость, — кончился город, пошло шоссе. Мы слышали, как смеются в кабине те двое, а машина летела, как реактивный самолет. Приходилось ехать дальше. В два счета мы проскочили стадион, сейчас будет подъем, и там спрыгнем... В-з-з-з! — внезапно провизжали тормоза, машина встала, и мы ясно услышали голос гитариста: — ...Пилотируешь, как молодой бог. Будь здоров. — Да что там! — говорил водитель. — Будь здоров! Степка влепил кулаком себе по коленке... Здесь, на юру, из машины не вылезешь — кругом поле. Но гитарист небрежно сказал: — А поехали со мной, механик... Пятьсот метров. Покажу такое — не пожалеешь. Степка развел и сложил ладони: ловушка, мол... Я кивнул. Мы ждали, выкатив глаза друг на друга. Удивительно был прост этот «механик»! Он только проворчал: — Поехать, что ли... Не сядем?.. Дверца хлопнула, машина прокатилась до лесопарка и свернула на проселок. Нас кидало в кузове, пыль клубами валила сзади под брезент. Зубы лязгали. Я чихнул в живот Степке. Но машина скоро остановилась. — Пылища — жуть, — произнес Федин голос. — Топаем, механик? Водитель не ответил. — Э, парень, да ты чудак! — весело сказал Федя. — Столько проехал, полкилометра осталось... Ленишься? Езжай тогда домой. — На «слабо» дураков ловят, — прошептал Степа. Водитель шел неохотно, оглядывался на машину. Место было подходящее для темного дела — опушка елового питомника. Елочки здесь приземистые, но густые и растут очень тесно. Сначала скрылся за верхушками русый хохол гитариста, потом голова шофера в грязной кепке. Мы спрыгнули в пыль, переглянулись, пошли. По междурядью, по мягкой прошлогодней хвое. Впереди, шагах в двадцати, был слышен хруст шагов и голоса.ЕЛОВЫЙ ПЕНЬ
Междурядье было недлинное. Еще метров пятьдесят, и откроется круглая полянка. Туда и вел Федя таксиста, причем их аллейка попадала аккуратно в середину поляны, а наша как бы по касательной, вбок. Я было заторопился, а Степан махнул рукой, показывая; «Спокойно, без спешки!» Эх, надо было видеть Степку! Он крался кошачьим шагом, прищурив рыжие глаза. Мы с Валеркой знали, и Сур знает, что Степка — настоящий храбрец, а что он бледнеет, так у него кожа виновата. На этом многие нарывались. Видят — побледнел, и думают, что парень струсил, и попадают на его любимый удар — свинг слева. Значит, Степка, такой белый, что хоть считай все веснушки, и я — мы проползли последние два-три метра под еловыми лапами и заглянули на поляну. Солнца еще не было на поляне. Пробивались так, полосочки, и прежде всего я увидел, как в этих полосах начищенными монетами сияют одуванчики. Две пары ног шагали прямо по одуванчикам. — Ну вот, друг мой механик, — говорил Федя. — Видишь ли ты пень? — Вижу. А чего? — Да ничего. Замечательный пень, можешь мне поверить. — Пе-ень? — спросил шофер. — Пень, значит... Так... Пень... — Он булькнул горлом и проревел: — Ты на его смотреть меня заманил... балалайка? — А тише, — сказал Федя. — Тише, механик. Этого пенечка вчера не было. Се ля ви. — «Ля ви?» — визгливо передразнил шофер. — Значит, я тебя довез. А кто твою балалайку обратно понесет? — заорал он, и я быстро подался вперед, чтобы видеть не только их ноги. — И кто тебя обратно понесет? Федя сиганул вбок, и между ним и шофером оказался тот самый пень. Шофер бросился на Федю. Нет, он хотел броситься, он пригнулся уже, и вдруг охнул, поднял руки к груди и опустился в одуванчики. Все было так, как с двумя предыдущими людьми, только они удерживались на ногах, а этот упал. Впрочем, он тут же поднялся. Спокойно так поднялся и стал вертеть головой и оглядываться. И гитарист спокойно смотрел на него, придерживая свою гитару. Я толкнул локтем Степана. Он — меня. Мы старались не дышать. — Это красивая местность, — проговорил шофер, как бы с трудом находя слова. Гитарист кивнул. Шофер тоже кивнул. — Ты — треугольник тринадцать? — спросил гитарист с улыбкой. Шофер тихо рассмеялся. Они и говорили очень тихо. — Он самый, — сказал шофер. — Жолнин Петр Григорьевич. — Знаю. И где живешь, знаю. Слушай, Треугольник... — Они снова заулыбались. — Слушай... Ты — водитель. Поэтому план будет изменен. Я не успел доложить еще, но план будет изменен без сомнения... — Развезти эти... ну, коробки, по всем объектам? — Устанавливаю название: «посредник». План я предложу такой — отвезти большой посредник в центр города. Берешься? Шофер покачал головой. Поджал губы. — Риск чрезвычайный... Доложи: угол три. Я — как прикажут... Степка снова толкнул меня. Я прижимался к земле всем телом, так что хвоя исколола мне подбородок. — Меня Федором зовут, — сказал гитарист. — Улица Восстания, пять, общежитие молокозавода, Киселев Федор Аристархович. Шофер ухмыльнулся и спросил было: — Аристархович? — Но вдруг крякнул и закончил другим голосом: — Прости меня. Эта проклятая... ну, как ее... рекуперация? — Ассимиляция, — сказал гитарист. — Читать надо больше, пить меньше. Я докладываю. А ты поспи хоть десять минут. Они оба легли на землю. Шофер захрапел, присвистывая, а Федя-гитарист подложил ладони под затылок и тоже будто заснул. Его губы и горло попали в полосу солнечного света, и мы видели, что под ними шевелятся пятна теней. Он говорил что-то с закрытым ртом, неслышно; он был зеленый, как дед Павел, когда лежал в гробу. Я зажмурился и стал отползать, и так мы отползли довольно много, потом вскочили и дали деру. Далеко мы не убежали. У дороги, у голубого грузовика, спокойно светящего зеленым глазком, остановились и прислушались. Погони не было. Почему-то мы оба стали чесаться — хвоя налезла под рубашки или просто так, — в общем, мы боялись чесаться на открытом месте и спрятались. Напротив машины, за можжевельниками. Эта часть лесопарка была как будто нарочно приспособлена для всяких казаков-разбойников: везде либо елки, либо сосенки, можжевельник еще, а летом потрясающе высокая трава. — Дьявольщина! — сказал Степка. — Они видели нас... Ох, как чешется. — Они — нас? И при нас это всё говорили? — Ну да, — сказал Степка. — Они понарошку. Чем нас гнать, отвязываться, они решили мартышку валять. Дьявольщина!.. Чтобы мы испугались и удрали. — Хорошо придумано, — сказал я. — Чтобы мы удрали, а после всем растрезвонили, что шофер Жолнин — «треугольник тринадцать». Тогда все будут знать, что он сумасшедший или шпион. Т-с-с!.. Нет, показалось. Ни шагов, ни голосов. Через дорогу, у обочины, тихо стоял грузовик. Солнце взбиралось по колесу к надписи «таксомотор». — Да, зря удрали, выходит, — прошептал Степка. Зря? Меня передернуло, как от холода. Все, что угодно, только не видеть, как один храпит, отвалив челюсть, а второй говорит с закрытым ртом! — Хорош следопыт, — фыркнул Степка. — Трясешься, как щенок. — Ты сам удрал, первый! — Ну, врешь. Я за тобой пополз. Да перестань трястись! Я перестал. Несколько минут мы думали, машинально почесываясь. — Пошли, — сказал Степка. — Пошли обратно. Я посмотрел на него. Не понимает он, что ли? Эти двое нас пришибут, если попадемся. А подкрадываться, не видя противника, — самое гиблое дело. — Они же шпионы, — сказал я. — Мы должны сообщить о них, а ты на рожон лезешь. Слышал — клички, пароли, «большой посредник»? А «коробки» — бомбы, что ли? Надо в город подаваться, Степка. Ты беги, а я их выслежу. — В город погодим. Пароли... — проворчал Степан. — Зачем они сюда забрались? Допустим, весь разговор был парольный. А место что, тоже парольное? Кто им мешал обменяться паролями в машине? — Ладно, — сказал я. — Главное, чтобы не упустить. — У него, гада, ларингофон, — сказал Степка. — Понимаешь? В кармане передатчик, а на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле. Дьявольщина! Кому он мог докладывать? В общем, либо они мартышку валяли, либо шпионы. Здорово! И мы их открыли. Я промолчал. По-моему, шпионы — гадость, и ничего хорошего в них нет. Выследили мы их удачно, только я, хоть убейте, не понимал, почему так переменился шофер возле этого пенька... Был обыкновенный шофер и вдруг стал шпионом! Этот — «угол третий» — с утра вытворял штуки, а шофер был вполне обыкновенный... Может, и «Смоленская дорога», которую он свистел, тоже пароль? У Степана очень тонкий слух. Он первым услышал шаги и быстро стал шептать: — Я прицеплюсь к ним, а ты лупи в город. К Суру. Там и встретимся. Я прошептал: — Нет, я прицеплюсь! Но спорить было поздно. Затрещали веточки у самой дороги. Первым показался Федя — красный, пыхтящий, он тащил что-то на плече. За ним потянулось бревно. «Вот что, они вдвоем тащат еловое бревно!» — подумал я. И тут показался шофер. За его плечами торчали какие-то рога. Он пыхтел и спотыкался. Можжевельник градом сыпал иголки мне за шиворот. Я искололся, стараясь разглядеть рогатую штуковину... Лося они убили, что ли? Медленно, с большой натугой, шофер и Федя перебрались через канаву. Вот так здорово — они тащили пень! Тот самый, о котором говорилось, что вчера его не было, с белой полосой от сколотой щепы — знаете, когда валят дерево, то не перепиливают до конца, оставляют краешек, и в этом месте обычно отщепывается кусок. Шофер открыл дверцу в заднем борту, и вдвоем они задвинули пень внутрь — машина скрипнула и осела. Чересчур он казался тяжелым, честное слово... Федя отряхнул рубаху. Гитара торчала за его спиной. Почему-то она была засунута грифом под брючный ремень, а тесьма куда-то подевалась. Я помнил, что утром тесьма была. Федя изогнулся и выдернул гитару из-под ремня, а шофер подал ему узелок, связанный из носового платка. Мне показалось, что в узелке должны быть конфеты, так с полкило. Откуда конфеты? Но тут же Федя проговорил: — Конфет купить, вот что... В бумажках. — Он осторожно тряхнул узелок, шофер кивнул. — Лады, Петя. Я сяду в кузов. — Незачем, — сказал шофер. — Садись в кабину. — Мне надо быть с ними. — Слушай, — сказал шофер, — эти вещи я знаю лучше, я водитель с десятилетним стажем. Включу счетчик, поедем законно. Увидят, как ты вылезаешь из пустого кузова, будут подозрения. Поглядывай в заднее окно. Довезем! — Ну хорошо. — Киселев прикоснулся к чему-то на груди, под рубахой. Наклонился, чтобы отряхнуть брюки, и на его шее мелькнула черная полоска. Что-то было подвешено у него под рубахой на тесьме от гитары... Они полезли в кабину. Я знал, что мы должны выскочить не раньше, чем машина тронется, потому что шоферы оглядываются налево, когда трогают. Я придержал Степку — он стряхнул мою руку. Федя в кабине спрашивал: — Деньги у тебя найдутся внести в кассу? Я пустой. — На-айдутся, какие тут деньги... Километров тридцать — трешник... Зачем они теперь, эти деньги?! Они вдруг засмеялись. Заржали так, что машину качнуло. Взревел двигатель, и прямо с места машина тронулась задом, с поворотом, наезжая на наш можжевельник. Мы раскатились в стороны. Голубой кузов просунулся в кусты — р-р-р-р! — машина рванулась вперед, и Степка прыгнул, как блоха, и уцепился за задний борт. Я чуть отстал от него, и этого хватило, чтобы Степка оттолкнул меня ногами, сшиб на землю и перевалился в кузов. И вот они укатили, а я остался.ПУСТОЕ МЕСТО
Я не ушибся, мне просто стало скверно. Минуты две я валялся, где упал, а потом увидел перед своим носом Степкину авторучку, подобрал ее и поднялся. Пыль на дороге почти осела, только вдалеке еще клубилась над деревьями. Я постоял, посмотрел. Закуковала кукушка — близко, с надрывом: «Ку-ук! Ку-ук!..» Она громко прокричала двадцать два или двадцать три раза, смолкла, и тогда я побежал на еловую поляну. Мне надо было мчаться в город, и поднимать тревогу, и выручать Степку от этих людей — все я знал и понимал. Меня, как собаку поводком, волокло на поляну, я должен был посмотреть — тот пень или не тот? И я вылетел на это место и едва не заорал: пень исчез. И если бы только исчез! Он совершенно следа не оставил, земля кругом не была разрыта, никакой ямы, лишь в дерне несколько неглубоких вдавлин. Значит, Федя не соврал, говоря шоферу, что вчера этого пня не было. Его приволокли откуда-то. Судя по траве, недавно. Ночью или утром — трава под ним не успела завянуть. А вот следы шофера и Феди. Даже на поляне, где земля хорошо просохла, они пропечатались, а в сырых аллейках были очень глубокими. Пень весил центнер, не меньше. Вот уж действительно дьявольщина, подумал я. То притаскивают этот несчастный пень, то увозят... И больно он тяжел для елового пня. Федя сказал так: «Взять в машину «большой посредник» и отвезти в город»... «Большой посредник»... Посредники бывают на военных играх, они вроде судей на футболе и хоккее — бегают вместе с игроками. Да, но люди, не пни же... Ставят, увозят... Совсем запутавшись, я начал искать следы тех, кто принес «посредник» сюда. Не мог он прилететь по воздуху и не мог потяжелеть, стоя здесь, правда? Так вот, никаких следов я не обнаружил, хотя излазил все аллейки до одной. Минут пятнадцать лазил, свои следы начал принимать за чужие, и так мне сделалось странно, не могу передать. Когда рядом со мной взлетела птица, я начисто перепутался и без оглядки помчался на большую дорогу.АВТОБУС
Я выбежал на шоссе, на свежий полевой ветер. Он разом высушил спину, мокрую от испуга и беготни, и я удивился, до чего хорош наступающий день. Солнце было яркое, а не туманное, как в предыдущие дни. Синицы орали так звонко и густо, будто над лесопарком висела сеть из стеклянных иголочек. Несмотря на ранний час, асфальт уже подавался под каблуком и хотелось искупаться. Я представил себе, что сбрасываю тяжелые брюки и лезу в воду. Купанье!.. О нем и думать не стоило. Надо было мчаться к Суру, поднимать тревогу. Флажок автобусной остановки желтел слева от меня, высоко на подъеме. Пробежав к нему, я сообразил, что надо было бежать в обратную сторону, не навстречу автобусу, а от него, и не в гору, а вниз. Но возвращаться уже не стоило, и, если некогда купаться, я хоть мог поглядеть с холма на пруды. И правда, от остановки открывалась панорама: прямо по шоссе — дома и водокачка Синего Камня, левее — лес и пруды с песчаными берегами, потом лесопарк и, наконец, весь наш городок, как на блюдечке. Три продольных улицы и пять поперечных, завод тракторного электрооборудования, элеватор, молокозавод — вот и все. Мне, как всегда, стало обидно. Люди живут в настоящих городах, с настоящими заводами, а наш — одно название, что город. Это электрооборудование делают в четырех кирпичных сараях. Правда, молокозавод новый, хороший. Я стал поворачиваться дальше, налево, обводя взглядом круг. По той стороне шоссе тянулись поля и пруды совхоза, перелески, и дальше гряда холмов, уходившая за горизонт. Их я нарочно приберег напоследок, потому что на ближнем холме стоял радиотелескоп. Он был отлично виден — плоская чаша антенны на сквозной раскоряченной подставке. Антенна тоже сквозная, она только казалась сплошной и маленькой, с чайную чашку. На самом деле она была почти сто метров в диаметре, нам говорили на экскурсии. Под телескопом белели три коробочки: два служебных корпуса и один жилой, для научных сотрудников. Забор казался белой ниточкой, огибающей холм. Здорово! Очень хотелось увидеть, как телескоп поворачивается, но чаша неподвижно смотрела в небо и ее огромная тень неподвижно лежала на склоне. Я загляделся, а тем временем приблизился автобус, который я давно видел на шоссе. Маленький, синий, с надписью «служебный». Не стоило и руку поднимать, этот автобусик был с радиотелескопа. И вдруг он остановился. Дверцу даже открыли и крикнули: «Садись, мальчик!» Я не стал бы рассказывать так дотошно про автобус и дорогу в город, если бы не Вячеслав Борисович. Он ехал в этом автобусе, он меня и посадил: водителю и Ленке Медведевой это бы в голову не пришло. О нем я знал, что он научный сотрудник с радиотелескопа, что-то в этом роде. Довольно молодой, светловолосый, в сером костюме. Приезжий. Их там было человек десять приезжих, остальные местные, как Ленка Медведева — радиотехник. Вячеслав Борисович вел себя не по-начальнически. Он смеялся все время, подшучивал надо мной: почему я такой красный и взъерошенный и что я делал в лесопарке в учебное время. Я как-то растерялся и грубо спросил: — А вы зачем в рабочее время катаетесь? Он захохотал, хлопнул себя по ноге и сказал Ленке: — Вопрос ребром, а? — И спросил у меня: — А знаешь ли ты, что такое нетерпение сердца? Я покачал головой. — На почту пришел пакет, — сказал он нежно. — Голубенький. Ты можешь не улыбаться. Настала моя очередь. И нетерпение сердца велит мне получить голубое письмо немедленно. В самое рабочее время. — Он потер ладони и притворно нахмурился: — Но оставим это. Хороши ли твои успехи в королеве наук — математике? Я сказал: — Не особенно. Вячеслав Борисович мне страшно понравился, и пусть Сур говорит, что по-русски нельзя сказать «страшно понравился». И мы очень весело доехали. Даже Ленка вела себя как человек. Понимаете, эти девчонки, едва наденут капроновые чулки, начинают на людей смотреть... ну, как бы вам сказать? У них на лицах написано: «Нет, ты не прекрасный принц и никогда им не будешь». Но веселый нрав Вячеслава Борисовича действовал на Ленку Медведеву положительно. Она улыбалась всю дорогу и сказала на прощанье: «Будь здоров, привет Симочке». Симка — моя сестра, старшая. Меня высадили на углу улицы Героев Революции, наискосок от тира, и я перебежал улицу, спустился в подвал и дернул дверь оружейной кладовой. Она была заперта. Все еще надеясь, что Степка в зале, вместе с Суреном Давидовичем, я метнулся туда. В стрелковом зале было темно, лишь вдалеке сияли мишени. Резко, сухо щелкали мелкокалиберные винтовки — трое ребят из техникума стреляли с колена. Сурен Давидович сидел у корректировочной трубы, а Степки не было.ТРЕВОГА!
Когда я вошел, Валерка замахал мне со стопки матов, а Сурен Давидович проговорил, не отрываясь от трубы: — Зачем пришел?.. Хорошо, Верстович! — это уже стрелку. Мы могли ввалиться к Суру хоть среди ночи, с любым делом или просто так. Только не во время работы. Сур — замечательный тренер и сам стреляет лучше всех. Проклятая астма! Сур был бы чемпионом Союза, если б не астма, я в этом убежден. — Восьмерка на «четыре часа»[153], — сказал Сур. — Дышите, Ильин, правильно. Я спросил у Верки: — Давно стреляют? — Только начали, — прошептал Верка. — А Степа где? — Помолчите, гвардейцы, — сказал Сурен Давидович. — Хорошо, Ильин! Бейте серию с минимальными интервалами! Я сам видел, что тренировка началась недавно — мишени чистые. Значит, Сур освободится через час. Раньше не отстреляются. — Не узнаю вас, Оглоблин. Внимательней, мушку заваливаете! Невозможно было целый час ждать. Я подобрался к Суру и прошептал: — Сурен Давидович, тревога, Степа в опасности... Он внимательно покосился, кашлянул, встал: — Стрелки, продолжайте серию! Валерий, корректируй... Верка, счастливый, кинулся к трубе, а мы вышли в коридор. Мне казалось, что Сурен Давидович очень рассержен, и я стал торопливо, путаясь, рассказывать: — Степка уехал на новом такси из лесопарка, а в такси сидели шпионы... — Какие шпионы? — спросил он. — Откуда шпионы? Я вернулся к началу — как шел в школу и увидел Федю-гитариста. Сур слушал вполуха, посматривая на дверь, глаза так и светились в темном коридоре. Я заспешил. Скоренько рассказал, как шофер свалился у пня. Сурен Давидович повернулся ко мне: — Что-о? Тоже схватился за сердце? — И еще упал. Это не все, Сурен Давидович! — Подумай только, не все... — пробормотал он. — Рассказывай, Лёшик, рассказывай. Я рассказывал, и мне становилось все страшней. В лесопарке я на четверть — да что, на десятую так не боялся. Там мы смотрели со стороны... А где сейчас Степка? Может, они его убили? Когда я закончил, Сурен Давидович проворчал: — Непонятная история... Лично мне Киселев был симпатичен. — Федя? Еще бы! — сказал я. — А теперь видите, что получается! — Пока вижу мало. Пень был очень тяжелый, говоришь? — Он покосился на дверь, откуда слышались выстрелы, и тогда я понял... — Оружие в нем, а в платке патроны! — завопил я. — Сурен Давидович! А на шее автомат, на гитарном шнуре! — Лёшик, не торопись. Оружие? — Он вел меня за плечо к кладовой. — Шпионам незачем прятать оружие. Я даже думаю, что шпиону просто не нужно оружие. Пистолетик, может быть... Но маленький, маленький. Бандит, грабитель — другое дело. — Шпиону и оружия не нужно? Что вы, Сурен Давидович! Везде пишут: бесшумный пистолет, авторучка-пистолет... — Авторучка — понятно, — говорил Сур, входя в кладовую. — Маленький предмет, укромный. Хранится на теле. Зачем целый пень оружия? Через пень-колоду... Где мой блокнот? Вот мой блокнот. Сядь, Лёшик. Я думаю, что шпиону совсем не нужен пистолет. Шпион, который выстрелил хоть однажды, уже покойник... Побеги, пожалуйста, и пригласи сюда Валерика. Верка не особенно обрадовался приглашению. Он корректировал стрельбу больших парней, покрикивал гордым голосом. Они тоже покрикивали — Верка путал, где чья мишень. Он вздохнул и побежал за мной, спрашивая: — А что? Тревога? Вот это да! Сур уже написал записку. Он сказал: — Валерик, время дорого. Лёшик все расскажет тебе потом, ни в коем случае не по дороге. Так? (Я кивнул.) Так. Вот что я написал заместителю начальника милиции капитану Рубченко: «Дорогой Павел Остапович! Ты знаешь, что я из-за болезни не могу выйти «на поверхность». Очень тебя прошу: зайди ко мне в тир, очень срочно. Не откладывай, пожалуйста. Твой Сурен». Валерик, беги быстро. Если нет дяди Павла, передай записку майору. Если нет обоих — дежурному по отделу. Запомнил? Ты же, Лёшик, ищи Степана. Тебе полчаса срока... нет, двадцать минут. А ты, Валерик, передай записку и сейчас же возвращайся. — Он посмотрел на нас и, чтобы приободрить, сказал: — Гвардия умирает, но не сдается. Бе-егом ар-рш!МЫ НАЧИНАЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ
Мы вылетели «на поверхность» и припустили по дворам. Что я мог успеть за двадцать минут? Пробежаться по улицам да заглянуть на почту. Милиция тут же, рядом. (Почта выходит на проспект, а милиция — на улицу Ленина, но двор у них один, общий, с универмагом и химчисткой.) У нас есть правила, как вести себя при «тревоге». Сегодня я объявил ее, а вообще мог объявить каждый, от Сура до младшего, то есть Верки. Сурен Давидович никогда не приказывал, его и так слушались, но всегда обсуждали, как лучше сделать то или это. Когда же объявлялась тревога, споры-разговоры кончались. Сур становился командиром, и ему приходилось приказывать, хоть он этого терпеть не мог. Мне было приказано двадцать минут разыскивать Степку, а Верке — передать записку и возвращаться. Значит, я не должен заглядывать в милицию, хотя Степка, конечно уж, постарался навести милицию на след. И Верка напрасно поглядывал на меня, пришлось ему идти одному. Я посмотрел, как он нерешительно поднимается на крыльцо, а сам побежал дальше. На углу остановился, пригладил волосы. Казалось, все насквозь видят, зачем я иду на почту. ...Автобусика уже не было. Солнце теперь светило вдоль улицы, мне в лицо. Кто-то выглядывал из окошка математического кабинета на третьем этаже школы. Чудно было думать, что сейчас я виден из этого окна совершенно так же, как были видны Федя-гитарист и остальные двумя часами раньше. Только я шел лицом к школе, а не спиной, как почтари, и Федя не сидел на ступеньках. Ударила стеклянная дверь. Пахнуло сургучом, штемпельной краской — нормальный запах почты. Я заставил себя не высматривать этих двух, которые хватались за сердце. Шел с небрежным видом, руки в карманах... Народу было немного, по одному у каждого окошечка. Степки не было. В самом деле, черта ли ему в этой почте... Кто-то оглянулся на меня. Пришлось для конспирации купить открытку за три копейки. От барьера я увидел, что оба почтаря на местах: один сидел за столиком с табличкой «Начальник отделения связи», второй работал на аппарате, трещал как пулемет. Рядом с окошком, в котором продавались открытки, висело смешное объявление, написанное красным карандашом: «Объявление!! До 16.00 сего числа междугородный телефон не работает, т. к. линия ставится на измерение». Как они ее будут мерить, эту линию? Я даже засмеялся, взял свою открытку, и тут мне навстречу открылась дверь и вошел Федя-гитарист. Открытка выскочила из моих пальцев и спланировала в угол, к урне... Я не спешил поднять открытку. Носком ботинка загнал ее за урну и, кряхтя, стал выуживать, — смял, конечно. А Федя с изумительной своей улыбкой придвинулся к окошечку с объявлением и попросил своим изумительным баритоном: — Тамар Ефимовна, пяточек конвертиков авиа, снабдите от щедрот! Та, ясное дело, заулыбалась. Я подобрал открытку и с дурацким видом стал подходить к улыбающейся Тамар Ефимовне, а Федя установил ноги особенным, шикарным образом и разливался: — Такая погода, вы же тут сидите, не щадя своей молодости... — и всякую такую дребедень. Поразительно, как быстро я его возненавидел. Два часа назад я смотрел на него с восторгом, — что вы, Федор Киселев, первая гитара города, фу-ты ну-ты! Сур только что сказал, что Киселев ему нравится, а сейчас тревога, поэтому «нравится» Сура надо считать приказом. Понимаете, до чего надо обалдеть, чтобы такие мысли полезли в голову? — А, пацан, — сказал Федя. — Получи конфетку. Он вынул из правого кармана карамельку «Сказка». На бумажке тощий розовый кот с черным бантиком на шее и черными лапами. Внутри — настоящая конфета. Я развернул ее, но есть не стал. Купили они конфет все-таки! Зачем?! Вот дьявольщина! А Суру я забыл рассказать про конфеты! — Это вам, Тамар Ефимовна, — сказал Федя и подал ей такую же конфету. — Вам... прошу вас... угощайтесь. — Он обошел все окошки, все его благодарили. Прошло уже десять минут, но я отсюда уходить не собирался. — Те-тенька, Тамара Ефимовна, — проныл я, — открытку я испортил, — и показал ей смятую открытку. — Так возьми другую открытку, цена три копейки, — услышал я. Услышал. Лица Тамар Ефимовны я не видел, потому что смотрел на Федю, а он достал из другого кармана конфету и ловко перебросил ее на стол начальника: — Угощайтесь, товарищ начальник!.. И вы, пожалуйста! — Это уже старшему телеграфисту. — И вам одну. — Он обращался к девушке, подающей телеграмму, и достал очередную конфету опять из правого кармана... — Я сегодня деньрожденник, угощайтесь! — Те-тенька, у меня денег больше нет, — с ужасом гудел я в это время, потому что был уверен: конфеты из правого кармана отравлены. И я не мог закричать: «Не ешьте!!» До сих пор стыжусь, когда вспоминаю эту секунду. Мне, идиоту, казалось важнее поймать шпиона, чем спасти людей. Правда, у меня былприказ... — Тетенька, дайте тогда конфе-е-етку... Но поздно, поздно! Она уже хрустела этой карамелькой, а бумажка с идиотским розовым котом, аккуратно разглаженная, красовалась под стеклом на ее столе. — Вот какой! — сказала Тамара Ефимовна. — Какие наглые пошли дети, просто ужас! Вы слышали, Феденька? Все уставились на меня, лишь толстый телеграфист трещал на своей машине. Федя обмахивался конвертами, как веером. — Любишь сладенькое, а? Ты ж эту не съел, сластена... — Он приглядывался ко мне очень внимательно. Я начал отступать к двери, бормоча: — Симке, по справедливости... Одну мне — одну ей... Сестре, Симке... — Без всяких усилий я выглядел совершенно несчастным и жалким. Девушка, подающая телеграмму, покраснела — ей было стыдно за меня. Федя сказал: — Держи, семьянин, оп-ля! Я не шевельнулся, и конфета (из правого кармана) упала на кафель. В эту секунду я почувствовал, что телеграфист, не поднимая головы и ничего не говоря, подал знак Феде. И сейчас же со мной случилось ужасное: будто меня проглотило что-то огромное, и я умер, но только на секунду или две. Огромное выплюнуло меня. Конфета еще лежала на чистом квадратике линолеума, между мной и гитаристом, и он смотрел на меня как бы с испугом. Кто-то проговорил: «Очень нервный ребенок». Девушка сунулась поднять конфету, но Федя нагнулся сам, опустил конфету мне в руку и легонько подтолкнул меня к двери. Вам! — ударила дверь. Я стоял на тротуаре, мокрый от волнения, как грузовая лошадь. А за стеклом почты уже все двигали челюстями, жевали проклятые конфеты. Даже толстый телеграфист, — я видел, как он сунул карамельку за щеку. Они оживленно разговаривали. Кто-то показал пальцем, что я стою за окном, и я сорвался с места и ринулся в тир, к Сурену Давидовичу.ДВОЙНАЯ ОБЕРТКА
Степка не вернулся. В кладовой, у железного шкафа с оружием, сидел Верка и чистил мелкокалиберный пистолет. Сурен Давидович брился, устроившись на своей койке под окошком, в глубине кладовой. — Гитарист раздает отравленные конфеты! — выпалил я. — Вот! Я держал их на ладони: одну в бумажке и одну развернутую. Сур выключил бритву. — Эти конфеты? Почему же они отравлены? Вот водичка, напейся... Правда, я отчаянно хотел пить. Глотнул, поперхнулся. Верка тут же врезал мне между лопаток. — Отстань, краснобровкин! — зарычал я. — На почту он пришел и раздает конфеты. В правом кармане отравленные, а в левом — не знаю. — Опять почта? Сегодня слишком много почты. — Сур взял развернутую конфету, посмотрел. — Ты говоришь, отравлены? Тогда яд подмешали прямо на фабрике. Смотри, поверхность карамели абсолютно гладкая. Давай посмотрим другую. — Он стал разворачивать вторую конфету и засмеялся: — Лёшик, Лёшик! Ты горячка, а не следопыт... Валерка захихикал. Дураку было понятно, что отравитель не станет заворачивать конфетку в две одинаковых бумажки. Сур снял одного розового кота, а под ним самодовольно розовел второй такой же. — Кот в сапогах, — сказал Сур. — Автомат на фабрике случайно обернул дважды. Ох я осёл... Я невероятно обрадовался и немного разозлился. С одной стороны, было чудесно, что конфеты не отравлены и Тамар Фимна и остальные останутся в живых. С другой стороны, зачем он раздавал конфеты? Если бы отравленные, тогда понятно зачем. А простые? Или он карманы перепутал и своим дал отравленные, а чужим — и мне тоже — хорошие? Но я-то, я, следопыт!.. В конфетной обертке не смог разобраться. Действительно, кот в сапогах. А я все думал: почему нарисован кот с бантиком, а называется «Сказка»? Сапоги плохо нарисованы — не то лапки черные, не то сапоги. «Попался бы мне этот художник...» — думал я, рассказывая о происшествиях на почте. Я упорно думал о неизвестном художнике, чтобы не вспоминать про то, как я умирал на секунду. Об этом я не рассказал, а насчет всего остального рассказал подробно. Верка таращил глаза и ойкал — наверно, Сур объяснил ему кое-что, пока меня не было. Сур записал мой доклад в блокнот. Потыкал карандашом в листок: — Из правого кармана он угощал всех, а из левого кармана — по выбору. Так, Лёшик? В лесу он же говорил, что надо купить конфет... Хорошие дела... — В левом отравленные! — страшным шепотом заявил Верка. — Точно, дядя Сурен! — Не будем торопиться. — Он включил бритву. — Романтика хороша в меру, гвардейцы. (Ж-ж-ж-жу-жу... — выговаривала бритва.) Думаю, что все объяснится просто и не особенно романтично. — Шпионы! — сказал я. — Тут не до романтики. Он выключил бритву и посмотрел на меня с сомнением: — Лёшик, ты знаешь, что такое презумпция невиновности? Мы с Веркой этого не знали. Я что-то слышал, да забыл. — «Презумпция» — значит «предположение». Презумпция невиновности — предположение, что человек не виноват. Судья, следователь и любой юрист должен приступать к делу с предположением, что подозреваемый человек невиновен в преступлении. — А почему же он тогда подозреваемый? — спросил я. — Ха! Подозрение — не вина еще. Если следователь будет так рассуждать, как ты, он незаметно для себя подтасует факты и обвинит. Пока нет неопровержимых доказательств, юрист обязан считать человека невиновным. Поняли? — Мы поняли, — сказал я. — Но мы ведь не юристы и не следователи. Мы же так, предполагаем просто. — Все равно, — сказал Сур. — Мы советские люди. Если я скажу тебе, что, возможно — понимаешь, возможно — Киселев затеял ограбление. Горячка! Ты будешь считать его виноватым! А так даже думать нельзя, Лёшик. — Вот так так! А что можно? — Изложить факты капитану Рубченко, когда он придет сюда. Только факты. Долгонько же он собирается... Верка сказал: — Он обещал быстро прийти. Говорит, освободится и живой ногой явится. Сур кивнул и посмотрел на часы. Я понял его. Он думал о Степке. Но кто разыщет Степку лучше, чем милиция? Мы стали ждать. Сурен Давидович велел мне быть в кладовой, а сам пошел в стрелковый зал. Верка побежал во двор, чтобы высматривать капитана Рубченко. Я от волнения стал еще раз надраивать пистолет, только что вычищенный Веркой. Гоняя шомпол, заглянул в блокнот Сура. Внизу листа было написано жирно и дважды подчеркнуто: «Почему все трое хватались за сердце?» Он был прав. В пеньке хранится оружие, с конфетами передаются, предположим, записки, но почему все хватались за сердце? И тут Верка промчался в тир с криком: — Дядя Сурен, дядя Павел пришел!КАПИТАН РУБЧЕНКО
Павел Остапович Рубченко — однополчанин и друг Сура. Раньше они дружили втроем, но третий, Валеркин отец, умер позапрошлой осенью. Для нас Павел Остапович был вроде частью Сура, и я чуть на шею ему не бросился, когда он вошел. Большой, очень чистый, в белоснежной рубашке под синим пиджаком. Он редко надевал форму. — Здравия желаю, пацан! Я сказал весело: — Здравия желаю, товарищ капитан! — Какие у вас происшествия? Пока вижу — проводите чистку оружия. Опять школой пренебрегаешь? — У, такие происшествия... Вы Степку не видели? Он Степку не видел. Тут заглянул Сур и попросил одну минуту подождать, пока он примет винтовки. Рубченко кивнул и покачал пальцем. Сур сказал «вас понял» и позвал меня оттащить винтовки. Ого! Рубченко не хотел, чтобы его здесь видели, следовательно, уже известно кое-что... Я выскочил, бегом потащил винтовки. Сур даже чистку отменил, чтобы поскорее выпроводить студентов из тира, и сам запер входную дверь. Теперь нам никто не мог помешать, а Степка, в случае чего, откроет замок своим ключом или позвонит в звонок. Наконец Сурен Давидович прикрыл дверь в кладовую, закурил свой астматол и показал на меня: — Вот наш сегодняшний докладчик. Понял, Остапович? Рубченко поднял брови и посмотрел довольно неприветливо. По-моему, каждый милицейский начальник удивится, если его притащат по жаре слушать какого-то пацана. Сур покраснел и сказал: — Алеша — серьезный человек. Рассказывай подробно, пожалуйста, — и открыл свой блокнот. Я стал рассказывать и волновался чем дальше, тем пуще. «Где же Степка?» — колотило у меня в голове. Я вдруг забыл, как Федя познакомился с таксистом, какие слова они говорили у пенька. Сур подсказал мне по блокноту. Рубченко теперь слушал со вниманием, кивал, поднимал брови. Когда я добрался до разговора о конфетах — первого разговора, на проселке, — хлопнула входная дверь, протопали шаги, и в кладовую влетел Степка. Мы закричали: «У-ру-ру!», Сурен Давидович всплеснул руками. Степан порывался с хода что-то сказать и вдруг побелел, как стенка. «Что за наваждение, как нанялся он бледнеть! — подумал я. — Упустил он гитариста, что ли?» Степка стоял у двери и смотрел в пол — как воды в рот набрал. Таким белым я его еще не видывал. Наверно, Сур что-то понял. Почувствовал, вернее. Он быстро увел Степку под окошко, посадил на койку и налил воды, как мне только что. Степка глотал громко и выпил два стакана кряду. — Набегался, хлопчик, — ласково сказал Рубченко. — Вода не холодная в графине? Напьешься холодного — раз-раз и ангина! Степка и тут промолчал. Даже Верке-несмышленышу стало совестно — он заулыбался и засиял своими глазищами: не обижайся, мол, дядя Павел, Степка хороший, только чудной. Сурен Давидович сказал: — Степа тоже принимал участие в этом деле. (Рубченко кивнул.) После Алеши он тоже кое-что расскажет. Хорошо, Степик? Степка пробормотал: — Как скажете, Сурен Давидович. Кое-как я продолжал говорить, а сам смотрел на Степку. Они с Суром сидели напротив света, так что лица не различались. Я видел, как Сур подал ему винтовку и шомпол, придвинул смазку. Сам тоже взял винтовку. И они стали чистить. Степка сразу вынул затвор, а Сур, придерживая ствол под мышкой, открыл тумбочку и достал пузырек с пилюлями против астмы. Я в это время рассказал про пустую поляну и про следы в одну сторону, а Рубченко кивал головой и приговаривал: — Так, так... Не было следов? Так, так... Подожди, Алеша. — Он повернулся к Степке: — Ты, хлопчик, до самого города проехал в такси? Степка сказал: — До места доехал. — Куда же? — Въехал в ваш двор, со стороны улицы Ленина. Через арку. — Они тебя обнаружили? — Я спрыгнул под аркой. Не обнаружили. — Молодец! — горячо сказал Рубченко. — Ловко! Проследил, что они делали впоследствии? В эту секунду Сурен Давидович щелкнул затвором и вскрикнул: — Каковы мерзавцы! Патрон забыли в стволе! Капитан повернулся к нему: — Прошу не мешать! Речь здесь идет о государственном преступлении! Во! Я чуть не лопнул от гордости. Говорил я им, говорил — шпионаж! Я страшно удивился, когда Степка швырнул винтовку на кровать и сказал тихим, отчаянным голосом: — Сурен Давидович... Вон он, — Степка ткнул пальцем прямо в Рубченко, — он тоже хватался за сердце перед пеньком. Он — «Пятиугольник двести». Я видел. Мы замерли. Мы просто остолбенели. Представляете? И капитан сидел неподвижно, глядя на Степку. Сурен Давидович прохрипел: — Остапович, как это может быть? Но капитан молчал. А Степка вдруг прикрыл глаза и откинулся к стене. Тогда Рубченко выставил подбородок и ответил: — Объясню без свидетелей. Государственная тайна! — и опять уставился на Степана. Он смотрел сурово, с уверенным ожиданием, словно Степка должен был отречься от своих слов. Но где там! Степка вскочил и выкрикнул: — Объясняйте при нас! Сур прохрипел снова: — Остапович, как это может быть? — Пустяки, пустяки, — ответил Рубченко и живо завозился руками у себя на груди. — Ничего не может быть... А-пах! — поперек комнаты ширкнуло прозрачное пламя, щелкнула винтовка. Я ничего не понял еще, а капитан Рубченко уже падал со стула, Сурен Давидович смотрел на него, сжимая винтовку, и из стены, из громадной черной дыры, сыпался шлак. Дыра была рядом с головой Сура.НЕСЧАСТЬЕ
Говорю вам, мы ничего не поняли. Мы будто остолбенели. В косом столбе солнечного света блеснул седой ежик на голове Павла Остаповича, — капитан падал головой вперед, медленно-медленно, в полной тишине. Только шуршал черный шлак, осыпая белую клеенку на тумбочке. Степка еще стоял с поднятой рукой — так быстро все произошло. Я еще без страха, будто во сне, смотрел, как капитан грудью и лицом опустился на половицы, как из-под его груди снова ширкнуло пламя, ударило под кровать, и оттуда сразу повалил дым. Потом Сур вскрикнул: «Остапович!» — и попытался поднять капитана, а Степка неуверенно взял графин и стал плескать из него под койку, откуда шел дым. Я очнулся, когда Верка закричал и закатил глаза. Мне пришлось вытащить его в коридор. Он сразу перестал кричать и вцепился в меня, трясясь. У меня до сих пор синяки — так он крепко ухватился за мои руки. Я сказал Верке: — Сейчас же прекрати истерику! Надо помогать Сурену Давидовичу. А еще гвардеец... Он немного ослабил руки. Кивнул. — Ты, может, домой побежишь? — спросил я. — Я буду помогать, — сказал Верка. — Нет, уходи домой, — сказал я, но это были пустые слова. Верка по-детски, с перерывами, вздохнул и пошел за мной. В кладовой остро пахло дымом. Павел Остапович лежал на кровати. Сур стоял над ним и жалобно говорил по-армянски, ударяя себя по лбу кулаками. Он совсем задыхался. Мрачный, но нисколько не испуганный Степка стоял набычившись и не смотрел в ту сторону. Я прошептал: — Степ, как это получилось? Он умер? Степка дернул плечом. Я понял: умер. Но я все еще думал о случайном выстреле и поэтому хотел понять, как Сур, такой опытный стрелок, мог случайно выстрелить, доставая патрон из ствола? Тогда Степка сказал: — Смотри, — и показал куда-то вбок. Я не мог отвести глаз от Сура и не понимал, куда Степка показывает. Он за плечи повернул меня к столу. На столе лежал поразительный предмет. Он был ни на что не похож, только с первого взгляда смахивал на стальную палку. Стоило секунду приглядеться, чтобы понять — эта штука не стальная, и даже не металлическая, и не палка уж наверняка. Даже не круглая. Овальная? Нет, бугристая, будто ее мяли пальцами. Зеленовато-блестящая. На одном конце был черный, очень блестящий кристалл, а у другого конца выступали две пластинки вроде двух плавников. Несколько секунд я думал, что это сушеный кальмар — пластинки были похожи на хвост кальмара или каракатицы. В длину штука имела сантиметров тридцать. — Видел? Это бластер, — прошептал Степа. У меня совсем ослабели ноги. Бластер! В некоторых фантастических рассказах так называются ружья, стреляющие антиматерией, или лучевые. В фантастических рассказах, понимаете? Но мы-то были не в рассказе, а в Щекине, поселке городского типа. В доме три по улице Героев Революции, в подвальном этаже, переделанном под тир. И здесь, на столе оружейной кладовой, лежал настоящий бластер, который принес под пиджаком капитан Рубченко, заместитель начальника милиции. Теперь я понял, что за пламя ширкало, почему в бетонной стене выжжено углубление размером с голову и, главное, почему выстрелил Сурен Давидович. Бластер настоящий, Степка был прав. В косом свете он отливал то зеленым, то серым, волчьим, цветом. Он был абсолютно ни на что не похож. Я держался за край стола. Ох, слишком многое случилось за одно утро, и конца событий не было видно.ШНУРОК
Было страшно заговорить, взять в руки бластер, взглянуть на Сурена Давидовича. Степка же был не таков. Он потрогал бластер и сказал нарочито громко: — Совершенно холодный! Сур услышал и обернулся. Ох, вспомню я эту картину... Как он смотрит коричневыми, яростными глазами на разорение, на дрожащего Верку, на винтовки, валяющиеся в лужах, и на бластер... Так он посмотрел и внезапно заметался, открыл железный шкаф с оружием и быстро-быстро стал запихивать в него винтовки. Потянулся к бластеру — Степка перехватил его руку. — Это спуск, Сурен Давидович, эти вот крылышки. Сур начал крепко тереть виски. Тер со злостью, долго. Потом проговорил: — Конечно, спуск. Вот именно... Где шнурок? Степка показал пальцем — на полу, — а я поднял. Черный шнурок от ботинок, вернее, два шнурка, связанных вместе. Все четыре наконечника были целы, торчали на узлах. — Понимаю, — сказал Сур. — Брезгуешь... — Принял у меня шнурок, положил в шкаф. — Напрасно всё-таки брезгуешь, Степан. — Он предатель, — сказал Степка, показывая на Рубченко, — а вы его жалеете! Я вздрогнул — рядом со мною закричал Верка: — Врешь! Дядя Павел — папин друг, а не предатель, врешь! — Так, мой мальчик... Степан, слушай меня: если Павел Рубченко предатель, то и я предатель. Таких людей, как он... — Сур закашлялся. — Он не только честный воин. Не только храбрый и добрый человек. На моих глазах он двадцать лет проработал в милиции. И на фронте. И всегда был настоящим рыцарем... Степка молчал. Трудно было не согласиться — такой человек на виду, как в стеклянной будке. Зато Сур очнулся от своего отчаяния и продолжал говорить: — Мы потеряли много времени... Необходим врач. Кто позвонит в «скорую помощь»? Ты, Лёшик? Придержите дверь. — Он осторожно поднял бластер и перенес в шкаф. Запер на два оборота. — Ах, Остапович!.. Ах, Остапович! Лучше бы... — Он осекся. Я знал почему. Он сто раз дал бы себя сжечь этим бластером, лишь бы не стрелять в друга. Он выстрелил, спасая нас. И, посмотрев на нас, он подобрался, тряхнул головой, стал по виду прежним, даже погладил Верку, как всегда, от носа к затылку. — Да, тяжелое положение... В «скорую» нельзя обращаться. Степа, Алеша! Этот дом, четвертый подъезд, квартира шестьдесят один. Доктор Анна Георгиевна... Пригласите ее сюда. Что сказать? У нас раненый. Мы побежали. Степка на ходу сказал: — Правильный приказ. — Почему? — спросил я. Он ответил: — А вдруг эти уже на «скорую» пробрались? — Кто — эти? — С бластерами. — А зачем им пробираться? Степка только свистнул. Тогда я возразил: — Доктор Анна Георгиевна тоже могла пробраться. — Чудной... — пропыхтел Степка. — Она же пенсионерка, дома принимает. Видишь табличку? Я видел. Квартира 61, медная яркая табличка: «Доктор А. Е. Владимирская». Степан позвонил и вдруг сказал свистящим шепотом: — Он меня было... того. Рубченко ваш... — Он же не в тебя стрелял — в Сура! — Да нет, — прошептал Степка. — Не из бластера. Он так... Глазами, что ли. Я будто помер на полсекунды. — Ой, а меня... — заторопился я, но тут дверь отворилась, и из темной прихожей спросили: — Ко мне? Степка подтолкнул меня. Я ответил, что к доктору и что в тире лежит раненый. — Сейчас, ждите здесь, — сказал голос, как мне показалось, мужской. В прихожей зажегся свет, мы вошли, но там уже никого не оказалось. Будто с нами разговаривали здоровенные часы, которые стучали напротив двери. Потрясающие часы! Выше моего роста, с тремя гирями, начищенными еще ярче дверной таблички. Часы тут же проиграли мелодию колокольчиками и стали бить густым тройным звоном — одиннадцать часов. Я охнул, потому что все началось ровно в половине девятого, всего два с половиной часа назад. В школе прошло три урока — и столько всего сразу! И Верка еще. А Верка очень нежный и доверчивый. Позавчера подошел к милиционеру и спросил: «Дядь, почему вам не дают драчных дубинок?»... Зазвенело стекло. Кто-то закричал тонким старушечьим голосом. Резко распахнув дверь, в прихожую выскочила женщина в белом халате, с чемоданчиком, совершенно седая. Она стремительно оглядела нас синими эмалевыми глазами. Спросила басом: — Раненый в тире? — и уже была на лестнице. А мы едва поспевали за ней. Вот так пенсионерка! Из квартиры пищали: «Егоровна!» — она молча неслась вниз по лестнице, потом по дорожке вдоль дома и по четырем ступенькам в подвал. Степка забежал вперед, распахнул дверь и повел докторшу по коридору в кладовую.ДОКТОР АННА ЕГОРОВНА
Сурен Давидович был в кладовой наедине с Рубченко. Стоял, прислонившись к шкафу, и хрипел астматолом. Когда мы вошли, он поклонился и проговорил: — Здравствуйте, Анна Георгиевна. Вот. — Он показал на койку. — Вижу. Меня зовут Анна Егоровна... Ого! Детей — за дверь. — Я расстегнул рубашку, — сказал Сур. Она доставала стетоскоп из чемоданчика. Мы, конечно, остались в комнате, в дальнем углу, под огнетушителями. Анна Игоревна что-то делала со стетоскопом, вздыхала, потом стукнула наконечником и бросила прибор в чемоданчик. — Давно произошел несчастный случай? Сур сказал медленно: — Убийство произошло двадцать минут назад. Анна Егоровна опять сказала «Ого!» и быстро, пристально посмотрела на Сурена Давидовича. На нас. Опять на Сура. — Что здесь делают дети? Степка шагнул вперед: — Мы — свидетели. Она хотела сказать: «Я не милиция, мне свидетели не нужны». У нее все было написано на лице. И удивление перед такой странной историей, перед почти прямым признанием Сура, и мы тоже показались ей не совсем обычными свидетелями, правда? Она сказала: — Моя помощь здесь не требуется. Смерть наступила мгновенно. — И повернулась к двери. Но Сур сказал: — Анна Георгиевна... — Меня зовут Анна Егоровна. — Прошу прощения. Я буду вам крайне благодарен, если вы согласитесь нас выслушать. Слово офицера, вам нечего бояться. Как она вскинула голову! Действительно «Ого»! Она была бесстрашная тетка, не хуже нашего Степана. Она успела крепко загореть и выглядела просто здорово: круглое коричневое лицо, белые волосы, крахмальный халат и круглые ярко-синие глаза- — Слушаю вас, — сказала Анна Егоровна. — Я прошу разрешения прежде задать вам два вопроса. Она кивнула, не сводя с него глаз. — Первый вопрос: вы ученый-врач? — Я доктор медицинских наук. Что еще? — Когда вы последний раз выходили из дому? — Вчера в три часа пополудни. — Ее бас стал угрожающим. — Чему я обязана этим допросом? Сур прижал руки к сердцу так похоже на тех, что мы вздрогнули. Но это был его обычный жест благодарности. — Доктор, Анна... Егоровна, сейчас вы все, все поймете! Очень вас прошу, присядьте. Прошу, прошу. Итак, сегодня в восемь часов утра... Сурен Давидович рассказывал совсем не так, как я. Без подробностей. Одни факты: заведующий почтой, старший телеграфист, поездка на такси, оба разговора Феди-гитариста с шофером, история с конфетами, потом капитан Рубченко и выстрел. О выстреле он рассказал так: — Эта история была сообщена Павлу Остаповичу не вся целиком. Он остановил Алешу... Когда, Лёшик? — Когда пень грузили в такси, — поспешно подсказал я. — Да, в такси. Павел Остапович начал расспрашивать второго мальчика... — Вот этого, — сказала Анна Егоровна. — Да, этого, Степу. Он сообщил, что пень доставили во двор милиции. — И почты... — Да. В этот момент я разрешил себе восклицание, не относящееся к делу. Павел Остапович меня осадил. — Меня это крайне удивило. Мы с ним дружили почти тридцать лет... — Он закашлялся. Докторша смотрела на него совершенно ледяными глазами. — Да, тридцать лет! Мальчики об этом знают. И Степик в эту секунду сорвался и заявил, что капитан Рубченко тоже хватался за сердце, стоя перед пеньком. — Вот как, — сказала Анна Егоровна. — Павел Остапович не возразил. Напротив, он начал поспешно извлекать из-под пиджака некий предмет, подвешенный на шнурке под мышкой. Не пистолет, Анна Егоровна. Пистолет, подвешенный таким образом, стреляет мгновенно. Этот же предмет... Я вам его покажу. Шкаф отворился с привычным милым звоном. Степка пробормотал: «Дьявольщина!» Вот он, бластер... Не приснился, значит. — Этот предмет, доктор, он висел на этом шнурке, видите? Прошу вас посмотреть, не касаясь его. — Странная штука. — Именно так, доктор. Она висела на петле-удавке, никаких антабок не имеется. Висела неудобно. Ему пришлось извлекать этот предмет три-четыре секунды. — Вы настолько точно заметили время? — Я кадровый военный. Это мой круг специфических навыков. Она кивнула очень неодобрительно. — Вы понимаете, Анна Егоровна, что я следил за Остаповичем с большим интересом. Предмет не походил на оружие, и я подумал о каком-то вещественном доказательстве, с которым хотят нас ознакомить. Но... смотрите сюда. С конца предмета сорвалось пламя, пролетело рядом с моей головой. Я сидел вот так — видите? Отверстие в бетонной стене он прожег за долю секунды. А дети? Здесь были дети, понимаете? — Скорее ниша, чем отверстие, — задумчиво сказала докторша. — Покажите ваше левое ухо... М-да, ожог второй степени. Больно? — Какая чепуха! — крикнул Сур. — «Больно»! Вот где боль! — кричал он, показывая на мертвого. И снова осекся. Помолчали. Теперь Анна Егоровна должна была спросить, почему Сур беседовал с Рубченко, держа в руках винтовку. Или просто: «Чем я могу помочь, я ничего не видела». Она сказала вместо этого: — Я обработаю ваше ухо. Поверните голову. — Вы мне не верите, — сказал Сур. — Разве это меняет дело? — Доктор! — сказал Сур. — Если бы речь шла о шайке бандитов! — М-да... О чем же идет речь? — Она бинтовала его голову. — До сегодняшнего дня я думал, что подобного оружия на земле нет. На всей земле. — Вы бредите, кадровый военный, — сказала докторша с полным равнодушием. — Лазерных скальпелей не достанешь — что верно, то верно. Погодите... Вы серьезно так думаете? — Эх, доктор... — сказал Сур. — Лёшик, открой дверь. Смотрите осторожно, из-за косяков. И вы, доктор, выйдите. Смотрите из коридора. Он прижался вплотную к стене, оттолкнул ногой дверь и сказал: «Стреляю...» Мы услышали — ш-ших-х! — и стенка над шкафом вспучилась и брызнула огненными шариками, как электросварка. Сурен Давидович с черным, страшным лицом, в белом шлеме повязки, вышел из-за косяка. — Входите. Этой штукой, доктор, можно за пять минут сжечь наш город дотла. Может быть, люди с таким оружием уже захватили почту, милицию, телеграф... Вы понимаете, о чем я говорю?ЧТО ВИДЕЛ СТЕПКА
Тело Павла Остаповича покрыли простыней. Нам троим докторша дала по успокоительной таблетке. Мы устроили военный совет. Первым выступил Степка. Его приключения начались у кондитерского магазина, где водитель покупал конфеты, а Федя охранял свой ценный груз. Степка всю дорогу сидел в правом переднем углу кузова, потому что пень положили у левого борта, на мягкие веревки для привязывания мебели. А едва машина остановилась у кондитерской, Федя-гитарист выскочил из кабины и сунулся в кузов. Степка успел забраться под скамью — знаете, такие решетчатые скамьи вдоль бортов. Втиснулся и загородился свернутым брезентом и оттуда выглядывал, как суслик из норы. Федя же осмотрел «посредник», вздохнул и принялся поглаживать этот пень. «Дьявольщина! — рассказывал Степка. — Я даже повесил, что чурбан живой. Курица так с яйцом не носится. Ну, потом шофер принес конфеты и сказал, что оставшиеся два квартала будет ехать медленно, чтобы Федя успел подготовить хотя бы дюжину-другую. И они поехали медленно». Степка не рискнул посмотреть в окошечко, что они там делают, в кабине. Он выбрался из укрытия и, когда машина въехала под арку, метнулся к заднему борту и спрыгнул. Такси проехало в глубину двора — Степка шел следом — и развернулось таким образом, что задний борт встал напротив одного из сараев. Гитарист тут же вылез, забрался в кузов и переложил «посредник» — машина закачалась. А шофер прямо направился к водителю милицейской «Волги», которая стояла чуть поодаль. Водители поговорили, подошли к заднему борту такси и заглянули внутрь. И тут, как выразился Степка, «началась самая настоящая дьявольщина». Сержант с милицейской машины был здоровенным парнем, еще крепче таксиста. Он посмотрел в кузов, крякнул, схватился за сердце и стал падать. Шофер Жолнин не смог его удержать, такого здоровяка, и он ударился лицом о борт машины, разбил губы до крови. Киселев из машины схватил его за волосы, тряхнул. Тогда он пробормотал: «Это красивая местность», на что Жолнин ответил: «Вижу, все в порядке», и стал утирать ему лицо носовым платком. Причем сержант очень сердился и плевался кровью. Жолнин что-то ему сказал на ухо. Держа платок у лица, сержант ушел в милицию, вернулся с ключом от сарая и вложил его в висячий замок. Другой милиционер — старшина Потапов, мы его знали — спросил, за каким шутом он лезет в сарай и что у него с физиономией. Сержант ответил: «Мебель из ремонта привезли». «Нет у отдела мебели в ремонте», — сказал Потапов и, естественно, заглянул в кузов машины. Ну, опять хватанье за сердце, и «красивая местность», и буквально через полминуты старшина Потапов вместе с Киселевым и сержантом выволакивал из машины этот пень... Вот дьявольщина! Они поставили пень сразу за дверью, и Степка было заликовал, что сможет все видеть, да рано обрадовался, — они повозились в сарае и расчистили от старья небольшую площадку в глубине. Они работали как одержимые, а устроив «посредник», стали водить к нему разных людей. Степка поместился на пустых ящиках и коробках, сваленных у заднего хода универмага, и, хотя не мог видеть «посредник», отмечал всех людей, которых к нему приводили, вот список. Продавщиц универмага — пятеро. Первой была, конечно, Нелла, и привел ее Федя-гитарист, а остальные приводили друг друга, по цепочке. Из милиции побывало восемь человек, с почты и телеграфа — шестеро. Других людей, которых Степка не знал, двадцать три человека. Да, еще две продавщицы газированной воды. Они шли и шли, эти люди, пока Степан не сбился со счета. Побывавшие у «посредника» уже вели себя во дворе как хозяева. Степку шуганули с ящиков, у сарая поставили милиционера. Тогда Степка догадался обежать вокруг, в соседний двор и стал искать дырку в задней стене. Повезло! Сарай был щелястый. Широкая щель нашлась рядом с «посредником». Степка сменил позицию как раз тогда, когда я в тире рассказывал Суру об утренних чудесах. Вот почему я это понял: первыми Степан увидел в сарае начальника почты и Вячеслава Борисовича, научного сотрудника с телескопа. Вячеслав Борисович сердился и говорил раздраженно-вежливо: — Не заходит ли шутка слишком далеко? Звонят о письме, потом говорят: ошибка... Почему вы храните мою посылку в этом бедламе? — Исключительно для скорости, товарищ Портнов... (Они подходили к «посреднику».) Не споткнитесь... сейчас подъедет ваш водитель... Готово! Он схватился за сердце, бедный веселый человек. Постоял, как будто размышлял о чем-то, и спросил: — Это красивая местность? Нелепо... — Что делать, — сказал почтарь. — Вот и автобус. — Где Угол третий? — Ты прошел мимо него — гитарист Федор Киселев. — А, удачно! Зову водителя. Связью снабдит Киселев? Почтарь кивнул. Вячеслав Борисович вышел и вернулся с водителем автобуса... Степка говорит, что Вячеслав Борисович оставался на вид таким же веселым и обаятельным, а остальные обращались с ним почтительно и звали его «Угол одиннадцать». Да, Степке было о чем рассказать! Одним из последних явился Павел Остапович Рубченко. Он говорил сердитым начальственным басом: — Отлучиться нельзя на полчаса! Паноптикум! Что здесь творится, товарищ дежурный? — Чудо природы, товарищ капитан! — отрапортовал дежурный. — Вот, у задней стенки! Капитан шагнул вперед, присматриваясь в полутьме... Ну, и ясно, чем это кончилось. Правда, он тоже показал свой характер. Не произнеся еще пароля, распорядился поставить охрану у задней стенки сарая, снаружи: — Весь состав прошел обработку? Хорошо. Потапова нарядите, с оружием! Дежурный сказал: — Есть поставить Потапова. И они вышли. Степану приходилось снова менять место. Он вспомнил, что окна лестничных площадок над универмагом тоже выходят в этот двор, и побежал туда и еще полчаса добрых смотрел. С трех наблюдательных позиций он насчитал примерно пятьдесят человек, приходивших в сарай, — кроме тех, кто являлся по второму разу, как провожатый. С нового поста было видно, как Киселев распоряжается у сарая и каждому выходящему что-то сует в руку. Потом он ушел. Да, в самом начале милицейский «газ» укатил и вернулся через сорок минут. Сержант привез тяжелый рюкзак, затащил его в сарай. За ним поспешили несколько человек, видимо дожидавшихся этого момента. Степка заметил, что они теперь выносили из сарая небольшие предметы — кто в кармане, кто за пазухой. Среди них был и Вячеслав Борисович. А любопытных детей и пенсионеров в сарай не пускали.СНОВА КАПИТАН РУБЧЕНКО
Пока Степан рассказывал, я только кряхтел от зависти и досады. Как я не догадался пробежать на почту через двор, уму непостижимо! В двух шагах был от Степки, понимаете? Анна Егоровна слушала и все чаще вытягивала из кармана папиросы, но каждый раз смотрела на Сура и не закуривала. Сур исписал второй лист в блокноте. Когда Степка закончил словами: «Я подумал, что вы с Алехой беспокоитесь, и побежал сюда», Анна Егоровна вынула папиросу. Сур сказал: — Прошу вас, не стесняйтесь, Анна Егоровна. Она жадно схватила папиросу губами, Сур чиркнул спичку. — Литром дыма больше, литром меньше, — сказал Сур. — Пожалуй, такого не придумаешь, — сказала Анна Егоровна. — Еловое полено!.. Покажите ваши записи, пожалуйста... Так, так... Киселев устойчиво именуется Третьим углом. Хорошенький уголочек! Он руководит, он же обеспечивает связь... Складывается довольно стройная картина. — Какая? — живо спросил Сур. — Гипноз. Пень, который они называли «посредником», маскирует гипнотизирующий прибор. Жуткая штука! Но кое-что выпадает из картины. Дважды гипнотизировал сам Киселев, и вот этот вот разговор: «Развезем коробки по всем объектам». И абсолютно неясны их цели. — Вижу, — сказал Сур. — Коробки эти мог потом уже привезти в рюкзаке сержант. Осмелюсь вас перебить, Анна Егоровна. Картина может быть та или иная, дело все равно дрянь. Время идет. Первая задача — известить райцентр. Как быть с ним, ваше мнение? — Сур показал на койку. — Сейчас надо заботиться о живых, — сказала Анна Егоровна. — Правильно. Необходимо ехать в район. — Она повернулась к Степке. — Горсоветовских работников ты знаешь в лицо? Некоторых... Они приходили в сарай? Нет? Впрочем, все течет, могли и побывать покамест... — Телефон и телеграф исключаются, — сказал Сур. Она кивнула, сморщив лицо. Теперь было видно, что она уже старая. — У меня машина, — сказала докторша, — «Москвич». До райцентра-то пустяк ехать, два часа, но кто знает положение на дорогах. Ах, негодяи! — сказала она и ударила по столу. — Знать бы, какую пакость они затеяли! Степка сказал: — Может, все-таки шпионы? Сур промолчал, но докторша презрительно махнула рукой. — В Щекине шпионы? Брось это, следопыт... Секрет приготовления кефира и реле зажигания для «Запорожцев»! Брось... У меня такое вертится в голове, — отнеслась она к Суру, но Степан не унимался. — Дьявольщина? — спросил он. Докторша серьезно ответила: — Это бы полбеды, потому что черти — простые существа. Их обыкновенным крестным знамением можно спровадить. Как действует это оружие — лазер? — Что такое «крестное знамение»? — спросил Степка шепотом. Я ответил, что не знаю, а Сур в это время говорил, что не может судить об этом оружии — о бластере то есть, — так как за долю секунды, пока оно работало, ничего было не понять. — В конце концов неважно, как оно действует, — сказала Анна Егоровна. — Мне что важно: форма очень уж странная. Смоделировано отнюдь не под человеческую кисть. Простая палка. Ни ручки, ни приклада... Антабок этих ваших нету, прицела... — Анна Егоровна, — сказал Сур, — именно на эти странности я вам и указывал в начале разговора. — Вы думаете... — сказала она. Сур кивнул несколько раз. Теперь я не выдержал и влез в разговор: — Марсианское оружие бластер! Видели, как пыхнуло? Аннигиляционный разряд, вот что! — Ну, пусть марсианское, — сказала она. — Я не люблю оружия, следопыты. Слишком хорошо знаю, как плохо оно соотносится с человеческим организмом. Товарищ Габриэлян, я хотела бы забрать этот властер с собой, в район. Очень хорошо убеждает слушателей... Да, и одного из мальчиков. Лучше этого. — Она показала на меня. — Второй пригодится здесь, вы совсем задыхаетесь. Властер придумали!.. — Бластер, — поправил я. — Бластер, властер... — проворчала Анна Егоровна. — Пакость! Что-то у меня было противоастматическое, для инъекций... Она нагнулась к своему чемоданчику, откинула крышку. Сур рассматривал бластер, направив его кристалл в потолок. Вдруг докторша тихо проговорила: «Ого!», очутилась около Рубченки, тронула его веко и молниеносно нагнулась к груди. Мы вскочили. Анна Егоровна тоже встала. Лицо у нее было красное, а глаза сузились. Она сказала: — Сердце бьется нормально. Он ожил. Ну, это было чересчур... Ожил! Степа и тот попятился в угол, а у Сурена Давидовича начался сердечный приступ. Анна Егоровна «вкатила ему слоновую дозу анальгина». Потом «занялась бывшим покойником» — это все ее выражения, конечно. Движения у нее стали быстрые, злые, а голос совершенно хриплый и басистый. Раз-раз! — она выслушивала, выстукивала, измеряла, а наш бедный Сур смотрел изумленными глазам» из-под бинтов. Вот уж было зрелище! А время только подбиралось к двенадцати, понимаете? За четыре часа разных событий накопилось больше, чем за двадцать шесть лет — сколько мы со Степаном вдвоем всего прожили. Едва Сур немного оправился, докторша приказала ему запаковать бластер для дороги. Я принес из мастерской футляр от чертежей, забытый кем-то из студентов, — коричневая труба такая, разъемная и с ручкой сбоку. Сур обмотал бластер ветошью, опустил его в трубу, плотно набил ветошь, как пыж, поверх бластера и закрыл крышку. Она была свободная — Сур подмотал лист бумаги. Мы помогали. Докторша в это время еще возилась с Павлом Остаповичем. Ему тоже забинтовала голову; бинтов пошло меньше, чем на голову Сурена Давидовича. Оказывается, ухо забинтовать труднее, чем лоб с затылком. — Ну, я готова, — сказала Анна Егоровна. — Раненому ухода не требуется. — Она посмотрела на Степкино лицо и пробасила: — Дьявольщина! На выходном отверстии уже соединительная ткань. Для нас это была китайская грамота. Сур спросил: — Доктор, вы не ошибались, когда установили... гм... — Смерть? Голубчик, это входит в мой круг специфических навыков. — Она язвительно ухмыльнулась. — Но предположим, я ошибалась. Бывает. А вот чего не бывает: за сорок минут, прошедших от одного осмотра до другого, свежая рана приобрела вид заживающей, трехдневной давности. Поняли? — Нет, — сказал Сурен Давидович. — Признаюсь, и для меня сие непонятно. Да, вот еще, посмотрите... Мы придвинули головы. На клочке марли докторша держала овальный кусочек такого же материала, из которого был сделан бластер. Серый с зеленым отливом или зеленый с серым — он все время менялся и был похож на травяного слизняка. — Это было прикреплено к твердому нёбу раненого, вдоль. — Как прикреплено, боже мой... — простонал Сур. — На присоске. У вас найдется коробочка? Степка нырнул под стол, выудил пустую коробочку из-под мелкокалиберных патронов. «Слизняк», положенный на дно, сразу прихватился к нему — прилип. — Оп-ля! — сказала Анна Егоровна. — Класть в вату не требуется. Прячь в карман, Алеша. Через пять минут я подгоню машину. Я спрятал «слизняк» в карман. Докторша пожала руку Сурену Давидовичу: — Ну, держитесь. Учтите, спустя полчаса он может и подняться. Честь имею... — Какая женщина! — потрясенно сказал Сур. — Гвардейцы, вы познакомились с русской Жанной д'Арк! В этот момент на меня накатило. Если с вами не случается, так вы и не поймете, как накатывает страх в самое неподходящее и неожиданное время. До пятидесяти пяти минут двенадцатого я не боялся, а тут меня затошнило даже. А возможно, есть захотел. Я сказал: — Не поеду никуда. Пускай едет Степка. — Вот еще какой! — сказал Степка. — Почему я должен ехать? Я останусь с Суреном Давидовичем! — Ты лучше расскажешь, у тебя язык хорошо подвешен, — уговаривал Сур. — У всех подвешен! — отругивался я. — Не поеду! — Боевой приказ, — сказал Сур. — Выполняй без рассуждений. Я вздрогнул. У моей ноги заговорил очень тихий, очень отчетливый голосок: «Пятиугольник двести! Вернись к посреднику». Пауза. Потом снова: «Пятиугольник двести! Вернись к посреднику». Степка зашипел: — Рация. Понял? Федька с поляны докладывал. Понял? Опять геометрия! Я выудил эту штуку из кармана. Она пищала: «Пятиугольник двести, отвечай». И сейчас же на полтона ниже: «Пятиугольник, говорит Угол третий. Я иду к тебе». — Киселев, — с тоской произнес Сур. — Ну ладно, Киселев... Его обмякшая фигура вдруг распрямилась. Он выдернул из шкафа боевой пистолет — «Макарова», — сунул за пазуху, запер шкаф, оттиснул печать на дверце, ключи бросил Степке, выхватил у меня «слизняк» и переложил его в железную коробочку из-под печати, сунул ее в мой нагрудный карманчик и рявкнул еще неслыханным нами голосом: — Алексей! Бегом! Перехвати доктора у гаража, сюда не возвращаться! Степан! Наблюдать снаружи, не вязаться! Марш!! Он, задыхаясь, протащил нас по коридору, выкинул наружу и захлопнул дверь. У меня в руках был бластер в чехле для чертежей.Я — «ИНФЕКЦИОННЫЙ БОЛЬНОЙ»
— Ну, выполняй приказ, — выговорил Степка, сильно морща нос и губы. — Выполняй! — А ты? Он выругался и побежал. Шагах в двадцати он обернулся, крикнул: «Иди, гад!» — и побежал дальше. Я понял, куда он бежит, — к пустой голубятне, стоящей посреди двора. Я, кажется, заревел. К гаражам явился с мокрой физиономией — это я помню. Из третьего или четвертого кирпичного гаражика выползал серый «Москвич», мирно попыхивая мотором. Анна Егоровна, как была, в халате, так и сидела за рулем. Она открыла правую заднюю дверцу, и я влез в машину. — Вытри лицо, — сказала докторша. Я полез в карман за платком. — Погоди, Алеша. Знаешь, не вытирайся. Так будет лучше. Я не понял ее. Тогда она объяснила: — Видишь, я в халате? Везу тебя в районную больницу. У тебя сильно болит под ложечкой и вот здесь, запомни. Ложись на заднем сиденье, мое пальто подложи под голову... Погоди! Это спрячь под мое сиденье. Я положил бластер под сиденье и лег. Наверно, у меня был подходящий вид для больного — докторша одобрительно кивнула. — Больше ничего не произошло, Алеша? — Произошло. Киселев идет к Рубченко на выручку, — Ты видел его? — Нет. Маленькая штука заговорила... — Понятно, — перебилаАнна Егоровна. — Держись. Мы поехали. От гаражей сразу налево, пробираясь по западной окраине, в обход города. Так было немного ближе, и дорога ничуть не хуже, чем мостовая на улице Ленина, и все-таки я знал: мы нарочно объезжаем город. «Лежи, друг, лежи», — приговаривала Анна Егоровна. За последним домом она поехала напрямик, по едва просохшей строительной дороге, чтобы миновать пригородный участок шоссе. Потом сказала: «Садись». Я сел и посмотрел в заднее окно. Город был уже далеко. Окна домов не различались, крошечные дымки висели над красным кубиком молокозавода. — В сумке еда, — сказала докторша, не оборачиваясь. — Поешь. — Не хочется, спасибо. — Откуси первый кусок — захочется. Я послушался, но без толку. Еле прожевал бутерброд, закрыл сумку. И трясло здорово — она так гнала машину, что ветер грохотал по крыше. — А гараж вы нарочно оставили открытым? — спросил я. — А наплевать. Ты смотри, чтобы твой властер не шарахнул из-под сиденья. — Нет, Сур его хорошо запаковал. Маленькую штуку тоже в стальную коробочку. — Чтобы не разговаривал? Догадлив твой Сур... Как его звать по-настоящему? Я сказал. — Армяне — хорошая публика... Но подумай — никого не обгоняем, уже восемь километров проехали! Я возразил, что обгоняли многих. Анна Егоровна объяснила, что эти все грузовики идут по окрестным деревням, а в райцентр или на железную дорогу никто не едет. Откуда она знает? Водительский глаз. Она тридцать лет ездит, с войны. Так мы разговаривали, и вдруг она сказала: — Ложись и закрой глаза. Дыши ртом, глаза не открывай. Приехали, кажется... — Глаза для чего? — Для больного вида. Ладно, полузакрой и смотри между ресниц. «Уй-ди, ох, уй-ди...» — выговаривал гудок. Мы ехали, не сбавляя скорости. Потом провизжали тормоза, и Анна Егоровна крикнула: — Попутных не беру — инфекционный больной! Ответил мужской голос: — Проезд закрыт. На дороге авария. — Я объеду. Ребенок в тяжелом состоянии. — Проезд закрыт, возвращайтесь. До семнадцати часов, Вмешался второй мужской голос: — Извините, доктор, — служба. Мы бы с милым сердцем пропустили, так начальство нас не помилует... Первый голос: — Что разговаривать, возвращайтесь. В Щекине хорошая больница. Проговорите, мальчишка пока и помрет. Анна Егоровна: — Покажите ваше удостоверение, сержант. Я должна знать, на кого жаловаться в область. Второй голос: — Пожалуйста, пожалуйста. Мы бы с милым сердцем! Новый мужской голос: — Доктор, не подхватите до города? Они меня задержали, и мое моточудо испортилось от злости. — Не могу, голубчик... — флегматично проговорил бас Анны Егоровны. — У меня больной. Жиклер продуйте... Сержант, гарантирую вам взыскание. Кто-то отошел от нашего «Москвича» — стало светлее. Тогда третий голос зашептал: — Доктор, я знаю объезд через Березовое... В район требуется, хоть вешайся... Возьмите, я иммунный! — А машину бросите? — Жениться еду, не до машины. Отбуксируют эти же, я им трояк дам! — торопился голос. — В детстве чем болели? — спросила Анна Егоровна. (Я чуть не прыснул.) — Свинкой, ветрянкой, этой... коклюшем... — Договаривайтесь о машине, только быстро! — И после паузы: — Алеша, ты лежи. Если я чихну, начинай стонать... Давайте, давайте! Облака в окошке развернулись, солнце с моих ног перебралось на голову — мы ехали обратно. — Что с мальчиком? — спросил новый попутчик. — Свинка, — отрезала докторша. — Ай-яй-яй... Очень плох? Она промолчала. Потом спросила: — Поворачивать на Березовое, говорите? Там бревно, шлагбаум. — Объедем, ничего. Отличный грунт. Я на рыбалку там проезжал две тысячи раз. Или чуть поменьше. — Резвитесь, жених? — Мое дело жениховское, доктор. Почти молодожен. — Значит, объезд через Березовое тоже запрещен? И там авария? — Это почему? — спросил попутчик. — Не знаю. Вы-то не сказали при милиции об этом варианте. В город просились... Молчание. Я осторожно приоткрыл глаз и увидел, что попутчик внимательно смотрит на докторшу. У него был вздернутый нос и рыжие ресницы. — Вот и бревно, — сказала она. — А вы для жениха не староваты, юноша? Тогда он выпалил; — Ох, доктор! В нашем городе творится неладное. Машина остановилась. Нас обогнал грузовик. Анна Егоровна тоже повернулась на сиденье и прищурилась на попутчика. — У вас ангина, — сказала она. — Господи, где моя зажигалка? — Доктор! — застонал попутчик. — Какая ангина? — Покажите горло... ну? (Он испуганно открыл рот.) Хорошо. Алеша, ты можешь сесть. Мы едем на Березовое. Что вы заметили неладного в городе?.. Осторожно, ухаб... И как ваше имя-отчество? Понимаете, дядька тоже ехал в райком, чтобы поднять тревогу. Он знал совсем чепуху: что телефон междугородный не работает, автобусы отменены до семнадцати часов и что заводу тракторного оборудования запретили отправлять продукцию на железную дорогу — ближняя станция тоже в райцентре. Он говорил, путаясь от волнения: — Я мальчуганом оставался в оккупации, под фрицами. Вы небось военврач. Майор медицинской службы? Ну, вы страха не знали... — Как сказать... — Извиняюсь, конечно, — поспешно сказал попутчик. Вы того страха не знаете. Словно бы воздух провонял — отовсюду страшно. От приказов страшно, от всего... И сейчас завоняло на дороге. Кто же тут виноват? — Он испуганно смотрел на Анну Егоровну. — Авария — это действительно. Сорвало мост, конечно, столбы повалило... — Он вертелся на сиденье, глядя то на меня, то на докторшу. — И телефон порван. Доктор! — вскрикнул он. — Я вам точно говорю. Точно! Фактов нет, только воняет. Туда нельзя, сюда... — Что же вы поехали, без фактов? — С испугу, — жалким голосом признался дядька. — Польза будет, и ноги унесу. Страшно. Меня в гестапо били. — Вот как, — сказала докторша. — Однако же чутье вас не обмануло. Подчас и с испугу действуют правильно. — Не обмануло? И факты есть? — вскинулся он. — То-то я смотрю — мальчик и не болен вовсе. — А вы не смотрите, — сказала докторша. Я не помню, как звали попутчика — то ли Николаем Ивановичем, то ли Иваном Николаевичем. Мы расстались очень скоро. Дело в том, что березовский деревянный мост сгорел незадолго перед нашим приездом — сваи еще дымились и шипели уголья, падая в воду. — Чистая работа, — сказала Анна Егоровна. — Парома здесь не держат? Мальчишки завопили, набегая на машину: — Тетенька, за старицей брод! Хороший, грузовики перебираются! Один, маленький, прошепелявил: — Овшы тоже перебираются... Другой малыш развесил губы сковородником, заревел и припустил наутек — испугался белого халата. Попутчик сказал: — Правильно, хороший брод. В малую воду тормоза будут сухие. — Едем. — Она тронула машину. Я тоже знал эти места — чуть выше по реке водились крупные раки. До города отсюда рукой подать, не больше пяти километров, и с высокого старого берега можно было рассмотреть телескоп. Я с самого начала не хотел уезжать, и теперь, когда мы начали крутиться, не удаляясь от города, мне стало паршиво. Пускай теперь рыжий трус изображает больного! И я страшно обрадовался, когда Анна Егоровна спросила: — Отправить тебя домой, Алексей? Она курила и хмуро посматривала на темный склон старого берега. Лучшего места для засады нельзя придумать: мы внизу, освещены солнцем — бей, как куропаток... — Я постою тут, пока вы переезжаете, — сказал я. — Не заблужусь, отсюда телескоп виден. — Виден, да по дороге все надежнее, — сказала она. — Возьми сверток с бутербродами, коробочку давай сюда. Я отдал коробочку со «слизняком», взял ненужные бутерброды, открыл дверцу и зацепился ногой за бластер. «Зачем мне эти бутерброды?» — подумал я и покосился на Анну Егоровну. Она что-то регулировала на приборном щитке. Я зацепил футляр пальцем, выкинул в траву, вылез и захлопнул дверцу. Попутчик в подвернутых брюках уже шлепал по воде — он пойдет впереди машины. — Счастливо, мой мальчик... Серый «Москвич» осторожно пополз в воду, заблестели мокрые колеса, а я стоял на берегу и смотрел, пока машина, забирая влево, не перевалила через гребень высокого берега. Мелькнул белый рукав, хлопнула дверца, и остался только запах бензина. Тогда я поднял футляр с бластером и напрямик, через холмы, побежал в город.ЧЕРНАЯ «ВОЛГА»
Отличный, солнечный был день. Тихий, по-весеннему жаркий. Над березовыми перелесками кричали кукушки, в овраге пели десятки зябликов. Перелески светились насквозь; между березовыми стволами зеленя сверкали, как спинка зимородка. А я мчался, как мотоцикл, волоча бластер и пакет с бутербродами. Холм с телескопом служил мне ориентиром, я держал его справа, почти под прямым углом к своему направлению. Понимаете, я мог выбрать дорогу немного короче, прямо к восточной части Щекина, через совхозную усадьбу. Идти через усадьбу не хотелось, и я знал почему. В совхозном клубе, что в центре усадьбы, вчера выступал Федя-гитарист. На бегу я пытался понять, что такое трусость. Рыжий попутчик — несомненный трус. У них всегда чутье на опасность, как у Кольки Берсенева из нашего класса. Едва запахнет дракой, он исчезает. Он как барометр. Если он исчез из компании, то наверняка жди неприятностей — подеремся, либо из кино выведут, либо затеем на овраге слалом и переломаем лыжи... Ладно. Трусы есть трусы. Этот, по крайней мере, побежал в верном направлении. Я не задумывался, правильно ли было — воровать бластер у Анны Егоровны. Гордясь своей храбростью, я топал по тропинкам, надеясь сегодня же пустить бластер в дело, — и неожиданно выскочил на шоссе рядом с памятным местом. Метрах в тридцати справа темнел въезд на ту самую проселочную дорогу, ведущую к поляне «посредника». Я чувствовал — пора отдохнуть, но побежал дальше, инстинктивно держась боковой грунтовой тропки. Так же инстинктивно я остановился за кустарником, когда услышал шум встречной машины. Ф-р-р-р! — черная «Волга» промчалась мимо. И как будто в ней я увидел Сура на заднем сиденье. Сначала я решил, что обознался. Сурену Давидовичу чистая гибель в такую погоду вылезать из подвала. Он и домой ходит только по ночам, чтобы принять ванну. Из-за проклятой астмы он и в тире стал работать — в сыром подвале ему хорошо дышится. «Их болезнь — наше здоровье», — говорит он о подвале... Нет, в черной «Волге» Сура быть не могло... Стоп! Киселев, туда собирался Киселев! В подвале железная дверь, и на окнах решетки, но ведь Сур сам откроет дверь, не побоится! И я помчался за машиной, вылетел на холм. Так и есть... Пустое шоссе сверкало под солнцем — «Волга» свернула в лесопарк. Они приходили к Суру и увезли его на поляну «посредника» — машине другого пути не было. Или по шоссе прямо, или на ту дорогу, в лесопарк. И я перепрыгнул через канаву и побежал в сторону поляны. Лишь теперь я догадался бросить докторские бутерброды.НАХОДКА И ПРОПАЖА
Лес был тих. Даже синицы молчали. Душный воздух пахнул пылью, которая уже успела лечь на землю после машины. Следы новеньких покрышек на мягкой дороге вились узорчатыми змеями. Метрах в ста пятидесяти от шоссе свернули влево. Я удивился: поляна «посредника» была справа. Но машина виляла между деревьями, держась уверенно одного направления. Иногда буксовала, продирая траву до земли... Хлоп! Из-под ног метнулся заяц! Это было здорово. Это было бы здорово, если бы заяц удирал от меня, как полагается. А он, прежде чем скрыться за кустом, остановился и несколько секунд сидел спиною ко мне и крутил левым глазом вниз-вверх — рассматривал меня, понимаете? И тогда я увидел, что «Волга» шла по колее другой машины. Той же ширины, но колеса другого рисунка... Я даже попятился и шепотом спросил у зайца: «А твое какое дело?» Получалось, что он показал мне вторые следы: длинные отпечатки его задних лап — елочкой — тянулись аккуратно по следам неизвестной машины. Это было довольно далеко от дороги. Я стоял и смотрел на следы, когда зафыркал мотор. Я отошел, спрятался за елкой. Черная машина проплыла назад между деревьями. Водитель сидел один и смотрел на дорогу, вытянув шею. Оказывается, машина стояла совсем близко: вот два полукруга следов, где они разворачивались и поехали обратно. А кругом натоптано каблуками — много и разными. Но людей не видно. Ни шагов, ни голосов — тихо. И птицы молчали, будто они рыбы, а не птицы. Я поискал глазами: хоть заяц-то здесь? Он был здесь. Сидел перед можжевеловым кустом, приподняв толстую морду над кучкой хвороста. Когда я топнул на него ботинком, заяц переложил уши и лениво отпрыгнул за куст. Я заставил себя не обращать на него внимания и принялся отыскивать следы Сурена Давидовича. Прямо передо мной была прошлогодняя тропа к оврагу, еще не просохшая под густым орешником. Издали казалось, что после снега по ней не ходили. Я сунулся туда — на обочине следы... В десятке шагов дальше, уже посреди тропы, след левого ботинка Сура. Тупоносый, с рифленой плоской подметкой, так называемая «танкетка». Веркина мать ему покупала. Я почему-то взвесил на руке бластер и двинулся к оврагу. Теперь послушайте. Я шел по этой тропинке в сотый раз за последние два года и отлично знал, что она выводит к глубокому бочагу в ручье, что на дне оврага. Я ногами — не головой — знал, что от места, где развернулась «Волга», и до оврага метров пятьдесят. Первый поворот, налево, у сухой сосны, а спустя еще двадцать метров, где кончается орешник, второй поворот и сразу спуск в овраг. Так вот, я прошел первый поворот, не теряя следов Сура, но после второго поворота тропа исчезла. Вместе со следами она словно растворилась в земле, а впереди, взамен оврага, оказался ровный, густой осинник. Сначала я подумал, что проскочил второй поворот. Вернулся к сухой сосне... Опять то же самое! Миновав орешник, тропа исчезла вместе со следами. Ну ладно, Тропу весной могло смыть. Я двинулся напрямик через осинник и вышел к оврагу, но не к бочагу, а много левее. Странное дело... Я пошел вправо, держась над оврагом, и потерял его. Я даже взвыл — запутался, как последний городской пижон! А плутать-то негде, овраг все время был справа от меня. Естественно, я взял еще направо, чтобы вернуться к обрыву, и очутился знаете где? На том же месте, откуда начинал, — у поворота тропы. Совсем разозлившись, я продрался через кусты вниз по склону и пошел вдоль ручья, еле выдирая ноги из грязи. И через двадцать метров уперся в откос. Овраг, который должен был тянуться еще на километр, внезапно кончился. Чертыхаясь, едва не плача, я выбрался наверх и очутился опять у второго поворота тропы! Поодаль, в кусте боярышника, сидел заяц — столбиком — и делал вид, что мои мучения его абсолютно не интересуют... Я проголодался и устал. Из ботинок текла грязь. Футляр с бластером был весь заляпан. Я никак не мог взять в толк, что происходит, пока мне не пришла в голову одна мысль. Под крышкой футляра была подмотана бумага, а в кармане у меня была Степкина авторучка. Я достал то и другое и нарисовал план местности, как я помнил ее, до всех этих оползней. Вот он, этот план.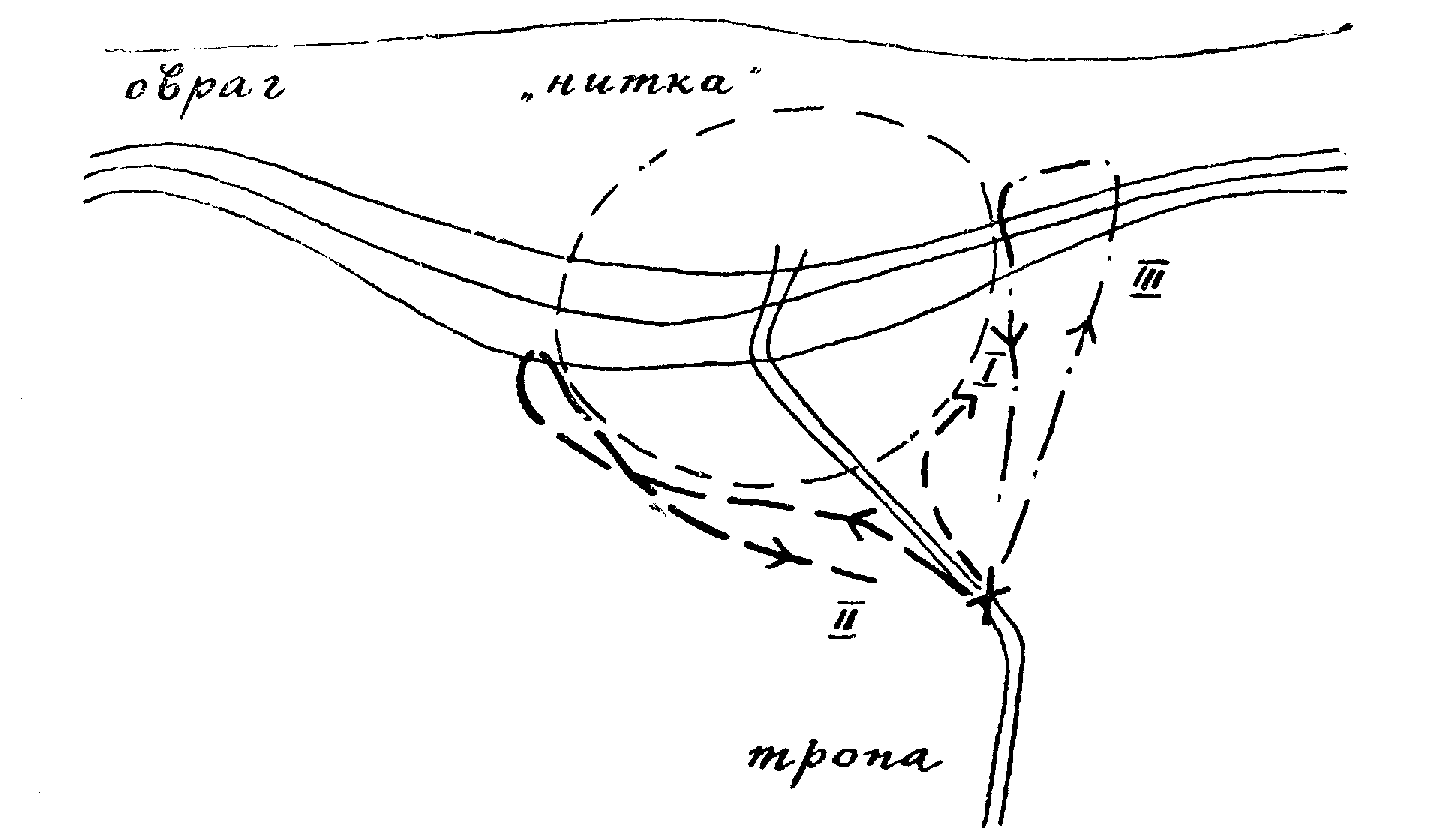
Маршрут I — я пошел от крестика, с тропы, прямо и должен был выйти к бочагу, а оказался видите где? Далеко справа. Маршрут II — от того же места я взял левей и оказался слева от бочага, на том же расстоянии. Маршрут III — я шел низом, по ручью, натолкнулся на откос и вылез к крестику, хотя воображал, что лезу прямо, никуда не сворачивая. Понимаете? Большого куска оврага вместе с песчаным бочагом, зарослями малинника, чертовыми пальцами на дне ручья, таволгой, птичьими гнездами, отличным лыжным спуском не существовало. Часть оврага сгинула, и ничего не оставалось взамен. Как бы вам объяснить? Если вы возьмете простыню и в середине ножницами вырежете дырку, то куска материи не будет. Но останется дырка. Если бы овраг рухнул в одном месте, то оставалось бы что-то вроде дыры. А тут получалось, будто вокруг вырезанного места продернули нитку и затянули ее, так что совсем ничего не оставалось — ни вырезанной материи, ни дырки. Ошалеть можно! Мне казалось, что надо попробовать еще раз, и еще, и еще. Я весь изодрался о кусты и лез к несуществующему бочагу, как черепаха на стену ящика, в который ее посадили. А толстый заяц мелькал то здесь, то там и нагло усаживался поодаль, когда у меня опускались руки. Потом он показал мне конфету или принес — я так и не знаю до сих пор. Он перепрыгнул дорогу, вскинул мордой — одно ухо торчком — и исчез, а в метре от конца тропы, под листом подорожника, блеснула на солнце конфетная бумажка. Та самая конфета, с розовым котом в сапогах-недомерках. Я поднял кота. В нем было что-то завернуто — не конфета, Другой формы... «Слизняк»! Говорящая зеленая штуковина! Разворачивая ее и рассматривая, я машинально брел вперед. И, подняв глаза, увидел, что стою на пропавшем кусте тропы, за вторым поворотом. Подо мною был спуск, истыканный каблуками, слева светился ободранный ствол сухого дерева, за которое все хватаются при подъеме, а внизу, на песке бочага, виднелась свежая тропинка... Стоп, где же футляр с бластером? Я положил его на землю, когда поднимал «слизняк». Оглянувшись, я увидел, что сзади нет орешника, из которого я выбрался сию секунду. Что тропа выходит из багульника, и он тянется кругом, и за оврагом тоже. Что в двух шагах позади нет тропы, нет следов и, конечно, нет чехла с бластером. Я попал внутрь «дыры». Ее края сомкнулись, будто невидимая рука аккуратно и неслышно затянула нитку за моей спиной.
ЗОНА КОРАБЛЯ
Конечно, я мог попытаться удрать. И, честно говоря, мне хотелось удрать больше всего на свете. И еще — поесть, ведь бутерброды Анны Егоровны я бросил около шоссе. Почему же я остался? Потому что вход был закрыт. Я не желал бегать внутри «дыры» кругами, как оса, закрытая в банке от варенья. О том, что говорящая штука служит пропуском и на вход и на выход, я просто не подумал, и вообще — не мог же я бросить Сурена Давидовича! Вот следы его ботинок. Он молодецки сбежал с обрыва. Спрыгнул на песок. Я, как сонный, брел, оскальзываясь каблуками. Выйдя на середину сухого русла, увидел за молодой листвой зеленый купол, похожий по цвету на бластер. Следы вели к нему. На мокром, темно-рыжем песке их можно было читать, как на бумаге. Частые следы «танкеток» Сурена Давидовича, и рядом размашистый след узких, гладких подошв. Потом еще какие-то следы, очень большие и тупоносые. Я опустился на палый ствол ивы. По моему колену суетливо пробежал рыжий паучок. Свои глаза он нес отдельно, в целом миллиметре впереди головы. Почему-то рядом со мной по откосу ходил круглый солнечный блик — передвигался в листья орешника над головой и опять возвращался к ногам. Я посмотрел вверх. Там не было солнца — странный зеленый туман с желтыми разводами. Помню, я похлопал глазами, покрутил в пальцах «слизняк», лизнул его и сунул в рот. Я не знал, какое там твердое или мягкое нёбо, и прилепил штуку над серединой языка. Она прилипла и заговорила в тот момент, когда я понял, что круглый луч ищет меня, скрытого за откосом. Я не удивился. Чему уж тут удивляться... Внутри головы звучал тонкий голос, знакомо растягивающий окончания слов: «Ты включен, назови свое имя». Я потрогал штуковину языком — она смолкла. Отпустил — снова: «Ты включен». Штуковина пищала голосом Неллы из универмага — выкрутасным и глупо-кокетливым. Я пробормотал: — Эй, Нелка, это ты? (Знакомая все-таки.) Голос в третий раз спросил о моем имени. По правилам их игры полагалось назвать имя. Ладно. Я наугад сказал: «Треугольник одиннадцать». Голос отвяжется, и я встану. Я все равно поднимусь и отыщу Сура. — Треугольник одиннадцатый, — кокетливо повторил голос и умолк. Когда он говорил, во рту становилось щекотно. Я встал и шагнул. Луч сразу нашел меня и закачался на моей груди, как медаль. Подняв глаза, я увидел странное сооружение, которое поблескивало верхушкой, держа меня в луче. Оно стояло на дне оврага. Башня, похожая на огромную пробку от графина. Зеленого, тусклого, непрозрачного стекла. В высоту она была метров пять, с широкой плоской подошвой. Шар наверху — аспидно-черный, граненый, как наконечник бластера. Я обошел его, держась как можно дальше, и вдруг грани забрызгали ослепительными «зайчиками» по ветвям и траве, по моему лицу. Я ослеп, споткнулся, упал на руки. Свет был страшной силы, почти обжигающий, но в моих глазах, под багровыми пятнами, осталось ощущение, будто перед вспышкой я увидел у подножия башни человеческую фигуру, полузакрытую ветвями. Не открывая глаз, я пополз через кусты. Если туда пошел Сур, я пойду тоже. Пойду. Пойду... — Девятиугольник к зоне корабля, — заговорил Нелкин голос. — Позвольте глянуть на детеныша. Везде кругом спокойствие. Несколько секунд молчания: Нелка выслушивала ответ. Снова ее голос: «Девятиугольник идет в зону». Представляете, я еще удивился, что пришельцы возят с собой детенышей. И позволяют нашим — загипнотизированным, конечно, — смотреть на своих детенышей. Приподнявшись, я осторожно открыл глаза — шар не блестел. Листья рядом с ним были желтые и скрученные. И детеныша я не увидел, но человек, сидящий на плоской опоре корабля, поднял руку и крикнул: — Алеша, перестань прятаться, иди сюда! Я тебя жду. Я пошел, как во сне, цепляя носками сандалий по песку, глядя, как Сурен Давидович сидит на этой штуковине в своей обычной, спокойной позе, и куртка на нем застегнута, как всегда, до горла, на лбу синие точки — следы пороха, а пальцы желтые от астматола. Я подошел вплотную. Толстый заяц подскакал и сел рядом с Суреном Давидовичем.ЧАСТЬ II
ПОЛДЕНЬ
Когда Сурен Давидович прогнал нас из подвала, Степка забрался на старую голубятню. Он был в ужасном отчаянии: Сурен Давидович остался в тире один — больной, задыхающийся, обожженный. Как он отобьется от Киселева с его бандитами? А Степка мог отстреливаться не хуже взрослого, он из пистолета выбивал на второй разряд. И его выставили! Степан сидел в пыльном ящике голубятни и кусал локти. Во дворе, на песчаной куче, играла мелкота. Потом прибежал Верка — только его здесь не хватало. Он удрал от бабушки, из-за стола. Рот весь в яичнице. Степке пришлось посвистеть, и Верка, очень довольный, тоже влез на голубятню. Приближался полдень; ленивый ветер гнал пыль на окна подвала. Там Сур ждал врагов, и под третьим окном от угла лежал на узкой койке Павел Остапович. Глядя на эти мутные, покрытые тусклым слоем пыли радужные от старости стекла, Степан понял: наступает его главный полдень, о котором говорилось в любимых стихах Сура: «Неправда, будто бы он прожит — наш главный полдень на земле!..» — Ты на кота похож, — вдруг фыркнул Верка, — Молчи, несмышленыш! — сказал Степан. — А дядю Павла уже закопали? Степка дал ему по загривку. И тогда в подворотне простучали шаги. Весь в черном, подтянутый, спокойный, Киселев спустился к дверям подвала — ждал, пока откроют. Он даже не оглядывался — стоял и смотрел на дверь. Потом немного наклонился и заговорил в щель у косяка. «Бу-бу-бу...» — донеслось до голубятни. Поговорив, он вынул из кармана плоскую зеленую коробку и приложил к замочной скважине. К ручке двери гитарист не прикасался, ее повернули изнутри; он толкнул дверь коленкой и исчез в темноте коридора. Стрельбы, шума — ничего такого не было. Вошел, как к себе домой. Верка захныкал: «Я тоже хочу к дяде Сурену!..» Степка пригрозил, что отведет его домой, к бабке. Это было в двенадцать часов. Тетка с балкона третьего этажа кричала на весь двор: «Леня, Ле-еня, ступай полдничать!» По ней можно часы проверять. Степка раздраженно обернулся на крик. Он знал, что Сурен Давидович не даст гитаристу выстрелить. Даже кашель не помешает Суру выстрелить первым, его знать надо... Но Сур пока не стрелял. А Киселев... Бластер бьет бесшумно. В прямом солнечном свете, да еще сквозь стекла, вспышки не увидишь... Дьявольщина! Что же там происходит? «Сур не мог опоздать с выстрелом, — думал Степка. — Он держит Киселева под прицелом, и я как раз нужен — связать или что. А дверь в подвал не заперта. Этот гад не догадался захлопнуть замок». — А ну вниз, Валерик! Они слезли. Верке было велено посидеть с малышами — он захныкал. Степка пригрозил ему кулаком и пошел вниз по ступенькам. Он проскользнул в прохладный, полутемный коридор и сразу услышал из-за перегородки громкий голос Киселева: — ...Во-пи-ющая! Отдал ключи и оружие мальчишке — невероятная глупость! Сурен Давидович спокойно отвечал: — Угол третий, не увлекайся. Ключи и оружие отдал Габриэлян, а не я. Дьявольщина! Почему Сур оправдывается перед этим типом? Вмешался незнакомый слабый голос: — Братья, так ли необходимы эти трещотки? В милиции целый арсенал. И своего оружия хватает... как ты его называешь? — Бластеры, — сказал Сур. — Мальчики так называют. — «Мальчики»! — рявкнул Киселев. — Немедленно, немедленно изолировать этих мальчиков! Пятиугольник, ты связался с постом? Пятиугольник! Значит, Рубченко уже разговаривать начал! — Дорожный пост не отзывается, — доложил слабый голос. — Контроль показывает помехи от автомобильных двигателей. Разъездились... — Докторша гоняет лихо, — пробормотал Киселев. — Дадим расчетчику запрос на блюдце. Ты еще не видишь, Пятиугольник? — Пока еще слепой. — Ну подождем. Дай запрос на блюдце, — сказал Киселев. — Квадрат сто три! Сейчас же отыщи мальчишку с ключами. Голос Сурена Давидовича ответил; — Есть привести мальчишку... Скрипнул отодвигаемый табурет. — Так или иначе, его необходимо... — заговорил Киселев, но Степка больше не слушал. Вылетел наружу, подхватил Верку и протащил его мимо дома, через улицу, за пустой киоск «Союзпечати». Между прочим, нас в городе поймать — безнадежное дело. Мы не зря в казаки-разбойники играем. Степку и Валерика из-за будки сам Шерлок Холмс не увидел бы, а они сквозь стекло могли смотреть во все стороны. — Валерик, срочный приказ! — выпалил Степка. — Беги к Малгосе, выпроси ее платье в горошек, синее, скажи — мне нужно. Приказ! И ни слова никому! Верка у нас бессловесный. Он только вытаращился. Степка сказал, чтобы платье завернули получше, завязали веревочкой. Если Малгоси нет дома, пусть Валерик подождет во дворе. Притащить платье на голубятню. И никому, ни под каким видом не говорить, что в свертке и где Степан. Даже дяде Суру. Верка пропищал «есть!» и убежал. А Сурен Давидович вышел из подвала и скрылся в глубине двора. Постоял чуть-чуть, поправил куртку и ушел. Вот дьявольщина, он должен бояться Сура! Проклятые гады! Они добрались до Сура, понимаете? У них связь, они перехватят Алеху с доктором, и тогда будет что-то по-настоящему ужасное. Что будет тогда, Степка не знал. Пока что он следил за Суром. Этого нельзя объяснить. Вы не знаете, как мы все любили Сура. Теперь Степка за ним следил, а наш Сурен Давидович дружелюбно разговаривал с врагами и сам стал одним из них под кличкой «Квадрат сто три». — Ну, держись... — пробормотал Степан. Перемахнул через улицу. На бегу бросил связку ключей сквозь решетку в колодец перед заложенным окном подвала. Прежде чем обогнуть угол дома, он выглянул из-за трубы и увидел спину Сурена Давидовича. А, идешь к голубятне. Знаешь, где искать... Вот он скрылся за нижней, дощатой частью голубятни и позвал оттуда: «Сте-пик!» Боком, не сводя глаз с зеленых досок, Степан проскользнул в приоткрытую дверь подвала. При этом со злорадством подумал: «Велел наблюдать — пожалуйста...» В коридоре стояла огромная, коричневого дерева вешалка. На ней круглый год висел рыбацкий тулуп Сурена Давидовича, тоже огромный, до пят. «Получай свой главный полдень», — подумал Степан, забираясь под тулуп. В кладовой молчали. Сколько времени Верка будет бегать за платьем? Если Малгося пришла из школы и если сразу даст платье — минут двадцать. Пока прошло минут пять. Сур, наверно, обходит подъезды. Только бы Верка не нарвался на него. Малыш все выложит дяде Сурену — и пропала затея с Малгосиным платьем. Малгося Будзинская — девочка из нашего класса. Она полька, ее зовут по-настоящему Малгожата. Штуку с переодеванием они со Степаном уже проделали однажды, под Новый год, — поменялись одеждой, и никто их не узнавал на маскараде. Степка здорово волновался, сидя под тулупом. Решил посчитать, сколько раз за сегодня пришлось прятаться. Раз десять или одиннадцать — сплошные пряталки. За вешалкой скреблась рыжая крыса. — Блюдце не посылают, — проговорил за стеной Рубченко — Пятиугольник. — Рискованно. Над нами проходит спутник-фотограф. — Будьте счастливы, перестраховщики, — сердито отозвался Киселев. Рубченко засмеялся: «Э-хе-хе». Степка слышал, как он повернулся на кровати и как заскрипел табурет-развалюха под Киселевым. — А ты не гогочи, — тихо проговорил Киселев. — Забываешься... — Виноват, — сказал Рубченко. — Виноват. Капитану Рубченко не повезло, а монтеру Киселеву пофартило. — Ты о чем это? — Да я так... — О чем, спрашиваю?! — Один стал Углом, а другой — Пятиугольником, — пробормотал Рубченко. — Потому и сидишь в низшем разряде, — наставительно сказал Киселев, — что путаешь себя, десантника, с телом. Это надо изживать, Пятиугольник, Ты не отключился от Расчетчика? — Молчит. Киселев выругался. Рубченко заговорил приниженно: — Я, конечно, Пятиугольник... всего лишь... — Ну-ну? — Телу моему, капитану милиции, полагался бы десантник разрядом повыше... — Видимо, так. У него должны быть ценные знания. Говори. Рубченко откашлялся. Было слышно, что он осторожно кашляет — наверно, рана еще болела. — Так я что говорю... Старуха и мальчишка могут проскочить в район. Так? Неприятный факт, я согласен. Но треба еще посмотреть, опасный ли этот факт. Пока районное начальство раскумекает, пока с командованием округа свяжется, а генерал запросит Москву — о-го-го! Минимально шесть часов, пока двинут подразделения. Ми-нимально! Так еще не двинут, еще не поверят, уполномоченного пошлют удостовериться, а мы его... — Мы-то его используем, — рассеянно сказал Киселев. — Во! А он в округ и отрапортует: сумасшедшая старуха, провокационные слухи и те де. — Здесь тебе виднее. Ты же милицейский, «мусор»... — Правильно, правильно! — льстиво подхватил Рубченко. — А за «мусора» получите пятнадцать суточек, молодой человек! Степка засунул кулак в рот и укусил. Потом еще раз. Он уже понимал, что Павел Остапович не всегда был таким, что его только нынешним утром превратили в «Пятиугольника», и сначала Степка почувствовал облегчение, потому что самое страшное было думать: наш дядя Павел всю жизнь притворялся. И Сурен Давидович. И даже Федя-гитарист, до которого раньше Степке не было дела. Но только сначала. Теперь Степка кусал кулак, пока кровь не брызнула на губы, и всем телом чувствовал, какой он маленький, слабый, и сидит, как крыса, в шкафу, провонявшем овчиной. Но когда заговорил Киселев, Степка выплюнул кровь и подобрался. — Пятиугольник — Пятиугольник и есть... Округ, подразделения... В этом ли дело! Информация всегда просачивается, друг милый. На то она и информация... — Киселев, похоже, думал вслух, а не говорил с капитаном. — Загвоздочка-то в ином, в ином... Расчетчик не помнит ни одной планеты, сохранившей ядерное оружие. Мерзкое оружие. Стоит лишь дикарям его выдумать, как они пускают его в ход и уничтожают весь материал. Кошмарное дело. — Ты видел это? — Да. Много десантов назад. Пустая была планета. — Сколько материала гибнет, — сказал Рубченко и вдруг прохрипел: — Х-хосподи! Так здесь ядерного оружия навалом! Как они выжили, Угол третий? — Не успели передраться, — равнодушно сказал Киселев. — Сейчас это неважно. Ты радиус действия водородной бомбы знаешь? — Откуда мне знать? Говорили, правда... на лекции... — Ну-ну? — Забыл. Склероз одолевает, — Отвратительная планета, — сказал Киселев. — Никто ничего толком не знает. Бомбы, ракеты, дети... Мерзость. А ты говоришь — уполномоченный. Он больше нужен нам, чем им; хоть радиус действия узнаем. — Не посмеют они бросить, ведь на своих! — Могут и посметь. Они замолчали. Стукнула дверь, быстро прошел Сурен Давидович. Степка, как ни был потрясен, удивился: Сур совершенно тихо дышал, без хрипа и свиста. Где же его астма? — Мальчишка сквозь землю провалился, — сказал Сур — Квадрат сто три. — Объявляю его приметы. — Объявил уже, — прошелестел Рубченко. — Приметы его известные... — Почему он скрывается от тебя? — спросил гитарист. — Умен и подозрителен, как бес. Прирожденный разведчик. Киселев выругался. Степан все-таки покраснел от удовольствия. Отругавшись, Киселев сказал: — Не будем терять время, десантники. Квадрат сто три, корабль не охраняется, а обстановка складывается сложная. Справишься? Там еще Девятиугольник. Предупреждаю: лучеметами не пользоваться! — Есть, — сказал Сур. — Пятиугольник, машину! — Вызываю. — Машин хватает? — спросил голосом Сура Квадрат сто три. Киселев ответил: — Штук тридцать. Пока хватает. — Я вижу, вы времени не теряли в самом деле. Они замолчали. Наверно, Квадрат сто три смотрел в окно — голос Сура проговорил: «Какой сильный ветер. Пыль». — Не теряли... — подтвердил Киселев. — Айн момент! Квадрат, ведь ты был в малом посреднике! — Конечно. Ты меня и выпустил. — Ты же не в курсе насчет детей. Сюрпризец. На этой планете детеныши... (В это время Рубченко густо крякнул, и Степка не расслышал последнего слова.) Квадрат сто три прохрипел: «Что-о-о?», а Угол окрысился: — То, что я говорю! И нечего чтокать! До шестнадцати лет примерно — сейчас в школе уточняют. Степка снова прихватил зубами кулак. Говорят: «детеныши» и что-то скверное «уточняют в школе», и Федя-гитарист кричит на Сура, а тот своим привычным, грустным голосом говорит: — Какая неожиданность! До шестнадцати лет — третья часть всего населения. Третья часть, скажи! А до сигнала наводки еще семь часов, ах как нехорошо... Нужно очень охранять наводчика. Киселев больше не кричал, и, видимо ободренный этим, Рубченко поддержал Сура: — Проклятая работа! Знаешь, сколько десантников на телескопе? Экономим горючее, не берем своего наводчика... — Мол-чать! — рыкнул Киселев. — Вспомни о распылителе, Пятиугольник двести! А ну двигай в город и действуй по расписанию... Найдешь мальчишку — обезвредь его. Ступай! Сотня кораблей ждет на орбите, а каждый Пятиугольник рассуждает... Крыса опять зашевелилась под вешалкой. Скрипнула дверь кладовой — тяжело ступая, прошел Рубченко. Бинтов на его голове не было. Почти тотчас вышли и Сур с Киселевым. Но прежде они поговорили о том, что сигнал будет послан в двадцать часов плюс-минус пять минут, а до тех пор надо держаться, хоть тресни. Проходя по коридору, Сур спросил: — Следовательно, штабная группа сосредоточена при телескопе? — Пока штаб весь в разгоне. Они захлопнули дверь тира снаружи. В коридоре стало совсем темно. Аккуратный заведующий тиром не забыл выключить электричество в кладовой. Степка, чтобы утешиться, пробормотал: «Вы — с носом, а я — с оружием...» Он пробрался в кладовую и уже протянул руку к сейфу... Дьявольщина! Ключи-то валялись на противоположной стороне дома, в колодце перед заложенным окном стрелкового зала! «Какая неожиданность...» — повторил он про себя слова Сура и было побежал за ключами. Но остановился. Они оповестили всех своих через говорящие штуковины. Сколько их, неизвестно. Каждый может схватить за шиворот и вообще... Даже Верка не был надежен — повстречался ему такой тип, и готово. Верка, Верка... Что-то там у них еще с детьми. Проверяют... Степан присел за стол, чтобы подумать. На полу кладовой валялись бинты, вата вперемешку с бетонным шлаком из стены. Почему-то Сур не запер дверь кладовой перед уходом. Ого! Ведь у него все ключи на той связке! И он захлопнул наружную дверь. Значит, возвращаться не собирается. Значит, можно отсидеться здесь, пока все не кончится. Есть хлеб, сахар, коробка яиц. Вода в кране. Ночью выберется, добудет ключи — и он вооружен, как в крепости. Начнут ломиться — будет стрелять сквозь дверь. Есть газовая плитка и вермишель. И книги. Он видел в окошке голубятню — ярко-зеленые столбы, сетку. Представил себе, как он будет сидеть, словно крыса под вешалкой, а Верка будет ждать в голубятне, пока эти не найдут. Малыш сейчас должен явиться. Минут пять Степка просидел, глядя в окно. Солнце обошло дом и светило в пыльные стекла, пришлось влезть на кровать ногами, чтобы убедиться: это Валерик. Он бежал с коричневым маленьким чемоданчиком, ноги в коротких штанишках так и мелькали. Степка пожал плечами, вздохнул и пошел наружу. Совсем очумелый. Его мысли колотились, словно о каменную стену, о «малого посредника», в котором был Сур. Ведь мы думали, что только «еловый пень» гипнотизирует. Внушает, что Сур, например, Квадрат сто три и он должен действовать заодно с пришельцами, а сами пришельцы где-то прячутся. Степка первый раз твердо произнес про себя это слово. Да, пришельцы, и они хотят загипнотизировать всех людей! Не убивать, а покорить гипнозом. Это гнусно. Однако еще не особенно страшно, если у них только один «посредник» гипнотизер. Много народу с ним не обработаешь. Но если у них еще маленькие «посредники», карманные. Тогда каждый из гипнотизированных гуляет с такой штукой в кармане. Тогда им целая армия не страшна. Что же делать? Дьявольщина! О маленьких «посредниках» Алешка не знал, уезжая... Кое-как Степан уговорил Верку пойти домой и там ждать следующего приказа. Оставшись один, натянул платье, спрятал брюки в чемоданчик и слез с голубятни. Ужасно неловко было в платье. Малгося — умница, догадалась прислать и платочек из такой же, как платье, материи в беленький горох. Еще хорошо, что мы недавно прочли про Гека Финна, как он переодевался под девчонку. Степан твердо запомнил: нельзя совать руки в карманы, а когда тебе что-нибудь бросят на колени, надо их не сдвинуть, а раздвинуть, чтобы поймать. Так там написано. Первым долгом он выудил ключи — в юбке лазить было страсть как неудобно. Вернулся в тир, перетащил все винтовки из кладовой в стрелковый зал и запрятал под мешками с песком. Потом взял в чемоданчик два боевых пистолета, две коробки патронов, обоймы. Запер сейф, кладовую, положил ключи тоже в Малгосин чемодан и ушел.КУДА БРОСИТЬСЯ?
План его был не сложен — прорваться в район или в воинскую часть, что стоит недалеко от шоссе. На возню с переодеванием и остальное ушло полчаса. Около двух он был на автобусной станции. Он ведь не знал, что автобусные рейсы отменены. Не знал, что в восьми километрах от города стоит застава и никого не пропускает дальше. Все это ему сказали уже на станции. Там шумели возбужденные, озверелые люди, громко рыдала женщина в черном платье. При Степке вернулся грузовик, набитый людьми, они с криками посыпались наружу: «Вернули! Милиция не пропускает! Мост обвалился!» Кассирша, стоя на ступеньках автостанции, успокаивала народ. Один парень спросил Степана, принимая его за девочку; — Далеко собралась? — В район, дяденька. Парень кивнул. — В гости? Степка не отпирался — в гости. Парень качался с ноги на ногу, руки засунул в карманы и злобно курил, не сводя глаз с кассирши. Он был длинный, с угольным чубом. Рот у него был приметный — изогнутый, как лунный серп, так что получалась улыбка на бледном, злом лице. — Как тебя звать? — Малгося, — ляпнул Степка, не подумав, и стал пятиться, потому что парень опустил глаза и пробормотал: — Гляди, как выросла. Не узнаешь... — Он выплюнул окурок. — Шла бы домой. Он повернулся тощей, широкой спиной и ввинтился в толпу. Через секунду его антрацитовая голова блестела уже далеко в стороне, он сел на скамейку посреди сквера и закурил. Степан стал пробираться к нему, потому что парень был не из тех. Как он это узнал? Очень просто. Они с Малгосей совершенно не похожи. Она смуглая, чернобровая, а Степка — белобрысый и веснушчатый. Человек из тех, знающий Малгосю, обязательно бы заподозрил неладное, ведь Степкины приметы передал Рубченко-«десантник». Но Степан к чубатому не добрался — тот оказался непоседой. Вскочил, опять выплюнул окурок, протиснулся к кассирше и закричал на нее: — Когда переправу наведут, говорите точно! Когда? Саперы вызваны? — Я человек маленький! — верещала кассирша. — Я саперами не командую! — А Березовое? — гаркнул чубатый. — Грязь там, грязь! — надсаживалась кассирша. — Грязь, машины вязнут! — Па-анятно, — сказал парень и снова метнулся в толпу. Степан приподнялся на носках и увидел рядом с его шевелюрой милицейскую фуражку. Парень энергично наседал на милиционера. Их сразу обступила куча народу. Степан влез на скамейку. Дьявольщина! Рубченко успел переодеться в форму. Чубатый говорил с воскресшим капитаном! Рубченко взял парня под правый локоть. Со стороны это выглядело совсем невинно: обходительный офицер милиции объясняет положение дел взволнованному горожанину. Дела, видимо, печальные —тот свободной рукой схватился за сердце... Он еще не опустил руку, а Степки уже не было поблизости, вот как. Теперь дело времени — рано или поздно он вспомнит про ложную Малгосю... «Что же делать? Я не вертолет, я не могу взлететь и очутиться в районном центре!» — с отчаянием думал Степка. Часы на автостанции показывали четверть третьего. До неведомого «сигнала» оставалось меньше шести часов. Если бы Степан каким-то чудом и пробрался в район, то за час до сигнала. Ну, за полтора. Это первое. Второе: Алешка с доктором могли и прорваться. Они на машине, да еще с бластером. И третье: он, Степка Сизов, рванул на автостанцию из трусости, из чистой трусости. Испугался этих, решивших с ним расправиться. — Эй, пошли попрыгаем! — крикнул ему незнакомый цыганистый мальчишка. Они там скакали через веревочку на сквере. Степан забился в щель между палаткой «Овощной базар» и пустыми ящиками. «Попрыгаем! Кое-кто уже прыгает, и даже без веревочки». Когда Степка начинал сомневаться в своей храбрости, ему удержу не было. Теперь он знал, что не уедет из Щекина, даже если за ним пришлют персональный самолет. У него есть оружие. Он проник в их планы. Он надежно замаскирован, и плевать ему, что он один и никому не может довериться! «Плевать! — пробормотал Степка. — Да им на меня покрепче наплевать. Эх, дьявольщина!Сотня кораблей на орбите...» Та-тара-та... — пропел автомобильный гудок. Сиплый голос прокричал: — На Синий Камень везу и к телескопу! Бесплатно! Не успев додумать мучительно важное насчет кораблей на орбите, Степка промчался через сквер, мимо ребят с прыгалками, и влез в грузовик — тот самый, который при нем вернулся на автостанцию. Снова засвистел ветер, замелькали один за другим: молокозавод, второй микрорайон, школа, универмаг, почта, синяя вывеска милиции, дом с тиром. Степан сидел, прижимая к груди чемоданчик. На шоссе закрыл глаза. Он все-таки здорово запутался, и простое решение, которое ходило совсем рядом, ускользало от него, как упавший в воду кусок мыла ускользает от руки. Та-ра-та... — снова пропел гудок, и Степка схватил это решение. Сигнал! Сигнал в двадцать часов — наводчик — корабли на орбите! Сотня кораблей ждет на какой-то орбите, пришельцы там, а эти — не настоящие пришельцы. Они должны подготовить плацдарм и в двадцать часов послать сигнал с «наводчика». Что такое «наводчик»? Они сами сказали, что своего «наводчика» у них нет. Телескоп используют как «наводчика». Ведь наш радиотелескоп не простой, он приемно-передающий, нам рассказывали на экскурсии. Он может принимать радиоизлучение из космоса и может управлять полетом космических кораблей — к Венере, например, или к Марсу. Наводить их на цель. Наводчик, понимаете? По лучу нашего радиотелескопа ложные пришельцы сумеют направить хоть тысячу кораблей, и они будут садиться вокруг нашего городка совершенно спокойно! У нас даже телефона теперь нет, словно в каменном веке! Корабли будут садиться, а кругом ничего не узнают. «Мы десантники, справимся», — говорили они. Значит, загипнотизированные работают, как передовой десант, и в двадцать часов пошлют настоящим пришельцам сигнал: плацдарм захвачен. «Эти прямо дрожали, когда говорили о телескопе», — думал Степан. Угол третий зарычал и напомнил Пятиугольнику двести о каком-то «распылителе». Когда Пятиугольник сказал: «Экономим горючее, не берем своего наводчика», гитарист так и рявкнул... Они и Щекино выбрали из-за телескопа. «Ладно. Я вам покажу телескоп...» Добродушная тетка с цыплятами, орущими в корзине, наклонилась к Степану и спросила: — Девочка, ты тифом болела? — Он промолчал, а она громко заохала: — Да я бы такую мать послала рыбу чистить, а не дитев воспитывать!.. Кто-то засмеялся и спросил, почему рыбу чистить, а тетка кудахтала, что девчушечка стриженая, бледная и бормочет невпопад, а рыбу чистить — не детей воспитывать. Оказывается, Малгосин платочек валялся на полу, и тетка с цыплятами завязала его на Степке «по-модному», под подбородком — едва не задушила. — Вертолет, вертолет! — крикнул кто-то. Правда! С юга, от района, тарахтела зеленая стрекоза, и Степка едва не вывалился из грузовика, который замедлил ход, чтобы водитель и все пассажиры могли полюбоваться. — У-ру-ру! — закричал Степан. — Вертолет, военный! Значит, добрались доктор с Алехой, и будет теперь порядок! Он забыл, что через Березовое они едва-едва спустя полчаса могли прибыть в райцентр, и орал «у-ру-ру!», пока вертолет садился на совхозный выгон, раздувая пучки прошлогодней вики. Только он сел, из ближнего перелеска вывернулся горсоветовский «газик» и подкатил вплотную к вертолету, под медленно вращающийся винт. Было видно, как трепещет брезентовая крыша «газика» — Степкин грузовик проезжал совсем близко от места посадки. Из пузатой кабины выбрались двое — военный и гражданский. Двое местных встречали их в промежутке между машинами. Степка не рассмотрел встречающих — мешал кузов автомобиля. Приезжих он видел хорошо: майор, затянутый «в рюмку», с крупным, красивым лицом, а гражданский — невысокий, в приметной блестящей седине, приметном темно-сером костюме и с начальственной постановкой головы. Все налюбовались встречей, грузовик загудел, и в пятидесятый раз за этот нескончаемый день Степан увидел проклятый жест — двумя руками за сердце разом: два человека, четыре руки... Он забился в свой угол. Два человека, еще два. Вдруг стало безнадежно-отчаянно. Так ловко, так спокойно это проделывалось. Они брали нас без выстрела. Команда вертолета наверняка ничего не заметила: доставили пассажиров, куда было приказано, и — т-р-р! — затарахтели обратно. Те могли и вертолет захватить, но почему-то не пожелали. Помиловали. Из всех зрителей это понимал один лишь мальчишка четырнадцати лет. Он ехал к телескопу, и на коленях у него стоял чемоданчик с двумя пистолетами и сотней патронов к ним. Всё. Больше ничего не было.ПОСЫЛКА
— ...А какое большое удовольствие было выпить рюмашечку и капусткою кочанной закусить, — говорил последний попутчик. Остальные сошли у Синего Камня. Этот был маленький голубоглазый старик, пряменький, с высоким выпуклым лобиком и смешным ртом. Нижняя губа — сковородником, как у Валерки, когда он собирается взвыть белугой. Степка не видел его прежде, потому что старичок был деревенский и прямо из деревни пришел и нанялся охранником на телескоп. По дороге от Синего Камня он с большими подробностями рассказал, какой он раньше, в деревне, был здоровый и как его две войны не пробрали, а сидячая работа пришибла так, что он четыре недели пролежал в районной больнице. Он от хохота наливался кровью, вспоминая, как ему «питание непосресьвенно к койке подвозили, на резиновом ходу». И запретили ему пить и пшеничное вино, и легкое вино, и даже пиво... Так он болтал, тараща озорные глаза, а Степка думал о своем и, казалось бы, совершенно его не слушал. Когда же старичок спросил, зачем «мадемазель» едет к телескопу, Степка вдруг брякнул: — Посылку везу, дедушка. — За делом, следовательно, — отметил старичок. — Для кого посылка? — Для Портнова Вячеслава Борисовича, — снова брякнул Степка. — Зна-атный человек! — восхитился попутчик, но в его подвижном личике промелькнуло что-то ироническое. — Зна-атный... Непьющий! Видимо, ирония и относилась к последней характеристике Вячеслава Борисовича. Дед не мог взять в толк, почему здоровый, молодой и «знатный» человек по своей воле отказывался и от пшеничного вина, и от легкого вина, и даже, как говорили, от пива. — А что в посылке содержится? — Не знаю, — сказал Степка. — Мое дело передать. Он рассчитывал, что дед, как охранник, проведет его к Портнову. Старичок был, несомненно, не из тех, — смеялся весело, тонко, заливисто и очень смешно распахивал большой рот с крепкими черными зубами. Те смеялись грубо, коротко. Как лаяли. — Передашь, передашь, вот сейчас и передашь, — болтал попутчик. — Считай, приехали... Постовой позвонит, Портнов подошлет на проходную Зойку-секретаршу, получишь шоколадку — и лататы... Михалыч! — завопил он прямо из кузова охраннику, стоящему у ворот. — Михалыч, тута мадемазель с посылкой к Портнову! Степка смотрел на носки своих ботинок. Влопался! Ясное дело, он не собирался отдавать чемодан с оружием одному из тех. Он хотел под видом посыльной пробраться к Портнову, а еще лучше — к профессору Быстрову, директору. А теперь что? Говорить, что пошутил, то есть она пошутила и никакой посылки нету? Или требовать, чтобы его самого провели к Портнову? Он сидел в машине, пока водитель его не шуганул. Соскочил. Пистолеты брякнули в чемодане. Дед-попутчик суетливо отряхивался. Охранник от ворот пробасил: — Я-то думал, ты с внучкой приехал. Здоров? — Э-э! Была у собаки хата... — затарахтел старичок. — Завелся, — сказал охранник. — Ступай в дежурку, Прокофьев... Устав тебе прочтут... новый. Ха, ха... Степка, наверно, побелел: он-то знал, какой «устав» прочтут веселому старичку в дежурке. Охранник несколько секунд смотрел на него с мрачным интересом. — Кому привезла? Степка пожал плечами, выгадывая время. — А ну покажи. — Охранник протянул руку за чемоданом. Степка отошел на два шага. Охранник ухмыльнулся и, наклонив голову, стал смотреть на странную девчонку. Степка решительно выдержал его взгляд, но был готов удрать в любую секунду. Догони меня, попробуй... Михалыч пожал плечом, сплюнул и показал на ворота: — Беги вон, налево, в лабораторный корпус, по лестнице на второй этаж и налево до конца. Портнов ждет. Степка пошел. В ворота и налево по бетонной чистой дорожке, по расплывчатым полосам тени, падающим от стальных ферм телескопа. Он шел в проклятой юбке, и нельзя было сунуть руки в карманы, и сзади, от ворот, на него смотрел мрачный Михалыч. И невозможно было догадаться, кого или чего ждет Портнов. Совершенно свободно неведомое нечто, умеющее гипнотизировать людей за долю секунды, владеющее бластерами, зелеными радиостанциями-«слизняками» и прочей дьявольщиной — совершенно свободно, думал Степка, оно могло проследить за каждым его шагом и узнать, что он везет в чемодане, и нарочно приказать пропустить его. Вот корпус. Двух шагов хватало как раз от одной теневой полосы до следующей. Вот корпус и дверь. Входи! Вот корпус. Сколько времени ты мечтал о пистолете в правой руке и пистолете в левой руке, — входи! Ты умеешь стрелять с левой, стрелять быстро и попадать. Охота тебе стрелять, Степан? Не сворачивай на крыльцо, иди прямо, вокруг холма и к забору... Тебе же совсем неохота стрелять... Он вошел. За стеклянной дверью мягкий пластмассовый ковер намертво глушил шаги. По лестнице, как река, стекала мягкая дорожка. Степка поднимался с усилием, будто плыл против течения. Корпус был тих и безлюден, тишина жужжала в ушах. Пустой коридор смотрел на Степана блестящими глазами ламп. Редкие двери были толсто обиты кремовым пластиком. Дощечки висели наклонно на выпуклой обивке; Степке отсвечивало, ростом он был мал. Приподнимался на цыпочки, чтобы прочесть: «Липилиень Р. А.», потом «Кротова З. Б.» и вот «Портнов В. Б.». Если бы знать, чего ждет, сидя за этой дверью тот, который сегодня утром был Вячеславом Борисовичем Портновым, а сейчас неизвестно кто. Степан оглянулся. Показалось, что невидимые пришельцы-гипнотизеры висят над дверями, как воздушные шары, и смотрят невидимыми глазками. И Степка, спасаясь от невидимых глаз, дернул дверь с табличкой и очутился в темном, узком тамбуре между двумя дверьми. Набрав полную грудь воздуха, толкнул вторую дверь и очутился в кабинете, напротив письменного стола.ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ
— Здравствуй, здравствуй! — Портнов улыбался и кивал, выглядывая из-за настольной лампы. — Ты ко мне, девочка? Ослепительное солнце било в стеклянную стену кабинета. Степка прижмурил глаза. — Ты ко мне? — повторил Портнов. — Так тебя послал... Он замолчал и, приподнявшись, посмотрел на чемодан. Степка кивнул: у него перехватило голос. — Ну давай тогда. Странно... Степка быстро присел на стул справа от двери, вздернул чемодан на колени, приоткрыл. Портнов, улыбаясь, поставил ребром на стол плоскую зеленую коробку размером с папиросный коробок. Такую же коробку гитарист приносил к дверям тира. Степка узнал ее, но уже некогда было пугаться. Он придержал крышку чемодана левой рукой, правой нащупал рукоятку «Макарова», выхватил его и предупредил: — Спуск со «шнеллером», стреляю без предупреждения... Руки! Руки инженера безжизненно лежали на столе. Серые, безжизненные губы проговорили: — Пистолет — не игрушка для девочек. Дай сюда. — Ну уж нет... Эту штуковину оставьте в покое, слышите?! Рука отодвинулась от зеленой коробки. Инженер глубоко вздохнул, щеки как будто порозовели. — Играешь в разведчиков, дитя века? Чего ты хочешь, собственно? — Погодите, — сказал Степка. — Я вам сначала скажу вот что. И не забывайте о «шнеллере». (Тот кивнул осторожно.) Я знаю, что вы думаете, будто вас нельзя убить. Вы оживете, да? — Ты сошла с ума, — прошептал инженер. — Ты что-то путаешь. — Ну уж нет. Это вы не понимаете, что на таком расстоянии вам разнесет голову в клочья... Инженер опять кивнул и прищурился. Степка подумал, что зря он выкладывает про оживание. — Предположим, я это понимаю, — проговорил Вячеслав Борисович. — Что дальше? Откуда ты взяла, что меня нельзя убить? — Это вам все равно. Вы должны вывести из строя телескоп. Инженер ухмыльнулся: — Можно почесать затылок? Нельзя... Ну, считай, я почесал. Как же я выведу из строя телескоп, по-твоему? — А мне плевать, как. — Рассуди сама, дитя века. Предположим, я согласился и пошел в аппаратную с дубиной — ломать и крушить. Ведь ты пойдешь со мною со своим «шнеллером», иначе я просто запру тебя снаружи. Так? Степка молчал. — Так. А при входе в аппаратную и еще кое-где стоит вооруженная охрана. Ей покажется немного странным наше поведение. Здесь не принято водить начальство под дулом пистолета. Да еще со «шнеллером». Отдай-ка пистолет и все остальное и убирайся подобру-поздорову... Взрослые нас ни в грош не ставят, думал Степка. Этот даже под гипнозом не поумнел. Не верит, что девчонка сможет в него пальнуть. А в самом деле, как он испортит телескоп? Это же не просто так, не проволочку сунуть в розетку. — А мне плевать, — сказал он вслух. — Вы инженер. Вот и думайте. Я посчитаю до десяти, потом высажу всю обойму вам в голову. Вот и думайте. Раз... Он быстро нагнулся и, не сводя глаз с Портнова, опустил чемоданчик на пол. Выпрямился, встал. Платье сильно резало под мышками, и было жутко видеть перед собой лицо человека, в которого сейчас придется стрелять, — вот что чувствовал Степка. Он отсчитывал: «Четыре... пять... шесть...» — и подходил все ближе, и глядел в неподвижные, странно блестящие глаза инженера. Остановившись перед самым столом, он сосчитал: «Восемь» — и вдруг понял, что умирает. ...Ему казалось, что он только что произнес «восемь». Почему-то он валялся на спине, с закрытыми глазами, с головой, повернутой влево. Он приоткрыл глаза — рядом с головой были ноги в светлых брюках. Вячеслав Борисович стоял над ним, держа в одной руке зеленую коробку, в другой — пистолет. Дьявольщина! Это был тот самый пистолет, из тира! Степка приподнялся. Инженер подмигнул ему, отвел от бедра руку с пистолетом, прицелился ему в переносицу и нажал спуск. Щелкнул боек — осечка. Степка не испугался, когда дуло уставилось в его глаза. Хуже этого ощущения смерти, которое он пережил дважды — в подвале и здесь, — ничего не могло быть. Он лежал и смотрел на инженера. А тот спокойно вынул из пистолета пустую обойму, проговорил: «Казаки-разбойники...» — и опустил пистолет в карман. «Не заряжен!» — понял Степка. Он зарядил один пистолет, а второй — забыл, и ему попал в ладонь именно незаряженный! Дьявольщина! — Ты фашист, гад, — сказал Степан. — Предатель. Предатель. Предатель... — повторял он, чтобы не зареветь. — Прошу без крепких выражений, — лениво проговорил Портнов, обошел стол и снова сел, будто ничего не случилось. — «Фашист, предатель»... Кто к кому заявился со «шнеллером»? Но таковы превратности судьбы. Твой мозг, по малолетству, не может пригодиться десантнику, а жаль... Хороший мозг. Вставай, нечего валяться. Пол грязный... Вот и молодец. Как ты себя чувствуешь? — Что вы со мной сделали? — яростно крикнул Степка. — Надо ли тебе знать, вот вопрос. — Инженер поставил зеленую коробку на прежнее место. — Вот вопрос... С другой стороны, ты, как принято говорить, уже знаешь слишком много, а? (Степан молчал.) Могу сказать, что я с тобой сделал. На тридцать секунд превратил тебя в десантника, обезоружил и вернул в первобытное состояние. Понял? — Он погладил зеленую коробку так же нежно, как гитарист гладил еловый пень в такси. Стенка охнул: — «Малый посредник»! — М-м, «малый посредник», о мое грамотное дитя... Где Степан? — спросил он в упор. — Какой Степан, дяденька? — отвечал Степка. Тогда инженер снял телефонную трубку, зажал ее между плечом и головой и принялся постукивать по рычагу. В свободной руке он держал зеленую коробку «посредника». А Степка вдруг вспотел. Он понял, что Портнов сейчас вызовет кого-то, может, и веселого деда-охранника, и прикажет девчонку увести и пристукнуть. Тут же он понял, что его нельзя было долго держать под гипнозом — «по малолетству», как выразился инженер, — и поэтому тот не успел расспросить его и узнать, что еще лежит в чемодане. О втором, заряженном, пистолете не знает... Портнов сердито дул в трубку, крепко держа в руке «посредник». Чемодан, чуть приоткрытый, лежал в двух шагах от двери и в трех шагах от Степкиных ног. Язычок замка загнулся внутрь и не дал крышке стать на место. Степка покосился, примерил расстояние. Инженер, скосив глаза, набирал номер. Степка прыгнул, отшиб крышку... Блеснула синяя рукоятка, он схватил ее и выстрелил наудачу, одновременно нажав на спуск и предохранитель. Ра-ах! Ра-ах! — громыхнули стекла. Первая пуля вдребезги разбила телефонную трубку, вторая ушла в стену. Инженер уронил трубку и закрыл глаза. «Увело отдачей», — подумал Степка, будто это было самое важное. Подошел и легко вынул «посредник» из большой слабой руки. Ящичек был тяжелый. С одной стороны была крошечная воронка, с другой — две нити: длинная и совсем короткая. — Вот так так, — прошептал Степан и посмотрел, наконец, на Вячеслава Борисовича внимательно. Он как раз открыл глаза. Контузило его не сильно, только исцарапало щеку осколками пластмассы. Открыв глаза, он уставился на ящичек в Степкиных руках и тихо, срывающимся голосом проговорил: — Отдай... Отдай... Взорвется! — Ну уж нет, — сказал Степка, сам себе не веря. Инженер смотрел на него с ужасом, понимаете? Беззвучно шевелил серыми губами. — А теперь вы меня боитесь, — сказал Степан. — Отдай! — Голос был сдавленный, сиплый. Степан поднял «посредник», проверил длину обеих ниток. Руки перед гипнозом лежали на столе. Чтобы включить «посредник», инженер должен был дернуть за длинную нитку. Короткая мала. Зачем здесь две нити? Он сам себе не верил. Он только видел, что тот помирает от ужаса, а выстрелить никогда не поздно. И дернул за короткую нитку. Ящик стал тяжелей. Инженер закрыл глаза. Больше ничего не произошло. Степка попятился, натолкнулся на стул. Сел. Плохо держали ноги. Пистолет гулял в руке. Надо бы запереть дверь, подумал он. Оттуда могли услышать пальбу, хотя дверей две штуки и одна обшита. Только где возьмешь ключ. Портнов зашевелился и забормотал, не поднимая век. — Почему вы храните мою посылку?.. Что? — Он вдруг ясно посмотрел на Степку: — Ты ко мне, девочка? Я заснул. Странно... Степке казалось, что каждый толчок сердца ударяет его о спинку стула. Неужели удалось? Ой, неужели удалось? — Бросьте притворяться, — пробормотал он. — Не поможет. Инженер провел рукой по щеке и посмотрел на окровавленные пальцы. Поднял разбитую трубку, осмотрел, кое-как пристроил на аппарате. И внезапно разглядел пистолет в Степкиной руке, — стал смотреть попеременно то на трубку, то на пистолет. Оглянулся, нашел в стене пулевые отверстия — пожал плечами. Если он притворялся, то артистически. Совершенно естественно ухмыльнулся и спросил: — Не могла бы ты в следующий раз будить меня поделикатней? — Вы не притворяйтесь, — еще раз сказал Степан. Вячеслав Борисович очень внимательно посмотрел на него, нахмурился и попросил: — Послушай, девочка, если тебе что-нибудь надо от меня, положи куда-нибудь свою пушку. Я под пушкой не разговариваю. Степан вдруг догадался, как его проверить. Он поставил «посредник» на стул, а сам, пятясь, отошел к окошку. — Хотите поспорить, что попаду с одного выстрела? Прежний Вячеслав Борисович, без сомнения, перепугался бы отчаянно за драгоценный аппарат. А этот, наоборот, оживился и предложил: — Лупи всю обойму, дитя века! Ставлю эту авторучку, что больше одного раза не попадешь, — и еще выкатил для искренности глаза. Степка как стоял, так и сел. Подействовало, значит... «Посредник» сработал в обратную сторону! А инженер тем временем открыл рот, поковырял в нем пальцем и выудил зеленого «слизняка». Грустно посмотрел на него и пробормотал: — Может быть, я еще сплю, а? Зачем ты сунула мне в рот это? Ты ловкая девчонка, но все равно промахнешься, могу поспорить. То есть он продолжал хитрить, чтобы Степан высадил всю обойму в «посредник» и пистолет стал безопасным. Если он не притворялся, то ничего не помнил с момента, когда его загипнотизировали. Степка боялся верить своему счастью. Неизвестно, сколько он колебался бы еще, но инженер выудил из кармана второй пистолет и так напугался, что стоило посмотреть на это! Он побледнел и отбросил пистолет, а Степке стало смешно, что человек не побоялся оружия в чужих руках и передрейфил, найдя его в своем кармане. Ему стало смешно, почему-то брызнули слезы, и, захлебываясь ими, он забормотал: «Вячеслав Борисович, Вячеслав Борисович!», а инженер сидел за столом и смотрел на него, открыв рот.СТЕПКА ПОЛУЧАЕТ ИНСТРУКЦИЮ
Положение было все равно отчаянное. Вот-вот могли появиться другие загипнотизированные — Степка не сомневался, что все здешние сотрудники из тех. Они могли явиться на шум, либо просто по делу, могли вызвать Портнова по «слизняку». А Вячеслав Борисович ничего не помнил. Для него время остановилось в милицейском сарае, куда его заманили под пустяковым предлогом. Он словно заснул в сарае, а проснулся за своим столом. Он совсем ничего не знал. А тут еще Степан, переодетый девчонкой, пистолеты, исцарапанная щека и голова, гудящая после контузии... — Вячеслав Борисович, я вас разгипнотизировал! — кричал Степка. Вячеслава Борисовича прошиб крупный пот, он почему-то забормотал тонким голосом: — «Для больных, живущих в селении, устроены потильные комнаты с платою за потение на кровати 50 коп.» — Какие комнаты? — спросил Степка. — Потильные, какие же еще? Девочка, ради бога, что сей сон означает? — Я не девочка, — бахнул Степан. — Это не сон, а пришельцы. — А! Конечно, конечно, я и забыл, — задушевно сказал инженер. — Пришельцы, конечно! И надо сообщить о них кому следует? Э, телефон-то того... А я, такая неудача, проспал пришельцев... Какие они из себя? Ты, значит, не девочка? Степка сдернул с головы платок. — Ага... — Глаза у Вячеслава Борисовича опять были ошалелыми. — Ты и правда мальчик... Ну, пойдем рассказывать о пришельцах? Степка подбежал к нему: — Вячеслав Борисович! Я не сумасшедший псих, честное слово! Поймите, вы же не спали, вас пришельцы загипнотизировали в сарае! Помните? А я вас разгипнотизировал этой штукой... Вот, это их аппарат для гипноза, только за нитку не дергайте. На всякий случай он не выпускал из рук «посредник». — В сарае — это точно... — пробормотал Портнов. Видно было, что он пытается вспомнить и не может. Он сказал: — Точно... Повели они меня в сарай, но что было дальше, хотел бы я знать. Откуда тебе известно про сарай? — Да я сидел за стенкой, подсматривал. У них в сарае был поставлен «посредник», которым они гипнотизировали! Сначала вас, потом вашего шофера, а потом вы взяли маленький «посредник» и уехали. Не помните? — Не помню, — сказал инженер. Он блуждал глазами по столу, пытаясь уцепиться за что-нибудь, вспомнить хоть любую чепуху, заполнить хоть мелочью четырехчасовой провал в памяти. Он опять вспотел, словно выкупался, но уже не говорил о «потальных» комнатах. — Они гипнотизируют, — говорил Степка. — Они уже всех, всех — и милицию, и почту, и горсоветских... Они хотят послать сигнал по вашему телескопу своим кораблям на орбиту, в восемь вечера. Они телескоп называют «наводчиком», понимаете? Не дерните!! — Он убрал ящичек. — Что, что? — вскрикнул инженер. — В двадцать часов?! — Его взгляд наконец-то ухватился за что-то на столе. — Как тебя зовут? А-а, Степаном? Гос-споди... — Он поднял со стола календарь, покрутил, поставил. — А это что — маленькое? Степка стал объяснять: радиостанция такая, прилепляется в рот, на «твердое нёбо». А вот этой штукой можно человека загипнотизировать, он только руки прижмет к груди — и готов. Но ею же можно и обратно сработать, если потянуть за короткую нитку, и он, Степка, именно так и освободил Вячеслава Борисовича от гипноза. Они называют эту штуку «малым посредником»... Он рассказывал быстро, не очень связно, потому что дорога была каждая секунда. Дьявольщина! Портнов оказался очень странным человеком. Когда он понял, что самих пришельцев нигде не видели, он вдруг захохотал и крикнул: — Правильно! За каким лешим таскать по космосу бренное тело, если можно ограничиться сознанием? Молодцы! Он вскочил, пробежался от окна к стене, опять к окну, постучал по стеклу и пробормотал с непонятным выражением, не то злым, не то веселым: — А? Проблема контакта! Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу... — Вячеслав Борисыч, а вам еще должны привезти какую-то посылку, — напомнил Степка. — Да-да, ты все основное рассказал... Б-р-р-р! — Он повернулся, одним махом оказался за столом и с тем же непонятным выражением посмотрел на Степана. — Будем считать, что твой друг не доехал до города. И что ответственность за судьбы Земли навалилась на наши хрупкие плечи. Отдохни пяток минут... — и стал быстро писать в большом блокноте. — Сейчас мы сообразим для них кое-что интересненькое... Шалуны! Наводчик им понадобился... Так отзываться о благородном инструменте! Степан стал смотреть через его плечо. Он быстро написал вверху листа: «Инструкция, как испортить телескоп», и сразу замарал эту надпись. Степка мысленно одобрил его поведение: о диверсии вслух говорить не стоило. Если уж это подслушают — не помилуют... Он в десятый раз, наверно, вспомнил разговор, который он сам подслушал, сидя под шубой Сура. Как Киселев зарычал, когда Рубченко заикнулся о телескопе: «Вспомни о р-распылителе!» Он покачал головой. «Распылитель» должен быть дьявольски страшной штукой — вся компания испуганно смолкла после этих слов. Было приятно думать, что и они могут бояться. С такой мыслью Степан оглядел стол и на листке перекидного календаря увидел свое имя, написанное мелким, острым почерком Портнова. На календаре было написано: 1) Степан Сизов, 1,5 м, коренастый, волосы светло-русые, глаза серые, легко бледнеет, стрижка «бокс», 13-14 лет. Надежно изолировать для акселлерации, либо +. 2) Оконч. подготовки 19.40. — Ага, это мои приметы, — сказал Степка. — Это вы писали под гипнозом, да? (Инженер пробормотал что-то невнятное себе под нос.) А крестик почему? Перо бесшумно летало по бумаге. Не останавливая его бега, инженер ответил: — На вечную память. Ясно тебе? Тогда завяжи платок поаккуратнее, ты же девочка... — Он ткнул рукой налево, в угол. Угол справа от двери был отгорожен занавеской. Там оказался рукомойник с зеркалом. Степка вздохнул и ополоснул руки, лицо, — очень уж грязен для девчонки. Утерся вафельным казенным полотенцем, перевязал платок. Скорчил себе презрительную рожу — вылитая девчонка, противно даже. Озабоченно выскочил из угла, подбежал к двери... Никакого движения в коридоре. Если те подслушивают, уже давно были бы здесь. После выстрелов — наверняка. Впрочем, «слизняк» сам не должен ничего слышать, для разговора те ложились и закрывали глаза. И он первым долгом попросил Портнова прилепить эту штуку на место, чтобы не пришли проверять, как утром к капитану Рубченко. Вячеслав Борисович еще писал. Из окошка ничего интересного не было видно — неподвижно стояли пыльные березы, а телескоп и проходная были с другой стороны, за углом. Монотонно стучала какая-то машина. Тут Степка вспомнил об оружии и аккуратно зарядил оба пистолета. Вложил в один недостающие два патрона, а во второй всю обойму. Поколебавшись, поставил «посредник» на стол. Вячеслав Борисович с треском выдрал лист из блокнота и сказал: — Дай мне тоже игрушку. Спасибо, — и с отвращением сунул пистолет в карман. — Боюсь, что он мне пригодится еще до заката. «Посредник» оставляешь, правильно... Это вот, — он протянул исписанный лист, — прочтешь за воротами, в укромном месте. Спрячь надежно. Тикай отсюда поскорей. Игрушку советую держать за пазухой, до времени, — посмотришь в бумаге, до какого. Сиди в укромном месте, подальше отсюда, на глаза людям не попадайся. Часов у тебя нет? Возьми эти. Точные. Степка дернул плечами, но часы взял. Дьявольщина! Как ему не хотелось снова оставаться одному! Он мрачно сложил бумагу, сунул за ворот платья. И вдруг Портнов сказал: — Ты знаешь, кто я такой? Надувенна жаба. — Чего? — спросил Степка. — Надутая лягушка по-сербски. Я же забыл про Благово! Он светло улыбнулся, и Степка понял, что уходить никуда не надо. Честное слово, это было здорово!ХИТРЫЙ ПОРТНЯЖКА
Вячеслав Борисович принялся наводить порядок на столе. Спрягал разбитый телефон, блокнот и приговаривал при этом: — Хорошо быть муравьем — коллективная ответственность... Бегай по краю тарелки и воображай, что держишь курс на Полярную звезду. Степка вежливо ухмыльнулся. Инженер пояснил: — Муравей лупит по кругу, а думает, что бежит прямо. Не буду я сидеть в уютном кабинете — побегу... Мой номер, кажется, Угол одиннадцать? — А что? — А то, что я — большой начальник. Старше меня только Линия да Точка. Понял? — Ага, — сказал Степан. — Правильно! Пятиугольника они в грош не ставят. Ну и что? — Теперь мы им устроим потильную комнату, — сказал Портнов, нагибаясь к столу. — Зоя! Зоечка! Ау!.. Из динамика ответили: — Слушаю, Вячеслав Борисович... — Машину, Зоечка. Пускай Леонидыч подгонит, я поведу сам. Быстренько... — Он отпустил кнопку и подмигнул. — Поехали к сентиментальному боксеру, муравьишка. — А инструкция как же? — Инструкцию держи про запас. Мы едем к умному человеку, Степа. Не голова, а Дворец Съездов, понимаешь? С ним на пару я кое-что смогу проделать... если он чистый. — А почему он — сентиментальный боксер? — Он — такой, — сказал Вячеслав Борисович. — Увидишь. Он уже трое суток сидит взаперти и думает грустную думу... Он физик-теоретик. Вот и машина! Шофер не заметил Степана и начал было: — Угол одиннад... — Молчать! Вы останетесь... хм... Петр Леонидович. Ясно? Садись, Маша, — это Степану. Потом снова шоферу, громким шепотом: — Угол третий вызывает... — Так машину же разобьете! — жалко улыбнулся шофер. — Пропадай моя телега, — ответил Портнов и очень натурально заржал, подделываясь под загипнотизированного. Третий раз за один день Степка ехал в машине. Вячеслав Борисович действительно был неважным водителем — вцепился в руль и вытянул шею. Но машину не разбил, а довольно плавно остановил ее у подъезда итээровского общежития. — Киселев живет здесь, — предупредил Степка. — Думаешь, присунул моему дружку к замочной скважине «посредник», да? — М-м... — Проверим, — сказал Вячеслав Борисович. — Ты на глаз их не различаешь, своих подшефных? — Пока еще нет, — сказал Степка. — Ну, рискнем, Машенька. Он очень соображающий парень, Митя Благоволин. — Странная фамилия, — сказал Степка. — У него прадед был из духовных, из попов, — говорил инженер, пробираясь по узкой лестнице. — Им в семинариях давали новые фамилии, благозвучные... Вячеслав Борисович немного трусил и рассказывал о благозвучных фамилиях для храбрости. Степка подумал: ничего, привыкнет. Он сорок минут назад сам был пришельцем. Портнов мог улыбаться и зубоскалить, хотя и трусил. Степка так не умел. Он шел и примечал дорогу. Запомнил, что в общежитии две лестницы. Что, кроме центрального входа — с улицы, — имеется два хода во двор, прямо с нижних площадок. Что на третьем этаже очень неудобно стоит красный ящик с песком, легко зацепиться на бегу. А вот и пятый этаж. Он был пуст. Лишь в большой кухне звонко переговаривались две женщины. По коридору пробежал парень в длинных футбольных трусиках, размахивая полотенцем. — Комната шестьдесят восьмая, — сказал Портнов. — Он дома. В замочной скважине виднелся шпенек ключа, вставленного изнутри. — Постой-ка вот здесь, — прошептал инженер. — И аккуратно, аккуратно... Степка прижался лопатками к стене рядом с дверью. Парень с полотенцем уже скрылся в умывальной. Инженер постучал. — Благово! Отпирай, хитрый портняжка пришел! Из-за двери ответили негромким басом: — Пошел вон. — Отпирай, говорю! Новый «Физикл эбстрэкс» получили! Замок щелкнул. — Опять сенсация? — спросил бас. — Здесь красивая местность, — быстро проговорил инженер. — Где? — спросил бас. — Сла-авка, да на тебе лица нет!.. Входи. Кофе хочешь? Вячеслав Борисович схватил Степана за плечо и втолкнул в дверь, мимо хозяина. Это был огромный, широченный, очень красивый мужчина. Большой, как шкаф, весь в коричневых мускулах. Бицепсы — каждый со Степкину голову, золотые волосы. Солнце немилосердно пекло через окошко, и хозяин был в трусах и пляжных тапках-подошвах. Он жалостливо посмотрел на Степана и вполголоса спросил: — С ней что-нибудь случилось? Нужно денег? — Здесь красивая местность... А? — Ты что, издеваешься? — Ладно, — сказал Портнов. — Раз такое дело, налей кофейку. Это Машенька, ей тоже кофейку. — Ну, знаешь, Портняжка... Это ни в какие ворота не лезет! — Лезет, Благово, — сказал Вячеслав Борисович. — И сенсация есть. Зеленые человечки добрались до планеты по имени Земля.СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ БОКСЕР
Степка пил холодный кофе с печеньем и слушал. Сначала он понял, что ученые прозвали инопланетных жителей «зелеными человечками». Еще давно, загодя. Они давно предполагали, что должны быть эти жители, и для выразительности дали им прозвище. Потом Степка понял, что огромный загорелый парень боится — лицо у него стало серое даже под загаром. Что же, и напугаешься, подумал Степан. И тут разговор стал непонятным и пошел, казалось, в сторону. Благоволин спросил: — Значит, транспортируют чистую информацию? — Он осторожно тронул «посредник», лежащий на столике. — На каком-то субстрате. Сте... Маша говорит, эта штука стала тяжелее, когда меня... как бы это сказать? — Среверсировали. Намного тяжелей? — На чуть, — сказал Степка. Хозяин повернулся к нему: — Ага. На чуть... А в граммах? Степан пожал плечами. Благоволин еще раз прикоснулся к «посреднику». — Сколько их там? Сидят и ждут... Сколько их там, Портняжка? — Вскроем и посмотрим, — мрачно сказал Вячеслав Борисович. — Полюбуемся. — Пожалуй, не стоит. А хочется, Портняжка... Положить бы на аналитические весы и потянуть за ниточку... — Положи, — сказал Вячеслав Борисович. — Ко мне в карман положи и больше не трогай, знаю я тебя. — А кто в нем сидит? — спросил Степка. — Это же гипнотизер. — И правда, кто же там станет сидеть? — пробормотал Благоволин. — Пришельцы, — серьезно объяснил Вячеслав Борисович. — Точнее, их сознания, личности, понимаешь? Ну, содержание их мозгов, если так понятней. — Кому объясняешь, Слава... Вон книжка с картинками, это ей по возрасту. — Машенька — человек, — сказал Вячеслав Борисович. — У нее с зелененькими свои счеты. — Он потрогал ссадины на щеке. — Ну, сиди, раз ты человек... Значит, транспортируют чистую информацию. Я был прав. Помнишь наш разговор о кембриджских наблюдениях? — Митька, я всегда считал тебя большим человеком. Все правильно. Даже то, что цивилизации с ядерной энергией не выживают, самосжигаются. — А! И об этом был разговор? Когда? — Маша, повтори, — сказал Портнов. — «Мерзкое оружие», — пробормотал Степка. — «Стоит дикарям его выдумать, тут и пускают в ход и уничтожают весь материал». А материал — это что? Уран? — Это мы. Дикари. Мы для них — материал. Ладно. Дмитрий, что ты предлагаешь? — Сидеть и ждать, пока на нас бросят эйч-бамб. Они вдруг замолчали, как бы испугавшись сказанного. Портнов закурил. Рука со спичкой дрожала. Потом он выговорил с усилием: — Может быть. Если прежде зараза не расползется дальше. И мы должны помешать им расползтись. — Каким образом? — Главные силы где-то на орбите. Я думаю, без них десантники не двинутся из Щекина. А сигнал они должны послать через наш телескоп. — Что же... Конкретно мыслишь. Но я бы обмозговал это дело пошире. Ведь и комару жужжать не запрещается. — Времени мало. — Стратегию надо обдумывать серьезно, — сказал Митя. — И в сказке комары пожужжали, выбрали стратегию и медведя одолели... Портняжка, а зачем они пошли в космос? Что им надо, этим десантникам? А? — Развитая цивилизация... Перенаселение, нехватка полезных ископаемых... Что еще? — Хитрый Портняжка наряжает пришельцев в земное полукафтанье... Полезные ископаемые удобней искать на необитаемых планетах. А насчет перенаселения... Смотри-ка: «зеленые человечки» умеют сжимать личность до размера вишни, судя по этому ящичку. Так на кой им ляд жизненное пространство, если в твоем кармане уютно размещается десяток живых сознаний? — Инстинкт завоевания, — сказал Портнов. — Ну! Ты же марксист, изучал политэкономию! Инстинкты, страсти — господин Шопенгауэр, ай-ай... Инстинкт — это для перелетных птиц побудительно, а развитой цивилизации надо кое-что посерьезней. Перенаселение, перенаселение... Вот оно — кое-что. Рабочая гипотеза: они перенаселены мертвецами. — Загну-ул... — сказал Вячеслав Борисович. — Боже мой, это проще простого! У тебя в кармане лежит аппарат, который списывает с живого мозга полную картину сознания и хранит ее неограниченно долго. Точнее, пока не подвернется подходящее тело, в которое можно всадить это консервированное сознание. Инженер крякнул, — А-а, закряхтел... Разгадка-то лежит на поверхности. Предположим, ты выдумал эту штуку. Из самых гуманных побуждений, чтобы победить смерть. Но что дальше? Стариков и безнадежно больных начинают спасать. Прячут их сознание в этот аппаратик, чтобы найти когда-нибудь потом свободное тело. Например, тело преступника. Можно у сумасшедшего сменить сознание на здоровое, понимаешь? Но что будет дальше? — Дальше начнутся неприятности, — подхватил Вячеслав Борисович. — Преступников и сумасшедших мало. И вообще это не метод. — А! Понимаешь теперь? Поколения два-три они могли изворачиваться. Возможно, создали касту бессмертных властителей, которые веками кочевали из одного тела в другое. Возможно, что-то иное, однако долго это не могло тянуться, так как... — ...круг посвященных расширялся и на планете нарастал запас бессмертных созданий! — Невыносимая обстановка — друзья, родные, лучшие умы планеты томились в «вишнях»... — И они двинулись в космос за телами! — Вот! Как американские колонисты за рабами в Африку. — Стройная картина, — сказал Вячеслав Борисович. — Вот что еще — как быть с моральными запретами? Вселить своего старшего родственника в инопланетянина... Похуже, чем в крысу или в гиену! По-моему, это непреодолимый запрет... — А, мораль? — сказал Благоволин. — Мораль всегда отвечает потребностям общества. — Пожалуй, так... Это могло пройти постепенно. Нашли на ближних планетах себе подобных, потом привыкли... Как ты думаешь? — Ну, вот и договорились. Практические выводы ясны? — Пока нет, — сказал Портнов. — Ну боже мой! Даже хамы-работорговцы пытались беречь свое «черное дерево», поскольку живой раб приносил доход, а мертвый — одни убытки. Если наша гипотеза верна, то зелененькие должны прямо трястись над каждым телом. Для них потеря одного раба не исчисляется в пиастрах. Каждый человек, убитый при вторжении... — Ага! Соответствует одной собственной жизни! — вскрикнул Портнов. — То-то они обходятся без кровопролития — им нужны тела для «вишен»! — И дальше будут стараться в том же духе. Убивать — не-ет, это для другой психологии... — со вкусом сказал Митя. — Если у тебя в чемодане томятся твои родители, бабушки и прапрадедушки, ты поневоле будешь любить и лелеять такого пария, как я. Степка засмеялся. Про себя он стал называть этого великолепного дядьку Митей. — Не тебя, — сказал Портнов. — Твою бренную оболочку. — Ну, давай так считать, — сказал Митя. — Важно другое. У них должен быть совершенно четкий метод завоевания: подмена личности. Без убийства! Двинули на них полк — они вселяются в офицеров, и штык в землю... Они должны стремиться захватить сразу как можно больше людей. Поэтому ядерное оружие, способное уничтожить все живое в определенном районе, для них пренеприятный сюрприз. Бах! — и все освоенные тела погибли. Следовательно, они должны немедленно рвануться из района Щекина наружу, чтобы их всех нельзя было выжечь одним взрывом. Чтобы они были везде. — Так, — сказал Портнов. — Так, так! А у них мало десантников, не хватает даже для охраны корабля! — Звездный корабль... — мечтательно проговорил Митя. — Хоть бы одним глазком... Ладно. Я думаю вот что. Если они вовремя подведут основные силы, то у них еще имеются шансы. Но если большое вторжение оттянется хоть на сутки, то, с их точки зрения, разумней будет уйти. Чтобы вернуться поудачней. Скажем, свалиться прямо на генштабы ядерных держав. — Генштабы спрячем, — сказал инженер и улыбнулся Степану. — Если твоя гипотеза справедлива... — Ты слушай, — сказал Митя. — Психология есть психология. У меня своя, а у них своя. Может быть, все как раз наоборот, и они мечтают посмотреть на мегатонные взрывы, как я — на их корабли. Но покамест я бы пригрозил им этими взрывами и не дал бы воспользоваться телескопом для сигнала наведения. — Так я с этим и пришел! — вскрикнул Вячеслав Борисович. — Ай ду-ду... — басом пропел Митя. — Ай ду-ду-у... Одним махом семерых убивахом. Ты понимаешь, что им нужна только антенна от нашего телескопа? Нет? Ты думаешь, у них усилители еще не выдуманы? И они — дети малые? Если ты собрался портить не антенну, а усилитель, то время такой акции надо выбрать впритирочку. Чтобы они не поспели до восьми часов присоединить свой усилитель. — Так я с этим и пришел! Надеялся, ты посоветуешь что-нибудь практическое. — А, практическое? Дай знать в Москву, в Министерство обороны. Практически оно одно властно приказать, чтобы ударили по антенне. С воздуха. Еще бы лучше — эйч-бамб... После этого странного слова опять наступило молчание. Потом инженер умоляюще проговорил: — Мить, надо подумать еще. — Думаю. — Благоволин вдруг усмехнулся и спросил: — А ты и впрямь надеялся пробраться в аппаратную? — Я уж здесь понял, что лишний человек только повредит. Там охраны человек десять, на каждой ступеньке, я посмотрел. Но попробую. —Та-ак... —Благоволин безмятежно улыбался. — Играешь всерьез. Из соображений конспирации тебе следовало бы меня убрать, а? — Не болтай! — Почему же? Я посвящен в твои планы и, если меня обработают — завербуют, так сказать, — предупрежу. Потому я и знать не хочу, как ты намереваешься поступать. Кстати... Радиолюбителя знакомого у тебя нет? В глазах Вячеслава Борисовича что-то мелькнуло, и он неопределенно повел плечами. А Степка совсем растерялся. Только что он сидел и с блаженным чувством спокойствия смотрел на спину Благоволина — она была как стена, она была могучая и надежная, — и вдруг эти слова: «Тебе следовало бы меня убрать»! Он ужаснулся. Вот почему Вячеслав Борисович заставляет его разыгрывать перед Митей «девочку Машу»... Вот почему молчит об инструкции, написанной в кабинете... Он с самого начала помнил, что Митю могут обработать и он предупредит пришельцев о Степкином специальном задании! Степка отвернулся от всего этого и стал думать о своем. Эйч-бамб... где-то он слышал... Странное слово какое. Он смотрел в окно и не мог думать. Митя говорил: — Я постараюсь подольше не попадаться. — Может, пистолет? — Тебе он нужней, Слава. Я по живому не выстрелю. — Сейчас надо принципы в сторону. — А! Мои принципы: хочу — выполняю, хочу — нет. Эх, Портняжка... Но ты не волнуйся уж так. У меня есть план. — И прекрасно, — сказал Вячеслав Борисович. — Маша, поехали! Степка не повернулся, он чувствовал, им еще надо поговорить. И правда, сейчас же Портнов спросил: — Ну, какой план? — Не секретный. Я теперь предупрежден, так-сяк проинформирован, немного представляю себе схему их воздействия на мозг и попытаюсь с ними потягаться. — Что?! — Мне кажется, — очень мягко пояснил Митя, — что мощный и информированный разум должен потягаться с подсаженным сознанием. Они оставляют нетронутыми некоторые высшие области мозга — я, правда, не специалист, — но центры речи, письма, вся память... Они лишь добавляют свою память. — И волю, — сказал инженер. — Маша, оторвись от окна, наконец! А ты, Дмитрий, не вовремя ударяешься в науку. Двери сам им откроешь? Чтобы потягаться?! — Я не тороплюсь стать подопытной собакой, — сказал Благоволин. — Не тороплюсь, но и не боюсь. И мне странно слышать, что ученый отожествляет занятия наукой с предательством.ОПЯТЬ ОДИН
Степан был теперь совсем огорошен. Пусть будет так, пускай Благоволину и незачем ехать к телескопу — «слизняка» и личного номера у него нет, и уже в воротах к нему прицепится охрана. С другой стороны, он как-то не по-товарищески оставлял Портнова одного. Насчет его затеи — пересилить «гипноз» — Степка сомневался, конечно. Сурен Давидович не пересилил... Ковыряя ногтем краску на подоконнике, Степан смотрел на улицу. Зашуршали колеса. Тихо подкатил и остановился перед общежитием зеленый «ГАЗ-69». Из него вылезли двое и не спеша двинулись к подъезду. Наверно, у Степана ощетинился затылок — Благоволин мгновенно придвинулся к окну, посмотрел, и — уверенным шепотом: — На правую лестницу, в черный ход и во двор! И Степка с Портновым очутились в коридоре. И сейчас же щелкнул замок, и за дверью затрещало и заскрежетало. — Двигает шкаф, — шепнул Вячеслав Борисович, и тихо, по прохладному коридору, они проскочили к правой лестнице. На площадке Степан сказал: «Если что — свистну», и побежал вперед. И, не встретив тех двоих, они вскочили в машину. Вячеслав Борисович запустил двигатель и поспешно, рывками переключая скорости, пошел наутек. Свернув на улицу Ленина, он проговорил устало: — Выйдешь за поворотом на совхоз. Иди к высоковольтной, там прочти инструкцию и действуй. — Лучше я с вами, — сказал просяще Степан и проверил, не потерялся ли из-за пазухи пистолет. — Со мною нельзя. — Вы будете портить этот... усилитель? — Уж теперь в аппаратную и мышь не проскочит. — Инженер оглянулся, машина вильнула. — А, черт!.. Действительно, надо было его... — Ну уж нет, — сказал Степка. — Не знаю. Одну толковую мысль он мне подал... Не знаю... Слушай, Степа. Если встретишь меня — тикай. Не попадайся на глаза еще пуще, чем всем остальным. — Почему? — Если меня снова обработают, я же тебя и выдам. Машина опять вильнула. Степка спросил: — А почему он «сентиментальный боксер»? — Он хороший человек, — с тоской сказал Портнов. — Очень хороший. Не то что убить — ударить человека не может. Я торможу. Приехали. «Эге, такой дядька, да еще боксер, ударить не может — как бы не так!» — подумал Степан, и в расчете на то, что сзади окажется погоня и некогда будет останавливаться и вдвоем с инженером они примчатся на телескоп и там устроят, Степка спросил неторопливо: — А кто такой эйч-бамб? — Водородная бомба по-английски, — сказал инженер и нажал на тормоз. Степка втянул голову в плечи. — Ну, иди. Спокойно иди, я любой ценой — любой, понимаешь? — продержусь, а ты действуй спокойно. И берегись, вся надежда на тебя. — А вы туда не езжайте! Зачем едете? — Для отвода глаз. Насчет тебя Благоволин не знает, а меня станут искать. И все равно отыщут. Прощай. Он чмокнул Степку в лоб, вытолкнул из машины, крикнул: «Попробую их обогнать!» — и умчался. На повороте его занесло влево, мотор взревел, и Степан опять остался один.СУРЕН ДАВИДОВИЧ
В это время я, Алешка Соколов, сидел рядом с Суреном Давидовичем на опорной плите зеленой штуки, похожей на перевернутую огромную пробку от графина. Чуть левее Сура расселся толстый заяц с необыкновенно независимым, залихватским таким видом, вытянув задние лапы, так что они торчали далеко вперед и немного вверх. В жизни бы не подумал, что зайцы могут сидеть таким манером! Его вид поразил меня даже сильнее, чем невидимый забор вокруг «зоны корабля». Сильнее, чем здоровое, легкое дыхание Сура. Наверно, от беготни у меня мозги замутились или что-то в этом роде — я сидел и таращился на зайца, пока не сообразил, отчего он так сидит, вытянув задние ноги по-господски. Зайцы и кролики сидят всегда поджав задние ноги, правда? Потому что боятся. Они все время наготове — прыгнуть и удрать, а чтобы прыгнуть сразу, задние ноги им приходится держать согнутыми. Я путано объясняю. Этого и объяснить нельзя. Не будь рядом со мною Сура, я бы испугался этого зайца. Теперь я не боялся ничего. Поймите вы, Сурен Давидович нашелся! Эти не убили его, он их сам перехитрил и пробрался в их «зону»! Я был готов замурлыкать, как сытый кот, я так и знал — никаким пришельцам не справиться с нашим Суреном Давидовичем! Сур молчал, поглядывая то на меня, то на зайца. Иногда он двигал руками, как при разговоре, а заяц перекладывал уши и меленько шевелил носом. Поймите, я же ничего не знал — уехал с докторшей, проводил ее до Березового и вот вернулся. Ничего не знал, ничего! Я улыбался и мурлыкал. Потом сказал: — Сурен Давидович, у вас прошла астма? А как вам удалось сюда пробраться? Заяц почему-то подпрыгнул. — Скажи, пожалуйста, как ты сюда пробрался, — неприветливо отвечал Сур. — Где твой опознаватель, скажи! — Во рту. Вынуть? — Я понял, что так он называет «слизняк». — Пожалуйста, не вынимай. Зачем теперь вынимать? Как ты назвал себя селектору? — Какому селектору? — удивился я. — Что Нелкиным голосом разговаривает? А-а, я сказал — Треугольник одиннадцать. Неправильно? Он странно, хмуро посмотрел на меня и прикрыл глаза. Я же будто очнулся на секунду и увидел его лицо не таким, каким привык видеть и потому заставлял себя видеть, а таким, каким оно стало: узким, жестким, опаленным. Узким, как топор. Рот чернел между вваленными щеками, рассекая лицо пополам. У меня екнуло сердце. «Не может быть, этого не может быть!! Нет, слышите вы, этого не может бы-ыть!» — завыло у меня внутри. «Не может быть, — сказал я себе. — Сур перехитрил этих. Он старый солдат. Он перехитрил их. Астма у него прошла, как на войне, — он часто говорил, что на фронте не болеют». И я опомнился, но мне казалось, что я вижу сон. Потому что сидели мы тихо, молча, на круглой шершавой опоре странного сооружения, которое было, наверно, кораблем пришельцев. Было светло, но солнце не показывалось. Деревья, корабль, мы сами не отбрасывали теней. Я опять посмотрел вверх и опять не увидел неба; стенки оврага сошлись над головой, очень высоко, в полутумане, расплывчато. В желтом солнечном свете, сиявшем где-то вовне. Было очень светло, словно вокруг нас замкнулся пузырь, излучающий свет. Сур приоткрыл глаза: — Алеша... Селектор будет звать тебя «Ученик». Послушай наш разговор — Девятиугольник двести восемьдесят один насчет тебя интересно высказывается. Бояться не надо. Я тебя взял на попечение. Слушай. Во рту щекотно запищал «опознаватель» голосом Сурена Давидовича: «Девятиугольник, что ты говорил о детеныше?» — «Почему бы его не пристукнуть? — ответил Нелкин голос. — У нас хлопот вагон, а ты возишься с ускоренным развитием. Пристукни его, Квадрат сто три!» Голос Сура сердито отчитал: «Как смеешь говорить об убийстве?! Я взял детеныша на обучение! Он Ученик. Скажи, не пора тебе на патрулирование?» Селектор выругался. В жизни бы не подумал, что Нелка знает такие слова. Заяц подпрыгнул. «Да вы, высшие разряды, вечно лажу лепите, — пищала Нелка. — Потеха с вами! Ты бы делом занимался, Четырехугольник!» Суров вслух сказал: — Отвратительный переводчик! Жаргон, ругательства... Нравится тебе Девятиугольник, Алеша? — Он пощекотал зайцу живот. Заяц недовольно отодвинулся и сел столбиком. Я обомлел: — Это он — Девятиугольник?! Они и зайцев гипнотизируют? — Ты становишься непонятливым, — сухо отвечал Сур. — Не гипнотизируют. В него подсажен десантник. — Сурен Давидович, какой десантник? Он же заяц, посмотрите! — Десантник. Тот, кто высаживается первым на чужие планеты. Я зажмурился и, пытаясь проснуться, пробормотал: — Высаживается на чужие планеты. Значит, вот они какие — вроде наших зайцев... Сур вдруг деревянно засмеялся — не своим смехом. И я понял, что он тоже, как этот несчастный заяц, воображает себя десантником. Не перехитрил он пришельцев, они его подмяли. Как зайца... Я стал раскачиваться и щипать себя за икры, чтобы проснуться. Голос Сура запищал в «опознавателе»: «Девятиугольник, полюбопытствуй! Пуская воду из глаз, люди выражают огорчение...» Он знал меня хорошо. От насмешки я взвился, промазал ногой по зайцу; он весело отпрыгнул, а я заорал: — Сурен! Давидович!! Они вас загипнотизировали-и! Не поддавайтесь, ой, не поддавайтесь!! Он сказал: — Вытри слезы. Я вытер. И заорал опять: — Не поддавайтесь им! Зайцы паршивые! Тогда он сказал почти прежним голосом: — Голову выше, гвардия! Ты же мужественный парень. Почему такая истерика? Видишь, я за тебя поручился, а ты свою чепуху про гипноз. Какой же это гипноз? Я притих. — Видишь, тебе и самому непонятно. Поговори хоть с Девятиугольником и рассуди: разве можно путем гипноза научить зайца разумно беседовать? Кстати, при разговоре через селектор прижимают «опознаватель» языком к нёбу и говорят, не открывая губ. Ты быстро научишься. Я не желал научаться. Я не заяц, я человек! А они — фашисты, они хуже фашистов, потому что притворяются и сидят спрятанные, а людей заставляют делать подлости вместо себя! Он рассеянно-терпеливо кивал, пока я выкрикивал. — Ты кончил говорить? Кончил. Объясняю тебе, Алеша: никто не притворяется. Пришельцы не прячутся. И я, и этот заяц — довольно крупный, но обыкновенный земной заяц — мы оба и есть пришельцы. Не закатывай глаза. Постарайся это понять. Мы пришельцы, как ты выражаешься. Мы прилетели на Землю в этом корабле. — Вранье это, вранье! — крикнул я и задохся. — Вранье-е!.. «А-о-о!» — ответило эхо и стало перекатываться, стихая. Крик метался вокруг, гудя на стенках пузыря. — Этот заяц дрессиро-ованный, — выговорил я. — А вы нездо-оро... — Почему-то я стал заикаться. На букве «о». — Вздохни три раза глубоко и потряси головой, — сказал Сурен Давидович. — Девятиугольнику пора на патрулирование, а мы еще поговорим, пока есть свободное время. Как Девятиугольник поскакал на свое патрулирование, я еще видел: он прыгал чуть боком, занося задние лапы вперед головы, и любопытно блестел выкаченным глазом. Скрылся на подъеме, потом уже вверху подпрыгнул свечкой и скрылся. И у меня тут же начало мутиться в глазах, все исчезло, сойдясь в одну точку. Очнулся я лежащим на сыром овражном песке, а рядом со мною сидел на корточках Сур.ПРИШЕЛЬЦЫ
Я сел. Сурен Давидович аккуратно устраивал в кармане куртки небольшой зеленый ящичек; уложил, застегнул «молнию» и спросил: — Скажи, тебе лучше по самочувствию? (Я кивнул: лучше.) Замечательно! Я ведь хочу тебе добра, а сейчас открываются блестящие возможности для тебя... Я снова кивнул. После обморока я чувствовал себя неуклюжим и спокойным, как гипсовая статуя, что ставят в парках. Сурен Давидович это заметил и прихлопнул ладонями — верный признак удовольствия. И улыбнулся, растянув рот щелью. — Скажи, ты понял насчет пришельцев? — Не понял. — Опять не понял! Спроси, я объясню... Не понимает! — Он пожал плечами. — Конечно, — сказал я. — Если я придумаю, будто я — не я, а вовсе киноартист или Петр Первый, вы тоже не поймете. Тогда он мне и объяснил сразу все. Ну, вы знаете. Как они выдумали кристаллические машинки для записи сознания, стали бессмертными, а их тела умирали. И поэтому они двинулись в космос за телами. Он сказал, что корабль «десантников» совсем маленький. В него помещается несколько сотен кристаллических записей размером с крупнокалиберную пулю. В большом же корабле, для переселенцев, их помещается несколько миллионов, и такие корабли спустятся на Землю. Они так уже делали много раз — захватывали чужие планеты. Без выстрела. Они просто подсаживали в каждого «дикаря» сознание одного из своих. Для Земли приготовлено как раз три миллиарда кристаллических записей. По количеству людей. Не путайте мои приключения со Степкиными. Он уже знал про «вишенки», а я — нет. Сурен Давидович называл их кристаллическими копиями. Он говорил, говорил... Может быть, пришельцу, который сидел в его мозгу, хотелось выговориться. Я слушал и с жуткой ясностью представлял себе зеленые корабли, летящие в черной пустоте. Не такие, как десантный, — огромные. Они расползались по всей Галактике, без экипажей, без запасов воды и пищи. Даже без оружия. Только у десантников было оружие. А большие корабли шли, набитые кристаллическими копиями, как мухи, несущие миллионы яичек. Корабль десантников отыскивал для них подходящую планету, спускался и выбрасывал «посредник». Понимаете? Некому, было даже выйти наружу. Вылетал робот и неподалеку от корабля оставлял замаскированный «посредник». И первый, кто случайно подходил к нему, становился первым пришельцем. Как этот несчастный заяц. Он просто подскакал к «посреднику», и — хлоп! — в него пересадили кристаллическую запись десантника девятого разряда. Он стал одним из Девятиугольников. Впрочем, первым был Федя-гитарист. «Так был'всюду-везде, — слушал я странную, слитную речь. — Тысячелетия м'шли по космосу. Сотни, сотни, сотни планет!» Потом он замолчал, а я сидел, съежившись, и было очень холодно. Зимний холод вытекал из меня в жаркий, стоячий воздух оврага. Я знал, что вокруг тепло, и ощущал теплую, твердую поверхность, на которой сидел, и сырой, теплый, плотный песок под ногами, и жар, излучаемый кораблем. Но я замерзал. У меня в глазах был черный, огромный, ледяной космос, и в нем медлительные, уверенно ползущие огни кораблей. С трудом я пошевелил губами: — Какой у вас вид на самом деле? Он сказал: — Тебе будет непонятно. Мы не знаем. Я пожал плечами и спросил: — Как вас теперь зовут? — Квадрат сто три. Такие имена у десантников. «Квадрат» — я десантник четвертого разряда. «Сто три» — мой номер в разряде. Квадрат сто три. — А настоящего имени у вас нет? — Десантник не может носить имени. Мы служим Пути. Наша работа — подготовить плацдарм для больших кораблей. Они приходят — мы уходим дальше, на новую планету. Пятьсот — семьсот тел, которые мы временно занимаем, освобождаются, и их берут переселенцы. Мы уходим дальше, высаживаемся на другой планете, с иными языками, на которых нельзя произнести имени, свойственного предыдущей планете... — Погодите, — сказал я. — У вас что, нету своего языка? Есть? А как вас звать на вашем языке? — Квадрат сто три. Объясняю тебе: я — десантник. Мы не носим настоящих имен. — Погодите... На своей планете тоже? Он хрипло рассмеялся. — Когда наступит ночь, посмотри вверх. Выбери любую звезду и скажи нам: «Это ваше солнце!» Мы ответим: «Может быть». Я почему-то кивнул, хотя и не понял его слов. Потом все-таки переспросил, почему любая звезда может оказаться их Солнцем. — Мы не знаем, откуда начался Путь, — ответил он. — Не знаете? Как это может быть? — Космос огромен. Путь начался, когда звезды еще были иными. Путь велит нам смотреть вперед. Он говорил равнодушно, будто о гривеннике, потерянном из дырявого кармана, и меня это страшно поразило. Сильнее всего остального. Я получил масштаб для сравнения: планета дешевле гривенника! А я? Наверно, как гусеница под ногами. Захотели — смахнули с дороги; захотели — раздавили. И не захотели, а просто не заметили. Разве мое тело им понадобится под копию. И я замолчал. Слова больше не скажу! Хоть режьте, буду молчать и все равно удеру. А если вы захватите всю Землю, удеру на край света и вы до меня не доберетесь. Так я решил и повернулся спиной к Квадрату сто три. Больше я не звал его Суреном Давидовичем. Баста. Он заговорил снова — я молчал. Но тут прикатился заяц-Девятиугольник, вереща Нелкиным голосом: — Отвратительный, наглый пес! Наглый, самоуверенный... Уф! Он околачивается у прохода, Квадрат сто три. «Квадрат» быстро пошел наверх. Я выждал минуту. Заяц опять таращился на меня и подпрыгивал. А когда я встал и попробовал уйти, корабль ослепил меня лучом. Заяц же предупредил: — Сидел бы ты, Ученик... Лучемет головешки от тебя не оставит... Я сел и на всякий случай прижался спиной к кораблю — туда луч не достанет... Я помнил, как Девятиугольник требовал, чтобы меня пристукнули. Все-таки я хотел жить и выбраться отсюда. А заяц тряс ушами — смеялся... ...Я закрыл глаза и вообразил, будто сплю, лежа в своей кровати у открытого окошка. Сейчас зазвонит будильник, я проснусь, мать накормит меня завтраком. Пойду в школу, высматривая по дороге Степана, а на ступеньках универмага будет совершенно пусто и сегодняшний день ничем не будет отличаться от всех весенних дней. — Собака ушла, — сказал заяц. — Квадрат сто три возвращается. — Он подпрыгнул несколько раз, все выше и выше, и начал расписывать, какая страшная была собака. В породах он, понятно, ничего не смыслил. По описанию получалось — дог. Огромная, с короткой шерстью, светло-серая. Морда квадратная, тупая. Хвост длинный, голый, как змея — тут зайца передернуло. Я сказал: — Боишься собак, гаденыш? Вернулся Квадрат сто три, прогнал зайца на патрулирование. А мне приказал: — Алеша, твой «опознаватель»! — и подставил руку. Я выплюнул в нее «слизняк». Квадрат сто три небрежно опустил его в карман и пошел следом за зайцем. Я не мог удрать, для того у меня и отобрали «опознаватель» — он служил пропуском в зону. Остался в проклятом пузыре и мог молчать, сколько мне было угодно.ДОПРОС
Я отошел подальше, забился в моховые кочки под откос и там лежал в оцепенении. Слышал, как вернулся Квадрат сто три. Потом ухо, прижатое к земле, уловило чужие шаги. Они приближались, дробно простучали по откосу и стихли поблизости. А мое тело отказывалось двигаться. Веки не хотели подниматься... Решайте свои дела без меня, я полежу, здесь мягко. На свете два миллиарда больших людей. Что вы привязались, почему я обязан о них заботиться, и где это сказано, что один мальчишка на огромной Земле обязан и должен? У вас армии, ракеты, водородные бомбы. Кидайте сюда бомбу, и пусть все кончится, я согласен. Не хочу подниматься. ...Еще шаги по откосу. Что-то тяжело ударилось о землю. Потом голоса. И вот знакомый голос... Опять Киселев — Угол третий! Он говорил где-то поблизости... Пусть говорят, это меня не касается. Слышать не хочу их разговоров. Я один, мне еще четырнадцати нет, сопротивлялся я. И вдруг открыл глаза. Низко над лесопарком трещал самолетный мотор. Звук приблизился, стал очень сильным, загрохотал и умчался. — Зашевелились... Это сказал плотный человек, красиво седой, важный. В Щекине я его никогда не видел. Он восседал на плите корабля, подтянув на коленях дорогие серые брюки, а пиджак держал на руке. Рядом небрежно примостился Федя-гитарист. Вертя головой — шнур бластера, видимо, резал ему шею, — он проговорил: — Еще девяносто пять минут. Придется драться, Линия восемнадцать? Седой неторопливо ответил: — Потребует служба — будем принимать меры. Решим вопрос. — Он выпятил губы и искоса взглянул на Киселева. — Самочувствие-то как, Угол первый? Я подумал, что Линия — большой начальник у десантников и путает их имена. Наш завуч, например, старается каждого ученика звать по имени и всегда путает. Но Киселев не поправил седого. Пожал плечами и стал отряхивать песок с брюк и рубашки. — Да-а, начудил Угол третий, начудил... — сказал седой. — Отличный, проверенный десантник, — вступился Киселев. — Это обстановка. Абсолютно! — Мне адвокатов не надо, Угол первый, — сказал седой. — Утечка информации, — он загнул толстый палец, — утрата оружия, да еще история с Портновым. Мало? О-хо-хо... За меньшее десантников посылают в распылитель! Я даже заморгал. Утечка информации — понятно, Анна Егоровна доехала до района. Вот почему самолеты летают, у-ру-ру! Оружие — тоже понятно. Это бластер, который мы увезли из подвала и который сейчас лежит у самого входа в зону. Какая-то «история с Портновым» меня не интересовала. А вот почему Киселев сменил номер?.. Я еще посмотрел, как он счищает песок с левого бока, и чуть не захихикал. «Вот что ударилось о землю, пока я лежал, — Киселев падал, когда в нем сменяли «кристаллическую копию»... А-а, зашевелились-то вы, гады! Угла третьего сменили. Начудил, говорите?» — Ты не паникуй, — говорил седой. — Пока мы на высоте, на высоте... И Угол третий не одни ошибки допускал. Скажем, для меня подобрал подходящее тело — вполне осведомленный экземпляр. — Угол третий — проверенный десантник, — снова сказал Киселев. — Внимание, блюдца! Они вытянули шеи, прислушиваясь. Кивнули друг другу и отбежали на несколько шагов, едва не наступив на меня. Я упрямо лежал. Корабль громко зажужжал и приподнялся над песком. Я увидел круглый след плиты на песке и успел заметить, как быстро светлел этот след — песок впитывал воду, выжатую весом корабля на поверхность. Та-ших-х!.. Округлое, плоское, радужное тело вырвалось из-под плиты и унеслось в зенит. Наверху громко хлопнуло, мелькнул клочок голубого неба, и пелена, одевающая зону, опять закрылась. А корабль уже стоял на месте. Через две-три секунды все повторилось: корабль приподнимается, вылетает радужная штука, корабль опускается. Когда унеслась с шипением третья штука, Киселев закрыл глаза и прислушался. Доложил: — Расчетчик еще думает, линия восемнадцать. Тот важно ответил: — Добро! Пока с этим разберемся, м-да... — и показал на меня. — Мальчик, встань! — приказал Киселев. — Ну, чего? — проворчал я и уселся, поджав ноги. Они вдвоем сидели на опоре корабля, а я — на кочке, в пяти-шести шагах от них. Седой заговорил наставительно: — Расчетчик обдумал твою судьбу. Решил тебя помиловать, м-да... Будешь находиться здесь. Чуть не то — сожжем. Понял? Я промолчал. Седой грузно повернулся к Киселеву: — Говоришь, восемь минут? — С отличным результатом, — отчеканил тот и посмотрел многозначительно. — Я бы предложил... — Ну помолчи. Вот что. — Он повернулся ко мне всем телом. — Вот что, Алексей. Где ты бросил оружие? Ты не притворяйся, дельце нехитрое! Будешь запираться — подсадим к тебе десантника. Восемь минут ты выдерживаешь, и он выдерживает... И он за тебя все и скажет, так уж лучше ты сам, оправдывай оказанное доверие. — А я не просился к вам в доверенные... Почему-то они остались очень довольны моим ответом. Загоготали, Киселев сказал одобрительно насчет моей психики. Я тоже попытался улыбнуться. Лихо сплюнул на песок, будто я очень польщен их разговором, только не хочу показывать вида. А на деле я торопился сообразить насчет «десантника на восемь минут». Почему только на восемь? Я внезапно понял, что они могли подсадить в меня «копию» насовсем. Раньше я об этом не думал. Не верил. Ну, вы знаете, как не веришь, что помрешь, хотя все люди умирают... «Значит, на восемь минут, — думал я. — Подсадили, узнали про бластер, да не все! Не отыскали, гады! Дьявольщина, почему другие выдерживают, а я — нет?» Даже стало вроде бы досадно, что я не выдерживаю, как все люди. Я опять сплюнул и ровно в ту секунду, когда было нужно, сказал: — Оружие ваше я потерял здесь, неподалеку. Мне ответил седой: — М-да. Девятиугольник видел, как ты с ним бегал. Где точно? — Не заметил. — Я пожал плечами. — Набегался я здесь, знаете... Должно быть, рядом, у прохода. — И это знаем... — Зачем же спрашиваете, если знаете? Они еще раз переглянулись. Поверили, что я говорю правду. Я в самом деле только малость соврал. Я помнил куст, под которым остался лежать бластер в картонном коричневом чехле для чертежей. У самого прохода. Как его не нашли, если уж взялись искать? Самолет прогудел еще раз. Теперь он прошел несколько в стороне. Эти двое ухом не повели, будто так и надо. Седой пробормотал: «Расчетчик», и прикрыл глаза. Потом Киселев приподнял его, как куклу, и отвел от корабля. При этом на руке седого блеснули часы. Я разглядел стрелки — без двадцати семь. Прошло минут пятнадцать с начала нашего разговора. То есть оставалось восемьдесят минут до момента, в который им «придется драться». Я сделал бессмысленное лицо и спросил: — Федор, а Федор... Что будет в восемь часов? — Цыть! Схлопочешь ты у меня конфетку... Седой открыл глаза и скомандовал: — Еще один вертолет садится у совхоза! А ну, видеосвязь!ПОЛКОВНИК ГАНИН
Федор подбежал к кораблю, взмахнул рукой, и в зеленой тусклой поверхности, в метре от земли, открылся круглый люк. Бесшумно, как большой круглый глаз с круглым коричневым зрачком, только зрачка этого сначала не было, а потом он выплыл из темноты и, покачиваясь, остановился посреди «глаза». Я попятился, споткнулся о кочку, а десантники, наоборот, придвинулись к кораблю и наклонились, всматриваясь. В зрачке что-то вертелось, мигало... Вертолетный винт, вот оно что! В люке корабля покачивался телевизионный экран странного красно-коричневого цвета. На нем очень отчетливо виднелся маленький вертолетик — красная звезда казалась черной, — и между головами десантников я видел на экране, как открылась дверь кабины, на землю спрыгнул человек и дверь сразу закрылась. Телевизор мигнул и показал этого человека крупным планом. Он был в военной фуражке и, казалось, пристально смотрел прямо на нас. — Полковник Ганин, из округа. Не иначе, парламентер, — сказал седой. — Дай звук. От корабля послышалось шипение. В этот момент полковник схватился за сердце, и сильно искаженный голос пробормотал: «Здесь красивая местность». Я не сразу понял, что это голос полковника, хотя и видел, как у него шевелятся губы. Я вспоминал, что значит «парламентер». Военный посол, похоже... Только он уже не был парламентером — в него подсадили «копию». Он улыбнулся и спросил: «Ты — Линия шесть?» Другой голос сказал: «Я — Линия шесть. Докладывай, с чем послан. Два разряда нас слушают». Глядя на кого-то невидимого за рамкой экрана, полковник сказал: — Послан как парламентер, с ультиматумом. С момента приземления вертолета нам дается шестьдесят минут на эвакуацию. Гарантируется безопасность летательных средств. — После срока ультиматума? — Ядерная атака. — Это не блеф? — Не могу знать. Скорее всего, нет. Настроение подавленное. Вокруг района разворачивается авиадесантная дивизия. — Это мы знаем. Ты — начоперотдела округа? — Так точно. — Откуда они имеют информацию? — Получили радиограмму с телескопа. Седой сказал Киселеву: — Вот тебе твой Портнов... Голос за экраном спрашивал: — О времени сигнала они имеют информацию? — Не могу знать. С содержанием радиограммы не ознакомлен. — Твое личное мнение о плане действий? — Надо потребовать девяносто минут на эвакуацию. Навести корабли на Москву, Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Париж, на все ядерные штабы. Десантный корабль увести демонстративно, сообщив им координаты взлетного коридора. Всё. — Мы успеем дать наводку за пятьдесят пять минут. — Они согласятся на девяносто. Совет? Брякающий, неживой голос прокричал: «Трем разрядам совет! К Расчетчику!» Я видел, как у седого и гитариста опустились плечи, экран потемнел, у меня сильно, больно колотилось сердце и онемело лицо, и громко шипело в корабле. Потом седой сказал: «Так, правильное решение!», а на экране полковник сказал: «Я дам радиограмму из вертолета», и повернулся кругом. Крошечная коричневая фигурка четким шагом подошла к дверце, нырнула в нее. Просвет дверцы закрылся, и вертолет подпрыгнул и пошел вверх. Я думал, так и надо. Телевизор следил за машиной, вокруг которой как сумасшедшее крутилось блюдце — оно казалось черным, плотным, а не радужным и полупрозрачным, как на самом деле. Вертолет и «блюдце» поднялись, наверно, уже высоко, когда голос крикнул: «К Расчетчику!» И почти сейчас же вертолет наклонился, винт замедлил вращение. Хлоп! Экран погас, люк корабля захлопнулся. — Э-хе-хе, кого хотели провести, — сказал седой. — Удрать хотели. Нет, простаки эти тела, твердо тебе говорю... — Не так уж простаки, — вздохнул Киселев. — Если разобраться, они действуют разумно и кое-что знают о нас. — Мало знают, мало, — самодовольно сказал седой. — На полтора часа-то согласились! Они пошли по тропинке к выходу. Киселев говорил: — Много или мало, а я не стал бы цепляться за планету, когда треть населения не принимает «копий». Нужна очень серьезная подготовка. Седой оглянулся на меня, что-то сказал и засмеялся. — Смотрите, вам виднее, — сказал Киселев. — А вот и Квадрат. Сверху спускался Квадрат сто три. — Оружие унесла собака, — доложил он. — Пес Эммы Быстровой, Угол ее знает. (Киселев кивнул.) Около часа назад он погнался за Девятиугольником, у входа в зону подхватил чехол с оружием и унес. — Блюдце послал? — Сделано, Линия восемнадцать. Женщина с собакой обнаружена у совхоза, оружия при них нет. Сейчас их перехватит Шестиугольник пятьдесят девять с «посредником» Через десяток минут всё узнаем об оружии. Я распорядился: десантнику в собаке оставаться, оружие доставить к наводчику и там включиться в охрану. — Одобряю, — сказал седой. — Угол, едем! Заводи свою молотилку. (Киселев повернулся, побежал по откосу.) Квадрат, с мальцом решили вопрос положительно — ну ты понимаешь. Данные хорошие, чтобы к старту было нормально, смотри! — С этими словами он исчез, и тут же глухо зафыркал мотоцикл. Уехали.КВАДРАТ СТО ТРИ
Я вообще-то кисляй. Так меня Степка ругает, и он прав. В том смысле, что я теряюсь, когда надо действовать решительно. Удивительно, как у меня утром хватило решимости пойти за гитаристом, но тогда очень уж разобрало любопытство. А теперь, у корабля, со мной случилось что-то странное. Я просто осатанел, — сердце колотилось тяжелой кувалдой, лицо немело все больше, и я всех ненавидел. И десантников и недесантников — всех. Я как-то быстро, хватко представлял себе: они там, на свободе, смеются и гуляют, смотрят кино, обедают, читают книжки, а корабли спускаются на Москву, Лондон, Нью-Йорк, а они жрут и гуляют и знать не хотят о Щекине. И так им и надо! Так им и надо! Почему они позволили десантникам себя обжулить? Зачем дали им полтора часа, как нарочно, чтобы те могли вызвать свои корабли с миллионами «копий»? Если бы Щекино было большим городом, казалось мне, из-за такого города засуетились, забегали и не дали бы десантникам себя перехитрить! Ох как я ненавидел всех подряд! Даже несчастного полковника Ганина, который совершенно уж ни в чем не был виноват, которого послали по-честному, как военного посла, передать честное предупреждение. И от ненависти я стал хитрым и быстрым. А вам мало — захватить весь мир! Вы со мной еще «решили вопрос положительно», и вам нравятся мои данные... Нет! Я твердо знал: лучше разобью себе голову об их проклятый корабль, но ничего не дам с собой сделать! Я, как собака, чуял, что делать хотят нехорошее. И чутьем понимал, что единственное спасение — держаться как можно дальше от «посредников». Насмотрелись мы со Степкой, как действуют эти «посредники», так что я твердо знал одно: они действуют не дальше, чем в трех шагах. «От корабельного бластера не убежишь», — подумал я и ответил себе вслух: — А плевать, пусть жжет... — Ты о чем? — мирным голосом спросил Квадрат сто три. Он выглядел, как Сурен Давидович, и говорил, как Сурен Давидович, но я отскочил, когда он шагнул ко мне. У меня только вырвалось: — Что вы хотите со мной сделать? Он все понимал. Он всегда и везде понимал все насквозь и сейчас, конечно, раскусил мой план — держаться от него подальше. Поэтому он уселся на корабельную опору и не стал меня догонять. Я заметил, что десантники при каждом удобном случае старались прикоснуться к «посреднику» либо к кораблю. Он сказал: — С тобою надо начистоту, Алеша. Я понимаю. Ну, слушай... И стал меня уговаривать. Я старался не слушать, чтобы не дать себя заговорить, утишить, чтобы не потерять ненависти и не прозевать ту секунду, когда он подберется ко мне и включит «посредник». Кое-что я запомнил из того, что он говорил. Через небольшое время их основные силы захватят столицы великих держав и вся Земля им покорится. Но тогда получится «трагическое положение», как он выразился, потому что дети, лет до пятнадцати-шестнадцати, не могут принять в свой мозг «копию». Для десантников это большая неожиданность, однако они уже придумали, как исправить положение. У них есть такие штуки, излучатели, от которых все растет страшно быстро. Все живое. В корабле, внутри, есть такой излучатель, и если я зайду внутрь, то за несколько часов вырасту на несколько месяцев. Это будет первой пробой, а потом они меня дорастят и до шестнадцати лет. Я сказал: — Не пойду. Не хочу. — Но почему, скажи? — Я вас ненавижу. Он стал объяснять снова. Говорил, что вся Земля станет счастливой и здоровой, что люди будут жить до трехсот лет, и не будет войн, и у всех будут летательные аппараты и механические слуги, и все дети будут вырастать до взрослого за несколько месяцев. Он сказал: — Вот какие будут замечательные достижения! И учти, Алеша: через некоторое время корабль стартует, а ты будешь внутри и сможешь смотреть через иллюминатор. Неплохо, а? Тут я едва не попался — посмотрел на корабль и представил себе, как он поднимается, а я внутри, не хуже Гагарина. А Квадрат уже вынул из кармана плоскую зеленую коробку. Я сразу очнулся и отскочил. Он поднялся и сказал очень нервно: — Уговоры кончены! Пять минут даю на размышления! Через пять минут включаю лучемет, и ты станешь маленькой кучкой пепла. Придется так поступить — ты слушал переговоры штаба. Будешь первой жертвой, очень жаль... Было видно, что Квадрат не врет, что ему жаль меня. Он побледнел, и у него печально оттопырились губы, но я упрямо пятился. И вдруг корабль ударил меня лучом. Это был не боевой луч, а просто слепящий, как горячая вода в глаза. Я вскрикнул и вслепую бросился направо, к проходу, под защиту откоса, и на четвереньках полез вверх, цеплялся за кусты. Скатился, налетел на упругую стенку защитного поля, оно отбросило меня, я перевернулся через голову, и Квадрат схватил меня, но при этом уронил коробку. Я стал рваться, сначала вслепую, потом стал что-то видеть, а десантник никак не мог освободить руку и подобрать «посредник». Я рвался и смутно слышал, что он меня еще уговаривает: «Детская солидарность... все дети мечтают вырасти... ты их предаешь... не хочешь им помочь вырасти...» Я быстро терял силы. Он повернул меня на бок, прижал, освободил правую руку и зашарил по откосу, подбираясь к «посреднику». Я видел, как он выдрал пучок мха, отшвырнул его, поймал коробку и опять выпустил, когда я ударил его головой, — при этом из брючного кармана выскочил пистолет с прилепленным к нему «опознавателем». После удара головой десантник перебросил левую руку и прижал пятерней мой подбородок и шею. Я стал задыхаться, в глазах побагровело, потемнело, я заскреб пальцами по земле, ухватился за что-то твердое. Вдруг ладонь, сжимавшая мое горло, отпустила. Я продохнул, дернул за твердое, чтобы вывернуться, и понял, что держу пистолет за рукоятку, боком. И в тот момент, когда десантник поднялся на колени и нацелился на меня зеленой коробкой, я попал большим пальцем в скобу и нажал спуск. Это был боевой пистолет, я узнал его. Макаровский, из тира. Полутонный удар его пули бросил Сурена Давидовича на бок. Он лежал в опаленной тлеющей куртке и сжимал в руках коробку.НА СВОБОДЕ
Я даже не подумал, что надо взять у него зеленую коробку, и не вспомнил о страшных лучевых линзах корабля. Меня спасло то, что проход был в глубоком ответвлении оврага и черный шар, заблестевший после выстрела поисковыми вспышками, не смог меня поймать. И еще то, что я сразу бросился наутек. Корабль был слишком хорошо замаскирован. Он мог пожечь весь лес в стороне, а вблизи было полно «мертвых зон». Я бежал. Лучи плясали над моей головой, каждый лист сверкал, как осколок зеркала. Уже шагах в пятидесяти от прохода я услышал стонущий гул корабля на подъеме и бросился на землю. Прополз под ветками ели, оказался в старой осушительной канаве и замер, весь осыпанный сухими еловыми иглами и чешуйками коры. Корабль гудел. Я хотел поставить пистолет на предохранитель, чтобы не выдать себя случайным выстрелом, — не было сил. Пальцы не слушались. Весь лес наполнился гудением. Но лучи больше не сверкали. Кое-что я соображал, хотя едва дышал и был отчаянно напуган. Вряд ли они захотят из-за меня демаскировать корабль, колотя лучеметами по всему лесопарку. Значит, надо уползать, не поднимаясь из спасительной канавы. Тогда мне будет угрожать только внешняя охрана — заяц-Девятиугольник. Корабль гудел довольно долго. Может быть, искал меня внутри защитного поля. Приподнялся и высвечивал каждый угол. Расчетчик, наверно, не догадался, что беглец получил обратно «опознаватель» и уже вышел из зоны. Были еще разные мысли, когда я лежал под сухой елью и полз по дну канавы. Что я — единственный человек на Земле, который знает планы пришельцев, и поэтому должен удрать во что бы то ни стало. И хорошо, что я — не убийца, потому что Сур регенерирует, как Павел Остапович. Что десантники нас в грош не ставят, если один заяц держит внешнюю охрану самого корабля. Хотя зачем его охранять при защитном поле, лучеметной головке, «летающих блюдцах»? Я полз долго, замирал при каждом шорохе. Потом канава окончилась, и надо было переползать просеку. Я вспомнил о «летающих блюдцах». Корабль мог их выпустить или приказать тем трем меня отыскивать. Они летают бесшумно. Хорошо, что лес такой густой. Заяц, конечно, тоже меня ищет. Почему-то я не особенно опасался зайца. Разряд у него самый низкий, и вообще не зверь, мелочь, а у меня — пистолет... Наконец я решился перепрыгнуть просеку и снова на животе пополз к шоссе. На обочине залег в третий раз. Странное там было оживление... Урчали автомобильные моторы, слышались голоса, ветерок гнал какой-то мусор по асфальту, бумажки. Пробежал десантник в сторону Синего Камня. Я помнил его в лицо, а как зовут, не знаю; маленького роста, худой, лоб с залысинами и большие глаза, темные. Он промелькнул, легко, быстро дыша на бегу. Я видел вблизи всего пятерых людей-десантников: гитариста Киселева, шофера такси, Сурена Давидовича, Рубченко и «Линию восемнадцать». Но сухого, опаленного выражения их лиц я никогда не забуду и ни с чем не спутаю. Мимо меня по шоссе пробежал десантник. Спустя двадцать секунд проехал фургон «Продовольственные товары» с болтающейся задней дверью, и я рискнул чуть высунуться и увидел, как большеглазого десантника подхватили в эту дверь. Внутри было полно народу. Только я спрятался — промчался велосипедист, низко пригибаясь к рулю, оскаленный, с черными пятнами пота на клетчатой рубахе. Под рубахой, на животе, при каждом рывке педалей обозначался квадратный предмет. Велосипедист промчался очень быстро, но я мог поспорить, что он тоже десантник. За ним проехали сразу несколько крытых грузовиков, и я не разобрал, кто в них сидел. Они казались набитыми до отказа. Следующая машина — серый «Москвич», как у Анны Егоровны. Я посмотрел в чистое, светлое вечернее небо. Там по-прежнему не было ни облачка, и самолетов тоже не было. Что же, наши пошли в наступление все-таки? Прошло не больше сорока минут из полуторачасового срока. Пятьдесят от силы. А если пошли, то почему без авиации? А потом, с чего бы пришельцам бежать к Синему Камню, мимо корабля? Они же к кораблю должны удирать. Непонятные дела... Я лежал у обочины. Мимо проезжали, пробегали, мелькали десантники — мужчины и женщины, молодые и пожилые. Я смотрел, изнывая от любопытства. Только что я думал, что с меня хватит на всю жизнь, лет на сорок наверняка, а тут захватило; я даже приподнялся, теряя выдержку. Как раз промчалась спортивным шагом компания молодежи из универмага. Они бежали хорошо, в рабочих тапках. Девчонки подвернули юбки. Нелкина подруга, кассирша Лиза, прыгала в белых остроносых туфлях с отломанными каблуками. Представляете?.. Справа провизжала тормозами невидимая машина, крикнули: «Давай!» Перед моим носом плавно прокатился велосипед без седока. Машина газанула, обогнала его и скрылась. Подъем здесь довольно крутой, — блеснув спицами, велосипед загремел в канаву за ближним кустом. От города непременно набежит пеший десантник и заберет велосипед. Сядет и поедет. А я что — рыжий?! Нет, вы посмотрите — «Турист», с восемью скоростями,новехонький... Чей бы это мог быть велосипед? Я оттащил его от дороги, опустил до отказа седло, спрятал ключи в сумку и поехал за десантниками. Теперь я сам не понимаю, как это получилось. Я же твердо помнил, что должен отыскать любую лазейку, уйти из Щекина и предупредить о готовящемся захвате главных столиц мира. И — забыл обо всем. Хотите знать, почему? Я решил, что Степка уже там, куда едут десантники, и я нужен ему. В лесу, проползая к дороге, я словно бы увидел очень ясно Степку и услышал его голос: «Давай сюда, живее!» Но когда я садился на велосипед, Степка уже никого не мог позвать на помощь.ИНСТРУКЦИЯ
Степан добрался к высоковольтной линии ровно в пять часов дня — по часам Вячеслава Борисовича. Большую часть пути он пробирался низом, по оврагу. Разодрал подол платья, потерял платок и едва разыскал его в кустарнике. Он все думал — догадается ли Вячеслав Борисович воспользоваться «посредником» и разгипнотизировать своих сотрудников? Насчет сознаний-«вишенок» он понимал не слишком ясно и поэтому называл это дело гипнозом. Про себя, конечно. Он вышел к высоковольтной линии на границе совхозных угодий, у плотины, за которой был пруд. В одном месте через плотину пробивалась тонкая струйка воды, и Степка напился и долго отплевывался песком. Вылез из оврага. Мачты высоковольтной были рядом. Теперь надо было отыскать хорошее укрытие, чтобы к нему нельзя было подобраться незаметно. Такое место нашлось сразу — сторожевая вышка птицефермы. Обычно на ней восседал сторож с двустволкой, «дед». Сегодня вышка была пуста. Уток тоже не было на пруду — загнали в птичники задолго до времени, понял Степан. При любой суматохе перебить столько уток невозможно, их тысяч десять, а может, и больше. Степка зажмурился и одним духом оказался на вышке. Знаете, не особенно-то весело за каждым поворотом ждать засады. Ему чудилась засада на этой вышке, как и везде. Но вышка была пуста. На крытой, огороженной досками площадке стоял табурет. В углу лежал огромный рыхлый валенок. Между досками имелись превосходные широкие щели, — сиди на валенке и смотри по сторонам. Степан так и сделал. Огляделся на все четыре стороны и никого не увидел. Где-то за домиками ссорились птичницы, и на шоссе урчала машина. Больше ничего. Теперь Степка мог спокойно прочесть инструкцию Портнова. «1. Иди к высоковольтной линии и спрячься как можно лучше. (Сделано — отметил Степка.) Дождись 19 час. 30 мин. и только тогда начинай действовать. Твоя задача: оставить телескоп без энергии к 19 час. 55 мин. Можно к 19 час. 45 мин., но не раньше!» «Правильно! — восхитился Степан. — Чтобы послать сигнал по радио, нужна электроэнергия, и она подводится к телескопу по этой высоковольтной линии!» «Ловко придумано, и как просто!» Он торопился дочитать до конца. «2. Ты должен порвать два провода высоковольтной линии между городом и совхозом. Одного провода тоже хватит, но два надежнее. Постарайся. 3. Чтобы порвать провода, выбери один из способов: а) Разбей выстрелами гирлянду изоляторов на любой мачте, чтобы провод упал на землю. Стой как можно дальше от линии и обязательно перпендикулярно линии. Ближе 50 метров не подходи — убьет током. Стой, обязательно сдвинув ноги вместе. Уходить после падения провода надо бегом, не торопясь. Следи, чтобы обе ноги на земле не были одновременно. Если придется встать, сразу ставь обе ноги вместе, подошва к подошве. Это необходимо потому, что электричество пойдет по земле. Две расставленные ноги — два провода, по ним пойдет ток и убьет. Помни: на земле одна нога или две ноги вплотную! б) Второй способ. У концевой мачты (совхоз, пруд) стоит белая будка, к которой спускаются провода. Надо разбить выстрелами изоляторы, к которым подходят эти провода (на крыше будки). Разбить две штуки, как можно ближе к крыше. Этот способ сложнее, так как с земли не видно той части изоляторов, которая на крыше...» Дальше читать было не к чему. Последняя мачта высоковольтной линии маячила своей верхушкой как раз на уровне площадки — четыре косые голенастые ноги и шесть гирлянд коричневых, тускло блестящих изоляторов. Под мачтой стоял аккуратный беленый домик. На его крышу, на три высокие изоляторные колонны, стекали с мачты яркие на солнце медные провода. Все это хозяйство было как на ладошке — щеголеватое и новое, и от него далеко пахло металлом. Мачта блестела алюминиевой краской, в побелку домика наверняка добавили синьки, его двери-ворота были густо-зеленые, и даже плакаты с черепом и молниями выглядели весело и приятно. Из домика сбоку выходили другие три провода и по небольшим деревянным столбам тянулись к совхозной усадьбе. Портнов, конечно, не помнил про вышку у утиного пруда, а с нее хороший стрелок спокойно мог расстрелять изоляторы у самой крыши. Хоть все три. У-ру-ру! «Не «у-ру-ру», а идиёт, — осадил себя Степан. — Так тебе и дадут два часа здесь отсиживаться. Залез на пуп и воображает — спрятался!» Он же знать не мог, когда лез на вышку, что придется ждать до половины восьмого! Так что делать? Слезать? А после представится случай влезть обратно? Лучшего места не найдешь — стрельба с упора, из прикрытия... Почитаем-ка дальше... «в) Взломай дверь будки (висячий замок на засове. У двери справа подоткнут ломик, кот. закрывает створку). Бить по горизонтальным изоляторам внутри, справа от входа, с 15 м.». Час от часу не легче! Ломать замок, привлекая к себе внимание, да сколько времени провозишься... Последний вариант никуда не годился. Надо было выбирать один из двух предыдущих. Конечно, был и третий вариант — укрыться не на самой вышке, а поблизости и дождаться назначенного времени. Но где найдешь такое укрытие? Степка всмотрелся в цепочку высоковольтной передачи. Мачты и провода, массивные вблизи, казались вдалеке нарисованными пером на зеленой бумаге. Седьмая по счету мачта была выше предыдущих, потому что провода от нее шли над совхозным шоссе, и Степка вспомнил, что рядом с шоссе была копешка прошлогоднего сена. Маленькая, растасканная на три четверти коровами. Можно и там спрятаться... Ах, дьявольщина! Все бы ничего, догадайся он захватить запасную обойму. Если бить снизу, то два-три патрона обязательно уйдут на пристрелку, и останется всего по две пули на изолятор. Если не одна. А расстояние будет приличное. Он подсчитал, пользуясь Пифагоровой формулой: пятьдесят метров до мачты и тридцать высота... извлечь корень... Метров шестьдесят. Это при стрельбе вверх из пистолета, понимаете? И неудобно, и недолеты, к которым не сразу приспособишься — белого поля вокруг изоляторов нет, как вокруг мишени. Даже из винтовки едва ли попадешь, а из пистолета — гиблое дело. — А еще научный сотрудник, — злился Степка, раздергивая окаянное платье. Дьявольщина! Вячеслав Борисович должен был рассказать ему на месте, что требуется. Тогда он захватил бы не одну даже, а две обоймы в запас. Теперь вышка была единственным шансом на успех. Без нее даже одного провода не обрушишь, — попади снизу вверх, сам бы попробовал!.. Пыхтя от злости, Степка начал думать: нельзя ли добраться до кабеля, зарытого в землю? Ведь электричество только до будки подается по линии, а дальше в земле, по кабелю. Насчет кабеля он догадался сам — вокруг будки торчали палки с безграмотными плакатиками: «Кабель высокого напряжения. Без присутствия представителя облэнерго не копать». А чем копать? Ломиком? И чем кабель рубить? Он небось толстый и в стальной рубашке. Выкопаешь его, как же!.. Дьявольщина, как есть хочется! Степан решил оставаться на вышке. У него дрожали руки от усталости и голода. Как стрелок он стоил копейку с такими руками, стрелять снизу не стоило и пробовать. А если пришельцы такие продувные, что догадаются искать его, то найдут везде. Прекрасный план Вячеслава Борисовича висел на волоске... Чтобы придать себе уверенности, Степан выудил из кармана огрызок карандаша и на обороте инструкции написал боевой приказ. Открыть огонь в девятнадцать сорок пять... Так! До девятнадцати тридцати не открывать, хоть сдохни. Между этими временами — если будешь вынужден. Например, если они полезут по лестнице. Он хотел сжечь инструкцию и приказ, но спичек не было. Степка разорвал бумагу на мелкие клочья и засунул их в валенок.ВОЛОСОК ЛОПАЕТСЯ
Через час Степку поднял на ноги чрезвычайно пронзительный и громкий женский голос. На дальнем берегу пруда показались две женщины в белых халатах, и одна распекала другую, а заодно всю округу. — А кто это распорядился-я? — вопила она. — Три часа еще свету-у!! — Она набрала воздуха побольше. — А пти-ица недогули-инны-ы-я-я!! От ее пронзительного вопля задребезжали зубы и появилось нехорошее предчувствие. И точно: вокруг птичников поднялась суета, утки повалили на пруд, как пена из-под рук гигантской прачки... Степка плюнул вниз. По воде скользил челнок с бородатым дедом-сторожем. Он причалил под вышкой. Степка сидел как воробей — не дышал. — Тьфу, бабы... — сказал дед. Потом глянул на вышку и так же негромко: — Сигай вниз, кому было говорено! И угрюмо, волоча ноги, двинулся к лестнице. У самого подножия выставил бороду и просипел снова: — Нинка! Сигай вниз! Степан сидел, вжавшись в угол. От злобной растерянности и голода в его голове ходили какие-то волны и дудела неизвестно откуда выпрыгнувшая песня: «Нина, Ниночка — Ниночка-блондиночка!» А дед кряхтел вверх по лестнице. Он высунул голову из лестничного люка, мрачно отметил: — Еще одна повадилась... Сигай вниз! — и поставил валенок на место, в угол. — Не пойду! — свирепо огрызнулся Степан. — Буду тут сидеть! Дед неторопливо протянул руку и сжал коричневые пальцы на Степкином ухе. Тот не пробовал увернуться. Старик был такой дряхлый, тощий и двигался, как осенняя муха... Толкнуть — свалится. Степан не мог с ним драться. Он позволил довести себя до лестницы и промолвил только: — Плохо вы поступаете, дедушка. — Кыш-ш! — сказал дед. Степан скатился на землю. Эх, дед, дед... Знал бы ты, дед, кого гонишь... Он встряхнулся. Утки гомонили на пруду, солнце к вечеру стало жечь, как оса. «Гвардейцы не отступают», — пробормотал Степка и принялся выполнять второй вариант инструкции. Он мотнул вбок, огибая пруд по правому берегу, чтобы добраться до совхозного шоссе, а там к седьмой мачте. Времени и теперь оставалось много, больше часа, но Степка от злости и нетерпения бежал всю дорогу. На бегу он видел странные дела и странных людей. Провезли полную машину с мешками — кормом для птицы, — и наверху лежали и пели две женщины в синих халатах. Целая семья — толстый дядька в джинсах, толстая тетка в сарафане и двое мальчишек-близнецов, тоже толстых, несли разобранную деревянную кровать, прямо из магазина, в бумажных упаковках. Почтальонша остановила велосипед и крикнула: «По сорок пять брали?», а толстая тетка ответила: «В городе брали, в городе...» На воротах совхоза ярко, в косых лучах солнца, алела афиша клуба: «Кино «Война и мир», III серия». Вчерашнюю афишу, про певца Киселева, уже сменили. Большие парни из совхоза, в белых рубашках и галстуках бабочкой, шли к клубу. Степке казалось, что в такой хорошей одежде они не должны ругаться скверными словами, а они шли и ругались, как пришельцы. Все эти люди шли в кино, несли покупки, работали в вечерней смене на фермах, вели грузовики на молокозавод, ругались, даже пели, как будто ничего не произошло. Пролетела телега на резиновом ходу, запряженная светло-рыжей белогривой лошадью. Сбоку, свесив ноги, сидел длинный дядька в выгоревшем синем комбинезоне и фуражке, а лошадь погоняла девчонка с косичками и пробором на круглой голове, и лицо ее сияло от восторга. Занятый своими мыслями, Степка все же оглянулся и посмотрел вслед. Лошадь шла замечательно. Поправляя платок, он смотрел вслед телеге и вдруг внезапно насторожился и перебежал к живой изгороди, за дорогу. Прямо перед ним было картофельное поле, на днях засеянное. За темно-коричневой полосой поля зеленела опушка лесопарка, вернее, небольшого клина, выдающегося на правую сторону шоссе, к Синему Камню. По опушке, перед молодыми сосенками, перебегал человек с пистолетом в руке. Он двигался справа налево, туда же, куда и Степка. Вот он остановился, и стало видно, что это женщина в брюках. Она смотрела в лес. Пробежала шагов двадцать, оглянулась... Погоня. «Опять женщина», — подумал Степан. Он давно полагал, что женщин на свете чересчур много. А пришелец не слишком-то умный — бегает с пистолетом в руке. Еще бы плакат нес на палке: ловлю, мол, такого-то... Только почему она смотрит в лес? Дьявольщина! Как было здорово на вышке! Загрохотало, завизжало в воздухе — низко, над самым лесопарком и над дорогой, промчался военный винтовой самолет. Были заметны крышки на местах убранных колес и тонкие палочки пушек впереди крыльев. Женщина на опушке тоже подняла голову и повернулась, провожая самолет. И парни на дороге, и две девушки в нарядных выходных платьях проводили его глазами. Было очень странно знать, что они даже не подозревают ничего. Один парень проговорил: «Во дают!», а второй, сосредоточенно пыхтя, расстегнул свой галстук сзади на шее и пошел дальше, а девушка взяла у него галстук и спрятала в сумочку. Пришелец решительно отвернулся от леса и направился прямо к Степану. И хотя он никак не мог проникнуть взглядом за кусты, Степка кинулся наутек в прежнем направлении, обогнал компанию с галстуком, и в эту секунду загрохотал второй самолет. Один самолет мог случайно пролететь над лесопарком. Но два!.. Алешка с докторшей добрались, у-ру-ру! Степка из-за кустов показал женщине нос. И увидел, что она стоит с задранной головой посреди поля и держит в руках не пистолет, а какой-то хлыстик или ремень. Потом она повернулась спиной к дороге и совхозу и, пригнувшись, стала смотреть в лес. Присела на корточки. И из леса выскочил странный белый зверь и широченной рысью помчался по опушке... Да это же собака, знаменитый «мраморный дог», единственный в Щекине! Его хозяйка — дочка директора телескопа! Степка даже засмеялся. Он же прекрасно знал, что эта самая дочка тренирует собаку в лесопарке. Вот она, в брюках, а в руке у нее собачий поводок... Он стоял со счастливой улыбкой на лице. Нет за ним погони, а докторша с Алешкой добрались! Уже прошли первые самолеты. Сейчас пойдут войска на вертолетах, волнами, как в кино, и густо начнут садиться вокруг телескопа, и солдаты с нашивками-парашютами на рукавах похватают пришельцев, заберут ящики «посредников», и все! Но вечерний воздух был тих. Степка воспаленными глазами шарил по горизонту — пусто. Над телескопом ни малейшего движения. «Дьявольщина! — вскрикнул он про себя. — Алешка же ничего не знает про телескоп! Он же сначала уехал, а после я узнал... Самолеты сделали разведку, ничего тревожного не обнаружили, и наши двигаются себе, не торопясь... А ну, вперед!» Он вздохнул, привычно оглянулся: на дороге позади спокойно, впереди тоже. А в поле... Женщина подбегала к опушке, а собака сидела, повернув морду ей навстречу, и держала в зубах здоровое полено. — Вот так псина, ухватила такое полено!... Вот так так... — прошептал Степка и непроизвольно шагнул с дороги. Полено уже было у хозяйки, а собака виляла хвостом. Степка пригнулся и побежал к ним через поле. Женщина в брюках открывала футляр для чертежей. — Вот так полено! — шептал Степан, подбегая к ним. Он даже не подумал, что в городе сотня таких футляров — коричневых, круглых, с аккуратными ручками. Вот упала бумага, подложенная под крышку. Потянулась нитяная масляная ветошка... Женщина повернула к Степке румяное лицо, приказала собаке: «Сидеть!» Из футляра торчала еще ветошь. Степка сказал: — Это мое. Я потерял... а. Собака дышала — «ха-хах-хах» — и с неприязнью смотрела на Степана. — Твое? Возьми, пожалуйста, — приветливо сказала дочь директора телескопа. — Зачем же ты раскидываешь свои вещи? — Я не раскидывала, — сказал Степан, понемногу отходя. — Я спрятала... там. — Он махнул в сторону шоссе. — Вижу, собака... Спасибо! — крикнул он и побежал, пока эта немолодая румяная женщина не передумала и не спросила что-нибудь лишнее. Она, впрочем, и не собиралась спрашивать. Позвала собаку и побежала с ней в лес.ОГОНЬ!
Степан сунул руку под ветошь. Бластер лежал, как его укладывали в тире: хвостовой частью вверх, обмотан тряпкой. Удача. С таким оружием не изолятор — целую мачту свалим в два счета... Как его нести? Эти через Сура должны знать, в чем упаковано их оружие. Степан выкинул чехол и понес бластер, оставив его в масляной тряпке. Значит, Анна Егоровна не добралась с Алешкой. Их перехватили, и они выкинули бластер из машины, думал Степан. Он знал, что сейчас не время думать о постороннем. Сейчас все постороннее, кроме дела. Точно к половине восьмого он вышел на луг между седьмой и восьмой мачтами и увидел прошлогоднюю копешку. Кругом опять ни души. День был такой — пустынный. Он сказал вслух фразу из «Квентина Дорварда»: «Все благоприятствовало отважному оруженосцу в его благородной миссии». Покраснел. Улыбаясь, что все так великолепно получается, выбрал место — замечательное место! Луг пересекала канава, узкая и глубокая. Откос ее давал опору для стрельбы вверх. Степан не торопясь отмерил шестьдесят метров от опоры, спрыгнул в канаву и лег на левый бок. Развернул бластер и удивился, как удобно сидит в руках чужое оружие. Оно было не круглое, а неправильное, со многими вмятинами и выступами. Рука находила свои вмятины и выступы — сидело, как влитое. Чтобы выстрелило, надо нажать сразу оба крылышка у рукоятки — вот так... Он уперся носками в землю, рыхлую на откосе, установил левый локоть, чуть согнув руку, и убедился, что бластер лежит прочно и не «дышит» в ладони. Поставил его на линию с правым глазом и верхушкой мачты, а двумя пальцами правой руки сжал крылышки... Шшихх! Вздрогнув, бластер метнул молнию, невидимую на солнце, но ярко, сине озарившую изоляторы. Когда Степка смигнул, стало видно, что одна гирлянда изоляторов оплавилась, но цела. И провода целы. Дьявольщина! Этой штукой надо резать, как ножом, а не стрелять в точку! Тут в вышине что-то блеснуло, за мачтой, далеко вверху. «В глазах замелькает от такого», — подумал Степан, прицелился под изоляторы и повел бластер снизу вверх, не отпуская крылышек, — шшихх! шшихх! Третьего выстрела не получилось, а блестящий кристалл головки стал мутным. Один провод — ближний — валялся на земле. «Можно и один, но лучше два», — вспомнилась инструкция Вячеслава Борисовича. Бластер больше не стреляет... «Дьявольщина и дьявольщина!» — пробормотал Степка, положил бластер и выудил из-под платья пистолет. Над проводами снова блеснуло, как маленькая, круглая радуга в бледном небе... Сильно, страшно кольнуло сердце. Он прыжками кинулся под копну, молния ударила за его спиной, ударила впереди. Густо, дымно вспыхнула копна. Над первыми струями дыма развернулся и косо пошел вверх радужный диск. Полсекунды Степка смотрел, не понимая, что он видит и какое предчувствие заставило его бежать. Но тут диск опять стал увеличиваться. Ярче и ярче вспыхивая на солнце, падал с высоты на Степку. Он снова помчался через весь луг зигзагами. Полетел в канаву, и вдруг его свело судорогой. Выгнуло. В глазах стало черно и багрово, и крик не прорывался в глотку. «Погибаю. Убивает током», — прошла последняя мысль, а рука еще сжимала пистолет. И последнее он чувствовал, как ток проходит из пистолета в руку. Несколько секунд «блюдце» еще висело над канавой. Потом, не тратя заряда на неподвижную фигурку в голубом платье, переместилось к бластеру, втянуло его в себя, косо взмыло над лугом и скрылось.ИСХОД
...Все пешие бежали по шоссе и, вкатившись на бугор, я увидел, как впереди их подсаживают в машины. Последняя «Волга» обогнала меня на спуске; она шла пустая, не спеша — та самая черная «Волга». Один водитель. Значит, всех подобрали. Дальше я ехал один, изо всех сил нажимая на педали. С бугра у автобусной остановки я не успел рассмотреть, сворачивают ли машины направо, к телескопу. Но полсотни машин, промчавшихся одна за другой, налоснили мягкий асфальт до блеска, оставили такой след, что не собьешься. Я свернул за ними и поехал к телескопу. С каждым оборотом колес я боялся все больше, а остановиться не мог. Почему-то запало в голову, что увижу там Степана, понимаете? ...Садилось солнце, обойдя свой круг по небу. Чаша телескопа стала ажурной на просвет, как черная частая паутина. Она поднималась и росла, пока я подъезжал. Закрыла полнеба, когда я вырулил на асфальтовую площадку перед воротами. Площадка была забита пустыми машинами. Вкривь и вкось, вплотную к воротам и дальше, по песчаной обочине, стояли автобусы, бортовые грузовики и самосвалы, зеленые «газики» и «Волги». Торчали, как рога, велосипедные рули. От «Москвича», угодившего радиатором под заднюю ось самосвала, растеклась лужа, клубящаяся паром. Я прислонил велосипед рядом с другими. Прислушался. Из-за забора доносились странные звуки. Завизжали женщины, глухо заревели мужские голоса, бахнул выстрел. Коротко, сильно вскрикнула женщина, забубнили другие голоса. И все стихло. В этот момент я увидел на кабине грузовика, ближнего к воротам, десантника с бластером. Он сидел спиной к радиатору. Когда я просунулся между машинами, он сделал бластером выразительное движение: проваливай. С его сапог капала вода. Он угрожающе поднял бластер — я отскочил и, пригибаясь, пробежал вокруг площадки к забору и полез на холм. Здесь склон круто уходил вверх, так что бетонные звенья забора напоминали лестницу с четырехметровыми ступенями. Под нижней частью каждого звена оставалась клиновая щель, присыпанная песком. Неаккуратно заделано, почти везде я мог поднырнуть под забор. Но дальше по склону маячила фигура с черточкой винтовки наперевес, и я боялся оторваться от кустарника. Лишь когда он повернулся спиной и пошел вверх, я подскочил к забору, поднырнул, оказался на той стороне и сразу плюхнулся лицом в молодые лопухи — десантник с бластером поднялся на кабине и смотрел на холм. Он постоял и сел, прогрохотав сапогами. Я кинулся наверх, к ближнему дому. Крики доносились сверху, волнами. Сначала вскрикивает один, потом несколько голосов, потом строгий мужской окрик — и тишина. После тишины, через неравные промежутки времени, все повторялось. Я пробежал к дому, обогнул его по бетонному борту фундамента, мимо двери черного хода, и высунулся за угол. Никого. Совсем близко женский голос кричал: «Господи, что же это!», и сдавленный мужской голос: «По какому праву...», и властные, ревущие крики: «Лицом внис-с! Руки за гол-лову! Лежать!» Обмякнув, держась за водосточную трубу, я смотрел на следующий угол, из-за которого теперь слышалась тишина, и тут же следующий вскрик и безжалостная команда: «Руки за гол-лову. Ле-ежать!». И еще. И еще. И крякающий звук удара. Я отполз за угол. Оглянулся. Новый звук нарастал и постепенно наполнял холодеющий закатный воздух. Задребезжали стекла в доме. Мне показалось, что воет и дребезжит у меня внутри от страха и одиночества. Звук стал оглушительным, и, не помня себя, я вскочил в дверь — створка пела и ходила ходуном, — и внезапно все смолкло. А передо мной была стеклянная стена вестибюля. Она выходила на ту сторону дома. Очень близко, перед самыми стеклами, стоял корабль пришельцев. Из-под широкой плиты еще вылетали струи пыли, он устанавливался, покачиваясь. Кроме него, я мог видеть только небо. Я думал, что не хочу видеть ничего, и в эту секунду из-за корабля полезла вверх серая и зеленая пелена, стали подниматься кусты, белая полоса дорожки, черный диск клумбы. Небо закрылось. Это корабль поставил вокруг себя защитное поле, как в овраге. Поле как бы изогнуло пространство перед стеклянной стеной. Теперь я видел площадку справа от корабля. По ней тесно, как бревна в плоту, лежали люди. Лицами вниз. Их было человек сто, у всех руки закинуты на затылки. Над ними, спинами ко мне, стояла редкая цепочка десантников — только мужчины, с пистолетами и винтовками наготове. Когда лежащие приподнимали головы или вскрикивали, десантники подскакивали к ним и били ногами или прикладами. Слева, из-за корабля, непрерывно подводили новых — полубегом, с руками, вывернутыми за спину. Швырком укладывали вплотную с остальными. Прежде чем я опомнился, уложили человек десять. Я опомнился, когда подвели и швырнули на землю худого, большеглазого десантника, которого я первым увидел на шоссе. Он хрипел: «Здесь я почему? Здесь, здесь я почему?» Что творится, это они своих! Вот кассирша из универмага плачет и пытается снять туфлю с отломанным каблуком... А вот и Нелку приволокли и орут на нее: «Рук-ки за голову! Лежать!» Я пробежал по пустому вестибюлю налево и увидел, откуда их тащат. Из очередей. Аккуратно, в затылок, стояли цепочки десантников, как в очереди за билетами в кино. Три очереди, и в каждой, наверно, по полсотне людей или больше. Через стекла было трудно смотреть — внутри защитного пузыря все получалось изогнутым, искаженным, особенно с края площадки. Но я рассмотрел, что средняя очередь тянулась к седому — Линии восемнадцать. Он стоял лицом к очереди, держась вытянутыми руками за зеленый столб. Десантники спокойно один за другим приступали к столбу, вынимали «опознаватели» и сразу, как от удара, подгибали ноги и сваливались на руки заднему. Тот держал, а сбоку подскакивал здоровенный десантник и уводил ударенного, выкручивая ему руки на ходу. Задний, освободившись, сам шагал к столбу и тоже падал. А здоровенные непрерывно сновали между очередями. Хватали, выкручивали, тащили направо. Их было много, потому что в двух боковых очередях творилось то же самое и так же непрерывно. Там десантники подходили не к зеленому столбу, а к зеленым ящичкам в руках Киселева и Потапова. Боковые очереди двигались медленнее, но так же неуклонно, спокойно. Без страха. Словно не видя, что им предстоит: обморок, выкрученные руки, и лицом в землю, или на бетон. А вот их уже кладут прямо на клумбу... Высокий золотоволосый парень то и дело менял Киселеву и Потапову зеленые ящики. Директор телескопа профессор Быстрое тоже стоял в очереди, я узнал его по черной шелковой шапочке. Он благодушно улыбался. И вдруг на площадку выбежал его пес, который уволок бластер от корабля. И стал в очередь! Тогда профессор засеменил к седому, показал на собаку. Седой резким, злым движением сунул его без очереди. Профессора увели двое здоровенных, не выкручивая ему рук, посадили в сторонке. Кто-то подошел к собаке, и она кивнула — я сам видел! — и оставила очередь. Бросилась направо, присоединилась к тем десантникам, которые стерегли лежащих... Там уже набралось сотни три, они лежали рядами, и стоял сплошной вой и грохот. Некоторые пытались садиться, кричали, охранники прыгали как бешеные и всё чаще стреляли над головами. И собака стала носиться между рядами и бить корпусом тех, кто садился... Она сразу навела порядок, только очень уж страшно стало смотреть. Я чуть с ума не сошел. Я же не знал, что человек совсем ничего не помнит, когда десантник из него высаживается. Я думал, хоть немного должен помнить. А эти несчастные люди! Многие из них с утра носили в себе десантника, и вдруг — вечер, пальба и удары сапогами! После я узнал, что никто из них не видел очередей к «посредникам». Вернее, не помнил. Их били, толкали и орали страшно, но заставили всех лежать вниз лицами. И, наверно, так было лучше. Увидели бы они очереди — наверняка бы рехнулись. Я совсем уже рехнулся, но тут появился заяц-Девятиугольник. Он шариком проскочил под ногами, подпрыгнул к столбу, и вся очередь загоготала, а передний поймал его за ухо, вынул «опознаватель» и, подержав зайца у столба, бросил его на землю. Ох, как же он удирал!.. Он мелькал вверху и внизу, он снова стал простым толстым зайцем и не мог выйти из защитного поля! Когда он последний раз сиганул за кораблем, очереди уже иссякли. Здоровенные десантники подбегали к седому — он по-прежнему стоял у «посредника» и бесстрастно смотрел, как Киселев и золотоволосый верзила подхватывают десантников и расшвыривают кругом площадки. Тела падали бесшумно, потому что справа всё громче орали люди и бешено, хрипло рычала собака. Через секунду упал и седой. Я вдруг увидел, что он лежит у «посредника» и Киселев перешагивает через него. Киселев вдвоем с верзилой подхватили зеленый столб «посредника», потащили его к кораблю; верзила на ходу сшиб кого-то кулаком. Открылся люк. В него всадили «посредник» и мешок с бластерами. Пес метался перед люком, отшвыривал всех, кто пытался подойти. Какая-то женщина стояла, зажав себе рот двумя руками, и вдруг вскрикнула — верзила заглянул в люк и стал падать медленно, как сосна. Сейчас же у корабля оказался пес. Оскальзываясь лапами, поднялся на дыбы, приложил морду к люку и упал навзничь, как человек. Киселев был последним. Не спеша, покачивая бластер на шнуре, оттащил рыжего от корабля. Откатил собаку, как мешок. Подошел к люку. Бластер спустил в люк, а шнурок спрятал. Приладился, держась одной рукой за край отверстия и свесившись всем телом наружу. Я отчетливо помню, как он висел на руке, а на него и на корабль смотрели несколько очнувшихся людей. Он крикнул: — Отойдите! Отойдите, болваны! — и покатился к ним под ноги. И тут же с звонким хлопком исчезло защитное поле. Сумеречное небо упало сверху, как занавес. Открылись вечерние холмы, дорога, цепочка квадратных машин на ней. Загремели, запели стекла — медленно и плавно, как лифт, поднялся корабль, песчаные вихри забарабанили по окну перед моим лицом. Неловко, хватаясь друг за друга, вставали люди. Киселев смотрел то вверх, то на черную тесьму от гитары, которую вытащил из кармана. Огромный пес сидел рядом с профессором и пытался лизнуть его в щеку, а тот слабо отталкивал его и смотрел в небо, придерживая шапочку.УШЛИ!
Я отвалил тяжелую стеклянную дверь и нерешительно вышел из укрытия. Понимая, что пришельцы отступили, я боялся в это поверить, хотя и видел яркую радужную кляксу, уходящую в зенит. От нее кольцами разбегались по небу веселые кудрявые облака. С тех пор я не люблю смотреть на облака, быстро бегущие по небу. Еще несколько минут я был в сознании. Стоя на крыльце, пытался понять, кто передо мной — десантники или уже люди. Из толпы на меня смотрел полковник Ганин. Он мотал головой, поправлял галстук, будто его душило, и отряхивал о колено фуражку. Полковник попался пришельцам позже всех и поэтому кое-что понимал. Увидев, что я вышел из двери, он шагнул ко мне и спросил: — Ты что-нибудь знаешь? — и показал в небо. — По-моему, они ушли, — сказал я. Он кивнул. Пробормотал: «Как бы знать, где упасть», опять поправил галстук и крикнул: — Внимание! Внимание!! Военнослужащие — ко мне! Стало тихо. Или у меня в голове стало тихо. Помнится, Ганин приказал нескольким военным и милиционерам собрать оружие и быстро пошел к воротам. А я бежал за ним, чтобы рассказать о планах пришельцев, но у меня язык не поворачивался, потому что час тому назад сам полковник предложил этот план — с захватом Москвы, Нью-Йорка и Лондона, — и я все еще не вполне верил, что полковник больше не пришелец. И так мы вышли к воротам, навстречу бронированным машинам парашютистов, разворачивающимся вокруг ограды телескопа, и больше я ничего не помню. Только большие колеса и синий дым выхлопов... Остальное я знаю от других людей. Как парашютисты сдвинули машины вокруг холма и предупредили в мегафон, чтобы никто не выходил за ворота, иначе будут стрелять. Полковник не решился ослушаться, а я проскочил в калитку и побежал к ближнему бронетранспортеру, под дулами пулеметов, напрямик. Говорят, я влез по броне, как жук, и стал кричать: «Где у нас командир?» — и меня соединили по радио с командирской машиной и убедили, чтобы я все сказал в микрофон. Я сказал насчет пришельцев, а потом вспомнил о Сурене Давидовиче и так заорал в микрофон, что командир полка приказал отвезти меня в лесопарк. Я потерял сознание только в овраге: показал на Сурена Давидовича, лежащего в русле ручья, и сам упал. Сурен Давидович остался жив, у него даже астма прошла. Он поправился раньше меня. Мы с ним лечились в одной больнице, и он ходил меня навещать, когда я еще не мог голову поднять с подушки. Я болел долго, целый месяц, и едва не помер. У меня была «нервная горячка с сумеречным состоянием» — так объяснила Анна Егоровна, которую я увидел, как только открыл глаза. Ее и Степку. Ему-то повезло, он почти не пострадал от удара электрического тока, лишь волосы немного вылезли и на правой ладони остался шрам от ожога. Конечно, он бы не отделался так легко, если бы не защитные аппараты на электростанции. Они выключили линию через несколько секунд после того, как упал провод, так что на Степкину долю пришлась секунда или две, а потом он очнулся. Но занятия в школе он запустил не меньше моего. Весь месяц он торчал у нас в больнице, и даже Анна Егоровна не могла его отвадить. Анна Егоровна меня спасла. Она, правда, леденеет от злости, когда ей об этом говорят. Мою мать она выставила из своей квартиры вместе с подарками. Представляете, мать явилась к докторше и стала называть ее «благодетельницей»! Да еще совать ей отрез на пальто! С Анной Егоровной шутки плохи, точно вам говорю. Когда ей в райкоме не поверили насчет пришельцев, она подняла такую бучу, что секретарь райкома все-таки приказал послать в Щекино вертолет. Тот, который видел Степка, проезжая к телескопу. На вертолете прилетели райвоенком и седой начальник — Титов его фамилия, — чтобы разобраться на месте и доложить. Понятное дело, пришельцы подсадили к седому Линию восемнадцать и к майору тоже подсадили «копию», и они доложили, что в Щекине все в порядке, а докторшу надо отправить в сумасшедший дом, чтобы не устраивала паники. Что было в следующие полтора часа, Анна Егоровна не рассказывает, но я себе представляю, как ей было худо и как она честила меня за бластер. Ведь если бы она показала в райкоме оружие пришельцев, ей сразу бы поверили... В общем, через полтора часа позвонили уже из обкома партии и приказали доставить Анну Егоровну в областной центр, потому что за это время Вячеслав Борисович Портнов сумел включить радиостанцию телескопа и передать радиограмму прямо в Москву. И Москва приказала действовать решительно. Щекино стали окружать парашютной дивизией, вылетел вертолет с полковником Ганиным. Уже не для разведки, а с предупреждением об атомной атаке. Это была настоящая военная хитрость. На самом-то деле решили вести наступление на бронированных машинах и никого не подпускать к машинам. Теснить пришельцев, не давать им передвигаться по городу и по дорогам, загонять в укрытие, пока ученые не найдут способа обезвредить «посредники». Ведь чтобы захватить нового человека, пришелец должен подобраться к нему вплотную. А сквозь броню «посредники» не могли действовать даже на самом малом расстоянии. Помните, для того чтобы захватить Сурена Давидовича, гитарист присунул зеленую коробку к замочной скважине в двери подвала? Там дверь обита тонким железом, и то пришлось к замочной скважине, а на танках броня толстая, так что парашютистам угрожали только лучеметы. Ну, это уж на войне так на войне... Полковник Ганин об этом плане ничего не знал. Ему сказали совершенно определенно: «Посылаем вас на смерть. Если противник вас задержит и не выполнит условий ультиматума, мы будем вынуждены атаковать ядерным оружием». Это было жестоко, но другого выхода у нашего командования не было. Знай Ганин, что угрозу не собираются привести в исполнение, то и пришельцы бы узнали это очень скоро, подсадив в парламентера «копию». А так он, превратившись в Линию восемь, с полным убеждением оповестил пришельцев о предстоящей атомной атаке. Дальше понятно. Пришельцам вовсе не улыбалась перспектива атомного нападения. Кстати, им в Щекине уже нечего было делать — сквозь танковое кольцо без потерь не прорвешься. И они задумали свою хитрость. Сделать вид, что уходят насовсем, но прежде навести основные силы прямо на столицы великих держав. Для этого пришельцы должны были ровно в восемь часов вечера послать сигнал с радиотелескопа. Почему это не удалось, вы знаете.ЧТО МЫ ЕЩЕ УЗНАЛИ
Ну вот, я написал про все, как оно было. Довольно скучное занятие — писать. Скучнее, чем решать задачки по алгебре. Но Степка, который сам ничего не написал, а только мешался — здесь я напутал, тут забыл, — Степка говорит, что надо еще написать о наших разговорах с профессором Быстровым и полковником Паниным. Профессор вернулся из Москвы и навестил меня в больнице. Мы со Степаном тут же спросили его: зачем пришельцы устроили себе мороку с нашим телескопом? Своего передатчика привезти не могли, что ли? Профессор сказал, что могли, конечно, да все дело в антенне. При самой могучей технике антенна для дальней космической связи будет все равно большая и тяжелая, а захватчикам приходилось экономить на каждом грамме веса корабля. При необходимости они могли вооружиться такой антенной. А если до сих пор не было такой необходимости? Если в космосе им попадались до сих пор планеты, вообще не способные к защите? Взять хоть нашу Землю: по чистой случайности пришельцы наткнулись на нее в двадцатом веке. Всего лишь семьдесят — восемьдесят лет назад они совершенно спокойно сели бы в любом месте, не боясь ни танков, ни самолетов, ни атомных бомб, ни наблюдения со спутников. Тогда Земля была беззащитной, и разведочный корабль мог без спешки вернуться к армаде и привести ее с собой. Профессор сказал, что пришельцы еще за миллионы километров должны были поймать волны земных радиопередатчиков и догадаться, что на Земле — развитая техническая цивилизация. Возможно, способная на самозащиту. Поэтому они сначала послали к Земле автоматические разведчики, «летающие блюдца» например. Автоматы вернулись и доложили, что на голубой планете живет много миллионов разумных существ, контролирующих ближний район космоса. Что на Земле есть гигантские антенны, работающие на таких-то волнах и способные передавать направленные сигналы. Что в некоторых местах разумные существа селятся гуще, а в других почему-то реже; и в одном малонаселенном месте стоит прекрасная большая антенна. Автоматы наверняка вызнали еще какие-то подробности. Засекли все искусственные спутники, летающие вокруг Земли. По словам профессора, разведочный корабль сел как раз тогда, когда ни одного из известных ему спутников не было поблизости. Но самого важного автоматы просто не могли выяснить с воздуха. Уровень земной военной техники остался неизвестным для пришельцев. И они приняли очень разумный и осторожный план действий: послали маленький разведочный корабль, чтобы до высадки главных сил уточнить все детали. И для пущей осторожности решили не возвращать корабль десантников к большой армаде, а передать сведения разведки при помощи радиотелескопа, щекинского радиотелескопа, затерянного среди лесов и полей... План-то был хорош, но Земля оказалась для пришельцев настоящей шкатулкой с сюрпризами. Профессор Быстрое думает, что уже разделение людей по профессиям спутало все карты — ведь пришельцы узнавали только то, что хранили в своей памяти люди, к которым подсаживались «копии». Скажем, после пересадки первой же «копии» в монтера Киселева, они получили кое-какие сведения о водородных бомбах, танковых войсках и так далее. Но подробности, подробности! Нет подробностей... Киселев всего только монтер, а не генерал и не политик. Еще человек, еще, еще!.. И все впустую. В Щекине не нашлось ни одного профессионального военного, только отставные, как Сур и Рубченко. Так что пришельцы потеряли довольно много драгоценного времени, пока им удалось заполучить первого военного специалиста, того майора, что прилетел вместе с Титовым на вертолете. Но тогда они уже столкнулись с очередным сюрпризом, третьим по счету, считая вторым ядерное оружие. Они узнали, что детский, развивающийся мозг не принимает «копию». Профессор сказал, что, судя по разговору в подвале, космические захватчики еще не видывали такого. Наверно, на других планетах детеныши разумных существ родятся прямо с готовым мозгом. «Или не родятся», — добавил профессор, и мы — Сур, Анна Егоровна, Степка и я — не поняли, что он хотел сказать. Что значит — не родятся? — Например, почкуются, как наши земные кишечнополостные, — сказал профессор. — Скажем, пришельцы так и размножаются... — Ого! Есть такие сведения? Откуда? — удивилась Анна Егоровна. Профессор покивал своей черной шапочкой: «Есть». И повел речь о том, что оказалось для пришельцев четвертой неожиданностью. Степка успел мне наговорить о Мите Благоволине — еще бы! Восхищался, как Митя «во все проник, что твой рентген», и бегал в общежитие, пытался в городе узнать о Благоволине, — впустую. Комната была заперта, никто ничего не знал. Митя исчез, как сквозь землю провалился. И только сейчас, много дней спустя, мы узнали о его судьбе. Митю нашли в его комнате. Он лежал на полу — как был, в трусах, — и страшно бредил. Кричал, что он «второй пилот» и это тело ему не подходит. И его сразу подхватили — и в самолет, и в Москву! Если, он — второй пилот да еще тело не подходит, то не иначе как в нем забыли десантника... Быстрова тоже повезли в Москву, как специалиста по пришельцам. И только там уже поняли, что десантнику незачем было бы притворяться больным и кричать про неподходящее тело. Забытый пришелец постарался бы раствориться среди людей и разведать, как лучше устроить вторую попытку вторжения. Попросту Благоволин заболел той же нервной болезнью, что и я. Когда врачи подлечили его и разрешили говорить, Митя рассказал вот что... Он запер дверь за Вячеславом Борисовичем и Степкой, задвинул ее книжным шкафом. Десантники постучали в дверь — Митя не отвечал. Они постучали еще и включили «посредник». Комната была маленькая, и луч «посредника» через дверь и шкаф прохватывал ее до самого окна. Первая «копия» сразу приказала Мите отодвинуть шкаф, а Митя сопротивлялся, временами теряя самоконтроль и делая шаг к двери, но всякий раз пересиливал этого и пятился к окну. Потом потерял сознание и очнулся, лежа на полу. В кулаке — оконная ручка, выдернутая с шурупами, а этого в его мозгу не было. Шкаф стоял на том же месте, за дверью было тихо. Митя подошел, прислушался, и его второй раз ударили лучом — подсадили другую «копию», высокого чина, Линию, но и ей тоже не удалось совладать с Благоволиным. Третья или четвертая «копия» заговорила с ним о физике и едва неподчинила своей воле. Может быть, это была пятая «копия» — Митя уже путался в чужих сознаниях, которые пытались подмять, скрутить его сознание и, сменяясь, требовали: убери книги, отодвинь шкаф! А он выкидывал этих из себя, одного за другим, и уже все время сидел на полу, чтобы не расшибаться каждый раз при смене «копий». И не отодвигал шкаф. Потом к двоим в коридоре подошел кто-то из жильцов и строго спросил, что они делают здесь. К нему тут же подсадили пришельца, и втроем они навалились, вышибли хилый замочек, и шкаф стал отъезжать вместе с открывающейся дверью. Митя уже так выдохся, что смотрел на этот шкаф, лежа на полу, с бессильными слезами, и десантники ворвались в комнату и Митю связали. «Посредник» бил теперь в упор, после каждой пересадки десантники спрашивали: «Кто ты?», надеясь услышать личный номер «копии». Но Митя пересиливал ее и отвечал, как автомат: «Я с вами... на «ты»... не пил!» Ему все время внушалось что-то, внушалось, а он старался запомнить, урвать из памяти «копии» — он ощущал эту память, как свою, — старался запомнить, но не подчиниться. Так его, по-видимому, и бросили. Он совсем потерял сознание и не слышал, как десантники уходили. Да, вот была неожиданность для пришельцев! Взрослый человек не принимал «копий»! Почему десантники не приказали «телам» убить его? По свойственному им отвращению к убийству, наверно. Да Митя, по их мнению, и не мог быть опасным. Обычно, «тела» не помнили ничего. А Митя запомнил. Что пришельцы почкуются, как речные гидры, профессор узнал от него. Еще он запомнил, что десантным кораблем управляет одна-единственная «копия», ее номер — Точка, и на каждом десантном корабле «Точка» только одна. Что никакой вычислительной машины в корабле нет. Все «копии», лежащие в хранилище корабля, работают вместе, вычисляя курс и все, что потребуется, — думают, как один общий мозг. Это десантники и называли «Расчетчиком». Когда опустел большой «посредник», им приходилось собираться в общий мозг через «опознаватели». Точка подавала команду «К Расчетчику!» — и они собирались. Митя запомнил еще много, но профессор не стал об этом рассказывать. Это — первая в истории Земли международная военная тайна. Второй интересный разговор был с полковником Ганиным, ко уже при первом разговоре мы со Степаном поняли, что напрасно мним о себе, как о таких уж храбрых и заслуженных людях. Просто дети неуязвимы для «посредников» — и ничего больше. Если бы Угол сумел подсадить в меня «копию» на почте, либо Пятиугольник обработал бы нас в подвале... М-да, нам просто повезло. Всем нам просто повезло, что Земля оказалась такой необычной планетой. Так вот, насчет третьего сюрприза. Дети не принимали «копий». Поэтому Степка и сумел безнаказанно пронаблюдать все, что происходило у почты, и даже, благодаря своей неуязвимости, сумел пройти на телескоп, — ведь охраннику наверняка было поручено обрабатывать всех приходящих, как веселого старика Прокофьева, например. И мы попали в герои: то разузнали, об этом предупредили, и всякое такое. Полковник Ганин очень много сказал таких приятных слов, когда приезжал дарить нам со Степаном подарки от Министерства обороны. А мы снова воспользовались своим геройским положением и спросили полковника: пытались ли пришельцы нападать на столицы великих держав? Они же собирались. Полковник посмотрел на нас задумчиво и ответил: — По-моему, не пытались. — А точно вы не знаете? — На Москву не пытались, а за других не отвечаю. — Так они собирались! — сказал я. — Раздумали, — сказал полковник. — Я бы на их месте раздумал. Ведь ты остался в живых, и увезти тебя не удалось, а план они обсуждали при тебе. Если противнику стал известен план наступления, его положено отставить. Ясно? Я надулся от гордости и сказал, что сейчас, наверно, наши следят за космосом изо всех сил, чтобы не дать космическим захватчикам высадиться где-нибудь еще. Полковник посмотрел опять задумчиво и ответил: — Чего не знаю, того не знаю, — и стал прощаться. По его задумчивым глазам было видно, что он-то знает и что следят за космосом здорово. — А если бы Степка не отключил телескоп, тогда как? Они бы отставили свой план? — спросил я, когда полковник уже выходил из комнаты. Разговор был у нас дома. Я еще не ходил в школу. Больше лежал, ноги были слабые. И очень мне запомнилось, как полковник во всей парадной форме стоит у нашей двери, принимает у матери свою фуражку с шитым золотом околышем и говорит: — Степа Сизов свой долг выполнил честно. Это главное. Насколько же он попортил захватчикам игру, пусть они и прикидывают... У нас все благополучно пока. ...Да, все кончилось благополучно. Еще что замечательно: у Сурена Давидовича совсем прошла астма, а у профессора Быстрова сердечная болезнь. А Валерка как-то сразу подрос за это время, и если его пытаются обозвать «краснобровкин», тут же дает по шее. По-моему, у него и брови погустели, не такие уже розовые полосочки, как прежде. И ребята некоторые выросли — сразу на ладонь-полторы. Все кончилось благополучно. Только я никогда, ни за что не поднимусь больше на холм к телескопу. Даже на открытие памятника Вячеславу Борисовичу Портнову. Не могу и никогда не смогу простить себе и всем остальным, что мы кричали, радовались, перевязывали царапины. Вспомнить этого не могу. Мы были живы и радовались, а он, спасший нас всех, был мертв и лежал у стола радиостанции, вытянув руку. Он вернулся на машине к телескопу и прямо пошел в аппаратную. Часового обезвредил «посредником», закрылся в аппаратной и вызвал Москву. Он успел передать почти все, одного не успел — сказать, чтобы отключили высоковольтную линию, и тут пришельцы взломали дверь, схватили его, а он вырвался и застрелился. Пришельцы вынули из его руки пистолет и оставили Вячеслава Борисовича лежать. Мы не знали, что он там. Людей сажали в машины, они кричали «ура» и пытались качать офицеров, и все радовались, и никто не знал, что Вячеслав Борисович застрелился, чтобы не выдать Степана, и этим спас его, а может быть, и всех живущих на Земле.Б. Ляпунов ЛЮБИТЕЛЯМ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
Обозревая новое пополнение нашей книжной полки, задаешь себе прежде всего вопрос: что же было самым характерным в фантастике для последнего времени — года, двух? 1967-й и 1968-й годы. Это юбилейный рубеж советской научно-фантастической литературы, которой исполнилось полвека. В 1917 году появился роман Н. С. Комарова «Холодный город» (журнальный вариант под псевдонимом «Инженер Кузнецов» напечатан в том же году в «Журнале приключений»). В романе описывались жизнь и техника XXII века. А в 1918 году в журнале «Природа и люди» началось печатание повести К. Э. Циолковского «Вне Земли» — произведения, ставшего классическим в космической фантастике. Два истекших года прибавили немало интересного в библиотеку каждого, кто следит за новинками научно-фантастического литературного фронта. Как и раньше, вышло много романов, повестей, рассказов. Но особенное внимание фантастов привлекли малые формы. Появилось много сборников новелл и небольших повестей; немало их напечатано и в периодических изданиях. В этих произведениях представлены почти все направления, по которым развивается современная фантастика — от социального до сатирического, юмористического, сказочного. Писатели широко пользуются фантастикой в качестве приема, позволяющего поставить героев в необычайные условия и резче выявить их характеры, обрисовать по-своему их действия и поступки. Они все далее отходят от популяризации научных идей и технических достижений завтрашнего дня и стремятся искать и ставить проблемы психологические, моральные, философские. Наука, ее ближайшие, реальные перспективы уже не служат для них «поставщиком идей»: создается, как иногда говорят, «фантастическая наука» — плод свободного воображения. Идет своеобразный поиск, но этот поиск не оторван от будущей действительности. Вот один пример. Неведомые еще свойства пространства и времени фантасты нередко придумывают и применяют, чтобы описывать удивительные путешествия в космосе. А ученый-физик Б. К. Федюшин пишет, что уже существуют принципы межзвездных перелетов, носящие пока характер научного прогнозирования, научной мечты, и добавляет: «По нашему мнению, отыскание новых принципов межзвездных перелетов будет связано с дальнейшим изучением пространства и времени». Однако рамки фантазии не безграничны. Она не может вступать в противоречие с известными нам сегодня основополагающими законами природы и тем отличается от совершенно произвольного домысла, который зачастую встречается в некоторых произведениях западной фантастики. Оставаясь в этих рамках, воображение теперь, в эпоху смелых научно-технических дерзаний, обретает гораздо большую свободу, чем даже в сравнительно недавнем прошлом. Поэтому и создаются произведения, рисующие неожиданные, поразительные следствия открытий, о чем не мечтали фантасты всего десятилетия назад. Поэтому фантастика в целом переносит читателя даже не в Завтра, а в далекое Послезавтра, становясь в своих поисках все более смелой. «За последние тридцать лет в десятках тысяч рассказов и романов исследованы все мыслимые варианты будущего — и большая часть немыслимых тоже. На свете осталось мало такого, что в принципе может случиться и что не было бы описано в какой-нибудь книге или журнале», — пишет английский писатель-фантаст и ученый Артур Кларк. И Кларк прав: несмотря на то что у Грядущего, по выражению И. А. Ефремова, «миллиарды граней», фантастика пытается, обрисовать многие и многие из них. Не случайно футурологи, ученые, занимающиеся прогнозированием будущего, держат и ее в поле зрения, считая, что и писатель в какой-то мере «моделирует» ожидающее нас будущее. Но и события, которые могут совершиться в относительно близкие к нам времена, и даже в наши дни, события, казалось бы, невероятные, не исчезли совсем со страниц фантастики, так же, как и «загляд» в будущее сегодняшней, нефантастической науки. Не исчезла и форма приключенческого романа, наполненного научным содержанием, и книги, подобные, например, книгам Александра Беляева, с интересом читаются и сейчас школьниками, молодежью.* * *
В 1967-1968 годах, как и в предыдущие годы, также выходили сборники, альманахи, серии, библиотеки фантастики. Начала печататься новая «Библиотека советской фантастики», продолжен выпуск «Библиотеки всемирной фантастики», серии «Зарубежная фантастика». В нашем обзоре мы расскажем о новинках всех этих изданий и о произведениях, вышедших отдельными книгами, преимущественно в центральных издательствах. В сборник М. Емцева и Е. Парнова «Ярмарка теней» (издательство «Детская литература», 1967) вошли, помимо публиковавшихся ранее рассказов «Последняя дверь» и «Снежок», повести «Ярмарка теней» и «Возвратите любовь». В «Ярмарке теней» затрагиваются далекие перспективы биохимии, которая позволит усовершенствовать природу Гомо сапиенс, дать ему возможность существовать в необычных условиях, например, космоса, возвратить полностью память, накопленную в течение жизни, обрести способность все быстро усваивать и запоминать. Но основа повести — ход научной мысли, поиск ученых, изучающих тайны человеческого организма, и связанные с ним события. С исследованием не выявленных пока резервов, передачей мысли на расстояние, проблемами физики и космологии мы встречаемся в повести «Возвратите любовь», рассказывающей о трагической судьбе подвергшегося облучению человека. Мысли и чувства героя, столкнувшегося с неизведанным, его переживания и составляют основу произведения. «Всадники ниоткуда» — фантастический роман А. и С. Абрамовых, включенный в их одноименный сборник (издательство «Детская литература», 1968). Авторы описывают приключения, связанные с посещением Земли космическими пришельцами. Это необычные, с человеческой точки зрения, но разумные существа — розовые «облака», располагающие поразительными возможностями — вплоть до воспроизведения искусственным путем земных людей, воссоздания происходивших, в прошлом событий, моделирования происходящего на нашей планете. Заметим, что многие фантасты изображают теперь проявления внеземной жизни на высших ступенях ее развития совершенно непохожими на более или менее привычные формы. Идея существования «мыслящей плесени», высказанная академиком А. Н. Колмогоровым, находит своеобразное отображение ив фантастике. Иногда высказывается сомнение в возможности установить взаимопонимание с представителями цивилизации, резко отличной от земной. Но все же преобладает противоположная точка зрения. Ее придерживаются и Абрамовы: после неудачных попыток героям романа «Всадники ниоткуда» удается достигнуть контакта с посланцами, прибывшими из другой галактики. Повесть «Глаза века» в том же сборнике посвящена путешествию в прошлое людей из сегодняшнего дня. В него входят также фантастические рассказы «Мошкара», «Хэппи Энд» и «Четыре цвета памяти». Неизвестное вещество, попавшее на Землю из космоса; новое биологическое оружие — биомасса, способная питаться за счет человека; подсознательное в человеческой психике, позволяющее предвидеть будущее — таковы открытия и идеи, положенные в основу этих рассказов, приключенческих по форме. Ту же форму носят повесть «Хождение за три мира» и рассказы, составляющие сборник А. и С. Абрамовых «Тень императора» (издательство «Детская литература», 1967). Авторы используют в качестве фантастических посылок гипотетические идеи из области физики, биологии, кибернетики и других областей знания и строят благодаря им острый сюжет. И. А. Ефремов пишет по поводу остросюжетной формы произведений, в том числе и фантастических, что революционное преобразование мира и человека таит в себе неисчерпаемые возможности для фантастики и приключений, что темами приключенческих книг могут быть бесконечное разнообразие встреч, ситуаций, природных ландшафтов, открытий научных, этнографических и психологических. Романтика свершений, активной борьбы всегда будет привлекать в них молодого читателя. В 1967 году вышел фантастический роман М. Емцева и Е. Парнова «Море Дирака» (издательство «Молодая гвардия»; сокращенный вариант под названием «Черный ящик Цереры» печатался в альманахе «НФ», выпуск 5, 1966). «Черный ящик» — фантастическая сверхсовершенная кибернетическая машина. Вокруг открытия этой машины, обладающей поразительными качествами — возможностью изготовлять точные копии всевозможных предметов, — и разворачивается действие романа. Работа ученых, обстановка, в которой она происходит, — главное, что интересует авторов. Но события выходят за рамки научно-исследовательского института: роман имеет многоплановый характер и некоторые его эпизоды написаны как остросюжетный детектив. Возможности кибернетики грядущего — тема и научно-фантастического романа В. Савченко «Открытие себя» (издательство «Молодая гвардия», 1967). Герои его работают над созданием информационной копии человека — двойника, живущего, однако, затем своей самостоятельной жизнью. Конечной же целью они ставят разработку универсальной программы совершенствования человека, «чтобы ввести в мозг и тело все лучшее, что накоплено человечеством». Хотя в романе и происходят различные необычайные события, но главное внимание уделено будням науки, совершающей в конце концов прорыв в неведомое. Романтика открытия, удачи и огорчения, атмосфера творчества привлекает сейчас внимание ряда фантастов, и в их числе — автора романа «Открытие себя». Проблема контактов с иными цивилизациями, как мы говорили, уже давно занимает и фантастов, и ученых. Существует, впрочем, и проблема контактов с «цивилизациями» другого рода — людей и животного мира на собственной планете. Проводятся опыты по изучению языка дельфинов, исследуются удивительные свойства, которыми обладают многие живые организмы, стоящие на более низкой ступени развития, чем человек. Необходимо достигнуть взаимопонимания с животными, соседями человечества на земном шаре, надо искоренить жестокость по отношению к ним — такова основная мысль повести А. Громовой «Мы одной крови — ты и я!» (издательство «Детская литература, 1967). Мы можем встретить внеземные формы жизни, далекие от нашей, и общение с существами-соседями по планете — это своеобразная подготовка к контактам цивилизаций, которые ожидают нас впереди. Издательством «Детская литература» выпущен сборник научно-фантастических рассказов Г. Альтова «Опаляющий разум» (1967). Автор взял эпиграфом к сборнику слова философа Френсиса Бэкона: «Читай не затем, чтобы противоречить и отвергать, не затем, чтобы принимать на веру, и не затем, чтобы найти предмет для беседы, но чтобы мыслить и рассуждать». Возможно ли улучшить умственные способности, «вкладывать» знания, минуя процесс чтения? Возможно ли неограниченно увеличить продолжительность жизни и какими будут следствия бессмертия? Какими могут быть проявления деятельности чужой цивилизации в космосе? Эти и многие другие проблемы поднимаются в рассказах Г. Альтова. Осмыслить значение ряда гипотетических открытий, как бы продолжить в будущее и довести до завершения рождающиеся теперь предположения и догадки, показать людей, воплощающих самые смелые замыслы, — такова их задача. Рассказ «Порт Каменных Бурь» относится к жанру литературы гипотез, в нем высказываются мысли о судьбах Галактик в связи с деятельностью Разума. «Машина Открытий» — рассказ о фантастике и о науке грядущего, об идее машины, представляющей собой кибернетический аналог какой-то научной отрасли: она работает по составленной электронным центром программе, проводит множество вариантов исследований и определяет их дальнейшие пути. Геолог и писатель А. Шалимов выпустил сборник повестей и рассказов «Охотники за динозаврами» (издательство «Недра», 1968). Он включает, помимо ранее печатавшихся в других сборниках того же автора, рассказы «Тихоокеанский кратер», «Встреча на старой энергоцентрали» и «Возвращение последнего Атланта». Образование алмазоносных кимберлитовых труб на дне Океана, использование геотермической энергии земных недр, загадка легендарного материка Атлантиды послужили сюжетной основой этих рассказов. Кроме них, вышел сборник А. И. Шалимова «Тайна Тускароры. Призраки ледяной пустыни» (Гидрометеоиздат, 1967), включающий новую фантастико-приключенческую повесть «Тайна Тускароры». К фантастико-приключенческим относится и повесть Г. Голубева «Гость из моря» (издательство «Молодая гвардия», 1967). Исследователи разгадывают один из сокровенных секретов океанских обитателей — механизм их памяти и ее передачи, объясняющий многое в жизни и поведении населения глубин. Они встречают также гигантское животное — морского змея. В последние годы глубоководные аппараты не раз опускались на большие глубины, и ученым удавалось даже наблюдать неизвестных рыб и животных. Автор заглядывает в будущее подводных исследований, рассказывает о возможных приключениях экспедиций в недра Океана. Фантастический элемент мы найдем в приключенческих повестях Н. Томана «Преступление магистра Травицкого» и «Терра инкогнита» (сборник «Преступление магистра Травицкого», издательство «Детская литературе», 1968). Взаимодействие потока нейтрино-частиц, идущих из космоса, с внутренним ядром Земли; причины гибели гипотетической планеты Фаэтон; разоблачение эксперимента «общения со всевышним» с помощью кибернетической машины — обо всем этом рассказывает автор, описывая приключения своих героев. Приключенческий сюжет сочетает с научно-познавательным материалом А. Томилин в повести «Проект «Альфа К-2» (издательство «Детская литература», 1968). Этот материал касается радиосвязи с внеземными цивилизациями, проекта межзвездной экспедиции в систему Эпсилон Эридана, конструкции фотонного космолайнера и другой техники космических полетов, судеб звезд и окружающих их планет и иных физико-астрономических проблем. Автор избрал своеобразную форму изложения: в рассказ о приключениях двух школьников он вводит описание фантастического эксперимента по приему сигналов от других разумных существ, сообщающих об угрозе гибели своего мира; обсуждает возможность жизни на соседних небесных мирах; рассказывает об устройстве будущего звездолета, совершая мысленную экскурсию на корабль и приводя сообщения о его постройке; интервью с командиром экипажа о конкурсе проектов подобных кораблей и связанных с ним событиях. В 1967-1968 годах было переиздано несколько произведений научной фантастики. Среди них научно-фантастические романы Ю. Долгушина «Генератор чудес» (ГЧ) (издательство «Детская литература», 1967), Н. Лукина «Судьба открытия» (издательство «Детская литература», 1968), повесть-фантазия Е. Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» (издательство «Детская литература», 1968), сборник повестей и рассказов Г. Гора «Кумби» (издательство «Детская литература», 1968), в который вошли «Кумби», «Мальчик», «Необычайная история», «Странник и время». В альманахе научной фантастики «НФ» (издательство «Знание», выпуски 6 и 7, 1967) помещены повесть Г. Гора «Минотавр» и новые рассказы И. Варшавского, Г. Альтова, И. Росоховатского, Г. Гуревича, О. Ларионовой, Л. Обуховой, М. Емцева и Е. Парнова, А. Абрамова и С. Абрамова, В. Щербакова, В. Григорьева, В. Фирсова, А. Мирера, Ю. Лоцманенко. Раздел «Фантастика» имеется в альманахе «На суше и на море» (издательство «Мысль», 1968), в котором помещены произведения В. Михановского, М. Грешнова, О. Гурского и других авторов. Двадцать шесть авторов — из Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза — представлены в сборнике «Фантастика 1967» (издательство «Молодая гвардия», 1968). Многие из них впервые выступили в этом сборнике, а некоторые печатают свои первые фантастические произведения. Вместе с тем, читатель встретит и знакомые имена: Г. Альтова, С. Гансовского, Е. Войскунского и И. Лукодьянова, Б. Зубкова и Е. Муслина и других. Рассказы сгруппированы по разделам — «Пусть случится!», «Именем будущего обвиняем!», «Там чудеса?..», «Прошлое, которое с нами», «Смех сквозь звезды». В них затрагивается широкий круг социальных и научных проблем, поставленных и решаемых средствами фантастического жанра. Антологии советской фантастики отведены два тома «Библиотеки современной фантастики» (издательство «Молодая гвардия», том 14, 1967, том 15, 1968). В ней собраны повести и рассказы как фантастов старшего поколения (А. Казанцев, Л. Лагин), так и писателей, начавших работу в научно-фантастической литературе сравнительно недавно. В антологию включены произведения, написанные преимущественно в 50-е и 60-е годы и получившие известность. Они печатались ранее в периодике и отдельных сборниках. Собранные вместе, эти повести и рассказы дают представление о том, как развивалась фантастика двух последних десятилетий (в ее «малых формах», получивших очень широкое распространение). «Вглядываясь и размышляя», «Зов космоса», «Скрещивая шпаги», «С улыбкой», «Почти сказка» — таковы разделы обоих томов антологии. В них мы найдем повести Г. Гора «Мальчик», А. Громовой «В круге света», Н. Разговорова «Четыре четырки», памфлет Л. Лагина «Майор Велл Эндью», рассказы И. Варшавского, А. Днепрова, В. Сапарина, В. С. Савченко, Г. Альтова, В. Журавлевой, С. Гансовского, И. Росоховатского, Е. Войскунского и И. Лукодьянова, М. Емцова и Е. Парнова, Б. Зубкова и Е. Муслина и других фантастов. Антологии предпослана вступительная статья доктора исторических наук И. Бестужева-Лады «Сто лиц фантастики», характеризующая современное состояние и тенденции ее развития, связывающая фантастику с социальной прогностикой, изучающей конкретные аспекты будущего. Статья рассказывает и о произведениях, составивших антологию. «Библиотека советской фантастики» (издательство «Молодая гвардия») открывается сборником И. Ефремова «Сердце Змеи» (1967-й, переиздание — 1968-й, в него вошли также рассказы «Голец Подлунный» и «Озеро Горных Духов»). В 1967—1968 годах выпущено 9 выпусков библиотеки — сборников повестей и рассказов отдельных авторов, а также фантастический роман Е. Войскунского и И. Лукодьянова «Очень далекий Тартесс», «Космическая феерия» М. Руденко, «Волшебный бумеранг» и фантастическая трилогия М. Анчарова «Сода — Солнце». Повести и рассказы Д. Биленкина «Марсианский прибой», А. Львова «Бульвар Целакантус», повести А. и Б. Стругацких «Второе нашествие марсиан» и «Стажеры», рассказы В. Григорьева «Аксиомы волшебной палочки», Б. Зубкова и Е. Муслина «Самозванец Стамп» составляют содержание уже вышедших выпусков. Известные романы Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» и «Пища богов» переизданы в «Библиотеке приключений» (том 13, 1968, издательство «Детская литература»). Эти романы принадлежат к числу наиболее популярных произведений знаменитого английского фантаста. Переводы рассказов И. Зайделя, Ф. Рассела помещены в очередном выпуске альманаха «На суше и на море». С творчеством современных представителей зарубежной фантастики продолжает знакомить «Библиотека современной фантастики» (издательство «Молодая гвардия»). В 1967-1968 годах выпущены тома с 10 по 16, в которые вошла антология фантастических рассказов писателей Англии и США (том 10, ряд из них публикуется на русском языке впервые); роман-фельетон «Фабрика Абсолюта» и драма «Белая болезнь» Карела Чапека (том 11); фантастический роман Курта Воннегута-младшего «Утопия 15» (том 12); роман «Планета обезьян» и рассказы Пьера Буля (том 13); повести и рассказы Роберта Шекли (том 16). В серии «Зарубежная фантастика» (издательство «Мир») выпущены сборники произведений американских, английских, французских, итальянских, шведских, испанских, чешских, польских, венгерских, болгарских авторов, а также научно-фантастический роман американского писателя-фантаста К. Саймака «Все живое» (1968). Польский фантаст К. Борунь, известный у нас по рассказам, печатавшимся в периодике, и повести «Восьмой круг ада» («Библиотека современной фантастики»), представлен в серии сборником «Грань бессмертия» (1967), включившим, помимо одноименной повести, рассказы «Фабрика счастья», «Письмо», «Антимир» и «Токката». В сборнике польской фантастики «Случай Ковальского» (1968) мы найдем рассказы К. Боруня, Я. Зайделя, А. Чеховского, С. Вайнфельда, Ч. Хрущевского, Я. Бялецкого, М. Кучиньского, К. Фиалковского; болгарской фантастики «Человек, который ищет» (1968) — А. Донева, С. Стоилова, С. Славчева, С. Минкова, И. Вылчева, Э. Зидарова, В. Райкова и других. Переводы произведений некоторых из этих авторов уже встречались читателям, но подобные антологии представляют особый интерес, знакомя с современным состоянием фантастической литературы соседних стран. Среди сборников серии «Зарубежная фантастика» — сборники произведений писателей-нефантастов — «Пиршество демонов» (1968) и «Гости Страны Фантазии» (1968). Тем, кого интересуют вопросы развития фантастики, можно рекомендовать книги Г. Гуревича «Карта Страны Фантазии» (издательство «Искусство», 1967), Е. Брандиса и В. Дмитриевского «Зеркало тревог и сомнений» (издательство «Знание», 1967), Е. И. Парнова «Современная научная фантастика» (издательство «Знание», 1968), В «Карте Страны Фантазии» рассматриваются требования, которые, по мнению автора, должны предъявляться к фантастике. «Зеркало тревог и сомнений» — рассказ о современной англо-американской фантастике. «Современная научная фантастика» охватывает и советскую, и зарубежную литературу, характеризует их особенности и значение. Кроме того, в сборнике «О литературе для детей» (выпуск 13, издательство «Детская литература», 1968) помещены статьи о научной фантастике Г. Альтова и Е Брандиса, а в сборнике «Фантастика 1967» — библиография научно-фантастических произведений за 1917-1927 годы.СОДЕРЖАНИЕ

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1971г.
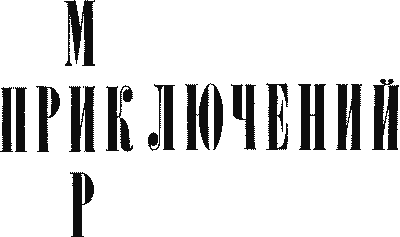

Редакционная коллегия: Н.М.Беркова, А.Г.Громова, Ю.В.Давыдов, И.А.Ефремов, А.П.Казанцев, М.М.Калакуцкая, Л.Д.Платов, Е.С.Рысс, А.Н.Стругацкий, Н.В.Томан.
Художник Ф.Б. Збарский
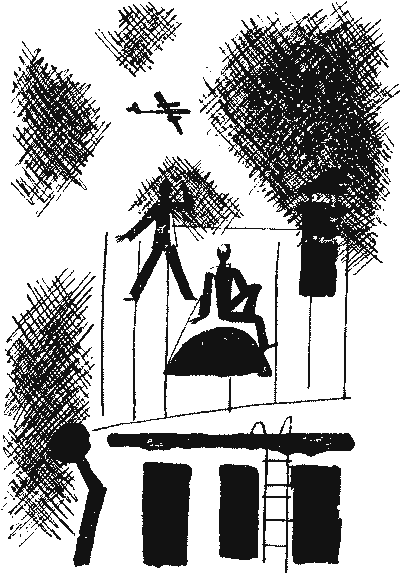
КАМИЛ ИКРАМОВ СКВОРЕЧНИК, В КОТОРОМ НЕ ЖИЛИ СКВОРЦЫ Приключенческая повесть
Этот скворечник
Мы сидели на крыше, вернее, в слуховом окне. Осколки снарядов то и дело дырявили старое, проржавевшее железо. Мы сидели молча, никому не хотелось говорить. Сережка сказал первый: — Зашел сегодня в магазин, а там — шаром покати. Скоро одни крабы останутся. Я понял, что Сережка думает о матери. Ведь он теперь кормилец! Я знал об этом, а Шурка еще не знал. — Интересно, для кого этих крабов делают? — сказал Шурка Назаров. — Я лично их ни разу не пробовал и не видел человека, который бы их ел. — Матишина один раз покупала, — сказал я. — Никто их не берет, а она назло. — И еще ячменное кофе “Здоровье”, — сказал Сережка. — Не ячменное, а желудевое, — поправил его Шурка. Сережка не стал спорить. Я тоже, хотя знал, что кофе ячменное, и даже не ячменное, а ячменный. Кофе, как это ни странно, мужского рода. Но Шурку не переспоришь. В магазине на Пятницкой из банок с крабами и пачек кофе были сложены целые пирамиды. За одним прилавком пирамида крабов, за следующим — кофе “Здоровье”. И ничего больше. Ну, там еще — лавровый лист, душистый перец, горчица. Остальное, как появится, сразу нарасхват. И очереди. — Сегодня они зажигалки кидать не будут, — сказал Шурка. В его словах не было ничего интересного. Фашисты теперь редко сбрасывали зажигательные бомбы. На массовые пожары они уже не рассчитывали. Теперь они кидали фугасные бомбы и старались целиться в важные объекты. — Глядите! — Сережка показал рукой. Но мы и сами видели, как за Крымским мостом три прожектора поймали вперекрест фашистский самолет. Возле нас стрельбы стало меньше. Зато там рвались снаряды. Там, в белом слепящем свете, готовился к смерти какой-то фашист. — “Юнкерс-87”, — сказал Шурка. Мы опять не стали спорить. Попробуй различи отсюда! Подбитых “юнкерсов” мы видели на площади перед Большим театром, в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького, когда там была выставка трофеев. Мы могли по звуку мотора отличить наш самолет от немецкого. Мы привыкли к шипящему посвисту осколков. Мы могли, или так нам казалось, по свисту отличить двухсоткилограммовую фугасную бомбу от полутонной, и мы не вздрагивали от свиста. Но теперь мы вздрогнули: где-то совсем рядом зазвенел звонок. Сильный. Сильнее, чем школьный. Мы выскочили из слухового окна и увидели, что колокольня против нашего дома освещена электрическим светом. Колокольня была белая-белая, и черными провалами зияли сквозные арки без колоколов. Вдруг свет погас, и звонок перестал звенеть. Неужели померещилось? Не успел я об этом подумать, как вновь вспыхнул свет и зазвенел звонок. Нам говорили, что с самолета видна зажженная спичка, что луч карманного фонарика виден на несколько километров. Свет, вспыхивающий в нашем переулке, наверняка можно было заметить и на подступах к Москве. Мы окаменели от ужаса. По тому, как падала тень, было ясно, что эта сильная, в сто или двести свечей, электрическая лампочка установлена на нашем доме. Значит, здесь, в нашем доме, находится шпион или диверсант! Шурка бросился к самому краю крыши и, уцепившись за какой-то выступ, свесился вниз головой. — Между пятым и шестым этажами! — крикнул Шурка. Он вскочил и, спотыкаясь, кинулся куда-то дальше от нас. — Там пожарная лестница, — сказал Сережка и побежал за ним. Я бежал третьим. Я не слышал и не видел, как рвутся в небе снаряды, как бьют зенитки, как громыхает под нашими ногами старая крыша. Я только слышал, как звенит звонок, видел, как возникает из мрака и исчезает во тьме белая колокольня. “Зачем звонок?” — подумал я, подбегая к пожарной лестнице. А Шурка, уже стоя на ней, крикнул: — Звукоуловители! — Неужели у них и на самолетах есть звукоуловители? Оказывается, я не подумал, а спросил вслух. Мы не удивились, что именно на нашем доме враги установили сигнал. Рядом — мост. Кремль и электростанция. Пожарная лестница была установлена на длинных кронштейнах далеко от стены, расстояния между перекладинами большие. Но Шурка спускался первым, и мы, еще не понимая, зачем он лезет, спускались за ним. — Скворечник! — хрипло прокричал Шурка снизу. И я увидел, что лампочка установлена именно в скворечнике. В том самом скворечнике, который очень давно, задолго до войны, кто-то прибил прямо на лепные украшения между пятым и шестым этажами. — Погоди! — закричал Сережка. — Погоди, я длиннее! Он кричал это потому, что Шурка пытался перебраться с лестницы на карниз. Одной рукой он держался за лестницу, а другой тянулся к водосточной трубе, и если бы кронштейн лестницы был здесь, а не этажом ниже, Шурка перебрался бы и прошел по карнизу. Он это мог. Свет в скворечнике то вспыхивал, то исчезал, то освещал Шурку, распластавшегося в воздухе, то скрывал его во мраке. Мы с Сережкой застыли, вцепившись руками в ржавую перекладину пожарной лестницы. Над нами шарили по небу прожектора, висели аэростаты воздушного заграждения; под нами был булыжник переулка; справа виднелись башни Кремля. А рядом, совсем рядом, в скворечнике, вспыхивала и гасла предательская, злобная, яркая электрическая лампочка в сто, или двести, или, может быть, в триста свечей. И я вспомнил, что в этом скворечнике никогда не жили скворцы. “Так и знал, — подумал я. — Так и знал!” Однако надо все рассказать по порядку, а то вы ничего не поймете.Изобретатель утюга
К рассвету наша дача сгорела полностью. Правда, это была не наша дача: мы снимали комнату с верандой. Мы не засекли время, когда она начала гореть, но, честное слово, все продолжалось не больше двух часов. Дача горела, как прощальный пионерский костер. Почти без дыма. Огонь подымался высоко, ярко освещая елочки, уборную за ними, штакетник забора и молодые яблони с зелеными яблоками, которые мне запрещали рвать, пугая дизентерией. В поселке горело еще несколько дач, и поэтому небо было светлое и рассвет наступил незаметно. — Летние дачи всегда хорошо горят, — сказал Андрей Глебович Кириакис. — Доски сухие, фундамент высокий, и получается хорошая тяга. Это была его дача, построенная года три назад, когда он получил деньги за изобретение чудо-печки[154] и быстронагревающегося утюга. Просто удивительно, до чего спокойно он говорил про свою дачу! Андрей Глебович сидел у выхода из бомбоубежища, вернее, из щели, которую мы с ним выкопали по чертежу. Такие чертежи висели на всех заборах. В объяснительном тексте говорилось, что щель-бомбоубежище надежно защищает от непрямого попадания осколочных и фугасных бомб. На нас сбросили не фугасную и не осколочную, а сразу несколько мелких зажигательных. Они тоже свистели и упали на участке одновременно. Две или три попали прямо в дачу и загорелись на чердаке, одна упала в малинник, и одна — совсем рядом с нашей щелью, за грудой земли. Андреи Глебович велел нам пригнуться и не высовываться, пока эта ближняя бомба не догорит совсем. А сам он время от времени задирал голову и косил глазами за груду земли — он был наш перископ. Дача пылала вовсю, и черные глаза Андрея Глебовича тоже пылали. Нос его казался особенно хищным, а кадык на небритой шее особенно большим. — Самое пикантное, что эти зажигательные бомбы могут иметь взрывное устройство и быть одновременно осколочными. Они так и называются — термитно-осколочные. Причем самое пикантное… Тетя Лида несколько раз говорила Андрею Глебовичу, что он употребляет эти слова не по назначению, что это слова-паразиты. Но сейчас тетка промолчала. Она только взглянула, и он понял. Моя тетя Лида не любила, когда слова употребляются не по назначению. Она окончила филологический факультет и знала три иностранных языка. Из-за этих языков Андрей Глебович и сдал нам комнату с верандой. Тетя Лида читала и переводила ему статьи из заграничных журналов, чаще всего с картинками. По-моему, Андрея Глебовича больше всего интересовали картинки. Я, кстати, тоже любил смотреть картинки в этих журналах: там было много интересного. Особенно много было автомобилей. Например, автомобиль, который падал в пропасть, и над ним вдруг открывался парашют. Или гоночный автомобиль, у которого перед финишем взрывались шины. Были автомобили для инвалидов — как я понимал, уже для тех, у кого не открылся парашют или взорвалась шина. Признаться, меня интересовали только автомобили и еще немного мотоциклы. Тетя Лида говорила, что я зря теряю время и лучше бы мне заняться изучением иностранных языков, благо есть такая возможность. Но я считал, что не всякую возможность обязательно надо использовать. К тому же вот Андрей Глебович изобретатель, а иностранных языков не знает. Тетя Лида на этот довод обычно возражала, что я дурачок: Андрей Глебович изобрел всего-навсего утюг, который хотя и быстро нагревается, но зато еще быстрее остывает; что гладить этим утюгом все равно нельзя, потому что он слишком легок, и это только расход керосина. В этом была доля правды. Но электрический утюг изобрели до Андрея Глебовича, угольный существовал, может быть, триста лет, а быстронагревающегося, да еще на керосинке, до Кириакиса никто не изобрел. В общем, тетя Лида была несправедлива. Она вообще не любила тех, кто не ходит на службу каждое утро. Сама она ходила только два раза в неделю — учила аспирантов, но это по болезни. У тети Лиды была бронхиальная астма, и врачи рекомендовали летом жить на даче. А то мы бы не уехали из Москвы. Кроме нас троих, в щели сидели еще Галя, дочка Андрея Глебовича, и ее мама, Доротея Макаровна. Было тесно, потому что с начала бомбежки мы перенесли в щель все легкие вещи и постели. — Какие мерзавцы! — сказала Доротея Макаровна, глядя на закопченный фундамент дачи, вокруг которого дымились совсем тоненькие головешки. Они не могли прорваться к Москве и потому сбросили бомбы на дачный поселок. Они же прекрасно знают, что летом на дачах много детей. — Это хорошо, что они не смогли прорваться. Подумаешь — дача! — сказал я. Я хотел сказать, что Москва — столица, что в ней Кремль, заводы, исторические памятники. Но тетя Лида прервала меня. — Фриц! — сказала она. И посмотрела на меня точно так, как смотрела на Андрея Глебовича, когда он говорил “самое пикантное”. Фриц — это я. Тетя Лида гордилась тем, что почти тринадцать лет назад уговорила моих родителей назвать меня в честь Фридриха Энгельса. Я родился в один день с Фридрихом Энгельсом, только на сто восемь лет позже — 28 ноября 1928 года. — Посмотрим, что же осталось из нашего движимого имущества, — сказал Андрей Глебович и первым вышел из щели. Я вылез вторым и сказал: — По-моему, осталась только ваша кровать. Ее было хорошо видно. Вся покореженная огнем, она висела на фундаменте. Без сетки, без никелированных шариков. От моей кушетки и следов не осталось. — Вот здорово! — сказал я. Я хотел сказать, что это удивительно, какая все-таки великая сила — огонь. Но тетя Лида опять одернула меня: — Фриц! Мне мое имя и до войны не нравилось, а теперь и совсем было некстати. Фашистов звали Фрицами и Гансами. Если бы меня звали Гансом, можно было бы законно переделаться в Ваньку, но Фрица не переделаешь. Галя звала меня теперь Федей, но Андрей Глебович сказал, что Федя — Федор, Теодор, но никак не Фридрих. Тетя Лида сказала, что это справедливо. А разве справедливо было назвать меня Фрицем, когда в нашем роду ни одного немца не было! Вот у того же Андрея Глебовича бабушка была немка — я видел ее фотографию, — и то Андрея Глебовича не назвали Фрицем. Мы все пошли к пепелищу. Соседние дачи тоже догорели. Но начался рассвет, и все было видно. Смотреть-то, по правде говоря, было не на что. — Андрей, — сказала Доротея Макаровна, — я не помню, наша дача застрахована? Доротея Макаровна, как говорили люди понимающие, была самая красивая женщина в нашем большом московском доме. Эти понимающие люди говорили, что “все при ней”, и, кроме того, красивые губы. Губы она красила, это точно. Раньше она была артисткой оперетты, и Андрей Глебович тоже работал там в оркестре — играл на флейте. Потом, когда он изобрел чудо-печку, оба бросили театр. — От войны, Дора, никто не застрахован. В этом, если хочешь, самое пикантное, — мягко сказал Андрей Глебович. И тетя Лида на этот раз не заметила слов-паразитов. В эту ночь я стал еще больше уважать Андрея Глебовича. Он стойко держался. Тетя Лида, хотя и была в гражданскую воину переводчицей в Красной Армии, сильно вздрагивала, когда па станции стреляли зенитки. Галя сидела, обхватив мать руками, и ойкала. А Андрей Глебович совершенно не боялся. Между тем я точно знал, что он никогда в армии не служил из-за того, что один глаз у него совсем не видит. — Ты так спокоен, — нервно заметила Доротея Макаровна, — будто у тебя три таких дачи. “И правда, — подумал я, — до чего он спокоен!” — Хвост! Смотри, Федя, я нашла хвост от бомбы! — Галя стояла в малиннике и держала в руках какую-то странную обгорелую железку. Галя перешла в десятый класс, она занималась в балетной студии, но мы с ней дружили. Мне стало завидно, что она первая нашла хвост бомбы, и потому я поправил: — Это не хвост, а стабилизатор. Но Галя не ответила. Она смотрела куда-то поверх моей головы. Глаза у нее были такие, что все стали смотреть туда же, куда смотрела она. Над сосновым лесом в стороне Москвы небо было в сплошном дыму и отсветах пламени. До этой минуты мы все были уверены, что фашистские самолеты не прорвались к Москве. Ведь за первый месяц войны было много воздушных тревог, и ни разу фашисты к Москве не прорвались. Правда, говорили, что это учебные тревоги, но мы не очень верили: нужно же успокоить население! За лесом все горело. Дымы были ближние, дальние, густые и прозрачные, но самым страшным было небо прямо на востоке от нас. Жирный, тяжелый дым стлался по краю неба и, подсвеченный всходившим солнцем, казался особенно зловещим. Мы стояли молча. Жирного дыма становилось все больше, и он становился всекраснее. — “Москва… Как много в этом звуке…” — деревянным голосом продекламировала Доротея Макаровна. И вдруг зарыдала. А утро было теплое и тихое. Просто удивительно теплое и тихое.Переулок
— Пойду в совхоз за машиной, — сказал Андрей Глебович. Доротея Макаровна, Галя и даже тетя Лида посмотрели на него с удивлением. — Не одна наша дача сгорела, многие будут просить транспорт, — объяснил он и добавил: — Я почему-то уверен, что наш московский дом цел и невредим. Наш переулок заколдованный. В нем ни одну зиму снег не чистили. При чем тут снег и при чем тут, что его не чистили, я не понял. Тем более, что иногда у нас все же чистили снег. — Ты знаешь, где гараж? — спросил он меня. — Пойдем вместе. Мы шли по улице и считали, сколько всего дач сгорело. Оказалось, не так много. Две дачи, сарай и ларек, где продавали кислое пиво и противную хмельную брагу. Я лично никогда там ничего не пил, но взрослые каждый день ругали пиво и брагу. Мы вышли из поселка, пошли по полю и, когда взобрались на пригорок, остановились и еще раз посмотрели в сторону Москвы. Черный дым поднимался все выше и выше. — Здравствуйте, — с полупоклоном сказал Андрей Глебович какому-то человеку в телогрейке, стоящему в воротах совхозного гаража. — Разрешите представиться: инженер-изобретатель Андрей Глебович Кириакис. — Я сторож, — хмуро ответил тот. — Кого надо? — Очень приятно, — сказал Андрей Глебович. (Потом я убедился, что Андрей Глебович здорово умеет разговаривать со сторожами. На них вежливость очень действует. А может, она почти на всех действует.) — Мне желательно поговорить с кем-нибудь из ответработников. С завгаром или с механиком. Сторож подумал и сказал: — Завгара в армию забрали. А механик вон — под машиной. Механик! К тебе пришли! Из-под полуторки вылез какой-то человек в замасленном комбинезоне и направился к нам. Это была молодая женщина в очень грязной кепке. В руках она держала гаечный ключ и молоток. — Здравствуйте, разрешите представиться: инженер-изобретатель Андрей Глебович Кириакис, — с таким же полупоклоном приветствовал женщину Андрей Глебович и протянул ей руку. Я точно знаю, что никому другому на свете эта женщина не подала бы такую грязную руку. Но тут растерялась, поздоровалась. И очень смутилась. — Так вот… Как вы, очевидно, знаете, в нашем поселке в результате коварного нападения фашистских захватчиков с воздуха было несколько пожаров… Андрей Глебович говорил правду, но мне почему-то казалось, что он лжет. Во всяком случае, мне было неловко. Часа через три, позавтракав яичницей, приготовленной на костре — сковородки мы нашли в куче золы, они не сгорели, — мы ехали на этой полуторке по окраинам Москвы. За рулем — механик Наташа, в кепке, похожая на артистку Ладынину из картины “Трактористы”. С ней в кабине Доротея Макаровна, а мы все — в кузове. Никакого дыма в небе уже не было. И Москва вся вроде бы цела. А черным, страшным дымом горел, оказывается, толевый заводик недалеко от Филей. Вы знаете, как горит толь? Попробуйте подожгите. А там были еще цистерны с мазутом и жидким битумом. И еще сгорел какой-то рынок и ларек “пиво—воды”, точно такой же, как в нашем дачном поселке, только этот ларек не весь сгорел — вывеска осталась и бочки среди обгоревших досок. Вот наконец мы увидели кремлевские башни — целехонькие, такие, как всегда. Только звезды были замаскированы, чтобы не сверкали. Мы объехали Манеж и свернули на Красную площадь. Механику Наташе тоже хотелось увидеть, что все цело. Андрей Глебович сидел на узлах выше всех и крутил головой направо и налево. Мы, как по команде, поворачивали головы вслед за ним. Все, все на месте! И Исторический музей. И Мавзолей. И собор Василия Блаженного. И мост через Москву-реку. — Наш дом! Наш дом цел! — закричала Галя, как маленькая, когда с моста увидела наш большой семиэтажный дом. Его было видно издалека. Мы видели его только сбоку — одну лишь кирпичную стену без окон. Мы свернули в переулок и затряслись по булыжнику. В этот момент я почувствовал, что очень хочу спать. Я вспомнил, что не спал со вчерашнего утра. Первый раз в жизни. — Давайте никому не будем говорить, что наша дача сгорела, — еще раньше предупредил Андрей Глебович. — Зачем создавать нездоровые настроения. Это хорошо, что он предупредил, потому что нас сразу окружили жильцы и стали расспрашивать. Мы говорили, что на даче нам надоело, что лето идет к концу и вообще в Москве лучше. Потом мы перетащили вещи. Я помог Андрею Глебовичу и Гале — они жили на пятом этаже. И когда мы с тетей Лидой вошли в свою комнату, я сразу же повалился на кровать, даже есть не стал. Мне снилось, что у меня новые коньки и все мне завидуют, а хулиганы с набережной меня повалили и дергают за уши. Я очень разозлился и хотел ударить кого-то ногой, потому что с детства не люблю, когда меня дергают за уши, — тетя Лида никогда так не делала. — Тревога! Тревога! Тревога! — услышал я голос, похожий на голос Сережки Байкова. — Ты ему в нос дунь. Он чихнет и проснется, — говорил кто-то голосом, похожим на голос Шурки Назарова. Я открыл глаза и не понял — сон это или на самом деле. Надо мной склонились две пожарные каски с гребнями. Только каски были не медные, а черные, лакированные. — Вставай, Крылов! Мы тебя в пожарное звено записали. Нам на крышу лезть надо. — Это Шурка Назаров говорил. Тетя Лида, одетая, с узлом в одной руке и с подушкой в другой, стояла рядом. Наконец я понял, где я и что происходит. Я стал натягивать брюки и одновременно ногами искал ботинки, которые вечно оказывались где-то далеко под кроватью. “Молодцы ребята, — подумал я, — не забыли, записали в самое интересное звено. Но каски мне, наверное, из-за этой проклятой дачи не достанется”. И только я так подумал, как увидел каску, точно такую, как у Шурки и Сережки. Она лежала на подоконнике, возле моей кровати. Черная, лакированная, сверкающая в электрическом свете. “Разве уже вечер?” — подумал я и хотел заглянуть под маскировочную штору на окне. — Стон! — приказал Шурка. — Ты что, хочешь демаскировать столицу? Пошли на крышу. — Да, уже пора, — вежливо подтвердил Сережка Банков. Он был старше меня и Шурки и потому, наверное, вежливей. У него были совершенно белые волосы и белые ресницы. Однажды, лет пять назад, тетя Лида сказала, что он альбинос. По отношению к молодежи моя тетка была удивительно бестактна. С тех пор мы часто дразнили Сережку Альбиносом, и на улице его так дразнили. Но он не обижался, он вообще был сдержанный человек. Даже тогда, когда мы играли в короля, принца и подчищалу и Шурка жулил, Сережка не обижался и спокойно сдавал карты не в очередь. Сперва нам казалось, что ему безразлично, выигрывает он или проигрывает, потому что ему на нас чихать, потому что ему уже шестнадцать лет. Мы даже хотели обижаться. Потом мы убедились, что он вообще спокойный. Как телок. — Лидия Ивановна, вы уж извините, но нам пора на крышу, — сказал Альбинос. — Хорошо, ребята, я вас не задерживаю, только пусть Фриц поможет мне отнести в бомбоубежище чемодан. У меня, кажется, начинается приступ. Кстати, я не знаю, как туда пройти. — Мы никак не можем, вы сами найдете. Это просто. Где раньше было овощехранилище и красный уголок, — сказал Шурка. Я был ему благодарен, но проклятый телок предал нас обоих. — А чемодан? — спросил он нас. — Вы как хотите, а я полез. Дом дороже чемодана. Шурка был абсолютно прав. Но Сережка встал на путь предательства. Тетка, Сережка и я начали спускаться вниз по парадной лестнице, а Шурка один пошел через черный ход на лестницу, ведущую к чердаку. Я нес чемодан и подушку, тетя Лида — узел и одеяло, Сережка шел впереди нас в каске и мою каску нес в руках. Мне очень хотелось ее примерить, но было неловко перед Сережкой, неловко войти в ней в бомбоубежище, и руки были заняты. В бомбоубежище пахло гнилой картошкой. Раньше здесь было овощехранилище, потом года три красный уголок с настольным бильярдом, но запах гнилой картошки стоял прочно. Под потолком на шнурах болтались электрические лампочки, в полу зияли щели, нары и топчаны тоже были щелястые. На нарах, топчанах и чемоданах сидело все население нашего дома. С тетей Лидой здоровались, и со мной тоже. Многие не видели нас больше месяца. Всю войну. — С приездом, Лидия Ивановна! — Здравствуйте, Лидочка! Вот она, наша жизнь… — Лучше бы уж вам на даче оставаться… У тети Лиды действительно началась одышка, и она отвечала только кивками. И со мной заговаривали: — Вырос, возмужал. Молодцом стал. — Ты загорел. И все такое, необязательное, никому вроде бы не нужное, но то, что всегда говорят, когда думают о другом, действительно важном. Говорят и говорят. Все это было бы терпимо, если бы некоторые не добавляли моего имени. Скажут что-нибудь неинтересное и в конце добавят “Фриц” или, еще хуже, “милый Фриц”. Я поставил чемодан. Тетя Лида села на нары и уперлась руками в колени. Да, значит, серьезный приступ начался. А тут еще духота такая! Вдруг к нам подошла Галя Кириакис. На боку у нее санитарная сумка, на рукаве повязка с красным крестом. — Тетя Лида, вам помочь? “Во дает! — подумал я. — И сумку достала”. На меня Галя даже не посмотрела. Я тоже не стал на нее глядеть и пошел к выходу. Я увидел Доротею Макаровну и сказал: “Добрый вечер”. Она ответила: “Здравствуйте”, будто я не я. Глаза у Доротеи Макаровны были неподвижные, щеки белые-белые, а губы накрашенные, бантиком. И Андрей Глебович был тут. Он чинил сломанный топчан и меня не заметил. Зато Матишина заметила меня и очень обрадовалась. В нашем доме эту женщину за глаза все называли Матишина. Получалось как фамилия. А на самом деле она была Ольга Борисовна Ишина, мать Вовки Ишина. Еще ее называли Барыня, но это редко. Она одевалась в старомодные платья с белыми и розовыми кружевами, на груди носила часики с крышкой, на пальцах у нее были большие серебряные перстни, которые нам никак не удавалось рассмотреть. Сын Барыни Матишиной давно уже был никакой не Вовка, он кончил институт и работал инженером на авиационном заводе. В глаза его называли Вова или даже по имени и отчеству — Владимир Васильевич, но за глаза — Вовка. Вы не думайте, его уважали в нашем доме, но говорят, что, когда я был еще совсем маленький или даже еще не родился, он был ужасный озорник, хуже всех в доме. И еще у него был мотоцикл “харлей-давидсон”. Вовка участвовал в каких-то гонках и часто ездил на нем без глушителя. Матишина меня и до войны замечала, потому что я интеллигентный мальчик. Это потому я интеллигентный мальчик, что моя тетка языки знает. — Здравствуй, Фриц! Здравствуй, маленький! — Это она мне говорит. — Вот видишь, как бывает в жизни. Но ничего, все образуется, перемелется. Я улыбнулся ей изо всех сил и хотел скорей уйти. А она взяла меня за руку и сказала будто бы мне, а на самом деле всему бомбоубежищу: — Дети! Почему должны страдать дети! Кто бы мог подумать, что немцы до этого докатятся. — А сама держит меня за руку, будто это я — немец. — Подумать только! Народ Гёте и Вагнера, народ, давший миру Маркса и Энгельса… Фриц! Ведь тебя в честь Энгельса назвали Фридрихом? — Да, — сказал я и попытался вырвать руку. Матишина не отпускала. — Подумать только, что дети, которых родила Гретхен… Ты знаешь, кто такая Гретхен? Я не знал. Я смотрел, как мучается в дверях Сережка Байков в черной каске на белобрысой башке и еще с моей каской в руках. Он страдал за меня. — Крылов! — вдруг крикнул он на все бомбоубежище, потому что здесь все, кроме Барыни, говорили шепотом. — Крылов! Бомбы тебя ждать не будут! Эх, молодец Сережка! И хорошо, что назвал меня по фамилии. Вот что значит дружба! И Шурка сегодня назвал меня по фамилии, хотя мы учились в разных классах и даже в разных школах. Это верные друзья. Мы не виделись с начала войны, но они ни разу не назвали меня Фрицем. Чтобы из бомбоубежища попасть на черный ход и оттуда на чердак, надо обежать дом вокруг. У нас дом семиэтажный, на фронтоне лепные украшения — гипсовые женщины в покрывалах. У женщин прямые носы и вялые руки. Тетка объясняла, что это не то нимфы, не то наяды, а может быть, музы. К ногам одной музы кто-то приколотил скворечник, в котором не жили даже воробьи. В нашем доме была шикарная парадная лестница с удобными ступенями и лифтом, который не успели достроить в 1917 году. Кроме парадной лестницы, была еще и черная, и все квартиры имели два выхода — один на парадную, другой па черную лестницы. По парадной должны были ходить хозяева квартир, а по черной — прислуга. Однако дом построили к самой революции, и буржуи не успели в него въехать. По этой черной лестнице хозяева квартир ходили, когда нужно было вынести мусор, а по парадной — когда отправлялись на работу или в магазин. Лестница для прислуги и в мирное время освещалась плохо. Кому нужно вынести ведро на помойку, может сделать это засветло. Теперь же, в войну, там была тьма кромешная. Мы торопились, спотыкались, переворачивали ведра, цеплялись за ненужные вещи, которые жильцы изгоняли из квартир, но ленились вынести во двор. У входа на чердак я споткнулся о порог и так треснулся головой о кирпичную трубу, что каска загудела. “Вот она и пригодилась”, — подумал я. Когда мы вылезли на крышу, стрельба шла вовсю. Это мы еще на чердаке услышали. Никогда в жизни я не видел такого красивого неба над Москвой. Потом мы с этой крыши видели салюты в честь наших побед. Мы видели много салютов, но никогда небо над нами не было таким красивым, чтобы дух захватывало. Вы не думайте, что от страха, — от красоты. Салют — это, конечно, красиво, но не так. Допустим, двадцать залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Так ведь каждый залп похож на другой. А тут не так, совсем не так. Во-первых, прожектора. Как они щупают небо, как они своими длинными пальцами перебирают тучи, как неожиданно взлетают и как вдруг скрещиваются. А если в скрещение прожекторов попадется фашистский стервятник, так тут ничего прекраснее и быть не может. Во-вторых, трассирующие пули и снаряды. Особенно от счетверенных пулеметов. Золотые цепочки по небу, и в самых неожиданных местах. В общем, я понял, что самая лучшая красота — неожиданная. В-третьих, если признаться, все-таки немного страшно. Выше нашего дома вокруг нет ни одного. А ты стоишь на крыше. Внизу — город. Над тобой только аэростаты заграждения на тросах. А в небе воздушный бой не на жизнь, а на смерть. Осколки верещат. А ты знаешь, что не зря здесь стоишь, ты не лишний здесь, не кино это, а твоя собственная жизнь. Нас только трое на крыше: я, Шурка и Сережка. Сережка по должности начальник, он командир звена, единственный среди нас комсомолец. Мы-то, по существу, еще пионеры. Если бы в школу идти, то мы бы галстуки надевали. А Сережка с начала лета стал работать. Отец устроил его по знакомству на авиационный завод учеником. Отец у Сережки дамский портной. Его забрали в армию всего неделю назад. Между прочим, у Шурки отец тоже портной, но он, кроме того, младший командир запаса, и его призвали в первый день войны. Сережка наш начальник, а Шурка ему выговор сделал: — Где вы там застряли? А если бы зажигалка? Что я — один тут… — Ладно, — сказал Сережка. Конечно, Сережка неправ: мы должны быть на посту вовремя. А если бы действительно зажигалка? Я потрогал на голове каску и хотел рассказать ребятам, как сгорела наша дача, но промолчал. Шурка на крыше, как в своей комнате, потому что весь прошлый год гонял здесь голубей. Но к весне чердак почему-то закрыли, и вдобавок мать Шуркина отняла у него голубиные деньги. Только он новые накопил — война началась. Я лично до войны никогда на крыше не был. Тетка тряслась надо мной, как над ребенком. К тому же я ходил в Дом пионеров, занимался в автомобильном кружке и еще в историческом. У меня даже на уроки никогда времени не оставалось, не то что на голубей. Теперь я очень пожалел об этом. Ничего я тут не знаю, вижу только трубы, соседний дом, и то еле-еле, а в основном небо. На чердаке и вовсе заблудиться могу — он огромный, запутанный. Вот внизу, в переулке, я, как собака, каждую щель знаю, каждый камень. Всю жизнь мог бы там с завязанными глазами прожить. Если на спор. Я там и в прятки играл, и в чехарду, и в отмерялы и на самокате катался. Наш переулок среди тысячи особенный. Если с одной улицы посмотреть, он тупик; если с другой посмотреть, тоже тупик. Он не прямой, не косой, не углом, а как заводная ручка, которой автомобиль заводят. Сначала прямо, потом точно налево, а потом точно направо. Хоть с одной стороны в него зайди, хоть с другой. Наш дом в переулке самый большой. Есть еще три поменьше, три одноэтажных и еще две церкви. В одной — артель, в другой — райпищеторг. На паперти райпищеторга мы всегда в расшибалочку играли. Монетка отскакивает выше головы. Я про все это думаю и молчу. И так из-за меня мы с Альбиносом опоздали. Молчу и делаю вид, что все в порядке. Вдруг Сережка трогает меня за рукав и тащит на чердак. На крыше, оказывается, светло от неба и прожекторов, а здесь тьма-тьмущая. — Пригляделся? — спрашивает Сережка. — Немножко, — отвечаю. — Бочку видишь? — Немножко. — Ничего ты не видишь, — сказал Сережка. — На вот, щупай. Щупаю. Действительно бочка. Руку в нее опустил, а там вода. — Значит, если зажигалка упадет, ты ее в бочку. А если что-нибудь загорится, хватай ведро. Видишь ведро? — Ничего я не вижу, — сказал я. — Ну приглядишься. А вот ящик с песком. Можно зажигалку в ящик. У нас еще огнетушитель есть, но, говорят, он не работает. Ты его лучше не трогай. Глаза мои постепенно стали привыкать. Постепенно я увидел и бочку, и ящик с песком, и большой деревянный щит, на котором висел багор, железные щипцы с длинными ручками, две лопаты, пожарный топорик и брезентовые рукавицы на гвоздиках. — Это твои рукавицы, — сказал Сережка. Я сунул рукавицы в карман курточки, и мы вылезли на крышу. — Тише вы! — крикнул Шурка. — Летит. Я услышал, что в небе появился кто-то чужой. Это был самолет, который мы не видели, как ни вглядывались. Мы слышали первый гул. — Фриц! — сказал Шурка. — Что? — спросил я. — Я говорю, фашист летит. Я покраснел, и волосы под каской вспотели у меня от стыда. Хорошо, что темно и не видно, как я покраснел. Наши зенитки почему-то не стреляли по этому самолету. Сейчас больше всего разрывов было над Зарядьем. А самолет дудел прямо над нами: ду-ду-ду… И тут — знакомый свист. Такой, как на даче. И сразу же — тук-тук, тук-тук-тук по крыше. — Ну и осколочки! — бодро, дрожащим голосом сказал Шурка, и зубы у него тихонько лязгнули. А я понял, что это не осколки, а зажигательные бомбы. Впрочем, все это поняли, потому что одна бомба скатилась в водосточный желоб и загорелась бенгальским огнем. Натягивая рукавицы, я бросился к ней, схватил за хвост и сбросил вниз в переулок. — В бочку ее, в бочку! — крикнул мне Шурка. Но было уже поздно. Когда я оглянулся, ребят у слухового окошка не было. Я понял, что они нырнули на чердак. Я бросился за ними. Где-то за стропилами вовсю горела бомба. Она горела ровным светом, и на чердаке было светло. Я кинулся на свет и увидел, что Сережка уже ухватил эту бомбу щипцами и тащит прямо на меня. — Там есть еще! — крикнул он. Действительно, в другом конце чердака тоже было светло. Бомба горела, на метр разбрасывая огненные брызги. Она шипела и, кажется, даже крутилась. Схватить ее рукавицами показалось страшно. Я ударил по ней ботинком, она не взорвалась. Тогда я еще поддал ногой и стал гнать ее по чердаку к ящику с песком. — В бочку ее, в бочку! — услышал я. Тут подбежал Сережка со щипцами, ловко схватил бомбу, но она распалась на две части и продолжала гореть. Шурка прибежал с ведром воды и выплеснул ее. Нас обдало горячим паром и брызгами. Бомба чуть приутихла, но потом стала гореть с новой силой. — Песку! Песку надо! К счастью, до ящика с песком было недалеко. Мы метались с лопатами, пока не навалили целую кучу песка. Бомба погасла. Но на чердаке не стало темнее. Где-то совсем в дальнем конце горели стропила. Мы кинулись туда. Это была, наверно, самая опасная бомба. Она пробила крышу рядом с дымовой трубой и застряла между крышей и деревянной балкой. Горела вовсю, с треском. Мы плескали воду, мы швыряли лопатами песок, а бомба все горела и горела и балка разгоралась сильнее. Сережка притащил багор, выковырял бомбу. Она мелкими кусочками упала на шлак, насыпанный на чердаке. Я подцепил ее на лопату и сунул в ведро с водой, которое притащил Шурка. Но балка горела. Мы поливали ее водой и кидали в нее песком… На чердаке наконец стало темно, и нас это обрадовало. Мы гуськом обошли его весь и вылезли на крышу. Над городом было тихо. Не было разрывов, не ухали зенитки, и щупальца прожекторов исчезли. Светало. Сережка снял каску. Его белые длинные волосы слиплись. — Порядок! — сказал он. — Я думал, они взрываются. — Нет, — сказал я, — они не взрываются. Я хотел рассказать, как у нас сгорела дача, но опять промолчал. — Еще как взрываются!.. — сказал Шурка. — Это просто нам повезло. Шурка тоже снял каску. И я снял. Ветерок обдувал мою взмокшую голову. — Хорошо! — сказал Сережка Альбинос. И я подумал, что действительно хорошо. На углу, возле кинотеатра “Заря”, что-то щелкнуло. Это включились огромные репродукторы, похожие на граммофонные трубы. “Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!” Голос диктора был родной и знакомый. Я посмотрел направо. Кремль, собор Василия Блаженного — все на месте. Я оглянулся. Трубы Могэса тоже целы. И мост цел. “Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!” — еще раз сказал диктор. Я посмотрел на свои ботинки — не прожег ли. Нет, все в порядке. Зато на штанах в нескольких местах были мелкие дырочки. — Зря ты первую штуку вниз швырнул, — сказал Шурка. — Если бы ты ее в бочку сунул, у нас была бы целехонькая бомба, а так только одни хвосты остались. “Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!” — в третий раз донеслось из кинотеатра “Заря”. И тут мы увидели, что совсем светло и скоро взойдет солнце. Я никогда не думал, что черная лестница в нашем доме такая неудобная. Ступеньки крутые, а на поворотах скошенные. На черной лестнице трудно угадать, какая дверь в какую квартиру ведет. И номеров на них нет. Мы спускались медленно. — Это какая квартира? — спросил я Шурку, когда мы были на шестом этаже. — Семнадцатая, — говорил он. — Гавриловы и Яворские. Сам не знаешь? Шестой же этаж. — А эта? — спросил я. — А это твои Кириакисы и Матишина. Изобретатели. Я знал, почему Шурка сказал — изобретатели, а не изобретатель. Все в доме считали, что у нас один только изобретатель — Андрей Глебович. Но Андрей Глебович говорил, что Вовка Ишин тоже изобретатель. Мы не верили, думали — он своей квартирой хвастается. Кроме того, мы знали, что изобретает Андрей Глебович, а чем занимается Ишин, не знал никто. Вот что с мотоциклом возится — это все видели. И потом, посудите сами: может ли это быть, чтоб в одной квартире жили сразу два изобретателя, а во всех остальных — ни одного? Мы спустились во двор и, обойдя дом, подошли к подъезду. Там стояло много народу. Все, кто провел ночь в бомбоубежище в духоте и тревоге, вышли сюда, чтобы дышать свежим воздухом, глядеть на чистое небо и радоваться, что живы и здоровы. Здесь была и моя тетя Лида, и Андрей Глебович с женой, и Галя, и мать Шурки Назарова — тетя Катя, и Сережина мама, и Барыня-Матишина. Нас стали расспрашивать, как кончился налет, куда падали бомбы, сколько самолетов сбили. Но мы не видели, чтобы сбросили куда-нибудь фугасную бомбу, и не видели, как наши сбивали вражеские самолеты. Зато каждый из нас вытащил из кармана обгоревший хвост зажигалки. Мне кажется, что мы не сильно хвастались. Мать Шурки перекрестилась и поцеловала сына в лоб. Тетя Лида улыбалась. Сережина мать только вздыхала. Все на нас смотрели с уважением до тех пор, пока Матишина не сказала свое слово. — Вандалы! — сказала она. — Дикари! Господь их покарает. — И она тоже перекрестилась. То, что крестилась мать Шурки Назарова, никого не удивило. А вот что Матишина крестится — это мы видели в первый раз.Петын
Весь август и начало сентября погода в Москве была прекрасная. Дни стояли теплые, солнечные, небо чистое. И это было плохо, потому что в ясную погоду воздушные налеты особенно опасны. Правда, когда много туч, тоже опасно, потому что за тучами легче проскользнуть к Москве, легче скрыться от прожекторов и зениток. Но дни стояли ясные и ночи были безоблачные. Сережка Байков, Шурка Назаров и я каждый налет дежурили на крыше и видели, как ослабевает напор фашистских стервятников. — Ты заметил? — сказал Шурка. — Чем мы втроем становимся смелее, тем фашисты становятся трусливей. — Неужели они это чувствуют? — удивился я. — Не знаю, как они, а я это чувствую, — сказал Сережка. Я посмотрел на Сережку и по глазам понял, что он сострил. Я не всегда понимал, когда он шутит. Только если заглянуть в глаза. Между прочим, 1 сентября прошло, а занятия в школах не начались. Говорят, что где-то в Москве работали школы, но в нашем районе, к счастью, не работали. Ни моя 578-я, ни Шуркина 562-я. И Галя Кириакис тоже не ходила в школу, даже в свою балетную — балетная школа тоже уже эвакуировалась. Каждый день говорила про свой отъезд Барыня-Матишина, но почему-то не ехала. Она всем объясняла: — Днями должен приехать Вова. И тогда мы поедем на восток. Я никогда не была там. Говорят, это сказочный край. Газеты писали об ожесточенных боях на всех фронтах и на всех направлениях. Гитлеровцы наступали, неся огромные потери в живой силе и технике. Но они пока все еще наступали. По радио передавали сводки Совинформбюро о героизме наших солдат и мирного населения, и по нескольку раз в день мы слышали песню “Священная война”. И сколько бы раз ее ни передавали, я всегда замирал у репродуктора и думал: кто мог сочинить такую прекрасную песню?Подозрительные
Безногий сапожник Павел Иванович Кобешкин жил в подвале. В одной квартире с Байковыми. Он был не совсем безногий, а только частично. На одной ноге Кобешкин носил современный протез, и она казалась целой. Другая, отнятая по колено, кончалась деревяшкой, которую Павел Иванович во время работы отстегивал и клал рядом с верстаком. С одной стороны костыль, с другой — деревянная нога. Все в доме знали, что ног Павел Иванович лишился в первую мировую войну — в германскую, как говорил он сам. Знали, что он был в плену и там приобрел профессию сапожника. Кобешкин, когда бывал под мухой — а под мухой он бывал ежедневно после обеда, — любил рассказывать про то, какие сапоги он шил в плену офицерам и какие туфли шил офицерским женам. До войны Кобешкин часто говорил: “В Германии товар не то что у нас. У них хром так хром, шевро так шевро. А дратва какая!” Теперь Кобешкин говорил совсем иначе: “У немцев товар — эрзац. У них все на эрзацах сделано. Чуть тронь — рассыплется”. Павел Иванович давно не шил новой обуви. Он был “холодный” сапожник, то есть чинил с ноги. Кому набойку, кому заплатку, кому каблук. Он сидел в будочке между двумя домами. С начала войны будочку, по противопожарным соображениям, сломали, и теперь он работал дома. — Пойдем к Кобешкину, — сказал Шурка. “Наверно, Шурка или его мать, — подумал я, — отдали что-нибудь в починку”. Мы всегда ходили вместе и в магазин и за керосином. Пошли мы вместе и к Кобешкину. Я еще подумал, что Сережка вернулся с работы и неплохо бы поговорить с ним о Петыне. Павел Иванович Кобешкин, лысый человек с остатками рыжих волос возле ушей и на затылке, даже не посмотрел на нас, когда мы вошли и поздоровались. У него был полон рот гвоздей. Он вколачивал их в подметку ялового сапога. “Трезвый”, — понял я. Когда Кобешкин был пьяный, он всегда приветствовал ребят пионерским салютом. Для смеху. После сноса будки все свое хозяйство Павел Иванович перенес домой, и комната показалась мне знакомой, хотя я был здесь первый раз. Верстачок, полки для готовой обуви, ящики, куски кожи и резины на полу, деревянные колодки — все как в будке. Даже плакат-рекламу, украшавший будку, он перенес сюда и наклеил на стену своей комнаты. Плакат изображал смешную девчонку с челкой. Девчонка ела что-то из вазочки и ухмылялась. На плакате была надпись крупными буквами:А Я ЕМ ПОВИДЛО И ДЖЕМШурка сел на скамейку. Я рядом с ним. Сапожник видел, что мы ничего не принесли, и потому посмотрел на наши ботинки. Не увидев ничего, объясняющего наш приход, он вопросительно поднял глаза. — Петын с фронта вернулся, — сказал Шурка, как бы объясняя цель нашего прихода. — Знаю, — сквозь гвозди сказал Кобешкин. — Скажи ему, чтоб зашел. Он мне с мирного времени три пятнадцать должен. Три пятнадцать стоила четвертинка водки, и Шурка обиделся за Петына: — Он же с фронта. Раненый. — Я тоже с фронта. И тоже раненый, — буркнул Кобешкин. Мне не понравился этот разговор. Никакого благородства не было у Кобешкина. Вколотив последние гвозди и проверив рукой, не торчат ли они внутри сапога, Кобешкин откинул его в сторону. — Хороший человек и к обувке хорошо относится, не доводит до ручки. У Гаврилова обувь по сто лет может носиться. А иные интеллигентики стаптывают так, что только из уважения к соседству берусь чинить. Это был намек на мою тетку. Она так стаптывала туфли, что никто, кроме Кобешкина, не брал их в ремонт. Кобешкин был не в духе. Шурка взглянул на меня. Мы вышли в коридор. — Зайдем? — спросил я. — Давай, — согласился Шурка. Я толкнул дверь Сережкиной комнаты и прямо перед собой увидел Галю Кириакис. Этого я никак не ожидал. Что она тут делает? — Привет! — сказала Галя. — Ты всегда входишь без стука? Она сидела на диване в голубой вязаной кофте и в красной косынке, из-под которой выбивались черные волосы. Черные Галины глаза засмеялись, когда она увидела мою растерянность. — Те же и Назаров, — сказала Галя, увидев Шурку. Мы стояли в дверях как ослы. В это время из другой двери в глаженой белой рубашке и с галстуком на шее появился Сережка. Вместо того чтобы поздороваться с нами, Сережка сел на диван рядом с Галей. Он смутился больше, чем мы с Шуркой. Никогда я не видел рядом Галю и Сережку. Они, оказывается, очень подходили друг другу. Совершенно белобрысый, белобровый и розовощекий Сережка и чернявая, загорелая Галя. — Мы в трамвае встретились, — объяснил Сережка. — И решили пойти в кино без вас, — добавила Галя. — В “Заре” идут “Истребители”. — Ты же шесть раз смотрел, — сказал я Альбиносу. — Он хочет посмотреть седьмой раз. В новой обстановке, — объяснила Галя. Сережка молчал как рыба. — Эх ты… — скривился Шурка. Здесь нам делать было нечего. Мы вышли на улицу. — Что ж ты ему не сказал, что Петын вернулся? — спросил я Шурку. — А чего ему говорить… Он зазнался. Мы разошлись по домам. Я лег на кровать и открыл “Виконта де Бражелона”. Тетя Лида сидела за своим столом и проверяла аспирантские тетрадки. Тарелка репродуктора передавала сводку Информбюро, а потом артист Дмитрий Николаевич Орлов стал читать рассказ Лескова о Левше. Этот рассказ теперь передавали чуть не каждый день, и тетка каждый раз включала радио на полную мощность. Ей радио никогда не мешало. А мне всегда мешало. Я же не Юлий Цезарь, чтобы одновременно читать и слушать. Между прочим, моя тетя Лида была точно как Юлий Цезарь. Проверяет тетрадки, слушает радио и разговаривает. — Что-то Андрей Глебович не был вчера в бомбоубежище… Это правда, что он пошел работать на завод? — Да, — отвечаю я покороче. — Он эту неделю в ночную. — На какой же завод он пошел работать? — спрашивает тетка. — Арматурный, — отвечаю я. — Что ж он там делает? Утюги? Дались ей эти утюги… — Это теперь секретный военный завод, — говорю я, чтобы защитить Андрея Глебовича от вечных нападок тети Лиды. — Какой же он секретный?! — усмехается тетя Лида. — Там же водопроводные краны делают. — Это раньше, — говорю я. — А теперь каждый знает, что там делают минометы. Про этот маленький заводик действительно все в нашем переулке знают, потому что многие там работают. А вот про завод, где Гаврилов работает, никто ничего не знает. — Если это теперь секретный завод, зачем же ты болтаешь? — спрашивает тетка, — Болтун — находка для шпиона. — А зачем ты спрашиваешь? — злюсь я и захлопываю “Виконта де Бражелона”. Артист Орлов читает про то, как тульские мастера подковали английскую блоху и на каждой подковке свое имя написали, да так мелко, что только в пятимиллионный мелкоскоп эти надписи прочитать возможно. Сам же Левша для этих подковок гвозди ковал. Эти гвоздики ни в какой мелкоскоп не видать. Тетя Лида всегда в этом месте смеялась. И мне это нравилось. Тут я вспомнил, что как раз про это место спорил с Андреем Глебовичем на даче. Он говорил: “Рассказ прекрасный, но тебе следует понять суть. Идея усовершенствования блохи технически нецелесообразна. Ведь самое пикантное в том, что раньше блоха прыгала, а в результате усовершенствования прыгать перестала. И вообще, рассказ скорее грустный, чем веселый”. Тогда на даче меня это рассуждение просто удивило. Теперь я подумал, что у Андрея Глебовича бабушка — немка и потому он так рассуждает. — Тетя Лида, — спросил я, — как понимать пословицу: “Что русскому здорово, то немцу смерть”? — Это надо понимать так, Фридрих, что у русских, с одной стороны, и у немцев, с другой стороны, разные привычки и склонности, иногда прямо противоположные. Тетя Лида умела объяснить все. И все ее объяснения получались скучными. За последнее время она научилась не называть меня по имени, а уж если приходилось, то говорила “Фридрих”. И на том спасибо. Вечер наступал медленно. Читать мешало радио. А будет ли сегодня воздушная тревога, еще неизвестно. Тревоги были тогда не каждый день. Я надел курточку и пошел гулять. Возле подъезда стояло несколько взрослых. Они горячо спорили, стоит эвакуироваться или не стоит. Они спорили об этом с июня и никак не могли прийти к единому мнению. Все упиралось в вопрос, когда кончится война — через полгода или через год. Были в нашем доме люди, намекавшие, что война может продлиться больше года. Понятно, что на таких людей все смотрели с презрением. Сегодня у парадного оказались самые заядлые спорщики. — Не больше трех месяцев, максимум полгода, — говорила Василиса Акимовна Одинцова, женщина солидная, носившая полувоенную форму и значок “Готов к санитарной обороне СССР”. В нашем доме Одинцова командовала санитарным звеном и звеном охраны порядка. — Дура ты, дура, — по-свойски говорил ей сапожник Кобешкин. Они были земляки. Кроме того, Кобешкин успел выпить и оттого чувствовал себя умнее других. — Ты посчитай, сколько километров нам до Берлина переть. С другой стороны, мы их не попрем, пока всех сил не соберем. Вот и посчитай, сколько верст от Байкала до Москвы, а потом от Москвы до Берлина, потом раздели на сорок. — Почему на сорок? — спросила Матишина. — Потому что русская пехота более сорока верст в день никак не может. Я хотел сказать, что пехоту теперь возят на грузовиках и на танках, но не стал вмешиваться. — Они Смоленск взяли, — вздохнула тетя Катя, Шуркина мать. Она была из Смоленска и говорила только про него. — Французы тоже Смоленск брали, — сказала Доротея Макаровна. — А чем кончилось? Чем кончилось с французами, знали все. Но тетя Катя перекрестилась. Поглядев на нее, перекрестилась Матишина. — Вова прислал письмо, — сказала она, — что скоро приедет и увезет меня на восток. А это значит, что война может затянуться. Если бы пять месяцев, не было резона уезжать. — Покидать Москву сейчас, когда каждый человек нужен для противовоздушной обороны, могут только малодушные и паникеры, — внятно произнесла Одинцова. — Другое дело с предприятиями. Тут уж стратегия и тактика. В это время в нашем переулке появилась шикарная длинная машина, светло-бежевый “ЗИС-101”. Такие шикарные машины в наш переулок заезжали редко, чаще всего — развернуться. Они для переулков не приспособлены. Но этот светло-бежевый “ЗИС-101” я знал: до войны на нем приезжала жена директора завода, которая шила пальто у Сережкиного отца. “ЗИС” остановился недалеко от нашего парадного, и оттуда вылез слесарь Гаврилов в рабочем комбинезоне и небритый, может, дней пять или семь. Какой-то человек в шляпе и в очках высунулся из машины и сказал Гаврилову, воде как подлизываясь: — Вы отдохните, хорошо отдохните, Егор Алексеевич, а завтра за вами Витя подъедет. До свидания, Егор Алексеевич. — Да ладно, — ответил Гаврилов, — чего его гонять. Вы лучше к завтрему платины достаньте. — Да хоть бриллианты, — устало улыбнулся человек в очках и в шляпе. — Бриллианты пока не нужны, а без платины я… — Обязательно, обязательно, — серьезно сказал человек в очках и в шляпе, придерживая дверцу. — До свидания, — простился с ним Гаврилов. — Вы не волнуйтесь, Евгений Валентинович, все будет к сроку. Машина отъехала, и Гаврилов подошел к нам. По-моему, мы все стояли разинув рты и смотрели, как в нашем узком переулке разворачивается длинный светло-бежевый “ЗИС-101”. Что я знал про Гаврилова? Ну, во-первых, что у него пять дочерей. С Зойкой, самой старшей, я учился в одном классе. Каждое лето жена Гаврилова со всеми детьми уезжала в деревню. К первому сентября они возвращались. Уехали они и на это лето, но к сентябрю не вернулись. Еще я знал, что Егор Алексеевич Гаврилов и Сережкин отец, Степан Иванович Байков, из одной деревни и что это Гаврилов помог устроить Сережку на завод учеником. — Товарищ Гаврилов, — с особым почтением, какое я замечал чаще всего у людей выпивших, сказал Кобешкин, — ваши сапожки готовы, можете забирать. — Спасибо, Павел Иванович, потом как-нибудь, очень спать хочется. — Конечно, на кой ляд вам сапоги, вы теперь только в наркомовских машинах ездите, — неожиданно обиделся сапожник. — Вам теперь всю зиму в тапочках можно ходить. Одинцова загородила Кобешкина своей широкой спиной и спросила: — Гаврилов, скажи-ка нам, пожалуйста, когда кончится война? — Через четыре месяца кончится? Но ведь не более года? Не более? — с надеждой спросила Доротея Макаровна. — Это было бы кошмарно… — сказала мать Вовки Ишина. Приди Гаврилов пешком, его бы так не допрашивали. Но он приехал в шикарной машине и говорил с человеком в шляпе о платине и бриллиантах. Я тоже внимательно смотрел на Гаврилова и ждал, что он скажет. А он поморгал, как человек, который только что проснулся и еще хочет спать, и переспросил: — Вы про что? — Про войну. Каков ваш прогноз? — сказала мать Вовки Ишина. Гавриловы жили как раз над ней. Это между их окнами висел скворечник, приколоченный к ноге женщины с прямым носом. Я когда-то думал, что это Гаврилов прибил скворечник, и спросил об этом Зойку. Мы тогда еще во втором классе учились. Зойка сказала, что скворечник у них общий, напополам с Ишиными. Но ей в то время верить было нельзя. Она до четвертого класса все время врала. Потом я забыл про этот скворечник, потому что в нем все равно никто не жил. — Наша дискуссия носит принципиальный характер, Егор Алексеевич, — добавила мать Вовки Ишина. — Немцы сами сбросят Гитлера, потому что народ Гёте и Вагнера, Бетховена… — Я с ней каждый день спорю! — зло посмотрев на Барыню, перебила Одинцова. — Она говорит: может, год. — Ну-ну, спорьте, дискутируйте, — сказал Гаврилов и шагнул в глубь парадного. — Егор Алексеевич, — с мольбой произнесла тетя Катя, — ты уж скажи нам. У меня мать с сестрой в Смоленске остались. Гаврилов задержался в подъезде и, повернув к нам свое заросшее щетиной лицо, сказал: — Бросьте вы ерундой заниматься: год, полгода… Года два, если не три! Мы слушали, как Гаврилов поднимается по лестнице. Мы молчали долго, пока не затихли его шаги. — Паникер! — сказала Одинцова. — Злобный паникер, сеющий злобные слухи. — Пойду отнесу ему сапоги, пусть подавится! — сказал Кобешкин. — Хорошо ему в машинах ездить… — Это минутное настроение, так сказать, состояние аффекта, — сказала Барыня-Матишина. — Но в такое время человек должен владеть собой. Обязан владеть собой. Воспитанный человек — тот, кто умеет скрывать свои чувства. — Зажрался, паразит! — не унимался Кобешкин. — Отнесу ему сапоги и кину в морду. Платины ему надо, дерьма ему надо! Все ругали Гаврилова так сильно, что я даже пожалел его. Мало ли что человек может брякнуть не подумав! По себе знаю. — Он еще ответит за свое паникерство! — грозилась Одинцова. Тут подошли Петын и Шурка и стали слушать, как ругают Гаврилова. Петын сказал: — Гаврилов — рабочая аристократия. Ему все равно — русские ли, немцы, французы, австралийцы. Ему на народные нужды наплевать. Такие люди при любом режиме жить могут — и при фашистах и при коммунистах. Везде сыты и обуты… — Ты мне лучше три пятнадцать отдай, — неожиданно сказал Петыну Кобешкин. — Крохоборничаешь, единоличник… — Петын медленно достал из кармана пятерку и передал ее Шурке. — Отдай ему, Шурик, мне неохота с этим типом разговаривать. Кобешкин деньги взял и тут же заковылял к себе в подвал. Я разозлился на Петына и Шурку. Петын всегда Шуркой командовал, а Шурка — как кролик дрессированный. И еще мне не нравилось, что Петын называет его Шуриком. — Вот что, Василиса Акимовна, — сказал Петын как ни в чем не бывало, — я отдохнул, обратно на фронт мне еще не скоро, так что ты возьми меня в свой отряд. Буду помогать защищать столицу от нападения с воздуха. — Правильно! — обрадовалась Одинцова. — Сейчас каждый человек нужен, особенно мужчина. Пойдешь в звено охраны порядка? — Всегда готов! — согласился Петын. — В случае тревоги куда мне являться? — Лично ко мне, — объяснила Одинцова. — Пошли, Шурик, — сказал Петын. — Теперь и я при деле. Они пошли в дом Петына. На меня Шурка даже не оглянулся. “Ну и не надо, “Шурик”!..” — подумал я. Петын всех своих дружков называл по-особенному. Не Витька, а Витек. Не Толя, а Толик. Не Миша, а Мишаня. Я пошел домой и, не зажигая света, сел у окна. Вот придет из кино Сережка, мы с ним все обсудим. Да и тревога, наверно, будет. На крыше-то мы встретимся обязательно. Я не увидел ни Сережку, ни Галю. Налета в этот день почему-то не было, и я долго читал “Виконта де Бражелона”. Потом я узнал, что Сережка и Галя после кино залезли на крышу и сидели там вдвоем. Это глупо. Могли бы меня позвать.
Канистра
Вы знаете, что такое канистра? Ну вот, а я в то время не знал. Тогда не было канистр. Ни металлических, ни пластмассовых. Между прочим, из-за этой трофейной немецкой канистры на двадцать литров я позволил себе оскорбить человека. Теперь я понимаю, что история со скворечником была бы куда проще и яснее, если бы не эта трофейная канистра. В то время на заводах работали в две смены, каждая по двенадцать часов. Только подростки работали по восемь. Однажды утром к нам в квартиру пришел Андрей Глебович. Он поговорил о чем-то с тетей Лидой, а потом сказал мне: — Хочешь пойти со мной за трофеями? Поможешь нести. Мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком по какой-то кривой улице с длинным забором. Андрей Глебович с портфелем впереди, я — чуть поотстав. Наконец мы остановились у перекошенных ворот. Над воротами была вывеска — “Склад вторсырья”. Андрей Глебович очень вежливо поздоровался, назвал себя. Охранник в полувоенной форме с петлицами и с берданкой, надетой как охотничье ружье, долго рассматривал бумажку, которую протянул ему Андрей Глебович. Я думал — не пустит. — Сами будете отбирать или мне помочь? — спросил охранник. — Только сам, — сказал Андрей Глебович. — Мне это нужно для научного эксперимента. Я инженер-изобретатель и буду искать на вашем складе “жемчужное зерно”. Каждый знает, что жемчужное зерно ищут только в навозной куче. Однако охранник на это почему-то не обиделся. — А мальчонка? — спросил он про меня. — Это мой ассистент, — сказал Андрей Глебович. Никогда я не думал, что я ассистент, потому что ассистенты, так мне всегда казалось, бывают только у профессоров и фокусников. — Ну пущай… — равнодушно сказал охранник, не взглянув на меня. — Только нынче у нас мало чего есть. Вчера пять машин на переплавку отгрузили. В общем, это был никакой не трофейный склад, а просто свалка металлолома. В отдельной куче лежал металлолом трофейный, то, что уже никуда не годилось. Потом, после разгрома фашистов под Москвой, металлолома были горы. А тогда я увидал небольшую кучку. Первое, что бросилось в глаза, — гусеница танка. Она была вытянута по земле и пролегала через лужу, как мостик. Вслед за Андреем Глебовичем я с удовольствием прошел по этому мостику. Среди ржавых и покореженных железок трудно было выделить что-либо стоящее или просто хоть на что-нибудь похожее. Хотя нет, я увидел немецкую каску и поднял ее с земли. Каска казалась целой, но спереди у нее было маленькое ровное отверстие. “Пуля!..” — догадался я. Значит, одним фашистом меньше. Я представил себе нашего снайпера, винтовку с оптическим прицелом… — Брось эту гадость, — сказал Андрей Глебович, — иди сюда. Тут кое-что попадается. В руках у Кириакиса был какой-то непонятный предмет. — Вот видишь, это домкрат. Оригинальная конструкция. И совершенно целый. Такая маленькая штуковина поднимает до трех тонн. А может, и до пяти. Ценная штука. Не успел я разглядеть этот домкрат, как Андрей Глебович сунул его в мешок. Видно, мешок он принес в портфеле. Мое внимание привлек скособоченный мотор. Он был расколот, и я увидел днища поршней и закопченные клапаны. — Это авиационный? — спросил я Андрея Глебовича. — Скорее всего, — ответил он. — Я мало понимаю в двигателях. Тут бы Владимиру Васильевичу посмотреть. Андрей Глебович говорил о Вовке Ишине. Рядом с двигателем я увидел какую-то штуку, похожую на железную кепку, вернее, на гриб мухомор, у которого вместо круглой шляпки разноцветная кепка с длинным козырьком. Из ножки гриба торчали три проводка, а под козырьком была узкая застекленная щель. — Что это? — спросил я Кириакиса. Он взял гриб в руки, долго вертел его, прочитал надпись по-немецки: “Notek”. Это и я прочитал, хотя по немецкому у меня всегда были посредственные оценки. — Что такое “нотек”? — еще раз спросил я. — Молодец! — вместо ответа похвалил меня Андрей Глебович. — Ценная находка. Как я понимаю, это светомаскировочная фара. Свет бьет из-под козырька через эту щель, равномерно освещает дорогу, и притом самое пикантное, что источник света остается невидимым. Я слышал об этих фарах, но вижу впервые. Судя по всему, наладить их серийное производство не так уж трудно. Гриб он тоже сунул в мешок. — Ну, кажется, кое-что выловили, — сказал Андрей Глебович. — Пора идти? — спросил я, жалея, что для себя лично я среди этих трофеев ничего не нашел. Гриб мне был ни к чему, а Кириакису нужен для дела. Может, он действительно наладит их производство, и наши машины будут ездить по дорогам и оставаться невидимыми для фашистов. Андрей Глебович протянул мне портфель, взвалил мешок на плечи и еще раз обошел кучу металлолома. Я стоял над каской и думал: не забрать ли ее все же домой? Вдруг Андрей Глебович окликнул меня. Голос у него был взволнованный. — Наконец! Наконец нашел! То, что он нашел, ни на что не было похоже. Какая-то продолговатая коробка с тремя ручками и горловиной. Бидон, просто бидон. И к тому же по этому бидону проехал автомобиль. Чему тут радоваться?! — Неси, Федя: это то, что я искал, — сказал Андрей Глебович. — Это канистра. Моя канистра. Андрей Глебович впервые назвал меня Федей. Ведь он сам говорил Гале, что Федя — это Федор, Теодор, но никак не Фридрих. Охранник нас выпустил, не проверив, что мы несем. Он только подозрительно осмотрел самого Андрея Глебовича. Наверно, потому, что у того было очень веселое лицо. Мы опять долго шли по кривой улице, ехали на трамвае. В квартире Кириакисов мы выложили все на паркет. Доротея Макаровна стала накрывать на стол. — Погоди, — сказал Андрей Глебович. — Надо произвести один опыт, а потом с чистым сердцем и спокойной душой можно обедать. — Ты не забыл, что тебе в ночь? — предупредила Доротея Макаровна. — У тебя опять разыграется язва. Я очень устал, и мне хотелось есть. Но Андрей Глебович спокойно сказал жене: — Дай мне примус. Когда он говорил спокойно, Доротея Макаровна всегда слушалась его. Впрочем, он, как я заметил, всегда говорил спокойно. Дальнейшее было мне не очень понятно. Андрей Глебович налил воду в сплющенную канистру, мне дал нести еще горячий примус, на котором только что варился суп, и мы вышли во двор. Недалеко от помойки мы развели примус. Андрей Глебович закрыл канистру и боком положил се на кирпичи, сложенные вокруг примуса. Я молчал, хотя не понимал, зачем все это. Примус горел ровно, потому что кирпичи загораживали его от ветра. “Зачем ему кипятить воду в этом смятом бидоне?” — думал я. — Отойди за угол и предупреждай всех, кто захочет подойти, — сказал Андрей Глебович. — Она может взорваться. Теперь я понял, что он хочет взорвать канистру. Но зачем ему взрывать ее, если она и так никуда не годится? — Самое пикантное теперь — это вовремя выключить примус, — нарушив мои размышления, сказал Андрей Глебович. Он сегодня уже второй раз говорил “самое пикантное”. Я отошел к углу дома и смотрел, что будет дальше. Лично я не верил, что канистра взорвется. В лучшем случае вышибет пробку. — У нее пробка вылетит! — крикнул я Кириакису. — Вы встаньте так, чтобы вас пробкой не ударило. — Пробка эта никогда не вылетит, — уверенно сказал он. — Пробка здесь самая надежная часть. Скорей разойдутся сварные швы. Марш за угол! — крикнул он. Я невольно шмыгнул за выступ стены и ждал взрыва. Вместо взрыва я услышал шипение выключенного примуса и, когда выглянул из-за угла, увидел, что канистра раздулась, что все ее вмятины выправились и она стала даже слегка пузатенькой. Примус потух. — Гениально! Гениально! — восклицал Андрей Глебович, кружась возле примуса. “Да, ничего не скажешь, действительно гениально, — подумал я. — Даже Ползунов и Уатт не догадались бы, наверно, использовать силу пара, чтобы выправлять помятые бидоны”. Но меня почему-то раздражали восклицания Кириакиса и его танец вокруг потухшего примуса. За обедом Андрей Глебович все время посматривал на свою пузатенькую канистру и потирал ладони. Посмотрит на канистру, подмигнет мне здоровым глазом, положит ложку, потрет руки и опять возьмет ложку. Между прочим, обед был очень вкусный — и суп и котлеты. Тетя Лида не умела так хорошо готовить, у нее получались только пироги, и то три раза в год — 7 Ноября, 8 Марта и 1 Мая. Андрей Глебович, видно, привык к вкусным обедам своей жены, потому что все время отвлекался и хвастал передо мной: — Эх, малыш, учись, пока не поздно. Вот смотри на меня. Я изобретатель. Неплохой изобретатель, но все же не то. Если бы мне настоящее образование и если бы я знал математику, физику, химию, сопротивление материалов, я был бы не просто талант, я был бы Эдисон или Эйнштейн. Вовка (теперь он называл Ишина не Владимиром Васильевичем, а просто Вовкой) окончил знаменитое Московское высшее техническое училище имени Баумана — МВТУ. Он тоже талант. Но я бы с его знаниями… У меня что — музыкальное училище, сольфеджио и нотная грамота, бемоли и диезы! — А он?.. — спросил я. — Он что изобретает? — Ну, он… Он головастый парень. Над чем он работает, нам с тобой и не понять, если бы даже рассказал. Да он и не скажет. — Он самолеты изобретает? — спросил я, невольно проникаясь уважением к человеку, который работает над чем-то очень секретным. — Самолет изобретен давно, — назидательно сказал Андрей Глебович. — Он, видимо, усовершенствует двигатели или даже создает их заново. Вовка с детства о межпланетных полетах мечтал. Он еще в школе всего Циолковского вызубрил. Надо сказать, что меня тогда межпланетные полеты интересовали меньше всего. Я прочитал только “Из пушки на Луну” Жюля Верна. Но эта книжка понравилась мне куда меньше, чем “Таинственный остров”. — Я как-то по соседству зашел к нему годика два назад, — продолжал Андрей Глебович. — Володя сидит, что-то пишет. Заглянул через плечо — одни формулы… Однако и я не унываю. Мы перешли уже к компоту. Компот тогда еще был в магазинах. За маслом и мясом стояли очереди, а компот еще был. — Я не унываю. Я тоже на своем месте. У меня ведь шесть изобретений. Шесть патентов. Потому что в мире есть еще многое, что нужно изобрести. Вот возьми немцев. Что ни говори, а они по этой части большие молодцы. — По какой части? — насторожился я. Интересно, по какой это части молодцы немцы? — Ну, по части бытового и вспомогательного изобретательства. Да и не только. — Никакие они не молодцы! — отрезал я. — Если бы они были молодцы… Что бы они сделали, если бы они были молодцы, я не знал и потому рассердился еще больше. Андрей Глебович словно и не заметил моего тона. Он вылез из-за стола и взял канистру в руки. — Посмотри, какая простая штуковина! Что это? Простой бак. Емкость, так сказать. Для горючего — бензина, керосина или смазочных масел. Мелочь? Нет, не мелочь. Самое пикантное, что это не мелочь. Он сегодня в третий раз произнес эти слова-паразиты. — Техническая находка здесь прекрасна. И моя задача — как можно скорее запустить такие канистры в производство. Он стал крутить канистру перед моим носом. — Простейший штамп. Чуть сложнее — с горловиной. Минимум сварочных швов — все. Мелочь? Да. Но мелочи изменяют лицо мира! Это не просто емкость. Это еще и понтон. Тело, погруженное в воду, теряет в своем весе столько, сколько… — Знаю, — сказал я. — Проходили. Андрей Глебович не обратил на мои слова никакого внимания. — Если принять вес канистры за два килограмма, значит, она может держать на воде восемнадцать. Легко сосчитать. Допустим, вес автомобиля — три тонны. Значит, сто семьдесят—двести канистр, на них доски — и готов понтонный мост, по которому пройдет автомобиль. Под эти ручки легко просунуть доски на всем протяжении моста. Можно составить не двести, а две тысячи штук. Такой мост практически непотопляем. — Чепуха! — сказал я. Андрей Глебович так удивился, что молча уставился на меня. А я представил себе, как через нашу русскую речку по соединенным досками канистрам, громыхая, идут фашистские танки и грузовики с солдатами, кричащими: “Хайль Гитлер!” Тетя Лида часто говорила, что у меня слишком хорошее воображение и мне это будет мешать в жизни. — Чепуха! — злорадно повторил я. — Что русскому здорово, то немцу смерть. Вам потому нравится все немецкое, что у вас бабушка немка. Доротея Макаровна ахнула, а я встал из-за стола и подошел к окну. Передо мной была колокольня. Колокольня с пустыми, зияющими арками. Там летали вороны. Белая-белая колокольня, как палец с острым наперстком, уходила в серое небо. За моей спиной не раздавалось ни звука. Лучше бы мне дали пощечину и выставили за дверь. — Что с тобой, мальчик? — спросил Андрей Глебович. Я и вправду не знал, что со мной. Мне вдруг захотелось плакать. — Ты понимаешь, что ты говоришь? — еще тише спросил Андрей Глебович. — Понимаю! — крикнул я на всю комнату. — Очень хорошо понимаю. Немцы убивают наших советских людей, а вы говорите, что они молодцы. — Ты с ума сошел! — с ужасом сказала Доротея Макаровна. — Выпей воды. Разве можно так говорить со старшими?! Ведь Андрей Глебович тебе в отцы годится. Одумайся, Фриц! — Я вам не Фриц! — каким-то тонким голосом закричал я. — Я вам не Фриц, и вы не годитесь мне в родители. Я Крылов, у меня фамилия есть! Я русский! А вы немцы, немцы! И вы немка, Доротея Макаровна! — Вон! Вон отсюда! — зарычал Кириакис. Я бросился к двери. Слезы застилали мне глаза. — Погоди! Погоди! — кричала вслед Доротея Макаровна. — Погоди, дурачок! Я не немка, а русская. Я Дарья. Понимаешь, Дарья. Дарья Макаровна Новичкова. Но я не слушал. Я выскочил в прихожую и чуть не сбил с ног Барыню, которая возле вешалки снимала с себя бархатное пальто.Сережка-альбинос
Хорошо, что тети Лиды не было дома. Я пришел в таком состоянии, что она наверняка полезла бы ко мне с вопросами. Что я мог ей сказать?.. Тетя Лида никогда меня не понимала, хотя и воспитывала с трех лет. Моя мама была врачом и умерла во время какой-то эпидемии. Я ее не помнил совсем. Отец работал строителем и все время разъезжал по разным Магниткам, Кузнецкам, Игаркам, то есть по городам, о которых я знал только из учебника географии. Отец утонул в Енисее, когда мне было шесть лет. Его я помню. Он ходил в сапогах и гимнастерке под широким ремнем. Я знал, что он воевал на гражданской войне, что у него было именное оружие — наган от самого Климента Ефремовича Ворошилова. Нагана этого у нас не осталось, потому что отец всегда носил его с собой и вместе с ним утонул. Мне всегда казалось, что он утонул, как Чапаев, переплывая реку, и что по нему стреляли враги. Я знал, что это не так, что на самом деле отец утонул зимой. Ночью шел с какого-то совещания и провалился в полынью. У нас в Москве от отца осталось только удостоверение на право ношения оружия и его письма к тете Лиде. Мне он писем не писал, потому что я тогда еще не умел читать. Письма все были похожи одно на другое. Все они начинались словами: “Строители и изыскатели в моем лице приветствуют вас, дорогая сестрица, из далекого…” Потом шло название города, который был уже построен или еще только строился. Заканчивались письма также одинаково: “Коту Ваське передай…” Дальше шло, что нужно передать мне, потому что отец чаще всего называл меня котом Васькой. Насколько “Васька” лучше “Фрица”! Тетя Лида говорила, что котом Васькой я стал, когда съел всю сметану, которую она приготовила для борща. Это было очень давно. Отец с матерью приехали в Москву к тете Лиде. Они разговаривали и ждали, пока сварится борщ. А я съел всю сметану. Я лично этого не помню. Честно говоря, мне с тетей Лидой было неплохо, хотя мы совершенно разные люди. Во всяком случае, я никогда не понимал, почему в книжках так жалеют сирот. Меня в нашем доме никто не жалел. Даже наоборот, сапожник Кобешкин однажды сказал: — Тебе, пионер, полная лафа, потому что тетка лучше, чем отец с матерью. Меня отец вожжами бил, а мать — скалкой. Конечно, меня бы мои родители не били, но, с другой стороны, это тоже неизвестно, потому что в жизни всякое бывает. Тетка и та иногда жалела: — Бить тебя некому! Обо всем этом думал я, лежа ничком на своей кровати. Слезы просохли, но жалость к самому себе не проходила. В тот день я, может быть, впервые почувствовал, как мне нужен отец. Я бы рассказал ему про Кириакисов и про канистру. Он бы взял наган, пошел к ним и во всем разобрался. Во всем! В чем во всем, я не очень понимал, но чувствовал, что я разобрался не во всем. “Что-то не так, что-то не так”, — думал я. И меня злило, что я разревелся, как девчонка. Хуже всего, если они заметили, что я плакал. Встав с кровати, я включил радио. Передавали песни советских композиторов. “Песня из кинофильма “Остров сокровищ”. Я очень любил эту песню, начал подпевать и немного повеселел.Опять этот скворечник
Мы сидели на крыше, вернее, в слуховом окне. Осколки снарядов то и дело дырявили старое, проржавевшее железо. Мы сидели молча, никому не хотелось говорить. Сережка сказал первый: — Зашел сегодня в магазин, а там — шаром покати. Скоро одни крабы останутся. Я понял, что Сережка думает о матери. Ведь он теперь кормилец! Я знал об этом, а Шурка еще не знал. — Интересно, для кого этих крабов делают? — сказал Шурка Назаров. — Я лично их ни разу не пробовал и не видел человека, который бы их ел. — Матишина один раз покупала, — сказал я. — Никто их не берет, а она назло. — И еще ячменное кофе “Здоровье”, — сказал Сережка. — Не ячменное, а желудевое, — поправил его Шурка. Сережка не стал спорить. Я тоже, хотя знал, что кофе ячменное, и даже не ячменное, а ячменный. Кофе, как это ни странно, мужского рода. Но Шурку не переспоришь. В магазине на Пятницкой из банок с крабами и пачек кофе были сложены целые пирамиды. За одним прилавком пирамида крабов, за следующим — кофе “Здоровье”. И ничего больше. Ну, там еще — лавровый лист, душистый перец, горчица. Остальное, как появится, сразу нарасхват. И очереди. — Сегодня они зажигалки кидать не будут, — сказал Щурка. В его словах не было ничего интересного. Фашисты теперь редко сбрасывали зажигательные бомбы. На массовые пожары они уже не рассчитывали. Теперь они кидали фугасные бомбы и старались целиться в важные объекты. — Глядите! — Сережка показал рукой. Но мы и сами видели, как за Крымским мостом три прожектора поймали вперекрест фашистский самолет. Возле нас стрельбы стало меньше. Зато там рвались снаряды. Там, в белом слепящем свете, готовился к смерти какой-то фашист. — “Юнкерс-87”, — сказал Шурка. Мы опять не стали спорить. Попробуй различи отсюда! Подбитых “юнкерсов” мы видели на площади перед Большим театром, в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького, когда там была выставка трофеев. Мы могли по звуку мотора отличить наш самолет от немецкого. Мы привыкли к шипящему посвисту осколков. Мы могли, или так нам казалось, по свисту отличить двухсоткилограммовую фугасную бомбу от полутонной, и мы не вздрагивали от свиста. Но теперь мы вздрогнули: где-то совсем рядом зазвенел звонок. Сильный. Сильнее, чем школьный. Мы выскочили из слухового окна и увидели, что колокольня против нашего дома освещена ярким электрическим светом. Колокольня была белая-белая, и черными провалами зияли сквозные арки без колоколов. Вдруг свет погас, и звонок перестал звенеть. Неужели померещилось? Не успел я об этом подумать, как вновь вспыхнул свет и зазвенел звонок. Нам говорили, что с самолета видна зажженная спичка, что луч карманного фонарика виден на несколько километров. Свет, вспыхивающий в нашем переулке, наверняка можно было заметить и на подступах к Москве. Мы окаменели от ужаса. По тому, как падала тень, было ясно, что эта сильная, в сто или двести свечей, электрическая лампочка установлена на нашем доме. Значит, здесь, в нашем доме, находится шпион или диверсант! Шурка бросился к самому краю крыши и, уцепившись за какой-то выступ, свесился вниз головой. — Между пятым и шестым этажами! — крикнул Шурка. Он вскочил и, спотыкаясь, кинулся куда-то дальше от нас. — Там пожарная лестница, — сказал Сережка и побежал за ним. Я бежал третьим. Я не слышал и не видел, как рвутся в небе снаряды, как бьют зенитки, как громыхает под нашими ногами старая крыша. Я только слышал, как звенит звонок, видел, как возникает из мрака и исчезает во тьме белая колокольня. “Зачем звонок?” — подумал я, подбегая к пожарной лестнице. А Шурка, уже стоя на ней, крикнул: — Звукоуловители! — Неужели у них и на самолетах есть звукоуловители? Оказывается, я не подумал, а спросил вслух. Мы не удивились, что именно на нашем доме враги установили сигнал. Рядом — мост, Кремль и электростанция. Пожарная лестница была установлена на длинных кронштейнах далеко от стены, расстояния между перекладинами большие. Но Шурка спускался первым, и мы, еще не понимая, зачем он лезет, спускались за ним. — Скворечник! — хрипло прокричал Шурка снизу. И я увидел, что лампочка установлена именно в скворечнике. В том самом скворечнике, который очень давно, задолго до войны, кто-то прибил прямо на лепные украшения между пятым и шестым этажами. — Погоди! — закричал Сережка. — Погоди, я длиннее! Он кричал это потому, что Шурка пытался перебраться с лестницы на карниз. Одной рукой он держался за лестницу, а другой тянулся к водосточной трубе, и если бы кронштейн лестницы был здесь, а не этажом ниже, Шурка перебрался бы и прошел по карнизу. Он это мог. Свет в скворечнике то вспыхивал, то исчезал, то освещал Шурку, распластавшегося в воздухе, то скрывал его во мраке. Мы с Сережкой застыли, вцепившись руками в ржавую перекладину пожарной лестницы. Над нами шарили по небу прожектора, висели аэростаты воздушного заграждения; под нами был булыжник переулка; справа виднелись башни Кремля. А рядом, совсем рядом, в скворечнике, вспыхивала и гасла предательская, злобная, яркая электрическая лампочка в сто, или двести, или, может быть, в триста свечей. И я вспомнил, что в этом скворечнике никогда не жили скворцы. “Так и знал, — подумал я. — Так и знал!” Лампа в скворечнике вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, звонок то звенел, то замолкал. Это продолжалось бесконечно долго. Шурка все еще пытался дотянуться до карниза, как вдруг окно в комнате Кириакиса растворилось и на улицу вырвался целый сноп света. Он быстро погас. Видно, в комнате выключили электричество. Какой-то человек — мы не разобрали, кто это, — держась рукой за оконную раму, другой рукой шарил по стене за окном, потом дернул за провода раз и другой. В скворечнике вспыхнул свет, зазвенел звонок, и в этот момент скворечник отделился от гипсовой женщины, к которой был прибит, и полетел вниз. Он летел, светился и звенел. Еще один рывок. Скворечник оторвался от проводов, грохнулся о тротуар. В нем что-то звякнуло. Тьма окутала переулок. Окно в комнате Кириакисов закрылось, и мы опять стали подниматься вверх по пожарной лестнице. У меня дрожали руки, и кажется, я весь дрожал. Шурка вылез на крышу последним. Пока он не вылез, ни я, ни Сережка не произнесли ни слова. Мы почему-то думали, что Шурка что-то нам скажет — ведь он был к окну ближе всех. Но и Шурка молчал. Нам очень хотелось спуститься вниз и выяснить, что же произошло, кто шпион в нашем доме и кто тот герой, который вылез из окна и сорвал скворечник. Мне показалось, что скворечник сорвал Петын. О том, кто его повесил, этот проклятый скворечник, говорить сейчас было бессмысленно. И так понятно: скворечник висел над окнами квартиры, где жили Ишины и Кириакисы, ближе к окнам Барыни. Но, с другой стороны, срывали провода из окна комнаты Андрея Глебовича, следовательно, они туда и вели. Значит — это и дураку ясно, — либо Барыня, либо Андрей Глебович. Правда, оставался еще слесарь Гаврилов, который жил этажом выше. Я вспомнил, что он был человек хмурый и про окончание войны говорил подозрительно. Скорее всего, Кириакис. Я это предчувствовал. Так или иначе, но сейчас воздушный налет приобрел новое, куда более зловещее значение, чем раньше. Сигнал явно должен был указать врагу не наш дом, а объект поважнее. Ну, хотя бы мост, электростанцию или, хуже всего, Кремль. Мы с ужасом ждали, что будет. Сейчас было не до шпиона. Его-то уж поймают! Над нашими головами шарили по небу прожектора, рвались снаряды. Мы ждали свиста огромной фугасной бомбы, мы замерли и напряглись. Уйти с крыши в этот момент было невозможно. Постепенно прожектора и зенитки удалялись от нашего дома куда-то в сторону Серпуховки. — Не смогли прорваться, — сказал Шурка. — Шпион показал им, куда надо прорываться, дал им ориентиры, а они все равно не смогли. — Конечно, тут же аэростаты, — сказал я. — Кто бы подумал… — сказал Сережка. — Сколько лет висел скворечник, и, оказывается, для этой ночи… Налет кончился к утру. Мы спускались по черной лестнице так же, как и поднимались на нее — Шурка впереди, мы с Сережкой сзади. Вот пустая квартира Яворских и Гавриловых. Вот квартира, где живут Кириакисы и Матишина. — Что ты теперь скажешь? — спросил я Сережку, когда мы проходили мимо этой двери. Он промолчал. Возле парадного, как всегда после отбоя, толпились люди. Но сегодня их было больше. Они спорили, говорили все одновременно. Из обрывков общего разговора я понял, что свет в скворечнике первой заметила Одинцова. Она дежурила у подъезда. Звено охраны порядка и те, кто сидел в бомбоубежище ближе к выходу, бросились к квартире Кириакисов. Дверь в квартиру была не заперта. Но дверь в их комнату никак не подавалась. Прибежал Петын, и только тогда дверь подалась. Дальнейшее мы видели из окна. Человеком, сорвавшим скворечник, действительно был Петын. Сейчас от скворечника не осталось и следов. Его увезла специальная команда МПВО, которая приехала, пока мы сидели на крыше. Не было в толпе ни Доротеи Макаровны, ни Гали. Как выяснилось, Доротея Макаровна позвонила на завод Андрею Глебовичу, он прибежал, и всех их увезли вместе со скворечником. — Ну, так что ты скажешь теперь? — спросил я Сережку. — Близорукий ты человек. Сережка ничего не ответил. Да и что ему говорить?! Я был прав. — Вы про что? — спросил нас Шурка. — Пусть он расскажет, — сказал Сережка и, опустив голову, пошел к себе в подвал. Ему через час надо было ехать на завод. — Вы про что спорили? — спросил меня Шурка. Я отвел его в сторону и хотел подробно рассказать про все, о чем говорил вечером с Сережкой, но почему-то сказал очень коротко: — Я говорил Сережке, что Кириакис подозрительный тип, а он мне не верил. — Конечно, — сказал Шурка, — еще бы… Петын это сразу определил. Жалко, не удалось разоблачить его раньше. И Барыня тоже подозрительная. Мы поглядели на толпу и только тут заметили, что Барыни-Матишиной не было возле подъезда. — Фридрих! — позвала меня тетка. — Пойдем домой, ты совсем синий. Я же просила тебя надеть джемпер. Дома тетка вскипятила на керосинке чай, поставила на стол блюдечко с картофельными оладьями. Мы позавтракали. После налетов многие завтракали перед тем, как лечь спать. Тетя Лида ничего не говорила о случившемся. — Ты знаешь, — только и сказала она, — когда я сильно волнуюсь, я забываю про астму, и она про меня забывает. — Кто бы мог подумать, — сказал я, — что такие люди окажутся шпионами. Ведь столько лет вместе живем! — Какие? — спросила тетя Лида. — Андрей Глебович, — сказал я, — Доротея Макаровна, Галя. И мать Вовки Ишина. — Быстрые суждения, — ответила тетя Лида, — изобличают ум неразвитый и ленивый. Значит, по-твоему, Андрей Глебович, Доротея Макаровна, Галя и Ольга Борисовна Ишина шпионы? Я разделся, лег и укрылся одеялом с головой. “Что-то много шпионов в нашем доме”, — подумал я, засыпая.Дело пахнет керосином
Проснулся я в полдень и, когда вышел из подъезда, узнал потрясающую новость. Ночью квартиру, где жили Кириакисы и Ишина, опечатали, но пока я спал, все они вернулись домой и печать с квартиры сняли. Зато та же машина, что ночью увозила их, увезла сапожника Кобешкина. Кроме того, в домоуправлении сидел участковый уполномоченный и вызывал к себе жильцов дома. Обо всем этом рассказал мне Шурка. В отличие от меня, дурака, он не ложился спать. Глаза у него были красные и волосы взъерошенные. Он видел, как вернулись Кирнакисы и Матншина. Доротея Макаровна была заплаканная, а Андрей Глебович, как показалось Шурке, ехидно улыбался. — Ты знаешь, как Петын разозлился? — сказал Шурка. — Он сказал: “Жалко, что на ваш дом бомбу не бросили. Целый дом шпионов, подумать только! Интеллигенция… гнилая”. Я помог ему вещи нести. — Кому? — спросил я. — Петыну, — сказал Шурка. — Он решил — обратно на фронт. Так разозлился… Его врачи не пускали, у него рана еще не зажила, а он сам. И я бы с ним уехал от таких людей. Мать жалко. — Прямо на фронт? — спросил я. — “Прямо”! — усмехнулся Шурка. — Прямо на фронт не пускают. У него друг есть — Толик-Ручка. — Знаю. — Он около вокзала живет. Вот Петын сначала к нему, а потом дождется эшелона, к солдатам подсядет — и на фронт. Мне, говорит, противно. Я охранял дом, а в нем оказались одни шпионы. Я понимал Петына. Ведь я тоже охранял дом, в котором были шпионы. Сами подумайте, легко ли это… Я вспомнил историю про бумажник, которую рассказывал Петын, и спросил Шурку: — Этот Толик возле Киевского вокзала живет? — Нет, — сказал Шурка, — возле Казанского. — Да? — удивился я. — Но ведь с Казанского в эвакуацию едут. — Чудак! — сказал Шурка. — Теперь со всех вокзалов поезда на фронт идут. По Окружной. Это правда. Об этом я забыл. Мы с Шуркой стояли на мостовой и смотрели вверх, туда, где висел скворечник. То ли когда его прибивали, то ли когда сорвали, повредили ногу женщине с прямым носом, и теперь она вроде как бы прихрамывала. — А Кобешкина почему забрали? — спросил я. — Им видней, — сказал Шурка. — Он ведь тоже личность подозрительная. Может, у него в деревянной ноге радиостанция! Я, например, слышал такую историю. — Может… — согласился я. — Такой человек все может. Он за водку черту душу продаст. Но интересно, почему этих, главных, выпустили? — Значит, так надо, — сказал Шурка. — Может, хотят проследить, кто к ним ходит, с кем связаны. А может, доказательств мало. — Мало? — сказал я. — Ничего себе мало! Я бы этих людей… — начал я, но тут подумал про Галю и замолчал. Я замолчал очень кстати, потому что в подъезде появилась Барыня-Матишина. Она была в бархатном пальто, на руках — перстни, на груди — часы с крышечкой. — Милые Шурка и Фриц! — сказала она. — У меня к вам большая просьба… — Еще не хватало!.. — пробурчал Шурка. — Дело в том, что я получила повестку и без вас никак не могу справиться. Это уже третья повестка. Деваться было некуда. И повестка, которую получила Ольга Борисовна Ишина, очень меня заинтересовала. Я подошел первым. — Видишь ли, Фриц., — как ни в чем не бывало сказала мне Ольга Борисовна, — у Вовы есть мотоцикл “харлей-давидсон”. Это я и без нее знал. — Так вот, этот “харлей-давидсон” нужно сдать в военкомат. Вовочке третий раз присылают повестку. Но без него я просто не знаю, как к этому подступиться. Гаврилов обещал помочь, но его же не поймаешь. Неизвестно, когда он дома бывает! — Матишина продолжала: — Видимо, мотоцикл нужен для борьбы с фашистами, а он стоит в сарае разобранный, с него какие-то части сняты. Ведь его нужно сдать в полном порядке. Я вас прошу, пойдемте в сарай и посмотрим, чего там не хватает. — Мне некогда, — сказал Шурка. — Мне нужно на рынок, мать в очереди за чечевицей сменить. Может быть, Шурка и не врал, но ему, конечно, повезло. Идти с Барыней в сарай пришлось мне. В другой раз я пошел бы, конечно, с удовольствием, потому что до войны нас к этому мотоциклу ее сын близко не подпускал. Во дворе нашего дома было несколько дровяных сарайчиков. В одном из них стоял мотоцикл Ишина. Ольга Борисовна сняла замок и распахнула дверь. “Харлей-давидсон” — большой зеленый мотоцикл с потертым кожаным седлом и рогатым рулем. В отличие от всех других мотоциклов, которые я видел, у “харлея” не было никаких рычагов на руле. И сцепление и тормоз были ножные. Андрей Глебович объяснял, что такова традиция американского мотоциклостроения: чтобы все было как в автомобиле. В автомобильном кружке Московского Дома пионеров я изучал устройство автомобиля “ГАЗ-АА” и мотоцикла “Красный Октябрь”. “Харлей-давидсон” мы там не изучали. И все-таки я сразу увидел, что с мотоцикла снят карбюратор. — Карбюратора нет, — сказал я. — Правильно, правильно, Фриц, — сказала Ольга Борисовна. — Вот и Андрей Глебович говорил, что у мотоцикла нет аккумулятора. — Карбюратора, я сказал, а не аккумулятора. И тут же я увидел, что Ольга Борисовна права — аккумулятора тоже не было. — Вот эти коммутаторы… — сказала Ольга Борисовна. — Карбюратор и аккумулятор, — поправил я. — …может быть, они у нас в чулане? Ты умеешь их привинтить? — Не знаю, — сказал я, — попробую. — А ты знаешь, на что они похожи? Пойдем к нам в чулан. Может быть, они там валяются. Я ведь не знаю, что к чему. — А почему вам Андрей Глебович не поможет? — спросил я. — Ну, во-первых, — сказала Ольга Борисовна, — он сейчас спит: ведь он всю ночь не спал. Неудобно его беспокоить. А во-вторых, Вовочка говорил, что Андрей Глебович ничего починить не может. Он или усовершенствует, или сломает. По-моему, он понимает только в керосинках. — Ну, не только, — ехидно сказал я. — Он, наверно, еще и в скворечниках понимает. Ольга Борисовна вздохнула и как-то странно посмотрела на меня. — Неужели тебе трудно подняться и посмотреть? Ведь ты же знаешь, ты же интеллигентный мальчик, Фриц! Мне не хотелось, ну, просто не хотелось подниматься в эту квартиру, встречаться с Андреем Глебовичем, с Доротеей Макаровной, с Галей. Но Андрей Глебович спит, подумал я. Доротея Макаровна тоже. И с другой стороны, когда мне еще представится возможность побывать в этой квартире и на месте выяснить, что к чему. Конечно, такая возможность может представиться, но медлить нельзя. Кто-то сказал: промедление смерти подобно. Я никогда не видел, как опечатывают квартиру. Оказывается, просто берут веревочку, приклеивают к одной половинке двери сургучом и к другой половинке двери сургучом, а между двумя сургучными нашлепками болтается веревочка. Так вот, когда Матишина открывала дверь, я увидел обломки сургуча на двери и очень удивился, до чего же все это просто. — Тихо, Кириакисы, кажется, спят, — сказала Ольга Борисовна и тем очень успокоила меня. Она провела меня в чулан, точно такой же, как в нашей квартире и во всех коммунальных квартирах нашего дома. В каждой квартире было два чулана: один в коридоре, а другой при кухне. Они считались местами общего пользования, как ванная или уборная. Я и теперь часто слышу — “места общего пользования”, но теперь коммунальных квартир становится все меньше и, наверно, меньше становится мест общего пользования. Ольга Борисовна зажгла свет, и я увидел, что в чулане стоит большой темный шкаф со сломанной дверцей, на шкафу — трухлявая бельевая корзина, а рядом со шкафом большой сундук. — Посмотри, пожалуйста. Или за шкафом, или за сундуком, а может быть, на антресолях. Сначала я посмотрел на потолок, потому что, когда я вхожу в незнакомое помещение, я всегда смотрю на потолок. Такая привычка. Я когда в школе у доски стоял, тоже смотрел на потолок. А некоторые смотрят в пол. Тоже плохая привычка. — Ты думаешь, на шкафу? — не поняв моего взгляда, спросила Барыня. — Уверяю тебя, на шкафу ничего нет. — Ладно, — не слишком вежливо ответил я. — Если карбюратор и аккумулятор тут, найду. Барыня не стала мне мешать и, притворив дверь, отправилась на кухню. Прежде всего я заглянул за шкаф. Там было много пыли. На полу лежала какая-то тряпка. В углу я увидел мышеловку, хотел достать ее рукой, но не дотянулся. У шкафа стояла швабра. Я взял ее и попробовал вытащить мышеловку. Мышеловка вдруг подпрыгнула и щелкнула. Хорошо, что не дотянулся! “На что мне эта мышеловка!” — подумал я и повернулся к сундуку. В отличие от поломанного шкафа, сундук был целый, только замок сорван вместе с толстыми кольцами, на которых он висел. Надо иметь силу, чтобы сорвать такой замок. Я приподнял крышку. Чего только там не было! Прежде всего модели самолетов, бумажные и схематические; потом какой-то прибор с радиолампами; груда ученических тетрадей; связка толстых общих тетрадей в коленкоровых обложках и несколько журналов. Один из журналов был иностранный. На обложке самолет, под самолетом надпись: “Капрони-Кампини”. Такого самолета я никогда раньше не видел, хотя до автомобильного кружка занимался в авиамодельном и даже сделал модель французского самолета “Кадрон-Рено-713”. А этот — какой-то Капрони да еще Кампини. Я стал листать журнал. Рисунок с обложки повторялся и на одной из страниц. Под рисунком была статья на непонятном языке, а на полях статьи красным карандашом по-русски написано: “Керосин!!!” Просто керосин, но с тремя восклицательными знаками. “Керосин — это по части Андрея Глебовича, — сообразил я. — Надо сказать тете Лиде”. Тут я услышал, что Барыня вышла из кухни и топает по коридору. На всякий случай я сунул журнал в штаны за ремень и захлопнул крышку сундука. — Нашел? — спросила Ольга Борисовна, появившись в двери. — Нет, — сказал я. — Не так быстро. За шкафом я нашел только мышеловку. Может быть, карбюратор в этом сундуке? — Маловероятно, милый Фриц. Почти невероятно. Он этот сундук и сам не часто открывал. — Кто? — Мой Вова. Он мне запрещал заглядывать в него. Здесь его реликвии и вся техника. Однажды я порвала какую-то ненужную бумажку, так он устроил целый скандал. Потом я подарила детям серебристые лампочки, которые у него валялись без дела, — оказалось, что это для радио. Опять была сцена. Тогда я отдала ему во владение этот сундук. По-моему, это было, когда он перешел в седьмой класс. Кто бы мог подумать, что будет такое несчастье! — Какое? — с деланной наивностью спросил я, понимая, что в словах Барыни заключена какая-то тайна. — Разве у вас какое-нибудь несчастье? Наверно, я выдал себя. Барыня сразу прикусила язык. — Я тебе потом все расскажу. Со временем. Между прочим, сколько мудрости в народной пословице: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”. Представляешь, сегодня ночью я говорила с Вовой по телефону. Правда, Вова был ужасно огорчен, что у нас такие неприятности. — Ну что вы, — сказал я, — какие у вас неприятности? — Ты очень любопытный, Фриц. Я же тебе сказала — со временем узнаешь. А пока, милый, найди, пожалуйста, этот радиатор. — Карбюратор, — поправил я, — и аккумулятор. — Будь любезен, посмотри за сундуком, — сказала Барыня и опять зашлепала на кухню. Я стал осматривать пространство за сундуком. Там стояла велосипедная рама без колес, какие-то гнутые трубы, видимо от глушителя, тяжелая динамо-машина. Все это я выложил на крышку сундука и на самом полу увидел карбюратор. Я вытащил его и в освободившемся пространстве заметил два провода. Два обыкновенных электрических провода, которые выходили из стены возле плинтуса и вели в сундук. “Зачем здесь эти провода?” — не успел подумать я, как сразу все понял; в сундуке сидел шпион и нажимал кнопку, которая включала лампочку и звонок в скворечнике! Только мог ли шпион там уместиться? Я поднял крышку сундука, и все, что на ней лежало, попадало на пол. Нет, в сундуке было так много хлама, что уместиться в нем мог разве только ребенок. А вдруг этот хлам положили туда после истории со скворечником? И я живо представил себе, как шпион, похожий на Андрея Глебовича, лежит в сундуке и нажимает кнопку. Нужно только найти эту кнопку. Я стал перебирать в сундуке все, что там было, и в это время услышал в коридоре знакомые голоса. Это проснулись и разговаривали Доротея Макаровна и Андрей Глебович. Из долетавших до меня слов трудно было понять что-либо определенное. — Кто бы подумал… — говорила Доротея Макаровна. — …мыльница? — спрашивал из ванной Андрей Глебович. — Посмотри хорошенько, — отвечала ему жена. — Только этого не хватало! Могло бы кончиться весьма плачевно… — Я оптимист… — доносилось из ванной. — Тебе надо помириться с Фрицем, у него в голове каша, — говорила Доротея Макаровна. Я слушал этот разговор и, хотя ничего важного для существа дела не услышал, все-таки разозлился. Лицемеры проклятые! В глаза зовут Федей, за глаза — Фрицем. “Я оптимист”! Шпион ты, а не оптимист! В дверях кладовки опять появилась Барыня. — Может быть, ты не знаешь, как выглядит этот самый сепаратор? — спросила она. — По-моему, он такой железный. — Не сепаратор, — сердито возразил я, — не радиатор, а аккумулятор и карбюратор. Пока я произносил эти слова, мне пришла в голову блестящая мысль. — Я прекрасно знаю, как выглядят карбюраторы и аккумуляторы, — сказал я, — но неплохо бы посоветоваться со специалистом. С Гавриловым, например. Если можно, я поднимусь к нему. Вдруг он пришел!.. Придерживая рукой журнал, чтобы не выскользнул вниз, я пулей выскочил из квартиры. Мне очень хотелось спуститься к себе домой — попросить тетку, чтобы она посмотрела журнал и подтвердила, что он принадлежит Андрею Глебовичу. Тогда это улика, и в сундуке сидел именно он. Еще мне очень хотелось все рассказать Шурке. Сейчас поднимусь к Гаврилову. Постучу. Его, конечно, как всегда, нет дома. Тогда со спокойной совестью побегу по своим делам. Я постучал в дверь семнадцатой квартиры и собирался бежать вниз, как вдруг услышал, что кто-то идет отворять. Пришлось подождать. — Ты ко мне? — удивился Егор Алексеевич Гаврилов. Сегодня он был выспавшийся и побритый. — Нет, — смутился я. — Я только хотел сказать, что Барыня… — Ольга Борисовна, — поправил Гаврилов. — Да. Она просила, чтобы я нашел у нее в кладовке карбюратор для “харлея”, который….. — Заходи, — сказал Гаврилов. — Не тараторь, объясни все по порядку. В светлой комнате за накрытым клеенкой столом, к моему удивлению, сидел сапожник Кобешкин. Когда я вошел, он встал и заковылял к выходу. — Чего ты заторопился, Павел Иванович? — спросил его Гаврилов. — Я бы чаек поставил. — У меня от чая деревянная нога преет, — хмуро усмехнулся Кобешкин. — Даже эти вот пионеры норовят чего покрепче схватить. Между прочим, я его тоже там видел. Где он меня видел, я не понял. — Критик ты хороший. Сам бы примера не подавал, — сказал Кобешкину Гаврилов и добавил: — Так что я все понял. Буду иметь в виду. Яворским напишу сам. — Ты еще к участковому зайди, Егор Алексеевич, — сказал Кобешкин. — Может, что важное сообщишь. Гаврилов проводил хромого сапожника до двери и вернулся ко мне: — Слушаю тебя. Если бы не разговор об участковом, то есть об участковом уполномоченном милиции, я не стал бы выкладывать Гаврилову все, кое-что придержал бы для себя. Но тут другое дело. Он пойдет к уполномоченному и все толково расскажет, его выслушают. Меня же, возможно, и слушать не будут. Между тем, как я уже говорил, в иных случаях промедление смерти подобно. — Егор Алексеевич, — начал я, — я давно подозревал и Матишину и Андрея Глебовича. Но до сегодняшнего дня у меня не было точных фактов. Теперь же я все знаю. Вообще-то мне нужно бы сейчас самому побежать в милицию, но лучше, если это сделаете вы. Вам больше поверят. Если вы мне не верите, можете сами убедиться. Я рассказал про то, как Барыня попросила меня найти карбюратор и аккумулятор для мотоцикла “харлей-давидсон”, как я оказался в кладовой и обнаружил два провода, уходящие в сундук. Кнопку, на которую нажимал шпион, я пока не нашел. Я рассказывал очень подробно, и у меня не было оснований думать, что Егор Алексеевич Гаврилов не понял. Однако первое, что он сказал, выслушав мой рассказ, сами понимаете, не могло меня не удивить. — А карбюратор-то ты нашел? — Нет, — сказал я. — То есть нашел, но он упал обратно за сундук. — Придется мне, — сказал Гаврилов, — найти карбюратор и аккумулятор и помочь женщине сдать мотоцикл в военкомат. — Егор Алексеевич, как вы не понимаете! Ведь наш дом находится недалеко от военных объектов, и если в нем шпионское гнездо… — В сундуке? — спросил Гаврилов. — Значит, по-твоему, шпион специально залезал в сундук, чтобы нажимать кнопку? А не проще бы ему было нажимать кнопку в комнате? Технической смекалки у тебя маловато! — Но вы же знаете, что произошло этой ночью? — Знаю, — сказал Гаврилов. — Мне Павел Иванович Кобешкин только что рассказал. — Если вы мне не верите, сами пойдите и все увидите. Провода ведут в сундук. Электрической лампочки там нет. Зачем провода в сундуке? И хитро так проведено — от плинтуса в сундук. Я больше чем уверен (мне тогда нравилось говорить “я больше чем уверен”), что эти провода дальше идут к скворечнику. — Ладно, — сказал Гаврилов, — мне скоро опять на работу. Ты иди гуляй и не волнуйся. Делом этим занимаются люди поумней тебя. Впрочем, давай выйдем вместе. Я зайду помогу Ольге Борисовне. Гаврилов остался у дверей Матишиной, а я спустился вниз к подъезду. Егор Алексеевич появился минут через двадцать. В одной руке он нес карбюратор, в другой — маленькую мотоциклетную аккумуляторную батарею. — Егор Алексеевич, вы к участковому? — Нет, — сказал он. — Сначала вот поставлю на мотоцикл, а потом, если останется время… — Вы ж хотели пойти к участковому! — Ну и пойду, если время будет. — А вы видели? — Посмотрел. Там ничего интересного нет. Простая звонково-световая сигнализация. Реле стоит. В общем, как у сейфов. Это еще до революции изобретено. — Егор Алексеевич, — взмолился я, — но ведь шпионы и до революции были! — Знаешь, — сказал мне Гаврилов, — о шпионах в другой раз поподробнее поговорим, я сам до смерти люблю говорить о шпионах. — И он спокойно повернул во двор, чтобы заняться мотоциклом, принадлежавшим сыну Барыни. — Фридрих! — позвала меня тетка, высунувшись из окна. — Домой иди, да поскорей, пожалуйста, мне нужна твоя помощь! Это кстати. Я пощупал журнал. Он был на месте, за ремнем. Тетка сразу впрягла меня в работу. Нужно было вытащить зимние вещи и вывесить их для проветривания. Сама тетка боялась запаха нафталина — у нее мог начаться приступ астмы. Я понял, что сейчас говорить о журнале бесполезно. Мороки с зимними вещами много. Одних газет, в которые они были завернуты, целый ворох. Возился я часа два. Думал — все. — Тетя Лида, — сказал я, — я вот тут журнальчик достал. Не можешь ты перевести одну статейку? Тетка взяла журнал; не глядя, положила его к себе на стол и сказала: — Хорошо, я переведу тебе все, что надо, если ты заклеишь окна. У нее, оказывается, был уже припасен клей, но нужно резать бумагу на полоски. В общем, возился я почти дотемна. Потом мы чем-то перекусили, выпили чаю. Тетка села в кресло, взяла в руки журнал и спросила: — Где ты его взял? — Нашел, — сказал я. Тетка посмотрела на меня подозрительно. Я показал ей нужную страницу, она стала читать и сказала: — Это же итальянский журнал! А тебе следовало бы знать, что итальянский я знаю плохо. — Тетя Лида, — взмолился я, — я же сделал все, что ты просила. — Кроме того, — сказала тетка, — это технический текст, я этих терминов не знаю. Тут какие-то параметры. Сказано, что фюзеляж алюминиевый, обтекаемый. Это тебе интересно? — Нет. А там есть что-нибудь про керосин? — Тут сказано: “В качестве горючего керосин обладает свойствами…” Тебе журнал дал Андрей Глебович? Вот страсть у человека к керосину! И потом — почему он не мог сам зайти? Ты же не сумеешь пересказать этот текст. Это он тебя просил? — Нет, — честно сказал я. — А журнал он тебе дал? — Нет, — сказал я. — Это военная тайна. После истории с Гавриловны я не мог доверять взрослым. Меня не понимают, как глухонемые не понимают человека, говорящего простым и ясным языком. Для меня было понятно главное: здесь замешан Андрей Глебович. Как только запахнет керосином, так без Андрея Глебовича не обойтись. Тетя Лида пыталась вытянуть из меня что-нибудь еще, потом заговорила о пользе изучения иностранных языков, и это меня спасло, а то я, может быть, и проболтался бы. И еще меня выручило то, что объявили воздушную тревогу.После отбоя
В тот раз тревогу объявляли дважды — одну с вечера, а вторую среди ночи. После отбоя первой воздушной тревоги я уснул, и мне снился сапожник Кобешкин, который сидел в своем подвале под плакатом: “А я ем повидло и джем”. В коленях у Кобешкина была зажата отстегнутая деревянная нога. Он дотронулся до какой-то кнопки, щелкнула потайная крышка, и в ноге открылся радиопередатчик — крохотная шпионская рация. “Немцы! Немцы! Немцы! — говорил Кобешкин в микрофон. — Я ваш немецкий шпион. Вы молодцы! Знаете, в нашем доме много ваших шпионов. Привет Гитлеру, Герингу и Геббельсу! Перехожу на прием”. Меня разбудила тетка. За окном выли сирены. — Я оделся потеплее, нахлобучил пожарную каску и опять полез на крышу. Я оказался там первым. Потом появились Сережка с Шуркой. Ночь была холодная. Спросонья меня бил озноб, но двигаться не хотелось. Мы сидели в слуховом окне. — Ребята, вы меня не будите, я подремлю, — попросил Сережка. Он привалился к стенке и засопел. Действительно, ему труднее, чем нам. Мы могли отсыпаться днем, а он должен еще вкалывать на заводе. Шурка повертелся немного и тоже застыл, сунув руки в рукава телогрейки. Я был рад, что не надо разговаривать. Расследование мое находилось на таком сложном повороте, что трудно было предвидеть, куда оно меня заведет. В моей голове сейчас скопилось слишком много идей одновременно, а когда слишком много идей, лучше всего помалкивать. Сундук с проводами звуко-световой сигнализации мной обнаружен. Он находился в той самой квартире, которую я подозревал. Но ведь ее обследовали до меня. Наверняка вместе с командой МПВО приезжал специалист. И если эти провода шли непосредственно от скворечника, не заметить их было невозможно. А что, если к скворечнику ли другие провода из другого места и эта сигнализация так и осталась необнаруженной? Странно и то, как вел себя Гаврилов. Говорил Кобешкину, что зайдет к участковому, а сам не пошел. О чем он говорил с Барыней-Матишиной? А может быть, он и с Андреем Глебовичем перекинулся парой словечек? Матишина просила меня подождать. А чего ждать? Может быть, шпион скроется и заметет следы. Я вспомнил про сон, который мне снился между двумя налетами. Конечно, все это глупости, но зачем и куда увозили сапожника Кобешкина? Почему он пришел к Гаврилову? О чем Гаврилов собирается писать Яворским? Они же в эвакуации. Кобешкин интересный тип, я бы даже сказал, загадочный. А про деревянную ногу — это мне здорово приснилось. Ведь в ней внутри что угодно можно спрятать, и никто не догадается. Может, он в ей поллитровку прячет! В бедной моей голове все путалось. Сегодня я показал тете Лиде этот иностранный журнал с русским словом “керосин”, написанным на полях непонятного текста. Сегодня-то мне удалось увернуться от ответа, откуда у меня журнал, но на завтра надо придумать, что можно ей соврать. Главная загадка все-таки — Кириакис. Хорошо бы попросить Сережку, чтобы он поговорил с Галей, как комсомолец с комсомолкой. Жаль, что он меня не понимает. Налет был не сильный, особенно возле нас. Видимо, фашистов задержали на подступах. Изредка стреляли ближе к Павелецкому вокзалу, где-то у Таганки, и все. Тучи висели низко. Прожектора упирались в них, как в стену. Там за тучами на ближних подступах к Москве, наверно, ползали по небу фашистские бомбовозы. Но тучи были сплошные, тяжелые. Сквозь такие тучи днем и солнца не увидишь. Ох, если бы такие тучи всегда закрывали наш город от прицельного бомбометания! Я знал, что там, над тучами под звездным небом, встречали фашистов наши ястребки, там шли бои. Для нас на земле налет был скучный. — Хоть бы зажигалки сбросили, — неожиданно сказал Шурка. После того налета, когда мы погасили несколько зажигательных бомб, на наш дом упало всего еще две. Я даже не считаю нужным об этом специально рассказывать. С зажигалками мы теперь управлялись, как дворник с навозом, — на лопату и в ведро. — Да ну их, — ответил я Шурке про зажигалки, — ничего интересного в них нету. Стрельба над Москвой совсем утихла, даже на окраинах не стреляли. Но и отбоя почему-то не было. Начало светать. Сережка Байков посапывал замоей спиной. Изредка кряхтел от холода Шурка. Тишина. Наконец возле кинотеатра щелкнул репродуктор: “Угроза воздушного нападения миновала…” Мы сразу поднялись и направились к лестнице. “Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!” Когда диктор в третий раз произнес эти слова, мы уже спускались вниз. Сквозь мутные окна на лестницу падали пятна бледного осеннего рассвета. Тучи на небе сгустились еще больше. — Может, сегодня от бати письмо придет, — сказал Шурка. — Мать места себе не находит. Говорит, у нее предчувствия плохие. Я не верю. — Конечно, придет письмо, — сказал Сережка. — Мало ли что может быть. Может, ему некогда или почта плохо работает. Я замер, боясь, что Сережка расскажет про смерть своего отца. Но он ничего больше не сказал. Мы спускались молча, и когда были на третьем этаже, где-то совсем рядом со стороны переулка раздался взрыв. Несильный взрыв. Но это был взрыв, и вслед за ним мы услышали чей-то пронзительный крик и звон стекол. Стремглав бросились мы во двор и вокруг дома. Оказывается, обежать его не так просто. Жильцы, вышедшие из бомбоубежища, чтобы подышать чистым воздухом, не стояли сейчас спокойно рядком у подъезда. Они как-то странно сгрудились и смотрели на что-то страшное. Мы пробились сквозь толпу. Первой, кого я увидел, была Василиса Акимовна Одинцова, командир звена охраны порядка. Она лежала на носилках, которые поднимали с земли Галя Кириакис и тетя Катя Назарова. С носилок капала кровь. На единственной ступеньке подъезда сидел, раскачиваясь и ругаясь на чем свет стоит, сапожник Кобешкин. — Контузили, паразиты! — кричал он. — Контузили, гады! Рядом с подъездом валялась его деревянная нога, расщепленная осколком. Чуть подальше, на сером асфальтовом тротуаре, лежала Галина мама. Она была мертва. Около нее на коленях, вся в слезах стояла Ольга Борисовна Ишина. Когда Ольга Борисовна перекрестила убитую и встала, мы увидели, что из-под плеча у Галиной мамы растекается лужица крови. Мы узнали, что Дарья Макаровна (мне очень не хочется называть ее теперь Доротеей) и Павел Иванович Кобешкин первыми после отбоя вышли к подъезду, где стояла командир звена охраны порядка Василиса Акимовна Одинцова. В этот самый момент прямо против подъезда упала маленькая — не то двадцатипяти-, не то пятидесятикилограммовая — бомба. Такие бомбы могут носить истребители или разведчики-корректировщики — те, которые тогда назывались рамами. Сбрасывать такие осколочные бомбы на город и тем более куда попало — бессмысленно. Но, видимо, злоба фашистов, не могущих прорваться к Москве, была такова, что какой-то бандит на маленьком самолете нарочно задержался в небе, когда бомбардировщики ни с чем повернули назад. И вот — хоть как-нибудь досадить, хоть как-нибудь! — три человека оказались жертвами этого стервятника. Дарью Макаровну убило наповал — осколок попал в грудь. Галя бросилась к ней, но увидела, что помощь здесь не нужна. На пороге дома истекала кровью Василиса Акимовна Одинцова. Тете Кате Назаровой не удавалось наложить жгут, а Галя сразу сумела это сделать. Меньше всех пострадал Павел Иванович Кобешкин. Осколок, видимо крупный, попал в его деревянную ногу. Нога раскололась, а Павла Ивановича контузило. Потом, во второй половине октября 1941 года, я видел, как днем фашистский летчик-истребитель сбросил такую же осколочную бомбу на очередь за картошкой возле Москворецкого моста. Там было много убитых и раненых… Сколько лет прошло, а я все не могу забыть то пасмурное и холодное утро, толпу у нашего подъезда, кровь, капающую с носилок, сапожника Кобешкина, на чем свет стоит ругающегося возле расколотой в щепы деревянной ноги, и Галину маму. Она лежит мертвая на тротуаре, из-под плеча у нее по серому асфальту растекается лужица крови. Лицо у нее бледное-бледное, губы ярко накрашены, красные как кровь. С тех пор я не люблю, когда красят губы.Фашист
Я не хочу рассказывать, как женщины нашего дома подняли на носилки тело Дарьи Макаровны и понесли вверх по лестнице на пятый этаж. Галя шла сзади; она не плакала, а все говорила: “Осторожнее… Пожалуйста, осторожнее…” Я не хочу рассказывать об этом, потому что я стоял, обняв тетю Лиду, и меня трясло, и я плакал громче всех в переулке. Я не хочу рассказывать, как прибежал с завода Андрей Глебович, и, увидев на тротуаре расплывшееся красное пятно, кинулся к нам, людям, стоявшим вокруг, и заглядывал в глаза, и никто не мог выдержать его взгляда. Я не хочу об этом рассказывать, потому что это невыносимо трудно, потому что всем людям, видевшим это, было очень плохо, но я должен рассказать об этом, потому что мне было хуже всех. Весь день я не выходил из дому, лежал на кушетке, пытался читать какую-то книжку. Глаза мои бегали по строчкам, я листал страницы, но в голове ничего не оставалось. Тетя Лида включила трансляцию на полную мощность, но и радио мне не мешало. В тот день я не слышал ничего — ни песен, ни маршей, ни даже сводок Информбюро. Часов в пять вечера вошел Шурка Назаров. Он вошел тихо. Плечи опущены, говорит и двигается медленно, голос хриплый. На щеке у Шурки был длинный красный рубец. — Пойдем, тебя участковый вызывает. Мы молча вышли на улицу и пошли в домоуправление. — Откуда у тебя? — показал я на рубец. — Мать. За Петына, — хрипло ответил Шурка. Наше домоуправление объединяло несколько домов в переулке и еще два с соседней улицы. Оно находилось в подвале четырехэтажного дома, разгорожено на мелкие клетушки. Участковый уполномоченный Зайцев сидел в одной из таких клетушек за обшарпанным канцелярским столом. Перед ним был лист бумаги и стеклянная чернильница-непроливайка. Зайцев — новый уполномоченный. Раньше у нас был другой, его взяли в армию и прислали Зайцева — кажется, отозвали с пенсии. Он никого как следует еще не знал, и мы тоже толком не знали его. Седой такой человек, почти дедушка. — Садись, Крылов, — сказал он мне. — Будем разговаривать. — Мне идти? — спросил Шурка. — Выйди в коридор и жди. — Долго? — робко спросил Шурка. — Сколько надо, столько и жди, — хмуро сказал Зайцев. Шурка вышел и притворил за собой дверь. Мы остались вдвоем. Я понял, что разговор пойдет о скворечнике. Мне сейчас вообще ни с кем не хотелось разговаривать. Особенно с милиционером. Особенно о скворечнике. Участковый начал издалека. Он спросил, где я был во время налета, за день до истории со скворечником. — Как — где? — сказал я. — На крыше, конечно. Мы всегда на крыше — от тревоги до отбоя. — Кто — мы? — Я, Сережка и Шурка. — Все время на крыше? — Да, — сказал я. — Мы — противопожарное звено. — И никто из вас ни разу никуда не отлучался? — Никто. — А Назаров? — И Назаров никуда, и я, и Сережа Байков. — Это ты правду говоришь про Назарова? — Я всегда говорю только правду. — Допустим, что так, — сказал Зайцев. — А в ночь, когда засветился скворечник, Назаров тоже никуда не отлучался? Я рассказал подробно про эту ночь и хотел уже сказать, что и сам теряюсь в догадках насчет скворечника, но Зайцев остановил меня: — Петра Грибкова ты видел в те ночи? Я вспомнил, что фамилия Петына — Грибков и зовут его Петр Петрович. — Видел, когда он вылез из окна, чтоб сорвать скворечник. — И только? А накануне? — Нет, накануне не видел. — На крышу к вам не поднимался? — Один раз днем, когда налета не было. Мы показывали ему наше хозяйство. Он же в звене охраны порядка. — Про жильцов дома Грибков у вас спрашивал? — Много раз, — сказал я. — Первый раз — как только с фронта вернулся, а потом — когда проверял светомаскировку в квартирах. Он же отвечал и за порядок и за светомаскировку. — Что он спрашивал про жильцов? — Кто сейчас в Москве, кто в эвакуации, кто в какую смену работает. — Он вас вместе с Назаровым спрашивал? — Когда вместе, когда меня одного. — Кто из вас больше дружил с Грибковым? — Больше Шурка, но я его тоже уважал. — Так… — сказал Зайцев, — уважал… Заходил к нему покурить, выпить водки, песни послушать. — Я совсем не курю, Шурка тоже, — соврал я. — А выпить нам Петын не давал. Мы и не просили. — Скромные, — едва усмехнулся Зайцев. — Непьющие. А за водкой для него бегал? — Нет, — сказал я. — Назаров показал, что по поручению Грибкова он бегал за водкой к Кобешкину. — Да, — вспомнил я, — мы заходили к Кобешкину один раз, только не решились спросить: он злой был. — Назаров показал, что был и другой раз, когда он бегал для Грибкова за водкой на рынок. Об этом случае я ничего не знал и не понимал, почему это так интересует Зайцева. И дальнейшие его вопросы были странные, к скворечнику никакого отношения не имеющие. Он спросил, видел ли я у Петына кожаное пальто и хромовые сапоги. Я сказал, что не видел. Бывал ли я в комнате Яворских после их эвакуации? Я сказал, что не был. Наконец он встал и, выглянув в коридор, позвал Шурку. — Назаров, — сказал он Шурке, — твой друг Крылов говорит, что он не видел у Грибкова ни кожаного пальто, ни хромовых сапог. Как это может быть? — Не знаю, — опустил глаза Шурка. — Ну, сапоги он, допустим, не заметил в тот раз, может, не обратил внимания — они под кроватью валялись, а насчет пальто не знаю, как получается. — Шурка, — сказал я, — никогда я не видел, чтобы Петын ходил в кожаном пальто и хромовых сапогах. — Он и не ходил в пальто. Он его принес откуда-то, а потом отдал Толику-Ручке. Как же ты не видел? Толик его надел, когда уходил. Это в тот раз, когда Петын с ним выпивал и песни пел про “наш уголок нам никогда не тесен”. Ты же был. — Я не знал, что это Петына пальто. Я думал, Толик в нем пришел! — удивился я. — Правду он говорит, — вспомнил Шурка. — Крылов в тот раз позже меня к Петыну пришел. — Какое у твоего Толика было пальто? — спросил меня участковый Зайцев. — Опиши, что помнишь. — Хорошее, новое кожаное пальто, какие бывают у летчиков и у танкистов, — сказал я, — пальто с поясом. Я такое видел раньше у сына Яворских. Сын у Яворских был командир-танкист. В таком пальто я действительно видел его в день парада 7 Ноября прошлого года. — Ну вот, — сказал Зайцев, — теперь приедет командир-танкист с фронта за этим пальто, а в том пальто ваш Толик ушел. Что вы, ребята, ему скажете? Намек Зайцева был вроде бы очень ясный, но неожиданный. И пока я соображал, что все это значит, наш седой участковый опять спросил меня: — Помогал Грибкову скрыться? — Как скрыться? — Вещи ему нес? — Он Петына не провожал, — вмешался Шурка, — я один. Я хотел Крылова позвать, а Петын сказал: “Не надо этого интеллигентика”. Он его не любил, говорил: “Не люблю ин-теллигентиков”. — А тебя он любил? — Любил, — опустил глаза Шурка, и рубец на его щеке стал краснее. — За что любил? — спросил Зайцев, зло глядя на Шурку. — Ты, говорит, простой человек, пролетарий… — Лопух ты, а не пролетарий, — обозвал Шурку Зайцев. — Слово “пролетарий” у нас на гербе написано. Мало тебе мать врезала. Шурка еще ниже опустил голову. Казалось, он сейчас заплачет. Участковый, не глядя на нас, макнул ручку в чернильницу и стал писать. Писал он долго. Я стал соображать, что Петын, наверно, кого-то обокрал и смылся. А может быть, он никого и не обокрал, может быть, его просто подозревают, потому что он раньше был вором. Но ведь он же исправился. И еще мне стало неприятно, что Петын, оказывается, меня не любил. Я ведь его очень уважал и ничего плохого ему никогда не сделал. — Теперь перейдем к тому дню, когда замигал скворечник. — Зайцев поднял глаза от бумаги. Я подумал, что сейчас должен буду рассказать, что обнаружил в кладовке у Ольги Борисовны, про журнал со словом “керосин”, про Андрея Глебовича, про все. И понял: после сегодняшнего утра я не смогу сказать об этом ни слова. У меня сразу пересохло во рту. — Знал Грибков, что Кириакис в ночную работает? — Наверно, знал, — сказал Шурка. — Он еще раньше знал, что Кириакис в ночную. — Откуда? — Мы ему сказали. Шурка говорил неточно. Я помнил, что Петын об этом спрашивал меня. — Это я сказал. — Наводчики… Оба хороши! И вы оба видели, что из окна срывать скворечник вылез он? — Да, — вместе сказали мы. — И еще Сережа Байков видел. — Подонок! Фашистское отродье! — зажмурясь от ненависти, выругался участковый. — Своими руками пристрелил бы гада! — Кого?! — вскрикнул я. — У людей горе, слезы, кровь, смерть, а он лазает по квартирам, мародерничает. Это чистый фашист! Чистый фашист! Только фашист может на чужой беде строить свое благополучие. А вы ему помогали, были его разведчиками. Назаров даже помог ему вещи нести. — Я же не знал! — взмолился Шурка. — Я же думал — он с фронта, раненый. Вы ведь тоже не знали. Теперь я понял, почему Шурка пришел ко мне такой тихий, почему мать ударила его ремнем по лицу. Но поверить сразу не мог. — Как же так? — спросил я. — Он же шпиона помог обезвредить. Об этом в книжке есть. Он же грудью заслонил командира в бою. Неужели он врал? Видимо, участковому рассказы Петына были известны от Шурки. — Лопухи! — еще раз выругал нас Зайцев. — Во-первых, книжка, о которой ты, Крылов, говоришь, вышла за два года до ареста Петына. Как же ты не понял этого? Зря он тебя интеллигентом называл. “Так… — подумал я, — значит, Шурка не пролетарий, а я не интеллигент. Кто же мы тогда?” — Лопухи! — в третий раз обозвал нас Зайцев. — Неужто вы верили, что он заметил снайпера? Снайпера! Понял, куда он целится, и заслонил грудью командира?! Неужто вы не видели, наконец, что образ жизни его совсем не изменился, и дружки у него те же, и речь та же? Из ваших же рассказов видно, как Грибков ненавидел всех людей: одних за то, что они образованные; других за то, что они просто труженики; третьих за то, что они уехали в эвакуацию; четвертых за то, что они остались в Москве. Эти слова участкового подействовали на меня. А ведь и правда, мне все время чуть-чуть не верилось в то, что он рассказывает о себе, и не нравилось, как он говорил о людях. И жизнь его, и пьянки, и словечки действительно никак не изменились. — Ой, Шурка, — сказал я, — ведь я так и знал!.. — Что знал? — вдруг заорал на меня Шурка. — Ты всегда говоришь “я так и знал”. Ни фига ты не знал! Я замолчал, потому что Шурка был абсолютно прав. — Ваш Петын, — сказал Зайцев, — в самом деле очень хитрый и опасный преступник. Я у вас человек новый, но с первого дня заинтересовался им, попросил его прийти предъявить документы. Документы у него были в полном порядке. Действительно с фронта, действительно ранение. Но я все же стал наводить справки. На два дня только и опоздали. Война… Почта плохо работает. Участковый встал из-за стола и сделал шаг. От волнения ему хотелось ходить, но ходить в этой клетушке было негде. Он опять сел. — И все-таки, ребята, вы вахлаки. Павел Иванович Кобешкин еще позавчера попросил меня обратить внимание на Грибкова. Грибков принес ему в починку сапоги, а тому показалось, что это сапоги молодого Яворского. Только и это было слишком поздно. А сегодня из лагеря справка пришла… То, что дальше рассказал нам участковый уполномоченный Зайцев, поразило и меня и Шурку. Оказалось, что в лагере Петын поменялся фамилиями с другим преступником, неким Клейменовым Виктором, а потом бежал. Объявили розыск Клейменова, в то время как тот сидел в лагере под фамилией Грибков, а Петын на свободе добыл документы на свое собственное имя, вновь стал Грибковым, ограбил раненного в грудь солдата, забрал справки о ранении, подделал их и заявился к себе домой. Он знал, что Грибкова пока никто не разыскивает и он сможет пожить здесь некоторое время. Кто же мог такое подумать!.. Ну, а об остальном вы и сами, наверное, догадались. Во время одной из тревог Петын обокрал квартиру Яворских. В другую ночь забрался в кладовку Ольги Борисовны Ишиной. Из этой квартиры Петыну ничего не удалось унести. Он взломал шкаф, вытащил шубу Ольги Борисовны, несколько кофточек. Потом вскрыл сундук и, не зная, что на улице заработал сигнал, продолжал копаться в кладовке. Неожиданно для Петына в квартире появились люди. Много людей. Они рвались в закрытые двери комнат, выходящих на фасад, и не заметили, откуда среди них появился Петын. Он должен был там появиться: он же в звене охраны порядка. А Петын быстро сообразил, что к чему. Он легко взломал дверь и даже проявил геройство, выскочив на подоконник. В первый момент все обошлось благополучно, но Петын понял, что, когда уляжется суматоха, нужно немедленно уносить ноги. — А как же скворечник? — спросил я участкового. — Дался тебе этот скворечник! После того что сказал тебе Егор Алексеевич, мог бы и сам догадаться. Вот оно что! Оказывается, Гаврилов все же успел побывать здесь. — Звонково-световая сигнализация, — продолжал Зайцев. — Можно еще добавить — с выносным устройством. Реле у него там стояло. Как в банковских сейфах. Стоит кому-то, не знающему секрета, вскрыть сейф, как на весь банк или контору раздается звонок или сирена включается. Я вспомнил намек Ольги Борисовны и понял, что сигнализацию ее сын установил, когда учился в седьмом или восьмом классе. Вот уж действительно изобретатель! — Но ведь это же мог быть сигнал для фашистов! — сказал я. — Мог быть, — согласился участковый. — Но сигнал только тогда называется сигналом, когда обе стороны знают, что он означает. Допустим, заметили враги мигающий свет, но, к чему это, им неизвестно. Сигнал, который ничего не означает, не сигнал. Однако, думаю, если б он смог приехать в Москву с начала войны, он бы выключил систему. — Все равно он виноват, — сказал я, вспомнив, чего стоил мне этот скворечник. — Не очень, — возразил Зайцев. — Представь себе, что вор забирается в квартиру, допустим, через окно и срывает штору. Свет появился в данной квартире, но виноваты ли хозяева, которых в то время не было дома? Возражений у меня не нашлось, и я посмотрел на Шурку. Шурка слушал наш разговор без всякого интереса. То ли он знал это раньше меня, то ли думал сейчас о другом. О Петыне, наверно, думал. — И еще то сообрази, — добавил участковый Зайцев, — зачем шпиону соединять сундук со скворечником? Зачем ему устраивать все это на собственной квартире? Разве шпион оставит такие улики? Шпион больше всего думает о безопасности. И потом, жильцы этой квартиры на месте, а Петын-то скрылся. Упустили мы, ребята, фашиста. — Я его из-под земли достану, — сказал Шурка. Зайцев посмотрел на него хмуро, правда не так хмуро, как смотрел раньше. — Идите, ребята, домой. Мы четвертый час с вами беседуем. Поешьте, а то скоро тревога будет. Это верно. Воздушные тревоги бывали тогда каждый вечер и всегда в одно и то же время. — Ты, Назаров, поужинаешь и приходи сюда. Поедем с оперативной группой в район Казанского вокзала. Может быть, понадобишься для опознания Грибкова и его приятеля.Поминки и проводы
В ту ночь мы сидели на крыше вдвоем с Сережей Байковым. Шурка с опергруппой уехал на поиски Петына. Сережка даже не ругал меня. Он ничего не говорил о том, что я еще глупый. Он просто рассказывал про то, чего я не знал, и еще немного про то, что я никому тогда не должен был говорить. Он рассказал, что вечером специальным самолетом с востока прилетел сын Ольги Борисовны Ишиной, что он очень секретный инженер и работает над изобретением одной очень секретной штуки, что для этой штуки надо изготовить еще другие штуки, которые должны быть из жаропрочной стали. В сплав для изготовления этих самых жаропрочных штук иногда добавляют даже платину. Егор Алексеевич Гаврилов как раз этим и занимается. Поэтому, когда Владимир Васильевич Ишин прилетел в Москву, он сначала заехал не домой, а на завод к Егору Алексеевичу. Я узнал, что с завода Сережка приехал вместе с нами на том самом светло-бежевом “ЗИСе-101”, который однажды уже привозил Гаврилова. Оказывается, пока участковый уполномоченный нас с Шуркой допрашивал, Владимир Васильевич, Егор Алексеевич и Сережка пытались завести “харлея”, но не завели, потому что у него сел аккумулятор. Будут его завтра заводить, с ходу. Придется толкать. — Как ты думаешь, Сережа, могу я завтра помочь им толкать мотоцикл? В другой раз я и спрашивать бы не стал, пришел бы и толкал. А тут такое дело! — Конечно, — ответил Сережка, — ты будешь нужен. И еще, Галя просила передать, что Андрей Глебович хочет, чтобы ты пришел на похороны Доротеи Макаровны. Она очень тебя любила и ругала Андрея Глебовича за то, что он тебя однажды обидел. Выгнал вроде. Только это и сказал Сережка, но я заплакал от его слов. Я лежал в слуховом окне и долго-долго плакал. Рукав моей куртки стал совсем мокрым. Сережка не утешал меня. Галину маму мы похоронили на далеком кладбище. На холмик могилы положили дощечку с надписью:Доротея Кириакис-Новичкова артистка оперетты 1901–1941
Мы возвращались медленно, потому что на улицах было много войск. Ехали танки и пушки, шагали красноармейцы в шинелях и шапках, рысью прошла какая-то кавалерийская часть. Андрей Глебович шел впереди всех с высоко поднятой головой. Мы едва поспевали за ним. Я был рядом с Галей, потому что Сережка в это время работал, а Шурка еще не вернулся с поисков Петына. Был с нами и Владимир Васильевич Ишин. Высокий, плечистый и совсем не такой молодой, каким он мне раньше представлялся. Вовкой его уже никто не смог бы назвать. Он совсем отстал от нас, потому что шел с женщинами нашего дома. Он вел под руки свою маму и мою тетю Лиду. У тети Лиды началась одышка, и Ольга Борисовна говорила: — Вова, не так быстро, мы с Лидией Ивановной совсем не так молоды, как тебе кажется. Потом мы с Владимиром Васильевичем опять пытались завести мотоцикл. Мы нажимали на стартер: пятьсот раз правой ногой, пятьсот — левой; мы гоняли его по переулку, выворачивали свечи, проверяли карбюратор и снова гоняли по переулку. “Харлей” так и не завелся. Пришлось поставить его обратно в сарай, потому что нас позвали домой. Это были и поминки по Дарье Макаровне, и проводы. Ночью Владимир Васильевич и Ольга Борисовна Ишины улетали на восток. За столом в комнате Андрея Глебовича собралось человек двадцать. Мать Сережи, тетя Клава, и мать Шурки, тетя Катя, накрыли сдвинутые столы и сели последними. Егор Алексеевич Гаврилов разлил водку по стаканам и рюмкам, встал и сказал, что смерть принесли на нашу землю фашисты, что каждому страшно умирать и что каждого убитого жалко, но он в своей жизни не видел более преданной жены, любящей матери и доброго человека. Про кого он говорил, каждый понимал. Водки налили всем: и Сереже, и Гале, и даже мне. — Не больше одной рюмки, — предупредил меня Сережа. — Скорей всего, и сегодня будет тревога. Я просидел с этой рюмкой весь вечер. Наверно, поэтому я так хорошо помню все, что было. Встала тетя Клава и сказала, что люди смертны и всегда умирают не вовремя. Вот и они с мужем хотели увидеть внуков, а теперь… Тут она посмотрела на тетю Катю Назарову. А теперь вот неизвестно, что будет, но она надеется, что все будет хорошо. И опять все выпили. Моя тетя Лида предложила выпить за здоровье Василисы Акимовны Одинцовой и Павла Ивановича Кобешкина, за то, чтобы они скорей выписались из больницы. Андрей Глебович стал наливать себе сам. Он наливал помногу и выпивал до дна. Он много выпил в тот день, молчал, а потом встал и сказал: — Я хочу выпить за тебя, Вовка, за тебя, Владимир Васильевич, за твою золотую голову и за твою работу. Я надеялся на тебя, когда ты был совсем еще мальчишкой и когда ты был студентом. Я знал, что ты из тех, кто дарит людям счастье и свет, как Кибальчич, Эдисон и Циолковский. Но сегодня я хочу выпить за то, чтобы все силы свои ты отдал пашей победе, чтобы отомстил фашистам за всех. За всех и за нее. Андрей Глебович замолчал на мгновение и добавил: — Пусть наши самолеты будут самыми лучшими в мире. Володя, и пусть… Тут встал Владимир Васильевич. Видимо, боялся, что Андрей Глебович скажет что-нибудь лишнее. — Как хорошо, что я родился и вырос в этом доме, — сказал Владимир Васильевич. — В этом доме и в этом переулке. Каждому из вас, сидящих за этим столом, я обязан всем, что во мне есть хорошего. Но больше всего я обязан двоим из вас. Может быть, только благодаря Андрею Глебовичу я понял, что мелочи изменяют лицо мира и что “инженер” происходит от английского слова, означающего “порождать”, “вызывать из небытия”. — Не совсем так, — тихо заметила тетя Лида. — От латинского. К счастью, кроме меня, никто ее не услышал. — Еще я низко кланяюсь Егору Алексеевичу, одному из тех людей, без кого руда не стала бы металлом, а металл остался бы слитком. За вас, мои учителя! — Владимир Васильевич поднял свой стакан. — За вас, мои учителя, за то, чтобы каждый из нас отдал все для борьбы с фашизмом! На столе давно не осталось никакой еды, и бутылки давно опустели, а мы все сидели в этой комнате, потому что хотели быть вместе как можно дольше. Было еще много разговоров, и я подумал, что мне тоже очень повезло родиться и жить в этом доме. — Вовочка, а когда кончится война? — вдруг очень громко спросила Ольга Борисовна. Она смотрела сразу и на сына и на Егора Алексеевича Гаврилова. — Неужели этот кошмар может длиться долго? Ее сын, наверно, не знал, какие жаркие споры бывали у подъезда нашего дома. Если б знал, ответил бы точнее. — Война всегда длится дольше, чем хочется хорошим людям, — сказал он и поднялся из-за стола. — Нам пора. Все стали прощаться и выходить в коридор. Я тоже вы шел. Владимир Васильевич надел пальто, кепку и нагнулся к чемодану. Тут я решился и тронул его за рукав. — Я отдал ваш журнал Ольге Борисовне еще утром. — Знаю, — кивнул он. — Ты не вешай носа, а заруби себе на нем три зарубки. Я совсем осмелел и спросил: — А почему там было написано про керосин? Разве в авиации применяется керосин? — В авиации применяется даже кефир, — чуть заметно улыбнулся Владимир Васильевич. — Говорят, что Чкалов, например, иногда пил кефир. — Нет, правда? — спросил я. — Могу дать исчерпывающий ответ, — чуть шире улыбнулся Владимир Васильевич. — Теплотворная способность керосина достаточно высока, а при определенных режимах горения он удобней бензина. Надеюсь, ты абсолютно все понял. Я абсолютно ничего не понял и ответил так: — Теперь мне все ясно. Можете быть уверены, что я никому об этом не скажу. — Значит, понял, — во весь рот улыбнулся Владимир Васильевич и поднял чемодан. Мы стали спускаться вниз. У подъезда я увидел светло-бежевый “ЗИС-101”. Шофер стоял у открытой дверцы и этим торопил отъезжающих. Наверно, все завидовали Ишиным. Во всяком случае, я завидовал. Они были первыми людьми в нашем доме, которые летели самолетом. До войны на самолетах в нашем доме не летал никто, ну, кроме самого Владимира Васильевича. Даже Гаврилов не летал. По-моему, до войны на самолетах вообще летали только летчики и полярники. Это теперь все летают: и в гости, и в отпуск, и в командировку, и даже в пионерские лагеря на юг. И между прочим, подавляющее большинство теперешних самолетов летают на керосине. Во всяком случае, все реактивные и турбовинтовые. Машина тронулась, свернула за угол. А мы стояли у подъезда: Егор Алексеевич, Андрей Глебович, Галя, тетя Лида и я. Стояли и смотрели. Из-за колокольни на углу появились два человека. Я сразу узнал Шурку и участкового Зайцева. Они шли к нам, оба усталые и хмурые. — Поймали? — спросила тетя Лида. — Нет, — коротко ответил Зайцев. — Толика поймали, — сказал мне Шурка. — Он говорит, что Петын с новыми документами уехал в Ташкент. — Эх, — вздохнул Гаврилов, — шпионов ловили, а фашиста упустили. Нужно, чтоб люди с детства могли отличать человека от фашиста. Егор Алексеевич говорил это всем. Он смотрел куда-то поверх наших с Шуркой голов, но мне казалось, что он смотрит на меня и что все смотрят на меня.
Что было дальше
Во второй половине октября 1941 года, когда фронт придвинулся к Москве и через поля совхоза, где мы летом просили машину, пролегли противотанковые рвы, а над Москвой вперемешку со снегом летали фашистские листовки, когда над Мавзолеем был воздвигнут двухэтажный фанерный дом с мезонином, когда на улицах в центре города появились долговременные огневые точки, когда мы с Шуркой помогали строить баррикады возле нашего моста, а на ближних улицах стояли надолбы, — Сережа Байков и Галя Кириакис ушли на фронт. У Гали была справка об окончании курсов медсестер. За Сережу хлопотала комсомольская организация. Они ушли на рассвете, когда из репродукторов возле кинотеатра звучала первая песня той поры — “Священная война”. В тот день после работы к тете Лиде пришел Андрей Глебович. Он долго сидел за столом, мешал ложечкой чай в стакане, но не пил его. Просто сидел за столом, ничего не говорил и мешал ложечкой чай в стакане. До сих пор я слышу, как позванивает эта ложечка. Вечером, как всегда, была воздушная тревога. Я вылез на крышу и увидел, что Москва вся белая, белая… Было холодно. Замерзла вода в пожарной бочке. На крыше мы теперь сидели в зимних пальто и шапках. — В магазинах только кофе остался, — сказал Шурка. — Даже крабов нет. Мы были на крыше вдвоем с Шуркой. Я представил себе, как шагает по дороге Сережа Байков — белобрысый, с белыми бровями и белыми ресницами. Он идет в шинели с винтовкой. А рядом с ним шагает Галя. Из-под пилотки — черные кудри, на боку — санитарная сумка, и поет она песню из кинофильма “Остров сокровищ”: Если ранили друга. Перевяжет подруга Горячие раны его… “Погоди, — подумал я, — постой! Зачем же это?” Я не хотел, чтобы Сережку ранили. Я хотел, чтобы он всегда был абсолютно здоров и никто его не перевязывал. Сережка погиб в 1943 году, Шурка — в 1945. Мой год на фронт не попал, и я вот живу.
АРИАДНА ГРОМОВА, РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН ВСЕЛЕННАЯ ЗА УГЛОМ Фантастическая повесть
На окраине города стоял двухэтажный кирпичный домик. Со всех сторон его теснили светлые многоэтажные громады. Соседний домишко уже зиял темными провалами окон, и ребята шныряли в его пустых недрах, играли в разведчиков, татакали, изображая автоматные очереди. Дальше улица была перегорожена забором стройки, оставался только узкий проход по тротуару. Всю свою жизнь, без малого сто лет, стоял этот домик на углу двух городских улиц, а теперь и улиц вроде не стало, и вообще он на отшибе очутился. Справа — забор стройки, слева, через дорогу, — забор заводского стадиона: только у строителей забор новенький, плотный, и желтые доски смолой пахнут, а забор стадиона давно посерел от дождей и расшатался. Напротив — скверик с высокими старыми деревьями, за ними прежних приземистых строений не видно, а поодаль уже возносятся новенькие нарядные девятиэтажники, и куда тягаться с ними невзрачному старенькому домишке, давно пришедшему в негодность. Домик доживал последние дни. Жильцы ездили смотреть новые квартиры в новых домах, одна семья уже переехала и квартира на первом этаже пустовала. Но в остальных жизнь пока шла своим чередом. В последние дни население домика даже несколько увеличилось: к Кудрявцевым приехал в гости дядюшка с Украины, а у Анны Лазаревны Левиной поселился, ожидая обещанного места в общежитии, ее дальний родственник, студент Володя Лобанов. Субботний вечер 9 сентября обитатели домика провели вместе: праздновали день рождения Галины Михайловны Кудрявцевой. В доме всегда жили дружно (ведь всего-то жильцов было — четыре квартиры, четыре семьи), а за последние недели общие заботы и предстоящая разлука окончательно сблизили оставшихся. За столом и говорили в основном о переезде да о новых квартирах. — Дотянули до начала учебного года, — пожаловался Костя Ушаков, учитель физики, — теперь придется мне через весь город двумя автобусами мотаться. — Дадут нам поближе квартиру, что ты! — Его жена-Леночка беззаботно улыбнулась. — Мне тоже со своим заводом расставаться неохота. Я с начальником райжилотдела уже говорила. Зайду еще разок, проникновенно погляжу на него… Леночка очень убедительно изобразила, как она посмотрит на начальника райжилотдела, — дядюшка с Украины даже крякнул и заявил, что за такой взгляд можно горы своротить. — Ну, друзья, давайте выпьем за исполнение желаний! — предложила Галина Михайловна. — Пусть каждый выскажет желание, и мы выпьем за то, чтобы оно исполнилось. Дяде Мирону, как гостю, первое слово! — А какие у меня могут быть желания? — воспротивился дядюшка. — Абы хуже не было! Живу, работаю, на здоровье не жалуюсь, семья тоже в норме… — По службе, может, пожелания имеются? — иронически-заботливо осведомился Виктор Павлович Кудрявцев. — И по службе у меня все в порядке! — упрямился дядюшка. — А если… на Венеру слетать? — неожиданно подал голос десятилетний Славка, сын хозяев. — Это мне — на Венеру? — страшно удивился дядюшка. — Ну ты сдурел, хлопец! Да что я там забыл, на той Венере! Так дядюшка и не высказал своего желания. Зато Анна Лазаревна наговорила уйму — и все насчет сына: чтобы Шурик защитил докторскую диссертацию, чтобы его вторая жена оказалась хоть немного лучше первой и не портила ему жизнь, чтобы он вылечился от язвы и чтобы съездил в Англию… — Ваш Александр Семенович уже и так заметная величина в кибернетике, а вам все мало, — возразил Кудрявцев. — Ну, я выскажу свое пожелание в общей форме: чтобы жизнь была интересной и неожиданной! — Присоединяюсь! — заявила Галина Михайловна. — С одной оговоркой: чтобы неожиданности случались не у тебя в цехе! Пускай уж, на худой конец, у меня в “неотложке” — нас ничем не удивишь! Затем Володя Лобанов сообщил, что мечтает о кругосветном путешествии; Леночка сказала, что сейчас она способна думать только о квартире и о мебели; Галина Михайловна и к ней присоединилась. А Славка объявил, что он бы лично хотел слетать на какую-нибудь планету, где имеется разумная жизнь. — А что? Идея! — мечтательно отозвался Костя. — Встретиться бы с братом по разуму… — С сестрой, скажи! — засмеялась Леночка. — Неизвестно, чем обернется такая встреча, — сказал Кудрявцев. — А если у этого брата по разуму настроение не то? — Ну, разумные существа как-нибудь найдут общий язык, — неопределенно пробормотал Костя. — Что-то на планете Земля разумные существа нечасто находят общий язык… — меланхолически заметил Кудрявцев. — Дядя Мирон, а если б вы встретились с марсианином, что бы вы сделали? — спросил Славка, скаля зубы. — А ничего! — без колебаний ответил дядюшка. — Плюнул бы и пошел. Мне не до марсиан. Тут с людьми не управишься! После этого заявления дискуссия о контакте сама собой прекратилась, и дальше говорили в основном о квартирах. Разошлись около полуночи. В половине первого весь дом крепко спал. Володя Лобанов проснулся и увидел, что старинные часы на стене показывают без четверти восемь. Сквозь тюлевые занавески сочился ровный золотистый свет. Володя расстроился. Он с детства приучил себя к режиму и всегда вставал ровно в семь. Он вскочил с продавленного диванчика, натянул спортивные брюки, сунул ноги в кеды и стал торопливо завязывать шнурки. “Именины… — бормотал он при этом, фыркая от злости на самого себя. — Тосты… Портвейн!” Володя считал, что выпивать — это пошло. Да и пить он не умел. Ругался он шепотом, чтобы не разбудить Анну Лазаревну, которая спала за тонкой перегородкой в соседней комнате. Володя на цыпочках выбрался в коридор, подхватил велосипед на плечо и осторожно спустился по узким, выщербленным ступенькам. В доме было тихо: видимо, все еще спали после именин. Володя протиснулся через двойную дверь и, оказавшись на улице, с облегчением сбросил на землю свою нескладную ношу. Велосипед с обиженным звоном подпрыгнул на тугих шинах. Володя перевел дыхание, разогнулся, глянул вокруг… и остолбенел. Прямо от крыльца начиналась поляна, покрытая сплошным ковром курчавой коричневой травы. А шагах в двадцати от дома ровной стеной стоял невиданный, немыслимый лес. Из коричневого травяного ковра взметывались вверх розовые стволы, суставчатые, как бамбук. Ни коры, ни ветвей на них не было; толстый розовый столб тянулся метров на пять—шесть в вышину, а там завершался пучком белоснежных листьев, похожих на гигантские страусовые перья. У Володи засосало под ложечкой. Что же это значит? Откуда взялся этот странный лес? И куда девалось все, что было? Ведь все исчезло: Красноармейская улица, тротуар, мостовая, скверик на той стороне, забор, стройки, стадион… Все сгинуло. Только и есть, что коричневая трава да розовые деревья с белоснежной перистой листвой. И дом позади… Володя оглянулся в страхе — не исчез ли заодно и дом? Но дом был на месте… “Может, это мираж? — растерянно подумал Володя. — Этот лес растет где-то там, а сюда попадает изображение…” Володя торопливо нагнулся и потрогал траву. Нет, никакой это не мираж. Трава вроде бы слегка маслянистая, скользит под пальцами. Володя ухватил два—три стебля, потянул к себе. Стебли были прочные, волокнистые, они разлохматились на изломе и оставили на ладони маслянистый коричневый след. И запах. Володя отшатнулся, сморщился — запах был горький и удушливый. Впрочем, он немедленно исчез. Володя наклонился и осторожно понюхал траву на поляне; трава пахла иначе: горьковато и пряно, скорее приятно. Ладонь начало покалывать. Володя посмотрел: она припухла. Впрочем, и краснота и жжение тоже быстро исчезли. “Что же это?” — с тоской подумал Володя. Он еще раз оглядел все вокруг, потом нырнул в парадное, одним духом влетел на второй этаж и тихонько постучал к Ушаковым. Костя, сладко позевывая, открыл дверь. — Константин Алексеич, — дрожащим голосом сказал Володя, — на улице лес! — Тише ты, — потягиваясь, пробормотал Костя. — Ленку разбудишь! — То есть даже не на улице… Улицы нет, ничего нет… Только лес! — Да ты что? — встревожился Костя. — Позеленел весь… Заболел, что ли? — Да нет же! — отчаянно зашептал Володя. — Да вы в окно посмотрите! Ушаков недоверчиво покачал головой и пошел в комнату. Володя услышал сухое пощелкивание деревянных колец — это Ушаков отдернул штору, — потом невнятный сдавленный возглас. Вслед за этим Костя, тяжело топоча, выбежал из комнаты, распахнул дверь и кубарем скатился по лестнице. Володя догнал его на крыльце. За это время ничто не изменилось. Загадочный лес все так же неподвижно и молчаливо высился вокруг. И велосипед по-прежнему лежал на коричневой траве у крыльца, только на его глянцевито-черной раме проступили странные серые узоры. — Вы слышите, как тихо? — испуганно прошептал Володя. Ушаков обернулся. Глаза у него были слегка прищурены, губы сжаты. — Действительно, — сказал он. — Как в сурдокамере. Или под стеклянным колпаком. И оба они машинально глянули вверх. Володя поежился — у него по спине побежали мурашки. Костя помотал головой и сказал: — Да-а… Неба тоже не было. Над домом висела прозрачная бледно-золотая дымка. В вышине она сгущалась в непроницаемую оранжевую пелену. И эта пелена излучала тот ровный золотистый свет, который они принимали за солнечный. — То есть это номер! — обалдело выговорил Костя. — Что же это означает?.. Слушай, а за домом что? — спросил он, помолчав. — Ты не глядел? Давай-ка посмотрим! Они повернули за угол. И остановились. Позади дома был все тот же лес. Костя крякнул и почесал нос. — Я сначала подумал, что это мираж, — уныло сказал Володя. — А потом траву сорвал… она масленая такая… — Нет, какой же мираж! — рассудительно заговорил Костя совсем как на уроке. — Никаких условий для миража тут нет, да и не бывает таких миражей — кольцевых… Костя явно целился изложить теорию образования миражей, а заодно и свои соображения по поводу этой теории, но Володе было не до того. — А может быть, это… массовая галлюцинация? — неуверенно предположил он. — Есть же такие вещества — галлюциногены… Может, мы вчера каким-то образом наглотались?.. — У Кудрявцевых, что ли? — скептически осведомился Костя. — Галина Михайловна попотчевала салатом с галлюциногенами? Ну, знаешь… А это еще что? — Он с испугом показал на крышу дома. Володя посмотрел туда. И тоже увидел. Торцовая стена, у которой они стояли, странно перекосилась, будто дом сзади стал ниже, чем спереди. Вдобавок стена эта прогнулась внутрь, и верхний ее край изгибался над их головами, как застывший гребень волны. Окно ушаковской кухни, выходившее на эту стену, тоже прогнулось, перекосилось наподобие ромба, и верхняя фрамуга косо нависала над ними, выступая вперед на добрых полметра. — Ты смотри! — встревоженно буркнул Ушаков. — Ленка еще напугается… А может, изнутри все нормально?.. У вас в квартире как? — Не знаю, я на кухню не заходил. Я вообще в окно не смотрел… — Пойдем, что ли, сзади еще посмотрим… — сказал Ушаков и шагнул дальше вдоль стены. Вернее говоря — попытался шагнуть, но резко остановился и качнулся назад, будто налетел на невидимую преграду. Потом протянул руку и, словно слепой, пошарил в воздухе. На лице его выразилось крайнее изумление. — Вот дела-то… — растерянно пробормотал он. Володя тоже шагнул вперед, протянул руку и ощутил, что воздух впереди словно сгустился и затвердел. Он оставался прозрачным — Володя отчетливо видел ржавый крюк, криво вколоченный между кирпичами, но дотянуться до этого крюка не мог — пальцы упирались в ничто. Или — в нечто, похожее на тугую резину. Только эта резина была абсолютно прозрачна и невидима. Ушаков начал шарить в воздухе обеими руками, ощупывая поверхность преграды. Невидимый слой, казалось, вырастал из боковой стены — примерно посредине — и постепенно расширялся, так что Володя и Костя, двигаясь вдоль его границы, все дальше отходили от дома. И с каждым шагом дом, который они видели сквозь эту прозрачную преграду, выглядел все более странно и жутко. Боковая стена все резче прогибалась иперекашивалась. Наконец вся она повисла параллельно земле, а крыша, тоже перекошенная и изогнутая, уходила от нее вертикально вверх. Володя и Ушаков сделали еще шаг и поравнялись с задним углом. Невидимый слой оттеснил их от дома уже на добрый метр. Стена здесь совсем сплющилась — она была в ладонь высотой, крохотная крыша опрокинулась почти параллельно земле, и из другого ее края наискось торчала еще одна стена, совсем уж игрушечная, не больше спичечной коробки. Это была противоположная стена дома. И в ней тоже крохотной стекляшкой поблескивало перекошенное окно кухни. Негромкое восклицание Ушакова вывело Володю из столбняка. Он оглянулся. Ушаков стоял в двух шагах от него, позади дома. Опираясь рукой на невидимую стену, Володя подошел к нему. И тоже тихо ахнул. Дом исчез. На его месте была все та же коричневая поляна, и ее все так же замыкал лес. Словно ничего другого здесь никогда и не было — только круглая коричневая поляна в бело-розовом лесу под оранжевым небом. И еще двое растерянных людей посреди этой поляны. Ушаков криво усмехнулся и развел руками. — Попробуем кругом обойти… — невесело предложил он. Они пошли вдоль преграды, которая здесь по прямой пересекала поляну. Ушаков то и дело останавливался, ощупывал воздух снизу доверху; преграда поднималась от самой земли и уходила куда-то вверх. Прохода к дому нигде не было. Потом невидимая преграда круто повернула, и они снова увидели распластанные в воздухе крохотные стены и крышу дома, — будто развернутый игрушечный домик из картона. Чем ближе они подходили к фасаду, тем выше поднималась над землей стена, постепенно распрямляясь, пока не стала прежней, самой обыкновенной кирпичной стеной. И дом с фасада выглядел вполне мирно и обычно — занавесочки в окнах, велосипед у крыльца, тишина, спокойствие… Если б только не этот странный лес вокруг… — Как это получается, что сзади ничего не видно? — спросил Володя, остановившись у крыльца. Ушаков опять потер пальцем кончик носа. — Что-то с преломлением света… — задумчиво сказал он. — Эта преграда — она вроде световода получается, лучи идут вдоль нее и огибают дом, а там уж выходят… Хотя нет, вру… Ведь спереди никакого слоя нет, — так куда же лучи выходят? М-да… Главное: откуда она взялась, эта преграда? Убей, не понимаю… И почему именно сзади и с боков?.. Черт, и выглянуть изнутри невозможно: задняя-то стена у нас глухая… Надо, правда, из кухни глянуть — может, там что-нибудь… Дверь в квартиру Ушаковых так и оставалась распахнутой настежь. А у двери в кухню, запрокинув голову, привалилась к стене Лена Ушакова. Костя метнулся к ней, — она повисла у него в руках, судорожно жмурясь и вздыхая. — Ой, все плывет перед глазами… — шептала она. — Костя… только ты осторожно… там, в кухне… Костя легко подхватил ее на руки, ногой приоткрыл дверь кухни. Секунду он стоял неподвижно, потом резко отвернулся и тряхнул головой. — Володя, глянь-ка, что делается! — сказал он через плечо, унося Лену в комнату. — Только не стой там! Глянь — и отойди, понял? Володя распахнул дверь кухни — и попятился. Сначала ему показалось, что кухня тоже исчезла. Потом с большим усилием он разглядел плиту, холодильник, столик. Но все это виделось смутно и призрачно, потому что весь воздух, все свободное пространство в кухне было заполнено сверканием, слепящим блеском. Это было одинаково непохоже и на земную действительность, и на коричневую поляну с бело-розовым лесом. Казалось, весь воздух здесь превратился в граненые глыбы застывшего света, в хаотическое нагромождение кристаллов, сверкающих, взаимно пересекающихся граней и плоскостей. Сияющие призрачные призмы, кубы, пирамиды пронизывали друг друга, причудливо изломанные грани сталкивались и пересекались во всех направлениях, словно ходы сказочного лабиринта, ослепляли миллионами мельчайших вспышек, и все вокруг словно мерцало и двигалось из-за этих бесчисленных слепящих сверканий. И весь этот причудливый мир, рассеченный сверкающими гранями, заполняли странные искаженные образы, повсюду возникали изломанные контуры, вспыхивали и гасли немыслимо яркие цветовые пятна, мелькали, рябили… Володя почувствовал резь в глазах. Он невольно прижмурился — и тут же уцепился за дверь, чтобы не упасть: так стремительно завертелся в мозгу безжалостно сверкающий кристаллический вихрь, проникая сквозь тонкую красноватую пленку закрытых век. Володя с трудом повернулся — и почти вывалился в переднюю, прямо на Костю. — Говорил я тебе: сразу отойди! — наставительно заметил тот, поддерживая его своими могучими лапищами. — Позеленел весь, не хуже Ленки! Вот полюбуйся на себя! Володя рискнул открыть глаза. Стало чуть легче, и он увидел в большом зеркале у вешалки свою вытянутую бледную физиономию. — Что ж это такое? — трагическим шепотом осведомился он. Костя опять осторожно глянул в кухню, отшатнулся и прикрыл дверь. — Об этом мы еще подумаем, — сказал он. — А пока так: ты иди Анну Лазаревну проинформируй осторожненько. Главное, насчет кухни предупреди! И спускайся к Кудрявцевым, я там буду. Отошел малость? Ну, давай! — Он обернулся и крикнул: — Ленок, мы пошли! Если ты через четверть часа не явишься, я сюда поднимусь. Ладно? — Ла-адно! — довольно бодро ответила Лена. — Приду-у! Володя осторожно открыл дверь и, стоя в передней, прислушался. — Володя, это вы? — слабым голосом спросила из комнаты Анна Лазаревна. — Зайдите, пожалуйста, ко мне. Володя всунул голову в комнату. Анна Лазаревна полусидела на кровати, опираясь на высокие подушки. Серебряные кудри ее были аккуратно расчесаны, и любимый свой японский халатик она уже надела, но веки у нее набрякли, а на стуле рядом с кроватью лежали пакетики и трубочки с лекарствами. — Плохо вам? — участливо спросил Володя и покосился на окно. Шторы были слегка раздвинуты, чтобы свет падал на кровать: Анна Лазаревна читала. “Видела. Испугалась!” — решил он. — Володя, я не понимаю, почему в воскресенье с утра уже должен быть такой шум! — строго сказала Анна Лазаревна. — Все время кто-то бегает по лестнице. — Я не знал, что вы не спите… — сконфуженно пробормотал Володя. — Разве это вы бегали? — с сомнением спросила Анна Лазаревна. — Как слон! А я уже целую вечность не сплю. Сначала Кудрявцевы у меня под окном разговаривали… Я не понимаю, о чем можно разговаривать в семь часов утра и почему непременно на улице? Потом этот ужасный туман… а у меня давление обязательно повышается, если туман… — Какой туман? — удивился Володя. — Что значит — какой? Самый обыкновенный туман. — Но я встал без четверти восемь и никакого тумана не видел… — Ну, значит, это было раньше, я же смотрела все время на часы. Сначала Кудрявцевы разговаривали, это было в семь часов, потом этот туман, а потом уже началась беготня по лестнице… Володя переминался с ноги на ногу и вздыхал. Ну как ей это сказать? Она начнет спрашивать, что да как… — Володя, вы от меня что-то скрываете! — заявила Анна Лазаревна, проницательно глядя на него поверх очков в круглой металлической оправе. — С вами что-то случилось, я же вижу! — Не со мной! — поспешно заговорил Володя. — То есть и со мной, конечно! Анна Лазаревна, вы только не пугайтесь, пожалуйста! Но тут такое случилось… как бы вам сказать… Да вы сами посмотрите! Только не волнуйтесь! Он подбежал к окну и отодвинул штору. Анна Лазаревна приподнялась на локте и уставилась в окно. — Это ничего, — успокоительно бормотал Володя, с ужасом глядя на лес. — Мы скоро все выясним, сейчас я вот пойду… и мы вместе разберемся… — Вы знаете, — это очень красивый лес! — вдруг сказала Анна Лазаревна, неотрывно глядя в окно. — Я в жизни не видела такого леса! “Я тоже! — подумал Володя, ошеломленно моргая. — Однако какова старушка! Даже ни о чем не спрашивает: ей гласное, что лес красивый!” — Анна Лазаревна, я пока пойду, — сказал он. — Если что, вы постучите стулом в пол три раза, я прибегу. Не вставайте! И главное — в кухню не ходите! Я вам что-нибудь приготовлю на завтрак! Обещайте, что не будете вставать! — Хорошо, я обещаю, — рассеянно ответила Анна Лазаревна, продолжая созерцать лес. Виктор Павлович и Славка, оба светловолосые, синеглазые и худощавые, стояли на крыльце и до странности одинаково хмурились, глядя на лес. Рядом с ними высился плечистый Костя Ушаков и тоже смотрел на лес. “Как же так? — вдруг подумал Володя. — Ведь Анна Лазаревна сказала, что Кудрявцевы в семь утра были на улице. Как же они ничего не заметили?” — Вот и Володя, — сказал Ушаков, не оглядываясь. — Как там Анна Лазаревна? — Говорит, что лес очень красивый… — машинально ответил Володя, думая о своем. — Ты скажи! — удивился Ушаков. — А Ленка ругает его: какой-то, говорит, голый, противный. Вот — на вкус и цвет товарищей нет! — сентенциозно заключил он. — Ладно, — сказал Кудрявцев, поворачиваясь к ним. — Лес, может, и красивый, но хотел бы я знать, откуда он, зачем он, и вообще — что, собственно, происходит? Ни с того ни с сего… — Анна Лазаревна говорит, что видела туман, — торопливо сказал Володя, — уже после того, как она ваш разговор слышала… — Какой разговор? А, с Галиной, когда она на работу шла? — На работу? — изумился Володя. — Ну да, она сегодня дежурит в “неотложке”. — И она… ушла? Кудрявцев невесело усмехнулся. — Вот именно: ушла. В десять минут восьмого, как положено уходить на дневное дежурство. Я ее проводил на крыльцо, и дом наш стоял, где ему положено стоять, и вообще все было как положено… — В десять минут восьмого! А вы туман не видели? — Да я сразу лег и заснул. Меня вот Костя сейчас разбудил. А что за туман и при чем он тут? — Не знаю… — сознался Володя. — Я так просто… думал… Он поглядел на Костю, но тот молчал, почесывая кончик носа. Зато заговорил Славка. — А я знаю, что случилось! — заявил он. — Мы все заснули, и прошло много-много лет. А мы во сне не заметили. — Анна Лазаревна говорит, что она не спала с семи часов! — испуганно запротестовал Володя: ему сейчас все казалось возможным. — Это ей казалось, что она не спит! — упорствовал Славка. Костя посмотрел на него с укоризной, как на ученика, запутавшегося в ответах. — А ну-ка подумай, — внушительно сказал он, — в чем ошибка твоего рассуждения? — Я знаю, что вы скажете! — упрямо возразил Славка. — Если папа с мамой утром выходили и тогда ничего не было, значит, это потом произошло, да? — Вот теперь ты рассуждаешь правильно, — одобрил Костя. — Ну и что? А потом папа заснул, и все заснули… И может, мы в будущее попали! В далекое! Я читал про такое! Володя нервничал, слушая Славку. Ему самому не верилось, что за полчаса дом могло куда-то перенести, да еще так, что никто ничего не почувствовал. Славка, конечно, безбожно фантазирует, но кто знает… никто ведь ничего не знает… — Если это будущее, откуда такой лес? — тревожно спросил он. — А что — лес? — хладнокровно возразил Славка. — Даже за сто лет какой хочешь лес можно вырастить! А мы, может, тысячу лет проспали? Может, мы у них вроде как в заповеднике? Они нас охраняют, пока мы не проснемся. Это я тоже читал. Деревья, может, с Венеры привезли или еще откуда. И они нас все время видят, тут приборы установлены. Володя даже передернулся, представив себе, что на него сейчас спокойно, внимательно смотрят чьи-то изучающие глаза. — Вот ведь фантазия у парня! — сдержанно усмехаясь, сказал Кудрявцев. — Поспал я немного, когда маму проводил, это верно, но насчет тысячи лет ты хватил. Столько спать вообще невозможно. — Ты про летаргию, что ли, вспомнил? — спросил Костя. — Так учти, что при летаргии человек тоже стареет, хоть и медленней. За сто лет у тебя седая борода до пупа выросла бы… — А может, нас законсервировали! — не сдавался Славка. — Ну вот что, законсервированный дед, кончай сочинять! — сказал Кудрявцев. — Дядя Мирон еще спит? — Будь здоров как спит! — засмеялся Славка. — Я хотел его разбудить, а он меня пяткой лягнул и замычал: “М-мы приложим все усилия!” — Я бы не прочь их приложить, — заметил Кудрявцев. — Только не знаю, к чему прилагать… — Давайте обобщим факты, — рассудительно сказал Костя. — Во-первых, лес и трава необычные… Совершенно незнакомая флора. Затем… — Кухня! — подсказал Славка. — Да, во-вторых, то, что видно в кухне. В-третьих, эта невидимая преграда… И такое странное преломление… — Нет, видели? Он стоит себе и читает лекции по физике! — ужаснулась Лена, внезапно появившись на крыльце. — Преломление, оформление! — Ну, Леночка, тут без физики не обойдешься… — добродушно улыбаясь, возразил Костя. — Включайся в диспут! — Да какой диспут?! — уже всерьез рассердилась Лена. — Нашли время для разговорчиков! — А что же, по-вашему, делать? — тихо спросил Кудрявцев, глядя куда-то в сторону. — Как — что? — удивилась Лена. — Надо идти… Надо поскорее найти людей, выяснить, посоветоваться! — Вы уверены, что тут есть люди? — все так же тихо, словно с собой разговаривая, бросил Кудрявцев. Лена дико посмотрела на него. — То есть… а как же? — запинаясь, выговорила она. — Где-нибудь же должны быть… — “Где-нибудь”!.. — со странной интонацией повторил Кудрявцев. — А ведь здесь птиц нет! — вдруг сказал Володя. — Я все удивлялся, почему так тихо… А тут ни одной птицы нет. И вообще все будто бы застыло. — Это, наверное, потому, что нет солнца! — заявил Славка. — И небо здесь какое-то чудное… Может, нас на Марс перебросило?! — Эх, ты! — сказал Костя. — Фантастику читаешь-читаешь, а толку-то? На Марсе атмосферы нет… ну, практически нет. А мы пока вроде дышим! — Он сделал глубокий вдох. — Видишь: самый обыкновенный воздух. Земной… Только с горьковатым привкусом. — Это от травы, — машинально вставил Володя. — Ну теперь о Марсе пошел разговор! — жалобно и сердито закричала Лена. — О воздухе, о траве — о чем угодно, лишь бы не о деле! С ума вы все посходили, что ли, я не понимаю! — Да не кричи ты, Ленка, не сотрясай воздух попусту. — Костя обнял жену за плечи, притянул к себе. — Надо же нам подумать, сообразить, где мы и как сюда попали… — Да ты что? — Лена повернулась и запрокинула голову, чтобы видеть лицо Кости. — Да разве сейчас время об этом думать?! Прямо смотреть тошно, как вы топчетесь на крылечке — и ни с места! Кудрявцев поглядел куда-то поверх ее головы. — А что прикажете делать? — как-то бесстрастно спросил он. — Что угодно! — решительно заявила Леночка. — Выход искать отсюда, любыми средствами! Ну, вы же мужчины! Идите и ищите! Кудрявцев неопределенно усмехнулся и промолчал. Но Славка воодушевился. — А что, правильно! — закричал он. — Пошли в лес на разведку! — Я тоже думаю, что надо поискать, — неуверенно поддержал его Володя. — В лесу, может, дорогу найдем… Во всяком случае, надо хоть поглядеть вблизи, что это за лес… — А я бы сначала кухню обследовал, — задумчиво сказал Костя. — Удивительный феномен с точки зрения физики! — Через мой труп! — предупредила Лена. — Если ты свалишься, кто твои сто килограммов вытащит? — Коллектив поможет, не переживай! — отозвался Костя. — Так что делать будем, друзья? — Кто ж его знает! — вздыхая, сказал Кудрявцев. — Конечно, Лена в основном права: надо что-то делать… Скорее всего, надо! — поправился он. — Если тут и есть… обитатели, то они явно не спешат нам навстречу. Может, нам следует проявить инициативу… — Я бы раньше подзакусил, — смущенно признался Костя. — Ты же голодный! — спохватилась Лена. — Ты же не завтракал! Ой, а как же теперь? С кухней-то? — Что-нибудь организуем, — сказал Кудрявцев. — У нас именинных пирожков целая гора в буфете, и салат на окне стоит. А потом что-нибудь придумаем. Вообще-то надо объединить наши припасы. И с водой вот… У меня всего ведро… А колонка наша теперь — фьють! — У меня — на донышке! — сконфуженно призналась Лена. — Да и припасов кот наплакал… — Виктор Павлович… — Володя силился унять дрожь в голосе. — А вы… а вы думаете, что мы тут… долго?! — Ну, кто ж его знает! — сказал Кудрявцев, сочувственно поглядев на него. — Да ты не волнуйся, это я так, на всякий случай… Он вдруг очень пожалел Володю: совсем ведь ребенок, семнадцать лет всего. Губы у него прыгают… бедняга! А сорванцу Славке все нипочем! Когда Славка выяснил, что отец собирается идти в лес втроем, с Костей и Володей, у него дыхание перехватило от обиды. — А я?! — взвыл он, снова получив дар речи. — Я же это и придумал — чтобы на разведку пойти! — А ты получаешь другое важное задание, — нарочито строго сказал Кудрявцев. — Тебе поручается охранять дом. И женщин. Понятно? — Ну да! Чего их охранять! — ныл Славка. — Анна Лазаревна старая и больная, — внушительно объяснил Костя. — И потом, если кто-то появится, пока нас не будет, ты сразу дашь знать. У Славки загорелись глаза: — Правильно! Я тогда в ваше окно буду орать: “Константин Алексеич! Аврал! Аврал!” — Почему же именно аврал? — удивился Костя. — А это слово очень хорошо кричится! — Славка набрал в легкие воздух, чтобы продемонстрировать, как кричится “аврал”, но тут же спохватился: — Ой, дядя Мирон еще спит! — Да, кстати, дядя Мирон! — спохватился Кудрявцев. — С ним-то что делать? — Разбудить! — предложил Костя. — И проинформировать. — Да ну его! — поколебавшись, решил Кудрявцев. — Ему и простые-то вещи не всегда втолкуешь, у него особое устройство мозгов, информацию воспринимает весьма избирательно. А уж это все… нет, не берусь! — Я объясню! — с восторгом вызвался Славка. — Ой, интересно будет! — Да уж представляю… — Кудрявцев криво усмехнулся. — Ладно, поручаем это дело тебе. — А я себе поручила обед приготовить, — сказала Лена, возникая на пороге. — И приготовлю! Из общих припасов! — Лена, не дури! — сердито возразил Костя. — Славка, не пускай ее в кухню, слышишь! — А я — в темных очках! Уже пробовала! — торжествующе заявила Лена, размахивая громадными круглыми очками. — И голова ничуть не кружится. Так, морально тяжело, но не слишком. — Ну смотри! Если что, будешь там валяться до нашего прихода. — Прямо — до вашего прихода! — обиделся Славка. — Что я, не вытащу? — Ну, тогда на тебя вся надежда! — серьезно сказал Костя. Неуверенно ступая по скользкой упругой траве, они пересекли поляну и вошли в прозрачную тень безмолвного леса. Лес был действительно красив, только мало походил на лес. Деревья были разбросаны широко, но белоснежные перистые кроны все же смыкались. Золотистый свет, процеживаясь сквозь эти белые мягкие пластины, становился совсем призрачным, и казалось, что он не льется с высоты, а беззвучно и медленно сочится из розовых суставчатых колонн. Не было ни подлеска, ни кустов, ни палой листвы; землю плотным пружинящим ковром укрывала все та же курчавая коричневая трава. — Смотрите, ни тропинки нигде, ни следов никаких, — негромко сказал Костя: в этой застывшей тишине и говорить было трудно. — Хотя на этой траве следы вообще, по-моему, не остаются. Кудрявцев сильно топнул ногой: трава тотчас выпрямилась, и вмятина от подошвы бесследно исчезла. — Так куда же идти? — Костя растерянно огляделся. — И главное, как потом вернуться? Солнца нет, определиться не по чему. И на стволах никаких примет, не распознаешь, где юг, а где север. — А если делать зарубки? — робко предложил Володя. Кудрявцев извлек из кармана перочинный ножик и с сомнением поглядел на блестящее игрушечное лезвие. — Ладно, попробуем, — сказал он, подойдя к ближайшему дереву. — Не люблю я деревья калечить, но… Он вогнал острие в розовую гладкую поверхность. Но не успел выдернуть нож: тонкая, пронзительно свистящая струя ударила ему в лицо, он отшатнулся, закрыв руками глаза, чуть не упал. Костя поддержал его и, уклоняясь от красно-розовой струи, вырвал нож из дерева. Свист немедленно прекратился, струя исчезла. — Ф-фу-ты! — выдохнул Кудрявцев, осторожно отводя ладони. — Ничего, глаза целы. — Ты смотри! — закричал Костя. — Вот это да! Разрез на дереве уже заплыл, почти исчез. Осталась красная, быстро светлеющая полоска. Еще через секунду и она бесследно растворилась в розовой коре, и уже нельзя было угадать, где проходил разрез. — Самооборона без оружия плюс самоизлечение без лекарств, — пробормотал Костя, с восторгом глядя на дерево. — Ах ты умница! — Он осторожно погладил розовую кору и изумился: — Да оно теплое! Греет! Кудрявцев тоже приложил ладонь к стволу и ощутил тепло, вначале слабое, постепенно нарастающее. Они недоверчиво поглядели на свои нагретые, порозовевшие ладони. — Ой, посмотрите! — прошептал Володя. Он нагнулся, почти упираясь лбом в дерево, и жадно вглядывался. Дерево сохранило отпечатки ладоней. Только отпечатки эти, рельефные, со всеми выпуклостями и линиями, были не на поверхности, а словно бы внутри и постепенно уплывали вглубь и вниз. Володя совсем прижался к коре лбом, обхватил ствол руками — и вдруг отскочил, тревожно ощупывая разгоревшееся лицо. — Что? Греет? — тревожно и сочувственно спросил Костя. — Понимаете… оно меня засосало… — сбивчиво объяснял Володя. — Оно вдруг сделалось такое… рыхлое… и лицо в него ушло… а под руками твердое… и душно стало… — Гляди, вон оно, твое лицо! — сказал Костя. Внутри дерева, у самой его поверхности, висело Володино лицо с закрытыми глазами. Еще через мгновение оно дрогнуло, будто оживая, и начало медленно уплывать в глубину ствола, постепенно снижаясь. Володя, бледный, с полуоткрытым ртом, следил за этим плавным неотвратимым движением. Рядом с ним шумно дышал Ушаков. Кудрявцев, хмурясь, машинально тер лицо и руки носовым платком. — Объемная фотография! — с изумлением сказал Костя, когда лицо исчезло. — Вы обратили внимание? Изображение формируется примерно за секунду. И близко от коры. А потом уходит в середину и вглубь… Под корой у них, должно быть, светочувствительный слой, жидкость какая-нибудь, что ли… — Оно нагревается там, где к нему прикоснешься, — добавил Володя. — Все это мне очень и очень не нравится! — заявил вдруг Кудрявцев. — Почему? — удивился Костя. — Это же просто потрясающий феномен! Я даже примерно не могу сообразить, как это все получается — без ошибки, без обработки слоя, моментально… — Мне это не нравится потому, — тихо и четко проговорил Кудрявцев, — что таких деревьев на Земле нет! Костя открыл рот, но ничего не сказал. Володя судорожно вздохнул. — Ну ладно… — хмуро пробормотал Кудрявцев. — Посмотрим еще… Пошли дальше? Они молча двинулись дальше. Кудрявцев, досадливо морщась, жевал спичку. Костя хмыкал, прикидывая что-то в уме, а Володя с тоской глядел по сторонам, поражаясь однообразию леса: везде чисто, пусто, ни кустика, ни веточки, и везде вздымаются ровные розовые стволы, неотличимо похожие друг на друга. — Какой-то он неживой, этот лес, — угрюмо проговорил Кудрявцев. — И действительно, заблудиться можно. Идем-идем, а все одно и то же, и конца не видно. — Вот! — торжествующе сказал Костя, прищелкнув пальцами. — Я уже сообразил! Это у них вроде кожного зрения! — То есть? — не понял Кудрявцев. — Ну примерно так… — начал объяснять Костя. — У них, допустим, существует какая-то связь между корой и этой розовой жидкостью, что внутри. Когда прикладываешь руку — кора разогревается… скажем, за счет тепла, отдаваемого частью жидкости. Тогда в соответствующих местах жидкости происходит, наоборот, охлаждение… и она загустевает по той самой форме, которую приняла кора… То есть по форме предмета. Ну и получается модель… — Очень возможно, — сказал Кудрявцев. — Только непонятно: зачем это им нужно?.. Зачем деревьям понадобилось зрение?.. Фокус-покус: зрячие деревья! К тому же близорукие… Видят только, если к ним вплотную подойти… — Это как раз характерно для кожного зрения… — начал Ушаков. Но тут Володя удивленно сказал: — Смотрите — дом! Действительно, впереди, в просвете деревьев, открывалась поляна, в глубине которой стоял двухэтажный кирпичный дом. — Но мы ведь шли прямо… — растерянно сказал Володя. — Не могли же мы так повернуть… на сто восемьдесят градусов… — Значит, все-таки повернули, — сказал Кудрявцев. — Нет, нет… что-то тут не то… — медленно бормотал Костя, оглядываясь по сторонам. — Ах, ну ладно! — Он наклонился и начал пучками вырывать траву. — Крепкая, чтоб ей!.. Он положил горсть сорванных стеблей на траву и, пятясь, отошел назад в лес и там выложил вторую горстку. — Это вы так и будете выкладывать вехи всю дорогу? — иронически полюбопытствовал Кудрявцев. — Что поделаешь! — сказал Костя, разгибаясь. — Я направление безошибочно чувствую. И я ручаюсь, что мы шли по прямой. Такую вешку можно увидеть метров за двадцать… Прошли мы с полкилометра, не больше, а я по прямой попробую вернуться… Пятьсот на двадцать… ну, двадцать пять вех придется уложить… за полчаса я управлюсь… А вы идите прямо к дому… Как только Володя и Кудрявцев вышли на опушку, Славка замахал им из окон квартиры Ушаковых, а через минуту уже мчался навстречу, ловко скользя по траве. — Нашли?! — кричал он на бегу. — Нашли что-нибудь?! Володя помотал головой и развел руками. — А где Константин Алексеич? — возбужденно заорал Славка, подбежав вплотную. — А почему вы вернулись, если ничего не нашли? — Эгей! — совсем близко прокричал Костя. Мгновение спустя он вынырнул из леса, метрах в пятидесяти слева, и зашагал к ним, усталый, разгоряченный, но довольный. — Шел по прямой, можете проверить! — доложил он. — Мы, значит, шли по прямой вперед, вы — по прямой назад, а встретились почти в одном месте! — сказал Кудрявцев. — Так это же не прямая, а подкова получается… — Оптическая иллюзия? — недоуменно спросил Володя. — Понимаешь… тут дело сложнее… — Ушаков озабоченно потер кончик носа. — Смотри! Мы уходим от дома по прямой. Значит, дом остается у нас за спиной — и вдруг он же оказывается у нас перед глазами! Как это можно объяснить? — Вы хотите сказать, — вслух раздумывал Кудрявцев, — что эта прямая только выглядит для нас как прямая, а в действительности она изогнута? — По-видимому, да, — сказал Костя. — Что-то вроде туннеля в пространстве… подковообразного туннеля. Идешь по нему все прямо и прямо, а прихоишь туда же, откуда вышел… — Изогнутое пространство?! — удивился Володя. — Я не понимаю… Неужели это возможно? — Теоретически возможно, — сказал Костя. — Но только при наличии огромного тяготения. А мы-то вроде не прибавили в весе… В общем, непонятно… Кудрявцев невесело усмехнулся. — Ну и дела! — сказал он. — Куда мы с тобой попали, Славка? Пространство изогнутое, дом тоже изгибается так, что и вовсе пропадает, деревья с глазами… — Где деревья с глазами?! Где?! — воодушевился Славка. — Да нет, это я пошутил! — поспешно заявил Кудрявцев. — Ты, Славка, валяй обратно, на свой пост! — А вы? — Мы тоже скоро придем. Иди, иди, не задерживайся! — Что ж, пройдемся по другому маршруту? — спросил Костя, глядя, как Славка лихо скользит по траве. — А что нам остается? — буркнул Кудрявцев. — На крылечке сидеть? Сначала они шагали настороженно и молча — ждали, что вот-вот опять впереди покажется дом. — Мы уже километр прошли, — первым заговорил Володя. — Я по шагам считал. — Возможно, здесь подкова длиннее… — неуверенно сказал Костя. — А может, здесь ее вообще нет? — предположил Кудрявцев. — Ну, это было бы совсем уже странно! — возразил Костя. — Что ж тогда выходит: не само пространство изогнуто, а имеются в нем какие-то туннели… или трещины? — Трещины в пространстве — это звучит! — усмехаясь, сказал Кудрявцев. — Однако воображение у вас… — О, смотрите! — закричал Володя. Колоннада розовых стволов поредела. Впереди проступала поляна, залитая неподвижным золотистым сиянием. Они вышли из лесу и остановились. — Вот вам и подкова! — медленно проговорил Кудрявцев. — Поляна-то другая! Поляна несомненно была другая. Гораздо шире, просторней, и не круглая, а продолговатая. Никакого дома здесь не было. И через всю поляну тянулась невысокая ровная гряда, поросшая травой. — По-моему, она искусственная, — заметил Кудрявцев. — Уж очень ровная, как по линеечке. — Да, пожалуй что… — неуверенно поддакнул Костя. — Впрочем… Ну, пойдемте посмотрим. Двигаться было как-то трудно. Им все казалось, что они лезут вверх по крутому склону, хотя под ногами была ровная травянистая поверхность. И вообще с грядой творилось что-то странное. Она словно под землю западала, сглаживалась, и чем ближе они подходили, тем труднее было ее распознать. — Я не понимаю, куда же она девалась! — недоумевал Володя. — Мы все ее видели и… Тут он внезапно остановился, откачнувшись назад. — Стена! — выдохнул он. — Тут тоже степа! Как за домом! — Да, действительно… — подтвердил Костя, упершись обеими руками в невидимую преграду. — Стена… — Но здесь она не искажает ничего! — заметил Володя. — Вон, смотрите, лес нормально виден. — Виден-то он виден, — вздыхая, сказал Костя, — а не нравится мне это… — Да уж что тут может понравиться! — хмуро согласился Кудрявцев. — Он медленно двигался вдоль незримой стены, ощупывая ее ладонями. — А что это такое, по-вашему? Преграда? Силовое поле? — Да, скорее всего… — пробормотал Костя. — Хотя, возможно… — Что — возможно? — обернувшись к нему, спросил Кудрявцев. — Ну, это я так, в порядке бреда… — смутился Костя. — Я подумал: а может, здесь пространство вообще кончается? Ну, замыкается на себя, заворачивается — и дальше, понятно, ходу нет! — Мне все едино, что поле, что пространство, — меланхолически заметил Кудрявцев. — Разницы я особой не усматриваю. Факт тот, что дорога здесь наглухо перекрыта! Он вытащил очередную спичку из коробки и, морщась, начал ее жевать. — Ну как же нет разницы! — загорячился Володя. — Ведь если это поле — так его кто-то должен был создать! Понимаете?! — Положим, это необязательно… — рассеянно пробормотал Костя. — Ему обязательно! — ядовито отозвался Кудрявцев, бросая измусоленную спичку. — Вижу, что обязательно! Я вас вообще насквозь вижу, молодой человек, учтите! Вы как мой Славка: начитались фантастики и свято в нее верите. И значит, мечтаете о контакте с братьями по разуму! Ведь мечтаете? — А вы считаете, что такой контакт невозможен? — густо покраснев, спросил Володя. — А вы считаете, что возможен? — вежливо осведомился Кудрявцев. — За чем же дело стало? Вы думаете, эту невидимую стеночку построили они? Те самые, которые? Так возьмите да постучите покрепче в эту стенку! Глядишь, вам и откроют! “А, скажут, привет! Заходи, брат по разуму!” — Виктор Павлович! — дрожащим голосом сказал Володя. — Зачем вы так? А если… если это и вправду братья по разуму? Кудрявцев посмотрел на него с ироническим сочувствием. — Наивный вы человек, Володя! Братья по разуму! А если они окажутся нам не братьями и вообще никакими не родственниками? Тогда что? Словно в ответ ему послышался глухой тяжелый удар… еще один… еще… — Что это такое? — обеспокоился Костя. — Близко где-то… Они постояли, прислушиваясь. Но вокруг снова была неподвижная тишина. — Послушайте! — взмолился Володя. — Ну что мы тут топчемся, на этой поляне?! Ничего мы тут не узнаем! А там… вы же слышите! Возвращаться надо! В дом! Они нам, может быть, сигналы подают! Кудрявцев саркастически ухмыльнулся. — Володя, ты, в общем-то, не чересчур увлекайся! — вмешался Костя. — Оснований нету. Если б это действительно были… ну, братья по разуму, что ли… они бы первым делом постарались установить с нами контакт. — Так они, может, и стараются! — закричал Володя. — Может, это мы их не понимаем! — Слушай, как же так — не понимаем? — начал объяснять Костя. — Имеется ведь какая-то общая основа, математические символы, например как в “Линкосе”… Кудрявцев нетерпеливо причмокнул и опять вытащил спичку. — Ну, Костя, и вы туда же! Вообще хватит болтать! В одном я согласен с Володей — надо возвращаться! Не из-за каких-то сигналов, конечно, а просто… Ну, там ведь женщины да мальчишка, а мы понятия не имеем, как это все обернется… И эти удары… действительно… — Нет, погодите, — сказал Костя. — Удары были вдалеке от дома. Я, конечно, тоже волнуюсь… за Ленку и вообще. Но, во-первых, там ваш дядя… Я понимаю, вы о нем невысокого мнения, но все же — человек пожилой, опытный… Потом, с чем же мы вернемся? Ничего ведь пока не поняли и что делать не сообразили… Слушайте, а чего вы так спичками увлекаетесь? Вкусно, что ли? Кудрявцев смущенно усмехнулся: — Да курить я бросил. Врач настоял: гипертония у меня. А спички отвлекают… Ладно, так я предлагаю компромиссное решение. Идти вдоль стены — это очень долго получится. Часа три-четыре минимум. — Это вы как же подсчитали? — заинтересовался Костя. — Если она идет вокруг всего дома на одинаковом расстоянии, то есть имеет радиус в один километр, — объяснил Кудрявцев, — значит, длина окружности получается километров шесть с лишним. Если вот так двигаться, как мы — боком, ощупывая стену, да еще по этой траве, — за час километра полтора-два пройдешь, не больше… Я предлагаю двинуться по диаметру. Если с противоположной стороны тоже окажется стена, тогда уж придется по всей окружности пройти. А пока мы заодно домой заглянем. — И подзакусим! — одобрил Костя. — Правильно! Налево кругом! Они повернулись и пошли обратно. Странное было ощущение: впереди ясно виден крутой спуск, и хотя ноги ступают на ровную поверхность, без малейшего наклона, невольно стараешься притормаживать, упираясь каблуками в скользкую неподатливую траву. Наконец этот призрачный склон исчез. — Ух ты! — испуганно сказал Володя, глянув назад. Кудрявцев и Костя обернулись. Сзади опять возникла ровная, как по линейке сделанная, травянистая гряда. — Да-да… Ну потом посоображаем… — пробормотал Костя. Они снова углубились в лес. Кудрявцев шел впереди. Он лучше других приноровился к коричневой траве — слегка шаркал подошвами и скользил, как на коньках. Он первым и увидел серое облако. Остановился и замахал руками, подзывая спутников. Те подошли и тоже остановились, приглядываясь. В розовом лесу зияла свежая рана. Деревья были повалены, выворочены с корнями, почва глубоко взрыхлена, словно по ней прошелся исполинский плуг. А в центре этой зоны разрушений неподвижно стояло серое облако. Серое и плотное, как осенний туман. Стволы деревьев исчезали, уходя в него. — Вот это, надо полагать, мы и слышали там, на поляне, — сказал Кудрявцев. — Как деревья падали… — Да, но почему они падали? Что здесь такое? — бормотал Костя, разглядывая побоище. — Слушайте, я поближе подойду! Должны же мы выяснить… Не договорив, он шагнул вперед, перескочил через поваленный ствол и снова остановился, оглядываясь. Володя и Кудрявцев, поколебавшись, пробрались к нему. Под ногами у них слабо шевелились, будто задыхаясь и корчась в агонии, развороченные пласты почвы, пепельно-серые, с маслянистым отблеском. Они были теплые — изнутри заметно теплее, чем сверху, на травянистой поверхности. Трава на них потеряла упругость и живой коричневый блеск, побурела, свернулась. — У-ух, даже стоять неприятно, — тихонько сказал Кудрявцев, осторожно переминаясь с ноги на ногу. — Земля будто живая, а ты ее топчешь. И потом, этот запах… удушливый какой-то… — Это трава пахнет, — объяснил Володя и почти шепотом добавил: — Когда умирает… Я вырвал пучок… утром, когда вышел… — Верно! — подтвердил Костя. — Я когда вешки выкладывал из травы, тоже… Ох, братцы, поглядите-ка! Невдалеке от них два дерева лежали крест-накрест, одно из них было вырвано с корнями. Володя и Кудрявцев подошли поближе. Зрелище было странное и жутковатое. Корни, огромные, мощные, извивались, как удавы, свертывались спиралями, кольцами, вокруг них растекалась, медленно впитываясь в развороченную почву, красновато-розовая пузырящаяся влага. — Они шевелятся… дышат! — с ужасом прошептал Володя. — А там… а там! Видите?! Грифельно-серые корни были покрыты сетью розовых прожилок, и прожилки эти часто и беспорядочно подрагивали, пульсировали, то бледнея, то багровея. А в самом центре корневища, у основания ствола, откуда корни расходились, образуя нечто вроде купола, багровело морщинистое вздутие величиной с человеческую голову; оно тяжело взбухало и опадало, и в такт ему менялся цвет прожилок. — Как сердце… — прошептал Володя. — Совсем как сердце… Биение становилось все реже и слабее. Наконец багровый мешок, полускрытый корнями, беспорядочно заколыхался, затрепетал и затих. Сейчас же побледнели, почти слились со свинцовым фоном прожилки на корнях. Ствол дернулся, замер и тоже начал быстро сереть. — Действительно: как сердце! — хмурясь, сказал Костя. — Но зачем дереву сердце? Это же бессмысленно… биологически, эволюционно бессмысленно! И что же, оно обслуживает только корпи? — А фотографии?.. — начал было Володя. — Осторожно! — крикнул вдруг Кудрявцев. Володя испуганно оглянулся. Над одним из поваленных деревьев поднялся белоснежный, мягко веющий лист, похожий на страусовое перо. Изогнувшись па длинном гибком черенке, он нависал над Володей и медленно пошевеливал своими длинными шелковистыми пушинками. Володя, не сводя взгляда с этих невесомых белоснежных щупалец, отступил на два шага и чуть не упал, споткнувшись о ствол другого дерева. Лист рванулся за ним, но тут же замер на мгновение, потом взметнулся, затрепетал — и на людей обрушилась очень плотная волна сладковатого дурманящего запаха. Они задохнулись, прижали ладони к лицам, пытаясь защититься от атаки, но запах сменился другим, свежим, с горьковатым мятным холодком, потом горечь усилилась, стала едкой, нестерпимой, ей на смену пришел тонкий цветочный запах, похожий на сирень, затем вдруг, без перехода ударила им в лица пряная жгучая волна, а под конец все это слилось, перемешалось, короткие всплески разных запахов набегали один на другой, душили, обжигали глаза и рот, дурманили сознание. Сквозь слезы, застилавшие взгляд, сквозь удушье Володя все же ощутил легчайшие, почти невесомые касания на лбу, на шее, на руках, прикрывающих лицо, — словно паутинки бабьего лета, паря в воздухе, чуть приметно щекотали кожу. Он мотнул головой, провел ладонью по лбу и с усилием открыл слезящиеся глаза. Лист, поднявшийся за спиной Володи, словно ощупывал его своими длинными пушинками, мягко прикасаясь к лицу, шее, рукам. Володя хотел двинуться и не мог — его дурманили волны запахов, завораживали мягкие, осторожные касания бесчисленных снежно-белых щупалец. Он безвольно стоял, прижмурившись, плотно сомкнув губы, и, словно сквозь сои, слышал чьи-то глухие выкрики, чье-то тяжелое дыхание — а может, это было его дыхание, может, он что-то выкрикивал в полубреду? — Володя, Володя! Да очнитесь вы! — крикнул ему в ухо Кудрявцев. Володя медленно повернул к нему затуманенные, невидящие глаза. Кудрявцев схватил его за руку, потащил за собой по развороченной земле, мимо розовых стволов и трепещущих над ними белых султанов. Володя краем глаза успел увидеть, как Костя Ушаков, отбиваясь от опутавших его белых пушистых нитей, кинулся вслед за ними. Над всеми поваленными стволами вставали белые султаны на длинных черенках и слепо шарили в воздухе своими легкими, мягко изгибающимися нитями. Метрах в пяти от прогалины люди остановились, чтобы отдышаться. — Ну и ну! — ошеломленно сказал Костя. — Я думал, они нас прикончат этой своей парфюмерией. — А чего они от нас хотели, эти взбесившиеся страусовые перья? — спросил Кудрявцев, тщательно вытирая лицо и руки носовым платком. — Нападали они, что ли? Или защищались? Я не понял. — Я тоже не очень-то… — начал Костя, но запнулся, глянув на прогалину. — Все! Они умирают! Над розовыми стволами все реже и беспорядочней взметывались белые султаны. Наконец последние два слабо дернулись, затрепетали и медленно опустились, распластавшись на земле. По стволам и корням деревьев пробежали короткие судороги. И сейчас же вслед за этим помутнела белизна листьев, погасло розовое свечение стволов: все подернулось свинцово-серым тусклым налетом. И хотя люди видели это впервые, они не сомневались, что это — смерть. — Не знаю, конечно, — продолжал Костя, не отрывая взгляда от деревьев, — но только вряд ли они нападали. Они не рассчитаны на это… Ведь они сейчас случайно оказались у самой земли. Обычно они вон где… — Костя показал вверх, где на высоте трехэтажного дома веяли огромные белоснежные перья над розовыми стволами. — На кого им там нападать? Тут ведь ни птиц, ни насекомых… — Мне действительно показалось, что они нас ощупывали… или, вернее, обнюхивали… — сказал Кудрявцев. Костя задумчиво посмотрел на Кудрявцева. — А вы знаете — похоже! Они мне правую руку гуще всего облепили. Может, потому, что я этой рукой траву рвал? Тогда что же — это их органы обоняния? — Так ведь они и сами испускают запахи! — напомнил Володя. Кудрявцев поежился. — Деревья, у которых есть зрение и обоняние! Может, у них и разум есть? — А что! — серьезно ответил Костя. — Это было бы только логично! Если они передают и принимают запахи и вдобавок видят, так должна же эта информация куда-то поступать, где-то перерабатываться, использоваться? — Сердце-то у них есть, мы же видели! — подхватил Володя. — Наверно, и мозг есть… — Можно предположить, — прищурившись и глядя вдаль, сказал Костя, — что корни у них — нечто вроде мозга. Помните: образы возникают у поверхности ствола, а потом уходят вглубь и вниз. Может, в корнях и нет разума в нашем понимании, но хранилищем информации они наверняка служат. У нас мозг запрятан в твердую черепную коробку, а у них надежней: в землю! Володя вдруг лихорадочно заговорил: — Дело даже не в мозге… не в разуме! Может быть, они не как люди… не на уровне людей то есть, а на уровне животных — ну, собак, лошадей! Но они живые! Они же на наших глазах умирали! И они чувствовали, что умирают! И хотели что-то нам сказать, а мы этого не поняли! — Возможно… — подумав, согласилсяКудрявцев. — Очень возможно! Сейчас и мне начинает так казаться… А вы какого мнения, Костя? — Я тоже… — проговорил Костя, неотрывно глядя на прогалину. — Я согласен… вполне вероятно то есть! Но вот что? Что они хотели сказать… сигнализировать? И вообще — что здесь произошло? Почему они погибли? Мы же ничего не знаем! — Не знаем, действительно… И что же вы предлагаете? — спросил Кудрявцев, жуя очередную спичку. — Я за то, чтобы действовать, как мы наметили: заглянуть домой, потом проверить, что делается на той стороне. — Я, в общем, тоже. Но ведь кто знает: может, разгадка именно здесь, а мы уйдем и… Вот это серое облачко — оно наверняка имеет какую-то связь со всем этим. — Костя повел рукой вдоль прогалины. — И мне просто невтерпеж поглядеть, что оно такое… — На обратном пути… — начал было Кудрявцев. Но Костя уже перескочил через ствол дерева и зашагал по поляне, то и дело оступаясь и проваливаясь. Деревья лежали однообразно серые, мертвые и на его присутствие никак не реагировали. — Что ж, пойдемте… — со вздохом сказал Кудрявцев Володе. — Если что, лучше нам всем вместе быть… Они догнали Костю у самого центра прогалины. Им казалось, что серое облако еще впереди, но туман вокруг них постепенно сгущался, и сквозь него смутно розовели только самые ближние деревья, а вывороченные мертвые стволы были почти неотличимы от почвы. — Вот там посветлее как будто, — сказал Кудрявцев, показывая направо: там что-то мутно светилось сквозь туманную пелену. Они прошли еще два—три шага и очутились в непроглядной тьме. — Держитесь друг за друга! — крикнул Кудрявцев. — Костя, погодите! Где вы? Володя! Идите сюда! — Я тут! — отозвался Костя где-то поблизости. — Ничего не видно! Слушайте, у меня под ногами что-то твердое… вроде асфальта. И потом… — Он вдруг замолчал, а после паузы потрясенно вскрикнул: — Идите сюда! Скорее! На свет идите! На свет! Кудрявцев пошарил в тумане, ухватил Володю за руку и двинулся направо, к бледному сиянию, которое постепенно разгоралось все ярче. Они ощутили под ногами твердую ровную поверхность, уверенней шагнули вперед, прямо в желтое, туманно светящееся пятно — и зажмурились от нестерпимо яркого света. Первое, что они увидели, открыв глаза, было ослепительное солнце. Оно высоко стояло в удивительно синем небе с легкими пушистыми облачками. Потом они увидели кудрявые зеленые холмы, полого спускающиеся к долине, где текла спокойная широкая река, ярко сверкая на солнце, и длинную ровную насыпь с плоским травянистым верхом, которая тянулась вдоль реки. Пейзаж был явно земной и очень приветливый, привольный, просторный. Они невольно оглянулись. Но позади не было ни серого тумана, ни странного леса, ни зловещей оранжевой пелены, низко нависшей над землей. Они стояли на неширокой асфальтированной дороге, которая шла по склонам холмов, повторяя их изгибы, и со всех сторон окружал их этот неизвестно откуда взявшийся спокойный солнечный мир. И они молча глядели на него, потрясенные, недоумевающие. Что-то смутно тревожило их. Что-то необычное и, может быть, опасное чудилось им в этом тихом и ясном облике мира. — Люди… Людей почему нет? — первым спросил Володя. Действительно, безлюдье было полнейшее. Ни мостов, ни судов на реке, ни машин на дороге; и нигде ни следа человеческого жилья. — Небо что-то очень яркое… и воздух такой уж чистый и прозрачный! — отозвался Кудрявцев. — Трудно даже поверить, что здесь живут люди… — То есть как? — испугался Володя. — Вы о чем?.. — Да ни о чем, ничего я не знаю и не понимаю, как и вы. Костя, вы как думаете, куда это нас занесло? — Ну… во-первых, это Земля… — лекторским тоном начал Костя. — И на том спасибо! — вставил Кудрявцев. — А во-вторых? — Во-вторых… нет, непонятно, где мы… Умеренный климат, река, долина, плодородная почва… видите, зелень какая буйная! А людей нет. Не представляю себе, где сейчас можно найти такое свободное пространство! Хоть бы одно завалящее строение! — А если… если это не сейчас? — задохнувшись от внезапной догадки, сдавленным голосом спросил Володя. — Если мы… в прошлое попали?! — Ну да! В прошлое! А это? — Костя стукнул подошвой об асфальт дороги. — Асфальтовое шоссе и такая вот пустота — две вещи несовместимые. — Тише! Послушайте! — сказал Кудрявцев. Где-то вдалеке возникло глухое низкое гуденье. Оно стремительно близилось, нарастало; наконец из-за поворота реки вылетела блестящая металлическая сигара, промчалась по гребню зеленой насыпи с немыслимой быстротой, описала пологую дугу в воздухе над рекой и исчезла за холмами на том берегу. — Вот вам и люди! — пробормотал Кудрявцев, восхищенно глядя вслед исчезнувшей ракете. — Красотища какая! — Ну, людей пока мы не видели, — уточнил Костя. — Но эта штука на воздушной подушке действительно впечатляет! Мне кажется… Он не договорил. В просвете между холмами поднялась и медленно двинулась к ним по воздуху большая круглая площадка. На ней толпились дети — множество детей, лет десяти- двенадцати с виду. Они галдели, смеялись, звонко выкрикивали что-то непонятное, бегали туда-сюда по площадке. — Да они же упадут! — ужаснулся Кудрявцев, глядя, как ребята наклоняются над краями площадки, как они носятся из конца в конец друг за другом, чудом задерживаясь на самом краешке ничем не огороженной площадки. — У них там, видимо, силовое поле вместо ограждения, — сказал Костя. — Так что опасности нет. Площадка плавно описала широкий круг в воздухе и проплыла прямо над их головами. Один из ребят перегнулся и повис над краем площадки под углом сорок пять градусов, поддерживаемый незримой опорой. Крупные белоснежные зубы сверкали на его кофейно-смуглом лице. Рядом с ним повис еще один, светловолосый, загорелый, засмеялся, крикнул что-то и, размахнувшись, швырнул вниз маленький синий шарик. Белозубый с кофейной кожей тоже швырнул шарик, только зеленый. Потом все закричали, засмеялись, замахали руками и начали швырять шарики. В воздухе эти шарики раскрывались, как цветы, и, планируя, вращаясь, спускались к земле. Прямо у ног Кудрявцева уткнулся в трещину асфальта синий, с белым треугольником на заостренном металлическом стержне. Кудрявцев машинально выдернул его и начал разглядывать. А сверху все сыпались и сыпались разноцветные треугольники, квадраты, зубчатые кружки, звездочки, и Володя с Костей машинально подставляли ладони, продолжая неотрывно глядеть вверх. Площадка по широкой спирали уходила в высоту; все тише, отдаленней звучали смех и гомон, все трудней становилось различать лица; наконец площадка превратилась в сверкающий кружок величиной с блюдце, а потом растаяла в солнечных лучах. — Вот это я понимаю! — восхищенно сказал Костя. — Это для ребят удовольствие! Я даже не знал, что такое бывает! Куда ж это мы попали? Он разжал ладонь и посмотрел на ярко-алый кружок, перечеркнутый белой полосой. — Смотри-ка! — сказал он. — Это ведь английский язык! Володя нагнулся и схватил несколько разноцветных вымпелов. — А это польский… или чешский? А вот какой-то восточный, арабский, что ли… Немецкий! Итальянский! А у вас что, Виктор Павлович? Какой язык? — У меня — русский… — ответил Кудрявцев таким глухим, тоскливым голосом, что Володя и Костя испуганно уставились на него. — Что произошло? Говорите уж сразу, не тяните! — сказал Костя, увидев, как внезапно постарело и осунулось лицо Кудрявцева. — Нет, что ж тянуть… — тихо проговорил Кудрявцев. — Лучше сразу… Поглядите! Он протянул им сине-белый треугольник и полез в карман за спичкой. Костя и Володя недоумевающе воззрились на вымпел. Тот же светящийся штриховой рисунок, что и на других: в верхнем углу — солнце с длинными лучами, под ним — волны, по сторонам — силуэт старинного города с башнями и шпилями и изломы горной цепи. А внизу написано: “Счастливого пути, друзья!” — Да не там — на обратной стороне! — нетерпеливо сказал Кудрявцев. Обратная сторона была гладкая и яркая. Только внизу светилась надпись: “Туризм — 2118”. До них все равно дошло не сразу. Кудрявцев разъяснял, доказывал, а они хлопали глазами и никак не могли поверить. Снова разглядывали вымпелы — и на всех была та же самая цифра — 2118. Но слишком трудно было свыкнуться с тем, что их теперь зашвырнуло почти на полтораста лет в будущее… — Что же получается? — хрипло, с усилием спросил Володя. — Что мы… что выход оттуда — только в будущее? Кудрявцев пожал плечами и отвернулся. Костя смотрел на него с ужасом и сочувствием. Володя понял этот взгляд, и у него сердце болезненно сжалось: ведь Галина Михайловна утром ушла… в настоящее, в тот мир, в котором все они жили… и теперь ни муж, ни сын никогда ее не увидят. Расстояние в полтора века. “А ведь она теперь, в том мире, давно умерла! — вдруг сообразил Володя. — Может, сто лет назад умерла! И ничего не узнала о том, что с нами случилось, куда мы девались… И я… не увижу отца… и никого из друзей… и они тоже так ничего и не узнали обо мне”. Володе стало так страшно и тоскливо, что он сжал кулаки и вонзил ногти в ладони, чтобы не закричать, не заплакать. И увидел, что Кудрявцев, бледный, измученный, глядит на него с сочувствием. — Ну что ж… — тихо проговорил он. — Надо к этому привыкнуть… ничего не поделаешь… — Он встряхнулся, глубоко вздохнул и скомандовал: — Немедленно возвращаемся! Надо наших там подготовить и… переправить! — А вы уверены… — начал Костя, но тут же махнул рукой. — Да, впрочем, конечно… Что же нам остается! Володя тоже понимал, что выбора у них, в сущности, нет. Здесь все же земля — и небо, и солнце, и зелень, и река… и люди. Не оставаться же там, в чужом зловещем мире, под этим оранжевым колпаком! Да, но… — А если нас там будут искать? — вдруг сказал он отчаянным голосом. — А мы уйдем… в будущее! И там нас уже никто никогда не разыщет! Кудрявцев судорожно вздохнул. Он не сразу смог заговорить. — Я… я об этом тоже думал. Но это… нет, это бред! Кто пас будет искать, каким образом?! Смешно рассчитывать… Костя почесывал кончик носа и молчал. Только когда Кудрявцев прямо спросил, какого он мнения, Костя неохотно пробормотал, что, собственно, никакого. — Какое может быть мнение, ну, честно говоря? — добавил он. — Когда я не ориентируюсь. Вы, например, уверены, что мы назад попадем? Туда, в лес? — Уверен! — сквозь зубы сказал Кудрявцев. — Вот увидите! Мы стоим на том же месте, и вот здесь, за нами, — он указал на обочину шоссе, где сквозь трещины асфальта пробивалась трава, — вот здесь должен быть проход обратно! Он повернулся, сделал всего шаг- и вдруг исчез. Будто растворился в прозрачном легком воздухе. — Пошли! — сказал Костя, дернув Володю за руку. Они шагнули, и сразу окутал их густой туман. Костя тащил Володю за собой, асфальт исчез, под ногами была развороченная почва, туман редел, возникло ровное золотистое сияние… Они снова стояли на прогалине, среди мертвых серых стволов, и Кудрявцев был рядом с ними. После того солнечного и радостного мира Володе показалось тут вдвойне тяжело. Костя, видимо, ощутил то же самое, потому что сказал: — Нет, действительно лучше поскорей убраться отсюда! А то мало ли что… — Вот именно! — поддакнул Кудрявцев. — Пока есть проход… — Это, собственно, не проход… — сказал Костя. — Это… это вообще что-то непонятное! Мы ведь оказываемся каждый раз не на пороге другого мира, а посреди! Понимаете? Мы не входим туда, а будто возникаем неизвестно как и неизвестно откуда. — Ну, пускай не проход! — перебил его Кудрявцев. — Но — выход! Выход из-под этого проклятого колпака на волю! Погодите! Вы, может, тоже надеетесь, что нас там разыщут? — Не знаю, ей-богу… — нерешительно сказал Костя. — Не очень себе представляю, как это возможно нас искать… Каким образом, где? Нет, честно говоря, я не думаю, чтобы нам могли помочь… оттуда… — Тогда пошли! — решительно скомандовал Кудрявцев… — Или… нет! Один должен остаться здесь. Наблюдать. — Верно! — согласился Костя. — Вот Володя останется. Останешься, Володя? Нам своих собрать нужно… Ленку, Славку… Володя молча кивнул. Он боялся, что вот-вот расплачется. — Ну, молодец! — озабоченно сказал Костя. — Ты, пожалуй, отойди немного… вот сюда! — Он отвел Володю с прогалины. — Здесь вот и стой, под этим деревом, и все время наблюдай за туманом. Но близко не подходи… Нет, это я на всякий случай. Если неуютно тебе покажется, двигайся нам навстречу, только обязательно вешки выкладывай. Володя упрямо качнул головой. — Не буду я ничего выкладывать… достою здесь, дождусь вас! — Ну мы постараемся побыстрей! — сказал Костя. Они пошли не оборачиваясь, а Володя глядел им вслед, пока они не исчезли среди розовых стволов. Пока трое мужчин бродили по лесу и наблюдали всякие чудеса, в доме тоже произошло немало удивительного. Прежде всего проснулся Мирон Остапович Бандура и сразу дал совершенно иное объяснение всему, что творилось вокруг. Это было очень кстати, потому что Леночка после ухода мужчин начала постепенно падать духом и дошла уже до отметки, весьма близкой к нулю. В темных очках, правда, можно было с грехом пополам управляться в кухне — бесчисленные сверкания и вспышки не так слепили, не доводили до дурноты, — но как-то не очень хотелось двигаться сквозь торчащие повсюду алмазные грани и светлые плоскости. Вдобавок у Лены появилось смутное ощущение, что среди этого сияющего хаоса иногда возникает нечто, словно бы похожее на что-то… Но что это такое и о чем оно напоминает, уловить не удавалось, и Лена еще больше тосковала и злилась. В конце концов она решила, что ну его, этот обед, до обеда ли тут, да к тому же у Кудрявцевых от именин всякая всячина осталась, и нечего тут возиться, а как придут мужчины, в два счета можно сготовить яичницу с колбасой, вот и горячее будет. Решив так, Леночка достала из холодильника сверток нарезанной колбасы и картонную формочку с десятком яиц и отправилась к Анне Лазаревне: одной сидеть в квартире было жутковато и тревожные мысли одолевали. Анна Лазаревна сидела в кресле у окна, и выражение лица у нее было такое, будто она смотрит интересный документальный фильм. — Что вы скажете насчет этого, Леночка? — почти весело спросила она, кивнув на пейзаж за окном. — Знаете, я бы просто не поверила, если бы мне рассказали! Уже выяснилось, что это такое? — Нет, откуда же? — Леночка глядела на нее с крайним удивлением. — Ну, наши мужчины все выяснят! — успокоила ее Анна Лазаревна. — Они так энергично пошли в лес… — “Энергично”! — Лена презрительно фыркнула. — Если б я их не выгнала, они так и стояли бы на крыльце да языками мололи… — Леночка, я слышала, что вы им говорили, — с оттенком укоризны заметила Анна Лазаревна. — Но вы неправы. Нельзя требовать от мужчин всего сразу. Сначала они должны обсудить ситуацию. Шурик говорил… — Тут Анна Лазаревна поглядела в окно и запнулась. — Леночка, пожалуйста, посмотрите, — попросила она. — Или мне кажется, или трава на самом деле посинела? Лена взглянула в окно. Трава на поляне действительно стала густо-синей. — Теть Лен! — закричал Славка с крыльца, заметив ее. — Видали: трава синяя! И конфетами пахнет! — Я тоже чувствую! — с интересом отозвалась Анна Лазаревна, раздувая ноздри. — Совсем другой воздух! Сладковатый и душистый! — Нет, я просто не выдержу! — тоскливо сказала Лена. — Ну зачем это нужно, чтобы трава меняла цвет? И вообще: почему именно с нами такое несчастье? Мы с Костей на пляж сегодня собирались… А вечером — к Макеевым, на телевизор… И вот тебе, пожалуйста… — Она отвернулась, кусая губы, чтобы не расплакаться. — Ну, Леночка, к Макеевым вы, может быть, еще успеете! — утешала ее Анна Лазаревна. — Я думаю, наши мужчины скоро во всем разберутся. — Ну и что? — срывающимся голосом возразила Лена. — Даже если разберутся? Все равно мы отсюда не выберемся… никогда… — Теть Лен! Анна Лазаревна! Она желтая! — заорал снизу Славка. — Действительно: желтая! — оживленно отозвалась Анна Лазаревна. — Нет, вы только поглядите, Леночка: трава теперь желтая! Как желток от яйца! — Не могу я глядеть! Не хочу! — по-девчоночьи шмыгая носом, пробормотала Лена. — Противно мне! Вот тут и появился дядя Мирон. Он постучал в полуоткрытую дверь, сиповатым начальственным баском спросил: “Разрешите?” — и, не дожидаясь ответа, возник на пороге, плотный, краснолицый, в ядовито-голубой сатиновой пижаме и рыжих сандалетах на босу ногу. Он повторил: “Разрешите?” — сановито отдуваясь, придвинул себе стул и уселся. Стул испуганно крякнул от непривычной нагрузки, но удержался в целости. — Пожалуйста, — запоздало отозвалась Анна Лазаревна. — Духоту развели! — буркнул гость, снова отдуваясь. — Дышать человеку нечем. — Но у меня же окна открыты! — удивилась Анна Лазаревна. — Я и говорю: там! — Дядя Мирон негодующе кивнул на окна. — Такое, понимаешь, самоуправство! Позволяют себе! Форменное безобразие! Но-о я это так не оставлю! Не-ет! Даже пускай и не надеются! Анна Лазаревна глядела на него во все глаза. Лена перестала всхлипывать и тоже уставилась на него, как ребенок на фокусника. Уж очень он непонятно высказывался! — Простите, а кого вы имеете в виду? — осторожно спросила Анна Лазаревна. — Этих! — без колебаний ответил дядя Мирон, снова кивнув в окно. — Которые, понимаешь, затеяли такое хулиганство! Деревьев, понимаешь, сразу натыкали, каких и не бывает, траву тоже… Ну, оторвались от жизни целиком и полностью! Духоту развели… а у меня, может, давление… Ну, я ж их! Я ж им! Они еще Мирона Бандуру не знают, но они скоро узнают! — Да кто они? И где вы их будете искать? — уже с тревогой спросила Анна Лазаревна: ей начало казаться, что Бандура бредит. — Нигде не буду! — решительно возразил Бандура. — Милиция на что? Она и отыщет! Сейчас вот позвоню, дам указания… — Позвоните?! — ужаснулась Анна Лазаревна. — Каким образом? Леночка, вы слышите, что он говорит?! Лена все слышала. Она тоже сочла, что дядюшка слегка тронулся под влиянием обстановки, но это ее не испугало. Наоборот, она приободрилась и утерла слезы. Появился мужчина — какой ни на есть, а все же мужчина, существо мужского пола, — и значит, теперь было на кого переложить ответственность, было с кого требовать решений и действий. И Лена охотно вошла в свою обычную роль. — Вы все только говорите да говорите, — ехидно сказала она, — а делать ничего не делаете! — А я сделаю! — возмутился дядя Мирон. — Я-то сделаю! Я не буду гулянки устраивать, прошлогодний снег, понимаешь, в лесу искать, как Виктор! Галя там, может, за него переживает, у нее, может, руки трясутся от нервов и она больных обслужить не в состоянии, а муж, понимаешь, гулянками занимается… Где у вас телефон? — Но что вам даст телефон, — попыталась урезонить его Анна Лазаревна, — когда, вы же сами видите, мы попали в другой мир? — Ну это вы бросьте! — решительно возразил дядя Мирон. — Другой мир — это попы, понимаешь, проповедуют, а нам пи к чему! Есть только один мир, гражданочка. Вот этот, который наш! — Да какой же он наш? — удивилась Анна Лазаревна. — Разве у нас такие деревья, такое небо? — Бутафория все! — непоколебимо заявил Бандура. — Где телефон, говорю? — И откуда же она взялась, эта бутафория? — насмешливо спросила Лена. — Вечером ничего не было, а утром — кругом одна бутафория! — За ночь подбросили! — нетерпеливо огрызнулся дядюшка. — Эти, как их… ну, киностудия! Фильм, наверно, снимать затеяли — может, из жизни марсиан этих самых. — А марсиане тогда где? Мы, что ли, их играть будем? — скептически осведомилась Лена. — Путаете вы все. Ну, Анна Лазаревна, пускай попробует позвонить! Вон телефон, на письменном столе! Прямо спрашивайте коммутатор Марса! — Ладно там — Марса! — отмахнулся Бандура. — В ваше отделение милиции как звонить? Номер знаете? А, вот вижу под стеклом… Сейчас мы его… Лена с иронической усмешкой глядела, как он крутит диск, тыча в прорези указательный палец, цветом и формой похожий на сосиску. Сейчас он поймет, что телефона нет, милиции нет, растеряется — и тогда можно будет им безбоязненно командовать… — Подождите… Не может быть! — с недоверием сказала Анна Лазаревна. В трубке послышался щелчок включения, а потом низкий протяжный гудок. — Алло!.. Милиция? — спросил Бандура. Воскресное дежурство пока проходило спокойно, и старшина милиции Касаткин сидел у распахнутого настежь окна, дышал свежим воздухом и читал содержательную книгу “Предки и мы”. Задребезжал телефон. Старшина Касаткин со вздохом сожаления заложил палец на странице и снял трубку. — Так, а теперь изложите по порядку, — сказал он, минуту послушав. — Откуда вы говорите? Красноармейская, двенадцать? Так, записал. Теперь: чья была бандура? Ах, это фамилия? Недопонял, значит. А бутафория чья?.. Если вам неизвестно, так мне откуда знать, сообразите!.. А что она вам, мешает? Хулиганство? А кто именно хулиганит и в чем это выражается?.. В каком это смысле — улицы нет? Послушайте, гражданин Бандура… Ну, все ясно — и города тоже нет. И ничего нет. Вас понял. Что вам делать? А не выпивать натощак. И вообще — поменьше пить. Будьте здоровы! — Чего он? — лениво поинтересовался сержант Воронков, решавший кроссворд. — Уже готов? Прямо с утра? — Да он, наверно, с вечера не просыхал, — сердито ответил старшина Касаткин. — Улицы, говорит, не видать, и города не видать. Во до чего набрался — сплошной туман в голове! Ух, я бы этих пьянчуг!.. — Гнать таких надо из милиции! — бушевал Бандура. — Ничего не понимает и даже слушать не хочет, да еще и шуточки себе позволяет насчет моей фамилии! Гнать поганой метлой! — Я уверена, что он вас просто не понял, — примирительно сказала Анна Лазаревна. — Вы действительно говорили несколько… неорганизованно… Давайте я попробую. Леночка, а может, вы?.. Леночка отрицательно покачала головой. Она теперь совсем сбилась с толку и не знала, что делать и что думать. Если они действительно попали в другой мир, то как же можно оттуда говорить с нашим миром по телефону? А если это наш мир… да нет, не может быть! И Костя уж очень долго не возвращается… Ну куда они все пропали?! — Это милиция? — спросила Анна Лазаревна. — Простите, а кто со мной разговаривает? Старшина Касаткин? Очень приятно. С вами говорит пенсионерка Левина из дома номер двенадцать по Красноармейской улице… Да, это от нас звонили. Вы ошибаетесь, товарищ Бандура абсолютно трезв… Дядя Мирон засопел от бессильной ярости. — …По-видимому, наш дом куда-то перенесло, — терпеливо объясняла Анна Лазаревна. — Я не могу вам объяснить, как… Это случилось сегодня утром, приблизительно в половине восьмого. Да, вы абсолютно правы: улицы нет и города нет, а кругом лес… Только деревья тут розовые, а листья у них белые и похожи на страусовые перья. И трава все время меняет цвет. И небо тоже исчезло… Нет, позвольте, товарищ Касаткин, я говорю абсолютно серьезно и прошу вас что-то предпринять. Я не знаю, что именно… Позвольте, но кто-нибудь должен же нам помочь?! Не можем же мы… — Тут Анна Лазаревна смущенно положила трубку: — Он сказал, что разберется… Но, по-моему, он ничего не понял. Положив трубку, старшина Касаткин обалдело покрутил головой. — Нет, ты слыхал?! — воззвал он к сержанту Воронкову. — Теперь еще и пенсионерка в это дело включилась! — Неужели и пенсионерка с утра подзаправилась? — весело удивился Воронков. — Отчаянной жизни старуха! — Да нет, она-то не пьяная… Интеллигентная такая пенсионерка. Но сочиняет — аж уши вянут! Деревья, говорит, розовые и с белыми перьями… — Это где же такие деревья? — заинтересовался Воронков. — На Красноармейской… — Во дает старушка! — восхитился Воронков. — На Красноармейской розовые деревья с белыми перьями, это да! Ну, и что ты ей? — Да что — пообещал разобраться… — Вот и разбирайся! — ехидно посоветовал Воронков и опять уткнулся в кроссворд. Володя, переминаясь с ноги на ногу, одиноко маялся на своем посту, и ему казалось, что он уже целую вечность торчит здесь и что все его позабыли. “Скорей бы уж туда, в будущее! — думал он. — Конечно, мы там дикарями покажемся… Но это ведь сначала, а потом мы выучимся, наверстаем… Да и сюда можно будет вернуться, если что… Проход, наверно, специально устроили. У них тут, должно быть, какая-то особая зона. Может, заповедник действительно?.. Поэтому и стена вокруг. А может, они нас в порядке опыта перетащили из прошлого к себе? Нет, вряд ли… Такие опыты, без нашего согласия…” Володя так разволновался от этих мыслей, что перестал наблюдать за серым облачком — смотрел на все невидящим взглядом. Очнулся он потому, что услышал какой-то странный звук. Впрочем, в этой мертвой зловещей тишине любой звук показался бы странным… Глухое басовитое рычание шло неизвестно откуда. Издалека. Постепенно приближалось, нарастало. Теперь уже ясно было, что движется какая-то мощная машина — может быть, грузовик. И что доносится этот звук прямо из серого облака! “Наверно, там, на этом солнечном шоссе, шла машина, — думал Володя, не отрывая глаз от серого облака. — Она почему-то свернула на обочину и попала в туман, в темноту… Вот она рычит, пытаясь выбраться… водитель растерялся, он ничего не понимает… ага, он, кажется, поворачивает! Нет. просто вслепую тычется в темноте… совсем близко!.. Я его спрошу, его ведь можно спросить!” — вдруг сообразил Володя. Он бегом обогнул поваленный ствол, перепрыгнул через безжизненно распластавшиеся серые листья и кинулся к серому облаку, спотыкаясь, оступаясь на исковерканной почве. Но он не успел добежать. Дерево, чей ствол уходил в туман, внезапно рухнуло с хрипящим стоном. И сейчас же ринулась навстречу Володе тяжелая волна едкого, удушливого запаха. Володе показалось, что его остановила на бегу и отбросила назад гигантская рука. Он попятился, наткнулся на поваленный ствол, упал и, задыхаясь, мучительно кашляя, увидел сквозь жгучие слезы, как из тумана выдвигается желтый покатый лоб какой-то приземистой машины. Володя смахнул слезы, силясь разглядеть, есть ли там люди, попытался встать, подойти поближе, но удушье давило его. И вдруг все исчезло. Все — и машина, и серое облако. Раздался глухой чмокающий звук, и там, где только что висело серое облако, вздыбилась, протянулась через всю поляну ровная гряда, похожая на длинную баррикаду, — стволы деревьев вперемешку с пластами почвы громоздились друг на друга, держась неизвестно на чем. Запах исчез, удушье сразу отпустило, и глазам стало легче, хотя веки все еще жгло и покалывало, будто песок под них попал. Володя медленно поднялся, постоял, проверяя, держат ли его ноги, потом двинулся в сторону гряды. “Вот оно что! — сказал он себе, сделав несколько шагов. — То же самое, что на поляне было!” Он все шел и шел по ровному месту… ну, не ровному, конечно, — все кругом было разворочено, — но по горизонтали, без малейшего подъема. А впереди, в двух—трех шагах, все время виделся крутой подъем, и Володя невольно наклонялся вперед, готовясь преодолевать этот подъем. И так вот, слегка наклонясь вперед, он уперся лбом в невидимую стену. Опять стена! И здесь! Володя растерянно заметался, то вправо, то влево, но ладони его всюду упирались в отвердевшую пустоту. Проход тоже исчез! У Володи ноги подкосились, и перед глазами какая-то муть поплыла. Он обессиленно сполз на свинцово-серую развороченную почву, скользя ладонями по невидимой стене, и скорчился, уткнулся головой в колени, словно хотел укрыться от непонятного, зловещего мира, который неизвестно как и неизвестно зачем захватил его в свою орбиту. Потом он поднялся и, ничего не видя и не понимая, спотыкаясь на каждом шагу, побрел через поляну. Володя говорил себе, что все равно ведь не могли они остаться там, что они должны были вернуться… что даже если б он один туда попал, все равно ему и в голову бы не пришло остаться там, не позвать остальных… Все это было правильно, все справедливо, — но как невыносимо тяжело было брести под этим глухим оранжевым куполом и знать, что выход отсюда закрыт, что яркое земное солнце, и спокойная река, и зеленые холмы — все это сверкнуло и исчезло… “Да и было ли это?” — вдруг с ужасом подумал Володя. Он судорожно сунул руку в карман — и облегченно вздохнул: вымпелы существовали! Он остановился, с тоской любуясь чистыми и яркими цветами — васильково-синий, зеленый, алый, снежно-белый… Земные цвета, здесь таких нет, все краски здесь приглушены… Что-то мягко притронулось к его волосам, скользнуло по шее, по щеке. Володя вздрогнул, оглянулся. Дерево, которое преградило ему путь волной удушливого запаха, еще жило, и над ним вздымались веющие белоснежные султаны листьев. А один лист, до предела изогнув свой длинный гибкий черенок, с усилием тянулся к Володе — и еле дотягивался, еле касался его невесомыми своими пушинками. Володя глядел на лист, не пытаясь отстраниться. Что-то трогательное чудилось ему в этих упорных усилиях. Он непроизвольно подался навстречу, и пушинки затрепетали радостно, заскользили по лицу и волосам, словно стараясь успокоить и утешить его этими невесомыми ласковыми касаниями. “Они будто говорят: не бойся, опасности нет! — то ли подумал, то ли ощутил Володя. — А тогда дерево кричало: уходи, уходи, здесь опасность! И запах теперь совсем другой…” Запах был нежным, прохладным, свежим, он не походил ни на один из земных запахов, и все же чудился в нем спокойный простор, ясный свет, чистая влага. Володя поднял руку и осторожно, кончиками пальцев, погладил пушинку, веявшую у его подбородка. Она взметнулась, на мгновенье обвилась вокруг его кисти — и вдруг бессильно соскользнула, упала. Лист медленно опускался на землю. Он еще вздрагивал, трепетал, но это были уже судороги агонии. Прикоснувшись к земле, он дернулся, начал метаться, но все слабее — и вскоре бессильно распластался, затих. Володе стало страшно. Он оглянулся. Живые деревья молчаливо стояли вокруг прогалины, излучая теплое розовое свечение. “Может, они наблюдают за мной, следят за каждым моим шагом! — подумал Володя. — Фотографируют, передают куда-то… Куда? А может, они для себя все это? Может, они и есть хозяева здешнего мира? Нет, неужели? Деревья!.. Но ведь больше никого не видно, а они…” Володя осторожно, искоса поглядел на деревья, и вдруг ему представилось, что сейчас они наклонятся, охватят его сотнями мягких белоснежных щупалец и начнут изучать. Он чуть не вскрикнул от ужаса и пустился бежать. Он понимал, что это нелепо, — если деревья и вправду хотят его схватить, то, пока он доберется до поляны, они его десятки раз успеют поймать. Он ругал себя за этот нелепый и недостойный страх: ведь деревья ничего дурного не сделали ни ему, ни другим, — наоборот, они предостерегали, спасали от опасности, они, даже умирая, заботились о людях. Но ему все же было страшно оставаться здесь одному, и он бежал, почти инстинктивно выбирая кратчайший путь к дому, к людям. Вдруг Володя остановился с разбегу, точно споткнувшись, чуть не упал. Серый туман неподвижно висел над вывороченными, изломанными деревьями, над глыбами свинцово-серой почвы. Деревья еще жили, их стволы были розовыми, и снежные султаны листьев веяли над ними. — Этого не было! Здесь этого не было! — вслух сказал Володя. — Ведь вот он — дом! Не было этого! Действительно, прогалина доходила до опушки леса, впереди уже не было деревьев, и над поваленными стволами, чуть левее серого облака, виднелся дом на поляне. И все же это существовало — и серый туман, и гибнущие деревья на том месте, где всего этого совсем недавно не было. Сергей Свиридов еще с вечера наметил, что в воскресенье утром навестит сестренку. Да и к шурину Косте у него было одно дельце. Выбрался он поздно, часам к одиннадцати, вывел на улицу свою красавицу “Вятку”, напялил для впечатления белый шлем — и с места рванул так, что важный полосатый кот, мирно шествовавшие по тротуару, с перепугу взвился метра на полтора в воздух. Сергей лихо промчался через центр и выехал на западную окраину города. Мчась по Пушкинской улице, он глянул на часы — за пятнадцать минут добрался, вот что значит мотороллер, а то автобусом с пересадкой выходило минут сорок пять как минимум. Сквозь развалины соседнего домика и полузасохшие покалеченные деревья уже краснела глухая задняя стена дома № 12, где жила Лена. Раньше эта стена с улицы не просматривалась, а сейчас, среди развалин и пустырей, она торчала даже как-то назойливо. Подкатив к дому, Сергей спешился и повел “Вятку” вдоль торцовой стены — тут Пушкинская улица вдруг ныряла вниз, даже две ступеньки на тротуаре были, у самого дома № 12. Сергей аккуратно спустил мотороллер со ступенек и двинулся дальше. И вдруг мотороллер остановился как вкопанный. “Что ж это он, месяца не проработал и уже готов?! — с горькой обидой подумал Сергей. — А может, наскочил на что?” Он шагнул вперед и нагнулся — хотел посмотреть, что там, под колесами. С этого момента начало твориться нечто совсем уж непонятное. Сергей почувствовал, что он словно бы налетел на стену. Нагнулся так резко, с ходу — и трах лбом об стенку! Нет, он ничуть не ушибся, и больно ему не было, только отшвырнуло его назад, он попятился, взмахнул руками, чуть не кувырнулся через мотороллер. Кое-как удержав равновесие, Сергей выпрямился и с опаской, вытянув вперед руки, словно слепой, опять шагнул вперед. Руки его уперлись в стену. Впрочем, не в стену. Никакой стены не было. Ни кирпича, ни камня, ни дерева не ощущал Сергей под своими ладонями… Ничего вообще он не ощущал. Была пустота. Затвердевшая плотная пустота. Она не пускала дальше. Сергей растерянно оглянулся. Ему хотелось спросить кого-нибудь: мол, что же это делается? Хотелось увидеть табличку “Вход воспрещен”, что ли… Но табличек вокруг не имелось, а улица была пуста. По той стороне, вздыхая и бормоча, брела в гору маленькая старушка, но с такой старушки что возьмешь! Впрочем, какая-то польза была и от старушки. Водители — народ, как известно, тертый и дошлый. Сергей к тому же свой срок в армии отслужил на флоте механиком, так что в жизни он ориентировался прилично, хотя было ему неполных двадцать пять. Поглядев на старушку, он в два счета сообразил, что раз она идет снизу, стало быть, невидимая стена не всю улицу перегородила, а только часть. “А может, с той стороны можно пройти, только с этой нельзя? — тут же предположил он. — Ну-ка, проверим!” Сергей оставил мотороллер на том же месте, впритирку к невидимой стене, перебежал на ту сторону улицы и вдоль забора стадиона без всяких помех выскочил на Красноармейскую. Он кинулся было на противоположный угол, к дому № 12, но тут же отступил: с Красноармейской на Пушкинскую заворачивала пятитонка с прицепом, груженная двутавровыми железными балками. Сергей остановился и стал глядеть — пройдет она по узкой Пушкинской улице или наскочит на эту невидимую штуковину. Громоздкая махина, глухо рыча, развернулась на углу, перегородив всю Красноармейскую, — концы балок, торчащие позади прицепа, чуть не упирались в деревья сквера. И застряла. Шофер, побагровев от напряжения и злости, делал рывок за рывком — и все впустую. Но Сергей понял, что машина просто не может одолеть без разгона этот крутой подъем, а разогнаться здесь негде. Он знаками показал водителю, что надо разворачиваться и объезжать через соседние улицы, а сам перебежал Красноармейскую и, пройдя немного вдоль сквера, шагнул на мостовую. Все эти действия, включая наблюдения за грузовиком, заняли, вероятно, две-три минуты. И за это время Сергей так ни разу и не глянул на дом, в который стремился попасть. Он резко остановился посреди мостовой, потому что опять наткнулся на загадочную преграду. — А, чтоб тебе! — с досадой сказал он и поднял глаза. И вот тут Сергей попросту испугался. У него даже коленки ватные стали и сами подогнулись. Он стоял перед самым домом — а дома не было! Совсем не было. Сергей видел чуть поодаль закопченный скелет соседнего дома, мимо которого он недавно проехал на мотороллере, и покалеченные деревья возле него. И все… — То есть… — ошеломленно пробормотал Сергей, стоя на мостовой перед исчезнувшим домом. — Он же только что был! Я же мотороллер около него оставил… Тут он понял, что мотороллера тоже нет. И ступенек на тротуаре не видно. — Как же это?! — ужаснулся Сергей и бросился назад, мимо сквера, через улицу, потом вверх по Пушкинской. Грузовик все еще мыкался на углу, натужно ревел, разворачиваясь. Сергей обошел его и поглядел на ту сторону. Мотороллер там был. Или то, что оставалось от мотороллера, какие-то изогнутые обломки. Сергей протер глаза — не помогло. Тогда он подбежал к грузовику и замолотил кулаком в дверцу кабины. — Эй, друг! — заорал он, перекрикивая надсадное рычание мотора. — Погляди влево! Влево, говорю, погляди! Пожилой краснолицый водитель ругнулся, но влево все же глянул. Потом опустил стекло до отказа и высунулся из окна. Потом распахнул дверцу и тяжело спрыгнул на мостовую. Сергей подошел к нему. — Слушай… а чего это с ним? С домом-то? — спросил он, не оборачиваясь, и медленно двинулся через улицу. Сергей пошел за ним. С каждым шагом картина менялась. Наконец они оказались у ступенек на тротуаре, где стоял мотороллер — целый и невредимый. И стена дома, у которой он стоял, была целехонька. Но теперь Сергей видел, что дальше с этой стеной начинает твориться черт те что: она еще сильней перекашивается, изгибается… Он обменялся впечатлениями с шофером, подвел его к невидимой стене, дал потрогать, потом сводил к скверику и показал фокус-покус с пропажей дома. Появился на улице еще один гражданин, но он с утра подзаправился, был настроен философски и ничему не удивлялся, а только радовался — вот, мол, до чего наука дошла! — Наука! — сердито сказал Сергей. — Тебе, может, это и наука, по пьяной-то лавочке, а у меня в этом доме сестренка живет, Ленка, понял? II выходит, что она теперь не то пропала, не то… И опять у него коленки ослабли. Он только сейчас сообразил, что совершенно ведь непонятно, где же Ленка и Костя и что с ними дальше будет. Непонятно даже, живы ли они и здоровы. — Ежели что пропало, — благодушно бормотал пьяный, — это в милицию надо! Первым делом — в милицию! У них овчарки с высшим образованием, они на дне морском иголку сыщут и в зубах принесут… — Между прочим, это он верно говорит, — сказал пожилой шофер. — В милицию заявить надо. — А что тут милиция сделает? — вяло возразил Сергей. — Мы с тобой тем более ничего не сделаем, парень. А милиция, ежели понадобится, горком, горисполком потревожит, те ученых сюда доставят… Вместях как-нибудь прощупают это дело. А мы с тобой что?! — Ладно, подежурь тогда здесь, — сказал Сергей, выводя “Вятку” на мостовую. — По-быстрому управлюсь. Через пять минут он уже был в милиции и, навалившись грудью на деревянный барьер, втолковывал дежурному, что надо срочно отправляться на Красноармейскую и спасать людей. — Сестренка у меня там, понимаешь, старшина? — твердил он, отчаянно ероша густой темный чуб. — И муж ее… и вообще — люди! Старшина Касаткин слушал его, хмурясь и даже слегка постанывая от напряжения. — Нет, но ты понял?! — сказал он наконец, обращаясь к сержанту Воронкову. — Опять этот самый дом! Сержант Воронков встал и одернул китель. — Так я отправлюсь на место происшествия? — полувопросительно сказал он. — Пошли, что ли, приятель! — Он развернул Сергея от барьера к двери и спросил на ходу: — Слушай, а розовые деревья с белыми перьями ты видал? — Какие розовые деревья?! — ужаснулся Сергей, тараща на него глаза. — Идем, идем, я тебе по дороге все обрисую! — пообещал сержант. — Давайте я еще раз позвоню! — предложила Анна Лазаревна. — А! С этим дурнем говорить — только время терять! — сердито сказал дядя Мирон. — В городскую милицию если? Номера я не знаю, да и кто там в воскресенье? Дежурный один. Опять сюда же отправит, в отделение. — Если бы Шурик был здесь! — вздохнула Анна Лазаревна. — Но его сейчас даже в Москве нет, он в Сочи… Подождите, я позвоню Сергею Ивановичу! — сообразила она. — Это лучший друг Шурика, понимаете… он работает в институте… — Анна Лазаревна набрала номер, послушала: отвечали монотонные долгие гудки. — Воскресенье… все где-то гуляют… — Гале, вот кому позвонить нужно! — Дядя Мирон двинулся было к телефону. — Эх, номер-то я ее не знаю! Вы тоже нет? Эй! Славка! — крикнул он, высунувшись из окна. — Маме на работу как позвонить? — Не зна-аю! — огорченно ответил Славка. — Папа знает! — Папа знает… — ворчал дядя Мирон. — А папа гуляет себе в лесочке… — В самом деле, — тревожно отозвалась Леночка, — где они? Почему так долго не возвращаются? Ей опять стало страшно, и она накинулась на Бандуру. — Вы тоже, — сказала она презрительно, — наговорили: я да я! А даже на дежурного милиционера воздействовать не сумели! Дядя Мирон побагровел так интенсивно, что Анна Лазаревна испугалась. — Леночка! Леночка! — укоризненно заговорила она. — Нельзя же так! Вы же видели, что по телефону ничего объяснить не удается. И все же я уверена, что они скоро примут меры. — Какие там меры… — Лена махнула рукой. — Ну сидите ждите у моря погоды… Лена все же недаром подзуживала дядю Мирона: он, что называется, завелся. — Правильно говорите! — забыв недавнюю обиду, поддакнул он Лене. — От такого дурня, что там в милиции сидит, никаких мер не дождешься. Разве ж он может своей дурной головой додуматься, что надо делать? Анна Лазаревна тихонько вздохнула: она всегда огорчалась, если люди сердились друг на друга. — Я все же уверена, что они примут меры… — бодрым тоном повторила она. — Но через некоторое время я им снова позвоню и узнаю, что именно они сделали. Бандура с минуту подумал. — Тогда сделаем так! — решительно сказал он. — Вы, значит, у телефона будете дежурить. А я около дома разведку произведу. Где-нибудь они все равно обнаружатся! Я их из-под земли достану! И тогда конкретно сообщу в милицию! — Я все же не совсем понимаю, кого вы рассчитываете найти, — заметила Анна Лазаревна. — Здесь никого нет, вы же сами видите. — Такого не может быть, чтобы никого не было! — уверенно заявил дядя Мирон. — Это не суть важно, что воскресенье… — Ой! — простонала Лена. — Ну при чемтут воскресенье! Неужели вы не понимаете… — А вы всё думаете: другой мир! Да? — проницательно заметил дядя Мирон. — Всё не убедились? Из другого мира можно по телефону с милицией говорить? Эх вы, женщины! Ну если вам телефона мало, я еще на фактах докажу. Значит, так: где тут радио? Ага, вот оно! — Дядя Мирон подошел к репродуктору, повернул ручку; далекий голос заговорил о биологических методах защиты растений. — Видите: работает!. Теперь свет тоже есть, я так думаю! — Он щелкнул выключателем: желтоватым слабым огнем разгорелась люстра. — Есть свет! — А я и не обратила внимания, действительно! — сказала Лена. — Холодильник-то работает и у меня и здесь, я только сейчас сообразила. — Ну вот, и холодильники действуют. И откуда же ток бы шел, если б мы в другом мире были? Поняли теперь? — Ничего мы не поняли! — упрямо заявила Лена. — И вообще: какая разница? Все равно неизвестно, что же случилось и как отсюда выбраться! — А вот я сейчас пойду и все выясню! — грозно пообещал дядя Мирон. — Я с ними по-свойски поговорю! Нашкодили, понимаешь, и прячутся! Но-о не выйдет! От Мирона Бандуры не скроешься, не-ет! С-под земли выкопаю! И поговорю! — В таком случае, — деловито заметила Анна Лазаревна, — я вам советую одеться. — А? Одеться? — изумился Бандура, поглядев на свое нестерпимо-голубое одеяние. — Так я ж вроде не голый! — Видите ли, в пижаме можно разговаривать только по телефону, — терпеливо объяснила Анна Лазаревна. — Ну-ну… для вас только! — наконец согласился Бандура. — Зайду по дороге оденусь- и на разведку. — Я с вами! — вызвалась Лена. — Это можно, — разрешил Бандура. — Выходите, я в два счета управлюсь. Возле дома № 12 уже начали скапливаться люди. Они ходили туда-сюда, трогали ладонями невидимую стену, глазели сбоку на перекошенные стены, ахали, увидев, что с фасада дом вообще не существует. Шофер с азартом исполнял роль экскурсовода на общественных началах. — Потрогал? Убедился? Во какое дело! — комментировал он. — Ничего нету вроде — а не продвинешься! Теперь, значит, двигайся вот таким манером, бочком — и на дом все время гляди: сейчас новые фокусы будут! Ну, видал? Теперь беги во-он туда, на мостовую, — и стань в аккурат против дома! Да держись за что-нибудь, а то на ногах не устоишь: такие там чудеса! Что, бабуся? Тоже хочешь посмотреть? Давай, давай, просвещайся! Вот так, ладошки приложи! Ну, чувствуешь?! Мальчишки как угорелые носились вокруг дома и визжали от восторга: вот это забава! — Юрка, ты меня видишь?! Я тут, на мостовой! Не видишь? Ага, а я тебя вижу! Ты ухо трогаешь! А сейчас ты ногой дрыгнул! Ну, теперь давай меняться — ты сюда, а я на твое место! Видишь меня? А я тебя не ви-ижу! Ух, здорово! Сержант Воронков посмотрел на все это с большим интересом, потом проделал то, что делали другие: пощупал невидимую стену, понаблюдал, как меняется дом, если его обходить сбоку, и как он исчезает, если на него смотреть с фасада. Окончив эти действия, сержант Воронков крякнул и пошел к автоматной будке у стадиона звонить начальству. Вскоре он высунулся из будки и поманил к себе Сергея. — Ну-ка сообщи, какой у них номер телефона! Да у сестры у твоей! — Он повторил в трубку номер телефона Анны Лазаревны и на этом закончил разговор. — И что мы теперь будем делать? — с надеждой спросил Сергей. — Мы с тобой, приятель, будем ждать дальнейших распоряжений! — весело объявил сержант. — А начальство что будет делать, это вскоре выяснится. Сергей хотел было спросить его, что он обо всем этом думает, но решил не спрашивать. Что он знает! Молодой совсем и несерьезный. Ему всё шуточки да смешочки… — Тебе-то что! — неприязненно сказал он. — Сделают что, не сделают, тебе без разницы. А у меня… — …а у тебя там сестра! — докончил сержант, и лицо у него стало чуть серьезней. — Ты зря думаешь на меня, что я не сочувствую. Я как раз сочувствую. Но у меня такая идея, что все обойдется. Раз они живы-здоровы, и по телефону говорят… — Слушай! — закричал Сергей, осененный идеей. — Так ведь и я могу позвонить?! — Звони! — согласился сержант Воронков. — Только, смотри, недолго! Им теперь начальство будет названивать. Сергей ринулся в будку, на ходу нашаривая две копейки в кармане, но вскоре выскочил разочарованный. — Что, занято? — спросил сержант. — Ну значит, начальство подключилось… А вот и подкрепление к нам движется… О, смотри-ка! Сам полковник Чегодаев прибыл! Тут Воронков с немыслимой скоростью пересек улицу. Когда Сергей перебрался на ту сторону, сержант уже стоял навытяжку перед грузным седым человеком с полковничьими погонами и рапортовал о происшествии. Рядом с полковником стояли двое в штатском. Сергей остановился чуть поодаль и стал слушать. Когда Воронков закончил свой рапорт, полковник вздохнул и покачал головой. — Такие вот пироги, Андрей Ильич, — сказал он, обращаясь к одному из своих спутников. — Может, вы тут разберетесь, а я, прямо говоря, пасую. Не по моей это части. — По моей тоже не совсем, — отозвался долговязый лобастый человек. — Впрочем, посмотреть бы надо… Полковник вполголоса отдал распоряжение молоденькому лейтенанту. Милиционеры редкой цепочкой окружили дом, оттеснили любопытных подальше. Народу набралось уже порядочно, начиналась толкотня, шум, мальчишки шныряли повсюду с субсветовой скоростью, так что распорядился полковник правильно. Но Сергей отчаянно запротестовал, когда его попробовали тоже оттеснить за оцепление. — Сержант, скажи им! — шумел он, увертываясь от пожилого милиционера, который норовил ухватить его за локоть. — Не имеют права! — Давай, давай! — ворчал милиционер. — О правах еще будешь разговаривать! — Товарищ полковник! — сказал сержант Воронков, услыхав вопли Сергея. — У него сестренка в этом доме… Можно ему тут остаться? Полковник рассеянно кивнул, и милиционер отступился от Сергея. …Анна Лазаревна старательно несла обязанности дежурного. Она положила у телефона блокнот и авторучку и записывала все: время разговора, имя собеседника, основные вопросы. А телефон уже добры>. полчаса почти не умолкал: с тех пор, как позвонил старшина Касаткин и сообщил, что делом их занялось начальство в городском масштабе, все время кто-то звонил и что-то выяснял. Теперь позвонил очень вежливый человек, доктор физико-математических наук Андрей Ильич Иконников. Отвечать на его вопросы было хоть и трудновато, но приятно: чувствовалось, что он и разбирается в происшедшем больше, чем все, кто звонил до этого, и всерьез интересуется всякими деталями, до которых прочим нет дела. Он попросил, чтобы Анна Лазаревна попыталась описать, что делается на кухне. Спросил подробно про деревья, про траву и про небо. И про туман, который был утром, после ухода Галины Михайловны. И про самочувствие Анны Лазаревны н всех остальных. Потом сказал, что еще позвонит, и очень вежливо поблагодарил за ценнейшие сведения, которые дала ему Анна Лазаревна. Очень это был милый и хорошо воспитанный человек. И Шурика он, конечно же, превосходно знал и с такой теплотой о нем отозвался… Анна Лазаревна даже прижмурилась от удовольствия, слушая, как он говорит о Шурике и о значении его работ для науки. И только потом сообразила, что так и не спросила о самом главном: что же с ними происходит и когда все это кончится. А уж Андрей-то Ильич наверняка сумел разобраться в обстановке, и кто, как не он, мог бы… Тут телефон снова зазвонил, и Анна Лазаревна потянулась к трубке. — Нет, пока никто не вернулся, — сказала она. — В доме только я и десятилетний мальчик… Да, я слушаю! Дядя Мирон с самого начала заявил, что в лес он не пойдет, а лучше обшарит все вокруг дома: “они” наверняка не в лесу, а где-нибудь поблизости затаились, но от Бандуры никто и никогда не укроется. Поэтому он сразу повернул за угол, и Лена тоже; они наткнулись на невидимую преграду, начали ее обходить впритирочку и наблюдали все загадочные метаморфозы, которые на их глазах претерпевал дом. Лену все это ужасало и угнетало, хотя Костя успел ей кое-что рассказать, и она была подготовлена. А совершенно неподготовленный Бандура вел себя до невероятия хладнокровно и “все эти штуки” воспринимал как ловкие трюки затаившихся кинодеятелей. Он ничуть не испугался, даже когда зашел сзади и увидел, что дом исчез. Лена невольно вскрикнула и уцепилась за его рукав, а он снисходительно улыбнулся. — Вот, видали, что делают, черти! — с некоторым даже удовольствием заметил он. — Какие фокусы освоили! Да, техника кино — она у нас на высоте, ничего не скажешь. — Выдумываете вы все! — тоскливо сказала Лена, продолжая цепляться за его рукав и с ужасом глядя на пустую поляну. — Они да они, а где же вы их видите? Никого здесь нет… даже наших! — Тут Лена чуть не расплакалась от страха и тоски. — Потому и нет, что они схоронились, — внушительно покашляв, заявил Бандура. — Ежели они целый дом могут от наших глаз укрыть, так самим-то им спрятаться ничего не составляет… Эй, выходите, я вас все равно вижу! — закричал он вдруг. — Выходи, вот ты! И ты! Чего прячетесь? Нашкодили — ив кусты? Совесть имеете хоть немного? — Где вы их видите? — полушепотом спросила Лена. Бандура знаком велел ей молчать и продолжал взывать к совести своих невидимых собеседников. — Не поддаются, гады! — сказал он наконец, отдуваясь и утирая мокрый лоб большим клетчатым платком. — Думают, отсидятся и всё им забудут. Не-ет! Я-то уж не забуду, не надейтесь! За Мироном Бандурой не пропадет! — Пойдемте лучше домой, Мирон Остапович, — жалобно попросила Лена. — Я больше не могу смотреть на эту пустую поляну без дома… Мне страшно! — Думаете, дом и правда пропал? Не переживайте, есть он! — утешал ее дядя Мирон. — Это все ихние фокусы-покусы! — Да я знаю, что есть! — нервно ответила Лена. — Костя мне говорил… Но все равно неприятно. И Анна Лазаревна там одна со Славкой… И никого вы пе найдете, бросьте вы, в самом деле… — Добре, — сказал, слегка обидевшись, Бандура. — Я вас отведу домой, чтобы вы не переживали, а потом сам пойду пошукаю этих… деятелей! Поговорив с Анной Лазаревной, Андрей Ильич Иконников довольно долго стоял в сторонке, хмурился, хмыкал и поглядывал на дом. Потом подошел к Сергею и спросил, хорошо ли он знает этот дом. — Так я же тут жил! — сказал Сергей. — До самой армии. Еще как знаю! — Эта вот задняя стена — почему она глухая? — спросил Иконников. — А это купец такой был, Жигунов, — начал объяснять Сергей, — и у него было два сына. Дом им в наследство пополам достался. А потом они стали между собой ссориться. Младший взял да свою половину на слом продал. А старший стену тогда замуровал… — Понятно. А что же за стеной внутри? Вот в этом месте, например? — В этом? — Сергей прикинул. — Лестница, по-моему. Ну па, лестница! А что? — Да вот, если дыру пробить… — задумчиво проговорил Иконников. — Дыру нельзя, что вы! — испугался Сергей. — Дом аварийный, ветхий. Тут только ткни, все сразу развалится. Да слушайте! — вдруг сообразил Сергей. — Не надо никакой дыры! Тут чердачное окно есть! — Где ты видишь окно? — недоверчиво спросил сержант Воронков, слышавший весь разговор. — Да вот оно, слева! Оно только закрыто! Анна Лазаревна всегда просит, чтобы закрывали и запирали: воров боится! Слушайте! — закричал он, еще больше воодушевляясь. — У меня идея! — Сережа, насчет Лены ты не беспокойся, она вот-вот вернется, — сказала Анна Лазаревна. — А идею товарищи из милиции придумали правильную… Ах, это ты и придумал? Ну молодец! Я сейчас позову Славика… Минуточку!.. — Она положила трубку на стол, высунулась в окно и сказала: — Славик, тебя просят влезть на чердак и открыть там окошко. Ты сможешь? — А то! — с восторгом отозвался Славка. — Уже иду-у! — Он уже идет, — сообщила Анна Лазаревна, взяв трубку. — Даже пришёл: я слышу, как он подымается по железной лесенке на чердак… Ну, разумеется, я останусь у телефона… Ничего, мне Славик потом все расскажет… Андрей Ильич и Сергей только успели перебежать через улицу, как в толпе уже задвигались, заговорили: — Смотри, смотри, окно в крыше открылось! Ой, батюшки, мальчонка вылез! Сергей задрал голову, увидел Славкины белобрысые вихры в чердачном окне и заорал: — Славка! Привет! Славка высунулся по пояс из окошка и замахал руками, улыбаясь во весь рот. — Привет, Сергей! Когда нас забирать будете? — А Ленка где? — вместо ответа закричал Сергей. — Костя где? — Все в лес пошли, на разведку! И папа тоже! — А лес-то где? Далеко? — Где далеко? Как вен тот дом! — Славка показал на обгорелый остов соседнего дома. — Трава, а потом лес! — Слыхали? Лес какой-то! — изумленно переговаривались в толпе. — До лесу-то электричкой надо ехать, а он говорит: прямо тут, у дома! Что ж это, батюшки?! — Нас с утра перенесло! — восторженно орал Славка, чувствуя, что он в центре внимания. — Я еще спал! Все спали, только Анна Лазаревна не спала! — Никуда вас не перенесло! — крикнул Сергей. — Дом-то, вот он, где стоял, там и стоит! — Так он и у нас стоит! Только вместо улицы — лес! А у вас тут улица есть? — Есть улица! Все есть! — Так в тогда идите к нам с улицы! — обрадовался Славка. — Нельзя с улицы! — уныло крикнул Сергей. — Если с улицы идти, так дом пропадает! — Во! А у нас он, сзади если зайти, пропадает! У нас все наоборот! — в восторге орал Славка. — У нас тут и деревья и трава такие… ух! Полковник Чегодаев, слушая этот диалог, вполголоса переговаривался со своими спутниками. — Конечно, вы нравы, надо с Москвой связаться, — говорил он немолодому темноволосому мужчине. — Дайте команду, пускай ваши там в горкоме… — Дело тонкое, самому мне придется объяснять… — Тоже верно. А вы, Андрей Ильич, кого считаете нужным вызвать? — Из Москвы? Вероятно, Линчевского н Курилова. Ингермана еще, пожалуй. Хотя, в общем-то, я плохо представляю… — Дайте координаты Павлу Васильевичу, он сейчас будет звонить в Москву, так заодно… — Да, но пока надо из нашего института доставить кое-какую аппаратуру и двух—трех человек мне на подмогу, — сказал Иконников, вручя секретарю горкома листок с фамилиями и телефонами. — Я сейчас позвоню своему шефу, но думаю, что он на даче… — Это мы организуем, — пообещал Павел Васильевич. — Напишите тоже, кто нужен, что нужно… — Славка! — кричал тем временем Сергей. — Ты пойди погляди: может, они уже вернулись из лесу? — Ла-адно! — Славке явно не хотелось уходить. — Я сейчас вернусь! — Подожди, мальчик! — закричал Андрей Ильич. — Ты не можешь там отломить ветку дерева и бросить сюда из окна? — Не-а! Не могу! У них веток нету! — Ну листок хотя бы! — А листья у них вот такие большие! — Славка во всю ширину развел руки. — Даже больше! Белые! И растут высоко-высоко! Не долезешь! Травы могу нарвать, хотите? Она, правда, жжется, но не очень. — Давай траву, что ли… Славка повернулся и исчез в окне. Толпа снова зашумела. — Мальчонку-то зачем обратно погнали? Хоть его бы вытащили! — Что ж одного-то? У него там, слышь, отец! Всех надо спасать! — А чего там у них происходит, кто понял? — Пойди тут пойми! Прямо чертовщина какая-то! — Анна Лазаревна! Никто не вернулся? — закричал Славка, вбегая в комнату. — Где же они пропали! Нас бы сейчас вытащили! — Правда? — обрадовалась Анна Лазаревна. — Уже нашли способ? — А чего искать-то? Я хоть сейчас могу спуститься по водосточной трубе — все и дела! — Славик, но не каждый же может по трубе… — возразила Анна Лазаревна. — Лестницу можно подставить! Подумаешь! — Нет, Славик, я не такой способ имела в виду, — огорченно сказала Анна Лазаревна. — Конечно, в крайнем случае придется… Но тогда мы все останемся без квартиры… и даже без вещей… Впрочем, квартиры все равно дадут новые, а вещи… и вообще я не о том думаю, о чем следует… Но как-то это… ненаучно! Правда, Славик? Через чердачное окно… Славке эти рассуждения показались нудными. Вещи, квар-гира… да ну их совсем! — Анна Лазаревна, я пойду погляжу, где дядя Мирон и тетя Лена, — сказал он. — Они здесь ведь где-то, у дома. И травы я обещал нарвать… ну, туда! — Он показал рукой на потолок. — Иди… — нерешительно согласилась Анна Лазаревна. — Только очень прошу тебя, Славик: никуда не отходи от дома! Травы ты можешь прямо у крыльца нарвать… Славка обещал Анне Лазаревне, что никуда не отойдет от дома, и собирался честно выполнить свое обещание. Он покрутился на крыльце, покричал: “ДядьМиро-он! Теть Ле-ен!” — но никто не ответил. Славка, сопя от натуги, с трудом вырвал две горсти травинок: трава была скользкая и прочно сидела в почве. Ладони начало жечь и покалывать. Славка поспешно бросил траву на крыльцо и старательно обтер руки о штаны. И в эту минуту он увидел, что на опушке леса показался Володя. Вид у Володи был какой-то странный: волосы взъерошены, клетчатая ковбойка расстегнута чуть не донизу, рот раскрыт. И почему-то он не пошел прямо к дому, а, неуверенно ступая, бочком, двинулся вдоль опушки, будто чего-то боялся. У Славки сердце екнуло. Почему Володя возвращается один и почему у него вид такой странный? Уж не случилось ли что с отцом… и с Кос гей?! — Володя! — заорал он не своим голосом. — Володя! Но Володя его не слышал. Тогда Славка от страха забыл про свое обещание и ринулся через поляну наперерез Володе. — Славик! Куда же ты! — встревоженно закричала Анна Лазаревна, высунувшись из окна. — Славик, вернись! Но тут зазвонил телефон, и Анна Лазаревна кинулась к письменному столу. Лена и дядя Мирон вышли из-за угла дома и остановились, недоуменно глядя на мчащегося по поляне Славку. — Я же вам говорила, что Славка нас зовет! — сказала Лена. — Но куда же это он помчался? Славка-а! — звонко крикнула она. Славка мчался дальше, не оборачиваясь. Лена хотела было бежать за ним вдогонку, но в это время произошло нечто странное. Ни с того ни с сего обвалился угол дома. Посыпались кирпичи, грохоча, рухнула проржавевшая водосточная труба. Сквозь грохот камней и ржавого железа отчетливо послышался чмокающий звук — будто всосалась вода в какую-то гигантскую воронку, — и прямо на глазах у Лены и дяди Мирона мгновенно встала на поляне за домом ровная травянистая гряда метра в два высотой. Она аккуратно срезала угол дома. И в то же время они услыхали, как наверху, в комнате, Анна Лазаревна с глубоким отчаянием проговорила: — Какое несчастье! Боже, какое несчастье! Что же теперь с нами будет?! Лена, прыгая через две ступеньки сразу, кинулась наверх. Бандура, тяжело пыхтя, двигался за ней. Анна Лазаревна, странно съежившись, сидела у письменного стола и бессмысленно глядела на зажатую в руке телефонную трубку. — Что случилось? Анна Лазаревна! — крикнула Лена. — Вам плохо? — Телефон… — слабым, совсем больным голосом сказала Анна Лазаревна. — Телефон вдруг перестал работать… только что… Я как раз говорила со старшиной Касаткиным… с тем дежурным, который нас сначала не понял… очень симпатичный человек… и вдруг… Бандура, стоя на пороге, щелкнул выключателем — свет не загорелся. Ожесточенно сопя, он прошагал к репродуктору, безрезультатно покрутил ручку. — Отключили! — мрачно констатировал он. — Начисто все отключили! — Но почему? За что?! — простонала Анна Лазаревна. — Они же ничего не говорили… Не предупреждали… наоборот… И что теперь с нами будет?! — Тихо! — сказал вдруг Бандура, подняв палец и указывая на потолок. — Слышите? Там кто-то есть! Действительно, на чердаке глухо загремело, потом будто бы упало что-то тяжелое. А потом явственно послышались шаги. Толпа у дома № 12 все росла. Появились уже люди с фотоаппаратами и кинокамерами — кто из газеты, кто с телевидения, а кто и от себя. Обснимали весь дом — и сзади, и спереди, и с боков, но все им было мало. — Мальчонка почему не возвращается? — переговаривались в толпе. — Сказал: “Сейчас вернусь” — а сам пропал… Может, с отцом что случилось… в лесу-то! — Скажите, а он, по идее, обязательно появится? — спросил Иконникова худенький рыжебородый парень, держа наготове кинокамеру “Кварц”. — По идее, да… — неопределенно ответил Иконников. Сергею очень не понравился тон, каким были сказаны эти слова. Да и сами слова тоже. У него прямо сердце заныло. Действительно, Славке давно бы пора вернуться. А раз ни он, ни кто другой не появляется, значит, что-то стряслось… что-то уж непременно плохое… Может, с Ленкой? Стой тут без дела и ломай себе голову. И сколько же можно вот так стоять, руки в брюки? А они там, может, в опасности… Сергей подошел вплотную к дому и прижался ухом к стене. То ли у него в ушах шумело от напряжения, то ли и вправду в доме был какой-то шум… грохот. Сергей позеленел и судорожно выпрямился. — Нет, ребята, как хотите, а я так больше не могу! — пробормотал он, обращаясь неизвестно к кому. Сергей огляделся. Эх, народу полно, и все на дом уставились… плохо дело! “Все равно не отступлюсь! — подумал он. — Надо только побыстрее, чтобы они не успели опомниться!” Он с независимым видом прошелся вдоль стены, на углу прислонился спиной к водосточной трубе, сунул руку за спину, осторожно ощупал, покачал трубу… “Проржавела, конечно, насквозь… но держится… крюки, главное, крепкие… Ничего, выдержит, я же по-быстрому — раз-раз, одна нога здесь, другая там”. И тут Сергею повезло. К дому подкатила серая “Волга” и с ней — закрытый фургончик. — Наконец-то! — со вздохом облегчения сказал Иконников. — Наши! Из “Волги” вылезли трое. Иконников прямо с ходу начал им обрисовывать обстановку; из фургончика вытаскивали какие-то аппараты, устанавливали их неподалеку от дома, в толпе спорили, что это за аппараты и зачем они, — в общем, внимание у всех было отвлечено, на Сергея никто и не глядел. “Ну!” — шепнул он сам себе. Подпрыгнул, уцепился обеими руками за перемычку, подтянулся… Его заметили только тогда, когда он ступил на крышу, и гулко загрохотали железные листы, прогибаясь под его шагами. Но пока они сообразили, в чем дело, Сергей оказался уже у самого окошка. — Эй, друг! Ты что, сдурел? — заорал снизу сержант Воронков. — Слазь немедля! А то будет тебе! За хулиганство! Сергей обозлился. — Соображай, что говоришь! — крикнул он. — Я сестренку спасать иду! А ты — хулиганство! Совесть надо иметь! — Спаситель объявился! Без тебя не управятся! — ехидничал сержант. — Слазь, говорю, не нарушай! — Послушайте, Сергей, — крикнул Иконников, — я убедительно прошу вас вернуться! Вы можете все испортить! Очень прошу вас! Иконников был явно встревожен. Сергей заколебался. А что, если он и в самом деле напортит ученым… нехорошо ведь будет! Вернуться, что ли? Да, а Ленка? — Ничего я вам не помешаю! — вызывающе крикнул он. — Вы наукой занимаетесь, а там, может, люди погибают! И Сергей сунул голову в окошко. — Постойте! — с отчаянием закричал Иконников. — Вы ведь понятия не имеете, что можно там делать и чего нельзя! Вы такого натворить можете! Вернитесь! — На месте разберусь! — обернувшись, крикнул Сергей. — Что я, маленький? Я осторожно буду! — Стой, стрелять буду! — вдруг завопил сержант Воронков и действительно расстегнул кобуру. — А ну, быстро прекрати! Слазь, говорю! — Иди ты, сержант, знаешь куда! — невнятно отозвался Сергей и нырнул в окошко. Сержант Воронков, побурев от негодования, кинулся к водосточной трубе. — Я т-тебе покажу! — прохрипел он на бегу. — Стой! — крикнул вдруг Иконников. — Назад! Очертания дома внезапно расплылись, заструились, как отражение в реке. Но все же было видно, что тот угол, к которому устремился сержант, обваливается. Посыпались кирпичи в белом облачке известковой пыли, увлекая за собой проржавевшую водосточную трубу. Но грохот камней и железа был тут же приглушен странным чмокающим звуком — будто вода без остатка всосалась в незримую гигантскую воронку. И вслед за этим… — А-ах! — как один человек, простонала толпа. Дом исчез. Исчез на глазах у всех. Теперь со двора отлично была видна Красноармейская улица, мостовая, ограда сквера. А на месте, где только что стоял дом № 12, возникла невысокая кольцевая гряда, похожая на кольца плоских лунных кратеров. Она обрисовала очертания довольно правильного круга метров двадцати в диаметре. И пространство внутри круга и сама гряда выглядели так, словно существовали тут извечно: росла на них та же пропыленная, с проплешинами гусиная травка, что и на всем дворе, и так же торчали из почвы красные обломки кирпичей. Иконников бессознательно схватился за щеки и, мучительно морщась, словно от нестерпимой зубной боли, раскачивался и повторял: “Что он наделал, ох, ну что же он наделал!” Оцепенение начало постепенно спадать, люди зашевелились, ошеломленно и встревоженно переговаривались. Иконников, бормоча что-то себе под нос, подошел к странной гряде, шагнул на крутой скат — и вдруг остановился, недоверчиво разглядывая что-то у себя под ногами. — Любопытная штука! — негромко сказал он, обращаясь к ученым. — Очень устойчивая оптическая иллюзия. На деле здесь нет пи малейшего подъема. Не дожидаясь, пока подойдут коллеги, он двинулся дальше. Неуклюже ставя ноги и смущенно улыбаясь, он добрался до самого верха — по крайней мере всем казалось, что он стоит на гребне гряды. И все видели также, что он вдруг резко качнулся назад, с трудом удержав равновесие, а потом как-то странно, бочком двинулся по гребню гряды, вытянув перед собой руки ладонями вперед. Пройдя таким манером метров десять, он спустился вниз. — Это мнимая гряда — нечто вроде загородки, — вполголоса сказал он ученым. — Над ней — защитное поле. Вроде того, что начиналось у боковых стен. Только здесь оно совершенно прозрачно и не искажает изображения, видите? — И что же это, по-вашему, должно означать? — криво улыбаясь, спросил высокий полуседой человек с болезненно-желтым лицом. — Есть у меня кое-какие предположения… — неуверенно начал Иконников. — Ой, что же это? — с ужасом прошептала Лена, уставившись в потолок. — Кто может там ходить? Никто ведь не может! Ну, Мирон Остапович, ведь никого там нет, правда? Это нам просто кажется! Потому что нервы у всех никудышные. Бандура долго откашливался и утирал лоб платком: ему не хотелось огорчать Лену. Но что поделаешь — истина дороже. — Нервы, они, конечно… — сказал он осторожно. — Но это одно дело. А другое дело — это то, что в данный момент у вас по чердаку кто-то нахально топает. И я его сейчас на горячем застукаю! От меня не уйдет! — Да нет там никого! — с отчаянием сказала Лена. — Ну откуда он там возьмется, сами подумайте! И тут Анна Лазаревна сообразила, что они оба ничего не знают про чердачное окно. — Видите ли… — начала она. — Возможно, что кто-нибудь все же пролез сюда через окно… Анна Лазаревна сбивчиво и поспешно начала излагать, что произошло в их отсутствие. Но Лена даже не дала ей договорить. — Ой, так чего же мы тут сидим?! — закричала она, сияя от радости. — Надо звать наших мужчин — и вылезать туда! Ой, нет, ну просто не верится! Анна Лазаревна, золотко, у меня ну просто камень с души свалился! Бандура молча вживался в радость. Он только поматывал головой и блаженно щурился. Однако он, как и подобает мужчине, сохранял ясность разума. Поэтому шаги на чердаке ему не понравились своей бестолковостью. — Ну залез в окно — хорошо, — сказал он, прислушавшись к беготне наверху. — Так ведь не затем же он лез, чтобы чердак осваивать, верно? Он к нам сюда должен в первую очередь бежать! А этот чего-то как дурной на чердаке толчется туда-сюда! Вот он, может, там всю проводку и попортил! Может, это хулиган какой! Ну я ж его! И Бандура, свирепо хмуря брови, двинулся к выходу. Но в это время шаги на чердаке ускорились, потом вдруг оборвались и через секунду загромыхали по железным ступенькам лестнички, ведущей на чердак. Кто-то остановился на площадке у дверей квартиры Ушаковых. Лена на цыпочках подобралась к двери, тихонько приоткрыла ее и выглянула на площадку. Хотя таинственный посетитель стоял к ней спиной, Лена немедленно узнала его. — Сережка! — закричала она изумленно и радостно. — Сережка, братик! Сергей стремительно обернулся и уставился на нее, словно не веря своим глазам. — Ленка! — выдохнул он наконец. — Ленка! Жива! — Боже мой, Сережа! — изумленно произнесла Анна Лазаревна, появляясь на пороге. — Неужели это вы один наделали столько шуму? За ее плечами высился Бандура с лицом, пламенеющим, как закатное солнце. Он ничего не сказал, только укоризненно покачал головой. — Да что мы тут стоим?! — спохватилась Лена. — Идемте к нам, что ли! — А телефон? — заикнулась было Анна Лазаревна. — Ну что теперь телефон? — нетерпеливо возразила Лена. — Идемте! Они пошли в квартиру Ушаковых. — Что, телефон перестал работать? — боязливо осведомился по дороге Сергей. — И телефон, и свет, и радио — все сразу отключилось! — сказала Лена. — Кстати, ты не знаешь, почему это вдруг? Действительно, все было в порядке, н вдруг, минут десять назад… Сергей промычал нечто невнятное и покраснел так, что почти сравнялся с Бандурой по интенсивности расцветки. — Ой, Сережа, вы что-то знаете! — проницательно заявила Анна Лазаревна. — И вы почему-то не хотите нам сказать! А я вижу, что… — Молодой человек! — перебил ее Бандура. — Вы нам в первую очередь должны сообщить, какие меры предприняты для того, чтобы прекратить вот это… безобразие! Сергей изумленно воззрился на него: — Как то есть прекратить? Вы что-то не то… — Да ладно! — вмешалась Лена. — Ты скажи, что вообще там делают? Что говорят о нас? Когда нас отсюда вытащат? И как ты сюда попал? Послали тебя? Сергей опять мучительно покраснел. — Сам я сюда полез вообще-то! — честно признался он. — Не пускали меня. Вы уж не сердитесь, я хотел как лучше… — Ты чего извиняешься? — испугалась Лена. — Что натворил, признавайся! — Да вот… сами видите… — опустив голову, бормотал Сергей. — А ну, погляди мне в глаза! — скомандовала Лена. — Это из-за тебя, значит, свет и телефон отключился? — Да что свет!.. — сказал Сергей, отчаянно махнув рукой. — Вы теперь целиком и полностью отключились! — В каком это смысле? — подозрительно спросил Бандура. — Во всех смыслах! Ну представляете: теперь и с чердака только лес видать… вот такой же! — Он кивнул на окно. — Ой! — шепотом сказала Лена, округлив глаза. — Ой, Сережка! И что же теперь будет?! Володя осторожно обошел прогалину: он понимал, что деревья и здесь будут предостерегать его своими удушающими сигналами, да и не собирался он сейчас подходить к серому облаку. Он выбрался на поляну и увидел, что тут серое облако ничего не разворотило — лежит прямо на траве и выглядит безобидно. — Володя! — услыхал он. — Володя! Где же ты? Куда пропал? Славка бежал к нему уже где-то по ту сторону серого облака, и его не было видно. Володя шагнул вперед, чтобы миновать облако. Славка теперь увидел его и повернул прямо к нему- прямо к облаку! Он был уже в двух шагах, и Володя отчаянно закричал: — Стой! Славка, стой! Остановись! Нельзя! Но Славка с разбегу влетел в туман. Володя кинулся вслед, пытаясь ухватить его, но мальчик исчез. — Славка! Славка, где ты тут! — крикнул Володя, ничего уже не видя в густом тумане. Под ногами у него что-то перекатывалось, глухо громыхало, он упал, его потащило вниз, он пытался ухватиться за что-нибудь, но все вокруг грохотало и катилось под уклон, и было почему-то адски холодно. Наконец падение остановилось. Володя открыл глаза. Он лежал у подножия невысокого холма, на каменистой осыпи. Перед ним простиралась заснеженная равнина в косых красных лучах закатного солнца. На горизонте, на фоне бледно-зеленого вечернего неба, чернел частокол ельника. Едва приметная санная колея тянулась наискось через равнину, и по ней понуро брела пузатая гнедая лошаденка, волоча розвальни. В розвальнях полулежал бородач в овчинном тулупе и лениво пошевеливал намотанными па руку вожжами. А Славки и след простыл. Славка не успел испугаться, не успел даже понять, что крикнул ему Володя. Он с разбегу влетел в серый туман и, ничего уже не видя, по инерции пробежал несколько шагов в непроницаемой сыроватой мгле. Потом впереди посветлело. Славка снова прибавил ходу — и вдруг выскочил из тумана. Добела раскаленное солнце ударило ему в глаза. Оно высоко стояло в белесом, выцветшем от зноя небе и заливало белым огнем безбрежное волнистое море песка. Везде и всюду, со всех сторон до самого горизонта был песок. Белый, раскаленный песок, песчаная рябь, песчаные волны, песчаные холмы. Только песок — и ни травинки, ни кустика, ни лужицы воды и ничего живого вокруг. Славка растерянно озирался. Откуда взялась пустыня? И куда девался Володя? Откуда-то издали донеслось мелодическое позвякнвание бубенчиков. Славка, изнывая от беспощадных лучей солнца, опустился на песок, горячий, как натопленная плита, залез в тень песчаного гребня и скорчился там, прислушиваясь. Бубенчики перезванивались все явственней, все ближе. Наконец невдалеке, из-за длинной песчаной гряды, выдвинулась горбоносая морда с надменно выпяченной нижней губой. — Верблюд! — в изумлении прошептал Славка. Из-за песчаной гряды медленно вытягивался верблюжий караван. Мерно покачивались шерстистые светло-коричневые горбы, а между горбами и длинными, по-лебединому выгнутыми шеями сидели смуглые всадники в белых бурнусах. Шатаясь, спотыкаясь, изнемогая под палящими лучами, брели среди верблюдов полураздетые босые люди, и на ногах у них тяжело бряцали медные цепи. Славка высунулся из укрытия, чтобы получше разглядеть диковинное зрелище, — и вдруг почувствовал, что песок под его коленками двинулся, пополз вниз. Он распластался на склоне, пытаясь удержаться, — и тут его заметили. Славка услышал гортанные крики и изо всех сил пополз вверх по склону. Глянув через плечо назад, он обомлел от страха: двое в белых бурнусах гнались за ним. Они были уже совсем близко, уже протягивали к Славке свои коричневые цепкие руки, он слышал их шумное свирепое дыхание — и до того ему стало страшно, что он невероятным усилием поднялся на ноги и заорал изо всех сил прямо в чье-то смуглое лицо с оскаленными зубами. Преследователи на мгновение застыли от неожиданности, а Славка отчаянно рванулся вперед — и вдруг солнце исчезло, кругом был непроглядный мрак и влажная прохлада. Но сейчас же полыхнуло зеленое пламя. Славка от неожиданности попятился, споткнулся, упал и с ужасом увидел, что из тумана выдвинулась кофейного цвета рука с растопыренными пальцами. Славка дернулся, отполз подальше, не сводя взгляда с хищной цепкой руки. Тут послышался странный чмокающий звук — словно вода всосалась в исполинскую воронку, — и сейчас же все исчезло: и рука, и зеленоватое свечение, и туман. Славка вскочил и изумленно огляделся. Вокруг высились розовые суставчатые стволы, увенчанные белоснежными перьями, откуда-то сверху лилось ровное золотистое сияние. А справа начиналась поляна. — Славка! — вдруг услышал он и, испуганно вздрогнув, обернулся. В двух шагах от него стоял Володя. Сани были уже совсем близко. Человек в санях привстал, плотнее запахнулся в тулуп, глянул на дорогу и опять повалился на охапку соломы. Лицо его, в окладистой темной бороде, было до красноты обожжено морозом, на голове торчала высокая островерхая шапка, отороченная мехом. Пузатая лошаденка, пофыркивая и пуская из ноздрей клубы морозного пара, с натугой проволокла сани мимо Володи. Что-то дрогнуло в темнеющем морозном воздухе, и над заснеженным полем понесся мерный, густой колокольный звон. Володя оглянулся и увидел, что на вершине холма тянется извилистая белокаменная стена, а над ней поднимаются золоченые маковки церквей. И от всего этого — от густого колокольного звона, от белой стены и пустынного снежного поля — веяло дремучей стариной. Мертвящий мороз и тусклый холодный багрянец заката — до чего это было непохоже на яркое ласковое солнце грядущего! Володя, стуча зубами от холода и страха, начал карабкаться вверх по грохочущей каменной осыпи. Это было немыслимо трудно, он все время сползал назад, едва успев продвинуться на полметра, и все же Володя понимал, что надо двигаться прямо вверх, к тому месту, с которого он начал падать к подножию холма. Где-то здесь был вход туда, в загадочный мир живых розовых деревьев… Он все карабкался вверх, цепляясь за скользкие, обледеневшие камни коченеющими пальцами, и понимал, что слабеет от холода, что вот-вот уснет, умрет здесь, на этом заснеженном каменистом холме, где-то в прошлом… И вдруг, в какой-то неуловимый момент угас багровый морозный огонь заката, наступила тьма, потом ладони заскользили по упругой пружинящей траве… Володя с трудом встал на деревянные негнущиеся ноги и увидел розовый лес, и опушку, и дом. И сейчас же неизвестно откуда вынырнул Славка. У Славки было мокрое от пота, позеленевшее, перекошенное лицо. — Бежим! — закричал он, кидаясь к Володе. — За мной гонятся! — Кто гонится? Никого не вижу, — устало сказал Володя. В лесу было по-прежнему тихо. Серое облако исчезло, и на его месте возникла ровная гряда. Ну ясно: и этот проход закрыт. — Ну правда! — испуганно озираясь, говорил Славка. — Такие, на верблюдах! И людей в цепях куда-то тащат… Володя, ну давай хоть за деревья спрячемся! — Они сюда не придут, не бойся, — сказал Володя, сам удивляясь своему спокойствию и уверенности. — Ты, значит, в пустыне побывал? — Ну да! — ответил Славка, с недоверием оглядываясь вокруг. — Слушай, Володя, а как же это получается? То здесь пустыня, то лес… Ничего понять нельзя! — Не знаю я, как это получается, — сказал Володя, морщась от зуда и боли в покрасневших, распухших руках. — А ты видел, как я в туман попал? — Видел я, видел… Вот что, пойдем-ка мы домой. А по дороге ты мне расскажешь, что там было, в пустыне. Славка с азартом толковал о верблюдах и бубенчиках, о белых бурнусах и черных бородах, с песке и о босоногих пленниках, но Володя слушал не слишком внимательно. В голове у него был полный сумбур. Ну как же это: нырнули они в туман в одной и той же точке и вынырнули рядом, а побывали в совершенно разных местах? Ничего не поймешь… — Ну, насчет пустыни я усвоил, — сказал он Славке. — А в доме ничего не произошло, пока нас не было? — У-у! — воодушевился Славка. — Там такое делается! Когда Славка рассказал про телефон и про чердачное окно, Володя даже остановился. Голова у него шла кругом. — Погоди минутку! — взмолился он. — То есть ты сам, своими глазами видел наш двор, и людей, и все такое? И ты действительно говорил с ними? — Ну да, видел! Ну да, говорил! Что ж я, врать буду? — Так и не соврешь, пожалуй… — согласился Володя. — Фантазии не хватит… — Понятно… — медленно сказал Кудрявцев, выслушав рассказ Сергея. — Теперь, значит, и с чердака вход к нам закрыт? Сергей угнетенно кивнул. — Кто ж его знал… — виновато сказал он. — Я хотел как лучше… — Что вы скажете по этому поводу? — спросил Кудрявцев Костю. Костя неопределенно хмыкнул и пожал плечами. — Надо дом осмотреть, что ли… Ленок, ты бы соорудила какое-нибудь питание, по-быстрому… — Я моментально! — спохватилась Лена. — Яичницу с колбасой, ладно? — Она кинулась из комнаты и сейчас же удивленно закричала из передней: — А на кухне-то все нормально! Вся эта пакость пропала. Костя пошел в переднюю, поглядел. — Да, — печально подтвердил он, вернувшись. — Исчез такой потрясающий феномен! И ничего я толком не успел выяснить… Или хотя бы зафиксировать… — Постойте, а где Славка? — спохватился Кудрявцев. Анна Лазаревна и дядя Мирон смущенно переглянулись. — Видите ли… вы только не волнуйтесь… — начала Анна Лазаревна. — Да где он? Не тяните! — Он… на минуточку вышел на крыльцо… за травой. А потом почему-то вдруг побежал в лес. Я кричала, но он даже не обернулся… — Мы тоже кричали… — вставил дядя Мирон. — То есть Славка убежал в лес? — тихо спросил Кудрявцев. — И вы мне только сейчас это говорите? Когда это случилось? — Да перед тем как вы пришли, минут за десять, не больше, — виновато сказал дядя Мирон. — Мы были уверены, что он сейчас придет! — оправдывалась Анна Лазаревна. — Он же такой умный, такой развитый мальчик… Кудрявцев встал. — Сделаем так, — негромко сказал он. — Вы, Мирон Оста-пович, тут с Сергеем дом обойдите, внутри и снаружи… Анна Лазаревна пока у телефона подежурит, на всякий случай — а вдруг связь восстановится?.. Мы с Костей пойдем в лес искать Славку. Может, Володя его видел. — А где он, Володя-то? — спросил Бандура. — Да там он… на посту стоит, в общем, — уклончиво ответил Костя. — Да он, наверное, сейчас придет… Ну пошли, что ли? — Ой, куда же вы! — ужаснулась Лена. — Голодные же! Хоть по куску колбасы съешьте! Она метнулась в кухню и притащила два толстых кружка колбасы на ломтях хлеба. Кудрявцев и Костя, на ходу поглощая бутерброды, вышли на лестницу. Бандура, пыхтя, плелся за ними н виновато объяснял: — Понимаешь, меня тут не было… Я только и увидел, как он гонит до лесу со всех сил… Л мы тут с Леной ходили вокруг дома. Выходим — а он как раз бежит! И враз куда-то скрылся. А тут труба эта как загремит, а старушка паша как закричит — ну, мы к ней и побежали… — Понятно, понятно! — нетерпеливо перебил его Кудрявцев. — Как мы пойдем, Костя? В разные стороны, направо и налево? — Ну да. И будем перекрикиваться. Двинемся по направлению к Володе. Из-за угла дома вынырнул Сергей. Вид у него был растерянный. — Слушай, Костя, я, что ли, не понял… — смущенно забубнил он. — Вроде у вас тоже так было: сзади зайдешь — и сразу дом пропадает. — А теперь весь дом со всех сторон нормально виден, да? — хмуро спросил Костя. — Чего ж ты не понимаешь? Все нормально, одно к одному… Ты же сам говоришь: с чердака теперь виден не город, а лес. Вот и сообрази… — Уже сообразил! Верно! — покаянно сказал Сергей. — Ну надо же мне было полезть! — Ладно уж, — вздохнул Костя. — Пойдем полюбуемся, что ли? Они обошли дом вокруг. Незримая преграда исчезла. Не было никаких оптических эффектов — дом не кривился, не распластывался, не уменьшался. Вполне нормально выглядел этот дом-развалюшка, со свежей розовой ссадиной науглу и сорванной водосточной трубой. — Все понятно, — мрачно сказал Костя. — И это понятно! Он показал на травянистую ровную гряду. Раньше ее здесь не было. А теперь она пересекала наискось всю поляну за домом. И срезала угол дома. В этом месте на ней краснели кирпичи и странно, почти целиком в воздухе торчала рыжая от ржавчины водосточная труба. Они снова вышли к крыльцу, с другой стороны дома. И тут увидели, что от опушки к дому бегут Володя и Славка. Теперь они обедали по-настоящему. Лена и Анна Лазаревна из общих запасов соорудили превосходный обед, все собрались в большой комнате у Кудрявцевых и молчаливо наслаждались — хоть еда пока нормальная в этом сумасшедшем мире! — Дорогие наши женщины! — сказал Костя, допивая здоровенную кружку компота из слив и яблок с лимонной цедрой. — Благодарим вас от всей души за мощную физическую, а тем самым и моральную поддержку. Это-первое, что я хотел сказать… А второе — это вопрос ко всем: что будем делать, товарищи? — А что мы можем сделать? — отозвался Бандура. — Пускай там, в городе, начальство мозгами пошевелит, а мы что? Нуль без палочки, больше ничего! Он отяжелел от сытного обеда, устал от переживаний, от всего непонятного и неправильного, что с утра валилось и валилось на него. — То есть вы что! — сказал Сергей, изумленно таращась на него. — Вы на них надеетесь? Так они же теперь ну ничего не могут, это я вам точно говорю! Они ведь теперь наш дом совсем не видят, верно, Костя? Ну вот. Стоят и смотрят на пустое место. И что же они могут сделать с этим пустым местом? — А мы что можем сделать? — вяло огрызнулся Бандура. — С этим вот? — Он кивнул на розовый лес за окном. — Я ответственно заявляю, что разобраться в этих фактах не могу. Может, вам образование позволяет, а я, извиняюсь, всякую там физику-химию сто лет в глаза не видал… — Он помолчал немного, потом добавил совсем уж тихо: — А вообще, хлопцы, конец Мирону Бандуре приходит! Вроде и не такой я старый, но ранения там всякие, контузии… давление это привязалось… — Он слегка покачнулся. — Славка, прояви инициативу, уложи меня куда-нибудь… — Сейчас! — на бегу уже отозвался Славка. Вдвоем с Леной они достали подушку, плед, уложили дядю Мирона. — Ну вот, один уже вышел из строя… — механически констатировал Кудрявцев. — Вы знаете, это неудивительно, — слабым голосом отозвалась Анна Лазаревна. — Здесь такой климат… все время душно, как перед грозой… Володя, если вам не трудно, принесите валидол… Она полулежала в кресле, и вид у нее был совсем больной, губы посинели. Кудрявцев и Костя переглянулись. — Но ведь сначала вы как будто чувствовали себя нормально? — спросил Костя. — Нет, сначала мне было тоже плохо… когда был этот туман… — Да, ведь вы говорили про туман! — вспомнил Костя. — Серый такой туман, густой и прохладный? — Я не знаю… я хорошо не разглядела… Мне сразу стало плохо, я закрыла глаза, и мне даже показалось, что сделалось совсем темно, как ночью. Но я полежала, может быть, четверть часа с закрытыми глазами, а потом опять посветлело и туман исчез… — Вот что, давайте-ка мы отнесем вас наверх, — сказал Кудрявцев. — Костя, сделаем стульчик! Лена помогла Анне Лазаревне усесться на их сплетенные руки, побежала вперед, перестелила постель, и вскоре Анна Лазаревна, бледно улыбаясь, лежала в своей деревянной кровати с высокой резной спинкой. Телефон ей придвинули поближе, так, чтобы она, в крайнем случае, могла дотянуться, не вставая. — Минус две единицы! — сказал Кудрявцев, когда они спустились вниз. — Сознавайтесь, кто еще себя плохо чувствует! Нет, я серьезно спрашиваю, вполне серьезно. Голова ни у кого не болит? Головокружения нет? — Да вам самому плохо! — ужаснулась Лена, поглядев на него. — А ну ложитесь! — Гипертония… — смущенно пояснил Кудрявцев. — Ничего, я вот сейчас резерпин глотну и отсижусь немного в кресле у окна. И вы тоже садитесь. Обсудим пока, что же нам известно. — Обсудим, — согласился Костя, усаживаясь. — Мне лично очень не нравятся два несомненных факта: стена подошла очень близко к дому — это раз; трое из нас, наиболее слабые физически, сразу почувствовали себя плохо — это два. Если сопоставить оба эти факта… — Да, тенденция намечается невеселая, — согласился Кудрявцев. — Ну, будем все же надеяться… — Он не докончил и о чем-то задумался. — Давайте подытожим факты, — сказал Костя. — Значит, так. Одной стороной наш дом выходит… вернее, выходил… в город. А другой стороной — сюда, в этот лес. Получается нечто вроде тамбура — одна его дверь выходит в комнату, а другая… — …вообще неизвестно куда! — подсказал Володя. — Действительно: неизвестно куда. Но ясно, что за пределы того мира, в котором мы с вами прожили всю жизнь… до сегодняшнего утра! Значит, наш дон сделался чем-то вроде тамбура между двумя мирами. — Погоди, Костя, — сказал Сергей, ошеломленно моргая. — Как это между двумя мирами? А где же он находится, этот другой мир? На планете на какой-нибудь, что ли? — Этого я тебе объяснить не могу, — медленно ответил Костя. — Не на планете, нет. Это было бы все же проще, если б на другой планете. Нет, он тут же, по-видимому. Только как-то иначе расположен в пространстве… Сергей вникал с минуту, морщась от напряжения. Потом махнул рукой. — А ну его! — чистосердечно заявил он. — Нич-чего не понимаю! Да ты не обращай внимания, Костя, валяй дальше! — Можно! — согласился Костя. — Так вот, эти два мира почему-то вдруг соприкоснулись в одной-единственной точке. — И эта точка — наш дом? — задумчиво спросил Кудрявцев. — Что ж, возможно… Ну, а как же вы объясняете эти… переходы сквозь серый туман? — Правильно! — оживился Славка. — Может, тут не два мира, а три, четыре… Или еще больше?! Мы вместе с Володей пошли, а попали совсем в разные миры! — Не разные, — терпеливо разъяснил Костя. — И то, что вы видели порознь, и то, что мы втроем, — все это наш мир, наша планета Земля. Только в различных географических точках и в разные времена… А вообще-то феномен серого облака мне еще менее ясен, чем все остальное… Могу предположить, например, что соприкосновение двух миров привело к какой-то… ну аварии, что ли… Образовались такие трещины… незапланированные проходы из одного мира в другой… и… — То есть, — перебил его Кудрявцев, — вы хотите сказать, что наш дом — это… это запланированный переход? Иначе говоря, результат эксперимента… не нашего, конечно, а… тамошнего? — Не исключено, по-моему… — осторожно сказал Костя. — Не исключено… Уж очень тонко и точно выбрано место: маленький дом, стоит на отшибе, кругом — свободное пространство. И людей в нем не так уж много… — Вы думаете… постойте! Вы думаете, что они и людей… запланировали?! Сознательно включили в эксперимент? — Кудрявцев вскочил и заходил по комнате. — Нет! Не может быть! — А почему не может быть? — рассудительно сказал Славка. — Очень даже просто: они хотят с нами контакт установить! — С тобой лично! Марками будут обмениваться! — фыркнул Кудрявцев. — Ну тебя с твоими фантазиями, Славка! — Но почему вы против? — робко заговорил Володя. — Почему они не могут хотеть? Кудрявцев насмешливо покосился на него и продолжал шагать из угла в угол мимо окон. — А вообще-то в этом что-то есть! — заявил он наконец, остановившись перед Костей. — Действительно: очень уж точный расчет! Могли же они выбрать место для эксперимента где-нибудь в пустыне… или высоко в горах? А взяли именно вот небольшой городской домик… с жителями… Да-а… — Все это, конечно, только предположения, — заметил Костя. — Слишком мы мало знаем… Но насчет трещин я хотел бы добавить вот что… в пользу предположения, что они не входят в план эксперимента. Во-первых, они возникают, по-видимому, случайно… хаотично. И разрушают тот участок, где возникают. Во-вторых: в какой-то момент их закрывают… ну вроде того, как замазывают обычные трещины цементом. И на их месте возникает эта оптическая иллюзия — несуществующее вздутие почвы, а над ним — силовое защитное поле… — Так… убедительно! — согласился Кудрявцев. — Могу подбросить еще один логический вывод: трещину “цементируют” именно тогда, когда кто-то или что-то пытается пройти через нее в этот мир. Кто-то, видимо, зорко следит за этим. Из будущего лезла какая-то машина… а за Славкой гнался бедуин. — Но мы-то проходили обратно! — возразил Володя. — Остается допустить… и это тоже говорило бы в пользу гипотезы о запланированном эксперименте с участием людей… остается, я говорю, допустить, что нас всех они считают “своими”… Что существуют какие-то опознавательные символы… — А я? — спросил Сергей. — А меня как пустили? — Тут другое дело… Тут ведь не случайная трещина, а “тамбур”. Может быть, поэтому механизм защиты сработал с опозданием. — Значит, если бы мы все вылезли отсюда через чердачное окно… — начал Володя. — Вот уж не знаю! — признался Кудрявцев. — Возможно, они нас преспокойно выпустили бы, а возможно, и нет. Это уж зависит от целей и условий эксперимента. — Ой, как вы страшно говорите! — нервно сказала Лена, все время молча слушавшая. — Будто бы и не про нас… Эксперимент, условия… выпустят—не выпустят. Вам, может, все нипочем, а мне… мне страшно! Она уткнула голову в плечо Кости и всхлипнула. — Ну-ну, малышка! — ласково заговорил Костя, похлопывая ее по спине. — Все в конце концов обойдется, все уладится, не переживай! — С тобой-то мне ничего, — зашептала Лена ему в самое ухо. — С тобой я как-то сразу успокаиваюсь… а вот когда тебя нет… — Ну-ну, ничего, ничего… — повторил Костя, гладя ее пушистые светлые волосы. — Так уж ты будто бы без меня теряешься! — Не совсем, конечно… — Лена приподняла голову и лукаво улыбнулась. — Вначале-то, как вы ушли, я героиней держалась. Даже инициативу проявила! Ты ведь очень интересовался этим… ну, тем, что в кухне было… — Ну и что? — с живейшим интересом спросил Костя. — А вот то! Взяла я твой аппарат и пощелкала. Не знаю, правда, что получится, я ведь плохо умею… — Ленка! Гигант! — восторженно завопил Костя. — Со вспышкой снимала? Ну, Ленка, ну, золото! Вот жена! — Я целую пленку наснимала! — похвасталась Лена, скромно опустив глаза. — Гигант! — повторил Костя. — Славка! Даю тебе срочное задание! Ты ведь проявлять умеешь? — А то вы не знаете! — Да знаю, знаю! Бери, значит, катушку из моего аппарата и срочно займись! Ленок! Выдай ему пленку! — Костя, а еще пленка у тебя есть? — спросил Сергей. — Найдется катушка. А что, поснимать хочешь, как положено туристу? — Ну да! Нам же верить не будут! А мы им — снимочки! Любуйтесь! — Это идея! — одобрил Костя. — Ну, иди с Леной и Костей наверх. А ты, Володя, сходи взгляни, как там Анна Лазаревна. Оставшись с Костей вдвоем, Кудрявцев устало уселся в кресло. — Дело, по-моему, приобретает прескверный оборот, — тихо сказал он, доставая очередную таблетку. — Я не сказал еще об одной, весьма очевидной закономерности… Но о ней лучше и не говорить при всех… — Вы о чем? — забеспокоился Костя — Да вот, поглядите хотя бы в окно… Видите? — Да… и тут стена… И как близко! — Это я и хотел сказать: каждый раз, когда трещину “цементируют”, наше жизненное пространство заметно уменьшается. И чем ближе к дому возникает трещина, тем больший кусок отрезается от “нашей” территории. — А вы думаете, что территория эта замкнута? Что это был “тамбур” не вообще в другой мир, а только в какую-то, специально выделенную часть этого мира? — Логично было бы предположить… Если, конечно, мы имеем дело с экспериментом, а не со стихийной катастрофой… Впрочем, даже и в этом случае могли огородить место аварии… По-моему, та гряда, которую мы видели на дальней поляне, она и есть граница “нашего” участка. — Так-так….. — вслух рассуждал Костя. — Допустим, они накрыли этот участок силовым полем… Не только для удобства эксперимента, но и для нашего блага. Постарались имитировать в этом замкнутом пространстве земную атмосферу и гравитацию… создали подходящий климат, освещение… И неплохо, в общем, справились с задачей! На нашей Земле бывают местечки куда похуже — здоровый не выдержит, не то что больной… Так… И предположим, трещину закрывают таким манером: придвигают к этому месту силовую стенку. Тогда понятно, что чем ближе к дому возникает трещина, тем больший кусок они вынуждены от нас отхватывать… — Довольно странный эксперимент… — неуверенно заметил Кудрявцев. — К чему же он приведет по логике? — А я думаю, что эксперимент не удался! — объяснил Костя. — Понимаете? Начали возникать эти трещины, дальше — больше, и эксперимент уже сорвался. — Здорово рассуждаете! — с ироническим уважением сказал Кудрявцев. — Должен признать: довольно-таки убедительно. Тогда объясните, о мудрейший, а что же с нами-то будет при таком провале эксперимента? Просто сдвинут они эти силовые стены вплотную и раздавят нас, как букашек? Костя пожал плечами. — Это они давно могли сделать. Однако не делают. Наверное, стараются что-то придумать… чтобы спасти нас. — До чего же люблю оптимистов! — мрачно сказал Кудрявцев. — Да что ж, — сказал Костя, добродушно усмехаясь, — раз никто ничего толком не знает, всегда правильней предполагать что-нибудь наиболее подходящее из возможного. Для здоровья полезней! — Это-то да, — согласился Кудрявцев. Появился Володя. Он сообщил, что Анне Лазаревне вроде стало получше, и спросил, что же осталось теперь в том, прежнем мире на месте их дома. — Ну, правда! Дыра, что ли? Если дерево, например, вырвать с корнем и куда-то перенести — ну, яма хотя бы останется… Воздух… — Возможно, там тоже яма… — предположил Костя. — И, конечно, воздух… — Так, может быть, сейчас там прямо по тому месту проходят, где мы стоим? — Вполне возможно, что проходят, — согласился Костя. — Да тебе-то что, чудак? — Как-то все же неприятно… — с грустью ответил Володя. — Хотя, конечно, это смешное чувство… — Нашли время болтать! — досадливо вмешался Кудрявцев. — Давайте решать, что будем делать! Во-первых: какой ваш прогноз на ближайшее время? — Трудно сказать… — пробормотал Костя. — Состояние тут… ну, на этом участке, что ли… неравновесное… неустойчивое. Трещины эти, туннели… Какая-то перестройка все время идет. Не то формируется что-то, не то, наоборот, распадается… — Допустим, распадается. Как было сказано выше, — вставил Кудрявцев. — И что же из этого следует? Что мы можем сделать? Что должны сделать? — Вы так меня спрашиваете, словно я и в самом деле что-то знаю… — усмехаясь, сказал Костя. — А я, как и все, бреду на ощупь в потемках… — Ладно, не прибедняйтесь. Вы предложили гипотезу, которая удовлетворительно объясняет все известные нам факты. Никто другой из нас не смог бы этого сделать. Поупражняйте-ка свои серые клеточки еще немножко, пускай развиваются. — Я вот чего никак не пойму, — сказал Володя, — почему же трещины выходят не только в разные места, но и в разное время? — Этого и я не понимаю, — мрачно признался Кудрявцев. — Понимаете, тут, должно быть, налицо полное разрушение пространственно-временной структуры! — с увлечением объяснил Костя. — Представляете? Трещины проходят и сквозь время, как мировые линии. Начинаются здесь, а выходят в нашем мире — в любое время! — Вот! — удовлетворенно сказал Кудрявцев. — Наконец-то вы мне объяснили, что надо делать! — Я? Объяснил? — изумился Костя. — Да я и сам не знаю! — Чего же тут не знать! Если вы верно обрисовали картину, так единственный выход для нас — это отыскать подходящую трещину! Такую, чтобы выходила именно в наше время… ну хоть приблизительно! — Что вы! — возразил Володя. — Сколько ж этих трещин, всего-то! Мы видели две: одна выходит в будущее, другая — в прошлое… в двух вариантах. Это уж какое-то исключительное везение надо, чтобы в свое время попасть… Где там! — Если процесс разрушения продолжится, трещины будут возникать все чаще… — Что ж… — задумчиво сказал Костя. — Наверное, вы правы. Участок наш теперь так уменьшился, что серое облако в любом месте можно будет увидеть, не отходя от дома… Будем действовать так. Идут двое, видят серое облако. Один остается около, другой входит в туман. Если выход окажется подходящим, один остается на посту, другой бежит звать всех остальных… — А пока он бегает, выход закрывается, — продолжил Костя. — Это еще что! — криво усмехаясь, сказал Кудрявцев. — Вы другое представьте: вошел туда кто-то один и вдруг выход наглухо закрывается! И он там остался один… — Веселенькая перспектива, действительно… — пробормотал Костя. — Могу напомнить еще одно обнадеживающее обстоятельство. Трещины уже и сейчас разветвляются: Володя и Славка попали ведь в разные места из одной исходной точки. А если разрушение пространственно-временной структуры будет продолжаться… — Вас понял! — мрачно отозвался Кудрявцев. — Так что же: сядем на крылечке и будем дышать носом? — Да нет… все же какие-то шансы имеются… — неуверенно сказал Костя. — Давайте попробуем… Пойду Ленку агитировать… и Анну Лазаревну. — Когда закончите подготовительный период, позовите нас! — крикнул ему вслед Кудрявцев. — Мы тут, около дома походим. — Вы в самом деле надеетесь… — заговорил Володя, когда они обогнули дом. Кудрявцев долго не отвечал. — Что я тебе буду врать! — сказал он наконец. — Ни на что я особенно не надеюсь. И вообще в чудеса не верю. — А зачем же тогда… — робко начал было Володя. — Впрочем… — То-то и оно, что впрочем… Сидеть сложа руки и ждать, пока тебя прикончат, по-моему, просто невозможно. У меня, по крайней мере, не тот характер. — Вы сказали: прикончат? — почти шепотом переспросил Володя. — Почему же? Кудрявцев остановился. — Володя! По-моему, всегда лучше смотреть правде в глаза. Прикончат — это, собственно, не то слово. Но если гипотеза Кости соответствует фактам, то мы находимся в смертельной опасности. — Какая гипотеза?! — несколько оживившись, спросил Володя. Кудрявцев изложил ему Костины соображения, и Володя пришел в восторг. — Вот видите, — сказал он, — и Костя думает, что они нас спасут. — Костя только предполагает… — А я уверен! — решительно заявил Володя. — Они же нас охраняют везде и всюду! И деревья эти, и трава, — Кудрявцев досадливо причмокнул и медленно пошел дальше. — Да ты пойми, чудак! — сказал он. — Я же не говорю; что они сознательно… намеренно, что ли… Но если произошла авария… столкновение двух миров, распад структуры? Это же чудовищные слепые силы! И мы здесь — как песчинки под ураганным ветром. Крутит нас, тащит куда попало — и как нас защитить? — А я все-таки думаю, что они сумеют, — упрямо сказал Володя. — Думай, думай! Думать никому не возбраняется… — пробормотал Кудрявцев, меланхолически улыбаясь. Они в этот момент глядели друг на друга, а не вперед. Впрочем, если б они и вперед глядели… Костя, Лена и Сергей стояли на крыльце, и Сергей целился фотоаппаратом на идущих. — Снимок номер один! — комментировал он свои действия. — Неустрашимые разведчики на подступах к таинственному розовому лесу! И тут все трое увидели, как прямо из-под ног у Кудрявцева и Володи взмыло над землей дымно-серое облако и поглотило обоих. Толпа понемногу редела — близилось время обеда, да к тому же ничего нового за последний час не произошло. Но ученые не решались отойти от места происшествия: кто знает, что случится в любую минуту! Поэтому они уселись в милицейском фургончике, открыв настежь дверь, перекусили наспех пирожками и кефиром из соседнего кафе и принялись обсуждать обстановку. — Полковник Чегодаев просит нас ответить на чисто практический вопрос: что можно было бы и что следовало бы сделать в сложившейся ситуации? — сказал Иконников. — Недурной вопросик. Да здравствует находчивый и активный шеф милиции нашего города! Больше ему ничего не требуется? — ворчливо отозвался профессор Чарнецкий. — Считаю такой вопрос вполне естественным, — очень серьезно сказал доцент Гогиава, самый молодой из всех, лет тридцати с небольшим, черноволосый, черноглазый, юношески стройный и подвижный. — Мне тоже часто хочется знать, что я могу сделать и что мне следует делать. Иконников усмехнулся: — Я понимаю, что вопрос полковника показался вам наивным. Но войдите в его положение. Город весь гудит, как улей. Чего только не сочиняют по этому поводу! В частности, говорят, что это марсианский десант и что они постепенно, дом за домом, захватят весь город. Гогиава захохотал, скаля ослепительно белые зубы. — Конечно, тебе смешно, Арчил, — хмурясь, сказал Иконников. — Ты у нас гений, ты умница, тебе в точности известно, что на Марсе разумная цивилизация не существует. А что делать рядовому гражданину, если он чувствует, что его сведения о Марсе страдают неполнотой? И кроме того, что скажешь ты, светоч мудрости и столп научно-технического прогресса, о проблеме безопасности ближайших домов? — В каком смысле? — недоумевающе спросил Гогиава. — Андрей Ильич, видимо, предполагает, что этот силовой колпак над домом… над местом происшествия может расшириться или передвинуться, — желчно усмехаясь, объяснил Чарнецкий. — А какие, собственно, имеются у вас основания для таких предположений? — Вопрос этот задал мне полковник Чегодаев, — сказал Иконников. — Возможно, сам я до него и не додумался бы… по крайней мере, так сразу. Но надо признать, что основания для такого вопроса имеются. — Основания имеются для чего угодно, — сказал Чарнецкий, презрительно кривя рот, — поскольку мы не разбираемся в природе явления. — Вот и давайте разбираться в природе явления, — предложил Иконников. — На основе такой неполной информации? Много мы разберемся! — Уж вы, Марк Борисович, скептик известный, — заметил Иконников. — Но что же делать? Пока прибудет подкрепление из Москвы, вся эта история на нашей совести. — На нашей совести! — ворчал Чарнецкий. — Ох, любите вы красивые слова! Мы с вами, что ли, это затеяли? И никто из нас не специалист в этой области. Вот Линчевский прибудет — ему и карты в руки. — Мы пока не знаем даже, ему ли, — возразил Иконников. — Давайте хоть проанализируем факты, хоть рабочую гипотезу какую-то примем. — Э, ну что мы спорим! — жизнерадостно сказал Арчил Гогиава, с удовольствием наблюдавший за препирательствами своих коллег. — Некому больше работать — значит, мы будем работать! — Он поболтал бутылкой, выпил остатки кефира и, вздохнув, отставил бутылку в угол. — Что же нам известно? Известно нам, что… Кудрявцев не успел ничего почувствовать. Все вокруг внезапно мигнуло и сменилось, как сменяются кадры в кино. Он невольно зажмурился, но тут же открыл глаза, щурясь от яркого света, вдохнул свежий ночной ветер и медленно огляделся. Местность показалась ему неуловимо знакомой. Плавная излучина большой спокойной реки и широкие луга на том берегу, а сзади поднимаются пологие зеленые холмы, и по их склону белой ленточкой вьется дорога… Но почему-то на всем лежат странные, геометрически правильные тени — круги, решетки, прямоугольники, спирали… Откуда они? Кудрявцев глянул вверх — и обомлел. Высоко в небе висела гигантская решетчатая конструкция с очень сложным, паутинообразным переплетением. На ней повсюду были причудливо разбросаны непрозрачные многоугольники, круги, дугообразные полосы. Кудрявцев долго вглядывался в эту бесконечную ажурную сеть, раскинувшуюся на десятки километров вдаль и вширь, и наконец понял, что это город! Он различил даже тени каких-то машин, стремительно летящих во всех направлениях по прозрачным полосам дорог, угадал очертания жилищ, садов. Увидел, что весь этот ажурный каркас города держится на исполинских полупрозрачных опорах, широко шагающих через холмы и реку. Кудрявцев все глядел и глядел на этот изумительный воздушный город, причудливой тенью накрывающий землю, пока слезы не навернулись на глаза от напряжения. Он прикрыл глаза ладонью — и тут же отвел руку от лица, услыхав нарастающий громовой рев. Серебряная стреловидная ракета, вертикально стоя на голубом столбе пламени, медленно опускалась к земле. Громовой рев оборвался; ракета, словно притянутая невидимой нитью, плавно спустилась на вершину гигантской белоснежной колонны, высившейся на западной окраине воздушного города, и колонна поглотила ее. Кудрявцев лишь теперь немного опомнился. Он оглянулся, ища Володю, и почувствовал, что сердце неприятно и гулко толкнулось в ребра. Три шестируких великана молчаливо склоняли над ним плоские сверкающие лица с выпуклыми круглыми глазами. Кудрявцев невольно попятился, не отводя глаз от великанов. И вдруг справа от него земля будто вздыбилась, потом опять картина мигнула и сменилась, как кинокадр, только уже не целиком, потому что Кудрявцев и пучеглазые великаны по-прежнему стояли на дороге, между холмами и рекой, а справа… справа словно бы возникла другая земля или, может быть, другая планета. Она почти вертикально вырастала из зеленых холмов, закрывая собой все — и город в небе, и его опоры, и горизонт. Там были красноватые пески, невысокие гряды барханов, поросшие скудным кустарником, и человеческие следы, неровным, извилистым пунктиром пересекающие бархан за барханом. А посредине, медленно и устало вытягивая ноги из песка, брел Володя! Кудрявцев угадал, что это Володя, по зеленой рубашке и русым волосам, но лица он не видел. Володя двигался, как муха по стене, жутко и непонятно вися в воздухе всем туловищем, а ногами увязая в песке. И так же непонятно и жутко было видеть, что песок держится на вертикальной поверхности и гребни барханов недвижимо висят в воздухе, не осыпаясь, не падая вниз. Кудрявцев несколько мгновений оторопело глядел на это странное зрелище, потом крикнул: “Володя!” — и метнулся к песчаной стене, торчащей перед ним. Но Володя не усльпчал крика, а песчаная пустыня вдруг покачнулась, сместилась и повисла теперь прямо над головой Кудрявцева, словно наце-лясь на него красноватыми барханами в редкой щетине кустарника. Кудрявцев пошатнулся, упал и сквозь туман резкого головокружения успел увидеть, что Володя, опрокинувшись вниз головой, продолжает апатично брести сквозь пески. Вслед за этим песчаная пустыня исчезла, и на ее месте снова возникли ажурные переплетения воздушного города на фоне безоблачно-синего неба. Кто-то мощно и бережно поднял Кудрявцева и продолжал поддерживать, словно чувствуя, что ноги его еще плохо слушаются. Кудрявцев ошалело оглянулся. Трехметровый гигант, согнув свои мощные суставчатые ноги, будто сидя на корточках, двумя руками поддерживал его, а двумя другими оживленно и непонятно жестикулировал, показывая то на дорогу, то на холмы: третья пара рук праздно болталась вдоль туловища. С безносого и безротого лица, плоско сверкающего, словно монета, пристально смотрели на Кудрявцева выпуклые глаза, фасетчатые, как у насекомых: гигант, по-видимому, ждал ответа. Не дождавшись, он повернулся к своим товарищам и начал переговариваться с ними — уже не жестами, а звуками, пронзительно-тонкими, словно комариное пение, усиленное в десяток раз. Потом, выпрямившись, развел в стороны четыре руки и слегка встряхнул ими. Послышался сухой шорох, и между руками гигантов возникли прозрачные перепонки. Шестирукие расправили крылья и плавно взмыли вверх. Тот, кто поддерживал Кудрявцева, тоже выпростал шуршащие перепонки и, готовясь отлететь, протянул к нему третью пару рук. Кудрявцев невольно попятился — и серый туман окутал его, отгородив от сверкающего мира, от небесного города, от крылатых исполинов. Он снова очутился на поляне среди розовых деревьев: рядом с ним стоял Володя и озирался, словно не веря своим глазам. От дома бежали к ним Лена, Костя и Сергей. — Живы! — звонко кричала Лена и па бегу утирала слезы. — Ой, я так испугалась! Так испугалась! Живы-здоровы! Ой, хорошо! — Эй, друг, ты что это? — тревожно спросил Сергей, глянув на Володю. Кудрявцев только теперь заметил, что Володя еле стоит на ногах. Лицо у него потемнело и осунулось, губы запеклись до черноты, глаза ввалились. — Ты что, заболел? — спрашивали его наперебой. — Тебе плохо? Чего молчишь? — Пить… пить хочу… — хрипло проговорил Володя. — Целые сутки… ни капли воды нигде… — Постой, какие сутки?! — удивился Сергей. — Вы же всего на секунду пропадали… в облаке-то в этом… мы от дома добежать не успели, а вы — вот они оба! Володя непонимающе качал головой. — С утра до вечера… ночью я спал, утром встал, опять пошел… — бормотал он, с трудом шевеля истресканными черными губами. — Жара — сил нет. И никого кругом, только песок… И воды ни капли нигде… — Хм… любопытно… — Костя озабоченно почесывал нос. — У нас секунд двадцать прошло, а у тебя — сутки… У вас тоже, Виктор Павлович? — У меня… нет… — не сразу отозвался Кудрявцев. — У меня — минут десять, наверное… А Володю я видел… Теперь он понимал, что это был не мираж, не галлюцинация, что он действительно видел Володю, бредущего в пустыне, где-то в другом мире, с иным течением времени. — Удивительная штука… — задумчиво проговорил Костя, выслушав рассказ Кудрявцева. — Даже не поймешь: не то несколько миров сразу наложилось друг на друга, не то… Вы точно видели ту же самую местность? — Да вроде бы… Все совпадает — излучина реки, холмы, дорога… Только вот город в небе… да эти шестирукие… И стоял я на другом месте — по-моему, на той дороге, по которой тогда пролетела машина на воздушной подушке… помните, такая серебряная сигара? — Помню, еще бы… Ну, вы, надо полагать, попали в более отдаленное будущее — может, лет на тысячу вперед… — Ухты! — восхищенно простонал Сергей. — Да… и раз вы стояли на проезжей дороге, роботы, вероятно, хотели убрать вас оттуда… — Вероятно… — согласился Кудрявцев. — А Володя? — Володя, может быть, в прошлое попал… впрочем, кто его знает! Пустыня — и никаких примет времени. Но ведь Земля все равно! Верно, Володя? Солнце-то наше там было? Володя допил последний глоток из кувшина с водой, который притащила ему Лена. — “Наше, наше”! — с отвращением сказал он. — Чуть оно меня не прикончило, это наше Солнце! — И что же из всего этого следует? — спросил Кудрявцев. — Я хотел сказать, что все трещины, должно быть, выходят в пространство нашей Земли… Да и трудно было бы предположить, что они идут через космос к другим планетам. Но только смущает меня мир, куда попал Володя! Почему это он так странно пересекался с нашим — то вертикально, то наискось. И время почему-то там иначе идет… Если б это были разные миры, тогда ничего удивительного — топология разная. А если это Земля, тогда, значит, тут такие уж складки пространства пошли, что оно, того гляди, как лист бумаги, перегнется и сложится… — И что тогда будет? — округлив глаза, спросил Сергей. — Весело будет, не соскучишься! — почти серьезно ответил Костя. — Но, впрочем, это все пока теория… недоказанная гипотеза… А практически поглядите, что получается. Прижимают нас все крепче! Действительно, гряда, обозначавшая положение незримой стены, теперь вплотную окружала дом с трех сторон. Только от фасада тянулась полоса свободного пространства метров в тридцать шириной; у самой опушки леса она немного расширялась. — Да-а… Еще одна трещина поблизости от дома — и каюк нам! — сказал Кудрявцев. — Ну, не думаю… — возразил Костя. — Видите, как они осторожно работают… — А угол дома? А водосточная труба? — напомнил Кудрявцев. — Ну и что же? Нас-то они не тронули? — Ладно, ладно, вы неисправимый оптимист! — отмахнулся Кудрявцев. — Хотел бы я, чтоб вы оказались правы… — Я и сам бы не против! — откровенно признался Костя. — Коллеги из Политехнического сделали спектральный анализ этой… невидимой оболочки, — сказал Иконников, кивнув на кольцевую гряду. — Обнаружили ионы кислорода, азота и прочих составляющих воздуха в обычной пропорции. Иными словами — ионизированный воздух. — Плазма? — спросил Чарнецкий. — Плазма… Стянутая сильным магнитным полем сложной конфигурации… Холодная, сильно сжатая плазма… — Интересно… Весьма интересно… — Чарнецкий перестал брюзжать, оживился. — Я что-то не слыхал, чтобы такие фокусы проделывались… А источники поля? — Неизвестно… Возможно, они внутри… — Слушайте! А если поле вморожено в плазму? — сказал Арчил Гогиава. — Понимаете: что-то вроде магнитно-плазменных брикетов!.. — Возможно… — согласился Иконников — Теперь: как следует оценить показания жильцов? И мальчик, который был у чердачного окна, и пенсионерка, с которой я беседовал по телефону, говорили, в общем, одно и то же: что фасад их дома выходит в какой-то загадочный лес… там розовые деревья с белыми листьями, похожими на страусовые перья… Гогиава не выдержал и расхохотался. — Прошу прощения, — сказал он. — Но почему так смешно получается? Такое потрясающее явление — наложение пространств! Ведь совершенно невероятное событие! И вдруг — розовые деревья, страусовые перья! — Ничего смешного не вижу! — брюзгливо скривив губы, сказал Чарнецкий. — А пальмы — не смешно? Стволы волосатые, как звери, листья тоже какие-то нелепые. Со смеху помрешь! А потом — почему вы считаете, что наложение пространств — это так уж невероятно? Теоретически такую возможность рассчитали еще в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году Иенсен и Хартфильд… — Если вы имеете в виду обзор в “Todern Physics”, — возразил Гогиава, — так ведь там речь шла о гравитационных полях резко различной напряженности. — Ну и что? Каждое такое поле описывает пространство разной кривизны… — Да… Иенсену, наверное, и не снилось, что его эффект можно будет наблюдать в такой вот сугубо бытовой обстановке… — задумчиво сказал Иконников. — И вообще, Марк Борисович, теория теорией, а это событие все равно выглядит невероятно! Смотрите: наложение произошло именно на территории обитаемого дома. И там, в ином мире, участок оказался… ну, очень уж соответствующим, что ли: и атмосфера совпадает с земной, и тяготение, видно, одинаковое… Моя собеседница, правда, жаловалась на недомогание, но у нее гипертония, атеросклероз, ей под семьдесят… могла расхвораться просто от волнения. А остальные, видимо, ни на что не жалуются. Вам это не кажется странным? Если учесть, что, по ее словам, неба там нет, а висит какая-то светящаяся дымка… — Вы что же, хотите сказать, что это… сознательный эксперимент? — недоверчиво спросил Чарнецкий. — Предложите другое объяснение, пожалуйста… — Какое другое объяснение?! — азартно сверкая глазами, заговорил Гогиава. — Как можно еще объяснить то, что задняя стена дома оставалась в нашем пространстве? А “воздушную подушку” вокруг дома? А этот невидимый колпак? — Это, положим, могли быть побочные эффекты совмещения, — неохотно проговорил Чарнецкий. — Впрочем, насчет колпака вы правы… тут естественные причины найти трудновато-Любопытно было бы узнать у жителей дома, не наблюдались ли там у них какие-нибудь искажения пространства… или времени… — Ничего такого они не говорили, — сказал Иконников. — Наверное, существуют какие-то сдвиги на границе наложения миров — вряд ли свойства пространства и времени у них одинаковы. Но, по-видимому, эти сдвиги, если они и есть, практически незаметны… Чему, конечно, следует радоваться. — Арчил Ираклиевич! — сказал рыженький юноша, подойдя к фургончику. — Уже готово! — Сейчас иду! — отозвался Гогиава. — Это они лазер установили. Сейчас попробуем проткнуть оболочку лучом. Может быть, удастся проникнуть под колпак. Под ним ведь, наверное, часть иного пространства… — Попробуйте, попробуйте… — одобрил Иконников. — Если удастся, постарайтесь определить химсостав газов под колпаком. Когда Гогиава ушел, Чарнецкий хмуро посмотрел на Иконникова. — Вы, конечно, понимаете, что если ваша гипотеза верна, то катастрофа неизбежна? — сказал он. — Не то чтобы неизбежна… — Да ну, что уж там! Вероятность наложения пространств с одинаковыми свойствами ничтожно мала, вы же знаете! А если кривизна и прочие свойства различны, то иенсеновские трещины в пространстве-времени непременно возникнут. И будут стремительно разрастаться, пока наложившиеся участки не превратятся в хаос, в путаницу времен и мест… и, наконец, в вакуум! — Чарнецкий тяжело закашлялся. — Во-первых, все это лишь теория, — успокоительно сказал Иконников. — А во-вторых, по теории, эти самые иенсеновские трещины должны возникать по преимуществу в том из двух наложившихся миров, чья структура сложнее. У нас пока ничего такого не наблюдается… Да и колпак этот… ну, эта магнитно-плазменная оболочка… она мне тоже внушает некоторые надежды. — “Надежды”! — желчно усмехаясь, сказал Чарнецкий. — На что же это вы надеетесь, хотел бы я знать? Даже если вы правы и трещины возникнут не у нас, а только в том мире, что будет с домом и с его обитателями? Вы об этом подумали? Ведь в промоинах и водоворотах времени, в складках и свертках пространства ничто живое не сможет уцелеть! — Именно об этом я все время и думаю, Марк Борисович… — тихо сказал Иконников. — Именно об этом… — Так что же мы теперь будем делать? — спросил Костя. Кудрявцев ожесточенно догрызал спичку. — Да все то же, — сказал он наконец. — То есть искать “подходящую” трещину. С той только разницей, что никому нельзя оставаться в доме. Его в любую минуту может начисто отрезать от леса, и тогда мы будем разобщены… безнадежно. — Значит, что же: всем уходить в лес? — заключил Сергей. — Ну да… Что поделаешь! — А если не найдем ничего подходящего? — спросил Костя. — А горловина закроется, и останемся мы без дома, без еды… — Конечно, риск есть… Но, по-моему, все это кончится быстро… так или иначе. — Возможно… даже вероятно… — пробормотал Костя, глядя в землю. — Ну что ж… — Куда опять Славка делся? — хмуро спросил Кудрявцев. — Пленку, наверно, сушит… — с отсутствующим видом объяснил Костя. — Я хотел поглядеть, что там Ленка в кухне наснимала… — Да… в кухне… — рассеянно сказал Кудрявцев. — А что там, собственно, было, вы как думаете? — Теоретически рассуждая, там, вероятно, находилась зона зарождения трещин… Ведь именно у окон кухни начиналась незримая преграда. Именно там и была зона соприкосновения… В общем, интересно будет посмотреть эти снимки… Кудрявцев явно не слушал, и Костя замолчал. После паузы он сказал: — А что касается разведки, я думаю так: не надо три группы создавать, территория осталась маленькая. Я предлагаю: пойдемте-ка мы с вами вдвоем, Виктор Павлович! — Наверно, теперь хватит и одной группы, — согласился Кудрявцев. — Только нам обоим уходить нельзя. Вы оставайтесь, а я пойду. Ваши знания тут нужнее. — И я с вами! Ладно, Виктор Павлович? — умоляюще сказал Сергей. — Ладно. Идем. Мы ведь недолго! Пройдем вдоль стены, пошарим немножко — и обратно. Шансы, конечно, ничтожные, но попытаться все же надо… — Он посмотрел на узкую горловину, прикусил губы и добавил: — Славку… Славке, ежели что, объясните… Ну, пошли, Сергей… Костя смотрел им вслед, пока они не исчезли среди деревьев. — Значит, вы не пришли ни к какому определенному заключению? — спросил полковник Чегодаев, озабоченно хмурясь. — В смысле практическом — ни к какому, — вздохнув, сказал Иконников. — Информации недостаточно… И вообще это превосходит наши возможности. Пытались мы недаром пробиться внутрь — ничего не вышло. А лазер — самое мощное наше оружие. Уж если он не действует… — Так! Наука, значит, пасует? — укоризненно заключил полковник Чегодаев. — А мне, значит, остается монетку кидать: если орел — надо начинать эвакуацию, если решка — не начинать? Так, что ли? — Но послушайте, — смущенно сказал Иконников, — мы ведь не можем давать практические рекомендации на основании чисто умозрительных гипотез… Вообще-то, по-моему, опасность существует, но… Он не успел договорить. Во дворе, метрах в пятнадцати от кольцевой гряды, словно из-под земли, вырвалось серое туманное облако. И сейчас же вслед за этим вспыхнуло зеленоватое свечение, пробежало по оболочке силового поля, обрисовав его очертания — “колпак” имел правильную полусферическую форму, — а потом два широких зеленых луча протянулись к серому облаку. Лучи охватили облако, сомкнулись — и оно исчезло. А кольцевая гряда потеряла округлую форму — вытянулась длинным неправильным отростком туда, где было серое облако; отросток этот захватил половику двора. Все произошло моментально. Никто не пострадал. Люди инстинктивно шарахнулись от серого облака, от зеленых лучей, отбежали подальше. Теперь поднялся шум, какая-то женщина истерически кричала, ее урезонивали, два паренька упорно пробивались сквозь оцепление к кольцевой гряде — “для проверки одной идеи”. — Вы очень вовремя предупредили меня, что опасность все же существует! — саркастически заметил Чегодаев. Иконников промолчал. Чарнецкий подошел к нему и сказал пониженным голосом: — По-видимому, началось… Это ведь иенсеновская трещина образовалась, насколько я понимаю? Я, правда, не представлял себе, что этот эффект имеет такой локальный характер… Но так или иначе, защитное поле начало расширяться… — Да… и, главное, ничего мы фактически сделать не можем… — печально отозвался Иконников. — Может, вы все же поделитесь со мной своими соображениями, товарищи ученые? — попросил полковник Чегодаев. — Ничего утешительного мы вам не скажем, — обменявшись взглядом с Чарнецкнм, ответил Иконников. — По нашим предположениям, дело обстоит примерно так… Выслушав его, Чегодаев резюмировал: — Значит, повториться это может в любой момент, причем, возможно, в значительно большем масштабе, — а никаких мер защиты вы предложить не в состоянии. Правильно я вас понял? — Правильно… — угрюмо сказал Иконников. — Что ж, и на том спасибо! — желчно отозвался полковник. И тут же два длинных снопа холодного зеленого пламени опять вырвались из невидимой стены. Они сомкнулись почти у самого забора стадиона и погасли. Невысокая ровная гряда теперь целиком перегородила Пушкинскую улицу. — Немедленно вызывайте машину с радиорупором! — распорядилсяЧегодаев. — Будем эвакуировать весь этот район в радиусе трех километров. Неизвестно почему наступила передышка. По крайней мере, рядом с ними было тихо, и ничто не менялось уже минут пять. Кудрявцев и Сергей, водя вокруг воспаленными, затуманенными глазами, пытались выискать безопасный путь. — Стена здесь не сплошная… — еле ворочая языком, прохрипел Кудрявцев. — Да… Проход… Я уж чувствую, что гонят они нас к этому проходу… Пойдемте, хоть успеть бы на поляну выбраться… Кудрявцев с трудом откачнулся от розового ствола и поплелся вперед. Это началось сразу, как только они вошли в лес. Поблизости взвился бешено крутящийся туманный смерч, тут же распался, и прямо под ноами у них открылась черная космическая бездна. Но два дерева, упав крест-накрест у края пропасти, удержали людей, и тугая воздушная волна отбросила их на пружинящий травяной ковер. Тут же раздалось громкое чмоканье, и над краем бездны возникла гряда: невидимая стена отделила людей от пропасти. Так началось, а дальше все походило на кошмарный сон. Они куда-то шли, бежали, плелись — вслепую, наугад, — а повсюду на их пути с грохотом взметывались клубящиеся серые облака, на них ожесточенно бросались зеленые лучи, после мгновенной схватки возникала новая гряда, новая незримая стена, и снова приходилось отступать, кружить, беспомощно тычась в лабиринте стен. Оглушительный свист и глубокие громовые раскаты сотрясали лес; то и дело взлетали вывороченные с корнями деревья, хлестала розовая кровь, метались белоснежные листья среди серых клубов тумана и зеленых вспышек, и жгучие удушливые волны запахов оттесняли людей от опасных мест. Иногда серый туман вскипал совсем рядом с ними, и сквозь его клубящуюся завесу на мгновение проступали странные картины. То это были черные, усеянные колючими звездами бездны, то зыбкие, наложенные друг на друга изображения — крыши зданий таяли на глазах, как воск, а сквозь них прорастали огромные деревья. Однажды Кудрявцев увидел знакомую с детства светлую речку, дуплистые вербы на берегу, солнечную рябь на перекатах, но тут же, прямо из земли, торчал динозавр, а сквозь его длинную шею вдруг промчался товарный состав и нырнул в реку. Ясно было одно — деревья всеми силами защищают людей, без их защиты Кудрявцев и Сергей сразу погибли бы в какой-нибудь из бесчисленных трещин. Грохоча и яростно клубясь, рвались отовсюду из-под земли серые облака, но деревья реагировали мгновенно — склонялись, белоснежными листьями преграждая дорогу к гибели, и расступались, указывая безопасный путь. Краешком сознания Кудрявцев и Сергей понимали, что их теснят к поляне, к дому. Оглохнув от грохота, полуослепнув от зеленых вспышек, с трудом передвигая одеревеневшие, непослушные ноги, они брели средь лабиринта невидимых стен, возникавших повсюду, и наконец скорее угадали, чем увидели золотистый просвет впереди. Поляна! Вот она, поляна! А вот и проход к ней, узкий, метра в два шириной, между двумя травянистыми грядами — призрачными фундаментами незримых стен. Они пошли быстрее, почти побежали, спотыкаясь, ловя воздух ртом, — и вдруг остановились, как по команде. Прямо перед ними вырвалось из-под земли мрачное серое облако, на него яростно ринулись зеленые лучи; а когда схватка окончилась, Кудрявцев и Сергей увидели, что правая гряда круто изогнулась и теперь почти соприкасается с левой. Оставался просвет шириной сантиметров в тридцать-сорок, не больше. — Не пролезем, нипочем не пролезем! — с отчаянием прохрипел Сергей, однако бросился к проходу и начал боком втискиваться между грядами. — Никак… ну никак… невозможно… — стонал он, обливаясь потом от напряжения. Кудрявцев навалился на него, стал толкать плечом, но они не сдвинулись ни на сантиметр. — Пропали мы! — безнадежно шепнул Сергей, запрокидывая голову. Кудрявцев почувствовал, что Сергей весь обмяк и валится на него. Он подхватил Сергея, но сам до того нетвердо держался на ногах, что пошатнулся и, качнувшись вперед, вместе с Сергеем привалился к щели. И в этот момент щель вдруг расширилась! Правая гряда медленно, будто бы с невероятным усилием начала пятиться назад, сантиметр за сантиметром. Кудрявцев, упираясь ногами в землю и толкая впереди себя бесчувственного Сергея, начал отчаянно протискиваться в щель. Нет, еще не получалось… Он начал хлопать Сергея по щекам, дуть ему в лицо, повторяя: “Очнись, ну очнись, Сергей!” Он боялся, что сам вот-вот потеряет сознание от усталости. Сергей очнулся как раз вовремя: гряда последним отчаянным рывком отступила еще на пяток сантиметров. Кудрявцев изо всех сил толкнул его вперед, они оба проскочили сквозь проход и упали на коричневую траву поляны, задыхаясь и блаженно смеясь. Сзади полыхнула зеленая вспышка. Они обернулись — и у них дыхание перехватило: проход исчез, поляну наискось перерезала гряда, поросшая коричневой травой. — Еще бы чуточку — и все… — прошептал Сергей. Кудрявцев рывком поднялся с земли. — Идем! — тревожно сказал он. — Вставай! Сергей с усилием встал, и они, шатаясь, нетвердыми шагами двинулись к дому. Дом был хорошо виден; Сергею даже показалось, что в окне мелькнула Лена. Неподалеку раздался оглушительный грохот, и они невольно рванулись вперед, почти побежали. Но в тот же миг у них за спиной взметнулся туманный смерч, а на нем скрестились холодные зеленые лучи. Они уже не слышали грохота, не ощутили ни влажного холода, ни тьмы окутавшего их тумана. Просто земля расступилась у них под ногами, погас золотистый свет, исчезла коричневая поляна. Исчезло все. В комнате было темно: окна плотно занавесили, двери закрыли. Круг желтоватого света лежал на белой простыне, заменявшей экран. Желтый круг исчез. — Опять засветка! — огорчился Славка. — Всего кадров десять приличных, я на просвет смотрел… — Ну… я же не умею… — смущенно заметила Лена. — Ничего, Ленок, ничего, — сказал Костя. — Десять кадров — это тоже подарок судьбы! Славка начал крутить пленку. — Стой! — Костя схватил его за руку. — Ты смотри, какая штука! На экране в размытом бледном ореоле появился их дом, вернее, задняя его стена. Крохотные фигурки людей виднелись на фоне стены; один из них размахивал руками, словно что-то объясняя другим. — Слушайте, товарищи… это же оттуда! С той стороны, из нашего мира! — ошеломленно сказал Костя. — Совершенно не понимаю, как это получается! Хотя… если можно видеть даже будущее и прошлое… Ну, крути дальше! — “Крути”… — Лена вздохнула. — Смотреть — только расстраиваться понапрасну. На следующем снимке отчетливо виднелся старинный парусник, застывший на гребне огромной волны. Изображение было слегка сплюснуто и перекошено. Костя посмотрел на экран вплотную, через лупу, и различил на палубе крохотные, тоже сплюснутые фигурки людей. На третьем снимке просматривалась городская улица в каком-то странном ракурсе. Костя задумался, почесал нос. — Ленок! Ты, говоришь, снимала каждую клетку отдельно? — Отдельно! Только я всего этого не видела… там просто так, мелькало что-то, сверкало… — Хм… Получается, что каждая клетка дает изображение другого места и даже другого времени? Интересно… А дальше что? — Дальше совсем непонятно! — отозвался Славка. — Ничего, крути… На следующих снимках действительно был сплошной хаос ломаных линий и туманных бликов. Но на четвертом Костя различил через лупу очертания суставчатого дерева с перистой листвой; оно висело в воздухе и его словно поддерживали какие-то туманные многоугольники. — Дальше… — нетерпеливо скомандовал Костя. На пятом и на шестом снимках был только здешний лес и какие-то туманные пятна повсюду висели среди деревьев. Самое интересное оказалось на последнем, седьмом снимке, — там было искаженное изображение их дома, и от него бежали изломанные светлые линии, дальше разветвляясь и хаотически перепутываясь. Черная темная полоска окружала и дом и паутину линий; у этой полоски все линии обрывались, а за ней возникала еле различимая сетка из очень тонких и коротких линий. И повсюду висели туманные многоугольники. Костя всматривался в эти многоугольники до рези в глазах и ухитрился-таки разглядеть, что внутри большинства из них повторяются совсем уж крохотные изображения дома. В некоторых была только темная полоса и тоненькая сетка за ней или угадывались микроскопические фигурки людей. — Все? — спросил он, жмуря уставшие глаза. — Все. Остальное засвечено, — доложил Славка. — Молодец! Ах, молодец, Ленка! — Костя обнял жену. — Такое тебе спасибо, ну прямо… Лена просияла: — Ой, как хорошо, что удалось! Я даже не думала, что сумею… — И тебе, Славка, спасибо, — добавил Костя. — Ты береги пленку, доверяю ее тебе. — А парусник, он откуда? — спросил Славка. — Тоже ич трещины какой-нибудь? Вроде моих верблюдов? — Понимаешь, — сказал Костя, снимая одеяла с окоп, — я думаю, что эти ячейки… ведь там, на кухне, все было разделено на ячейки… это такие… ну, дыры, что ли, из которых берут начало трещины… Лена опять нахмурилась и тяжело вздохнула. — А пятна эти? — не отставал Славка. — Там ведь деревья были… Эти трещины в лес выходят, что ли? А в лесу такие пятна есть?.. — Я их не видел, — серьезно сказал Костя. — А вот они нас, наверное, видели… Говоря это, он невольно глянул в окно. И почувствовал, что у него в глазах темнеет. Он постоял еще у окна, поглядел на поляну. Потом сквозь зубы сказал: — Славка, поди скажи дяде Мирону, чтобы срочно на крыльцо выходил. Разбуди, если спит. А мы сейчас Анну Лазаревну вынесем на воздух… Володя! — крикнул он, выбегая в переднюю. — Давай сюда, Володя! Сергей падал с огромной высоты. Внизу была земля — расчерченные прямоугольниками поля, линии дорог, извилины реки, красные крыши домов, церквушка, при ней кладбище, всё в зелени. Рука инстинктивно дернулась рвануть парашютное кольцо. Но никакого парашюта не было, Сергей просто-напросто валился с небес на матушку-Землю, и никакой помощи не предвиделось. Противно засосало под ложечкой. “Ну нет, — подумал Сергей, стискивая зубы, — так просто я не дамся!” И вспомнив, как учили в армии, стал разворачивать свое тело в воздухе, стараясь направить его туда, где аккуратным квадратиком голубел пруд. И тут они появились. Легкие и узорчатые, как снежинки, только черные. Налетели скопом, закружились, как метель, облепили со всех сторон, слились в сплошной мерцающий кокон — и Сергей перестал падать. И ветер уже не свистел в ушах, и тело расслабилось, словно он невесомо парил над землей. “Чудеса!” — восхитился Сергей. Но чудеса для него только начинались. Вращающийся кокон стал просветляться и наконец сделался совсем прозрачным. Сергей снова увидел под собой Землю. Но теперь не было внизу ни полей, ни деревни с церковью, только вода, от края до края свинцово-серая, вспененная, мрачная. Не успел Сергей удивиться этому, а его уже перевернула какая-то невидимая сила, кокон на мгновение помутнел, потом опять просветлел, и Сергей увидел, что Земля стала вертикальной стеной и несется мимо него куда-то вверх. Совсем рядом, рукой подать, проносились лабиринты улиц, переплетения автострад, железных дорог, корпуса громадных заводов. Потом Сергея опять перевернуло, и вместо города возникли стремительно летящие хлопья снега, а сквозь снежную пелену смутно проступали заснеженные льды и темная, тускло поблескивающая вода, торчали торосы… “Ну и ну! — изумился Сергей. — Вот это швыряет — будь здоров! Куда-то к полюсу, что ли, забросило… Как в кино!” И вот тут его действительно швырнуло — так яростно, что у Сергея в глазах потемнело, — а потом начало непрерывно кружить и переворачивать; он только и успевал заметить, что Земля появляется то справа, то слева, то вообще вверху, вместо неба. А река, горы, города проносились мимо с такой быстротой, что ничего нельзя было разобрать, и от этого безостановочного мелькания одолевала тошнота. Сергей крепко зажмурился, стиснул зубы, сжал кулаки. “Это вы что же делаете?! — мысленно адресовался он неизвестно к кому. — Болтанку теперь устроили… Ох и болтанка! Но я — то выдержу, я — то выдержу все равно, так и знайте!” Однако вскоре он засомневался, что выдержит. Его вертело и швыряло — того гляди, кости из суставов повыдергает; его то сгибало в три погибели, то рывком растягивало во всю длину. “Похоже, конец мне! — не то подумал, не то ощутил в какой-то момент Сергей, шалея от пронзительного свиста и тяжкого грохота вокруг. И тут снова произошла перемена. Прекратилась болтанка, утихли свист и грохот, только со всех сторон начало булькать и гулко чмокать — будто вода в трубу всасывалась. А воздух вдруг затвердел и, как клещами, сдавил тело. Сергей застонал от нестерпимой боли и удушья и рухнул в бездонную, черную пустоту… А потом он увидел себя со стороны — словно чьим-то чужим зрением, — увидел, как крохотное, хрупкое существо, беспомощно висящее в воздухе. И понял — тоже чужим сознанием, — что это существо сейчас с трудом удалось спасти, удалось вытащить его из громадной извилистой трещины в пространстве, прошедшей сквозь десятки слоев континуума, и что теперь его нужно протолкнуть обратно в защищенную сферу сквозь оболочку силового поля, а для этого придется отключить его сознание — которое не сможет выдержать перехода из одного пространства в другое — и на время соединить его с Единым Разумом. На очень короткое время, поскольку частное, ограниченное сознание неспособно вместить в себя Великое Единство и неминуемо начнет распадаться. Сначала у Сергея было два сознания — свое, обычное, и то, чужое, странное. “Своим” сознанием он очень удивлялся этим чужим мыслям. Что это за Единый Разум и Великое Единство? II что такое континуум? Он и слова-то такого вроде не слыхивал, а теперь оно откуда-то взялось. И что вообще происходит? Но потом его, должно быть, отключили-подключили, или как это там называлось, и он перестал быть Сергеем Свиридовым, а сделался частью громадного организма и ощутил, что своим исполинским телом он покрывает поверхность всей планеты, проникает в ее недра и парит в атмосфере, вплоть до ее границ, до силовой оболочки, которая пока противостоит непрерывному чудовищному натиску извне. “Подключение” было очень кратким, счет шел, наверное, на секунды. Но и за эти мгновения Сергей успел ощутить страшное напряжение, мучительную тревогу, пронизывающую весь этот громадный и сложный организм. И он успел понять, что это — тревога за Жизнь. Не за какое-то отдельное существо, а за все живое. И за свой разветвленный и многообразный организм, спаянный Великой Гармонией, и за хрупких маленьких существ с чужой планеты. Потому что и Единый Разум, и разрозненные искорки сознания — это Жизнь, это живая субстанция, а не холодная материя космоса, не межзвездная пыль, не мертвые скопления атомов. А Жизнь не делится на высшую и низшую, она едина и неделима, и нельзя пожертвовать одной ее частицей ради другой. Самое же страшное и противоестественное было в том, что приходилось все же делать выбор, приходилось жертвовать одной формой жизни ради другой. Это было связано с чужой планетой, с хрупкими беззащитными существами, сознание которых было так странно ограничено и разрознено, — приходилось выбирать между своей жизнью и этой, чужой. Единый Разум весь содрогался от чудовищности, несправедливости, невозможности этого выбора, и от страстного стремления сохранить свою жизнь, и от страха за чужую жизнь, которой грозил гибелью каждый миг промедления. Это были не мысли, скорее ощущения. Сергей ощутил страдания Единого Разума, но не успел понять, каким образом возникла эта необходимость трагического выбора. Он только чувствовал, что должен теперь непрерывно следить за силовой полусферой, накрывающей участок Контакта, что должен немедленно ликвидировать трещины. Но трещины, из которых выползал влажный клубящийся туман, проходили и по его телу, причиняя ему страдания и ущерб. Он чувствовал, что и перистые деревья, и черные многоугольники, парящие в воздухе, и курчавая коричневая трава — это он, это части его организма. Но вскоре это ощущение стало будто бы отдаляться и гаснуть, и Сергей потерял всякую связь с миром, оказался в жуткой черной пустоте. Он внезапно вывалился из этой пустоты, как из мешка, и с изумлением ощутил, что лежит на твердой почве, а не болтается в воздухе. Не открывая глаз, он пошевелил руками, безвольно разбросанными в стороны, и сжал в ладони пучок травы. Стебельки травы были свернуты спиралью и упруги, как пружинки. Они были скользкими на ощупь и слегка жглись. Сергей не успел познакомиться со свойствами коричневой травы и поэтому не понял, куда его занесло на этот раз. Он попробовал подняться, осмотреться, но не смог даже голову повернуть. Впрочем, он так измучился, что ему было уже все равно. Они сидели у дома — кто на ступеньках крыльца, кто на траве, на разостланных одеялах — и молчали. Да и о чем было говорить? О том, что Кудрявцев и Сергей теперь отрезаны от них? О том, что незримые стены все ближе придвигаются к дому? Все это было ясно без слов — стоило только поглядеть вокруг. Еще недавно, всего час назад, существовал проход к лесу — теперь он был перегорожен ровным травянистым валом. Со второго этажа видно было, что метрах в десяти за этим валом тянется другой. Никто даже не заметил, когда они возникли, никто не видел ни серого тумана, ни зеленых лучей. Правда, в это время Славка крутил пленку, и окна были занавешены. А дядя Мирон и Анна Лазаревна спали… В общем, осталось им метров десять в длину и столько же примерно в ширину. Да и то неизвестно, надолго ли: в лесу творилось такое, что добра не жди. В лесу шла яростная битва. То и дело с хрипящим стоном рушились сломанные или с корнем вывороченные деревья, и над лесом в этом месте торжествующе взметывался туманный смерч. Весь лес был пронизан клубящимся дымом и зелеными вспышками; деревья тревожно вздрагивали и раскачивались. — Нет, я не могу… не хочу больше… — всхлипывая, прошептала Лена и уткнулась лицом в плечо Кости. — Не терзайся, малышка, все уладится, вот посмотришь, — забормотал Костя, гладя ее пушистые волосы. — Ты сам уже не веришь… так просто говоришь… — невнятно прошептала Лена. — Но мне все равно… я не боюсь… я только не хочу больше смотреть… на все это… — Ну и не надо, не смотри, — ласково сказал Костя. — Ой! — сдавленным голосом крикнул Славка, сидевший у их ног на нижней ступеньке крылечка. — Ой, смотрите! Над травянистой грядой, отрезавшей дом от леса, встала широкая полоса зеленого пламени. Незримая стена, окружавшая дом, здесь почему-то сделалась видимой. Выглядела она угрожающе, особенно слева — там огненный занавес прогнулся, выпятился вперед, будто на него извне давил чей-то исполинский кулак. Это странное вздутие все разрасталось, а зеленое свечение в этом месте постепенно бледнело. И вдруг огненная завеса разошлась, будто по ней ножом полоснули. На миг открылось темное звездное небо и на его фоне — смутные силуэты городских зданий, затуманенные огни фонарей, светящиеся окна… Потом все заслонило какое-то темное тело, — оно скользнуло в отверстие и упало на траву у стены. По краям разрыва стремительно пробежала яркая зеленая спираль — и разрыв исчез. Вслед за этим зеленое пламя над всей стеной побледнело. Оранжевая пелена вверху тоже потускнела, стала едва заметной. А на траве, у самой стены осталось лежать что-то темное, продолговатое, и все смотрели туда, силясь в тусклом, сумеречном свете разглядеть, что это такое. — Да, по-моему, это… — Костя не докончил и кинулся туда. Он наклонился над неподвижно лежащим телом, шевельнул его. — Лена!! — закричал он не своим голосом. — Лена! Лена моментально очутилась возле него. — Что… что ты? О-ой! Сереженька! Миленький! Костя с Володей перетащили Сергея к дому. Он не приходил в себя. Лена дула ему в лицо, терла виски, обливаясь слезами. Славка молча смотрел на безжизненно лежащего Сергея, и губы у него дрожали. — Нашатырного спирту дайте ему понюхать… — слабым голосом сказала Анна Лазаревна. — Володя, там у меня, в аптечке… И воды плесните в лицо. Нашатырный спирт и вода подействовали: Сергей застонал и открыл невидящие глаза. — Сереженька! — закричала Лена. — Братик! Живой! Сергей долго смотрел на нее, будто не узнавая. — Лена… — прошептал он наконец. — А Костя… — Вот он я! — поспешно отозвался Костя. Но Сергей опять закрыл глаза. — Конец нам! — еле слышно проговорил он. — Всем… — Ну что ты! — бодро сказал Костя. — Все уладится, вот увидишь! — Нет… ничего не выйдет… мы им мешаем… Или мы, или они, понимаешь? Они нас жалеют, но себя-то им жальче… — Да кто “они”-то? — Костя придвинул ухо к губам Сергея, тот шептал еле слышно. — …Они… которые здесь… они все вместе… деревья, трава… и эти… которые летают… и вообще все… — Сергей бормотал все слабее и непонятней и наконец совсем умолк. — Что он сказал? — встревоженно допытывался Володя. — Да бредит он просто! — хмуро ответил Костя. — Бессвязное бормотанье… — Но я же слышал, что он сказал: “Конец нам!” — Ну и что? Я ж говорю: он бредит! Он Лену еле узнал. — А папу он не видел? — дрожащим голосом спросил Славка. — Как я понимаю — нет… — помолчав, ответил Костя. — Они, наверное, в разных местах оказались… Да ты успокойся! — деланно бодрым тоном добавил он. — Видишь, Сергей вернулся, значит, и папа твой вернется… Непременно! — Почему — непременно? — с надеждой и недоверием спросил Славка. — Вы же сами говорите — они в разных местах. — Может, и не в разных, я почем знаю! Но не в этом суть, чудак! Сергей-то все равно не сам вернулся: его вернули! Ты же видал, как его протискивали сквозь стену! Значит, и отца твоего разыщут и вернут! Улавливаешь суть? Славка с облегчением вздохнул и несмело улыбнулся: он поверил. Костя тоже вздохнул, но улыбаться ему вовсе не хотелось. Не то чтобы он врал Славке — нет, ведь и вправду возможно, что Кудрявцева тоже разыщут и вернут. Но что толку в этом, если все равно всем погибать! Один Костя слышал все, что бормотал Сергей, и он один мог уловить грозный смысл этих прерывистых слов. Он вовсе не считал, что Сергей просто бредит; для него слова Сергея были бессвязными отрывками чрезвычайно важной информации. Если б Сергей оставался в сознании еще хоть две-три минуты! Костя выпытал бы у него самое главное. А сейчас получились сплошные загадки, и без Кудрявцева даже обсудить их было не с кем. “Или мы, или они. Мы им мешаем…” Каким образом? — думал он. — Значит, это не попытка контакта и вообще не просто научный эксперимент… А что же тогда? И как мы можем им мешать, если мы — в другом пространстве? Непонятно. Абсолютный туман. Но ведь Сергей не смог бы такое сочинить! Даже бреда с подобной основой у него не может быть — он просто не умеет думать о таких абстрактных проблемах. Каким-то образом он действительно получил информацию от них… от обитателей здешнего мира… Хм! “Они все вместе… деревья, трава и эти, которые летают…” Кто же это здесь летает? Никаких птиц вроде нет… А что они “все вместе” — это, пожалуй, можно было и самостоятельно сообразить, без подсказки. Если вдуматься, например, в то, что деревья, помимо всего прочего, собирают информацию… Да, но сейчас уже не до этого… И к деревьям уже не подберешься. Остается сидеть и ждать. Они, значит, нас жалеют, но себя им жальче. Что ж, естественно. Впрочем, возможно, это Сергей сам сделал такой вывод, а они думают несколько иначе? А как-иначе? Если б человечество вынуждено было выбирать, нам гибнуть или чужой цивилизации, что решило бы человечество? Да-а, ответ, пожалуй, ясен — на теперешнем уровне. Правда, они, по-видимому, здорово обогнали человечество в смысле научно-технического прогресса. Или, может, вообще пошли другим путем…” — Костя! — шепнула Лена. — Костя, о чем ты думаешь? У тебя такие печальные глаза… Ты уже понял, что… что нам конец? — Почему — конец?! — Костя старался разыграть искреннее удивление, но это ему плохо удавалось. — Вот ты какая у меня пессимистка! — Не надо, Костя, не надо, я ведь все понимаю… — прошептала Лена. — Только… до чего мне хотелось бы еще хоть немного пожить! Ведь так хорошо было… и нам с тобой… и вообще… Костя порывисто обнял ее — у него сердце защемило от жалости. “Ленка такая живая, жизнерадостная и такая молодая, ведь ей всего двадцать лет, — и вдруг ей умирать? Нет, невозможно, нельзя так, ну нельзя же, поймите вы! — мысленно обращался он неизвестно к кому. — Чем это мы вам помешали, мы ничем не могли помешать, это вы ошиблись, вы подумайте хорошенько!.. Тьфу ты, какую чепуху я несу, спятил от расстройства чувств… Да, но что же делать, что же нам делать?!” Он вздохнул и тихонько сказал: — Давай-ка мы посидим здесь, около Сережки… И около Анны Лазаревны, — прибавил он, спохватившись. — Соседка, вы как, держитесь? Лекарства не надо? Но Анна Лазаревна не ответила. Костя с тревогой вгляделся в ее лицо — она неподвижно лежала, закрыв глаза; потрогал пульс: ничего будто бы, стучит слабо, но все. же прощупывается. — Может, спит? — неуверенно предположил он. — Лучше тогда не будить. Давай говорить шепотом. Как там Сережка, не очнулся? Нет… Ну что ж поделаешь… Он вообще-то тоже спит, и это к лучшему. Авось хоть немного сил наберется во сне… — Да какая разница… — безнадежно отозвалась Лена. — Малышка, не падай духом! — Костя уселся рядом с Леной, обнял ее. — Мы будем держаться до последнего патрона. — Какие у нас патроны! — безнадежно возразила Лена. — Сидим да ждем, когда же нас соизволят прикончить… Видишь — вот она, наша смерть! — Лена кивнула на стену. Вплотную подошла. Еще шаг — и все. Стена, загадочно и зловеще мерцая зелеными огоньками, все так же высилась вокруг дома. — Ну, посмотрим еще! — помолчав, сказал Костя. — А знаешь, Ленок: когда эта щель в стене открылась… ну, через которую Сережку вытащили, так мне показалось, что там город виден… Улицы, дома и все такое. Обыкновенный земной город! — Мне то же самое показалось! — Лена несколько оживилась. — Ночь, огни, вроде как сквозь туман, и дома старые, этажей по пять-шесть, верно? Ой, значит, это и вправду было, а я уж думала, что мне с горя мерещится! Значит, прямо за этой стеной — Земля? Чего же они нас тогда не выпускают?! Они же могут на время раскрыть стену — Сережку-то сюда доставили! Чего же они тогда? Как им не стыдно нас мучить?! А, Костя? Костя долго вглядывался в тускло мерцающую завесу. — Нет, Ленок, ошибка! — вздыхая, сказал он наконец. — Там не земля, а здешний лес, ты же сама знаешь. Даже сейчас, если приглядеться, можно различить деревья… особенно их белоснежные шапки видны… — А что же тогда мы видели? — уныло спросила Лена. — Это, наверное, трещина была… Понимаешь, она может начинаться здесь, а кончаться — на Земле… И Сережку по ней, возможно, вытащили… — С Земли — сюда? — удивилась Лена. — А зачем же?.. Ах, вот, значит, как! — сказала она после паузы. — Они нарочно его поймали и сюда притащили… чтобы побольше материала иметь для этого своего… эксперимента! “Неужели?! — испугался Костя. — Выглядит ведь логично. Но, правда, не вяжется с тем, что говорил Сергей…” — Ленок, ничего мы о них не знаем, — устало сказал он. — Возможно, это вообще никакой не эксперимент… — А что же тогда? — недоверчиво спросила Лена. — Ты же сам говорил… — Мало ли что я говорил! Я почем знаю! Может, это результат какой-то катастрофы… — Он морщился, чувствуя, что говорит неубедительно. — Нуда, катастрофа! — сердито возразила Лена. — Специально вот мировая катастрофа для нашей развалюхи номер двенадцать! Людей мучают… С Сережкой вон что сделали!.. Ты уж все готов им простить… из-за науки! — Ну, положим… — пробормотал Костя и снова задумался. “Да, дело туманное, — думал он. — Поначалу-то все было вроде понятно: иная цивилизация, эксперимент, проблема Контакта. И эта гипотеза чем дальше, тем больше подкреплялась фактами: ведь видна же во всем целенаправленность, сознательная воля. Хотя бы и в спасении Сергея. Но почему же эта сознательная воля не пытается наладить контакт с людьми? Пусть даже неудача, полный провал эксперимента — хоть под занавес, хоть для пробы попытались бы добиться контакта! Странно… Ведь следят же они за нами… в трещинах-то… и Сергея, опять же, спасли и сюда доставили. Значит, вроде бы мы их очень даже интересуем. В чем же дело? И что толку в такой молчаливой встрече? Вломились в наш мир, поставили его под угрозу — и даже разговаривать с нами не желают! Хоть извинились бы, по крайней мере! Не тут-то было: мы им, видите ли, помешали, а поэтому нам каюк! Вот тебе и Высший Разум! Научно-технический уровень у вас, братцы, что и говорить, куда выше нашего, вон вы как управляетесь пространством и временем, с полями, с плазмой! А вот по части морали дело неясное. Неужели такое у вас несоответствие? Нет, все же не может быть! — решил Костя. — Это мы просто разобраться не можем в ваших действиях, вследствие скудости информации”. — Константин Алексеич! — тихонько сказал Володя у него над ухом. Костя даже вздрогнул — он не заметил, когда подобрался к нему Володя. — Константин Алексеич! — повторил Володя. — А может быть, Сергей вовсе не бредил? Костя поглядел на его серое лицо, на лихорадочно блестящие глаза и вздрагивающие губы, и опять у него сердце защемило от жалости. “Этот и вовсе мальчишка, семнадцать лет всего, еще и не жил по-настоящему, так только — готовился жить!” — Да брось ты, — сказал он, видя, что Лена настороженно прислушивается к их разговору, — как это — не бредил! Он же такую ерунду выдавал — ни складу, ни ладу. Я ведь все слышал, что он говорил! — Даже это и неважно, — отмахнулся Володя. — Ну, он бредил, ладно. А они? Что же они делают с нами? Костя почувствовал, что нет у него сил снова вести этот невеселый разговор. — Слушай, — с трудом выговорил он, — давай так уговоримся: я не знаю, что и почему они делают, ты этого тоже не знаешь, он, она, они тоже не знают. Поэтому не будем попусту сотрясать воздух спорами на эту тему. — Так вот и сидеть сложа руки? — мрачно спросил Володя. — И покорно ждать, пока нас… — Не так вот, — поспешно прервал его Костя, — а все наблюдать, примечать, запоминать. Накапливать информацию, понял? Это и есть наша святая обязанность. — Да кому мы ее передадим, эту самую информацию… — начал было Володя, но запнулся, помолчал и потом вяло сказал: — Ну ладно, буду накапливать, раз вы считаете… — Накапливай, накапливай. Увидишь — пригодится! — деловым тоном ответил Костя. — А где Славка? — Вон, у стены сидит. Отца высматривает, — так же вяло объяснил Володя и, ссутулившись, побрел к крылечку. — Да куда ты? Сиди здесь! — окликнул его Костя, но он только головой покачал. Славка сидел в двух шагах от стены и, слегка запрокинув голову, неподвижно глядел на то место, где была щель, в которую вдвинули Сергея. “Старикам легче, — думал Костя. — Анна Лазаревна спит, дядя Мирон тем более… он, кажется, и на появление Сергея не реагировал. А ведь жив… дышит, даже слегка похрапывает. Здоров спать, ничего не скажешь… А эти ребятишки переживают вовсю, изводятся, и ничем я им помочь не могу. У Ленки хоть я остался, а они оба совсем одни…” Стена, тускло мерцая, высилась перед ними, окружала их повсюду, прижимала к дому. И уже неважно было, что там, за ней: то ли розовый лес, то ли земной город, то ли черная космическая бездна? Задача решалась просто: если стена вплотную надвинется на них, они все погибнут… Серое облако на этот раз выметнулось прямо из-под забора стройки. Земля там начала вспучиваться, потом лопнула и разверзлась. Забор в щепки искрошило и разметало. Из широкой трещины повалил клубящийся серый дым, а вслед за ним вдруг полезли наружу какие-то исковерканные, раздавленные деревья с остатками листвы, переломанные телеграфные столбы с болтающимися проводами, смятое в гармошку асфальтированное шоссе. Люди не успели еще опомниться и тупо глазели на эту жуткую бессмыслицу, а кольцевая гряда уже выбросила широкие зеленые лучи; они со свистящим шелестом сомкнулись над провалом, погасли — и сейчас же гряда вытянулась длинной петлей в эту сторону и замкнула пораженный участок в своих пределах. — Смешно даже говорить о случайности… — сказал Иконников, наблюдая за этим. — Силы природы не могут действовать так целенаправленно. Кто-то явно пытается удержать пространство-время от распада, от перехода в хаос, и с этой целью “цементирует” и изолирует трещину, как только она возникает… — Похоже на истину, — без обычной своей желчности, скорее печально согласился Чарнецкий. — И довольно противно сознавать, что жители Земли могут здесь быть только пассивными наблюдателями… — Или жертвами, если они не справятся, — уточнил Иконников. — Да таким путем они вряд ли добьются успеха! Ну что это? Текущий ремонт на ходу… Замазывают трещину в одном месте, я тем временем они появляются в других местах. Еще немного — и начнут эти трещины расползаться все дальше, все глубже… И тогда — каюк нашей Земле! Представляете, что это будет? — Представляю… — тихо отозвался Иконников. — Начнут налагаться одни участки Земли на другие… Да ведь это сейчас и было, в микромасштабе правда… — Когда из-под забора полезло шоссе с деревьями и телеграфными столбами? — Чарнецкий криво усмехнулся. — Ну да, это и есть прообраз той катастрофы, что нам угрожает. Вся Земля сожмется и сомнется, как лопнувший детский шарик, — горы вдвинутся в море, океаны хлынут на сушу, полярные льды лягут на тропические джунгли, а пески пустынь — на столицы мира… И время начнет совмещаться! Неандертальцы окажутся при дворе Людовика Четырнадцатого, Нью-Йорк наложится на Атлантиду, а стартовые площадки космических кораблей совместятся с пастбищами мамонтов! — Ненадолго… — тихо заметил Иконников. — Ясно, что ненадолго… Зато — красиво! Дальше-то уж не интересно будет, на наш, человеческий, взгляд, — саморазрушение всего, вплоть до атомов… — Чарнецкий с отвращением скривил губы. — А знаете? — сказал он после паузы. — Может, им как раз это и интересно? Может, они и вознамерились пронаблюдать весь этот веселенький процесс до конца? Нацелили свою аппаратуру и старательно все фиксируют. — Но послушайте, Марк Борисович, это невозможно! Такого рода цели для Высшего Разума… — А может, это Разум Сверхвысокий? И вообще иной? Может, мы для них — не больше, чем для нас муравейник в лесу? И если им такой эксперимент необходим, именно для высших целей, неужели они станут жалеть каких-то инопланетных мурашек? — Нет, если это подлинно Высокий Разум, то… — Ну хорошо, а почему же они тогда тянут? Почему не разрывают Контакт? Скажете: не понимают, что это единственный путь к спасению? Так не могут же они не понимать! — Конечно, не могут не понимать… — Ну, так в чем же дело, по-вашему? — Не знаю… — признался Иконников. — Просто представления не имею… Вскоре им стало уже не до споров и не до теоретических выкладок. Они стояли, прижавшись к стене деревянного домика на углу Пушкинской и Садовой, и смотрели, смотрели. Весь этот район опустел, жителей пока разместили в зданиях школ и институтов, и полковник Чегодаев требовал, чтобы ученые тоже убрались отсюда, потому что сделать они все равно ничего не могут, а наблюдать вполне можно с крыши девятиэтажного дома где-нибудь поблизости. Но они не могли уйти, а только медленно отступали вверх по улице, вместе с милиционерами и солдатами, оцепившими опасный участок. Совсем стемнело, но скрещенные лучи прожекторов заливали белым светом оцепленные улицы и дома — вернее, то, что еще осталось от улиц, домов, деревьев. Все это продолжало изменяться с такой быстротой, что очертания предметов казались текучими и зыбкими. В белых перекрестках лучей то и дело вырывались из-под земли клубящиеся серые облака, и пролетали в воздухе полосы зеленого огня. Грохот дымных фонтанов сливался уже в непрерывное басовое громыхание. Кольцевая гряда все время меняла очертания, металась во псе стороны, выбрасывая длинные отростки. Она уже поглотила стадион, стройку, сквер, и ее отростки ползли все дальше и дальше. — Гляди, Николай, к нашему с тобой дому, никак, подбирается… — мрачно сказал милиционер, стоявший в оцеплении, своему соседу. — Что ты! — неуверенно возразил тот. — Далеко еще… И тут же все увидели, как новенький белый девятиэтажник словно подпрыгнул слегка, а потом зашатался и рухнул, раскалываясь надвое. — Ну, все! — с горечью сказал Николай. — Уж так моя Клавка радовалась, что квартиру нам дали, уж так ее обхаживала… Всего полгода и прожили… — Да ладно тебе! — отозвался его сосед. — Мы и сами-то неизвестно, уцелеем ли, а ты “квартира, квартира”! — Цепная реакция… — бормотал Чарнецкий. — Началась цепная реакция… Да что же они, с ума сошли? Чего они ждут, ну чего?! Иконников молчал. Он не знал, что ответить. В самом деле, не могут же они не видеть, что положение катастрофическое, что процесс в любую минуту может стать необратимым! Почему же они не разрывают контакт, чего добиваются? Гибели Земли? Немыслимо! “А ведь похоже на это, сознайся! — сказал ехидный внутренний голос. — Посмотри, как все просто и логично объясняется, если допустить эту возможность, что эксперимент идет вполне нормально, без всяких срывов. Предположим, что целью этого эксперимента является изучение пространственно-временных трещин. Вот они и пожертвовали для этой цели куском своего пространства и чужой планетой. Почему-то именно Земля оказалась подходящей для них. А то, что на этой подходящей планете имеется цивилизация, они, очевидно, сочли несущественной деталью. И вовсе они не пытаются спасти Землю, а просто притормаживают процесс, чтобы успеть провести какие-то необходимые наблюдения. Свой мир они, надо полагать, обезопасили. Научились, наверное, как-то ограничивать, приостанавливать процесс возникновения трещин. А здесь, на Земле, они не принимают меры просто потому, что это помешало бы успешному ходу эксперимента. Вот так. А ты думал…” — Смотрите! Смотрите! — крикнул Гогиава. — Нет, они с ума сошли! Иконников глянул — и невольно попятился. Невидимая стена над кольцевой грядой вдруг материализовалась, возникла в виде завесы, мерцающей зелеными огнями. В центре этой завесы свечение быстро усиливалось, мерцающие огоньки словно слились в сплошной ручеек, полыхающий зеленым светом. Извилистый ручеек все больше спрямлял свое течение и наконец превратился в узкую, ослепительно сверкающую полоску. — Стена лопается! — кричал Гогиава. — Вы видите?! Зеленая полоска разделилась надвое и начала расходиться, как створки раздвижной двери. За ней открылся серый кипящий хаос. Оттуда вырвалась полоска серого дыма и быстро побежала по земле. Казалось, что она невесома, но землю она вспарывала, как консервный нож вспарывает банку. С ужасающим грохотом разверзалась вслед за ней земля, и открывался гигантский зияющий провал. А из провала лезло какое-то отвратительное месиво — зловонная болотная жижа, обломки кирпичей, изломанная ветряная мельница, куски плетня, деревья… и коровы! Среди бурлящего хаоса, среди осколков стекла и обломков кирпичей то и дело возникали окровавленные, мучительно оскаленные морды коров, торчали сломанные рога, перебитые ноги. Это было так жутко, что Иконников зажмурился. — Назад! Все назад! — заорали радиорупоры. — Немедленно! Бегите! Иконников не мог сдвинуться с места. Он как зачарованный смотрел на полоску дыма, которая быстро и легко бежала прямо к нему, оставляя за собой зияющий провал. Кто-то подхватил его под руку, потащил бегом, приговаривая: “Вы что ж это? Вы что?” Рядом, задыхаясь, бежал Чарнецкий. Вдруг сзади кто-то отчаянно закричал: “Ой, да помогите же ему!” Они обернулись… и остолбенели. Гогиава отстал от них всего метров на пятнадцать, но дымная полоска успела догнать его. Они увидели запрокинутое, сведенное судорогой лицо Арчила, его пальцы, цепляющиеся за край пропасти, кинулись к нему, но он уже исчез. Их молча рванули в сторону, оттащили куда-то за угол. Там они привалились к стене, ловя воздух ртом и чувствуя, что ноги подкашиваются. И лишь теперь зеленые лучи догнали дымную полоску, ринулись на нее с высоты, задушили. И вслед за ними длинный отросток гряды дотянулся до самого перекрестка. Оцепление поспешно меняло позиции, расширяло свой круг, отступая на два-три квартала во все стороны. А в покинутых кварталах бушевал дымный клубящийся ураган. Он торжествующе ревел, и этот низкий басовитый рев висел над ночным городом и окрестными селами. Он падал, бесконечно долго падал куда-то, и все вокруг бешено вращалось, выло и свистело — это было первое, что ощутил Кудрявцев, когда его сознание начало медленно выплывать из черного небытия. Он открыл глаза. Серый туман, окружавший его, и вправду стремительно вращался; спиральное завихрение образовало колодец с дымчатыми зыбкими стенами, и Кудрявцев падал в неизмеримую глубину этого туманного колодца. Серые студенистые стены, вращаясь, летели вверх, в ушах оглушительно выло и свистело, и от этого нескончаемого однообразного полета, от кружащихся стен, от воя и свиста Кудрявцев совсем отупел; он ощущал не страх, а только вялое любопытство — мол, ну и что же дальше? И вдруг в это странное зыбкое бытие вторглась какая-то сила извне. Откуда-то сверху ринулась в туманный колодец черная туча, нагнала Кудрявцева, метелью заплясала вокруг него — и сразу оборвался вой и свист, прекратилось падение, а черная метель застыла, превратилась в нечто вроде футляра или кокона, внутри которого неподвижно повис Кудрявцев. Он принялся разглядывать эту черную оболочку и понял, что она состоит из множества черных многоугольников, очень точно подогнанных ребро к ребру, без просветов. Немного погодя Кудрявцев заметил, что оболочка, сохраняя свой угольно-черный цвет, постепенно становится прозрачной. И тогда он увидел, что висит над Землей. С высоты птичьего полета он смотрел на поля, дороги, перелески, реки, села, на большой город там, у черты горизонта. Сначала он силился сообразить, что же это за местность, но вскоре перестал думать об этом — уж очень странные дела происходили там, внизу. Местность постепенно менялась на глазах у Кудрявцева. Город на горизонте все уменьшался,стал небольшим поселком, а потом и вовсе исчез; река разлилась гораздо шире, и мосты на ней словно растаяли. Пропали железные дороги, исчезли широкие ленты шоссе, вместо них возникла путаная сетка извилистых узких дорог. Постепенно исчезали или уменьшались села и распаханные поля; зато все гуще и обширней разрастался лес, и наконец все видимое пространство заняли леса, а среди них, возле рек и озер, ютились небольшие поселки с клочками пахоты. А потом лес начал таять, редеть, убывать, а человеческие жилища и вовсе исчезли, и все вокруг покрылось заснеженным панцирем льда, который нестерпимо сверкал на солнце. Кудрявцев вдруг понял, что происходит. Видно, он провалился в одну из тех трещин, о которых толковал Костя. Эта трещина шла не сквозь пространство, а сквозь время, все глубже и глубже уходя в прошлое. Он падал в трещину с той же скоростью, с какой она углублялась во времени, поэтому и висел все над одним и тем же участком земной поверхности и, как на киноленте, которую по ошибке стали прокручивать от конца к началу, наблюдал историю этого клочка нашей планеты. “Однако что же это будет?” — подумал Кудрявцев, впрочем, тоже как-то вяло: он понимал, что от его действий ничего не зависит, а следовательно, что уж будет, то и будет. Да и никаких действий он вообще не мог предпринимать: хоть этот странный черный футляр и был довольно просторен, Кудрявцев не мог ни рукой шевельнуть, ни голову повернуть, его словно спеленали какими-то незримыми повязками. Кудрявцев опять внимательно вгляделся в черные многоугольники, на его глазах так быстро и точно заключившие его в защитную оболочку, — он инстинктивно ощущал, что черный футляр создан для его защиты, — но ничего нового в них не обнаружил. А тем временем он, видимо, пролетел сквозь целые геологические эпохи. Во всяком случае, когда Кудрявцев снова поглядел вниз, у него сердце замерло. Земли — планеты, имеющей атмосферу, воду, растительность, — уже не было. От края и до края горизонта тяжело колыхалось внизу море огненной лавы, вскипая гигантскими пузырями. И тут же почему-то распался черный кокон, опять возник зыбкий туманный колодец, только на дне его теперь колыхалась раскаленная лава, и Кудрявцев падал прямо туда, в это море огня. Нестерпимый жар уже обжигал и душил Кудрявцева, когда снова налетела черная метель, и снова возник футляр. Но теперь он был очень узким, вплотную прилегал к телу, и от него исходило ощущение ужасающей чугунной тяжести. Тяжесть эта все нарастала, давила на сердце, на мозг, н вскоре Кудрявцев потерял сознание. Когда он очнулся, не было ни серого колодца, ни огненного моря внизу; и он уже не падал, а поднимался куда-то по гигантской круглой шахте, составленной из ажурных колец, а сквозь сложнейшие переплетения их элементов виднелась светящаяся оранжевая пелена. Он успел понять — по этой пелене, — что его перебросили в другой, в “их” мир, н еще успел ощутить, что тело его будто бы исчезло, или, пожалуй, не исчезло, а превратилось в пустую оболочку, где нет ни сердца, ни легких, и непонятно даже, как это он еще живет и дышит, — и эта пустая оболочка медленно заполняется ледяным холодом. Холод вскоре заполнил все тело, и оно перестало существовать для Кудрявцева; потом волна этого чистого и очищающего холода затопила мозг, но вместе с ней хлынула ослепительная ясность и подлинное понимание. Кудрявцев уже не был собой — маленьким, хрупким существом, которое может существовать лишь в очень узкой и случайной полосе спектра, — и сознание его не было таким ограниченным, странно обособленным от всего мира, каким оно является у этих существ. Яркий свет Единого Разума был для него опасен, потому что он все же принадлежал к этим существам и мог лишь на краткие мгновения прикоснуться к Великому Пониманию. Но, сознавая это, Кудрявцев думал о себе и вообще о людях как о чем-то постороннем — о причудливой форме разумной жизни, которая совершенно неожиданно оказалась на пути, на единственно возможном пути… Кудрявцев ощутил глубокую скорбь и тревогу, рождавшуюся в Едином Разуме при мысли об этих странных разумных существах из другого мира, — но его все сильнее отвлекали очень яркие, четкие картины, поступающие в мозг откуда-то извне. Вообще все это — ледяной холод, отчуждение от своей телесной оболочки и от своего сознания, подключение к Единому Разуму, тревога и скорбь, странные изображения, сменяющиеся в мозгу, — происходило почти одновременно, накладывалось друг на друга, переплеталось в стремительном темпе. Какой-то оттенок прежнего, человеческого восприятия еще сохранился у Кудрявцева в эти первые секунды подключения, и он успел подумать, что, мол, странно получается: картины эти поступают в мозг не через зрительные рецепторы — перед глазами ведь нет ничего, кроме ажурных конструкций шахты, — и успел даже понять, что картины посылаются в мозг из громадных ажурных колец, образующих шахту, и что в каждом кольце — своя серия изображений. А потом он только разглядывал сменяющиеся кадры, как разглядывают иллюстрации к хорошо знакомой книге. Книгой была история этой планеты — его планеты, обиталища Единого Разума. Сначала было дневное фиолетовое небо, и на нем пылала громадная бело-голубая звезда. Потом появилось небо ночное, черное — и в центре его раскинула свои спиральные рукава гигантская косматая галактика; ее шаровидное ядро сняло холодным голубым пламенем. Так начиналась повесть о планете — спутнике бело-голубого гиганта, и сначала она выглядела так же, как могла бы выглядеть повесть о Земле: вот возникает из космической пыли плотное ядро, вот его разогревают, раскаляют изнутри ядерные реакции, потом планета начинает остывать, возникают материки, океаны, зарождается жизнь в воде, выходит на сушу… Кудрявцев-человек должен был бы удивляться: откуда взялись эти явно реальные, с натуры снятые картины? Как могла здешняя цивилизация запечатлеть процесс эволюции на таких ранних этапах, когда никакой цивилизации еще не было и быть не могло? Но Кудрявцев — частица Единого Разума — ничему не удивлялся: он знал, откуда берутся эти изображения, и не видел ничего странного в том, что они получаются таким путем. Человеческая телесная оболочка Кудрявцева, глубоким охлаждением доведенная до состояния анабиоза, поднималась вверх по колодцу странной ажурной шахты; если бы кто-то из людей мог увидеть это безжизненно-белое, искаженное судорогой лицо, он решил бы, что Кудрявцев терпит тяжкие муки, или, вернее, терпел их перед смертью. Но Кудрявцев не страдал; его сознание потеряло связь со своей телесной оболочкой, мозг был полностью отключен ото всех рецепторов тела и временно слился с Единым Разумом-хозяином этого мира… И как частица Единого Разума Кудрявцев со спокойным интересом глядел на сменяющиеся кадры из истории планеты. Вот из теплой бурой воды океана выползли на плоский берег неуклюжие, почти бесформенные сгустки студенистой протоплазмы; в их прозрачных телах серебрились гроздья крохотных узелков. Они ползли, всасывая песок и мелкий гравий, и оставляли за собой слизистый след. Слизь эта, высыхая, превращалась в тончайшую хрупкую корку, которая при малейшем прикосновении рассыпалась в пыль. Ветер подхватывал эту пыль, разносил ее по всей планете, и вскоре повсюду возникли колонии живой протоплазмы. На суше студенистые сгустки, достигнув зрелости, набухали и лопались; тогда крохотные серебристые грозди выходили на волю и, укоренившись в почве, с невероятной быстротой вздымали на дюжину метров мясистые розовые стволы, с перехватами и сочленениями, как у бамбука, увенчанные пучком прозрачных щупалец. В эти розовые заросли сползались отовсюду, словно магнитом притянутые, всё новые и новые сгустки протоплазмы; они сбивались около корней, впитывались в них, и стволы затвердевали, становились прозрачными, а щупальца утончались и обрастали длинным белоснежным пухом. В непроточных водоемах сгустки протоплазмы, размножаясь, постепенно вытесняли воду. Тогда из зыбкой студенистой массы начинали вырастать прозрачные раструбы, открытые навстречу лучам бело-голубой звезды. А у полюсов, где залегали тысячекилометровые пласты кристаллических отложений, колонии живой слизи натолкнулись на электрические и магнитные поля кристаллов, но не остановились, а начали пробираться вдоль разломов пласта. При этом они покрывались черной псевдокрнсталлической оболочкой, защищавшей от воздействия полей. По белоснежным кристаллическим обнажениям все шире расползались черные пятна. Некоторые группы черных псевдокристаллов поднимались над почвой и повисали в воздухе — их поддерживало взаимодействие полей с оболочкой; постепенно они соединялись, образуя плоские многоугольники, и начинали все быстрее перемещаться над планетой. Другие псевдокристаллы вытягивались вверх, как ажурные башни, и отводили энергию полей наружу наподобие волноводов. Летающие колонии скапливались над отверстиями этих башен, свертывались трубками и переизлучали энергию дальше. Сети этих трубок и парящих между ними плоских многоугольников расширялись от полюсов к экватору. Они нависали над озерами живой протоплазмы, и оттуда жадно вытягивались раструбы, поглощая льющуюся сверху энергию, а поверхность озер приходила в ритмическое движение, и студенистая масса приобретала все более сложные формы. В корнях прозрачных розовых деревьев энергию впитывали студенистые комки, сокращаясь в такт усилиям волны, а пушистые щупальца деревьев вытягивались вдоль невидимых силовых потоков. Трава под этой черной сетью меняла цвет, гуще разрасталась в одних местах, редела в других. Так связывалась в единую систему, в единый организм вся жизнь на планете, и чем сложнее становились колонии покрытых черной оболочкой существ, тем многообразнее становились их связи с другими формами жизни. Поддерживая друг друга, таща друг друга, эти симбионты карабкались вверх по дереву эволюции, и их инстинктивные действия, направленные на то, чтобы приспособить окружающее к своим потребностям, все усложнялись. Над горными хребтами нависали ажурные сети многоугольников; они свешивали вниз, к скалам, длинные воронки, и скалы таяли, текли, распадались в пыль. Ажурные черные пирамиды повисали над побережьями океанов, и вода под ними вскипала и пятилась, обнажая неровное дно, где вскоре начинала густеть трава и поблескивали слюдяными окошками озера живой протоплазмы. Из озер к облакам тянулись длинные раструбы, и облака покорно рассеивались или сгущались в тучи… Это был удивительный мир, он не поднимался к вершинам науки, а просто уже на уровне инстинкта, непосредственно пользовался энергией полей. Это был мир — организм, а планета была его обиталищем, где он инстинктивно устраивался поудобнее. Это был бессознательно-мудрый мир, в котором не было высших н низших форм жизни, была только жизнь вообще, противостоящая мертвому космосу. Эта жизнь постепенно стала переделывать для своих целей и околопланетное пространство, она протянула в небо многокилометровые членистые щупальца, впитывая ими потоки волн и содержащуюся в них информацию. Ажурные черные сети, висящие среди щупалец, передавали эту информацию вниз, на поверхность планеты, и там она записывалась цветным узором на траве, а потом над этими узорами скапливались многогранные черные гроздья и начинали перестраиваться в соответствии с узорами; в то же время сами узоры менялись под воздействием встречных потоков, идущих сверху, от скоплений многоугольников. Так живые существа планеты совершенствовали свей организм. Углубившись в ионосферу планеты, щупальца формовали из холодной плазмы “брикеты”, скрепляли их магнитными полями — и получались энергетические каналы. Мир-организм вышел в космос, продолжая инстинктивно улучшать условия своего существования. Бело-голубая звезда со спутником-планетой летела из глубин Вселенной к косматой галактике. Впереди оставались еще тысячи лет пути, когда произошла катастрофа. Угольно-черный провал на пути звезды оказался гигантским скоплением рассеянной материи, в центре которого таилось ядро — остаток первозданного вещества Вселенной. Звезда, описав громадную параболу, ушла к галактике, а планета, захваченная гравитационным притяжением, осталась в темной туманности. На планете наступила ночь, которая столетия спустя сменилась багровыми сумерками — это сквозь толщу космической пыли и газа тускло светилось исполинское ядро скопления. Пыль, медленно стекая к центру, увлекала за собой плененную планету. Сумерки становились все ярче, небо пылало от миллионов пылинок, сгорающих в атмосфере. Планета погружалась в глубины, из которых не было возврата, — она становилась частью огромного квазара, стягивающегося в гравитационном коллапсе. В поисках энергии, необходимой для жизни, от планеты оторвались многогранные зонды и по каналам, проложенным излучением, ушли в открытый космос. Но они уже не успели вернуться. На поверхности квазара пространство свернулось в сферу, и время остановилось. Гравитационная могила сомкнулась наглухо. И в непроглядных глубинах этого сгустка материи осталась погребенная планета. Но в этих мертвых, раскаленных недрах, под миллионнокилометровой толщей материи жизнь на планете продолжала сражаться. Исчезала атмосфера — и щупальца строили из плазменных стен гигантскую оболочку, чтобы оградить всю планету от процессов распада, начавшихся внутри квазара. Случайная перестройка полей породила совсем особую форму черных существ — громадное кольцо, осциллировавшее во времени. Это кольцо доставало из прошлого энергию, запасы которой уже иссякали в настоящем. Стали возникать новые и новые кольца; в поисках энергии они все дальше уходили в прошлое, и постепенно вырастал туннель времени-гигантская труба, каждое кольцо которой было и опорой шахты, и хранилищем информации. Мир-организм напрягал последние силы, стараясь сохранить свое существование. Но как можно противостоять неумолимому спаданию квазара, сжатию материи, которое гигантским прессом сдавливает защитную оболочку? Погребенная в недрах квазара, навсегда отрезанная от Вселенной, планета была обречена. И тогда произошло чудо. Возникла какая-то очередная, случайная комбинация полей, которой присуща была способность создавать и направлять тончайший нейтринный луч. И этот луч не уходил вдоль по пространству — он исчезал там же, где появлялся, словно проваливался куда-то. А потом возвращался, и были неопровержимые доказательства, что он выходит в открытый космос. Это означало, что параллельно пространству их Вселенной располагалось какое-то другое пространство. И там, в параллельной Вселенной, на этом месте не было квазара, там была энергия, была жизнь! Впервые за тысячелетия плена у планеты-организма появилась надежда на спасение. Тысячи нейтринных иголок, соединившись, пробили туннель между параллельными мирами, и по этому туннелю часть пространства планеты перешла в соседний мир, наложившись на его пространство. Но вещество в области наложения оказалось неустойчивым. Нейтринные лучи нащупали в параллельном космосе ближайшее твердое тело, которое могло послужить площадкой для успешного наложения пространств. Этим телом оказалась одна из планет небольшой желтой звезды. Тогда был задуман Великий Исход. По каналу, который упирался в поверхность иной планеты, провели наложение пространств на базовом участке. Участок этот накрыли плазменной полусферой, которая существовала частично в одном, частично в другом мире. И началась подготовка к перемещению мира-организма вместе с его планетой в новое пространство. На какой-то неуловимой грани Кудрявцев все же сохранял часть человеческого сознания. И он не мог не восхищаться этой удивительной жизнью, этим Единым Организмом, который за века своей героической борьбы поднялся от сложного инстинкта к уровню коллективного сознания. Предельно чужда человеку была эта слитная, нераздельная жизнь, Единый Разум, не состоящий из индивидуальных сознаний, но все же это был Разум, родственный всякому Разуму по самому существу… Но эти мысли — обрывки мыслей — мелькнули и погасли. Все затопило идущее оттуда, от Единого Организма, чувство глубокой скорби и отчаяния. Теперь перед Кудрявцевым стремительно развертывались уже знакомые картины — и чувство безнадежности, неизбежной гибели сопутствовало этим сменяющимся изображениям. Он увидел, как на участке Контакта появились первые трещины, как Организм судорожно пытался залечить эти грозные разрывы, опоясывая их зеленым пламенем плазменных стен. Но еще ранее он ощутил ошеломление, которое испытал Организм, обнаружив, что под защитным колпаком находятся живые существа! Жизнь, достигшая вершин познания и власти, была обречена на чудовищную, бессмысленную смерть в тисках квазара. И вот нашелся выход — гениальный, единственно возможный выход, единственный шанс на спасение от неотвратимой тысячелетней агонии. Но выход этот был возможен только при сохранении Контакта, а сохранение Контакта грозило неминуемым разрушением Земли и гибелью всего Живого на ней. И медлить было нельзя — разрушение и гибель уже пришли на Землю, и каждая секунда промедления была преступной. Организм не думал, равны ему по развитию существа, обитающие на этой планете, или стоят на низшей ступени. Это не имело никакого значения — для Организма не существовала наша иерархическая система, для него не было высших и низших, ибо он являлся Великим Единством; поэтому обитатели иной планеты были для него просто Живыми — и этого хватало… Но не было сил порвать Контакт. Ведь это означало — Навсегда… Никогда не увидеть яркие звезды и свободные просторы Вселенной. Никогда больше не жить. Самому отказаться от Жизни. Остаться в безвыходных, мрачных глубинах квазара. Погибать самой ужасной из космических смертей- медленной, неотвратимой, — зная, что если бы сохранить Контакт… Кольца туннеля летели мимо Кудрявцева, посылая к нему в мозг одну и ту же картину — бездонные недра квазара, горящие оранжевым пламенем, и тускло рдеющее в немыслимой глубине исполинское ядро — и одно и то же чувство: отчаяние, боль, бессильный протест. Жизнь не могла, не хотела примириться с неизбежностью гибели. И вдруг все оборвалось, и сознание Кудрявцева снова провалилось в черную пустоту. — Ну где же они, где, где?! — закричала Лена, но ее голос потонул в нарастающем мощном грохоте. Стена тряслась, как от мощных ударов молота. Зеленое свечение разгорелось и озарило всю поляну холодным пламенем. В стене то и дело возникали вздутия, лопались, из разрывов, клубясь, выползал серый туман, и на миг появлялись странные, ни на что не похожие картины. И все время стена медленно, но неуклонно прогибалась внутрь поляны, словно под чудовищным напором снаружи. С захолодевшим сердцем Костя смотрел, как прогибается стена, как тонут в клубящихся разрывах бессильные зеленые спирали. Неужели Сергей не бредил? Неужели это подступает смерть? А как же “они”, как же разумные существа могут… Славка вдруг вцепился в его руку. — Там!.. — прокричал он, показывая налево. — Я видел… когда вот сейчас вспыхнуло… Там кто-то… упал! Это папа! Я знаю! Костя и Володя недоверчиво переглянулись. — Я же сам видел! — чуть не плача крикнул Славка и бросился к стене. Костя и Володя побежали следом. На пути у них возникла серая воронка — в ней тяжело ворочались, дробя и уничтожая друг друга, громадные скалы; они отшатнулись, кинулись в обход и догнали Славку. Он стоял у самой стены. А перед ним на траве лежал Кудрявцев. — Давай! — прохрипел Костя. — Володя! Тело Кудрявцева было холодным и твердым. “Что же это, он успел окоченеть? — с ужасом подумал Костя. — Но нет, уж слишком оно холодное, будто замороженное…” Он глянул на Славку, бежавшего рядом, и у него сердце сжалось. В прозрачном зеленом сиянии им навстречу бежала Лена. — Виктор Павлович! — Она прикоснулась к его лбу и отдернула руку. — Ой, что это с ним? Славка схватил руку отца н тут же отскочил, словно обжегся. — Он… умер? — дрожащим голосом спросил он. Костя приложил ухо к груди Кудрявцева. Сквозь грохот разрывов он все же уловил далекое, слабое, очень редкое биение сердца. — Жив он, жив, Славка, ты не пугайся! — сказал Костя, выпрямляясь. — Это вроде гипотермии… Ну, понимаешь, искусственное переохлаждение… Это… ну, словом, ничего, он очнется… В больницу бы его, конечно… Эх!.. Славка всхлипывал и кулаками утирал слезы. Володя глядел, как пробегают зеленоватые отсветы по безжизненно-белому лицу Кудрявцева, и беззвучно шевелил губами. — Ой, Костя! — крикнула Лена. — Гляди… Анна Лазаревна… Она храпит… Умирает она… Костя рванулся было к дому, хотел пошарить в аптечке, но отчаянный крик Лены заставил его обернуться. Под непрерывный грохот взрывов стена сомкнулась в последнем мучительном усилии и быстро поползла внутрь, к дому. Зеленое пламя пылало нестерпимо ярко. Славка упал и уткнулся лицом в грудь отца, Володя бросился ничком на траву и охватил руками голову. А Бандура, Анна Лазаревна, Сергей и Кудрявцев лежали неподвижно, с закрытыми глазами, и нельзя было понять, живы ли они еще. Лена судорожно прижалась к Косте, спрятала лицо у него на груди. Костя успел увидеть, как пляшущее зеленое пламя подползало к ним вплотную, изогнулось, как гребень гигантской волны, и сомкнулось над их головами. Вслед за этим глубокий громовой раскат потряс землю, и все исчезло в непроглядной черноте. Никто не видел ни звезд, ни луны, хотя ночь стояла ясная. Весь город затянуло серым дымом и пылью. Неумолчно ревели взрывы, трещины расползались все дальше, из них лезли наружу громадные льдины, обломки железнодорожных вагонов, изломанные рамы теплиц и осколки стекла; в огромной котловине на месте стройки громоздились развалины нефтяных вышек, хлестала нефть из расплющенных резервуаров, и бил к небу фонтан ревущего пламени. Но никто уже не мог пробраться туда, через улицы, разъеденные трещинами, заваленные обломками скал, домов, стволами деревьев, и непрерывно клокочущие взрывами. Оцепление медленно отступало, дом за домом, по пустым, уже покинутым жителями улицам. Иконников и Чарнецкий с отчаянием смотрели на расползающийся хаос. Зеленые полосы больше не вспыхивали, — ясно было, что там выпустили реакцию на волю. Последняя ночь надвигалась на Землю. Полковник Чегодаев в перепачканном, изодранном мундире, с черным лицом, подошел к ним вплотную. — Что делать, наука? — прокричал он. — Неужели так и будет?! — Контакт! — крикнул Иконников, в отчаянии разводя руками. — Если б Контакт разорвать! — А что нужно делать? — нетерпеливо спросил Чегодаев. — Да ничего мы не можем сделать! Ничего! — прокричал Чарнецкий. — Только они… А они не хотят! Им на нас плевать! У них — эксперимент!! И, словно опровергая его слова, на пустыре вдруг вырос исполинский купол зеленого пламени. Призрачное мерцающее сияние озарило весь город. Как в тумане, возник внутри этого прозрачного светящегося купола двухэтажный покосившийся домик и рядом — фигурки люден. Домик постоял мгновение и беззвучно рухнул. Световой холм вытянулся воронкой к небу, превратился в гигантский смерч и тут же исчез, будто растворился в воздухе. Грохот мигом оборвался, растаяли туманные воронки, наступила невероятная тишина. Только развороченная, истерзанная земля мертво лежала в свете прожекторов да громоздились груды развалин. Но вот что-то шевельнулось рядом с обломками домика в центре пустыря. Шатаясь, встал человек. За ним другой, третий… — Они все-таки разорвали Контакт… — прошептал Иконников. — Почему же они так медлили?
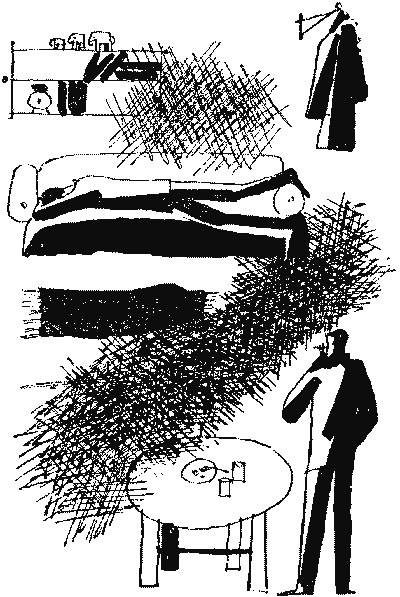
З.ЮРЬЕВ КУКЛА В БИДОНЕ
Описываемые в этой повести события подлинны, и узнал я о них от сотрудников Московского уголовного розыска, которые, не считаясь со своим временем, сделали все возможное и даже невозможное, чтобы получше познакомить меня с ними. Само собой разумеется, фамилии действующих лиц изменены. З.Ю.
ГЛАВА 1
Старый канцелярский стул никак не хотел стоять на двух ножках и протестующе поскрипывал. — Бог с тобой, — сказал Шубин, расслабил руки, которыми упирался в край письменного стола, и позволил стулу облегченно опуститься на четвереньки. — Сомневаюсь, — пробормотал Голубев из-за соседнего стола, — я ведь безбожник. — Я не тебе, а стулу, — сухо заметил Шубин. — Всегда ты умеешь найти интересного собеседника, — с завистью вздохнул Голубев и посмотрел на часы. — Гм… Скоро восемь. Может быть, закончим эти письма завтра? Как, начальник? — Предложение интересное, и мы еще к нему со временем вернемся. Но сначала я хотел бы обсудить один—два важных вопроса. Боря, ты прости, но в таких случаях, я думаю, лучше переходить на официальный тон. Итак, капитан Голубев, знаете ли вы, чем занимаются в свободное от работы время акулы капитала? — Не знаю, товарищ майор. — А следовало бы, — наставительно сказал Шубин. — Работник МУРа должен знать всё. К вашему сведению, они открывают сейфы и жадно пересчитывают свои богатства. — Так точно, товарищ майор, пересчитывают свои богатства. — Не паясничайте, капитан, я говорю с вами совершенно серьезно. Так вот, хотя я, как вы, наверное, догадываетесь, и не акула капитала, сейчас я тоже открою сейф и пересчитаю свои богатства. Шубин подошел к сейфу, прижал коленкой дверцу (иначе она заедала), вставил ключ и дважды повернул его. Замок сочно чавкнул, и майор с величайшей осторожностью достал из сейфа конверт. Шутка, розыгрыш были для них неким священным ритуалом, чем-то чрезвычайно важным, и стоило одному начать, как второй тут же начинал подыгрывать вне зависимости от настроения. — Итак, капитан Голубев, документ номер один, он же фактически долговая расписка, он же вексель. Черным по белому здесь написано, что первое место в чемпионате шестьдесят восьмого года займут футболисты московского “Динамо”. Написано вашей рукой, капитан. Моей же написано, что чемпионами снова будут киевляне. Папирус уже пожелтел от времени, как-никак лежит с апреля, а сейчас, слава богу, октябрь, но даже без лупы можно разобрать, что проигравший обязуется поставить выигравшему одну бутылку коньяка, причем в скобках сказано, что коньяк и коньячный напиток вовсе не одно и то же. Таблицу первенства — будем откровенны- вы знаете значительно лучше, чем таблицу умножения, капитан, и я думаю, что вы смело можете уже идти в магазин. Рекомендую Столешников переулок. Знаете, там справа, если стоять спиной к Петровке, есть такой магазин… — Слышал, — скорбно вздохнул Голубев. — Не расстраивайтесь, капитан. Московское “Динамо” — прекрасная команда, спору нет, второй круг они идут как звери, но уж слишком много очков растеряли в первом. Далее представляется документ номер два. Вы, коллега, ставили еще одну бутылку коньяка против моих трех, что кировобадское “Динамо” останется в высшей лиге. Увы, и в этом случае… Зазвенел телефон, и Шубин взял трубку. Лицо его сразу поскучнело, приняло обычное выражение, которое Голубев называл про себя “должностным”. — Хорошо, — сказал Шубин, — сейчас иду. И Голубев тоже. — Затем, повернувшись к капитану, он кивнул: — К дежурному. Там двоим подложили куклу. Пошли. …У высокого, одетого в коричневый плащ-реглан, было крупное, складчатое лицо, сложенное в кисло-брезгливую гримасу. Второй, пониже и подороднее, нервно теребил ладонью широкий мясистый подбородок с ямочкой посредине, ерзал на стуле, шумно вздыхал. — Ну-с, на что жалуемся? — спросил Шубин. Высокий на мгновение поднял глаза, взглянул на Шубина и угрюмо пробормотал: — На жуликов, не па погоду же. Черт те знает что творится средь бела дня… — И на свою дурость жалуемся. Четыре тысячи восемьсот рублей отдать по доброй воле взамен старой газеты и буханки хлеба… Руки оторвать мало… — решительно добавил второй. — Кому? — невинно спросил Шубин. — Себе в первую очередь, — сказал потерпевший с такой убежденностью, словно давно мечтал расстаться с руками. — Насчет рук мы вам помочь вряд ли сумеем, но придется пройти в нашу комнату, а то мы здесь можем помешать. Пойдемте. Вернувшись к себе в кабинет, Шубин привычно глянул на часы — было уже восемь, Миша будет спать, когда он приедет, — и с легким вздохом сказал: — Ну что ж, давайте знакомиться. — Вяхирев Иван Александрович, двенадцатого года рождения, — медленно произнес высокий. Говорил он словно нехотя, с трудом выдавливая из себя слова, как полузасохшую зубную пасту из тюбика. — Режиссер студии технических фильмов министерства… Что еще? — Пока достаточно, Иван Александрович, — вежливо сказал Шубин и усмехнулся про себя: человек обращается с просьбой о помощи, а держится так, словно сделал большое одолжение, придя на Петровку. Но десть лет работы в уголовном розыске научили его не торопиться с оценками людей, с которыми он сталкивался, и тренированный мозг лишь накапливал информацию, послушно избегая до поры до времени превращать ее в окончательные мнения. — Польских Павел Антонович, — с готовностью выпалил второй, как только Шубин поднял глаза от листа бумаги. — Тысяча девятьсот тридцатого года рождения, русский, беспартийный, женат, директор продовольственного магазина. — Прекрасно, — сказал Шубин, — так за что же вам нужно оторвать руки, Павел Антонович?.. Вы не возражаете, Иван Александрович, если начнет ваш товарищ? Из директора, судя по началу, детали происшествия выдирать, словно гвозди из доски, не придется. Говорлив, возбужден, по-видимому, старается произвести хорошее впечатление. Гримаса на лице режиссера стала еще кислее и брезгливее. Он медленно вытащил платок, аккуратно развернул его и с каким-то вызывающим достоинством оглушительно высморкался. — Мы договорились встретиться с Иваном Александровичем в четыре часа около гастронома на улице Правды, — быстро заговорил Польских. — Я его почти не ждал, может минут пять. Ну, он подъехал, я подошел к его машине. Он вышел из машины. Мы поговорили несколько минут. Он дал мне деньги. Сто пятьдесят рублей на дубленку. Давно просил меня достать где-нибудь. В это время к нам подходит какой-то человек в рабочей одежде, грязный довольно-таки, не то узбек, не то таджик, и обращается на ломаном языке. Где, говорит, здесь… как он сказал, Иван Александрович? — Минялный касс… Что-то вроде этого. — “Зачем, говорю, тебе этот касс?” — “Да вот, говорит, хочу узнать, берут там такие облыгаций…” Тут он запускает руку за пазуху и вытаскивает несколько штук облигаций трехпроцентного займа… мятые такие… “Я, говорит, малограмотный, плохо разбираюсь”. И по-русски говорит ужасно, еле можно разобрать, что он хочет сказать. И все нервничает, оглядывается, дергается весь…ГЛАВА 2
Октябрьский хмурый день, казалось, сочился влагой. Грязно-желтые листья липли к мокрому асфальту мостовых и тротуаров. Лица у прохожих были сумрачны, как этот скупой на свет день. И настроение у Ивана Александровича Вяхирева было под стать погоде. Утром заместитель министра довольно-таки нелюбезно напомнил ему, что министерство — не студия художественных фильмов и что пора ему, Вяхиреву, понять специфику их работы. Болван… Специфика… Что он понимает, этот чиновник… Кому выговаривать? Человеку, поставившему такие картины! Впрочем, где теперь их только нет, этих чиновников! А на его старой студни разве их нет? Кишмя кишат. Ему, Вяхиреву, два раза подряд дать четвертую категорию за прекрасные фильмы… И намекнуть, что вряд ли он сможет, видите ли, впредь быть постановщиком… Скоты бездарные! Талант, талант, новые идеи… Волю взяли, насобирали мальчишек, что они могут понять?.. Это они сбили его с толку. Раньше он всегда твердо знал, что нужно снимать и как… Водяная пыль матовой пленкой оседала на стеклах “Волги”, и Иван Александрович включил стеклоочистители. Несколько секунд щетки лишь размазывали грязь, затем снова стало видно, и машина прибавила ход. Мальчишки в свитерочках, сопляки! Ах, Феллини, ах, Бергман, ах, Антониони, ах, ах… “Безвкусица из вас, говорят, так и прет, уважаемый Иван Александрович”. А кто, спрашивается, решил, что вкусица, что безвкусица? Всё они же. Они же. И куда они заведут, если всякий начнет прислушиваться к ним? Сопляки, мальчишки-Мальчишки были для Ивана Александровича понятием не возрастным. В их категорию он зачислял и тридцатилетних, и сорокалетних, и пятидесятилетних. Они были мальчишками потому, что были несолидны, легко воодушевлялись, мало считались с авторитетами, были остры на язык, отдавали дань модным увлечениям… Они были непохожи на него, а следовательно, хуже него, и он постоянно и остро чувствовал неясную опасность, всегда исходившую от них. Иван Александрович резче, чем следовало бы, притормозил, свернул с Нижней Масловки в Бумажный проезд и выехал на улицу Правды. А вот и Пашка торчит на ступеньках входа в гастроном. Местечко есть? Ага, вон такси отъезжает… С Павлом Антоновичем, или, точнее, просто Пашкой, они познакомились пять лет назад, когда Вяхирев еще был на студии. Директор магазина, торгаш, но умеет оценить настоящего человека. Надоедлив, конечно, со своим постоянным восхищением его режиссерским талантом, но что поделаешь, у каждого свои слабости. Зато услужлив, собака, обходителен… Правда, в последнее время, после перехода в министерство, иногда в разговоре Павла Антоновича с Вяхиревым начали появляться слегка покровительственные нотки, но Вяхирев не замечал их, просто не мог заметить, потому что редко менял свои взгляды на людей, а Павел уже давно раз и навсегда был зачислен им в свои поклонники. — Здравствуйте, Иван Александрович! — просиял Польских, подходя к машине. — Погодка! — Привет, Паша, как дела? — Понемножечку торгуем, план выполняем. Как Ирина Петровна? — А что ей, — почему-то неодобрительно хмыкнул Иван Александрович, — цветет… Закурить у тебя есть? Ишь ты, “Кент”… Сказал бы, где достаешь… — Ну, Иван Александрович, посудите сами, работать в торговле — и не достать себе блок—другой импортных сигарет? Сами, поди, презирали бы. Прихватить вам? — Ну как ты думаешь? Прямо перед ними какой-то смуглый немолодой человек в мятой кепке с поломанным козырьком, грязной рабочей куртке и таких же брюках робко смотрел на старушку с огромным арбузом, раздувшим тоненькую авоську. Арбуз был тяжел, и старушка скособочилась, стараясь, чтобы сумка не касалась асфальта. — Мамаш, мамаш, касс игдэ? — Какой касс? — испуганно вздрогнула старушка. — Минялный касс… такой… Старушка переложила авоську в другую руку, пожала плечами и засеменила прочь, что-то бормоча под нос. Человек в куртке беспомощно огляделся и неуверенно подошел к “Волге”. — Хозян, нгдэ тут… минялный касс? Такой облигаций принимают? “Узбек, очевидно, или таджик, — подумал Иван Александрович, взглянув на смуглое, с редкой бородкой лицо. — Какие еще облигации?” — Вот, сматры, пжалуйса… — Человек долго копался за пазухой и наконец вытащил несколько измятых десятирублевых облигаций трехпроцентного займа. — Принимают, папаша. Почему же не принимать? В любой сберегательной кассе, — нетерпеливо сказал Польских и повернулся к Ивану Александровичу. — Так если вы не раздумали, дубленку вам сделаем. Приятель один обещал сообразить что-нибудь. Иван Александрович почему-то живо представил себе мягкую теплую дубленку, о которой давно мечтал, — дубленку глубокого темно-коричневого тона, упругую на ощупь, словно живую, и сказал: — Спасибо, Паша. Держи деньги. Сто пятьдесят. — Хозян, — человек в куртке нервно переминался с ноги на ногу, — хозян, может, ты… — Что вам еще? — участливо спросил Иван Александрович и даже слегка улыбнулся. Образ дубленки согревал его, и на душе почему-то стало светлее. — Из Ошбармакского район мы, дома здес разбирал. — Человек повернулся и показал грязной рукой на переулок, почти все деревянные домики которого были уже снесены. — Карош лес… многа… — Это где такое Ошбармакский район? — поинтересовался Польских. — В Узбекистане? — Правилно, правилно, — обрадовался человек в куртке и широко, доверчиво улыбнулся. — Далек, тысяч километров… Значит, принимают такой облигаций? — Как деньги, — усмехнулся Вяхирев, — в любой сберкассе Советского Союза. Одна из них вон там, на углу. — Он показал рукой. — Как раз под часами… Узбек засунул облигации в карман, потом снова достал их, нерешительно посмотрел на своих собеседников, шмыгнул носом и начал переступать с ноги на ногу. — Ну что, проводить тебя до сберкассы, дорогой? — спросил Польских. — Вон же она. — Не… — тяжело вздохнул узбек, — не… Плохо русски знаем… Спросыт, откуда… как сказат… Нашли мы… там. — Он снова махнул рукой в сторону развалин домов. Иван Александрович заметил, что ему вдруг почему-то стало интересно разговаривать с этим забавным узбеком. Ему уже не нужно было заставлять себя что-то отвечать из вежливости, вопросы так и крутились у него на языке. — Как “нашли”? Прямо на земле? — Не… — уже немножко увереннее покачал головой узбек. — В стэнэ. Рахим нашел. Дирка такой за бумага на стэн… Как это… бумаг на стэн? — Обои? — подсказал Польских, достал из кармана пачку “Кента”, лихо щелкнул ногтем по донышку и протянул вылезшую сигарету узбеку. — Обой, обой, — обрадовался узбек. — Бидон такой… Ивану Александровичу стало жарко, и он расстегнул плащ. Воображение мгновенно нарисовало целую горку из облигаций, горку из кирпичиков-пачек, и каждая пачка, наверное, перехвачена аптекарской резинкой, красной или черной. Причем картина эта была ему приятна, возбуждала. — А бидон при чем же? — спросил он. — Целы бидон… С Рахимом счытали, тры раз счытали. Тысяч и пятдесят две облыгаций, всэ такой же… “Десять тысяч пятьсот двадцать рублей. Ну, может быть, чуть меньше. Какой-то процент при покупке касса удерживает… А могут быть еще и выигрыши… Почему другим всегда везет, а мне никогда? — с горечью подумал Иван Александрович. — Зачем, например, этому темному человеку столько денег? Что он с ними будет делать?” — Хозян, — снова пропел узбек, — боимс мы. “Откуда взал…” Домой брат боимс… “Откуда взал…” Все там друг друг знайт… — Человек шумно набрал воздух в легкие, словно собирался нырнуть, и вдруг выпалил: — Купи, хозян, за половин отдадым. Теперь Ивану Александровичу было уже не только жарко — стало трудно дышать, и он, оттянув галстук, расстегнул верхнюю пуговичку воротничка. Пачки, обхваченные аптекарскими резинками, часть красными, часть черными, разделились на две кучки… Половину ведь возьмет Пашка, сукин сын, будто и так ему мало… Всего на пять — значит, тысячи две с половиной чистыми… Придется снять с книжки, разрушить срочный вклад. Да черт с ними, с этими процентами… Иван Александрович быстро взглянул на Польских, тот на него и покачал головой: — Сначала нужно проверить, не фальшивые ли, еще влипнешь в историю. — На, — обиженно сказал узбек, — несы, — и протянул Павлу Антоновичу несколько измятых облигаций. — Сходи, Паша, — быстро сказал Иван Александрович, — сходи, а я подожду. — Иды, а я пойду за Рахим, бидон прынесем. Узбек, не оглядываясь, перешел улицу и исчез в переулке. Иван Александрович, забыв о том, что машина грязная, оперся о крыло “Волги” и закурил в третий раз за полчаса. “А почему, собственно говоря, — возбужденно думал он, и мысли его были какими-то торопливыми, разгоряченными, — почему Пашка должен получить половину? Ему-то за что такое везение? Да и человек этот все время обращался ко мне: “Хозян…” Если бы мне не половину, а, скажем, две трети, тогда чистых было бы тысячи три с половиной. Три с половиной заплатить, а семь получить… Стало бы семь с половиной. Это уже деньги”. Иван Александрович почему-то вспомнил, как однажды беседовал с начинающим литератором, по сценарию которого ему предстояло ставить фильм. Парень был щупленький, чернявый такой. Сморчок, в первый раз на студии. И в глазах его Иван Александрович читал такое бесконечное к себе почтение, такую готовность угодить, сделать все, лишь бы сценарий был поставлен, что почувствовал даже некоторую симпатию к нему. Иван Александрович пригласил его к себе домой, усадил в глубокое кресло, в котором сморчок почти бесследно исчез, и важно сказал: — Вы понимаете, молодой человек, что в процессе работы я фактически буду вашим соавтором, хотя мне совершенно не хочется отнимать у вас… — Иван Александрович тонко улыбнулся и сделал паузу, — отнимать у вас славу. Сморчок с трудом выплыл из кресельной глубины и дрожащим голосом сказал: — О, спасибо, Иван Александрович! Вы и представить себе не можете, как я ценю такую честь… На рубашке у него не хватало одной пуговицы, и сквозь щель был виден кусочек голубой майки. — Но, с другой стороны, мой юный друг, вы прекрасно понимаете, — рассудительно и терпеливо продолжал Иван Александрович, не спуская взгляда с кусочка голубой майки, — что я должен буду тратить уйму времени на доработку сценария, а время, как известно… — Да, да, я понимаю, — торопливо сказал сморчок, — и я хотел бы просить вас, чтобы вы согласились… “Сколько сказать, — думал Иван Александрович, — треть или половину? Не взовьется ли? Черт их знает… Как будто покладист с виду и голоден…” Иван Александрович, не спуская глаз с голубой майки, будто черпал в ней уверенность, медленно и с достоинством сказал: — Я думаю, что, если вы получите половину гонорара за сценарий, это будет справедливо. Не он, Иван Александрович Вяхирев, получит половину гонорара этого сморчка, а тот получит половину. Сценарист судорожно схватился за подлокотники кресла и несколько раз с трудом проглотил слюну, отчего кадык у него толчками поднимался и опускался. В глазах тлело нескрываемое разочарование. “К трети, наверное, приготовился, молокосос, — слегка испугался режиссер. — Может быть, хватил лишка? Нет, не должно быть. Уж больно рвется в искусство. Жаден, не пропустит случая…” — Я понимаю, Иван Александрович, — тихо произнес сморчок, и глаза его стали скучными, — ясогласен… Вяхирев услышал вдруг голос Польских и вздрогнул от неожиданности. — Все в порядке, Иван Александрович, самые что ни на есть настоящие. Вы что, задумались? Я шел, вам рукой махал, — понимающе улыбнулся Польских. — Задумался, — признался Иван Александрович, — стар становлюсь, все вспоминаю… Было настоящее искусство, не то что теперь. — Удивительный вы человек. Сколько с вами знаком, а привыкнуть не могу. Тут гора целая облигаций, а он думает об искусстве. — Павел Антонович смотрел на приятеля восхищенно и чуть-чуть покровительственно, как смотрят практичные люди на поэтов и чудаков. — Такой я, Паша, дурак. Всегда таким был и подохну, наверно, таким. — Типун вам на язык… А где узбек-то? — Черт его знает. Сколько он тебе дал облигаций? — Пять штук. На пятьдесят рублей. — Появится, — убежденно сказал Иван Александрович. И словно в ответ, на противоположной стороне улицы появился узбек в сопровождении товарища, одетого в такую же рабочую куртку и брюки. В руках у него была клеенчатая сумка, с какой иногда ходят курьеры в больших учреждениях. Они торопливо пересекли улицу и подошли к машине. — Садитесь назад, — суетливо скомандовал Иван Александрович, сам открыл им дверцу, уселся за руль, нетерпеливо обернулся. Узбеки плюхнулись на сиденье. Второй, помоложе, очевидно Рахим, застыл в оцепенении, не выпуская из рук сумку. — Вот, — сказал старший и раскрыл сумку. Бидон был самый обыкновенный, алюминиевый, для молока, лишь с двух сторон в крышке и горловине были пробиты дырки для дужек замков. Он достал из кармана два ключа, отпер замки, долго и неловко вытаскивал дужки из дырок и наконец поднял крышку. Иван Александрович и Польских перегнулись через спинку переднего сиденья. Бидон был набит облигациями. — Вот, беры, — сказал старший и вытащил несколько бумажек. — Такой же всэ. Тысяч и пятьдесят две облигаций… Тры раз считал. Пят тысяч рублэй давай… Сопя от напряжения, он снова вставил дужки замков в отверстия, долго возился с ключами и наконец запер крышку. — Хорошо, — хрипло сказал Иван Александрович. — Пять тысяч. У нас, конечно, с собой таких денег нет, но через минут сорок, самое большее час, мы привезем. — А… — разочарованно протянул узбек. — Я думал, тут… Ладно… Чырез час тут. Рахим никак не мог открыть дверцу, крутил ручку стеклоподъемника, и Иван Александрович, перегнувшись, помог ему. — Так через минут сорок, самое большее — час, — заискивающе сказал он. — Договорились? Не опаздывайте. — Прыдем, — сказал узбек, — не беспыкось… Рахим, пошли. — Он дернул товарища за руку, и оба перешли улицу. “Придут, — подумал Иван Александрович, успокаивая себя. — Обязательно придут. Куда им с этой горой облигаций…” — Поехали быстрей, — сказал он и посмотрел на часы. — Уже около пяти. У тебя как с деньгами, Паша? Польских снял серую широкую кепку и потер ладонью виски. Он как-то смущенно посмотрел на товарища и нерешительно промямлил: — Понимаете, Иван Александрович, в том-то и дело… Туго у меня сейчас, и я… Иван Александрович мгновенно почувствовал острое удовлетворение, теплая радость накатилась на него, как прибойная волна на пляже, но не ушла дальше, а задержалась где-то внутри, согревая и будоража. Он с трудом подавил торжествующую улыбку. “Три с половиной, а то, пожалуй, и больше. Может быть, даже четыре”, — пронеслось у него в голове. — А все-таки сколько ты собираешься вложить в это предприятие? — стараясь быть спокойным, спросил он. — Рублей восемьсот я наскребу до завтра, — вздохнул Польских и снова потер виски. — А остальные я хотел просить у вас… Ведь до завтра, а может быть, и сегодня успеем… В две-три кассы заедем, чтобы не сразу… И все дела. Иван Александрович хмуро молчал, и Польских пристально и вопросительно посмотрел на товарища. — Понимаешь, Паша, — сказал Иван Александрович, — у человека должны быть принципы. Кредит портит отношения, а мне не хотелось бы… — Я понимаю, — покорно кивнул Польских и надел кепку. “Хороший он все-таки человек, — подумал Иван Александрович. — Настоящий товарищ. Такими в моем возрасте уже не раскидываются…” — Ну хорошо, Паша. Поехали. Я тебя на углу высажу, а сам махну на улицу Куусинена. Очереди в сберкассе сейчас, наверное, нет… Поехали.ГЛАВА 3
Павел Антонович вошел в свой магазин, привычно огляделся. У Зины в колбасном, как всегда, очередь. Начинает вывешивать с точностью до грамма, смотреть больно… В аптеке ей работать, а не колбасой торговать. Пол грязноват. Сколько раз говорил тете Даше, чтобы в такие сырые дни лишний раз подмела… Он встретил взгляд Валентины из кондитерского и, как всегда, первым отвел глаза. Красный форменный беретик держался на ее высокой прическе каким-то чудом, словно флажок на башне, взгляд из-под густо накрашенных ресниц тяжел и насмешлив. И придраться не к чему. Все у нее всегда в порядке, не нагрубит, не перечит, халат сверкает, даже ногти у дряни такой всегда чистые… И самостоятельна, ох как самостоятельна!.. Когда он ее тогда пригласил встретиться, она долго и насмешливо рассматривала его из-под тяжелых ресниц, а потом с ехидцей спросила своим низким голосом: “Работаете с кадрами, Павел Антонович?” “Не ершись, Валентина, — строго сказал он. — Ершом будешь — в ухе окажешься”. “Да не каждый такую уху съест, — ухмыльнулась продавщица, — другой и подавится”. И все-таки всякий раз, когда Павел Антонович смотрел на нее, он чувствовал какую-то странную пустоту не то в грудной клетке, не то в желудке, какое-то едкое ощущение мучило его: и смотрел бы на нее — и глаза бы ее не видели. И еще один раз он попытался пригласить ее, волнуясь, как мальчишка, шлепая губами, бормоча что-то о ее привлекательности. И снова она странно усмехнулась и скучно сказала: “Вы бы лучше, Павел Антонович, что-нибудь с подсобкой придумали, а то не повернуться там…” Тяжелый человек, без основы. А без основы человек — не человек. Без основы люди — не люди, а стая волков. Основа — это уважение. К должности, к влиянию, к уму, к деньгам. Убери это уважение — и что остается? Хаос, анархия, когда каждый что хочет, то и творит, вроде Валентины. Федор Федотыч, ныне сидящий — зарвался старик, — прекрасно ему в свое время объяснил, что такое основа. Когда это было? Ага, в пятидесятом… Конечно, в пятидесятом. Паша Польских ухаживал за Раечкой Васильевой, с которой перед самой войной учился в одном классе. Даже на парте на одной сидели. И тогда же, до войны, в четвертом классе, он влюбился в нее. Он понял это, когда почему-то лицо у него стало вспыхивать, стоило ей посмотреть на него. А потом в один прекрасный день она сообщила, что они переезжают и что она переходит в другую школу. И сейчас еще, спустя двадцать семь лет, Павел Антонович мог вспомнить тяжелый, душный ком в горле, который несколько дней упорно давил его, не давал дышать. Потом — мальчонкой ведь был — забыл ее и встретил лишь случайно в пятидесятом уже двадцатилетним солидным электромонтером. Месяца два они встречались, и Паша даже начал было подумывать о женитьбе, подумывать как-то неопределенно, но все-таки подумывать, когда вдруг однажды вечером Раечка пристально, словно ощупывая, посмотрела на него и сказала: “Ты, Пашечка, человек не ревнивый, поэтому я тебя сейчас познакомлю с Федор Федотычем. Он за мной заедет минут через пятнадцать. И не нужно, Пашенька, лишних вопросов, не нужно усложнять жизнь. Ты ведь еще мальчишечка, если можешь даже думать о семейной жизни на семьсот пятьдесят в месяц…” Раечка сидела на тахте, занимавшей почти половину крошечной комнатки. На плечи ее был накинут теплый шерстяной платок крупной вязки, и она все поправляла его, куталась. На серванте, на белой кружевной салфеточке, стоял фарфоровый пузатый Будда и каждый раз, когда под самым окном на улице… Позвольте, где же она жила? Ага, ну конечно, на Воронцовской, вот память… И каждый раз, когда на улице проходил трамвай, старый дом содрогался, и Будда начинал неторопливо и загадочно кивать головой. На этот раз он почему-то не кивал, а, наоборот, печально покачивал головой с жирными красными щеками. А может быть, фарфоровая голова на проволочке была неподвижна, а покачивал головой он сам? Паша сидел оглушенный. В замерзших мыслях, в какой-то еще не схваченной ледком полынье бились лишь слова: “Надо встать и уйти. Встать и уйти”. Но не было ни сил, ни воли. Раечка еще зябче поежилась, странно усмехнулась и сказала: “Ну вот видишь, я так и думала, что ты, Пашенька человек рассудительный…” …Федор Федотыч ворвался словно вихрь — большой, с красными, как у Будды, щеками, в распахнутой шубе, шумный и решительный. Он без всякой неприязни протянул Паше руку и скомандовал: “Подъем! По коням! В ресторан!” “Как же… Я…” Паша хотел было сказать, что ни в какой ресторан он не пойдет, что он… что он даже галстука не надел, но Федор Федотыч лишь ободряюще похлопал его по спине, и через минуту Паша уже спускался по лестнице, гудевшей от раскатов смеха Раечкиного знакомого. “Прошу, — сказал Федор Федотыч, широким жестом распахнул дверцу “Победы”, стоявшей у тротуара, и сам сел за руль. — Пожалуй, в “Узбекистан”. Раечка сидела впереди, рядом с Федором Федотычем, а Паша, напряженно выпрямившись, застыл на заднем сиденье. Как-то сама собой в нем росла, поднималась волна какого-то благодарного изумления, может быть, даже преклонения перед этим человеком за рулем, шумным, решительным, со своей машиной… В ресторане на Неглинке к их столику не подходили минут пять. Федор Федотыч заговорщицки подмигнул Паше, взял несколько тарелок, составил их одна на другую и аккуратно выронил на пол. “Что вы…” — испугался Паша и кинулся было собирать осколки, но Федор Федотыч еще раз подмигнул ему, улыбнулся подскочившему старичку официанту, достал из кармана сторублевку, положил на груду черепков и сказал добродушно: “Прости, папаша, иначе ведь тебя не дозовешься. Прими заказик, дорогой”. А потом, когда уже выпили и закусили и когда Паша восхищенно смотрел на Федора Федотыча, тот вдруг неожиданно сказал: “Хороший ты парень, Паша, есть в тебе основа жизни, уважение есть. Ты где вкалываешь?” “Электромонтер я”, — почему-то виновато пробормотал Паша. “Пойдешь ко мне работать, в магазин?” “Не знаю…” “Пойдешь! — уверенно отрубил Федор Федотыч. — Пойдешь! Есть в тебе, Паша, основа жизни!” И ведь действительно пошел. Пошел. И уж давно нет Федора Федотыча — зарвался, второй раз сидит, крепко влип, — и уж давно он сам не Паша, а Павел Антонович, директор продовольственного магазина, а вот поди ж ты, помнит его слова об основе жизни. А ведь все меньше и меньше людей понимают теперь эту основу. Взять хоть Валентину… Тяжело становится работать, неуважительно. “Ты продавщица, стоишь за восемьдесят “ре”. Я директор, помочь тебе могу, но ты уважай, черт тебя драл! Я даже с режиссерами знаком, в Доме кино бываю, а для нее, продавщицы, видите ли, плох…” Павел Антонович помотал головой, хмыкнул, вышел из своего кабинетика-каморки и позвал Екатерину Сергеевну, кассиршу. — Катя, — сказал он ей тихо, — дай-ка мне из кассы рублей восемьсот. — Восемьсот? — Восемьсот. Вечером вложим обратно, самое позднее завтра утром, так что ты, Катя, не волнуйся. Все будет в ажуре. Павел Антонович положил деньги в карман, застегнул нейлоновую куртку и не спеша пошел к гастроному. “Интересно, сколько привезет Иван Александрович?” Хорошо он рассчитал. Точно, что подавится тот скорей, чем поделится с кем-нибудь, когда пахнет хорошим кушем. Вот ведь загадки жизни — идиот, а режиссер. Был режиссером, вернее. Был, да сплыл, замашки одни остались. Ох, замашки остались: Паша, достань… Паша, принеси… Паша, сделай… Хам… Дарил себя. Еще бы! Известный режиссер, осчастливил, можно сказать, какого-то там торгаша. Раз в год в Дом кино брал. И на этом спасибо, Иван Александрович, выделили, приметили маленький винтик, по фамилии Польских, не побрезговали. И мы не побрезгуем, пощиплем вас немножко… Павел Антонович закурил и прибавил шагу. Опаздывать нельзя. Все идет нормально. С таким окунем, как Иван Александрович, можно не волноваться: голый крючок от жадности заглотнет. И промолчит. Позориться не будет. А может быть, будет — рванет на Петровку, в угрозыск? На мгновение Павел Антонович почувствовал страх, сосущее ощущение в желудке, но тут же успокоился, привычно взял себя в руки. Все продумано. Сам пострадал на восемьсот рублей. Больше не было, проверьте. И уж в самом крайнем случае признаться, что взял из кассы. Выговор… Ай-ай-ай, выговор… Да нет, не пойдет он на Петровку, идиотом нужно быть для этого… Павел Антонович подошел к гастроному как раз в тот момент, когда Вяхирев вышел из “Волги”. — Сколько достал? — настороженно спросил он. — Восемьсот, — вздохнул Павел Антонович, — всех обегал. — А ты бы у себя в кассе взял, — добродушно посоветовал Вяхирев. “Вот жмот, — подумал Павел Антонович. — Человека такой задушит и глазом не моргнет”. — Что вы, Иван Александрович, за кого вы меня принимаете? — А где же наши узбеки? — оглянулся режиссер. Он был возбужден и разговорчив. — Неужели не придут? Придут, — успокоил он сам себя. — Придут. — А сколько вы привезли? — спросил Павел Антонович и невинно посмотрел на товарища. — Гм… — Иван Александрович пожал плечами, — все, что было. Четыре. — Счастливый вы человек, даже и здесь вам везет. За полчаса четыре чистыми в кармане, — вздохнул Павел Антонович и подумал: “Вот гад, ну погоди, через пятнадцать минут спесь с тебя как с миленького слетит”. — Иван Александрович, а может… — Что, Паша? — Да нет, я так… — Ну где же они? — А черт их знает, может, струсили в последний момент. Я и сам трясусь, не знаю чего. — Да брось ты, Паша. Чего им бояться? Они же видят, с кем имеют дело — с порядочными людьми. “Это точно, — злорадно подумал Павел Антонович, — видят, голубчик, насквозь видят и даже глубже”. — Вон он! — Иван Александрович шумно выдохнул воздух, стараясь умерить сердцебиение. Узбек пугливо оглядывался, пропуская машины. Он то делал несколько шагов вперед, то возвращался на тротуар, пятясь и прижимая к себе клеенчатую сумку. “Ну артист, — подумал Павел Антонович. — Талант у человека, а он баранку крутит”. Он теперь почти не волновался, все шло так, как должно было идти, и никакой опасности как будто бы не было, если Вяхирев не попрет на Петровку. Да и тогда, впрочем, тоже… Узбек наконец перешел улицу, сел на заднее сиденье и достал из сумки бидон. — Дэнги принес? — спросил он у Ивана Александровича. — Четыре тысячи, — торопливо пробормотал режиссер и достал из внутреннего кармана толстую пачку двадцатипятирублевок. — Почему четыре? Пять давай, — обиженно сказал узбек. — Говорыл, половин… — Вот еще восемьсот… Дай, Паша. Вот. — Ладн… Аллах с тобой, давай. Не считая, узбек сложил обе пачки вместе, завернул в черную тряпку и засунул за пазуху. На мгновение он заколебался, словно что-то мучительно обдумывая, потом неуверенно сказал: — Может, крэст тоже возмешь, хозян? Золотой, большой, камен много, сини, краен… Вместе в стэн лежал… Иван Александрович задержал дыхание. Сердце билось так, что казалось, вот-вот выскочит из грудной клетки и упорхнет птичкой. Ведь это целое состояние… — Покажи, — хрипло сказал он. — Сейчас прынэсу, — сказал узбек, — у Рахим он. — Он достал из-за пазухи черную тряпку с пачкой денег, которую только что засунул туда, и нерешительно замер. — Так сдэлаем… — наконец пробормотал он, вынул из сумки бидон, снял замки, открыл крышку и положил тряпку с деньгами на облигации. — Так сдэлаем, — снова повторил он, закрыл бидон крышкой, запер оба замка и вылез из машины. — Чрэз пят минут приду с крэст… Хозян, — он снова посмотрел на Ивана Александровича, — хозян, ты толк бидон пока нэ возмешь? Дэты мои ограбыш… — Да что ты, дорогой, — искренне возмутился Вяхирев, — можешь номер машины записать. — Не понымай ваш номера… Чрэз пят минут буду с крэст. Узбек захлопнул дверцу и, не оглядываясь, исчез в переулке. “Ну артист…” — снова подумал Павел Антонович, чувствуя радостное изумление от того, что все уже почти было позади, и можно было больше не волноваться, и не нужно было держать себя в руках, контролируя каждое слово. Особенно он не нервничал и раньше, хорошо зная характер Вяхирева, но еще лучше, когда все уже позади. “Почти все”, — поправил он себя. С минуту в “Волге” царила такая тишина, что слышно было, как щелкнули электрические часы на щитке. — Иван Александрович… — протянул Польских и замолчал. “Нет, лучше пусть сам предложит”, — подумал он. “И четыре тысячи обратно, и половину в карман, — пронеслось в голове у Ивана Александровича, и он почувствовал, как у него вспотели ладони. — Зато Пашка тогда потребует половину. Разница всего в тысячу… А может быть, не давать Пашке половину… Я ведь принес все-таки четыре, а он всего восемьсот… Тысяч шесть—семь чистыми”. Иван Александрович протянул руку к ключу зажигания. Через минуту они уже будут на Ленинградском проспекте. Номера он не запомнил, жаловаться не пойдет. На что жаловаться? Да и кто поверит? Но крест… Черт его знает, сколько может стоить такая вещь… С камнями… Десять тысяч, двадцать… и отдаст задаром… А может быть, и больше, чем двадцать… Зачем же уезжать, обманывать человека? Глупость какая-то, достойная скорее Пашки. — Иван Александрович… — снова протянул Польских и выразительно посмотрел на ключ зажигания. — А? Ну его к черту, этот крест. Медь, наверное, со стекляшками… Как? А? “Вот скотина жадная, — подумал он, — клещами его теперь не оттянешь. Аж побледнел весь, деятель искусства. Уехали бы, тогда уж никакой Петровки. Сами пытались смошенничать. Уговорить, обязательно надо уговорить уехать”. — Ты думаешь, медь? — вдруг испугался Иван Александрович, выжал левой ногой сцепление и снова протянул руку к ключу. — Нет, чепуха, — успокоил он себя. — Этот человек, владелец бидона, видно, кое-что понимал в ценностях. — Поехали, Иван Александрович. И деньги, и облигации… — Ну как ты можешь, Паша… — взорвался Иван Александрович. — Тебе человек доверяет, а ты… Не ожидал я от тебя. Да, нравы нынче… Дай-ка ты мне лучше свою американскую сигаретку. Сейчас он придет. Он искренне считал себя всю жизнь честным, порядочным человеком. И если ему и приходилось совершать поступки не слишком благовидные, он всегда находил им оправдание, и эти поступки уже начинали казаться благородными, высоконравственными. Проделывать это было не трудно, потому что объективные факты для него просто не существовали, было лишь только его отношение к ним. Иван Александрович покосился на бидон, потом на часы. Прошло уже минут десять. Еще через несколько минут он почувствовал глухое беспокойство. Сколько здесь, в конце концов? Шагов триста туда и обратно. Ну, вытащить крест из укромного местечка, еще две-три минуты… Наверное, ждут, пока кто-нибудь посторонний уйдет. Время ползло невыносимо медленно, словно загустевшее, вязкое масло. Минутная стрелка, казалось, издевалась над ним, решив вовсе не двигаться. Но Иван Александрович знал, что время все-таки идет, что прошло уже больше двадцати минут, что что-то случилось. С мгновение он колебался: так не хотелось переступать грань, по одну сторону которой можно было еще ждать и надеяться, по другую же… И уже не о кресте думалось, а подымалось, леденя пищевод, ощущение непоправимого, ощущение чудовищности случившегося. Как он мог поверить, по-идиотски попасться… — Да нет же, — громко сказал он, — чушь все это. Бидон ведь здесь. Давай его сюда. Он торопливо покопался в багажнике, достал монтировку для смены баллонов, плюхнулся на заднее сиденье; сопя от напряжения и возбуждения, поддел дужку замка и с трудом вывернул ее вместе с краем крышки. Все в порядке. Черная тряпица с деньгами мирно и как-то уютно, по-домашнему лежала поверх облигаций. — Мы их честно ждали, Паша, — медленно сказал он, смакуя слова, словно прохладную воду в суматошный, жаркий и потный день. Он достал тряпицу. — Держи свои восемьсот. Он развернул материю и почувствовал, как внутри у него что-то щелкнуло и оборвалось и все тело мгновенно наполнилось гудящей ватной слабостью. На ладони у него лежала пачка листков, вырезанных из газет, обернутых в двадцатипятирублевую купюру. Машинально он запустил руку в бидон и ощутил что-то плотное, не похожее на бумагу. Он начал вытаскивать облигации: одна, две, три, четыре, пять, шесть… Снова газета и кусок хлеба. “Как бы его кондратий не хватил, — подумал Павел Антонович. — Ничего, выдюжит, стервец”. — Ваня, что с тобой? — испуганно спросил он, впервые назвав Ивана Александровича Ваней. — В-в-вот… — страшно захрипел Вяхирев и швырнул на коврик машины газетные листки. — Четыре тысячи, все, что было… — Он застонал, и лицо его сморщилось в жалкой гримасе. — Ваня, нельзя же так, — жалобно взмолился Польских, — да черт с ними… — Тебе черт, а мне… У-у, гад!.. — Кулаки его то сжимались, то разжимались, словно дышали. “Ну, слава богу, — подумал Павел Антонович и с трудом, как рвущуюся с поводка игривую собачонку, удержал улыбку. — Кажется, пронесло. Можно считать, тысчонка в кармане”. Иван Александрович теперь уже дышал спокойнее, и лицо его начало приобретать обычное, брезгливо-кислое выражение. Но кулаки все еще сжимались и разжимались. — Поехали, — наконец пробормотал он, — на Петровку. В МУР. — Господь с вами, Иван Александрович! Как мы будем выглядеть? Два солидных человека… и такое дело. — Плевать мне на солидность!.. Четыре тысячи, ты понимаешь, четыре! — вдруг дико выкрикнул он, ударил кулаком по сиденью, подняв облачко пыли. — Поехали. Не хочешь — убирайся к черту, я сам поеду. Выкинь все это куда-нибудь. Павел Антонович трясущимися руками начал засовывать в бидон бумагу. Страшного, конечно, еще ничего не случилось. Все как будто продумано, но лучше было бы, если бы этот идиот не тащил его на Петровку, тридцать восемь. Можно было бы, конечно, самому не ехать, но это уже выглядело бы подозрительно. Так. Почему именно встретились на этом месте? Это все обдумано. Недалеко от магазина, хотел посмотреть, что идет в клубе, может быть, взять билеты на вечер. Да, а что, кстати идет? Надо посмотреть. — Выкинь, говорю, все это куда-нибудь, и поехали. Павел Антонович взял бидон, перешел улицу. Переулок с разрушенными домами был пустынен, лишь в сторонке догорал большой костер — должно быть, жгли мусор. Он размахнулся и швырнул бидон на кучу битого кирпича. — Обожди! — крикнул из машины Вяхирев. — Лучше его взять с собой…ГЛАВА 4
Не оглядываясь, Алексей перешел улицу, оказался в переулке. Теперь можно было и закурить. Он вытащил пачку “Трезора”, покатал сигарету между пальцами, разминая табак, щелкнул зажигалкой. Он не волновался, лишь ощущал приятную усталость. Он вообще почти никогда не волновался. Даже когда хоронил отца. Когда сидел у гроба в автобусике с черной полосой на боках и слушал всхлипывания матери. Он не задумывался над тем, почему так противоестественно спокоен, почему не испытывает жалости к желтоватому, высохшему телу под крышкой гроба. Автобусик трясло, и мать то и дело наклонялась к гробу, словно кланялась. Нос ее вспух, и на кончике его дрожала прозрачная капелька, из-под платка торчала седая прядь. Было скучно, и остро хотелось, чтобы все это побыстрее закончилось, чтобы не надо было сидеть с вытянутой рожей и шмыгать для приличия носом. Чего ревут? Ну помер человек и помер. Не первый и не последний. Да и за что должен был Алексей жалеть отца? Что он ему дал? Да и сам что видел покойник хорошего, чего добился в жизни? Всю жизнь, можно сказать, проторчал в яме под брюхами машин, всю жизнь в одной и той же до блеска промасленной кепочке. “Ваня, посмотри… Ваня, затяни… Ваня, смени…” Слесарь, одно слово. А ведь мог бы понять кое-что… Сколько раз ему Алексей говорил: “На дефиците сидишь, отец, на запчастях. Государство у нас богатое, от пары шаровых пальцев или карбюратора не обеднеет. Жить уметь надо”. Покойник же, человек обычно кроткий и тихий, в таких случаях начинал странно дергаться и кричать: “Гнида ты, Алексей, хоть и сын!” Назвать, конечно, можно по-всякому, а жить уметь надо. Это Алексей понял давным-давно, еще мальчишкой. Он ехал от тетки из-за города. Народу в электричке утрамбовалось пропасть, и жаркая, пахучая людская масса прижала его к окну. Было душно, затекла рука. А по шоссе за окном бесшумно, в раскатистом перестуке колес поезда, проносились легковые машины. И Алексей ясно представлял, как сидят в них люди, без давки и толкучки, развалившись на сиденьях и открыв навстречу июльскому теплому ветерку окна. А он, Алексей Ворскунов, должен париться в электричке. Нет уж, все сделает, чтобы не стоять так всю жизнь, не будет дураком, как отец. Жить надо уметь. Он сможет. Треснет, но сможет. И доказал себе, что и вправду сможет, когда в армии возвращался раз к себе в часть со станции. Ребята, что разгружали на станции обмундирование, уехали раньше, а он должен был дождаться старшину и затем уже добираться до расположения на попутных грузовиках. Ждал он недолго, минут, может быть, пять или десять, и ловко взобрался в кузов колхозной машины, остановившейся около него на шоссе. — “В-вот компания какая”… — сипло пропел немолодой колхозник в брезентовом плаще и пьяненько улыбнулся из угла, где он сидел, широко расставив согнутые в коленях ноги. — Садись, солдат, вместе воевать будем… — У него было по-крестьянски загорелое, в глубоких пропыленных морщинах лицо. — С кем? — С бочкой, счас увидишь! Через секунду человек в плаще уже спал, а пустая металлическая бочка из-под горючего начала покачиваться и медленно двинулась на Алексея. “Вот вахлаки, — подумал он, — закрепить не могли”. — Эй, папаша! — крикнул он колхознику. — Вставай, а то еще придавит! Но того, видно, основательно растрясло, и он лишь что-то промычал в ответ. Алексей взял его под мышки и с трудом поставил на ноги у кабины. Так было удобнее увертываться от пританцовывавшей в кузове бочки. — Спа-сиб… — пробормотал человек, неуклюже упираясь руками в крышу кабины. Левый рукав плаща слегка завернулся, и Алексей увидел новенькие часы. Стрелка показывала без трех минут четыре. — Веселей, папаша, — сказал Алексей, придерживая попутчика, который даже стоя не открывал глаза. Тот ничего не ответил, все норовя опуститься на пол. Алексей, не отрываясь, смотрел на часы. Кончик ремешка торчал из пряжки, и достаточно было потянуть его, чтобы часы оказались у него в руках. Хорошие часики, золотистые, денег стоят. Он смотрел на часы, боясь вспугнуть мелькнувшую мысль, давая ей окрепнуть, расправиться. Он не волновался, лишь чувствовал острое возбуждение, от которого быстрей стучало сердце и напрягалось все тело. Он уже твердо знал, что потянет за кончик ремешка. “Если тут же схватится, верну. Скажу, взял, чтоб не разбились. Поверит, да еще пьяный. Если нет, сразу же сойду. Нет, пожалуй, лучше в Ложках, а не просто на дороге. Лучше в Ложках… Мало ли зачем? А когда протрезвеет, где ему вспомнить… То ли там потерял, то ли в другом месте сняли… Ничего не поделаешь, жить надо уметь”. Он обнял одной рукой человека за талию, а другой потянул за кончик ремешка, и часы удивительно быстро оказались у него в руке. Он не волновался и теперь, почти ничего не испытывал. Все ведь в жизни гораздо проще, нужно только не хлопать глазами и не трусить… …Алексей споткнулся о моток ржавой проволоки на перерытой бульдозерами земле и выругался. Он свернул в сторону и вошел в еще чудом сохранившийся в этом царстве разрушения дворик. Несколько старых яблонь со следами белой обмазки на искривленных стволах жалко растопырили развесистые ветви, словно предчувствовали скорый свой конец. Деревянный двухэтажный дом был наполовину разобран, и в проемах стен видны были куски обоев и обрывки проводки. Но развалины не казались трагичными, какими бывают развалины на войне. Там разломы проходят по живому телу дома, страшно обнажая его не предназначенные для постороннего взгляда внутренности: кровать, стол, шкаф, качающийся на ветру беззащитный и нелепый абажур. Здесь развалины стояли пустые, брошенные, должно быть, спокойно и без слез, быстро забытые обитателями в новых квартирах с горячей водой. Игорь шагнул навстречу из-за сарая, почти невидимый в октябрьских дождливых сумерках. — Ну как, Леша? — прошептал он, и по шепоту можно было догадаться, что во рту у него пересохло. — Порядок, Игорек, — усмехнулся Алексей. — Четыре восемьсот. Восемьсот Павла Антоновича, остается четыре… — Ну, слава богу. Хорошо, что всё позади. — Неплохо. За два часа, ей-богу, неплохо. Давай смывай с меня грим, снимай бороду, щекотно от нее. Костер горит? — Горит, Леша, два раза ходил проверять. Вон же, видишь? — Игорь и говорил и двигался суетливо, пряча от товарища страх. — Снимай куртку и брюки. Бросим их в костер к черту, пускай горят. Ничего не поделаешь, издержки производства. Мало ли что может быть… Ты свои краски и пузырьки с клеем выкинул? Смотри… — А что? — испуганно воскликнул Игорь. — Что-нибудь… — Да нет, все нормально. Предусмотрительность. Давай переодевайся. Сейчас и я разденусь, и пойдем. Алексей снял с себя рваную кепку, рабочую спецовку и штаны, оставшись в коричневой нейлоновой курточке на “молнии” и в своих обычных брюках. Переулок, теперь уже до краев налитый густыми сумерками, был пустынен, и лишь на уцелевших стеклах трепетали красноватые отблески костра. Они прошли узким мостиком над линией электрички, пышли на Сущевский вал и сели на восемнадцатый троллейбус, идущий к Белорусскому вокзалу. — Вот так, Игорек, — сказал Алексей, — жить надо уметь. Поедем к тебе. Купим бутылочку по дороге… Кончил дело — гуляй смело. Все было правильно. Все было так, как должно было быть. Надо только заранее все продумать, все учесть, не торопясь, спокойненько. “На Петровку они, конечно, не двинут, — думал Алексей, глядя на запотевшее окно троллейбуса. — Смотаются. А раз смотаются, значит, у самих рыльце в пушку. Ну, это уж забота Павла Антоновича. Человек солидный, умеет жить. А если даже и потянет в милицию этот режиссер, концов нет. Зачем им портить себе статистику нераскрытым делом… С какой им стороны взяться? Ищи в Москве двух узбеков… Ну, на худой конец, Павла Антоновича прощупают… Стреляный воробей, жук. Сам говорил: “Восемнадцать лет в торговле, и ни одного прокола…” На меня-то им уж никак не выйти. Чепуха! Да и не потопает режиссер в милицию”. Игорь долго копался в кармане — никак не мог найти ключ, — наконец открыл дверь. — Проходи, Леша. — Он щелкнул выключателем, достал из кармана бутылку “Столичной”, со стуком поставил на стол. — Раздевайся, я сейчас… Алексей брезгливо обвел взглядом небольшую, метров двенадцать, комнатку. Сразу видно: холостяк и человек здесь живет несолидный. Тахтенка продавленная, приемничек какой-то доисторический, телевизор паршивенький. Зато афиша на стене: “М.Горький. “Мещане”. В постановке драмкружка клуба… Нил — И.В.Аникин”. Игорь Васильевич Аникин. Нил Нилом, а мебелишки приличной купить не может. Вот тебе и мещане, вот тебе и Горький… Игорь вернулся с двумя стаканами, открытой банкой консервов и колбасой кружочками на тарелке. — Ты уж прости, Алеша, не подготовился, — заискивающе пробормотал он. — Да, скучно живешь, — твердо, как бы подытоживая свои впечатления, сказал Алексей и сел к столу. — Ну ничего, научишься. Если человек понимает, как нужно жить, тогда и жить будет. Н твои пятьсот, держи. Игорь вздрогнул и нерешительно посмотрел на товарища. — За “спасибо” не работают, — рассмеялся Алексей. — Это твоя доля. Тысяча — Павлу Антоновичу, а остальное, как договаривались, мои. Держи, не бойся, не укусят. Ручные они… Игорь неумело затолкнул в карман пачку и робко улыбнулся: — Даже как-то не верится, Леша. Столько денег — и все мои… И, честно признаюсь, все-таки боязно. Знаешь, как-то… по-чудному… — “По-чудному”… Ты лучше налей. — Прости, Леша, — захлопотал Игорь, — сам понимаешь, растерялся я немного… — Он торопливо сорвал с бутылки металлическую пробку и налил в оба стакана. — Ну, Игорек, с богом, будь здоров. Алексей не торопясь выпил, закусил и почувствовал ту теплоту в желудке, о которой его покойный дедушка всегда говорил: “Словно Христос босиком по душе пробежал”. Все в жизни хитро устроено. С умом нужно быть, с умом — это главное. И не зарываться, как Григорий Федорыч, который показал ему, как сделать куклу из газетной бумаги и как всучить ее фраеру. Неплохой был человек, женин родственник какой-то, из Куйбышева приехал. Выпил раз, хмыкнул и говорит: “Ты, Леха, слушай: хочу тебе по-родственному искусство свое передать. Волка ноги кормят, а человека — голова да руки. Дай-ка мне десятку, ножницы и газету”. “Зачем?” — подозрительно спросил. Григорий Федорыч рассмеялся: “Ну и жмот ты. Отдам тебе десятку, не бойсь. Показать кое-что хочу, научить тебя, дурака…” Но сломался старик, вышел из заключения уже не тот. Сам так и сказал: “Я, говорит, Алексей, уже не тот. Уверенности в руке нет. А в этом деле без уверенности не моги”. Это верно он говорил: уверенность должна быть, но главное — с умом. Слава богу, уже не первую куклу подбросил и ни разу не ошибся. Не зарываться, не спешить, продумать все, как следует. Риск? Еще неизвестно, что опаснее: баранку крутить по московским улицам или аккуратненько обвести какого-нибудь пижона… — Ну что, Игорек? — Как-то даже не знаю… Все никак не отойду… — А ты еще выпей. Налей. И в руки себя возьми. Человек ты или стюдень? Ну, поехали. “Теперь можно и позвонить Павлу Антоновичу, — подумал Алексей. — Уже должен быть дома, как договаривались”. Не спрашивая Игоря, он вышел в коридор, подошел к висевшему на стене телефону и набрал номер. Ответила Зоя, жена Павла Антоновича. — Да? — Павла Антоновича, — нарочно пискляво, чтобы не узнала, попросил Алексей. — Нет его. “Так, значит, все-таки режиссер закусил удила, — подумал Алексей. — Неприятно, конечно, но такой случай предусмотрен. Все чисто. Привет из Узбекистана”. — Домой звонил, — объяснил он Игорю. Тот встрепенулся и попытался улыбнуться, но улыбка была вымученной. — Я тебя, Игорек, понимаю, — утешительно сказал Алексей, подошел к окну и посмотрел на здание Архитектурного института, что стояло перед домом Игоря. — Это пройдет. Первый раз, что ты хочешь… Это тебе не мещан Горького играть. Зато и плата повыше, а? Ты что думаешь купить-то3 “Дерьмо парень. Трусит, — подумал он. — Проследить за ним надо, заходить почаще пока что”.ГЛАВА 5
Голубев с отвращением посмотрел на горку окурков, переполнявших пепельницу, и поморщился. — Сколько мы с тобой курим, Сережа, кошмар какой-то. Надо что-то делать, а то, я чувствую, у меня из ушей дым начинает идти. Давай попробуем ограничивать себя. Ну, скажем, по десять штук в день, а? — И смотреть все время на часы? — усмехнулся Шубин. — Надо переходить на трубку, вот что. С ней возни больше- значит, меньше останется… — …времени на работу. — Ей-богу, я серьезно. Трубка — раз, кисет с табаком — два, прочищалка — три. И вообще по статистике трубка — наименее вредная штука. Не сравнить с сигаретами или папиросами. Ведь с сигаретами черт знает до чего доходишь. Я вот, когда мы с этими двумя беседовали, хотел закурить. Достал сигаретку, хочу взять ее в рот, а там уже другая дымится. Автоматизм. — Трубка — это прекрасно. Но учти, что трубкой баловались наши коллеги — товарищ Холмс Шерлок и комиссар полиции товарищ Мегрэ из произведений Сименона. Так что с трубками во рту мы сами напрашиваемся на сравнение… Бросать надо. — И работу эту тоже бросать надо. Вот устроюсь бакенщиком на глухую речушку. Тишина, волны плещут о берег суровый. А я, мудрый и с длинной седой бородой, сижу в лодке, думаю о смысле жизни и… — …курю трубку. — Циник ты, Боря, не даешь человеку в лодке посидеть… — …покурить спокойно… Шубин медленно снял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула и подтянул рукава белой рубашки. — Бить будете, гражданин майор? — деловито спросил Голубев. — Прозорлив, собака! — восхищенно сказал Шубин. — Что значит хорошая голова. — А как же соцзаконность? — Ради такого можно и нарушить разок. Суд меня поймет. Шубин сделал выпад вперед, делая вид, что хочет провести один из приемов самбо, но Голубев ловко увернулся. — Ай-ай-ай, вот вам нынешняя молодежь… — горестно покачал головой Шубин. — Я же его обучал самбо, и он же уворачивается. Нехорошо. Дай сигаретку, Боря. — Пожалуйста, отравляйтесь на здоровье. Они сидели молча, курили. Можно было дурачиться сколько угодно, можно было говорить обо всем на свете, но мысли были уже прочно заняты делом о бидоне, как они успели окрестить его. Этот процесс обдумывания, сопоставления, поисков логических неувязок, перебора вариантов шел автоматически, и остановить его теперь было уже невозможно. Дело уже въелось в них. И подобно тому, как писатель в работе над книгой не может не думать о ней, так и они не могли отключиться, даже если бы и хотели. Но они и не хотели отключаться. Это была их работа, их профессия, тяжелая и изматывающая, но дающая вместе с тем ощущение постоянного творчества, бросающая каждый раз всё новые и новые вызовы их проницательности, уму, настойчивости, знаниям. И тот, кого этот вызов не возбуждает, — тому в уголовном розыске делать нечего. И пусть бывают в жизни каждого оперативного работника моменты, когда, измочаленный и разочарованный, он в сотый раз поклянется себе немедленно бросить свое неблагодарное ремесло, он знает, что никогда этого не сделает, потому что любит его и не мыслит себе без него жизни. Голубев посмотрел на часы: — Уж полночь близится… — Пошли, — решительно сказал Шубин и достал из шкафа пальто. Дождь прошел, и над садом “Эрмитаж” висел яркий, словно надраенный “Пемоксолем”, рог луны. Улица была пустынной, лишь парень и девушка стояли у тротуара и с надеждой поднимали руки при виде такси. Но те не останавливались — должно быть, торопились в парк — и исчезали, подмигнув зеленым глазком. — Ну-с, капитан Голубев, — сказал Шубин, ежась на зябком октябрьском ветерке и с удовольствием вдыхая холодный, пахнущий поздней осенью воздух, — что мы имеем на сегодняшний день, точнее, ночь? — Мы имеем двух узбеков, которых не имеем и которые скорее всего такие же узбеки, как мы с тобой кафры или бушмены. Почерк профессиональный. И место и время — под вечер — выбраны со знанием дела. Имеем алюминиевый бидон с двумя замочками, имеем двоих потерпевших и нераскрытое преступление. — Поразительно, — пробормотал Шубин восхищенно, — какой могучий интеллект, какое умение охватить орлиным взором всю картину! Голубев, я снимаю перед вами шляпу. — Спасибо, Шубин, но вы можете простудиться… Но серьезно, Сережа, кроме бидона, нет ни единой зацепки. — Посмотрим правде в глаза, — задумчиво сказал Шубин. — Если ни Вяхирев, ни Польских не являются соучастниками преступления, тогда наши шансы практически равны нулю, помноженному на бесконечность, или, если угодно, корню квадратному из минус единицы. Режиссер, конечно, наводчиком быть не может. Он полегчал ровно на четыре тысячи рублей, причем, по-видимому, не врет, поскольку сам показал свою сберкнижку. Второй, Польских, потерял, если действительно потерял, ровно в пять раз меньше, причем утверждает, что взял деньги дома. Завтра мы это попытаемся проверить. Кроме того, место свидания определил Польских, а не Вяхирев. — Но место вполне резонное, почти рядом с его магазином и недалеко от квартиры, — возразил Голубев. — Это верно, — согласился Шубин. — Мало того, по-видимому, Вяхирев действительно просил его помочь достать дубленку и действительно Польских обещал ему это сделать. Смотри, как все естественно и натурально. Я бы сказал, продуманно. — Если быть уверенным, что он соучастник. — А я и не уверен. Я ведь не бегу к прокурору за ордером на арест. Я просто перебираю дебютные варианты. — Но ведь они друзья как будто. Знакомы несколько лет… — Звучит банально, но в иной дружбе столько замысловатой психологии, что покойник Фрейд развел бы руками. От одного вида этого Вяхирева молоко может скиснуть. И все же, видимо, дружба с ним льстила Польских. Режиссер, мир искусства, кино… — Ты хочешь сказать, что теперь, когда Вяхирев уже не тот, кем был раньше, Польских мог… — Черт его знает, что он мог, что не мог, — вздохнул Шубин. — Я знаю одно: или надо исходить из того, что Польских соучастник и наводчик, или мы с таким же успехом можем искать прошлогодний снег. — Насчет снега это вы тонко заметили, товарищ майор, — вздохнул Голубев. — Ладно, ты давай завтра с утра попробуй выяснить, действительно ли Польских приходил домой за деньгами. И разузнай насчет его знакомств, а я займусь магазином. Посмотрим к тому же, что там с отпечатками пальцев на бидоне. — Есть, Сережа. Ну, я побежал, вон мой троллейбус. Спокойной ночи. Голубев кинулся к стоявшему троллейбусу, вскочил на подножку и помахал рукой Шубину. Дверь со злобным шипением захлопнулась, машина разочарованно вздохнула, с места набрала скорость. Они никогда не говорили о своих чувствах друг к другу и были бы, наверное, крайне смущены, если бы им пришлось это сделать. Но Шубин знал, что даже думать о Голубеве было ему как-то приятно, и уверенность, что завтра он снова увидит его длинное, худое лицо с маленькими, умными глазами, тоже была приятна. Они стали друзьями почти с первого дня знакомства, когда Голубев с обезоруживающим любопытством спросил: “А правда, товарищ капитан (тогда Шубин еще был капитаном, а Голубев, пришедший в его группу, — старшим лейтенантом), что вы учились на физико-математическом?” Странно, однако, складывается у человека судьба, — от скольких только случайностей она не зависит! Намгновение Шубину показалось, что все это как-то нереально и странно: он, Сережка, и вдруг майор милиции. Дома спит, подогнув, как обычно, ножки к самому подбородку, сын Мишка, Вера, наверное, ждет его, борясь со сном при помощи английской грамматики. Да, право, он ли это? Тот ли Серега, которого сам председатель колхоза Александр Федорович только вчера призвал пред свои очи и спросил: “Правда, ты на областной, как ее… олимпиаде по математике второе место занял?” “Правда”, — смутился почему-то Сережа. Председатель, кряхтя, вылез из-за заваленного бумажками стола, с минуту смотрел на Сережу каким-то отсутствующим взглядом, потом неловко погладил его по голове и пробормотал: “Ну давай, давай, мужичок, старайся…” Потом мать объяснила, что оба сына председателя, погибшие на войне, имели, говорят, способность к математике… Да, но и ему, Сергею, не пришлось стать математиком. Сколько случайностей, просто удивительно… Он демобилизовался и возвращался из части к себе на Ярославщину. Сначала нужно оглядеться, а потом уже и решать, что и как дальше. Он сидел на отполированной до блеска бессчетными телами скамейке в зале для транзитных пассажиров Ярославского вокзала в Москве и ждал поезда. Впервые за три года службы он никуда не торопился, не боялся просрочить увольнительную, ни перед кем не отчитывался. И это ощущение полной свободы, неподотчетности, какой-то расшнурованности было непривычно и даже стесняло его. Наверное, так чувствует себя лошадь, с которой в один прекрасный день вдруг снимают хомут, хлопают по крупу и говорят: отдыхай. Напротив, через проход, здоровенный подвыпивший парень приставал к девушке. Девушка испуганно отодвигалась, но рядом с ней, опустив голову на грудь, спала, подрагивая, пожилая женщина. — Значит, образованная, — ухмылялся парень, наваливаясь на девушку плечом. Та не отвечала, лишь крепче прижимала к себе авоську, раздувшуюся от трех батонов и множества кульков, словно искала в ней защиту. — Значит, образованная, говоришь, — с тупой обидой повторял парень. — Уж и дотронуться нельзя. Он попытался ее обнять, положив руку на плечо, но девушка вскочила. — Брезгуешь, значит, — злобно выдохнул парень и дернул соседку за руку. Она упала на скамейку и, должно быть, ударилась головой о высокую спинку, потому что на глазах у нее выступили слезы. Сергей не решал, ввязываться ему или не ввязываться. Он вдруг сообразил, что стоит почему-то прямо перед парнем, сжав кулаки, а тот презрительно-оценивающим взглядом меряет его невысокую фигуру. — Ну-ка, брысь отседова, — не зло, даже с некоторым состраданием сказал парень. — Оставь девушку, — весь дрожа от ненависти к этой тупой злобной морде, к этому воплощению наглой издевающейся силы и бесстыдства, прошипел Сергей. — Ишь ты, — радостно изумился парень и встал. Он был на полголовы выше Сергея и весил, наверное, килограммов на тридцать больше. — Сознательный, значит… Он выбросил вперед правую руку, целясь в лицо Сергея, но бесчисленные часы занятий самбо, автоматизм, намертво вошедший в Сергея за эти годы в парашютно-десантных частях, сделали свое дело. Он резко уклонился от удара и одновременно сделал подсечку. Парень очутился на полу. Заплакал проснувшийся ребенок, спавшая женщина испуганно замигала со сна, девушка не спускала с Сергея широко открытых глаз. — Самбист? — деловито спросил кто-то Сергея из-за спины. Он обернулся. Старшина милиции подмигнул ему и добавил: — Помоги-ка его проводить… — Так-так, — потер руки в комнате милиции немолодой старший лейтенант и отпил глоток чая из стакана в подстаканнике. — Выходит, демобилизованный; выходит, самбист; выходит, едешь домой. Так-так. Образование? — Десять классов. — Картина ясна, — сказал старший лейтенант и решительно отодвинул от себя стакан в подстаканнике. — Никуда ты не уедешь. — Почему? — испугался Сергей. — Да потому, что ты будешь служить в милиции. — Что-о? — А то, — рассмеялся старший лейтенант, — не прощу себе, если выпущу из рук такого парня. Понял? — Так точно! — автоматически выпалил Сергей. То ли все было слишком неожиданно, то ли он еще не пришел в себя от волнения, то ли рефлекс повиновения, выработанный за годы в армии, сыграл свою роль, но решал уже все старший лейтенант. — Садись, попьем чайку, поговорим… Через неделю, съездив домой, Сергей уже был милиционером. Звания своего нового он не стеснялся, потому что подсознательно всегда видел себя между той девушкой с испуганными глазами и здоровенным верзилой в облачке сладковатого перегара. Но оставалось какое-то чувство предательства и перед Анной Павловной, его старой учительницей, и перед собой, и перед математикой. Он набрал кучу учебников и почти все свободное время занимался. …Билет на вступительных экзаменах по математике в МГУ он тащил при одном экзаменаторе, а пока дожидался своей очереди отвечать, пришел другой, худощавый человек лет сорока—сорока пяти, в очках с толстыми стеклами. Оглядев экзаменующихся и заметив милицейскую форму, он подошел к Сергею и шепотом спросил: — Кого вы ждете, товарищ? — Как — кого? — удивился Сергей. — Очереди своей. — Какой очереди? — переспросил экзаменатор и громко хрустнул суставами пальцев. — Экзамен сдавать. — А где же ваши записки? — спросил человек, посмотрев на чистый стол перед Сергеем. — А я… — смутился Сергей, — так… — Что “так”? — В уме. Экзаменатор не спеша снял очки, подслеповато помигал, причем глаза его оказались совсем не такими, какими были за толстыми стеклами, а добрее и беспомощнее, протер очки носовым платком и сказал: — Молодой человек, вы, часом, не смеетесь надо мной? — Да что вы! — Сергей никак не мог понять, что именно так поразило этого человека. Анна Павловна, правда, говорила ему, что он здорово держит все в уме, но этот московский профессор… — Отвечайте, и немедленно! — взвизгнул человек. — К доске! Все еще недоумевая, Сергей начал отвечать. Экзаменатор сидел молча, глядя прямо ему в глаза. — Ну-с, а если так? — спросил профессор и изменил условия задачи. — Тогда так, — сказал Сергей и снова начал отвечать. Говорить ему было легко, потому что мысленно он видел перед собой огромный чертеж и ему нужно было лишь как бы читать раскрытую страницу. — Как вас зовут? — почему-то шепотом спросил профессор, очевидно забыв, что перед ним лежал экзаменационный листок Сергея. — Сержант Шубин Сергей Родионович. — Надо запомнить, — снова прошептал экзаменатор и вдруг тонко выкрикнул: — Позвольте поздравить вас, сержант Шубин Сергей Родионович! Вы… вы даже не понимаете… …Старший лейтенант все понял, пожал ему руку, усадил перед собой и заставил раза три пересказывать сцену на экзамене. Потом сказал: — Ну, с богом, Шубин, учись. Но нас не забывай, в случае чего — прямо ко мне. — Он вздохнул. — Значит, учиться? — Учиться, товарищ старший лейтенант. В конце первого семестра Шубин узнал, что умер его отчим, мать больна и не может работать в колхозе. “Но как-нибудь мы с Колей перебьемся, ты не волнуйся, учись, сынок”, — сообщала мать. Письмо было написано детским почерком брата на листке в косую линейку, вырванном из тетради. Отговаривали Сергея всем факультетом. Но нужно было помогать матери и брату, и он слишком хорошо знал, что значат слова “как-нибудь перебьемся”. Как-нибудь они, конечно, перебьются, но он не мог не видеть постоянно в своем воображении маленького брата и мать, терпеливо и безропотно ждущих, пока он сможет помочь им. А сможет ли вообще мать дождаться? Еще четыре года назад врач в районной больнице сказал, что почки у нее никуда не годятся, и отчим страшно разволновался, а она лишь пожала плечами и сказала: “Бабы — они живучие”. Так он оказался в школе милиции, откуда мог посылать домой почти всю свою довольно высокую стипендию. Иногда, конечно, бывает жаль, что так все получилось. Но теперь, пожалуй, он не променял бы свою профессию ни на какую другую в мире, даже если иногда и хочется плюнуть на все. …Он поднялся пешком на пятый этаж — лифт, как всегда, не работал — и тихонько открыл дверь. Вера еще не спала. Она сидела на кухне и проверяла тетрадки. — Опять? — вздохнула она и смешно сморщила нос. — Опять, — тяжко вздохнул Сергей. — Дело? — Оно. Поесть-то милиционеру дали бы, гражданочка. — Пищеблок закрыт на учет. Яичницу будешь? — Давай. Что нового? — Мишка двойку получил. За домашнее задание. Задали написать десять палочек, десять крючочков и сколько хочешь ноликов. Он написал нолик и объяснил учительнице: “Вы, говорит, сказали, сколько хочешь ноликов. А я хотел только один”. — Логично, — сказал Сергей. — А мог бы и не написать ни одного. Тоже вошло бы в категорию “сколько хочешь”. У человека научный склад ума, ничего не поделаешь. — Я ему за научный склад ума уже выдала. — Вот так губят будущих Галуа и Лобачевских, не говоря уже об Эйнштейнах. Смех смехом, но он же не понимает, за что ему поставили двойку, а раз не понимает, смысла в ней не густо. — Ну, побыл бы ты учителем… Ешь яичницу. Сергей ел, разговаривал, но в этом участвовала лишь малая часть его сознания. Большая была занята сценой, которая несколько часов назад разыгралась на улице Правды напротив Строевого переулка.ГЛАВА 6
Шубин посмотрел на часы — без пяти одиннадцать. Польских должен быть уже в Торге. Там сегодня совещание. Ровно в одиннадцать. Шубин вошел в магазин, огляделся, направился к продавщице кондитерского отдела — у нее одной не было в этот момент покупателей. — Девушка, а “Мишки” есть у вас? — Нет, — равнодушно сказала продавщица. — Все, что есть, — на прилавке. — А бывают они? Мне совершенно необходимо найти сто пятьдесят граммов медведей. Продавщица фыркнула и с любопытством посмотрела на Шубина. — Разве что в лесу… — ответила она в тон. — Спасибо большое, — серьезно сказал Сергей. — Вы не скажете в таком случае, как добраться до ближайшего леса? Девушка рассмеялась. Глаза ее с густо накрашенными ресницами округлились и стали совсем детскими. “Симпатичная девчушка, — подумал Шубин, — играет, наверное, роль многоопытной дамы, много пережившей и повидавшей, уже успевшей разочароваться в жизни, а на самом деле воробушек… Попробуем с ней”. — А еще лучше, если бы вы согласились проводить меня. Я один боюсь ходить в лес. Глаза у продавщицы сразу поскучнели, и лицо сложилось в презрительную гримасу. — Много вас, всех не проводишь. “Ишь ты, колючка, — улыбнулся про себя Шубин. — Впрочем, девчонка привлекательная, и за день, наверное, ей таких шуточек приходится выслушивать немало”. — Вы меня неправильно поняли… — Понять нетрудно, — отрезала продавщица и демонстративно отвернулась. — Не сердитесь. Вы не скажете мне, как найти вашего директора? — Жаловаться будете? Идите, он это любит. Только попозже. Павел Антонович изволили-с недавно отбыть в Торг собственной персоной. “Гм, интересно. Девчонка его не любит. И грамотная. Наверное, с десятилеткой. Что ж, тогда рискнем”. — И опять вы меня неправильно поняли. Я вовсе не собирался на вас жаловаться. Я хотел задать ему несколько вопросов. И может быть, вы сумеете помочь нам. — На-ам? — удивленно протянула девушка. — Что значит “вам”? — Московскому уголовному розыску, — тихо сказал Шубин. — Так бы и говорили, — почему-то рассердилась продавщица, — а то — медведи… Сейчас попрошу подменить меня… — Не нужно. У вас ведь перерыв есть? — Есть. — Вот тогда и встретимся. В скверике за углом вас устроит? — Устроит, — кивнула продавщица, с плохо замаскированным любопытством рассматривая Шубина. — Простите, как вас зовут? — Валентина. — И пожалуйста, Валентина, никому не говорите в магазине о нашем свидании. Хорошо? — Что я, маленькая? — Что вы, что вы, — улыбнулся Шубин, — вы совсем не маленькая… …На ней были модные сапожки и светлое, почти белое, синтетическое пальто с шалевым воротником. Светло-рыжие волосы были уложены в высокую прическу. “Как они у них держатся? — подумал Шубин, глядя на ее быстро шагавшую через сквер фигурку. — Вставляют они внутрь что-нибудь, что ли?” — Садитесь, Валентина. И позвольте представиться: Шубин Сергей Родионович. — Очень приятно, — чинно кивнула Валентина. Она слегка волновалась и сидела на самом краю скамейки, напряженно выпрямив спину. — Первый вопрос такой. Вы вчера работали? — Да. — Примерно от пяти до пяти сорока — пяти пятидесяти были вы в магазине? — А где же я еще могу быть в это время? — Прекрасно. А не был ли, случайно, в это время в магазине директор? — Павел Антонович? Да… часов около пяти он пришел в магазин, с полчаса, может быть побольше, пробыл у себя в кабинете, а потом ушел. — А откуда вы знаете, что он был в кабинете? — А где же ему было быть? Он еще выглянул, позвал Екатерину Сергеевну, кассиршу. — Зачем? Валентина пожала плечами. — А долго у него пробыла кассирша? — Он ее позвал, потом она вышла, снова вернулась в кассу и еще раз ходила к нему. “Гм… Раз Польских был только в магазине, он мог взять деньги в кассе, рассчитывая тут же вернуть их”, — подумал Шубин и почувствовал легкое удовлетворение. Директор — весь воплощенное стремление помочь, услужить — не понравился ему. “Значит, по крайней мере в отношении денег, он, скорее всего, врет. Деньги в кассу, конечно, возвращены, и с кассиршей этой, пожалуй, лучше пока не беседовать. Все равно будет отрицать да и директору доложит…” — Ну хорошо, Валентина. И еще вопрос. Постарайтесь вспомнить, ходили ли к Павлу Антоновичу какие-нибудь его приятели? Может быть, вы заметили? Глаз у вас зоркий… — Да нет, у него этой привычки нет… Да что у нас в магазине особенного? Видите, “Мишек” и тех нет. — Она улыбнулась и искоса посмотрела на Шубина. — И все-таки, может быть, кто-то к нему приходил, кого вы заметили? Например, узбек средних лет, с бородой? — Нет, Сергей Родионович. — Ну что ж… На нет и суда нет. — Постойте… Вот только на днях заходил к нему один человек… Хмурый такой, брюнет, среднего роста, широкоплечий, лет так тридцати… — А почему вы его запомнили? — А потому, что весь день дождь сильный был, а он вошел без шапки, а волосы сухие. Я и подумала автоматически, что, наверное, прямо из машины вылез. Подумала и поглядела в окно. А там и правда машина стоит. И потом, мне показалось, что где-то я его уже видела. — А какая машина, вы не заметили? — Нет, с моего места штучный окно загораживает, у них там всегда ящики из-под бутылок стоят. — Но машину вы все-таки заметили? — Крышу только. Красная… Вернее сказать, оранжевая. “Скорей всего, такси, — подумал Шубин, — у них довольно много машин с оранжевой крышей…” — А почему вы уверены, что это был не просто покупатель? — Какой же покупатель, если он к прилавку и не подходил, а прямо к Павлу Антоновичу, да еще не спрашивая, как к нему пройти. — А как был одет этот человек, если вы заметили? — Обыкновенно… В куртке… Кажется, без галстука. — А вы не помните, в какой именно день приходил этот человек? — Нет, точно не помню. — Ладно, это установить не трудно: вспомним, когда весь день шел дождь. И последний вопрос. Как вы относитесь к вашем директору, что он за человек? Валентина пожала плечами. — Как отношусь? Да никак. Директор и директор. Вообще-то в магазине порядок… ничего не скажешь. — И все-таки мне показалось, Валентина, что вы его не очень жалуете… — Да нет, все нормально, Сергей Родионович. — Спасибо вам большое, Валентина. — Да что вы, не за что. — И как договорились, в магазине ни слова. — Я ж вам сказала… ? Шубин подошел к окну кабинета, схваченному решеткой, невидяще уставился во двор, побарабанил пальцами по подоконнику. Голубев сидел за столом, подперев подбородок ладонью. — Значит, кроме того, что Польских соврал относительно денег — он же уверял, что взял их дома, — пока что мы ничего не выяснили, — сказал он. — И еще у нас есть человек с сухой головой во время дождя, — не поворачиваясь, добавил Шубин. — Я бы предпочел, чтобы у него была мокрая голова в сухую погоду. Тогда все было бы просто: проверить все души, ванны и краны в Москве и установить, кто именно мыл в этот день голову. — Боря, — сказал Шубин, — я заметил, что твои потуги на остроумие особенно настойчивы, когда у тебя нет идей. Поэтому ты обычно такой веселый человек. — Спасибо, шеф. Неизвестно еще, что лучше: много идей и мало остроумия или наоборот. — Еще хуже, когда нет ни идей, ни остроумия. — Сережа, твоя самокритика разрывает мне сердце. И поэтому я тебе скажу вот что: давай в качестве рабочей гипотезы действительно исходить из того, что этот посетитель Польских, среднего роста и с широкими плечами, вполне мог быть узбеком в операции “бидон”. Тем более, что по описанию потерпевших главный узбек был тоже среднего роста и довольно широкоплечий. Возраст пока что принимать во внимание не будем, как и его реденькую бородку. Давай дальше исходить из того, что он заезжал к Польских на машине, причем, очевидно, на такси. — Все может быть… — И давай исходить из того, что он должен был хорошо знать этот переулочек, знать, что там сносят дома, знать, когда там кончают работать… — Все это он мог узнать от Польских. Он же работает недалеко оттуда. — Это в том случае, если идея всей операции принадлежит Польских. А если это идея узбека? И сценарист он, а не Польских? Тогда именно он должен был хорошо знать этот переулок, выбрать его. “Кукольник” — из уголовных профессий одна из наиболее квалифицированных. И, как всякий хороший специалист, вряд ли он положился бы на неопытного наводчика в выборе места для работы. — Допустим, Боря, ты прав. Что это нам дает? — А то, Сергей, что человек с сухой головой либо живет где-то там, либо работает. Это всего лишь шаткая гипотеза, но, пока нет лучших, бросать ее, по-моему, не стоит. Есть хоть что-то, над чем работать. — Исчезающе малая величина, стремящаяся к нулю. — Хватит тебе постоянно бить меня нулями. — Я им мщу, нулям. Мишка двойку вчера получил за нолик. — Бедный ребенок. Семь лет — и такой жестокий удар судьбы… Ох, хох-хох, грехи наши тяжкие… Голубев достал из ящика бутылку коньяка, встал из-за стола, неслышно подошел к Шубину, все еще стоявшему лицом к окну, приставил бутылку к его спине и громко скомандовал: — Хенде хох, русс, сдавайс! Шубин поднял над головой руки: — Гитлер капут! Проигрыш? — Так точно, товарищ майор. Пострадал за родное “Динамо”. — Армянский? — Так точно, три звездочки. — Это хорошо, — мечтательно вздохнул Шубин. — Тш-ш, товарищ майор, кто-нибудь услышит — решит, алкоголик в МУРе. — Ничего, скажем, следственный эксперимент. А что ты сейчас собирался делать? — Да ничего особенного… — Может быть, поедем ко мне? Сейчас позвоню Вере. Он набрал номер и сказал в трубку: — Верочка, ты не волнуйся, но у меня очень неприятные новости. Понимаешь, Борис случайно нашел у себя в столе бутылку коньяка… — Идиот, — добродушно сказала Вера. — Приезжайте, — и положила трубку. — Не женись, Боря, — грустно сказал Шубин, надевая пальто. — Стараюсь, товарищ майор. …Миша еще не спал, с криком выскочил в коридор в одной пижамке и прыгнул на шею Голубеву. — В отца ты, Мишуля, интуиция у тебя. Чувствуешь, что у меня в кармане. Вот тебе шоколадка за двойку. Вера грозно нахмурилась сквозь улыбку: — Ты с ума сошел! Вырабатываешь у ребенка положительный условный рефлекс на двойки. — Эх-хе-хе, а на что еще детям друзья дома? Воспитывают родители, а портят дяди. Как ты считаешь, Майкл? — Это ты юмор говоришь. — Правильно, Майкл, молодец. — Спать, — решительно скомандовала Вера. — Попрощайся по-английски и бегом в кровать, уже половина девятого. — Гуд найт, — сказал мальчик и в сердцах добавил: — Вырасту — сроду спать не буду ложиться. Они уселись за стол на кухне, и Голубев торжественно достал из кармана бутылку. — Нун гут, загте дер бауэр, — удовлетворенно сказал он. В школе на уроках немецкого они долго читали один и тот же рассказ про крестьянина, и запомнившаяся фраза употреблялась ими на все случаи жизни. В прошлом году на стадионе в Лужниках Голубев заметил со своего места Стасика Феофанова, с которым не виделся с окончания школы. Стасик, солидный и слегка полысевший, смотрел на разминавшихся перед началом матча футболистов и разговаривал с соседом. Голубев сложил руки рупором и крикнул: “Нун гут, загте дер бауэр!” Стасик на мгновение оцепенел, потом подпрыгнул, словно прямо под ним взорвалась петарда. Он увидел Голубева в трех рядах от себя, взмахнул руками, расплылся в блаженнейшей улыбке, в которой, казалось, участвовала даже его лысина, и заорал: “Нун гут, загте дер бауэр!” Соседи, забыв про игроков, с удивлением смотрели на двух людей, колотивших друг друга по спинам жирными, раздувшимися портфелями и выкрикивавшими: “Нун гут!..” “Загте дер бауэр!..” — Вполне согласен с твоим бауэром, — кивнул Шубин. — Действительно, гут. Пододвигайте ваши стаканы, леди и джентльмены. — Дикари вы все-таки, — улыбнулась Вера, подставляя тем не менее стакан. — Коньяк — и в стаканы. Коньяк полагается пить по капельке, скорее даже нюхать его, согревая в руке бокал, чтобы лучше почувствовать аромат. — Это точно, — охотно согласился Голубев. — “Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными глазами…” А.Блок. Указываю автора во избежание обвинений в плагиате. — Для плагиаторства нужно быть культурным человеком, — наставительно сказал Шубин. — Итак, мои маленькие бедные друзья… Вера, ты мне друг? Ты меня уважаешь? То-то же… Итак, за культуру! Они выпили, закусили, и Голубев подумал, что жизнь все-таки хороша, и сидеть вот так у Сережи и Веры, трепаться, ощущать тепло коньяка и этой милой пары — это все-таки здорово. И вечно мы недовольны, вечно мы куда-то торопимся, вечно нас разъедает какая-то неудовлетворенность, и годы идут, черт бы их побрал, и не замечаем мы, не умеем оценить радости, не подверженной преходящей моде и преходящим заботам, не умеем отличать настоящее от всякой чуши… — Боря, я тебе невесту нашла, — сказала Вера. — Не могу, Верунчик, начальство не разрешает жениться. — Это кто же? Уж не… — Он. Твой супружник. — Эгоист. Еще бы! Самому такая жена досталась, что и сниться ему не могла. — Это точно, — прерывисто вздохнул Шубин, — не дай бог увидеть такую во сне. — Ах так? — вспыхнула Вера. — Шубин, к барьеру! Стреляться с трех шагов! Это была их старая игра, много раз повторяемая и, как это бывает в дружных семьях, ставшая от этого особенно милой. Вера встала напротив мужа, вытянула вперед правую руку и прищурилась, словно целилась. Тот тоже принял позу дуэлянта. — Считайте, капитан, — властно сказала Вера. — Стрелять на счете три. Считаю: раз, два, три! — Паф! — сказали дуэлянты и упали друг другу в объятия. — Нун гут, загте дер бауэр, — пропел Голубев. — Нальем по второй, пока вы еще не укокошили друг друга. — Ну так как, знакомить тебя с невестой? Молоденькая, красивенькая, умненькая… — Знаем мы этих молоденьких, — сказал Шубин, пережевывая котлету. — Нынешнее поколение… — Это точно, Родионыч. Вот давеча, лет эдак с полсотни с гаком назад, еще перед ерманской войной, — задумчиво сказал Голубев, — молодежь была… — А все-таки удивительно, — заметила Вера, — как всегда ругают молодежь. Я где-то читала, что одна американская газета напечатала цитату, в которой говорилось… Я точно не помню, но примерно что-то в этом роде: “Что творится с нынешними молодыми людьми! Никогда еще на людской памяти не было поколения, которое бы так не уважало старших, которое бы так не издевалось над их традициями и устоями…” Ну и так далее. И газета попросила читателей догадаться, кто и когда это сказал. А потом сообщила, что это дословный перевод из одного древнеегипетского папируса… — Забавно, — сказал Шубин. — Кстати, Веруш, как ты думаешь, выйдет ли нормальный человек утром из дома без шапки, если на улице проливной дождь? — В Древнем Египте? — Нет, в современной Москве. — Нормальный — нет. Но какое отношение… — Обожди. Хорошо. А если он едет в такси в этот же дождливый день, где будет шапка? — Очевидно, у него на голове. — Ты умная женщина, и именно за это я тебя люблю. Ну, а если этот человек — водитель такси и целый день сидит за рулем в теплой машине, может ли он снять шапку? — Сереженька, — жалобно взмолилась Вера, — мы же договорились: дома о делах — ни-ни. — Последний раз, Веруш. Обещаю. — Может, Сережа, может, — быстро сказал Голубев. — Я несколько раз видел, как они кладут фуражку на полочку под задним стеклом. Как я раньше не сообразил? — Классическая фраза оперативного уполномоченного, — рассмеялся Шубин. — Значит, будем исходить из того, что посетитель Польских был шофером такси. — Ну, всё, — пробормотала Вера, грустно улыбнулась и принялась собирать посуду, ставя ее в мойку. Она уже привыкла к этим, казалось, внезапным ассоциациям мужа и Голубева, неожиданным извержениям постоянно тлеющих где-то в глубинах их сознания мыслей, привыкла и примирилась, понимая, что их работа неизбежно захватывает их, может быть иногда и против их воли, и, отвлекаясь, они лишь отвлекаются от нее наполовину и никогда целиком. Она пустила горячую воду, еще раз вздохнула и принялась мыть тарелки. Хотела бы она другой работы для Сергея? Кто знает? Трудно сказать… Конечно, в другом месте он был бы наверняка не так занят и получал бы, может быть, побольше… Но он был бы тогда не он, потому что представить Сергея другим, не погруженным вечно в его дела, не чувствовать напряженную работу его мысли ей было трудно, как, например, представить его мелочным, скупым, педантичным… Бог с ним, если он всем этим живет и любит свою работу… — В таком случае, — сказал Голубев, — не исключено, что эта твоя продавщица смогла бы узнать нашего гипотетического шофера. Для этого ей нужно всего-навсего прокатиться на всех пятнадцати тысячах московских такси, причем в две смены, так как на каждой машине работают два сменщика. Итого тридцать тысяч поездок. Считая по десять поездок в день, ей понадобится для этого всего-навсего три тысячи дней или около восьми лет. — Точнее, восемь лет и два с лишним месяца. — Месяцем больше, месяцем меньше, не будем торговаться. Но если говорить серьезно, придется пересмотреть кучу фотографий. “Постой, постой, Боря… — подумал он. — Что-то у тебя сейчас мелькнуло в голове. Минуточку, минуточку…” Он вспомнил, как однажды приехал поздно вечером из Лобни, от приятеля, и у Савеловского вокзала увидел огромную очередь на такси. Он нерешительно раздумывал, пристроиться ли в ее хвост или идти на автобус, но человек, стоявший перед ним, словно прочел его мысли и сказал: “Становитесь, становитесь, молодой человек, здесь рядом парк, и машины подходят быстро”. — Сережа, — сказал он, — если я не ошибаюсь, рядом с этим Строевым переулком есть парк… — Похоже, — задумчиво сказал Шубин, — очень похоже. Начнем с него.ГЛАВА 7
День был осенний, дождливый, и перед воротами мойки таксомоторного парка вытянулась длинная очередь забрызганных грязью машин. Когда металлические двери со скрипом подымались вверх, очередная машина нетерпеливо срывалась с места и исчезала в низком здании. Казалось, ей хотелось побыстрее вымыться после рабочего дня и отдохнуть несколько часов, блаженно остывая всем своим металлическим телом. Шоферы, ожидавшие своей очереди, дремали за рулем, давая отдохнуть глазам, и лишь те, кто был помоложе, с любопытством следили за молодой женщиной в светлом синтетическом пальто, стоявшей у ворот и то и дело посматривавшей на часы. — Добрый вечер. Давно меня ждете, Валентина? — спросил Шубин. — Я, кажется, не опоздал? — Нет, что вы, Сергей Родионович, это я просто раньше времени пришла. Они прошли в отдел кадров, расположились в небольшой комнатке, и худая, костлявая женщина в свитере, неодобрительно поджав губы, принесла и положила на стол стопку личных карточек. — Ну-с, Валентина, с богом, — улыбнулся Шубин. — Смотрите на фото и главное — не пытайтесь обязательно найти кого-нибудь. А то вы девушка, видно, добрая, не захотите огорчить старичка… — Это вы-то старичок, Сергей Родионович? — Угу… Не захотите огорчать и обязательно укажете на какое-нибудь фото. Не нужно. Не подготавливайте себя к тому, что каждое следующее фото во что бы то ни стало должно быть фото именно того человека, которого мы ищем. Попадется — хорошо, не попадется — ничего не поделаешь. Придумаем что-нибудь еще… С маленьких карточек на Валентину смотрели лица: нахмуренные и доверчивые, молодые и пожилые, симпатичные и неприятные. И Валентина почему-то вдруг подумала, что за каждым из этих маленьких листков фотобумаги стоит чужая жизнь, которую она не знает и никогда не узнает; что мир огромен, и среди этого людского моря она, Валентина, лишь крошечная песчинка, знакомая лишь с несколькими другими песчинками, такими же крошечными, как и она. И навсегда останется такой песчинкой. Ей стало грустно, и она привычно мысленно сказала себе: “Опять за свое, дура! Поменьше настроений”. Они просмотрели первую стопку, и женщина в свитере принесла вторую. Выглядела она по-прежнему недовольной и всем своим видом, казалось, говорила: “Что я вам, граждане, грузчик, что ли?” Не повезло им и со второй, и с третьей порциями… Несколько раз Валентине казалось, что лицо похоже, но, присмотревшись, она со вздохом опускала карточку. Когда Валентина уже почти заканчивала четвертую стопку, она вдруг, не удержавшись, крикнула: — Он! Нашли! С фотографии смотрело лицо человека лет тридцати, с сильным, решительным подбородком, маленькими, недоверчиво смотрящими глазками. — Точно он? — спросил Шубин. — Точно, Сергей Родионович. У меня на лица память хорошая. Увижу раз — и через десять лет вспомню. Он, точно он… Ну вот, всё вы и закончили. — В голосе ее прозвучала легкая, еле уловимая грусть, и Шубин подумал, что ей, может быть, немножко жаль расставаться с чем-то для нее новым, непохожим на привычные будни. — Ну что вы, — усмехнулся Шубин, — “закончили”! Еще и не начинали. И если это даже и тот человек с сухой головой, может вполне оказаться, что он вовсе и не тот, за кого мы его принимаем, вернее, хотим принять… Посмотрим-ка, кто он. Ага, Ворскунов Алексей Иванович, тридцать девятого года рождения, вот и адрес его… — Все, Сергей Родионович? — Валентина поднялась и надела пальто. — Господь с вами, Валентина! Разве от нас так скоро отделаешься? Придется нам поговорить с Ворскуновым Алексеем Ивановичем, познакомиться с ним. Да и вы должны убедиться, что он — это он. Что-нибудь придумаем, как это лучше сделать, и я вам позвоню. Хорошо? — Хорошо, — сказала Валентина и улыбнулась. — Ну вот и прекрасно. Спасибо вам преогромное за помощь. Мы ведь без вас ничего — пустота, фикция. Без вас и тысяч таких же добровольных помощников. — Ну что вы… До свидания. — Минуточку, Валентина. Меня уже давно мучает один вопрос, но никак не могу решиться спросить вас… Просто не знаю, что делать… — А вы спросите. — Скажите, Валентина… как делаются такие высокие прически, как у вас? Как они держатся? Девушка фыркнула, подавившись смехом. — А еще уголовный розыск называется. Это, Сергей Родионович, профессиональный секрет. Если мужчины будут все знать… — Жаль, — вздохнул Шубин. — Но не мы, так следующее поколение мужчин обязательно раскроет эту жгучую тайну… Так я вам позвоню, Валентина. ? С самого утра, с момента выезда на линию, когда диспетчер вместе с путевым листом сунул ему повестку, вызывавшую его в отделение ОРУД ГАИ, Алексей чувствовал легкое беспокойство. Вернее, это даже было не беспокойство. Беспокоиться было нечего: все сотни раз обдумано, взвешено, проверено. Было какое-то неприятное чувство неизвестности. Для чего вызывают? Дорожных происшествий у него не было, инспекторы ОРУДа его не останавливали. Скорее всего, ошибка какая-нибудь. И уж безусловно никак не мог быть связан ОРУД со Строевым переулком. Ладно, подумал он, нечего голову ломать, работать надо, план везти. Но Алексей был человек, который по биологической, наверное, своей основе не переносил неопределенности, который любил во всем четкость, ясность, для которого все в жизни должно было быть раз и навсегда расставлено по определенным, постоянным местам. И поэтому все, что вносило в его жизнь элемент неясности, даже самой малой неясности, было ему неприятно, и весь он томился, жаждал каждой своей клеточкой возвращения привычного порядка. Поэтому, работая этим утром, он то и дело посматривал на свои часы, удивляясь, что стрелки движутся так медленно. Несколько раз ему показалось, что часы на щитке вовсе остановились, остановились и часы на руке, и он поднимал руку к уху, чтобы лишь убедиться: тикают. На стоянке на площади Восстания в машину сел чистенький розовенький старичок с красивой кожаной папочкой в руках. “Профессор, наверное, — автоматически подумал Алексей, — денег, должно быть, гребет кучу. На чаевые сильно не раскошелится. Хорошо, если десять копеек накинет”. К пассажирам, дающим на чай сверх показаний счетчика, отношение у него было сложное. С одной стороны, он жаждал их, этих гривенников, двугривенных, а то и полтинников, с другой — чем больше ему давали, тем большее презрение испытывал он к этим людям, так легко расстававшимся с деньгами. Вообще испытывать презрение к людям было для него определенной привычкой, даже потребностью, ибо оно укрепляло в нем убеждение, что жить среди таких людей нужно именно так, как живет он: с умом, без всяких там глупых чувств. Вчера, например, Монахов из их колонны всем рассказывал, аж слюни пускал от восторга, как вез какую-то старушку во Вторую Градскую больницу за сыном. Как выяснилось, старушка, на радостях, что сын выписывается, забыла деньги и страшно разволновалась, и как он, Монахов, сказал ей: “Ладно, мамаша, сын выздоровел — чего вас задерживать? Бог с ним, с полтинником”. Глупо. С одним — бог с ним, с другим- бог с ним, а сам где? Можно, конечно, поверить человеку, он же понимает, потом привезет, да еще, как правило, больше, чем должен был, но это “бог с ним”… Старичок все время ему что-то говорил, и хотя обычно он охотно поддерживал разговоры с пассажирами: поговоришь вежливо — больше оставят, — сегодня он почему-то молчал. Алексей остановил машину у здания Академии медицинских наук на Солянке и ждал, не выключая двигателя, пока пассажир пересчитывал на ладони монеты, выуженные из кармана толстого ратинового пальто. Так и есть, десять копеек. Профессор… Пора было пробираться к отделению ОРУД ГАИ, и Алексей несколько раз отказывал пассажирам, пока не подобрал подходящего. Чего зря терять выручку? План есть план. И так, наверное, из-за этого вызова пятерки недосчитаешься… Во дворе отделения стояла разбитая “Волга”. Передняя облицовка и фары были смяты и вдавлены, и перекошенная крышка капота приподнялась, словно автомобиль разинул рот в тягостном недоумении, не в состоянии до конца понять, что же все-таки с ним случилось. Внутри в коридоре толпилась кучка людей, у всех в руках маленькие книжечки “Правил уличного движения”. “Пересдают нарушители… Лопухи!” — подумал Алексей и посмотрел на повестку, в какую комнату ему нужно было пройти. Он помнил, что указана была комната номер пять, но, как и всегда, он предпочитал лишний раз проверить, чтобы не ошибиться. — Ну-ка скажи, друг, в каких случаях запрещается обгон? — проверяли друг друга в последний раз нарушители правил, вздыхали, нервно курили; полузакрыв глаза, что-то беззвучно шептали, повторяя незабываемую чеканную прозу “Правил”. Теперь уже Алексей был абсолютно спокоен. И потому, что на стене висел стенд с фотографиями перевернувшихся машин, и потому, что слышал бормотание: “Обгон запрещается, когда…”, и потому, что все это не могло иметь к Строевому ровно никакого отношения. — Разрешите? — спросил он, приоткрывая обитую дерматином дверь в комнату номер пять. — Тут у меня повестка… — Фамилия? — деловито спросил невысокий майор, перелистывая какие-то бумаги. “Орудовец, — торжествующе подумал Алексей. — Те, говорят, в форме не ходят”, — и почувствовал даже нечто вроде симпатии к этому человеку за столом. — Ворскунов Алексей Иванович, — четко ответил Алексей, всем своим подтянутым видом и молодцеватостью показывая, что водитель он дисциплинированный и находится здесь по чистому недоразумению. — Садитесь, товарищ Ворскунов, вот на этот стул, — сказал майор и внимательно посмотрел на Алексея, но не в глаза, а как бы слегка поверх, словно прическу его рассматривал, и Алексей машинально провел рукой по волосам. — Это я смотрю, на улице холодно, около нуля, а вы с непокрытой головой. Простудиться можно, — наставительно сказал майор и улыбнулся. — Фуражка в машине, — ответил Алексей. — Сидишь за баранкой целый день… “Чудак, — усмехнулся про себя он. — Простудиться можно… Ишь ты, забота какая… А гонять человека без толку — это ничего”. — Так, товарищ Ворскунов… Знаете, почему мы вас вызвали? — Не знаю, товарищ майор. Голову ломаю. — Так прямо и ломаете? Вы работаете на машине… — Майор назвал номер. — Работаю. — И не можете припомнить за последнее время ни одного нарушения правил уличного движения? — Да нет, товарищ майор. — Гм… И даже не помните, как… — майор скосил глаза на листок бумаги на столе, — восемнадцатого октября проехали у Никитских ворот на красный свет, создав аварийную обстановку, и не остановились по свистку инспектора? Последние остатки сомнения улетучились у Алексея вместе с облегченным вздохом. — Не могу помнить, товарищ майор, потому что в этот день не работал. — Гм… Точно помните, что не работали? “Еще бы, — подумал Алексей, — не помнить… Такое дело провернул. Но осторожнее надо на всякий случай. Лучше бы надо было сделать вид, что высчитываю дни недели. Ну ничего. Все нормально”. — Точно. К теще за город ездил в этот день, точно помню. — Ну что ж, проверить мы, конечно, проверим в парке. Может быть, напарник ваш был, может быть, и инспектор ошибся, не тот номер записал. Садитесь вон за стол, отодвиньте графин, чтобы он не мешал, и напишите объяснение. Мол, в этот день не работал. Порядок есть, порядок… Алексей вышел на улицу. Мир снова был четок — свет и тень, без полутонов. Все было ясно, для всего было свое место — и для Строевого переулка, и для него самого. Он вставил ключ в замок зажигания, повернул его. Мотор послушно забулькал. “Надо ехать, — подумал Алексей, — уж здесь-то пассажира не дождешься, всё шоферы”. Он развернулся и поехал на стоянку. ? — Валентина! — позвал Шубин и подошел к двери, соединявшей комнату со смежной. — Идите сюда. У меня тут было несколько человек. Кто-нибудь из них вам знаком? — Последний, Сергей Родионович. — Я ведь и сам догадался, что он. — Это когда вы про фуражку спросили? Я слышала. — Угу. — Теперь уже всё? — спросила Валентина. — Надоели мы вам? Валентина пожала плечами. Что она могла сказать ему? Как объяснить? Да что, собственно, объяснять? Дура дура и есть. Ей почему-то вдруг стало жалко себя. Другие живут, не думают, не забивают головы фантазиями. Живи, пока живется. Чем плох Колька, например? Прекрасный парень, веселый. И все-таки она знала, что не пойдет с ним сегодня в клуб, хотя он еще вчера звонил ей: взял билеты на какой-то заграничный фильм, о котором все у них говорили. Не пойдет и будет сидеть одна дома. И так ей и надо, дуре, которая в свои девятнадцать лет ничего не понимает в жизни и все ждет чего-то… Она порывисто пожала протянутую Шубиным руку и быстро вышла. “Хорошая девчушка, — подумал Шубин и вздохнул. — Чего вздохнул, майор? То-то же…” Да, так как же все-таки проверить, не был ли этот Ворскунов узбеком? Крепкий мужчина, с выдержкой. Если, конечно, это он проделал операцию с бидоном. Ни капли волнения. Спокоен. Слишком уж спокоен. Обожди, не подгоняй впечатления под уже сложившуюся схему. Если водитель твердо знает, что не совершал никаких нарушений, что ему нервничать? Да и как нервничать? Ломать руки, заикаться, дергаться, рыдать? Но уж очень-то он быстро, не задумываясь, вспомнил, что восемнадцатого не работал. Если он — это он, то, конечно, должен твердо помнить день операции в Строевом. А если действительно был за городом? Надо проверить, причем узнать адрес этой тещи осторожненько, не спугивая Ворскунова. Голубев сделает. Надо ему позвонить. Если он уже на месте, пусть сразу и займется.ГЛАВА 8
Голубев пересчитал подъезды. Кажется, здесь. Перед ним был длиннющий пятиэтажный дом, точный слепок с таких же домов, которыми были застроены эти кварталы. Слава богу, нашел быстро. Когда-то был просто номер дома и улица. Теперь за каждым номером скрываются бесконечные корпуса с таинственными номерами, и, чтобы найти дом, нужно быть опытным следопытом. На двух скамейках по обеим сторонам подъезда сидели несколько старушек, из тех, кто, несмотря на жизнь в большом городе, чудом сохранили какой-то уютный и так быстро исчезающий деревенский облик. Перед двумя стояли детские коляски с их пассажирами, укутанными в одеяла по самый нос от холодного и сырого октябрьского ветра. Голубев театрально посмотрел на часы, так, чтобы это заметили старушки, вздохнул и сказал: — Вы не будете возражать, если я посижу минут десять с вами? Свидание у меня с приятелем, да приехал, видите, раньше. Маленькая старушка, в белом аккуратном платочке, с печеным озорным личиком, сказала: — Посиди со старушками, у меня-то сегодня свиданий не предвидится. Подруги ее громкозасмеялись, и в одной из колясок испуганно завозился младенец. — Вот мой кавалер, весь день при мне. — Старушка привычно качнула ногой коляску, и внук столь же привычно утих. — Опора Советской власти, — улыбнулся Голубев. — Это кто же? — Бабушки наши. Сколько миллионов этих карапузов поднимают. Ордена им давать надо. — Это точно. Слышь, Петровна, орден тебе дать надо. Петровна, грузная старуха с отекшим желтоватым лицом, хмыкнула: — Хоть бы спасибо сказали… Мало за день навозишься, так и вечером они хвост трубой и помчались: “Мама, ты уложи Виталика!” — Ну, а что бы ты без Виталика своего делала? — спросила первая старушка. — Сама, что ли, на танцы ходила? — Так ведь почти в каждой семье так, — сказал Голубев, — закон жизни. Возьмите, например, ваш подъезд. Много ли молодых без бабушек обходятся? — Иные и обходятся, — бойко зачастила старушка в белом платке. — Бабки-то еще не продаются, ни за наличные, ни в кредит. У кого есть, а у кого и нет. — На нет и суда нет, — сказал Голубев. — Но в вашем подъезде… — Да погоди ты с подъездом, заладил: подъезд да подъезд. Я тебе вот что скажу: ныне дитев воспитывать такое дело, что и неизвестно еще, кто кого воспитывает — ты его или оно, дите, тебя. Наш-то — восьмой месяц, а уже все понимает. Я думаю, потому что телевизор мы вместе смотрим… “Пропало, — подумал Голубев, — теперь уже не остановить. Попытаться еще раз…” — Я вижу, вы не просто бабушки, а бабушки-энтузиастки, но есть ведь, наверное, и такие, что не очень-то хотят помогать, — с надеждой сказал он, обращаясь к Петровне. — Не все такие дуры, как мы, это точно, — вздохнула Петровна. — Вон у Ворскуновой-то Лизки из шестьдесят седьмой мать в месяц раз приедет, и то скажи ей спасибо. — Так, наверное, она с другими детьми живет? — Будет она жить, как же… Домик у ней свой за городом. Хороший, говорит, домик, только на шум жаловалась. Аэродром у них там, что ли. Говорит, прямо над крышей летают, видно даже, огоньки на крыльях мигают. По мне, самолет — он и есть самолет, а Прасковья, слышь, все марки знает. У нас, говорит, и “ИЛ” какой-то, номер не помню, не то пятьдесят два, не то шестьдесят два, и заграничные, американские… ба… бо… и другие всякие… — “Боинг”, наверное? — подсказал Голубев. — Точно, “боинг”, — кивнула старуха. — Где же это такое? — спросил Голубев. — Аэропорт Шереметьево — это ясно, именно туда прибывают иностранные самолеты, но сколько же там в окрестностях деревушек и поселков?.. — Не скажу. Может, говорила она, где, а может, я и забыла. Склероз — это тебе не шутка. Чего не надо, всё помню, а что надо — ни за что в голову не идет. — На что же она живет? В колхозе, наверное? — с надеждой спросил Голубев. — Кто? Прасковья Дмитриевна-то? Прямо, в колхозе… Не такой она человек, чтобы в колхозе работать. В газетном каком-то поселке работает. Хвасталась все, что писатели с ней все очень уважительные. Врет, наверное. — Пожалуй, не дождусь я его. — Голубев посмотрел на часы. — Надо ехать. — Может быть, передать кому что? — Да нет, спасибо, я позвоню. И спасибо вам большое за компанию. Было очень приятно посидеть с вами. До свиданья. Старушки, словно по команде, посмотрели на него, ожидая, очевидно, прочесть на его лице насмешку, но, увидев, что он не шутит, благодарно кивнули. ? Когда Голубев, обзвонив редакции почти десятка газет, нашел нужный дачный поселок в районе Шереметьевского аэродрома, пора было обедать, но он поехал сразу на Савеловский вокзал. Электричка была в это время дня почти пуста, и Голубев сел у окна. С наружной его стороны косо стекали капельки дождя, и сквозь их тускло мерцавшую сетку видны были бесконечные кварталы Бескудникова. Город все рос и рос, протягивая щупальца новых районов во все стороны. Слава богу, уже сегодня, скажем, из Химок до Измайлова километров сорок, не меньше. В старое доброе время — целое путешествие на несколько дней. А сколько тратят люди времени, чтобы добраться до работы в Москве из того же Шереметьева… Сколько сегодня найдется москвичей, которые знали бы звенящую тишину леса? Настоящего леса, без консервных банок под ногами, какофонии транзисторов и призывных воплей массовиков. В прошлом году они с Шубиным поехали за грибами. Далеко, километров за восемьдесят от города. Долго плутали, пока, наконец, далеко в стороне от шоссе не нашли богом забытого леска. А когда уже в потемках вылезли из машины и осмотрелись, только ахнули: на опушке горело с десяток костров, и в их неясном, призрачном свете можно было различить столько же автобусов. Пора было подниматься, скоро Шереметьево. Он вышел из электрички, поежился, поднял воротник плаща, перешел железнодорожные пути, спросил, как дойти до дач газетного поселка. Заборчики и изгороди так напитались осенними дождями, что казались черными. Вот и водонапорная башня, за ней надо свернуть направо. Улочка была небольшая, уютная; с одной стороны за дачками хмуро темнел лес. Первый же прохожий, которого он встретил, тут же показал ему на небольшой домик с покосившейся телевизионной антенной на крыше. — Прасковья Дмитриевна? Серикова? Да вон, третий слева. Калитка была полуоткрыта, и Голубев вошел, встреченный ленивым лаем небольшой дворняги с грязной светлой шерстью. Собака тут же спряталась в свою конуру, следя за Голубевым хитрыми желтоватыми глазами. Ярости в них не было. Казалось, наоборот, она была благодарна посетителю за маленькое развлечение. Из двери в крошечной застекленной веранде выглянула средних лет женщина в кирзовых сапогах и телогрейке. — Цыц, Капот! — крикнула она собаке, и та, очевидно обрадовавшись, что ее освобождают от неприятных обязанностей, тут же замолкла. — Здравствуйте. Прасковья Дмитриевна? — спросил Голубев, обходя лужи на дорожке. — Ну, я, — сказала женщина. — Мне рекомендовали к вам обратиться. Я бы хотел снять комнатку на зиму, оставить здесь лыжи и приезжать раза два в неделю покататься. А то иначе и не соберешься… — Кто рекомендовал? — подозрительно спросила женщина. — Да какая-то женщина. Я спросил, она говорит — идите к Прасковье Дмитриевне, она одна, может, и сдаст. — В платке, что ли, носатая? — Как будто, — неопределенно сказал Голубев. — Она, Клавка, — удовлетворенно сказала женщина. — Она и летом всех ко мне присылает. У самой-то в доме как сельдей в бочке: сама, мать ее, мужик и детей целый взвод. Им не то что сдавать, самим бы чего снять. — А вам не скучно одной? — спросил Голубев, входя вслед за хозяйкой на верандочку. — А чего мне скучать? Я и работаю, истопницей там вот, — женщина кивнула в сторону дач на противоположной стороне улицы, — и телевизор у меня есть… — Но все-таки одна все время… — Почему одна? — обиделась хозяйка. — У меня дочка замужем. В Москве с мужем живут. Приезжают иногда. — То-то, я смотрю, мужская тут у вас рука видна, все починено… — Гм… мужская рука… Как же, его, Алексея-то, допросишься… — Неужели же мужчина и не поможет по хозяйству? Наверное, каждую неделю приезжают? — “Каждую неделю”… Еще летом туда-сюда, а осенью сроду не приедут. Месяца полтора, почитай, не были. Да мне-то без них и спокойнее. “Соврал, — обрадовался Голубев. — Не был тут Ворскунов восемнадцатого числа. Для чего нужно было ему врать Шубину, если… Конечно, ему и в голову не приходило, что могут проверить. ОРУД ГАИ… “Простая ошибка: то ли это был напарник, то ли инспектор номер перепутал”. И все-таки соврал”. — Ну, может, заболел кто-нибудь из них, сами бы съездили в город, проведали, — с невольной благодарностью за полученную информацию сказал Голубев. — Да ну их, у самой здоровье еле в теле. Уж на что тут воздух очень прекрасный, и то сплю плохо, бессонница мучает, на снотворном держусь… А много вас тут будет с лыжами-то? — Человека три. — И не знаю даже… — Ну ладно, Прасковья Дмитриевна, вы подумайте, а я через несколько деньков заеду. Пока что не на лыжах, а на лодках кататься можно. Время еще есть. До свидания. — До свидания. Дворняжка обиженно посмотрела на него. Очевидно, в отличие от хозяйки, ей хотелось бы, чтобы гость пробыл подольше.ГЛАВА 9
Игорь долго лежал не открывая глаз и никак не мог сообразить, спит он еще или проснулся. Очевидно, все-таки проснулся, потому что ощущал во рту пересохший язык, ощущал тупую головную боль, мягко стучавшую в виски, и то острое желание не просыпаться, которое всегда бывало у него наутро после выпивки. Он повернулся на бок, всверлил голову в вялую подушку и натянул на себя сползшее одеяло. По немалому своему опыту он знал, что нужно только полежать так тихонько, притворяясь перед самим собой, что уже спишь, и сон действительно придет, вымывая из тела еще одну частицу похмелья. Несколько минут он был между сном и бодрствованием и вдруг твердо понял, что больше не заснет, что блаженного спасительного бездумья больше не будет, что снова будет мучительный страх, страстное желание вернуться назад, к тому моменту, когда согласился пойти с Алексеем на дело. На мгновение, как когда-то в детстве, ему подумалось, что стоит только очень захотеть, и ничего не будет, жизнь вернется к тому, такому близкому и уже такому недостижимому, дню, когда можно было ни о чем не думать и ничего не бояться. Игорь с трудом проглотил слюну, сел на тахте, посмотрел на будильник, лежавший на боку. По какому-то своему механическому капризу тикал он только в таком положении, и Игорь давно привык к этому, так и не собравшись отнести его в ремонт. Вчера обещал приехать Алексей, но так и не приехал Игорь сидел и не спеша пил, чувствуя, какое-то тягостное напряжение, ощущение острого неблагополучия. Да что, в конце концов, трястись, какие на то основания? Кто их найдет? Как найдут? Двух несуществующих узбеков среди шести миллионов москвичей. Да и кто их будет искать, ради кого? Ради людей, которые сами были рады надуть двух наивных узбеков. Постепенно он входил в роль, забывая о том, что узбеками были Алексей и он, возмущался жадностью режиссера и Павла Антоновича. Игорь любил компанию, разговоры над рюмкой, особенно на темы искусства, считая себя в них специалистом, но в такой вечер, пожалуй, было даже и лучше, что Алексей не приехал. Да что он вообще из себя представляет? Шофер, да и только, сроду книги не прочел ни одной. Примитивный человек, без тонкости. Кто придумал загримироваться под узбеков, и кто это сделал, и как сделал? Как положил коричневый тон, как черным дал морщины, как приклеил Алексею бородку, оставшуюся у него с тех пор, когда они собирались ставить в драмкружке “На дне” и его пробовали на роль Луки. Пьесу так и не поставили, вместо нее сыграли “Мещан”, а бородка так и осталась. Посмотрел бы Петр Николаевич и ребята из драмкружка, они бы поняли, кого потеряли, какого таланта лишились, выставив его за пьянство. Пьянство… Им только ярлык привесить… Подумаешь, выпил разок—другой перед репетицией. Ни скандалов, ни драки, тихо-мирно… Но то все было вчера. А сейчас, в скупом свете октябрьского утра, в тяжкой тошнотворней дрожи похмелья, жизнь казалась невозможной. Нет, лежать было хуже. Игорь снова встал с тахты, нащупал ногами старые шлепанцы и подошел к зеркалу. На него хмуро глянул незнакомый парень с припухшими веками, темными кругами под ввалившимися глазами и пересохшими, в мелких трещинках губами. Игорь прижался лбом к холодной гладкости зеркала и почувствовал такую острую жалость к этому человеку, такому знакомому и в то же время совсем незнакомому… Если бы только можно было повернуть время назад, совсем на немного (неужели это невозможно?) и снова оказаться беззаботным Игорьком Аникиным, автослесарем, участником драмкружка, наконец, Нилом… Господи, если бы он только тогда знал… Пятьсот рублей, будь они прокляты! Вон они, под тахтой спрятаны. Копейки оттуда не взял, боялся притронуться. Тогда, согласившись пойти с Алексеем, он мысленно составил себе список вещей, которые купит: нейлоновую куртку, туфли и обязательно хороший магнитофон — “Комету”, наверное. Но потом, когда у него оказалась пачка двадцатипятирублевок, он тут же спрятал их под тахтой и так и не дотронулся до денег. Ему казалось, что, пока он не истратил их, все это было как бы несерьезно; полупреступление, полушутка, полуигра. Он понял, что боится, когда поймал себя на том, что прислушивается к шагам в коридоре. Казалось бы, шаги и шаги, — слава богу, в доме у них коридорная система, и чего-чего, а шагов хватает. Но против воли его воображение обгоняло звук шагов, заставляло их замирать около двери его комнатки. А потом послышится стук в дверь: “Вы Аникин Игорь Васильевич?” “Я”, — прошепчет он, не смея взглянуть в холодные, безжалостные глаза людей, пришедших за ним, за Игорьком, за обыкновенным хорошим парнем, за автослесарем (не глядя ходовую часть “Волги” разбросает и соберет. Проверьте, если не верите…). “Где вы были вечером восемнадцатого октября?”-сухо спросят люди, и Игорь поймет, что все кончено. Проклятое восемнадцатое! Хоть бы не было вообще в календарях этого числа. Семнадцатое, а потом сразу девятнадцатое. Вдруг какая-то неясная мысль, тлевшая в глубинах его подсознания эти последние дни, с хрустом и скрежетом, словно расталкивая другие мысли, пробилась на поверхность. Взять эти деньги и самому явиться с повинной. Он же, черт возьми, не истратил из них ни копейки. Он же никогда раньше не привлекался, судимостей у него нет. Они же поймут. Он и согласился-то пойти с Алексеем только потому, что интересно было: сумеют они сыграть роль простоватых узбеков? Они обязательно поймут. Ну дадут что-нибудь условно, но не будет липкого, вязкого страха, не надо будет прислушиваться к шагам, цепенеть и ужасаться гулкого стука собственного сердца… В дверь постучали, и тут же, не дожидаясь ответа, в комнату ввалился Алексей. “Ему что, — подумал Игорь со смесью острой неприязни и невольной зависти, — он не мучается. Вон мурло какое нажрал. Спокоен, как черт, глазом не моргнет. Не первый раз, наверное”. — Ну, как ты тут, Нил? — не то насмешливо, не то участливо спросил Алексей. — Ишь ты, надымил, задохнуться можно. Он подошел к окну и распахнул форточку. Игорь вяло пожал плечами. Мысль о том, что они поймут его и простят, если он сам пойдет туда, в присутствии Алексея вдруг съежилась и поблекла, начала казаться детской и стыдной. — Так как ты? — Алексей, прищурившись, внимательно смотрел на товарища. — Так себе… — Дрожишь? Игорь поднял глаза и быстро, украдкой взглянул на Алексея: не смеется ли? Но Алексей не смеялся, лицо его было серьезно и задумчиво, и что-то в Игоре потянулось навстречу этому человеку. Уж этот-то точно доймет, сам, наверное, пережил такое же. — Боюсь, — вздохнул Игорь. Произнеся это короткое словцо, он почувствовал облегчение, словно избавился от частички страха, переложил ее на товарища. Ощущение было для него знакомым, ибо с детства, сколько он себя помнил, он всегда стремился подсознательно всучить кому-нибудь ответственность за себя, за свои поступки и решения. — Боюсь, Алексей. Выпью — ничего вроде. Трезвый — трясусь. Ни копейки не взял даже из денег. — Игорь кивнул на тахту, и Алексей все так же серьезно и вдумчиво проследил за его взглядом. — До того дошел, что решил было явиться с повинной… — Да, это бывает, — протянул Алексей. — Правда? — Чего ж ты хочешь, первый раз, нервы… Опохмелиться? Не дожидаясь ответа, Алексей поставил на стол бутылку “Московской”, развернул пакет с нарезанной овальными ломтиками, по-магазинному, колбасой. Игорь вздрогнул, с трудом сдерживая спазмы в желудке. — Наливай. Алексей сорвал пробку из фольги, наклонил бутылку над стаканом. Жидкость забулькала, крупные пузыри воздуха ринулись от горлышка к донцу. Игорь вздрогнул, поежился, поднял стакан. — Поехали, — сказал Алексей, залпом выпил и потянулся за колбасой. — Будь здоров. — Прошла? — участливо спросил Алексей. — Куда ж ей, проклятой, деться? Спазмы в желудке затихли, Игорь как бы обмякал, успокаивался, и ему даже показалось, что в комнате стало светлее. “Нет, хороший он все-таки парень, этот Алексей, — подумал он. — Железный мужик. И понимает. С полуслова понимает. Не с нотациями, не с поучениями-все понимает”. — Хорошо, что ты притопал, — виновато улыбнулся он, — а то я уж было твердо решил явиться с повинной. Не могу, понимаешь, не могу. Все понимаю, а ничего с собой сделать не могу. — Ты только не торопись ваньку-то валять, — сказал Алексей. — Всегда успеешь. Я тут, между прочим, мимо комиссионного на Садовой проезжал. Там, где мы познакомились. Зашел. Такой магнитофон видел, закачаешься… — Хороший? — Спрашиваешь!.. — Сколько? — Четыреста пятьдесят. — Дорогой, собака. — А что, у тебя денег нет? Не бойсь. В случае чего, одолжу. Игорь живо представил себе какой-то необыкновенный магнитофон с множеством кнопок и ручек. Приходят к нему знакомые ребята, и он так небрежно говорит: “Послушаем?” — Не знаю… — неуверенно сказал он. — Деньги-то все, не дотрагивался еще до них… — Жить надо уметь, — наставительно поднял палец Алексей. — Свой смысл понимать. — Не знаю даже, — снова сказал Игорь. Вытащить из-под тахты деньги и через час вернуться домой с магнитофоном… Но ведь тогда уже будет поздно идти. Ему почему-то было жаль расставаться с мыслью о том, чтобы самому пойти к тем людям, которых он ждал, замирая, к чьим шагам все время прислушивался. — А может быть, все-таки повиниться, а, Леш, как ты считаешь? — Дурак ты. Не говоря уж, что и меня засадишь, и Павла Антоновича подведешь. Если бы что, а то у фраера взяли… Нет, Игорек, ты эту дурь из головы выкинь. Сам посуди, чего бояться-то? Ты думаешь, нас ищут? Да никто не ищет. Дураки они, что ли? Сами понимают, что ухватиться не за что, только время проводить. Так я говорю? — Так, наверное. — Ну то-то же. Вздрогнем по второй? — Наливай. — Мягкий ты очень, Игорек. Жесткости в тебе нет. Мясо есть, а скелета нет. Ну посмотри, как ты живешь, разве это понятие? И дальше что? Так и будешь копейки всю жизнь считать? Витрины рассматривать? Жить надо уметь твердо. Так? — Ну, а другие как же? — неуверенно спросил Игорь. В словах Алексея была какая-то заманчивая логика, которая словно магнитом притягивала к себе. Железный мужик, но сумрачный какой-то, невеселый. Легкости в нем нет, как в ребятах из драмкружка. Те как начнут разыгрывать — обсмеешься. — Дураками мир и держится. И ты можешь вкалывать. На Доску почета повесят. На пенсию проводят — чашку за два сорок преподнесут. С надписью. — И то правда, — вздохнул Игорь. — Я как выпью, вроде ничего. А потом опять… Дурак я, наверное. — Вот что, кореш, ты давай сегодня отдыхай, а завтра я к тебе заеду, часиков так до двенадцати, тогда все и решим, как и что. Лады? — Ладно… А может, все-таки повиниться, а? Алексей пожал плечами, встал, весь сбитый, складный, уверенный в себе, и пошел к двери. “Почему я не такой? — подумал Игорь. — “Мягкий”, говорит…” Он задумался, машинально налил в стакан остатки водки и выпил.ГЛАВА 10
— Какие у тебя сейчас эмоции при мысли об обеде? — спросил Шубин. — Самые положительные. Я бы даже сказал, что полон энтузиазма, — ответил Голубев. — Руки будешь мыть? — Никогда! — ответил торжественно Голубев. — Ты же знаешь мою теорию. Сидит микроб на руке. Я его не трогаю, он меня не трогает. И вдруг его начинают поливать водой, тереть… Какой-то кошмар! И если он гибнет, родственники и дети клянутся отомстить за него, начинают заражать меня, и — пожалуйста: капитан Голубев заболел, выйти на работу сегодня не может. Иногда, конечно, мыть руки все-таки приходится — цивилизация, но перед едой — ни-ни. — Капитан, — серьезно сказал Шубин, — я не могу разделить ваших убеждений, но, как порядочный человек, я вынужден уважать их. Я даже горжусь знакомством с человеком, у которого есть убеждения… Раздался телефонный звонок, и Шубин взял трубку. Подполковник интересовался, как идет расследование. Закончив доклад и положив трубку, он сказал: — Слышал? Особенно хвастаться нечем. Пока что мы не имеем почти ничего. Мы имеем гражданина Ворскунова, который был минимум два раза в магазине у Польских и который соврал, что был восемнадцатого у тещи. Что еще, впрочем, не является доказательством, что он был в Строевом переулке. — Мужчина он, видимо, серьезный, и голыми руками его не возьмешь. Можно судить хотя бы по тому, что не оставил на бидоне ни единого отпечатка пальцев. Ребята из научно-технического отдела сняли его отпечатки с графина, который он передвинул на столе в ОРУДе, и сравнили с тем, что было на бидоне. Ничего, даже на ручке. Об обгорелых остатках курток и брюк и говорить не приходится. Ничего на них нет. — Конечно, для того и была эта клеенчатая сумка. Сначала они тщательно обтерли, видимо, бидон, а потом уже вложили его в сумку. А то немногое, что, возможно, осталось на крышке, когда главный закладывал внутрь куклу, безнадежно смазано Вяхиревым и Польских. Остается его фото. Если его увеличить и показать Вяхиреву… — Вряд ли он узнает. Если они действительно были загримированы, то загримированы здорово. — Вот это-то и мучает меня. Откуда шофер мог знать технику нанесения грима? Не очень-то похоже, чтобы он интересовался театром. Да и драмкружка при их парке нет. — Значит, второй, — сказал Голубев, отодвигая тарелку. — Второй, о котором мы вообще ничего не знаем. Может быть, наблюдать за Ворскуновым? — Вряд ли шеф разрешит. Не то дело, да и Ворскунов этот, похоже, стреляный воробей. Скорее всего, сейчас он будет избегать встреч с напарником. — Может быть. А что, если все-таки прижать Польских? Врал же он насчет денег… — Ну, допустим, признается он, что взял в кассе. Во-первых, он наверняка вернул деньги тут же. Во-вторых, мы лишь дадим им понять, что что-то делаем. — А если не дадим? Что они могут сотворить, чтобы дать нам какие-то козыри? Прийти с повинной? — Не знаю, — пожал плечами Шубин. — Не знаю, Боря. Если бы знал, честное слово, не стал бы от тебя скрывать. Попробуем предъявить Вяхиреву и Польских фотографию Ворскунова. Но, как ты сам понимаешь, если каким-то чудом Вяхирев и опознает его, в чем я сомневаюсь, Польских-то уж точно не опознает. А юридически его показания имеют пока что такую же ценность, как и показания режиссера. — А что, если… — Что — если? — Что, если поиграть на нервах Ворскунова? — Каким образом? — Ну, не знаю… Подсадить кого-нибудь ему в машину с алюминиевым бидоном. И забыть бидон. Потом, в парке у них, наверное, бывает распространитель театральных билетов. Пусть он спросит Ворскунова, не хочет ли он сходить в кукольный театр… Прекрасные куклы. Ворскунов начнет нервничать, ломать себе голову, простые ли это совпадения, и наверняка решит спрятать деньги. Куда? Конечно, у тещи в Шереметьеве. А за домиком уже посмотреть не так трудно… — А если не потащит он туда деньги? Только насторожим его. — “Насторожим, насторожим”… — А как ты думал? Пока мы не уверены на сто процентов, что он именно тот человек, что подбросил куклу в бидоне, и пока у нас не будет доказательств, мы не можем ничего с ним сделать. Задержи мы его, скажем, по статье 122 УПК — И что мы предъявим ему? Наши стройные, элегантные теории? Да плевать он на них хотел! Где был восемнадцатого от четырех до шести? Да ходил по магазинам. Хотел купить попугая, умеющего говорить на языке суахили. Нет, не купил, так и не нашел. В Строевом переулке не был, денег не брал, в куклы никогда не играл. И есть, в конце концов, у нас социалистическая законность или нет? А мы что? Простите нас, христа ради, думали, вы, дорогой, расколетесь, ан нет. В Шубине постепенно нарастало то раздражение, недовольство собой, которое всегда приходило, когда нити дела ускользали от него, когда доказательства были призрачными и стоило только приблизиться к ним, как они отступали и растворялись. Но вместе с раздражением, постоянным его противоядием, приходила и уверенность, что раньше или позже преступник в чем-нибудь ошибется, если не ошибся уже, и нужно лишь уметь ждать и думать. Думать, а не горячиться. Голубев знал это состояние Шубина. И хотя иногда и тяготился, как ему казалось, медлительностью майора, старался перенять это умение непоколебимо верить в успех. И ему начинало казаться, что он еще мальчишка, не способный к серьезной работе, что он оперативный работник МУРа лишь по недоразумению, по чьей-то оплошности, что, дай ему волю, такого он нагородит, что никто не распутает. — Чего насупился? — усмехнулся Шубин. Подобно тому как Голубев умел читать его настроения, так и он преотлично понимал помощника. — Ну, начался шахсей-вахсей с самобичеванием… — Так просто невозможно работать! — притворно взорвался Голубев. — Это напоминает историю, когда в компании только называют номер анекдота и все смеются, зная наизусть, что скрывается за ним, Ладно. Давай пообедаем, а потом есть серьезное предложение. Сезон кончается, а сегодня на “Динамо” футбол. Как ты? — Очень интересная мысль, — вздохнул Шубин. — Заслуживает серьезного изучения… День был ненастный, холодный, матч обещал быть не слишком интересным, и у кассы у Северной трибуны стадиона стояло всего несколько человек из тех фанатиков, что не пропускают даже матчи дублирующего состава и помнят, в каком году, какого числа и на какой минуте такой-то форвард не забил мяч, который безусловно следовало бы забить. Они уселись на свои места среди редких нахохлившихся зрителей. Голубев вдруг повернулся к Шубину и сказал: — Раз ты уж обвинил меня в самобичевании, я тебе покаюсь. Расскажу историю, которая приключилась со мной на этом самом стадионе и о которой я еще никому в жизни не рассказывал. Даже про себя старался не вспоминать. — Кайся, грешник. Не согрешишь — не покаешься. Не покаешься — не согрешишь. — Я серьезно, Сережа… Тогда Лужники еще не были выстроены. Предстоял интересный международный матч. Дай бог памяти, кажется, наша сборная и Венгрия. О билетах, конечно, не моги и думать. А попасть хотелось на стадион ужасно. Иду по улице и наяву слышу незабываемый звук удара бутсой о тугой мяч. И вдруг утром, в день матча, звонит одна знакомая девчонка — у нас с ней было нечто вроде романа, — звонит и говорит, что отец срочно уехал в командировку и оставил ей свой билет на стадион. “Один?” — спрашиваю. “Один”. — “Какой?” — “На Северную, говорит, трибуну, пятнадцатый ряд, сто пятьдесят третье место”. Как сейчас помню. Сам матч забыл, всё забыл, а билет помню так, будто сейчас его в руках держу. Место — генеральское. Сроду на таких не сидел. “Едем! — кричу ей по телефону. — Умница!” Такой билет мы запросто на два сменяем, даже на Южную. Есть пижоны, которые за честь сидеть на Северной трибуне что хочешь готовы отдать. Приезжаем за полчаса. Народу — бурление и кипение. То там, то здесь вихри возникают, безбилетным страдальцам кажется, что вон там сейчас какой-то шизофреник отдает свой билет по номиналу. Кидаются как в омут, работают локтями, кусаются и пробиваются наконец к продавщице у лотка с мороженым. И девчонка моя оживлена, за меня держится, в толчее такой, того и гляди, закрутит, унесет. И то ли на лице у меня было горделивое и презрительное выражение, какое бывает у владельца билета при взгляде на безбилетника, то ли оттого, что не пробирался прямо к входу, а шел медленно, но со всех сторон слышались страстные мольбы: “Нет ли лишнего билетика?” Просят — и сами не верят в свое счастье. Не верят и просят. А я гордо бросаю: “Лишнего нет, сменяю один на Северную на два на Южную”. И что ты думаешь, сначала один предлагает, потом второй, третий, четвертый. Но я все эти предложения гневно отметаю. За кого они принимают меня? У одного последний ряд. У другого второй — рисунок игры не увидишь. У третьего места почти что у самой Восточной трибуны. У четвертого билеты в разных местах. И так я всё выбираю и выбираю, и уже выбирать нечего. Людей вокруг почти нет. Глянул на часы и обомлел — через три минуты начало. И в руках один потный, измятый билет. Один. Глянул я на свою девчонку и смотреть не могу, отвожу глаза и у самого мысль: “Ну что ей тут делать? Ехала бы домой. Что она в футболе понимает, какая ей разница?” И не стыжусь, главное, сам себя. Она посмотрела вдруг на меня и говорит дрожащим голосом: “Боря, знаешь что, иди один, а я домой поеду”. Говорит и не верит, что я соглашусь. А я кричу: “Поезжай!” И уже бегу галопом к входу. Даже не оглянулся… — Неужели пошел? — усмехнулся Шубин. — Пошел, Сергей; в том-то и дело, что пошел и с чистой совестью смотрел матч. — Да-а, теперь я понимаю, откуда идут некоторые твои привычки. Скотина ты все-таки изрядная. — А ты что сделал бы на моем месте, Сережа? — Я? — Шубин недоуменно посмотрел на Голубева. — То же самое. На поле, для разминки поеживаясь, выходили игроки.ГЛАВА 11
Алексей поднялся по крутому Сандуновскому переулку на улицу Жданова, не спеша прошел до Кузнецкого моста, вернулся, постоял с минуту у Архитектурного института и перешел улицу. Дом был старый, подъезд давно не ремонтировался, и на стенах было можно прочесть признания в любви не одного поколения: “Зина + Коля = любовь, Саша + Маша = любовь…” Кипучая, эмоциональная жизнь юных жителей подъезда не мешала, очевидно, их более мужественным занятиям: из потолка торчали черные веточки обгорелых спичек. И Алексей, не посвященный в тайны этого изысканного вида спорта, подивился, как ухитряются ребята прилепить их туда. Чиркнут, наверное, и тут же подбрасывают… Он был почти спокоен, лишь грудная клетка, казалось, была накачана изнутри и мысли текли медленнее, труднее, чем обычно, и нужно было подгонять их усилием воли, чтобы они не свернули с нужного пути, не сбились в кучу, словно овцы… Алексей шел, чтобы убить человека. Но ни разу со вчерашнего дня, когда он понял, что Игорь не сегодня-завтра пойдет на Петровку и что его нужно убрать, он не думал об убийстве как убийстве. Он не думал о том, что Игорь по его воле перестанет жить, дышать, думать, превратится в труп, в ничто. Он думал о том, что ему сейчас предстояло сделать не в целом, а лишь в деталях, и среди деталей — ох как важно их продумать! — не было места таким общим понятиям, как жизнь и смерть, преступление и возможное наказание. Он знал, что должен убить и сделать это так, чтобы никто никогда не протянул бы ниточку из этого дома к нему, Алексею Ворскунову. Должен убить, потому что иначе пострадает он, Алексей Ворскунов, и было необыкновенно важно, чтобы этого не случилось. Все было обдумано, взвешено много раз. Он, казалось, состоял из двух людей. Один придумывал, предлагал второму варианты, а тот, второй, подозрительный и настороженный, находил в них изъяны, браковал и отбрасывал. И первый, не обижаясь, снова принимался за работу и даже был благодарен второму, потому что именно от него зависело, будут ли они вместе в виде Алексея Ворскунова жить так, как хочется, или будут стоять в зале суда, выслушивая приговор… И теперь эти два существа думали врозь. Первый отвечал за поступки, второй следил, чтобы ничего не было забыто, пропущено. Он был таким столько, сколько помнил себя, и даже необузданному, стихийному, как прыжки теленка, ребячьему озорству он никогда не отдавался целиком: всегда в мозгу его оставался как бы дозорный — спокойный и внимательный, умевший вовремя одернуть его, почуять приближение опасности. Его почти никогда не наказывали. Наказывали других. И он вырос с твердым убеждением, что так именно и должно быть, так справедливо, потому что Алешка Ворскунов лучше, умнее, важнее, чем все остальные. И подсознательно, чтобы это убеждение ничто не могло поколебать, он учился презирать всех, всегда находя, за что именно нужно презирать. Тех, кто учился хорошо, — за выпендривание. Тех, кто учился плохо, — за глупость. Рыжих — за то, что они рыжие. Сейчас он презирал Игоря Аникина. И презрение это, привычное и сильное чувство, помогало не допускать других чувств, которые могли бы ему помешать… В доме была коридорная система, и, стоя перед дверью Игоря — перед ним был погнутый, без замка, синий облезлый ящик для газет, выцарапанное гвоздем и полустертое “дурак”, — вдыхая сложные запахи старого дома — пыль, кухни, кошки, — Алексей внимательно следил, не покажется ли кто-нибудь в коридоре: от этого зависели дальнейшие его действия. Скрипнула открываемая Игорем дверь, еще один последний взгляд-никого нет. Сегодня Игорь выглядел еще хуже, и Алексей брезгливо посмотрел на его жалкую, тонкошеюю фигуру, бегающие, загнанные глаза. Нет, пожалуй, не то. Дело не в том, что выглядел он хуже, а в том, что прятал все время глаза, странно и виновато суетился, не тянулся по-ребячьи навстречу, как вчера. “Пойдет, — с уверенностью подумал Алексей, и мысль его не испугала. Он знал, что Игорь пойдет. — Готов, слизняк. Не выдержал. Черт попутал связаться с ним, артистом. Гм, хорош артист…” Он знал уже, что нужно делать, все было готово. — Я, Игорек, тоже все время думал… — неуверенно и задумчиво сказал он. — Может быть, ты и прав… Черт его знает… — Как-прав? — не позволяя себе еще надеяться, спросил Игорь. — Насчет явиться самим. Ну их к черту, эти деньги! Я тебя понимаю… Трясешься все время, радости от них никакой… “Сейчас обрадуется. Должен, если твердо надумал идти. Проверим”, — подумал Алексей. — Это ты серьезно? — Голос Игоря вздрогнул. — А что я, шутить пришел? — хмуро сказал Алексей. Игорь перестал прятать глаза и с надеждой посмотрел на товарища. — Правда, Леш, а? Ты меня не разыгрываешь? — Пошел ты к черту со своими розыгрышами!.. Давай лучше выпьем и все обсудим как следует. — Давай, давай, Лешенька, сейчас в магазин сбегаю. — Сиди. Я все принес. “Столичная” вот в сумке — две бутылки, томатный сок, сделаем “кровавую Мэри”. Знаешь? — Знаю. — Ну, ты хозяин, действуй, открывай водку, сок, смешивай. Хватит мне тебе нянькой быть. “Так, еще раз проверим, — подумал Алексей. — На бутылках моих отпечатков пальцев, если не дай бог дойдет до этого, не будет. Теперь самое главное… Попросим соль”. — А соль где, хозяин? — Сейчас, Леш. Игорь услужливо метнулся к старому, рассохшемуся буфету. Алексей ухватил правой рукой в кармане щепотку порошка и быстро бросил в стакан Игоря. И уже когда бросил и когда скрипнула дверца буфета, он с ужасом понял, что порошок останется на поверхности, будет заметен. Он схватил вилку и принялся размешивать содержимое стакана. — Тут, Игорек, в этой “кровавой Мэри”, важно размешать как следует. Чтоб, значит, молекулы все перемешались. — Оправившись от испуга, он говорил быстро, стараясь выиграть время и вновь обрести необходимое хладнокровие. — Отличная вещь — и выпивка и закуска в одном стакане. Да и пить приятнее, мягчее. “Кажется, пронесло. Думать, думать больше надо. На таких пустяках и попадаются… Достаточно ли я ему снотворного бросил? Вроде прикидывал дома, порции две—три. Должно хватить”. — Ну, давай, Игорек, за благополучное решение. Поехали. — Поехали. Они выпили, неторопливо закусили. Алексей пристально взглянул на товарища: “Как быстро, интересно, подействует? Через полчаса, наверное, не раньше?” Игорь, смущенно улыбнувшись, сказал: — Я, Алексей, честно, от тебя такого не ожидал. — Почему? — Не знаю… ты… как тебе объяснить? Вот не думал, что тебя тоже мысли мучают… — Мучают, Игорек. Я ведь тоже сначала все как о шутке об этом деле, будь оно неладно, думал. А теперь от шутки один пшик остался. И муторно, и страшно… — Точно, Леш, ты как мысли мои читаешь. Телепатия и телемеханика. Но ведь идти-то тоже страшно. Когда? — Завтра или послезавтра. Надо Павла Антоновича предупредить… Чего там страшного? Главное — с плеч долой. Сразу легче станет. — Нет, честно, Леш, не думал я, что ты такой… о других как-то думаешь. — И зря. Разговаривая, Алексей внимательно следил за лицом Игоря, ожидая первых симптомов сонливости. Он по-прежнему не испытывал никаких чувств к товарищу, кроме презрения, брезгливости. Но теперь чувства эти были не сильными и не отвлекали от главного его дела. — Я, знаешь, Леш, если все хорошо обойдется, снова и на работу устроюсь, ив драмкружок обратно попрошусь. Честное слово дам — до первой капли. Там, знаешь, там у нас атмосфера такая… творческая. Вроде ругаются все, руководитель кричит: “Ты, говорит, двигаешься как маневровый паровоз!..” Ругаются и не ругаются. И запах на сцене и за кулисами всегда такой… особый… Словами не передать… Ты когда-нибудь за кулисами был? — Нет, — буркнул Алексей. — А знаешь, Леш, вот я что подумал: ты ведь тоже мог бы играть… У тебя, по-моему, способности есть… — Игорь широко зевнул, похлопывая по рту ладонью. — Что-то спать клонит. Не выспался, что ли?.. Не от полстакана же водки… — А ты не стесняйся, бывает. Переволновался, наверное. Ляг на полчаса, полежи, а я посижу. Игорь еще раз зевнул, виновато и рассеянно улыбнулся и покорно улегся на тахту. “Надо говорить, быстрее уснет”, — подумал Алексей. — Некоторые от волнения плохо спят, а других, наоборот, все в сон клонит. У меня у самого, если какие-нибудь неприятности, первое дело спать тянет. — “Кажется, уже спит, — подумал он, — сейчас проверим”. — Игорь, а Игорь? — “Спит”. Он подошел к товарищу, пристально посмотрел на него. “Спит. Должен спать. Теперь главное — не суетиться, все как следует обдумать. Сначала главное”. Он осторожно достал конверт со снотворным, высыпал почти все его содержимое в стакан Игоря, остаток же стряс в карман Игоревой куртки, что висела на стуле. Держа пустой конверт за уголок, он вложил его в раскрытую руку Игоря (“Только бы не проснулся… Нет, спит, как сурок!”) и своей рукой сжал Игореву руку в кулак. Послышался слабый шорох сминающейся бумаги. Алексей сбросил смятый конверт на пол и ногой затолкал его под стол. Теперь он был озабочен лишь одним: не забыть чего-нибудь. Он придирчиво осмотрел стол, словно ученый перед сложным опытом. Как будто все в порядке. Нет, сказал он себе, “как будто” не годится. Время есть. Еще раз обдумать. Не спеша он повторил про себя: “На обеих бутылках теперь только отпечатки пальцев Игоря. На стакане — тоже. И вилка осталась только его. Всё”. Он почему-то вдруг вспомнил, как в прошлом году в профсоюзном доме отдыха, куда ему дали тридцатипроцентную путевку, он следил от нечего делать за игрой в шахматы двух отдыхающих. Один, толстенький, балагур и весельчак, делал ходы быстро, с прибаутками. Второй, высоченный и сутулый, с раздраженным, хмурым лицом, по которому, словно живые, двигались красные пятна, протягивал к фигуре пальцы, почти касался ее, отдергивал руку, снова тянулся, в нерешительности замирал, и, когда в конце концов делал ход, на лице его застывало выражение мучительной неуверенности, что пошел не так. Следить за ним было неприятно, и все болели за толстяка. Но выигрывал неизменно сутулый… Оставались деньги. Найти их нужно было обязательно. Если у простого слесаря, да к тому же уже недели три не работающего, находят пятьсот рублей — это должно насторожить, должно не вязаться с очевидной картиной самоубийства. Без них — другое дело. Парень бросил работать, выгнали его из драмкружка, пил неделю подряд… Иди, влезь мертвому под черепушку. Докажи, что не так. В прошлый раз, говоря о деньгах, Игорь невольно бросил взгляд на тахту. Куда еще этот лопух мог их спрятать? Алексей провел рукой по салатного цвета вылинявшему покрывалу — не чувствуется. Перекатил спящего Игоря в сторону-тот только всхрапнул коротко и затих, — снова пошарил… Нет. Не было денег и под подушкой. Он стал на четвереньки и заглянул под тахту. Одна из ножек козелков отломалась, и вместо нее был подложен кирпич. Алексей засунул под тахту руку, пошарил за кирпичом… Так и есть. Спрятал, называется, лопух. Он вытащил сверток, развернул газету — они, те самые двадцатипятирублевки, — сунул деньги в карман. Можно было идти. Капкан был взведен, наживка насажена. Когда он проснется с сухим ртом и тяжелой мутной головой и увидит на столе стакан “кровавой Мэри”, он обязательно потянется к нему. Сам жаловался, что всегда тянет его опохмелиться. И уж не выльет — это точно. Не такой Игорь человек, чтобы выливать водку. И если не сразу, то позже высосет, но высосет обязательно… Теперь прислушаться к шагам в коридоре и идти. Лишь бы не заметили его в момент, когда он выходит, а там неважно. Когда по коридору шел человек, а когда наступила смерть. Разница. В несколько часов разница. Для того все и придумано. Да и мало ли кто ходит по коридору: кто, когда, к кому. И все-таки застраховался, кругом застраховался. Даже найдут его, не дай бог… Пожалуйста. Когда он был, а когда Игорь помер. Разница. Можно идти. И снова он вспомнил руку шахматиста, протянутую — вот-вот возьмется за фигуру — и все же колеблющуюся. Три шага до двери. Выйдешь — и тогда уже ничего не исправишь, не вернешь и будешь грызть себя. Казнить без конца, почему не мог подумать, еще и еще раз проверить. “Глупости, — подумал он, — кругом застраховался и перезастраховался. В три госстраха. И все-таки…” На мгновение ему захотелось вылить содержимое стакана. Только вылить. И можно будет не напрягаться, не думать, не забыл ли чего-нибудь, сбросить груз, размять плечи, расслабиться. Но тогда нужно будет думать о другом. “Гражданин Ворскунов Алексей Иванович, вы обвиняетесь по статье…” Он отбросил соблазн, с презрением оттолкнул его и направился к двери. Все тихо, слышно лишь уютное посапывание Игоря на тахте, шум улицы. Откуда-то донесся голос диктора: “Вы прослушали радиокомпозицию…” Можно идти. Алексей осторожно повернул рубчатый цилиндрик французского замка. Ну, быстро. Он выглянул… Никого не было. Захлопнул за собой дверь. На улицу из ворот Архитектурного института вышли несколько парней и девушка. Девушка сделала смешную гримасу, что-то сказала, и ребята прыснули со смеха. Впервые за долгое время Алексей, кроме привычного презрения, вдруг ощутил острую ненависть к этим людям. Они не видели его, не смотрели даже в его сторону, и все же от них исходила опасность. Опасность таилась в зависти, котораяшевельнулась где-то в самых глубинах его мозга, и он, не осознавая ее, ответил защитной вспышкой ненависти. Ненависть к этой девчонке — без шапки, с длинными прямыми черными волосами до плеч; ненависть к черному дерматиновому футляру, в котором она, должно быть, несла чертежи; ненависть к их смеху, дурашливому, беззаботному; ненависть, наконец, к непохожему на себя человеку, а потому чужому и требующему ненависти и презрения. И не только они, эти смеющиеся студентики, — вся улица, весь город источали неясную угрозу, и он внутренне ощетинился и, наверное, зарычал бы, живи он на несколько десятков тысяч лет раньше. Он спустился вниз по Кузнецкому мосту. Книги, дамский салон. Дом моделей — кому все это было нужно? “Сволочи, — подумал он, — попробовали бы они…” Он не закончил мысли, то ли потому, что не умел ее сформулировать, то ли потому, что не знал, что они должны были попробовать… ? Игорь проснулся оттого, что затекла шея и хотелось пить. Он открыл глаза и долго не мог сориентироваться во времени и пространстве, словно очутился в темном море без единого огонька. Сколько он спал? Который час? Где Алексей? Почему темно за окнами? Он с трудом встал, покачиваясь, нащупал выключатель. “Мать честная! — почему-то испугавшись, подумал он. — Сколько же это я спал?” Он грузно опустился на стул, долго сидел, подперев щеки ладонями. Мысли были какими-то вялыми, ватными, и стоило ему попытаться сосредоточиться хотя бы на одной из них, как она тут же уплывала куда-то, оставляя за собой легкий болевой след. “Надо встать и попить, — лениво подумал он, поднял глаза и увидел перед собой стакан с темноватой жидкостью. — А, “кровавая Мэри”…” Он поднес стакан к губам, вздрогнул от запаха водки, привычно подавил отвращение и в несколько глотков опорожнил его. “Странный какой-то вкус… — все так же лениво подумал он. — Зато снова засну… А потом… Потом…” Он смутно улыбнулся, потому что “завтра… завтра… послезавтра… лучше… и Нил…”. Он опустился на тахту, лицом вниз.ГЛАВА 12
Сотрудник научно-технического отдела производил осмотр комнаты и фотографировал, судебно-медицинский эксперт склонился над трупом, а дежурный следователь прокуратуры собирался составлять протокол. Подполковник Шехов, старший оперативный уполномоченный МУРа, вышел в коридор. У дверей стояла толпа, люди приглушенно и вместе с тем возбужденно разговаривали, с испуганно-жадным любопытством пытались заглянуть в комнату. — Я как ночью увидела, что свет у Игоря горит… — важно рассказывала полная дама неопределенных лет, величественно сложив руки на необъятной груди, — увидела, и сразу меня как будто что-то кольнуло… — Прошу прощения, вы соседка покойного? — спросил подполковник. — Я, — гордо ответила соседка. — Я и милицию вызвала. — Не могли бы вы рассказать мне все, что… — С удовольствием. — Может быть, чтобы не мешать нашим сотрудникам работать, мы могли бы поговорить у вас? — Пожалуйста. Только простите, у меня не убрано… Соседка явно кокетничала. Небольшая, метров двенадцать, комната была убрана с той абсолютной законченностью, которая заставляет посетителя мгновенно почувствовать, что он здесь лишний, что одним своим присутствием он грубо нарушает высшую гармонию ажурных салфеток. Хозяйки таких комнат, как правило, обладают взглядами на жизнь четкими и ясными и никогда не сомневаются в своей правоте. — Давайте познакомимся, — улыбнулся подполковник, с опаской садясь за круглый стол, покрытый бордовой панбархатной скатертью. — Шехов, сотрудник Московского уголовного розыска. — Лацис Фаина Григорьевна, — представилась дама, и подполковнику почудилось, что в глазах ее мелькнуло выражение острого беспокойства, скрытой муки. Он проследил за ее взглядом. Она смотрела на скатерть, собравшуюся в крупные морщины под локтем подполковника. Он усмехнулся про себя и азгладил ладонью скатерть. Глаза женщины потеплели, и подполковник подумал, что зачислен, наверное, отныне в разряд воспитанных людей, с которыми можно иметь дело. — Начнем с вашего покойного соседа. Вы давно знаете его? — Игоря? Да с самого его рождения. Вместе с отцом его, Василием Петровичем, за ними ездила, цветы покупала. “Да, эта женщина, очевидно, из тех, — подумал подполковник, — что, купив раз кому-нибудь цветы, уже никогда об этом не забудет”. — Какого он года? — Родился он как раз, когда война кончилась. Сорок пятого, стало быть. На следующий год, ну да, в сорок шестом, Василий Петрович умер от инфаркта, а Клавдия Митрофановна, мать Игоря, только в прошлом году умерла. — После смерти матери Игорь жил один? — Один. Я сколько раз ему говорила: “Женись, Игорек, веселей тебе будет. Ребеночек появится, на троих уже точно новую квартиру дадут. А то живем тут в девятнадцатом веке, даром что в самом центре…” А он только смеется: “Куда мне, тетя Фаина, молод еще, норму свою не выгулял”. Они теперь, эти молодые люди, такие эгоисты… — Понимаю, Фаина Григорьевна. Где он работал? — Где-то в автобазе. Слесарем. Но уже недели две, как рассчитался. Во всяком случае, не работал, это точно. — А почему он ушел с работы? — Не знаю, — обиженно сказала Фаина Григорьевна и неодобрительно поджала губы. — Он мне не рассказывал. Он вообще последнее время скрытный какой-то стал. Пьяный часто приходил. Отец его, Василий Петрович, в рот не брал, мать, покойница, тоже была женщина тихая, порядочная. Кастеляншей в парикмахерской работала. Всю, можно сказать, жизнь на одном месте, все сыну отдала, а он, видите, учиться не стал, еле специальность приобрел. — И давно он пьет? — Ну, так, чтобы всерьез, с полгода. Раз, помню, жаловался, что пригрозили его из драмкружка при Дворце культуры выгнать за выпивку. — А вы не знаете, случайно, в каком именно Дворце культуры он занимался? — Не могу вам сказать. — Ну хорошо, это определить будет нетрудно… Вы не замечали, приходили к нему в последнее время какие-нибудь товарищи? — Раньше приходили. У нас хотя стенки толстые, старинный дом, не то что нынешние сборные, но все-таки слышно бывает, когда шумят. Ну, а в последнее время не замечала. — Фаина Григорьевна, не могли бы вы охарактеризовать Игоря Аникина, что он был за человек, какой у него был характер? — Почему же не могу? Характер у него был всегда мягкий, задумчивый. У меня когда-то был кот Пушка, огромный такой, пушистый. Игорек, бывало, придет ко мне — он еще малышка совсем был, — сядет на корточки около него и все гладит, гладит. “Киса, Киса…” — приговаривает. — Фаина Григорьевна шмыгнула носом и глубоко вздохнула: — Столько лет, а как будто только вчера… “О ком она, интересно, вздыхает: о коте, покойном соседе или о годах?” — почему-то неприязненно подумал подполковник. — Но, знаете, всегда он был несамостоятельным каким-то, все на мать свою, Клавдию Митрофановну, полагался. Мама скопит, мама купит, мама сделает, мама приготовит. Сколько раз я ей говорила: “Смотри, Клава, набалуешь ты его…” Разве можно? Здоровый парень, а в голове, простите, пустота. — Ну хорошо, Фаина Григорьевна… В каком состоянии находился Игорь Аникин последние две недели, с того времени, как он бросил работу? Замечали вы что-нибудь необычное в его поведении, в разговорах, выражении лица? Фаина Григорьевна слегка прищурилась, словно вглядывалась в даль, склонила голову набок. — Как вам сказать… — Только не пытайтесь обязательно найти что-то особенное в его поведении. Бывает так, что под впечатлением случившегося люди начинают подгонять свои наблюдения… — Простите меня, — обиженно и не без высокомерия отрезала Фаина Григорьевна, — я никогда ничего не подгоняю… — Я не хотел вас обидеть. — А я никогда и не обижаюсь. Если на всех обижаться, обид не хватит. — Губы Фаины Григорьевны снопа неодобрительно поджались. — Господь с вами, Фаина Григорьевна. — усмехнулся подполковник, — вы так прекрасно помогаете нам… — Он еще раз разгладил ладонью скатерть. — Что вы… Так вы спрашиваете о последних неделях?.. Угрюмый он стал какой-то, замкнутый. Ну, и пил много. Утром выйдет на кухню… У нас столы рядом — не кухня, а целый пищеблок, двенадцать хозяек. Представляете? Но я не имею привычки, как некоторые другие, по чужим кастрюлям нос совать… “Боже, — с тоской подумал подполковник, — сейчас начнет излагать свое жизненное кредо. А перебьешь — обидится”. — У меня на кухне вообще дел не много. Сколько надо для одной сготовить? А для некоторых, — слово “некоторые” она нарочито подчеркивала, вкладывая в него особый, уничижительный смысл, — кухня — прямо клуб какой-то. Лекторий и университет культуры. — Игорь… — рискнул вставить словечко подполковник. — Вот я и говорю. Утром выйдет на кухню, мятый весь такой, смутный, желтый. И перегаром, простите, разит. А я этого не люблю, неприятно мне это. Конечно, если бы он был моим сыном… — В словах ее звучал скрытый упрек покойной кастелянше, и все выражение лица ее словно говорило: “Будь он моим сыном, можете не сомневаться, и пить бы он не пил, а учиться бы он учился, и жениться женился, и, уж конечно, не лежал бы лицом вниз на продавленной тахте в своей жалкой, неубранной комнате. — Как по-вашему, Фаина Григорьевна, было у него состояние подавленности, депрессии, тяготило его что-нибудь, мучило? — Он со мной уже давно не делился, — обиженно сказала Фаина Григорьевна, и было ясно, что именно в этом и состояла ошибка Игоря Аникина. — Поэтому точно я вам, конечно, сказать не могу. Но мне все-таки кажется, что в последние особенно дни он был сам не свой. Даже со мной раз утром на кухне не поздоровался. Смотрит на меня так, словно я стеклянная, сквозь меня смотрит. Я ему говорю: “Что ты, Игорь, не здороваешься?” А он словно очнулся, скривился так и пробормотал: “Простите меня, тетя Фаина, задумался”. — Ну хорошо, Фаина Григорьевна, расскажите, пожалуйста, как вы вызвали милицию, что привлекло ваше внимание, что вызвало у пас подозрение, — одним словом, все. — Ночью, часа в два… — Простите, прошлой ночью? — Да. Ночью, часа в два, я проснулась от изжоги. Изжога меня мучает. Встала поискать соды и вспомнила, что оставила соду на кухне, в столе. Накинула халат, вышла в коридор, а у нас, вы, наверное, сами заметили, лампочка в коридоре как от карманного фонарика, еле светит. Смотрю, в комнате у Игоря свет. — А как вы определили, что у него горит свет? — Через нижнюю щель двери. Когда свет у него горит, полоска внизу яркая. — Понятно. А почему вы обратили на эту щель внимание? — А я и не обратила. Но когда пошла утром, часов в восемь, ставить чайник, свет все так же горел. Вот тогда мне это показалось немного странным. Я остановилась у его двери, прислушалась. Тихо. Ну, думаю, опять пьяный пришел, забыл свет выключить, спит. Но когда и все утро и днем свет продолжал гореть, а Игорь не выходил, я спросила у соседей из четырнадцатой и шестнадцатой комнат, не заметили ли они — выходил или не выходил Игорь. Нет, вроде, говорят, не выходил. Я совсем разнервничалась, какое-то предчувствие у меня стало. Может быть, человек заболел, а мы здесь стоим. Я подошла к двери, это было уже часа в четыре, постучала. Сначала тихо, потом громче. В комнате тишина, ни звука. Я подумала: надо вызвать милицию, мало ли что может быть. А потом, когда вы уже приехали и открыли с понятыми дверь и Игорь… Она вдруг заплакала, некрасиво сморщила лицо, заплакала не сдерживаясь, всхлипывая и не пытаясь унять слезы. И подполковник подумал, что она, должно быть, в сущности добрый человек и что ее броня собственного осуждающего превосходства оказалась вовсе не броней, а защитной скорлупкой. — Спасибо большое, Фаина Григорьевна.”. Что ж… К сожалению, бывает, случается и так… Он еще раз разгладил ладонью панбархатную скатерть, поставил стул именно на то место, на котором он раньше стоял, и вышел в коридор. Соседи всё еще продолжали возбужденно обсуждать происшедшее: “Он еще тогда… Без матери-то… Двадцать три года всего… Ну, теперь молодежь… И с чего бы это?.. Да, вот вам и…” Из-под двери комнаты Игоря Аникина пробивалась полоска света. В полутьме коридора она казалась удивительно яркой. Подполковник, чувствуя на себе вопросительные взгляды, открыл дверь и вошел в комнату. Судебно-медицинский эксперт, средних лет мужчина с необыкновенно озабоченным лицом, поднялся с тахты, два раза развел руками, разминая уставшую спину, и сказал: — Смерть наступила, по-видимому, часов двенадцать—пятнадцать назад. Точнее пока определить трудно. Отравление, возможно, большой дозой снотворного. — Похоже, что анализ остатков содержимого вот этого стакана, — сотрудник НТО кивнул на стол, — даст нам точный ответ… — Черт те знает что, — вздохнул следователь, — парнишка двадцати трех лет — и пожалуйста…ГЛАВА 13
Голубев отложил ежедневную сводку о происшествиях по городу… Самоубийство. Двадцать три года. Автослесарь. Не работал. Смертельная доза снотворного. Автослесарь… Ну и что? Почему автослесарь не может покончить самоубийством? Это что, привилегия других профессий? Автослесарь… Автомобили, легковые автомобили, такси… Шоферы такси… Фантазия… А почему, собственно говоря, обязательно фантазия? Ладно, проверим семена на всхожесть, оставим мысль на час—другой и посмотрим, что с ней станет. Это была его постоянная привычка: если в глубине сознания начинала теплиться догадка, он старался не думать какое-то время о ней, зная, что она никуда от него не денется. — Сереж, а Сереж, — сказал Голубев и посмотрел на Шубина, сидевшего за письменным столом, поставленным впритык к его столу. — Ну что? — буркнул Шубин и поднял глаза от серенькой папки, лежавшей перед ним. — Ты газеты читаешь? — Читаю. — О финансово-валютном кризисе капиталистических стран читал? — Читал. — Как по-твоему, на рубле ведь этот кризис не отражается? — Не отражается. — Рубль не качается? — Не качается. Стоит твердо. — Так дай мне его, Сереж, всего один, и до завтра. Если тебе трудно решиться, пересилить темные инстинкты — пережитки капитализма в твоем сознании, скажи, не стесняйся, я помогу тебе побороть их. Подумай только, Сереж, один рубль на прокорм. Подумай сам: сможешь ты есть, зная, что человек, с которым ты сидишь в одной комнате, тихо плачет от голода, жует украдкой промокательную бумагу, чтобы унять голодные спазмы? Подумай, Сережа, обыщи свою душу, может быть, даже и в ней ты найдешь участочек, не успевший еще окончательно зачерстветь. Шубин, забыв о скверном настроении, изо всех сил сдерживал улыбку. Он встал и начал вышагивать от сейфа к письменным столам и обратно, заложив руки за спину и мучительно хмурясь. — Ты сейчас борешься с собой, да? Скажи мне, и я с удовольствием помогу твоим душевным побуждениям одержать победу над безусловными рефлексами. Скажи, Сережа, не стесняйся, открой свою душу коллективу. Шубин сел, обхватил голову руками и глухо застонал. Они могли быть расстроены, раздражены, могли чувствовать усталость, но по негласному договору между ними ни один не имел права погубить шутку. Договор был священ, и ни одна сторона и не помышляла денонсировать его. — О слабость человеческая! — воскликнул Шубин. — Когда только мы избавимся от нее?.. Хорошо, так и быть, капитан, вы получите испрашиваемый краткосрочный заем на льготных условиях и без процентов. Но с одним условием. — Говорите, майор, я готов на все! — с жаром выкрикнул Голубев. — Ваш рубль, капитан, будет уплачен за ваш обед мною, ибо только так я смогу быть уверен в его целевом назначении. И мы это сделаем сейчас же! — Благодетель! — закричал Голубев и хотел было бухнуться на колени, но дверь в комнату приоткрылась и в щели показалась голова капитана Сергейчука. — Что у вас тут? Ледовое побоище? — спросил он. — Нет, поднимай выше, — сказал Шубин. — Голубев одалживает у меня рубль на обед. — Ну вот, — обиженно сказал Сергейчук. — опять в стенку не стукнули. Обещали ведь звать на представления. — В следующий раз, коллега, — успокаивающе проворковал Голубев. — В следующий раз. И обещаю, что это будет скоро. Пошли обедать. — Пошли. Вы бы хоть пока форточку открыли. Надымили, как паровозы. — Нельзя, дорогой, — серьезно сказал Голубев, — наукой точно установлено, что современному городскому жителю кислород противопоказан: он так отвык от него, что может отравиться. Бойтесь поэтому свежего воздуха. Весь вред от него. В столовой Голубев продолжал развивать теорию о вреде свежего воздуха: — Понимаете, медицина у нас, к сожалению, не сразу подхватывает новейшие открытия, сделанные в других областях науки. В тяжелых случаях больному дают дышать кислородом, а следовало бы, как вы теперь сами видите, давать скорее привычные выхлопные газы от автомобилей. Мимо них, кивнув, прошел подполковник Шехов. — Василий Сергеевич, — протянул ему руку Шубин, — присядь на секундочку. Я видел в сводке, что ты выезжал на самоубийство. — Да, всё под впечатлением. Понимаешь, молодой парень, двадцать три года, автослесарь, артист, в драмкружке играл… Доз двадцать снотворного в стакан с водкой — и отбросил копыта. — Шехов досадливо махнул рукой, словно так и не простил самоубийце его последнего поступка, и пошел, раскатывая между пальцами папиросу. “Так, — подумал Голубев, — похоже, и Сергея зацепила сводка. И если он молчит пока что — значит, и у него что-то на уме”. — Да-а, чтобы человек с устойчивой психикой мог решиться лишить себя жизни, чем бы это ни было вызвано… — задумчиво сказал Голубев. Заканчивали обед они в молчании. Шубин снова чувствовал то раздражение, которое не покидало его последние дни. Сейчас почему-то это раздражение, острое недовольство собой стали особенно сильны. “Туп ты, — говорил он себе, — все кругом да около, а что-то главное все время ускользает от тебя”. “Ускользает” — это было точное слово. Шубину казалось, что где-то близко, совсем рядом появилось именно то, что он ищет, где-то почти на поверхности сознания. Нужно только сосредоточиться, выключить все посторонние раздражители. Он закрыл глаза, подпер подбородок ладонями. “Черт бы его побрал… Рядом, совсем рядом. Что-то очень важное…” Но мысль словно дразнила его. Чем настойчивее пытался он ее поймать, тем легче она увертывалась от него, буквально уходила из-под рук, скользкая, призрачная. Но мысль эта была, он знал это слишком хорошо, не раз мучаясь так же, как сегодня, чувствуя себя охотником, гоняющимся за неясными тенями. “Охотник…” Ну-ка задержимся на этом слове. Охотиться можно по-разному. Можно сидеть в засаде и ждать, пока дичь не выйдет на тебя; можно идти по следу; а можно и обложить зверя со всех сторон. Вот и давай обкладывать ее, чем гнаться без толку за ускользающей мыслью. Не торопясь, спокойненько, методично. И никуда ей не деться, если она только действительно притаилась в его черепной коробке. По порядку. О чем он думал последние часа два с момента прочтения сводки? Все то же. Покончивший с собой автослесарь. Что сказал Шехов в столовой? Артист, в драмкружке играл… Артист, в драмкружке играл… Самоубийца — артист… Самоубийца — артист… Шубин вспомнил детскую игру “холодно-горячо”. Чем ближе водящий с завязанными глазами к спрятанному предмету, тем громче кричат играющие: “Горячо!” Чем дальше он отходит, тем громче кричат: “Холодно!” Все его сознание сейчас громко вопило: “Горячо!” И вдруг он почувствовал, что проклятая эта неуловимая мысль подымается к поверхности его сознания, подымается быстро, как воздушный пузырь из опрокинутой в воде банки. И точно, со слабым шорохом пузырек лопнул, обнаружив содержимое: ну конечно, артист… Второй. Узбеки, грим… Боже, как все просто бывает. Артист — и автослесарь. “Постой, постой, — крикнул себе Шубин, — не торопись! Не давай волю воображению. Откуда такая уверенность? Мало ли в Москве автослесарей — участников самодеятельности? И почему второй обязательно должен быть автослесарем?” Но интуиция не желала слушать предупреждений, и Шубину и впрямь стало горячо. Он встал и пошел к заместителю начальника Управления просить разрешения на дополнительный осмотр комнаты самоубийцы. ? Они вошли вместе с работником отделения и понятыми, и Шубин долго стоял не двигаясь, впитывая в себя детали небольшой убогой комнатки старого дома. И дом и комната, казалось, стыдились своей старости, знали, что обитатели их ждут не дождутся переезда в новые, со всеми удобствами дома, без коммунальных квартир, наложивших свой отпечаток на жизнь не одного поколения. И, ожидая новых домов и новых квартир, они относились к старым как к пережившим свой век, постылым всем старикам, лишь изредка вздыхая при сентиментальных воспоминаниях о прожитом. Но сейчас у комнаты был недоуменный и обиженный вид, словно она молчаливо говорила: да, я знаю, что стара и доживаю свой век. Но почему меня бросили, почему стало вдруг так тихо? Шубин рассматривал чуть тронутую уже желтизной афишку на стене: “Мещане”. Нил — И.В.Аникин”. Одна только роль, а затем вторая, из которой уже не выходят. Но не было ли между ними еще одной, разыгранной в дождливых сумерках в Строевом переулке? Где мог держать здесь молодой парень вещи, связанные с его драмкружком? В шкафу? Вряд ли… Л может быть, в этом стареньком буфете с аккуратными маленькими нулевыми пробоинами, сделанными древоточцами?.. Дверца тонко скрипнула. Несколько тарелок, чашки, ножи, вилки, ложки. Какие-то банки. Ага, вот, кажется… Еще одна афишка, такая же, что и на стене, и фотография тринадцать на восемнадцать с группой людей, снятых на фоне занавеса. Кто из них, интересно, Игорь Аникин? Прямоугольная коробочка. “ВТО”… Ага, это, очевидно, “Всероссийское театральное общество”. Грим театральный. На красках листок полупрозрачной бумаги. Ну, еще движение руки — оправдается его предположение или нет? Гримировальный набор был новенький, лишь отделения для черной и коричневой красок были пустыми: оставались лишь следы красок. На концах бумажных растушевок тоже остались следы коричневого и черного тона. И небольшая бутылочка, тоже с этикеткой “ВТО”. Лак. Очевидно, для наклейки бород и усов. Пробку уже открывали… — Нужно будет составить протокол на изъятие вот этих штучек, — сказал Шубин, закрыл коробочку, тщательно обернул в бумагу, спрятал ее и пузырек в карман пальто, неторопливо закурил. И снова, если даже покойный Аникин сообщник Ворскунова, Рахим по спектаклю, разыгранному в Строевом переулке, они ни на шаг не приблизились к раскрытию преступления. Чужой, изворотливый ум, казалось, вел с ним игру в кошки-мышки. Вел осторожно, хитро, оставляя лишь намеки на улики, а не сами улики. Второго теперь нет, и шансы на раскрытие уменьшились ровно вдвое. Кому это выгодно? Ворскунову. Слишком что-то ему везет, этому типу с тяжелой волевой нижней челюстью и умными, настороженными глазами. А может быть, это не просто везение? “Каждый — кузнец своего счастья”. Есть еще такие кузнецы, которые предпочитают ковать свое счастье, круша кувалдой кости ближнего. Но где доказательства? Эксперты НТО уж как-нибудь не пропустили бы отпечатков чужих пальцев на последнем в жизни Аникина стакане, на бутылках с водкой и томатным соком, на дверном замке. И все-таки Ворскунов мог побывать здесь, напоить Аникина снотворным, тщательно уничтожив следы своего присутствия. А если так, что толку в гипотезах и предположениях? Их, слава богу, они за последние дни нагородили немало. Разве что на коробке с гримом и бутылочке с клеем окажутся отпечатки пальцев Ворскунова?.. Вряд ли… Немножко странно, что они их вообще не выкинули… На Ворскунова это не похоже, а Аникин… Аникин мог их и оставить. Артист… И снова, как несколько часов назад, Шубин почувствовал, что что-то бесконечно важное, что-то такое, что сможет окончательно убедить его в правильности своей версии, все-таки скрыто здесь, в этой маленькой, четыре на три, комнатке. Итак, дано: один преступник убивает своего соучастника, симулируя самоубийство. Причины убийства неизвестны, но что-то, очевидно, толкнуло его на это, что-то важное, жизненно важное для него, потому что обычно мошенники — не убийцы. Операции, подобные операции с бидоном, требуют определенного ума, расчетливости, профессионализма, наконец, а такие люди редко прибегают к грубому убийству. Они слишком хорошо знают Уголовный кодекс. Еще раз… Следов Ворскунов не оставил. Он, наверное, так же стоял в этой комнате, может быть на этом же самом месте, и думал о том же самом, но как бы с отрицательным знаком — не оставить следов. И не оставил… Еще раз… Что могло остаться у Аникина после преступления? Рабочие куртки и брюки они сожгли там в переулке на костре, на котором сжигали строительный мусор. Обгорелые остатки сотрудники вытащили в первый же вечер. Грим? Грим остался. Еще? Его доля… Ну конечно же, деньги. Пускай не половина этих четырех тысяч рублей, пускай часть, но деньги, а не те шесть рублей двадцать две копейки, что были обнаружены в пиджаке у Аникина. Больше в комнате не нашли ничего, и в этом на опергруппу, побывавшую здесь, можно смело положиться. Денег не было. Но ведь не из-за любви к маскараду пошел Аникин на преступление. Деньги должны были быть, но их не было. Не мог же парень пропить пятьсот или тысячу рублей за несколько дней, тем более что соседи показали, будто он почти все время находился дома. Не было видно и покупок, которые бросились бы в глаза. Молодой человек двадцати трех лет. В руках его оказывается, может быть первый раз в жизни, солидная сумма. Неужели он не мечтал о чем-нибудь, неужели не бросился в магазин, ну, скажем, за костюмом, за транзистором, за магнитофоном?.. Что-то, очевидно, мешало ему истратить деньги, и это что-то, по всей вероятности, как-то было связано с его смертью. Что-то, где-то, как-то — не слишком ли опять много неопределенностей? Гипотезы, гипотезы, бредущие на шатких умозаключениях, как на неустойчивых ходулях, и падающие от прикосновения с фактами — какой оперуполномоченный или следователь не знаком с ними? Нужно было выбросить окурок сигареты, но Шубин не мог решиться бросить его на пол. Он покрутил его в реках и машинально засунул в карман пальто. Да, гражданин Ворскунов, кажется, вы сделали одну маленькую ошибочку, всего одну ошибочку: не надо было брать деньги. “Хотя, с другой стороны, — подумал Шубин, — он, пожалуй, не глупее меня. Найденная крупная сумма денег лишь заставила бы нас думать: откуда покойный взял их?” Шубин устало вздохнул. Круг как будто бы замыкался, не давая ухватиться за себя. И все же у него было ощущение, что они не стоят на месте, что в каких-то местах круг истончается, вот-вот лопнет.ГЛАВА 14
На этот раз Капот уже не лаял. Он звякнул цепочкой, вылез из своей ветхой будочки и равнодушно посмотрел на Голубева. “Вот так, — философски подумал Голубев, — нет новизны, нет волнений”. Он прошел по тропинке к застекленной терраске, постучал. Никто не ответил. “Не ехать же обратно в Москву. Придется подождать”, — подумал он. Поднял воротник пальто, поежился. В этот день шел мокрый снег вперемешку с дождем, и от одного вида осенней этой слякоти хотелось побыстрее оказаться в теплом, сухом помещении. Где, Прасковья Дмитриевна говорила, она работает? Ага, тут, напротив, в дачном поселке. — Вот так, дорогой товарищ Капот, — сказал Голубев собаке, отчего та склонила голову набок и кивнула, словно отвечая своим мыслям: “Точно, псих”. — Я должен уйти. Как в принципе устроена атомная бомба? Имеются два куска урана или плутония, каждый из них безвреден, мал, неказист. Но стоит их сблизить, чтобы их общая масса стала выше критической, — и взрыв. В памяти Голубева хранился кусочек информации: старуха Серикова, теща Ворскунова, давно и регулярно пользуется снотворным. Информация эта ничего не значила и хранилась тренированным мозгом оперуполномоченного лишь потому, что он не разрешал себе забыть ни одной детали, даже самой пустяковой. И вот появляется второй кусочек: этот парень, что покончил с собой, участник драмкружка, артист, автослесарь, сделал это при помощи снотворного. И, соединившись, оба эти кусочка информации взорвались в четкой и ясной догадке. Он ничего не сказал Шубину, он не мог откладывать проверку ее ни на минуту. И если сейчас он заставлял себя идти спокойно, а не бежать, — поверьте, это было не легко. Но нужно было держать себя в руках, тем более что догадка — это всего лишь догадка, пока под нее не будут вогнаны толстые сваи доказательств. Он перешел улицу, нашел калитку, вгляделся. Метрах в двадцати друг от друга стояли стандартные домики, лишь в нескольких из них можно было заметить в окнах свет. Тишина, мокрый снег, беловато-серые сырые облака цеплялись за верхушки сосен. Казалось, если хорошенько прислушаться, можно будет услышать, как ветки с легким шорохом вспарывают перенасыщенные влагой внутренности облаков. — Мишк, отдай! — послышался детский крик, и у одного из коттеджей Голубев заметил двух мальчиков, лет пяти и семи, в одинаковых коричневых полушубках. — Ребята! — крикнул Голубев, и мальчики подбежали к нему и уставились в две пары широко открытых глаз. Младший от сосредоточенности даже приоткрыл рот. “Насколько все-таки люди любопытнее животных, — подумал Голубев, вспомнив о Капоте. — А может быть, все дело не в том, человек ты или животное, а в том, сколько тебе лет? Филозоф!” — обругал он мысленно себя и сказал: — Милые дети (мальчики прыснули, толкнув друг друга в бока), не имеете ли вы чести знать гражданку Серикову Прасковью Дмитриевну? — Прасковью Дмитриевну? — переспросил старший. — Да она сейчас у нас. Вон, в третьем доме. Показать? — Нун гут, загте дер бауэр. Данке шён, киндер. Глаза младшего, казалось, заняли уже с пол-лица, в открытом рту не хватало нескольких зубов. — Это на каком языке вы сказали? — спросил старший. — На прекрасном немецком языке. Все сказал, что знаю. Про крестьянина вам рассказал. — Про какого крестьянина? — Увы, милые дети, не знаю. В жизни есть много жгучих тайн. Мальчики с секунду молчали, словно не зная, как реагировать на слова странного человека, а потом вдруг одновременно, как по команде, рассмеялись. — А Мишка по-английски стихи знает, — сказал младший, чувствуя, очевидно, потребность утвердить перед незнакомцем свое достоинство. — Нун гут, пойдемте к Прасковье Дмитриевне. Когда они подошли к коттеджу, он увидел Серикову. В телогрейке, в кирзовых сапогах, она вынесла таз с горкой серо-белой золы, отошла на несколько шагов в сторону и одним движением опорожнила его. — Здравствуйте, Прасковья Дмитриевна, — улыбнулся Голубев. — Не узнаете меня? Ваш лыжный квартирант. — Здравствуйте. Почему не узнать? Узнала. — Зашел к вам, а Капот говорит: “Она на работе”. Женщина улыбнулась: — Веселый ты человек, я посмотрю. — Стараюсь, — скромно ответил Голубев. — А он с нами по-немецки разговаривал, — хвастливо вставил младший и горделиво посмотрел на Прасковью Дмитриевну. — Мишк, как он сказал? — Чего-то гут… — Прекрасно, дети, прекрасно. Необыкновенные лингвистические способности. Скажите маме. — Мамы нет, мама на работе, и папа, а мы с бабушкой, — сказал старший. — Ну, тогда бабушке, — великодушно согласился Голубев. — Так как насчет комнаты, Прасковья Дмитриевна? — Даже и не знаю, чего вам сказать… — Женщина еще раз встряхнула тазом, ссыпая остатки золы. — Боюсь, много вас будет приезжать… — Ну как же много, человека три от силы, на субботу и воскресенье, да и то не каждый раз. Разве вам деньги лишние помешают? “Переводи, переводи разговор ближе к делу, — сказал он себе, сдерживая нервную дрожь, — сколько можно…” — Да ить кому они помешают? — нерешительно сказала женщина. — Зятя спросить, что ли… Забыла совсем. Приезжал он на днях, теперь еще когда заявится… Голубев почувствовал, как у него забилось сердце. Неужели догадка, возникшая у него, верна? Неужели повезет? Только не торопиться, чтобы разговор получился естественным. Один неверный шаг, вызовешь подозрение — и все пропало. Не торопиться. — А вам, наверное, здесь удобно: через дорогу — и дома. Не то что в Москве: полтора часа из дома на работу, столько же обратно. — Это-то да, — оживилась Прасковья Дмитриевна, довольная, очевидно, тем, что можно было оттянуть решение. И хотелось ей сдать комнату, и деньги будут, и веселей с людьми, и все боялась продешевить, а заломить большую цену как-то было совестно. — Это-то да. Для здоровья воздух здесь необыкновенный… — На всякий случай с врожденной крестьянской хитростью она набивала цену здешним прелестям. — Вот видишь, ребятишек здесь этих всю зиму держать хотят. Кашляет старший, аллергия у него какая-то, а здесь помогает… — А как ваше здоровье, Прасковья Дмитриевна? Не беспокоит? — И не говори. — Прасковья Дмитриевна оживилась и даже облизнулась, смакуя предстоящий интересный разговор. — Ходила опять в поликлинику, анализы делала. И РОЭ, слышь, высокое — двенадцать… — Не такое уж и высокое. У моей матушки почти всегда около двадцати было… — Тоже скажешь — невысокое! Норма-то какая, знаешь? — обиделась женщина. — Шесть! А ты — невысокое! — Да нет, — испугался Голубев, — я же вижу, что здоровье у вас… И прошлый раз вы говорили, что без снотворного заснуть не можете. — Вот ты говоришь — снотворное, а оно у меня, понимаешь, куда-то пропало. Нету. Весь запас. — Куда ж вы свои порошки задевали? — с трудом сдерживая нервную дрожь и нарочито небрежно, словно лишь для того, чтобы поддержать беседу, спросил Голубев. На лице женщины появилось недоумевающее выражение. Она пожала плечами. — Сама ума не приложу. Цельная коробка была, из-под конфет. И люминал, и нембутал, и бромурал, само собой, бар-бамил… Гляжу, а коробка пустая, как корова языком слизнула. — Найдутся. Куда они могли деться? В доме ведь никого нет. — Откуда найдутся? — почему-то обиделась женщина. — Всё перерыла. — Ну, может быть, кто-нибудь взял. — И некому. Кроме зятя-то, за неделю никого не было. Приехал на час, покопался в сарае с мотоциклом — и обратно… Куда ж вы? — Я еще приеду, — быстро сказал Голубев. — До свидания. — Ладно, приезжай с лыжами, потом цену скажу… Но Голубев уже не слышал. Он быстро шагал к станции, не обращая внимания на слякоть под ногами и мокрый снег. Значит, догадка была верна. Вот обрадуется Шубин! Виду ведь не подаст, не похвалит. Подмигнет только. Мысль об этом была ему приятна. И если кто-нибудь увидел бы его в этот момент на быстро темнеющей дачной улице Шереметьева, то наверняка обратил бы внимание на счастливую улыбку, с которой он шагал к станции. Послышался гул реактивных моторов, где-то совсем низко, прямо за тучами, и Голубев почему-то проникся теплым чувством к пилоту и штурману, которым ох как нелегко сажать тяжелый самолет в такую погоду. Впереди показались огни станции, и Голубев прибавил шаг. ? Голубев ворвался в кабинет, когда Шубин доставал пальто из шкафа. — Ты где был? — спросил майор. — Я тебя по всей Москве ищу. “Потянуть или сказать прямо? — подумал Голубев. — Нет, придется сказать сразу, а то лопну от нетерпения”. — Тебя, случайно, не интересует, где Ворскунов взял снотворное? — Ворскунов? В этом еще нужно убедиться… Шубин чувствовал, что Голубев что-то знает, что сообщит сейчас что-то важное, и с трудом сохранял невозмутимый вид. “Ах так, — улыбнулся про себя Голубев, — ты, голубчик, сохраняешь спокойствие! Майор, видите ли, был, как всегда, невозмутим. Посмотрим, как ты сейчас возмутишься…” — Я поехал в Шереметьево. С Савеловского вокзала. Сел в третий с конца вагон… — Странно, Боря, мне почему-то казалось, что ты обычно ездишь на крышах электричек. — Нет-нет, товарищ майор, только в хорошую погоду. Итак, электричка тронулась, набрала скорость и помчалась по рельсам. — Что ты говоришь? — Шубин даже всплеснул руками. — Неужели по рельсам? И не торопись, христа ради, больше подробностей… Голубев рассмеялся. — Сдаюсь, — поднял он руки. — Тебя не пробьешь. В двух словах: накануне смерти Аникина Ворскунов был у теши в Шереметьеве, и после его посещения у нее пропал весь ее запас снотворного. Больше в доме не был ни один человек. Кроме того, он что-то делал с мотоциклом, который хранит там в сарае. Шубин коротко взглянул на товарища, подмигнул ему, словно говоря: ты же знаешь, Борька, что это здорово, что я все понял, оценил, но мы же суровые мужчины, которым не к лицу бурные проявления чувств. И Голубев, прекрасно поняв этот непроизнесенный коротенький монолог, тоже подмигнул в ответ, с трудом сдерживая улыбку. — С мотоциклом, говоришь, копался? — спросил Шубин. — В конце октября? А ведь до мая его и не выведешь из сарая? Интересно зачем? Похоже, что… — Вот именно, — кивнул Голубев. — Похоже, что… — Придется завтра ехать. Мне. Тебя она знает в лицо. ? “Начинаем передачу для воинов Советской Армии…” — сказал женский голос. Прасковья Дмитриевна на мгновение приоткрыла глаза, опустив голову на грудь. Можно было, конечно, прилечь, но для этого нужно встать, дойти до кровати, раздеться — думалось ей сквозь теплую и неглубокую дремоту, — нет, лучше так посидеть. Она снова приоткрыла на секунду глаза, словно ныряльщик, поднимающийся на поверхность за глотком воздуха, и снова плавно опустилась в сон. Внезапно сквозь уютную дремоту донесся лай Капота. “Снится, наверное”, — подумала Прасковья Дмитриевна и посмотрела на экран телевизора. Но лай не утих, из чего она сделала вывод, что не спит. Вздохнув, она вышла на терраску. У крыльца стояли двое: один в милицейской форме, другой в штатском. — Здравствуйте, — улыбнулся милиционер. — Серикова Прасковья Дмитриевна? — Ну я, — ответила Прасковья Дмитриевна. Она нисколько не волновалась, волноваться ей было не из-за чего. Жаль только, что оторвали от телевизора. — Просим прощения за беспокойство, — вежливо сказал милиционер. — Позвольте представиться: капитан Капустин, — он наклонил голову, — и майор Шубин, — кивок в сторону спутника. — Мы из Отдела безопасности движения. У вас имеется мотоцикл? — Не у меня, у зятя. Я для мотоцикла устарела. — Я понимаю. Но он здесь? — Зять-то? — Нет, мотоцикл. — Здесь, в сарае. — Понимаете, Прасковья Дмитриевна, на днях на Дмитровском шоссе, за мостом через канал, мотоциклист сбил человека и, по показаниям свидетелей, скрылся, повернув в сторону Шереметьева. Вот мы и ищем их обоих — мотоцикл и мотоциклиста. — Да ить мотоцикл-то с сентября стоит. Как Алексей его поставил, так и ни разу больше не выезжал. — Я понимаю, Прасковья Дмитриевна, — сказал майор в штатском. — Мы вам верим, но порядок есть порядок. Все равно придется осмотреть мотоцикл. — Ладно, — вздохнула Прасковья Дмитриевна, — сейчас возьму ключи. “И то правда, — подумала она, — хорошо, что ищут. А то развелось этих трещоток, житья нет, того и гляди, налетят. А то еще девку посадят сзади и мчатся, как на шабаш…” Она отперла висячий тяжелый замок, и все трое вошли в сарай. — Вот он, — сказала Прасковья Дмитриевна, показывая на прикрытый брезентом мотоцикл. — Смотрите… Майор снял брезент и принялся осматривать темно-красную “Яву”. — Давно, говорите, стоит? — Да в сентябре зять поставил. — А ведь похоже, что недавно занимались мотоциклом… — А я рази говорю, что нет? На той неделе Алексей с ним копался. — Смотрите, — сказал капитан, — заднее крыло покрыто пылью, а на переднем следы пальцев. И баллон задний накачан, а передний спущен. — Вижу, — сказал майор. — Говорю вам, не выводил он его с сентября… — Порядок есть порядок, Прасковья Дмитриевна, — развел руками майор и улыбнулся. — Ударил ведь он пешехода передним колесом? — спросил он капитана. — Давайте осмотрим переднее колесо получше. — А ничего вы не напортите? — подозрительно спросила Прасковья Дмитриевна. — А то мне Алексей, зять-то… — Все будет в наилучшем виде, — улыбнулся майор и склонился над передним колесом, что-то делая с шиной. “Скоро они там?” — подумала Прасковья Дмитриевна и начала поправлять дрова, припасенные на зиму. — Гм, — сказал майор и с трудом вытащил из наполовину снятой с обода шины пачку, — интересно… — Он развернул газету. — Деньги… Ваши, Прасковья Дмитриевна? — Что? Какие деньги? — испуганно уронила полено Прасковья Дмитриевна и обернулась. Майор в штатском держал в руках толстенную пачку двадцатипятирублевок. Прасковья Дмитриевна почувствовала, как спина ее покрылась враз потом. Деньги… Чьи деньги? Алексея? Почему? Откуда? — Значит, не ваши? — переспросил майор, пристально глядя на нее. — Может быть, зятя вашего? Видите, как бывает: искали одно — нашли другое. Ну ладно, давайте оформлять находку…ГЛАВА 15
Алексей получил путевой лист, сел за руль, устроился поудобнее. “Сегодня нужно быть поосторожнее: гололед”, — подумал он. Когда Алексей ехал в парк, у Белорусского вокзала он увидел “Москвич” со смятой облицовкой и разбитыми фарами, упершийся носом в “ЗИЛ”. “Первая скользь самая опасная. Еще не привыкли”. Он повернул ключ зажигания, стрелка указателя горючего заплясала посредине шкалы. Все в порядке, на полдня работы хватит. Он включил двигатель, дал ему прогреться на малых оборотах и медленно двинулся к выходу. Он только притормозил у ворот, чтобы показать путевой и чтобы вахтер опустил цепь, преграждавшую выезд, как к машине подошел человек в форме майора и сказал: — Не возьмете первых пассажиров? Лицо человека показалось Алексею знакомым. Где-то он его видел. Ну конечно же, в ОРУДе. Майор, что вызывал его. Вечно они в парке торчат. — Садитесь, товарищ майор. Майор взглянул на водителя, прищурился, словно вспоминая: — А… Знакомые всё лица. Вы, кажется, были у нас в отделе ОРУДа? Как фамилия? — Ворскунов. Точно был. Ошибка вышла. — Бывает, бывает, — охотно согласился майор. — Со всеми случается. Так как, берете, товарищ Ворскунов? “Шутник, — неприязненно подумал Алексей. — На его месте ябы тоже шутки шутил”. — Как не взять, товарищ майор? С вашим братом нам ссориться опасно. Чуть что — ваши права, товарищ водитель. Садитесь. Алексей открыл переднюю дверцу. Майор сел рядом, а его спутник сзади. — Куда вас? В отдел? — Нет, нам сегодня к начальству. На Петровку, тридцать восемь. Знаете? — Известный адрес, — усмехнулся Алексей. “А вообще, — подумал он, — с милицией хоть ехать спокойнее”. Он осторожно съехал по крутому спуску, привычно тронул тормоза — все в порядке, держат, — выехал на путепровод у Савеловского вокзала и направился по Новослободской. “Значит, прямо, — подумал он, привычно составляя в голове маршрут, — с улицы Чехова в переулочек и выехать на Петровку”. Транспорт двигался медленно, гололед заставлял водителей держаться настороже. И мысли Алексея текли в ритме движения, неторопливые, лениво цепляясь одна за другую. Об Аникине он не думал: для чего впустую забивать себе голову? Тем более, что так удачно все получилось. “Сам виноват покойничек”. Почему-то он вспомнил строчки из песенки, которую любил напевать один слесарь с “ТО-1”: “А на кладбище все спокойненько, все культурненько и пристойненько…” Придумают тоже… Чудаки… Как говорит Колька Ганушкин? Чудилы. Хорошо бы подъехать к этому Ганушкину… Умеет парень работать. Крутится целыми днями у мебельных, возит по большей части приезжих, знает, где что сегодня в продаже, и делает вид, что устраивает по блату импортную мебель. Силен, жук, ничего не скажешь. Пригласить его надо, напоить. Может, введет в курс дела… Интересно, заплатит майор или нет? Вообще-то милиция платить не обязана, отметку сделают в путевом…” Он выехал на Петровку, остановился около тротуара и заглушил двигатель. — Пожалуйста, — сказал он и полез в карман, чтобы достать сигарету, но в это мгновение заметил, что майор спокойно протянул руку, быстро вынул ключ из замка зажигания и сказал: — Спокойно, Алексей Иванович. Не делайте глупостей, вы арестованы. Алексей слышал слова, понимал каждое из них, но их общий смысл доходил до него медленно. Он как бы с трудом погружался в свое вдруг загустевшее, как масло на морозе, сознание. Но погрузившись, эта короткая фраза мгновенно разорвалась в его голове гранатой, смешав все мысли, наполнив его голову звоном и грохотом. Выскочить, бежать… Он уже видел себя, как он рвет дверцу, выскакивает, петляя, мчится по тротуару, стараясь не наткнуться на прохожих, бежит, задыхаясь, куда-нибудь, лишь бы спрятаться, вжаться в какую-нибудь стенку, уйти от них, жаждущих погубить его жизнь, разломать все, скомкать, исковеркать… И уже мышцы его непроизвольно напряглись, чтобы сократиться в прыжке, но майор крепко держал его за руку, странно вывернув ее так, что она стала слабой и он не мог даже выдернуть ее, а человек сзади уперся в его спину чем-то твердым, и Алексей уже почему-то безучастно, как бы со стороны, как бы глядя фильм, подумал: пистолет. Звон и грохот в его голове утихли, и вместо них по всему телу разливался липкий, холодный, цепенящий страх, который выжал все остальные чувства, обезволил, обессилил его, оставив место лишь для одной мысли, крутившейся в голове нескончаемой каруселью: “Попался, попался, попался, попался, попался…” Его привели в комнату на третьем этаже. На окне комнаты была решетка, и Алексей отрешенно подумал: “Надо теперь к ним привыкать”. Майор кивнул ему на стул и улыбнулся, не зло, без гримасы: — Ну вот, Алексей Иванович, наконец-то мы в рабочей обстановке. Мы с вами знакомы, а это капитан Голубев. “А на кладбище все спокойненько, все культурненько и пристойненько…” — снова запрыгали в голове Алексея слова дурашливой песенки. Он посмотрел на майора. Тот по-прежнему улыбался. Спокойно так, как улыбаются люди, которые любят улыбаться, умеют это делать со вкусом, чувствуя, что заслужили право на такую улыбку. — Долго мы с вами встретиться не могли, — продолжал майор. — В ОРУДе, конечно, не в счет. Так вы ловко сработали оба раза, что вроде и все ясно и ухватиться не за что. Оба раза… Алексею казалось, что, туго накачанный страхом, он уже не сможет испытывать иных чувств. Но, поняв значение числительного “оба”, он почувствовал, как сквозь густой его страх ледяной, обжигающей струйкой метнулся ужас. Убийство пришьют. Это что же? Конец? Не будет его, Алексея Ворскунова? Как — не будет? Не может того быть, чтоб его просто не было, молодого, сильного, здорового. Чтоб все были, а он — нет. “А на кладбище все спокойненько…” Нет, нет, нет… А может быть, липа все, на пушку берут его? Ведь не было же следов, никто не видел, не мог видеть. И хотя Алексей не верил надежде, он ухватился за нее яростно и свирепо, вцепился мертвой хваткой, примерз к ней. “Держаться надо, расколоться никогда не поздно. Думать, над каждым ответом думать. Обсоси пять раз каждое слово, а потом уже выплевывай. Господи, только бы от Аникина отвертеться…” Мысль о том, что хорошо бы отсидеть только за бидон, уже казалась невыразимо прекрасной, притягательной. Вот было бы счастье… — Сами будете рассказывать или с наводящими вопросами? Алексей неопределенно пожал плечами. Человек перед ним все улыбался. Теперь он улыбался кротко, терпеливо, и Алексею подумалось, что человек этот, наверное, не зол, и если уж суждено ему было попасться, то хорошо, что к этому майору. Он промолчал. — Чья была идея подкинуть куклу? Ваша или Польских? — спросил майор. Тон у него теперь был деловой, спокойный, и Алексей почувствовал, что и он тоже понемножку начинает успокаиваться. Вернее, даже не успокаиваться — слово это было неподходящим к оцепенению страха, — он просто обрел способность говорить. “Скажу, Павла Антоновича. Да так оно почти и было. Здесь запираться не буду, не буду озлоблять его, а про Аникина ни за что не признаюсь. А может быть, и с куклой не признаваться? Может быть, и нет у него ничего на меня?” — Какая кукла? — хрипло спросил Алексей и откашлялся, чтобы вытолкнуть или проглотить комок в горле. “Показать, что не знаю даже, что за кукла такая”. — Так прямо и не знаете, Алексей Иванович? — переспросил майор и внимательно посмотрел на Алексея. — Не знаю. — Бумажная такая куколка, из газетной бумаги. Одетая в двадцатипятирублевую купюру. А? “Может быть, улыбнуться надо?..” — подумал Алексей, но понял, что не в силах сделать это. — Не понимаю я вас… Какая кукла еще…, — Ну хорошо, Алексей Иванович, — вздохнул майор. — Придется вам напомнить. — Он устроился поудобнее на стуле, не спеша закурил. — Четырнадцатого октября. В этот день с утра шел дождь, может быть, помните? Четырнадцатого октября вы заехали к своему знакомому Павлу Антоновичу Польских в магазин, чтобы окончательно уточнить детали операции. Договорились, что Павел Антонович сообщит вам накануне, когда он встретится с Вяхиревым. Восемнадцатого, загримированные с помощью Игоря Аникина под приезжих рабочих из какой-нибудь среднеазиатской республики, приготовив бидон, куклу, надев на себя рабочие куртки, брюки и старые кепки, вы ждали в Строевом переулке, пока появится “Волга” Вяхирева. Разрабатывая операцию, вы знали, что к этому времени строители уже уходят, а в грязном, почти полностью снесенном переулке людей нет… Майор продолжал неторопливо рассказывать, не смотря на Алексея, а второй, все время молчавший, вытащил из шкафа знакомый бидон и обгорелые остатки курток. “Зажимают, — подумал тоскливо Алексей, — все знают”. Но тут же светлячком вспыхнула другая мысль: “Но это же все еще не доказательства, что я — это я. Не мог ведь Павел Антонович расколоться. А может быть, мог?” — Вы допустили одну ошибку, Алексей Иванович, — сказал майор, и Алексей почувствовал, что весь напрягается, не зная, откуда ожидать удара, но уже веря внутренне, что удар последует, что не уйти от него в сторону, и эта вера одновременно и заставляла ждать, напрягаться, и приносила с собой странное безразличие. — Вы должны были уничтожить и коробку с гримом, и пузырек с клеем. Но Аникин, для которого эти вещи были памятью о том, что он любил, не выбросил их, и с бутылочки научно-техническому отделу удалось снять отпечатки пальцев. Они оказались вашими и Игоря Аникина. “Врет, врет, на пушку берет! — чуть было не крикнул Алексей, чувствуя, что в него, словно кровь в занемевшую ногу, вливается желание сопротивляться. — Пусть сняли отпечатки, но сравнивали-то они с чем? Где у них мои отпечатки? То-то. Если б не на пушку брали, сразу бы сняли у меня отпечатки, а потом бы уже и предъявляли. Нет на куртке никаких отпечатков, значит. V, гады!” И, словно отвечая на его мысли, майор сказал: — Снятые с пузырька с клеем отпечатки мы сравнили с вашими, полученными во время беседы в ОРУДе. Вы, может быть, помните, Алексей Иванович, что, когда я вас попросил сесть написать объяснение, вам пришлось переставить графин с водой. На нем-то мы и обнаружили следы ваших пальчиков. Надежда выходила из Алексея, как воздух из продырявленного баллона. Он ссутулился, как-то весь осел, с трудом несколько раз проглотил слюну. Стена, кругом стена, и даже окно перед ним и то в решетке. Выследили все-таки, вынюхали, перехитрили. Алексею стало невыносимо жаль себя. Так не повезло… Нет, чтобы Игорь выкинул эти проклятые краски, клей, проследить за ним, и не было бы этих стен вокруг, и все было бы чин чинарем, и жизнь была бы прекрасна и удивительна. — Ну-с, Алексей Иванович, вернемся к первому вопросу. Итак, чья была идея всей операции? Ваша или Павла Антоновича Польских? Алексею почудилось, что майор хочет ему как бы подсказать, что он ожидает услышать имя Польских, что он вовсе не считает Алексея таким уж страшным преступником. “И сразу нужно было сказать на Польских”, — подумал он. — Павла Антоновича, — сказал Алексей, и сразу ему стало легче и спокойнее, будто своим ответом проколол какой-то нарыв. — Ну вот это уже лучше, — сказал майор. — Будем считать, что с первым вопросом пока все. Перейдем, с вашего разрешения, ко второму. Для чего вы ездили двадцать пятого октября к вашей теще? Стул из-под Алексея начал стремительно уходить куда-то вниз, и он судорожно схватился за край стола, чтобы не упасть. Удар был неожиданным, нанесенным как раз в тот момент, когда он меньше всего ждал его. Он глотнул воздух широко открытым ртом и пробормотал: — Проведать, давно не был. — Прекрасно. И, беспокоясь о ее здоровье, вы решили, очевидно, проверить коробочку из-под конфет: как там она, Прасковья Дмитриевна, расходует снотворное, не злоупотребляет ли. Ну и на всякий случай прихватили с собой все содержимое коробки. Еще бы, предстояла серьезная работа: нужно было убить молодого, двадцатитрехлетнего парня, вашего же соучастника. — Теперь уже майор говорил совсем по-другому, и куда только делась его улыбка! В голосе звенел металл. Чужой, чужой, ничего между ними нет общего, ничего их не связывает, будто разные они совсем существа, и нет больше надежды. Раздавят, скомкают. Ах. Леша, Леша, ошибся, попался… Глупо так попался!.. “А на кладбище все спокойненько, все культурненько и пристойненько…” — Нет! — крикнул Алексей. — Ничего не знаю, никого я не убивал! — Может быть, вы просто запамятовали, Алексей Иванович, как сыпали порошок в стакан с водкой, как доливали томатный сок… Ничего не скажешь, ловко придумано… — Не был я там, ничего не знаю, — сказал Алексей. Ему казалось, что он тонет и что единственная его надежда — это отрицать, отрицать и снова все отрицать, и он уцепился за эту надежду, как за спасательный круг. Не видели же они его, никто не видел. — Ну конечно, вы там не были, Алексей Иванович, не были вы на улице Жданова… А куда, позвольте полюбопытствовать, вы дели снотворное? — Выкинул, — глухо сказал Алексей. Спасательный круг отсырел, набух и с трудом держал его на поверхности. Промахнулся. В чем-то промахнулся, а ведь все, казалось, было продумано, по сто раз через мозги процежено. — И для чего? — Майор играл с ним, как кошка с мышью, уверенный в своей силе, зная, что мышке не уйти. И мышка уже твердо знает, что не уйти ей, а все равно бежит, бежит, подгоняемая жадным инстинктом самосохранения. Надо что-то отвечать, говорить, доказывать. И, уже зная, что ответ будет глуп и неубедителен, что не сбить майора, вцепившегося в него мертвой хваткой, Алексей пробормотал: — За здоровье ее беспокоились… Все время на снотворном, а у ней давление… — Экий вы гуманный человек, Алексей Иванович, — вздохнул майор. — Ну-с, оставим пока снотворное. Тогда же, когда вы решили проведать тещу, вы спрятали в переднем баллоне своей “Явы” три с половиной тысячи рублей. Наивненько спрятали, что и говорить. Но прятать, так прятать нужно было и пятьсот рублей, которые вы забрали у Аникина. Пока мы с вами сегодня встречались, у вас на квартире произведен обыск, и эти пятьсот рублей нашли в тахте. Что вы скажете, Алексей Иванович? Круг уже почти не держал Алексея, и в нем росло щемящее чувство безнадежности, конца. Не хотелось больше барахтаться, бить по воде руками, задыхаться. Неудержимо тянуло отпустить круг, закрыть глаза, перестать думать, выкинуть из головы мучительную карусель царапающих мыслей. Он так устал, что с трудом понял смысл вопроса. Что они еще от него хотят, мало им, что ли? Он ничего не ответил, лишь глубоко вздохнул. “А на кладбище все спокойненько…” — испорченным патефоном крутилось в мозгу. “И хорошо, что нашли, — вдруг со злорадством подумал он, — по крайней мере ей не достанется”. Почему он ненавидел сейчас жену, он не знал, ибо не умел анализировать своих чувств. Но если бы умел, легко догадался: он, Алексей, сидит здесь, как зверь в капкане, а она на воле. Ей-то что? Квартира двухкомнатная, двадцать восемь метров, все удобства. Разве это справедливо?.. Замуж выскочит, как пить дать. Станет она ждать, как же… “А будет ли кого ждать”? — поправил он себя, и сердце его, и без того, казалось, сжавшееся в комок, сжалось еще больше. Квартира двухкомнатная, двадцать восемь метров… Ей-то что? Ничего. — Взял я у него деньги, пятьсот рублей, — вдруг произнес чей-то очень знакомый голос, и Алексей скорее догадался, чем понял, что голос принадлежит ему. — Хорошо, Ворскунов, — устало сказал майор, — отдохните до утра в КПЗ, а завтра мы с вами уточним детали. Алексей покорно встал, ссутулившись, не думая ни о чем. Только бы лечь, заснуть… Когда Шубин и Голубев остались одни, Голубев сказал: — Я думал, с ним будет тяжелее. — Понимаешь, сегодня Ворскунов был обременен двумя преступлениями, из которых второе неизмеримо более тяжкое. И линия защиты у него была растянута. Подсознательно он, естественно, больше всего на свете боялся, как бы не выплыло убийство. И поэтому, когда речь зашла о кукле в бидоне, он особенно даже не сопротивлялся. Подсознательно, повторяю, он даже, быть может, был рад, что, кроме мошенничества, его ни в чем не обвиняют. Хотя бы немножко, но Уголовный кодекс он, видимо, знает. Ну, а потом, как говорят шахматисты, провести эндшпиль было лишь делом техники. Главное — мы сами были уверены в его виновности. А раньше только подозревали. Голубев заговорщицки подмигнул Шубину. Тот довольно хмыкнул и подмигнул товарищу. — Я пошел за Польских, — сказал Голубев, глянув на часы. — Он, наверное, уже внизу. — Иди, Боря, я вас жду. Польских ждал в вестибюле, прислонившись к стенке. Должно быть, ему было жарко, и он расстегнул добротное, в рубчик, пальто и снял шапку. Увидев Голубева, он улыбнулся: — Здравствуйте, ну как там наши дела, неужели нашли наши денежки? — Да нет, — неопределенно пожал плечами Голубев и подумал: “Вот держится, скотина”. — Давайте ваш паспорт, выпишем вам пропуск. Они поднялись в лифте на третий этаж, вошли в комнату, где Шубин поднялся им навстречу, протянул руку: — Как жизнь, Павел Антонович? — Ничего, вашими молитвами, — дружелюбно засмеялся Польских. — А раз за тебя милиция молится, можно чувствовать себя в безопасности. “Ну и нервы… — подумал Голубев. — Ведь так посмотреть — милейший человек, открытая душа, так и сочится оптимизмом и доверчивостью. Полненький, аккуратненький, любит, наверное, поесть и выпить в меру. Ну просто приятный парниша. Интересно посмотреть, как он будет сбрасывать шкуру”. — Капитан, — сказал Шубин, — не могли бы вы побеседовать с товарищем Польских? Мне нужно срочно тут кое-что посмотреть. “Ну просто телепат Сережка, — усмехнулся мысленно Голубев. — Эдак скоро работать нам станет невозможно. Не успеваю подумать, а он уже догадывается”. Но он знал, что кокетничает, что дружба и близость с Шубиным радует его, согревает, что даже во время отпусков он часто ловит себя на противоестественном желании побыстрее вернуться в Управление, оказаться напротив Шубина, подмигнуть… Да просто быть вместе с ним. — Простите, что мы потревожили вас, Павел Антонович, — сказал он, — просто возникла необходимость уточнить кое-какие детали… Теперь, когда он присмотрелся к Польских, ему показалось, что в глазах директора тлеет беспокойство, что сидит он, нарочито развалившись на стуле, но, несмотря на то что ему, должно быть, жарко в пальто, он забыл снять его. — Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Польских и даже подался вперед, показывая всем своим видом, что рад помочь следствию, что сделает все, лишь бы помочь. — Павел Антонович, вы сами, случайно, ничего не хотите добавить к тому, что рассказывали нам в прошлый раз? В глазах Польских на короткое мгновение вспыхнула тревога, но тут же погасла. Он развел руками и обезоруживающе широко улыбнулся: — Да нет вроде. Раскрыл душу милиции. А то ведь с вашим братом: не раскроешь — тебе раскроют. — Это вы тонко заметили, Павел Антонович, — ответил Голубев и подумал, что начал он беседу как будто неплохо, по-шубински, что Сережка делает вид, что погружен в какие-то бумажки, а сам, наверное, думает: пора ему брать быка за рога. — А как реагировала на исчезновение восьмисот рублей ваша супруга? Польских уже не просто улыбался. Улыбка его светила ярким фонарем. Казалось, он наслаждается беседой каждой клеточкой своего тела. — Ну и вопрос! — хихикнул он. — Вот тут уж всего не расскажешь. Жены есть жены. Госконтроль, помноженный на стихийное бедствие. — Удивительная формулировка, надо запомнить. Значит, сердилась? — Лучше и не спрашивайте, — виновато развел руками Польских. — Но как же она узнала о пропаже денег, если вы их дома и не брали? Польских на мгновение замер, словно наткнулся на неожиданное и невидимое препятствие, затем вопросительно посмотрел на Голубева. — Простите, я не совсем понял ваш вопрос… — Вы показали в прошлый раз, что, расставшись с Вяхиревым, пошли домой и взяли там восемьсот рублей. Так? Казалось бы, все логично, но мешает одна маленькая деталь: дома в это время вы не были. Директор отвел глаза в сторону, словно ребенок, уличенный во лжи, очень медленно и выразительно пожал плечами. “Соврал, соврал, — казалось, говорили его жесты. — Стыдно, но увы…” И в то же время Голубев чувствовал, как интенсивно думает сейчас сидящий перед ним человек, с какой скоростью перебирает варианты лучшей тактики. “Если бы череп у него был прозрачный, — подумал он, — голова бы светилась от напряжения”. — Да, некрасиво получилось, — сокрушенно вздохнул наконец Польских. — Честно говоря, деньги я брал в кассе. Но наутро вернул. Сами понимаете… “Хитер, бестия, прямо обезоруживающе честный человек, — мысленно усмехнулся Голубев. — И уже оправился от удара. И думает, наверное: “Если это все, за чем меня вызвали, — слава богу. В худшем случае выговор”. Ничего сейчас ему придется получить удар посильнее”. — Значит, восемьсот рублей вы в кассу вложили. Хорошо. А куда вы дели тысячу? — Какую тысячу? — машинально спросил Польских. Пальцы его правой руки, которую он держал на колене, судорожно дергались. — Которую вы получили от Ворскунова. — Я не получал никаких денег. — Но вас не удивила фамилия Ворскунова? — Первый раз слышу. — Ай-ай-ай, Павел Антонович, как вы плохо относитесь к вашим друзьям! А Алексей Иванович Ворскунов — он с полчаса назад сидел на том же стуле — прекрасно знает вас. Польских откинулся на спинку стула, полузакрыл глаза. Голубев молчал. Хрустнул листок бумаги, складываемой Шубиным. Польских сидел недвижимо. Наконец он раскрыл глаза, вздохнул и неожиданно усмехнулся: — Я ж говорил: раскрой душу милиции, а то сами раскроют. Ничего не попишешь. Это я в порядке самокритики. Пожадничал. Сам влез. — Прекрасные слова, Павел Антонович. Чуть бы пораньше они вам пришли на ум… — Увы, людям свойственно ошибаться. — Польских снова обрел свое обычное выражение услужливости, приветливой готовности помочь собеседнику всем, чем только сможет. “Стальные нервы, — подумал Голубев. — Ветеран. Не играет до короля. Сдается вовремя в виду неизбежных материальных потерь”. — Ордерок, я думаю, у вас уже есть? — деловито спросил Польских. — Заготовлен. — Верю, верю. Это я так, для собственного успокоения. Здорово вы меня: “Плохо вы, Павел Антонович, относитесь к своим друзьям”. Как, а? — Удивительный вы человек, — искренне сказал Голубев. — Ведь знаю, кто вы и что вы, а все же чувствую к вам какую-то симпатию. Если уж и иметь дело с преступником, то с таким, как вы. — Спасибо, — сказал Польских. — Вы меня просто вдохновили… — На что? — усмехнулся Голубев. — Это уже не так важно… — И еще один вопрос, уже чисто психологический. Вы ведь были дружны с Вяхиревым? — Да. — И все же решили сыграть с ним такую довольно несмешную шутку? Польских виновато развел руками: — Знаете такой анекдот? У Марьи корова сдохла. Кажется, что мне? А все-таки приятно. И знаете, когда Марья к тому же еще и друг, бывает приятнее вдвойне. А тут еще и принцип материальной заинтересованности. — Да вы же психолог! — Психолог тот, кто не попадается. Разрешите и мне вопросик задать? — Прошу. — Сколько я могу получить? — Суд объявит, Павел Антонович. ? — Нун гут, загте дер бауэр, — сказал Голубев. — Сережа, открой сейф и порви вторую мою расписку. — С какой это стати? — Потому что кировобадское “Динамо” уже давно не может не расстаться с высшей лигой. У меня в кармане десятка. Магазины еще открыты. Луна сейчас во второй четверти. Барометрическое давление в норме. По-моему, есть все основания слегка морально опуститься и распить причитающуюся бутылочку. — Ты говоришь, барометрическое давление в норме? — с интересом спросил Шубин. — Звонил в Академию наук. — Прекрасно. Тогда и принципиальных возражений нет. Сейчас я позвоню Вере. — Он набрал номер. — Верочка, ты не волнуйся, но у меня очень неприятные новости… Понимаешь, Борис случайно у себя в столе бутылку коньяка… — Идиот, — послышалось одно слово в трубке, а за ним короткие гудки. — Не женись, Борька, — театрально всхлипнул Шубин. — У женщин, понимаешь, мало развито чувство юмора. А впрочем, может быть, это и хорошо. Иначе им трудно было бы принимать нас всерьез. В какой магазин пойдем? — На Столешников. Там всегда… — Ну просто следопыт ты у меня. Кожаный Чулок и Дерсу Узала! — восхищенно сказал Шубин и подмигнул товарищу. — Нун гут, Сережа, пошли. 1968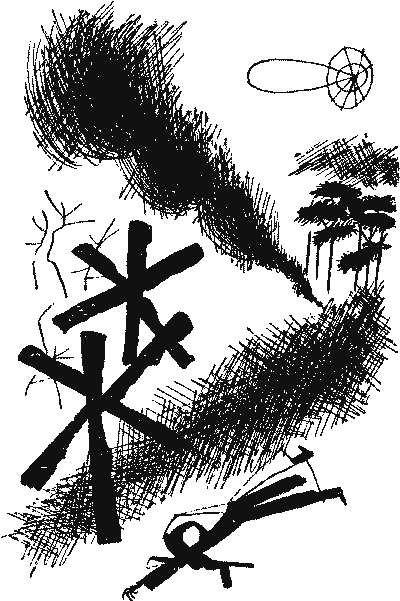
АЛЕКСАНДР АБРАМОВ, СЕРГЕЙ АБРАМОВ ПОВЕСТЬ О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Из корреспонденции в дивизионной газете “Знамя победы”. Март 1944 года. Есть основания предполагать, что гитлеровцы в своей авиатехнике начинают впервые применять управляемые дирижабли. Позавчера один из таких дирижаблей, необычный по форме и, вероятно, модернизированный конструктивно, был замечен в районе расположения Н-ской стрелковой дивизии. Его видели с передовых позиций и с КП дивизии. Видимо, поврежденный в воздушном бою, он двигался медленно и неуверенно и опустился в расположении противника за линией фронта. Однако после вчерашней контратаки наших войск никаких следов дирижабля найти не удалось. Или его остатки были вывезены в тыл, или уничтожены в результате действий наших воздушных бомбардировщиков. Любопытно, что пленные гитлеровцы не подтвердили сьедепнй о посадке или гибели вышеупомянутого дирижабля. Примечание консультанта военной академии по теме: “Немецко-фашистская авиация в годы второй мировой войны”. Не подтвердилось приведенное сообщение газеты и специально предпринятым расследованием. Вступление бывшего аспиранта Волохова Сейчас я профессор Московского университета, доктор математики, вероятно, в самом ближайшем будущем член-корреспондент Академии наук. У меня много трудов, хорошо известных специалистам. Но Мерль ошибся: никаких супероткрытий я так и не сделал. Сам же Мерль сияет сверхновой на земном математическом небосклоне. В школах его имя пишут вслед за Галуа, Лобачевским, Эйнштейном и Винером. Более крупных открытий на моем веку, вероятно, уже никто не сделает. Познакомился я с ним четверть века назад, в начале семидесятых годов, в новосибирской аспирантуре. Мой реферат на тему “Математическая модель процессов первичного запоминания” вызвал резкие замечания моего консультанта, профессора Давиденко. — Незрело и надуманно. Цирковой жонгляж, а не математика. Проситесь в группу Мерля. Он такие кунстштюки любит. У Мерля тогда, несмотря на его уже довольно крупное имя в науке, было немало противников, да и научная репутация его носила несколько сенсационный характер. Учеников он не искал, они сами его находили. Ему же оставалось только выбирать, безжалостно и безоговорочно отбрасывая неугодных. Слыл он человеком заносчивым, нелюдимым и замкнутым. Но все же я рискнул, поймав его в коридоре, протянуть ему свою тетрадку, что-то при этом бессвязно пролепетав. Не возражая, он тут же, примостившись на подоконнике, даже не просмотрел, а перелистал ее, потом снова открыл на злополучной формуле, вызвавшей особенный гнев консультанта. Мерль подсчитывал что-то в уме и улыбался. А у меня покраснели даже уши. — Прогнал Давиденко? Незрело и надуманно, — слово в слово повторил Мерль оценку моего консультанта, но повторил с усмешечкой, не без издевки. — А в этой формуле, хотя и ошибочной, есть что-то вроде эмбриона будущей диссертации. Ищите свой путь в науке, аспирант, — это главное. И не бойтесь ошибок. Чаще всего они подсказывают правильное решение задачи. Он вернул мне тетрадку и ушел, ничего не добавив. А через час меня разыскал староста его группы и сообщил, что я зачислен. Оказывается, Мерль либо знал, либо узнал мое имя, хотя я и забыл представиться. — Смотри не пожалей! — предупредил староста. — У нас не группа, а монастырь. Меткое было сравнение. В этом монастыре, где математика была богом, а Мерль игуменом, служили денно и нощно. Без выходных дней и обеденных перерывов. Здесь ни о чем не говорили, кроме предмета занятий, да и самый термин “занятие” едва ли определял смысл происходившего. Скорее библейское сказание об отроках, горевших и не сгоравших в печи огненной. А поджаривал нас Мерль с яростью инквизитора, забывавший о человеческих слабостях, когда, скажем, рассматривались аксиоматические уравнения в квантовой теории поля или принципы распространения электромагнитных волн в ограниченных и замедляющих структурах. Не все выдерживали эту центрифугу, вылетая на ускорениях. Я был ближе других к центру, я выдержал все два года вплоть до его скоропостижной кончины. — Любимый ученик, — пожимая плечами, говорили одни. Другие, удивляясь, спрашивали: — Как это у тебя сил хватает? — А Мерль их откуда берет? — А ты вникни, что это за фрукт. Что ест? Силос. Сам видел в столовой. Ни рыбы, ни мяса, даже на банкете икру не ел. Спросим официально: что же обуславливает его специфически повышенную сопротивляемость? Ответ: женьшень. Есть слух — настойка у него дома на сто лет заготовлена. Я даже не улыбался. — Трепачи. Никакой женьшень не снимает перегрузок. — У него особый. Самого широкого профиля. Адаптоген с гималайских вершин. — Почему с гималайских? — Ты когда-нибудь интересовался, где первого снежного человека видели? Под Джомолунгмой. Вот оттуда, говорят, его ребенком и вывезли. Не то альпинисты, не то геологи. С виду человек, а босой по снегу пройдет — ты на след посмотри: большой палец в полстопы, а колеса сорок шестого размера. Номер обуви у Мерля был сорок первый, как и у меня. И большой палец тоже нормальный — вместе в бассейне плавали, но прозвище “Снежный человек” следовало за ним неотступно, как тень, н придумавшему его нельзя было отказать в наблюдательности. Когда Мерль в тридцатиградусный мороз шел по улицам в одной “болонье” и без шапки, старожилы Академгородка всерьез уверяли новоприбывшего: “А он мог бы и совсем голым ходить. Кожа у него абсолютно нечувствительна к холоду. Вероятно, генетическая особенность. И обратите внимание: не стареет. Говорят, он ровесник Давиденко, вместе докторскую защищали лет двадцать назад. А посмотрите на Давиденко: пузо и лысина, как тонзура. Мерль же по-прежнему тридцатилетний огурчик. Не изменяется, как Лев Яшин. Ни седого волоска, ни морщинки”. Удивительная его моложавость даже пугала. “Вы что, секрет какой открыли или душу, как Фауст, продали?” — спрашивали у него в шутку. Он, впрочем, шуток не понимал или не хотел понимать — отмалчивался. Когда я с ним познакомился, его уже не спрашивали — отучил. Бледный, белокурый, с римским профилем, как на древних монетах, он напоминал скорее скандинава, чем русского. Но нерусской его фамилии сопутствовало чисто русское имя и отчество-Николай Ильич. Как-то сотрудник из отдела кадров поведал мне секрет этого интернационального “винегрета”. — Так ведь это же все липа. И Мерль, и Николай Ильич. Его на фронте подобрали контуженным не то в сорок третьем, не то в сорок четвертом году. Ни слова не мог ни по-русски, ни по-немецки. Только жестами объяснялся да бубнил: “Ник… ыерль, ник… мерль”. Сначала было думали, что это сбитый французский летчик из эскадрильи “Нормандия-Неман”. Так она в этих местах не летала. Ну и записали: фамилия Мерль, имя полностью Николай, а отчество у сержанта взяли, который его подобрал. Вместо отца, значит. — Можно было родных разыскать. — В войну? — Ну, после. — Разыскивали. Фотографию рассылали — никто не откликнулся. — Так у него же память феноменальная. — Смотря на что. Прошлое начисто забыл — и дом, и город. Даже языку наново переучивался. Правда, за неделю, говорят, выучился. За год среднюю и высшую школу одолел, а из клиники выписался — сразу докторская. — Почему из клиники? — Под наблюдением находился. Его вся столичная медицина обследовала. Не может человек с такой памятью прошлое забыть. Нельзя за два года от букваря к докторской диссертации подняться. Оказалось, что можно. Контузия радикально изменила функции мозга — так в клинической характеристике и записано. Что-то вроде сдвига или смещения молекулярных не то ходов, не то кодов. Наизусть не помню — у Мерля спроси. Я и спросил. Осторожно, по касательной: — Эта способность у вас с детства? Мерль ответил тоже по касательной: — Детство мое началось в двадцать семь или тридцать лет в дивизионном полевом госпитале. — Неужели контузия могла так изменить запоминающую способность мозговых клеток? Он усмехнулся: — Этим долго интересовались нейрофизиологи. И наши, и зарубежные. Но, к сожалению, еще нет приборов, которые позволили бы наблюдать молекулярные процессы в нервных клетках. Кроме того, учтите, особенности той взрывной волны, которая родила на свет Николая Мерля, экспериментально не проверялись. Такими разговорами он удостаивал только меня. Может быть, его замкнутости импонировало мое одиночество. Так случилось, что в первые годы моего пребывания в Академгородке, я ни с кем особенно не дружил и, застенчивый с детства, избегал девушек. — Почему вы не влюбляетесь, Волохов? — как-то спросил он меня. — Всегда один… — А вы? — Я старик. — Кокетничаете, профессор. Вы знаете, что Инна к вам неравнодушна. — Как и все в группе. Я могу внушать любое чувство, кроме равнодушия. — Я не в этом смысле, профессор. — А я в любом. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на прелести семейного счастья. Если ваша Прекрасная дама — наука, никогда не подымайте стальной решетки с лица, Волохов! Коридорный разговор этот неожиданно был продолжен у него на квартире, когда я принес ему на суд один из математических “кунстштюков”, которые так не любил Давиденко. — Входите, Волохов, — сказал Мерль, — только не раздевайтесь. У меня с утра открыты окна. В квартире мороз. Я поежился: — Как вы работаете в таком холодище? Точно на улице. — Я смог бы работать и на улице. Только без ветра. Снежный человек, — скривил губы в бледном подобии улыбки Мерль. Он никогда не смеялся. Мне стало неловко. — Я серьезно, Николай Ильич. Мы мерзнем, а вы — нет. — Вероятно, причуды все той же взрывной волны. Ослабленная реакция кожных покровов. Что у вас? Я протянул ему мой “кунстштюк”. Он поглядел, подумал и отложил в сторону. Это означало: до завтра. Но мне не хотелось уходить. — Когда вы сказали о стальной решетке, профессор, вы имели в виду долг ученого? — И это. Верность призванию. Фанатическая, да-да, именно фанатическая самоотдача делу, которому служишь! “Прописи”, — подумал я. — Прописи? — вдруг переспросил он. Меня даже шатнуло от неожиданности — ведь я не произносил этого вслух. — Я всегда угадываю, что думает спорящий, — продолжал он, отвечая на мое молчаливое недоумение. — Итак, прописи? Цинизм развязного юноши с чужой психологической накачкой Но вы не стрижетесь под “хиппи” и не бренчите пошлостей под гитару. Так не повторяйте их даже мысленно. Святое всегда свято, как бы его ни называли! Мой эмбрион диссертации еще не стал диссертацией, когда не стало ее куратора. Узнал я об этом в воскресенье, возвращаясь из кино, куда пошел вместо лыжной прогулки. Навстречу мне шел Климухин из нашей группы, шатаясь, как пьяный. Подойдя ближе, я обомлел: он плакал, растирая слезы заснеженной перчаткой. — Выброси свои тетрадки, — процедил он сквозь зубы. — Сожги их. Нет больше Мерля! Он умер на лыжах рано утром, не дойдя десяти—пятнадцати метров до автобусной остановки. Лыжные палки так и остались воткнутыми в снег. Ворот у бонлоновой рубашки — Мерль выходил на лыжню всегда без стеганки, даже без пиджака — был ухарски расстегнут, на лице застыла счастливая улыбка здорового человека — даже врач “скорой помощи” не мог поставить диагноза. Отчего же Мерль погиб? Отказало сердце, на которое он иногда жаловался? Но он по-настоящему никогда не болел, даже гриппом. Время от времени, как и все ученые городка, он проходил диспансеризацию, но медицинская аппаратура не находила серьезных отклонений ни в сердечной деятельности, ни в кровяном давлении. Тем более непонятно звучало заключение патологоанатомов после вскрытия: застарелый атеросклероз, внезапное кровоизлияние в мозг, инсульт, как говорят медики. Трагично, но просто. Просто ли? Подробности вскрытия были почему-то засекречены. Мозг отправлен на изучение в лабораторию нейрофизиологов. Кто занимался этим изучением, неизвестно, сами же изучавшие молчали. Только несколько лет спустя одни из врачей, участников вскрытия, рассказал мне по секрету, что вскрытие обнаружило много необъяснимых странностей. Внешне не старевший человек внутренне одряхлел, как дерево, источенное червями. При нормальной деятельности сердца оказалась склеротическая хрупкость сосудов, при кажущемся благополучии обмена — почти атрофия каких-то желез внутренней секреции. И еще что-то сугубо медицинское. Но рассказанное меня не поразило: тогда я уже знал всю правду. На похоронах я ее еще не знал. С трудом удерживался от слез, думая, что сам Мерль бы не плакал. Зачем? Ведь он отдал науке всего себя, всю силу своего ума до последней клеточки. “Верность призванию”, — вспомнил я. Сто шестьдесят восемь научных работ, большинство мирового значения. Но я еще не знал тогда, что все эти сто шестьдесят восемь не стоят и одной, последней, опубликованной после смерти. Человечество получило ее от меня, а я от покойного по земной, совсем не загробной почте. Через день после похорон она доставила мне объемистый пакет, содержащий несколько пухлых тетрадей. В четырех были записки, нечто вроде дневника, в пятой — математика. Сразу же обожгла мысль: значит, Мерль знал о смертельной угрозе, предвидел ее и сделал все, к чему призывал его долг. Верность призванию. До конца. И я начал не с объяснений — с математики. Не буду говорить о его открытиях. Нет человека на Земле, который бы не слыхал о них. За четверть века они двинули в гигантском прыжке вперед не только математику, но и ее сестер — астрономию, кибернетику, физику. Новая математическая модель Вселенной, параметры суб- и суперпространства, уравнения ветвящегося и спирального времени — это горизонты уже не двадцатого, а двадцать первого века. Как и когда были сделаны эти открытия, почему Мерль не подарил их людям при жизни, он рассказал в своем дневнике — вернее, воспоминаниях, которые записал в один день перед ночью, посвященной математике. “Посылаю вам все, Волохов. Распорядитесь, как считаете нужным. На поношение Давиденкам всего мира и во славу нашей Прекрасной дамы. Дневник объяснит все, даже мое вегетарианство”. Человечество о дневнике не знает. Он лежит у меня до сих пор в потайном ящике письменного стола — четыре пухлых тетради, исписанных четкими, как печатные, строчками. Я не публиковал их. Почему, скажу потом, когда перечту их. Святое всегда свято, как бы вы его ни называли.Тетради профессора Мерля
Тетрадь первая
1
“С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре…” А если взглянуть шире: с чего начинается жизнь? Со взгляда, впервые открывающего твой мир. Со склонившегося над тобою лица человека. С еще неясных, нечленораздельных для тебя звуков человеческой речи, прерывающих твой первый крик. Со мной это было дважды. В первый раз во младенчестве, которого я не помню. Человек никогда не помнит первых своих впечатлений в открывшемся ему мире, когда жизнь властно наполняет еще совсем пустую шкатулку его памяти. Но, вторично родившись, я уже все помню. Шкатулка была не совсем пуста, она хранила генетическую память зверя, знающего, где искать пищу и как защищаться от опасности. Она сохранила и способность человека различать и оценивать увиденное и услышанное, отбирать и осмысливать возникающие ассоциации. Когда шаркают рядом чьи-то мягкие туфли, я знаю, что подходит женщина в белом поправить сброшенное мной одеяло, а звяканье блюдца на столике рядом означает, что мне принесли кисель или чай. Я еще не знаю, что чай-это чай, а блюдце- блюдце, я мыслю образными представлениями, но это первый разумный разговор, который начинает со мною жизнь. Разговор продолжается. Я вижу белую комнату, три койки, за окном снежный сугроб и своих соседей — человека с забинтованной головой, который все время стонет, и другого, в сером халате. Он часто встает и ходит по комнате, у него большие рыжие усы и веселые мальчишеские глаза. Почему-то он мне симпатичен, я внутренне радуюсь, когда привлекаю его внимание. Все это я осознаю сейчас, вспоминая, а тогда я еще не знал, что такое человек, усы, койка, комната, внимание и симпатичный. Я не понимал этих слов, но уже различал их звучание. И с первых же часов пробуждения знал язык жестов. Мне хочется пить; я знаю, что воду и чай приносит сестра в белом халате и белой косынке на голове. Я беру пустой стакан и несколько раз вопросительно подношу к губам. — Пить? — ласково спрашивает сестра. — Пить, — мгновенно и точно, без малейшего затруднения повторяю я. Сестра приносит чай. Я дотрагиваюсь до стакана и отдергиваю руку. — Горячо? — спрашивает усач. — Горячо, — повторяю я. — Принеси-ка, Анечка, ему холодной водицы. Я дотрагиваюсь до принесенного стакана. Приемлемо. Пью. — Вода, — произносит усач. — Вода, — повторяю я. — Мы его в два счета обучим, Анечка, — слышу я, но не могу повторить: слишком много слов. — Уж ты обучишь! — иронически говорит она. Я не различаю ни иронии, ни смысла слов, только внимательно слежу за обоими. — Погоди, — говорит он ей и глядит на меня. — Аня, — отчетливо произносит он, указывая на нее, и тут же добавляет, тыча себя в грудь: — Василий Иванович. Слыхал? Ва-си-лий Ива-но-вич. — Василий Иванович, — повторяю я за ним и, указывая на сестру, произношу так же раздельно и четко: — А-ня. Аня, смеясь, убегает. А Василий Иванович, указывая теперь на меня, говорит: — Николай, Коля. Потом, добившись моего понимания, называет по очереди все предметы в комнате: окно, стекло, стакан, койка, называет терпеливо, стараясь ничего не упустить, и повторяет все до тех пор, пока не повторю я. Потом лукаво спрашивает, показывая на окно: — А это что? — А это что? — повторяю я. — Балда беспамятная! — сердится он. — Это же вопрос, вопрос. Что это? — спрашиваю. А ты отвечай: окно. На этот раз я отвечаю на все его вопросы, быстро соображая, что к чему: стекло, стакан, койка, чай. Я еще не сознаю силы своей памяти и способности различать и оценивать зрительные и слуховые впечатления и образы, но уже поражаю учителя своей понятливостью. Через полчаса, возбужденный и радостный, он бежит за доктором. Доктор молод, не старше меня. В глазах недоверие и любопытство. — Что-то не так, дружище, — говорит он, — амнезия так быстро не проходит. — А вы спросите! — хвалится Василий Иванович. — Говорить учитесь? — спрашивает доктор. — Ну и как? Я молчу. Понятия и звуки — всё незнакомо. — Что-нибудь хочешь? — Нет, — говорю я. Я уже знаю смысл слова “хочешь” и научился различию между “нет” и “да”. — Как зовут? — Коля. — А его? — Василий Иванович. — Ну, а меня? — Доктор, — храбро отвечаю я, вспоминая, как его называют. Он удивлен. — Ну назови, что видишь в комнате. Яназываю. Отчетливо и бойко. Доктор, совсем уже растерянный, спрашивает: — А что за окном? Василий Иванович не говорил мне о снеге, но я мысленно апеллирую к подслушанным разговорам и говорю довольно уверенно: — Снег. — Потрясающе! — восклицает доктор. — Вероятно, он знал все это до контузии. Сейчас вспоминает. А ты знаешь, что такое “ник мерль”? Как мне рассказали потом, я бормотал это, когда меня подобрали у воронки от бомбы. Но я не помнил прошлого и не мог ответить. А обучение продолжалось. Весь госпиталь принял в нем участие, как в увеселительной игре. Стоило мне заглянуть в какую-нибудь палату — я уже находился на положении выздоравливающего, — как мне из разных углов кричали: — Эй, Коля, Николай! Заходи, заходи. — На улице был? — Был. — Опять небось босой по снегу бегал? — А что такое босой? — Ну без сапог, знаешь? — Знаешь. — Не “знаешь”, а “знаю”. Повтори. Я схватывал все на лету и запоминал мгновенно и прочно. Обучение задерживалось лишь из-за отсутствия опыта и методики. Конечно, можно обучить чужому языку и без перевода на роднон язык обучаемого, но родной язык в таких случаях был его неслышным и незримым помощником: все изучаемые понятия были известны в другом сочетании звуков. Ну, а если родного языка не было? Если обучалась птица или животное? Вот и я был такой птицей, только способной к разумному мышлению. Иногда помогали синонимы, иногда ассоциации. Спрашиваю, например, что есть плохо и что хорошо. Хохочут. Читают Маяковского. Ничего не понимаю. Много новых слов, другие сливаются в мешающем ритме. Я еще не знаю, что это ритм — узнаю много позже, — и говорю недоуменно: — Непонятно. Кое-кто легонько тычет мне в руку лезвием перочинного ножа. Я уже знаком со словом “больно” и произношу его. Отвечают: — Не очень больно. Не сильно. Да? — Да. — Просто неприятно. Не нравится. В моем словаре есть и “неприятно” и “не нравится”. С удовольствием повторяю. — Вот это и есть плохо, когда не нравится. Только сильнее, выразительнее. Я не понимаю, что такое “выразительнее”. И опять начинаются коллективные поиски объяснения.2
Языком я овладел спустя два месяца, когда уже выучился читать и прочел подряд четыре тома ушаковского толкового словаря и десять Малой советской энциклопедии первого выпуска, какие нашлись в больничной библиотеке. Было это уже не в полевом, а в ростовском стационарном госпитале, куда меня перевели из-за остаточных последствий контузии, каких-то невыясненных неполадок в вестибулярном аппарате. Только что совершенно здоровый, я вдруг терял равновесие, а затем и сознание, а придя в себя, не чувствовал никаких отклонений от нормы. Пока врачи бились со мной, придумывая всевозможные физические и лекарственные тесты, я читал книги и играл в шахматы. Играть научился сразу, а вскоре, чуть ли не на следующий день, стал обыгрывать всех подряд, кто бы ни бросал вызов. Потом перестал играть совсем, а почему, скажу потом, в связи с еще одним даром судьбы. Самым большим ее даром была память, помогавшая мне осваивать мир. Сначала она не вызывала особого удивления — считалось, в общем-то, нормальным для человека легко вспоминать то, что видел и знал до болезни. Заинтересовала эта память впервые Камионского — одного из моих партнеров по шахматам, капитана по званию и учителя математики до войны, на гражданке. Во время разговора о шахматной партии, проигранной нм несколько дней назад, я тут же восстановил ее на доске с первого до последнего хода. — Неужели помните? — удивился он. — Черта выдающегося шахматиста. — Я не только шахматы, я все помню, — похвастался я, — все прочитанное за время болезни. — Помнить прочитанное — не большая заслуга, — усмехнулся он. — А наизусть? — Стихи? — Все, — сказал я. — Не хвастайте, Коля. Или вы забыли, что значит “наизусть”? Я подвинул к нему лежавший на столе четвертый том Малой советской энциклопедии. — Раскройте на любой странице, где вам угодно. Он недоверчиво открыл книгу. — Сто шестьдесят третья. — “Контрактура, — начал я, — сведение, укорочение мышц, вследствие заболевания суставов, параличей…” — Погодите, — перебил он меня, — ну, а третье слово в первой колонке. — “Контрамарка — карточка, выдаваемая вместо билета для входа в театр”. Он закрыл и снова открыл книгу. — Второе слово на четыреста тридцать третьей странице? — “Кундская стоянка, — отчеканил я, — одна из стоянок первобытного человека, найденная на берегу реки Кунда в Эстонии”. Продолжать? — Пожалуй, не стоит, — медленно произнес он, не сводя с меня глаз, словно увидел чудо. — И вы помните все десять томов, все слова? — Все. — Феноменальная память, — сказал он. — Я думаю, что до контузии она не была такой. Не могла быть. Иначе о вас бы писали. Вероятно, это благое следствие все той же взрывной волны. Какие-то необратимые изменения в нервных клетках мозга. — Он помолчал задумчиво и добавил: — Экзамен на аттестат зрелости вы, конечно, сдадите шутя. Небольшая подготовка по отдельным предметам — и всё. Как у вас с математикой? — Плохо у меня с математикой, — вздохнул я. А месяц спустя вздыхал уже Камионский, и не побоюсь сказать, что от радости. Пройдя галопом учебники средней школы, мы уже щелкали дифуры и подбирались к неевклидовой геометрии. А вскоре уехали в Москву по вызову академика Сошина, которого Камионский знал еще по университету и от которого буквально потребовал немедленного вмешательства в мою судьбу. Затем — кандидатская, которую сочли докторской, смерть Камионского от инфаркта и одиночество на людях — самый горький вид одиночества, одного из первых усвоенных мною отвлеченных понятий и ставшего нормативом моей второй жизни. Я относился к нему, как служка в храме, опустевшем после ухода молящихся, и не ощущал тяжести времени, отказавшись от его земного отсчета. И шесть иностранных языков в итоге, усвоенных походя, миллионы прочитанных и отпечатавшихся в памяти страниц и несколько шагов вверх по лестнице, начатой Пифагором и Ньютоном. Обо всем этом я неоднократно писал в анкетах, умалчивая лишь о том, что изолировало меня от окружающих. Не память, нет, — она удивляла, но не отталкивала. Отталкивало другое: я избегал и боялся женщин, не любил и не понимал домашних животных, был нечувствителен к холоду и от мясного меня тошнило. Но самое главное: я читал мысли собеседника как открытую книгу. Часто еще в госпитале меня ловили на том, что я отвечаю на незаданные вопросы и комментирую невысказанные суждения. Я отшучивался. Но, честно говоря, совсем не забавляло, а чаще даже обижало неожиданно узнавать о себе то, что думает собеседник. Я стал отмалчиваться, избегал лишних разговоров, но тайны своей так и не открыл. Куда бы она привела меня? На эстраду? В цирк? В конкуренты Вольфа Мессинга или Куни? Только один раз я поддался искушению и рассказал все шахматному гроссмейстеру, выступавшему у нас в госпитале в сеансе одновременной игры. Партию я у него выиграл: знал все его тактические расчеты на десять ходов вперед. А после сеанса отправился к нему в гостиницу и честно признался, как и почему я выиграл. Он не поверил. Я на доске восстановил партию до четырнадцатого хода, когда он впервые задумался. — Хотели пойти конем на эф3, рассчитывая на ловушку с жертвой ферзя. Он не особенно удивился. — Хотел. Но это, в общем-то, элементарно. Хороший шахматист мог догадаться. — Но хороший шахматист не мог знать всего, что вы продумали за эти минуты. У вас был и другой план. Я тут же переставил фигуры и показал два варианта атаки. — Вы оба продумали и отвергли. Предусматривались мои ответы за пять ходов. Вот эти. — Я показал их на доске. — Ого! — сказал он и задумался. Потом прошелся по комнате и посмотрел мне в глаза: — Теперь верю. С такой редкой способностью вы легко дотянетесь до гроссмейстера. А может быть, и до чемпиона. Но это уже не шахматы, это обман. Займитесь шахматной композицией, но не садитесь играть с партнерами. Вам нельзя. Неэтично. На этом мы и расстались. Он, должно быть, забыл обо мне, а я бросил шахматы. Только в анкетах я об этом не писал. Не было соответствующего пункта.3
Не было пункта и о припадках. А то бы я написал. Странно они начинаются и всегда одинаково. Даже когда ты один и никого нет рядом, и ты не читаешь, а идешь где-нибудь подальше от дома в пригородном лесу — здесь таких лесов до черта, и есть нехоженые, тайга все-таки. Летом только здесь и можно думать по-настоящему — жара в городе убивает мысль. В жару не думаешь, а в смертной тоске глядишь на градусник: еще один—два градуса выше и ты мертв, как срубленное дерево. А в лесной тени идешь босиком по росистой траве, холодок от нее радостно бежит вверх по коже, и мысль работает на высоких скоростях. Но вдруг что-то останавливает ее, тормозит, гасит. Знакомые кусты и деревья кажутся незнакомыми, впервые увиденными, и непонятное чувство пробивается в мозг: все чужое вокруг тебя, не твое, не твое, и ты сам чужой здесь, как Маугли в городе. В глазах — туман, ты падаешь и — блеск молнии в темноте, что-то хочет пробить ее и не может. Тьма. Ночь. Смерть. Но ты жив, жив и встаешь, не зная, сколько часов или минут пролежал здесь, и тихо радуешься, что сломанный сучок не пропорол глаз и никто тебя тут не видел. Лет пятнадцать назад припадок настиг меня в подмосковном лесу, когда мы гуляли вдвоем с Камионским. По его словам, припадок продолжался минуту, не больше, и Камионский высказал мысль, что вестибулярный аппарат здесь ни при чем. — Я думаю, врачи ошибаются, Коля. С равновесием у тебя порядок. Все это — штучки памяти. Ты говоришь, что видел блеск молнии во тьме. А не стучалась ли к тебе память прошлого? Сравнение с Маугли принадлежало ему. — Ты, как Маугли, пришел к людям из джунглей. Все наново воспринимаешь, всему наново учишься. Маугли с амнезией: о джунглях забыл. А они рвутся напомнить о себе, нет-нет да пытаются сломать замок памяти. Не сердись за метафоры, Коля, я еще скажу. Твои джунгли были не в тропиках. Там не было зверей, не ели мясного и не боялись холода. Камионский уразумел главное: припадки возникали, когда что-то в пейзаже, в книге или в разговоре капризно и неожиданно задевало память. Однажды на Балтике, прогуливаясь по берегу, я вдруг на несколько секунд потерял сознание и, словно сквозь щель во тьме, увидел лиловые и синие скалы. В действительности их не было. Были сосны, песок и мелкая морская волна. Однажды уже здесь, в Академгородке, это случилось на домашнем рауте у одного из наших научных светил. На третье к ужину подали бледно-зеленое желе с кисловатым привкусом, и у меня возникло острое, почти нестерпимое ощущение повторности, чисто вкусовой вторичности, ощущение, что нечто похожее я уже когда-то и где-то ел. В то же мгновение я потерял сознание и не успел упасть, как припадок уже прошел незаметно для окружающих. Только сидевший напротив врач сказал мне после ужина: — А ведь вы были в обмороке — я заметил. Опять старое? — Старое, — признался я. Это “старое” хватало меня, как мертвый живого. В последние годы реже, но всегда неожиданно. В прошлом году оно схватило меня на сквере, когда я наблюдал за стайкой игравших между пустых скамеек детей. Я безразличен к ним: своих у меня не было, а чужие не умиляют. Вот и тогда, без всякого умиления оглядев их, я вдруг подумал о демографической угрозе. Даже в миниатюре она серьезна. И потерял сознание. На этот раз припадок был длительнее и необычнее. Прошлому удалось наконец взломать замок моей запертой памяти, ненадолго, на несколько минут, не больше, но удалось. Блиставшую во тьме молнию сменила полоска света, искристого и холодного, как ясный морозный день. Я не увидел ни скал, ни стен, ни дверей, ни мебели — только лицо очень похожего на меня мужчины и подстриженный затылок женщины в красном, сидевшей ко мне спиной. “Ты должна радоваться, что мальчик приходит домой с разбитым носом, — сказал мужчина. — Это мужской признак. Теперь все больше родятся девочки, число мужчин угрожающе уменьшается, и, должно быть, скоро наступит матриархат”. То, что он сказал, прозвучало для меня по-русски, потому что я мыслю в словах привычного языка, хотя понял бы любой европейский. Но язык был не европейский: в этом я уверен, подсознательно уверен. Ответа женщины я не слыхал — припадок окончился. Теперь я уже был окончательно убежден, что видел прошлое. Вскоре оно опять напомнило о себе уже не зрительной, а чисто слуховой галлюцинацией. Полоска света так и оставалась только полоской света, похожей на зимнее запорошенное окно. Я ничего не увидел, но я услышал. Говорили двое негромко, но очень близко от меня, словно сидели мы за одним столом. Два мужских голоса, причем один уже знакомый, слышанный раньше. “Зачем ты учишь его, когда это уже никому не понадобится?” “Как знать?” “Числа… Этажи чисел, пляски чисел, превращения чисел. А не вернее ли: призраки чисел? Скоро будет достаточно пальцев на руках и ногах, чтобы подсчитать требуемое”. “А может быть, в числах спасение?” “Что может спасти науку, когда вымирают миллионы людей, а рождаются сотни?” “Потому ты и добиваешь ее?” “Да. Наука — антипод свободы, общественная необходимость, обратившая нас в рабство числам, машинам, вещам и словам”. “Мне жаль, Восьмой. Не тебя — мир”. “Мне тоже”. Голоса умолкли, и мир, позвавший меня опять, исчез, как исчезает звук умолкшего голоса. Я еще не знал этот далекий мир, даже приблизительно не мог бы представить себе его материальный облик, но уже понимал, что в нем трудно и неуютно жить. Однако не это тревожило — я уже не принадлежал прошлому, но и не стал своим в настоящем. Все эти годы я знал, что отличался от людей, как Маугли от своих соплеменников. Мир джунглей разделял их, мир джунглей жил в нем, звал его и требовал возвращения. И где-то под панцирем замкнутой памяти живет мой мир джунглей, стучится и зовет. Я часто ловлю себя на том, что, оставшись один, машинально черчу по бумаге: Кто же я? Кто? Кто?Тетрадь вторая
1
Какая у нее странная походка: не мягкая, не женская! Шаги не мелкие, частые, а широкие, размашистые, скорее мужские. И то, как она смеется: во весь рот, запрокинув голову, а челка падает на глаза, и кажется, что она подсматривает за мной из-за густой рыжей занавески. И как она курит: по-мужски деловито, крепко затягиваясь, стряхивает пепел, ударяя по сигарете ногтем. Она получает удовольствие от курения — странная привычка. Я попробовал как-то: пакость, отрава, ядовитая горечь во рту. Не понимаю. Я вообще не понимаю ее. Говорят, естественно: биологическая преграда, четверть века — не шутка. Она — девчонка, “веснушка”, сохранившая в свои двадцать три года угловатость подростка. Я — старик, многоопытный и мудрый, один из китов, на которых держится придуманный ею мир. Она говорит восторженно: — Да вы счастливец! Столько видеть и пережить! Мне папа рассказывал о военной Москве: затемненные окна, кресты прожекторов на небе. Он мальчишкой тушил зажигалки на крыше… Я старше твоего папы, девочка, хотя и родился во время войны. Родился несмышленышем, как говорят, Иваном, не помнящим родства, но уже взрослым и биологически зрелым. Сколько лет мне было тогда? Двадцать пять или тридцать? А теперь? Наверно, за пятьдесят, где-нибудь на последних метрах шестого десятка. Если верить классикам — вечный сюжет: старый профессор и юная аспирантка, хотя моя Шарлотта в Веймаре категорически отказывается признавать мою старость: — Какой же вы старик, Николай Ильич? Вам все студенты завидуют: в наш сибирский мороз — и без шапки! А Витька Волохов даже гантели себе купил: по утрам на балконе зарядку делает. Ссылка на Волохова должна убедить меня в моей моложавости. И эта автомобильная поездка за город, выдуманная ею якобы для того, чтобы отдохнуть, развеяться. И ее ответ на мое предложение сесть позади меня в машине: все-таки безопаснее на большой скорости. — Не придумывайте несуществующую опасность: вы же прекрасный водитель. А я читаю ее мысли: ясные и несложные. Фона почти нет, читаю без отстройки: “Я хочу быть рядом с тобой. Не позади, нет — только рядом. Неужели ты не понимаешь, сухарь, педант, родной мой? Только рядом: в лаборатории, в машине, в твоей выстуженной комнате — всю жизнь. Понимаешь?” Я понимаю, понимаю, но что я могу поделать? Каким уже сшил меня господь бог, таким я и останусь. А сшил он меня престранно, чтобы не сказать посильнее. Педант, сухарь, игумен монастыря, а в монастыре — живые души, не ангелы, не схимники. Им бы шейк да твист, а они — в математику. Да не по дороге, протоптанной и легкой, а в сторону, в глушь, в непроходимые заросли, где никто до них не бывал. А они пройдут, прорубят тропинку — не за славу, не за почести. За одну только преданность науке — единственной, которой не солжешь. Как в чьих-то стихах: “Нам не пристало место или дата. Мы просто были где-то и когда-то. А если мы от цели отступали, мы не были нигде и никогда”. Мои не отступят. Я называю их своими, и они зовут меня своим. Между нами нет стены, когда дело касается математики. Математика, девочка, — запомни это. Не больше и не дальше. И зря я поехал с тобой сегодня. Впрочем, ладно: светская беседа, сдержанный разговор, пара острот — добродушно, по-отечески: я могу себе это позволить. — А вы были женаты, Николай Ильич? Это нечестно: вопрос выходит из рамок светской беседы. Вернее, его смысл, трепещущее ожидание ответа, а внешне спокойно, почти незаинтересованно. Ох, уж это “почти”: Ермолова из тебя не получится. — Нет, не был. — Почему? — Не щелкайте зажигалкой, Инна: она не работает. Не женился, потому что не было времени. Вру, время было. Не было стремления. Стольких женщин встретил за эти годы, хороших, добрых, умных! Мимо, все мимо. Как на школьном диспуте: что лучше — любовь или дружба? Я выбирал дружбу. Вернее, не я, а кто-то за меня, как предохранитель на автомате. — Вас, наверно, в детстве Каем называли. Помните, как он складывал из ледяных кубиков слово “вечность”? “Вечность”. Мне кажется, что я тоже когда-то складывал это слово, но не из кубиков, нет! Оно вызывает во мне, как принято писать в дурных романах, бурю воспоминаний. Как человек, которого где-то видел, а где — не помнишь, но желание вспомнить назойливой мухой мечется в голове: отгоняешь — не улетает. Подсознательная память: я был рядом с Вечностью, даже трогал ее и отдергивал руку — обжигает она даже таких морозостойких, как я. Кажется, закрой глаза, напрягись, вспомни — ну еще, еще чуть-чуть… Ничего. Только хуже потом — припадок. — Вам плохо, Николай Ильич? — Откройте окно, Инна. Да пошире, пошире! — Не простудитесь. И давайте помедленнее, ладно? — Боитесь? — Нет, конечно. Только предупреждаю: сейчас крутой поворот и пересечение. — Вижу. Зря похвастался, ничего я не вижу: словно туман перед глазами. Переедем рокаду и остановимся; передохну. — Скорей на тормоз! Смотрите вправо! Зачем она кричит? Ах вот оно что!.. Словно не в фокусе, перед ветровым стеклом выросла медленно ползущая “Колхида”. На тормоз! Резко! Руль вправо, еще вправо! “Колхида” увеличила скорость — надеется проскочить. Еще правей! Сильнее на педаль газа! Проскочим? Поздно. Как снежная гора перед радиатором — серебристый кузов “Колхиды”. Сейчас будет удар, но я его уже не почувствую.2
Как тихо вокруг! И странное ощущение невесомости, полета над притихшей Землей. Какая она маленькая — Земля, как резиновый мячик в руках у мальчишки. Крутится мячик, крутится, подпрыгивает, ударяясь в стену. И только два цвета на нем: синий и зеленый. Нет, еще желтый и коричневый. А все-таки больше голубого. Голубая планета, желанная, далекая, незнакомая. — Приготовиться к посадке. Сначала облака белые, топкие, дымные — во весь экран внешней связи. — Над планетой низкая облачность. Где мы вынырнем, Вычислитель? — Где-то в Восточном полушарии, ближе к полюсу. Я не успел рассчитать точно. Рассчитать? На чем? Передо мной — пульт вычислительной машины: ровные ряды клавишей в два этажа, индикаторные лампы, молочно-белая панель. Я — Вычислитель. Это — должность. — Что у них там внизу? О чем он? На экране коричневая жижа земли, фонтанами взлетающая в воздух, а потом медленно оседающая вниз. Под нами поле — неровное, израненное круглыми глубокими ямами. Поворачиваю верньер, и в кабину врывается звук: резкий, зловещий вой ветра, еще треск какой-то, частый и прерывистый, еще ухающие удары, еще дальний нестройный крик. Люди? Не знаю. Под нами дорога. По ней ползут большие темно-зеленые жуки, выставив перед собой длинные усы с утолщением на конце. Один, два… пять. Не успел подсчитать: проскочили. Дальше — лес, редкий, безлистный, совсем не похожий на наши леса. Голые, торчащие, извивающиеся прутья и какие-то сооружения среди них, тоже темно-зеленые. По грязному снегу мечутся люди. Поворачиваю верньер, изображение становится крупнее и резче. Люди в длинных, до колен, грязно-белых куртках, мохнатых снизу. Ухающие звуки — это отсюда. Сейчас они громче. Блеснула серо-стальная полоса реки, за пей скопления людей уже в темно-зеленой одежде. Через реку мост. К нему устремляются знакомые большие жуки с усами. Ползут и стрекочут на ходу. Машины? Возможно. Но почему всюду такой сумбур, суета, спешка, нелогичность действий? И опять этот крик: “А-ааа…” У бегущих по снегу людей какие-то короткие трубки в руках: вероятно, это оружие. Кое-кто обращает его к небу, должно быть в сторону нашего корабля. Слышен близкий треск, словно горсть орехов ударяет по обшивке. — Похоже, в нас стреляют, Навигатор, — говорит второй пилот. — Чем? — Пустяки. Свинец. Ответить? — Зачем? Мы здесь не для того, чтобы вмешиваться. — Во что? — В войну. — Какой же это уровень? — Думаю, среднетехнический. — На чем вы основываетесь? — Техника. Оружие. Анализатор не ошибается. Мне кажется, что мы попали в период внутрипланетных войн. — Кого с кем? — Вспомните историю. И у нас это было. Что будем делать? Посадка неуместна. Может быть, еще успеем изменить курс? — Поздно, Навигатор. Необходима переориентировка темпорально-пространственного вектора. В полете не справиться, нужна стабильность. — Как долго это продлится? — Два цикла, не больше. Я не участвую в разговоре. Только внимательно слушаю. Мое дело считать — орбиты, траектории, координаты. Я — Вычислитель, и мои знания понадобятся лишь тогда, когда мы выйдем на околоземную орбиту. Я рассчитаю траекторию обратного полета, выдам программу, а Навигатор заложит ее в автомат управления. А пока можно смотреть на жуков, извергающих из усов желтые вспышки огня, на людей, бегущих по смешанному с размокшей землей снегу. Они спотыкаются, падают, вновь подымаются и бегут, а кто-то остается лежать, скорчившись или раскинув руки, словно боясь сорваться в Вечность с бешено несущейся планеты, которая так и останется для нас чужой, потому что высадка не предусматривается. Вот она стремительно надвигается на экран — белая от снега, бугристая шкура планеты. Мягкий удар, скольжение — и все. Блестящая посадка. Я смотрю на спутников. Они заняты своим делом, не обращая внимания на экран. А он отражает пустынный зимний пейзаж. Люди с оружием куда-то ушли. — Я выйду ненадолго, Навигатор. Он удивлен: планета его не интересует. — Зачем? — Любопытно. Удивление невольно сменяется уважением. Любопытство к чему бы то ни было — качество довольно редкое у нас на родине. — Хорошо, Вычислитель. Не возражаю. Только будь осторожнее. Я прыгаю из люка на землю. Под ногами развороченная смерзшаяся глина вперемешку со снежными комьями. Ходить трудно, но тяжесть нормальная и дышится легко, как у нас. Идет мелкий пушистый снег, влажный и теплый, как у нас в середине лета. Ведь наша планета холодная, у нас даже на экваторе не везде тает снег. Впереди — роща. Пытаюсь пробежаться и падаю, руки грязные от размокшей глины и снега. Вытираю их о ствол дерева — тоненького, ломкого, со смешной черно-белой корой. Дерево голое, без листьев, без почек. Поодаль лежит человек, уткнувшись лицом в смерзшуюся землю. С трудом переворачиваю его: безвольно повисшие руки, застекленевшие глаза. Резкий свист, и два бухающих взрыва — где-то совсем рядом, потому что даже деревья не спасают от ударной волны. Сильный толчок валит меня рядом с убитым. Я подымаюсь, оборачиваюсь и… не могу сдержать крик. Нас приучали к выдержке с детства: никаких эмоций, сдержанность, собранность, постоянная готовность к неожиданностям. Наверное, я плохо усвоил уроки своих наставников. Не переставая кричать, я бегу из рощи, спотыкаюсь, ударяюсь о стволы деревьев, на бегу вытираю лицо… Что на руке? Снег или слезы пополам с кровью?.. И снова бегу, задыхаясь и кашляя, пока не застываю у огромной воронки, там, где еще несколько минут назад стоял наш корабль. Медленно, как сознание к больному, возвращается выдержка, способность здраво оценить обстановку. А впрочем, что оценивать? Два прямых попадания бомбы лишили меня всего: дома, друзей, родины, может быть, смысла жизни. Чуда не будет. Никто не полетит вслед за нами, а мертвых не воскресишь. Да и следов от них не осталось: мерзлая глина, побагровевшая от крови. Навигатор был прав: не стоило выходить на эту чужую планету. Но я вышел и выжил, и чужая планета должна стать моей. Придется ассимилироваться — выхода нет. Непослушными, негнущимися от волнения пальцами снимаю комбинезон: он вызовет подозрения. Раздеваю убитого. Ремень с пряжкой, защитная рубаха с медными пуговицами, нелепая обувь — высокая, грубая, без скрепок. На теле сравнительно чистая белая рубаха: она помягче верхней — подойдет. Натягиваю ее на себя, потом такие же белые штаны с тесемками у щиколотки. А сейчас — подальше отсюда, от места нашей посадки, чтобы не было вопросов и подозрений: корабль-то, наверное, видели, кто-то даже стрелял по нему. Впереди до самого горизонта поле, перепаханное гусеницами зеленых машин. И где-то далеко — еле различимая человеческая суета. Люди, в общем, похожие на нас, — на привет и приют можно рассчитывать. Рискну. Я делаю шаг вперед, и снова резкий свист и грохот удара. Толчка я не чувствую. Кусочек голубого неба в рваной дыре облаков и черный шквал. Ночь без звезд и без чувств. Вероятно, я умер.3
Что-то холодное течет по лицу. Вода? Открываю глаза. Чье-то знакомое лицо в белом тумане. — Очнитесь, Николай Ильич, да очнитесь же! Господи, н> я не могу больше! Чьи-то руки приподымают мне голову. Я знаю, чьи это руки. Но мне все еще страшно. Сон еще не ушел от меня, да и сон ли это? Новая встреча с прошлым, на этот раз многое объясняющая. Теперь я знаю, почему и как я вторично родился, что не был профессором Мерлем, а Вычислителем — только профессия, без имени, без дома, без родины. О ней я по-прежнему ничего не знаю. Обрывистые разговоры, полукартины, полунамеки создают смутное представление о мире, плохо устроенном и жестоком. Он далек от меня, этот мир, непонятен и чужд. Никакой ностальгии я не чувствую. За эти годы на Земле я стал не гостем ее, а сыном. И как хорошо, что я выжил, хотя бы для того, чтобы всю жизнь, без остатка, всю необычайную память мою отдать побратавшимся со мной людям. Между нами ледок, но так уж я устроен, люблю их всех, хотя часто и без взаимности. Я не иду впереди века, я не Леонардо, я просто способный ученый с даром умной и цепкой памяти, но если прошлое, снова ворвавшись в мою жизнь, вернет мне знания Вычислителя, я готов благословлять его только за то, что смогу передать их людям. Мне не нужна репутация гения, ни прижизненная, ни посмертная, ну, а знания, которые, быть может, подарит мне прошлое, пусть достанутся ученикам моим, хотя бы Вите Волохову или Инне. Я вижу ее взволнованное, побелевшее от испуга лицо и пытаюсь улыбнуться. — Не тревожьтесь, Инна. Кости в порядке. — Давайте я помогу вам сесть в машину. Она цела, только крыло помято. — Спасибо, девочка, — говорю я, подымаясь. — Я сам. Все обошлось — я жив. А это главное.Тетрадь третья
1
Пустяковый, в сущности, случай: кто-то наверху опять не утвердил смету лаборатории. Ну, сегодня не утвердил, через неделю утвердит — куда спешить? А я почему-то расстраиваюсь, как мальчишка, даже работать не могу. Как все у них беспорядочно! Опять это “у них”. Прилипло словцо, выскакивает из подсознания, как кошка из-под ног — страшно и неожиданно. У кого — у них? У людей? Но ведь я же человек — по духу, по мыслям, по заботам — земным, а не каким-нибудь инопланетным. Ох, и темнишь ты, Николай Ильич, темнишь и боишься! А чего, собственно? Прошлого — непривычного, необычного, нелогичного? Прямо вопрос из экзаменационного билета: “Что такое частица “не” и как с ней бороться?” Кто-то бросил фразу, ставшую банальной: от прошлого не уйдешь. Я попытался, но оно все-таки догнало беглеца. Я уже ничей. Я стою между двумя мирами, и, как это ни парадоксально, я все-таки не знаю, какой же действительно мой. Только воля моя тверда, она диктует: мой мир тот, где я есть-мыслю, существую, что-то делаю, — и другого у меня уже никогда не будет. А прошлое — это калейдоскоп воспоминаний, цветные стеклышки, прихотливо рассыпанные на темном дне памяти — вне времени, вне пространства. Соберешь ли их? Собралось только одно — красивое словечко “Пришелец”, или, еще лучше, “Пришлец” — по-древнему; теперь так не говорят. “Значит, Землю все-таки посещали космические гости, профессор?” “Значит, посещали, товарищи журналисты. Но не надо оваций, не надо шапок в газетах. Их никто не видел, этих гостей”. “А вы, профессор?” “Что я? Я старый и озлобленный ученый, которому не могут утвердить паршивую смету. Мне сейчас не до гостей, товарищи журналисты. У меня план, у меня тема горит”. Не было этого интервью и никогда не будет. Как бы сказала в таком случае Инна: “Что я — псих, что ли?” Я не псих, я голоден, и впереди у меня овсяная каша и десяток дежурных острот по поводу моего злосчастного вегетарианства. Кстати, откуда оно? Вряд ли благоприобретенное, скорее, оттуда, с моей планеты. Интересно, там все вегетарианцы или только немногие, как и на Земле? Льщу себя надеждой, что все, иначе на то же замечание Инны придется ответить утвердительно. — Николай Ильич, где больше калорий: в одуванчике или в ромашке? — начали остряки-самоучки, балагуры-весельчаки. — Не знаю, друзья, не пробовал ни того, ни другого… Танечка, тарелку овсянки, кисель и сырники. — Николай Ильич, говорят, в Америке есть общество вегетарианцев? — Есть такое. Я почетный член этого общества. Даже диплом имею. Тяжелый день сегодня. Изнервничался, устал, еле держусь — старею. Надо бы лечь — все равно не работать. А перед глазами туман, лица ребят расплываются. — Вам плохо, Николай Ильич? Давайте мы вас домой отвезем. — Обойдется. Я посижу немного. Гуще туман, темнее. Он клубится, как облака за окном самолета, синеет, как туча перед грозой. И в нем медленно гаснет звук. Сначала привычный гул зала, потом смешки за соседним столом, потом вдруг прорвавшаяся чья-то случайная фраза: “Книгу сейчас читаю — не оторвешься. “Охотники за головами”.. Читал?” Ответа я не слышу. Только эта фраза повисла перед глазами, словно световое табло на доме “Известий” в Москве. Но и она гаснет, а из синей темноты выплывает что-то зеленое и бескрайнее. Море?2
— Лес. Будем снижаться. Вертолет с ходу пробил облака и ровно застрекотал над огромным лесным массивом — ни конца, ни края. — Это где-то здесь. — Как ты определил? — Сработало запоминающее устройство. Мы были здесь в прошлый раз. Нас в вертолете десять. Все в одинаковых зеленых комбинезонах, в одинаковых шлемах с прозрачным забралом на лице. У всех оружие, непохожее на земное, но более эффективное. Схема кнопочная, промах исключен. Впрочем, и у тех, кого мы преследуем, то же оружие, добытое у прежних охотников. Побеждает коэффициент скорости — стреляй первым, иначе тебя подстрелят. — Они стали чертовски ловкими. — Чего же ты хочешь: звериное чутье. Это их могущественная защита. — Откуда у них чутье? — Выработалось. Условный рефлекс. Жить-то надо. — Нам тоже. Шутка? Нет. Ни смеха, ни улыбок. Все серьезны и сосредоточенны, как бойцы перед трудной операцией. Мы и в самом деле бойцы — полицейский десант, контролирующий северные границы резервации. — Снижаемся. Дальше — пешком. Здесь недалеко. Вертолет коснулся земли, подпрыгнул по-кошачьи и замер над широкой и светлой поляной, со всех сторон окруженной высокими деревьями. Гладкие, как отполированные, стволы, где-то высоко — крона: зеленый плотный шар, почти не пропускающий света. Свет пронзает кроны редкими, но горячими потоками: все-таки ближе к югу. Трава низкая, похожая на газон, в лесу меняется. Здесь она выше и разнообразнее: стебли и листья, как в ботаническом саду, отличаются друг от друга по форме и цвету. Между плешинами травы — коричневая земля, исполосованная тугими узлами корней. — Кого оставим у вертолета? — Никого. Зачем? Они не смогут его уничтожить. — А увести? — Они забыли, как это делается. — А как стрелять, они не забыли? — Не забывают: мы учим. Я, новичок в этой группе, решаюсь задать вопрос: — А зачем мы их вытесняем из леса? Разве они мешают? — Траву бережем. Тут и соусы и супы. От химии без хорошей подливки кишки выворачивает. А им тоже подливка нужна. — Зачем? Хохот. — Если тебя поджарить, думаешь, очень вкусно без соуса? Каннибализм строго преследуется на Контролируемых территориях, но в дела резерваций не вмешиваются. Туда носа не сунешь — непереносимая жара, злая, хрустящая пыль, лиловые скалы. И все же туда третье столетие подряд уходят ежегодно сотни, а порой и тысячи людей, охваченных “тоской городов”, выбирающей своих жертв среди наиболее стойких физически. Они кочуют племенами, плодятся и выживают, охотясь друг на друга, как звери, давно уже вымершие на этой планете. Мы не уничтожаем их: сами вымрут, говорят в Совете, мы только оттесняем их, когда они подбираются к нашим лесам. В один из таких полицейских десантов включен и я. Лес встречает нас смятой сухой травой. Она не поднялась- смятая тропинка из темно-зеленой глуши. Это начало опасности. — Они могут быть везде, — говорит Инспектор, — сидеть рядом с нами в кустарнике так, что не хрустнет ветка, поджидать нас на деревьях, ползти в траве — и напасть беззвучно и неожиданно. Но для Инспектора и его полицейских — это ремесло, тернии профессии, а зачем здесь я? Из любопытства. — Твой порок, — сказал Восьмой, — а пороки у нас лечат. Но я не хочу лечиться от любопытства: так интереснее жить. Десантники занимаются своим ремеслом, а я живу. Прислушиваюсь: не зашелестит ли рядом листва; приглядываюсь: не мелькнет ли тень за искривленным стволом дерева. Мы гуськом идем по вытоптанной тропинке, останавливаясь перед каждой веткой, распластавшейся над головами. Кто знает: вот-вот раздастся тихий свист, и тугая веревка, сплетенная из травы, метнется вниз и мертвой петлей захватит шею. — Не отставать, — тихо командует Инспектор, — пальцы на клавишах. Он говорит об оружии. Каждый клавиш — луч, убивающий мгновенно и безболезненно. Но если пальцы не успеют? Восьмой сказал: — Они увидят нас первыми. Они могут все, что можешь ты, — чуть хуже, конечно, все-таки время. Но они знают лес, а ты ни разу в нем не был. А кто у нас может похвастаться тем, что знает лес, кроме поваров и аптекарей да полицейских десантников, опекающих границы резерваций? Мы не любопытны, мы берем дары леса, не изучая его. Лес действительно загадочен, тих и пуст. Звук шагов тонет в мягкой, податливой траве. Потные руки сжимают оружие. — Если мы пропустим их в лес, — говорит Инспектор, — вытеснение потребует много жертв. Пока еще пет ни одной ни у нас, ни у них. Да и никого вообще не видно и не слышно. Может быть, ушли? Даже свист ветра не слышен, и лес кажется огромным залом с зеленой крышей и колоннами-стволами, залом, где давно уже никого нет. Инспектор, идущий впереди, неожиданно останавливается. — Что случилось? — Должно быть, прошли. — Ты уверен? — Слишком долго идем. — Может, не туда? — Нет, правильно. — Значит, сменили стоянку. — Едва ли. Думаю, маскировка. — Ты о чем? — Об умении спрятаться, стать невидимым. Приспосабливаемость к обстановке. Мы забыли о ней, а они помнят. — Пусть приспосабливаются. Найдем. — А вдруг они тебя найдут? Пророческие слова! Он даже не успел ответить: что-то черное мелькнуло в воздухе и скрылось, а он упал, захлебнувшись криком. Из перерезанного горла фонтаном забила кровь. — Ложись! Я метнулся за толстый ствол дерева, упал на землю, прижавшись щекой к гладкому корню. И вспомнилось равнодушное напутствие Восьмого: “Ты никогда не смотрел смерти в лицо. А она не любит, когда на нее смотрят. Лучше отвернись”. Но я не могу отвернуться. Я смотрю, не отрываясь, как зачарованный на безжизненное тело моего спутника. Вот оно дернулось и поползло по земле, подрагивая на корнях, а потом взлетело вверх и пропало. Мистика? Нет, это они. Сейчас я уже вижу их: обнаженные коричневые тела, длинные волосы, бородатые лица, травяные повязки на бедрах. Они прячутся за Стволами: наше оружие не достанет их — слишком далеко. Лучше подождать, когда они подвинутся ближе. Но кто-то из наших не выдержал. Узкий луч рванулся из-за дерева, ударил по стволам. Они не упали: повисли в воздухе, удерживаемые кронами соседних деревьев. И словно ничего не изменилось в лесу: та же звенящая в ушах тишина, тот же строгий порядок, установленный неизвестно когда. Снова сдавленный крик. Перешел в хрип и замер, а я понял, что стрелявший уже мертв. И мы побежали, не скрываясь и не думая об атаке. Я тоже бежал, размазывая по лицу пот пополам со слезами, и тоже кричал от страха, как загнанный охотниками “дикий”, — удачливыми охотниками, не нам чета. Вдруг что-то тяжелое ударило меня в спину, швырнуло на землю, и, почти уже теряя сознание, я услышал над собой голоса. Переговаривались чужие, не мои спутники. — А с этим что делать? Он еще жив. — Отнесем к машине. — Может, добьем? — Зачем? Четверо у них убиты. Больше пока не сунутся. — А мы? — Уйдем. Их лес. А если этого вернем живым, они поймут, что мы согласились на вытеснение. Обычный знак. Меня подымают и куда-то несут. Зеленая крыша над головой качается, расплываясь и бледнея. Кажется, что я смотрю на нее сквозь залитое дождем стекло. Зеленый цвет медленно приобретает пастельный оттенок, графится на квадраты черными прямыми линиями. II, словно сквозь стекло, доносятся уже совсем другие голоса. — Надо “скорую” вызвать. — Зачем? Это уже обычно. Лучше отвезем домой — у Юрки машина. — Позвони Волохову. — Может быть, Инке? Раз-два, раз-два… Я качаюсь, как в люльке. Куда меня опять несут? Где я? Я раздвоен, сознание бьется между двумя мирами. Чье оно, мое или “его”? Раз-два, раз-два… Маятник: длинная тонкая шея и золотой шар внизу. Туда-сюда, от стены к стене. Медленно качается маятник, подвешенный к потолку в огромном зале с голубыми, как небо, стенами.3
Значит, припадок еще не кончился. Сейчас, когда я вспоминаю о нем, помнится именно голубой зал сквозь морозную дымку. Опять полунамек: вижу не все. Только слуховая галлюцинация дополняет увиденное. Говорят двое. Один из них я. Голос другого знаком и привычен. — Я ведь предупреждал тебя: добром это не кончится. Четверо убитых — не много ли? — Они знали, на что шли. — Конечно, знали. Полицейские десантники — это их профессия. Л ты знал? Мы уже не раз говорили об этом перед полетом. Сейчас он скажет, что мне еще повезло и что это меня кое-чему научит. — Чему, Восьмой? — Равнодушию. Не всели тебе равно, как живут и что едят в резервации? Они вымрут еще скорее, чем мы. — Зачем же мы их вытесняем? — Пока еще лес нужен нам. — Но во имя чего терпеть ужасы резерваций? — Мы их не видим — так стоит ли тревожиться? Стоит ли думать о них? — И все-таки к ним и сейчас уходят. Зачем? — Спроси у них. Пойди к ним налегке. Без оружия. Они тебе скажут, — слышен смешок старческий и брезгливый. — Впрочем, можно и проще: я скажу. Может быть, станешь умнее. Беззвучно качается маятник. Вращается золотой шар, выпуская на стены сотни солнечных зайчиков, юрких, стремительных — разве поймаешь? Откуда-то слышна музыка — медленная, зыбкая, как рябь на воде. Вращается золотой шар — маленькая планетка, подвешенная на жесткий стержень Времени. — Оно неумолимо, мой мальчик: ни остановить, ни повернуть вспять. Мы не умеем управлять временем и не научимся никогда. Мы уже на краю, дальше идти некуда: пропасть или глухая стена — выбирай, что лучше. Можно, конечно, перекинуть мост через пропасть, а стену пробить, взорвать, уничтожить, но зачем? Да и нечем. Нужны силы, а их у нас нет. Страшные слова: угасающая цивилизация! Страшно терпеть их. Гораздо легче протестовать — недорого и сердито, а конец все равно один: смерть. В разные времена — разные формы протеста. Чаще всего уход к прошлому, наивная игра в близость природе, в кажущуюся свободу “диких” и страшная закономерность: чем выше уровень цивилизации, тем дальше в прошлое уходят от нас “дикие”. Они были всегда: и когда мы приручили атомную энергию, и когда вышли в космос, и когда научились управлять плазмой, и сейчас, когда мы все это прочно забыли. “Дикие” — это регресс против прогресса. Сначала буколика, разведение травки вдали от шума городского, потом — колонии: самодельные муравейники, вымирающие от междоусобиц, драк, от дурмана и эпидемий, затем — толпы нелепых, оборванных и грязных бездельников, молчаливо сидящих на городских улицах. Лень управляет ими, всесильная госпожа лень: лень мыслить, лень двигаться. Гораздо проще не думать, залезть в пещеру и убить ближнего, чтобы не умереть с голоду.Вот и появились в каменных пустынях на юге стада утративших разум маньяков, бежавших от “тоски городов”. Теперь они — вне общества, вне законов, вне цивилизации. Мы вытесняем их с Контролируемых территорий, а там пусть вымирают по собственным нормам и методам. Глохнет голос, гаснет золотой шар, темнеют солнечные блики на стенах. Они уже не голубые — лиловые с серебристыми звездами на обоях. Морозная дымка укладывается в прямоугольник окна, открытого, как обычно. Значит, я уже дома. Довезли ребята, спасибо им.4
За столом, склонив голову набок, что-то прилежно пишет Волохов. Вот он подымает голову, губы его шевелятся — считает или придумывает? Потом, заметив, что я очнулся, радостно улыбается: — Как самочувствие, Николай Ильич? — Фифти-фифти. А где ребята? — Да с полчаса как ушли. Я тут посчитал кое-что, пока бы спали, а Инка в магазин побежала: у вас в холодильнике пустыня, хоть бы консервы с горошком или баклажанная икра. А то-чистая Антарктида. — Он подымается, застегивает пальто. — Пойду ее встречу, может, капусту купила — помогу. А вы лежите пока, мы скоро. Он уходит, а я закрываю глаза, вспоминая подсмотренное сквозь щелку во времени. Эта щелка снова приоткрылась, показав мне уголок прошлого, забытого, но все же не мертвого. Вот и еще одной тайне конец: я — вегетарианец по необходимости, рожденной сложными условиями жизни на родине. Хлопнула входная дверь. Шепот в прихожей. Чьи-то каблуки простучали по коридору на кухню: Инна. Вот она уже гремит кастрюлями, в который раз удивляясь, что приходится варить своему учителю не вкусный мясной обед, а капустно-морковное месиво. Несколько мгновений вижу их лица, потом все погружается в какой-то туман…Тетрадь четвертая
1
Припадки чаще и откровеннее. Прошлое властно вторгается в мой новый мир, все объясняя, и объяснения, как мертвые кирпичи, одно за другим воздвигают все выше стену между мной и людьми. Но Маугли уже стал человеком” не в состоянии вернуться в джунгли. И не захочет даже, если бы такое возвращение было возможно. Кто знает, что нашел бы он сейчас на камнях породившего его мира? Пожирающих друг друга питекантропов или горсточку заживо умирающих мудрецов, отягощенных своей бесполезной мудростью? Недавно я побывал в Лондоне на симпозиуме математиков, стремившихся каждый по-своему сформулировать теорию связи, или, как ее еще называют, теорию информации. О чем я думал, отрываясь от припычной среды научного сборища и прогуливаясь по блистательной Пикаднлли или по окраинным переулкам Лондона? Если бы этот мир развивался, не имея перед собой противустоящего ему мира социалистического, он, вероятно, достиг бы тех же самых вершин, до которых добралась моя далекая галактическая цивилизация. До тех ледяных высот, вымораживающих в человеке великую сущность бытия — счастье жизни и радость творчества. Не зря меня называют “снежным человеком”. Я сын того же холодного мира, где замерзает не только вода, но и души. Я почувствовал дыхание этой душевной мерзлоты и на лондонском симпозиуме, когда сорокалетний профессор Кингсли сделал сенсационное заявление о ненужности дальнейших математических изысканий. Они, мол, всегда несут с собой непредвиденную побочную опасность, как невинное стремление Резерфорда проникнуть в тайны атома принесло в жертву Хиросиму и Нагасаки. “Да и вообще любое достижение науки, как только оно становится применимым в массовом масштабе, — обобщил он свою мысль, — подчас приносит опасности, почти непреодолимые”. Тогда я только подивился этой духовной ограниченности, мимоходом подумав, а не рассуждал ли так же и мир, меня породивший? Но не дождался припадка, а вместе с ним и ответа на мой вопрос. Ответ пришел позже, уже в Москве, когда я прочел в газете полемику двух ученых — американца и русского. Уже другой американский профессор, не Кингсли (как заразительна эта душевная мерзлота!), утверждал, что развитие науки находится в явном противоречии с интересами человечества. Он привел почти те же аргументы и выразил все тот же страх перед неотвратимой поступью научно-технического прогресса. Русский высмеял этих интеллектуальных самоубийц. Высмеял беспощадно и умно, доказав, что каждая победа человеческого гения отзывалась благом в жизни людей. Я читал газету, лежа на кушетке в гостиничном номере, и вторжение прошлого на этот раз не опрокинуло меня наземь. Как долго длился припадок, я не знаю, но он открыл мне еще один уголок моей родины, еще один краешек той пропасти, к какой двигались мои соплеменники. Как и ранее, то был не сон и не смутное воспоминание, а почти совершенная модель прошлого. …Мне около тридцати, я только что назначен Вычислителем в составе экипажа новой космической экспедиции, первой за три столетия с тех пор, как были прекращены исследования космоса (я привожу цифры в земном исчислении, так как нынешняя мысль моя не в состоянии воспроизвести их иначе). Из старых хроник я узнал, что последний космический корабль не вернулся, новых уже не проектируют, изучение Вселенной приостановлено, не строят обсерваторий и не готовят астрономов. Лишь несколько старых обсерваторий и специализированных заводов-автоматов, сохранивших людей и оборудование, доживают свой век на планете во главе с учеными-энтузиастами, обучавшимися по древним кристаллическим записям. Я был в их числе, когда поступил сигнал о моем назначении на пост Вычислителя. Теперь меня иначе не называют. — Ты не боишься, Вычислитель? — Нет. — Космических кораблей давно уже не строят. — Не строят — еще не значит, что разучились строить. Наш спроектирован и построен. — И вы нашли материалы? — К счастью, кое-что еще сохранилось на складах. И работали не любители-одиночки. Нашлись и автоматы, и люди, умение и знания которых позволили сотворить чудо. — Но это чудо еще не прошло испытаний. — Мы испытаем его в полете. Лицо моего собеседника тает в сумраке плохо освещенной обсерватории. — Ты живой пример атавизма, — не без зависти говорит он. — Тобой движет романтика древних лет. Ты слишком поздно родился. Я молчу. Я знаю. Сердце мое ликует. — Корабль не вернется. Может быть, мы даже увидим твою гибель на взлете. Откажись — за отказ не осудят. Зачем спешить к смерти? Доживешь с нами, сколько положено. — Нет.2
Морозный сумрак превращается в пушистый морозный день. Я у Астронома, который старше меня лет на семь-восемь. Ему осталось жить всего несколько лет: у нас умирают сорокалетними. — Ты знаешь, куда летишь, Вычислитель? — В субпространство. — Координаты пути? — Я их вычислил. — Хочу проверить тебя. Вспомни. Я вижу образ далекой звездной системы. Видит его и Астроном, потому что образ возникает четко в белом пространстве зала. — Найди планету. Я вижу нечто вроде снимка Земли, сделанного из космоса советскими космонавтами. Голубые океаны. Ясные очертания материков. Знакомый контур Африки. В ту минуту я еще не знал, что знаю теперь. — облик планеты для меня нов. Но он манит. Астроном улыбается. — Зовут вселенские дали? И меня. Но я уже стар — всего три года до финиша. Таких уже не посылают в космос. — Уже давно никого не посылают. Почему? — Ты знаешь из кристаллических хроник, когда и как началось угасание науки. Закрылись специальные школы. Не делают кристаллов для записей. Остались считанные безумцы, вроде меня и тебя, которые копаются в научном навозе прошлого. — И нашли жемчужину, вроде этой планеты с кислородной жизнью. — В Совете по ликвидации научных хозяйств надо мной посмеялись. Я напомнил им о возможности встречи с иной формой разума. Мне ответили: кому нужен чужой разум, когда избыток своего тяготит. Но перед Советом мудрейших меня поддержал Навигатор. Рядом с Астрономом в пушистом морозном облаке возникает абрис человека, геометрически скроенного из наклонных и вертикалей. Он еще выше меня. В его устремленном на меня взоре читаю: “Не задавай ненужных вопросов”. Я мысленно отвечаю, почтительно склонив голову: “Готов слушать”. — Мы — тридцатилетние — смертники, — говорит он. — Десять лет до срока — это недолго. Но одни предпочитают протянуть их, прозябая в равнодушии ко всему на свете, другие согласны посчитать завтрашний день последним, если он откроет новые горизонты. Ты из таких, и твоя работа меня устраивает. Я видел твои вычисления — они вселяют уверенность. Ты летишь. Я все же отваживаюсь спросить: — Триста лет уже никого не посылают в космос. Что же побудило Совет изменить традиции? Встревоженный взгляд Астронома предупреждает: вопрос вне компетенции Вычислителя. Однако Навигатор не замечает или не хочет замечать нарушение регламента. — Я говорил с Восьмым из Совета: он занимается ликвидацией остаточных последеianii пауки. Я напомнил ему об угасании нашей цивилизации, о сокращении рождаемости, близком к полному прекращению, о сорокалетнем пределе жизни, о вирусе равнодушия, убивающем все. Я спросил: что может снова разжечь угасающий костер жизни? Только молодость и силы другой планеты. Такую планету нашли астрономы, а мы, навигаторы, предлагаем проверить находку. “Разве есть еще навигаторы?” — устало спросил он. Я ответил: “Поколение за поколением передавали свои знания друг другу. Нам, последним, под тридцать- мы еще успеем вернуться”. Я мысленно представил себе этот разговор с членом Совета и, сдерживая улыбку, спрашиваю: — И это его убедило? — Не это. Его равнодушные глаза спрятали мысль, но я угадал ее. Он просто обрадовался возможности убрать нескольких беспокойных с планеты. Отказ мог только умножить наше число, согласие уменьшало его. А возвращения корабля, даже если мы и вернемся, он все равно не дождется. Восьмой из Совета был учеником моего отца. Навигатор знал об этом. — Он хочет говорить с тобой, — добавил он. — Не пугайся: вопрос уже решен. Но о моей догадке можешь упомянуть.3
…Опять белый морозный туман — он не мешает в комнатах, как и на улице. Я вижу створки двери — высокий белый прямоугольник, перечеркнутый посредине, как рейсфедером по чертежной линейке. И слышу: чей-то бесстрастный голос предупреждает: — Восьмой сейчас примет вас, Вычислитель. Восьмой говорит знакомым голосом, который я уже слышал в неоднократных посылках прошлого. Он выглядит не старше меня. — Но у меня в запаснике жизни всего один год, — говорит он, заканчивая мою мысль. — Уже появились предупреждающие сигналы. — Какие? — Шестое чувство. Я уже ощущаю, как истончаются кровеносные сосуды в мозгу и как нарастает давление потока крови. Это не обычное кровяное давление, а пиршество разума. Мысль словно становится быстрее и чище. Яснее ассоциации. Стройнее выводы. Потом — последняя вспышка, несколько часов наивысшего ускорения — и конец. — Я знаю. У моего отца была такая же ночь, — просто говорю я. Мне легко с ним, хотя ледок равнодушия холодит отношения. — Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? — спрашивает он. — Нет. — Для того чтобы сказать тебе, что ты умрешь раньше меня. — Вы забыли добавить: “быть может”. — Нет, я забыл добавить: “непременно”. Я молчу, не ощущая ни почтения, ни страха. Пусть объясняет. — У нас уже давно не знают о космической навигации, — равнодушно говорит он. — Разучились. И строить корабли, и вычислять координаты путей. Тем более в субпространстве. — Я вычислил. — Не уверен в их точности, хотя, как математик, ты ученик своего отца. — Вы тоже. — Я был им раньше тебя и давно разучился. — И довольны? — Равнодушен. Большинство счетно-вычислительных устройств давно демонтировано, а кто будет в уме решать дифференциальные уравнения в частных производных? И кого заинтересуют сейчас непрерывные дроби либо числа в минус двадцатой степени? Любителей цифровых игр или чудаков вроде тебя. К счастью, их становится все меньше и меньше. — К счастью? Потому вы и разрешили полет? — Да. Навигатор понял. Но я сделал это и ради тебя. Познаешь наивысший взлет мысли на орбитах иных галактик. — Спасибо, Восьмой. — Иди. Мне только хочется, чтобы я не ошибся.4
Но он ошибся. Наивысший взлет мысли я познал не на пути к Земле и не на ее орбите, а много лет спустя в сумрачный морозный вечер у открытого окна в моей квартире в новосибирском Академгородке. Я часто размышлял о трагедии моей планеты. Почему угасла такая высокоразвитая цивилизация? Я слишком мало знаю об ее истории, да что там история — о своей жизни там я почти ничего не помню. И только здесь, на Земле, я кое в чем разобрался: мне подсказали это труды Шкловского, Брейсуэлла и фон Хорнера. Последний, например, приводит такие причины гибели возможных цивилизаций во Вселенной: полное уничтожение жизни на планете, психическое или физическое вырождение ее обитателей, потеря интереса их к науке и технике. Мне кажется, вторая и третья причины наиболее подходят к тому краху, о котором говорил мне Восьмой. Почему я прожил на Земле более сорока лет? Вероятно, из-за особенностей земной биосферы. Не зря астрономы моей далекой родины искали планету для переселения. Но слишком больших возрастных перегрузок я все же перенести не мог. Шестое чувство пришло на десять с лишним лет позже, чем у моих сородичей, но все же пришло. — Давление чуть-чуть повышено, — сказал мне мои лечащий врач, когда я проходил очередную диспансеризацию по возвращении из Лондона. — Сердчишко чуть-чуть пошаливает. Но, в общем, все чуть-чуть. Нужен мелкий ремонт. А как вы себя чувствуете? — Странно, доктор. — Что значит — странно? — Ощущаю свои сосуды. Как подходит и отходит кровь. — В кончиках пальцев? — Нет, в голове. — Приливы? — Нет. Просто я чувствую, как кровь питает мозг. Мысль становится энергетически сильнее и, как бы это сказать, ну, информационно-насыщеннее, что ли. Мне трудно объяснить популярнее. Лучше думается, лучше работается. — Так это же хорошо. — Не знаю, — подумал я вслух, — не могу, в сущности, уточнить. — Сделаем энцефалограмму. Вторично в поликлинику я не пошел. Я знал, что у меня: когда-то просветил Восьмой из мудрейших. Шестое чувство. Нарастающая энергетическая мощь мысли. Благотворный стресс, как неспецифическая реакция мозга на приближение конца. Значит, надо его использовать — уплатить долг приютившему и взрастившему меня удивительному миру, в котором я прожил свою удивительную вторую жизнь. Все чаще и чаще мысль Вычислителя вторгается в мозг профессора Мерля. На днях на занятиях, вдруг забыв обо всем, я с лихорадочной поспешностью исчертил доску многоэтажными уравнениями. Воцарилось недоуменное молчание, вопросов не было. Только кто-то сказал: — Мы не понимаем, Николай Ильич. — Тогда сотрите. Сейчас я ничего объяснить не могу. — Я был все еще Вычислителем. — Нет, — возразил упрямый Волохов. — Мы это запишем, а вы объясните потом. Только что это за символ? — Он указал на круг, перечеркнутый наискось по диаметру. Вычислитель ответил: — Знак смещения, дискретности пространственных координат. Я уже не успею им этого объяснить. Но я отдам им все, что знает Вычислитель. Впереди у меня только сутки — длинный зимний день и ночь до утра, когда все кончится. Уже и сейчас сумрачно, нужно зажигать свет. Я сажусь к столу, не подхожу к телефону и не открываю дверь на звонки. Окно настежь навстречу вьющимся в сумраке снежинкам, зеленый абажур лампы склонен над тетрадями. Сначала будет говорить Мерль, который расскажет самую странную историю в мире, а ночью, когда мысль уйдет в свой последний полет, Вычислитель откроет людям тайны математики будущего — все, чему успел научить его отец и кристаллические записи где-то угасшей науки. Ну что ж, а утром хочется встретить конец на улице, где-нибудь на лыжной тропинке за городом. Говорят, такая же ночь была и у Галуа, хотя он был не гостем, а сыном Земли. Впрочем, кто знает?Постскриптум профессора Волохова
Я написал вступление в роли бывшего аспиранта Волохова. Так оно и прочитается, если тетради Мерля будут опубликованы. Но постскриптум я пишу не для печати. Я передал Академии наук вычисления Мерля, ставшие основой новых областей математики. Но записок Мерля никто не читал, кроме меня. Даже ставшая моей женой Инна. Почему? Я не хотел отнимать у Земли ее сына. Мерль, а не безымянный Вычислитель, стал сыном Земли и, умирая, отдал свой гений земной, русской, советской науке. Сейчас, когда я перечитал его строки, написанные по-русски, я еще более укрепился в своем убеждении. Ведь и мыслил он только по-русски, так и не узнав своего, но уже чужого инопланетного языка. Одно время я хотел сжечь эти тетрадки, но что-то удержало меня — может быть, чувство ответственности за тайну, которую я так и не открыл людям. Сейчас я уже не решаюсь один нести эту ответственность. Еще жива и работает жена моя, лично знавшая Мерля, выросли и тоже пришли в науку дети — так пусть и они задумаются над тем, был ли Мерль сыном или гостем нашей планеты…
КИРИЛЛ БУЛЫЧЕВ МАРСИАНСКОЕ ЗЕЛЬЕ Фантастическая повесть
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Корнелий Удалов не решился один идти с жалобой в универмаг. Он спустился вниз, позвал на помощь соседа. Грубин, услыхав просьбу, долго хохотал, но не отказал и даже был польщен. Отодвинул микроскоп, закатал рисовое зернышко в мягкую бумагу, положил в ящик стола. Потом шагнул к трехсотлитровому самодельному аквариуму и взял наброшенный на него черный пиджак с блеском на локтях. Пиджаком Грубин спасал тропических рыбок от говорящего ворона. Ворон их пугал, болтал клювом в воде. — Ты, Корнелий, не робей, — говорил Грубин, надевая пиджак поверх голубой застиранной майки. — В ракетостроении перекосов быть не должно. Ворон забил крыльями, запросился на волю, но Грубин его с собой не взял, напротив — сунул в шкаф, запер. Удалов подхватил большой прозрачный мешок, в котором покоилась оказавшаяся дефектной красная пластиковая ракета на желтой пусковой установке, купленная в подарок сыну Максимке, пониже надвинул соломенную шляпу и первым направился к двери. Грубин, превосходивший Корнелия ростом на три головы, шагал размашисто, мотал нечесаной шевелюрой, посмеивался и громко рассуждал. Удалов шел мелко, потел и боялся, что его увидят знакомые. Жена Удалова, Ксения, крикнула им вслед со двора: — Без замены не являйся! — Ну-ну, — сказал Грубин негромко. Они пошли по улице. Двухэтажный, большей частью каменный, некогда купеческий, а теперь районный центр, город Великий Гусляр к концу июня раскалился от затяжной засухи. Редкие грузовики, “газики” и автобусы, проезжавшие по Пушкинской улице, тянули за собой длинные конусы желтой пыли и оттого напоминали приземлившихся парашютистов. Был второй час дня и самая жара. На улицах показывались только те люди, которым это было крайне необходимо. Потому Корнелий и выбрал такое время, а не вечер. Он даже пожертвовал обеденным перерывом: надеялся, универмаг пуст и не стыдно будет поднимать разговор из-за чепуховой игрушки. Миновали аптеку. Грубин поздоровался с сидевшим у открытого окна провизором Савичем. — Не жарко? — спросил Савич, поглядев на Грубина поверх очков. Сам Савич был потный и дышал ртом. — Идем на конфликт! — громко сказал Грубин. — Вменяем иск против государства! Удалов уже жалел, что позвал Грубина. Он дернул соседа за полу пиджака, чтобы тот не задерживался. — И вы тоже, товарищ Удалов? — Провизор обрадовался случаю отвлечься. — У вас опять неприятности? Удалов буркнул невнятное и прибавил ходу. Головой повертел, чтобы поглубже ушла в шляпу, и даже стал прихрамывать: хотел быть неузнаваемым. Грубин догнал его в два шага и сказал: — Правильно он тебе намекнул. Я давно задумываюсь. Как с помощью материализма объяснить, что половина всех невезений в городе падают на тебя? — Архив покрасить пора, — уклончиво сказал Корнелий. Грубин удивился и посмотрел на церковь Параскевы-Пятницы, в которой размещался районный архив. — Твое дело, — сказал Грубин. — Ты у нас начальник. По другую сторону улицы стоял Спасо-Трофимовский монастырь, отданный после революции речному техникуму. Дюжие мальчики на велосипедах выезжали оттуда и катили на пляж. Монастырь, в отличие от Параскевы-Пятницы, был хорошо покрашен, и купола главного собора сверкали, как стеклянные адские котлы, наполненные лавой. — Мне твоя жена говорила, — продолжал Грубин, — что тебе в десятом классе на экзамене по истории тринадцатый билет достался и ты медаль не получил. Правда? — Я бы ее и так не получил, — возразил Удалов. А сам подумал: “Зря Ксения такие сплетни распространяет. Это дело старое, счеты с Кастельской, тогдашней историчкой. Если бы можно жизнь повторить сначала, выучил бы всё про Радищева”. Сколько лет прошло, не думал тогда, что станет директором стройконторы, а видел перед собой прямую дорогу вдаль. — Я жизнью удовлетворен, — сказал Удалов твердо, и Грубин хохотнул, глядя сверху. То ли не поверил другу, то ли сам неудовлетворен. Универмаг находился в бывшем магазине купца Титова. Купец перед самой первой мировой получил потомственное дворянство и герб с тремя кабанами: Смелость, Упорство, Благополучие. Теперь кабаны с герба осыпались, а рыцарская шляпа с перьями над щитом осталась. И купидоны по сторонам. У входа в универмаг сидели в ряд обалдевшие от жары бабки из пригородного совхоза. Сидели с ночи — поддались слухам, что будут давать трикотажные кофточки по низким ценам. Низенький Удалов отвернулся от бабок и боком постарался вспрыгнуть на три ступеньки. Очень хотел сделать это легко, спортивно, но споткнулся о верхнюю ступень, наделал много шума и упал с размаху на прозрачный пакет с пластиковой ракетой. Грубин только ахнул. Бабки очнулись и зашептались. Ракета жалобно скрипнула и распалась, как пустой гороховый стручок. Пусковая установка желтого цвета сплющилась в квадратную лепешку. Корнелий, не смея обернуться, нащупал рукой занесенный за спину мешок, подхватил и, пригнувшись, вбежал в полутьму магазина. — Ну, что я говорил? — спросил у бабок Грубин. Те оробели от дикого вида и значительного роста Грубина и затихли. — Задача осложняется, — сказал им Грубин и поспешил за Корнелием в нутро магазина. Удалов по магазину передвигался медленно, будто по колено в воде, и не оборачивался, не глядел, какой нанес себе ущерб. Свободной рукой растирал ушибленный бок. Так дошел до прилавка с игрушками, остановился и подождал, прислушиваясь, пока не подошел Грубин. — Как там? — прошептал он из-под шляпы. — Плохо дело, — сказал Грубин. — Может, пойдем домой? — Жена, — прошептал Корнелий. Шурочка Родионова, продавщица игрушек, ждала обеденного перерыва и читала переводную книгу Зенона Косидовского “Библейские сказания”. Шурочка собиралась быть археологом и три года занималась в историческом кружке у Елены Сергеевны Кастельской, которая была тогда директором музея. Школу Шурочка кончила хорошо, но в Вологду в институт поступать не поехала: с деньгами плохо. Пошла на год в продавщицы, хотя от планов не отказалась, читала книги и учила английский язык. К девятнадцати годам стала Шурочка так хороша, что многие мужчины, у которых не было детей, ходили в универмаг покупать игрушки. Шурочка слышала шум у дверей, но не отвлеклась — читала комментарий про ошибки автора. Только когда Грубин с Удаловым подошли вплотную, она подняла голову, поправила золотую челку и сказала: “Пожалуйста”. А мысленно еще оставалась вблизи города Иерихона на Ближнем Востоке и переживала его трагедию. Обоих посетителей она знала. Один, маленький, толстый, — Удалов, директор стройконторы. Второй — длинный, колючий, лохматый — заведовал конторой вторсырья у рынка и принимал пустые бутылки. — Здравствуйте, — сказали посетители. Удалов поморщился и вытащил из-за спины большой прозрачный мешок с жалкими остатками пластиковой ракеты. — Ой! — сказала Шурочка. — Что же у вас случилось? — Замените! — сказал Удалов. — Брак! — Как же так? Шурочка положила книжку на прилавок и забыла об Иерихоне. — Не видите, что ли? — все так же сердито спросил Удалов. Шурочка не знала, что говорит он строго от робости и сознания своей неправоты. Она обиделась и отвечала: — Я вам, гражданин, такого не продавала. Я сейчас заведующую позову… Ванда Казимировна! Корнелий совсем оробел и сказал: — Ну-ка дайте мне жалобную книгу! Он хотел отодвинуть шляпу на затылок, но не рассчитал, шляпа слетела и шмякнулась об пол. Удалов пошел за шляпой. — Вы нас поймите правильно, — сказал Грубин. — Брак заключался в ракете раньше, чем случился инцидент. Пришла заведующая, Ванда Казимировна, женщина масштабная, решительная и жена провизора Савича. — Такое добро, — сказала она Грубину с намеком, — надо в утильсырье нести, а не в универмаг. Бабки от входа пришли на разговор, и одна сказала: — Чем торгуют! Постыдились бы. Другая спросила: — Кофточки сегодня будут давать? — Спокойствие, — сказал Грубин. — Я вам все покажу. Он вынул из мешка две половинки ракеты, сложил их в стручок и показал заведующей: — Трещину видите в хвостовой части? Вот с этой трещиной нам товар и продали. Трещин в хвостовой части было несколько, и найти нужную было нелегко. Шурочка совсем обиделась. — Они издеваются, что ли? — спросила она. — Алкоголики, — сказала одна из бабок. — Вот чек, — сказал, подходя, Корнелий. Шляпу он держал под мышкой. — Только вчера покупали. У меня чек сохранился. Пришел домой — вижу, трещина. — Какая там трещина! — сказала заведующая. — Шурочка, не расстраивайся. Мы им на работу сообщим. Это не ракета, а результат землетрясения. — Вы не обращайте внимания, что ракета расколота, — сказал Грубин. — Это потом уже случилось. А землетрясений у нас не бывает. Людям доверять надо. И в этот момент в Великом Гусляре началось землетрясение. Глухой шум возник на улице. Земля рванулась из-под ног. Дрогнули полки. Стопки тарелок, будто выпущенные неопытным жонглером, разлетелись по магазину, чашки и чайники, хлопаясь о прилавки, разбивались гранатами-лимонками, целлулоидные куклы и плюшевые медведи поскакали вниз, цветастые платки и наволочки воспарили коврами-самолетами, стойки с костюмами и плащами зашатались — казалось, пожелали выйти на улицу вслед за бабками, убежавшими из универмага с криками и плачем. Разбившиеся пузырьки с духами и одеколоном окутали магазин неповторимым и фантастическим букетом запахов. С потолка хлопьями посыпалась известка… Грубин одной рукой подхватил прозрачный мешок с остатками ракетной установки, другой поддержал через прилавок Шурочку Родионову. Он единственный не потерял присутствия духа. Крикнул: — Сохранять спокойствие! Корнелий вцепился в шляпу, будто она могла помочь в эти жуткие секунды. Быстрое его воображение породило образ разрушенного стихией Великого Гусляра, развалины вдоль засоренных кирпичами улиц, бушующие по городу пожары, стоны жертв и плач бездомных детей и стариков. И он, Корнелий, идет по улице, не зная, с чего начать, чувствуя беспомощность и понимая, что как руководитель стройконторы он — основная надежда засыпанных и бездомных. Но нет техники, нет рабочих рук, царит отчаяние и паника. И тут над головой рев реактивных самолетов — белыми лилиями распускаются в небе парашюты. Это другие города прислали помощь. Сборные дома, мосты и заводы спускаются медленно и занимают места, заранее запланированные в Центре, сыплется с неба дождем калорийный зеленый горошек, стукаются о землю, гнутся, но не разбиваются, банки со сгущенным молоком и сардинами. Помощь пришла вовремя. Корнелий поднимает голову выше и слушает наступившую мирную тишину… И в самом деле наступила мирная тишина. Подземное возмущение окончилось так же неожиданно, как и началось. Тяжелое, катастрофическое безмолвие охватило универмаг и давило на уши, как рев реактивного самолета. — Покинуть помещение! — оглушительно крикнул Грубин. Он бросил на пол мешок, взял одну из половинок ракетного стручка, вторую сунул Удалову и повлек всех за собой раскапывать дома и оказывать помощь населению. Корнелий послушно бежал сзади, хоть ничего перед собой не видел — скатерть опустилась ему на его голову и сделала его похожим на бедуина или английского разведчика Лоуренса. К счастью, раскапывать никого не пришлось. Стихийное бедствие, поразившее Великий Гусляр, не было землетрясением. Метрах в двадцати от входа в универмаг мостовая расступилась и в пропал ушел задними колесами тяжело груженный лесовоз. Еще не улегшаяся пыль висела вокруг машины и, подсвеченная солнцем, придавала картине загадочный, неземной характер. — Провал, — сказал обыкновенным голосом Удалов, стаскивая с головы скатерть и аккуратно складывая ее. Провалы в городе случались нередко, так как он был стар и богат подземными ходами и подвалами царских времен. — Опять не повезло тебе, Корнелий! — Грубин бросил в досаде на землю половинку ракеты. — Теперь тебе не до замен. Мостовую ремонтировать придется. — Квартал, кстати, кончается, — ответил Корнелий. — Он обернулся к заведующей и добавил: — Я, Ванда Казимировна, вашим телефончиком воспользуюсь. Надо экскаватор вызвать. Из пылевой завесы вышел бледный, мелко дрожащий or пережитого шофер лесовоза. Он узнал Удалова и обратился к нему с претензией. — Товарищ директор, — заявил он, — до каких пор мы должны жизнью рисковать? А если бы я стекло вез? Или взрывчатку? — Ну уж, взрывчатку! — сказал Грубин. — Кто тебе ее доверит? — Кому надо, тот и доверит, — сказал шофер. Увидев Шурочку, перестал дрожать, подтянулся. — Провал как провал, — сказал Удалов. — Не первый и не последний. Сейчас вытащим, дыру засыплем, все будет как в аптеке. Сходили бы до милиции, пусть поставят знак, что проезда нет. А автобус пустят по Красноармейской.2
Елена Сергеевна прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью “Сахар”. Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его, но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове. Ваня втащил на кухню танк, сделанный из тома “Современника” за 1867 год и четырех спичечных коробок. — Не нужна мне твоя каша, — сказал он. — Подай соль, — сказала Елена Сергеевна. — Посолить забыла, баба? — спросил Ваня. Елена Сергеевна не стала дожидаться, пока Ваня развернет танк в сторону черного буфета, сама широко шагнула туда, достала солонку и при виде ее вспомнила, что уже сыпала соль в молоко. Елена Сергеевна поставила солонку обратно. — Баба, — заныл Ваня противным голосом, — не нужна мне твоя каша… Хочу гоголь-моголь… На самом деле он не хотел ни того, ни другого. Он хотел устроить скандал. Елена Сергеевна отлично поняла его и потому ничего не ответила. За месяц они с Ваней надоели друг другу, но невестка заберет его только через две недели. Елена Сергеевна обнаружила, что к шестидесяти годам она охладела к детям. Она утеряла способность быть с ними снисходительной и терпимой. После скандалов с Ваней она успокаивалась медленней, чем внук. А ведь Елена Сергеевна сама попросила невестку прислать Ваню в Великий Гусляр. Она устала от одиночества долгих сумерек, когда неверный синий свет вливается в комнату, в нем чернеют и разбухают старые шкафы, которые давно следовало бы освободить от старых журналов и разного барахла. Раньше Елена Сергеевна думала, что на пенсии она не только отдохнет, но и сможет многое сделать из того, что откладывалось за делами и совещаниями. Написать, например, историю Гусляра, съездить к сестре в Ленинград, разобрать на досуге фонды музея и библиотеку — там все время сменялись бестолковые девчонки, которые через месяц выходили замуж или убегали на другую работу, где платили хотя бы на десятку больше, чем в бедном зарплатой городском музее. Но ничего не вышло. История Великого Гусляра лежала на столе и почти не продвигалась. У сестры болели дети, и, вместо того чтобы не спеша обойти все ленинградские музеи и театры, Елене Сергеевне пришлось возиться по хозяйству. В музее появился новый директор, ранее руководитель речного техникума. Директор рассматривал свое пребывание в музее как несправедливое, но неизбежное наказание и ждал, пока утихнет гнев высокого районного начальства, чтобы вновь двинуться вверх по служебной лестнице. Директор был Елене Сергеевне враждебен. Ее заботы о кружках и фондах отвлекали от важного начинания: сооружения памятника землепроходцам, уходившим в отдаленные времена на освоение Сибири и Дальнего Востока. Землепроходцы часто уходили из Великого Гусляра — города купеческого, беспокойного, соперника Архангельска и Вологды. — Баба, а в каше много будет комков? — спросил Ваня. Елена Сергеевна покачала головой и чуть улыбнулась. Комки, конечно, будут. За шестьдесят с лишним лет она так и не научилась варить манную кашу. Если бы удалось начать жизнь сначала, Елена Сергеевна обязательно подсмотрела бы, как это делала покойная мама. Кто-то стукнул в окно. Ваня забыл о танке и побежал открыть занавеску. Он никого не увидел — в окно стучали знакомые, прежде чем войти в калитку, обогнуть дом и постучать со двора. Елена Сергеевна убавила огонь и решила, что успеет открыть дверь, прежде чем каша закипит. Она быстро прошла темные сени. От каждого шага, сухого и короткого, взвизгивали половицы. За дверью стояла Шурочка Родионова, повзрослевшая и похорошевшая за весну и остригшая косу, чтобы казаться старше. — Вытри ноги, — сказала Елена Сергеевна, любуясь Шурочкой. Шурочка покраснела; у нее была тонкая, персиковая кожа, Шурочка легко краснела и становилась похожей на кустодиевских барышень. Шурочка поздоровалась, вытерла ноги, хоть на улице было сухо, и прошла на кухню за Еленой Сергеевной. Девушка была взволнована и говорила быстро, без знаков препинания: — Такое событие Елена Сергеевна грузовик ехал по Пушкинской и провалился народу видимо-невидимо думали землетрясение и Удалов из стройконторы говорит засыпать будем и там подвал а директора музея нет уехал в область на совещание по землепроходцам и надо остановить это безобразие там могут быть ценности… — Погоди, — сказала Елена Сергеевна. — Я вот тут Ваню кормить собралась. Садись и повтори все медленнее и логичнее. Когда Шурочка говорила, она из молодой и красивой женщины превращалась в ученицу-отличницу, в старосту исторического кружка. Елена Сергеевна положила кашу в тарелку и посыпала ее сахарным песком. Ваня хотел было потребовать малинового варенья, но забыл. Он был заинтригован неожиданным визитом и быстрой речью гостьи. Он послушно сел к столу, взял ложку и смотрел в рот Шурочке. Как во сне зачерпнул ложкой кашу и замер, беззвучно шевеля губами, повторяя рассказ Шурочки слово за словом, чтобы стало понятнее. — Значит ехал грузовик по Пушкинской, — говорила Шурочка чуть медленнее, но все равно без знаков. — И сразу провалился задними колесами думали землетрясение все из магазина выскочили а там подвал… — Где именно? — спросила Елена Сергеевна. — Недалеко от угла Толстовской. — Там когда-то проходил Адов переулок. — Елена Сергеевна прищурилась и представила себе карту города в промежутке между пятнадцатым и восемнадцатым веками. — Правильно, — обрадовалась Шурочка. — Вы нам еще в кружке рассказывали там Адов переулок был и кузнецы работали ширина два метра и упирался в городскую стену к так и сказала Удалову из стройконторы а он говорит что квартал кончается и он обязан сдать Пушкинскую они ее три месяца асфальтировали а то премии не получат. — Безобразие! — возмутилась Елена Сергеевна. — Ваня, не дуй в ложку… Мне его не с кем оставить. — Так я посижу, Елена Сергеевна, — сказала Шурочка. — Без вас они засыплют, а вас даже Белов слушается. — Я власти не имею, — сказала Елена Сергеевна. — Я в отставке. — Вас весь город знает. — Я сейчас. Елена Сергеевна прошла в маленькую комнату — и скоро вернулась. Она причесалась, заколола седые волосы в пучок на затылке. На ней было темное учительское платье с отложным, очень белым воротничком, и Шурочка снова почувствовала робость, как пять лет назад, когда она в первый раз пришла в исторический кружок. Елена Сергеевна, в таком же темном платье, повела их наверх, в первый зал музея, где стоял прислоненный к стене потертый бивень мамонта, висела картина, изображающая повседневный быт людей каменного века, а на витрине под стеклом лежали в ряд черепки и наконечники стрел из неолита, найденные в реке Гусляр дореволюционными гимназистами. — Так ты посидишь немного? — спросила Елена Сергеевна. — Как же конечно я сегодня с обеда свободна. Елена Сергеевна спустилась с крыльца, молодо процокала каблучками по деревянной дорожке двора, прикрыла калитку и пошла по Слободской к центру, через мост над Грязнухой, что испокон веку делит город на Гусляр и Слободу. За мостом по правую руку стоит здание детской больницы. Раньше там был дом купцов Синицыных, и в нем сохранились чудесные изразцовые печи второй половины восемнадцатого века. По левую руку — церковь Бориса и Глеба, шестнадцатый век, уникальное строение, требует реставрации. За церковью — одним фасадом на улицу, другим на реку — мужская гимназия, ныне первая средняя школа. За гимназией — широкая и всегда ветреная площадь, наполовину занятая газонами. Здесь до революции стояли гостиные ряды, но в тридцатом, когда ломали церкви, сломали заодно и их, хотя можно бы использовать ряды под колхозный рынок. Здесь новый директор музея намеревается установить памятник землепроходцам. По ту сторону площади — двухэтажный музеи, памятник городской архитектуры восемнадцатого века, охраняется государством. Но Елена Сергеевна переходить площадь не стала, а у продовольственного свернула на Толстовскую. На углу встретился провизор Савич, давнишний знакомый. — Ты слышала, Лена, — сказал он, отдуваясь и обмахиваясь растрепанной книжкой, — грузовик провалился? — А куда, ты полагаешь, я иду? — спросила Елена Сергеевна. — Обследовать финифтяную артель? — Ну уж, Леночка, — сказал мягко Савич, — не надо волноваться. Если мне не изменяет память, это третий провал за последние годы? — Четвертый, Никита, — сказала Елена Сергеевна. — Четвертый. Я пойду, а то как бы они чего не натворили. — Разумеется. Если б не такая жара, я бы сам посмотрел. Но обеденный перерыв короток, а мое брюхо требует пищи. Я так и полагал, что тебя встречу. Тебя все в городе касается. — Касалось. Теперь я на пенсии. Передай привет Ванде Казимировне. — Спасибо, мы всё к вам в гости собираемся… Но последних слов Елена Сергеевна уже не слышала. Она быстро шла к Пушкинской. Савич поправил очки и побрел дальше, размышляя, есть ли в холодильнике бутылка пива. Он представил запотевшую, темно-зеленую бутылку, шипение освобожденного напитка, зажмурился и заспешил. На Пушкинской, не доходя до универмага, стояла толпа. Толпа казалась неподвижным, неживым телом, и только мальчишки кружились вокруг нее, влетая внутрь и снова выскакивая, как пчелы из роя. По улице не спеша шел гусеничный экскаватор. Вблизи толпа распалась на отдельных людей, большей частью знакомых — учеников, друзей, соседей и просто горожан, о которых ничего не знаешь, но здороваешься на улице. Елена Сергеевна пронзила толпу и оказалась у провала. Асфальт расходился трещинами, прогибался, будто был мягким, как резиновый коврик, и обрывался овальным черным колодцем. По другую сторону колодца стоял лесовоз, — его уже вытащили из ямы. Бревна лежали на мостовой, рядком. У провала спорили два человека. Один из них был низок ростом, агрессивен, и лицо его было скрыто под соломенной шляпой. Второй — баскетбольного роста, с нечесаной шевелюрой, в черном пиджаке, надетом прямо на голубую майку, — отступал под натиском низенького, но сопротивления не прекращал. — Для меня это скандал и безобразие, — уверял низкий. Елена Сергеевна сразу поняла, что это и есть директор стройконторы. — Мы окончили асфальтирование участка, рапортовали райкому и в область, ожидаем заслуженной премии — не лично я, а коллектив, — а ты что мне советуешь? Низенький сделал шаг вперед, и длинный отступил, рискуя свалиться в пропасть. — Корнелий, ты забыл о науке, о славе родного города, — протестовал он, балансируя над провалом. — А люди премии лишатся?.. Эй, Эдик! — Это низенький увидел экскаватор. — Давай сюда, Эдик! — Подождите, — сказала Елена Сергеевна. — А вы еще по какому праву? — спросил низенький, не поднимая головы. — Давай, Эдик! — Вот что, Корнелий, — сказала тогда Елена Сергеевна, которая наконец узнала, кто же скрывается под соломенной шляпой. — Сними шляпу и подними голову. Кто-то в толпе хихикнул. Экскаваторщик заглушил мотор и подошел поближе. — Где тут яма, — спросил он, — которая представляет исторический интерес? Директор стройконторы послушно снял шляпу и поднял вверх чистые голубые глаза неуспевающего ученика. Он уже все понял и сдался. — Здравствуйте, Елена Сергеевна, — сказал он. — Я вас сразу не узнал. — Дело не в этом, Корнелий. — Правильно, не в этом. Но вы войдите в мое положение. — А если бы на Красной площади такое случилось? — спросила строго Елена Сергеевна. — Ты думаешь, Удалов, что Центральный Комитет разрешил бы вызвать экскаватор и засыпать провал, не дав возможности ученым его обследовать? — Так то Красная площадь, — сказал Удалов. — Так его! — пришел в восторг Грубин. — Я сейчас мигом все осмотрю. — Кстати, если не исследовать, куда ведет провал, —добавила Елена Сергеевна, — то не исключено, что завтра произойдет катастрофа в десяти метрах отсюда, вон там например. Все испуганно посмотрели в направлении, указанном Еленой Сергеевной. Грубин присел на корточки и постарался разглядеть, что таится в подвале. Но ничего не увидел. — Фонарь нужен, — сказал он. — Фонарь есть. Из толпы вышел худенький мальчик с длинным электрическим фонарем. — Только меня с собой возьмите, — сказал он. — Здесь мы не шутки шутить собрались. — Грубин отобрал фонарь у мальчика. — Я пойду, а, Елена Сергеевна? — Подождите. Нужно, чтобы туда спустился представитель музея. — Так нет никого. А вы отсюда будете контролировать. Рядом с Еленой Сергеевной возник человек с фотоаппаратом. — Вы меня не знаете, я здесь недавно, — сказал он. — Я работаю в районной газете, и моя фамилия Стендаль. Миша Стендаль. Я кончал истфак. — Так будем стоять или будем засыпать? — спросил экскаваторщик. — Простой получается. — Идите, — согласилась Елена Сергеевна. — Тогда и я пойду, — сказал вдруг экскаваторщик. — Мне нужно посмотреть, куда землю сыпать. Да и физическая сила может пригодиться. И на это Елена Сергеевна согласилась. Удалов хотел было возразить, но потом махнул рукой. Не везет, так никогда не везет. — Здесь неглубоко, — сказал Грубин, посветив фонариком вглубь. Он лег на асфальт, свесил ноги в провал и съехал на животе в темноту. Ухнул и пропал. — Давайте сюда! — прилетел через несколько секунд утробный подземный голос. Толпа сдвинулась поближе к краям провала, и Елена Сергеевна сказала: — Отойдите, товарищи. Сами упадете и других покалечите. — Сказано же, — оживился Удалов, — осадите! Экскаваторщик спрыгнул вниз и подхватил Мишу Стендаля. — Ну, как там? — крикнул Удалов. Он опустился на колени, крепко упершись пухлыми ладошками в асфальт, и голос его прозвучал глухо, отраженный невидимыми стенами провала. — Тут ход есть! — отозвался снизу чей-то голос. — Там ход, — повторил кто-то в толпе. — Ход… И все замерли, замолчали. Даже мальчишки замолчали, охваченные близостью тайны. В людях зашевелились древние инстинкты кладоискателей, которые дремлют в каждом человеке и только в редких деятельных натурах неожиданно просыпаются и влекут к приключениям и дальним странствиям.3
Сверху провал представлялся Милиции Федоровне Бакшт чернильной кляксой. Она наблюдала за событиями из окна второго этажа. Пододвинула качалку к самому подоконнику и положила на подоконник розовую атласную подушечку, чтобы локтям было мягче. Подушечка уместилась между двумя большими цветочными горшками, украшенными бумажными фестончиками. Очень старая сиамская кошка с разными глазами взмахнула хвостом и тяжело вспрыгнула на подоконник. Она тоже смотрела на улицу в щель между горшками. В отличие от остальных, Милиция Федоровна хорошо помнила то время, когда улица не была мощеной и звалась Елизаветинской. Тогда напротив дома Бакштов, рядом с лабазом Титовых, стоял богатый дом отца Серафима с резными наличниками и дубовыми колоннами, подкрашенными под мрамор. Дом отца Серафима сгорел в шестидесятом, за год до освобождения крестьян, и отец Серафим, не согласившись в душе с суровостью провидения, горько запил. Отлично помнила Милиция Федоровна и приезд губернатора. Тот был у Бакштов с визитом, ибо обучался со вторым супругом Милиции Федоровны в пажеском корпусе. Хозяйка велела в тот вечер не жалеть свечей, и его высокопревосходительство, презрев условности, весь вечер провел у ее ног, шевеля бакенбардами, а господин Бакшт был польщен и вскоре стал предводителем уездного дворянского собрания. Память играла в последние годы странные шутки с Милицией Федоровной. Она отказывалась удерживать события последних лет и услужливо подсовывала образы давно усопших родственников и приятелей мужа и даже куда более давние сцены: петербургские, окутанные дымкой романтических увлечений. В годы революции Милиция Федоровна была уже очень стара, и за ней ходила компаньонка из монашек. С тех лет ей почему-то врезалось в память какое-то шествие. Перед шествием молодые люди несли черный гроб с белой надписью “Керзон”. Кто такой Керзон, Милиция Федоровна так и не сподобилась узнать. И еще помнился последний визит Любезного друга. Любезный друг сильно сдал, ходил с клюкой, и борода его поседела. Задерживаться в городе он не смог и вынужден был покинуть гостеприимный дом вдовы Бакшт, не исполнив своих планов. Появление провала на Пушкинской отвлекло Милицию Федоровну от привычных мыслей. Она даже запамятовала, что ровно в три к ней должны были прийти пионеры. Им Милиция Федоровна обещала рассказать о прошлом родного города. Задумала этот визит настойчивая соседка ее, Шурочка, девица интеллигентная, однако носящая короткие юбки. Милиция Федоровна обещала показать пионерам альбом, в который ее знакомые еще до революции записывали мысли и стихотворения. Шурочку Милиция Федоровна разглядела среди людей, окруживших провал. На зрение госпожа Бакшт не жаловалась: грех жаловаться в таком возрасте. Потом Милиция Федоровна задремала, но сон был короток и непрочен. Нечто необъяснимое волновало ее. Нечто необъяснимое было связано с провалом. Ей привиделся Любезный друг, грозивший костлявым пальцем и повторявший: “Как на духу, Милиция!” Когда Милиция Федоровна вновь открыла глаза, у провала уже командовала известная ей Елена Сергеевна Кастельская, худая дама, работавшая в музее и приходившая лет десять — пятнадцать назад к Бакшт в поисках старых документов. Но Милиции Федоровне не понравилась сухость и некоторая резкость в обращении музейной дамы, и той пришлось уйти ни с чем. При этом воспоминании Милиция Федоровна дозволила улыбке чуть тронуть уголки ее сухих, поджатых губ. Раньше губы были другими — и цветом, и полнотой. Но улыбка, та же улыбка, когда-то сводила с ума кавалергардов. Тут Милицию Федоровну вновь сморила дремота. Она зевнула, смежила веки и отъехала на кресле в угол, в уютную темную полутьму у печки. Сиамская кошка привычно прыгнула ей на колени. “В три часа придут… В три часа…” — сквозь дремоту думала Милиция Федоровна, но так и не вспомнила, кто же придет в три часа, а вместо этого опять увидела Любезного друга, который был разгневан и суров. Взор его пронзал трепетную душу Милиции Федоровны и наэлектризовывал душный, застойный воздух в гостиной — единственной комнате, оставленной госпоже Бакшт.4
Подземелье за те полчаса, что было открыто влиянию жаркого воздуха, почти не проветрилось. Вековая прохлада наполняла его, как старое вино. Миша Стендаль оперся на протянутую из тьмы квадратную ладонь экскаваторщика, прижал к груди фотоаппарат и сиганул туда, в неизвестность. В провале стояла тишина. Тяжелое дыхание людей металось по нему и глохло у невидимых стен. В голубом овальном окне над головой обрисовывался круглый предмет, превышающий размером человеческую голову. Из предмета донесся голос: — Ну как там? Голос принадлежал маленькому директору стройконторы, которого так ловко поставила на место старуха Кастельская из музея. Предмет был соломенной шляпой, скрывавшей лицо Удалова. — Тут ход есть, — ответил другой голос, в стороне, неподалеку от Миши. По темноте елозил луч фонарика. Грубин начал исследования. — Там ход… ход… — шелестом донеслись голоса в толпе наверху. Голоса были далеки и невнятны. Миша Стендаль сделал шаг в сторону хода, но натолкнулся на спину экскаваторщика. Спина была жесткая. Глаза начали привыкать к темноте. В той стороне, куда двигался Грубин, она была гуще. — Пошли, — сказал экскаваторщик. Миша по-слепому протянул вперед руку, и через два шага пальцы уперлись во что-то — испугались, отдернулись, сжались в кулак. — Тут стена, скользкая, — прошептал Миша. Шепот был приемлемее в темноте. Толстые, надежные бревна поднимались вверх, под самый асфальт. Комната получалась длинная, потолок к углу провалился. Дальняя стена, у которой стоял Грубин и шарил лучом, была кирпичной. Кирпичи осели, пошли трещинами. Посреди стены — низенькая, перетянутая, как старый сундук, железными ржавыми полосами дверь. Грубин уже изучил дверь: замка не было, кольцо кованое, по за него тяни не тяни — не поддается. — Дай-ка мне, — сказал экскаваторщик. — Нет, — возразил Миша Стендаль. — На это мы не имеем права. У нас нет открытого листа. Надо хотя бы сфотографировать. Миша Стендаль читал незадолго книгу про то, как была открыта в Египте гробница Тутанхамона. Там тоже была дверь и исследователи перед ней. И момент, вошедший в историю. — Мы не на раскопках, — сказал Грубин. — Там, может, тоже земля. И конец нашему путешествию. — Чего уж! — сказал Эдик. — Директорша велела посмотреть, так мы посмотрим. Все равно Удалов своего добьется. Засыплет, и поминай как звали — у него план. Экскаваторщик присмотрелся к двери: — Ты фонарь держи покрепче. Не дрожи рукой. Сюда, левее… Он стал похож на хирурга. Грубин ассистировал ему. Миша Стендаль — студент-практикант, человек без пользы делу. — Она внутрь открывается, — сказал экскаваторщик. Нашел место, то самое, единственное, в которое надо было упереться плечом, и нажал. Дверь заскрипела жутко, ушла в темноту, кирпичи зашуршали, оседая, и экскаваторщик — береженого бог бережет — прыгнул назад, чуть не сбив Мишу с ног. Фонарь погас — видно, Грубин отпустил кнопку, — в подвале возникла грозная тишина, и все были оглушены звоном в ушах. — Что случилось? — спросил голос сверху. Голос был близок до странности. Вроде бы за эти минуты трое исследователей ушли далеко от людей, а тут, в трех метрах, Удалов задает вопросы голосом тревожным, но обычным. — Полный порядок, — сказал экскаваторщик. Он бодрился и о прыжке своем уже позабыл. — Свети прямо, — приказал он. Грубин послушался и посветил. Экскаваторщик закрыл спиной большую часть двери — всматривался, а Миша Стендаль почувствовал обиду. Был он наиболее исторически образован и морально чувствовал себя вправе руководить поисками. Но экскаваторщик этого не чувствовал, и как-то случилось, что впереди был он. Миша даже сделал шаг, хотел оттеснить экскаваторщика и дать какое-нибудь, пусть зряшное, но указание. Тут экскаваторщик обернулся и посмотрел на Мишу. Глаз его, в который попал луч фонаря, засветился желто и недобро. Миша ощутил внутреннее стеснение и приостановил дыхание. Там, за дверью, могли таиться сундуки с золотом и жемчужными ожерельями, серебряные кубки, украшенные сценами княжеской охоты на буй-туров, булатные мечи-кладенцы и скелет неудачливого грабителя — глазницы черепа черные, пустые… А экскаваторщик сейчас выхватит острый, чуть зазубренный от частого употребления кинжал и вонзит под сердце Стендалю. Экскаваторщик отнял у Грубина фонарь: так ему было удобнее. — Тоже комната, товарищи, — сказал он. Скорчившись вдвое, он перешагнул высокий порог и пропал во тьме. Грубин с Мишей стояли ждали. Изнутри голос сказал: — Давайте за мной. Не оступитесь. Без фонаря не разглядишь. Вторая комната оказалась меньше первой. Луч фонаря, не успев достаточно расшириться, уперся желтым блюдцем в противоположную стену, порезав по пути светлым лезвием странные предметы и, что совсем непонятно, осветив пыльные гнутые стекла — бутыли, колбы и крупные сосуды темного стекла. Луч метался и позволял глазам по частям обозреть комнату — кирпичную, сводчатую, длинный стол посреди, а дальний конец обвален и видится мешаниной кирпичей и железа. — Типография, — сказал Грубин. Помолчал. Подумал. — Может, здесь печаталась “Искра”. Или даже “Колокол”. — Печатного станка нету, — резонно сказал экскаваторщик. — Отойдите, — сказал Миша. — Ничего не трогайте. У меня вспышка. Сделаем кадры. Послушались. В руках у Миши была техника. Его спутники технику уважали. Миша долго копался, готовил в темноте аппарат к действию. Эдик помогал, светил начавшим тускнеть фонариком. Потом вспыхнула лампа. Еще раз. — Все? — спросил экскаваторщик. — Все, — сказал Стендаль. — На свет вынуть придется, — сказал Эдик. Он вернул фонарь Грубину, подхватил бутыль покрупнее и понес к выходу. — Какого времени подвал? — спросил Грубин. — Трудно сказать, — ответил Миша. — Вернее всего, не очень старый. — Жаль, — сказал Грубин. — Второе расстройство за день. — А первое? — Первое, когда думал, что землетрясение началось. Так вы уверены, товарищ Стендаль? — Посуда довольно современная. И книги… Миша подошел к столу, распахнул книгу в кожаном переплете. — Ну скоро? — спросил Эдик. — Там уже заждались. — Наверху посмотрим, — сказал Грубин. Подхватил еще одну бутыль и колбу. Миша шел сзади с книгами в руках. Шляпа Удалова отпрянула от провала. Зажмурившись от дневного, неистового сияния, Эдик протянул ему бутыль. Миша стоял в трех шагах сзади. Столб света, спускавшийся в провал, показался ему вещественным и упругим. Экскаваторщик, озаренный светом, был подобен скульптуре человека, стремящегося к звездам. Бутыль надежно покоилась у него на ладонях. Вместо шляпы в провал спустились сухие руки Елены Сергеевны. Она приняла бутыль. Миша поднял вверх тяжелые фолианты. — Вот так-то, — сказал некто в толпе осуждающе. — А он засыпать хотел. Удалов сделал вид, что не слышит. Он взял у Стендаля книги и положил их на асфальт. Рядом уже стояла бутыль, обросшая плесенью. Сквозь разрывы плесени проглядывала черная жидкость. Другие сосуды также встали рядом. Удалову было холодно. Он даже застегнул верхнюю пуговицу синей шелковой рубашки. Удалова мучила совесть. Когда он вызвал экскаватор для засыпки провала, он действовал в интересах родного города. Его буйное воображение уже подсказывало страшные картины, торопившие к принятию мер и будившие энергию. Одна картина представляла собой автобус с пассажирами, едущий по Пушкинской улице. Автобус ухнул в провал, и только задний мост торчит наружу. А рядом иностранный корреспондент щелкает неустанно своим аппаратом, и потом в обкоме или даже в ЦК смотрят на фото в иностранной газете и говорят: “Ну уж этот Удалов! Довел-таки до ручки городское хозяйство в своем древнем городе!” И качают головами. Была другая картина — куда более трагичная. Малое дитя в школьном передничке бежит с прыгалками по мостовой. И вокруг летают бабочки и певчие птицы. И ребенок смеется. И даже Удалов, наблюдающий за этой картиной, смеется. И вдруг — черной пастью провал. И отдаленный крик ребенка. И только осиротевшие прыгалки на растерзанном трещинами асфальте. И мать, несчастная мать ребенка, которая кричит: “Ничего мне не надо! Дайте мне только Удалова! Дайте его мне, я разорву его на части!..” Пока не приехал экскаватор, Удалов неустанно боролся со своим воображением и все оглядывался, не бежит ли ребенок с прыгалками, не виден ли иностранный корреспондент, которому здесь делать нечего. Удалов верил, что в провале ничего не обнаружится. Сколько их было на его памяти, и ничего не обнаруживалось. Он и причуды Кастельской не принял всерьез. Просто не стал воевать с общественностью. Накладно. Все равно засыплем. Все провалы — и тот, у архиерейского дома, и тот, что был на строительстве бани, и тот, у мясокомбината, — все они вызывали оживление в районном музее, даже в области. Но Удалову и городским властям никакой радости — провал не запланируешь. В провале есть что-то постыдное для хозяйственного работника — стихия мелкого порядка, пакостная стихия. Теперь у ямы стояли бутыли. И книги. И были они не только прошлым — будущим тоже. Будущим, в котором имя Удалова будут склонять работники культуры вплоть до Вологды и корить за узкоглядство. Он даже слово такое знал — “узкоглядство”. Так что надо было спасать положение и руководить. — Много там добра? — спросил Удалов, приподнимая шляпу и показывая щенячий лоб с залысинками. — Целая лаборатория, — сказал из-под земли экскаваторщик, который уже забыл о своей первоначальной задаче — переметнулся. — Стоит законсервировать находку, — сказал Миша из-за спины экскаваторщика. — Пригласить специалистов из области. — Ошибка, — трезво сказал Удалов. — Специалисты у нас не хуже областных. У нас есть, товарищи, Кастельская! Последнее слово он произнес громко, будто ждал аплодисментов. И удивительное дело — есть такая особенная интонация, которую знают люди, поднаторевшие в речах, и эта интонация заставляет присутствующих сложить ладони одна к другой и бессознательно шлепнуть ими. При слове “Кастельская” в толпе раздались аплодисменты. Удалов потаенно улыбнулся. Он овладел толпой. Положение спасено. Подвал будет засыпан. Елена Сергеевна в любом другом случае на такой ход не поддалась бы. Отшутилась бы, съязвила — умела она это делать. Но тут, пока стояла и ждала, что найдут, пока смотрела на принесенные вещи, поняла — нет смысла с Удаловым начинать войну. Вещи были не бог весть какими древними. — Сейчас мы, товарищи, под наблюдением Елены Сергеевны, спасем культурные ценности и отправим их в музей. Правильно? — Правильно, — сказали слушатели. — Ну, где у нас культурная ценность номер один? Корнелий посмотрел на большую бутыль и поймал себя на жгучем желании наподдать ногой по ценности номер один. Даже захотелось сказать народу, что все эти штуки — дореволюционная самогонная мастерская. Но Удалов удержался. Исследователи подземелья, прослушав речь Удалова, пошли снова в дальнюю комнату выносить остальные вещи. Удалов послал гонцов в универмаг за оберточной бумагой. Елена Сергеевна присела па корточки и подняла одну из книг. Осторожно, поддев ногтем, открыла ржавые застежки переплета и перевернула первый лист. Зрители склонились над книгой и шевелили в два десятка губ, разбирая ее название.5
Милиция Федоровна проснулась. Ее томило предчувствие. В виске по-молодому тревожила-билась жилка. Что-то произошло за минуты сна. Каретные часы Павла Буре показывали три. Альбом в сафьяновом переплете лежал на столе, был приготовлен для чего-то. Сквозь стекло, с улицы, прилетали обрывки голосов. Надо было вернуться к окну. Тогда мысли проснутся, как проснулось тело, и все станет на места. Потревоженная кошка удивилась резвости движений хозяйки. Портреты знакомых, акварели и желтые фотографии взирали на Милицию Федоровну равнодушно или враждебно. Одни умерли давно, другие не простили госпоже Бакшт завидного долголетия. Розовая подушечка ждала на подоконнике. Милиция Федоровна уперла острый локоток и выглянула между горшками. На улице мало что изменилось. Толпа поредела. Перед Еленой Сергеевной Кастельской стояли на асфальте какие-то предметы и бутыли старинного вида. Сама же музейная дама на корточках, в непристойной возрасту позе, листала трепаную книгу. Значит, подвал не пуст. В подвале оказались находки. Милиция Федоровна заставила себя задуматься. В мозгу вздрогнули склеротические сосуды, живее побежала кровь, и по дому разнесся тихий треск — будто заводили бронзовым ключиком старые часы. Куда вел ход из того подвала? Ведь не с улицы заходили в него?.. К отцу Серафиму? Нет, дом его, пока не сгорел, стоял в глубине, за кустами персидской сирени. Может, в дом, соседний с бакштовским, по той же стороне? И того быть не могло — там испокон веку был лабаз. Может, во флигель? Там были зеленые ставни с прорезями в виде сердец. И что-то еще связано с флигелем… — Милиция Федоровна! — Мужской голос возник от двери, голос знакомый и вечно молодой. — Не пугайтесь. Вы узнаете меня? — Я не пугаюсь, друг мой, — ответила Милиция Федоровна, стараясь обернуться вместе с креслом. Ответила степенно и тихо. — Я отвыкла пугаться. Подойдите к свету. Старик подошел поближе ж окну. Он тяжело опирался на суковатую палку из самшита. Борода седая, в желть, недавно подстрижена. Грубый запах одеколона “Шипр”, запах дешевой парикмахерской, разнесся по комнате, чужой другим, обжившимся здесь запахам. Те, родные — нафталиновый, ванильный, шерстяной, камфарный, — толкали пришельца, гнали его, но шипровый занял самую середину комнаты и лишь посмеивался. — Простите, Милиция, — сказал старик. — Я сейчас из парикмахерской. — Давно у нас, Любезный друг? — спросила Милиция Федоровна. Она протянула старику тонкую, изящную, хоть и опухшую подагрически в суставах руку. Старик оперся покрепче о палку, нагнулся и поцеловал нежно ее руку. — Сдал я, — сказал он, распрямляясь. — Сильно сдал. — Садись, Любезный друг, — сказала Милиция Федоровна. — Там стул есть. — Спасибо. Я с черного хода пришел. Задами. Не хотел встречать людей. — Надолго к нам? — Не скажу, Милиция. Сам не знаю. Если то дело, что ранее не совершил, удастся — может, задержусь. А то помирать придется. — Не говорите о смерти, — сказала Милиция. — Она может услышать. Мы слишком слабо связаны с жизнью. Нить тонка. — Пустое, — сказал Любезный друг. — Вами, Милиция, движет любопытство. Это значит — вы еще живы. — Там странное, — сказала Милиция Федоровна. — Провалилась мостовая. Волнуются, бегают. — Суета сует, — сказал старик. — Сколько я вас не видел? Лет пятьдесят. — Вы опять за свое. — Я прям и неделикатен. И жизнь меня ожесточила. Пятьдесят лет — большой срок. Милиции Федоровне не хотелось расспрашивать гостя о том, что произошло с ним за эти годы. Для нее они протекли однообразно. Одиноко. Иногда голодно. Последнее время — лучше. Соседи выхлопотали пенсию старухе. Нет, лучше не расспрашивать. Пусть будет встреча, хоть и долгожданная, без времени, вне его пут и шагов. Старик осмотрелся. Портреты узнали его. Он их признал тоже. Кивнул вежливо. Те в ответ закивали, взмахнули бакенбардами, бородами, усами, многократно улыбнулись знаменитой улыбкой Милиции, пожали обнаженными плечами, качнули локонами и кудрями… Милиция смотрела на него, узнавала то, что уже скрылось под сетью морщин. Предчувствия и сны указывали верно — Любезный друг пришел. — Откройте форточку, — сказала Милиция, стесняясь своей немощи. — Мне душно. А встаю редко. Весьма редко. Старик встал, подошел к окну. Был он высок и до фортки достал, не поднимая вверх руки. Взглянул, открывая фортку, на улицу, вниз, увидел дыру в асфальте и книги рядом. И бутылки с ретортами. — О боже! — сказал он. Сказал, как человек, к которому смерть пришла за час до свадьбы. Старик вцепился в раму, и плоские пальцы заметно побелели. Horn не держали его. — Что с вамп? — спросила Милиция, не поняв причины смятения. — Вам плохо? Старик не смотрел на нее. — Ничего, — сказал он. — Это пройдет. Все пройдет. — Кстати, — спросила успокоенная Милиция Федоровна, которой знакомы по себе были приступы слабости и удушья, — куда бы мог вести ход из этого подвала? — Куда? — Ну конечно. Я сначала подумала — не в дом ли отца Серафима? Вы помните отца Серафима? Он страшно пил, когда дом у него сгорел. Нет, думаю, не туда. Тот дом в глубине стоял. Еще колонны были покрашены под мрамор. А на нашей стороне лабаз. Зачем лабазу такой подвал?.. Может, в лабаз? — Не в лабаз, — прохрипел старик. — Не в лабаз. Какой еще лабаз? Подвал к вам шел во флигель. Господи, несчастье-то какое… “Правильно, — разумно подумала Милиция Федоровна. — Конечно, выход из подвала должен был быть под флигелем”. Но она такого не помнит. Совсем не помнит. Запамятовала. А может, и не знала о подвале. А Любезный друг сердился. Глаза его увеличивались, росли и гневались. И он взлетел под потолок и оттуда грозил сухим пальцем и говорил беззвучно… Это Милиции Федоровне уже снилось. Она задремала. Старик не взлетал и не грозил пальцем. Он стоял, прислонившись лбом к стеклу, и тяжко стонал.6
Елена Сергеевна задерживалась. Шурочка отвечала на Ванины вопросы, и было это подобно клубку — ниточка тянулась, вопрос за вопросом, и смысла в них не заключалось. За беготней Шурочка чуть не забыла — обещала с пионерами прийти на экскурсию к старухе Бакшт. Кукушка нехотя выползла из деревянных ходиков и два раза скрипнула, не раскрывая клюва. На третий раз ее не хватило. Стрелки стояли на трех без пяти. А Елены Сергеевны все не было. В магазине Шурочку отпустили после обеда. Там не хватятся. Но пионеры ждут. — Пошли погуляем, Ванечка, — сказала Шура, подлизываясь. (Ванечка мог и не пожелать.) — Может, бабушку найдем. Шурочка убедила Ваню надеть курточку и панаму. Ваня потащил за собой танк на спичечных коробках, — согласился гулять на таких условиях. На мосту через Грязнуху Шурочку с Ваней обогнали знакомые из речного техникума. Дюжие мальчики на велосипедах. Ехали с купания и потому были бодры. Увидев Шурочку, стали делать вид, что Ваня — ее сын, отчего очень развеселились. Шурочка обиделась на грубые шутки, Ваня испугался, захотел вниз к речке — посидеть на берегу. Он бил каблуками по булыжнику и упирался. Речникам надоело шутить на жаре, нажали на педали. Один отстал, обернулся, сказал, что купил два билета в кино, на девять, и будет ждать. Шурочка почти не слушала. Она уговаривала Ваню. — Ванечка, — говорила она, — пойдем к бабушке. Я тебе конфетку дам, “Золотой ключик”. — Нельзя мне конфеты… — канючил Ваня. — Я хочу ананас. У меня коренной зуб болит… — А мы сейчас посмотрим на твой зуб, — сказал добрый голос сзади. — И может, даже вырвем его с корнем. Провизор Савич поравнялся с ними. Он возвращался с обеда в аптеку. — Я за Елену Сергеевну посидеть взялась, — сказала Шурочка. — А она не идет. Савич посмотрел на внука Елены и пожалел, что нет с собой конфеты или другого предмета, которые обычно дарят детям. У него детей не было, а могли бы быть внуки. — Я хочу золотую рыбку поймать, — сказал Ваня, не испугавшись доктора. — Золотая рыбка достается трудом, мальчик, — сказал Савич. Он не умел говорить с детьми. — Я буду с трудом, — согласился Ваня. Шурочка воспользовалась разговором и сдвинула Ваню с места. Савич шел рядом и старался быть хорошим с ребенком, но отвечал невпопад. Провизор в это время думал о жизни. От снесенных торговых рядов осталась башня с часами. Сначала ее использовали как каланчу, а потом пристроили четырехэтажный дом для исполкомовцев и прикрепили электрические часы, что висят на столбах в больших городах, — круглые и неточные. Часы показывали десять минут четвертого. — Ой! — испугалась Шурочка. — Нас пионеры ждут. Мы побежали… Ваня бежать согласился: Савич ему надоел. Шурочка с Ваней побежали к школе, и за ними по пустой, горячей мостовой запрыгал танк, сделанный из тома “Современника” и четырех спичечных коробок. Одна из коробок вскоре оторвалась и осталась лежать на мостовой. Провизор поднял ее. Повертел рассеянно в пальцах. На коробке было изображено дерево без листьев и написано: “Себялюбивый человек засыхает, словно одинокое бесплодное дерево”. Тургенев”. Шурочка увлекла Ваню в переулок. У новой кирпичной школы стоял дуб. Дуб был очень стар. Завуч школы любил повторять древнее предание о том, как землепроходец Бархатов, перед тем как уйти открывать левые притоки Амура, посадил дуб в родном городе. Завуч сам это предание и выдумал. Новому директору музея оно нравилось. Он надеялся найти ему документальное подтверждение. В тени дуба маялись шесть пионеров из исторического кружка. Летом кружок не занимался, но Шурочка разыскала его активных членов, оставшихся в городе, и уговорила пойти к старухе Бакшт. Стояла жара, и пионеры беспокоились. Они любили историю, но им хотелось купаться. Золотая челка Шурочки Родионовой прилипла ко лбу. Рядом семенил дошкольник. Пионеры зашевелились и достали записные книжки. — Пошли, ребята, — сказала Шурочка, — а то опоздаем. Пионеры нехотя выползли на солнцепек. Путь их лежал мимо провала, и потому начало экскурсии пришлось отложить еще на несколько минут. Пионеры влились в толпу у ямы, через минуту были уже в курсе всех событий, и Шурочка, даже если захотела бы увести их в дом к Бакшт, не смогла бы этого сделать. Удалов под наблюдением Елены Сергеевны заворачивал в оберточную бумагу принесенные вещи. Эдик с Грубиным вынимали из подземелья последние предметы, Миша Стендаль принимал их, складывал на асфальт. Пахло тройным одеколоном. Запах испускал высокий костлявый старик с желтоватой, недавно подстриженной бородой. Старик нервничал, ломал корявые пальцы. Провизор Никита Савич, обогнавший Шурочку, увидел Ваню и вернул ему спичечную коробку. — Баба, — сказал Ваня, — пошли домой. — Ты что тут делаешь? — удивилась Елена Сергеевна. — Где Шурочка? — Я здесь, — сказала Шурочка. — Я беспокоиться начала куда вы пропали но потом пошла с Ваней и вспомнила у меня экскурсия и пионеры ждут и мы пошли в школу и зашли к вам. Ваня тем временем заинтересовался дыркой в земле, подошел поближе, нагнулся и свалился в провал. Толпа ахнула. Но с Ваней ничего страшного не случилось. В этот момент кверху поднимался стул. Ваня встретился с ним на полпути, упал на него и через несколько секунд уже вернулся на поверхность. Однако его падение послужило завязкой других событий. К провалу бросился провизор Савич, старик, пахнущий тройным одеколоном, Миша Стендаль и Удалов, который понял, что его видение оказалось вещим. Четверо столкнулись над провалом и помешали друг другу подхватить ребенка. Удалов, самый несчастливый, натолкнулся на старика, потерял равновесие и кулем свалился вниз. В замешательстве, вызванном возвращением Вани и исчезновением Удалова, старик с палкой неожиданно подхватил одну из бутылей, отбросил самшитовую палку и, взметывая колени, побежал по улице. Елена Сергеевна прижимала к груди ничуть не испуганного Ваню. Она этого не видела. Провизор Савич хотел было крикнуть “Стой!”, но счел неудобным. Только Миша Стендаль, быстро сообразивший, что к чему, бросился вслед. Старик нырнул за угол. За углом был двор. Во дворе стояла бутыль. Старик прислонился к стене. Он дышал редко, втягивая воздух, как чай, — с хлюпаньем. — Возьмите, — сказал он. — Я пошутил. Только не разбейте. Стендаль все-таки сделал шаг к нему, не к бутылке. Бутыль сама не уйдет. — Не трогайте меня, — сказал старик строго. — Возьмите бутыль и идите обратно. В глазах старика вспыхнули яростные огни, и Стендаль не посмел ослушаться. Он обнял бутыль, тяжелую и теплую от стояния под солнцем. Повернулся и шагнул за угол. И встретил остальных преследователей. Он шел быстро, решительно, и никто не подумал, что преступник не задержан. Люди послушно последовали за бутылью. Так и вернулись к провалу. Тем временем Грубин с экскаваторщиком вытащили Уда-лова, у которого была сломана рука. Первую помощь ему оказали в аптеке. Добычу понесли в музеи. Идти недалеко, и помощников достаточно. Впереди шла Елена Сергеевна, вела за руку Ваню и несла одну из книг, потоньше прочих, порастрепанней. За ней Миша Стендаль с двумя бутылями. Темная жидкость полоскалась в них и раскачивала Мишу. Фотоаппарат бился между бутылями и стучал в грудь. Потом шли пионеры с Шурочкой во главе. Каждому досталось по находке. Последним шел экскаваторщик Эдик и нес стул. Музей был заперт по случаю выходного дня. Но сторожиха вышла с ключами — она хранила верность старому директору, хотя и дотошной, по образованной. Елена Сергеевна прошла прямо в кабинет директора. Там все и сложили частично на пол, частично на кожаный диван для посетителей из области. Когда все ушли, Елена Сергеевна уложила Ваню на диван, подвинув находки, а сама провела еще час, проглядывая книги и разбирая надписи на бумажках, приклеенных к бутылям костяным клеем. Потом две малые бутылки заперла в сейф, а с собой взяла потрепанную тетрадку. Ваня все время хныкал, требовал мороженого. Елена Сергеевна была задумчива, вспоминала прочитанное, недоуменно покачивала головой. …Удалову Савич наложил шины и спросил, дойдет ли он сам до больницы сделать рентген. Но Удалову стало совсем худо. Он лежал в комнате, где делают лекарства. Обе молоденькие помощницы Савича ему сочувствовали, и одна принесла воды, другая приготовила шприц — сделать обезболивающий укол. Но Удалова это внимание не трогало. Его мутило от аптекарского запаха, который ни провизор, ни девушки не замечали — привыкли. Грубин рассматривал химикалии, запоминая на будущее, что есть в наличии: может, когда-нибудь пригодится. Савич позвонил по телефону, и приехала “скорая помощь”. Приехала с опозданием — пришлось объезжать по переулкам: провал мешал движению. Удалов все порывался отдать распоряжения, но голос ему отказывал. Ему казалось, что он говорит, но окружающие слышали только невнятные стоны и послушно кивали, чтобы успокоить больного. Корнелию, отуманенному уколом и дурнотой, чудилось, как незасыпанный вовремя провал начинает осыпаться с краев и поглощать дома. Вот уполз внутрь универмаг, и через черный ход выскакивают продавщицы во главе с Вандой Казимировной. И пытаются спасти некоторые товары из ювелирного отдела. За универмагом — Корнелий увидел это явственно-уползает в глубь земли церковь Параскевы-Пятницы (слава богу, что хоть покрасить не успел), архивные материалы, смятенные катаклизмом, вырываются из узких окон и взлетают белыми лебедями в гуслярское небо. А навстречу архиву в пропасть едет речной техникум. Толстостенные монастырские здания сопротивляются земному тяготению, гнутся, толкутся на краю. Дюжие мальчики, взявшись за канаты, стараются помочь своим общежитиям и классным комнатам, но вес без толку — как нитки рвутся канаты, бегут врассыпную мальчики, и монастырь, вплоть до золотых куполов, проваливается в бездну….. Тут Корнелий Удалов потерял сознание. Грубин проводил носилки с Удаловым до “скорой помощи”, попрощался с провизором и его помощницами, велел врачам активнее бороться за жизнь и здоровье больного, потом пошел домой. Первое дело было самым тяжелым — рассказать жене соседа о беде. Грубин постучал к ней в дверь. — Ну как? — спросила Ксения Удалова, не оборачиваясь. Она была занята у плиты, готовила обед. — Обменяли? — Корнелий в больницу попал, — без подготовки сказал Грубин. — Ах! Жена Корнелия уронила кусок мяса мимо кастрюли, прямо в помойное ведро. — Что с ним? Я не переживу… — прошептала она. — Ничего страшного, — смягчил удар Грубин, — руку вывихнул. Максимум — трещина в кости. Жена Корнелия смотрела на Грубина круглыми злыми глазами — не верила. — А почему домой не пришел? — спросила она. — Ему в больницу пришлось идти. Может срастись неправильно. Но врачи обещают — все обойдется. Жена Корнелия все не верила. Она сняла фартук, бросила на пол, и фартук мягко спустился вниз, храня форму ее объемистого живота. Она наступала на Грубина, как пума, у которой хотят отнять котенка, будто Грубин во всем виноват. Мысли ее были сложными. С одной стороны, она не верила Грубину, думала, тот хочет успокоить, а в самом деле Удалову плохо, очень плохо. Но тут же, зная мужа, она предполагала заговор: пребывание Удалова в пивной или, того хуже, в вытрезвителе. Такого с Удаловым не случалось, но случиться должно было обязательно в силу его невезучести. — Где он? — требовала она. И Грубин не верил глазам своим. Еще вчера вечером была она добра к нему, стучалась в холостяцкую комнату, звала пить чай. — В городской больнице, — сказал Грубин быстро, мотнул шевелюрой, шмыгнул к себе, дверь захлопнул и прислушивался — не рвется ли? Не рвалась. Выскочила во двор и побежала к больнице. Грубин снял черный пиджак, постоял немного, держа его на вытянутой руке. От пиджака веяло жаром, исходил пар. В шкафу скреблись. — Погоди. — Грубин положил проветренный пиджак на аквариум. Достал ключик, отворил шкаф. Ворон вышел на пол, застучал когтями, разминаясь, расправил крылья, поглядел зло на аквариум и по-куриному протрусил к старому кожаному креслу с вылезающими пружинами. Кресло, как и многое в комнате Грубина, досталось ему почти задаром, через лавку вторсырья, которой он заведовал. Любая вещь, кроме микроскопа, стоявшая, лежавшая, либо валявшаяся в углу, была добыта км по случаю и могла похвастаться длительной историей. Взять, к примеру, кресло. Пружины его были сломаны от излишнего пользования, торчали опасно. Один подлокотник был начисто лишен кожи, второй — цел. Очевидно, владелец любил опираться о локоть. Еще были два пореза на сиденье, будто кто-то вспарывал кресло саблей, да сквозные отверстия в спинке. Может быть, стреляли в спину сидевшему. Картину дополняли всевозможные пятна, от чернильных до яичных, разбросанные в различных местах. Ворон вспрыгнул на кресло метко, чтобы не напороться на обломок пружины, нахохлился. Посреди комнаты стояла посуда. Две пивные бутылки, одна от вина и одна водочная, с выщербленным горлышком. Кроме них, пузырек от одеколона и майонезная баночка, сильно загрязненная. Когда Грубин уходил, посуды еще не было. — Эх, дурачье, халтурщики, — сказал Грубин, наклоняясь. Он отложил от прочего пузырек, баночку и бутылку с выщербленным горлышком, закатил под кровать. Туда же метнул три гривенника. Спросил ворона: — Давно приходили? Ворон ничего не ответил. — А, да, ты в шкафу был, — сказал Грубин. — Хотя, конечно, слышал. — Не отрицаю, — сказал ворон и сделал вид, что засыпает, сунул клюв под крыло. Ворон был обижен недоверием. — Хочешь погулять? — спросил Грубин. Чувствовал вину. Он подошел к окошку и открыл его. Ворон еще с минуту крепился, обижался. Потом прыгнул на подоконник. И улетел. — Ну ладно. — Грубин заткнул за пояс голубую майку. Идти на рынок, открывать лавку, принимать от населения бутылки и вторичное сырье не хотелось. День вышел увлекательный. Грубин поднял ногу, повозил ею о другую, стаскивая ботинок. Повторил операцию со вторым ботинком. Со двора в комнату плыла истома и медовый запах лип. Грубин улегся на кровать с никелированными шарами на спинке, но спать не стал — смотрел, как на захламленном верстаке крутится, поскрипывает вечный двигатель. Маленький, опытная модель. Двигатель крутился второй месяц, только в плохую погоду отсыревал, и его приходилось тогда подталкивать рукой. Грубин был доволен жизнью. Она ничего не требовала от него, но оставляла время для невинных удовольствий и рукоделий.7
Шурочка подвела пионеров к комнате Милиции Федоровны Бакшт. С ними увязался Миша Стендаль. Пришлось и его взять. Постучала осторожно. Знала, что у старухи слух хороший. Если не спит, откроет. Прислушалась. Ей показалось: за дверью голоса, шепот, шаги. Потом стихло. — Сейчас, — сказала за дверью Бакшт. — Входите. Все в комнате как прежде: та же застойность замкнутого воздуха, те же акварели и гравюры на выцветших обоях, банки с дремучими цветами на подоконнике, в углу фикус в разползшейся кадке. Милиция Федоровна сидит за круглым столом. На скатерти, темно-зеленой, чуть тронутой молью, альбом в красном сафьяновом переплете с золотыми застежками в виде львиных голов. Милиция Федоровна выглядела странно. Она будто утеряла долю своей царственности, обмякла, сломалась. Редкие белоснежные волосы, сквозь которые просвечивала розовая сухая кожа, чуть растрепались на висках, чего никогда ранее не было. Пергаментные щеки были в пятнах, темных, почти красных. — Извините, — сказала Шурочка. — Мы к вам пришли, как договаривались. Вы нам рассказать обещали. — Помню. — Бакшт кивнула. — Пусть дети войдут. Дети вошли, поздоровались. Старуху Бакшт они раньше не видели и удивились, что бывают такие старые люди. Голова Милиции Федоровны совсем ушла в плечи, руки распухли и лежали на столе будто чужие, неживые. Нос спустился к верхней губе, и даже на нем были глубокие морщины. Только глаза, большие, серые, в темных ресницах, разнились от остального. — Садитесь, — сказала Милиция Федоровна. — Ведите себя тихо и не курите. — Не курю, — сказал Стендаль, потому что Шурочка посмотрела на него строго. — Я не могу уделить вам время, коего вы бы желали, — продолжала старуха. — Посмотрите мой альбом. Подойдите к столу, не робейте. В комнате произошло движение, воздух качнулся, запахи шафрана, камфары, ванили перемешались между собой, и к ним прибавился выскочивший из-за ширм запах тройного одеколона. Стендаль потянул носом, посмотрел на ширму. Из-под нее видны были носки мужских сапог. Знакомые носки. Сапоги принадлежали старику похитителю. Но Миша ничего резкого предпринимать не стал. Пока дети склонялись над альбомом, начал незаметно передвигаться к ширме. — На этой фотографии, — говорила размеренно старуха, — изображена я в форме сестры милосердия. — До революции? — спросил рыженький пионер. — Да, в Севастополе. Значение этих слов ускользнуло от пионеров. Шурочка удивилась. Она этот альбом раньше не видела. Средних лет женщина в длинном белом платье и наколке на голове стояла на фоне мешков с песком, окружавших старинную пушку. По обе стороны ее — офицеры в высоких фуражках. Лицо одного было чем-то знакомо… — Кто это? — спросила Шурочка. — Один знакомый. Не помню уж сейчас, как его звали, — сказала Бакшт. — Кажется, Левочкой. Стендаль продолжал движение к ширме. Он наступал на носки и только потом опускал пятки. Пока его движение не было замечено. — А тут стихи поэта Полонского. Вы, очевидно, не знаете такого. Это был отличный поэт. Сам государь император высоко о нем отзывался. Стихи были посвящены хозяйке дома. Милиция Федоровна начала читать их на память, и пионеры следили за ней по тексту. Читала она правильно. До ширмы оставалось метра полтора. Носки зашевелились и отступили вглубь. Облезлая серая кошка выскочила из-за ширмы и бросилась на грудь Стендалю. Миша от неожиданности отскочил. Чуть не свалил фикус. — Господи! Что происходит? — закричала молодым голосом Милиция Федоровна. — Кошка, — объяснил Стендаль. — Вернитесь немедленно сюда, — сказала Милиция Федоровна. — В ином случае я буду вынуждена указать всем на дверь. — Я ничего… — смутился Стендаль. — Мне показалось… — Миша! —строго сказала Шурочка. В комнате наступил мир. Стендаль вернулся к столу. Он тоже стал смотреть альбом, но глазом косил на ширму. Кошка улеглась старухе па колени и тоже косила глазом — на Мишу. Как бы угрожала. — А теперь обратимся к моей молодости, — сказала Бакшт. Она торопилась, волновалась. Говорила громко. На следующей странице была нарисована акварелью девушка в платье с глубоким вырезом на груди. — Это я, — сказала Милиция Федоровна. — В бытность мою в Санкт-Петербурге. А эти стихи написал мне в альбом Александр Сергеевич Пушкин. Он танцевал со мной на балу у Вяземских. Пионеры, Шурочка и Стендаль замерли, как пораженные громом. Старуха сказала эти слова так просто, что не оставалось места для недоверия. Страница была испещрена быстрыми летучими буквами. И внизу была подпись: “Пушкинъ”. В этот момент из-за ширмы быстро вышел старик с желтоватой бородой и, в два шага достигнув двери, исчез за нею, унеся с собой настойчивый одеколонный запах. Никто не заметил его. Даже Стендаль. Только сиамская кошка проводила его разными глазами: один — красный, другой — голубой.8
Вечер, пожалев измученный жарой и происшествиями город, выполз из-за синего леса, отогнал солнце к горизонту и принялся играть красками заката. Пыль отсвечивала розовым, дома порозовели, зазолотились стекла. Лишь провал остался черным на сизом асфальте. Вокруг уже было надежное ограждение: веревки на столбиках. Все смягчилось — и воздух и люди. Кто шел в кино или просто погулять, останавливались у провала, распространяли различные слухи о сказочных находках, сделанных в нем. Рассказывали об одном экскаваторщике, унесшем втихомолку золотую цепь в два пуда весом, и хвалились знакомством с ним. Указывали на следователя, что гулял с женой по Пушкинской, уверяли, что не гуляет, а выслеживает. Экскаваторщику сильно завидовали, надеялись, что его поймают и дадут по заслугам. Удалов лежал у окна в большой палате. Боль в руке утихла. Грубин угадал — оказалась трещина. Хоть в этом повезло. Обещали завтра отпустить домой. Прибегала жена. Сначала беспокоилась, сердилась, потом оттаяла, принесла из дома пирог с капустой. Перед уходом постояла у окна, подержала мужа за здоровую руку. Прибегал сын Максимка, дочка, приводили друзей и знакомых из школы и детского сада, хвастались отцом в больничном окошке. Проходившие люди кивали, здоровались. Удалову внимание надоело, он отодвинулся от окна, подогнув ноги и переложив подушку на середину кровати. Он не знал, что его имя также склоняют в связи с сокровищем. Одни говорили, что Удалов пострадал, задерживая человека с золотой цепью. Другие — старался убежать вместе с преступником для дележа добычи, но оступился. Пришел к провалу и провизор Савич. Посмотрел в непроглядную глубину и решил все-таки зайти в гости к Елене. Давно не был. Домой ему идти не хотелось. Пока Савич добрался до Кастельской, наступили сумерки. Первые фонари зажелтели по улицам. В окне Елены горел свет. Она читала. Савич вдруг оробел. Напротив, у автобусной остановки, стояла скамейка — чугунные ножки в виде лап. Савич сел, сделал вид, что поджидает автобус, а сам повторял мысленно речь, которую произнес бы, если набрался бы храбрости и вошел к Елене. Он сказал бы: “Елена, сорок лет назад мы не закончили разговора. Я понимаю, дело прошлое, время необратимо. Где-то на перекрестке мы избрали не ту дорогу. Но если, Елена, ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться”. Темнело медленно, и небо на западе было зеленым. Дюжий мальчик из речного техникума не дождался Шурочку на девятичасовой сеанс, продал лишний билет и пошел один. И пил с горя лимонад в буфете. Удалов поужинал без аппетита и задремал, обдумывая один план. Старухе Милиции Федоровне Бакшт не спалось. Она достала трость, с которой выходила в собес или на рынок, накинула кашемировую шаль с розами темно-красного цвета и пошла погулять. По пути раздумывала, не совершила ли ошибки, показав автограф Пушкина пионерам. Но дело шло о ее женской чести — Любезному другу надо было уйти незамеченным. Грубин проснулся, покормил рыбок, потушил свет и отправился проведать соседа, Корнелия Удалова. Ванда Казимировна, директор универмага и супруга Савича, поела в одиночестве остывший ужин, взгрустнула и стала мучиться ревностью. Совсем стемнело. Над лесами собралась гроза, и зарницы вырывались из-за гребенки деревьев, будто злоумышленник сигналил фонарем. Удалов шептался с Грубиным, стоявшим под окном больницы. Удалов решил убежать и ждал удобного момента. Назавтра ему вновь собирались делать рентген и процедуры, — он их боялся. Было и другое соображение. Кончался квартал — надо срочно покончить с провалом и другими недостатками. Удалов сильно рассчитывал на премию. Сторожиха музея проверила, заперты ли все двери-окна. Посидела на лавочке под отцветшим кустом сирени, по комары скоро прогнали ее в дом. Она вздохнула, перекрестилась на здание городского архива и ушла. На реке было тихо, и ее лента с черными полосками заснувших барж была чуть светлее синего неба. Во двор музея вошел старик с тяжелой палкой. Запах одеколона отпугивал комаров, те кружили, кричали комариными, тонкими голосами, сердились на старика, но сесть не осмеливались. Старик медленно поднялся по лестнице на крыльцо; не спешил, утихомиривал скрип ступенек. Прислушался у двери, рассеянно водя пальцем по стеклянной вывеске “Городской музей”. Из городского парка долетало буханье барабана — играли вальс “На сопках Маньчжурии”. Никого. Старик вынул из кармана отмычку и принялся елозить ею в солидном музейном замке. Замок долго сопротивлялся- старый был, надежный, — но поддался, оглушительно щелкнул. От замочного звука заахали, замельтешили окрестные собаки. Старик поглядел на дверь сторожки — нет, сторожиха не обеспокоилась… Старик снял замок, положил осторожно на перила и потянул на себя дверь, обшитую коленкором. Тянул н ждал скрипа. При скрипе замирал, потом снова на полвершка оттягивал дверь на себя. Наконец образовалась щель. Старик просунул вперед палку, потом сам проскользнул внутрь с ловкостью, неожиданной для своего возраста. Прикрыл за собой дверь. Прислонился к ней широкой сгорбленной спиной и долго хрипел — отдыхал от волнения. Сначала старик сделал ошибку — отправился в музейные фонды. Он знал расположение комнат. В темноте спустился вниз, в полуподвал, поработал отмычкой над фондовой металлической дверью, — торопился и потратил на открывание минуты три. Анфилада фондовых комнат тонула во тьме. Старик вынул из кармана тонкий, с авторучку, фонарик и, прикрывая его ладонью от окон, медленно прошел по комнатам. Портреты уездных помещиков в золотых багетах глядели со стен, разрозненные гарнитуры, впритык друг к другу, заполняли комнаты. В шкафах таились выцветшие сарафаны, купеческие платья и мундиры городовых. Керосиновые лампы с бронзовыми и фарфоровыми подставками тянули к потолкам пыльные фитили, и давно остановившиеся позолоченные часы — пастух и пастушка — поблескивали под случайно упавшим лучом фонарика. В фондах не было того, что искал старик. Он вышел, закрыл за собой дверь — запирать не стал: времени нет — и остановился в задумчиости. Куда они могли всё спрятать? Потом крякнул: как же раньше не догадался? И поспешил, постукивая палкой, в кабинет директора на втором этаже. На этот раз он не ошибся. Три бутыли и колба стояли на столе, рядом с макетом памятника землепроходцам. И две книги. Еще книги и пустые реторты лежали на черном кожаном диване. Движения старика приобрели силу и уверенность. Он ощупывал бутыли, светил им фонариком в бока, угадывал жидкость по цвету. Одну бутыль раскупорил и понюхал. Сморщился, как от доброго табаку, чихнул и заткнул снова резиновой пробкой. Перебрал книги на диване. Одну реторту, с порошком на дне, положил осторожно за пазуху. Еще раз пересмотрел бутыли и книги. Никак не мог найти чего-то крайне нужного, ценного, ради чего пришел сюда в такой час. Старик тяжело вздохнул и остановился в задумчивости у сейфа. Сейф вызывал в нем подозрения. Двух бутылок не хватало. Старик с минуту постоял, раздумывая: почему пропали именно те две бутыли? Ему вдруг захотелось, чтобы их в сейфе не оказалось, ибо если они отделены от остальных, значит, кто-то разгадал, хотя бы частично, его секрет. Сейф сдался через двадцать минут. На верхней полке его лежали музейные важные дела, ведомости членских взносов, печать и менее нужные бумаги. На нижней полке — две небольшие бутыли. Старик угадал, и правильность догадки его не обрадовала. Тем более, что отсутствовала одна вещь, наличие которой было необходимо для успеха предприятия. И он начал догадываться, куда она могла деться. Старик медленно и грустно спустился по лестнице, утопив бутыли в обширных карманах. Забыл, что находится в музее нелегально, широко распахнул входную дверь. Дверь взвизгнула петлями. Старик не слышал визга. Он думал. Дверь гулко захлопнулась. Внизу под лестницей поджидала перепуганная сторожиха, прижав к губам милицейский свисток. Старик не сразу заметил сторожиху. Из задумчивости его вывел свист, короткий, захлебнувшийся, — сторожиха оробела и не смогла толком дунуть. Рука дрожала, свисток молотил по зубам. — Ты что здесь делаешь? — спросил старик, все еще думая о другом. — Ты зачем здесь? — повторил он с пристрастием. — Батюшки! — Сторожиха отступила назад, топча музейную клумбу. — Туда же нельзя. Музей закрыт. — А я в музей и не собираюсь, — сказал старик. Он пришел в себя, вспомнил, где он и почему здесь. — Батюшки… — повторила сторожиха. — Неужто это вы? По голосу узнала. Дитем была, а по голосу узнала. — Обозналась, — сказал старик. — Я приезжий. Хотел с достопримечательностями ознакомиться. Хожу. Смотрю. — Да чего же от меня скрываться, — обиделась сторожиха. — Я хоть и дитем была, но помню, как сейчас помню. — Ладно, — сказал старик. Он уже спустился по лестнице и стоял на дорожке, высясь над сторожихой. Карманы оттопыривались, и жидкость явственно булькала в бутылях. Сторожиха, смущенная встречей, растерянная, уже не злилась. С горечью решила, что старик пьет и спиртное носит в карманах. — Может, переночевать негде? — спросила она. Старик помягчел. — Не беспокойся, старая, — сказал он. — Лето сейчас. Комар меня не берет. Добро всякое кто сегодня приносил в музей? — Старая директорша, Елена Сергеевна. Они потом еще долго здесь просидели. — Чего с собой унесла? — С внуком она была, с Ваней. На пенсии она теперь. — Книжка была у нее? Старая. — Она зачастую с книжками ходит. — Она уходила — книжка была у нее? — Была, была. Конечно, была, как не быть книжке. — Давно ушла? — Еще светло было… — Куда пошла? — Домой к себе, на Слободскую…9
Удалов уже совсем собрался бежать из больницы, но тут кончился девятичасовой сеанс в кино, по улице пошли люди, с разговорами и смехом. Зажигали спички, прикуривали. Луны не было — из-за леса натянуло грозовые тучи. Грубин прижался к стене. Удалов сунул голову в палату. Там уже было темно, свет выключен, больные спят. — Миновали, — прошептал наконец Грубин, давая сигнал. Последним прошел киномеханик, звеня ключами от кинобудки. Можно было начинать бегство. Удалову очень хотелось, чтобы прошло оно незаметно и благополучно. Если его поймают сейчас и вернут, будет немало смеха и издевательских разговоров. По утра ждать нельзя. Утром в больнице наберется много врачей и персонала. Не отпустят. Удалов оперся на здоровую руку и сел на подоконник. Сзади скрипнула дверь… Сестра. Удалов зажмурился и прыгнул вниз, в руки Грубину. Больную руку держал кверху, чтобы не повредить. Так и замерли под окном скульптурной группой. Перед носом Корнелия шевелились грубинские пышные волосы. Удалов зажмурился, ожидая сестринского крика. И ему уже чудилось, как зажигаются во всех больничных окнах огни, как начинают суетиться по коридорам нянечки и медсестры и все кричат: “Убежал! Убежал! Обманул доверие!” — Ай! — простонал Корнелий. Грубин толкнул его головой в рот, чтобы хранил молчание. В палате было тихо. Может, сестра не заметила, что одного пациента не хватает. А может, и не сестра это была, а кто-нибудь из ходячих больных пошел в коридор. Корнелий тяжело вздохнул, обмяк и попросил: — Подожди минутку, передохну. Я все-таки больной человек. И тут они услышали тяжелые неровные шаги. Шаги приближались неумолимо и сурово, будто передвигался не человек, а памятник. По самой середине улицы, не скрываясь, прошел высокий старик с палкой. Прошел, неровно и скупо освещенный редкими фонарями, и только тень его еще некоторое время удлинялась и покачивала головой у ног Удалова. Остался запах одеколона, странное бульканье, исходившее от старика, да постук палки. — Подозрительный старик, — сказал Удалов шепотом. Старика он испугался и потому теперь хотел его унизить. — У провала вертелся, помнишь? Меня в пропасть толкнул. — Ты сам толкнулся. Нечего уж… — сказал справедливый Грубин. — И не извинился, — сказал Удалов. — Человека довел до больницы, до травмы, а не извинился. Травма моя — бытовая, и по бюллетеню платить не будут. Надо с него взыскать. — Кончай, Корнелий, — увещевал Грубин. — Чего возьмешь со старика. — Я ему иск вменю, — сказал Удалов. Теперь он понял, кто во всем виноват. Удалов вскочил и, неся впереди больную руку, как ручной пулемет, мелко побежал по улице вслед за стариком. Бежал негромко: ему хотелось узнать, где живет старик, но говорить с ним сейчас, на темной улице, не стоило. У старика палка. А Удалов вне закона. Беглец. Грубин вздохнул и догнал Корнелия. Он шел рядом и отговаривал. Намекал, что такая погоня может отразиться на здоровье. Удалов отмахивался. От друга и от злых комаров… Шурочка уже три раза сказала Стендалю, что ей пора домой, но не уходила. Ей и в самом деле пора было домой. Стендаль отвечал: “Нет, посидим еще”. Он неоднократно ходил на угол, где стояла мороженщица, п приносил Шурочке эскимо. И снова разговаривал о поэзии, чудесных совпадениях, планах на будущее, преимуществах журналистской жизни, маме, оставшейся в Ленинграде, любви к животным, долголетии и все прерывал себя вопросом: “Посидим еще?” Шурочке было чуть зябко от предчувствий, но когда стало совсем поздно, она встала и сказала: — Я пошла. Мама будет ругаться. — Завтра вы свободны? — спросил Стендаль. — Не знаю, — сказала Шурочка. — Вы меня не провожайте. Она боялась, что дюжие мальчики из техникума увидят Стендаля с ней и побьют Мишу. И тут раздались шаги. Шаги были тяжелые, с палочным пристуком. По улице, направляясь к мосту через Грязнуху, шел старик с палкой. Знакомый запах одеколона сопровождал его. Стендаль почувствовал, как все внутри его напружинилось. Старик был тайной. В нем было нечто зловещее. — Идем, — сказал Стендаль. — Этого человека упускать нельзя. …Милиция Федоровна Бакшт в задумчивости гуляла куда дольше, чем положено в ее возрасте. Попала даже на Слободу, чего не случалось уже лет тридцать. Она брела домой в ночи, пора бы спать, слабые ноги онемели, и проносившиеся с ревом автобусы пугали, заставляли прижиматься к стенам домов. Может, уже и не дойти до дома, до фикуса и шафранной полутьмы. Кошка послушно семенила сзади, стараясь не отставать, и глаза ее горели тускло, как в тумане. Крупная женщина обогнала Милицию Федоровну, но не посмотрела в ее сторону. Женщину Милиция Федоровна знала плохо — видела раза два из окна, когда та выходила из универмага. Савич узнал жену по походке. Когда-то этот перезвон каблуков его пленял, казался легким, элегантным. Потом прошло — осталось умение угадать издали, среагировать. И сейчас среагировал. Понял, что жена мучается ревностью, разыскивает его. В два прыжка перемахнул через улицу и спрятался за калиткой во дворе Кастельской. Ванда Казимировна задержалась перед окном, заглянула, увидела, что Кастельская одна. Сидит за столом, читает. Савича там нет. Успокоилась и пошла дальше, к мосту, медленнее, как бы прогуливаясь. Савич собрался было вернуться на улицу, но только сделал движение, как снова послышались шаги. С двух сторон. Одни — тихие, шаркающие, будто человек не двигается с места, а устало вытирает ноги о шершавый половик. Другие — тяжелые, уверенные. Савич остался в тени. Калитка дернулась под ударом, распахнулась. Задрожал заборчик. Высокий старик с палкой ворвался во двор, чуть не задел Савича плечом, обогнул дом и — раз-два-три! — взгромоздился по ступенькам к двери. Постучал. Савич выпрямился. Старика он где-то видел. Старик ему не понравился. Было в нем нечто агрессивное, угрожающее Елене. Савич хотел подойти к старику, задать вопрос, но удержался, боялся попасть в неудобное положение: сам-то он что здесь делает? Пока Савич колебался, произошли другие события. Во-первых, дверь к Елене открылась, и старик, не спрашивая разрешения, шагнул внутрь. Во-вторых, в калитку вбежал молодой человек в очках. Он тащил за руку очаровательную Шурочку Родионову, подчиненную Ванды. Молодые люди остановились, не зная, куда идти дальше. Тут же перед калиткой обозначились еще две фигуры: одна держала перед собой вытянутую вперед белую толстую руку; вторая была высока, и лохматая ее голова под светом уличного фонаря казалась головой Медузы Горгоны. Удалов заметался перед калиткой, а Грубин вытянул жилистую шею, заглянул в окно Кастельской и сказал: — Он там. Удалов тут же устремился во двор, обогнал, не видя ничего перед собой, Шурочку с ее спутником и принялся барабанить в дверь. — Что-нибудь случилось? — спросил Савич, выйдя из темноты. — Не знаю, — искренне ответил Грубин. — Может быть. — Я ж тебе говорил, — сказал Миша Стендаль Шурочке и тоже подошел к крыльцу. Первым вбежал в комнату Удалов. Хотел даже поздороваться, но слова застряли в горле. Старик прижал Елену Сергеевну в углу и старался отнять у нее растрепанную книжку в кожаном переплете. Елена Сергеевна прижимала книжку к груди обеими руками, молчала, смотрела на старика пронзительными глазами. — Ах ты!.. — сказал Удалов. Он выставил вперед загипсованную руку и с размаху ткнул ею старика в спину. Старик сопротивлялся. На помощь Удалову подоспел Савич: им двигал страх за судьбу некогда любимой женщины. Старик охал, рычал, но не сдавался. Уже и Грубин, и Удалов, и Стендаль, даже Шурочка отрывали его, тянули, а он все сопротивлялся, поддаваясь, правда, понемногу совместным усилиям противников. Бой шел в пыхтении, вздохах, кряканье, но без слов. А слова прозвучали от двери. — Прекратите! — сказал старческий голос. — Немедленно прекратите. В дверях, опираясь на трость, стояла вконец утомленная Милиция Федоровна Бакшт. У ног ее, сжавшись пантерой, присела старая сиамская кошка. Старик отпустил книжку и отступил под тяжестью насевших на него врагов. Повел плечами, стряхнул всех и как ни в чем не бывало сел на стул. — Как дети, — сказала Милиция Федоровна. — Дайте стул и мне. Я устала.10
— Любезный друг, — сказала Милиция Федоровна, — вы вели себя недостойно. Вы позволили себе поднять руку на даму. Извинитесь. — Прошу прощения, — сказал старик смущенно. Елена Сергеевна еще не пришла в себя. Прижимала к груди книжку, не садилась. — Мой друг не имел в мыслях дурного, — продолжала Милиция Федоровна. — Однако он взволнован возможной потерей. — Мне он с самого начала не понравился, — сказал Удалов. — Милицию надо вызвать. — Справимся, — сказал Стендаль. — Так разговора не получится, Елена Сергеевна, — сказал старик. — Ну-ну, — возразил Удалов. Он был смел: с ним была общественность. — Я руку из-за вас сломал. — Сам прыгнул, — сказал старик без уважения. — Любезный друг, — сказала старуха Бакшт, — боюсь, что теперь поздно ставить условия. Затем она обернулась к Удалову и Стендалю и сказала: — Мой друг не повторит прискорбных поступков. Я ручаюсь. — В голосе ее звучала нестарушечья твердость. Удалову стало неловко. Он потупился. Стендаль хотел возразить, но Шурочка дернула его за рукав. — Я полагаю, — продолжала Бакшт, — что наступило время обо всем рассказать. — Да, стоит объясниться, — сказала Елена Сергеевна. Она положила злополучную тетрадь на стол, на видное место. — Что вы знаете? — спросил старик у Елены Сергеевны. — То, что написано здесь. Старик кивнул. Оперся широкими ладонями о набалдашник палки. Был он очень стар. Неправдоподобно стар. — Ладно, — сказал он. — Суть дела в том, что я родился в тысяча шестьсот третьем году. Удалов хихикнул. Засмеялся негромко, поглаживая курчавые ростки вокруг лысины, Савич. Заразился смехом, прыснул Стендаль. Широко улыбался Грубин. Шурочка тоже улыбнулась, но осеклась, согнала улыбку, вспомнила альбом старухи Бакшт. Сама Бакшт не смеялась. …Ванда Казимировна заглянула в окно, увидела мужа веселым, в компании. Это переполнило чашу ее терпения. Она вошла в дом. Она была в гневе. Топнула мускулистой ногой, прерывая веселье, и спросила, обращаясь большей частью к мужу: — Смеетесь? Веселитесь? Савич опал с лица. Хотел встать, извиниться, хотя и не был виноват. Но и тут порядок навела старуха Бакшт. Она сказала громко и строго: — Кто хочет смеяться, идите в синематограф. А вы, мадам, садитесь на лавку и не мешайте разговору. Удивительно, но всем расхотелось смеяться. И Ванда Казимировна села на лавку, на край, рядом с Шурочкой, и притихла. Старик будто ждал этой паузы. Он сказал размеренно: — Я родился в тысяча шестьсот третьем году. На этот раз никто его не перебил, никто не улыбнулся. Стало ясно, что старик не врет. Что он в самом деле родился так давно, что он — чудо природы, уникум, судьба которого таинственным и чудесным образом связана с провалом на Пушкинской улице. — Отец мой был беден. Мать умерла от родов. Жили мы здесь, в городе Великий Гусляр, на Вологодской улице. Отец был сапожником, крестили меня в Никольской церкви, что и поныне возвышается на углу улицы Красногвардейской и Мира. Окрестили Алмазом. Ныне имя редкое и неизвестное. Старик закашлялся. Кашлял долго, сотрясал большое, видно совсем уже пустое внутри, тело. — Испить не найдется, Елена Сергеевна? — спросил старик. Шурочка сбегала на кухню, принесла стакан холодного молока. Старик выпил молоко, вытер не спеша усы синим платком. — Мальчиком отдали меня в услужение купцу Томиле Перфирьеву, человеку скаредному, нечистому на руку. Бил он меня нещадно. Но рос я ребенком сильным, хотя мясо видал лишь по большим церковным праздникам. Помню, были слухи о поляках, которые взяли Москву. До нас поляки, правда, не добрались, но было великое смятение. Старик говорил медленно, стараясь вобрать в современные, понятные слушателям слова события семнадцатого века. Будто сам уже не очень верил в то, что были они. И сам себе казался лживым, — что за дело этим людям до бестолкового шума базарной площади, до заикающегося дьяка с грамотой в руках, до затоптанной нищенки и тройного солнца — зловещего знамения! Было ли такое или подсмотрено в кино через триста лет? — Кому скучно, может уйти, не настаиваю, — сказал вдруг зло старик. Ему почудились насмешки на лицах. Никто не ответил. Провизор Савич понимал, что надо требовать доказательств, потому что иначе получался кошмар. Нереальность подчеркивалась тем, что в одной комнате, впервые за много лет, оказались Ванда и Елена. Старик молчал, смотрел пронзительно, и утихал скрип стульев, шевеление, перегляды. — Уличил я как-то хозяина в обмере, и это случилось на людях… Шрамы эти до сего дня не совсем сгладились — избил он меня. Ничего, отдышался, но кличку приобрел “Битый”. Так звали. Получается — Алмаз Битый. Правда, я имя неоднократно менял, и в советском паспорте написано Битов. Но это не так важно. Подрос я, убежал из Великого Гусляра, и начались мои многолетние странствия. Сначала пристал я к торговым людям, что шли в Сибирь. Молодой я еще был и многое принял на себя. Если рассказывать, получится длительный роман со многими приключениями. Дошел я с казаками до земли Камчатской, бывал и в Индии, а когда вернулся в Россию, было мне уже под пятьдесят, обладал я некоторой известностью как отважный и склонный к правде человек, и если кто из вас имеет доступ к архивам, го сможет найти там, коли уцелело после многих пожаров, столбцы, в которых упомянуто о моих делах и походах. Было вокруг угнетение и чванство, обиды и скорбь. И тогда я подался на юг, в Запорожскую Сечь. Стал я полковником запорожского войска и думал, что завершу жизнь в походах и боях, но случилось однажды такое событие… Старец Алмаз прервал речь, помолчал с полминуты. Слушатели заинтересовались, поддались гипнозу сухих фраз, за которыми вставали события, правдивые потому, что говорилось о них так кратко и сдержанно. — Вам такого имени, как Брюховецкий, Ивашка Брюховецкий, слыхать не приходилось? И вам, Елена Сергеевна? Это понятно. Человек этот канул в Лету и известен только историкам-специалистам. А ведь в мое время имя его на Сечи, да и во всей Руси, было весьма знаменитым. Для людей он был гетманом запорожским, для меня — прямым начальником… Вызывает этот Брюховецкнй меня к себе и говорит: “Есть к тебе, Алмаз Федотович, тайное и срочное дело. Порадовал меня царь грамотой, велел охрану выслать, старца Мелетия встретить и до безопасных мест проводить. Я-то людей послал, да они пощипали того старца, все, что при нем было — шесть возов да грамоты заморские, — себе взяли. Теперь царь гневается. Где, спрашивает, награбленное? Второй день у меня подьячий тайного приказа Порфирий Оловенников сидит, списки награбленного показывает, требует вернуть. Грозит… Выручай, Алмаз. Что делать?” Я сразу понял: юлит Ивашка Брюховецкий, потому как не иначе грабители с ним щедро поделились. А расставаться с добром кому захочется. Я и спрашиваю: “Грамотки где? Вряд ли царь стал Оловенникова, хитрого человека, к тебе посылать из-за шести возов. Грамотки покажи”. Брюховецкий поотнекивался — вроде не знает, где грамоты, слыхом не слыхивал. Потом вспомнил вроде, принес. Я попросил разобраться. Брюховецкий спорить не стал. Сказал только — с утра призовет, чтобы все было ясно. И вернулся я к себе домой… “По-моему, я встречала эту фамилию — Брюховецкий”, — думала Елена Сергеевна. Разогнала воздух перед лицом — надымили курильщики. Стендалю стало скучно. Он вертелся на стуле, шуметь не осмеливался, кидал взгляды на Шурочку. Удалов баюкал руку — видно, ныла. Грубин слушал внимательно — представлял спесивого гетмана, у которого под дверью сидит московский подьячий из приказа тайных дел. — Я позвал одного писаря, грека, не помню, как звали. С ним мы грамотки разобрали. И были они любопытные — в них восточные патриархи признавали власть Алексея Михайловича беспредельной. А Никона, русского патриарха, ставили ниже царя. Грамоты были куда как важны — подьячий не зря тратил время. Царь хотел с Никоном покончить, да не смел своей властью патриаршего сана лишить. Послов в Иерусалим, в Антиохию слал, тамошних патриархов задабривал, помощи просил. Был среди бумаг один список — очень меня заинтересовал. Список был с грамоты самого Никона. Честил в ней Никон царя и бояр, звал к правде, жаловался на произвол царский, грозил войной. Очень эта грамота соответствовала моему душевному состоянию, — я много лет справедливости искал, и вот она, писцами переписанная, справедливость, великим человеком высказанная, который против царя и бояр идет. Я тогда в патриаршей политике не разбирался, решил — буду жив, увижу старца, попрошу, чтобы направил меня на путь истинный. Утром пришел к Ивашке Брюховсцкому и советую ему: “Ты, говорю, отдай чего-то из взятого, пустяк огдап. Но вот эти четыре грамоты, патриархами написанные, обязательно возврати. И от тебя царь отступится. Скажи: все у казаков забрал, в церковь сложил, а церковь возьми и сгори”. Ивашка меня пытает: “А обойдется ли?” — “Обойдется”, — говорю. Так Брюховецкий и сделал. Подьячий, как увидел патриаршие грамотки, в лице цветом восстановился, — за этим и ехал… Старик разговорился, голос окреп; он взмахивал палкой, словно булавой либо саблей, забыл о слушателях — не до них было. События обрастали плотью, пыльные имена превращались в людей. — Я стремился в Москву. Но попал туда только года через два-три, когда уже к Москве подъезжали через Грузию, по Волге, царем созванные восточные патриархи, чтобы судить Никона, уничтожить его. Брюховецкий тогда в Москву поехал, к царю на поклон. И удалось мне через подставных людей с Никоном связь установить. В то время грозила ему уже ссылка простым монахом-чернецом в северный монастырь, но старик не сдавался, борьбу конченной не считал. По-современному говоря, были у него еще большие связи в верхах. За них держался. А с другой стороны, обратил свое внимание к народу. Может, и не от большой любви, — а что делать? Бой-то проигран. Меня Никон пригрел в одном монастыре, старцем Сергием называли. Но саблю я еще в руках держать мог. Сидение в монастыре томило меня, хотя Никон обнадеживал: надвигаются, говорил, времена. Послужишь ты еще, Алмаз, правому делу… Вы уж потерпите, — сказал вдруг старик миролюбиво Грубину, который вынул записную книжку и что-то свое стал писать в ней. — Мне недолго осталось. Сейчас к делу перейду. Без этого, что рассказал, вам моя позиция и судьба останется неясной. — Я ничего, я конспектирую, — смутился Грубин. — Чего уж там, — возразил старик. — Глаза у меня как у молодого. О другом писал. Грубин закрыл книжечку. — С юга, с Волги, пришли вести: поднялся Стенька Разин. Он Долгорукому смерть брата своего Ивана простить не мог. Смелый был человек. И хоть Прозоровский, астраханский воевода, ему прощение за старые дела от царского имени высказал, он все равно по Волге пошел, царя решил скинуть. Думал, что жизнь будет тогда у люден хорошая. Как на подворье у нас об этом заговорили, понял я — не сегодня-завтра меня к Никону призовут. Был тогда Никон простым монахом, опозоренный, в Ферапонтовом монастыре, в наших вологодских местах, заточен. Но в монастыре его знали, опасались, что он мог еще властью пользоваться. Призвал меня, сказал: “Ты, казак Алмаз, иди к Степану Тимофеевичу на Волгу. Без меня, говорит, Степану с царем не совладать. Он сам это знает. Слыхал я, есть среди его стругов один, черным бархатом обит, и пустил Степан слух, что в этом струге я плыву. Так поезжай туда, посмотри, вроде как мой посол будешь”. Благословил меня Нпкон, п ушел я на Волгу. Я и в Астрахани был, когда Прозоровского с раската кинули, и Царицын брал, и под Симбирском с войском стоял. Все было. Только, конечно, рясу-то скинул, и хоть звали меня по-прежнему старцем Сергием, дрался я по-казачьи. Тогда-то с Милицией я и познакомился. Алмаз указал узловатым пальцем на старушку, дремавшую в углу с кошкой на коленях. Все послушно обернулись к ней. — Была она тогда и сейчас есть — персидская княжна, про которую известную песню сложили. Будто ее Степан Тимофеевич за борт в Волгу кидал. — Ой! — удивилась Шурочка Родионова. — Не будите ее, — сказал Алмаз. Да никто и не собирался будить Милицию Федоровну. — В песне говорится, что Степан Тимофеевич ее за борт кинул, так неправда это. Грозился, клялся даже, чтобы ревнивых казаков успокоить. Но ведь не бандитом он был. Был он к тому времени государственным деятелем, армию вел за собой. Инцидент, правда, был, признаю. Я тогда на том же струге, что и Степан, находился. Мы спорили с ним сильно. Расхождения у нас были. А тут пришли некоторые руководители. Сказали: Симбирск скоро, там законная супруга ожидает; нехорошо, коли с княжной там появитесь, для морального состояния войск. И Степан Тимофеевич согласился. Девка по-русски ни слова не знала. Только глазищами вертела, с ума казаков сводила. Степан выругался, велел ее мне, как человеку надежному, взять ночью, перевезти на черный никоновский струг. Там она и была. А в Симбирске мы ее в доме одном поселили. И ты, кудрявый, не скалься. Если все будет как надо, завтра вы ее не узнаете. Первая красавица в Персии она была. Первой красавицей и здесь будет. Старик уморился, перевел дыхание. Воздух проходил в легкие тяжело, громко. Старик вынул пачку “Беломора”, закурил. Вокруг заговорили, но слова были будничные, никто о рассказанном не упоминал, не знал еще, как и что сказать надо будет. Шурочка Ванде Казимировне напиться принесла. Елена накинула шаль на плечи Милиции Федоровне, чтобы та не замерзла. За окном была тишь, темень, прохлада. Собака вдали брехала лениво, сонно. Будто комар се укусил, вот и отругивала его. — Дальше рассказывать — одна печаль, — сказал старик. — Восстание, как вы знаете, было подавлено. В Арзамасе князь Долгорукий двести виселиц поставил. На каждой по полсотне людей погибло. Вот и считайте… Но меня при том не было. Я с двумя сотнями казаков на север прошел, к Ферапонтову монастырю. Узнал меня Никон, обрадовался, да поосторожничал. Мы его уговаривали: возьмем Кириллов монастырь- там казна большая, пушки — и на Волгу, на помощь Степану спешить надо. Да не осмелился Никон. Остался… А нам возвращаться поздно было. К тому времени Степана с Фролом уже в Москву везли. Казаков я отпустил — пусть каждый, как может, счастья ищет. А сам хотел в лес уйти. Да был один, князь Самойла Шайсупов, приставленный к Никону царем… У Шайсупова соглядатаи, всюду свои люди. Донесли. Поймали меня неподалеку от монастыря, заковали — и в Москву, как самого опасного государева преступника. Я царю — как подарок. Если сознаюсь — конец Никону, что на наш приход да на зазывные речи не донес. Никона и так уже в крепость, в Кириллов монастырь, в строгость перевели. А мои показания были бы ему могильным камнем. Привезли меня в Москву, и тут случилось непредвиденное происшествие, которое к сегодняшнему дню имеет отношение.11
Руки Сергию завязывали подле кистей веревками, обшитыми войлоком, ноги стягивали ремнями, и поднимали тело на воздух. Палач наступал ногой на конец ремня, тянул, разрывал тело, суставы выворачивались из рук, и потом палач бил по спине кнутом изредка, в час ударов тридцать, и от каждого удара будто ножом вырезана полоса. Разжигали железные клещи накрасно, хватали за ребра… Старец Сергий от наветов отказывался. Фрола Разина, его признавшего, встретил глазами пустыми, а чернецам, которые его у бывшего патриарха Никона видели входящим и выходящим, противные слова говорил. Старик Сергий был силен еще, но после пыток сдал, голова болталась, язык распух, и говорить он не мог. Алексей Михайлович, мучаясь одышкой и страхами, перешел ночью из дворца в подвал Тайного приказа. Нес с собой бумажку, на которой собственной рукой записал вопросы для старца. “За что вселенских Стенька побить хотел? Они по правде ли извергли Никона и што он им приказывал?” — повторял про себя государь слова записки. “О Кореле. Грамоту от него за Никоновой печатью к царскому величеству шлют из-за рубежа”. Это о шведах. Шведы ненадежны, вредны, Котошихина, беглого бунтовщика, спрятали, печатные дворы держат, в курантах про вора Стеньку печатают и ложные известия о Никоне сообщают. Старец знать про это должен. Дьяк Данило Полянский шел сзади, на полшага, держал свечу, чтобы не удариться государю головой о притолоку. В переходе было смрадно, вонюче, стрелец у дверей в пыточную засуетился, открывал, пятился, и оттого государю было еще тошней. Полянский сказывал, что старец Сергий молчит. Худо. А есть людишки, верные вроде, твердят, что Сергий — не Сергий вовсе, не старец, а казачий полковник. Ступеньки в подвал склизкие, грязные, могли бы и помыть, все-таки государь ходит, да не стал государь говорить Полянскому, твердил слова вопросов, и слова улетали, запутывались в разных тревожных1 мыслях, и горело внутри, пекло — видно, напустили порчу немчины, лекари. Горько было царю на людскую неблагодарность, на вражду, местничество, злобу, наветы. — Лестницы бы вымыли, — сказал вдруг государь Полянскому, хотя говорить уже раздумал. Мимо камор шли в пыточную. За решетками шевелились тени, бледные руки лезли из тряпья, и цепи звенели, будто отбивали зубную дробь. Старец Сергий висел на дыбе безжизненно. Седые волосы, в грязи и крови, колтуном торчали вбок, будто боярский сын набекрень надел шапку. Подьячий, что вел допрос, вскочил из-за стола, но царь в его сторону не посмотрел. Подошел к Сергию, заглянул в лицо. Палач, чтобы удобнее государю было, шустро отбежал, отпустил веревку, и Сергий ногами стал на пол, только ноги пошли в сторону — не держали. — Что сказал? — спросил царь, глядя на старца, столь нужного для спокойствия и торжества власти. — Молчит, — сказал подьячий тихо. Боялся царского гнева. Язык, распухший, черный, вылезал изо рта, не помещался. Глаза закатились — не закрывались. — Мне он живой нужен, — сказал вдруг царь обыкновенно, будто без гнева, а с тоской. И даже Полянский дрожь почувствовал. Тишайший государь был весьма озабочен, и это многим могло стоить жизни. — Пусть поутру его дохтур осмотрит, зелье даст. И не пытать, пока сам не кончу. Алмаза окатили водой, втащили, бесчувственного, в камору, кинули на пол. До утра дохтура звать не стали. Старик крепкий. Алмазу казалось, что он в пустыне. Жарко и больно ногам, ободранным о камни. И озера лишь манят, а оказываются вихрями, бьющими по обожженной коже. Потом ласковая прохлада коснулась лба. Вода холодная — зубы ломило — сама влилась в рот. Стало легко и блаженно. — Вам лучше? — спросил тихий, нежный голос, будто прохлада в пустыне. — Да, — сказал Алмаз. Открыл глаза. В теле была боль, ломота, но была она не так важна, н голова стала ясной. Голос звучал где-то внутри, будто кто-то пальчиком гладил по темени. Рядом, па куче прелой соломы, лежал маленький человек ниц распростершись и касался исхудалыми руками Алмаза; во тьме зрачки светились по-кошачьи. — Нечистая сила, — сказал Алмаз. — Изыди… — Тише, — произнес голос в голове у Алмаза. И рот у маленького человека не открывался, сжат был, губы в струночку. Только глаза зеленью светятся. — Тише, — голос покоил, нежил, — услышат — придут. Снова казнить примутся. Я добра желаю. Немощен я, измучен, ноги переломаны. Темь в каморе стояла, но Алмаз увидал: ноги соседа на соломе распластались, неживы. Кровь изо рта запеклась на щеке. У Алмаза страх миновал. Язык тяжел, но ворочается. — Пей, — беззвучно сказал сосед, протянул ладошку, а в ней вода, как на листе роса. Не было зла и порчи в малом человеке. Алмаз наклонил голову, слизал росу. — На дыбе был? — спросил сосед. — Не жить мне, — сказал Алмаз. — Сам государь поутру примется. — Бунтовщик ты? — спросил сосед. — Со Стенькой разбойничал? — Не важно, — сказал Алмаз. Было в нем подозрение, не дьяками ли тайными человек подставлен. — Не опасайся, — сказал человек. — Я твои мысли знаю. Считай, что дохтур я. Из фрязинской земли. В колдовстве меня обвинили. Огнем пытали, ноги ломали. Я секрет знаю, как уйти отсюда, да ног нет. Алмаз долгую жизнь прожил, многого нагляделся. Дохтур так дохтур. На фрязинских землях, на немецких чудес много. И сам Ллмаз до Индии ходил, Турцию видел, но в чудеса само собой верил. — Ты мне о себе расскажи, — молил сосед. — Хоть не словами. Думай — я пойму. Зеленоватые глаза заглядывали в душу, высматривали, что скрыл; а скрыл Алмаз в рассказе немногое — лишь то, что касалось патриарха Никона. Это пускай сосед читает сам — нечистой ли силой, просто колдовством. Порой сосед просил повторить, подробности выспрашивал, интересовался, будто не обречен, как и Алмаз, на неминуемую смерть. Доволен оказался. Говорил, что надежда в нем явилась, повезло ему, что сосед — Алмаз. Не надеялся уже, веру потерял. Смерть близка. Бежать из Тайного приказа некуда, это Алмаз понимал. Никто отсюда не скрылся еще. Может, малый человек ума лишился? А может, слово знает? — Нет, — сказал сосед. — Слова не знаю. Но вижу сквозь стены. Как ни пытай, не отвечу, не понять тебе. Алмаз не спорил. Секретные и странные вещи признавал, но сам колдунов и тайных людей бежал. Может, и сквозь стены зрит человек. Дано ему. — Здесь стена в одном месте тонка, — сказал человек. — В один кирпич. Дверь заложена. В старые времена ход был в другое подземелье, но, видно, после пожара забыли, замуровали. Под Кремлем в разных местах ходы и подвалы вырыты, многие и не найдешь. Давно здесь государи живут, а государям надо тайны иметь, тайники и пыточные места. За решеткой прошел стрелец. Заглянул в темноту, ничего не увидел. Окликнул: — Старец Сергий, а старец Сергий, живой ты? Алмаз промычал нераздельно, простонал. — Живой, — сказал стрелец. — С утра дохтура приведут. Ровно как к боярину. — Стрелец рассмеялся, — Как к боярину, — повторил. Пошел дальше. — Как же мы кирпичи разберем? — спросил Алмаз. — Тише, не говори языком, — сказал как бы внутри головы сосед. — Ты думай, я все угадаю. — Тяжко, привычки нет. — Я кирпичи еще со вчера расшатал. Ты меня вытащишь, понесешь. Кирпичи на место положишь. Может, не сразу спохватятся. — Согласен я, — сказал Алмаз, потому что был человеком трезвым и понимал: не убежишь ночью — новые пытки, а там и смерть, покажется она благостной, долгожданной, как невеста. — Жди, — услышал он голос внутри. Человек, опираясь о локти, поволочил безжизненное тело к дальней стене, и от боли его, что передавалась нечаянно Алмазу, мутило, ибо ложилась она на боль Алмаза. — Сюда ползи, только не шуми, — был приказ оттуда. И Алмаз подобрался, рукой ощупал тело рядом. Тот подхватил руку, поднес к стене. Один кирпич уже вынут был. Второй шатался. — Ты сильнее, — слышал Алмаз мысли. — Вынимай их. Раствор старый, крошится. Я перекладывать буду. Снова прошел стрелец, топотал сапогами: озяб в подвале. — Караула ждет, — сказал ему сосед. — Думает о том, как бы согреться. Думает, что ты за ночь отойдешь, дохтура не надо будет. И тебе легче. Добрый человек. Алмаз кивнул, согласился. Алмаз кирпичи вынимал из стены, сосед перекладывал их в сторону. Ощупал дыру — узка, но пробраться можно. Сосед подтолкнул в спину: “Давай, мол”, — угадал, о чем Алмаз подумал. Алмаз прополз в дыру. Оттудашел холод и мрак, пыточные камеры Тайного приказа рядом с ним теплым раем казались. Руки уперлись в ледяную жижу. Плечи схватило болью, сил не было тело протащить. Человек сзади подталкивал, да был немощен, без пользы помогал. Свое дыхание Алмаз слышал, — как отдается хрипом по длинному невидимому ходу, шумит, словно домовой в печи. — Давай, давай еще, поднатужься, немного осталось. Там воля!.. Слова человека, уговоры в голове стучали, как кровь, и Алмаз елозил руками по жиже, тянул непослушное тело свое, и оно перевесило, голова упала в вонь и лед, и от того прибавилось силы — от отвращения и жути. Отдохнул самую малость, выпростал из дыры ноги и приподнялся, чтобы лицо отвратить от жижи. — Меня возьми, не забудь… — умолял человек. Но Алмаз и не помышлял оставить в беде товарища, тот ему дорогу к воле показал, а Алмаз никогда людей предавать не умел. И видно, человек угадал его мысли, затих и ждал покорно, пока Алмаз, отдохнувши, протянет к нему в дыру руки и вытянет, немощного, бессильного, невесомого, в черный ход. Алмаз поднялся во весь рост, морщился от боли и злобы на свои непослушные члены. Свод был низок, пришлось пригнуться, и холодные капли падали ожогами на израненную спину. Человека Алмаз взял на руки, словно младенца: на закорках нести не мог, хоть и сподручней, — поротая спина саднила. Через несколько шагов переложил под мышку, чтобы рукой одной впереди шарить. Да это и не нужно было — человек подсказывал, куда идти, где поворачивать, словно кошка во тьме дорогу различал, и Алмаз уж не удивлялся — сил не было на думы: слушался, шел, спотыкался, скользил в грязи. Прошли подземную палату, потолок вверх ушел, распрямиться можно. Рукой сбоку ощупал — ящики, ларцы, сундуки. Видно, богатства затерянные. — Нет, — сказал человек, — это книги, столбцы, грамоты. Старые. От царя Ивана Васильевича остались. — Не слыхал, чтобы царь книгами баловался, — сказал Алмаз. — Интересовался, — сказал человек. — Тут большие богатства спрятаны. Государственные тайны. Их многие уже ищут, да не найти. Ходы с земли не видны. Далеко сзади, усиленным ходами, будто боевыми трубами, пришел шум, сбивался в кучу, разделялся на голоса. — Нас хватились, — сказал человек. — Теперь не найдут. Пока решатся в ходы сунуться да пока по ним проплутают, мы далеко будем. …Вышли они полузаваленным мусором, населенным летучими мышами и крысами подземным ходом, что кончался на том берегу Москвы-реки, у Кадашевской слободы. Куча бревен да камни — все, что осталось от часовенки, — скрывали древний ход. Рассветало. Мальчишка гнал из ночного коней, а навстречу, чуть видная в тумане, шла баба с ведрами к озерку у Болота. Слева были сады, и там перекликались сторожа — берегли царское добро. Из тумана вылезали, словно копья, колокольни кадашевских церквей. Было мирно, и даже собаки не лаяли, не беспокоили людей в такую обычную ночь. — Пойдем берегом, — сказал человек. — Знаю, где лодка. Тут только Алмаз увидел толком спутника. Боль в нем, избитом и истерзанном, была великая. Сквозь рубища смотрели кровоподтеки и синяки, руки были исцарапаны, словно кто-то с них кожу сдергивал, да и на лике целы были одни глаза. Глаза под утренней синевой потеряли кошачий блеск и нутряной свет — были синими, словно воздух, и бездонными, и была в них мысль и мука. — Ты уж потерпи, — сказал человек. — Донеси меня. — Неужто, — сказал Алмаз и даже улыбнулся: подумал, что и сам, видно, страшен и непотребен. — Что правда, то правда, — сказал человек. Алмаз уже привычно взял его под мышку, — перебитые ноги болтались почти до земли, рассекали высокую прибрежную траву. Лодка была в положенном месте. Человек снова прав. И весла, забытые либо нарочно оставленные, лежали в уключинах. Через час добрались до леса, а там пролежали весь день, упрятав в камышах лодку. Алмаз набрал ягод, сыроежек — поел; спутник от всего отказался, только пил воду, но не с реки, как Алмаз, а из своих ладоней, как в Тайном приказе, когда поил этой водой-росой своего соседа. Потом снова они шли, обходили деревни, шли и ночью и лишь ко второму утру, чуть живые, добрались до яра, в котором стояло, прикрытое пожелтевшими ветками, нечто невиданное, схожее со стругом либо ковчегом, и Алмаз тогда оробел и лишился чувств от бессилия и конца пути. Очнулся Алмаз внутри ковчега, на мягкой постели, при солнечном свете, хоть и был ковчег без окон. Был Алмаз гол и намазан снадобьями и зельями. Спутник его, в иное переодетый, ковылял вокруг на самодельных костылях, посмеивался тонкими губами, бормотал по-своему, был рад, уговаривал Алмаза, что он — не нечистая сила, а странник. Но Алмаз слушал плохо, тяжко — его тело отказывалось жить и переносить такие муки, била его горячка, и разум мутился. — Что ж, — услыхал он в последний раз, — придется прибегнуть к особым мерам. Может, и так сказал странник, — снова было забытье, словно глубокий сон, и во сне надо было удержаться за борт ладьи, а не удержишься — унесет волжская волна, ударит о крутой утес. Но Алмаз удержался, и, когда очнулся вновь, все в том же ковчеге, человек сказал ему: — Опасался я, что сердце твое не выдержит. Но ты — сильный человек, выдержало сердце. Был человек уже без костылей, бегал резво. Видно, немало времени прошло. — Нет, — сказал он, опять мысль Алмаза угадал, — один день всего прошел. Погляди на себя. Человек протянул Алмазу круглое зеркало, и на Алмаза глянуло молодое лицо, чем-то знакомое, чем-то чужое, и подумал сначала Алмаз, что это портрет, писаный лик, но человек все смеялся и велел в зеркало смотреть. И тогда Алмаз понял, что стал молодым… — …Ну вот и все, — сказал старик и снова потянулся к пачке за папиросой. — Он улетел к своим. Я тогда понятия не имел, кто он такой, что такое, откуда. Объяснение воспринял для себя самое простое — дух, вернее всего, божий посланник. Оставил он мне все снадобья, которыми мне молодость вернул, взял с меня клятву, что тайну сохраню, ибо рано еще людям о таком знать. И улетел. Еще велел пользоваться зельем, ждать его, обещал через сто лет вернуться и меня обязательно найти. Я больше ста лет ждал. Не вернулся он. Может, что случилось. Может, прилетит еще. Один раз я нарушил его завет. Был в Симбирске, разыскал подругу свою Милицию и вернул ей молодость. А с тех пор как себя молодил, так и к ней приезжал, где бы она ни была. И все. Хотите — казните меня за скрытность, хотите — хвалите. Но скоро триста лет будет, а ведь даже Милиция по сей день не знала, почему с ней волшебство происходит. Думала, моя заслуга. А уж какая там… Старик замолчал. Устал. Возвращались в двадцатый век слушатели, переглядывались, качали головами, и не было недоверия. Уж очень странная история. Да и зачем старику ночью рассказывать сказки людям, которые в сказки давно не верят. Милиция все дремала па кресле, кошка — на ее коленях. Голова склонилась к морщинистым рукам. — Если так, то пришельцы — не миф, — сказал Стендаль. Он первый нарушил тишину, что наступает после окончания длинного доклада, прежде чем слушатели соберутся с мыслями, начнут посылать на трибуну записки с вопросами. — Ну что же теперь? Дадите мне выпить мою долю? — спросил старик. — Я все как на духу рассказал. Мне молодость не для шуток, для дела нужна. И за Милицию прошу. Она мне верит. — Я и не спала, — сказала вдруг Милиция Федоровна. — И все, что Любезный друг здесь говорил, могу клятвенно подтвердить. Мы с Любезным другом монополию на напиток не желаем. Правда? Старик кивнул головой. — Может, кто-нибудь из присутствующих здесь дам и кавалеров захочет присоединиться к нам?12
— Итак, средство состоит из трех частей, — сказал старил Алмаз. — Порошок у меня в кармане. Растворитель в бутылках, что я взял в музее. Добавки составляются из разных снадобий, и рецепт на это заключен в тетради. Старик Алмаз взял тетрадь со стола и помахал ею как веером: становилось душно от многолюдного взволнованного дыхания. Елена Сергеевна постукивала по столу ногтями, старалась разогнать внутреннее смятение, звон в ушах. Сквозь тугой, вязкий воздух пробился к ней внимательный взгляд. Подняла голову, встретилась глазами с Савичем и поняла, что он ее не видит, а видит сейчас Леночку Кастельскую, которую любил так неудачно. И Елена Сергеевна поняла, что Савич скажет “да”. В нем это “если бы” ворошилось долгие годы, спать не давало. Елена Сергеевна чуть перевела взгляд, посмотрела на Вайду Казимировну. Но странно, та смотрела не на мужа, а в синь за окном. Улыбалась своим потаенным мыслям. И Елена Сергеевна вспомнила, какой яркой, крепкой была Ванда, пока не расползлась от малоподвижной жизни и обильной пищи. — Формально вы не имеете права на пользование находкой. Она — собственность музея, — сказал Миша Стендаль. — Тем более, что вы совершили кражу. У государства. — И это карается, — вмешался Удалов. — Уже говорили, — сказала старуха Бакшт. — Не ведите себя как российские либералы. Они всегда много говорили в земстве и в дворянском собрании. Ничего из этого не получилось. Елена Сергеевна пыталась угадать в старухе черты прекрасной персиянки, но, конечно, не угадала — старческая маска была надежна, крепка и непрозрачна. — Нет, так не пойдет, — сказал Стендаль. — Необходимо подключить власти и общественные организации. — Правильно, — согласился Удалов, недовольный тем, что его сравнили с царским либералом. — Что скажут в райкоме? В Академии наук? Потом уж в централизованном порядке будет распределение… — Сколько времени это займет? — невежливо перебил его старик. — Сколько надо. — Год? — Может, и год. Может, и два. — Нельзя. У меня дела. Милиции тоже ждать негоже. Помрет. Милиция прискорбно склонила голову, кивнула согласно. — Чепуху говорите, товарищ Удалов, — вмешался Савич, которому хотелось верить в эликсир. — Вы что думаете, придете в райком или даже в Академию наук и скажете: в этой банке лежит эликсир молодости, полученный одним вашим знакомым в семнадцатом веке от марсианского путешественника. А знаете, что вам скажут? — Температуру, скажут, измерить! — хихикнула Шурочка Родионова. Вообще-то она молчала, робела, но тут представила себе Удалова с градусником и осмелилась. — Если бы ко мне пришел такой человек, — сказал Савич, — я бы его постарался немедленно изолировать. Удалов услышал слово “изолировать” и замолчал. Лучше промолчать. В любом случае он свое возражение высказал. Надо будет — вспомнят. Грубин не удержался, вскочил, принялся шагать по комнате, перешагивая через ноги и стулья. — Русские врачи, — сказал он, — прививали себе чуму. Умирали. В плохих условиях. Нам же никто умирать не предлагает. Зато перед наукой и человечеством можем оказаться героями. Голос Грубина возвысился и оборвался. Он пальцами, рыжими от частого курения, старался застегнуть верхнюю пуговицу пиджака, скрыть голубую майку — ощущал разнобой между высокими словами и своим обликом. — Это не смешно, — сказал Савич хмыкнувшему Удалову. — К научным организациям мы обратиться не можем, — продолжал, собравшись с духом, Грубин. — Над нами начнут смеяться, если не хуже. Отказаться от опыта мы не имеем права. По крайней мере я не имею права. Откажемся — бутылки либо затеряются в музее, либо товарищ Алмаз Битый поставит опыт сам по себе, и мы ничего не узнаем. — Если получится, — сказал Савич, которому хотелось верить, — то мы придем к ученым не с пустыми руками. — С метриками и паспортами, — сказал Грубин, — в которых наш возраст не соответствует действительному. — Кошмар какой-то! — сказала Ванда Казимировна. — А если это яд? — Первым буду я, — ответил старик Алмаз. — И я, — сказала Милиция Федоровна. — Для меня это не первый раз. — Мы никого не заставляем, — сказал Грубин. — Только желающие. Остальные будут контрольными. — Разрешите мне, — поднял руку Миша Стендаль. — А чго будет, если я буду участвовать? — Младенцем станешь, — сказала Шурочка Родионова. — И я тоже. Увезут нас в колясках. — А действует сразу? — спросил Удалов. Он не хотел выделяться, но думал о возвращении домой, к супруге. — Нет, действует не сразу, — сказал Алмаз. — Действует по-разному, но пока организмом не впитается, несколько часов пройдет. К утру ясно станет. Каждый вернется к расцвету физической сущности. Потому молодым угрозы нет. Только добро переводить. Алмаз почувствовал, что общее мнение склоняется в его пользу. Человеческое любопытство, страсть к новому, проклятое “если бы”, нежелание оказаться трусливее других — все эти причины способствовали стариковским идеям. И он поспешил поставить на середину стола бутыль и велел Елене принести стаканы, другую посуду и ложку столовую и еще спросил соли, обычной, мелкого помола, и мелу или извести, а сам листал тетрадь, вспоминал — спешил, пока кто-нибудь из людей не спохватился, не высказал насмешки, так как насмешка в таких случаях страшнее хулы и сомнения. Стоит кому-то решить, что сказочность затеи никак не вяжется с тихой комнатой и временем, в котором живут эти люди, и тогда отберут бутыли, отнесут их в музей, положат в сейф. А если так, погибнет дело, ради которого проделал Любезный друг столь долгий путь, да и жизнь его, от которой мало осталось, вскоре завершится. Этого допускать было нельзя, потому что старик, проживя на свете свои первые триста лет, только-только начал входить во вкус человеческого существования. Пока шли приготовления, и были они обыденны, как приготовление к чаю, начались тихие разговоры — по двое, по трое. Иногда раздавался смешок, но он был без издевки, нервный, подавленный. Алмаз Федотович отсыпал в миску порошка более половины, — чтоб на всех хватило. Потом откупорил бутылки с растворителем, слил содержимое в одну, примерился и плеснул в миску темной жидкости. Начал столовой ложкой размешивать порошок, тщательно, деловито и умело, доставая рукой из кармана штанов пакетики и свертки. — Это все добавки, — пояснил он, — купил в аптеке. Ничего сложного, даже аспирин есть — для усиления эффекта. — Потом надо будет все зафиксировать для передачи ученым, — сказал Грубин. — Не забудем, — согласился старик, для которого общение с учеными оставалось далеким и не очень реальным. Одна мысль занимала его — только бы успеть приготовить все, выпить, а дальше как судьбе угодно. — Лист бумаги попрошу, — сказал Грубин Елене Сергеевне. — Начнем запись опыта. Никто не возражает? — Зачем это? — спросил Удалов. — Передадим в компетентные органы. — А если кто не желает? — спросил Удалов. — Тогда оставайтесь как есть. Нам наблюдатели тоже нужны. Удалов хотел еще что-то сказать, но Грубин не дал ему слова — остановил поднятой ладонью, взял лист, шариковую ручку и написал крупными буквами: “12 июля 1969 года. Г. Великий Гусляр, Вологодской области. Участники эксперимента по омоложению организма”. Написал себя первым: “1) Грубин Александр Евдокимович, 1925 года рождения”. Затем следовал старик Алмаз: “2) Битый Алмаз Федотович, 1603 года рождения. 3) Бакшт Милиция Федоровна”. — Вы когда родились? — Пишите приблизительно, — сказала Милиция Федоровна. — В паспорте написан 1872 год, но это неправда. Пишите — середина XVII века. Грубин написал: “Середина XVII в.”. В действиях Грубина была уверенность, деловитость, и потому все без шуток, а как положено, ответили на вопросы. И таблица выглядела так: “4) Кастельская Елена Сергеевна, 1908 г. рожд., 5) Удалов Корнелий Иванович, 1923, 6) Савич Никита Николаевич, 1909, 7) Савич Вайда Казимировна, 1913, 8) Родионова Александра Николаевна, 1950, 9) Стендаль Михаил Артурович, 1946”. — Итого девять человек, — сказал Грубин. — Делю условно на две группы. Первая — те, кто участвует в эксперименте, надеясь на результаты. Номера с первого по седьмой. Вторая — контрольная. У них результатов никаких быть не должно. Но риск остается. — Ничего, — сказал Миша. — В крайнем случае Шурочка может отказаться. — Еще чего не хватало… — сказала Шурочка. В глазах Грубина зажегся священный свет подвижника, свет Галилея и Бруно. Он руководил экспериментом, и Удалову очень хотелось оказаться в контрольной группе, хоть это его и не спасало. Изменения в старом друге были непонятны и пугали. — Вы готовы? — спросил Грубина Алмаз, поворачиваясь к нему всем телом и взмахивая листком как знаменем. — Можно разливать? — Старик сильно притомился от волнения и физических напряжений. Его заметно шатало. — Помочь? — спросила Елена Сергеевна и, не дожидаясь ответа, разлила жидкость из миски по стаканам и чашкам. Девять сосудов стояли тесно посреди стола, и кто-то должен был первым протянуть руку. Старик размашисто перекрестился, что противоречило научному эксперименту, но возражений не вызвало, провел рукой над скоплением чашек и выбрал себе голубую с золотым ободком. — Ну, — сказал он, внимательно оглядев остальных, — с богом. Зажмурился, вылил содержимое чашки в себя, и кадык от глотков заходил под дряблой кожей, а жидкость булькала. Потом поставил пустую чашку на стол, перевел дух, сказал хрипло: — Хорошее зелье. Елена, воды дай — запить. И сразу тишина в комнате, возникшая, когда старик взял чашку со стола, окончилась, все зашевелились и потянулись к столу, к стаканам, будто в них было налито шампанское… — Всё, — сказал Грубин. — Эксперимент закончен. Можно по домам. — Ура! — вдруг провозгласил Савич, ощутивший подъем сил. Он покосился на Ванду. Та только улыбнулась. — Ура!!! — опять крикнул Савич так громко, что Елена Сергеевна невольно шикнула на него: — Потише, Ваню разбудишь. От крика очнулась Бакштова кошка. Она дремала у ног хозяйки, старчески шмыгая носом. Кошка открыла глаза, один — голубой, другой — красный, метнулась между ног собравшихся и, чтобы вырваться, спастись, прыгнула вверх, плюхнулась на стол, заметалась на скатерти, опрокидывая пустые стаканы и чашки, толкнула бутыль с оставшейся жидкостью. Бутыль рухнула на пол, сверкнула и разлетелась в зеленые осколки… — Обормоты! — только и смог сказать старик. Кошка спрыгнула со стола, села рядом с лужей, поводя кончиком хвоста, а затем начала лакать черную жидкость. — Всё, — сказал Грубин и утерся рукавом пиджака. — Как же теперь? — спросила Шурочка. — А нельзя восстановить? — Если бы можно, все молодыми ходили бы, — сказал старик. — У нас такой техники еще нет. — А по чему будете восстанавливать? — спросил Грубин Шурочку, будто она была во всем виновата. — По пробке? — Тем более возрастет наша ценность для науки, — сказал Миша Стендаль, защищая Шурочку. — Нас будут изучать в Москве. Миша совсем разуверился в событиях. Даже кошка показалась ему частью большого розыгрыша. — У вас порошок остался, — сказал Грубин старику, без особой, правда, надежды. — Порошок — дело второе, — ответил тот. — Одним порошком молод не будешь. Пошли, что ли? Утро уже скоро. Ночь завершалась. На востоке, в промежутках между колокольнями и домами, небо уже принялось светлеть, наливаться живой, прозрачной синевой, и звезды помельче таяли в этой синеве. По дворам звучно и гулко перекликались петухи, и уж совсем из фантастического далека, из-за реки, принесся звон колокольчика — выгоняли коров. Предутренний сон города был крепок и безмятежен. Скрип калитки, тихие голоса не мешали сну, не прерывали его, а лишь подчеркивали его глубину. Елена Сергеевна стояла у окна и слушала, как исчезали, удаляясь, звуки. Четкие каблучки Шурочки; неровный, будто рваный, шаг Грубина; звучное, долгое, как стариковский кашель, шарканье подошв Алмаза; деликатный, мягкий шаг Удалова; переплетение шагов Савича и его жены. Шаги расходились в разные стороны, удалялись, глохли. Еще несколько минут, как отдаленный барабан, доносился постук стариковской палки. И — тихо. Предутренний сон города крепок и безмятежен.ЧАСТЬ ВТОРАЯ
13
Удалов поднял руку к звонку, но замешкался. Появилось опасение. Он покопался в карманах пижамы, раздобыл черный бумажник. В нем, в отделении, лежало круглое зеркальце. Удалов подышал на зеркальце, потер его о штанину и долго себя разглядывал. Свет на лестнице был слабый, в пятнадцать свечей. Удалову казалось, что он заметно помолодел. Не зря, пока все беспокоились из-за кошки, слил остатки из чужих чашек, допил. При его невезучести меньшая доза не подействует. Крутить зеркальцем перед носом было нелегко- мешала загипсованная рука. Попрощаюсь, думал он, уйду из дому. Интересовался: “Если и правда помолодею, останется ли застарелая вздутость на шее? Хорошо бы, пропала”. Удалов думал, дышал и возился у своей двери. Жена Удалова, спавшая чутко и одиноко, пробудилась от шорохов и заподозрила злоумышленников. Она подошла босиком к двери, прислушалась и спросила в замочную скважину: — Кто там? Удалов от неожиданности уронил зеркальце. — Я, — сказал он. Хотя сознаваться не хотелось. — Кто “я”? — спросила жена. Она голос мужа не узнала, полагая, что он надежно прикован к больничной койке. — Корнелий, — сказал Удалов и смутился, будто ночью позволил себе побеспокоить чужих людей. В нем зародилась отчужденность от старого мира. Жена охнула и раскрыла дверь. Тут же увидела на полу осколки зеркальца. Осколки блестели, как рассыпанное бриллиантовое ожерелье. — Кто тебя провожал? — спросила она строго. Она мужу не доверяла. — Я сам, — сказал Корнелий. — Плохая примета. Зеркало разбилось. — Ты, значит, под утро стоишь себе на лестнице и смотришься в зеркало? Любуешься? Хорош гусь. А я тебе должна верить? — Не кричи, пожалуйста, — сказал Удалов. — Детей разбудишь. — Дети твои спят, наплакавшись без отца. Одна я… Жена правдиво всхлипнула. — Честное слово… — сказал Удалов. — Честное слово, никто меня не провожал. Мне надо в срочную командировку. Меня даже из больницы отпустили. Я домой зашел вещи взять, переодеться. — Он показал на больничную пижаму синего цвета. — Вот в таком виде… — В командировку, говоришь? И когда это тебя послали? Ночью? — Сейчас только из райкома приходили. Машина за углом ждет. Был Удалов лжив. И чужой человек понял бы это. — Иди, — сказала жена. — Иди и не возвращайся. Только ее осколки прибери. Не желаю… — Тише, милая… — Это она тебе милая. Не желаю за ней прибирать. Жена хлопнула дверью и оставила Удалова на лестнице. Удалов размышлял. С одной стороны, его отпустили. С другой — не дали одежды и полотенца. Удалов хотел было позвонить, урезонить жену, но рука к звонку не тянулась, не смела. Ясно было, какой скандал поднимется в тот момент, когда жена, за дверью ждавшая покаянного звонка, звонок этот услышит. — Эх!.. — Удалов присел на корточки, начал подбирать осколки зеркала, что делать было не обязательно. Зеркальце было позаимствовано у жены, из старой сумки. Гипсовой рукой Удалов задевал за косяк, и хотелось плакать. Насыпал осколков в карман пижамы и пошел вниз, к выходу. Жена услышала удаляющиеся шаги, вдвое озлилась, метнулась в комнату, распахнула шкаф и в открытое окно, не глядя, стала кидать со стонами вещи мужа. Дети проснулись, ничего не поняли. Удалову попало ботинком по голове. В пыли лежали его носильные вещи и любимые безделушки. Из окна продолжали вылетать предметы и рубашки. Белыми птицами летали они над двором. Зажегся свет напротив. Удалов быстро отобрал из вещей нужные — выходной костюм, ботинки, носки, мраморного слоника на счастье. Собрал все в охапку и побежал со двора. Рубикон был перейден. И неизвестно было, чго лежит за ним. К Грубину идти было опасно: слишком близко. Там его будут искать. По голубой рассветной улице бежал Удалов в синей больничной пижаме, повесив на гипсовую руку выходной костюм, носки и галстук. Корнелий бежал к Елене Сергеевне, прижимаясь к стенке домов, и ждал погони. Погони не было. Жена бросилась было за ним, но вид раскиданных по двору нажитых вещей смутил ее, и она поняла, что, прежде чем гнаться, надо унести все домой — могут украсть.14
Елена Сергеевна устроила Удалова в маленькой комнатке, где выросли ее дети, где сейчас спал Ваня. Она поставила ему раскладушку, и Удалов непрестанно благодарил ее, конфузился и не знал, куда деть развешанные на гипсовой руке носильные вещи. За время бега по городу Удалов как-то забыл о надвигающемся омоложении. Он находился в состоянии восторженном и нервном, но причиной тому был, скорее всего, уход от жены и бессонная ночь. — Я ничего, — говорил он. — Вы не беспокойтесь, мне одеяла не надо, и простыни не надо, я по-солдатски, как Суворов. Вы сами идите спать, уже утро скоро. Я-то на бюллетене… Мне и подушки не надо. А сам думал, что следовало бы захватить из дома простыни. Бог знает, сколько еще придется ночевать по чужим углам. Но и эта, казалось бы, печальная мысль наполняла его грудь щекотным чувством мужской свободы. Елена Сергеевна не послушалась Удалова. Постелила простыню и дала одеяло, подушку с наволочкой. И ушла. Удалов, лишь голова его коснулась подушки, заснул праведным сном и заливисто всхрапывал, отчего Елена Сергеевна заснуть никак не могла. Елена Сергеевна понимала, что в ее жизни появилась возможность помолодеть. Физически помолодеть. Как умная и образованная женщина, она даже представляла себе, как это произойдет, что с ней случится. Очевидно, состав старика стимулирует работу желез внутренней секреции. Значит, в оптимальном варианте, разгладятся морщины, усилится кровообращение и так далее. Елена Сергеевна старалась остаться на сугубо научной почве, обойтись без чудес и сомнительных марсиан. Но было страшно. Хотя бы потому, что диалектически каждому действию соответствует противодействие. За омоложение организму придется расплачиваться. Но чем? Не сократят ли любители экспериментов себе жизнь, вместо того чтобы продлить ее. Все-таки правильно, что медики сначала все опыты ставят на мышах. Удалов разнообразно похрапывал и бормотал во сне. Кстати, когда произойдет омоложение? Старик сказал: проснетесь другими людьми. Мучителен ли этот процесс? Елене Сергеевне захотелось убедиться в том, что еще ничего не произошло. Она босиком подошла к шкафу, зажгла лампу на столе рядом и присмотрелась. Никаких изменений. Правда, покраснели веки, но это потому, что день был долог и утомителен… Елена Сергеевна потушила свет, вернулась на кровать. И постаралась заснуть. За окном уже почти рассвело, и часа через три проснется Ваня. Ей показалось, что она так и не спала. На мгновение провалилась в темноту, а уже Ваня трясет ее за плечо: — Баба, вставай! Елена Сергеевна не открывала глаз. Знала, что Ваня сейчас протопает в сени, где стоит горшок, и засядет там минут на десять. За эти минуты надо окончательно проснуться, встать, накинуть халат и вымыться. И еще зажечь плиту. Елена Сергеевна мысленно проделала все утренние дела, и тут же, по мере того как просыпался мозг, очнулись другие мысли, вылезли на поверхность. Существовала необходимость посмотреть в зеркало. Подойти к шкафу и посмотреть в зеркало. Почему? Ах да, старик, сказочные истории, разбитая бутылка — Елена Сергеевна сбросила одеяло, села. Шкаф с зеркалом стоял неудобно, боком, зеркало казалось узкой щелью, голубой от неба, отраженного в нем. Надо было встать и сделать два шага. И оказалось, что это трудно. Даже страшно. И, глядя не отрываясь на голубую щель, Елена Сергеевна сделала эти два шага… В том невероятном, даже ужасном, что произошло с Еленой Сергеевной, пока она спала, не было никакой науки, никакого ровным счетом гормонального воздействия. И не разглаживались морщины, и не усиливалось кровообращение. А было чудо, антинаучное, необъяснимое, от которого никуда не денешься и которое влечет за собой множество осложнений, неприятностей и тяжелых объяснений. Первой неприятностью, думала Елена Сергеевна, глядя в зеркало, узнавая себя, знакомясь с собой заново, станет встреча с Ваней, который в любой момент может выйти из сеней. Ребенок остался без бабушки. Кто она теперь ему? Мать? Нет, она слишком молода для матери. Сестра? Елена Сергеевна провела рукой по лицу, дивясь забытому ощущению свежести и нежности своей кожи. Ваня вошел в комнату и подбежал к Елене Сергеевне. Остановился, положил медленно и задумчиво в рот палец и замер. Замерла и Елена Сергеевна. Она ощущала глубокий стыд перед внуком. Она мечтала о том, чтобы чудо кончилось и она проснулась. Это был тот сон, прерывать который очень жалко, но прервать необходимо для блага других. Елена Сергеевна больно ущипнула себя за ухо. Ваня заметил ее движение и сказал, не вынимая пальца изо рта: — Какая ты сегодня красивая, бабушка! Даже молодая. А чего щиплешься? — Милый! — сказала Елена Сергеевна. — Узнал меня! Она схватила Ваню, прижала к себе, — каким легким он стал за ночь! Подняла к потолку и закружилась с ним по комнате и повторяла: — Милый! Узнал! И смеялась. И была благодарна Ване. Ваня хохотал басом, радовался и, чтобы использовать бабушкино хорошее настроение, кричал сверху: — Ты мне купи велосипед!.. Ты мне купишь велосипед? Развевался в кружении старенький халат. Елена Сергеевна крепко и легко переступала сухими стройными ногами, пушистые молодые волосы закрывали глаза, взвихряясь от движения. Опустив Ваню на пол, Елена Сергеевна вспомнила вдруг, что у нее в доме гость — Удалов. Спит еще, наверно, подумала она. Каков он? Елена осторожно приоткрыла дверь в маленькую комнату. Кровать была смята. Одеяло свесилось на пол. Пиджак висел на спинке стула. Сброшенным коконом лежал на полу белый гипсовый цилиндр — оболочка сломанной руки. Удалова не было15
Старуха Бакшт задремала, не раздеваясь, в кресле. Это было вредно в ее возрасте, но она не хотела упустить возвращение молодости. Она совсем запамятовала прошлое омоложение, а будет ли еще одно, не знала. Дремота была нервной, с провалами, разрозненными снами и возвращением к полутьме комнаты, тусклой лампе под абажуром с кистями. Беспокоилась кошка, царапала ширму… Случилось все незаметно. Казалось, на минутку прикрыла глаза и в быстролетном кошмаре полетела вниз, к далекой земле, домикам с острыми крышами, открыла глаза, чтобы прервать страшный полет, и встретила в зеркале взгляд двадцатилетней красавицы Милиции. И было неудобно в тесном старушечьем платье. Жало в груди и в бедрах, и было стыдно за это платье и за собственную недавнюю старость. — Господи, — сказала Милиция Бакшт, — как я хороша! И она одним прыжком — тело повиновалось, летело — достала дверь, накинула крючок, чтобы кто не вошел, и, торопясь, смеясь и плача, сдернула, разорвала старушечьи обноски, зашвырнула высокие, раздутые суставами ботинки за ширму, сорвала с волос нелепый чепец. И встала перед зеркалом, нагая, прекрасная. Помолодевшая, неузнаваемая кошка вскочила на стол и тоже любовалась и собой и хозяйкой. Милиция Федоровна Бакшт сказала ей тягучим, страстным шепотом: — Вот такой любил меня Александр Сергеевич. Саша Пушкин. Стало душно, и мешали устоявшиеся запахи. На цыпочках подбежала Милиция к окну и растворила его. Взлетела пыль, и клочья желтой, ломкой бумаги, налепленной бог весть когда на рамы, бабочками-капустницами расселись по комнате. Скрип окна был слышен далеко по рассветному городу, но предутренний сон самый крепкий. И никто не проснулся, и никто не увидел голубую от рассветного воздуха обнаженную красавицу в окне на втором этаже старого дома. — “Я помню чудное мгновенье…” — пропела тихо Милиция. И замерла, ибо заглушённый чувствами и острыми ощущениями, но живучий голос старухи Бакшт проснулся в ней и обеспокоился, не простудится ли она с непривычки. Надо беречь себя. Еще столько лет впереди. Но беззаботная молодость взяла верх. — Ничего, — сказала Милиция самой себе. — Ничего со мной не случится. Мне же не сто лет. — Накинула халатик, засмеялась в голос и добавила: — Куда больше. Захотелось спать. Утомилась, омолаживаясь. И еще хотелось есть. Где-то были коржики. Сухие уже. Милиция распахнула буфет. Взвизгнула, возмутившись, дверь, привыкшая к деликатному обхождению. С коржиком в кулаке красавица заснула, свернувшись клубком в мягком кресле. И не видела снов, потому что спала крепко и даже весело. В ночь, описываемую в повести, все герои его, как никогда прежде, ощутили власть зеркал. Верили они в то, что станут моложе, или относились к этому скептически, все равно старались от зеркал не отдаляться. Грубин также извлек из-за шкафа зеркало, пыльное, сколотое на углу. Он зеркала презирал и никогда в них не смотрелся, даже при бритье и причесывании. Но все-таки Грубин был прежде всего исследователем, участником эксперимента и потому счел своим долгом этот эксперимент пронаблюдать. До утра оставалось часа три, и следовало провести их на ногах, чтобы меньше клонило ко сну. Грубин подключил вечный двигатель к патефону — крутить ручку — и поставил пластинку, не на полную мощность, правда, чтобы не беспокоить соседей. И патефон и пластинки были старыми, добытми на работе среди старья и утиля. Если бы не вечный двигатель, Грубин бы музыку и не слушал — уж очень утомительно прокручивать тугую патефонную ручку. Подбор пластинок также был случаен. Одна была старой и надтреснутой. На ней некогда популярные комики Бим и Бом рассказывали анекдоты. Про что, Грубин так и не узнал за шипением и треском. Была также песня “Из-за острова на стрежень” в исполнении Шаляпина, но без начала. Под могучий бас певца Грубин принялся вырезать на рисовом зерне “Песнь о вещем Олеге”. Он занимался этим натужным делом второй год и дошел лишь до третьей строфы. Он уже понял, что последним строкам места не хватит, но работу не прекращал, потому что был самолюбив и полагал себя способным превзойти любого умельца, даже самого Левшу. Работа шла медленно, под микроскопом. Грубин устал, но увлекся. Зеркало стояло прямо перед ним, чтобы можно было время от времени бросать на него взгляд в ожидании изменений. В комнате было не шумно, но и не тихо. Приглушенно гремела пластинка. Грубин мурлыкал под нее различные песни, жужжала микродрель, ворон терся о скрипучую ножку стола, возились под кроватью мыши, сонно всплескивали золотые рыбки. Надвигался рассвет. Грубин кончил изображать букву “х” в слове “волхвы”, и тут что-то кольнуло в сердце, произошло мгновенное затуманивание сознания, дурнота. Почувствовав неладное, Грубин взглянул в зеркало. Он опоздал. Он уже был молод. Худ по-прежнему, по-прежнему растрепан и дик глазами, но молод так, как не был уже лет двадцать пять. — Дела… — сказал Грубин. — Волхвы проклятые… Он был недоволен. Подготовленный эксперимент не удался. Потом Грубин успокоился, пригляделся поближе и даже сам себе приглянулся. — Так, — сказал он и уселся размышлять. Грубин чувствовал себя сродни тому человеку, что выиграл по облигации десять тысяч рублей. Вот они, деньги, лежат, принесенные из сберкассы, толстая пачка красных десятирублевок. Их слишком много, чтобы купить новый костюм или погасить задолженность по квартирной плате. Их так много, что вряд ли можно истратить сразу па какую-нибудь одну крайне ценную вещь. Правда, дома немало расходов, срочных и неотложных, на которые можно пустить часть выигрыша. Но в том-то и заключается психологическая каверза круглой суммы, что дробить ее на мелкие части унизительно и непристойно. Купить дом? Поехать в круиз вокруг Европы? А зачем новый дом? Зачем ему Европа? А что потом? И начинает охватывать безысходная жуть. Деньги давят, гнетут и порабощают свободного человека. Двадцать пять лет жизни получил Грубин. Молодость получил Грубин. На что истратить эти свалившиеся с неба годы? Написать на рисовом зерне “Слово о полку Игореве”? И о том сообщат в журнале “Огонек”? Да, три года, пять лет можно истратить на такое занятие. И только подумав об этом, Грубин ощутил всю его бессмысленность, да так явственно, что выхватил из-под микроскопа исписанное зернышко и метко запустил им в открытую форточку. И нет зернышка. Склюют его куры, не прочтя написанного стихотворения. Что делать! Еще два часа назад Грубин, не обладая молодостью, мог рассуждать спокойно и мудро: если он получит эти годы, то потратит их на творческую изобретательскую деятельность. Не будет ничего менять в бразе жизни, лишь удлинит ее. А сейчас, поглядывая в зеркало на двадцатилетнего косматого молодого человека, Грубин осознавал, что преступно предоставить жизни течь по старому руслу. Ведь жизнь дается человеку только однажды. Надо начать ее сызнова. И начать красиво, гордо, с учетом всех совершенных когда-то ошибок. И подняться до высот. Правда, как он это сделает, Грубин не придумал, но томление, терзавшее его сердце, не позволяло дольше сидеть в пыльной комнате перед пыльным зеркалом. Надо действовать. И Грубин начал свои действия с того, что открыл шкаф и вытащил оттуда чистую праздничную рубашку, запасную майку и полосатые носки. Одежда, употребляемая им ранее, казалась уже неприятной, а главное, нечистой. Удивительно, как Грубин мог не замечать этого раньше.16
Тщательно умытый холодной водой, с чищеными белыми зубами, в полосатых носках и свежей белой рубашке, шел Грубин по рассветным улицам Великого Гусляра и радовался прохладному воздуху, прозрачным облакам над рекой, гомону ранних птиц, скрипу телег, съезжавшихся на базар, и далекому гудку парохода. Он не знал, куда и зачем идет. Он нес в себе секрет и радость, хотел поделиться им с другими людьми, сделать нечто хорошее, что достойно отметило бы начало новой жизни. Остановился у провала. Заглянул через загородку вглубь, в темноту, из которой возникла столь недавно его новая жизнь, и даже присвистнул, дивясь собственному везению. Не пошел бы Удалов в универмаг, не испугался бы одиночества, сидел бы Грубин сейчас дома и, ни о чем не подозревая, пилил себе “Песнь о вещем Олеге”. Грубину даже гадко стало от мысли, что существуют люди, грабящие себя и человечество столь бездарным способом. И он пожалел на мгновение, что не выкинул заодно и микроскоп, но потом сообразил: микроскоп еще может пригодиться для дела. Для настоящего дела. Окно во втором этаже было распахнуто, и на подоконнике среди горшков с цветами сидела элегантная сиамская кошка и умывалась. — Милая, — сказал ей Грубин, — уж не Бакштин ли ты зверь? Тут Грубина посетила мысль о том, что чудесное превращение произошло не только с ним одним. Ведь этой же ночью помолодели и его друг Удалов (а как же с его женой?), и Елена Сергеевна, и старуха Бакшт, которой он помог доплестись ночью до дома. И сзади, вспомнил он, семенила старая сиамская кошка. Теперь на подоконнике сидит молодая сиамская кошка, и также с разными глазами. Маловероятно, что в Великом Гусляре есть две сиамские кошки с разными глазами, тем более в одном доме. — Кис-кис… — сказал Грубин. — А где твоя хозяюшка? Кошка ничего не ответила. Грубин поискал, чем бы привлечь внимание старухи. Уж очень его терзало любопытство: что с нею произошло за ночь, сколько лет ей удалось скинуть? А вдруг на нее и не подействовало? Грубину стало искренне жаль бабушку, находящуюся на пороге смерти. Грубин подошел к стенду со вчерашней газетой, оторвал пол-листа, свернул в тугой комок и сильно запустил в открытое окно. Кошка сиганула в ужасе с подоконника, задев горшок с настурциями, горшок свалился внутрь и произвел значительный шум. — Ах! — вскрикнул кто-то в комнате. Грубину стало неловко и захотелось убежать, и он сделал бы это, если бы в окне не показалась прелестная, сказочной красоты девушка. Длинные волосы цвета воронова крыла спадали волнами ей на плечи, глаза были огромны и лучезарны, нос прям и короток, губы полны и смешливы. — Ах! — сказала девушка, увидев, что с улицы на нее восторженно глазеет косматый молодой человек в белой рубашке. Она смущенно запахнула старенький халатик и вдруг захохотала звонко, не боясь разбудить всю улицу. — Глупец… — смеялась она. — Этот горшок простоял сто лет. Но мне его не жалко. Вы же Грубин, и вы провожали меня вчера до дому. Поспешите ко мне в гости, и мы будем пить чай. — Бегу, — сказал Грубин, сделал стойку на руках и на руках же пошел через улицу к двери, потому что у него были сильные руки и когда-то он имел первый разряд по гимнастике. Милиция угощала гостя соленьями, коржиками, повидлами — кушаньями вкусными, домашними, старушечьими. Забывала, где что лежит, и смеялась над собой. Многолетние запахи комнаты умчались в открытое окно, будто только того и ждали. В комнате было солнечно и прохладно. — Сначала выкину всю эту рухлядь, — говорила Милиция. — Вы мне поможете, Александр Евдокимович? Я давно собиралась, но, когда так стара и немощна, приходится мириться с вещами. Они с тобой старились и с тобой умрут. Теперь все иначе. Я неблагодарная, да? — Почему же? — удивился Грубин. — У меня вообще никогда вещей не было. А это правда, что Степан Разин вас чуть не кинул в реку? — Не помню. Только по рассказам Любезного друга. Я думаю, что не стал бы. — Наверно, не хотел, — сказал Грубин, стесняясь в присутствии такой красавицы своей неприглядности и лохматого вида. — Его казаки заставили. — Ревновали, — поддержала его Милиция. Она, проходя по комнате, не забывала поглядеть в зеркало. Очень себе нравилась. Грубин очистил ногтем застарелое пятно на брюках, отхлебнул крепкого кофе из старинной чашечки и заел коржиком. Есть он тоже стеснялся, но очень хотелось. Милиция, как ящерка, за столом усидеть не могла. Она вскакивала, поправляла что-то в комнате, составляла на пол горшки с цветами, потом распахнула комод и вывалила на пол платья, салопы, пальто, платки. На минуту комнату окутал нафталиновый чад, но его быстро вытянуло па улицу. — Это выкинуть и это выкинуть, из этого еще что-то можно сделать. А когда откроются газетные киоски, вы мне купите модный журнал? — Конечно, хоть сейчас пойду, — сказал Грубин. Грубина удивляло, что в Милиции начисто нет прошлого. Будто она никогда не ходила в старухах. Сам он груз лет ощущал. Не сильно, но ощущал в душе. А Милиция словно вчера родилась на свет. — Я вам нравлюсь? — спросила она. — Как? — Грубину давно никто не задавал таких вопросов. — Я красивая? Я привлекательная женщина? — Очень. — Вы пейте кофе, я еще налью… Я за ширму пойду и примерю платье. Вы не возражаете? Грубин не возражал. Он был в трансе, в загадочном сладком сне, в котором поят горячим кофе с коржиками. Из-за ширмы Милиция, роняя вещи и шурша материей, продолжала задавать вопросы: — Александр Евдокимович, вы бывали в Москве? — Вы меня Сашей зовите, — сказал Грубин. — А то неудобно. — Очень мило, мне нравится этот современный стиль. А знаете, несмотря на то что мы с Александром Сергеевичем Пушкиным, поэтом, были очень близки, он всегда обращался ко мне по имени-отчеству. Интересно, правда? И вас тоже Сашей зовут. Грубин мысленно проклял себя за невоспитанность. Даже не так поразился знакомству Милиции Федоровны, ибо знакомство было давним, и ничего удивительного при ее возрасте и красоте в этом не было. — Надо будет, Милиция Федоровна, — сказал он официальным, несколько обиженным голосом, — пойти к Елене Сергеевне. Посоветоваться. — Правильно, Сашенька, — засмеялась серебряным голосом из-за ширмы Милиция. — А вы меня будете называть Милой? Мне так больше нравится. Ведь мы живем в двадцатом веке. — Конечно, — сказал Грубин. Он продолжал еще обижаться, и это было приятно — обижаться на столь красивую женщину. — Я только кое-что подгоню по себе. Ничего не годится, ну ровным счетом ничего. Потом поедем. — Чего уж ехать, — сказал Грубин. — Десять минут пешком. — А вы, Сашенька, инженер? — Почему вы так решили? У меня образования не хватает. Я в конторе работаю. Грубин говорил неправду, но эта неправда относилась к прошлому. Он знал, что с сегодняшнего дня он уже не руководит точкой по сбору вторичного сырья. Он скорее инженер, чем старьевщик. Прошлое было его личным делом. Ведь Мила тоже была старухой-домохозяйкой. А это ушло. Милиция вышла из-за ширмы, неся на руках платье. Она разложила его на столе, оттеснив Грубина на самый край, достала ножницы и задумалась. Потом сказала: — От моды я отстала. Придется будить Шурочку. — Да, Шурочка, — вспомнил Грубин. — Она лекарство пила с нами. Как бы с ней чего не случилось. Она-то шутила. — А что с ней может случиться? — Помолодела. — Наивный вы человек, Сашенька. Ведь Любезный друг никого еще не обманул. И вы и я помолодели совершенно одинаково. Хотя раньше различались возрастом. — Это, конечно, так, — согласился Грубин. Он шел за Милицией по коммунальному коридору и опасался неожиданностей. А вдруг Шурочка стала моложе лет на десять, девочкой стала? Это же трагедия для ее родителей. Они ее растили девятнадцать лет подряд, и вдруг оказывается, что десять лет из них — впустую. А то и все восемнадцать. Грубин остановился за дверью Родионовых, позади Милиции, краем уха опасливо прислушивался, не раздастся ли там детский плач. — Они рано встают. Я знаю, — сказала Милиция, истолковавшая ложно грубинское замешательство. И позвонила. — Вам кого? — спросила, открыв, женщина средних лет, чертами лица и голосом весьма схожая с Шурочкой, из тех женщин, что сохраняют стать и крепость тела на долгие годы и умеют рожать таких же крепких детей. Более того, отлично умеют с ними обращаться, не создавая лишнего шума, волнений и не опасаясь сквозняков. За ней стояли двое парнишек, также схожих с Шурочкой чертами лица. — Вы к Шурочке? — спросила женщина. — Из магазина? — Здравствуйте, — сказала весело Милиция. — Вы меня не узнаете? — Может, видела, — согласилась Шурочкина мать. — Заходите, чего в коридоре стоять. Шурка вчера под утро прибежала. Я на нее сердитая. — Спасибо. Мы на минутку, — сказала Милиция. Ей было радостно, что ее не узнали. — Ваша дочь здорова? — спросил из полутьмы коридора Грубин. — А чего с ней станется? Шура! К тебе пришли! Женщина уплыла по коридору, и за ней, как утята, зашлепали Шурочкины братья. — Она меня не узнала! — сказала торжественно Милиция Федоровна. — А я только позавчера у нее соль занимала. Шурочка, заспанная, сердитая после домашнего выговора, выглянула в коридор, приняла при плохом освещении Милицию за одну из подруг и спросила: — Ты чего пи свет ни заря? Я еще не проснулась. — Не узнала, — сказала Милиция. — И мама твоя не узнала. А его узнаешь? Пойдите сюда, Сашенька. Грубин неловко ухмыльнулся и переступил раза два длинными ногами. — Мамочки мои родные! — ахнула Шурочка. — Товарищ Грубин! Неужели в самом деле подействовало? — Как видите, — сказал Грубин и повернулся, медленно и нескладно, как у портного. — А я? — спохватилась Шурочка. — Я ведь даже в зеркало не успела посмотреться. Я в порядке? — Вы в полном порядке, — сказал Грубин. — Вам дальше некуда. — Ну и хорошо. А как остальные? Шурочка говорила с Грубиным, а на Милицию даже не смотрела. — Остальные? — Грубин хихикнул и подмигнул Милиции. — Про всех не скажу, а вот одна твоя знакомая рядом стоит. — Какая знакомая? Шурочка наморщила лоб, поправила челку, приглядывалась к Милиции пристально. Но все равно угадать не смогла. — То ли меня разыгрываете, то ли я совсем дурой стала, — сказала она. — Я твоя соседка, Милиция Федоровна, — прошептала Милиция. — И ты мне нужна. Как сверстница. — Ой, мамочки! — сказала Шурочка. — Этого быть не может, я сейчас умру, если вы меня не разыгрываете. — Полно, душечка, — сказала Милиция. — У меня на стенке висят акварели. Я там очень похожи. Пошли, время не ждет. Надо уходить, а я без платья. Не в салопе же мне ходить по улицам. Мне придется сообразить что-нибудь из обносков. — Чудеса, да и только, — говорила Шурочка. — Пойдемте на свет. Тут она от волнения совсем перестала выговаривать знаки препинания. — Мы сейчас у меня какое-нибудь платье возьмем, — сказала она, входя в комнату к Бакшт и подводя ее к окну, чтобы разглядеть получше. — Конечно это вы и я отсюда вижу что на акварели это тоже вы но с товарищем Грубиным меньше изменений теперь наука сделает громадный шаг вперед и стариков вообще не будет а с платьем мы что-нибудь придумаем мое возьмете вы тут подождите а я утащу одно наверно подойдет чего возиться только чтобы мама не увидала… И Шурочка испарилась, исчезла, только слова еще витали несколько секунд в комнате. — Ну вот, — сказала Милиция. — Разве она не прелесть? — Вы обе прелесть, — сказал Грубин, смутился и подошел к окну. Он вдруг вспомнил, что Мила как-никак персидская княжна и была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.17
Елена Сергеевна убрала за ухо светлую прядь, прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью “Сахар”. Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его. Но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове. Движения были вчерашними, привычными, и любопытно было глядеть на собственные руки. Они были знакомыми и чужими. — Не нужна мне твоя каша, — сказал по привычке Ваня. — Ты посолить забыла, баба. — А я и в самом деле забыла посолить, — засмеялась Елена Сергеевна. В дверь постучали. Вошел незнакомый молодой человек большого роста. Он наполнял пиджак так туго, что в рукавах прорисовывались бицепсы и пуговицы с трудом удерживались в петлях. — Простите, — сказал он знакомым глуховатым голосом. — Извините великодушно. У вас незаперто, и я себе позволил вторгнуться. Утро доброе. Он по-хозяйски присел за стол, отодвинул масленку и сказал: — Чайку бы, Елена. Елене Сергеевне пришлось несколько минут вглядываться в лицо гостя, прежде чем она догадалась, что это Алмаз Битый. — Угадала? — спросил Алмаз. (Он где-то раздобыл новые полуботинки и брюки-джинсы.) — Как сказал, так и вышло. Проснулась и себя не узнала. II хороша, ей-богу, хороша. Не так хороша, как моя Милиция, но пригожа. Теперь замуж тебя отдадим. — Не шутите, — сказала Елена Сергеевна, указывая на замершего в изумлении Ваню. — В моем возрасте… Алмаз засмеялся. На улице зазвучали голоса. — Есть кто живой? — спросила, заглядывая в окно, чернокудрая красавица. — Ой, да вас не узнать! Мы к вам в гости.18
— Вот и Милиция!.. — сказал Алмаз, легко поднимаясь из-за стола. — Я же говорил, что хороша. Правда, Елена? Елена не ответила. Среди вошедших увидала молодого Савича, и было это еще невероятнее собственной молодости. Будто уходил Никитка всего на неделю, не больше, была пустая размолвка и кончилась. Вокруг, как на школьном балу, мелькали и дергались смеющиеся лица. Ванда хохотала громче других, притопывала, будто хотела пойти в пляс. Грубин схватил Елену за руку, показывал другим как свою невесту, уговаривал Шурочку познакомиться с бывшей учительницей, а Шурочка конфузилась, потому что знала — прочие куда старше ее и солиднее, просто сейчас притворяются равными ее возрасту. Савич замер в углу, пялил глаза и шевелил губами, словно повторял: “Средь шумного бала, случайно…” И когда Алмаз, подойдя к Елене, положил ей руку на плечо, Никита сморщился, как от зубной боли. Елена заметила и улыбнулась. — Я тебя, Лена, такой отлично помню, — сказала Ванда. — И я тебя, — согласилась Елена. И подумала, что у Ванды склонность к полноте. “Пройдет несколько лет — растолстеет, расплывется, станет сварливой… Ну и чепуха в голову лезет, — оборвала себя Елена. — Она же теперь все знает, будет следить за собой”. — Я тебе чай помогу поставить. Буду за мужика в доме, — сказал Алмаз. — Хорошо, — согласилась Елена. Мелькнуло желание, чтобы вызвался помочь ей Савич. Никита и вправду сделал движение к ней, но тут же кинул взгляд на Ванду, остался. Привычки, приобретенные за двадцать лет, были сильнее воспоминаний. “Ну и бог с тобой, — подумала Елена, выходя в сени. — Всегда ты был тряпкой и, сколько ни дай тебе жизней, тряпкой и останешься. И не нужен ты мне. Просто удивилась в первую минуту, как увидела”. Ваня помогал Елене с Алмазом разжечь самовар, задавал вопросы, почему все сегодня такие молодые и веселые. Алмаз удивлялся, как ребенок всех узнал. Даже в прекрасной персидской княжие — старуху Милицию. Алмаз нравился Ване своими сказочными размерами и серьезным к нему, Ване, отношением. Вежливо постучался и вошел в дом Миша Стендаль. Он был приглажен, респектабелен и немного похож на молодого Грибоедова, пришедшего просить руки княжны Чавчавадзе. — Елена Сергеевна дома? — спросил он Елену Сергеевну. Ваня восхитился невежеством гостя, ткнул пальцем бабушку в бедро и сказал: — Дурак, бабу не узнал. — Сенсация, — сказал тихо Стендаль. — Сенсация века. Он схватился за переносицу, будто хотел снять грибоедовское пенсне. — Ох-хо! — рявкнул Алмаз. — Это еще разве сенсация? Вот в той комнате сенсация! Стендаль поглядел на Алмаза, как на отца Нины Чавчавадзе, давшего согласие на брак дочери с русским драматургом. — И вы тоже? — спросил он. — И я тоже. Иди-иди. И Шурочка там. К счастью, не изменилась. — А я камеру не взял, — сказал Стендаль. — Вам уже сколько лет? — Шура! — гаркнул Алмаз. — К тебе молодой человек! Миша отступил к двери и приоткрыл ее, И сразу в кухню ворвался разноцветный водопад звуков. Мишу встретили, как запоздавшего дорогого гостя па вечере встречи однокашников. — Молодой человек! Молодой человек! — хохотала Милиция. — Маска, я тебя знаю, теперь угадай, кто я. — Покормить нас надо, — сказал Алмаз, прикрывая дверь за Мишей. — Такая орава… Картошка у тебя, Елена, есть? — Сейчас принесу, — сказала Елена. — Я сам, — сказал Алмаз. — Во мне сила играет. Он достал из чулана мешок и выжал его раза три как гирю, отчего Ваня зашелся в восторге. Алмаз заглянул в большую комнату, прервал на минутку веселье, сказав: — Михаил, возьми вот десятку и сходи, будь ласков, в магазин. Купишь колбасы и так далее к чаю. Остальным вроде бы не стоит излишне по улицам бродить. Чтобы без этой, без сенсации. — Я с тобой пойду, — сказала Шурочка. — Ты чего-нибудь не того купишь. Мужчины всегда не то покупают. Грубин протянул Мише еще одну десятку. — Щедрее покупай, — сказал он. — Белую головку, может, возьмешь. Все-таки праздник. — Ни в коем случае, — сказала Шурочка. — Я уж прослежу, чтобы без этого. В голосе ее прозвучали сухие, наверно подслушанные неоднократно материнские интонации. — Возьмите бутылку шампанского, — сказала Елена Сергеевна. — У меня есть деньги, — сказал Миша Грубину. — Не надо. Шурочка с Мишей ушли, забрав все хозяйственные сумки, что нашлись в доме. Алмаз очистил картошку споро и привычно. — Где вы так научились? — спросила Елена Сергеевна. — В армии? — У меня была трудная жизнь, — сказал Алмаз. — Как-нибудь расскажу. Я уж лет двести по тюрьмам картошку чищу. Елене Сергеевне показалось, что за дверью засмеялся Савич. Нет, это Удалов рассказывает, как поссорился с женой. Дверь на улицу была полуоткрыта. Шурочка с Милицией, убегая, не захлопнули. В щель проникали солнечные лучи, косым прямоугольником ложились на пол, и Елена отчетливо видела каждую щербину на половицах. Залетевшая с улицы оса кружилась, поблескивая крыльями, у самой двери, будто решала, углубиться ли ей в полутьму кухни или не стоит. Вдруг оса взмыла вверх и пропала. Ее испугало движение за дверью. Освещенный прямоугольник на полу расширился, и солнце добралось до ног Елены. В двери обозначился маленький силуэт. Против солнца никак не разглядишь, кто это пришел. Елена Сергеевна решила было, что кто-то из соседских детей, хотела подойти и не пустить в дом — ведь не было еще договорено, как вести себя. Маленькая фигурка решительно шагнула от двери внутрь, солнце зазолотило на миг светлый мальчишеский хохолок на затылке. Ребенок сделал еще шаг и, вдруг размахнувшись, по-футбольному наподдал ногой в большом башмаке ведро с чищеной картошкой. Ведро опрокинулось. Наводнением хлынула по полу вода, утекая в щели. Картофелины покатились по углам. — Как я тебе сейчас! — сказал угрожающе Ваня. Но вошедший мальчик его не слышал. Он бегал по кухне и давил башмаками картофелины. Те с хрустом и скрипом лопались, превращались в белую кашу. Мальчик при этом озлобленно плакал, и, когда он попадал под солнечный луч, уши его малиновели. — Кто отвечать будет? — покрикивал мальчик, пытаясь говорить басом. — Кто отвечать будет? Алмаз медленно поднялся во весь свой двухметровый рост, не спеша, точно и ловко протянул руку, взял ребенка за шиворот, поднял повыше и поднес к свету. Ребенок сучил башмаками, закатанные рукава рубахи раскрутились и повисли, скрыв руки, будто ребенок был одет в боярский кафтан на вырост. — Поди-ка сюда, Елена, — сказал Алмаз, поворачивая пальцем свободной руки личико мальчика к солнцу. — Присмотрись. Мальчик зашелся от плача, из широко открытого рта выскакивали отдельные невнятные, скорбные звуки, и розовый язык мелко бился о зубы. — Узнаёшь? — спросил Алмаз. И когда Елена отрицательно покачала головой, сказал: — Прямо скандал получается. То ли я дозу не рассчитал, то ли организм у него особенный. — Это Удалов? — спросила Елена, начиная угадывать в белобрысой головке тугое, щекастое мужское лицо. — А кто отвечать будет? — спросил мальчик, вертясь в руке Алмаза. — Вы — Корнелий? — спросила Елена, и вдруг ей стало смешно. Чтобы не рассмеяться некстати над человеческим горем, она закашлялась, прикрыла рукой лицо. — Не узнаёте? — плакал мальчик. — Меня теперь мать родная не узнает. Отпусти на пол, а то получишь! Кто отвечать будет? Я в милицию пойду! Гнев мальчика был не страшен — уж очень тонка шея и велики полупрозрачные под солнцем уши. — Грубин! — крикнул Алмаз. — Где твой гроссбух? Записать надо. — Это жестоко, Алмаз Федотович, — сказала Елена. Грубин уже вошел. Стоял сзади. Вслед за ним, не согнав еще улыбок с лиц, вбежали остальные. И Удалов взрыдал, увидев, насколько молоды и здоровы все они. — Не повезло Корнелию, — сказал Грубин. Когда Корнелий говорил, что пойдет в милицию, угроза его не была пустой. В милицию он уже ходил.19
Он проснулся оттого, что в глаз попал солнечный луч, проник сквозь сомкнутое веко, вселил тревогу и беспокойство. Удалов открыл глаза и некоторое время лежал недвижно, глядел в требующий побелки потолок, пытался сообразить, где он, что с ним. Потом, будто кинолента прокрутилась назад, вспомнил прошлое — от прихода к Елене Сергеевне, к ссоре с женой, рассказу старика и злосчастному провалу. Он повернулся на бок, раскладушка скрипнула, зашаталась. В углу, у кафельной печи, на маленькой кровати посапывал мальчик Ваня… Удалов приподнял загипсованною руку, и, к его удивлению, гипс легко слетел с нее и упал на пол. Рука была маленькой. Тонкой! Детском! Немощной! Сначала это показалось сном. Удалов зажмурился и приоткрыл глаза снова, медленно, уговаривая себя не верить снам. Рука была на месте, такая же маленькая. Удалов спрыгнул на пол, еле удержался на ногах. Со стороны могло показаться — он исполняет дикий танец: подносит к глазам и бросает в стороны руки и ноги, ощупывает конечности и тело и притом беззвучно завывает. На самом деле Удалову было не до танцев, — таким странным и нервным способом он осознавал трагедию, происшедшую с ним за ночь по вине старика и прочей компании. Ваня забормотал во сне, и Корнелий в ужасе замер на одной ноге. Удаловым внезапно завладел страх, желание вырваться из замкнутого пространства, где его могут увидеть, удивиться, обнаружить вместо солидного мужчины мальчика лет восьми, худенького и белобрысого. Разобраться можно будет после… Детскому, неразвитому тельцу было зябко в спадающей с плеч майке и пижамных штанах, которые приходилось придерживать рукой, чтобы не потерять. Удалов выгреб из-под кровати ботинки и утопил в них ноги. Ботинки были не в подъем тяжелы, и пришлось обмотать концы шнурков под коленками. Хуже всего с полосатыми штанами. Подгибай их не подгибай — они слишком обширны и смешны… Чувство полного одиночества в этом мире овладело Корнелием. Вновь зашебаршился в постельке Ваня. За стеной вздохнула во сне Кастельская. Удалов подставил стул к окну, переполз на животе подоконник и ухнул в бурьян под окном… Удалов долго и бесцельно брел по пустым, прохладным рассветным улицам Гусляра. Когда его обгоняли грузовики или автобусы, прижимался к заборам, нырял в подъезды, калитки. Особо избегал пешеходов. Мысли были туманными, злыми и неконкретными. Надо было кого-то привлечь, чтобы кто-то ответил и прекратил издевательство. Наконец Удалов укрылся в сквере у церкви Параскевы-Пятницы, в которой помещался районный архив. Он отдышался. Он сидел под кустами, не видный с улицы, и старался продумать образ действий. Проснувшиеся с солнцем трудолюбивые насекомые жужжали над ним и доверчиво садились на плечи и голову. Которых мог, Удалов давил. И думал. Низко пролетел рейсовый “АН-2” на Вологду. Проехала с базара плохо смазанная телега — в мешках шевелились, повизгивали поросята. Удалов думал. Можно было вернуться к Елене Сергеевне и пригрозить разоблачением. А вдруг они откажутся его признать? Было ли все подстроено? Л если так, то зачем? Значит, был подстроен и провал? С далеко идущими целями? А может, все это — часть громадного заговора с участием марсиан? Началось с Удалова, а там начнут превращать в детей районных и даже областных работников, может, доберутся и до центральных органов? Он вернется, а они отрекутся или даже уничтожат нежелательного свидетеля. Кто будет разыскивать мальчика, у которого нет родителей и прописки? Ведь жена Ксения откажется угадать в нем супруга. Может, поднять тревогу? Побежать в милицию? В таком виде?.. Вопросов было много, а ответов на них пока не было. Удалов прихлопнул подлетевшую близко пчелу, и та перед смертью успела вогнать в ладонь жало. Ладонь распухла. Боль, передвигаясь по нервным волоконцам, достигла мозга и превратилась на пути в слепой гнев. Гнев лишил возможности рассуждать и привел к решению неразумному: срочно сообщить куда следует, ударить в набат. Тогда они попляшут! У Удалова отняли самое дорогое — тело, которое придется нагуливать много лет, проходя унизительные и тоскливые ступеньки отрочества и юности. Удалов резко поднялся, и пижамные штаны спали на землю. Он наклонился, чтобы подобрать их, и увидел, что по дорожке, совсем рядом, идет мальчик его же возраста, с оттопыренными ушами и кнопочным носом. На мальчике были синие штанишки до колен на синих помочах, в руках сачок для ловли насекомых. Мальчик был удивительно знаком. Мальчик был Максимкой, родным сыном Корнелия Удалова. — Максим! — сказал Удалов властно. — Поди-ка сюда. Голос предал Удалова — он не был властным. Он был тонким. Максимка удивился и остановился. — Поди сюда, — повторил Удалов-старший. Мальчик не видел отца за кустами, но в зовущем голосе звучали взрослые интонации, которых он не посмел ослушаться. Оробев, Максимка сделал шаг к кустам. Удалов вытянул руку навстречу сыну, ухватился за торчащий конец сачка и, перебирая руками по древку (ладонь болела и саднила), приблизился к мальчику, будто взобрался по канату. — Ты чего здесь в такую рань делаешь? — спросил он, лишив сына возможности убежать. — Бабочек ловить пошел, — сказал Максимка. Если бы при этой сцене присутствовал сторонний наблюдатель, могущий при этом воспарить в воздухе, он увидел бы, как схожи дети, держащиеся за концы сачка. Но наблюдателей не было. — А мать где? В душе Удалова проснулись семейные чувства. В воздухе ему чудился аромат утреннего кофе и шипение яичницы. — Мать плачет, — сказал просто Максимка. — У нас отец сбежал. — Да, — сказал Удалов. И тут только осознал, что сын его не принимает за отца, беседует как с однолеткой. И вообще нет больше прежнего Удалова. Есть ничей ребенок. И вновь вскипел гнев. И ради удовлетворения его приходилось жертвовать сыном. — Снимай штаны, — сказал он мальчику. Не поддерживаемые более пижамные штаны Удалова опять упали, и он стоял перед пойманным сыном в длинной майке, подобной сарафану или ночной рубашке. — Уйди, — сказал мальчик нерешительно своему двойнику. Его еще никогда не грабили, и он не знал, что полагается говорить в таких случаях. Удалов-старший вздохнул и ударил сына по носу остреньким жестким кулачком. Нос сразу покраснел, увеличился в размере, и капля крови упала на белую рубашку. — А я как же? — спросил мальчик, который понял, что штанишки придется отдать. — Мои возьмешь, — сказал Удалов, показывая себе под ноги. — Они большие. И трусы снимай. — Без трусов нельзя, — сказал мальчик. — Еще захотел? Забыл, как тебе от меня позавчера попало? Максимка удивился. Позавчера ему ни от кого, кроме отца, не попадало. Белая рубашка доставала Максимке только до пупа, и он прикрылся поднятыми с земли, свернутыми в узел пижамными брюками. — Из этих брюк мы тебе три пары сделаем, — сказал подобревший Удалов, натягивая синие штанишки. — А теперь беги. И скажи Ксении, чтобы не беспокоилась. Я вернусь. Ясно? — Ясно, — сказал Максим, который ничего не понял. Прикрываясь спереди пижамными штанами, он побежал по улице, и его беленькие ягодицы жалобно вздрагивали на бегу, вызывая в отце горькое, сиротливое чувство.20
Дежурный лейтенант посмотрел на женщину. Она робко облокотилась о деревянный шаткий барьер. Слезы оставили на щеках искрящиеся под солнечным светом соляные дорожки. — Сына у меня ограбили, — сказала она. — Только что. И муж скрылся. Удалов. Из стройконторы. Среди бела дня, в сквере. — Разберемся, — сказал лейтенант. — Только попрошу по порядку. — У него рука сломанная, в гипсе, — сказала женщина. Она смотрела на лейтенанта требовательно. По соляным руслам струились ручейки слез. — У кого? — спросил лейтенант. — У Корнелия. Вот фотокарточка. Я принесла. Женщина протянула лейтенанту фотографию — любительскую, серую. Там угадывалась она сама, в центре. Потом был полный невыразительный мужчина и двое детей, похожих па него. — Среди бела дня, — продолжала женщина. — Я как раз к вам собралась, соседи посоветовали. А тут прибегает Максимка, без штанов. Синие такие были, на помочах… Женщина широким движением сеятеля выбросила на барьер светлые в полоску пижамные штаны. Лейтенант посмотрел на нее как обреченный… — Может, напишете? — спросил он. — Все по порядку. Где, кто, что, у кого отнял, кто куда сбежал, — только по порядку и не волнуйтесь. Говоря так, лейтенант подошел к графину с кипяченой водой, налил воды в граненый стакан, дал ей напиться. Женщина пила, изливая выпитое слезами, писать отказывалась и все норовила рассказать лейтенанту яркие детали, упуская целое, ибо целое ей было уже известно. Минут через десять лейтенант наконец понял, что два трагических события в жизни семьи Удаловых между собой не связаны. Муж пропал вечером, вернее, ночью; пришел из больницы, сослался на командировку и исчез в пижаме. Сына ограбили утром, только что, в скверике у Параскевы-Пятницы, и ограбление было совершено малолетним преступником. Разобравшись, лейтенант позвонил в больницу. — Больной Удалов на излечении находится? — спросил он. Подождав ответа, поблагодарил. Потом подумал и задал еще вопрос: — А вы его выписывать не собирались?.. Ах так. Ночью? В двадцать три? Ясно. Потом обратился к Удаловой. — Правильно говорите, гражданка, — сказал он ей. — Ушел ваш супруг из больницы. В неизвестном направлении. Медперсонал предполагал, что домой. А вы думаете, что нет? — Так и думаю, — сказала Удалова. — И еще сына ограбили. Оставили пижаму. Лейтенант разложил пижамные штаны на столе. — От взрослого человека, — сказал он. — А вы говорите — ребенок. — Я и сама не понимаю, — согласилась Удалова. — И мальчик такой правдивый. Тихий. Смирный. И штаны со штрипками были. Синие. Вот как на этом. Гражданка Удалова показала на мальчика в синих штанишках, вошедшего тем временем в помещение милиции и робко отпрянувшего к двери при виде Удаловой. Ксения не узнала своего мужа. Не узнала она и штанов, принадлежавших ранее Максиму, ибо они пришлись Корнелию в самый раз. — Так вы свою жалобу напишете? — спросил лейтенант. — Напишу. Все как есть напишу, — сказала Ксения. — Только домой сбегаю и там напишу. Кормить ребятишек надо. При таком свидетельстве заботы жены о доме Корнелию захотелось плакать слезами раскаяния, но он удержался — не смел обратить на себя внимание. — Тебе чего, мальчик? — спросил лейтенант, когда Удалова ушла писать заявление и кормить детей. Удалов, почесывая ладонь, подошел к барьеру. Голова его белым курганчиком возвышалась над деревянными перилами, и ему пришлось стать на цыпочки, чтобы начать разговор с дежурным. — Не тебе, а вам, — поправил Удалов. Когда себя не видел, как-то забывал о своих истинных размерах. — Ну, вам, — не стал спорить лейтенант. — Говори, пацан. — Дело государственной важности, — сказал Удалов и оробел. — Молодец, — сказал лейтенант. — Хорошо, когда дети о большом думают. Погляди, старшина, мы в его возрасте только футболом интересовались. Старшина, сидевший в другом углу, согласился. — Я поближе хочу, — сказал Удалов. — За барьер. — Заходи, садись, — сказал лейтенант. — И начинай, а то у меня дежурство кончается. Домой пора. Жена ждет, понимаешь? Удалов это понимал. И кивнул головой сокрушенно. Мальчик в слишком больших башмаках, завязанных, чтобы не упали, под коленками шнурками, вскарабкался на стул. Лейтенант смотрел на мальчика с сочувствием. У него детей не было, но он их любил. И хоть дело мальчика касалось какой-нибудь малой несправедливости, обижать его лейтенант не хотел и слушал, как взрослого. — Существует заговор, — сказал Удалов. — Я еще не знаю, кто его финансирует. Но может оказаться, что и не марсиане. — Во дает! — Старшина поднялся со стула и подошел поближе. — Шпиона видел? — ласково спросил лейтенант. — Да вы послушайте! — воскликнул мальчик, и глаза его увлажнились. — Говорю, заговор. Я сам тому доказательство. Лейтенант незаметно подмигнул старшине, но мальчик заметил это и сказал строго: — Попрошу без подмигиваний, товарищ лейтенант. Они сейчас обсуждают дальнейшие планы. Со мной разделались, а что дальше, страшно подумать. Возможно, на очереди руководящие работники в районе и области. — Во дает! — сказал старшина совсем тихо. Он подумал, что жизнь ускоряет темпы и, если следить за прессой, то увидишь, что в западных странах психические заболевания приняли тревожный размах. Теперь подбираются к нам. А мальчика жалко. — Ну, а как тебя зовут, мальчик? — спросил лейтенант. — Удалов, — сказал мальчик. — Корнелий Удалов. Мне сорок лет. — Та-ак, — сказал лейтенант. — Я женат, — сказал Удалов, и лопоухое личико порозовело. — У меня двое детей. Сын, Максимка, в школу ходит. Тут Удалова посетили воспоминания о преступлении против собственного ребенка, и он еще ярче зарделся. — Та-ак, — сказал лейтенант. — Тоже, значит, Удалов. Неожиданно во взоре его появилась пронзительность. И он спросил отрывисто: — А штаны с тебя в парке сняли? — Какие штаны? — А мамаша твоя с жалобой приходила? — Так она же меня не узнала! — взмолился Удалов. — Потому что я не сын, а муж. Только меня превратили в ребенка, в мальчика. Я про это и говорю. А вы не верите. Если бы я был сын, то меня бы она узнала. А я муж, и она меня не узнала. Понятно? — Во дает! — сказал старшина и начал продвижение к двери, чтобы из другой комнаты позвонить в “скорую помощь”. — Ты лучше к его мамаше сходи. Она адрес оставила, — сказал лейтенант, понявший замысел старшины. — Погоди, мальчика сначала в детскую комнату определим. — Нет! — закричал Удалов. — Я этого не перенесу! У меня паспорт есть, только не с собой. Я вам такие детали из своей жизни расскажу! Я стройконторой руковожу! Лейтенант печально потупился, чтобы не встречаться взглядом с заболевшим мальчиком. Ну что он мог сказать, кроме общих слов сочувствия? Да и эти слова могли еще более разволновать ребенка, считающего себя руководителем стройконторы Удаловым. Старшина сделал шаг по направлению к мальчику, но тот с криками и плачем, с туманными угрозами дойти до Вологды и даже до Москвы соскочил со стула, затопал тяжелыми ботинками, вильнул между рук старшины, увернулся от броска лейтенанта и выскользнул за дверь, а затем скрылся от преследователей среди куч строительного мусора, накопленного во дворе реставрационных мастерских. Научный склад мышления — явление редкое и не обязательно свойственное ученым. Он предусматривает внутреннюю объективность и желание добиться истины. Удалов не обладал этим складом, потому что стать мальчиком, когда внутренне подготовился к превращению в полного сил юношу, слишком обидно и стыдно. Поэтому воображение Удалова, богатое, но неорганизованное, подменило эксперимент заговором, и заговор этот рос по мере того, как запыхавшийся Корнелий передвигался по городу, распугивая кур и гусей. II чудилось Корнелию, что заговорщики, в черных масках, подкрадываются к системе водоснабжения и отрава проникает в воду, пиво, водку и даже в капли от насморка. Просыпается утром страна, и обнаруживается — нет в ней больше взрослых людей. Лишь дети, путаясь в штанах и башмаках, выходят с плачем на улицы. Остановился транспорт — детские ножки не могут достать до тормозных педалей. Остановились станки-детские ручки не могут удержать тяжелую деталь. Плачет на углу мальчик — собирался сегодня выходить на пенсию, а что теперь? Плачет девочка — собралась сегодня выйти замуж, а что теперь? Плачет другая девочка — завтра ее очередь лететь в космос. Плачет второй мальчик — вчера только толкнул штангу весом в двести килограммов, а сегодня не поднять и двадцати. Мальчик-милиционер двумя ручками силится поднять палочку-регулировочку. Девочка-балерина не может приподняться на носки. Мальчик-бас, оперный певец, пищит-пищит: “Сатана там правит бал!” А враги хохочут, шепчутся: “Теперь сам не взобраться в танки и не защитить своей страны о г. врагов…” И тут, по мере того как блекла и расплывалась страшная картина всеобщего помоложения, Удалова посетила новая мысль: “А вдруг уже началось? Вдруг он не единственная жертва старика? А что, если все — и Кастельская, и Шурочка Родионова, и друг Грубин, и даже подозрительная старуха Бакшт, — псе они стали детьми и с плачем стучатся в дверь Кастельской? Новая мысль поразила Удалова своей простотой и очевидностью, подсказала путь дальнейших действий, столь нужный. К дому Кастельской Удалов подкрадывался со всей осторожностью и к играющим на тротуаре детям приглядывался с опаской и надеждой — или ребенок мог оказаться Еленой Сергеевной или Сашей Грубиным. Да и вообще детей в городе было очень много — более, чем вчера. Это свое наблюдение Удалов также был склонен отнести за счет сговора старика с марсианами, а не за счет хорошей погоды, как это было па самом деле. По стоило Удалову войти в сени, как все иллюзии разлетелись. Пострадал лишь он.21
Перед Удаловым стояла чашка с какао, батон, порезанный толсто и намазанный вологодским маслом. На тарелке посреди стола горкой возвышался колотый сахар. В кастрюле дымилась крупная картошка. О Корнелии заботились, его жалели очаровательные женщины, угощали шампанским (из наперстка), мужчины легонько постукивали по плечику, шутили, сочувствовали. Здесь, по крайней мере, никто не ставил под сомнение действительную сущность Удалова. Он весь сжался и чувствовал себя подобно одинокому разведчику в логове коварного врага. Каждый шаг грозил разоблачением. Удалов улыбался напряженно и сухо. — И неужели никакого противоядия? — шептала Милиция Грубину, тот глядел на Алмаза, Алмаз разводил над столом ладонями-лопатами. Может, где-то, на отдаленной звезде, это противоядие давно испытано и продается в аптеках, а на Земле пока в нем необходимости нет. Алмаз вину ощущал, но Удалова особо не жалел — получил человек дополнительно десять лет жизни. Потом поймет, успокоится. Другому бы — это счастье, спасение. — В дозе ошибки не было? — спросил Грубин. — Не было, — сказал Алмаз. Сам думал о другом: как еще в прошлом веке сидел в камере и был там с ним один бывший студент, в народ ходил. Очень тогда Алмазу хотелось выйти па волю, напоить студента, человека измотанного, чахоточного, эликсиром, вернуть тому жизнь и здоровье. Но студент умер, сгорел… — А по скольку? — допытывался Грубин. — Там, в тетради, написано, — сказал Алмаз. Грубин листал тетрадь, шевелил губами, снова спросил: — А ошибиться вы не могли? — Сколько всем, столько и ему, — сказал Алмаз. — А если он сам? — спросила Шурочка. — Я только свою чашку выпил, — сказал быстро Удалов. И почувствовал, что покраснел, потому что лгал. Допил незаметно оставленное в других стаканах — боялся, что его оделили, что ему не хватило. — А косточку я выкинула в окошко, — сказала Шурочка. Она быстро свыклась с тем, что Удалов — мальчик, и только. И общалась с ним, как с мальчиком. — Я ж говорю, что не пил. — Удалов внезапно заплакал. Убежал из-за стола, размазывая кулачками слезы. Елена Сергеевна укоризненно поглядела на Шурочку, покачала головой. Алмаз заметил движение, ухмыльнулся: укоризна Елены Сергеевны была от прошлого, с нынешним девичьим обликом вязалась плохо. Грубин продолжал листать тетрадь старика. Его интересовал состав зелья, хотя из тетради, записанной множество лет назад, узнать что-либо было трудно. Савич искоса поглядывал на Елену, порой приглаживал волосы так, будто гладил лысину. Савич был растерян, так как еще недавно, вчера ночью, дал овладеть собой иллюзии, что, как только он помолодеет, начнет жизнь снова, откажется от Ванды, придет к Елене и скажет ей: “Перед нами новая жизнь, Леночка. Давай забудем обо всем, ведь мы нужны друг другу”. Или что-то похожее. Теперь же, проснувшись утром в широкой постели, он увидел рядом с собой крепкую, розовую девушку — Ванду, ту самую, ради которой он много лет назад оставил Елену. И вновь наступили трудности. Сказать Елене? А Ванда? Ну кто мог подумать, что она также помолодеет? И кроме того, они ведь связаны законным браком. И Савич чувствовал раздражение против старика Алмаза, поставившего его в столь неловкое, двусмысленное положение. А Елена тоже посматривала на Савича. Думала о другом. Думала о том, что превращение, происшедшее с ними, — обман. Не очевидный, но все-таки самый настоящий обман. Ведь в самом деле никто из них, за исключением, может быть, старухи Милиции, почти впавшей в детство и утерявшей память, не стал в самом деле молодым. Осталась память о прошлом, остались привычки, накопленные за много лет, остались разочарования, горести и радости — и никуда от них не деться, даже если тебе на вид лет восемь, как Удалову. Вот сидит Савич. В глазах у него обида и растерянность. Но обида эта и растерянность не свойственны были Савичу-юноше. И возникли они давно, постепенно, от постоянного ощущения неудовлетворенности собой, своей работой, своей квартирой, характером своей жены. И даже жест, которым Савич поглаживает волосы, пришел с лысиной, с горестным недоверием к слишком быстрому и жестокому бегу времени. Если сорок лет назад можно было сидеть вдвоем на лавочке, целоваться, глядеть в звездное небо, удивляться необыкновенности и новизне мира и своих чувств, то теперь этого сделать будет нельзя. Как ни обманывай себя, не избавишься от спрятанного под личиной юноши тучного, тяжело дышащего лысого провизора. Омоложение было иллюзией, но вот насколько она нужна и зачем нужна, Елена еще не разобралась. Пока будущее пугало. И не столько необходимостью жить еще несколько десятков лет, сколько вытекающими из омоложения осложнениями житейскими. — Девять человек приняли эликсир, — сказал деловито Грубин, захлопывая тетрадь. — Двое контрольных, как и ожидалось, остались без изменения. Остальные здорово помолодели. Один даже слишком. Удалов громко всхлипывал в маленькой комнате. Даже Ваня пожалел его, взял мяч и пошел туда, к грустному мальчику. — Все-таки процент большой, — сказал Савич. — Но главное — эксперимент удачен. И это раскрывает перед человечеством большие перспективы. А на нас накладывает обязательства. Ведь бутыль-то разбилась. — Нам вряд ли поверят, — сказал Савич. — Уж очень все невероятно. — Обязательно поверят, — возразил Грубин. — Нас девять человек. У нас, в конце концов, есть документы, воспоминания, люди, которых мы можем представить в качестве свидетелей. Ведь мы-то, наше прошлое, куда-то делись. Нет, придется признать. — Не признают, — сказал Удалов, вошедший тем временем в комнату, чтобы избавиться от общества Вани с мячиком. — Я правду скажу: я уже ходил в милицию. Не поверили. Чуть было маме не отдали, то есть моей жене. Пришлось бежать. Удалов виновато поведал историю своих похождений. После взволнованного монолога Грубина он вдруг понял, что стал жертвой ошибки, жертвой своего исключительного злокачественного невезения. — Эх, Удалов, Удалов! — сказал наконец Грубин. — И когда ты станешь взрослым человеком? — Лет через десять, — хихикнула Шурочка. — Шурочка! — остановила ее Елена. — Вам только бы издеваться, — сказал Удалов. — А я без работы остался и без семьи. Как мне исполнять свои обязанности, семью кормить, отчитываться перед руководящими органами? — Да, — сказал Грубин. — Дело нелегкое. И в милицию теперь не пойдешь за помощью. Им Удаловы так голову закрутили, что чуть что — сразу вызовут “скорую помощь” и санитаров со смирительной рубашкой. Да и другие органы, верно, предупреждены. Надо в Москву ехать. Прямо в Академию наук. Всем вместе. — Уже? — спросила Милиция. — Я хотела пожить в свое удовольствие. — В Москве для этого возможностей больше, — сказал Алмаз. — Только уж обойдитесь без меня. Я потом подъеду. Вернуться надо к своим делам. — Да как же так? Без вас научного объяснения не будет. — А мое объяснение меньше всего на научное похоже. — Что за дела, если не секрет? — спросила вдруг Елена. — Спрашиваешь, будто я по крайней мере до министра за триста лет дослужился. Разочарую, милая. В Сибири я осел, в рыбной инспекции. Завод там один реку порти г. химию спускает. Скоро уж и рыбы не останется. Когда-нибудь будет времени побольше, расскажу, какую я борьбу веду с ними четвертый год, до ЦК доходил. Но возраст меня подводил, немощь старческая. Теперь же я их замотаю. Попляшут. Главный инженер или фильтры поставит, или вместо меня на тот свет. Я человек крутой, жизнью обученный. Вот так. Алмаз положил руку на плечо Елены, и та не возражала. Рука была тяжелая, горячая, уверенная. Савич отвернулся. Ему этот жест был неприятен. — Учиться вам надо, Алмаз Федотович, — сказала Милиция. — Тогда, может, и министром станете. — Не исключено, — согласился Алмаз. — Но сначала я главного инженера допеку. И всех вас приглашу на уху. Добро? Грубин опустился тем временем на колени и скреб пол под столом, чтобы набрать щепок, влажных еще от пролитого эликсира. — А в Москву ехать на какие деньги? — спросил он из-под стола.22
Никто уже не сомневался, что в Москву ехать надо. Слово такое появилось и овладело всеми: “Надо”. Жили люди, старели, занимались своими делами и никак не связывали свою судьбу с судьбами человечества. И даже когда соглашались на необычный эксперимент, делали это по самым различным причинам, опять же не связывая себя с человечеством. Но когда обнаружилось, что таинственный эликсир и в самом деле действует, возвращает молодость, оказалось, что на людей свалилась ответственность, хотели они того или нет. Да и в самом деле, что будешь делать, если в руки тебе попадется подобный секрет? Уедешь в другой город, чтобы тихо прожить жизнь еще раз? Раньше Алмаз так иделал. Хоть и проживал очередную жизнь не тихо, а в смятении и бодрствовании, но к людям пойти, поделиться с ними тайной не мог, не смел, — погубили бы его, отняли тайну, Передрались бы за нее. Так предупреждал пришелец. Но то был один Алмаз. Теперь девять человек. Слово “надо”, коли оно не пришло извне, а родилось самостоятельно, складывается из весьма различных слов и мыслей, и нелегко порой определить его истоки. Грубин, например, с первого же момента рассматривал все как чисто научный эксперимент, так к нему и относился. Когда же помолодел и осознал тщету предыдущей жизни, то в нем проснулся настоящий ученый, для которого сущность открытия лежит в возможности его использования. Удалов внес свою лепту в рождение необходимости, потому что был уверен, что в Москве хорошие врачи. Если придется к ним попасть, вылечат от младенчества, вернут в очевидный облик. Его “надо” было чисто эгоистическим. Савич не желал бы оказаться подопытным кроликом, тем более что понимал: руководство опытом упустил, отдал Грубину, потому что думал вначале лишь о встрече с молодой Еленой. Встреча почему-то не состоялась, хотя еще не поздно. Одно он знал твердо: в аптеку не вернется. Елена Сергеевна результатами опыта была не весьма довольна, так как считала, что жизнь уже прожила и начинать снова ее — несерьезно. Но, будучи человеком ответственным за свои поступки, была даже более других склонна на любые испытания и неудобства, чтобы оказаться полезной обществу, что всегда, в школе ли, в музее, старалась делать добросовестно. Шурочка и Милиция, несмотря на разницу в возрасте, мыслили примерно одинаково. Для них поездка в Москву была в первую очередь увлекательнейшим событием — поездкой в Москву. Остальное решали люди более опытные и знающие. Ванда готова была ехать куда угодно, если туда поедет Савич. Она полагала, что произошедшее ночью омоложение является лишним доказательством тому, что в свое время она не ошиблась, связав свою судьбу с Савичем и сохранив к нему нежные чувства. Наконец, Миша Стендаль… Миша Стендаль поправил очки, приобрел сходство с молодым Грибоедовым, пришедшим на первую аудиенцию к персидскому шаху, и сказал: — Деньги достать можно. — Откуда? — спросил устало Грубин. — Мы уж полчаса считаем, а со всеми нашими доходами на билеты не хватит. Даже если найдется чудак и купит мой микроскоп, альбом со стихами Пушкина и наши носильные вещи. Как назло, получка только через три дня, накоплений никаких, Ванда Казимировна денег дать отказывается… — Да нет же у меня, — с отчаянием сказала Ванда Казимировна. — Я все в долг отдала. “Так мы и не стали опять молодыми, — подумала Елена. — Ванда когда-то была мотовкой, растеряхой, хохотушкой. Это все пропало. Та, довоенная Ванда, не стала бы лгать о несуществующем долге, не знала еще вкуса денег”. — Отложим отъезд? — спросил Савич. — Нельзя, — ответил Грубин. — Вы же знаете. Он вылез из-под стола: уже наскреб с пола опилок в тех местах, куда попала жидкость из опрокинувшейся бутыли. Опилки он намеревался исследовать, попытаться определить состав жидкости. — Вы же знаете, — сказал Грубин. — С каждой минутой следы эликсира в нашей крови рассасываются. День—два — и ничего не останется. На основе чего будут работать московские ученые? Любая минута на учете. Или мы выезжаем ночным поездом, либо можно вообще не ехать. — Вот я и говорю, — сказал Стендаль. — Деньги достать можно, и вполне официально. Я начну с того, что наши события произошли именно в городе Великий Гусляр. А кто знает о нашем городе? Историки? Статистики? Географы? А почему? Да потому, что Москва всегда перехватывает славу других городов. Я сам из Ленинграда, хотя уже считаю себя гуслярцем. И что получается? В Кировском театре почти балерин не осталось — Москва переманила. Команда “Зенит” успехов добиться не может — футболистов Москва перетягивает. А почему метро у нас позже, чем в Москве построили? Все средства Москва забрала. А о Гусляре и говорить нечего, даже и соперничать не приходится. А почему бы не посоперничать? Обратимся в нашу газету! — Правильно, Миша, — сказала Шурочка. — А раньше Гусляр, в шестнадцатом веке, Москве почти не уступал. Иван Грозный сюда чуть столицу не перенес. — Красиво говоришь, — сказал Алмаз. — Город добрый, да больно мелок. Даже если здесь совершенное бессмертие изобретут, все равно с Москвой не тягаться. — Газета добудет нам денег, — продолжал Стендаль, — опубликует срочно материал. И завтра утром мы отбываем в Москву. И нас уже встречают там. Разве не ясно? И Гусляр прославлен в анналах истории. — Ну-ну, — сказал Алмаз. — Попробуй. Стендаль блеснул очками, обводя взглядом аудиторию. Остановил взгляд на Милиции и сказал: — Милиция Федоровна, вы со мной не пойдете? Мы бы и ваш альбом взяли. — Ой, с удовольствием, — сказала Милиция. — А редактор молодой? — Средних лет, — сдержанно сказал Стендаль. Вслед за Стендалем и Милицией ушли также и Грубин с Савичем. Они отправились к Грубину, чтобы, не теряя времени, начать исследования составных частей эликсира и высыхающих опилок с пола. К ученым в Москве не следовало являться с пустыми руками.23
Пленка, которую принес с птицефермы фотограф, никуда не годилась. Ее стоило выкинуть в корзину — пусть мыши разбираются, где там несушки, а где красный уголок. Так Малюжкин фотографу и сказал. Фотограф обиделся. Машинистка сделала восемь непростительных опечаток в сводке, которая пойдет в райком, на стол к первому. Малюжкин поговорил с ней, машинистка обиделась, ее всхлипывания за тонкой перегородкой мешали сосредоточиться. Степан Степанов из сельхозотдела, консультант по культуре, проверял статью о художниках-земляках. Пропустил “ляп”: в очерке сообщено, что Рерих — баталист. Малюжкин поговорил со Степановым, и тот обиделся. К обеду половина редакции была обижена на главного, и оттого Малюжкин испытывал горечь. Положение человека, имеющего право справедливо обидеть подчиненных, возносит его над ними и лишает человеческих слабостей. Малюжкину хотелось самому на кого-нибудь обидеться, чтобы поняли, как ему нелегко. День разыгрался жаркий. Сломался вентилятор; недавно побеленный подоконник слепил глаза; вода в графине согрелась и не утоляла жажды. Малюжкин был патриотом газеты. Всю сознательную жизнь он был патриотом газеты. В школе он получал плохие отметки, потому что вечерами переписывал от руки письма в редакцию и призывал хорошо учиться. В институте он пропускал свидания и лекции и подкармливал пирожками с повидлом нерадивых художников. Каждый номер вывешивал сам, ломал, волнуясь, кнопки и долго стоял в углу — глядел, чем и как интересуются товарищи. Новое полотнище, висящее в коридоре, было для Малюжкина лучшей, желанной наградой, правда, наградой странного свойства — со временем она переставала радовать, теряла ценность, требовала замены. Иногда вечерами, когда институт таинственно замолкал и лишь в коридорах горели тусклые лампочки, Малюжкин забирался в комнату профкома, где за сейфом старились пыльные рулоны прошлогодних стенгазет, вытаскивал их, сдувал пыль, разворачивал на длинном столе, придавливал углы тяжелыми предметами, приклеивал отставшие края заметок и похож был на дон-жуана, перебирающего коллекцию дареных фотографий с надписями “Любимому” и “Единственному”. Перед Малюжкиным стоял литсотрудник Миша Стендаль. Вид его был неряшлив: молодая бородка съехала набок, будто сильный ветер дул на нее справа, очки запылились. — Что у тебя? — спросил Малюжкин. — Важное дело, — сказал Стендаль. — Важное дело здесь, — сказал Малюжкин и показал на недописанную передовицу о подготовке школ к учебному году. — К сожалению, не все понимают. Малюжкин прижал палец к губам, затем провел им по воздуху и упер в стенку. Из-за стены шло всхлипывание. Стендаль понял, что машинистка снова допустила опечатки. — Итак? — спросил Малюжкин, склонный к красивым словам. — Итак, поверить мне трудно, но я принес настоящую сенсацию. — Сенсация сенсации рознь, — сказал Малюжкин. Само слово “сенсация” имело неприятный оттенок, связывалось в уме с унизительными эпитетами. — Только без дешевых сенсаций, — сказал Малюжкин. — В одной центральной газете напечатали про снежного змея — и что? — Малюжкин резко провел ребром ладони по горлу, показывая судьбу редактора. — Ну, ты говори, не обижайся. — У нас есть возможность стать первой, самой знаменитой газетой в мире. Интересует? — Посмотрим, — сказал Малюжкин. Машинистка за стеной перестала всхлипывать — прислушивалась. — Но в любом случае, — продолжал Малюжкин, — передовую заканчивать придется. Ты же за меня ее дописать не сможешь? Малюжкин прикрыл на несколько секунд глаза и чуть склонил седеющую голову благородного отца. Ждал лестного ответа. — Передовицу — в корзину, — сказал невежливо Стендаль. — На первую полосу другое. Малюжкин терпеливо улыбнулся. Он умел угадывать нужное, своевременное. По виду Стендаля понял — блажь. И мысли переключил на завершение передовой. — Вчера, — сказал Стендаль, — в нашем городе произошло величайшее событие, сенсация века. Впервые удачно произведен эксперимент покоренному омоложению человеческого организма. Торжественные слова, как и рассчитывал Стендаль, легче проникали в мозг Малюжкина, но тот, слыша их, не вникал в смысл, а старался приспособить к делу, к передовой. “Впервые в стране удачно произведен эксперимент, — повторял мысленно Малюжкин, — по полному охвату подрастающего поколения сетью восьмилетнего обучения”. Внешне Малюжкин продолжал поддерживать беседу со Стендалем. — В больнице, говоришь, эксперимент? — спросил он. — Там у нас способная молодежь. Из собственной фразы в передовицу пошли слова “способная молодежь”. Надо было подыскать им нужное обрамление. — Нет, не в больнице. На частной квартире. — Не бегай по кабинету, садись, — сказал Малюжкин. Бегающий в волнении Стендаль, махающий руками Стендаль, протирающий на ходу очки Стендаль мешал Малюжкину сосредоточиться. — Несколько человек, — сказал Стендаль, присаживаясь на кончик стула и продолжая двигать ногами, — получили возможность овладеть секретом вечной молодости. Обрамление для “способной молодежи” нашлось: “Способная молодежь получила возможность овладеть секретами науки”. Малюжкин мысленно записал фразу. — Да-да, — сказал он вслух. — Как же, читал. — Где? — Стендаль даже перестал двигать ногами. — И ничего не сказали? — Где? — удивился Малюжкин. — “Наука и жизнь” писала. — Редактор был уверен, что во лжи его не уличить. “Наука и жизнь” уже писала обо всем. — В Штатах опыты производились. У нас тоже. На собаках. — Ясно, — сказал Стендаль. Понял, что редактор невнимателен. — И вы могли бы! — неожиданно крикнул он. Малюжкин забыл все фразы для передовой. Испугался. Машинистки за стеной ахнули. — И вы могли бы стать молодым! — кричал Стендаль. — Каждый может стать молодым! Вчера — старик, сегодня — юноша. Понимаете? — Спо-койно, — сказал Малюжкин. — Ты нервничаешь, Цезарь, значит, ты неправ. — Малюжкин указал пальцем на перегородку и продолжал шепотом: — За стеной люди, понял? Пойдут сплетни. А ты не проверил, а кричишь. Свидетели есть? Проверка была? — Я сам свидетель, — сказал Стендаль, также переходя на шепот, наклоняясь через стол. Они сидели как заговорщики, обсуждающие план ограбления банка. — И еще свидетель есть, — пролепетал Стендаль. — Позвать? — Ну-ну, — согласился Малюжкин. — Передовицу все равно придется придумывать снова. Стендаль высунулся в окно, крикнул: — Мила, будьте любезны, поднимитесь! Комната пять, я вас встречу. Стоило Стендалю отойти, как Малюжкин вернулся к передовой. Стендалю это не понравилось. Схватил лист, разорвал, бросил в корзину. — Ты с ума сошел, — зашипел Малюжкин. Обида завладела им. — Сейчас придет женщина, — сказал Стендаль. — Ей минимум двести лет. Она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным. Стендаль убежал. “Женщины… — думал Малюжкин, склоняясь над мусорной корзиной, — везде женщины, все знакомы или с Пушкиным, или с Евтушенко, а верить никому нельзя”. За дверью возник голос Стендаля: — Сюда, Милиция. Главный ждет вас. — Спасибо, — засмеялся серебряный голос в ответ. “Театр, — подумал Малюжкин. — Показуха”. Дверь распахнулась, и возникло чудо. Вошла шемаханская царица, прекрасная девушка в сарафане с альбомом в руках. Этой девушки раньше не было и быть не могло. Эту девушку можно было увидеть однажды и всю жизнь питаться воспоминаниями. — Здравствуйте, — сказала девушка, протянула Малюжкину руку. Она держала ее выше, чем принято, и потому рука оказалась в близости от губ редактора. Малюжкин неожиданно для себя поцеловал тонкую атласную кисть и сел, заливаясь краской. — Я тоже сяду? — спросила девушка. — Очень приятно, — ответил Малюжкин. — Познакомиться очень приятно. Садитесь, ради всего святого… — Редактору хотелось говорить очень красиво, хотя бы как говорили герои Льва Толстого. — Крайне польщен, — закончил он. — Мишенька, наверно, про меня рассказал, — улыбнулась девушка, и из ее глаз вылетели острые сладкие стрелы. — Меня зовут Милицией Бакшт, я живу в этом городе более ста лет. — Не может быть, — сказал Малюжкин, приглаживая волосы на висках, — я бы запомнил ваше чудесное лицо… По редакции уже прошел слух о появлении неизвестной красавицы. Думали, что из киногруппы, снимающей в городе историко-революционный фильм. Все мужчины пошли в коридор покурить. Курили рядом с дверью главного. — А вы меня узнать и не можете, — сказала Милиция. — Я еще вчера была древней старухой с клюкой. Ужасное зрелище, вспоминать не хочется. Вы меня понимаете? — О да, — сказал Малюжкин. Милиция гибко вскочила со стула, повернулась кругом, сарафан взметнулся и обнажил стройные ноги, и тут же она согнулась, оперлась на воображаемую палку, скривила спину, зашаркала, еле переставляя ноги, и руками двигала с трудом. Смешно и радостно стало Малюжкину, и он сказал: — Вы актриса, вы талантливая актриса, вам надо сниматься. Машинистки, услышавшие эти слова через стенку, вынесли в коридор подтверждение новости: незнакомка была киноактрисой, главный се хвалит. Степанов вспомнил две картины, в которой он эту киноактрису видел. И многие согласились. — Очень похоже, — сказал Стендаль. — Примерно так это и выглядело. Я сам помню. — Вы верите мне? — спросила Милиция, садясь снова на стул, и глаза ее настолько приблизились к лицу редактора, что тот ощутил головокружение и сказал: — Вам верю во всем, в большом и в малом. — Вы ему паспорт покажите, Мила, — сказал Стендаль. — Не надо, — возразил Малюжкин. — Не надо никакого паспорта. Сейчас Миша подготовит материал, и вы не уходите, ради бога, не уходите. Вы расскажете мне все, как было, что, как, когда. Сейчас же в номер. — Вместо передовой, — сказал Стендаль, который был еще молод и легко верил в добро. — Вместо передовой, — подтвердил Малюжкин. — Мишенька, — сказала Милиция, — он, по-моему, в меня влюбился. Он рассудок теряет. Что же теперь делать? Вы в меня влюблены? — Кажется, да, — сказал тихо редактор, не смея отрицать, но и не желая, чтобы сотрудники услышали об этом. — Ну, я готовлю материал и в номер? — спросил Миша. — Конечно. А вы… — и в голосе Малюжкина проявилась жалкая просьба, — а вы посидите здесь со мной? А? — Посижу, конечно, посижу. Ведь ты ненадолго, Миша? — Да я здесь же, на подоконнике, напишу. У меня вчерне все готово. — Ну вот, — сказала Милиция. — Мы с вами знакомы и теперь будем разговаривать. Разве не чудесно, что я вчера была старухой, а сегодня молода? — Чудесно, — сказал Малюжкин. — У вас чудесные зубы. — Фу, это говорят только некрасивым девушкам, чтобы их не обидеть, — сказала Милиция и засмеялась так звонко, что машинистки нахмурились. — Нет, что вы, у вас красивые руки, и волосы, и нос, — сказал Малюжкин. Он хотел было продолжить перечисление, но тут зазвонил телефон, и редактор, не желавший ни с кем разговаривать, все-таки поднял трубку и сказал резко, чтобы отвязаться: — У меня совещание. Трубка забулькала отдаленным человеческим голосом, и Малюжкин, не положивший ее вовремя, стал слушать. Миша подмигнул Милиции, считая, что дело сделано, а та подмигнула в ответ, ибо была довольна своей красотой. — Да, — сказал вежливым голосом Малюжкин. — Конечно. В завтрашнем номере, товарищ Белов. Я сам этим займусь, лично… Я отлично понимаю. Наше упущение, товарищ Белов… Голос в трубке все урчал, и понемногу лицо Малюжкина собиралось в обычные деловые морщины, а волосы, завернувшиеся было в тугие цыганские завитки, на глазах распрямлялись и ложились организованно по обе стороны пробора. — Отразим, разумеется, будет сделано, — сказал он наконец и повесил трубку. — Вот, — сказал он, глядя на Милицию, и потрогал пальцем кончик носа. — Такие дела. Передовица идет о прополке. Ясно, Стендаль? О прополке, а не о подготовке школ. Со школами еще не горит. Наше упущение. Самим следовало догадаться. Позовите ко мне Степанова. Одна нога здесь, другая — там. Пусть захватит график прополки. — Как же? — спросил Стендаль. — А статья? — Да-да, — сказал Малюжкин. — Очень приятно было познакомиться. Всегда рад. Иди же, Стендаль! Время не ждет. В газете главное — сохранять спокойствие. Ясно? В голосе Малюжкина была настойчивость. Стендаль не смог ослушаться. Вышел в коридор и нашел Степанова. Степанов задавал вопросы, касающиеся девушки, но Стендаль не отвечал. — Пошли, — сказал он. — Передовую будете писать. Зайдите в отдел, возьмите данные по прополке. Одна нога здесь, другая — там. Так сказал шеф. — Я же в самом деле омолодилась, — говорила Милиция редактору, когда Стендаль вернулся в кабинет. Малюжкин поднял на Стендаля обиженные глаза — его отвлекали от дела. — Завтра чтобы быть на работе вовремя, — сказал он Мише. — Но мне же Александр Сергеевич Пушкин стихи в альбом писал! — повторяла Милиция. — Личные стихи. Только мне. И нигде их не печатал. — Очень любопытно, — сказал Малюжкин. — Оставьте альбом, посмотрим. Поместим в рубрике “Из истории нашего края”. Хорошо? Значит, по рукам. Молодцы, что стихи разыскали! И Малюжкину, переключившемуся на прополку, казалось, что он хорошо обошелся с посетителями. — Вы не волнуйтесь, мы стихов не затеряем, понимаем ценность, девушка. — Вы звали? — спросил Степанов, глядя на Милицию Бакшт. Малюжкин проследил за взглядом вошедшего сотрудника, что-то забытое шевельнулось в сердце, и он сказал: — Сюда, Степанов, садись. Данные по прополке захватил? Звонили, надо срочно. Так что понимаешь… — Ну, мы пошли, — сказал печально Стендаль. — Конечно, конечно… — сказал Малюжкин, вожделенно глядя на графики в руке Степанова. Малюжкин любил газету и любил газетную работу. Обида прошла. — Не задерживайся! — крикнул он вслед Стендалю и забыл о нем. Хлопнула дверь за посетителями. Колыхнулись тюлевые занавески на окне. Степанов пожалел, что девушка ушла, в такую жару писать о прополке не хотелось. Хотелось на пляж. Он подвинул к себе раскрытый альбом в сафьяновом переплете. Почерк на желтоватой странице был знаком. Рядом той же рукой был нарисован профиль только что заходившей девушки. — Это ее альбом? — спросил Степанов. Малюжкин удивился, но ответил: — Ее. Говорит, Пушкин писал. — И он хихикнул. — В “Красном знамени” все агрегаты простаивают, а в сводке завышают. А? Каковы гуси?.. Конечно, это был почерк Пушкина. Или изумительная, совершенная подделка, которой место в музее Пушкина в Москве. “Оставь меня, персидская княжна…” — прочел Степанов. — “Оставь меня, персидская княжна…” — прочел он еще раз, вслух. — Потише, — предупредил Малюжкин. — Не отвлекайтесь стихами. Степанов не слышал: он шевелил губами, разбирал строки дальше. Этого стихотворения он не знал. И никто не знал. Степанов был первым в мире пушкинистом, читающим стихотворение, которое начиналось словами: “Оставь меня, персидская княжна…” — Это же открытие! — сказал он. — Мировой важности, надо писать в Москву. Завтра прилетит Андроников. — Что вы, сговорились, что ли? — возмутился Малюжкин. — Давай по-товарищески, Степан. Кончим передовицу — звоним Андроникову, Льву Толстому, Пушкину, выпиваем по кружке пива — что угодно! Послушай начало: “Полным ходом идет прополка на полях колхозов нашего района”. Не банально? Но Степанов не слышал, так же как за несколько минут до этого Малюжкин перестал слышать и видеть Милицию Бакшт. Степан Степанович Степанов был одержим Пушкиным. Он был одержим упорной надеждой узнать о великом поэте все и, изучая каждое слово, сказанное им, распорядок каждого дня его жизни, терпеливо ждал, когда судьба смилостивится и подарит ему открытие в пушкинистике, открытие случайное, находку, ибо закономерные открытия там уже все сделаны. Прошло тридцать лет, с тех пор как Степан Степанов, отыскав на чердаке старого дома первое издание “Евгения Онегина”, стал солдатом маленькой интернациональной армии пушкинистов. Степан Степанович постарел, обрюзг, страдал печенью, одышкой, похоронил жену, вырастил дочь Любу, и та вот уже выходит замуж, но открытие не давалось. Ни сам Пушкин, ни его родственники, ни друзья-декабристы не бывали в Великом Гусляре и не оставили там дневников, записных книжек и устных воспоминаний. Но Степанов искал, посещал забытые пыльные чердаки, за бешеные деньги покупал редкие издания, поддерживал переписку с Ираклием Андрониковым и пастором Грюнвальдом в Швейцарии, изучил два европейских языка, не продвинулся по службе, а открытие все медлило, не приходило. И вот неизвестные строки Пушкина, сами, без всяких усилий со стороны Степанова, оказавшиеся перед ним. Степанов грузно поднялся со стула, держа на вытянутой руке альбом в сафьяновом переплете, и подошел к окну, к свету, чтобы под солнцем убедиться в том, что счастье в самом деле посетило его, что одно из решающих открытий в пушкинистике второй половины двадцатого века сделано именно им. — Сядь, — догнал его голос Малюжкина. — Послушай: “Однако в отдельных хозяйствах темпы прополки недостаточно высоки”. Или, может, написать просто — “невысоки”? Или “низки”? — Кто та девушка? — спросил Степанов. — Какая девушка? — Девушка, которая к тебе приходила. С Мишей Стендалем. — Так ты у нее и спроси. Почему у меня? Не знаю я никакой девушки. Малюжкин тоже был одержимым человеком. Он был одержим желанием сделать газету самой лучшей в области. — Так, — сказал Степанов, стряхнул пепел с мятых брюк, с трудом стянул на обширном животе расстегнувшуюся пуговицу и, громко запев: “Оставь меня, персидская княжна…” — ушел из кабинета главного редактора, убыстряя шаги, протопал по коридору и выскочил на улицу. Малюжкин посмотрел ему вслед и обиделся до слез.24
Милиция со Стендалем доплелись до пивного ларька, у которого под разноцветными пляжными зонтиками стояли шаткие столики с голубым пластиковым верхом. Миша отстоял в очереди, поставил на столик две кружки с шапками теплой пены. Он был разочарован в жизни и в идеалах. — Что же, не оценили нас? — спросила Милиция. — Я совершил тактическую ошибку, — сказал Стендаль, не зная еще, в чем она заключалась. — Сначала я ему понравилась, — сказала Милиция. Стендаль пил пиво, морщился. — Придется прямо в Москву, — сказал он. — И Великий Гусляр останется никому не известным, заштатным городком. И они будут кусать себе локти. Пускай кусают. — Немного он все-таки прославится, — сказала Милиция. — Я же здесь жила. — Она улыбнулась. Она шутила, хотела развеселить Стендаля. — Все уладится, — сказала она. — И никто не верит, — сказал Стендаль. — Даже в милиции Удалову не поверили. А мне в газете. Что мы, проходимцы, что ли? Вот Грубин побежал опыты ставить, чтобы ничего не упустить. И вы тоже не только о себе думаете. Ведь правда? — Ага, — сказала прекрасная Милиция. — Смотрите, тот смешной дядька бежит. По площади бежал, вертел головой мягкий, колышущийся мужчина, голый череп которого выглядывал из войлочного венца серых волос, как орлиное яйцо из гнезда. У мужчины были толстые-актерские губы и нос римского императора времен упадка. Под мышкой он держал большой альбом. Весь он, от нечищеных ботинок, за что его журил Малюжкин, до обсыпанного пеплом пиджака, являл собой сочетание неуверенности, робости и фантастической целеустремленности. — Мой альбом несет, — сказала Милиция. — Это Степан Степанов, — сказал Миша Стендаль. — Они спохватились. Они поняли и разыскивают нас. Сюда! — махал рукой Стендаль, призывая Степанова. — Сюда, Степан Степаныч! Степанов протопал к столику. Очень обрадовался. — А я вас ищу, — сказал он, придавливая к земле стул, — вернее, вашу спутницу. Я уж боялся, что не найду, что мне все почудилось. — Вас Малюжкин все-таки прислал? — спросил утвердительным тоном Стендаль. — Какой Малюжкин? Ни в коем случае. Он, знаете, резко возражал. Он не осознает. Девушка, откуда у вас этот альбом? — Это мой альбом, — сказала Милиция. Степанов подвинул к себе кружку Стендаля, отхлебнул в волнении. — А вы знаете, что в нем находится? — спросил Степанов, сощурив и без того маленькие глазки. — Знаю, мне писали мои друзья и знакомые: Тютчев, Фет, Державин, Сикоморский, Пушкин и еще один из земской управы. — Пушкин, говорите? — Степанов был строг и настойчив. — А вы его читали? — Конечно. У вас, Мишенька, все в редакции такие чудаки? — Если Степаныч не убедит главного, никто этого не сделает, — сказал Миша, в котором проснулась надежда. — И не буду, — сказал Степанов. — А вы знаете, девушка, что это стихотворение нигде не публиковалось? — А как же? — удивилась Милиция. — Он же мне сам его написал. Сидел, кусал перо, лохматый такой, я даже смеялась. Я только друзьям показывала. — Так, — сказал Степанов, задыхаясь, допивая стендалевское пиво. — А если серьезно? Откуда у вас, девушка, этот альбом? — Объясни ему, — сказала Милиция. — Я больше не могу. — Альбом — это только малая часть того, что мы пытались втолковать Малюжкину, — сказал Стендаль, подвигая к себе кружку Милиции. — Дело не в альбоме. — Не сходите с ума, — сказал Степанов, — дело именно в альбоме. Ничего не может быть важнее. — Степан Степаныч, — сказал Стендаль, — вы же знаете, как я вас уважаю. Никогда не шутил над вами. Послушайте и не перебивайте. Вы только, пожалуйста, дослушайте, а потом можете звонить, если не поверите, в сумасшедший дом и вызывать “скорую помощь”… Когда Стендаль закончил рассказ о чудесных превращениях, перед ним и Степановым стояла уже целая батарея пустых кружек. Их покупала и приносила Милиция, которой скучно было слушать, которая жалела мужчин, была добра и не спесива. Продавщица уже привыкла к ней, отпускала пиво без очереди, и никто из мужчин, стоявших под солнцем, не возражал. И странно было бы, если бы возразил, — ведь раньше никто из них не видел такой красивой девушки. — А альбом? — спросил Степанов, когда Миша замолчал. — Альбом заберем в Москву. Как вещественное доказательство, — сказал Миша. — Как только соберем денег на билеты. — К Андроникову? — Там придумаем, может, и к Андроникову. — Он его получит от меня, — сказал Степанов. — Я еду с вами. — Как можно? — удивился Стендаль. — Неужели вы нам не верите? — Я буду предельно откровенен, — сказал Степанов, поглаживая сафьяновый переплет. — Мне хотелось бы встретиться, чтобы развеять последние сомнения, с Еленой Кастельской. Имею честь быть с ней знакомым в течение трех десятилетий. Если она ваш рассказ подтвердит, сомнения отпа-дут. — Вы ее можете не узнать, — сказал Стендаль, — ей сейчас двадцать лет. Как и мне. — А я ей задам два—три наводящих вопроса. К примеру, кто, кроме нее, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за ассигнование на реставрацию церкви Серафима. Я тоже не лыком шит. — Вы голосовали, — сказала Милиция. — Пива еще хотите? — Я, — сознался Степанов и очень удивился. — Спасибо. Пойдем? — А не кажется ли вам, — спросил осмелевший и преисполнившийся оптимизмом Стендаль, — что все это сказочно, невероятно, таинственно и даже подозрительно? — Послушайте, молодой человек, — ответил с достоинством Степанов, — на моих глазах родились телефон и радио. Я собственными глазами видел фотокопию пушкинского письма, обнаруженного недавно в небольшом городе на Амазонке. Почему я не должен доверять уважаемым людям только потому, что чувства мои и глаза отказываются верить реальности? Человеческие чувства ненадежны. Ими не постигнешь даже элементарную теорию относительности. Разум же всесилен. Обопремся на него, и все станет на свои места. В таком случае стихотворение получает хоть и необычное, но объяснение, а это лучше, чем ничего.25
— Елена Сергеевна, — сказал от двери Стендаль, пропуская Милицию и Степанова вперед, — скажите, кто, кроме вас, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за срочные ассигнования на реставрацию церкви Серафима? — Степанов, — ответила Елена Сергеевна. — Узнал, — сказал Степанов. — Я бы и без этого узнал. Вы вообще мало изменились. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Поздравляю с перевоплощением. — Степан Степанович, как я рада! — сказала Елена. — Хоть живая душа. А то мы очутились в каком-то ложном положении. — По ту сторону добра и зла, — сказал Алмаз Битый с полу. Он строил вместе с Ваней подвесную дорогу из ниток, спичечных коробок и различных мелких вещей. Ноги Алмаза упирались в стену, ему было неудобно лежать, но иначе не управишься. Степанов заполнил комнату объемистым телом, положил на стол альбом. — Весьма сочувствую, — сказал он. — Только что был свидетелем очередной неудачи наших юных друзей в редакции. Одно дело мечтать о синице в небе, лежа на диване, другое — догадаться, что это именно она опустилась к тебе на подоконник, и протянуть руку. — Битый, — сказал Алмаз, поднимаясь с пола, как молодой дог: медленно подбирая под себя и распрямляя могучие члены. — Один из виновников происшедшего. Но не раскаиваюсь. — Как же, как же, — согласился Степанов. — С вашей стороны благородно было поделиться таким интересным секретом. — Не хотел я сначала, — сказал Алмаз. — Думал, произойдут от этого только неприятности. — А сейчас? — спросила Елена. — Сейчас поздно раскаиваться. Но кто мне ответит, нужна ли людям вечная молодость? К ней тоже привыкнуть надо. — А вы привыкли? — Не сразу, — сказал Алмаз. — Настоящая молодость бывает только один раз. Пока ты не знаешь, что последует за ней. — Это правильно, — согласилась Елена. — Но ты не расстраивайся, — сказал Алмаз. — Я тебя увезу в Сибирь. Дело найдется. Вот вы, — обратился он к Степанову, — вы уже все о наших приключениях знаете, согласились бы сейчас, если бы зелье сохранилось, присоединиться к нам? — Не знаю, — сказал медленно Степанов. — Нет, наверно. Меня вполне устраивает мой возраст. Может, только, чтобы похудеть немного. Лишний вес мешает. — Ну это ничего, — сказал Стендаль. — В Москве устроим вас в институт питания. Станете Аполлоном. У нас будут большие связи в медицинском мире. И вообще все великие открытия сначала вызывали возражения, столкновения, споры и так далее. Может быть, в Москве, когда мы явимся с рецептом вечной молодости, хотя и с неполным рецептом, нам не все поверят. И даже те, кто поверит, поверят не сразу. — Но я же поверил, — сказал Степанов. — Больше того, зная о ваших временных финансовых затруднениях, согласен пойти навстречу. Человек я одинокий, и есть у меня кое-какие сбережения. Потом, будете при деньгах, отдадите. — Вот это правильно, — сказал Алмаз. — Степан Степаныч — пушкиновед, — сказал Стендаль. — Он нас признал, когда с альбомом ознакомился. — Да, я интересуюсь творчеством Александра Сергеевича. — Милиция с ним была знакома, — сказал Алмаз. — Знаете, как-то трудно поверить, — сознался Степанов. — Хоть я и поверил. — А мне лично с Пушкиным сталкиваться не приходилось, — сказал Алмаз. — Хотя был в то время в Петербурге. Я в январе тридцать седьмого возвращался в Россию из Парижа. И должен был в Санкт-Петербурге встретить одного человека, передать ему письма и деньги. А человека я того знал еще с совместного пребывания па Дворцовой площади в двадцать пятом… — Вы имеете в виду Декабрьское восстание? — спросил Степанов. — Конечно, — сказал Алмаз. — С ума сойти, — сказал Степанов. — Знаете что, — сказал Алмаз, — если вы собрались идти за билетами, лучше это сделать сейчас. А то билетов не окажется…26
Грубин чувствовал ответственность перед человечеством. Призвание, проснувшееся в нем утром, требовало дела. И он снова ушел в работу, как ныряют в воду. Он думал о том, как вовремя пришла к нему счастливая мысль взять кровь у всех участников эксперимента и наскрести влажных щепок с еще не совсем просохшего пола. Потом все это приведет к открытию, изменившему облик Земли, имя Грубина затеряется среди тридцати трех лауреатов премии, присужденной за удивительное открытие в биологии. А может, его имени там и не будет. Но Грубин уже никогда не вернется к прежнему существованию, к деловитому безделью ушедших дней. — Савич, что за окном увидел? — спросил Грубин, заметив, что тот отвлекся от промывки предметных стекол. — Время идет. — Ага, — сказал Савич. Движения его были профессиональны, правильны, но автоматичны. Голова Савича была занята лихорадочным мыслительным процессом, поисками собственного места в новой жизни. Места не находилось. Хотелось к Елене. А может быть, к Ванде. Ворон бродил вокруг аквариума, заглядывал в стекло, постукивал по нему клювом — пугал рыбок — и старался стянуть с аквариума пиджак. Но не очень старался: в самом деле понимал, что рыбки дороги хозяину. Просто шутил. Посреди комнаты валялась баночка из-под майонеза, под кроватью слышалась возня. Оттуда вылезли три крупные мыши, покосились на ворона, выкатили четвертинку из-под водки и, как только ворон повел клювом в их сторону, прыснули обратно под кровать. Ворон слетел на пол, приподнял клювом край одеяла, заглянул туда и вернулся к рыбам. — У вас мыши, — сказал Савич. — Ага, — ответил Грубин. — Удельный вес — три и два. Как ты думаешь, вот этот пресс подойдет? — Для чего? — спросил Савич. — Выдавить из щепочек жидкость. — Не знаю, — сказал Савич. — А может, промыть их водой? Будет водный раствор. — Как хочешь, — сказал Савич. — Почему ты мышей не травишь? — А? Они же прирученные. Они мне старую посуду таскают. А я им за это плачу. По таксе, как в пункте. Двенадцать копеек поллитровая бутылка. — Чепуха какая-то, — сказал Савич. — Зачем мышам деньги? — Мало ли зачем! Покупают чего-нибудь, копят. Я не знаю. Они деньги любят. Без денег никогда бы таскать не стали. Только вот не разбираются, с щербинкой бутылка или целая. Что с ними делать, не знаю. И вообще без меня, пока в Москве буду, совсем распустятся. — Вы не шутите? — спросил Савич. — Прравда, прравда, — сказал ворон. — А чего шутить? Некогда шутить. У меня способность обращаться с животными… Так сделаем водный раствор? Я боюсь, что щепочки совсем просохнут, испарится все. — Валяйте. Образцы крови готовы, можете посмотреть. — Да вы сами пока посмотрите, вы же понимаете, где эритроциты, где лейкоциты. Чуть что — меня зовите. Надеюсь, что в крови чего-нибудь найдется. Вот только забыл для сравнения у здорового кровь взять. — Ничего, я разберусь, если что-нибудь явное, — сказал Савич. — Все равно делать нечего. В делах и занятиях прошел еще час. Солнце опустилось и било лучами прямо в окно. В комнате было жарко, со двора доносились голоса — мужчины вышли к крепкому столу, стоявшему под сиренью, разбрасывали, перемешивали костяшки домино. Савич подошел к окну и тут увидел входившего во двор мальчика в штанишках с помочами, в котором он сразу узнал несчастного Удалова. — Смотри, — сказал Савич Грубину. — Преступника тянет на место преступления. В этот самый момент кто-то из играющих в домино под сиренью спросил громко: — Как там, Ксения? Не нашелся еще твой? Из окна прямо над головой Савича женский голос произнес сурово и холодно: — Пусть только попробует явиться! За все ответит. Его ко мне с милицией приведут. Лейтенант такой симпатичный, лично обещал. Грубин прошептал, стараясь держаться ближе к раме, чтобы со двора не было видно: — Дурак, как его только наши там отпустили? Он не знал, что мучимый тоской по дому и виной перед семьей Удалов совершил второй за день побег. Он готов был принять любое наказание, потому что понял, что единственным человеком, могущим помочь ему, была Ксения. Удалова хватились не сразу, — именно тогда пришел Степанов и отвлек Елену от мальчика. — Ксения! Ксюша! — позвал Удалов, остановившись посреди двора. Доминошники прервали стук. Из окна напротив женский голос помог Удалову: — Ксения, тебя мальчонка спрашивает. Может, новости какие? — Ксения! — рявкнул один из игроков. — Выгляни в окошко. — Ксюша, — мягко сказал Удалов, увидев в окне родное лицо. — Я вернулся. — Чего тебе? — спросила Ксения взволнованно. — Я вернулся, Ксения, — повторил Удалов. — Я к тебе совсем вернулся. Ты меня пустишь? Доминошники засмеялись. Заподозрили неладное и даже смешное в словах худенького мальчика. — Ты от Корнелия? — спросила Ксения. — Я от Корнелия, — сказал мальчик. — Я и есть Корнелий Ты меня не узнаёшь? — Он! — закричал другой мальчишеский голос. Это высунувшийся в окошко Максимка, сын Удалова, узнал утреннего грабителя. — Он меня раздел! Мама, зови милицию! — Придется, наверно, выручать, — сказал Грубин. Это нарушало его планы. Но друга оставлять в беде нельзя. — Подождите, — сказал Савич. — Вы забыли о собственном облике. Он, наверно, успеет убежать. — Хулиганье! — сказала Ксения. — Сейчас я спущусь. — Никогда не прыгай выше себя, — задумчиво сказал Савич. — Жизнь должна идти по своим постоянным законам. — Да нет, он просто невезучий, — возразил Грубин. — Он оторвался от своей жизни и не нашел себя в новой. Как я. А теперь что? С моста в речку? — У нас здесь мостов нету, — сказал Грубин. — Только перевоз. — Я не виноват, — сказал Корнелий и не смог удержать слез. — Меня помимо моей волн… Я свидетелей приведу… — Смотри-ка, как на Максимку твоего похож, — сказал один из доминошников. — Как две капли воды. — И правда, — сказала женщина с того конца двора. — Я же муж твой, Корнелий! — плакал мальчик. — Я только в таком виде не по своей воле… Корнелий двинулся было к дому, чтобы подняться по лестнице и принять наказание у своих дверей, но непочтительные возгласы сзади, смех из раскрытых окон — все это заставило задержаться. Мальчик взмолился: — Вы не смейтесь… У меня драма. У меня дети старше меня самого. Это ничего, что я внешне изменился. Я с тобой, Матвеич, позавчера “козла” забивал. Ты еще три рыбы подряд сделал. Так ведь? — Сделал, — сказал усатый доминошник. — А ты откуда знаешь? — Как же мне не знать? — сказал Удалов. — Я же с тобой в паре играл. Против Васи и Каца. Его нет сегодня. Это все медицина… Надо мной опыт произвели, с моего, правда, согласия, и может, даже очень нужный для науки, а у меня семья… — Глас вопиющего в пустыне, — сказал Савич. Ксения тем временем спустилась во двор. В руке она держала плетеную выбивалку для белья. Максимка шел сзади с сачком. — А ну-ка, — сказала она, — подойди поближе. Корнелий опустил голову, приподнял повыше узкие плечики. Подошел. Ксения схватила мальчишку за ворот рубашки, быстрым, привычным движением расстегнула лямки, спустила штанишки и, приподняв ребенка в воздух, звучно шлепнула его выбивалкой. — Ой! — сказал Корнелий. — Погодила бы, — сказал Матвеич. — Может, и в самом деле наука. — Он самый! — радовался Максимка. — Так его!.. Неожиданно рука Ксении, занесенная для следующего удара, замерла на полпути. Изумление ее было столь очевидно, что двор замер. На спине мальчика находилась большая, в форме человеческого сердца, коричневая родинка. — Что это? — спросила Ксения тихо. Корнелий попытался в висячем положении повернуть голову таким образом, чтобы увидеть собственную спину. — Люди добрые, — сказала Ксения, — клянусь здоровьем моих деточек, у Корнелия на этом самом месте эта самая родинка находилась. — Я и говорю, — раздался в мертвой тишине голос Матвеича, — прежде чем бить, надо проверить. — Ксения, присмотрись, — сказала женщина с другой стороны двора. — Человек переживает. Он ведь у тебя невезучий. Корнелий, переживший и позор и боль, обмяк на руках у Ксении, заплакал горько и безутешно. Ксения подхватила его другой рукой, прижала к груди — почувствовала родное — и быстро пошла к дому. — Не могу я больше, — сказал вдруг Савич. — Ты чего? — удивился Грубин. — Я пошел. — Куда? — К Ванде. Она без меня, наверно, скучает.27
Был поздний вечер, и поезд уже подходил к Ярославлю. За окнами висела короткая летняя синь, и деревья отмахивались черной листвой от страшных в спешке вагонов. За полуоткрытыми, чтобы не так было душно, дверями купе вздыхали, ворочались, метались в кошмарах пассажиры из Великого Гусляра. Алмаз заглянул в купе, где спала Ксения Удалова. Она протянула руку через проход на полку, где валетом лежали ее сын и муж, — берегла, чтобы не свалились. — И как только Грубин их уговорил? — сказал он тихо стоявшей рядом Елене. — Ксении кажется, что с Удаловым случилась болезнь, — ответила та. — Вот и надеются на московских врачей. — Зря надеются, — сказал убежденно Алмаз. — Придется ей воспитывать мужа вместе с Максимкой. Только как со школой быть, не знаю. — Корнелийплохо учился, — сказала Елена. — Я помню. — По нему видно. Пойдем в тамбур, покурим. — Я не курю. — Ну, постоишь со мной. Дверь в тамбур отворилась наотмашь, оглушили влетевшие в тишину вагона стуки колес. В тамбуре было прохладнее. — Удивительная история, — сказала Елена. — Если бы рассказали, никогда не поверила. Почему именно я? Ведь на свете три миллиарда людей, и многие отдали бы все, чтобы оказаться на моем месте. — Закон, подобный лотерее, — сказал Алмаз. — Счастливый билет. — Не для всех оказался счастливым. — Стотысячный выигрыш тоже можно пропить или в карты проиграть. Потом с тоски повеситься. Желтыми звездами замелькали фонари, потом было обширное теплое светлое пятно полустанка. Поезд чуть замедлил ход. — Что будет дальше? — спросила Елена. — Что будет с нами? — Хочешь в будущее заглянуть? — спросил Алмаз, затягиваясь. — Могу оказать помощь. — Ты еще и провидец? — А как же? Проживешь с мое — научишься. — Ну расскажи тогда, что будет со мной. — С тобой самое простое. Ты выйдешь за меня замуж. Не сейчас, не сразу, даже не через год. И уедешь. В Сибирь. — Ты не провидец, Алмаз, — сказала Елена. — Ты спекулянт. Ты спекулируешь на доверчивости наивной девушки. — Взялась слушать — слушай, — сказал Алмаз. — Я, значит, останусь какой есть. Ввяжусь в неприятности и приключения. И ближайшие пятьдесят — семьдесят лет заняты у меня до предела. — Расскажи теперь о других. — О других? Наш друг Грубин пойдет по научной части. Далеко пойдет. Станет в конце концов членом-корреспондентом Академии наук. И чудаком. Чем старше, тем чудаковатее. Галоши будет не на ту ногу надевать, выходить под дождь без шляпы. А супруга его будет выбегать во двор и кричать: “Саша, ну что мне с тобой делать!” — Милиция? — спросила Елена. — Нет, Милиция за него не пойдет. Упорхнет, закружится в московском водовороте. Заведет себе новый альбом, и какой-нибудь поэт напишет туда строки: “Оставь меня, княжна персидская”. — Про Савичей не говори, сама знаю, — сказала Елена. — Не знаешь. Они недолго вместе проживут. Испугаются снова пройти весь путь, уже пройденный ими. Другого они себе не нашли и не найдут. Вот и расстанутся. Из чувства самосохранения. И Савич будет вздыхать о тебе. А ты о нем забудешь. — Хватит о нем, — сказала Елена. — Кто еще у нас остался? — Корнелий Удалов в конце концов вырастет. Привыкнет. Будет очень популярен на телевидении. Выступать станет как жертва, принесенная науке. И постепенно привыкнет к тому, что он жертва, что он сознательно пошел на опасный эксперимент и так далее… Стендаль напишет свою коронную статью. Когда будет приходить в Дом журналиста, гардеробщики будут встречать его по-приятельски, молодые журналисты будут спрашивать: “Кто это, похожий на Грибоедова?” И старшие товарищи им ответят: “Это Стендаль. Помнишь статью “Чудесный эликсир”? С нее все и началось — его работа”. И молодые журналисты будут смотреть на него с завистью, потому что каждому хочется написать статью, которая из газетной однодневки перекочевала бы в бессмертие. А Малюжкин, гуслярский редактор, будет до самой смерти мучиться, объяснять приятелям: “Сами понимаете, прополка…” — Про Стендаля ты много рассказал. А Шурочка? Все-таки моя ученица. — Шурочка поступит в институт, станет историком, выйдет замуж, родит троих детей, похожих на нее, как три капли воды. Но работу не бросит, совмещать будет с семейными обязанностями… — Выдумщик ты, — сказала Елена. — Прохладно становится. Пора спать. Завтра Москва. Даже не представляю, как и что будет там. — Там будет многое. Можно написать целую повесть, которая начнется с нашего выхода на перрон Ярославского вокзала и кончится в специальном институте, созданном для решения проблемы омоложения. В ней будут и приключения, и трагедии, и веселые анекдоты. — Зачем институт? — удивилась Елена. — Ведь Грубин с Савичем полдня вчера сидели, опыты проводили по восстановлению эликсира. — Этого мало, — сказал Алмаз. Погасил папиросу. — Насколько я могу заглянуть в будущее, ученые трудятся и трудятся. Со временем добьются определенных успехов. Надейся. — Как обидно. Может, мы зря едем в Москву? Зачем ехать… — Да потому, что не ехать мы уже не можем. Колесо истории вертится только в одну сторону. И не беспокойся — будет со временем эликсир для всего человечества. Со временем. Для грядущих поколений. Главное, чтобы люди поняли, что это возможно. — Все равно жалко. А я думала… — Ну, тогда я пошутил. Через год, считай, эликсир будет готов, и ты сможешь купить его в аптеке за рубль. Теперь довольна? Они вернулись в вагон. Елена пошла к себе. Алмаз задержался в коридоре. Там его подстерегал Степан Степанов. Степанов не выпускал из рук альбома. — Вы собираетесь спать? — спросил он Алмаза. — Нет, не спится, — ответил тот. — Вот и отлично, — обрадовался Степанов. — Вы упомянули о своей связи с декабристами. Не могли бы вы в двух словах рассказать, как это произошло? Последнее, что услышала Елена, засыпая, был глухой голос Алмаза: “С Кюхельбекером я познакомился совсем случайно…”
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ ЛИШЬ БЫ НЕ ОПОЗДАТЬ Короткая, повесть в десяти эпизодах
25 сентября 196… года в толстый журнал регистрации дежурного ГАИ по городу Москве твердым крупным почерком было записано два происшествия. Первое случилось в 18.50 на одной из больших площадей, расположенных по улице Горького. Второе — в 19.30 на Беговой улице при выезде из туннеля, что пролегает под Ленинградским проспектом. В первом случае легковой автомобиль марки “Волга”, принадлежащий индивидуальному владельцу, получил сильные повреждения. Во втором — транспорт не пострадал. И в том и в другом случае водители машин остались живы, отделавшись ушибами. В первой аварии погибло трое, во второй — один человек, тем не менее первого водителя оправдали, а второго спустя восемь месяцев по приговору суда расстреляли. Казненный получил по заслугам — это был убийца. Виновник же гибели троих наказания не понес. Он и ныне спокойно занимается своими делами. Совесть его не мучает. Но попробуйте заговорить с ним о шоферах-пьяницах, лихачах, нарушителях — вам станет не по себе от ненависти, звучащей в голосе этого человека. Он считает, что всех их надо расстреливать, нет, лучше вешать, всех до одного! Такие чувства можно понять — те, кого эта девушка так ненавидит, отняли у нее жизнь любимого человека. А что может быть дороже? Разве что своя жизнь, да и то не всегда. Как ни печально, происшествия, о которых рассказывается в этой короткой повести, действительно были. И люди, о которых идет речь, существовали или существуют. Быть может, они не совсем такие, какими их описывает автор, и не совсем так провели тот роковой день, и наверняка иные у них имена, но, в конце концов, разве это так уж важно? И разве не имеет автор определенное право на творческую фантазию? Вот и разрешите мне воспользоваться этим правом.ЛЕНА
— Ой, девчонки, как в кино! Честное слово! Ох… Лена задыхалась не столько от смеха, сколько от переполнившего ее желания поделиться сенсацией. Их было трое: Валя, серьезная и обстоятельная, Нина, доверчивая и восторженная, и Лена, легкомысленная и самоуверенная. Во всяком случае таковы были неофициальные характеристики, которые выдало им общественное мнение курса. Были, разумеется, отклонения, как и во всяком общественном мнении, так сказать, крайние точки зрения. Ну, например, Олег считал, что Нина жестока и коварна, а Юрка обвинял Валю в легкомысленном и несерьезном отношении к его большим и вечным чувствам. Многие девочки находили за Леной кое-какие грехи, но, наверное, сами грешили против объективности, потому что была Лена уж слишком красивой и слишком нравилась всем мальчикам. Но общественное мнение, хоть и составляется из мнений индивидуальных, все же, как правило, отражает действительную картину, так как крайние точки зрения отбрасывает, как в судействе по фигурному катанию. Общались друг с другом на курсе все, но одни дружили больше, другие меньше. Валя, Нина и Лена составляли одну из самых дружных компаний. Вместе ездили в институт, поскольку жили в одном доме, вместе готовились к занятиям, вместе обсуждали (и порой решали) мировые проблемы: например, где встречать Новый год, какое надеть платье и как сказать Юрке, что взаимных чувств к нему нет… Секретов друг от друга у подруг не было, хотя каждое признание начиналось с неизменного требования: “Только дай честное слово, что никому…” В середине сентября особенно заниматься было нечего, но эта зануда-лексичка задала составить диалог. Проект основы — выражаясь парламентским языком — был, как всегда, составлен Валей; Нина внесла в него немногочисленные, но полезные поправки, а когда все было готово, тоже как всегда, примчалась с опозданием Лена. Лена действительно была очень красивой — высокой, с хорошей фигурой, с блестящими черными волосами, спускавшимися по новой моде до середины спины; юбка, которая, по выражению Олега, была “миней мини”, обнажала загорелые после южного отдыха ноги. Губы Лена не красила, они и так у нее были яркими. Зубы на загорелом лице сверкали, черные глаза сверкали, сверкало какое-то огромное кольцо, подаренное ей, как она таинственно намекала, отвергнутым вздыхателем, а в действительности купленное за четыре рубля на сочинском базаре у цыганки. Словом, Лена вся сверкала. — Погоди… — Валя недовольно наморщилась. — Вот мы тут составили… — Ой, Валька, ну ты не можешь подождать со своим диалогом! Ей-богу, девчонки, такое дело… — Но ведь завтра… — Ну, послушай, Валь, ну, пожалуйста! Я чуть в милицию не попала. — Ой! — испуганно пискнула Нина. Столь невероятное сообщение заставило замолчать даже строгую Валю. — Только не ворчите. — Лена понизила голос до шепота. — И потом, дайте честное слово, что никому, даже… — Да что ты, правда, мы ж могилы, — запротестовала Нина, — уж по части хранения тайн ты нас с Валькой знаешь… — Вот именно, знаю. Ну да ладно, — смилостивилась Лена. — Помните, я в среду мрачная пришла? Ну когда декан заболел, ну же, ну кофточка на мне была гипюровая, ну… — Ну помню, — сказала Валя, которая всегда все помнила, — кофточка с отложным… — Вот, вот! — закивала Лена. — Так это потому, что я чуть штраф не заплатила! — Что значит “чуть”? — спросила Валя, не любившая незаконченных формулировок. — Да забыла в автобусе пятак опустить, ну забыла, там мальчик такой ехал!.. Словом, забыла. Вдруг контролер подходит. Ей-богу, десять лет езжу, первый раз контролер — как раз когда забыла билет взять… — Ты их никогда не берешь, — заметила Валя. — Сама ты не берешь! Ну, слушайте. Вытаскивают меня на тротуар — хорошо, народу никого, — зовут милиционера; денег у меня нет, документов нет, что я студентка — не верят… Тут как раз проезжает лейтенант на мотоцикле. Милицейский лейтенант. Словом, бросили меня контролеры ему в объятия, а сами в следующий автобус сели и уехали. — Ну и что — он тебя на мотоцикл и в милицию? — с надеждой предположила Нина. — Да нет! Минут десять стояли, он всю дорогу меня пилил: студентка, а без билета, и документов не возит, и правила нарушает, и т. д. и т. п. Я слушаю и не пойму: то ли он серьезно, то ли смеется. Брови нахмурил, но я чувствую, внутри улыбается… — Про себя, — поправила Валя. — О господи, ну про себя! Отчитал и говорит под конец: “Идите, гражданка, и больше не нарушайте!” Помолчал и добавил: “Документы с собой носите, а то как потом узнать, где такая красавица живет”. И улыбнулся. Он, девчонки, красивый до чего! Рост-ну, ну, ну вот под дверь. Зубы, нос, глаза — как этот, помните, в “Римских каникулах” играл? Ну помните?.. — Грегори Пек, — сказала Вали. — Так он же старый, — разочарованно вздохнула Нина. — Ну, а этот в молодом варианте. — Лена не любила менять своих мнений. — Уехал он, а я стою красная как рак. Хорошо, никого не было, какая-то остановка дикая. Вот. — Ладно, — рассудительно констатировала Валя, — это было в прошлую среду, а сегодня понедельник, так при чем тут… — А при том, что я его сегодня встретила! — торжествующе воскликнула Лена. — Идет — красивый, высокий, штатский. В смысле в штатском костюме. И между прочим, модном! Я его сразу узнала. И он. Подходит как ни в чем не бывало и говорит: “Здравствуйте, товарищ нарушитель! Разрешите представиться — Никитин Валентин” (твой тезка, Валька, слышишь?). Я стою как дура, руку протянула, бормочу: “Лена Зорина. Здравствуйте”. Самой противно, словно опять из автобуса меня вывели. “Вы в институт, Лена Зорина, или из института?” — “Из института”, — говорю. “Тогда разрешите вас пригласить вот хоть сюда, в “Космос”, если вы любите мороженое. Я не долго задержу, просто чтоб вы убедились, что вне службы я не такой уж противный. Пойдемте?” — “Пойдемте”, — говорю. Вот потому и опоздала. — А он влюбился? — с придыханием спросила Нина. Лена смущенно опустила глаза. — А ты влюбилась? — Нина даже скинула туфли от волнения и поджала одну ногу под себя. Последовала новая пантомима — Лена пожала плечами, устремила томный взгляд в потолок… — Ну, а дальше-то что, дальше? — Нина поджала вторую ногу, оперлась на руки Теперь на диване у нее была поза бегуна, приготовившегося к низкому старту, когда команда “Внимание!” еще не последовала. — Знаете, девочки, честное слово, я такого похода интересного еще ни разу не проводила… — “Похода”… — Валя фыркнула. — Ох и выражения у тебя!.. — Ну, в общем, он такой интересный! Он все знает, институт кончил заочно, машину водит, стрелять умеет… — Стрелять умеет? Для милиционера это странно, — иронически перебила Валя. — Нет, честное слово, девчонки, я такого еще не встречала. С ним обо всем можно говорить-все понимает, а анекдотов знает… Вот, например: заходят двое в вагон… — Да погоди ты со своими анекдотами! — Нине не терпелось услышать продолжение. — Чем кончилось-то? Договорились встречаться? — Договорились. Завтра после дежурства идем в кино — Значит, влюбилась, — удовлетворенно констатировала Нина. Но Лена пропустила это замечание мимо ушей. — Проводил меня, — закончила она свой рассказ, — еще цветы купил, телефон записал… — Значит, влюбился, — сказала Нина. — Ну и что? — Лена раскраснелась. — “Влюбился, влюбилась”! У тебя, как у того художника, только две краски: черная и белая… — Бывают и оттенки чувств, — вставила Валя. — Вот именно! — Лена осуждающе посмотрела на Нину. — Оттенки. Может, и влюблюсь, может, замуж за него выйду, и у нас будет сто детей, и все лейтенанты. Пока здорово с ним, пока ни с кем так здорово не было А завтра сходим в кино, и выяснится, что он мне надоел… Или я ему, — закончила она грустно. Обсуждение сенсации заняло весь вечер. Были рассмотрены все возможные варианты будущих встреч, разговоров, признаний, даже предложений выйти замуж. Остановились на разборе вопроса, где молодожены должны жить — у Лены или у Валентина, как его уже все называли, будто старого знакомого.СТАРИК
Степан Степанович Степанов ничем особенным не выделялся. Ну что это за имя, отчество и фамилия — кругом Степан! Степан в кубе. И внешность у него была неприметная: худой, среднего роста, лысоватый; стрелка на весах, после еженедельного субботнего похода в Сандуны, еле до шестидесяти пяти доползает… А уж о профессии и говорить нечего — кассир. Вернее, бывший кассир. Впрочем, нынче общественное положение Степана Степановича было еще более неприметным — пенсионер. Не то чтоб какой-нибудь Феликс или Святослав по имени, Генеральный Конструктор, или стратегический разведчик, или хотя бы заслуженный артист по профессии И чтоб рост метр эдак девяносто, кудри там, бицепсы. Увы, ничего этого не было. Но на жизнь Степан Степанович отнюдь не жаловался. Была жена-старуха, с которой, слава богу, четыре десятка лет душа в душу прожил. Дети были, внук… Были четверть века честной службы без единой недостачи, была за плечами война — долгий путь от Москвы до Вены, одиннадцать наград и ни одного ранения. Мало кто мог поверить, что тихий и не богатырского сложения Степан Степанович всю войну был фронтовым разведчиком, десятки раз ходил во вражеский тыл, захватил небось за четыре года целый батальон “языков”. И, что того удивительней, не получив ни единой царапины. Степан Степанович вел весьма размеренный образ жизни, что свойственно, говорят, многим счетным работникам. По-прежнему, уже выйдя на пенсию, вставал рано, всегда в одно и то же время, шел с внуком гулять, с удовольствием обедал, после обеда посиживал с такими же, как сам, пенсионерами па Тверском бульваре, вспоминая былые дни, былые сражения — военные, футбольные, шахматные. По вечерам надолго засиживался у телевизора. Привычки были прочные, устоявшиеся и многочисленные. В том числе и дарить внуку с пенсии подарок. Каждое пятнадцатое число Степан Степанович, получив в сберкассе № 7982 свои восемьдесят целковых, заходил в магазин детских игрушек, что в двух шагах от сберкассы, и что-нибудь покупал — барабан, мишку, пластмассовую пожарную машину или шашку в ножнах из папье-маше. Возвращаясь домой, заранее радовался, предвкушая зрелище задранного носа-пуговицы, румяных щек и громаднющих синющих глаз, устремленных па деда в радостном ожидании. Вот и сейчас Степан Степанович торопился — до закрытия магазина едва оставалось десять минут, — вспоминая на ходу сенсационное событие. Событие заключалось в том, что встретил он сегодня друга-однополчанина, тоже Степанова, тезку, привел его с собой на бульвар, перезнакомил с другими стариками и долго с наслаждением слушал, как Степанов-2 рассказывал всем о ратных подвигах Степанова-1. Не врал, не преувеличивал, рассказывал честно. Приятно все же. Самому ведь нельзя свои дела комментировать, ну там похвалить кое-где хоть и не грех. Неудобно как-то. А так другой рассказывает, что хочет, то и говорит. Особенно красочно Степанов-2 излагал любимый эпизод военной биографии Степана Степановича, связанный с захватом немецкого капитана. — Да, — не спеша повествовал он, поглядывая на столпившихся у скамейки пенсионеров, — наш Степа время даром терять не любил. Вот был у него случай с капитаном-фрицем. Степан Степанович заранее начал улыбаться, а летописец продолжал свой рассказ. Дело было летом, в период относительного затишья на фронте, когда обе стороны всеми способами старались выяснить намерения друг друга. То и дело разведчики переходили линию фронта, а дня через два-три возвращались обратно, приводя “языка”, принося записи наблюдений. Или не возвращались… В ту ночь сержант Степан Степанов с двумя бойцами сумел пробраться к немцам в тыл — преодолевая колючки, проползли по минному полю, тихо миновали сторожевые посты так близко, что слышали немецкую речь. На рассвете очутились в лесочке, в километре за линией фронта. Тут осуществили задуманную хитрость. Степанов закопал каску, автомат, нацепил на голову окровавленный бинт и, заложив руки за спину, босой, понурый, двинулся по дороге. За ним, одетые в немецкую форму, с автоматами под мышкой шли его бойцы. Один из них, до войны учитель немецкого языка, грозно покрикивал на “пленного”, как только кто-нибудь попадался навстречу. Так разведчики собирались “пройтись” по расположению противника, а в случае удачи на обратном пути прихватить “языка”. Но пройтись пришлось метров пятьсот. Неожиданно за поворотом, скрытым густым кустарником, раздался рокот мотора, какая-то возня, стук, голоса. Снова взревел мотор, шум затих, машина, видимо, уехала, оставив кого-то на дороге. Степанов и его товарищи смело продолжали путь. Завернув за кустарник, они остановились, пораженные: навстречу им шел немецкий солдат в разорванном кителе, без головного убора, а за ним два красноармейца в пилотках, с автоматами в руках. Они двигались в сторону передовой. Некоторое время обе группы стояли молча, настороженно разглядывая друг друга. Первым среагировал “пленный” немец. Замахав руками, он завопил, обращаясь к конвоирам Степанова: — Не стреляйте! Свои! Я капитан Мюзюлек! Не стреляйте! Разведчики ничем не выдали себя. Бывший учитель, щелкнув каблуками, доложил капитану, что так, мол, и так, ведут пленного советского сержанта в штаб. Капитан усмехнулся, улыбнулся, захохотал Заулыбались сопровождавшие его “красноармейцы”, потом “немецкие конвоиры”. Один Степанов мрачно смотрел себе под ноги. — А? Ничего придумали? — веселился капитан. — Сейчас переберемся к Иванам и будем вот бродить, штаб искать… Курт, — он кивнул в сторону одного из “красноармейцев”, — знает русский, как Лев Толстой. Поищем штаб до вечера и обратно. А? Ничего! А? — Замечательно придумано, господин капитан! — Учитель немецкого языка восхищенно качал головой. Капитан выпятил грудь, но тут же внезапно сник, зашаркал сапогами, вобрал голову в плечи, жалобно заныл: “Рус, рус, не стреляй!”, изображая перепуганного пленного. Потом опять захохотал. Наконец величественным жестом отпустил встреченных солдат и, указав на Степанова, сказал: — Передам там от этого привет. Продолжая шутить, немцы собрались двинуться дальше. И тут случилось неожиданное. Из-за поворота выскочил мотоцикл — шум его никто не услышал за смехом и разговорами. На мотоцикле сидели полевые жандармы. Тяжелые шлемы были опущены на самые глаза, металлические нагрудники подскакивали в такт движению. Никто не успел опомниться, как сидевший в коляске жандарм очередью из автомата скосил сопровождавших капитана “красноармейцев”. Несколько секунд все молчали. Наконец старший жандарм подмигнул и воскликнул: — Ну как, выручили? Растяпы! Я сразу понял, что они вас на прицеле держат. Ничего, не ушли… Капитан взорвался. Брызгая слюной, он орал на своих незваных избавителей, обвиняя их в срыве ответственной операции, в убийстве немецких солдат. — Где я теперь найду второго Толстого! — бушевал капитан. К сожалению, он забыл представиться, он забыл, что по-прежнему выглядит солдатом в разорванном кителе. Один из жандармов напомнил ему об этом, ударив наотмашь по лицу. — Как говоришь с фельдфебелем, свинья! — рявкнул он. Капитан мгновенно преобразился. Он заговорил вдруг ледяным высокомерным тоном, сообщил, кто он, потребовал у жандармов документы, зловеще улыбаясь, пообещал им полевой суд. Жандармы переглянулись. И вот тогда мгновенно прореагировал Степанов. Он первым разгадал намерение жандармов, и, когда фельдфебель поднял автомат, целясь в капитана, Степанов уже был рядом и, выхватив висевший у немца на поясе нож, ударил. Очередь ушла в небо. Второй жандарм успел выстрелить в учителя. Это было последнее, что он успел сделать, — пущенный Степановым нож вонзился ему в горло. Все это длилось мгновение. Степанов наклонился над своим раненым бойцом… Впрочем, рана оказалась легкой. Теперь па дороге были четверо: немецкий капитан в разорванном кителе, советский сержант с забинтованной головой и еще два советских бойца в немецкой форме. Капитан сообразил не сразу, но реакция его была неожиданной. Указав на Степанова, он властно приказал: — Расстрелять мерзавца! Он убил солдат рейха. Расстрелять! Но ни Степанов, ни второй разведчик не поняли его — они не знали немецкого. Учитель морщился, ощупывая простреленную руку. — Пошли, — мрачно сказал Степанов своему бойцу, — теперь не погуляешь, берем капитана и пошли. Капитаны на дорогах тоже не валяются — ротный будет доволен. Поздно ночью к советскому штабу три красноармейца вели понурого немца в разорванном кителе. Немец пугливо оглядывался на своих конвоиров, бормоча под нос: — Рус, рус, не стреляй. …Вот об этом, по мнению Степана Степановича, очень смешном эпизоде, и рассказывал старичкам на бульваре Степанов-2. — А? — радостно восклицал Степанов-1. — А? Мы, значит, с пленным, и они с пленным! Ну надо же! Одна идея! А? Одного недоучли — переоделись рано, обмундирование наше, видишь ли, тяжело им было через фронт тащить. Фрицы, что с них возьмешь! Комфорт любили! — Как же это? — подивился один из старичков. — Выходит, их же жандармы и своего же хлопнуть хотели, так? — Э-э-э, брат, — махнул рукой Степанов, — что ж, думаешь, им охота под трибунал! Война, кто там будет разбирать — валяются на шоссе полдюжины их и наших. И капут делу. Зато сами целы. Я вот вам расскажу еще не такую историю! Помнишь, Степан, как мы тогда миномет взяли… Оба Степанова еще долго развлекали своих слушателей разными боевыми рассказами. Вот об этом и вспоминал Степан Степанович сейчас, торопясь до закрытия в магазин игрушек…СТУДЕНТ
Дима Каюров, хотя уже две недели ходил в институт, все никак не мог прийти в себя. Да и не он один. На каждой “переменке”, как по привычке называли первокурсники перерывы между часами занятий, они собирались группками и вспоминали жуткую пору экзаменов. — А помнишь, как Валька заснул, умора, взял билет и спит па нем… — Нет, погоди, погоди! Ленка, помнишь, все будущие времена на левой ноге записала, а прошедшие — на правой, а… — …а преподаватель к ней подходит — ой, с ума сойду! — и говорит: “Что это вы, девушка, не по моде? Все теперь в мини-юбках, а вы как курсистка дореволюционная!” Экзамены, столь страшные, столь немыслимые для преодоления, — пора отчаяния, слез, вздохов, бессонных ночей — теперь представлялись серией веселых и забавных эпизодов, этакий месячник смеха и радостей. Еще никто не ворчал на раннее вставание, на строгого профессора, недоверчивого декана, на необходимость бегать из одной аудитории в другую, на ужас экзаменов, не таких ерундовых и легких, как вступительные, а настоящих, действительно безумно сложных, немыслимо трудных, за первый курс, за второй, за третий… Тех самых экзаменов, которые через несколько лет будут вспоминаться смешными и забавными. Приглядывались друг к другу. Приглядывался и Дима Каюров. К профессорам, к соседям, к новым друзьям и товарищам. Это занимало двадцать процентов внимания, остальные восемьдесят процентов занимала Наташа… К сожалению, внимание было односторонним. Наташа как-то не очень обращала на него внимание. Пришлось прибегнуть к крайней мере — на несколько запоздавший вечер, посвященный поступлению в институт, Дима пришел в новом черном костюме с медалью на лацкане. Медаль вызвала сенсацию. — Все медали видел, — восхищался Борис, новый Димин друг, — “Золотую Звезду”, “За взятие Берлина”, “800-летие Москвы”, лауреатскую, а вот “За отвагу на пожаре” первый раз вижу. Потребовали рассказ о подвиге. Дима мямлил, отнекивался: Наташу позвали к телефону, а без нее не имело смысла рассказывать. Наконец она вернулась. — Да ничего особенного, — бормотал Дима (выяснилось, что при Наташе или без нее он все равно ничего толком рассказать не мог. И зачем только он нацепил эту несчастную медаль? Болван!). — Иду из школы домой, ну вечером… Они кричат… Я… — Кто кричит? — спрашивает Борис. — Ну эти ребята. Они побольше, поэтому и кричат, а тот напугался и молчит… — Кто молчит? — Да самый маленький, под кроватью спрятался. Я проходным шел. Там стена такая, всего и выходит-то на нее окон пять. Вечер, народу нет, огня не видно. А дверь оказалась с той стороны заперта, она их заперла и ушла… — Кто, дверь? — опять спрашивает Борис. (Общий смех.) — Перестаньте гоготать, — говорит Наташа. — Ну, дальше. Дима, вдохновленный этим вмешательством, продолжает: — Да нет — мать ушла, заперла их, а они играть начали со спичками. Ну, банальное дело. Знаете, на коробках пишут: “Не давайте детям…” Словом, загорелось там все. А до парадного надо квартал обегать. Так я и полез по ней… — По кому? — терпеливо спрашивает Борис. — По трубе, не перебивай, — неожиданно огрызается Дима и смотрит на Наташу, ища поддержки. — Влезаю — это третий этаж. Ну, влез, а до окна еще по карнизу метров пять переть… — Идти, — поправляет Наташа. — Идти, конечно, идти… — торопливо соглашается Дима. — Добираться, — предлагает Борис. — Ну, словом, добрался, то есть дошел я, в окно влез. Дым там. Соседи уже поняли, в дверь ломятся. А к ней с моей стороны не добраться — огонь. Я их взял, вокруг пояса веревкой обвязал — веревок там много, не квартира — корабль, для белья, что ли, и прямо из окна осторожно спустил. Двое — пацан лет шесть, девочка тоже лет пять, наверное. Орут, не хотят из окна вылезать. Словом, выпихнул. Спустил. Сам опять по карнизу к трубе. Ну, а уж вниз по трубе-то совсем легко. — А третий? — спрашивает Борис. — Ты говорил, был третий. — А это как раз когда спустился, тут девочка мне и говорит: “А Ванюшка? Там еще Ванюшка”. Ну я по второму заходу, опять маршрут: труба — карниз — окно. Шарю, а уж ничего не видно из-за дыма, кашляю. Но нащупал под кроватью его — пищит там тихо, как котенок, — совсем маленький, года три, не знаю. Подхожу к окну, а там уже лестница торчит — пожарные подъехали. Если б не они, ей-богу, не вылез бы. Дышать-то нечем… Рассказ вызвал оживленный обмен мнениями. Но главная награда пришла в субботу — договорились с Наташей пойти в кино. Для оригинальности и в честь первого свидания Дима решил сделать ей подарок: купить надувного бемби — необычно. Впрочем, что купить, было предварительно обсуждено на товарищеском совете. — Крокодила, — предложил Борис. — Сам ты крокодил, — заметил флегматичный Олег. — Я бы купил ей мед. Знаешь, в бочонках такой продается в “Дарах леса”. — Может, варенье? — иронически поинтересовался Борис. — Или бумагу для мух — тоже липкая… Словом, сошлись на надувном бемби. Лань — изящно и с намеком. Каким, никто не уточнил, но с намеком. Сегодня Дима решил зайти в магазин после занятий. Но пока со всеми переговорил, пока добрался, то да се, только к шести успел. В магазине долго выбирал. Может, лучше зайца, или мишку, или какую-нибудь там зверюгу пооригинальней, но, в конце концов, посоветовавшись с живо принявшими в нем участие продавщицами (надолго забывшими в связи с этим о других покупателях), Дима приобрел все же своего бемби. Он тут же надул его и торжественно вышел из дверей магазина. Постоял минуту, любуясь на покупку, и направился домой…ЛЕЙТЕНАНТ НИКИТИН
Прохаживаясь вдоль широкой асфальтовой магистрали, выбегавшей из туннеля, лейтенант Никитин то и дело бросал взгляд на часы. До конца дежурства оставались считанные минуты, а в семь они договорились встретиться с Леной у Белорусского вокзала. Накануне он так рассчитал время, чтоб успеть переодеться, но с утра все изменилось, и хорошо было бы вообще поспеть к назначенному часу. Ну и что? Никитин пожал плечами, мысленно рассуждая с самим собой: может быть, у него некрасивая форма или плохо сидит на нем? Они договорились пойти в кино — так что, в кино милиционеров не пускают? Почему, собственно, он должен быть в штатском, когда встречается с Леной? Ведь армейские офицеры, как правило, всегда ходят в форме… Никитин усмехнулся — забавная девушка эта Лена! Он вспомнил, как она стояла вся красная, растерянная, когда контролеры подвели ее к нему, вспомнил, какой она была сначала смущенной и недоверчивой, когда они встретились во второй раз и он пригласил ее в “Космос”. И какой она стала в конце этого свидания веселой, как заливисто хохотала, сверкая зубами, как увлеченно рассказывала про свои институтские дела, про подруг — эту “Вальку-сухаря” и “Нинку-шляпу”. Было в ней какое-то непередаваемое очарование, очарование юности, беззаботности. Чувствовалось, что, увлекшись чем-нибудь, Лена уже ни о чем, кроме этого, не думала, только к этому стремилась… Другое дело, что увлечения у нее менялись с калейдоскопической быстротой, так что она и сама-то не успевала уследить за ними. Это, наверное, не очень приятная черта для ее друзей и близких, но поскольку в данное время предметом ее увлечения являлся он, Никитин, его эта черта устраивала. Никитин был очень откровенным с самим собою. Он прекрасно сознавал, что увлекся Леной не на шутку. И увлечение все росло. Это казалось странным. В конце концов, Лена была еще совсем юной и действительно, даже для ее возраста, сверх меры легкомысленной. Никитин же, наоборот, для своего, тоже, прямо скажем, не такого уж пожилого возраста, отличался серьезностью. Это, разумеется, не мешало Никитину любить смех, и шутки, и, как мы знаем, анекдоты, и девушек, и веселые компании, и петь под гитару, и танцевать до упаду. Но все же Никитин был зрелым мужчиной, с немалым и не очень веселым жизненным опытом, отличным, смелым, даже отважным милицейским офицером, а Лена совсем еще девчонка, хохотушка и кокетка. Что общего? Общее было. Общим была безграничная, неуемная, жадная любовь к жизни, радостное, восторженное ее восприятие, стремление насладиться ею, жить напряженно, постоянно ощущая, что живешь. Даже в юном (а может быть, именно в юном) возрасте это дано не всем. Лена испытывала все эти радости, ощущала это стремление наполовину подсознательно. Никитин же — прекрасно сознавая. Но оттого любовь к жизни не была у него или у нее меньше. Впрочем, по роду своей службы на избранном нм пути Никитин несколько раз мог полновесно, отчетливо взвесить, что значит жизнь. Обычно это происходит тогда, когда ее рискуешь потерять. Нет, Никитин не был сотрудником Первого отдела Уголовного розыска, в его обязанности не входили опасные операции по задержанию убийц, рецидивистов, грабителей, с перестрелками и рукопашными. Но и ему за, в общем-то, недолгую службу в милиции пришлось раза два ощутить на своем лице дыхание смерти. Что ж, такая профессия… К этой профессии он готовил себя, любил ее и ни на какую другую не променял бы. Мысль пойти работать в милицию возникла у него в армии, где он, кончив десятилетку, служил на пограничной заставе. Началось все с собак. Никитин вообще любил животных, а тут такие замечательные овчарки! Он подолгу простаивал возле питомника, смотрел, как работает с собаками сержант Ветров, не раз добровольно изображал “нарушителя” и, облачившись в толстые ватник и штаны, удирал от преследовавшей собаки. Он серьезно задумывался о том, чтобы, демобилизовавшись, работать с собакой. Но где? Это можно делать только в уголовном розыске. Потом пришло новое увлечение. Ему предшествовало событие, которое на границе называется ЧП. Границу перешел нарушитель. Когда застава была поднята по тревоге, Никитин, прослуживший на ней уже почти год, решил, что это, как всегда, тревога учебная. Ведь за год не случилось ни одного происшествия. Но когда, вскочив в машину, он увидел лицо лейтенанта, то понял, что на этот раз дело серьезное. Машина мчалась по горным дорогам, а потом и без дороги, качаясь и подскакивая на камнях, царапая борта кустами. Никитин никак не мог поверить в реальность происходящего. Это звездное, черное южное небо, нависшее над головой, эти причудливые камни, кусты, выхваченные из мрака фарами и стремительно убегавшие назад, суровые лица товарищей, с ремешками касок под подбородком, тусклый блеск автоматов, далекий собачий лай, выстрелы — все это казалось какими-то театральными декорациями, элементами спектакля. Он никак не мог поверить, что вот он, Валька Никитин, вчерашний школьник, по-настоящему мчится в погоне за настоящим диверсантом. Но потом он забыл обо всем, кроме главного. Соскочив с машины и развернувшись цепью, пограничники начали движение по долине, поросшей высоким и густым кустарником, зажатой между двух высоких крутосклонных холмов. Никитин шел в паре с опытным пограничником-сверхсрочником, старшиной Рубцовым. Казалось, Рубцов без всякого ночного бинокля видит в темноте; он двигался бесшумно, быстро и ловко, а Никитин то царапал лицо о жесткую ветку, то спотыкался о камень и, как ему самому казалось, производил невероятный шум. И вдруг совсем рядом глухо шлепнул пистолетный выстрел. Видимо, оружие было со звукоглушителем, сверкнула лишь красноватая вспышка. Никитин не успел опомниться, как Рубцов, подобно большому хищнику, пронесся мимо него и прыгнул. Раздался яростный крик, стон. Никитин бросился вперед: на земле, скрученный приемом самбо, лежал человек, а Рубцов, сидя на нем верхом, спокойным голосом приказывал: “Ну-ка, Никитин, дайте ремешок, свяжем почетного гостя!” Никитин потом только понял, что они подошли к нарушителю сзади, пока тот отстреливался от наступавших на него пограничников. Когда подоспели остальные, когда зажглись карманные фонари, Никитин увидел, что нарушитель огромного роста, из-под черного свитера мышцы выступали буграми. Рубцов, хоть и не слабого десятка, ни в какое сравнение идти с ним не мог, — Никитин выжимал гирю гораздо больше раз, чем старшина. А вот самбо, по которому у Рубцова был первый разряд, помогло ему мгновенно справиться с этим великаном. Нарушителя увезли, но пограничники возвращались молчаливые, мрачные. В перестрелке был тяжело ранен молодой, одного с Никитиным года, солдат. Карманные фонари выхватывали из темноты белое, неподвижное, все в бисеринках пота лицо, запекшуюся в уголке губ кровь, черное пятно, расползшееся на животе раненого… В ту ночь Никитин уже не спал. Вся жизнь человека пересекается рубежами, подчас незаметными, подчас отмеченными событиями, которые навсегда врезаются в память. Эти рубежи метят человеческую жизнь в любом возрасте. Кто может сказать, когда юноша превращается в мужчину; частенько он и сам не ответит на этот вопрос. В последующие годы Никитин никогда не мог забыть черного пятна на гимнастерке товарища, его воскового лица, белевшего в слабом свете карманных фонарей. Вся предшествующая жизнь человека — это лишь подготовка к преодолению очередного рубежа. Наверное, Никитин сам не сознавал этого, но в одну ночь вчерашний школьник стал солдатом. Он ощутил цепу жизни, однако понял и то, что порой ее приходится отдавать — отдавать не жалея, не раздумывая, лишь стремясь всеми силами к той высокой цели, за которую ее отдаешь… Из ночной схватки Никитин сделал и еще один вывод: надо овладеть самбо как следует. Естественно, как всякий пограничник, Никитин изучал самбо. Он вообще был хороший спортсмен — физически сильный, рослый, ловкий, Никитин еще в школе имел разряды для взрослых по волейболу и легкой атлетике, на заставе прибавил к этому третий разряд по штанге и второй по стрельбе. А теперь он все свое свободное время посвящал самбо. Когда настало время увольняться, Никитин не без гордости носил на груди значок перворазрядника. За годы службы ему не раз пришлось участвовать в задержании нарушителей, и хотя лично он при этом никаких подвигов не совершал, но мечтал о них не раз. И не раз подумывал: а не пойти ли по возвращении в милицию, в тот отдел, который специально занимается ловлей бандитов (он предполагал, что таковой должен существовать). Из чтения приключенческой литературы и на основании собственных рассуждений Никитин сделал вывод, что создан для поимки опасных преступников — очень сильный, ловкий, быстрый, великолепный стрелок, самбист: пусть-ка от него попробует уйти какой-нибудь “Волк”, “Серый”, “Рыжий” или кто там еще! Однако на первом году службы там же, на заставе, случилось еще одно событие. Никитин был послан в соседний поселок с каким-то поручением. Следовало привезти груз, и он ехал на машине, которую вел сержант Бобылев, водитель со стажем. До поселка оставалось два километра, когда, резко затормозив машину, Бобылев стал со стоном валиться с сиденья. Никитин вытащил его, положил на обочину и растерянно топтался рядом. Бобылев, весь белый, стонал. Это был острый приступ аппендицита. Бобылев и раньше ощущал порой боли, но никогда не обращал на них внимания. Вот и в тот день он чувствовал легкий озноб, тупую боль в животе, где-то справа. Подумаешь… Проходило раньше, пройдет и теперь. Не прошло. Никитин поднял сержанта на руки и два километра нес его до поселковой больницы. А что было делать? Водить машину он не умел. Бобылеву сделали операцию, вскоре он вернулся на заставу и пришел поблагодарить Никитина. Но тот сразу пресек всяческие излияния: — Не валяй дурака, сержант. Благодарить не за что. Любой на заставе сделал бы то же самое. Да только шляпа я… — То есть как? — не понял Бобылев. — А так, — с грустью констатировал Никитин, — машину водить не умею. Я, хорошо, бык здоровый — донес, а вот довезти не смог — не умею. Так что давай-ка лучше учи машину водить. Вскоре эта “индивидуальная самодеятельность”, как выразился начальник заставы, была превращена в кружок автолюбителей. Шефы дали заставе мотоцикл. И вот тут-то разносторонние таланты Никитина расцвели полным цветом. Он оказался прямо-таки виртуозом в искусстве мотоциклетной езды. Дело дошло до того, что он начал демонстрировать всякие фокусы и даже попытался изображать ковбоя, стреляя на ходу из сложных положений, выполняя на машине всякие акробатические упражнения, и т. д. На областных соревнованиях, а затем и на окружных он завоевал призы по мотокроссу, стал без пяти минут мастером спорта. И когда, вернувшись после службы домой и претворяя в жизнь свое решение, Никитин пришел работать в милицию, он стал инспектором ГАИ. Он был доволен службой, хотя ничего особенного в ней не было. Дежурства, “беседы”, порой неприятные, с нарушителями правил, тренировка по самбо, заочная учеба в автодорожном институте, ну и вообще Никитин на жизнь не жаловался: в ней столько интересного и приятного. Однажды случилось происшествие. Был объявлен розыск угнанной опасными преступниками машины. Никитин принял в нем участие. Ему довелось тогда проявить все три своих, как он выражался, “милицейско-пограничных навыка”. Дело было так. Патрулируя вечером на своем мотоцикле на одной из окраинных улиц, Никитин нос к носу столкнулся с серой “Волгой” и, привычно бросив взгляд на номерной знак, увидел знакомые цифры — номер угнанной машины. Развернувшись, онпоехал за ней, приказывая остановиться. Но “Волга” лишь прибавила скорость. Пассажиров было двое. Никитин начал преследование и вскоре понял, что имеет дело не с новичками. За рулем, видимо, сидел опытный и искусный водитель. “Волга” без конца петляла по пустынным переулкам, совершая крутые и неожиданные повороты, а потом вылетела на окраинную, плохо освещенную, но прямую улицу, где развила максимальную скорость. Неожиданно боковое стекло опустилось, высунулась рука, раздался выстрел, второй, третий, четвертый… Однако преступник был плохим стрелком. Никитин, сумевший на своем мотоцикле до сих пор не отстать от машины, теперь вряд ли мог рассчитывать догнать ее. Кроме того, после выстрелов стало очевидно, что это именно преступники, а не какие-нибудь юнцы, любители загородных прогулок на чужих автомобилях. Трудно было представить, что они могут натворить, если Никитин не задержит их. “Волга” все удалялась — двадцать метров, тридцать, сорок… И тогда Никитин принял единственное, как он считал, возможное решение. Выжав из мотоцикла все, что мог, он вынул из кобуры пистолет и, продолжая управлять одной рукой, выстрелил. Но сначала прокричал в рвущийся навстречу густой ветер: “Стой!”, “Стой, стрелять буду!” И лишь потом выстрелил. В воздух. Еще раз в воздух. И наконец, прицелившись, в шину. И еще раз в шину. Машина бешено завиляла на дороге и, проехав метров сто, остановилась. Никитин сумел оценить искусство водителя. Через мгновение он уже поравнялся с “Волгой”. Едва он успел сойти с мотоцикла, как человек, сидевший за рулем, выскочил из машины и бросился на Никитина. Второй преступник торопливо обходил “Волгу”, чтобы помочь товарищу. Они не стреляли — видимо, израсходовали патроны. Никитин воспользовался уже своим мастерством мотоциклиста и стрелка. Наступила очередь самбо. С одним из преступников пришлось обойтись сурово: он остался лежать на асфальте; второго Никитин “взял на прием”, пока не подоспела помощь. …Так что в его службе инспектора случалось порой, как он выражался, “приятное разнообразие”. Хотя Никитин после этого происшествия и получил репутацию отчаянного парня, он был принципиален в службе, дисциплинирован, и начальство ценило его. До звания мастера спорта оставалось чуть-чуть… У него было немало друзей, немало знакомых девушек. Свободное время он проводил интересно и весело. Он был молод, здоров, красив, полон кипучей энергии. Вряд ли Никитина можно было считать “увлекающейся натурой”. В общем, он довольно трезво смотрел на все свои увлечения — спортивные, деловые, дружеские, любовные. И вряд ли Лена была самой интересной из встреченных им в разное время в жизни девушек. Были и покрасивее, и наверняка поумнее. Но вот встретились… Он все время думал о пен, стремился к встречам, ждал их. Пожалуй, в этом дуэте ведущая роль принадлежала ему. Он усвоил с Леной чуть иронически-покровительственный тон, словно в возрасте их разделяли не шесть, а шестнадцать лет. Эдакий убеленный сединами комиссар милиции Никитин с орлиным взглядом, пронизывающим не только человека, но и стену, и робкая, потрясенная свалившимся на нее счастьем девушка… Но за отношением этим крылись ласка и тепло, увлеченность и, наверное, любовь. И Лена, привыкшая к поклонению и восхищению, которыми избаловали ее сверстники, робевшие перед пей, изнемогавшие от первой любви, вдруг с Никитиным почувствовала какую-то радость подчинения любимому, гордость за то, что любимый этот силен и отважен, умен и уверен в себе. Словом, уж Лена-то “влюбилась по уши”, как с полной откровенностью она сама определила свое состояние подругам.ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ
Когда люди видели Лидию Романовну с Ксюшкой, они не сомневались, что это мать и дочь. Правда, матери можно было дать лет сорок, а то и больше, а Ксюшке от силы восемь, но мало ли… Поздний ребенок. Зато дочь всем пошла в мать: и глазами, и носом, и статной фигуркой, и льняными волосами, и манерой улыбаться и говорить. А между тем у Лидии Романовны детей никогда не было. Ксюшка же потеряла родителей, когда ей минул год. На Дальнем Севере в неожиданно налетевшем буране потерпел аварию самолет. Большинство пассажиров спаслось, но пять человек погибли, в том числе Ксюшкины родители. Девочку, ничего не понимавшую, притихшую, принесли в здание аэропорта. В зале суетились врачи, сестры, десятки добровольных помощников; кругом стояли люди — бледные, осунувшиеся от волнения. Весь аэропорт, весь городок работал, помогал, делал что мог. Раненых развезли по больницам, тех, кто не пострадал, — по домам. Успокаивали, отогревали, закармливали, стараясь успокоить. Летной погоды теперь ждать да ждать… Пусть придут в себя, забудут беду. Ксюшку забрала к себе старшая стюардесса — Лидия Романовна. Девочка привлекла ее еще в самолете: Лидия Романовна опекала ее, старалась устроить поудобней. После катастрофы, сама вся в крови, вынесла девочку, не отходила от нее. Позже увезла к себе. Улегся буран. Ушли в небо самолеты, пассажиры продолжали каждый свой путь. Кто в командировку, кто на отдых, кто домой. У Ксюшки дома не оказалось. Не оказалось ни дальних, ни близких родственников. Отец и мать, строители, кочевали по стране, нигде не вили гнезда, да и не хотели пить. “Пойдет Ксюшка в школу, — говорил отец, — тогда осядем. А пока…” А пока своего уюта не имели, создавая уют другим. Лидия Романовна оставила девочку у себя. Без всяких формальностей, просто взяла и оставила. Потом-то уж были всякие неприятности: как это так — оставить? Ребенок не двугривенный: увидел, подобрал… Есть же органы опеки, милиции, нужны документы, заявления… В конце концов все обошлось, и Лидия Романовна официально удочерила Ксюшку. Муж был счастлив, его угнетало отсутствие детей, а тут “прямо с неба упала”. Сказал, засмеялся шутке, осекся — шутка получилась невеселая… Лидия Романовна ничего от Ксюшки не скрывала и, как только сочла, что та поймет, все ей рассказала. Но девочка знала лишь новых отца и мать, и правда не очень взволновала ее. Лидия Романовна считала себя обязанной выполнить волю погибших Ксюшкиных родителей. Они тогда, в самолете, долго беседовали. “Мечтаю ее в английскую школу, — говорил отец, — и чтоб музыке училась. А уж спортом — это и говорить нечего. Вон мать — перворазрядница небось, да и я, слава богу, полдюжины разрядов имею”. И Лидия Романовна даже квартиру обменяла, чтобы попасть в микрорайон с английской школой; зимой три раза водила дочь на Стадион юных пионеров в секцию фигурного катания, хлопотала об устройстве в музыкальную школу. Жили теперь в Москве, куда мужа перевели по работе. Лидия Романовна с работы ушла — воспитывать дочь. Радовалась. Да и как не радоваться? Какой ребенок! — Я, мама, все буду уметь, — с энтузиазмом сообщила Ксюшка, — играть на всех инструментах, на рояле, на скрипке, на гармошке. Языки все — английский, немецкий, французский, и на коньках, и гимнастику, и в футбол, и все… В этом году Ксюшка перешла во второй класс. Она пребывала в ощущении значительности этого факта, тщательно готовила все уроки, дежурила по классу. Словом, получала радость от всего. День Ксюшки был заполнен, по выражению Лидии Романовны, как у министра. Встав очень рано, помахав перед открытой форточкой руками и ногами, попрыгав, поприседав, Ксюшка мчалась в ванную комнату на весы. С тех пор как Лидия Романовна купила напольные весы, они стали чуть ли не любимой Ксюшкиной игрушкой. Она ежедневно озабоченно взвешивалась, радостно отмечая прибавку. Она была еще в том счастливом возрасте, когда могла стремиться набрать килограммы, а не расстаться с ними. После зарядки, туалета и завтрака Ксюшка мчалась в школу — одна. Борьба с Лидией Романовной длилась долго, но в конце концов дочь восторжествовала, отстояв свое право ходить в школу без провожатых. Несколько раз Лидия Романовна пыталась незаметно следовать за дочкой вдалеке, но была обнаружена и позорно изобличена. — В вожди команчсй ты не годишься, — сказал отец смущенной жене, — в пинкертоны тоже. Так что оставь Ксюшку, пусть проявляет самостоятельность. Зато после школы Лидия Романовна забирала дочь и везла ее на Стадион юных пионеров. Там два часа сидела, закутавшись, с другими мамами и бабушками, умиляясь и восхищаясь — дети занимались на льду. И все были такие ловкие, изящные, все у них так красиво получалось, и что самое приятное — каждый был лучшим. А в дни, когда “не было катка”, были занятия у учительницы музыки. И там тоже Лидия Романовна ждала, подремывая в передней под нехитрые музыкальные упражнения дочери, которые, само собой разумеется, получались у нее просто замечательно! Лидия Романовна ввела систему поощрений, хотя муж и возражал, считая это непедагогичным. И когда учительница музыки внесла в Ксюшкин самодельный дневник жирную пятерку, награда последовала незамедлительно- мать и дочь отправились покупать новые фигурные коньки. Хотя коньки скорей подходили для поощрения спортивных успехов, но какое это имело значение? Подарила же Лидия Романовна дочери красивую папку для нот, когда Ксюшка победила в беге на коньках на двадцать метров! Кто подал Лидии Романовне мысль, будто коньки можно приобрести в том магазине игрушек на улице Горького, где их никогда не продавали, — неизвестно. Во всяком случае, спустившись в метро на станции “Белорусская”, возле которой жила учительница музыки, и выйдя на станции “Маяковская”, мать и дочь бодро зашагали в магазин. У окошка, откуда доносился волшебный аромат пончиков, Ксюшка упросила задержаться. Но, бросив взгляд на часы, Лидия Романовна сказала: — Ты стой, дочка, получишь пончики, жди меня здесь, я быстро, а то магазин закроется. Возьму коньки, если есть, и вернусь сюда. Смотри никуда не отходи! Кивнув головой, Ксюшка прилипла взглядом к заветному окошку, а Лидия Романовна поспешила в магазин — до закрытия оставалось каких-нибудь десять минут.ИНЖЕНЕР
В переходах Московского метро за маленькими столиками сидят пенсионеры и предлагают лотерейные билеты. Билеты лежат перед ними веером, или пачками, или в коробочках, иногда даже в плексигласовых вращающихся восьмиугольника. Пенсионеры, кто громко, кто тихо, кто с присказкой, кто попроще, взывают к прохожим — купите билеты! Многие останавливаются и покупают. Но инженер Румянцев равнодушно проходил мимо. Равнодушно проходил он и мимо сверкающих “Волг” и “Москвичей”, разукрашенных транспарантами, привлекающих прохожих у метро “Площадь Революции”. Он давно уже не интересовался лотерейными билетами ни в кассах магазинов, ни в справочных киосках. Он считал, что выиграть по лотерейному билету не то что “Волгу”, но утюг — дело такое же безнадежное, как выловить из глубин океана сокровища затонувшего “Черного принца”. Другое дело мечтать о машине, которая появится не в результате лотерейного счастья, а каким-нибудь иным путем. Нередко Румянцев видел во сне, как получает за выдающееся изобретение награду — “Волгу”. Или за замечательную коллективную работу Ленинскую премию, и на свою часть приобретает “Москвича”. Наконец, в Москву возвращается с Дальнего Севера разбогатевший друг, которому он в трудные дни ссудил трешницу, и дарит ему “Запорожца”… Мечтал. В конце концов, никому мечтать не запрещено. Однако друга-миллионера у него не водилось, а на гениальные изобретения надежд было мало: хотя Румянцев слыл добросовестным и честным инженером, но звезд с неба все же не хватал. Ну, средним он был работником. Что ж, не всем быть Эйнштейнами. Каждый человек стремится в жизни хоть прикоснуться к мечте. Румянцев, что называется, хватал свою мечту обеими руками. Он окончил курсы шоферов-любителей, отлично сдав все экзамены. Он знал правила уличного движения лучше, чем любой таксист с тридцатилетним стажем, он разбирался в марках всех машин — одним словом, после разговора с ним не оставалось сомнений, что имеешь дело с человеком, давно владеющим собственной машиной да еще не вылезающим из-за руля. Все мы ходим по улицам спокойно, а если движемся по тротуару, то мало обращаем внимание на проносящийся по мостовой поток машин. А вот Румянцев ходил иначе. Он со скрытой тоской, с восхищением, с завистью поглядывал на автомобили. Даже подходил, заглядывал внутрь. Про себя думал, что сменил бы обивку, убрал бы этот дурацкий вентилятор, приделал бы жалюзи… …Иногда, к сожалению далеко не всегда, людские мечты сбываются. Порой самым замысловатым, сложным образом. Румянцеву исполнилось сорок лет. Дата круглая, и ее следовало отпраздновать. Жена неделю готовила необходимое продовольственное обеспечение, были выделены финансовые средства, специально для этого случая копившиеся, соседи отдали в распоряжение юбиляра свою комнату (с нишей). Гостей набралось человек тридцать. Отдельный столик отвели под подарки. У тех, кто пришел первыми, подарки бережно принимались из рук, переносились на столик, в сопровождении более или менее искренних одобрительных возгласов. Но потом гости стали прибывать один за другим и уже сами добирались до столика, складывая туда свои дары. Поэтому, когда после их ухода, часов в пять утра, счастливый юбиляр вместе с супругой стал рассматривать, что же ему преподнесли друзья и товарищи, он обнаружил много неожиданного. Рядом с портфелем, тремя бумажниками и двумя нейлоновыми рубашками высился самовар, лежали две пары ночных туфель (одна на номер больше, чем нужно, другая на номер меньше). Стоял спиннинг (Румянцев никогда не удил). Были тут и наборы маленьких винных бутылочек, и, о радость, панорамическое зеркало для несуществующей машины, и даже зажигалка (Румянцев не курил). И где-то, сиротливо затертая между сверкающей рубашкой и расшитой тюбетейкой, валялась пачка лотерейных билетов — первых в жизни, оказавшихся в руках у Румянцева. Подарки были все размещены по полкам и ящикам, спиннинг переподарен соседу-рыболову (тому самому, что предоставил свою комнату), а лотерейные билеты небрежно брошены в стол. Там они пролежали все три месяца до тиража и еще три после него. Но как-то супруга Румянцева в момент генеральной уборки обнаружила забытые билеты и ворчливо заметила: — Ты бы проверил, что ли, смотри — раз, два, три, пять, десять, господи, сорок билетов! Может, пылесос хоть выиграем… Без пылесоса прямо как без рук! — Ладно, можешь выкинуть — все равно не выиграем, — махнул рукой Румянцев. Но все-таки взял билеты с собой. И еще неделю носил, забыв в кармане. А однажды, проходя куда-то мимо сберкассы, неожиданно вспомнил про билеты и, нерешительно потоптавшись у входа, зашел. — Что ж вы, гражданин, так поздно надумали, — ворчала кассирша, — тираж давно был, не знаю, где искать таблицу… а, вот, нашла. Садитесь, проверяйте. Румянцев сел за стол и, водя пальцем по засаленному листу, стал добросовестно, как он все делал в жизни, проверять один за другим свои сорок билетов. По мере того как он убеждался, что билет пустой, он разрывал бумажку пополам и бросал в корзинку. Девятый билет выиграл рубль, двадцать первый еще рубль, двадцать второй одеяло жаккардовое метисовое, а двадцать девятый… “Волгу”. Сначала Румянцев долго сидел в задумчивости. Потом спокойно проверил оставшиеся одиннадцать билетов и, аккуратно порвав их, бросил в корзину. Потом снова сверил номер серии, номер билета. Опять посидел и снова сверил. Серия 25813, билет 084. Все верно. Наконец, тяжело вздохнув, словно проиграл в карты сто рублей, поднялся, подошел к кассе и, протянув билет, прошептал: — Скажите, я не ошибся, он действительно выиграл? Румянцев был бледен, он ощущал странный холодок в спине, он боязливо оглядывался на других людей, толпившихся у окошек. Ему казалось, что кассирша сейчас громко захохочет, крикнет ему: “Вы что вообразили! “Волгу”! Ха-ха! Утюг ваш билет выиграл, а не “Волгу”! Нет, надо же такое нахальство!” Кассирша молча, профессионально-деловито пробежала глазами таблицу, подставив линейку, несколько раз перевела взгляд с билета на колонку цифр и обратно и широко улыбнулась. Она посмотрела на Румянцева весело и радостно, будто это не он, а она выиграла, и так же тихо прошептала: — Поздравляю вас, гражданин. Деньгами будете брать или… — Машиной, то есть натурой, ну “Волгу” возьму, — торопливо забормотал Румянцев. — Они же не могут не дать, а? Не могут, если я не хочу заменить деньгами, а? — Да что вы! Ради бога — берите машину. Катайтесь на здоровье. — Кассирша, продолжая улыбаться, стала объяснять, что нужно сделать, чтобы получить выигрыш. …И вот теперь он катил в этой собственной “Волге”, несся на крыльях казавшейся ему недостижимой мечты. За те два месяца, что прошли с момента получения машины, он проехал на ней, вероятно, весь положенный за десять лет километраж. Он просто не вылезал из нее. На службу, со службы, за женой, в магазин, к друзьям, за город, по делам всех друзей и знакомых… Был бы предлог. А когда он не сидел за рулем, он копался в моторе, в багажнике, под колесами, что-то проверял, исправлял, налаживал, чистил. Наконец просто любовался. Правил Румянцев не нарушал — он знал их отлично еще тогда, когда пользовался троллейбусом и автобусом. Кроме того, он глубоко усажал законы, правила и инструкции во всем, а уж что касается автомобильного дела — тем более. 15 сентября, закончив работу и заехав на улицу Горького за водой “Ессентуки № 17”, он, как всегда, испытывал глубокое наслаждение оттого, что руки его лежат на теплом руле, нога плавно нажимает педаль, что машина, красивая и сверкающая, послушная его воле, мягко скользит в потоке себе подобных. Ехал по главной московской улице. Взглянул на часы: 18 часов 49 минут. Точные часы У него в машине все точно, слаженно, проверено. Было, правда, одно огорчение — вышло из строя реле. Кое-как удалось наладить, но Румянцев понимал, что ненадолго, надо менять. Где, как? Он был в отчаянии, потому что не мыслил себе дня без своей “Волги”, а ждать очереди на станции техобслуживания или остаться без реле — значило лишиться машины на неделю, а может быть, и больше. Но, к счастью, один из сослуживцев, тоже автофанатик, познакомил его с симпатичным старичком, который может “все достать”. Надо только немного вознаградить его за это — старик, пенсия небольшая, сами понимаете… Благодетель сказал, что в делах этих ничего не понимает, но у него есть знакомый механик, у того была своя машина, машину он продал, а вот некоторые детали, в том числе и реле, остались. Он познакомит с ним Румянцева, а там их дело. И вот через десять минут у Румянцева деловая встреча с этим милым старичком и его симпатичным знакомым, который принесет к метро “Сокол” вожделенное реле. А затем он захватит жену, которая ждет его у метро “Войковская”, и они поедут в гости к друзьям, справляющим новоселье в Химках-Ховрино. В подарок Румянцев вез пачку лотерейных билетов.УБИЙЦА
Николай открыл глаза и устремил в потолок мутный взгляд. Потолок слегка кружился, будто огромный сплошной вентилятор, кровать тихо покачивалась, по груди, то больше нажимая, то меньше, прохаживался паровой каток. О господи! Николай попытался приподнять голову и посмотреть на часы, но голову кто-то чугунным обручем привинтил к подушке да еще расколол ее па несколько частей топором. Прошло добрых полчаса, пока, чертыхаясь, проклиная себя, дружков, водку, закуску — словом, всех и вся, Николай наконец поднялся и сел на кровати. Он спал не раздеваясь — брюки, рубашка были измяты, влажное белье прилипло к телу. Николай неверной походкой подошел к старому буфету и достал захватанный, давно потерявший прозрачность, графин, заткнутый бумагой. Дрожащей рукой налил водку в чайную чашку, выпил — при этом лицо его сморщилось в гримасу невыразимого страдания — и минут пять стоял неподвижно, устремив бессмысленный взгляд в пространство. Постепенно лицо его приобрело осмысленное выражение, глаза оживились. Николай вышел на кухню, поставил на плиту чайник и под осуждающими взглядами соседок по квартире ушел в ванную. Через полчаса, умытый, причесанный, в чистой рубашке (приготовила мать, уходившая на работу много раньше), Николай шел в автобазу. Она помещалась недалеко. Выезд в десять часов, время еще есть. Проходя мимо зеркальной витрины, Николай посмотрел на себя и горестно покачал головой — ну и вид! Опухшие щеки, веки как мешки, да и нос мог бы быть побледней. “И когда только кончится это пьянство!” — сам себе выговаривал Николай. Он не знал, что не пройдет и года, и пьянство кончится. Кончится вместе с его жизнью… А как оно началось? Как обычно. Когда Кольке было семнадцать—восемнадцать, Петр, главарь всей окрестной хулиганской мелюзги (самому-то Петру давно перевалило за двадцать пять), преподнес ему стакан и мятый огурец. Колька проявил мужество и отказался, за что схлопотал по шее. Это был последний раз, когда он проявил мужество. Как известно, пьянство трудно совместимо с любой профессией, даже дегустатора. Но с профессией шофера оно уж не идет совсем. Потому что шофер, выпивающий лишь в нерабочие часы, — фикция. Может быть, какое-то время так может продолжаться, но рано или поздно грани между нерабочими и рабочими часами стираются, и человек садится за руль, сначала едва опохмелившись от вчерашней попойки, потом не успев опохмелиться и, наконец, просто “выпивши”. Что касается разницы между “выпивши” и “пьяный”, то ее установить не под силу никаким экспертам. В жизни бывают странные парадоксы. Например, шофер, зарабатывающий, как Николай, вначале 150 рублей, а потом и 180, и 200, и даже 220, может великолепно питаться. Самому прожорливому вполне хватает на еду. Но вот беда, даже наискромнейшему пьянице, если он уже прочно носит это звание, никакой зарплаты не хватает. Причины этого явления таинственны — возможно, водки ему требуется в десять раз больше, чем молока пли шоколадных конфет; возможно, одному пить неинтересно н приходится угощать дружков. К тому же чем больше человек пьет, тем меньше он, как правило, зарабатывает. Неизбежны н иные материальные потерн — там легкая авария, тут крыло помнет или, проснувшись утром, вообще не может вспомнить, куда делись еще вечером лежавшие в кармане десять рублей. Люди, не склонные к пьянству, обычно находят возможности немного увеличивать свой заработок, не входя при этом в противоречие с законом. Люди, к пьянству склонные, как правило, кроме воровства мелкого или крупного, ничего придумать не могут. Николай не составил исключения. Он придумал, а вернее, позаимствовал довольно простой способ обогащения. На территории автобазы помещались ремонтные мастерские другого ведомства, что создавало удобную неразбериху. В мастерские на ремонт доставлялись машины. Николай снимал с них некоторые мелкие дефицитные части и продавал их. Когда отремонтированная машина должна была покинуть гараж, Николай возвращал снятые части на место, забирая их из вновь доставленных машин. Сей круговорот теоретически мог продолжаться до тех пор, пока мастерские не отремонтировали бы последнюю доставленную в них машину — случай маловероятный. Однако жизнь порою вносит в теоретические построения свои поправки. Так произошло и теперь. Какой-то удивительно дотошный водитель машины (и что, ему больше всех, что ли, надо?) заметил подмену. Не потому, что замененные части были хуже, нет, просто вот такой оказался вредный человек, что заинтересовался, почему это произошло. Сообщил куда следует. Проверили. И убедились, что хотя машины, выпускаемые из ремонта, оказывались комплектными, но с момента их поступления и до выпуска многих частей не досчитывались. Разгадать причину труда не составляло: Николай не изобрел пороха, аналогичные комбинации пытался делать и кое-кто другой. Оставалось выяснить, кто комбинатор. На автобазе и в мастерских работали сотни людей… Многие механики и шоферы автобазы прирабатывали одновременно и в мастерских. Капитан милиции Юнков и помогавшие ему представители народного контроля занимались этим делом добросовестно и кропотливо. Они сами были шоферы и механики. И их не так-то легко было провести. Но Николай тоже приобрел в том нечистом деле высокую квалификацию. В борьбе с законом он постоянно совершенствовал свои приемы. Во-первых, предполагалось, что вор работает по ночам или в обеденный перерыв, когда мастерские пусты, но наблюдение ничего не дало. Николай заменял части в самый разгар работы, можно сказать, на глазах у всех. Кроме того, он частенько не просто изымал часть, оставляя место “оголенным”, а ставил взамен аналогичную деталь, внешне годную, а в действительности бракованную, давно списанную. С такой деталью автомобиль не прошел бы и ста метров, но пока длился ремонт других частей и деталь не функционировала, определить ее непригодность было невозможно. Поиски злоумышленника шли и другими путями — выясняли, кому он сбывает краденое. Обнаружили несколько частников, признавшихся, что покупали “налево”, но никто из них не сумел (или не захотел) вспомнить приметы “продавца”. И все же дело потихоньку продвигалось. Поскольку работа в мастерских шла посменно, а детали, как удалось установить, пропадали не “посменно”, можно было сделать вывод, что ворует кто-то из посторонних, то есть из рабочих автобазы, не связанных со сменами. Это сразу ограничило круг поисков. Далее были отсеяны те — их было большинство, — кто стоял вне подозрений: старые заслуженные механики, коммунисты, общественники, комсомольцы и другие. Капитан Юнков, разумеется, обязан был проверить все варианты, а вот народноконтрольцы больше полагались на психологические и моральные факторы. Они составили список людей, могущих, по их мнению, оказаться на подозрении — пьяницы и выпивающие, прогульщики, лодыри, “кулаки” (как называли тех, кого интересовал только личный заработок) и им подобные. Вскоре список подозреваемых стал совсем мал. Хотя кое-какие тревожные признаки имелись, но особой опасности Николай не видел: все же основная работа по обнаружению вора велась в строгой тайне. Кроме того, когда Николай порой решал бросить свое доходное, но опасное ремесло, это благое намерение длилось недолго- до первых затруднений, связанных с выпивкой. И вообще “красивая жизнь” затягивает… Почти четыре месяца потребовалось капитану и его помощникам, чтобы окончательно выяснить, кто вор. Быть может, иной скажет — долго. Быть может, удалось бы, скажем, всеобщим неожиданным обыском установить это раньше. Но Юнков не хотел обижать большой коллектив недоверием. Он не хотел, чтобы люди подумали, что подозревают всех и случайно обнаружили виновного. Вор здесь был печальным исключением, следовало искать его и только его, даже если немного затянуть работу. Итак, вор обнаружен, теперь его необходимо изобличить — лучше всего взять на месте преступления. Уже не раз капитан, переодевшись механиком, целый день трудился рядом с Николаем, по пока ничего не происходило. Неожиданно Юнкову повезло. Сразу возникло несколько обстоятельств, заставивших Николая действовать. Во-первых, накануне в мастерские была доставлена целая партия, да еще иногородних, машин на длительный ремонт. С них можно было снять много дефицитных деталей, которые когда еще потребуется вернуть… Да и заменить можно будет деталями похуже: машины из других городов — пока там обнаружат да напишут… Во-вторых, накануне Николай имел встречу с “оптовиком”. “Оптовик”, лысый, маленький, болтливый, все время суетившийся, все время в движении, был деляга в самом блистательном значении этого слова. Он не воровал — упаси боже, он не скупал и не хранил краденого — как можно! Но всей своей деятельностью всемерно способствовал и тому, и другому, и третьему. Его “бизнес” заключался в том, чтобы выяснить, как он любил выражаться, “конъюнктуру”, спрос и предложение. Действовал он в самом широком диапазоне: его интересовали меховые шубы, доллары, автомобильные запчасти, драгоценности, дефицитные лекарства, магнитофоны и фотоаппараты, модные заграничные вещи и даже редкие вина и продукты. Все эти столь различные вещи объединяло одно — они все были краденые или добытые иным нечестным путем, продавали их воры, спекулянты, валютчики. С ними “оптовик” не церемонился, они были его поля ягода. С покупателями дело обстояло сложней. Разумеется, и среди них встречалось немало таких, кто отлично понимал, с кем имеет дело и каким путем добыто то, что он покупает. Но имелись и честные, просто наивные, неискушенные, верившие в басни о “лишних” деталях, “не пришедшихся” по размеру шубах, ликвидируемых по нужде “фамильных драгоценностях”. Были и подозрительные, въедливые, любопытные. С такими приходилось возиться — уговаривать, придумывать всякие истории, убеждать. Дело в том, что роль “оптовика” ограничивалась исключительно сводничеством. Он выяснял, кому что нужно, у кого что есть, и сводил “покупателя” с “продавцом”, получая с того и другого комиссионные. Редчайшая по нынешним временам и на редкость хлопотная профессия. В специальных тетрадях “оптовика” хранились сотни имен, адресов, телефонов, записанных столь сложными тайными способами, что их не сразу разгадал бы и опытный шифровальщик. Сами же книжки покоились в подкладках старых пиджаков или под стельками ветхих башмаков, запертых в вокзальных сейфах или сданных вместе с фанерными чемоданами в камеры хранения. “Оптовику” перевалило за семьдесят, и занимался он своей уникальной профессией чуть ли не с дореволюционных времен. Преимущество ее заключалось в том, что подобная деятельность была сравнительно безопасной с точки зрения взаимоотношений с законом. В конце концов, отвечает перед законом вор, спекулянт, сбытчик краденого, в определенной степени покупатель этого краденого. А он что? Он просто познакомил двух людей, оказал им услугу. Откуда ему знать, что происходит нечестная сделка? Так что сидел в тюрьме он в своей жизни мало и недолго, а зарабатывал прилично. Последнее время, правда, работать становилось трудней. Дефицитных товаров становилось все меньше, меньше встречалось и дураков и воров, зато больше честных людей, готовых отвести тебя в милицию. Да и милиционеры перестали понимать шутки и норовили отправить тебя за решетку, усматривая почему-то в невинном хобби “оптовика” нарушение закона. А уж когда дело касалось валюты и золота, тут пощады не жди! Но все же кое-что было — автомобильные запчасти, например. Ходкий товар. Приходится, конечно, возиться, но что делать, такая уж профессия… Вот хоть с этим шляпой-инженером Румянцевым. Просто помешанный какой-то — выиграл свою “Волгу” и теперь ухаживает за ней, как за молодой женой. Себе в чем-нибудь откажет, только не ей. Что-то у него там вышло из строя, реле, что ли, так он сон и покой потерял, готов чуть не месячную зарплату отдать, лишь бы найти эту деталь. Ведь если ехать на станцию техобслуживания, придется неделю ждать, а он без своей “Волги” дня не может прожить. И то, что этот пьянчуга и мелкий воришка Колька существует, — тоже удача. “Оптовик” уже не раз имел с ним дело — никогда не подводил. К тому же он нашел для Кольки еще четырех “нуждающихся”. Словом, сегодня они договорились о свидании у станций метро, расположенных по Ленинградскому проспекту. Первое было с инженером Румянцевым у “Сокола” в семь вечера. Там он их, как обычно, познакомит и сразу же уйдет. Купля-продажа пусть происходит без него. За своими комиссионными он зайдет на следующий день. …Вот с этим “оптовиком” Николай два дня назад встретился и договорился о большом заказе. Тот за несколько часов нашел ему покупателей почти на все детали, которые можно было снять с поступившей партии машин. Первый заказ надлежало реализовать сегодня. Встречи с “оптовиком” и его клиентами были назначены, начиная с семи вечера, у станций метро: “Сокол”, “Войковская”, “Водный стадион”, “Речной вокзал”. Операция сулила большую выгоду. Николай уже успел накануне снять детали с машин, завернуть их в пакет и спрятать в укромном месте. План был прост. На своей трехтонке он должен ехать сегодня в Шереметьево. Перед выездом он заедет, под предлогом исправления какой-нибудь мелкой поломки, в помещение мастерской, незаметно переложит пакет под сиденье и спокойно выедет с территории автобазы. Он уже не раз пользовался этим способом. А затем, пока будет ехать по Ленинградскому проспекту, сделает несколько остановок у станций метро — он потому и назначил там места встреч. Единственно, что мучило его, — это головная боль после вчерашней попойки. Но не мог же он не обмыть столь крупный заказ “оптовика”! Вот и пошли с дружками. Ох уж эти дружки! Что-то Николай не помнил, чтобы они хоть раз пригласили его в ресторан, — получалось почему-то наоборот. И еще было у дружков удивительное свойство — они неизменно исчезали в период безденежья и столь же безошибочно появлялись в “жирные” дни. — Коля, друг! — приветствовал его очередной приятель. — Выручай, пересох. Веришь, неделю во рту градуса не было. Веди, друг, веди, за мной не пропадет. И хотя за всеми ими пропадало, Николай “вел”, поскольку были деньги, хотелось выпить и вообще “горела душа”. Иногда в компанию приглашали девушек, и тогда прибавлялся новый стимул: приятно было изображать этакого купца-миллионера — “разберите стенку, я здесь пройду!” — сорящего деньгами, окруженного льстивыми прихлебателями и который все может, ни на что не скупится. Так что выпили в счет будущих доходов изрядно. На время головная боль отпустила его, ее вытеснило напряжение и страх. Забрав путевой лист, небрежно осмотрев свою трехтонку, Николай лихо развернулся во дворе, выехал из ворот и через другие ворота заехал в мастерские. — Чего приехал, — спросил его знакомый мастер, когда, громко хлопнув дверцей, Николай вылез из машины, — на капиталку ставить? — Да нет, вон подтянуть надо. У нас, сам знаешь, инструмент какой… — Николай небрежно кивнул с сторону грузовика. — Пойду сейчас у ребят возьму. — Неужто и такой мелочи у вас нет? — удивился мастер. — Бедно живете. Лысо. Не база — шар бильярдный. — И он пошел по своим делам. Тем временем Николай, взяв у товарищей инструменты, повозился немного под машиной, отнес их обратно и, делая вид, что вытирает ветошью пальцы, торопливо оглянувшись, залез за старые куски железа и, достав пакет, отнес его в машину. Завел мотор и выехал за ворота. Капитан Юнков аккуратно уложил в футляр фотоаппарат, с помощью которого запечатлел на нескольких снимках действия преступника (каковым Николай теперь числился уже с полным правом в заведенном на него деле), и, выйдя через другой выход, сел за руль не нового, ничем внешне не примечательного, серого “Москвича”. Во всяком случае, никто бы не предположил, что “Москвич” этот без труда мог догнать любую “Волгу”, что из него капитан милиции Юнков может поддерживать связь с дежурным и с другими машинами, что под капотом спрятаны громкоговорители и сирена и что по им одним известным приметам инспекторы ГАИ сразу определят, что это за машина, и откроют ей “зеленую улицу”. Николай вел свою трехтонку аккуратно — сейчас не время попадаться из-за пустяков. Погруженный в свои мысли, он не замечал следовавшего за ним на некотором расстоянии серого “Москвича”. Головная боль усиливалась. Кроме того, Николай начал ощущать какую-то непонятную нервозность, какое-то странное напряжение. Николай никогда не верил в предчувствия. Поэтому бороться с недугами он мог только доступными ему средствами, вернее, средством. Остановив свой грузовик в хорошо известном ему месте, он прошел проходным двором и, протолкавшись без очереди к пивному киоску, не отрываясь, осушил две кружки пива. Убедившись, что “лекарство” не подействовало, Николай, проехав еще две улицы, забежал в магазин и, “скинувшись” с двумя какими-то пьянчужками, “принял” полагавшиеся на его долю 150 граммов. Как сообщил он позже следователю, ему “стало лучше, но не совсем”. Потом он сделал третью остановку и “принял” еще бутылку пива, из горлышка, прямо в магазине. Только тогда наконец он почувствовал себя “в полном порядке”. Из магазинов он, кроме того, захватывал бутылку про запас. Капитан Юнков, терпеливо дожидавшийся в своем “Москвиче”, каждый раз фиксировал торчавшую из кармана бутылку. К сожалению, мысль о том, что Николай успевал “заправиться” прямо в магазине, ему не пришла в голову. Теперь головная боль прошла окончательно — никакой тяжести Николай не ощущал. Наоборот, появилось чувство приятной легкости. Было ясно, что никаких опасностей для такого ловкого, смелого, хитрого и осторожного человека, как Николай, не существует и что осторожность, в общем-то, излишня, поскольку вряд ли кто посмеет его тронуть, а посмеет, так пожалеет, такое получит… И тем приятнее виделись перспективы сегодняшнего дня. Куш он отхватит солидный — не то что на один, на десять “культпоходов” хватит… Кроме того, Николай намеревался купить за двадцать пять рублей автоматический нож у Кривого и какие-то журналы с девицами, а еще галстук, который ночью, говорят, светится. Николай был франтом и, когда гулял, старался выглядеть столь же элегантным, сколь грязным и неопрятным он выглядел во время работы. Приятные мысли легко проносились в голове. Николай, сам не замечая, слегка увеличил скорость; ухмыляясь, он прижимал своей могучей машиной какую-то автомобильную мелюзгу, толкавшуюся по бокам. В одном месте он проскочил автоматический светофор на желтый свет и беззвучно обругал погрозившего ему кулаком водителя встречной машины. В своем сером “Москвиче” капитан Юнков хмурил брови. Оборот событий его не устраивал. В чем дело? Если так будет продолжаться, Николай, чего доброго, не доедет до места назначения, не встретится с тем или с теми, кому должен передать ворованные детали. Машина Николая, проехав по Пресне, миновав мост, свернула на Беговую и, нырнув в вечно ремонтировавшийся туннель, выскочила с противоположной стороны. Лихо повернув направо, чтобы выехать на Ленинградский проспект, Николай даже запел от удовольствия. Еще бы: голова не болит, впереди приличные деньги, в запасе еще детали, бизнес его функционирует прекрасно… И вообще все здорово! Надо только на минутку еще разок остановиться. До нормы как раз кружечки не хватает… И вот тогда Николай услышал свисток и, оглянувшись, увидел инспектора ГАИ. Помахивая жезлом, он приказывал остановиться. Николай мгновенно вспотел. Он сразу понял, что находится на грани краха всех своих надежд. Инспектор без труда определит, что Николай пьян. Заберет. Машину осмотрят. Обнаружат ворованные детали. Свяжутся с автобазой. Начнется следствие. Вскроются старые дела. И все. И хороший срок обеспечен. Прощай дружки, рестораны, вечерники, девушки и галстуки! И все из-за дурацкого случая. Из-за мелкого нарушения. Да и нарушения-то нет! Что он нарушил? Что? Скорость не превысил, и не мог — поворот, рядность тоже соблюдал, машина из гаража, чистая, все в порядке, не сигналил. Ну в чем нарушение? Чего он придрался, этот инспектор! Чего ему надо? Лекцию прочесть или план по штрафам недовыполнил? А у него, у Николая, вся жизнь насмарку, все к черту полетит. Столько работал, старался, эти детали снимая! Столько страху натерпелся, нервов потратил! Столько времени все шито-крыто, все с рук сходило! Сторож однажды чуть не накрыл — удрал; клиент попался, донести хотел — уговорил; мастер застал на месте — вывернулся. А тут на тебе! Когда такое дело, такие возможности, когда все трудности, казалось, позади… Из-за какого-то придиры, бездельника все погибнет! Вот подлец! Ну что ему надо? Стоял бы себе со своей палкой, ворон ловил. Так нет, именно к нему, к Николаю, пристал! И главное, ни за что. Мысли с невероятной быстротой неслись в голове Николая, лютая, жаркая ненависть охватывала его. Механически он остановил машину. Не в силах шевельнуться, ненавидящим взглядом смотрел на медленно приближавшегося к нему инспектора. Проехав мимо и выехав на Ленинградский проспект, капитан Юнков остановил своего “Москвича” и озабоченно наблюдал за Николаем и инспектором. Вот черт, еще заберет его! И пропала нить. Начнется дело, ищи потом свищи Николаевых клиентов. А инспектор тем временем вплотную приблизился к трехтонке Николая. Это был высокий, широкоплечий парень, лейтенант. Его решительное, волевое лицо не обещало нарушителю ничего хорошего. Нарушитель? “А в чем, кстати, заключалось нарушение?” — подумал Юнков. Поразмыслив, он пришел к выводу, что никакого нарушения правил Николай не совершил. Тогда почему его остановил инспектор? Может быть, случайно? Ошибся, а теперь неудобно идти на попятную? Но уж очень он уверенно направляется к машине. Юнков помрачнел, он начинал догадываться…ЛЕНА И НИКИТИН
В тот день встреча Лены и Никитина была назначена на семь часов у Белорусского вокзала. Они последнее время — а все-то время их знакомства измерялось неделями — встречались почти ежедневно. Здесь под мостом толпились продавцы цветов — “законные” и дикие, с ведрами, кадушками, корзинами. Полыхали в полумраке перехода желтые золотые шары, бордовые гвоздики, белые, розовые астры, кремовые розы… Никитин выбирал два—три красивых цветка, и, куда бы они ни шли потом, Лена бережно несла их с собой, а вечером дома ставила в вазу. Лена всегда опаздывала, и вес попытки Никитина приучить ее к аккуратности оказывались тщетны. — Ну хочешь, я брошусь под машину, — в отчаянии восклицала Лена, — или под поезд? Или навсегда откажусь от мороженого, или ущипну декана за нос? Только скажи! Все сделаю, а точной быть — не получается! Знаешь, я теперь к тебе на свидание накануне выхожу. И вот все равно опаздываю! — “Накануне”… — ворчал Никитин. — Выходи за неделю… В конце концов он придумал хитрый прием — стал сам опаздывать на свидания, хотя это и противоречило всем его привычкам. Но прием себя не оправдал — Лена все равно приходила позже. Проведя первые пять минут встречи в упреках и оправданиях, они, взявшись за руки, отправлялись в любимый “Космос”, в кино, на концерт, в театр или в гости. И хотя вкусы у них были весьмаразные, даже во многом противоположные, шли с удовольствием — ведь, в конце концов, они были вместе. Происходил, как выражалась Лена, процесс “взаимного обогащения”. Например, Лена заразила Никитина своей любовью к цирку, а он ее — к спортивным соревнованиям. Сначала Лена сопротивлялась. — Не могу понять! Ну, выходят два человека на ковер, пыхтят, сопят, швыряют друг друга, тратят кучу энергии… Зачем? Да еще ты говоришь, что каждый день теряют два—три часа на тренировки. Это же уйма времени! — Во-первых, — солидно возражал Никитин, — я не говорил “тратят время”. Они от тренировок получают удовольствие. Они благодаря этому “потраченному” времени становятся здоровыми, сильными, атлетичными. Ты вот, например, сколько времени проводишь каждое утро перед зеркалом? А? То-то! Тратишь время. Зачем? Чтобы выглядеть красивой — “от того удовольствие и торжество в чувствах получая”. Во-вторых, кто сопит и пыхтит? Ты, может быть, когда контрольную пишешь, а у самбистов я что-то не замечал. И вообще, по-твоему, самодеятельные певцы, танцоры, актеры, художники, фотографы, композиторы, все, кто пишет для себя и друзей, а не для журналов и издательств стихи, все, кто вообще “тратит время”, совершенствуясь в чем-то, не связанном с его непосредственной профессией, делают это зря? — Нет, ну я не говорю… Но… В общем… Однако такая аргументация звучала малоубедительно, и Лена замолкала. В конце концов она увлеклась самбо, азартно вопила на соревнованиях, толкала Никитина в бок, охала или в сердцах восклицала: “Шляпа! Дистрофик!” Друзей у них было много, и в гости они ходили часто. Но тут наметилось явное размежевание. Несмотря на свою примечательную красоту и все признаки любви к Никитину, которую она не скрывала, его товарищам Лена не нравилась. Разумеется, они были приветливы, галантны, гостеприимны, но Никитин чувствовал, что это делается ради него. Не многие из его даже самых близких друзей могли позволить себе в столь интимной области полную откровенность. Дима Сурков, например, инженер, занимавшийся у одного с Никитиным тренера. — Видишь ли, — говорил он раздумчиво, стараясь подбирать выражения помягче, — не настоящая она какая-то. Не обижайся, Валька. Тебе, в конце концов, судить. Но, с другой стороны, ты не можешь судить в этом деле объективно. Со стороны видней. — Но ведь она же… — горячился Никитин. — Знаю, влюблена. По всему видно. Бесспорно. Но как бы тебе сказать? Мне кажется, что вот так она могла бы любить еще сто человек. Нет, не одновременно, последовательно. Ну, понимаешь, вот есть женщина, которая любит самозабвенно именно тебя. Ни до тебя, ни после никого так уже не полюбит, да если б тебя и не было, никого бы так не любила. По-другому — слабей, спокойней, меньше. А Лена твоя, она любит вообще так, любого, кого любит, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Не было б тебя, она так же отчаянно была бы влюблена в другого. Исчезнешь ты — следующего, а за ним следующего будет так любить. Да и до тебя… — Но она же девчонка… — Э, нет! В чувствах она зрелый человек, поверь мне. Просто она вообще такая. И в двадцать пять, и в тридцать, и в сорок будет такой же. Ну, легкомысленная она, что ли. Или это другое. Вот она постановила для себя, что влюблена, и шлюзы открылись. Потом решит, что влюблена в другого, — повторится то же. Таких, как ты, она, наверное, еще не встречала, но ведь встретит. Подобные ей быстро забывают. Дима Сурков во многом был прав, но в одном он ошибался — Лене никогда не суждено было забыть Никитина… Иногда Никитин мечтал. Прохаживаясь с жезлом в руке вдоль широкой асфальтовой магистрали, по которой уже прохладный ветерок то и дело прометал начинавшие желтеть листья, он мечтал. Это не мешало ему зорко следить за машинами, останавливать нарушителей — вообще выполнять свои прямые служебные обязанности. Отнюдь. Просто в какие-то спокойные минуты он представлял, что они с Леной вместе. Он избегал находить этому понятию более точное определение — просто вместе. В основном он мечтал о том, что Лена станет другой — она будет серьезной, с чувством ответственности; будет увлечена своей профессией педагога, к каковой ныне она относится крайне иронически, хотя и учится в педагогическом вузе; будет любить его, Никитина, не восторженной любовью, а глубокой, спокойной, “солидной”. Никитин досадливо обрывал свои мечты, когда над головой его любимой начинал светиться нимб. А вообще здорово, если б она стала такой, какой он хотел! Но, наверное, само ничто не приходит, надо над этим работать, воспитывать ее, разумеется, незаметно, чтобы она и не догадывалась… — Девчонки, он меня перевоспитывает, — увлеченно повествовала Лена своим внимательно слушавшим подругам, — ведет душеспасительные беседы. — А ты? — вопрошала Нина. — Поддаюсь! Всецело. Скоро запишусь в секцию самбо- буду вас швырять через стол. Хочешь, сейчас? Лена набрасывалась на подруг, начинались визг, возня, пока все трое в изнеможении не падали на диван, растрепанные и тяжело дышащие. — Нет, вы только подумайте, — продолжала Лена, отдышавшись, — он, например, не понимает, зачем я учусь в педагогическом, если не собираюсь учить детишек! Я объясняю — язык хочу знать, а там куда-нибудь в интересное место. “В какое?” — спрашивает. А я откуда знаю? Я сама не знаю. Ты вот, Валя, знаешь? Валя презрительно пожала плечами: — Я-то знаю. Я, между прочим, это еще в седьмом классе знала. Пойду в школу. Поработаю несколько лет; если смогу, буду в институте преподавать. — А я, если возьмут, — в аспирантуру, — вставила Нина. — Я и тему уже придумала… — Да ладно… — Лена махнула рукой. — Вы же образцово-показательные. Вас на выставку надо, в музей, а я буду гидом — указкой в вас тыкать и объяснять на заграничных языках: “Вот идеальные бывшие школьницы, позже образцовые студентки, ныне показательные учительницы…” Она помолчала. — А вот он всегда знает, что хочет. И уж он, будьте покойны, своего добьется. Он еще генералом станет… — А ты генеральшей… — подхватила Нина. — Нет, — сказала Лена с неожиданной грустью, — не буду я генеральшей. Он найдет лучше, настоящую, не такую балаболку, как я… — Но тут же она вскочила, закружилась по комнате, запела: — “Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу!..” — Да брось ты! — Валя растрогалась. — Все у вас будет хорошо. Между прочим, если он дослужится только до капитана, тоже ничего страшного, будешь капитаншей. Лена иногда спрашивала себя, по-настоящему ли она любит Никитина. Дело в том, она это твердо знала, истинная любовь беспричинна и необъяснима. Когда человек любит по-настоящему, он не может ответить, почему он может любить урода, глупца, подлеца. Подчас даже знать это, и все равно любить. А вот она отлично знала, за что любит Никитина. Она просто по полочкам могла разместить все эти причины. Никитин умный, решительный, волевой, романтичный. Герой. Он сильный, ловкий, атлетически сложен и красив, он самбист и снайпер, спортсмен и офицер. Супермен. Когда они идут рядом, девчонки засматриваются на него, а на нее бросают завистливые взгляды. Но однажды где-то в кино, в ожидании сеанса, они, случайно заглянув в старую газету, увидели постановление Президиума Верховного Совета о награждении лейтенанта милиции из далекого города. Последним словом в постановлении было “посмертно”. Никитин помрачнел, но ничего не сказал. А Лена вдруг задумалась. Она себе представила, что вместо фамилии того далекого лейтенанта стоит фамилия Никитин. Ей стало страшно-она вцепилась в его руку с такой силой, словно они должны были расстаться навсегда. Она внезапно представила себе, что он больше не позвонит, не придет на свидание, вообще исчезнет из ее жизни. И не только из ее. Вот тогда она поняла, что любит по-настоящему. Она замучила Никитина нелепыми вопросами: не палят ли нарушители движения в инспекторов из пистолетов, не опасно ли ездить на большой скорости на мотоцикле, вооружен ли он, когда ходит в штатском, особенно ночью, и т. д. Никитин смеялся, шутил, но Лена смотрела на него укоризненным взором, и ему становилось неловко. Впрочем, долго грустить и тревожиться Лена не умела. Ее увлекала какая-нибудь очередная идея — веселая, забавная: то готовилась свадьба подруги, то возникала мысль кого-то разыграть, то выяснялось, что где-то, чуть не в подмосковном поселке, устраивается бал-маскарад и она во что бы то ни стало хотела попасть туда, да еще с Никитиным. — Тебе просто, — рассуждала она, — ты наденешь форму. Никто не поверит, что лейтенант милиции придет на такое мероприятие. А я переоденусь пьяницей — ты вроде бы меня задержал! А? Здорово? — Гениально! — кисло улыбался Никитин. — В результате нас обоих задерживают дружинники и отправляют на психиатрическую экспертизу. — Никакой фантазии в тебе нет, — сокрушалась Лена. — Трезвяк, сюрреалист… — А ты знаешь, что это такое? — коварно вопрошал Никитин, но Лена спешила переменить тему разговора. В последнее их свидание у Лены с Никитиным произошел волнующий для нее разговор. Пожалуй, это был первый разговор, откровенно затронувший их отношения. Дело в том, что “безумная любовь” являлась темой бесед Лены с подругами или внутренних монологов молодых людей. Друг другу они еще об этом не говорили, хоть слова здесь, вообще-то говоря, не требовались. Когда парень и девушка проводят все свободное время вместе, смотрят друг на друга сияющими глазами, целуются в кино и на прощанье в подъезде- как изволите называть такие отношения? Шапочным знакомством? А тут, сидя в сквере на скупом в тот год сентябрьском солнышке, они рассуждали о жизни. Как-то незаметно разговор перешел к планам на будущее. У Никитина все было ясно: его жизненная программа была начерчена твердо и точно — надо было ее выполнить. Во-первых, он решил закончить второй институт — юридический. Уже занимался, готовился, но считал, что поступать в этом году рано, а на будущий — обязательно. На вечерний или заочный — еще не решено; это зависело от начальства, как позволит служба. К тому времени, когда он кончит институт, Никитин будет капитаном. Имея такой стаж работы, два высших образования и звание капитана, Никитин рассчитывал серьезно заняться следовательской работой. Он уже сейчас читал много книг по криминалистике, ходил в НТО, надоедая там сотрудникам бесконечными вопросами, присутствовал при допросах, смотрел дела. Далее (Никитин загибал второй палец), далее он станет мастером по мотоспорту, а возможно, и по борьбе самбо. И, кто знает, вполне может быть — по стрельбе. Трижды мастер спорта, да еще по столь разным видам, — “это красиво”, как любит выражаться Лена. И наконец (загибается третий палец), он займется языком — сейчас без языка не то что до Киева, до соседней улицы не дойдешь. — В-четвертых, — Никитин загнул еще один палец, — в-четвертых, но не в последних, буду устраивать личную жизнь. Сейчас я ведь у родителей. Там сестры, одна замужем. Тесновато. Начальник управления сказал: “Как женишься, дадим комнату”. Так что дело за малым — надо жениться. И он прямо посмотрел Лене в глаза, то ли серьезно, то ли, как всегда, насмешливо. Она тотчас опустила свои. Потому что одно дело говорить о замужней жизни с подругами, играть в мечты и совсем другое, когда мечты без пяти минут становятся явью. Вот ему все ясно, он все знает наперед, не сомневается, видит цель и идет к ней настойчиво, уверенно. А она? Ну, кончит институт, ну, поработает с делегациями (желательно, на кинофестивалях, а не на выставках полиграфических машин) — а дальше? Чего она хочет? К чему стремится? К какой близкой или далекой цели? Может быть, она вообще хочет быть лишь женой? Вот если б ей предложили стать супругой уважаемого академика, генерала и при этом ничего не делать. Устроило бы это ее? Наверное, нет. Наверное, она бы тосковала по делу, хоть и не представляет какому, по коллективу, по товарищам, связанным с ней общими рабочими интересами, общими делами… Но все это так неясно, так расплывчато… Лена злилась порой на себя. Скоро институт кончит, а до сих пор “не определилась”, плывет себе по течению без ясной цели. Ну, а Никитин? В конце концов, дело делом, но ведь здесь любовь. Она его любит. Какая же девушка не мечтает стать женой любимого человека? Так нет, и здесь все словно в какой-то игре: маленькие играют во взрослых. А какая же игра, если вот он, рядом, почти все сказано и надо говорить самой? Лена в панике искала какие-то иные темы разговора, прятала глаза. А потом дома плакала и называла себя дурой. Но в тот день, когда, как всегда опаздывая, она мчалась к месту свидания, к Белорусскому вокзалу, она решила, что все скажет сама. Вот возьмет и скажет. Ну почему она не умеет не опаздывать? Прямо рок какой-то! Пока спустится в метро, дождется поезда, доедет… О господи, хоть бы такси! Но такси шли в сторону центра, а с этими их дурацкими правилами, пока развернется, целый час потеряешь! В эту минуту Лена увидела зеленый огонек, приближавшийся к ресторану “Баку”. Она быстро огляделась- милиционера в поле зрения не было. Прижав локтем сумочку, Лена стремглав помчалась через улицу Горького, отчаянно размахивая рукой приближающемуся такси…ПРОИСШЕСТВИЕ НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО
Около семи вечера движение на улице Горького становится особенно оживленным: кончился рабочий день, скоро начнутся концерты и спектакли, а в сентябре еще многие спешат за город. Может быть, в силу этой последней причины поток машин, стремящихся из города, куда гуще того, что движется в обратном направлении. Черные, бежевые, серые, зеленые “Волги”, “Москвичи”, “Запорожцы”, с затерявшимися среди них редкими машинами зарубежных марок, маршрутными такси, пыхтящими от нетерпения мастодонтами — аэродромными автобусами — или изящными туристскими “карами”, сплошным потоком неслись по главной столичной магистрали, застывая у светофоров, набирая скорость в промежутках. Невеселое, пасмурное небо нависло над Москвой, дождя не было, но он где-то копился, чтобы вылиться потом, ночью, когда все будут спать блаженным сном. Пока же люди, не задумываясь о дожде, бежали по своим вечерним делам: в магазины, в театры и в гости, просто домой, предвкушая вечер у телевизора, за книгой, за столом… Спешил, выйдя из сберкассы № 7982, в расположенный по соседству магазин игрушек Степан Степанович Степанов; сжимая в руках резинового бемби, студент Дима шел домой, мечтая о первом свидании с Наташей; в тщетной надежде купить в магазине игрушек никогда там не продававшиеся коньки, торопилась до его закрытия Лидия Романовна, оставив Ксюшку возле окошка, где продавались пончики; заранее переживая радость приобретения нового реле, вел свою “Волгу” инженер Румянцев. У всех были дела, приятные или хлопотные заботы… И никто из этих людей не знал, что через несколько секунд, по воле очень красивой, очень влюбленной, опаздывающей на свидание девушки, случится с ними самое страшное, что может случиться с человеком. Лена мчалась, виляя между машинами, к заветной цели — мелькавшему все ближе зеленому огоньку. На мгновение сплошной, несшийся в направлении площади Маяковского поток машин преградил ей путь. Она замерла, остановившись на узкой полосе резервной зоны. Но огонек все приближался, он был уже рядом; еще немного — и такси проедет, не заметив ее. К счастью, наметился просвет — огромный рейсовый автобус аэрофлота, приближавшийся со стороны Пушкинской площади, был, как показалось Лене, еще далеко. Ей показалось, что и машины, двигавшиеся по ту сторону автобуса, также не близко. Веселые искорки заплясали у нее в глазах. Она представила себе, как будет ворчать Никитин, когда она расскажет ему о нарушении порядка, совершенном ради него, — она спешила, она летела на крыльях любви. Что по сравнению с этим какие-то дурацкие правила и инструкции! В конце концов, если она заслужила штраф, пусть он купит ей сегодня на рубль меньше цветов. Это была традиционная шутка. Лена часто повторяла ее. Никитин же встречал ее без особого энтузиазма. Лена, еще продолжая улыбаться, легкая и быстрая, промчалась почти перед самым гигантским тупым носом автобуса, почувствовав жар, услышав над ухом мощный сигнал… Она бросила быстрый взгляд вправо и похолодела: на нее неслось грузовое такси. Растерянная, в панике, с расширенными от ужаса глазами, Лена каким-то чудом успела прошмыгнуть буквально в нескольких сантиметрах от машины. Дикий воющий скрежет тормозов покрыл все другие шумы Грузовик остановился, а Лена, ничего не видя, кроме спасительного тротуара, рванулась вперед. Она не заметила за высоким грузовиком быстро двигавшуюся в первом ряду “Волгу”, да если и заметила бы, все равно у нее не было иного выхода, кроме движения вперед. Казалось, третьего чуда для Лены уже не произойдет. Но оно произошло… Инженер Румянцев вел машину быстро и спокойно. На всем этом участке улицы Горького были подземные переходы, на самой площади Маяковского лишь несколько секунд назад зажегся в светофоре зеленый свет, и не было причин чего-либо опасаться. К тому же слева от него по центральной части улицы быстро двигались другие машины. Девушка, вылетевшая каким-то непостижимым образом буквально из-под колес соседнего грузового такси, застала инженера врасплох. Быть может, будь на его месте водитель с тридцатилетним стажем или чемпион по боксу с феноменальной реакцией, они что-нибудь смогли бы предпринять. Хотя вряд ли. Румянцев же был просто добросовестный, достаточно опытный, осторожный любитель. Но все же любитель. Девушка была так близко, что, даже мгновенно затормозив, он сбил бы ее; свернув влево, он врезался бы в набитый детьми “Москвич”, который к этому моменту занял место проехавшего вперед грузового такси. Повернув же вправо, на одно из окаймлявших улицу Горького деревьев, Румянцев жертвовал лишь собой. Таков был ход мыслей инженера, делавший ему честь. К сожалению, не все решения удается осуществить, в особенности если на их принятие и выполнение дается секунда. А у Румянцева не было и этой секунды. Резко, отчаянно крутнув руль вправо, он чуть-чуть не довернул его, совсем чуть-чуть. Но этого оказалось достаточно, чтобы “Волга”, прочертив по асфальту черный след и содрав с дерева кору, врезалась в огромную витрину магазина игрушек, сметая все на своем пути. Все и всех… Визг тормозов, звон разлетающегося на куски гигантского витринного стекла, стук сталкивающихся машин, крики перепуганных люден слились воедино. Потом наступила мертвая тишина. Потом понеслись другие шумы — милицейские свистки, клаксоны машин, сирены “скорой помощи”… Через несколько минут санитары в белых халатах укладывали в свои машины пенсионера Степанова, студента Диму, бывшую стюардессу Лидию Романовну… Санитары много повидали горького и страшного — такая уж у них работа. Но сейчас и они не могли скрыть подавленности. Они бережно укладывали тела на носилки, они делали свое дело, и машины на бешеной скорости мчались в Институт Склифосовского. Но они прекрасно понимали, что для спасения этих троих машины могли уже не спешить… Были раненые. Их перевязывали, накладывали шины, делали им уколы и увозили. Был увезен и инженер Румянцев. Выездные инспекторы и следователи дежурного по городу щелкали фотоаппаратами, растягивали рулетку, милиционеры, отчаянно свистя и жестикулируя, восстанавливали движение. Вскоре разбитую “Волгу” утащили на буксире, убрали с тротуара стекло и заложили витрину фанерой. Люди разошлись, инспекторы в своих машинах, выстроившихся вдоль тротуара, заканчивали протоколы, опрашивали потрясенных свидетелей. С ровным гулом мчался по улице Горького поток машин, спешили по своим делам прохожие, зажглись фонари… Жизнь для тех, кто продолжал жить, входила в нормальную колею. Для тех, кто продолжал жить. Для Лены, например. Где она? Что случилось с ней в эти страшные минуты? Как поступила она, поняв, что совершила, чему была виной? Быть может, в отчаянии бросилась под машину или рыдала, упав на холодный асфальт? Может быть, оцепенев, стояла недвижимо в толпе? Может быть… Нет. Лена, озабоченно поглядывая на часы, переминалась у двери вагона метро, мчавшего ее на свидание к Никитину. Когда, чудом избежав гибели под колесами машин, еще дрожа от пережитого, Лена выскочила на тротуар, она услышала за спиной страшный грохот, звон, крики. Она быстро пришла в себя: о такси теперь нечего и думать, впору удрать от милиционера или от этих активных граждан (есть же такие, вечно лезут не в свое дело) — еще остановят! Плати штраф, выслушивай нотацию. Она и так опаздывает. Она заторопилась ко входу в метро, стараясь не оглядываться, скользя своей легкой походкой между прохожими. В суматохе и растерянности, царившей в первые секунды после происшествия, никто Лену не задержал, почти никто не заметил. “Перебегала какая-то девушка…”, “Девчонка выскочила из-под машины…”, “Ну какая? Обыкновенная, юбка короткая, волосы по плечам. Цвет платья? А бог его знает, не заметил…” — так говорили свидетели. А Лена нетерпеливо царапала резиновые прокладки вагонных дверей, ожидая, пока поезд остановится. Наконец поезд остановился, двери со стуком разъехались, и она торопливо побежала к эскалатору, стуча каблуками. Эскалатор, по ее мнению, тоже шел медленно. И люди в дверях толклись… Черт! И так опаздывает. Ну ничего, Никитин простит. Она сейчас рассмешит его своей обычной шуткой. Впрочем, нет, на этот раз она ничего не расскажет. Почему? Лена сама не могла бы ответить на этот вопрос. Но настроение ее неожиданно испортилось. Оно стало совсем плохим, когда, войдя под гулкие своды туннеля, туда, где вдоль стен выстроились продавщицы цветов, она не увидела знакомой высокой, широкоплечей фигуры. Не может быть! Не мог он уйти! В конце концов, это свинство: она опоздала всего минут на пятнадцать — это даже меньше, чем обычно. Неужели он решил ее проучить? Ну погоди! Имеет же девушка право опаздывать! Это испокон веку ведется, это всегда было… А может, его задержали по службе? Нет, он всегда умудрялся предупредить ее. Да и было так всего раза два. Тогда что же? Лена похолодела. Бросил! Полюбил другую… Лена почувствовала, как слезы выступили у нее на глазах. Раньше эта мысль даже не приходила ей в голову. Сейчас впервые она вдруг подумала: а что, собственно, она собой представляет? Девчонка как девчонка, таких тысячи по Москве бегают. И такие же красивые, и такие же разодетые, с такими же фигурами и прическами. Что она, очень уж умная или талантливая? Может быть, великая актриса, чемпионка по гимнастике, кандидат наук?.. Да никто она! Никто! Он присмотрелся к ней и бросил. Потом Лена взяла себя в руки. Нет! Этого не может быть. В конце концов, не так уж много таких красивых, как она, таких обаятельных, кокетливых, изящных… Лена долго пересчитывала мысленно свои достоинства и постепенно успокоилась. То и дело бросая взгляд на часы, она продолжала ходить вдоль туннеля. Просто он задержался. Еще несколько минут, и придет. Но Никитин не пришел…ПРОИСШЕСТВИЕ НА БЕГОВОЙ
Посматривая на часы, Никитин прохаживался вдоль асфальтовой магистрали. До конца дежурства оставалось не так уж много времени — он успеет. Тем более, что не было еще случая, чтобы Лена не опоздала на свидание. Лена! Сейчас они встретятся в туннеле у Белорусского вокзала, где такой выбор цветов… Но вообще-то место встреч надо менять — осень, в туннеле продувает, холодно. Вместо цветка придется приобретать шоколадку. А сейчас он купит ей самый яркий цветок, какой будет, и они отправятся смотреть какой-то приключенческий фильм, который, как всегда, “методом анализа” доски объявлений обнаружит Лена. Глядя на схватки и происшествия на экране, Никитин, имевший представление о настоящих схватках и приключениях, не смеялся. Он уважал искусство и считал, что хороший фильм не только интересен, но и полезен. Лена, обожавшая детективы, была разочарована, когда выяснилось, что ее любимый, хоть и офицер милиции, судя по его рассказам, никогда не рисковал жизнью, не был героем немыслимых историй и вообще его имя не связывалось ни с какими кровавыми и жуткими драмами. Никитин улыбался про себя, но ему было приятно, что он все же нравится Лене как личность, а не из-за каких-нибудь там романтических фантазий. И он сознательно говорил о своей службе, как о чем-то очень будничном, все время эту будничность преувеличивая. Лена быстро примирилась и стала восхищаться Никитиным как спортсменом. Она ахала и охала, внимая рассказам о его спортивных победах, и здесь, будем откровенны, Никитин порой позволял себе кое-какие невинные преувеличения. Снисходительно улыбаясь про себя, он представлял, как Лена наводит красоту перед зеркалом, в сотый раз проверяет шов на чулке, высоту пояса, положение волос, черноту ресниц и т. д. и т. п. Затратив на это добрый час, она затем пытается за пять минут доехать от своего дома до места свидания. Такси она, конечно, не находит, на троллейбусе долго, на автобусе неудобно (нет автобусных билетиков), на метро — спускаться-подниматься… Она мечется и опаздывает еще больше. Наконец, наверняка перебежав улицу где-нибудь в неположенном месте, она самым длинным и неудобным путем добирается до места свидания. Кстати, эта вот манера Лены пренебрегать правилами уличного движения не только профессионально раздражает Никитина, но, если быть откровенным, беспокоит его. Уж он-то знает, к чему это может принести. Скольких молодых, еще за минуту до этого здоровых, полных сил, видел он неподвижными на носилках, с восковыми лицами, навсегда изувеченными, калеками, а то и… И ведь большей частью виноваты сами жертвы, пешеходы, весьма редко, в отличие от водителей, обращающие внимание на какие-то там правила. Что касается водителей, то тут контроль строгий: малейшее нарушение, малейшая опасность пресекаются. Для того он и существует, для того и стоит здесь. …Мысли ни на секунду не отвлекали Никитина от прямого дела. Поэтому его привычный, опытный взгляд мгновенно уловил что-то необычное в движении трехтонки: выехав из туннеля на Башиловку, она повернула направо с намерением, вероятно, попасть на Ленинградский проспект. Водитель трехтонки ничем, казалось бы, не нарушил правил, и машина его была внешне в порядке, но выработанная годами интуиция, натренированная наблюдательность, а главное, что-то необъяснимое, определяемое банальным, но сколь многозначным словом “бдительность”, подсказали Никитину: остановить! Он засвистел и сделал повелительный знак жезлом, раньше чем понял причину своих действий — водитель наверняка выпил. Смущали неуловимые детали в движении машины, в том, как она делала поворот. Неуловимые, но достаточные, чтобы Никитин мгновенно поднес свисток ко рту. Грузовик остановился. Никитин неторопливо пересек дорогу, подошел к кабине водителя и, приложив руку к козырьку, произнес: — Инспектор Никитин. Пожалуйста, водительское удостоверение и путевку. Водитель не вылез из машины, не опустил окно. Он открыл дверцу и протянул документы. Его желание держаться от инспектора подальше было настолько очевидным, что если даже у Никитина не было подозрений раньше, они возникли бы теперь. Лейтенант внимательно рассматривал удостоверение, путевой лист — здесь все было правильно. Но сейчас это не имело значения. — Машина в порядке? — внезапно спросил лейтенант и, раньше чем водитель успел ответить, легко вспрыгнул на подножку и резко приказал: — Подвиньтесь, проверю. Этого Николай не ожидал, и на какое-то мгновение его лицо оказалось рядом с лицом лейтенанта. Повернувшись к водителю, Никитин демонстративно вдохнул ноздрями воздух. Наконец-то Николай понял. Какой дурак! Как он мог на таком деле выпить! И как мог не сообразить, почему остановил его этот чертов инспектор, уж неизвестно каким невероятным путем учуявший неладное. Ведь догадайся Николай, он бы сделал вид, что не слыхал свистка, удрал, а там, когда на базу придет вызов, все будет проще. Ну, ответит за нарушение, которого, кстати, не было. Главное — деталей не будет! А теперь? Что теперь? — Много выпил? — спросил Никитин. — Да что вы, товарищ лейтенант! Да ей-Боry… да я… Никитин только махнул рукой. — Отстраняю вас от управления! Поедем на экспертизу. — Никитин спокойно нажал педаль и повел машину. Жаль, конечно, что свидание с Леной сорвется. А может, она дождется? Ведь это впервые. И все из-за этого пьяницы… Никитин бросил в сторону Николая презрительный взгляд. Он, конечно, не пьян, так, едва-едва выпил, но за рулем трехтонки… Даже если был бы один процент риска, этого не следовало допустить. Ничего нет страшней в городе, чем пьяница за рулем. Ладно, надо побыстрей доставить его… Так размышлял лейтенант Никитин, спокойно ведя машину. Ворча про себя, следовал за грузовиком на своем “Москвиче” капитан Юнков. Отдавая дань бдительности инспектора, восхищаясь его наблюдательностью, он в то же время досадовал, что срывается операция. Но может, он ошибся и водителя выпустят? Или удастся изобличить его прямо в милиции с ворованными деталями, сразу же допросить, выяснить, куда, к кому ехал? Николай все больше наливался яростью. Накрылся! Кончено дело, теперь срок обеспечен. Был хороший бизнес, были деньги, была клиентура. А теперь из-за этого, из-за этого… все летит прахом! Николай не желал признаться себе, что виноват во всем сам. Не в воровстве — разумеется, об этом он и не думал, — а в том, что выпил. И именно то, что виноват он, вызывало к задержавшему его милиционеру жгучую ненависть. Он просто задыхался от этой ненависти, он тяжело дышал, короткие пальцы, сжатые в кулаки, побелели. При мысли, что его ждет и что он потерял по вине этого… этого (Николай не находил слов), он застонал. Но Никитин так же спокойно продолжал вести машину. Он вывел ее на Ленинградский проспект, повернул налево, на асфальтовый проезд, пересекавший разделительную, усаженную деревьями полосу, и переехал на другую сторону проспекта, чтобы попасть на Беговую. Подобный маршрут не существует для транспорта, но за рулем грузовика сидел милиционер, а следовавший сзади “Москвич”, благодаря своим волшебным знакам, мог вообще двигаться в любом направлении. Теперь они ехали по Беговой, приближаясь к перекрестку. И тогда вдруг в затуманенном вином и яростью мозгу Николая возник безумный план, план, который мог прийти в голову только загнанному в угол, потерявшему чувство реальности преступнику. Николай решил оглушить милиционера, выбросить его из кабины, свернуть влево, на максимальной скорости подъехать к ипподрому, ломая ограждение, выехать на него, пересечь огромное поле и где-нибудь там, в дальнем конце, где нет людей, куда не скоро доберутся, бросить машину и скрыться. Он не подумал о том, что его удостоверение и путевка у Никитина в кармане и что вообще потребуется пять минут для установления личности беглеца, что машина не сумеет преодолеть ограду ипподрома, проехать по пересеченному различными препятствиями полю. Он не думал о том, что в намеченной им гонке могут погибнуть люди, что грузовик его сомнет другие машины (чего ему бояться — у него трехтонка!). И уж меньше всего он думал о том, что произойдет с оглушенным, выброшенным на полном ходу из кабины человеком. Задыхаясь от ярости, Николай быстрым движением достал из-под сиденья тяжелый гаечный ключ и изо всей силы ударил Никитина в висок… Рванув дверцу, он торопливо сдвинул милиционера к краю сиденья, взял управление на себя и попытался выбросить безжизненное тело из машины. Машина шла на малой скорости, и скорей всего Никитин остался бы жив. Но тут произошло неожиданное. Чудовищным усилием воли стараясь сохранить ускользавшее сознание, почти ничего не видя и не слыша, Никитин вцепился в Николая, не давая ему вести машину. Билась последняя угасавшая мысль: “Задержать, задержать подольше, пока подоспеют люди…” Не сделай этого, Никитин, вероятно, остался бы жить… А преступник, круша и давя все на пути, умчался бы, осуществляя свой жестокий и бессмысленный план. И сколько других людей погибло бы под колесами его грузовика, трудно и предположить. Николай изо всей силы пытался вытолкнуть инспектора. Грузовик, вихляя, еле двигался по улице, вызывая недоумение у следовавших сзади водителей. Наконец, почувствовав, что ничего не может сделать, Николай вновь схватил гаечный ключ и остервенело начал бить лейтенанта. Но сдавившие его пальцы так и не разжались… Обезумев от страха и ярости, Николай продолжал бить уже мертвое тело до тех пор, пока с пронзительным визгом тормозов не подлетел к кабине грузовика серый “Москвич” и капитан Юнков, вскочив на подножку, не скрутил убийцу приемом самбо. …Была предотвращена гибель многих людей. Но спасти жизнь Никитина врачи были не в силах. Он погиб на посту. Такая у пего была служба, и с самого начала он знал, что ежедневно рискует жизнью, хоть и работает не в Первом отделе Уголовного розыска, а спокойно прогуливается с жезлом в руке по широкой, окаймленной зеленью асфальтовой магистрали. Не было войны, над городом светлело мирное небо, но он, Никитин, был на фронте, а на фронте нельзя без жертв. Его и наградили боевой наградой — медалью “За отвагу”. Только последним словом в Указе было слово “посмертно”. Тот номер газеты Лена бережет вместе с самыми дорогими, немногими своими реликвиями. Не дождавшись тогда своего Валентина, хмурая и злая, Лена возвратилась домой. Делилась с подругами мрачными мыслями, во всех деталях рассказывая о неудавшемся свидании (о том, что было на улице Горького, она рассказать забыла)… Обсуждали коллективно, строя всевозможные догадки. Обсуждали, пока не узнали правду… Прошло время, и Лена снова стала смеяться и кокетничать, флиртовать и веселиться. Она была полна все той же неуемной, жадной любви к жизни. Так же любила вечеринки и танцы, красивых ребят и детективные романы. И так же забывала порой брать билеты в автобусе, перебегала улицу в неположенном месте. Но иногда, если случайно заходил разговор с новыми, ничего не знавшими людьми, она вдруг, зло сверкая глазами, требовала для всех этих лихачей, шоферов-пьяниц, нарушителей, из-за которых гибнут замечательные люди, расстрела, а еще лучше виселицы. И в голосе ее звучала такая ненависть, что собеседнику становилось не по себе и он спешил переменить тему разговора…
РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН И ЛЛОЙД ОСБОРН ОТЛИВ
Часть I ТРИО
ГЛАВА 1 НОЧЬ НА БЕРЕГУ
По всем островам Тихого океана раскиданы люди самых разных европейских наций и почти всех слоев общества. Люди эти занимаются своими делами и сеют болезни. Одни преуспевают, другие прозябают. Одни взошли на троны и владеют островами и флотом. Другие вынуждены жениться, чтобы не умереть с голоду, — веселые, стройные, шоколадного цвета особы содержат их, давая возможность пребывать в полной праздности. Одетые по-местному, но сохранившие что-то чужестранное в осанке или в походке, иногда какую-нибудь реликвию, скажем монокль, отличающий джентльмена и офицера, они проводят дни, растянувшись на верандах, крытых пальмовыми листьями, и развлекают туземных слушателе воспоминаниями о мюзик-холле. Есть и еще один тип европейцев, менее ловких, менее гибких, менее удачливых, быть может, менее бесчестных, которые даже на этих островах изобилия нуждаются в куске хлеба. На краю города Папеэте, на берегу, под деревом пурау сидели трое таких людей. Было поздно. Давно уже музыканты, не переставая наигрывать, отправились по домам, а за ними, обхватив друг друга за талии и приплясывая, последовала пестрая толпа мужчин и женщин, торговых клерков и морских офицеров, увенчанных гирляндами. Давно уже темнота и тишина обошли все дома игрушечного языческого городка. Одни лишь уличные фонари все горели на темных улицах, образуя, словно светлячки, расплывчатые венчики света или отбрасывая зыбкие отражения на поверхность воды в порту. М^жду штабелей досок, наваленных у правительственного пирса, раздавался храп. Храп этот доносился с изящных шхун типа клип-пера, стоявших на якоре борт к борту, как ялики. Матросы спали прямо на палубе, под открытым небом, или набившись под навес посреди нагроможденных товаров. Но люди под деревом пурау и не помышляли о сне. Такая же температура летом в Англии казалась бы нормальной, но для южных морей она была зверски холодной. Неодушевленная природа знала это, и кокосовое масло в бутылях, имеющихся в каждой хижине острова, застыло. Трое людей тоже это знали и дрожали от холода. На них была та же одежда из тонкой бумажной материи, в которой днем они обливались потом или мокли под тропическими ливнями. И, к довершению всех бед, в этот день они почти не завтракали, еще в меньшей степени обедали и совсем не ужинали. По выражению, столь распространенному в южных морях, эти трое “сидели на мели”. Общее несчастье свело их вместе — самых жалких существ на Таити, говорящих по-английски, и, помимо того что они несчастны, они, собственно, почти ничего не знали друг о друге, даже настоящих имен друг друга. Ибо каждый проделал долгий путь вниз, и каждого на какой-то ступени спуска стыд вынудил принять вымышленное имя. И все-таки до сих пор ни один из них еще не привлекался к суду: двое были умеренно порядочные люди, а у третьего, сидящего под деревом пурау, в кармане хранился потрепанный Вергилий. Нечего скрывать, если бы за книгу можно было выручить деньги, Роберт Геррик давно бы отказался от этой последней собственности, но при всем спросе на литературу, какой характерен для некоторых участков южных морей, он не распространяется на мертвые языки, и Вергилий, на которого Геррик не мог выменять пищу, часто утешал его в голодные дни. Потуже затянув пояс, Геррик перечитывал книгу, лежа на полу в заброшенной тюрьме, выискивая излюбленные места и открывая новые, менее прекрасные лишь оттого, что они не были освящены долгим знакомством. То, бывало, он замедлял шаг на загородной глухой тропе, садился на ее краю, над морем, любовался видневшимися на горизонте горами Эймео и затем погружался в Энеиду, гадая по книге, что ему предстоит. И даже если оракул (как и полагается оракулам) вещал не очень уверенным и ободряющим голосом, то изгнанника, по крайней мере, посещали видения Англии: деловая строгая классная комната, зеленые спортивные площадки, каникулы, проведенные дома, вечный лондонский шум, домашний очаг и седая голова отца. Таков удел серьезных, сдержанных классических авторов, школьное знакомство с которыми бывает зачастую мучительным: они проникают в нашу кровь и становятся неотделимы от памяти, и потому фраза из Вергилия говорит не столько о Мантуе или Августе, сколько об английских родных местах и собственной безвозвратной юности. Роберт Геррик был сыном умного, энергичного и честолюбивого человека, младшего компаньона в лондонском крупном торговом доме. На мальчика возлагались надежды; его послали в отличную школу, он окончил ее с правом поступить в Оксфорд, что затем и сделал. При всей его одаренности и хорошем вкусе (а он бесспорно обладал и тем и другим) Роберту недоставало настойчивости и умственной зрелости; он блуждал по окольным тропинкам науки, занимался музыкой или метафизикой, тогда как должен был трудиться над греческим, и получил в конце концов самую ничтожную степень. Почти одновременно лондонский торговый дом терпит крах, мистер Геррик-старшнй вынужден заново начать жизнь клерком в чужой конторе, а Роберт, отказавшись от честолюбивых замыслов, с благодарностью принимает карьеру, которая для него ненавистна и презренна. Он ничего не смыслил в цифрах, не интересовался делами, ненавидел нудные часы отсиживания на службе и презирал стремления и удачи коммерсантов. Он не мечтал о том, чтобы разбогатеть, — лишь бы прожить безбедно. Молодой человек, более недостойный или более решительный, вероятно, отверг бы навязанный ему удел — быть может, взялся бы за перо или поступил на военную службу. Роберт же, более благоразумный, а может быть, более робкий, согласился на эту профессию, благодаря которой ему было проще помогать семье. Но душа его осталась мучительно раздвоенной; он чуждался общества бывших товарищей и из нескольких представленных на выбор мест выбрал должность клерка где-то в Нью-Йорке. С этого времени жизнь для него стала сплошным позорищем. Он не пил, был абсолютно честен, никогда не дерзил нанимателям, но тем не менее его отовсюду увольняли. Не проявляя ни малейшего интереса к своим обязанностям, он не проявлял и усердия; его рабочий день был сплетением дел, которые он выполнял плохо или вовсе забывал выполнить. И с места на место, из города в город он таскал за собой репутацию человека, начисто ни к чему не пригодного. Никто не может без краски стыда носить на себе подобный ярлык, ибо поистине никакой другой ярлык не лишает столь безжалостно самоуважения. А для Геррика, отдававшего себе отчет в своих способностях и знаниях и относившегося с презрением к тем пустячным обязанностям, к которым его считали неспособным, стыд был особенно унизительным. Рано начав катиться по наклонной плоскости, он не смог уже посылать домой деньги, а вскоре перестал и писать письма, так как не мог сообщить ни о чем, кроме неудач. Примерно за год до начала повествования он без работы очутился на улицах Сан-Франциско, и тут он окончательно порвал с самоуважением, внезапно переменил имя и на последний доллар купил место на почтовой бригантине “Город Папеэте”. На что надеялся Геррик, когда направил свой путь в южные моря, он едва ли знал сам. Правда, там можно было разбогатеть на жемчугах н копре; правда, другие, не более одаренные, чем он, достигли на островах положения принцев-консортов и королевских министров. Но если бы Геррик отправился туда, преследуя какую-либо мужественную цель, он сохранил бы отцовскую фамилию, — фальшивое же имя выдавало его нравственный крах. Он спустил свой флаг, он не питал больше никакой надежды восстановить свою честь или помочь своей бедствовавшей семье, и он явился на остров (где, как он знал,климат мягок, хлеб дешев, а нравы непринужденны) как дезертир, сбежавший от жизненной битвы и от своего прямого долга. Неудача, решил он, его удел, так пусть она будет приятной. К счастью, сказать “хочу быть подлецом” недостаточно, чтобы стать им. Его карьера неудачника продолжалась, но и в новой обстановке, под новым именем он испытывал не меньшие страдания. Он получил место — и потерял его прежним образом; с благотворительства рестораторов он перешел на откровенную милостыню, но мало-помалу добросердечие окружающих иссякло, и после первых же нескольких отпоров Геррик сделался робким. Конечно, вокруг было достаточно женщин, которые охотно согласились бы содержать куда более нестоящего и некрасивого мужчину. Но либо Геррик таких женщин не встретил, либо не распознал, а если и знал их, то, видимо, заговорило мужское самолюбие, и он предпочел голодать. Он мокнул под дождями, изнывал от жары днем, дрожал от холода ночью в полуразрушенной бывшей тюрьме, выклянчивал пищу или вытаскивал ее из помоек, и товарищами его были двое таких же, как он, отщепенцев. Так многие месяцы осушал он чашу унижения. Он узнал, что значит смириться, что значит вдруг взбунтоваться в порыве ребячьей ярости против судьбы, а потом впасть в оцепенелое отчаяние. Время переделало его. Он больше не тешил себя баснями о легком и даже приятном падении, он лучше изучил свой характер: он оказался неспособен подняться на поверхность, но на опыте убедился, что не может сделать и последнего шага, чтобы окончательно пасть. Что-то такое — вряд ли гордость или сила воли, скорее всего, просто воспитание — удерживало его от полной капитуляции. Но он с возрастающим гневом принимал свои несчастья и порой удивлялся собственному терпению. Уже четвертый месяц подошел к концу, а все не было никаких перемен и даже предвестий перемен. Луна, несущаяся через царство летящих облаков всех размеров, форм и плотности, то черных, как чернильные кляксы, то нежных, как молоденькая лужайка, бросала свой по-южному волшебный яркий свет на одну и ту же прелестную и ненавистную картину: остров и горы, увенчанные неизменным облаком, затаившийся город в редких точках огней, мачты в гавани, гладкое зеркало лагуны и стена барьерного рифа, где белели буруны. Луна, прорываясь сквозь облака, моментами, словно раскачивающийся фонарь, освещала и его товарищей: дюжую фигуру американца, капитана торгового судна, разжалованного за какую-то провинность и называвшего себя Брауном, и малорослую фигуру, бледные глаза и беззубую улыбку пошлого и подленького клерка-кокни. Недурное общество для Роберта Геррика! Янки, по крайней мере, был мужчина, он обладал полновесными качествами — нежностью и твердостью характера, его руку можно было пожать, не краснея. Но никакой искупающей черты нельзя было найти у другого, который именовал себя когда Томкинсом, когда Хэйем и только смеялся над этой несообразностью; он переслужил во всех лавках Папеэте, ибо это ничтожество все же не было лишено способностей, но его выгоняли поочередно отовсюду, так как он был испорчен до мозга костей. Он оттолкнул от себя всех прежних нанимателей, так что они проходили мимо него на улице, как мимо паршивой собаки, а все прежние товарищи шарахались от него, как от кредитора. Не так давно судно из Перу завезло инфлюэнцу, и теперь она свирепствовала на всем острове и особенно в Папеэте. Со всех сторон вокруг пурау зловеще раздавался, то громко, то утихая, удушающий кашель. Больные туземцы, не умеющие, как и все островитяне, терпеливо переносить приступы лихорадки, выползли из своих жилищ в поисках прохлады и теперь, присев прямо на песок или на вытащенные из воды каноэ, со страхом ожидали наступления нового дня. Подобно тому как крики петухов разносятся в ночи от фермы к ферме, так приступы кашля возникали, затихали и возникали снова. Дрожащий мученик подхватывал знак, поданный соседом, несколько минут корчился в жестоком пароксизме и, когда приступ проходил, оставался лежать в изнеможении, утратив голос или мужество. Если кто-нибудь обладал неизрасходованным запасом жалости, то израсходовать его следовало именно на Папеэте в эту холодную ночь и в этот сезон свирепствовавшей болезни. И из всех страдальцев, вероятно, наименее достойным, но несомненно наиболее жалким был лондонский клерк. Он привык к другой жизни, к городским домам, постелям, к уходу и всем мелким удобствам, окружающим больного, а тут он лежал на холоде, под открытым небом, ничем не защищенный от сильного ветра и вдобавок с пустым желудком. К тому же он совсем ослаб, болезнь высосала из него все жизненные соки, и товарищи его с изумлением наблюдали, как он сопротивляется. Ими овладевало глубокое сочувствие, оно боролось с отвращением к нему и побеждало. Их неприязнь усугублялась брезгливостью, вызванной созерцанием болезни, но в то же время, как бы в компенсацию за такие бесчеловечные чувства, стыд с удвоенной силой заставлял их еще неотступнее ухаживать за ним. И даже то худое, что они знали о нем, усиливало их заботливость, ибо мысль о смерти наиболее невыносима тогда, когда смерть приближается к натурам чисто плотским и эгоистическим. Порой они подпирали его с двух сторон, иной раз с неуместной услужливостью колотили по спине, а когда бедняга откидывался на спину, мертвенно-бледный и обессиленный злейшим приступом кашля, они со страхом вглядывались в его лицо, отыскивая признаки жизни. Нет такого человека, который не обладал бы хотя бы одним достоинством: у клерка это было мужество, и он спешил успокоить их какой-нибудь шуткой, не всегда пристойного свойства. — Я в порядке, братцы, — задыхаясь, выдавил он однажды, — ничто лучше частого кашля не укрепляет мышцы в глотке. — Ну вы и молодчага! — воскликнул капитан. — Да уж, храбрости мне не занимать, — продолжал мученик прерывистым голосом. — Только чертовски обидно, что на меня одного свалилась такая напасть, и я же еще должен отдуваться и развлекать честную публику. По-моему, кому-то из вас двоих не грех взбодриться. Рассказали бы мне чего-нибудь. — Беда та, что нечего нам рассказать, сынок, — отвечал капитан. — Если хотите, я расскажу, о чем сейчас думал, — проговорил Геррик. — Рассказывайте что угодно, — сказал клерк. — Мне бы только не забыть, что я еще не помер. Геррик, лежа лицом вниз, начал свою притчу так медленно и еле слышно, как человек, который не знает, что скажет дальше, и хочет оттянуть время. — Хорошо. Вот о чем я думал, — начал он. — Я думал, что лежу я как-то ночью на берегу Папеэте, кругом сплошная луна да резкий ветер и кашель, а мне холодно и голодно, и я совсем упал духом, и мне лет девяносто, и двести двадцать из них я провел, лежа на берегу Папеэте. И мне захотелось иметь кольцо, которое надо потереть, или волшебницу крестную или же знать, как вызвать дьявола. И я старался вспомнить, как это делается. Я знал, что надо сделать круг из черепов, я видел это в “Волшебном стрелке”, и надо снять сюртук и засучить рукава — так делал Формес в роли Каспара, и по его виду сразу можно было определить, что он изучил это дело досконально. И еще надо из чего-то состряпать дым и мерзкий запах — сигара, пожалуй, подошла бы, — и при этом надо прочитать “Отче наш” от конца к началу. Ну, тут я задумался, смогу ли я это сделать, как-никак в некотором роде это немалый подвиг. Меня охватило сомнение: помню ли я “Отче наш” в настоящем-то порядке? И решил, что помню. И вот, не успел я добраться до слов “ибо твое есть царствие небесное”, как увидел человека с ковриком под мышкой. Он брел вдоль берега со стороны города. Это был довольно безобразный старикашка, он хромал и ковылял и не переставая кашлял. Сперва мне его наружность пришлась не по вкусу, но потом стало жаль старикана — уж очень он сильно кашлял. Я вспомнил, что у нас еще оставалась микстура от кашля, которую американский консул дал капитану для Хэя. Правда, Хэю она ни на грош не помогла, но я подумал, что вдруг она поможет старику, и встал. “Йорана!”[155] — говорю я. “Йорана!” — отвечает он. “Послушайте, — говорю я, — у меня тут в пузырьке преотличное лекарство, оно вылечит ваш кашель, понятно? Идите сюда, я вам отолью лекарства в мою ладонь, а то все наше столовое серебро находится в банке”. Старикашка направился ко мне. И чем ближе он подходил, тем меньше он мне нравился. Но что делать, я уже подозвал его… — Что это за чушь несусветная? — прервал его клерк. — Прямо белиберда какая-то из книжонок. — Это сказка, я любил рассказывать дома сказки ребятишкам, — ответил Геррик. — Если вам неинтересно, я перестану. — Да нет, валяйте дальше! — раздраженно возразил больной. — Лучше уж это, чем ничего. — Хорошо, — продолжал Геррик. — Только я дал ему микстуры, как он вдруг выпрямился и весь изменился, и я увидел, что вовсе он не таитянин, а араб с длинной бородой. “Услуга за услугу, — говорит он. — Я волшебник из “Арабских ночей”, а этот коврик у меня под мышкой принадлежит Магомету Бен такому-то. Прикажи — и сможешь отправиться на нем в путешествие”. — “Не хотите ли вы сказать, что это ковер-самолет?”-воскликнул я. “А то нет!”-ответил он. “Я вижу, вы побывали в Америке с тех пор, как я в последний раз читал “Арабские ночи”, — сказал я с некоторым сомнением. “Еще бы, — сказал он. — Везде побывал. Не сидеть же сиднем с этаким ковром в загородном доме на две семьи”. Что ж, мне это показалось разумным. “Ладно, — сказал я, — значит, вы утверждаете, что я могу сесть на ковер и отправиться прямиком в Англию, в Лондон?” Я сказал “в Англию, в Лондон”, капитан, потому что он, видно, давно уже обретался в вашей части света. “В мгновение ока”, — ответил он. Я рассчитал время. Какова разница во времени между Лондоном и Папеэте, капитан? — Если взять Гринвич и мыс Венеры, то девять часов с какими-то минутами и секундами, — ответил моряк. — Ну вот и у меня получилось примерно столько же, — подхватил Геррик, — около девяти часов. Если тогда, как сейчас, было три часа ночи, по моим расчетам вышло, что я окажусь в Лондоне к полудню, и я ужасно обрадовался. “Загвоздка только вот в чем, — сказал я, — у меня нет ни гроша. Обидно было бы побывать в Лондоне и не купить утренний выпуск “Стэндарда”. — “О! — сказал он. — Ты не представляешь себе всех преимуществ этого ковра. Видишь тот карман? Стоит только сунуть туда руку, и вытащишь полную пригоршню соверенов”. — Американских, не так ли? — спросил капитан. — Вы угадали! То-то они мне показались необычно тяжелыми. Я теперь вспоминаю, что мне пришлось пойти на Черинг-Кросс к менялам и получить у них английское серебро. — Ну? Значит, отправились в Лондон? — спросил клерк. — Что вы там делали? Держу пари, вы первым делом выпили бренди с содовой! — Понимаете, все произошло, как обещал старикашка, — в мгновение ока. Только что я стоял здесь, на берегу, в три часа ночи, и вдруг я уже на Голден-Кросс среди бела дня. Сперва меня точно ослепило, я прикрыл глаза рукой — и перемены как не бывало: грохот на Стрэнде звучал, как грохот бурунов на рифе. Прислушайтесь сейчас и услышите шум кэбов и омнибусов и звуки улицы! Наконец я смог оглядеться — и все оказалось по-старому! Те же статуи на площади, и церковь святого Мартина, и бобби, и воробьи, и извозчики. Не могу вам передать, что я почувствовал. Мне хотелось плакать, что ли, или плясать, или перемахнуть через колонну Нельсона. Меня точно выхватили вдруг из ада и зашвырнули в красивейшую часть рая. Тут я подозвал экипаж, запряженный превосходной лошадью. “Получишь лишний шиллинг, если будешь на месте через двадцать минут!” — сказал я извозчику. Он пустил лошадь хорошим шагом, хотя с ковром это, конечно, не шло ни в какое сравнение. Через девятнадцать с половиной минут я стоял у двери. — Какой двери? — спросил капитан. — Так, одного знакомого дома, — ответил Геррик. — Ручаюсь, что это был трактир! — воскликнул клерк (только он выразился не совсем так). — А чего же вы не перелетели туда на своем ковре, вместо того чтобы тащиться в колымаге? — Мне не хотелось будоражить тихую улицу, — ответил рассказчик. — Дурной тон. А к тому же мне хотелось прокатиться на извозчике. — Ну и что же вы делали дальше? — спросил капитан. — Я просто вошел. — Родители? — спросил капитан. — Н-да, скажем так, — ответил Геррик, жуя травинку. — Ну, знаете, по мне, вы самый настоящий простофиля! — воскликнул клерк. — Надо же, прямо “Святые дети”! Уж будьте уверены, моя поездочка была бы не в пример веселее. Я бы пошел и выпил на счастье бренди с содовой. Потом я бы купил широкое пальто с каракулевым воротником, взял бы трость и лихо прошелся бы по Пикадилли. Потом я бы отправился в шикарный ресторан и заказал бы там зеленый горошек, бутылочку шампанского и котлетку из филе. Ой, я и забыл: сначала я заказал бы кильки в остром соусе, пирог с крыжовником и кофе погорячее и этот… как его, такое зелье в больших бутылках с печатью?.. Бенедиктин, будь он проклят! Потом я заглянул бы в театр и свел бы там дружбу с какими-нибудь бывалыми ребятами, и мы бы уж поездили по дансингам и барам, и все такое прочее, — закатились бы до утра. А на другой день я бы полакомился кресс-салатом, ветчинкой и булочками с маслом. Уж я бы, мать честная!.. Тут клерка прервал новый приступ кашля. — А теперь я скажу, что сделал бы я, — произнес капитан. — Мне не по нутру всякие модные коляски, где извозчик правит с самой макушки бизани. Я бы нанял простой, надежный, как шхуна, экипаж с самым большим тоннажем. Для начала я бы стал на якорь у рынка и купил индюка и молочного поросенка. Потом доехал бы до виноторговца и закупил дюжину шампанского и дюжину сладкого вина, густого, пряного и крепкого, что-нибудь такое вроде портвейна или мадеры, самого лучшего в лавке. После я бы взял курс на игрушечную лавку и накупил бы на двадцать долларов всяких игрушек для малышей, а там — в кондитерскую, за пирожными, пирожками и плюшками и за такой штукой со сливами. Оттуда — в киоск, скупил бы там все газеты, где только есть картинки для ребят, а для женушки — журналы, где рассказывают про то, как граф открывает свою личность Анне-Марии, а леди Мод бежит из сумасшедшего дома, куда ее засадили родственники. И только после этого я велел бы извозчику поворачивать к дому. — И еще надо сиропу для детей, — напомнил Геррик, — они любят сироп. — Да, и сиропу, и непременно красного, — подхватил капитан. — И такие штуки — за них потянешь, а они хлопают, и в середке у них стишки. А потом мы бы уж устроили день благодарения и рождественскую елку вкупе. Черт побери, до чего же я хотел бы повидать рсбятишек! Вот повыскакивали бы они из дому, когда увидели бы, как их папаша подкатывает в карете. Моя младшая, Эйда… Капитан вдруг умолк. — Выкладывайте дальше, — сказал клерк. — Проклятье, я даже не знаю, не умерли ли они с голоду! — выкрикнул капитан. — Одно утешение: хуже, чем нам, быть не может, — возразил клерк. — Разве что сам дьявол очень постарается. И дьявол словно услышал его. Луна скрылась уже некоторое время назад, и они беседовали в потемках. Теперь вдруг послышался стремительно нараставший рев, поверхность лагуны побелела, и не успели изгнанники с трудом подняться на ноги, как на них обрушился шквал дождя. Только тот, кто жил в тропиках, может вообразить всю ярость и силу такого урагана: под его натиском человек захлебывался, как под хлынувшим душем; тьма и вода словно поглотили мир. Они бросились бежать, ощупью отыскали свой приют, можно сказать, свой дом — бывшую тюрьму; промокшие, они ввалились в пустое помещение, улеглись на холодный коралловый пол — трое жалких человеческих подобий, и вскоре, когда ураган миновал, в темноте стало слышно, как стучит зубами клерк. — Слушайте, ребята, — прохныкал он, — бога ради, лягте поближе, погрейте меня. Будь я проклят, если я без этого не сдохну! И вот трое сгрудились в один мокрый ком и лежали так, дрожа, задремывая, то и дело возвращаемые к жалкой действительности кашлем клерка, пока не наступил день.ГЛАВА 2 УТРО НА БЕРЕГУ. — ТРИ ПИСЬМА
Тучи рассеялись, на Папеэте засияла красота тропического дня; море, разбивающееся о риф, и пальмы на островке снова затрепетали от жары. Французский военный корабль покидал остров, возвращаясь на родину; он стоял посредине лагуны — деятельный, как муравейник. Ночью к острову подошла какая-то шхуна и встала вдали от берега, у выхода в открытое море. На ней развевался желтый флаг — знак заразы. Вдоль берега, огибая мыс, длинной цепочкой тянулись один за другим каноэ, направляясь к базару, пестревшему, как шаль, разноцветными одеждами туземцев и грудами фруктов. Однако ни эта красота, ни приветливое утреннее тепло, ни даже кипучая жизнь порта, столь интересная для моряков и зевак, не привлекала внимания троих отверженных. В душе у них по-прежнему был холод, во рту чувствовалась горечь после бессонной ночи, их пошатывало от голода. В унылом молчании они ковыляли по пляжу, точно хромые гуси. Двигались они к городу, где подымался дымок, где завтракали счастливцы. Их голодные глаза шарили по сторонам, высматривая только пищу. Небольшая грязная шхуна стояла у самого причала, с которым ее соединяла доска. На передней палубе, под лоскутом навеса, пять канаков, составлявших команду, сидели на корточках вокруг миски с жареными бананами и пили кофе из жестяных кружек. — Восемь склянок: пробило на завтрак! — воскликнул капитан с наигранной непосредственностью. — С этим судном я еще дела не имел — вот где мой дебют. Похоже, что удастся сделать полный сбор. Он подошел к тому месту, где конец доски лежал на поросшем травой берегу, повернулся спиной к шхуне и принялся насвистывать веселую песенку “Ирландская прачка”. Она подействовала на слух матросов как условный сигнал: они разом оторвались от миски и сгрудились у борта, не выпуская из рук бананов и продолжая жевать. Словно несчастный пиренейский медведь, танцующий на улицах английских городов под страхом хозяйской дубинки, очень похоже, но куда живее и ритмичнее, капитан приплясывал в такт своему свисту, и его длинная под утренним солнцем тень дергалась на траве. Канаки глядели на представление и улыбались, Геррик тупо следил за капитаном — на время голод заглушил в нем всякий стыд, — а чуть поодаль клерка раздирали демоны инфлюэнцы. Внезапно капитан остановился, точно только сейчас заметил зрителей, и изобразил человека, которого застали врасплох, когда он развлекался в полном уединении. — Привет! — сказал он. Канаки захлопали в ладоши и попросили капитана продолжать. — Не выйдет, сэр, — отвечал капитан. — Поесть нету — танцевать нету. Понимаешь? — Бедный старик! — отозвался один из матросов. — Твой нету поесть? — Господь видит — нету! — ответил капитан. — Очень хотел поесть. Но не имей. — Очень хорошо. Мой имей, — сказал матрос. — Твоя идет сюда. Очень много кофе, очень много банана. Другая люди тоже идет сюда. — Пожалуй, мы заглянем на минутку, — сказал капитан, и все трое торопливо перешли по доске на судно. Там им пожали руки, освободили место у миски, пиршество в честь новоприбывших дополнили оплетенной бутылью патоки, с бака принесли аккордеон и многозначительно положили рядом с певцом. — Скоро, — сказал капитан, небрежно тронув инструмент, и принялся за длинный душистый банан, расправился с ним, поднял кружку с кофе и кивнул матросу, с которым вел переговоры. — За твое здоровье, дружище, ты делаешь честь южным морям, — провозгласил он. С отвратительной, собачьей жадностью они насыщались горячей пищей и кофе, и даже клерк немного ожил, глаза его заблестели. Чайник опорожнили, миску опустошили; хозяева, прислуживавшие им с веселым гостеприимством полинезийцев, поспешили подать десерт — местный табак и свернутые в трубочку листья пандануса вместо бумаги, и через минуту все сидели кружком и дымили, как индейские вожди. — Когда человек завтракает каждый божий день, ему не понять, что это такое, — заметил клерк. — Следующая проблема — обед, — проговорил Геррик и вдруг со страстью добавил: — Как бы я хотел быть канаком! — Одно я знаю твердо, — сказал капитан, — я дошел до точки. Я скорее повешусь, чем буду еще гнить здесь живьем. — С этими словами он взял аккордеон и заиграл “Дом, милый дом”. — Перестаньте сейчас же! — закричал Геррик. — Я этого не могу вынести! — Я тоже, — сказал капитан, — но что-то ведь надо играть, надо оплатить счет, сынок. И он запел “Тело Джона Брауна” приятным мягким баритоном, затем последовал “Модник Джим из Каролины”, потом “Рорин-храбрец”, “Спускайся ниже, колесница” и “Дивная страна”. Капитан щедро платил по счету, как делал и прежде; не один раз он покупал пищу за ту же монету у любящих песни туземцев, неизменно, как и теперь, вызывая восторг. Он допел до середины “Пятнадцать долларов в кармане”, вкладывая в исполнение много энергии и упорства, так как работа шла со скрипом, как вдруг среди матросов почувствовалось какое-то волнение. — Капитан Том идет, — сказал, показывая рукой, матрос. Трое бродяг, проследив за его рукой, увидели человека в пижамных штанах и белом джемпере, быстро шагающего со стороны города. — Так это и есть тапена Том? — прервав пение, спросил капитан. — Не пойму, что он за птица. — Лучше сматываться, — заметил клерк. — Мне он не нравится. — Отчего же? — задумчиво протянул певец. — Чаще всего нельзя сказать так сразу. Пожалуй, я попробую. У музыки, ребятки, есть такое свойство — смягчать лютых тапена. А вдруг дело выгорит, и все завершится пуншем со льдом в капитанской каюте. — Пунш со льдом? Мать честная! — сказал клерк. — Давайте что-нибудь такое, капитан, чтоб его забрало. Попробуйте “По лебяжьей реке”. — Ничего подобного, сэр! Тут пахнет Шотландией, — ответил капитан и отчаянно затянул “Давным-давно то было”. Капитан Том продолжал идти тем же быстрым, деловым шагом. На его бородатом лице, когда он враскачку прошел по доске, не отразилось ничего. Он даже глаз не скосил в сторону певца. Мы с ним плескались в ручейке С рассвета допоздна, — звучала песня. Капитан Том нес под мышкой пакет, который он и положил на крышу надстройки, и тут только он резко повернулся к бродягам и прорычал: — Эй, вы! Проваливайте! Клерк с Герриком, не соблюдая строгого порядка отступления, тут же бросились на берег по доске. Певец, однако, отшвырнул инструмент и медленно поднялся во весь рост. — Что это вы так разорались? — сказал он. — Мне что-то хочется поучить вас вежливости. — Коли будете еще разевать свою паршивую пасть, — отозвался шотландец, — я покажу вам, где раки зимуют. Я кое-что слыхал про вас троих. Поверьте мне, вам тут недолго осталось шататься. Правительство держит вас на прицеле. Оно скоро на расправу со всякими проклятыми бродягами, надо отдать французам должное. — Погодите, попадетесь мне на суше! — закричал капитан, а затем добавил, обращаясь к команде: — Прощайте, ребятки. Вот вы настоящие джентльмены! Самый разнесчастный среди вас выглядит на шканцах лучше, чем этот поганый шотландец. Капитан Том не снизошел до ответа, с неприятной усмешкой он наблюдал за бегством незваных гостей и, едва последний из них сошел на берег, повернулся к матросам и велел им заняться грузом. Бродяги бесславно отступали по берегу; первым шел Геррик, лицо его побагровело, колени тряслись, он был в бешенстве и близок к истерике. Он бросился на землю там же, под тем же пурау, где они дрогли прошлую ночь, громко застонал и зарылся лицом в песок. — Не говорите со мной, молчите! Я этого не вынесу! — вырвалось у него. Двое других в замешательстве смотрели на него сверху. — Чего это он там не вынесет? — сказал клерк. — Позавтракал, и ладно. Я так до сих пор облизываюсь. Геррик поднял пылающее лицо с безумными глазами. — Я не могу попрошайничать! — выкрикнул он пронзительно и снова повалился ничком. — Пора с этим кончать, — проговорил капитан, вдохнув воздух сквозь сжатые зубы. — А что, по-вашему, виден конец? — насмешливо фыркнул клерк. — Для него конец недалек, можете на этот счет не сомневаться, — возразил капитан. — Вот что, — добавил он более веселым тоном, — вы тут дожидайтесь меня, а я пойду проведаю моего представителя. Он повернулся на каблуках и раскачивающейся походкой моряка зашагал к городу. Вернулся он приблизительно через полчаса. Клерк дремал сидя, прислонившись к дереву; Геррик в прежней позе лежал на песке. Нельзя было понять, спит он или нет. — Эй, ребятки! — окликнул их капитан со своей обычной наигранной бодростью, от которой порой становилось больно. — У меня есть мысль. И он показал почтовую бумагу, конверты с марками и карандаши. — Мы все можем послать домой письма почтовой бригантиной. Консул позволил зайти к нему и надписать адреса чернилами. — Что ж, все-таки что-то новое, — заметил клерк. — Мне это и в голову не приходило. — Это вчерашняя болтовня о возвращении домой меня надоумила, — пояснил капитан. — Ну, давайте, что ли, — сказал клерк. — Попробую и я. — И он отошел подальше, туда, где лежало каноэ. Двое других остались под деревом. Они то принимались писать, то вымарывали написанное; то сидели, уставившись на залив, покусывая кончик карандаша, а то переводили взгляд на клерка, который сидел в тени каноэ, упершись в него спиной, ухмылялся и кашлял, а карандаш его проворно летал по бумаге. — Не могу, — вдруг произнес Геррик. — Духу не хватает. — Послушайте, — сказал капитан с непривычной серьезностью, — может, и трудно писать, да еще неправду, знает бог — трудно. Но так будет честнее. Что вам стоит написать, что вы здоровы и счастливы, но, к сожалению, не можете послать денег с этой почтой. Если не напишете так, то я вам скажу, как это называется: это будет чистейшей воды скотство. — Легко говорить, — возразил Геррик. — Я вижу, вы и сами не очень-то много написали. — При чем тут я? — вырвалось у капитана. Голос его был не громче шепота, но насыщен волнением. — Что вы обо мне знаете? Если бы вы командовали лучшим барком, какой выходил из Портленда, если бы вы валялись пьяный на койке, когда барк налетел на рифы в Группе Четырнадцати островов, и, вместо того чтобы там остаться и потонуть, вылезли бы на палубу, и отдавали пьяные распоряжения, и загубили бы шесть душ, тогда бы вы имели право говорить! Вот так, — сказал он уже спокойнее, — такова моя история, теперь вы ее знаете. Недурно для отца семейства. Погибли пятеро мужчин и одна женщина. Да, на борту находилась женщина, хотя нечего ей там было делать. Наверно, я отправил ее прямо в ад, если есть такое место. Домой я так и не показал глаз, жена с малышами переехала в Англию к своему отцу. Даже не знаю, что с ними, — добавил он с горечью. — Благодарю вас, капитан, — сказал Геррик. — Вы мне теперь еще симпатичнее. Отводя глаза, они коротко и крепко пожали друг другу руки, и нежность переполнила их сердца. — Итак, ребятки, снова за вранье! — сказал капитан. — Отца я не буду трогать, — отозвался Геррик, криво улыбаясь. — Из двух зол выберу свою милую. Вот что он написал: “Эмма, я начал писать отцу, по зачеркнул, потому что, пожалуй, проще написать тебе. Это мое прощание со всеми, последнее известие о недостойном друге и сыне. Я потерпел крах, я сломлен и опозорен. Я живу под чужим именем. Тебе придется со всей твоей мягкостью поведать об этом отцу. Я сам во всем виноват. Я знаю, захоти я — и мог бы преуспеть, и все же, клянусь тебе, я пытался захотеть. Невыносимо, что ты будешь думать, будто я не пытался. Ведь я всех вас люблю, в этом уж ты не должна сомневаться, именно ты. Я любил постоянно и неизменно, но чего стоила моя любовь? Чего стоил я сам? Я не обладал мужеством рядового клерка, не умел работать, чтобы заслужить тебя. Теперь я тебя потерял и даже способен радоваться этому: для тебя это к лучшему. Когда ты впервые появилась у нас в доме — помнишь ли ты те дни? Я так хочу, чтобы ты их не забывала, — тогда ты знала меня в мою лучшую пору, знала все лучшее, что есть во мне. Помнишь тот день, когда я взял твою руку и не отпускал ее, и тот день, когда мы глядели с моста Бэттерси на баржу, и я начал рассказывать одну из своих дурацких историй, а потом вдруг сказал, что люблю тебя? Тогда было начало, а сейчас, здесь, — конец. Когда прочтешь письмо, обойди и поцелуй всех за меня на прощание — отца и мать, братьев и сестер, одного за другим, и бедного дядюшку, попроси их всех забыть меня и забудь сама. Поверни в двери ключ, не пускай обратно воспоминаний обо мне, покончи с призраком, который выдавал себя за живого человека и мужчину и похитил твою любовь. Все время, пока я пишу, меня мучит презрение к себе: я бы должен сообщить, что я благополучен и счастлив и ни в чем не нуждаюсь. Не то чтобы я хорошо зарабатывал — в таком случае я послал бы вам денег, — по обо мне заботятся, у меня есть друзья, я живу в дивном месте, о каком мы с тобой мечтали, так что жалеть меня незачем. В таких местах, как ты понимаешь, живется легко и неплохо живется, но часто бывает трудно заработать хотя бы полшиллинга. Растолкуй это моему отцу, он поймет. Больше мне нечего прибавить, я только мешкаю, точно гость, которому не хочется уходить. Да благословит тебя бог. Подумай обо мне в последний раз, представь меня здесь, на ярком берегу, где небо и море неестественно сини и огромные буруны ревут на барьерном рифе, где островок сплошь покрыт зеленью пальм. Я здоров и крепок. И все-таки я умираю. Умереть так приятнее, чем если бы вы толпились у постели больного. Шлю тебе прощальный поцелуй. Прости и забудь недостойного”. Он уже дошел до этих слов, бумага вся была исписана, и тут на него нахлынули воспоминания: вечера за фортепьяно и та песня, шедевр любви, в котором столь многие нашли выражение для своих драгоценнейших чувств. “Однажды, о чудо!” — приписал он. Этого было достаточно. Он знал, что в сердце его любимой вспыхнут все слова в сопровождении прекрасных образов и мелодии — о том, как всю жизнь ее имя будет звучать в его ушах, ее имя будет повсюду повторяться в звуках природы, а когда придет смерть и душа его отлетит, память о ней будет еще долго трепетать в его мертвом теле. Однажды, о чудо! Однажды из пепла моего сердца Вырос цветок… Геррик с капитаном закончили почти одновременно. Оба задыхались. Глаза их встретились, и оба отвернулись, заклеивая конверты. — Что-то длинно вышло, — сказал капитан грубовато. — Сперва не получалось, а потом как прорвало. — У меня то же самое, — отозвался Геррик. — Стоило начать, и, кажется, мне не хватило бы н целой стопки. Но это было бы в самый раз для всех тех хороших слов, которые мне хотелось написать. Они не кончили еще надписывать адреса, когда небрежной походкой подошел клерк, ухмыляясь и помахивая конвертом, как человек, который очень доволен собой. Он заглянул Геррику через плечо. — Это что? — спросил он. — Да вы вовсе не домой пишете. — Нет, все-таки домой, — возразил Геррик, — она живет у моего отца. А-а, я понял, что вы имеете в виду, — добавил он. — Мое настоящее имя Геррик. Я такой же Хэй, как и вы, смею думать. — Ловко забили шар! — Клерк расхохотался. — Меня звать Хьюиш, ежели хотите знать. На островах у всех имена поддельные. Ставлю пять против трех, что у нашего капитана тоже не свое. — Угадали, — ответил капитан. — Своего я не выговаривал с того дня, как вырвал заглавную страницу из Боудича и забросил его к черту в океан. Но вам, ребятки, я скажу: меня зовут Джон Дэвис. Я Дэвис с “Морского скитальца”. — Быть не может! — вставил Хьюиш. — А что это был за корабль? Пират или работорговец? — Это был самый быстроходный барк, когда-либо выходивший из Портленда в штате Мэн, — ответил капитан, — а потерял я его так, что с таким же успехом мог сам провертеть сверлом дыру у него в борту. — Так вы его потеряли? — протянул клерк. — Надо думать, он был застрахован? Не получив ответа на свою шутку, Хьюиш, все еще распираемый желанием поговорить, перескочил на другой предмет. — Очень мне охота прочесть вам мое письмо, — начал он. — У меня недурно получается, когда я в ударе, а я придумал первоклассную шутку. Я с ней познакомился в Нордэмптоне, она служила в баре: такая свеженькая миленькая штучка, бездна шику. Мы с ней спелись, точно актеры в театре. Я на эту девчонку потратил, наверно, не меньше пяти фунтов. Ну вот, я вспомнил ее имя, написал ей и нарассказал, будто я разбогател, женился на королеве Островов и живу в прекрасном дворце. Наврал с три короба! Я вам прочту кусочек про то, как я в цилиндре открывал парламент у черномазых. Обхохочетесь! Капитан вскочил: — Вот что ты сделал с бумагой? Стоило мне ее для тебя клянчить! Вероятно, счастье для Хьюиша (которое в конце концов обернулось несчастьем для всех), что как раз в эту минуту на него напал обычный изнуряющий приступ кашля, — в противном случае товарищи покинули бы его, так велико было их негодование. Когда приступ миновал, клерк подобрал свое письмо, упавшее на землю, и разорвал на клочки. — Довольно с вас? — угрюмо спросил он. — Не будем больше об этом говорить, — ответил Дэвис.ГЛАВА 3 СТАРАЯ ТЮРЬМА. — СУДЬБА У ДВЕРЕЙ
Бывшая тюрьма, где так долго укрывались трое бездомных, представляет собою низкое прямоугольное здание с внутренним двором на углу тенистой западной улички, по дороге к британскому консульству. Двор, поросший травой, усеян всяческими обломками, обрывками, остатками и носит следы пребывания бродяг. На двор выходят не то шесть, не то семь камер; двери, за которыми в свое время томились мятежные китоловы, теперь валяются тут же на траве. Камеры не сохранили от своего прежнего назначения ничего, кроме ржавых прутьев на окнах. Пол в одной из камер был слегка подметен; ведро (последняя собственность, оставшаяся у троих отщепенцев) стояло с водой на полу у двери, подле него — половина кокосового ореха вместо ковша; на драных останках матраса спал Хьюиш — на спине, с открытым ртом и с лицом, как у мертвеца. Зной тропического дня, зелень освещенной солнцем листвы заглядывали в этот темный угол сквозь дверь и окно. Геррик, шагавший взад-вперед по коралловому полу, время от времени останавливался и обмывал лицо и шею тепловатой водой из ведра. Долгие страдания позади, бессонная ночь, унижения минувшего утра и, наконец, муки, пережитые за то время, что он писал письмо, — все это привело его в то взвинченное состояние, когда боль чуть ли не доставляет удовольствие, время стягивается в миг, а смерть и жизнь становятся равно безразличны. Он ходил взад и вперед, как хищный зверь в клетке, сознание его блуждало в хаосе мыслей и воспоминаний, взгляд скользил по надписям на стенках. Полуосыпавшаяся штукатурка была сплошь покрыта ими: таитянские имена, французские и английские имена, грубые изображения парусных кораблей и дерущихся людей. Ему вдруг пришло в голову, что он тоже должен оставить на этих стенах след своего пребывания. Он нашел чистое место, вынул карандаш и задумался. В нем проснулось тщеславие, которое так трудно заглушить в себе. По крайней мере, мы называем это тщеславием, хотя, быть может, и несправедливо. Скорее его подтолкнуло ощущение собственного бытия. Сознание, что жизнь-то единственное и главное, чего он не пытался удержать хотя бы пальцем. Из глубины его взбудораженного существа возникло предчувствие близящейся перемены — к добру или к худу, он не мог сказать. Перемены — только это он и знал, перемены, приближающейся неслышно, с закутанным, непроницаемым лицом. Вместе с этим предчувствием возникло видение концертного зала, мощные звуки инструментов, затихшая публика и громкий голос музыки. “Судьба стучится в дверь”, — подумал он, начертил пять нотных линеек на штукатурке и записал знаменитую фразу из Пятой симфонии.[156] “Ну вот, — подумал он, — они узнают, что я любил музыку и обладал классическим вкусом. Они? Он, я полагаю, — неизвестная родственная душа, которая попадет когда-нибудь сюда и прочтет мою memor querela.[157] Xa, он получит еще и латынь!” И он добавил: terque quaterque beati Quei’s ante ora patrum.[158] Он опять принялся беспокойно шагать, но теперь он испытывал необъяснимое и утешительное чувство исполненного долга. Этим утром он выкопал себе могилу, сейчас начертал эпитафию; складки тоги уложены, — чего же ради откладывать пустячное дело, которое только и осталось совершить? Геррик остановился и долго всматривался в лицо спящего Хьюиша, упиваясь своим разочарованием и отвращением к жизни. Он нарочно растравлял себя созерцанием этой гнусной физиономии. Может ли так продолжаться? Что его еще связывает? Разве нет у него прав, а есть только одна обязанность продолжать путь без отдыха и отсрочки и сносить невыносимое? “Ich trage unertragliches”,[159] — всплыла в памяти строчка; он прочел все стихотворение, одно из совершеннейших стихотворений совершеннейшего из поэтов, и его словно ударила фраза “Du, stolzes Herz, du hast es ja gewollt”.[160] А где его гордое сердце? И он, опьяняясь презрением к самому себе, обрушился на себя со всем сладострастием, как растравляют больное место: “У меня нет гордости, нет сердца, нет мужества, иначе как бы я мог влачить эту жизнь, более позорную, чем виселица? Как мог опуститься до нее? Ни гордости, ни способностей, ни силы духа. Даже не разбойник. И голодаю тут — с кем? С тем, кто хуже разбойника, — с ничтожным дьявольским приспешником!” Ярость против товарища нахлынула на пего, оглушила; он погрозил кулаком спящему. Послышались быстрые шаги. На пороге показался капитан, задыхающийся, раскрасневшийся, с блаженным лицом. В руках он нес хлеб и бутылки с пивом, карманы оттопыривались от сигар. Он свалил свои сокровища на пол, схватил Геррика за обе руки и закатился громким смехом. — Открывайте пиво! — закричал он. — Открывайте пиво и возглашайте аллилуйю! — Пиво? — переспросил Хьюиш, с трудом поднимаясь. — Вот именно! — воскликнул Дэвис. — Пиво, да еще сколько! Каждый может употребить — точно зубные таблетки от Лайона — надежно, гигиенично. Ну, кто за хозяина? — Уж это предоставьте мне, — сказал клерк. Он отбил горлышки у бутылок обломком коралла, и они по очереди выпили из кокосовой скорлупы. — Закуривайте, — сказал Дэвис. — Все стоит в счете. — Что случилось? — спросил Геррик. Капитан вдруг посерьезнел. — Як этому и веду, — ответил он. — Мне надо потолковать с Герриком. А ты, Хэй, или Хьюиш, или как тебя еще, забирай курево и бутылку и сходи посмотри, как поживает ветер под пурау. Я тебя позову, когда надо будет. — Секреты? Так не годится, — сказал Хьюиш. — Послушай, сынок, — сказал капитан, — речь идет о деле, заруби себе на носу. Хочешь упрямиться — как знаешь, оставайся здесь. Но имей в виду: если уйдем мы с Герриком, то заберем с собой и пиво. Понятно? — Да я вовсе не собираюсь совать палки в колеса, — возразил Хьюиш. — Сейчас уберусь. Давайте вашу бурду. Можете трепать языком, пока не посинеете, мне наплевать. Я только считаю, что это не по-товарищески, вот и все. И он, шаркая ногами, потащился вон из камеры под жгучее солнце. Капитан подождал, пока он покинет двор, и тогда повернулся к Геррику. — Что такое? — хрипло спросил тот. — Сейчас скажу, — ответил Дэвис. — Мне надо с вами посоветоваться. У нас есть шанс… Что это? — воскликнул он, указывая на ноты на стене. — Что? — переспросил Геррик. — Ах, это! Это музыка — я записал фразу из Бетховена. Она означает, что судьба стучится в дверь. — Вот как? — протянул капитан, понизив голос; он подошел поближе и стал рассматривать надпись. — А французский что значит? — спросил он, ткнув пальцем в латынь. — Ну, это просто значит: лучше бы мне умереть дома, — нетерпеливо ответил Геррик. — Так в чем дело? — “Судьба стучится в дверь”, — повторил капитан и, оглянувшись через плечо, сказал: — Знаете, мистер Геррик, дело ведь именно в этом. — Что это значит? Объясните. Но капитан снова уставился на ноты. — А примерно когда вы написали эту штуковину? — Какое это имеет значение? — воскликнул Геррик. — Скажем, с полчаса назад. — Господи помилуй, вот чудеса! — вскричал Дэвис. — Некоторые назвали бы это совпадением, но только не я. А я, — и он провел толстым пальцем по строчкам, — назову это провидением. — Вы сказали, что у нас есть шанс, — напомнил Геррик. — Да, сэр! — произнес капитан, вдруг круто поворачиваясь лицом к собеседнику. — Я так сказал. Если вы такой человек, за какого я вас принимаю, значит, у нас есть шанс. — Не знаю, за какого человека вы меня принимаете, — ответил тот. — Берите ниже — не ошибетесь. — Дайте руку, мистер Геррик, — сказал капитан. — Я вас знаю. Вы — джентльмен и человек мужественный. Я не хотел говорить при этом лодыре, увидите почему. Но вам я сейчас все выложу. Я получил судно. — Судно? — воскликнул Геррик. — Какое? — Ту шхуну, которую мы видели утром в стороне от входа в гавань. — Шхуна с карантинным флагом? — Та самая посудина, — ответил Дэвис. — Это “Фараллона”, сто шестьдесят тонн водоизмещением, идет из Фриско в Сидней с калифорнийским шампанским. Капитан, помощник и один матрос померли от оспы, наверно, подхватили в Паумоту. Капитан с помощником были единственными белыми, вся команда — канаки. Для христианского порта, конечно, странный подбор. Осталось трое матросов и повар. Как они плыли — не знают. Я, кстати, тоже не знаю, как они плыли. Должно быть, Уайзман пил беспробудно, если их занесло сюда. Во всяком случае, он помер, а канаки все равно что заблудились. Они шатались по океану, точно младенцы по лесу, и напоследок уперлись носом в Таити. Здешний консул взялся за это дело, предложил место капитана Уильямсу; Уильяме не болел оспой и отказался. А я тут и явился за почтовой бумагой. Мне показалось, будто что-то наклевывается, когда консул посоветовал мне заглянуть еще, но вам двоим я тогда ничего не стал говорить, чтоб потом не разочароваться. Консул предложил Мак Нейлу — тот испугался оспы. Предложил корсиканцу Капирати и потом Леблу, или как его там, — не пожелали взяться, дрожат за свои драгоценные шкуры. Наконец, когда уже никого больше не осталось, он предлагаетмне. “Браун, беретесь доставить шхуну в Сидней?” — спрашивает он. “Разрешите мне самому выбрать помощника и одного белого матроса, — говорю я, — не доверяю я что-то этой шайке канаков. Заплатите нам всем троим за два месяца вперед, чтобы выкупить из заклада нашу одежду и инструменты, и сегодня к вечеру я проверяю кладовые, пополняю запасы и завтра засветло выхожу в море!” Вот что я ему ответил. “Это меня устраивает, — говорит консул. — И можете считать, Браун, что вам чертовски повезло”, — говорит он. И этак многозначительно на меня смотрит. Ну, да теперь это не имеет значения. Хьюиша я беру простым матросом, поселяю, само собой, на корму, а вас назначаю помощником за семьдесят пять долларов, и жалованье за два месяца вперед. — Меня — помощником? Да какой же я моряк! — вскричал Геррик. — Значит, придется научиться, — сказал капитан. — Вы что — воображаете, что я удеру, а вас оставлю тут помирать на мели? Не на того напали, дружище. Да и кроме того, вы справитесь, я ходил с помощниками и похуже. — Знает бог, я не могу отказываться, — сказал Геррик. — И, знает бог, я благодарю вас от всего сердца. — Вот и хорошо, — ответил капитан. — Но это не всё. — Он отвернулся, чтобы зажечь сигару. — А что еще? — спросил Геррик с необъяснимой, но острой тревогой. — Сейчас подойду к этому… — Дэвис помолчал минуту. — Слушайте, — продолжал он, держа сигару между большим и указательным пальцами, — попробуйте смекнуть, к чему это ведет. Не понимаете? Ладно, мы получаем двухмесячное жалованье, меньше нельзя — иначе нас не выпустят кредиторы. Раньше чем через два месяца нам до Сиднея не добраться, а когда мы туда попадем… Я вас прямо спрашиваю — что нам это даст? — По крайней мере, мы снимемся с мели, — ответил Геррик. — Подозреваю, что в Сиднее есть свои мели, — возразил капитан. — Сказать вам честно, мистер Геррик, я и не собираюсь это выяснять. Нет, сэр! Сидней меня не увидит. — Говорите проще, — сказал Геррик. — Проще простого, — ответил капитан. — Я собираюсь присвоить шхуну. В этом нет ничего нового, в Тихом океане каждый год так делают. Стивене ведь украл недавно шхуну? Хэйз и Пис крали судно за судном. И таких случаев тьма. А груз? Подумайте-ка. Шампанское! Да его, как нарочно, для нас погрузили. Мы продадим его в Перу прямо на пирсе, а с ним и шхуну, коли найдем дурака, который се купит. А потом нас ищи-свищи. Если вы меня поддержите, клянусь моей жизнью, я доведу дело до конца. — Капитан, — произнес Геррик дрогнувшим голосом, — не делайте этого. — Я доведен до отчаяния, — возразил Дэвис. — Подвернулся случай, другого может не быть. Геррик, скажите одно слово, поддержите меня, ведь мы так долго вместе бедствовали. — Не могу. Простите меня. Но я не могу. Я все-таки еще не так низко пал, — ответил, смертельно побледнев, Геррик. — А что вы говорили сегодня утром? Что не можете попрошайничать? Либо — либо, сынок. — Да, но это грозит тюрьмой! — воскликнул Геррик. — Не искушайте меня. Это — тюрьма. — Слышали, что сказал капитан шхуны, где мы были сегодня утром? — упорствовал капитан. — Ну, так он сказал правду. Французы нас не трогали достаточно долго, больше так продолжаться не может. Мы у них на примете, будьте уверены. Через три недели вы все равно окажетесь в тюрьме, что бы вы ни делали. Я прочел это на лице консула. — Вы забываете, капитан, — возразил молодой человек. — Есть еще выход. Я могу умереть. Сказать по правде, мне следовало бы умереть три года назад. Капитан сложил руки на груди и посмотрел ему прямо в глаза. — Да, — сказал он, — вы можете перерезать себе глотку, что верно, то верно. И большая вам от этого будет польза! А мне что прикажете делать? Лицо Геррика засветилось странным возбуждением. — Оба, — сказал он, — оба вместе. Не может быть, чтобы затея эта доставляла вам удовольствие. Пойдем, — он нерешительно протянул руку, — несколько всплесков в лагуне — и успокоение! — Знаете, Геррик, мне охота ответить вам, как в Библии: “Отыди, Сатана!” Как! Думаете, я пойду топиться, когда у меня дети умирают с голоду? Доставляет удовольствие? Нет, черт возьми, не доставляет! Но это мой тяжкий крест, и я его понесу, пока не свалюсь. У меня трое детишек, поймите, двое мальчуганов и девочка, Эйда. Беда та, что вы не отец. Я вам скажу, Геррик, я вас люблю, — вырвалось у капитана, — вы мне сначала не понравились — уж слишком вы были англичанин и воспитанный, но теперь я вас полюбил. Не кто другой, как любящий, борется сейчас с вами. Я не могу выйти в море только с лодырем — это невозможно. Если вы утопитесь, пропал мой последний шанс, последний шанс жалкого бедняги, который хочет заработать на кусок хлеба для своей семьи. Я ничего другого не умею — только водить корабли, а бумаг у меня нет. А тут мне вдруг подвертывается случай, и вы меня бросаете одного! Эх, нет у вас семьи, вот в чем беда! — Положим, она у меня есть, — возразил Геррик. — Да, я знаю, — ответил капитан, — вы думаете, что есть. Но семья только тогда, когда есть дети. Только дети идут в счет. Что-то есть в этих плутишках такое… Не могу о них говорить спокойно. Ежели бы пи хоть па грош думали о своем отце, о котором столько говорите, или о милой, которой писали сегодня утром, вы бы чувствовали то, что я чувствую. Вы бы сказали: “Что значат законы, и бог, и все прочее? Моим родным тяжело живется, но ведь они мне свои, я добуду им хлеб или, клянусь, добуду им деньги, даже если придется сжечь Лондон”. Вот как бы вы сказали. И даже более того: в душе вы так и говорите в эту самую минуту. Я вижу по вашему лицу. Вы думаете: “Плохой я друг человеку, с которым вместе нищенствовал; а что до девушки, в которую я считаю себя влюбленным, то дохлая же это любовь, если ради нее я не решаюсь пойти на то, на что почти любой согласился бы за бутыль виски”. Маловато романтики в такой любви, не о том ведется речь во всяких песенниках. Да что толку мне вас уговаривать, когда в душе у вас можно читать как по писаному. В последний раз вас спрашиваю. Покинете вы меня в самую нужную минуту — судите сами, покинул ли я вас, — или дадите мне руку и попробуете попытать счастья и вернуться домой (почему бы и нет?) миллионером? Скажите “нет”, и да сжалится над вами господь! Скажите “да”, и я научу своих малышей на коленях молить за вас бога каждый вечер. “Благослови бог мистера Геррика!” — вот что они будут повторять один за другим; женка будет в это время сидеть в ногах кровати и держаться за столбики, а маленькие невинные дьяволята… — Он остановился. — Я не часто распространяюсь про ребятишек, — сказал он, — но уж коли начну, то не остановишь. — Капитан, — слабым голосом спросил Геррик, — а нет другого выхода? — Если хотите, я займусь пророчеством, — подхватил капитан с новой энергией. — Откажитесь от моего предложения из-за того, что считаете себя слишком честным, и не пройдет месяца, как окажетесь в тюрьме за мелкое воровство. Даю вам мое честное слово. Я это предвижу, Геррик, если вы этого не видите: вы ведь сломлены. Не думайте, что если сейчас вы откажетесь, вы так и будете жить, как святой. Вы уже почти выдохлись. Не успеете оглянуться, как ударитесь в противоположную сторону. Нет, либо мое предложение, либо Новая Каледония. Уверен, что вы там не бывали и не видали этих белых люден — обритых, в пыльной одежде и в соломенных шляпах, когда они бродят шайками по Нумеа при свете фонарей. Они похожи на волков, похожи па проповедников и похожи на помешанных. Хьюиш по сравнению с лучшими из них — ангел. Вот какая вас ждет компания, Геррик, и вы к ним непременно попадете, я вам это предсказываю. И в самом деле, когда он так стоял и вся его могучая фигура сотрясалась от возбуждения, казалось, что в него вселился пророческий дух и вещает его устами. Геррик взглянул на него и отвел взгляд — неловко было подглядывать за таким волнением. И всякое мужество покинуло Геррика. — Вы говорите о возвращении домой, — запротестовал он. — Это невозможно. — Для нас невозможно, — возразил тот. — Капитану Брауну нельзя, мистеру Хэю, его помощнику, нельзя. Но какое отношение это имеет к капитану Дэвису или к мистеру Геррику, недотепа вы этакий? — Но ведь у Хэйза были его дикие острова, куда он наезжал, — последовало еще одно робкое возражение. — А у нас вместо диких островов будет Перу, — ответил Дэвис. — Оно было достаточно диким для Стивенса не дальше как в прошлом году. Думаю, что и для нас дикости хватит. — А команда? — Канаки… Ну же, я вижу, вы одумались, дружище. Я вижу, вы со мной. И капитан снова протянул руку. — Пусть будет по-вашему, — сказал Геррик. — Я пойду на это. Странный поступок для сына моего отца, но я на это пойду. Я с вами, капитан, на жизнь и на смерть! — Благослови вас бог! — воскликнул капитан и умолк. — Геррик, — добавил он, улыбаясь, — я, наверно, помер бы на месте, если бы вы ответили “нет”. И Геррик, поглядев на него, почти уверился в этом. — А теперь объявим новость лодырю, — сказал Дэвис. — Интересно, как он ее примет, — сказал Геррик. — Он-то? Ухватится обеими руками! — последовал ответ.ГЛАВА 4 ЖЕЛТЫЙ ФЛАГ
Шхуна “Фараллона” стояла при входе в лагуну, в самом узком месте, где перепуганный лоцман поспешил ее поставить и сбежать. Если глядеть с берега сквозь редкую полосу судов, на фоне открытого моря выделялись два предмета: по одну сторону островок с пальмами, пушками и бастионами, возведенными сорок лет назад для защиты столицы королевы Помары, по другую сторону — отщепенка “Фараллона”, изгнанная за порог порта; она переваливалась с борта на борт до самых шпигатов,[161] размахивая флагом бедствия. Несколько морских птиц с писком и криком носились вокруг шхуны, а невдалеке, на безопасном расстоянии, держался сторожевой катер с поенного корабля. Оружие поблескивало в руках солдат. Неистовый солнечный свет и слепящие тропические небеса придавали картине выпуклость и законченность. Аккуратная шлюпка с туземцами в матросской одежде на веслах и портовым доктором за рулем отделилась от берега в третьем часу дня и быстро направилась к шхуне. Носовая часть шлюпки была завалена мешками с мукой, луком, картофелем, и среди всего этого восседал Хьюиш, наряженный фокмачтовым; груда сундуков и ящиков мешала гребцам; на корме, слева от доктора, сидел Геррик в готовой дешевой паре; его каштановая борода была подрезана и заострена, на коленях лежала кипа дешевых романов, а в ногах покоился хронометр, которым заменили хронометр с “Фараллоны”, давно остановившийся и потерявший всякую ценность. Они миновали сторожевой катер, обменялись окликами с помощником боцмана и наконец подошли к запретному кораблю. Оттуда не доносилось ни шороха, ни человеческой речи, и оттого, что море было очень бурным и риф близок, вокруг шхуны стоял грохот прибоя, похожий на грохот битвы. — Эй, на шхуне! — окликнул доктор как можно громче. Тотчас же из надстройки, куда они складывали припасы, показался сперва Дэвис, а за ним оборванная темнокожая команда. — Привет, Хэй, это вы? — сказал капитан, облокачиваясь на поручни. — Пусть доктор пришвартуется тихонечко, будто это корзина с яйцами. Тут дьявольски бурно, а шлюпка-то прехрупкая. Шхуну как раз швыряло особенно яростно. Она то задирала кверху борт, точно хороший глубоководный пароход, обнажая сверкающую медь, то ее кидало вниз, к шлюпке, так что шпигаты начинали бурлить. — Надеюсь, вы хорошо переносите морскую качку, — заметил доктор. — Без этого вам придется плохо. Действительно, для того чтобы подняться на борт “Фараллоны” в этом открытом месте, требовалась немалая ловкость. Менее ценные товары были подняты наверх кое-как; хронометр после нескольких неудачных попыток осторожно передали из рук в руки; и осталось самое трудное — погрузить Хьюиша. Наконец даже этот мертвый груз (нанятый матросом первого класса за восемнадцать долларов и отрекомендованный в разговоре с консулом как бесценный работник) был благополучно переправлен на судно, и доктор, вежливо попрощавшись, отплыл обратно. Трое авантюристов обменялись взглядами, а Дэвис испустил вздох облегчения. — Теперь давайте установим хронометр, — сказал он и первым вошел в надстройку. Там было довольно просторно: из кают-компании дверь вела в две другие каюты и порядочных размеров кладовую; переборки были выкрашены в белый цвет, пол покрыт линолеумом. Не осталось никакого беспорядка, никаких признаков прежней жизни — имущество умерших подверглось дезинфекции и было переправлено на берег. Только на столе в блюдечке горела сера, и пары ее заставили вошедших закашляться. Капитан заглянул в правобортовую каюту, где на койке все еще валялись скомканные простыни и отброшенное одеяло, как его отбросили с обезображенного трупа, собираясь хоронить. — Черт, я же велел черномазым выкинуть этот хлам в воду, — проворчал Дэвис. — Они, наверно, боятся дотронуться. Ладно, по крайней мере, они полили здесь из шланга, и на том спасибо. Хьюиш, беритесь за тряпки. — Идите вы подальше… — огрызнулся Хьюиш, делая шаг назад. — Это еще что? — рявкнул капитан. — Мой юный друг, вы, кажется, заблуждаетесь — капитан здесь я. — А мне-то что, — отрезал клерк. — Ах, так? — заревел Дэвис. — Тогда отправляйтесь спать к черномазым! Марш отсюда! — Скажите пожалуйста! — протянул Хьюиш. — Думаете, на простачка напали? Шутки шутками… — Ладно, я сейчас вам разъясню, как обстоит дело, и вы поймете раз и навсегда, пахнет ли тут шутками, — сказал Дэвис. — Я — капитан, и я им буду. Одно из трех. Либо вы подчиняетесь моим приказам как стюард, и в таком случае вы столуетесь с нами. Либо вы отказываетесь подчиниться, я вас отсюда выставляю, и вы катитесь без всяких разговоров. Либо, последнее, я подаю сигнал вон тому военному кораблю и отсылаю вас под конвоем на берег как арестованного за мятеж. — А я себе помалкиваю, так вы считаете? Не па такого напали! — с издевкой отпарировал Хьюиш. — А кто тебе поверит, сынок? — спросил капитан. — Нет, сэр! Мое капитанство дело нешуточное. Хватит разговаривать. Берите тряпки. Хьюиш был не дурак и понимал, когда проигрывал; не был он и трусом: он подошел к койке, взял в охапку заразное белье с постели и понес его вон без проволочек и без тени страха. — Я ждал этого предлога, — сказал Дэвис Геррику. — С вамп я этого проделывать не стану, вы и сами все понимаете. — Вы собираетесь спать здесь? — спросил Геррик, следуя за капитаном в одну из кают, где тог принялся прилаживать хронометр в изголовье кровати. — Ничуть не бывало! — ответил тот. — Пожалуй, я буду спать на палубе. Не то чтобы я боялся, но как-то мне сейчас оспа ни к чему. — И я не то чтобы боялся, — сказал Геррик, — но как подумаю о тех двоих, худо делается: как тут капитан с помощником умирали друг против друга… Страшная история. Интересно, что они сказали напоследок? — Уайзман и Уишерт? — переспросил капитан. — Наверно, пустяки какие-нибудь. Заранее представляешь себе все это так, а на поверку выходит совсем иначе. Может, Уайзман сказал: “Слушай, дружище, тащи-ка сюда джину, меня что-то здорово пошатывает”. А Уишерт, верно, ответил: “Ох, жуткое дело!” — Вот это и страшно, — сказал Геррик. — Так оно и есть, — заключил Дэвис. — Готово, хронометр установлен, теперь самое время сниматься с якоря и убираться. Он зажег сигару и вышел на палубу. — Эй, ты! Как твое имя? — крикнул он одному из матросов, узкобедрому ладному парню с какого-то дальнего острова на западе, темнокожего почти как африканец. — Сэлли Дэй, — ответил тот. — Вот так дьявол… — заметил капитан. — Не знал, что у нас на борту есть дамы. Ну, Сэлли, будь добр, спусти вон ту тряпку. Другой раз я тебе сослужу такую же службу. — Он наблюдал, как желтый флаг опускается через салинг и ложится на палубу. — Больше вы не будете болтаться с кораблем где попало. Собирайте народ на корму, мистер Хэй, — добавил он излишне громким голосом. — Мне надо им кое-что сказать. С неизведанными дотоле ощущениями Геррик приготовился впервые в жизни обратиться к экипажу. Он благодарил небо за то, что они туземцы. Но даже туземцы, размышлял он, могут угадать в нем новичка, могут заметить промах, отступление от того специфичного английского языка, который принят на судах. Возможно, они и не понимают другого. И он напрягал память в поисках нужных слов, припоминая вес, что знал из морской романтики. — Эй, ребята, давай на корму! — крикнул он. — Живей, живей! Все на корму! Они столпились в проходе, как овцы. — Они здесь, сэр, — доложил Геррик. Некоторое время капитан продолжал стоять лицом к корме, затем с пугающей внезапностью повернулся к команде и, кажется, остался доволен их испугом. — Значит, так, — сказал он, перекатывая во рту сигару и перебирая спицы штурвала. — Я — капитан Браун. Я командую этим судном. Это мистер Хэй, старший офицер. Еще один белый — стюард, но он будет нести вахту и стоять у штурвала. Мои приказания исполнять проворно. Попятно, что такое “проворно”? Никаких жалоб на кормежку: она будет выше нормы. К мистеру Хэю обращаться “мистер Хэй, помощник” и добавлять “сэр”, когда отвечаете на любой мой приказ. Будете работать проворно и ловко — всем обеспечу райскую жизнь. — Он вынул сигару изо рта. — Но если нет, — загремел он, — я вам тут же устрою сущий ад. Теперь, мистер Хэй, с вашего разрешения, выберем вахтенных. — Хорошо, — ответил Геррик. — Будьте любезны прибавлять “сэр”, когда обращаетесь ко мне, мистер Хэй, — заметил капитан. — Я беру себе даму. Отойди к правому борту, Сэлли. — Затем он шепнул Геррику на ухо: — Возьмите старика. — Вон ты, я беру тебя, — сказал Геррик. — Как тебя звать? — спросил старика капитан. — Как ты говоришь? Ну нет, это не по-английски. Я не потерплю у себя на судне вашей разбойничьей тарабарщины. Мы тебя будем звать старый Дядюшка Нед, потому что на макушке, где должны расти волосы, у тебя их нет. Отойди к левому борту, Дядюшка. Ты разве не слышал, что мистер Хэй тебя выбрал? Дальше я возьму Белокожего. Белокожий, отойди направо. Так, а кто из вас двоих кок? Ты? Тогда мистер Хэй возьмет твоего приятеля в синих штанах. Отойди налево, Штаны. Ну вот, теперь известно, кто вы: Штаны, Дядюшка Нед, Сэлли Дэй, Белокожий и кок. Все чистокровные аристократы, как я понимаю. А теперь, мистер Хэй, мы, с вашего позволения, снимемся с якоря. — Ради бога, подскажите мне какие-нибудь слова, — прошептал Геррик. Час спустя “Фараллона” стояла под всеми парусами, руль был взят лево на борт, и весело позвякивающий кабестан тянул якорь на место. — Путь свободен, сэр! — прокричал Геррик с носа. Капитан взял шхуну в руль, когда она, как застоявшийся конь, рванулась вперед, дрожа и клонясь под ветром. Сторожевой катер послал прощальный оклик, кильватер побелел и заструился, “Фараллона” вышла в море. На якоре она стояла у самого прохода. Как только она прянула вперед, Дэвис сразу же направил ее в коридор между двумя краями рифа, где по обе стороны кипели и шумели буруны. Сквозь узкий синий просвет шхуна ринулась в открытое море, и душа капитана возликовала, когда он почувствовал дрожь палубы под ногами и, оглянувшись поверх гакаборта,[162] увидел движущиеся крыши Папеэте и горы, вздымающиеся позади. Но они еще не покончили с берегом и страхом перед желтым флагом. Когда они очутились примерно на середине коридора, раздался крик, поднялась суматоха, на глазах у всех человек вскочил на поручни и, выбросив руки над головой, перегнулся и прыгнул в воду. — Так держать! — крикнул капитан, передавая штурвал Хьюишу. В следующую секунду он был среди канаков с кафельнагелем наготове. — Кто еще хочет на берег? — заорал он, и этот бешеный рев нагнал на всех страху не меньше, чем оружие в его руке. Канаки тупо глядели вслед сбежавшему, чья черная голова виднелась на воде, удаляясь от шхуны к берегу. А шхуна тем временем, как беговая лошадь, пронеслась по коридору и вырвалась на океанский простор. — Ну и болван же я, что не держал наготове пистолета! — воскликнул Дэвис. — Ничего не поделаешь, пойдем с неполной командой. Плохо сторожили, мистер Хэй. — Не представляю, как мы справимся, — сказал Геррик. — Должны справиться, — возразил капитан. — Хватит с меня Таити. Оба невольно обернулись и посмотрели назад: одна за другой открывались горы прекрасного острова, с левого борта Эймео поднял свои расщепленные вершины. А шхуна все мчалась дальше в открытое море. — Подумать только! — воскликнул капитан, взмахнув рукой. — Еще вчера утром я плясал, точно пудель, чтобы заработать себе завтрак!ГЛАВА 5 ГРУЗ ШАМПАНСКОГО
Нос судна был установлен так. чтобы Эймео остался к северу, и капитан уселся в каюте с картой, линейкой и кратким курсом навигации. — Ост пол к норду, — сказал он, оторвавшись наконец от своего занятия. — Мистер Хэй, ваше дело — следить за счислением. Мне важен каждый ярд, чтоб шхуна не отклонялась от курса ни на волос. Я собираюсь продырявить Туамото, а это всегда риск немалый. Если бы эти зюйд-остовые пассаты дули с зюйд-оста, чего они не делают, то мы могли бы пройти по нашему курсу с точностью до полрумба. Скажем, в пределах румба. Тогда мы обойдем Факарава с наветренной стороны. Да, сэр, так нам и придется сделать, раз мы ложимся на другой курс. Тогда мы пройдем эту кашу мелких островов в самом чистом месте — видите? — И капитан показал точку, где его линейка пересекала расползшийся лабиринт Опасного Архипелага. — Хорошо бы уже была ночь — я бы лег на другой галс прямо сейчас, а так мы теряем время и зря отходим к востоку. Что делать, потом наверстаем. И если не попадем в Перу, то пристанем к Эквадору. Один черт, я думаю. Грошовые деньги на бочку — и никаких тебе расспросов. Отличное это племя — южноамериканские испанцы. Таити уже остался за кормой. Диадема возвышалась среди неровных, иззубренных гор, Эймео оказался совсем рядом и, черный, загадочный, выделялся на золотом великолепии запада. И только тогда шхуна оторвалась от двух островов и был брошен лаг. Минут через двадцать Сэлли Дэй, который то и дело оставлял штурвал и заглядывал в кают-компанию, где висели часы, провозгласил пронзительным голосом: — Четыре склянка! И показался кок с супом в руках. — Я, пожалуй, сяду перекушу с вами, — сказал Дэвис Геррику. — А когда я кончу, как раз стемнеет, и мы поставим пашу посудину по ветру и помчим в Южную Америку. Тут же на углу стола, как раз под лампой, сидел Хьюиш, а с наветренной стороны у него стояла бутылка шампанского. — Это что такое? Откуда это взялось? — спросил капитан. — Шампанское, из заднего трюма, если хотите знать, — ответил Хьюиш, выпивая залпом кружку. — Так не годится! — воскликнул Дэвис, и эта фраза, обнаружившая привычное благоговение торгового моряка перед святыней груза, прозвучала на украденном судне крайне нелепо. — Из таких фокусов никогда ничего путного не выходило. — Каков младенец! — отозвался Хьюиш. — Послушать его, так подумаешь, будто у нас все по-честному! Ловко вы меня провели, а? Я должен торчать на палубе и стоять за рулем, пока вы тут оба сидите и жрете; мне привесили кличку, а вас я должен величать “сэр” да “мистер”. Ну так слушайте меня, мистер командир: я буду пить шампанское, иначе дело не пойдет. Я вам говорю. Вы прекрасно знаете, что теперь у вас нет под боком военного корабля. Дэвис был ошеломлен. — Я бы отдал пятьдесят долларов, чтобы этого не случилось, — сказал он упавшим голосом. — Но это уже случилось, — возразил Хьюиш. — Попробуйте, чертовски славное. Рубикон был перейден без дальнейшей борьбы. Капитан наполнил кружку и выпил. — Лучше бы это было пиво, — проговорил он со вздохом. — Но спору нет — штука настоящая да и дешевка. А теперь, Хьюиш, выметайтесь и становитесь за штурвал. Дрянной человечек одержал верх и пришел в хорошее настроение. — Есть, сэр, — ответил он и вышел, предоставив остальным обедать. — Гороховый суп! — воскликнул капитан. — Будь я проклят, если рассчитывал когда-нибудь опять есть гороховый суп! Геррик сидел неподвижно, молча. Просто немыслимо было после всех этих месяцев безнадежной нужды вдыхать запах грубой корабельной пищи и не испытывать вожделения. Рот его наполнился слюной от желания попробовать шампанского. Однако равно немыслимо было присутствовать при сцене, разыгравшейся между Хьюишем и капитаном, и не осознать с внезапной остротой, в какую пропасть он упал. “Вор среди воров”, — повторял он себе. Он не мог притронуться к супу. Если бы он пошевелился, то лишь затем, чтобы выбежать из-за стола, броситься за борт и утонуть честным человеком. — Что с вами? — сказал капитан. — У вас неважный вид, дружище, выпейте капельку. Шампанское пенилось и пузырилось в кружке; его яркость, его веселое кипение приковало взгляд Геррика. “Слишком поздно колебаться”, — подумал он, рука его сама взялась за кружку; он пригубил, испытывая наслаждение и неутолимое желание пить еще, осушил кружку до дна, и, когда поставил ее на стол, глаза его заблестели. — Все-таки жизнь хороша! — воскликнул он. — Я и забыл, что такое жить. Да, даже ради такой жизни стоит жить. Вино, пища, сухая одежда — что ж, стоит и умереть, стоит отправиться на виселицу! Капитан, скажите-ка: почему все бедняки не становятся ворами? — Перестаньте, — остановил его капитан. — Должно быть, они невероятно порядочные люди, — продолжал Геррик. — Тут что-то выше моего понимания. Вспомните тюрьму! А что, если бы нас вдруг отослали сейчас обратно! — Он содрогнулся, словно в конвульсиях, и опустил лицо на сцепленные руки. — Да что с вами? — закричал капитан. Ответа не последовало, только плечи Геррика заходили ходуном, так что стол закачался. — Выпейте еще. Нате пейте. Я вам приказываю. Не вздумайте плакать, когда худшее позади. — Я не плачу, — ответил Геррик, подымая лицо с сухими глазами. — Но это хуже слез. Это ужас перед могилой, из которой мы спаслись. — Ну вот, теперь беритесь за суп, он вас подкрепит, — добродушно уговаривал Дэвис. — Я же говорил, что вы совсем сломлены. Вы бы не выдержали больше недели. — И это самое страшное! — вскричал Геррик. — Еще неделя — и я убил бы кого-нибудь за доллар! Господи, и я это понимаю? И я еще живу? Это какой-то кошмар. — Спокойней, спокойней! Успокойся, сынок. Ешь гороховый суп. Пища — вот что тебе нужно, — сказал Дэвис. Суп действительно укрепил и успокоил нервы Геррика; еще один стакан вина, кусок солонины и жареные бананы довершили дело, и он снова мог взглянуть в лицо капитану. — Я и не знал, что до такой степени выдохся, — сказал он. — Ну, — сказал Дэвис, — вы были весь день тверды как скала, теперь вы немножко поели п опять будете как скала. — Да, — ответил Геррик, — теперь я тверд, но странный из меня старший офицер. — Ерунда! — воскликнул капитан. — Вам нужно только следить за курсом корабля и соблюдать его в пределах полурумба. С этим бы и младенец справился, не то что человек с университетским дипломом. Водить корабли не так уж трудно, когда столкнешься с этим вплотную. А теперь пошли, повернем на другой галс. Несите вашу грифельную доску, и сразу начнем счисление. С лага при свете нактоуза сняли показания и занесли пройденное расстояние на доску. — Готовимся к повороту, — объявил капитан. — Дайте штурвал мне, Белокожий, а сами станьте у грота. Гика-тали,[163] прошу вас, мистер Хэй, а потом ступайте вперед — следите за передними парусами. — Есть, сэр, — отозвался Геррик. — Путь впереди свободен? — спросил Дэвис. — Свободен, сэр. — Руль под ветер! — закричал капитан. — Выберите слабину, как только шхуна сделает поворот! — крикнул он Хьюишу. — Больше силы, не запутайтесь ногами в кольцах. Неожиданно он ударом свалил Хьюиша на палубу и занял его место. — Вставайте и держите штурвал крепче! — заорал он. — Болван несчастный, вы что — хотели, чтобы вас убило? Потяни кливер-шкоты![164] — закричал он через минуту и добавил, обращаясь к Хьюишу: — Давайте сюда штурвал, попробуйте свернуть тот шкот. Но Хьюиш, не двигаясь с места, злобно глядел на Дэвиса. — А вы знаете, что вы меня ударили? — проговорил он. — А вы знаете, что я спас вам жизнь? — отозвался капитан, не удостаивая того даже взглядом и переводя глаза с компаса на паруса. — Где бы вы были, если бы гик перекинуло и вы бы запутались в слабине? Нет, сэр, больше вам у грота-шкот[165] не стоять. Портовые города полны матросов, стоявших у грота-шкот: они скачут на одной ноге, сынок, а остальных и просто нет в живых. Ставьте гика-тали, мистер Хэй. Ударил вас, говорите? Счастье для вас, что ударил. — Ладно, — медленно произнес Хьюиш, — пожалуй, в этом есть правда. Будем думать, что есть. Он подчеркнуто повернулся спиной к капитану, ушел в надстройку, и раздавшийся там немедленно выстрел пробки возвестил, что он нашел средство утешиться. Геррик перешел на корму к капитану. — Как она сейчас? — спросил он. — Ост тень норд пол к норду, — ответил Дэвис. — Почти как я ожидал. — А что подумают матросы? — Э, они не думают. Им за это не платят, — ответил капитан. — Кажется, у вас что-то произошло с… — Геррик не договорил. — Скверная тварь, так и норовит укусить. — Капитан покачал головой. — Но пока вы и я держимся вместе, это не имеет значения. Геррик лег в проходе с наветренной стороны. Вечер бил ясный, безоблачный. Покачивание корабля убаюкивало Геррика, к тому же он ощущал тяжесть первой сытной еды после долгой голодовки. От глубокого сна его разбудил голос Дэвиса: — Восемь склянок! Геррик осоловело поднялся и побрел на корму, где капитан передал ему штурвал. — Бейдевинд,[166] — сказал он. — Ветер немного порывистый. Как. рванет посильнее, так забирайте насколько можно к наветренной стороне, но держите полный. Он шагнул к надстройке, помедлил и окликнул полубак: — Нет ли там у кого концертины? Молодчина, Дядюшка Нед. Тащи ее на корму, ладно? Шхуна очень легко слушалась руля, и Герриком, который не спускал глаз с парусов, белевших в лунном свете, овладела дремота. Резкий звук, донесшийся из каюты, вывел его из забытья — там откупорили третью бутылку, и Геррик вспомнил про “Морского скитальца” и про Группу Четырнадцати островов. Вслед за этим послышались звуки аккордеона и голос капитана:ГЛАВА 6 КОМПАНЬОНЫ
Они уселись по сторонам стола. Впервые они собрались за ним все вместе, но сейчас, перед лицом общей катастрофы, они и думать забыли о взаимной неприязни, о былых разногласиях. — Джентльмены, — начал капитан, выдержав паузу, как заправский председатель, открывающий собрание, — нас надули. Хьюиш расхохотался. — Ничего не скажешь, проделка первостатейная! А Дэвис-то, Дэвис думал, это он всех провел! Украли груз сырой водицы! Ой, не могу! — И он закорчился от смеха. Капитан выдавил из себя слабое подобие улыбки. — Опять старуха судьба, — сказал он Геррику, — но на сей раз она, сдается, вошла-таки в дверь. Геррик только покачал головой. — Ах ты господи, вот отмочил! — не унимался Хьюиш. — Вот бы смеху было, случись такая штука с кем-нибудь другим! А дальше что с этой проклятой шхуной делать? Ну и дела! — В этом вся загвоздка, — сказал Дэвис. — Одно ясно: незачем везти это дурацкое стекло в Перу. Нет, сэр, мы в капкане. — Мать честная, а купец? — крикнул Хьюиш. — Купец, который делал погрузку? Он получит новость с почтовой бригантиной и, само собой, решит, что мы идем прямо в Сидней. — Да, купцу будет худо, — сказал капитан. — Кстати, понятно теперь, почему команда — канаки. Если хочешь потерять судно, то лучшей команды, чем канаки, и искать нечего. Но одно непонятно — зачем шхуну завели в воды Таити? — Да чтобы потерять ее, младенец! — сказал Хьюиш. — Много вы понимаете, — возразил капитан. — Никому не охота терять шхуну вот так, ее нужно терять, когда она идет своим курсом, каналья вы этакий! Вы что ж, думаете, у страховой компании не хватит ума, чтобы вылезти сухой из воды? — Так и быть, — проговорил Геррик, — кажется, я могу вам сказать, почему ее занесло так далеко к востоку. Я знаю от Дядюшки Неда. Видимо, эти двое несчастных, Уайзман и Уишерт, с самого начала, как упились шампанским, так и умерли пьяными… Капитан опустил глаза. — Они валялись на койках или сидели в этой самой проклятой каюте, — продолжал Геррик с возрастающим волнением, — и насасывались этой мерзости. Когда их одолела болезнь и начала трепать лихорадка, они стали пить еще больше. Они валялись тут, скуля и воя, пьяные, умирающие. Они понятия не имели, где находится судно, им было наплевать. Они, видно, даже не измеряли высоту солнца. — Не измеряли высоту? — воскликнул капитан, поднимая голову. — Дух святой! Ну и компания! — Да какое, к черту, это имеет значение? — вмешался Хьюиш. — Нам-то что за дело до Уайзмана и того, другого? — Очень большое, — ответил капитан. — Мы как-никак их наследники. — Да, наследство нам досталось хоть куда, — заметил Геррик. — Не скажите, — возразил Дэвис. — На мой взгляд, могло быть II хуже. Конечно, с грузом было бы иное дело, сейчас наличных за него не выручишь. Но я вам берусь разъяснить, на что можно рассчитывать теперь. Сдается мне, что нам удастся выжать из купца во Фриско все его доллары до последнего. — Погодите, — остановил его Хьюиш. — Дайте сообразить, как же это получается, господин судья? — Слушайте, дети мои, — продолжал капитан, который заметно обрел свою прежнюю самоуверенность. — Уайзмаиу и Уишерту должны были заплатить за то, чтоб они бросили старую шхуну вместе с грузом. Ну. так и мы тоже собираемся ее бросить, и я считаю своим личным долгом добиться, чтобы нам тоже заплатили. Сколько должны были получить У. и У.? Этого мне не угадать. Но У. и У. замешаны в этой истории, они сознательно участвовали в мошенничестве. Мы же действуем честно, мы случайно ввязались в эту историю, так что купцу придется выложить секрет, и уж я постараюсь, чтоб он выложил его честь по чести. Нет, сэр! Все-таки из “Фараллоны” еще можно кое-что вытянуть. — Валяйте, кэп! — прокричал Хьюиш. — Ату! Вперед! Не сдаваться! Вот это нюх на деньги! Будь я проклят, но такой оборот мне нравится еще больше. — А я не понимаю, — проговорил Геррик. — Прошу простить меня, но я не понимаю. — Знаете что, Геррик, — сказал Дэвис, — я так или иначе хотел с вами поговорить по другому поводу, так пусть и Хьюиш заодно послушает. С пьянством покончено, и мы прямо просим у вас прощения. Мы должны поблагодарить вас за все, что вы для нас делали, пока мы вели себя как свиньи. Вот увидите, в дальнейшем я как следует примусь за свои обязанности. Что касается вина, которое, согласен, мы у вас украли, то я все проверю, и вам будут возмещены убытки. С этим все в порядке. Но пот про что я хочу сказать. Старая игра была опасной. Играть в новую так же безопасно, как держать пекарню. Мы просто ставим “Фараллону” по ветру и идем себе, пока не минуем с подветренной стороны наш порт отправления и пока не окажемся достаточно близко к любому другому месту, где есть американский консул. Тут “Фараллону” — на дно, прощай наша “Фараллона”! Сутки или около того болтаемся в шлюпке, а потом консул переправляет нас за счет дядюшки Сэма во Фриско. И если купец не выложит денежки немедленно, то тогда он будет иметь дело со мной! — Но я думал… — начал Геррик и не выдержал: — Нет, нет, давайте лучше поплывем в Перу! — Ну, если вам полезен тамошний климат, я ничего не имею против! — ответил капитан. — Но за каким еще чертом вам туда понадобилось, не возьму в толк. С нашим грузом там делать нечего. Я что-то не слыхал, чтобы пустые бутылки считали где бы то ни было добрым товаром, а уж в Перу и подавно, готов прозакладывать последний цент. И всегда-то было сомнительно, удастся ли нам продать шхуну, я никогда на это не рассчитывал, а теперь и вовсе уверен, что она гроша ломаного не стоит. Не знаю уж, какой в ней изъян, но только чую, что-то есть, иначе она не была бы сейчас здесь с таким товаром в трюме. Опять же, если мы ее потеряем и высадимся в Перу, что нас ожидает? О нашей потере мы объявить не можем, — спрашивается, как мы очутились в Перу? В этом случае купец не имеет права дотрагиваться до страховых денег, скорее всего, он обанкротится. А вас устраивает сидеть на мели в Каллао? — Зато там не выдают преступников, — заметил Геррик, — никто нас оттуда не выставит. — А между прочим, сын мой, мы мечтаем, чтобы нас выставили, — возразил капитан. — Ведь какова наша цель? Мы хотим, чтобы консул выставил нас в Сан-Франциско, прямехонько к дверям купца. По моим расчетам, Самоа должен оказаться подходящим деловым центром. Пассаты нас туда загонят, Штаты там имеют консула, и оттуда во Фриско ходят пароходы, так что мы тайком съездим обратно и навестим купца. — Самоа? — переспросил Геррик. — Да мы туда будем добираться целую вечность. — Ну да, с попутным-то ветром! — отвечал капитан. — С лагом возиться не надо, так? — вставил Хьюиш. — Не надо, сэр, — подтвердил Дэвис. — “Маловетрие и противные ветры, шквалы и затишья. Навигационное счисление: пять миль. Обсервации[169] не было. Откачка производилась”. Да еще внести показания барометра и термометра за прошлогодний рейс. “В жизни не видывал такого плавания”, — говорите вы консулу. “Я уж боялся, что не хватит…” — Капитан вдруг оборвал фразу. — Слушайте, — сказал он и снова остановился. — Извините меня, Геррик, — добавил он с откровенным смущенном, — а вы следили за расходованием продуктов? — Если бы меня предупредили, я следил бы и за этим тоже, в меру моих скромных способностей, — ответил Геррик. — А так кок брал что хотел. Дэвис повесил голову. — Видите ли, я взял маловато, когда снаряжал шхуну, — произнес он наконец. — Главное для меня было убраться подальше от Папеэте, пока консул не передумал. Пойду-ка наведу ревизию. Он поднялся из-за стола и исчез с лампой в кладовой на корме. — Вот и еще одна прореха, — заметил Хьюиш. — Любезный, — сказал Геррик с внезапной вспышкой враждебности, — ваша вахта не кончена; кажется, вам сейчас стоять у штурвала. — Всё разыгрываете важную персону, голубок? — сказал Хьюиш. — “Отойдите от нактоуза. Кажется, вам стоять у штурвала, любезный”… Ха! Он демонстративно зажег сигару и — руки в карманах — вышел на шкафут. Капитан вернулся подозрительно скоро; даже не взглянув на Геррика, он снова кликнул Хыоиша и уселся за стол. — Так вот, — неловко начал он, — я проверил запасы на глазок. — Он помолчал, как бы выжидая, не поможет ли ему кто-нибудь, но, так как двое других молча и с явной тревогой смотрели на него во все глаза, он еще более неуклюже продолжал: — Так вот, ни черта не выйдет. И это наверняка. Мне жаль не меньше вашего и даже еще больше, но игра проиграна. До Самоа нам не дотянуть, до Перу и то вряд ли. — Не пойму, чего вы там мелете? — грубо спросил Хьюиш. — Сам ничего не пойму, — ответил капитан. — Я взял мало запасов, признаюсь, но что тут творилось — убей, не понимаю! Точно дьявол постарался. Должно быть, наш кок величайшая бестия. Всего двенадцать дней, шутка сказать! С ума сойти можно. Я честно признаюсь в одном: я, видно, плохо рассчитал с мукой. Но остальное… Черт побери! Вовек не пойму! На этом грошовом судне больше расходуется, чем на атлантическом лайнере. — Он украдкой взглянул на товарищей, но, не прочтя ничего хорошего на их помрачневших лицах, счел за благо прибегнуть к ярости. — Ну, погоди, доберусь я до этого кока! — взревел он и ударил кулаком по столу. — Я поговорю с сукиным сыном так, как с ним еще никто не говорил. Я возьму его на мушку, я… — Вы его пальцем не тронете, — проговорил Геррик. — Вина целиком ваша, и вы это прекрасно знаете. Если вы даете туземцу свободный доступ в кладовую, сами знаете, к чему это может привести. Я не позволю мучить беднягу. Трудно сказать, как реагировал бы Дэвис на этот вызов, только в эту минуту его отвлек на себя новый противник. — Н-да, — протянул Хьюиш, — дельный из пас капитан, нечего сказать. Никудышный вы капитан, вот что! Нечего мне зубы заговаривать, Джон Дэвис, я вас теперь раскусил, от вас проку не больше, чем от паршивого чучела! Ах, вы “ничего не понимаете”, да? Ах, “убейте меня, не знаю”, да? Скажите, какой младенец! А кто вопил и требовал, что ни день, новые консервы? Сколько раз я своими ушами слышал, как вы отсылали обед целиком обратно и заставляли кока выплескивать его в помойную лохань? А завтрак? Мать честная! Завтраку наготовлено на десятерых, а вы орете: еще, еще! А теперь вы сами не понимаете? Провалиться мне, если этого мало, чтобы послать протест господу богу! Будьте осторожней, Джон Дэвис, не троньте меня, я могу укусить. Дэвис сидел как пришибленный. Можно было бы даже предположить, что он не слышит, если бы голос клерка не разносился по кораблю, точно крик баклана среди береговых утесов. — Хватит, Хьюиш, — остановил его Геррик. — А-а, переметнулись? Ладно же, надутый, брезгливый сноб! Берите его сторону, давайте! Двое на одного. Но только Джон Дэвис пускай бережется! Он сшиб меня тогда, в первый вечер на шхуне, а я этого еще никому не спускал. Пусть становится на коленки и просит у меня прощения. Вот мое последнее слово. — Да, я на стороне капитана, — сказал Геррик. — Значит, нас двое против одного, оба люди крепкие, и команда будет за меня. Надеюсь, смерть моя близка, но я совсем не против, если сперва мне придется прикончить вас. Я даже хочу этого: я бы убил вас без малейших угрызений совести. Берегись, берегись, мерзкий пакостник! Злоба, с которой он произнес эти слова, была так поразительна сама по себе и так неожиданна именно в его устах, что Хьюиш вытаращил глаза, и даже униженный Дэвис поднял голову и уставился на своего защитника. Что же касается Геррика, то волнения и разочарования этого дня сделали его совершенно бесстрашным; он испытывал странный подъем, возбуждение; голова казалась пустой, глаза жгло, в горле пересохло; миролюбивый и безобидный человек, если не считать, что от слабохарактерных людей можно ожидать чего угодно, Геррик в этот миг был одинаково готов убить или быть убитым. Вызов был брошен и бой предложен. Тот, кто отозвался бы первым, неминуемо определил бы исход; все это понимали и не решались заговорить; долгие секунды трое сидели молча, неподвижно… Но тут последовало желанное вмешательство. — Земля! — прокричал голос на палубе. — Земля с наветренной стороны! И, будто спасаясь из комнаты, где лежит труп убитого, трое бросились бежать вон, оставив ссору позади — неразрешенной. Небо на стыке с морем было молочно-опаловое, а само море, вызывающее, чернильно-синее, описывало безупречный круг. Они могли обшаривать горизонт сколько угодно, однако даже опытный глаз капитана Дэвиса не мог обнаружить ни малейшего нарушения в его сплошной линии. Вверху медленно таяли бледные облачка; над шхуной, единственным предметом, привлекавшим внимание, то кружила, то замирала тропическая, белая, как снежные хлопья, птица с длинными ярко-красными перьями в хвосте. В океане и в небе больше не было ничего. — Кто кричал “земля”? — грозно спросил Дэвис. — Кто вздумал шутить со мной шутки? Я научу, как меня разыгрывать! Однако Дядюшка Нед с довольным видом показал на какие-то место над горизонтом, где можно было различить зеленоватое туманное пятно, плывшее на фоне бледного неба, как дым. Дэвис приставил к глазам подзорную трубу, потом взглянул на канака. — Это называется земля? — спросил он. — Я бы этого не сказал. — Один лаз давно-давно, — сказал Дядюшка Нед, — мой видал Анаа все лавно как этот, четыле—пять часа ланьше, как подошел туда. Капитана говолил, солнце заходить, солнце вставать опять, он говолил, лагуна все лавпо как сел кала. — Все равно как что? — переспросил Дэвис. — Селкала, саа, — повторил Дядюшка Нед. — А-а, зеркало, — догадался Дэвис. — Понял, отражение от лагуны. Что ж, может, и так, только странно, что я никогда об этом не слыхал. Давайте-ка посмотрим по карте. Они опять пошли в кают-компанию и, заглянув в карту, нашли, что шхуна находится с наветренной стороны от Архипелага, далеко посреди белого поля карты. — Вот! Сами видите, — сказал Дэвис. — И все-таки меня это смущает, — возразил Геррик, — мне почему-то думается, что тут не так просто. И знаете, капитан, насчет отражения все правильно, я слыхал об этой штуке в Папеэте. — Тогда тащите сюда Финдлея![170] — приказал Дэвис. — Попробуем и так и этак. Остров бы нам пришелся сейчас весьма кстати при нашем-то положении. Капитану подали объемистый том с изломанным корешком, как это водится с Финдлеем, и капитан, найдя нужное место, начал пробегать глазами текст, бормотать что-то себе под нос и, послюнив палец, переворачивать страницы. — Ого! — воскликнул он наконец. — А это что? — И он прочел вслух: — “Новый остров. Как утверждает Делиль, этот остров, остающийся неизвестным ввиду личных мотивов неких лиц, лежит на 12°49'10" юж. долготы и 133°6? западной широты. В дополнение к указанному капитан Мэтьюз со “Скорпиона” флота Ее Величества тоже сообщает, что на пересечении 12°0? юж. долготы и 133°16? зап. широты лежит некий остров. Очевидно, речь идет об одном и том же острове, если таковой существует, что, однако, вызывает сомнения и полностью отрицается купцами южных морей”. — Ну и ну! — подвел итог Хьюиш. — Довольно неопределенно, — сказал Геррик. — Говорите что угодно, — воскликнул Дэвис, — но остров перед нами! Это то, что нам надо, можете быть уверены. — “Остающийся неизвестным ввиду личных мотивов”, — прочел Геррик через плечо капитана. — Что бы это значило? — Это может означать жемчуг, — ответил Дэвис. — Подумайте, остров, где есть жемчуг, а правительство об этом не знает? Похоже на недвижимость. Или предположим, это ничего не значит. Просто остров. Тогда мы могли бы там запастись рыбой, кокосами и туземной пищей и выполнить наш план насчет Самоа. Сколько, он говорил, им оставалось до Анаа? Кажется, пять часов? — Четыре или пять, — подтвердил Геррик. Дэвис подошел к двери. — Какой дул ветер, когда вы подходили к Анаа, Дядюшка Нед? — Шесть или семь узлов. — Хм, тридцать—тридцать пять миль, — подсчитал Дэвис. — Значит, самое время убавлять паруса. Если это остров, то не к чему напарываться на него в темноте, а если не остров, так почему бы не пройти там днем. К повороту! — заорал он. И шхуну повернули в ту сторону, где неуловимое мерцание в небе начинало уже бледнеть п уменьшаться подобно тому, как исчезает с оконного стекла пятно от дыхания. Одновременно на шхуне взяли вес рифы.Часть II КВАРТЕТ
ГЛАВА 7 ИСКАТЕЛЬ ЖЕМЧУГА
Около четырех утра, когда капитан с Герриком сидели на поручнях, во мраке впереди послышался шум бурунов. Оба соскочили на палубу и стали вглядываться и вслушиваться. Шум стоял непрерывный, словно от идущего поезда; нельзя было различить ни подъема, ни спада, океан поминутно с равномерной силой набегал на невидимый остров. Время шло. Геррик напрасно ожидал хоть какого-нибудь изменения в сплошном мощном реве; н постепенно он проникся ощущением вечности. Сам остров для опытного глаза угадывался в цепочке пятен, расположенных низко на фоне звездного неба. Шхуна легла в дрейф, и все с нетерпением стали ждать рассвета. Предрассветных облаков почти не было. Наконец на востоке появилась светлая полоска, затем — робкий всплеск света неизъяснимого, безымянного оттенка, от пурпурного до серебряного; потом вспыхнули угли. Некоторое время они мерцали на горизонте, то разгораясь, то тускнея, то испуская короткие лучи, но пока все еще господствовали ночь и звезды. Казалось, будто искра зарделась и поползла вдоль нижнего края тяжелого, непроницаемого занавеса, но ничему вокруг огонь пока не угрожает. Но вот еще немного — и весь восток запылал золотым и алым, и небесная чаша наполнилась дневным светом. Остров — неизвестный, отрицаемый — лежал прямо перед ними, совсем близко. Геррику подумалось, что никогда, даже во сне, он не видел ничего более дивного и изящного. Берег был сверкающе бел; сплошной барьер деревьев — неподражаемо зелен. Суша возвышалась над морем, футов на десять, деревья — еще футов на тридцать. По мере того как шхуна продвигалась вдоль берега к северу, между деревьями открывался просвет, и поверх невысокой и неширокой полоски суши Геррик, как поверх забора, видел лагуну внутри, а за ней — дальнюю сторону атолла, протянувшегося узкой чертой, в зубцах деревьев на фоне утреннего неба. Геррик терзался, подыскивая сравнения. Остров был подобен краям огромного сосуда, погруженного в воду; подобен насыпи кольцеобразной железной дороги, поросшей лесом. Остров казался таким хрупким среди беснующихся бурунов, таким прекрасным и непрочным, что Геррик, пожалуй, не удивился бы, если бы на его глазах остров затонул, беззвучно исчез и над ним плавно сомкнулись бы волны. Между тем капитан устроился на форсалинге[171] и в подзорную трубу обшаривал берега, высматривая вход в лагуну, высматривая признаки жизни. Однако остров продолжал открываться ему по частям и выдвигать мыс за мысом, а ни домов, ни людей, ни дыма костра не было видно. Вблизи мелькали, парили и ныряли в синюю воду морские птицы, а поодаль на целые мили тянулась пустынная кайма кокосовых пальм и пандануса, предоставляя желанный зеленый приют — кому? И гробовая тишина нарушалась только биением океана. Бриз был легчайший, скорость его невелика, жара невыносима. Палуба раскалилась, медное солнце пылало над головой посреди медного цвета неба, смола кипела и пузырилась в швах, мозги — в черепных коробках. И все это время возбуждение сжигало троих авантюристов, как лихорадка. Они шептались, кивали, показывали руками и прикладывали губы к уху друг друга, испытывая какое-то странное побуждение соблюдать тайну. Они приближались к острову исподтишка, как соглядатаи, как воры, и даже Дэвис отдавал команды с салингов главным образом жестами. Матросам передалось это молчаливое напряжение, как передалось бы собакам волнение их хозяев. И посреди рева многомильных бурунов к безлюдному острову приближался безмолвный корабль. Наконец в этом нескончаемом контуре возник разрыв. По одну его сторону выдавался мысок кораллового песка, по другую стояла густая группа высоких деревьев, закрывавшая обзор; посредине находился вход в огромный резервуар. Дважды в день океан теснился в этом узком горле и громоздился между хрупкими стенами; дважды в день, с отливом, колоссальному избытку воды приходилось протискиваться обратно. Час, когда подошла “Фараллона”, был часом прилива. Океан с инстинктом домашнего голубя устремился к обширному вместилищу, вихрем промчался через ворота и, чудесно преобразись, умиротворенный и переливчатый, как шелк, влился во внутреннее море. Шхуна поднялась в крутой бейдевинд, ее подхватило и понесло, как игрушечную. Она проскользнула, пролетела, мимолетная тень or прибрежных деревьев коснулась ее палубы, на миг мелькнуло дно пролива и тут же пропало. В следующую минуту “Фараллона” покачивалась на глади лагуны, а в глубине под ней, в прозрачном аквариуме, резвились мириады разноцветных рыб и мириады бледных коралловых цветов усеивали дно. Геррик был восхищен. Утоляя свою страсть к красоте, он забыл о прошлом и о настоящем, забыл, что в одном случае ему угрожает тюрьма, в другом — нищета; забыл, что попал сюда в отчаянных поисках пищи и любых средств для спасения своей жизни. Стайка рыб, окрашенных во вес цвета радуги, с клювами, как у попугаев, промчалась в тени шхуны, вырвалась оттуда и сверкнула в солнечных лучах, проникавших в воду. Рыбки были красивы, как райские птицы, и их бесшумный полет поразил Геррика, как звуки прекрасной мелодии. Тем временем перед глазами Дэвиса лагуна продолжала являть свои пустынные воды, и длинная вереница прибрежных деревьев разматывалась, как леска с катушки. И по-прежнему никаких следов жизни. Едва зайдя в лагуну, шхуна взяла к северу, где вода была глубже; теперь шхуна скользила мимо высокой рощи, которая скрывала от взоров еще один изгиб. Непросмотреннойоставалась лишь бухта за этим мысом. И вдруг занавес поднялся: перед ними открылась гавань, уютно пристроившаяся в изгибе, и, онемев от изумления, они увидели людские жилища. То, что мгновенно открылось зрителям с палубы “Фараллоны”, было не туземным селением, а скорее большой фермой с прилегающими постройками: длинный ряд навесов и амбаров, поодаль жилой дом с глубокой верандой, с другой стороны десяток туземных хижин и строение с каланчой, архитектуре которого явно старались придать черты церкви. На берегу, перед деревней, лежали вытащенные на песок тяжелые лодки и груда бревен, раскатившихся по раскаленным отмелям. На флагштоке, установленном на пристани, развевался красный торговый английский флаг. Позади, с боков, поверх селения — те же высокие пальмы, что скрывали его вначале, протягивали над ним крышу из шумящих зеленых вееров. Они качались и шуршали там наверху и пели под ветром весь день свою песню. По каким-то неуловимым признакам селение явно выглядело обжитым, но в то же время от него веяло заброшенностью, от которой становилось тоскливо. Между домами не было видно людей, не слышно звуков труда или развлечений. Лишь на самом высоком месте берега, неподалеку от флагштока, виднелась женская фигура непомерных размеров, белая как снег, которая манила к себе вытянутыми вперед руками. Присмотревшись, в ней можно было узнать образец морской скульптуры, носовое украшение с корабля, которое долго носилось и ныряло в бесконечных волнах, а теперь, оказавшись на суше, сделалось ангелом-хранителем этого опустевшего селения. “Фараллона” шла с попутным ветром. К тому же здесь, внутри, под защитой земли, он был сильнее, чем снаружи, и перед шхуной быстро, как в панораме, сменялись картина за картиной, так что трое авантюристов стояли в немом изумлении. Флаг был достаточно красноречив — это был отнюдь не истрепанный и выцветший трофей, который изорвался в лохмотья, развеваясь над давно обезлюдевшим островом. И словно чтобы укрепить растущую уверенность в том, что остров населен, в затененной глубине веранды блеснуло стекло, мелькнула белая скатерть. Если статуя на берегу в своей застывшей позе и с белым, как от проказы, телом царствовала одна в деревушке, то царствовала недавно. Людские руки хлопотали, людские ноги сновали там не далее, как час назад. Фараллонцы были в этом уверены; их глаза шарили в глубокой тени пальм, отыскивая спрятавшихся; если бы дело было за пристальностью взгляда, глаза их просверлили бы стены домов. В эти напряженные секунды у них появилось ощущение, что за ними наблюдают, их дурачат, что над ними нависла угроза, — ощущение почти невыносимое. На самом краю пальмовой рощи, которую они только что миновали, скрывался ручей, до последней минуты невидимый для глаз путешественников. Вдруг неожиданно оттуда выскочила лодка и голос прокричал: — Эй, на шхуне! Подходите к пирсу! В двух кабельтовых глубина двадцать саженей, хороший грунт! В лодке на веслах сидели два смуглокожих гребца в коротких синих юбочках. Тот, что кричал, — рулевой — был во всем белом, в полном тропическом одеянии европейца; широкие поля шляпы затеняли лицо, но голос выдавал джентльмена и в глаза бросалась его рослая фигура. Вот все, что можно было разобрать. Кроме того, стало ясно, что “Фараллону” заметили уже давно, еще в море, и обитатели острова подготовились к приему. Команде рулевого машинально повиновались, судно стало на якорь. Трое авантюристов собрались на корме у надстройки и с бьющимся сердцем, без единой мысли в голове принялись ждать незнакомца, который мог сыграть важную роль в их судьбе. Они не успели составить никакого плана действия, не успели придумать никакой истории, их застигли врасплох, и они должны были выпутываться как могли. Однако тревога мешалась с надеждой. Раз остров не занесен на карту, значит, человек этот не занимает официального поста и не имеет права потребовать у них бумаги. А сверх того, если можно верить Фпндлею (а на поверку выходит, что можно), этот человек — представитель “личных мотивов”; появление шхуны, вполне вероятно, глубоко раздосадовало его, и возможно даже (нашептывала надежда), он захочет и сможет купить их молчание. Тем временем лодка подошла к борту, и они смогли наконец разглядеть, с кем имеют дело. Это был высокий человек, ростом примерно шесть футов четыре дюйма и соответственно крупного сложения, но мускулы его казались расслабленными, как бывает у вялых, апатичных люден. Впечатление исправляли глаза: глаза необычайно блестящие и вместе с тем томные, мрачные и черные как угли, но с огоньками в глубине, сверкающими, как топаз; глаза, говорящие о совершенном здоровье и мужестве; глаза, которые словно предупреждали: берегись сокрушающего гнева их обладателя. Лицо, от природы смуглое, на острове загорело до такой степени, что он почти не отличался от таитян; только его жесты, манеры, энергия, таившаяся в нем, как огонь в кремне, выдавали европейца. Он был одет в белую тиковую, превосходно сшитую пару; шейный платок и галстук были шелковые, нежнейших расцветок. К банке, рядом с ним, был прислонен винчестер. — Доктор с вами? — закричал он, подплывая к борту. — Доктор Саймондс? Никогда о нем не слыхали? И о “Тринити Холл” тоже? Ага! Он, казалось, не удивился и только из вежливости притворился удивленным; глаза его между тем остановились поочередно на каждом из троих белых с неожиданно весомым любопытством, которое можно было даже назвать беспощадным. — Ах, так! — сказал он. — Поскольку явно произошла небольшая ошибка, то я вынужден осведомиться, чему я обязан столь приятным сюрпризом? Он уже поднялся на палубу, но каким-то образом ухитрялся быть совершенно недоступным, так что самый общительный из невежд, будучи мертвецки пьян, и тот не осмелился бы фамильярничать; и ни один из трех авантюристов не решился протянуть ему руку. — Что ж, — сказал Дэвис, — пожалуй, назовем это случайностью. Мы слыхали про ваш остров, а потом, понимаете, прочли в “Указателе” про “личные мотивы”. Так что когда мы увидели отражение лагуны в небе, мы сразу повернули шхуну, и вот мы здесь. — Не помешали, нет? — добавил Хьюиш. Незнакомец взглянул на Хьюиша с деланным изумлением, а затем подчеркнуто отвел взгляд. Трудно было разыграть более оскорбительную пантомиму. — Меня ваше прибытие даже устраивает, — сказал он. — Моя собственная шхуна запаздывает, так что, возможно, я кое о чем вас попрошу. Фрахтовать вашу шхуну можно? — Отчего же, — ответил Дэвис. — Смотря по обстоятельствам. — Моя фамилия Этуотер, — продолжал незнакомец. — Вы, надо полагать, капитан судна? — Да, сэр, капитан Браун. — Постойте-ка, постойте, — вмешался Хьюиш, — давайте начистоту! На мостике заправляет он — это точно, но не внизу. Внизу мы все равны, у каждого есть доля в предприятии. И когда доходит до дела, то я не хуже его. Вот я и приглашаю пойти внутрь и выпить, а потом обсудить все между собой по-дружескн. У нас водится шампанское — пальчики оближете, — добавил он, подмигивая. От присутствия настоящего джентльмена вульгарность клерка взыграла самым отвратительным образом, и Геррик инстинктивно, как заслоняются от удара, поспешил вмешаться. — Моя фамилия Хэй, — сказал он, — раз уж мы начали знакомиться. Мы в самом деле будем очень рады, если вы зайдете к нам. Этуотер живо повернулся в его сторону. — Кончали университет? — спросил он. — Да, Мэртон, — ответил Геррик и тут же густо покраснел, осознав свою оплошность. — А я из другого ордена, — сказал Этуотер. — Тринити Холл, Кембридж, моя шхуна названа в его честь. Н-да, в странном месте и в странной компании мы с вами знакомимся, — продолжал он, небрежно игнорируя остальных. — А вы подтверждаете… Прошу прощения у этого господина, я не уловил его фамилии… — Меня зовут Хьюиш, сэр, — ответил клерк и в свою очередь покраснел. — Ага-а, — протянул Этуотер и снова обратился к Геррику: — Так вы подтверждаете рекомендацию, данную мистером Хювишем вашему хваленому шампанскому? Или же надо делать скидку на бьющую через край поэтическую непосредственность его натуры? Геррик пришел в замешательство: вкрадчивое хамство их посетителя вызвало на его лице краску; то, что с ним обошлись как с равным, в то время как другими пренебрегли, доставило ему против воли удовольствие, но тут же возмутило и вызвало вспышку гнева. — Не знаю, — сказал он, — обыкновенное калифорнийское, на мой взгляд, вполне сносное. Этуотер, казалось, принял какое-то решение. — В таком случае разрешите мне сказать следующее: вы все трое пожалуете сегодня вечером ко мне и принесете с собой корзинку вина, а я позабочусь о съестном. Кстати, мне следовало с самого начала задать вам вопрос: была ли у вас оспа? — У нас лично — нет, — ответил Геррик. — Но вообще на шхуне были случаи. — Умер кто-нибудь? — Двое, — ответил Геррик. — Да, болезнь страшная, — проговорил Этуотер. — А у вас тут как, на острове? — спросил Хьюиш. — Смерти были? — Двадцать девять, — ответил Этуотер. — Двадцать девять смертей и тридцать один больной из тридцати трех душ населения. Странный способ считать, не правда ли, мистер Хэй? Души! Я содрогаюсь каждый раз, как произношу это слово. — А-а, вот почему на острове так пусто, — вставил Хьюиш. — Да, именно потому, мистер Хювиш, — сказал Этуотер, — вот потому-то дом пуст, а кладбище полно. — Двадцать девять из тридцати трех! — воскликнул Геррик. — А когда дошло до того, чтобы хоронить, как же вы?.. Или вы не возились с похоронами? — Вы угадаи, — сказал Этуотер, — во всяком случае, выдался один такой день, когда мы не могли больше хоронить. В то утро умерло пятеро, тринадцать умирало, и, кроме нас с причетником, не было ходячих. Мы устроили военный совет, потом отнесли… пустые сосуды… на берег лагуны и… похоронили их. — Он оглянулся через плечо на сверкающую гладь воды. — Так, значит, вы придете обедать? Скажем, в половине седьмого? Так будет мило с вашей стороны! Его голос, интонации, с какими он произносил эти шаблонные любезные фразы, сразу задали фальшивый светский тон, и Геррик бессознательно подпал под этот тон. — Разумеется, с огромным удовольствием, — сказал он. — В половине седьмого? Благодарю вас. И голос мой стал, словно пушечный гром, Будивший глубины в сраженье морском, — продекламировал Этуотер с улыбкой, которая мгновенно сменилась выражением похоронной торжественности. — С особенным нетерпением я буду поджидать мистера Хювиша, — продолжал он. — Мистер Хювиш, надеюсь, вы усвоили приглашение? — Еще бы, старина! — ответил общительный Хьюиш. — Значит, условились. Вы поняли меня правильно, не так ли? Мистер Хювиш и капитан Браун в половине седьмого, и не раньше, а вы, Хэй, ровно в четыре. И Этуотер окликнул лодку. В продолжение переговоров капитан сохранял озабоченный вид, его явно обуревали какие-то мысли или же тревога. Природа как нельзя более щедро наделила его чертами капитана-весельчака. Но сегодня он был молчалив и рассеян. Зная его, можно было видеть, что он не пропускает ни одного сказанного слова, обдумывает их, взвешивает. Трудно было бы сказать, что выражал его взгляд, когда он смотрел на ничего не замечавшего гостя, — холодный, пристальный и недобрый взгляд, какой бывает у человека, что-то замышляющего. Выражение это порою бывало так неуловимо, что Геррик бранил себя за пустую подозрительность, а то становилось таким явным и ощутимым, что каждая черточка на лице капитана излучала зло. Сейчас он очнулся, как от толчка. — Вы говорили про то, чтобы зафрахтовать судно? — спросил он. — Разве? — ответил Этуотер. — Ну, так пока больше не будем об этом говорить. — А ваша шхуна, как я понял, запаздывает? — не отставал капитан. — Вы все поняли превосходно, капитан Браун, — отвечал Этуотер, — сегодня в полдень будет тридцать три дня опоздания. — Она приходит и уходит, так ведь? Курсирует между вашим островом и… — закинул удочку капитан. — Совершенно верно, каждые четыре месяца, итого три рейса в год. — Сами тоже на ней выходите? — Нет, живу здесь безвыходно, — отвечал Этуотер, — хлопот полон рот. — Живете здесь, вот как? — воскликнул Дэвис. — И давно? — Давно ли, о господи! — произнес Этуотер серьезно и торжественно. — Но времени я не замечаю, — добавил он, улыбаясь. — Нет, я тоже так думаю, — сказал Дэвис. — Еще бы, конечно. Со всеми вашими богами, с такой уютной стоянкой… Да, стоянка у вас здорово уютная, — повторил он, обводя бухту взглядом. — В самом деле, как вы справедливо изволили заметить, место не совсем лишено приятности, — последовал ответ. — Есть раковины? — Да, встречались и раковины, — ответил Этуотер. — Чертовски большая лагуна, сэр, — продолжал капитан. — А вообще-то можно назвать ловлю удачной? — Не знаю, как я вообще ее назову, когда вы скажете прямо, что вы имеете в виду? — И жемчужины попадались? — спросил Дэвис. — И жемчужины, — ответил Этуотер. — Ну, сдаюсь! — расхохотался Дэвис, но смех его прозвучал резко и фальшиво. — Не хотите рассказывать — не рассказывайте, и баста. — Нет никаких причин держать в секрете что бы то ни было относительно моего острова, — возразил Этуотер. — Ваше появление все равно положило конец секрету, а кроме того, таких джентльменов, как вы и мистер Хювиш, я, можно сказать, всегда счастлив всячески уважить. Вопрос, по которому мы сейчас с вами расходимся — если можно это назвать расхождением, — касается времени и уместности. Я располагаю сведениями, которыми, но вашему мнению, мне следует поделиться с вами, а по моему мнению — не следует. Что ж, вечером посмотрим. Пока, Хювиш! — Он сошел в лодку и оттолкнул ее от борта. — Значит, все поняли? Капитан и мистер Хювиш в половине седьмого, а вы, Хэй, ровно в четыре. Вам ясно, Хэй? Имейте в виду, отказа я не принимаю. Если в назначенное время вы не явитесь, званый обед не состоится, не будет песен, мистер Хювиш, не будет пира! Вверху, в воздухе, проносились белые птицы, внизу, в стихии не менее прозрачной, — стайки пестрых рыб, а посредине, точно гроб Магомета, по глади лагуны быстро удалялась лодка, и за ней по мерцающему морскому дну скользила ее тень. Этуотер, не отрывая взгляда, смотрел через плечо назад, на “Фараллону” и группу на шканцах возле надстройки, пока лодка не пристала к пирсу. Тогда он проворно зашагал в глубь острова, и его белый костюм выделялся в изменчивом сумраке рощи, пока его не поглотил дом. Капитан жестом пригласил своих компаньонов в каюту. Лицо его говорило лучше слов. — Ну, — сказал он Геррику, когда они заняли свои места, — по крайней мере, одно хорошо: вы ему приглянулись. — Что же здесь хорошего? — спросил Геррик. — Сейчас поймете, чем это пахнет, — возразил Дэвис. — Вы отправляетесь на берег и стараетесь поддержать дружбу, вот и всё, зато выясните кучу вопросов: разузнаете, что у него там есть, что за фрахт и кто четвертый — их там четверо, а нас только трое. — Ну, предположим, я узнаю. Что дальше? — воскликнул Геррик. — Ответьте мне! — И отвечу, Роберт Геррик! Но сперва давайте разберемся. Вы, наверно, понимаете, — продолжал он с назидательной торжественностью, — вы наверное понимаете, что спекуляция с “Фараллоной” погорела? Вы, наверно, понимаете, что она погорела дотла? И если бы тут не подвернулся этот остров, вы, наверно, догадываетесь, где бы мы, вы, я и Хьюиш, очутились? — Да, все это я понимаю, — ответил Геррик. — Неважно, по чьей вине это произошло бы, но я понимаю. И что дальше? — Весьма обязан вам за напоминание, именно так: неважно, по чьей вине. Теперь об Этуотере: что вы о нем думаете? — Не знаю, что и думать, — ответил Геррик. — Он меня и влечет и отталкивает. С вами он был груб невыносимо. — А вы, Хьюиш? Хьюиш сидел и прочищал свою любимую вересковую трубку и даже не поднял головы, поглощенный этим увлекательным занятием. — Не спрашивайте меня, что я про него думаю! — огрызнулся он. — Даст бог, придет день, когда я скажу это ему самому. — Хьюиш выразил и мои мысли, — сказал Дэвис. — Как только этот тип ступил на палубу и сказал: “Эй вы, я Этуотер” (а что он не врет, так это сразу видно!), я мигом определил, что он за птица. “Настоящая вещь, без подделок, — сказал я себе, — и мне она не нравится. Настоящий, первоклассный, чистокровный аристократ”. “Ах, я с вами, кажется, незнаком! Кто вас создал, черт побери, бог?” Да тут так и прет порода, таким надо родиться. И заметьте: кипит, как шампанское, а жесткий, как кремень. Его не проведешь, нет, сэр! Глупости ни грамма! “Ладно, чем же он тут занимается, на этом треклятом острове?” — спросил я себя. Уж конечно, не птичьи яйца собирает. Дома у него небось дворец и напудренные лакеи, и коли он не сидит там, значит, бьюсь об заклад, у него есть на то причины! Слышите? — Не глухие, — отозвался Хьюиш. — Значит, дела у него тут разворачиваются неплохо, — продолжал капитан. — За десять лет развернулись даже очень хорошо. Ясно, что это жемчуг и перламутр — ничего другого в таком месте и быть не может. Раковины, конечно, регулярно отсылаются с “Тринити Холл”, а вырученные денежки идут прямо в банк, так что деньгами нам у него не разжиться. Но что же у него еще есть? Что он может держать при себе? И держит, как пить дать, держит. Жемчуг — вот что, сэр! Во-первых, жемчуг слишком ценен, чтобы выпустить его из рук. А во-вторых, жемчуг требует тщательной подборки и сортировки, и если кто продает жемчужины сразу, как вылавливает, — одну одному покупателю, другую другому, вместо того чтобы воздержаться и выждать, — тот просто дурак, а уж об Этуотере этого не скажешь. — Может, и так, — заметил Хьюиш, — не факт, но может быть, и так. — Для меня это факт, — резко сказал Дэвис. — Ну и что из этого? — проговорил Геррик. — Предположим, всё правильно и у него есть жемчуг — десятилетний сбор. Так что из этого? Я вас спрашиваю. Капитан побарабанил толстыми пальцами по столу, потом пристально поглядел Геррику в лицо, но Геррик так же пристально глядел в стол на барабанящие пальцы. Судно чуть заметно покачивалось, и по столу между сидящими перебегал туда-сюда солнечный зайчик. — Выслушайте меня! — не выдержал Геррик. — Нет, сперва вы послушайте, — перебил Дэвис. — Послушайте и постарайтесь понять. Не знаю, как вам, а нам этот гип ни к чему. Он вашей породы, а не нашей, вы ему понравились, а об нас с Хьюишем он вытер башмаки. Попробуйте его спасти, если можете! — Спасти? — повторил Геррик. — Да, спасти, если вы на это способны! — еще раз сказал Дэвис, ударив по столу кулаком. — Ступайте на берег, потолкуйте с ним, и, если доставите его на судно вместе с жемчугом, я его пощажу. Если не приведете, ждите похорон. Так, Хьюиш? Вас это устраивает? — Я зла не забываю, — сказал Хьюиш, — но и дела портить не люблю. Приведете субчика на шхуну вместе с его жемчугом — поступайте как хотите, высаживайте его где желаете: я не против. — Ну, а если мне не удастся? — вскричал Геррик, у которого пот струился по лицу. — Вы говорите так, будто я господь всемогущий: сделай то, сделай это. А если я не сумею? — Сын мой, — сказал капитан, — советую вам расстараться, а то увидите такое, что волосы дыбом встанут! — Уж это да, — подхватил Хьюиш. — Крайки, пайки — да! Он посмотрел на Геррика, улыбаясь тонкогубым ртом, и его улыбка, не обнажавшая зубов, показалась Геррику до ужаса кровожадной. И тут, как видно увлеченный своими последними идиотскими словами, Хьюиш разразился припевом к комической песенке, которую слышал, должно быть, лет двадцать назад в Лондоне; бессмысленная чепуха показалась в этих обстоятельствах отвратительной, как богохульство: — Хайки, пайки, крайки, файки, чилинга валоба дори! Капитан с неподвижным лицом терпеливо ждал, пока тот кончит. — Многие на моем месте не отпустили бы вас сейчас на берег, — заключил он. — Но я не таковский. Я знаю, вы меня не продадите, Геррик! А если продадите, так черт с вами! — прокричал он и резко встал из-за стола. Он пошел к двери, но, не дойдя до нее, повернулся и позвал Хьюиша — неожиданно и бешено, точно пролаял. Хьюиш повиновался, и Геррик остался в каюте один. — Слушай! — шепнул Дэвис Хьюишу. — Я его хорошо знаю. Если ты ему еще что-нибудь скажешь, все пропало.ГЛАВА 8 БЛИЖАЙШЕЕ ЗНАКОМСТВО
Шлюпка ушла обратно и была уже на полпути к “Фараллоне”, и тогда только Геррик отвернулся от моря и нехотя побрел вверх от пирса. Впереди корабельная статуя взирала на него сверху как бы с иронией, ее голова в шлеме была закинута назад, могучая рука словно швыряла что-то, раковину или метательный снаряд, в стоящую на якоре шхуну. Статуя казалась воинственной богиней, которая порывисто выбежала на порог своего острова, словно собиралась взлететь, да так и замерла навеки в этой стремительной позе. Ее голова и плечи высились над Герриком; он задрал лицо вверх, испытывая любопытство, отдаваясь мечтательному настроению. Он мысленно блуждал по ее жизненному пути: так долго она была слепой водительницей корабля среди морских просторов, так долго пребывала здесь в праздности под палящим солнцем, которому пока еще не удалось испепелить ее! “Но конец ли это ее приключениям? — размышлял он. — Или впереди ждут новые?” И Геррик в глубине души пожалел, что она не идол, а он не язычник и не может преклонить перед ней колени в этот трудный для него час. Когда он наконец двинулся дальше, то сразу попал в прохладную сень высоких пальм. Порывы замирающего ветерка раскачивали их верхушки; повсюду с быстротой стрекоз или ласточек и даже еще быстрей порхали, мелькали, парили пятна света. Под ногами лежал плотный ровный песок, и ноги Геррика ступали неслышно, точно по свежевыпавшему снегу. Заметно было, что когда-то этот путь выпалывали, как садовую дорожку, но эпидемия сделала свое, и сорняки теперь мало-помалу возвращались. Там и сям между колоннами пальм проглядывали дома поселка — свежевыкрашенные, опрятные, даже нарядные, но безмолвные, как гробы. Только кое-где в тиши этого огромного склепа раздавался шорох, топот легких ног, кудахтанье, а из-за дома с верандой виднелся дымок и слышалось потрескивание костра. С правой стороны к Геррнку близко подходили каменные домики. Первый дом оказался заперт; во втором он смутно разглядел через окно гору раковин в дальнем углу комнаты; третий дом, распахнутый навстречу дневному свету, поразил воображение Геррика беспорядком и многообразием всевозможных романтических предметов. Там валялись якорные цепи, лебедки и блоки всех размеров и любой грузоподъемности; иллюминаторы и трапы, ржавые баки, крышка люка, нактоуз[172] в медной оправе с компасом, бессмысленно указывающим посреди кавардака и сумрака склада на невесть какой полюс; канаты, якори, гарпуны, медный, позеленевший от возраста черпак для ворвани, рулевое колесо, ящик для инструментов с названием судна на крышке: “Азия” — словом, целая антикварная лавка с корабельными диковинами, громоздкими п массивными, не поддающимися разрушению, вделанными в медь, окованными железом. По меньшей мере, два кораблекрушения содействовали этому нагромождению хлама. Геррик глядел и глядел, и ему вдруг почудилось, будто экипажи этих двух кораблей находятся здесь, стерегут свое добро, несут караул, будто он слышит шаги, перешептывание и даже видит уголком глаза призраки матросов. Дело было не только в разыгравшемся воображении — галлюцинации имели вполне реальную почву: послышались тихие шаги и, в то время как Геррик все еще стоял и смотрел на хлам, за спиной у него неожиданно раздался голос хозяина, еще более вкрадчивый, чем обычно. — Старье, — сказал он, — ненужное старье! Так как же, нашел мистер Хэй подходящую к случаю аллегорию? — Во всяком случае, я получил сильное впечатление, — ответил Геррик и быстро обернулся, чтобы уловить на лице говорящего какой-то комментарий к его словам. Этуотер стоял в дверях, почти целиком заполнив собой проем; вытянутыми кверху руками он держался за притолоку. Глаза их встретились. Этуотер улыбнулся, но лицо осталось непроницаемым. — Да, впечатление неотразимое. Вы похожи на меня: ничто меня так не волнует, как корабли! Руины целой империи оставили бы меня равнодушным, а вот перед куском ржавого поручня, на который опирался во время ночной вахты старый морской волк, я застываю с благоговением. Однако пойдемте осмотрим остров. В нем только и есть, что песок, кораллы и пальмы, но есть в нем и какая-то привлекательность. — Мне он кажется райским местом, — сказал Геррик, стоя с непокрытой головой в тени и глубоко дыша. — Ну, это оттого, что вы только что с моря, — возразил Этуотер. — Смею думать, вы оцените, как я назвал его. Прелестное название. В нем есть аромат, есть цвет, есть звучание, оно подобно тому, кто его впервые придумал, — оно тоже наполовину языческое! Вспомните ваше первое впечатление от острова — только леса, леса и воды, и предположим, вы спросили название острова и получили ответ: Nemorosa Zacynthos.[173] — Iam medio apparet fluctu![174] — воскликнул Геррик. — Боже мой, до чего же хорошо! — Если остров попадет на карту, воображаю, как шкиперы всё переврут, — заметил Этуотер. — Зайдите еще туда, взгляните на водолазное снаряжение. Он открыл дверь, и Геррик увидел целую выставку аккуратно расставленной аппаратуры: помпы и трубки, башмаки на свинцовой подошве и огромные носатые шлемы, сверкающие вдоль стены, — десять полных комплектов. — Видите ли, вся восточная часть лагуны неглубока, — сказал Этуотер, — так что нам удалось весьма успешно использовать скафандры. Это оказалось неслыханно выгодным. Странное было зрелище, когда ловцы принялись нырять, и эти морские чудовища, — он постучал по ближайшему шлему, — начали то появляться, то исчезать посреди лагуны. Любите аллегории? — спросил он вдруг. — Да, очень, — ответил Геррик. — Так вот, я смотрел, как эти скафандры всплывали, и с них стекала вода, и они опять ныряли, и опять всплывали, и снова ныряли, а ловцы внутри них оставались неизменно сухи! И я думал, что все мы нуждаемся в скафандре, чтобы погружаться в мир и выходить из него невредимыми. Как, по-вашему, можно назвать такой скафандр? — Самомнение, — ответил Геррик. — Нет, я спрашиваю серьезно! — Ну, так назовите его самоуважением! — со смехом поправился Геррик. — А почему не благодатью? Почему не божьей благодатью, Хэй? — спросил Этуотер. — Почему не благодатью творца и спасителя? Того, кто умер за нас, того, кто поддерживает вас, кого вы ежедневно распинаете снова и снова? Нет ничего здесь, — он ударил себя в грудь, — ничего тут, — он постучал по стене, — и ничего там, — он топнул ногой, — кроме божьей благодати! Мы ступаем по ней, вдыхаем ее, мы живем и умираем с нею, она составляет основу основ Вселенной. А какой-нибудь молокосос в пижаме предпочитает Самомнение! Большой непонятный человек возвышался над Герриком. Он, казалось, вырастал на глазах и излучал зловещее сияние. Однако в следующую секунду воодушевление покинуло его. — Прошу прощения, — сказал он, — я вижу, вы не вериге в бога. — Боюсь, что в вашем понимании — нет, — ответил Геррик. — Никогда не спорю с молодыми атеистами или с пьянчугами, — вызывающе сказал Этуотер. — Перейдемте на ту сторону острова, где берег выходит на океан. Идти было недалеко, ширина острова нигде не превышала восьмой части мили, так что они шли не торопясь. Геррик чувствовал себя как во сне. Он явился сюда, раздираемый сомнениями; он приготовился к тому, чтобы разгадать эту непонятную глумливую маску, извлечь из-под нее подлинного человека и только тогда решить, как действовать. Холодную жестокость, нечувствительность к страданию других, неуклонное преследование своих интересов, бесчеловечную образованность, бездушную воспитанность — вот что ожидал он найти, и ему казалось — нашел. Но то, что эта машина озаряется сиянием религиозного фанатизма, необычайно удивило его. И пока они шли, он тщетно пытался связать воедино обрывочные сведения, придать четкость расплывшимся очертаниям, ввести в фокус созданный им ранее образ человека, который шел рядом с ним. — Что привело вас сюда, в южные моря? — спросил он. — Многое, — ответил Этуотер. — Молодость, любознательность, романтика, любовь к морю и — вы, должно быть, удивитесь — интерес к миссиям. Миссионерство довольно основательно пришло в упадок, что уже не столь удивительно. У миссионеров неправильный подход к делу, в них слишком много поповского, провинциального, жеманного. Одежды, одежды — вот их главная идея, но одежды еще не суть христианство, так же как и они — не солнце в небе и не могут заменить его! Они думают, что церковный приход с розами, колоколами и уютными старушками, вяжущими на скамеечках в переулках, есть сущность религии. Но на самом деле религия жестока, как и Вселенная, которую она озаряет, — жестока, холодна и проста, но бесконечно могущественна. — И вы обнаружили остров случайно? — спросил Геррик. — Так же, как и вы! И с тех пор у меня появилось предприятие, колония и собственная миссия. Прежде чем стать христианином, я был мирским человеком. Я и сейчас мирской, и я выжал из миссии все, что мог. Никогда еще из баловства не выходило ничего хорошего. Человек должен смело стоять перед лицом бога и заслужить трудом звание человека. Тогда только я стану с ним разговаривать, но не раньше. Я дал беднягам то, в чем они нуждались: судью израильского, носителя меча и бича, я почти уже сделал из них новых людей, но ангел господень поразил их, и их не стало! Едва он произнес эти слова, сопроводив их взмахом руки, как они вышли из-под свода пальмового леса и оказались на самой кромке моря, напротив заходящего солнца. Перед ними медленно набегали на берег волны. Во все стороны от них, точно корявые кусочки коры, наделенные злобной энергией, суетливо разбегались по своим поркам крабы. Справа, куда сперва показал, а потом направился Этуотер, лежало кладбище: поле, усеянное обломками камней величиной от детской ладони до детской головы, и между ними — холмики из таких же камней; все это обнесено грубо сложенной прямоугольной стеной. Там не росло ничего, кроме одного—двух кустов в белых цветах, и, помимо холмиков и их наводящей тревогу формы, ничто не указывало на присутствие мертвых. — “Здесь праотцы села… сном непробудным спят!”[175] — продекламировал Этуотер, входя через незакрытую калитку внутрь. — Коралл к кораллу, камушек к камушку, — продолжал он, — здесь главная арена моей деятельности в южных морях. Одни были хорошие, другие скверные, а большинство, как всегда и всюду, — никакие. Тут лежит один, который вилял хвостом, как пес; если вы подзывали его, он несся к вам, как стрела из лука, а если он являлся незваным, надо было видеть его умоляющие глаза и заплетающиеся, пританцовывающие шажки. Да, теперь его заботы окончились, он покоится там же, где лежат цари и министры, а все его поступки — разве они не вписаны в летопись? А вот этот был с Пенрина; подобно всем пенринцам, он плохо поддавался укрощению — горячий, ревнивый, вспыльчивый, одним словом, с характером. Теперь он успокоился в мире. И так все они. “И мертвых погребла ночная тьма…” Он стоял- в ярком зареве закатного солнца, склонив голову; голос его звучал то мягко, то резко, в зависимости от того, что он говорил. — Вы любили этих людей? — спросил Геррик, растроганный. — Я? — переспросил Этуотер. — Избави бог! Не принимайте меня за филантропа. Я не люблю людей, не выношу женщин. Если мне и нравятся острова, то лишь за то, что здесь мужчин и женщин видишь без всяких приложений, без париков и треуголок, без нижних юбок и цветных панталон. Этого я, правда, любил. — Он поставил ногу на холмик. — Он был настоящий дикарь с темной душой. Да, его я любил. У меня бывают причуды, — добавил он, пристально глядя на Геррика, — я способен увлекаться. Например, мне нравитесь вы. Геррик поспешно отвернулся и устремил взгляд вдаль, где облака начинали толпиться вокруг погребаемого дня. — Я никому не могу правиться, — проговорил он. — Вы ошибаетесь, — возразил его собеседник, — впрочем, люди всегда заблуждаются относительно себя. Вы привлекательны, очень привлекательны. — Только не я, — повторил Геррик. — Я никому не могу нравиться. Если бы вы знали, как я себя презираю — и за что… Голос его прозвучал громко в тиши кладбища. — Я так и понял, что вы себя презираете. Я видел, как кровь бросилась вам в лицо, когда вы упомянули Оксфорд. Я и сам чуть не покраснел, видя вас, джентльмена и человека, в обществе этих презренных волков. Геррик с испугом уставился на него. — Волков? — переспросил он. — Я сказал: волков, презренных волков, — повторил Этуотер. — Знаете ли вы, что, когда сегодня я был у вас на судне, я дрожал от страха. — Вы отлично это скрыли, — пробормотал Геррик. — Привычка… И все-таки я боялся, боялся двух волков. — Он медленно поднял руку. — Но что же, Хэй, бедная заблудшая овечка, что вы делаете в компании двух волков? — Что я делаю? Ровно ничего, — ответил Геррик. — Ничего дурного не происходит, всё как на ладони. Капитан Браун — славный человек, он… он… — В ушах у него прозвучал голос Дэвиса: “Ждите похорон”, и пот выступил у него на лбу. — Он человек семейный, — закончил он. глотнув, — у него дома дети… жена. — Значит, славный человек? — проговорил Этуотер. — И мистер Хювиш, без сомнения, тоже? — Нет, этого я не скажу, — ответил Геррик. — Хьюиша я не люблю. Но все же… у него тоже есть свои достоинства. — Короче говоря, в общем и целом, лучшей судовой компании и желать нельзя? — заключил Этуотер. — О да, — сказал Геррик, — это так и есть! — Следовательно, существует другая причина, почему вы презираете себя? — сказал Этуотер. — А разве все мы не презираем себя? — вырвался крик у Геррика. — Разве вы не презираете себя? — Естественно, я отвечу — да. Но так ли это на самом деле? Одно я, по крайней мере, знаю твердо: я никогда не издавал таких воплей, как вы, Хэй! Это крик нечистой совести! Полно, ваш убогий скафандр самомнения порван самым жалким образом! Сегодня же, если вы готовы прислушаться к моему голосу, — сегодня же, сейчас, пока еще не село солнце, здесь, где покоятся невинные души темнокожих, станьте на колени и переложите ваши грехи и печали на искупителя. Хэй… — Нет, не Хэй! — прервал тот сдавленным голосом. — Не называйте меня так! Я хочу сказать… Ради бога, не видите вы разве, что я на дыбе? — Я вижу, знаю, я сам вас на ней держу и не отпускаю, я сам вас подтягиваю своими руками! Если господь пожелает, сегодня вечером я приведу перед его престол раскаявшегося грешника. Приди, приди перед его милосердный престол! Он жаждет явить свою милость, друг мои, жаждет! Он раскинул руки, как распятый, лицо его светилось, как ангельский лик, он возвысил на последних словах голос, и в голосе послышались слезы. Геррик сделал величайшее усилие и взял себя в руки. — Этуотер, — сказал он, — вы хотите от меня невозможного. Что я должен делать? Я не верю в бога. Для вас он — непреложная истина, для меня, скажу по совести, всего только легенда. Я не верю, что есть такие слова, с помощью которых я мог бы снять со своих плеч бремя. Мне суждено до конца моих дней влачить ношу ответственности. Мне не избавиться от нее. Думаете, я не сделал бы этого, если бы мог? Но я не могу, не могу, и хватит об этом. Экстаз сошел с лица Этуотера, грозный апостол исчез, и на его месте снова появился иронический господин с непринужденными манерами, который снял шляпу и поклонился. Проделано это было дерзко, и лицо Геррика загорелось. — Что вы хотите этим сказать? — вскричал он. — Не вернуться ли нам назад? — проговорил Этуотер. — Скоро соберутся гости. Геррик с минуту продолжал стоять не двигаясь, сжав кулаки и зубы. И пока он стоял, ему медленно, словно луна между облаками, приоткрылся смысл задания, с которым он сюда явился. Он явился, чтобы заманить этого человека на шхуну. Однако дело не ладилось, если и считать, что он пытался это сделать; его ждала верная неудача, он это знал и знал, что так к лучшему. Но что же впереди? Он со стоном повернулся, чтобы следовать за хозяином, который стоял и ждал с вежливой улыбкой, и в ту же секунду с какой-то преувеличенной любезностью повел Геррика под колоннаду пальм, где уже сгущался мрак. Они шли молча. От земли исходил пряный аромат, в ноздри ударял теплый благоухающий воздух; еще издалека яркие огни зажженных ламп и пламя костра указали дом Этуотера. Пока они шли, Геррик испытал и поборол сильнейшее искушение подойти к Этуотеру, тронуть за руку и шепнуть: “Берегитесь, они хотят вас убить”. Одна жизнь была бы спасена, но как быть с двумя другими? Три жизни поднимались и опускались перед ним, как на весах или словно бадьи в колодце. Наступило время сделать выбор, и сделать его быстро. Несколько драгоценных минут колеса жизни катились впереди него, и в его власти было повернуть их в ту или иную сторону простым прикосновением, — в его власти решить, кому жить, а кому умереть. Он сравнивал троих. Этуотер интересовал его, озадачивал, ослеплял, приводил в восторг и возмущал; живой, он казался сомнительным благом, но представлять его мертвым было невероятно тягостно, и видение это преследовало Геррика во всех цветовых и звуковых подробностях. Его мысленному взору непрерывно мерещилось это крупное тело поверженным, в разных позах и с разными ранами; Этуотер лежал ничком, лежал навзничь, лежал на боку или же в предсмертной агонии, с искаженным лицом цеплялся пальцами за дверной косяк. Он слышал щелканье курка, глухой удар пули, крик жертвы. Он видел льющуюся кровь. Нагромождение воображаемых деталей как бы делало этого человека обреченным, и для Геррика он шел уже в жертвенных гирляндах. Потом Геррик задумался о Дэвисе с его грубой немудреной душой, неукротимым мужеством и веселостью в дни их прежней нищенской жизни, столь симпатичным для Геррика сочетанием недостатков и достоинств, внезапными проблесками нежности, таившейся где-то глубже слез; задумался о его детях, Эйде, ее болезни, ее кукле. Нет, даже в мыслях нельзя было и близко подпускать смерть к этому человеку. Чувствуя жар во всем теле, боль в сведенных мускулах, Геррик понял, что до конца отец Эйды найдет в нем сына. И даже Хьюиш оказался осененным святостью этого решения. Живя столько времени бок о бек, они стали братьями; их совместное существование на корабле и прошлые невзгоды подразумевали лояльность, которой Геррик должен был оставаться хоть немного верен, если не хотел окончательно потерять честь. Ужас внезапной смерти был неизбежен в любом случае, но колебаний быть не могло: жертвой выпадало быть Этуотеру. Однако едва только созрела эта мысль (она же приговор), как тут же, в панике, он всей душой устремился в другую крайность, и когда он заглянул в себя, то нашел там сплошное смятение и немой вопль. Во всем этом не было и мысли о Роберте Геррике. Он покорился отливу в своей судьбе, и отлив нес его прочь; он слышал уже рев водоворота, который должен был увлечь его на дно. Но в его терзающейся обесчещенной душе не было и мысли о себе самом. Геррик не знал, как долго он шел подле своего спутника молча. Неожиданно тучи умчались; душевные конвульсии кончились. Теперь Геррик был спокоен спокойствием отчаяния; к нему вернулась способность говорить банальные слова, и он с удивлением услышал собственный голос: — Какой прелестный вечер! — Не правда ли? — отозвался Этуотер. — Да, вечера здесь были бы хороши, если бы всегда было чем заняться. Днем, разумеется, можно стрелять. — А вы стреляете? — спросил Геррик. — Да, я — то, что называется, первоклассный стрелок. Все дело в вере. Я верю, что мои пули попадут в цель. Если бы я хоть раз промахнулся, я не смог бы стрелять добрых девять месяцев. — Стало быть, вы еще ни разу не промахнулись? — Нечаянно — нет, — ответил Этуотер. — Но промахнуться нарочно — это настоящее искусство. Я знавал одного царька с Западных островов, который умел обстрелять человека всего кругом из винчестера, не задев ни волоска, не вырвав ни клочка из его одежды, и только последнюю пулю он всаживал точно между глаз. Красивая была работа. — А вы тоже могли бы так? — спросил, холодея, Геррик. — О, я могу что угодно! — ответил Этуотер. — Вам это не понятно: чему быть, того не миновать. Они приблизились к задней стороне дома. Один из туземцев хлопотал у костра, который горел ясным, сильным летучим пламенем, как горит обычно кокосовая скорлупа. В воздухе носился аромат незнакомых кушаний. По всей веранде были зажжены лампы, ярко освещавшие лесной сумрак дома и рождавшие причудливые сплетения теней. — Заходите, помойте руки, — предложил Этуотер и провел Геррика в чистую комнату, устланную циновками, где стояли походная кровать, сейф, несколько застекленных полок с книгами и железный умывальник. Этуотер крикнул что-то по-туземному, и в дверях на момент показалась полненькая хорошенькая молодая женщина с чистым полотенцем в руках. — Это что? — воскликнул Геррик, увидев наконец четвертого, кого пощадила эпидемия, и внезапно вспомнив о приказе капитана. — Да, — сказал Этуотер, — вся колония помещается в этом доме, вернее, то, что от нее осталось. Мы, если хотите, все боимся дьявола! Поэтому Таниера и она спят в первой гостиной, а еще один — на веранде. — Хорошенькая девушка, — заметил Геррик. — Даже слишком, — ответил Этуотер. — Поэтому-то я выдал ее замуж. Ведь никогда не знаешь, не вздумает ли мужчина свалять дурака из-за женщины. Так что, когда нас осталось четверо, я отвел ее и Таниеру в церковь и совершил церемонию. Женщина из этого пустяка устроила много шуму. Но я начисто не разделяю романтического взгляда на брак. — И для вас это полная гарантия? — с изумлением спросил Геррик. — Естественно. Я человек простой и понимаю все буквально. Если не ошибаюсь, там есть слова: “Кого соединил господь”. Вот я и поженил их и почитаю брак священным. — Вот как! — произнес Геррик. — Видите ли, я могу надеяться на выгодную женитьбу, когда вернусь на родину, —сказал доверительным тоном Этуотер. — Я богат. Один этот сейф, — он положил на него руку, — даст немалое состояние, когда я соберусь выставить мои жемчужины на продажу. Здесь находятся сборы из лагуны за десять лет; каждый день с утра до вечера у меня работало десять ловцов. Я забрался глубже, чем это обычно делают люди в здешних краях; у меня горы гниющих раковин, по я достиг превосходных результатов. Не хотите взглянуть? Такое подтверждение догадки капитана тяжко поразило Геррика, и ему с трудом удалось не выдать своих чувств. — Нет, спасибо, не хочется, — сказал он. — Жемчуг меня не интересует. Я равнодушен к подобным… — Безделушкам? — досказал за него Этуотер. — И все-таки, я считаю, вам стоит взглянуть на мою коллекцию: она действительно уникальна, и, кроме того, она… как, впрочем, и все мы и всё нас окружающее… висит на волоске. Сегодня она приумножается и процветает, завтра с ней покончено, она брошена в печь. Сегодня она здесь, нераздельна, в сейфе, завтра — даже сегодня вечером! — она рассеется. Сегодня, глупец, сегодня могут у тебя потребовать душу! — Я вас не понимаю, — проговорил Геррик. — Нет? — спросил Этуотер. — Вы говорите загадками, — неуверенным голосом произнес Геррик. — Я не могу понять, что вы за человек и к чему вы клоните. Этуотер стоял, упершись руками в бока, нагнув голову вперед. — Я фаталист, — ответил он, — а сейчас — если вы настаиваете — еще и экспериментатор. Кстати говоря, кто вымарал название шхуны? — с издевательской вкрадчивостью добавил он. — Знаете, по-моему, следует довести дело до конца. Название частично можно прочесть. Если уж что делать, так делать хорошо. Вы согласны со мной? Как приятно это слышать! Ну, а теперь перейдем на веранду? У меня есть сухой херес; мне интересно знать ваше мнение о нем. Геррик последовал за ним на веранду, где стол, освещенный висячими лампами, сверкал белоснежной скатертью, салфетками и хрусталем. Геррик последовал за ним, как преступник следует за палачом, как овца за мясником; машинально взял рюмку с хересом, попробовал, машинально похвалил. Неожиданно опасения его приняли обратный характер: до сих пор он видел Этуотера связанным, с кляпом во рту, беспомощной жертвой; он жаждал броситься на его защиту, спасти его. Теперь тот высился перед ним, загадочный, таящий угрозу, как ангел гнева, вооруженный знанием, несущий кару. Геррик поставил назад рюмку и с удивлением увидел, что она пуста. — Вы всегда носите при себе оружие? — спросил он и тут же готов был вырвать себе язык. — Всегда, — ответил Этуотер. — Мне довелось здесь пережить бунт — одно из приключений моей миссионерской жизни. В ту же минуту до них донеслись голоса, и сквозь переплет веранды они увидели приближающихся Хьюиша и капитана.ГЛАВА 9 ЗВАНЫЙ ОБЕД
Они принялись за обед, примечательный своим разнообразием и изысканностью: черепаховый суп, жаркое, рыба, птица, молочный поросенок, салат из листьев кокосовой пальмы и на десерт — жареные побеги кокоса. Никаких консервов; даже приправы, кроме масла и уксуса в салате и нескольких перышков зеленого лука, собственноручно выращенного Этуотером, не были европейскими. Херес, рейнвейн, кларет сменяли друг друга, а завершило обед поданное к десерту шампанское с “Фараллоны”. Очевидно было, что Этуотеру, подобно многим глубоко религиозным людям, в эпоху, предшествующую сухому закону, была свойственна доля эпикурейства. Хорошая пища действует на такие натуры умиротворяюще, а тем более когда превосходная трапеза задумана и приготовлена, чтобы угостить других. Поэтому манеры хозяина в этот вечер оказались приятным образом смягчены. Громадных размеров кот сидел у него на плече, мурлыкая и время от времени ловко подхватывая лапкой брошенный ему кусочек. Этуотера и самого можно было уподобить коту, когда он сидел во главе стола, оделяя гостей то знаками внимания, то ядовитыми намеками, пуская в ход без разбора то бархатные лапки, то когти. И Хьюиш и капитан постепенно попали под обаяние его небрежно-гостеприимного обращения. Для третьего гостя события обеда долгое время протекали незамеченными. Геррик принимал все, что ему подавали, ел и пил, не разбирая вкуса, и слушал, не вникая в смысл. Разум его существовал сам по себе и был занят созерцанием ужасного положения, в котором обладатель его очутился. Что известно Этуотеру, что замышляет капитан, с какой стороны ожидать предательского нападения — вот были главные темы размышлений Геррика. Порой ему хотелось выскочить из-за стола и бежать в темноту. Но даже это было для него исключено: любой поступок, любое слово, какое бы то ни было движение могли лишь ускорить жестокую трагедию. И он сидел замерев и ел бескровными губами. Двое из его сотрапезников внимательно наблюдали за ним: Этуотер искоса бросал зоркие взгляды, не прерывая беседы, капитан — мрачно и озабоченно. — Ну, я вам доложу, это всем хересам херес, — объявил Хьюиш. — Сколько он вам стоит, если не секрет? — Сто двенадцать шиллингов в Лондоне да перевозка в Вальпараис и дальше, — отвечал Этуотер. — Он действительно производит впечатление недурного питья. — Сто двенадцать! — пробормотал клерк, смакуя вино и цифру с откровенным восторгом. — Мать честная! — Очень рад, что вам нравится, — продолжал Этуотер. — Наливайте еще, мистер Хювиш, держите бутылку около себя. — Моего приятеля зовут Хьюиш, а не Хювиш, сэр, — сказал, покраснев, капитан. — О, конечно, прошу простить меня, Хьюиш, а не Хювиш, разумеется. Я собирался сказать, что у меня есть еще восемь дюжий, — добавил он, бросая пронзительный взгляд на капитана. — Восемь дюжин чего? — спросил Дэвис. — Хереса, — последовал ответ. — Восемь дюжин превосходного хереса. Пожалуй, уже один херес стоит того, чтобы… для человека, любящего выпить… Двусмысленные слова попали в цель. Хьюиш с капитаном застыли на месте и с испугом выпялились на говорящего. — Стоит — чего? — спросил Дэвис. — Стоит ста двенадцати шиллингов, естественно, — ответил Этуотер. Капитан запыхтел, поискал было связь между всеми намеками Этуотера, затем неуклюже переменил тему разговора. — Сдается мне, сэр, что на этом острове мы почти что первые белые, — сказал он. Этуотер с готовностью и с полной серьезностью подхватил новую тему. — Если не считать меня и доктора Саймондса, можно сказать — единственные. Но кто может знать наверное? За эти долгие века, возможно, кто-нибудь и жил здесь; порой даже кажется, что так оно и есть. Кокосовые пальмы опоясывают весь остров, и непохоже, чтобы они выросли так естественным путем. Кроме того, когда мы здесь высадились впервые, мы обнаружили на берегу пирамиду неизвестного назначения, сложенную из камней явно человеческими руками: вероятно, ее воздвигли какие-нибудь тупоумные людишки, чьи кости давно истлели, в надежде умилостивить какого-нибудь мамба-джумбо, чье имя давно забыто. Об острове сообщалось дважды — обратитесь к справочнику, — а за время моего владения дважды у наших берегов выбрасывало корабли, оба раза покинутые командой. Остальное — догадки. — Доктор Саймондс ваш компаньон, так я полагаю? — спросил Дэвис. — Старина Саймондс! Как он пожалел бы, если бы знал, что вы здесь без него! — Он, видать, на “Тринити Холл”? — осведомился Хьюиш — Ах, мистер Хювиш, если бы вы могли сказать мне, где сейчас “Тринити Холл”, вы оказали бы мне большую услугу! — На ней, верно, туземная команда? — задал вопрос Дэвис. — Надо думать, раз секрет оставался секретом в течение десяти лет. — Слушайте-ка, — сказал Хьюиш. — Тут у вас сплошной шик, спору нет, но это, я вам доложу, не по мне. Слишком уж тут тихая заводь, слишком пусто. Мне подавай городские колокола! — Не думайте, что так было всегда, — возразил Этуотер. — Когда-то здесь кипела деятельность, хотя теперь — увы! — сами слышите, какая тишина. Меня она вдохновляет. Кстати говоря, о колоколах: будьте любезны, посидите тихо, я проделаю маленький эксперимент. По правую руку от него на столе стоял серебряный колокольчик, которым вызывают слуг; сделав знак замолчать, он с силой тряхнул колокольчик и жадно прислушался. Раздался чистый и сильный звон; он разнесся далеко во мраке над пустынным островом, постепенно затихая вдали, пока от него осталось в ушной раковине только колебание воздуха, которое уже нельзя было назвать звуком. — Пустые дома, пустой океан, пустынные берега! — промолвил Этуотер. — Но господь-то слышит этот звон! Мы сидим на веранде, как на освещенной сцене, и небеса взирают на нас с вышины! И это вы называете уединенностью? Повисло тяжелое молчание. Капитан сидел как загипнотизированный. Затем Этуотер тихонько засмеялся. — Развлечения одинокого человека, — заключил он, — и вероятно, не совсем хорошего вкуса. Тешу себя такими сказочками от скуки. А вдруг и вправду в легендах что-то есть, мистер Хэй? А вот и кларет. Не предлагаю вам лафита, капитан, так как, по моим сведениям, им набиты все вагоны-рестораны вашей великой страны, но вот этот бранмутон почтенного возраста, и мистер Хювиш должен дать мне о нем отзыв. — Ну и странную вы придумали штуку! — воскликнул капитан, со вздохом освобождаясь от сковывавших его чар. — Значит, вы сидите себе здесь вечерами и звоните… да, звоните ангелам… совсем один? — Если уж вы так прямо ставите вопрос, то, придерживаясь исторической правды, нет, не звоню, — ответил Этуотер. — Зачем, если внутри во мне и во всем вокруг звучит столь прекрасная тишина? Если любое биение моего сердца, любая мысль отдаются эхом в вечности и не умолкнут никогда? — Эй, слушайте, — вмешался Хьюиш, — вы еще свет потушите! Здесь вам не спиритический сеанс! — Легенды — не для мистера Хювиша. Прошу прощения, капитан, разумеется, Хьюиша, а не Хювиша. В то время как слуга наливал Хьюишу вино, бутылка выскользнула у него из руки, разбилась вдребезги, и вино залило пол веранды. Мгновенно зловещее, как смерть, выражение появилось на лице Этуотера. Он властно потряс колокольчиком, и оба туземца застыли в выжидающих позах, безмолвные и дрожащие. Сперва последовала тишина и суровый взгляд, потом — несколько туземных слов, сказанных взбешенным тоном, затем Этуотер отпустил слуг жестом, и они продолжали прислуживать гостям, как прежде. Только теперь гости обратили внимание на то, как прекрасно вышколены слуги. Они были темнокожие, низкорослые, но отлично сложенные, ступали бесшумно, ожидали безмолвно, подавали вино и блюда по одному взгляду хозяина и не спускали с него прилежных глаз. — А где вы добываете себе рабочие руки, интересно узнать? — спросил Дэвис. — Где их нет?.. — ответил Этуотер. — Нелегкое это, верно, дело? — продолжал капитан. — Скажите мне: где легко добывать рабочие руки? — Этуотер пожал плечами. — А в нашем случае назвать координаты мы, естественно, не могли, поэтому нам пришлось изрядно поездить и потрудиться. Мы забрались на Запад, до самого Кингсмилза, и на юг, до самого Рапаити. Какая жалость, что с нами нет Саймондса! Он бы порассказал вам историй. Это его было дело — добывать рабочих. Потом настала моя очередь — воспитывать их. — То есть управлять ими? — вставил Дэвис. — То есть управлять ими. — Погодите-ка, — сказал Дэвис, — у меня что-то голова плохо варит. Как это? Вы что же, справлялись с ними в одиночку? — Справлялся в одиночку, ибо помощников не было. — Черт побери, вы, должно быть, сущий дьявол! — с жаром вскричал восхищенный капитан. — Стараюсь по мере сил, — последовал ответ. — Ну и ну! — не успокаивался Дэвис. — Много я видел на своем веку муштры, сам, считалось, недурно муштровал Я начал третьим помощником и обогнул мыс Горн с бандой таких отъявленных головорезов, что они дьявола вышибли бы из ада и заперли за ним дверь. Но я скажу, что мне далеко до мистера Этуотера. На судне — что ж, там управляться нехитро: на твоей стороне закон, он за тебя все сделает. Но вы садите меня одного на этот треклятый остров без ничего, только с кнутом и запасом скверных слов, и заставьте… Ну нег, сэр! Ничего у меня не выйдет! Пороху не хватит! Легко, когда закон за спиной, — заключил он, — закон всегда вывозит. — Ну, не так уж страшен черт… — насмешливо протянул Хьюиш. — Со мной тоже в некотором роде закон, — сказал Этуотер. — Приходилось брать на себя самые разные роли. Порой это бывало несколько утомительно. — Можно себе представить! — отозвался Дэвис. — Солоно небось приходилось? — Именно это я и имел в виду, — сказал Этуотер. — Так или иначе, удалось вбить им в головы, что они должны трудиться, и они трудились, пока господь их не призвал! — Они у вас небось изрядно попотели, — заметил Хьюиш. — Они у меня попотели, мистер Хювиш, когда это было необходимо. — Уж будьте уверены! — воскликнул капитан. Он порядком разгорячился, но не столько от вина, сколько от восхищения. Он с упоением пожирал глазами хозяина. — Бьюсь об заклад, что оно так и было, я так и вижу, как вы это делаете! Ей-ей, вы настоящий мужчина. Запомните, что это я так сказал. — Вы слишком любезны, — заметил Этуотер. — А у вас… у вас тут случалось когда-нибудь преступление? — спросил Геррик, резко нарушив наконец свое молчание. — Да, случалось, — ответил Этуотер. — И как вы с ним справились, сэр? — воскликнул с нетерпением капитан. — Видите ли, случай был особенный, — ответил Этуотер. — Такой случай озадачил бы самого Соломона. Рассказать вам его? Хотите? Капитан восторженно согласился. — Хорошо, — процедил Этуотер, — слушайте же. Полагаю, вам известны два типа туземцев: послушный и строптивый. Так вот, у меня были оба, оба — воплощение этих типов. Послушание струилось из одного, как вино из бутылки, другого переполняла строптивость. Послушный весь состоял из улыбок, он забегал вперед, чтобы уловить ваш взгляд, он любил болтать, он располагал десятком жаргонных английских слов, прижившихся в Полинезии, и восьмой долей дюйма налета христианства. Строптивый был трудолюбив, этакая громадная угрюмая пчела. Когда к нему обращались, он отвечал хмурым взглядом и дергал плечом, но дело делал. Я не выдаю его за образец хороших манер, ничего показного у строптивого не было, но он был сильный и надежный и хотя нелюбезно, но повиновался. И вдруг строптивый провинился, неважно как, но он нарушил установленные правила и соответственно был наказан — наказание не подействовало. То же повторилось на следующий день, и еще на следующий, и так далее, пока мне не надоела вся эта история, а строптивому, как я догадываюсь, еще больше. Настал день, когда он снова провинился, вероятно, уже в тридцатый раз, и тут он скосил на меня свои упрямые глаза, в которых на сей раз явно вспыхнуло желание заговорить. А надо сказать, что наши правила особенно строго соблюдаются в одном пункте: объяснения у нас исключаются, их не принимают и давать их запрещено. Поэтому я немедленно его остановил, однако это обстоятельство про себя отметил. На следующий день он исчез из поселка. Это было как нельзя более досадно: если рабочие примутся убегать, промысел погиб. Остров тянется на шестьдесят миль, он длинен, как королевская дорога.[176] Преследовать беглеца в наших зарослях были бы наивным ребячеством — я сразу же отверг эту идею. Два дня спустя я сделал открытие: меня вдруг осенило, что строптивого с начала до конца наказывали несправедливо, а истинным виновником все это время был послушный. Стоит туземцу заговорить, и он, как женщина, которая заколебалась, погиб. Стоит дать ему возможность говорить и лгать, и он говорит и лжет и следит за вашим лицом — угодил ли он вам, и, наконец, правда выплывает наружу! Правда выплыла из послушного. Я ничего ему не сказал, отпустил его и, несмотря на поздний час (уже наступила ночь), отправился на поиски строптивого. Далеко мне идти не пришлось: примерно в двухстах ярдах от дома его осветила луна. Он висел на кокосовой пальме. Я не ботаник, не берусь объяснить, на чем он там висел, но в девяти случаях из десяти именно так кончают с собой туземцы. Язык у него вывалился наружу, птицы основательно поклевали беднягу. Избавлю вас, однако, от подробностей: он представлял собой неприглядное зрелище! Добрых шесть часов я просидел здесь на веранде, ломая себе голову, как поступить. Из моего правосудия было сделано посмешище; мне кажется, я никогда не был обозлен сильнее. На следующее утро, еще до восхода солнца, я велел бить в раковину и созвать всех рабочих. Потом взял винтовку и пошел впереди вместе с послушным. Он был в то утро очень разговорчив; мерзавец полагал, что теперь, когда он сознался, все позади, и он, по школьной терминологии, попросту ко мне “подлизывался”, не переставая, заверял в лучших намерениях и давал обещания хорошо вести себя. Не помню уж, что я ему отвечал. Вскоре показалось то дерево и висящий на нем. Все принялись оплакивать своего товарища на туземный лад, и послушный вопи, громче всех. И он был совершенно искренен, безнравственное существо, без малейшего сознания своей вины. Тут, короче говоря, я приказал ему лезть на дерево. Он насторожился, с испуганной улыбкой уставился на меня, но полез. Он слушался до конца, у него была куча добродетелей, но правдивости среди них не было. Как только он взобрался наверх, он глянул вниз — и увидел направленное на него дуло ружья. Тогда он заскулил, как пес. После этого стало так тихо, что слышно было, как иголка упадет. Причитания оборвались. Внизу все припали к земле с выпученными от страха глазами, наверху сидел он, свинцово-серый, а в воздухе болтался труп. Послушный слушался до конца, покаялся в содеянном, поручил свою душу богу, а затем… Этуотер умолк, и Геррик, напряженно слушавший, сделал судорожное движение и опрокинул рюмку. — А затем? — произнес капитан, который внимал затаив дыхание. — Я выстрелил, — ответил Этуотер. — Они свалились на землю вместе. Геррик вскочил с пронзительным криком, бессмысленно взмахнув руками. — Это же убийство! — истерически выкрикнул он. — Хладнокровное, жестокое убийство! Вы чудовище! Убийца и лицемер, убийца и лицемер!.. — повторял он заплетающимся языком. Капитан в одно мгновение очутился возле него. — Геррик! — воскликнул он. — Опомнитесь! Да ну же, не стройте из себя дурака! Геррик бился в его руках как обезумевший и вдруг, закрыв лицо руками, задохнулся в рыданиях; тело его тихо сотрясалось, у него вырывались странные, бессмысленные звуки. — Ваш друг, кажется, несколько разволновался, — заметил Этуотер, продолжая неподвижно и напряженно сидеть за столом. — Это все от вина, — сказал капитан. — Он человек непьющий. Я- я, пожалуй, уведу его отсюда. Авось прогулка его протрезвит. Он вывел Геррика с веранды, тот не сопротивлялся, и скоро они растворились во мраке. Но еще некоторое время слышалось, как капитан спокойным голосом уговаривает и увещевает Геррика и как тот прерывает его истерическими вскриками. — Ишь раскудахтался, точно на птичьем дворе! — заметил Хьюиш, подливая себе вина с истинно светской непринужденностью (и при этом порядком проливая на стол). — Нужно уметь вести себя за столом, — добавил он. — Дурные манеры, не правда ли? — подхватил Этуотер. — Так, так, вот мы и остались наконец tete-a-tete! Выпьем, мистер Хювиш?!ГЛАВА 10 ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
Между тем капитан и Геррик, оставив позади ярко освещенную веранду, направились прямо к пирсу. В эту вечернюю пору остров с его плотным песчаным полом и лиственной крышей, подпертой колоннами пальм, озаренный только светом из дверей и окон дома, выглядел нереальным, словно пустой театр или общественный сад в полночь. Взгляд невольно начинал искать вокруг столики и статуи. Ни одно дуновенье не колебало листьев, и тишину только подчеркивал непрерывный шум берегового прибоя, напоминавший уличный шум. Не переставая уговаривать, успокаивать своего пациента, капитан вел его все дальше, подвел наконец к самому берегу и смочил ему лицо и голову тепловатой водой из лагуны. Постепенно пароксизм утих, рыдания сделались менее судорожными, а затем и совсем прекратились: прекратился и поток успокоительных речей капитана, и двое погрузились в молчание. Небольшие волны с тихим, как шепот, звуком разбивались у их ног; звезды всех величин любовались собственным отражением в этом огромном зеркале, а посреди лагуны виднелся воспаленный свет фонаря стоявшей на якоре “Фараллоны”. Долго они глядели на расстилавшуюся перед ними картину и с беспокойством прислушивались к шороху и плесканию этого уменьшенного прибоя и к отголоскам дальнего, мощного прибоя со стороны открытого моря. Долго они молчали, утратив способность разговаривать, и когда наконец очнулись, то заговорили оба враз. — Геррик, послушайте… — начал капитан. Но Геррик резко обернулся к своему товарищу и заставил его замолчать, страстно крикнув: — Снимемся с якоря, капитан, и в море! — Куда, сынок? — спросил капитан. — Легко сказать — снимемся. Но куда? — В море, — повторил Геррик. — Океан велик. Куда угодно- прочь от этого ужасного острова и этого… этого страшного человека! — Ну, с ним мы еще сведем счеты, — сказал Дэвис. — Ваше дело — приободриться, а с ним мы сведем счеты. Вы совсем расклеились, вот в чем беда, нервы совсем развинтились, как у Джемаймы.[177] Вам надо приободриться как следует, а когда вы придете в себя, тогда поговорим. — В море, — повторил Геррик, — сегодня, сейчас, сию минуту! — Не будет этого, сынок, — твердо возразил капитан. — Никогда еще мое судно не выходило в море без провизии, так и знайте. — Нет, вы не понимаете, — не отставал Геррик. — Все кончено, я вас уверяю. Здесь больше делать нечего — он знает все. Этот человек, сидящий там с кошкой, знает всё. Неужели вы не видите? — Что — всё? — спросил капитан, немного обеспокоенный. — Принял он нас как настоящий джентльмен и обращался с нами по-рыцарски, пока вы не начали нести всю эту чепуху. Надо сказать, я видал, как в людей стреляли за меньшее, и никто о них не пожалел! Чего вы хотите? Геррик, однако, раскачивался, сидя на песке, и тряс головой. — Издевался, — продолжал он, — он же издевался над нами, и ничего больше. И поделом нам. — Что мне, в самом деле, показалось странным, — неуверенным голосом проговорил капитан, — это насчет хереса. Провалиться мне, если я понял, к чему он клонит. Геррик, слушайте, а вы меня не выдали? — Не выдал ли я? — раздраженно, с презрением произнес Геррик. — Да что выдавать? Нас и так видно насквозь: на нас клеймо мошенников — явные мошенники, явные! Еще прежде чем он ступил на борт “Фараллоны”, ему бросилась в глаза замалеванная надпись, и он сразу все понял. Он не сомневался, что мы убьем его тут же, на месте, но он стоял и издевался над вами с Хьюишем и вызывал на убийство. И еще говорит, что он боялся! Потом он заманил меня на берег — и что я только вытерпел! “Волки” называет он вас и Хьюиша. “А что делает овечка с двумя волками?” — спросил он. Он показал мне свой жемчуг, сказал, что еще не кончится этот день, как жемчуг может рассеяться. “Все висит на волоске”, — сказал он и улыбнулся. Видели бы вы эту улыбку! Нет, все напрасно, говорю вам! Он знает все, обо всем догадывается, мы со своим притворством ему просто смешны: он смотрит на нас и смеется, как господь бог. Наступило молчание. Дэвис, нахмурившись, уставился в темноту. — Жемчуг? — спросил он вдруг. — Он вам его показывал? Значит, он тут! — Нет, не показывал, но я видел сейф, где хранятся жемчужины. Вам до них никогда не добраться! — Это еще бабушка надвое сказала, — возразил капитан. — Думаете, он вел бы себя за столом так свободно, если бы не подготовился? — вскричал Геррик. — Двое слуг вооружены. Он тоже вооружен и не расстается с оружием. Он сам мне сказал. Вам его бдительность не усыпить. Дэвис, я знаю! Всему конец, я вам повторяю и доказываю. Всему конец, всему! Ничего не осталось, ничего нельзя поделать, все ушло — жизнь, честь, любовь. Господи, зачем я родился на свет? За этим взрывом опять последовало молчание. Капитан приложил руки ко лбу. — Еще загадка! — воскликнул он. — Зачем он вам все раскрыл? Прямо сумасшествие какое-то! Геррик с мрачным видом снова покачал головой. — Вам не понять, если я и скажу, — ответил он. — Ерунда, я все могу понять, что вы мне скажете. — Хорошо, пожалуйста. Он — фаталист. — Это что еще за штука такая — фаталист? — спросил Дэвис. — Ну, это человек, который верит в судьбу. Верит, что его пули всегда попадут в цель, верит, что все случится так, как захочет господь, и человек тут бессилен. И так далее. — Так ведь и я в это же, пожалуй, верю, — проговорил Дэвис. — Неужели? — иронически спросил Геррик. — Будьте уверены! — ответил Дэвис. Геррик пожал плечами. — Ну и глупо, — сказал он и уткнул голову в колени. Капитан продолжал стоять, покусывая пальцы. — Одно я знаю твердо, — сказал он наконец. — Надо убрать оттуда Хьюиша. Ему этот человек не по зубам, если он таков, Каким вы его расписываете. И он повернулся, чтобы идти. Слова его были просты, но иным был тон, и Геррик сразу уловил его. — Дэвис! — закричал он. — Не надо, не делайте этого! Пощадите себя — бросьте это! Ради бога, ради ваших детей! Голос его прозвучал страстно и пронзительно; его могла услышать будущая жертва, находившаяся не так далеко. Дэвис обернулся к Геррику с грубой бранью и бешено замахнулся на него. Несчастный молодой человек перекатился па живот и остался так лежать, лицом в песок, безмолвный и беспомощный. А капитан быстро зашагал к дому Этуотера. На ходу он торопливо обдумывал услышанное, мысли его мчались неудержимо, обгоняя друг друга. Тот человек все понял, он с самого начала насмехался над ним; он, Джон Дэвис, покажет ему, как над ним насмехаться! Геррик считает его чуть не богом, — дайте ему секунду, чтобы прицелиться, и бог будет повержен. Он радостно засмеялся, нащупав рукоять револьвера. Надо действовать прямо сейчас, как только он вернется. Со спины. Нет, сзади подобраться трудно. За столом? Нет, удобнее стрелять стоя, руке ловчее держать револьвер. Лучше всего позвать Хьюиша, а когда Этуотер встанет и повернется… Ага, именно в этот момент. Усердно прикидывая и так и этак, погруженный в свои мысли, капитан торопливо шел к дому, опустив голову. — Руки вверх! Стой! — услышал он голос Этуотера. И капитан, не успев даже сообразить, что делает, повиновался. Неожиданность была полной, положение непоправимым. В самый разгар своих кровавых замыслов он угодил в засаду и теперь стоял, бессильно подняв руки кверху, устремив взгляд на веранду. Званый обед окончился. Этуотер, прислонившись к столбу, целился в Дэвиса из винчестера. Неподалеку один из слуг также держал перед собой винчестер, пригнувшись вперед, широко раскрыв глаза в нетерпеливом ожидании. На верхней ступеньке в дверном проеме второй туземец поддерживал Хьюиша; лицо у Хьюиша расплылось в бессмысленной улыбке; он был, очевидно, целиком погружен в созерцание незажженной сигары, которую держал в руке. — Ну-с, — сказал Этуотер, — и дешевый же вы пиратишка! Капитан издал горлом звук, определить который нет возможности; его душила ярость. — Сейчас я намерен выдать вам мистера Хювиша, вернее, подонки, которые от него остались, — продолжал Этуотер. — Когда он пьет, он очень много говорит, капитан Дэвис с “Морского скитальца”. Больше он мне не нужен, и я его с благодарностью возвращаю. Ну-ну! — угрожающе крикнул он вдруг. — Еще одно такое движение — и вашей семье придется оплакивать гибель бесценного папаши. Не вздумайте больше шевелиться, Дэвис! Этуотер произнес какое-то слово на местном наречии, не отводя взгляда от капитана, и слуга ловко спихнул Хьюиша с верхней ступеньки. С достойной удивления одновременностью раскинув руки и ноги, этот джентльмен ринулся в пространство, ударился об землю, рикошетом отлетел в сторону и замер, обняв пальму. Разум его в происходящих событиях начисто не участвовал, и выражение страдания, исказившее его черты в момент прыжка, было, вероятно, бессознательным; он перенес свой неприятный полет молча, нежно прильнул к пальме и, судя по жестам, воображал, будто сбивает ради своею удовольствия яблоки с яблони. Кто-нибудь более сочувственно настроенный или более наблюдательный заметил бы на песке перед ним, на недосягаемом для него расстоянии, незажженную сигару. — Получайте вашу падаль! — проговорил Этуотер. — Вы, естественно, вправе поинтересоваться, почему я не покончил с вами сейчас, тут же, как вы того заслуживаете. Я отвечу вам, Дэвис. Потому что я не имею ничего общего ни с “Морским скитальцем” и людьми, которых вы потопили, ни с “Фараллоной” и шампанским, которое вы украли. Рассчитывайтесь с господом сами: он ведет счет и потребует расплаты, когда пробьет час. Я могу только подозревать о ваших замыслах относительно меня, а чтобы убить человека, даже такого хищника, как вы, мне одних подозрений мало. Но имейте в виду: если я еще раз увижу кого-нибудь из вас здесь, разговор пойдет другой, — тогда уже вы схлопочете пулю. Теперь убирайтесь. Марш! И если вам дорога ваша так называемая жизнь, не опускайте рук! Капитан продолжал стоять неподвижно, подняв руки вверх, приоткрыв рот, загипнотизированный собственной яростью. — Марш! — повторил Этуотер. — Раз-два-три! Дэвис повернулся и медленно двинулся прочь. Но, шагая с поднятыми руками, он обдумывал план быстрой контратаки. Он вдруг молниеносно отпрыгнул за дерево и скорчился там, оскалив зубы, с револьвером в руке, выглядывая то с одной, то с другой стороны, — змея, приготовившаяся ужалить. Но он опоздал: Этуотер и его слуга уже исчезли. Только лампы продолжали освещать покинутый стол и яркий песок вокруг дома, да во всех направлениях от веранды во мрак уходили длинные черные тени пальм. Дэвис сжал зубы. Куда они подевались, трусы? В какую дыру забились? Бесполезно и пытаться что-нибудь предпринять одному, со старым револьвером, против троих вооруженных винчестерами людей, которых как будто и нет в освещенном притихшем доме. Кто-то из них мог уже выскользнуть с заднего хода и сейчас целится в него из темного подвала, хранилища пустых бутылок и черепков. Нет, ничего нельзя поделать, остается лишь отвести (если это еще возможно) свои разбитые, деморализованные войска. — Хьюиш, — скомандовал он, — пошли. — Птрял сигау, — пролепетал Хьюиш, шаря по воздуху руками. Капитан грубо выругался. — Сию минуту иди сюда, — сказал он. — Тут хршо. Стаюсь спать у Туота. Утром врнусь на к-рабль, — отвечал гуляка. — Если ты не пойдешь сейчас же, клянусь богом, я тебя застрелю! — закричал капитан. Не нужно думать, что смысл угрозы каким-нибудь образом проник в сознание Хьюиша. Скорее всего, сделав новую попытку поднять сигару, он потерял равновесно и нежданно-негаданно полетел вперед по некоей траектории, которая и привела его в объятия Дэвиса. — А ну шагай прямо, — рявкнул капитан, подхватив его, — а не то я не знаю, что с тобой сделаю! — П-трял сига-ау, — вместо ответа пролепетал опять Хьюиш. Долго сдерживаемое бешенство капитана прорвалось наконец наружу. Он рывком повернул Хьюиша, схватил его за шиворот, довел, толкая перед собой, до пирса и грубо пихнул так, что тот шлепнулся физиономией об землю. — Ищи теперь свою сигару, свинья! — сказал капитан и с такой яростью принялся дуть в боцманский свисток, что горошина в нем застряла и перестала прыгать. На борту “Фараллоны” немедленно поднялась возня: по воде донеслись отдаленные голоса, плеск весел, и одновременно невдалеке с песка поднялся Геррик и медленно побрел к ним. Он склонился над щуплой фигуркой Хьюиша, в бесчувственном состоянии валявшегося у подножия корабельной статуи. — Мертвый? — спросил он. — Никакой он не мертвый, — буркнул Дэвис. — А Этуотер? — Да заткнитесь вы наконец! — зарычал Дэвис. — Сумеете сами или показать вам, как это делается, черт вас задави? Довольно с меня вашего нытья! После этого им оставалось только молча ждать, когда лодка уткнется в дальние столбы пирса. Тогда они подняли Хьюиша за плечи и за ноги, сволокли в шлюпку и без церемоний бросили на дно. Дорогой можно было разобрать, что тот горюет об утраченной сигаре, а когда его подали снизу на борт шхуны точно груз и оставили проспаться в проходе, последним высказыванием его было: “Вклепнычеектуот!” Люди опытные истолковали это как “Великолепный человек Этуотер!” — столько наивности и простодушия вынес сей великий ум из событий прошедшего вечера! Капитан принялся мерить шкафут короткими гневными шагами; Геррик облокотился на гакаборт; команда улеглась спать. Судно легонько и убаюкивающе покачивалось, порой какой-нибудь блок попискивал, как сонная птица. На берегу сквозь колоннаду стволов дом Этуотера продолжал сиять огнями. И больше ни в небе, ни в лагуне не было ничего, кроме звезд и их отражений. Может быть, протекли минуты, может быть, часы, а Геррик все стоял, глядя на величавую воду и наслаждаясь покоем. “Звездная купель”, — подумалось ему, и вдруг он почувствовал на своем плече руку. — Геррик, — произнес капитан, — я проветрился, и мне полегчало. Нервная дрожь пробежала по телу молодого человека, он промолчал и даже не повернул головы. — Я вам, понятно, нагрубил на берегу, — не отступал капитан, — но я тогда, право, здорово разозлился. Теперь вое прошло, нам с вами надо хорошенько подумать и все обмозговать. — Мне думать нечего, — ответил Геррик. — Послушайте, дружище, — ласково продолжал Дэвис, — так не годится, вы сами знаете! Вы должны взбодриться и помочь мне поправить дела. Ведь вы не измените своему другу? На вас это не похоже, Геррик! — Отчего же, очень похоже, — отвечал Геррик. — Полно, полно! — произнес капитан и замолчал в растерянности. — Слушайте, — воскликнул он, — выпейте-ка шампанского! Я-то до него не дотронусь, чтоб вы поняли, что на меня можно положиться. Но вас оно укрепит, вы мигом воспрянете духом. — Ах, да оставьте вы меня в покое! — крикнул Геррик и отвернулся. Капитан ухватил его за рукав, но Геррик сбросил руку капитана и стремительно, как одержимый, повернулся к нему. — Проваливайте в ад сами, как знаете! — крикнул он опять. И он снова рванулся прочь, на этот раз беспрепятственно, и очутился над тем местом, где внизу шлюпка терлась о борт, покачиваясь на волнах. Геррик огляделся. Угол надстройки закрывал его от глаз капитана, — тем лучше, никто не должен быть свидетелем его последнего поступка. Геррик бесшумно скользнул в шлюпку, оттуда — в звездную воду. Затем проплыл немного — остановиться он еще успеет. Очутившись в воде, он сразу отрезвел, в голове прояснилось. Перед его мысленным взором, как в панораме, предстали позорные события минувшего дня, и он возблагодарил богов, все равно каких, за то, что они открыли ему дверь к самоубийству. Совсем скоро он поставит точку, с никчемной жизнью будет покончено, блудный сын вернется домой. Прямо впереди светила очень яркая звезда, прочерчивая на воде четкую дорожку. Геррик выбрал звезду путеводной и поплыл по дорожке. Пусть звезда будет последним, на что он будет смотреть, — лучезарное пятнышко, которое незаметно превратилось в его воображении в некую Лапуту, где по галереям расхаживали мужчины и женщины с уродливыми и милостивыми лицами и взирали на него со сдержанным сочувствием. Присутствие этих воображаемых зрителей, их разговоры между собой принесли ему облегчение; они беседуют о нем, решил он, о нем и его несчастной участи. Этот полет фантазии оборвался, когда вода сделалась холоднее. Что он тянет? Сейчас, сразу, он опустит занавес, отыщет несказанный приют, ляжет вместе со всеми народами и поколениями в царстве сна. Легко сказать, легко сделать: надо только перестать двигать руками и ногами — ничего сложного, если только он сможет это сделать. Но сможет ли он? Нет! Это он понял вмиг. Тотчас же он почувствовал единодушное сопротивление всех частей организма. Они дружно, с упорством и одержимостью, цеплялись за жизнь — палец к пальцу, мускул к мускулу; сопротивление это как будто исходило от него самого и в то же время помимо него; это был он и не он, словно в мозгу его закрылся клапан, но достаточно одной мужественной мысли, чтобы его открыть. Однако Геррик ощущал власть не зависящей от него судьбы, неотвратимой, как сила тяготения. Любой человек порою испытывает чувство, будто во все закоулки его тела проник чуждый ему дух, что разум его восстал против него самого, что кто-то завладел им и ведет туда, куда он идти не хочет. Именно такое чувство испытал сейчас Геррик, притом со всей силой откровения. Путей избавления не было. Открывшаяся дверь захлопнулась из-за его малодушия. Ему остается вернуться в мир и жить без иллюзий. До конца своих дней он будет брести, сгибаясь под бременем ответственности и бесчестия, пока болезнь, случайная милосердная пуля или столь же милосердный палач не избавят его от позора. Есть люди, которые способны на самоубийство, и есть люди, которые на это не способны; он принадлежал к последним. С минуту в душе его царила сумятица, вызванная неожиданным открытием, затем наступила безрадостная уверенность, и, с небывалой простотой покорившись неизбежному, он поплыл к берегу. В этом решении было мужество, которого сам он в эту минуту, исполненный сознания своей постыдной трусости, оценить не мог. Он плыл вперед против течения, которое било ему в лицо, точно ветер, он боролся с ним устало, без воодушевления, однако ж заметно продвигался вперед, равнодушно отмечая свое продвижение по приближающимся силуэтам деревьев. Один раз у него мелькнула надежда: он услышал неподалеку, ближе к центру лагуны, тяжелый всплеск крупной рыбы, скорее всего акулы, и помедлил немного, приняв стоячее положение. “Не это ли желанный палач?” — подумал он. Но всплеск не повторился, снова наступила тишина. И Геррик снова двинулся к берегу, проклиная свой характер. Да, конечно, он подождал бы акулу… если бы только знал наверняка, что она приближается к нему. Он горько улыбнулся. Он готов был плюнуть себе в лицо, если бы мог… Около трех часов утра судьба, направление течения и правая рука Геррика, которая от рождения была сильнее левой, порешили между собой так, чтобы он вышел на берег как раз напротив дома Этуотера. Он сел на песок и без малейшего проблеска надежды в душе принялся размышлять о том, как жить дальше. Убогий скафандр самомнения был самым жалким образом прорван! До сих пор он обманывал и поддерживал себя в своих злоключениях мыслью о возможности самоубийства, о том, что у него всегда есть в запасе такой выход; теперь оказалось, что это всего лишь обман, небылица, легенда. Теперь он предвидел, чт ему всю остальную жизнь неумолимо предстоит быть распятым и пригвожденным к кресту железными стрелами собственной трусости. Он не плакал, не тешил больше себя притчами. Его отвращение к себе было настолько полным, что у него даже исчезла потребность в аллегориях, которые он раньше придумывал в свое извинение. Геррик чувствовал себя, как человек, которого сбросили с высоты и который переломал себе кости. Он лежал на песке и признавался себе во всем и даже не делал попытки подняться. Заря забрезжила на другом конце атолла, небо посветлело, облака окрасились в роскошные тона, ночные тени исчезли. И Геррик вдруг увидел, что лагуна и деревья снова оделись в свои дневные наряды, увидел, что на “Фараллоне” Дэвис гасит фонарь, а над камбузом подымается дымок. Несомненно, Дэвис заметил и узнал фигуру на берегу, но, впрочем, не сразу: он долго всматривался из-под руки, а потом ушел в каюту и вернулся с подзорной трубой. Труба была очень сильной, Геррик сам часто пользовался ею. Поэтому стыдливым жестом он непроизвольно закрыл лицо руками. — Так что же привело сюда мистера Геррика — Хэя или мистера Хэя-Геррика? — раздался голос Этуотера. — Вид со спины необычайно хорош, я бы не менял этого положения. Мы отлично поладим, сохранив наши позиции, а вот если вы обернетесь… Знаете, мне кажется, это создаст некоторую неловкость. Геррик медленно поднялся, сердце его тяжело стучало, он еле стоял на ногах от страшного возбуждения, но полностью владел собой. Он медленно повернулся и увидел Этуотера и мушку направленной на него винтовки. “Почему я не сдался ему вчера вечером?” — подумал он. — Почему же вы не стреляете? — сказал Геррик, и голос его дрогнул. Этуотер неторопливо сунул винтовку под мышку, а потом — руки в карманы. — Что вас привело сюда? — повторил он. — Не знаю, — ответил Геррик. И вслед за этим вскрикнул: — Помогите мне, сделайте со мной что-нибудь! — У вас есть оружие? — спросил Этуотер. — Я спрашиваю просто так, для соблюдения формы. — Оружие? Нет! — ответил Геррик. — Ах да, есть! И он швырнул на песок револьвер, с которого капала вода. — Вы промокли, — сказал Этуотер. — Да, я промок, — ответил Геррик. — Можете вы со мной что-нибудь сделать? Этуотер пристально вгляделся в его лицо. — Это в значительной степени зависит от того, что вы собой представляете, — сказал он. — Что? Я трус! — Это вряд ли исправимо, — возразил Этуотер. — И все же, мне кажется, характеристику нельзя назвать исчерпывающей. — Не все ли равно? — воскликнул Геррик. — Вот я здесь. Я — черепки посуды, разбитой вдребезги, я — лопнувший барабан, жизнь ушла из меня, я больше в себя не верю, я испытываю безнадежное отвращение к себе. Почему я пришел к вам? Не знаю. Вы жестокий, бессердечный, неприятный человек. Я ненавижу вас или, может быть, думаю, что ненавижу. Но вы честный, порядочный человек. Я отдаю себя, растерянного, в ваши руки. Что мне делать? Если я ни на что негоден, явите милосердие, всадите в меня пулю, считайте, что перед вами пес со сломанной лапой. — На вашем месте я подобрал бы револьвер, пошел в дом и переоделся в сухое, — сказал Этуотер. — Вы в самом деле так считаете? — спросил Геррик. — Вы знаете, ведь они… мы… они… Впрочем, вам известно все. — Мне известно вполне достаточно, — заключил Этуотер. — Пойдемте в дом. И капитан увидел с “Фараллоны”, как двое скрылись под сенью пальмовой рощи.ГЛАВА 11 ДАВИД И ГОЛИАФ
Хьюиш сидел лицом к надстройке, согнув колени и съежившись, чтобы уберечься от слепящего солнца. В легкой тропической одежде он казался жалким костлявым цыпленком; Дэвис примостился на перилах, обхватил столб рукой и сумрачно рассматривал Хьюиша, размышляя, каким советником окажется это ничтожество. Ибо теперь, когда Геррик покинул его и перешел на сторону врага, один Хьюиш во всем мире остался его единственным помощником и оракулом. С замирающим сердцем оценивал он создавшееся положение: судно их краденое; припасов — неважно из-за чего: из-за первоначальной ли беспечности или из-за расточительности во время путешествия — могло хватить единственно на то, чтобы добраться обратно до Папеэте, а там их ждала кара в лице жандарма, судьи в диковинной шляпе и ужасов далекой Нумеи. Там надеяться было не на что. Здесь же, на острове, они разбудили дракона: Этуотер со своими людьми и винчестерами охраняет дом, — пусть-ка осмелится кто-нибудь приблизиться к нему! Что же делать? Остается только бездействовать, шагать по палубе и ждать, когда придет “Тринити Холл” и их закуют в кандалы или когда выйдет вся пища и начнутся муки голода. К прибытию “Тринити Холл” Дэвис был готов: он забаррикадирует надстройку и умрет, защищаясь, как крыса в щели. Но что касается голода… Неужто таков будет кошмарный конец путешествия, в которое он пустился всего две недели назад с самыми радужными ожиданиями? Судно будет гнить на якоре, а команда бродить и подыхать в шпигатах. Нет, любой риск лучше этой гнусной неизбежности; уж лучше действительно сняться с якоря, пуститься куда глаза глядят, и пусть даже достаться людоедам на самом безвестном из островов Туамото. Дэвис быстро обвел взглядом море и небо в надежде увидеть признаки ветра, но источники пассатов, должно быть, иссякли. Там, где вчера и много недель назад по ревущей синей небесной реке ветер гнал облака, сейчас царила тишина. На выстроившихся по обе стороны от капитана рядах золотых, зеленых и серебристых пальм не шевелились даже самые легкие листы. Они склонялись к своему неподвижному отражению в лагуне, словно вырезанные из металла, а вокруг длинной шеренги пальм уже начинал колыхаться жар. Ни сегодня, ни завтра на избавление надеяться нечего. А запасы тем временем убывают… И тут из глубины души Дэвиса или, вернее, из глубины воспоминаний детства поднялась и нахлынула на него волна суеверия. В наступившей полосе невезения есть что-то сверхъестественное. Обычно во всякой игре больше разнообразия. А тут словно дьявол вмешивается. Дьявол? Он опять услышал чистый звук колокольчика, растворившийся в ночной тишине. А что, если это бог?.. Он заставил себя отвлечься от этих мыслей. Этуотер — вот его ближайшая цель. У Этуотера есть провизия, есть жемчуг, а это означает спасение в настоящем и богатство в будущем. Они еще схватятся с Этуотером, и тот должен погибнуть. Лицо капитана запылало, глаза застлала пелена, когда он вспомнил, какую жалкую, бессильную фигуру представлял он собой накануне вечером, какие презрительные слова он вынужден был сносить молча. Гнев, стыд, жажда жизни — все указывало ему один путь. Оставалось только придумать способ, как подобраться к Этуотеру. Хватит ли у него сил? Можно ли ждать помощи от этого ублюдка, этого мешка с костями, сидящего на палубе? Глаза Дэвиса с жадным вниманием устремились на спящего, будто ему хотелось заглянуть в его душу, и сразу же тот беспокойно шевельнулся, неожиданно повернул голову и, щурясь, посмотрел на Дэвиса. Дэвис продолжал мрачно и испытующе смотреть на него, и тот отвел взгляд и сел. — Ух, как голова трещит! — сказал он. — Кажется, я вчера порядком нагрузился. А где эта плакса Геррик? — Ушел, — ответил капитан. — На берег? Вот оно как! Что ж, я и сам бы не прочь. — Неужели? — проговорил капитан. — Ей-ей. Мне Этуотер нравится. Он — парень что надо. Когда вы убрались, мы с ним поболтали душа в душу. А херес один чего стоит! Что твое амонтильядо! Хотел бы я сейчас его глотнуть… — Хьюиш вздохнул. — Больше ты его ни капли на получишь, так и знай, — угрюмо произнес Дэвис. — Эге, какая вас муха укусила, Дэвис? Не протрезвились, что ли? Поглядите на меня! Я ведь не брюзжу. Я весел, как канарейка. — Да, — сказал Дэвис, — ты весел, это я вижу. Ты и вчера веселился и, говорят, чертовски недурное представление разыграл, чертовски недурное… — Чего вы там несете? Какое еще представление? — насторожился Хьюиш. — Хорошо же, я тебе расскажу, — проговорил капитан, медленно слезая с перил. И он рассказал со всеми подробностями, не упуская ни одного обидного эпитета, ни одной унизительной детали, повторяя, акцентируя свои ядовитые слова. Он положил самолюбие, свое и Хьюиша, на горячие уголья и поджаривал безжалостно. Он причинял своей жертве муки унижения и сам их испытывал. Это был образец сардонической речи простого, неученого человека. — Что вы об этом думаете? — спросил он, кончив, и посмотрел вниз на Хьюиша, притихшего и смущенного, но презрительно усмехающегося. — Сейчас скажу, что я думаю, — последовал ответ, — я думаю, что мы с вами сваляли дурака. — Вот именно, — сказал Дэвис. — Самым безмозглым образом сваляли, черт побери! Я хочу увидеть этого человека передо мной на коленях. — Ха! — сказал Хьюиш. — А как это сделать? — В этом и загвоздка! — воскликнул Дэвис. — Как его взять? Их четверо, а нас двое, хотя среди них в счет идет только один — Этуотер. Стоит покончить с Этуотером, и все остальные пустятся наутек и закудахчут, как испуганные курицы, а старина Геррик приползет с протянутой рукой за своей долей жемчуга. Да, сэр! Вопрос в том, как добраться до Этуотера. Мы даже на берег сойти не можем: он пристрелит нас в людке, как собак. — Вам все равно, живой он будет или мертвый? — спросил Хьюиш. — Предпочитаю мертвого, — ответил капитан. — Ага, ладно, — сказал Хьюиш, — теперь я, пожалуй, пойду перекушу. И он скрылся в кают-компании. Капитан с угрюмым видом последовал за ним. — Что это значит? — спросил он. — Что вы там задумали? — Отвяжитесь вы от меня, слышите?! — огрызнулся Хьюиш, откупоривая бутылку шампанского. — Придет время — узнаете. Обождите, пока я опохмелюсь. — Он выпил стакан и сделал вид, будто прислушивается. — Ага! — сказал он. — Слышно, как шипит! Будто сало жарится, ей-ей! Выпейте стаканчик и глядите веселей! — Нет! — сказал капитан с силой. — Нет, не стану. Дело прежде всего. — Как хотите, было бы предложено, старина. С моей стороны просто стыдно портить вам завтрак из-за какой-то давно потопленной посудины. С преувеличенной неторопливостью он дососал бутылку и похрустел сухарем, в то время как капитан, сидя напротив, буквально грыз удила от нетерпения. Наконец Хьюиш оперся локтями о стол и взглянул Дэвису в лицо. — Ну вот, к вашим услугам! — объявил он. — Выкладывайте, что вы придумали, — со вздохом проговорил Дэвис. — Сперва вы. Играем честно! — возразил Хьюиш. — Беда в том, что ничего я не придумал. — И Дэвис пустился в бессмысленные описания трудностей на их пути и ненужные объяснения по поводу собственного фиаско. — Кончили? — спросил Хьюиш. — Молчу, — отозвался Дэвис. — Так! А теперь, — сказал Хьюиш, — дайте мне руку и повторяйте за мной: “Пусть поразит меня бог, если я вас не поддержу”. Голос его прозвучал не громче обычного, но он заставил капитана задрожать. Лицо клерка дышало коварством, и капитан отпрянул, как от удара. — Зачем это? — спросил он. — На счастье, — ответил Хьюиш. — Требуются прочные гарантии. Он продолжал тянуть руку. — Не вижу проку от такого дурачества, — сказал Дэвис. — А я вижу. Давайте руку и говорите слова, тогда услышите мой план; не дадите — не услышите. Тяжело дыша и глядя на клерка страдальческим взглядом, капитан проделал требуемую церемонию. Чего он боялся, он и сам не знал, и тем не менее рабски боялся тех слов, которые вот-вот должны были сорваться с бледных губ клерка. — А теперь, с вашего позволения, — проговорил Хьюиш, — я отлучусь на полминуты и принесу малютку. — Малютку? — переспросил Дэвис. — Это что? — Стекло. Осторожно. Не кантовать, — ответил, подмигивая, клерк и исчез. Он тут же вернулся, самодовольно улыбаясь, неся в руке что-то завернутое в шелковый платок. По лбу Дэвиса разбежались морщины глупого удивления. Что бы это такое скрывалось в платке? В голову ему не пришло ничего, кроме револьвера. Хьюиш занял прежнее место. — Ну, так берете вы на себя Геррика и черномазых? А уж я позабочусь об Этуотере. — Как? — воскликнул Дэвис. — Вам же не удастся! — Но-но, — отозвался клерк. — Не торопитесь, сейчас увидите. Первым делом — что? Первым делом надо высадиться, а это, я вам скажу, самое трудное. Но как насчет флага перемирия? Как вы думаете, пройдет этот номер? Или Этуотер застрелит нас прямо в шлюпке и не поморщится? — Нет, — сказал Дэвис, — не думаю, чтобы он так поступил. — Я тоже не думаю, — продолжал Хьюиш. — Мне что-то не верится, чтобы он так поступил, я прямо-таки уверен, что не поступит! Значит, мы высаживаемся на берег. Вопрос второй: как взять нужное направление? Для этого вы напишете письмо: вам, дескать, стыдно смотреть ему в глаза и потому податель письма, мистер Джи Эл Хьюиш, уполномочен представлять вас. Вооруженный таким с виду простым средством, мистер Джи Эл Хьюиш приступит к делу. Он умолк, как будто высказался до конца, но не спускал глаз с Дэвиса. — Как? — спросил Дэвис. — И почему вы? — Ну, видите ли, вы человек рослый, он знает, что у вас при себе револьвер, а всякий, глядя на вас, сразу смекнет, что вы пустите его в ход без долгих колебаний. Значит, о вас речи нет и быть не может, вы из игры выпадаете, Дэвис. Но меня он не побоится: я ведь такой замухрышка! Оружия на мне нет, тут все без обмана, и я буду держать руки кверху честь по чести… — Хьюиш помолчал. — Если за время переговоров мне удастся подобраться к нему поближе, будьте начеку и вступайте в игру без промашки. Если не удастся, то мы отправляемся восвояси и игра окончена. Ясно? Лицо капитана выражало мучительные усилия ухватить смысл. — Нет, не ясно! — воскликнул он. — Понять не могу, к чему вы ведете. — К тому, чтоб отомстить этой сволочи! — выкрикнул Хьюиш в порыве злобного торжества. — Я свалю эту вредную скотину! Он меня по-всякому вышучивал, зато теперь я сыграю отменную шутку! — Какую? — почти шепотом спросил капитан. — А вы и вправду хотите знать? — спросил Хьюиш. Дэвис поднялся и сделал круг по каюте. — Да, хочу, — ответил он наконец с усилием. — Когда вас припрут к стенке, вы ведь сопротивляетесь, как только можете, правда? — начал клерк. — Я это к тому, что на этот счет существует предубеждение: считают, видите ли, это недостойным, ужас каким недостойным! — При этих словах он развернул платок и показал пузырек примерно в четыре унции. — Тут серная кислота. Вот тут что, — сказал он. Капитан уставился на него с побелевшим лицом. — Да, это та самая штука, — продолжал клерк, подняв пузырек, — что прожигает до кости. Увидите — он задымится, как в адском огне. Одна капля в его подлые глаза, и прости-прощай Этуотер. — Нет, нет, ни за что! — воскликнул капитан. — Слушайте-ка, голубок, — сказал Хьюиш, — кажется, мы договорились? Это мой праздник. Я подойду к нему в одиночку, вот так. В нем семь футов росту, а во мне пять. У него в руках винтовка, он настороже, и он не вчера родился. Давид и Голиаф — вот мы с ним кто! Если б я еще попросил вас к нему подойти и расхлебывать кашу, тогда я понимаю. Но я и не думаю вас просить. Я только прошу смотреть в оба и расправиться с черномазыми. Все пойдет как по маслу, сами увидите! Не успеете оглянуться, как он будет бегать и выть, как полоумный. — Не надо! — умоляюще остановил его Дэвис. — Не говорите про это! — Ну и олух же вы! — воскликнул Хьюиш. — А сами-то вы чего хотели? Убить его хотели и пытались убить вчера вечером. Вы их всех хотели поубивать и пытались это сделать, так я же вас и учу теперь, как это сделать. И только оттого, что в пузырьке у меня немножко лекарства, вы поднимаете такой шум! — Да, наверно, дело именно в этом, — сказал Дэвис. — Может, я и неправ, но только никуда от этого не денешься. — Медицина, значит, вас напугала, — насмешливо фыркнул Хьюиш. — Уж не знаю, в чем тут штука, — ответил Дэвис, меряя шагами каюту, — но это так! Я пасую. Не могу участвовать в такой подлости. Чересчур для меня гнусно! — А когда, значит, вы берете револьвер и кусочек свинца и вышибаете человеку мозги, то для вас это сплошное удовольствие? На вкус, на цвет… — Глупость — не отрицаю, — проговорил капитан, — но что-то мне мешает вот тут, внутри меня. Согласен, проклятая глупость. Не спорю. Просто пасую. А нет ли все-таки другого способа? — Думайте сами, — ответил Хьюиш. — Я за свое не держусь. Не воображайте, будто я гонюсь за славой, разыгрывать главаря мне ни к чему. Мое дело предложить. Не можете придумать ничего лучше — побожусь, я возьму все в свои руки! — Но риск-то какой! — умоляюще произнес Дэвис. — Если хотите знать мое мнение, то у нас верных семь шансов против одного, да и пари-то держать не с кем. Но это мое мнение, голубок, а я отчаянный. Поглядите на меня получше, Дэвис, я робеть не буду. Я отчаянный, говорю вам, насквозь отчаянный. Капитан поглядел на него. Хьюиш сидел напротив; он сейчас упивался своим зловещим бахвальством, щеголял искушенностью в грехе; гнусная отвага, готовность на любую подлость так и светилась в нем, как свеча в фонаре. Страх и подобие уважения к нему, несмотря ни на что, охватили Дэвиса. До сих пор клерк вечно отлынивал, оставался безучастным, равнодушным, огрызался на любую просьбу что-то сделать. А тут, словно по мановению волшебной палочки, он превратился в подтянутого, энергичного человека, с излучающим решимость лицом. Дэвис сам разбудил в нем дьявола и теперь спрашивал себя: кто усмирит его? И сердце у него упало. — Глядите сколько влезет, — продолжал Хьюиш, — страху у меня в глазах не найдете. Этуотера я не боюсь, и вас не боюсь, и всяких слов не боюсь. Вам охота их убить — это у вас на лице написано. Но вам охота сделать это в лайковых перчатках, а из этого ничего не выйдет. Что и говорить: убивать неблагородно, убивать трудно, убивать опасно, тут нужен настоящий мужчина. Вот он перед вами… — Хьюиш! — начал капитан решительно и осекся и застыл с нахмуренным лбом. — Ну, что там, выкладывайте! — подбодрил его Хьюиш. — Что-нибудь надумали? Другой способ нашли? Капитан промолчал. — То-то и оно! — пожав плечами, сказал Хьюиш. Дэвис снова принялся вышагивать. — Ходите, как часовой, пока не посинеете, все равно лучше ничего не придумаете, — торжествующе объявил Хьюиш. Наступило короткое молчание. Капитана, точно на качелях, кидало до головокружения из одной крайности в другую — от согласия к отказу. — Но все-таки, — сказал он, вдруг останавливаясь, — сможете вы это сделать? II вообще можно это сделать? Это… это ведь не легко. — Если мне удастся подойти к нему на двадцать футов, считайте, что дело в шляпе, и тут уж не теряйтесь, — ответил Хьюиш с абсолютной уверенностью. — Да откуда вы знаете? — вырвался у капитана сдавленный крик. — Ах вы, бестия, вы, наверно, проделывали это раньше? — Это уже мое личное дело, — отрезал Хьюиш. — Я не из болтливых. Капитана затрясло от омерзения. И может быть, капитан бросился бы на Хьюиша, оторвал от пола, снова бросил оземь и таскал бы его по каюте с исступлением, которое было бы отчасти оправданно. Но миг был упущен, бесплодный кризис оставил капитана без сил. На карту ставилось так много: с одной стороны — жемчуг, с другой — нищета и позор. Десять лет сборов жемчуга! Воображение Дэвиса перенесло его в другую, новую жизнь для него и его семьи. Местожительством их станет теперь Лондон — против Портленда в штате Мэн. Он видел, как его мальчики шагают в школьной процессии в форменной одежде, их ведет младший учитель и читает по дороге большую книгу. Дэвисы поселились в загородном доме на две семьи; на воротах надпись “Розовый уголок”. Сам он сидит в кресле, стоящем на гравиевой дорожке, курит сигарету, в петлице у него голубая ленточка Ордена Подвязки, — он победитель, победитель, победивший самого себя, обстоятельства и злоумышленных банкиров. Дэвис видел гостиную с красными портьерами и раковинами на каминной полке, а сам он — о восхитительная непоследовательность видений! — мешает грог у стола красного дерева перед отходом ко сну. На этом месте видений “Фараллона” сделала одно из тех необъяснимых движений, которые (даже на судне, стоящем на якоре, и даже в самый глубокий штиль) напоминают о непостоянстве жидкостей, и Дэвис вдруг опять очутился в кают-компании. Неистовый солнечный свет прорывался в щели, осаждая ее со всех сторон, а клерк в весьма беззаботной позе ждал его решения. Капитан снова принялся ходить. Он жаждал осуществления своих грез, как лошадь, которая ржет, завидев воду; жажда эта сжигала его нутро. Сейчас единственным препятствием был Этуотер, который оскорбил его в первую же минуту знакомства. Геррику Дэвис отдаст всю его долю жемчуга, он настоит на этом. Хьюиш, конечно, будет противиться, но капитан подавит его сопротивление, — он уже превозносил себя за это до небес. Сам ведь он не собирается пускать в ход серную кислоту, но Хьюишу он не нянька. Жаль, что так приходится, но в конце концов… Ему снова представились его мальчики в школьной процессии, в форме, которая издавна казалась ему такой аристократической… В груди у него с новой силой забушевало сжигавшее его пламя невыносимого позора, пережитого накануне. — Делайте как хотите! — хрипло сказал он. — Эх, я так и знал, что вы поломаетесь, да согласитесь, — сказал Хьюиш. — Теперь за письмо. Вот вам бумага, перо и чернила. Садитесь, я буду диктовать. Капитан покорно сел, взял перо и беспомощно посмотрел на бумагу, потом перевел взгляд на Хьюиша. Качели качнулись в другую сторону — глаза его подернулись влагой. — Страшное это дело, — сказал он, передернувшись всем телом. — Да, не цветочки собирать, — отозвался Хьюиш. — Макайте перо. “Вильяму Джону Этуотеру, эсквайру. Сэр…” — начал он диктовать. — Откуда вы знаете, что его зовут Вильям Джон? — спросил Дэвис. — Видел на упаковочном ящике. Написали? — Нет, — ответил Дэвис. — Еще один вопрос: что именно мы будем писать? — А-а, мать честная! — раздраженно воскликнул Хьюиш. — Да что вы за человек такой? Я, я буду вам говорить, что писать, это уж моя забота, а вы сделайте такое снисхождение, пишите, черт возьми! “Вильяму Джону Этуотеру, эсквайру. Сэр…” — повторил он. Капитан наконец начал почти бессознательно водить пером, и диктовка продолжалась: — “С чувством стыда и искреннего раскаяния обращаюсь к вам после оскорбительных явлений вчерашнего вечера. Наш м-р Геррик покинул судно и несомненно сообщил вам содержание наших надежд. Нечего и говорить, мы их больше не питаем: судьба объявила нам войну, и мы склоняем голову. Уважая ваше полное право мне не доверять, я не осмеливаюсь надеяться на одолжение личной встречи, но, чтобы положить конец позиции, равномерно неприятной для всех, я уполномочил моего друга и компаньона м-ра Джи Эл Хьюиша изложить вам мои предположения, которые благодаря скромности заслуживают вашего всестороннего внимания. М-р Джи Эл Хьюиш полностью обезоружен и — клянусь богом! — будет держать руки над головой по мере своего приближения. Остаюсь ваш преданный слуга Джон Дэвис”. Хьюиш, посмеиваясь, перечел письмо с невинной радостью дилетанта, сложил его, потом развернул несколько раз и снова сложил, желая продлить удовольствие. Тем временем Дэвис сидел неподвижно, мрачно насупившись. Неожиданно он вскочил. Казалось, он совершенно потерял голову. — Нет! — завопил он. — Нет, невозможно! Это уже слишком, нам не избежать проклятия. Бог такого ни за что не простит! — Не простит — и не надо, — возразил Хьюиш пронзительным от гнева голосом. — Вы уже давным-давно прокляты за “Морского скитальца”, сами говорили. Ну, так будете прокляты еще разок, и заткнитесь! Капитан посмотрел на него потухшим взглядом. — Нет, — умолял он, — не надо, дружище! Не делайте этого. — Ладно, — оборвал его Хьюиш. — Говорю вам в последний раз. Хотите — идите, хотите — оставайтесь. Я все равно отправлюсь туда, чтобы плеснуть этому гаду в глаза серной кислоты. Останетесь здесь — я пойду один. Черномазые, наверно, меня прихлопнут, вот тогда будете знать! Но так или иначе, а я больше не желаю слушать ваше идиотское слюнявое нытье, зарубите это себе на носу! Капитан выслушал все молча, только мигнул и с усилием глотнул. Голос памяти призрачным эхом повторил ему то, что сам он когда-то, казалось сто лет назад, говорил Геррику. — Ну, давайте сюда ваш револьвер! — скомандовал Хьюиш. — Я сам проверю, чтоб все было в порядке. Помните — шесть выстрелов, и ни одного зря. Капитан замедленным движением, как в кошмарном сне, выложил револьвер на стол. Хьюиш протер патроны и смазал барабан. Время близилось к полудню, не было ни малейшего ветерка, жара сделалась почти невыносимой, когда эти двое появились на палубе, послали в шлюпку гребцов, а потом заняли свои места. Белая рубаха на конце весла служила флагом перемирия, и по их приказанию матросы, дабы шлюпку успели заметить с берега, принялись грести необычайно медленно. Раскаленный остров трепетал перед их глазами; многочисленные медно-красные солнца, не больше шестипенсовиков, плясали на поверхности лагуны и слепили их. От песка, от воды, даже от шлюпки исходил нестерпимо яркий блеск. Но оттого, что вдаль они могли глядеть только сильно прищурившись, изобилие света словно превратилось в зловещую предгрозовую тьму. Капитан взялся за это страшное дело по разным причинам, но менее всего движимый желанием, чтобы экспедиция завершилась успешно. Суеверию подвластны все люди, а такими невежественными, грубыми натурами, как капитан Дэвис, оно правит безраздельно. На убийство он был готов, но ужас перед снадобьем в пузырьке затмевал все, и ему казалось, что рвутся последние нити, связывающие его с богом. Шлюпка несла его навстречу проклятию, осуждению навечно; он покорился и молча прощался с тем лучшим, что в нем было. Хьюиш, сидевший рядом, пребывал, однако, в весьма приподнятом настроении, которое отчасти было напускным. Как ни был он храбр, мы бы сказали — храбростью мелкого хищника, ему все время требовалось подбадривать себя интонациями собственного голоса, оскорблять все, достойное уважения, бросать вызов всему значительному, требовалось лезть вон из кожи, чтобы переродить ирода в какой-то отчаянной браваде перед самим собой. — Ну и жарища, мать честная! — говорил он. — Адова жарища. Ничего себе, подходящий денек, чтобы окочуриться! Слушайте, ведь чертовски забавно быть укокошенным в такой день. Я бы предпочел загнуться в холодное морозное утро, а вы? (Поет.) “Мы водим, водим хоровод холодным зимним утром”. Честное слово, я не вспоминал эту песню лет этак десять. Я ее пел, бывало, в школе в Хэкни, Хэкни Уик. (Поет.) “Портной, он делает вот так, он делает вот так”. (Снова говорит.) Чушь собачья! Ну, а что вы думаете насчет будущего? Что вам больше по нраву: райские чаепития либо адское пламя? — Заткнитесь! — ответил капитан. — Нет, я правда хочу знать, — настаивал Хьюиш, — это для нас с вами очень важно, старина. Практическое руководство к действию. Нас с вами через десять минут могут укокошить: одного отправят в рай, другого в ад. Вот отменная будет шутка, если вы возьмете и вынырнете с улыбочкой из-за облаков, и ангел вас встретит с бутылкой виски с содовой под крылышком. “Хэлло, — говорите вы, — давайте ее сюда, я с удовольствием”. Капитан застонал. Пока Хьюиш храбрился и кривлялся, спутник его был погружен в молитву. О чем он молился? Бог знает. Однако из глубины его противоречивой, неразумной, взбудораженной души — потоком изливалась молитва, несуразная, как он сам, но прямая и суровая, как смерть, как приговор. — “Ты видишь мя, господи…” — продолжал Хьюиш. — Помнится, так было написано в моей Библии. И Библию помню, все-то там про Аминадава[178] и прочих людишек. Да, господи! — обратился он к небу. — Сейчас у тебя глаза на лоб полезут, обещаю тебе! Капитан рванулся к нему. — Без богохульства! — закричал он. — Я не потерплю богохульства у себя в шлюпке! — Ладно, кэп, — отозвался Хьюиш. — Как вам угодно. Какую закажете новую тему: дождемер, громоотвод или музыкальные стаканы? Любой разговор наготове: суньте монету в щель и… Эй! Вон они! — закричал он вдруг. — Ну, теперь или никогда! Что он, стрелять, что ли, собирается? И плюгавенький Хьюиш выпрямился, принял настороженную лихую позу и вперил взгляд в противника. Но капитан приподнялся, и глаза его вылезли из орбит. — Что это такое? — воскликнул он. — Где? — вопросил Хьюиш. — Вон те анафемские штуки, — запинаясь, проговорил капитан. На берегу и в самом деле возникло что-то странное. Из рощи позади корабельной статуи показались Геррик и Этуотер, вооруженные винчестерами, а по обе стороны от них солнце сверкало на двух металлических предметах. Они занимали место голов га туловищах загадочных существ, которые передвигались, как люди, но лиц у них не было. Дэвису в его взвинченном состоянии почудилось, будто его мистические опасения стали явью, и Тофет[179] изрыгает демонов. Но Хьюиш ни на минуту не был введен в заблуждение. — Да это водолазные шлемы, олух вы этакий! Не видите, что ли? — И впрямь шлемы, — выдохнул Дэвис. — А зачем? А-а, понимаю, вместо брони. — А я что вам говорил? — сказал Хьюиш. — В точности Давид и Голиаф. Два туземца (ибо именно они были наряжены в столь оригинальные доспехи) разошлись в стороны и потом улеглись в тени на крайних флангах. Даже теперь, когда загадка разъяснилась, Дэвис все еще в смятении не сводил глаз со шлемов, на которых играло солнце, на момент забыл, но потом опять с улыбкой облегчения вспомнил объяснение загадки. Этуотер скрылся в роще, а Геррик с винтовкой под мышкой направился к пирсу один. Примерно на полпути он замедлил шаг и окликнул шлюпку: — Что вам надо? — Это я скажу мистеру Этуотеру, — ответил Хьюиш, проворно ступая на трап. — А не вам, потому что вы подхалим и ябеда. Вот, передайте ему письмо, держите и проваливайте ко всем чертям. — Дэвис, тут без подвоха? — спросил Геррик. Дэвис задрал подбородок, бросил искоса быстрый взгляд на Геррика и снова отвернулся, но не произнес ни слова. В глазах его заметно было волнение, но была ли причиной тому ненависть или страх — Геррик угадать не мог. — Хорошо, — сказал он наконец, — передам. — Он провел ногой черту на досках причала. — Пока я не вернусь с ответом, дальше этой черты не заходить. Он направился туда, где, прислонившись к дереву, стоял Этуотер, и вручил письмо. Этуотер быстро пробежал его. — Что это означает? — спросил он, передавая письмо Геррику. — Вероломство? — О да, не сомневаюсь! — ответил Геррик. — Что ж, пусть идет сюда. Даром, что ли, я фаталист. Велите ему подойти, но соблюдать благоразумие. Геррик пошел назад. Клерк с Дэвисом ждали его на середине пирса… — Можете идти, Хьюиш, — сказал Геррик. — Но он предупреждает — никаких фокусов. Хьюиш живо двинулся вперед и остановился, дойдя до Геррика. — Где он там? — спросил он, и, к удивлению Геррика, его мелкое невыразительное личико вдруг вспыхнуло и опять побледнело. — Прямо и вперед, — кивнув, ответил Геррик. — Подымайте-ка руки вверх. Клерк повернулся и стремительно сделал шаг к статуе, словно желая принести какие-то молитвы, потом глубоко вздохнул и поднял руки. Как это часто бывает у людей невзрачной наружности, руки у Хьюиша были непропорционально длинные и широкие, особенно в кисти, поэтому маленький пузырек без труда уместился в его объемистом кулаке. В следующую минуту он шагал к своей цели. Геррик тронулся было за ним. Но шум позади испугал его, он обернулся и увидел, что Дэвис уже передвинулся до статуи. Дэвис пробирался, пригнувшись, приоткрыв рот, как загипнотизированный следует за гипнотизером. Всякие естественные человеческие соображения, даже просто боязнь за свою жизнь — всё поглотило захлестывающее животное любопытство. — Стойте! — крикнул Геррик, наводя на него винчестер. — Дэвис, что вы делаете? Вам-то не велено двигаться. Дэвис автоматически повиновался и обратил на Геррика до ужаса бессмысленный взгляд. — Станьте спиной к статуе, слышите? Живо! — продолжал Геррик. Капитан перевел дух, отступил, прижался спиной к статуе и тут же снова устремил глаза вслед Хьюишу. Как раз в этом месте в песке образовалась ложбина, а дальше, как продолжение этой ложбины, в глубь кокосовой рощи уходила просека, которую прямые лучи полуденного солнца освещали с немилосердной яркостью. В самом конце просеки в тени виднелась высокая фигура Этуотера, прислонившегося к дереву, и туда-то, подняв руки, утопая в песке, с трудом ковылял клерк. Слепящий блеск вокруг подчеркивал и преувеличивал невзрачность Хьюиша; он казался не опаснее щенка, задумавшего брать штурмом цитадель. — Стоп, мистер Хювиш! Достаточно! — крикнул Этуотер. — С этого расстояния, причем не опуская рук, вы прелестно можете ознакомить меня с планами вашего командира. Расстояние между ними составляло каких-нибудь футов сорок; Хьюиш измерил его на глазок и тихо выругался. Он совсем уже выдохся, пока тащился по глубокому песку; руки у него затекли от неестественного положения. В правом кулаке он держал наготове пузырек, и, когда он заговорил, сердце его прыгало и голос прерывался. — Мистер Этуотер, — начал он, — если у вас была когда-нибудь родная матушка… — Могу вас на этот счет успокоить, — прервал его Этуотер, — была, и я позволю себе предложить, чтобы впредь в нашей беседе ее имя не упоминалось. Следует, пожалуй, вас предупредить, что патетикой меня не проймешь. — Прошу прощения, сэр, если я злоупотребил вашими чувствами, — угодливо проговорил клерк, съеживаясь и делая незаметно шаг вперед. — По крайности, сэр, вам меня никогда не убедить, будто вы не настоящий джентльмен — джентльмена я сразу распознаю, поэтому без колебаний предаю себя вашему милостивому вниманию. Мне, конечно, нелегко… Ведь нелегко признать, что ты побежден, нелегко прийти и просить о милосердии. — Еще бы, когда, обернись все по-иному, весь остров мог бы стать вашей собственностью, — закончил Этуотер. — Вполне понимаю ваши чувства. — Видит бог, мистер Этуотер, — проговорил клерк, — вы меня строго судите, и судите несправедливо! “Ты видишь мя, господи!” — так было написано у меня в Библии… Эту надпись сделал мой отец собственной рукой на чистом переднем листе… — Очень сожалею, что еще раз вынужден прервать вас, — вставил Этуотер, — по-моему, вы сейчас находитесь несколько ближе ко мне, чем раньше, а это не входит в нашу сделку. Осмелюсь предложить вам отступить на два—три шага и там остаться. При этом предложении, которое опрокидывало все расчеты Хьюиша, из глаз его глянул дьявол, и Этуотер мгновенно что-то заподозрил. Он нахмурился, устремил задумчивый взгляд на стоящего перед ним замухрышку и начал быстро соображать, зачем ему понадобилось подкрадываться ближе. Еще секунда — и он приложил винтовку к плечу. — Извольте разжать пальцы, шире, шире, растопырь пальцы, мерзавец, брось, что ты там держишь! — загремел Этуотер, когда уверенность его и гнев созрели одновременно. И тут неукротимый Хьюиш решил бросить пузырек, а Этуотер почти в тот же самый момент спустил курок. Между двумя их движениями едва ли прошла секунда, но она оказалась решающей в пользу человека с винчестером: пузырек еще был в руке у Хьюиша, когда пуля раздробила и руку и пузырек. Жидкость выплеснулась на Хьюиша, какое-то мгновение несчастный терпел муки ада, визжа, как сумасшедший, затем вторая, более милосердная, пуля повергла его наземь мертвым Все произошло молниеносно. Не успел Геррик обернуться, не успел Дэвис в ужасе вскрикнуть, как клерк уже лежал на песке, разбросав руки, дергаясь в конвульсиях. Этуотер подбежал к трупу, нагнулся, разглядывая его, потом тронул пальцем каплю жидкости, и лицо его побелело и стало жестоким. Дэвис так и не двинулся с места; он стоял, как пригвожденный к статуе, вцепившись в нее руками позади себя, наклонившись вперед. Этуотер не спеша повернулся и прицелился в него. — Дэвис! — крикнул он, и голос его зазвучал, как труба. — Даю вам шестьдесят секунд, чтобы уладить свои дела с богом! Дэвис взглянул на него и как будто очнулся. Он и не думал о том, чтобы защищаться, он не потянулся за револьвером. С раздувающимися ноздрями он выпрямился, чтобы встретить смерть достойно. — Сдается мне, не стоит его тревожить, — сказал он. — Если сообразить, зачем я сюда пожаловал, пожалуй, лучше будет просто закрыть лицо. Этуотер выстрелил — жертва непроизвольно дернулась, и над самой головой Дэвиса возникла черная дыра, пятнающая белизну статуи. Страшная пауза, затем еще выстрел, удар и резкий визг пули о дерево. На этот раз капитан почувствовал, как пуля просвистела мимо щеки. Третий выстрел, и одно ухо у него окрасилось кровью. А из-за винтовки, точно краснокожий, скалился Этуотер. Дэвис понял теперь, какую роль ему отвели в жестокой игре. Трижды его коснулась смерть, и ему предстояло испить чашу еще семь раз, прежде чем его отправят на тот свет. Он поднял руку. — Стойте! — крикнул он. — Я беру ваши шестьдесят секунд! — Отлично! — ответил Этуотер. Капитан крепко, как ребенок, зажмурил глаза и поднял кверху руки смешным и в то же время трагическим жестом. — Господи, Христа ради позаботься о моих ребятишках… — И, помолчав, с запинкой: — Христа ради, аминь… Он открыл глаза и посмотрел прямо в дуло. Губы его задрожали. — Только не мучайте меня долго! — умоляюще попросил он. — И это вся ваша молитва? — спросил Этуотер, и голос его странно зазвенел. — Пожалуй, что да, — сказал Дэвис. — Да? — повторил Этуотер, ставя винтовку прикладом на песок. — Вы кончили? Вы свели счеты с богом? Ибо со мной вы уже свели. Идите и не грешите больше, многогрешный отец семейства. И помните: какое бы зло вы ни причинили другим, господь покарает за это сторицей ваших невинных младенцев. Несчастный Дэвис, шатаясь, сделал несколько шагов вперед, упал на колени, взмахнул руками и рухнул в обмороке. Когда он опять пришел в себя, голова его лежала на руке Этуотера, а рядом стоял один из туземцев с ведром воды, из которого его недавний палач обмывал ему лицо. Капитан разом вспомнил об ужасных событиях, снова увидел мертвого Хьюиша, снова ему почудилось, что он шатается на краю провала в беспредельную вечность. Трясущимися руками он ухватился за человека, которого хотел убить, и закричал, как дитя, мучимое кошмарами: — О-о, простит ли меня господь? О-о-о, что мне делать, чтобы спастись? “Да, — подумал Этуотер, — вот истинно раскаявшийся”.ГЛАВА 12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
Очень ярким, жарким, красивым, очень ветреным днем, две недели спустя после описанных событий на острове и месяц спустя после того, как над этой историей о трех людях поднялся занавес, на берегу лагуны можно было видеть человека, который молился, стоя на коленях. Группа пальм отделяла его от деревни, и с того места, где он стоял, видно было лишь одно творение человеческих рук, нарушающее безлюдный простор, — “Фараллона”. Стоянка ее была перенесена: теперь она покачивалась на якоре милях в двух от берега, ближе к наветренной стороне, посредине лагуны. Шумные пассаты неистовствовали по всему острову, ближайшие к берегу пальмы трещали и насвистывали при каждом сильном порыве. Те, что подальше, издавали низкий, басовый звук, подобный городскому гулу. И все же любой другой менее погруженный в себя человек услыхал бы еще доносившийся из деревни более резкий звук человеческого голоса, перекрывавший рев ветра. В деревне кипела работа. Этуотер, обнаженный до пояса, принимал в ней самое деятельное участие, отдавал приказания пятерым канакам, подбадривал их. Судя по его оживленному голосу и по их более оживленным, чем обычно, стараниям, можно было заключить, что всю эту суматоху вызвало какое-то непредвиденное и радостное событие. К тому же на флагштоке развевался Юнион Джек.[180] Однако молящийся не слышал людских голосов и продолжал настойчиво, со рвением возносить молитву к богу. Голос его то возвышался, то падал, лицо то становилось просветленным, то искажалось выражением набожности и страха попеременно. А тем временем, невидимо для его закрытых глаз, по направлению к далекой заброшенной “Фараллоне” продвигался ялик, на котором можно было разглядеть Геррика. Достигнув “Фараллоны”, он перебрался на судно, ненадолго заглянул в надстройку, оттуда перешел на бак и наконец исчез в главном люке. Куда бы он ни заходил, всюду появлялись хвосты дыма, и едва он успел спуститься обратно в ялик и оттолкнуться от борта, как из шхуны начало вырываться пламя. Шхуна весело пылала: керосина не пожалели да и бушующие пассаты раздували пожар. Оказавшись на середине обратного пути, Геррик оглянулся и увидел, что “Фараллона” по самые стеньги объята прыгающими языками огня; за яликом по лагуне гнались массивные клубы дыма. По расчетам Геррика, через час вода должна была сомкнуться над краденым судном. Случилось так, что пока ялик весьма проворно несся по ветру, а сам Геррик не отрывал взгляда от шхуны, следя за тем, как разгорается пожар, ялик занесло в залив к северу от пальмового мыса. И тут Геррик сразу заметил Дэвиса, погруженного в молитву. У него вырвалось восклицание. Испытывая досаду и в то же время посмеиваясь, он взялся за руль, повернул ялик к берегу и пристал футах в двадцати от Дэвиса, ничего не видевшего и не слышавшего. Взяв фалинь в руку, Геррик вышел на берег, приблизился к молящемуся и встал около него. Но по-прежнему нескончаемо текла несвязная, многословная молитва. Невозможно было долго подслушивать мольбы, однако Геррик все-таки стоял и слушал со смешанным чувством жалости и насмешки. Но когда наконец начало встречаться его имя в соединении с хвалебными эпитетами, он не выдержал и положил руку капитану на плечо. — Простите, что прерываю ваше увлекательное занятие, — сказал он, — я прошу вас взглянуть на “Фараллону”. Капитан с трудом поднялся и, тяжело дыша, уставился на Геррика чуть ли не со страхом. — Мистер Геррик, нельзя так пугать людей! Я и без того не в себе с той поры, как… — Он не окончил фразы. — Что вы сказали? Ах да, “Фараллона”. — И он апатично посмотрел вдаль. — Да, — сказал Геррик, — вон как она полыхает! Можете сами догадаться, каковы новости. — Наверно, “Тринити Холл”, — сказал капитан. — Именно, — ответил Геррик, — замечена полчаса назад, быстро приближается. — Ну и что, какое это имеет значение? — со вздохом вымолвил капитан. — Ну полно, оставьте, это же чистая неблагодарность! — воскликнул Геррик. — Может, и так, — задумчиво ответил капитан, — вам не понять, как я на это смотрю, только я с большей охотой остался бы тут, на острове. Я обрел здесь покой, покой в вере. Да, сдается мне, этот остров как раз под стать Джону Дэвису. — Ну и вздор! — воскликнул Геррик. — Что с вами? Как раз, когда все оборачивается в вашу пользу: “Фараллона” уничтожена, команда пристроена, впереди счастливая жизнь для вашей семьи и для вас самого; вы, можно сказать, баловень Этуотера, его любимый раскаявшийся грешник!.. — Не надо, мистер Геррик, не говорите так, — мягко остановил его капитан, — вы же знаете: он между нами разницы не делает. Но почему, почему вы не хотите присоединиться к нам? Почему не прийти к Христу, и тогда все мы когда-нибудь встретимся в прекрасном царстве божием. Только одно и нужно- сказать: “Господи, я верю, помоги мне, неверующему!” И он примет вас в свои объятия. Уж я — то знаю. Я сам был грешником!
Ю.ДАВЫДОВ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
Пировали до петухов. Вина, блюда, десерт — все превосходное, от Жоржа, лучшего ресторатора. Собрался, как говорится, “весь Кронштадт”. Устроители именин сияли. Такое плавание, черт побери! Жалованье вчетверо против обычного. Желанная награда за число морских походов, желанный Георгиевский крест. А главное — честь и слава называться дальновояжным. Поди-ка не запируй. Командир таровато одолжил три тысячи рубликов. Шампанское пенилось, как бурун. Тосты взвивались, как сигнальные флаги. Хохот взрывался, как прибой. Короче, было весело. Потом было смешно. Очередной выпуск “Русского художественного листка” порхал в гостиных и лавках, в кофейнях и читальнях. И не только “весь Кронштадт”, но и “весь Петербург” смеялся. Смеялись над карикатурой: бывший моряк… в полицейском мундире. А подпись гласила: “Все части света обошел, лучше 2-й Адмиралтейской не нашел”. Вначале было весело, потом смешно. Но боже мой, какой мрак, какие невзгоды легли между этим “вначале” и этим “потом”! Двадцать седьмой — это смерть и смерч, голод и скорбут,[181] подлость и мужество.1
Есть несколько значений слова “транспорт”. Андрей Логгиныч Юнкер предпочитал карточное. В азартных играх “транспорт” — перемена ставки с одной карты на другую. Юнкер играл в карты и в службу. Карточные “маневры” вел на зеленом сукне, служебные — в адмиральских передних. Андрей Логгиныч играл, а не отыгрывался, не служил, а выслуживался. Ему благоволил светлейший князь Меншиков, глава флота… У слова “транспорт” есть и военное, морское значение: фрегат, назначенный для мирной перевозки грузов. В 1840 году капитан-лейтенант Юнкер получил транспорт “Або”. Но и тут для господина Юнкера была перемена ставки. “Або” шел в кругосветное. А кругосветное сулило многое, ежели под многимпонимать увеличенное денежное содержание и увесистый сундук со звонкой монетой на двухгодичные корабельные нужды… Надо вам сказать, что снарядить корабль в дальний поход — работа ломовая, страдная. Все хлопоты Андрей Логгиныч любезно уступил подчиненным. Сам же обретался на бережку. И не в Кронштадте, а в Санкт-Петербурге. В столице господин Юнкер не скучал. Я забыл сказать, что Андрей Логгиныч не только любил распечатать колоду, но и бутылку. Получив “Або”, он получил изрядные суммы. Конечно, казенные. Да ведь известно: казенное — страшно, подержал — и за пазуху. В столице господин Юнкер пил вино. Его подчиненные в Кронштадте лили пот. Юнкер знал, кому довериться. Старший офицер лейтенант Бутаков? Потомственный моряк, хлебнувший соленой воды едва ль не с пеленок. У Бутакова ревностные помощники: Петр Бессарабский и Павел Шкот, Евгений Голицын и Николай Фредерике. Штурман Клет? Разумеется, черная кость, но в навигации смыслит достаточно. (Андрею Логгинычу не худо было б добавить, что “черная кость” смыслила в навигации куда больше его высокоблагородия.) Господин Юнкер знал, на кого положиться. И кутил напропалую. В исходе августа “Або” изготовился к плаванию. Припасы для Камчатки наполнили трюмы. Пришла пора вытянуться из гавани на рейд и при добром ветре поднять якорь. Обычно капитанов дальнего плавания в такие дни одолевает печаль: прощай, родные берега, прощай, родные гнезда! А господин Юнкер и бровью не повел. Тут, кстати, вспоминается мне один моряк. Он говаривал, что видел на своем веку лишь одного капитана дальнего плавания, “который взошел на палубу танцующей походкой и весело отдал первую команду”. Оказалось, пенитель океанов “оставлял позади лишь кучу долгов и грозивший ему судебный процесс”. Андрей Логгиныч легкой стопою обошел транспорт — трехмачтовый, восемьсот тонн водоизмещения. Старший офицер сопровождал командира. — Ничего не забыто? — осведомился господин Юнкер. — Все по реестрам, — отвечал Бутаков. — Не забыто, Андрей Логгиныч. “А рояль? А бочки с вином? — ухмыльнулся про себя господин Юнкер. — А все заказанное Страннолюбским?” Но вслух капитан-лейтенант ничего не сказал ни про рояль, ни про вино. В пятый день сентября 1840 года военный транспорт “Або” оставил Кронштадт. День был вёдреный, ветер свежий.2
“Або” строился в Финляндии. Финские сосны раскачивал балтийский ветер. Теперь он раскачивал сосны, принявшие вид фрегата. Погода стояла погодливая. Море ходило ходуном. Но моряков не уходило, никто не страдал морской болезнью, и господин Юнкер мог бы полюбоваться ладным экипажем. Однако господин Юнкер отлеживался в каюте. Санкт-петербургские развлечения взяли-таки много энергии. Андрей Логгиныч, как и прежде, надеялся на старшего офицера. Э, лейтенант Бутаков отлично справится со своими обязанностями. А сверх того и с обязанностями командира. Андрей Логгиныч не страдал избытком самолюбия. Он мельком думал, что скоро будет страдать от недостачи особого рода. Но покамест гнал мрачную мысль. Авось как-нибудь образуется. Говорят, дружба испытывается пудом соли. Служба на море солона и без соли, у нее иные мерки. Уже за Толбухиным маяком, первым на вест от Кронштадта, Бутаков смекнул: Андрей Логгиныч — командир по штату, а он, Бутаков Алексей Иваныч, командир со штатом. На него, Бутакова, легла ответственность и за людей, и за корабль. За всех и за каждого. Бутакову недавно исполнилось двадцать четыре. Полжизни носил он форменное платье: кадет, гардемарин, мичман, лейтенант. Черное море было купелью: отец-моряк брал сына в крейсерства. Балтика была практической школой: фрегаты, корвет, линейные корабли. Однако Черное и Балтика — лишь заводи Мирового океана. И теперь лейтенанта ждали гром и вихрь Атлантики, Индийского, потом — Великого или Тихого. Алексей Бутаков рвался в дальние просторы. Но он не собирался командовать “Або”, а предполагал как можно лучше исполнять генеральные повеления капитана. Выходило иначе: ему, Бутакову, командовать генерально. В глубине души он все же надеялся, что господин Юнкер, отлежавшись в каюте, примет “бразды”. Близость Копенгагена исцелила господина Юнкера. Капитан вышел на палубу приветливый, оживленный, нетерпеливо поглядывая на шпили и башни датской столицы. Едва якорь забрал, то есть зацепился за грунт, как командир велел спустить гичку и был таков. Был он “таков” во все дни копенгагенской стоянки. Изволил поселиться в шикарной гостинице. Поразил бережливых датчан истинно барским размахом. Собутыльников и партнеров хватало. Дым стоял коромыслом. “Або” давно мог бы продолжить плавание, да капитан, видите ли, отговаривался каким-то неотложным делом. Бутаков с офицерами опасливо прикидывали, каково будет в дальнейшем: ведь кораблю надо запасаться водою и дровами в Портсмуте, в Кейптауне… А в Англии и на мысе Доброй Надежды тоже, поди, капитан — разудалая головушка — захочет потешиться вдосталь. Увы, они не ошиблись. Так и повелось: команда несла нелегкую палубную службу, а командир “облегчал” корабельный денежный сундук. Впрочем, моряки “Або” еще не догадывались, какие беды караулят их в Индийском океане.3
Не буду описывать Атлантику и переход экватора, этот праздник Нептуна, описанный бессчетно. И не стану рассказывать об утренних и вечерних зорях в тропических широтах: нужны не слова — оратории. Перо бежит, обгоняя “Або”, обгоняя пассатный ветер, цепляясь о прибрежные камни Южной Африки. Альбатросы провожают от мыса Доброй Надежды, от порта Кейптаун… В тот год (восемьсот сорок первый) пасха пришлась на конец марта и застала наших моряков в Индийском океане. Пять недель они уж не видели ни клочка суши. Пропели “Христос воскресе” и разговелись солониной. Светлое воскресенье было последним светлым днем экипажа “Або”. В тот же вечер внезапная духота стеснила грудь. За полночь ветер рвал паруса, обретая ураганную силу. Вдруг все как провалилось в мягкую пропасть сажи. Ее внезапно распарывали — ослепительные молнии. Гром не был слышен, он тонул в грохоте океана. Стеньги трещали и рушились. Голубоватые огоньки хищно метались по изорванным вантам. Корабль развил чудовищную скорость. Он мчался сквозь смерч, вместе со смерчем. Гибель настигала его гигантскими валами. Валы катились по верхней палубе, крушили надстройки, ломали кованые железные шлюпбалки, срывали люки и захлестывали жилую палубу, где уж было по пояс. “Або” попал в ад. “Нельзя заставлять исполнить невозможное”, — говорили древние римляне. Экипаж выполнил невозможное: сохранил корабль. Выполнил, должно быть, потому, что понуждения не было и в помине. Отчаяние либо отнимает, либо удесятеряет мужество. В пятом часу развиднелось. Сложное, но четкое сооружение, подчиненное законам точных наук, трехмачтовый военный парусный корабль теперь казался воплощением хаоса. Парусиновые лохмы полоскались по ветру; бегучий такелаж походил на сотни гордиевых узлов; такелаж стоячий обратился в обломки. Всё, куда ни глянь, было искорежено, перевернуто, громоздилось как попало. Теперь нужны были двужильность, стиснутые зубы, способность действовать, когда досуха исчерпаны силы физические и силы душевные… Только бы устоять, не дрогнуть… Но вот один дрогнул, сник. Этот был первым. Первым после бога, как издавна величали моряки полновластных хозяев кораблей — капитанов. Господин Юнкер, любимчик светлейшего князя, бесстрашный картежник и лихой бражник, Андрей Логгиныч Юнкер, его высокоблагородие, капитан-лейтенант, эполеты с “висюльками”, удалился, замкнулся, сокрылся ото всех и от всего. Будто дал обет молчания, принял послух. Не знаю, что он там делал, в своей щегольской каюте. Не сомневаюсь в одном: он знал, что наделал! Денежный сундук разевал пасть. Звон золота и серебра давно — в Петербурге и Копенгагене, в Портсмуте и Кейптауне — слился со звоном бокалов, а шорох бумажных купюр — с шорохом игральных карт. В ближайшем порту, в роскошном Сингапуре, никто задаром не поможет “Або”. Хочешь новые стеньги? Плати, сударь. Хочешь ремонта? Тряси мошной, сударь. Хочешь свежих припасов? Раскошеливайся, сударь. Очевидно, старший лейтенант имел крупное объяснение с капитан-лейтенантом. Очевидно, в кают-компании вынесли ему приговор. О нет, никакого плаща и кинжала. Молчаливое презрение. Но можно было презирать негодяя. Нельзя было избавиться от саднящего чувства своей причастности к растрате казенных денег. Пусть невольной, пусть легкомысленной. Проклятые три тысячи! Этот господин Юнкер рассчитал дьявольски. Три тысячи вылетели в трубу, гулял “весь Кронштадт”, шампанское пенилось, как бурун, тосты взлетали, как сигнальные флаги. О, конечно, лейтенанты и мичманы возвратят деньги. Однако лишь в отечестве. А сейчас, а нынче… И вот это обидное, досадное, гнетущее, оскорбительное сознание своей причастности к тем бедствиям, которые обрушивает на матросов уже не стихия. Живи в Сингапуре русский консул, смотришь — и пособил бы. Увы, император Николай Павлыч не держал дипломатов в далеком Сингапуре. А до первого русского порта, до Петропавловска, оставалось… Черт подери, “оставалось” как до Луны, как до звезд! Может быть, Никобары? Богатые лесом Никобарские острова — притонувшая горная цепь от берегов Суматры к берегам Бирмы… Никобарские и Андаманские острова, где пальмы, бананы и жемчуг… Никогда русский флаг не показывался у Никобар. Увидеть земли, не виданные соотечественниками, — в этом есть нечто заманчивое, отрадное. Да только не при таких печальных обстоятельствах.4
Прошу, читатель, поближе. Вот “Памятная книжка” Алексея Иваныча Бутакова. Итак: “25-го апреля противный ветер, не пустивший нас засветло на Нанковрийский рейд, принудил встать на якорь около входа, против острова Корморта. На другой день, рано утром, послали шлюпку для промера входа и обозначения его вехами, а после полудня, при тихом ветре, снялись и начали лавировать к якорному месту. Миновав низменный, покрытый пальмами остров Трункутти, мы вскоре очутились на превосходнейшем рейде, образуемом островами Нанковри и Кормортой. Оба острова покрыты пышными мангровыми деревьями, тиком, железным деревом и проч.; между ними возвышаются обремененные плодами кокосовые пальмы и панданусы. Местами, между лесом, проглядывают лужайки прелестнейшей зелени, а на чистом песке взморья выстроены на легких сваях хижины дикарей. Вода гладка, как зеркало; каждый мыс казался корзинкою с цветами; вдали, в бухточках, видны челноки дикарей, которые сидят в них на корточках, и на одном челноке стройный дикарь бронзового цвета прицеливался острогою в рыбу. Лавируя, мы подходили близко к берегам, и, по-видимому, приход наш значительно встревожил дикарей. В одном селении на Корморте все жители уселись в кружок и, как кажется, держали между собою совет, как поступать в отношении пришельцев… Вечером, часов около пяти, мы стали на якорь; дикари приехали и решились взойти. Один из них, имевший лакированную палку красного дерева с серебряным набалдашником, подал мне запачканную бумагу, на которой было написано по-английски, что датский резидент на Никобарских островах, какой-то г. Розен, назначил предъявителя бумаги, никобарского жителя по имени Тетуй, старшиною деревни Малага на острове Корморта. Тетуй высокого роста, крепкого сложения, сутуловат, с плоским дурным лицом и совершенно черными от жевания бетеля зубами: физиономия его выражала недоверчивость и скрытность. Он говорил несколько по-английски. Через полчаса наехало к нам множество лодок, в том числе некоторые со старшинами других деревень, назначенными также г. Розеном и вооруженными палками своего сана, как и Тетуй. Дикари привезли нам бананов, ананасов, кокосовых орехов. Мы пригласили их к себе в гости, потчевали их водкой, которую христианские миссионеры выучили их уважать, и мы скоро сделались совершенными приятелями… На другое утро после нашего прихода, мы с Б.[182] съехали на берег, вооружившись для предосторожности пистолетами и взяв с собою запас ситцевых платков, ножей и разных безделиц для подарков диким. Мы входили в их шалаши, были везде встречаемы с радушием и угощаемы бананами, сахарным и кокосовым молоком. Хижины их построены на взморье на легких сваях; они конусообразные, бамбуковые стропилы оплетены снаружи камышом. Пол настлан из тонких тиковых досок, а вход, куда надобно взлезть по бамбуковой лестнице, завешивается циновкою. Вместо окон проделаны небольшие отверстия, которые в случае нужды тоже закрываются; вообще внутри довольно темно. На взморье, против середины деревни, воткнуты две огромные бамбуковые тростины и между ними — деревянный столб, на верху которого грубо вырезано человеческое лицо. Не знаю, кого должен был изображать этот идол. Женщин мы вовсе не видали; на все наши расспросы мы получали один ответ: что они далеко, за три дня пути отсюда. В деревне довольно много домашних птиц и откормленных кокосовыми орехами свиней, которые составляют главное богатство жителей. На них они выменивают у заходящих сюда европейцев и малайцев табак, водку, полотно, ожерелья и проч. В соседнем селении, находящемся в нескольких десятках шагов оттуда, мы нашли какого-то датчанина, который живет здесь около 8 месяцев. Вредное влияние климата сделало из него совершенный скелет. Датчанин рассказывал, что он был капитаном на купеческой шхуне, разбившейся у здешних берегов, и что, захворав, он не был в состоянии отправиться отсюда со своими людьми, уехавшими на барказе. Имя датчанина — Гальс. По-видимому, он не тот, за кого себя выдает. Он изъясняется по-английски без всякой примеси иностранного выговора; по образу его выражений и суждениям видно, что он получил порядочное воспитание. Он хорошо знает медицину. По некоторым вырвавшимся у него фразам должно полагать, что он англичанин. Но кто он такой, зачем н каким образом попал сюда и почему не просился уйти с нами, этого мы не могли узнать. “Таинственный незнакомец” объяснил нам причину, почему дикари спрятали от нас женщин. Месяца за два до нашего прихода было здесь английское китоловное судно и стояло на якоре в небольшой бухточке. Матросов спустили на берег, и они, выпивши порядочно, принялись охотиться за свиньями и дворовыми птицами жителей. Наконец, настреляв достаточный запас живности, они начали охотиться за женами и дочерьми островитян. Непросвещенным дикарям все это весьма не понравилось, а в особенности последнее. Не умея смотреть на такие вещи хладнокровно, они решились отомстить. На другой день они собрались в большом числе на английское судно и поданному сигналу бросились на людей, убили и ранили многих и принялись грабить судно. Капитан и уцелевшие матросы кинулись в шлюпку и на сильной гребле выехали в море. К их счастью, проходило в то время английское купеческое судно, шедшее в Пуло Пенанг, что у входа в Малаккский пролив. В Пуло Пенанге они, как водится, свалили всю вину на дикарей, приписали нападение алчности дикарей и умолчали о своих собственных поступках. Губернатор Пуло Пенанга немедленно отрядил находившийся там военный бриг для наказания дерзких, осмелившихся вступиться за своих жен и собственность против сынов великой Владычицы морей. Бриг пришел в Нанковри и, не говоря худого слова, открыл огонь по селению, выжег и разрушил жилища дикарей, отобрал у них вещи, награбленные с китоловного судна, а самое судно привел в Пуло Пенанг. Вот причина, по которой несчастные дикари спрятали от нас “повод к войне”. Датчанин (или англичанин?) рассказал нам, что климат Никобарских островов чрезвычайно вреден для европейцев и даже для туземцев, чему мы видели многие примеры и в чем нам самим пришлось впоследствии убедиться многими горестными опытами. В продолжение шести месяцев здесь непрестанные дожди. От сырости, при жаркой тропической атмосфере, в густых лесах гниют листья и валежник, сильные испарения поднимаются от земли и висят над лесами густыми белыми облаками. Европейцы не могут прожить здесь более двух лет. На Никобарских островах в 1758 году австрийцы пытались основать колонию, а потом, в более близкие нам времена, несколько раз датчане, считающие эти острова своими. Но колонисты умирали, а уцелевшие рады были найти возможность убраться восвояси с жалкими остатками вконец расстроенного здоровья. Последняя датская колония, состоявшая из миссионеров, коих главою был г. Розен, уничтожилась несколько лет назад. Географическое положение островов, превосходные рейды, изобилие строевого леса и разного рода дорогоценимых в Европе деревьев — все это вместе благоприятствует основанию здесь обширной колонии, которая бы не замедлила процвести, если б не было одного неприятного препятствия — злокачественного климата… В пять часов следующего утра я отправился с людьми на работу в лес на остров Нанковри. Вода была малая, и шлюпка не могла подойти к берегу на значительное расстояние. Надобно было вылезти и пройти вброд по коралловой отмели сажень около ста, а потом по вязкой тине, смешанной с ракушками, в которой растет какая-то колючая трава. Опасение лишиться сапог, только затруднявших путешествие, ибо ноги уходили в тину выше колен, заставляло идти босиком; но зато немилосердные ракушки и трава не оставили почти живого места на ногах. Потом мы очутились в прелестнейшей мангровой аллее. Ее корни покрываются водою во время приливов, так что тогда уж можно пристать на шлюпке к самому берегу. Но так как наше путешествие происходило в отлив, нам пришлось шагать по типе, заплетаться ногами и путаться в стелющихся по земле и под тиною корнях, длиннющих водорослях или спотыкаться о пеньки. Словом, неприятнее и утомительнее этого перехода от шлюпки до берега я не припомню ничего в жизни. Наконец, усыпав путь свой проклятиями, мы подошли к берегу усталые, измученные, покрытые толстым слоем грязи, с израненными в кровь ногами. Очистясь от нее по возможности, мы принялись делать просеки для протаскивания к берегу срубленных для рангоута деревьев. Русские топоры весело застучали по тропическим деревьям, и русские песни огласили впервые девственные леса, которых таинственное безмолвие прерывалось только нестройными криками попугаев и птиц знойного экваториального климата. Какое обширное поприще исследований открылось бы здесь естествоиспытателю! Каждое растение, каждый куст говорили бы его мысли и открывали бы его умственным взорам новые истины, объяснили бы ему тайну нескольких искомых в великой задаче познания природы. А я бродил по здешним чудным лесам, как невежда, и горько сожалел о своем невежестве в ботанике. Я чувствовал себя окруженным чудесами растительного царства и смотрел на них, не понимая ничего. Может быть, я попирал ногами экземпляры растений, которых отыскание обрадовало бы натуралиста больше всяких сокровищ!.. Обед прибыл к нам с транспорта во время полной воды. Погода разгулялась. Вид с возвышенного берега, на котором матросы соорудили из ветвей самый поэтический шалаш, был очарователен. Все грязное и неприятное для глаз — тина, пни, корни — покрылось водою; видны были только красивые деревья и роскошная аллея с прохладными ярко-зелеными сводами. После обеда и кратковременного отдыха мы снова принялись за работу, кончившуюся около заката солнца. К тому времени вода опять убыла, и нам в другой раз пришлось спотыкаться и проклинать морские травы и кораллы. Когда стемнело, я удивлен был множеством искр, беспрестанно мелькавших перед глазами: то были светящиеся мошки и мухи, которых иногда заносит даже на рейд. Дикари посещали нас часто. Мы обменивались подарками и щедро потчевали своих гостей. Никобарцы — превосходные пловцы и рыбаки. Я никогда не думал, чтоб человек мог так легко и скоро плавать, так далеко и быстро нырять, и все это без малейшего усилия, шутя. Единственное оружие их — копья; луков и стрел я не видел. Дикари показывали нам опыты своего искусства метать копье: ни один не промахнулся по кокосовому дереву на расстоянии около тридцати шагов. Никобарские жители — народ кроткий и миролюбивый и без сильного повода не возьмется за оружие. Только крайние обиды, как, например, поступки с ними экипажа английского китолова, вывели их из терпения и побудили к убийству. Работы наши в лесу продолжались ежедневно до тех пор, пока все срубленные деревья не были перевезены на судно, где в то же время обделывали из них стеньги, а на острове Корморте наливались водою и запасались дровами. Вода здесь нехороша и, конечно, содействует вредному влиянию климата: она имеет горьковатый, болотистый вкус и, без сомнения, протекая по гнилым корням и растениям, заимствует от них вредные частицы”.5
Приметил ли читатель слова, подчеркнутые мною в “Памятной книжке”? Слова о том, что команде русского корабля впоследствии довелось “на многих горестных опытах” убедиться в пагубности никобарикого климата? Я выделил их неспроста. Но прежде краткое дополнение. Оно необходимо. Конечно, климат сказался. Однако лихорадка и горячка не разгулялись бы настолько, если б так каторжно не измучили матросов никобарские леса. Алексей Иваныч напрасно про то умолчал. Песня, веселый стук топоров… Песни песнями, а вот насчет веселья… Право, не очень-то веселились нижние чины “Або”. Я не прошу верить мне. Есть свидетельство Павла Шкота, он тогда лейтенантом был.[183] Уже стариком, вице-адмиралом, вспоминая злосчастное путешествие, Павел Яковлич не веселый стук топоров вспомнил, а как тяжко, как хлопотно, как изнурительно было разыскивать в душных чащобах нужные стволы, как обрубали матросы сучья, прокладывали лесосеки, как волокли бревна берегом и мелководьем, как заваливали их в шлюпки, как везли на корабль… И все это с половинной командой, потому что другая всегда оставалась на корабле. “Вот такие-то работы, — заключал Павел Яковлич, — продолжались более двух недель, и они-то расстроили здоровье команды”. Утонули за горизонтом картинные острова. “Або” совершал медленный мрачный переход к Сингапуру, или, пользуясь излюбленным выражением сочинителем, “бороздил лазурные воды”. “Бороздили” туго: ветры мешали и течения. Лавируй! А лавировка под парусами — это, знаете ли, не лавпровка под парами. Офицеры работали вровень с матросами. Доктор Исаев, добрая душа, радетель экипажа, сбивался с ног. Но все чаще равнодушно всплескивали “лазурные воды” Малаккского пролива, принимая покойников. Иеромонах творил печальную молитву. Утешал: “Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретенье господу на воздуху и так всегда с господом будем”. Сознавал ли свою преступность бесшабашный господин Юнкер? Навряд ли. Имел он в мыслях легкость необыкновенную. Горевать ли о простолюдине, о нижнем чипе? Велика матушка Россия, новым рекрутам обреют лбы, не оскудеет государева служба. Как на Никобарских островах, как в Малаккском проливе, так и в Сингапуре еще ни разу не видели андреевский белый флаг, перекрещенный синими полосами. Увидели июньским полднем 1841 года. Увидели и на берегу, и на рейде, где толпилась пестрая морская публика: европейцы и малайцы, китайцы и индусы. А на транспорте впору было б держать не военный флаг, а госпитальный. Госпиталь устроили на берегу, в Сингапуре. Доктор Исаев перебрался вместе с больными в скудный лазарет. Иеромонах тоже. Моряки, разоренные господином Юнкером, кое-как после долгих препирательств столковались с торговцами о продовольствии. Больным отдавали лучшее. Хворые поправлялись медленно, и “Або” стоял в Сингапуре пять недель. Потрудитесь прочесть несколько заметок Алексея Иваныча Бутакова. Они из той же “Памятной книжки”, что и никобарские записи. “Воспользовавшись первым удобным случаем, я съехал на берег. Пристань — на западном берегу узкого залива соленой воды, который обыкновенно здесь называют Сингапурскою рекою. На том же берегу находится азиатский или, правильнее, китайский город, а на противоположном живут в богатых и роскошных домах европейцы, большею частию английские купцы и консулы разных наций. Тут же на довольно возвышенном холме дом или бунгало британского губернатора. Наружность азиатского города далеко не привлекательна. Строения темные и довольно грязные. Верхние этажи заняты конторами, магазинами и жильем, а внизу ряд лавок европейских и индийских торговцев, торгующих почти исключительно английскими товарами. Единственная красивая площадь в китайском квартале окружена каменными домами, принадлежащими английским, китайским и персидским купцам. В середине се разведен маленький садик. Везде мастерские, где с утра до вечера идет работа, везде лавки. По временам раздаются частые удары гонга, возвещающие продажу с публичного торга, и множество парода толпится около места продажи, и жажда прибыли отражается одинаково в узких блестящих глазах китайца, в спокойной физиономии величавого индийца и в медном взоре хладнокровного англичанина. На самом взморье находится новый, еще не достроенный китайский храм. Я заходил в него. Все идолы, деревянные и каменные, привезены из Кантона. Китайские божества имеют свирепый, карающий вид, что вместе со множеством драконов, нарисованных на стенах и составляющих главное украшение фонарей и карнизов, заставляет думать, что китайцы более боятся злобы и мщения своих богов, нежели благоговеют пред их премудростью… Джонка, стоявшая недалеко от нас, должна была уйти в скором времени в Китай. Однажды я полюбопытствоал посмотреть этот чудный экземпляр допотопного мореходства. Джонка длиною около 130 футов, вместительностью около 500 тонн. Снаружи она выкрашена в красное, с широкой белой полосой, на которой намалеваны пушечные порты.[184] В середине ее, на левой стороне, печь, складенная из кирпичей, и подле нее обнаженный до пояса китаец, запустив вспотевшие руки в котел, мешал в нем рис; в бамбуковых пристройках в несколько этажей, крытых циновками, ползали грязные ребятишки; трюм был завален тюками товаров, мешками риса, пожитками и проч. В корме, на некоторого рода юте, сидел на сундуке толстейший китаец с седыми усами и пожирал ананасы. Капитан осклабил заплывшее жиром лицо и показал мне место подле себя (говорить ему было некогда), а ординарец его, стоявший с распущенной в знак уважения косою, подал мне ананас и нож. Если справедливо, что всякий человек имеет в своей наружности хотя легкое сходство с каким-нибудь животным, то китайский капитан походил как нельзя более на откормленного борова. Стоя на Сингапурском рейде, мы имели случай видеть образцы того, как формируются коралловые острова. На нашем цепном канате и подводной части гребных судов образовалась мало-помалу толстая кора из бесчисленного множества ракушек, а между ними, из звеньев цепи, начинали вырастать маленькие кустики черных кораллов. Дней через пять, как соскабливали эти наросты, они наседали снова. К медной обшивке ракушки не пристают, иначе они бы значительно задерживали ход судов. Другое замечательное явление здешних вод — множество водяных змей. Однажды, окачивая борт снаружи, матрос нечаянно зачерпнул змею и выбросил ее на палубу; спинка ее была иззелена-черная, а брюшко голубовато-серебристого цвета. Я сохранил этот экземпляр в спирте. Такая же змея ужалила нашего парусника,[185] когда он купался около взморья, где китайские и малайские ребятишки плещутся с утра до вечера. Купаясь, он вдруг почувствовал, что его что-то кольнуло в ногу; он тотчас вышел на берег и начал рассматривать то место, в котором чувствовал боль. Какой-то индиец, проходя мимо, заметил это и, сделав ему знак, привел в свой дом. Там он велел ему лечь, а сам, взяв кокосовую скорлупу, накалил ее докрасна и около четверти часа выжигал укушенное место; потом он натолок серы, смешал ее с водою и затер ранку. Через двадцать минут парусник наш пошел на шлюпку и приехал на транспорт как ни в чем не бывало. Английские обитатели Сингапура почти исключительно купцы или служащие в колониальной администрации, а потому они целый день проводят в конторах и возвращаются в недра своих семейств незадолго до заката солнца. Перед обедом, то есть от 6 до 71/2 часов, можно видеть все сингапурское общество катающимся по эспланаде, которая представляет собою что-то среднее между длинной площадью и широкой улицей. Дамы разряжены, затянуты и сидят в своих паланкинах, как куклы, а мужчины, судя по их длинным неподвижным физиономиям, вероятно, еще заняты расчетом барышей или убытков протекшего дня. После катания все разъезжаются по домам обедать. Здесь, как и в Англии, обед есть дело важное, церемонное, куда дамы наряжаются, как на бал, а мужчины переменяют платье. В Сингапуре, как и во всех английских и американских колониях, аристократические подразделения основаны на цвете кожи: люди чистой европейской крови смотрят свысока на креолов, креолы — на метисов, а те — на туземцев”.6
Тихо было в Тихом океане. Шторм переворачивает душу, штиль вытягивает жилы. Шторм и штиль — два лика Януса, ведающего, как известно, путями сообщений. В Тихом океане, в южных широтах, Янус сонно глядел на моряков “Або”. Был штиль, тот бесконечный и муторный штиль, который клянут на чем свет стоит. А свет стоит — и это тоже известно — на трех китах. Киты дремали. Гигантская зыбь, безветрие. Океан — как выпуклое стекло. И по стеклу течет расплавленное солнце. При любой температуре штилевать не радость. А уж коли зной под сорок, отвесный, сплошной, без продыха зной, а вода за бортом — под тридцать, то и вовсе пытка. И не сон, и не бодрствование, и не дело, и не безделие, а какое-то мутное существование: пересохшая глотка, дряблые мышцы, чугунная голова и зудящая красная сыпь по всему телу. И ей-же-ей, Алексей Иваныч истину молвил: “Если в аду есть наказание особенного рода для осужденных на вечную муку моряков, то вряд ли найдется что-нибудь тягостнее скуки и утомления, от которых мы страдали во время плавания в Тихом океане до широты 25 градусов северной и долготы 143 градуса восточной от Гринвича”. Но вот мало-помалу потянул ветер. “Або” полз вверх, к норду, а ртутный столбик термометра, тускло поблескивая, сползал вниз. Команда ободрилась, задышала вольнее. Скоро камчатский роздых. Ну, а потом? Потом, конечно, безмерная дорога. Дорога, уходящая к мысу Горн, в Атлантический. Но на той дороге благодатные Сандвичевы острова, богатые припасами гавани Южной Америки. Да и вообще “потом” — это “потом”, и нечего загадывать. В середине сентября транспорт достиг Петропавловска. От Кронштадта (если сушей) было тысяч тринадцать верст. Но Камчатка-это отечество, это берега родины. Иные, не похожие на балтийские, плоские — нет, в сопках и вулканах, мглистые, важно-суровые, — но берега отечества. И первым приветом, простым и необходимым, как вода, первым приветом была… вода. Ключевая! Чистейшая! Свежая! Господи, вправду была живая вода после вонючей жижи из судовых бочек. Петропавловск напоил живой водою, угостил зеленью, рыбой, молоком — всем, чем богат, тем и был рад. Камчатские недели, как масленица, как пасха, как святки, — праздник. Понятно, моряки работали корабельные работы, и опять возились с парусами, рангоутом, бегучим такелажем, и опоражнивали трюмы, и везли в порт поклажу, грузы, припасы. И однако праздник. Потому что кронштадтцев принимали в каждом доме и в каждом доме потчевали домашним. Потому что улыбались им дружески, почти родственно. Потому что слышалась родная речь. Потому что вновь окружало то, что почти не примечаешь дома и что нежит после долгой, тяжкой разлуки. Капитан Юнкер распустил павлиний хвост. Не блистая в морях, он блистал на балах, по-камчатски сказать — на вечерках. Андрей Логгиныч вольготно расположился у старинного приятеля и сослуживца, теперешнего начальника Камчатки Страннолюбского. Андрей Логгиныч сладко ел, горько пил и волочился за местной красавицей, некой Е.Ф. Кокетка водила за нос господина Юнкера, а господин Юнкер, в свою очередь, водил за нос господина Страннолюбского. Бедняга сперва через день, а после и каждый день наведывался на “Або”: когда ж извлекут из трюма его собственность — рояль, вино, сундуки с гардеробом? Черт подери, нет и нет. А ведь любезный друг Андрей Логгиныч деньги вперед получил и уверяет, что все исполнил, все купил. Страннолюбский мог ждать до второго пришествия. Денежки его плакали: любезный друг капитан Юнкер давным-давно просадил их. Давным-давно, еще во Питере. А накануне отплытия, улыбаясь, спрашивал Бутакова: “Ничего не забыто?” И Бутаков, ни о чем не догадываясь, отвечал: нет, не забыто. А господин Юнкер про себя ухмылялся. Нынче, в Петропавловске, он притворно хмурился. Что за притча?! Куда девались рояль и прочее? Другой бы со стыда сгорел, а капитан Юнкер извернулся свойственной ему подлой уверткой. Бога не боясь, побожился. Так, мол, и так, Бутаков и K° нарочно, из неприязни к нему, командиру, “забыли” вещи в Кронштадте. Поверил Страннолюбский, нет ли, но внезапно охладел к офицерам, а те только недоумевали. Бутаков с товарищами прослышал о божбе господина Юнкера. Они возмутились. Честь была задета. Однако прямых обвинений не последовало, и офицеры терялись, как поступить. Не побежишь же крест целовать, убеждая Страннолюбского в своей невиновности. Сердце кипело давно, теперь — клокотало. Малейшего повода оказалось бы достаточно для прямого резкого столкновения. И повод явился. Повадливый на хитрости господин Юнкер все чаще подумывал, какой методой утаить растрату казенных сумм. Посреди петропавловских увеселении капитан изыскал способ простейший. А ну-ка, велю-ка внести в шпуровые книги несуществующие расходы. Шнуровые книги — документ официальный, назначение их — отмечать интендантские операции, и господину Юнкеру требовались чужие руки, дабы умыть свои. Андрей Логгиныч не моргнув глазом призывает корабельного доктора Исаева, приказывает “списать” энную сумму — надо заметить, значительную — на лекарства и прочие медицинские нужды. Доктор, воплощенная порядочность, отказывается. Андрей Логгиныч этого не любил. Не хочет “списывать” клистирная трубка? Отлично! “Спишем” клистирную трубку! И тотчас на корабле его величества отдается письменное распоряжение его высокоблагородия: доктора Исаева из команды исключить. Однако стоп! Всему есть предел. Господа офицеры встали стеною: не дадим доктора в обиду. А ежели доктора высадят в Петропавловске, то и они все высадятся в Петропавловске. Понятно?! Господин Юнкер опешил, попятился, не осмелился перечить. Отныне все определилось бесповоротно: с одной стороны — капитан, с другой — команда, от старшего офицера Бутакова до последнего матроса. Однако “Морской устав” непреложен. А значит, сколь ни клейми капитана, сколь ни презирай, но подчиняйся во всем: два пальца к фуражке и короткое: “Есть”. Во всем подчиняйся, и в сроках отплытия тоже. Отплытие… Вот как раз тут-то охотно подчинились бы лейтенанты Бутаков и Бессарабский, мичманы Шкот, Голицин, Фредерикс.[186] Зима катила в глаза, надо было убираться из Авачинской губы до ледостава. А Юнкер мешкал. Юнкер знал, каково достанется экипажу на длинном переходе из Петропавловска в… Он даже наедине с собою страшился думать о том пункте, где “Або” положит якорь. Собственно, не о пункте как таковом, но о длительности перехода к нему без стоянок и почти без провизии. Переминаясь с ноги на ногу, Андрей Логгиныч воздыхал: ему-де страсть не хочется огорчать своим отъездом милейшего Страннолюбского. Нежеланием “огорчать” господин Юнкер особенно огорчал Страннолюбского. Бедняга кручинился. Ну-ка зазимует “Або” в Петропавловске? Попробуй кормить такую ораву. Это тебе, брат, не в Кронштадте, где ломятся флотские закрома. Едва-едва спровадил начальник Камчатки зажившегося на его хлебах Андрея Логгиныча.7
На Камчатку шли — мучил зной и штиль. От Камчатки шли — мучила стужа и штормы. Шли па Камчатку в надежде на отдых. Не обманулись. Шли от Камчатки в надежде достать свежие припасы на Сандвичевых островах. Обманулись. Не то чтобы обманулись, а господин Юнкер надул. Можно сказать, на кривой объехал желанные богоданные острова. Так расположил курсы, чтоб миновать архипелаг. (Да и зачем было Андрею Логгинычу вести туда корабль, коли без денег ничем не раздобудешься, а в казенном сундуке лишь тараканы водились!) После Никобар в Индийском океане моряков косили тропическая малярия и брюшная горячка.[187] Матросы сгорали, облитые смертным потом, в жестоком жару; их приканчивали кишечные кровотечения, поносы, ничем не утолимая жажда… После Камчатки, в Великом или Тихом, на стонущий в штормах корабль рухнула страшная болезнь, бич мореходов и узников, защитников осажденных крепостей и бирюков северных становищ: скорбут. Настоящие капитаны (по камчатскому выражению: дошлые) всегда бдительно надзирали, чтобы на судне не иссякали враги скорбута — соки разнотравья, репа и капуста, брусника и редька, всякий овощ. Овощами и фруктами можно было бы обзавестись на Сандвичевых островах, там они гроши стоили. Но транспортом “Або” командовал не настоящий капитан, а господин Юнкер, промотавшийся барин. И на транспорте “Або” скорбут принял ту ужасную форму, которую доктор Исаев называл “молниеносной пурпурой”. И вот уж опять наскоро отпевали мертвецов. Истощенных, кожа да кости, покрытых жуткими пятнами, с синеватыми, рыхлыми, обеззубевшими деснами. Десятилетия спустя бывший мичман “Або” и будущий севастопольский герой Павел Яковлпч Шкот содрогался, вспоминая те дни, когда над кораблем разносились словно бы не удары рынды, а звон кладбищенского колокола. “Мы выдержали ряд штормов, в продолжение которых не имели теплой пищи, так как разводить огонь в камбузе не было возможности, и питались сырой солониной и остатками сухарей. Снег валил, очищать палубу от него недоставало силы, и потому на палубе снегу постоянно было по колено, с рей и с парусов падали глыбы снега. К этому нужно прибавить, что как офицеры, так и команда опять начали болеть; пришлось снова стоять на три, а часто и на две вахты. Сухого платья не было; обогреться негде и нечем; берегли только одну перемену сухого платья, которую надевали после смены с вахты; вступая же снова на вахту, надевали опять мокрое; по палубе протянуты были постоянно леера, без которых ходить было невозможно. В кают-компании и матросской палубе было мокро и душно от закрытых и задраенных люков… Да, плавание было вполне ужасное. Кажется невероятным, как мы могли перенести такие бедствия. Кажется, что это был сон, так как плавание на злополучном транспорте “Або” превосходит всякое вероятие”. Не увидев Сандвичевых островов, несчастные подчиненные господина Юнкера не увидели ни чилийского Вальпарайзо, ни перуанского Кальяо. Господин Юнкер гнал все дальше, все дальше. Покойники, зашитые в парусину, с балластиной в ногах, падали в пучины. Иеромонах осип от погребальных молитв. Не люди — шаткие тени цеплялись за ванты. Чудом прорвались сквозь вздыбленный, пенящийся, ревущий пролив Дрейка, чудом обогнули мыс Горн, чудом выскочили в Атлантический. Сто тридцать восемь дней и ночей осталось за кормою. Четырнадцать с половиною тысяч миль (от Петропавловска) осталось за кормою. И мертвецы, мертвецы, мертвецы. Могилы без холмика, без креста. Вы, может быть, скажете, что славный мореход Лазарев Михаила Петрович прошел за сто тридцать восемь суток от Рио-де-Жанейро до Сиднея. А сподвижник Крузенштерна известный Юрий Федорыч Лисянскнй сто сорок два дня безостановочно шел из Кантона в Портсмут. Ваша правда, читатель! Но то были настоящие капитаны, навигаторы высокого класса и подлинные, на деле отцы-командиры: ни единой души не сгубили и корабли у них глядели молодцами. А наш транспорт? Всю команду поразил скорбут! Живые были не живы, а полумертвы. В Рио не хватило сил закрепить паруса. Обрезали их ножами как ни попадя, и они рухнули на липкую, грязную палубу. В Бразильский порт господин Юнкер явился не потому, что сердце разрывала жалость, а душу изъела горечь. Отнюдь нет. В Рио был русский посланник. У посланника господин Юнкер надеялся попросить взаймы. Посланник Ломоносов ужаснулся виду своих земляков. Он не отказал господину Юнкеру. И не отказался принять от господ офицеров официальный рапорт с жалобой на господина Юнкера. Андрей Логгиныч, сжав зубы, промолчал. Ничего-с, он сведет счеты с господами офицерами. Сведет в Петербурге. А в Рио он промолчал. Два месяца “Або” не мог сняться с якоря. Рио, как и Сингапур, был морякам “Або” лазаретом. И, как во все минувшие недели, доктор Исаев не знал покоя, хоть и сам едва держался на ногах. В июне корабль поставил залатанные паруса и пустился отмерять новые сотни миль. В комнате, под крышей, нетрудно скользить указательным перстом по приятной голубизне географической карты. В домашнем тепле и сытости без труда произносишь и пишешь даты, расстояния, названия приморских городов — Портсмут, Копенгаген… Вообразите, однако, что было на душе исстрадавшихся моряков, когда слух господина Юнкера опять усладился мелодическим звоном серебра и золота. В Копенгагене Андрей Логгиныч, да не будет ему земля пухом, закрутился, как и два года назад, в вихре удовольствий. Знакомый роскошный отель, собутыльники, дым коромыслом. Капитан наверняка зазимовал бы в датской столице, к вящему удовольствию содержателей отеля и рестораций, но тут, к огорчению господина Юнкера и к великой радости его подчиненных, в Копенгагене задымил пароход “Камчатка”. Превосходным ходоком, недавно сошедшим со стапелей, командовал Иван Иваныч Шанц. Шанц, уроженец Швеции, вот уж два десятилетия состоял в русской службе. То был боевой моряк, участник средиземноморского похода, блокады Дарданелл. И не только боевой, но и дальновояжный, обогнувший землю на транспорте “Америка”. Иван Иваныч отчетливо знал нравственные “достоинствам Андрея Логгиныча. Шанц нагрянул в отель и тряхнул за грудки Юнкера. Не без крепких выражений, усвоенных в русской службе, швед выставил ультиматум: марш в Кронштадт, а не то на буксире утащу! Должно быть, у Ивана Иваныча при всей его крутости (на сей раз вполне праведной) была еще и легкая рука: никогда попутные ветры с такой резвостью не несли “Або”, как на переходе из Копенгагена в Кронштадт. Поздним октябрьским вечером 1842 года трехмачтовый парусный корабль смутно обозначился на Малом рейде. Плоская солоноватая волна, источенная осенними дождями, плеснула в борта транспорта, одолевшего сорок с половиною тысяч миль и потерявшего в океанах две трети команды. Двадцать седьмой рейс завершился. Двадцать седьмой в череде русских кругосветных походов. Невыразимо бедственный, он и завершился несчастливым числом — тринадцатого. ? Верь не верь приметам, а несчастия не кончились вместе с концом путешествия. Перво-наперво господин Юнкер посадил офицеров под арест при каютах, а сам поспешно убрался в Петербург. Замысел был прост: броситься в ноги своему заступнику и покровителю светлейшему князю Меншикову да и взвалить на подчиненных напраслину еще большую, нежели в Петропавловске. Официальную и справедливую жалобу, принесенную посланнику в Бразилии, выставил он бунтом, учиненным во время плавания. За таковое грозил суд. И точно, Бутакова и Бессарабского, Шкота и Фредерикса по одиночке “приглашали” к главному командиру Кронштадтского порта, в введении которого состояли чиновники военно-судной комиссии. Главным командиром был тогда знаменитый Фаддей Фаддеич Беллинсгаузен, открыватель Южной земли.[188] Бьюсь об заклад, адмирал ни на миг не усомнился в честности офицеров “Або”, как и в бесчестности капитана “Або”. Но адмиралу не хотелось выносить сор из избы. Негодуя на Юнкера, он настаивал, чтобы офицеры подписали проклятые шнуровые книги. Тем самым хоть и покрывалось казнокрадство, но зато офицеры избавлялись от законников-крючкотворов. При всем уважении и даже любви к Беллинсгаузену офицеры никак не могли с ним столковаться. Подписать шнуровые книги? Да ведь это бесчестье! Нет! Пусть асессоры, аудиторы, презус — все это крапивное семя. Пусть суд! Нет, они не подпишут! Беллинсгаузен так и доложил Меншикову. Сколь ни могущ был светлейший, но и ему, любимцу государя Николая Павлыча, не хотелось выносить сор из своего ведомства. И светлейший спрятал дело под сукно. Военно-судной комиссии не пришлось скрипеть перьями. Однако и строптивым офицерам не пришлось надеть Георгиевский крест, положенный за “кругосветку”. Оставалось лишь пожимать плечами: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” И долго еще ощущать себя опальными. Ну-с, а господин Юнкер, его высокоблагородие, отродясь не слыхавший, что такое благородство? Напомню читателю о “Русском художественном листке”. В нем (за какой год, убей, не могу сообразить) мелькнула карикатура на бывшего моряка в полицейском мундире. Под рисунком было объяснение: “Все части света обошел, лучше 2-й Адмиралтейской не нашел”. Андрей Логгиныч не тотчас променял морской мундир на полицейский. Он еще немало куролесил. Мотал казенные денежки и одалживался у консулов за границей. Может, при неизменном покровительстве светлейшего и в адмиралы бы угодил. Но однажды (в отсутствие Меншикова) прогнали-таки господина Юнкера в шею. Юнкер, как кот, умел падать на четыре лапы. Всяческими плутнями он заполучил доходное местечко пристава в одной из частей города Санкт-Петербурга, во 2-й Адмиралтейской. Оно и понятно: где полиция, там и мздоимцы. И зажил Юнкер, что называется, своим среди своих. А Бутаков и Бессарабский, Шкот и Фредерике продолжали корабельное, походное, нелегкое житье-бытье. Про Бессарабского, Шкота и Фредерикса я писал выше. Охотники узнать дальнейшую судьбу Алексея Иваныча Бутакова, достойного признательной памяти, благоволят обратиться к очерку “Шхуна “Константин”.[189]
Ю.ГАЛЬПЕРИН ОШИБКА В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Помещенный здесь отрывок — главы из новой книги “Человек с микрофоном”, которая готовится к печати в издательстве “Искусство”. Ю.Г.
САЖУСЬ… НА КОЛЕСО
Если спросить вас, какой самый популярный вид спорта, вы, не задумываясь, ответите: футбол либо хоккей. Трудно найти даже школьника, не знающего фамилий наших знаменитых игроков. И все же, если тот же вопрос задать поляку, чеху, немцу, итальянцу, французу, многие из них дадут другой ответ: велосипедная гонка. В этих и во многих других странах велосипед — достойный соперник шайбы” футбольного мяча. Многодневная гонка на большие расстояния необыкновенно увлекательна и вместе с тем очень сложна. По улицам городов и сел, по крутым горам с головокружительными спусками и поворотами мчится лавина велосипедистов. Скорость во время спуска иногда доходит до восьмидесяти километров в час, и нужны крепкие нервы, зоркий глаз, великолепное владение техникой, чтобы не столкнуться, не упасть на повороте, не отстать от своих соперников. Почти в каждой европейской стране ежегодно проводятся такие соревнования велосипедистов, и сотни тысяч, миллионы болельщиков волнуются за их исход. У нас этот вид спорта и до сих пор не получил должного размаха, хотя велосипед — заветная мечта каждого мальчишки, да, пожалуй, и большинства девчонок. Едва освоив трехколесный “экипаж”, ребята азартно крутят педали, а пересев на двухколесный “Орленок” или “Школьник”, самозабвенно соревнуются друг с другом. И я с детства увлекся велосипедом, поэтому очень охотно взялся опекать не столь уж многочисленные соревнования. Сначала репортажи с трека московского стадиона “Юных пионеров”, с Тульского трека, гонка по Садовому кольцу и, наконец, первая многодневная шоссейная гонка по дорогам трех республик — России, Белоруссии, Украины. В открытой судейской машине едем за велосипедистами. Характер этого тактически сложного соревнования, его тонкости постигались не сразу, но яркий накал спортивных страстей заразил с первого же дня. Как вести репортаж об этом многогранном, многоликом и длительном (каждый этап 2–4 часа) состязании? Где лучше находиться, как увидеть самое главное, как за несколько минут до финиша попасть к ожидающему там микрофону? Чтобы рассказать о ходе гонки, фиксирую все интересные моменты в блокноте. Такой ежедневный дневник оказался очень полезным. Уже на финише, за несколько минут до прихода победителя этапа, пытаюсь воссоздать картину происходившего на трассе. Это должен быть не простой рассказ, а эмоциональный по самому характеру изложения и по языку репортаж, будто бы все то, о чем говоришь, совершается сию минуту. Да простится мне столь ненаучное определение, но комментатор обязан в необходимых случаях “взвинтить” себя, оживить перед мысленным взором минувшие события и с чувством, соответствующим их характеру, передать слушателям. А коли так, то твой репортаж о самом финише легко смыкается с тем, что уже сказано, становится не только логическим продолжением, но и звучит в одном эмоциональном ключе. Вообще спортивный комментарий противопоказан слишком хладнокровным, уравновешенным, а уж тем более флегматичным журналистам. В нем должна все время биться живая человеческая душа: радости и огорчения, волнение, искреннее восхищение красотой, мужеством спортсменов — участников того или иного поединка. Это, по-моему, всегда отличало В.Синявского, Н.Озерова, В.Набутова, многие (но не все) репортажи А.Галинского. Рациональные, “справочные” комментарии, где основа — нудное повторение анкетных данных спортсменов, протокольное перечисление технических результатов, раздражают, сокращают число болельщиков. А ведь из их армии рекрутируются и будущие спортсмены. Увлекательные репортажи зовут молодежь попробовать свои силы. Однако вернемся к велосипеду. Популярность велоспорта породила новое международное соревнование под девизом борьбы за мир и дружбу между народами. Редакции трех крупнейших газет — польской “Трибуна люду”, чехословацкой “Руде право” и немецкой “Нейес Дейчланд” — весной 1948 года пригласили спортсменов всех стран на первую гонку мира. Наши гонщики пока не отваживались принять в ней участие. В один из апрельских дней 1954 года, когда я отсыпался после ночной работы в аппаратной, меня разбудил звонок из редакции: — Срочно к главному. Внестудийщиков, исполнявших роль мастеров на все руки, у нас было не так уж много, и никто не удивлялся, если даже ночью поднимали с постели. Оставалось лишь гадать: зачем? Вот и я мчался в редакцию, снедаемым понятным любопытством. Бегу по лестнице на третий этаж, влетаю в кабинет: — Вы меня вызывали? — Садись. — И редактор спокойно опустил глаза, продолжая править лежавший перед ним материал. Закончил, неторопливо снял очки: — Скажи-ка, как наши велосипедисты, сильны? Я ждал чего угодно, только не такого странного вопроса. Может быть, он вспомнил мое горячее выступление на летучке в защиту велоспорта, сетования на малые отрезки времени для репортажей о нашей гонке? Однако вопрос задан. — Сильны, — говорю, — и вообще мы еще мало пропагандируем такой динамичный, увлекательный и самый доступный вид спорта. Репортажи с гонки режут, ругаются, что я кричу у микрофона, а один деятель умудрился сказать — “нездоровый азарт”… Главный молчит, только прищурился и смотрит так, будто оценивает. — В самом деле, нельзя же специально сдерживаться, если на финише такие страсти разгораются, тысячи людей волнуются, переживают… — Кричать надо с умом, — спокойно вставляет редактор. — Так, говоришь, сильны наши ребята? А кто поедет на гонку мира, знаешь? — Конечно, знаю. Вот поехать бы с ними! — Ну и поедешь, — так же невозмутимо сообщает главный, — для этого и звал. Только чтоб выиграть! — Спасибо! Обязательно выиграем! — обалдев от радости, легкомысленно обещаю я. — Посмотрим. А теперь быстро в Комитет физкультуры, оформляйся, тебя включили в состав делегации. В комитете с пристрастием допрашиваю тренера нашей команды Леонида Шелешнева. Я ведь совсем не знаю зарубежного велоспорта. Шелешнев охлаждает мой пыл: — Не забудь, впервые едем, а там такие зубры — дай бог в тройку попасть. Но это между нами, нельзя ребят расхолаживать. — Понял. Молчу. Перед отъездом захожу к главному редактору за последними наставлениями. Помня о своем опрометчивом обещании, пытаюсь слегка дать “задний ход”. — Все-таки впервые едем, там такие зубры — дай бог в тройку попасть. — К чему ты это? — На первых порах могут быть и неудачи на этапах. Вы уж скажите, чтоб не резали меня тут сильно… — А кому охота слушать про неудачи? Нет, ты уж давай нам что поприятнее. Ладно, поезжай, нечего загодя петь лазаря, видно будет. Варшава. Огромный современный отель забит велосипедистами, судьями, журналистами. В холлах, застеленных цветными коврами, среди новой сверкающей мебели торчат опрокинутые вверх колесами гоночные машины, всюду насосы, инструменты. У машин колдуют механики, сами велосипедисты. Проходят здоровенные парни с колесами, охапками однотрубок — главной велосипедной обувью, где камера и покрышка единое целое. Кто-то прилаживает к рулю машины цилиндрические пластмассовые бачки с торчащими вверх тоненькими трубками — пить на ходу. В приоткрытую дверь ближнего к холлу номера виден массажист. Он усердно мнет бока одному из своих подопечных. Прямо-таки велотабор! Захожу в пресс-центр. Тут груды бумаг: справки, списки команд, брошюры о прошлых соревнованиях, карты маршрута… Получаю солидный комплект: походную сумку, значок “Пресса” и огромный синий парусиновый мешок с моим журналистским номером “Р-360”. На мешке бирка с названиями всех гостиниц до самой Праги и заранее проставлен номер, в котором будешь жить. (Жить? Ночевать.) — Это так, — наставляет меня польский комментатор Витек Добровольский, — утром вещи в мешок — и уходи. Приедешь в другой город — они будут уже в твоем номере. — Здорово придумано! В “чековой” книжке талоны на телесрочные разговоры, питание и даже листки с нарисованной кружкой пива и бутылкой минеральной воды. Все предусмотрено. Лишь одного нет в проспектах — кто победит… С Витеком едем на радио договориться о порядке работы в студиях, связи с Москвой. Забот столько, что Варшаву посмотреть некогда, как, впрочем, будет потом по всему пути — увидишь только трассу да в местах однодневного отдыха побродишь па городу. Возвращаюсь в отель. Перед входом — толпа болельщиков. Гонщики пробуют налаженные машины, а иные и просто не прочь покрасоваться перед охочей до зрелищ публикой, дать автограф бесчисленным собирателям спортивных сувениров. Завтра первый старт. Журналисты поедут в специальном автобусе и в открытых машинах. Каждую команду сопровождает на трассе автофургон с запасными машинами, колесами, прочим снаряжением. Идут и санитарные машины — всякое может случиться: трасса непривычная, на пути много городов, булыжные мостовые, трамвайные рельсы (опасно!), крутые повороты… День за днем мелькают города, поселки, перелески, катится перед глазами многоцветная велокавалькада. Она то растягивается гигантской цепью, то распадается на звенья. Когда удается приблизиться к группе, где есть кто-нибудь из наших ребят, стараешься поддержать, крикнуть что-нибудь вроде: “Жми, Женя!” Иной раз и поможешь дельной информацией: “Ты третий, Славка закололся”. Это уже важно: у Чижикова, который шел впереди, — прокол, меняет однотрубку, и ты теперь входишь в зачет команды, а ее результат определяют по первым трем. Случается, что в большой группе падает сразу несколько человек — “завал”, настоящая куча мала. Стараясь обойти ее или воспользоваться суматохой для побега, рывка вперед, гонщик не успевает увидеть попавшего в беду товарища по команде, а знать ему это надо. Вот и орешь: “Виктор в завале!” Еду в машине с тренером. Вдруг вижу — капитан нашей команды Чижиков, шедший в головной группе, “спускается” в хвост, отстает. — Что с ним, Леонид? — спрашиваю у тренера. — Молодец! Пошел за Немытовым. Теперь понимаю: Чижиков вернулся к отставшему из-за поломки Немытову, чтобы помочь ему выйти вперед — вдвоем легче. А бывает и так, что вперед уходить невыгодно: надо караулить ближайших конкурентов, задержать их. Беглецы команде не опасны, зато если с ними ушел один наш, он поможет (если дойдет до финиша) опередить соперников. Тактика команды меняется буквально на ходу, удивительно интересно, захватывающе. Но пока о наших гонщиках даже не говорят, их никто не знает. Фавориты — поляки, чехи, французы, голландцы. Кто угодно, только не наши. Обидно. И репортажей моих почти не дают, чаще информации: “На третьем этапе гонки мира победу одержали чехословацкие велосипедисты…” Так продолжается до Берлина. Километрах в десяти от города наша машина обогнала головную группу и мчится на стадион. На улицах несметные толпы. Среди зрителей выделяются люди в черных цилиндрах — трубочисты. Говорят, встреча с ними приносит счастье. Принесут ли они счастье нам? Я очень волнуюсь: когда мы оставили гонщиков, в маленькой группе лидеров шел армеец Евгений Немытов, впервые появилась надежда одержать победу… Вот и стадион. Перед самым входом крутой поворот — сложно! Недаром на улице и у ворот сделаны “мягкие” углы — заложены толстенными кипами соломы. Стадион полон до краев, семьдесят тысяч болельщиков. Соскакиваю с машины и как сумасшедший бегу к микрофонам. Их на поле больше десятка — словно солдатики в почетном карауле у финишной черты. Какой мой? Глаз бежит по табличкам: Польша, Франция, ГДР… Рядом техник, кажется, симпатичный парень. Разбираться некогда. — Как зовут? — Курт. — Курт, начинаем запись, дайте команду аппаратной. Веду репортаж, а думаю все о Немытове, да и тоном своим, всем рассказом хочу приготовить слушателей к радостному финалу, верю в него. С улиц доносится все нарастающий шум. Он, как океанский вал, накатывается на стадион и в какой-то миг захлестывает, накрывает его от края до края. Из ворот на гаревую дорожку вылетает гонщик в алой майке — Немытов! Я, конечно, ору, стараясь перекричать все семьдесят тысяч. Вот он, Евгений Немытов, вот он — день нашего торжества, первого торжества!.. Следом за Немытовым, низко пригнувшись к рулю, жмет на педали Ван Меенен, известный голландский гонщик… Он сидит на колесе у Немытова… Женя! Женя! Не сдавай!.. Они подходят к последнему развороту. Скорость огромная, машины почти ложатся на развороте… Ван Меенен поравнялся с Немытовым… Идут вровень… Нет, голландец вырвался вперед на четверть колеса! Финиш!.. Четверть колеса проиграл Немытов! И все равно победа, все равно торжество! Вы слышите, как рукоплещет стадион двум победителям труднейшего этапа, как скандируют имя нашего Немытова? И радостно, и обидно — всего четверть колеса! Но с этого дня спортивная пресса мира заговорила о наших ребятах. Немытова даже зачислили в фавориты, на него уже делают ставки в спортивном тотализаторе… А дальше снова невезение, да и неопытность тоже. Слишком простыми оказались наши домашние трассы, не было тренировки в финишах на стадионах, часто выходили из строя однотрубки, да и тяжелее они итальянских, а это тоже немаловажно. Стараюсь вникнуть во все детали, постичь тонкости — иначе какой же я комментатор? Надежда нашей команды — Немытов, но и ему изменяет спортивное счастье: проколы, поломка машины… На финише в Праге итог — у команды шестое место. Теперь и я понимаю, что это несомненный успех — команд-то восемнадцать! — Понимаешь — и молодец! — говорит Шелешнев. — Не в первую, так во вторую тройку попали. Лиха беда начало! Вернувшись в Москву, я повторяю эти слова в редакции, пытаясь разубедить тех, кто иронически отнесся к спортивным результатам гонки. Рассказываю о кровавых мозолях на руках ребят, набитых на мощенных крупным булыжником улицах немецких городков, о “завалах”, “заколах”, плохом качестве велосипедных рам (сломалась у Немытова), о замечательном немецком гонщике Шуре… И все же на следующий год радиокомментатора на гонку не послали. Команда наша еще лучше прошла — стала четвертой, да и то проиграв бронзовым призерам всего несколько десятков секунд. Весной 1956 года вновь еду в Варшаву, на IX гонку мира. Теперь уже двадцать четыре команды оспаривают первенство, приехали даже чемпионы мира — итальянцы. Конечно же, они фавориты, но и советских гонщиков не сбрасывают со счета — могут войти в тройку. Не буду рассказывать подробности нашего выступления, хотя сделал бы это с удовольствием, но все же главное восстановлено в надежде, что удивительный накал борьбы, поистине драматические коллизии не оставят вас равнодушными. Сначала казалось, что прогнозы прессы оправдываются: первый же этап легко выиграла итальянская команда, и лидером стал Дино Бруни. Стартуем на Лодзь. В головной группе уверенно держатся Евгений Клевцов, Павел Востряков, Николай Колумбет, капитан команды Виктор Вершинин. Наша репортерская машина едет за ними. На пути пункт питания: по обе стороны шоссе столы, на них стоят бумажные стаканчики с апельсиновым соком, кофе, лежат лимоны, бутерброды. Ни один человек из группы лидеров не позволяет себе останавливаться. Это “привилегия” отстающих. Гонщики на ходу подхватывают из десятков протянутых рук кто питье, кто фрукты. По молчаливому уговору, группа замедляет ход, идет “вразвалку”. Бросив руль и запрокинув голову, жадно пьет сок Вершинин, а я невольно любуюсь его мощной атлетической фигурой. “Завтрак” окончен, шоссе усеяно пустыми стаканчиками, корками, бумажками, и лидеры вновь закрутили педали. Журналисты не любят пропускать буфеты, и наша машина сделала короткую остановку. Нагоняем группу как раз в момент очередного “завала”. Из разноцветной груды колес и переплетенных ног один за другим выпутываются велосипедисты и, вскочив в седло, бросаются в погоню. Самые несчастливые лихорадочно выправляют рули, снимают колеса. Как наши?! Мелькнула майка Вершинина — цел, ушел вдогон. Что это?.. У обочины с перекошенным от отчаяния лицом Евгений Клевцов. В руках у него колесо… нет, не колесо, а крендель… — Колесо! — отчаянно кричит Клевцов. — Скорее колесо! Ближняя техничка — итальянская, нашей еще не видно. — Колесо!!! Машина круто тормозит. Итальянский механик протягивает Клевцову сверкающий никелем круг. Спасен. Вот настоящая спортивная честь! Поставить колесо — один миг, и Клевцов пускается в погоню. Вот он нагнал еще двоих пострадавших. Теперь они преследуют лидеров втроем, выходя по очереди вперед. Так легче — первый грудью разрезает воздух. Но расстояние сокращается медленно. Столица польских текстильщиков Лодзь. Начиная с пригородов и до финиша несметное количество зрителей. Люди в окнах буквально лежат друг на друге, забиты балконы, сплошь “заселены” крыши домов, под гроздьями болельщиков гнутся деревья, мальчишки оседлали даже фонарные столбы. Троица самых отчаянных ухитрилась влезть на огромный рекламный щит у кинотеатра. Гонщиков подбадривают криками, бросают на мостовую цветы… Неужели столько людей может жить в одном городе?! Поразительная картина. А гонщики уже позади. Мы вышли вперед и принимаем теперь парад болельщиков, мчась на бешеной скорости к стадиону. Первой вошла четверка велосипедистов, и в ней Клевцов! Он не только догнал лидеров, но и сумел уйти от них вместе с Адольфом Шуром (ГДР) и двумя итальянцами. И откуда берутся силы?.. Мой микрофон рядом с польским. Я захлебываюсь от надежд (помните, как с Немытовым в Берлине?), веду репортаж… — Вот эта четверка! Клевцов здесь, он даже вырвался вперед… Они уже вдвоем с Шуром борются за финиш… Клевцов настигает Шура! Еще, еще немного!.. Шур! Клевцов! Полколеса решили победу… Ничего, это только начало, отличное начало! Вслух прикидываю перед микрофоном возможности нашей команды. Сейчас должны финишировать Востряков и Колумбет… Слышу, кто-то рядом громко говорит обо мне… Да это же Добровольский! Его команда еще не пришла, и он, заполняя время, рассказывает об успехе Клевцова, о том, как его коллега, комментатор Москвы, чуть не прыгает от радости у микрофона. — Поздравляю! — кричит мне Витек. Я на секунду подбегаю к его микрофону. — Спасибо, Витек! Это очень благородно: волнуясь за своих, они уже близко, поздравить соперников с успехом… Вот идут! — Идут наши польские парни! — подхватывает Добровольский. А я — уже у своего микрофона — вижу только наши алые майки… Второе место на этапе. Дело пошло! И закрутились в мелькании спиц дни за днями. Радости и огорчения, надежды и разочарования, а все вместе-изнурительная и волнующая работа, итога которой не может предсказать никто. Четвертый день. До Олимпийского стадиона во Вроцлаве остается пятьдесят километров. В большой головной группе неоднократный чемпион страны Ростислав Чижиков и новичок — Николай Колумбет. Я вижу, как они медленно пробираются в голову гонки, идут рядом. Что-то будет! Прошу шофера подъехать как можно ближе, сразу же за мотоциклистом, охраняющим лидеров. Какое-то неуловимое смятение в группе, и два гонщика, резко рванувшись вперед, бросают свои машины вправо, затем — зигзаг влево (чтоб помешать другим сесть им на колеса), стремительный рывок… Скорость! Скорость! Скорость! Это Чижиков и Колумбет. Все же еще два — чех и финн — успевают зацепиться за них. Побег удался. Итальянцы, поляки, немцы ринулись их преследовать, группа распалась на несколько клубков. Наша машина осторожно обходит велосипедистов. И мы в погоне за лидерами. Но только нам удается достичь четверки. На автомобиле это намного легче. Вот и Вроцлав. — Ко-лум-бет! Ко-лум-бет! — скандирует стадион. — …Впервые за три года спортивных боев, — это я кричу у микрофона, — советский гонщик увенчан лавровым венком победителя этапа. Душа этой победы — Ростислав Чижиков. Они сегодня вывели и нашу команду на первое место, и по сумме всех четырех этапов мы впереди! Завтра утром наши ребята выйдут на старт в голубых майках лидеров гонки!.. Какое же небывалое счастье вести такой репортаж! И в моих комментариях, как и в душе, — одни восклицательные знаки. Пусть попробуют сказать, что зря кричал у микрофона! Поздним вечером вся команда слушает в отеле мой почти не сокращенный репортаж. — Ну, брат, — говорит капитан, — если выиграем, и тебе дадим золотую медаль, здорово получилось. — Так это не у меня, у вас получилось, — уточняю я. В команде праздник. За победу на этапе вручены призы, а Колумбету — еще и именной торт, так заведено у наших ребят. И Москва, довольно сдержанная на похвалы, поздравила героев. Пройдены Польша, Германия, остаются последние этапы на чехословацкой земле. Основные претенденты на победу — советские и польские велосипедисты. Это не мешает их дружбе, как не мешает и нам с Добровольским поочередно поздравлять друг друга, вместе подсчитывая минуты, а случалось, и секунды, что выводят вперед то его, то мою команду. А чемпионов мира и не видно. Дино Бруни уже на тридцать пятом месте. События последних дней стали поистине драматическими. Покинув цветущую долину, цепочка велосипедистов поднимается все выше и выше по мрачному, холодному ущелью. Начинается самый трудный горный этап — на Карловы Вары. Вдоль обочин, на поросших лесом склонах тут и там еще лежит плотный слой снега. Надев на себя свитеры и плащи, мы мерзнем в открытой машине, а каково полураздетым гонщикам? И дорога сложная: то, стоя на педалях, ребята с трудом одолевают подъемы, то мчатся с высоты по крутым, закрученным в спирали спускам. В горах признанные мастера — итальянцы, им и предрекали выигрыш финиша в Карловых Варах. Как же были удивлены журналисты, да и судьи, увидев, что среди лидеров уверенно идут Вершинин и Востряков! Карловы Вары. Небольшой, вытянутый вдоль предгорья курортный городок. Стадиона здесь нет, и финиш прямо на главной улице. Среди зрителей есть и наши советские болельщики, отдыхающие в здешних санаториях. Они уже ждут у микрофона с табличкой “СССР”. — Как наши? — Пока хорошо, Вершинин и Востряков — в голове гонки, и другие близко. Это сообщение встречают аплодисментами. Люди оборачиваются, понимающе, хотя и не без зависти смотрят на нашу группу. Они надеются поздравить с победой своих, кстати очень сильных гонщиков. Из другой машины выскакивает Шелешнев. — Как? — Пока хорошо. Боюсь за финиш. — Почему? — Опасно очень. Идет большая группа, а тут смотри, как узко, не было бы завала… Проходит несколько томительных минут. Из-за поворота выкатываются гонщики. Идут слитно. Как цветы на ветру, качаются в такт движению головы в шапочках всех тонов радуги. Вот они, почти рядом. Среди первых вижу Вершинина, тут же и Востряков… Последние метры. Востряков зажат в середине, вырваться почти невозможно, а дорога каждая секунда. И тут… кто-то падает прямо перед ним. Востряков, я вижу, рвет машину вверх — перескочить через упавшего, иного выхода нет. В этот же миг поднимается упавший гонщик. Что будет?! Не могу отвести глаз. Вздыбленная машина Павла со всей силы ударяется колесами в спину встающего, а сам Востряков, как из пращи, вылетает из седла и плашмя, всей грудью, падает на асфальт!.. Разбился?! Вскакивает, обезумевшим взглядом ищет свою покалеченную машину, хватает, бежит вперед. С машиной в руках можно финишировать. — Павел! Павел, куда, хватит! — кричим все вместе. К нему уже бросился Шелешнев, подбежали врачи. Востряков даже не заметил, что в падении пересек меловую черту финиша. Мне тоже хочется скорее к нему, но надо закончить репортаж. Этот героически пройденный этап вернул нашей команде утерянное накануне звание лидеров гонки. Опережаем поляков на полторы минуты. Едва закончив работу, бегу в отель “Москва-Парк” к Вострякову. Побледневший Павел лежит в постели. У него забинтованы рука, колено, бедро, бок, болит грудь. — Паша… — Живой, — силится улыбнуться Востряков. Тут же Виктор Вершинин. Они вдвоем в номере. Вдвоем они сегодня победили. Виктор стоит, молчит, еще не разрядился. — Так трудно, так трудно, сил просто нет! — вдруг выкрикнул он, бросился в постель и начал молотить ни в чем не повинные подушки, словно это были ненавистные горы. — Ты пойми, — заговорил изливший свою злость на подушки Вершинин, — я лезу на гору и думаю: неужели бывает людям труднее?.. — А у меня так замерзли ноги, что только бы и согреться на подъеме, — включается в разговор Востряков, — а как вспомню, чего это стоит, так уж лучше померзнуть… Смешно спрашивать Павла, больно ли ему. Конечно, очень больно, но как завтра? — Пойдем, — просто отвечает Востряков. Утром следующего дня на старте, как и обычно, — толпы людей. Хочется поближе рассмотреть героев гонки, их машины, подарить значок или открытку, сфотографироваться вместе со своим фаворитом. Около нашей команды всегда много болельщиков, а теперь и того больше — ждут Вострякова. Павел двигается с трудом, прихрамывает. Его велосипед ведет так называемый “опекун”. Это очень хорошая выдумка — опекуны. По всей трассе каждого гонщика обязательно встречает на финише заранее прикрепленный к нему молодой спортсмен. Он же поневоле и болельщик своего подопечного, следит за его успехами с самого начала гонки, а уж после личного знакомства — тем более. Финиш. Опекун, увидев свой номер, бросается к велосипедисту, принимает из его уставших рук машину, тут же заботливо накидывает плед (не простудился бы), дает напиться, отводит к умывальнику, проводит в отель — словом, сделает все, чем может быть полезен товарищу. Павел залеплен пластырем, ссадины густо замазаны йодом. — Содруг, как? — участливо спрашивают из толпы. — Молодец, Востряков! — приветствуют его советские “болельщики в квадрате” (так кто-то метко их окрестил — свои болезни лечат и за команду болеют). Они принесли цветы, предлагают, захваченные еще из дому сладости. Утром на разборе у тренера, где обсуждался тактический план ведения борьбы на этапе, Вострякову поставлена задача только дойти, не думая о времени. Стартуем. Команда наша идет, как задумано. Уже с половины трассы начинаются неприятности: главным образом проколы. А Павел Востряков, как влился после старта в основную группу, так и идет. Не может он себе позволить “кататься”, знает: все может случиться. И случилось! К концу этапа неудачи так раскидали по трассе наших ребят, что только Павел один лишь смог стать тем третьим в зачете команды, чтобы она не потеряла звания лидера. Часто пишут: “Забыв о своей боли…” Легко сказать, а вот как “забыть”, преодолеть ее? Востряков сумел. Услышав от тренера: “Паша, выручай!” — он еще увеличил скорость. Попытка, еще одна, и он вырывается из большого клубка, увлекая за собой нескольких гонщиков из “неопасных” команд. Надо нагнать группу, где идут основные конкуренты — поляки. Нагнал да так зацепился за них, что те не могли освободиться от Вострякова до самого финиша. Ребята не знали, как Павла отблагодарить, а он только отмахивался: — Да ну вас, нежности разводить!.. А сам обнял очередного опекуна, чтобы не упасть от усталости, и жадно приник к фляжке с кофе. Последний, решающий этап IX велогонки мира: Брно—Прага. Теперь уже все журналисты, а ими набито несколько машин, так и вьются около головной группы. Набрасываю в блокноте план итогового репортажа, вспоминаю основные события и в то же время не спускаю глаз с гонщиков. Наши впереди, и времени на репортаж мне не пожалеют. В голове гонки Клевцов, в группе, что поотстала, — поляки и тоже наши: Колумбет, Чижиков, Востряков (!). Этот день помню так, будто все происходило вчера. На каждом этапе, чтобы сохранить высокую скорость, устраиваются промежуточные — “лётные” — финиши. За выигрыш — три солидных приза. Заманчиво! На последнем этапе два таких финиша. Подходим к первому. Что же Клевцов? Почему так спокоен? Его спутники рывком бросаются на штурм, а Клевцов даже не вступает в борьбу! Мне обидно, но некому излить свое чувство — в машине нет никого из наших советских журналистов. “Нет сил, бережет себя”, — подумалось тогда. И на втором финише повторилась та же картина. Хорошо хоть, не отрывается Клевцов от лидеров, держится. До Праги шестьдесят километров. На обочину съезжает Чижиков — прокол. Сорок километров до финиша. “Завал!” Снова сшибают избитого Вострякова, его машина искалечена. — Машину! Машину! — потрясает кулаками Павел. К счастью, наша техничка рядом. Но как только поляки увидели, что в группе остался всего лишь один Колумбет, они тут же сильно прибавили скорость. Это последняя возможность вырвать у нас победу. Накануне они проиграли сразу десять минут, но такое может повториться и с нами. Мы медленно проезжаем мимо Вострякова, и уже не только я, даже иностранные журналисты подбадривают спортсмена, завоевавшего своим мужеством всеобщее уважение. Неужели упустим победу?! Где же Вершинин, Чижиков? Уговариваю коллег остановиться, чтобы увидеть положение на трассе. Согласились. Смотрю на часы. Ужасно! Разрыв уже больше трех минут. Вот они наконец! — Ребята, надо работать: Павел отстал — завал! — кричу им что есть мочи. Слышали или нет?.. Им еще подскажут, наверное, из технички, хотя она тоже не может отставать-надо страховать идущих впереди. Едем, снова обгоняем Вершинина и Чижикова. Опять кричу. Кажется, Виктор кивнул головой? Нагоняем Вострякова. Какой же он героический парень — вот-вот достанет головную группу… Пока мы мотались по трассе, приблизился финиш. Пора в Прагу. …Колумбет на месте, хорошо идет Клевцов. Он все еще в группе лидеров, почти двести километров возглавляет гонку. — Женя, милый!.. Снова стадион. У моего микрофона заботливо приготовлена подставка, чтобы лучше был обзор. — Поздравляю! — говорит техник. — Спасибо, рано еще. Можно начинать? — Все готово. По радио сообщают: впереди чехословацкие гонщики Кршивка и Чохой. Какой овацией ответил на эту весть стадион! Я даже не слышу себя… А Клевцов?.. — …Только что передали по радио — впереди два чехословацких гонщика. Они уже на улицах Праги, за ними должен идти Клевцов, но где же он?.. И тут в мой репортаж включается диктор стадиона: — На подъеме советский гонщик Клевцов нагнал Кршивку и Чохоя, они вместе идут к стадиону. — Вы слышали, поняли? — продолжаю репортаж. — Наш Клевцов сейчас будет на стадионе вместе с двумя чехословацкими велосипедистами! Вот они проходят ворота… Нет, не все — всего лишь один. Не вижу, кто… Кто же?.. Клевцов! Евгений Клевцов выигрывает последний этап! Кршивка и Чохой уже не смогут его достать, не смогут! Финиш!!! Как я ошибся, думая, что у Клевцова нет сил! Он расчетливо берег их для последнего, решающего броска и победил! Но где же остальные? Клевцов принес команде драгоценное время, лучшее время этапа, его не так много в запасе у команды. Пока не пришли соперники, еще ничего нельзя сказать. Но появляется большая группа; там должны быть польские гонщики, не знаю сколько, и наш Колумбет… Групповой финиш. Один Колумбет здесь! А поляки? Сколько их пришло в группе?.. Один… Еще двое! Все, есть зачет! Кто будет третьим у нас? Должен быть Востряков. Да, снова судьба команды в руках Павла Вострякова!.. Запас времени тает на глазах. Судьи смотрят на секундомеры, журналисты, мой коллега Добровольский… Вот уже съедено время, выигранное Клевцовым, остается всего восемь минут… Где Востряков? Почему же молчит радио на стадионе?.. Осталось семь минут… Неужели проиграем? Нет, не может быть, мы верим Павлу, он дойдет, не сдастся. Остается шесть минут. Востряков… Востряков… Всего только пять минут… Вот он! Идет!.. Павел, родной, давай!!! Финиш! Победа! Советские велосипедисты — чемпионы IX гонки мира! Слава чемпионам! Завоеваны золотые медали, победа на этапе, и наш Николай Колумбет бронзовый призер в личном зачете — третье место!.. Не знаю, хорош ли был репортаж, но для меня он один из самых счастливых. И своего обещания не забыли ребята: из врученных команде ыедалеп одну торжественно подарили и мне. Я рассказываю о спортсменах, которые теперь уже сами не участвуют в соревнованиях, но это не значит, что они должны быть забыты. Вообще очень скверно, что мы, журналисты, часто расстаемся со своими героями, когда они уступают место молодым. Без прошлого нет будущего. Эти ребята тоже вплели золотую нить в огромный лавровый венок побед и достижений советского спорта. Недаром же все они заслуженные мастера, растят новую смену. Я же горд, что подружился с ними, болел за них и хоть немного поддерживал боевой дух, вызывая репортажами уважение к их спортивному подвигу, интерес и симпатии миллионов соотечественников. Рад, что “сидел у них на колесе”, и очень хочется вновь побывать на гонках.ОШИБКА В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Участие в IX велогонке мира подарило мне радость неожиданного, большого открытия. И здесь все началось с радио. Когда к исходу дня завершаешь работу в аппаратной, каждый раз нового радиодома, то не жди, чтобы тебя без расспросов и дружеского застолья отпустили в отель. Варшава в этом смысле не была исключением. Не знаю уж, как это произошло, но товарищи из польского радио знали, что я недавно вернулся с Северного полюса, и, естественно, больше всего говорилось о жизни на льдине, арктических перелетах. — Скажите, — спросил меня редактор русского отдела Станислав Коженевски, — а вам знакома фамилия Нагурского? — Конечно! Это русский офицер, если не ошибаюсь, поручик по Адмиралтейству, знаменитый авиатор. Вы о нем спрашиваете? — Да, да, — оживился Станислав, — именно. — В энциклопедии написано, что Нагурский — отец полярной авиации, что он первым в мире отважился летать во льдах… Искал экспедицию Седова, потом — война, и он погиб. — Погиб? — как-то многозначительно переспросил собеседник. — Вы уверены в этом? Разговор становился более чем странным. Я твердо знал, что этого замечательного летчика нет в живых, что его именем названа у нас одна из полярных станций. — Единственно, что могу еще сказать: о его полетах да и о нем самом очень мало материалов, я специально интересовался. У вас, наверное, есть Большая советская энциклопедия? — Конечно! Хотите, принесу? — И Станислав стремительно вышел. — Может быть, у вас в редакции есть какой-нибудь новый материал о Нагурском? — спросил я сидевшую рядом сотрудницу русского отдела. — Не знаю. К стыду своему, впервые слышу эту фамилию, хотя она польская, — смутилась сотрудница. Вот в чем дело! Я никогда не задумывался о национальности Нагурского. Возможно, он и в самом деле поляк, служивший в царской армии, а Станислав нашел здесь либо родственников, либо неизвестные документы о его смерти. Вернулся Станислав и, по-прежнему загадочно улыбаясь, положил передо мной синий том энциклопедии. Читаем. Вокруг нас уже целая группа журналистов, почувствовавших некую сенсацию. “Нагурский Иван Иосифович (1883–1917) — русский военный летчик, совершивший первые полеты в Арктике на самолете в 1914 году в поисках русских арктических экспедиций Г.Я.Седова, Г.Л.Брусилова и В.А.Русанова. Нагурский совершил (с Новой Земли) на гидросамолете пять полетов, во время которых достиг на Севере мыса Литке и удалился к северо-западу на 100 км от суши. Нагурский находился в воздухе свыше 10 часов и прошел около 1100 км на высоте 800–1200 м. Нагурский указал на возможность достижения Северного полюса на самолете”. — Вот материалы о том, как он мыслил полет к полюсу, я и искал. — Ладно, не буду вас мучить, получайте подарок. — И Станислав дружески хлопнул меня по плечу. — Я познакомлю вас с Нагурским! Все, в том числе и я, разинули от удивления рты. — С кем?! — С Яном Нагурским. — С братом его, что ли? — пробормотал я. — А вот послушайте, что произошло. В варшавском Дворце науки и культуры был большой вечер творческой интеллигенции. Пришел туда и наш известный писатель Центкевич. Он в прошлом участник русских полярных экспедиций, автор книги об освоении Севера. В ней также была рассказана уж слишком короткая история полетов Нагурского. В антракте к писателю подошел какой-то мужчина: “Простите, я ваш читатель, хотел бы познакомиться. Моя фамилия Нагурский”. “Очень рад, очень рад… Простите, вы сказали — Нагурский? Уж не родственник ли вы известного в свое время летчика, он еще участвовал в поисках Седова, русского моряка, путешественника…” Незнакомец выслушал всю эту тираду и ответил: “Вы правы, родственник, и очень близкий. Я и есть летчик Ян Нагурский”. Что тут началось!.. Началось и у нас. Перебивая друг друга, мы требовали подробностей: как же могло произойти, что человека заживо похоронили, а он молчал целых сорок лет? Фантастика! — Да я сам только что узнал об этом. Вчера виделся с Нагурским, он будет выступать у нас. Договорились. Это такая история!.. Ну, Юрий, принимаете подарок? — Боже мой! Принимаю ли я такой щедрый, просто царский подарок?! Но гонка завтра стартует из Варшавы. Когда же я увижу мифического летчика? — Не волнуйтесь, завтра в восемь часов утра вы встретитесь с ним у нас в редакции. Если можно осчастливить человека, не просто человека, а журналиста, то большего и не придумать — подарить сенсацию! Влюбленные не ждут так, как ждал я этого свидания. …В комнату входит высокий, слегка сутулящийся мужчина в коротком синем спортивном полупальто. В светлых, коротко стриженных волосах почти не видно седин. На овальном сухощавом лице выделяютсябольшие внимательные глаза. Высокий, открытый лоб. Я успеваю заметить, что Нагурский взволнован: вздрогнули при рукопожатии его сухие, крепкие пальцы. Впрочем, как не понять состояния этого человека. Я еще не знаю всех обстоятельств его “исчезновения”. Но просто ли воскреснуть из безвестности, вновь после целой жизни оказаться в центре внимания прессы, впервые подойти к микрофону?.. И мне необходимо это учесть при записи его выступления. Я должен увезти на пленке обращение Нагурского к полярникам, к народу страны, где он совершил свой подвиг, страны, ставшей его второй родиной… Сначала я хотел побеседовать с ним перед микрофоном, но, подумав, понял, что могу неосторожным вопросом, даже невольной бестактностью от незнания его судьбы обидеть человека, заставить его замкнуться. Лучше просто поговорить, а еще вернее — послушать, что при первой встрече захочет рассказать мне Нагурский. Решение оказалось правильным. Изредка, очень осторожно, я помогал “раскрутиться” нелегким воспоминаниям Яна Иосифовича. Запись выступления, которую мы сделали после, потребовала от Нагурского напряжения всех сил, хотя говорил он менее двух минут и русский язык не забыл. Для семидесятилетнего человека не прост такой крутой поворот судьбы. Сообщение о Нагурском и его выступление прозвучали в “Последних известиях”, в журнале “Огонек” был помещен мой очерк, а в конце июля вместе с полярниками, пригласившими ветерана русской авиации в Москву, я встречал Яна Нагурского на Внуковском аэродроме. До его приезда я успел побывать в Ленинграде, где целые дни пропадал в Военно-морском архиве Кому не знакомо ходячее выражение “архивные крысы”? Кто, когда так оскорбительно и несправедливо окрестил великих, безвестных тружеников? Ведь это их заботами сохраняется история государств и народов. В документах, покрытых поэтической пылью веков, живут, не умирая, бесценные, неподкупные свидетельства больших и малых событий. Я понял это, попав впервые в архив. Предо мной толстенные, отнюдь не запыленные папки с материалами об экспедиции Седова, дела Главного гидрографического управления. Лихорадочно просматриваю, листаю разноцветные листки рапортов, донесений, официальных и частных писем… Тоненькая малиновая папка. Открываю. Личное дело Нагурского! Тут же копия доклада морского министерства России царю о полетах Нагурского, а в личном деле летчика каллиграфическим почерком выведено, что на докладе “Государь Император соизволил начертать: “Прочли с удовольствием” — и поставить знак рассмотрения”. В графе награды — удостоен ордена Св. Анны, а потом еще ордена — один, второй, третий — за боевые отличия в сражениях с неприятелем. Казенное личное дело читаю, как роман. Оживает все, рассказанное мне Нагурским. Вот он командует воздушными отрядами Балтийского флота. Как удивительны названия летных подразделений: “Люди”, “Есть”. Перечитываю, делаю выписки, снова роюсь в бумагах. А вот и рапорты самого Нагурского. Нужно переписать. Документов в папках множество, и все это так интересно, что невольно читаю другие, совсем не имеющие отношения к моему герою. Разве пройдешь мимо прошений и рапортов самого Седова об организации экспедиции, его тревог из-за нищенского снаряжения, жалоб на проволочки? И тут же хладнокровные, порой издевательские отписки чиновников. Я тщательно просматриваю дела Управления морской авиации. С понятным волнением читаю боевые донесения Нагурского. Серая канцелярская книга заполнена записями контрольных постов Балтфлота о пролетевших самолетах. Снова встречаю имя Нагурского, день и час вылета его отрядов. Наконец послереволюционные документы штаба, и снова Нагурский, теперь уже в должности “делопроизводителя” штаба… В моих руках небывалое богатство! Копии найденных документов я торжественно вручаю Нагурскому. В первый же свободный вечер мы разбираем найденные мною свидетельства, продолжая разговор, начатый еще в Варшаве. В поисках материалов о Нагурском я просмотрел множество журналов и газет тех лет. Среди обилия выписок была и такая: “…Первый полет аэроплана в России состоялся в 1909 году. Французский летчик Легонье на биплане Вуазена демонстрировал свое мастерство на “военном поле” в Гатчине… Биплан, загребая воздух, понемногу оторвался от земли и под ловким управлением летуна полетел, как стрекоза. Легонье с трудом удалось только два раза пролететь до двух верст по прямой на небольшой высоте; ему пришлось прекратить свой опыт на втором полете, при котором ветер пригнул его к земле, заставив спуститься на болото. Не обошлось и без несчастья: аэроплан увяз в болоте и слегка поломался, а пилот Легонье, выброшенный из аэроплана, зашиб колено”. И вот теперь я показываю это свидетельство Нагурскому. Мне, бывшему летчику, особенно интересно узнать, как попадали в те годы в авиацию, как обучались. Из личного дела Яна Иосифовича я знал, что после окончания в 1909 году Одесского юнкерского пехотного училища он был выпущен подпоручиком в 23-й Восточно-Сибирский полк, квартировавший в Хабаровске. А потом?.. — Вот этого “потом”, — смеется Нагурский, — у меня в ту пору и не было. Человеку не родовитому, пехотному фендрику в захолустном полку никаких перспектив не открывалось. Единственная возможность чего-то добиться — учиться дальше. Уже через год я выхлопотал себе длительный отпуск и уехал в Петербург, где удалось поступить в Морское инженерное училище на отделение судовых механиков. И тут увидел полеты… — Вроде такого, как Легонье? — Так ведь тогда все только начиналось, но уже летали русские летчики, открылся императорский Всероссийский аэроклуб. А я был покорен совершенно… Добившись зачисления в аэроклуб, Нагурский быстро овладевает примитивной (а значит, весьма ненадежной и опасной) техникой, сдает экзамен на звание “авиатора”; два полета по замкнутому кругу “без прикосновения к земле” и еще один “на высоте не ниже пятидесяти метров”. Тем временем в Гатчине открывается военная авиационная школа. Там уже были новейшие самолеты, более серьезная программа. В 1913 году поручику Нагурскому присваивается звание военного летчика. Почти в то же время русскую общественность взволновало исчезновение трех полярных экспедиций: лейтенанта Георгия Седова, геолога Владимира Русанова и лейтенанта Георгия Брусилова. Для их поисков снаряжаются экспедиционные корабли, и решено впервые использовать самолеты. Нагурский, уже успевший обратить на себя внимание, приглашен занять должность летчика. Заказанный во Франции самолет “М.Фарман” Нагурский испытал там же. Самолет разобрали, запаковали в ящики и в конце концов погрузили на борт спасательного судна “Печора”. 21 августа 1914 года. Новая Земля. В заливе Крестовая Губа собран и опущен на воду ярко-красный маленький аэроплан. Моряки “Печоры” да четверо местных жителей становища Ольгино провожают Нагурского в первый полет. Летчик уже в кабине. Четко рокочет мотор. Механик Кузнецов занимает место позади пилота. Гидроплан легко бежит по воде, оставляя позади вихрь водяных брызг, и под крики “ура” отрывается от воды. Нагурский смотрит на часы и прямо на карте записываем “4 часа 30 минут”. Так начался первый в мире арктический перелет. Курс на север — вдоль берегов Новой Земли. Где-то в этих краях обрывается след Седова. Самолет, набрав высоту около километра, летит со скоростью сто километров в час. Термометр, прикрепленный к стойке, показывает минус пять градусов. Видимость отличная. Темной изломанной чертой уходит на север береговая линия, влево до самого горизонта — великий Ледовитый океан. Белыми островами плывут ледяные поля, забиты льдом проливы между островами, вечным белым панцирем покрыта большая часть Новой Земли… Внизу под крылом Горбовы острова. С вершин дальних гор и до самого моря протянулся огромный ледник и, обломавшись у кромки воды, навис над нею гигантской ледяной стеной. Освещенная солнцем, она кажется прозрачной. Зеленоватая вверху, ниже стена чисто голубая, а у самой воды ярко-синего цвета. Фантастическое зрелище! Первые полярные авиаторы потрясены невиданным миром чудес, открывшихся им с высоты птичьего полета. Поймав себя на том, что, завороженный красотами, он начинает забывать о цели полета, Нагурский убирает газ и, обернувшись, кричит Кузнецову: — Внимательно смотри за берегом! Долетев до Панкратьевых островов, где, как известно, зимовал Седов, Нагурский начинает выбирать место для посадки. В этот район должно подойти второе экспедиционное судно “Андромеда”, доставить горючее, которое уже подходит к концу. Снизившись, летчик старается найти для посадки ровную ледяную площадку или открытую воду… Но только у мыса Борисова блеснула полоска чистой воды. Высокий скалистый берег неприветлив. Вдоль берега торчат из моря длинные каменные гряды, но выбора уже нет. Посадка. Самолет медленно рулит к берегу. Неожиданно сильный толчок — и машину резко кидает влево. — Кузнецов! — кричит Нагурский. Но механик уже выскочил из кабины. Оба смотрят на левый поплавок. Механик ощупывает рукой скрытое водой днище. — Пробоина, ваше бродие… — Большая?! — Вроде не очень. К счастью, место здесь неглубокое. Кузнецов уже в воде, она ему едва выше колен. Следом вылезает Нагурский. Осторожно ощупывая дно, они подтягивают аэроплан к берегу и крепят канатами за острый выступ скалы. Присев на теплый, согретый солнцем камень, Нагурский записывает результаты полета. Он продолжался четыре часа двадцать минут, пройдено почти четыреста пятьдесят километров! “Андромеды” все еще нет. Над костром, разожженным из плавника, Кузнецов повесил чайник, набитый снегом, открыл консервы. Оба настолько утомлены, что почти не разговаривают. Молча перекусили и заснули тут же, у костра. Проснувшись, они с трудом вытащили самолет на большой камень и начали чинить поплавок Резиновую заплату закрепили куском белой жести от консервной банки. “Андромеды” все еще не было. Время шло к ночи. Нет горючего, нет масла, и они прикованы к этому скалистому, безжизненному мысу. Нет, не безжизненному. На выступе прибрежной скалы появился огромный белый медведь и с интересом рассматривал невиданных пришельцев. Нагурский схватил лежавшую рядом винтовку, благоразумно прихваченную из самолета, стал на колено, прицелился… Раненый зверь рванулся вперед. Еще выстрелы, и медведь упал в море. Пока авиаторы вытаскивали на берег тушу, подошла “Андромеда”. Фотоснимок, запечатлевший Нагурского на палубе корабля возле шкуры освежеванного медведя, — один из немногих документов этой небывалой воздушной экспедиции. Рассказ Нагурского о состоянии льдов оказался весьма полезным капитану Поспелову, первым оценившим возможности ледовой разведки с воздуха. Снова полеты. Нагурский в поисках судна Седова “Св. Фока” обследует весь ближний район. На острове Панкратьева, где раньше перезимовал Седов в пустом складе, Нагурский решает оставить горючее и масло. — Ведь прилетят сюда когда-нибудь другие люди, — говорит он капитану Поспелову. — А вдруг в беду попадут! В запаянной банке, которую помещают в высокий знак, увенчанный крестом и хорошо видимый с моря, записка: “В губе, находящейся на юго-западном берегу Заячьего острова, при устроенном складе оставляется одна металлическая бочка бензина (10 пудов) и бидон гарголя (4 пуда). Назначение их авиационное. Кто сюда прилетит и окажется без горючего, может воспользоваться этим запасом. Участвуя в экспедиции для поисков старшего лейтенанта Седова, прилетел сюда из Крестовой Губы на гидроплане системы “Фарман”. 11 августа 1914 года. Военный летчик Нагурский”. Во время ремонта мотора на Большом Заячьем острове Нагурский с моряками добрался до старой избушки, поставленной еще норвежскими моряками. Там они нашли на столе запаянную круглую коробку и рядом записку: “Прошу вскрыть”. Там оказались аккуратно сложенные карты, две записки на русском и французском языках, оставленные Седовым ровно год назад. Там же сообщалось, что “экспедиция вышла на землю Франца-Иосифа, к мысу Кап-Флора”. На одной из стен была прибита железная доска с именами моряков, которые были Седовым отравлены с донесением и жили здесь несколько месяцев. Тем временем к “Андромеде” подошло другое судно, “Герта”, где находился начальник всей экспедиции капитан первого ранга Ислямов. Они пришли с мыса Кап-Флора, где узнали печальную весть о гибели Г.Я.Седова. Совершив еще ряд полетов на ледовую разведку, Нагурский погрузил свой аэроплан на корабль и отправился в обратный путь. Шла первая империалистическая война, и опытный летчик должен был занять свое место в строю. И еще одним подвигом, мало кому известным, вписано имя Нагурского в историю мировой авиации. В те годы, когда русский летчик Нестеров первым совершил свою знаменитую “мертвую петлю”, получившую имя петли Нестерова, считалось, что на гидросамолетах — летающих лодках с установленным позади мотором — совершить подобную фигуру немыслимо: верная гибель. 17 сентября 1916 года на острове Эзель, где стоял отряд лейтенанта Нагурского, он на летающей лодке “М-9” дважды выполнил петлю. Изумлению и восхищению подчиненных ему морских летчиков не было границ. Сравнительно недавно удалось найти документы, хранившиеся в Государственном архиве: сообщение комиссара императорского Всероссийского аэроклуба Василия Карпа от 31 января 1917 года о том, что “лейтенант флота Нагурский на гидросамолете “М-9” с полетным весом около ста пудов совершил две мертвые петли”. Этот полет был официально утвержден как мировой рекорд для гидросамолетов, о чем свидетельствует запись в журнале аэроклуба от 12 ноября 1916 года. Итак, Нагурский не только первый полярный летчик мира, но и первый обладатель мирового рекорда по высшему пилотажу на гидросамолете. Все рассказать невозможно, да это уже сделано мною в документальной повести “Он был первым”. Вам же я обязан ответить на вопрос, как случилось, что человека похоронили заживо. …Осень семнадцатого года. В балтийском небе двенадцать летающих лодок под командованием лейтенанта Нагурского. Им навстречу — группа немецких “Таубе”. Завязывается воздушный бой. На самолет командира бросились сразу четыре немецких. Лейтенант — мастер воздушного боя, недаром он первым в мире сделал на гидросамолете нестеровскую петлю. Но один против четырех! Уже пробито крыло, заглох мотор, пуля впилась в ногу… Беззащитный самолет опускается на воду. Остервеневшие боши расстреливают израненную машину, экипаж, покинувший самолет. Русские летчики, уцелевшие в этом неравном бою, вернувшись на базу, подали рапорт о гибели командира. Никто не видел, что Нагурского и его механика подобрала вынырнувшая из воды подводная лодка. Тем временем извещение о гибели авиатора пошло в маленький польский городок Влоцлавек. Мать героя, Анеля Нагурская, получив скорбную весть о трагической судьбе своего первенца, умирает… Вернувшись из госпиталя, Нагурский продолжает службу в Управлении морской авиации, по ничего не может узнать о своих родных, живущих в Польше — за пределами Советской России. Уволившись из штаба, он долго добирается до родительского дома, где его ждут горькие вести и нелегкие испытания. Вернуться в Россию он уже не смог, но и воевать против своей второй родины на стороне панской Польши противно его убеждениям. Строго предупредив родных, чтобы никому не рассказывали о его прошлом, Нагурский, регистрируясь в полиции, в графе “служба в армии, должность и звание” записывает: “нижний чин”. Знакомые устраивают его на маленький сахарный завод. Так затерялся след Нагурского. Шли годы, никому в Польше не было дела до скромного инженера, никто не подозревал в нем отважного летчика, пионера полярной авиации. А потом снова война, годы фашистской оккупации и посильной борьбы с врагом, счастливые дни встречи с русскими воинами-освободителями. В новой народной Польше Нагурский уже руководит крупным отделом конструкторского бюро все в той же промышленности сахароварения. Конечно, авиация, Арктика памятны и дороги по-прежнему. Особенно бередят душу всё новые и новые сообщения о полетах советских авиаторов к Северному полюсу, открытие дрейфующих станций в Ледовитом океане. Как хотелось бы написать этим героям! Ведь они даже назвали его именем одну из полярных станций — “Нагурская”. Хорошо бы увидеть старых знакомых… Но о нем говорят как об умершем… — Каково это — взять да и заявить: вот я, такой-то герой, жив, здоров и хочу получить свою долю почестей. Невозможно было это, — объяснял мне Нагурский. — Сам не знаю, как решился подойти к Центкевичу, но очень уж было обидно встретить человека, который написал, что ты мертв. — А если бы не эта случайность? — спрашиваю Яна Иосифовича. — Наверное, никогда не бывать бы мне в дорогой России… — Ян Иосифович, а как искать Кузнецова? Никаких следов нет… — И я ничего не знаю о его судьбе… Вы уж постарайтесь, пан редактор. Нагурский все еще называет меня на польский манер. О Кузнецове разговор особый, и кто знает, вдруг не бесполезный? Механик Кузнецов, черноморский матрос первой статьи, — такой же пионер освоения Арктики, как и Нагурский. Для участия в экспедиции механика искали повсюду: в России, во Франции, Норвегии. Никто не соглашался взять на себя такую трудную и небезопасную обязанность. Наконец нашелся доброволец — матрос Кузнецов. Это его руками был собран на Новой Земле самолет “Морис Фарман”, он же отправился с Нагурским в первый полет во льдах. Кузнецов — первый полярный механик мира. Но, вернувшись из экспедиции, он не удостоился благодарностей, орденов, даже суточных денег не получил. “Оставить без последствий”, — сердито черкнул на специальном рапорте Нагурского надменный адмирал. Я видел этот рапорт. Затерялся в царской России полярный Левша, не только незаурядный механик, но и превосходный человек. Много в России Кузнецовых, может быть, где-то в семейных альбомах хранится фотография черноморского матроса, передаются от деда к внуку рассказы об удивительных приключениях моряка. Вдруг да и попадет моя книжка в руки этих Кузнецовых! Или вы расспросите своих знакомых-однофамильцев героя. Поиски Кузнецова продолжаются.КОМ В ГОРЛЕ…
Самые “беззаботные” люди в редакции — спортивные репортеры. Им откровенно завидуют. Я тоже. Они ходят на все футбольные матчи, сидят в специальной ложе прессы, они непременные свидетели всех интереснейших соревнований, международных встреч. В нашей редакции их трое: Вадим Синявский, известный динамовский футболист Виктор Дубинин и молодой спортивный хроникер Шамиль Мелик-Пашаев, весьма темпераментный юноша, признанный острослов. Самые молодые по стажу и возрасту Владислав Семенов и я тяготеем к спорту. Мы неотступно следуем за Синявским, счастливы, когда удается посидеть с ним рядом в застекленной комментаторской кабине или в заветной ложе прессы. Синявский здесь свой человек, со всеми на “ты”. Его похвалой во время передачи футболисты весьма дорожат, но и обижаются, если узнают после игры об упреке, который всегда кажется несправедливым. Заходим в судейскую. Комментатору нужен протокол. В нем заявленные на игру составы команд. Синявский записывает на маленькой карточке фамилии игроков, располагая их под номерами в соответствующих линиях: нападение, полузащита… В комментаторской кабине Вадим сверяет свои часы-хро-нометр и кладет их перед собой. — Станции у нас, — докладывает техник. — Говорит Москва! Микрофон редакции “Последних известий” на московском стадионе “Динамо”. Сегодня… Неужели и я когда-нибудь произнесу отсюда эти слова?! В моем активе уже первые спортивные репортажи с кросса, велотрека. Что-то получается. Конечно, все они делались в записи на ленту, потом монтировались и только после этого шли в эфир. Помню, как озадачил меня впервые увиденный мотобол — футбол на мотоциклах. Я долго не мог постичь закономерностей этой игры, где в диком реве моторов, рискуя свалить друг друга, отчаянные люди передними колесами своих машин гоняли по площадке огромный кожаный мяч. Несколько раз включал и выключал магнитофон, чувствуя, что не могу передать своеобразие происходящего. С большим трудом склеил потом из разрозненных записей подобие репортажа. Желание попробовать силы приводило меня то на ипподром, то к боксерскому рингу. — Займись техническими видами спорта, — советует Синявский, — авиация — твое, кровное, потом велосипед, мотоцикл… А я мечтал о самом сложном, о самом высшем — о футболе. Сидя в ложе, пытался шепотом вести репортаж; забираясь в пустую кабину, уже громко повторял тот же опыт. Прошло какое-то время, и я робко попросил Синявского разрешить мне провести пробный репортаж о футболе в записи на пленку. — Попытайся. Только не вздумай вести целый тайм — не выдержишь. Последние пятнадцать минут. Вполне достаточно. В один из ближайших дней, когда транслировался лишь второй тайм, Синявский усадил меня в свою кабину и, словно угадав мою немую просьбу, вышел. И вот я один. Передо мной точно такой же листок с фамилиями игроков, сняты с руки часы. Подав аппаратной команду: “Мотор!”, начинаю репортаж. Я люблю и, кажется, понимаю футбол, знаю игроков, специально штудировал правила, но включенный микрофон сразу рождает чувство высочайшей ответственности. Пусть это только репетиция, но я подсознательно боюсь оговориться и, конечно, без конца оговариваюсь, боюсь перепутать фамилии футболистов и путаю, а при самом явном нарушении мне страшно предположить, штрафной назначит судья или свободный? И пиджак я снял, и ворот рубашки расстегнул, и, как Синявский, приготовил боржом, только ничего не помогает. Пот градом, язык сухой, вот-вот прилипнет к гортани. — Стоп! — командую аппаратной, где ведется запись. И уже умоляюще прошу невидимого оператора: — Сотрите репортаж. Пусть никто не знает о моем позоре. — Ну как? — спрашивает Синявский. Мне сдается, что он лукавит: ведь зачем-то заходил он к техникам и брал наушники. Однако признаюсь: — Не получается. — Это от волнения, — успокаивает Вадим, — другой раз получится. Предстоящий репортаж репетировал дома, стараясь поизящнее включить в предполагаемые события сделанные мною выписки. Заполучив редакционный служебный пропуск “Проход всюду”, гордо предъявляю его стражу у входа в раздевалку. Само собой разумеется, что приехал задолго до начала матча. Толкаюсь в раздевалке, к футболистам подходить робею — они же меня не знают. Бочком протискиваюсь в судейскую — посмотреть протокол. — А кто сегодня ведет репортаж, Синявский пли Дубинин? — спрашивает один из судей, полагая, что я прислан кем-нибудь из них. Чувствую, как заливаюсь краской, с трудом выдавливаю: — Я… — Вы?! — искренне изумляется судья, протягивая протокол. Я готов провалиться сквозь землю, но испиваю чашу унижения до дна, ощущая на себе недоуменные взгляды, пока переписываю составы команд. Уже не так гордо, как представлялось в мечтах, поднимаюсь к нашей кабине. И вот репортаж начат. Бодро произнесены первые фразы, названы составы команд и счет, а потом… К горлу подкатил какой-то огромный ком, и, онемев от изумления и страха, я просто не мог вымолвить ни слова. Пауза, как выяснилось после, оказалась не такой уж долгой, но мне чудилось — минула целая вечность, прежде чем я смог продолжать: — Справа от нас ворота “Спартака”, слева — “Локомотива”… На мое счастье, в этот момент мяч ушел в аут, и, взглянув на часы, я сообщил, что до конца встречи остается двенадцать минут. Игра была не очень интересной, ничего уже не решавшей, но я начал усердно “гоняться” за мячом, хотя внутренне чувствовал несоответствие своей горячности происходившему на поле. Первая же оговорка сразу сковала, и, сам того не замечая, я чаще, чем нужно, сообщал, сколько осталось до конца игры, будто вел не спортивный репортаж, а представлял в эфире службу времени. От волнения, а еще больше неумения ни одна из блестящих цитат, заготовленных заранее, так и не была обнародована. То нагнетая голосом несуществующее напряжение, то что-то промямлив в острый момент игры у ворот, я кое-как довел передачу до финального свистка. Воспрянув духом, я сообщил, что передача была организована редакцией “Последних известий”, вел передачу… Существует правило: все эфирные репортажи для контроля записываются на пленку. На следующий день при участии Синявского и Дубинина состоялось прослушивание моего вчерашнего труда. — С часами вы, старик, работаете хорошо, — “утешил” главный. — Сразу видно, что больше всего комментатор ждет конца матча. Это вряд ли понравится болельщикам. Потом, кроме фамилий игроков, владеющих мячом, им хотелось бы видеть, понимаете, видеть ход игры… Я все понимал, тем более теперь, услышав себя как бы со стороны. Меня не ругали, даже, отмечая ошибки, умудрялись находить какие-то проблески, давали советы на будущее. Все замечания были справедливыми, но что-то в тоне главных футбольных специалистов все же задело… Очень трудно отказываться от мечты, да еще когда она почти осуществилась. И хотя меня вставили в расписание, больше футбола я не комментировал. Но не один же футбол на свете! Велосипед по-прежнему оставался моей “монополией”. Вскоре “рана” зарубцевалась, и мы вдвоем с Синявским сделали весьма неплохой репортаж с первенства страны по шахматам. Сочетание опыта Вадима, его давней привязанности к шахматам с искренним интересом к происходящему молодого репортера удачно сплавились воедино. Мое чисто зрительское описание атмосферы чемпионата обогащалось точными и тонко подмеченными Синявским деталями, его короткой и остроумной беседой с Ботвинником. Главное же, что вообще делает интересной работу вдвоем, — умение партнеров понимать друг друга с полуслова, в любой момент подхватить и развивать удачно найденный товарищем поворот репортажа, должным образом отреагировать на неожиданно поданную коллегой реплику. У нас получалось. А раз так, мы решили продолжить опыт работы вдвоем и поехали на репортаж о юбилейном двухтысячном парашютном прыжке. — Сначала, — предлагает Синявский — мы вместе рассказываем об обстановке, о самом Георгии Жданове, вместе и побеседуем с ним перед прыжком. Потом один из нас полетит, сделает репортаж в самолете до прыжка, а ты подхватишь с земли… — Наверное, мне лучше в самолете? — Нет, ты летчик, а я расскажу об этом как земной человек, такой же, как слушатели. Им интереснее, согласен? — Любопытно. А потом так: пока я рассказываю, как распустился парашют, как все мы тут волнуемся, как приземлится Жданов, ваш самолет уже сядет, и мы вместе зададим Жданову те же вопросы, что и перед прыжком. Ответы-то разными будут, даже настроение почувствуется. — Дело. Договорились. И вот мы едем на один из подмосковных аэродромов. На обочине шоссе — снеговые валы, день морозный, а в машине тепло, уютно. Я думаю о Жданове. Двухтысячный прыжок. Делю на триста шестьдесят… Это же шесть лет подряд, день за днем надо покидать борт самолета! — Вадим! Ты знаешь, что такое две тысячи раз… — Шесть лет ежедневно прыгать, — перебивает Синявский. Видно, репортерские мозги устроены одинаково. Мы снова молчим. Я вспоминаю, как впервые прыгал с парашютом. — Слушай, — нарушает молчание Синявский, — ты же летчик, значит, прыгал, наверное… Я от души расхохотался. — Чего ты? — Репортерские мозги. Я же именно это и вспомнил сейчас. — Тем лучше: выходит, я телепат. Значит, рассказывай, все равно ехать долго, а мне интересно. Только не ври. Страшно небось? Упрашивать меня не надо. Я и сейчас охотно изложу этот рассказ, хотя бы потому, что в журналистской практике армейская закалка и воспитание не раз помогали преодолению трудностей, научили собранности, да и чувство страха тоже случалось подавлять. Итак, безветренным, солнечным утром под наблюдением инструктора укладываю парашюты. Вверяю свою жизнь большому шелковому зонту. Сложен он и подготовлен по всем правилам, не подведет. Не признаваясь друг другу, курсанты думают об одном: “Хватит ли силы воли прыгнуть, не опозорюсь ли?” Мы знали двух “прыгунов”, невероятно страдавших от нескрываемого презрения товарищей. Юность не прощает малодушия. Вот и моя очередь садиться в самолет. Спешу. Надеваю два парашюта: ранец на спину — основной, на живот — запасной. Товарищи помогают расправить лямки, застегнуть карабины и, пожелав ни пуха ни пера, провожают к самолету. В нескольких шагах от машины я с ужасом вижу, как из брезентового чехла вываливается белый шелк запасного парашюта. Что тут было! Инструктор ругается, ребята хохочут, а я ничего не могу понять, только чувствую, как пылает лицо и на глаза навертываются слезы… — Я ничего не трогал, честное слово! — убеждаю инструктора. — Может, застежками зацепился, когда надевал… — А не струсил? — Что вы, что вы! Надо мной висела страшная угроза-отстранение от прыжка. Тут уж точно ребята запишут в трусы. — Товарищ инструктор, ну вот честное комсомольское, не нарочно, понимаете… — Ладно, ладно, — сжалился инструктор, — укладывайте…. Медленно, очень осторожно, боясь окончательно опозориться, залезаю в тесную кабину “У-2”. Инструктор-летчик еще раз напоминает: — Наберем триста метров. Когда похлопаю тебя по плечу (я сижу в передней кабине), вылезай на плоскость лицом к хвосту. Возьмись за вытяжное кольцо, руку продень в резинку и жди. Махну — прыгай. Только сразу кольцо не дергай, сосчитай до пяти, а то купол за самолет может зацепиться. Понял?.. Пока самолет набирает высоту, думаю только об одном: “Скорее бы!” Вижу — стрелка прибора подходит к заданной высоте, и приподнимаюсь в кабине. Рука инструктора решительно запихивает меня на место. Рано… Наконец долгожданный удар по плечу. Перекинув ноги через борт, становлюсь на крыло, крепко держась за кабину. Встречный ветер так и рвет, пытаясь сбросить меня с крыла раньше срока. Земля красивая, чистенькая, как на картинке, но очень уж далекая. Слева, как раз на уровне сердца, из кармашка, прикрепленного к лямке, выглядывает металлическая скоба — это и есть вытяжное кольцо. На нем розовая резинка, вырезанная, видимо, из камеры. Продеваю правую руку в резинку (чтобы в момент прыжка не потерять кольцо) и крепко берусь за скобу. Смотрю на инструктора, это приятнее, чем смотреть вниз. Он улыбается, затем сбавляет обороты мотора и кричит: — Готов? — Готов! — Резинка? — Надел. — Не страшно? — Нет! — ору что есть силы. — Пошел! Последний взгляд на инструктора, на землю, глупый выкрик: “Пока!”, и я шагаю в пустоту… “Раз, два, три, четыре, пять!” — дергаю за кольцо. Усилие такое бешеное, что не ощущаю никакого сопротивления. Кажется, что просто провел рукой по воздуху и не выдернул троса, удерживающего в чехле парашют. “Оборвался трос!” — обжигает мысль, и рука уже сама лихорадочно нащупывает кольцо запасного парашюта. И в этот самый миг меня довольно сильно встряхивает, а над головой самый чудесный, самый красивый из всех зонтов мира — купол парашюта. Наступила необычайная тишина, а по всему телу разлилось такое счастливое спокойствие, что словами и не передать. Сижу на лямках словно в кресле, чуть-чуть покачиваясь от легкого ветерка, с интересом рассматриваю землю, наш аэродром. Достаю из кармана комбинезона специально приготовленные карандаш и бумагу, вывожу: “Эта строка написана и воздухе, под куполом парашюта. Думаю о тебе…” Достаточно. Наверное, не многим девушкам пишут, паря в небесах. Приближается земля. Подтягиваюсь на стропах, поднимаю, напружиниваю ноги, чтобы амортизировать удар, но все же довольно “плотно” сталкиваюсь с землей и, как учили, падаю на бок… Вот и вся история. Сколько же страхов, переживаний принес мне самый простой ученический прыжок, а мы едем на двухтысячный! Так за разговором добрались до места. Около двухмоторного самолета стоял коренастый, плотный человек в кожаной куртке, меховых унтах. На нем уже надеты два парашюта. Рядом — товарищи, жена с двумя маленькими дочурками, мать. Знакомимся. Даже те, кто никогда не видел Синявского, сразу узнают его по характерному хрипловатому голосу. И в этом он индивидуален. Организаторы очень довольны, что приехал именно он. Я, понятно, не в счет. Справедливо. Предстоящий прыжок не просто юбилейный, а еще и испытательный. До сих пор с новым парашютом “прыгали” только чугунные чушки. На сей раз надежность конструкции испытает инженер-спортсмен. Как было условлено, Синявский с магнитофоном садится в самолет. Я с другим аппаратом остаюсь на земле. Слежу за самолетом. Набрав высоту, он приближается к аэродрому. Открылась дверца… От самолета отделяется маленькая фигурка… Секунда, другая… Над головой Жданова вспыхнул алый купол. Все с облегчением вздыхают. Не простое все-таки дело! Теперь видно, как, управляя парашютом, словно парусом, подтягивая стропами купол, Жданов старается приземлиться поближе к встречающим. Все это я рассказываю, продолжая репортаж. Что еще такое? Что-то выпало из самолета? Да нет, в небе маленький белый парашютик… Ставлю бинокль на самое сильное увеличение… Нет, вы подумайте, какие молодцы летчики! С неба опускается бутылка шампанского, увешанная гроздьями апельсинов. Хорошая деталь и в репортаже. Вдвойне молодцы ребята! Жданов уже приземляется. Вслед за ним ложится на снег шампанское. Проваливаясь в глубоком снегу, вместе со всеми бегу поздравить юбиляра. Именинника качают, обнимают, дарят цветы, к груди прикладывают большой синий значок парашютиста — мастера спорта, а под ним золотой треугольничек с цифрой “2000”. Маленькая Танюша вручает отцу серебряный кубок-подарок семьи. Все происходившее записывалось магнитофоном, и сцена встречи передаст слушателям обстановку этого двухтысячного приземления. — Что сказать? — вслух размышляет еще взбудораженный Жданов. — Спорт наш очень строгий и очень романтичный. Каждый прыжок интересен по-своему и каждый волнует, только мы научились скрывать свои чувства. Конечно, приятно справить такой юбилей, но ведь не просто так прыгнул две тысячи раз. Наверное, испытанные парашюты спасли или спасут жизнь кому-то. Вот главное. Нашу беседу неожиданно прерывает маленькая Танюша: — И я буду прыгать, папа. — Это не так-то просто, девочка, — отвечает ей известнейший испытатель парашютов, тоже перешагнувший двухтысячный рубеж, лауреат Государственной премии Юрий Иванов. И, обращаясь к нам, он говорит: — Я ведь знаю, чего вы, журналисты, от него ждете. Только вряд ли Жора расскажет вам о своих подвигах. По случаю юбилея я могу напомнить один случай. Хотите? — Ну конечно! — Так вот, нужно было испытать новый парашют — раскрыть его, когда скорость будет триста километров в час. Я был на старте. Жора прыгнул нормально, в воздухе показался белый комок парашюта, да так маленьким грибком и повис над Ждановым. Не распустился… Значит, сейчас откроет запасной. Но Георгий по-прежнему камнем падает. Вижу в бинокль, что он неподвижен. Потерял сознание? Знаете, как страшно — видеть товарища в беде, а помочь никакой возможности… Еще немного — и конец! Тут все вдруг заорали как оглашенные: “Раскрыл! Раскрыл!..” — Что же случилось? — Страшнейшее дело. Парашют не раскрылся, и стропы сразу обвились вокруг Георгия, руки прижали к телу, не пошевелиться! Конечно, растеряйся он — гибель! А ему необходимо освободить хотя бы одну руку, чтобы дотянуться до кольца запасного. Не забывайте, что каждая секунда на пятьдесят метров приближает парашютиста к земле. Без громких слов — это был настоящий поединок со смертью… Понимаете, какое нужно было нечеловеческое усилие! Жора освободил руку в самый последний момент. Честно говорю, мы уже не верили… Да… Все хорошо поняли это многозначительное “да”. Иванову тоже пришлось пережить подобное испытание, и кто лучше него мог оценить подвиг товарища. Тем временем самолет приземлился. Прибежал Синявский, говорит, что репортаж в воздухе получился интересный, а “Жданов большой молодец, здорово держит себя в руках”. Вот уж действительно “в руках”, подумал я, жалея, что Вадим не слышал рассказа Иванова. Впрочем, все записано на пленку, и наш репортаж — еще один звуковой документ. Да и построен он не совсем обычно. Репортаж-эстафета, событие глазами двух репортеров с разных точек: земля — самолет — земля. К тому же ни слова из студии, все на месте, живые, непосредственные впечатления. И еще об одной парашютной истории не могу не рассказать. 3 сентября 1959 года произошло редчайшее событие, родившее высокий подвиг человеческого духа. На аэродроме болгарского города Пловдива шли международные соревнования парашютисток. Спортсменкам осталось последнее упражнение — прыжок с высоты 1750 метров для выполнения фигур в свободном падении. На борту самолета абсолютная чемпионка мира советская парашютистка Надежда Пряхина, обладательница двадцати золотых медалей. Прыжок! Раскинув свободно руки, как птица, парит в прозрачном небе Надежда. Вот она легко и изящно вошла в спираль, затем “выписала” в небе “восьмерку”… Фигура за фигурой… Человек-птица крутит в воздухе последнее сальто. До земли примерно тысяча метров. Пряхина выдергивает кольцо… Парашют не распустился! Тянется белым шлейфом. Теперь и запасной раскрывать опасно — может запутаться в стропах основного парашюта. Значит, нужно его обрезать. Девушка вытаскивает нож, но, взглянув на землю, понимает, что времени уже нет. Надя выдергивает кольцо запасного, руками выхватывает из ранца аккуратно сложенный парашют и с силой отбрасывает его в сторону!.. Встречный поток воздуха прижимает и этот парашют к основному. Катастрофа. Земля рядом. Пряхина огромным усилием подтягивает запасной парашют, вновь отбрасывает его в сторону… Все напрасно… Парашютистка, насколько возможно, подтянулась на лямках, до предела напрягла тело… Земля! Жива!!! От сильнейшего удара у Пряхиной повреждены поясничные позвонки. Сначала болгарские, потом советские врачи сделали все возможное, чтобы мужественная спортсменка не осталась калекой. Как только Надежда выписалась из больницы, я разыскал в Тушине ее квартиру. Как встретит Пряхина радиорепортера, захочет ли разговаривать, не пала ли духом? В уютной комнате поверх застеленной покрывалом постели лежала лицом вниз белокурая девушка. Приподняв от подушки голову, она светло и открыто улыбнулась: — Извините, но я должна пока лежать в таком неудобном положении. Да вы садитесь, садитесь… Я мысленно обругал себя за то, что не догадался захватить цветы. Прошу разрешения записать нашу беседу на пленку. Надежда все так же приветливо спрашивает, не нужно ли для этого пододвинуть столик, предлагает, не стесняясь, распорядиться. Устраиваюсь на маленькой скамеечке, небрежно кладу микрофон на колени, чтобы не создавать обстановки “выступления”, и начинаю обыкновенный разговор. Рассказываю, как искал дом. Постепенно перехожу к делу. Мне все больше нравится Пряхина: никакой позы, громких слов, все просто, человечно. К счастью, у меня сохранилась стенограмма записи. История Надежды обычна: ученица ремесленного, часто ходила на Тушинский аэродром, видела девушек-парашютисток, увлеклась и в пятьдесят первом году стала курсанткой центрального аэроклуба. На шестьдесят восьмом прыжке Надежда Пряхина завоевала знание абсолютной чемпионки страны. Хрустальные, серебряные кубки, медали, вымпелы здесь же, в комнате, и с них начался переход к разговору о прыжках: — …Я первый раз вижу медали парашютистов. — Ничего удивительного. Медали в парашютном спорте ввели у нас только в пятьдесят четвертом году. Одиннадцать из двадцати медалей — за рекорды, десять рекордов — мировые. Вот там, на серванте, самый большой мельхиоровый кубок — это переходящий кубок Адриатики. Второй раз Надя привезла его в Москву. Очень интересны эти соревнования еще и тем, что в программу включается прыжок на море. Прыгнуть надо с высоты пятьсот метров, приводниться как можно ближе к цели, а если от нее окажешься далеко, плыви. — В одежде? — Нет, прыгали в купальных костюмах. В воздухе отстегиваешь подвесную систему, а в момент контакта с водой освобождаешься от парашюта и спасательного жилета. Тут и пловцом хорошим быть надо… Надя оживилась, по-моему, даже забыла о своем недуге. С каждым кубком, медалью, вымпелом связаны интереснейшие истории, и Надежда охотно продолжает рассказывать. А я все не знаю, как перейти к главной цели беседы. Наконец набираюсь мужества и приступаю. Тут лучше всего дословно воспроизвести стенограмму: — Надежда Ивановна, расскажите, пожалуйста, о том случае… я не знаю, не могу подобрать подходящего слова… случае, конечно, с одной стороны, печальном, а с другой стороны, вы тогда показали такую выдержку, такое большое мастерство и самообладание… Ох, как порой бывает трудно касаться тяжелых происшествий, трагических или очень интимных событий! И здесь необходим величайший такт, максимальная мера деликатности, чтобы не переступить невидимой, недозволенной черты. Взволнованный, исполненный неподдельного восхищения перед Надеждой Пряхиной, я хотя и нескладно, но, наверное, очень искренне ступил на искомую тропу. Пряхина сочувственно, как показалось, посмотрела на меня и совершенно спокойно, припоминая детали, перечислила выполненные в воздухе фигуры: — Выполнила комплекс, как мне показалось, неплохо. Для того чтобы выполнять фигуры, мы летим плашмя. Этот наш стиль очень удобен в свободном падении. Посмотрела на секундомер. Прошло восемнадцать секунд, а надо было не менее двадцати, чтобы не получить штрафных очков. Прошло еще четыре секунды, и я выдернула кольцо. Обычно после выдергивания кольца парашютист ощущаетрезкий рывок. Динамического удара не последовало. Я сразу поняла: что-то случилось с парашютом. Взглянула вверх — с главного купола не сошел чехол, вытяжной парашютик завязал все стропы главного купола. Хотела сначала обрезать все, приготовила нож… Вы уже знаете историю борьбы в воздухе. Но как удивительна выдержка Пряхиной! Никакой паники, никакого страха — все на борьбу за жизнь. Не так ли совершались подвиги и в годы войны? — Скорость была большая, — заканчивает историю неповторимых сорока секунд Пряхина. — Видела, что бежали ко мне люди. И очень не хотелось верить, что все кончено. Я боролась до самого конца и отделяла запасной от главного. И когда уже увидела, что подхожу к земле, резко подтянулась на лямках. И вот этим самым я уменьшила силу удара при приземлении. Еще посчастливилось, что упала не на аэродром, а на взрыхленную пашню… — Ну, а сейчас… — Очень хочется быстрее встать. Предстоят большие соревнования — чемпионат мира, и если позволит здоровье, то с удвоенной силой придется заняться тренировками. Очень не хочется отставать от товарищей. — Значит, вы вернетесь к любимому спорту… — В этом я даже не сомневаюсь. Определенно. И на завод вернусь. Работа мне очень нравится. Но все-таки очень хорошо, когда совмещаешь с работой какой-нибудь спорт. А помимо спорта, я еще занимаюсь в механическом техникуме, на вечернем отделении. Конечно, все вместе трудно, но в то же время и интересно, многое хочется познать… Жить все-таки хочется так, чтобы успеть сделать побольше, чтобы жизнь не прошла даром. И мне очень тогда хотелось жить! Эта беседа — тоже один из документов нашей эпохи, советской. Уверен, характеры наших современников когда-нибудь станут предметом пристального изучения историков. Как же обидно, что так бесхозяйственно, не думая о будущем, относимся мы к записям-документам! Полагаю, что даже эти отрывки стенограммы позволяют представить себе духовный облик Надежды Пряхиной. Насколько же сильнее и убедительнее прозвучал бы перед потомками ее голос! А пленка размагничена… Уверенность Надежды Пряхиной, что не расстанется с любимым спортом, оправдалась. Хотя и не пришлось больше прыгать с парашютом, но член бюро Федерации парашютного спорта СССР Надежда Ивановна много делает для его развития, судит соревнования в стране, выезжает на международные встречи. И завод свой не оставила. Появился у Надежды Ивановны сын… Так все и должно быть у человека, который в час самого сильного испытания боролся до конца.
В.ИВАНОВ-ЛЕОНОВ КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ Рассказ
Африканец лет тридцати быстро шагал в шумной разноплеменной толпе. Англичане и буры, арабы и китайцы, индийцы и греки — все спешили куда-то, говорили громко. В Иоганнесбурге всегда все спешат, все чем-то озабочены. Генри Мкизе старался не привлекать к себе внимание: его искала полиция. Широко поставленные глаза Мкизе выискивали шпиков в толпе. Он научился распознавать их почти безошибочно. Вечернее солнце глядело в щель между небоскребами. Красное пламя полыхало в окнах домов, металось по стеклам автомобилей. С песчаных отвалов золотых рудников ветер тянул над городом кисейную занавесь пыли. На углу Плейн-стрит двое буров с белыми повязками на рукавах подошли к Генри Мкизе. — Стой! — приказал поджарый с втянутыми щеками. В голосе его лязгнула сталь. — Пропуск! Мкизе смотрел на добровольцев с равнодушным, непроницаемым видом. Лишь слегка вздрагивали ноздри его прямого носа с небольшой горбинкой. Неторопливым движением вынул он документы. Предъявил. Рассеянно посмотрел в сторону. По острое ощущение опасности захлестывало Мкизе. Вот она, смерть, в образе абелунгу — белых людей — с мрачными лицами и винтовками за плечами. По улице проехал грузовик с полицейскими. У оружейного магазина вытянулась очередь европейцев. После расстрела демонстрации африканцев в Шарлэ ожидали восстания. Бур читал документы, переводил взгляд с бумаг на человека. Потом, щуря глаза, холодно осмотрел крепкую высокую фигуру Генри, сплюнул сквозь зубы ему под ноги. — Из какой локации?[190] — Морока. — Почему нет пометки о разрешении посещать центр города? — Есть. На девятой странице. — Ты как разговариваешь? — Я отвечаю на ваши вопросы. — Низкий голос Мкизе звучал спокойно. Бур вернул документы: — Проваливай! В подземном переходе вокзала среди людей с узлами на головах и чемоданами в руках Мкизе заметил невысокого, тонкого в кости Тома Аплани, прислонившегося к стене. Длинные, спускающиеся на воротник волосы делали его приметным в толпе. Аплани курил и, казалось, скучал. Дерзкий взгляд его встретился с взглядом Генри, спокойным и веселым. Пошли рядом в потоке людей. — Джим Твала еще не пришел, — говорил Аплани, не глядя на Генри. — Что с ним, не знаю. Втроем они должны были ехать на совещание подпольного Африканского общества свободы.[191] Джим Твала тайно перешел границу и привез кучу важных новостей. Совещание будет интересным. Вокзал кишел полицейскими. В случае тревоги отсюда не выбраться. — С тех пор как Мкизе стал командиром вооруженной группы “Копья народа”, отдел безопасности неотступно идет по его следу. Генри подумал, что не следовало бы Джиму Твале рисковать и ехать сегодня с ним и Аплани. Но исполком африканского общества решил, что именно Мкизе должен доставить Твалу — представителя эмигрантского бюро общества — на эту встречу. Толпа, ожидавшая электропоезд, росла. Твала не появлялся. Генри и Аплани напрасно искали его среди пассажиров. Подошел поезд. Люди ринулись к вагонам, тесня друг друга. Платформа опустела. Осталось лишь четверо европейцев. В одном из них Генри сразу узнал агента секретной полиции. Вот оно, начинается! Четверо направились к ним. — Пошли! — бросил на ходу Генри. — Смотри! — Аплани глазами указал на другой конец платформы. Оттуда приближались еще двое. Попались! Капкан захлопнулся. Поезд тронулся, набирая скорость. Некуда бежать. Генри сунул руку в карман пиджака, где лежал пистолет, и в тот же момент кто-то подскочил сзади, стиснул локти. Мкизе яростно рванулся, упал на асфальт платформы вместе с противником. Уже лежа, успел заметить, как Аплани, стремительный и верткий, проскочил между агентами. Уходя от погони, он прыгнул на пролетавшую электричку, вцепился в поручни. Рывок подбросил Аплани почти горизонтально. “Упадет!” Но Аплани уже встал на узкую ступеньку тамбура, торжествующе обернулся, помахал рукой. Генри подняли. Щелкнули на запястьях наручники. Подталкиваемый в спину, он зашагал между европейцами. Квела-квела[192] уже ждала их на площади. Генри тяжело дышал. Грудь распирала злоба. Так глупо попасться! Хорошо хоть, что на свидание не пришел Твала. Твала — нужный человек для освободительного движения. Лишь только Твала перешел границу, как полиция Форстера уже знала о нем. Все это было делом рук Фолохоло — агента полиции, засланного в ряды Сопротивления. Даже из могилы шпион продолжал наносить удары. Вооруженная группа Мкизе укрывалась в локациях. И секретная служба, если она засекла группу, могла без особого труда выловить ее. Сидя между полицейскими, Генри с болью думал об Анне. Она осталась совсем одна. Их тайно рожденную дочь — мулатку (закон запрещает брак между белой и африканцем) пришлось отправить к его чернокожей матери в резервацию. Как Анна не хотела расставаться с доверью! И теперь арестовали его. Они никогда не жили вместе — полиция не допустила бы этого. И все же Анна принесла ему счастье, о котором другие только мечтают. Генри вспомнил, как он увидел Анну в первый раз, на вечере у приятеля-европейца. Тогда он, Генри, был молодым и учился в Витватерсрэндском университете. Блондинка с темно-синими глазами. Соперник — властный и глуповатый Те Ваттер, — распространявшийся о своем расовом превосходстве. В тот вечер Анна не обратила на Генри внимания. Она, правда, танцевала с ним, чтобы досадить назойливому Те Ват-теру. Генри отлично это понял. И все же он был благодарен судьбе за эту далекую, первую встречу… …Мкизе ввели в камеру, и железная дверь закрылась за ним. На соломенных циновках сидели, чинили одежду десятка два заключенных. Ни одного белого. В иоганнесбургской тюрьме строже, чем где-либо, соблюдают апертеид — разделение по расам. Мкизе сел на циновку. Деревенский парень рассказывал вполголоса свою историю. За что его арестовали? Он только сказал что-то о млунгу — белом человеке. Старый, высохший знахарь медленно кивал головой. Знахарь ошибся, дал не то лекарство белой пациентке, которая просила его вернуть мужа. И она умерла. У интеллигентного африканца лицо было в кровоподтеках, крахмальный воротничок разорван. Он “устроил демонстрацию”: сел в автобус, предназначенный только для европейцев. Когда его выгоняли, он сопротивлялся. Парень со шрамом во всю щеку, по виду цоци[193] подсел к Генри. — Мы видим тебя, зулус. — В хитрых глазах нескрываемое любопытство. — И я вас вижу, — неохотно ответил Генри на традиционное приветствие. — За что взяли, учитель? Мкизе равнодушно посмотрел на парня, не ответил. Часа через два вызвали на допрос. Камеры в длинном коридоре гудели голосами. Много народу сидит в отделе безопасности. На лестнице охранники взяли Генри за руки, чтобы не прыгнул как-нибудь ненароком в лестничный проем. Просторная светлая комната, куда его ввели, была раньше кабинетом чиновника. Теперь она походила на сарай. На деревянных полках лежали клещи, хлысты, кандалы, бутылки. На полу стояло нечто похожее на собачью конуру. На паркете — бурые пятна. “Ну, держись, Генри Мкизе!” За непокрытым столом сидел человек с холодными белесыми глазами — следователь отдела безопасности Оуде. В углу на стульях — два его помощника. Следователь окинул арестованного цепким взглядом, приказал подойти ближе. Генри не отказывался от своего имени. Многие могли опознать его — одного из секретарей африканского общества свободы и журналиста газеты “Ассагай”. — За что меня арестовали? — Еще спрашивает! Заговор против законного правительства. Взрыв динамитного завода! Нападения на вооруженные патрули европейцев. Наш человек Фолохоло — дурачье вы! — все рассказал нам. — Я здесь ни при чем. — Нам твою ерунду некогда слушать. — Оуде не повышал голоса, не сердился. Он берег свои нервы. — Кто был с тобой сейчас на вокзале? Нечего удивляться. Он удрал на поезде. Выскользнул как намыленный. — Цоци какой-то. — С тобой был Джим Твала!! Откуда он прибыл? — Я не видел Твалу уже много лет. Белесые глаза испытующе смотрели на бесстрастное лицо арестованного. Этот Мкизе ничего не расскажет по доброй воле. “Красные” держатся на допросах стойко. — Это Твала? — С фотографии на Генри глядел африканец с большими залысинами на лбу, выдающейся вперед нижней губой и маленькой вьющейся бородкой. Лицо Твалы добродушно улыбалось. — Нет. — Врешь. Я допрашивал его однажды. Хорошо. Сколько террористов в твоей группе!? — Я не террорист. Я против террора. — В низком голосе Генри не было страха. — Я хочу только равных с европейцами прав. — Хорошо, но сколько же террористов в твоей группе? — У меня нет группы. — Не хочешь отвечать? Ты отсюда не уйдешь, пока не расскажешь все о Джиме Твале и этих своих “Копьях народа”. Ты один из организаторов диверсионных групп. Помощники повалили Мкизе на стол, приковали руки и ноги кандалами к ножкам стола. На мизинцы рук надели медные манжетки с проводами. Палач вставил штепсель в розетку. Генри ударило током. Болью свело мышцы. Дыхание остановилось. Чудовищная боль пронзила тело. Палач включал и выключал ток. Откуда-то издалека доносились негромкие спокойные вопросы следователя: — Где скрывается Твала? Кто из лидеров африканского общества командует группами “Копья народа”? Генри тяжело дышал. — Где прячется Твала? Назад Мкизе почти тащили. Он упал на циновку и остался неподвижным. Вечером снова на допрос. Несколько дней спустя привели Майкла Тома. Мрачноватый, худой, с длинными ногами и короткими руками, он выглядел физически слабым, даже немного болезненным. Генри никогда не встречал его раньше, но слышал о нем. Когда-то Майкл Тома был клерком в молочной фирме. Теперь, так же как и Генри, командовал одной из групп “Копьев народа”. Это Тома организовал побег заключенных из тюрьмы. Переодевшись подметальщиком, он средь бела дня во время обеда выкрал из полицейского участка папку со списком участников освободительного движения. Мкизе смотрел на него с интересом и удивлялся, что в хилом теле жил такой храбрый и неукротимый дух. Тома мрачно осмотрел камеру и лег на циновку в углу, отдельно от всех. Вслед за Тома в камере появился Питер — боец из группы Мкизе. Питер был избит, угнетен, подавлен. Мкизе подозревал, что всех их собрали вместе, чтобы подслушивать разговоры. На допрос вызывали каждый день. Следователь Оуде был упорен. Особенно хотелось ему заставить говорить Мкизе. Но Мкизе, выдержанный, умный, хитрый, был крепок и осторожен. К концу второго месяца лицо Мкизе от побоев превратилось в чудовищную маску. Сквозь щелочки проглядывали глаза. В волосах — колтун от спекшейся крови. Теперь ему не давали отдыхать. В понедельник утром его поставили в круг, обведенный мелом. Это называется “делать статую”. Следователи сменяли друг друга, а Мкизе все стоял и стоял на одном месте. Если он падал, его поднимали током. Путались мысли. На вторые сутки Мкизе совсем переселился в царство видений. То он, молодой и счастливый, стоял на вершине огромного песчаного отвала золотых рудников и вместе с Аплани смотрел на залитые солнцем небоскребы Иоганнесбурга, против власти которых они поклялись бороться. То попадал на ферму бородатого плантатора Фан Снимена, и отряд европейцев гнался за ним по ночному вельду. То, как в тумане, опять видел лицо следователя. На третье утро, когда Оуде, выспавшийся, бодрый, пришел в кабинет, Мкизе не выдержал и заснул. Ни пинки, ни ток не могли уже поднять его. Все спало в нем. Только сердце, неутомимый труженик, продолжало гнать тяжелую кровь во все уголки его крепкого тела… У Майкла Тома вся одежда была разорвана. С допросов он приходил всегда мрачный и озлобленный. Ни с кем не разговаривал. Только раз он перекинулся несколькими словами с Мкизе. — Как выйду отсюда, — сказал он свирепо, — первым, кого я разыщу, будет этот следователь Оуде. Питер, впечатлительный и мягкий, от пыток превратился в сплошной клубок нервов. При одном виде следователя, жестокого, как торговец рабами, его охватывала дрожь. В этот день Питера привели на допрос уже во второй раз. — Ну, где прячется Джим Твала? — бесстрастно спросил Оуде. — Не знаю, баас.[194] Следователь взглянул на помощников. Питеру надели наручники, приказали сесть, обхватить руками колени. Между руками и коленями продели палку. Теперь он не мог даже разогнуться. На голову ему натянули мешок из прозрачной пластмассы, завязали его на шее. При вдохе мешок облеплял лицо. При выдохе раздувался. Двое били его резиновыми шлангами по спине, по шее. Питер кричал. Он задыхался. Полыхало в груди, горело в легких, горели глаза: Питер падал в раскаленную душную глубину. Огненные шары обжигали, с шумом разбивались о голову… Он очнулся. Следователь сидел вполоборота к нему, ждал. — Хорошо. Кто из африканского общества, кроме Твалы, ездил за границу? — Не знаю. — Сердце Питера стучало, словно перегретый мотор. Питер не мог больше выносить пыток. Он хотел умереть, чтобы все прекратилось. — Не желаешь говорить? Наденьте-ка ему еще. Питер повалился на бок, стараясь разорвать прочный пластмассовый мешок о пол. Удары шлангов жгли тело. Мешок душил его. — Снимите! — кричал он. — Снимите, проклятые! — Мешок то раздувался, то залеплял ему рот. — Ну, снимите. Что скажешь? Не нравится тебе упаковка? Питер дышал, как паровая машина… Лицо Питера было в крови, когда его привели в камеру. Не отвечая на расспросы, он лег на циновку. Утром его вызвали первым. Он поднялся, поникший, и подошел к Мкизе: — Прощай. — Что с тобой! — Генри взял Питера за плечи, заглянул в глаза. — Не могу больше. Вчера я дал им адрес Джима Твалы, неправильный. Сегодня, конечно, уже проверили. Вызывают. Больше не могу. Прощай. Если выйдешь отсюда, передай привет всем нашим. И бейте, бейте их, гиен! — Тебя отправляют куда-нибудь? Питер не ответил. Он не спеша поднимался по лестнице, ничего не видя перед собой. Мысли медленно, но уверенно разматывались, принимая одно направление. Он вошел в кабинет. Помощники следователя подступили к нему. — Не надо, — нервно сказал Питер. — Я буду говорить. Пусть они выйдут. — Давно бы. Наденьте ему браслеты. Надеюсь, йонг,[195] наручники не помешают тебе? — Пусть выйдут. Питер проводил помощников взглядом, сделал несколько шагов к двери, постоял, прислушиваясь. Потом повернулся. Глаза его, мутные, налитые кровью, оглядели комнату Грязноватый паркетный пол, покрытые рисунками обои, покосившаяся скамейка, яркие лучи солнца, врывавшиеся в окно." Лютая, страшная действительность встала перед ним. Сейчас и люди и весь мир уйдут в небытие. Мир, который он так любил, останется здесь, а он уйдет, уйдет к тем, кто внизу. Вдали за окном синело голубое небо, плыли легкие облачка. “Всё, всё в последний раз”. Мысли Питера окрепли. Конец! Он ринулся к столу, огибая его справа. Оуде увидел перед собой перекошенное лицо, сверкающие глаза. Ткнув пальцем в кнопку звонка и повалив стул, он кинулся в сторону, но Питер промчался мимо. Выставив скованные кандалами руки, он страшно вскрикнул и изо всех сил метнул свое тело головой вперед в широкий проем окна. Его резануло по лицу. Зазвенело разбитое стекло. Глубоко внизу, словно дно пропасти, — черная асфальтовая дорога, заполненная машинами. Рядом — вертикальная, перевернутая стена дома, нависшая над голубым провалом неба. Сжалось сердце от нарастающей скорости. Остановить падение, ухватиться за что-нибудь! Но этажи мелькали, летели мимо. Неумолимо надвигалось полотно асфальта… Питер не почувствовал боли. Темнота всплеснулась, закрыла собой весь мир… Ночью в камере стояли крик и стоны. За стеной кто-то пел и танцевал. Видно, помутился рассудок. Тюрьма была переполнена. Арестованных некуда было помещать. Их отправляли в концлагеря, некоторых тайно передавали истребительным отрядам. Мкизе и Майкла Тома вывезли ночью. Вместе с ними отправили и Джабулани, веселого крепкого парня, которому тюремщики выбили все зубы. Поезд двигался по пустыне. Песчаные дюны сменялись безжизненными каменистыми равнинами. В растрескавшихся от зноя ложах рек изредка виднелись колючий кустарник да бурая жесткая трава. Все вымерло, все выгорело. Только ветер носился неутомимо, вздымая коричневые облачка. От жары в поезде нечем было дышать. На лавках толстый слой красной пыли. Пыль в волосах. Пыль на лице, пыль во рту. Утром арестованных пересадили в тюремную автомашину. В окошке песчаные холмы, перевеваемые ветром, да неистовое солнце. Иногда вид пустыни менялся. Появлялись сухой кустарник и одинокие деревья. На песчаной равнине золотились пучки высохшей травы. Машина катила по проложенной в песке колее. Метнулись от автомобиля, перепрыгивая друг через друга, газели-прыгуны. Три страуса остановились на безопасном расстоянии, долго провожали машину глазами. На следующий день добрались до конца лагеря. Вышли из машины. Яркий, слепящий свет. Вокруг ряды колючей проволоки со сторожевыми вышками. Зарешеченными окнами смотрел на лагерь барак. Прошла колонна заключенных африканцев. Все в красных арестантских рубахах. Надсмотрщики, разморенные жарой, покрикивали на отстающих. Так началась жизнь в лагере. Утром после поверки повели на плац. Построили в круг. По команде тюремщика заключенные взвалили на спину по мешку с песком. Генри стоял рядом с утомленным, изможденным африканцем. Глаза человека блестели лихорадочным блеском. — Бегом! Сначала все бежали не торопясь. Но надсмотрщики подгоняли, и кольцо людей постепенно ускоряло движение. Генри старался не тратить сил. Они еще пригодятся ему. Но мешок с теплым песком давил к земле. Горело в легких, щипало от пота веки. Вращались, плыли назад вышки с часовыми. Кружилось над головой солнце. Генри не сдавался. Худого африканца впереди него качало из стороны в сторону. Жилистые ноги его разъезжались по песку. И вдруг он, не выдержав, остановился, расстроил весь круг. И здесь Генри узнал, что это был за лагерь. Старший надзиратель Гофман, сухопарый широкоплечий немец лет пятидесяти, не закричал, не вышел из себя. Только лицо его приняло жесткое и деловое выражение. Говорили, что Гофман сбежал в Южную Африку из Германии, где служил со время войны в лагере смерти. — Вперед! — Гофман повел автоматом в сторону заключенного. — Гиена ты! — Африканец тяжело дышал. — Бегом! — Автомат поднялся на уровень груди заключенного. — Беги, — шептали вокруг, — беги! Но африканец не мог двигаться. “Неужели выстрелит!” — подумал Мкизе и тотчас услышал одиночный выстрел. Генри заметил, что лицо Гофмана сохранило будничное выражение. Костлявый африканец повалился на песок. По знаку надсмотрщика уголовники — их было несколько человек в лагере — подняли и понесли тело убитого с плаца. Все молчали. Сцена, по-видимому, в лагере была обычной. Лишь Майкл Тома прошипел: — Мамба.[196] Это был лагерь смертников. Сюда попадали только “коммунисты”, “красные” и отчаянные рецидивисты. Сотня политических заключенных была обречена. Их уничтожали постепенно, одного за другим. Обо всем этом шепотом рассказал Мкизе его сосед по полке, зулус лет сорока, руководитель непризнаваемого правительством профсоюза текстильщиков. На пробитой каким-то тупым предметом щеке его зияла незаживающая рана. На следующий день его самого увели из барака. Ни ночью, ни утром он не вернулся. Он ушел навсегда, вслед за десятками тех, кто был перед ним. Тома, мрачный, обеспокоенный, сказал Мкизе: — Уходить надо. — Есть какой-нибудь план? Плана побега у Тома не было. В лагере не хватало воды. Ее привозили в цистернах. Заключенный дорожил своей порцией воды больше, чем обедом. Однажды в столовой к беззубому Джабулани, который приехал с Мкизе и Тома, подошел уголовник. Он был развязен и держался вызывающе. — Слушай ты, ситуация, — обратился он к Джабулани, — отнеси свою воду Мписи. Мписи был главарем рецидивистов в лагере. — Вот твоему Мписи! — Джабулани показал большой кулак и засмеялся беззубым ртом. — Видели шакала, воду ему! — Отойди! — с угрозой сказал Генри уголовнику. — Отойди, я сказал! Майкл Тома вылез из-за стола, подошел к цоци. В его долговязой фигуре и нарочито медлительной походке было что-то угрожающее, зловещее. — Ты что же!.. — прошипел он сквозь сжатые зубы и вдруг сгреб цоци за ворот красной рубахи. — Хочешь, я сделаю твой длинный череп сладким? Но цоци в ответ хватил Майкла кулачищем по лицу. Рядом с ними вырос надсмотрщик Опперман. Толстый, лысый, Опперман редко кричал на заключенных и почти никогда не дрался. Он оттолкнул Тома и молча залепил цоци оплеуху. Тот едва устоял на ногах, но убежать не посмел. Вытянув руки по швам, он отрапортовал по лагерному уставу: — Благодарю, баас. Баас наподдал ему еще раза два, и цоци дважды поблагодарил “за учение”. — Пшел! Слово это мгновенно сдуло уголовника с места. Он ринулся из столовой. Казалось, на этом столкновение и окончилось. Но, видно, над Джабулани уже был занесен меч. На следующий вечер, когда заключенные шли спать, два надсмотрщика остановили его у барака. — Ну, моя очередь, — сказал Джабулани упавшим голосом. — Может, на допрос? — сказал Мкизе. Но сам он был уверен, что его новому другу пришел конец. — Если спасешься, расскажи жене, Генри… — Иди, иди! — Надсмотрщик с рыжей щетиной на щеках толкнул Джабулани. — Все вы спасетесь. Подталкиваемый в спину тюремщиками, Джабулани растворился в вечеряем мраке, ушел навсегда из жизни Генри. — Видел?! — сказал на следующий день Тома. — А Джабулани ведь с нами приехал. Мы следующие. Генри и сам думал об этом. Каждый день исчезали два—три политзаключенных. Смерть кружилась над Мкизе и Тома, и круги всё сужались. Как-то утром половину заключенных построили и вывели за ворота в пустыню. — Что-то затеяли, — мрачно сказал Тома, шагая рядом с Генри. Тома обливался потом. Он очень ослаб за последнее, время. Нестерпимо палило солнце. В высоком выцветшем небе парили орлы. Горячая пыль обжигала лицо. — Захватить бы охрану, брат. Их всего четверо, — шептал Тома. — Куда нас ведут? Остановились около каменоломни. По команде надсмотрщиков каждый взял по камню, и колонна отправилась обратно. Администрация решила строить себе новый дом и запасалась материалом. В каменоломню стали ходить часто. Поднимаясь на песчаные дюны, Мкизе всматривался в даль, глядел на дрожащий в мареве горизонт. Сколько дней идти через пустыню? Что ждет путника там? Лагерь был обнесен колючей проволокой. Между рядами проволоки — сторожевые собаки. На вышках — часовые. Трудно выбраться. А где взять воду и пищу? Но случилось непредвиденное. Толстый надсмотрщик Опперман, оказавшись как-то наедине с Мкизе, сказал, хмурясь: — Вам надо уходить. Я помогу. Мкизе будто не слышал. — О нашем разговоре — никому, даже вашему другу. — Опперман улыбнулся и добавил: — Привет от Аплани и Джима Твалы. Оба они на свободе. Скоро приедет машина, и тогда… Генри не верил Опперману. Он понимал: его, одного из секретарей африканского общества свободы, не так-то просто “убрать” без шума. О нем еще вспомнят. А вот если он попытается убежать и будут свидетели, тогда другое дело. Но вдруг Опперман все же говорит правду? Может быть, он связан с демократическим обществом европейцев, в котором состоит и его Анна. Почему бы и нет?! Дело было опасное. Генри ничего не сказал Тома. Достаточно одного неосторожного слова. В лагере шпионов полно. Ну, а если Опперман все-таки провокатор? На следующее утро Опперман сказал: — Завтра вас передают истребительному отряду. Грузовик, на котором я хотел вывезти вас, приедет только дня через три. Генри почувствовал, как противный холодок разливается в груди, ползет к животу. — Я вас предупредил. Дальше действуйте сами, и немедленно. Больше ничего не могу сделать. Что предпринять? Завтра выведут его со связанными руками в пески. Солдат из истребительного отряда приставит к затылку дуло винтовки… В этот день в пустыню не ходили. Складывая в кучу камин, Генри ощупывал взглядом проволочную изгородь. В одном участке проволока была заплетена неплотно. Но найдешь ли это место ночью? Может быть, придется пролезать под огнем. Да еще собаки. Ночью он осторожно соскользнул с нар, тихо, затаив дыхание, подошел к окну. Подтянувшись, заглянул в него. Часовой на вышке дремал. Генри принялся копать руками песок у стены. Выбраться нужно до утра, уйти из лагеря в темноте. Снаружи доносилось ровное постукивание бензинового движка. Работа продвигалась медленно. Генри разогнул усталую спину и почувствовал, что сзади кто-то шевелится, наблюдает за ним. А что, если шпион поднимет тревогу? Генри прислушался. Затаив дыхание он прошел на цыпочках мимо нар. Всматривался в ряды спавших. Кто из них поднимался? Все спали. Все. Видно, показалось ему. Мкизе снова принялся за работу и вскоре наткнулся на естественное каменное основание, на котором покоился фундамент. Генри расширил яму и пытался выломать камень по частям, но глыба не поддавалась. Генри, усталый, потный, осмотрелся. Тусклый рассвет проникал в зарешеченное окно. Всё! Неужели конец всему? На нарах спали. Он забросал яму песком, умял его и лег на свою полку. Едва он забылся тревожным сном, как прозвучал подъем. Наступил день. Когда они собираются передать его истребительному отряду — сразу утром или дождутся ночи? После поверки Опперман повел его и нескольких заключенных на склад носить ящики с консервами. Выбрав минуту, когда они остались одни, Опперман сказал: — Уходите сейчас. Будет поздно. Генри взглянул на него пристально. — Как же уйти? Лезть под огонь часовых? — Придется пройтись по Калахари. Километров сто—сто пятьдесят. Сейчас отправляемся в каменоломню. В отряде будет на одного человека больше. В лагерь не возвращайтесь. До вечерней поверки не хватятся. Мкизе не сводил глаз с лица Оппермана: друг или провокатор? — За каменоломней под сухим кустом я спрятал для вас деньги, воду, консервы. Держите все время на юго-восток. Похоже, что охранник говорит искренне. А что ему, Генри, терять? — Спасибо, Опперман. Надеюсь, встретимся при других обстоятельствах. Рыжие брови Оппермана поднялись. В глазах хитрые искорки. — Благодарить обождите. Сначала выйдите из пустыни. Больше ко мне не подходите. Заключенных строили по пяти человек в ряд. Генри, чтобы помочь Опперману, встал в ряд шестым. Колонна двигалась медленно. Генри смотрел в широкую сутулую спину африканца. Только пройти ворота. А там он сумеет найти дорогу. Стоя на возвышении, Опперман, коротконогий, полный, отсчитывая ряды заключенных, покрикивал: — Проходи, торопись, проходи! Вот ряд, в котором шел Мкизе, поравнялся с ним. Генри стиснул зубы. Вечность прошла, прежде чем прозвучало: — Проходи! Впереди у ворот — Гофман. Теперь Генри уж не мог выйти из ряда. Он принял решение: если надсмотрщик заметит лишнего в ряду, он прыгнет к нему, вырвет автомат и кинется, отстреливаясь, в пустыню. Если придется умереть — так в бою. И сразу стало спокойнее. Генри приближался к воротам, спокойный и решительный. Широко поставленные глаза его неотрывно следили за надсмотрщиком. Вот сутулый африканец приблизился к воротам, вот прошел их. Сердце бьется тяжело, сильно. Гофман смотрит внимательно. Мкизе — второй от края. Заметит или нет? И в этот момент Опперман крикнул: — Сколько должно быть? — Пятьдесят. Только на миг повернул Гофман голову, но этого было достаточно. Мкизе уже за воротами. Свежий ветер дул в лицо. Горьковатый запах полыни щекотал ноздри, наполнял грудь чем-то радостным, давно забытым. “Вышел! Спасен. Не предал, не подвел Опперман!” В каменоломне Майкл Тома, худой, оборванный, не отходил от него. В последнее время Генри сдружился с ним. Генри стало стыдно за свое счастье, стыдно, что позабыл о друге. Ведь Майклу тоже грозила смерть. Но если взять Тома с собой, то о побеге узнают сразу. Нет, все же товарища бросить нельзя. Шепотом сообщил Генри, что произошло. Глаза Тома загорелись. — И я с тобой, брат. — Я не знаю, что станет с нами. — Зато я знаю, что будет со мной, если я не пойду. Ты правильно делаешь, брат, что берешь меня. Мы перейдем пустыню. Со мной не пропадешь. Спустя минуту Генри и Майкл незаметно скрылись за выступом скалы. У сухого куста нашли рюкзак. Кроме фляги с водой, консервов, спичек и денег, в нем лежали еще пистолет, шляпа и простая — не красная — рубаха. Не обманул Опперман. Несколько часов, задыхаясь от жары, уходили они подальше от лагеря. Над мертвыми песками Калахари ветер гнал столбы пыли. Прикрытое мутной коричневой занавеской, стояло над головой солнце. Раскаленные песчинки осами кусали лицо. Горячий воздух сушил рот и легкие. Генри и Тома бежали, увязая в песке, торопливо скатывались по крутым спинам дюн. Иногда пески сменялись каменными равнинами. Раскаленные серые волны в беспорядке громоздились вокруг. Ни травинки, ни кустика. Под вечер жара спала. Тома выбился из сил, спотыкался, падал. Генри подымал, торопил его. Наконец решились отдохнуть. Костра не разжигали. Мучила жажда. Выпили по маленькому стаканчику воды. — Воды и на одного не хватит, — сказал Тома. — Может быть, зря ты взял меня с собой? — А ты мог бы оставить меня? — Я только говорю: на двоих этой воды не хватит. — Дойдем. Дней через пять будем в Иоганнесбурге. Жизнь снова повернулась к нам лицом. Так говорил Генри Мкизе. Но мог ли он знать, как обернется побег? Закопавшись в теплый песок, заснули. Часа через два их разбудил лай собаки. — Они! — Голос Тома слегка дрогнул. Мкизе сел. Торопливо вынул пистолет, осмотрел его. Билась, металась в голове мысль, отыскивая выход. Усилием воли подавил подступающее волнение. Скрыться в темноте! Но у преследователей собака. Она будет идти по их следу. — Не стреляй, брат. Они нас прикончат. Генри поднял глаза на товарища. Майкл Тома, который один разоружил двух белых полицейских, войдя ночью в участок, стал такой осторожный. Или пустыня выпила его волю? Но нужно действовать, и действовать наверняка. Генри стал вглядываться в темноту. Тишина доносила скрип песка под ногами преследователей. Из впадины, совсем рядом, вынырнули четверо с винтовками за плечами, с собакой на поводке. Собака зарычала, стала рваться. Генри спустил предохранитель пистолета. — Если ты выстрелишь — нам конец. Генри косо взглянул на своего спутника, сказал сквозь зубы: — Они и так уложат нас. А что ты предлагаешь? — Только не стрелять. Может быть, возьмут живыми. Раз уж поймали… — Ну, так в лагере расстреляют. И еще не поймали. Преследователи, сняв с плеч винтовки, приближались. Впереди ширококостный невысокий человек с расстегнутым воротом. Генри целился тщательно — чуть пониже белого треугольника груди. Ствол пистолета плохо виден в темноте. Выстрелил. Охранник споткнулся, пошел боком, медленно, словно сопротивляясь давящей его книзу силе, лег. Грохот кинул остальных на землю… Ноги беглецов увязали в песке. Позади смутно виднелись двое. Вспыхивали в ночи огоньки выстрелов. Охранники отставали. Генри уже решил, что им удалось уйти, когда Тома с воплем схватился за бедро. — Кость цела, — сказал Генри, осмотрев рану. — Идти можешь? — Конечно. Теперь убьют, если схватят. Все глубже уходили они в пустыню. Где-то далеко в ночи были преследователи. Появились сухая трава, мелкие сухие кустики. Наступило утро. Две крохотные фигурки упрямо шагали по необъятному царству песков. Тома опирался на руку Мкизе. Поднялось солнце. Пустыня сияла. Пустыня пила влагу из утомленных тел. Когда жара стала невыносимой, сели в тени большого камня. Тома просил воды. Генри дважды наполнял ему стакан. Сам выпил один. Остаток дня отдыхали. Проснулись к вечеру. Генри поднялся на песчаную дюну, осмотрелся. Кусты верблюжьей колючки. Редкие акации с плоскими красками. В лучах заката розовели белые солончаковые впадины. Вились роем надоедливые мушки мопани, лезли в нос, в глаза, искали влагу. Генри отмахивался от них веткой. Но что это? На западе появились двое с собакой на поводке. Генри кинулся к товарищу. Он с трудом поднял Майкла. Тома шел прихрамывая: открылась рана. Майкл терял силы. Его знобило. Под утро он упал и не мог подняться. Рассвело. Они находились на каменистой равнине среди отполированных ветрами невысоких острых пиков. Пустыня словно скалила каменные зубы. В этом похожем на луну мире, кроме них, были лишь враги, идущие за ними. Тома лежал обессиленный. Какая-то мысль точила его. Он пристально вглядывался в Мкизе, словно хотел рассмотреть его получше. Легли спать. Вечером Мкизе открыл глаза и увидел, что Майкл пытается извлечь флягу с водой из рюкзака. Заметив движение Генри, Тома притворился спящим. На следующую ночь, уходя от вновь появившихся преследователей, Мкизе, обливаясь потом, нес на себе впавшего в беспамятство Тома. Он спускался в долины, покрытые сухой золотистой травой. Забрел в окаменевший, поваленный тысячи лет назад лес. В одной из пещер в скалах обнаружил огромный каменный топор. Кто мог им пользоваться? Они встретили следы каких-то древних поселений. Но воды нигде не было. На привале Тома начал бредить. Оп тяжело дышал и, видимо, умирал. — Воды, дай воды, ты, красный, — сказал он едва слышно. Генри удивился: — Что ты говоришь, Тома? — Дай воды, я ухожу. — Голос раненого был едва слышен. — К черту вас всех, и красных и европейцев. Зачем я ввязался… — Так ты не… — Не Майкл Тома. — А кто же? — Зачем тебе мое имя? Чтобы отомстить моей семье? — Я хочу знать, кто послал тебя. — Дай пить, я ухожу. Генри помедлил, потом налил немного воды. Тот, кто недавно называл себя Майклом Тома, выпил, вздохнул. — Кто же послал? — Разве сам не сообразил? — Зачем ты пошел в пустыню со мной? Человек долго молчал. — Я должен был стать твоим другом и войти в ваше Общество свободы. — Чтобы всех выдать? — А зачем же еще? Будь все проклято! — Это ты наблюдал за мной, когда я делал подкоп ночью? — Конечно. Я бы убежал с тобой. — А Майкл Тома? Он бы встретил тебя в Иоганнесбурге. — Мертвый никого не встретит… — Убили? — Они, не я. — Значит, Опперман тоже из секретной службы? — Мы вместе. В лагере не знают. Все было ясно. Генри нахмурился, вынул пистолет, сдвинул предохранитель. Он встретил взгляд своего спутника, усталый, безразличный. — Стреляй. Сюда. — Он показал себе в ухо. — Не хочу больше жить. Он закрыл глаза, ожидая выстрела. Генри не мог решиться. А зачем ему стрелять? Агент особого отдела и сам умрет. Но бросить его здесь тоже неприятно. Генри долго сидел рядом. Потом лег, задремал. Когда проснулся, человек был мертв. Генри закопал тело, выпил остатки воды и пошел на юго-восток. Около полудня он остановился. Жарко горело солнце над головой. В ложе ручья Мкизе сорвал травинку, пожевал. Горькая, сухая. Из-под ног вывернулся долгоног, похожий на тушканчика. “Как он живет здесь? Рядом должна быть вода”. Но воды не было, долгоног месяцами не пил, довольствовался лишь тем, что содержали сухие растения. Мкизе стал обследовать пустыню. Он увидел ящерицу, застывшую в неестественной позе. В жилах ее текла кровь, жидкость. Генри подобрался к ней, быстро протянул руку, но схватил раскаленный песок. На глазах ящерица закопалась, словно провалилась. Генри заглядывал в норы. Он нашел существо, похожее на мышь. Животное впало в спячку. Оно было таким маленьким, жалким и противным, что Генри с отвращением отбросил его. Слабость разливалась по всему телу. Жажда выжимала последние силы. Но Мкизе не останавливался. Временами сознание покидало его. То он видел себя среди друзей. Аплани, Джим Тсала, Питер вновь были с ним. То снова он шел впереди отряда “Копья народа”, снова видел столб пламени, поднявшийся над взорванным динамитным заводом. И опять вокруг была пустыня, сверкало беспощадное солнце в выцветшем, опаленном небе. А ноги все несли и несли его на юго-восток. Сколько времени он шел? Долго ли человек может жить без воды? Разные бывают люди. Он, Генри, выберется из песков. У него жена и дочь. Его ждут боевые друзья в Иоганнесбурге. Мкизе сел отдохнуть. Вдали около высохшей акации на фоне заходящего за горизонт солнца появилась газель. Она подняла голову, настороженно запрядала ушами и вдруг умчалась. Кто спугнул ее? На горизонте двигались двое. Они! Преследователи шли, разглядывая следы, согнувшись, как ходят очень усталые люди. Один из них остановился, указал в сторону Генри и сдернул с плеча винтовку. Надо же было ему сесть на открытом месте! Над головой зло взвизгнула пуля. Запоздало громыхнул выстрел. Мкизе побежал, спотыкаясь о кочки с пучками высохшей травы. К утру он едва двигался. Страшно хотелось пить. Кружилась голова. В ушах гремел какой-то разговор. Генри не мог понять, где он находится… Мкизе очнулся. Он ничком лежал на песке. Радостный крик вырвался из его груди. На расплавленном солнцем горизонте текла река, коричневая от ила. На берегу — зеленые кусты. Вода! Много воды, в которую можно погрузиться с головой, и пить, пить, пить. Мкизе поднялся и побежал. Но вскоре над речкой проступили очертания другой реки — перевернутое изображение первой. Мираж! Разочарованный Мкизе остановился, потом снова двинулся в путь. Преследователи где-то близко. Почти умирающий от жажды и усталости, он набрел на глубокую, круглую, как чаша, впадину. Стоя на каменном барьере, окружающем долину, Генри с надеждой всматривался в дно. У обломка скалы ярко зеленело растение. Генри отвел глаза. Новый мираж? На ползучем зеленом стебле между листьями лежал желтый пузатый плод. Мкизе долго спускался в глубокую впадину и медленно, словно боясь вспугнуть видение, приблизился. Опустившись на колени, он перекусил черенок с жесткими волосиками, взял дыню в обе руки, стал отыскивать укромное, безопасное место, чтобы предаться пиршеству. По ту сторону впадины полукругом высились острые, вылизанные ветрами гранитные зубья. Там можно было спрятаться. Но от них его отделяло ровное дно крутой впадины. Поверхность песка была здесь какой-то странной: совершенно ровной, без единой складки. На таком песке будет виден каждый след. Он обошел впадину по камням и добрался до острых гранитных зубьев. Мякоть дыни была желтой, горьковатой и полна сока. Мкизе съел половну, остальное завернул в бумагу. Охранники где-то отстали. Да едва ли они идут за ним по такой жаре. Устроившись поудобнее, Генри заснул, чувствуя себя счастливым. Проснулся он внезапно. Рядом звучали шаги. Мкизе быстро сел, прислушался. Охранники шагали по камням на той стороне круглой песчаной впадины. Двадцать шагов разделяли их. — Тут он, — зло говорил молодой голос. — Тут запрятался. — Черт с ним, — отвечал голос, сиплый от жажды. — Давай отдохнем. — Он где-то рядом. Пока отдыхаешь, опять убежит. Сколько тащились из-за него по пустыне. Всю обойму всажу. — Да брось. Что он тебе? Скажем: погиб. — Нет! — не унимался молодой. Генри слушал, не шевелясь. Надо добраться до дюн. Пусть потом ловят. Он осторожно двинулся по песку. Потом остановился. На скулах его вспухли желваки. Зачем бежать и быть дичью, если можно стать охотником? Пригибаясь, прячасьза гранитными зубьями, неслышно, по-кошачьи, двинулся он к врагам. Когда Генри вышел из-за выступа, пять шагов отделяли его от охранников. Охранники сидели на камнях, боком к нему. Один — молодой, с рыжей щетиной на щеках и обожженным носом — дремал, опустив голову. Другой — лысый, лет сорока — набивал табаком трубку. Винтовки лежали у них на коленях. Оба, как по команде, повернули головы и увидели подходящего африканца в мятом, запыленном костюме, с пистолетом в руке. Широко поставленные глаза его смотрели зорко и решительно. Молодой охранник с проклятьем схватился за винтовку. Генри выстрелил. Пуля взметнула фонтанчик песка у ног тюремщика. — Не двигаться! — В низком, с хрипотцой голосе не было колебания. Молодой отдернул руки, словно оружие обожгло их. На курносом лице его была злоба. Какой-то беглый черный распоряжается им так, словно всю жизнь занимался этим. — Встать! Руки на затылок… Ну! Спиной ко мне! Генри снял с парня рюкзак. Там во фляге плескалась вода. Он вынул флягу, хлебнул из нее. Вода принадлежала ему. Он завоевал ее. Генри хотел было приложиться еще раз, но молодой охранник метнулся вдруг в сторону, побежал через ровное, выглаженное дно впадины. Старший, словно его толкнули, кинулся за ним. Пробежать два десятка шагов! Добраться до каменных зубьев! Но гладкая песчаная поверхность неожиданно и странно заколыхалась, словно желе. Песок зловеще скрипел, и ноги бегущих погружались в него все глубже и глубже Генри поднял было пистолет, но остановился. Что-то необычное происходило с охранниками. Старший из них, испуганный непонятным явлением, попытался вернуться. Ноги его провалились уже выше колен. Он упал, и, встав, погрузился по пояс. Молодой, отчаянно прыгая и судорожно вытаскивая ноги из песка, успел добраться до середины впадины. Потом сразу провалился по грудь. Вся впадина колыхалась, дышала. Что-то всхлипывало, урчало в ее утробе. Словно живое огромное существо шевелилось, приподымалось под ее поверхностью. Отчаянные рывки охранника лишь ухудшили его положение. Он погружался в пучину. Песок дошел ему до подбородка. Охранник вскинул голову и издал душераздирающий вопль. Песок заглушил этот вскрик жизни. Охранник исчез. Даже углубления не осталось в том месте, где только что находился человек. Генри с удивлением и содроганием смотрел на эту смерть. Лысый охранник завяз в пяти шагах от него и, сделав несколько резких бесполезных движений, чтобы выбраться, замер. Он погружался медленно и неотвратимо. Песок яростно шуршал вокруг него. — Спаси! Брось мне что-нибудь, парень, брось! У меня двое детей. Мкизе перебирал в уме, что бы предпринять. — Я не сам пошел. Этот проклятый фашист Гофман! Помоги, товарищ. Песок подбирался уже к его губам. — Не ори так, держись! — Генри, торопясь, стал резать, рвать на полосы рюкзак, связывать их. — О господи!.. — Охранник вытянул шею и раскрыл рот. Генри бросил ему сделанную им веревку, но она оказалась коротка. Тогда он сорвал с себя рубаху, привязал ее к веревке. Песок засыпал рот жертвы. Охранник с кашлем выплюнул его. — О-о-о! — Хватай! Левая рука человека судорожно вцепилась в упавшую рядом с ним рубаху. Правая была погребена. Генри тянул осторожно. Земля словно повисла на своей жертве, не выпускала ее. — Я никогда не бил черных, — причитал охранник, — дети будут молиться за тебя. — Молчи. И не думай, что я поверил тебе. Охранник ступил на твердую землю. Песок сыпался с него. Он был красный от жары и напряжения. Они стояли теперь один на один, два врага. — Чертово месиво. — Снимайте рюкзак! — приказал Мкизе. Он извлек консервы и флягу с водой. — А я с чем пойду? — спросил охранник, смелея. — Мне нужна вода. — Я должен сдохнуть в этом пекле? Генри промолчал. — Тогда я пойду с тобой… с вами, — сказал охранник. — Ха! — Вы посылаете меня на смерть. Генри мрачновато усмехнулся. — А вы бы хотели, чтобы я поступил с вами, как с братом? — Меня послали. Я не сам. Генри бросил под ноги охраннику одну из фляг. — Уходите. — Благодарю, товарищ. — Уходите. Генри провожал охранника взглядом, пока тот не исчез за каменной грядой… Пятую ночь шел Мкизе на юго-восток. Он спускался в долины, обследовал углубления, тщетно стараясь найти источник. Стыло над головой низкое небо, сжимало в холодных объятиях пустыню. Из черных просторов Вселенной равнодушно смотрели на Генри звезды, вечные и не знающие тревог. Сколько дней осталось ему идти? И выберется ли он когда-нибудь отсюда? Мысль о дочери и Анне, ожидающих его в большом мире, взбадривала Мкизе. Генри сел, задремал. Проснулся он на рассвете, отдохнувший и посвежевший. Ветерок, играя, крутил легкие облачка пыли. Над волнистой линией горизонта заря поднимала алый парус. Новое утро счастливо улыбалось земле. И, глядя на эту картину, Генри тоже улыбнулся — в первый раз за последние дни. Он встал и, пошатываясь, снова пошел на юго-восток. Горячий воздух сушил рот. Плавилось в огненных лучах тело. Ужасающая слабость давила Генри к земле. Иногда он, выбившись из сил, ложился на горячий песок. Обрывки мыслей возникали в мозгу и тут же исчезали. Но Мкизе упорно поднимался, и шел, и шел… Желтый диск пустыни закачался перед его глазами. И вдруг, сияя и ослепляя, ринулся ему навстречу. Генри ощутил глухой удар падения, не почувствовав боли. Он лежал на раскаленной земле, и она медленно вращалась, вставала вертикально, нависала над ним. Мкизе удивлялся, что не отрывается, не падает в провал неба. Когда он пришел в себя, неподалеку слышался приглушенный разговор. Генри огляделся, осмотрел густой высохший кустарник. Никого. Люди затаились. Кто это? Полиция? В кустарнике слышны крадущиеся шаги. Неизвестные двигались прямо на него. Мкизе медленно опустил руку в карман брюк. Увидел двоих светло-коричневых низкорослых мужчин в набедренных повязках. “Бушмены!” В руках бушменов — луки со стрелами. Они приблизились. Лица их были угрожающими. Генри вздохнул с облегчением. Все-таки это не полиция. Он знал, что стрелы их отравлены, и поднял раскрытые ладони — в знак мирных намерений. Бушмены — молодые парни — перебросились между собой несколькими словами, держа Генри под прицелом. — Я друг, — сказал он на языке африкаанс. — Ю доле,[197] — проговорил один из них с насечкой над переносицей. — Твой — друг, другой — враг. Люди приходят в Калахари убивать бушмена, — сказал второй. Генри миролюбиво улыбнулся: — Я друг. Один из них повернулся, что-то громко проговорил. В словах его были щелкающие звуки. Появились несколько бушменов и бушменок с детьми, привязанными за спиной. Молоденькая девушка, миловидная и веселая, с украшениями из белых плоских бус вокруг головы, смело подошла к Генри, сидевшему на земле. Узкие глаза ее щурились, лучились в улыбке. — Тюрьма гулял? — спросила она на ломаном языке африкаанс и засмеялась. — Почему тюрьма? — Приезжал полис, искал тебя. — Нет, я заблудился. Бушмены понимающе улыбались, скалили в улыбке ровные зубы. Генри тоже улыбнулся. Бушмены о чем-то заговорили все сразу. — Воды, — сказал Мкизе, обращаясь к девушке, которая не отходила от него и которую звали Пити. — Вода ходи — ходи ногами. — Пити приветливо улыбнулась. Тронулись в путь. Вскоре показались два дерева. Там была вода. Но бушмены обошли источник стороной и, сделав большой круг, попали в селение, состоявшее из нескольких шалашей. Оттуда Пити, взяв страусиное яйцо, помчалась за водой. К источнику с противоположной стороны ходили на водопой животные, и бушмены не хотели пользоваться их тропой, чтобы не отпугивать антилоп. — Охотники думали сначала — ты больше мертвый, чем живой, — сказал старый Кану, оставшись с Генри. Кану не был вождем. Просто Кану был старым и мудрым, и все признавали это. Он рассказал, что когда-то работал на ферме бура, но вернулся к своему народу. Год за годом, вольный, бродил он со своим племенем по Калахари, занимаясь охотой, питаясь травами и кореньями. Если долго не выпадало дождей, племя разбивалось, как сейчас, на мелкие группы, чтобы легче было прокормиться. — Здесь луна хороший, а солнце плохой. Но зато нет злых людей. — Когда власть перейдет к народу, мы не забудем о твоем племени, — сказал Генри. — Власть будет нашей. В селение вернулось несколько женщин. Принесли в кожаных мешках ягоды, муравьиные яйца, дикий лук. Генри уселся со всеми у костра. Бушмены были дружны между собой. Никто не претендовал на особое положение. Продуктами делились поровну. Генри тоже получил свою долю. Жареная саранча и дикий лук показались ему, голодному, очень вкусными. Бушмены запели, аккомпанируя себе на пятиструнной арфе — гуаши. Песня напоминала то вой ветра, то шорох песка, то трубный призыв слонов. Певцы воодушевлялись все больше. Мужчины вскочили, стали танцевать танец охотника и газели, все ускоряя темп. Зрители дружелюбно принимали исполнение. Генри думал, как несправедливы те, кто считает их дикими. Братскому, человеческому отношению бушменов друг к другу могли бы позавидовать многие. Видимо, эта дружба и дает им возможность выжить в таких суровых условиях. Весь вечер Пити ходила около Генри, пудрилась, макая кусочек мягкой кожи в висевшую на шее пудреницу из панциря черепахи. (Пудра была приготовлена из семян душистых трав.) Потом раздобыла для гостя кусок сушеного мяса, уселась рядом. Генри не совсем понимал ее ломаный африкаанс. — Ты уйдешь от нас? — спрашивала она. — Да, скоро. — Почему ты торопишься? Разве тебе плохо у нас? — Меня ждут там. — Твоя женщина? — И она тоже. — И полиция… — Пити засмеялась. — А я всегда живу в Калахари, — сказала она грустно. — Ты еще увидишь мир. Все изменится. Мы все изменим. Пити пристально смотрела на него, силясь понять, что он сказал. Ночью бушмены спали, укрывшись одеялами из шкур или забравшись в меховые мешки. Из-за высокой песчаной дюны выглядывала луна, удивленно разглядывала ветхие шалаши и маленьких людей. Лунный свет вспыхивал зеленым пламенем в глазах шакалов, бродивших вокруг лагеря. Где-то далеко раздался громовой утробный рев льва, и шакалы, вывшие на луну, сразу умолкли. С племенем Генри прожил неделю, не переставая удивляться этим приветливым и доброжелательным людям, за которыми колонизаторы совсем еще недавно охотились, как за дикими зверями. Генри окреп. И однажды утром он и несколько бушменов двинулись на юго-восток. Пити добывала для них коренья, собирала с деревьев чиви красные плоды. И раз даже принесла в деревянной чашке мед. На третий день, когда солнце вскарабкалось по белесому небу почти в зенит, они увидели одинокую ферму. Пастух-африканец, опираясь на палку и стоя на одной ноге, пас стадо овец. Размахивал железными крыльями ветряной насос. В прямоугольнике искусственного бассейна голубело небо. — Мы пришли, — сказал старый Кану. Генри молча смотрел на пастуха, на землю, заселенную людьми. Он волновался, словно блудный сын, вернувшийся наконец домой. — Мы пришли, — повторил Кану. — Здесь живут твои братья. — Хвала тебе, бушмен. Хвала тебе, старик. Маленькая Пити с грустью смотрела на гостя. Он явился из другого мира, и этот мир властно звал его к себе. Генри подошел к Пити, молча подержал ее руку в своей. На дороге показался грузовик со скотом в кузове. За рулем сидел африканец. Ветер сносил в сторону плотный шлейф красной пыли. Генри остановил машину. — Вид у тебя, парень, будто ты через Калахари шел, — сказал шофер неприветливо. — Ну, садись. Генри уселся в кабину. — Честно скажи: документы есть? — Нет. — Встретим патрулей на дороге — выскакивай… Когда Генри выглянул из окна, Кану и его спутники вое еще стояли у дороги. Маленькая Пити, притихшая и грустная, смотрела на машину. Генри помахал рукой, но Пити не шевельнулась. Генри стало грустно. За короткий срок он успел подружиться и с девушкой, и с Кану, и со всем маленьким племенем. Машина прыгала по выбоинам. Откинувшись на спинку сиденья, Генри глядел вдаль. Плыла навстречу холмистая степь. Оставались позади фермы и прямоугольники земель, огороженные заборами. Генри думал уже об Иоганнесбурге. Все дороги ведут домой. Там ждут его друзья, ждет Анна н ждут агенты секретной службы. Нелегкая предстоит борьба. Но нет другого пути.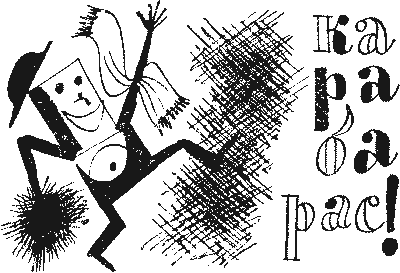
В.СЛУКИН, Е.КАРТАШЕВ ПРИВЕТ СТАРИНЫ Фантастическая шутка
Фил Олог любовно погладил прозрачную плитку, в которую были заключены тоненькие почерневшие пленочки — остатки когда-то бумажного листа. На них проступали едва заметные письмена древних. Это была великолепная находка. Такой уже давно не знал мир. Тысячи бесценных литературных памятников пропали безвозвратно. Бумага не выдерживала времени. А древние не умели заключать свои рукописи и книги в твердые прозрачные оболочки. И тем более не умели лишать воздуха свои древлехранилища. Поэтому нет ничего удивительного, что до исследователей тридцать восьмого века дошли лишь отдельные печатные произведения начала двадцатых веков. И вот недавно обнаружен этот экземпляр. Пусть сильно поврежденный, но все же великолепный. Правда, сразу прочесть и истолковать текст просто невозможно. Отчасти из-за повреждений, отчасти потому, что в нем встречались слова, почему-то не вошедшие ни в один словарь языков прошлого. Но недаром Фил Олог был знатоком древних наречий и выдающимся исследователем старинных литератур. Он расшифровал и перевел на современный язык множество древних книг, памятников литературы. Фил Олог пододвинул к себе плитку и начал рассматривать текст через нейтринный бинокуляр. Прежде всего он еще раз взглянул на чудесную миниатюру, несомненно напечатанную когда-то в красках. Теперь на миниатюре едва угадывались контуры предметов. Они очень напоминали изображения каких-то… — Ну конечно, — сказал сам себе Фил Олог, — это могут быть только киберы. Страшно примитивные киберы. Ведь тогда, в двадцатых, началась их эра. Так что же еще могло волновать в то время древних, о чем они, древние, могли писать! Только о киберах! Фил Олог обладал поразительной интуицией, и она не раз выручала его. Нейтринный бинокуляр опустился там, где начиналась первая фраза. Фил Олог медленно вел объектив вдоль строк и рассуждал: — Первое слово неполное “…ликий”. Конечно, это — многоликий, то есть многознающий, умеющий делать многие операции, попросту — универсальный. Правда, есть еще слово “великий”, но оно не подходит. Мания величия уже тогда отошла в прошлое. К тому же кибер, а речь несомненно идет о нем, не мог так заявлять о себе. Киберу любых времен это недоступно. УМЫВАЛЬНИК… Слово незнакомое, но сразу ясно, что это сокращенное название кибера. Посмотрите, как оно близко по звучанию к названиям наших современных киберов, например, СКОВОРОДНИК — Самоконтролирующийся Воображаемо-Реальный Однотактный Исполнительный Кибер. Или вот, например, наше последнее достижение — ДУХОВКА — Думающий Хорошо Организованный Воображаемый Кибернетический Автомат. Наши предки были, конечно, технически развитыми людьми, но в то время никаких воображаемых киберов еще не имели. И этот самый УМЫВАЛЬНИК мог быть очень простеньким Универсальным Мыслящим, пусть даже Высокоорганизованным, но по-прежнему Альфа-Нормированным и только Импульсным Кибером. …ЗНАМЕНИТЫЙ. Да, этот кибер мог быть всемирно известной моделью — ничего удивительного. О! Здесь что-то совсем зыбко и непонятно! Первая буква все-таки хорошо видится: М. Далее, кажется, — ОЙ. МОИ… Хм, обозначение собственности? Нет-нет. Дальше еще что-то. Ага! Д… О… ДОДЫР МОЙДОДЫР! Интересно! Учтите, это одно слово. Как приятно! Значит, древние уже в ту пору отбросили “МОЙ” как отдельное понятие и выражение собственности. Это меняет наши представления о них. МОЙДОДЫР — по всей вероятности, имя или индекс УМЫВАЛЬНИКа. Слово имеет явно древнетюркское происхождение “ДОДЫР”? Ведь так и напрашивается “батыр”, то есть “богатырь”! Древние многое поэтизировали и, конечно, могли дать какой-нибудь первой или самой мошной модели такое красивое имя. Пойдем дальше. Вот снова уже встречавшийся и теперь совершенно понятный термин УМЫВАЛЬНИК. Множественное число. …НАЧАЛЬНИК — то есть руководитель. Это известно. Значит, МОЙДОДЫР — не простой кибер. Он контролирует действия других, менее универсальных киберов. Известный принцип единоначалия. Среди киберов он оправдывает себя и сейчас. Ага! Вот и еще подтверждение: …МОЧАЛОК КОМАНДИР. …КОМАНДИР… возможны две версии для толкования этого архаизма. Либо слово происходит от “команда”, то есть “сигнал”, “призыв”, либо это синоним УМЫВАЛЬНИКа, углубляющий образ универсального робота и подчеркивающий его начальствующее положение. Тогда и расшифровка будет такой: Кибер Обще-Мыслящий Анализирующий Действия И Решения. …МОЧАЛОК — От слова МОЧАЛКА. Оно расшифровывается… да-да, только так: Малый Омега-Четный Альтернативный Кибернетический Автомат. Эти МОЧАЛКИ, видимо, исполняли очень несложные команды УМЫВАЛЬНИКа. Опять же это название перекликается с нашей ДУХОВКОЙ. И там и тут-Кибернетические Автоматы, но какая огромная пропасть между ними! Несколько веков непрерывного совершенствования. Надо будет подсказать техноисторикам тему возможного интереснейшего исследования: “От МОЧАЛОК к ДУХОВКАМ”… Все. Часть листа совершенно отсутствует. Однако посмотрим следующие кусочки. …МЕДНЫЙ ТАЗ… “Медный”, по-видимому, изготовленный из меди. Странно, даже смешно. Как далеко заходили пережитки бронзового века! Через тысячи лет после него — и все еще изделия из меди! …ТАЗ… Это хорошо известное слово. ТАЗ — Транс-Аэро-Зонд. Летательный аппарат индивидуального пользования, являющийся прообразом современных пуаров. Однако ТАЗы никогда не делались из меди. Они появились в начале двадцать первого (кстати, надо отметить этот факт для будущей датировки произведения) и делались только из алюминия и титана. Медный ТАЗ — это так же нелепо, как… ну, скажем, каменный дом или пища животного происхождения. Возможно, в текст вкралась опечатка, и слово ТАЗ нужно читать как ВАЗ, то есть Высоковольтный Автоматический Замыкатель — непременная деталь первых киберов. …КАРАБАРАС… Очень интересное слово. Оно ограничено знаками препинания так, как будто выражает эмоцию. Если это так, то древние молодцы! Они либо умели делать эмоциональных киберов, от чего отказались все последующие поколения, либо их киберы отдавали звуковую команду. Впрочем, древние много такого сделали, что и сейчас вызывает удивление. Но возьмемся за это самое КАРАБАРАС. По виду оно тоже из древнетюркского. Может быть, кибер имел программу, составленную на древнетюркском? Но не надо спешить! Припоминается один великолепный старинный портрет физически развитого человека с огромной бородой — в те времена волосяному покрову придавали большое значение. Так вот, под портретом были напечатаны имя и фамилия этого почтенного и, судя по величине бороды, очень уважаемого человека: КАРАБАС БАРАБАС. Он мог быть одним из талантливых программистов или наладчиков первых кибернетических устройств. И в исключительно важных случаях регулировки киберы, возможно, вызывали именно его. Имя и фамилия при этом легко объединялись в одно слово. Можно, наконец, объяснить этот возглас по-другому: КАРАБАРАС — просто очередная опечатка или ошибка наших милых предков. Это не что иное, как измененное КИБСРА-АС — КИБЕРнетическое Аналитико-Ассоциативное Существо. Через него и осуществлялось четкое и правильное управление УМЫВАЛЬНИКами и МОЧАЛКами. Точно так же, как сейчас ВЕНИКИ управляют ДУХОВКами и СКОВОРОДНИКами. Вот еще один совсем отличный отрывок. Он прекрасно сохранился, а главное, хорошо передает ритмику. …ЩЕТКИ-ЩЕТКИ… ЗАТРЕЩАЛИ… И ДАВАЙ… ТЕРЕТЬ… ПРИГОВАРИВАТЬ… МОЕМ-МОЕМ ТРУБОЧИСТА ЧИСТО-ЧИСТО… Прелестно! Но и здесь нужно разобраться. …ЩЕТКИ-ЩЕТКИ… Несомненно, это контактные щетки! Ой-ой-ой! Какая древность! Ведь щетки в свое время были у электродвигателей! Вот и еще один ключ к датировке произведения. Оно написано в период, когда безраздельно господствовали электромоторы с контактными щетками, которые, как все знают, создавали сильные радиопомехи. Отсюда и упоминание об этом: “ЗАТРЕЩАЛИ”. Контакт-электроустройства полностью исчезли где-то в начале двадцать первого столетия, уступив место бесконтактным аппаратам. Двойное повторение “ЩЕТКИ-ЩЕТКИ” — великолепный прием, позволяющий исключить из литературного языка по-шные числительные. Две щетки, пять щеток — как это было бы убого! …И ДАВАЙ ТЕРЕТЬ… Автор, видимо, напоминает нам о важном физическом процессе — трении. Без него трудно было бы достичь хорошего контакта. Не исключено, что творец произведения сам долго работал в области конструирования контакт-электроустройств. …ПРИГОВАРИВАТЬ… Совершенно ясно, что ни одно устройство, как бы сложно оно ни было, кроме киберов, разумеется, разговаривать само по себе не могло. Абсурд. Тут какой-то хитрый литературный прием. И понять его смысл, к сожалению, видимо, невозможно. Ведь прошло восемнадцать веков. Как изменились нравы! …МОЕМ-МОЕМ… Не от слова ли “мой”? Нет-нет, ведь установлено, что собственности уже не было. Тогда, может быть, от слова “МЫТЬ”? Вполне возможно. Но почему контактные щетки должны что-то мыть? Впрочем, кроме своей основной задачи, они могли выполнять и побочную. Комплекс, так сказать. Что ж, древних нельзя назвать глупыми — они кое-что понимали в максимальном использовании оборудования! …ТРУБОЧИСТ… Очень просто: Тазер РУБиновый Особо ЧИСТый. Ведь, как известно, лазеры и мазеры в конце двадцатого века были полностью вытеснены тазерами. …ЧИСТО-ЧИСТО… Наверное, этим подчеркнуто, что вредные примеси удалялись из рубина безукоризненно. Итак, мы имеем следующее… Фил Олог выключил бинокуляр и занес на записную ленту, непрерывно вылезающую из-под лацкана костюма, все расшифрованные слова и выражения. Он сделал два экземпляра записи. Один — для статьи в научный журнал… Другой отдал По Эту, своему соседу, для перевода. Статья вышла в одном из номеров журнала “АРХИСЛОВО”. А перевод появился в сборнике “Всегалактический день технопоэзии” с комментариями Фил Олога. Вот как выглядел перевод:
Д.БИЛЕНКИН ГОЛОС В ХРАМЕ
На них были тяжелые, пышные одежды, гирлянды желтых цветов, и, если бы не стража с копьями, можно было подумать, что двое землян возглавляют торжественное шествие. Плоские крыши, галереи, улицы были запружены одетой в лохмотья толпой, шевелящейся, грозно гудящей, словно рой встревоженных пчел. У Шайгина почему-то не вырвали из ушей кристаллики транслятора, и он понимал все, что кричали, выли, орали эти человекоподобные существа: — Жертва священному Храму! Кровь и Голос! Кровь… праздник… голос… победа! Сипло гудели трубы, бухали барабаны. Процессия медленно двигалась к Храму, сверкающая башня которого уже виднелась вдали. Люди знали, что там их ждет смерть, а перед ней — долгие истязания во славу какой-то непонятной и чудовищной религии. Толпа знала его еще лучше и ликовала, неистовствовала, возносила хвалу Храму и Голосу, которые даровали им столь волнующий праздник. Шайгина мутило от омерзения. Ужасной казалась не смерть и даже не страдания, а то, что их, звездолетчиков и ученых, будут хладнокровно и радостно пытать безмозглые фанатики, тупо верящие тем не менее в свою разумность. Порывы ветра вздували темные одежды шагающих рядом жрецов, и каждый раз людей окатывал тошнотворный запах грязного, сального тела. Вот эти самые лоснящиеся от пота руки, эти крючковатые пальцы с черными ногтями, дрожа от сладострастия, будут вскоре жечь их раскаленным железом, пронизывая мозг безумной болью. Мозг, вмещающий такие знания, что даже капли их хватило бы всей этой толпе для избавления от болезней, голода и невежества. — Лайтинг бы сюда… — послышался шепот Бренна. — И по рожам, по рожам… Бренн дернул связанными руками, и Шайгин почувствовал почти осязаемо, как напряглись его мускулы и как нерастраченная ярость удара дрожью пронизала тело беловолосого гиганта. — Не надо, Бренн, — сказал он едва слышно. — Это недостойно. Ведь это дети, слепые, жестокие, глупые дети… Бренн зло засмеялся. Удивленные стражники настороженно наставили копья. — Я брошусь на эти копья, если “Эйнштейн” не поспеет, — сказал Бренн. — “Эйнштейн” не поспеет, а на копья нам броситься не дадут, — ответил Шайгин. — Все равно: выше голову! — Я и так уж задрал ее к небу. Как вспомню, что где-то там есть “Эйнштейн”, есть лаборатории, книги, друзья. Эх! Как ты думаешь, если долго, очень долго и очень спокойно — не так, как в разговоре с жрецами, — объяснять этим человекоподобным, что возможна другая жизнь, что существуют общие для всей Вселенной законы развития, что мы можем помочь им выбраться из грязи, в которой они тонут, — поймут? Или лучше для их же блага стереть всю их так называемую цивилизацию? Шайгин посмотрел на беснующуюся толпу. В ней не было лиц, вся она была единым перекошенным, жадным, исступленным лицом. — Нет, — сказал он твердо, — не поймут. Мы для них диковинные, непонятные, может быть, опасные пленники. Тем слаще радость победы, тем большую ценность мы представляем для жертвенного алтаря. Простая и ясная логика, а все, что сверх этого, не существует. — Поздно мы это поняли. — Поздно. За последние две сотни лет мы успели забыть у себя на Земле, что разум может быть настолько невежественным и жестоким. Это было правдой. Ни Шайгин, ни Бренн не были подготовлены к вероломству. Когда “Эйнштейн” засек на этой планете аномалию, которая могла быть пропавшей полтора галактических года назад “Европой”, а могла ею и не быть, капитан сказал: “Берите скайдер, проверьте и возвращайтесь. На большее у нас нет времени”. “Европа” была обычным пилотируемым кораблем, но к этой звезде из-за дальности расстояния ее послали под управлением автоматов, и она исчезла где-то здесь, в этой планетной системе. Сознание отказывалось верить, что со времени их вылета прошло не больше шести часов… Они сели неподалеку от аномалии и, перед тем как начать разведку, вышли наружу только потому, что слишком уж здесь все походило на Землю. Она безусловно отказались бы от встречи с аборигенами, чьи поселки были замечены с орбиты, но те неожиданно вышли навстречу из-за деревьев со столь доверчивым жестом протянутых ладонями кверху рук, что это подкупило людей. Где же им было догадаться, что, пока идет обмен улыбками (с безопасного расстояния!), гонец уже оповестил воинов, и те крадутся по сомкнутым кронам деревьев, чтобы вдруг обрушиться водопадом тел. Да, в смелости и хитрости воинам нельзя было отказать… Городские улицы кончились, и процессия втянулась в рощу. Здесь дорога сузилась, жрецы плотней придвинулись к пленникам, и Шайгин пытался разглядеть па их замкнутых, причудливо раскрашенных лицах хотя бы тень сомнения. Напрасно. Как и там, в зале суда, им не было присуще даже любопытство. В кристалликах транслятора уже тогда накопилось достаточно информации, так что звездолетчики понимали жрецов, а те могли понять перевод земной речи. Могли понять! С тем же успехом земляне могли обращаться к раскрашенным чурбанам. Жрецы НЕ ХОТЕЛИ понимать. Родись Шайгин на полтора-два столетия раньше, его не поразила бы эта способность ограниченного разума: тогда и на Земле было сколько угодно люден, которые могли, но не хотели понимать ничего, что противоречило их представлениям или задевало их шкурные интересы, даже если то была истина, способная в итоге спасти от гибели их самих. Но у Шайгина и Бренна такого опыта не было. С наивной пылкостью они говорили о разуме, братстве цивилизаций, космическом гуманизме, а им отвечали “бог”, “вера”, “храм” и в промежутках обсуждали, надо ли считать странных пленников исчадиями зла или просто врагами. Для жрецов это было очень важно, так как от формулировки решения зависел ритуал казни. В конце концов жрецы сошлись на том, что людей надо считать и врагами, и исчадьем, и еще, кроме того, верохулителями. За первое полагалась смерть, за второе — неизвестно что, значащее “испытание Голосом”, за третье — пытка и тоже — смерть. Шайгин лишь потом сообразил, что если бы он и Бренн не пытались втолковать жрецам идею множественности миров, то их не признали бы верохулителями и они избежали бы пыток. Храм открывался постепенно, его громада как бы вырастала по мере приближения, словно не к нему шли навстречу, а он шагал поверх деревьев. И когда он весь оказался на виду, то Бренн выругался, а Шайгин подавленно подумал о том, что более беспощадного сооружения он еще не видел. Человек выглядел муравьем у подножия этой черной, давящей пирамиды, от вершины которой неожиданно взметалась вверх белая, как кость, остроконечная башня. Вне четырехугольника, очерченного шеренгой стражи, у подножия пирамиды плескалась толпа, на этот раз молчаливая и лучше одетая. Все было залито безжалостным светом чужого ртутного солнца, но черный камень пирамиды был тем не менее тускл и мрачен, как откос могилы. Посредине ее склона запекшейся раной зияла красная облицовка портала; там, по обе стороны угадывавшихся в тени врат, четверо воинов держали наперевес зажженные факелы. Процессия замерла. Как в хорошо отрепетированном спектакле, жрецы, музыканты, часть стражи попятились назад, и посредине образовавшейся пустоты остались земляне. Тысячи взглядов скрестились на них. — А башня-то из металла… — тяжело дыша, проговорил Бренн. — Эта цивилизация выше, чем нам кажется. — Это ни о чем не говорит… Наши предки мучили друг друга и при сеете электрических ламп. Язык ворочался с трудом. Взгляд толпы, казалось, стискивал виски. Внезапно напряжение спало. Величаво поплыли створки портальных врат, блеснули вскинутые в приветствии щиты воинов, толпа повалилась на колени, и из глубины пирамиды на свет выдвинулась фигура в мерцающем серебристом одеянии На мгновение Шайгину почудилось, будто у фигуры вместо головы череп, но потом он разглядел, что это была маска. Фигура величаво простерла руки. Толпа лежала ниц, так что видны были лишь спины и выпяченные зады. — Кажется, будет речь, — с надеждой сказал Бренн. Именно сейчас, должно быть, прошли все сроки контрольных вызовов, на борт “Эйнштейна” проникла тревога, и гигантский корабль готовится к броску, который должен перенести его от центрального светила, где он сейчас находится, к планете, на которой фигура с черепом вместо головы (царь, главный жрец?) собирается говорить с народом. На весь этот маневр уйдет часа два. Только бы затянулась речь! — Что он говорит? Что он говорит? — поминутно спрашивал Бренн, который в суматохе схватки лишился транслятора. Пот заливал глаза, и раскаленная площадь, коленопреклоненные ряды, длинная фигура в маске казались яркими и плоскими, как картинки в горячечном сне. — Он говорит, что свет не видывал столь мудрого народа, — переводил Шайгин, еле шевеля пересохшими губами. — Он говорит, что только благодаря Вере и Голосу, чьим смиренным служителем он является, воины одержали славную победу над человекоподобными исчадиями зла… Над нами то есть. Бездна трескучих слов и минимум информации… Теперь он поносит другие верования. Они-де обман, их приверженцы спят и видят, как бы разрушить Храм, поработить народ; это грязные, бессовестные, лукавые людишки… Словом, типичный перенос своих собственных качеств на всех инаковерующих. Игра на тщеславии дураков — вы, мол, избранники… Сосуды истины, добра, мужества и все такое прочее. Ни у кого нет такого Храма, ни у кого нет Голоса. Похоже, что оратор — Верховный служитель самого Голоса. Да, по что же это, в конце концов, такое — Голос?.. Ага, ага, вроде бы начинаю понимать. Эта штука — Голос — таится в Храме. Разумеется, он принадлежит богу… Он изрекает, он предсказывает, он указывает, он поражает… Вероятно, что-то вроде дельфийского оракула… Или озвученных святцев… Ясно! Исчадия зла падают ниц, заслышав Голос… Боюсь, что нас попытаются заставить упасть на колени перед ним… — Сначала я уложу на пол двух—трех жрецов, — пообещал Бренн. — Я тебе помогу… Умирать, так хоть не как овцы… Этот тип в маске говорит, что перво-наперво нас подвергнут испытанию Голосом… Сейчас он красиво расписывает, чем и как он затем будет нас мучить… Они просто свихнулись на садизме. Это патология, которую надо лечить… — А ты ничего держишься, — сказал Бренн. — Только бледнеть не надо, на нас смотрят. — Это из-за жары… Ну, опять начал насчет величия веры, мудрости жрецов, бессильной ярости врагов… Как по-твоему, от лжи и тупости может тошнить? Похоже, что меня сейчас вывернет… — Ты еще можешь смеяться! — А что нам остается? Увы, он кончает речь… Видишь, вес встают… — Скажи им пару теплых фраз. — Не могу… Что бы я ни сказал, все будет оскорблением… — О! Быть может, оскорбившись, они быстренько прикончат нас… — Все равно не могу. Оскорблять других — это низость. Барабаны ударили разом, от ликующего вопля толпы заложило уши, медные щиты в руках стражи сверкнули молниями, колыхнулись копья, и люди двинулись в свой последний путь. Со ступени на ступень, выше, выше; ступени были такие узкие, что приходилось неотрывно смотреть себе под ноги, i Шайгин с Бренном не заметили, как очутились перед прохладной темнотой портала. Они бросили прощальный взгляд назад — на кипящую восторгом площадь, дремотное марево горизонта, блеклое небо, в котором скрывался “Эйнштейн”, и створки ворот, коротко скрежетнув, поглотили их. Низкая камера, лестница, камера, опять лестница. Это было шествие среди теней. Отброшенные светом факелов, они сопровождали людей, раздувались на закопченном потолке, беззвучно бежали по стенам, заступали путь, грозно шевелились в молчании склепа. Стальными жалами вспыхивали наконечники копии. Из прорези жреческих капюшонов движение факелов бегло выхватывало лиловый фосфоресцирующий блеск глаз. А сами фигуры жрецов плыли неслышно, как черные привидения. И во главе их двигался Верховный служитель Голоса. Крутой поворот внезапно открыл камеру больше и шире прежних. В колеблющемся свете словно ожили, оскалились, выпятились глядящие с боковых стен изваяния чудовищ. И даже у землян дрогнули нервы при взгляде на сводчатый потолок, столь жуткой была гримаса сотен подвешенных к нему черепов. Жрецы вдруг запели. Унылый и вместе с тем суровый, как проклятие, гимн наполнил камеру, и в такт ритму колыхалось багровое пламя факелов, вытягивались из углов когтистые лапы теней, подрагивая шевелились под потолком оскаленные черепа. Пение оборвал мрачный речитатив: — О Голос, Великий, всемогущий прорицатель воли божьей, мы идем к тебе с новой жертвой! Прими нас! Передняя стена колыхнулась. Нет, то была не стена, а траурный занавес; он поплыл вверх, открыв каменную кладку, а в ней — узкий дверной проем. Бренн ахнул. — Этого не может быть! Но это было. Они увидели в проеме голубой отсвет металлопластиковых стен коридора, темные зеркала экранов, пульт управления в глубине, и бегущие по табло змейки мнемографиков. Только вместо кресел стояли какие-то жаровни и станки с ремнями. — Рубка “Европы”… — прерывающимся голосом прошептал Бренн. — Жрецы замуровали звездолет… — И превратили рубку в алтарь… — хрипло отозвался Шайгин. — Или в камеру пыток… Им в спину уперлись копья. Повинуясь, они вошли в коридор, приблизились к пульту. Однако взгляда было достаточно, чтобы определить: пульт цел и в нем пульсирует ток. Сзади жрецы затянули новый гимн. Шайгин оглянулся. Лица четырех переступивших порог святилища воинов были бледны как мел. Широким, торжественным шагом сбоку зашел служитель Голоса, воздел руки кверху и повелительно крикнул: — На колени, исчадия зла! — Падай, падай! — услышал Шайгин. Прежде чем он успел понять смысл сказанного, Бренн рухнул перед пультом, выбросил вперед связанные руки, так что их удар пришелся по клавиатуре пульта. Ослепительно вспыхнул свет, взревел сигнал аварийной тревоги, сомкнулись переборки, мгновенно отрезав рубку от зала с черепами. Бренн вскочил. Шок обратил стражников и жрецов в восковые куклы, которые без стона валились навзничь под ударами Бренна и Шайгина. Минуту спустя путы были перерезаны, стражники связаны содранными со станков ремнями. Бренн отключил сирену, и люди перевели дыхание. В наступившей тишине слышались глухие удары о стену. — Ерунда, — сказал Бренн. — Переборки выдержат. Двигатель, если верить приборам, мертв, но аппаратура связи действует нормально. Сейчас вызову “Эйнштейн” и… Он чуть не подпрыгнул. Позади него прозвучал мерный, потусторонний голос: — Докладывает контрольный автомат! Температура снаружи — двести девяносто три по Кельвину. Давление… Опомнившись, Бренн захохотал: — Так вот он каков, божественный Голос! Голова Великого служителя Голоса дернулась. При падении маска-череп свалилась, и теперь на землян глядело немощное старческое лицо с белыми от злобы глазами. — Я недооценил вас, проклятые пришельцы со звезд… — Как? — опешил Шайгин. Ему показалось, что он ослышался. — Вы… вы поняли, кто мы такие?! Сейчас? — Раньше… — Тогда почему же… Почему вы так поступили с нами? — Власть укрепляется верой. Веру укрепляют жертвы. Разум опасен для веры. Будьте вы прокляты… прокляты… Голова жреца снова дернулась и бессильно упала. — Повторяю, — мерно возвестил автомат. — Температура снаружи — двести девяносто три по Кельвину…
Р.ЯРОВ СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
— Что-то сегодня камин плохо греет, — сказал бывший комиссар службы расследования. — В прошлый раз куда как лучше было. — Сейчас сбегаю к реактору в подвал, посмотрю, — вызвался молодой человек, один из многих рассевшихся в непринужденных позах на ковре и на стульях. Он выбежал из комнаты, но вскоре вернулся и сказал: — На двери котельной записка висит. Кочегар оставил: “Ввиду защиты докторской диссертации по философии два дня буду отсутствовать”. Хорошо, жена его дома оказалась, а то она посменно работает: день — оператором установки для поливания улиц, день — старшим экскурсоводом в Галерре современного искусства. Ну, я ключ у нее взял, пару изотопчиков урана-235 в реактор подбросил. На неделю хватит. И впрямь в большом зале стало теплее. — Начинайте лекцию! Начинайте! — закричал кто-то с задних кресел, предварительно видоизменив лицо, чтоб любимый преподаватель не заметил. Бывшего комиссара все очень любили. Он был последним человеком на Земле, возглавлявшим борьбу с преступностью, и, после того как обязательная часть занятий кончалась, рассказывал истории из своей богатой практики. Курс его лекций “Теория загадочных обстоятельств” был сух, академичен, полон формул, но рассказы из жизни студенты слушали с открытыми ртами. Так получилось и сегодня. Лекция была прочитана, время, как всегда, оставалось. — Случаи! — закричал самый нетерпеливый студент. — Случай! — поддержали его. — Хорошо, — сказал бывший комиссар. — О чем же вам рассказать?.. Ага, вот. Я расскажу вам об эпизоде, который потряс всех без исключения юристов на всех планетах Солнечной системы. Я был молод тогда, только-только начинал свою деятельность, и мне поручили должность распознавателя в отделении на площади Биогеоценоза. Линия телетранспортировки, в то время недавно открытая, протянулась от этой площади до улицы Эпифитов. Линия тоже входила в сферу моей работы. Сейчас мы к этому виду транспорта привыкли, его необычности совершенно не ощущаете и даже внешний вид станций кажется вам извечным, а тогда многие путали их с телефонными будками. Они действительно были похожи, только стояли всегда по двое. Одна — вход с диском на двери, другая — выход. Вы бросали жетон, набирали номер, заходили в будку, дверь герметически захлопывалась, начинался процесс разложения организма на молекулы, передача их на приемную станцию и снова, так сказать, сборка. Впрочем, вам это все хорошо известно, ьн считаете подобную процедуру старьем, да так оно и есть. Но вы не знаете, сколько хлопот вызвала необходимость решения одной задачи, причем никто вначале не представлял, техническая она, этическая или юридическая. Оставлять или не оставлять сознание тому молекулярному импульсу, который мчится от одной станции к другой? Юристы говорили: оставлять, ибо ни в коем случае нельзя забывать, что сознание — это мышление, а лишать человека подобного, отличающего его от животных, свойства противозаконно. Инженеры утверждали, что технически это невозможно. Но тут удар им нанесли биологи. Как раз в тот момент было доказано, что мышление происходит на подмолекулярном уровне и при разложении организма вполне возможно его сохранить. Как только результаты эксперимента опубликовали, представители инспекции общественной этики заявили, что они не подпишут проект, если не будетпредусмотрена сохранность пассажирами своего сознания. А без их подписи ни один проект- как, впрочем, и сейчас — не мог идти в работу. Вмешался и Эстетнадзор, заявив, что, если человек не может любоваться окружающей обстановкой, проект ни к черту не годится и утвержден не будет. “Помилуйте, какая обстановка? — говорили инженеры. — Провода, и ничего больше!” — “Всякая обстановка должна вызывать у человека подъем чувств”, — возражали эстеты-контролеры, — а тем более столь новая и необычная”. Инженеры поворчали, но взялись за работу и сделали линию, на которой едущий человек сохранял свое сознание. Отделить мышление от тела — очень сложная техническая задача. Но зато все были довольны. Линию открыли. Сначала к ней относились с осторожностью, но потом люди вошли во вкус, и какой-то поэт даже написал стихи о том, как хорошо мчаться по проводам, соприкасаясь своими молекулами с молекулами металла, чувствуя мощные электрические толчки. А я тем временем дни и ночи напролет просиживал в дежурке на площади. Уголовные преступления уже тогда почти исчезли, и мне приходилось заниматься в основном делами, связанными с излишней вежливостью и почтительностью по отношению друг к другу. Но с пуском линии в ход возникли непредвиденные обстоятельства. Сознание человека — штука сложная. Люди и в обычном виде многое забывают, а оставшись без тела — тем более. Приходит ко мне какая-нибудь женщина и заявляет, что вот ехала она на базар, все купила, а грибочков-то нет. Мысль об этом украли у нее. А следом является всклокоченный человек и говорит, что, направляясь читать лекцию в Институт мезонной магнетики, почему-то забрел на базар и купил грибов. Опоздал на лекцию да еще прибыл с корзиной. Ехали-то они вместе, мысли у них были открыты друг для друга, вот и спутались немножко. И таких случаев было уже несколько. Я, конечно, докладывал начальству, оно все это фиксировало, но какое решение принять, никто не знал. Однако я был убежден: должно произойти что-то очень серьезное. Мелочи накапливаются для того, чтобы случилось нечто качественно новое. Так оно и вышло. Как сейчас помню, осенний мокрый туман, ранние сумерки. Вдруг входит человек с потухшим взглядом, говорит: “Помогите, ограбили!” — и падает без сознания. Я сразу вызвал дежурного врача, сделали двадцать пять уколов в разные части тела — кое-как отошел. И вот что рассказал. Он изобретатель, в последнее время работал над идеей нового межзвездного корабля. Главным агрегатом машины должен был быть многофункциональный прецизионный катионный интегрофазоактиватор. Такое решение пришло в самом начале работы. Но требовалось выбрать конструкцию, а ни один из вариантов его не устраивал. Они сменялись у него в голове, мысленно он поворачивал их и так, и эдак, но нащупать тот единственный, верный, который подошел бы, как ключ к замку, не мог. Изобретатель, однако, знал, что еще совсем немного, еще совсем пустяковое усилие мысли, воли, еще один сердечный спазм, еще одна головная боль — и решение будет найдено. Вчера ему показалось, что он к этому близок, и сегодня он решил покататься по линии телетранспортировкн, чтобы освободить дух от тела и тем самым избавиться от малейших внешних раздражителей. Иногда он так делал, и ему помогало. Как всегда, он, еще не разложившись на молекулы, был погружен в свои мысли и поэтому мало обращал внимания на окружающих людей. Запомнил только что-то серое — лицо, пиджак, брюки. От всего облика рядом стоящего человека в памяти изобретателя сохранился только цвет. Потом он вошел в будку, а когда вышел из соседней, то обнаружил, что идея многофункционального прецизионного катионного интегрофазоактиватора пропала. То есть сама идея пропасть не могла, но исчез отбор вариантов, продуманность стыковочных узлов, разработанная схема — одним словом, вся близость к завершающему шагу. Несомненно, овладеть всем этим мог только серый, стоявший рядом. Решение важнейшей научно-технической задачи современности находится под угрозой срыва. Помогите найти серого человека и отобрать украденные мысли. Я пожал изобретателю руку, заверив, что все будет в полном порядке, и отправил его домой. Немедленно было доложено начальству, немедленно созвали оперативное совещание. Все присутствующие единогласно высказались, что этот случай ни по ценности похищенного, ни по трудности поставленной задачи не имеет равных себе во всей истории сыска. Ценность похищенной идеи вы можете представить себе сами, а трудности заключались в том, что найти в городе с населением в сто миллионов человек одного-единственного, о котором к тому ж никто ничего не знает, кроме какого-то ощущения серого, практически невозможно. Но я сделал это! — воскликнул громовым голосом бывший комиссар службы расследования, и все студенты, как один, вздрогнули, живо вообразив его молодым, горячим и неутомимым. Бесполезно было скрываться от него: он бы разыскал и задержал кого угодно. — И я нашел его, — успокоившись, продолжал бывший комиссар службы расследования. — Не буду рассказывать о подробностях поиска — вам еще предстоит все это узнать. Версологию, науку о версиях, которая является вашей основной специальностью, вам предстоит еще изучать последующие двадцать восемь семестров. В нее входит в качестве основного практического примера этот уникальный случай. Короче, через месяц я нашел похитителя. Изобретатель сперва заходил каждый день, потом справлялся по видеофону, потом исчез. Я неоднократно пытался связаться с ним — для уточнения разных подробностей, — мне отвечали, что он работает и подойти к аппарату не может. Признаться, это удивляло меня. Ведь он был так убит горем! Найденный мною человек вовсе не был серым — из-за пасмурной погоды серо было в глазах изобретателя. К тому же при глубоком раздумье глаз не различает цвета. Это мое открытие, мой маленький вклад в науку, и я горжусь им. А если кто попытается проверить и усомниться, значит, он недостаточно глубоко погрузился в свои мысли. Пойманный — зоотехник по специальности — не пытался сопротивляться: знал — бесполезно. Я потребовал, чтобы прежде всего он вернул похищенную мысль. И мы отправились домой к изобретателю. Много лет прошло с тех пор, но сцена эта стоит перед моими глазами. Открывается дверь, к нам навстречу выходит изобретатель, я показываю ему на зоотехника и спрашиваю: “Он?” — “Он”, — отвечает изобретатель, бросается тому на шею и начинает целовать. Чего угодно я ожидал, только не этого. “Позвольте, — говорю, — он вам такую свинью подложил — идею у вас взял, а вы его целуете!” — “И слава богу, что взял, потому что я бы с ней или в сумасшедший дом попал, или окончательно дискредитировал бы себя как создатель нового в технике. Вы ведь знаете — это бывает очень часто, — какая-нибудь глубоко проникшая в сознание идея кажется единственно правильной и выполнимой. На нее потрачено столько сил, что отказаться чисто психологически невозможно. Это характерно и для отдельных личностей, и для общества в целом. Докоперниковская астрономия, доколумбовская география — примеры таких психологических барьеров. Но обществу хорошо: в конце концов является человек, мыслящий по-новому, и, несмотря на косность и инерцию, выводит его на правильный путь. Отдельная личность может всю жизнь пробыть в заблуждении. Если оно не является препятствием на пути к выполнению порученного дела, это неприятно, но не страшно. А если является? Я оказался в таком положении. Многофункциональный прецизионный катионный интегрофазоактиватор совершенно не был пригоден ни в каком из возможных вариантов в качестве главного агрегата для батискафа — межзвездного корабля. Но я бы сломал себе голову, вывихнул мозги, быть может, в конечном счете повесился бы, однако из отступился, ибо мои мысли были направлены только на этот агрегат. Ни о чем другом я бы не подумал. Вы видели, что со мной происходило, когда мои мысли исчезли. Я был в отчаянии. Но дело есть дело, пришлось искать другие пути. Я натолкнулся на однофункциональный роторный позитронный дифференциокомплесатор и, едва только вникнув в его конструкцию, понял: это то, что нужно. Меня будто осенило. И мне стало стыдно за свою прежнюю бессмысленную деятельность. Теперь конструкция почти готова. Я не связывался с вами, чтобы просить прервать поиск, потому что хотел взглянуть на этого человека и горячо, от всего сердца, поблагодарить за избавление от многих мук”. И он еще раз расцеловал зоотехника. Мы вышли на улицу, и я сказал зоотехнику: “Изобретатель может к вам претензий не иметь, но с точки зрения закона — зачем вы это сделали?” “Я нечаянно, — сказал зоотехник. — Я как раз думал о машине для дойки китов и не знал, что положить в ее основу. И вдруг я увидел идею, и мне сразу стало ясно: вот то, что нужно. Я взял ее только на миг — проникнуться замыслом, рассмотреть поближе, — а владелец вдруг материализовался и убежал”. “Ну и как, пригодилось?” — спросил я. “А вам разве не приносят по утрам бутылку? Наше небольшое стадо обеспечивает теперь молоком весь город”. Я, признаться, в суматохе последних дней не очень разбирался, какое мне приносят молоко. И чтобы скрыть смущение, торжественно сказал: “Дело производством прекращено, вы свободны”. И вот теперь прошло много лет, и я вижу, что правы были те, кто требовал соблюдения определенных условий при постройке линии телетранспортировки. Они к этому не стремились, но получилось так, что один человек смог увидеть мир глазами другого, соприкосновение произошло на уровне мышления, а не внешних контактов. И это дало очень хорошие результаты. А теперь лекции конец. Осталось полторы минуты, всех, кто от сильных чувств видоизменил свой облик, прошу, вернуться в естественное состояние.
В.ФИРСОВ БРАКОНЬЕРЫ Кибернетическая сказка
ДИРЕКТОР И РЫБА
Мягко притормозив, “Москвич” осторожно переполз через придорожную канаву, фыркнул мотором и неторопливо покатил по едва заметной в чаще леса дороге, подскакивая на колдобинах, отчего удочки с легким стуком елозили по заднему сиденью, в багажнике слегка погромыхивало закопченное ведро, а резиновый чертик раскачивался взад-вперед на зеркале. Кусты по сторонам дороги один за другим уплывали назад, слегка задевая листьями по полированным бокам машины и засовывая свои зеленые лапы в открытые окна, чтобы тут же, словно испугавшись, отдернуть их обратно. В душе Александра Петровича царили мир и благополучие, потому что наконец-то настала такая суббота, когда ничто — ни очередной аврал на фабрике, ни опостылевший ремонт квартиры, ни внезапные гости — не помешало ему с утра уложить все необходимое для рыбалки в новенькую, только что обкатанную машину и укатить к заросшему лесному озеру, облюбованному еще прошлым летом. Речка Светлая, где он рыбачил прежде, стала окончательно непригодна для рыболовства по причинам, связанным с усиленной индустриализацией района. Впереди виделся ему отличный день возле отличного озера, и отличные, еще не опробованные японские удочки обещали отличный улов. Одна только темная тучка омрачала радужный небосвод праздничного настроения Александра Петровича. Несколько дней назад на руководимое им предприятие прислали документ, из которого явствовало, что фабрике придется заплатить очередной штраф за спуск неочищенных сточных вод в реку. Штрафы эти регулярно выплачивал еще предшественник Александра Петровича, и с ними свыклись, как свыкаются постепенно с любым неизбежным злом. Свыклись настолько, что перестали их замечать. Первое время впечатлительная душа Александра Петровича протестовала не против штрафов, а против необходимости во имя выполнения плана губить отличную речку только потому, что в свое время кто-то из проектировщиков оказался головотяпом, а строители это головотяпство усугубили. Но постепенно привычка сделала свое дело, и необходимость регулярно выплачивать из фондов фабрики довольно значительную сумму вызывала теперь у Александра Петровича лишь мимолетную досаду. На этот раз штраф был наложен не только на возглавляемое Александром Петровичем предприятие, но и на него самого. Это нововведение, с равной силой ударившее по самолюбию и по карману директора фабрики, и омрачало его настроение. Однако день был так хорош, что Александр Петрович решительно отбросил прочь все мысли, хоть немного диссонировавшие с трепетным предвкушением отличной рыбалки. “Эти два дня мои, а потом хоть потоп”, — подумал он с несвойственной ему лихостью и снова мысленно унесся к облюбованному им берегу. Вдруг “Москвич” затормозил так внезапно, что Александра Петровича на миг сильно прижало к рулю, и, лишь выпрямляясь, он понял, что водительский рефлекс сработал, как всегда, своевременно. Он вылез из машины и, отодвинув мешавшие ветки, нагнулся, чтобы рассмотреть то, что лежало на дороге. Александр Петрович был заядлый рыболов и в животных разбирался плохо. Поэтому существо, лежавшее перед колесами автомобиля, он назвал косулей лишь условно. Смерть застигла животное совсем недавно, потому что кровь, залившая его бок, пробитый крупнокалиберной пулей, еще не успела засохнуть. Открытые глаза козочки даже в смертной неподвижности были прекрасны и тоскливы, — у Александра Петровича мороз прошел по коже, когда он встретился с этим взглядом. Александр Петрович нагнулся было, чтобы оттащить животное с дороги, однако запах крови заставил его отшатнуться. Но он заметил теперь одну особенность, которая сразу не бросилась ему в глаза: убитое животное было самкой, и эта самка в самое ближайшее время ожидала детеныша. — Да ведь это убийство! — вслух сказал потрясенный Александр Петрович. Даже не будучи охотником, он знал, что сейчас не сезон охоты и что стрелять самок, ожидающих потомство, запрещено всеми охотничьими и человеческими законами. Сам он на ловле никогда не пользовался никакими запрещенными орудиями — неводами, вершами, переметами, подпусками и прочими объявленными вне закона снастями, не нарушал установленных сроков ловли рыбы, не стрелял в нее из ружья и не глушил взрывчаткой, а всех, не брезгующих подобными методами, искренне презирал. Зрелище, представшее сейчас перед его глазами, возмутило душу директора фабрики. Сев в машину, он осторожно между деревьями, далеко в стороне объехал козочку. Всю дорогу до озера он не мог успокоиться и вспоминал несчастное животное. — Не иначе, Тимофея Косых работа! — сердито восклицал Александр Петрович, плавно ведя послушную машину по колдобинам разбитой и заброшенной дороги. — Все-таки возьмусь я за него. Ведь каков мерзавец! Здесь следует объяснить, что Александр Петрович в районе был человеком уважаемым. Фабрика его из месяца в месяц выполняла и перевыполняла план, а большая фотография ее директора красовалась на районной Доске почета. Заслуги Александра Петровича не остались незамеченными. И хотя был он в районе человеком новым, его избрали депутатом местного Совета, потому что только при нем захудалая до того фабрика стала передовым предприятием района. Поэтому с некоторых пор Александр Петрович смотрел на все окружающее заинтересованным, хозяйским глазом. Если он видел, например, что фонари уличного освещения продолжают светить, когда солнце давно уже поднялось к полудню, или автобус местной линии ушел от остановки полупустым, не забрав всех пассажиров, в самом скором времена в кабинетах соответствующих организаций раздавался телефонный звонок, а в редакцию районной газеты приходило возмущенное письмо за многочисленными неразборчивыми подписями. Автора письма можно было угадать лишь по несколько витиеватому стилю, украшенному заметным количеством тех оборотов, которые почему-то считаются обязательными в определенного рода переписке. Поэтому нет ничего удивительного, что Александр Петрович был в курсе беззаконий, творимых на протяжении многих лет бессовестным браконьером Тимофеем Косых. На Тимофея жаловались многие, начиная с председателя охотничьего общества товарища Непомилуева, то есть человека, чью компетентность в данном вопросе не мог никто оспаривать, и кончая подслеповатой бабкой Маланьей, которой показалось, что именно Тимофей нагло, среди бела дня, подстрелил ее собаку, гонявшую по улице Тимофееву курицу. Словом, сигналов было предостаточно. Однако не пойманный- не вор, и никаких официальных мер, несмотря на явный разбой, чинимый Тимофеем в окрестных лесах, применить к нему не удавалось. На увещевания же и воспитательные беседы, проводимые с ним неоднократно, Тимофею, грубо говоря, было в высшей степени наплевать. Он только нагло хохотал прямо в лицо собеседнику, протирая волосатыми кулаками свои бессовестные глазищи и тряся кудлатой рыжей бородой, а когда беседа переставала его веселить, грубо выражался и уходил с независимым видом, оставляя растерянного собеседника с открытым ртом. Александру Петровичу тоже пришлось однажды встретиться с браконьером, и воспоминания об этой встрече не относились к числу самых приятных. Тимофей не оценил тонкого и чуткого отношения и оскорбил деликатного Александра Петровича, что тот перенес со стоицизмом, однако обиду в душе затаил. И теперь, потрясенный новым кровавым преступлением Тимофея Косых, Александр Петрович вслух поклялся этого дела не оставлять и найти наконец управу на рыжебородого разбойника. Однако день был так хорош, что долго таить в душе злость добрый Александр Петрович не смог, да к тому же и управление машиной требовало определенного внимания. Поэтому к берегу озера он подъехал таким же умиротворенным, каким поутру въехал в лес. Немного спустя удочки были приготовлены, подкорм брошен в воду, наживка нанизана на крючки, а крючки заброшены в зеркальную, гладкую воду. Поплавки повздрагивали немного, вычерчивая вокруг себя геометрически правильные кольца, и быстро замерли в неподвижности, а сам рыболов занялся разными хозяйственными делами, потому что солнце уже стояло высоко и здоровый желудок Александра Петровича начал напоминать о своем существовании. В считанные минуты из машины были извлечены многочисленные предметы, необходимые каждому туристу и рыболову, — то самое помятое ведро, которое так приятно погромыхивало на каждой кочке, не менее помятый и закопченный чайник, большая эмалированная кружка, полиэтиленовые пакеты и коробки с различной снедью, портативная газовая плитка с двумя красными баллонами, наполненными сжиженным пропаном, легчайшая палатка-серебрянка с комплектом дюралевых колышков и стоек, топор, трехсекционный надувной матрас, одноместная надувная нейлоновая лодка ярко-оранжевого цвета, купленная по случаю, транзисторный приемник всемирно известной фирмы “Сони”, легкий складной стул с полосатым сиденьем и, наконец, увязанная крепкой бечевкой охапка хорошо просушенных березовых поленьев — все один к одному, все одинаковой длины и толщины, хоть неси их сию же минуту на выставку достижений лесного хозяйства. Я предвижу ироническую улыбку читателя, которому мысль ехать в лес со своими дровами может показаться странной, но осмелюсь все же утверждать, что ничего странного в этом нет. Выше уже говорилось, что Александр Петрович был человек достойный, и на общеизвестный призыв “Берегите лес, лес — наше достояние” откликнулся самым непосредственным способом. От утомительного и малоэффективного добывания топлива в лесной чаще он перешел на пользование упомянутой уже портативной газовой плиткой, которая гарантировала ему быстрое и малотрудоемкое приготовление горячей пищи в любое время дня и ночи и в любую, даже самую дождливую погоду. К этому его вынуждало и то обстоятельство, что число туристов, рыболовов и охотников в последние годы росло в геометрической прогрессии, а количество сушняка в лесу сокращалось в такой же последовательности. Сырые же дрова, как всем известно, могут полностью загубить все удовольствие от пребывания на лоне природы, превратив его в подобие краткосрочной каторги. Но так как жизнь в лесу без костра теряет половину своей прелести, Александр Петрович привозил дрова с собой, убивая таким образом сразу двух зайцев. Как известно, костер особенно хорош вечером, когда он не только греет, но и светит. Поэтому свой завтрак Александр Петрович приготовил на газе, а дрова развязал и до поры до времени разложил рядком на солнышке, чтобы они еще просохли. Тут он вспомнил о кровавом зрелище на дороге, и настроение его испортилось. Александр Петрович попытался заняться удочками, но ему везде чудилась бедная козочка. Он разделся до трусов, влез в машину, завел мотор и загнал ее в воду до самого бампера, а потом долго и старательно поливал из ведра, отмывая от дорожной пыли. Но мысли о несчастной козочке не оставляли его, и тогда он решился на крайнюю меру, к которой прибегал очень редко: достал бутылку отличного армянского коньяка, возимого на случай неожиданной простуды, и выпил две стопочки — граммов сто, не больше. Средство как будто подействовало, но горячее летнее солнце и коньяк сделали свое дело: Александр Петрович задремал. Проснулся он, когда солнце уже начинало цепляться за вершины синих сосен, и первые мгновения не мог сообразить, где он и что с ним. Какая-то зыбкость была разлита кругом, солнечное марево стало тягучим и клейким, окружающие предметы странно исказились и сместились. Все было так и в то же время не так. Почему-то рядом с непоставленной за недосугом палаткой торчала невесть откуда взявшаяся береза, которой вроде бы и не было раньше; “Москвич” стоял, зарывшись задним бампером в воду, хотя Александр Петрович ясно помнил, что загонял его в озеро передом, чтобы не забуксовать при выезде; вещи были разбросаны в беспорядке, словно в них кто-то рылся. Только удочки по-прежнему торчали над неподвижной водой, но и в них замечалось что-то странное, хотя, что именно, он никак не мог сообразить. “Не следовало спать на солнце”, — с досадой подумал Александр Петрович, морщась и потирая свой большой, с пролысиной лоб. Чтобы отвлечься, он наугад ткнул пальцем в клавишу радиоприемника, но тот продолжал безмолвствовать — то ли сели батареи, то ли от тряски отошел контакт. Тогда Александр Петрович решил смочить голову и неуверенными шагами направился к берегу, разгребая руками знойное марево неподвижного воздуха. Присев на корточки, он достал носовой платок, но тут взгляд его снова упал на удочки. Словно гром ударил над головой Александра Петровича: он увидел, что лески со всех удилищ свисают строго вертикально и нижние их концы чуть-чуть не достают до воды — так, пальца на четыре, одинаково у всех удочек, а поплавков, грузил, крючков как будто никогда и не было. От возмущения таким наглым хулиганством у Александра Петровича даже дух перехватило. Ему было до боли жаль отличной японской лески и отличных японских крючков, которые он приобрел с таким трудом. Но одновременно его поразил и ужаснул сам факт столь беспримерного по своей бессмысленности поступка. Если бы наглый грабитель, воспользовавшись сном хозяина, попросту унес удочки, Александр Петрович мог бы это понять. Но тот, кто залез в воду (а там, где свисали лески, было довольно глубоко) и чем-то острым отхватил все лески на одной и той же высоте, явно не был обычным похитителем, которого прельстила иноземная снасть. И вот эта-то бессмысленная жестокость поставила Александра Петровича в тупик. Александр Петрович уже раскрыл было рот, чтобы обрушить на голову неизвестного поток самых страшных проклятий, но в этот момент уголком глаза заметил слабое шевеление в воде. Он взглянул туда и оцепенел. У самого берега, высунув из воды длинное зеленое рыло, стояла огромная щука. Такой неправдоподобно большой рыбины Александр Петрович не только никогда не видывал, но даже и не слышал, что подобное чудо может существовать. Это была даже не щука, а, скорее, молодой осетр, белуга, акула — кто угодно, только не щука. Если правду говорят, что щуки доживают порой до двухсот лет, то эта наверняка была щучьим патриархом, видавшим еще времена Ивана Калиты. Только человек, беззаветно любящий благородный рыболовный спорт, может постигнуть всю глубину отчаяния Александра Петровича. Добыть подобное чудо было бы верхом мечтаний любого рыболова, событием, навсегда обессмертившим его имя. В эти секунды Александр Петрович горячо пожалел, что пренебрегал незаконными орудиями лова и у него под рукой нет ружья, чтобы выпалить в невероятную рыбину, толовой шашки, ручной гранаты или просто бутылки с карбидом, чтобы оглушить ее. Пожалуй, в этот миг он не отказался бы даже от небольшой атомной бомбы. В жизни каждого человека бывают периоды, когда он готов заложить душу черту. Александр Петрович переживал как раз такое мгновение. Его атеистическая душа уже сжалась в упругий комок, готовясь прыгнуть в лапы к нечистой силе любого ранга, пожелавшей обладать ею в обмен на щуку. Увы, нечистая сила прозевала этот неповторимый момент. Мгновения шли, черт не являлся, и, хотя щука по-прежнему стояла на мелководье, чуть шевеля плавниками, и не сводила немигающих глаз с Александра Петровича, он постепенно начал понимать, что необходимо что-то сделать. Осторожно, боясь спугнуть рыбу, он скосил глаза в сторону и увидел разложенные для просушки поленья. И, хотя ему вспомнилось, что он клал их гораздо дальше от берега, размышлять над этим было некогда. Он медленно-медленно отвел руку назад, дотянулся концами пальцев до полена и на секунду замер, примериваясь, как бы половчее ударить. Но в этот момент щука беззвучно ушла в глубину. Ах, какая буря поднялась в душе Александра Петровича! Он в сердцах отшвырнул полено и с кряхтеньем поднялся на ноги, с трудом сдерживая слезы досады. Ему не раз приходилось слышать рыбачьи байки про “вот такую рыбину”, и он уже видел себя в неприглядной роли мишени для потока бесчисленных насмешек, потому что чувствовал, что не рассказать про увиденное будет свыше его сил. И тут он снова заметил зеленое щучье рыло. Вынести это он не смог. С воплем кинувшись к ближайшему полену, он что было силы запустил его в разбойницу. Та словно того дожидалась — в последний момент ударила хвостом и скрылась. Но через несколько секунд, когда поднятые поленом волны улеглись, она снова высунулась из воды и уставила глазищи на Александра Петровича, нахально положив морду на брошенное им полено. “Да, не следовало мне спать на солнце”, — безразлично подумал Александр Петрович и ненадолго закрыл глаза. Когда он их открыл, щука уже стояла вплотную к берегу, держа в зубастой пасти носовой платок Александра Петровича, уроненный им в воду. Чуть повернувшись набок, она положила платок на берег, подалась немного назад и снова уставилась на Александра Петровича. Такие неестественные действия рыбы настолько поразили бедного директора фабрики, что он, несмотря на весь свой атеизм, почувствовал в коленях слабость и предпочел присесть на бережок, не ручаясь за свою дальнейшую устойчивость. Рука его автоматически протянулась к платку, услужливо поданному щукой, и он приложил его ко лбу вместе с горстью песка. Холодная струйка потекла по лицу, но ожидаемого облегчения не наступило — проклятое марево по-прежнему маячило перед глазами, а щука все так же таращила свои немигающие глазищи. — Ну, чего уставилась? — буркнул Александр Петрович, не надеясь, впрочем, на ответ. Однако ответ последовал немедленно, приведя бедного рыболова в состояние крайнего смятения. — Вы не очень вежливы, Александр Петрович, — басом сказала щука, разевая зубастую пасть. — Зачем же сразу тыкать? Мы ведь с вами на брудершафт не пили… Сил у Александра Петровича хватило лишь на то, чтобы подняться на четвереньки. Это положение в тот миг показалось ему наиболее устойчивым. Возможно, так оно и было, потому что его неуверенные попытки оторвать от земли хотя бы одну из четырех точек опоры заметного успеха не имели. Поэтому он предпочел не рисковать и дальнейшую беседу со щукой проводил, не меняя позы. — Откуда вы меня знаете? — пролепетал Александр Петрович, даже не заметив, что называет щуку на “вы”. — Как же мне не знать вас, — вздохнула щука. — Рыбу-то кто в реке потравил? Разве не вы? Такой поворот в разговоре очень не понравился директору фабрики, и он попытался вернуть его в прежнее русло. — При чем тут река? — резонно возразил он. — Вы же здесь, в озере, живете, и, что в реке делается, знать не можете. —Все, все мы знаем, Александр Петрович, — возразила щука. — Слухом вода полнится. И про рыбу, н про очистные сооружения, которые вы второй год достроить не можете, и про штрафы. Несмотря на головную боль и проклятое марево, все еще маячившее вокруг, Александр Петрович вдруг осознал всю необычность происходящего разговора. Особенно его поразила великолепная осведомленность щуки в сугубо человеческих делах, тем более в таких специальных, как строительство очистных сооружений. Он как-то сразу осип и начал осторожно, на всякий случай не сводя взгляда со щуки, пятиться на четвереньках от берега. “Перетрудился я на работе”, — с отчаянием думал он, пятясь вверх по склону. Дурманящая духота, разлившаяся кругом, уплотнилась до густоты. Жаркий пот, выступивший на высоком лбу Александра Петровича, крупными каплями сползал на глаза, но он боялся поднять руку и вытереться, чтобы не потерять равновесия и не скатиться туда, где чуть поплескивала хвостом его зубастая собеседница. — Куда же вы, Александр Петрович? — елейным голосом осведомилась щука. — Ведь наш разговор только начинается. Александр Петрович хотел по привычке сказать, что вспомнил про срочные, неотложные дела, однако почему-то не решился сказать неправду. — Нездоровится мне что-то, — пробормотал он, продолжая пятиться. — Душно очень… — А может, искупаемся? — нагло предложила щука. — В последний раз, а? Тут рука Александра Петровича провалилась в какую-то ямку, он потерял равновесие и рухнул вниз, прямо в открытую гигантскую пасть — так ему показалось в тот момент. Отчаянным усилием ему удалось удержаться на самой кромке берега, и лишь несколько сантиметров отделяли теперь самую выдающуюся часть его лица — благородный, почти римский нос, от щелкающих челюстей, которые выросли до размеров крокодильих. Тут мужество окончательно оставило бедного директора фабрики. Он извернулся и, чуть ли не одним прыжком преодолев отделявшее его от машины изрядное расстояние, шлепнулся на сиденье, запустил мотор и дал полный газ. Колеса машины бешено крутанулись, выбросив фонтаны воды, “Москвич” дернулся и осел обратно. — Буксуешь, голубчик? — басом закричала щука. — Кто же задом-то в воду въезжает? Машину водить — это не рыбу травить! Может, подбросить чего под колеса? Трупы отравленных тобой рыб? Наконец “Москвич” с воем выскочил из воды, и Александр Петрович стал кидать в него навалом, не разбирая, разбросанные по берегу вещи — палатку, топор, ведро, складной стул, коробки, пакеты и все остальное, а сверху затолкнул упиравшийся трехсекционный надувной матрас. Только лежавшие у самой воды поленья да воткнутые в берег удочки у него не хватило духу взять, потому что для этого надо было приблизиться к озеру, а там плескалась зловредная рыбина, продолжая осыпать бедного Александра Петровича насмешками. — Хоть бы спасибо сказали, что баллоны вам не прогрызла, — кричала она басом. — Пожалела вашу бедность. Каково вам штрафы-то платить за разбой? А уж за удочки не обессудьте! Ни к чему вам они. Вы же тысячи рыб можете извести одним махом. Зловещая духота, давно уже томившая Александра Петровича, наконец разразилась дождем. Как раз в ту минуту, когда он из последних сил втискивал на переднее сиденье пузатую нейлоновую лодку, крупные капли застучали по крыше машины. — Счастливого пути, Александр Петрович! — продолжала щука. — В понедельник зайдите ко мне в горисполком с объяснительной запиской. А рыбки больше не кушайте ни в каком виде. Подавитесь ненароком, и никакие врачи не спасут! Честно предупреждаю! Мерзкая рыба кричала что-то еще, но Александр Петрович уже не слышал ее. Он на бешеной скорости гнал машину по заросшей лесной дороге, стремясь поскорее убраться от проклятого места. Дождь уже рушился стеной, машину бросало на колдобинах, сзади грохотало ведро, распрямившийся матрас неудобно упирался твердой пробкой прямо в шею, но Александр Петрович не смел остановиться, чтобы поправить вещи. Вдруг послышался отчаянный крик. Александр Петрович бросил взгляд в боковое окно и увидел мокрого до нитки человека, бегущего наперерез. По изрядному росту и рыжей бороде Александр Петрович сразу признал Тимофея Косых и еще прибавил газу. Крик затих сзади, и тут машину подбросило так, что директор фабрики больно ударился головой о верх машины, чуть не откусив себе язык. Он понял, что это была бедная козочка, невинно убиенная рыжебородым браконьером, но опять не остановился и продолжал гнать машину,БРАКОНЬЕР И ВОЛК
Если бы Александр Петрович мог знать, что Тимофей Косых пережил приключение не менее странное, он, возможно, признал бы в нем товарища по несчастью, остановил машину и помог ему убраться поскорее из леса. Но Александру Петровичу легче было согласиться, что земля плоская, чем поставить себя в один ряд с Тимофеем. А с Косых произошло вот что. Как всегда, он отправился в лес с вечера. Работа у Тимофея была “не пыльная” — он числился подсобным рабочим в местном гастрономе и, как все трудящиеся, пользовался в неделю двумя выходными днями. Жил он на самом краю городка, откуда до леса было рукой подать. Именно тут неоднократно подкарауливал Тимофея то участковый милиционер, то лесной обходчик, а то и сам председатель охотничьего общества товарищ Непомилуев. Однако Тимофей эти наивные уловки знал и при встрече с упомянутыми лицами только смеялся и с независимым видом проходил мимо, оставляя их в растерянности и досаде, ибо ни ружья, ни патронташа, ни даже охотничьего ножа у него с собой никогда не было. А задержать человека, отправляющегося на прогулку в лес, было выше их полномочий. Не привели к успеху и многочисленные попытки перехватить разбойника с добычей на обратном пути. Хитрый браконьер всегда возвращался налегке, и, кроме ведра грибов или лукошка ягод, обнаружить при нем ничего не удавалось. Однажды только товарищу Непомилуеву вроде повезло: рано-рано утром встретил он возле леса Тимофея с мокрыми от росы ногами, который тащил в мешке что-то явно предосудительное. Но, к огорчению товарища Непомилуева, там оказался убитый наповал волк-двухлетка. Волки в последнее время в районе пошаливали изрядно, и отстрел их можно было только приветствовать. Поэтому товарищу Непомилуеву пришлось с превеликим огорчением выплатить браконьеру премию за убитого волка и пожелать ему дальнейших в этой области успехов. Председатель охотничьего общества утешился только тем, что излил горе своему новому заместителю, Виктору Николаевичу Басову — умнейшему и деликатнейшему человеку, который был не только страстным охотником, но и заведовал лабораторией в только что открытом Институте Автономных систем. Тот посочувствовал товарищу Непомилуеву, но практического совета дать не смог, хотя и был доктором наук. На этот раз никто не подстерегал Тимофея. Никем не замеченный, он дошел до леса и тут словно растворился в нем — исчез без следа, будто его и не было. Тимофей Косых знал лес как свои пять пальцев и свободно ориентировался в нем днем и ночью. Он видел в лесу все, оставаясь сам невидимым, — лесника, метившего больные деревья; егеря, выслеживающею стаю волков, а заодно и Тимофея и самих волков, бесшумными тенями мелькнувших между деревьями вне досягаемости его ружья, которое уже каким-то образом оказалось у него в руках; и запылившийся “Москвич” Александра Петровича, когда тот следующим утром разворачивался у лесного озера… И многое еще видел зоркий, чуткий и осторожный Тимофей Косых. Лишь одного не видел он — как в ночной темноте подъехал к лесу “пикап”, принадлежавший научной гордости района — Институту Автономных систем, и двое приехавших в нем людей долго возились над каким-то ящиком, а потом один из них ушел в лес, неся на плече что-то длинное, похожее на футляр из-под чертежей. Тимофей Косых был охотником высшего класса. Его старая тулка двенадцатого калибра почти не знала промаха ни по бегущей, ни по летящей, пи по плывущей дичи. И сейчас, когда он бродил по лесу, она время от времени медленно поднималась и выплескивала грохочущую струйку огня, после чего Тимофей снова растворялся в зеленой ряби кустов, унося свою добычу. Но ружье не было его единственным оружием. С такой же ловкостью Тимофей пользовался силками, сетями, ловушками, капканами, западнями, отравленными приманками и прочими орудиями и методами охоты, как разрешенными, так и запрещенными строго-настрого. Ночь с пятницы на субботу Тимофей Косых провел у костра, который сделал нз сваленной несколькими взмахами топора смолистой сосенки. Запеченная в глине утка была съедена целиком, чуть ли не с костями. Вначале Тимофей лежал, уткнув рыжую бороду в сторону подмигивавшей из-за вершин деревьев звездочки и стараясь нанизать на эту звезду кольца табачного дыма. Потом это занятие ему надоело, и он заснул. То ли лежал он ночью неудобно, то ли слегка просквозило его ночной сыростью, но проснулся он на заре с тяжелой головой и дурным настроением. Подобное начало не предвещало ничего хорошего. Так оно и оказалось. Охота не ладилась, дичь не шла на ружье, а когда он все же подстерег козочку, поторопился нажать на спусковой крючок и не убил ее, а только ранил. Раздосадованный Тимофей вышел к берегу озера, чтобы напиться и освежить немного голову. Там он несколько минут понаблюдал за Александром Петровичем, разгружавшим свою машину, потом снова ушел в лес. Но охота по-прежнему не клеилась. Стало жарко, воздух сгустился до почти осязаемой плотности. Явно надвигалась гроза. Тимофей с радостью подумал о ливне, который поможет освежить тяжелую, будто не свою голову, присел под деревом и незаметно для себя заснул. Проснулся он от жуткого ощущения неведомой опасности, с которым каждый из нас не раз встречался во сне. Несколько секунд Тимофей продолжал неподвижно сидеть, опираясь спиной о ствол толстой сосны, потом потихоньку провел ладонью по траве, нащупывая верное ружье, но его почему-то не оказалось под рукой. Тут сбоку что-то шевельнулось, он быстро глянул туда и чуть не закричал, оттого что увиденное им зрелище было ужасно в своем неправдоподобии. В нескольких шагах от себя он увидел здоровенного матерого волка с оскаленной пастью. Но чудовищней всего была поза волка — он не стоял, не лежал и не сидел так, как положено всем четвероногим бессловесным тварям, а, вызывающе помахивая хвостом, расселся перед Тимофеем на пеньке совсем как человек, положив вдобавок себе на колени ружье Тимофея, которое придерживал передней лапой, а в другой лапе держал веточку, отмахиваясь ею от назойливых мух. — Поговорим? — спросил волк вполне человеческим голосом, глядя в круглые от ужаса глаза Тимофея. Тимофей дернулся было в тщетной попытке встать, но волк бросил веточку, ударил лапой по куркам и быстро навел ружье прямо в живот браконьеру. — Сидеть! — приказал он. — Я же сказал — поговорим! А то как дам из обоих стволов. По-моему, у тебя там картечь? У Тимофея отвисла челюсть, враз обмякли руки и ноги. Он выдавил из себя что-то нечленораздельное, не в силах отвести глаз от черных отверстий ружейных стволов. — Сына моего ты застрелил, — продолжал волк, проводя лапой снизу по ружью. Тимофей увидел, как длинный кривой коготь зацепил спусковой крючок, и в предсмертном ужасе закрыл глаза. Однако выстрела не последовало. — Застрелил, сдал его шкуру и даже получил за нее премию у товарища Непомилуева, — продолжал волк. — Кроме того, виновен ты в нарушении установленных законом сроков охоты и применении запрещенных снастей, а также в непомерной жестокости и жадности, хищническом отношении к природе и многом другом. Я все говорю правильно? — И-ик… — сказал Тимофей. — Значит, правильно. — Волк положил лапу на лапу, но ружья в сторону не отвел. — Ну что же, теперь пора посчитаться. В бога ты, конечно, не веруешь? Только тут Тимофей понял, что жить ему осталось несколько секунд. Он захотел крикнуть, что все это не так, что он хороший, что он больше не будет, захотел бухнуться зверю в ноги, чтобы выпросить себе прощение, но не мог выдавить из горла ни одного звука. Все в глазах его поплыло и стало двоиться, отчего он увидел перед собой сразу нескольких волков, каждого с наведенным на него ружьем, и это напомнило ему виденную в каком-то фильме сцену расстрела. Тут первые капли дождя застучали по листьям, принося долгожданное облегчение от одуряющей духоты, но Тимофеи даже не заметил этого. Все его существо трепетало в смертельном ужасе, если только можно применить столь возвышенный термин по отношению к дородному дяде девяносто пяти килограммов весом. — Завещание писать будешь? — спросил волк каким-то странным сдавленным голосом. Тимофей хотел сказать “да”, но вместо этого отрицательно мотнул головой. — Даю тебе возможность спастись, — сказал вдруг волк. — Убежишь — твое счастье. Не убежишь — пеняй на себя. Ну! — Он повел стволом в сторону, как бы указывая направление. — Считаю до трех. Раз! Два!.. Счета “три” Тимофей не услышал. Он мчался по лесу напрямик, оставляя клочья одежды на сучьях деревьев, полуослепший от ударов веток, исцарапанный ими в кровь. Дождь лил уже со всей силой, и его шум заглушал все остальные звуки. Он не слышал, стрелял волк ему вслед или нет, он знал только одно: если его сердце не разорвется от этого сумасшедшего бега, он больше никогда не вернется в лес.Документы
Документ № 1
ПРОИСШЕСТВИЯ Несколько дней назад рабочий гастронома № 1 Т.Я.Косых во время прогулки в лесу подвергся нападению стаи волков. Пострадавший доставлен в больницу с признаками сильного нервного потрясения. Этот прискорбный случай должен насторожить охотничью общественность района, поднять ее на борьбу с серыми лесными разбойниками. Все на борьбу с волками! Председатель охотничьего общества Непомилуев (газета “Районная правда”)Документ № 2
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА …Одной из важных причин недовыполнения финансового плана является прекращение ежеквартального поступления сумм, взимавшихся с фабрики “Свободный труд” регулярно на протяжении многих лет в качестве штрафов за спуск неочищенных сточных вод в реку Светлая. В связи с завершением очистных сооружений на фабрике предлагаю исключить данную статью доходов из сметы финансового управления… Инспектор ранфинотдела А.ИвановДокумент № 3
Приказ № 37 по Институту Автономных систем АН СССР имени академика Колмогорова § 2. Как установлено органами народного контроля, заведующий лабораторией самодвижущихся устройств тов. Басов В.Н., не имея соответствующего разрешения дирекции, самовольно вывез с территории института для использования в личных целях, в ночь с пятницы на субботу, новые модели автономных систем типа “ЛЮПУС-2Д” и “Щ-7” (пресноводный тип)… За использование во внеслужебное время казенного имущества и нарушение установленных правил учета материальных ценностей тов. Басову В.Н. поставить на вид. Директор ИАС имени академика Колмогорова (подпись) Верно: (подпись)Документ № 4
ЗАЯВЛЕНИЕ … Нижеподписавшиеся представители коллектива фабрики “Свободный труд” в едином порыве протестуют против беспрецедентного увольнения нашего горячо уважаемого директора, имевшего место по необоснованному решению вышестоящих инстанций. Приписываемое ему обвинение, голословное по своему существу, как-то: приписки к выполнению плана, спуск неочищенных вод в реку, нарушения финансовой дисциплины и якобы незаконное получение премий — является совершенно бездоказательным, что явствует из того, что ничего подобного он не делал и не мог делать. А отвечать за сомнительные действия истинных виновников и изображать из себя козла отпущения, согласно принципу “презумпции невиновности”, он не имеет никакого законного права. Поэтому коллектив фабрики единогласно требует поставить нашего горячо любимого директора на его место и вернуть ему немедленно всеобщее уважение, о чем и сообщить нам немедленно. (неразборчивые подписи)Документ № 5
ИЗ КЛАССНОГО СОЧИНЕНИЯ ОЛЕНЬКИ МЕГЦАЛОВОЙ …Тогда золотой петушок так клюнул царя Додона в темя, что тот умер. Конечно, взаправду петух заклевать человека не может, и автор хотел лишь этим сказать, что зло в конце концов наказывается. Поэтому он и говорит в самом конце: Сказка ложь, да в ней намек — Добрым молодцам урок!Б.ЛЯПУНОВ ЛЮБИТЕЛЯМ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
Наша книжная полка фантастики пополнилась в 1969 году и крупными произведениями — романами, большими повестями, — и рассказами. Вышли альманахи “НФ” и “На суше и на море”, сборник “Фантастика”. Выпущен целый ряд новых переводов в серии “Зарубежная фантастика”, в очередном выпуске “Библиотеки современной фантастики”. Человек в столкновении с неведомым, необычайным — так можно было бы определить главную идею советских авторов-фантастов, выступивших со своими новыми вещами. Именно такой показ человека для них наиболее характерен. Необычайное, неведомое — в природе, в том числе и в самом существе разумном. Что же конкретно оно таит, какие возможности открывает? И — это чрезвычайно важно — как поведут себя люди, попав в совершенно необычайную ситуацию, какие черты их характера раскроются тогда наиболее полно? Разумеется, и реальная жизнь предоставляет немало сложных коллизий. Фантаст же переносит действие в особую обстановку — в ней происходит невозможное с точки зрения обычных, установившихся представлений. Положения, в которые попадает герой, психологически еще более обострены и служат к тому же причиной многих приключений и необыкновенных происшествий. Приключения, если они происходят не ради самих приключений, не одной лишь занимательности сюжета: они подчинены той же цели раскрытия каких-либо сторон человеческой личности. Вот почему фантастика своими, специфическими приемами как бы моделирует человека. Мы говорили в предыдущем обзоре о связи фантастики с футурологией, научным предвидением будущего: силой воображения писатель пытается угадать черты времени, скрытого от нас чередой десятилетий, а иногда и веков. Воображение тоже создает модель Грядущего. Но модель человека — возможна ли она? Член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии Н.Амосов (кстати, и писатель одновременно; ему принадлежит, в частности, научно-фантастический роман “Записки из будущего”) говорит о “службе социальной психологии”, которая, по его мнению, должна возникнуть. Изучая поведение людей, людских коллективов, привлекая науки о человеке — от биологии до психологии — и используя кибернетические методы, можно прогнозировать “чисто человеческое”, а не научно-техническое будущее, — это уже делается сейчас. Иначе говоря, и моделировать человека, перебирая всевозможные варианты его действий, определяя среди них наиболее вероятные. “Среди наук будущего одно из ведущих мест займет социальная психология. Ее первостепенной задачей станет создание и неуклонное совершенствование “полной” модели психики человека, в силу чего большую роль в жизни общества приобретут различные психосоциальные эксперименты. С их помощью можно будет разработать обобщенные, типовые модели людей с учетом пола, возраста, географической принадлежности, профессии и положения в обществе”, — пишет Н.Амосов. Воображение и здесь, вероятно, сыграет свою роль, помогая выявить те или иные грани, оттенки, возможности, дополняя (и не заменяя) данные, которые выдадут электронно-вычислительные машины. Во всяком случае, нельзя совершенно игнорировать фантазию и в построении представлений о тем, как и что с человеком может когда-либо происходить. С другой стороны, фантастика может выдвигать или детализировать, показывать в свершении различные оригинальные гипотезы. Это тоже своего рода предвидение открытии. Множество природных тайн еще не разгаданы нами, и здесь воображению также открывается широкий простор. В произведениях последнего времени неразгаданным тайнам природы уделено большое внимание. Представлены и фантастический памфлет, и фантастика на исторические темы. Переиздано несколько ранее выходивших книг. Как и прежде, фантастика занимает много места в периодике (журналы “Техника — молодежи”, “Знание — сила”, “Вокруг света”, “Искатель”, “Смена” и другие). ? “Рай без памяти” — так называется вторая книга фантастического романа А. и С.Абрамовых “Всадники ниоткуда” (издательство “Детская литература”, 1969). О первой книге мы уже рассказали в “Книжной полке” за 1967–1968 годы. Вторая книга посвящена дальнейшим приключениям тех же героев, которым удалось вступить в контакт с таинственными “розовыми облаками” — представителями иной цивилизации, которые моделировали условия земной жизни, изучал ее на Земле. Теперь земляне попадают в другой мир, где “облака” также смоделировали происходящее на нашей планете. Однако ими создана странная модель: люди там лишены памяти, они не знают, что было до Начала. В этом “рае без памяти” воссозданы и соединены вместе, в одном городе, как бы “куски” разных земных городов. “Париж склеили с Манхеттеном, Сен-Дизье с Сэнд-сити, а все вместе — с макетом из голливудского вестерна”… Но “рай” оказывается адом. В городе царит жестокая диктатура фашистского типа. Земляне принимают активное участие в борьбе против тирании и возвращаются обратно, на свою планету и в свое время. Дилогия А. и С.Абрамовых показывает проблему контактов с инопланетянами с несколько неожиданной стороны. Эту проблему нередко решают как дружескую встречу двух высокоразвитых цивилизаций. Однако возможны и другие варианты. Один из них и предлагают читателям авторы. В сборник С.Гансовского “Три шага к опасности” (издательство “Детская литература”, 1969) вошли научно-фантастические рассказы, главная тема которых — неизвестные еще науке возможности человеческого организма. Человек создает могущественную технику, но он слабо знает, что заложено в нем самом. А ведь он мог бы летать по воздуху без всяких приспособлений (рассказ “Мечта”), и автор описывает удивительные приключения своего летающего героя, напоминающего нам мальчика Ариэля из одноименного романа Александра Беляева. Пришельцы, которые оказываются среди людей и наблюдают их жизнь, отличаются каким-то особым благородством и высоким уровнем развития (рассказ “Дом с золотыми окошками”). Автор разворачивает действия в сугубо реалистической обстановке и придает особую убедительность повествованию. Пришельцы не обязательно должны вмешиваться в дела людей, они могут лишь наблюдать за событиями на Земле — такую мысль проводит автор. Органы чувств человека далеко не совершенны. Что, если бы удалось видеть скрытое за пределами нашего зрения — например, инфракрасный свет? Перед человеком открылось бы фантастическое зрелище окружающего мира, окрашенного в красный цвет различных оттенков. Он не остался бы слепым в темноте, воспринимая тепловое излучение отовсюду, от всех предметов. “Небольшой портативный аппарат, надеваемый на голову в виде шлема, маленькая батарейка в кармане, и вот уже отпадает нужда в десятках миллионов всевозможных ламп, которые вечером и ночью освещают дороги, улицы, производственные помещения и жилые комнаты”… (рассказ “Ослепление Фридея”). Раскрытые тайны человеческого организма могут быть использованы и для создания новых видов оружия — об этом напоминает рассказ “Полигон”. Изобретено устройство, которое реагирует на возникающую в мозгу особую “волну действия”. Волна включает специальный блок внутри танка-автомата, и тот, как бы “почувствовав” угрозу, уходит из-под обстрела, остается в любом случае неуязвимым, самозащищающимся. Но он может, также реагируя на мыслеизлучение, преследовать и уничтожать противника. Испытания на полигоне блестяще это доказали — погибла и комиссия, наблюдавшая за танком, и сам изобретатель. Но он отомстил за гибель сына, павшего на войне… Рассказ “Доступное искусство” ставит вопрос о непреходящей ценности духовной культуры. Даже получив возможность воспроизводить на молекулярном уровне с абсолютной точностью копии картин, неотличимые от подлинника, даже воссоздав с помощью “квадрового материализатора” великих композиторов прошлого и даже благодаря новейшим методам, делая из каждого гения, — нельзя заменить синтетикой настоящее… Превратить людей в рабов машин, предоставить им роль бездумных роботов в обществе, где господствует диктатура, и управлять насильственно их поведением — такая ситуация описана в рассказе-предупреждении “Три шага к опасности”. Кино, телевизор, “усилители”, искусственно создающие жизнерадостное настроение, наконец, гипнотические средства, вызывающие иллюзии борьбы и свободы, — псе это дает возможность сохранять диктаторам власть. Но в этом обществе рабства новейшей формации назревает взрыв: угнетенные начинают понимать, что надо протестовать и бороться… В издательстве “Мысль” вышел сборник научно-фантастических повестей и рассказов М.Емцова и Е.Парнова “Три кварка” (серия “Путешествия. Приключения. Фантастика”, 1969). В него включены, помимо публиковавшихся ранее, новые рассказы — “Три кварка”, “Фермент М” и повесть “Слеза Большого водопада” (вариант под названием “Семь банок кофе”, фантастический антидетектив, напечатан в альманахе “Мир приключений”, 1969). “Смерть особи — залог бессмертия вида. Когда же особь и вид предстают в едином лице, смерть не нужна. Такое существо не подвластно смерти”, — говорит герой рассказа “Три кварка”. И произошла встреча с жизнью, возникшей на принципиально новой основе, чем обычная земная жизнь. В океанских глубинах люди столкнулись с таинственным обитателем моря, напоминающим ската, но гигантских размеров. Эта бурая студнеобразная масса вселяла невыразимый ужас. Она захватывала и поглощала все живое, находившееся поблизости от него. Затем чудовище снова погрузилось в бездну. Ни на что не похоже было удивительное существо. Не построено ли оно из частиц — кварков и потому имеет другие, особые свойства? Эволюция шла своим путем, а “бурый студень — это отброшенный природой вариант, издержки эксперимента”. Такое гипотетическое предположение выдвинуто в рассказе. Повесть “Слеза Большого водопада” поднимает проблему воздействия на человеческую психику с помощью сверхсильнодействующих наркотических средств. Они могут привести к превращению людей в бездумных роботов, послушно действующих в интересах правящего класса. Наркотики уже сейчас широко распространены на Западе, и авторы, используя фантастическую посылку, напоминают об опасности, которую таит психологическая обработка (и не только наркотиками, но к средствами массовой информации) масс. Повесть построена как остросюжетное приключенческое произведение, включающее и элементы гротеска. Научно-приключенческий роман А.Кулешова “Атлантида” вышла в океан” (издательство “Знание”, 1969) посвящен одной из нераскрытых тайн наидревнейшей истории человечества. Каким был и где появился первый человек на Земле? Палеонтологические и археологические находки отодвигают дату рождения предка Гомо сапиенс, с которого начался его долгий многовековой путь. Открытие, сделанное в Австралии, должно было пролить свет на интереснейшую загадку. Увидеть останки первого из первых, самого первого из людей — это стало бы важным событием. Но… открытие не состоялось. “Австралоантроп” оказался искусно изготовленной фальшивкой, делом рук бизнесменов от науки, шарлатанов, решивших поживиться на ложной сенсации. Приключенческий но форме, роман А.Кулешова содержит много познавательного материала о проблеме происхождения человека на нашей планете, о развитии антропологии. Описывая историю научной экспедиции, призванной проверить достоверность находки австралоантропа, автор сталкивает ученых двух лагерей и раскрывает недостойные методы, какими пользуются движимые жаждой наживы псевдоученые. Насыщен приключениями и необычайными событиями “роман в четырех повестях” П.Багряка “Пять президентов” (издательство “Детская литература”, 1969). Входящие в него повести — “Кто?”, “Перекресток”, “Пять президентов” и “Оборотень” — связаны одним сюжетом и одними действующими лицами. В их основу положена одна фантастическая посылка — о возможности дублирования людей, создания синтетических, хотя и недолго живущих, двойников. Роман носит памфлетный характер. Действие развертывается в вымышленной стране, где господствует военно-промышленная олигархия. Сделанное учеными открытие сулит невиданные перспективы — производство в массовых масштабах нужных диктаторам рабочих или солдат. Однако у открытия оказывается иная судьба. Появилось пять одинаковых президентов… И разгорается борьба за власть, возникают и народные волнения. Другое открытие (повесть “Оборотень”) — перевоплощение человека, принимающего иной внешний облик благодаря перезаписи информационной совокупности, определяющей внешность. Сознание переходит в любую телесную оболочку. Произошло немало всяческих происшествий, пока не удалось найти перевоплощающий аппарат и обезвредить ученого — “оборотня”. Сборник “Фантастика, 1968” (издательство “Молодая гвардия”, 1969) состоит из произведений многих авторов, среди которых читатель встретит А.Адмиральского, П.Амнуэля, В.Малова (раздел “Новые имена”), рассказы Д.Биленкина, И.Варшавского, А.Горбовского, В.Журавлевой, В.Михайлова, Б.Зубкова и Е.Муслина, Р.Подольного, В.Рича, Л.Розановой, Р.Ярова, повесть В.Бахнова “Как погасло Солнце, или История Тысячелетней Диктатории Огогондии, которая существовала 13 лет, 5 месяцев и 7 дней”. Исследование духовного мира человека — с использованием достижений “фантастической”, пока не существующей науки; столкновение с невероятным; изображение будущего, отдельных его черт; фантастика сказочная и сатирическая — так можно кратко охарактеризовать направления, представленные в сборнике. Альманах научной фантастики “НФ”, выпуск 8 (издательство “Знание”, 1970), составлен из произведений А.Полещука, В.Щербакова и Г.Гуревича. Тема повести А.Полещука “Эффект бешеного Солнца” (сокращенный вариант) — связь жизни на Земле с процессами, происходящими на Солнце, прямая связь самых разнообразных явлений — от возникновения эпидемий заболевания до количества дорожных происшествий. Но не может ли быть и обратной связи, влияния нашей планеты на дневное светило? Повесть отвечает утвердительно на вопрос, хотя, конечно, ответ носит гипотетический характер. Рассказ Г.Гуревича “Глотайте хирурга” посвящен геронтологии, науке о борьбе со старостью, и автор рассматривает причины старения, обсуждая возникающие здесь вопроси. Спорную проблему телепатии, передачи мысли на расстояние, и биологической, “мысленной” связи затрагивает В.Щербаков в рассказе “Сегодня вечером”. В альманахе “На суше и на море” (издательство “Мысль”, серия “Путешествия. Приключения. Фантастика”, 1969) читатель найдет рассказы А.Казанцева и Вс. Евреинова и научно-фантастическую повесть И.Забелина “Кара-Сердар” (из цикла “Записки хроноскописта”). Рассказ А.Казанцева “Завещание Нильса Бора” нельзя назвать целиком научно-фантастическим. Но от воспоминаний о встрече со знаменитым физиком, которые чередуются с другими и касаются вопросов строения материи, автор переходит к идее существования нового вида энергии — вакуумной. По его словам, в реалистический рассказ входит фантастическая мысль. Если использовать эту энергию внутренней связи микрочастицы, некомпенсированное излучение, то в энергетике откроется новая эра. Штрихи ее и набросаны в рассказе укрощенный сверхмощный ядерный взрыв, который зажигает искусственные солнца в космосе и под водой, помогает отеплять Заполярье, подогревать морские течения и менять климат Земли. Человеческая цивилизация поднимается на высшую ступень. Нильс Бор завещал искать новые физические идеи, и поиск идет… Тему контакта с инопланетными разумными существами развивает Вс. Евреинов в фантастическом рассказе “Феномен Локвуса”. Пришелец — Призрак, как назвали его космонавты, оказавшиеся в плену у этого электронного робота, изучал землян. Призрак — огромное бездушное чудовище, самоуправляющаяся кибернетическая система — заставлял их собирать информацию о неведомой планете Зеленого Солнца, куда они попали. Он подверг людей испытанию Великим Ураганом, чтобы выяснить, на что способны представители цивилизации Земли. В конце концов, Призрак установил связь со своим родным миром — Ферой и получил приказание вернуться. Люди же могли возвратиться к себе. Но теперь, столкнувшись с Неизвестным, им хотелось продолжить свое удивительнейшее путешествие. Повесть И.Забелина “Кара-Сердар” продолжает знакомить с наблюдениями, сделанными с помощью хроноскопа — электронной машины, которая может воссоздавать на экране картины прошлого. “Записки хроноскописта”, рассказывающие об этом, составили цикл повестей — “Легенда о “земляных людях”, “Загадки Хаирхана”, “Сказы о братстве”, “Найти и не сдаваться”, “Устремленные к небу”. Дополненный повестями “Кара-Сердар” и “Первое призвание”, он переиздан отдельной книгой в 1969 году издательством “Знание”. Вышло переиздание дилогии Л.Платова “Повести о Ветлугине” (издательство “Детская литература”, 1969), в которую входят “Архипелаг исчезающих островов” и “Страна Семи Трав”. Впервые выходивший до войны роман В.Владко “Потомки скифов” — фантазия на исторические темы — выпущен новым изданием (перевод с украинского, издательство “Молодая гвардия”, 1969). Археологическая экспедиция встречается с племенем скифских кочевников, сохранившимся до наших дней в подземельях. Приключения людей XX века, которые оказались в далеком прошлом, и составляют содержание романа. Вновь увидела свет другая историческая фантазия — роман М. Зуева-Ордынца “Сказание о граде Ново-Китеже” (издательство “Детская литература”, 1969), впервые напечатанный в 1930 году. Герои романа попадают в затерявшийся среди лесов, отделенный от внешнего мира непроходимыми болотами город Ново-Китеж, в котором сохранился уклад жизни, господствовавший двести лет назад. Для нового издания роман был автором переработан. В “Библиотеке приключений” (том 19, издательство “Детская литература”, 1970) вышел сборник фантастических рассказов И.А.Ефремова “Сердце змеи”. Новый научно-фантастический роман И.Ефремова “Час быка” печатался в 1968–1969 гг. в журналах “Техника — молодежи” и “Молодая гвардия” (сокращенный вариант). В 1969 году любители фантастики получили возможность познакомиться с целым рядом переводов произведений авторов разных стран — Польши, Венгрии, Румынии, Японии, Англии, США, Италии, Испании, Франции. Серия “Зарубежная фантастика” (издательство “Мир”) пополнилась несколькими новыми сборниками научно-фантастических рассказов. Среди них: “Карточный домик. США глазами фантастов” (1969); “Музы в век звездолетов” — рассказы об искусстве, переводы с английского, японского, французского, испанского, румынского (1969); “Продается Япония” — сборник японской научной фантастики; “Звезды зовут” (1969) — перевод рассказов о космосе с английского, венгерского, румынского, польского, итальянского. В этих сборниках, наряду с произведениями известных уже авторов, читатель встретит и новые для себя имена. В серии выпущены также роман польского писателя Е.Жулавского “На серебряном шаре. Рукопись с Луны” (1969, на русском языке выходил в 1911 и 1925 годах и был напечатан в журнале “Вокруг света”, 1915); книга английского писателя М.Фрейна “Оловянные солдатики” (1969); “Фантазии Фридьеша Каринти” — перевод с венгерского (1969); повесть американской писательницы Э.Нортон “Саргассы в космосе” (1969); сборник научно-фантастических рассказов американского фантаста Г.Гаррисона “Тренировочный полет” (1970). Читатель познакомится с романом французского писателя Р.Мерля “Разумное животное” (том 17 “Библиотеки современной фантастики”, издательство “Молодая гвардия”, 1969). В альманахе “На суше и на море” (1969) помещены фантастические рассказы А.Азимова “Нечаянная победа” и Ч.Оливера “Почти люди”. Тем, кого интересуют вопросы развития фантастики, адресована книга Б.Ляпунова “В мире мечты” (издательство “Книга”, 1969). В ней содержится обзор развития советской научно-фантастической литературы за полвека, краткие сведения о переводах зарубежной фантастики, очерки творчества А.Беляева и И.Ефремова, высказывания многих писателей и критиков, а также подробная библиография (1958–1969). Кроме того, в сборнике “Фантастика, 1968” помещена библиография научно-фантастических произведений за 1928–1941 годы.СОДЕРЖАНИЕ
Камил Икрамов. Скворечник, в котором не жили скворцы. Приключенческая повесть Ариадна Громова, Рафаил Нудельман. Вселенная за углом. Фантастическая повесть З.Юрьев. Кукла в бидоне Александр Абрамов, Сергей Абрамов. Повесть о снежном человеке Кирилл Булычев. Марсианское зелье. Фантастическая повесть Александр Кулешов. Лишь бы не опоздать. Короткая повесть в десяти этюдах Роберт Льюис Стивенсон, Ллойд Осборн. Отлив Ю.Давыдов. Двадцать седьмой Ю.Гальперин. Ошибка в энциклопедии В.Иванов-Леонов. Когда мертвые возвращаются. Рассказ В.Слукин, Е.Карташев. Привет старины. Фантастическая шутка Д.Биленкин. Голос в храме Р.Яров. Случай из следственной практики В.Фирсов. Браконьеры. Кибернетическая сказка Б.Ляпунов. Любителям научной фантастики
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1973 г. Выпуск первый
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ ЗАГАДОЧНЫЙ ПЕЛЕНГ Приключенческая повесть
1. Ракетчица
На Саратов с юга наползал туман, медленно растекаясь по берегам Волги. Тускнели редкие огни затемненных улиц, нахохлились и полиняли домики под Соколовой горой. Город затягивался серым покрывалом, тонул в настороженной тишине. Два курсанта авиационной школы с карабинами за плечами неторопливо поднимались в гору по узкой тропке, виляющей в зарослях бересклета. Василий Тугов шел нагнув голову, но ветки то и дело пытались сорвать натянутую до ушей пилотку, царапали руку, выставленную перед лицом. Евгений Шейкин, посмеиваясь над товарищем-гренадером, легко проходил кустарниковые туннели даже на цыпочках. Многих удивляла их дружба. Казалось, что общего между всегда спокойным, исполнительным, молчаливым великаном Туговым и тощим, длинноруким, вертлявым, языкастым Шейкиным. А дружба возникла, наверное, потому, что командиры в воспитательных целях старались всегда и везде соединять Тугова с Шейкиным, своей властью давали Тугову служебное первенство, которое Шейкин принимал как должное, хотя, в отличие от своего товарища, имел сержантский чин и боевые медали позвякивали на его застиранной гимнастерке. Вспыхнул прожектор, белым глазом прошарил кусты, и над военным городком повис тревожный вопль сирены. — Вася, давай газ! — Шейкин легко толкнул товарища стволом снятого с плеча карабина. Они прибежали в казарму и сразу у входа встретились со старшиной. — Парный патруль прибыл из города. На Сенном базаре задержаны два спекулянта и сданы в комендатуру. Больше происшествий не было! — доложил Тугов. — Отдыха не будет. В строй! Здание гудело от топота солдатских ног. Хлопали дверки ружейных пирамид, сухо щелкали затворы, обоймы загонялись ударами ладони, и приклад стучал о бетонный пол — боец в строю. — На сей раз тревога не учебная! — сказал дежурный офицер, и в шеренгах затих последний говорок. — Наше подразделение выделено для облавы на «ракетчиков» в районе нефтеперегонного завода. Делимся на три группы. Первую возглавляю я. Вторую — старшина. Третью — курсант Тугов. Машины ждут у ворот. Автомобили с курсантами неслись по затемненному Саратову, освещая дорогу подфарниками. Иногда впереди описывал красный круг фонарик патруля, головная машина отвечала троекратным миганием. До Крекинг-завода доехали с ветерком. Офицеры скрытно рассредоточили людей вокруг объектов. Волна дальних бомбардировщиков «Хейнкель-111» вышла на город в 23.00 часов, с точностью до секунды. А немного позже корпуса завода, бензобаки, подъездные пути осветились бледным светом выпущенных с земли ракет. Туман смазывал очертания зданий, цистерны расплывались в нем черными густыми пятнами. Вывел трель командирский свисток — курсанты поднялись из засады. С винтовками наперевес они двинулись вперед, сужая огромное кольцо. Ямы, залитые нефтью с водой, покореженные баки, кучи щебня и полусгоревших бревен разъединяли неплотные цепи людей, и они, чтобы в темноте не потерять друг друга, сбивались в небольшие группки. В сторону речного моста метнулась ракета, послышались выстрелы. Ракета брызнула звездочками и, будто пойманная чьей-то рукой, мгновенно потухла. Самолеты повесили на парашютиках авиалампы, их зыбкий свет с трудом пробился через туман к земле. Громыхнул первый дальний взрыв. Группа Василия Тугова подходила к подорванному нефтебаку. Поврежденный бомбой несколько дней назад, оп стоял бесформенной черной громадой. Фонарики осветили его покореженные бока. Стальные листы, взметнув острые края, нависли над воронкой, заполненной нефтью. Чрево бака ухнуло эхом близкого взрыва. Шейкин оступился и начал сползать в яму, бормоча ругательства. Под узким лучом сверкнула маслянистая поверхность, и сильные руки кого-то из товарищей вытащили сержанта. Свет скользнул дальше, под вмятину в цистерне, и, дрогнув, потух. — Вперед! — Команда Тугова заглушила тихое бульканье па другом конце воронки. Фигуры курсантов растаяли в темноте, а Шейкин потянул Тугова к земле. Прошло несколько минут. От неосторожного удара гуднуло железо. Из густой темени разорванного бака вышел человек. Он торопливо сдирал с плеч мокрый комбинезон. Слышалось тяжелое дыхание. Комбинезон полетел в яму. Человек повернулся и увидел перед собой поднявшуюся с земли черную фигуру. В его лицо ударил сноп света, в грудь уперся жесткий ствол винтовки. — Руки! Но человек не успел поднять руки, их схватили сзади и заломили. Слабо вскрикнув, человек упал на колени. Луч фонаря остановился на его грязном лице. — Баба!.. Это ж баба, убей меня бог! — воскликнул Шейкин. — Это враг! Обыщи! — жестко сказал Тугов и одной рукой поднял с земли обмякшее тело.2. Показания Белки
После утренней планерки начальник Управления госбезопасности полковник Стариков записал в своей рабочей тетради:«В ночь на 25-е задержано три человека. В том числе ракетчица Гертруда Гольфштейн, уроженка г. Энгельса, Республики немцев Поволжья. Следствие по ее делу поручено лейтенанту Гобовде В.В.».Двое суток Гертруда Гольфштейн молчала, сидела перед Гобовдой почти не шевелясь, лишь иногда просила воды. Кажется, она даже не слышала вопросов следователя. И только сегодня, когда ей предъявили найденные при обыске квартиры в глубоком тайнике документы и вещественные доказательства, обличающие ее как шпионку, она стала говорить. Призналась в принадлежности к шпионской организации «Народный союз немцев, проживающих за границей», назвала кличку «Белка». После эвакуации немцев из Поволжья Белка осталась жить на прежнем месте, так как была женой русского фронтовика, но агентурные связи, которые ранее поддерживала ее мать, нарушились. В конце 1942 года ее посетил «человек оттуда», привез деньги, побеседовал и включил в небольшую мобильную диверсионную группу. Демаскировка Крекинг-завода было вторым заданием Белки. Она назвала фамилии и адреса трех членов группы. Пятичасовой допрос утомил и следователя, и Гольфштейн, но, прежде чем сделать перерыв, лейтенант Гобовда решил еще раз уточнить кое-какие детали. Он чувствовал — далеко не все сказала ему эта белокурая красивая женщина с пустыми глазами. — Под какой фамилией приходил к вам посланец «оттуда»? — Хижняк Арнольд Никитич. — После эвакуации ваших родственников из города были еще встречи, кроме тех, о которых вы уже рассказали? Учтите, Гольфштейн, честное признание облегчит вашу вину! Женщина пошевелила губами, потом с усилием подняла голову и снова попросила воды. Пила жадно, проливая воду на кофточку. Промокнула губы рукавом и заговорила быстро, взволнованно: — Я понимаю, для меня все кончено! Еще девчонкой в седьмом классе я по поручению матери заводила знакомства с красноармейцами, командирами и узнавала от них многое. Я и замуж вышла по выбору матери за ответственного военного работника. И прямо скажу, была горда беззаветной службой своей родине — Германии. А когда мать умерла, я осталась совсем одна! Страх заставил думать. Нет, не о том, что поступаю неправильно: я боялась быть схваченной, умереть. Особенно когда Хижняк послал меня ползать в грязи с ракетницей. Это был ужас! Я хочу жить! Расскажу все, что знаю. Хотя и понимаю, что оказалась мразью… — Остановитесь! Вы отвлеклись, Гольфштейн, и не ответили на вопрос. — Хижняк, кроме денег, оставил мне посылку для другого человека. Гобовда постучал по столу карандашом и тихо попросил: — Успокойтесь. Сосредоточьтесь. Рассказывайте не торопясь, подробно. — В тайнике, где вы нашли шифроблокноты, радиодетали и оружие, совсем недавно лежал ящичек, зашитый в парусину, с сургучными печатями. Очень похожий на посылку. Хижняк сказал, что за ним придет мужчина и представится: «Я тринадцатый». Мужчина не пришел, а позвонил по телефону. Мы встретились во дворе кинотеатра «Центральный» после окончания последнего сеанса, и я передала ему посылку. — Опишите его, — сказал Гобовда. — Было темно… Выше среднего роста, плотный, голос грубоватый, в фуражке, в солдатском бушлате. — О чем говорили? — Ни о чем. Он только поблагодарил… Хотя нет. Подождите… Он спросил: «А усилитель здесь?» Я не знала содержимого посылки. Вот все! — Гольфштейн начала выдергивать ниточки из рукава и накручивать их на пальцы. Выдернув несколько ниток, подняла глаза: — Он был в солдатском бушлате, без знаков различия. Когда прятал посылку под бушлат, на петлице мундира я увидела авиационную эмблему. — Не ошибаетесь? — Я хорошо знаю знаки различия. В это время он вышел из тени, а была луна. — Тогда вы видели и лицо. — Козырек… большой, квадратный, закрывал… Лицо широкое. — У вас начинает прорезаться память, это хорошо. — Я устала. Гобовда открыл тощую папку, вынул из нее бумажку, поднес к глазам женщины: — Вот этот адрес найден в вашей квартире. «Петровский район, лесхоз 18, Корень». Кто такой «Корень»? Ракетчица откинулась на спинку стула и прикрыла веки. Вяло и безразлично звучал ее голос: — Не знаю. Такого не помню. Еще до войны мы всей семьей ездили в лесхоз отдыхать. Там заповедник, красивые места. Может быть, это кто-то из знакомых матери. — Его фамилия? — резко спросил Гобовда. — Чья? — встрепенулась Гольфштейн. — Агента, которому вы передали посылку около кинотеатра. — Я ж говорила. Он мне известен только как «Тринадцатый». Гобовда обмакнул ручку в чернила и протянул ее женщине, пододвинул к ней и листы синеватой бумаги: — Прочтите протокол допроса, подпишите и можете отдыхать. Она расписалась, не читая. Передав арестованную часовому, лейтенант Гобовда открыл окно, сел на подоконник и задумался. Допрос, длившийся трое суток, почти не продвинул дело. Есть косвенная наводка на какого-то Корня, есть словесный портрет Хижняка, а вот Тринадцатый — совсем темная лошадка. Гобовда посмотрел на улицу. Редкие прохожие еще различались в сгущающихся сумерках. В чистом небе вырисовывался серп луны. Шли машины с синими щелками подфарников.
3. Экзамен
По авиашколе распространился слух, что приехала государственная комиссия. — Пока нет, но сегодня прилетит генерал со свитой, — уточнил пришедший из штаба старшина. — Тыловик? — поинтересовался Шейкин. — Гусей не наставит в летные книжки? — Не дрейфьте, генерал боевой. К нему в дивизию попасть считают счастьем! — Старшина пошел вдоль коек. Его наметанный глаз заметил прикрытые газетой пару нечищеных, с налипшей грязью сапог. — Вы, Шейкин, скоро будете офицером, а культуры ни на грош. — А скажите, товарищ старшина, вы, конечно, лично знакомы с генералом? — Не заговаривать зубы! — Выхваченные из-под койки сапоги полетели на середину пола. Белейшим носовым платком старшина аккуратно вытер руки: — За нечистоплотность — наряд вне очереди! Шейкин вытянулся и свел босые пятки: — Есть! Понял! Драить полы — знакомая и не пыльная работенка. Но смею заметить… — Жень-ка! — укоризненно протянул Тугов, и Шейкин, скорчив недовольную мину, замолчал. На аэродроме трубно ревели двигатели, самолеты вешали в штилевом воздухе пыльные занавески. Звонкие голоса запрашивали у руководителя полетов разрешение на посадку, и он довольно улыбался, когда тяжелые горбатые машины нежно проглаживали траву у посадочного знака, и крякал, видя грубую встречу с землей. Но вот в трубный рев штурмовиков вплелся мягкий рокот. Из-за Соколовой горы выплыл транспортный самолет «СИ-47». Красиво подвернув на посадочную полосу, он сел и подрулил к командному пункту. Из кабины вышел пышноусый генерал, за ним несколько офицеров. — Смирно! — Руководитель полетов шагнул вперед для рапорта. Генерал протянул ему широкую ладонь: — Тянуть не будем. Показывайте машину, на которой я буду летать с курсантами. И подполковнику — самолет. Знакомьтесь: мой заместитель. Руководитель полетов поздоровался с моложавым подполковником. — Лавров, — представился тот. Фамилия была известна авиаторам. Будучи командиром полка, Лавров разработал несколько новых схем боевых порядков истребителей и успешно применял их в бою. Лавров отмечался в приказах по воздушной армии. В военной печати появлялись его статьи, обобщающие боевой опыт авиации. Подполковник Лавров внимательно прочитал список курсантов, назвал несколько фамилий и направился к самолету. — И на штурмовике летает? — Руководитель полетов кивнул в сторону подполковника. — Освоил «Ильюшина» за пару дней. Цепок, чертяка! — с гордостью ответил генерал. — Ну, давайте и мне кого-нибудь! Генерал проверил в воздухе несколько человек и остался доволен. — Хватит, что ли? Или еще одного? Ты мне, старина, наверное, лучших подсовываешь, а кого похуже, прячешь в казарме. Знаю я вас! Ну-ка, дай списочек наряда. Генерал долго просматривал фамилии и наконец произнес: — Шей-кин… Тонкошеее что-то ассоциируется. Давайте его! Старшина разыскал Шейкина в кухне, где тот рассказывал поварам анекдоты и одновременно таскал со сковородок стреляющие жиром шкварки. Шейкин пулей вылетел из кухни, уселся в автомашину. — Как генерал?… Ничего? Старшина промолчал. Шейкин вздохнул и затянул ремень потуже. — Злой, что ли, генерал? — тронул он за плечо шофера. — А вот сейчас увидишь, — ответил тот и остановил машину против командного пункта. Из-за угла КП вышел генерал. Шейкин до того растерялся, что так и остался сидеть в машине. Генерал поглядел, сдвинул брови, потом приложил руку к шлему и доложил: — Товарищ курсант, эскадрилья проводит учебно-тренировочные полеты. Происшествий нет. Доложил генерал-лейтенант Смирнов! Шейкин вскочил, багровый румянец облил щеки. — Товарищ генерал! Курсант Шейкин прибыл по вашему приказанию! — Разгильдяй, а не курсант!.. Марш в самолет! Сачок! Посмотрю, каков ты в воздухе. Впоследствии Шейкин рассказывал, что генерал сразу присвоил ему звание «Сачок», что означает, если расшифровать: советский авиационный человек особого качества. Но это было позже, а сейчас сержант бежал со всех ног к штурмовику и боялся оглянуться… Самолет носился над приволжскими степями сорок минут. Резкими и неожиданными были его эволюции. Из пикирования — в боевой разворот. Из боевого разворота — в вираж. Крутые и энергичные «восьмерки». При больших перегрузках лицо генерала наливалось кровью, отяжелевшие веки прикрывали задорные глаза, а голос прорывался сквозь гул мотора: — Хорошо! Кто научил тебя делать недозволенные фигуры? Ты и в воздухе разгильдяй! Ну ладно, давай еще разок, это неплохой финт для воздушного боя… Да не так! Давай покажу… Вот сейчас правильно! Выйдет из тебя штурмовик. Молодец! Набирай высоту. А теперь в штопор! Не можешь, боишься? — Генерал хватался за управление. — Что, не нравится? Этого не умеешь? То-то!.. Научишься падать сейчас — не упадешь в бою… Шейкин, окрыленный похвалами генерала, отлично посадил самолет. Отпуская курсанта, Смирнов сказал: — Неплохо. И откуда в таком сила? Беру к себе! Но если чуть что… смотри! А как у тебя дела? — обратился он к своему заместителю. — В дивизию отобрал восемь человек. «Отлично» заслужил только один — курсант Тугов, — сдержанно ответил подполковник Лавров.4. Необыкновенный радист
В радиоцентре Саратовского управления НКВД боевая тревога. Поднял ее дежурный радист третьего поста станции УКВ. Контролируя свой поддиапазон, он наткнулся на незапланированную передачу. Почти сплошным потоком лилась из динамика морзянка. Радист схватился за карандаш, но потом со злостью бросил его и нажал кнопку магнитофона. Световой сигнал тревоги заплясал на электротабло дежурных пеленгаторов, и через несколько секунд медленно завращались круглые антенны направленного действия. На настольном пульте полковника Старикова тоже засветилась красная надпись:«Работает неизвестная радиостанция!»Стариков вышел из кабинета, неторопливо спустился с третьего этажа, прошел через двор и в радиооператорской выслушал рапорт командира связи. Голос его звучал четко и очень громко: — Неизвестный радист дал триста знаков в минуту. Принять смогли только на магнитофон. Пеленги получились неустойчивые и размытые. В зону размыва попало здание сельхозинститута и военный аэродром авиашколы. Сближение оказалось невозможным из-за короткого времени радиосеанса. Даже не успели завести автомашины! Цифровой текст радиограммы принят почти полностью, он сейчас у дешифровщиков. Во время сеанса неизвестного радиста в сельхозинституте шли занятия, а на аэродроме авиашколы производились полеты штурмовиков «ИЛ-2». Доложил… — Вольно! — прервал офицера Стариков. — Что еще можете добавить? — Есть странности, товарищ полковник. Во-первых, скорость передачи. Даже знаменитый Кренкель не способен на такой радиогалоп. Работал феномен! В нашей зоне таких радистов нет! — Как видите, есть, дорогой товарищ. Офицер немного смутился от вольного обращения начальника, но продолжал высказывать свои наблюдения. Он сообщил, что передача велась на радиоволнах, не обеспечивающих дальность. Обычно на этих частотах не работают ключом, а ведут передачи голосом. Необычная скорость передачи оказалась неожиданной для радиста, поэтому он и запоздал с приемом радиограммы. Офицер обратил внимание полковника на то, что месяц назад они бы не смогли контролировать такую передачу — не было новых ультракоротковолновых пеленгаторов, которые полковник видит сейчас в радиооператорской. К концу дня начальник дешифровальной группы доложил полковнику Старикову о затруднениях криптографов в расшифровке перехваченной радиограммы. Они считали: ключом к цифровому шифру является какой-то текст прозаического или стихотворного произведения, поэтому предстоит трудная работа… — Ну, а как подписана радиограмма? — перебил его полковник. — С интервалом отбита цифра «тринадцать». Отпустив начальника дешифровщиков, Стариков вызвал лейтенанта Гобовду и поинтересовался ходом следствия по делу ракетчицы Гертруды Гольфштейн. — Я считаю, она сказала все, — так закончил свой короткий рассказ лейтенант. Гобовда был совсем молодым следователем, и обычно ему поручались наиболее простые дела. Дело Белки дало побочные линии, усложнялось и казалось лейтенанту малоперспективным, почти нераскрываемым. — Почему вы так думаете? — спросил Стариков. — Белка дала нам Хижняка, Тринадцатого и Корня. На Хижняка — только словесный портрет. На Тринадцатого — авиационную эмблему при лунном свете. Как установила экспертиза, адрес Корня записан почерком, не принадлежащим никому из семьи Гольфштейн. В нашем распоряжении были письма всех членов семьи. Давность написания — пять-шесть лет назад. Скорее всего адрес случайный, так как найден не в тайнике, а в письменном столе, и человек, проживающий по нему, если он еще там проживает, не имеет никакого отношения к Белке и старой Гольфштейн. Стариков закурил и, выпуская клубы дыма, пристально смотрел на Гобовду. Ему не понравились ни скороспелые выводы следователя, ни его настроение. Следователь «не вошел» в дело, оно его не захватило. В таких случаях лучше заменить исполнителя. Но опытных сотрудников не хватало. Да и этому крепкому, энергичному пареньку нужно набирать опыт. — Я вам хочу предложить одну версию, Гобовда. Она основана на предположении. — Стариков поудобнее устроился в кресле. — Давайте сопоставим показания Белки и некоторые факты. Вы считаете, что она передала Тринадцатому портативную радиостанцию? — Да, товарищ полковник, его вопрос: «И усилитель здесь?» — мог относиться только к радио- или электроустройству. — Допустим. Вы также считаете Тринадцатого причастным к авиации? Понимаю, понимаю: на петлице — авиационная эмблема. Допустим и это, хотя форму он мог бы надеть любую. Итак, радиостанция, которая передана Хижняком, обрела хозяина, авиатора. Для чего он ее взял? — Не любоваться же… — Для работы. И вот сегодня — следите внимательно, Гобовда, — сегодня наши радисты засекли неизвестный передатчик. Пеленг на него прошел через аэродром авиашколы, где в это время летали. Нерасшифрованная радиограмма подписана индексом «тринадцать». — Вот здорово, товарищ полковник! — Это плохо, Гобовда. Очень плохо! Если враг затаился в авиашколе, поиск расплывается по всей стране. В школе только курсантов более трехсот человек. Сегодня они закончили учебу и разъезжаются по воинским частям, некоторые — во фронтовую полосу, а кое-кто — инструкторами в другие авиашколы. Задержать их нам никто не позволит, поиск предстоит длительный, люди же нужны фронту. Что будем делать, лейтенант Гобовда? — Узнав место назначения каждого курсанта, сориентируем на поиск местные органы наркомата и войсковые отделы СМЕРШ [198]. — Хорошо… Еще одна деталь… Прочел в деле описание Хижняка: высокий, узкоплечий, сутулый, глаза голубые, под глазами мешки, на вид лет пятьдесят. Арнольд Никитич, так?… Но Хижняк Арнольд Никитич проходит у нас еще по одному делу, и словесный портрет его совсем другой. Маленький, полный… Дальше говорить не стоит. Вот вам еще загадка, если, конечно, Белка не врет. Они посидели молча, докурили папиросы. По раскрасневшемуся лицу молодого следователя Стариков определил, что у нею появились новые идеи. Когда-то и он быстро загорался, с энтузиазмом хватался за протянутую ниточку, и она вдруг обрывалась. Разочарование. Бессонница. Но здесь-то начинал приобретаться опыт. — На составление ориентировок в войсковые части даю вам двое суток! — Твердым, командным голосом полковник вывел Гобовду из задумчивости. — Вплотную займитесь поиском Корня. На Хижняка мы составим еще предполагаемое фотоизображение, но заботу о нем проявят другие. Действуйте, лейтенант Гобовда!
5. Начало поиска
Темнело. В двухстах километрах от Курска, на аэродроме, взвыл и затих последний опробованный мотор. В землянке дивизионного отряда СМЕРШ таинственно мерцали радиолампы, слышался треск и вой перегруженного эфира. У приемника сутулилась радистка Татьяна Языкова и, мягко трогая верньеры, «прощупывала» заданный диапазон радиоволн. Старший уполномоченный капитан Неводов ел из котелка остывшую кашу. Казалось, что рука с ложкой помимо воли хозяина проделывает путь ко рту. Мысленно капитан был еще в кабинете начальства и обдумывал, как лучше выполнить поставленную задачу. В Саратове запеленгован неизвестный передатчик, поймана женщина-диверсантка, и весь ход начавшегося расследования изложен в пространной ориентировке. В связи с этим делом Неводову поручили глубокую проверку выпускников Саратовской авиашколы, недавно прибывших в часть. Капитан отодвинул котелок с недоеденной кашей, зажег лампу, взял с края стола одну из папок и раскрыл. Его крупная голова, обрамленная мягкими седеющими волосами, с правильным кругом плеши на темени, низко склонилась над бумагами. — Ну, как у тебя, Татьяна? — оторвался Неводов от бумаг. — Один свист, товарищ капитан. — Терпение, Таня, терпение! Вчера к нам в часть прибыли новые женихи. Видела? — Не интересуюсь! — А зря!.. Вот посмотри… — Капитан вынул из личного дела фотокарточку Василия Тугова. — Красавец! Соболиные брови. Смоляной казацкий чуб. До авиации был неплохим оперативником МУРа. И я знаю, он тебе уже пытался подарить цветы. Татьяна подошла и стала за спиной Неводова. — А вот этот, — капитан достал фотокарточку Евгения Шейкина, — совсем герой! Бывший полковой разведчик, трижды награжден за дерзкие действия в тылу врага. На вид и не подумаешь, правда? — Почему? Он кажется веселым и… хитрым. — Да, ухмылочка у него не простая. Острый нос, тонкие губы… Тебе нравятся парни с такими озорными глазищами? — Разве дело во внешнем виде? — сказала Татьяна и снова уселась за свой столик. Лампа моргнула несколько раз, закоптила и погасла. На стене вырисовывался светлый квадрат окошка. Неводов взглянул на русые волосы девушки, рассыпанные по поникшим плечам. Татьяна продолжала медленно покручивать верньеры приемника, контролируя диапазон, в который входила волна, унесшая из Саратова радиограмму неизвестного передатчика.6. Вторая радиограмма
Генерал Смирнов вошел в кабинет и медленно обвел взглядом своих помощников. — Прошу садиться! Начштаба, выкладывай свои заготовки. Голос начальника штаба заполнил кабинет: — Через реку Сейм немцы навели мост на протопленных понтонах и по нему из Курска двигают большие силы. Мост почти незаметен с воздуха. Две попытки уничтожить его не удались. Первый раз летчики бомбили песчаную косу, приняв ее подводный язык за цепь понтонов, при втором налете самолеты не смогли прорвать огневой заслон. Теперь переправа используется только ночью… Штаб предлагает бомбить ночью, с малой высоты, снарядами замедленного действия. Кроме того, нам дают морские торпеды. Авиации помогут разведчики, они обозначат линию моста ракетами. С пояснением к плану выступили начальники оперативною отдела и разведки. Генерал Смирнов слушал, изредка посматривая на подполковника Лаврова. Неводов знал, как любит Лавров возражать штабникам. Вот и сейчас его спокойный голос не предвещал ничего хорошего составителям плана. — С планом, товарищ генерал, я познакомился два часа назад. Он прост, но создается впечатление, что его составители упустили специфику летной работы. Бомбежка ночью! По точечной цели! Кратковременный подсвет и обозначение! — На загорелом лице подполковника беловато выделился осколочный шрам, проползший от челюсти к левому глазу. — Я много летал ночью, но не гарантирую, что, во-первых, найду цель, во-вторых, попаду в нее. А в полках лучшие летчики имеют мизерный ночной налет!.. Выигрышные пункты меня радуют: скрытность полета — раз! — Лавров отогнул палец сжатого кулака. — Отсутствие истребительного прикрытия переправы — два! — Он разжал ладонь и загнул сразу два пальца. — И, наконец, мысль застать колонны противника на форсировании реки — три! Лицо начальника штаба посветлело. — Но почему же ночью? — спросил Лавров. — Ведь этих преимуществ можно добиться и просто в плохую погоду! — По данным разведки переправа производится только ночью, — возразил начальник оперативного отдела. — Потому что погода стоит ясная и противник рисковать не хочет! Но, разрабатывая авиационные операции, неплохо бы держать связь с метеорологами. Подходит циклон. Прикрываясь нелетной погодой, немцы будут переправляться и днем. — Предлагай, подполковник, — сказал Смирнов. — Ручаться могу за такой вариант. Вылетаем в первый день так называемой нелетной погоды. Синоптики обещают ее послезавтра. Практики таких налетов у нас мало, и противник наверняка станет переправляться. Так же, как и ночью, будет отсутствовать истребительный заслон. Маршрут полета можно изменить. Пусть самолеты выйдут на реку Сейм и пойдут к мосту по реке. Кроме облегчения ориентировки, еще одна выгода: следуя по реке, можно поразить цель с хода, без дополнительных перестроений и заходов. Бомбы замедленного действия позволят атаковать с бреющего полета. У меня пока все! — А мои джигиты нужны в вашем плане? — спросил начальник разведки. — Обязательно. — Что скажет начштаба в защиту своего варианта? — Генерал поднялся из-за стола. — Ничего… Только ведь ваш заместитель мог поправить нас раньше. — Извините, но окончательно все утряслось в голове только в процессе вашего доклада, — объяснил Лавров. — А ночной вариант следовало бы оставить запасным. — Так и решим! Смотри, чтоб твои джигиты не обмишурились! — Генерал погрозил пальцем начальнику разведки. — По вашей части есть замечания, капитан Неводов? — Когда будет поставлена задача экипажам? — За час-полтора до вылета. Устраивает?… Ну, вот и хорошо! Все! Неводов с Лавровым вышли из штаба вместе. — Вы на аэродром?… Хотите подъехать? Прошу! — Лавров гостеприимно открыл дверцу трофейного «оппеля». — Между прочим, у меня для вас подарок. — Покопавшись в большой штурманской сумке, с которой он никогда не расставался, Лавров вынул горсть монет и ссыпал их в ладонь Неводову. — Есть две довольно редкие. — Спасибо! Но откуда?… — Я слышал, что вы безнадежно больны нумизматизмом. Эти реквизированы у сбитого «макаронника». Наслаждайтесь. Маленький «оппель» резво бежал к аэродрому. — Итальянец подал интересную мысль, — говорил Лавров, заполняя кабину ароматным дымом «Северной Пальмиры». — Его пугал сильный огонь наших штурмовиков, и я подумал: что, если попробовать маневренные качества «ИЛа»? Представьте, он довольно сносно выполняет фигуры высшего пилотажа. В сочетании с мощным огнем это опасно для любого истребителя. Сейчас попробую тренировать молодых пилотов… Еще минуту, капитан! — Лавров достал из сумки плитку шоколада. — Передайте Татьяне… И не судите строго старого холостяка. — Она, кажется, крепко подружилась с лейтенантом Туговым. — Да!.. Все равно передайте. — Лавров захлопнул дверцу машины и поехал на дальний конец стоянок. Около самолетов, замаскированных соломенными матами, работали техники и летчики. Один из пятнистых «ИЛов» был тесно окружен людьми. Два парня в измазанных маслом комбинезонах приклепывали к фюзеляжу Т-образные металлические рейки. Невысокий летчик мешал капитану смотреть, и Неводов легонько отстранил его. — Здравия желаю, товарищ капитан! — сказал тот. — Здравствуйте, Шейкин. Что здесь происходит? — Клепают направляющие для реактивных снарядов. Видите: зашел «худой» в хвост, а ему в пасть — гостинец из четырех эр-ес! — Кто это придумал? — Вася… То бишь, лейтенант Тугов, собственными мозгами? Неводов нашел глазами Тугова, подошел к нему: — Василий Иванович, вы не забыли о моем предложении? Помните наш разговор? …Тугов помнил. Все помнил. В тот вечер он провожал Татьяну на дежурство. Около землянки СМЕРШа, прощаясь, обнял девушку. От ее волос, щекотавших глаза, пахло ромашкой. Грезы разрушил голос: — Отставить! Обоим войти в землянку! Таня сразу, как мышка, скользнула в светлый проем двери, а Тугова кто-то взял под руку. — Думаете умыкнуть мои кадры, лейтенант? — говорил капитан, когда они уселись друг против друга за столом. — Не возражаю, но потребую кое-какой компенсации… А ведь я вас давно приметил, еще когда около столовой вы пытались всучить Татьяне букет ромашек. Припоминаете?… Неводов долго расспрашивал Тугова о его работе в Московском уголовном розыске и наконец сказал: — Вот никелевая монета, чеканенная в Берлине. На аверсе что? Читайте! — Тысяча восемьсот девяносто восьмой год. Одна копейка. — А теперь смотрите реверс — Неводов повернул монету. На обратной стороне раскинул крылья прусский орел. — Ее как эталон никелевой монеты предлагали России… Для нас, нумизматов, двуличная монета ценна, а подобные ей люди, между прочим «чеканенные» не так уж далеко от того же монетного двора, представляют еще больший интерес. Одним чекистам с ними справиться трудно… Так как, Василий Иванович? Тугов растерянно молчал. — Что в распоряжении шпиона на земле? — продолжал Неводов. — Из средств передвижения: ноги, автомобиль, поезд, редко — пассажирский самолет. И всегда вокруг него наши советские люди. Ошибся чекист — другие могут помочь исправить ошибку. А в авиации шпион имеет крылья, в полете часто один. Понимаешь? Тут ошибки должны быть исключены. Надо обнаруживать врага на земле, профилактировать. — В УРе я был оперативным работником, — сказал тогда Тугов. — Оперативным! Выявляли другие. — Подумайте, Василий Иванович. Хорошо подумайте. Вы имеете опыт работы, можете нам здорово помочь… С тем и расстались в тот вечер. Подплыло облако пыли от взлетевшего штурмовика. Ревущая машина, подняв нос, карабкалась в небо. Подполковник Лавров повез очередного летчика на пилотаж. — Ну как, Тугов, решил? — Неводов снял фуражку, вытер платком вспотевшую лысину. — Я ведь боевой пилот, товарищ капитан. Разве нельзя обойтись без меня? — скучно сказал Тугов. — Ну-ну… Летай! — Капитан помахал рукой шоферу бензозаправщика, ехавшему в сторону городка… В землянке он увидел прильнувшую к рации Татьяну. Она предостерегающе подняла палец. На радиостанции светился подконтрольный диапазон, в такт принимаемым знакам дергалась стрелка прибора настройки. Неводов схватился за телефон: — «Двадцать шестой»… Я — «Восьмой»! Что у вас? — Есть пеленг! — «Сотый»… Я — «Восьмой»! Доложите! — «Восьмой», вас срочно вызывает «Первый-зет». Включаю! — сказали с коммутатора. Неводов откликнулся на голос начальника контрразведки Воздушной армии полковника Кронова. — Неводов, немедленно блокируй лес северо-восточнее хозяйства Смирнова! Точка схождения пеленгов там, в десяти километрах от вашего аэродрома. Роте охраны и командиру БАО отданы распоряжения. Действуй, капитан, действуй!7. Багровое сито
Полк подняли по тревоге за тридцать минут до рассвета. Летчики и техники выскакивали из землянок под проливной дождь, в темноте шлепали по лужам к самолетам. Пуск — и двигатели, прочихавшись, выбрасывали из патрубков красное пламя. Вскоре по всем стоянкам перекатывался гул. Уже рассвело, а Евгений Шейкин, выключив мотор, не покидал теплой кабины, посматривал через запотевшее стекло на молоденьких оружейниц, проверяющих подвеску бомб и реактивных снарядов. К самолету шел Тугов. Шейкин откинул колпак кабины, перекинул ноги через бортик и молодцевато спрыгнул в лужу. Вода из-под сапог брызнула на одежду Тугова. Тот поморщился: — Мог бы и поаккуратнее! — Окропил тебя живой водичкой перед боем! — Знаешь, Женя, мне торпеду под брюхо подвесили. Что с ней делать? — Расскажут. Пошли рысцой, а то и так последние… Вот тут рай! — выкрикнул Шейкин, вбегая под натянутый на колья брезент. Задачу на штурмовку понтонной переправы ставил подполковник Лавров. Водя указкой по большой схеме, разъяснял: — Пойдет девятка. Командир третьей эскадрильи не раз лазил в такую погоду, ему и карты в руки. Ориентировка сложная, поэтому сначала с курсом двести сорок градусов выйдете на железную дорогу Белгород-Курск в районе станции Солнцево. Рядом Сейм. Разворачиваетесь и летите по реке к городу. Как только подойдете к острову Зеленый — видите, какая у него своеобразная конфигурация? — засекайте время. Через восемь минут готовность. Через десять — под вами будет переправа, обозначенная ракетами. Уничтожить! Немцы двигают по ней крупные силы в район Беседино-Становое. — Подполковник выглядел нездоровым, шрамик на загорелой щеке посинел, но движения были энергичны, голос, как всегда, ровен и сух. — Два штурмовика несут торпеды. Ничего сложного. Сбрасывайте, не долетая двести — триста метров до мостов. Заглубление торпед соответствует усадке притопленных понтонов… Вопросы есть? Дождь утих, но небо висело серыми лоскутами над самой землей. Самолеты шли низко, задевая «горбами» облака. Самым последним летел Шейкин. Он видел под штурмовиком Тугова веретенообразное тело торпеды, она висела, чуть наклонив овальный нос. Шейкин немного поотстал, посмотрел вниз: земля, как стремнина, смешавшая в своем потоке овраги, дороги, поля, перелески, неслась под крылья. В левом боковом стекло козырька кабины темным изгибом плеснулся Сейм, чуть дальше — лесополоса железной дороги. По конфигурации берегов стало попятно, что эскадрилья выскочила на реку где-то севернее Солнцева и довольно далеко от него. Передние машины легли в разворот, взяли курс на остров Зеленый. И тут в пустоту эфира вдруг ворвался голос: — Ахтунг! Нойн! Шейкин вздрогнул, втянул голову в плечи, порывисто оглянулся. Голос был так резок и злобен, что представилось оскаленное лицо фашиста, какими их рисуют на плакатах с надписью: «Будь бдителен!» Под самолетами матовой лентой изгибался Сейм, обмахренный с юга черным мокрым лесом. Промелькнуло два рыжих островка. Самолеты перестроились. Девять штурмовиков, вытянувшись по реке, подходили к острову Зеленый. Для Шейкина он появился неожиданно: из дымки выскочил желтый конус плеса и круглая, как пятак, лесная заросль. Палец ткнулся в кнопку аэрочасов — через десять минут появится цель. Время чувствовалось телом, будто кто-то взял тебя за голову и тянет, как резину. Даже лоб коснулся прицела. Шейкин с усилием откинулся в кресле, но до рези в глазах продолжал смотреть вперед. Он видел пять самолетов и угадывал положение трех самых первых. И там, где они были, небо прочертил огонь. Ракеты! Разведчики обозначили переправу! Слава пехоте! Ракеты!.. Но их очень много! Что за чертовщина? И, будто отвечая на его вопрос, Сейм выкинул откуда-то из глубины огромный белый султан, и в пенной верхушке мелькнул оторванный хвост штурмовика. На высоком правом берегу и в лесу на левом раскаленными горошинами рассыпались огоньки. От них тянулись короткие рыжие стрелки. Они мелькали вокруг Шейкина, выходили из рваных отверстий на крыльях. Воздух порозовел. Низкое небо стало багровым и, слившись с берегом, образовало туннель с зыбкими желто-красными стенами. Туннель перегораживало сито из сотен разноцветных перекрещенных трасс. Винтами и крыльями его рвали штурмовики. Теперь впереди Шейкина летело только четыре самолета. Один горел на глинистой отмели. Командир второго звена с торпедой под фюзеляжем крутился в последнем штопорном витке. От самолета Тугова оторвалась торпеда. Она подняла воду и обозначила бурунный след. Белая нитка потянулась к дымящемуся танку и автомашине с покореженным оружием, стоящим прямо на воде. Вот она, притопленная переправа! Шейкин обогнал торпеду, чуть наклонил нос штурмовика, нажал рычаг и будто втиснул бомбовой груз в невидимую линию понтонного моста. Потом подвернул самолет и залпом реактивных снарядов накрыл берег. Уходя вверх, оглянулся. Сработали все бомбы замедленного действия, сброшенные эскадрильей. На месте переправы оползала черная рыхлая гора. Шейкин пролетел немного в облаках и начал снижаться, зацепившись взглядом за землю, встал на обратный курс и глубоко вздохнул. Казалось, пролетела вечность, а бортовые часы показывали: с момента пролета острова Зеленый прошло всего семь минут… После вылета штурмовой эскадрильи на СКП [199] приехал генерал Смирнов. Он выслушал доклад подполковника Лаврова и обратился к штурману-планшетисту: — Где они? — По времени подходят к станции Солнцево. — Молчат? — Пока тихо, товарищ генерал. — Ахтунг! Нойн! — прокаркал динамик. Это было так неожиданно, что все на миг оцепенели. Немец сработал на тщательно выбранной, строго засекреченной волне. Первым опомнился генерал. Он в сердцах крутил ручку полевого телефона. — Восьмого!.. Вы слышали, капитан? Неводов слышал, но, по его мнению, это не предвещало опасности. Разное бывает стечение обстоятельств. Случайно на этой волне могла работать наземная радиостанция немцев. Капитан просил прервать разговор, так как вновь заработал передатчик па подконтрольном диапазоне. Положив трубку, Неводов наклонился к Татьяне. Она держала в руке карандаш, но не писала. — Передал позывные. Слышно слабо. Неизвестный передатчик посыпал в эфир точки и тире только через шесть минут. Радиограмма была короткой, а в конце опять стояла цифра «13». Пеленгаторы успели засечь направление. Их пеленги скрестились на территории, занятой противником. — Вот так штука! — Неводов сел за стол, обхватив ладонями голову. — Товарищ капитан, работал тот же передатчик. — Бред! — Каждый радист имеет свой почерк. И потом… — Ну что, что? — Я заметила… Через равные промежутки он дает ясную помеху, похожую на скрип дверной петли… — Шифр! Понимаешь? Мне нужен шифр! — Неводов быстро ходил, так и не убрав с висков ладоней. — Что толку от наших перехватов? Скрип какой-то… Это, как несмазанная телега, скрипит наше дело, Таня! И с той и с другой стороны работает Тринадцатый. Эфемерное создание! Мне нужен его язык. Понимаешь? Он висит на нашей шее второй месяц. А ты про какой-то скрип! — В каждой передаче одинаковый скрип через одинаковые промежутки времени. Похоже на автомат, — настаивала радистка. Неводов хлопнул дверью землянки и побежал на аэродром. Генерала и подполковника Лаврова он нашел около СКП. Оба с тревогой поглядывали в небо. — Товарищ генерал! Смирнов отмахнулся и сделал несколько шагов в сторону. На аэродром приземлялись штурмовики. Их оказалось только пять. Пять закопченных, с многочисленными пробоинами самолетов. Последним плюхнулся на край аэродрома Тугов. Его вытащили из кабины еле дышащим, с простреленной грудью. Видно было, что только огромным напряжением золи он удерживал сознание, в глазах отражались боль и удивление. Шейкин стоял рядом с непокрытой головой. Подполковник Лавров помог уложить раненого на носилки и снял с него штурманскую сумку. К генералу подбежал один из пилотов: — Задание выполнено! Мост взорван… Ведущий погиб. — Отдыхайте. — Кто шел на мост замыкающим? — спросил Неводов пилота. — Лейтенант Шейкин. Шейкин нехотя повернулся к подошедшему капитану и вяло ответил на приветствие. Долго не мог понять вопроса, потом тихо сказал: — Что я видел?… Я видел, как с обоих берегов нас молотили даже из стрелкового оружия… Ракеты?… Может, и видел, не знаю. Зато видел, как эскадрилью просеивали через багровое сито и как нырнул комэска!..8. Исповедь в Тофаларии
Лейтенант Гобовда мучился в Нижнеудинске, старинном сибирском городе, расположенном на железнодорожной магистрали между Красноярском и Иркутском. Отсюда до Алыгджера, центра Тофаларии, можно было добраться только самолетом. Местные чекисты любезно предложили лейтенанту «У-2», но шли уже вторые сутки, как самолет стоял на маленьком аэродроме, скучал вместе с Гобовдой пилот, опытный молчаливый авиатор, а Саянский хребет, через который надо было проскочить, оделся в густые мокрые облака и не открывал воздушной дороги. Двадцать три года прожил на свете лейтенант Гобовда, в школе по географии имел пятерку, а о Тофаларии услышал впервые. Искал он в Петровском лесхозе Корня — но нашел. Но человек с такой кличкой жил там несколько лет назад, работал лесником, все знали его под фамилией Слюняев. От сторожа лесхоза Гобовда многое разузнал про лесника. Собрал он кое-какие сведения о Слюняеве и у местных органов власти. И вот что потом рассказал полковнику. Корней Слюняев — старый заслуженный партизан, в дальнейшем боец отрядов Блюхера. По рождению сибиряк. Происходит из бедной крестьянской семьи. Имел сына и жену, тоже партизанку, ее порубили казаки Унгерна. Сына Слюняев отправил к родственникам в Московскую область. А в начале тридцатых годов, как знаток леса, дал согласие на переезд в Поволжье, где создавались ОЛХЗ — опытные станции лесного хозяйства. Жил один, замкнуто, хотя характеризуется знавшими его людьми добрым, отзывчивым человеком. Сын регулярно писал ему, приезжал в 1934 году, но ненадолго. Перед войной Слюняев расторгнул договор с лесхозом и уехал в Сибирь «помирать под своей пихтой» — так он сказал сторожу лесхоза. Адреса не оставил, писем не присылал. Сторож сочувственно отнесся к отъезду товарища — «Слюняева сильно тревожила застарелая язва желудка, и был он совсем плох». Гобовда сделал вывод, что если Слюняев еще и жив, то искать его нет никакого смысла: старый заслуженный партизан вряд ли может оказаться пособником врага. Полковник Стариков не согласился с ним и предложил послать запросы о сыне. Ответы получили неожиданные:«Слюняев Василий Корпеевич, рождения 1913–1914 годов, в Московской области никогда прописан не был». «Место жительства Корнея Федоровича Слюняева: Тофалария (Иркутская область, Нижнеудинский район, Алыгджер). Свободный охотник».Вот как лейтенант Гобовда впервые услышал о Тофаларии. За время своего вынужденного безделья в Нижнеудинске кое-что узнал о ней. Издавна жил среди Саянских хребтов народ по прозванию «карагасы», что означает «черные гуси». Их юрты гнездились в глубине тайги, где-то в верховьях рек Уды и Бирюсы. Занимались карагасы оленеводством и охотой. Маленькие, грязные, они иногда спускались с предгорья, меняли в факториях пушнину на порох, дробь, соль и водку. Называли себя тофами. Кочевали тофы в дальних горах, в стороне от всех цивилизаций. Но вот на Бирюсе и других реках нашли золото. Повалили в этот край на поиски счастья промышленники, купцы, лабазники. Скрытые дремучей тайгой, опутанные обманом шаманов и русских купцов, невежественные и дикие, тофы мерзли в горах, голодали, болели трахомой, хирели и вымирали. И вымерли бы, если бы не Октябрьская революция. Она принесла новую правду, а вместе с ней новые законы, промыслово-охотничьи артели, теплые дома и школы. Тофов осталось немного — человек пятьсот. Поселки Алыгджер, Верхний Гутар и Нерхе — вот и вся сегодняшняя Тофалария. На третий день погода прояснилась. Можно было лететь. Растворился в дымке опостылевший Нижнеудинск, блестками замигала заболоченная тайга предгорий, вздыбились залесенные хребты и гольцы Восточных Саян. Старый летчик ввел самолет в широкое ущелье, проскочил его, и взору лейтенанта открылась зеленая долина. Под крыльями — Алыгджер, поселок домов на семьдесят; двумя ровными рядками стоят добротные рубленые избы и кое-где юрты. В поселковом Совете Гобовда узнал о Корнее Слюняеве. Старик уже месяц пропадал на одной из дальних заимок, выполнял охотничий план промартели. Последние две недели не подавал о себе вестей. Дали лейтенанту проводника и вьючных оленей. Отправились на заимку с рассветом. В первый день прошли километров двадцать… Остановились перед закатом солнца. Проводник развьючил оленей, нарубил длинных жердей, составил из них каркас и обернул его брезентом, лишь у самой вершины оставил отверстие. Вскоре из него повалил дым костра. Поев печенной на костре кабаргатины, запив ее крепким чаем, разморенный, уставший Гобовда растянулся на подстилке из хвойных лап и сразу уснул. Разбудил его цокот белки. Лейтенант выполз из юрты и увидел пушистого зверька на ветке ближайшего кедра. Вершина высокого лесного красавца сияла в лучах солнца, лучи пронизывали густую хвою, рассыпались золотой пылью, создавая желтый трепетный нимб. Гобовда ударил жердью по стволу, и любопытная белка спряталась в густой кроне. До заимки шли еще день. Последние таежные версты лейтенант еле волочил ноги. Увидев, что спутник выбился из сил, проводник, пожилой тоф, снял поклажу с оленя, перегрузил на другого, а Гобовде предложил сесть верхом. Так добрались до большой поляны, захламленной сушняком, посреди которой за кривым частоколом присела, чуть ли не свалилась набок старая, почерневшая изба. До двери Гобовда шел враскорячку, мысленно проклиная и Слюняева, и свое начальство, а особенно мосластую спину оленя, о которую до крови растер ноги. Проводник увидел, что нет собаки, и на ломаном русско-бурятском языке сказал: — Лай собаки тревожит ухо хозяина! Войдя в избу, они увидели старика. Он лежал у подслеповатого окошка на дурно пахнувшей медвежьей шкуре, накрытый до подбородка теплым одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков. Его совершенно лысая желтая голова покоилась на охотничьей сумке. Брови, усы и всклокоченная борода сбились в шерстяной комок, из которого высовывался белый заострившийся нос да черными льдинками блестели широко открытые глаза. Старик смотрел на пришельцев настороженно и особенно внимательно — на лейтенанта, одетого в военную форму с погонами на плечах. Наверное, старик не видел погон со времен гражданской войны. Гобовда поздоровался. Проводник быстро говорил что-то на своем языке, и Слюняев отвечал ему. Так продолжалось с минуту. Проводник сокрушенно покачал головой и повернулся к лейтенанту: — Плох. Ох, плох бин! Помирать старый бин! Собака медведь задавил. Пропал собака! — Чекист? — хрипло спросил Слюняев, не отрывая от Гобовды взгляда черных остановившихся зрачков, и, не дождавшись ответа, приподнялся на локтях. Проводник поднес к его лицу фляжку, распутал густую рыжую кудель у рта и дал напиться. Слюняев жадно глотал крупными глотками. Выпростал из-под одеяла костлявую руку и знаком попросил закурить. Лейтенант поджег папиросу, раскурил, дал ее старику. — Нашли все-таки меня, варнака! — Слюняев уронил голову на сумку и смежил веки. — Мне с вами поговорить надо, — сказал Гобовда. — Иди с тофом, помоги развьючить оленей, поешь, — ответил Слюняев, — разговор у нас будет долгий. С разгрузкой поклажи и приготовлением пищи на костре управились довольно быстро. Пока напоили старика мясным отваром и поели сами, на тайгу пала ночь. Дымом от зажженной смолистой ветки проводник попытался выгнать из избы комаров и мошку, запалил лучину, торчавшую в жестяной кружке, но старик что-то сказал ему, и он достал с приполка три свечи, зажег все сразу. — А теперь, чекист, бери бумагу и пиши! — сказал Слюняев. — Не перечь, пиши сразу, повторять не буду. Не только язва, но и сухота от всей моей варначьей житухи загоняет меня в домовину. Бесов над головой вижу, — значит, скоро конец! Поговорю с тобой — очищусь малость. Пиши, паря! Слюняев рассказывал не торопясь, с частыми остановками, будто заглядывал внутрь себя, вспоминал. …Вместе с партизанами небольшого отряда бил беляков и японцев бесшабашный, злой и крутой на руку парень Корней Слюняев. Отряд был семейным — возили за собой партизаны жен и детей. И у Корнея был хвост: сын Федюнька и красавица Марьяша. Командиру отряда Марьяша приходилась дочерью. Дружил Корней с отрядным разведчиком Фаном, корейцем, маленьким, юрким, вездесущим человеком, который всегда выполнял задания командира, проникал туда, куда, казалось, не мог прорваться и черт. Возвращаясь из ходок, Фан частенько приносил самогон и рисовую водку, делился с Корнеем. При одной из выпивок насыпал Фан в душу Корнея перцу: заронил сомнение в верности Марьяши. Замечал парень и раньше, как молодые мужики посматривают на жену. Одному скулу свернул в пихтаче, куда тот пробрался за Марьяшей, собиравшей ягоды. Сама жена повода к ревности не давала, хотя чувствовал, не всегда была откровенна. Фан же разбередил самое больное место Корнея — тыкнул ему в очи Федюнькой, белоголовым Федюнькой, совсем не похожим на родителей. И сказал Фан, что знает эту тайну. Потрепал его тогда изрядно Корней, выкинул из землянки, но тот не обиделся, пообещал доказать, и это еще больше ранило самолюбивого, неистового в гневе парня. Стал он следить за Марьяшей, подмечать и однажды, вернувшись раньше времени с задания, не застал жену в лагере. Потребовал отчета у командира, отца Марьяши. Тот успокоил: дескать, ушли они с Федюнькой по его поручению к леснику на пасеку за медом для партизан. А часом позже пришел к Корнею Фап, принес мутно-зеленой ханши. Полными берестяными туесками пил жадный до спиртного Корней, заливая потревоженную душу. «Я пришел доказать свою правоту, — сказал кореец. — Пойдем в тайгу!» И повел он тропами, известными только ему. Вел и рассказывал про бесстыдство Марьяши. Будто до Корнея она путалась с белым офицером, Корней женитьбой прикрыл ее стыд. Но она до сих пор страшно любит своего беляка и бегает к нему миловаться. Пришли они к Синему ручью, подползли к старой брошенной заимке, и Корней увидел свой позор: на траве полулежали офицер в полном мундире и Марьяша, а между ними Федюнька играл какой-то палочкой. Не помнит Корней, как вскинул берданку и произвел два выстрела. До сих пор ему кажется, что стрелял он только в офицера. Но тогда оба полегли, и офицер и Марьяша. Федюнька убежал в тайгу. Не помнил Корней и того, как они вернулись в отряд и опять глушили вонючую ханшу. Разбудили его через сутки, пригласили на сходку. Стояли в кругу партизан некрашеные гробы, а между ними сгорбился командир отряда, Марьяшин отец. Оп говорил, что погибли два славных человека, связная Мария Слюняева и разведчик, студент из далекого Питера, проникший в логово врага под личиной офицера. Дали залп. Потом подошел к Корнею командир отряда, обнял его: «Сиротами мы остались, сынок, потеряли Марьяшу с Федюнькой!» Вырвался, убежал Корней в тайгу. Землю ел, сучья грыз с отчаяния. Через несколько дней вернулся в отряд сухой, как скелет, но признаться в убийстве не мог… Лейтенант, слушая рассказ Слюняева, понемногу скисал. Неужели он продирался в эту глушь, чтобы выслушать исповедь убийцы и успокоить его: мол, за давностью преступление ненаказуемо; зря затратил время и государственные деньги. — Я бы хотел у вас спросить… — начал он. — Не перебивай, чекист! Записывай дальше! …Так и не нашел Слюняев силы рассказать товарищам о злодеянии, носил внутри горе и муку. А Фан не давал забыть, нет-нет да и напоминал, связывал тугой ниточкой. Однажды сказал: «На совести твоей, Корней, тяжелый грех и перед богом, и перед людьми, но я умру с этой тайной. Только и ты выручи. В одном селе у русской девки появился от меня ребеночек. Я не хочу ей позора и вот уже несколько лет скрываю мальца в китайских фанзах. Твой Федя пропал. Отдай мне его метрики, пусть той малец будет крещеным и примет твое имя». Знал: Корней отказать не посмеет, в то время он мог и черта в пасынки взять и считал бы это добрым делом… — Вот так у меня появился сын, — продолжал Слюняев. — Заметая варначьи следы, удрал я из Сибири в Поволжье при первой возможности. Думал, никто не сыщет. Ан нет, пожил малость и получаю письмишко из Подмосковья. Гляжу — от сына. «Сын» сообщал «папане», что живет-здравствует у родни, передавал привет от дяди Фана. Немного погодя прислал деньги. Промолчал сначала Слюняев, потом хотел ответить, да адресок на конверте не полностью выписан был, без улицы и номеров. Ну и ладно, подумал тогда, доброе дело сотворил в жизни и деньжата не лишние. А то, что отцом называл незнакомый парняга, даже убеждало — не зря коптил белый свет. Обещал «сын» свидеться с «папаней» и в тридцать четвертом году пожаловал в гости. — Думал я: как толковать с ним буду? — рассказывал Слюняев. — Да только не спросил он ничего, будто знал все. Парень здоровый, красивый, как токующий глухарь. Охотились мы с ним, по грибы шастали. А через недельку открылся оп: кое-какие бумажки нужны из сельсовета, учиться дальше хотел по военной линии. — Почему вы считаете, что по военной? — спросил Гобовда. — В одной из справок, о происхождении там говорилось, написано было, будто дана она для представления туда, где летчиков обучают. А уж точнее, как выведено там, не помню… Слюняев замолчал. Тщетно лейтенант задавал ему вопросы. Старик напился воды и будто заснул. Проводник посоветовал укладываться на ночь. Недовольный Гобовда улегся одетым на спальном мешке. Сон не шел. «Бросил хитрый старик приманку и примолк. Растолкать его, что ли?» — думал Гобовда. В мерцающем свете то приближались, то удалялись черные, мохнатые от пакли в пазах стены избы, сизо отсвечивала винтовка проводника на ржавом гвозде. Оплывали свечи. Роилось, жалило комарьё. Лейтенант ворочался, кряхтел, плющил на лице маленьких кровопийц. — Не спишь, чекист? — тихо позвал Слюняев. — Вставай, пиши. Малость сил не хватило, провалился я. Гобовда вскочил, поспешно разложил на столе бумаги. Дальнейший рассказ слушал под мирный храп проводника. Уехал «сын» и пропал, как в омут бултыхнулся, — ни писем, ни денег, ни слуху ни духу. И забыл бы о нем Слюняев, не пожалуй в лесхоз перед самой войной Фан. Пришел ночью, тайком. Одним лишь видом своим всколыхнул недобрую память. Но, оказывается, Фан с этим и приехал. Приехал напомнить. Прямо сознался: знал о невинности Марьяши и навел пьяного Корней на убийство с определенной целью. Красный разведчик пронюхал о Фане недозволенное и в тот раз должен был сообщить Марьяше: Фан шпион. Да не успел — прикончил его Корней. Услышав такое, взбешенный Слюняев бросился душить Фана. Тот оказался ловчее, сшиб лесника, избил и спросил: — Сейчас с тобой разделаться, грязная морда, или отдать и руки чекистов? Они с удовольствием повесят тебя на первой осине! Ведь о том, кого ты убил, сейчас коммунисты книги пишут, он их герой. Им очень хочется узнать, на чьих лапах его кровь. Сник Слюняев. Животный страх превратил его в тряпку. Фан хихикал. Только теперь его звали не Фан, а Хижняк… — Как вы сказали? Повторите! — воскликнул Гобовда. — Арнольд Никитич Хижняк. — Но он же кореец! — Опосля я ему говорил, что прозванье не личит. Посмеялся, обругал меня бестолочью. — Про сына вспоминали? — Напомнил я, он плюнул. На белом свете, говорит, у меня таких «сыновей» — что комарья в тайге. Открестился Фан от парня… Задание дал мне по взрыву моста одного, по его весточке, однако. Не стал я ждать, смотался сюда, к тофам. Я все поведал, как на духу, чекист. — А скажите, Слюняев, семью Гольфштейн из города Энгельса вы знали? Встречаться приходилось с кем-нибудь из них? — Нет, таких не знавал… Буди тофа, подпишем с ним твои бумажки. …Глубокой ночью крепко спящего лейтенанта разбудил выстрел. Из винтовки проводника застрелился Слюняев.
9. Плавающий пеленг
Как только из кабинета вышел член Военного совета армии, генерал Смирнов, проводив его до дверей, прислонился лицом к косяку. Суровые слова политработника не выходили из головы. Почему не обеспечена внезапность при налете на понтонные мосты? Чем объяснить большие потери личного состава за последнее время? Понимает ли генерал невосполнимость моральных последствий? Генерал помедлил и решительно открыл дверь в комнату оперативного отдела. Кроме капитана Неводова, там никого по было. Он еще с вечера попросил разрешения поработать в этой комнате, воспользоваться документами отдела. Настольная лампа с плотным картонным абажуром высвечивала круг на столе и узловатые руки капитана, перелистывающие бумаги. При виде Смирнова он встал. — Я на минуту. — Генерал сел напротив Неводова. — Скоро утро… Вздремнул бы. — Бессонница — почти необходимое приложение к нашей работе. — Я тоже не могу… Этот голос… — «Ахтунг! Нойн!», да? — Тот, кто каркал в воздухе, работал русским микрофоном… Как вам объяснить?… В свое время я испытывал самолетные рации. Ихние тоже, трофейные, в Испании. «Телефункен и сын» еще тогда снабжали фашистов отличной связью… Отменно владею немецким. Произношение… нюансы в произношении. А тот голос… в общем, говорил русский человек! Неводов снял абажур с лампы, в комнате стало светлее. — Допустим, товарищ генерал. Но тогда эти два слова могли быть только вспомогательными к предшествующей информации. — Вы так думаете? — Ну, а что скажут эти слова несведущему человеку?… Допустим, что информация была, вот тогда… Но и тогда работа агента открытым текстом глупа и маловероятна… Правда, еще Достоевский писал, что почти каждый в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка. Значит, что-то неожиданное произошло в отработанном плане. Что?… Предположим, говорили с нашего самолета. Кто? — Пожалуй, летчик. — А по-моему, стрелок, — возразил Неводов. — Но это пока не так существенно. Помогите мне, товарищ генерал, осмыслить одну ситуацию. Сопоставляя рассказ пилотов и план, я вижу, что он не выполнен в некоторых пунктах… совсем незначительных. — Задание выполнено, вот главное. — После прохода острова Зеленый по штурманскому расчету самолеты должны были накрыть цель через десять минут, а они все отбомбились… через семь. Почему? — Пожалуй, сумма ошибок: превышалась расчетная скорость полета, попутный ветер оказался сильнее, чем думали. — Вот метеосводка. Здесь указан ветер максимальный — пятнадцать метров в секунду. Вот вам навигационная линейка, прикиньте все возможные ошибки. Генерал взял линейку и произвел несколько расчетов. Получалось несуразное. Чтобы покрыть расстояние от острова до переправы за семь минут, требовался ветер более тридцати метров в секунду. Такие порывы могли быть только в грозе. — Грозы не было! — будто угадал его мысли Неводов. — Предварительный расчет верен. Летчики скорость не превышали, Они сидели и смотрели в глаза другдругу. У обоих было предчувствие большой беды. Генерал догадывался. Неводов знал почти наверняка. — О плане знали только те, кто тогда находился у меня в кабинете. Летчики — только за час… Кое-кто из штаба армии… — Летчиков осталось пятеро. Один в госпитале. — Неводов отвел взгляд от лица генерала и посмотрел в окно. Оно светлело. Где-то далеко на востоке рождался новый день. Утром этого дня по срочному вызову все командование сводной авиадивизии вылетело в штаб армии. Там генерала и подполковника Лаврова пригласил командующий, а Неводова провели в большое полуподвальное помещение, где собрались ответственные работники СМЕРШа. Начальник контрразведки Кронов, кряжистый, с угловатой бритой головой человек, сидел в начале длинного стола и курил папиросу за папиросой. Кивком оп указал место Неводову и быстро заговорил, постепенно повышая голос: — Давненько не было такого представительного совещания. И если бы этот (резкий жест в сторону Неводова) не сел в лужу, так и не собрались бы… Вчера из штаба сводной авиадивизии поступила победная реляция: уничтожили главную немецкую переправу через Сейм! Почет и слава! Да… если бы переправа была уничтожена! Но немцы провели вас, капитан Неводов!.. Подождите морщиться, подождите. Ваши летчики, потеряв четыре самолета, высыпали взрывчатку на ложную переправу! А настоящая действует, Неводов, действует! По ней преспокойно катятся моторизованные части в район предстоящего контрнаступления! От двух групп лучших разведчиков армии, посланных на обозначение цели, остался пшик!.. Вы понимаете, Неводов? Понимают ли сидящие здесь, что произошло?… Выходи сюда, Неводов, выходи, чтоб все тебя видели, и рассказывай, делись опытом! Капитан встал, но на середину комнаты, куда показывал полковник, не вышел. Его ровный, предательски вздрагивающий от обиды голос слушали в напряженной тишине. — Мне ясна картина провала вчерашней операции. Ее истоки далеки и известны товарищу полковнику. В моей зоне действует агент противника, имеющий передатчик. Перехвачены три радиограммы, расшифрованы — ни одной. Полагаю, что предпоследняя, самая длинная, информировала о налете на переправу… Кто агент? Несомненно одно: он близок к штабу дивизии или армии, добывает информацию из первых или вторых рук. Один ли? Предполагаю — группа. Небольшая, мобильная. Более подробную версию доложу письменно, а сейчас о другом. Опростоволосились мы все, товарищ полковник! В моем отделе два человека — я да радистка. Один оперативник погиб, второго вы забрали с повышением. А кого дали взамен, несмотря на мои неоднократные просьбы? — Не прибедняйтесь! Работать лучше надо! — выкрикнул полковник. — Легко сказать!.. Я вас просил подключить на мою зону пеленгатор штаба армии и соседней танковой бригады, а вы… — Дано распоряжение, Неводов, дано! — С сегодняшнего дня. Но операция провалилась вчера! И главное — мы не можем читать перехваченные радиограммы. Наши дешифровщики не справились, а вы из-за ложного сохранения престижа не попросили помощи Центра. Вошел дежурный по штабу и вызвал полковника Кронова к командующему. …После обеда Кронов провожал Неводова к самолету и говорил уже спокойным тоном: — Под видом пополнения пришлю к тебе людей. Блокируй все точки, рассади везде. Думай, друг, думай. Ты понимаешь, в каком положении мы второй месяц? А на мою резкость не обижайся, все мы не ангелы. — По-моему, вы недооцениваете… — Думай, Неводов, думай! — оборвал полковник. — Голова у тебя есть, руки я тебе даю, но пользуйся и нюхом… Понял меня? Понял?… «СИ-47» плыл в облаках, неся на борту командование авиадивизии. Узкие глаза начальника разведки печально разглядывали через блистер землю, по которой не ступят уже неслышными духами его пропавшие джигиты. Начштаба мрачно грыз початок кукурузы, не замечая, что зерна давно уже съел. Генерал Смирнов с подполковником Лавровым вели самолет по приборам, отдавая им внимания больше чем надо. Облака густели, серая кучевка вскипала, накапливала грозовые заряды. Генерал толкнул от себя штурвал, и самолет пошел на снижение. «СИ-47» приземлился на аэродроме штурмовиков. Генерал на своем «газике» подбросил Неводова до землянки. Высаживая, сказал: — Завтра в восемь утра через наш аэродром проследует транспортник с представителями Ставки. Пойдет «сереньким», без видимой охраны. Вы поняли? — Да, товарищ генерал! «Газик» рванулся и скрылся в пыльном клубке. Упали первые крупные капли дождя. Неводов спустился в землянку. — В ваше отсутствие, в четырнадцать ноль пять, работал тот же передатчик, тридцать секунд. Вот текст цифрограммы, — протянула листочек Татьяна. Капитан быстро обзвонил радиопосты. Отличились пеленгаторщики штаба армии и вступившие в действие радисты танковой бригады. Точка пересечения пеленгов оказалась вне зоны Неводова. «Теперь ты почешешь лысину, полковник!» — незлобиво подумал капитан и разложил карту. Сопоставив данные, не удивился, что пеленг танкистов оказался «плывущим», непостоянным. Подтверждалась мысль: передачи ведутся с быстро двигающегося объекта, возможно — с самолета. Догадка возникла при прочесывании леса после первой пеленгации передатчика: тогда не только следов радиста, но и вообще никаких следов не было обнаружено в заболоченных зарослях. Кто же был в воздухе в 14.05 часов? Вскоре капитан получил сведения. В запеленгованном районе пролетала группа бомбардировщиков и связной самолет «У-2». Неводов, вооружившись транспортиром, положил линии пеленгов на карту, и «плывущий» сектор танкистов пересек линию штабников в двух точках. Бомбардировщики и «У-2» отпадают — они шли к линии фронта и от нее, а курс самолета-радиостанции ложится вдоль линии фронта… Какова скорость? «Решай задачку, Неводов, решай!» — сказал бы полковник… Передающий объект работал 30 секунд. За это время пеленг танкистов передвинулся по штабному на два километра. Ага! Два километра за полминуты… выходит… выходит 236 километров в час. Значит, правильно: не ноги, не лошадь, не автомашина, а самолет! Такую скорость имеют транспортники «ЛИ-2» и «СИ-47». Если продлить пеленг штабников, то он упирается в наш аэродром… «СИ-47»?… Так на «СИ-47» в это же время летел он, Неводов. Чушь какая-то!.. За штурвалами сидели генерал с Лавровым, в грузовой кабине — он, начальники штаба и разведки. Все на виду!.. Нет. Капитан закрыл глаза, пытался сосредоточиться. Ну и что? Ерунда, ерунда… Постой, постой, Таня говорила про какой-то скрип… скрип… скрип… А если и вправду автомат? Голова гудела, но Неводов чувствовал, что близок, очень близок к разгадке. Он собрал воедино все действия неизвестного радиста, проанализировал события за последнее время. Напрашивался определенный, но невероятный вывод. А почему невероятный? В самолете их было пятеро. Он не в счет. Остается четверо… Надо отвлечься, отвлечься, дать отдохнуть серому веществу… Неводов из нижнего ящика достал продолговатую коробку, открыл ее и, откинувшись на спинку стула, разглядывал желтые, белые, бурые кругляшки монет, аккуратно разложенные в неглубоких карманах. Отдыхал. Сзади бесшумно подошла Татьяна. Капитан оглянулся, рассеянно посмотрел на нее: — Вот взгляни, Танюша, на этот великолепный золотой рубль. Восемнадцатый век. Чеканился для нужд елизаветинского двора… Ты что-то хотела спросить? — Можно съездить в госпиталь? — Золотой рубль… В то время великая княгиня Екатерина вечно нуждалась в деньгах, потому что была большой мотовкой. Это привело ее к измене. Заняв у английского посланника пятьдесят тысяч рублей, она погасила долг секретными сведениями о русской армии… — Товарищ капитан, можно, я съезжу в госпиталь к лейтенанту Тугову? Я отдежурила… Я быстро вернусь. В госпиталь едет подполковник Лавров. Обещал подвезти. — А?… Да, да, поезжайте, Танечка. Нет, видно, покоя не будет. Девять человек стоят перед глазами. Девять загадок! И четыре из них — высшие работники штаба… Подполковник Лавров подъехал за Татьяной Языковой к низкому длинному бараку — общежитию зенитчиц. Рявкнул сильный клаксон «оппеля». Татьяна вышла быстро, будто стояла за дверью. Усевшись на переднем сиденье, она положила на колени кирзовую командирскую сумку, повернула к себе зеркальце заднего вида, сняла пилотку и стала поправлять пышные русые волосы. Потом долго копалась в сумке, достала пилку и занялась своими ногтями. Лавров понял, что она умышленно ищет какое-нибудь занятие, чтобы оттянуть разговор, и молча вел машину, виртуозно избегая тряски на довольно неровной, кочковатой дороге. Имен любительское удостоверение радиста-коротковолновика, Татьяна прибыла в БАО штурмового полка связисткой, и ее посадили на микрокоммутатор зенитного дивизиона. Работа скучная и однообразная. Она писала рапорты о переводе на радиостанцию и даже на должность стрелка-радиста штурмовика. Один из таких рапортов попал к Лаврову. Он хорошо помнит ту первую встречу. Перед ним стояла девушка с поразительно большими карими ласковыми глазами. Он долго смотрел в них, смотрел с удовольствием, давно не испытываемым. Крупный прямой нос, сочные губы, приоткрытые в смущенной улыбке, русый локон, озорно выскочивший из-под сдвинутой набок пилотки, но лучше всего были глаза девушки. По ним он определил ее характер, по ним читал ее мысли, в них он видел облака, сидя спиной к окну. Нет, в стрелки она не годилась. Уже в разговоре, исподволь рассматривая ее ладную фигуру, он продолжал думать о ее глазах и о том, что постарается ей помочь. Случай представился, когда Неводов достал себе радиостанцию, вытащив ее с помощью разведчиков из разбитого немецкого танка. Капитану не положена была штатная единица радиста, но Лавров забрал Татьяну из зенитного дивизиона якобы в мотористы и отправил к Неводову. — Вы все твердо решили, Татьяна Ивановна? Она поняла, о чем спрашивает Лавров, и немедля ответила: — Да. — А как он? — Не знаю… но это все равно. «Оппель» подкинуло па ухабе. Лавров рывком выправил руль, передернул рычаг передач. — Желаю вам счастья. — Спасибо, товарищ подполковник! — Только не забывайте старых друзей… Как с работой? — Спасибо, все хорошо. — Говорят, у вас успехи. Кого-то выловили в необъятном эфире? — Лавров въехал в открытые ворота госпитального двора. — Прошу! В приемную главного врача они вошли вместе. Несмотря на поддержку подполковника, врач отказал в просьбе посетить лейтенанта Тугова. — Вы должны понимать, какое у него состояние! — Он вернется в часть? — спросил Лавров. — Сделаем все возможное. — Доктор, хоть одним глазком взглянуть! В щелочку! — просила Татьяна, прижимая руки к груди. — Позвольте, доктор! Мимо раскрытой двери санитар прокатил операционную тележку. В ней лежал человек, покрытый простыней с головы до ног. Главврач вышел из комнаты и проводил тележку взглядом. — Его оперировали, — сказал он. — Можете посмотреть только через дверь. Заглянув в палату, Татьяна увидела одиночную койку и на ней запеленатого в бинты Тугова. Тканьевое одеяло прикрывало его ноги. После тяжелой операции он был в сознании. Будто ощутив посторонний взгляд, Тугов вздрогнул, шевельнулся, сморщился от боли. Татьяна закрыла дверь и побрела по гулкому коридору, натыкаясь на встречных. Около медсестры остановилась, достала из полевой сумки карандаш, бумагу и, присев к столу, написала; «Выздоравливай, Васенька! Мы ждем тебя. Ребята передают большой привет! Ты извини, но я напишу к тебе домой, что все в порядке. Ведь не надо расстраивать, правда? Женя без тебя скучает. На всех злится, рычит и расспрашивает каждого, кто слышал немца в эфире. Большинство ребят считают, что это был наземник, случайно увидевший наши самолеты. Все может быть, но мне голос показался очень знакомым, а чей — убей, не могу вспомнить! Выздоравливай. Возвращайся. Целую за всех ребят, кроме Жени. Он говорит, что это бабьи нежности. Ждем. Таня». Она сложила лист в привычный треугольник. — Пожалуйста, прочитайте лейтенанту Тугову, как только ему будет лучше, — попросила она медсестру. — Хорошо, товарищ сержант, — уважительно ответила та и теплым взглядом проводила девушку до двери. Потом, пользуясь свободной минуткой, положила на стол руки, на них голову. Хлопнула дверь. Медсестра встрепенулась и с удивленном посмотрела на вошедшую Татьяну: — Что-нибудь забыли? — Да, простите! Дайте мне, пожалуйста, письмо. И она вымарала все строчки о «немце в эфире».10. Тринадцатый замолк
Грозовые тучи прижали самолеты к земле. Скучающие без боевой работы летчики по приказу комдива собрались у СКП для тренировки по радиообмену. Короткая беседа начальника связи, и все разошлись, уселись в кабины самолетов. С СКП поступил приказ: настроиться на частоту № 1. Вскоре первый летчик подал голос: — «Голубь-три», я — «Чайка», как меня слышите? Прием. — Слышу отлично. Доложите о количестве бензина и боезапаса, — запросил «Голубь». Поочередно радист с СКП переговорил со всеми летчиками. Начальник связи доложил генералу, что среднеарифметическая оценка занятий «хорошая». А капитан Неводов доложил полковнику Кронову, что эксперимент не удался. Ни генерал, ни сержант Языкова «голос» не опознали. Других людей привлечь к опознанию Неводов не посчитал возможным. — Тянешь, капитан, тянешь! — негодовал полковник. — Именно в четверке летавших на переправу твой козырь! А может, раненый, который в госпитале? Действуй, Неводов, действуй! Твои соображения насчет дивизионного верха имеют под собой зыбкую почву. Я лично процедил каждого из них с малых лет, и ни одной компрометирующей строчки в делах. — А мою версию доложили Центру? — Успеется, Неводов, успеется. Поспешность вместо лавров может принести похоронный венок. Шучу, конечно… Ты жми на эту четверочку летунов, пусть ходят за ними «в цвет». На задания их ни-ни! Любой предлог подыщи. То, что не узнали голоса, ничего не значит. Вот почитай вывод эксперта. Неводов взял протянутую бумажку.«…Возможность изменения тембра голоса механическим путем (регулятор тембра), искажения его по техническому состоянию ларингофонов (изменение влажности угольного порошка, коррозия мембран и т. д.), неплотное прилегание ларингофонов к горлу, а также искусственное изменение голоса могут не привести к положительному результату проводимого опыта. Неблагоприятные стечения технических и метеорологических обстоятельств могут вообще исключить положительный результат».— Уяснил? — Вот несколько запросов, товарищ полковник. Распорядитесь разослать побыстрее. — Сделаем. Сейчас работаем только на тебя… Погода разведрилась, пришел антициклон с горячими ветрами, и дивизия работала в полную силу. Не дремали радисты и пеленгаторщики. Они «гуляли» по всем диапазонам, надеясь засечь Тринадцатого. Но он молчал, косвенно подтверждая версию полковника Кронова, что все передачи велись кем-то из пятерых летчиков, сейчас не летающих. Дешифровщики Воздушной армии и подключившиеся специалисты Центра бились в поисках кода ранее перехваченных цифрограмм. Под строгое, но не навязчивое наблюдение были взяты все подозреваемые, но и это не давало результатов. Не продвигаясь с фактической аргументацией своей версии, Неводов потерял покой. Его раздражал нажим полковника Кронова и его попытки параллельно вести дело. Если раньше о поисках неизвестного радиста знали только работники контрразведки и высшее командование, то теперь слухи и догадки гуляли по штабным комнатам.
11. Многолетняя трансформация
В это же время вдали от фронта торопился закончить свое дело лейтенант Гобовда. Поисками «сына» лесника Слюняева заинтересовался Центр. Был объявлен всесоюзный розыск, в него включились чекисты многих городов и милиция. Раскапывались архивы всех военных училищ и школ за 1934 год. В одном из военно-авиационных учебных заведений среди курсантов, поступивших в 1934 году, значился Андрей Корнеевич Слюняев. Находка так обрадовала Гобовду, что он немедленно телеграфировал о ней полковнику Старикову. В ответ получил теплое поздравление. Но лейтенант Гобовда поторопился. В выпускных документах фамилии Слюняева не оказалось. «Отчислен? Когда? Куда направлен?» — задавал себе вопросы Гобовда и ответов не находил. Пожелтевшие пыльные бумаги молчали. Значит, нужно было искать людей, работавших в училище в то время. И он нашел человека, знавшего курсанта Слюняева и даже учившего его. Им оказался пожилой инструктор, ветеран училища. Вот как записал Гобовда его рассказ: «…Как же, помню! Отличный был курсант, талантливый! Только фамилия у него подкачала. Слю-ня-ев! Чувствуете, как некрасиво звучит? По его просьбе я сам ходатайствовал перед начальством о разрешении заменить фамилию на более благозвучную. Разрешили. И правильно: разве можно летчику с такой фамилией! Оформляли законно, через газету. А вот на какую сменили, запамятовал». Установить это Гобовде было нетрудно. В одном из старых номеров газеты «Ейская правда» нашлось объявление, что А.К.Слюняев пожелал стать А.К.Кторовым. Вырезка из газеты перекочевала в папку к Гобовде. Итак — Кторов?«Лейтенант Кторов А.К. закончил курс обучения в 1936 году и направлен в в.ч. 22539 на должность летчика-истребителя с предварительным предоставлением краткосрочного отпуска»,— значилось в документах. Теперь следователю Гобовде предстоял путь в Казахстан, по распоряжению полковника Старикова — без заезда в Саратов. Лейтенант на автомашине преодолевал пустыню Бетпак-Дала и горько сожалел, что вместо живого дела он гоняется за тенью какого-то Слюняева-Кторова, «воюет» с каракуртами и фалангами, мерзкими жителями пустыни. После всех мучений он все же благополучно прибыл в военный городок, где когда-то базировалась нужная ему часть. Сейчас вместо нее существовало другое подразделение — филиал авиационного соединения. Опять архивная пыль, затхлые бумаги, имена, имена, имена. Гобовда задыхался в жаре и пыли, беспрестанно пил теплую противную воду. Дверь домика, в котором покоился архив, лейтенант запирал — не хотел, чтобы его, полуголого, мокрого и грязного, кто-нибудь увидел. Чекист не должен вызывать улыбочки! Чекист — это кожаная фуражка и куртка, маузер, взгляд, пронзающий врага насквозь, смертельная схватка и победа! Так думал Гобовда раньше, когда давал согласие и получал путевку в райкоме комсомола… «Вот тебе белка… а вот и свисток!» — думал он сейчас, размазывая грязь по потному лицу и поливая макушку водой из бутылки. Гобовда переворошил горы бумаг и почувствовал, что тонет в них, уже не воспринимает текста, теряет самообладание. Оп поймал себя на том, что, не забыв еще одних фамилий, читает другие и в голове рубится винегрет из начальных слогов, складываясь в бессмысленные сочетания: ШуМиКаРаТуБо! Наконец следователь сдался и попросил у командира части помощников. Тот с большим трудом выделил трех солдат. Работа пошла быстрее, только теперь Гобовде пришлось попотеть в полном обмундировании. Лейтенанта Кторова А.К. в списках личного состава в.ч. 22539 не нашли. Никогда не прибывал человек с такой фамилией в часть! Такой финал не обескуражил Гобовду — он ждал его. Еще когда трясся в грузовике по пустыне, думал о такой возможности и намечал два варианта. Первый. В архиве есть след Кторова. Тогда двигай, лейтенант, дальше по следу. Второй. Если это действительно зверь (а в этом Гобовда еще сомневался), он попробует запутать след, и тогда пригодится все, что есть в следственной панке. Пришлось развязать папку. Пришлось снова, с первого листочка, перевернуть архив. Забыв про фамилию, помня только имя-отчество, Гобовда отобрал восемь личных дел, в каждом из которых значилось: «и.о. Андрей Корнеевич». Восемь личных дел сверил с одним — тем, что покоилось в папке еще с училища. У одного «Андрея Корнеевича» данные были капля в каплю, как у Слюняева-Кторова. Сходились место, «месяц, год рождения и другие отправные данные, вплоть до оценок в экзаменационном листе. И «папаня» у него был старый партизан К.Ф.Слю-няев, и не Кторов он был… Впрочем, не все сходилось. В копии личного дела указывалось, что он женат, назывались имя и адрес жены, учительницы небольшого кишлака, но больше всего лейтенанта поразила приписка, сделанная чьим-то бисерным почерком: «По сообщению жены, получившей похоронную, погиб в боях на р. Халхин-Гол в 1939 году». Жена погибшего летчика жила в кишлаке Тахтыш-Чок. Нужно ехать туда. В этот день с юга в пустыню ворвался свирепый ветер бис-кунак [200]. На дороги и тропы он двинул барханы, поднял в воздух пласты бурого колючего песка. …Вся пустыня до горизонта была завернута в серое пыльное облако. Плотный ветер ощущался, как живая масса. В небо гигантскими черными воронками уходили смерчи. Блеклый утренний свет еле пробивался сквозь мглу. Казалось, все живое попряталось, притаилось и пережидало бурю! Но нот! Сквозь ураган двигались люди. Гобовда и шофер ложились грудью на ветер и шли. Ни раскаленный песок, бьющий по забинтованным лицам, ни сыпучий грунт, засасывающий ноги, ни жар пустыни, обжигающий легкие, не останавливали их. Взбираясь на барханы, они падали на четвереньки и ползли, помогая друг другу. Иногда присаживались за каким-нибудь из песчаных бугров, сверяли но компасу направление и снова брели вперед. Останавливались, осматривались. Но пустыня была закрыта мутной, непроницаемой завесой, а барханные цепи казались волнами бушующего моря. Желтыми волнами. В них, как и в голубых, гибнут, только не тонут, а умирают от жажды. Время подходило к полудню. Горячий воздух перехватывал дыхание. Даже гранит не выдерживает дневного жара пустыни — трескается, а люди шли, волоча ноги по сыпучему песку. Остановки стали чаще, отдых продолжительней. Гобовда начал отставать. Пройдя еще немного, он сел на песок. Черный вихрь угрожающе пронесся над его головой. К нему вернулся спутник и, оттягивая бинт, закрывающий рот, закричал: — Товарищ лейтенант, где-то здесь, совсем немного осталось. Не найдем, тогда… — Что — тогда? — Взгреет меня командир части за оставленную машину! — Он махнул рукой и, выплевывая песок, помог товарищу подняться. — Не отставайте! Поддерживая друг друга, они взобрались на холм и свалились в мягкую горячую пыль. Шофер сел, повернулся спиной к ветру, посмотрел в сторону, где, как ему показалось, виднелись какие-то силуэты. Внезапно он вскочил, протер глаза: прямо перед ним маячил кусок глинобитной стены и пригнувшийся к земле куст саксаула. — Товарищ лейтенант, перед нами кишлак Тахтыш-Чок! — Спасибо, друг! Ты не шофер, ты волшебник. Ты настоящий солдат! — Белые, потрескавшиеся губы Гобовды попытались сложиться в улыбку: — Благодарю за службу.
12. Диверсия
Старенькая полуторка неслась по наезженной дороге, поскрипывая на перекатах. Василий Тугов трясся в кабине, проклиная дорогу. Над автомашиной проревело звено штурмовиков. Тугов проводил их взглядом и вздохнул. В небе множился гул авиамоторов. Потрескивали пулеметы. Смещаясь на восток, шел бой. Маленькие крестики в небе описывали круги, взмывали, падали вниз, объятые пламенем и дымом. Тугов начал отличать самолеты. Вот пара «Яковлевых» рассекла звено «мессершмиттов». Ведущий на большой скорости, как рыба, нырнул под живот чернокрылого, и сразу послышалась пулеметная дробь. Промаха быть не могло — стрельба велась с очень короткой дистанции. Из пробитого радиатора «мессершмитта» распылялась белая водяная полоса. Потом появилась струйка дыма, и он вздрогнул, завис, факелом пошел вниз. «Аэрокобры» отбивались от «фокке-вульфов». Головной «фоккер» дал сильную дымовую завесу. Тугов определил: из крыльевых пушек, из синхронных трасса незаметна. Наш ведущий энергично ушел из-под обстрела, ведомый… ведомый опоздал… Что это? Тугов схватил за плечо шофера: — Стоп! Остановитесь! Стой, говорю! От резкого торможения занесло кузов. Тугов выпрыгнул на ходу, еле удержавшись на ногах. Сбитый летчик падал, не раскрывая парашюта, затяжным прыжком уходил из зоны боя. Над ним появился длинный белый язык. Купол наполнился воздухом и сразу обмяк, как проткнутый мяч. В стороны полетели обрывки шелка. Они белыми пятнами держались в небе, а летчик, кувыркаясь, приближался к земле, стремительно, неудержимо. Верхушка холма скрыла его. Тугов побежал. Там, за бугорком… Резкая боль в легких подогнула колени, и он перестал махать руками, прижал их к груди. Вот парашют… спутанные стропы… распластанный человек. Тугов приподнял летчику голову, ладонью стер с лица красную землю, пошевелил мягкую, как резина, руку. Сзади тяжело дышал подбежавший шофер. — Что, лейтенант? Тугов показал на парашют. На разорванных кусках зияли дыры с желто-черными рваными краями. Шофер взял полотнище, и оно расползлось в его руках. — Похоже, кислотой! — разминал он в пальцах и нюхал бурую массу. — Подгоняй машину, — сказал Тугов и прикрыл погибшего остатками парашюта. Теперь автомобиль осторожно огибал рытвины, плавно взбирался на бугры. Тугов смотрел на бездыханного летчика, лицо которого, почти без ссадин, покойно смотрело в небо открытыми глазами. При подъезде к военному городку Тугов увидел стоящего посреди дороги человека. Узнал Евгения Шейкина. Шофер остановил машину. Шейкин взялся за борт: — Звонил в госпиталь, узнал о твоем выезде и вот… встречаю. — Спасибо, Женя. — Скукотища без тебя. Пока ты валялся, я ведь на задания не ходил — зачехлили намертво. Кладовщиков и каптеров строевой обучаю, от комбата благодарность поступила. — Я тоже теперь, наверное, подштанниками заведовать буду. Шофер нетерпеливо засигналил. — Залезай, Женя, посмотри… Шейкин встал на подножку, прыгнул в кузов. Глядя на мертвого летчика, медленно разогнулся. Снял фуражку. — Истребитель-латыш с «тройки». Помнишь, прикрывал нас в первом полете… Падал парень, а глаз не закрыл, так и глядит синими. — Шейкин оторвал полоску перегоревшей ткани от парашюта и задумчиво рассматривал ее, пока ехала машина. — Остановимся у землянки СМЕРШа, Вася, топай прямо к капитану, расскажи. А я его отвезу… Койка твоя пустая, я придержал. Жду, не задерживайся, и Татьяну приглашаю… Эй, шеф, остановись! У землянки Неводова Тугов сошел. С порога улыбнулся вскочившей из-за рации Татьяне и бросил на стол кусок истлевшего шелка. — Еще один! — сказал капитан, будто через силу поднимаясь со стула. — Здравствуй! Пойдем к парашютоукладчикам… надо, Василий! Переглянувшись с Татьяной, Тугов пошел за капитаном. Потом вернулся, торопливо чмокнул девушку в щеку и шепнул: — Приходи вечером к нам в комнату, Женька тоже приглашал. Ага? Неводова он догнал бегом. Они вошли в большой утепленный сарай, где на длинном столе был растянут парашют из белого матового шелка. Молоденький ефрейтор-укладчик держал в руках сожженный кислотой венец купола. Увидев Неводова, ефрейтор вытянулся, приподнял худые плечи и на холодный кивок офицера ответил взахлеб: — Здравь жела, товарищ капитан! — Где начальник? — Вызван в штаб, товарищ капитан! — Оставьте нас одних, ефрейтор. Вернетесь через полчаса. — И Неводов пошел в дальний угол помещения, где в полутьме угадывались шкафы с гнездами для парашютов. — Ты принес мне не новость, Василий Иванович. Сегодня утром подполковник Лавров вернул свой парашют, обнаружив на сумке темное пятно. При проверке нашли еще четыре испорченных, в том числе генеральский. Под клапаны ранцев введен аккумуляторный электролит. — Капитан открыл дверцу с просверленными отверстиями для вентиляции; в углублении шкафа лежала парашютная сумка. — Шкафчики под номерами. Парашюты разложены одинаково. — Неводов прикрыл дверцу. — Теперь просунь, палец в центральное отверстие, и ты упрешься в ранец. Кто-то и упирался, но только шприцем. На всех сумках проколы именно в этом месте… Какая часть полотнища под клапаном? — Верхушка купола. — Вот именно! Есть приказ: начальника парашютной службы и укладчика взять для следствия. Арест произведешь ты. — Почему я? — Лейтенант Тугов приказом командира дивизии с сегодняшнего дня временно зачислен в мой отдел… Ясно? Действуй! Неводов дал Тугову еще несколько поручений, и выполнение их затянулось до позднего вечера. Когда Тугов вернулся, в небе проклевывались первые звезды. У двери землянки стоял часовой. — Все выполнил, товарищ капитан! — Под столиком радиостанции в шинели котелок с кашей и чайник. Хлеб в столе. Пожуй, — сказал Неводов. Тугов нагнулся, развернул старую шинель. На крышке алюминиевого котелка лежала записка: «Моя очередь вечерней приборки. Попозже отпрошусь у старшины и приду. Таня». Тугов ужинал и смотрел на писавшего Неводова. За последнее время капитан потускнел, как его старинные монеты. Выперли скулы, набухли серые отеки под глазами, нечисто выскоблен подбородок, отросли и по-монгольски опустились рыжеватые усы. Блестящая лысина загрубела и перестала отражать свет. — За тебя получил выговор от комдива, — сказал он. — Ты ведь не доложился о прибытии, а я тебя сразу в дело. Утром сходи… Как себя чувствуешь? — Немного устал. — Стой! Кто идет? — послышалось за дверью. — Дежурный по гарнизону. В землянку стремительно ворвался немолодой старший лейтенант и вскинул руку к козырьку: — Товарищ капитан, вас требуют к прямому проводу штаба армии! — Понял. Идите… — Проводив взглядом дежурного, Неводов вытащил из кармана толстый красно-синий карандаш. — Случайно, не знакомая вещица? Тугов присмотрелся, помолчал, отрицательно качнул головой. — Доедай и иди отдыхать. Я на коммутатор. Неводов вышел из землянки. До телефонного коммутатора двигался медленно, мысленно готовясь к предстоящему, конечно, неприятному разговору. Мучил вопрос: есть ли связь между диверсией и тайным радистом? Хорошо законспирированный агент не должен рисковать: ведь любая диверсия — дополнительный след. Еще размышляя, он протянул руку и взял от телефонистки трубку. — Здравствуй, Неводов, здравствуй! — Голос полковника Кронова звучал чисто, будто сидел тот не за сотню километров, а рядом за ширмой. — Я тебе должен докладывать или ты мпе? — Нечего докладывать, товарищ полковник. — Так уж и нечего? — В щели между парашютным ящиком и полом найден карандаш. Некоторые из летчиков опознали, чей он. Но дело в том, что этот человек не был в парашютном помещении уже полмесяца. — Официально. А в самом деле? — Доказательств нет. — Ладно… Я их сам попробую найти. Завтра после обеда буду. Пока! Утром хмурый и задумчивый Тугов явился к Неводову. — Пока нет Татьяны, товарищ капитан… вот посмотрите. — Он достал из кармана бумажку, развернул: блеснул стеклянный осколок. — Рядом с нашим общежитием мусорная куча. Иду после завтрака, а в ней копается столовский барбос. Он и выкинул лапами… — Кусок стеклянной трубки. — С делениями. — Думаешь, часть медицинского шприца? Тугов отвел глаза. Тяжело, с расстановкой сказал: — Извините, что не сразу… Признал я тот карандаш… Женькин он. — Лейтенанта Шейкина, ты хочешь сказать? — Но он… вне всяких… Я давно знаю его! — твердо произнес последние слова Тугов. — Как спал, Василий Иванович? — Плохо… Посидели немножко с Женькой, проводил Таню, а спать не дал… проклятый карандаш. Вы послушайте… — Сегодня ты мне не нужен. Можешь отдыхать, не беспокоясь за своего товарища. Я знал, чей карандаш. Он не имеет никакого отношения к происшествию. — И, увидев, как расплылось в улыбке широкое лицо Тугова, мягко добавил: — Иди, Василий, иди… Полковник Кронов прилетел с экспертом и стенографисткой. Расположился он в штабе, отобрав маленькую комнатку у коменданта. — Я думаю, что парашютоукладчики не виноваты, — докладывал ему свои соображения Неводов. — Почему чехлы протыкали шприцем через вентиляционные отверстия? Потому что не имели времени или не могли быстро открыть запертые шкафчики. А у обоих подозреваемых имеются ключи, они могли все сделать чище. — Согласен. Но, может быть, они и рассчитывали на такие рассуждения? — Возможно, только в любом случае это похоже на самоубийство. — Не скажи! — Есть косвенные улики против другого… Карандаш принадлежит Шейкину. Укладчик говорит, что видел Шейкина несколько раз около их сарая, но присутствия его в парашютной комнате не подтверждает. Вот это, — Неводов положил перед полковником стеклянный осколок, — часть медицинского шприца. Предварительный анализ показал, что в нем была аккумуляторная кислота. Осколок нашли в куче мусора рядом с общежитием, где живет Шейкин. — Шерлок Хо-олмс! Молодчага, Неводов, молодчага! Но ты, я вижу, устал. Зверски устал. Приказываю отдыхать. Я покопаюсь сам… Погоди… Как ты думаешь, проникший в парашютную комнату где мог спрятать шприц? — В кармане, в сумке… да мало ли куда его можно сунуть! — Иди, Неводов, иди. Когда надо, позову. К вечеру лейтенанта Шейкина арестовали. Во внутреннем кармане его летной куртки нашли дырочку, проеденную аккумуляторной кислотой. Временно его посадили на гауптвахту в караульном помещении. Василий Тугов провожал Татьяну до общежития зенитчиц. Душная ночь обволокла землю, размытые силуэты домиков сонно моргали подслеповатыми окнами, где-то далеко устало ухал филин. Дорога пахла пылью. — Давай не на прямую, а нашим путем, а, Таня? Они повернули и тихо побрели к реке. У воды посидели, послушали плеск рыбы. Таня разулась, забрела в парную воду, вытянула смутно белевшую лилию. — Пошли? — Трава приятно грела голые ступни, и Таня шла медленно, коротенькими шажками. — Что будет, а? Ты веришь, Вася? — С Женькой разберутся — все будет в ажуре. — Война. Могут и… — Брось! И так тошно! Ты в прошлый раз говорила, что капитан напал па след. Вот бы помочь ему расколоть гадов!. Ну что ты суешь мне мокрый цветок в лицо! — Я хотела в кармашек… Поцелуй меня. — Поздно уже. — Тугов поцеловал девушку, снял ее руки с плеча и, включив фонарик, посмотрел па часы. — Без десяти двенадцать. Ругать не будут? — А я почти дома! — Таня встала на цыпочки и прильнула губами к его чуть шершавой и теплой щеке. Когда сухо щелкнули два пистолетных выстрела, а потом длинная автоматная очередь вспугнула тишину, Неводов выскочил из землянки и, кромсая темноту белым лучом фонаря, побежал. — Стреляли в караулке! — вдогон крикнул часовой. В караульном помещении были распахнуты все двери, комната, отведенная для трапезы, забита солдатами. Неводов приказал всем, кроме начальника караула, выйти. За столом, положив голову на левую руку, будто спал Евгений Шейкин. Правая рука откинута, до локтя засыпана рисом из перевернутой миски. Неводов приподнял его голову — над правым ухом сильно кровоточила длинная рваная рана. Начальник караула растерянно докладывал: — В двадцать три я сменил посты, и ребя… то есть бойцы отужинали по расходу. Потом вывели арестованного. Сначала он пошел по нужде, потом сел есть. — Почему поздно? — Так заведено: губарей кормить в последнюю очередь. Ну, вот сел он, проглотил пару ложек, и тут в окно сразу пульнули два раза. Первая пуля в него, а вторая вон приклад у автомата расщепила. Я поднял ребят по тревоге, обшарили кусты, но темень, хоть глаз коли, товарищ капитан. Сообщил дежурному. Над военным городком выла сирена боевой тревоги. — Когда стреляли? — В двадцать три часа пятьдесят минут. — Окажите первую помощь и вызовите врача. Рана не опасная. Болевой шок. — Неводов подошел к пирамиде и рассматривал расщепленное ложе автомата. — Распорядитесь оцепить кусты и никого не допускать к ним до утра. Усильте патруль. Дайте нож, старшина! Неводов отодвинул пирамиду и стал расковыривать стену. Куча глиняно-соломенной трухи выросла до полуметра, когда на ладонь капитана улегся тусклый медный кусочек. В караулку вошел запыхавшийся лейтенант Тугов. Увидев окровавленного Шейкина, остолбенел, шагнул к нему с протянутыми руками. — Не надо, Василий Иванович, — спокойно, даже вяло остановил его Неводов. — Оживет… Вот возьми пулю, к утру собери все пистолеты у личного состава и сдай армейскому эксперту. Хотя пуля вроде от «вальтера»… Ты старый муровец, знаешь, как все делается. Выходя из караулки, Тугов почти столкнулся в дверях с полковником Кроновым. Тот отстранил его рукой и пропустил вперед санитаров с носилками. Посмотрел на раненого, взял Неводова под руку и вывел из караулки: — Пойдем к тебе. В землянке Кронов оседлал стул, положил руки на спинку. — Ну, как настроение? — спросил он. Неводов махнул рукой. Кронов положил тяжелую голову на руки. — А ведь это не все… В двадцать три пятьдесят работал передатчик. Здесь, в городке, работал. Передал: «Единица, единица, единица, единица, тройка». Понял? Давай думать. — Время выстрелов и передачи совпадает? — Как видишь. Неводов пододвинул к себе лист бумаги.«1 — 1 — 1 — 1 — 3»Выписанный на бумажку текст цифрограммы гипнотизировал. Что значили цифры? Передача с самолета исключается. Стреляли и передавали. Один? Двое? Тот, кого он подозревал, спал. Тогда есть другой? Обязательно есть, и он должен иметь отношение к событиям, пусть косвенное, пусть незначительное, но должен. Неводов посидел недвижимо, потом написал на листе:
«Р.П. — АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАЧИ, КРОМЕ ПОСЛЕДНЕЙ, ВЕЛИСЬ С САМОЛЕТА. Кто из летчиков был в Саратове и кто присутствовал при дальнейших событиях? Первая радиограмма — Смирнов, Лавров, Шейкин, Тугов, Шмидт, Труд. Вторая радиограмма — Смирнов, Лавров, Шейкин, Тугов, Труд. Голос с самолета (в полете были) — Шейкин, Тугов. Третья радиограмма (с той стороны) — Шейкин, Тугов были над территорией противника. Четвертая радиограмма (борт «СИ-47») — Смирнов, Лавров. Порча парашютов — Смирнов, Лавров, Шейкин бывали в распоряжении части. Ранение Шейкина. Под надзором не были только Тугов и Смирнов. Последняя радиограмма — Смирнов, Лавров, Тугов, Шмидт находились в районе расположения части».Полковник Кронов, следивший за рукой Неводова, ткнул пальцем в фамилию Тугова: — Проверь! А Шейкин — точно! …Едва забрезжил рассвет, Кронов и Неводов пришли на место происшествия. Обстановка прояснилась сразу. Некто в новых кирзовых сапогах (такие недавно получили большинство летчиков) стоял, скрытый кустами, в двадцати метрах от караульного помещения, против окна. Линия полета пули, проведенная зрительно от места попадания через отверстия в окне к предполагаемому глазу стрелявшего, указывала на средний рост человека. Стреляные гильзы лежали у корневища куста. Метрах в пятнадцати валялся пистолет системы «вальтер». Следы преступника вели к дороге и там исчезали на твердом накатанном грунте. Пока эксперт возился с оружием, гильзами и следами, полковник Кронов позавтракал, перечитал «дело Тринадцатого» и начал расследование. Им были допрошены многие, в том числе пришедший в сознание Шейкин и лейтенант Тугов. После разговора с ними он приказал позвать Неводова. — Товарищ полков… — Давай без солдафонства! — поморщился Кронов. — Подумал я тут… За основу взял твою версию и расчеты. Ты подошел вплотную к Шейкину. Логично. Правда, голых фактов нет, по есть железные косвенные. Вот смотри. Карандаш Шейкина. Ну? Чего молчишь? — нахмурился полковник. — Слушаю вас. — Я тебя не слушать пригласил, а возражать! Скажешь, могли подкинуть, старый, мол, прием… А дырка в его кармане от аккумуляторной кислоты? А осколок шприца перед его дверью? И, наконец, на рукоятке «вальтера» следы двух его пальцев! Да, его! И это значит, что он совсем недавно держал «вальтер» в руках. Понимаешь? Он и стрелявший в него из одной компании… Как много улик, Неводов, правда? — Смущает? — По правде, да… Но давай восстановим события так, как вижу их я. Диверсия с парашютами с целью вывести из строя несколько асов и ослабить и даже обезглавить дивизию. Арестован Шейкин. На его молчание не надеются, поэтому пытаются убрать и одновременно радируют, а я расшифровываю: «Остался один», и подпись: «Тринадцатый». — Возможно. — Именно так по логике событий. Ведь передатчик, как мы решили, автоматический и его можно настроить на цифрограмму заранее… Кто же этот второй, а вернее, Тринадцатый? Пока мы его не знаем. Но я думаю — Тугов. — Далеко не уверен, товарищ полковник! — Понимаю! Понимаю, Неводов… Тугов едва выжил в бою за переправу. Тугов имеет алиби — в двадцать три пятьдесят он целовался с твоей радисткой. Тугова ты пригрел у себя, а прежде тщательно проверил… Но размер его сапог точно такой же, как у стрелявшего в Шейкина. — Таких сапог в дивизии десятки. — Но имен владельцев этих сапог нет в твоем списке, Неводов! — Зачем же тогда Тугов принес осколки от шприца? Потопить Шейкина? — Я не волшебник, не знаю… — Кронов развел руками. — Но у меня нюх, интуиция. Подумай… И если ты подтвердишь мою версию и мы возьмем Тугова, дело кончено! — А передатчик? — Он больше не будет загаживать эфир, Неводов. Без человеческих рук он — железка, а руки оторвем! И доложим в Центр. — Вина Тугова мне представляется миражем, и к тому же вы игнорировали мои соображения о просачивании секретных сведений из штаба. — Языки, Неводов! С языков капало, а они собирали… Шейкин отдышится и заговорит. Через недельку я рассею твои сомнения. Выздоравливавший Шейкин не признавался. Он ругал следователей и вообще вел себя возмутительно, часто повторял вычитанное где-то выражение «презумпция невиновности». Зато, взявшись за Тугова, Неводов удивился проницательности старого полковника. Одна из девушек-зенитчиц, жившая вместе с Языковой, вспомнила, что в ту тревожную ночь Татьяна вернулась домой не в двенадцать, а в половине двенадцатого. Это же подтвердила и дневальная по общежитию. Часы зенитчиц и Тугова ходили точно, и, проверив это, Неводовзаподозрил, что Тугов специально ввел Татьяну в заблуждение, чтобы иметь алиби. Инсценировав болезнь радистки, Неводов попросил Тугова немного Поработать на рации с соседними отделами СМЕРШа. Татьяна, слушавшая его голос издалека, признала «голосом немца в эфире». Но, узнав, что это говорил Василий Тугов, наотрез отказалась подписать акт опознания. Пришел пакет из Центра. И вот перед капитаном желтоватый лист с полным текстом цифрограмм. Он сначала нетерпеливо пробегает их глазами, потом читает вдумчиво, почти по слогам:
«1. Связь установил. Помощник нравится. 13. 2. Первый день непогоды уничтожение плавучего моста через Сейм. Полет бреющий. База — Солнцево — Зеленый — цель. Волна 137,4. Группа разведчиков обозначит мост красными ракетами, четыре серии по три штуки. Штурмовик с белой полосой на стабилизаторе не сбивать, пойдет предпоследним. 13». Неводову хотелось вскочить, бежать на аэродром, но он сдержал себя и продолжал читать: «3. 23 в 8.00 пришлите спарринг-партнеров на аэродром. 13. 4. Опасность. В условленное время только прием. 13. 5. (Смысл подтверждаем.) Остался один. 13».«Не торопись, не торопись, не торопись», — твердил себе Неводов, подтягивая поясной ремень и поправляя кобуру с пистолетом. Телефонную трубку он взял осторожно, сначала проведя пальцами по черному эбониту. — Я восьмой… Комбат, срочно давай мотоцикл. Свой, свой гони!.. Вот так-то лучше! Верну скоро! Неводов ждал мотоцикл у двери. Завидев, побежал навстречу. Высадил водителя, вскочил в седло и крутанул рукоятку газа. Мотоцикл прыгнул вперед. Капитан вцепился в руль, почти лег на бак. Он летел к самолетам, чтобы утвердиться: Шейкин или Тугов? А может быть, тот и другой? Предпоследним летел Тугов, а белая полоса может быть на самолете Шейкина! Да и место в строю могли перед вылетом поменять. На аэродроме он быстро пошел вдоль стоянок самолетов. За ним торопился инженер полка. — Нам надо найти штурмовик с белой полосой на стабилизаторе. Смотри, инженер, в оба, не пропусти! — Один я знаю, капитан. Белая полоса получилась при мелком ремонте. Заклеили две пробоины в передней части стабилизатора, замазали меловой шпаклевкой, а закрасить не успели. Так и летал. — Кто ходил на нем бомбить понтонный мост? — Лейтенант Тугов. В отличие от других машин, он привез всего две пробоины, да и те винтовочные, а бог не помог: через стекло — и в грудь. — Боже — справедливый старик, инженер. А вот еще самолет с белым хвостом. — Этот вчера только мазали. — Все, инженер, поехал я! — И, уже трясясь в седле трофейного «БМВ», Неводов крикнул: — Спасибо, старина! Большое спасибо! Мотоцикл мчался к зданию штаба дивизии, заставляя шарахаться в стороны встречных. Пропыленный с ног до головы, Неводов взбежал На второй этаж, откозырял дивизионному знамени и настойчиво постучался в дверь кабинета Смирнова. — Что случилось, капитан? В таком виде… — Нужна ваша помощь, товарищ генерал. — Говорите. — Кто из штабных знает о работе по выявлению неизвестного радиста? — Наверное, все, — улыбнулся Смирнов. — Я понимаю, что это плохо… — Как раз наоборот. Сейчас наоборот, — поправился Неводов. — Пусть все знают, что дело по поимке радиста успешно завершено. Бывший лейтенант Шейкин — агент разведки противника. Вот в таком виде!.. Я принял решение арестовать лейтенанта Тугова, но сделать это надо незаметно. К нам пришла разнарядка на получение новых самолетов из Саратова. Прошу вас в число командированных туда летчиков обязательно включить Тугова, но чтобы не вы вносили его в список, а кто-нибудь пониже рангом… ну, например, начальник штаба. Кроме вас, о нашем договоре никто не должен знать. — Понял. Желаю удачи, капитан. Через день представители дивизии выехали на авиационный завод. На одном из далеких полустанков лейтенанта Тугова взяли под стражу. Тугов выпутывался всеми средствами: он молчал, грозил голодовкой и даже пошел на провокацию, обвинив следователя в недозволенных приемах допроса. Представляемые доказательства отвергал как несостоятельные, и это ему иногда удавалось, потому что допросы велись параллельно с поиском новых уличающих фактов. Следователь. Давайте в пятый раз начнем с одних и тех же вопросов. Где вы были в ночь покушения на Шейкина с двадцати трех тридцати до полуночи? Тугов. Повторяю в пятый раз: гулял с Татьяной Языковой! Следователь. Вот показания дневальной по общежитию зенитчиц. Здесь ясно написано: «…Языкова явилась из увольнения в двадцать три часа тридцать минут, что я и зафиксировала в журнале». А вот что утверждает дежурный офицер вашего общежития: «Лейтенант Тугов в свою комнату не возвращался». Тугов. Когда я проходил, дежурного на месте не было. Следователь. Вы лжете. Выяснено: в это время дежурил комроты из БАО и с двадцати двух часов вместе с ним за столом сидел старшина роты, они составляли заявку на запчасти. Тугов. Они ж меня видели, когда по тревоге я выбегал из комнаты. Следователь. Но не заметили, когда вы входили в нее. Тугов. Поверьте, у меня нет шапки-невидимки! Следователь. Этому верю, однако скажите, почему в ту ночь было разбито стекло в окне вашей комнаты? Тугов. Я резко распахнул его, услышав сигнал тревоги. Следователь. Что делали дальше? Тугов. Быстро оделся и выбежал из общежития. Следователь. Скажите, эти сапоги ваши? В них вы прибыли на место сбора? Тугов. Похоже, что мои. Следователь. Предлагая вам разуться и сдать сапоги, мы попросили вас сделать вот эту надпись на голенищах. Ваша роспись? Тугов. Моя. Следователь. В резиновых подметках этих сапог обнаружены вкрапленные осколки стекла из окна вашей комнаты. Вот акт экспертизы и данные анализа. Каким образом осколки могли вдавиться в подошву? Тугов. Распахнув окно и топчась около подоконника, я, естественно, мог наступить на выпавший кусок стекла. Это элементарно! Следователь. Прошлый раз, Тугов, вы говорили, что бросились к окну прямо с кровати. Вы что же, спали в сапогах?… Молчите? Да, вам лучше помолчать. Вы не могли давить стекло в комнате ни босыми ногами, ни сапогами, потому что окно открывается наружу и разбитое стекло упало не на пол, а на землю за окном. Как вы очутились за окном, Тугов? Опять молчите. За окном мы нашли вдавленные в землю осколки, хотя крупные вы постарались очистить и сделать вид, что выносите их из комнаты. Зачем это нужно было, Тугов?… Я вижу, вы поняли логическую связь моих вопросов. Дежурный офицер и старшина не могли видеть, как вы входили в общежитие, потому что вы проникли в комнату через окно, притом торопились и в спешке разбили стекло. Звук, похожий на звон разбитого стекла, слышал старшина. А через несколько минут после этого была объявлена боевая тревога. Почему вы не вошли в дверь, Тугов? Так медленно и неуклонно следователь ломал волю Тугова. Много на первый взгляд малозначительных фактов сыграли подготовительную роль к главному — к дешифрованным радиограммам, к магнитофонной записи «голоса» и наконец к очной ставке с ракетчицей Гольфштейн. Она опознала в Тугове человека, которому передала посылку во дворе кинотеатра «Центральный», человека, представившегося как Тринадцатый. И оп узнал в ней ракетчицу, которую, по иронии судьбы, задержал вместе с Шейкиным на Крекинг-заводе у подорванного нефтебака. Следователь. Итак, вы наконец-то решили показывать правдиво? Тугов. Спрашивайте. Следователь. Что толкнуло вас на предательство? Как происходила вербовка? Кто вербовал? Тугов. Длинная история… Из-за денег. Когда работал в уголовном розыске, взяли главаря воровской шайки. Мне за него предложили солидную сумму. Я согласился. Ну, и завяз крепко. Связался с шайкой. Дальше — больше. Впоследствии меня продали некоему Хижняку. Он опутал подпиской. Заставил уйти из УРа «добровольно» в армию. Всю правду о себе Тугову пришлось рассказать немного позже. Да, были взятки, была воровская шайка, была соглашательская подписка под обещанием верно служить немецкой разведке. Но это после. А сначала воспитание скаредности, жадности, ненависти ко всему советскому в семье убежавшего от расплаты кулака. Отец Тугова умело носил личину добропорядочного селянина и этому же учил сына. Любыми средствами — к наживе. Что ни выше пост — больше можно хапнуть. А для этого надо проскользнуть в комсомол, если можно, то и в партию и даже отказаться от родного отца, прикинуться сиротою. Такой волчьей тропой и шел по жизни Тугов, с виду подтянутый и исполнительный, никогда не высказывающий своих мыслей, с приклеенной к лицу добродушной улыбкой и «мягким» сердцем. Нет, он не думал работать на немцев, но любовь к наживе привела его к ворам, потом к бандитам, наконец к предательству. И тогда им, как пешкой, начали играть деятели из русского отдела абвера. Следователь. Авиационное училище планировалось? Тугов. Да. Прежде чем уйти из уголовного розыска, я закончил вечернюю школу, получил свидетельство с отличием. Потом добился путевки в авиашколу. По заданию меня устраивала только истребительная или штурмовая авиация. Следователь. Почему? А если бы вас послали в бомбардировочную? Тугов. Я должен был отказаться. Думаю, это обусловливалось моими дальнейшими встречами. Следователь. С кем имели контакт, кто руководил вами в армии? Тугов. За все время обучения в школе никто. Уже перед самым выпуском, за полмесяца примерно, в городе я неожиданно встретился со своим вербовщиком, Хижняком. Он предложил мне взять у той женщины посылку и передать ему. Встречались дважды. Я получал деньги и вел с ним короткие беседы. Последний раз он сказал, что больше мы с ним не увидимся, а я буду выполнять только письменные приказы Тринадцатого. Следователь. Какие задания выполняли? Тугов. До прибытия в дивизию никаких. Я должен был хорошо учиться, быть дисциплинированным, отличаться среди других. Следователь. Где получили радиостанцию? Тугов. Держал ее в руках только раз, когда летал бомбить понтонный мост, и то не знал точно, а догадывался, что это рация. Следователь. Объясните. Тугов. Кто мною командовал здесь, не знаю, но мне еще в Саратове Хижняк сказал, что я попаду именно в дивизию генерала Смирнова, и описал запасной почтовый ящик в дупле дерева у реки. Прочитав одну из записок, я пошел и нашел в дупле коробочку. Она умещалась в штурманской сумке. В определенное время, а именно перед подлетом к цели, я нажал на коробке кнопку. Следователь. Кто подписывал записки? Сохранилась ли хоть одна из них? Тугов. Все уничтожил. Подписывал Тринадцатый. Следователь. Какие он давал задания? Тугов. Сначала приказал познакомиться с радисткой СМЕРШа и сойтись с ней. От нее предполагалось черпать некоторые сведения… По его указанию и схеме я подал рационализаторское предложение о монтаже направляющих PC с выходом снарядов в заднюю полусферу… О радиостанции говорил. Он почему-то категорически возражал, чтобы я соглашался на предложение капитана Неводова работать в его отделе. Когда я вернулся из госпиталя, то получил записку, подписанную уже не Тринадцатым, а Хижняком, в ней был завернут осколок шприца. Выполняя приказ, я «нашел» осколок около общежития… Вечером вынул из дупла пузырек с кислотой и капнул в карман куртки лейтенанта Шейкина… В дупле был и пистолет «вальтер»… Мы пили водку. Когда Шейкин захмелел и заснул, я отпечатал его пальцы на рукоятке… Я еще не знал, зачем все это. Только когда Шейкина арестовали… Следователь. Тогда вы догадались, так, что ли? Тугов. Я получил новый и последний приказ… Хижняк писал, что Шейкин и есть Тринадцатый. Что он скомпрометировал себя на незапланированной диверсии с парашютами, что он знает нас лично и может выдать. Следователь. Отличались ли записки Тринадцатого от записок Хижняка? Тугов. И те и другие писались печатными буквами, но почерк все равно отличался. А потом, у Хижняка свой личный условный знак. Следователь. У вас не дрожала рука, когда вы целили в Шейкина? Тугов. Он был один из тех, кто погубил меня и мог потопить окончательно! Следователь. Вы верите, что Шейкин действительно Тринадцатый?… Молчите?… Тогда скажите, почему вы голосом решили предупредить немцев? Вы знали, что в ваш самолет стрелять не будут? Тугов. При внезапной заварухе и мой могли клюнуть. Я хотел жить. Следователь. И все-таки вас чуть не сбили. Тугов. В такой передряге трудно уцелеть и с белой полосой… Я устал, гражданин следователь. Следователь. Итак, Тринадцатый лично с вами ни разу не говорил? Тугов. Нет. Прочитав показания Тугова, полковник Кронов довольно потер руки: — С этими все! Хижняк — особая статья, им займутся другие. Он передал и последнюю цифрограмму. Кронов послал в Центр доклад об окончании операции, с примечаниями о «некоем Хижняке» — резиденте, не имеющем постоянной базы во фронтовой полосе. Вслед за его рапортом капитан Неводов выслал фельдсвязью письмо. Вот выдержки из него:
«…Тщательно законспирированный и успешно работающий агент не пойдет на малоэффективную диверсию, каковой является диверсия с парашютами. Настораживает, что она искусственно подчеркнута одновременностью покушения на Шейкина и передачей последней радиограммы. Цифры передавались с большими интервалами, трижды. По-видимому, нужно было, чтобы мы запеленговали передачу, поняли смысл текста и поверили, будто агент остался один. Быстро и очень легко выявился и «последний» агент — Тугов. …Из всего вышеизложенного делаю вывод: диверсионный акт и все происшедшее после него есть не что иное, как попытка увести следствие в сторону, отвлечь нас от поиска основного агента-резидента, которым не является притянутый к делу Хижняк. Для выявления настоящего резидента предлагаю следующий план… Прошу договориться с командованием Воздушной армии о проведении предложенной лжеоперации…»Из Центра пришел ответ:
«Неводову — лично. Дело остается открытым. Обратите особое внимание на вторую и третью радиограммы агента. Посылаем ориентировку показаниями агента по кличке «Корень». Командование ВА дало согласие. Для завершения дела выслана вам опергруппа с полковником Стариковым во главе. После окончания операции работников группы не задерживать».
13. Операция по уничтожению полевой ставки
Полковника Кронова отозвали в Москву, а капитану Неводову предложили временно исполнять его обязанности. Поговаривали, что вознаграждение пришло за умело выполненную операцию по выявлению целой группы агентов противника. Перед отъездом в штаб армии у Неводова с генералом Смирновым в присутствии помощников комдива состоялся разговор: — Довольны назначением, капитан? — За поздравительную оду Елизавете Михаилу Ломоносову выплатили награду — две тысячи рублей полушками и деньгами. Весила награда три тысячи двести килограммов. Тяжелая, правда? — шутливо ответил Неводов, и все заулыбались. — Вы правы, капитан, но тяжелая полоса позади. — За всю войну получил из Центра первую благодарность. Дышится как-то легче! — Не только вам! Я-то основательно перетрусил. Когда, думаю, опять сорвется дамоклов меч? Теперь снова сплю с храпом. А то адъютант слушок пустил: «Хозяин заболел!» — «Почему ты думаешь?» — спрашивают. «Храпеть перестал старик!» За «старика» я его еще вздую! Приехав в штаб Воздушной армии, Неводов встретился с полковником Стариковым. Высокий, худой, узкоплечий, полковник поджидал его на аэродроме за рулем «виллиса». Неводов был предупрежден, подошел к машине, сел в кабину. — Здравствуйте, товарищ полковник. Я Неводов. — Здравствуйте, майор!.. Согласно приказу, вы майор уже третий день. Рад поздравить! Прокатимся куда-нибудь на речку, в лесок? — С удовольствием! Полковник Стариков вел машину аккуратно, не вынимая из уголка тонких губ потухшую папиросу с длинным мундштуком. Его белое лицо неподвижно, светлые глаза прищурены и затенены надвинутым козырьком фуражки. Он выбрал поляну на обрывистом берегу степной реки, вылез из машины, с удовольствием разминал ходьбой длинные ноги, затянутые в шевро высоких сапог. — Присядем?… Рассказывайте, майор, о вашем плане. Говорите все, что считаете нужным, я пойму. — Обстановка такова… Показания Тугова подтверждают, что он и Шейкин — жертвы инсценировки с целью отвести наш главный удар. Кто настоящий резидент? Мои соображения вы знаете. Вот основные улики: о плане бомбардировки переправы знал ограниченный круг лиц, и ОН был среди них. На борту самолета «СИ-47» был тоже ОН. Вы помните текст третьей радиограммы? «23 в 8.00 пришлите спарринг-партнеров на аэродром». В этот день и в этот час через наш аэродром должен был проследовать «ЛИ-2» с очень высокими представителями Ставки. Об этом знали только командующий, генерал Смирнов, я и ОН как обеспечивающие безопасность перелета. Слава богу, кто-то изменил маршрут «ЛИ-2», но в тот день и в то время над нашим аэродромом появились две пары «мессершмиттов». Теперь еще… — Минутку, майор. Вы правы, это ОН. Я ведь временный представитель Центра, а в самом деле начальник Саратовского управления. Дело агента Слюняева, с которым вы частично знакомы, вели мои работники. Разными путями мы подошли к одному лицу. ОН сын Слюняева, сменивший неблагозвучную фамилию отца на другую — Кторов. Кторовым ОН уехал в отпуск из училища, в одной из глухих деревушек женился и взял фамилию жены. В боевую часть приехал уже под новой фамилией. Мы распутали весь клубок, и конец привел к вам. Слюняев признался, что ОН не его сын, а человек, пришедший «с той стороны»… Кажется, все, нужно ЕГО брать и делать очную ставку с «отцом». Но… Слюняев умер до того, как мы узнали последнюю фамилию его «сына». В нашем распоряжении нет фактов, уличающих ЕГО в преступной деятельности, у вас же, майор, доказательства только косвенные. Поэтому Центр согласился принять ваш очень рискованный план. Повторите мне его в общем. — Расчет на ЕГО фанатизм, на его преданность фюреру. И еще на то, что сейчас ОН должен считать себя вне подозрений… Мы планируем бомбардировку населенного пункта, в котором якобы расположилась ставка Гитлера. План разрабатывается в соседнем полку, так, чтобы сведения просачивались и в другие части. ОН должен знать об операции. Узнав, постарается сообщить. Ведь дело касается жизни фюрера! Попросит полет или навяжется с кем-нибудь, захватит с собой передатчик. Мы запеленгуем передачу, сфотографируем самолет и «привяжем» фотокадры к местности. Если не клюнет на приманку с фюрером, придется арестовать так. — Да-а… — Полковник Стариков задумчиво поковырял палочкой землю. — А если улетит? — Постараемся обставить все как надо. — Ну что ж, майор, мне дали право сказать последнее слово, и я говорю: добро! На совещании у командующего присутствовали представители всех частей Воздушной армии. Он ознакомил офицеров с общей обстановкой на фронтах. Красная Армия наступала. Предстояла перебазировка авиации на новые аэродромы. Командующий перешел к тактическим задачам и неожиданно, прервав себя на полуслове, обратился к великану полковнику, командиру полка АДД: — Пока не забыл… Я проверил подготовку ваших летчиков, полковник, и остался недоволен. Послезавтра вылет, а у вас еще не подобраны все экипажи. Пожалуйста, не убеждайте меня, что все ваши летчики асы! Вы не поняли всей важности задачи. Только снайперов точного бомбометания на борт! Только тех, кто ночью видит не хуже совы! Из Москвы дважды запрашивали о готовности, и я доложил. В какое положение вы меня ставите, полковник? — Все будет сделано, товарищ генерал-полковник! Сам пойду на этот филиал волчьей норы! — громыхнул побуревший от досады великан. — Без патетики! Больше напоминать не буду. Итак, продолжаем, товарищи!.. Краска с полного лица командира бомбардировщиков не сходила до конца совещания. Кроме него, командующий никого не задел, и он, скрывая возмущение, ерзал на стуле, мешая сидевшему рядом генералу Смирнову слушать. Тот, ухмыльнувшись в усы, отодвинулся поближе к Лаврову. Совещание закончилось докладами командиров частей о готовности к перебазированию. Не спросили об этом только командира бомбардировщиков. Он ждал, уставившись на командующего преданными глазами, на челюстях бугрились желваки. Но к нему так и не обратились. Полковник выходил из комнаты злой, ссутулив широченные плечи. У двери его толкнул в бок Лавров: — Получил пониже спины? — Чтоб сказился подлюка Гитлер! — смачно сплюнул разгневанный полковник. — Ну и подсыплю я ему хайля, зануде, костылей не унесет! Представители частей разлетелись по своим аэродромам, а майор Неводов не находил себе места. В который раз проверив готовность к операции, бездумно ворошил старые и ненужные бумаги на столе, наконец прочно уселся на подоконнике около зеленого ящика полевого телефона. И телефон зазвонил. Подал голос генерал Смирнов: — Просит тренировочный полет. — Поподробнее, пожалуйста, поподробнее, товарищ генерал! — В связи с предстоящими перелетами в полках запланированы тренировки по маршруту. Он в плановой таблице. — По маршруту нельзя. Найдите любой предлог и пускайте только в зону или по кругу. Горючее — как договорились: не больше десяти минут. — Время давай. — В четырнадцать пусть вылетает. Надеюсь, без боекомплекта! — В порядке! Будь здоров, Борис Петрович. Неводов отметил: за все время их совместной службы генерал впервые назвал его по имени. Но секундное удовлетворение прошло, и начали биться в голове тревожные мысли: «А вдруг… А вдруг расчет неточен и ОН попытается улететь? Сами, своими руками даем ЕМУ крылья, механик услужливо помогает надеть парашют, стартер поднимает белый флажок. Арестовать, когда ОН занесет ногу на крыло. А если у НЕГО нет с собой передатчика? Если ОН все понял и играет ва-банк! Материалы полковника Старикова могут уличить, а не доказать. Нужна бесспорная улика-факт. Какой-то английский юрист сказал, что как из сотни зайцев нельзя составить лошадь, так и сотня самых убедительных косвенных улик не может заменить одно прямое доказательство. Пусть летит! Пусть каждая минута ЕГО полета унесет год моей жизни, я буду ждать ЕГО последней посадки. И ОН сядет. Живым или мертвым!» Собираться не пришлось, все было готово заранее. Шофер завел мощный трофейный «хорьх», и машина с Неводовым, аэрофотосъемщиком и радистом рванулась из ворот разматывать вязь полевых дорог. Облако пыли с большой скоростью двигалось в район аэродрома сводной дивизии. Остановились в небольшом лесу. Загнали машину под густую пожелтевшую крону березы и забросали ветками. Сели в тени дерева. Аэрофотосъемщик проверял кинокамеру, прилаживал к ней телеобъектив, радист настраивал рацию, Неводов улегся на чахлой траве, развернул крупномасштабную карту. — Есть связь! — доложил радист. — Передайте всем постам в четырнадцать ноль-ноль готовность номер один. Задача ясна всем? Лихо отстучав точку последнего отзыва, радист сказал: — Вопросов ни у кого нет, товарищ майор. Сержант Языкова выстукала привет. Неводов поднялся и пошел к опушке. Под ногами мягко пружинили перегнившие листья и пухлые подушки мха; он перешагивал трухлявые куски березовых стволов, покрытых лишайниками, отводил от лица ветки орешника и бересклета. Опушка синела запыленными цветами чертогона. Он сорвал синий, с матовым налетом стебель, потрогал головки, похожие на шарики, и колючие листья. По народному поверью, чертогон охраняет домашний очаг от нечистой силы. Аэродром закрывала гряда мелкогорбых холмов, и перистые облака на окаеме вытянулись седыми неряшливыми косами. И вот, будто разметав их, из-за холмистой гряды, как черные стрелы, вылетели два истребителя. Они залезли в голубизну и начали рисовать огромные невидимые восьмерки — дежурная пара барражировала над аэродромом. Еще один истребитель вынырнул из-за горизонта. Он набрал высоту почти над лесом и начал крутить высший пилотаж. «Иммельманы», «пике», боевые развороты, горизонтальные и вертикальные «бочки» вязались в единый красивый комплекс. Пилот будто дорвался до неба и отводил душу в вихре головокружительных фигур. Неводов вернулся к радисту, глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Уже пять минут упражнялся в небе истребитель. — Как там? — Ничего, товарищ майор! — сморщил кислую мину радист. — Давайте! — крикнул Неводов аэрофотосъемщику. Тот нацелил ствол объектива на истребитель. Зажужжали ролики, перематывая пленку. Истребитель ходил плавными кругами, отдыхал после блестяще выполненного каскада. Но того, чего ожидал Неводов, не было. Аэрофотосъемщик в кинокамере сменил кассету. Подходило время, когда истребитель пойдет па посадку или упадет без горючего. Шли самые длинные минуты в жизни Неводова. Расчет не оправдывался. Все радиопосты молчали. Истребитель задрал нос. Не завершив «петли», он вышел из нее судорожным рывком и полетел прямо. «Генерал приказал садиться», — подумал Неводов и еле успел проследить стремительный путь истребителя к земле. Пилот перевернул машину через крыло и падал на лес в крутом пикировании. Звук отставал от темного тела машины. Над самым лесом, почти задевая верхушки берез, истребитель переломил невидимый отвес и над самой землей пошел к аэродрому. Ревущий, раскатистый звук двигателя ударил в уши Неводова, оглушил, и поэтому кричащий что-то аэрофотосъемщик показался ему чудной, размахивающей руками и беззвучно открывающей рот фигурой. Все побежали в глубь леса. Неводов сделал несколько замедленных шагов, застыл и бросился за ними. Догнал их у низкорослого кривого дерева с обугленным стволом. Они смотрели вверх, на крону, где за одну из веток зацепился зеленый парашютик, а на тонкой тесьме подвесной системы болтались два ящичка, смотанных шпагатом. — Осторожно! — закричал Неводов и с трудом перевел дух. — Не трогайте! Все стояли вокруг березы и оценивали происшедшее. Неводов признался себе, что никак не ожидал такого фокуса. На дереве висел несомненно радиопередатчик. Зачем он бросил его? Нет, не бросил, а спустил на парашюте. Автоматическая передача с земли? По расчетам Неводова, передатчик мог давать ясные сигналы только с большой высоты. Когда он работал в день покушения на Шейкина, его с трудом засекли ближние пеленгаторы. И неужели ОН решил отказаться от предупреждения о бомбардировке ставки Гитлера? Неводов повернулся к радисту: — Придется поработать тебе и по смежной специальности. Там бесспорно мина. Осмотри и снимай осторожно. Радист полез на березу. Двумя пальцами взялся за купол парашютика и отцепил от ветки. Спустился ниже, передал ящички Неводову. Спрыгнул на землю и принял от Неводова опасный груз. Все отошли на приличное расстояние. Радист колдовал над ящичками недолго. Развязал их. Один серый, маленький, в точности как папиросная коробка «Северной Пальмиры». Второй — побольше. Радист отсоединил от него провода и тонкие проводки, вынул медный детонатор, а потом и пиропатрон. Призывно махнул рукой. Неводов взял «Северную Пальмиру» и поднес к уху. Внутри тикал механизм, похожий на часовой. — Передайте на пост аэродрома: подполковника Лаврова немедленно арестовать!ВМЕСТО ЭПИЛОГА ОТ АВТОРА
С полковником в отставке Борисом Петровичем Неводовым мы сидели на балконе за маленьким столиком и пили кофе. Под нами разноголосо шумела вечерняя набережная Космонавтов, в бетонный берег толкалась тяжелой волной желтоватая под закатным солнцем Волга. С того момента, когда чекисты Саратова проложили первый загадочный пеленг в район аэродрома на Соколовой горе, прошло двадцать пять лет. Борис Петрович рассказывает не торопясь, с удовольствием вспоминая конец истории: — Выкладываю я тебе все сжато, поэтому почти ничего не говорю о некоторых наших ошибках, а они ведь были. Вот сейчас думаю: все-таки зря мы выпустили Лаврова в воздух — ведь мог улететь далеко за десять-то минут. От патруля, конечно, трудновато скрыться, лучшие ребята глаз не спускали, пальцы держали на гашетках, но уж больно он классным летчиком был. Воспитывался в Берлине, в семье богатых русских эмигрантов, куда его отец определил, чтоб пропитался малец русским духом. С десяти лет его взяла на прицеп военная разведка, в шпионских науках преуспевал, а в семнадцать, официально не закапчивая училища, стал летчиком. Набивал руку у Мессершмитта, испытывал его самолеты. Звался он тогда не Слюняевым и не Лавровым, а Куртом Хорстом, с прибавкой баронского титула. И вот подошло время его переброски. Ты знаешь — немцы педанты, но тут они превзошли себя. Им оказалось мало подготовить лесника Слюняева к приему «сына», они решили полностью зачистить его след… Я слушал Бориса Петровича, рассказ которого строился на показаниях Лаврова-Хорста, и представлял давние события. 1933 год. Берлинское предместье. Серые тучи сыплют мелкий колючий дождь на военный аэродром и одинокий самолет, стоящий посреди летного поля. Угловатые крылья и черный длинный фюзеляж будто покрыты незастывшим лаком, стекающим по бортам. К застекленному зданию командного пункта подкатывает «мерседес», из него вылезает человек и, прикрывая полой пиджака фотоаппарат, висящий на груди без футляра, разбрызгивая лужи, бежит к двери. — Хальт! — останавливает его у входа солдат, но, увидев на лацкане пиджака значок «Пресса. Германия», отступает в сторону. Из глубины комнаты навстречу журналисту поднимается офицер. Пряча настороженные глаза в тени широкого козырька военной фуражки, он щелкает каблуками и протягивает руку: — Прошу! — Здравствуйте! Надеюсь, не опоздал? — спрашивает журналист, усаживаясь в предложенное кресло. — Точны, как хронометр. — Офицер снимает трубку с телефонного аппарата: — Алло! Приготовьтесь. Да, я, — и, бросив трубку, поворачивается к журналисту: — У вас вопросы, молодой человек? — Прежде всего — с кем имею честь? — Представитель фирмы Мессершмитта. — Задача сегодняшних испытаний? — Всепогодный истребитель. Благодаря модернизации он развивает скорость, намного превышающую скорость обычных машин, не теряя их маневренности. — Позволите? — Журналист нацеливает объектив на лицо офицера, но ничего не видит — объектив закрывает ладонь. — Оставьте, молодой человек! Моя физиономия нефотогенична. Что нужно будет сфотографировать, я скажу, — негромко говорит офицер. — Еще вопросы? — Кто будет пилотировать самолет? — Молодой испытатель гауптман Курт Хорст, сын известного аса империи оберста Хорста-старшего. Да вот и он. — Офицер шагает навстречу сухопарому старику в серой чесучовой паре и приветствует его. — Время! — говорит старик. — За мной следует гауптман. Прошу вас к выходу. Тучи посветлели, но мелкий дождь продолжает сечь землю. К стеклянному зданию подъезжает машина с высоким закрытым кузовом. Она еще не останавливается, а из открывшейся задней дверцы выпрыгивает летчик в ярко-желтом комбинезоне на «молниях», кожаном шлеме, с поднятыми на лоб летными очками. — Фотографируйте, — подсказывает журналисту офицер. — Это испытатель гауптман Хорст. Курт Хорст приветствует всех взмахом руки и подходит к отцу: — Пожелай удачи. — Благословляю! Возьми. — Старый Хорст снимает с руки фамильный перстень и надевает его на безымянный палец сына. — Он всегда служил мне талисманом. — Спасибо, отец. Пилот повертывается к автомашине, открывает дверцу и исчезает в темноте кузова. Автомобиль едет к одинокому самолету. — Приготовьте телеобъектив, — трогает за локоть журналиста офицер. И когда из машины вылезает человек в ярко-желтом комбинезоне, встает на крыло самолета и поднимает руку, щелкает затвор фотоаппарата. Самолет выруливает на взлетную полосу, двигатель берет высокую ноту, из-под винта летит водяная пыль, истребитель быстро отрывается от бетонки, поднимает к тучам острый нос. Спрятавшись от дождя под небольшой крышей входной двери, три человека наблюдают искусный пилотаж испытателя. Потом офицер незаметно отходит в сторону, проскальзывает в здание и зажимает в кулаке телефонную трубку. — Доложите о готовности! — Готовы! Офицер через большое стекло смотрит на самолет. Нервно подрагивают синеватые мешочки под глазами. Вот истребитель, бросая к земле прерывистый гул, пошел на «петлю» и нижней частью фюзеляжа почти коснулся тучи. — Импульс! — шепчет офицер в трубку. Через долю секунды под тучами блещет взрыв. Ломаясь на куски, падает истребитель. Свистят горящие обломки. Мотор вместе с кабиной пилота падает в центре бетонки, с грохотом поднимая фонтаны мокрого щебня. К месту катастрофы, беспрестанно воя сиреной, мчится санитарный автомобиль. На левой подножке машины старый Хорст; на правой — успевший вскочить на ходу жаждущий сенсации журналист. На следующий день почти все немецкие газеты оповещают о преждевременной гибели талантливого летчика военно-воздушных сил Германии гауптмана Курта Хорста. В четкие шрифты некрологов были вкраплены серые, неконтрастные из-за съемок при дожде фотографии… …- Понял, какую трагикомедию разыграли? — продолжает рассказ Борис Петрович. — В автомашине сидел другой летчик, одетый так же, как Хорст. Он сел в самолет, а Хорст остался в кузове и уехал. В машине он подарил летчику отцовский перстень, как талисман. Перстень с баронской короной послужил единственным предметом опознания человека, от которого почти ничего не осталось!. Ну, а потом все идет по задуманному плану. Хорст переходит границу, навещает своего «папаню», берет в сельсовете кое-какие документы, в том числе справку о пролетарском происхождении, поступает в летное училище, становится Кторовым, получает командирское звание, уезжает в отпуск, в кишлаке Тахтыш-Чок женится, берет фамилию жены, и теперь он уже Лавров! Так Лавровым и прибывает в воинскую часть. Как видишь, сработано чисто. Теперь главное — проникнуть в верхи командования ВВС Красной Армии. Для этого используется все — и прекрасная техника пилотирования самолетов, помогшая ему отличиться на Халхин-Голе, и глубокие знания, полученные в Германии и Советском Союзе, статьи и рефераты по тактике, многие из которых были написаны не им, а вручены заранее. При допросе он рассказал о двух случаях, когда ему представляли спарринг-партнеров в обусловленном месте, в заранее назначенное время; в одном случае это было над нашим аэродромом, и он сбивал их на глазах у своих ведомых, на глазах у воинов наземных частей. Это были блестящие демонстрации умного, молниеносного боя, если бы у немецких истребителей в пулеметно-пушечыых кассетах были настоящие снаряды, а не холостые. Ему просто подсылали людей на убой! Как видишь, влезал он к нам солидно, даже не забыли его жене прислать «похоронку» после Халхин-Гола. До сорок третьего года он не сделал никакого вреда, потому что не получал от абвера заданий. Его берегли. И вот, когда немцам стало туго, он понадобился. Ему придают Тугова, и они начинают действовать. Финал известен. — Расскажите, как вы лично напали на след? — Мой вклад мизерный! Основная заслуга — сотрудников полковника Старикова и дешифровщиков-москвичей. Они проделали адски кропотливую работу. Ну, а я… Первый посыл пришел во сне, как Менделееву его таблица или Вольтеру новый вариант «Генриады». Я вспомнил во сне, что на совещании у генерала Смирнова по поводу бомбардировки плавучего моста Лавров, перечисляя слабые пункты плана, отогнул палец от сжатого кулака. Ты читал в «Смене» интервью с Рудольфом Ивановичем Абелем? Помнишь, в ответ на вопрос 6 бдительности он рассказал, как по нескольким фразам выявил двух немецких лазутчиков. Ну, вот я и вспомнил, что Лавров отогнул палец. А ведь, считая по пальцам, русский загибает их, а немец разгибает. Правда, он быстро поправился, но память моя успела зафиксировать и отдала этот факт мне же во сне. Подвел его расчет и на трудность пеленгации радиосеансов. Известно: самое уязвимое звено в рабочей цепи разведчика — это связь. А он был уверен, что у нас нет пеленгаторов, способных накрыть его ультракоротковолновый передатчик. И оставил след. А инициатива Тугова гаркнуть с борта «Ахтунг!» — черт знает какая глупость! Но ведь без ошибок не бывает. В 1892 году профессор Владимиров в книге «Закон зла» писал: «Нет той прозорливости, которая предусмотрела бы всех возможных изобличителей преступления, и нет той ничтожной соломинки, которая не могла бы вырасти в грозную дубину обвинителя». После шума, поднятого Туговым в эфире, Лавров посчитал его конченым и решил провалить совсем, используя его будущие признания как дезинформацию. Тут-то он сработал под Хижняка. — Минутку, Борис Петрович, пока не забыл. Что-то о Хижняке мне непонятно. Больно уж он вездесущ. Там Хижняк, здесь Хижняк, а словесные портреты на него все разные. Хамелеон? — Нет, все намного проще. Такого человека вообще не было. Даже документы на имя Хижняка Арнольда Никитича не фабриковались. Трюк! Ты знаешь, что один агент может работать под несколькими фамилиями и кличками. А здесь немцы применили обратный трюк: разные агенты представлялись своим подчиненным под именем Хижняка и этим вводили в заблуждение наших чекистов. Ясно теперь? Так вот, Лавров, сработав под Хижняка, внушил Тугову, что Тринадцатый — Шейкин. Такие штучки иногда удавались, а здесь Лавров просчитался. Ведь с первого его практического шага ему противодействовали наши люди: курсанты поймали ракетчицу, чекисты Саратова засекли передачу, у лейтенанта Гобовды было много помощников, Татьяна Языкова через «скрип» догадалась о передатчике-автомате, она же опознала голос Тугова. Всех помогающих нам не перечислить. — Ну, а какова дальнейшая судьба Тани Языковой и Шейкина? — После войны Таня Языкова уехала в Выборг. Дочка у нее хорошенькая, муж шофер… Как-то летом сорок пятого года я шел от поселка к полевому аэродрому. Дорога мягкая, пыльная. Смотрю — низко проходит штурмовик. Номер даже видно: «десятка». Из кабины пилот посматривает. Пролетел, потом разворачивается — и на меня. Давит брюхом, негодяй, струей шибает. Четыре захода сделал, извалял меня в пыли, как отбивную в сухарях. Я чуть не лопнул от злости! Вылез из кювета, прочихался — и рысью на аэродром. Придумываю на большом ходу кару безобразнику. Шутка ли, майора армейского масштаба носом в пыль тыкать! Прорываюсь сразу к командиру полка и рычу: «Подать хулигана!» Он за компанию со мной чихнул разок-другой и посылает за летчиком с «десятки». Приходит тот, капитан, весь в орденах, как будто ждал вызова и нарочно иконостас на груди сделал, и, не обращая на меня внимания, отвечает командиру: «Перепутал, — говорит, — принял этого грязного дядю за немецкого диверсанта». Я тут совсем взбеленился. «Какого такого грязного дядю, племянничек? Я блестел, как начищенный пятак, сукин ты сын! Под трибунал захотел?» Ну, командир ему с ходу десять суток гауптвахты влепил. А он так невинно отвечает: «Слушаюсь! Только с кем ошибок не бывает? Помню, служил я с одним капитаном контрразведки, так он тоже путал и уверял, что я шпион». Тут я узнал бывшего подследственного лейтенанта Шейкина. Полез он в карман, протянул на ладони монету. «Вот, — говорит, — полтора года тому капитану передать не могу, таскаю в кармане по всем фронтам». Я — за монету. Ба! Старинная болгарская лева! Остыл я, попросил снять взыскание с шалопута. Разговор мы закончили в полночь. По невидимой Волге плыли огни. Холодный ветер загнал нас в комнату. Уже прощаясь, но еще полный любопытства, я спросил: — Ну, а лично вы рисковали часто? — В каком смысле? Жизнью, что ли?… Не было. Если только раз… Он достал свою обширную коллекцию монет. На черном бархате под блестящим рядом тувинских акш и монгольских тугриков особнячком лежала крупная румынская лея со свинцовым следом от пули. — В левом кармане была, — сказал Борис Петрович и сдул с нее невидимую пылинку.ВЛАДИМИР МАЛОВ Я — ШЕРРИСТЯНИН Фантастическая повесть
(Повесть о чрезвычайных и фантастических событиях из жизни Михаила Стерженькова, записанная с его слов)
ПРОЛОГ
С Мишей Стерженьковым, студентом физкультурного техникума имени Марафонской битвы, автор познакомился на колесе обозрения в Парке культуры и отдыха. Было солнечное субботнее утро. Очереди отдыхающих москвичей тянулись к аттракционам, к тиру и к комнате смеха; откуда-то издали ветер доносил ритмы, предназначенные для танцев. Я пришел в парк, чтобы культурно стряхнуть с себя усталость напряженной недели, и колесо обозрения (очень часто его неправильно называют «чертовым», путая с другим аттракционом), на мой взгляд, отвечало этой цели как нельзя лучше. Совершили первый круг. Сверху парк был похож на калейдоскоп с быстро меняющимся рисунком. — Простите, — тихо и очень вежливо сказал мне мой сосед по решетчатой кабине, — это у вас, я вижу, фантастика? Сосед был в спортивном пиджаке, из-под которого выглядывал спортивный свитер. Пиджак и свитер туго натягивались на юных, но уже широких плечах. Лицо собеседника пылало загаром, над которым, как можно было предполагать, долго не будут властны ветры и дожди надвигающейся осени. Я ответил на вопрос утвердительно. Обложку книги, которая лежала у меня на коленях, действительно украшали роботы, звездолеты и разнообразные конструкции — искушенному взгляду нетрудно было распознать среди них машины времени и установки для передачи мыслей на расстояние. — Да, фантастика, — пробормотал молодой человек и сразу после этого повел себя как-то не так: сначала поерзал на месте, бросил взгляд на обложку — загадочным был этот взгляд! — и стал напряженно смотреть куда-то вдаль. Колесо то поднимало нас вверх, то опускало вниз. Парк внизу соответственно то уменьшался, то увеличивался в размерах. В ушах свистел ветер. От остроты ощущений слегка захватывало дух… И все это время мой сосед продолжал вести себя как-то не так. Казалось, радостное чувство высоты и движения совсем перестало его волновать. Он барабанил пальцами по сиденью, тяжело дышал, изредка продолжал бросать на обложку странныевзгляды. Я вдруг понял, что в моей душе начинает шевелиться какое-то неоформившееся еще опасение. — Я вас прошу, — сказал наконец хрипло юный спортсмен, — вас не затруднит… Я понимаю, конечно… Это вам достаточно странно… — Он задышал очень тяжело и часто. — Только очень прошу вас, пожалуйста, уберите эту книгу… Уберите… Я не могу на нее смотреть… Растерянно я уставился на спортсмена. Он был смущен вконец. Растерянно пробормотав: «Конечно, конечно…», я засунул книгу под пиджак и осмотрел молодого человека с головы до ног (еще на нем были синие тренировочные брюки и легкие баскетбольные кеды). Беспокойство мое стремительно нарастало. Мы были одни и к тому же были заперты снаружи. Сам я спортом уже почти не занимался. Колесо еще не скоро должно было остановиться. — Извините, — выдавил из себя молодой человек, и сквозь спортивный загар явственно проступила краска. — Вы не думайте — Вы, пожалуйста, ничего — не думайте… Просто мне трудно, и потому… Воцарившееся молчание было гнетущим. Колесо продолжало меланхолическую свою работу. — Конечно, я понимаю, — снова начал юноша, пристально глядя в сторону, — вам мое поведение должно показаться… — Ну что вы, что вы! — растерянно пробормотал я. Возникла новая гнетущая пауза. — Возможно, у вас действительно есть причины, — начал я неуверенно, — причины, по которым фантастика вам… — Причины? — повторил юноша очень медленно и тихо. — Вы говорите — причины?… Он перестал смотреть в сторону и окинул меня внимательным взглядом, от которого ничто не могло укрыться. Потом опустил глаза и внимательно начал рассматривать свои кеды. — Меня зовут Миша Стерженьков, — сказал спортсмен. — Я тут на колесе привыкаю к высоте, скоро у нас первый осенний практикум по парашюту… Недавно был по травяному хоккею, теперь вот по парашюту… — Институт физкультуры, будущий тренер? — с сомнением (уж очень юн был собеседник) предположил я, все еще испытывая растерянность. — Пока только техникум, — скромно отозвался юноша, и лицо его запылало. — Учусь на отделении настольного тенниса… Об институте пока только мечтаю. Недостает еще знаний… Но со временем обязательно буду и в институте!.. — Техникум физкультуры? — Удивление прозвучало в моем голосе: что делать, мне но приходилось слышать о таких учебных заведениях. Юноша оторвал взгляд от спортивной обуви и в упор посмотрел на меня. — Наш недавно открыли, — сказал он коротко. — Раньше ведь часто бывало, что занятия спортом мешали учебе в школе и наоборот. Поэтому попробовали совместить и то и другое в одном учебном заведении… Понимаете, — начал потом он тихо, но, чувствовалось, с огромным внутренним напряжением, — в себе мне уже нельзя носить… Книга — это последняя капля… Я должен рассказать это кому-нибудь… Конечно, нужно было бы раньше, уже несколько недель назад, но я… Поверить в это действительно трудно… От взгляда серых честных глаз по-прежнему ничто не могло укрыться. Снова и снова внимательно осматривали они меня и в конце концов засветились каким-то особенным озарением, как это бывает в тех случаях, когда человек принимает решение, сразу прекращающее мучительную и напряженную душевную борьбу… И еще долго в тот день я и Миша Стерженьков никак не могли расстаться: много раз вновь становились в очередь к «чертову колесу», потом постреляли в тире, померили силы, ударяя молотом по соответствующему устройству, и наконец брели по улицам, направляясь к спортивному комплексу физкультурного техникума имени Марафонской битвы. Миша Стерженьков рассказал мне все. И, прощаясь с Мишей у входа в спортивный комплекс, возле гипсовой статуи игрока в крокет, я чувствовал, как кругом идет моя голова, не вмещающая все эти совершенно непостижимые, превосходящие любую фантастику факты, на которых основывался его рассказ. Но слишком искренним и правдивым был тон этого рассказа, неподдельное волнение звучало в голосе студента физкультурного техникума, чтобы я мог усомниться в том, происходило ли все, о чем он мне говорил, на самом деле. А кроме того, из своей спортивной сумки, на которой латинскими буквами написано было название футбольного титана «Torpedo», последнего победителя Межконтинентального кубка для клубных команд, Миша вынимал и потом снова прятал туда подтверждающие вещественные доказательства, и среди них… Впрочем, не лучше ли будет, если все рассказать по порядку? Потому что Миша Стерженьков, излив наконец душу, затерялся среди теннисных кортов, футбольных полей, вертикальных стен для мотоциклетных гонок и сложных гимнастических хитросплетений. Он не взял с меня слова хранить его историю в тайне, а она просто должна быть рассказана всем. И вот теперь, в сентябре 197… года, я сажусь за пишущую машинку, чтобы уложить беспорядочный и сбивчивый Мишин рассказ в строгие и последовательные повествовательные рамки, и, словно наяву, вновь слышу его голос: «Вы понимаете, это бывает… Этот предмет я никогда особенно не любил… Мне, понимаете, теория техники толкания ядра почему-то вообще очень плохо давалась…»Глава первая
К двенадцати часам дня Миша Стерженьков изнемог. Комната, в которой он готовился к ответственному зачету, стала казаться ему унылой, как теннисный корт под осенним дождем. Чугунные гантели и гири, сложенные в углу, словно налились тяжестью, много превышающей их истинный вес. Даже привычная ко всему боксерская груша, подвешенная в противоположном углу, выглядела съежившейся и поникшей. Миша кончил занятия тем, что отчаянно обхватил голову руками и откинулся на спинку стула. Возможность что-либо воспринимать и усваивать, похоже, была утрачена навсегда. Закрыв глаза, Миша стал мечтать о тех временах, когда несовершенные методы обучения полностью себя изживут и только историки должны будут помнить о них по долгу службы. Хорошо будет, подумал Миша с глубокой тоской, когда вместо толстенных учебников изобретут какой-нибудь аппарат, мгновенно заряжающий мозг информацией. (В деталях устройство подобного аппарата Миша Стерженьков быстро вообразил таким: над мягким, очень удобным креслом помещен был сферический колпак, от которого разноцветные провода тянулись к громадному металлическому сооружению, похожему на электронно-вычислительную машину. Себя самого Миша представил садящимся в кресло и подставляющим под колпак голову, а Спартак Евстафьевич Кваснецов, строгий декан отделения настольного тенниса, в это время закладывал в машину какие-то ролики, в которых аккумулированы были знания по всем дисциплинам, установленным программой. Потом замыкался рубильник и происходило следующее: сначала все собранное в роликах перекачивалось по проводам в колпак, а колпак затем надежно фиксировал знания в соответствующих мозговых клетках подставленной под него головы юного спортсмена Михаила Стерженькова…) Тихонечко простонав, Миша открыл глаза, и фантастический аппарат далекого будущего сразу же исчез, вместо него на письменном столе остался лежать современный учебник «Теория техники толкания». До зачета оставался всего один день, а прочитать оставалось еще почти полкниги… Юный студент сделал усилие и пробежал глазами еще несколько строк. Безуспешно — в голову не лезло ничего. Миша захлопнул учебник и некоторое время уныло смотрел на его обложку. Атлетически сложенный спортсмен с рисунка на обложке, вооруженный знанием теории, уверенно и мощно посылал ядро прямо в Мишу. Развеселая песня про разноцветные кибитки, гвоздь эстрадного сезона, которую напевала в соседней комнате сестра Татьяна, ученица седьмого класса специальной школы с обучением на исландском языке, звучала насмешкой. Миша поднялся из-за стола и поплелся в ванную, чтобы принять холодный душ. Движения его были замедленны, словно на телеэкране действия хоккеиста, повторяющего, как он забросил шайбу. Мерно зажурчала вода. Но ее холодные струйки, обтекающие юное тренированное тело, в этот раз, увы, не придавали бодрости. Стоя под душем, Миша стал уныло перебирать в уме другие способы, которыми можно было бы все-таки заставить себя заниматься. Сделать это казалось выше человеческих сил. Настойчиво хотелось уйти из дома куда-нибудь подальше — в места, где люди легко и свободно обходятся и без техники толкания ядра… …Да, именно вот такой оказалась завязка невероятной этой истории. И сама обыденность, повседневность подобной завязки лучше любых других уверений должна подтверждать полную достоверность всех событий. Ясно, что любой научно-фантастический вымысел, по строгим законам жанра, сразу должен был бы начинаться не в пример как эффектнее. Скажем, с того, что в дверь Миши Стерженькова постучалась прекрасная девушка, прилетевшая с Марса; что ему позвонил по телефону последний из жителей Атлантиды; что, совершив прыжок с фибергласовым шестом, Миша не опустился затем на пенопластовую подстилку, подчиняясь действию закона всемирного тяготения, непреложность которого давно уже не вызывает никаких сомнений, а оказался бы, например, в четвертом измерении, или вышел на орбиту искусственного спутника, или же, наконец, распался на атомы и начал существовать в какой-то новой, не изученной современной наукой форме организации жизни, — ведь так обычно начинаются все эти поднадоевшие уже истории, в которых нет ни крупицы правды… Конечно, на самом деле никогда не происходит ничего подобного, и потому, строго придерживаясь истины, отметим, что началась достоверная, хотя и необыкновенная история Миши Стерженькова очень обыденно — началась с того, что у юного нашего героя не было никакого желания заниматься, а было желание уйти куда-нибудь из дому. (Здесь, впрочем, самое время пресечь определенные подозрения в адрес Миши. Ведь кое-кто, пожалуй, неминуемо сможет предположить, что в конце концов Миша действительно махнул на зачет рукой и, понадеявшись неизвестно на что, отправился в какое-либо увеселительное место — в кино, в цирк, на эстрадный концерт, — чтобы легкомысленными развлечениями вытеснить из души угрызения совести, если они только были… Нет, упорно и добросовестно Миша Стерженьков овладевал знаниями, положительно проявлял себя в теории и в практике разнообразных дисциплин, целеустремленно окончил первый курс и уже начал сдавать экзамены за второй, в зачетке его почти исключительно были четверки и пятерки. Что же касается теории техники толкания ядра — она была единственным предметом, с которым у Миши обстояло неважно, бывает ведь так… Много ближе к истине оказался бы тот, кто предположил бы, что, энергично растерев себя жестким полотенцем и выйдя из ванной, позанимавшись немного с гантелями и гирями, потолкав штангу, Миша вновь вернулся к письменному столу и, обретя, как говорят спортсмены, второе дыхание, одолел в конце концов оставшиеся страницы теории. Да, так, без сомнения, поступил бы юный спортсмен… если бы не одно обстоятельство, исключительно важное для дальнейшего развития событий. Дом, в котором получила недавно новую квартиру семья Стерженьковых — Иннокентий Иванович, старший экскурсовод Музея художественной вышивки, Алевтина Игоревна, водитель самосвала грузоподъемностью в сорок тонн, Таня и Миша, — расположен был на городской окраине, возле густого лесопарка, в котором протекала река Москва. Короче, Миша Стерженьков принял еще лучшее решение: взять с собой учебник и позаниматься где-нибудь в тихом и укромном лесном уголке). Повеселев, он вышел из ванной и заглянул в комнату младшей сестры, чтобы сделать ей строгое внушение о том, что надо не петь, а готовиться к предстоящему экзамену по исландскому фольклору. (В ответ, увы, Стерженькова Татьяна показала старшему брату язык, и с большим трудом он сдержался, чтобы не применить меру физического воздействия.) Потом крепкие, тренированные ноги легко спустили Мишу по лестнице до первого этажа, и он ступил на асфальт, слегка даже пружинящий от июньской жары. Лес, начинавшийся сразу же за домом, манил тропинками, уходящими к реке, и Стерженьков, сжимая под мышкой учебник, углубился в чащу. Настроение его менялось, душа вновь наполнялась энергией, привычной спортивной упругостью. Предмет уже не казался ему таким трудным, с ним, без сомнения, можно было справиться, как и с любым другим. Изредка Миша совершал короткие, хлесткие рывки метров на тридцать-сорок. Затем тропинка стремительно полетела вниз, к ленте реки, и Миша, мигом раздевшись на берегу, с наслаждением ступил в воду и мощно поплыл навстречу речному трамвайчику, поочередно меняя кроль, брасс, баттерфляй, переворачиваясь на бок, на спину. Выйдя снова на берег, Миша тут же, рядом, выбрал тенистое место, лег на траву и углубился в учебник с силами, которых еще полчаса назад даже не подозревал в себе… Да, в лесу учебный процесс пошел не в пример легче, решение, принятое юным спортсменом, оказалось абсолютно правильным. Миша перекидывал страницы учебника и за страницами словно бы воочию видел коротенькую фигуру преподавателя теории техники толкания Ивана Васильевича Петрова, смешно прыгавшего у доски, на которой он рисовал оптимальные траектории для полета ядра, объясняя своим тенорком: «А если соревнование происходит, скажем, в Андах, то здесь угол начального направления тот же, однако учитывается поправка на высоту над уровнем моря… Если же соревнования в Вологодской области, тогда иначе… И совершенно особое дело в городе Алма-Ате…» И все эти формулы и траектории стали теперь доступны и понятны, постепенно Миша даже увлекся — так ведь бывает иногда, когда вдруг увлекаешься тем, что еще недавно казалось скучным. Время шло. Земля медленно поворачивалась вокруг оси. Наконец Миша закрыл книгу и, чувствуя приятную усталость отменно потрудившегося человека, перевернулся на спину. Над лесом нависало огромное июньское небо, было тихо; слышно было, как на другом берегу реки, в сельской местности, негромко бормотали куры и коза время от времени пробовала свой голос. Миша Стерженьков глубоко вздохнул и прикрыл на мгновение глаза, с наслаждением ощущая на лице солнечное тепло… И вот только тогда размеренный ход явлений привычных, обыденных вдруг сменился событиями непостижимыми и невероятными, много превосходящими в этом даже самые необузданные выдумки. Сначала раздался звук — он был тонким и похожим на комариный писк. Звук возник где-то совсем рядом, и казалось, что до него можно дотянуться рукой. Миша Стерженьков от неожиданности вздрогнул, сел и стал осматриваться по сторонам. Ничего такого, что могло быть похоже на источник звука, нигде не было видно. Волнуясь, Миша стал осматривать окрестности еще пристальнее. Звук, исходящий из ничего, между тем быстро менял регистры — спустя минуту он стал густым и тягучим, словно пароходный гудок, хотя и приглушенный в десятки раз, и оборвался на последней басовой ноте. В то же мгновение в двух шагах от Миши в воздухе возникла ослепительная вспышка; секунду спустя она погасла, и, на какое-то время потеряв зрение, Миша вскрикнул и закрыл лицо ладонями. Способность видеть возвращалась к Мише Стерженькову постепенно. Сначала абсолютная темнота в его глазах превратилась в крупные цветные пятна. Пятна становились все мельче, дробились на части, обретая форму и превращаясь в песчаную полосу берега, в стволы деревьев, в ветки и листья. Миша Стерженьков с трудом поднялся на ноги и снова сел, чувствуя, что голова его налилась какой-то свинцовой тяжестью. В ушах звенело. Зачем-то Миша стал на четвереньки и снова стал осматриваться кругом. Неподалеку от того места, где лежал учебник «Теория техники толкания», прямо из воздуха, из ничего проявлялось какое-то сооружение размером с обеденный стол, не похожее ни на один из когда-либо виденных Мишей предметов: решетчатое, со множеством углов, со сложным переплетением трубочек, проводков, каких-то геометрически правильных частей и частей совершенно невообразимых форм. Цвет неведомого сооружения быстро менялся: сначала он был голубым, потом без всякого перехода стал розовым и остановился на желтом. Миша попятился, пока не почувствовал, что оказался в воде; тогда он остановился и, ощущая, как сильно колотится сердце, стал наблюдать за дальнейшим ходом явлений. Очень ярко светило солнце. Раздавался негромкий плеск воды. На другом берегу мелодично позванивал колокольчик козы. Везде и всюду все продолжало идти по порядку, который сложился веками и всегда кажется незыблемым. Но здесь, в нескольких шагах от Миши Стерженькова, происходило непостижимое и неведомое — то, что неминуемо показалось бы причудливым сном, если б бесспорной реальностью, ощущением неподдельным не была прохлада воды, в которой Миша все еще продолжал стоять на четвереньках. Неведомые явления между тем шли своим чередом. Послышался лязг, откинулась вдруг одна из стенок сооружения, образовав наклонную плоскость, и по ней медленно сползла на траву какая-то конструкция, отдаленно напоминающая, как машинально отметил Миша, галапагосскую черепаху. «Черепаха» не спеша объехала по кругу учебник и остановилась. Раздался легкий свист, и неведомая конструкция ощетинилась целым десятком каких-то упругих «щупалец», похожих на антенны; покачиваясь из стороны в сторону, они задумчиво потянулись к страницам «Теории техники толкания»… Миша закрыл глаза и открыл их снова. «Галапагосская черепаха» удовлетворенно шевелила антеннами. Внутри «черепахи» явно происходила непонятная, неизвестно на что направленная работа. Потом конструкция развернулась и поехала прямо на Мишу. Он инстинктивно попятился, но отступать дальше было уже невозможпо: вода и так доходила до подбородка. Можно было развернуться и быстрым кролем уйти к противоположному берегу, но Мишей владело теперь полное оцепенение — он застыл на месте и ждал. Щупальца потянулись к Мише. Секунду они оставались в вытянутом положении, потом вновь закачались из стороны в сторону, снова раздался легкий свист, и вдруг щупалец стало раза в два больше. В голове у Миши Стерженькова был хаос. Мысли переплелись в невообразимый клубок, из которого показывался иногда обрывок то одной, то другой мысли, но ни одна из них не была целой и законченной. Затем все из головы куда-то исчезло, и она стала пустой и очень легкой. Антенны зашевелились все сразу, и тогда внутри Мишиной головы раздался шорох, похожий на тот, что издает иголка проигрывателя, когда кончается пластинка. Вслед за ним послышались звукосочетания, не имеющие никакого смысла. Строй их быстро менялся, как если бы говоривший то и дело переходил с одного языка на другой. И наконец прозвучали первые слова па родном Мишином языке: — Существо разумное, коренной обитатель планеты, данные автоматических зондов это подтверждают. Миша Стерженьков мотнул головой. Антенны шевелились без устали. «Черепаха» напоминала теперь скорее крупных размеров дикобраза. — Это планета Земля, третья от звезды, которую вы зовете Солнцем? — спросил кто-то в Мишиной голове, видимо сомневаясь. — Земля, Солнце, — с трудом выдавил из себя Миша, облизывая пересохшие губы. — Планет очень много. Комплексные исследования грандиозного охвата. Ошибки не исключены, хотя их никогда не бывало, — сказал кто-то в Мишиной голове. Интонации были извиняющиеся. Миша устало кивнул и стал выползать из воды. Теперь им владело какое-то странное оцепенелое равнодушие. Конструкция попятилась, сохраняя расстояние между собой и Мишей неизменным. В Мишиной голове снова возник чужой голос. Сейчас его интонации стали монотонными и даже какими-то скучными, словно бы он повторял вещи, которые приходилось говорить уже десятки тысяч раз: — Планета Шерра лиловой звезды Па-Теюк проводит комплексные исследования по разведке разумной жизни в грандиозном районе Вселенной. Первый этап: засыл автоматических зондов в районы предположительно благоприятные. У вас на планете выявлена разумная жизнь. Зонды здесь уже были; выяснено среди прочего, что планету вы называете Землей, а звезду — Солнцем. Голос монотонно бубнил, и каждое слово накрепко оседало в голове Миши Стерженькова. Способность изумляться была им начисто потеряна, сейчас он воспринимал, и только. Голос продолжал бубнить: — На Земле начинается второй этап исследований — разведка непосредственно, изнутри. Внешность землян и шерристян отлична друг от друга. Чтобы провести второй этап незаметно для обитателей Земли, на мозг разумного обитателя планеты будет наложена соответствующая матрица, после чего он потеряет свое обычное сознание и приобретет сознание, склад мышления и все психические свойства и способности среднего жителя планеты Шерра. Став как бы шерристянином и смотря на все его глазами, разумный обитатель планеты начнет аккумулировать в своем мозгу информацию об окружающем его мире. Собранная информация в свое время будет изъята из его мозга. Землянин после этого без всякого вреда для себя вновь обретет привычное сознание. В случае положительных результатов второго этапа исследований на Землю будет направлена экспедиция шерристян для установления непосредственного контакта. Щелк! Все антенны одновременно втянулись в конструкцию, и она вновь стала похожа на черепаху. Потом на ней распахнулись какие-то створки, и на кронштейнах вперед выдвинулся небольшой сферический колпак ярко-желтого цвета. Колпак Остановился на расстоянии нескольких сантиметров от Мишиной головы. Голос вновь забубнил: — Время, после которого происходит полная трансформация сознания, — одна сорок восьмая времени Полного оборота планеты вокруг оси. Мишей Стерженьковым все еще продолжало владеть оцепенение. Колпак немного повертелся возле его головы, к чему-то примериваясь. Послышалось негромкое и протяжное гудение, потом кронштейны сложились, створки захлопнулись, и «черепаха» по наклонной плоскости вернулась на свое прежнее место. В оцепенении Миша Стерженьков наблюдал, как поднялась наклонная плоскость, как вновь стали меняться цвета фантастического сооружения, как оно опять стало таять в воздухе и превратилось в ослепительную вспышку, после которой раздался густой, басовый звук, постепенно перешедший в комариный писк… Все тише, тише, и вот звук угас совсем, и Миша Стерженьков один остался на берегу, все еще стоя на четвереньках. И когда прошло это состояние оцепенения, Миша обхватил голову руками, словно боялся, что она вот-вот расколется, Потом он заметался по берегу, не зная, Что делать, что предпринять. И наконец Миша Стерженьков побежал прочь, — побежал, забыв учебник и одеваясь на ходу, побежал без оглядки и совсем не спортивно, даже еще не зная толком, куда и зачем он бежит. Похоже было, что Миша растерялся вконец… Ну, а как бы вы повели себя, уважаемый читатель, как бы повели себя, если бы это вам спустя полчаса предстояло стать инопланетянином среди людей, разведчиком далекой и загадочной планеты Шерра из системы лиловой звезды Па-Теюк?…Глава вторая
Виктор Витальевич Ворошейкин все взвесил, все обдумал и сделал логическое умозаключение. Во всем, конечно, виновна была кошка Пенелопа. У кошки были отвратительные манеры и ужасающие привычки. Для нее не существовало ничего святого, и, уж во всяком случае, ей ничего не стоило забраться на письменный стол, чтобы утащить с него бесценный клочок бумаги, содержащий блистательную, неожиданно вспыхнувшую догадку о том, как именно древние эстуарцы обозначали в своих текстах глаголы. Догадка была важным научным событием, крупным шагом вперед в разгадке тайны эстуарского языка, замолчавшего тысячелетия назад, но вот явилась кошка Пенелопа, любимица жены, и все теперь может пойти насмарку. Отчаянно вытянувшись на полу и орудуя длинной щеткой, профессор попытался выгрести отвратительное животное из-под книжного шкафа, но кошка мгновенно шмыгнула в другой угол кабинета и теперь насмешливо смотрела на преследователя, уютно устроившись между египетской мумией и толстой кипою карфагенских свитков. Виктор Витальевич с досады даже всхлипнул и, расслабив тело, дал себе короткий отдых. Звать на помощь жену было унизительно и недостойно. Некоторое время профессор сосредоточенно думал, потом он сделал вид, что не обращает больше на Пенелопу никакого внимания, и стал наблюдать за ней украдкой. Пенелопа подняла белоснежную лапку и стала ее тщательно вылизывать. Клочка бумаги с бесценными научными соображениями при кошке не было. Слегка удивившись, Виктор Витальевич заглянул под шкаф, но его не было и там. Однако виновен в пропаже не мог быть никто, кроме кошки (листочек только-только был под рукой), и Ворошейкин вынужден был с ней заговорить. Отношения Пенелопы и Виктора Витальевича давно уже были сугубо официальны, профессор и кошка были между собой на «вы». — Пенелопа, — сказал Ворошейкин укоризненно, — ах, как же это все-таки не слишком любезно! Если бы вы только могли отдавать себе отчет… Профессор запнулся, потому что слово «отчет» тут же вызвало в его уме кое-какие ассоциации. Он поднялся с пола и, не теряя времени, поспешил к письменному столу, заваленному грудой книг, рукописей, писем и заметок. Было совершенно непонятно, как это он только мог забыть, что еще несколько дней назад надлежало отправить отчет об обнаруженной недавно еще одной эстуарской надписи в Лондонское общество эстуарологов. Новый образец загадочных этих письмен был открыт совершенно случайно — они украшали одну из древних ваз в Музее имени Пушкина, и совсем недавно профессор Ворошейкин обратил на них внимание. Известных науке образцов эстуарского письма было известно пока лишь совсем немного, находка еще одного была огромным событием. С трудом отыскав чистый лист бумаги, Виктор Витальевич быстро набросал несколько слов, перечитал написанное, немного подумал и спохватился: писать надо было не по-французски, а конечно же по-английски. Зачеркнув написанное, он стал искать еще один чистый лист, чтобы на нем перейти на нужный язык, и в этот момент в прихожей раздался длинный, настойчивый, пожарный какой-то звонок, а вслед за ним голоса — жены и чей-то еще, может быть, знакомый, а может, и нет, голос настойчивый, сбивающийся, вроде чем-то обеспокоенный. Рука профессора замерла на полпути. На столе перед ним лежал тот самый клочок бумаги, на котором были набросаны драгоценные предположения о глаголах древних эстуарцев. Ворошейкин радостно засмеялся и виновато взглянул на Пенелопу. Секунду спустя он уже восторженно перечитывал свои записи вслух… Да, конечно! Предположение было верным, абсолютно справедливым! С этим согласится каждый, кто только ознакомится с ходом рассуждений, которые вели к этой догадке. Сомнений в этом быть не могло… — Витя, — раздался в кабинете голос жены, — вот мальчик, наш сосед… Я никак не хотела, я знаю, ты работаешь… Но у него что-то, он говорит, исключительное, он о чем-то хочет поговорить с тобой как с ученым. Я никак не могу… Какие-то планеты, звезды, космические пришельцы… Я ничего не понимаю… Он… у него даже, знаешь, беспорядок в одежде… Виктор Витальевич Ворошейкин восторженно повернулся на стуле. Беспорядок в одежде посетителя был, это точно. Профессор отметил это автоматически, потому что мысль уже торопила дальше. — Ну конечно! — воскликнул он нетерпеливо. — Вы, молодой человек, голубчик, пришли удивительно кстати! Мне надо, просто необходимо кому-то рассказать! Ну-с, как вы к этому отнесетесь? Жена, о чем-то тихонечко вздохнув, выскользнула из кабинета. Молодой человек (кажется, сосед по лестничной площадке) порывался что-то сказать, лицо его пылало, он тяжело дышал. — Вы соберитесь, — мягко сказал профессор, — соберитесь, голубчик, с мыслями. Сейчас я вам все расскажу! Шампольону и Лепсиусу было легче, чем мне!.. Если у вас будут сомнения, замечания, так вы не стесняйтесь… — Там, на берегу! — выкрикнул юный сосед. — Они с планеты Шерра! Космический зонд опустился в двух шагах от меня! Звезда называется Па-Теюк! Сейчас у меня произойдет перестройка сознания! Мне… я… я стану шерристянином, чтобы смотреть на наш мир его глазами!.. — Что? Ах, да, — сказал Виктор Витальевич Ворошейкин. — Но вы, голубчик, послушайте только!.. Он опустил одну руку на плечо молодого человека, а другой безошибочно вытащил из груды бумаг на столе какой-то конверт с красивым заграничным штемпелем. — Доктор Рип ван Винкль, президент Амстердамского археологического союза, писал мне еще совсем недавно… Профессор начал издалека. Читатель, без сомнения, уже понял: Миша Стерженьков был настоящим спортсменом. Конечно, он воспитал в себе такие завидные качества, как выдержка, мужество, самообладание. И вот это только что виденное читателем досадное непонимание, проявленное соседом по лестничной площадке, известным всему миру эстуарологом, к которому потрясенный Миша прибежал прямо из леса, чтобы его, единственного знакомого нашему герою ученого, поставить в известность обо всем, не выбило Мишу из колеи окончательно, а напротив, заставило внутренне мобилизоваться, сконцентрировать волю, собраться с мыслями, как перед стартом на ответственных соревнованиях, положим, на первенство Москвы. Когда Миша, потеряв всякую надежду обратить внимание профессора на событие Контакта с цивилизацией планеты Шерра (а кому же еще надлежало сообщить об этом в первую очередь, как не человеку науки?), еле-еле сумел выбраться из квартиры ученого, заваленной грудами древностей и десятками тысяч книг на множестве языков, оставалось всего девять минут до того момента, как должна была свершиться перестройка Мишиного сознания на шерристянское (время Миша все-таки, по чисто спортивной привычке, сумел засечь, несмотря на смятение). И, стоя на лестничной площадке, он уже полностью держал себя в руках, строй его мыслей был логичным и четким, словно запись уверенно и рационально проведенной шахматной партии. Ну что ж, к соседу-ученому, куда несколько минут назад ноги привели Мишу Стерженькова словно сами собой, он пришел в неподходящий момент; Виктор Витальевич Ворошейкин, видимо, только что сделал какое-то очередное важное открытие, касающееся его эстуарцев (о существовании такого древнего народа, надо признаться, Миша осведомлен был весьма приблизительно), и голова профессора, конечно, в данный момент была занята только этим. Ученые — они и есть ученые, с той же меркой, что к обыкновенным людям, к ним подходить нельзя. Так, значит, во всем надо разбираться самому, не надеясь на чью-либо помощь, как и подобает настоящему человеку спорта. Итак, все это произошло на самом деле. Доказательства имелись налицо: рубашка Миши до сих пор была застегнута лишь на одну пуговицу и шнурки ботинок волочились по мозаичному полу лестничной площадки. Миша Стерженьков спохватился и стал приводить себя в порядок. Потом он вновь взглянул на часы — оставалось уже только восемь минут. Там, на берегу реки, случилось такое, чего еще никогда не было за всю многовековую историю человечества. Произошел первый Контакт Земли с какой-то далекой цивилизацией, намного обогнавшей землян в своем развитии, уверенно посылающей в космос звездолеты, ведущей грандиозные комплексные исследования по выявлению разумной жизни в гигантском районе Вселенной. Миша вдруг попробовал представить себе этот район Вселенной и почувствовал легкое головокружение, какую-то сосущую пустоту внутри, даже похожую отдаленно на ужас; но тут же он снова взял себя в руки. Ему, Мише Стерженькову, самому обыкновенному землянину, простому студенту отделения настольного тенниса физкультурного техникума, выпало столкнуться с чужим разумом первым. Может быть, когда-то во всех учебниках истории будут его, Стерженькова, Портреты, подробные описания того, как это было на берегу, появятся, конечно, различные легенды, авторы учебников присочинят что-то свое, и конечно же имя Михаила Стерженькова останется в веках! Миша сглотнул и отогнал эти не очень достойные мысли прочь. Главное ведь было не в этом. Итак, произошел первый Контакт. Да, Контакт произошел, но следствием его будет то, что ему, Мише Стерженькову, предстоит на какое-то время утратить свое привычное сознание, свои мысли, свой сформировавшийся взгляд на мир. Взамен — приобрести сознание чье-то чужое, стать кем-то совсем другим, потерять свое «я» и приобрести неизвестно что. Но каково это будет — потерять свое сознание, смотреть на мир чьими-то чужими глазами? И какие они, эти чужие глаза? Что можно ими увидеть? Каков вообще этот чужой разум, сформировавшийся где-нибудь на расстоянии во многие световые годы от родной планеты, неизвестно в каких условиях? Что обнаружит он на Земле, какие сделает выводы, какое примет решение?… Миша Стерженьков почему-то вспомнил мрачный роман Герберта Уэллса, прочитанный еще в третьем классе, поежился и снова стал овладевать собой, Он все еще стоял на лестничной Площадке, оставалось только шесть минут. Но ведь на все это надо смотреть совсем по-другому! Ведь жители загадочной планеты Шерра из системы лиловой звезды Па-Теюк оказали ему, Стерженькову, неслыханное доверие: стать, по сути дела, посредником в установлении Контакта с Землей. Контакт с братьями по разуму на других планетах шерристянам необходим, они его ищут… как искали бы его и земляне, если бы им уже позволял это уровень развития. И то, каким станет их Контакт с Землей, зависит теперь целиком от Миши. Эта почетнейшая миссия, между прочим, могла бы выпасть на долю кого-нибудь другого — Мише стоило только остаться дома, и аппарат, построенный шерристянами, опустился бы с неба к кому-нибудь еще. (Интересно, почему он опустился точно в двух шагах от Миши? Может быть, наблюдал сверху, выискивая подходящие для Контакта условия — чтобы землянин был один, чтобы место было укромным и тихим?) Значит, надо не ударить лицом в грязь, оправдать высокое доверие просвещенных шерристян, выполнить все как надо. Миша Стерженьков глубоко, значительно вздохнул, широко расправил плечи и стал спускаться по лестнице. Как это будет? Наверное, когда он станет инопланетянином, Земля все-таки будет ему не совсем чужой — ведь какие-то предварительные сведения о ней шерристяне уже получили, сведения эти должны быть известны среднему жителю планеты Шерра… Пройдя один пролет, Миша остановился и оглянулся на дверь своей квартиры. Мысль о том, что должно с ним произойти, пришла ему в голову; пожалуй, стоило бы все-таки кого-нибудь предупредить… кто знает… просто предупредить… на всякий случай! Некоторое время Миша задумчиво смотрел на дверь с номером «59». Семиклассница Стерженькова Татьяна была существом юным и легкомысленным, доверия недостойным. Иннокентий Иванович Стерженьков находился у себя в музее, а мама сейчас где-то далеко вела свой сорокатонный самосвал, не подозревая даже о том, что в жизни ее сына и всего человечества вообще только что имело место событие исключительной исторической важности. Но ведь был еще один человек… Миша стремглав кинулся по ступенькам вниз, нащупывая в кармане брюк двухкопеечную монету. Телефон-автомат стоял у подъезда. (Ей, Наде Переборовой, студентке музыкального училища по классу виолончели, еще не раз предстоит появиться в изложении истории Миши Стерженькова. Оставим пока его самого, ему надо пробежать по лестнице ни много ни мало двадцать восемь пролетов, есть время сообщить о Наде некоторые предварительные сведения. Миша познакомился с ней, проводя очередную велосипедную тренировку на улицах Москвы. Надя возвращалась с выступления, где в дуэте с лучшей подругой с успехом исполнила Концерт для виолончели с трубой современного композитора Дупелькова. Все еще оставаясь мыслями в переполненном, взрывающемся овацией зале, она вышла на проезжую часть на красный свет, и… и драматического столкновения с велосипедистом было бы не миновать, если б этим велосипедистом не был Миша. Систематические занятия спортом, правильный образ жизни, соблюдение режима дня помогли ему выказать ловкость, недоступную даже и самым бравым киногероям из некоторых занятных, на первый взгляд, но пустых заграничных лент. Другого выхода уже не было, и Надю он подхватил на полном ходу вместе с виолончелью и понесся вперед, увозя ее все дальше от того места, где она даже не успела пережить испуг. А потом? Потом все было так, как и должно было быть: молодые люди вместе ходили на концерты, в театры и в кино, совершали лыжные прогулки и посещали бассейн, и каждый постоянно открывал в другом радостные и близкие себе качества и черты. Словом, дружба, начавшаяся уже год назад, продолжала крепнуть, и кто удивится, что именно Наде Переборовой кинулся звонить Миша Стерженьков!) Оставалось две минуты. Миша опустил монету и набрал номер. Раздались длинные гудки. Стремительно летели секунды. Наконец трубку сняли, и Надин дедушка, отставной каперанг, хриплым басом сказал: — Капитан первого ранга Переборов слушает! — Пожалуйста, Надю, — как всегда, чуть робея от баса, попросил Миша Стерженьков. — Есть Надю! — услышал он четкий, лаконичный ответ. Оставалось уже меньше минуты. В телефонной трубке, когда смолк капитанский бас, слышна стала виолончель — Надя, значит, была дома. Потом раздались легкие, быстрые, но казавшиеся Мише ужасно медленными шаги, и вот Надина рука, только что державшая смычок, взяла телефонную трубку. — Надя, не перебивай, слушай, что я тебе скажу, осталось двадцать секунд, событие исключительной важности, — скороговоркой, торопясь, начал Миша. — Я сейчас был на берегу, готовился к зачету… только не перебивай… и космический корабль с Шерры… Но в этот самый момент в Мишиных глазах вдруг потемнело, исчезла куда-то телефонная будка, все завертелось кругом, и только рука еще чувствовала трубку. Откуда-то издали, словно из-под воды, донесся обеспокоенный девичий голосок, но смысл сказанного уже не доходил до сознания, и голосок становился все встревоженней, встревоженней… Рассказать обо всем Наде Переборовой Миша уже не успел. В его голове что-то начинало меняться. Еще на один короткий миг он вновь увидел, что стоит в будке телефона-автомата, держа трубку в руках, но уже в следующее мгновение все в глазах снова покрылось мраком, все уплыло куда-то, и последним, уже машинальным движением Миша Стерженьков повесил трубку на рычаг. Потом в его глазах возникли какие-то цветные узоры, они все время менялись, и скорость перемен стремительно росла, пока узоры не заплясали в бешеном, невероятном калейдоскопе; в ушах раздался нарастающей силы звон, в наконец все исчезло и смолкло, наступили мрак, тишина, пустота… …Шерристянин увидел себя внутри какой-то странной конструкции неизвестно какого назначения — таинственном результате земной инженерной мысли. Рядом с конструкцией, снаружи, проложена была полоска из темно-серого вещества; изредка по ней с ужасающим грохотом проползали механические сооружения, порождение чужого разума. Шерристянин втянул носом воздух — по-особому, так, чтобы определить точный химический состав темно-серой ленты. По ту сторону полосы начинались заросли земной растительности. Растительность была неплоха: своеобразного зеленого цвета, достаточной высоты, приятна на глаз по форме. Об этом, впрочем, он был уже осведомлен, изучив сведения, собранные о Земле автоматическими зондами. Раздался неприятный звук, и шерристянин повернулся направо. Снаружи, вплотную к конструкции, в которой он находился, стоял землянин и барабанил каким-то маленьким круглым предметом по прозрачному веществу, вделанному в дверцу. Теперь предварительные сведения, полученные с помощью зондов, помогли шерристянину определить, что землянин был женского пола, землянкой. Побарабанив немного, она сделала непонятный жест: показала зачем-то три пальца и из стороны в сторону покачала головой. Шерристянин быстро уловил биотоки жителя Земли и, разгадав их смысл, толкнул от себя дверцу. Слегка пожав плечами, он ступил на полосу из темно-серого вещества и двинулся по ней наугад. Инопланетянину уже не раз случалось вот так же попадать в неизученные миры…Глава третья
Дальнейшее изложение истории Миши Стерженькова, ставшего неожиданно для себя шерристянином, требует теперь краткого отступления. Увы, автор вынужден сказать о том, что начиная с этого момента рассказ его в отдельных местах становится не очень полным, что многие подробности приходится опускать, описывая дальнейшие приключения юного спортсмена. Но как поступить иначе, если выше человеческих сил задача, например, описать мыслительный строй посланца другой цивилизации, невообразимо опередившей нашу по уровню развития? Если подумать, каждому станет ясно, что строй этот не может быть доступен нашему пониманию, человеку пока не постигнуть его. И тут уж ничего не поделаешь: мы понимаем лишь то, что уложено в привычные нам рамки, и никому не дано шагнуть за них дальше. Только одному Мише Стерженькову на короткое время приоткрылись глубины чужого разума, в сравнении с которым разум любого из нас не глубже сектора прыжков в длину; но и сам юный спортсмен, вновь обретя потом сознание землянина, не сумел, конечно, передать нашими словами тончайшее сочетание ощущений, чувств, ассоциаций, переживаемых шерристянами. Понятно, что невыполнима и другая задача: невозможно, пользуясь лишь нашими современными понятиями, убедительно раскрыть природу и механизм всех применяемых на Земле шерристянином способностей и свойств, аналогий которым не сыщешь на сегодняшний день ни у одного из жителей нашей планеты; не объяснить и того, каким, собственно, образом Миша Стерженьков вместе с сознанием шерристянина приобрел и чисто физическую возможность применять эти свойства, — ведь внешне его организм не претерпел никаких изменений. Факт же между тем не перестанет быть фактом — так было на самом деле! Непостижимо для нас, скажем, удивительное умение инопланетянина произвольно превращать пространство в разнообразные предметы, но ведь не раз проделывал это посланец далекой планеты, вникая в закономерности чужого мира: превратил, например, крошечную часть окружающего его пространства в несколько двухкопеечных монет, на которые тут же накупил газет, как это делали рядом с ним настоящиеземляне, и проглотил их в одно мгновение, мигом усвоив и осмыслив все, что только в них содержалось. Трудно поверить и в то, что шерристянин легко проникал взглядом сквозь любые преграды, читал мысли прохожих, мгновенно разбирался в сущности любого землянина и т. д. и т. п. Короче, еще не раз встретится в истории Миши Стерженькова такое, что на данном этапе своего развития мы можем, приспосабливаясь к нашему современному ладу, передать лишь весьма приблизительно. Чего же другого, однако, можно было тут ожидать и надо ли огорчаться, досадуя на кажущуюся ограниченность человеческой мысли? Не правильней ли, сравнивая себя с шерристянами, задуматься над теми поистине головокружительными далями, которые предстоит еще преодолеть человечеству в процессе эволюции? И, конечно, они преодолимы: придет время, и сегодняшний день мы будем вспоминать с чувствами, похожими на те, какие сейчас вызывает воспоминание, скажем, об охоте на мамонтов или первобытных способах добывания огня. Придет время, когда… Но и на такие размышления о манящих перспективах человечества не стоит тратить чрезмерное время — история Миши Стерженькова увлекает нас дальше, и ведь не только тем, чего еще не дано нам понять, представляет она интерес. …Полчаса спустя шерристянин находился на перекрестке двух оживленных улиц и занят был тем, что подводил первые, предварительные итоги. С чужой планетой к этому моменту, о различными проявлениями жизни на ней, он уже освоился полностью, мигом постигнув язык землян; временами он даже думал на нем, хотя, конечно, и чувствовал то и дело недостаток в словах: их было мало, невозможно мало в земном лексиконе для выражения сложнейших мысленных чувств жителя другой планеты. А первые итоги получались такими… Земляне, без сомнения, были живым, энергичным, многообещающим народом. Жизнь чужой планеты кипела и бурлила, сталкивая отдельные личности и целые группы в отношения, разнообразный характер которых требовал еще отдельного исследования. Несомненным и непреложным был тот факт, что перед населением планеты, только-только начинающим активное и сознательное наступление на тайны природы, лежала длинная дорога непрерывного развития, — дорога, по которой уже столько было пройдено самими шерристянами. Земляне же сделали на ней пока лишь несколько робких, неуверенных шагов… На короткое мгновение разведчиком-шерристянином овладело даже чувство, которое весьма примитивно и приблизительно можно, пожалуй, назвать на нашем языке умилением. (Вот так же, наверное, с сочувствием и легкой понимающей улыбкой смотрит на очень молодое поколение человек, чья собственная молодость приходится на отдаленные уже годы.) Шерристянину вспомнилось и о юности своего собственного народа, захотелось извлечь для сравнения из глубин своей памяти такие исторические картины жизни на Шерре, которые уже были даже почти не видны, скрываясь за отдаленными горизонтами времени. И он сделал это, сделал; но снова, увы, мы вынуждены отказаться от описания того, что прошло перед его мысленным взором в короткие эти мгновения. Ведь нам, землянам, недоступно воспринимать бытие Шерры и историю этой далекой планеты так же, как воспринимают их с высот своего разума шерристяне. Поэтому и описание прошлого Шерры (а уж ее настоящего тем более!) в нашем пересказе, конечно, далеко бы не соответствовало действительности. И лучше отказаться от этого совсем, как, скажем, без сомнения отказался бы какой-нибудь литератор индейского племени иокотубаба, в словаре которого лишь три десятка слов, если б ему предложили перевести на свой язык трагедию Шекспира… Время! Нельзя было терять его драгоценные крупицы. И, подведя первые, общие итоги, шерристянин приготовился окунуться в земную жизнь еще глубже. Он был до сих пор наблюдателем. Теперь, согласно программе исследований, ему предстояло самому немного пожить жизнью собрата по разуму, испытать все, что происходит в течение какого-то временного отрезка с коренным обитателем планеты Земли. Человек с другой планеты включил участки мозга, зафиксировавшие в момент трансформации множество точных и подробных сведений о землянине, в чьей физической оболочке он находился. Тогда мгновенно он стал ощущать себя Мишей Стерженьковым, легли на его плечи все заботы юного спортсмена, определились цели, обрел вес и остальной, отлично знакомый всем нам земной груз. (Но ощущая себя теперь Мишей Стерженьковым, на самом деле шерристянин не переставал, конечно, оставаться шерристя-нином. Снова мы столкнулись в этом с явлением, которое не перевести точно на язык наших представлений. Может быть, правда, чуть вернее было бы сказать, что шерристянин наблюдал за землянином, чьей жизнью он начал жить как бы со стороны, хотя на самом деле вовсе и не со стороны, а изнутри?) И он взял путь к шестнадцатиэтажному типовому дому-башне на городской окраине, в котором семья Стерженьковых из четырех человек получила недавно новую трехкомнатную квартиру на пятнадцатом этаже. Хорошим было в этот момент настроение шерристянина, начавшего жить жизнью брата по разуму. С удовольствием он ощущал тренированное свое тело, как делал бы это Миша Стерженьков, любовался некоторыми встречными девушками, но не забывал, пи на мгновение не забывал, конечно, и о Наде Переборовой. Еще он думал о предстоящем наутро зачете, о международных соревнованиях по настольному теннису, которые скоро начнутся в княжестве Монако, о позавчерашней внушительной победе «Торпедо» над английской командой «Лидс Юнайтед» и дальнейших перспективах торпедовцев в очередном Кубке чемпионов… Резким, отточенной техники прыжком преодолел он лужу, оставшуюся после недавнего дождя, которую стороной обходили остальные прохожие, купил билет «Спортлото» и полюбовался линиями красной спортивной машины, проехавшей мимо по улице. Зорко глядя по сторонам, он заметил на одном из оживленных перекрестков старушку, которая собиралась перейти улицу. Конечно же, шерристянин, живя жизнью Миши Стерженькова, тут же поспешил к ней, чтобы взять ее под руку, перевести через оживленную магистраль, спросить, чем помочь еще. — Бабушка, — издали начал посланец чужого разума, — подождите… И вдруг… Вот и настал он — момент, после которого история эта повернула на новые, неожиданные для шерристянина рельсы. Инопланетянин почувствовал вдруг, как небольшой, но вполне достаточный заряд его энергии передался атомам тела старушки, и она рванулась с места со скоростью спринтера. Резким рывком она обошла плотную группу более молодых пешеходов и наконец, упруго оттолкнувшись от мостовой, совершила даже акробатический прыжок с двумя полными оборотами через мчавшийся автобус. Отлично выполнив приземление, старушка без дополнительного разбега легко, словно через барьер, перепрыгнула через мотоцикл и без малейших признаков усталости финишировала на противоположной стороне улицы. Раздался оглушительный скрежет тормозов, послышались растерянные трели милицейских свистков. Старушка, только что продемонстрировавшая отличную спортивную форму, мгновенно была скрыта густой толпой братьев по разуму. Шерристянин досадливо тряхнул головой. Нет, этого, конечно, как бы ему ни было жаль старушку, делать не следовало. Активно вмешиваться в земную жизнь, выходя за рамки возможностей землянина, жизнью которого он жил, исследователь не имел никакого права. Кто знал, какие это могло повлечь за собой последствия. Сдерживаться надо было во что бы то ни стало, вести себя только так, как бы это делал землянин… Толпа на другой стороне улицы продолжала густеть. Какой-то троллейбус, потеряв провода, стал поперек улицы, преградив движение. Растерянно переговаривались друг с другом, не зная, что делать, рослые милиционеры, люди, привычные ко всему, и наконец один из них дрогнувшим голосом сказал старушке: «Пройдемте!» Сама старушка что-то беззвучно бормотала и смотрела в небо. Шерристянин тряхнул головой еще досадливее. Впредь, конечно, надлежало вести себя на Земле осмотрительнее. Дав себе такое слово и вновь сосредоточив мысли на предстоящем утром зачете, шерристянин двинулся дальше. …Юное и легкомысленное существо Стерженькова Татьяна открыла ему дверь в квартиру № 59 на пятнадцатом этаже. С порога она выстрелила в посланца чужого разума очередью каких-то трескучих фраз: в силу легкомысленного и непочтительного своего характера она насмешливо обращалась к старшему брату на исландском языке, желая насладиться его замешательством. Есть еще такие девицы на свете, встречаются не так уж редко. И уже шерристянин открыл рот, чтобы суровым тоном сделать ей замечание и напомнить о должном уважении к старшим… Но в этот самый момент он снова не смог сдержаться. Излучение, обрабатывающее память, вырвалось из его глаз словно само собой, помимо его воли, и семиклассница Стерженькова Татьяна накануне экзамена по фольклору Исландии мигом начисто разучилась говорить по-исландски. А освободившиеся клетки ее памяти немедленно были заполнены знанием полных текстов сразу нескольких популярных брошюр, адресованных школьникам, — о культуре поведения, о скромности, об отношении к старшим и о некоторых других столь же важных вещах. Не глядя даже на юное и легкомысленное существо, растерянно и беззвучно то открывавшее, то закрывавшее рот, шерристянин прошел мимо и скрылся в комнате Миши Стерженькова, в той, откуда не так давно юный спортсмен ушел навстречу величайшему историческому свершению Контакта, И только здесь посланец чужого разума осознал, что он снова, не сдержав себя, активно преобразовал земную действительность, чего не имел права делать. Досада наполнила до краев все его существо. Шерристянин был очень собой недоволен: несколько минут назад он дал себе слово никоим образом не выходить больше за рамки возможностей братьев по разуму и все же еще раз вышел за эти рамки.Глава четвертая
Надя Переборова между тем… Да, читатель, пора уже вспомнить о Наде. Увлеченные описанием первых минут пребывания на Земле представителя иной цивилизации, мы оставили ее в весьма затруднительном положении. Представьте-ка, что это в ваши ежедневные пятичасовые упражнения на виолончели врывается телефонный звонок и Миша Стерженьков не своим голосом выпаливает в трубку ворох бессвязных, бессмысленных фраз — о двадцати секундах, будто бы оставшихся до события исключительной важности, о зачете по теории техники толкания ядра и, наконец, даже о каком-то космическом корабле неземного происхождения!.. Представьте затем, что Миша Стерженьков после всего этого замолкает на полуслове и в трубке воцаряется тишина. И что спустя еще несколько секунд в ней раздаются короткие и частые гудки — Миша в автомате повесил трубку. Ну что могла бы подумать Надя после подобного звонка? Конечно, она не знала даже, что и подумать. Растерянно она оглянулась на дедушку, в глубоком кожаном кресле читающего старинный роман «Вокруг света на бриге «Императрица Анна». Дедушка уже снова ушел в свое занятие так, как только он умел это делать, и не замечал больше ничего на свете. Потом Надя положила трубку на рычаг и еще несколько минут оставалась у телефона, надеясь, что вот-вот он зазвонит снова. Но в комнате стояла глубокая тишина, нарушаемая только шелестом старинных пожелтевших страниц, попыхиванием дедушкиной трубки, почти целиком утонувшей в его густой бороде, да еще приглушенным одобрительным бормотанием старого капитана, сопровождавшим некоторые избранные места, описанные хронистом прошлого века. И когда стало ясно, что звонка больше не будет, Надя растерянно вернулась в свою комнату и… снова взяла смычок. Чтобы выполнить ежедневную обязательную норму, оставалось играть еще ровно час, и рука исполнителя постепенно крепла, мощнее, увереннее звучал инструмент, мелодия уводила туда, куда и должно вести слушателя отточенное, настоящее исполнение. И никто не упрекнет Надю Переборову за то, что она после такого звонка вернулась к занятиям. Сильным и волевым натурам дано умение продолжать работу, что бы ни происходило вокруг, а ведь работа, труд наш — самое главное в жизни. Нельзя ее останавливать; какие бы личные события ни потрясли нас, надо продолжать свое дело, несмотря ни на что… и если уж остается еще час упражнений, значит, необходимо снова браться за смычок. Твердым и волевым человеком была Надя Переборова, всегда умела взять себя в руки и сосредоточиться на единственно главном, и эти ее качества, разумеется, особенно ценил Миша Стерженьков. Широко и мощно струились по квартире звуки старинного инструмента (дедушка, Афанасий Никитич, привез его в подарок внучке из последнего своего кругосветного путешествия, победив на аукционе в одном из зарубежных городов, знаменитом старыми мастерами виолончельного дела). Это была отличная скрипка! Подхватив белоснежными парусами ветры мелодий, плыли куда-то модели корветов и бригантин, венчавшие книжные шкафы с лоциями и морскими романами. Словно бы под звуки виолончели танцевал «Яблочко» юный тогда еще дедушка на пожелтевшей настенной фотографии времен русско-японской войны. И медленно, очень медленно совершали методичную свою работу стрелки старинных часов голландской работы, вывезенных дедушкой из города Барра-ди-Сан-Жуан на побережье Бразилии, на которые то и дело нетерпеливо посматривала Надя Переборова. (Вот и получается, что нет человека без слабостей. Усилием воли заставив себя вернуться к инструменту, Надя все-таки не смогла справиться с желанием, чтобы оставшийся час пролетел как можно скорее. Но нельзя проявлять и чрезмерную строгость: крайняя молодость может извинить Надю — со временем она, конечно, воспитает в себе еще более сильные моральные качества). Надя исполнила Второй концерт Дупелькова и еще несколько пьес для виолончели, написанных современными и старинными композиторами. Затем, тренируя руку, она принялась играть гаммы. Но и после гамм до истечения часа оставалось еще несколько минут, и она снова начала отрабатывать некоторые места Второго концерта Дупелькова, исполнением которого пока не во всем была собой довольна. Наконец голландские часы мелодично отбили время, и Надя бережно убрала инструмент в футляр. Дедушка все еще был поглощен описанием совершенного в прошлом веке кругосветного путешествия. Не желая его отвлекать, Надя написала ему записку азбукой Морзе — принятым между ними способом общения моряков, — и тихо выскользнула из квартиры. Быстро сбежала она вниз по лестнице. Спустя несколько мгновений стояла уже на трамвайной остановке. И, сменяя поочередно трамвай, метро и троллейбус, стремительно стала преодолевать километры большого города, в разных концах которого жили Надя Переборова и Миша Стерженьков. …Звонок юной виолончелистки был длинный, взволнованный. Затаив дыхание Надя прислушивалась к шагам за дверью, и дверь наконец отворилась. Улыбнувшись гостье приветливой, милой улыбкой, Таня Стерженькова сказала с порога: — А, Надя!.. Здравствуйте, я очень рада вас видеть! Проходите, пожалуйста!.. Почему-то вы уже очень давно у нас не были… Наверное, экзамены… Проходите… И Надя очень широко раскрыла глаза и даже растерянно отступила назад. Удивление Нади Переборовой было безграничным: ей показалось, что не Таня Стерженькова открыла ей дверь, а какой-то совсем другой, совсем незнакомый и, по-видимому, очень хороший человек, примерная и воспитанная ученица седьмого класса. Куда только девалась отвратительная привычка младшей Мишиной сестры, дерзко глядя прямо в глаза собеседнику, высказывать свое мнение о нем на не изучаемом обыкновенными людьми исландском языке! Где были непочтительность к старшим, вертлявость, а также и многое другое из того, что — это не секрет — бывает подчас свойственно представителям подрастающего поколения! И даже сам внешний вид Стерженьковой Татьяны претерпел вдруг разительные, необъяснимые перемены. (Вы представляете себе этот вид? Атрибуты его — пестрые расклешенные брюки, туфли с наимоднейшими, но нелепыми на самом деле каблуками, длиннющая блузка навыпуск, украшенная рисунком, какой нелегко создать обыкновенному художнику, но какой, конечно, без труда рождается в голове халтурщика, давно уже угадавшего вкусы стиляг или того хуже — тунеядцев. Растрепанная прическа и негармоничное сочетание красок на глазах, губах и ресницах усугубляют эту неприглядную картину.) Перемена была загадочной, полной, необъяснимой, и Надя Переборова во все глаза, не веря им, продолжала рассматривать простое и милое синее платьице в горошек (нормальной, естественной была его длина), две симпатичные косички, перехваченные бантиками голубого цвета, и голубые же домашние туфельки с каблуками длины не больше и не меньше, чем та, которую требует не мода, а целесообразность. — Мне… — растерянно пролепетала Надя, забыв о том, что еще несколько минут назад она могла думать только о Мише, — я… дело в том… Но, может быть… — Да-да, Миша дома, он у себя, — с той же приветливой улыбкой сказала Таня. — Что же вы не проходите? Миша только совсем недавно пришел… Теряясь в догадках (ничего правдоподобного не приходило ей в голову!), Надя переступила наконец порог. Могла ли она представить, какие необыкновенные события происходили совсем недавно за дверью квартиры № 59? А событий этих, причиной которых был разведчик чужого разума, человек с другой планеты, случилось уже немало. Читатель запомнил, конечно, как в конце предыдущей главы, не сумев себя удержать, инопланетянин стер из памяти младшей сестры Миши Стерженькова знание исландского языка, которым она щегольнула так бестактно и не к месту. А спустя некоторое время шерристянин вдруг вмешался в земную действительность, преобразовав ее помимо собственной воли еще раз. Это произошло в момент, когда, осознав, что с ней случилось нечто необъяснимое, Стерженькова Татьяна разразилась слезами, которые не смогла удержать, несмотря даже на все усвоенные брошюры о правилах поведения. Опять не сумев удержаться, шерристянин вернул ей утраченное знание языка, но при этом внезапно для себя самого перестроил структуру некоторых мозговых клеток семиклассницы исландской спецшколы так, что она тут же претерпела еще более существенные внутренние перемены: она сразу стала совсем другим человеком, и как раз таким, каким всегда бы хотел видеть свою сестру Миша Стерженьков. Обычными, земными способами он никак не мог этого добиться. Но решительно преобразовав земную действительность в третий раз, шерристянин уже почувствовал серьезное беспокойство. Словно бы какая-то неведомая сила то и дело заставляла его активно вторгаться в жизнь землян, и не было даже намека па разгадку того, в чем причина такого удивительного явления. Творилось что-то совершенно непонятное, такое, чего не было еще ни на одной из планет. Однако человек иного мира не мог сейчас думать только об этом — надо было продолжать жизнь землянина, собирая информацию, — и шерристянин, снова ощутив себя юным спортсменом, опустился на ковер, чтобы приступить к упражнениям из учения йогов. (Миша Стерженьков заинтересовался системой йогов уже несколько месяцев назад. Добросовестно и внимательно он проштудировал литературу — некоторые статьи прочел даже на английском языке. Освоив упражнения первой ступени йоги, теперь он рекомендовал их всем своим друзьям, а сам, повторяя их ежедневно, уже готовился приступить ко второй, более сложной ступени. Занятия йогов ощутимо увеличивали заряд бодрости и поднимали работоспособность; по совету Миши, даже Надя Переборова успела разучить несколько упражнений…) …Таня Стерженькова, ставшая совсем другим человеком, вежливо открыла перед Надей дверь в Мишину комнату и, извинившись, ушла, объяснив, что ей надо заниматься — мало времени остается до очень важного экзамена по фольклору Исландии. Надя проводила ее взглядом широко раскрытых глаз и только потом растерянно шагнула в комнату. Здесь она увидела Мишу, застывшего в хорошо знакомой ей «позе змеи», тряхнула головой, чтобы избавиться наконец от непомерного удивления, и вспомнила обо всех своих тревогах. Нет, в комнате, украшенной многочисленными кубками, вымпелами, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, фотографиями известных спортсменов, ничто не говорило о том, что с ее хозяином совсем недавно произошло какое-то исключительно важное событие, не было даже и намека на космический корабль внеземного происхождения. В самом Мише Стерженькове тоже не было заметно особых отклонений от той нормы, к которой Надя привыкла, — бодрым и подтянутым был его внешний вид, упражнение он делал добросовестно, с обычной старательностью. И Надя уже открыла рот, чтобы задать сразу очень много вопросов, буквально кипевших в ней и переполнявших все ее существо… — Миша, — начала она, — Миша… Но, прервав упражнение и поднявшись с ковра, Миша Стерженьков как-то по-особому взглянул Наде прямо в глаза, и тогда вместо всех вопросов юная виолончелистка почему-то вдруг сказала совсем другое. — Сейчас у меня есть время, — слетело у нее с языка, — ежедневную норму я уже выполнила. А днем мы ведь собирались с тобой… собирались в музей, помнишь, на выставку виолончелей эпохи позднего Возрождения… И без особой связи с предыдущим Надя добавила: — Что-то не очень мне дается Второй концерт Дупелькова… Миша Стерженьков в ответ согласно кивнул и стал собираться в музей, словно только и ждал Надиных слов. Нетрудно объяснить, что произошло. А что же еще оставалось шерристянину? Объяснить Наде он ничего не мог: в интересах успешного завершения программы исследований на Земле никто из землян не должен был знать о пребывании на планете посланца чужого разума. Шерристянин был вынужден предпринять кое-какие меры. Небольшое воздействие на некоторые мозговые центры — и Надя просто забыла о том, что некоторое время назад ее оторвал от занятий такой удивительный телефонный звонок. Не стоит, наверное, в подробностях описывать осмотр выставки виолончелей и прогулку в старом, тенистом парке поблизости от музея, которой он завершился. Многие, без сомнения, знакомы с тем, как выглядят музыкальные инструменты позднего Возрождения; прогулка же была самой обычной и ничем не отличалась от многих подобных прогулок, что уже были совершены Мишей и Надей до начала всей этой истории и, конечно, будут еще не раз совершены ими и в дальнейшем. Место прогулки? Оно тоже было именно таким, какие и выбирают в подобных случаях, — в парке было не слишком много людей, были цветы, деревья и трава, и слышался шелест листвы в ласковых струях летнего ветерка, и звучали загадочные птичьи переговоры, исполненные гармонии подчас ничуть не меньше, чем даже сложные виолончельные построения, выполняемые на инструменте XVIII века. Молодые люди беседовали о музыке и о спорте, делились мыслями и намечали общие планы, обсуждали прочитанные книги и фильмы, идущие на экранах… Конец прогулки? Он мог бы тоже быть точно таким же, как и у всех подобных путешествий вдвоем… мог бы, но на тенистой и не очень светлой поэтому аллее парка, ведущей к выходу, дорогу шерристянину, живущему жизнью Миши Стерженькова, и Наде Переборовой преградили семеро юных землян с лицами решительными и хмурыми. Только что эти молодые люди сломала несколько зеленых насаждений, изрезали ножами скамейку, разбили фонарь, бросили на землю окурки и повалили на газон урну для мусора. Теперь один из них, выступив вперед и сокрушив по пути плакат, запрещающий ходить по газонам, обратился к инопланетянину с речью энергичной и краткой… Хулиганы? Да, именно с ними столкнулся человек с другой планеты, с позорным, но изредка встречающимся еще в нашей действительности явлением. Это были они, любители показать спою удаль где-нибудь вдали от милиции, неряшливо одетые, расхлябанные юнцы с гитарами и длинными волосами. Но никто не позавидовал бы тем хулиганам, напрасно они, чувствуя па своей стороне всемеро превосходящую силу (ведь в таких только случаях, как известно, и обретает решительность подобный тип людей), закрыли дорогу Наде и шерристянину, намереваясь совершить еще один хулиганский поступок. Ощущая каждый мускул тренированного своего тела, инопланетянин, ведущий жизнь Миши Стерженькова, выступил вперед, закрывая собой Надю, и приготовился к тому, чего и следовало ждать в такой ситуации. Ему были знакомы приемы и бокса, и борьбы — вольной, классической и самообороны. Редкие прохожие, состоявшие в основном из бабушек с внуками, сворачивали на газоны, стремясь поскорее обогнуть опасное место; никто из них, похоже, не собирался приходить на помощь, и надо было рассчитывать только на себя… Но вновь произошло то, что потом вызвало еще большее беспокойство шерристянина. Какая-то неведомая сила заставила его вдруг снова, в очередной раз, преобразовать окружающую действительность так, как бы никогда не смог никто из землян. Сначала мгновенным излучением своей мозговой энергии шерристянин разделил Надю на атомы и в какую-то тысячную долю секунды переправил эти атомы через весь город к ней домой, где она, оказавшись в полной безопасности, немедленно материализовалась вновь — рядом с креслом дедушки, все еще с головой ушедшего в роман и потому даже не заметившего ничего. И тотчас же шерристянин занялся хулиганами… Нет, никто бы не позавидовал им в этот момент. Соответствующим образом перестроив молекулярные структуры их тел, он полностью всех преобразил. Вместо хулиганов вдоль аллеи немедленно выстроилась шеренга… из новеньких гипсовых статуй: застывшие в характерных позах на гипсовых пьедесталах метатель молота и толкатель ядра, дискобол и еще три атлетические фигуры спортсменов другого профиля. А самый неприглядный из нарушителей порядка, их вожак, стал даже статуей спортсменки — двухметровой высоты красивой гипсовой девушкой, опирающейся на четырехметровое весло. Мужественными и суровыми были лица статуй группы, несокрушимая мощь чувствовалась в гипсовых статуях, позы выражали непреклонную решимость состязаться с кем угодно, не щадя сил, непоколебимую уверенность в победе. И, осознав, что произошло, шерристянин от досады топнул даже ногой… и быстро, очень быстро пошел дальше. Продолжать жить жизнью землянина, собирая дальнейшую информацию, надо было все-таки, несмотря ни на что. А гипсовые фигуры так и остались в парке. И простые, хорошие люди, посетившие парк в целях отдыха, осматривая эти, может быть, и не слишком выдающиеся, но безусловно полезные, создающие у отдыхающих хороший настрой скульптурные произведения, и не подозревали о первоначальном состоянии гипсовых этих фигур, проходили мимо, не опасаясь ничего. В факт подобного превращения, конечно, не так-то легко поверить; возможно, в нем усомнится даже и тот, кто, в общем, привык уже к невероятным вещам, превосходящим любую фантастику, которыми просто перегружена история Миши Стерженькова. Что можно сказать на это? Наверное, никто не был бы против, если б подобные превращения происходили почаще, и уже одно это доказывает если не их возможность, то хотя бы желательность. А приводить более очевидные доказательства у нас пока просто нет времени, потому что повествование о приключениях шерристянина уже готовит и еще более неправдоподобные с виду факты.Глава пятая
— Так, значит, вот, — сказал Виктор Витальевич Ворошейкин увлеченно, — если вы поняли все предыдущее, последующее окажется уже гораздо более доступным для понимания, но некоторые аспекты последующего требуют все же углубленного представления о целом ряде вопросов предыдущего, которые следует очень хорошо уяснить, Профессор сделал короткую паузу и испытующе взглянул в сторону слушателя. Взгляд его слегка затуманился. — Ну, что тут можно сказать? — продолжил он неуверенно, — С монографией доктора Е. фон Кадш вы, конечно, вряд ли знакомы. А я вам настоятельно рекомендую, на немецком языке, блестящие отклики эстуарологов всех стран., Какая голова, а ведь женщина, подумать только, я сам писал рецензию, свежий взгляд, опубликовано в вестнике… Еще несколько секунд профессор размышлял, сосредоточенно глядя на лист бумаги, лежащий перед ним. Рука его чертила эстуарские значки, греческие буквы, какие-то цифры… — А впрочем, — сказал он слегка огорченно, — монография для вас, пожалуй, сложновата. К тому же нет времени. Сейчас я перескажу монографию в нескольких словах!.. Белая кошка Пенелопа, любимица Марьи Ивановны, жены, рассеянно встала, зевнула и перешла из одного угла кабинета в другой. — Итак, эстуарцы пользовались в своем языке целым рядом глагольных форм, что теперь известно, конечно, каждому образованному человеку. Но представьте, что лишь в прошлом веке знаменитый французский исследователь Жан-Батист Дюбуа подметил, что… Да что вы, куда же вы, я же ничего толком еще не рассказал… Профессор Ворошейкин поспешно кинулся к двери и закрыл ее на ключ. Ключ он убрал в карман и, близоруко щурясь, стал смотреть на Пенелопу, попытавшуюся было уйти в другую комнату, осуждающе покачивая головой. — Ах, Пенелопа, Пенелопа, неужели это вам совсем неинтересно? А ведь история Эстуарии, хотя о существовании такого древнего государства ученые узнали совсем недавно, даже в масштабах всего древнего мира, в масштабах всей нашей планеты, я бы даже сказал, в масштабах космических… в космических масштабах?., да, в масштабах космических!.. Ах!!! Виктор Витальевич на мгновение застыл, а, потом стремительно поднял свое длинное, худое тело из-за письменного стола. Память, работавшая у него импульсивно, не всегда ему подчиняясь, вдруг подсказала кое-какие воспоминания, ассоциируемые с последними его словами. — В космических? — машинально пробормотал он еще раз. — В космических? Нет, это невероятно, это неправдоподобно!.. И все же… Нет… И все же… Когда-нибудь это должно неминуемо… И я… Простонав, профессор бросился к двери и дернул ее за ручку. Дверь почему-то была заперта, и Виктор Витальевич нетерпеливо стал искать ключ. Найдя его наконец у себя в кармане, он настежь распахнул дверь и крикнул задыхающимся голосом: — Маша! Маша! К нам ведь кто-то приходил недавно?… Какой-то молодой человек, вроде бы наш сосед, а?… Он еще рассказывал мне о том… Из кухни прилетел приглушенный голос жены: — Приходил мужчина, ошибся квартирой. Приходили пионеры, спрашивали макулатуру. Но откуда же у нас макулатура? Мальчик… ну, этот физкультурник с нашей лестничной площадки, приходил тоже… — И что, что он говорил? — крикнул Ворошейкин, с сильно бьющимся сердцем дожидаясь ответа. — Ты вспомни, Маша, вспомни! — Мальчик? — переспросила жена. — Да, Витя, ты знаешь, мальчик приходил как-то странно. У него был беспорядок в одежде… — Что говорил он? — крикнул Ворошейкин, теряя терпение. — Я ничего не поняла, — донесся из кухни голос жены. — Какие-то космические корабли, посланцы с других планет… Наверное, он начитался этих романов. И знаешь, Витя… — О-о! — простонал Виктор Витальевич. — Так и есть! Так и есть! Еще несколько секунд он думал, держась за голову руками. — Маша! Маша! — закричал он потом. — В какой он живет квартире? И как его, кстати, зовут? — В пятьдесят девятой, — ответила из кухни жена. — Зовут его Миша. Он сын Иннокентия Ивановича. Знаешь, этот интеллигентный человек, всегда ходит с большим черным портфелем, работает в каком-то музее… И знаешь, Витя, мне показалось… Известный эстуаролог Виктор Витальевич Ворошейкин, уже не владея собой, выкрикнул во весь голос: — Ты представляешь, что произошло?! Первый Контакт!!! Пришельцы из космоса!!! И профессор стремглав вылетел из квартиры. Близоруко щурясь, он нашел на одной из дверей своей лестничной площадки табличку «59» и что было сил надавил на кнопку звонка. За дверью было тихо. Профессор еще раз нажал кнопку, налегая на нее всей тяжестью тела, и дверь наконец открылась. На пороге стояла симпатичная девочка в синеньком платьице в горошек. Увидев соседа, чье имя было известно всему культурному человечеству, она слегка смутилась, покраснела и тихо сказала: — Здравствуйте, Виктор Витальевич! Вы к папе? Его еще нет, но вы, пожалуйста, проходите… — К папе?! — почти проревел профессор, и девочка даже испуганно отшатнулась. — Нет, не к вашему папе! Я к мальчику… как его зовут… тебе он, наверное, брат, а вашему папе сын, мне его нужно немедленно, с ним произошло такое, где он, завтра об этом узнает весь мир, да!.. Профессор Ворошейкин стремительно влетел в прихожую. — Миша… — пролепетала девочка, изменившись в лице, — с ним что-то случилось, да?… Вы знаете?… Где… где он сейчас?… — Случилось?! — прогремел профессор. — Твой брат — пришелец из космоса, поняла? А ты ничего об этом не знаешь! Его сознание перестроено! То есть он сейчас не он, поняла? Он смотрит на наш мир глазами жителя другой планеты, собирая информацию о Земле, поняла? Это Контакт, поняла? Свершилось, и пришелец из космоса — твои брат! — Перестроено сознание… — еле слышно выдавила из себя Таня Стерженькова. — Информацию… из космоса?… Что вы говорите?… Миша сказал, что скоро придет, они с Надей пошли в музей, а вы… И без сил она опустилась на стул. Десять минут спустя, сбивчиво и путано объяснив девочке в синем платье суть того, что произошло с ее братом (многое, очень многое еще не было ясно и ему самому), Виктор Витальевич пулей вернулся в свой кабинет и схватил телефонную трубку. Набирая номер за номером, он сыпал взволнованными фразами: — Академика Сидорова! Как — кто? Ворошейкин!.. Вася, это ты? Скорее приезжай ко мне, ты астроном, прямо сейчас, да что тут объяснять, случилось такое, бери машину — и мигом!.. — Академика Колбова! Да-да, Ворошейкин!.. В Париже? Какой там симпозиум, немедленно дайте молнию, да-да, это я, Ворошейкин, текст такой: «Саша запятая немедленно аэропорт Орли и мне домой запятая событие исключительной важности точка». Да о чем это вы, молодой человек, говорите, это надо немедленно, да!.. — Коля, ты? Никакой работы, ты писатель-фантаст, ты нужен немедленно… Случилось, да, случилось такое, о чем тебе никогда не снилось. Я сказал — не-ме-длен-но, жду через пять минут!.. — Газета? Говорит Ворошейкин! Да, Леонид Борисович, здравствуйте, немедленно приезжайте, вы лучше всех из научных журналистов рассказали широкому читателю о сущности моих методов дешифровки, помню все время, теперь повод другой, да, даже важнее, голубчик, ну что вы расспрашиваете, сказал же, нужны, никакой летучки!.. — Академика Овражина!.. Немедленно приезжай!.. — Академика Сивцова!.. Приезжай немедленно!.. — Члена-корреспондента Второва!.. Жду через пять минут!.. — Директора института Корзинина!.. — Профессора Реброва!.. — Доцента Привалова!.. — Аспиранта Бутурлакина!.. — Доцента Дегтярева!.. Телефонная трубка стала горячей, словно накалилась от взволнованного потока слов. Бросив ее на рычаг, профессор Ворошейкин вновь кинулся в квартиру Стерженьковых, на ходу крикнув жене, давно уже привыкшей не удивляться ничему: — Маша, слушай! Сейчас ко мне начнут приходить очень много людей, всех посылай, да-да, посылай в пятьдесят девятую, я там, да, всех!.. По комнатам пятьдесят девятой квартиры, ошеломленная всем услышанным, взад и вперед бродила Стерженькова Татьяна. Профессор Ворошейкин с порога атаковал ее множеством вопросов — о том, как Миша Стерженьков жил раньше, чем увлекался и т. д., - и Таня стала давать растерянные, односложные ответы. Еще несколько минут спустя у подъезда хлопнула дверца черной «Волги», и из машины выскочил живой и энергичный человек средних лет — академик Сидоров. Почти тотчас же к дому, где жили Виктор Витальевич и Миша Стерженьков, подъехали академики Овражин и Сивцов и известный писатель-фантаст Синхронов. Затем прибыли член-корреспондент Второв и молодой научный журналист Леонид Васнецов, лучше всех рассказавший широкому кругу читателей о сущности метода Ворошейкина. Подъехало еще несколько машин… И скоро в гуле растерянных голосов окончательно потонул голос профессора Ворошейкина, все время снова и снова сбивчиво начинающего свой рассказ о необыкновенном перевоплощении юного землянина в представителя иной цивилизации. Говорили все разом, перебивая друг друга, и в шуме теперь можно было разобрать лишь отдельные фразы: — …Необходима, конечно, специальная комиссия, да… — …Виктор Витальевич, и вы не сразу… — …Телевидение еще рано, надо все точно установить… — …Но ведь это… да ведь это… — …Да, сначала, конечно, самим… — …Однажды я видел наскальный рисунок… — …Это его сестра?… — …Я часто читаю Саймака… — …Обещал скоро вернуться, она сказала… — …Газета, конечно, специальным выпуском… — …Невероятно… — …Они прилетали в Японию, я точно говорю… — …Конечно, надо ждать здесь… — …А я, я — то с утра собирался… — …Необходимо продумать… — …Девочка, а как ты думаешь… — …А где он может быть сейчас?… — …Таня, ее зовут Таня… — …Представьте, я в это не верю… — …Решить, как его встретить… — …А еще в Сахаре, знаете, есть гипотеза… — …Какие вопросы… — …Но, не зная, о чем… — …Да нет, рано, я вам говорю, рано… — …Голова в шлеме, видны мельчайшие детали… — …Подготовиться надо как следует… Еще час спустя в квартире Стерженьковых раздался резкий звонок, и все замерли. — Он! — прошептал в наступившей тишине профессор Ворошейкин. — Внимание! Я сам открою!.. Академик Сидоров зачем-то поправил галстук. Член-корреспондент Второв нервно полез в карман пиджака за расческой. Писатель-фантаст, чувствуя значительность момента, посмотрел на часы. Журналист Леонид Васнецов поднял фотокамеру. Виктор Витальевич на цыпочках пошел к порогу, секунду помедлив, едва слышно прошептал: «Вот он, человек иного мира!», и осторожно отворил дверь. И приятный девичий голосок смущенно и вежливо спросил с порога: — Скажите, пожалуйста, профессор Виктор Витальевич Ворошейкин сейчас находится здесь? Профессор кивнул, ничего не понимая, и пальцем показал себе на грудь. — Из вашей квартиры меня послали сюда, — сказала белокурая симпатичная девушка, держащая в руках объемистый сверток. — Я из бюро находок. Три дня назад вы забыли на Крымском мосту какую-то древнюю вазу. Ее принесли нам пионеры пятого «Б» школы номер семьсот пять. Наверное, она очень ценная. А в вазе лежало письмо, на конверте которого есть ваш адрес. Получите, пожалуйста, и эту древнюю вазу и письмо… …Да, ученые, собравшиеся в квартире Стерженьковых, встретились в этот момент, увы, не с представителем иной цивилизации, как ожидали. Да и как, впрочем, могли они с ним встретиться, если сам Миша Стерженьков находился в эти мгновения совсем в другом месте: на расстоянии нескольких автобусных остановок от своего дома и на таком же примерно расстоянии от парка, в котором недавно он гулял с Надей Переборовой. И в квартале, где он был, опять происходили события, необъяснимые и загадочные для коренных, настоящих землян. В шести квартирах этого квартала с нетерпением ждали слесаря-водопроводчика, вызванного уже давным-давно, а он, как это нередко бывает, все не шел, и различные водопроводные неполадки в этих квартирах принимали уже угрожающие размеры. А потом совершенно неожиданно в каждой из шести этих квартир водопроводчики возникли прямо из воздуха, из ничего — шесть совершенно одинаковых деловитых мужчин в синих спецовках и с наборами слесарных инструментов, такие именно, словом, мужчины, какими и должны быть настоящие, всамделишные водопроводчики. Шесть хозяев квартир — отставной полковник авиации, пожилой кинорежиссер, тренер известной футбольной команды, молодая девушка, работающая в театре осветителем, пенсионерка и ученик второго класса Вова Кузьмин — оторопело пронаблюдали, как эти возникшие из ничего водопроводчики быстрыми и точными движениями устранили неисправности и, дав целый ряд полезных советов, вновь растворились в воздухе. Конечно, причиной этого столь необъяснимого явления вновь оказался разведчик чужого разума, инопланетянин. Это он, подчиняясь действию прежних неведомых сил, превратил пространство в шестерых водопроводчиков и послал их туда, где они были нужны, а затем, особым образом перестроив механизм зрения, проследил одновременно за всеми шестью картинами их действий. Несколько секунд спустя все шесть одинаковых водопроводчиков, созданных им из окружающего пространства, почему-то оказались на улице. Держась тесным строем, они прошли по тротуару несколько шагов и на глазах у прохожих стали уменьшаться в размерах, сливаясь одновременно друг с другом. Скоро они превратились в темно-синий шар размером с футбольный мяч, а потом исчезли совсем. В воздухе медленно растворилось позвякивание слесарных инструментов. — Ты видел, видел?! — испуганно выкрикнул кто-то совсем рядом с Мишей Стерженьковым. Инопланетянин быстро оглянулся. Рядом, очень взволнованный, стоял его товарищ по техникуму, живущий где-то в этом квартале, чемпион по стоклеточным шашкам Костя Аглашин. — Нет, я ничего не видел, — пробормотал посланец чужого разума, мощным усилием воли возвращая себя к жизни землянина. — Ничего не видел… А ты, так-то ты готовишься к зачету?! — выдавил он из себя укоризненно и тут же стремглав бросился прочь. Шерристянин почувствовал, что окончательно теряет над собой контроль.Глава шестая
…Как дальше рассказывать невероятную историю Миши Стерженькова, какие использовать для этого описательные средства, какой выбрать прием из тех, что приняты в художественной литературе, чтобы с их помощью оказалось возможным донести до читателя хотя бы приблизительное представление о том, что случилось дальше?… О серьезном продолжении второго этапа исследований на Земле теперь уже не могло быть и речи: что-то неведомое, заставлявшее шерристянина вмешиваться в земную жизнь, властвовало теперь над ним вовсю. Разведчик-инопланетянин уже никакими усилиями воли не мог заставить себя продолжать жизнь землянина, и в очень короткое время он совершил множество поступков,которые до него еще не были совершены на Земле и которые вряд ли будут повторены в дальнейшем. Сначала, убежав от Кости Аглашина, шерристянин стремительно шел по улице, не зная даже толком, куда он идет. Размышления шерристянина были сбивчивы и сумбурны — самые разнообразные, порой просто невероятные догадки о причинах происходящего одолевали его, и неизвестно было, какая из них была ближе к истине. Инопланетянин рассекал волны прохожих-землян. В тысячные доли секунды автоматически, не прерывая сумбурных своих размышлений, он узнавал все о каждом из этих людей. И, наконец, в двух шагах от одного из прохожих неведомая сила, подчиняясь которой уже столько раз вмешивался шерристянин в бытие землян, снова властно потребовала немедленного вмешательства. Прохожий этот был маленькой и морщинистой старухой в блеклой зеленой кофте и с большой клеенчатой сумкой в руке. Фамилия старухи, как мигом стало ясно шерристянину, была Захарова, проживала она в многолюдной коммунальной квартире и преимущественно была занята тем, что мешала жить простым и хорошим своим соседям: выдумывала о них разнообразные сплетни и писала анонимные письма в различные инстанции и органы. Зловредная склочница уже целые десятилетия продолжала отвратительную свою деятельность и с возрастом даже словно бы обретала па этом поприще всё новые силы. Люди подобного сорта и в самом деле очень живучи; они схожи в этом с сорняками, и не всегда, к сожалению, их выдергивают без всякой пощады, с корнями. Помимо своей воли, шерристянин мгновенно перестроил пережиточное ее сознание, и старуха Захарова тоже стала совсем другим человеком. Отбросив в сторону клеенчатую сумку, в которой лежали блокноты и конверты без марок для анонимок, она быстро огляделась по сторонам и кинулась в ту, где расположен был стадион, — попробовать записаться в секцию фигурного катания на льду… А вслед за этим началась вереница событий, в которых шерристянин уже полностью не подчинялся себе. Пробегая мимо магазина «Одежда», он понял, что один из продавцов продает английские брючные костюмы не всем, а только знакомым, из-под прилавка. И тут же в магазине началось такое, что невозможно было даже представить. Стопки брючных костюмов оказались сразу на всех прилавках — инопланетянин создал их из окружающего пространства, — и количество сверхдефицитного товара стремительно росло, пространство продолжало свое удивительное превращение. Продавец, человек мелкособственнических интересов, вдруг оказался… размноженным в таком количестве, что втрое стал превышать число покупателей в магазине. Теперь каждый из них был окружен тройной заботой: один из продавцов приветливо улыбался покупателю, другой заворачивал товар, а третий вежливо благодарил за покупку, провожал к выходу и приглашал посетить магазин еще. Сам же шерристянин стремительно бросился прочь; но в последнее мгновение он сделал еще кое-что: соорудил у входа в магазин большой щит и поставил к нему одного из многочисленных продавцов. Четверостишие на щите сообщало всем прохожим о вине, за которую последовало справедливое наказание:Глава седьмая
Миша Стерженьков сидел на полу, и в его голове был сумбур. Сферический колпак ярко-желтого цвета, покачивающийся на кронштейнах, уже отодвигался в сторону, втягиваясь в недра аппарата, порожденного далеким и чужим разумом. В комнате сильно пахло какими-то совершенно незнакомыми, неземными запахами. Миша пошевелился и сделал слабую попытку встать. Ноги не слушались, в ушах стоял какой-то звон, перед глазами, мешая видеть как следует, проплывали цветные пятна сложных и разнообразных конфигураций. Собрав волю, выдержку и мужество — качества, воспитанные многими спортивными состязаниями, в которых ему приходилось участвовать, — Миша все-таки встал. Кронштейны уже сложились, и ярко-желтый колпак скрылся внутри аппарата за какими-то створками, щелкнувшими звонко и мелодично. Мысли Миши Стерженькова постепенно приходили в порядок. Сходил на нет звон в ушах, и цветовые пятна перед глазами, растворяясь в воздухе, становились все прозрачнее. Пульс возвращался к обычной и не часто нарушаемой норме. Внутри Мишиной головы послышался шорох, похожий на тот, что издает иголка проигрывателя, когда кончается пластинка. Потом раздались звукосочетания, смысл которых невозможно было понять, но строй их быстро менялся, как если бы говоривший то и дело переходил с одного языка на другой, и наконец прозвучали слова на родном Митином языке: — Второй этап исследований на Земле вынужденно прекращен досрочно. Землянину возвращено его сознание, довести ход исследований до конца не представлялось возможным. Миша Стерженьков облизнул пересохшие губы. Неожиданно для себя самого он вдруг услышал свой голос, задающий аппарату шерристян робкий вопрос о том, не он ли, Миша, виной тому, что ход исследований оказался прерванным. Вопрос прозвучал нелепо, Миша почувствовал, что отчаянно, неописуемо краснеет. Изо всех сил желая сказать что-нибудь еще, чтобы сгладить впечатление, он выдавил из себя фразу, которая прозвучала еще нелепее: — Вы простите, если что оказалось не так… я… мне… Мне вам очень хотелось помочь… Первый Контакт… Вы и сами должны это понять… понять, что я… Разве я стал бы… специально… Воцарившееся молчание было гнетущим. Миша чувствовал, как краска заливает все его лицо и густеет до совершенно невообразимой степени. Еще он ощущал на себе постоянный взгляд, которым откуда-то из своих глубин смотрел на него аппарат, построенный шерристянами. Взгляд, кажется, был укоризненным и чуть ли не печальным. Исследования шерристянам пришлось прекратить досрочно, и что-то упорно подсказывало Мише: случилось это по его вине. В смятении Миша подумал о том, что так же, скажем, он мог бы смотреть и сам на какую-нибудь неожиданную помеху, помешавшую, например, поставить рекорд в пяти метрах от финишной ленты. В распахнутое окно со двора доносились веселые голоса, стук мячей, шум работы разнообразных спортивных снарядов. В коридоре, за дверью, раздавались медленные, смятенные какие-то шаги — там, потрясенная всем случившимся на ее глазах, взад и вперед, не в силах прийти в себя, бродила Стерженькова Татьяна. Миша закрыл лицо ладонями. Все, что натворил на Земле шерристянин, он помнил отлично. Что-то неумолимо и властно продолжало подсказывать ему, что исследования шерристянам пришлось прекратить досрочно по какой-то его, землянина Миши Стерженькова, вине, и потому ему было очень не по себе. — Вы мне поверьте, — сказал Миша потерянно, — я вас очень прошу. Я же сам понимаю… Ведь это… ведь я… Чужой голос внутри его головы с какими-то грустными интонациями сказал: — Ход исследований, разумеется, все время был под контролем. Причиной, по каким исследования пришлось прекратить досрочно, были частые случаи вмешательства исследователя в земную жизнь. Действия исследователя в конце концов полностью вышли из-под его контроля. Не совсем было ясно, к чему это могло привести… Возникла новая пауза. Мише очень хотелось, чтобы все происходящее оказалось в конце концов сном, но все вокруг было непреложно реально. На самом деле происходило завершение первого Контакта человечества с инопланетным разумом. — Установлены и причины, по каким исследователь утратил над своими действиями контроль, — сказал голос. Миша поднял голову и взглянул на аппарат. С сильно бьющимся сердцем Миша ожидал продолжения. — Сознание землянина оказалось слишком сильным, — сказал голос — Его остаточные проявления не удалось уничтожить полностью во время трансформации. Шерристянин активно вмешивался в земную действительность, потому что этого требовали остаточные проявления сознания землянина. Впервые за всю историю комплексных исследований в громадном районе Вселенной встречена цивилизация, представители которой оказались не до конца подверженными действию процесса трансформации. — В интонациях голоса послышалось, кажется, даже какое-то затаенное своеобразное уважение. Миша Стерженьков опустил глаза. Предчувствие не обмануло его: он был всему виною! Доверие братьев по разуму оправдано но было. — Да, — выдавил он из себя потерянно и глухо, — значит, это я во всем виноват… Натворил я дел на Земле… В его памяти мигом пронеслась вся вереница приключений шерристянина сразу. Дел на Земле действительно натворено было немало. Но Миша Стерженьков сейчас думал о другом: остаточные проявления его сознания помешали установлению Контакта, и только это сейчас было главным. Отчаянно махнув рукой, Миша поднял взгляд и стал ждать, что теперь будет дальше. — Ход исследований прекращен досрочно, — сказал голос в Мишиной голове (интонации теперь вновь были укоризненными). — То, что было изменено на Земле шерристянином, помимо своей воли подчиняющимся остаточным проявлениям сознания землянина, должно быть исправлено. Всякие воспоминания о том, что с ним происходило, будут после этого стерты из памяти разумного обитателя Земли… Миша Стерженьков потерянно кивнул. Ему очень хотелось провалиться под землю, но такое бывало, конечно, только в сказках или в какой-нибудь фантастике. Раздался негромкий щелчок, и внутри аппарата стал нарастать басовый гул… Все, что было переделано на Земле разведчиком чужого разума, подчиняющимся остаточным проявлениям сознания Миши Стерженькова, было исправлено шерристянами одновременно, в один короткий момент. Зрение Миши, в прежней позе стоящего посреди своей комнаты, на некоторое время непостижимым образом оказалось трансформированным. Исчезли с его глаз стены с фотографиями знаменитых спортсменов и кульминационными моментами важнейших спортивных международных состязаний, пропали куда-то мебель, спортивные снаряды, книжный стеллаж с произведениями знаменитых тренеров и мемуарами прославленных звезд. Вместо всего этого он увидел сразу множество разных картинок, и внимания — удивительное дело! — хватало на все: он мог без труда уследить за изменениями, которые происходили на каждой из них. Да, возможности шерристян действительно были непомерно, невероятно велики. Откуда-то издали, может быть с невероятных космических расстояний, с каких они и следили за ходом второго этапа исследований на Земле, активно вмешались они в земную жизнь — для того чтобы вернуть все к прежним нормам, естественным для планеты, и управлять которыми должны были, конечно, лишь сами ее обитатели, а не какие-то, внеземные силы. А может быть, за ходом исследований следили все-таки не с самой Шерры — лишь автоматы шерристян, давно уже присутствующие в Солнечной системе, ни на секунду не упускали Мишу Стерженькова из виду, и теперь тоже именно они демонстрировали свое действие? Этого не знал Миша точно, да это и не было особенно важно для него в этот момент. Главное было в том, что одновременно во многих местах проявлялись результаты небывало мощного вмешательства шерристян в земную жизнь; и за изменениями, происходящими мгновенно, следил он затаив дыхание и слыша, как сильно колотится его сердце. В магазине «Одежда» растаяли в воздухе английские брючные костюмы. Продавец снова стал одним человеком; исчез и щит с позорным четверостишием. О том, что происходило в магазине еще несколько мгновений назад, не помнил никто — ни покупатели, ни продавец. В парке, где завершилась прогулка шерристянина с Надей Переборовой, сошли с гипсовых пьедесталов несколько статуй. Превратившись в семерых, похожих друг на друга молодых людей, они как ни в чем не бывало двинулись по аллее парка дальше, словно ничто не прерывало в недавнем прошлом их прогулки. Воспоминания о происшедшем не осталось в памяти ни у одного из этих молодых людей, и строй их мыслей продолжился с того самого места, на котором он прервался. В редакции вечерней газеты со стола заведующего отделом науки исчезла набранная заметка, подготовленная для очередного номера, где речь шла об удивительном случае, очевидцами которого были несколько часов назад десятки людей: о старушке, совершившей на улице невиданный акробатический прыжок. Озаглавленная «Бабушка… — самолет? Возможно ли?», заметка эта сопровождалась комментариями нескольких видных ученых, которые единодушно утверждали, что ничего удивительного, а тем более сверхъестественного в этом случае нет один раз в миллионы лет все атомы тела одного человека вполне могли двинуться в одном направлении, что и должно было явиться причиной подобного полета. Сразу стих за окном веселый спортивный гомон соседей Миши Стерженькова по дому, исчезли спортивные сооружения, и все соседи разошлись по квартирам, вернулись к обычным своим повседневным делам, а площадка перед шестнадцатиэтажным домом-башней приобрела вид такой же, какой оставался с самого момента окончания строительства. В самом доме были сведены на нет все изменения, внесенные шерристянином, и к первоначальному варианту вернулась планировка трехкомнатной квартиры семьи Стерженьковых. В комнате родителей груда образцов художественной вышивки прошлых веков оказалась в прежнем живописном беспорядке, и исчезли всякие следы реставрации. Из коридора донеслись слова песни «Разноцветные кибитки»; распевая ее громким, крикливым голосом, Стерженькова Татьяна двинулась к себе в комнату, чтобы снять синее платьице в горошек и голубые домашние туфельки. Рассмотрев себя в зеркале, ученица спецшколы презрительно поджала губы, сказала что-то по-исландски и занялась своей прической, ресницами и губами, возвращая себе первоначальный облик. Спустя несколько мгновений после возвращения облика она уже ничего не помнила из того, что происходило с ней совсем недавно. В учреждении «ЦЕНТРЗАГОТКОНТОРРОЗЛЕПЕСТОК» все в буквальном смысле встало на свои места. Гражданка Захарова М.В., не принятая в секцию, нашла свою клеенчатую сумку и двинулась дальше, по своим делам. Профессор Виктор Витальевич Ворошейкин устал работать и встал из-за письменного стола; когда он вернулся к нему снова, листочек с последними крайне важными для науки записями опять куда-то запропастился, и профессор растерянно стал искать его по всем углам своего кабинета. Товарищ Миши по техникуму Костя Аглашин забыл о том, что он видел на улице, и пошел продолжать готовиться к зачету… Все, что было переделано в земной действительности посланцем чужого разума, абсолютно все в короткие мгновения стало прежним, как было задолго до второго этапа исследований шерристян на Земле, Проследив одновременно за всем этим, Миша Стерженьков снова увидел стены своей комнаты и аппарат шерристян. У Миши слегка кружилась голова и захватывало дух. — Ну, вот и все, — услышал он голос — Теперь осталось только стереть всякие воспоминания о происшедшем из памяти разумного обитателя Земли, участника второго этапа исследований. Процессом обратной трансформации сознания уничтожение воспоминаний не предусматривается — для этого требуется специальная обработка… — Я понимаю, — сказал Миша Стерженьков глухо. — Если надо, то конечно… Я вас очень хорошо понимаю. Но вы тоже поймите, что я… В аппарате шерристян откинулась какая-то створка, и на кронштейнах вперед выдвинулся сферический колпак голубого цвета… …Аппарат надсадно гудел, его интонации непрерывно менялись, словно бы он исполнял какую-то немыслимую на Земле мелодию. Иногда внутри него что-то щелкало и слегка позванивало. Время от времени на его панелях распахивались створки, и оттуда на кронштейнах вперед выдвигались всё новые и новые сферические колпаки. Скоро они окружили Мишу Стерженькова чуть ли не со всех сторон, и каждый из них оказывал на него свое воздействие. Изредка на сознание Миши легкими волнами находили полосы какого-то забытья. По чисто спортивной привычке, он каждый раз машинально засекал время по секундомеру, и получалось уже, что аппарат шерристян стирает воспоминания из его памяти пятнадцать минут шестнадцать и семьдесят восемь сотых секунды. По истечении этого времени гул в колпаке смолк, аппарат зачем-то изменил свой цвет, и снова Миша почувствовал на себе невидимый и вроде бы укоризненный взгляд. — Трудно поддающийся обработке, — сказал в Мишиной голове голос, словно бы обращавшийся не к нему, а к кому-то другому. — Необходима смена режима, перестройка структур. Миша Стерженьков растерянно оглядывался по сторонам. Все, что происходило с шерристянином на Земле, он по-прежнему помнил отлично. Стерлись из памяти лишь самые мелкие, незначительные подробности. Аппарат шерристян вздрогнул и загудел снова. Теперь его шум был басовей и гуще. Сферические колпаки, окружавшие Мишу, зашевелились все разом. По чисто спортивной привычке Миша вновь засек время… Полосы забытья, находившего на сознание, стали продолжительнее и чаще. Когда Миша выныривал из них, он отмечал, что аппарат шерристян шумит все сильнее, но никакого особенно заметного действия обработки памяти он на себе по-прежнему не отмечал. Стерлись лишь еще кое-какие подробности, чуть-чуть позначительнее, чем в первый раз, но и только. — Что же, — растерянно сказал Миша Стерженьков, когда аппарат умолк во второй раз, — я ведь… Ну никак… В этот раз передышка была более продолжительной. Конструкция, порождение далекого разума, словно бы отдыхала, набираясь сил перед тем, как заработать снова. — Мама скоро придет с работы, — растерянно сказал Миша. — У нее сегодня короткие рейсы… А тут… А вы… Аппарат начал наступление на Мишину память в третий раз. Аппарат содрогался и вибрировал. Войдя с ним в резонанс, тихонечко стали позванивать хрустальные спортивные кубки и медали, завоеванные Мишей на различных соревнованиях. Цвет аппарата шерристян менялся теперь уже с неописуемой быстротой. Сферические колпаки вертелись вокруг Миши, тоже все время взвинчивая свою скорость. И наконец аппарат умолк в третий раз, и все колпаки втянулись в него и скрылись за створками. — Трудно поддающийся обработке, — повторил голос в Мишиной голове. — Все стереть невозможно. Некоторые воспоминания останутся. Невидимый взгляд продолжал рассматривать Мишу Стерженькова. Во взгляде этом Миша все явственнее ощущал скрытое уважение. Возможно, впрочем, что все это ему казалось, потому что опять в Мишиной голове был полный сумбур и хаос. Ему было обидно, очень обидно, что он не оправдал доверия братьев по разуму, ему казалось, что во всем виноват только он один. И хотелось, чтобы все это, вся эта история немедленно началась снова, с самого начала — снова став шерристянином, теперь-то уж он постарается, ой как еще постарается подавлять в себе остаточные проявления сознания землянина! Не знает еще, каким образом, но будет, обязательно будет, чтобы второй этап исследований шерристян на Земле прошел гладко. Но никому не дано возвращаться к истокам каких-то событий и переживать их вновь, хотя часто, очень часто ничего не желает человек так сильно, как этого. Не дано… Второй и третьей попыток, как это заведено в некоторых видах спорта, не положено, к сожалению, в обычной жизни. — Землянин, прощай! — сказал голос в Мишиной голове. Аппарат шерристян стал медленно растворяться в воздухе. И на какое-то мгновение Мише Стерженькову показалось еще, что голос хочет сказать ему сверх этого и что-то другое, с теми же очень дружескими, очень теплыми интонациями, с какими прозвучали слова прощания; и он кинулся к тому углу комнаты, где стоял аппарат, но поздно — лишь легкая дымка осталась в воздухе, и вот и она растворилась бесследно. Навсегда. Миша Стерженьков сел на стул и встал снова. Потом он прошелся по комнате из угла в угол и снова сел. Из соседней комнаты доносилась песня о разноцветных кибитках… И тут же в коридоре послышался шум открываемой двери, звонко щелкнул замок, прошли по коридору шаги, и мама, Алевтина Игоревна, в шоферском комбинезоне, пропахшем ветром дальних рейсов и бензином, появилась на пороге Мишиной комнаты. — Ну, — начала мама голосом строгого воспитателя, — как этот зачет?… По технике теории… нет, по теории толкания?… Короче, сейчас переоденусь, возьму учебник и проверю, как ты к нему готов…ЭПИЛОГ
В последний раз с Мишей Стерженьковым я встретился вчера. Хроника чрезвычайных событий из жизни юного спортсмена была уже почти закончена мной, и оставалось лишь уточнить некоторые подробности. Условившись встретиться у входа в спортивный комплекс техникума, оба мы пришли точно в назначенное время — он подошел справа, а я слева, и возле гипсовой статуи игрока в крокет мы обменялись крепким рукопожатием. Все тот же спортивный загар, ничуть не потускневший за прошедшее время, лежал на его открытом, мужественном лице. Сошла с него только печать озабоченности, которая сразу же бросилась мне в глаза в первые мгновения нашего знакомства на «чертовом колесе». Рукопожатие юного спортсмена оказалось таким энергичным, что я даже поморщился. Но Миша Стерженьков помрачнел, едва я стал задавать свои вопросы. Возвращаться к чрезвычайным событиям из своей жизни, чувствовалось, он больше не хотел. Воспоминания эти не были ему особенно приятны; но он справился с собой усилием воли как раз в тот момент, когда я уже стал упрекать себя за свою настойчивость. Вместе мы вошли на территорию стадиона. Здесь было уютно и тихо. Большие деревья по краям аллей, проложенных между разнообразными спортивными площадками, медленно и величаво отряхали желтые листья. Но это спокойствие оказалось обманчивым. Пронеслись мимо нас несколько юных велосипедистов в пестрых майках. Потом высоко над нашими головами пронизало воздух копье, посланное сильной рукой невидимого метателя. В открытом бассейне с искусственным льдом в проруби купалось много студентов. Напряженный тренировочный матч шел и на площадке для игры в лякросс. Мы с Мишей Стерженьковым забрались на верхний ряд пустых трибун, и здесь он закончил рассказ об интересовавших меня подробностях необыкновенных событии, происшедших с ним. Некоторое время после этого мы молчали. Миша отдыхал после воспоминаний, потребовавших напряжения душевных сил, я следил за быстрыми перемещениями по полю двадцати четырех атлетически сложенных юношей. Вратари, защищавшие непривычной для глаз треугольной формы ворота, отражали яростный натиск нападающих. Атлетически сложенные юные нападающие организовывали одну атаку за другой. Пораженный вдруг внезапной мыслью, я даже чуть было не подскочил на своей месте. — Миша! — воскликнул я. — Миша! А вы ведь ни разу мне не сказали, как выглядят шерристяне! Ну, какие они были из себя? Ощущая себя шерристянином, вы должны были бы знать. Чем они отличались от нас? А может, были похожи?… Протяжный, тяжелый вздох последовал в ответ. — Я все ждал, — сказал Миша Стерженьков, — ждал, когда вы спросите. Нет, этого я не помню. Это как раз им удалось стереть у меня из памяти. Знаю только, что заметно они отличались от людей, а вот чем… Он вздохнул еще раз. — И звезду эту, Па-Теюк, тоже никак больше не могу найти на небе. Раньше, когда был шерристянином, легко находил, в любое время, а теперь не могу. Теперь это уже навсегда, никогда я ее больше не увижу… А если б мог, большая польза для нашей науки. Может, когда, в будущем, и сами бы полетели, если известно, куда лететь… Словом… Да что тут говорить! — Взмахнув рукой, он посмотрел на меня в упор: — Не справился я, словом. Не сумел оправдать доверие братьев по разуму. Теперь жди Контакта… после такого… — Ну при чем же здесь вы, Миша? — сказал я мягко. — Он же ведь сам… то есть вы, когда были им… значит, он сам… то есть… Из-за этого прервали… Миша Стерженьков тяжело вздохнул в третий раз. — Да нет, это я виноват, — сказал он глухо. — Вы меня, пожалуйста, не утешайте. Может, это только у меня на всей Земле сознание оказалось таким, что они его не смогли трансформировать до конца. Может, на моем месте кто другой и справился бы. А я, я натворил дел! Чего только не натворил! Я ведь исправлял разные недостатки, вы заметили? И зачем я только вот так проявлял остаточные действия своего сознания?! Ведь, наверное, где надо, можно было и по-нашему, по-земному… Теперь жди Контакта с разумной цивилизацией! Не представится больше такой возможности… из-за меня! Он замолчал и стал наблюдать за лякроссом. — А зачет? — спросил я осторожно. — Сдали вы этот зачет по теории техники толкания ядра? — Зачет? — слегка оживился Миша. — Зачет, конечно, сдал. На четверку. Учусь я вообще ничего. Практику по парашюту вот зачли на «отлично». И в спорте тоже вроде неплохо. Не так давно вернулся из города Алма-Аты, были там соревнования. Ну, словом, серебряная медаль и кубок как игроку с наиболее своеобразной техникой. Есть у меня три приема, отрабатывал год, пока никто не может найти защиты. Я бы и первенство, наверное, выиграл, да вот… — Последовал еще один тяжелый вздох. — Да вот… Ну, короче, не в форме я был, не выспался накануне финала. Там, в городе Алма-Ате… звезд очень много видно. Вот я и подумал: вдруг, может, там хоть сумею найти звезду Па-Теюк, вспомню. Но нет… Там тоже не мог… — Ну, а теперь какие планы на будущее? — спросил я. — Соревнования, наверное, какие-нибудь предстоят? Миша Стерженьков вновь оживился: — Практика предстоит интересная. По марафонским заплывам. Лучшие из лучших поедут на Ла-Манш учиться переплывать его туда и обратно. С длинными дистанциями у меня пока не все хорошо. Интересно будет отработать как следует. И соревнований в конце этого года тоже достаточно. Надеюсь выступить неплохо. Тренироваться, конечно, надо по-прежнему много. Пронзительный свисток тренера возвестил об окончании игры. Миша Стерженьков посмотрел на часы и куда-то вдруг заторопился, сославшись на неотложное дело. Мы вместе дошли до ворот и возле статуи крокетиста снова обменялись крепким рукопожатием. Юный спортсмен посмотрел в землю и спросил: — А вы ведь… вы ведь, наверное, хотите описать все, что я вам рассказал? Я кивнул. — Я догадывался об этом, — сказал Миша, продолжая глядеть в землю. — Что же, я не против. Пусть все узнают… пусть узнают, как я себя показал… Я попробовал запротестовать. — Да нет! — сказал Миша глухо. — Не надо! Не справился я… Не оправдал доверия братьев по разуму, что тут и говорить! Вот так все и напишите. До свидания!.. Повернувшись, он быстро пошел по аллее, которая вела к троллейбусной остановке. Стоя на месте, я смотрел ему вслед. Тренированным, упругим шагом удалялся от меня юный спортсмен, переживший недавно удивительнейшие и далекие от спорта события. Все меньше становилась его фигура. Я думал о том, виноват ли он в действительности, состоится ли все-таки когда-нибудь этот Контакт с шерристянами, и о других вещах… Потом в противоположном конце аллеи навстречу Мише появился еще один человек. Высокая и стройная девушка с волевым и энергичным, как можно было разглядеть даже издали, но вместе с тем милым, чрезвычайно милым лицом. В руке она держала большой черный футляр, и я понял, что внутри него лежит старинный музыкальный инструмент, виолончель XVIII века, привезенная в подарок внучке капитаном первого ранга Афанасием Никитичем из кругосветного путешествия. Да, это была она, непосредственная участница описанных событий Надя Пероборова. И я увидел, как на середине аллеи произошла ее встреча с Мишей Стерженьковым, как осторожно и бережно юный спортсмен взял у нее футляр с виолончелью и как пошли они по аллее, спеша в планетарий, или на лекцию, посвященную какой-либо музыкальной или спортивной проблеме, или куда-нибудь еще, где им интересно и хорошо быть вместе… А я все смотрел им вслед. Мне тоже нужно было решить важную проблему: как, какими словами закончить это повествование о чрезвычайных событиях из жизни студента физкультурного техникума? Потом я вспомнил, что ведь еще в ее начале обещал перечислить и те вещественные доказательства, которыми Миша дополнял свой рассказ во время первой нашей встречи, вынимая их из своей спортивной сумки. Надо, конечно, выполнить это обещание. Я своими глазами видел сделанную самим Мишей Стерженьковым фотографию того укромного уголка на берегу реки, куда судьба привела его готовиться к зачету по теориитехники толкания ядра; отчетливо на фотографии можно разглядеть, что на том месте, где стоял аппарат шерристян, все еще примята трава. На другой фотографии я видел гипсовую статую девушки с веслом — точно такой же, как эта, была и статуя, созданная однажды шерристянином. Фотография была сделана в том самом парке и даже на той же аллее. И, наконец, Миша Стерженьков показывал мне записку, которую он нашел утром следующего дня, перед тем как уйти из дома на зачет. Вот что было написано в этой записке: «Котлеты разогрей на маленьком огне, колбасу и сыр возьми в холодильнике, вскипяти чайник и пей чай. МОЛОДЕЦ, ЧТО ПОЧИНИЛ КУХОННУЮ МАШИНУ…» Да, читатель, это было единственное, о чем по неведомой причине забыли шерристяне, исправляя все, что было переделано на Земле. Алевтина Игоревна подумала, конечно, что универсальную кухонную машину, бездействовавшую до этого второй год, починил не кто иной, как Миша. Впрочем, что же еще, по-вашему, могла бы она подумать?…В. ПАШИНИН У БЕРЕГОВ СТУДЕНОГО БАРЕНЦА Повесть
…Разведчики Карельского фронта захватили в Баренцевом море немецкий корабль.Совинформбюро октябрь 1944 года.
1
Уже десятые сутки они шли по тылам врага. Командир, вызвав их перед выходом, отметил близкую точку. По карте, напрямую, солдаты проходят такое расстояние в два-три марша. Но точка была в Норвегии, выходили на нее из района Мурманска, посреди пути лежала занятая немецкими горными егерями полоса. Дорога пошла обходами, через сопки, болота, и растянулась надолго. Туда, еще с сухарями и салом, двигались быстро. Теперь, назад, петляли больше, зорче просматривали местность, в расщелинах скал пережидали светлые часы все убывающего северного дня. Они были разведчиками и, выполнив задание, вдвое, втрое дороже ценили и берегли себя. Под маскхалатами и ватниками, в карманах изношенных гимнастерок без погон, лежали зашифрованные каждым на свой лад сведения о дорогах, о вражьих гарнизонах, о преодолимых тропах в уже обледенелых по осени горах. Эти сведения надо было обязательно донести до своих. Иначе для чего были бы нужны более чем недельные муки? Если быть точным, разведчикам не полагается хранить при себе никаких, даже зашифрованных, записок. Разведчик должен помнить. Но тут ничего не поделаешь… Уже больше трех лет воевали они на стыке трех государств — СССР, щюцкоровской Финляндии и Норвегии, оккупированной немецко-фашистской армией, — но все же таких названий гор, озер, островов, дорог, поселков, как Хейняярви-Тунтури, Сальмиярви, Хьельмё, Луостари-Ахмалахти, Большой Карриквайвиш, и еще похлеще, не то что запомнить, не перепутав, где какой Карриквайвиш, но и выговорить подчас не могли. Всё здесь было солдатам внове.2
Дивизионные разведчики жили на восточном склоне небольшой высотки, почти кругом опоясанной неширокой, но бурной речушкой. Она даже зимою замерзала не вся, шумела по камням на перекатах и в полыньях, а летом и особенно весною разливалась бурным потоком. Что это было за жилище? Землянка — не землянка, пещера — не пещера. Так, нечто среднее. В небольшую расщелину заложили изрядную порцию желтых кирпичиков тола, рванули как следует под шум артиллерийской перестрелки… Образовалась большая сводчатая зала. Снаружи ее заделали подручным материалом — цинками от патронных ящиков, досками, законопатили ягелем… Получилось очень прилично: совершенно замаскировано и непробиваемо никакой фугаской — чтобы попасть к двери, нужно было перелезть защитную каменную гряду и только в глубокой выемке обнаружить вход. В дни революционных праздников разведчики даже красный флаг у двери вывешивали. И хотя уже в десяти шагах его ни сбоку, ни сверху — ниоткуда не было видно, о флаге в дивизии знали. В праздники у разведчиков бывало многолюдно. К ним шли, как на демонстрацию. Взрыв пробил в камне какую-то водоносную жилу, и над входом все время капало, как из старой, проржавленной трубы. Но со временем, когда немало тушенки съели, из консервных жестянок склепали желоб и отвели свой «нарзан» прямо в речку, чтоб не смердил под носом. Очень уж вредный и едкий попался источник. Нары, застланные сухим рыжим ягелем, стояли в глубине полукругом. Прямо над ними висела школьная карта европейской части СССР. На ней, отмеченная красными флажками, вилась линия фронта. Район Мурманска был замусолен и протерт до дыры. То один солдат, то другой время от времени подходил к карте и, уткнув палец в северо-запад Кольского полуострова, впадал в оцепенение. До Берлина, до европейских столиц высчитывал он свой путь и обратно — до какой-нибудь деревни Поповки или Грибановки, затерявшейся в глубине России… На осклизлых стенах горели коптилки из гильз. В центре землянки почти всегда жарко топилась большая круглая печь, сделанная из бочки для бензина. Около нее в красных отблесках пламени неустанно корпели ротные мастера-самоучки. Любой вражеский самолет, сбитый поблизости, они с трудолюбием муравьев и проворством непостижимым обдирали до остова. Из алюминия лили ложки с черенками-рыбками и человечьими фигурками, вытачивали махорочницы, отшлифованные до зеркального блеска и украшенные гравировкой с сюжетом на военные темы. Плексиглас шел на цветные наборные ручки к трофейным ножевым штыкам и финкам, а с лета сорок третьего — и на орденские планки, производство которых с каждым днем разворачивалось все шире. Своих самолетов не трогали. Сгоревших летчиков вытаскивали из кабин, вытаскивали даже с нейтралки, под огнем врага, и с воинскими почестями передавали их боевым товарищам. Комиссии ВВС часто бывали в роте… Так, в беде и горе, познакомились разведчики со многими пилотами. Когда в небе завязывался воздушный бой, тотчас высыпали на склон сопки и с замиранием сердца следили за действиями друзей. Своих узнавали по полету. Случалось, неделю, а то и две мирно и тихо текла жизнь разведчиков. Дрались в небе. Вела дуэль артиллерия, а у них на высотке было все спокойно. В каменном сараюшке жевала комбикорм каурая лошадка. Бродили неподалеку олени, тоже приписанные к транспорту роты… На них, оленей, давно махнули рукой. Ни овса, ни сена, ни даже хлеба они не ели, в стойле таяли на глазах, и нужно было отпускать их за ягелем в тундру. К осени и того хуже — кроткие, похожие на очень рогатых телят, животные сатанели. С налившимися кровью глазами бросались на людей и дико ревели. Это у них начинался гон, и пропади пропадом такой транспорт — связываться с оленями никто не хотел, а прирезать на мясо было жалко. Все-таки своя скотина, да и рыбы хватало по горло. После каждого артналета она плавала в озерках белым брюхом кверху, и ее все равно надо было вылавливать, чтобы не тухла. Правда, такую рыбу не очень любили, морщились, как завзятые гурманы: «с душком»… Куда ценнее считался пусть даже скрюченный, с таракана, ершонок, но все же пойманный на удочку или мормышку. Это была настоящая рыба! Иногда, в часы долгого затишья, что-то вдруг находило на командира роты старшего лейтенанта Жданова. — Заелись! — осмотрев на утренней поверке строй и напустив на себя грозный вид, кричал он. — Кому война, а вам бы все жевать да дремать! Хуже оленей! Ну погодите, вы у меня запоете! Несколько дней разведчики ходили в мыле. По десятку раз врывались на свою высотку, преодолевали речки, озера, таскали на себе друг дружку — так, как таскают «языков»… Ну, а потом наступал день, когда командир, собрав бойцов, говорил: — Что бы это такое еще придумать? Вроде всё умеете… — Всё умеем! — охотно поддакивали солдаты, и вновь наступала тихая жизнь, пока на командира опять не накатывало загадочное «что-то». А оно, как правило, накатывало тогда, когда начальству удавалось застукать кого-нибудь из роты около землянок медсанбата или «мыльного пузыря» [203], - в общем, в местах таких, где лихим разведчикам по службе делать вроде бы нечего. А теперь, дорогой читатель, отвлекитесь на минуту от этих спокойных строк. Представьте: приходит приказ — и, отбросив в сторону недописанное письмо, прервав веселую байку на полуслове, разведчик становится в. строй, чтобы идти на любое опаснейшее задание. На войне везде трудно. Но когда солдат непрерывно находится в бою — в наступлении ли, в обороне, — он втягивается в дело, он все время в напряжении и готов ко всякой неожиданности. А эти резкие переходы от почти мирной обстановки к смертельному риску требуют от разведчика необычайной собранности, полного самозабвения. Задача и только задача — вот что становится целью, смыслом его жизни. Как идти в поиск, когда крутит и воет пурга, когда от землянки к землянке натягивают канаты, чтобы не сбило с ног и не замело снегом, — это уже вопрос другой. Надо! И, затянув потуже маскхалаты, прицепив к поясу нож и засунув за пазуху наган, разведчики выходят из теплого, обжитого своего дома, идут навстречу неизвестности, не думая о том, что вот сейчас в санбате сестры начали кипятить инструменты, что наготове хирурги и шоферы санитарных машин, что опытные каюры-ненцы уже подогнали к переднему краю волокуши в упряжке самых быстрых собак, что не сомкнет на КП глаз комдив. Все будут ждать, когда вернутся разведчики. Если они вернутся… А может случиться и так, что порыв ветра донесет из черной вьюжной ночи глухие удары взрывов. Может быть, уловит чуткое ухо солдат-пехотинцев, прильнувших к пулеметам, далекое: «За Родину!» И снова, хоть и ревет метель, наступит мертвая тишина. Тихо будет и в землянке разведчиков. Группа не вернулась… В своем уголке, выкуривая папиросу за папиросой, будет ночь напролет сидеть над бумагой при свете коптилки командир. Будет мучиться, рвать и комкать листки, придумывать какие-то особые, великие слова. А в конце концов напишет: «Верный воинскому долгу и присяге, Ваш сын…» Минет еще несколько дней. Придут в роту новые люди. Добровольцы — но строго отобранные командованием по принципу «за одного битого двух небитых дают», а чем больше наград — тем лучше. С приходом пополнения станет веселее. Кто-то возьмет в руки гитару, опять соберутся у печки доморощенные мастеровые… А еще через несколько дней, глядишь, нашло на командира роты: — Вы когда-нибудь кончите баклуши бить?! Тут и новый приказ подоспеет. Надо идти. На то и война. На то и стали они разведчиками.3
Все было как обычно и на этот раз, с той лишь разницей, что приказа ждали с нетерпением, со дня на день. Шла осень сорок четвертого. За рубежи родной земли шагнули советские полки, и солдаты Заполярья, долгое время гордившиеся тем, что ближе всех стоят к государственной границе, теперь оказались вроде бы в отстающих. Поэтому, когда комдив указал им на карте район действий близ норвежского города Киркинеса и коротко произнес при этом: «Здесь. И чтоб ни духу ни слуху!» — разведчики приосанились, весело переглянулись, подмигнули друг дружке: «Наконец-то! Переходим в наступление!» К выходу готовились как никогда тщательно. Специальные группы пластунов вели круглосуточное наблюдение за участком вражеской обороны, где, по прежним данным, легче всего было проскользнуть в немецкий тыл. Всю амуницию подогнали так, чтобы даже на бегу не стукнуло металлом о металл. А это не просто сделать: гранат, патронов — и в магазинах, и в коробках, и россыпью — в тыл врага берут столько, сколько можно унести. Разместить весь груз надо равномерно, да так, чтоб нигде не жало, не терло, все было под рукой, но не на животе: иначе как поползешь? С интендантского склада затребовали резиновые сапоги, в которых можно ступать бесшумно, а их широкие, хлюпающие при ходьбе голенища заменили проклеенными по шву узкими кожаными. По специальному приказу радисты дивизии, включив на несколько минут рации, начинали суматошно гнать в эфир всякую цифровую белиберду. И в этом сумбурном потоке пищащих точек и тире два дивизионных слухача — остающийся и уходящий — тренировались мгновенно настраиваться на позывные друг друга. Но в принципе радиостанцией решено было не пользоваться. Ее брали на безвыходный случай. Выступили перед рассветом, когда вражеские часовые, всю ночь пускающие ракеты и зорко просматривающие каждую складку местности, облегченно вздыхают: «С нами бог. Ночь на исходе, засветло не нападут». Все же для страховки напали. Другой группой, в стороне, подняли шумиху, вызвали на себя огонь пулеметных расчетов и минометных батарей. В перестрелку тотчас ввязались наши пехотинцы, и под этим громозвучным прикрытием шестерка разведчиков где ползком, где стремительными перебежками в валунах проскользнула за вражеский передний край. Кто они были, эти смельчаки, «глаза и уши» армии, как называли разведчиков в дни войны? Группу вел офицер Алексей Жданов, не только старший по званию, но и самый опытный в глубоких разведках. По тылам врага он прошел сотни, пожалуй, тысячи километров. Правда, в основном они пришлись на более южные лесные районы и проделал он их на лыжах. В олене-лыжной бригаде, действовавшей близ горы Алаккурти, прозванной у нас Лысой горой, начал свой боевой путь выпускник полковой школы сержант Жданов. Бригадой командовал известный на севере полковник Валья, герой гражданской войны, сподвижник Тойво Антикайнена. Финн по национальности, следовательно, превосходный лыжник, Валья был и прекрасным разведчиком. Он сразу обратил внимание на рослого светловолосого красавца сержанта и, проверив его умение ходить на лыжах и бесстрашно преодолевать отчаянные спуски с горы, тотчас своею властью зачислил в разведку. Долгих разговоров Валья не любил. И по характеру был из молчаливых, и, как это ни странно, всю жизнь прослужив в Красной Армии, так и не выучился произносить по-русски коротенькую фразу, не исковеркав ее почти до неузнаваемости. По его же приказу Жданов засел и за русско-финские разговорники. Что он в них постиг, трудно сказать. Карелы и финны, служившие в бригаде, его не понимали. Но когда Жданову пришлось заполнять какую-то анкету, в графе «какими языками владеете» он без тени сомнения написал «финским» и подчеркнул «свободно»; в белофинский тыл отправлялся запросто, будто на застольную беседу к друзьям; все, что говорил Валья, схватывал с полуслова, и тот его тоже великолепно понимал! И хотя удивительной может показаться дружба полковника и сержанта, они, больше того, любили друг друга, как родные. Разведчиком Жданов оказался умным, выносливым, смелым, но — как бы это сказать — каким-то бесшабашным. Не на задаче, нет. На задаче он всегда был предельно собран. Но вот после нее… Такие парни сегодня пускаются в путешествие на плотах по бурным рекам, идут скоростными маршрутами через пики высшей категории трудности. Вот и Жданову не сиделось на месте в спокойный час. То он уходил кататься с гор близ Алаккурти, где когда-то был модный европейский зимний курорт, а никаких курортов он еще не видел. То его тянуло поглазеть на Нивский водопад, а то и еще проще — проделывал по бездорожью марш-бросок в Кандалакшу, чтобы потанцевать с медсестричками в фойе кинотеатра перед началом сеанса. Все бы ничего, но в армии такие культпоходы в одиночку называют «самоволкой», а на войне — и того хуже… Тучи сгущались над бравым сержантом, и у Вальи, сурового, непреклонного Вальи, не прощавшего малейшего нарушения воинской дисциплины, дрогнуло сердце. Пока не грянула беда, он отправил своего любимца на курсы младших лейтенантов. В бригаду Жданов больше не вернулся. Его, уже офицера, направили на самую северную точку фронта. Сначала командовал он взводом полковой разведки, потом принял дивизионную роту. Учеба на курсах с расписанным до минуты распорядком дня, боевой и просто жизненный опыт остепенили Жданова. Он стал сдержаннее и, стараясь во всем подражать Валье, скупился на слова. А когда говорить все-таки было надо, потрясал воображение бойцов импровизированными афоризмами: «Разведчик впереди — не уйдешь! Сзади — не догонишь!» — и искренне верил, что очень толково поставил задачу взять «языка». «Если нету — не найдешь», — за глаза называли его разведчики, знавшие за своим командиром и другие маленькие слабости. Например — бритье. Какой же торжественной выглядела эта ежеутренняя процедура, когда у разведчиков выпадали дни затишья! Брился Жданов не сам — в роте был солдат Смирнов, работавший до войны парикмахером в шикарном, с «Entr» на двери, салоне Елабуги. Обвязав шею Жданова полотенцем, он долго взбивал пену, тщательно мылил помазком щеки, потом чуть ли не с час правил бритву. В общем, слова тут бессильны — это была какая-то цирульная феерия. А что ее вызвало? Все проще простого. Какими-то перьями, как у Аркашки Счастливцева, росла бороденка у Жданова… Он же мечтал о такой, как у Жюля Верна, которым бредил с юных лет и зачитывался в библиотеке Ленинградского дома пионеров. Вот и скоблил щеки, чуть не сдирая кожу, потому что где-то слышал — и знаток Смирнов утверждал! — после бритья борода растет густо. Двадцать один год был старшему лейтенанту Жданову. Будь это сегодня, он, прекрасный лыжник, выступал бы в соревнованиях по группе юниоров и в газетных отчетах о нем и его друзьях писали бы, как ныне модно писать: «ребята»… К «ребятам», если судить о разведчиках по их характерам и поступкам, ближе всего подходил боец группы ефрейтор Сергей Белозеров. Любопытная вещь: и на службу в армию, и в разведроту оп пришел со своим односельчанином Николаем Туровым, и сейчас, на боевом задании, оба действовали в паре. Но как уживаются и ладят между собой эти два ярославца, долгое время никто понять не мог. Они даже в школе ФЗО, готовившей столяров и плотников, когда-то учились вместе. Но только как учились? Туров действительно готовился стать мастером, а его дружок… Этот стучал на деревянных ложках. И где только не стучал! И в самодеятельном кружке училища, и в городском ансамбле «Трудовых резервов» Ярославля, и в областном, и в Москву на смотр юных дарований его возили. И там тоже стучал. Да еще как! Белозерова не раз отмечали дипломами и грамотами. Свои заслуженные ложки, атласную красную рубаху, плисовые шаровары и хромовые сапоги он предусмотрительно взял па призывной пункт, и, пожалуй, так бы и дальше пошло, опять бы колотил ложками в каком-нибудь окружном хоре… Началась война. В бой Белозеров и Туров вступили в апреле сорок второго, у Западной Лицы, когда враг жестоко подавил попытку наших войск перейти в наступление. Оба, стрелки-автоматчики, получили ранения, а после госпиталя вместе пришли в разведку. Туров потому, что был упорен, всегда старался выйти на самое главное направление, Белозеров потому, что разве дрота — подразделение отдельное, над ним ни комбатов, ни комполков, а сразу генерал-комдив, и, следовательно, ты на виду у высокого начальства. Вскоре он, конечно, узнал, что это за вид и почем фунт лиха… Но оказалось, что этот парень отнюдь не робкого десятка и пастырей до невозможности. Маленький, шустрый, с бегающими острыми глазками, он всегда лучше других знал, что и как нужно делать в данный момент. Когда после трудного поиска разведчики, едва добравшись до нар, в изнеможении валились с ног, Белозеров предусмотрительно бодрствовал. Он знал, что в любую минуту может нагрянуть корреспондент из дивизионной, а то и армейской газеты, дивизионное и даже корпусное начальство. И тогда откуда что бралось! Нет, он не врал, он точно придерживался фактов, известных командованию из доклада командира роты. Но зато как их преподносил! Округлив глаза, с выражением — будто со сцены стихи читал. В ансамблях Белозеров научился всевозможным шуточкам, прибауткам, будто невзначай и фокус мог показать на пальцах… Его всегда слушали со всё возрастающим интересом. Правда, потом частенько получалось так, что всем выходил орден, а Белозерову — медаль. Очень уж ретиво лез он на глаза… Но и медали, и ордена у пего были. И именно этот нахал первым на Севере взял «языка» посреди ясного июльского дня. Ведя наблюдение за обороной противника, он каким-то своим особым чутьем унюхал, что беспечен враг, что, сладко жмурясь на солнышке, задремали часовые. И на свой страх и риск ужом пополз через мягкий мшаник к гранитной стене, хоронясь за валунами. За ним — Туров, всегда доверявший проницательности друга, за ними — еще двое. Из молодых. В траншею ворвались без выстрела. Она была пуста. Огневая точка противника скрывалась за изгибом. Трое растерялись. Что же дальше? Но Белозеров вихрем помчался в глубь вражеской обороны. Там, на бегу, разворотил гранатами одну землянку, другую, отшвырнул на Турова какого-то обалдевшего в этом грохоте егеря… — Отход! Только когда разведчики вернулись к себе, не получив опять-таки в спину ни выстрела, с сатанинской злостью ударили из минометных и орудийных стволов фашисты. Было это в сорок третьем, и уж всего чего угодно ждали они, но чтобы днем в их оборону ворвались четыре советских солдата… В такое невозможно было поверить! Враги просто растерялись, думая, что на их участке прорвались крупные силы. А «язык» оказался очень ценным. «Герой Крита и Нарвика», он с первых дней войны пробыл на одном месте и отлично знал, где и что находится в немецкой обороне. Белозерова хвалили, о нем писали в газете и листовках. Он же, потупя очи и поджав губы, застенчиво улыбался. Белозеров уже уяснил, что скромность украшает человека. Но самым удивительным было то, что он, отличный разведчик, и взаправду почти не придавал никакого значения своим воинским успехам и расценивал их лишь с той точки зрения, насколько они могут быть полезны ему, чтобы снова попасть хоть в какой-нибудь ансамбль. Не с ложками — так чтецом-декламатором. Не декламатором — так солдатским поэтом на худой конец. Время от времени в роту наведывались руководители армейских и фронтовых художественных коллективов. В надежде открыть самородок прослушивали недремлющего Белозерова. И надо было только видеть, когда при всех регалиях витийствовал он у печки! Ну и орал Белозеров! Растерянные худруки, оторопело мигая, смущенно говорили что-нибудь такое: — Знаете, неплохо… Но еще нужно поработать… — Хотите, свое прочту? — не сдавался Белозеров и снова гремел:4
Утро просидели в нагромождении скал на берегу какого-то озерка. Вода в нем застыла, и разведчики на всякий случай отодвинулись подальше от будто зеркальной глади. Кто его знает, может быть, тут, на севере, не только полярное сияние, но и миражи бывают? Миражей, правда, никто из них никогда не видел и толком даже не знал, что это такое, но все-таки… Чего доброго, отразится в облаках, как на экране, их группа… Потом небольшая стая запоздавших с отлетом уток нагнала на разведчиков страху. Птицы грузно плюхнулись у берега, немного поплавали, покрякали и вдруг с громким криком, будто их спугнули, поднялись в небо. Все обошлось. Кругом стояла тишина. Никто не видел разведчиков. Они тоже никого не видели. Но чувство опасности не проходило. Зорко прощупывали они взглядом каждый замшелый валун. Что-то все же было не так. Непривычно, тревожно. Что-то не давало покоя. Враг мерещился всюду. — Надо же! — вдруг усмехнулся Жданов. — Ни к черту не годятся тут наши маскхалаты. Красотища-то! Вздох облегчения вырвался у разведчиков. Наконец-то поняли, в чем дело! Там, на переднем крае, снаряды и мины давно уже искромсали, искрошили редкие деревца; взрывные волны сорвали, смели траву, остался только черный, опаленный порохом камень. Сейчас неописуемо прекрасная картина открывалась перед глазами разведчиков. В ясных лучах солнца пунцовыми факелами горели невысокие рябины, усыпанные гроздьями спелых ягод. Пригнулись к земле желтые березки. И всюду разбежались багряные кустики осенней черники, испятненные изумрудной зеленью промытых дождями мхов. А меж них — фиолетовые, лиловые лишайники на сером граните валунов. И куда ни глянь — бирюза озер, сливающаяся с пронзительной синью неба. Словно затейливый художник собрал все ярчайшие краски, какие только есть в природе, щедро выплеснул их и они чудным узором покрыли землю. Где еще найдешь на свете такую красоту? Но разведчики на задаче не смотрят на окружающий мир глазами живописцев. Для них все эти красоты оборачиваются просто цветными пятнами, к которым надо подобрать, выражаясь специальным языком, соответствующий камуфляж: уж лучше идти голым, чем в маскхалатах с тусклыми желто-зелеными разводами. Срочно взялись за иголки и суровые нитки. На брюки нашили пласты лишайников и мха. За ремни натолкали веток — кто рябины, кто березы или осины. Белозеров, посланный Ждановым метров за двадцать, покрутился в камнях так и эдак, полежал на земле, распластавшись, приподнялся на локтях. — Как я кажусь? — Вроде бы ничего, — не сразу ответил Жданов, внимательно рассматривая Белозерова. — А мы? — Цветочки! А ягодки… — Посерьезней нельзя? — А я серьезно. Точные Карамболины-Карамболетты. И Жданов только рукой махнул: — Никогда человеком не станет!.. Давай в головной дозор! — Есть! — И Белозеров ящерицей юркнул в расщелину невысокой гряды. Спокойствие и уверенность вернулись к разведчикам. Они смело выступили в путь. Как часто бывает на севере, погода вдруг изменилась. С моря подул холодный ветер, налетели низкие тучи, посыпал дождь с мокрым снегом. Остановились. Вывернули брюки белым наружу и пошли в рост, не пригибаясь. Если смотреть издали, грудь и плечи разведчиков были на уровне невысоких деревьев, а ноги сливались с припорошенной землей. Но, как в шутку заметил Белозеров, ягодки были впереди. Ох и нелегкой оказалась эта дорога, на которой и километра ровного не сыщешь! То озеро обогнуть, то через сопку перелезть, то речку перейти. А какие здесь речки? То вода несется головокружительным потоком среди мокрых, осклизлых скал, так что к ней и не подступиться, то вылетит на равнину, растечется по тундре десятками ручьев и ручейков, заросших сверху травою. Топь! И снова давай обратный ход, крутись на месте, выискивай брод. — И что мы эти броды ищем? — после того как почти всю ночь группа пролазила по берегам Петсамо-йоки, пока не нашла глинистый, но удобный спуск к воде, в сердцах воскликнул Паньков. — Не кисейные же барышни за нами пойдут. Переправятся как-нибудь. — Танки пойдут, — коротко сказал Жданов. — Должны пойти! У разведчиков дух захватило. Танки! В Заполярье их не видели всю войну, и трудно было себе представить, как они могут действовать здесь, где ни надолб, ни рвов, ни «ежей» и не надо. И с удесятеренной энергией взялись разведчики за поиски надежных переправ, часами не вылезая из ледяной воды. Никто уже не обмолвился ни словом жалобы. Надо. Должны. Но больше всего мучили фиорды. Из географии известно: есть фиорды — узкие, глубокие морские заливы с высокими, крутыми скалистыми берегами и далеко вдающиеся в сушу; есть фьорды — мелководные заливы с невысокими, но тоже крутыми берегами. Длина их — километров пятнадцать-тридцать. Разведчикам в основном встречались фьорды, но что им было за дело до этих географических тонкостей! Когда обогнешь один, другой, когда продираешься скалами вдоль третьего да еще загнется он в обратную сторону, на восток, и конца ему не видно, тогда все равно, фьорд он или фиорд. Тогда ужас сжимает сердце, страшно съесть корку сухаря. Ведь надоже, непременно надо дойти до цели. А что еще впереди? Однажды Жданов решил пойти на риск. Обнаружив на берегу залива перевернутую лодку близ рыбацкого дома, он дал задание Турову и Захарову угнать ее. Долго подкрадывались осторожные разведчики к жилищу. Командир приказал им ни в коем случае ничем не выдать себя. Часа через три оба вернулись к затаившейся в укрытии группе. С лодкой. Ее тянули на цепи, она была наполовину наполнена водой. Рыбак, видно, давно покинул дом, хозяйство пришло в запустение. Воду вылили, щели заткнули тряпками и мхом, но все равно плыть всей группой на утлом суденышке было опасно. За весла взялся Жданов, на носу с автоматом наизготовку примостился Беляев. Остальные, раздевшись догола и погрузив всю амуницию в лодку, пустились вплавь, держась за борта. Переправились быстро, но пока раздевались, пока одевались, пока растирались и прыгали, лязгая зубами… «Так не пойдет, — сказал себе Жданов. — Тем более — дело случая. Надо искать что-то другое. Действовать скрытно — это не значит все время прятаться. Будем активнее. Если гора не идет к Магомету — Магомет идет к горе». И «другое», естественно, вскоре было найдено. Когда в предвечерние сумерки группа застряла у какого-то очередного фьорда, чтобы с наступлением темноты начать поиски средств переправы, неподалеку неожиданно раздался вой пикирующего бомбардировщика, глухие взрывы. Это наш самолет бомбил понтонный мост. Его разведчики видели часом раньше. На мосту стоял часовой, из трубы землянки, расположенной неподалеку, вился дым. Была там и лодка, но… Повздыхали разведчики, однако пришлось им все же убраться восвояси от надежно охраняемой переправы. Теперь все оборачивалось в ином свете. — Туда! — рукою указал Жданов Белозерову и Панькову. На долгие разъяснения не было времени, да они и не нужны были опытным разведчикам. Они стремглав бросились к переправе. Паньков, вылетев из-за валуна, в мгновение ока намертво уложил повернувшегося к нему спиной часового. Белозеров был уже на крыше землянки. Одну за другой он опустил в трубу две гранаты. Глухо ухнули взрывы. Через какие-нибудь полчаса группа была на западном берегу. По мосту, конечно, не пошли. Это было бы безрассудным нахальством. Но переплыли залив с комфортом — немного в стороне от переправы. — Как думаете, не засекут нас немцы? — еще сомневаясь в окончательном успехе, спросил товарищей Жданов. — Вы-то что скажете, Паньков? — Не-е, — за Панькова живо ответил Белозеров. — Судебная экспертиза не разберется, как их там шарахнуло. А если даже допрут, мы во-он где будем. — И он махнул рукой на горные кряжи, черной стеной вздымающиеся на фоне гаснущего неба. Так и пошло дальше. Теперь разведчики не таились вдали от дорог. Напротив, смело выходили к ним. Когда наши самолеты вновь бомбили вражескую колонну на марше, сумели словить какого-то тотального унтера, очумело мчавшегося от шоссе, и узнали от него ценные сведения: к фронту движутся части, сформированные в Северной и Центральной Норвегии. Сводку передали в штаб. Потом, снова обнаружив большую колонну гитлеровцев, тотчас дали ее координаты, перебрались на новое место и сели отдохнуть в ожидании «концерта». И он, этот «концерт», удался на славу: несколько эскадрилий «ИЛов» в три захода проутюжили дорогу… И снова в путь. Подбадривая друг друга шуткой, произнесенной шепотом, каким-нибудь беспечным словечком, — ни черта, мол, братцы, не такое видели! — они упрямо пробирались вдоль почти непроходимых берегов. Они знали: придет время — и эти угрюмые ущелья с ходу форсируют наши части. Но чтобы меньше было потерь, чтобы не тонули под смертельным огнем в холодных заливах друзья, им, разведчикам, надо пройти здесь, все высмотреть, засечь, отметить — в памяти и на карте. И еще — ничем не выдать себя. Обнаружь противник их здесь — живых или мертвых, — и тайна сразу перестанет быть тайной. Не для туристской же прогулки занесло советских солдат в эту каменную глухомань, затаившуюся дотами и нацеленными на редкие дороги и мосты орудиями. Южные берега Варангер-фиорда, грозные скалы Яр-фьорда и Бек-фьорда, вылизанные льдами, водой и ветрами окрестности города Киркинеса… Сама природа наворотила здесь таких дотов, таких надолб, таких надежно скрытых в склонах гор капониров и казематов, что, казалось, к этому естественному укрепрайону, защищенному к тому же водными преградами, и не подступиться. К тому же с 1940 года немцы вели здесь большое военное строительство. Сначала создавали опорную базу для своего «Drang nach Osten» [204], затем — последний рубеж обороны. Склады с горючим, боеприпасами запрятали в глубокие штольни. Батареи жерлами орудий щетинились из скал. Бить по ним с воздуха, с моря, с суши, не зная точных координат, было почти бесполезно. Вот здесь-то, в районе Киркинеса, и вели свой поиск разведчики. Конечно, не только группа Жданова; но и ей работы хватало до измождения. «Пришел, увидел» — так не получалось. Нужно было выжидать, всматриваться, сопоставлять. Но разведчики воевали не первый год, структуру немецких подразделений знали не хуже, чем своих, и даже по дымку походной кухни, по виду и, следовательно, калибру орудия могли, зацепившись, как за кончик нитки, распутать весь клубок системы вражеских укреплений. Это была упорная, изнурительная, опаснейшая работа, и выполняли ее не налегке, а с грузом килограммов на пятьдесят. Патроны… В рожках за голенищами сапог. Россыпью и в коробках в вещмешке. И гранаты — всюду, где только можно засунуть, прицепить, подвесить. У разведчиков жадный блеск вспыхивает в глазах и руки трясутся, как у скупца над золотом, когда они запасаются гранатами. Это их самое падежное оружие. И подчас последнее. К счастью, пока дело шло хорошо. Все оставалось нетронутым — и патроны и гранаты. Но тело ныло от усталости, ремни вещмешков глубоко врезались в плечи. И все ощутимее давал себя знать голод. С какой же завистью думали разведчики о своих товарищах по оружию, действующих на южных фронтах! Конечно, и там война, и там трудно, но там хоть картошку в поле выкопаешь, на пасеку тайком выйдешь. В этой же чертовой каменоломне хоть бы кору от дерева… Так и той нет, палки не сыщешь! Правда, на замшелых болотах попадалась брусника и яркими островками рдела клюква, такая, какая растет только на севере, — крупная, литая, брызжущая спелым соком. Но от брусники и клюквы у всех уже перекосило осунувшиеся, с глубоко запавшими глазами лица, а есть все равно хотелось. Сухари и сало были на исходе. Вопреки всем календарям установилась теплая погода. Днем на короткое время часто проглядывало солнце. Тогда, затаившись на какой-нибудь вершине, разведчики ясно видели Киркинес. Странно это было… Отчетливо просматривались улицы городка, неожиданно яркие — синие, бордовые, оранжевые — домики с острыми черепичными крышами. Лиц редких прохожих было не разобрать. Но женщины — в пальто, косынках, а то и в шляпках, такие, каких давным-давно не видели разведчики, — все равно казались красавицами. Далекие воспоминания, какое-то оцепенение туманом наползали на стекла окуляров… — Хватит глаза пялить куда не надо! — раздавался злой шепот Жданова, и они опять переводили бинокли на мрачные камни, пустынные берега узких заливов и свинцовых озер. Ночью было холодно, очень холодно. Над острыми скалами высоко горели звезды, Большая Медведица стояла прямо над головой… Однажды видели северное сияние. Еще не красочное, разноцветными бликами охватывающее полнеба, как в декабре или январе, а белесое, рассеянное, будто свет далеких автомобильных фар. Спали на животе, где-нибудь в гроте, но все равно караульный через каждые полчаса будил товарищей, чтобы хоть немного размялись и согрели застывшее на камнях тело. А потом снова спать, спать… Они уже выбивались из сил. Но всему бывает конец. И пришел час, когда разведчики повернули назад. Шли уже другой дорогой, чтобы продолжать разведку, и сразу же, у поселка Тофте, наткнулись на лагерь для военнопленных. За колючей проволокой дробили, возили в тачках щебенку люди в рваных шинелях, а то и в одних гимнастерках. На вышках виднелись головы в касках. И ни звука не доносилось оттуда, кроме ударов по камням. Будто двигались не люди, а тени… На виселице перед бараками ветер раскачивал труп. Долго стояли над лагерем разведчики. Пытались всмотреться в лица пленных, запомнить их. Ведь свои же, северные солдаты, были здесь. Свои, пропавшие без вести… Но кого различишь среди живых скелетов? Эх, если бы можно было броситься с высоты на этот лагерь, ворваться в него, перебить охрану, вооружить своих! Жданов видел, понимал: только пошевели он пальцем, и его бойцы рванутся в атаку. Они уже готовы к этому, их руки сжимают рукоятки автоматов, и кто-то уже щелкнул предохранителем. Белозеров, конечно, самый несдержанный. — Отставить! Белозеров — головной дозор! — взорвался Жданов. И тихо сказал: — Пошли, друзья… Мы сюда еще вернемся. И они снова тронулись своей дорогой. Цепочкой, один за одним, след в след, не разгибая ног в коленях, пружинистой и мягкой походкой разведчиков. Шли десятые сутки их пребывания во вражьем тылу.5
Где, в какой момент потерял ориентировку Туров? Забылся в головном дозоре… И сколько времени вслепую как потерянная продвигалась группа? Пять минут, десять, больше? Туров был честным человеком. Очнувшись, сразу дал сигнал «стой». И доложил командиру: — Сбился… Жданов ни слова упрека не произнес. Что было толку ругать измученного солдата? — Ничего, дело поправимое, — сказал он. — К дороге! Разведчики знают: когда человек сбивается с пути, он начинает идти по кругу. Может даже вернуться туда, откуда вышел. Теперь, чтобы определить свое местонахождение, бойцам Жданова нужно было привязаться к какому-то надежному ориентиру. И они, строго по компасу на север, направились к единственному здесь шоссе, зная, что рано или поздно, но все же выйдут к нему. И вскоре действительно вышли к узкой горной дороге. Она тускло светилась в ночи накатанным булыжником. Но уж если не повезет, так не повезет! Осторожно пробираясь вдоль шоссе, обнаружили наконец километровый столбик. Кругом было тихо, и Захаров юркнул к нему, чтобы посмотреть цифры. Тотчас перед ним, словно из-под земли, выросли две фигуры: — Halt! Откуда здесь взялись немецкие патрули? Может быть, идя дозором, случайно присели у километровой отметки. Может быть, здесь был секрет. Время от времени пленные бежали из лагерей и тоже выходили на редкие в этом краю ориентиры. Что тут гадать… Два автомата уперлись в грудь Захарову. Нужно было мгновенное решение. И Жданов нашел его — оно отрабатывалось разведчиками не раз. — Ноги! Захаров, резко согнув колени, рухнул как подкошенный. В тот же миг над его головой прошли встречные автоматные очереди. Но Жданов заранее вынес точку прицела. Его пули легли точно. Куда надо. — Вперед! И разведчики бросились через дорогу. На бегу Жданов осветил фонариком табличку на столбе. Паньков подхватил друга. — Живой? — Ага! Они снова скрылись в темных горах. Погони не было. Но ходу всё прибавляли. В такие минуты неведомые силы пробуждаются в бывалых разведчиках, и вот ведь странно — в самую кромешную мглу они нигде не споткнутся, ни за что не зацепятся, если даже будут продираться через завалы и колючую проволоку. Только потом долго будут болеть глаза, а в сумерки наступит куриная слепота. Но это — потом, не скоро потом… А сейчас, на беду, выяснилось: при падении Захаров не то сломал, не то вывихнул ногу. Его освободили от ноши, поддерживали, но идти он не мог. И это было страшнее всего. Все с ужасом думали, что приближается минута, когда им придется расстаться. И выход у Захарова останется только один. Тот, о котором разведчики стараются забыть и не вспоминать, когда уходят в тыл врага… Солдаты молча, яростно меняли вещмешки, снаряжение, по очереди тащили Захарова, боясь хоть вздохом выдать усталость. Жданов вышел в голову группы и гнал, гнал ее за собой дальше, дальше, насколько хватит сил. — Товарищ командир, — в который раз просил Захаров, — невмоготу… Жданов будто ничего не слышал. Шел все быстрей и быстрей. Он искал выхода. — Ни черта! — вдруг зло выругался он. — Будешь жить, Ваня. Мы тебя одного не оставим. Не те времена, понял? Скоро наши навстречу пойдут. По его знаку разведчики остановились. Рассвет наступал хмурый, с моря наползал густой туман. Под его прикрытием Белозеров и Туров отправились искать какое-нибудь жилье. На берегах фьордов время от времени попадались разбросанные норвежские рыбачьи поселки, а то и отдельные домики. В одном из них и решили оставить Захарова. Рискованно это было. И не полагается разведчикам обнаруживать себя… Свой план был у Жданова. Когда домик отыскали — даже не домик, хибару какую-то, прилепившуюся к скале близ узкого протока, — у Захарова забрали оружие, оставив только наган, сняли с него ватную куртку, осмотрели. Гимнастерка, хоть и не новая, была все-таки целая. Разодрали ее, у сапог оторвали резиновые головки, ноги обмотали куском грязного маскхалата. — Ползи, Иван! — напутствовал солдата командир. — В кровь издерись, чтоб дух из тебя вон! Скажешь — пленный. Скажешь — бежал. И не бойся, мы посмотрим, что будет. Если попробуют выдать — кисель из них сделаем. Понял, Ваня? Давай! Захаров полз километра два. Друзья следовали за ним, но не помогали. Чтобы получше измотался. Хотя, пожалуй, это было лишнее. Вид у Захарова был почти такой же, что и у тех, в лагере… Как Захаров скрылся в доме, не видели. Перед домом была изгородь. Но разведчиков очень встревожило, когда из калитки вышла женщина и укатила на велосипеде по тропинке, скрывавшейся за выступом скалы. «Что бы это значило?» — с тревогой думали солдаты. Они как будто всё правильно рассчитали. Самый невзрачный домишко выбрали. Те, другие, что попадались еще, были вроде подобротнее, побогаче. Так неужели бедняки подведут? Не должны же! В них верили с детства. И совсем уж не понравилось разведчикам, когда вслед за женщиной, вскоре вернувшейся, приехал еще какой-то велосипедист. Как тут было уйти, ничего не узнав, не проверив, как было бросить друга на произвол судьбы? — Готовь рацию, — приказал Жданов Беляеву. — Если что, — он кивнул в сторону домика, — передадим сводку и… — Кисель? — всунулся было Белозеров, но Жданов так глянул на него, что он мигом прикусил язык. Долго не трогались с места. Туман рассеялся, и стало видно, как завился дымок над домом. Из него никто не выходил. Прошел еще час. Два. У разведчиков отлегло от сердца. Значит, свои. Не подвели! К ночи группа собралась выступать, как вдруг Беляев, слушавший радио, сорвал наушники и чуть ли не в голос закричал: — Братцы! Наши наступают! Войска Карельского фронта перешли в наступление! — Ну что ж. — Жданов разогнул усталые плечи, выпрямился во весь рост. — Значит, так. — Он с трудом перевел дыхание. — Значит… — И не выдержав, сорвался: — Стучи, Володька! И открытым текстом повторим. Пусть пеленгуют! Черта лысого они теперь запеленгуют! Давай! Лупи на всю катушку! И еще он что-то такое говорил, и все говорили… Кроме Беляева. В эфир неслись позывные группы.6
Нужно ли говорить, как ликовали разведчики? Впору в пляс было пуститься! После долгих, казавшихся бесконечными лет фронт перешел в наступление. Им даже казалось, что они слышат далекий грохот орудий. Конечно, это было самообманом — то шумело море, — но все равно они могли бы поклясться, что слышат нарастающий гул приближающегося боя. Теперь все намного упростилось для них самих. Разведданные передали. Переместились на несколько километров — и снова отстукали сводку. Потом еще раз связались со своими — на тот случай, если будет дано новое задание. И в ответ получили короткое поздравление и благодарность комдива. Можно было ставить точку — задача выполнена! Теперь разведчики со спокойной душой могли расположиться на отдых и не трогаться с места. Беспокоиться, что немцы обнаружат группу в непролазных скалах, было нечего. И знали разведчики, наверняка знали, что скоро дождутся своих. Да, на пути наступающих частей будут тяжелые бои, трудные преграды. Но войска пойдут напрямую, дивизии не станут огибать фиорды — они форсируют их, сокрушат оборонительные рубежи врага. Можно ждать! Не через день, так через два, три дня — но радостная встреча со своими близка. Однако именно потому, что ликовала душа разведчиков, что пришел на их улицу праздник, они не могли ждать, не могли бездействовать. В иное время то, что стали делать они, показалось бы нагромождением тактических ошибок и безрассудным риском. Но сейчас весь многолетний боевой опыт, все знание законов войны убеждали их — так и только так следует поступать в сложившейся обстановке. Первым делом отправились в домик, где оставили Захарова. Не только для того, чтобы навестить друга, — Жданову нужна была моторная лодка. Хватит кружить вдоль бухт и заливов! Они пойдут по воде фиордами ночью, и если захотят немцы, пусть бьют по одинокой моторке. Разведчики ни на минуту не сомневались, что как-нибудь да выкрутятся, но наверняка засекут новые огневые точки противника. Беспредельно бесстрашными стали они! — Рожденный ползать летать не может, — сказал Белозеров, когда Жданов объяснил группе свой план, — зато наплаваемся! Всего чего угодно ожидали разведчики, входя в норвежский домик, но не того, что увидели. Не где-нибудь в погребе или в сарае под рыбацкими сетями — на кровати, под белой периной спал на подушках Захаров. Комната была маленькая, ее тускло освещал фитиль, плавающий в плошке. Но это было обычным. Зато Захаров… Белобрысый, умытый, какой-то даже розовый — не Захаров, а сплошное умиление! Хозяином оказался крепкий старик в грубошерстном свитере. Едва разведчики появились на пороге, он молча показал им на лавку у стены и протянул кисет, словно только и ждал гостей. Высокая, под стать ему, пожилая женщина отвесила солдатам степенный, но глубокий поклон. Еще одна женщина, молодая, та самая велосипедистка, в упор смотрела на разведчиков. Любопытство светилось в ее глазах. Белозеров живо подмигнул ей. Она улыбнулась. Больше никого не было. — Четвертый? — спросил Жданов, подняв пальцы. Старик кивнул, глухо, но с доброй улыбкой что-то гортанно прогудел в ответ, потом что-то громко сказал, подняв голову к люку в потолке. Оттуда высунулся парень. Приставив руки к глазам, показал, что он наблюдатель. — А тут дело не хуже нашего поставлено, — рассмеялся Жданов и сделал парню знак, чтобы он спустился. Беляев и Туров остались в дозоре неподалеку от домика. Захарова разбудили. Еще не раскрыв глаз, он выхватил наган из-под подушки. Потом перевел дух: — Фу-ты дьявол! А я было напугался… — А если бы немцы? — Нет немцы! — Норвежский парень решительно шагнул к Жданову, в котором безошибочно определил старшего. Задув светильник, он приоткрыл плотную штору окна. — Ингвар, Оке, — говорил он, взмахом руки показывая на убегающую тропинку и куда-то дальше, далеко дальше. — Халгейр, Сверре… Очевидно, он называл имена людей, засевших в засаде на горных тропинках. — А как же мы подошли? — спросил Жданов. Парень восхищенно закрыл глаза и только плечами пожал. — Ладно, хитрюга! Бабушке сказки рассказывай. Мы ж почти в открытую выходили, — рассмеялся Жданов, ткнул парня большим пальцем под ребро, и тот захохотал тоже, приложив пальцы к глазам и качая головой. Дескать: «Совсем ничего не видел, тени. А почему — сам удивляюсь». — Партизан, — сказал молчаливый дед. И все норвежцы опять закивали, показывая на себя: — Партизан… Партизан… Как знать, были ли они партизанами на самом деле? Может быть, только сегодня стали ими, придя на выручку советскому солдату? Но какое это сейчас имело значение! Удивительно тепло, радушно было в этом домике. А языка не понимали… Когда-то, года два назад, Белозерова ранило в голову осколком на излете. Рана была пустячная. Кость не пострадала. Но на лбу, над переносицей, остался красноватый рубец. Белозеров о нем давно уже забыл и никак не мог взять в толк, почему это все воззрились на него и коротким, вежливым, но настойчивым жестом будто тычут ему в голову. — Чепуха все это, — отмахивался он. — Подумаешь, делов-то… Но когда девушка очертила в воздухе звездочку, Белозеров все понял. — Нету, — обескураженно сказал он. — Разве ж я знал? Да я бы вам хоть орден! Звездочку. Как же это, а?… Звездочка все же нашлась. Одна, у Жданова. Он снял ее, маскировочно-зеленую, с шапки, посмотрел на темное пятнышко в полинявшем меху, сказал: «Память будет», — и протянул свой подарок норвежцам. Старуха поцеловала его руку. В горле старшего лейтенанта что-то булькнуло, он сделал судорожный глоток, но собрался с силами и сказал своим бойцам: — Идем отсюда! Не то… — и быстро шагнул к двери. За ним — норвежский парень. О лодке они уже договорились.7
За лодкой пришлось идти в рыбачий поселок, километров за пять. Старик хозяин настойчиво предлагал свою, но как было взять ее, одну-единственную? В поселке же парень обещал… Пальцев рук не хватало, сколько он обещал! Несмотря на то что по дороге засели Ингвары и Оке и норвежцы гарантировали полную безопасность, Жданов все же повел группу к морю обходным путем, выслав, как обычно, дозоры. Вернее, лишь головной дозор, так как боковым здесь, в теснинах, развернуться было негде. Вперед ушли Паньков и Туров. Сделав крюк в горах, они вышли на высокий, крутой утес у бухты и… — Надо же! — невольно вырвалось у Турова. Внизу, смутно очерченные в тумане, вырисовывались контуры парохода. Поселок лежал неподалеку — только спуститься с кручи к воде. Но чтобы выбраться из него на лодке, надо было прошмыгнуть под носом у корабля. И это в узкой горловине залива! Разведчики прислушались. От корабля доносились глухие удары. — Поломались они, что ли? — наугад сказал Туров. — Для чего в тихую заводь зашли? Подтянулась вся группа. Жданов как увидел корабль, так и застыл как вкопанный. — А что, если… — наконец произнес он. — А что? — повторил Туров. — Возьмем, товарищ старший лейтенант! — сказал Паньков. — Точно возьмем. — Погоди ты… — Запросто! — загорелся Белозеров. — Как пить дать возьмем! Скажи кто-нибудь такое разведчикам два дня назад, и они наверняка рассмеялись бы ему в лицо. Пешая разведка атакует корабль? Да полно, это же Мюнхаузен! И все же они решились. В какой-то восторженной одержимости, в порыве безмерной храбрости отважились на это отчаянное дело разведчики. А затем мгновенно остыли, сосредоточились и составили четкий план действий. Что руководило ими? Конечно, не элементарное желание отличиться. К чему бы это им, людям, уже много раз награжденным, уже отмеченным всеми почестями, которыми могут быть отмечены дела солдат. Тут все было и проще и сложнее. Рядом враг. И они должны бить его, потому что они советские бойцы. Потому что дали такую присягу — стране, народу. Самим себе, наконец. И сказать «невозможно», когда понимали — опасно, но все-таки возможно, значило бы расписаться в собственном малодушии. Они решились атаковать корабль. …Глубокой ночью две лодки вышли из рыбацкого поселка. На берегу расстались с норвежским парнем. Он просил взять с собой. Но этого разведчики, конечно, сделать не могли, хотя опытный мореход им очень бы пригодился. Они не имели права рисковать чужой жизнью. Весла на всякий случай обмотали тряпками. Кто знает, может быть, этого и не нужно было делать? Но так, им казалось, будет надежнее, тише будут всплески. Паньков, Беляев и Туров, переплыв фьорд, с нашей стороны двинулись на корабль. Жданов и Белозеров — с норвежского берега. На скале, прямо над кораблем, зацепился в камнях Захаров. Рядом с собой он разложил гранаты, заряженные магазины и, напряженно всматриваясь в темноту, с бьющимся сердцем ждал друзей. Их не было ни видно, ни слышно. Захаров и волновался и радовался. Не знал — где лодки, и знал — плывут, непременно плывут! Медленно сближаясь, утлые суденышки вышли на одну прямую. — Вижу! — шепотом доложил Белозеров Жданову. И тогда грохнули гранаты. — Ура!!! Обычно молча, стиснув зубы, атакуют разведчики. А тут не жалели ни боеприпасов, ни своих легких. Главное было — создать видимость мощного удара, главное — нагнать страху на врага, не дать ему опомниться. Отступать разведчикам было уже некуда. Эх, если бы у автоматов было два, три ствола! Били напропалую, на весь заряд, мгновенно заменяя рожки. Яркие вспышки метались в теснине, гулко ухали гранаты, с шумом вздымая буруны воды. — Полундра! — орал что есть мочи Белозеров. — На абордаж! — кричал, войдя в какой-то экстаз, Беляев. — А-а-а! — просто вопил на какой-то дикой ноте Захаров и швырял со скалы лимонки. Осколки со звоном и свистом летели в камнях. Там и здесь, будто снаряды, вспыхивали багрово-оранжевые шары. Под мощными гребками Панькова лодка подлетела к низкой корме корабля. Прыгнув на плечи друга, Туров кошкой уцепился за борт и перемахнул через него. Дал очередь, подхватил Беляева, и тот, очутившись на палубе, помчался на нос, веером рассеивая пули. Палуба была пуста. Через минуту все смолкло. Разведчики были на корабле. Двое заняли посты на корме и носу, Жданов с двумя другими бойцами остановился у крутой лестницы в глубь корабля. — Выходи! Стуча сапогами по железным ступеням, матросы начали подыматься на палубу. Их обыскивали. Оружия не было. — Выше, выше руки, — приговаривал Белозеров. — Вот так, умница! Все понимают, когда надо. Пленных было четырнадцать человек. Их собрали на корме. Жданов кивнул Белозерову и Беляеву на трюм: — Туда. Вскоре оба вернулись. — Иллюминаторы задраены. Свет есть, — доложил Беляев. — А закуски!.. — восхищенно добавил Белозеров. Он, кажется, уже что-то жевал. — Навалом! Жданов спустился вниз, в небольшую кают-компанию. Фонариком обшарил стены, щелкнул выключателем и невольно зажмурился. Давно уже отвык от электричества. Потом сел за стол, приосанился. Пленных вводили по одному. Допрашивать их было трудно. Они пугливо сжимались и все больше напирали на то, что «Гитлер капут». — Это я без вас знаю! — злился Жданов. — Почему здесь корабль? Но ответа на этот вопрос ему нелегко было добиться. Скорее всего, никто не понимал немецко-финско-русского произношения старшего лейтенанта. — У них какие-то плятдейчи есть, — смущенно оправдывался Жданов перед Беляевым, ведшим протокол допроса. — Учительница в школе говорила, точно помню: швабские там, мекленбургские… Я, видно, другой учил… К счастью, Беляев учил тот, который немцы понимали лучше. Постепенно разобрались, что к чему. На корабле — он оказался тральщиком — испортилась машина. Укрываясь от шторма в открытом море, кое-как вошли в тихие воды фьорда и стали на ремонт. — И сами ремонтировать собрались?! — осенило вдруг Жданова. — А что они в этом деле смыслят? Давай сюда радиста! Привели радиста, немолодого перепуганного матроса, который сразу с порога завел: «Киндер, фрау…» Беляев живо отстукал пальцем позывные сигнал бедствия. — Ну?! Пленный радостно закивал головой. — Так точно! — Так какого черта ты нам про киндеров, — взорвался Жданов. Тут в кают-компанию вбежал Туров: — Слышу мотор! Пленных быстро загнали в кают-компанию, в проеме раскрытой двери стал часовой, чтобы никто не подошел к иллюминатору. Разведчики залегли на корме, приготовившись бою. Один из пленных, казавшийся понадежнее, был рядом с Ждановым. Катер с ремонтниками оказался небольшим. Немцы — пленный и с катера — о чем-то переговорились, потом на борт полетел конец. Суденышко подтащили — и трахнули противотанковой. К счастью, у Жданова и Панькова, сидевших на бортах, осталось по штуке. Подождали, пока катер не скрылся под водой. — А теперь, — Жданов повернулся к Панькову, — Захарова сюда. Беляев — готовься к связи. И удивленно спросил вслух сам себя: — Что дальше-то? И куда эту кодлу девать? Не перебили сразу, а теперь возись… Так они же и не сопротивлялись… Жданов был явно обескуражен. — С нашими-то они не очень, — тихо напомнил Белозеров. — Вон в лагере-то… Жданов резко повернулся к нему: — Очень ты храбрый языком трепать! Так иди а стреляй! — Он сунул в руки бойцу свой автомат. — На, иди! — Хуже всех я, что ли? — угрюмо ответил разведчик и боком, боком отодвинулся от Жданова. На старшего лейтенанта «нашло», и нужно бы подождать, пока не «отойдет». Почти все боевые операции разведчиков рассчитаны на один внезапный удар. Ворвавшись в расположение врага, захватив пленного, документы, они сразу же отходят. Бой вести безрассудно: силы противника несравнимо подавляющи. Сейчас все происходило не так, как обычно. Группа Жданова находилась на корабле. Наступило утро, провиделись прибрежные скалы, а кругом было безлюдье, стояла тишина, плескалась вода о борт. Появились чайки. Большие, жадные. Широко распластав крылья, они, паря, проплывали над кораблем, наклонив голову, будто удивленным глазом рассматривали разведчиков. Казалось, их рукой можно достать. Чуть повернув крыло, птица взмывала ввысь, оглашая окрестность скрипучим криком. Может быть, чайки не очень громко кричали? Но разведчиков выводит из себя всякий звук. Они с ненавистью смотрели на птиц. Труднее всего было Жданову. До сих пор все его действия были привычными. Его приказы бойцы понимали с одного взгляда, с полуслова. Жданову даже не очень нужно было приказывать: разведчики прекрасно знали свою задачу, и от командира требовалось лишь координировать их действия, направлять группу. Теперь все стало иным. В руках разведчиков оказался боевой корабль-тральщик. Жданов не кончал военно-морского училища, по ему, конечно же, было знакомо назначение подобного корабля: вылавливать и обезвреживать мины противника. Но коли так, на тральщике должны были знать, где находятся свои, то есть немецкие, минные поля. Жданов понял: уйти с корабля — это значит совершить преступление перед нашими моряками. Он было засел за карты в капитанской каюте, но разобраться в них не смог. — Может, это какая-нибудь «роза ветров»? — удрученно сказал он Беляеву, который тоже безуспешно пытался проникнуть в смысл захваченной документации. — Давай еще посмотрим! А пленные? Их куда? В разведке беспощадные законы. Даже к своим. И не дрогнет рука разведчика, если надо бесшумно убрать захваченного в тылу врага противника. Но перебить четырнадцать человек, обезоруженных?! Жданов знал: настоящие разведчики презирают жестокость не меньше, чем подлость и трусость. С ним были настоящие. Он невольно вспомнил, как однажды, вернувшись из трудного поиска, Паньков, рассматривая прокушенную до кости руку, сказал будто сам себе: «Вот же дурак фриц, прости господи. Тяпнул, зараза! Ну, да ничего. Придет время — опамятуется. Еще добрым словом нас помянет. Царапался, кусался, а мы его живехоньким из смерти вытащили. Жить будет, паразит несчастный!» «Верно, братцы! — воскликнул кто-то. — Ведь живут они где-то, «языки» наши. Только вряд ли помянут… Зазря ты это, Ванька. Охота ли вспоминать такое?» Жданов чистил автомат в темном углу нар. Оторвавшись, он посмотрел на бойцов, сгрудившихся у жаркой печки, на холодные стены землянки, по которым вечно течет вода. В тот день он с особой силой почувствовал, какие великие люди рядом с ним… Нет, этих пленных разведчики уже пальцем не тронут, Жданов знал это. Знал, гордился своими солдатами, но от этого было не легче. Держать с собой такую группу, хотя и обезоруженную, было опасно. Как могут повернуться события? Еще до рассвета с одним из немцев Жданов облазил весь корабль. Баки были дополна заправлены горючим. «Надо будет — рванем», — отметил про себя старший лейтенант. Потом вспомнил из приключенческой литературы: «Открыть кингстоны!» — Кингстон? — спросил он. Так ему казалось понятнее. Его провели в трюм, показали кингстоны — железные клапаны на винтах. Жданов увидел ужасом расширенные глаза пленного. — Ладно, — сказал он. — Вас это не касается. Пленный ничего не понял, но робко улыбнулся. — Kamarad gut… — А ты как думал? Мы все «гут». — И комсомолец Жданов показал на себя: — Коммунизм! Ферштейн? То-то! Наконец созрело решение. Паньков и Туров, хладнокровные, расчетливые бойцы, будут конвоировать пленных. — Хоть идите, хоть лягом лягте, но чтоб ни один не удрал, — приказал Жданов. — Их еще как следует в штабе допросить надо. Поняли? Чтоб ни один! Загоните в какую-нибудь дыру — и ждите. Все! Чего ждать, он сказать не мог. Пока еще сам не знал. Но Панькову и Турову приказа было достаточно. — Есть! Лодка с двумя разведчиками отчалила от корабля. Плыть было недалеко. Выбравшись на берег, двое бойцов отыскали неглубокую пещеру, вернулись к воде. Их было хорошо видно. Тотчас отошла вторая шлюпка — с немцами. Ее проводили наведенными пулеметом и автоматами. И встретили так же. Но пленные уже поняли, что их не хотят уничтожить — это могли бы сделать сразу, — и были счастливы, что подобру-поздорову убрались с опасного корабля. Они слушались, как кроткие овечки. На тральщике остались четыре разведчика. Приготовили дымовые шашки. Белозеров занял по приказу Жданова место у кормового орудия. — А черт его знает, как из него стрелять, — откровенно признался он. — Уж если что, я через ствол целиться буду! Захарова посадили у крупнокалиберного пулемета. — Скумекаю, — пообещал он. Беляев включил рацию. На первую сводку тотчас пришел запрос: «Где находитесь?» Повторили. И снова: «Где!!!» — Что они, пьяные? — разозлился Жданов. — Сто раз повторять будем? — Они нас, пожалуй, за пьяных считают, — заметил Беляев. — Как работать? — Переходи на открытый текст! Это было страшно рискованно. Жданов прекрасно понимал, что его сводку непременно услышат и враги. Но шифра для морской терминологии у разведчиков не было. Цифры-буквы, знакомые двум радистам, только сбивали с толку. Радист, который находился в дивизии, думал, что ошибается, принимая неожиданный текст. Беляев перешел с ключа на микрофон, как следует обругав дружка: — Русского языка не понимаешь? На корабле, понял? Принимай! Приказ пришел не сразу. Работала мощная радиостанция корабля, сводку разведчиков приняли и в высоких штабах. Начались уточнения-всё, что передавал Жданов, было неожиданным. Вскоре над фьордом, сменяя друг друга, повисли наши самолеты, чтобы закрыть в него вход вражеским кораблям. Но низкий туман зацепился в скалах, летел косматыми клочьями над водой, и летчики не могли точно сориентироваться. Самолеты, пикируя с высоты, низко проносились над тральщиком. Бомб они не бросали, но у разведчиков сжималось сердце. «Сейчас, вот сейчас ударят…» Они изо всех сил размахивали руками и даже кричали: — Ребята, мы свои! Туман все сгущался, наползли сумерки. Наконец пришел приказ: забрать корабельную документацию и срочно идти навстречу своим. Бумаги выгребли из сейфов. Их набралось на два вещмешка. Карты Жданов взял себе. Разведчики уже спустили шлюпку, как вдруг услышали вдали шум мотора. Он нарастал. Но свои или чужие? Срочно зажгли дымовые шашки. — Все в лодку! — приказал Жданов и повернулся к Белозерову: — Дай раза два из пушки! Белозеров стремглав бросился на корму. Грохнул один выстрел, другой. И тотчас у борта вздыбилась вода. Шлюпку подкинуло, разведчиков окатило ледяным потоком. — Белозеров, назад! Разведчик соскользнул в лодку по веревке. Жданов отмахнул ее ножом: — Давай! Ударили весла. В лодке тоже зажгли дымовую шашку. Она зашипела, выпуская невидимые в темноте едкие клубы. Они заполнили теснину. Небо прочертили ракеты, но густая завеса скрыла разведчиков. Орудия ударили еще несколько раз, и багряный шар вспыхнул в фьорде, разгораясь все ярче. — В баки попали. Живей, ребята! К берегу пристали неудачно. Лодка стукнулась в каменную стену, круто подымающуюся из воды. — Белозеров, пошел! — И разведчик, зацепившись за выступ скалы, перепрыгнул на нее. Вскоре сверху послышался голос: — Веревку мне! Беляев закинул ему конец. На ощупь, впотьмах, Белозеров отыскал небольшую площадку. За ним на нее взобрались все. Дальше, в проломе, виднелся кусок неба и одинокая тусклая звезда. Из пролома тянуло холодом. Здесь можно было пройти. Разведчики остановились, тесно прижавшись друг к другу. Страшной силы удар вдавил их в скалы. Опалило горячей воздушной волной. Невидимый в дыму корабль прошел рядом, покружился немного по фьорду. Вскоре стук мотора и шум винтов стали удаляться. — Теперь нас уже искать нипочем не будут, — спокойно сказал Жданов. — Теперь мы вроде бы утопленники. Молодец, Белозеров, здорово свое дело сделал. — Это какое же? — удивился разведчик. В темноте он не видел лица старшего лейтенанта, но по голосу чувствовал, что тот улыбается. — Стрелял, говорю, здорово. Я ведь что решил: артиллерист ты никакой, наверняка в божий свет как в копеечку жахнешь. Нипочем тебе даже близко не попасть. И наши сразу поймут — пехота в лице Белозерова у морского орудия стоит. А немцы тебя не знают. Они решат, что вроде бы всерьез по ним стреляют, и ответят огнем. — Н-да, — обескураженно протянул Белозеров. — И вы здорово рассчитали, и я, выходит, здорово… Только оно что-то по-разному получается. — Ничего, дружище! — Старший лейтенант крепко обнял бойца. — Все как надо получилось… Слышите? Будто совсем рядом, глухо ворчал прибой. Но открытое море было далеко, в фьорде не раздавалось ни всплеска. — Камни гудят, — сказал Жданов. — Бой приближается. Это наши идут! И еще пережили один незабываемый день разведчики. С бойцами своей дивизии они сошлись близ Печенги. Вся группа была в сборе. Паньков и Туров далеко от берега не ушли. Они ждали своих — либо с одной, либо с другой стороны. Комдив встретил разведчиков на окраине еще горящего города. Он вышел из машины — в кожанке, теплой ушанке. Крепко пожал руки и сразу потребовал: — Карты! Взглянул на них, улыбнулся разведчикам: — Молодцы! Какие же вы молодцы, если б знали! — и приказал шоферу: — Срочно в штаб флота. — А вы? — спросил шофер. Комдив только рукой досадливо махнул: — Быстрее! На «виллисе», сидя чуть ли не друг на дружке, мчались с ветерком. Шофер сигналил беспрестанно. Вся дорога была забита пехотой, повозками, но регулировщики как-то узнавали генеральскую машину и взмахами флажка расчищали ей дорогу. Близ плавбазы флота к разведчикам присоединился морской офицер. По его знаку машина выехала к причалу, и тотчас с корабля на рейде одно за другим ударили два орудия. — Наш морской салют! — пояснили разведчикам. — За каждый потопленный корабль. — Скажи пожалуйста, все точно! Как в газете! — удивился Белозеров. — А я читал, что есть у вас еще одна традиция… Вот она бы нам в самый раз. — Все будет! — пообещал моряк. — Но сперва карты! Разведчики сдали карты, документы. Им дали выспаться, назавтра они попарились так, что кожа чуть ли не пузырями пошла… А вечером их снова пригласили на плавбазу. Когда все сели, дверь открылась, и кок торжественно внес блюдо с жареным поросенком. — С корочкой! — чуть не застонал Белозеров. — Я же читал! Вот это традиция! По той же самой традиции было к поросенку и кое-что другое. Через час Белозеров уже выбрался из-за стола и лихо колотил на ложках «Яблочко». Сам черт ему был не брат — что адмирал, что ефрейтор. Адмирал улыбался и говорил Жданову: — Золотые у тебя парни! — Хорошие, — вежливо соглашался старший лейтенант… Утром разведчики уезжали. Их провожали офицеры. — В Киркинес! — сказали шоферу. — Прямой дорогой! — Мы эту дорогу знаем. Бывали! — Герой Советского Союза Жданов улыбнулся и, подмигнув морякам на прощанье, воскликнул: — Пехота! Полный вперед! А кавалер орденов Славы всех степеней Белозеров уткнулся в «Правду» и только головой покачивал: — Скажи пожалуйста!.. Ну и мы! Вознесут же!НИКОЛАЙ ТОМАН РОБОТ «ЧАРЛИ» ГРАБИТ БАНК Фантастическая повесть
1
Глава местного гангстерского «синдиката» Питер Дрэйк никогда еще не был так взбешен. Первые несколько минут он просто не мог вымолвить ни слова, лишь яростно хрипел и плевался. — Вам нельзя так волноваться, сэр… — пытается успокоить его Антони Клифтон. — Это может… — Идите вы к черту, Тони! — выкрикивает наконец Питер Дрэйк. — Опять собираетесь читать мне лекцию о пагубных последствиях стрессов [205]? Заткнитесь-ка лучше. Я вас нанял не на эту работу. И потом, вы же доктор не медицинских, а физико-математических наук, так что работайте по своей специальности и не лезьте в медицину. А что касается стрессов, то у меня на этот счет своя теория: я должен спустить с цепи свою ярость, а то она меня задушит. Если же вы не привыкли к крепким выражениям, заткните уши, а мне необходимо разрядиться. И он «разряжается» такими проклятиями, каких Антони Клифтон никогда еще не слышал, и стучит по столу кулачищами так, что начинают подпрыгивать не только календарь и подставка для ручек, но и телефоны. А потом сразу успокаивается и говорит как ни в чем не бывало: — Давайте-ка вызовем Тэрнера, Тони. Пусть он внесет ясность в это дело. — Вы имеете в виду начальника полиции Джона Тэрнера, сэр? — удивленно переспрашивает Клифтон. — Да, именно его. — А может быть, лучше кого-нибудь из его помощников? Ему, наверное, будет не совсем удобно… — А брать у меня деньги, и притом немалые, удобно? — Но зачем же вам его компрометировать? Не лучше ли… — Ну, знаете ли, Тони, вы хоть и доктор наук, а в делах житейских порядочный профан, — раскатисто смеется Питер Дрэйк. — Перед кем я его скомпрометирую?Для кого в нашем городе секрет, что он получает от нашего синдиката [206] вдвое больше, чем в муниципалитете? — В таком случае, как бы муниципалитет… — Им известно это лучше, чем кому-либо иному. Они тоже у нас на содержании. И не притворяйтесь, будто впервые об этом слышите. Терпеть не могу притворщиков! — Он снова хлопает кулаком по столу. — А если и в самом деле не верите словам моим, выйдите на улицу и спросите у первого встречного. Он вам не только подтвердит все это, но еще и назовет точную сумму долларов, получаемых от нашего синдиката мэром города и его коллегами по муниципалитету. — Что вы, сэр! Я вам и без того… — В таком случае, не будем тратить время на болтовню. Разыщите моего секретаря и передайте ему приказ: срочно вызвать ко мне начальника полиции. Фрэнк должен быть в библиотеке, я поручил ему подобрать мне кое-какие книги. Но скорее всего вы найдете его в бильярдной. Куда бы я его ни посылал, он никогда не упустит случая зайти в бильярдную. И не будь он таким классным бильярдистом, настоящим бильярдным асом, я бы давно вышвырнул его на улицу. Вы ведь познакомились уже с Фрэнком, Тони? — Да, сэр. — Ну так вот — срочно найдите его и передайте ему мое приказание. — Слушаюсь, сэр! «Ну и логика у этого доктора! — размышляет Питер Дрэйк. — Сам не считает зазорным работать на меня, а что чиновники из муниципалитета могут делать то же самое, сомневается. Хотя скорее всего только притворяется таким наивным…» — Тэрнер будет у вас через двадцать минут, сэр, — вернувшись, докладывает Клифтон. — А вы говорите — неудобно тревожить такую персону, — улыбается босс — От полицейского управления на машине сюда как раз двадцать минут. Значит, он, бросив все свои дела, примчится немедленно. Да за те доллары, что я ему плачу, он не то что на машине — пешком прибежит, уложившись в то же время. Вы, Тони, хоть и ученый, а, похоже, не знаете истинного могущества доллара. Зато нам, гангстерам, оно хорошо известно. Всмотревшись в хмурое лицо Клифтона, Питер Дрэйк озорно присвистывает: — Э, да вы, я вижу, недовольны чем-то? Уж не думаете ли, что я плачу ему больше, чем вам? Не больше, док, не больше, на этот счет можете быть спокойны. К вашему сведению, должность начальника полиции займет любой сержант местного полицейского управления, если только это будет мне более выгодно, а вот доктором физико-математических наук я не могу назначить любого болвана. В соответствии с этим и цена вам выше. — Да зачем вам доктор физико-математических, мистер Дрэйк, вот ведь чего не могу я понять! Вам, по-моему, нужен хороший криминалист или доктор юридических наук. — А зачем, Тони? Любой криминалист нашей городской и даже федеральной полиции со всей их техникой в полном моем распоряжении. Юристов мне тоже хватает. — Ну, а я все-таки зачем? — А затем, Тони, что в наше время научно-технической революции грабить по старинке, как во времена Аль Капоне [207], не только старомодно, но и не практично. Пора ставить и наше дело на научную основу. Я не закончил по ряду причин Чикагского университета, однако проучился целый год на его юридическом факультете и потому мыслю не так примитивно, как мои коллеги и конкуренты. Нахожу время кое-что почитывать. Знаю, что кибернетики конструируют всяческие «личности». «Личность Аристотеля», например. Или Платона, Гегеля и даже Бонапарта. А я хочу, чтобы мне сконструировали «личность Аль Каноне»… — Но ведь вы же только что… — Да, критиковал его метод применительно к нашей эпохе, однако в его время он был хорош. Для меня Аль Каноне звучит как символ нашей профессии, как Бонапарт для людей военных. Во всяком случае, он знаменитее таких гангстеров, как Диллингер, Адонис и даже Фрэнк Костелло, которого кто-то из журналистов назвал «премьер-министром организованной преступности». Имя Аль Каноне в нашей стране знает каждый мальчишка. «А вот помнят ли они имя Авраама Линкольна?» — невольно думает Антони Клифтон. Он-то, Питер Дрэйк, знает, конечно, не только всех своих знаменитых коллег-гангстеров, но и политических деятелей. Может быть, даже кое-кого из ученых. А вот кумиром американских мальчишек становятся такие бандиты, как Аль Капоне. Ну, а ты-то сам, Антони Клифтон, как же пошел в услужение к гангстерам? И он тяжело вздыхает, вспоминая, как оказался вдруг безработным вместе с другими своими коллегами. До этого Антони никогда не интересовался статистикой безработных, полагая, что бедствие это обрушивается главным образом на негров и малоквалифицированных рабочих. А вот оказалось, что и «белые воротнички» [208] без особых церемоний выбрасываются за двери научных учреждений и оффисов большого бизнеса. Он прочел сегодня в газете, что в Калифорнии уже насчитывается тридцать тысяч безработных инженеров. В том же штате совсем недавно уволено около ста ученых со степенью доктора наук. Особенно потрясла Антони статья в «Таймс» о бостонском инженере Арнольде Лимберге, который совсем недавно зарабатывал двадцать тысяч долларов в год, составляя научные доклады об экспериментах по высадке человека на Луну. А теперь, оказавшись безработным, он берет по пяти долларов за работу по хозяйству, по шести — за малярные работы, по семи — за кровельные или плотницкие. Клифтон, пожалуй, не сразу бы согласился на предложение главы местной мафии стать его консультантом по научным и техническим вопросам, но судьба Арнольда Лимберга буквально надломила его. Он согласился, не спросив даже, что придется делать. И вот только теперь его новый босс нашел нужным сообщить ему, зачем он ему понадобился. А ведь прошел почти целый месяц, как он выполняет у Дрэйка различные мелкие поручения, скорее канцелярского, чем научного характера. — Э, да что говорить, Аль Капоне был великим гангстером, — продолжает развивать свою мысль Питер Дрэйк. — Но сегодня ему пришлось бы работать по-иному. А наши боссы федерального масштаба не понимают этого и действуют по старинке. Их люди, как и полвека назад, в масках, с пистолетами грабят банки и раздевают прохожих на улицах. Мелко все это! Но вот наконец-то в нашем городе ограбили банк на уровне века, так сказать. Но кто? Едва ли додумались до этого наши конкуренты. Кто же тогда, однако? Просто фантастика какая-то! Не марсиане же?… Клифтону непонятно, спрашивает его Дрэйк о марсианах или просто рассуждает вслух, и он решает пропустить этот вопрос мимо ушей. А Дрэйк закуривает сигарету и продолжает: — Возможно, меня уже опередили, но я хочу создать «личность Аль Капоне» именно для того, чтобы совершать наши операции на уровне века, с помощью электроники. Заказ на такую «личность» вы и должны будете сделать нашему знаменитому кибернетику Клиффорду Харту. Вы видели его робота «личность Чарли»? — Которая играет в студии «Летучая мышь»? — Да, та самая. Харт, конечно, под этой личностью имеет в виду Чарли Чаплина. Тоже мне великий артист! Посмотрел я недавно его старые фильмы — не смешно. И чего в свое время надрывали животы наши предки? Питер Дрэйк пренебрежительно фыркает, сотрясая оплывшие жиром плечи, а Антони Клифтон недоумевает: «Сколько же ему лет? По виду не менее сорока. Скорее всего, это складки жира на лице и шее придают ему такую солидность. На самом-то деле, наверное, не более тридцати…» — А эта «личность Чарли», — продолжает Дрэйк, — ведет себя на сцене непринужденнее любого актера. Особенно поражает выразительность его лица. Чтобы у робота было такое лицо — для меня это непостижимо! — А что же тут удивительного? Пневматика… — Ну, знаете ли, Тони! — взрывается Питер Дрэйк. — Вы вот тоже живой человек, у вас не какая-нибудь там синтетика и пневматика, а мышцы из стопроцентного белка, высшая нервная система, не считая вегетативной, а на лице никаких эмоций. Как же мне не удивляться после этого богатой мимике робота? — Я флегматик, сэр, — пытается острить Антони, — у меня… Но в это время секретарь докладывает, что прибыл начальник городской полиции. — Проси, — кивает Дрэйк.2
Высокий, худощавый, по-военному подтянутый Джон Тэрнер козыряет главе гангстеров с таким подобострастием, будто перед ним министр юстиции или сам всемогущий шеф Федерального бюро расследований. А Дрэйк, не вставая ему навстречу и не отвечая на его приветствие, засучивает рукав и смотрит на часы. — Где же ваша, хваленая оперативность, Джо? Доложили, что будете через двадцать минут, а сейчас уже двадцать одна. Не ожидал я этого от вас. — Виноват, мистер Дрэйк! Я велел перекрыть все светофоры на пути к вашей резиденции, однако… — Ну ладно! — прерывает его Дрэйк. — Садитесь. У нас будет разговор о вещах более серьезных. — Догадываюсь… — Еще бы вам не догадываться! Ну, и как, по-вашему, чья это работа? — Не иначе, как вашего конкурента Эндрю Инглиша… — Не мелите ерунды, Джо! — сердито стучит пухлой ладонью по столу Питер Дрэйк. «Ну и наглец этот гангстерский босс! — глядя на самоуверенное, властное лицо Дрэйка, думает Клифтон. — Джон Тэрнер вдвое старше его, а он запросто, как сверстника, — «Джо»!..» — Да разве смогли бы гориллы Эндрю сработать так чисто? Уж кому-кому, а вам-то надо бы это знать, — укоризненно покачивает головой босс местных гангстеров. — Работа действительно ювелирная, — вздыхает начальник полиции, протягивая руку за сигаретой, предложенной Дрэйком. — Ну, а кто же тогда, если не мои люди и не люди Эндрю? Что думают об этом ваши криминалисты? — Разводят руками… — Это-то проще всего. — А что еще остается им делать? Вам, конечно, известно, что в нашем городском полицейском управлении установлена электронная вычислительная машина. Как только от наших агентов поступает донесение в ее устройство вводится характеристика совершенного преступления в виде специального кода. А спустя две-три минуты электронная машина выдает нам исчерпывающую информацию обо всех сходных преступлениях, совершавшихся когда-либо в нашем городе… — И что же? — торопит начальника полиции Питер Дрэйк. — Не было, оказывается, в нашем городе ничего подобного за всю его историю. Да и вообще никто никогда не грабил американские банки подобным способом. — Действительно, значит, кто-то из марсиан? — усмехается Питер Дрэйк, начиная заметно багроветь. — А не ограбил ли местный банк кто-нибудь из ваших коллег, мистер Тэрнер? Такое ведь бывало. — Бывало, сэр! Но и это закодировано и введено в электронную машину. И если бы… — Знаю я, как это кодировалось! — снова стучит ладонью по столу Питер Дрэйк. — Но если даже допустить, что это кто-нибудь из моих полицейских, все равно ведь многое необъяснимо, мистер Дрэйк. Тот, кто ограбил банк, должен был находиться в нем всю ночь. А в банке на ночь герметически закрываются все двери и окна. Выключается и вентиляция, так как во всем помещении не остается ни одного живого существа, даже кошки… — А мышки? — кривит в усмешке толстые губы Питер Дрэйк. — Это возможно, и на это делается поправка. — Но зачем же, однако, такая герметизация? — недоумевает Дрэйк, отбрасывая недокуренную сигарету в пепельницу. — С целью обнаружения злоумышленника, сэр. — На тот случай, если кто-нибудь попытается остаться в банке на ночь? — Так точно, сэр! Малейший излишек углекислоты в герметически замкнутом пространстве банковского здания тотчас же будет зафиксирован установленной во всех его комнатах специальной аппаратурой. Она немедленно приведет в действие сигнал тревоги не только в дежурном помещении охраны банка, но и у нас в полицейском управлении. Мало того — показатель нарушения нормы углекислоты будет зафиксирован опломбированными счетчиками. Однако в ночь ограбления банка никаких нарушений этой нормы не было зарегистрировано. — Произошло, значит, чудо? — Да, на грани чуда. — Ну ладно, идите, Джо, — устало говорит Питер Дрэйк. — Я пришлю в банк своих специалистов, может быть, они помогут вам разрешить эту загадку. Вы только предупредите ваших полицейских, чтобы они не чинили им препятствий.3
— Ну, как вам понравился начальник полиции, Тони? — оставшись с Клифтоном наедине, спрашивает Дрэйк. — Такое впечатление, сэр, будто он на службе не у муниципалитета, а у вас. — Да ведь так оно и есть! Мудрый Аль Каноне заявил в свое время: «Мы не воюем с полицией, мы покупаем ее». А то, что было возможно в первой половине нашего столетия, вполне осуществимо, как видите, и сейчас. Ну, а что вы скажете теперь, после информации начальника полиции, об ограблении местного банка? — Похоже, что случай действительно исключительный. — Кто бы, по-вашему, мог это сделать? Клифтон пожимает плечами: — В самом деле какая-то фантастика… — И это вы, серьезный ученый, доктор наук, даете мне такой ответ? Что, однако, имеете вы в виду под фантастикой? — Что ограбить банк таким образом может только робот. Питер Дрэйк удивленно таращит на Клифтона глаза и делает судорожные глотательные движения, будто он чем-то подавился. — Вот уж чего услышать от вас никак не ожидал! Чушь, бред какой-то! Да ведь уровень совершенства современных роботов… — А «личность Чарли»? — прерывает его Клифтон. — Вы же сами только что восхищались им. — Ну, одно дело игра на сцене и совсем другое — ограбление банка. Уж я — то знаю, что это такое! — А почему вы думаете, что играть на сцене легче? Простите меня, пожалуйста, но вы разве смогли бы сыграть роль Гамлета, как делает это робот «Чарли»? — Этого я не пробовал, — усмехается Питер Дрэйк. — Мне это было ни к чему. — Поверьте мне, сэр, это тоже не так-то просто. Особенно если сыграть такую роль талантливо. А вы уверяете, что «Чарли» исполнял свою роль талантливо. — Об этом в газетах даже писали. Но как же можно сравнивать игру на сцене с ограблением банка, где тебя могут не только схватить, но и пристрелить? — Для человека это действительно серьезное испытание. Наверное, только очень храбрые люди могут решиться на такое. Но ведь роботы лишены чувства страха. Им нечего бояться, что их могут пристрелить. — Да разве в одной храбрости только дело? — возмущается Питер Дрэйк. — Как же можно так примитивно судить о нашем ремесле, док? — Извините меня, сэр, если я… — Идите вы к черту с вашими извинениями! Скажи мне такое кто-нибудь другой, я бы разрядил в него весь свой кольт. Думать нужно, прежде чем говорить, уважаемый доктор физико-математических наук. А в нашем гангстерском деле, кроме храбрости, необходимо еще и голову иметь на плечах. У нас просто банков бы не хватило, если бы для ограбления их требовалась одна только храбрость. Как же сможет совершить такое безмозглый робот? — Теперешний робот не такой уж безмозглый, — осмеливается возразить своему боссу Антони Клифтон. — То время, когда в его запоминающее устройство вводились перфоленты с алгоритмами, предписывающими ему необходимые действия, давно уже позади. Теперь… — Вы мне не читайте научно-популярных лекций, Тони, — усмехается Питер Дрэйк. — Не только роботы, но и гангстеры стали теперь более интеллектуальными. Я имею представление не только о методе перебора вариантов, но знаком и с эвристическим программированием. Может быть, есть, однако, что-нибудь поновее? — Я ведь не специалист по кибернетике, мистер Дрэйк, и все новшества этой науки мне неизвестны. Знаю только, что кибернетики всячески стараются приблизить работу электронных вычислительных машин к механизму решения творческих задач человеческим мозгом. Частично эту проблему решает эвристическое программирование, которое вы только что упомянули. Ну, а стратегия решения творческих задач человеком, как я ее себе представляю, состоит в предварительном моделировании отдельных элементов или ситуаций всей этой проблемы. Такая стратегия, кажется, и называется «моделью ситуаций». Вы понимаете меня, мистер Дрэйк? — Не очень. — Ну, вот допустим, вам нужно решить сложную шахматную задачу. Вы при этом не станете ведь перебирать ходы всех фигур, находящихся на доске, а сосредоточиваете внимание только на тех, которыми намерены действовать. Таким образом вы сразу же сокращаете… — Теперь все ясно, Тони! Я ведь довольно сообразительный парень, — самодовольно говорит Дрэйк. — Это начальнику полиции Джону Тэрнеру нужно было бы все разжевывать, а мне… Ну, да вы и сами, конечно, понимаете, что в боссы местного отделения «Коза ностры» выдвигаются не выслугой лет, как в полиции. А почему я так интересуюсь возможностями роботов, не догадываетесь? — Нет, не догадываюсь, мистер Дрэйк. — Мысль одна пришла в голову… — неопределенно произносит Питер Дрэйк и, кряхтя, выбирается из-за своего огромного письменного стола. Постояв немного посреди просторного кабинета, он тяжело переставляет, видимо отекшие, ноги и медленно идет к окну. — Может быть, это и в самом деле работа «Чарли»? — спрашивает он Клифтона, не оборачиваясь в его сторону. — Я имею в виду ограбление банка. Антони молчит, не зная, что ответить. — Раз это дело рук не моих коллег, — продолжает гангстер, — то и гориллы Эндрю Инглиша тоже тут ни при чем, а тем более марсиане. Однако кто-то это сделал? Не нечистая же сила! — А почему бы не допустить, что кто-нибудь… — …из другого города, да? — живо оборачивается к ученому Питер Дрэйк. — Ну нет! Уж этого-то быть не может! Ни один профессиональный гангстер не станет вторгаться на нашу территорию. А непрофессионалу такая операция не по плечу. Да и профессионала, будь он даже таким же метром, как Аль Каноне, следует исключить. Такое действительно под силу только роботу. Лишь он мог пробыть в закрытом помещении банка, не выдохнув ни одного кубического сантиметра углекислоты. — Значит, вы полагаете, что это был… — Да, это был, наверное, робот Клиффорда Харта! Его «Чарли»! А если это так, то скоро роботы нас, гангстеров, по миру пустят… — упавшим голосом заключает Питер Дрэйк. Опустив плечи и по-стариковски шаркая ногами по паркету, он возвращается на свое прежнее место за письменным столом. Закурив сигарету, устало спрашивает Клифтона: — Что же нам теперь делать, Тони? — Не знаю, сэр, — чистосердечно признается доктор физико-математических наук. — А я знаю! — вдруг преображается Питер Дрэйк. — Мы должны купить у Клиффорда Харта его робота! — Но зачем же ему расставаться с таким роботом? — недоумевает Антони Клифтон. — Это ведь все равно, что продать курицу, которая несет золотые яйца. — Ему, однако, придется это сделать, если он не хочет, чтобы я отобрал у него эту курицу силой. Вы пойдете к нему сегодня же и договоритесь, на каких условиях уступит он мне своего «Чарли».4
— Вы, наверное, из полиции? — слегка дрогнувшим голосом спрашивает Антони Клиффорд Харт, маленький, сухонький, абсолютно лысый человечек в поношенном смокинге. — Нет, мистер Харт, я не из полиции, а скорее наоборот, так что можете не беспокоиться. — Как прикажете это понимать? — повышает Харт и без того высокий голос почти до визга. — Если бы я был из полиции, мистер Харт, я бы не стал вас ни о чем расспрашивать, я бы вас просто арестовал. — Но за что же, черт побери! Я как будто не совершил никакого преступления… Клиффорд Харт уже не пытается больше скрывать свою тревогу. Левый глаз его начинает нервно дергаться. А Клифтон продолжает загадочно улыбаться. — Откуда вы, в таком случае, если не из полиции? Как понимать ваше «наоборот»? — все больше нервничает кибернетик. — Я от Питера Дрэйка, мистер Харт. — Но это, знаете ли, почти то же самое… — испуганно мигает бесцветными ресницами кибернетик. — Ну, а мне как же понимать ваше «почти то же самое»? — усмехается Антони Клифтон, прекрасно понимая, что Харт имеет в виду. — Почти то же, что и полиция, — неожиданно взвизгнув, поясняет Харт. — Разве с той только разницей, что его люди приходят обычно не арестовывать, а убивать. — Можете этого не опасаться, мистер Харт, я к вам совсем с иной целью. — А почему вы решили, что я чего-то опасаюсь? Я совершил разве что-нибудь предосудительное? — Нет, вы лично ничего не совершили, но ваш робот… — Какой робот? — «Чарли». «Личность Чарли»… — У меня нет больше никакого «Чарли»! — теперь уже кричит кибернетик. — Сбежал от меня мой «Чарли»!.. — Как — сбежал? В каком смысле? — В прямом! В буквальном! Сбежал, как сбегают отбившиеся от дома собаки. Клифтону начинает казаться, что кибернетик его дурачит, и он повышает голос: — Не валяйте дурака, мистер Харт! Я пришел к вам по личному поручению Питера Дрэйка, а он, как вы, наверное, знаете… — Да, я знаю, вернее, слышал кое-что о крутом характере Питера Дрэйка [209]. Но меня не пугает ни он, ни его грозная фамилия. — Почему вы решили, что у него грозная фамилия? — улыбается Антони Клифтон. — С каких пор селезень стал грозной птицей? — Ну, положим, фамилия его означает не только эту безобидную птицу, но еще и старинную пушку. — Маленькую притом, — смеется Клифтон. — Но зато еще и старинную галеру с изображением дракона на носу. И это к его фамилии имеет большее отношение, чем селезень. Вспомните-ка знаменитого пирата шестнадцатого века Френсиса Дрэйка, наводившего страх на испанские владения в Америке. — Он грабил испанские колонии не только для личного обогащения, но и для пополнения казны английской королевы Елизаветы, за что и был возведен ею в рыцари, а позднее произведен в адмиралы ее флота. — Следовательно, все вполне закономерно! — восклицает кибернетик. — Раньше пираты с королями были заодно, теперь представители «большого бизнеса» — с гангстерами. — А ведь мы удалились от темы нашего разговора на целых четыре столетия, — напоминает Харту Антони Клифтон. — В мире, однако, за это время мало что изменилось, — иронически хмыкает кибернетик. — Но вернемся от Френсиса Дрэйка к Питеру Дрэйку. Можете передать ему, что я не собираюсь его разыгрывать. Мой «Чарли» действительно сбежал. — А вы заявили об этом в полицию? Дали объявление в газеты? — Нет, я не сделал этого. «Чарли» не щенок, которого могут заарканить мальчишки или живодеры, он «личность», у которой я воспитал свободомыслие. — Свободомыслие или свободу воли? — уточняет Клифтон, которому все еще кажется, что его разыгрывают. — Он волен делать все, что ему заблагорассудится, в нашем свободном мире. — В том числе и ограбить банк? — А почему бы и нет? Почему это можно вашему боссу, а ему нельзя? Это было бы величайшей несправедливостью по отношению к «Чарли», который по своему интеллекту… — Не советую вам оскорблять Питера Дрэйка, мистер Харт. Он этого не любит. — А мне теперь никто не страшен! Что я теперь без моего «Чарли»? Я вложил в него все свои знания, весь опыт и мастерство и все свое состояние. Он должен… он обязан был кормить меня своим искусством актера до самой моей смерти, а «Чарли» оказался неблагодарной свиньей, паршивой скотиной… — Успокойтесь, мистер Харт, возьмите себя в руки. Вернется к вам ваш «Чарли»… — Да что вы меня успокаиваете, молодой человек? Не нуждаюсь я ни в чьих утешениях! Что вы вообще понимаете в роботах, чтобы утверждать, что «Чарли» вернется? — Кое-что понимаю, мистер Харт, — улыбается Клифтон. — Я не коллега Питера Дрэйка по его ремеслу, я его консультант по научно-техническим вопросам. — Тогда вы должны знать, что возможности современной кибернетики… — Да, я это знаю и вполне допускаю, что ваш робот… — Я же сказал вам, что у меня нет робота! — А я не сомневаюсь, что он к вам вернется. И если даже не захочет вернуться, то иссякнет же когда-нибудь заряд его аккумуляторов… — О, это ему не грозит. Он умеет подзаряжаться от любой штепсельной розетки электрической сети. Нет, сам он ко мне уже не вернется, в этом у меня никаких сомнений… — Но почему же, почему? — начинает злиться Антони Клифтон. — Разве вы не запрограммировали в его электронной памяти трех законов роботехники, подсказанных кибернетикам известным фантастом Айзеком Азимовым? — Кто же из уважающих себя кибернетиков не знает этих законов? Один из них гласит: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». Вы этот закон имеете в виду? — Да, этот. Он у Азимова считается Первым. И еще два: «Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек…», в данном случае вы, его хозяин, «…кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону». И Третий закон: «Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит Первому и Второму законам». Почему же вы пренебрегли этими разумными рекомендациями Айзека Азимова, который, как вы и сами знаете, не только писатель-фантаст, но и крупный ученый-биохимик? — Не спорю, все эти законы Азимова очень разумны, но если бы я запрограммировал их в электронном мозгу моего «Чарли», он был бы всего лишь моим электронным рабом, а не той «личностью», какой я его создал. — Однако «личность» эта оказалась слишком своевольной, — усмехается Клифтон. — Правы, пожалуй, материалисты, утверждая, что свобода есть осознанная необходимость. — А вы сами-то уж не марксист ли? — интересуется кибернетик, всматриваясь в Клифтона пристальным взглядом, будто он разговаривал до этого с кем-то другим. — Нет, мистер Харт, я всего лишь здравомыслящий человек, который, кстати, не верит ни одному вашему слову. А о свободе как об осознанной необходимости сказал, по-моему, Спиноза, и было это еще за два столетия до Маркса. — Я не философ, мистер… — …Клифтон, — подсказывает Антони. — Извините, что забыл представиться. — Я не философ, мистер Клифтон, и потому не очень разбираюсь во всех этих тонкостях, — брюзжит кибернетик, мелкими шажками прохаживаясь перед Антони по своему кабинету. — Но что касается бегства от меня «Чарли», в этом вы напрасно сомневаетесь. Это сущая правда. — Что, однако, толкнуло его на это? Неужели не сошлись характерами? — Зачем же так грубо шутить, мистер Клифтон? — укоризненно покачивает Харт лысой головой, почти зеркально отражающей светлые прямоугольники окон. — Все гораздо прозаичнее. Мой «Чарли» оказался жертвой детективных романов и телевидения… — Это, знаете ли, тоже похоже на не очень остроумную шутку, — снова начинает злиться Антони Клифтон. — Вы морочите мне голову вот уже почти целый час, а Питер Дрэйк давно ждет от меня сообщения о вашем согласии продать нам «Чарли». — Ну, этого-то он никогда бы от меня не дождался! Даже если бы «Чарли» не сбежал. Но «Чарли» исчез, и мне нет никакого смысла дурачить вас. А в том, что это именно он ограбил городской банк, вы можете сами убедиться, полистав вот этот детектив. «Чарли» с большим интересом прочел его перед тем, как покинуть меня. С этими словами Харт берет со стола книгу в яркой суперобложке и протягивает ее Клифтону. — Да тут чтения часа на два! — восклицает Антони, перелистывая страницы. — Не обязательно читать все. Прочтите только то, что я подчеркнул. — Тогда позвольте мне срочно позвонить мистеру Дрэйку? — Какими интеллигентными стали гангстеры! — восхищается Харт. — В квартиру вламываются без спроса, а для того, чтобы воспользоваться телефоном на моем столе, спрашивают разрешения. — Я же вам сказал, что я не гангстер! Я… — Хорошо, хорошо, не надо нервничать. Я не хотел вас обидеть. Звоните, пожалуйста, телефон к вашим услугам. Все еще недовольно косясь на Харта, Клифтон торопливо набирает номер Питера Дрэйка. — Это я, сэр. Ничего пока не могу доложить. Разбираюсь… Да, да, понимаю вас… Я и так не очень церемонюсь, все же надо разобраться… Слушаюсь, сэр! Доложу все подробно не позже чем через час… Нет, нет, никакой помощи не нужно, справлюсь сам. Положив трубку на аппарат, Клифтон снова берется за детектив, недовольно ворча: — Даже если бегло полистать этот том… — Я же вам сказал, что это не обязательно. Видите мои пометки? Только эти места и читайте, и вам все станет ясно. Клифтон садится в кресло у окна и внимательно перечитывает по нескольку раз подчеркнутые абзацы. Кибернетик настороженно следит за выражением его лица. А когда Антони начинает хмуриться, с трудом удерживается от желания что-то объяснить, видимо догадываясь, что именно могло вызвать недоумение консультанта по научно-техническим вопросам всесильного, ни перед чем не останавливающегося Питера Дрэйка. Но вот наконец Клифтон откладывает книгу в сторону. Однако, прежде чем он успевает задать Харту свой первый вопрос, кибернетик, с трудом дождавшийся этого момента, восклицает: — Ну, что я вам говорил! Разве не точно так совершено ограбление нашего банка, как это описано в повести Малкольма Бертона? Даже сумма похищенного почти совпадает. Мой «Чарли» тоже ведь взял из главного банковского сейфа более миллиона долларов, как о том сообщают газеты. — А откуда «Чарли» добыл аппарат для резки металла? Тоже похитил в мастерской металлоремонта, как герой повести Бертона Том Маккертен? — В том-то и дело, мистер Клифтон! Я специально звонил в почти такую же мастерскую, принадлежащую мистеру Миллзу. Она недалеко отсюда. Всего в двухстах метрах. Мы с «Чарли» не один раз проходили мимо нее. — Ну, и что ответил вам Миллз? — Ругался страшно… — А кого он подозревает? — Никого пока. Считает, что это кто-нибудь из посетителей мастерской. «Что вы хотите от гангстеров, — сказал он мне, — когда, казалось бы, самые добропорядочные граждане нашего города тянут все, что только возможно, стоит лишь отлучиться на минутку из мастерской». — А в полицию он заявил об этой краже? — Говорит, что заявил. Я, конечно, не проверял, но ваш босс может это проверить, у него в полиции все свои… — Я же предупреждал вас, мистер Харт! — повышает голос Антони Клифтон. — Ну что вы сердитесь, — пожимает хилыми плечами Харт. — Это всему городу известно. — Меня совершенно не интересует, кому это известно, а вас я прошу… — Хорошо, хорошо, не буду. Но пусть все-таки Питер Дрэйк позвонит в полицию. Я не сомневаюсь, что там подтвердят заявление Миллза о пропаже из его мастерской аппарата для резки металла.5
— Да, — говорит Дрэйк, опуская телефонную трубку, — Миллз звонил в полицию, и они посылали к нему лейтенанта Ричардсона. Лейтенанту, однако, не удалось установить, чьих рук это дело. Итак, что же у нас получается? — Получается, что Клиффорд Харт, пожалуй, прав, — отвечает Антони. — Его «Чарли» и в саком деле мог совершить ограбление банка, хотя лично я все еще не могу этому поверить. — А я уже не сомневаюсь больше, что сделать это мог только «Чарли». Но зачем, с какой целью? — размышляет вслух гангстер. — Зачем ему доллары? Что он будет с ними делать? Иное дело, если бы ограбил банк я сам или мои ребята. Такого вопроса и не возникло бы. — Его и нет, этого вопроса, мистер Дрэйк. Роботу деньги, конечно, ни к чему. У него это маниакальная идея, возникшая по вине его конструктора, запрограммировавшего ему «свободу воли»… — Ну и кретины же все эти мечтатели о какой-то дурацкой «свободе воли»! — раскатисто смеется Питер Дрэйк. — Вот взять, к примеру, хотя бы нас, гангстеров. Мы вроде бы вольные птицы. Для нас не существует ни общепринятой морали, ни даже страха перед полицией. А ведь и мы не очень-то вольны. Мы тоже действуем в жестких рамках реальной обстановки. — У марксистов на этот счет четкая точка зрения. Они считают, что свободна не та воля, которая исходит лишь из желания субъекта, а воля, которая ставит свои цели в соответствии с объективной необходимостью. — А что вы думаете, марксисты, а точнее, коммунисты очень трезво мыслящие люди, — серьезно говорит Дрэйк. — Будь они у власти, нам пришлось бы туго. Это уж вне всяких сомнений. Ну, а что все-таки будет делать теперь хартовский «Чарли»? Герой повести Малкольма Бертона, как я понял с ваших слов, какой-то свихнувшийся тип, считающий, что все зло в мире от денег. Он, значит, грабил банки по идейным соображениям — для того, чтобы сжигать доллары? Правильно я понял смысл повести Бертона? Тогда надо ожидать, что и «Чарли» сделал или сделает то же самое — уничтожит доллары. Однако этого пе только полиция, но и мы не можем ему позволить. — Хотел бы я знать, как же вы воспрепятствуете его намерению? — Этого я тоже пока не знаю, но что-то нужно придумать. Это уж вам придется помозговать. Что там еще должен делать герой повести Бертона после ограбления банка? — Он грабит еще один банк. — Но у нас в городе нет другого банка. — В таком случае, я не знаю, чем он может заняться… — Я плачу вам большие деньги, док, и вы должны честно их отрабатывать. Завтра в это же время я жду вашего доклада о дальнейших действиях «Чарли». Все, Тони, вы свободны.6
Клифтон так и не успевает ничего придумать. Через полчаса его снова вызывает босс. — Что-нибудь случилось, сэр? — настороженно спрашивает Антони. — Я ведь ничего пока… — Я понимаю. А вызвал вас вот почему. Директор ограбленного банка обратился с жалобой на местную полицию в федеральную прокуратуру. Он считает, что банк ограбили мы, а полиция будто бы нам потворствовала. — Но когда прокуратура разберется в сути дела, я не сомневаюсь, что ей станет ясно… — Вот мы и поможем ей поскорее во всем этом разобраться, — нетерпеливо перебивает Клифтона Дрэйк. — Ждать, когда прокуратура сама дойдет до сути, нет времени. Кибернетический шизофреник «Чарли» может за это время натворить черт знает что. В связи с этим вам нужно как можно быстрее встретиться с представителем федеральной прокуратуры и сообщить ему ту самую суть дела, до которой мы с вами уже дошли. Представитель уже прибыл в наш город и остановился в гостинице «Атлантида». — А если ему станет известно, что я… — Этого вам не следует опасаться, Тони. Во-первых, вы у меня недавно. Во-вторых, я не какой-нибудь мелкий гангстер. Словом, со мной вынуждена считаться даже прокуратура, как с крупным бизнесменом, миллионные капиталы которого вложены во многие промышленные и торговые предприятия нашего штата. Я уже сказал, что вам нечего бояться не только федерального прокурора, но и вообще никаких иных представителей власти. Личность всех моих служащих неприкосновенна, если, конечно, их деятельность не идет вразрез с конституцией Соединенных Штатов и федеральным уголовным кодексом. А конституции и уголовного кодекса мои служащие, как правило, не нарушают. Когда случается нужда в таких нарушениях, у меня имеются для этого иные кадры. В общем, за свою безопасность, Тони, можете не волноваться. — Тогда, может быть, мне так и сказать представителю федеральной прокуратуры, что я работаю у вас? — Лучше все-таки, если вы придете к нему как частное лицо. Как ученый, привыкший решать различные головоломки и случайно обративший внимание на совпадение метода ограбления нашего банка с описанием подобного же преступления в повести Малкольма Бертона. Вы поняли меня, Тони? — Так точно, сэр! — вытянувшись, по-военному отвечает Антони Клифтон. — Учтите также, что ваши сообразительность и находчивость будут по достоинству оценены. Как только вы выполните это задание, заработная плата ваша будет удвоена. — Благодарю вас, сэр, — низко кланяется боссу местных гангстеров доктор физико-математических наук.7
Угадать возраст представителя федеральной прокуратуры Ральфа Мэйсона не так-то просто. Лицо у него молодое, почти без единой морщинки, а волосы совершенно седые. Скорее всего, ему около пятидесяти. Держится он очень просто, ничем не выдавая своего довольно высокого ранга. Слушает внимательно, не сводя глаз с собеседника. Вопросы задает понятно, хорошо построенными фразами. — Так в какой, говорите, книге вы все это вычитали? — спрашивает он Антони Клифтона. — В сборнике детективных повестей Малкольма Бертона, сэр. — Малкольма Бертона? — переспрашивает Мэйсон. — Что-то я не слыхал такой фамилии, хотя считаюсь знатоком и поклонником детективной литературы. — Я тоже прочел Бертона впервые, — признается Клифтон. — Но ведь детективных авторов теперь столько развелось, что всех не перечитаешь. — Ваша правда, мистер Клифтон, — соглашается Мэйсон. — Чтобы перечитать всех, действительно никакого времени не хватит. — Я вообще не большой любитель этого жанра и книгу Малкольма Бертона прочел совершенно случайно, обнаружив ее на столе своего младшего брата. — Нужно будет прочесть ее и мне. А та повесть, которая привлекла ваше внимание, называется «Пусть они огнем горят, эти грязные доллары!»? — Совершенно верно, сэр, — кивает Клифтон. — Я на всякий случай захватил книгу Бертона с собой и могу оставить ее у вас. Интересующую нас повесть я заложил бумажкой. — Спасибо, мистер Клифтон, я обязательно ее прочту. А у вас, я заметил, завидные способности к дедуктивному мышлению. — Спасибо за комплимент, сэр, — учтиво кланяется доктор физико-математических наук, — но этой способностью обладают все ученые. — Не скажите! — улыбается Ральф Мэйсон, — Я знаю и таких, которые этим не могут похвастаться. Особенно в нашей юридической науке. Но не будем отвлекаться. Какой, по-вашему, следующий ход может сделать робот Клиффорда Харта? Вы говорите, его зовут «Чарли»? — Да, сэр. И если бы в нашем городе был еще один банк, он вне всяких сомнений ограбил бы и его. — При условии… — Да, вы правы, при условии, что он будет похож на тот, который довольно обстоятельно описан в повести Малкольма Бертона. — И тогда бы мы смогли… — Вот именно! И не только убедиться в точности нашего предвидения, но и обезвредить преступного робота. — Где же, однако, взять нам такой банк? — Построить. — Построить? Вы шутите, мистер Клифтон? — Сейчас не до шуток, сэр. Робот Харта может наделать много бед, и его нужно обезвредить как можно скорее. А банк, внешним видом напоминающий тот, который описан Бертоном, не обязательно должен быть настоящим. — Понимаю вас. Вы имеете в виду какую-нибудь декорацию? — Да, что-нибудь из фанеры, картона и папье-маше. Думаю, что тайим образом нам удалось бы завлечь робота «Чарли» в ловушку. Эта мысль как-то сама собой пришла в голову Антона Клифтону, когда он ехал к представителю федеральной прокуратуры. — И затраты на все это, как я себе представляю, должны быть невелики? — Ничтожны, сэр. Зрительные рецепторы робота «Чарли», надо полагать, не очень совершенны… — Позвольте, «рецепторы» — это ведь что-то вроде… — Да, совершенно верно, нечто вроде датчиков, с помощью которых узнающее электронное устройство получает сведения об объекте. В данном случае — электронный мозг робота «Чарли». — Но такой объект, как новое здание банка, пока лишь «вычитан», так сказать, электронным мозгом «Чарли», а не увиден, — деликатно уточняет Ральф Мэйсон. — Все равно, сэр, какой-то образ второго банка у «Чарли» уже сложился, но, видимо, не очень четкий. Лишь общий контур, без деталей. И если мы что-нибудь подобное воздвигнем на его пути… на одной из тех улиц, по которым он ходит в поисках этого банка, то… — Я понял вас, мистер Клифтон! И надеюсь, что городской муниципалитет возьмет на себя затраты по сооружению макета второго банка. — Всего лишь фасада такого банка, сэр, но в натуральную величину. Найдутся, наверное, и другие заинтересованные в поимке робота лица, которые возьмут на себя часть расходов. Владелец ограбленного банка, например. — Или местные гангстеры, па которых невольно падает подозрение в совершении ими этого ограбления, — усмехается представитель федеральной прокуратуры. — А что вы думаете, вполне возможно, — соглашается с ним Антони. Прощаясь с Клифтоном, следователь федеральной прокуратуры просит его оставить на всякий случай свой телефон.8
Идея Антони Клифтона кажется Мэйсону удачной. Однако, прежде чем приступить к ее осуществлению, он решает познакомиться с повестью Бертона сам и принимается за чтение тотчас же, как только возвращается в свой номер в гостинице «Атлантида». Первые же прочитанные страницы не оставляют у него никаких сомнений, что талантом Бертон не блещет, и с каждой новой страницей он все больше убеждается в этом. Он одолевает повесть не без труда. Любопытства ради листает и остальные произведения сборника Малкольма Бертона. Покойный Ян Флеминг, создавший знаменитого «агента 008» — Джеймса Бонда, в сравнении с этим Бертоном почти гений. Ральф Мэйсон вообще не очень-то любит политический детектив с его разведчиками-суперменами. Ему милее детектив уголовный, интеллектуально-психологический, с сыщиками типа Дюпена Эдгара По, патера Брауна Честертона, Эркюля Пуаро Агаты Кристи и даже комиссара Мегрэ Жоржа Сименона. Непонятно только, как такой детектив могло напечатать известное нью-йоркское издательство. И тут у Мэйсона возникает неожиданная мысль: а что, если позвонить знакомому писателю, автору популярных детективных романов Майклу Хорварду? Он, наверное, знает, кто такой этот Малкольм Бертон и почему его печатают в Нью-Йорке. Следователь торопливо набирает номер междугородного телефона. — Это вы, Майкл? — узнает он голос Хорварда. — Это Ральф Мэйсон вас беспокоит. Надеюсь, не забыли такого? Очень рад, что все еще помните, ибо я не только ваш читатель, но и почитатель. Чем же вы порадуете нас в ближайшее время?… Туго пишется? А вот некоторые ваши коллеги, видно, не очень себя утруждают поиском сюжетов и ожиданием вдохновения… Кого я имею в виду? Да вот хотя бы Малкольма Бертона… Да, да, Малкольма Бертона, почему вы удивляетесь?… Считаете его графоманом? Однако этого графомана печатают почтенные нью-йоркские издательства… Впервые слышите, чтобы его печатали?… Осаждает редакции, но всюду отказывают? Выходит, что вы отстали от жизни. Вот передо мной его сборник «Тридцатый сейф Сэма-Прайса». Когда издан? Подождите минутку,сейчас посмотрю… В этом году. В каком издательстве? Минутку. Ага, вот — «Сфинкс». Очень требовательное издательство? Судя по книге Бертона, что-то непохоже… Будем считать, в таком случае, что Малкольму Бертону просто повезло. Ну, извините за беспокойство, Майкл! Бросив книгу на стол, Ральф Мэйсон некоторое время задумчиво шагает по синтетическому ковру просторного гостиничного номера и размышляет, потом набирает номер Антони Клифтона. — Это Мэйсон, мистер Клифтон. Я поручил вести переговоры о финансировании работ по сооружению макета банка начальнику местной полиции Тэрнеру. Хотелось бы только, чтобы вы и особенно Клиффорд Харт помогли архитекторам и художникам воспроизвести фасад этого банка возможно точнее. — Я-то вряд ли чем-нибудь смогу быть полезен, — отвечает Клифтон, — а вот Харт, наверное, что-нибудь подскажет. Ему должны быть известны повадки его «Чарли». — Тогда дайте мне, пожалуйста, его телефон и адрес. — Минутку, я загляну в свою записную книжку… Записывайте: Линкольн-стрит, двадцать пять. И учтите — он человек со странностями. — Не сумасшедший же, раз сконструировал такую кибернетическую личность, как «Чарли», — смеется Ральф Мэйсон, записывая адрес кибернетика.9
— Я старший следователь федеральной прокуратуры, мистер Харт, — представляется кибернетику Ральф Мэйсон, протягивая свое удостоверение. — Вот, пожалуйста, взгляните на мой документ. — Я вам и так верю, мистер Мэйсон. Садитесь, пожалуйста. Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы арестовать меня из-за моего «Чарли»? Ну кто бы мог подумать, что он окажется таким негодяем! — Могу вас успокоить, мистер Харт, — приветливо улыбается Мэйсон, усаживаясь в предложенное кресло. — Я не только не собираюсь вас арестовывать, но и не имею оснований в чем-либо вас подозревать. Хочу только задать вам несколько вопросов, ибо я полный профан в кибернетике. — А вот это непростительно! — восклицает Харт. — И, уж во всяком случае, признаваться в этом я бы вам не рекомендовал. Кибернетик испытующе смотрит в глаза старшему следователю федеральной прокуратуры и, помолчав немного, продолжает уже иным тоном: — А если говорить правду, то я вам просто не верю, мистер Мэйсон. Кому же не известно, что компьютеры и прочая электронная техника широко применяются не только полицейскими ведомствами, но и следственными органами всех развитых стран мира? А у нас тем более. — Я этого и не отрицаю. Но мне лично с этой техникой не приходится иметь дело. Ею ведают наши научно-технические отделы и эксперты-криминалисты. А у меня обо всем этом лишь самое общее представление. Я не знаю, например, можно ли запрограммировать роботу преступные наклонности. — Можно, мистер Мэйсон. И вы это сами отлично знаете. И если уж не в состоянии разыграть передо мной простака, то и не делайте этого, не тратьте на это время. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что не подозревать меня вы просто не имеете права. Я ведь мог специально сконструировать такого робота, который… — А я вас уверяю, мистер Харт… — пытается прервать кибернетика Мэйсон. — Ну и напрасно! Одна из ваших следственных версий должна бы строиться именно на таком допущении. Правда, при этом я бы не сидел у себя дома и не ждал бы, когда меня арестуют, а немедленно скрылся бы с добычей моего «Чарли» — чемоданом, битком набитым долларами… — Вот именно! — перебивает его Ральф Мэйсон. — Я ведь уже промоделировал этот вариант, не прибегая, однако, к помощи компьютера. Признаюсь, что возможность запрограммировать вашему «Чарли» преступные наклонности мне тоже известна. Мне, пожалуй, и в самом деле не следовало бы с вами хитрить, ибо вы человек проницательный и от вас ничего не скроешь, а нужно бы просто спросить: что же было запрограммировано в электронном мозгу вашего «Чарли»? — Всего лишь «свобода воли», мистер Мэйсон! Я тоже признаюсь — именно в этом была моя ошибка, так как из-за этого «Чарли» теперь вне всякого контроля. Тут уж ничего нельзя предугадать, никакого очередного его хода. Как в игре в шахматы без правил… — А возможность ограбления еще одного банка, в соответствии с сюжетом повести Малкольма Бертона «Пусть они огнем горят, эти грязные доллары!», вы допускаете? — При той «свободе воли», какую я ему запрограммировал, он может и не последовать так слепо сюжету этой бездарной повестушки. — Но ведь вы уверяли доктора Клифтона… — В этом я его не уверял. До этого доктор Клифтон, видимо, сам дошел… — Тогда, может быть, и реальный банк ограбил не робот? — А кто же? — Местные гангстеры, например. — Криминалисты из местной полиции утверждают, что ни одно живое существо не могло бы этого сделать. Вы уже познакомились, наверное, с их заключением? — Да, мне известны все материалы предварительного следствия, мистер Харт. Все, конечно, могло быть и так. Но если вы действительно запрограммировали вашему «Чарли» истинную свободу воли, то он и в самом деле едва ли подчинится диктату или — скажем поделикатнее — поддастся подсказке сюжета повести Бертона. Это ведь, по сути дела, следование чужой воле. Во всяком случае, я не вижу тут логики, диктуемой свободой воли. — Я и сам высказал вам только что подобную мысль. Но дело тут в том, мистер Мэйсон, что свобода воли алогична! Она вне всяких правил, так сказать… — А почему бы не допустить, что у вашего «Чарли» запрограммировалась не «свобода воли», а всего лишь своеволие? И вы теперь ищете возможные варианты дальнейших его действий, но, к сожалению, не эвристическим методом, а методом «проб и ошибок», — продолжает старший следователь федеральной прокуратуры. — Этот метод, кажется, называют еще «перебором вариантов». — И выясняется при этом, что вы не такой уж профан в вопросах кибернетики, — хихикает Харт, вытирая рот большим клетчатым платком. — Да какие там у меня познания в области кибернетики! — пренебрежительно говорит Мэйсон. — Это теперь каждому школьнику известно. Но продолжим наши рассуждения. Если вы все еще настаиваете на свободе воли «Чарли», то давайте всерьез обсудим вариант, по которому «Чарли», поддавшись маниакальной идее героя повести Бертона, решившего бороться со злом путем уничтожения долларов, вдруг одумается. — Одумается или уже одумался? — переспрашивает Харт. — Уточните, пожалуйста, эту мысль. По-вашему, «Чарли» ограбил банк вроде бы бессознательно, слепо поддавшись идее Бертона, а потом одумался или, может, одумается, решив, что воля его будет ущемлена, если он и дальше станет следовать указке Бертона? Так я вас понял? — Да, примерно так. — А я вот взвешиваю сейчас все это еще раз и прихожу к твердому заключению: не одумался и не одумается мой «Чарли»! Мы с вами все время забываем, что он робот, очень совершенная, но все-таки машина, и не надо приписывать его электронному мозгу свойства человеческой психики с ее неустойчивостью, раздумьями и двойственностью. И раз уж он ограбил банк, следуя указке Бертона, будет и дальше ей следовать. Во всяком случае, мы не имеем пока иного пути завлечь его в ловушку, и этой возможностью не следует пренебрегать, мистер Мэйсон. — Ну, а если он не пойдет в нашу западню? Чего можно от него ожидать при таком варианте? — Всего! — кратко, на очень высокой поте выпаливает Клиффорд Харт. — То есть? — Всего, на что способна свободная личность, не обремененная никакими кодексами морали или даже элементарной целесообразностью. Если вы все-таки вздумаете привлечь меня к ответственности, мистер Мэйсон, то я признаю себя виновным лишь в том, что запрограммировал «Чарли» эту идиотскую идею «свободы воли». Я и сам казню себя за это нещадно. А что толку? От «Чарли» теперь действительно можно ожидать всего: грабежа, поджога, убийства… — А почему же не подвига? — Жизнь, к сожалению, показала, что свобода воли побуждает главным образом к насилию, — вздыхает Харт, принимаясь полировать свой череп. — Такова уж тенденция вседозволенности. Да и о каком подвиге может идти речь? Не детей же спасать из горящего дома? Для этого ему сначала самому придется поджечь какой-нибудь детский приют… — Может быть, вы и правы, — соглашается Мэйсон. — Скорее всего он и в самом деле пойдет на ограбление нового банка. Вот только чего не могу понять: зачем вы вашего робота-актера превратили в робота-анархиста? — Я ведь думал создать не простого актера, а великого артиста, но, к сожалению, у нас с «Чарли» получился всего лишь цирковой аттракцион… Вот я и решил после этой неудачи запрограммировать «Чарли» «свободу воли». Но вы напрасно думаете, что он стал анархистом. Мой «Чарли» пи на что определенное не был ориентирован. Лишь вначале я пытался пристрастить его к чтению великих философов, но так как в его распоряжении была вся моя библиотека, он читал все без разбору. В том числе, наверное, Шопенгауэра и Ницше. — «Чарли», однако, сыграл с вами злую шутку — пристрастился не к философии, а к детективу! — смеется Ральф Мэйсон. — Печально, конечно, но это ведь не противоречит запрограммированной ему «свободе воли». Пожалуй, даже характерно для такой воли… Мэйсон решительно встает: — Спасибо вам, мистер Харт, и извините меня, пожалуйста, что отнял у вас так много времени. И еще один, теперь уже последний вопрос: скажите, а сами вы никогда не были актером? — Ну что вы, мистер Мэйсон! Куда мне с моими данными! Я с детства был одержим страстью к технике. К тому же еще и достиг кое-чего в этой области. Зачем же мне пробовать свои силы на театральных подмостках? — Нерон, как известно, достиг большего — в семнадцать лет он был уже императором Рима, однако мечтал стать еще и великим актером. Извините меня за эту не очень удачную историческую параллель, мистер Харт. Совершенно случайно пришла на ум.10
Работа по сооружению фасада здания банка, довольно подробно описанного в повести, вопреки ожиданию Ральфа Мэйсона начинается не сразу. Владелец банка, шестидесятилетний Хьюг Аддисон, с которым вел переговоры начальник полиции Тэрнер, узнав, что ограбление произвел робот, не захотел тратить средства на это сооружение. По вине болтливых журналистов ему стало известно, что «Чарли» в соответствии с сюжетом повести Бертона считает, что все зло на свете от денег, и потому давно уже мог сжечь его доллары. — Что мне проку, мистер Тэрнер, если вы его поймаете? — спрашивал он начальника полиции. — Мало того, что хартовский робот уже сжег, наверное, более миллиона моих долларов, я должен буду затратить теперь на сооружение декораций фиктивного банка еще несколько тысяч. Это же просто смешно! Тэрнер хотел было воззвать к гражданскому сознанию банкира, напомнив ему, что непойманный «Чарли» может ограбить если не банк, то кассу какого-нибудь магазина, поджечь городскую бумажную фабрику или совершить еще какое-нибудь преступление, но, сообразив, что едва ли это побудит Аддисона раскошелиться, решил переменить тактику. — Видите ли, мистер Аддисон, — начал он, — о том, что «Чарли» сжег ваши доллары, одни ведь догадки. Он хоть и робот, но не такой же болван, чтобы не понимать, что такое миллион долларов… — Я, между прочим, тоже не болван, мистер Тэрнер, — гневно прервал начальника полиции банкир, — чтобы дать себя одурачить подобными рассуждениями! — Зачем же так горячиться, мистер Аддисон, — укоризненно покачал головой начальник полиции. — Мои рассуждения, пожалуй, действительно несколько примитивны. Для «Чарли» ваши доллары скорее всего ничего не значат. В таком случае, они и не должны казаться ему «грязными», как герою повести. Следовательно, у «Чарли» не должно возникнуть желания уничтожать их. И если мы поймаем «Чарли», его творец, кибернетик Клиффорд Харт, найдет способ выведать у него, куда он их запрятал, а скорее всего просто бросил в какой-нибудь подвал. — А он не шарлатан, этот ваш «творец» роботов? — пытливо спросил Хьюг Аддисон. — Не мог разве его «Чарли» работать на своего «творца»? Вы понимаете, что я имею в виду? — Конечно, мистер Аддисон. Но ведь Клиффорд Харт сам признался нам, что это его «Чарли» ограбил ваш банк. Зачем же было ему это делать, если бы… — Вы действительно такой простофиля или только прикидываетесь? — раздраженно перебил начальника полиции банкир. — Ведь это могло быть всего лишь… — Напрасно вы считаете нас простаками, мистер Аддисон! — Теперь уже Тэрнер прервал банкира. — Конечно же, сначала и мы так подумали, как только он нам во всем признался. Но наши эксперты, изучив все факты, пришли к выводу, что Харт не врет. На всякий случай мы все же установили за ним тайное наблюдение и пока ничего подозрительного не заметили. Спустя полчаса, докладывая старшему следователю федеральной прокуратуры результаты своей беседы с Хьюгом Аддисоном, Джон Тэрнер имел вид человека, только что совершившего кросс на длинную дистанцию по пересеченной местности. Обычно невозмутимое лицо его было взволнованно, глаза лихорадочно блестели. Говорил торопливо, сбивчиво: — Ну и Шейлок [210] этот Хьюг Аддисон, мистер Мэйсон! Речь ведь шла о возвращении его же миллионов, а он… Ну, в общем, вымотал он мне все нутро! Не знаю, чем еще это для меня кончится, но вот чек на пять тысяч долларов, так что завтра можно начать сооружение псевдобанка. Я уже имею предварительную договоренность с местной архитектурной мастерской и художником из городского драматического театра. И если вы не возражаете, то завтра… — Нет, я не возражаю, мистер Тэрнер. Можете завтра приступать. Скажите мне, кстати, адрес театра, в котором выступал робот Харта «Чарли». Кажется, он называется «Летучая мышь»? — Это не театр, мистер Мэйсон, это скорее экспериментальная студия. — Почему экспериментальная? — Я не специалист в таких вопросах, но, наверное, потому, что в ней ставятся очень рискованные номера. И не только драматические, но и эстрадные, а иногда даже цирковые. Сейчас эта студия на ремонте. — Все равно, дайте мне на всякий случай ее адрес. — Давайте-ка лучше я вас сам туда отвезу. — Только до той улицы, где она находится. Мне не хотелось бы появляться там вместе с вами.11
Не без труда удается Ральфу Мэйсону найти владельца «Летучей мыши». Для этого приходится расспрашивать не только сторожа студии, но и местных жителей. Дома его тоже не оказывается, а жена сообщает, что Гарри Портер в баре «Бумеранг», лишь после того, как Мэйсон показывает ей свое удостоверение. — Ох, господи! — испуганно восклицает она. — Неужели Гарри опять что-нибудь натворил? — Успокойтесь, миссис Портер, ваш Гарри ничего не натворил. Он мне нужен для консультации. — Какой уж из него консультант, мистер Мэйсон! С тех пор как закрылся его балаган, он не вылезает из «Бумеранга». Одного только не пойму: где деньги берет… — Разве гастроли робота «Чарли» не делали сборов? — Лишь в первые дни. Об этом даже газеты писали. А потом и половины зала не удавалось заполнить. Да, откровенно говоря, и нечем было завлечь. Ну, а вначале, конечно, в новинку всем было, что актер — робот. Я и сама не вытерпела — сходила посмотреть… — Ну, и каково впечатление? — Скучища невероятная! «Чарли» в течение целого вечера очень противным тонким голосом читал монологи из трагедий Шекспира. — Голос «Чарли» был, значит, высоким? — Я же говорю, почти дискант, да еще визгливый. Аж в ушах звенело. — Ну, а держался он как? — Держался почти как человек. Вот это-то и было удивительным… — Спасибо вам, миссис Портер. Я попробую все-таки поискать вашего супруга в «Бумеранге». — Передайте ему тогда, чтобы он немедленно шел домой, если не хочет ночевать на улице. — Попробую даже привести его сам. Гарри Портер, видимо, завсегдатай «Бумеранга». Как только Мэйсон спрашивает о нем у бармена, он тотчас же указывает на обрюзгшего бородатого мужчину за одним из столиков в углу бара. Перед ним почти порожняя бутылка виски, баллон с содовой водой, остатки какой-то закуски на тарелке. Ральф Мэйсон медленно подходит к его столику: — Разрешите, мистер Портер? — Это ты, Дик? — сонно щурит на него глаза Портер. — Опять ты называешь меня мистером? Брось ты это! Зови, как прежде, Гарри и не злись, что я отказался от твоих гастролей… Это все из-за «Чарли», черт бы побрал этого робота! А ты все еще в иллюзионистах? — Не совсем, — неопределенно отвечает Мэйсон, решив, что, может быть, и к лучшему, что Портер его с кем-то путает. — То есть как это — не совсем? — повышает голос Портер. — Ты и сейчас у меня двоишься, а я хорошо помню твой номер: «Раздвоение личности». Большой успех имел в свое время! Как это тебе удавалось? А где костюмчик такой шил? В Вашингтоне или в Нью-Йорке? — В Нью-Йорке? Ну, а этот «Чарли», я вижу… — Да что вы все «Чарли» да «Чарли»! А ведь он, если хочешь знать… Э, да что теперь об этом!.. Об этом я, к сожалению, вообще… Ну, ты вот что, Дик, ты меня об этом… — А кто тебя об этом? Давай-ка лучше расплачивайся, и я провожу тебя домой. А если у тебя нет денег… — Как — нет денег? Да я никогда еще не имел столько денег! Эй, бармен! На свежем воздухе Портер как будто бы немного приходит в себя, хотя шатает его, как на палубе рыбацкой шхуны в штормовую погоду. — Ты вот что, Дик… ты меня не только до дома, но и зайди, пожалуйста, вместе со мной, а то как бы Мэри меня не поколотила… — Не бойся, не поколотит. Я уже был у нее и обещал привести тебя. А чего это ты таким богатым стал? — Об этом тоже не спрашивай. Это я тоже не могу… За это меня… Да иди ты к черту, Дик! Не приставай с расспросами… — А я тебя ни о чем и не расспрашиваю, — обижается Мэйсон. — Я не из любопытных. — И вообще — ты кто? Ты ведь и не иллюзионист вовсе… Ты жонглер! Теперь я точно вспомнил. — А я и не говорил тебе, что я иллюзионист. Это ты сам с пьяных глаз… — С каких пьяных глаз? Смотри не ляпни это при Мэри. Она ведь думает, что я в «Летучей мыши»! У меня там ремонт… — А зачем тебе этот ремонт, Гарри? Хорошее еще помещение. Зря деньги только… — Так не за свои же… Стал бы я разве за свои?… Опять ты за свое, Дик! Опять выпытываешь?… Постой, постой, а ты не из полиции ли? — Из какой полиции, Гарри? Ты, я вижу, совсем спятил! Вот твой дом. Иди теперь один. Пусть из тебя Мэри хмель выбьет, у нее, кстати, настроение сегодня для этого вполне подходящее.12
Рано утром на следующий день Ральф Мэйсон вызывает к себе своего помощника: — Ну, Чарльз, удалось вам узнать что-нибудь? — Труппа лилипутов, которой вы интересуетесь, сэр, гастролирует сейчас где-то на севере, в Северной Дакоте или в соседнем штате. Я сейчас уточняю это через Панамериканское театральное общество. У них есть подробное досье почти на всех профессиональных актеров. — И вы думаете, что на лилипутов тоже? — У них ведь профессиональная труппа, к тому же, говорят, талантливая. — А если окажется, что у кого-то из актеров псевдоним, то непременно спросите и подлинную его фамилию. — Ну, это уж само собой. А вам обязательно список всей труппы? Может быть, лучше запросить сведения только на того, кто конкретно вас интересует? Это ускорило бы получение ответа. — Нет, Чарльз, это нежелательно. Надеюсь, вы понимаете, почему? — Догадываюсь, сэр. — Ну, а как обстоит дело с доктором Клифтоном? Вы вызвали его? — Да, сэр. Он уже прибыл и ждет, когда вы его примете. Можно пригласить? — Просите. Антони Клифтон держится теперь гораздо увереннее. Это чувствуется и по голосу его, и по жестам. Да и одет он уже не так скромно, как в тот раз. На нем модный костюм из дорогой материи. На руке — массивные золотые часы, которых прежде не было. — Вы не сообщили мне в прошлый раз, доктор Клифтон, что служите у Питера Дрэйка, репутация которого вам, наверное, известна. Может быть, вы объясните мне, почему не сделали это? — поздоровавшись с Антони, как со старым приятелем, очень корректным тоном спрашивает его следователь федеральной прокуратуры. — Я не сообщил вам этого, мистер Мэйсон, только потому, что вы меня об этом не спросили, — спокойно отвечает Клифтон. — А какую, кстати, репутацию мистера Дрэйка имеете вы в виду? Я знаю, что о нем ходят слухи как о главаре местной мафии. Но в таком случае объясните мне, пожалуйста, почему он не за решеткой? — Ну, видите ли, — мнется Ральф Мэйсон, — все это не так-то просто… — Мне неизвестно, какие сведения о мистере Дрэйке имеются в федеральной прокуратуре, зато в нашем городе он известен как крупный бизнесмен. И я служу в конструкторском бюро одного из его заводов, производящих лотерейные автоматы и приборы игорного бизнеса. — Помогаете, значит, конструировать рулетку по математическому «методу Монте-Карло»? — усмехается Мэйсон. — Не совсем так. Везение при игре в рулетку, как вам известно, не такое уж «слепое». Кое-кто из игроков с помощью этого «метода Монте-Карло» обнаружил систему «слепого везения». Вот в мою задачу и входит поиск методов борьбы с такими системами. Мистер Дрэйк не только ведь производит лотерейные автоматы и приборы для казино, но и сам является владельцем нескольких казино в штате Невада. — Это легально, а нелегально еще кое-где, — снова усмехается следователь федеральной прокуратуры. — К тому же в вашем городе он владеет несколькими увеселительными заведениями, самой большой гостиницей и двумя ресторанами. В его руках еще и городская реклама. — Я этого не знал… — А мне, как представителю федеральной прокуратуры, полагается знать. Продолжим, однако, наш разговор. И извините, если вам показалось, что я вас в чем-то упрекнул… — Мне это не показалось, мистер Мэйсон, — успокаивает следователя Клифтон. — Вот и прекрасно! А вопрос у меня к вам вот какой: скажите, вы по собственной инициативе пришли ко мне со своим подозрением? Я имею в виду ваше предположение, будто ограбление банка совершено роботом «Чарли». — Догадка эта возникла сначала у меня после того, как я прочел повесть Малкольма Бертона. Но когда я высказал свои соображения мистеру Дрэйку, он поручил мне рассказать об этом вам. — А зачем ему это понадобилось? — Затем, видимо, чтобы вы не заподозрили в ограблении банка Аддисона местных гангстеров и не пошли по неверному следу. — Ну, а если окажется, что местные гангстеры все-таки к этому причастны? — У вас есть основания так думать? — Пока таких оснований у меня нет. Просто хочу посоветовать вам подумать и о такой возможности. — Но если даже и так, — помолчав немного, спокойно произносит Антони Клифтон, — я — то к этому не имею ведь никакого отношения. — Как сказать… — загадочно улыбается Мэйсон. — В чем нее можно будет меня обвинить? — Да в том хотя бы, что вы пытались направить следствие по ложному следу. — Но ведь я… — А я вас ни в чем пока и не обвиняю. Советую только подумать об этом. И если действительно сможете чем-нибудь мне помочь, вспомните об этом разговоре.13
Терпеливо выслушав Клифтона, Питер Дрэйк снисходительно улыбается: — Вы, кажется, не на шутку перепугались? — Я, между прочим, не из пугливых. Не испугался же пойти к вам на службу. — А чего было пугаться? Чем моя репутация хуже репутации любого иного предпринимателя в нашем городе или даже штате? Антони смущенно молчит, не решаясь ответить на вопрос Дрэйка. — Понимаю ваше затруднение, док, — усмехается Дрэйк. — О других не говорят, что они гангстеры, это вы имеете в виду? Но ведь вы же неглупый человек и сами понимаете, что грань между современным предпринимательством, а точнее — большим бизнесом и гангстеризмом не такая уж четкая. К тому же вы знаете, наверное, нашу поговорку: «Украдешь булку — угодишь в тюрьму, украдешь железную дорогу — станешь сенатором», А я, к вашему сведению, мелкими кражами никогда не занимался. Значит, и у меня есть шанс стать сенатором. «А может быть, это и не шутка вовсе, — думает Антони Клифтон. — Почему бы ему и на самом деле не выставить свою кандидатуру в сенат? Что у него, разве не хватит средств на избирательную кампанию?» А Питер Дрэйк со вкусом закуривает сигарету и небрежно спрашивает: — Кстати, Тони, знаете ли вы, каковы доходы нашего «синдиката»? — Вы имеете в виду «Коза ностру»? — Лучше бы вам все-таки называть наше объединение «синдикатом». Ну так вот, к вашему сведению, доходы нашего «синдиката» превышают прибыли таких могущественных корпораций, как «Дженерал моторе», «Стандард ойл», «Форд моторс», «Юнайтед Стейтс» и «Дженерал электрик» вместе взятых. Откуда такие сведения? К сожалению, мне неизвестна тайна банковского счета нашего «синдиката», и потому я вынужден пользоваться данными, оглашенными министром юстиции. — Мне остается только снять перед вами шляпу, как говорилось в старину, — вздыхает Клифтон. Питеру Дрэйку хоть и непонятно, восхищается или ужасается услышанным его консультант по научно-техническим вопросам, но он не находит нужным это уточнять. — А что касается вашего разговора с представителем федеральной прокуратуры, — продолжает он, — то это типичная для наших следственных органов тактика запугивания. В том, что ограбление банка совершил робот «Чарли», надеюсь, у вас лично по-прежнему нет никаких сомнений? — По-прежнему, сэр. — Вот и отлично. Занимайтесь пока своим делом, помогите нашим конструкторам усовершенствовать лотерейные автоматы, и особенно рулетку. — Я уже занимаюсь этим. — Есть у вас еще какие-нибудь вопросы? — Вы читали сегодняшнюю местную газету? — Что именно имеете вы в виду? — Отдел происшествий, в котором сообщается, что владелец студии «Летучая мышь» попал под машину и скончался, не приходя в сознание. — Ах, этот пропойца Гарри Портер! — пренебрежительно кривит губы Дрэйк. — Удивительно не то, что он попал под грузовик, а что не попал под какую-нибудь машину гораздо раньше. — Именно это-то как раз и удивительно. — Что именно? — Что Гарри Портер попал под грузовик именно вчера, после того, как о нем стал наводить справки следователь федеральной прокуратуры Ральф Мэйсон. — Ну, это, Тони, чистейшая случайность. Гарри Портер старый пьяница и в последние дни страдал жесточайшим запоем. Говорят, он даже жену свою не узнавал, за что и получал от своей Мэри такую нахлобучку, что неизвестно еще, от чего в конце концов отдал бы концы: от ее увесистых кулаков или от колес автомобиля. Довольный шуткой, Дрэйк оглушительно хохочет, откинувшись на спинку вращающегося кресла. Вернувшись в свой кабинет, Антони Клифтон долго размышлял об этом разговоре со своим боссом. Он и прежде слышал кое-что об организованной преступности в Соединенных Штатах, но не очень этому верил. А теперь, когда Клифтон познакомился с кое-какими документами в библиотеке Питера Дрэйка, он многому перестал удивляться. — Не у всякого института такая библиотека, — самодовольно говорил Дрэйк, когда показывал Антони шкафы с книгами по всем вопросам литературы, искусства, науки, философии и политики. — Держу из-за этого целый штат библиотекарей и библиографов. — А зачем вам она, да еще в таких масштабах? — удивился Клпфтон. — Как — зачем? Мало ли какая справка понадобится. Это вам не времена Аль Капоне, когда все можно было решить лишь с помощью кулака и кольта. Ну, а потом — такая библиотека тоже ведь капитал. В ней много уникальных книг, на приобретение которых, кстати, я не потратил ни одного цента. В основном это «подарки» местных библиофилов. Сам я покупаю лишь официальную литературу. Такую, например, как «Отчет специальной комиссии сената по расследованию организованной преступности». Комиссию эту в свое время возглавлял небезызвестный сенатор Кефовер. Советую почитать. Это, правда, дела довольно давние, а наше дело за это время ушло вперед, но все равно факты в этом отчете любопытные, типичные и для нынешнего времени. Да тут у меня вообще много интересного. Даже кое-что по вопросам физики и математики с дарственными надписями издателей этой литературы. Свободное время, которого у Антони было пока достаточно, он проводил в этой библиотеке. Его не особенно привлекали книги журналистов — он не очень им верил. Криминологи с профессорскими титулами тоже не внушали ему большого доверия. Но в достоверности отчета сенатской комиссии, возглавляемой Кефовером, он не мог сомневаться и не без любопытства стал его перелистывать. Конечно, он не был настолько наивен, чтобы совсем уж ничего не знать о коррозии гангстеризма, разъедающей его страну, но со многим познакомился впервые. Для него было новостью, что гангстеры для осуществления своих крупных операций на скачках, бегах и прочем бизнесе подобного рода постоянно пользовались услугами таких компаний, как «Континентал пресс сервис» и «Уэстерн юнион». Оказывается, мало того, что телеграфная компания «Уэстерн юнион» всячески помогала в передаче информации преступного «синдиката», она в ряде штатов отказывалась содействовать органам юстиции, пытавшимся бороться с мафией. Бандиты, организовавшие во всеамериканском масштабе азартные игры, пользовались первоочередными услугами и телефонных компаний во всех штатах, которые получали за это определенный процент от гангстерского бизнеса. А на сто одиннадцатой и сто двенадцатой страницах отчета Кефовера Антони не без интереса познакомился с допросом некоего Гизи, участника двух мировых войн, известного в крупнейшем городе штата Огайо Кливленде специалиста по бухгалтерскому делу. Выясняя источники его довольно крупного состояния, один из членов комиссии спросил: «Вы можете с уверенностью сказать, что никогда не принимали участия в игорном деле?» Гизи на это ответил: «Единственная крупная афера, в которой я когда-либо участвовал, это две мировые войны, а теперь нас втравливают в третью». Но когда неопровержимыми фактами ему доказали, что значительная часть его состояния была приобретена в результате участия в игорном бизнесе, на вопрос «Во имя чего встали вы на этот путь?» он заорал: «Во имя Всемогущего Доллара! Того самого, которому и вы служите!..» «А я кому же служу? — невольно задал себе вопрос Клифтон. — Дрэйку или тоже Всемогущему Доллару?»…, В это время в библиотеку вошел Питер Дрэйк, — Ну как, Тони, интересно? — Да, чертовски! Сенатор Кефовер, видно, очень смелый человек… — Это вы так думаете? — усмехнулся Дрэйк. — А на самом-то деле не такой уж он смельчак. Когда была создана его комиссия, представители нашего «синдиката» довели до его сведения, что ими создан фонд в сто миллионов долларов для подкупов и распространения клеветнических сведений при выборах должностных лиц федеральных органов, а также в федеральный конгресс и на пост президента. А сенатор Кефовер, как известно, имел желание стать президентом или, на худой конец, вице-президентом от демократической партии. И что вы думаете, он принял все зависящие от него меры, чтобы уличать главным образом лиц второстепенных, если не третьестепенных и взял под свою защиту всех крупных боссов нашего «синдиката». — Как, однако, мог он так рисковать? Ведь в составе его комиссии… — А что она, из одних святых разве состояла? — рассмеялся Питер. — Республиканский сенатор Тауби, например, хоть и распинался на ее заседаниях о необходимости неукоснительной борьбы с организованной преступностью, был в период «сухого закона» избран губернатором штата Нью-Гэмпшир на деньги контрабандистов виски. А двадцать лет спустя добился переизбрания в федеральный совет с помощью капиталов крупнейшего нью-джерсийского гангстера Вилли Моретти. А старшим юрисконсультом комиссии Кефовера, к вашему сведению, был некто Хэлли, подобранный для этой работы ближайшим соратником Фрэнка Костелло — «премьер-министра» нашего гангстерского государства. — А я все-таки считаю сенатора Кефовера смелым человеком, — продолжал упорствовать в своем мнении Клифтон. — Не побоялся же он констатировать факты тесного содружества между гангстерами и «большим бизнесом». — Что толку? — хихикнул Питер Дрэйк. — Ни один предприниматель так и не был вызван в сенат в качестве свидетеля. Храбрые люди не сенаторы, док, а вершители правосудия. Но понимаете, о чем я? — Не понимаю, мистер Дрэйк, — признался Антони. — Когда в схватке со своими конкурентами погиб знаменитый гангстер Антони д’Андреа, в почетном карауле у его гроба стояли двадцать один судья и девять прокуроров. А гроб несли прокурор штата по особым делам и городской нотариус. Траурное шествие растянулось почти на две мили. В нем участвовало восемь тысяч человек. Вот в каком почете у американского общества лидеры нашего «синдиката». Это, правда, было в первой половине нашего века, но могущество наше с тех пор не померкло, и у нас, Тони, вы скорее сделаете карьеру, чем в вашем научном мире. Всего этого Клифтон, конечно, не знал, но у него не было ни малейших сомнений в том, что Дрэйк говорил правду. Вне всяких сомнений, Питер искренне гордился «подвигами» своих предшественников и, наверное, мечтал со временем так же прославиться. Теперь, правда, в «гангстерском государстве» многое изменилось. Их боссы уже не враждуют так между собой, как прежде. Сейчас нельзя убивать в пылу раздражения или ревности. Ни один гангстер вообще не может убить кого-нибудь по собственной инициативе. Каждое убийство предписывается сверху и должно служить на пользу гангстерской организации. Нарушивший это правило ликвидируется. «Синдикат» требует, чтобы убийство являлось вопросом бизнеса и согласовывалось между лидерами. Только главный босс гангстерского клана может убить любого из членов своей преступной семьи. Изменилось в гангстерской организации и многое другое, остались неизменными лишь связи ее с органами власти и правосудия. Еще со времен Аль Каноне около трети всех доходов «синдиката» по-прежнему уходит на подкуп государственных чиновников и полицейского аппарата. В год это составляет примерно четырнадцать миллиардов долларов.14
Так как художникам, архитекторам и декораторам хорошо заплатили, они принялись за дело немедленно. На сооружение фасада здания банка, описанного в повести Малкольма Бертона, им потребовалось всего два дня, А укрепили они его на специально арендованном для этого здании в течение одной ночи. Сделать это в ночное время рекомендовал строителям Клиффорд Харт. — «Чарли», видимо, бродит по двум главным улицам нашего города все светлое время суток, — объяснил он свою рекомендацию Ральфу Мэйсону. — В его запоминающем устройстве сложился, конечно, образ второго банка, описание которого он почерпнул из книги Малкольма Бертона, и он будет теперь неустанно искать его. — А ему не покажется странным, что так долго не удается обнаружить такой банк? — спросил Харта следователь федеральной прокуратуры. — Он ведь все-таки робот, мистер Мэйсон, — снисходительно объяснил Харт. — Проще говоря, автомат. Очень совершенный, с огромным объемом информации и большими степенями свободы, но все-таки не человек. И даже ввел в него различные сенсорные записи. Иными словами — имитацию некоторых человеческих чувств, но не таких, однако, как «подозрительность» или «мнительность». — А более сложного робота вы не в состоянии были сконструировать? — не очень деликатно спросил кибернетика присутствовавший при этой бесе е начальник полиции. — Прежде чем задавать такие вопросы, почтенный метр криминалистики, — не скрывая своей иронии, ответил Тэрнеру Клиффорд Харт, — нужно иметь хотя бы приблизительное представление о возможностях современной кибернетики. В неживой природе увеличение сложности, к вашему сведению, приводит к понижению устойчивости механического устройства. Тогда как в живой природе все сложное очень устойчиво. Любой живой организм в целом гораздо устойчивее каждого своего элемента в отдельности. Все это я говорю вам для того, чтобы вы не ожидали от моего робота того. На что он не способен. Решив, что Харт обиделся на бестактность начальника полиции, Ральф Мэйсон попробовал смягчить кибернетика похвалой. — Вы извините нас, мистер Харт, за не очень компетентные вопросы и не обижайтесь, пожалуйста… — А почему вы решили, что я обиделся? — удивленно пожал плечами Харт. — Как я могу, обижаться на вас, а особенно на начальника полиции, если он… — И он, и я хотим лишь одного, — поспешил прервать раздражительного кибернетика Мэйсон, — поскорее обезвредить вашего робота. — И попытаться вернут украденные им доллары их владельцам, — добавил начальник полиции. — Ну, это, наверное, не очень реально, мистер Тэрнер, — усомнился Мэйсон. — Не так ли, мистер Харт? — Как вам сказать, — неопределенно отозвался кибернетик. — Попытаться, пожалуй, можно. — Но каким же образом, мистер Харт? — Внутреннее устройство здания, на фасад которого этой ночью наложат макет банка, подлежащего «ограблению», имеет некоторое сходство с тем помещением, которое Бертон описал в своей книге. Только нужно будет точно так же установить в нем сейфы, как и в повести Бертона. Хорошо бы к тому же наполнить их… Харт замялся на какое-то мгновение, а начальник полиции не без злорадства завершил его мысль: — Долларами, да? Чтобы потом ваш «Чарли» сжег их, как и доллары мистера Аддисона? — Ну, во-первых, — возразил ему Харт на этот раз без раздражения, — мы еще не знаем, сжег ли он их. А во-вторых, но обязательно ведь класть в сейфы настоящие доллары. — Это другое дело! — радостно воскликнул Джон Тэрнер. — Мы как раз недавно накрыли банду фальшивомонетчиков. Надеюсь, ваш «Чарли» не отличит поддельные доллары от на-, стоящих? — Да, конечно, он примет их, как говорится, за чистую монету, — закивал кибернетик. — Вот мы и посмотрим тогда, что же он станет с ними делать, изъяв из сейфа. — А это идея! — снова воскликнул начальник полиции. — Как вы считаете, мистер Мэйсон? — Считаю, что ее следует осуществить. — Нужно только, чтобы на эту ночь со всех этажей здания, которое мы загримируем под псевдобанк, выселили жильцов, — заявляет кибернетик, записывая что-то в свой блокнот. — А с какой целью, мистер Харт? — поинтересовался следователь федеральной прокуратуры. — Ну, мало ли что… От режущего, вернее, от выжигающего аппарата, которым «Чарли» будет вырезать замок сейфа, может возникнуть пожар. К тому же не исключено, что ему придется прибегнуть к помощи взрывчатки. — Какой взрывчатки? — испуганно воскликнул Тэрнер. — Вам, начальник полиции, следовало бы более внимательно прочесть повесть Малкольма Бертона, — бросил на Джона Тэрнера неодобрительный взгляд Клиффорд Харт. «Начальник полиции, конечно, не очень тактичен, — подумал о Тэрнере Ральф Мэйсон, — но зачем же Харту так нервничать?…» Вслух он произнес: — Мистер Тэрнер не обратил, наверное, внимания на то, что в повести сказано: «Том не был уверен, что ему так же легко удастся вскрыть сейф и во втором банке, и потому он прихватил с собой взрывчатку». Я это понимаю как намерение главного героя повести в случае неудачи взлома сейфа взорвать его. Ведь главная его цель — уничтожение денег, от которых все зло в мире. А так как он фанатик, ему для достижения своей маниакальной цели не жаль и собственной жизни. Вы это имеете в виду, мистер Харт? — Да, это. И потому прошу начальника полиции выселить из дома, в который вторгнется «Чарли», всех жильцов, ибо, как я понимаю, именно мистер Тэрнер отвечает за их безопасность.15
Ночь очень темная, но фасад «банка» с двумя массивными дверьми хорошо освещен. На его светлом фоне отчетливо виден полицейский, равномерным шагом прохаживающийся от одной двери к другой. Начальник полиции, следователь федеральной прокуратуры и доктор физико-математических наук сидят в неосвещенной комнате дома напротив и нетерпеливо всматриваются в тускло мерцающий экран полицейской телевизионной установки. Передающие камеры ее с высокочувствительными электронно-лучевыми трубками установлены в здании «банка». Днем в помещении псевдобанка состоялась инсценировка напряженной деятельности «банковских служащих», поставленная режиссером местного театра. Роли сотрудников и посетителей банка исполняли актеры того же театра. Все это было заблаговременно отрепетировано, и премьера «спектакля» прошла довольно успешно. Во всяком случае, некоторые прохожие, удивленные неожиданным возникновением нового банка на месте нотариальной конторы, из любопытства заходили внутрь помещения и, по-видимому, ничего подозрительного не заметили. Удивлялись только еще больше: — Вот это оперативность! Не то что у нашего старого банкира Аддисона. Не мудрено, что его ограбил какой-то робот. — А скорее всего гангстеры Питера Дрэйка, — уточнил желчный тип, придирчиво присматривавшийся к «сотрудникам банка». — Не сомневаюсь, что и этот банк, выросший, как гриб после теплого ночного дождя, какая-то новая их афера. Разговоры эти, подслушанные микрофонами с высокой чувствительностью, были записаны на магнитную ленту. Прослушав их, Ральф Мэйсон удовлетворенно заявил: — Будем считать, что дневной «спектакль» нам удался. — Если, конечно, не считать ехидных замечаний какого-то типа, — усмехнулся Клиффорд Харт. — Они могут свидетельствовать и о том, что у него возникли какие-то подозрения. — Но этот «тип», мистер Харт, — напомнил кибернетику Мэйсон, — все-таки живой человек, а вы сами же сообщили нам недавно, что такие чувства, как «подозрительность» и «мнительность», а тем более «ехидство» недоступны вашему пусть весьма совершенному роботу. — Да, он должен реагировать лишь на реально выраженную опасность, — подтвердил Харт. — И вы полагаете, — спросил его Антони Клифтон, — что «Чарли» побывал уже в нашем псевдобанке? — Надо полагать. — Почему же тогда никто из актеров, изображающих сотрудников банка, не опознал его? А ведь среди них были и детективы мистера Тэрнера, однако и они его не заметили. — Не забывайте, мистер Клифтон, что я готовил из своего «Чарли» актера, — с явными нотками обиды возразил доктору физико-математических наук Харт. — Ону меня постиг искусство перевоплощения, и его практически невозможно отличить от живых граждан нашего города. И, уж во всяком случае, не прославленным детективам местной полиции сделать это… «Опять он изливает свою желчь на Тэрнера! — с досадой подумал Мэйсон. — Не хватает только, чтобы они поссорились». Но начальник полиции оказался человеком выдержанным и пропустил нелестное замечание Харта о его подчиненных мимо ушей. — Так вы полагаете, — продолжал Мэйсон, обращаясь к кибернетику, — что ваш «Чарли» должен был еще днем спрятаться в одном из служебных помещений псевдобанка? — По повести Малкольма Бертона все должно произойти именно так, — уверенно ответил Харт. — Мы, по возможности, создали там примерно такую же обстановку. То есть загромоздили одну из комнат ящиками и шкафами. Банк, описанный Бертоном, в тот день получил какое-то новое канцелярское оборудование, которое служащие банка не успели расставить по кабинетам и кассовым залам. — А детективы мистера Тэрнера разве не вели скрытного наблюдения за этой комнатой? — спросил Антони. — Чего вы от них хотите, мистер Клифтон? — ехидно усмехнулся Харт, выразительно пожимая плечами. — Нашему уважаемому кибернетику покажется, наверное, невероятным, — повернувшись к Харту, очень спокойно произнес Джон Тэрнер, — но мои люди заметили довольно подозрительного человека с небольшим чемоданчиком в руках. Он сначала заглянул в эту комнату, а потом, проходя мимо нее во второй раз, скрылся за ее дверью. — Так почему же вы нам об этом сразу не сказали? — удивился Ральф Мэйсон. — У меня нет полной уверенности, что он все еще там, мистер Мэйсон. А для того чтобы уточнить это, я должен разрешить моим людям зайти в ту комнату. Боюсь, как бы это не спугнуло «Чарли», если только там именно он. — Это, конечно же, он! — радостно воскликнул Клиффорд Харт. — Все, значит, происходит в строгом соответствии с моими расчетами. А ваши подчиненные, мистер Тэрнер, оказались более сообразительными, чем я предполагал. Прошу в связи с этим принять мои извинения за иронические замечания по их адресу. — Полиция не нуждается ни в вашей похвале, ни в ваших извинениях, мистер Харт, — высокомерно проговорил Джон Тэрнер, демонстративно повернувшись к кибернетику спиной. — Вы с вашим «Чарли» доставили нам столько хлопот и неприятностей, что о таких пустяках, как ирония по нашему адресу, и говорить не стоит. — Ну, зачем же ссориться, джентльмены! — умиротворяюще простер руки Ральф Мэйсон. — Очень неподходящее для этого время… — А мы и не собираемся ссориться, — успокоил его начальник полиции. — Это наши обычные взаимоотношения с мистером Хартом. И не из-за «Чарли» только. Он и до этого во время каких-то своих- экспериментов чуть не взорвал дом, в котором проживают, кроме него, еще около ста человек. Представляете, какое количество жалоб в связи с этим к нам поступило? — Ну, во-первых, в том доме проживает не около ста, а всего семьдесят восемь человек, — уточнил Харт. — А во-вторых… — Может быть, не будем выяснять сейчас ваши взаимоотношения, джентльмены? — снова вмешался в спор Ральф Мэйсон. — Давайте лучше уточним, что могло быть в чемоданчике «Чарли». Мистер Харт полагает, что взрывчатка… — Да, может быть, и взрывчатка, — резко повернулся к нему кибернетик. — Но это на крайний случай. А скорее всего там аппарат для вскрытия сейфа. К тому же чемоданчик этот потребуется потом «Чарли» для долларов, к счастью, на сей раз фальшивых. — Я тоже считаю, что это именно так, — согласился Тэрнер. — Как видите, иногда мы бываем единодушны с мистером Хартом, — добавил он, улыбнувшись ученому. — Но вы все-таки выселите из этого дома всех его жильцов, мистер Тэрнер, — обращается к начальнику полиции Ральф Мэйсон. — Хотя я совершенно уверен, что это излишняя предосторожность, мои подчиненные займутся этим к концу дня. И ох какой нелегкой будет эта операция! И вот теперь Ральф Мэйсон, Джон Тэрнер, Антони Клифтон и Клиффорд Харт сидят перед экраном телевизора и затаив дыхание всматриваются в смутное очертание внутреннего помещения псевдобанка. Им хорошо виден его главный сейф. Время между тем идет, а на экране все еще не заметно никакого движения. — Уж полночь, джентльмены, — шепотом, будто его может кто-то подслушать, произносит Ральф Мэйсон, взглянув на часы. — Может быть, ничего и не произойдет в эту ночь?… — Да, может быть и так, — тоже очень тихим голосом соглашается с ним Клиффорд Харт. — Я не могу вам это гарантировать. Но если «Чарли» не попытается вскрыть сейф сейчас, он уже не сделает этого никогда. — Во-первых, почему мы шепчемся? — неожиданно громко спрашивает Джон Тэрнер. — Нас ведь никто не подслушивает. Уж это, в отличие от мистера Харта, я вам гарантирую. Во-вторых, почему же ваш «Чарли», мистер Харт, должен вскрыть сейф только в эту ночь? — Если, как вы говорите, ваши люди видели его входящим в ту самую комнату, в которую сгружено канцелярское оборудование, то какого же черта будет он торчать там до следующей ночи! — повышает голос кибернетик. — А вы не допускаете, что у него кончилось питание? — спрашивает Харта Тэрнер. — Допускаю. И именно поэтому делаю вывод, что он никогда уже не вскроет сейфа с фальшивыми долларами в этом фальшивом банке. — Но почему, мистер Харт? — задает вопрос Клифтон. — Да по той простой причине, уважаемый доктор физико-математических наук, что в той комнате, в которой он спрятался, нет электрической розетки. Надеюсь, однако, что с аккумуляторами у «Чарли» все в порядке. Не помню случая, чтобы он забыл их подзарядить задолго до того, как они начинали садиться… — Внимание, джентльмены! — громко произносит Тэрнер. Все невольно наклоняются в сторону телевизора. На экране появляется какая-то тень. Она медленно движется в сторону сейфа. А когда оказывается на фоне освещенной луной дверцы сейфа, удается различить очертания чьей-то головы в полицейской фуражке. — Неужели это кто-нибудь из ваших подчиненных, мистер Тэрнер? — испуганно восклицает Мэйсон. — Ведь он спугнет «Чарли»… — Нет, мистер Мэйсон, едва ли это кто-нибудь из полицейских, — успокаивает представителя федеральной прокуратуры Харт. — Скорее всего это мой «Чарли» надел полицейскую фуражку. На него это похоже, он ведь актер… Всмотревшись повнимательнее в экран, Харт восклицает: — Ну да, конечно же, это «Чарли»! Видите, он достает что-то из своего чемоданчика… Это безусловно аппарат для резки стали. А вот и искры!.. Молодец «Чарли»! — Вы так радуетесь его работе, мистер Харт, что можно подумать, будто он принесет эти доллары вам, — говорит начальник полиции кибернетику, беря этой шуткой частичный реванш за насмешки Харта над полицией. — Я не нуждаюсь в фальшивых долларах, мистер Тэрнер. По моим потребностям мне хватает и настоящих… — Что-то уж слишком долго возится с дверцей сейфа ваш «Чарли», — замечает Ральф Мэйсон, чтобы отвлечь Харта от очередной схватки с начальником полиции. — А это не такое простое дело, мистер Мэйсон, — отвечает за Харта Тэрнер. — Сейф ведь настоящий, в нем только доллары фальшивые. Но похоже, что у «Чарли» действительно возникают какие-то затруднения. Голова его исчезает со светлого экрана дверцы сейфа. Видимо, он наклоняется к своему чемоданчику, чтобы достать из него еще какие-то инструменты. Что-то долго не видно его силуэта, пора бы уж найти то, что ему нужно… И вдруг помещение «банка» озаряется ослепительной вспышкой взрыва. И сразу же все меркнет. Наверное, выбывают из строя передающие камеры, установленные внутри псевдобанка. — Ну, вот и все! — восклицает начальник полиции. — «Финита ля комедиа», как говорят итальянцы. Да, я так и знал, что именно этим все кончится. Вы сконструировали, мистер кибернетик, не личность, обладающую свободой воли, а электронного неврастеника, страдающего комплексом неполноценности. Плакали теперь доллары мистера Аддисона. И не какие-нибудь фальшивые, а самые настоящие. На следующий день технические эксперты и криминалисты, изучая остатки электронного оборудования и пластмассового корпуса «Чарли», констатируют «самоубийство» робота, о чем и составляют акт, скрепленный подписями и печатью городского полицейского управления.16
— Ну, как ваши успехи, Чарльз? — спрашивает своего помощника Ральф Мэйсон. — Кое-что удалось узнать, сэр, но… — В чем дело, Чарльз? Почему не договариваете? — Имеет ли смысл продолжать расследование после всего происшедшего? — А что, собственно, произошло? — искренне удивляется Мэйсон. — Разве после «самоубийства» робота «Чарли» все стало ясно? — Не очень, конечно… Но главный виновник… — А я пока не знаю, кто тут главный виновник, — слегка повышает голос представитель федеральной прокуратуры. — Так что выкладывайте все, что вам удалось разузнать. Чарльз Ивэнс достает сигарету и вопросительно смотрит на своего патрона. — Можете закурить, — кивает ему Мэйсон. Чарльз щелкает зажигалкой и, жадно затянувшись, спрашивает: — С чего начинать, сэр: с театральной труппы лилипутов или с нью-йоркского издательства? — Начните с издательства. Вам ведь удалось побывать у его директора. — Да, сэр. Но это было не так-то просто… — Попасть к директору? — Нет, получить необходимые мне сведения. Как представитель прокуратуры я не имел пока оснований предъявлять им какие-либо претензии. Поэтому пришлось действовать как частному лицу. Я отрекомендовался литературным критиком и заявил, что творение Малкольма Бертона очень слабое и что мне непонятно, как такое уважаемое в литературном мире издательство, как «Сфинкс», могло опубликовать подобный опус. А мне в ответ довольно грубо: «Можете выступить со своим мнением в печати, а нам не морочьте голову». И еще кое-что в таком же роде. «Мы, говорят, перед вами не собираемся отчитываться». — Ближе к делу, Чарльз. — Извините, сэр, но все это имеет прямое отношение к делу., Получив отказ у директора и главного редактора издательства, я попытался связаться с теми, кто готовил сборник Бертона к печати… Короче говоря, в «Сфинксе» никто не захотел говорить со мной откровенно, и это меня насторожило. Не оставалось никаких сомнений, что дело тут нечисто… — Опять вы, Чарльз… — Простите, сэр, но у меня никак не получается короче. — Тогда вам следовало бы работать не в прокуратуре, а в адвокатуре. Ну, ну, Чарльз, не огорчайтесь. Я шучу. Вы еще научитесь быть кратким. Продолжайте, я не буду вас больше перебивать. — Сообразив, что в «Сфинксе» таким путем ничего не добьешься, я стал искать иных путей. И вдруг вспомнил, что в издательстве этом работает моя знакомая. Она, правда, всего лишь секретарша отдела рекламы, но ей стало известно, что весь тираж сборника Малкольма Бертона был закуплен каким-то лицом, пожелавшим остаться неизвестным. — Я так и знал! — восклицает Ральф Мэйсон. — А я, признаться, ничего пока не понимаю, кроме того, что с изданием этого сборника дело нечисто. Мне также сообщили, что феноменальная бездарность Малкольма Бертона всем известна и что печатать его не рисковало ни одно нью-йоркское издательство. Как решился на это «Сфинкс», для всех сотрудников издательства загадка. — Вот мы с вами и попытаемся ее разгадать. Вам известен адрес Малкольма Бертона? — Да, сэр. Вот тут и адрес, и все дополнительные сведения о нем. Торопливо пробежав глазами протянутый Ивэнсом листок, Ральф Мэйсон распоряжается: — Закажите мне место на ближайший самолет, вылетающий в Нью-Йорк, и выкладывайте, что вам удалось узнать о театральной труппе лилипутов. — Ваша интуиция вас не подвела, сэр. — А конкретнее, Чарльз? — В этой труппе, как вы и предполагали, действительно был брат кибернетика Харта, Вильям Харт. Он играл главные роли почти во всех шекспировских трагедиях. Я поинтересовался, как же он при его карликовом росте и с его высоким голосом мог играть роли Отелло, короля Лира, Фальстафа, Юлия Цезаря. А дело, оказывается, было в том, что спектакли лилипутов воспринимались как пародии на трагедии Шекспира. И там, где нужно было содрогаться от ужаса, публика хохотала до слез. А Вильям Харт был талантлив, и ему нелегко было переносить все это… В общем, в начале этого года он распрощался с театральными подмостками и уехал, по одним данным, в Канаду, а по другим — к себе на родину, в штат Миннесота. — Спасибо, Чарльз, мне больше ничего не требуется. Как только я уеду в Нью-Йорк, можете весь день отдыхать.17
Дверь Ральфу Мэйсону открывает сам Малкольм Бертон — высокий, худощавый, сутуловатый мужчина лет тридцати, в модном костюме. Ничем не примечательное лицо его удивляет Мэйсона лишь необычайно густыми бакенбардами при весьма скудной растительности на голове. Когда Мэйсон представляется Бертону, он радостно восклицает: — Чем я обязан визиту такого прославленного критика, как вы, мистер Мэйсон? — Вы меня с кем-то путаете, мистер Бертон, — охлаждает его пыл представитель федеральной прокуратуры. — А что, разве есть критик с такой же фамилией, как у меня? — О, да, и притом очень маститый. Он автор таких широко известных книг… — Очень приятно, что у меня такой знаменитый однофамилец, — улыбаясь, прерывает Бертона Мэйсон. — Я же всего лишь старший следователь федеральной прокуратуры. — Следователь прокуратуры? — растерянно переспрашивает Малкольм. — Но ведь я не совершал… — Вы, наверное, имеете в виду убийство или грабеж? — снова прерывает его Мэйсон. — Да, вы, видимо, никого не убили и не ограбили. Во всяком случае, у меня нет таких сведений. Вы всего лишь вступили в преступную сделку с одним из гангстерских боссов или его доверенным лицом, в результате которой был ограблен банк. — Господи! — почти истерически восклицает Бертон, и лицо его покрывается мелкими капельками пота. — Какой банк? — Банк, похожий на тот, что вы описали в вашей повести «Пусть они огнем горят, эти проклятые доллары!». — Но ведь такой банк ограбил мой литературный герой, и я за него не несу… — На сей раз, мистер Бертон, по вашему рецепту ограблен совершенно реальный банк совершенно реальными гангстерами. — Ах вот оно что! — вырывается вздох облегчения из груди Бертона. — В таком случае, вам должно быть известно, что в Нью-Йорке совершаются убийства и грабежи почти после каждой передачи детективного представления по телевидению. И не профессиональными гангстерами, а подростками, заимствующими методы убийств и ограблений из телепередач. Что-то я не помню, однако, чтобы за это привлекали к ответственности авторов сценариев или телестудию, наглядно преподавшую юным телезрителям методику убийств и грабежей. — Вы правы, мистер Бертон, за это, к сожалению, у нас пока действительно не судят, — соглашается Мэйсон. — Но с вами-то все как раз наоборот. — Не понимаю вас, мистер Мэйсон… В каком смысле «все наоборот»? — А в том, что в данном случае не преступление замышлялось по сюжету литературного произведения, а литературное произведение писалось по сюжету задуманного преступления. Ну и, конечно же, за написание такого сочинения на заданную тему вам было обещано опубликование сборника лучших ваших произведений в таком издательстве, как «Сфинкс». Поэтому-то повесть «Пусть они огнем горят, эти проклятые доллары!», написанная по заказу, и оказалась значительно слабее всех других ваших произведений, включенных в этот сборник. А о том, как был реализован предложенный вам сюжет, вы можете узнать из этих вот газет. Ральф Мэйсон достает из своего портфеля пачку провинциальных газет и бросает их на стол Бертона. Но, видимо, на автора чисто психологически подействовало отделение Мэйсоном этой злосчастной заказной повести от других его произведений. Он собирает разлетевшиеся по столу газеты и, не читая, возвращает их следователю федеральной прокуратуры: — Я верю вам, мистер Мэйсон, без всяких доказательств. Поверьте же и вы мне. Я долго не мог нигде напечататься, так как в издательском мире у меня не было ни покровителей, ни даже просто знакомых. И вдруг почти как в сказке является ко мне чудаковатый меценат и предлагает… Словом, я без особых колебаний согласился на все его условия. — И что получали за это? — Полную стоимость всего тиража моего сборника. — Примерно тысяч десять? — Пятнадцать тысяч. — А на вашей повести заработано более миллиона долларов. — Ну разве же это не грабеж, мистер Мэйсон? — Это подлинный грабеж, мистер Бертон! — подтверждает следователь федеральной прокуратуры. — А теперь мы составим протокол вашего признания, и я обещаю оставить вас в покое. — Даже если дело тех гангстеров пойдет в суд? — Боюсь, что оно не пойдет в суд, — вздыхает Мэйсон. — Они слишком богаты, чтобы из-за такого пустяка, как похищение миллиона долларов, попасть на скамью подсудимых.18
По лицу Питера Дрэйка без труда можно заключить, что он чем-то недоволен. — Я вот зачем вызвал вас, док, — говорит он Клифтону. — Этот следователь из федеральной прокуратуры зачем-то хочет встретиться со мной, а у меня нет ни малейшего желания видеть его физиономию. Поезжайте-ка к нему вы вместо меня. — Но ведь может оказаться… — Ничего особенного не окажется, Тони. Я догадываюсь, о чем будет разговор. Он парень головастый и успел кое-что разнюхать. Встречался с бывшим директором «Летучей мыши», напал на след брата Клиффорда Харта, разыскал бездарного детективщика, которому я поручил написать «Пусть они огнем горят, эти проклятые доллары!»… И все потому, что мои ребята оказались не очень расторопными — не успели убрать кого следует в свое время. — Я не очень вас понимаю, сэр… — А я — то считал вас, док, толковым парнем! — морщится Питер Дрэйк. — Что же тут непонятного? Не сообразили вы разве, что роботом «Чарли» работал у Клиффорда Харта его брат, актер из труппы лилипутов. При его карликовом росте он без особого труда вмещался в кибернетические доспехи робота. — Допустим, что все это… — И допускать нечего, именно так все и было! Не робот «Чарли», а брат Клиффорда Харта Вильям Харт играл в «Летучей мыши» Гамлета и Отелло. Он и банк ограбил. — А как же данные экспертов-криминалистов местной полиции? Их аппаратура не засвидетельствовала ведь присутствия живого существа в помещении банка в ночь его ограбления? — Это вы спросите у самого Тэрнера. Он вам расскажет, как удалось ему получить эти данные. Недаром же я плачу ему в три раза больше, чем местные муниципальные власти. — А самоубийство робота «Чарли», значит, всего лишь инсценировка? — Слава богу, что хоть это-то вы сообразили, — улыбается Питер Дрэйк. — А теперь — к Ральфу Мэйсону! — Но я плохой дипломат, сэр… — К черту дипломатию, Тони! Постарайтесь только, чтобы разговор был без свидетелей, и соглашайтесь на любую сумму, какую он предложит. — А вы предполагаете, что он… — Я не предполагаю, Тони. Я это точно знаю. — А сам Питер Дрэйк не нашел, значит, нужным прийти ко мне? — спрашивает Клифтона Мэйсон. — У него неотложные дела, мистер Мэйсон… — Я ведь приглашал его не на чашку кофе. — Он в курсе дела, мистер Мэйсон. В том смысле, что догадывается, о чем мог быть разговор. — И уполномочил вас вместо себя? Это на него похоже. Наполеон когда-то говорил, что судьбу сражения решают большие батальоны или что-то в этом роде. А теперь все решают большие доллары. У меня есть все факты или почти все, чтобы посадить вашего босса на скамью подсудимых, нет только уверенности, как отнесется к этому прокурор. — Вы думаете, что он не решится начать процесс против Дрэйка? — Почти не сомневаюсь в этом. — А вы? — А что я? Для них я мелкая сошка. Они меня, дорогой док, без труда сотрут в порошок не только в переносном, но и в буквальном смысле. — Зачем же вы тогда так добросовестно вели это расследование? — Ну, во-первых, это мне было поручено. Никто, правда, не предполагал, что так все обернется. И сам Дрэйк, конечно, не сомневался, что все спишется на робота, потому и не вступал ни в какие контакты с прокурором. Зачем ему было делиться с ним своей добычей? — А теперь придется поделиться с вами? — Ничего иного, к сожалению, мне не остается, — вздыхает Ральф Мэйсон. — Вы, наверное, хотели сказать, что Дрэйку ничего иного не остается? — Я сказал, мистер Клифтон, именно то, что хотел. Мне придется взять свою долю, если я хочу уцелеть. И опять-таки слово «уцелеть» произношу в буквальном смысле. Как ни парадоксально, но если я не потребую у Дрэйка своей доли из награбленного, он будет считать меня своим врагом, который, минуя прокурора, может сообщить все ему известное куда-нибудь повыше. И тогда ему придется потратить гораздо больше долларов. Вот ведь какая тут механика, а точнее — арифметика, мистер Клифтон. — Все ясно, мистер Мэйсон. Ну, и сколько же должен вам заплатить Питер Дрэйк? — Еще со времен таких знаменитых гангстеров, как Лучиано и Аль Каноне, был заведен порядок, по которому около трети всех преступных доходов тратилось на подкуп органов власти и правосудия. Если бы я больше уважал себя, то должен бы потребовать от Питера Дрэйка не менее тридцати процентов. Но я себя не очень уважаю, мистер Клифтон. Вы мне симпатичны, и только потому я признаюсь вам в этом. А но уважаю я себя за то, что до сих пор продолжаю служить в наших продажных органах юстиции. Мне кажется, что и вы не очень себя уважаете, поступив на службу к Питеру Дрэйку. — Вы правы, мистер Мэйсон. Я никогда еще не презирал себя так, как сейчас… — Будем надеяться, однако, что вы еще вырветесь из лап Дрэйка. А я человек конченый и потому позволю вашему боссу подкупить меня всего лишь за десять процентов той суммы, которую он похитил у банкира Аддисона. То есть за сто тысяч долларов. Возвращаясь от Мэйсона, Клифтон всю дорогу ломал голову над вопросом: зачем было Питеру Дрэйку так уж маскировать свое участие в ограблении банка, если он мог купить за свои доллары не только федерального следователя, но и федерального прокурора? Конечно, ему не хотелось делиться с ними частью своей добычи, но, видимо, не это главное. Помнится, он намекнул как-то на возможность выставления своей кандидатуры в муниципалитет или даже сенат. Да, пожалуй, это вернее всего. А доллары Хьюга Аддисона пригодятся ему на проведение его избирательной кампании. Не тратить же на нее основные свои капиталы, так выгодно вложенные в городские предприятия!И. СКОРИН ОБЫЧНАЯ КОМАНДИРОВКА Приключенческая повесть
Допрос продолжался долго. Разговор был прямой и острый, наверное, как тот загадочный нож. — Итак, вы не хотели его убивать? — Нет. — Зачем же нанесли удар? — А я его и не бил. Парировал нож и просто-напросто отбросил. В самбо есть такой прием: подножка назад с колена. Прием я провел быстро, почти рефлекторно. Мне просто некогда было раздумывать. — Вы хорошо знаете самбо? — У меня первый разряд. — Если бы вы применили другой прием, без броска, чем бы это кончилось для Славина? — Очевидно, я обезоружил бы Сергея и доставил в милицию. В худшем случае повредил бы ему руку. — Так почему же вы не провели такой прием? — Не успел. Он сказал, что меня убьет. Я увидел его глаза и поверил. — Как он замахнулся ножом? Сверху? — Нет. Замах был необычный. Славин выхватил нож из внутреннего кармана пиджака, резко отвел вооруженную руку вправо и ринулся на меня. — За что он хотел вас убить? — Не знаю. — У вас есть ко мне какие-либо просьбы, заявления? — Нет. Старший инспектор Уголовного розыска страны полковник милиции Дорохов сегодня утром прилетел из Москвы в этот южный город. Побывал у местного начальства, у городского прокурора, в отделе внутренних дел познакомился с делом по обвинению Олега Лаврова, арестованного за убийство Сергея Славина, и сразу вызвал его на допрос. Дело было необычное и запутанное. Впрочем, как на это дело смотреть, Если верить Лаврову, то оно запутано крайне и ничего в нем не ясно. Если ему не верить, то все очень просто: Лавров, распоясавшийся хулиган, знающий самбо, не рассчитал силу броска, собственного усилия и убил человека. Отправив арестованного в камеру, Дорохов решил разобраться в собственных впечатлениях от знакомства с Лавровым. Разобраться сразу же, пока свежо в памяти все: от интонаций до отдельных жестов, пауз, в общем — манеры поведения. И Дорохов стал припоминать. Когда конвоиры привели к нему Лаврова, он был какой-то ершистый, настороженный, смотрел недружелюбно. Из материалов дела полковник знал, что Олег Лавров — механик завода сельскохозяйственных машин, студент второго курса технологического института вечернего отделения. Единственный сын обеспеченных родителей. Мать — врач, отец — армейский полковник в отставке. Да, держался он молодцом. Говорил резко, смело, не опуская глаз, и, пожалуй, излишне честно. Зачем ему нужно было говорить о других приемах, позволяющих без вредных последствий обезоружить Славина? Что это — настоящая честность или игра? Ну, допустим, что самбист-перворазрядник знает, что от каждого способа ударов ножом есть не менее десятка различных приемов защиты. Мог предполагать Лавров, что Дорохов этого не знает? Вряд ли. Он, наверное, слышал, видел в кино, читал, — в общем, знает, что сотрудников уголовного розыска обучают самбо. Следовательно, неумно скрывать, что в самбо есть и другие приемы. Лавров говорил, что замах ножом был особый: справа и сбоку. Ах, да, да, припомнил Дорохов, есть такой удар. Коронный удар в старомексиканской кинжальной школе. Быстрый, резкий, с шагом вперед; у них он называется «терция». А как бы он, Дорохов, парировал этот удар? Отбил бы руку нападавшего, ушел влево и вперед, затем ребром ладони правой ударил бы по тыльной стороне вооруженную руку. Нож вылетел бы в сторону. А потом? Потом правая рука должна была машинально лечь на плечо противника. Да, удивился полковник, блестящее положение для задней подножки с колена. Лавров парень высокий, сто восемьдесят сантиметров, не меньше, и если допустить, что покойный Славин был не коротышка, то для броска следовало опуститься на колено. Значит, что же, Лавров не врет? Похоже, что не врет, решил Дорохов. Он закурил, пододвинул к себе стопку чистой бумаги. Верхний лист карандашной линией разделил пополам. С левой стороны написал: «Объективно установлено», с правой — «Проверить, разобраться». Вывел цифру «1» и сделал запись: «Лавров вызвал «скорую помощь». Из дела Дорохов знал, что Олег из ближайшего телефона-автомата позвонил в «скорую помощь», назвал свою фамилию и сообщил о случившемся. На другой стороне листа он написал: «Еще раз уточнить время и очередность появления свидетелей на месте». Постукивая по столу карандашом, полковник задумался. Много разных дел было у него за плечами. Были разные преступники, но все они старались как можно быстрее скрыться с места преступления. Мог уйти Олег Лавров, совершив убийство просто из хулиганства? Уйти незамеченным, не поднимая шума, бросив Сергея Славина там, на месте? Конечно, мог. И карандашом вывел новую запись, требующую проверки. С левой стороны появилась еще строчка о том, что Лавров пришел в милицию сам и рассказал, что совершил убийство. Дорохов отодвинул бумагу, отложил карандаш и начал рассуждать. Умный парень Лавров? И тут же решил: умный! В этом можно не сомневаться. А как должен поступить умный преступник, который по неизвестным причинам, скорее всего из хулиганства и просчета в собственной силе, совершил убийство? Стоит ли ему бросать работу, учебу, дом, а может быть, и хорошую девушку и бежать за тридевять земель? Нет, не стоит. Все равно найдут. Все равно поймают, это знает каждый мальчишка. Во сколько был вызов «скорой помощи»? «Давай-ка заглянем в это дело снова», — решил Дорохов, пере-листнул страницы, отыскал нужный документ и прочитал: «В 23 часа 42 минуты сообщал…» Так. В это время еще не все люди спят. Мог предположить Лавров, что его кто-то видел, ну, скажем, из окна дома? Мог. Мог допустить, что его узнали? Мог. По всей вероятности, должен предполагать, так как живет в этом районе с детства. А раз узнали, сообщат куда следует и его найдут. Что же ему, тому Лаврову, остается в таком случае делать? Конечно, лучше всего пойти и сообщить о случившемся, только следует рассказать историю с нападением и ждать снисхождения за явку с повинной. Логично для умного человека? Логично, а Лавров далеко не дурак. Полковник прошелся по кабинету, посмотрел в окно на шумную и веселую улицу и обернулся па стук двери. В небольшой кабинет, в котором обычно работал начальник уголовного розыска городского отдела (сейчас он был в больнице и кабинет отдали Дорохову), вошел коренастый мужчина в темном штатском костюме. Несмотря на жару, пиджак его был застегнут на все пуговицы, а белая рубашка стянута галстуком. Его мокрое и красное лицо не выражало особого дружелюбия. Это был старший инспектор уголовного розыска Киселев. Дорохов еще утром познакомился с ним. — А… Это вы, капитан! — Что новенького, Александр Дмитриевич? — искоса поглядывая на стол, где лежали заметки полковника, спросил Киселев. Дорохов понял настроение капитана и решил сразу же, как говорят, «поставить точки над i». — Что новенького, говорите? Больно быстро вы захотели новостей. Сами занимались этим делом почти неделю и ничего «новенького» не добыли, а с меня требуете за полдня! — Дорохов улыбнулся: — Хитрите, капитан. Я ведь знаю, как вы восприняли мой приезд. Вот я работал, работал, и вдруг появился этот «начальничек», и еще неизвестно, как он оценит мою работу: согласится с очевидными фактами или начнет все опровергать. Заведет всех в тупик и уедет, а мне тут потом за него все расхлебывать. — Что вы, товарищ полковник, что тут думать! Мне с этим Лавровым все ясно. Вот сегодня мы были с вами у городского прокурора, и он говорил, что нужны факты. Я искал нож, но его никто не видел. Искал свидетелей нападения на Лаврова, но их нет. Вы же знаете, что у нас в уголовном розыске работников раз-два и обчелся, а я освободил от всех других дел инспектора Козленкова и поручил ему поработать среди приятелей Лаврова, но толку пока никакого. — Вы раньше знали Лаврова, до этого случая? — Нет, товарищ полковник. Это по части Козленкова, да и сам начальник несовершеннолетними и молодежью занимаются, а я уже восемнадцать лет разыскиваю скрывшихся преступников, алиментщиков, без вести пропавших. — А где товарищ Козленков? — Он с утра работает по этому делу. Будет вечером. — У Афанасьева когда в больнице были? — Неделю назад. Плохо у него. Давление держится высокое, и врачи совсем про дела разговаривать не позволяют. Почти год болеет, неделю-две поработает — и опять в больницу. — Он о деле Лаврова знает? — Нет. Я хотел с ним посоветоваться, но начальник городского отдела не велел. Да зря вы с Лавровым мудрите. Он врет, выпутывается. — Киселев помолчал и с еще большим убеждением закончил: — Врет. Мне это ясно. — А мне нет. Мне, к сожалению, ничего не ясно… пока. — Дорохов выделил последнее слово. — И придется начать все сначала. — Он решительно повернулся к Киселеву: — Давайте-ка съездим на место происшествия. Это далеко? — Квартала четыре, не больше километра, можно и на машине. — Лучше пешком. Дорохов собрал со стола документы, сложил их в сейф, оглядел экипировку Киселева. — Что, похолодало? — Да нет, под тридцать в тени. — Ну, тогда уж извините, пиджачок-то я оставлю. Полковник достал из серого пиджака, висевшего на спинке стула, бумажник, авторучку, блокнот и рассовал по карманам брюк, поправил спортивную рубашку, надел темные очки и предложил: — Пойдемте. В камере было прохладно. Может, оттого, что камеры предварительного заключения помещались в цокольном этаже, а может быть, потому, что наружные щиты на окнах не пропускали солнца. Лавров, вернувшись с допроса, разделся, аккуратно сложил брюки, по привычке расправив складки, разложил их на нарах, ковбойку повесил на деревянный колышек, забитый в стену кем-то другим, побывавшим здесь раньше. Оставшись в одних трусах, он подошел к полке, на которой лежала краюха черного хлеба, два белых батона, сливочное масло в стакане, несколько яблок и пачек десять сигарет «Новость». Достал сигарету, улегся на нарах и, изредка стряхивая пепел в щель между отполированными до блеска досками, задумался. Лавров был один; это в первый день его посадили в общую камеру, а потом начальник городского отдела приказал держать его отдельно. Это хорошо, что отдельно: можно думать и никто не лезет с разговорами и расспросами. Не нужно притворяться. Вот уже какой день его преследовала одна-единственная мысль, она была надоедливой, навязчивой и просто не давала покоя. Олег никак не мог понять, не мог решить для себя, почему с ним хотел расправиться этот самый Славин. Знать-то он его знал, а кто не знал Сергея-парикмахера? Несколько раз у него стригся, изредка перед торжественными днями брился. Знал, что этот Сергей «ходовой малый», встречал его на улицах с разными девчонками. Иногда он появлялся в Доме культуры. Часто бывал в сквере в беседке, играл в карты. Но он, Олег, никогда с ним не ссорился, наверное даже не сказал ему и десяти слов. Встретятся — «Сергей, здорово!», «Серега, привет», и всё. За что же этот самый Сергей хотел его пырнуть ножом? Олег отчетливо вспомнил подробности того вечера. Сегодня пошли всего шестые сутки, а кажется, что уже прошел год. Ну, если не год, то полгода обязательно. Всего нет и недели, как произошла эта злополучная встреча, а он уже без содрогания смотрит на решетку и называется убийцей. Какой же он убийца? Ведь если бы не стал обороняться, то лежал бы в земле, а на его месте сидел бы этот Сергей… Сидел бы? А может, его еще и не успели бы найти. Интересно, пошел бы Славин так же, как и он, с повинной? Тогда зачем он выбрал этот безлюдный двор и арку, где не было ни души? Уж наверно он не хотел, чтобы были свидетели. Тогда как же он узнал, что Лавров пройдет именно там? Следил за ним? Наверно, следил: ведь от подъезда, где живет Степан, есть и другой выход. Нужно сказать этому полковнику, что скорее всего так и было. Сказать? А стоит ли? Еще неизвестно, для чего он приехал из Москвы. И поверит ли полковник Олегу? Когда его привели на допрос, он сначала подумал, что снова вызывает Киселев и будет уговаривать, чтобы он, Олег, не врал про нож. Сказал бы, что никакого ножа не было, что просто была драка и убил он Славина случайно, по неосторожности. Но как же он может убить случайно совсем неповинного человека? Ведь он, зная самбо, применяет приемы в исключительных случаях. Тренер в первые же годы занятий всем им чуть ли не ежедневно твердил, что знание самбо дает огромное преимущество перед другими, что это преимущество ни в коем случае нельзя использовать без крайней необходимости, что нужно беречь спортивную честь… Олег обжег пальцы догоревшей сигаретой, отбросил окурок в сторону, встал, прошелся, три шага туда, три обратно, взял с полки яблоко. Хотел откусить красную блестящую боковину, но задумался. Яблоки принесла мама. Бедная, вечно озабоченная мама! Она всегда волновалась — то за здоровье Олега, то лечила отца, то торопилась к своим больным, хлопотала дома. Капитан Киселев разрешил ему свидание с родителями. Мать бросилась к нему, обняла и, видно, едва сдерживалась, чтобы не расплакаться, а отец молчал. И показался совсем-совсем старым. Когда капитан, находившийся здесь же, попросил мать, чтобы она уговорила Олега изменить показания, отказаться от того, что якобы на него с ножом в руке напал этот парикмахер, и тем самым облегчить свою участь, мама строго велела: «Ты, Олежек, говори правду и только правду». А капитану ответила, что ее сын с детства не лгал, и если он говорит — был нож, значит, он был на самом деле. Потом подошел к нему отец. Взял за подбородок, приподнял голову и горестно обронил всего несколько слов: «Я верю тебе, сын, что ты защищался. Верю». И, поддерживая мать, ушел. Олег не заметил, как докурил еще одну сигарету, сообразил, что мечется по камере, поднял крышку параши, бросил окурок, закурил новую сигарету и опять лег. Конечно, если бы накануне не подвернулся Степка Крючков, наверно, ничего и не случилось бы. Надо же — нализался и свалился на центральной улице. Не мог же Олег оставить его там, чтобы этого дурака уволокли в вытрезвитель! Он вспомнил, как тащил Степана домой, а потом выяснилось, что у того была причина напиться: ушла жена и оставила Степану годовалую дочку. Откуда только берутся такие женщины? Ну, ушла к другому, бывает. А вот чтобы бросить крохотного ребенка, нужно быть законченной негодяйкой. Когда друг чуть-чуть отрезвел и начал изливать свое горе, девочка проснулась, заплакала. Он, Олег, накормил ее, благо в холодильнике оказалось молоко, и долго утешал обоих. Степан заснул, а ребенок все еще не мог успокоиться. Олег никак не решался уйти, не знал, как оставить ребенка с храпевшим на всю квартиру отцом. На следующий день он опять пришел к Степану. Нет, сначала заходил с ребятами в общежитие, в кинотеатр, а часов в десять вечера, сказав Зине, что ему нужно побывать у одного знакомого, отправился к Степану. На этот раз Степан был трезвый как стеклышко. Олечка спала, и они долго проговорили. Говорил в основном Степан. Жаловался на жизнь. Ругал жену. Сказал, что взял отпуск за свой счет, отвезет дочку к тетке в деревню и будет просить ее переехать к нему. Говорил, что тетка у него хорошая, живет одна и, может быть, ему удастся перетащить ее к себе в город. Тогда Олег еще говорил Степану, что может вернуться жена, может, она одумается, а тот достал записку и дал ему прочесть. Гадкая записка, бессовестная. Олег оставил приятелю пятьдесят рублей, так как, уезжая, она забрала деньги, все до копейки. Посидел еще немного и заторопился — было уже половина двенадцатого. Что произошло потом, Олег отлично помнил, помнил отчетливо до мелочей. Он вышел из подъезда. Было поздно, накрапывал теплый дождь. На скамейках и в беседках никого не было. Олег пересек двор и, когда подходил к высокой арке с воротами, услышал сзади быстрые шаги. Он оглянулся и в ярком освещении люминесцентных ламп увидел приближающегося мужчину. Он сразу узнал парикмахера. Тот шел шатаясь, видно, был пьян. Откуда оп появился, Олег не заметил. У них был очень короткий разговор. — Лавров, подожди! Есть дело! — издали крикнул Сергей. Олег удивился, так как никаких дел с парикмахером не имел. Ему не захотелось разговаривать с пьяным, и он посоветовал; — Пойди проспись, Сергей! Отложим все твои дела до завтра! — повернулся и пошел в глубину арки. Он слышал, как Славин, выругавшись, бросился за ним и крикнул: — У тебя не будет завтра! Я тебя кончу сегодня! Олег не испугался, он скорее удивился наглости, в общем-то, всегда вежливого и тихого парикмахера. Остановился и повернулся к нему лицом. Сергей оказался от него в трех шагах. Под самым электрическим фонарем, укрепленным в центре свода арки, Олег увидел, как Славин выхватил из внутреннего кармана пиджака большой охотничий нож и замахнулся. Под аркой было очень светло, и Олег отчетливо рассмотрел в глазах парикмахера отчаянную решимость. Все остальное произошло почти мгновенно. Олег сблокировал вооруженную ножом руку парикмахера. Тот взвыл, пытался вырваться, и Олег сделал этот злополучный бросок. Когда парикмахер уже лежал, а нож, звякнув о брусчатку, откатился в сторону, Олег ждал нового нападения, но вдруг изо рта Славина поползла струйка крови. Лавров, все еще не веря в случившееся, бросился к нападавшему, приподнял его, попытался отыскать пульс, потом выскочил на улицу и, увидев пожилых женщину и мужчину, подбежал к ним, стал просить побыть с человеком, которому плохо, пока он вызовет «скорую помощь». Они согласились и пошли к арке. Олег увидел еще прохожих, видел, как в глубине двора мелькнул чей-то силуэт. Сам он опрометью бросился к телефону. «Скорая» приехала очень быстро, но под аркой еще быстрее собрались люди. Олег ждал, что скажет врач, нагнувшийся с фонендоскопом к Славину. Но тот ничего не сказал, а только, выпрямившись, развел руками, коротко бросил: «Убийство», — и приказал шоферу своей машины вызвать по радиотелефону следователя и милицию. Тут Олег как-то сразу обессилел и, пошатываясь, побрел, преследуемый словами врача: «Убийство, убийство, убийство». Он пришел в городской отдел милиции. И вот с той злополучной ночи, почти неделю, никак не может понять, что же произошло там, под аркой. Не знает он, куда делся нож, выпавший из руки парикмахера. Олег запомнил его отчетливо: широкое лезвие и ручка белая, скорее всего из пластмассы.* * *
Дорохов и Киселев вышли из городского отдела на широкую, просторную улицу, вдоль которой выстроились высокие многоэтажные дома. Дневная жара спала, и от политого асфальта шла приятная свежесть. Вдоль тротуара росли липы; они были еще низенькими, не то что в Москве на улице Горького, но их веселые зеленые шапки уже давали прохожим прохладу. Дорохов, высокий, подтянутый, в рубашке с расстегнутым воротником, в искрящихся дакроновых брюках и в мягких светлых туфлях, походил скорее на тренера спортивной команды. Шел он быстро и свободно. Рядом с ним Киселев в темном пиджаке изнывал от жары. Он надевал темный костюм редко, по торжественным дням, и сегодня не хотел выглядеть провинциально перед столичным начальством, а теперь мучился от неуместного парада. Обоим им было за пятьдесят, но подтянутый Дорохов выглядел намного моложе располневшего капитана. Киселев шел и рассказывал. Он говорил, что их город был захолустным, но со строительством завода расцвел. — Когда-то здесь, — Киселев обвел рукой окружающие дома, — были пустыри, бараки и мусорная свалка. — Показал на здание кинотеатра, возвышающееся над зеленью сквера: — Построили в этом году. — На фасаде красивого здания была дата: «1970 год». А раньше там был вещевой рынок, толкучка. Сюда съезжались со всех концов спекулянты и жулики. Преступлений было много, значительно больше, чем сейчас. Дорохов слушал, внимательно рассматривая дома и улицу, и думал. «Действительно, за последнее время преступность изменилась». Ему часто приходится разъезжать по стране, бывать то в одном городе, то в другом. Иной раз даже незнаешь, куда попадешь на следующий день. Вот и вчера он уж никак не предполагал, что сегодня ему придется разгуливать по этим местам. Прав капитан: преступность, конечно, изменилась и преступники тоже. Редко, совсем редко он встречает теперь рецидивистов — преступников с прежней профессиональной закалкой. Исчезли вообще многие виды преступлений. Не стало банд, нет налетчиков. Реже стали совершаться дерзкие преступления. Но какое дело до этого людям? Они не хотят ни хулиганства, ни краж, тем более убийств. И им нет дела до того, что было раньше. Все считают, что сейчас надо жить спокойно. И из-за того, что преступность стала действительно мельчать, нельзя успокаиваться и делать выводы, что борьба с ней должна ослабнуть, стать менее острой. Задумавшись, Дорохов не заметил, как они пересекли длинный и широкий сквер, и подошли к большой и просторной беседке, почему-то выстроенной в самом конце сквера, Киселев дотронулся до руки полковника, чуть придержал его: — Вот смотрите, Александр Дмитриевич, здесь, где сейчас сквер, стояли сараи, на месте беседки была голубятня, большая, в несколько отсеков и этажей. Принадлежала она троим дружкам-хозяевам. Их голуби славились далеко за пределами города. К нам приезжали голубятники из разных мест. И здесь же собиралось жулье. Вечно пьянки, драки, поножовщина. Больше десяти лет, как нет этой голубятни. Да и сами голубятники куда-то убрались, а традиции остались. Теперь в этой беседке клуб местных хулиганов. Что тут только не делали — и разгоняли, и дружинников здесь целую группу держат, — но продолжают собираться, по вечерам концерты закатывают такие, что только держись: две-три гитары, аккордеон, и поют. — Может быть, и нет в этом ничего дурного, что собираются и поют. — Если бы только пели! Пьют, в карты играют, дерутся. — Это плохо. Поближе бы с ними нужно познакомиться… Киселев усмехнулся: — Борис Васильевич, наш начальник уголовного розыска, и Козленков их всех наперечет знают, да толку-то мало… Они вышли из сквера и подошли к маленьким разнокалиберным домикам-гаражам. Киселев сыронизировал: — Автопарк собственников. Частых машин у нас много. На заводе заработки хорошие, ну, вот и отвел райисполком это место частным владельцам, тут у них свои сторожа, свои порядки. За гаражами открылась новая улица. Три больших дома вплотную примкнули друг к другу, как бы образуя букву «П». Киселев подвел Дорохова к арке в середине крайнего дома и остановился: — Вот здесь, Александр Дмитриевич, все произошло. Дорохов осмотрелся. Большая, высокая арка тоннелем проходила сквозь дом и открывала вид на двор, утопающий в зелени. Киселев указал на противоположный дом: — Видите вот тот средний подъезд? Там живет Крючков, оттуда и вышел Лавров. Вот здесь посередине, прямо под электрической лампочкой, что под сводом, мы обнаружили труп Славина. Дорохов долго простоял под аркой, что-то обдумывая, походил по двору, рассмотрел подвешенные люминесцентные лампы и решил: «Побываю здесь еще раз вечером, когда будет темно. Другая картина будет». Обратившись к Киселеву, спросил: — А почему вы до сих пор не допросили Крючкова? — Уехал он, Александр Дмитриевич. От него ушла жена, оставила ему ребенка, и он повез дочку к родственникам в деревню, а куда, неизвестно. Взял на десять дней отпуск и уехал. — Может быть, этот Крючков что-нибудь знает? — Может быть. — Киселев нехотя добавил: — Судился он за хулиганство, да и со Славиным частенько его встречали. — Нужно его искать, — решил Дорохов. — Найдем, — согласился Киселев. Они походили еще по двору и направились в городской отдел. Полковник спросил у Киселева: — Где тут у вас заводская дружина? — Штаб во Дворце культуры, у них там специальная комната есть. — Далеко? — Да нет, будем проходить мимо. — Давайте заглянем! — предложил Дорохов. Капитан замялся. Видно, ему не очень хотелось идти к дружинникам, и он, взглянув на часы, попросил: — Может быть, в другой раз? Скоро восемь часов, а мне сегодня проверять постовых милиционеров. — Тогда идите, — согласился Дорохов, — я один зайду. Дворец культуры, как и все здания вокруг, был новым. Дорохов обошел парадный вход, где крикливые афиши сообщали о танцах под радиолу и что входной билет стоит полтинник, а длинноволосая девушка с огромного щита казалась Евой, которой хочется спать. Полковник, познакомившись с репертуаром, вздохнул, покачал головой и направился к менее респектабельному входу, с надписью, выполненной на окантованном стекле: «Штаб народной дружины завода». В просторной комнате по стенам были расставлены рядами стулья. Буквой «Т» стояли два стола — один обыкновенный письменный, а другой длинный, почти во всю комнату. За маленьким столом сидел мужчина лет двадцати пяти-двадцати восьми. Он довольно сердито что-то говорил обступившим его дружинникам. Их было много — человек двадцать или больше. Среди собравшихся мелькали девичьи лица. Дорохов сразу понял, что разговор был острый. Скорее, это даже не разговор, а общий спор. Этим спором все настолько увлеклись, что никто и не заметил его появления. Остановившись в стороне, Александр Дмитриевич прислушался. Бойкий паренек лет девятнадцати стоял вплотную у письменного стола и, обращаясь к сидящему, говорил:. — Нет, ты посуди сам. Я вчера им говорю — нужно соблюдать порядок, а они мне в ответ: «Пошел ты… Сами сначала научитесь этому порядку!» Я предлагаю идти в штаб, а один из них, наглая такая морда, спрашивает: «А если я не пойду, что, бить будешь?» — Подожди, Звягин, — отстранил говорившего здоровенный парень. Он был постарше первого года на три-четыре и казался самым высоким среди собравшихся. Его серый пиджак, наверное 56-го размера, настолько облегал плечи и спину, что казалось, стоит парню сделать резкое движение — и все швы немедленно разойдутся. «Ну и парень! — подумал Дорохов. — Копия чемпиона страны по штанге Василия Алексеева». В это время «чемпион» начал говорить гневно и с жаром: — Нужно что-то придумать, Рогов! С того дня, как все это случилось, шпана просто распоясалась. На что уж меня все слушались, а сегодня в обеденный перерыв подходят в столовке два пьянчуги из тех, кто крутятся возле беседки, и так нахально спрашивают: «Допрыгались, дружиннички? Вас еще не разогнали? Зря! А то вы хуже бандитов стали». — Ну, и что же ты им, Кудрявцев, ответил? — спросил Рогов. — А я им сказал — пусть не надеются: дружина как была, так и будет и все равно мы ихнюю компанию разгоним, а если нужно будет, то и беседку разберем. — Зачем же разбирать беседку? Пусть стоит, — медленно проговорил Рогов. К Рогову обратился другой дружинник, постарше остальных, и попросил: — Разреши, Женя, мне несколько слов? — Давай, Карпов, говори, — согласился Рогов. — Правильно сказал тут Кудрявцев: дружина была и будет. Но нам нужно что-то срочно предпринять. Тебе бы, Евгений, в городском штабе посоветоваться. Может, в комитет партии сходить. Наша дружина вот уже какой год первенство в городе по общественному порядку держит, а тут такой случай. Я считаю, что ослаблять работу мы не имеем права. — Да! Как же дальше? — протиснулась к столу худенькая, невысокого роста девушка. — Нет, ты скажи, Женя, — наступала она на Рогова, — как нам быть дальше? Позавчера вечером иду через сквер мимо беседки, там человек десять ребят. Двое с гитарами, все пьют водку и орут песни. Увидели меня и кричат: «Зинуха, заходи, выпей с нами за упокой души Сереги-парикмахера, а заодно и за упокой своего приятеля — его ведь все равно расстреляют!». А потом спрашивают: «Правда, что скоро дружину разгонят?» Кто-то из собравшихся предложил всем вместе взяться и всыпать хулиганам по первое число. Кто-то сказал, что сейчас следует посылать в обход дружинников не как обычно — парами, а направлять пятерки. Девушка с повязкой на левой руке, стоявшая в стороне и не участвовавшая в разговоре, сказала, что Лида Ермилина и Жора Старков из ее группы решили уйти из дружины. Рогов встал, призвал всех к порядку: — Ты, Павлова, не горюй. Пусть уходят Старков и Ермилика, пусть и другие, кто испугался, бегут из дружины, держать не будем. Был я сегодня в городском комитете партии, был и в штабе города, там сказали, что коллектив завода доверил нам охрану общественного порядка в нашем микрорайоне и никто нас этого доверия не лишал. Рогов хотел добавить что-то еще, но заметил Дорохова, насторожился, решил, что при постороннем и так было слишком много сказано, и с недовольством спросил: — Что вам, товарищ? — Вы начальник штаба? — в свою очередь поинтересовался Дорохов. — Да. — Тогда я к вам. — Может быть, зайдете в другой раз? У вас что-нибудь срочное? Полковник, порывшись в своем бумажнике, достал вчетверо сложенный листок и протянул его Рогову. Начальник штаба взял этот лист, развернул, и, по мере того как он читал, лицо его менялось. Разгладились хмурые складки на лбу, он быстро вышел из-за стола, подошел к Дорохову. Тот протянул ему удостоверение личности, Евгений бегло взглянул, отстранил его — ладно, мол, и так вам доверяю, — сильно пожал руку полковнику и повернулся к дружинникам: — Ребята, товарищи! Из Москвы прислали полковника милиции Дорохова, специально разобраться с делом Олега. Дружинники еще плотнее обступили Рогова и Дорохова и молча, выжидающе рассматривали приезжего. Зина Мальцева сначала хотела протиснуться к Дорохову, но потом заметила оставленный начальником дружины на столе документ и стала читать. Это была телеграмма. Она начиналась так: «Москва — начальнику Уголовного розыска Советского Союза. Лучший дружинник-комсомолец Лавров, защищаясь, убил нападавшего. Его арестовали, ему не верят. Просим затребовать дело, объективно разобраться. Секретарь комитета комсомола завода — Зверев. Начальник штаба дружины — Рогов». На бланке в верхнем левом углу была резолюция: «Дорохову А.Д. Немедленно вылетайте. Изучите все на месте. Исполнение доложите». Зина решительно растолкала ребят, окруживших Дорохова, подошла к нему, как-то непосредственно, по-детски доверчиво взяла его за руку и, просветлев от радостной надежды, спросила: — Олега освободят? Дорохов понял, что ему нельзя больше молчать, и предложил: — Давайте поговорим, только не все сразу. Несколько слов скажу я, а потом вы, но по очереди. В комнате воцарился порядок. Дорохов коротко рассказал, что ознакомился с делом, разговаривал с Олегом, был на месте происшествия, но сделать выводы еще не может и не знает, можно ли верить Лаврову. Заговорили сразу несколько человек, но их остановил Рогов: — Лаврова мы знаем давно. Многие вместе учились с ним в школе. Вместе работаем на заводе. Занимаемся спортом, ходим в институт. Вот уже, три года в одной дружине. Лаврову мы верим. Если он говорит, что у парикмахера был нож, значит, нож был на самом деле. — Тогда у меня просьба. — Дорохов встал, окинул взглядом внимательно слушающих дружинников и продолжал: — Помогите отыскать этот самый нож. Если у вас, товарищ Рогов, найдется свободных тридцать — сорок минут, то проводите меня, пожалуйста. Рогов подозвал к себе своего заместителя, Алексея Карпова, передал ему график, еще какие-то записки, вернул Дорохову телеграмму. Когда полковник прощался с ребятами, к нему подошел худощавый молодой человек, такого же возраста, как и Рогов или Карпов. Только, в отличие от дружинников, он не принимал участия в общем споре, не бросился, как все остальные, к Дорохову. Он терпеливо выжидал и теперь доложил: — Товарищ полковник! Я инспектор уголовного розыска городского отдела лейтенант Козленков. Прикреплен к заводской дружине, а сейчас работаю по делу Лаврова. Слышал о вашем приезде, но представиться вам не успел. — Отлично. — Дорохов пожал руку инспектору и предложил: — Пойдемте вместе с нами, нужно поговорить. Когда они выходили из комнаты, Дорохова остановил чей-то напряженный, ищущий взгляд. Обернувшись, он увидел ту самую худенькую девушку, что обращалась к нему. — Вас, кажется, зовут Зина? — Да, Зина Мальцева. — Вот что, Зина, когда вы завтра освободитесь? — Я в отпуске. — Девушка на миг замялась. — Часов в двенадцать буду свободна. — Ну и прекрасно! Как освободитесь, приходите ко мне в городской отдел.* * *
Прежде чем разойтись на свои посты, дружинники еще долго обсуждали приезд Дорохова. Больше всего усердствовал Звягин. — Я как глянул на полковника, сразу догадался, что он из уголовного розыска. Стоит такой тихий, незаметный, как будто до нас ему и дела нет. — Заливаешь ты, Петька, ничуть он и не похож на работника уголовного розыска, — перебил Звягина Кудрявцев. — Когда Рогов сказал, что он полковник из Москвы, ты аж рот раскрыл, а сейчас заправляешь. Я, например, посмотрел на него и решил, что это тренер из центра — из сборной команды. — Ну, думаю, за мной. Будет приглашать в спортивную школу. Есть у них такая в Москве. — Нет, вы послушайте! Я его первая заметила, — медленно говорила Светлана Павлова. — Вы все столпились возле Жени, а он вошел, осмотрелся, стал в стороне и молчит. А сам с интересом слушает, о чем вы галдеж подняли. А я подумала, что только нам и не хватало сейчас журналиста.* * *
Дорохов и его спутники пришли к дому, находящемуся рядом с кинотеатром. Коз ленков спросил: — Может, вам, товарищ полковник, лучше без меня зайти к Лавровым? Думается, что мы с Киселевым им не очень приятны, а я вас тут подожду. Дорохов согласился. Они вдвоем с Роговым поднялись на лифте на пятый этаж и остановились у двери, обитой черным дерматином, с маленькой медной табличкой «Лавровы». Рогов позвонил и, услышав негромкий женский голос за дверью, попросил: — Калерия Викторовна, это я, Рогов. Можно к вам на минутку? Дверь открыла стройная женщина, возраст которой было трудно определить. При виде Рогова и незнакомого мужчины она непроизвольно запахнула ворот домашнего халата. — Есть что-нибудь новое? — Голос женщины дрогнул. — Вот полковник из Москвы хочет с вами побеседовать, — сказал Рогов. — Коля, к нам Рогов с товарищем, прими, — обронила она кому-то в глубину квартиры, а сама быстро скрылась за одной из дверей. В прихожую вышел высокий, худой мужчина. Поздоровался с Роговым, лаконично представился Дорохову: «Лавров», — и провел их в просторную комнату. Подошел к письменному столу, заваленному бумагами, и остановился, словно не зная, занимать ли ему гостей или продолжать работать. Молчание явно затягивалось, но в это время появилась хозяйка. Она успела переодеться. На ней было строгое темно-серое платье. Губы чуть-чуть тронуты помадой. Эта перемена не ускользнула от взгляда Дорохова. «Сын в тюрьме, а она думает, как моложе выглядеть!» — про себя рассердился Дорохов. А потом ему пришел на память эпизод, вычитанный из какой-то книги; он пытался вспомнить, что это за книга, но ему не удавалось. А речь в этом эпизоде шла о том, что в ленинградскую блокаду женщины в одном учреждении следили за тем, чтобы их сослуживицы не забывали, что они женщины. Считалось плохим симптомом, если женщина или девушка переставала заботиться о своей внешности. К такой очень скоро приходила смерть. Лаврова непринужденно протянула руку. «Какое хорошее лицо!.. — подумал Дорохов. — А сын очень похож на мать. Все-таки напрасно отрицают физиономистику. Правда, по теории Ламброзо у преступника должны быть маленький лоб, квадратный подбородок и выступающие челюсти — и все это по наследству. Неверно это, хотя если человек стал негодяем, то чаще всего это ставит печать и на его лицо. Редко встречались мне подлецы с ангельскими ликами. Любое правильное, красивое лицо может исказить выражение злобы, ненависти, вульгарности, тупости». Дорохов дал прочесть Лавровым телеграмму, которую показывал Рогову, и рассказал о цели своего приезда. — Так вы хотите найти истину… — несколько иронично произнесла Лаврова. — А вот местные товарищи считают, что она у них в кармане! — В ее глазах вспыхнули искорки гнева. Чтобы как-то разрядить атмосферу, Дорохов встал и подошел к одной из висящих на стене картин. Эту манеру письма он знал. На полотне маслом под старый гобелен было изображено сказочное царство. «Но нет, — подумал Дорохов, — этого художника не может быть в частной коллекции». Он взглянул на Лаврову, наблюдавшую за ним, и протянул: — Очень похоже на Борисова-Мусатова. — Это и есть Борисов-Мусатов. Мое наследство от бабушки. — И она назвала фамилию известной актрисы прошлого века. Дорохов по-новому взглянул на остальные картины. Те, что он принял за талантливые копии, вполне могли быть настоящими шедеврами. Вот то, например, полотно, где конек-горбунок бьет копытом и пышет жаром, поджидая Иванушку, наверное, Васнецов. Калерия Викторовна, перехватив взгляд Дорохова, подсказала: — Это Аполлинарий Васнецов. Дорохов помнил роспись Владимирского собора в Киеве, где как-то он провел немало времени. Любовался древней живописью и думал… ломал голову над загадкой, подсунутой ему очередной командировкой. Выждав, пока женщина успокоилась, Дорохов попросил: — Расскажите мне об Олеге. Как он рос, чем увлекался. В общем, какой он? — Олег у нас самый младший, — тихо начала Калерия Викторовна. — В детстве был болезненным, да к тому же еще у него плохо со зрением — сильная близорукость. Александр Дмитриевич вспомнил прищуренные глаза парня, когда его привели на допрос. Он тогда решил, что Лавров позирует, а оказывается, все гораздо проще — он плохо видит. Не вытерпев, осторожно спросил: — А он постоянно носит очки? — Постоянно, — вздохнула женщина. — У него минус четыре. Из-за этого все и пошло. Очки он надел еще во втором классе, а дети в таком возрасте довольно жестоки. «Очкарик да очкарик». А мальчишка был самолюбивым. Вот тут у него появилось желание стать сильным. С тринадцати лет начал заниматься самбо. Два года его не принимали в секцию. Ну, потом уступили его упорству, да и муж помог. Дорохов внимательно слушал и мысленно возвращался на место происшествия. Он старался решить новую задачу. Если Олег плохо видит, то мог ли он рассмотреть в темноте нож? А с другой стороны, при плохом зрении он мог что-то похожее принять за нож. Не тут ли разгадка? Калерия Викторовна рассказывала, с каким упорством сын «вырабатывал характер». — Терпеть не мог домашнюю работу — «ни уму ни сердцу», по его словам, — а делал. Женщина поняла, что увлеклась подробностями, но уже не могла остановиться. Дорохов понимал ее. Мать! Она говорила о друзьях сына и о недавно возникшей привязанности. Рассказала, что Олег дружит с Зиной, да, да, с Зиной Мальцевой, что они с мужем, заметив эту дружбу, посоветовали сыну приглашать девушку к себе домой. Зина у них бывает часто. Наверное, уже скоро год. А когда случилось это несчастье, она взяла отпуск и все дни сидела у них дома. Хорошая девушка: добрая, ласковая и отзывчивая. Лавров встал, подошел к жене: — Лера, может быть, мы предложим нашим гостям чай? Калерия Викторовна мгновенно поднялась, хотела уйти, но Дорохов ее остановил и вежливо отговорил: — Уже скоро одиннадцать, а мне через полчаса нужно быть в одном месте. Кроме того, хотелось бы еще поговорить. Скажите, Калерия Викторовна, а какой у Олега характер — мягкий, уравновешенный, вспыльчивый? Рогов, молча присутствовавший при разговоре, хотел что-то сказать в защиту Олега, но, видно, решил, что ему просто не стоит вмешиваться в беседу. Калерия Викторовна ответила: — Трудно определить человека вот так однозначно. Какой он? Добрый? Да, когда нужно быть добрым, он не без разбора, не слюнтяй. Честный? Я уверена, что да. Я знаю, вы подумаете, какая мать скажет иначе. — Он действительно никогда нам не лгал, — подтвердил Николай Федорович и помолчав, добавил: — Он мог бы соврать только в одном случае — если бы эта ложь кому-то очень понадобилась. Ну, скажем, если бы решил спасти друга. Но и тогда Олег просто сказал бы, что это сделал он. Была однажды в школе у него такая история… — У меня еще вопрос. Часто ли Олег возвращался домой поздно? И всегда ли трезвым? — Олег не пьет. Совсем не пьет. И его товарищи это знают, привыкли и даже не обижаются. Ему один окулист сказал, что зрение сильно ухудшится от алкоголя, и он не пьет. Потом, самбо, спорт тоже не любят пьяниц. Курить и то начал в прошлом году. — Понятно… — протянул Дорохов. — Сами понимаете, что сказать вам что-либо о деле я просто еще не в состоянии, но истину мы все-таки отыщем, — улыбнулся он Лавровым. — Вы мне обязательно позвоните. — Вспомнив, что он еще не знает номера телефона своего нового кабинета, извиняющимся тоном закончил: — Дежурный по районному отделу вам скажет номер. Я его еще пока не знаю. Или лучше я позвоню вам сам. У меня к вам просьба: позвольте взглянуть на комнату Олега. Дорохов знал, что мир вещей иногда может рассказать о своем хозяине куда больше, чем люди. Поэтому, прежде чем уйти из квартиры Лавровых, ему захотелось взглянуть на комнату Олега. Узкая, длинная комната заканчивалась окном и примыкающей к нему балконной дверью. Она просвечивалась вся насквозь и казалась почти пустой. Здесь не было картин, дорогих портьер, только небольшая тахта, письменный стол и книжные полки по стенам. Рядом с дверью — секция шведской стенки, за ней — на деревянной платформе боксерская груша, под ней — на полу несколько пар гантелей разного веса, от маленьких, пятисотграммовых, до больших, не меньше чем семь-восемь килограммов каждая. На письменном столе — несколько общих тетрадей, технический справочник, две авторучки. Казалось, что хозяин комнаты вот только что на минуту вышел, вернется и снова сядет за свои конспекты. Дорохов подошел к письменному столу, взглянул на книжки, расставленные на двух полках. Бросились в глаза белые буквы па синем переплете: «Философия», рядом — учебник по сопротивлению материалов, английский словарь. На отдельной полке выстроились книги по спорту. Здесь был довольно редкий, давно не переиздававшийся учебник по дзю-до Ознобишина, вышедший в тридцатых годах. Тот самый, по которому когда-то тренировался и он, Дорохов. Был толстенный, в несколько сот страниц, современный учебник по самбо с боевым разделом, который преподавался в десантных войсках да еще в нескольких службах, в том числе и в уголовном розыске. Были книжки по боксу, гимнастике и даже по стендовой стрельбе. Рассматривая корешки книг, Александр Дмитриевич вспомнил, что кто-то рассказывал, что существует метод оценки популярности библиотек. Берут сильно зачитанные книги и в процентном отношении относят к общему количеству. Спортивные книжки Олега свидетельствовали, что ими пользуются очень часто. Дорохов попытался отыскать художественную литературу, но так и не увидел ни одной книжки, которая могла бы рассказать об увлечениях Олега. Калерия Викторовна, наблюдавшая за Дороховым, пришла ему на помощь: — Здесь у Олега только учебники и по спорту. Вся наша библиотека в коридоре, на полках. Он много читал, но говорил, что хорошая книга на его полке мешает ему заниматься, отвлекает. «Серьезный парень», — подумал Дорохов об Олеге, выходя из квартиры Лавровых.* * *
Возле дома к Дорохову и Рогову присоединился Козленков. Видно, он хотел спросить, как прошел разговор, но ждал, что скажет полковник. «Молодец, — подумал Дорохов, — с выдержкой». На улице почти не осталось прохожих. Изредка встречались пары. Пробегали почти пустые троллейбусы, мелькали легковые машины. Город засыпал. — Обратили внимание, Александр Дмитриевич, что сам Лавров немного прихрамывает? — спросил Рогов. — Да, заметил, — ответил полковник. — У Николая Федоровича нет левой ступни. Ранили его под Берлином за несколько дней до конца войны. Хороший человек. И она славная. В прошлом году ей заслуженного врача РСФСР присвоили. Тяжко им, тяжко, потому что уж очень верят сыну. — Да, верят, — протянул Дорохов. — Слушайте, Женя, я отнял у вас целый вечер. Может быть, вы торопитесь? Тогда мы вдвоем с Козленковым справимся. Мне хотелось побывать на месте происшествия в то же время, как тогда, когда все это произошло. Понадобится еще час. Мы с Козленковым на службе, а вот вы — другое дело. — Да что вы! — обиделся Рогов. — Может быть, я лишний? — Тогда пойдемте, — улыбнулся Дорохов. Втроем они направились к дому, где был убит Славин. Козленков и Рогов вели полковника проходными дворами, и они быстро пришли к нужной арке. Александр Дмитриевич взглянул на часы. Стрелки показывали двадцать три часа тридцать минут. Всего несколько минут оставалось до того времени, когда здесь разыгралась трагедия. Под аркой горел сильный электрический фонарь, во дворе на столбах горели люминесцентные лампы. Они хорошо освещали всю территорию. Дорохов припомнил, что в тот вечер шел дождь, а сегодня его не было. Рогов и Дорохов прошлись по двору, спугнули в беседке парочку, подошли к подъезду, где жил Степан Крючков, а потом направились под арку. Дорохов внимательно осматривал все кругом, точно что-то отыскивал. Попросил Козленкова снова вернуться к подъезду, немного постоять, потом идти к Рогову, а Рогова послал к арке. Сам отстал, вошел в беседку, потом остановился возле клумбы. Зачем-то пробрался в кусты жасмина, росшие в центре двора, подождал, пока Козленков приблизился к Рогову, и сам, крадучись, прямо по цветнику направился к ним. Под аркой он спросил Рогова, видел ли тот, где шел он, Дорохов. Начальник дружины не понял, чего хочет от него полковник, и извиняющимся тоном ответил, что наблюдал за Козленковым, а его не заметил. Дорохов еще раз зачем-то вернулся к центру двора, что-то пытался отыскать на земле, но потом, безнадежно махнув рукой, возвратился к своим спутникам. Нужно сказать, что у Александра Дмитриевича была своя особенность, свой пунктик. Начиная работать по какому-то новому делу, он обычно по нескольку раз бывал на месте, где совершалось преступление. Сообразуясь с обстановкой, всякий раз пытался мысленно воспроизвести картину случившегося. Понять и разобраться в действиях человека, решившего совершить преступление, а потом представить все его дальнейшие поступки, может быть даже перевоплотиться в него. На месте всегда лучше думалось. Вот и сейчас он пытался найти на месте то, что днем не заметил. Искал, ничего не находил, но кое-какие предположения у него появились. Обратно возвращались молча. Шли через сквер. Подошли к опустевшей беседке, той самой, в которой, по словам Киселева, собирались хулиганы. Остановились. Александр Дмитриевич, словно почувствовав невысказанную просьбу Рогова, предложил: — Посидим, покурим и поговорим. Рогов еще там, в штабе, когда его позвал с собой Дорохов, ждал этого разговора, потом он даже подумал, что полковник хочет уклониться от него. — Надо поговорить, Александр Дмитриевич. Они вошли в просторную шестигранную беседку с большим, видно самодельным, столом посредине. Первое, что бросилось в глаза, — чисто выметенный пол. Ни окурков, ни пыли. Рогов заметил это и улыбнулся: — У них тут свой порядок. Где-то в кустах прячут веник, ведро, тряпку и обязательно стаканы, а то и закуску. Когда расходятся, по очереди, конечно не из тех, кто верховодят, убирают. Вот загляните в ближайшую урну и там найдете пяток пробок, консервные банки. Александр Дмитриевич предложил Рогову и Козленкову сигареты, уселся на скамью, закурил и вдруг спросил: — А этот самый Славин бывал здесь? — Бывал. Здесь многие бывают, — сразу же ответил Козленков. — Соберутся выпить — и сюда. Беседка у них называется «подожди немного». — Оригинально! Как у Луи Буссенара, — усмехнулся Александр Дмитриевич. — Только там так называются небольшие рощи. Раньше я этим капитаном «Сорвиголова» зачитывался. Да и теперь еще нет-нет да загляну. Ну так вот, дорогие мои коллеги, о Лаврове. Все, что есть в уголовном деле, удивительно четко работает против вашего Олега. Вот посудите. Лавров говорит, что парикмахер был пьян. По заключению биологической экспертизы в организме Славина алкоголь полностью отсутствует. Лавров говорит, что был пьян, а его никто не видел. Есть и третье, не менее важное обстоятельство. Дружинник говорит, что Славин хотел его убить, но за что, не знает. И никто этого не знает. — Так вы, Александр Дмитриевич, Олегу не верите? — не выдержал Рогов. — Подожди! — поморщился Дорохов. — При чем тут верю или не верю? Я говорю о фактах, имеющихся в деле. Так вот, все эти факты свидетельствуют против Лаврова. Криминалисты, следователь, прокурор, наконец, суд в первую очередь рассматривают факты. — Так что же делать? — Набраться терпения и искать эти факты. Кстати, у меня тоже есть кое-какие сомнения, — медленно проговорил Дорохов. — Какие именно? — Понимаете, товарищи, Лавров, как говорят юристы, мог добросовестно заблуждаться. Показалось ему, что у Славина был нож. Это могло случиться, все-таки там недостаточное освещение, а у него плохое зрение. — Если считать, что нож Лаврову привиделся, то как же со словами? — Рогов встал, прошелся по беседке и закончил: — Ведь парикмахер прямо сказал, что убьет Олега. На слух-то Олег не жалуется. — Вот что, Женя, хорошим слухом нам тут не отделаться. Сколько у тебя в дружине ребят? — Около трехсот. Из них актива больше сотни. Двадцать человек я выделил в помощь Николаю, — он кивнул в сторону Козленкова. — Тогда давайте сделаем так. Вы, товарищ Козленков, пригласите завтра вечером своих помощников в городской отдел — днем, надо полагать, они на работе? — Почти все работают, — ответил Рогов. — И вы, Женя, тоже приходите. Договорились? Тогда спокойной ночи. Прощаясь, Дорохов придержал руку Рогова: — Вы не обижайтесь, Женя, что я вас так по-свойски называю. Все-таки я по сравнению с вами старик. — Что вы, Александр Дмитриевич! Пока мы все обходимся без отчества. — Тогда отлично. — Дорохов взглянул на часы, было уже около часа ночи. — Ну что, по домам? Как говорится, утро вечера мудренее. — Вы, товарищ полковник, в гостиницу? — спросил Козленков. — Да. — Если позволите, я вас провожу, мне по пути, а вот Рогову в противоположную сторону. — Идемте. Они попрощались с Роговым и вдвоем медленно, не торопясь побрели по аллее. Шли молча. Дорохов присматривался к своему спутнику, а тот, видимо, ждал вопросов. Полковник хотел представить себе, что за человек этот инспектор. Он знал, что для работника уголовного розыска важна выдержка, а Козленкову в сдержанности не откажешь. То, что он сам решил не идти в квартиру Лавровых, не желая мешать беседе, Дорохову понравилось, и он расценил это как проявление такта. Нравилась еще и спортивная подтянутость Козленкова. — Что вы думаете о деле Лаврова? — неожиданно спросил полковник. Козленков приостановился, свел брови и, не задумываясь, ответил: — Верю Лаврову. Только никак не пойму, почему Сергей хотел его зарезать. Я Олега знаю чуть ли не с детства. Знаю и Сергея. Мы ведь с ним почти ровесники. Все мы тут друг друга знаем. Олег честный малый. Если бы было по-другому, то он так бы и рассказал, как было. Ему все верят. Верят в комитете комсомола и в дружине. — Считаете, что Лавров говорит правду? — Обязательно. — А почему Киселев думает иначе? — Киселев? — Козленков как-то замялся, стал говорить медленно, подбирая слова, словно не хотел обидеть старшего инспектора. — Знаете, наш Захар Яковлевич Киселев своеобразный человек и к молодежи относится по-своему. Он терпеть не может тех, кто носит длинные волосы. В его представлении все они балбесы и пижоны. Ходят с гитарами и поют — плохо. Носят расклёшенные брюки — еще хуже. Наш капитан каждый раз говорит, что в его время молодежь была не такая. Потом, прокурор сказал: «Давайте доказательства», мы стали искать их и не нашли. Киселев решил, что этих доказательств вообще нет. И еще одно обстоятельство. Захар Яковлевич постоянно имеет дело с законченными преступниками или негодяями, которые скрываются от собственных детей. Может быть, он потерял веру в человеческую порядочность? — Козленков задумался и с жаром предложил: — Вам бы, товарищ полковник, с Борисом Васильевичем поговорить, с нашим начальником уголовного розыска. Правда, он в больнице. — Афанасьев знает об убийстве Славина? — Знает. Это он мне велел с дружинниками искать нож и свидетелей. Сегодня я у него тоже был. Рассказал о вашем приезде. Он обрадовался. Дорохов и Козленков подошли к гостинице. Прощаясь, полковник попросил инспектора с утра быть в городском отделе. Ему явно понравился этот молодой человек.* * *
Дежурная гостиницы, пожилая женщина, передавая Дорохову ключ, сказала, что около десяти часов вечера ему звонил капитан Киселев. — Он что-нибудь просил передать? — поинтересовался полковник. — Нет, только спросил, возвратились вы или нет. — Женщина помедлила и предложила: — У нас в гостинице душ работает круглые сутки. А еще есть электрический чайник. Если хотите… — Спасибо. С удовольствием. Сначала душ, а потом чай. Кстати, у меня есть чем заварить. — Тогда я вскипячу. — Буду благодарен. После душа Александр Дмитриевич словно помолодел. В темно-синем тренировочном костюме он и впрямь казался лет на десять моложе. В своем номере он открыл окно и дверь, ведущую на балкон, и заглянул в чемодан. Обычно там всегда оказывалось что-то съедобное. Дома знали его манеру. Знали, что, взявшись за новое дело, он пропустит обед, ужин, и подсовывали всякую снедь. И на этот раз Александр Дмитриевич обнаружил два целлофановых пакета. В одном были сухая колбаса, кусок сыра, шпроты и сардины, в другом оказалось домашнее печенье, жестянка с чаем и конфеты. Александр Дмитриевич взял второй пакет, замкнул номер и спустился на первый этаж к дежурной. Женщина удивленно взглянула на сверток в руках Дорохова и сказала, что она Думала — полковник будет пить чай у себя в номере. Но Дорохов ответил, что здесь веселей и что чаевничать лучше всего вдвоем. Женщина быстро накрыла салфеткой маленький столик, поставила два стакана в подстаканниках, тарелку с аппетитным фаршированным перцем и несколько штук домашних пирожков и ушла в боковую дверь. Вскоре она вернулась с кипящим электрическим чайником. — Вскипел второй раз, — объяснила она. — Сами будете заваривать или я? — Сам, сам, — ответил Дорохов, доставая жестянку, и начал священнодействовать. Когда чай, темный, точно устоявшийся гречишный мед, был разлит по стаканам, полковник предложил: — Давайте знакомиться. Меня зовут Александр Дмитриевич. — Знаю, знаю, — перебила женщина. — Дорохов, полковник милиции, прибыл к нам из Москвы, срок командировки неизвестен. Заглянула в вашу карточку. Меня зовут Нина Николаевна. Я дежурный администратор. В этой гостинице уже лет двадцать. Начала работать еще в старой, тогда была вовсе и не гостиница, а Дом приезжих. Это когда завод перестроили, к нам командировочные валом покатили, ну вот лет восемь назад и выстроили эту. — Нина Николаевна отхлебнула чай, с удовольствием сделала еще глоток и предложила: — Берите мою стряпню, пожалуйста, не стесняйтесь. — Женщина помолчала. — Вы к нам по делу Лаврова? Дорохов положил себе на тарелку перец, взял пирожок, с удовольствием стал есть и слушать. Нина Николаевна продолжала: — Обоих я знаю. Сергей у нас тут в парикмахерской поначалу работал, года три, как перешел в салон. Ничего был парень. Раньше они с матерью в соседнем бараке жили. Знаю их давно. Очень уж убивается женщина. Вчера встретила в магазине. Идет вся в черном и сама черная. Мы с ней чуть не столкнулись, а она и не заметила. Жалко мне его. Погиб-то уж больно глупо. Что у них там с Олегом получилось, не знаю. Люди разное говорят… — Что же, Нина Николаевна, все-таки рассказывают? — Разное говорят. Вам-то лучше знать, что правда, а что болтовня. — Не успел я узнать-то. Только ведь приехал, сами знаете. — Ну, одни говорят, что Сергей хотел расправиться с дружинником, только вот за что, никто не знает, а кто-то болтал, будто видел, как Сергей следил за Лавровым. Дорохов насторожился, отставил стакан и хотел что-то спросить, но, видимо, решил дать Нине Николаевне высказаться и продолжал слушать с еще большим вниманием. — Другие ругают дружинников: мол, они распоясались, людям прохода давать не стали, нарочно убили парикмахера. Пристали к пьяному и били до тех пор, пока тот не скончался. Что здесь правда, что нет, не знаю. А Олег с моим внуком вместе учился, раньше часто бывал у нас. Парень он честный. В мать. Отца-то я мало знаю, а мать Олега, Калерия Викторовна, наш участковый врач. Она в нашей поликлинике с войны. Справедливая женщина. — Был я у них сегодня, — не вытерпел Дорохов. — Ну, и как она? — Горюет. — Ну еще бы!.. — Нина Николаевна, а кто рассказывал вам насчет того, что Сергей следил за дружинником? — Кто-то говорил, но кто, убейте, не помню. — Может быть, припомните? — Если припомню, скажу обязательно. Чайник опустел. Женщина стала собирать со стола. Дорохов поблагодарил ее, поднялся в номер, быстро разделся и улегся в прохладную постель.* * *
Наверно, во всем виноват был чай. Александр Дмитриевич изо всех сил старался заснуть. Ворочался, выбирал удобное положение. Пробовал про себя считать, досчитал до четырехсот и плюнул. Вспоминал стихи, но ни один рекомендованный способ не действовал. Чай? Чепуха, он десятки раз пил и более крепкий, но засыпал как убитый. Лавров не давал ему покоя. Вспоминались обрывки разговоров, лица. Но все это забивала какая-то навязчивая мысль. Какой-то вывод, которого он, Дорохов, еще не сделал. Что же его беспокоило, что? За окнами посветлело, на деревьях начался птичий разговор. Часы показывали без нескольких минут четыре. Решение пришло внезапно. Дорохов отбросил простыню и легкое пикейное одеяло, вскочил с постели. Пополоскал лицо над умывальником, подождал, пока стекла теплая вода, намочил полотенце и энергично докрасна растерся. Быстро оделся и вышел. Нина Николаевна, дремавшая за своей конторкой, удивленно поднялась, взглянула на часы и, открывая парадную дверь, не вытерпела, спросила: — Что это вам не спится? — Видно, уж слишком крепкий чай был. Поброжу немного и вернусь.* * *
Дорохов быстро пересек пустую улицу и прошел под ту самую арку, где был убит Славин. Не задерживаясь, вошел в сонный двор и, миновав беседку, направился к кустам жасмина. Он стал обходить их медленно, пробрался в самую гущу, где оказалась маленькая, свободная от веток площадка. Наверное, здесь не раз прятались местные мальчишки, играя в извечных казаков и разбойников. Александр Дмитриевич выпрямился. Верхние ветки кустов оказались довольно редкими. Они полностью закрывали его самого, а вместе с тем позволяли видеть весь двор: подъезд, где живет Крючков, и асфальтовый тротуар, тянувшийся вдоль домов. Он опустился на корточки и обнаружил, что и внизу голые, без листьев прутья не закрывают обзор. Увидел чахлую, редкую траву, пробившуюся у корневища. Трава была изрядно вытоптана, несколько молодых побегов жасмина сломано и засохло. Повыше на кустах также отыскались надломанные ветки. Жасмин уже отцвел, и на концах веток гроздьями висели семена. Сломать их мог только тот, кому они мешали. Другое дело — во время цветения: ветки жасмина могли соблазнить кого угодно. Ветки были сломаны на уровне его глаз, и Дорохов решил, что для мальчишек это высоковато. Придя к выводу, что в кустах кто-то прятался, полковник снова стал осматривать все вокруг. Нашел несколько окурков, размытых дождем и покрытых пылью, рассмотрел их и отбросил, так как за неделю они не могли приобрести такой древний вид. Отыскал старую, со сломанными зубами расческу, она, видно, тоже лежала здесь давно. Расширяя круг поиска, полковник выбрался из кустов и заметил круглый шарик скомканной бумаги. Он поднял его, развернул и прочел: «Холодок. Москва, фабрика имени Бабаева». Чуть в стороне оказалась еще одна такая же скомканная обертка. Он подержал бумажный комочек на ладони, хотел развернуть, но потом раздумал и снова забрался в центр кустов. Прикинув направление, в котором оказались конфетные обертки, был вынужден повернуться лицом к арке. Размахнувшись как можно сильнее, бросил комочек и проследил за его полетом. Снова отправился его искать. К величайшему удивлению Дорохова, на земле оказалась еще одна конфетная обертка, сжатая в тугой шарик. Бережно спрятав их в сигаретную коробку, полковник еще долго бродил вокруг. Но больше он ничего не нашел. Постояв несколько минут возле кустов, он напрямик отправился к арке. Теперь его интересовал один-единственный вопрос: были ли конфеты в карманах Славина? Он отчетливо помнил все, что записано в протокол: ключ, зажигалка, пачка «Беломорканала», в которой осталось четыре папиросы, любительские права на управление автомобилем и тридцать два рубля денег. Но те, кто составлял протокол осмотра, могли и не записать одну-единственную конфету, тем более половину или скатанную в такой же шарик обертку. Гостиница уже просыпалась. Возле дежурного администратора стояло несколько человек, оформлявших документы, и Дорохов проскользнул мимо Нины Николаевны незамеченным. У себя в номере полковник, быстро раздевшись, выключил репродуктор, который должен был вот-вот заговорить, и, улегшись в постель, мгновенно заснул.* * *
Второе утро в городском отделе для Дорохова началось с сюрприза. Только он достал из сейфа дело и стал читать протокол осмотра места происшествия, где описывалось содержимое карманов Славина, как вошел капитан Киселев. Сегодня он был в обычном для лета сером костюме и лимонного цвета тенниске. Поздоровавшись с Дороховым, с интересом взглянул на документы, которые тот штудировал, и, не скрывая удовольствия, вынул из папки несколько исписанных страниц и положил их на стол. — Бросьте вы, Александр Дмитриевич, перечитывать эти материалы, там все ясно, все известно, а вот эти протокольчики почитайте. Я еще вчера хотел вам доложить. В дружину звонил, говорят — ушли. Позвонил в гостиницу, говорят — не появлялся. Ну, думаю, загулял наш москвич, — по-свойски начал капитан. Дорохов хотел оборвать Киселева, но, увидев его довольное лицо, подумал: не стоит портить человеку хорошее настроение, тем более с утра. Он молча взял документы. Это были показания свидетелей. Первым был допрошен слесарь завода Воронин Борис,девятнадцати лет, не судимый, не женатый, и т. д. Воронин рассказывал: «3 августа этого года я вместе со своим приятелем Капустиным Левой пошел в кино. Посмотрели иностранный фильм «Бей первый, Фредди». По окончании сеанса вместе с остальными зрителями стали выходить на улицу. В толкучке как-то случилось так, что какая-то девушка споткнулась о мою ногу и упала. Я стал ее поднимать, но к нам подошли дружинники, несколько раз ударили меня и Капустина, скрутили нам руки и отвели в штаб. Особенно нахально вел себя дружинник в очках. Фамилию его я не знаю, но, если нужно, смогу узнать. При мне другие дружинники назвали его Олегом. Этот дружинник сбил Капустина с ног, а меня схватил за руку и вывернул ее так, что она болит до сих пор. Сначала нас привели в штаб, потом отправили в милицию, а утром народный суд мне и Капустину дал но 15 суток за мелкое хулиганство. Еще раньше Капустин мне рассказывал, что среди дружинников есть несколько человек, которых нужно опасаться. Кудрявцева из общежития, он гирями занимается, и одного очкарика». Слово было зачеркнуто. В самом низу страницы оговорено исправление: «Зачеркнутое «очкарик» не читать». «Ну и ну!» — подумал Дорохов. — Кто допрашивал? — спросил он у Киселева. — Сам, товарищ полковник. Дорохов стал читать дальше: «Дружинника, который носит очки, следует также опасаться. Он неоднократно бил наших ребят, есть и еще несколько таких в дружине, которые действуют кулаками…» Дальше шла служебная фраза: «Протокол записан правильно», и подпись Воронина. Следующий протокол зафиксировал показания Льва Капустина. В анкетной части сообщалось, что ему 17 лет 9 месяцев 8 дней, он работает учеником на заводе. Судим два раза за кражи. Показания Капустина были несколько подробнее: «Дружинника в очках, Лаврова, я знаю почти полгода. Он меня просто ненавидит. Где бы я ни появился, он ко мне все время придирается. Несколько раз прогонял из сквера, из Дворца культуры. Мало того, он сказал и другим дружинникам, чтобы и те меня задерживали и приводили к себе в штаб. Вызывали мою бабушку с дедом. Лавров при всяком удобном случае бил ребят. 3 августа он пристал ко мне и к моему приятелю Воронину за то, что мы нечаянно толкнули девушку. Бориса Лавров ударил, а меня, когда я хотел заступиться, отбросил в сторону. Я отлетел на несколько метров, упал и сильно расшибся. Потом мы же оказались и виноватыми, привели в суд и дали нам по пятнадцать суток…» Дорохов закурил, пододвинул сигареты Киселеву. — Значит, все это произошло за три дня до убийства Славина? — Точно! — Как разыскали этих свидетелей? — Они сами попросились ко мне на прием и дали показания. Они сидят тут у нас. Отбывают наказание за мелкое хулиганство. — Понятно. — Вот видите, Александр Дмитриевич, Лавров-то рукоприкладством давно занимается. Поискать, — наверное, найдутся и еще такие же случаи. На их фоне убийство Славина будет выглядеть совсем иначе. Но Дорохов не обратил внимания на рассуждения Киселева. Он снова вернулся к протоколу осмотра, который читал, и спросил: — Скажите, Захар Яковлевич, вы не знаете, всё ли записали в протокол, что обнаружили в карманах Славина? Киселев удивленно пожал плечами: — Конечно, все. Я сам был на месте. — А где одежда Славина? — Вернули матери. Всё вернули, что было у парикмахера. Да вы посмотрите, в деле должна быть расписка. Дорохов полистал страницы, отыскал расписку, написанную корявыми, дрожащими строчками, прочел ее и предложил: — Давайте съездим с вами на квартиру Славина. — Тут нечего ехать. Это совсем рядом. В квартире я у них не был, но дом знаю. У нас тут все близко. А что вы там хотите найти? — Ничего особенного. Хочу посмотреть… Поговорить… Киселев решил взять со стола показания Капустина и Воронина, но Дорохов попросил: — Оставьте. Еще разок прочту. В кабинет вошел Козленков. Он поздоровался и скромно остановился у письменного стола. Дорохов встал. — Пришли? Вот и отлично! Доброе утро. У меня к вам просьба: пока мы с Киселевым сходим к матери Славина, познакомьтесь с этими показаниями и соберите все данные об этих ребятах. Козленков взглянул на протоколы и не сдержал удивления: — Я их обоих знаю, товарищ полковник! — Еще лучше. Но все-таки поинтересуйтесь поподробнее. Мне хотелось бы иметь о них самые свежие данные.* * *
Славины жили в обычном пятиэтажном доме в микрорайоне, который ничем не отличался от многих ему подобных, если бы не обилие зелени. Нет, здесь росли не тополя и липы. Дома окружал настоящий фруктовый сад. Было как-то удивительно, что кругом на ветках висели самые настоящие яблоки, крупные, наливающиеся солнцем. Одни розовели, другие желтыми пятнами проглядывали сквозь листву. Плоды оттягивали ветки и, конечно, были соблазном для детворы. Киселев заметил удивление полковника и начал рассказывать: — Тем жильцам, что получили квартиры на первых этажах, выделили под окнами крохотные участки земли вместо балконов. Ну, а у нас заместитель председателя исполкома мастер на всякие благоустройства. Собрал всех первоэтажников, помог достать саженцы, консультации разные организовал. И вот результат. — Киселев остановился, указал на деревья, росшие между спортивных площадок: — А вот те, видите — поменьше, они моложе. Это уже увлечение обладателей балконов. Они тут каждый метр свободный деревьями и кустарниками засадили. Сначала беда с мальчишками была, а потом и те увлеклись, всяких кормушек птицам понастроили. У нас в городе таких вот жилых секторов несколько, и знаете, я наблюдал, что здесь меньше хулиганства, меньше пьянок. Поначалу были ссоры из-за деревьев и урожая, но и те теперь прекратились. Мне думается, что садоводство, вот даже и такое, очень доброе дело. Тянет людей к земле. Дорохов не ответил. Не потому, что не разделял мыслей Киселева, просто он был поглощен предстоящей беседой. Двери открыла высокая, худая женщина. Наброшенный на голову черный старинный кружевной платок почти сливался с землистым лицом, на котором выделялись лишь темные провалы глаз. Женщина остановилась в двери, невидяще скользнула по лицу Дорохова и, только когда заметила Киселева, преобразилась, подобралась, глаза ее мгновенно стали злыми, сухие губы исказила гримаса. — Что надо? Загубил со своими подручными сына, а теперь мне покоя не даешь! Что, Лаврова выгородить хочешь? — Ее хриплый голос взметнулся, перешел почти в крик. — Не дам, по позволю! До Москвы дойду, а правды добьюсь! — И, обращаясь уже к Дорохову, тихо и горестно запричитала: — Одна я осталась, совсем одна! Невестку вот в дом ждала… Убили Сереженьку-то! Она закрыла лицо концом платка и, как-то сломавшись, словно подрубленная, припала к косяку. Киселев повысил голос: — Успокойся, Степановна. Мы к тебе по делу. Вот полковник из самой Москвы приехал, поговорить с тобой хочет. Женщина по-новому взглянула на Дорохова: — О чем говорить-то? Теперь ему никакие разговоры не помогут. Ну, раз пришли, проходите, — и, посторонившись, она пропустила их в коридор. Квартира была обыкновенная, стандартная, двухкомнатная. Первое, что бросилось в глаза Дорохову, — это чистота и полосатые домотканые половики. Они закрывали пол в коридоре, устилали довольно большую, видимо парадную, комнату. Дорохов вспомнил Забайкалье, где он работал еще до войны. Большой пятистенный рубленный из лиственниц дом, огромную горницу, устланную вот такими половиками, и широкие деревянные белые лавки, сделанные руками хозяина, фикус в углу… Входить в эту комнату позволялось лишь по праздникам… А снимал он в этом доме маленькую комнату-боковушку. Давно это было… А здесь на полосатых половиках стоял полированный стол в окружении таких же стульев, на тумбочке — телевизор, а на серванте восседал солидный гипсовый кот. Краска на нем поблекла, но черные намалеванные усы до сих пор придавали ему бравый вид. Хозяйка повела их в кухню. Здесь тоже были половики и чуть ли не половину кухоньки занимал большой сундук, прикрытый постелью. Хозяйка вытащила из-под стола табуретки и жестом пригласила присесть. — Да, Матрена Степановна, понимаю я ваше горе, тяжело вам, очень тяжело, но и нас вы должны понять, — начал Дорохов, с участием глядя на женщину, которая присела на край сундука. Руки ее, несоразмерно большие, жилистые, настоящие рабочие руки, безвольно свисали вдоль туловища. — Трудно небось сына-то было растить? — А то легко! Вот Афанасьев знает. На его глазах рос. — Не баловал? — Как не баловать, баловал, конечно. Так ведь одна я его поднимала, мой-то на фронт ушел, а Сергей родился уж без него. Работала я. Днем на заводе, а вечером в госпитале — стирала. Присматривала за ним бабка, а ей тогда было чуть ли не восемьдесят лет. Вот так-то, начальник. Как же ему не баловать. И из дому бегал. Побежишь, когда есть-то нечего. Давно то было и быльем поросло. После армии самостоятельным стал. Работу хорошую, чистую нашел. И зарабатывал неплохо. Бережливый был, деньги-то домой приносил, не пьянствовал. Давно бы уж женился, да хотел сначала автомашину купить. Говорил, что будет жена — ей на тряпки подавай, дети пойдут — тоже деньги нужны. И права уж получил еще в прошлом году, да вот на тебе! — Старуха вытерла глаза. — А друзья-то, друзья-то у него были? Хорошие ребята? — спросил Дорохов. — Да не таскался он с парнями, говорю — самостоятельный был, а где дружки, там и водка. Знакомые-то были, много, говорил — клиенты. Прошлый год я ему предлагала именины справить, когда ему двадцать восемь стукнуло, а он отвечает: «Чего деньги зря тратить. Будет тридцать, тогда и справим». — Женщина отвернулась: — Полтора года до тридцати не дожил. Черная накидка соскользнула с ее головы. Дорохов подумал, что этому платку, наверное, не меньше лет, чем его хозяйке, а может быть, и больше, и лежал он, наверное, в сундуке вместе с черным платьем на случай, если, не дай бог, заявится к хозяйке горе. — Я ведь почему у вас про друзей сына спрашиваю: чтобы узнать у них, может быть между Сергеем и Лавровым вражда какая была или угрожал когда-нибудь этот самый Олег вашему сыну. Ведь сами понимаете, что вот так, из-за ничего, нельзя же просто убить человека. — Нельзя или можно, не знаю. Знаю, что нет у меня теперь сына, убили. И кто убил, знаю. Все. А угрожать моему сыну не за что, ни он никому не угрожал, ни ему никто не угрожал. Мне не верите, поговорите с Жорой — парикмахером, вместе они работали, одно время ходили вместе. Дорохов достал сигареты и, как бы раздумывая, стоит ли здесь курить, положил перед собой пачку. — Курите уж. Потом проветрю. — Женщина встала, пошарила рукой на полке и достала пепельницу. — Сережа «Беломор» курил, сама я ему покупала. — Она повертела пачку сигарет, положила и, вздохнув, припомнила: — Говорил он, от сигарет рак бывает. — А нельзя ли на его комнату взглянуть? — спросил Дорохов. Женщина вновь насторожилась и с неприкрытой неприязнью взглянула теперь на Дорохова: — Зачем? Не дам в его вещах копаться! Пусть так и останется, как при нем было. Дорохов успокоил хозяйку, пообещав посмотреть лишь с порога. Проходя мимо серванта, дольше, чем было удобно, рассматривал горку карамели в вазочке, а потом вошел в комнату Славина, у дверей которой, как страж, застыла мать. Комната оказалась маленькой — метров десять, без лишних вещей; небольшой шкаф для одежды, самодельная тахта из пружинного матраца, на стене — книжная полка; маленький однотумбовый письменный стол, на котором стоял магнитофон «Романтик», а в углу — рижская радиола «Ригонда». На стене над тахтой были приколоты кнопками несколько красавиц с журнальных обложек. На отдельных снимках линии причесок были исправлены углем или черным мягким карандашом. «Модели», — решил про себя Дорохов. — Думала, женится, спальню ему тут оборудую. Уже и деньги накопила, хотела от себя гарнитур подарить. Теперь вместо гарнитура памятник закажу. В коридоре, провожая Дорохова и Киселева, женщина припомнила: — Приходил к Сергею несколько раз механик с нашего завода, Костя Богданов. Серьезный человек. Спросите у него, какой был у меня сын. Может, ему веры больше будет, чем мне.* * *
Дорохов и Киселев молча шли по улице. Посещение матери убитого не прояснило ни единой детали, но оставило горький осадок в душе. — Интересно бы заглянуть к этому Сергею в письменный стол. Может быть, у него дневник есть? — проговорил полковник. — Вряд ли. Кстати, мне в прокуратуре предлагали произвести в квартире Славина обыск. — Ну, и что же? — остановился Дорохов. — Как — что? Вы же сами видели, в каком состоянии мать Сергея. В лучшем случае она своими жалобами, причем законными, не дала бы дослужить мне подобру-поздорову до пенсии, в худшем сама попала бы в психиатрическую больницу. Ее па заводе знают — общественность горой за нее встанет. Какие у нас есть основания компрометировать покойника? — Что же вы ответили прокурору? Киселев бросил сигарету и сразу же закурил новую. Затянулся несколько раз и, чеканя каждое слово, проговорил: — То же самое, Александр Дмитриевич, ответил я в прокуратуре, что и вам, слово в слово, и посоветовал проводить обыск в квартире Славина без моего участия, так как считаю это нарушением нашей законности.* * *
Дорохов, вернувшись в кабинет, включил настольный вентилятор, опустил на окна шторы и пожалел, что не сделал этого перед уходом. На улице начало припекать, а кабинет, выходивший на солнечную сторону, нагрелся, словно печка. Захотелось в лес. Без ружья, без собаки… так, побродить. Вот бы на Волгу, в ту деревню, в которой снимал домишко в прошлом году, там постоянно дует ветер. Жена еще говорила, что тот дом в ложбине, как в аэродинамической трубе. Здесь бы она оценила ту «трубу». Дорохов вздохнул и вытащил уже наполовину исписанный блокнот. После каждой командировки оставался у него такой блокнот, заполненный до конца. Значит, дело шло не так уж и быстро: или наполовину, а то и меньше. Были ведь и совсем удачные командировки. Усевшись за стол, полковник вытряхнул из сигаретной пачки найденные ночью обертки конфет и задумался. Итак, у Славина не было этих конфет в карманах, не было их и дома. По крайней мере на виду, в серванте. Но, может быть, его кто-то угостил? Может быть, случайно купил в каком-нибудь ларьке? Все может быть. Интересно, а не сохранились ли на этих обертках отпечатки пальцев? В кабинет вошел капитан Киселев и с любопытством уставился на обертки, скрученные в небольшие шарики. — Слушай, Захар Яковлевич, у меня к тебе просьба. Ты мог бы вызвать сюда эксперта-дактилоскопа? — Пожалуйста! — Капитан направился к двери. Но Дорохов снял трубку и протянул ее Киселеву: — А ты по телефону. Пока эксперт придет, мы покурим. Киселев набрал номер, попросил эксперта зайти к ним в кабинет и уселся рядом с Дороховым. — Скажи, пожалуйста, у вас много нераскрытых преступлений? — спросил полковник. — Да нет… В этом году повисли у нас две квартирные кражи в новых домах, одно мошенничество и хулиганство в сквере. Возле той самой беседки. Вернее, не хулиганство, а драка с телесными повреждениями. Потерпевших двое, оба избиты, оба в больнице отлежали. Знают, кто их бил, а не говорят. Вот и все нераскрытые. С прошлого года у нас магазин один остался, трикотажный. Воры разных шерстяных вещей вывезли чуть ли не полмашины. По этому делу мы работали, работали, и всё безрезультатно. Из области приезжали, помогали, но тоже без толку. Установили, что у преступников была машина, но какая, точно не знаем. Скорее микроавтобус «УАЗ» или рижский «РАФ». Здесь всех своих перебрали. Наверное, гастролеры какие-то. Правда, этим делом сам Афанасьев занимался. — А у соседей как? — У соседей по-разному. В Степном районе всегда тишь да гладь, вот только в начале лета взяли магазин, тоже на машине. — Раскрыли? — Нет. Недавно я разговаривал с начальником райотдела, говорит, что никак не найдут. Другой ближайший район у нас Железнодорожный, очень беспокойный. Райцентр — узловая железнодорожная станция, так там — что проходной двор; и преступлений много и не раскрытые есть. Недавно магазин «Ткани» обворовали, несколько рулонов дорогих материалов. Милиционер воров заметил и пытался их задержать, но они машиной сбили его с ног и скрылись. Он с переломом бедра в больнице. Эти преступники угнали перед кражей «Москвич», а потом бросили. Киселев рассказывал, а Дорохов делал у себя в блокноте какие-то пометки. Оба и не заметили, как в кабинет вошла пожилая женщина: — Вызывали, товарищ капитан? — Как же, как же, просил. — И, обращаясь к Дорохову, продолжал: — Позвольте представить вам, товарищ полковник, нашу криминалистическую науку — старший эксперт Анна Сергеевна Смирнова, тоже капитан милиции, великий специалист дактилоскопии. — Ну, так уж и «великий»! — улыбнулась Смирнова и протянула руку Дорохову. Женщине пододвинули кресло, и Дорохов пододвинул к ней найденные возле жасмина шарики. Эксперт взяла чистый лист бумаги, развернула на нем конфетные обертки, откуда-то из кармана платья достала пинцет, небольшое увеличительное стекло и, расправляя каждую бумажку концами пинцета, стала внимательно рассматривать. — Что же вы хотите знать, товарищ полковник, об этих конфетах? — Все, и главное — кто их съел, — усмехнулся Дорохов. — Это криминалистике неизвестно, — в тон ответила женщина. — Я могу вам сказать только то, что конфеты одной партии и где их изготовили. — Скажите, Анна Сергеевна, нельзя ли на них отыскать следы пальцев? — Думаю, что нельзя. Нет, следы здесь бесспорно есть, я их проявлю, но вот то, что вы хотите дальше — использовать эти отпечатки для идентификации личности, — нам не удастся. Во-первых, слишком мизерная поверхность. Во-вторых, бумага была настолько скомкана, что отпечатки папиллярных узоров наверняка стерлись. — Ну что ж, нельзя так нельзя, — вздохнул Дорохов. — А жаль. Мне думается, что тот, кто съел эти конфеты, нас с Киселевым очень интересует. А вы, Анна Сергеевна, любите конфеты? — Не очень, — улыбнулась женщина. — Как вы думаете, за какое время можно съесть три или четыре «Холодка»? — Сказать трудно. Это дело вкуса. — Товарищ полковник, — не вытерпел Киселев, — а при чем тут эти самые «Холодки»? — Сказать откровенно, — усмехнулся Дорохов, — этого я и сам пока толком не знаю. Кстати, поручи кому-нибудь из ребят узнать, есть ли эти самые конфеты в магазинах. Если нет, то интересно, когда продавались, и хорошо бы купить их десяток или два. — Полковник достал из бумажника три рубля и протянул Киселеву. — Там Николай Козленков вам рапорт насчет тех двух парней составляет, его и попрошу. — Добро.* * *
Едва Киселев ушел, в дверь кабинета постучались, осторожно, неуверенно. — Входите, входите! — дважды повторил Дорохов. В комнату робко вошла девушка. Александр Дмитриевич не сразу признал в ней Зину Мальцеву. Она была совсем не такой, как вчера в дружине. Видно, покинула девушку ее решительность. В гладком темном платье, с простенькой прической. Дорохов подумал — вид словно у школьницы, только передника не хватает. Лицо было совсем детское, но застывшая боль в глазах делала ее взрослой. Дорохова словно кольнуло. «Вроде Ксюшки моей, чуть постарше. Да нет, та побойчее будет, постоличнее, что ли. А не дай бог ей попасть вот в такую историю», — подумалось суеверно. — Заходите, Зиночка. — Он вышел ей навстречу, подвинул стул и сам присел рядом. — Да не смущайтесь. — Ему захотелось провести рукой по ее волосам и прибавить «доченька», но он сдержался. — Располагайтесь поудобнее. Поставьте свой роскошный портфель на пол — здесь вы ничем не рискуете. Ему очень хотелось вызвать улыбку на ее бледном лице. Но глаза девушки смотрели все так же грустно и даже с некоторым укором. Дорохов взял большой истрепанный портфель из ее рук, удивился его тяжести и бережно поставил на пол. — Ну, рассказывайте, — решительно сказал он. — Я не знаю что… — почти прошептала девушка. — Как это — не знаю? — Дорохов повысил голос, увидев, что губы девушки задрожали. Он знал, что самый худший способ успокоения в таких случаях — это жалость и сочувствие. — Женой стать собираешься, а не знаешь, какой у тебя жених. Ведь любишь? — Люблю, — почти с вызовом бросила девчонка. — Ну и прекрасно, люби на здоровье, если он, конечно, того заслуживает. — Да как вы можете так говорить, если… разве вы знаете его! Таких и нет больше. Это такой парень! Я из-за него и в институт не пошла. — Времени на подготовку не осталось? — Да вы не так меня поняли, совсем не так. Если уж Олег сказал, что профессия должна быть, как любовь, — одна и давать такое же счастье, я ему не могла не верить. — Ты права, девочка. Если любишь свое дело, это великое счастье. Хотя и затрепали мы эти слова, — задумчиво сказал Дорохов. — Ну вот, а он говорил, что нельзя выбирать профессию по принципу, где конкурс меньше или институт поближе к дому. Он говорил, что прощупать ее, эту будущую профессию, почувствовать нужно. — Зина раскраснелась, ее только что серые глаза стали, синими. — Вы думаете Олег не мог сразу поступить в институт? Да он лучшим учеником был, а пошел на завод. Говорил, что иначе ему стыдно будет рабочим в глаза смотреть, если он со студенческой скамьи пойдет руководить ими, не умея молотка держать в руках. А он умел, кстати, куда больше, чем другие. Никакой работы не стеснялся. — А почему это вы, Зина, все в прошедшем времени о нем говорите? Он есть и будет. Зина улыбнулась и взглянула на Дорохова. — Так вот, он все удивлялся, почему многие из нас боятся, а то и стесняются «неинтеллектуальной» работы. Как он срамил нас! Как доказывал, что в нас где-то глубоко копошится мещанская спесь. Зина поймала лукавый взгляд Дорохова. — Вы, наверное, не верите мне. Но он такой, и ничего я не придумала. Хотите верьте, хотите нет. — Голос ее упал. — Я вот специально сейчас вспоминаю, что бы отрицательное в его характере или поступках найти, и ничего не могу ни придумать, ни вспомнить. Телефонный звонок прервал разговор. Дорохов снял трубку. — Товарищ полковник! Козленков докладывает. Разрешите зайти? Александр Дмитриевич, подмигнув девушке, спросил: — Как, нам Козленков не помешает, нет? Ну и отлично, — и тут же попросил: — Заходите, пожалуйста. Козленков появился тотчас, видно звонил из соседнего кабинета, положил на стол тонкую папку и, поняв жест полковника, присел на стул. — Тут мне Зина рассказывает об Олеге. Где у вас показания тех двух ребят? В папке? — Дорохов вынул оба протокола, подал их Зине, сказал, чтобы та прочла. Девушка читала показания, в которых черным по белому было изложено, как дружинники, в том числе и Лавров, незаконно задержали, избили и сфальсифицировали обвинение о мелком хулиганстве Капустина и Воронина. Зина даже задохнулась от гнева: — Стервецы, вот стервецы!.. Извините, Александр Дмитриевич, никогда не ругаюсь, а тут такое… — Да вы не волнуйтесь. Что, этих ребят вы знаете? — Не только знаю, но и была там, возле кинотеатра, когда их наша группа задержала за хулиганство. Они испортили людям вечер. Приставали к девушкам, ругались, у выхода из кинотеатра драку устроили. Встали, руки в стороны и начали девушек ловить. Крик, визг, задние напирают, передние падают. Мы никак не могли сквозь толпу пройти. Звягин кое-как пролез, схватил хулиганов за шиворот, а они вырываются. Капустин ударил Звягина по лицу, вырвался — и бежать. Его Олег придержал, но поскользнулся, и оба упали. Тут подоспели Карпов и я, мы своего подшефного под руки — и в штаб, а Воронина Звягин и две девушки привели. Олег потом уже, позже, пришел. Ходил на колонку мыться: у кинотеатра лужа после дождя была, ну, он, падая, и угодил в нее. — Почему подшефного? — перестал читать рапорт Дорохов. — Капустина в конце зимы из детской колонии освободили досрочно, он там за кражи из ларьков сидел. Ну, вот райком комсомола и поручил нашей дружине над ним шефство организовать. Вы вчера видели в штабе большого такого парня — Семена Кудрявцева? Вот его определили шефом к Капустину и к нему в бригаду устроили. Кудрявцев от своего подшефного первое время чуть не плакал. Ну, а потом как будто отношения у них наладились, и парень вроде к лучшему изменился, а тут встретились они с Борисом Ворониным. Оба только что экзамены в техникум сдали, на радостях выпили и пошли развлекаться в кинотеатр. Самое сложное было потом, когда акт стали составлять. Думали мы, думали и решили все безобразия в акте не записывать. Про сопротивление не написали, про то, что Звягина они ударили. — Это почему же? — Кудрявцев просил. Да и мы с ним согласились. Если бы всё написали, как было, не видать бы Капустину техникума, ему бы за хулиганство не пятнадцать суток, а год дали. — Пощадили, значит, филантропы… Когда Зина уже собиралась уходить, Дорохов поймал ее нерешительный взгляд, переведенный с портфеля на него. — Знаю, знаю: передача? А? Зина кивнула: — Можно? — Что там? — Книга и так кое-что, я испекла. — Оставляй, пожалуй, на мой страх и риск.* * *
Девушка ушла, и Александр Дмитриевич сразу же спросил Козленкова, что он думает по поводу показаний Воронина и Капустина. Тот пожал плечами: — Наверное, этим парням все-таки попало. — Как — попало? — удивился Дорохов. — Как вел себя с ними Лавров, не знаю, но то, что Кудрявцев всыпал Капустину, это мне известно, — невозмутимо продолжал инспектор. Дорохов рассердился. Невозмутимость Козленкова вывела его из себя настолько, что он встал и зашагал по кабинету, а Козленков продолжал: — Вы, товарищ полковник, поговорите сами с Кудрявцевым и Роговым насчет этих ребят, тогда лучше разберетесь. — Поговорю, обязательно поговорю. Со всеми. Насчет «Холодка» вам удалось что-нибудь узнать? Козленков положил на стол трехрублевку: — Нет у нас в продаже этих конфет. А вы курить хотите бросить? — Да нет, не собираюсь. Жена давно пристает: брось да брось, а мне не хочется. Если уж на то пошло, мне жаль расставаться с этим удовольствием. Другой раз до того тошно на душе станет, что и белый свет не мил. Закуришь, смотришь — и полегчало. Нет, дорогой мой товарищ Козленков, курить пока бросать не собираюсь. Хочу кое-что проверить. Соображение тут одно появилось. Козленков достал блокнот, полистал его и прочел: — «Были «Холодки» у нас в продаже два месяца назад. Наш торг третьего июня 1970 года получил сто килограммов этих конфет. Передали их в два магазина, и там их за два-три дня распродали». Дорохов взглянул на часы, шел третий час дня. — Когда удобнее побывать у Афанасьева? — Удобнее всего сейчас, — не задумываясь, ответил Козленков. — Тогда идемте. В саду городской больницы Дорохов и Козленков отыскали начальника уголовного розыска. Ему запретили спать после обеда, и он, устроившись в беседке, сидел с пачкой газет. Большой, довольно грузный, такого же возраста, что и полковник, Афанасьев, видно, ждал их прихода. После знакомства и обмена положенными в таких случаях любезностями майор сам начал разговор: — Очень рад вашему приезду, Александр Дмитриевич. Чувствую, что мои сыщики с этим делом запутались, а сам сделать ничего не могу. Перед ноябрьскими хотел грипп перехитрить, не обратил на простуду внимания, так с тех пор никак не выкручусь. Приду, немного поработаю, и опять то сердце, то давление. Сейчас врачи обещают, что еще дней десять-пятнадцать — и выпишут. — Афанасьев в шутку поплевал через левое плечо, улыбнулся: — Не сглазить бы… Насчет Лаврова. Обоих я их знаю. Олега похуже, а Сережку Славина с детства. Раньше мы в одном бараке жили. С его отцом вместе в сорок первом ушли на фронт. В сорок четвертом вернулся я домой с белым билетом. Сережке уже три года исполнилось, а отец погиб, даже не узнав, что у него сын родился. Как подрос этот пацан, беды с ним Степановна натерпелась вдосталь. Да и мне досталось. После демобилизации я в уголовный розыск пошел. Сбежит Сергей из дому, соседка в слезы — и ко мне. И мы его ищем. То из Ленинграда его привезут, то из Белоруссии. Поначалу всё ездил отца искать, а потом воровать стал. Дважды в колонии побывал. Мать извелась с ним вся, аж поседела. Уговорил я нашего военкома и за полгода до срока отправил Сергея в армию. Домой вернулся он совсем другим человеком. Посерьезнел. Стричь, брить научился. И у Сергея это дело пошло. Стал приличным мастером. Я его несколько раз проверял. Думаю: как у него со старыми делами? Но нигде ничего. Выпивать иногда выпивал, в картишки поигрывал по мелочи. Года два назад мы с ним откровенно поговорили. Видно, передали ему дружки, что я им интересовался. Так он подошел ко мне на улице и говорит: «Вы, дядя Боря, не беспокойтесь, я больше в тюрьму не сяду, то все по молодости было». Степановна, мать Сережки, как встретит меня, все сына нахваливает: то он ей то купил, то другое. Зарплату и там приработки какие все до копейки отдавал. Что тут произошло, никак в толк не возьму. Афанасьев помолчал, потянулся к сигаретам, что возле себя на скамейку положил Дорохов, потом отдернул руку и снова заговорил: — У нас в уголовном розыске народу раз-два и обчелся. Я, Киселев и три инспектора. Одного из них вы знаете, — он кивнул в сторону Козленкова, — другой в отпуске, а третий уехал сдавать экзамены, в юридический поступает. Киселев у нас на розыскных делах постоянно сидит. Два других инспектора текущими делами занимаются, а мы с Николаем взяли себе работу с молодежью. Не знаю, как вы думаете, а я считаю — важнее этой работы у нас нет. Не будет правонарушителей среди несовершеннолетних и молодежи — меньше окажется матерых преступников. Ворами да грабителями становятся-то не сразу. Частенько первые шаги еще в детстве. Начинается с ерунды, с какой-нибудь мелочи, повзрослели — за более крупное взялись. Смотришь, чуть ли не на глазах вырос преступник. Тогда его куда труднее исправлять. Простите меня за прописные истины, но не все их понимают. Афанасьев говорил с жаром, разнервничался, и Дорохов пришел ему на помощь: — Я полностью с вами согласен, Борис Васильевич. — Это хорошо. А то есть такие, что думают иначе: говорят — нечего с ними цацкаться. Слишком, мол, гуманны. В тюрьму нужно их сразу, тогда живо исправятся. А ведь среди таких парней есть много хороших, только жизнь у некоторых, бывает, не так складывается. А ты попробуй не допусти до плохого мальчишку, останови вовремя! Вот мы с Козленковым с ними и цацкаемся, — усмехнулся майор и уже более спокойно продолжал: — Может, не всегда удачно. Что касается дружинников, то это основные наши помощники. Лаврова я помню. Стоящий, справедливый. Я ему несколько раз серьезные задания давал. — Может, за эти задания с ним и хотели свести счеты? — спросил Дорохов. — Все может быть, Александр Дмитриевич, но при чем здесь Славин? Он у меня ни разу ни по одному делу даже косвенно не проходил. Если Сергей действительно решил расправиться с Лавровым, то для этого должны быть веские основания… Крючкова не нашли? — обратился майор к Козленкову. — Нет, Борис Васильевич. У него через четыре дня кончается отпуск. Приедет — поговорим. — Знаете, Александр Дмитриевич, Степан Крючков, по-моему, должен пролить свет на все это дело. Парень разбитной, общительный, но с душком. Вам про беседку в сквере рассказывали? Так он там в первой пятерке. Любит выпить, не прочь подраться, хотя теперь ему по возрасту уже и не полагалось бы. С Лавровым они приятели, хотя как эта дружба сложилась, я себе и не представляю. Степан судился за хулиганство, но кражами не занимался, я проверял. Года три назад была тут у нас воровская группка, так его однажды приглашали на дело, но Крючков не только отказался, а этих ребят отговаривал. Мне потом об этом один из участников рассказывал. Я вызывал Крючкова, спрашивал. Он буркнул, что запамятовал, и все. Кстати, Коля говорил мне, что на месте происшествия была какая-то супружеская пара, забыл их фамилию. Вы с ними не разговаривали? — Нет. — Может быть, следует вам самому побеседовать? Может, они какие-нибудь детали припомнят? — Поговорю обязательно. — И еще, Александр Дмитриевич, просьба у меня к вам: кража из магазина висит; может, выберете время, посмотрите… А то покоя она мне не дает. — А я уже сегодня просил Киселева дать это дело. Обязательно познакомлюсь. — Кстати, как вам показался наш старший инспектор? — Прямолинейный он какой-то и уж больно сухой. — Не так сухой, как упрямый, но розыскник отличный и, в общем-то, человек совсем не плохой. Мы с ним вместе давно трудимся. Подправлять иногда приходится. Майор взглянул на часы и встал: — Вы извините меня, товарищ полковник, но здесь процедурная сестра строже армейского старшины. Опоздаю на процедуру — она всем врачам нажалуется. Дорохов и Козленков проводили Афанасьева к большому, четырехэтажному больничному корпусу и, попрощавшись, ушли.* * *
Вечером, около семи часов, к Дорохову пришли дружинники. Их привел начальник штаба. С парнями были две девушки — Зина Мальцева и еще другая, та, что вчера в штабе стояла в сторонке. Александр Дмитриевич про себя отметил, что большинство ребят он видел вчера, но были и незнакомые. Рогов протянул полковнику список, где значилось двадцать четыре фамилии: — Штаб нашей дружины выделил вам в помощь свой актив. Дорохов еще раз оглядел собравшихся. Все сидели чинно, настороженно, видно понимая, что им предстоит важное дело. — Вот что, друзья, мне нужна ваша помощь. Нужно обойти квартиры во всех трех домах, во дворе которых все произошло, и поговорить буквально с каждым жильцом. Тех, кого не будет сегодня, придется навестить завтра. Но самое важное — не пропустить ни одного человека. Нужно отыскать всех, кто пришел в тот вечер домой после одиннадцати, и побеседовать. Может, кто-нибудь видел во дворе Лаврова или Славина, а может быть, и еще кого-нибудь. Нужно узнать, не подходил ли кто-нибудь к месту убийства, что они видели. Постарайтесь выяснить, не было ли у кого-нибудь в тот вечер гостей, когда они разошлись и где живут. О ноже спрашивайте осторожно, лучше в конце разговора. Я бы на вашем месте беседовал спокойно, вежливо. Думаю, вам следует отправиться парами. Сейчас мы раздадим вам списки квартир. Побывать нужно в каждой. Если есть вопросы ко мне, пожалуйста! — Есть, — поднялся во весь свой огромный рост Семен Кудрявцев. — А как быть с теми, которые нам что-нибудь расскажут про нож или драку? Приглашать к вам сюда? — Не надо никого никуда приглашать, товарищ Кудрявцев. Поговорите, самое основное запишите, если сомневаетесь, что не запомните, и доложите. — А что делать, если нас в квартиру не пустят? — спросила Елена Павлова. — Тогда пригласите с собой управляющего домом, участкового инспектора, на время вашей работы ему приказано постоянно находиться во дворе. — А вдруг мы узнаем, что люди, приходившие в гости, живут в другом конце города? — Обязательно их нужно найти и расспросить. Если в чем не разберетесь, посоветуйтесь со мной. Я буду все время здесь, в кабинете. Нет больше вопросов? Хорошо. Тогда желаю вам успеха. Дружинники ушли. Ушли искать свидетелей и злополучный нож. «Найдут ли?» — думал Дорохов. Он пододвинул к себе два объемистых тома дела и открыл обложку, на которой было крупно написано: «Кража из трикотажного магазина». Листая документы, Александр Дмитриевич делал заметки в своем блокноте. Кое-где закладывал бумагу, нарезанную ленточками. Вот ему попался список, он с интересом прочел: «Посещающие беседку в сквере». Возле каждой фамилии был указан возраст, местожительство и коротко компрометирующие сведения. Об одних говорилось, что они играли в карты, другие постоянно пьянствуют, третьи хулиганят и дерутся. Дорохов стал внимательно изучать фамилии. Шестым в списке оказался Степан Крючков, двадцати шести лет, техник механического цеха, злоупотребляющий спиртными напитками и любитель картежных игр. Четырнадцатым по счету в списке был Сергей Славин, о котором говорилось, что он угощает подростков водкой, играет на деньги в карты и пользуется авторитетом. Одним из последних оказался Капустин. Дорохов отыскал протоколы допросов последних свидетелей по делу Лаврова, что принес ему Киселев, заглянул в список и понял, что именно Капустин несколько раз замечался в кражах, был в колонии, освобожден досрочно, в беседке постоянный посетитель, зачинщик хулиганства и драк. Полковник набрал номер телефона дежурного по городскому отделу и спросил: — Где капитан Киселев?… Ушел с дружинниками? А Козленков тоже?… Тогда будьте добры, доставьте ко мне осужденного за мелкое хулиганство Капустина.* * *
Зина Мальцева и Петр Звягин закончили обход квартир в одном подъезде. Им не удалось узнать ничего нового, и они понуро направились в другой подъезд, тот самый, где жил Крючков. Когда они уходили из городского отдела, их задержал полковник и попросил узнать у дворника, управляющего домом или соседей, куда уехал Крючков; в общем, попытаться выяснить, где живет его родственница, и сейчас Зина предложила: — Зайдем к его соседям. Они, наверное, лучше других знают, где он. — Зайдем, — согласился Звягин. Они поднялись на третий этаж и позвонили. Дверь долго но открывали, женщина спрашивала, кто они, что им нужно, и только после того как к ней подошел мужчина, их впустили в квартиру и проводили в небольшую чистую комнату. Хозяйка — пожилая полная женщина в просторном халате, с полотенцем в руках, которым она все время вытирала потное лицо. Мужчина был худой, низкого роста, в полосатой пижаме, давно вышедшей из моды. Видно, несколько дней он уже не брился, и седая щетина на щеках сливалась с растрепанными седыми курчавыми волосами. Женщина каким-то точным, привычным движением оттеснила в сторону мужчину и очень быстро заговорила, пересыпая русские и украинские слова: — И што вы всё ходите, все выспрашиваете, всё выстырываете? Мы с Егором ничего не знаем. Что видели, то и сказали. У него, — женщина кивнула в сторону мужа, — после убийства давление поднялось. Я как засну, каждую ночь покойников вижу. Хиба ж вы не знаете, что старым людынам волноваться нельзя? Мы ж пенсионеры, нам доктор велел каждый вечер в садочке сидеть, прогуливаться. А тут на глазах убивать стали. Раньше мы думали, что вы, дружинники, порядок наводите, а теперь знаем, что от вас одни неприятности. Тот высокий парень… ну, в очках который… подошел к нам и сказал, что его знакомому плохо, что он просит нас побыть возле него, пока он вызовет «скорую помощь», мы согласились, и что из этого получилось? Одни неприятности. Подошли, смотрим — лежит парикмахер Сергей. Раньше, когда Егор еще работал, он к нему бриться через день ходил. Мой муж говорит: «Смотри, Олекса, ему плохо». А я посмотрела, пощупала руку, пульса нет, и говорю: «Нет, Егор, ему уже хорошо. А вот нам с тобой будет плохо. Мы пошли гулять и мало того, что вымокли под дождем, так еще и попали в свидетели». Тут стали подходить люди. Пришел симпатичный, такой видный из себя, хорошо одетый мужчина. Он тоже пощупал пульс у парикмахера и сказал, что ему теперь уж ничем не поможешь. Хозяин выглянул из-за плеча своей мощной супруги, хотел что-то объяснить, но женщина снова оттеснила его, повысила тон и продолжала сыпать словами. Она сообщила, что больше они ничего не знают и сожалеют, что остались ждать, когда приедет «скорая», а не ушли так же, как тот симпатичный мужчина. Звягин перебил женщину: — Скажите, а разве вас в милиции допрашивали не вместе с тем симпатичным и хорошо одетым человеком? — Нет. Нас допрашивали вместе с Егором, а тот человек повернулся и ушел. Он сказал, что торопится. Зина тоже что-то хотела спросить, но ее жестом остановил Звягин. — Мы, в общем-то, к вам по другому вопросу. Вы не знаете, куда уехал ваш сосед Крючков? — Куда он уехал? Конечно, знаю! В село к своей тете. Повез Олечку в деревню. Я говорила ему: «Слушайте, Степан, зачем вам везти дочку, оставьте ее нам. У нас с Егором нет детей, и мы ее выкохаем». Он сказал, что девочке будет лучше у тетки… Где живет эта тетка? В селе… В каком? Вот в каком, мы не знаем. Да вы спросите Степана сами… Когда он приедет? Наверное, дня через три-четыре. Мальцева и Звягин вышли из квартиры с облегчением. Несколько раз свободно вздохнув, Зина спросила: — Как ты думаешь, Петр, стоит нам рассказывать полковнику про этого видного и прилично одетого человека? — Стоит, Зиночка, стоит, только давай не будем торопиться. Может, узнаем, как его фамилия или как зовут. Мы еще вон сколько квартир должны обойти. — Он протянул Мальцевой список. — Хорошо, — согласилась Зина.* * *
Капустин осмотрел Дорохова, кабинет, уселся на стуле и стал ждать вопросов. Дорохов в свою очередь, не скрывая любопытства, смотрел на парня. Прежде чем начать разговор, он хотел составить себе о нем представление. «Парень как парень, — размышлял полковник, — рост сто семьдесят, хорошо сложен, неплохо одет, глаза живые, с хитринкой; видно, привык быстро схватывать обстановку. Но откуда у мальчишки такая самоуверенность? Ага! Вошел в роль «трудного», привык, что все с ним нянчатся, все опекают, даже целая дружина. А вот интересно, как с ним установил контакт его бригадир — Кудрявцев? Все ли у них обошлось гладко? Боюсь, что однажды этот самый тяжеловес не вытерпел и намял бока своему подшефному. Возможно. Ну, да это мы еще проверим, вначале я ему немножко подыграю», — решил Дорохов, достал протокол допроса, повертел его в руках и протянул Капустину: — Это ваши показания? Капустин взглянул на свою подпись и, облокотившись на стол, небрежно ответил: — Мои. Я давно собирался о безобразиях дружинников куда следует написать. Обнаглели они, гражданин полковник. «Ага, все-таки «гражданин», — мысленно отметил Дорохов, — и чин мой знает. Кто же тебя просветил? Киселев или старшина, что ко мне доставил? Значит, знаешь, что привели на допрос к полковнику, который в три раза старше тебя, и все-таки решил нахальничать? Ладно. Я с тобой буду предельно вежлив». — Скажите, пожалуйста, Капустин, а кто из дружинников особенно безобразничает? О Лаврове вы рассказали, а как другие? Капустин, прежде чем отвечать, поудобнее уселся, достал из кармана сигареты, спросил разрешения закурить. Дорохов разрешил, но, чтобы скрыть усмешку, отвернулся к телефону, потом снова повернулся к Капустину. Тотпродолжал играть роль поборника справедливости. — Все они одинаковые. Я уже рассказывал про Лаврова. Надо бы еще вам разобраться с другими, они тоже не лучше. Как чуть что не по их, сейчас с кулаками. Они всем нашим ребятам прохода не дают. Вот поговорите с Ворониным, он вам тоже расскажет. Капустин продолжал говорить, а Дорохов думал, что он не может, просто не имеет права не преподать урока этому паршивцу вот здесь, сейчас, не откладывая на дальнейшее. Чтобы этот мальчишка понял, что наглость не может быть безнаказанной, чтобы этот урок он запомнил на всю жизнь и знал, в конце концов, что потребительское отношение к окружающим отнюдь не самая правильная линия поведения даже для «трудных». А может быть, «трудными» становятся только из-за нашего попустительства? Полковник озабоченно взглянул на часы, время было не позднее — около восьми часов вечера. Он извиняющимся тоном обратился к Капустину: — К сожалению, нашу интересную беседу я должен на некоторое время прервать, и если вы не возражаете, то мы ее продолжим минут через двадцать — двадцать пять, а пока я прикажу вас отвести к дежурному. — Уж лучше в камеру, гражданин полковник, там как раз сейчас ужин. — Хорошо, — согласился Дорохов и приказал дежурному его увести. Через двадцать минут Капустин, довольный, улыбающийся, на правах, старого знакомого вошел в кабинет. Едва он осмотрелся, как лицо его от удивления вытянулось. Он рассчитывал застать одного чудаковатого полковника, которому, как он успел сообщить своему дружку Воронину, «залил мозги», а в кабинете оказались и Рогов, и Карпов, и его опекун Кудрявцев. Между ними стоял свободный стул, и полковник предложил его Капустину. Тот сел осторожно, на краешек, опасливо поглядывая на своих соседей. — Ну что ж, Капустин, — предложил Дорохов, — расскажи о безобразиях дружинников. Хотя обо всех, в общем, не надо, поведай нам сначала о том, что творит Кудрявцев. Ты ведь в его бригаде работаешь? Но Левку словно подменили. Не было уже уверенного в себе человека, небрежно ведущего беседу. На стуле молча сидел провинившийся мальчишка. — Так вот, товарищи, если Капустин стесняется, я постараюсь точно передать вам, что он мне только что говорил. О безобразиях Лаврова он уже дал показания, потом я их вам прочту, но Капустин сожалеет, что не написал жалобу на других дружинников, занимающихся рукоприкладством. Кстати, он недоволен и вами, Кудрявцев. Вы что, били Капустина? Семен, красный как рак, поднялся со своего стула: — Бил, два раза. Только, товарищ полковник, я его еще выпорю. Пусть отсидит свои пятнадцать суток и вернется к нам в общежитие. Его отдали в мою бригаду, а меня назначили шефом. Я с ним носился, уговаривал, а он не хочет работать, и все тут. Отвернусь — он где-нибудь в закутке спрячется и спит. Мы его сколько раз всей бригадой обсуждали, уговаривали, и но помогает. Я его спрашиваю: «Будешь работать?», — а он мне отвечает, что он вор-законник, а им работать не полагается. Ну, я и согрешил: снял с него брючонки — и ремешком. Я этот способ на себе проверил, он подходящий. Батя у меня строгий был. А я подумал, что раз я шеф, так это что-то вроде нареченного отца, а раз отец, значит, имею право. — Семен повернулся к Капустину: — Что, Левка, рассказать, за что я тебя второй раз выпорол? — Не надо, Сеня. Парень совсем сник, в нем не осталось ни тени бесшабашности и наглости, что была совсем недавно. Дорохов наблюдал за Капустиным и решил начатый разговор довести до конца. Он попросил заместителя начальника штаба рассказать, как составлялся акт о последнем хулиганстве Воронина и Капустина. — Что тут рассказывать, — начал Евгений, — ты же, Лева, и сам знаешь. Вспомни, сколько мы с Семеном вечеров с тобой над математикой просидели. А Лена Павлова? Она тебе про грамматику и синтаксис, а ты ей — пакостные анекдоты. Знаете, товарищ полковник, Жора Старков с ним литературой занимался, так он мне говорил, что ему русские классики стали по ночам сниться. Карпов снова повернулся к Капустину: — Ты что думаешь, почему мы с тобой возились? Для отчета в горком комсомола? Нет, брат. Не все в тебе человеческое пропало, вот и решили не пускать тебя больше в тюрьму. Ты вот экзамены сдавал, а мы с Семеном под дверями в техникуме торчали. Болели за тебя. Ну, и с хулиганством этим, если бы мы всё в акт записали, как ты ругался, как Павла Звягина ударил, тебе бы год как пить дать дали. Значит, прощай техникум и все наше перевоспитание. Семен Кудрявцев сидел молча, сосредоточенно, потом вдруг стал рассматривать Левины брюки, стряхнул с них какую-то пылинку, покачал головой: — Эх, Левка, Левка! Дружинников хаешь, а ведь наши ребята скинулись и костюмчик с рубашкой тебе купили, твоей-то получки едва на босоножки хватило. А ты говоришь — дружинники. Лаврова ругаешь, а тот акт Олег составлял, ты его благодарить должен. А ты узнал, что человек попал в беду, и на него наврал. Левка совсем согнулся, чтобы скрыть слезы, еще ниже опустил голову и молчал. Сейчас перед Дороховым сидел несчастный, запутавшийся мальчишка. Ушли дружинники, и они снова остались вдвоем. Полковник пододвинул к нему графин и налил в стакан воды. Парнишка облизнул пересохшие губы, жадно сделал несколько глотков, по-детски кулаком протер глаза. — Садись, Капустин, поближе, поговорим. Как же ты, Лева, в людях не научился разбираться? Неужели не понимаешь, кто у тебя друзья? Думаешь, те, что водкой поят в беседке? Нет. Ты вот прошлый раз за кражи из ларьков сел в тюрьму один? — Один, — протянул настороженно Капустин. — Герой! Никого не выдал. Все дело на себя взял. — Так ведь за групповые больше дают. — Ну и что же. Дружки, которых ты выгородил, что на свободе остались, передачи тебе в колонию возили? А когда освободился, пальтишко, костюмчик преподнесли? В техникум устроили? — Ничего никто мне не преподносил. Избили за то, что с легавыми… ну, дружинниками… связался. Хотели еще раз бить, да Сергей не разрешил. — Какой Сергей? — Славин… парикмахер. — И его послушались? — Еще как! Капустин разговорился. Александр Дмитриевич понимал, что ему удалось установить психологический контакт с парнем, и очень сожалел, что пришлось прервать разговор, не выяснив все окончательно. Прервать его было нужно: стали возвращаться с задания дружинники, а Дорохов обещал разобраться с каждой группой.* * *
Снова собрались дружинники, все, кто был на задании. Они явно устали и были недовольны своим первым походом. Никому из четырнадцати человек не удалось узнать что-нибудь новое. Время было позднее, и Дорохов решил ребят не задерживать, всем ведь им утром на работу. — Пусть вас не расстраивает сегодняшняя неудача. Многие из вас не успели обойти и половины квартир, так что отчаиваться нечего. Завтра, я думаю, собираться здесь не стоит. Отправляйтесь прямо по адресам, а вот вечером зайти в городской отдел нужно: может быть, у вас будут новости, а может быть, — полковник сделал паузу, — они появятся у меня. А сейчас всего доброго. Зина задержалась в кабинете, видно, хотела что-то сказать Дорохову, но ее потянул за руку Звягин: — Пойдем, пойдем, ведь договорились!* * *
По привычке проснувшись чуть свет, Александр Дмитриевич отправился в душ. В командировках ему часто приходилось жить в таких условиях, где не только душа не было, но и умыться-то не удавалось как следует. Но когда он устраивался с комфортом, то каждый день первым делом был душ. Вернувшись в номер, провел рукой по щеке, хотел бриться, но потом решил: в парикмахерской. Наскоро в гостиничном буфете проглотил несколько бутербродов, стакан кофе и вышел на улицу. Ему сразу удалось отыскать огромную стеклянную коробку, на которой неоновые трубки причудливо выписали французское слово «Салон». Ночью они светились, а сейчас, темнея, торчали над фасадом. «Почему «салон»?» — подумал Александр Дмитриевич. В прямом смысле это гостиная, или демонстрационный зал, или помещение для художественных выставок. Какое же отношение имеет это слово к парикмахерской? Подойдя ближе, Дорохов решил, что самое прямое. Женщины, спешившие привести себя в порядок перед работой, были как на выставке, только не в очень-то приглядном виде. Александр Дмитриевич смотрел на огромную стеклянную стену, за которой разместился дамский зал, и встретился взглядом с брюнеткой, которой мастер заканчивал прическу. Женщина не отвела глаз, наоборот — с любопытством рассматривала его, Дорохова. Полковник покачал головой и вошел в салон. Он еще вчера узнал, что Бронштейн работает в утреннюю смену, что и директор салона будет утром. Оказалось, что мужской зал на втором этаже. Дорохов, осматриваясь, медленно поднялся. Несколько мастеров, скучая, ждали клиентов. Они лениво переговаривались и, как только заметили посетителя, умолкли. В углу средних лет мужчина, не очень высокого роста, с маленькими усиками и вьющейся копной волос, склонился над своими инструментами. «Жорж», — решил Александр Дмитриевич и направился в угол. Одна из двух мастериц хотела, видно, его усадить в свое кресло, но, наверное, решила, что это клиент Жоржа, и отошла в сторону. — Можно к вам? — спросил Дорохов. — Пожалуйста, — ответил парикмахер, рассматривая незнакомого посетителя. — Вы у нас впервые? — Да, но мне вас рекомендовали, хочу побриться. — Прошу! Руки Жоржа были уверенные, быстрые, бритва отлично направлена, и Дорохов даже закрыл глаза от удовольствия. Когда острая бритва сняла с лица остатки мыльной пены, Александр Дмитриевич согласился на компресс и начал разговор: — Собственно, я «вам по делу. Хотелось расспросить о Славине. Мне поручили расследование. Руки Жоржа как будто рефлекторно чуть сильнее прижали к его лицу горячую компрессную салфетку. «Хорошо, что салфетка, а не бритва», — подумал Дорохов. — «Шипр»? — словно оттягивая прямой разговор, спросил Жорж. — Терпеть не могу «Шипра»! — Александр Дмитриевич взглянул на выстроившиеся флаконы и попросил: — «Свежесть», пожалуйста. Не так резко пахнет и запах поинтересней. — Странно. Все ваши коллеги любят «Шипр», — сказал Жорж, меняя пульверизатор. — Славина я знаю давно. Мы еще вместе с ним в Доме приезжих работали, а здесь, — Жорж на секунду замолчал и указал в сторону стеклянной стены, на место, где читала какую-то книгу молодая мастерица, — вот там он работал. Хороший был мастер. Сначала мы дружили. — Бронштейн говорил и заканчивал прическу. — А в общем, немногое я могу вам о нем рассказать. Он вместе с Дороховым подошел к кассе, подождал, пока полковник расплатился, и предложил: — Может, нам лучше поговорить там, внизу, на первом этаже, в кабинете директора? Я только уберу инструменты. — Хорошо, — согласился Дорохов. В кабинете директора, к удивлению полковника, за маленьким письменным столом сидела та самая брюнетка, которую он только что рассматривал через стекло. Он поздоровался. Женщина тоже, видно, узнала в нем любопытного прохожего и, поклонившись, стала настороженно ждать, что же будет дальше. Дорохов протянул ей свое служебное удостоверение, директор салона прочла, вернула удостоверение и рассмеялась: — Вот уж никак не думала, что вы из милиции! Я заметила, как вы меня рассматривали там, — она кивнула в сторону дамского зала, — и подумала, что пришли со мной знакомиться. — Верно. Решил с вами познакомиться. Еще вчера. А когда увидел сегодня, даже старался отгадать вашу профессию, и, откровенно говоря, мне и в голову не пришло, что вы заведуете этим стеклянным ящиком. Женщина развела руками и предложила стул. — Спасибо. Меня зовут Александр Дмитриевич, а вас? — Наталья Алексеевна. Что же вас интересует в нашем заведении? — Модные прически и секрет, как это вы умеете делать волосы белые, фиолетовые и красные. Дорохов смотрел на замысловатую прическу директрисы и перечислял все тона ее разноцветной копны. Улыбаясь, уточнил: — И часто вам приходится? — Через два-три дня. Сами посудите: можно ли поручить портному сшить костюм, если сам он плохо одет? Поэтому моя прическа нечто вроде рекламы. — Я к вам, Наталья Алексеевна, насчет Славина. — А-а… — чуть разочарованно протянула женщина. — Большое несчастье. Мать его до сих пор забыть не могу. Хороший был мастер. — А человек? — Как человека я его мало знала. В этот момент в кабинете появился Бронштейн. Он был без халата, в легкой спортивной рубашке, так как, видно, решил, что разговор будет с ним не только здесь, в парикмахерской, но и там, в милиции. Дорохов попросил: — Не найдется ли у вас комнатушки, где мне можно будет побеседовать с Григорием Абрамовичем? — Разговаривайте у меня, а я все равно собиралась обойти парикмахерскую. Понадоблюсь, Жора меня найдет. — Понадобитесь, Наталья Алексеевна, обязательно понадобитесь.* * *
Жора — Григорий Абрамович Бронштейн, — наморщив лоб, старался подобрать слова, чтобы не обидеть покойного и вместе с тем точнее дать ему характеристику. — Трудно мне, товарищ полковник, в двух-трех словах рассказать, какой был Сергей. Года два я с ним дружил, вместе гуляли, иногда выпивали, иногда в компании ходили, а потом у нас дружба распалась. Не ссорились, не ругались, а стали встречаться только здесь, в парикмахерской. — А почему? — Не знаю. — Может, кого не поделили? — Да нет. Зачем же. У нас разные вкусы. — Жорж замялся. — В общем, чепуха какая-то. — Он пожал плечами, наконец полураздраженно бросил: — Сегодня я заплатил, завтра я, послезавтра я… В общем-то, я не жадный, поймите меня правильно. Но почему же так должно быть?… Я его клиента не возьму, по вежливому, конечно, ну, попрошу, чтобы подождал пять минут, если он отлучился. А ведь если меня минуты нет, скажет — совсем ушел… Короче, уж больно деньги любил, — решительно закончил Бронштейн. — Больше, значительно больше, чем друзей. А я ведь ему даже помогал. Попросит — подмени на час-другой, я — пожалуйста. И даже работу в его карточку писал. — Добрый вы человек, Григорий Абрамович. И часто вам так приходилось? — улыбнулся Дорохов. — Да бывало… Девчонку он какую-то завел, никому, правда, не показывал. Парень от нее бегал к нему с записочками. Телефона-то в пашем заведении все нет. — Дама-то, видно, «великосветская», если еще пажа имела… Брат, наверное? — Да нет, — рассмеялся Жорж. — Борька Воронин с завода, у него и сестры-то нет. — Скажите, Григорий Абрамович, а новых друзей Сергея вы знаете? — По-моему, друзьями он так и не обзавелся. Встречал я его в разных компаниях, сегодня с одними, завтра с другими. — Выпивал часто? — Когда угощали. В прошлом году задумал машину купить, так такой стал, что копейку зря не потратит. Пойдем в кафе перекусить, так он сначала все два раза пересчитает и выберет, что подешевле. — У меня к вам последний вопрос: дрался Славин часто? Ну, были случаи, когда он ссорился, кому-нибудь угрожал, дал по физиономии? — Нет, товарищ полковник, ни разу я не слышал, чтобы Сергей где-нибудь подрался, но почему-то молодежь к нему относилась с уважением, больше того — многие даже слушались. У нас в сквере беседка есть. Я часто туда хожу песни послушать. Приду, сяду где-нибудь поблизости на скамейку и слушаю, а Сергей всегда прямо в беседку. Ему сразу место кто-нибудь уступит, водки предложат. Однажды, года два назад, пристали ко мне несколько парней, недалеко от этой беседки, «похмели да похмели». Потом подошел еще один и говорит: «А ну, мотайте отсюда, чего к Серегиному другу пристаете?» — и те ушли, чуть ли не извиняясь. На следующий день я Сергею рассказал, а он смеется и говорит, что мне, наверное, послышалось. Дорохов попросил отыскать Наталью Алексеевну и вместе с ней показать ему шкаф, где хранились личные вещи и инструменты Славина. Втроем они спустились в подвал. В большой, просторной комнате, отделанной кафелем, по стенам длинной вереницей стояли узкие высокие шкафы, отделанные белым пластиком. «Как в отеле «Мажестик», — вспомнил Дорохов детективный роман Жоржа Сименона. Все шкафы закрывались на внутренние замки, и Наталья Алексеевна принесла с собой целую связку ключей. — Это дубликаты, — объяснила она, — я храню их у себя на всякий случай, а так у каждого есть свой ключ. Вот этот шкаф номер четырнадцать был закреплен за Сергеем Славиным. Она отыскала ключ и открыла дверцу. На вешалке сиротливо обвис белый халат, под ним стояли легкие белые резные туфли, а рядом — небольшой черный спортивный чемоданчик. Дорохов сначала осмотрел карманы халата. В нижнем оказалась начатая пачка «Беломорканала» и металлическая газовая зажигалка, в другом — носовой платок, в верхнем кармане торчала трехцветная шариковая ручка, в глубине кармана оказалась маленькая, сложенная вчетверо бумажка. Александр Дмитриевич бережно ее развернул. На листке, вырванном из небольшого блокнота, четкими, почти печатными буквами было выведено несколько слов:«Сегодня, а не завтра, как договаривались, жду в буфете возле ЖДС…»Ни подписи, ни даты не было. Не было и имени, кому она адресована. Эта записка могла пролежать в кармане халата Славина и неделю, и месяц. Дорохов протянул ее Бронштейну, тот прочел и удивился: — Отчаянная женщина! Сама назначает свидание, сама идет в буфет и, наверное, сама будет платить, потому что вряд ли Сергей стал бы тратиться даже на очень красивую. По-моему, вот эту самую записку принес Борька, когда Славин ушел обедать. Я ему советовал подождать, а он сказал, что некогда, и убежал… У меня как раз было два клиента, и я их обслуживал. Когда вернулся Сергей, я сказал, что был Борис и оставил ему под мыльницей послание. — Когда это было? — Не помню точно, но, наверно, дня за четыре или пять до убийства. В тот день я пришел с обеда, а Сергей сразу ко мне: «Слушай, Жора, будь друг, выручи, поработай за меня, я часа на полтора раньше смотаюсь, а потом, когда понадобится, за тебя отработаю». Я согласился и несколько человек обслужил от его имени. У нас с планом строго. — Бронштейн взглянул на Наталью Алексеевну и закончил: — Она строгая женщина. В чемоданчике оказались бритвы, машинки для стрижки и несколько флаконов одеколона. Директриса отметила, что этих марок она со склада никогда не получала. Прощаясь, Дорохов пообещал: — Я теперь, Наталья Алексеевна, к вам каждое утро заходить буду. Бриться. Жаль только, что не вы меня будете обслуживать. — А что, я вас плохо побрил? — в шутку возмутился Жорж. — Да нет, отлично… — Могу и я, — улыбнулась женщина. — Я ведь тоже мастер, причем мужской и первого разряда. — Тогда следующий раз я к вам. — И Дорохов направился к двери. На улице, отойдя на приличное расстояние от салона, Дорохов остановился и еще раз прочел записку. «Буфет у ЖДС». ЖДС — наверняка железнодорожная станция. Но к этому городу не подходит железная дорога. До ближайшей станции сорок километров. Не могла же знакомая назначать свидание почти за полсотни километров от дома. Не могла? А почему? Если она не хотела афишировать свое знакомство со Славиным, ей очень просто было сесть в автобус или такси и проехать эти километры, А может быть, в городе есть какое-то предприятие, учреждение или завод, который называется этими тремя буквами? Нужно спросить у Киселева или Козленкова, решил полковник и спрятал записку. Вспомнив Козленкова, Дорохов усмехнулся. Не прост этот парнишка, совсем не прост. Ловко он вчера его, старого воробья, заставил проверять капустинские показания. И ведь знал, что Левка наплел, но не стал убеждать его в этом, не стал доказывать. Знал, что он, Дорохов, будет сам проверять, и ни слова не сказал о Кудрявцеве. Молодец, получится из него хороший работник уголовного розыска. Кстати, зачем понадобилось Воронину и Капустину оговаривать всех дружинников, особенно Лаврова? Что это они, по собственному почину или по чьей-то подсказке? Случайно ли, что Вороний носил записки парикмахеру, а потом дал ложные показания на его убийцу? Дорохов знал, что люди, осужденные по указу о мелком хулиганстве, отбывают наказание в камерах предварительного заключения, но днем их водят на работу и они могут встретиться с кем угодно. «Посоветуюсь с Николаем Козленковым. Он их тут всех знает. Интересно, как у него дела? Кого они с дружинниками разыскали сегодня?» Дорохов, размышляя, шел на завод — решил познакомиться еще с одним приятелем Славина. Может быть, Он что-нибудь знает и наконец даст какую-нибудь новую зацепку? В заводском комитете Дорохову предоставили свободную комнату и вызвали через главного механика Константина Богданова. Вскоре к нему пришел невысокого роста мужчина лет тридцати — тридцати пяти. На нем ладно сидели джинсы. Черная шелковая рубашка облегала крутые мускулистые плечи; ее короткие рукава едва прикрывали хорошо тренированные бицепсы и всем напоказ открывали довольно грубые татуировки. «Морские», — решил Дорохов. На левой руке посетителя он увидел массивный браслет и квадратные японские часы «Сейка»; эти часы весом побольше ста граммов почему-то за последнее время стали входить в моду, хотя их продают втридорога. Достать «Сейку» даже в Москве не так-то просто. За одни эти часы можно было бы купить ну, скажем, пяток наших, тонких, элегантных, с абсолютно точным ходом. Вошедший задержался в дверях. На его лице было недоумение. «А лицо-то ничего, приятное, — констатировал Дорохов, — умные глаза, красивый прямой нос, четко очерченный подбородок». Каштановые, слегка вьющиеся волосы Богданова были подстрижены длиннее обычного. Не так, как у битлов, но тоже с претензией на моду. На весь этот беглый осмотр у Дорохова ушло максимум две-три секунды. «Пижон», — решил он про себя и спросил: — Вы Богданов? — Да… — Это я оторвал вас от работы и попросил зайти. Садитесь, пожалуйста. Богданов устроился на крае стула и продолжал с явным недоумением рассматривать Дорохова. Тем временем полковник протянул ему свое удостоверение и наблюдал, как Богданов прочел его раз, другой и, возвращая документ, спросил: — Что же вам от меня нужно? — Мне поручили дело об убийстве Славина, — начал полковник. — А-а… — протянул Богданов. — Я знал Сергея. Жалко. Был славный малый. — Так вот, у меня есть кое-какие неясности, а мать Славина рассказала, что вы с ними дружили. Богданов вздохнул: — Дружил. Может быть, той дружбы, которая подразумевается под этим словом, у нас и не было. Но мы встречались, Сергей часто бывал у меня дома. В прошлом году мы вместо ездили в отпуск в Сочи. — Расскажите мне о Славине поподробнее, пожалуйста. — Особенно мне рассказывать нечего. Он был хороший парень. Добрый, отзывчивый. Очень увлекался музыкой. У нас у обоих магнитофоны. — Богданов говорил медленно, подбирая слова и четко формулируя фразы. — Я не сторонник пьянства, и Сергей не очень-то любил выпить. Это, пожалуй, основное, что нас сблизило. Он был холостой, я тоже. Иногда ходили на танцы. Иногда к знакомым девушкам. Три года назад я купил «Москвич-407», не новый, и сам его ремонтировал. Славин в это время учился на курсах шоферов и мечтал тоже приобрести машину. Когда мы познакомились, я как раз приводил в порядок свое детище, и Сергей напросился мне помогать для практики. — Вы знаете, как он погиб? — Со слов матери и разговоров знаю, что его убил Лавров, дружинник. Во время ссоры. — А из-за чего они могли поссориться? — Мне трудно сказать, но говорят, этот дружинник задиристый. Конечно, наводить порядок нужно, это доброе дело, по ходят слухи, что дружинники не всегда пользуются, так сказать, дозволенными средствами. Перед Дороховым сидел совершенно спокойный, мудрый, взрослый человек, сдержанная настороженность, явно проявившаяся вначале, совершенно прошла. — Скажите, а что за девушка была у Славина? — У него разные были, он не отличался постоянством. Последнее время Дружил с одной врачихой. Серьезная женщина. Раза три мы вместе выезжали за город на моей машине. — Как вы думаете, не знаком ли с ней Лавров? — Не знаю. Думаю, что нет. Дружинник-то совсем мальчишка, а та женщина в возрасте. Мне лично представляется, что все это несчастье не имеет какой-либо серьезной почвы. Лавров мог сделать Славину замечание, Сергей человек вспыльчивый, что-нибудь ответил резкое, дружиннику не понравилось. Больше того, допускаю, что Сергей мог ударить Лаврова, а тот самбист — не рассчитал своих действий. Дорохов достал сигареты, закурил, предложил своему собеседнику, но Богданов отодвинул пачку: — Благодарю вас. Бросил, уже больше двух месяцев, — и потянулся рукой к карману джинсов. Но рука остановилась на полпути. — У меня к вам еще один вопрос. Лавров показывает, что Славин ему угрожал, даже собирался его убить, в руке у него был нож. — Наверно, ничего не остается Лаврову, как свалить все на Сергея. Но если бы у Славина появился враг, думаю, мне он рассказал бы об этом в первую очередь. А нож у Сергея был, — опередил очередной вопрос полковника Богданов. — Складной, туристический, с вилкой и ложкой. Он с этим ножом всегда за город со мной ездил, в отпуск тоже брал. — Лавров описывает другой нож: большой, охотничий, с пластмассовой ручкой. — Такого ножа я у Сергея никогда не видел. — Я хочу вас попросить: напишите все, что мне рассказали. Богданов снова задумался. — Уж лучше вы сами, а то почерк у меня дрянной, да и не силен я в изложении. Дорохов отыскал несколько чистых листов бумаги, записал биографические данные, предупредил Богданова об ответственности за ложные показания и быстро написал протокол. Как выяснилось, Константин Иванович Богданов в прошлом был моряк Северного флота. Он очень скрупулезно прочел каждую страницу, взял ручку и в конце показания вывел: «Мною прочитано, записано с моих слов верно, в чем и расписываюсь».
* * *
На улице парило нестерпимо. Дорохов снял пиджак, перекинул через левую руку и направился в городской отдел. Наступил обеденный перерыв, а идти в столовую или в кафе совсем не хотелось. Внезапно мелькнула мысль. — Скажите, пожалуйста, где у вас рынок? — остановил он проходившую мимо женщину. — Рынок? — улыбнулась та. — Рынки — это у вас, москвичей или ленинградцев, а у нас базары. Вот направо пройдете два квартала и там увидите. Дорохов поблагодарил и направился в указанную сторону. Он знал эти южные базары, крикливые, расцвеченные всеми летними красками. Любил праздно бродить по ним, прицениваться, рассматривать и не думать о самом главном, о том, что забросило его в эти края. Только вот беда: не может не думать. Прошло полдня. Вчера он надеялся, что эти две беседы внесут какую-то ясность, а сегодня наоборот, все запуталось. Жорж говорит, что Славин жадный, а Богданов описывает этаким добряком. Жорж рассказывает, что Сергей никогда не ввязывался ни в одну драку, избегал их, а приятель этого Сергея, Костя, рассказывает, что Славин был вспыльчивым и запросто мог повздорить с первым встречным, и не только повздорить, но и при случае закатить оплеуху. Дорохов подошел к базару, зажатому в бетон, стекло и пластик. И ему стало жаль, что среди чинных столов из серых мраморных плит, укрепленных на металлических рамах, где были разложены овощи и фрукты, нельзя увидеть добрую, усталую лошадиную морду. Отыскав среди рядов то, что искал, Дорохов, не торгуясь, купил большой зелено-серый арбуз, пристроился с ним возле продавца и попросил у него нож. Пожилой мужчина — скорее даже старик с прокуренными желтыми усами — протянул ему основательно сточившийся нож. Беря его в руки, Дорохов сразу же узнал узбекский «пчак». Вкрапленная в клинок позолота на трех полумесяцах еще сохранилась, а вот отделка на тонкой ручке вся высыпалась. Александр Дмитриевич разрезал арбуз, с удовольствием откусил красную, точно посыпанную мелким сахаром прохладную мякоть и стал вспоминать. Есть у него дома в собственной коллекции ножей несколько «пчаков», но все их лезвия украшены маленькими пятиконечными звездочками, а здесь полумесяцы; очевидно, этот нож намного старше своего хозяина и сделан до революции. Несколько скибок арбуза удовлетворили жажду. Продавец, посматривавший на Дорохова, протянул ему кусок белого домашнего хлеба. Хлеб был мягкий, свежий, видно, испекли его рано утром, прежде чем отправить хозяина с арбузами на базар. Обед оказался на славу. Возвращая старику половину арбуза и нож, Александр Дмитриевич предложил ему сигарету. — Интересный у вас нож. — Источился весь. У меня он уже почти пятьдесят лет да у хозяина, наверно, столько же прожил. В 1926 году послали наш казачий эскадрон в помощь Киргизскому кавалерийскому полку на борьбу с басмачеством. Слышали такой город Джалал-Абад? Там стояли. Разгромили мы одного курбаши, тогда я себе ножичек этот на память взял… Все время, пока Дорохов ел арбуз, он перебирал в памяти разговор с Богдановым и старался в чем-то разобраться, но он никак не мог понять, в чем, что именно его волнует. Не дослушав продавца арбузов, он ушел с базара, в общем-то, невежливо ушел, не дав человеку вспомнить молодость. Шел в горотдел и думал, что же его так насторожило в поведении или облике Богданова. Он вспомнил татуировки на его руках: на левом предплечье, с наружной стороны, — большой неуклюжий, от локтя до кисти якорь, обвитый цепью. На правой руке — спасательный круг, на пальцах той же руки — четыре буквы «Море», обычные морские наколки, выполненные плохим специалистом. Богданов сразу заметил, что Дорохов их рассматривает, и объяснил, что все это по глупости наколол, когда служил на флоте. Обычные? Обычные татуировки, наверное, только у папуасов, в Африке.* * *
В городском отделе Дорохов сразу же, как вошел в кабинет, включил вентилятор. Пристроив пиджак на спинку стула, полковник достал из сейфа свои бумаги, оба тома прошлогодней кражи, и начал листать документы. Внезапно отодвинув в сторону недочитанное дело, на чистом листе бумаги во всю длину Александр Дмитриевич нарисовал нож «пчак», которым только что резал арбуз. Узкое, сточенное лезвие казалось нереальным, незаконченным, и полковник пририсовал к первому второй нож, лезвием в противоположную сторону. Сразу старый, мирный, для арбузов и домашнего обихода нож превратился в хищный обоюдоострый кинжал. Александр Дмитриевич выбрал на чернильном приборе мягкий черный карандаш и обвил кинжал неширокой лентой. У вершины ручки лента закончилась злой треугольной головкой с раскрытой пастью, маленьким глазом и длинным тонким жалом. Александр Дмитриевич полюбовался своим рисунком, даже посмотрел на него издали, словно проверяя, все ли ему в нем удалось. Видно, хотел еще что-то дорисовать, но вошел капитан Киселев, и полковник свое «художество» отодвинул в сторону. — Скажите, капитан, что такое «ЖДС»? «Ну вот, вчера «Холодок», сегодня «ЖДС»! Кинжал какой-то со змеей нарисовал от нечего делать», — подумал про себя Киселев и едва сдержался, чтобы не чертыхнуться. — Железнодорожная станция, наверно, в сокращенном виде. — И я так подумал. Но ведь у вас в городе нет железнодорожной станции. — Нет, товарищ полковник. До ближайшей сорок километров. — А может быть, у вас в городе есть какое-нибудь учреждение с таким сокращенным названием? Нате, прочтите сами, — и отдал записку, ту, что нашел в кармане халата Славина. Киселев повертел записку, даже посмотрел ее на свет. — Может быть, Александр Дмитриевич, это какой-нибудь Жуков Дмитрий Сергеевич. — Возможно. Но самое интересное, что записку Славину принес Борис Воронин. Тот, что сидит у вас за мелкое хулиганство и рассказывал о безобразиях дружинников. Не думал я, что он еще и в роли почтальона выступает. — Давайте его вызовем и спросим. — Конечно, спросим, только не сразу. Нужно поручить Козленкову его еще раз проверить и поподробнее собрать сведения об этом парне. — Его половина нашего городского отдела как облупленного знает. — Неважно. Пусть заново Козленков поинтересуется. Впрочем, я ему сам об этом скажу. Что-то мне теперь вся история совсем перестала нравиться. Киселев промолчал. — Был я утром в парикмахерской. Там одно говорят. Потом пошел на завод, отыскал Богданова, техником он у главного механика работает, тот другое рассказывает. Между прочим, этот Богданов прямо чуть ли не целиком повторяет официальную версию убийства Славина. Вы его знаете? — Не знаю я Богданова, а что касается Лаврова, то просто убежден, что еще несколько дней — и вы сами со мной согласитесь. — Боюсь, что нет. Боюсь, что здесь все значительно сложней, чем кажется. У меня к вам две просьбы. Первая — прикажите дежурному доставить ко мне Олега, и пусть этот самый дежурный не сетует, если я ему отдам передачу. — От себя, что ли? — опять съязвил Киселев. — Нет, капитан, не от себя, а от его невесты. Она еще вчера вон тот портфель мне оставила. Вторая просьба — поручите дежурному вызвать на завтра ко мне, ну, скажем, к девяти часам утра, начальника уголовного розыска Степного и Железнодорожного районных отделов вместе с сотрудниками, которые ведут дела по кражам из магазинов. С делами, конечно. Сами подготовьтесь доложить, что сделано по магазинной краже. — А в связи с чем, если будут спрашивать? — А в связи с моим приездом. Ну посудите сами. Разберемся мы с вами с делом Лаврова… — Дай-то бог. — Надеюсь, бог даст, с нашей помощью, конечно. Вернусь я в Москву, доложу, что все в порядке, задание выполнил, меня мое начальство спросит, как оперативная обстановка в городе. Конечно, я должен вспомнить и нераскрытую вашу кражу. Ну, а у меня опять спросят, нет ли таких краж в соседних районах. Я отвечу — есть. Ну, хочешь не хочешь, а следующий вопрос будет о том, какую я практическую помощь оказал по этим делам. Ехать в эти районы пока мне недосуг, а сюда затребовать дела в самый раз. Короче, пусть к девяти ноль-ноль соберутся.* * *
Двое суток прошло со дня их первого знакомства, а Олег сдал за это время. Под глазами появилась синева, лицо осунулось. Пропал тот ершистый вид, с которым он явился к Дорохову на первый допрос. Перед ним был глубоко несчастный человек, видно начавший терять самообладание и понявший, что все случившееся может закончиться для него плохо. Полковник усадил Лаврова, отпустил конвой и обдумывал, как вывести этого парня из подавленного состояния. Сейчас Дорохов почти был убежден, что если он сумеет расшевелить Лаврова, вернет ему оптимизм, то сумеет получить ответ на единственный вопрос, который собирался задать. Четкий, толковый ответ был необходим Дорохову, он был сейчас основным, главным и позволил бы все расставить на свои места. — Олег, я вчера не вызывал вас просто потому, что у меня не осталось времени. Парень опустил голову. «Не тот ключ», — решил Дорохов. — Я был у тебя дома, разговаривал с отцом, с матерью, был в дружине, на заводе. Теперь я знаю о тебе значительно больше, чем в день нашего знакомства. Дорохов помолчал, внимательно взглянул на парня, тихо добавил: — Мы ищем, все ищем тот нож. Олег сидел все так же безучастно. — У меня вчера была Зина. Возьми вот тот портфель. — Дорохов указал Олегу на сейф. — Кстати, я не смотрел, что там, так уж не обессудь, взглянем вместе: не полагается мне вот так передачи передавать, без проверки, хотя твоя невеста вряд ли положит что-нибудь неподходящее, или я ни черта не разбираюсь в людях. Олег несколько оживился, тут же отставил стул, на котором сидел, и стал выкладывать содержимое портфеля. В пергаментной бумаге были завернуты булочки, видно собственного изготовления, кусок сырокопченой колбасы. С десяток крупных яблок. Учебник по сопротивлению материалов, две тоненькие чистые тетрадки и записка на клочке бумаги. Лавров близко поднес записку к глазам и прочел: «Одежек, родной, крепись. Я верю Александру Дмитриевичу, все будет хорошо. Каждый день бываю у тебя дома. Наши ребята тебе тоже верят. Целую тебя, мой хороший. Зина». «Значит, разбирает и без очков», — отметил про себя полковник. Настроение у парня явно изменилось. Он сел как-то прямее, только книгу отодвинул в сторону. — Учебник не надо, Александр Дмитриевич. Без очков-то я все равно не разберу. Дорохов положил руку на телефон, хотел позвонить, но потом, видно, вспомнил что-то: — В очках ты хорошо видишь? — Нормально. — Значит, там, под аркой, не мог ошибиться? — Не мог. Когда нож выпал, я даже заметил сетку, нарезанную на пластмассовой ручке. Правда, может быть, она не нарезана, а отпрессована, точно сказать не могу. — У меня к тебе, Олег, просьба, и очень важная: вспомни очень тщательно, очень подробно, не упуская ни единой детали, что с тобой происходило за последнее время… ну, скажем, за две недели или за десять дней до случившегося. Где ты бывал? С кем встречался? Ты помнишь историю с Ворониным и Капустиным? — Возле кинотеатра? Помню. — Вот и нужно вспомнить все другие подобные случаи, может быть, и не такие яркие. Одним словом, попытайся вспомнить каждый свой шаг. А впрочем, давай сделаем так: вот тебе тетрадь, шариковая ручка, пиши все. Главное, чтобы ничего не упустить. Не спи и думай, — улыбнулся Дорохов, отпуская Лаврова. — Да, подожди. — Он набрал номер телефона. — Товарищ дежурный! Это полковник Дорохов. Возьмите у меня Лаврова и верните ему очки. Те самые, что у него изъяли при аресте. Под мою ответственность.* * *
Иногда день тянется медленно. Раз двадцать взглянешь на часы — и кажется, что стрелки на них совсем не двигаются. Думаешь, что уже дело идет к вечеру, а оказывается, только полдень. Сегодня день промелькнул незаметно. Третий день пребывания Дорохова в городском отделе. После обеда Дорохов вернулся в кабинет и решил до конца изучить дело о краже из магазина. Ему предстояло подготовиться к завтрашнему разбору, а в связи с этим нужно было обдумать кое-какие вопросы. Кража была дерзкой. Преступники накануне Ноябрьских праздников подобрали ключи к двум замкам, а в складе магазина, где лежала основная часть только полученного товара, замок на решетчатой двери открыть не смогли. Тогда они между прутьями решетки вставили домкрат и растянули их, образовав свободный проход. Шерстяных изделий взяли довольно много. Среди них были дамские костюмы и платья, кофты, мужские свитера. Такое количество нелегко продать. Обычно подобные преступники попадаются на сбыте, а здесь не всплыло ни одной вещи. «Вывезли? — подумал полковник. — А может быть, сбывают постепенно, мелкими партиями, а основная часть где-то лежит до сих пор?» Когда Дорохов закончил изучение обоих томов и записал целый перечень вопросов, к нему снова пришел Киселев. Плюхнулся в кресло и начал рассказывать: — В оба района сам позвонил. Явятся с делами завтра утром. Кстати, о Борисе Воронине нет ничего нового. Работает электриком в отделе главного механика. Живет с матерью и отцом, поступил в заводской техникум. От какой женщины приносил записки парикмахеру, узнать не удалось. На заводе много женщин. Есть красивые, одинокие. Но чтобы кто-то из них пользовался услугами этого Воронина или дружил со Славиным, не замечали. Давайте вызовем его и поговорим. — Давай, Захар Яковлевич, только завтра, — попросил Дорохов. — Я еще с Капустиным разговора не закончил. — Кстати, я тоже узнал о «Холодке». Нет в продаже у нас этих конфет. Были в позапрошлом месяце, их сразу расхватали. Вам Козленков докладывал? Я тоже поинтересовался. Все говорят, что «Холодок» нравится детям. Но берут их и мужчины, те, что курить бросают. — Да, да, бросают курить… Совершенно верно. — Дорохов задумчиво прошелся по кабинету.* * *
Капитан ушел, а полковник вызвал Капустина. Лев Капустин вошел, когда Дорохов читал документы о Борисе Воронине, оставленные капитаном. Полковник молча кивнул ему, указал на стул, а сам углубился в справку. В ней не было ничего интересного, вернее, почти не было. Александр Дмитриевич взял карандаш и синей жирной чертой дважды подчеркнул: место работы Воронина — отдел главного механика, тот самый отдел, где работал исчезнувший Степан Крючков и симпатичный Богданов. Взглянул на Капустина, тот, насупившись, сидел на краешке стула и ждал от Дорохова новых подвохов. «Видно, дошел до него вчерашний урок — пацан, совсем пацан, — подумалось полковнику. — Однако есть в нем что-то такое располагающее. Наверное, Кудрявцев со своими ребятами именно это и уловил». Дорохов подмигнул Левке: — Ну, что нос повесил? Думаешь, снова мораль читать буду? Нет, брат, сегодня мне некогда. Есть деловой разговор. Парень облегченно вздохнул и даже подался вперед: — У меня к вам просьба. — Давай. — Порвите тот протокол, где я про Лаврова рассказывал. Я там все наврал. — О протоколе потом. Хорошо, конечно, что сам решился об этом заговорить. Но сейчас у меня к тебе один очень важный вопрос. Не буду скрывать, что ответ на него явится проверкой твоей честности, Лева. Капустин снова насторожился и не очень уверенно пробормотал: — Спрашивайте. — Я хочу знать, как и почему вы с Борисом решили оговорить Лаврова. Только если будешь отвечать, говори правду, как было на самом деле, или не отвечай совсем. Капустин вздохнул, немного помолчал, рассматривая ногти своих пальцев. — Расскажу. Что убили парикмахера, нам утром сказали. Мы с Борисом вышли из камеры умываться, а один малый, что сидел с Лавровым, как раз мусор выносил, после утренней уборки. Проходил мимо и шепнул про Сергея. Днем нас повезли на работу — овощи на базе перебирать. Сказали каждому, что за день полагается сделать, а Борька говорит: «Ты тут за двоих вкалывай, а я махну через забор и из дому пожевать чего-нибудь принесу да про Серегу узнаю». К концу работы вернулся, колбасы притащил и два батона, а узнать ничего не узнал. Потом через два дня снова домой рванул, а вечером лежим в камере, он и говорит, что Сергея убили дружинники. Они решили расправу устроить. Вот нас посадили, парикмахера убили, а потом за других примутся, ну, за тех, кто в беседке собирается. Полежали, поговорили и решили пойти к капитану и немного поднаврать на «очкарика», чтобы он не выпутался. — Кто предложил, ты или Борис? Наверно, впервые в жизни Левка на подобный вопрос ответил искренне и без сомнений: — Борис, но и я, конечно, согласился. — Капустин все-таки не смог удержаться от привычки выгораживать приятелей. — Кстати, расскажи, Лева, что за ребята в беседке собираются. — Наши заводские. Приходят туда, песни поют, на аккордеонеи гитарах играют. Кто с бутылкой, но больше так. Из дворов гоняют, говорят — спать не даем. Из подъездов тоже. Во Дворец культуры без билетов не пускают. Вот и идут в беседку. Выпить соберутся, вдвоем, втроем сложатся на бутылку — ив беседку. С четырьмя рублями в ресторан разве пойдешь? Да и не пустят, если прямо со смены. В кафе или буфете можно, конечно, закуску взять, но водку увидят — и прогоняют. Куда идти? В беседку. Там и посидеть, и поговорить можно. — В карты играют? — Не только в карты, но и в домино. — А кто там у вас всем заправляет? — Гена и еще Зюзя. — Они что же, судились? — Почему судились? — неподдельно удивился Капустин. — Гена песни всякие сочиняет, музыку придумывает. Он даже на конкурс послал, только вот ответа до сих пор нет. В Доме культуры он знаете какой джаз организовал! А потом поссорился с директором, и тот его выгнал. — А кто такой Зюзя? — Васька из автобазы. У него есть маленькая записная книжка, и он туда сокращенно анекдоты записывает. Как услышит новый, так в книжку. Хочет потом, под старость, напечатать. — А судимых там много? — Есть, — смутился Капустин. — Вот я судимый, потом Борька Воронин, еще Толик, Лешка недавно из колонии вернулся. — А из взрослых кто? — Взрослые тоже приходят. Степан Крючков на гитаре хорошо играет. Федя — баянист. Иногда парикмахер заходил. Многие бывают. — Ты меня не понял, Лева. Кто из постоянных посетителей беседки — взрослых я имею в виду — раньше судился? — Степан Крючков судился за драку, парикмахер — за кражи. Дядя Леша приходил. Он после войны за вооруженные налеты двадцать лет отсидел. Только он еще в прошлом году в Сибирь завербовался. Жалко, что уехал: хорошие песни знал и рассказывал занятно. — А о преступлениях у вас идет разговор? — Бывает. В прошлом году, когда обворовали наш трикотажный магазин, мы все гадали, чья это работа. — Ну, и как? — Решили, что «залетные». Ну, теперь там, наверное, только и разговору про Лаврова да Серегу-парикмахера. Мы-то уж с Ворониным вторую неделю в беседке не были, здесь, в милиции, живем. Дорохов изучающе смотрел на Капустина и думал. Спросить у него или не спросить о записках, которые носил Воронин Славину? И решил: «Рано еще. Спрошу после разговора с Борисом». Отправляя Капустина в камеру, полковник его предупредил: — О нашем разговоре чтоб никому ни слова. Особенно Борису. — Ладно, — не очень уверенно ответил Левка.* * *
Дружинники продолжали работу. Они заходили в квартиры, спрашивали, выясняли. Но им явно не везло. Мальцева и Звягин снова отправились в подъезд, где были накануне. Они несколько раз звонили в квартиру Крюкова, надеясь, что, может быть, кто-то откликнется. Но раскрылась дверь соседей. На пороге появилась вчерашняя знакомая, Александра, и сразу полился словесный ливень: — Вы зря звоните. Он еще не приехал. Я его тоже жду: вдруг ему не повезло и он приедет с Олечкой. Вот тогда я ему буду нужна, как воздух. Он скажет: «Олекса, присматривайте за моей девочкой», — и мы вместе с Егором будем присматривать. — Ты меня звала, Лесинька? — За спиной женщины появился ее тщедушный супруг. — Нет, Егор, я тебя не звала. Я говорю молодым людям, что жду, когда Степан отдаст нам свою дочку. — Тогда почему мы все тут стоим? Почему мы не зовем молодых людей в квартиру? — А может, молодые люди торопятся, — возразила женщина. — Мы действительно торопимся, — начала Зина, но ее остановил Звягин. — Если можно, мы зайдем, — сказал Павел и чуть ли не насильно втолкнул в дверь Мальцеву. В комнате Звягин обратился к хозяину: — Вчера вы, Егор, Егор… — Парень забыл отчество и мучительно старался вспомнить. — Михайлович, — с поклоном подсказал пожилой мужчина. — Вчера, Егор Михайлович, вы говорили, что после вас туда… ну, на место, пришел молодой мужчина. — Ничего он не говорил, — перебила Звягина хозяйка. — Это я говорила. Ну, пришел. Так и что? Вы знаете, сколько там сбежалось народу? — Подожди, Александра. Раз молодой человек спрашивает, ему нужно рассказать подробно. — Нет, вы подумайте! — всплеснула руками женщина. — Ему мало, что мы все подробно написали, ему еще надо рассказать! Егор, я прошу тебя, иди и ложись в постель и не волнуйся, я расскажу сама все, что надо. — «Надо, надо»! — ворчливо повторял Егор Михайлович, нехотя удаляясь. Женщина, завладев полем брани, победно взглянула на дружинников: — Вы хотите знать подробности? Так прочтите протокол, там гражданин следователь все записал на двух страницах. Он записал, я прочла и расписалась. Больше мы с Егором ничего не знаем… Звягин хотел что-то спросить, но теперь уже Мальцева чуть ли не насильно вытащила из его квартиры. — Павел, они определенно что-то скрывают. — Честно говоря, я тоже так подумал и хотел поговорить… — Бесполезно, — махнула рукой Зина. — А ты завтра как работаешь? С утра? — Нет, во вторую. — Тогда придем пораньше, и, как только женщина уйдет, мы и поговорим. — Что же, мы ее караулить будем? — Покараулим. В магазин-то она наверное ходит. — Ну что ж, это идея.* * *
Александр Дмитриевич разыскал по телефону Козленкова и попросил зайти к нему. Когда тот появился, показал ему записку, найденную в халате Славина. Николай несколько раз прочел ее. — Есть, товарищ полковник, в Железнодорожном районе возле вокзала новое кафе. Может, тут о нем говорится. Но почему понадобилось встречаться там, а не у нас здесь? Может быть, провожали кого-нибудь в отпуск и ждать поезда решили в кафе? — Возможно. Но самое интересное я еще не сказал. Записки Славин получал не раз, и всегда их приносил Борис Воронин. — Воронин!.. — не сумел скрыть удивления Козленков. — Любопытно. Я по вашему заданию наводил справки о нем и о Капустине, но за последнее время никто ничего плохого о них не говорит. Вот только дома у Бориса давно не был. — Пока не ходи… Завтра поговорим с ним, тогда решим, что дальше делать. Я хотел сегодня Воронина вызвать — кстати, и Киселев предлагал, — но воздержался. Если в этих записках и встречах не все чисто, днем, когда отправят их на работу, Воронин кого угодно предупредит. Слушай, Николай, а ты завтра что делаешь? — Двое дружинников свободны, и мы договорились с утра продолжать вместе поиски. — Возьми-ка ты этих ребят и понаблюдай за овощной базой, где работают эти самые мелкие хулиганы. Мне Капустин рассказал, что Воронин частенько с работы сбегает. Кстати, оказалось, что инициатива дать ложные показания на Олега принадлежит тоже Воронину. — Хорошо, Александр Дмитриевич. С Воронина глаз не спущу. — И еще, Коля, давай пройдемся да посмотрим на злополучную беседку. Уж очень много о ней разговоров. Ты завсегдатаев-то тамошних знаешь? — Знаю. — Вот и отлично. И я хочу с ними познакомиться.* * *
В сквере Дорохов и Козленков свернули на боковую аллею и направились к беседке. Еще издали до них донеслась песня. Под переборы гитары пело несколько человек. Пели стройно, вполголоса. В песню тихо вплетался аккордеон. Смолкали певцы, и аккомпанемент звучал громче. Дорохов не знал этой мелодии, а слова было нельзя разобрать. Он прислушался. — Красивая песня! — Это у них что-то новое, — сказал Козленков. Лейтенант уверенно направился к кустам, обогнул один, другой и, приглашая Дорохова, указал на скамейку, кем-то перенесенную с аллеи в самую гущу деревьев, и предложил: — Давайте посидим, послушаем. — Давай, — опускаясь на скамью, согласился Дорохов и протянул Козленкову сигареты: — Покурим, послушаем, а ты расскажи мне об этих музыкантах. — В беседке постоянных посетителей с десяток. Кроме них, заходят разные парни. Сегодня один, завтра другой. Иной вечер человек двадцать соберется, а если в клубе новый фильм идет или концерт какой, то в беседке сидит какой-нибудь горемыка, оставшийся без билета. По-моему, всю компанию, как магнит, притягивают Геннадий Житков, Павел Львовский и Васька Зюзин. — Расскажи о каждом поподробнее. — Житков работает на заводе лекальщиком. Ему двадцать семь лет, он на год старше меня, холостой, зарабатывает хорошо, живет с родителями, почти не пьет, с детства любит музыку, играет на разных инструментах. В прошлом году ездил специально в Москву и купил аккордеон, большой, итальянский, очень дорогой. Он на него деньги копил несколько лет. Когда был пацаном, сбежал из дому и поехал поступать в музыкальное училище. Его приняли, месяца два проучился, а потом исключили. За что, так толком и не знаем. Сам он об этом не любит рассказывать. Слух у него исключительный. Сидит в кино, услышит новую песенку, а назавтра в беседке ее без всяких ошибок на аккордеоне выдает. За ним по пятам ходит его дружок Павел Львовский. У того гитара. Он помоложе Житкова, но ему под стать — играет отлично. Павел учится в нашем заводском техникуме на последнем курсе. Сначала они оба в музыкальном кружке в техникуме были, а потом во Дворец культуры перешли. Житков джаз организовал. Прекрасный джаз. Но он распался по Генкиной вине. Ушел он, а за ним и Павел тоже. Там на Житкова несколько неприятностей свалилось. Играл он на клубном аккордеоне. Появился во Дворце культуры новый массовик, не из умных, надо прямо сказать. Забрал он у Житкова аккордеон, с которым тот не расставался. Не доверил. Этого парень не смог перенести, ушел. Через несколько дней во Дворце культуры — кража. Исчезли саксофон, флейта и этот самый аккордеон. Массовик поднял шум, немедленно к нам — все это, мол, дело рук Житкова и Львовского. Борис Васильевич сам с этой кражей разбирался, несколько раз с Геннадием и Павлом разговаривал. Через пять дней или через неделю встретил меня Житков и говорит: «Передай Афанасьеву, что все инструменты на чердаке семиэтажки лежат целехонькие. Кто их украл, знаю, но не скажу, только учтите, я к этому делу никакого отношения не имею». Мы с начальником уголовного розыска — туда, и нашли все. Борис Васильевич послал меня за нашим экспертом, она там же, на месте, отыскала на инструментах массу отпечатков пальцев, а потом у себя в картотеке нашла преступника. Тоже нашего, местного, — Кирилла Ермолаева. Он, кстати, никакого отношения к посетителям беседки не имел. Кражу совершил один. Во Дворец культуры два раза лазил. Сначала взял аккордеон, а потом все остальное. Я Геннадия несколько раз спрашивал, как он узнал про инструменты, но тот ни мне, ни Борису Васильевичу так ничего и не сказал. Афанасьев уговаривал Житкова вернуться во Дворец культуры, но тот говорит: «Пока этот дурак на месте, ноги моей во Дворце культуры не будет». Павел Львовский считает Житкова своим учителем и от него ни на шаг. Играют они хорошо. У Пашки голос хороший, ну, вот к ним и липнут ребята, а им приятно. Им ведь слушатели нужны. — Какой же у них репертуар? — Самый различный. Один раз иду вечером мимо, смотрю в беседке полно народу, а эти двое «Полонез» Огинского играют, и все притихли, слушают. А другой раз блатные песни чуть ли не во всю глотку орут. Тут был у нас один тип, Алексей Приходько. Уже в возрасте, ровесник нашего Афанасьева. Раза четыре судился за ограбление. Мы к нему присматривались и выяснили, что сам он ни на какие преступления не ходит, но совет любому дает, кто бы к нему ни обратился. Расскажет, как-лучше замок открыть или в квартиру забраться. Никак мы его изобличить в подстрекательстве не могли. Так он столько блатных песен знал, что и не перечислишь. Голоса никакого, а память отличная. Чуть ли не с нэповских времен песни помнил. В Сибирь на лесозаготовки завербовался. Борис Васильевич туда в милицию подробное письмо о нем написал. Третий заводила — Зюзин Васька, слесарем на автобазе работает. На работе исполнительный, серьезный, а где парни соберутся, Зюзин совсем другим становится: кривляется, паясничает, анекдотами сыплет, словно из мешка. И где он их только отыскивает? В подтверждение слов лейтенанта в беседке взорвался хохот. Козленков прислушался: — Зюзя, наверное, что-нибудь отмочил. Дорохов встал и предложил: — Пойдем туда, познакомимся с этой братией. Они подходили к беседке, а там запели новую песню. Теперь уже можно было разобрать все слова:* * *
В первом часу ночи Александр Дмитриевич был уже у себя в номере. Собираясь улечься спать, не удержался, взял из вазы желтую, мягкую грушу и вышел на балкон. Дневная жара спала, ночь своей прохладой давала отдохнуть городу и людям, дышалось легко. Дорохов перегнулся через перила и, забыв о груше, стал рассматривать улицу. Прямо против гостиницы прижалось к дому несколько телефонных будок. Словно спохватившись, Александр Дмитриевич быстро набросил пиджак, вышел на улицу. Перебежал шоссе и вошел в будку. Набрал 02, подождал, пока ему ответил дежурный по городскому отделу. — Товарищ капитан, это Дорохов. Попрошу вас срочно передайте по телетайпу в Москву, в Управление уголовного розыска… Где взять телеграмму? Я сейчас продиктую. Записывайте: «Прошу проверить и немедленно сообщить, какие компрометирующие сведения есть на…» Записали? Повторите, пожалуйста, фамилию, имя и отчество… Так, хорошо. Мою подпись. Звание не надо, знают. Только просьба. — Дорохов оглянулся по сторонам, соседние автоматами улица были пустынны. — Вы эту телеграмму никому не показывайте. До поры до времени. И новому дежурному накажите, чтобы ответ лично мне… Спасибо. Спокойной ночи. Насвистывая мотив песенки, которую услышал возле беседки, Дорохов вернулся в гостиницу.* * *
Рано утром, свежий, потому что отлично выспался, гладко выбритый, в хорошем настроении, Дорохов пришел в городской отдел. В дежурной части встретил Киселева. — С добрым утром, Александр Дмитриевич! — С добрым, с добрым. Что нового? — Происшествий не было. Степняки уже прибыли, узловчане с полчаса назад звонили и сказали, что выезжают. Где собираемся? У вас? Может быть, у начальника? — Стоит ли и его отрывать от текущих дел? А потом, разговор-то у нас свой, в узком кругу, чисто профессиональный. Давайте так: как все соберутся, так и заходите. Козленкова не забудьте прихватить… Ушел с дружинниками? Совсем забыл, я его послал за «мелкими хулиганами» понаблюдать. — Он мне докладывал. — Ну и отлично.* * *
Полковник встретил приехавших, познакомился с каждым и попросил рассаживаться. Собралось всего шесть человек: трое узловских, двое из Степного и Киселев. Заглянув в свои заметки, Дорохов встал: — Я пригласил вас, чтобы посоветоваться, обменяться мнениями. Давайте устроим «брейнстрорминг». Присутствующие вопросительно переглянулись, полковник вопросительно перехватил их взгляды, усмехнулся и продолжал: — Недавно я вычитал в одной книжке по психологии, что существует такой метод. В переводе с английского это слово означает «мозговая атака». Собираются знающие люди вместе и думают, как лучше разрешить сложную проблему. В общем, этот метод у нас на Руси известен с давних пор. Правда, он иначе назывался: «Ум хорошо, а два лучше». — Полковник шутливо закончил: — У нас же тут собралось целых восемь умов. А проблема — раскрыть кражи. Начнем с узловчан. У вас две нераскрытых? — Две, товарищ полковник! Встал невысокий подтянутый майор лет тридцати восьми-сорока. На кителе у него поблескивал университетский ромбик. — Садитесь, пожалуйста, — попросил Дорохов, сел сам и добавил: — Не будем слишком официальны. Создадим свободную обстановку: кто хочет курить — не стесняйтесь. — Он заглянул в список собравшихся, отыскал фамилию майора. — Расскажите, Виталий Александрович, о ваших делах. Майор Чернецкий не торопясь, не заглядывая в записи, как человек, хорошо знающий то, о чем говорит, начал докладывать: — Первая кража была в июле прошлого года, с субботы на воскресенье. Преступники открыли навесной замок на сарае, вплотную примыкающем к стене обувного магазина, и разобрали кирпичную кладку. Пробрались в склад магазина и украли сто с лишним пар мужской модельной обуви. Туфли были разные: французские, австрийские, в общем, импортные. Кражу обнаружили в понедельник, когда открыли магазин. У воров была автомашина, но какая, не узнали. Сарай выходит в соседний двор, а там некоторые жильцы имеют свои автомобили. Когда приехали на осмотр, уже нельзя было разобрать, где чьи следы. На месте взлома и в самом магазине тоже не нашли следов. Судя по кирпичной кладке, у преступников были хорошо сделанные инструменты. По делу много работали, но кражу раскрыть до сих пор не смогли. Следующая была четвертого августа этого года, тоже в субботу. Сначала преступники угнали автомобиль «Москвич», в двадцать один час пятнадцать минут, это мы точно установили. Хозяин машины подъехал домой, остановил ее у подъезда, на минуту вошел в квартиру положить какие-то вещи, вышел, а автомобиля нет. Он туда, сюда, сначала думал, кто-то пошутил, а потом прибежал к нам в отдел. Я как раз у дежурного был. Приказал по радио сообщить постовым и патрульным милиционерам, инспекторам ГАИ. Через час машину заметил наш постовой. Он обходил свой пост, направился к магазину «Ткани», хотел проверить, все ли там в порядке. От магазина ему навстречу «Москвич» — кузов «фургон», краска «белая ночь». Постовой решил: «Та самая, что только что угнали». Выскочил ей наперерез, думал задержать угонщиков, но они прямо на него. Он вовремя отскочил, но задним крылом они его все-таки задели, сбили с ног и повредили бедро. Кануников лежа успел дважды выстрелить в преступников и хорошо заметил, что их было двое. Оба взрослые, в темных рубашках, без головных уборов. Мы немедленно подняли на ноги весь состав. Прочесали город, станцию, окраины и еще через сорок минут нашли машину. Ее бросили прямо на дороге. В автомобиле пулевая пробоина. Пуля пробила запасной баллон и застряла в стенке сиденья, не причинив вреда преступникам. В машине на полу между сиденьями увидели этикетку магазина «Ткани», бросились туда — замки целы, пломбы на месте. На всякий случай вызвали заведующего. Вместе тщательно еще раз все осмотрели. На задней двери пломбы сорваны, три замка открытых, причем без единой царапины. Перед уходом воры наружный замок снова закрыли, кое-как даже пломбы подвесили. Украли несколько рулонов дорогих материалов. По этому делу тоже пока ничего нет. — Преступников милиционер может опознать? — Нет, товарищ полковник, не сможет. Он успел рассмотреть их в общих чертах. Кстати, машиной они пользовались меньше двух часов, и, судя по спидометру, проехали всего семь километров. Хозяин машины с женой до угона ездил за город, хотел узнать расстояние и точно запомнил показатели спидометра. Мы перевернули у себя буквально все. Проверили возможные версии, сигналы, всех подозрительных, но, — он развел руками, — и преступники, и похищенное точно кануло в воду. — Какое расстояние от места угона машины до места обнаружения? — снова спросил Дорохов. — Если заезжать к магазину, то получается около трех километров, точнее, два километра семьсот метров. — Есть у вас что-нибудь добавить? — По фактам и обстоятельствам нет. Предположения и выводы есть. — Порассуждаем чуть позже. Послушаем начальника уголовного розыска Степного района. Поднялся поджарый капитан. На медном от загара лице топорщились усики, небольшой, но все-таки чуб свисал на лоб. «Из казаков», — решил Дорохов и сразу припомнил дядьку, торговавшего вчера арбузами. — Слушаем вас, товарищ Григорьев. — У нас кража была двадцать седьмого апреля, с субботы па воскресенье. Магазин стоит посреди станицы. Новый, недавно построили. Преступники по переулку ночью подъехали на «Москвиче» к задней стене, взобрались на крышу, сдвинули на кровле лист шифера и проникли на чердак. Прорезали потолочное перекрытие и спустились в магазин, в подсобное помещение. Там полки, ну они по ним — как по лестнице. Из кабинета директора унесли маленький железный ящик. В нем были документы и тысяча девятьсот рублей. Из товаров почти ничего не взяли. У нас магазин смешанный. В одной стороне промтовары, а в другой — продукты. В гастрономическом отделе воры взяли головку сыра, несколько банок сардин и десятка полтора бутылок марочного коньяка. Там мешок с рисом стоял, так они рис на пол и, видно, все это в мешок сложили. У нас тоже орудовали двое, если судить по следам. Но, кроме следов протектора от машины, мы никаких вещественных доказательств не нашли. Сторож магазина живет напротив. Он немного прихворнул и всю ночь сидел возле своего окошка, но ничего не видел. Потом докладывал Киселев. Дорохов предложил: — Перерыва делать не будем. У меня всего несколько вопросов, а потом поговорим. Скажите, товарищ Григорьев, машину кто-нибудь видел? — Нет, товарищ полковник, только следы. — Отпечатки пальцев где-либо отыскали? — Ни одного. Шесть окурков от сигарет «Опал». Есть анализ слюны. — У вас, товарищ Чернецкий, в магазинах есть отпечатки пальцев? — Тоже нет. — А в автомашине? — В «Москвиче» мы каждый следочек обработали, но, кроме пальцев владельца и его жены, не оказалось ни одного мазка. Окурки были от «Беломорканала» и две обертки от конфет. — От каких конфет? — заерзал на стуле капитан Киселев. — Конфеты московские, фабрики имени Бабаева «Холодок», Хозяин и его жена их терпеть не могут. — Интересно. Очень интересно, — улыбнулся Дорохов. В кабинет вошел старший лейтенант милиции. Он лихо щелкнул каблуками, кинул руку к козырьку и доложил: — Товарищ полковник! Вас к телефону, в дежурную часть. — Из Москвы? — Нет, по местному. Говорят, очень срочно. — Извините, товарищи. Прошу подождать. — Александр Дмитриевич? Здравствуйте, это Зина Мальцева. Олег говорит правду, нож был. Мы со Звягиным нашли свидетелей. Они видели нож. Приезжайте скорее! — Голос девушки дрожал, прерывался. — Где вы находитесь? — обдумывая, как поступить, спросил Дорохов. — В том доме, где все случилось? Корпус «А», квартира пятьдесят восемь. А говорите откуда? Из автомата? Подождите минутку. — И, уже обращаясь к дежурному: — Есть машина? — Есть, товарищ полковник. — Зина! Вы слышите меня, Зина? Ждите во дворе, сейчас приеду… Старший лейтенант, передайте капитану Киселеву, что я на некоторое время отлучусь и приношу мои извинения. А им, наверное, стоит сделать перерыв, и вообще пусть пока без меня совещаются. Зина, видимо, от нетерпения не могла стоять на месте. Она то шла к подъезду, то возвращалась. Заметив милицейскую «Волгу», бросилась навстречу автомобилю: — Александр Дмитриевич! Мы еще в первый день подумали, что она врет и не разрешает мужу говорить правду. Пришли второй раз — она просто не дала ему говорить. Сегодня мы со Звягиным сели в беседке и следим. Как только она ушла, — сразу к нему, и Егор Михайлович все рассказал. Идемте скорее. Дорохов толком ничего не понял, но поспешил за Зиной. Дверь им открыл Звягин. Видно, он уже неплохо освоился в чужой квартире. — Здравствуйте, товарищ полковник, — с широченной улыбкой встретил он Дорохова. — Идемте, Егор Михайлович вам заявление пишет. В просторной чистой комнате за столом сидел хозяин квартиры. Он был взъерошенный, какой-то растерянный, все время прятал глаза. Увидев Дорохова, покорно встал, а дружинники, перебивая друг друга, рассказали Дорохову, что Егор Михайлович Кривоконь вместе со своей женой первыми подошли к убитому и увидели нож. — Да, я там видел нож. Большой, блестящий, с белой ручкой. Потом подошел молодой человек, взял этот нож, подержал его у меня перед носом и спрятал в карман. А мне сказал, чтобы мы с Олексой помалкивали. Он ушел, а мы молчали. Но вот эти дети, — он указал на дружинников, — мне, старому человеку, начали объяснять, что такое правда, и мне стало стыдно, стыдно за себя и за жену. И я подумал, что не имею права молчать. Пусть теперь меня судят, так мне и надо, старому идиоту, но я расскажу все, как было. Когда мы гуляли, к нам подбежал высокий юноша в очках и сказал, что человеку плохо, и стал просить, чтобы мы там побыли. Под аркой я увидел парикмахера. Он лежал на боку и даже не стонал. Недалеко от него, по правую руку, валялся большой нож с белой ручкой. Олекса нагнулась к парикмахеру, а к нам подошел еще один молодой человек, пощупал у парикмахера пульс, потом сказал, что дело плохо, и взял нож. Я заметил у него татуировку. На каждом пальце было наколото по одной букве, и я прочел: «Боря». Оп взял нож и подошел к нам. Он был немножко пьяный. Он замахнулся этим ножом, потом говорит, чтобы мы не боялись, что он шутит, но если мы расскажем, что видели его и этот нож, то он нас найдет даже на том свете. Когда мы шли в милицию, жена мне говорит: «Егор, зачем нам на тот свет? Давай будем тихо жить на этом и никому не скажем, что был нож и этот решительный молодой человек. Если нужно милиции, пусть сами ищут». И мы ни сказали. Дорохов, Звягин и Кривоконь уехали в городской отдел, а Зина осталась ждать возвращения женщины. Она должна была передать Олексе, что ее срочно вызывают в милицию. Ей не хотелось оставаться, но полковник успокоил, сказав, что на всякие формальности уйдет час-другой и к освобождению Олега она поспеет.* * *
В городском отделе, пока допрашивали Егора Михайловича, а Киселев копался в своих архивах, отыскивая человека с татуировкой «Боря», Дорохов собрал приглашенных. Он извинился перед ними за то, что был вынужден временно прервать разбор дел, и пообещал с ними встретиться несколько позже. Всо понимали, что полковнику сейчас не до них, и только майор Черенецкий не выдержал: — Может быть, насчет этих самых «Холодков» расскажете? Дорохов тем временем по телефону приказал доставить к нему арестованного Лаврова и еще раз извинился: — Не обессудь, майор. Расскажу, обязательно расскажу, а сейчас недосуг. Ты же знаешь: когда у нас, в уголовном розыске, запахло жареным, нужно действовать, а сейчас не только жареным, но и паленым попахивает. Майор направился к двери, но Дорохов его остановил: — Подожди, Черенецкий. Чуть не забыл. У тебя против железнодорожной станции есть буфет? — Есть, — удивился майор. — Новый, красивый, месяца два, как построили. — Тогда вот что. На тебе записку, — Дорохов, порывшись в документах, отыскал листок, что обнаружил в кармане халата парикмахера, — иди к Киселеву, он тебе все расскажет. А сам сейчас же в том буфете порасспрашивай, кто у них был в субботу перед кражей. Думаю, что приезжали на автомашине. В дверях появился Олег Лавров в сопровождении конвоира, и Дорохов, кивнув Черенецкому, указал Лаврову на стул. Олег, прежде чем сесть, положил на стол исписанную тетрадь. Дорохов, оставшись наедине с арестованным, подошел к нему, похлопал парня по плечу: — Все, Олег. Все. Кончились твои неприятности. Твоя невеста — заметь, именно она — отыскала свидетелей, видевших нож.* * *
Зина Мальцева, дожидаясь прихода Александры, от возбуждения просто не могла себе найти места. Ей хотелось куда-то бежать, с кем-то говорить. Она боялась, что освободят Олега, а тот выйдет на улицу и один побредет домой. Представилось, как Калерия Викторовна и Николай Федорович его встретят и без нее еще, чего доброго, разволнуются. Говорят, от таких потрясений сердечные приступы бывают. «Пойду-ка я позвоню им, подготовлю». Зина опрометью бросилась к телефону, что был за углом дома. Из автомата девушка вышла успокоенная и медленно побрела на свой «наблюдательный пункт». Возле подъезда она остановилась и снова забеспокоилась. Ей подумалось, что ждет напрасно, что, пока она звонила, Кривоконь уже вернулась и сидит дома, а она тут стоит зря и, может быть, оттягивает освобождение Олега. Девушка бросилась в подъезд, перескакивая через две ступеньки, подбежала к квартире и торопливо стала нажимать на кнопку звонка. Но дверь ей никто не открыл. Она постояла на лестничной площадке и так, на всякий случай, позвонила в дверь напротив. Открыл высокий, плотный мужчина. Он был в расстегнутой серой рубашке, синих джинсах, босиком и, увидев девушку, сразу что-то спрятал за спиной и довольно грубо спросил: — Что надо? — Вы уже вернулись? А где Олечка? — От неожиданной встречи Мальцева растерялась и говорила явно не то, что надо. Крючков буркнул, что это не ее дело, и резко закрыл дверь, подозревая в Зине одну из подруг сбежавшей жены. Девушка не рассердилась и снова позвонила. Не дожидаясь, пока откроется дверь, она гневно начала говорить: — Откройте, Степан. Еще неделю назад меня посылал к вам Олег. Я приходила несколько раз, но вас все не было. Крючков открыл дверь и сердито спросил: — Что же Олег сам не пришел? — Ну как же он может прийти! — Зина прижала к груди руки и вся подалась вперед. — Он ведь в тюрьме. — Олег? В тюрьме? Глупость какая-то! Вы что, разыграть меня решили? — рассердился Крючков и опустил руки. В правой оказалась мокрая половая тряпка, с которой тоненькой струйкой стекала вода. Крючков отбросил ее в сторону и предложил: — Зайди и расскажи все толком. На это не обращай внимания. — Он пнул босой ногой тряпку и объяснил: — Занимаюсь уборкой, — и, криво усмехнувшись, добавил: — Нужно кое-какую грязь отмыть. Идем на кухню, там уже прибрал. Степан достал сигарету, бросил пачку на стол, затянулся несколько раз, критически осмотрел Мальцеву и, видно, через силу заставил себя с ней разговаривать: — Что же случилось с Олегом, ты толково, по-человечески можешь рассказать? Зина начала рассказывать: — Седьмого августа, когда Олег вышел от вас, на него напал Славин, хотел убить, замахнулся ножом. — Подожди, — перебил ее Крючков. — Это какой же Славин? — Сергей, парикмахер. — Серега? Странно! — Ну вот, Олег оборонялся и применил самбо, выбил нож, а парикмахера отбросил. Славин упал, ударился головой об асфальт и умер. Олега арестовали, потому что нож исчез и ему не верят, что Славин напал первый. — Так я же ничего не знал. Где это случилось? — С той стороны двора, под аркой. Крючков вскочил, закурил новую сигарету. — Какой был нож? — Олег говорил, большой, с белой ручкой, а на ней насечка. — Куда же он делся? — До сегодняшнего дня никто не знал. А сегодня ваш сосед рассказал, что видел нож, но его забрал какой-то тип и припугнул их с женой. Если, мол, скажут, то он этим же ножом их зарежет. У того типа на пальцах руки наколоты четыре буквы: «Боря». — Ошибся Егор Михайлович, — пробормотал Степан и метнулся в комнату, прямо на босу ногу надел сандалии и грубо потребовал: — Ты иди. В милицию. Я туда сам приду и принесу нож. Я знаю этот нож и знаю, где он.* * *
Дорохов углубился в записи Лаврова, но читать их ему не пришлось. В кабинет точно пуля ворвалась Зина. Сначала она бросилась к Олегу, обняла его, а потом, застеснявшись, отошла в сторону и начала рассказывать, как нашла Крючкова, что он, очень взволнованный, убежал куда-то и только сказал, что пошел за ножом. Дорохов встал, подошел к девушке и потребовал повторить в точности, что сказал Крючков. — Степан говорил, что он знает, у кого нож, пойдет возьмет и принесет его вам. — Вот это уж совсем плохо! — Дорохов подошел к телефону и поспешно набрал номер. Увидев входящего к нему ответственного дежурного, отодвинул телефон: — Я как раз вам звонил. — Вам телеграмма из Москвы. В телеграмме говорилось:«На ваш запрос сообщаем, что интересующий вас человек судим четыре раза за квалифицированные кражи из магазинов, признан судом опасным рецидивистом. Последний раз освобожден из мест заключения шесть лет назад. Один год проживал по месту рождения, а потом уехал, не указав нового местожительства. Имеет татуировки. На левом предплечье кинжал, обвитый змеей».Дорохов попросил дежурного распорядиться, чтобы весь транспорт, имеющийся в городском отделе, и сотрудники всех служб никуда не отлучались. Вошедший в кабинет Киселев с удивлением слушал эти распоряжения. — Что-нибудь случилось, Александр Дмитриевич? Дорохов протянул ему телеграмму, тот прочел, хотел что-то спросить, но полковник его остановил: — Соседи разъехались? — Да нет, сидят у меня в кабинете. — Тогда пусть останутся, наверное и им найдется работа. У меня к тебе просьба: возьми Лаврова, отыщи свободный кабинет и посади его там, а чтобы ему не было скучно, пусть с ним побудет Зина. Мне думается, что еще некоторое время ему не следует показываться в городе. И вместе с Черенецким и Григорьевым заходите ко мне.
* * *
Степан Крючков почти бежал. Он готов был к любой ссоре, к скандалу, даже к драке. Решил, что возьмет его за горло и заставит отдать нож. Поэтому в квартиру буквально ворвался и с порога начал кричать и ругаться. — Ты что, Степан, с ума сошел? — холодно встретил егоБогданов. — Орешь на всю лестницу, дурак! Заходи, поговорим. — О чем говорить с тобой? — продолжал орать Степан. — Отдай нож парикмахера… Ну, тот, что я ему сам делал. — Нож Сереги? Зачем он тебе вдруг потребовался? — Я отнесу его в милицию, чтобы зря не путали хорошего парня. Богданов по-прежнему был спокоен. Он прошел на кухню, принес бутылку коньяку, две рюмки, наполнил их, и Крючков заметил, что руки у него совсем не дрожат, и как-то сам успокоился. — Отнесешь нож и скажешь, что взял у меня? — Константин отпил глоток. — В легавые решил податься? — Если даже и не скажу, то тебе от этого легче не будет. Мой сосед, которому ты пригрозил, уже час сидит у московского полковника и дает показания. Он, правда, кое-что напутал с татуировкой, но я думаю, что там разберутся. — Крючков взял себя в руки и стал говорить спокойно, так как понял, что криком он ничего не добьется. Богданов налил еще рюмку, встал, с сожалением посмотрел на Степана. — Ну что ж, я предполагал такой вариант. Идем. Нож в твоем гараже, отдам. — За что вы хотели убить Лаврова? — Это длинная история, да и не твоего ума дело. Богданов пристально посмотрел на Степана, что-то обдумывая, допил свою рюмку, снова налил себе еще половину и, видно приняв решение, усмехнулся: — Впрочем, если тебя интересует, расскажу. Обмолотили мы с парикмахером магазин, удачно. Едем домой, а нам навстречу постовой. Я говорю: «Отверни», а Серега прямо на него и сбил. Мы смылись, милиционер-то, наверно, отдал концы. Приехали домой, все хорошо, все спокойно. Стали прятать тряпки. Серега понес, а я остался у машины, а там товару — как на складе. Ну, смотрю, а мимо дружинник. Я поднял капот и делаю вид, что копаюсь в моторе, а он остановился, подошел ко мне и спрашивает, нет ли спички, ему, видите ли, прикурить надо. Я говорю — нет, а он снова пристает с вопросом: «Что, искра в баллон ушла? Может, помочь?» — «Да нет, говорю, спасибо, нашел уже эту проклятую искру». Он постоял, посмотрел, увидел тюки, спросил: «Что, в отпуск собираешься?» — «На юг, говорю, думаю махнуть, к морю». Ну, он и ушел. Хорошо, что Серега из гаража не вышел. А через день мы увидели, как он тебя, пьяного, тащил чуть ли не через весь город. Ты ведь наверняка разболтал ему про наши дела?… Не знаешь, какие? Удивительно! Богданов открыл гардероб, не спеша надел темно-серый костюм, даже сунул в карман чистый носовой платок и предложил: — Пошли. Степан отставил, не пригубив, свою рюмку и вышел вслед за Богдановым. Они шли быстро. Пересекли несколько улиц, вышли в сквер, миновали беседку, где еще никого не было, и подошли к гаражам. Крайний слева, из ребристого железа, принадлежал Крючкову. Вернее, это был гараж его отца и достался Степану по наследству. После того как отец с матерью поехали в отпуск на машине и погибли в автомобильной катастрофе, гараж долгое время пустовал. Потом Степан, поддавшись уговорам Богданова, разрешил оставлять в гараже его «Москвич». Они перешагнули канаву, вырытую перед гаражом. Богданов открыл навесной замок, с трудом оттащил перекосившуюся дверь, и они вошли. Машины Богданова в гараже не оказалось. — Где же твой «Москвич»? — Ты очень любопытный, Степа. Я же тебе говорил, что предвидел, что полковнику захочется встретиться со мной еще раз, ну, и на всякий случай приготовился. В гараже было темно, и Крючков, нашарив выключатель, зажег свет. Богданов стоял рядом и что-то обдумывал. — Слушай, Степа, а зачем тебе все это нужно? Ты же сам влипнешь в нехорошую историю. Мы с Сергеем воры. Но и ты не лучше выглядишь: кто поверит тебе, что гараж уступил мне вот просто так? Если ты заглянешь сюда, в ремонтную яму, то увидишь краденые тряпки. Думаешь, тебе поверят, что ты об этом не знал? Помнишь, я твоей Ирке подарил платье, так ведь оно краденое. И свитер тебе отдал тоже краденый. А туфли черные с тупыми носами? А? — Но ведь я же тебе платил за них деньги! — возмутился Крючков. — Вот об этом-то никто и не знает. Будь уверен, сам на допросе я о деньгах твоих не вспомню. Может быть, тебе нужны гроши, Степа? У меня есть. Разойдемся по красивому. — Отдай нож. — Нож? Ну что ж, бери. Вон там, за верстаком. Степан отодвинул верстак и увидел белую ручку ножа. Он нагнулся, хотел достать его, но в этот момент большой разводной ключ, который почему-то, называют французским, обрушился ему на голову. Богданов точно направил удар, но Степан, услышав сзади какое-то движение, инстинктивно обернулся, и тяжелый гаечный ключ только задел его. Крючков упал за верстак. Он слышал, как Богданов процедил сквозь зубы: — Иди, гад, доноси, если сможешь! — и, выскочив из гаража, начал закрывать дверь. Она не поддавалась, скрипела, а Степан постепенно приходил в себя. Вдруг его ладонь случайно нащупала ребристую рукоятку ножа. Крючков, шатаясь, поднялся, теплая густая кровь заливала глаза. Всем своим весом Крючков навалился на дверь, и дверь открылась. Впереди мелькнула фигура бегущего Богданова. Едва сдерживая крик от боли, охватившей голову, Степан бросился следом. Он бежал тяжело, одной рукой стирая кровь, в другой зажав нож. Впереди показалась беседка. В ней уже собралось несколько парней, и с ними Зюзя; они столпились у стола, не замечая приближающихся Богданова и Крючкова, и тогда Степан закричал: — Эй, Зюзя, держи его! Смотри, что гад со мной сделал! Парни растерянно смотрели на окровавленного Крючкова. Потом бросились к Богданову. Тот кинулся в одну сторону, в другую, но к нему с разных сторон подходили люди. Тогда оп остановился, сунул руку в карман брюк: — Не подходите. Всех перестреляю. Ребята остановились, только Зюзя сделал несколько шагов вперед. Его опередил Степан. Продравшись сквозь кустарник, он прямо шел на Богданова. — Не бойтесь. Нет у него ничего в карманах. При мне он одевался. Зюзя схватил Богданова и обшарил его карманы. Крючков тоже подошел к Богданову и резко рванул пояс его модных брюк, крючки и пуговицы посыпались в траву. — Теперь не уйдет. — За что он тебя? — спросил Зюзя, стягивая с себя рубашку. — Давай завяжу, а то смотреть на тебя страшно. Пока Зюзя неумело обматывал Степану голову, тот объяснял: — Вор он, да и подлец порядочный. Хотел смотаться, а меня подставить вместо себя. Я не соглашался, ну вот он и решил меня прибрать. Мало ему одного! Ну, пошли… — Куда? — испуганно спросил какой-то паренек. — Как — куда? В милицию, там его какой-то полковник ждет не дождется. — А, из Москвы? Он у нас вчера был. Ничего мужик. Вся ватага направилась в городской отдел, беседка опустела. Богданов шел молча, обеими руками поддерживая спадающие брюки. Молча двигались остальные, только Степан изредка сквозь зубы стонал и ругался. Процессия с каждым шагом обрастала. Присоединялись знакомые и просто любопытные прохожие. Когда поравнялись с Дворцом культуры, кто-то предложил: — Может, в дружину? А то Степану, чего доброго, не дойти. Рогов, Звягин, Кудрявцев опешили, когда в их комнату ввалилась вся компания «беседочников». В комнате стало тесно. Степан положил перед собой нож и, опускаясь на стул, всей грудью навалился, прикрыл его. С усилием, превозмогая боль, прошептал: — Вызывайте милицию и «скорую помощь».* * *
Хорошо, когда есть у дежурного чайник. Сахар или конфеты и чай всегда можно купить. В конце концов, можно у кого-нибудь попросить. Это в войну пили кипяток. Да и то что-нибудь заваривали, кто морковь, кто какую-нибудь траву. Дорохов тогда очень любил черную смородину. Почки, ветки иди листья — все равно. Сейчас, когда все было уже позади, Александр Дмитриевич готовился пить чай. А что ему оставалось делать еще? Допрашивать Богданова? Рано. Со Степаном Крючковым он успел вдосталь наговориться в больнице. Ему наложили несколько швов, и дежурный хирург разрешил с ним разговаривать. Уйти в гостиницу нельзя, неприлично. Нужно дождаться, когда вернутся сотрудники с обысков. Он хотел и сам поехать на обыски, но решил: не буду мешать людям, и без меня справятся. Оставался чай. Пусть говорят что угодно. Но что он может с собой поделать, если привык к этому напитку. Привык, и все. Пил его в Забайкалье. По нескольку чайников в день выпивал в Средней Азии. Дома завел культ чая и сердится, когда сын пьет такой же, как и он сам. Мальчишке двадцать один год, а он туда же. «Мальчишка»! Дорохов усмехнулся. Когда ему исполнилось двадцать один, он уже три года работал в уголовном розыске. Ему уже доверяли самостоятельно гонять банды, а тут «мальчишка»… Балуем мы своих детей, что ли? Опекаем излишне. Потягивая крепчайший чай, полковник отдыхал. Кто-то постучал в дверь и спросил разрешения войти. Дорохов взглянул на часы: ночь — одиннадцать часов, а кого-то черти несут. Стук повторился, и Дорохов крикнул: — Входите! Пришел начальник штаба дружины Рогов, а вместе с ним еще какой-то парень лет двадцати пяти, а может, и меньше. Оба они остановились у порога, увидели, что Дорохов стоит в одних носках, увидели недопитый чай и не знали, заходить ли им или уйти. Полковник нагнулся, полез под стол и объяснил: — Проклятая туфля! Вон где оказалась. Да вы заходите, Женя. Не стесняйтесь. Садитесь, а мне мой домашний вид простите. Хотите чаю? — Александр Дмитриевич, наш секретарь заводского комитета комсомола хочет с вами познакомиться. — Товарищ Зверев. Знаю вашу фамилию, знаю. Я к вам тоже ведь собирался, но потом. Он пожал крепкую руку парня и автоматически повторил про себя его словесный портрет с собственными выводами: брюнет, лицо открытое, приятное, на лбу шрам, старый, давнишний, видно, в детстве отчаянный был; загорелый, наверное, мало сидит в кабинете. Одет просто, значит, без претензий. Держится свободно, независимо, — это хорошо. — Чем кончилась лавровская история, вы, товарищ Зверев, знаете. Но у меня к вам есть другое дело. Вы в беседке бывали? Ну, в той, что в сквере. — Был раза два. Возле. И Рогов мне о ней рассказывал. — Нет, это все не то. Рогов и его дружинники ребят из беседки разогнать хотели, а саму беседку сломать. Мне думается, что это неправильно, там нужен комсомольский вожак, умный и обаятельный — спортсмен, турист или кто-нибудь в этом роде. В общем, интересный человек. Чтобы не речи «толкал», не нотации им читал, а сумел бы их заинтересовать увлекательным делом и постепенно перевел бы их в клуб. Там же, в этой беседке, готовый музыкальный ансамбль, есть и свои чтецы-декламаторы. Репертуар, конечно, не тот, — улыбнулся Дорохов. — Но будет гораздо хуже, если дирижировать в беседках начнут Славины или Богдановы, а они уже, имейте в виду, пытались. Беседа затянулась далеко за полночь. Полковник рассказал комсомольцам о том, что он видел в других городах. Говорил об успешной организации шефства, об объединении ребят по интересам. Зверев и Рогов тоже высказали немало ценных соображений. Когда Дорохов провожал молодых людей, он почувствовал удовлетворение — посетителями беседки займется комитет комсомола завода. Совсем рассвело, когда в кабинете Дорохова собрались все местные и приехавшие из соседних районов работники. Несмотря на бессонную ночь, настроение у всех было приподнятое, точно в большой праздник. Киселев подвел итоги операции: — В квартире Богданова мы ничего не нашли. Ни одной подозрительной вещи, разве что около килограмма конфет «Холодок». Попалось несколько писем, среди них есть интересные, наверное, наведут они нас на тех, кому сбывались краденые товары. В гараже Крючкова нашли тридцать две пары туфель, много шерстяных платьев и кофт и ткань всю полностью, с последней кражи. Самое интересное оказалось в автомашине «Москвич», что стояла во дворе у Бориса Воронина. У них частный дом с садом, вот туда и спрятал Богданов свою машину. Посмотрели мы — как будто ничего нет. Стали обыскивать, ощупывать и под приборной доской, возле руля, в специальных зажимах нашли пистолет, исправный, заряженный. В спинке заднего сиденья оказался тайник, в нем деньги, около трех тысяч рублей, и документы с фотографией Богданова, но на другую фамилию. Думаю, что этот ворюга почувствовал, что вот-вот его раскусят, и приготовился незаметно сбежать. У парикмахера, — Киселев взглянул на Дорохова, видно, припомнил давешний разговор о законности обыска, — наш Козленков и Григорьев нашли шерстяные вещи, семь пар новых туфель, а в тайнике, в полу, облигации трехпроцентного займа на две тысячи триста рублей. — Киселев помолчал и неожиданно попросил: — Может, теперь объясните нам, товарищ полковник, свои соображения? Кое-что во всех ваших выводах до сих пор неясно. Дорохов посмотрел на часы, было половина пятого утра. За окном рождался новый солнечный день. Ему подумалось, что только в уголовном розыске можно совещаться в такое время, но не мог же он вот так отпустить их всех по домам, не рассказав, как и почему пришел к своим выводам. — Ну что ж, раскрою, как говорится, вам все свои карты. Начну с убийства Славина. Когда мне рассказали, что за парень этот Лавров, я ему поверил. Поверил не потому, что он мне понравился. Просто его честность объективно подтверждалась. Сразу возник вопрос, почему Славин, абсолютно трезвый, решил расправиться с дружинником. Не мог же он вот просто так взять нож и пойти следить за первым встречным. Ходить по пятам, выжидать, когда будет подходящий момент и удобное место. Редко, очень редко бывают безмотивные убийства. Вот я и стал искать мотив. Кроме того, мне пришло в голову, что если убийство Лаврова подготавливалось заранее, то кто-то заинтересованный в этом деле мог наблюдать за непосредственным исполнителем — Славиным. Проверяя это предположение, разыскал обертки конфет. Сначала я подумал, что их мог съесть сам Славин. Но потом выяснилось, что он конфет не любил. Вполне логично было предположить, что нож взял этот самый наблюдавший. Нет ножа, и картина сразу меняется. Но так мог поступить только умный, хладнокровный, закоренелый преступник. Вот и пришлось мне вспомнить дедукцию и индукцию, то есть от частного случая, покушения на жизнь Лаврова, перейти к общему — оперативной обстановке. Сразу нашлись кражи из магазинов. Во всех кражах был разный метод. В одном случае — пролом стены, в другом — подбор ключей. В третьем — пропил потолка. Можно было считать, что это действуют разные преступники. Но меня насторожило, что ни на одном месте преступления не оказалось следов. Ни обуви, ни пальцев. Сначала это показалось странным, а потом решил, что это вполне закономерно. Что, если хотите, это характерный почерк опытных преступников, и как это ни парадоксально, подумалось, что разные способы краж тоже маскировка. Дальше сам собой напрашивался вывод, что эти воры живут здесь, в самом городе. Тут они обворовали один магазин, а потом переметнулись к соседям. Дома-то ведь проще засыпаться. Тем более, что парикмахера очень многие знали. Когда я нашел у него в халате записку, где говорилось о буфете против железнодорожной станции, полученную накануне кражи, то был почти полностью уверен, что Славин участник краж. При знакомстве с Богдановым бросились в глаза его татуировки. Особенно якорь. Он был неуклюжий и тушь разных оттенков. Долго не мог додуматься, какую именно татуировку он в якорь переделал. Потом уже сообразил, что это был кинжал, обвитый змеей. Одно время у «блатных» модны были такие кинжалы со змеями. Ну, а самое главное — подвела Богданова старая привычка. Он прочел протокол, расписался, снова прочел и давай прочерки делать там, где строчки в его ответах до конца страницы не доходили. Это уже была оплошность совершенно недопустимая… Когда-то была такая манера у преступников: боялись, что им что-нибудь допишут в протоколе, вот и не оставляли ни одной свободной строки в своих показаниях. В общем, как ни конспирировался этот матерый жулик, подвела его излишняя осторожность. А диктовал эту осторожность животный страх, обычный страх, когда тень за медведя принимают. Внешне Богданов держался хорошо. Но это только внешне. Запросил я Москву. Ответ вы знаете. Кстати, еще до получения телеграммы, как только вы, Виталий Александрович, сказали о конфетной обертке в «Москвиче», ну, думаю, все, как говорится, «в цвет». Теперь еще раз насчет Лаврова. Именно страх толкнул преступников на попытку его убить. Сейчас объясню. Меня неустанно преследовала мысль, где же пересеклись пути Лаврова, Славина и Богданова. Попросил Олега припомнить все, что с ним произошло, где он был, с кем встречался, о чем разговаривал последние дни. Исписал он целую тетрадь, и как вы думаете? Так и не вспомнил, что видел Богданова со своим автомобилем, когда он со Славиным прятал краденое. Что касается его дружбы с Крючковым, то она давнишняя, с детства. Оказывается, Лавров очень переживал, когда Степан совершил хулиганство и был осужден. Считал себя виноватым, что не удержал друга вовремя. Через день после кражи Богданов увидел Лаврова вместе с Крючковым и решил, что ему конец. Уговорить парикмахера убрать Лаврова Богданову не стоило большого труда: ведь Славин сбил в Узловой милиционера, а это в лучшем случае покушение на убийство. Последнюю кражу они совершили на угнанном автомобиле, а потом похищенное перегрузили в свою машину. Остальное вы знаете. Вот, пожалуй, и все… Хотя еще несколько слов. Когда Богданов послал парикмахера на расправу, он решил понаблюдать за ним. Вот так в жасминовых кустах появились обертки «Холодка». Если позволите, вам один совет: несмотря на занятость, вы хоть изредка встречайтесь и обсуждайте свои дела и еще побольше занимайтесь молодежью, да поосновательнее. Как бы это сказать получше? — Дорохов замолчал, подыскивая слова, и, видно не найдя других, закончил: — Нужно в душу ребятам заглядывать, только тепло, по-дружески.* * *
Разошлись отдыхать сотрудники, остались в кабинете Дорохов да Киселев. Полковник, задумавшись, смотрел в окно, а потом, обернувшись к капитану, спросил: — Ты можешь найти гербовую печать? — Могу. У дежурного есть. — Тогда знаешь что, отметь мне командировку и закажи билет на утренний рейс, я как раз успею. Устрою своим домашним праздник: они раньше чем через десяток дней меня не ждут, а я уж больно по дочурке соскучился. Киселев вышел из кабинета и быстро вернулся. — Послал Козленкова в аэропорт, он привезет вам билет в гостиницу, а вот печать. Давайте вашу командировку. Прощаясь, Дорохов почувствовал, что у Киселева не осталось и следа от той настороженности, с которой он его встретил.* * *
В номер к полковнику Козленков пришел вместе с Киселевым. У Николая в руках была большая плетеная корзина. Он поставил ее на пол и из кармана извлек билет. — Достал, Александр Дмитриевич, на первый рейс, через сорок минут вы будете в воздухе. Дорохов спрятал билет, расплатился, хотел взять свой чемодан, но Киселев его опередил: — Мы с Козленковым вас проводим. Николай, улыбаясь, пододвинул корзину к полковнику: — А это вам. Персики. — Да что вы, ребята! — скрывая растерянность, заторопился Дорохов. — У нас в Москве фруктов на каждом углу больше, чем у вас. — Это персики особенные, — запротестовал Козленков, — их наш Захар Яковлевич сам выращивал. Дорохов приподнял газету, прикрывавшую содержимое корзины, и увидел крупные розовобокие пушистые плоды. Киселев, переминаясь с ноги на ногу, попросил: — Возьмите, Александр Дмитрич, от чистой души, вашей дочке. Я ведь тоже первоэтажник, и вместо балкона у меня под окнами сад. Эти персики я привез из Крыма, посадил, выходил, и вот уже третий урожай. Прощаясь, Дорохов подумал, что из этой командировки он увезет с собой не только персики. В его наполовину исписанном блокноте останется на память много фамилий хороших людей.КИРИЛЛ БУЛЫЧЕВ УМЕНИЕ КИДАТЬ МЯЧ Фантастическая повесть
Он пришел, коротко звякнул в дверь, словно надеялся, что его не услышат и не откроют. Я открыл. Его лицо было мне знакомо. Раза два я оказывался с ним в лифте, но не знал, на каком этаже ему выходить, и оттого чувствовал себя неловко, смотрел в стенку, делал вид, что задумался, чтобы он первым нажал кнопку или первым спросил: «Вам на какой этаж?». — Извините, ради бога, — сказал он. — Вы смотрите телевизор? — Сейчас включу, — сказал я. — А что там? — Ни в коем случае! Простите. Я пошел. Я только в случае, если вы смотрите, потому что у меня сломался телевизор, а я решил… — Да заходите же, — сказал я. — Все равно сейчас включу. Делать нечего. Мне пришлось взять его за локоть, почти затянуть в прихожую. Он поглядел на тапочки, стоявшие в ряд под вешалкой, и спросил: — Ботинки снимать? — Не надо, — сказал я. Я был рад, что он пришел. Принадлежа к бунтующим рабам телевизора, я могу заставить себя его не включать. Даже два-три дня не включать. Но если я сдался, включил, то он будет работать до последних тактов прощальной мелодии, до слов диктора «спокойной ночи», до того, как исчезнет изображение ночной Москвы и сухо зашуршит пустой экран. В тот вечер я боролся с собой, полагая, что чтение — более продуктивный способ убить время. Я был доволен собой, но рука тянулась к выключателю, как к сигарете. Я обогнал гостя и включил телевизор. — Садитесь, — сказал я. — Кто играет? — Играют в баскетбол, — тихо ответил гость. — На кубок европейских чемпионов. Я вам действительно не мешаю? — Никого нет дома. Поставить кофе? — Что вы! Ни в коем случае. Он осторожно уселся на край кресла, и только тут я заметил, что он все-таки успел снять ботинки и остаться в носках, но не стал ничего ему говорить, чтобы не ввергнуть его в еще большее смущение. Гость был мне приятен. Хотя бы потому, что был мал ростом, хрупок и печален. Я симпатизирую маленьким людям, потому что сам невысок и всегда трачу много сил на то, чтобы никто не подумал, есть ли у меня комплекс по этой части. Он есть. Иногда мой комплекс заставляет меня казаться себе щенком пуделя среди догов и искать нору, чтобы спрятаться. Иногда принимает форму наполеоновских мечтаний и тайного желания укоротить некоторых из людей, глядящих на меня сверху вниз, по крайней мере на голову. Но я никого еще не укоротил на голову, хотя не могу избавиться от некоторой, надеюсь неизвестной окружающим, антипатии к родной сестре, которая выше меня и с которой я не люблю ходить по улицам. А вот тех, кто ниже меня ростом, я люблю. Я им многое прощаю. Когда-то, еще в школе, мой комплекс разыгрывался, выходил из рамок и приводил к конфликтам, которые плохо кончались для меня. Я мечтал стать сильным. Я собирал сведения о маленьких гениях — я вообще одно время был уверен, что гении бывают лишь маленького роста, отчего исключал из их числа Петра Первого, Горького и кое-кого еще. Я хранил вырезки о жизни штангистов-легковесов и боксеров в весе пера. Я смотрел баскетбол лишь тогда, когда на площадке играл Алачачян — это был самый маленький разыгрывающий в сборной Союза. Но как-то я увидел его в жизни и понял, что он человек выше среднего роста. И перестал смотреть баскетбол вообще. С годами все это сгладилось. Я не стал гением и понял, что небольшой рост еще не обязательное качество великого человека. Я бросил собирать вырезки о спортсменах, я сильно растолстел и подобрел к людям. Я спокойно смотрел на великанов, понимая, что и у них свои беды и трудности. — Вот так, — сказал с удовлетворением мой гость, когда центровой югославов промахнулся по кольцу, хотя никто не мешал ему положить мяч в корзину. В голосе гостя звучало злорадство. И я подумал, что он, наверно, не смог воспитать в себе философский взгляд на жизнь. Центровой тяжело затрусил обратно, к центру площадки. Бежать ему было тяжело, потому что каждая нога его была длиннее и тяжелей, чем я весь. Мой гость усмехнулся. Я лишь внутренне пожалел центрового. — Курлов, — представился вдруг мой гость, когда югославы взяли тайм-аут. — Николай Матвеевич. Физиолог. Две недели, как к вам в дом переехал. На шестой этаж. Теперь хоть запомню, на какую кнопку нажимать, если окажусь с ним в лифте, подумал я. Н сказал: — А я Коленкин. Герман Коленкин. — Очень приятно. Югославы распрямились и разошлись, оставив маленького тренера в одиночестве. Я знал, что это обман. Тренер вовсе не маленький. Он обыкновенный. Наши били штрафные. Мне интересно было наблюдать за Курловым. Интереснее, чем за экраном. Он поморщился. Ага, значит, промах. Потом кивнул. Доволен. Между таймами я приготовил кофе. Обнаружил в буфете бутылку венгерского ликера. Курлов признался, что я ему также приятен. Не объяснил почему, я не стал спрашивать — ведь не только сами чувства, но и побуждения к ним обычно взаимны. — Вы думаете, что я люблю баскетбол? — спросил Курлов, когда команды вновь вышли на площадку. — Ничего подобного. Я к нему глубоко равнодушен. И за что можно любить баскетбол? Вопрос был обращен ко мне. Глаза у Курлова были острые в углах и настойчивые. Он привык, что собеседник первым отводит взгляд. — Как — за что? Спорт — это… — ответить было нелегко, потому что к вопросу я не готовился. — Понимаете… — Сам принцип соревнования, — подсказал мне Курлов. — Азарт игрока, заложенный в каждом из нас? Я нашел другой ответ: — Скорее не так. Зависть. — Ага! — Курлов обрадовался. — Но не простая зависть. Очевидно, для меня, как и для других людей, спортсмены — воплощение наших тайных желаний, олицетворение того, что не дано сделать нам самим. Наверно, это относится и к музыкантам, и к певцам. Но со спортсменами это очевиднее. Ведь никто не говорил и не писал о том, что Моцарту в детстве сказали, что у него нет музыкального слуха, и тогда он стал тренироваться, пока не превратился в гениального музыканта. Так сказать нельзя — здесь талант чистой воды. А вот про спортсмена такого-то вы можете прочесть, что в детстве он был хилым, что врачи запретили ему все, кроме медленной ходьбы, но он тренировался так упорно, что стал чемпионом мира но барьерному бегу. Я попятно говорю? — Дальше некуда. А что вы можете сказать тогда об этих? Курлов щеголевато опрокинул в рот рюмку с ликером. Глаза у него блестели. — То же самое. — А не кажется вам, что здесь все зависит от роста? От игры природы. Родился феномен — два с половиной метра. Вот команда и кидает ему мячи, а он забрасывает их в корзинку. Я был не согласен с Курловым. — Такие уникумы — исключение. Мы знаем о двух-трех, не больше. Игру делает команда. — Ну-ну. На экране высоченный центровой перехватил мяч, посланный над головами игроков, сделал неловкий шаг и положил мяч в корзину. Курлов улыбнулся. — Талант, труд, — сказал он. — Все это теряет смысл, стоит в дело вмешаться человеческой мысли. Парусные суда исчезли, потому что появился паровой котел. А он куда менее красив, чем грот-мачта с полным вооружением. — Оттого, что изобрели мотоциклы, появился мотобол, — возразил я, — футбол не исчез. — Ну-ну, — сказал Курлов. Он остался при своем мнении. — Поглядите, что эти люди умеют делать из того, что недоступно вам, человеку ниже среднего роста (я внутренне поклонился Курлову), человеку умственного труда. Они умеют попадать мячом в круглое отверстие, причем не издалека. Метров с трех-пяти. И притом делают массу ошибок. Говорил он очень серьезно, настолько серьезно, что я решил перевести беседу в несколько более шутливый план. — Я бы не взялся им подражать, — сказал я. — Даже если бы потратил на это всю жизнь. — Чепуха, — сказал Курлов. — Совершенная чепуха и бред. Все на свете имеет реальное объяснение. Нет неразрешимых задач. Эти молодые люди тратят всю жизнь на то, чтобы достичь устойчивой связи между мозговыми центрами и мышцами рук. Глаз всегда или почти всегда может правильно оценить, куда следует лететь мячу. А вот рука после этого ошибается. — Правильно, — ответил я. — Знаете, я когда-то учился рисовать. Я совершенно точно в деталях представлял себе, что и как я нарисую. А рука не слушалась. И я бросил рисовать. — Молодец! — одобрил Курлов. — Спасибо. Последнее относилось к тому, что я наполнил его рюмку. — Значит, — продолжал Курлов, — система «мозг-рука» действует недостаточно четко. Дальнейшее — дело физиологов. Стоит лишь найти неполадки в этой системе, устранить их — и баскетболу крышка. Курлов строго посмотрел на экран. Я понял, что комплексы, которые мне удалось в себе подавить, цепко держали в когтистых лапах моего соседа. — Ради этого я и пришел. — Сюда? — Да. Пришел смотреть телевизор. И теперь я знаю, что могу превратить в гениального баскетболиста любого неуча. Вас, например. — Спасибо, — сказал я. — Когда же я стану баскетболистом? — Мне нужно два месяца сроку. Да, два месяца, не больше. Но потом не жалуйтесь. — Чего же жаловаться? — улыбнулся я. — Каждому приятны аплодисменты трибун. Я встретился с Курловым вновь недели через две. В лифте. Он раскланялся со мной и сказал: — Мне на шестой. — Помню. — И, кстати, в моем распоряжении еще шесть недель. — Как так? — Я забыл о разговоре у телевизора. — Шесть недель, и после этого вы становитесь великим баскетболистом. Прошло не шесть недель, а больше. Месяца три. Но потом часов в семь вечера вновь раздался звонок в дверь. Курлов стоял на лестнице с большой сумкой в руке. — Разрешите? — У вас снова сломался телевизор? Курлов ничего не ответил. Он был деловит. Он спросил: — Дома никого? — Никого, — ответил я. — Тогда раздевайтесь. — Вы говорите, как грабитель. — Раздевайтесь, а то стемнеет. До пояса. Да послушайте, в конце концов! Вы хотите стать великим баскетболистом или нет? — Но ведь это была… — Нет, не шутка. Я решил эту задачку и дарю вам первому удивительную способность управлять собственными руками. Казалось бы, бог должен был позаботиться об этом с самого начала, так пет, приходится вносить коррективы. Сумку он поставил в коридоре на пол, из кармана пиджака извлек небольшую плоскую коробку. В ней обнаружился шприц, ампулы. — Почему вы не спросите, не опасно ли это для жизни? — спросил он не без сарказма. — Признаться, я растерян. — «Растерян» — правильное слово. Но, надеюсь, не напуган? Или мне сбегать домой за дипломом доктора медицинских наук? Нет? Ну и хорошо. Больно не будет. Я покорно стащил с себя рубашку, майку, благо был теплый вечер. Мне тогда не пришла в голову мысль, что мой сосед может быть сумасшедший, убийца. Эта мысль мелькнула после того, как он вкатил мне под правую лопатку два кубика раствора. Но было поздно. — Вот и отлично, — сказал Курлов. — Я ставил уже опыты с обезьянами. Результаты поразительные. Надеюсь, у вас будут не хуже. — А что с обезьянами? — глупо спросил я, натягивая майку. — Ничего интересного для профана, — отрезал Курлов. — У них эти связи функционируют лучше, чем у людей. Тем не менее павиан по кличке «Роберт» умудрился попасть грецким орехом в глаз нелюбимому смотрителю на расстоянии пятидесяти метров. — Что теперь? — спросил я. — Теперь — в Лужники, — ответил Курлов. — До темноты осталось три часа. Два с половиной. Посмотрим, что получилось. — А уже действует? — К тому времени, как подъедем, подействует. В автобусе он вдруг наклонился к моему уху и прошептал: — Совсем забыл. Никому ни слова. За неофициальный эксперимент с меня снимут голову и степень. Если бы не данное вам слово, человечество получило бы этот дар через пять лет. — Почему через пять? — Потому что каждый эксперимент надо проверить другим экспериментом. А тот — следующим. И еще ждать, не получатся ли побочные эффекты. — А если получатся? Курлов пожал плечами. Он был великолепен. У него был явный наполеоновский комплекс. Он подождал, пока автобус остановился, спрыгнул первым на асфальт, подобрал с земли камешек и запустил им в пролетавшего мимо шмеля. Шмель упал в траву и обиженно загудел. — Я вкатил себе эту дозу две педели назад. С тех пор ни разу не промахивался. Мы отыскали почти пустую баскетбольную площадку. Один щит был свободен, у другого двое девчат перебрасывались мячом, словно не решались закинуть его в корзину. — Надо раздеваться? — спросил я. — Зачем? Сначала так попробуем. Потом я удивлялся, почему за все время пути, в первые минуты на площадке я почти ни о чем не думал. То есть думал о каких-то глупостях. Во сколько завтра утром вставать, надо купить хлеба на ужин, погода стоит хорошая, но может испортиться, вот о чем я думал. — Ну, — сказал Курлов, доставая из сумки мяч ровно за секунду до того, как я сообразил, что мяча у нас нет. Я поглядел па кольцо. Кольцо висело страшно высоко. Оно оказалось маленьким, и попасть в него мячом было совершенно невозможно. Девушки у второго щита перестали перебрасываться мячом и изумленно глазели на двух среднего возраста маленьких мужчин, толстого (я) и тонкого (Курлов), которые явно собирались заняться баскетболом. Девушкам было очень смешно. — Ну, Коленкин, — произнес торжественно Курлов, — ловите мяч! Я слишком поздно протянул руки, и мяч выскочил из них и покатился по площадке к девушкам. Я тяжело затрусил за ним. Вид у меня был нелепый, и мне очень захотелось домой. Я начал себя ненавидеть за бесхарактерность. Одна из девушек остановила мяч ногой, и он медленно покатился ко мне навстречу. Я сказал, не разгибаясь, «спасибо», но девушки, наверное, не расслышали. Они смеялись. — Прекратите смех! — крикнул с той стороны площадки Курлов. — Вы присутствуете при рождении великого баскетболиста! Девушки просто зашлись от хохота. Курлов не ощутил веселья в ситуации. Он крикнул мне: — Да бросайте, в конце концов! Этот крик заставил меня поступить совсем уж глупо. Я подхватил мяч, думая, что он легче, чем был на самом деле, и кинул его в сторону кольца. Мяч описал низкую дугу над площадкой и упал у ног Курлова. — Ой, я сейчас умру! — выговорила одна из девушек. Ей никогда в жизни не было так смешно. — Если вы будете метать мяч от живота, словно обломок скалы, — строго проговорил Курлов, будто не видел, что я повернулся, чтобы уйти с этой проклятой площадки, — то вы никогда не попадете в кольцо. Прекратите истерику и кидайте мяч. И не забудьте, что я вкатил вам весь запас сыворотки, выработанной в институте за два месяца. Последнюю фразу он произнес шепотом, вкладывая мне в руки мяч. — Смотрите на кольцо, — сказал он вслух. Я посмотрел на кольцо. — Вы хотите в него попасть мячом. Представьте себе, как должен лететь мяч. Представили? Кидайте! Я кинул и промахнулся. Девушки обрадовались еще больше, а я почувствовал вдруг громадное облегчение. Вся эта сыворотка и весь этот кошмар — лишь сон, шутка, розыгрыш. — Еще раз, — ничуть не смутился Курлов. — Уже лучше. И перед тем как кинете, взвесьте мяч на ладонях. Это помогает. Вот так. Он наклонился, подобрал мяч и бросил его в кольцо. Мяч описал плавную дугу, не задев кольца, вошел в самый его центр и мягко провалился сквозь сетку. Почему-то это достижение Курлова вызвало новый припадок хохота у девчат. Но Курлов просто не замечал их присутствия. Он был ученым. Он ставил эксперимент. И тогда я снял пиджак, передал его Курлову, взвесил мяч на ладонях, совершенно отчетливо представил себе, как он полетит, как он упадет в кольцо, и бросил. Я никогда в жизни не играл в баскетбол. Я попал мячом точно в центр кольца. Ничуть не хуже, чем Курлов. Курлов догнал мяч и вернул его мне. Я вышел на позицию для штрафного удара и закинул мяч оттуда. Чего-то не хватало. Было слишком тихо. Девушки перестали смеяться. — Вот так-то, — сказал буднично Курлов и отбросил мне мяч. — А теперь одной рукой. Одной рукой бросать было труднее. Но после двух неудачных попыток я сделал и это. — А теперь бегите, — сказал Курлов. — Бросайте с ходу. Бежать не хотелось. Я уже устал. Но Курлова поддержала девушка. — Попробуйте, — сказала она, — ведь вы же талант. Я тяжело пробежал несколько шагов с мячом в руке. — Нет, — сказала девушка, — так не пойдет. Вы же мяча из рук не выпускаете. Вот так. И она пробежала передо мной, стуча мячом по земле. Я попытался подражать ей, но тут же потерял мяч. — Ничего, — сказала девушка. — Это вы освоите. Надо будет сбросить килограммов десять. Девушка была выше меня на две головы, но я не чувствовал себя маленьким. Я умел забрасывать мячи в корзину не хуже, чем любой из чемпионов мира. Бегать я не стал. Я просто кидал мячи. Кидал из-под кольца, кидал с центра площадки (в тех случаях, если хватало сил добросить мяч до щита). Девушка бегала для меня за мячом к была так довольна моими успехами, словно это она вырастила меня в дворовой команде. Вдруг я услышал: — Коленкин, я жду вас в кафе. Пиджак останется у меня. — Подождите! — крикнул я Курлову. Но Курлов быстро ушел. И я не успел последовать за ним, потому что дорогу мне преградили три молодца по два метра ростом и упругий, широкий человек чуть повыше меня. — Кидайте, — сказал упругий человек. — Кидайте, а мы посмотрим. Из-за его спины выглянула вторая девушка. Оказывается, пока ее подруга занималась моим воспитанием, она сбегала за баскетболистами на соседнюю площадку. Так вот почему скрылся Курлов! Мне бы надо уйти. В конце концов, я был в этой истории почти ни при чем. Но тщеславие, дремлющее в любом человеке, проснулось уже во мне, требовало лавров, незаслуженных, но таких желанных! Сказать им, что я всего-навсего подопытный кролик? Что я не умел, не умею и не буду уметь кидать мячи? И, может быть, благоразумие взяло бы все-таки верх и я ушел бы, отшутившись, но в этот момент самый высокий из баскетболистов спросил девушку: — Этот? И голос его был настолько преисполнен презрения ко мне, к моему животику, к моим дряблым щекам, к моим коротковатым ногам и мягким рукам человека, который не только обделен природой по части роста, но еще притом и не старался никогда компенсировать это спортивными занятиями, голос его был настолько снисходителен, что я сказал: — Дайте мне мяч. Сказал я это в пустоту, в пространство, но знал уже, что у меня есть здесь верные поклонники, союзники, друзья — девушки на две головы выше меня, но ценящие талант, какую бы скромную оболочку он ни имел. Девушка кинула мне мяч, и я, поймав его, тут же забросил в корзину с половины площадки, крюком, небрежно, словно всю жизнь этим и занимался. И самый высокий баскетболист был разочарован и подавлен. — Ну дает! — сказал он. — Еще раз, — сказал тренер. Девушка кинула мне мяч, и я умудрился его поймать. Забросить его было несложно. Надо было лишь представить, как он полетит. И он летел. И в этом не было ничего удивительного. Толстый тренер вынул из заднего кармана тренировочных брюк с большими белыми лампасами блокнот, раскрыл его и записал что-то. — Я ему кину? — спросил высокий баскетболист, который меня невзлюбил. — Кинь, — сказал тренер, не поднимая глаз от блокнота. — Ну, лови, чемпион, — сказал баскетболист, и я понял, что мне несдобровать. Я представил, как мяч понесется ко мне словно пушечное ядро, как свалит меня с ног и как засмеются девушки. — Поймаешь, — сказал баскетболист, — сразу кидай в кольцо. Ясно? Он метнул мяч, и тот полетел в меня, словно ядро. И я сделал единственное, что мне оставалось: отскочил на шаг в сторону. — Ну, чего же ты? — Баскетболист был разочарован. — Правильно, — сказал тренер, закрывая блокнот и оттопыривая свободной рукой задний карман, чтобы блокнот влез на место. — Паса он еще не отрабатывал. Играть будете? — Как? — спросил я. Тренер поманил меня пальцем, и я послушно подошел к нему, потому что он знал, как манить людей пальцем, чтобы они безропотно к нему подходили. — Фамилия? — спросил он, вновь доставая блокнот. — Коленкин, — сказал я. — Вы что, серьезно? — обиделся баскетболист, нависавший надо мной, как пизанская башня. — Я всегда серьезно, — ответил тренер. Как раз в тот момент я хотел было сказать, что не собираюсь играть в баскетбол и ничто не заставит меня выйти на площадку снова. Но высокий баскетболист опять сыграл роль демона-искусителя. Мне очень хотелось ему досадить. Хотя бы потому, что он обнял одну из сочувствующих мне девушек за плечи, словно так было положено. — Так вот, Коленкин, — сказал тренер строго, — послезавтра мы выезжаем. Пока под Москву, на нашу базу. Потом, может быть, в Вильнюс. День на сборы хватит? — Молодец, Андрей Захарович! — воскликнула девушка, освобождаясь из объятий баскетболиста. — Пришли, увидели, победили. — Таланты, — ответил ей тренер, не спуская с меня гипнотизирующего взора, — на земле не валяются. Талант надо найти, воспитать, обломать, если нужно. За сколько стометровку пробегаете? — Я? — Нет. Иванов. Конечно, вы. — Не знаю. — Так я и думал. — За полчаса, — вмешался баскетболист. — Ой, молчал бы ты, Иванов! — возмутилась вторая девушка. — Язык у тебя длинный. — А бросок хромает, — сказал тренер. — У меня? — У тебя. Коленкин тебе пять из двух десятков форы даст. Мне? — Ну что ты заладил? Пойди и попробуй. И ты, Коленкин, иди. Кидайте по десять штрафных. И чтоб все положить. Ты слышишь, Коленкин? И я тут понял, что совершенно неспособен сопротивляться Андрею Захаровичу. И лишь мечтал, чтобы пришел Курлов и увел меня отсюда. И еще, чтобы тренер не заставил меня тут же бежать стометровку. Мы вышли на площадку. Иванов стал впереди меня. Он был зол. Зол до шнурков на кедах, до трусов, которые как раз помещались на уровне моих глаз. И я понял, что мне очень хочется, крайне желательно забрасывать мячи в корзину лучше, чем это делает Иванов, который, очевидно, только этим и занимается с душой. Остальное — между прочим. А кстати, что я делаю с душой? Прихожу на службу? Сажусь за свой стол? Нет, выхожу покурить в коридор. Захотелось закурить. Я полез в карман за сигаретой, но мяч мешал мне, и я прижал его локтем к боку. И тут же меня остановил окрик всевидящего тренера. Моего тренера. — Коленкин! О никотине забудь! — Не путайся под ногами! — грубо сказал Иванов и больно толкнул меня в живот коленом. Я сдержал стон. Отошел на шаг. Иванов обхватил мяч длинными пальцами, так что он исчез в них, как арбуз в авоське. Присел, выпрямился и кинул. Мяч плавно опустился на кольцо, подпрыгнул, но все-таки свалился в корзину. — Плохо, Иванов, очень плохо, — сказал тренер. Моя очередь. Мяч сразу стал тяжелым и руки вспотели. Я хотел бросить его небрежно, но забылмысленно проследить его полет, и мяч опустился на землю у щита. Девушки охнули. Тренер нахмурился. Иванов улыбнулся. А я решил бороться до последнего. Больше я не промахнулся ни разу. Из двадцати бросков ни разу. Иванов промазал шесть. И когда мы вернулись к тренеру, тот сказал: — Вот так, Коленкин. Только чтоб без обмана и увиливаний. Паспорт твой я скопировал. Почему-то мой пиджак висел на ветке дерева рядом с тренером. Значит, хитрый Курлов вернулся и отдал тренеру мой пиджак. Какое коварство! — Вот тебе, — продолжал тренер, — временное удостоверение нашего общества. Формальности я сегодня вечером закончу. Вот держи, не потеряй, официальное письмо начальнику твоей конторы. Сборы двухнедельные. Я думаю, что он отпустит, тем более что ему будет звонок. Твоя контора, к счастью, в нашем обществе. Я понял, что тренер делил все организации нашей страны по соответствующим спортивным обществам, а не наоборот. — Вот тебе список, чего с собой взять: зубную щетку, и так далее. Труднее всего будет форму подогнать. Ну ничего, придумаем. Разыгрывающего из тебя не получится, малоподвижен. Будешь центровым. — И на прощанье, подталкивая меня к выходу, он сказал: — Запомни, Коленкин. Ты — наше тайное оружие. На тебе теперь большая ответственность. Зароешь талант в землю — не простим. Из-под земли достанем. — Ну зачем уж так, — сказал я виновато, потому что знал, что он достанет меня из-под земли. Вернувшись домой, я долго звонил в дверь Курлову. Но он то ли не хотел открывать, то ли не пришел еще. Я решил зайти к нему попозже. Но как только добрался до дивана, чтобы перевести дух, сразу заснул, и мне снились почему-то грибы и ягоды, совсем не баскетбол, как должно было быть. Утром я шел на службу и улыбался. Улыбался тому, какое смешное приключение случилось со мной вчера на стадионе. Думал, как расскажу об этом Сенаторову и Аннушке, как они не поверят. Но события развивались совсем не так, как я предполагал. Во-первых, у входа дежурил сам заведующий кадрами. Шла кампания борьбы за дисциплину. Я о ней, разумеется, забыл и опоздал на пятнадцать минут. — Здравствуйте, Коленкин, — сказал мне заведующий кадрами. — Иного я от вас и не ждал. Хотя, кстати, как уходить со службы раньше времени, вы первый. И тут же он согнал с лица торжествующее выражение охотника, выследившего оленя-изюбря по лицензии, и сказал почти скорбно: — Ну чем можно объяснить, что весьма уважаемый, казалось бы, человек так халатно относится к своим элементарным обязанностям? Скорбь заведующего кадрами была наигранной. Иного поведения от меня он и не ждал. И мне захотелось осадить его, согнать с его лица сочувствующую улыбку, распространявшуюся от округлого подбородка до лысины. — Переутомился, — сказал я, хотя, честное слово, говорить этого не намеревался. — На тренировке был. — Ага, — сказал кадровик. — Конечно. Так и запишем. И каким же видом спорта, если не секрет, вы увлеклись, товарищ Коленкин? — Баскетболом, — сказал я просто. Кто-то из сослуживцев хихикнул у меня за спиной, оценив тонкий розыгрыш, который я позволил себе по отношению к кадровику. — Разумеется, — сказал кадровик. — Баскетболом, и ничем другим. — Он посмотрел на меня сверху вниз. — И это запишем. — Записывайте, торопитесь, — сказал я тогда. — Все равно завтра на сборы уезжаю. Кстати, я попозже к вам загляну, надо будет оформить приказ о двухнедельном отпуске. И я прошел мимо него так спокойно и независимо, что он растерялся. Разумеется, он не поверил ни единому слову. Но растерялся, потому что я вел себя не так, как положено по правилам игры. — Коленкин! — крикнула из дальнего конца коридора Вера Яковлева, секретарь директора. — Скорее к Главному. Ждет с утра. Три раза спрашивал. Я оглянулся, чтобы удостовериться, что кадровик слышал. Он слышал и помахал головой, словно хотел вылить воду, набравшуюся в ухо после неудачного прыжка с вышки. — Здравствуйте, — сказал мне Главный, поднимаясь из-за стола при моем появлении. Смотрел он на меня с некоторой опаской. — Вы знаете? — О чем? — О сборах? — Да, — сказал я. — Не могу поверить, — сказал Главный. — Почему же вы никогда никому не говорили, что вы баскетболист?… Это не ошибка? Может, шахматы? — Нет, — сказал я, — это не ошибка. Приходите смотреть. — С удовольствием. Я был совершенно ни при чем. Меня несла могучая река судьбы. Каждое мое слово, действие, движение вызывало к жизни следующее слово, движение, привязанное к нему невидимой для окружающих цепочкой необходимости. Из кабинета директора я прошел к себе в отдел. — На кадровика нарвался? — спросил Сенаторов. — Если уж решил опаздывать, опаздывай на час. Пятнадцать минут — самый опасный период. — А еще лучше не приходить тогда вообще, — добавила Аннушка, поправляя золотые волосы и раскрывая «Литературку». — Я уезжаю, — сказал я. — На две недели. — В командировку? — спросила Аннушка. — В Симферополь? Возьми меня с собой, Герман. — Нет, — сказал я и почувствовал, что краснею. — Я на сборы еду. На спортивные. Готовиться к соревнованиям. — Ах, — сказала Аннушка, — сегодня не первое апреля. — Глядите, — сказал я, не в силах оттягивать самый тяжелый момент. Ведь эти люди знали меня ровно одиннадцать лет. Я передал Сенаторову официальное письмо о вызове меня па тренировочные сборы, завизированное директором. — Так, — сказал Сенаторов, прочтя письмо. За окном на ветвях тополя суетились какие-то пташки, солнце уже залило мой стол, который я давно собирался отодвинуть от окна, чтобы не было так жарко, но мысль о столь очевидном физическом усилии раньше отпугивала меня. Я подошел к столу, поднатужился и отодвинул его в тень. — Так, — сказал Сенаторов. — Если бы я чего-нибудь понимал. — Дай сюда, — сказала Аннушка. — Куда его отправляют? — Тренироваться. Аннушка хмыкнула, проглядела бумагу и сказала с несвойственным ей уважением в голосе: — Хорошо устроился. — Но я не устраивался, — сказал я, чувствуя, как неубедительно звучит мой голос, — они сами меня обнаружили и настояли. Даже шефу звонили. — Тогда, — сказала Аннушка, возвращая мне бумагу, — если не секрет, что ты умеешь делать в спорте? Толкать штангу? Боксировать? Может, ты занимаешься самбо, но почему тогда ты еще не в дружине? Я вдруг понял, что помимо своей воли подтягиваю животик и пытаюсь выпятить грудь. И Аннушка увидела это. — Ага, ты орел, — сказала она. — Ты собираешься бежать десять километров. Почему бы тебе не признаться товарищам, что у тебя есть знакомая врачиха, которая таким хитрым образом устроила тебе бюллетень в самый разгар отпускного сезона, когда нам, простым смертным, приходится потеть здесь над бумажками? И я понял, что отвечать мне нечего. Что бы я ни ответил, для них будет неубедительно. И они будут правы. — Ладно, — сказал я. — Пока. Читайте газеты. И то, что я не стал спорить, ввергло Аннушку в глубокое изумление. Она была готова ко всему — к оправданиям, к улыбке, к признанию, что все это шутка. А я просто попрощался, собрал со стола бумаги и ушел. В конце концов, я был перед ними виноват. Я был обманщиком. Я собирался занять не принадлежащее мне место на колеснице истории. Но почему не принадлежащее? А кому принадлежащее? Иванову? Рассуждая так, я выписал себе командировку на спортивные сборы (директор решил, что так более к лицу нашему солидному учреждению), пытаясь сохранять полное спокойствие и никак не реагировать на колкие замечания сослуживцев. Новость о моем отъезде распространилась уже по этажам, и на меня показывали пальцами. — Защищайте честь учреждения, — сказал кадровик, ставя печать. — Попробую, — сказал я и ушел. Я уже не принадлежал себе. Я ехал в электричке в Богдановку, так и не застав дома Курлова, и пытался размышлять о превратностях судьбы. В общем, я уже нашел себе оправдание в том, что я еду заниматься бросанием мячей в корзину. Во-первых, это никак не менее благородное и нужное народу занятие, чем переписывание бумаг. Во-вторых, я и в самом деле, очевидно, могу принести пользу команде и спорту в целом. Я никак не большее отклонение от нормы, чем трехметровые гиганты. В-третьих, мне совсем не мешает развеяться, переменить обстановку. И, наконец, нельзя забывать, что я подопытный кролик. Я оставил Курлову записку со своими координатами, и он мог меня разыскать и контролировать ход опыта. Правда, я вдруг понял, что совсем не хочу, чтобы Курлов объявился в команде и объяснил всем, что мои способности — результат достижения биологии по части упрочения центров управления мышечными движениями. Тогда меня просто выгонят как самозванца, а сыворотку употребят для повышения точности бросков у настоящих баскетболистов. Почему-то мне было приятнее, чтобы окружающие думали, что мой талант врожденный, а не внесенный в меня на острие иглы. Правда, во мне сидел и попискивал другой голос — скептический. Он повторял, что мне уже сорок лет, что мне нелегко будет бегать, что вид мой на площадке будет комичен, что действие сыворотки может прекратиться в любой момент, что я обманул своего начальника… Но этот голос я подавил. Мне хотелось аплодисментов. Тренер стоял на платформе. — Третий поезд встречаю, — признался он. — Боялся, честно говорю — боялся я, Коленкин, за тебя. У меня два центровых с травмами и разыгрывающий вступительные экзамены сдает. А то бы я тебя, может, и не взял. Возни с тобой много. Но ты не обижайся, не обижайся. Я так доволен, что ты приехал! А ты тоже не пожалеешь. Коллектив у нас хороший, дружный, тебя уже ждут. Если что — обиды и так далее, — сразу мне жалуйся. Поднимем вопрос на собрании. — Не надо на собрании, — сказал я. — Вот и я так думаю. Обойдется. Ты только держи нос морковкой. Дорога со станции была пыльная. Мы заглянули на небольшой рынок неподалеку от станции, и тренер купил помидоров. — Я здесь с семьей, — сказал он. — Малышку своего на свежий воздух вывез. А то ведь, не поверишь, как моряк в дальнем плавании. Вот супруга и попросила покупки сделать. На базе было пусто. Лишь в тени, у веранды, два гиганта в майках играли в шашки. Мы прошли мимо баскетбольной площадки. Я поглядел на нее с легким замиранием сердца, как начинающий гладиатор смотрит, проходя, на арену. — Вот, — сказал тренер, вводя меня в длинную комнату, в которой свободно разместились три койки: две удлиненные, одна обычная, для меня. — Белье тебе сейчас принесут, полотенце и так далее. С соседями сам познакомишься. Обед через час. Так что действуй, а я к семье забегу. И он исчез. Лишь мелькнула в дверях широкая спина и оттопыренный от блокнота задний карман тренировочных брюк. Я уселся на обычную койку и постарался представить себе, что думает, оказавшись здесь впервые, настоящий баскетболист. Тот, что годами кидал этот проклятый мяч, поднимаясь от дворовой команды к заводской, потом выше, выше. Потом попадал сюда. Он, наверно, волнуется больше, чем я. Где-то за стенкой раздавались сухие удары. Я догадался — там играли на бильярде. Я подумал, что вечером надо будет попробовать свои силы на бильярде. Ведь возникшие во мне связи вряд ли ограничиваются баскетболом. Это было бы нелогично. А как сейчас Аннушка и Сенаторов? Что говорят в коридорах моего учреждения? Смеются? Ну, тогда придется пригласить их… И тут в коридоре возникли громкие шаги, и я понял, что приближаются мои соседи, товарищи по команде. И я вскочил с постели и попытался оправить матрац, на котором сидел. Вошла грузная женщина гренадерских размеров. Она несла на вытянутых руках пачку простынь, одеяло и подушку. — Где здесь новенький? — спросила она меня, справедливо полагая, что я им быть не могу. — Вы сюда кладите, — показал я на кровать. Я не осмелился сознаться. — Вы ему скажите, что тетя Нюра заходила, — сказала грузная женщина. — Тут полный комплект. Она развернулась, чтобы выйти из комнаты, столкнулась в дверях с длинноногими девушками, моими старыми добрыми знакомыми, свидетельницами моих первых успехов и поражений. — Здравствуй, Коленкин, — сказала Валя, та, что светлее. — Здравствуйте, заходите, — обрадовался я им. — Я и не знал, что вы здесь. — Мы утром приехали, — сказала Тамара, та, что потемнее. — А у тебя здесь хорошо. Свободно. У нас теснее. — Это пока ребята не пришли, — сказала Валя. Она очень хорошо улыбалась. И я искренне пожалел, что я ниже Иванова ростом. Иначе бы я позвал ее в кино, например. — Сегодня вечером кино, — сказала Валя. — В столовой. Придете? — Приду, — сказал я. — А вы мне место займете? — Мест сколько угодно. Еще не все приехали. — Валь, — сказала Тамара, — забыла, зачем мы пришли? — Она обернулась ко мне: — Мы по дороге Андрей Захарыча встретили. Он говорит, что Коленкин приехал. Мы тогда к тебе. Позанимаешься с нами после обеда, а? У Валентины, например, техника хромает. — Ну, какая уж там техника, — сказал я. — Конечно, что могу, обязательно. — Где тут наш коротышка остановился? — прогремело в коридоре. Валя даже поморщилась. Я сделал вид, что непочтительные слова меня не касаются. Лохматая голова Иванова, украшенная длинными бакенбардами (как же я не заметил этого в прошлый раз?), возникла у верхнего косяка двери. — Привет, Коленочкин, — сказал Иванов и протиснулся в комнату. — Устроился? И тут я понял, что Иванов совсем не хочет меня обижать. Что он тоже рад моему приезду. Пока я был чужим, толстячком, встреченным случайно, он испытывал ко мне недоброжелательство, теперь же я стал своим, из своей же команды. А уж если я мал ростом и не произвожу впечатления баскетбольной звезды, это мое личное дело. Главное — чтобы играл хорошо. Хотя притом я понимал: с ним надо быть осторожным, ибо щадить моего самолюбия он не намерен. Ему это и в голову не придет. — Ты бы, Иванов, мог потише? — спросила Тамара. — Человек с дороги, устроиться не успел, а ты со своими глупыми заявлениями. — А чего ему устраиваться? — удивился Иванов. Потом посмотрел, склонив голову, на девушек и спросил: — А вы что здесь делаете? Человек с дороги, устал, устроиться не успел… Тут рассмеялись мы все и почему-то никак не могли остановиться. Так что, когда мои соседи, еще мокрые после купанья, с махровыми полотенцами через плечо, похожие друг на друга, как братья, вошли в комнату, они тоже начали улыбаться. — Знакомьтесь, мальчики, — сказала Тамара. — Наш новый разыгрывающий, Коленкин. Андрей Захарович сегодня рассказывал. Баскетболисты оказались людьми деликатными и ничем не выдали своего разочарования или удивления. А может быть, тренер их предупредил. Они по очереди протянули мне свои лопаты, аккуратно повесили махровые полотенца на спинках своих удлиненных кроватей, и в комнате стало так тесно, что у меня возникло неловкое чувство — сейчас кто-то из них на меня наступит. — Ну что, обедать пора? — спросила вдруг Валя. — Точно, — сказала Тамара. — Я чувствую, что чего-то хочу, а оказывается, я голодная. И девушки упорхнули, если можно употребить это слово по отношению к ним. Обедать я пошел вместе с соседями. Я шел между ними и старался привыкнуть к мысли, что по крайней мере несколько дней я все время вынужден буду смотреть на людей снизу вверх. — Ты раньше где играл? — спросил меня Коля (я еще не научился их с Толей различать). — Так, понемножку, — туманно ответил я. — Ага, — согласился Коля. — А я из «Труда» перешел. Здесь больше возможностей для роста. Все-таки первая группа. — Правильно, — согласился я. — И в институт поступаю. А ты учишься или работаешь? — Работаю. У ребят явно перед глазами висела пелена. Психологический заслон. Они смотрели на меня и, по-моему, меня не видели. Рядом с ними шел маленький лысеющий, с брюшком сорокалетний мужчина, годящийся им в отцы, а они разговаривали со мной, как с коллегой, с разыгрывающим Герой Коленкиным из их команды, а потому, очевидно, неплохим парнем, с которым надо будет играть. И вдруг все мое предыдущее существование, налаженное и будничное, отошло в прошлое, испарилось. И я тоже начал себя чувствовать Герой Коленкиным, и особенно после того, как за обедом ко мне подошел Андрей Захарович, передал сумку, сказал, что там форма и кеды, мой размер. Андрей Захарович с семьей обедал вместе с нами, за соседним столиком. Его сын смотрел на меня с уважением, потому что слышал, наверно, от отца, что я талант, что внешность обманчива. Мальчику было лет семь, но он старался вести себя, как настоящий спортсмен, и тренировочный костюм на нем был аккуратно ушит и подогнан. Зато жена Андрея Захаровича, худая, усталая женщина с темными кругами вокруг желтых настойчивых глаз, смотрела на меня с осуждением, ибо, наверно, привыкла вмешиваться в дела и решения добродушного мужа и это его решение не одобряла. — Ну, мальчики-девочки, — сказал весело Андрей Захарович, — отдохнете полчасика, и пойдем покидаем. Он извлек из кармана блокнот и стал писать в нем. Я глубоко уверен, что вынимание блокнота относилось к области условных рефлексов. Именно с блокнотом к тренеру приходила уверенность в своих силах. Меня представили массажисту, врачу, хрупкой девочке — тренеру женской команды и еще одному человеку, который оказался не то бухгалтером, не то представителем Центрального совета. Он осмотрел меня с ног до головы и остался недоволен. В комнате Коля и Толя лежали на кроватях и переваривали пищу. Было жарко, томно, как бывает в летний день под вечер, когда все замирает, лишь жужжат мухи. Не хотелось мне идти ни на какую тренировку, не хотелось кидать мяч. Я сбросил ботинки и повалился на койку, моля бога, чтобы строгая жена отправила Андрея Захаровича в магазин… И тут же проснулся, потому что Андрей Захарович стоял в дверях и говорил укоризненно: — Ох, Коленкин, Коленкин! Намучаюсь я с тобой. И чего ты решил жир нагонять в такое неудачное время? Коля и Толя собирали свои вещи в белые сумки с надписью «Адидас». — Извините, — сказал я. — Вздремнул. — Даю три минуты, — сказал Андрей Захарович. — Начинаем. Я спустил вялые ноги с кровати. Встать, взять с собой полотенце, форму, собрать выданную мне скромную сумку казалось непомерным усилием. — На бильярде играешь, Коленкин? — спросил Толя. — Играю, — сказал я смело, хоть играть и не приходилось. Лишь видел, как это делается, когда отдыхал в санатории года три назад. — Совсем забыл, — сунул вновь голову в дверь Андрей Захарович. — Вы, ребята, Коленкина к врачу отведите. Осмотр надо сделать. У входа в кабинет мне стало страшно. Дверь была деревянная, обычная, как и в прочие комнаты домика, но я вдруг вспомнил, что у меня барахлит давление, случается тахикардия, есть шум в левом желудочке, постоянно болят зубы и вообще со мной неладно, как неладно с остальными моими сверстниками, которым под сорок и которые ведут сидячий образ жизни. — Мы тебя, Гера, подождем, — сказали Коля и Толя. Наверно, почувствовали мое волнение. — Врач у нас свой, добрый. Кирилл Петровичем зовут. Не стесняйся. Окно в кабинете было распахнуто, молодые сосенки качали перед ним темными пушистыми ветками, вентилятор на столе добавлял прохлады, и сам доктор, как-то не замеченный мною в столовой, хоть меня ему и представляли, показался мне прохладным и уютным. В конце концов, подумал я, если даже меня отправят домой по состоянию здоровья, это не хуже, чем изгнание из команды за неумение играть в баскетбол. — Здравствуйте, Кирилл Петрович, — сказал я, стараясь придать голосу мягкую задушевность. — Жарко сегодня, не так ли? — А, пришли, Коленкин? Присаживайтесь. Доктор был далеко не молод, и я решил, что он стал спортивным врачом, чтобы почаще бывать на свежем воздухе. Я встречал уже таких неглупых, усатых и несколько разочарованных в жизни и медицине врачей в домах отдыха, на туристских базах и других местах, где есть свежий воздух и люди мало и не разнообразно болеют. Доктор отложил книгу, не глядя протянул руку к длинному ящичку. Собирался для начала смерить мне давление. Другая рука привычно достала из ящика стола карточку и синюю шариковую ручку. Сначала доктор записал мои данные — возраст, чем болел в детстве, какими видами спорта занимался, семейное положение и так далее. Пока писал, ничем не выражал своего удивления, но, кончив, отложил ручку и спросил прямо: — Скажите, Коленкин, что вас дернуло на старости лет в спорт удариться? Не поздно ли? А так как я только пожал плечами, не придумав стоящего ответа, он продолжал: — Что движет людьми? Страсть к славе? Авантюризм? Ну, я понимаю мальчишек и девчонок. Понимаю редко встречающихся талантливых людей, для которых нет жизни вне спорта. Но ведь у вас приличное место, положение, свой круг знакомых. И вдруг — такой финт. Вы же, признайтесь, никогда спортом не интересовались? Я слушал его вполуха. Меня вдруг испугала внезапно родившаяся мысль: а что, если сыворотка Курлова настолько меняет все в организме, что врач обнаружит ее? И скажет сейчас: «Голубчик, да вам же надо пройти допинговый контроль!» Или: «Это же подсудное дело!» Продолжая говорить, Кирилл Петрович намотал мне на руку жгут, нажал на грушу, и руку мне сдавило воздухом. — Что с пульсом у вас? — удивился Кирилл Петрович. Я понял, что судьба моя висит на волоске, и решился идти ва-банк. — Я волнуюсь, — сказал я. — Я очень волнуюсь. Поймите меня правильно. Вы же угадали: мне в самом деле сорок лет, я никогда не занимался спортом. Мне хочется хотя бы на время, хотя бы на две недели, стать другим человеком. Вам разве никогда не хотелось сказать: «Катись все к черту! Еду на Северный полюс!». — Хотелось, — коротко ответил доктор. — Снимайте рубашку. Я ваше сердце послушаю. Кстати, у вас тахикардия. Вы неврастеник? — Не замечал за собой. Хотя в наши дни все неврастеники. — Зачем обобщать? Вытяните вперед руки. Ага, дрожат. Тремор ощутимый. Пьете? — Только за компанию. — И как вы в таком состоянии умудряетесь попадать в кольцо? Я бы вам не рекомендовал играть в баскетбол. Сначала займитесь просто ходьбой, обтирайтесь по утрам холодной водой. Никогда не пробовали? Он меня гробил. Моя откровенность обошлась мне слишком дорого. — Будет он обтираться холодной водой. Прослежу. В дверях стоял Андрей Захарович, блокнот в руке. — Все записываю. Все ваши советы, Кирилл Петрович, записываю. Ни одного не упускаю. И бегать он будет. — Совсем не уверен, что будет. В его состоянии… — В его состоянии полезно заниматься спортом, — настаивал Андрей Захарович. — Я уже все записал. Андрей Захарович вспотел. На лбу блестели, сползали к глазам капли пота. Он тоже волновался. Доктор оказался неожиданным, не предусмотренным препятствием. — Но ведь серьезного ничего нету? — спросил тренер заискивающе. — Серьезного, слава богу, ничего. Просто распущенный организм. Раннее старение. Жирок. Доктор взял брезгливо меня за жирную белую складку на животе и оттянул ее к себе. — Видите? — Вижу, — согласился тренер. — Сгоним. Давление в пределах? — В пределах. Хотя еще неизвестно, что считать пределом. И не сердце, а овечий хвост. — Все. Все ясно. Так мы пошли на тренировку? — Да идите вы куда хотите! — обозлился вдруг доктор. — Не помрет ваш разыгрывающий. Ему еще на Северный полюс хочется махнуть! В коридоре ждали Толя и Коля. — Здорово он тебя, — сказал Толя. — Я думал уж, не допустит. Они и в самом деле были милыми ребятами. Их даже не удивило состояние моего здоровья. Они болели за меня и были рады, что в конце концов доктора удалось побороть. — Только каждый день ко мне на проверку, — слышался докторский голос. — Обязательно. Совершенно обязательно, — заверял его тренер. Он догнал нас на веранде и сказал мне: — Ну и поставил ты меня в положение, Коленкин! Нехорошо. И мы пошли к площадке. Я переодевался, слыша стук мяча, крики с площадки. И мне все еще не хотелось выходить. Сердце билось неровно — запоздалая реакция на врача. Ныл зуб. В раздевалке было прохладно, полутемно. За стеной шуршал душ. — Ну! — крикнул Коля, заглядывая внутрь. — Ты скоро? И я вышел на площадку, прорезанную ставшими длиннее тенями высоких сосен. Тренировались мужчины. Девушки сидели в ряд на длинной низкой скамье. При виде меня зашептались. Кто-то хихикнул, но Валя, милая, добрая Валя, шикнула на подругу. Ребята перестали играть. Тоже смотрели на меня. В столовой, где я видел почти всех, было иначе. Там мы были одеты. Там мы смотрелись цивилизованными людьми. Как в доме отдыха. Я остановился на белой полосе. Все мы выдаем себя не за тех, кем являемся на деле. Мы стараемся быть значительнее, остроумнее перед женщиной, если нам она нравится. Мы стараемся быть умнее перед мужчинами, добрее перед стариками, благоразумнее перед начальниками. Мы все играем различные роли, иногда по десяти на дню. Но роли эти любительские, несложные, чаще за нас работает инстинкт, меняя голос по телефону в зависимости от того, с кем мы говорим, меняя походку, словарный запас… И я понял, что стою, вобрав живот и сильно закинув назад плечи, словно зрители, смотрящие на меня, сейчас поддадутся обману. — Держи! — крикнул Иванов. — Держи, Коленкин. Ведь народ в тебя еще не верит. Я приказал своим рукам поймать мяч. И они меня послушались. Я приказал им закинуть мяч в корзину отсюда, с боковой полосы, с неудобной, далеко расположенной от кольца точки. И мяч послушался меня. — Молоток! — сказал Толя. Труднее было бегать, стучать мячом по земле и получать пасы от других. Мяч был тяжел. Минут через десять у меня совсем отнялись руки. Я был покрыт потом и пылью. Я понимал, что больше не смогу сделать ни шагу. И я собрался уже было повернуться и уйти с площадки, как Андрей Захарович, стоявший в стороне со свистком и блокнотом, крикнул: — Коленкин! Отойди, отдохни. У тебя режим особый. Не переутомляйся, а то нас с тобой Кирилл Петрович в Москву отправит. И я ушел, и я был очень благодарен тренеру. Я сел на скамью, к девушкам, и они потеснились, чтобы мне было удобнее. И Тамара напомнила мне: — Гера, обещал ведь нас с Валей погонять. — Обязательно, — сказал я. — Только не сегодня. Главное — я не опозорился. Больше в тот день я не выходил на площадку, хоть Андрей Захарович и поглядывал в мою сторону, хотел позвать меня, но я чуть заметно, одними глазами, отказывался от его настойчивых приглашений. Ведь бегуном мне не стать. Я умею лишь одно — забрасывать мяч в корзину. И чем меньше я буду бегать, тем меньше будет противоречие между моим талантом и прочими моими качествами. Впрочем, я могу поднять свою репутацию в другом: бильярд. После ужина я в кино не пошел. Валя, по-моему, на меня немного обиделась. Женщины, даже очень молодые, — удивительные существа. В них слишком развито чувство собственности. Думаю, что это атавизм, воспоминание о младенчестве, когда все мое: и игрушка моя, и погремушка моя, и мама моя, и дядя мой. Я подходил под категорию «дядя мой». И я уже даже услышал, как кто-то из девушек, обращаясь к Вале и инстинктивно признавая ее права на меня, сказал: «Твой-то, Гера». — Не хочется в зале сидеть, — сказал я Вале. — Как знаете. — Но потом можно погулять. — Никаких прогулок, — сказал тут же оказавшийся Андрей Захарович. — Режим. И ты, Коленкин, хоть и не обманул ожиданий, наших девушек не смущай. Они ведь к славе тянутся. К оригинальности. Вот ты и есть наша оригинальность. Не переоценивай себя. Не пользуйся моментом. — Как вы могли… — начал было я. — Мог. И ты, Валентина, голову парню не кружи. А мне захотелось засмеяться. Как давно я не слышал ничего подобного! Как давно двадцатилетние девчонки не кружили мне голову! И как давно никто, не в шутку, в самом деле, не называл меня парнем! — Я, как кино кончится, к площадке подойду, — сказал я, как только тренер отошел. — Как хотите, — сказала Валя. — А вот в кино вы зря не пошли. Вам, наверно, с нами неинтересно. И только потом, уже в бильярдной, на веранде, я осознал, что она перешла на «вы». Ну и чепуха получается! У бильярда стоял Иванов. В одиночестве. — Ты чего в кино не пошел? — спросил он. — Смотрел уже, — соврал я. Не говорить же человеку, что я подозреваю у себя исключительные способности к бильярду и горю желанием их испытать. — Я тоже смотрел, — сказал Иванов. — Да и жарко там. Сыграем? — Я давно не играл, — сказал я. — Не корову проиграешь. Не бойся. Кием в шар попадешь? — Попробую. С первого же удара, когда кий у меня пошел в одну сторону, шары — в другую, я понял, что эта игра требует от изобретения Курлова большего напряжения, чем баскетбол. Несмотря на то что мои нервные клетки работали сейчас лучше, чем у кого бы то ни было на свете, передавая без искажений и помех сигналы мозга моим пальцам, задание, которое им надлежало выполнить, было не из легких. На площадке я учитывал лишь вес мяча и расстояние до кольца, здесь я должен был точно направить в цель кий, рассчитать, в какую точку ударить, чтобы шар правильно ударился о другой шар и пошел в узкую лузу. И главное, должен был унять легкую дрожь в пальцах, не игравшую роли на площадке, но крайне опасную здесь. Рассудив так, я заставил мой мозг считать точнее. И пока Иванов, похохатывая над моей неуклюжестью и испытывая законное удовлетворение человека, взявшего реванш у сильного противника, целился в шар, я мысленно стал на его место и, не без труда проследив глазами за направлением его будущего удара, понял, что он в лузу не попадет. А попадет шаром в точку, находящуюся в трех сантиметрах слева от угловой лузы. Что и случилось. И тогда я понял, что победил. — Держи, — сказал Иванов, протягивая мне кий. — Только сукно не прорви. Тетя Нюра тебе голову оторвет. Ей что звезда, что просто человек — все равно. — Постараюсь, — сказал я и оглянулся на звук приближающихся шагов. На веранду поднялся доктор. — Ну вот, — сказал он не без ехидства, — этот спорт для вас, Коленкин. Но я не обиделся. — Главное не побеждать, а участвовать, — сказал я. — Любой спорт почетен. — Угу, — сказал доктор и отошел к перилам закуривая. Мне захотелось тоже курить. А то ведь за весь день выкурил только две сигареты и те украдкой, в туалете, а потом заглянувший туда после меня Андрей Захарович бегал по территории и кричал: «Кто курил? Немедленно домой отправлю!» Но, конечно, не узнал. А я был не единственным подозреваемым. Уже совсем стемнело, и густая синь подступила к веранде, дышала сыроватой прохладой и вечерними запахами хвои и резеды. Я не спеша взял кий, поглядел на шары. Понял, что надо искать другую точку, и медленно, точно тигр вокруг добычи, пошел вдоль стола. — И не старайся, — сказал Иванов. — И в самом деле, не старайтесь, — сказал доктор. — Иванов здешний чемпион. — Тем лучше, — сказал я. Я наконец нашел то, что искал. Очаровательные, милейшие шары! И я знал, в какую точку надо попасть ближним по дальнему, чтобы оба полетели в лузы. Что я и сделал. Иванов сказал: — Ага! А доктор разочарованно вздохнул и тяжело спустился с веранды, словно он, а не Иванов терпел поражение. Я протянул кий Иванову, но тот даже удивился. — Ведь попал! — сказал он. — Еще бей. И так я, не возвращая кия Иванову, забил семь или восемь шаров. Столько, сколько было нужно. Я так и не знаю точно, сколько. С тех пор я ни разу не подходил к бильярду, хоть слава обо мне на следующий же день разнеслась по всей базе и меня многие просили показать мое искусство. Я не стал этого делать, после того как, поглядев на мой последний шар, Иванов сказал завистливо: — Ты, Коленкин, большие деньги можешь на спор зарабатывать. В парке культуры. Я не хотел зарабатывать деньги на спор. Я ушел, отыскал в темноте скамью у площадки. Вечер был безлунным, а фонари далеко. Я курил, прикрывая огонек ладонью. Жена тренера долго и скучно звала домой сына. Потом из столовой выходили люди. Кино кончилось. Валя не шла. Я так и думал, что она не придет. В кустах за моей спиной раздался шорох, и я услышал девичий голос: — Не жди, Гера. Она не придет. — Это ты, Тамара? — спросил я. — Да. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — сказал я и понял, что я очень старый и вообще совсем чужой здесь человек. Кто-то смеялся вдалеке. Потом из столовой донеслась музыка. Я вернулся в свою комнату. Толи и Коли не было. Лишь белые сумки с надписью «Адидас» стояли посреди комнаты. Я распахнул окно пошире и лег. В комнату залетали комары, жужжали надо мной, и я заснул, так и не дождавшись, когда придут соседи. На следующий день из Москвы приехали какие-то деятели из нашего ДСО. Андрей-Захарович заставил меня с утра пойти на площадку и смотрел умоляющими глазами. Деятели качали головами при виде меня, а я старался. Я кидал мячи чуть ли не от кольца до кольца, взмок и устал, но Андрей Захарович все смотрел и смотрел на меня умоляющим взором, а деятели шептались, потом вежливо попрощались с нами и ушли, а я так и не знал до самого обеда, решили они что-нибудь или сейчас меня попросят собирать вещи. Но за обедом ко мне подошел тренер и сказал: — Подождешь меня. Доедал я не спеша. Толя и Коля ели сосредоточенно. Они устали. Они сегодня бегали кросс, от которого я отказался. И это как-то отдалило их от меня. Я не разделил с ними неприятных минут усталости и приятных мгновений, когда ты минуешь финиш. Я понимал то, что они не могли бы сформулировать даже для себя. Валя тоже не глядела в мою сторону. Неужели она обиделась на то, что я не пошел в кино тогда, когда она этого хотела? Странно. Но, наверно, объяснимо. Я почему-то чувствовал себя мудрым и старым человеком. Как белая ворона среди воробьиной молоди. В конце концов, что я здесь делаю? Я не доел компота, встал, вышел из-за стола. Тренер сидел на веранде с бухгалтером и рассматривал какие-то ведомости. — Ага, вот и ты. Он с видимым облегчением отодвинул в сторону бумаги и поднялся. Отошел со мной к клумбе, в тень. Его жена прошлепала мимо, ведя за руку сына. Посмотрела на меня укоризненно. Словно я был собутыльником ее супруга. — Я сейчас, кисочка, — сказал ей Андрей Захарович. — Я тебя и не звала. Тренер обернулся ко мне. — Были возражения, — сказал он. — Были сильные возражения. Понимаешь, Коленкин, спорт — это зрелище. Почти искусство. Балет. И они говорят: ну что, если на сцену Большого театра выйдет такой, как ты? Ты не обижайся, я не свои слова говорю. Зрители будут смеяться. Ну, тогда я по ним главным аргументом. А знаете ли, что нам угрожает переход во вторую группу? Последний круг остался. Знаете же, говорю, положение. Ну, они, конечно, начали о том, что тренера тоже можно сменить, незаменимых у нас нет и так далее. Я тогда и поставил вопрос ребром. Если, говорю, отнимете у меня Коленкина по непонятным соображениям, уйду. И команда тоже уйдет. Во вторую группу. Как хотите. Они туда-сюда. Деваться некуда. Из столовой вышли девушки. Валя посмотрела на меня равнодушно. Тамара шепнула ей что-то на ухо. Засмеялись. Солнце обжигало мне ноги. Я отошел поглубже в тень. — Я бы с кем другим не стал так говорить, — продолжал тренер, запустив пальцы в курчавый венчик вокруг лысины, — но ты человек взрослый, почти мой ровесник. Ты же должен проявить сознательность. Если команда во вторую группу улетит, все изменится к худшему. Пойми, братишка. Слово прозвучало льстиво и не совсем искренне. — Ладно, — сказал я. Не знаю уж, с чем я соглашался. — Вот и отлично. Вот и ладушки. А сейчас к нам студенты приедут. На тренировочную игру. Ты уж не подведи. Выйди. Побегай. А? — Ладно. Коля с Толей прошли мимо. Увидели нас, остановились. — Пошли на речку, — сказали они. После обеда они отошли, были ко мне расположены. — Пошли, — согласился я, потому что не знал, как прервать беседу с тренером. — У меня только плавок нет, — сказал я ребятам, когда мы подходили к нашему домику. И тут же пожалел. Если бы не сказал, то вспомнил бы уже на берегу и не надо было бы лезть в воду. Ведь я все равно не смогу раздеться при них. Плавки они мне достали. И отступать было поздно. Я последовал за ребятами к реке и, уже выйдя на берег, понял, что сделал глупость. Вернее, я понял это раньше, когда спросил про плавки. Но пока не вышел на берег, на что-то надеялся. Баскетболисты играли в волейбол. Они были все как на подбор сухие, загорелые, сильные и очень красивые. Может, потому я сразу вспомнил о Большом театре. И представил, как я выйду сейчас на берег в одних плавках и каким белым, голубым, округлым, мягким и уродливым будет мое тело рядом с их телами. И Валя, тонкая, легкая, стояла на самом берегу, у воды, и глядела на меня. — Пошли в кусты, переоденемся, — сказал Толя. Но я ничего не ответил. И раз уж уходить было нелепо, я сел под куст, на песок, обхватил руками колени и сделал вид, что смотрю, не могу оторваться, смотрю, как они играют в волейбол на берегу. И я, конечно, был смешон — один одетый среди двадцати обнаженных. Особенно в такую жару, когда окунуться в воду — блаженство. Но для меня это блаженство было заказано. — Раздевайся, Коленкин! — крикнула мне из реки Тамара. Я отрицательно покачал головой. Пора было уходить. Но не уйдешь. Все смотрели на меня. — Он утонуть боится, — сказала вдруг Валя. — Он гордый отшельник. Это было предательство. Они смеялись. Беззлобно и просто, как очень здоровые люди. Но они смеялись надо мной. И у меня не было сил присоединиться к ним, показать, что я умнее, смеяться вместе с ними. В чем было мое единственное спасение. А я встал и ушел. И видел себя, каким я кажусь им со спины — маленьким, сутулым и нелепым. А они смеялись мне вслед, и я отлично различал смех Валентины. А вечером к нам приехали студенты. Они приехали тогда, когда я уже собрал свой чемоданчик, спрятал его под койку, чтобы раньше времени не поднимать шума. Тренер обойдется без меня. И если команда даже и вылетит во вторую группу — кто-то же должен вылететь. И у тех, кто вылетел бы вместо нас, то есть вместо них, тоже есть тренер и тоже есть Иванов, и Коля, и Толя, и даже доктор. — Эй! — крикнул с дорожки массажист. — Коленкин! Выходи. Тренер зовет! Сыграем сейчас. Он не стал ждать моего ответа. Я хотел было скрыться, но тут же появились Коля с Толей и стали собираться на игру, и мне, чтобы не казаться еще смешнее, пришлось собираться вместе с ними. — Ты чего убежал? — спросил Коля. — Мы же так. — Его Валентина задела, — сказал Толя. — Обидно человеку. Ведь каждый хочет — купается, хочет — не купается. А ты же ржал со всеми. Может, Гера и в самом деле плавать не умеет. Тогда знаешь как обидно! — Правильно, — ответил ему Коля. — Меня однажды с парашютом прыгнуть уговаривали, а я жутко испугался. Хорошие ребята. Утешали меня. Но мне было все равно. Я уже принял решение. Из меня не получилась созданная в колбе звезда мирового баскетбола. Доктор был прав. Мне лучше заниматься ходьбой. От дома до станции метро. Но на площадку я вышел. Не было предлога отказаться. Студенты уже разминались под кольцом, и мое появление вызвало спонтанное веселье. Вроде бы ко мне никто не обращался. Вроде бы они разговаривали между собой. — Плохо у них с нападением. — Наверно, долго искали. — Алло, мы ищем таланты! — Он два месяца в году работает. Остальные на пенсии. Тренер студентов, высокий, жилистый, видно бывший баскетболист, прикрикнул на них: — Разговорчики! — Не обращай внимания, — сказал мне, выбегая на площадку с мячом и выбивая им пулеметную дробь по земле, Иванов, — Они тебя еще в игре увидят. А я понимал, что и это обман. В игре они меня не увидят. Потому что играть нельзя научиться в два дня, даже если у тебя лучше, чем у них, устроены нервные связи. И учиться поздно. Это была моя первая игра. Тренер сказал: — Пойдешь, Коленкин, в стартовой пятерке. Главное — пускай они на тебе фолят. Штрафные ты положишь. И не очень бегай. Не уставай. Я тебя скоро подменю. Напротив меня стоял верзила с черными усиками. Ему было весело. Свисток. Мяч взлетел над площадкой. Ах ты верзила! Смеешься? Я был зол. Я побежал к мячу. Именно этого делать мне не следовало. Потому что за какую-то долю секунды до этого Иванов кинул мяч в мою сторону. Вернее, туда, где меня ужо не было. И верзила перехватил мяч. Я суетливо побежал за ним к нашему кольцу и попытался преградить дорогу верзиле. Тот незаметно, но больно задел меня коленом, и я охнул и остановился. — Ну, чего же ты! — успел крикнуть мне Иванов. Верзила подпрыгнул и аккуратно положил мяч в кольцо. Обернулся ко мне, улыбаясь во весь рот. У меня болело ушибленное бедро. — К центру! — кинул мне на бегу Иванов. Коля вбросил мяч. Я побежал к центру, и расстояние до чужого кольца мне показалось неимоверно длинным. Было жарко. Мне казалось, что смеются все. И свои и чужие. — Держи! — крикнул Коля и метнул в меня мяч. Совсем не так, как на тренировке. Метнул, как пушечное ядро. Как Иванов в тот первый день, приведший к сегодняшнему позору. И я не мог отклониться. Я принял мяч на грудь, удержал его и побежал к кольцу. На пятом или шестом шаге, радуясь, что все-таки смогу оправдаться в глазах команды, я кинул мяч, и он мягко вошел в кольцо. Раздался свисток. Я пошел обратно, и тут же меня остановил окрик тренера: — Ты что делаешь? Ты в ручной мяч играешь? — Пробежка, — сказал мне судья, смотревший на меня с веселым недоумением. — Пробежка, — повторил он мягко. Ну конечно же, пробежка. Как она видна, если смотришь баскетбол по телевизору! Мяч не засчитан. Надо было уходить с площадки. У меня словно опустились руки. Правда, я еще минут пять бегал на площадке, суетился, один раз умудрился даже забросить мяч, но все равно зрелище было жалкое. И я раскаивался только, что не уехал раньше, сразу после речки. Андрей Захарович взял тайм-аут. И когда мы подошли к нему, он глядеть на меня не стал, а сказал только: — Сергеев, выйдешь вместо Коленкина. Я отошел в сторону, чтобы не столкнуться с Сергеевым, который подбежал к остальным. — Подожди, — бросил в мою сторону Андрей Захарович. Я уселся на скамью, и запасные тоже на меня не глядели. И я не стал дожидаться, чем все это кончится. Я прошел за спиной тренера. — Куда вы? — спросила Валя. — Не надо… Но я не слышал, что она еще сказала. Не хотел слышать. Я прошел к себе в комнату, достал из-под кровати чемодан и потом надел брюки и рубашку поверх формы — переодеваться было некогда, потому что каждаялишняя минута грозила разговором с тренером. А такого разговора я вынести был не в силах. Я задержался в коридоре, выглянул на веранду. Никого. Можно идти. С площадки доносились резкие голоса. Кто-то захлопал в ладоши. — Где Коленкин? — услышал я голос тренера. Голос подстегнул меня, и я, пригибаясь, побежал к воротам. У ворот мне встретился доктор. Я сделал вид, что не вижу его, но он не счел нужным поддерживать игру. — Убегаете? — спросил он. — Я так и предполагал. Только не забудьте — вам очень полезно обливаться по утрам холодной водой. И пешие прогулки. А то через пять лет станете развалиной. Последние слова его и смешок донеслись уже издали. Я спешил к станции. В полупустом вагоне электрички я клял себя последними словами. Потная баскетбольная форма прилипла к телу, и кожа зудела. Зачем я влез в это дело? Теперь я выгляжу дураком не только перед баскетболистами, но и на работе. Всё Курлов… А при чем здесь Курлов? Он проводил эксперимент. Нашел послушную морскую свинку и проводил. Я одно знал точно: на работу я не возвращаюсь. У меня еще десять дней отпуска, и, хоть отпуск этот получен мною жульническим путем, терять я его не намерен. Правда, я понимал, что моя решительность вызвана трусостью. С какими глазами я явлюсь в отдел через три дня после торжественного отбытия на сборы? А вдруг они будут меня разыскивать? Нет, вряд ли после такого очевидного провала. Уеду-ка я недели на полторы в Ленинград. А там видно будет. Так я и сделал. А потом вернулся на работу. Если меня и разыскивал тренер, то жаловаться на то, что я сбежал со сборов, он не стал. И я его понимал — тогда вина ложилась и на него. На каком основании он нажимал на кнопки и выцыганивал меня? Зачем тревожил свое собственное спортивное начальство? Итак, меня списали за ненадобностью. А Курлова я встретил лишь по приезде из Ленинграда. В лифте. — Я думал, — сказал он не без ехидства, — что вы уже стали баскетбольной звездой. Я не обиделся. Мое баскетбольное прошлое было подернуто туманом времени. С таким же успехом оно могло мне и присниться. — Карьера окончена, — сказал я. — А как ваши опыты? — Движутся помаленьку, — сказал Курлов. — Пройдет несколько лет — и всем детям будут делать нашу прививку. Еще в детском саду. — Прививку Курлова? — Нет, прививку нашего института. А что вас остановило? Ведь вы, по-моему, согласились на трудный хлеб баскетболиста. — Он слишком труден. Кидать мячи — недостаточно. — Поняли? — Не сразу. Лифт остановился на шестом этаже. Курлов распахнул дверь и, стоя одной ногой на лестничной площадке, сказал: — Я на днях зайду к вам. Расскажете об ощущениях? — Расскажу. Только заранее должен предупредить, что я сделал только одно открытие. — Какое? — Что я могу большие деньги зарабатывать на спор. Играя на бильярде. — А-а-а… — Курлов был разочарован. Он ждал, видно, другого ответа. — Ну, — сказал он, подумав несколько секунд, — детей мы не будем учить этой игре. Особенно за деньги. Зато хотите верьте, хотите нет, но наша прививка сделает нового человека. Человека совершенного. — Верю, — сказал я, закрывая дверь лифта. — К сожалению, нам с вами от этого будет не так уж много пользы. — Не уверен, — ответил он. — Мы-то сможем играть на бильярде. Уже дома я понял, что Курлов прав. Если через несколько лет детям будут вводить сыворотку, после которой их руки будут делать точно то, чего хочет от них мозг, это будет уже другой Человек. Как легко будет учить художников и чертежников! Техника будет даваться им в несколько дней, и все силы будут уходить на творчество. Стрелки не будут промахиваться, футболисты будут всегда попадать в ворота и уже с первого класса ребятишки не будут тратить время на рисование каракулей — их руки будут рисовать буквы именно такими, как их изобразил учитель. Всего не сообразишь. Сразу не сообразишь. И, придя домой, я достал лист бумаги и попытался срисовать висевший на стене портрет Хемингуэя. Мне пришлось повозиться, но через час передо мной лежал почти такой же портрет, как и тот, что висел на стене. И у меня несколько улучшилось настроение. А на следующий день случились сразу два события. Во-первых, принесли из прачечной белье, и там я, к собственному удивлению, обнаружил не сданную мной казенную форму. Во-вторых, BJTO же утро я прочел в газете, что по второй программе будет передаваться в записи репортаж о матче моей команды, моей бывшей команды. В той же газете, в спортивном обзоре, было сказано, что этот матч — последняя надежда команды удержаться в первой группе, и потому он представляет интерес. Я долго бродил по комнате, глядел на разложенную на диване форму с большим номером «22». Потом сложил ее и понял, что пойду сегодня вечером на матч. И там найду Андрея Захаровича и верну ему казенное обмундирование. Что было, то было. Надеюсь, он не будет очень сердит. Я не признавался себе в том, что мне хочется посмотреть вблизи, как на поле выйдут Коля и Толя. Мне хотелось взглянуть на Валю — ведь она обязательно придет посмотреть, как играют последнюю игру ее ребята. А потом я тихо верну форму, извинюсь и уйду. Но я забыл притом, что если команда проиграет, то появление мое лишь еще более расстроит тренера. Просто не подумал. Я пришел слишком рано. Зал еще только начинал заполняться народом. У щита разминались запасные литовцев, с которыми должны были играть мои ребята. Все-таки мои. Мое место было недалеко от площадки, но не в первом ряду. Я не хотел, чтобы меня видели. Потом на площадку вышел Андрей Захарович с массажистом. Они о чем-то спорили. Я отвернулся. Но они не смотрели в мою сторону. И тут же по проходу, совсем рядом со мной, прошел доктор Кирилл Петрович. Я поднял голову и встретился с ним взглядом. Доктор улыбнулся уголком рта. Наклонился ко мне: — Вы обтираетесь холодной водой? — Да, — ответил я резко. Но тут же добавил: — Пожалуйста, не говорите тренеру. — Как желаете, — сказал доктор и ушел. Он присоединился к тренеру и массажисту, и они продолжали разговор, но в мою сторону не смотрели. Значит, доктор ничего не сказал. Андрей Захарович раза два вынимал из кармана блокнот, но тут же совал его обратно. Он очень волновался, и мне было его жалко. Я посмотрел вокруг — нет ли здесь его жены. Но ее не было. Зал наполнялся народом. Становилось шумно, и возникала, охватывала зал особенная тревожная атмосфера начала игры, которую никогда не почувствуешь, сидя дома у телевизора, которая ощущается лишь здесь, среди людей, объединенных странными, явственно ощутимыми ниточками и связанных такими же ниточками с любым движением людей на площадке. А дальше все было плохо. Иванов несколько раз промахивался тогда, когда не имел никакого права промахнуться. Коля к перерыву набрал пять персональных и ушел с площадки. Сергеев почему-то прихрамывал и опаздывал к мячу. Андрей Захарович суетился, бегал вдоль площадки и дважды брал тайм-аут, что-то втолковывая ребятам. Валя и ее подруги сидели в первом ряду. Мне их было видно. И я все надеялся, что Валя повернется в профиль ко мне, но она не отрываясь смотрела на площадку. К перерыву литовцы вели очков десять. И ясно было, что во второй половине игры они добьют наших. Задавят. Зал уже перестал болеть за мою команду. А я не смел поднять голос, потому что мне казалось, что его узнает Валя и обернется. И тогда будет стыдно. Рядом со мной сидел мальчишка лет шестнадцати и все время повторял: — На мыло их! Всех на мыло. Гробы. И свистел. Пока я не огрызнулся: — Помолчал бы! — Молчу, дедушка, — ответил парень непочтительно, но свистеть перестал. Когда кончился перерыв, я спустился в раздевалку. Я понял, что до конца мне не досидеть. Мной овладело отвратительное чувство предопределенности. Все было ясно. И даже не потому, что наши плохо играли. Хуже, чем литовцы. Просто они уже знали, что проиграют. Вот и все. И я знал. И я пошел в раздевалку, чтобы, когда все уйдут, положить форму на скамью и оставить записку с извинениями за задержку. В раздевалку меня пропустили. Вернее, вход в нее никем не охранялся. Да и кому какое дело до пустой раздевалки, когда все решается на площадке. Я вошел в комнату. У скамьи стояли в ряд знакомые сумки «Адидас». Наверно, это какая-то авиакомпания. Я узнал пиджак Толи, брошенный в углу. И я представил себе раздевалку на базе, там, под соснами. Она была меньше, темнее, а так — такая же. Я вынул из сумки форму и кеды и положил их на скамью. Надо было написать записку. Из зала донесся свист и шум. Игра началась. Где же ручка? Ручки не было. Оставить форму без записки? Придется. Я развернул майку с номером «22». И мне захотелось ее примерить. Но это было глупое желание. И я положил майку па скамью. — Пришли? — спросил доктор. Он появился в комнате бесшумно. — Да. Вот хорошо, что вы здесь! А то я не смог написать записку. Я возвращаю форму. Казенную. И я попытался улыбнуться. Хотя получилась, наверно, довольно жалкая улыбка. — Кладите, — сказал доктор. — Без записки обойдемся. — Все кончено? — спросил я. — Почти, — ответил доктор. — Чудес не бывает. А когда я направился к двери, он спросил вдруг: — А вы, Коленкин, не хотели бы сейчас выйти на площадку? — Что? — Выйти на площадку. Я бы разрешил. Вместо того чтобы засмеяться, отшутиться, я сказал почему-то: — Мне нельзя. Я не заявлен на игру. — Вы же еще пока член команды. За суматохой последних дней никто не удосужился вас уволить. — Но я не заявлен на эту игру. — Заявлены. — Как так? — Перед началом я успел внести вас в протокол. Я сказал тренеру, что вы обещали прийти. — Не может быть! — Я сказал не наверняка. Но у нас все равно короткая скамейка. Было свободное место. — И он внес? — Внес. Сказал, что пускай вы условно будете. Вдруг поможет. Мы все становимся суеверными перед игрой. И вдруг я понял, что раздеваюсь. Что я быстро стаскиваю брюки, спешу, раздеваюсь, потому что время идет, ребята играют там, а я прохлаждаюсь за абстрактными беседами с доктором, который меня недолюбливает, зато он хороший психолог. И я вдруг подумал, что, может быть, я с того момента, как вышел из дому с формой в сумке, уже был внутренне готов к бессмысленному поступку. К сумасшедшему поступку. — Не волнуйтесь, — сказал доктор. — Вряд ли ваше появление поможет. И когда выйдете, не обращайте внимания на зрителей. Они могут весьма оживленно прореагировать на ваше появление. Не смущайтесь. — Да черт с ними со всеми! — вдруг взъярился я. — Ничего со мной не случится. Я зашнуровывал кеды, шнурки путались в пальцах, но доктор замолчал и только кашлянул деликатно, когда я рванулся не к той двери. А дальше я потерял ощущение времени. Я помню только, что доктор шел впереди меня и оглядывался ежесекундно. Я помню, что оказался в ревущем зале, который вначале не обратил па меня внимания, потому что все смотрели на площадку. Я услышал, как Валя сказала: — Гера! Герочка! Я увидел, как Андрей Захарович обернулся ко мне и с глупой улыбкой сказал: — Ты чего же! Он подошел и взял меня за плечо, чтобы увериться в моей реальности. И не отпускал, больно давя плечо пальцами. Он ждал перерыва в игре, чтобы вытолкнуть меня на площадку. Краем уха я слышал, как сидевшие на скамье потные, измученные ребята говорили вразнобой: «Привет», «Здравствуй, Гера». Некоторые пытались встать, но массажист посадил их на место. Раздался свисток. Нам били штрафной. И я пошел, подтолкнутый тренером, на открытое лобное место. И навстречу мне тяжело плелся Иванов, увидел меня, ничуть не удивился и шлепнул меня по спине, как бы передавая эстафету. И тут зал захохотал. Насмешливо и зло. И не только надо мной смеялись разочарованные игрой люди — смеялись над командой, потому что поняли, что команде совершенно некого поставить на игру. И я бы, может, и дрогнул, я даже остановился на мгновение, задавленный смехом, но высокий, пронзительный голос — по-моему, Тамарин голос — прорвался сквозь смех: — Давай, Гера! Судья посмотрел на меня недоверчиво. Подбежал к судейскому столику. Но Андрей Захарович, видно, предвидел такую реакцию и уже стоял там, наклонившись к судьям, и водил пальцем по протоколу. Надо мной стоял Толя. — Как мяч будет у меня, — шепнул он, и шепот отлично донесся до меня сквозь ставший далеким и не относящимся ко мне шум, — беги к их кольцу. И останавливайся. Ясно? С мячом не бегай. Пробежка будет. Он помнил о моем позоре. Но я не обиделся. Сейчас важно было одно — играть. Я успел посмотреть на табло. Литовцы были впереди на четырнадцать очков. И оставалось шестнадцать минут с секундами. Литовцы перебрасывались веселыми словами. Я на них не обижался. Они были уверены в победе, тем более легкой, потому что меня они за игрока не считали. Наконец судья вернулся на площадку. Он был удовлетворен. Хоть и заинтригован. Литовец подобрал мяч и кинул. Мяч прошел мимо. Литовец кинул второй раз. Мяч провалился в корзину. В зале раздались аплодисменты. Я глубоко вздохнул. Я не должен был уставать. А красиво ли я бегаю или нет — я не на сцене Большого театра. И я улыбнулся. Я успел пробежать полплощадки и обернулся к Толе. Он кинул мне мяч из-под нашего щита. Я протянул руки, забыв дать им поправку на то, что мяч влажный от потных ладоней. Я не учел этого. Мяч выскользнул из рук и покатился по площадке. Какой поднялся свист! Какой был хохот! Хохотал стадион. Хохотала вся вторая программа телевидения. Хохотали миллионы людей. А я не умер со стыда. Я знал, что в следующий раз я учту, что мяч влажный. И он не выскользнет из рук. Только бы Андрей Захарович не испугался. И я нашел его глазами и кивнул ему. Тренер был бледен. Он смотрел мимо меня. Он решал, что делать. — Давай! — крикнул я Толе, перехватившему мяч. Какую-то долю секунды Толя колебался. Он мог бы кинуть и сам. Но он был хорошим парнем. Он играл со мной, и, пока мы были на площадке вместе, он считал меня ничем не уступающим ему. И он мягко, нежно, высокой дугой послал мяч в мою сторону. Я некрасиво подпрыгнул и бросил мяч в далекое кольцо. И мозг мой работал точно, как часы. Мяч взлетел выше щита и, будто в замедленной съемке, осторожно опустился точно в середину кольца, даже не задев при этом металлической дуги. И стукнулся о землю. И в зале наступила тишина. Она была куда громче, чем рев, царивший здесь до этого. От нее могли лопнуть барабанные перепонки. И я побежал обратно, к центру площадки, чтобы помочь нашим, когда литовцы пойдут вперед. Мой второй мяч, заброшенный от боковой линии, трибуны встретили сдержанными аплодисментами. Лишь наши девушки бушевали. После третьего мяча трибуны присоединились к ним и скандировали: «Ге-ра! Ге-ра!» Будто это было волшебное, колдовское слово. И наша команда заиграла совсем иначе. Все изменилось. Вышел снова Иванов и забросил такой красивый мяч, что даже тренер литовцев раза два хлопнул в ладоши. Но тут же взял тайм-аут. Мы подошли к Андрею Захаровичу. — Так держать! — сказал он. — Осталось четыре очка. Два мяча с игры. Ты, Коленкин, не очень бегай. Устанешь. Чуть чего — сделай мне знак, я тебя сменю. — Ничего, — сказал я. — Ничего. Иванов положил мне на плечо свою тяжелую руку. Мы уже знали, что выиграем. Мое дальнейшее участие в игре было весьма скромным. Раза три я совершенно позорно потерял мяч. Хотя надо сказать, что никто не обратил на это внимания. Потом я бросал штрафные. Оба мяча положил в корзину. А минут за пять до конца при счете 87–76 в нашу пользу Андрей Захарович заменил меня Сергеевым. — Посиди, — сказал он. — Пожалуй, справимся. Доктор не велит тебе много бегать. Для сердца вредно. — Ничего страшного, — сказали. — Сиди! Я уселся на скамью и понял, что выложился целиком. И даже когда прозвучал последний свисток и наши собрались вокруг, чтобы меня качать, не было сил подняться и убежать от них. Меня унесли в раздевалку. И за мной несли тренера. Впрочем, ничего особенного не произошло. Наша команда не выиграла первенства Союза, кубка или какого-нибудь международного приза. Она только осталась в первой группе. И траур, который должен был бы окутать нас, достался сегодня на долю других. — Ну даешь! — сказал мне Иванов, опуская осторожно на пол. Из зала еще доносился шум и нестройный хор: — Ге-ра! Ге-ра! — Спасибо, — сказал Андрей Захарович. — Спасибо, что пришел. Я не надеялся. — Не надеялся, а в протокол записал, — сказал Сергеев. — Много ты понимаешь! — ответил Андрей Захарович. Валя подошла ко мне, наклонилась и крепко поцеловала повыше виска, в начинающуюся лысину. — Ой, Герочка! — сказала она. У нее все лицо было в слезах. А потом меня проводили каким-то запасным ходом, потому что у автобуса ждала толпа болельщиков. И Андрей Захарович договорился со мной, что завтра я в пять тридцать как штык на банкете. Теперь можно. Тамара взяла у меня телефон и сказала: — Она вечером позвонит. Можно? Я знал, что приду на банкет, что буду ждать звонка этой длинноногой девчонки, с которой не посмею, наверно, показаться на улице. Что еще не раз приеду к ним на базу. Хотя никогда больше не выйду на площадку. Так я и сказал доктору, когда мы шли с ним пешком по набережной. Нам было почти по дороге. — Вы в этом уверены? — спросил доктор. — Совершенно. Сегодня уж был такой день. Он бывает один раз. — Звездный час? — Можете назвать так. — Вас теперь будут узнавать на улице. — Вряд ли. В одежде я куда более респектабелен. Только вот на работе придется попотеть. — Представляю, — засмеялся доктор, словно закашлялся. — И все-таки вы не гарантированы, что еще раз вас не потянет к нам. Ведь это наркотик. Знаю по себе. — Вы? — Я всегда мечтал стать спортсменом. И не имел данных. И даже хотел с горя уехать на Северный полюс. Так почему же вы так уверены в себе? — Потому что баскетболу грозит смерть. Потому что через несколько лет то, что умею делать я, сумеет сделать каждый пятиклассник. И я рассказал об опыте Курлова. Доктор долго молчал. Потом сказал: — Строго говоря, всю команду следовало бы снять с соревнований. — Почему? — То, что случилось с вами, больше всего похоже на допипг. — Не согласен. Это же мое неотъемлемое качество. И всегда будет со мной. Мог бы я играть в очках, если бы у меня было слабое зрение? Доктор пожал плечами: — Возможно, вы и правы. Но баскетбол не умрет. Он приспособится. Вот увидите. Ведь и ваши способности имеют предел. — Конечно, — сказал я. — Мне было бы жаль, если бы баскетбол умер. Мы расстались у Бородинского моста. На прощанье доктор сказал: — До завтра? — До завтра. — Кстати, я настойчиво вам рекомендую холодные обтирания по утрам. Я не шучу. — Я постараюсь. — Не «постараюсь», а «сделаю». Кто знает — сгоните брюшко, подтянетесь и вам найдется место в баскетболе будущего. Я пошел дальше, до дома, пешком. Спешить было некуда. К тому же доктор прописал мне пешие прогулки.Б. СОПЕЛЬНЯК ЗАКОН ЛЕСА Рассказ
Что ни говорите, а середина апреля в Вологодской области — это еще не весна. Только-только прошел лед. На северном берегу Сухоны лежит снег. И водой его подмывает, и солнцем нет-нет да ошпарит, а он только темнеет да оседает. А ночью как прихватит морозцем, как задует сиверко с Белого моря — такая на снегу наледь намерзнет, что все люди да и звери, поди, чертыхаются… Видел вчера, как лось забежал на такую наледь — испугал кто-то, не иначе. Метров сорок сгоряча проскочил, а за ним след кровавый: до кости ноги ободрал ледяной коркой. Шерстнев тоже пострадал — поленился обойти овражек и полез по снегу. Сапоги, конечно, как бритвой рассекло. Через полчаса Шерстнев сменил меня у руля моторной лодки, а я влез под брезентовый тент и забрался в сено. Удивительно уютно чувствуешь себя в такой вот «дюральке». Картаво тарахтит мотор, шепеляво булькает вода. Холодно. А ты зарылся в сено, надышал за пазуху — и такая подкатывает сладкая дрёма, что, кажется, никогда в жизни не было так хорошо. Но за последнюю неделю это единственная радость. Все это время я только и делаю, что кляну судьбу. Судите сами: ни с того ни с сего я стал госохотинспектором. Правда, на общественных началах и только на один сезон, но все равно это значит — самому не пострелять и поссориться кое с кем из друзей. Шерстнев так и сказал: — Твое дело — следить за нормами и правилами отстрела. Бить можно только селезней и не больше пяти в день. Если что — штрафуй или отбирай ружье! Хорошенькое дело — отбирай. Кто его добром отдаст-то? Ну, а если и сшиб утку, что ее — выбрасывать?! Я и сам не раз мазал: не такое уж легкое дело попасть в селезня. Птица-то к нам попадает стеганая. Сколько по ней стреляли, пока летела с южных озер! Волей-неволей и хитрить научишься. Селезень — тот идет на бреющем полете да еще с какими-то рывками и нырками. А утка тянет по прямой — вот и попадает под выстрел. Хороший охотник всегда спешит эту утку ощипать — и в котел. Тут главное — закопать перья. А что в котле, утка или селезень, не определит ни один инспектор. Да-а-а, на этот раз утятинки мне не попробовать. До чего же хитер этот Шерстнев! Знал, дьявол, чем взять. Два года прошу похлопотать за меня в милиции: уж очень хочется иметь карабин; но без разрешения председателя Общества охотников нарезное оружие не продают. А тут вдруг вызвал и говорит: — Два инспектора ушли на пенсию. Третий заболел. Узнают браконьеры — обнаглеют. Одним словом, считай, что тебе повезло: поработаешь инспектором — получай карабин. Тебе какой, «Лось» или «Барс»? — Лучше, конечно, «Лось», — буркнул я, понимая, что отныне придется охотиться одному. Но, желая «продать» себя подороже, решительно добавил: — Только с оптикой! — Вот и ладно! — потирая руки, крякнул Шерстнев. — Завтра же отвезу к Парменычу. Участок спокойный, егерь он старый, опытный — таких на всю область раз-два и обчелся. Не робей, Андрюха! Походишь с ним, войдешь во вкус — благодарить будешь! — заметив мою кислую мину, подчеркнуто бодро сказал Шерстнев. И, как бы между прочим, закончил: — Опять же оптические прицелы на дороге не валяются… Так я оказался в «дюральке» Шерстнева. «Ничего, — думал я, засыпая, — поброжу месячишко, малость поругаюсь, зато карабин мой…» И вдруг над самым ухом бабахнул выстрел! — Черт, промазал! — крякнул Шерстнев. — Что? В кого? — Селезень летел. На ужин бы… Я вылез из-под тента и ахнул! Всё — и берега, и деревья, и лодка — белым-бело! Пока я дремал, выпал снег. Да и подморозило изрядно. — Все, приехали, — сказал Шерстнев. — Хорошо, что Парменыч дома. Лодка ткнулась в берег, и мы пошли к небольшому бревенчатому домику с примерзшим к трубе столбом дыма. На пороге стоял хозяин и пытался определить, каких это принесло гостей. Невысокий, вроде даже щуплый, он зябко переступал надетыми на босу ногу галошами и нетерпеливо хлопал себя по Ляжкам. Вдруг он ринулся с крыльца: — Шерстнев?! Вот так номер! Ай да удумал! Аи да молодец! В самое время! Перелетная пошла. Кряква, шилохвость. Ну, постреляем! Он прискакивал около Шерстнева, то и дело терял галоши, семенил за ними, боязливо припадая на разбитые пятки, и все время сыпал короткими, круглыми, как голыши, словами. При этом он так напирал на «о», что я почувствовал — это самые что ни на есть заповедные места Вологодской области. — Ты погоди-ка, — отступил он на шаг. — Не ты пальнул-то? Вроде как шестнадцатым калибром шарахнули. «Венгерка» твоя, никак, шестнадцатого… Промазал, поди? — Почему же промазал? — засопел Шерстнев. — Стреляю я, сам знаешь… — Знать-то знаю, — ухмыльнулся егерь и такую выложил улыбку, что я обомлел: полный рот нержавеющей стали. — А только селезень сейчас по-над кустами держится. Стало быть, что? Чтобы его достать, мотор-то надо глушить. А ты как тарахтел своим «Вихрем», так и тарахтел. Только газу подкинул, вроде как от злости. Верно я говорю? — простодушно закончил он и, восхищенный собственной находчивостью, шлепнул себя по ляжкам. — Ну, Парменыч, тебя не объедешь, — развел руками Шерстнев. — Знакомься, инспектора привез. С тобой будет. — Ливерий Парменыч, — степенно сказал егерь и дощечкой подал сухую ладонь. К тому же он успел странно звонко стукнуть пяткой о пятку. — Ну что ж, пошли в дом. Ушицой угощу. Дом — одна комната, маленькая, но очень справная. В углу — топчан. На полу — медвежья шкура. Посередине — крепкий стол на ножках из неструганой березы. На стене лосиные рога с висящим на них патронташем. — А вот и мое семейство, — улыбнулся Парменыч. — Трезорка и его заклятый друг Матрос. У-у-у, котя-ара! Ленивый, черт, но смелый. Трезор поднялся с пола, обнюхал наши ноги, вильнул хвостом и лег у печки. — Знобит его, — виновато улыбнулся Парменыч. — Ничего, Трезорка, не горюй. Я тебе на ночь молока дам. Горячего да еще с медом. К утру хвороба и выйдет. А пока погрейся… Вот так, молодец. Лапы-то подбери. Хвост, он не замерзнет, а ноги надо беречь, — заботливо говорил Парменыч, укутывая собаку сдернутым с гвоздя ватником. Когда съели по третьей миске ухи, Парменыч раскурил трубку, откинулся на топчан и сказал: — Не знаю, что говорил тебе Шерстнев, а я должен предупредить: народ здесь свирепый. Ружьишком не балуются, живут им. То лося свалят, то норку бьют… Не побрезгают и лебедем или журавлем: чучела, понимаешь, делают и продают школам… Поймал я прошлой весной одного лося, гад, убил, — так он в меня пальнул. Картечью. В живот бил, чтоб, значит, наверняка. Ладно, моя «тулка» спереди болталась. В приклад попал. Приклад, конечно, в щепки, а меня — хоть бы царапнуло. Ушел он тогда и от меня, и от милиции… А ты говоришь — штрафы! — повернулся он к Шерстневу. — Нет, штрафами здесь не отделаешься. Не знаю, что говорил Шерстнев, а моя инструкция будет такая: встретишь браконьера — кричи, как фашисту: «Руки вверх! Бросай оружие!» А потом заводи разговоры. Пока в руках у браконьера оружие, воспитательные беседы на него не действуют. Правильно я говорю? — сердито спросил он у Шерстнева. Тот поерзал, похмыкал и, видимо сдавая позиции в давнем споре, сказал: — Оно конечно… если браконьер злостный. А так… не станешь же из-за утки под суд отдавать. — Ерофей начинал с утки, а встретил меня — шарахнул не задумываясь! Так-то вот! — трахнул по столу Парменыч. — Ты, Андрюха, Шерстнева не слушай. Мужик он хороший, но уж больно жалостливый. А при его должности надо… В общем, если хочешь стать настоящим инспектором, всякую там жалость и приятельность выбрось из сердца вон. Ты ведь кого защищаешь? Тварь бессловесную, меньшого брата. Она же никакого худа не делает, а мы ее в кровь! Опять же надо подумать, что останется после нас. Прикинь-ка, кто будет высиживать яйца, если разрешим охоту на уток… Поблагодарят нас внуки? Дурачье, скажут, были наши деды; не было человека, который бы дал им по рукам, вот и распустились! Ты, Андрюха, будешь этим человеком! — торжественно закончил он. Вдруг Парменыч соскочил с топчана: — Ах ты господи! Вот беда-то! Ввел ты меня в грех, Шерстнев. Сколько раз давал зарок не спорить с тобой, а тут разболтался… Трезорка! Трезорушка! Ну что ты? Ну что с тобой? Я сейчас. Я мигом! Парменыч бросился к сундуку, выхватил коробку со склянками, но никак не мог найти нужную. А Трезор как-то странно вытянулся, вывалил язык и мелко-мелко дрожал. Наконец Парменыч нашел пузатый флакон и прямо из него плеснул Трезору в пасть. Тот сразу обмяк, свернулся в комок, длинно, со всхлипом вздохнул и сразу уснул. — Вот беда-то! — сокрушался Парменыч. — Прицепилась болячка и житья не дает. — А что с ним? — спросил Шерстнев. — Кабы знал доподлинно… А то ведь все по-разному. Эх, да что там, все под богом ходим! А жить-то ох как хочется! Всем — и зверю и человеку. Парменыч горестно примостился па краешек топчана. А Шерстнев покряхтел, повозился и с уже знакомой подчеркнуто бодрой интонацией сказал: — Будем считать, что повестка дня исчерпана. Матрос ушел на охоту, Трезорка спит, пора и нам на боковую. Тем более что утром надо успеть на катер. Моторку я оставляю, так что подбросите до пристани — и будьте здоровы! С восходом солнца мы уже сидели в лодке. Отвезли на пристань Шерстнева и понеслись в сторону Степанова болота. — Озеро проскочим, — гудел Парменыч, — ершугой пойдем. Только вот больно тихо. Не нравится мне. Ветерок бы… — Ну да! Чтобы перевернуло? — возмутился я. Вдруг лодка закрутилась, заметалась. Куда ни сунься — лед. — Что я говорил?! Намерзло за ночь-то. Ветерок бы… — А может, попробуем? Потихоньку. Лед вроде не очень толстый. — Оно, конечно, можно, — поскреб затылок Парменыч. — Только бы лодку не пропороть. Тонуть-то вместе с ней… Ладно, давай-ка на корму. Вот. Ледокол что надо. «Челюскиным» назовем? Ну, лошадушки, сколько вас в моторе-то? Двадцать? Н-но! Парменыч прибавил газу, и лодка полезла на лед. Он ломался вяло, с хрустом, норовя проткнуть алюминиевые борта «ледокола». Но все обошлось, и часа через полтора мы пристали к берегу. — Сороку видишь? — сразу же спросил Парменыч. — Где? На березе, что ли? — Первым выстрелом спугни, а вторым сними. Это я проделал играючи. Еще бы, первый разряд по стендовой стрельбе! — Ты смотри! — удивился Парменыч. — Стрелять, однако, умеешь. Сбить сороку — это даже у Шерстнева не всегда выходит… А вообще-то на сороку заряда не жалей. Зловредная, скажу тебе, птица: утиные яйца лузгает, как семечки. Осмелевший от похвалы, я решился задать вопрос, который уже много лет мучает всех вологодских охотников. — Парменыч, ты Шерстнева давно знаешь? — Мы с ним, парень, вместе воевали. В одной роте. Снайперами были, — строго ответил егерь. — А чего же тогда зовешь по фамилии? Шерстнев да Шерстнев. Ведь ни одна душа не знает, как его зовут. Парменыч сел на пень, поджал ноги и зашелся в беззвучном хохоте. Минут пять он не мог разогнуться и только вытирал ручьи слез. — Уж больно знатное у него имя, — простонал наконец Парменыч. — Аполлон! Может, слышал, бог такой был… Аполлон Федотыч Шерстнев! Мы его Антоном звали, а когда к ордену представили — раскрылось. Генерал у нас был, по фамилии Туча. Он так и сказал: «Раз у лучшего снайпера полка божественное имя, пусть похлопочет у бога войны, чтобы допустил быстрее до Берлина». Неделю Шерстнев ходил туча тучей, а потом взял с меня клятву ни под каким видом не раскрывать его имя… Ты уж, Андрюха, помалкивай, не подводи старика. А то не сносить нам головы. Обоим. — Ладно, чего уж там, — буркнул я, польщенный доверием. — Ну, потопали! — поднялся Парменыч. — Покажу наши угодья — и назад. Надолго мне отлучаться нельзя: уж больно Трезорка скучает. Долго мы ходили по лесу. А в воздухе носились такие запахи, что голова шла кругом. Дунет из сосняка — даже в ушах звенит от густого хвойного духа. Потянет с озера — острая, почти морская свежесть покалывает виски. Но надо всем царил запах багульника. Протоки, старицы и бочажины кишели птицей. Той самой, которую мне предстояло защищать. Первый раз я смотрел на красавцев селезней, важных гусей и царственных лебедей без желания поднять ружье. Парменыч рассказывал, кто где строит гнезда, как высиживает птенцов, кто эти гнезда разоряет… А я слушал, смотрел и с удивлением чувствовал, как во мне пробуждаются чуть ли не отцовские чувства к этой живности. Как-то я целый час наблюдал за журавлиной парой. Я видел, как чинно вышагивали они по болоту, как строили гнездо, слышал их нежное курлыканье… Это было утром. А вечером журка метался над островами и кричал так тревожно и тоскливо, что сердце сжималось. Куда девалась его подруга, мы не знали, но оба потянулись к ружьям: днем мы слышали несколько выстрелов, но решили, что кто-нибудь лупит по сорокам… С полчаса метались по узким протокам, пока не выскочили на озеро. Тихо. Пустынно. И только у противоположного берега движется черная точка. — Дай бинокль, — обернулся я к Парменычу. — Держи. — Вижу! Парменыч, вижу! В лодке трое… У-у, гады, заметили. Удирают! — Не уйду-ут! — сквозь зубы процедил Парменыч. Мотор звенел. Я не отрывался от бинокля. До берега метров пятьдесят, а браконьеры выскочили из лодки и по колено в воде бежали к кустам. Один тащил ружья, другой — что-то завернутое в сети, а третий — десятка полтора уток и… журавлиху. — Уходя-ат! — завопил я и пальнул в воздух. — Догони-им! — Парменыч зарядил ружье картечью. Мы с ходу врезались в отмель и выпрыгнули из лодки. Браконьеры уже в кустах, а мы — на открытом месте. Шлепнуть нас — пустяковое дело. То ли браконьеры были трусоваты, то ли судьба хранила, но выстрелов не было. — Заходи слева! — прохрипел Парменыч. — Там обрыв. Прикроешься. Ложи-и-ись!!! Я плюхнулся в воду, а где-то сзади стеганула дробь. — К обрыву! — кричал Парменыч. — Отрезай от леса! Я кинулся к крутому берегу, а Парменыч перебежками несся прямо на кусты. Когда до берега оставалось метров десять, я почувствовал что-то неладное — по ноздрям ударил запах бензина. «А-а, в сетях была канистра», — догадался я. И в тот же миг сплошной стеной огня полыхнули кусты. Парменыч выскочил на сухую траву, но она тоже горела. Я метался около кустарника. Парменыч топтал траву… А огонь набирал силу. Ветер, как назло, дул в сторону леса. — Всё! Ушли! — чертыхнулся Парменыч и бабахнул из обоих стволов сквозь стену огня. — Черт с ними!.. А лес?! Вдруг они вылили не весь бензин! — Ломай лапник! Сбивай огонь! Мы выломали по паре молодых елок и кинулись на огонь. Сухостойный кустарник горел весело, с потрескиванием. Золотые змейки вились и низом, по прошлогодней траве… Сначала мы пробили коридор до леса. А потом начали шлепать елками о таким остервенением, что вскоре не осталось ни огонька. Пожар потушили. Но браконьеры ушли… Обгорелые, чумазые, мы брели к моторке, а над нами всё кружил и кружил одинокий журавль. — Да замолчи ты, бога ради! — не выдержал Парменыч. — И так сердца не хватает, а тут еще ты… со своими стонами. Когда сели в лодку, Парменыч достал фляжку, отпил и протянул мне. — Хлебни. Как-никак сегодня твое боевое крещение. — Если б поймали… — уныло протянул я. — Ничего, еще наловишься. С души воротить будет от этих ублюдков… — К стенке их надо! — горячился я. — Он же в меня стрелял! Ну ладно, я тоже с ружьем. А зачем поджигал лес? Лес-то при чем?! Журавлиха что ему сделала? Нет, ты, Парменыч, ответь! Ты здесь всех знаешь. Откуда они берутся, эти выродки?! — Откуда? — криво усмехнулся Парменыч. — А откуда берутся пауки, змеи, грибы-поганки и ядовитые травы?… Не знаешь? И я не знаю. Но ты заметь: каких грибов больше — хороших или плохих? Хороших. На каждого паука или там змею — тысяча полезных и приятных зверушек. Так и у людей: не выметешь из какого-нибудь угла мусор — и полезли всякие мухоморы и прочие гады… Ты спрашиваешь, зачем браконьер лес поджег да в тебя стрелял? От страха. Но боится он не суда, а самосуда — природа все предусмотрела и на каждую змею завела ежа. Сколько гадюка ни жалит, а ежиных зубов не миновать. Ты думаешь, откуда пословица: «Сколько веревочке ни виться, а конца не миновать»? Отсюда же, от того самого ежа, который ждет свою змею. Вот они и бесятся — что змеи, что браконьеры или другие гады: конец-то свой они знают и, стало быть, спешат побольше нагадить. — Умные слова говоришь. Я их обдумаю. Потом. А сейчас дай мне добраться до этих… которые стреляли! — не унимался я. — Кто ж тебе мешает? Беги лови. — Так я же их не знаю! — И я не знаю… Почерк, правда, знакомый — вижу руку Ерофея. Вот беда-то, — вздохнул Парменыч. — Выходит, он был не один, артель-то осталась. — Почему ты говоришь — был? Он же тогда ушел. — От меня-то ушел… Но был и у него свой еж… Ладно, не хотел рассказывать, да, видно, придется. Были у меня недавно гости, из милиции. Три дня дознавались, что да как. Чуть с собой не увезли, ей-богу! — Чего им понадобилось? — Понадобилось… Ерофея-то нашли. Туристы набрели. По ружью только и узнали. А так — почитай, один скелет да тряпки. — Кто же это его? — На меня грешили. Не свел ли, дескать, счеты за тот выстрел… Разобрались, конечно. Невинный я. А Ерофея-то лось укокошил! — Как так? — А так… Стрельнул он его, да не добил. А раненый лось-то, поди, пострашнее тигра. Недаром в старину говорили: «Идешь на медведя — заказывай гроб. Пошел на лося — готовь и попа». Поставил Ерофей ружьишко в сторону, сунул за пазуху рукавицы, чтоб, значит, ловчей работать — дело-то зимой было, — достал нож и пошел сохатому горло резать. Спереди, дурак, подходил. А у лося вся сила в передних ногах. Ударит — как из пушки пальнет! Такие березы валит, что ого-го! Ну, вложил, видно, все силы в последний удар… В общем, пробил Ерофею грудь навылет. Пять ребер как не было. А на копыте — рукавица. Так и лежали рядком. Одни кости остались. — Да-а, побольше бы таких… ежей. — Эхе-хе, Андрюха, — вздохнул Парменыч, — молодой ты, горячий. А жить-то всем хочется — и ежам, и змеям. Ты эту злость сохрани, в нашем деле без нее нельзя. Но не дай тебе бог озвереть! Для чего мы здесь поставлены? Блюсти закон. И не какой-нибудь, а человеческий. Ты посмотри, Андрюха, сколько здесь всего: лес, вода, звери, рыбы, птицы — и все твое! Шерстнев говорит, надо быть рачительным хозяином природы. Что он понимает?! Мотается по асфальту… Пока не станешь частью всего этого, — и он взмахнул рукой, — ничего не поймешь и будешь бегать по закраинам леса. Парменыч облизнул пересохшие губы и вдруг спросил: — Ты подранков добиваешь? — А как же, — обиделся я. — Жалко, значит, и ты из доброты сердечной облегчаешь муки, так? — выкрикнул он в лицо. — Ну… так, — растерялся я. — А если больной, старый… лось. Все равно задерут волки. Долгая, мучительная смерть. А ты — с ружьем. Поможешь… лосю? — сорвался на шепот Парменыч. — Н-не знаю… Н-нет, не смогу, — раздавленный чем-то непонятным, ответил я. — А где же твоя доброта?! — свистящим шепотом выдохнул Парменыч. — Ты же человек и должен понимать, как это больно, когда горит нутро! И вдруг он обмяк, обвис, и только пальцы до синевы в ногтях комкали друг друга. Почему-то мне стало жутко. Спотыкаясь о весла, я перебрался на нос лодки. А Парменыч как-то по-детски вздохнул, посмотрел сквозь меня и виновато сказал: — Садись к мотору… Что-то у меня… с руками. От холода, видно.* * *
Через день начался охотничий сезон. Две недели гремела ружейная канонада, тарахтели моторы, металась над заводями ошалевшая от пальбы птица. Так же метался и я: то лез в чужую лодку и пересчитывал добычу, то ковырял землю около костров — искал утиные перья, то часами наблюдал в бинокль за «подозрительными». Странно, но никто не обижался… Как я ни старался, как ни лез из кожи, так никого и не оштрафовал. — Вот ведь досада! — расстраивался я. — Как отчитываться перед Шерстневым, что говорить? Что же я за инспектор, если не составил ни одного акта, не отобрал ни одного ружья и не задержал хотя бы паршивенького браконьера?! Нет, не видать мне, видно, карабина… Но в последний день охоты судьба сделала неожиданный подарок: какой-то дядька передал записку от Шерстнева: «По просьбе краеведческого музея разрешаю отстрелять двух гусей и одного лебедя». — Вот она, моя соломинка! — обрадовался я и бросился в моторку. — Для такого дела нужна мелкашка, чтобы перышки были целенькие. Попрошу у Парменыча, он не откажет… Интересно, а будет под чучелом написано, кто добыл эту птицу?… Озеро проскочил быстро, но у входа в протоку винт чиркнул по коряге, и, конечно же, «полетела» шпонка. Вставлять новую — дело долгое. А до избы Парменыча не больше километра. Само собой, я пристал к берегу и пошел прямо через лес… Вдруг среди деревьев мелькнула знакомая фигура. — Пармены-ич! — закричал я. — Стой, Пармены-ич! Он нехотя остановился и присел на колоду. Рядом примостился Трезор. — Ты чего… пропал? — запыхавшись, спросил я. — Бросил одного… А тут записка от Шерстнева… Что это ты какой-то?… Случилось что?… — Случилось. — Беда какая? — Беда. — Вот те раз! Что ж молчал-то? Помог бы… — чувствуя, как слабеют ноги, сказал я. — Нет, парень, — вздохнул Парменыч, — теперь уж никто не поможет. — Заболел, что ли? — Я-то нет. Меня хвороба не берет… Трезорка гниет. Не жилец он боле… Кончать веду, — каким-то серым голосом сказал он. — Да ты что, Парменыч! — вскочил я. — Как это — кончать?! Подумаешь, приболел пес. Свози к врачу, и все будет в порядке! — Не-е, порядку тут нету… Хужее дело. Много хужее. Парменыч положил веснушчатую руку на лобастую голову Трезора и замолчал, почесывая за ушами собаки. Да, за две недели Трезорка заметно сдал. Крупная, волчьего окраса лайка как-то обвисла, помутнели глаза, разогнулся крендель хвоста, тускло-серой стала шерсть… Парменыч помолчал, со всхлипом вздохнул и заговорил, давясь словами и захлебываясь после каждой фразы: — Я думал чо… Ну, не чует пес зайца или там рыси боится — от старости, значит. Ему уж, почитай, годов десять… Раньше-то, бывало, как увидит рысь, кинется к дереву и так, бедный, взъерошится — того и гляди, на сучья полезет. Отвлечет так рысь-то, а я подойду сбоку и сниму спокойненько… А тут примечать начал: не чует пес зверя, совсем не чует. Ладно, думаю, может сморился. Бывает так с собаками-то — вроде как затмение на нюх находит. Потом, глядишь, и отпустит. А Трезорка день ото дня слабеет и слабеет. Сам-то этого не понимает: суетится, мечется, прыгает — а все без толку. Да-а… Дальше хуже. Я не перебивал Парменыча. Я чувствовал, что ему надо выговориться. Ведь сколько он молчал, сколько носил на сердце эту тяжесть! Какой же я дурак! Ведь когда он спрашивал о подранках, а потом о старом лосе, так ничего и не понял. Сробел, ушел от разговора, а у Парменыча уже тогда скребли кошки… Подумать страшно, как трудно на такое решиться! Но самое странное — Парменыч не выпил «для храбрости», не подсыпал Трезору яду, не бросил в озеро. — Так вот, говорю, дальше хуже… Медведя встретили, шатуна. На масленой дело было. Я, как назло, без ружья. Так, мало-пулька болталась. А медведь будто понимает — сел и сидит. И вроде на меня норовит податься. Я — за нож. Давай, говорю, Трезорка, выручай! А он — хвост поджал, уши прилипли, из пасти слюна. Трясется весь. К ногам жмется. И лужу напустил… Э-э, думаю, пропал пес-то. Совсем пропал. Придется самому со зверем биться. Но медведь ушел. Обругал я его покрепче — и ушел. Зверь, он ведь непривычный к соленому слову. Шибко не уважаетбрани. Раньше-то как сказывали: «Хочешь добыть зверя — разговаривай, как с любушкой!» Трудно и медленно говорил Парменыч, но все же говорил. А тут вдруг замолчал. Он еще пытался что-то сказать, даже губы шевелились. Но слов не было. Забыл их Парменыч. Напрочь забыл. Он уже не видел ни меня, ни леса, ни Трезора и только сосредоточенно ковырял на пальце старую царапину. Показалась кровь. Несколько капель сорвалось на сапог, но Парменыч боли не чувствовал. Тогда Трезор потянулся к руке хозяина и лизнул рану. Кровь остановилась. А Парменыч опять хотел ковырнуть царапину. И вдруг Трезор прикрыл больное место головой. Рука Парменыча наткнулась на собачий нос… застыла, чуть подрагивая, в воздухе… и мягко опустилась на Трезоркин лоб. — Одним словом, повез Трезора к доктору… Рак оказался. Да-а… Усыпить предлагал. Укол, дескать, и крышка. Рассердился я тогда, крепко рассердился и на доктора, и на всю ихнюю медицину. Сам лечить начал. И мед, и молоко, и кровь телячью, и травы разные — все испробовал… К бабкам водил. Есть у нас такие — вроде как заговаривают. Не верят бабкам-то, а от болящих отбоя нет. Не помогли нам бабки… А пес-то, он ведь все понимает. Винится передо мной. Лишний раз тявкнуть боится. Раньше хоть скулил по ночам. Горит ведь у него внутри-то! Не выдержал я как-то, цыкнул. Так он с тех пор почти не спит: меня боится потревожить. Забудется чуток, засопит эдак ровно, спокойно, потом притихнет: боль, видно, подкрадывается. Тут и человек застонет! А Трезорка только всхлипнет. Кротко так, по-детски. Всю душу выворачивает! — Пармепыч, — предложил я, — может, того… Может, я… его. А?… Не трави ты себя. Парменыч помолчал. Застегнул ворот чистой белой рубахи. Поправил на Трезорке новый кожаный ошейник. Встал. Взвел курки… Долго стряхивал с рукава какого-то паучка… Сделал шаг… Второй. Трезор поднялся медленно, трудно. А потом встряхнулся и быстро пошел за хозяином! Неверные шаги Парменыча совсем не сочетались с легким, стремительным ходом Трезорки. Он поднял свою умную морду. Как-то особенно заливисто тявкнул. И так закрутил хвостом, что я всей похолодевшей кожей почувствовал, как он собирает все свои собачьи силы, чтобы подбодрить хозяина и запомниться не больным и шелудивым, а вот таким озорным, веселым и сильным псом. Но вдруг я увидел Трезоркины глаза. Даже не глаза, а веки. Они так жалко дрожали, что я не выдержал и отвернулся. Парменыч остановился. Потоптался… И заговорил тусклым, скрипучим голосом, часто сглатывая воздух: — На добром слове… Конешно… Вот. Не дай тебе бог! Но если придется, то — сам. Чистое это дело. Святое. Никому! Сам! Два дня звенело у меня в ушах от этого выстрела. А потом пошел к Парменычу за помощью — ни гусей, ни лебедя я так и не добыл. Выскочил из лодки, взобрался на крутой берег и… замер. Парменыч бегал вокруг дерева. Он то и дело терял галоши, семенил за ними, припадая на стоптанные пятки, и все время похохатывал. А за ним с веселым, задиристым лаем носился серовато-черный крепенький щенок. Увидев меня, Парменыч сгреб его в охапку и пошел навстречу. Щенок сердито урчал и пытался вцепиться в веснушчатый палец хозяина. — Трезоркин сын, — ласково сказал Парменыч. — Похож?… Тем временем щенок вцепился в палец, и Парменыч скривился от боли. Трезоркин сын виновато свесил уши и лизнул палец хозяина.ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ СТЕНА Фантастическая повесть
Мыс почти правильным полукругом уходил в море. Интересно, кому пришла в голову не слишком умная мысль устроить именно здесь киберсвалку? Ведь это место самой природой предназначено под причал. Теперь, когда Мировой океан по населению обогнал сушу, удобные причалы стали необходимы людям, как кислород. Море всегда навевало на меня раздумье. Я медленно шел берегом, прибой лениво шевелил гальку, следы моих ног мгновенно наполнялись водой. На широкий лоб моря набегали белые морщины волн. Немало повидало оно на своем веку. Шаль, песок не хранит следов, — он, наверно, о многом мог бы рассказать. О том, например, как проходил здесь мой коренастый пращур в свисающей с плеча медвежьей шкуре, со шрамом на виске, оставленным страшными когтями… Быть может, именно здесь первое пресмыкающееся вылезло из теплых и ласковых морских глубин на обжигающий жесткий песок, под огненные лучи мохнатого рыжего зверя, изготовившегося к прыжку в недосягаемо высоком небе? А может, еще в те времена, когда и жизни на Земле не было, на эту гладь, близ грани тверди и прибоя, опускались корабли инопланетных мыслящих существ? Давным-давно, на заре времен, жизнь вашей молодой планеты шагнула на сушу из своей колыбели — Мирового океана. Не этому ли отважному шагу обязана земная жизнь своим невиданно пышным расцветом? Теперь, на очередном этапе своей истории, завоевав не только всю сушу Земли, но и ближний космос, человек вновь обратил взоры к морю — прародителю жизни. Что ж, это закономерно. История, как учит диалектика, развивается по спирали, каждый раз неутомимо возвращаясь к пройденному, но на новой, более высокой ступени… Подойдя к мысу, я замедлил шаги. Отличное место выбрал Совет для перевалочного пункта. Тут круглосуточно велись работы. Вскоре и в этом месте любой, кто захочет, сможет пересечь границу двух стихий — земли и моря. Место здесь, конечно, пустынное, и причал будет не столь грандиозным, как, скажем, в Приморске, где я окончил интернат. Работники морских хлорелловых плантаций или придонных строек, расположенных поблизости, смогут выходить здесь на берег, чтобы провести на пляже свой день отдыха. Я представил себе сооружения, которые вырастут вскоре на мысе. Кружевная башня, излучающая ультраволны, — маяк для тех, кто находится в толще воды. Камера перехода, похожая на большой пузырь, переливающийся всеми цветами радуги. Бегущая лента с вечно мокрыми перилами, которая, начинаясь в камере перехода, веселым ручейком стекает в море… По решению Совета такие сооружения воздвигались на примерно равных интервалах вдоль побережий всех континентов Земли. У самого мыса я остановился, наблюдая за машинами, расчищающими столетние залежи лома. Наблюдать за умными машинами было, конечно, интересно. Но не только они влекли меня на мыс. Неподалеку располагался линга-центр… Но это уже другая материя… Экскаваторы размеренно трудились, добросовестно перенося и опрокидывая в вагонетки ковши, из которых во все стороны торчали обломки покореженных механизмов — перепончатые щупальца, ломаные зубчатки, изогнутые пружинки и еще бог весть что. Вечерело. Апрельское солнце готовилось нырнуть под горизонт, и моя тень вытянулась далеко вперед. Я уж совсем собрался было идти дальше привычной тропкой, как вдруг мое внимание привлек один из ковшей. Заглатывая очередную порцию обломков, он слегка дрогнул и замер, упершись в преграду — старый контейнер. Миг — и сверкающее лезвие надвое разрезало заржавленный цилиндр. Из половинок его, набитых всяким хламом, высыпались листки. Весенний ветерок подхватил их и короткими перебежками со своей добычей двинулся к морю. Сам не знаю зачем, я подошел и подобрал несколько оставшихся листков. В неровном пламени автогена листки казались желтоватыми. Каждый был исчерчен письменами, ни на что не похожими. Я подровнял тоненькую пачку и сунул ее в карман, тотчас забыв о находке. Когда я поднимался к линга-центру, уже совсем стемнело. День выдался напряженный, и я устал. Перед глазами все еще стоял лист ватмана, исчерканный вдоль и поперек. Но по крайней мере до завтрашнего утра я мог не думать о нем. Так приятно было шагать узкой тропкой, всей грудью вдыхая соленую живительную прохладу! Пахло едва проклюнувшимися почками, и горечью миндаля, и нагретым за день камнем, и морем. Тропка сделала последний поворот — впереди среди колючих ветвей показался матово светящийся купол. Я ускорил шаг. Лена, как всегда, ждала меня — ее топкий силуэт выделялся на фоне степы, за которой высился купол. Все мне было здесь так знакомо, так близко, что не верилось: неужели всего месяц назад я и не подозревал о существовании линга-центра, ничего не знал о его старшем операторе?… — Здравствуй, Андрей! — весело крикнула Лена сверху. — Добрый вечер. — Поднимайся сюда! Хорошо было стоять на маленькой площадке, окаймленной гранитным парапетом. Мы смотрели вниз. Было новолуние, и море там, вдали, скорее угадывалось, чем виднелось. — Мыс почти расчищен. Наверно, завтра киберы монтаж начнут, — сказал я. Лена кивнула. — Мне сегодня попался интересный текст, — сказала она. — Наказ вождя о подготовке племени к переходу через огненную пустышо. — На чем текст? — поинтересовался я. — Кора? — Камень вулканического происхождения. Из Космоцентра привезли. — Легко расшифровалось? — Что ты! Целый день мучилась. Чуть информатор не сожгла! — Камень с Марса, наверно? — С Аларди. — Аларди? — повторил я название незнакомой планеты. — Созвездие Центавра, — пояснила Лена. Над линга-центром прорезались звезды. Стало свежо, я снял куртку и набросил ее на плечи Лены. — Что это? — спросила Лена. Она опустила руку в карман и вытащила узкий пластиковый листок. Я коротко рассказал, как он попал ко мне. — Какой это язык, как ты думаешь? — спросил я. Лена рассматривала мою находку. — Не знаю… Такие письмена вижу впервые, — тихо сказала она. — Может быть, в этих знаках вообще нет никакого смысла? — спросил я. Лена, не отвечая, подносила листки к светящейся панели, внимательно рассматривая каждый. — Все может быть, — произнесла она наконец после долгой паузы. — Знаешь что? Я попробую дать их дешифратору. Мы вошли в машинный зал. Высокий купол-потолок сливался с вечерним небом. На панелях бессонно перемигивались лампочки. Машинам нет дела до того, утро сейчас или вечер. День и ночь заняты они тем, что пытаются расшифровать письмена, привезенные астронавтами с далеких планет. Задача сложная, и не всегда, далеко не всегда поддается она решению. Корабли привозят знаки, вырезанные на коре тропических деревьев, нацарапанные на твердой почве, высеченные на глыбах гранита. Не все удается линга-машинам разобрать сразу. Но то, что удается, навечно оседает в их бездонной памяти, помогая дальнейшему штурму таинственных знаков… Лена дала задание дешифратору. После мы пили чай с медом, слушали музыку, как всегда, читали старые стихи. Я посмотрел на часы, встал и начал прощаться. И в этот миг дешифратор загудел. На пульте загорелся розовый глазок. Лена быстро нагнулась к переговорной мембране. — Какой это язык? — спросила она. Дешифратор не ответил. — Совсем как ты, — усмехнулась Лена. — Предпочитает промолчать, чем сказать: не знаю. — А может, дешифратор перенял эту привычку… — начал я, но Лена жестом велела мне молчать: дешифратор что-то произнес, быстро и неразборчиво. Лена глянула на меня и повернула регулятор скорости воспроизведения. — …Стена заполняет собой весь мир, разрезая его надвое, — медленно, чуть не по слогам произнес механический голос, лишенный всякого выражения. — Нет ей ни конца ни края. Стена похожа на темную волну неведомого моря, вдруг вставшую на дыбы… Дешифратор дважды произнес последнюю фразу и умолк. — Дальше, дальше, — снова нагнувшись к переговорной мембране, заторопила Лена. — Дальше следует темное место… Логический пропуск… — сказал дешифратор. — Пытаюсь сопоставить с прежними вариантами расшифровки… С минуту мы тщетно ждали продолжения. — Что же ты не подобрал все листки? Машине было бы легче, — упрекнула меня Лена. — Чем больше материала, тем проще поддается он расшифровке. — Откуда мне было знать, что в них есть хоть какой-нибудь смысл? — пожал я плечами. — Когда и посмотрел на квадратики и ромбы, соединенные кривыми линиями, то решил, что это упражнение ополоумевшей машины, изгнанной из линга-центра. Лена не улыбнулась — она не приняла шутки. — А вдруг там что-нибудь осталось? — сказала она. — Где? — не понял я. — На берегу. — Говорю же тебе — ветер сразу подхватил их… — А вдруг? — перебила меня Лена. Я с сомнением покачал головой. — Давай попытаем счастья! — Лена схватила меня за руку, и мы выбежали из зала. Я прихватил фонарик, и струящаяся тропинка была поэтому для нас явственно различима, хотя протоптали ее только двое. — Вот… здесь… лежал контейнер, — тяжело дыша, сказал я, указывая на место, ровное, как стол, — киберы сегодня превзошли самих себя. Не отвечая, Лена подошла к берегу. Стоял прилив, и почти вся песчаная полоса была залита водой. Листков, которые мы искали, не было и в помине. — Листки тяжелые, правда? — задумчиво сказала Лена. — Наверно, тяжелее воды. Может быть, часть их осталась на дне? Раздевайся! — решительно заключила она. Черная вода лежала у наших ног. Я отдал фонарик, чтобы освободить руки, и перешагнул белую каемку прибоя. Сильный луч следовал за мной по пятам, освещая пятачок каменистого дна. Потревоженные крабы бестолково шныряли во все стороны. Листков нигде не было: наверно, приливные течения унесли их в глубину. Окончательно продрогнув, я уже совсем решил было выходить, но в этот момент упорство искателя было вознаграждено. Отыскался один листок, попавший в расщелину между камнями. Правда, после этого мне ничего не попадалось, несмотря на поиски. — Н-наверно, в-вода смыла знаки, — сказал я, выйдя на берег и протягивая Лене листок. Она навела на него луч: угловатые письмена, чем-то напоминающие математические символы, четко выделялись на потемневшей поверхности. Я сделал несколько кругов, чтобы согреться, а потом пошел проводить Лену — ей надо было дежурить до утра. Но уйти с линга-центра мне так и не пришлось. Мы до рассвета слушали странную повесть, которую рассказывал дешифратор. Он часто прерывался и надолго умолкал. Тускло звучал монотонный голос, и перед нами разворачивались загадочные картины чужого бытия, чужой планеты. Кто скажет, когда и где это происходило? Хроника ли это подлинных событий? Или мрачная фантазия какого-нибудь древнего автора? …Румо медленно отдал команду, и манипулятор послушно переместил его к хранилищу — низкому строению, собранному из листов гофрированного пластика. Румо заглянул в отсек и вздохнул: снова, как вчера, он был заполнен не больше чем на треть. Видно, у… белковых… (в этом месте дешифратор запнулся, — наверно, подыскивал равнозначное слово в нашем языке), — видно, у белковых снова начался период сезонной хандры. А может, что-нибудь похуже? Значит, опять бесконечная возня с настройкой логических блоков. Надо сказать — опасная возня: если белковый… (в этом месте дешифратор снова запнулся), если белковый, неловко повернувшись, случайно заденет землеца — тому не поздоровится. Будь они прокляты, тупые автоматы! «Нет ничего ужасней однообразия», — подумал Румо. Ну, отрегулирует он белковых роботов, а что толку? И завтра, и послезавтра, и через месяц, и через десять лет — одно и то же. Пшеница, пшеница, пшеница… Как будто нет ничего на свете, кроме пшеницы. Ни моря, ни мегаполиса, ни открытого космоса… — Мегаполис — что это такое? — быстрым шепотом спросила у меня Лена, когда дешифратор запнулся. — Кажется, огромный город. Бесконечный город или что-то вроде этого, — ответил я И тут же динамик ожил снова. Другим землецам хоть бы что — они довольны своей судьбой. Некоторые даже считают, что лучше доли землеца вообще на свете нет! А что, им нельзя отказать в известной логичности. Каждый землец обладает манипулятором — совершенной машиной, которая послушно и умело выполняет все его команды, по требованию хозяина доставит его куда угодно, разумеется — в пределах зоны, даже укачает, если на землеца нападет вдруг бессонница… А урбаны? Живут в вечной копоти, в грохоте и лязге, говорят, у них там, в мегаполисе, и дышать-то нечем… Все это так. И все-таки Румо мечтал о мегаполисе, скрывая сокровенное даже от самого близкого друга. Оп и сам не знал, когда зародилась эта мечта. Ведь со дня рождения судьба его была предрешена: весь путь его — от колыбели до смерти — лежал под знаком пшеничного колоса… Но каждое слово воспитателей, направленное к тому, чтобы лишний раз растолковать, как прекрасна судьба землеца, вызывало у юного Румо неосознанный протест. Пшеница — штука тонкая. Собирать полный урожай с каждого квадрата, не дать пропасть ни единому зернышку — дело не простое. Ведь созревание каждого квадрата рассчитано чуть ли не по часам. Промедли с одним участком — и дела на соседних полетят к черту. А тут еще имей дело с исполнителями — белковыми роботами, с которыми нужен глаз да глаз. С белковыми у Румо были свои особые счеты. С первого дня знакомства он невзлюбил это племя. В тот день на опытном поле воспитатель дал ему первое самостоятельное задание — убрать участок с помощью белкового робота. С утра хмурилось, однако служба погоды сообщила, что дождя не будет, и Румо отправился на выделенный ему участок в манипуляторе с открытым верхом. Сначала все шло хорошо. Румо устроился на пригорке, отдал нужные команды белковому, и тот приступил к работе. Овеваемый ветерком, Румо задремал. Его разбудила тяжелая капля, упавшая на лоб. Румо открыл глаза, испуганно огляделся: к счастью, он был один на участке, провинности его никто не заметил. Вдали маячила фигура белкового робота, размеренно, как машина, убиравшего пшеницу. Нужно было поднять верх у манипулятора, однако даже такая физическая нагрузка была не под силу землецу. Да и к чему? Для выполнения низменных усилий имеются белковые роботы, а дело землеца — лишь отдавать команды. Румо отдал команду, однако белковый даже не поднял головы, продолжая клешнями, словно ножницами, срезать колоски. «Наверно, испортился биопередатчик», — подумал Румо и крикнул, но его голос был заглушён хлынувшим ливнем. Румо попытался сам поднять верх манипулятора, но его слабые руки лишь бессильно скользили по складкам ребристого перепончатого укрытия. Он сразу же вымок до нитки, холодные потоки били в лицо, сбегали по спине, и Румо ощутил себя вдруг совершенно беспомощным. Он кричал до хрипоты, кричал чуть не плача, но робот так ни разу и не обернулся. Лишь когда дождь кончился и пора было возвращаться на учебную базу, робот пересчитал контейнеры, набитые собранными колосками, — ливень, конечно, был ему нипочем — и вперевалку подошел к манипулятору, в котором сидел посиневший от холода его хозяин-землец. — П-почему ты не ответил на мой биов-вызов? — спросил Румо. Хотя у него зуб на зуб не попадал, он старался, чтобы голос звучал строго: ведь с этим белковым истуканом ему предстоит работать долгие годы, каждые пять лет переходя с одного участка пшеницы на другой, определяемый игрой жребия — слепого случая. Не дай бог, если проклятый робот сразу почувствует в нем слабину. — Не слышал, — ответил белковый. — Но я кричал. — Дождь шумел, — пояснил белковый, разведя клешнями в стороны. — А что случилось? — Случилось то, что твой хозяин промок, — строго сказал Румо. — Прекратить дождь не в моих силах. Румо с неприязнью посмотрел на плотную фигуру робота, застывшего перед ним с идиотским видом. — Но в твоих силах поднять верх у манипулятора, — произнес Румо. Робот переступил с ноги на ногу. — Справедливо, — согласился он и тут же, словно в насмешку, без всяких видимых усилий натянул над Румо прозрачную перепонку. «Сейчас же поставь на место», — хотел было крикнуть Румо, но сдержался, опасаясь, что это будет выглядеть смешно. Он вытащил из мокрого кармана плоский шарик биопередатчика и принялся рассматривать его. Но как определишь по внешнему виду, исправен ли он? Разобрать передатчик имеет право только воспитатель. Надо будет обратиться к нему вечером… — Можно? — протянул клешню робот, Румо знал, что взгляд белкового, в отличие от взгляда земле-па или даже урбана, способен проникать сквозь непроницаемые перегородки, Он дал передатчик роботу. Тот повертел его, сказал: «Да, передатчик неисправен», — но, возвращая, сжал шарик так, что он треснул. Когда Румо вернулся на базу, его подняли на смех. — Мокрая курица в упаковке! — такими словами приветствовал его воспитатель. Румо объяснил ему, как было дело, но сам же вышел кругом виноватым. — Белковый — машина, — поучал его воспитатель. — Он делает только то, что ты ему велишь. Твое дело — только отдавать команды. Ну, а ежели ты и команду толком не умеешь отдать, то куда ты годишься? В продолжение всего поучения белковый робот, который был с Румо, стоял рядом с безучастным видом. — Но он поломал мой биопередатчик, — со слезами в голосе произнес Румо, показывая на робота. — Разве тебе не известно, что за передатчик отвечает землец, а не его белковый? — строго сказал воспитатель. Этот эпизод врезался в память Румо на всю жизнь. Разве можно забыть то унизительное чувство собственной беспомощности, с которым сидел он в открытом манипуляторе под дождем, не будучи в силах поднять верх, в то время как белковый спокойно занимался своим делом, не слыша (или делая вид, что не слышит) отчаянных криков своего хозяина. И вообще он, Румо, наверно, не такой, как остальные зем-лецы. Других почему-то слушаются белковые роботы, а его нет. Другие довольны судьбой землеца, а он нет. Другие готовы с утра до ночи обсуждать агрономические тонкости выращивания пшеницы, а он предпочитает уединяться, чтобы без помех можно было мечтать о мегаполисе. Среди других землецов Румо чувствует себя отщепенцем, белой вороной. Но кто заронил в душу юного землеца мечту о мегаполисе? Однажды в группе, где обучался Румо, появился новый землец. Как-то Румо, перемещаясь по коридору в своем манипуляторе, случайно уловил обрывок разговора, который вели между собой воспитатели. Румо догадался, что разговор идет о новичке, и, замедлив ход, навострил уши. — Падший ангел, — сказал один воспитатель со скверной усмешкой. — Он получил по заслугам, — пожал плечами другой. А третий произнес и вовсе загадочные слова. — Не исключено, что наша тихая обитель окажется для него лишь пересадочной станцией, — сказал он. — Наша станция — тупик. Дальше ходу нет, — заметил первый воспитатель. Третий покачал головой. — Не говори, — произнес он. — Ты хочешь сказать, что его могут… — задохнулся второй. — Вот именно, — сказал третий. — Только еще материал нужен на него. И трое воспитателей умолкли, ожидая, пока землец скроется. У Румо новичок пробудил жгучий интерес. Он был не такой, как все. Поступки его носили печать самостоятельности, с воспитателями он вступал в пререкания, что было вещью неслыханной, по крайней мере для Румо, а к обязанностям землеца вновь прибывший относился без видимого энтузиазма. В тот же день их учебные участки оказались рядом. Румо и новичок разговорились. Начали они осторожно и о вещах нейтральных — каждый не без оснований опасался подвоха. Но постепенно — слово за слово — прониклись взаимным доверием. — Нравится тебе быть землецом? — спросил новичок. — Не знаю… — смутился Румо. Новичок вздохнул. — Знавал я и лучшие времена, — сказал он. — Разве ты не землец? — осмелился спросить Румо. Новичок покачал головой. — Ты же видишь, — сказал он. — Приходится осваивать пшеницеведение и роботехнику с азов. Хотя новичок выглядел молодым, лицо его казалось усталым, а губы, когда он молчал, скорбно поджимались. — Кто ты? — спросил Румо. Новичок не спешил с ответом. Он сначала огляделся, пристально посмотрел на двух роботов, видимо занятых своим делом, и лишь затем произнес вполголоса: — Я урбан. В первую минуту Румо онемел. Впервые в жизни видел он живого урбана. Но затем в душе мальчика зашевелилось сомнение. — Урбан? — переспросил он. — Да, — подтвердил новичок. — Но урбаны умеют ходить, а ты в манипуляторе. Новичок дернулся на сиденье так, что манипулятор его покачнулся на гибких щупальцах. — Раньше и я умел ходить, малыш… — сказал он. Румо недоверчиво хмыкнул: — Почему же сейчас не ходишь? — У меня нет ног, — медленно сказал новичок. — Потерял в уличной стычке. — Уличной? — недоуменно повторил Румо незнакомое слово. — Эх ты, землец зеленый! — улыбнулся новый знакомый Румо. — Улица-это… Как бы тебе объяснить? Ты в горах бывал? — Издали видел, — сказал Румо, не сводя с новичка жадного взгляда. — Представь себе узкое горное ущелье. Ты идешь по нему… ну, перемещаешься в машине, а слева и справа вместо гор — дома. — Такие большие? — Даже больше. А в домах живут люди. Много людей. — Урбаны! — восхищенно произнес Румо. — Какие они, урбаны? — Такие же, как я, — сказал новичок. — А ущелье — это и есть улица. Румо что-то пробормотал и отвел взгляд. Легендарный образ урбана, обитателя мифического мегаполиса, титана, красавца и всемогущего силача, никак не вязался с этим изможденным, усталым, а главное — совершенно обычным на вид землецом, И ходить-то он не умеет… Какой же он урбан? — Подойди-ка сюда, — сказал новичок, словно угадав мысли Румо. Когда манипулятор мальчика приблизился, новый знакомец откинул у себя полог. Вместо ног Румо увидел короткие обрубки. Значит, урбаны по виду такие же, как землецы! Только ходить умеют. Что ни говори, а это, наверно, очень здорово — ходить по земле. — Из-за той потасовки меня и перевели в землецы, — сказал новичок. — Справедливости захотел, — покачал он головой. Румо не понял, о какой справедливости идет речь, но спрашивать не стал. Его интересовало другое. И новичок долго, до вечера, рассказывал ему о далекой, как сказка, и страшной, как сон, жизни в мегаполисе. Голова мальчика пошла кругом. Он даже забыл своевременно отдавать команды своему белковому. — Что у вас там хорошего, в мегаполисе? — сказал Румо. — Теснотища, друг на друге живете. Пыль, чад — дышать нечем, сам говоришь… — Все так, — согласился новичок. — Да и опасно у вас там на улицах, — продолжал Румо. — Можно ноги потерять… — И даже жизнь. Но зато у нас есть борьба, — сказал новичок. — А быть рабом, по-твоему, лучше? — Рабы — это белковые роботы, — сказал Румо, — они подчиняются нашим командам. — А вы, землецы, разве ничьим командам не подчиняетесь? — спросил новичок. — Мы свободные возделыватели пшеницы, — повторил Румо заученную фразу, Новичок усмехнулся. — Да, конечно, ты свободен, — сказал он. — Если не считать того, что сейчас подчиняешься воспитателям. А потом точно так же будешь подчиняться сборщикам урожая. — Таков общий порядок… — пробормотал Румо. — Чем же, в таком случае, ты отличаешься от них? — кивнул новичок в сторону белковых роботов, чьи полусогнутые фигуры продолжали маячить на соседних участках. Румо окинул свой участок, и его белковый, поймав взгляд хозяина, быстро отвел глаза в сторону — в лучах заходящего солнца сверкнули блюдца-фотоэлементы. Поведение белкового показалось Румо подозрительным. Он отдал по биопередатчику команду, и движения белкового убыстрились. Ну, так кто же из них двоих раб? — Ты раб, как и он, — сказал новичок. — Каждому свое, — произнес Румо, цепляясь за афоризм своего воспитателя, как за последнее прибежище. — Что ж, ты прав, — неожиданно согласился безногий урбан. — Раб должен подчиняться, а человек — бороться. Румо ждал совсем другого. Ему хотелось, чтобы новый знакомый доказал, что как бы там ни было, а урбану в тысячу раз лучше, чем землецу, что дым и пыль мегаполиса милее, чем ветер с унылых пшеничных полей, что лучше борьба и риск, чем безрадостное растительное существование. Мальчик не сумел бы столь рельефно и ясно изложить свои мысли, но думал он именно так. Однако высказать урбану все, что нахлынуло, он не успел. Вдали показалась машина воспитателя. Она неслась на полной скорости, так что ветер свистел под днищем. Румо побледнел. — Почему вы вместе? — спросил воспитатель, круто осадив машины. — Каждый землец должен работать на своем участке. — Мы на минутку… пока белковые заняты… — пробормотал Румо. Глаза урбана сверкнули. — А какую инструкцию мы нарушили, воспитатель? — дерзко спросил он. — С тобой мы еще разберемся, — бросил воспитатель и двинулся на участки. Квадрат новичка был в порядке — придраться было не к чему, как ни хотел того разъяренный воспитатель. Белковый, регулярно получая биокоманды, работал исправно, и дневной урок- два полных контейнера пшеницы — был выполнен. Зато на участке Румо дела обстояли похуже. То ли юный землец отдавал нечеткие команды, то ли вообще позабыл о них, — во всяком случае, поле являло собой печальную картину. Значительная часть его была — неслыханно! — вытоптана массивными ступнями белкового робота. Драгоценные зерна и колосья пшеницы были вдавлены в почву. Один контейнер заполнен лишь на треть, другой пуст. Воспитатель вернулся к землецам, оба робота покорно шагали за ним. — Ты и твой робот будете наказаны, — сказал воспитатель, обращаясь к Румо. — Строго наказаны. Ну, а с тобой, — обернулся он к бывшему урбану, — разговор особый. О чем ты говорил с ним? — кивнул он в сторону Румо. — О счастливой доле землеца, — спокойно ответил тот. Лицо воспитателя налилось кровью. — Все на базу! — прохрипел он. На базе Румо подвергли многочасовому унизительному допросу. Однако мальчик стойко отражал атаки. О чем они говорили с безногим? На нейтральные темы. Касались вопроса о том, какая почвенная смесь является наилучшей для пшеницы, обсуждали другие агрономические тонкости. Мегаполис? Нет, мегаполиса не касались. А какое могут иметь отношение землецы к мегаполису? — Здесь я задаю вопросы, а не ты! — закричал, выходя из себя, воспитатель. Размахнувшись, он ударил Румо по щеке. Жаркая волна залила мальчика. Он ухватился слабыми руками за борт манипулятора, словно пытаясь выпрыгнуть. Но слабые руки подломились, и Румо рухнул на сиденье. В это время в комнату вошел еще один воспитатель — тот самый, который утром в коридоре говорил своим коллегам, что для новоиспеченного землеца их тихая обитель окажется лишь пересадочной станцией. — Оставь его, — сказал вошедший, пренебрежительно махнув рукой в сторону Румо. Отведя воспитателя, который допрашивал Румо, в сторонку, он что-то заговорил быстрым шепотом. Румо, как ни напрягал слух, уловил только два слова: «его белковый». Румо решил было, что проклятый белковый истукан нажаловался на него, но, к счастью, все обошлось. — Может, выдумывает? — сомневаясь в чем-то, спросил воспитатель. — Он на пленку записал. Я сам ее прослушал, — ответил вошедший. — Правда, дистанция была большая, слышно неважно, но разобрать можно. Воспитатель потер руки. — Значит, спекся, голубчик, — произнес он довольным голосом. — Я это сразу предсказывал, — заметил вошедший воспитатель. — Ну, а теперь куда же его? — Ясно куда… С конечной станции может быть только один путь… В продолжение этого разговора Румо сидел ни жив ни мертв. В коридоре послышались тяжелые шаги. Дверь отворилась, и в помещение, мерно ступая, вошли два робота — те самые, которые сопровождали сегодня Румо и новичка-землеца. Они несли на могучих, сложенных крест-накрест руках нового знакомца Румо… Безногое тело его обмякло, но глаза с вызовом смотрели вокруг. — Допрыгался, — бросил воспитатель Румо. — Не будешь больше воду мутить. — Попляшешь на нитке, — добавил другой воспитатель и сделал всем понятный жест. Взгляд безногого остановился на Румо. — Посмотри-ка, посмотри-ка на него! — вдруг крикнул воспитатель, указывая на Румо. — Это настоящий землец, он-то и помог изобличить тебя… Румо хотел что-то сказать, но от чудовищной лжи воспитателя у него перехватило дыхание. А когда он обрел способность говорить, несчастного новичка и двух роботов уже не было в комнате. — Ты молодец, Румо, — ласково сказал его воспитатель как ни в чем не бывало. — Отличился сегодня. Я похлопочу, чтобы старший вручил тебе жетон «Настоящий землец». Жетон Румо не вручили, но наказанию за пустые контейнеры он не подвергся. Что касается безногого урбана, то его никто больше не видел. …Он, Румо, — единственный человек на огромной площади в сотню квадратных лим. В день совершеннолетия Румо вытащил жребий с изображением колоса и координат квадрата, с которого он отныне в течение долгих пяти лет должен был снимать урожай пшеницы. А потом что? Снова жеребьевка? А что толку? Грено говорит, что все пшеничные участки похожи друг на друга как две капли воды. Грено знает — он сменил не один десяток квадратов. — Далее следует логический пропуск, — сообщил дешифратор и после короткой паузы продолжал: Юноша закрывает глаза. …И вот манипулятор мчит его к Стене. В пути Румо ощупывает в кармане пропуск — крохотный жетон, излучающий на определенной частоте, которая закодирована у перехватчиков Стены. Румо сидит внутри сверкающей капли, которая скользит на воздушной подушке. Раскачивается аппарат да тихонько поет скорость. А вдали уже вырисовываются контуры Стены. Именно такой он и представлял ее, хотя ни разу не видел. Серые плоскости уходят в небо. Если присмотреться, кажется, что они слегка колеблются и дрожат. Но Румо знает, что это защитное поле Стены искажает видимость. Худо придется тому, кто осмелится без такого вот жетона приблизиться к Стене. Он увязнет в силовом поле, словно в трясине. Затем из башни ближайшего охранного поста выйдут белковые истуканы и втянут нарушителя за Стену. Стена все ближе. Она заполняет собой все, разрезая мир надвое. Нет ей ни конца ни края. Она похожа на волну невидимого моря, вдруг вставшую на дыбы. Манипулятор замедляет ход, сейчас он врежется в Стену или увязнет в защитном поле… И тут совершается чудо. Поле гаснет, и в Стене открывается узкое отверстие. На один миг — но этого достаточно. Стена остается за спиной, и он — в мегаполисе. Мегаполис… Улицы — словно бездонные ущелья. Тысячеэтажные дома-гнезда. Грено рассказывал, что в таких домах можно прожить всю жизнь, так и не выйдя ни разу на вольный воздух. Ну и пусть, и пусть! Он готов на все, что угодно, только бы попасть туда, в сказочную державу, навек заказанную для землеца. Румо едва ли мог бы объяснить, какая сила влечет его в таинственный и запретный мир, называемый городом. Однако мечта его была неистребима. Но что толку в мечтах? Его жребий определен до конца — пшеница, пшеница, пшеница… Соседние планеты платят за пшеницу бешеные деньги — там она не родится. Все предпочитают натуральный хлеб, а не синтетический, хотя последний и рекламируют на все лады. Румо открыл глаза и вздохнул. Видение мегаполиса исчезло. Одна только отрада — раз в декаду разрешается свидание с таким же землецом, который управляет обработкой одного из соседних квадратов. Спасибо судьбе, ниспославшей ему в соседи Грено. Старик много повидал, умеет рассказывать. Они подолгу беседуют, но каждый раз Румо кажется, что Грено чего-то не договаривает. Как губка водой, насыщен участок всякими химикалиями и биостимуляторами. Участок разбит на небольшие квадраты, подобно шахматной доске. Работа идет по простому графику. Пока в одном углу проходит сев, в другом белковые уже снимают урожай. И так круглый год. Благодаря замкнутому циклу поток зерна, поступающий с бесчисленных квадратов, не иссякает. Сборщик, осуществляющий контроль, внимательно следит за каждым квадратом, его не проведешь. И сегодня недобор. Сборщик опять поставит ему минус. Пять минусов — и Румо накажут токовым разрядом. Грено говорит — удовольствие ниже среднего. В чем же все-таки дело? Почему начали падать сборы? Пульт неизменно подтверждает, что на территории квадрата все в порядке: глазок аварийного сигнала не светится. Это все белковые. Румо инстинктивно чувствует в них врагов, мстительных и злобных. Словами этого не объяснишь, но Румо уверен — белковые его ненавидят. За что?… «Извечная ненависть развивающейся системы к тому, что ограничивает ее свободу», — говорит Грено. Может быть, он прав. Но Румо от этого не легче. Его замучила эта атмосфера ненависти и недоговоренности. В последнее время Румо начало казаться, что белковые замышляют что-то недоброе. Простая мнительность, говорит Грено. Хорошо, если так. Пока Румо предавался мечтам и грустным размышлениям, низкое солнце успело приметно склониться к западу. С поля возвращалась группа белковых. Возвращалась немного позже, чем следовало, — по вызову Румо они должны были быть здесь еще полчаса назад. К этой группе Румо испытывал наибольшую антипатию. Идолы шагали вперевалку, движения их были заучены раз и навсегда, но на этот раз в походке белковых Румо почудилось что-то вызывающее. Неужели и землецы вот так же ходили когда-то? Румо невольно усмехнулся с чувством собственного превосходства. Неужели его предки, подобно этим белковым идолам, медленно перемещались, переставляя ноги и неуклюже размахивая для равновесия руками? Грено говорит, что землецы не ходят уже триста лет. К чему ходить пешком, если есть манипуляторы? Маник доставит тебя куда угодно, только пожелай этого. Вечерело. Румо все оттягивал момент, когда придется заняться настройкой белковых. Вдали на дороге, рассекающей надвое большой квадрат поля, показалась точка. Румо приставил ладонь козырьком. Сборщик? Но сегодня не его день. Вглядевшись, Румо вскрикнул от радости: Грено! Румо рывком двинулся навстречу гостю. Грено испытывал необъяснимое чувство симпатии к этому юноше с живыми глазами, в которых постоянно отражалась пытливая работа мысли. Даже маник Румо двигался всегда порывисто, скачками, отвечая внутреннему состоянию хозяина. И мечта Румо о мегаполисе была близка старику, хотя об этом не знал никто. — Опять недобор, — пожаловался Румо. — Большой? — с сочувствием спросил Грено. — Такого еще не бывало, — вздохнул Румо. — Думаешь, они виноваты? — понизил голос старик, кивнув в сторону белковых, которые прохаживались перед хранилищем, разминая затекшие мускулы. — А кто же еще? — горячо сказал Румо. — Настройку проверил? — Нет еще, — опустил голову Румо. — Ладно, вместе посмотрим, в чем там дело. Мои тоже капризничают. Они помолчали, глядя на умирающий закат. На западе слабо светилась ровная дуга горизонта, подобная остывающему слитку металла. Там и сям высились башни искусственного климатал которые тоже обслуживались белковыми. Но даже башни климата не в силах были скрасить удручающее однообразие ровной, как стол, поверхности. — Слышал я когда-то такие слова: «лицо планеты», — сказал Румо, задумчиво глядя вдаль. Немного помолчал, затем повторил: — Лицо планеты… Бессмысленные слова! Что же это за лицо, если оно лишено всякого выражения? На тысячи лим — одно и то же: ровное поле. — Не всегда наша планета была такой гладкой, — возразил Грено. — Когда-то лицо ее имело собственное выражение. Были и сопки, и овраги, и холмы… — Куда же это все пропало? — Сгладили. Так удобней выращивать и собирать пшеницу, — пояснил Грено. — Горы остались только в заповеднике. Они медленно двинулись к дороге. Их маники скользили рядом, бок о бок, словно две лодки. — Скажи, Грено… — начал Румо. — Я давно хотел спросить тебя… Ты так интересно рассказываешь о мегаполисе… А сам ты бывал в мегаполисе? — Почему ты вдруг вспомнил мегаполис? — спросил Грено, не глядя на собеседника. — Я думаю о нем всегда. — Брось эти мысли, — строго сказал Грено. — Землец в город попасть не может. — Знаю, — кивнул печально Румо. — Да и что там хорошего, в мегаполисе? — продолжал Грено. — Суета, сумасшедшая гонка, ставки в которой — жизнь и смерть… Дым, копоть, чад… В общем, чувствуешь себя, как рак в кипящей воде, — махнул рукой Грено, но Румо заметил, что глаза старика загорелись. Маники продолжали скользить, а слева и справа к дороге подступала ветвистая пшеница. Стволы растений, толстые, как бамбук, с трудом удерживали налитые колосья. Кое-где зерно начинало течь: белковые явно не справлялись с работой. — Я дал бы себе вырвать глаз, чтобы другим посмотреть на мегаполис, — сказал Румо. — Запомни, мальчик: не всем быть урбанами, — рассудительно сказал старик. — Кому-то надо ходить в землецах. Вот как нам с тобой. И тут ничего не поделаешь. — Он высунул руку из манипулятора, отвел в сторону усатый колос и добавил: — Стену не пробьешь. Загустевшие вечерние тени легли на пшеничные заросли. — Послушай, Грено, — зашептал вдруг Румо, — а что, если бы мы сейчас разогнали маники до самой большой скорости… — И… — И прямо в мегаполис! — И расшиблись бы о силовую защиту. Или увязли в ней, как мухи в липучке. — Знаю, — нахмурился Румо. В этом месте послышался треск, и голос пропал. Очевидно, дешифратор размышлял над новым листком. Впрочем, пауза длилась недолго. — …История, которая уходит корнями в глубь веков, — снова начал механический голос — Год за годом город разрастался, поглощая окружающее пространство, подминая под себя окрестные селения. Наконец в перспективе возникла реальная опасность, что вся планета превратится в огромный город. Словно гигантский магнит, притягивал город людей. Приток их был беспрерывен и возрастал с каждым годом. Но синклит олигархов не мог отказаться от баснословных доходов, которые приносила пшеница. Для пшеницы же была необходима не только территория, но и люди — хотя бы по одному на каждый квадрат: слишком опасно было бы предоставить белковым полную самостоятельность. Находить добровольных земледельцев становилось все труднее. Все уходили в мегаполис. И тогда синклит после долгих дебатов решился на крайние меры. Любой ценой нужно было оградить мегаполис от дальнейшего разрастания. И вот вокруг города выросла Стена, окаймленная защитным полем. Но просто закрыть доступ в город было нельзя, как нельзя человеку перерезать артерии. По бесчисленным дорогам в город и из города непрерывно шли грузовые потоки — кровь, омывающая огромный организм. Тогда-то и придумали радиожетоны, позволяющие владельцу беспрепятственно проникать сквозь Стену… Не знаю, кому попадут в руки эти записки. Знаю лишь, какая кара постигнет меня, если этилистки попадут к охране. Но все равно я должен запечатлеть слово правды. Если я его не произнесу, оно убьет меня. Истина не жалует своих клевретов — что ж! Зато по крайней мере я знаю, на что иду. Итак, мегаполис оградили Стеной. Кстати, тогда же и возникло слово «город». Устало шагали века. Поколения рождались, зрели и умирали, и с каждым из них углублялась пропасть между мегаполисом и остальным миром. Жители мегаполиса — урбаны — захватили все. На долю остальных — землецов — осталось только одно: пшеница, пшеница, пшеница… Урбаны были таковыми от рождения, по наследству. Они проносились над планетой в аппаратах, позволяющих видеть все, оставаясь невидимыми. Принято было считать, что так от бога. Среди землецов ходили об урбанах разные слухи. Говорили, например, что урбан в два раза выше землеца, что с лица о а темен, потому что в кожу въедается городская копоть, которую не отмыть. Говорили также, что жители мегаполиса умеют ходить пешком и даже предпочитают пеший способ передвижения, поскольку на городских магистралях слишком много манипуляторов. Да мало ли что еще говорили! Что до землецов, то уже три сотни лет нога их не касалась почвы. Благо поля были достаточно обширны, чтобы два встречных манипулятора могли разминуться… Ноги землецов постепенно атрофировались. Попробуй полежи три дня — и ноги как чужие. А если три века! — Послушай, Грено, — сказал однажды Румо. — Силовое поле, окружающее город, захватывает машину, если у человека, сидящего внутри манипулятора, нет жетона. Так? — Конечно, — согласился Грено, не понимая, куда клонит юноша. — Ты что же, думаешь, жетон можно подделать? — Не то, совсем не то! А что, если… — Румо перегнулся через борт маника и что-то быстро и горячо зашептал на ухо старику. Лицо Грено словно окаменело. Затем улыбка тронула обветренные губы. — Неплохая идея, малыш, — сказал Грено. — Во всяком случае, для нас это единственный шанс попасть в мегаполис. Но ты представляешь, как много нам нужно трудиться? — Какой землец боится труда? — воскликнул Румо. — Что ж, тогда попробуем, — решил Грено. …С некоторых пор Румо зачастил к Грено. Он бросал свой квадрат без присмотра, вернее, оставлял у пульта одного из белковых, хотя это строжайше возбранялось, Грено и Румо запирались в просторном хранилище и долгие часы не выходили оттуда. Если бы сборщик наткнулся на квадрат, брошенный землецом, виновному не поздоровилось бы. Но судьба благоволила к заговорщикам… Дело подвигалось медленно. Осуществить то, что придумал Румо, было куда труднее, чем могло показаться поначалу. Первая попытка окончилась плачевно. Грено занял наблюдательную позицию у окна, откуда просматривалась главная дорога, по которой мог появиться сборщик. Наступила решительная минута. — Ты первый. Давай, малыш, — сказал Грено. — Если что, я подам сигнал. Румо отстегнул привязные ремни, осторожно отвел от висков эластичные щупальца-биоконтакты, с помощью которых его мысленные приказы передавались манипулятору. Теперь Румо был сам себе хозяин. Руки Румо слегка дрожали. Он перегнулся через борт манипулятора, и ему показалось, что пол где-то глубоко внизу… — Не мешкай, — поторопил его Грено. Румо взял двумя руками собственную ногу, легкую, будто ватную, и перенес ее через борт манипулятора. Затем то же проделал с другой ногой. Немного подождал, свесив ноги за борт. Затем наклонился и, оттолкнувшись руками, неловко спрыгнул. Ноги подогнулись, и Румо во весь рост растянулся на полу. — Ушибся? — тревожно спросил Грено. — Немного, — выдавил сквозь зубы Румо, пытаясь подняться. Это, однако, ему не удалось. Румо подполз к стене и ухватился за вертикальную стойку стеллажа. Перебирая по ней руками, он поднялся во весь рост и застыл, напряженно улыбаясь. Но старик видел, что Румо держится лишь на руках. Переведя дух, Румо сделал попытку шагнуть… и снова рухнул на пол. — Попробуем постепенно, — начал Грено. — Пустая затея, — прервал его Румо, ударив кулаком по грязному пластику пола. — Пожалуй, на сегодня достаточно. Залезай-ка обратно в манипулятор, — сказал Грено, Но добраться до маника Румо уже не мог: силы полностью оставили его. — Подзови к себе маник, — велел Грено. Румо молчал. — Отдай мысленный приказ, — громче сказал старик. Но Румо не пошевелился. Встревоженный Грено переместился к Румо: юноша был в глубоком обмороке… Кое-как Грено удалось водворить Румо обратно в полость манипулятора. Когда Румо пришел в себя, он долго не хотел или не мог разговаривать, и в его больших глазах застыли слезы бессилия и ярости. — Нет, я никогда не научусь ходить! — с отчаянием произнес он. — Такие вещи не делаются сразу, — сказал Грено. — Я не знал, что это так трудно. — Мне будет труднее, малыш. Но я верю, что у нас получится. — Грено понизил голос и добавил: — Только бы никто не узнал. А теперь ступай на свой квадрат. — Значит, до завтра? — До завтра. Грено смотрел на дорогу, пока не заслезились глаза. Машина, везущая Румо, казалось, скользила по земле — столь тонкой была воздушная подушка. Манипулятор мчался по прямой, как луч, дороге. Капля превратилась в точку, наконец и точка растаяла. А Грено все смотрел, смотрел… Дешифратор запнулся, разбирая чужие символы. Стояла глубокая ночь. Звезды заглядывали в линга-центр сквозь купол, будто только мы двое интересовали их во всем безмолвном мире. Профиль Лены четко вырисовывался на фоне панелей, по которым скользили световые стрелки. Наверно, под влиянием странного рассказа мне в лице любимой почудилось что-то незнакомое. Шли дни. Осень сменилась зимой. Выпал первый снег. Девственной пеленой скрыл он все изъяны стынущей почвы, сто раз истощенной и вновь искусственно подкармливаемой. Морозоустойчивым сортам пшеницы мороз был нипочем — они продолжали зреть, и хранилища не пустели. Каждую свободную минуту Румо уделял теперь одному — тренировкам, которым предавался с фанатической настойчивостью. Правда, он не рисковал покидать манипулятор в присутствии своих белковых — любой из них мог бы донести сборщику на Румо, и нарушение главного запрета дорого бы обошлось молодому землецу. Румо старался массировать ноги, не выходя из машины; он щипал их, едва не плача, — не от боли, а оттого, что ее не было… Чуть ли не каждое утро, кое-как справившись со своими нехитрыми обязанностями, Румо спешил к Грено. Здесь, под защитой старых, непрозрачных стен чудом сохранившегося древнего хранилища, оба, и старик и юноша, чувствовали себя в относительной безопасности. И они снова и снова пытались восстановить атрофировавшиеся в течение долгих столетий мышцы. Так муравей, посаженный в банку, изо всех сил стремится вырваться наружу. Он ползет по вертикальной стенке, срывается, падает, но снова и снова идет на штурм. И наконец, после сотой попытки, муравей находит ту единственную траекторию, по которой оказывается возможным доползти до края банки и перевалить через нее… Ноги двух землецов, как и всех остальных, представляли собой жалкие рудименты, ненужные придатки, давным-давно позабывшие, что такое самостоятельное движение, что такое упругий шаг, несущий тело. Но два землеца были упорны, как муравьи. И наступил день торжества. — Первый шаг! — радостно произнес Румо. Он только что шагнул от оконной фрамуги к стеллажу, на котором хранились запасные блоки для белковых. Шагнул — и тут же схватился за поручень. Шагнул зато сам, без помощи манипулятора, который сиротливо приткнулся в углу хранилища. — Я же говорил, ты намного перегонишь меня, — сказал Грено улыбаясь. Прислонившись спиной к холодной кромке стеллажа, Румо отдыхал. Голова слегка кружилась, ноги дрожали от непосильного напряжения. — Не беспокойся, я догоню тебя, — сказал Грено и принялся старательно разминать пальцами дряблые икры. — Нам бы только поспеть к весне, пока сборщик… — Внезапно Румо замер на полуслове. — Ты что? — побледнел Грено. — Мне послышался шорох. — Где? — Снаружи. Оба застыли, прислушиваясь. Шорох не повторился. — Тебе почудилось. В эту пору все белковые заняты. Здесь некому быть, кроме нас, — сказал Грено, на щеки которого возвращался румянец. — Может быть, — согласился Румо. Отдохнув, он сделал несколько шагов по направлению к манику, но покачнулся. — Помочь? — спросил Грено. — Пустяки. Румо подозвал манипулятор. Тот будто этого и ждал. Он неслышно подлетел к своему хозяину и, обхватив его щупальцами. осторожно погрузил в свое чрево. — Даже не верится, что землецы когда-то умели ходить, — сказал Румо. — А урбаны ходят и теперь, — ответил Грено. — Конечно. Иначе зачем бы мы с тобой учились ходить? — усмехнулся Румо. В этот момент за окном хранилища мелькнула тень. На этот раз ее заметили оба. Они переглянулись, и, словно сговорившись, два манипулятора друг за дружкой вынеслись из помещения. Гладкая площадка перед хранилищем была пустынна. Лить поодаль ковылял белковый. Накануне он при непонятных обстоятельствах расшибся, и Грено оставил его сегодня для починки — повреждения были незначительны, и он надеялся справиться собственными силами. — Наверно, ласточка пролетела. — сказал Румо. — Или тень от облака. — Он кивнул в сторону удаляющейся фигуры: — И я небось хожу так же смешно, как этот, а? — Это он, — тихо сказал Грено. — Что — он? — Он следил за нами. Мы погибли. От негромкого старческого голоса по телу Румо побежали мурашки. Он сразу сообразил, насколько серьезно положение. Белковые ничего не забывают. При очередном контроле этот проклятый идол, конечно, воспроизведет на экране то, что он только что высмотрел в хранилище, и тогда их тайна раскроется. Неужели белковый истукан в самом начале погубит их замысел?… Румо, не раздумывая, отдал команду. Сжатый воздух со свистом вырвался из-под днища, взметнув облако снежной пыли. Манипулятор сделал огромный прыжок. Услышав за собой погоню, белковый побежал, но Румо настиг его. Послушный воле Румо, манипулятор высоко занес щупальце с зажатым в нем тяжелым металлическим бруском. Брусок с силой опустился на макушку робота, в то место, из которого торчал аккуратный кустик антенны. Раз, другой… Белковый, будто нехотя, повернулся и рухнул в сугроб. Взбунтовавшийся автомат прекратил свое существование. — Мы поспешили, — нарушил Грено тяжелое молчание. — У нас не было выхода, — сказал Румо. — Пожалуй, ты прав, — удрученно согласился Грено. Оба, не отрываясь, смотрели на серую глыбу, которую уже успел припорошить снег. — Что же теперь? — перевел Румо взгляд на старика. Тот помолчал, обдумывая ответ. — Спрячем подальше, — наконец сказал Грено. — Все равно при контрольном пересчете хватятся, — с отчаянием прошептал Румо. Взгляд его блуждал. — Не болтай глупости! — сказал Грено. — Пересчет будет не раньше дня равноденствия. Мы к этому времени будем уже в мегаполисе, и там нас никто не достанет. — А теперь куда его? — покосился Румо на сугроб. — Закопаем в почву, поглубже, — решил Грено. Через полчаса все было кончено. — Теперь пути к отступлению у нас нет, — сказал Румо. — Что верно, то верно, — согласился Грено. Грено был стар. Об этом говорила и седая поросль на лице, и всегда усталый голос, и дрожащие руки. Первое время, когда их участки оказались рядом, он держался замкнуто. Постепенно ледок растаял, они сблизились, но Румо всегда ощущал, что у старика есть некая запретная зона, куда ему вход заказан. Однако теперь, когда они вместе решились на неслыханно опасное дело, отношение Грено к молодому землецу изменилось. Однажды, после очередного урока ходьбы, они, усталые, отдыхали в маниках, стоящих рядом. — Странно, что тебе так трудно дается ходьба, Грено, — сказал Румо. Старик насторожился. — Почему странно? — спросил он. — Ноги у тебя крепкие на вид, — пояснил Румо, — Они не похожи на ноги других землецов. — Я не всегда был землецом, Румо, — тихо произнес старик. — Раньше я жил в мегаполисе. — Ты был урбан? — спросил быстро Румо. — Тише, — прошептал Грено, оглянувшись. — Да, я был когда-то урбаном. — Давно? Старик вместо ответа махнул рукой. — Знал я одного урбана… — сказал Румо. — Где он? — оживился старик. — Погиб. — Погиб… — словно эхо, повторил Грено. Некоторое время они отдавали биокоманды своим белковым, завершающим на своих участках трудовой день. — Послушай, Грено, а как ты из урбанов попал в землецы? — задал Румо вопрос, вертевшийся у него на языке. — Долгая история. Долгая и невеселая, — сказал Грено. — Мы жили в мегаполисе. Вдвоем. Я и сын. Семьи урбанов не разлучают. Это вы, землецы, не знаете ни отца, ни матери. Ну вот. Я, по дряхлости, не работал, вел нехитрое домашнее хозяйство, а сын работал технологом. На его фабрике из пшеницы приготовляли брикеты, пригодные для транспортировки на другие планеты. Фабрика по переработке пшеницы была самой большой в мегаполисе. Там трудилось много рабочих. Жилось им худо, и мой сын поднял борьбу за их интересы. По ночам я помогал ему выпускать листовки… — Листовки? — Это такие листки, призывающие рабочих к борьбе. Там, в мегаполисе, я покажу тебе листовки, они у меня спрятаны в тайнике… Рабочие пошли за сыном. Однажды они решили организовать забастовку. Не приступать к работе, пока олигархи не удовлетворят их нужды. Они собрались и вышли на улицу… — Старик посмотрел на Румо. — А ты знаешь, что такое улица? Румо кивнул. — Нечто вроде горного ущелья, — сказал он. — Только по бокам не горы, а дома. — Примерно так, — согласился старик. — Впереди толпы шел мой сын. Он нес транспарант, на котором были написаны требования рабочих. Олигархи забеспокоились, что к урбанам с фабрики примкнут остальные, и выслали навстречу стражей порядка. — Олигархи — это воспитатели урбанов? — спросил Румо, с жадным вниманием слушавший старика. Грено улыбнулся. — Олигархи — в некотором роде воспитатели всех, малыш, — сказал он. — Они правят нашей планетой. В их руках все — и сила, и власть… Румо задумался. Ему представилась гигантская пирамида, на верхушке которой находятся загадочные олигархи, располагающие неограниченной властью. Пониже располагаются урбаны, те, кому судьба определила обитать в мегаполисе. Румо понял уже, что его представления об урбанах как о праздных и могущественных счастливцах были ошибочными, однако от этого тяга его к мегаполису — странное дело! — не только не уменьшилась, но стала еще сильнее. После урбанов, подумал Румо, идут воспитатели, за ними — землецы, и в самом низу, в основании пирамиды, находятся белковые роботы — искусственно выращенные существа, машины, которые обязаны подчиняться командам землецов. Между тем старик продолжал свой рассказ: — Стражи порядка перегородили улицу… — Стражи порядка — тоже урбаны? — перебил Румо. — Нет. Это белковые роботы. — Такие, как эти? — протянул Румо руку в сторону квадратного участка, на котором маячили плечистые фигуры роботов. — Такие же точно. Одного выпуска. Только вместо ножниц для срезания колосков стражи порядка снабжены огнеметами, — сказал Грено. — Заняв позицию, они хором выкрикнули, что рабочие нарушают порядок, и велели им разойтись. — Ты шел с рабочими? — Да, в первом ряду, — с гордостью ответил старик. — Мы сказали, что от своих требований не откажемся. Тогда стражи порядка с дулами наперевес двинулись нам навстречу. Урбаны заколебались, дрогнули, остановились. Мой сын смело шагнул вперед. — Один? — с горящими глазами спросил Румо. — Один, малыш. Чтобы ободрить остальных. Когда он сделал несколько шагов, роботы открыли по нему огонь… Такова, вероятно, была биокоманда олигархов. Из трубок роботов изверглось жидкое пламя. Огненная струя полоснула сына по ногам, и он упал. Я подбежал к нему, поднял на руки — ходить он уже не мог… Так нас и взяли вдвоем… — Ваш сын потерял ноги? — быстро спросил побледневший Румо. Старик кивнул. — Сын остался без ног, но на этом наши несчастья не кончились, — сказал он. — Совет олигархов решил, что нас следует лишить звания урбанов и изгнать из мегаполиса. Вот так мы с сыном и стали землецами. Но если уж не везет, так до конца. Жребий разбросал нас. Мы попали на разные участки базы, где должны были постичь премудрость работы землеца. С тех пор я не получал вестей от сына. Но я верю: он остался таким, как был, — сказал Грено с гордостью. — У него могли отнять ноги, но не душу. Знаю, мы еще встретимся с ним… Что с тобой, Румо? — Ничего… — Мне показалось, что тебе худо, — сказал старик. — Померещилось. Я долго присматривался к тебе, прежде чем рассказать все это. Осторожным стал. Хоть я и стар, а неохота болтаться в петле. Охота перед смертью повидать моего мальчика. Вот увидишь, вы будете друзьями… Голос дешифратора смолк. У меня оставалось еще несколько непрочитанных листков. Какой из них разобрать теперь, на каком записано продолжение странной истории из жизни далекой планеты? Я разложил на столе веером оставшиеся листки, и мы с Леной склонились над ними, так что ее прядь коснулась моего лба. Один листок — он отличался от других тем, что был испещрен символами, похожими на математические, — Лена отложила в сторонку. — Утром отдадим астрономам, — сказала она. — Это, кажется, по их части. Мы раскладывали тяжелые пластиковые прямоугольнички, словно пасьянс. Один из них был меньше других по размерам. Все листки выглядели почти новыми, а этот, казалось, прошел через сотни рук, до того он был замусолен и захватан. Я взял подержанный листок и сунул его в узкую щель дешифратора. «Урбаны! Олигархи разбили нас на группы, чтобы властвовать. Долой Стену! Всем рабочим — человеческие условия жизни. Мы — люди, а не машины по обработке пшеницы. Долой власть олигархов!» — Листовка, которую выпускал отец, — сказала Лена. — И распространял сын, — добавил я и подумал, что самое интересное занятие в мире — работа на линга-центре. И потом, разве не важен для землян опыт жизни чужих планет? — …Грено, я должен сказать тебе одну вещь… — начал Румо и запнулся. — Говори, сынок. Румо решил было рассказать старику о гибели сына, но, бросив быстрый взгляд на Грено, подумал, что недобрая весть убьет его. Он не решился погасить слабый луч надежды, который светил Грено. — Я о мегаполисе, — сказал Румо. — Нам бы только пробраться туда, — произнес Грено. — Об остальном не беспокойся. Найдем и кров, и работу. — Нас не узнают? — Не думаю, — сказал Грено. — Узнать, поймать можно землеца. Это легко сделать по клейму на манипуляторе, без которого землец беспомощен, как младенец. А мы-то с тобой можем ходить. Мы будем урбаны! К счастью, на живом теле олигархи еще не додумались ставить клеймо, — добавил старик. Только тут до Румо дошло, что в скором будущем, если их предприятие окончится счастливо, он станет урбаном. Юноша пошевелил ногами и сказал: — Я буду делать то, что делал твой сын. Продолжать… После долгой паузы старик произнес: — Спасибо, сынок. …Когда зима была на исходе, Румо и Грено уже могли совершать без помощи манипулятора довольно длительные прогулки. Два землеца в отсутствие белковых подолгу бродили по своим просторным квадратам, пьянея от запахов талого снега и пробуждающейся зелени. Приближался решительный день. Все нужно было обдумать заранее. Малейшая оплошность могла погубить их. А снег стремительно таял, и журчащие ручейки оживляли надежды, укрепляли веру в то, что дерзкая идея Румо может и впрямь воплотиться в действительность. В то утро Румо проснулся рано. За пыльной прозрачной стеной комнаты еле намечался мутный рассвет. Белковые еще дремали, как всегда стоя. Прихоть конструктора придала им форму человеческого тела. Глаза белковых были затянуты тонкой защитной пленкой, отчего роботы напоминали статуи древних атлетов. В назначенный час у каждого из них сработают биочасы, и, послушные импульсным командам, они примутся за привычную работу. И нет им дела до того, что два землеца к этому моменту будут уже далеко… В неясном круге иллюминатора показалось лицо Грено. Он вглядывался внутрь помещения, и щупальце его маника, изогнувшись, сделало призывный жест. — Поторапливайся! — услышал Румо. Он последним, прощальным взглядом окинул рубку. На первых порах программу на пульте можно не менять. До тех пор, пока сюда не прибудет сборщик. К тому времени Румо и Грено, надо надеяться, будут недосягаемы. Отыскать любого затерявшегося землеца в самом удаленном уголке планеты не составляло особого труда, поскольку на каждом манипуляторе красовался номер, присвоенный его владельцу, а без манипулятора землец был беспомощен, как младенец. Другое дело — урбан… Две капли, две вытянутые торпеды неслись рядом. Квадрат за квадратом улетал назад, и казалось, пшенице не будет конца. Часть ее еле-еле возвышалась над оттаявшей почвой, на других участках она уже приметно поднялась, на третьих — тяжкие колосья как будто высматривали: скоро ли к ним придут уборочные машины и белковые роботы? Они мчались по дороге, и скорость пела в ушах. Румо подумал, что они будут так скользить всю жизнь, а вокруг все будут поля, поля, поля — бесконечная шахматная доска… Солнце успело вскарабкаться высоко; его совсем по-летнему припекающие лучи заметно нагрели округлый борт манипулятора, и Румо грел руки, думая о том, что готовит им ближайшее будущее. — Скоро Стена, — сказал Грено. По мере приближения к мегаполису дорога становилась все оживленней. Число скользящих аппаратов увеличивалось. Некоторые манипуляторы были прозрачными лишь наполовину. В них угадывались неясные фигуры. Румо понял, что это урбаны, и сердце юноши забилось сильнее. Высшая каста, счастливые владельцы жетонов, покинувшие на время город по каким-то своим таинственным делам. — Вот она! — воскликнул Грено. Но Румо и сам увидел маячившее вдали смутное видение Стены. Теперь мчаться напропалую было опасно: каждый миг могло сказаться действие защитного поля Стены. Приближалась минута, которая должна была решить их судьбу. — Свернем в сторонку, — предложил старик. Под мегаполисом пшеницу не сеяли, и почва сохраняла естественные складки. Два землеца остановили манипуляторы над крутым обрывом. Глубоко внизу серебрился ручей, сжатый гранитными глыбами. Убедившись, что никто их не видит, Румо и Грено вышли из манипуляторов. Короткая команда — и оба маника приблизились к самому краю обрыва. — Может, оставим их невредимыми? — прошептал Румо. — Нельзя, малыш, — покачал головой Грено. — По этому следу нас в два счета разыщут. Лицо Грено стало хмурым — видимо, мысленная команда, которую он только что отдал, стоила старику немалых усилий. Помедлив мгновение, манипуляторы рухнули вниз. Румо заглянул на дно обрыва, и у него закружилась голова. Две бесформенные дымящиеся груды — вот все, что осталось от машин, которые носили их, как самка кенгуру таскает своего детеныша… Отныне они могли надеяться только на свои собственные ноги и руки. — Мосты сожжены, — тихо сказал Грено. Румо не понял, о каких мостах говорит старик, но спрашивать не стал. Землецы покинули место гибели своих машин и зашагали к Стене. Задумавшись, Румо незаметно ступил ногой на упругий пластик дороги. — Сумасшедший! — выкрикнул Грено и столкнул его в кювет. Стоя на коленях, Румо успел заметить трехместный манипулятор, пронесшийся в сторону мегаполиса. В грудь ударила тугая воздушная волна, и лишь через секунду до слуха Румо донесся басовитый звук лопнувшей струны. Немного отдохнув, они двинулись дальше. Землецы, покинувшие манипулятор! Землецы, сумевшие передвигаться самостоятельно! Такого не бывало давным-давно. Именно на этой неожиданности и основывался план Румо и Грено. Защита Стены рассчитана на скользящие аппараты — скользящие, но отнюдь не шагающие! Глядя вперед, Румо и Грено невольно замедлили шаг. Стена, разрастаясь, закрыла весь мир. Отверстие в стене, в которое вливался поток дороги, казалось узким, как ладонь, но оно было открытым, это отверстие! — Мы, кажется, напрасно беспокоились, отец, — радостно сказал Румо, протягивая вперед руку. — В Стене, оказывается, есть проход. Грено покачал головой. — Оптический обман, — сказал он. — Но я же вижу! — воскликнул Румо. — Проезд, который ты видишь, перекрещивается невидимыми лучами фотоэлементов, — пояснил Грено. — Их задача — обнаружить жетон у того, кто въезжает в город. — А если жетона не окажется? — спросил Румо и похлопал себя по груди. — Тогда включается силовое поле… — …и берет в плен нарушителей, — докончил Румо, неуверенно улыбаясь. — Старайся идти спокойно, — сказал Грено. — Да, отец. — И не отставай. Грено прибавил шаг. Румо шел, чуть приотстав. Теперь старик и юноша разговаривали. Когда они подошли к Стене вплотную, Румо очень захотелось потрогать ее пальцем, но он не решился. Над ними нависли тяжелые разводья арки. Осталось четыре шага… два… один… Можно представить себе сумятицу, вспыхнувшую в электронном мозгу робота, контролирующего защитное поле Стены. «Жетона нет!» — сообщали импульсы. «Но шагающие системы не подлежат контролю. Это могут быть только урбаны», — к такому выводу пришло решающее устройство. В результате Румо и Грено вошли в мегаполис! Грохот, лязг, свист воздуха, вырывающегося из-под шасси скользящих вокруг машин невиданных конструкций, — все это в первые минуты оглушило их. Одни аппараты скользили над самым асфальтом, на тончайшей воздушной прослойке, другие проплывали достаточно высоко — их толкали мощные вихри сжатого воздуха. Стена осталась позади. Румо и Грено углубились в лабиринт улиц. На оживленном перекрестке они остановились, с некоторой растерянностью наблюдая сумасшедшее многослойное движение. Несмотря на то что они стояли, прижавшись к степе дома, некоторые аппараты проносились так близко, что едва не задевали их. — Когда-то машины передвигались на колесах, — заметил Грено, когда они свернули на более тихую улицу. — На колесах? А что это? — спросил Румо и остановился. Грено нагнулся и пальцем нарисовал круг на тонком слое измороси, сохранившейся на тротуаре, в тени, отбрасываемой высоким строением. — Колесо имело такую форму, — сказал Грено и выпрямился. — Иначе чем на колесах, раньше ездить не умели. Это было очень неудобно: сказывались все выбоины почвы. — Давно отказались от колес? — Примерно тогда же, когда землецы отказались от колес и перешли на манипуляторы, — сказал Грено. — Ничего не слышал о колесах. — Ты многого не знаешь, сынок. Ничего, теперь все должно измениться, — сказал старик и ласково растрепал светлые волосы Румо. Они медленно шли, прижимаясь к стенам зданий. Ноги озябли, приходилось терпеть. Урбанов, идущих пешком, не попадалось. — Что это? — спросил Румо, задрав голову. Стройное здание вершиной уходило в облака. Весенние, текучие, они клубились, словно змеи, задевая спирали балконов. — Дом-игла, — сказал Грено. — Дом-игла, — повторил Румо. Когда Грено и Румо впервые встретили шагающего урбана, их радости не было предела. Значит, они не одиноки здесь, в мегаполисе. Урбан по внешнему виду почти ничем от них не отличался. Правда, он не был бос, как Грено и Румо. А чего только не наслушался в детстве Румо об урбанах, непостижимых, недосягаемых урбанах, которые отличаются от землецов, как небо от земли! — Слова бывают лживыми, сынок, — сказал Грено, словно подслушав мысли Румо. — О каких ты словах, отец? — О всяких. Привыкай все проверять. Ничего не бери на веру. Иначе тебе придется туго, — вздохнул старик. Из-за чрезмерного возбуждения Румо не ощущал ни голода, ни усталости, ни боли в израненных ногах. Он готов был без конца ходить по мегаполису, удивляясь на каждом шагу. Гораздо выносливее, чем могло бы показаться на первый взгляд, оказался Грено. Он шел все так же легко, когда Румо почувствовал вдруг, что неокрепшие ноги отказываются ему служить. — Больше не могу, — сказал юноша и устало прислонился к шершавому торцу локаторной башни. Надвигался вечер. Старик положил руку на плечо Румо. — Пойдем, сынок, — сказал он. — Мы должны позаботиться о ночлеге. …Произнеся последнюю фразу, механический голос окончательно умолк. Начинало светать, и узкий серп луны почти слился с серым небом. Мы молчали, находясь под впечатлением только что услышанного. — Неужели это просто фантастический рассказ? — нарушила тишину Лена. Я пожал плечами. — Слишком убедительно для фантастики, — продолжала размышлять вслух Лена. — Интересно, что же с ними стало? — добавила она после паузы. — С кем? — не понял я. — С Грено и Румо, — медленно пояснила Лена. Сама того не замечая, она вдруг заговорила о старике и юноше как о реальных людях, а не как о вымышленных персонажах фантастического рассказа. — Как ты думаешь, на какой планете мог быть такой мегаполис, окруженный стеной? — спросила Лена. — Где? Да хотя бы на Земле, — сказал я, осененный новой мыслью. — Оставь шутки. — Я серьезно. Разве нам известно о том, что происходило на нашей планете пять тысяч лет назад? — Ну как же, остаются археологические памятники… — начала Лена. — Пусть так, — согласился я. — Хотя, в общем-то, сведения, поставляемые этими памятниками, крайне скудны и отрывочны. А что мы знаем о событиях, которые разыгрывались на Земле пятьдесят тысяч лет назад? А миллион лет? — Ты хочешь сказать, что такая уродливая цивилизация могла развиться на Земле? Задолго до появления человека? — сказала Лена. — Гипотеза не хуже других. — Кто же создал эту цивилизацию? — Предположим, инопланетные пришельцы. — Твоя гипотеза не выдерживает никакой критики, — сказала Лена. — Высокоразвитая цивилизация не могла бы совершенно бесследно исчезнуть с лица Земли. Она обязательно оставила бы после себя хоть какие-нибудь материальные памятники. — Не обязательно. Могла же когда-то бесследно исчезнуть Атлантида? — Существование Атлантиды не доказано. — Но Атлантида могла быть, точно так же как могло быть на нашей Земле все то, что мы только что услышали. В древности Жорж Кювье выдвинул теорию катаклизмов. Согласно этой теории катастроф, процесс эволюции на Земле время от времени прерывался страшными потрясениями, все живое гибло, и природе каждый раз приходилось начинать сызнова. — Теория наивная. — Но в ней есть рациональное зерно, — возразил я. — Грандиозная катастрофа могла целиком уничтожить доисторическую цивилизацию, завезенную на Землю инопланетниками. Эдакий всемирный потоп, только без Ноя и его ковчега. Что мы вообще знаем о нашей Земле? Очень мало. Представь себе школьную доску. Я пишу на ней, а потом тряпкой стираю написанное. Много ты узнаешь о том, что было написано, если не видела надписи? — Планета — не школьная доска. — На пришельцах не настаиваю, — сказал я. — Землецы и эти… как их… урбаны могли быть и коренными жителями Земли. — Между прочим, мозг линга-центра помнит все языки Земли, начиная с самых древних. И среди этих языков нет того, которым написаны листки. — Как же мозг расшифровал их? — Логический анализ букв. Метод подобия. Плюс опыт расшифровки космических сигналов… Пойдем на мыс? — неожиданно предложила Лена. Море встретило нас неумирающим шелестом прибоя. Восход уже разгорелся в полную силу. Восток исчертили огненные струи — провозвестники солнца. Треть неба была залита алым светом — цветом надежды и борьбы. Находку нашу мы, конечно, не оставили в тайне. Текст, записанный на таинственных листках, обсуждал форум виднейших ученых Солнечной системы. Однако ясность достигнута не была. Мнения разделились. Высказана была масса предположений, но больше всего меня поразило выступление молодого киберолога с Венеры. Быстрой походкой взошел он на кафедру и внимательно оглядел битком набитый амфитеатр, щурясь от яркого света «юпитеров». — Есть у вас на линга-центре моделирующие машины, Ельена Викторовна? — вдруг обратился он к Лене, сидевшей рядом со мной в первом ряду (она выступала как раз перед ним). — Нет, — покачала головой удивленная Лена. Киберолог был, казалось, разочарован ее ответом. — И не было? — спросил он. — Когда-то были. Лицо киберолога просияло. — Я так и думал! — воскликнул он. — Кольеги! — чуточку торжественно произнес киберолог (по-моему, он сильно волновался, что усиливало его акцент, характерный для коренных венериан). Я убежден, что события, о которых нам только что поведал дешифратор, в действительности не имели места. Зал загудел: — Что же это, по-вашему? Выдумка? — Сказка? — Фантастика? Киберолог подождал, пока град вопросов утихнет. — Сказка? Не совсем, — покачал он головой. — Мне кажется, что это древняя моделирующая машина попыталась сконструировать модель будущего. — Модель будущего? — переспросил я. — Ну да, один из возможных вариантов. — При чем тут модель будущего? — возразил кто-то. — Ведь то, что мы слушали, — это художественное произведение. Маленькая повесть о двух людях… — Так что же? — не сдавался киберолог. — Машина могла облечь свой прогноз в художественную форму. — Зачем? — Возможно, она начиталась произведений научной фантастики, которыми был так богат двадцатый век, и решила подражать этим произведениям, — сказал киберолог. — А язык? Откуда взяла машина этот странный, ни на что не похожий язык? — не отставал оппонент. — Моделирующая машина могла изобрести особый язык специально для этого случая. Кстати, не этим ли объясняется, что машины линга-центра так быстро расшифровали листки? Ведь эти машины — дальние потомки той, моделирующей. Ну, а электронные машины, как известно, на память никогда не жаловались… — Киберолог сделал паузу. — Значит, этот рассказ — несбывшееся пророчество? — сказал председатель форума. — Вот именно. Мрачный прогноз, к счастью оставшийся только на бумаге, — ответил ученый с Венеры. — На пластике, — уточнила Лена с места. — Но мне бы очень хотелось послушать окончание истории о юноше и старике, — так закончил молодой киберолог свое выступление. До глубокой ночи кипел форум, между тем как химики и астрономы Земли напряженно трудились, чтобы поставить в общем споре последнюю точку. На следующий день зал начал заполняться задолго до назначенного часа. Волнение ученых было понятным: каждый в глубине души надеялся, что именно его теория сегодня подтвердится, именно его гипотеза окажется правильной. Мы с Леной пришли за полтора часа до открытия, и нам удалось занять два местечка в одном из близких рядов. Все двери, ведущие в зал, были распахнуты, и из каждой вливался поток. Мы здоровались со знакомыми, перекидывались с ними отдельными фразами. Подле нас остановился киберолог с Венеры, с которым мы успели познакомиться. — Ваша гипотеза, Андрьюша, доживает последние минуты, — сказал он мне с улыбкой. — Вы считаете, что события, о которых нам поведали листки, развивались не на Земле? — спросил я. — Нигдье не развивались, — загорячился киберолог, — таково мнение группы ученых, которую я представляю. Ни на Земле, ни на Венере, ни на Аларди. Весь рассказ, начало которого мы вчера прослушали, — не более чем выдумка моделирующей машины… — Виртуальная модель. Одна из возможных, — уточнила Лена. — Благодарю, Ельена Викторовна, — церемонно поклонился киберолог. — Именно модель, которая осталась нереализованной. Другими словами — сказкой. — Однако эта сказка задела вас за живое, — заметила Лена. Киберолог сощурился. — Почему вы так думаете? — спросил он. — Потому что вчера, заканчивая свое сообщение, вы сказали, что очень бы хотели послушать окончание истории о юноше и старике, — произнесла Лена. — О! — поднял палец киберолог. — Вы не только очаровательная, вы еще и проницательная девушка. Вам повезло, друг мой Андрьюша, — повернулся он в мою сторону. Лена покраснела. — Не думаю, что рассказ, записанный на листках, — машинная выдумка, — возразил я. — Доказательства? — спросил киберолог. — Доказательства сейчас будут, — ответил я. — Вы услышите их с этой трибуны, из уст химиков и астрономов. Но я убежден, что рассказ, прослушанный нами, — не выдумка. Все описано настолько выпукло, зримо… Я до сих пор вижу перед собой Румо, Грено… Киберолог покачал головой. Затем посмотрел на часы и заторопился на свое место. — Сейчас увидите, кто из нас прав! — крикнул нам издали венерианин. Зал к этому моменту был полон и гудел, как растревоженный улей. Однако все стихло, едва на трибуну поднялся человек. Осмотрев замеревшие ряды, которые возвышались амфитеатром перед ним, он вытащил из кармана записную книжку и принялся неспешно листать ее. — Представитель химического центра, — слегка склонившись, шепнула мне Лена. — Мы произвели тщательный анализ вещества, из которого состоят пластинки с текстом, — сказал химик. — Результаты таковы: пластик не числится ни в одном из каталогов веществ, которые были когда-либо синтезированы на Земле и вообще в пределах Солнечной системы… В зале поднялся невообразимый шум. Химик еще что-то говорил, но мы видели-’только его шевелящиеся губы. Когда гул немного утих, я услышал заключительные слова химика: — …Таким образом, мы считаем, что пластинки принадлежат не Земной, а инопланетной цивилизации. Сейчас бурно выражали свою радость те, чья точка зрения на пластинки только что подтвердилась. Однако противники и не думали признавать свое поражение. — Каталог не может охватывать все вещества! — выкрикнул кто-то из задних рядов. Химик покачал головой. — Электронная память нашего центра хранит все, что в нее ввели за последние двести лет, — сказал он. — А компьютер, в отличие от человека, не забывает ничего. — Компьютер хранит в памяти только то, что ему сообщили, — не сдавались задние ряды. — А если я изобрел вещество и забыл сообщить об этом машине? — Запальчивый выкрик был покрыт аплодисментами части присутствующих. — Остроумно, — сказал химик без улыбки, — но не очень доказательно. Любое мало-мальски сложное вещество, полученное в любой лаборатории любой из Содружества Свободных Планет, регистрируется у нас в обязательном порядке. А пластик, о котором сейчас идет речь, исключительно сложен по структуре… Не попасть в каталог он не мог. — И все-таки это еще не доказательство инопланетного происхождения листков, — прозвучал в зале одинокий голос ки-беролога с Венеры. — Согласен, — неожиданно согласился химик, пряча в карман записную книжку. — Послушаем, что скажет астроном. Он сошел с трибуны, покинул сцену и примостился в первом ряду. Астроном сразу же, что называется, взял быка за рога. — Листок с математическими символами оказался необычайно ценным по заключенной в нем информации, — прогудел он, нависнув над кафедрой. — На астрономическом центре удалось установить, что в тексте идет речь о планете, принадлежащей, по всей вероятности, к системе Сириуса. Параметры светила, которые приводятся и которые мы расшифровали, относятся именно к этой звезде… — Ну, вот и конец красивым догадкам, — вздохнула Лена, когда мы вышли из зала. Я взял ее за руку. — Тебе жаль? — спросил я. — Немного, — призналась Лена. — Сириус так далек от Земли… Мы медленно шли вниз по приморскому бульвару. Заходящее солнце золотило волосы Лены. Наша излюбленная скамейка под раскидистым вязом оказалась занятой. — Пойдем к морю, — предложила Лена. Мы взобрались на огромный валун, по пояс вросший в песок. Теперь все помыслы наши были связаны с морем. И хотя создана была специальная комиссия по прочесыванию морского дна в районе мыса, где я впервые обнаружил листки, хотя сотни добровольцев решили попытать счастья в поисках недостающих пластиковых прямоугольников, мы с Леной решили продолжать поиск самостоятельно. — А я вас ищу, — раздался сзади негромкий голос. Мы одновременно обернулись и увидели венерианина. — Прошу, — сказал я и протянул ему руку. Киберолог легко взобрался на валун и сел рядом со мной. Его кожа, синеватая, как у всех жителей жаркой планеты, обитающих там постоянно, в косых солнечных лучах приобрела какой-то фиолетовый оттенок. Впрочем, венериапин, похоже, чувствовал себя в земных условиях совсем неплохо. Так, во всяком случае, мне показалось. — Значит, поиск в море будет продолжаться, — сказал он, глядя вдаль. — Это хорошо. Надеюсь, будут найдены новые данные, которые подтвердят мою теорию. Лена удивленно воззрилась на него: — Вашу теорию? Но ведь вы только что слышали доказательства химика и астронома, которые… Венерианин махнул рукой и рассмеялся. — Что с того? — сказал он беспечно. — Ничто в мире не абсолютно, в том числе и доказательства. Отыщутся новые листки, и все повернется по-новому… Вы согласны со мной, Льеночка? Лена улыбнулась, ничего не ответив. Солнце наполовину погрузилось в море. Переходные камеры мыса работали с полной нагрузкой, через них непрерывно шли два встречных потока: одни спешили домой — на поверхность, другие домой — в море… Долго потом мы с Леной вспоминали этот вечер. …Я давно уже работаю на линга-центре. Инженеру здесь тоже есть где приложить руку. После работы мы с Леной спускаемся к морю. Чаще всего отправляемся на мыс. Камеры перехода работают, как и повсюду на побережье, круглые сутки. Облачившись в подводную амуницию, быстро пройдя несложную процедуру, мы ныряем в морские глубины. Днем в верхних слоях воды достаточно светло. Но по мере погружения зеленоватое солнце меркнет, и мы включаем луч. В море чудо как хорошо! Оно никогда не может надоесть. Медузы, попавшие под луч, кажутся таинственными космическими пришельцами. А может, и в самом деле?… Море, море! На каком-то витке спирали, по которой развивается наша цивилизация, человечество снова вернулось к тебе — колыбели жизни на Земле. Сделав рывок в космос, люди одновременно шагнули вокеанские глубины, чтобы обрести там неисчислимые запасы энергии, полезных ископаемых, благородных металлов… Я шел рядом с Леной, отдаваясь привычному течению мыслей. Жить в море можно, как и на суше. Канули в прошлое времена, когда аквалангисты устанавливали и побивали рекорды на продолжительность пребывания под водой. Теперь любой человек может пробыть под водой столько, сколько ему нужно. Для этого ему достаточно отправиться на ближайший причал и получить там необходимую экипировку. С помощью простого аппарата «искусственные жабры» под водой можно дышать так же легко, как на высокогорном швейцарском курорте. Лена, правда, со мной не согласна. Она считает, что под водой дышится легче, чем на суше. Кто прав, сказать трудно. По-моему, дело в привычке. Лена родилась в подводном городе, там же провела детство. Поэтому море для нее — родная стихия. Мы медленно идем по дну. Внимательно смотрим под ноги. Каждый день дно кажется мне иным. Может быть, в этом повинно глубинное течение, которое проходит неподалеку. Юркие рыбки вьются вокруг легкими стаями. Мне кажется, они к нам уже привыкли. Но не рыбы интересуют нас, не водоросли, не кораллы и не раковины. Мы ищем листки, на которых странные письмена начертаны несмываемой краской. И верим, что найдем!АНАТОЛИЙ СТАСЬ ЗЕЛЕНАЯ ЗАПАДНЯ Отрывок из фантастической повести
Перевод с украинского И. КонюшенкоВ 1972 году в украинском издательстве детской литературы «Веселка» вышла фантастико-приключенческая повесть писателя Анатолия Стася «Зеленая западня», адресованная детям среднего школьного возраста. Одна из центральных глав этой повести публикуется в сборнике «Мир приключений». Главные персонажи повести — советский мальчик Игорь Вовченко, венгерская девочка Эржи Чанади и бразильский юноша Джек по прозвищу Рыжий Заяц. Всех троих связывает крепкая, овеянная романтикой дружба. С юными героями происходят самые невероятные приключения, однако они с честью выдерживают все испытания, потому что Игорь, Эржи и Рыжий Заяц смелы, честны и готовы по первому зову броситься на помощь тем, кто нуждается в защите, В маленькой молодой южноамериканской республике Сени-Моро, затерявшейся среди джунглей, работает международная научная экспедиция. «Штаб» экспедиции, возглавляемый видным советским ученым Андреем Вовченко, находится около городка Пери, на берегу реки Вачуайо, в доме синьоры Роситы. Вместе с профессором Вовченко в состав экспедиции включен четырнадцатилетний сын Игорь. Профессор не хотел оставлять сына одного, так как совсем недавно в глубинах Атлантического океана при странных обстоятельствах потерпела катастрофу первая в мире Экспериментальная глубоководная база, где погибли все ее обитатели, в том числе и ученый-океанолог Оксана Вовченко, мать Игоря. Однажды Игорь случайно подслушал разговор отца с братом Эржи — Золтаном Чанади, инспектором службы расследования ООН. Из этого разговора он понял, что пилот вертолета, принадлежащего экспедиции, синьор Аугустино — один из военных преступников, скрывающихся под чужим именем. Этот разговор слышал и пилот. Узнав об угрозе ареста, преступник решил скрыться. В погоню за ним бросается Игорь и с помощью реактивного пояса настигает вертолет. Пилот оглушает мальчика, втаскивает в кабину и привязывает ремнями к креслу. Очнувшись, Игорь с ужасом видит, что в соседнем кресле лежит связанная Эржи. Спустя некоторое время Игорь узнает, что он попал в подземный город, хозяевами которого являются потомки бывших гитлеровцев. Здесь они конструируют плазмометы и готовят бактериологическое оружие, чтобы уничтожить целые народы, а затем завоевать и подчинить себе весь мир. После различных приключений Игорю удается проникнуть в кабинет Брендорфа и завладеть плазмометом. К нему на помощь приходят восставшие индейцы во главе со своим молодым вождем Загби, а также Эржи. Освободив заключенных, Игорь возвращается к отцу, в «штаб», и экспедиция успешно завершает свою нужную для человечества работу.
ЗЕЛЕНАЯ ЗАПАДНЯ
Обессиленно прислоняюсь плечом к стене, ладонь натыкается на твердую шершавую поверхность. Бетон. Высокая каменная стена слипается с темнотой, уходит вверх, под кроны деревьев. Шелестит листва. Вокруг дремучий лес. И стена. Те, что привели меня и оставили у бетонной стены, чего-то ждут. Я слышу рядом их дыхание. У одного в зубах сигарета; когда огонек разгорается сильнее, отблеск ложится на широкий подбородок. Второй провожатый маячит сбоку. Внезапно на стене появляется тонкая полоска света; она постепенно расширяется, создавая впечатление, будто разрастается ровная вертикальная трещина. Больше ничего не успеваю разглядеть — на глаза ложится черная повязка. Чьи-то пальцы, остро пахнущие табаком, скользнув по лицу, вонзились в мое плечо. Мы идем. Под ногами твердое покрытие, тоже, видимо, бетон. Через несколько шагов — трава, влажная от ночной росы. Лицо заливает пот, нестерпимо хочется пить, каждое движение болью отдается в затылке. Где-то попискивают птицы, хрустят под подошвами сухие стебельки, щекочут обоняние лесные запахи. Вдруг резкий толчок в спину. Лязг металла. Отрывистый короткий звонок. И я стоя стремительно падаю вниз, словно в колодец. Лифт? В лесу, в джунглях? Чепуха! А ограда из бетона?… Вертолет приземлился примерно четверть часа назад. Открыв дверцу, пилот грубо вытолкнул меня из машины, но мне не дали упасть — чьи-то руки подхватили и поставили па землю. Я успел лишь подумать: почему вслед за мной не высаживают Эржи?… Падение в лифте наконец прекращается. Снова лязг, звонок, меня выталкивают из тесной кабины и куда-то ведут. С глаз срывают повязку. Стою посреди комнаты. Окон нет. Белоснежные стены, па полу — светлый пластик. Через круглое отверстие в потолке льется холодное сияние. В углу — низенькая койка, столик, стул с мягким сиденьем. Мужчина, снявший с моих глаз повязку, пристально рассматривает меня. Ему, видимо, за тридцать. Широкополая шляпа бросает тень на округлое белобровое лицо. На мужчине коричневая рубашка, заправленная под пояс черных бриджей, кобура на ремне. Оп улыбается. Заметив кровь, засохшую у меня на волосах, мужчина сочувственно покачивает головой, потом указывает на койку и направляется к выходу. Я бросаюсь вслед, нажимаю на дверь коленом, но она заперта. Куда я попал? Где Эржи? Откуда здесь, в дремучем тропическом лесу, эта комната? Не привиделось ли мне все — и погоня за вертолетом, и стычка в воздухе, и бетонный забор, и лифт, и, наконец, этот пластик на полу? Мысли разбегаются. Меня тянет к койке, как магнитом, желание лечь оттесняет все остальное. И все же я пересиливаю себя, обхожу койку, направляюсь к умывальнику, который заметил в нише, за чуть отодвинутой шторой. Подставляю голову под холодную струю, вырвавшуюся из крана. И вдруг комната закачалась. Льющийся с потолка свет превратился в быстро мелькающий прозрачный диск. Да это же вращаются, описывая круг за кругом, лопасти винта вертолета! Диск надвигается на меня, еще миг — и лопасти искромсают тело, раскроят череп… В ужасе я хватаюсь за щиток на груди, но щиток взрывается синими искрами. И все исчезает. Только ветер пронзительно свистит, стонет, ревет и подхватывает меня, как перышко… Чувствую, что возле меня кто-то есть. Пахнет лекарствами и… духами. Раскрываю глаза, и не могу сообразить, где я, почему лежу. Вижу над собой молодое красивое женское лицо. Его очень уродует черная полоска, что наискось пересекает лоб и закрывает левый глаз. На белый халат, небрежно наброшенный на плечи, спадают волнистые волосы. В тонких пальцах поблескивает шприц. Женщина заметила, что я рассматриваю ее, и нахмурилась. — Лежать! Спокойно! — Голос у нее резкий, неприятный. Что-то горячее разливается по телу. Шприц ложится на столик. Тонкие пальцы прижимают к моей руке вату. — Куда меня привели? Женщина неторопливо поправляет волосы, словно бы и не слышала моего вопроса. Говорит сама с собой: — Хм!.. Идеальное строение черепа. Аномалия, парадокс природы. Вовсе не похоже на славянский тип… — Куда меня привели? — Я пытаюсь подняться с койки. Властный окрик заставляет втянуть голову в плечи. — Лежать! Кто разрешил? — И небрежно: — Ты в надежном месте. С твоим здоровьем все в порядке. Она все еще поправляет прическу, а я смотрю на круглый медальон у нее на шее. Странный паучок прицепился к золотому ободку, паучок-крестик с отогнутыми кончиками лапок. Так это же… Это же свастика! Отвратительная эмблема фашистов, самый позорный из всех существовавших когда-либо знаков. Женщина догадалась, что приковало мой взгляд. Играя медальоном, сказала: — Тебя заинтересовала эта эмблема? Ты знаешь, что она означает? Герб с таким знаком украсит самый могущественный город на земле, с которого начнется новая история человечества! Ты хотел бы жить в таком городе? — Какой город? — бормочу я, невольно отодвигаясь от степы. — Вы о чем?… — Лежи, лежи! — снова резко бросает женщина. — Тебе сколько лет? О, из тебя можно вылепить хорошего солдата! Жаль только… славянское происхождение… А может, ты не славянин? В твоем роду наверняка были выходцы из районов, заселенных арийцами. Ты что-нибудь знаешь о своем происхождении? «Она не в своем уме, — подумал я. — Кто пустил ее в комнату? Откуда у нее шприц?…» — Фрейлейн Труда, как всегда, философствует. Зачем торопиться, фрейлейн? — послышался воркующий басок. В комнату бесшумно вошел небольшого роста полнеющий мужчина. Все на нем странно поблескивало: лаковые ботинки, серебристые нити, вкрапленные в ткань синего костюма, оправа очков, розовая лысина. Под мышкой он держал что-то завернутое в бумагу. Положив пакет на койку, к моим ногам, спросил: — Как себя чувствует наш гость? Женщина сверкнула единственным глазом. — Уже совершенно здоров, для того чтобы… — Понятно. Ты можешь сесть, — сказал мне лысый. — Разведи руки… Так. Нагни голову… Еще раз. Чудесно! После сотрясения мозга… Вы хорошо умеете лечить, фрейлейн! — Вы же хотели, чтобы я быстрее поставила его на ноги. — Она взяла меня за подбородок. — Сколько будет семь, умноженное на шесть? Отвечай! Я оттолкнул ее руку. Лицо женщины исказилось. — Фрейлейн! — предостерегающе повысил голос лысый. — Ему надо кое-что объяснить… Ты в больнице, парень. Я хочу поговорить с тобой. А для этого мне надо убедиться в психической полноценности собеседника. — В таком случае, быстро отвечайте: сколько будет четыре, деленное на два? — буркнул я. Он пристально посмотрел на меня сквозь стекла очков. Не меняя интонации, поучающе сказал: — Ты находился в тяжелом состоянии, за тобой ухаживали, тебе возвратили здоровье. Должен благодарить за это, а не вести себя, как дикий щенок. Я проглотил слюну и посмотрел на фрейлейн Труду, на медальон со свастикой. — Больница… В больницу не тащат с завязанными глазами. Я не дурачок! Вертолет опустился в глухом лесу. Где я нахожусь? — Выходит, ты летел на вертолете? — спросил лысый. — Что за вертолет? — Вам это известно не хуже, чем мне. Машина принадлежит международной научной экспедиции. Аугустино — вор, он украл вертолет. Вы обязаны сообщить в город Пери про машину и про меня. С нами летела также девушка, Эржи. Что с ней? Лысый слушал, склонив голову набок. — Конечно, конечно! Мы можем сообщить о тебе. Но тогда возникнет множество вопросов: во-первых, как ты очутился в вертолете; во-вторых, как объяснить твое спасение… Фрейлейн Труда, скажите, чтобы принесли газету. Через минуту на пороге появился толсторожий молодчик — широкополая шляпа, коричневая рубашка, кобура на ремне, — в точности похожий на того, кто привел меня ночью в эту комнату. Лысый выхватил из его рук газету. — Надеюсь, ты поймешь, что здесь напечатано. Ведь ты неплохо усвоил здешний язык. Да и по-немецки разговариваешь весьма прилично. Меня почему-то совсем не удивило, что эти двое — одноглазая Труда и человек во всем блестящем — обращаются ко мне на немецком языке. Не удивило, видимо, потому, что когда свободно владеешь каким-нибудь языком, то при необходимости невольно начинаешь употреблять его незаметно для себя. Я взглянул на газету. Это была «Популярная хроника», издававшаяся в Пери. На видном месте выделялся крупный заголовок:«ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА».Под ним шел текст:
«Позапрошлой ночью миссионер-протестант Гуго Ларсен стал очевидцем ужасного зрелища. Неподалеку от миссии в воздухе над лесом загорелся вертолет. Через минуту машина взорвалась. Это случилось над разлившимся после дождей безымянным притоком Вачуайо, в районе Больших болот, на расстоянии около 200 миль от Пери. Миссионер немедленно послал в эфир весть о катастрофе. Как выяснилось, аварию потерпела машина, обслуживавшая экспедицию Продовольственного комитета ООН. Члены этой экспедиции во главе с ученым-биологом доктором Андреем Вовченко из Советского Союза проводят на территории страны важную научно-исследовательскую работу. Накануне катастрофы при весьма загадочных обстоятельствах исчез сын доктора Вовченко. Если верить слухам, это весьма прискорбное событие имеет прямую связь с гибелью вертолета».Лысый не скрывал своего удовлетворения: — Видишь, как все сложилось… Как же теперь доказать, что на заболоченном притоке Вачуайо прожорливый крокодил не полакомился твоим поджаренным во время взрыва телом? Пока что пусть все так и остается: вертолет сгорел, ты погиб… — Кому нужна эта ложь? Если вы не выпустите меня из этой… из этого… Покачав головой, лысый проговорил, сдерживая раздражение: — Слушай, голубчик! Пять минут назад ты заявил, что вертолет приземлился в лесной глуши. Тебе известно, что такое оазис? Маленький островок жизни среди пустыни. Мы тоже в оазисе. Только нас окружают не пески, а нечто пострашнее — зеленый ад, джунгли, простирающиеся на тысячи миль. Пожалуйста! Иди отсюда куда хочешь. Мы не намерены держать тебя. Но перед этим… — Он взял принесенный пакет, развернул бумагу. — Скажи, что это такое? Лысый держал шлем. Мой шлем. От ракетного пояса. Стекло прожектора разбито. На боковой поверхности шлема вмятина. Это я ударился об острый край люка. Если бы не шлем, мне пришлось бы туго. Я протянул руку к шлему и в тот же миг отдернул ее. Что-то удержало меня. Очевидно, любопытство, сверкнувшее в глазах лысого. — Почему ты молчишь, голубчик? — Разве вы никогда не видели спортивных шлемов? — Спортивных? Хм!.. Ладно. Как ты оказался в вертолете? — Так и оказался! — отрубил я. — Почему вы меня допрашиваете? Я не хочу отвечать на ваши вопросы. — Нет, голубчик, ты будешь отвечать! Я тебя заставлю! Для чего ты надевал шлем? Откуда он у тебя? — Не кричите на меня. Мы же в больнице. Я забуду таблицу умножения и превращусь в неполноценного. На лысине у моего собеседника проступили красные пятна. Поблескивая очками, он стал приближаться ко мне короткими, крадущимися шагами. — Ты шутник, голубчик! Но ты еще не знаешь, во что превратишься, если не скажешь все, что мне надо… — Кносе, не нервничайте, — лениво вмешалась одноглазая Труда. — Если хотите, я помогу вам как следует побеседовать с ним. — Не надо, фрейлейн! — раздраженно отмахнулся лысый. — Этот выродок думает, что с ним шутят. — Сунув руки в карманы, он уже спокойно спросил: — Ты еще никогда не носил на плечах стальные рельсы? А пробовал когда-нибудь плети? Не носил и не пробовал, конечно. Так вот, придется проучить тебя. Сегодня же. Немедленно! На пороге появилась широкополая шляпа. Прямоугольник дневного света отдаляется. Под сводами туннеля слабо светятся запыленные электрические фонари. Чем дальше в глубь огромной норы, тем тяжелее дышать, тем гуще становится воздух, смешивающийся с едкими парами. Слезятся глаза, соленые капли падают с подбородка на грудь, разъедают кожу на шее. Считаю шаги. Десять… семнадцать… сорок четыре… Чтобы хоть на несколько минут освободиться от ноши, надо преодолеть двести шесть шагов. Позавчера к вечеру их было сто семьдесят два, вчера — сто девяносто шесть. Туннель углубляется. Мы носим двухметровые стояки из бетона. Тяжелый брус вдавливает человека в землю, ноги заплетаются. Мой напарник, шестнадцатилетний индеец By, идет впереди. На спине его темнеют рубцы, тонкие жилистые ноги ступают пружинисто, твердо. By на полголовы ниже меня, но крепче и ловчей. Для него тяжесть — не только бетонные стояки, но и такой неумелый напарник, как я. Мы двигаемся в молчаливой процессии краснокожих привидений. При свете фонарей блестят от пота обнаженные до пояса тела людей. Одни несут на плечах стояки, другие сгибаются под тяжестью стальных рельсов. Я плетусь за By, ноша связывает нас воедино. Стояк вот-вот раздробит мне кости. Плечо онемело. Нога со сбитыми до крови пальцами натыкается на что-то острое. Споткнувшись, я пытаюсь удержать брус обеими руками, но стояк сползает с плеча, обдирая кожу, и тяжело падает на землю. By отскакивает в сторону. — Работать не хочешь, индейская свинья?! Надзиратель в широкополой шляпе стегает парня плетью. By выгибает спину, извивается от боли. Я бросаюсь на надзирателя: — Не трогайте его! Как вы смеете? Оскалив в улыбке зубы, широкополый отбрасывает меня, как котенка. И так каждый раз. Я спотыкаюсь, выпускаю из рук ношу, а стегают моего напарника. Несчастный By, наверное, возненавидел меня за эти дни, но он молчит. Торопливо хватаюсь за конец стояка. By наклоняется, берется за него с противоположной стороны. Мимо нас бредут индейцы, их головы склонены на грудь; кажется, им нет дела ни до меня, ни до By, ни до всего, что творится вокруг. В глубине туннеля грохот пневматических молотков, глаза слепят синие вспышки металлосварочных аппаратов, время от времени доносятся короткие глухие взрывы. Землекопы вгрызаются в толщу песчаника, продвигаются вперед, с каждым днем увеличивая то количество шагов, что отделяет нас, носильщиков, от входа в туннель. Долбят землю и монтируют крепления тоже индейцы, но они не из нашего барака. Я вижу их только во время работы. Мы приближаемся к землекопам, сбрасываем возле них тяжелую ношу и тут же возвращаемся назад. Бегом, под окрики широкополых и под хлопанье плетей. Там, где сереет прямоугольник дневного света, нас ожидает груда стояков и рельсов. И все же там солнце, чистый воздух, легкий ветерок хоть на минуту холодит тело. Вот уже пятый день я работаю в туннеле. Что здесь строят? Неизвестно. Нас пригоняют сюда на рассвете. На завтрак дают орехи кастанейро, в обед — кисловатую похлебку и бобы. На ночь мы располагаемся в приземистом строении из неотесанных грубых бревен. Снаружи на стене желтеет цифра «6». Шестой барак или блок, как его называл Кносе. Неподалеку, между зарослей, виднеется еще несколько блоков. На их крыши свисают раскидистые кроны пальм. Дальше, за бараками, торчат высокие вышки, па каждой из них — часовые с пулеметами. Правее, на покрытом лесом бугре, между деревьями проглядывает высокая серая каменная стена. Утром, когда индейцы в колонне по четыре направляются на работу, все вокруг окутано тишиной, лишь где-то недалеко, на болотах, то усиливается, то затихает лягушечье кваканье. В тумане слабо вырисовываются контуры бараков, сторожевых вышек, с деревьев на землю бесшумно падают капли росы. Туннель мы покидаем в сумерки. Каждый раз я издали наблюдаю за какой-то пестрой толпой. Кажется, что там одни женщины. Охранники выводят их из леса. Они исчезают в зарослях, возле барака с желтой тройкой на стене, что стоит в стороне от других. В пальмовой рощице, мимо которой мы проходим, спряталось двухэтажное сооружение под ребристой металлической кровлей. Временами оттуда доносится то ли смех, то ли детский плач. Там постоянно снуют какие-то люди в белом. Вчера мне показалось, будто среди белых халатов промелькнула удивительно знакомая фигура… Вечерний сумрак помешал мне рассмотреть ее как следует. То была женщина. Она медленно поднималась на ступеньки. Я ждал, когда она оглянется. Кого-то мне напоминала ее фигура, походка… Но тут меня подтолкнули, и я пошел, часто оборачиваясь и посматривая на здание среди пальм, однако там уже никого не было. В нашем шестом блоке — два яруса нар, сбитых из досок. Над каждым ярусом натянуты сетки от москитов. Возле двери — бак с водой, большая жестяная кружка. Света нет. Индейцы как немые, почти не разговаривают между собой. Молчат в туннеле, молчат, возвращаясь с работы, молчат в бараке. Лишь среди ночи слышится сонное бормотание усталых людей. Охрана наведывается в барак не часто. Изредка заглянет кто-нибудь из широкополых, посветит фонариком, пройдется между нарами, похлопывая плетью, и исчезнет. Постелью нам служат охапки сухой листвы. Мое место на верхнем ярусе. Слева от меня постель By, справа — молодого угрюмого индейца. У него фигура атлета: могучая грудь, мускулистые руки; садясь на нары, он достает головой до потолка. Я по знаю его имени. Ко мне он относится с полным безразличием. После работы великан ложится на спину, кладет руки под голову и мгновенно засыпает, не проронив ни слова. Мои попытки заговорить с By не имеют успеха. То ли он боится нарушить гнетущую тишину барака, то ли не понимает меня. Но ведь он должен понимать! Я теперь точно знаю, к какому племени принадлежат и By, и мой сосед справа, да и все эти меднотелые люди, которые таскают на себе сталь и бетон в туннеле. У них удлиненные лица, черно-синие прямые волосы, карие, чуть раскосые глаза… Нет, это не случайное сходство. Вот и в этот вечер я пытаюсь заставить себя собрать в памяти как можно больше слов, услышанных от старого Катультесе, от гостеприимных хозяев хижин в индейских селениях возле Пери, и делаю еще одпу попытку расшевелить By. Шепотом спрашиваю его: — Почему ты не хочешь со мной разговаривать? By лежит неподвижно, в темноте не видно его лица. Но чувствую, он затаил дыхание. — Не бойся меня. Я же не виноват, что из-за меня тебе приходится терпеть побои. Они хотят, чтобы ты меня возненавидел. Я не знаю, зачем им это нужно. Кто они, эти злые люди? Откуда взялись в джунглях? Что они здесь делают? By не отвечает. Но я решил не отступать. — Зря ты молчишь, By. Может, они запрещают вам разговаривать? Но разве каджао были когда-нибудь трусами? Мои слова задели его за живое. В ответ до меня доносится едва слышное: — Ты белый. Кто научил тебя языку моего племени? — На этом языке разговаривают люди с берегов реки Вачуайо. Там, среди каджао, у меня есть немало знакомых. Их не стегают плетями и не держат в таких, как здесь, клетках-бараках. — Ты сказал неправду, белый. Каджао живут только здесь, у Каменной стены. Больше нигде их не осталось. — Почему ты думаешь, что не осталось? — Их истребили враждебные племена. На каджао охотятся всюду, нас разыскивают в джунглях, чтобы убивать. Металлические птицы врагов летают над лесами, выслеживают нас. Мы, последние каджао, живы только потому, что нас защищает Каменная стена. — Каменная стена… Это что, вот та серая стена из бетона? Чепуха! Откуда ты взял, что каджао истреблены? Их очень немного, это верно, но они живут в своих селениях, живут в городах… Ты слышал о городе Пери? — Не выдумывай. В джунглях нет городов. Здесь существует лишь один город, за Каменной стеной. — Кто-то наговорил тебе всякой чепухи, By, а ты и поверил. — Могущественные не говорят чепухи, они знают больше, чем ты. — Кто же они, эти могущественные? Где они? — Там, за Каменной стеной. Они владычествуют в джунглях и охраняют нас от врагов. — Они охраняют вас? Ты спятил с ума! Эти негодяи издеваются над вами! Может, они охраняют и меня тоже? — Ты белый. — Что с того? Меня они так же, как вас, гонят в туннель. Почему вы так покорно все терпите? С вами обращаются, как с невольниками. Ты знаешь, что такое невольник? Вас много, By! И вы позволяете им измываться над собой, даже не заступаетесь друг за друга. Как это понимать? Постель зашуршала, By повернулся на бок. — Ты ничего не знаешь, — послышался его шепот. — Хватит об этом. За ночные разговоры на три дня оставляют без пищи. Страшная духота обручем сжимала виски. Слышалось неровное дыхание десятков людей. Тело болело, как после побоев. Я попробовал было улечься поудобнее, но тут же притаился. В барак вошел охранник. Раздался сухой, как треск сломанной ветки, хлопок плети. Кто-то пронзительно вскрикнул, послышалась злобная брань. И снова сомкнулся над головой душный мрак… «Могущественные охраняют вас». Кто затуманил головы индейцев выдумками о том, что каджао давно истреблены, что какие-то враги до сих пор разыскивают людей этого племени по лесам? Неужели мои товарищи по несчастью не понимают, что они в рабстве? «Каменная стена защищает нас»… Может, так думает только By, а другие мыслят иначе? За стеной из бетона — лифты, подземные коридоры, комнаты, облицованные пластиком. Там целый город. Видимо, о нем и говорила фрейлейн Труда. Индейцам наверняка туда запрещен вход. Их держат по эту сторону стены, в блоках-бараках, они гнут спину в подземной норе и еще где-нибудь, там, где нужны их плечи и руки. Индейцев здесь не считают людьми; для тех, кто спрятался за Каменной стеной, они лишь рабочий скот, не больше. Как случилось, что By — а он далеко не глуп — не знает о существовании городов и селений, самолеты называет «металлическими птицами», не верит, что возле Вачуайо живут каджао? Неужели он не имеет представления об ином мире, кроме клочка леса, где стоят бараки? Жуткая мысль вдруг мелькнула в моей голове. А что, если эти люди наследники тех самых индейцев, которые без вести исчезли в недрах сельвы, насильно угнанные чужеземными пришельцами семь десятилетий назад? Если это так, то By и его товарищи даже родились здесь, в неволе! За всю свою жизнь они не видели ничего другого, кроме бараков, Каменной стены, каторжной работы… Значит, и их отцы изо дня в день, из года в год только и слышали свист плетей да злобную брань вооруженных охранников?
ЕВГЕНИЙ ГУЛЯКОВСКИЙ ЛЕГЕНДА О СЕРЕБРЯНОМ ЧЕЛОВЕКЕ Фантастический рассказ
Наш город, наверно, самый жаркий на свете. Жара в нем стоит такая, что трескаются каменные заборы, а скалы покрываются коричневой коркой загара. Хатаму здесь нравится. Он родился и вырос в этом городе. А мой город совсем другой, хоть я и не помню почти ничего, только огромные кусты пестрых цветов, росшие у самой калитки. Давно уже город Хатама стал и моим городом. Я учусь с Хатамом в одной школе. Одни и те же улицы встречают нас после уроков. Мы проходим по узкой Лесной, названной так, наверно, в шутку, по длинной Красноармейской и Колхозной. Отец говорил, что улицы с такими названиями есть во всех городах. А мне почему-то кажется, что улицы, как и люди, неповторимы, у них свои лица и должны быть такие же неповторимые имена. Но отец знает об этом лучше меня, он много ездил, пока меня еще не было на свете, и я жалею иногда, что родился так поздно, что самое интересное люди успели прожить без меня. За последним рядом домов на Колхозной город вдруг исчезает. Перед нами открывается до самого горизонта огромное пространство пустыни, поросшей сухими колючками и кустиками желтой травы. Солнце, уставшее за день, лениво катится к горизонту, и мы спешим, чтобы успеть перехватить старика Дамира с его отарой на перевале. Каждый вечер гонит здесь Дамир колхозную отару на ночлег и располагается у источника на короткий отдых после трудного пути через горы. Мы должны успеть к источнику раньше его, чтобы собрать хворост для костра. Хворосту вокруг мало, и на сбор его уходило не меньше часа. К концу сбора все руки у нас исцарапаны о верблюжью колючку, но мы этого даже не замечаем, все наше внимание направлено на перевал: мы с нетерпением ждем, когда там зашевелится густая, плотная масса овец, розовая в лучах заходящего солнца. Дамир неторопливо разводит костер, кипятит чай, разламывает душистую белую лепешку и протягивает нам тонкие, звенящие от ударов голубоватые пиалы с древним узором. Нам совсем не хочется чая, но отказаться нельзя и торопить Дамира бесполезно. Наконец он вытирает усы и бороду рукавом халата и начинает точно с того места, на котором остановился вчера. Дамир говорит медленно, как будто вспоминает события, очевидцем которых был. Трудно поверить, что все, о чем он рассказывает, случилось так давно, полторы тысячи лет назад. Нам с Хатамом не удается даже представить всю громадность этого времени, и все же, слушая Дамира, мы видим улицы древнего, очень древнего города. Такого древнего, что даже память о нем не сохранилась, а пыль от его домов смешалась с песками пустыни много веков назад. Это был богатый и красивый город. У восточной стены рядом с базарной площадью находилась улица мастеров. Здесь-то в маленькой хижине и жил Мансур. Мы услышали о нем от Дамира несколько дней назад, и с тех пор его имя всегда вызывает у меня волнение, хотя прошло уже много лет и я давно ушел от того мальчишки, что сидел перед потухшим костром с остывшей пиалой в руках. Мансур, серебряных дел мастер, был самым знаменитым во всем Бактрийском государстве. За его изделиями охотились приезжие купцы, назначали тройные цены, но сам он всю жизнь оставался бедняком, словно золото и серебро не могло задержаться в ладонях этого человека и лишь ложилось прекрасным узором на чаши и кубки, на щиты и шлемы богатых горожан и полководцев. Да и не один был он таким бедняком: всё, что зарабатывали его соседи, тоже уходило в виде податей и налогов. Мансур был жизнерадостным и сильным человеком, он любил свою работу, дружно жил с соседями-кузнецами и шорниками. Они всегда выручали его в трудные минуты, делились последним, а когда есть у человека верные друзья, ему легче переносить бедность. Может быть, мы никогда не узнали бы о Мансуре, не будь у него одной тайны да не случись беды… Мало ли на свете мастеров, чьи изделия пережили века, а имена не сохранились. Но Мансура ждало другое. На смертном одре отец передал ему небольшую запечатанную шкатулку и наказал не открывать ее без большой необходимости. И такое время пришло. Мансур понял, что дело неладно, сразу, как только ушел посыльный от правителя города Патрокла. Раз уж зовут во дворец, добра не жди… Мансур долго сидел задумавшись, ковырял в каменном корытце засохшую краску, все искал причины, по которой мог он понадобиться самому Патроклу, потом все же велел жене Астаре собрать инструменты, хотя знал, что они не понадобятся. Не станет Патрокл утруждать себя заказами, не за тем звал… Весь день ждал мастер под палящим солнцем, его не пустили даже во внутренний двор. И лишь поздно вечером стражник выкрикнул его имя и, грубо подталкивая, провел через длинный коридор в комнату досмотра. Там его обыскали, вытрясли из пояса две бронзовые монеты и забыли положить обратно. Искали оружие, но он не взял с собой даже ножа. Отобрали ящик с инструментами и велели надеть чистый халат, словно лишним оскорблением хотели вывести его из себя, но он и тут промолчал. Кто он такой перед воинами великого Патрокла? Вот уже четвертый год, как приехал из Македонии этот рыхлый жадный человек, и с тех пор город не знает покоя от поборов и податей. Тех, кто пытался возражать, давно казнили на городской площади, и глаза им выклевали вороны… Красив дворец Патрокла. Прекрасны резные фонтаны из белого мрамора, огромные вазы, сделанные из не известного бактрийским мастерам материала… Велика и могуча Македония… Побывать бы там, познакомиться с людьми, что создали всю эту красоту… Мансур так засмотрелся на светильник, изваянный в виде козлоногого человека, что не заметил, когда в зал вошел Патрокл, и только тяжелая рука сотника, швырнувшая его ниц перед великим, заставила опомниться. Патрокл движением руки удалил сотника и охрану и остался один на один с Мансуром. Долго молча стоял он над распростертым человеком, задумчиво разглядывая затылок лежащего ничком мастера. — Значит, ты и есть Мансур? — Так, господин. — Слышал я о тебе немало сказок. Говорят, ты знаешь тайны всех металлов? — Молва лжет, господин. — Лжет? Может, и лжет. Встань. У нас с тобой не простой разговор. С трудом поднялся Мансур, проклиная тяжелого на руку сотника. — Еще я слышал, что в городе нет мастера искусней тебя. — Кое-какое искусство перешло мне от дедов, и если великий захочет… — Кувшины и чаши мне не нужны. Своих достаточно. А кроме искусства, ничего не перешло тебе от дедов? Мансур весь сжался, вспомнив заветную шкатулку. В мозгу вертелся хоровод мыслей… Откуда?… Как мог узнать?… А может, не о том он? Может, ничего еще не знает?… — Что ж, молчишь, мастер? Может, есть у тебя тайна, которую забыл мне поведать? Подумай. Подумай хорошенько! Долго молчал Мансур. Не поднимая головы, он думал о том, что не уйти ему живым из дворца, и что не домой лежит теперь его дорога, а вниз, в подвалы, туда, где находились пыточные камеры… Пожалел, что не взял с собой ножа, — может, и не заметили бы при досмотре. Близко стоял от него Патрокл, одного прыжка могло бы хватить, но Мансур знал, что за тяжелыми складками занавесей скрыты не знающие промаха македонские лучники, догадался об этом по легкому движению материи п понимал, что голыми руками, без ножа, ничего не успеет сделать. А потому стоял молча, еще ниже опустив голову, тянул время, стараясь догадаться о том, что же именно пронюхал сатрап и как много он знает… Да, в той шкатулке скрывалась тайна, которая могла бы заинтересовать не только сатрапа, но и самого Александра, будь сейчас жив великий завоеватель мира. И была эта тайна такой старой и оттого такой привычной, что Мансур словно бы и забыл о ней. Приучил себя не думать, не вспоминать даже во сне. — Что-то долго ты молчишь, мастер. Может, попросить палача, чтобы помог тебе освежить память и развязать язык? — Я не знаю, о какой тайне говорит господин. — Не знаешь?! Зато я знаю! Забыл о черном серебре, что лежит в твоей шкатулке? Дрожишь! — Простой смертный даже пряжки не сделает из того серебра… Зачем тебе оно? Боги послали то серебро, боги и заберут. — Серебро мне не нужно. Ты сделаешь чашу, наполнишь ее кореньями и травами, напиток принесешь мне… — Последние слова Патрокл произнес шепотом, нагнувшись к самому уху Мансура. — Ступай. Срок тебе шесть дней. Надеюсь, не забыл рецепта? Смотри не напутай! Сына и брата возьму заложниками. Напутаешь что-нибудь — им отсекут головы, а тебя… Ну, да ты знаешь… Ступай и не вздумай меня дурачить! Гетайры проводят и постерегут от темных мыслей. Ступай! Мансуру казалось, что колонны дворца расплылись и качаются с каждым шагом. Он ужо не замечал ни красоты мраморных фоптанов, ни светильников, ни сосудов. Двое гетайров с короткими мечами на поясе шли сзади, и он слышал, как позвякивают при каждом шаге цепочки на их перевязях. Мансур вспоминает слова, услышанные от отца на его смертном одре, слова звучат в его ушах вместе с тяжелым дыханием и звоном металла за спиной: «Возьми три горсти мяты, два корня полыни… Серебро из черного камня уже готово, три сотни лет прошло… Так велели боги, принесшие его на землю… Сделай из серебра чашу… Это великая тайна… Сбереги ее и передай сыну… А если случится беда, возьми три горсти мяты… Для себя не бери, тебе самому ничего, кроме горя, не принесет напиток… Только если большая беда… Сохрани тайну». В ту ночь долго не гас огонь в хижине Мансура. Мастер сидел перед раскрытой шкатулкой с заветным слитком черного, похожего на губку металла, что передавался из рода в род, из поколения в поколение… Кто его знает, может, это и не серебро вовсе… Говорили старики, что этот камень упал когда-то с неба, а может, его принесли сами боги и вложили в него свою великую силу… Два конца в любой палке, два начала и в любой силе, все зависит от того, какое начало избрать, куда направить эту великую силу, на какое дело… И не может она вечно лежать на дне шкатулки. Кому-то все равно пришлось бы решать ее судьбу. Случилось так, что эта доля выпала ему. Не сладкая, трудная доля. Пронюхал все-таки сатрап. Никто из живых людей не знал тайны черного серебра. Но правду, видно, говорят, что великую тайну не уберечь даже мертвым. Хитер сатрап. Мог бы забрать серебро, да знает, что не всякому оно дается в руки. Пробовал уж, наверно, подсылать своих людишек… Вот так оно и случилось. Ничего теперь не сделать. Только два пути. Можно, конечно, отдать Пат-роклу напиток. Пусть властолюбивый Патрокл до дна выпьет волшебную чашу. И не станет у него врагов во всей Бактрии, во всей Македонии, во всем мире. Всех превратит он в рабов и в золото начнет превращать их кровь и пот. Но что тебе до того… Тебя-то он оставит в покое, раз уж ты один умеешь совладать с черным серебром… Тебя-то он будет беречь как зеницу ока, и твое слово станет для него нерушимо… Не всякое слово, конечно. Но твой интерес он наверняка соблюдет, так что ты много потеряешь в эту ночь, Мансур. Подумай хорошенько, еще ведь не поздно… В соседней комнате тяжело закашлялся один из приставленных к нему стражей. Мансур вздрогнул и протянул руку к ящику с инструментами, словно не хватало ему этого последнего звука, чтобы решиться. Напиток власти… У него чуть горьковатый, вяжущий вкус, словно пьешь полынный настой, а во рту остается металлический привкус. Мансур поставил на стол пустую чашу и стал ждать. Напиток должен был подействовать в полную силу лишь через час. Но уже через несколько минут он почувствовал, как кожа постепенно теряет упругость, точно в него изнутри медленно накачивали свинец. Голова стала тяжелой, словно и в ней уже ворочались металлические мысли. «…И умрет в тебе все человеческое. И станешь ты сильнее врагов своих, и уйдут от тебя дела твои и дела друзей твоих, и потеряешь ты близких своих и дом свой, и останешься ты один, ибо задумавший стать сильнее всех, окажется слабейшим…» — так говорило древнее пророчество. Наверно, у него не хватило бы мужества испить эту чашу, не окажись ненависть и отчаяние сильнее страха. Шатаясь, встал он и пошел через весь дом на половину Астары. Она словно ждала его прихода, словно знала, что за решение он принял и что сделал. Огромные грустные глаза Астары заглянули ему в самую душу, как будто уже прощались с ним навсегда. Протянул к жене Мансур свои руки, видно хотел обнять ее в последний раз, прижать к груди, но неловко задел за светильник, что стоял перед ее ложем. Сначала с удивлением, а потом со страхом смотрели они оба на тонкий лист бронзы, вдавленный в треснувший стол. И понял Мансур, что между ним и другими людьми уже встала навеки нерушимая стена отчуждения. И не могут больше его руки ласкать и творить, а могут только разрушать и калечить… Ничего не сказал он Астаре, молча постоял посреди комнаты, опустил голову и тихо вышел, унеся с собой ее пронзительный крик. Дамир кряхтя поднимается, в последний раз шевелит в костре угасающие угли и, не прощаясь с нами, уходит к отаре, а мы долго еще сидим неподвижно, слушаем дробный стук овечьих копыт, щелканье бича и лай собак. Звуки отары постепенно стихают за поворотом, а мы всё сидим и смотрим на рыжий пепел костра, словно именно в нем можно найти ответ на все вопросы, которые бродят у нас в голове и которыми мы наконец начинаем засыпать друг друга. Что такое черное серебро? Почему именно из него нужно было сделать чашу, чтобы приготовить волшебный напиток? И что теперь случится с Мансуром? По крайней мере ответ на последний вопрос мы получим завтра, если погода не испортится, если Дамир не очень устанет и если не будет шестого урока. По дороге домой Хатам начинает доказывать мне, что Бактрийское царство существовало на этом месте на самом деле, что Дамир его не выдумал»’ как будто я сам не знаю. Я уже спрашивал об этом Марью Андреевну, нашу учительницу истории, и она очень удивилась, почему меня интересует такое древнее и малоизвестное государство. «Изучал бы лучше государство Урарту. Оно тебе пригодится на экзаменах». Но меня, как назло, совсем не интересовало Урарту, когда здесь, под ногами, лежит древняя земля таинственной страны, которая была и сгинула где-то во тьме веков, словно растворилась в пустыне… Дома я долго не могу уснуть. Как только закрою глаза, вижу фигуру серебряных дел мастера, склонившуюся над рабочим столом. Он что-то делает. Что-то такое, что должно остаться людям, над чем не властно время. Какую-то вещь. След, который не исчезнет, останется и его найдут… Светильник на рабочем столе Мансура горит тускло, и я не могу рассмотреть лица мастера, но вот он повернулся, и теперь я узнаю его узкую бородку клинышком, только черную и густую, без проседи, как у Дамира. — Ты хочешь знать, каким был Мансур? — Дамир смотрит на нас с минуту, потом наклоняется к костру, находит небольшой уголек и прикуривает от него папиросу. — Время многое стирает в памяти людей. А лица… лица в первую очередь. Зато имена великих батыров не забывает народ… И не забывает их дел. Мансур был сухим и жилистым, как ствол саксаула. Может быть, поэтому, когда он поднимал лук и натягивал тетиву, казалось, что это ветер раскачивает и приподнимает над землей ствол низкого дерева. Стрела с комариным пением уносилась в сумерки вечера и сразу же пропадала из глаз. Не видно было тех, в кого он стрелял. Сильно пахло овечьим пометом, хлебом и сухой травой. Казалось, в такой тихий вечер не должно быть этой стрельбы и яростных криков у подножия холма, где только что спешились всадники Патрокла. Сотник Никол велел своим людям оцепить холм, но не разрешил брать оружия. Даже когда случайная стрела с холма попала в его любимого коня, он лишь скрипнул зубами, не смея нарушить приказ самого Патрокла. Этого нечестивца, этого грязного плебея, местного мастеришку из города, приходилось брать живьем. — Доставишь во дворец в целости, — сказал Патрокл. — Запомни, я сказал — в целости. К приказам Патрокла надлежало относиться внимательно, он никогда не прощал ошибок. Люди Никола короткими перебежками и ползком стали стягивать цепь, а наверху звенела тетива, свистели стрелы и кто-то вскрикнул от боли. Вот зашатался еще один гетайр и рухнул, выронив щит. Никол выругался, швырнул на землю копье и выкрикнул команду. Гетайры поднялись во весь рост и с яростным коротким криком бегом бросились к вершине сразу со всех сторон. Послышался шум борьбы, звуки глухих ударов, как будто били кулаком по кулю с мукой, потом с холма вниз побежали гетайры. Было хорошо видно, как они роняют шлемы и бросают на землю пустые ножны, чтобы удобнее было бежать. А сверху вслед за ними не спеша шел худой человек, опираясь на длинный охотничий лук, как на посох. И было очень странно видеть, как десяток сильных, тренированных воинов бегут прочь от одного человека, который не преследовал их и, в сущности, был безоружен. Никол успел подумать, что у него, наверно, кончились стрелы, но в следующую секунду уже потерял способность рассуждать, что-то дико крикнул, хлестнул коня и понесся вверх но холму, на ходу выхватывая меч. Он закрутил его в воздухе так, что обозначился сверкающий круг, и мысленно уже видел то место, куда должно опуститься лезвие в конце последнего круга. О приказе Патрокла он даже не вспомнил в эту минуту. Меч взвизгнул в воздухе. Никол привстал в седле, чтобы удар был сильнее, и опустил меч на вытянутой руке, как на учениях. Удар вышиб его из седла. Падая, он успел услышать звон расколотой тапрской стали и увидеть, как в облаке пыли переворачивается через голову его жеребец, словно налетевший на скалу. Последнее, что он видел, была спина медленно спускавшегося по холму человека, который не повернул головы в его сторону, не поднял даже руки, чтобы защититься от верной смерти. Просто шел себе своей дорогой, словно это не три таланта упругих мышц и костей неслось ему навстречу секунду назад, а так, просто облачко пыли. Пыль осела, и путь был свободен. Паника охватила дворец Патрокла снизу. Вспыхнув у ворот дворца, она вихрем промчалась через внутренний двор и портик, разметала по дворцовым лестницам щиты и копья стражников, ворвалась во внутренние покои, погнала пеструю толпу поваров и слуг в подвалы, очистила лестницы, переходы и анфилады залов от людей быстрее, чем это мог бы сделать ураганный ветер с кучей опавших листьев. И только личная стража Патрокла, его самые надежные и храбрые воины остались на своих местах у входа в посольский зал. Они остались там и тогда, когда в глубине коридора появилась приземистая фигура Мансура. Слух о разгроме отряда гетаиров достиг дворца задолго до прихода самого Мансура. И все же воины оставались на своих местах. А когда Мансур приблизился, скрестили перед ним копья. Мансур развел копья в стороны и вошел в зал. Стражники не двинулись с места. Сила подчинилась силе. Что могли они сделать с человеком, которого не берут ни мечи, ни копья? Да полно, человек ли это? Может быть, сам Геракл в шкуре Мединского льва? Вот только посеревшее, усталое лицо не похоже на лицо легендарного героя… Герои не ходят сгорбившись, шаркая ногами об пол. Странную картину довелось увидеть финикийскому послу Астарию. Непонятные вещи творились в этой далекой, забытой богами Бактрии. В посольский зал к самому сатрапу без разрешения вошел какой-то оборванный, грязный человек, а Патрокл, завидев его, не позвал стражу, а почему-то медленно сполз с сиденья своего высокого кресла. А дальше началось уж совсем непонятное. Незнакомец устало опустился в кресло напротив сатрапа и секунду неподвижно смотрел на побелевшее, покрытое каплями пота лицо Патрокла. Потом движением руки приказал ему подняться с пола, и Патрокл повиновался, как балаганная тряпичная кукла. — Вот видишь… Выполнил я твою волю, приготовил напиток власти, и настал мой час. Где узники? — Они… Они там… Живы… Все живы… Я сохранил… — заикаясь, ответил Патрокл. — Прикажи привести! Дежурный сотник вошел в зал по зову Патрокла так, словно ничего не случилось, и, повернувшись, четко, как на учении, пошел выполнять распоряжение, а в зале повисло тяжелое, грозное молчание. — Любезный Патрокл, что все это значит? Кто этот человек, отдающий приказы в твоем дворце? — Финикийский посол привстал в своем кресле, ожидая ответа, но никто не удостоил его даже взглядом, слишком заняты были друг другом эти двое непохожих людей. — Пощади… Возьми золото, у меня его много, возьми все… Только жизнь… Жизнь оставь… — Патрокл хватал воздух широко открытым ртом, и темные полосы пота проступили на его шелковых одеждах. — Прошлый раз ты был храбрее. Кому нужна твоя подлая жизнь? Возьми ее с собой и убирайся. Скажи в своей Македонии, чтобы они оставили нас в покое. Это все, что нужно моей стране. Утром следующего дня небольшой отряд македонских воинов во главе с Патроклом покинул пределы Бактрии. Казалось, впервые за много лет над страной Мансура взошло наконец солнце свободы и люди нашли свое счастье. Но так только казалось… Управителем города Мансур назначил старого кузнеца Шарипа, который славился своей мудростью и справедливостью. Первыми же указами Шарип отпустил на волю рабов и отменил непомерные налоги. Во дворце не осталось ни писцов, ни стражников, привыкших работать за большие деньги, а бывшие воины Патрокла, те, что не ушли вместе с ним в Македонию, объединились с богачами и затеяли смуту, и в это время прибыла весть о том, что к границам Бактрии подошли македонские отряды… — А Мансур? — не выдержал я. — Ведь он один мог бы справиться с целой армией! — Один? Что мог сделать один Мансур с полчищами врагов? Они не стали вступать с ним в схватку, попросту обошли и ворвались в город. Запылали пожары, закричали дети и женщины, рекой полилась кровь невинных людей. И понял Мансур, что не свободу принес своему народу, а только новые несчастья, грабежи и насилия… Он мог разрушать стены и сокрушать скалы, но стены его родного города уже были разрушены врагами. Он мог раздавить в лепешку любого врага, но враги бежали от него и продолжали убивать его друзей, а когда те спешили к нему, ища защиты, враги издали осыпали их тучами стрел. Стрелы ломались о металлическую кожу Мансура, не причиняя ему самому вреда, но убивали всех, кто хотел к нему подойти… И тогда вновь вспомнил Мансур слова древнего пророчества: «Задумавший стать сильнее всех, окажется слабейшим. И останется он один, и отойдут от него дела друзей его…» И решил Мансур покинуть город. Ничего для себя ему не надо было от полученной силы и ничего не сумел он подарить людям. Оставались еще горы с их несметным богатством. Мансур подумал, что богатство может сделать людей счастливей, хотел и его подарить людям. Скалы подчинились тому, кто принял напиток власти. Вон там, у поворота тропинки, видите крутой обвалившийся склон? Сюда пришел Мансур. Здесь он вошел в горы. В самое их нутро. Больше его не видели. Может быть, он до сих пор бродит по подземному царству в поисках богатства? Этого никто не знает. Разное говорят люди. Говорят, что за перевалом Ак-Мансур есть пещера, через которую выходил Мансур к солнечному свету. И там, где он проходил, на земле оставались серебряные следы. Может, так оно и было, кто знает. Хорошо, когда человек оставляет на земле серебряный след, не каждому это дано… А может, не удалось ему выбраться к свету. Может, горы оказались сильнее. Навалилась непомерная тяжесть, стиснула, сдавила со всех сторон. Ни поднять руки, ни сделать шага… Принявший напиток власти становится бессмертным… Тогда простоял он неподвижно целые века, пока сам не превратился в камень, не стал частью горы, не растворился в ее жилах и со всеми своими мыслями о свободе и счастье людей не пробился к свету блестящими крапинками серебряных месторождений и все-таки, значит, оставил на земле свой серебряный след. До сих пор ищут люди следы Мансура, ищут и находят и радуются каждой находке, каждой блестке драгоценного металла, приносящего здоровье и силу… Вот почему так много серебра в наших горах. И если вам посчастливится его найти, вспомните о Мансуре… Давно ушла отара, спустились сумерки, взошла огромная белая луна и погас костер. А мы всё сидим и спорим и молчим, и снова спорим, и нет сил встать и уйти и расстаться со сказкой, которая притаилась здесь, в горах, совсем рядом, может быть там, у полуосыпавшегося склона, или за тем поворотом тропинки…АЛЬБЕРТ ВАЛЕНТИНОВ «ЧЕРНАЯ БЕРТА» Фантастическая повесть
Старые знакомые
Земля повернулась еще на несколько градусов, и, вынырнув из-за линии терминатора, в полосу зари вплыл большой город. Сначала заалели крыши, вознесенные на сумасшедшую высоту. Они, как парашюты, покачивались в бездонной голубизне неба. Потом нежный румянец быстро заскользил вниз по гладким стенам, прогоняя белесую предрассветную дымку. Земля поворачивалась, и дома наперегонки выбегали из темноты, будто стадо лошадей из загона. Однако прошло три часа, прежде чем солнце добралось до дна глубокой и узкой, словно каньон, улицы и зажгло окна маленькой общественной библиотеки. Когда-то библиотека знавала лучшие времена. Это было давно, тогда она была самым высоким одноэтажным зданием на этой улице. Сейчас с одного бока ее давил трехзальный кинотеатр, на фасаде которого лихие электрические ковбои палили на полном скаку из огромных, как гаубицы, револьверов. После каждого выстрела валил настоящий дым. С другого бока фешенебельный ресторан завлекал взыскательных гастрономов любой кухней мира, включая нектар и амброзию, те самые, что вкушали боги на Олимпе. В зареве окружающих реклам библиотека совершенно терялась, и оглушенные прохожие пробегали мимо, не подозревая о ее существовании. Старый библиотекарь, серый, будто выцветший, как древний пергамент, пе сетовал на недостаток внимания. Он был склонен к философии и давно уже уговорил себя, что принимает жизнь такой, какая она есть. Или, во всяком случае, временно принимает. Днем он дремал в громоздком, как комод, кресле, лениво приоткрывая глаза на скрип двери, когда какой-нибудь отчаявшийся безработный заглядывал сюда в поисках случайного заработка, а вечером… Впрочем, кого могло интересовать, что делает вечером старый библиотекарь! Но сегодня привычный распорядок был нарушен. Не успел библиотекарь нащупать знакомую впадину в любимом кресле, как дверь изумленно пискнула, пропуская молодого человека, одетого так, как одеваются сейчас все молодые люди. — Читать будете? — недоверчиво спросил библиотекарь по-стариковски скрипучим голосом. — С вашего разрешения подожду приятеля, — ответил посетитель, направляясь к самому дальнему столу. — Это, кажется, единственное место в этом проклятом городе, где можно спокойно поговорить. Библиотекарьудовлетворенно кивнул, будто и не ждал другого ответа, и закрыл глаза. Посетитель поставил на стол модный портфель размером с туристский чемодан, потянулся было за сигаретами, но, спохватившись, рассеянно забарабанил пальцами по когда-то полированной крышке стола. Постепенно строгая тишина библиотеки подействовала на него. Он беспокойно заерзал на стуле, взглянул несколько раз на часы, потом, видимо сообразив, что самое естественное здесь — читать, вытащил из портфеля папку, а из папки достал газету. Это была очень старая газета, и посетитель разворачивал ее осторожно, боясь порвать. Очевидно, он знал ее наизусть, так как безошибочно открыл нужную страницу — там, где огромный заголовок пересекал разворот:ТАЙНА «ЧЕРНОЙ БЕРТЫ» УТЕРЯНА — НАВСЕГДА?Молодой человек, неопределенно улыбаясь, пробегал полустертые строчки:
«Учитывая повышенный интерес наших читателей к нашумевшей сенсации века, мы собрали новые факты о таинственном убийстве профессора Терригари. Как известно, труп профессора был обнаружен позавчера в помещении блока питания «Черной Берты» — самосовершенствующегося компьютера с неограниченными степенями свободы. Здесь же находились еще два трупа. Полиция опознала в них молодчиков из шайки гангстера Бигля — Скорохода Нэда и Снайпера Сэма. Все трое убиты автоматными очередями. Друг убитого профессор Даниэльс рассказал Вашему корреспонденту, что покойный сделал крупнейшее открытие эпохи: экспериментально доказал возможность телепортации — перемещения предметов в пространстве в распыленном на атомы состоянии. Телепортацию осуществляла «Черная Берта», однако все перфокарты с программой исчезли. Еще не выяснено, в каких отношениях состоял с гангстерами профессор. Имея ряд косвенных данных, полиция высказала предположение, что мафия финансировала его работы, однако сын убитого категорически отрицает это. В трагическом происшествии есть еще одна тайна. В момент гибели рядом с профессором находился лаборант Хари Риган. Доказано, что он вошел в лабораторию незадолго до проникновения туда убийц и обратно не выходил. Хари Риган бесследно исчез. Упорные поиски ни к чему не привели, но полиция продолжает расследование. Таким образом, открытие века надежно погребено в недрах «Черной Берты». В бумагах покойного профессора не обнаружено ни одной строчки, объясняющей суть атомной транспортировки. Кто вырвет тайну у машины? Терригари-младший, студент физического факультета, говорит: «Я!».— Черта с два! — пробормотал посетитель, раздраженно взглянув на часы, где стрелка перевалила за условленную цифру. В этот момент послышалось осторожное покашливание. Молодой человек поднял голову. На соседний стул, кряхтя, усаживался сморщенный старик. Его скрюченные пальцы мелко тряслись, а лысая голова с нелепой бороденкой дергалась, как на пружинке. — Имею честь приветствовать Бигля-младшего! — пропел он фальцетом. — Да ты стал совсем взрослым, Джонни! Молодой человек онемел от изумления. Ему пришлось несколько раз перевести растерянный взгляд с пустого кресла на своего неожиданного соседа, чтобы убедиться, что перед ним не кто иной, как библиотекарь. — Так это ты?… Здесь?! — запинаясь, выдавил он. — А телеграммы? Старик ухмыльнулся: — Это я, мой Джонни, это я! И почти все эти годы я провел здесь, у тебя под боком. Знал бы ты это, когда подсылал убийц… Хорошо хоть, что мало осталось тех, кто помнил меня в лицо. А телеграммы… Так ведь сервис для того и существует, чтобы можно было посылать телеграммы с любого конца планеты, не двигаясь с места. Сначала, правда, твой родитель заставил меня предостаточно поколесить по свету. Это уж потом я догадался, что где-где, а уж здесь-то меня искать никогда не будут. — Ну знаешь… Тут сам господь бог развел бы руками: Хари — и книги! Старик судорожно втянул голову в плечи и испуганно оглянулся. — Тс-с, мальчик! Конспирация, конспирация… Хотя старый Форрес и пьет сейчас на том свете виски вместе с твоим отцом, но у него осталась дочь, и, говорят, такая, что папу за пояс заткнет. Поэтому не произноси имена так громко, если не хочешь, чтобы все сорвалось! Бигль-младший уже вполне овладел собой. — Чепуха! Теперь не сорвется. Это только такой олух, как ты, мог дать себя распылить… Да и нынешний Терригари, говорят, в подметки не годится старому. А дочь Форреса… Кто ее видел в последние годы? Хари вытащил несвежий платок, вытер слезящиеся глазки. — Эх, молодость! И я двадцать лет назад считал себя суперменом. Мне всего-то было восемнадцать, а я уже кулаком мог переломить человеку шейные позвонки. Есть такой прием в каратэ. Старый Терригари и взял меня за силу и ясные глаза: думал, что с такими глазами человек не может быть жуликом. И еще за то, что я необразованный, не мог украсть его идеи и меня можно было допустить в святая святых. Да, тогда я был хорош, а теперь… — Теперь тебе на вид все сто! — рассмеялся Джонни. — Верно, сынок. А на самом-то деле всего тридцать восемь. Проклятая «Берта»! — Она-то при чем? — Так ведь она все натворила. Беда, когда машинам дают волю! Терригари и знать не знал, как это делается. Он просто сформулировал задачу, а «Берта» вернула перфокарту, потому что в условии не хватало одного компонента. Ты ведь знаешь эти машины: их просишь рассчитать, сколько времени нужно, чтобы добраться до любимого бара, где отпускают в кредит, а их разбирает любопытство, как ты будешь двигаться — ползком или на четвереньках. Так и «Берта» потребовала дополнительных данных. Ох и закрутился тогда Терригари! Представляешь: задача имеет решение, только не хватает какой-то малости. Чего он только не пробовал — и магнитные поля, и гравитацию… А потом совершенно случайно вставил вектор пространства-времени в произвольном значении. Если бы он хоть скоординировал его по нашему времени… И «Берта» заработала! Через сутки она выдала распылитель атомов и синтезатор. Помню, мы изумились, что там нет ни одного винтика, сплошной монолит. Я так понимаю: «Берта» не хотела, чтобы мы разобрались, что к чему, хотя профессор и уверял, что она не может хотеть или не хотеть. Просто она мыслит другими категориями. Для того чтобы все это срабатывало, требовалось только нажать курок на распылителе. Остальное делала «Берта»: переправляла атомы в синтезатор и давала программу, как их снова собрать. И как Терригари ни манипулировал формулами, «Берта» так и не раскрыла своей тайны. Недаром репортеры прозвали ее потом «Черной Бертой». Как сейчас помню первый опыт. Мы телепортировали кирпич, самый обыкновенный кирпич, который профессор подобрал на дороге. А что из него сотворила «Берта»! Да ты знаешь. Это та самая абстрактная скульптура, что стоит в приемной на подставке с табличкой «Порыв страсти». Посетители думают, что профессор приобрел ее на выставке за бешеные деньги. Вначале, значит, у «Берты» не все срабатывало. Но скоро она добилась полного совпадения формы. Хари говорил быстро, захлебываясь, его глаза беспокойно ощупывали лицо собеседника. Он будто ждал чего-то важного и одновременно боялся, что это важное вот-вот наступит. — Подумать только, от каких пустяков зависит иногда судьба человека! Не пойди я в тот вечер в бар, был бы и сейчас молодой. Если правду говорят, что бог на небесах определяет пути человека, то он был очень уж несправедлив ко мне, когда посадил за столик твоего отца, главы гангстерского синдиката, и допустил, чтобы я все разболтал ему после третьего стакана. А за соседним столиком сидел человек Форреса, который знал меня, как родную маму. Только я — то его не знал. Я хоть и был уже достаточно развращен, но уж никак не мог подумать, что Терригари ставит опыты на денежки Форреса. Профессор и мафия… Для меня это было слишком. И родитель твой, старый волк Бигль, этого не знал. Они ведь с Форресом были заклятые враги. Два могущественных синдиката — и ни один не хотел идти на слияние. Каждый надеялся уничтожить другого. Твой отец сразу смекнул, что на открытии Терригари можно здорово заработать. Представляешь: вместо того чтобы корежить сейф в банке, где тебя, того и гляди, застукают фараоны, распылил его и переправил в уютное местечко. И без хлопот, и улик нет. Да и не только сейф. Иногда так необходимо потолковать наедине с нужным человечком, а он упорно жмется поближе к полицейскому участку. Сначала-то я сопротивлялся, боялся вступить в «фирму». Сам знаешь, потом не выберешься. Но твой родитель умел «уговаривать». Недаром его прозвали волком… — Ладно, об этом мы еще поговорим, — перебил Джонни, взглянув на часы. Он достал из портфеля деревянный футляр, щелкнул замком. — Знакома эта штука? На черном матовом бархате лежало что-то похожее на старинный дуэльный пистолет — пластмассовая рукоятка и длинный никелированный ствол с большим раструбом. На сморщенном лбу Хари выступили мутные капельки пота. Утреннее солнце пустило по сверкающему никелю веселый зайчик. Он прыгнул, к рукоятке, потом блестящей змейкой скользнул на самый край раструба и вдруг метнулся обратно в окно, прямо в лицо высокой блондинке в розовом пуловере, неторопливо идущей по тротуару. Женщина вздрогнула, резко повернулась к окну, готовая и рассердиться и улыбнуться. Но улыбка застыла на ее лице, и тонкие брови медленно поползли вверх. Секунду она рассматривала увлеченных собеседников, потом отскочила от окна и кинулась к телефонной будке. Нужная монета никак не попадалась среди ключей, пудреницы, помады и прочего, чем всегда набиты дамские сумки. Женщина даже застонала от нетерпения. Наконец отыскав монету, нервно закрутила диск. Загораживая губы ладонью, она торопливо бросила в трубку: — Живо на улицу Магдалины, я нашла его! Очевидно, на том конце провода ее не поняли, потому что она раздраженно крикнула: — Да Ригана же! Я нашла Хари Ригана! …Хари, тяжело дыша, смотрел на распылитель. — Наконец-то! — хрипло выдохнул он, протягивая трясущиеся руки, Джонни невозмутимо защелкнул футляр: — Не считай меня идиотом. Ты ведь способен нажать курок. А я слишком долго искал его и… и тебя, чтобы сделать глупость напоследок. — Не бойся! — торопливо шептал Хари, извиваясь от нетерпения. — Не бойся! Прежде чем нажимать, надо вложить в «Берту» задание. Она ведь как человек… забывает. Ну дай, дай подержать! Бигль-младший неохотно протянул футляр и вдруг резко отдернул руку. — Сначала бумагу, — потребовал он. Хари, не сводя глаз с распылителя, вынул из внутреннего кармана пиджака завернутый в целлофан пожелтевший ветхий лист, на котором еле проступали колонки формул. — Да тут ничего не разберешь! — недовольно воскликнул Джонни. Старик молчал, самозабвенно поглаживая сверкающий ствол и даже прижимаясь к нему щекой. Собеседник раздраженно толкнул его в плечо. — А? — Хари поднял отсутствующий взгляд. — Ах, это! Ну, это уж, мальчик, смешно. В наше время можно прочесть даже то, что не было написано. Тебе ли не знать! Ведь ты принял после отца «фирму» и, говорят, ведешь дело с еще большим размахом. — Старый дурак, неужели ты не мог сохранить ее в лучшем виде? Тусклые глазки Хари наполнились слезами. — Не оскорбляй меня. Из-за этого листика разбита вся моя жизнь. Он ведь тоже постарел вместе со мной. Когда я очнулся, он был уже таким. — Придется снять копию. — Молодой гангстер полез в портфель. — Нет! — Хари выхватил бумагу. — Нет! Я и так рискую. Мы же договорились: миллион — и все в твоих руках. Не забудь: синтезатор спрятан в пещере, про которую знаю я один. Даже твой отец не смог вырвать у меня, где она. Две пули, три удара ножом, а тайна все-таки в моих руках. — Сам виноват! — сквозь зубы процедил Джонни. — Не надо было петлять от нас по всему миру, как перепуганный заяц… «Две пули три удара ножом!» — передразнил он. — А сколько наших ты отправил на тот свет пока не удалось договориться? Если бы не смерть отца… Ну, да черт с тобой! — Бигль-младший спрятал распылитель в портфель. — Делай свое дело. Он первым вышел из библиотеки и зашагал по тротуару, не обращая внимания на женщину, идущую по другой стороне улицы. И когда они столкнулись у дверей лаборатории, он дружески приветствовал ее. За Хари, двинувшимся через два часа в ту же сторону, незаметно следовал человек, левый борт пиджака которого слегка оттопыривался. Пиджак обязательно оттопыривается, если под мышкой вшита кобура двенадцатизарядного кольта.
Крестон и Маклин
— К черту! — Крестон швырнул корзину на пол. — Тринадцатая порция! Я объявляю забастовку! Он уселся на подоконник и принялся сосредоточенно массировать левой рукой онемевшую правую. Несмотря на столь решительное заявление, лицо его было унылым. Маклин осторожно поставил свою корзину рядом. — Не понимаю, чего ты раскипятился, — спокойно сказал он. — «Берта» перегружена… Крестон будто только и ждал этого возражения, чтобы снова взорваться. — А я не собираюсь ломать хребет за паршивые двадцать монет в неделю! — заорал он, в исступлении молотя кулаками по подоконнику. — «Перегружена, перегружена»! Она всегда перегружена. Маклин невозмутимо закурил. — Цыпленок! Подумаешь, перетрудился! Да ты и не нюхал настоящей работы. Это еще цветочки, а вот когда «Берта» решала ТУ задачу… — Можно подумать, что ты при сем присутствовал! — фыркнул Крестон. — Мне рассказывал старый Крисе, ты его не застал. Тогда такое творилось… Весь персонал сбился с ног. Сам Терригари ворочал, как грузчик. «Берта» требовала и требовала, и не только транзисторы, а и металл, и пластмассу, и кучу всяких вещей. И они швыряли и швыряли в ее чрево, не зная, что из этого выйдет. Вот это была работа! — Да мне-то что до этого! — снова заорал Крестон. — Чем больше работы, тем больше монет у Терригари, а мне так и так одна цена. Он соскочил с подоконника и с наслаждением пнул корзину. Блестящие горошинки транзисторов зашуршали по полу. — Ах, молодость, вечно она не рассчитывает силы! — хихикнул сзади дрожащий фальцет. Лаборанты, вздрогнув, обернулись. Где-то на уровне их груди покачивалось, дергаясь, сморщенное личико. Асимметричность его подчеркивалась нелепой, растущей вкривь бородкой. Старик ухмыльнулся, отчего бородку его повело совсем уж куда-то вбок, легко прошел, будто просочился между ними, отвратительно подмигнул сразу обоим и заковылял по коридору, с хрустом давя транзисторы. Лаборанты остолбенело глядели ему вслед. Они очнулись, когда старик уже исчез за углом. — Мерзкий мегатерий! — прошипел ему вслед Крестон. Маклин молча опустился на колени и начал горстями ссыпать в корзину транзисторы. Крестон подождал немного, потом неохотно присоединился к нему. Губы его брезгливо вздрагивали.Заказ принят
С лица Хари так и не сошла ухмылка. Он бойко ковылял вдоль коридора, дергаясь к каждой двери, будто хотел подслушать, а что же там делается. Его скрюченная фигура на светлом фоне стены казалась чем-то нереальным, противоестественным, будто кадр из фильма ужасов. Толстая ковровая дорожка заглушала его шаги. Одна из дверей была полуоткрыта, и Хари, привычно оглядевшись, бочком соскользнул с дорожки и будто приклеился к стене, пытаясь заглянуть в щелку. Никакой необходимости в этом не было, но старый бандит просто не мог совладать с собой. Внезапно дверь распахнулась, сильно толкнув его. — Что вам угодно? — холодно спросила высокая худощавая блондинка лет тридцати пяти. Она была красива той чуть грустной, начинающей отцветать красотой, про которую говорят: бабье лето. Ее серые, искусственно удлиненные глаза смотрели на Хари серьезно и испытующе. — Как пройти к вашему боссу, красавица? — прошамкал Хари, делая вид, что ничего не произошло. В глазах женщины мелькнула ирония. — Руководителя лаборатории называют не боссом, а профессором, — явно издеваясь, пояснила она. — Так вот, профессора Терригари сегодня нет и не будет. Хари мысленно послал ее к черту. Задержка намеченной операции хотя бы на один день представлялась ему катастрофой. — Но если у вас не личное дело, я вполне заменю его, — продолжала женщина. — Я намеревался сделать заказ на кое-какие вычисления, — угрюмо сказал Хари, поворачиваясь, чтобы уйти. Блондинка чарующе улыбнулась: — По такому пустяковому вопросу не стоит беспокоить профессора. Оформлением заказов занимаюсь я. — И она жестом пригласила войти в комнату. Хари облегченно вздохнул. Еще лучше, что профессора нет. Эта накрашенная красотка, во всяком случае, не разберется, для чего ему нужны вычисления. — Какая старая бумажка! Похоже, что вы лет двадцать таскали ее в кармане. — Блондинка достала большую, с блюдце, лупу. Хари вздрогнул, до того точно она определила срок. — Так и есть, некоторые цифры совершенно стерлись. Вот, например, этот интеграл по времени… — Она посмотрела бумажку на свет, поморщилась: — Нет, уважаемый, мы не можем принять такой заказ. Фирма дорожит своей репутацией. Мы работаем без ошибок. Такого поворота Хари никак не ожидал. Все поплыло у него перед глазами. — Почему бы вам не обратиться в другую, менее загруженную фирму? — холодно предложила женщина. Она явно принимала его за полусумасшедшего изобретателя вечного двигателя, по крайней мере Хари рассчитывал именно на такое впечатление. Но, кажется, переиграл. Однако убитый вид старика, очевидно, смягчил женщину. Пожав плечами, она снова взяла бумагу. — Мы обычно никому не отказываем в помощи, за соответствующую плату, разумеется, но ваш случай… Ну что здесь написано: «тридцать пять» или «пятьдесят три»? Хари склонился над лупой, ошарашенно моргая. — Пожалуй, «пятьдесят три». — Вы уверены? — Блондинка с сомнением покачала головой. — А если мы ошибемся? Ведь между этими двумя цифрами разрыв в семнадцать временных единиц, а с временем не стоит шутить, — она невольно вздохнула, — даже в абстрактной математике. Подождите, у нас есть установка с боковым светом. Она вышла и через десять минут, за которые Хари успел десять раз схватиться за сердце, вернулась. — По-моему, все-таки «тридцать пять». На этом и остановимся. Если временной фактор задан неправильно, пересчитаем. Но это обойдется вдвое дороже, а все убытки — за счет заказчика. — О господи, сколько угодно! — Хари торопливо достал бумажник. — Сдается мне, что там все-таки «пятьдесят три», но у вас-то глаза помоложе. А когда будет готово? Это был самый главный вопрос, и женщина ответила так, как Хари и рассчитывал: — Машина делает вычисления за секунды, но у вас сто восемьдесят пятая очередь. К тому же надо еще расшифровать и отпечатать на бланке. В общем, если доплатите за срочность, приходите завтра во второй половине дня. Хари затоптался возле нее, не в силах расстаться со своим сокровищем. Насколько он пять минут назад желал, чтобы у него взяли бумагу, настолько теперь страшился уйти без нее. Но блондинка уселась за перфоратор и непреклонно указала ему на дверь. Он двинулся обратно приплясывая. Но вряд ли у него было бы так легко на душе, знай он, что в обязанности перфоратистки вовсе не входит оформление заказов, а профессор Терригари находится сейчас в своем кабинете, за две комнаты отсюда.Хари назначает свидание
Крестон еще два раза объявлял забастовку, пока дотащил тринадцатую партию. Маклин пыхтел рядом и помалкивал. Добравшись до верхней площадки, Крестон рухнул на пол и облегченно закурил. К нему тотчас вернулось хорошее настроение. В блоке питания стояла нестерпимая жара от нагретых металлических стен, за которыми проходили теплоотводящие трубы. Даже каменный пол не принес Крестону облегчения. Отшвырнув окурок, он вытер мокрое лицо, подошел к обтянутому гуттаперчей люку в стене и двинул в него ногой: — «Берта», открывай пасть, жратву принесли. Люк с готовностью откинулся. — А теперь, — сказал Крестон, когда корзины были опустошены, — я снова ложусь на пол и буду долго и с удовольствием отдыхать. Маклин не мог не улыбнуться, глядя на него. Невозможно было сердиться на этого бесхитростного, непосредственного парня, лицо которого отражало все его мысли. Маклин прощал ему многое — и нежелание трудиться, и неровности характера, и не всегда тактичные намеки на отношения Маклина и перфоратистки Ли Керри. Молодость, что с нее взять! Вот и сейчас Крестон открыто, совершенно по-детски увиливал от работы. Напрасно осторожный Маклин указывал, что «Берта» голодна и, если она откажется работать, можно нарваться на скандал. Крестон только лениво отмахивался. Так прошло полчаса. Маклин начал злиться и уже подумывал, не запустить ли в приятеля пустой корзиной, когда поза Крестона чем-то поразила его. — Тьфу, черт! — расхохотался он. — А я — то ломаю голову… Ты лежишь точь-в-точь как покойный отец нашего шефа и на том же месте. Крестон взвился, будто его кольнули шилом: — Неужели это было здесь? — В том-то и дело. Крисе водил меня сюда и разыграл целое представление в лицах. Честное слово, в нем пропал неплохой актер. Так вот, сначала их было двое, и они носились за Терригари по всему зданию. Он все пытался прорваться в кабинет, чтобы вызвать по телефону полицию, но они загнали его сюда. А потом появился третий… Когда утром отыскали трупы, они были продырявлены, как дуршлаг. — Как дуршлаг… — машинально повторил Крестон и вдруг, подхватив корзину, ринулся вниз. Маклин едва поспевал за ним. Но, спрыгнув с последней ступеньки, Крестон выронил корзину и попятился. Навстречу ковылял тот же безобразный старик. Приятели отступили к стене, выставив корзины, как щиты. Хари осклабился: — Не откажите, молодые люди, в любезности сообщить имя очаровательной блондинки в розовом пуловере, что сидит в пятой комнате. — Ее зовут Ли Керри, — поспешно ответил Крестон. А Маклин, нахмурясь, спросил: — А зачтем это вам? Хари заговорщически подмигнул ему: — А разве я уже не могу пригласить женщину в приятное местечко, где можно замечательно провести время? Скажем, в «Голубую мечту» сегодня вечером, часиков эдак в восемь. Посмеиваясь, он двинулся дальше, а озадаченные приятели уставились друг на друга, потом пожали плечами и одновременно плюнули.В «Голубой мечте»
Улица привычно готовилась к вечерним развлечениям. Первыми вспыхнули рекламы лотерей. Искатели счастья атаковали электронные машины, выбрасывающие шестизначные числа. Машины учитывали психологию людей, люди старались угадать психологию машин. Угадавший загребал миллион. Иногда в газетах появлялись портреты счастливчиков, и новые сонмы страждущих спешили положить свои медяки у ног ненасытного Молоха удачи. Одна за другой, как яркие гнилушки, освещающие только самое себя, загорались вывески дансингов и кинотеатров, кабачков с танцами и ресторанов со стриптизом. С пролетающего самолета улица казалась сверкающей змеей, делающей стремительный рывок. Ли Керри выпрыгнула из вагона монорельсовой воздушки, и эскалатор, мягко шурша, опустил ее на мостовую. Маклин ждал на традиционном месте. — Салют! — крикнула Ли, поднимая руку, чтобы он разглядел ее в толпе. При неверном свете реклам она была необычайно хороша в коротком, сильно декольтированном платье нежно-голубого цвета. Светлые прямые волосы небрежно падали на спину и грудь, согласно последней моде. Маклин, высокий, подтянутый, с седеющими висками, походил на преуспевающего бизнесмена. «Неудачник! — подумала Ли, с внезапным раздражением окидывая взглядом его красивое лицо. — Окончить университет — и работать лаборантом! Беден, но честен. Тоже мне рыцарь Печального Образа!» Она с облегчением подумала, что эта затянувшаяся и совершенно бесперспективная связь сегодня наконец-то будет прекращена. — Знаешь что? Пойдем в «Голубую мечту», — неожиданно предложил Маклин. — Что это тебе захотелось в этот кабак? — удивилась Ли. — Так. — Маклин рассмеялся: — Сегодня у меня чуть было не появился соперник. Ли равнодушно пожала плечами. Против ожидания, в «Голубой мечте» было вполне прилично. Они прошли в малый, «семейный» зал. Эстраду занимал невиданный музыкальный гибрид — цыганский джаз, и тихие полузабытые мелодии создавали минорное настроение. Две красивые цыганки в мини-юбках заученно поводили плечами, обжигая публику сверкающим от белладонны взглядом. Вдоль стены стояли пальмы в нарочито старомодных горшках. Листья их блестели, будто начищенные. Официант ловко откупорил бутылку с тягучим янтарным ликером. …А полчаса спустя в большом зале «Голубой мечты» встретились молодой Бигль и Хари. — За удачу! — сказал Хари. — За удачу! — откликнулся Джонни. — Финиш! Наконец-то! Двадцать лет тянулась эта история. Я был совсем сопляком, когда впервые услышал о «Берте». И потом, пока рос, отец все время твердил, что эта тайна должна быть нашей. Это было как заклинание. Сколько денег мы ухлопали на поиски! Двенадцать трупов проложили дорогу к этому парню с распылителем. А уж как Форрес прятал его! Слава богу, все это позади. Завтра мы станем королями мира. — Он торжественно поднял бокал и чокнулся с Хари. …Чей-то взгляд упорно сверлил спину Ли. Наконец она неохотно обернулась. Толстяк за соседним столиком таращил бессмысленные глаза, в которых уже не было ничего человеческого. Ли смерила его презрительным взглядом и отвернулась, судорожными глотками прогоняя внезапную тошноту. — Вышвырнуть его? — предложил Маклин. — Оставь, с такими не связываются. — Она нервно закурила. — Какое животное! — А ведь когда-то, наверное, был кудрявым херувимчиком, чистым, как безоблачное небо, — задумчиво сказал Маклин. — Думали ли папа с мамой… — Все мы были когда-то как небо, — неожиданно горько засмеялась Ли. Не переводя дыхания она вытянула содержимое пятого бокала, и в ее прищуренных глазах появилась сентиментальность. — Вспоминаю свой первый бал. Мне стукнуло семнадцать, но я еще не задумывалась, почему это нас не приглашают в некоторые дома, хотя мы были богаче всех в городе. И вот я позвала друзей, подружек, и мы всю ночь танцевали, бегали по саду, целовались украдкой… Это было как раз семнадцать лет назад. Когда проступила заря, я вдруг поняла, что детство кончилось, но ничуть не испугалась. Я ощутила себя такой… такой… чистой, что ли. Никакая грязь, казалось, не могла прилипнуть ко мне. Никакая… Она торопливо схватила бокал, залпом выпила, В углах ее густо накрашенных губ наметились горькие складки. Раньше этих складок не было. Впрочем, Маклин и сейчас их не видел. — Семнадцать лет, странное совпадение! — усмехнулся он. — Семнадцать лет назад я окончил университет и с новеньким дипломом в кармане шел по дорожке. Да что там шел — летел! Такая белая мягкая дорожка из речного песка. Она кончалась у красивых металлических ворот, а за ними — твердое гудронированное шоссе. Закрыл ворота — и куда хочешь. И, шагая по этой дорожке, я был непробиваемо уверен, что удача зажата у меня в кулаке… Теперь я частенько сомневаюсь, а была ли она, та дорожка? Он, не глядя, протянул руку, и его пальцы безошибочно обхватили резную стеклянную поверхность бокала. А в соседнем зале шел свой разговор: — Уж и не помню, кому пришла в голову эта идея — телепортировать бутылку с вином. Наверное, профессору, он мастер был на всякие выдумки. Синтезатор в тот раз стоял у него на квартире; мы переносили аппарат с места на место, чтобы проверить, как влияет на телепортацию расстояние, а также всякие экраны — железные, свинцовые, магнитные и какие-то там еще. В конце концов оказалось, что «Берте» все нипочем — и расстояние и экраны. Профессор просто молился на нее за такую мощь, как какой-нибудь язычник на своего деревянного идола. И надо сказать, «Берта» достойна преклонения: достаточно посмотреть, как ловко она синтезирует всякие предметы. Ты еще увидишь это. Сначала из раструба синтезатора появляется легкое голубое сияние. Только оно не растекается вокруг, а дрожит на одном месте. Потом оно начинает густеть, темнеть, становится угольно-черным, и у тебя почему-то делается нехорошо на душе. Профессор пытался объяснить, каким образом это сияние влияет на психику, но, по-моему, он и сам этого не понимал, а уж я и подавно. Под конец ослепительно вспыхивает молния, и ты невольно зажмуриваешься, а когда открываешь глаза, у раструба уже лежит посылка. И хотя на этом сеанс кончается, ты ходишь целый день с таким чувством, будто прикоснулся к чему-то недозволенному. Как если бы подобрался к замочной скважине ада, полюбовался на поджариваемых грешников и благополучно вернулся на землю. Нельзя людям наблюдать зрелища богов. Поэтому после второго или третьего раза мы предпочитали быть подальше от синтезатора, когда он работает. Хари передохнул и отпил глоток. — Так вот насчет бутылки. Мы распылили ее в лаборатории, а потом вскочили в машину и помчались на квартиру профессора. Я первый обратил внимание, что этикетка на бутылке как-то пожелтела, будто выгорела, и надпись на ней почти не видна. Профессор сказал, что, вероятно, с атомами что-то случилось в пути, что это явление он безусловно расследует, а пока надо поскорее «закончить» опыт. Он частенько прикладывался к рюмке в последнее время. Денежки-то надо было отрабатывать, а Форрес не любил долго ждать. Ну, и я тоже был не дурак хлебнуть. Что это было за вино! — Хари восторженно закатил глаза. — Оно постарело. Понимаешь? Профессор сидел как пришибленный и только облизывался. А потом вскочил и начал трясти меня за плечи, и глаза у него были такие, что я крепко перетрусил. «Хари! — орал он. — Хари! Да понимаешь ли ты… понимаешь… Это же бессмертие!» И он с ходу объяснил, что, очевидно, старение организма или там любого вещества вызывается тем, что атомы меняют расположение друг относительно друга по заданной программе. В организме эта программа записана в генах, но можно управлять атомами и извне. Дело в том, что каждому отрезку времени соответствует определенное пространственное поле, в котором атомы располагаются в единственной, неповторимой комбинации, и что «Берта» именно такое поле и создает. А следовательно, можно ее заставить дать такие параметры поля, чтобы атомы скомбинировались так, как они лежали, положим, двадцать лет назад или как будут лежать двадцать лет спустя. Если ты, скажем, умираешь от рака, достаточно тебя телепортировать с минус упреждением и ты снова молод. Тогда-то он и выдвинул идею создания фирмы «Молодость», которая должна была сделать его самым богатым бизнесменом на земле. Признаться, мне это не очень понравилось. Сейчас-то я смотрю на это дело по-другому, а тогда подумал, что в таком случае твой родитель вечно будет руководить фирмой и нет никакой надежды выдвинуться. И я подумал: хорошо, что профессор сегодня умрет, иначе он такое натворит… — Так вы уже тогда решили его убрать? — вскричал Джонни. — Все равно он был обречен. Вздумай он опубликовать свое открытие, и его живо укокошили бы наследники какого-нибудь миллионера. А нам надо было спешить. Мы чувствовали что-то неладное: все наши действия натыкались на какое-то непонятное сопротивление. Это парни Форреса наступали нам на пятки. Они ведь знали, что мы охотимся за изобретением. И в этом было их преимущество, потому что мы и не подозревали, что они все знают. Если бы Бигль-старший хоть что-нибудь заподозрил, разве бы так все обернулось? — И что же было дальше? Хари залпом опорожнил бокал. — Из окна гостиной я видел наших ребят на тротуаре. Они должны были взять синтезатор, благо семья профессора отдыхала на побережье, а прислуга была отпущена. Поэтому я стал уговаривать профессора поехать в лабораторию и переправить еще несколько бутылок. Но радость открытия так воодушевила его, что он внезапно понял, как надо сформулировать задачу, чтобы «Берта» раскрыла секрет. — Какой секрет? — Ну, суть всего этого процесса. И заодно он приказал ей передвинуть временную функцию. В первый-то раз он задал произвольный вектор пространства-времени, а теперь подсчитал, на сколько лет нужно передвинуться, чтобы временной масштаб был один к одному, и с этой бумагой послал меня в лабораторию, чтобы перфоратистка, не теряя времени, закодировала задание. А сам полетел к какому-то ученому кроту поделиться радостью. Этот-то тип и разболтал потом все репортерам. — Это та самая бумага? — Ну да. Черта с два я ее отдал. Для нас не имело значения, старые или новые будут деньги. Но недаром я столько лет отирался подле науки. Если профессор ошибся и спьяну слишком передвинул время, мы вообще могли получить шиш. — Как так? — Очень просто. Представь, что атомы помолодели на семнадцать лет. А деньги только что выпущены. Где были эти атомы семнадцать лет назад? В лесу, в виде елки, из которой делается бумага. Ну, так ты и получишь еловые шишки. Понял? — Не совсем, — признался Джонни. — Три тысячи чертей! Чему же тебя учили? Ну хорошо. Предположим, ты распылил сотрудника конкурирующей фирмы, знающего кое-какие секреты. Твои ребята караулят у синтезатора, молодчик материализовался, и вот он в твоих руках. Но вся беда в том, что атомы его тела, а разумеется, и мозга расположились так, как лежали семнадцать лет назад. — Ну и что? — Да то, что он ничего не помнит. То есть помнит только то, что было с ним семнадцать лет назад. А тебе ведь нужна сегодняшняя информация. — Информация бывает не только словесная: бумаги… — Ничего ты не получишь. Молодчик предстанет голеньким, без единой нитки на теле, как новорожденный. Ведь одежда да и содержание карманов отнюдь не семнадцатилетней давности. Поэтому надо телепортировать с масштабом времени один к одному или, на худой конец, как меня: со старением. Тогда, по крайней мере, и память и вещи остаются. Понял наконец? Бигль усмехнулся: — Я-то давно понял, хотел только убедиться, понимаешь ли ты. Но вот что мне неясно: с какой это стати ты так цепляешься за цифру «семнадцать»? Что-то тут нечисто. Ну-ка, выкладывай! Он сдвинул брови, и глаза его сверкнули таким огоньком, что старый гангстер поежился. — Ты напрасно не доверяешь мне. Хари Риган человек слова. А все дело в этой розовой крале, которая стучит на перфораторе. За двадцать-то лет я эту бумажку вызубрил вдоль и поперек. Даже кое-что понял в ней… Нет, нет! — испуганно воскликнул он, увидев, как изменилось лицо собеседника. — Секрета я, конечно, не открыл, но в общем принципе разобрался. И я знаю, хоть голову мне отруби, знаю, что там стояло «пятьдесят три», а не «тридцать пять», как втемяшилось этой дуре. Но разве мог я с ней спорить? Вот меня и гложет, что программа, которую выдаст «Берта», будет сдвинута по времени на семнадцать лет… — Ах, вот что! Ну, это пустяки. Так что же было с вами дальше? — А дальше все пошло вверх ногами. Синтезатор наши ребята взяли чисто, и мы перевезли его в горы. Поскольку «Берте» было все равно, куда пересылать атомы, то твой отец приказал спрятать синтезатор в пещере, в которой намеревался, как он выразился, сделать «приемный пункт». Но я всегда был малый не промах и на всякий случай выбрал не ту пещеру, на которую указал босс. Потом мы вернулись в город, и я первый пошел в лабораторию, чтобы взять распылитель. Я-то думал, что профессор в своем кабинете ждет, пока «Берта» выдаст решение по заданию, которое она не получила, и ввалился в операторскую. Надо же было свалять такого дурака! Этот книжный червяк оказался за дверью с распылителем в руке, а «Берта» работала. — И он сразу распылил тебя? — Куда там! Ему и в голову не пришло ничего такого. Он мне знаешь как верил… Даже хотел в колледж послать за свой счет, находил у меня живой ум и четкое мышление. Оп всех считал хорошими, и это после стольких лет общения с гангстерами! Нет, тут я сам сплоховал. Мне бы сделать вид, что забыл бумажник, а я, как последний идиот, выхватил пистолет и заорал: «Руки вверх, сукин сын!» Видел бы ты, какое глупейшее удивление появилось на его лице! От этого удивления он и спустил курок. И тут мне показалось, что все заколыхалось вокруг, побледнело, сделалось прозрачным. И последним ощущением было, что я в чем-то растворяюсь… — Ух ты! — сказал Джонни, прикладываясь к бокалу. — Так я и очнулся в пещере возле синтезатора — в истлевшей одежде и с ржавым пистолетом. Постаревший черт знает на сколько лет из-за того, что в первой программе был неверно задан вектор пространства-времени. Но то, что хорошо для вина, человеку никак не подходит. Ведь мысли и желания у меня остались те же, восемнадцатилетние. И как только я это понял, я бросился в город. — Зачем? — К профессору. Бумага-то осталась в моем кармане. Я бы умолил профессора снова сделать меня молодым. Достаточно было ведь перетелепортировать меня с минус упреждением. Но… пока я добрался, все было кончено. Профессора убрали наши ребята, их в свою очередь шлепнул человек Форреса, а распылитель исчез. Но это ничего. — Хари оживился. — Теперь все в наших руках. Когда мы будем набиты золотом до горла, тебе ведь захочется быть вечно молодым. Скажем, двадцатипятилетним. Отличный возраст! Я бы первый пошел, чтобы ты видел, как это безопасно. А, Джонни? Ты ведь смог бы рассчитать время, раз «Берта» раскроет секрет. Не зря же папа дал тебе образование. — Ну что ж, старина, об этом стоит подумать… тем более что ты многое забудешь, — усмехнулся Бигль. … Ли внезапно вздрогнула и посмотрела на часы: — Мне пора, милый. — Разве ты не ко мне? — Сегодня не могу. У меня еще куча дел. Ли не лгала. В ее кармане лежал билет на самолет, а вещи ждали в камере хранения аэропорта. Профессор Терригари удивится, не найдя завтра своей перфоратистки. А впрочем, вряд ли он удивится этому, потому что завтра не найдет многого. — …Пора! — отрывисто сказал Хари. — Твой отец всегда говорил: лучше взять сегодня, чем ждать, что, может быть, дадут завтра. — Пожалуй, — лениво согласился Джонни.Конец «Черной Берты»
Маклин расплатился и вышел на улицу. Идти домой ему не хотелось. Лицезреть лишний раз квартирную хозяйку не бог весть какое удовольствие. Он неторопливо брел по тротуарам, рассеянно натыкаясь на прохожих. Потом ему показалось, что на той стороне голубеет знакомое платье. Он прищурился. Так и есть, это Ли. Странно! Ее дом совсем в другой стороне. А это что? В ста шагах от Ли шел сегодняшний мерзкий старик, а с ним… Маклин протер глаза. С ним Крестон. И они беседуют, как старые знакомые. Маклина охватило глухое беспокойство. Почему все трое идут в одном направлении? Случайность или… Ли свернула в боковую улицу. Крестон и старик тоже. Что за невероятное совпадение! Мысли заплясали в голове Маклина, потом осталась одна, самая сумасшедшая: вдруг они идут в лабораторию? Но что им делать там ночью? Ли вытащила ключ. Маклин невольно отметил странность: в руках сумка, а ключ достала из кармана жакета. Да и откуда у нее этот ключ? Ли заперла за собой дверь — чисто женская привычка. Пройдет ли Крестон мимо? Нет, он тоже достал ключ, но дверь оставил открытой. Маклин перебежал улицу, едва не попав под автомобиль. Лицо его стало мрачным. Не нужно быть детективом, чтобы понять, что здесь затевается преступление. Но Ли, его Ли… она шла первой. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы взять себя в руки, Маклин решительно перешагнул порог. …Ли, задыхаясь, бежала по коридору. Темнота действовала ей на нервы. Теперь, когда мечта всей жизни — тайна «Черной Берты» — в ее руках, на нее вдруг напал необъяснимый, почти суеверный ужас, и приходилось напрягать всю волю, чтобы его побороть. Вот и операторская. Опустив штору и включив свет, она метнулась к пульту. Рывком распахнула сумку. В ней бомба — узкий тяжелый сверток, обернутый газетой. Нащупав под оберткой тумблер, Ли переключила его и судорожно, как ядовитую змею, швырнула сумку на пульт. Теперь в ее распоряжении пять минут, пока боек врежется в капсуль… Может, зря она поторопилась, следовало бы включить тумблер перед уходом? Но уже поздно, часы в бомбе пущены, и их не остановишь. Да и нечего тревожиться: вся операция тщательно выверена, многократно прорепетирована и осечки быть не может… Катушки с пленкой… Ли быстро выдергивает одну за другой из печатающего устройства. Вот та, за которой она охотилась: технология атомной телепортации. Теперь любая машина типа «Берты» сможет изготовить аппаратуру и координировать процесс. Сунув катушку в карман, она бросилась к дверям… и почти столкнулась с Крестоном. В его руке поблескивал распылитель. Ли отпрянула к пульту. Прижалась к нему спиной и ощутила легкое дрожание — «Берта» работала. — Что вы здесь делаете, крошка? Крестон был изумлен, и это дало Ли необходимое мгновение форы. Ее рука молнией скользнула в карман. — Руки, мальчик! Ну! Крестон не шевельнулся. Его лицо заострилось, отяжелело, и он совсем перестал походить на веселого мальчишку-лаборанта. Теперь маска была не нужна. Перед Ли стоял грозный противник. — Впрочем, мы еще не знакомы, — насмешливо протянула Ли, поигрывая изящной дамской «Береттой». — Мне-то известно, что ты сын волка Бигля, но вряд ли ты останешься таким невозмутимым, когда узнаешь, что имеешь дело с дочерью тигра Форреса. Она торжествующе улыбнулась, наслаждаясь его безвыходным положением. — Вот так, дорогой коллега! Дело отцов перешло к детям. Мы оба стали во главе синдикатов после смерти родителей, оба охотились за тайной «Черной Берты» и поэтому оба очутились здесь под чужими именами, ты — в качестве лаборанта, я — как перфоратистка. Не правда ли, пикантная ситуация: руководители могущественных организаций старательно разыгрывают роли мелких служащих, потому что не находят вокруг себя ни одного достаточно верного человека, кому можно было бы доверить это дело. Но если ты ни о чем не подозревал, то я знаю о тебе все! — Бигль дернулся, и тупой ствол «Беретты» угрожающе глянул в его глаза. — Каждый твой шаг был мне известен, все телеграммы от Хари были сначала прочитаны мной. И хотя в последние дни вы договаривались по телефону, снимая номера в разных отелях, я сумела засечь вас в библиотеке… Игра проиграна, мальчик! За спиной Джонни Ли не видела второго гангстера. Хари подобрался, от его старческой расслабленности не осталось и следа. Он вытащил что-то из кармана, и длинное узкое лезвие с сухим шорохом проползло между его пальцами. Затем рывком отшвырнул Джонни и взмахнул рукой. Но дочь Форреса оказалась достойной отца. Выстрел остановил руку наполувзмахе. В тот же миг Бигль вскинул распылитель. Пистолет закувыркался в воздухе, полетел через его голову, а Ли… исчезла. Бигль протер глаза, сделал несколько шагов. Ворсинки ковра медленно распрямлялись на том месте, где только что стояла женщина. Голубоватая струйка завихрилась тонким столбом и тихо растворилась в воздухе. Джонни замер от ужаса, перекрестился. И тут обостренная интуиция предупредила об опасности: он не слышал стука упавшего пистолета. Гангстер обернулся и зарычал. Пистолет глядел в его грудь, а над ним он видел неумолимое лицо Маклина. — Подлец! — бросил, будто выплюнул, Маклин. Они спустили курки одновременно. …Когда Джонни открыл глаза, Маклина не было. В операторской стояла тишина, от которой звенело в ушах. А может, это звенело от потери крови. Гангстер перевернулся на живот и, скрипя зубами, встал на колени. Мертвое лицо Хари с разинутым в жуткой усмешке ртом, казалось, звало его. «Ну и черт с ним! — подумал Джонни. — Теперь я один знаю тайну…» Мысли ворочались с трудом, задевая друг друга. Вытащив платок, он пытался остановить кровь, но она продолжала мерно сочиться сквозь пальцы. «Вот и конец!» — подумал он, стараясь не смотреть на Хари. И вдруг пожалел, что обрадовался его смерти. Уже несколько секунд сквозь звон в уши протискивалось какое-то шипение. Раненый с трудом повернул голову. Звук шел от непонятного предмета на пульте. Бигль напряг зрение и узнал дамскую сумку. Внезапно сумка подпрыгнула и исчезла. Бигль не удивился. Он с любопытством смотрел на ослепительный шар, возникший на ее месте. Мгновение шар висел неподвижно, затем с чудовищной скоростью двинулся на Джонни, разрастаясь до невероятных размеров. Рванул взрыв, и в душной темноте посыпались нарастающей лавиной обломки. Это рушилась «Черная Берта». Но Джонни уже ничего не видел.Жизнь начинается сначала
Вынырнувшее из-за горизонта солнце разорвало сиреневую дымку над невысокой горой. Вот лучи запутались в чахлом кустарнике на вершине, и тотчас зашумели листья и разбуженные пичуги захлопотали по своим делам. А лучи опускались все ниже, и там, где они касались земли, пробуждалась жизнь. В небольшой пещере у странного аппарата с широким раструбом лежали юноша и девушка. Их сон или обморок был глубоким. Какой-то любопытный луч, прошелестев по кустам, скользнул в отверстие… Они открыли глаза одновременно. Над ними навис растрескавшийся гранитный свод, от жесткого ложа тянуло холодом. Их отрешенные взгляды долго блуждали по пещере, пока не встретились. Девушка опомнилась первой. Взвизгнув, она заметалась вдоль стен, тщетно ища, чем бы прикрыться. — Да отвернитесь же наконец, как вам не стыдно! — закричала она. Тут только юноша обрел способность соображать. Он торопливо перевернулся ничком, вдавив лицо в каменный пол. В дальнем углу валялись какие-то полуистлевшие тряпки. Поспешно закутавшись, девушка бросила остальные юноше и выбежала наружу. Он нашел ее на склоне, скрытую кустами. — Не подходите! — закричала она. Он покорно опустился на землю. — Кто-нибудь может объяснить, что это за идиотские шутки? Девушка всхлипнула. — Это все противная Салли Бейкер, это она подстроила. Злится, что Бобби бегает за мной, а на нее ноль внимания. Вот и сегодня ночью она все пальцы изгрызла со злости. — Но я — то тут при чем? — жалобно протянул он. — Ах, откуда я знаю! И что я скажу маме? Обещала быть благоразумной, и нате вам! Хорошо же кончился мой первый бал! И всего-то одну рюмку выпила… Представляю, как мама волнуется! А эта Салли… Она, конечно, разнесет по всему городу. Где тут телефон? Я должна немедленно позвонить маме. — Телефон? — В глазах юноши сверкнула насмешка. — Если в том дупле не отыщете, можете больше не пытаться. Он подергал окутывающие его тряпки, будто никак не мог поверить в реальность происходящего. Внезапная мысль заставила его побледнеть. — Позвольте, но мой диплом! — закричал он, вскакивая. — Какой диплом? — Об окончании университета. Вчера получил. Он лежал здесь, в левом кармане. И кармана нет. Тьфу, черт! Раз костюма нет, то кармана и подавно. И костюм-то был новенький, пятнадцать монет выложил. Ну, попадись мне этот шутник! — Господи! Ну что вы со всякими глупостями! Куда он денется, ваш диплом? Вот мне-то что делать? Юноша пожал плечами и перекинул тряпку через плечо жестом древнего патриция. — Можно так вопрошать до светопреставления. Надо идти в город, там разберемся. — В таком виде?! Ни за что! Да и в какой он стороне, город? — Не знаю. В какой-нибудь. Пойдемте, найдем тропинку. Она осторожно подошла поближе. Ее серые глаза смотрели с тревожным любопытством. — Это ужасно — то, что с нами случилось. Я ничего не понимаю, какой-то туман в голове. Но я верю вам, потому что больше ничего не остается. Если вы скажете — идти, я пойду. Солнце освещало ее — худенькую, босоногую, с распущенными светлыми волосами. В своих тряпках она казалась сошедшей с библейских страниц — не то кающаяся грешница, не то ангел. Юноша глядел на нее, и лицо его менялось. Шагнул вперед и, несмотря на протестующий жест, забрал ее маленькие ладошки в свои. — Хотя у меня тоже туман в голове и я тоже ничего не понимаю, но как знать, может, это и не так уж плохо — то, что с нами случилось? Она покраснела и потупилась. — Куда же мы пойдем? Он беспечно махнул рукой. — Бродяги говорят: не знаешь дороги, иди к солнцу. И они пошли навстречу солнцу, держась за руки. Они перелезали через валуны, продирались сквозь кустарники, скользили по крутым склонам, но не разнимали рук — два человека, которым впервые на земле выпала неслыханная удача начать жизнь сначала. И они шли навстречу новой жизни, навстречу новым радостям, и горестям, и ошибкам.АЛЬБЕРТ ВАЛЕНТИНОВ ЭКЗАМЕН Фантастический рассказ
— Врешь ты все, врушка! — дрожащим голосом сказала Ирка и на всякий случай шмыгнула носом, приведя себя в состояние «боевой готовности»: теперь она могла зареветь в любую нужную минуту. — А вот и не вру! — отпарировал Рой и показал язык. — Конец твоей няньке, и все! Спроси кого хочешь. — Не нянька, а Нянь, — всхлипнула Ирка. — Это он, а не она. Рой презрительно сунул руки в карманы. — «Нянь»! Такого и слова-то нет. Эх ты, даже не знаешь, что робот — это не он и не она, а туда же лезешь спорить! Ирке было шесть лет, и пока никто не делал ей замечаний, что с грамматикой она обращается несколько вольно. Да и мама называет робота Нянем. Очевидно, поэтому упрек показался ей страшно обидным, и она наконец-то заревела. — Рева-корова! Рева-корова! — Рой запрыгал вокруг нее на одной ноге. Осенью он должен был идти в первый класс и поэтому от всей души презирал плакс. Не переставая реветь, Ирка схватила горсть песку и — хлоп! — залепила ему глаза. Теперь ревели оба. Ирка громче — от страха за содеянное. Унимать скандал прибежали мамы и роботы. Хотя роботы были ближе, мамы прибежали быстрее. — Какая ты нехорошая, Ира! — сказала мама Роя, энергично нагибая сына над широким сосудом с водой, принесенным догадливым роботом. — Ваш тоже не лучше: вечно дразнит девочку! — отпарировала Иркина мама. — Да и мытье пойдет ему на пользу. Мама Роя в сердцах ткнула сына головой в воду так, что он пустил пузыри, и потащила его прочь, громогласно излагая свои взгляды на «влияние улицы». Таким образом, чисто женская команда вышла победительницей. — А чего он врет, что Нянь пойдет в переплавку! — захныкала Ирка, предупреждая родительский гнев. Теперь они сидели на скамеечке из разноцветного пластика, укрытые от посторонних взглядов тяжелой стеной сирени. — Что за выражение! — возмутилась мама. — Нельзя говорить «врет», это нехорошее слово. — А если он врет… — упрямо тянула Ирка. — А если не врет? — строго сказала мама, и Ирка испуганно замолчала. — Если Нянь не сдаст экзамен, его действительно отправят в переплав. Ирка угрожающе засопела. — Не реви. Так полагается. Роботы должны все время совершенствоваться. А Нянь очень старый. Когда я была такой, как ты, он уже жил у нас. Тогда он полностью соответствовал, а сейчас… — Мама пожала плечами и туманно добавила: — Требования были другими. У него ограниченное количество ячеек, и они давным-давно заполнены. Ирка снова заревела. Уж очень это было страшно. — У тебя будет другая нянька, гораздо лучше. — Не хочу другую, не хочу! — ревела Ирка. — Хватит! — Мама повысила голос, и Ирка тут же замолчала. Когда у мамы такой голос, лучше ей не перечить. — Нянь железный, грубый и знает только старинные сказки. А у тебя будет киберорганическая нянька, нежная, ласковая, как у Тани. Вон она. Видишь, какая симпатичная! Сквозь просвет в сирени мама показала на изящную молодую женщину, сидевшую на скамеечке с двумя такими же миловидными подругами. Все трое увлеченно орудовали карманными синтезаторами, создавая красивую детскую одежду, и оживленно переговаривались. — Да-а, она с Танькой и не играет вовсе, только кричит на нее! Вон Танька на дерево влезла, а она и не видит… — Ну, как бы то ни было, если Няня забракуют, у тебя будет такая, — сказала мама, поднимаясь. — Мы и сами не хотели бы менять Няня, раз уж ты к нему привыкла, но что поделаешь… — Мама поправила Иркин бантик и поцеловала ее. — Мне пора на работу, а ты беги и играй. Только смотри не валяйся в песке. У скамейки с роботами мама остановилась, что-то строго сказала, и белокурая нянька, отложив синтезатор, неохотно пошла снимать Таньку с дерева. Дети играли в войну с такриотами. Это была любимая Иркина игра. Она никому не уступала роли отважного Предводителя цивилизаторов, пробивающегося со своим отрядом сквозь ядовитые туманы планеты Такрии. Особенно ей нравилось, когда в схватке с плюющимися пиявками Предводитель падает, красиво раскинув руки и успев крикнуть: «Вперед, ребята!» Нравилось потому, что в этот момент наступала почтительная тишина и в толпу цивилизаторов врывался перепуганный Нянь. Его мощные руки поднимали Предводителя, отряхивали от песка и под конец награждали ласковым железным шлепком. Но сегодня Предводитель остался цел и невредим. Цивилизаторы только что с большими потерями пробрались через кишащее электрическими змеями болото, отбили нападение страшных гарпий и укрылись под огромной скалой, на которой засели коварные такриоты. И в этот момент Предводитель заявил, что он больше не играет. Осиротевшие цивилизаторы покрыли позором дезертира, а Ирка медленно побрела по дорожке, машинально обрывая сирень. Сейчас Няня, ее доброго старого Няня, злые экзаменаторы, как злые такриоты, тащат к огромной, содрогающейся от бушующего пламени печи, кровожадно разинувшей огромный зев. Ирке не пришлось еще бывать па экзаменах, но представляла она их именно так. В болотах Такрпи новый Предводитель громко ободрял цивилизаторов, половина которых уже была поражена ядовитой слюной пиявок. Ирка узнала визгливый голос Роя. По сердцу резанула обида, что Предводителем выбрали именно его. — Да-а, понарошке-то каждый может, а ты вот взаправду попробуй! — вслух произнесла она, ревниво отмечая, что ее недруг совсем неплохо командует. Дорожка оборвалась. Здесь был выход на улицу — два пластиковых столбика, а между ними пустота. До сих пор эта пустота была для Ирки тверже каменной стены: выходить одной с детской площадки ей категорически запрещалось. Но как должен поступить храбрый предводитель, если гибнет друг?… И какой друг!.. Прямо напротив, у края тротуара, стояла колонка для вызова машин. Ирка тысячу раз видела, как это делают взрослые. И, набрав побольше воздуха, она бросилась вперед и обеими руками надавила кнопку. На колонке зажглась лампочка — заказ принят. В Иркином характере была черта, уже теперь беспокоившая ее родителей, решившись на что-нибудь, она не оглядывалась назад. Так и сейчас: она бестрепетно скользнула в открытую дверь серой «черепахи», опустившейся у колонки. Робот-водитель не позволил себе ни малейшего сомнения насчет возраста пассажира. — Отвезите меня, пожалуйста, туда, где роботы сдают экзамены, — попросила Ирка, низко нагибаясь к микрофону, словно не была уверена, что водитель увидит ее через стеклянную перегородку. «Черепаха» дернулась и застыла. Водитель с интересом обернулся. Его рубиновые зрачки горели ярче обычного. — Простите, вы человек или робот? — неуверенно спросил он. — Я человек, — с достоинством сказала Ирка. — И пожалуйста, поторопитесь. Я очень, очень, очень спешу. «Черепаха» летела по улицам, разрывая воздух. На ее крыше мигала красная лампа — сигнал бедствия, и все машины поспешно уступали дорогу. Именно так воспринял водитель слова «очень, очень, очень спешу». Промелькнули и унеслись разноцветные жилые районы, прошелестел лесной барьер, отделяющий жилую часть города от административной, и вот уже прямо по ходу вырастала и надвигалась на Ирку стодвадцатиэтажная громада Учебного комбината роботов. Тяжелые двери медленно разошлись. Девочка робко вступила в вестибюль, выдержанный в серых, спокойных тонах. Он был громаден и пуст. Серо-белые плитки пола, крупные у Иркиных ног, чем дальше, тем делались меньше и далеко-далеко, у лестницы, казались не больше почтовых марок. Ирке нужно было подняться по этой лестнице, но как же страшно перебежать огромный пустой зал, где каждый шаг отдается в вышине, как зловещий гром! В нескольких шагах от нее светилась стеклянная будочка-справочная. Но там сидел робот, а Ирка, как и все дети, побаивалась незнакомых роботов. Поэтому она не стала ничего спрашивать, а одернула юбчонку и единым духом взлетела на второй этаж. Здесь она остановилась — отдышаться и сориентироваться. Несмотря на то что одна стена коридора была сплошным стеклом, здесь было полутемно: взволнованные роботы заслоняли свет. Шла ежегодная переаттестация. Роботы шатались по коридору группами и в одиночку, задевая друг друга плечами. Звон стоял, как на рыцарском турнире. Иные застыли у окон темными статуями, другие, задрав голову к потолку, что-то гудели себе под нос, точь-в-точь студенты во время сессии. И у всех зрачки горели с перекалом. Здесь царил могучий инстинкт самосохранения, заложенный в роботов в те далекие времена, когда их было мало, а стоили они дорого, и теперь превратившийся в нечто большее, чем просто инстинкт. Внезапно все насторожились. Наступила тишина, и роботы стали потихоньку отступать к стенам. Ирка с беспокойством завертелась, не понимая, почему с такой поспешностью освобождается середина коридора. Она не видела ничего страшного в маленькой тележке-кресле на трех колесиках, быстро приближавшейся к ней, но на всякий случай тоже освободила дорогу. Тележка лихо развернулась перед одним из классов, двери распахнулись и снова закрылись за ней. Через несколько минут она вновь показалась. Теперь в кресле сидел робот. В его фигуре не было уже ничего живого. Тележка медленно поехала обратно, и роботы молча провожали ее взглядами, отдавая последний привет приговоренному. Они не жалели его: серийные роботы не знают жалости. Если ты не соответствуешь, тебе одна дорога… Но ведь рано или поздно каждый очутится на его месте. Будь Ирка постарше, она поняла бы, что происходит. Она знала бы, что производство роботов достигло такой стадии, когда модернизация устаревших моделей стала просто экономически нецелесообразной: дешевле изготовить новый механизм. И вот страшное кресло отвозило не выдержавшего экзамен в печь. Но Ирка, к счастью, ничего этого не знала и спокойно пробе-, жала мимо. Она неслась вдоль коридора, заглядывая во все классы. В одних экзаменующиеся, с беспокойством поглядывая на секундомер, рассчитывали орбиты звездолетов, учитывая влияние всех небесных тел. В других они с помощью биотоков управляли работой громадных синтезаторов, из рупоров которых густо тек черный дым, материализуясь во всевозможные, подчас весьма заманчивые вещи. Ирка ахнула, когда по полу со звоном запрыгал маленький велосипед на антигравитаторах — ее мечта. Ирка поднялась на третий этаж, потом на четвертый. Она видела удивительные вещи. На ее глазах глухая стена медленно растаяла, и в золотистом мерцании, крутясь и разбрызгивая, искры, в класс вплыла незнакомая планета. Маленькая, как глобус, но настолько четкая, что можно было разглядеть и горы, и реки, и даже города. Открыв еще одни двери, Ирка замерла от ужаса. В расплывающемся цилиндре кроваво-красного цвета, дрожащем между двух магнитов, не касаясь пола, стояло удивительное существо. У него было три руки и три ноги, зато головы вовсе не было. В верхней части груди сверкали три круглых глаза, расположенных треугольником, а между ними страшно щелкал огромный хищный клюв. Чудовище метнуло свирепый взгляд, и Ирка, завизжав, опрометью бросилась наутек. Очнулась она уже в вестибюле. Двери медленно разошлись, выпуская ее на улицу. Она уже вступила в светлую полоску на тротуаре… и медленно убрала ногу. Предводитель так бы не поступил. Ирка вздохнула и подошла к справочной будке: — Скажите, пожалуйста, где сдают экзамены домашние роботы? — По какой специальности? — равнодушно спросила завитая и наманикюренная женщина-киборг, взбивая кудряшки перед ручным зеркальцем. Ирка тоже машинально поправила бант. — Он нянька, — сказала она и уточнила: — Моя нянька. — Назовите индекс. К счастью, Ирка помнила индекс: — ХТЩ-384-ОПР-585. Почти немедленно последовал ответ: — Седьмой этаж, семьсот сорок вторая комната. Ваш робот приступил к сдаче экзамена три минуты двадцать восемь секунд назад. Ирке понадобилось полторы минуты, чтобы добраться до класса. Будь на ее месте взрослый, он бы основательно подумал, прежде чем толкнуть дверь с табло «Идут экзамены». И не потому, что это было бы, скажем, опасно для жизни, если бы экзаменующийся работал, например, с полями высокой частоты. В этом случае дверь не открылась бы. Просто войти — значит отвлечь внимание работающих, нарушить нормальный ход экзамена, то есть совершить вопиющую бестактность. И нельзя сказать, чтобы Ирка этого не знала. Отлично знала и даже на мгновение замешкалась. Но тут же упрямо тряхнула бантом и в два прыжка очутилась возле своего Няня. Ему было плохо, это она поняла сразу. Мощная фигура робота как-то съежилась, обмякла, по телу катились капли горячего масла. Ирка крепко обхватила его ногу и на всякий случай заплакала, инстинктивно понимая, что слезы — ее самое сильное оружие. Члены экзаменационной комиссии растерянно вскочили со своих мест. Их было трое — людей, а не роботов, — и пели они себя чисто по-людски: бестолково спрашивали друг друга, что все это значит, вместо того чтобы прямо обратиться к виновнице переполоха. Наконец кто-то догадался подать стакан с водой. Ирка капризно оттолкнула его. — Вы злые! — выкрикнула она, размазывая по щекам слезы. — Не отдам вам моего Няня, не отдам! Экзаменаторы невольно улыбнулись, но тут же сделали серьезные лица. — Простите, но, не затрагивая вопроса о правомерности вашего пребывания здесь, — строго сказал председатель комиссии, — позвольте заметить, что ваш робот не знает даже таких элементарных курсов, как «Теория дифференцированной микротрансформации применительно к сказкам» и «Теория качественного перехода интонаций в колыбельных песнях». — Подумаешь! — сказала Ирка с великолепным презрением. — Я и сама их не знаю. Председатель развел руками и рухнул в кресло, взглядом взывая о помощи. Но кто мог ему помочь? Заметив, что противник в замешательстве, Ирка перешла в наступление. — Я без Няня не уйду! Или вместе домой, или вместе на переплавку. Она содрогнулась, представив страшную печь, и зарыдала навзрыд, горько и безнадежно. Этого Нянь не смог вынести. Инстинкт детской няньки сработал безошибочно и точно. Железный колосс, способный вырвать с корнем дерево, бережно поднял девочку на руки и стал напевать колыбельную. Голос у него был грубый, хриплый, но Ирка перестала плакать и успокоилась. Члены комиссии нервно совещались в углу. — Эта привязанность к роботу прямо-таки удивительна… — Да, да, тем более в наше время, когда каждый стремится получить новую модель. Честное слово, я даже растрогался… — Но позвольте, он же не знает теории. — Да, но практика, практика… А потом, коллеги, простите за крамольные мысли, зачем няньке теория? Нет, нет, я не отрицаю, конечно, но все-таки согласитесь: для того чтобы вытирать ребенку нос… — Ну, это вы, извиняюсь, преувеличиваете… Теория, конечно, необходима. Вопрос лишь в том, имеем ли мы право травмировать детскую психику… Нянь пел и качал девочку. Ему уже было все равно, что решат эти взъерошенные, взволнованные существа. Комиссия вернулась за свой стол, и председатель значительно кашлянул. — Послушайте, робот… — сказал он почему-то шепотом и растерянно развел руками. — Комиссия, так сказать, сочла возможным… …На улице Ирка рассмеялась, — Бежим скорее, а то еще раздумают! Она мигом вскарабкалась к Няню на шею и лихо пришпорила его пятками. А члены комиссии в это время по очереди расписывались в акте. — В конце концов, мы сегодня последний раз… С завтрашнего дня принимают роботы, — хмуро сказал один. — Да, девчонке здорово повезло, — отозвался второй. — Приди она завтра… Председатель промолчал, собирая документы.СОДЕРЖАНИЕ: ВЛАДИМИР КАЗАКОВ. Загадочный пеленг. Приключенческая повесть… 3. ВЛАДИМИР МАЛОВ. Я — шерристянин. Фантастическая повесть… 63. В. ПАШИНИН. У берегов студеного Баренца. Повесть… 120. НИКОЛАЙ ТОМАН. Робот «Чарли» грабит банк. Фантастическая повесть… 156. И. СКОРИН. Обычная командировка. Приключенческая повесть… 201. КИРИЛЛ БУЛЫЧЕВ. Умение кидать мяч. Фантастическая повесть 294. Б. СОПЕЛЬНЯК. Закон леса. Рассказ… 332. ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ. Стена. Фантастическая повесть… 344. АНАТОЛИЙ СТАСЬ. Зеленая западня. Отрывок из фантастической повести. Перевод с украинского И. Копюшенко… 382. ЕВГЕНИЙ ГУЛЯКОВСКИЙ. Легенда о серебряном человеке. Фантастический рассказ… 107. АЛЬБЕРТ ВАЛЕНТИНОВ. «Черная Берта». Фантастическая повесть… 413. АЛЬБЕРТ ВАЛЕНТИНОВ. Экзамен. Фантастический рассказ… 440.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1973 ГОД, ВЫПУСК 2




Художник В.Сальников

Болдырев В. В ТИСКАХ Приключенческая повесть
В издательстве “Детская литература” выходила повесть В.Болдырева “Гибель Синего орла”. Дальний Север в годы Великой Отечественной войны. В поисках новых пастбищ молодые специалисты и пастухи Нижне-Колымского совхоза с оленьими стадами пробиваются сквозь дебри Омолонской тайги. Они открывают в горной тайге “пастбищное Эльдорадо” и основывают новый оленеводческий совхоз. Чукотский юноша Пинэтаун находит в Синем хребте свою невесту, анаульскую девушку Нангу. Вадим — руководитель похода — встречает на Омолоне дочь польских революционеров Марию. Они полюбили друг друга, по жизнь разлучила их: Мария с родителями уезжает в Польшу и Вадим теряет ее след… В романтической повести “Геутваль”, над которой сейчас работает В.Болдырев, рассказывается о дальнейшей судьбе знакомых читателю героев. “В тисках” — первая часть этой книги.
ГЕУТВАЛЬ
Морозная мгла застилала глубокую белую долину. Воспаленными глазами я искал внизу желанное стойбище, но увы: ничто не оживляло нетронутой белизны. Над холодной, пустой долиной возносились снежные громады. Нестерпимой стужей веяло с мертвых, обледенелых вершин. Неужели в этой замерзшей стране нет жизни и схватка с северной пустыней проиграна? Вчера я раздал собакам последние порции корма. Только что проскочил узкую трубу Голубого перевала. В пятидесятиградусный мороз нелегко было пролезть с голодными псами сквозь эту обмерзшую щель. Не стихая, дул дьявольский ветер, сбивая с ног собак, обжигая лицо, пронзая меха точно шилом. Кухлянку и капюшон заковало ледяной коркой, ресницы смерзлись, я окоченел и потерял надежду выбраться из ледяной ловушки. Лишь на спуске к Анадырю пришел в себя. Собаки, спасаясь от смертельного холода, прорвались сквозь ущелье и неслись сломя голову вниз по белому желобу. Мы перевалили главный водораздел и очутились в самом сердце Анадырского края, там, где начинаются истоки Анадыря. Нарта скользила все быстрее и быстрее, проваливаясь в туманную пропасть. Неожиданно впереди на снегу зазмеились голубоватые борозды. Они спускались по склону на дно перевальной ложбины и уходили куда-то вниз, в снежную муть распадка. Лыжный след?! Я забыл о морозе и ветре. Неужели цель дальнего похода близка и след приведет к людям — в неведомые долины? Двадцать лет назад сюда ушли с оленями последние крупные оленеводы Чукотки. Что сталось с беглецами? Удастся ли раздобыть у них оленей для Великого кольца совхозов? Почуяв человека, собаки ринулись по лыжне, повизгивая от возбуждения. След оставили широкие охотничьи лыжи. Слишком поздно я заметил грозящую опасность. Освирепевшие псы могли настигнуть охотника, идущего впереди, и растерзать его… Стальное лезвие остола,[211] вонзаясь в наст, взметало облако снежной пыли. Однако нарта, разогнавшись с перевала, продолжала скользить с прежней скоростью, и затормозить ее на крутом спуске было невозможно. Я увидел внизу черную точку, двигавшуюся по дну узкой белой ложбины. Человек! Собаки, заметив путника, навалились с хриплым воем на постромки. Изголодавшиеся псы точно взбесились. Что тут было делать? На снегу отчетливо чернела прямая фигурка лыжника. Он спускался, не замечая надвигающейся опасности. Я заорал что есть мочи, но крик потонул в густом морозном воздухе. Человек скользил на лыжах, не оборачиваясь. На темном меху кухлянки поблескивала винтовка, белел убитый песец, перекинутый через плечо. Вздыбив шерсть на загривках, оскалив волчьи клыки, захлебываясь от сдавленного воя, собаки настигали охотника. Ничто не могло их остановить. Я различал уже опушку меховой кухлянки, хвостики крашеного меха на рукавах, узорчатые торбаса. Меня чем-то поразила тонкая, гибкая фигура охотника. И вдруг человек в мехах обернулся, круто затормозил, желая, видимо, убраться с дороги. Но спастись в тесной ложбине было негде. Быстрым движением он сорвал винчестер, откинул малахай… Черные косы упали на плечи, обвивая смуглое лицо с огромными темными глазами. Девчонка?! Она замерла, пораженная внезапным видением, готовая дать отпор разъяренной упряжке. Смутно помню, что случилось потом. Гаркнув команду передовику, я вцепился в дугу и опрокинул тяжелую нарту. Все смешалось в дикий клубок. Перевертываясь на крутом спуске комом, нарта врезалась в кучу воющих собак, постромки перепутались. Кувырком мы скатывались по снежному склону. Сознание отлетело, я не чувствовал толчков и ударов. Казалось, что качусь с большой мягкой горы и разглядываю себя откуда-то издали, с непомерной высоты. Очнулся на снегу около перевернутой нарты. Где-то рядом скулили собаки. Кружилась голова, сопки плыли каруселью. Не хотелось шевелиться. Сквозь розовую пелену я видел чьи-то черные глаза, полные участия и тревоги. Пелена пропала, сопки остановились. Из тумана выплыло девичье лицо, золотистое от полярного загара. Приподнявшись на локтях, я молчаливо разглядывал охотницу. Это была совсем еще юная чукчанки. Опустившись на колени, стискивая крепкими смуглыми пальцами потертый меховой капор, юная дикарка с острым любопытством рассматривала неожиданного гостя. На снегу у широких лыж, подбитых камусами, лежал пушистый песец с простреленным глазом. Только меткий стрелок мог сразить в глаз пугливого зверя. У чукчей женщины не охотятся. Откуда принесло охотницу в эту дикую долину? Весь я был в снегу, потерял шапку. Уши и лицо стыли на крепком морозе. Перевернув на полном ходу нарту, удалось сбить собак, и девушка осталась невредимой. — Как тебя зовут? — спросил я. В глазах незнакомки мелькнули и погасли искорки. Не отвечая, она с любопытством смотрела на меня своими темными удлиненными глазами. После разлуки с Марией я терпеть не мог девиц. Но что-то в этой девчонке привлекало. Может быть, прямой, ясный взгляд внимательных глаз, смотревших с искренним участием, или губы, словно вырезанные острым резцом, придававшие ее лицу выражение скрытой энергии. — Кто ты? — повторил я по-чукотски. — Геутваль… — едва слышно ответила она. Облокотившись на нарту, стал растирать снегом онемевшие щеки и уши. Слабость уходила, возвращались силы. Руки и ноги были целы, спуск кувырком окончился благополучно. — На, возьми… — прошептала Геутваль, протягивая свой малахай. Понимал я ее с трудом — она говорила на каком-то незнакомом чукотском наречии. Быстрым движением девушка накинула меховой капор на мою взъерошенную голову, подхватила винчестер и, махнув рукавичкой, побежала вверх по склону. Ее маленькие торбаса с опушкой из меха росомахи ловко ступали по развороченному насту. На мгновение девушка обернулась, на лице ее мелькнула улыбка: она отправилась искать потерянную шапку. Ну и вспахали мы наст! Словно плуг прошелся вниз по ложбине. Опираясь на сани, я встал. Ноги едва держали, руки не слушались. Напрягая последние силы, разом перевернул нарту и принялся распутывать постромки — освобождать сбившихся в клубок собак. Наконец я распутал упряжь. Ездовики успокоились и легли, повизгивая зализывали ссадины и ушибы. Скрип снега насторожил псов, они заворчали. Сверху сбегала Геутваль в моей оленьей шапке. Ее глаза блестели, лицо раскраснелось, волосы и мех пыжика искрились инеем. Чем-то близким и родным повеяло от нее. Вот такой снегурочкой, закутанной в побелевшие меха, впервые предстала передо мной Мария на далеком Омолоне. Давно уехала она в Польшу, не писала и не отвечала на письма — видно, забыла. Только в романах описывают настоящую любовь, а в жизни все получается по-иному: женское сердце непостоянно, любовь женщины мимолетна и оставляет после себя лишь горечь… Геутваль я встретил сумрачно. Молча мы обменялись шапками. Я положил ее лыжи и песца на сани, хорошенько притянул арканом и кивнул, приглашая садиться. Собаки рванули и понесли вниз. Нарту подбрасывало на застругах,[212] позади вихрем кружилась снежная пыль. Геутваль крепко уцепилась за мой пояс. Сквозь мех я почти ощущал тепло ее рук, и мне это было приятно. Я старался подавить непрошеное чувство. Быстрее и быстрее катились мы вниз. Обледенелые вершины поднимались выше и выше к белесому зимнему небу. Наконец собаки выбежали на дно широкой белой долины. Нарта с крошечными фигурками людей, вероятно, казалась здесь песчинкой, затерявшейся среди снежных великанов. До сих пор во сне я вижу эту замерзшую, голую и печальную долину. Со всех сторон нас плотно обступали обледенелые сопки. Ни кустика, ни деревца на утрамбованном ветрами снежном панцире. Лишь горбятся повсюду ребристые заструги. — Где твое стойбище? — спросил я притихшую спутницу. — Недолго ехать надо… — Голос ее почти терялся в хрустальном, замороженном воздухе. — Кто живет там? По-чукотски я говорил плоховато и старался подбирать самые простые слова. — Отец, мать, Тынетэгин, Ранавнаут еще… две яранги стоят… — Охотники вы? — Пастухи мы… Оленей Тальвавтына пасем. — Тальвавтына?! Я затормозил нарту и обернулся. Неужто нашел, что искал? Передо мной ютилась на санях пастушка Тальвавтына. Когда-то он согнул в бараний рог всю Чаунскую тундру. А в тридцатом году удрал со своими стадами в глубь Анадырских гор и не появлялся больше на побережье. Лишь смутные слухи ходили по тундре о многочисленных табунах его, бродивших где-то у истоков Анадыря. Собираясь в поход, я рассчитывал встретиться с ним в неприступных горах и купить у него оленей для новых совхозов Дальнего строительства. За Голубым перевалом, в двух переходах отсюда, пробирались по следу моей упряжки Костя и Илья. Они вели длинный караваи оленьих нарт, груженных тюками обменных товаров: пестрым ситцем, бархатом, бисером, табаком, чаем, свинцом, порохом и разным скарбом для оленеводов. Вез Костя на своей нарте и кожаный мешок, набитый деньгами, которые я получил два месяца назад разом, наличными, по чеку Дальнего строительства в Певеке. На силу денег мы особенно не надеялись и прихватили поэтому целую передвижную факторию. Ведь в глубине Анадырских гор, на последнем острове прошлого, деньги, вероятно, не имели цены… Я спросил пастушку, далеко ли яранга Тальвавтына. Но она не ответила, мотнув лишь головкой. Уж после я узнал, что Геутваль впервые видела русского человека и не решилась указать место, где жил некоронованный король Анадырских гор. Нарта катилась по твердому скользкому насту, подпрыгивая на застругах. Нетерпеливо я оглядывал пустую, безлюдную долину. Куда запропастилось стойбище? Далеко же ушла Геутваль охотиться — ну и смелая девчонка! Собаки заводили черными носами — почуяли, видно, жилье. И вдруг вдали, у подножия высокой двуглавой сопки, замаячили дымки. Двумя синеватыми столбиками они поднимались в морозном сумраке. Короткий зимний день окончился, небо потемнело, зажигались звезды. Долина погружалась в загадочный полумрак. Натягивая потяг,[213] собаки ринулись к близкому стойбищу. С волнением ждал я встречи с людьми, бежавшими от натиска времени. Как живут они тут, сохраняя законы старой тундры, оторванные от всего мира?! Появление незнакомой упряжки встревожило стойбище. Из ближней яранги выскочили люди, закутанные в меха. Запах чужого стойбища подгонял упряжку. Ощетинившись, собаки защелкали волчьими клыками. Пришлось затормозить нарту и поставить на прикол, не доезжая стойбища. Геутваль соскользнула на снег и побежала к яранге. Взбеленившиеся псы, натягивая потяг, рвались за ней. Я успокаивал их тумаками. Наконец одичавшая свора угомонилась и легла. Девушка, взмахивая малахаем, горячо говорила что-то людям у яранги, указывая па сопки, откуда мы спустились. Не раз за долгий путь к Голубому перевалу мне представлялась первая встреча с отшельниками Анадырских гор. Мог ли я вообразить, что так просто все получится и нашей дружбе с кочевниками поможет маленькая охотница?! Встретил меня коренастый старик в заплатанной кухлянке. Красноватое скуластое лицо бороздили глубокие морщины, воспаленные веки щурились, лучики морщин расходились от глаз. Едва слышно он произнес чукотское приветствие: — Етти — пришел ты? — И-и… да… — ответил я. — Здравствуй, старина. Старик поспешно пожал протянутую руку шершавыми, узловатыми пальцами. Было что-то приниженное в сгорбленной фигуре, робкое и заискивающее в еще живом взгляде. Вытащив трубку и кисет, я протянул ему табак. Пастух торопливо извлек костяную трубочку и дрожащими пальцами, не уронив ни пылинки, набил запальник. Звякнуло огниво, блеснули искорки — задымила трубка. Старик затянулся, зажмурился. — Ой… долго не курил, один мох остался… — прошептал он на странном чукотском наречии. Это был отец Геутваль. Звали его Гырюлькай. Видно, Тальвавтын не баловал своих пастухов. Рядом, опершись па длинноствольную бердану, стоял крепкий, широкоплечий юноша. Глубокий вырез кухлянки обнажал смуглую шею, выпуклую грудь. Старенькие меховые штаны и короткие чукотские плеки[214] ловко облегали длинные, как у лося, ноги. Молодой чукча был очень похож на Геутваль. — Здравствуй, Тынетэгин… Юноша с недоумением поглядывал на протянутую руку. Видно, ему впервые приходилось так здороваться. Но вот он решительно худощавой ладонью тронул кончики моих пальцев. Геутваль, с интересом наблюдавшая всю сцену, откинула истертый рэтэм,[215] приглашая в ярангу. Держалась она свободно и независимо. Зимняя чукотская яранга — довольно странное сооружение. Круглый шатер из оленьих шкур натянут на шесты. Внутри подвешивается полог — небольшая меховая комната без окон и дверей. В яранге на деревянных клюшках висит закопченный котел — здесь варят пищу. Дым свободно поднимается к дымовому отверстию, где скрещиваются потемневшие от копоти шесты. Вся жизнь семьи зимой проходит в пологе. Поманив рукой, Геутваль исчезла под шкурами. Отряхнув снег с камусов, сбросив кухлянку, я приподнял чаургин[216] и очутился в тепле жилья впервые за многие недели странствования по снежной пустыне. Это было чертовски приятно! Язычок пламени теплился в плошке старинного чукотского светильника. Вместо фитиля горел высушенный мох, пропитанный жиром. Полог устилали зимние оленьи шкуры, стены и потолок были сшиты из таких же мохнатых шкур. У низенького столика на корточках сидела старушка в стареньком керкере[217] и расставляла потрескавшиеся фарфоровые чашки с отбитыми ручками. Черные с проседью волосы старушка собрала в узел. Доброе морщинистое лицо сохраняло следы прежней красоты, и в его чертах угадывалось сходство с Геутваль. Вероятно, это была мать девушки. Охотница тихо рассказывала о нашей встрече, и старушка любопытно поглядывала на бородатого гостя (у меня за время странствования отросла великолепная борода). — Садись… — кивнула Геутваль на пеструю оленью шкуру — почетное место, у задней портьеры полога. Девушка распоряжалась как маленькая хозяйка стойбища; наверное, ее любили и баловали в семье. Я спросил Геутваль, как зовут ее мать. — Эйгели… — отвечала она. Эго прозвище рассмешило меня. “Эйгели” означало по-русски “ветер переменный”, что явно не соответствовало, по крайней мере теперь, скромному виду старушки. В полог вошла молодая чукчанка, тоже в керкере, с болезненным, бледным, но миловидным лицом, жена Тынетэгина — Ранавнаут. Она дичилась, почти не поднимала глаз и молчаливо помогала Эйгели расставлять посуду. Так я познакомился со всеми обитателями стойбища, сыгравшими столь важную роль в последующих событиях… Явились Гырюлькай и Тынетэгин. Они успели накормить собак и принесли кусок оленины и мороженую рыбину. Оба кряхтели, словно втаскивали в полог целую оленью тушу. Так полагалось встречать гостей. Вероятно, это был последний продовольственный запас семьи, терпевшей острую нужду. Эйгели вытащила из самодельного ящичка единственное блюдечко и посеревший кусочек сахара, невесть сколько времени хранившийся для редкого гостя. Ранавнаут подала в полог кипящий медный чайник. Старушка достала из своего ящичка тощий замшевый мешочек и вытряхнула на морщинистую ладонь последние крошки чая… Я выбрался из полога и вышел из яранги. Спустилась дивная лунная ночь. Снежная долина, облитая призрачным сиянием, переливалась блестками, алмазной пылью искрились яранги. Синеватые тени сопок улеглись на блистающий снег. Распеленав нарту, я достал рюкзак с продовольствием (здесь было чем угостить анадырских робинзонов). Вернувшись в полог, уставил столик банками компотов и варенья, сгущенного молока и какао, насыпал груду печенья и галет, раскрыл пачки сахара и плитку чая лучшей, тысячной, марки. Молчаливо разглядывали обитатели далекого стойбища невиданную роскошь. Ножом я раскрыл консервы. Тынетэгин настрогал мороженой рыбы. Рыба слегка протухла, и потому всем нравилась. Ранавнаут принесла блюдо дымящейся вареной оленины. Геутваль устроилась рядом со мной на пестрой шкуре. Впечатлительная, с огненным воображением, она довольно свободно разбирала мой чукотский жаргон и взяла на себя роль переводчицы. Невольно я сравнивал юную чукчанку с Нангой — искал в ней тихости, скромности, робости, замешательства. Но дикая охотница не походила на робкую невесту Пинэтауна. Она кипела энергией, живостью и была остра па язычок. В пологе стало жарко. Женщины откинули комбинезоны, мужчины стянули кукашки и остались полунагие. Этот чукотский обычай ушел в прошлое в современных приморских селениях, где чукчи живут в домах. Здесь же, на стойбище, затерянном в неприступных горах, иначе и не поступишь. Ведь у пастухов Тальвавтына не было ни рубашек, ни платьев; меховая одежда надевалась, как у предков, на голое тело. Пришлось стянуть свою лыжную куртку и остаться в сорочке, потемневшей от копоти. Было ли это приличнее первозданной наготы — не знаю. Я старался не смотреть на смуглую фигурку Геутваль, точно вылитую из бронзы Майолем. Никто не замечал моего смущения. Завязалась оживленная беседа. Выбирая простейшие обороты чукотской речи, я рассказывал о новых поселках на побережье Чукотки, где чукчи живут в домах с электрическим светом, молодые люди учатся; те, кто честно трудится, покупает на факториях вот такие же продукты, а стада оленей принадлежат не одному человеку, а всем. Гырюлькай слушал печально, опустив голову; Геутваль и Тынетэгин — жадно, с загоревшимися глазами. Я спросил старика, почему так бедно они живут, хоть и пасут огромные оленьи табуны Тальвавтына? Все притихли, долго молчал старик и наконец ответил: — Маленькие люди мы… нет у нас оленей, большой человек Тальвавтын — не сосчитаешь у него табуны. Много ему должны — до смерти не отдать! — Сгинь, сгинь он совсем! — выпалила Геутваль, сверкнув глазами. — Тальвавтын злой, богатый, хитрый, как лисица… — Девку, — кивнул Гырюлькай на дочь, — Тальвавтын четвертом женой хочет брать, в, се равно силой — ничего нам не дает, чаю, табака, мяса. Три дня назад говорил: не пойдет охотой — помощники, как дикую сырицу,[218] арканами свяжут, возьмут вместо долгов к нему в ярангу. — Убивать их буду… — тихо сказал Тынетэгин. Юноша нахмурился, сжал ствол берданки. Он не расставался с винтовкой даже в пологе. Невольно вспомнилась давняя встреча в Сванетии. Эта маленькаястрана в центре высокогорного Кавказа не соединялась еще дорогой с Черноморским побережьем, и мне довелось побывать там с первой своей экспедицией. У сванов сохранялась кровная родовая месть. На турбазе, в палатке походной парикмахерской, мы встретили молодого свана в круглой сванской шапочке, с винтовкой на ремне. Так он и брил бороды туристам — не расставаясь с винтовкой, каждую минуту опасаясь мести кровника. Тынетэгин напомнил мне этого свана. Вдруг яранга вздрогнула и зашаталась, полог зашевелился. Кто-то дергал, хлестал ярангу ремнями и хрипло кричал по-чукотски: — Эй вы, находящиеся в пологе, вылезайте! Эй вы, находящиеся в пологе… Геутваль побледнела и замерла. Испуганно притихли женщины. Гырюлькай сидел неподвижно, подавленно опустив голову. Тынетэгин, щелкнув затвором берданки, метнулся из полога. Подхватив лыжную куртку, я выкатился за ним. — Подожди, Тынетэгин! Набросив куртку, я шагнул наружу. Тынетэгин стал рядом, плечо к плечу, с винтовкой наперевес. Против входа в ярангу стояли, с винчестерами в руках, двое чукчей в мехах. Дула винтовок холодно поблескивали полированной сталью. — Убирайтесь, шелудивые росомахи… — зло прохрипел юноша. Появление из яранги бородатого незнакомца привело в замешательство нарушителей спокойствия. Это были крепкие парни с угрюмыми лицами. — Какомей![219] — воскликнул один. — Таньг![220] — глухо откликнулся другой. Окончательно привели их в смятение ездовые псы. Проснувшись от суматохи, они выбрались из сугроба, как привидения, и, обнажив клыки, вздыбив загривки, ринулись к пришельцам. Только опрокинувшаяся нарта удержала их. Двое с винчестерами пустились наутек, точно быстроногие олени, перепрыгивая заструги. Нам достались два аркана, накинутые на шесты яранги. — Борода твоя пугала… — засмеялся Тынетэгин. На скулах юноши блестели проступившие капельки пота. Из яранги выглянула, тревожно озираясь, Геутваль. Юноша рассказал, что случилось. Девушка порывисто приникла ко мне щекой, мокрой от слез. Ей было чуждо притворство, она не лгала и не фальшивила, просто в ее натуре было что-то драматическое, и выразить свои чувства иначе она не могла. Я осторожно погладил ее блестящие черные волосы. — Не плачь, дикая важенка, не будешь ты четвертой женой Тальвавтына. Мороз загнал нас в полог. Стоит ли говорить о радости, охватившей этих простых людей. Даже Гырюлькай поднял голову и сказал, что весьма возможно, нападавшие будут бежать так долго, что упустят нечто стоящее в этой яранге. Геутваль выпрямилась, словно стебелек после бури. Плутовка опять откинула свой керкер, и в полог снова явилась юная Ева, смутившая меня совершенно. Девушка усердно подкладывала в мою плошку лучшие кусочки оленины и наконец поднесла половину оленьего сердца, другую положила на свою тарелку. — Спасибо, Геутваль… Неожиданно она поднялась на колени, своими смуглыми пальцами коснулась моей бороды, провела по усам и тихо засмеялась. — Сядь, сядь, бесстыдная… — добродушно прикрикнул на дочь Гырюлькай. Эйгели и Ранавнаут смешливо поглядывали на свою любимицу. Гырюлькай спросил, что привело меня в далекие горы, к Тальвавтыну. Мой ответ удивил старика; он покачал вихрастой головой: — Мэй, мэй, мэй![221] Как думаешь менять живых оленей? Тальвавтын только убитых оленей дает, живых не меняет… Хочет один самый большой табун держать. — Ого! Ловкач сохранил в сердце Анадырских гор все старые порядки. В свое время крупные оленеводы на Дальнем Севере избегали продавать живых оленей, ревниво оберегая свою монополию на живое богатство тундры. Бесконечно трудно будет поладить с Тальвавтыном! Долго еще пили чай. Тынетэгин и Геутваль расспрашивали и расспрашивали о неведомом, манящем мире за перевалами. Гырюлькай так и не понял, для чего мне понадобились олени. Снова и снова я растолковывал старикану, что такое совхозы и для чего нужны олени у золотых приисков, где люди с машинами копают золото. Старым пастух никак не мог взять в толк, чьи же будут олеин. Ужни окончился. Женщины убрали посуду. Тынетэгин и Ранавнаут ушли спать в свою ярангу. Эйгели развернула заячье одеяло во весь полог. Геутваль рассказала, что заячьи шкурки для одеяла она добыла сама на охоте. Старики улеглись у светильника. Геутваль выскользнула из керкера и юркнула под одеяло. Светильник погас, и полог утонул в кромешной тьме. Под заячьим одеялом было тепло. Образ смуглой охотницы трогал в душе давно позабытые струны. Неужели Геутваль вытеснит милый образ Марии? Я гнал прочь эту мысль. Ведь я любил Марию, хоть она и не отвечала на письма: забыла, видно, свою клятву. Не помню, как заснул; не знаю, сколько времени спал. Проснулся внезапно, в полной тьме, от странного ощущения: что-то теплое, мягкое, нежное покоилось на откинутой руке. Я лежал не шевелясь. “Что же это такое, где я?!” Осторожно протянул свободную руку. На моей ладони, прижавшись теплой щечкой, крепко спала Геутваль.КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
Прежде чем продолжить рассказ о Геутваль и злоключениях, постигших нас в Анадырских горах, вернемся на два месяца назад — в столицу Золотого края… Сплю, что ли, и вижу удивительный сон? Вместо заснеженной Омолонской тайги — стены в лакированных панелях, натертый паркет, прикрытый пушистым ковром, высокие окна с шелковыми гардинами, дубовый письменный стол, затянутый зеленым сукном, с табуном телефонов на зеркальном стекле. За столом, в квадратном кожаном кресле, седой генерал, плотный, коренастый, краснолицый, в кителе с колодками орденов, с широкими генеральскими погонами, шитыми золотом… Несколько часов назад летчик выхватил меня из дебрей снежной Омолонской тайги в чем был: в замшевой куртке, меховых торбасах, с охотничьим ножом в расписных ножнах. В своих омолонских пущах я одичал. Не знаю, куда девать руки, слова запропастились куда-то, забыл и поздороваться. Генерал усмехнулся, вышел из-за стола, протянул руку. Я сдавил генеральскую ладонь. — Ну, ну. Кожаный чулок, полегче… Ростом он невелик, хоть и широк в плечах. Посматривает снизу вверх. Не решаюсь садиться, переминаюсь, как медведь. Вспотел даже. — Эх, детинушка, и все у вас на Омолоне такие? Слышал о ваших подвигах в дебрях. Говорят, в воде не тонешь, в огне не горишь… Генерал вернулся на свое место. Я утонул в мягком кресле напротив. “Так вот он каков, хозяин Колымского края, генерал-лейтенант, начальник Дальнего строительства”. Генерал смотрит из-под седых бровей прямо в глаза острым, всепроникающим взглядом. В светлых глазах вспыхивают искорки. — Как же умудрился с того света явиться? — рассмеялся он, кивнув на развернутую перед ним газету. “Вот так штука! Неужели старый номер сохранился у него?” История действительно была интересная. После пожара Омолонской тайги и бесследного исчезновения табуна пас “похоронили”. Районная газета поместила прочувствованный некролог. Особенно много хвалебных эпитафий досталось на мою долю. — Выкарабкались, товарищ генерал… — И заодно порушили королевство Синего орла? — Само рухнуло, как трухлявое дерево… — Сомневаюсь… — нахмурился он и о чем-то задумался. “Зачем я ему понадобился в такую пору — глубокой полярной ночью, когда и самолеты на Север почти не летают? Не наломали ли дров в Синем хребте? Крутой нрав у старика, загонит, чего доброго, прямо из кабинета, куда Макар телят не гонял…” С тоской поглядываю в окно. Вижу заснеженные приморские сопки, обындевевшие скалы материка. Каменной грудью они уперлись в белый щит замерзшего моря. Под окнами пустая площадь, обставленная многоэтажными домами. Ветер раздувает по асфальту белые струйки поземки. Площадь дымится, словно зимняя тундра перед бураном. — Трухлявое дерево долго не падает, валить его нужно… — вдруг жестко говорит генерал. — Правильно сделал… Потому и вызвал тебя, Вадим, по важному делу. Генерал встал, раздвинул на стене шторы, открыв большущую карту Колымского края. — Вот полюбуйся — наши горные управления… — Ого! Штриховка на карте почти слилась в огромную дугу вокруг Колымы, Индигирки и Яны. — Вот эта, синяя штриховка, — объяснял начальник строительства, — освоенные районы золотодобычи. Знаешь сам: вздыбили мы там тайгу, дороги проложили, добываем золото машинами. А красная — перспективные районы. Видал? Твой Омолон геологи недавно заштриховали, а главное вот… сюда смотри — Чукотка. Золота там, видно, немало… С изумлением разглядываю карту. Карминовая штриховка покрыла Омолон, Анюй, Полярное побережье Чукотки, Анадырь… — Черт побери! Да откуда же на Чукотке взялось золото? Никто и не слыхивал о нем! — Бог послал… — усмехнулся генерал. — Только вот беда: не дает покоя это золото соседям. Помнишь историю Калифорнии и Аляски? Я развел руками. Генерал сказал: — Читал я архивы русской дипломатической службы, когда собирался на Колыму — принимать край… 130 лет назад русские поселения, редуты, форты и крепости красовались на западном побережье Америки от Аляски до Сан-Франциско. Российские промышленники[222] осваивали дикие американские берега с необыкновенным рвением и упорством. Делами Русской Америки управляла российская компания. Самый южный форт и поселение Росс российские колумбы поставили в 1813 году рядом с Сан-Франциско, неподалеку от устья Сакраменто. Калифорния тогда принадлежала, как ты должен знать, испанцам. Росс служил житницей для наших поселенцев Аляски. Обитатели Росса занимались хлебопашеством, разводили скот, покупали зерно у испанцев — отправляли на Аляску на кораблях компании. По соседству с фортом Росс устроился подданный Соединенных Штатов бывший капитан швейцарской гвардии Зутер. Он тоже занялся хлебопашеством и скотоводством, рассчитывая нажить состояние на торговле с русскими. В долине Сакраменто построил усадьбу, крепость, защищенную пушками, завел даже личную гвардию, привез сельскохозяйственных рабочих с Гавайских островов. В 1842 году ухитрился купить у нашей компании под заклад своего поместья форт Росс со всеми прилегающими землями. А спустя шесть лет рабочие Зутера случайно открыли баснословные золотые россыпи Сакраменто, прогремевшие на весь мир. Волна американских золотоискателей захлестнула Калифорнию, и Соединенные Штаты прибрали ее к рукам вместе со всем золотом… — Дьявольщина! Выходит, товарищ генерал, упустили мы из рук Эльдорадо?! — Ну, сохранить за собой все золотые россыпи Сакраменто, пожалуй, не удалось бы — слишком далека была Россия, слишком мутный людской вал всколыхнуло золото Калифорнии. А получить свою долю золотых богатств могли. Разом окупить расходы на строительство Русской Америки, сильного Тихоокеанского флота, неприступных крепостей на западном побережье Аляски. — Откуда же Зутер раздобыл деньги для постройки собственной крепости? — Вот это и осталось загадкой. Зутер бежал из Швейцарии гол как сокол. А потом вдруг всплыл в испанской Калифорнии с паспортом гражданина Соединенных Штатов. Продав форт Росс авантюристу, мы упустили не только Эльдорадо… Продвигаясь дальше и дальше на север по западному берегу Америки, американские золотоискатели открывали новые и новые золотые клады: Фразер, знаменитые золото-серебряные жилы Сьерры-Невады, россыпи Стахина. За ними шагали американские солдаты. Золотой след привел к Русской Аляске. Искатели наживы поняли, что нащупали величайший золотоносный пояс… Я слушал генерала с жадным интересом. — Вот тут, — продолжал он, — американцы и придумали проект Российско-Американского телеграфа. Линия его должна была пересечь все русские владения на Аляске, Берингов пролив подводным кабелем, Чукотский полуостров, далее выйти к Гижиге и по берегу Охотского моря к Владивостоку, В перспективе эту линию американцы предлагали соединить с Петербургом, Пекином, Нью-Йорком. Проблема по тому времени, конечно, грандиозная и заманчивая. С поразительной быстротой американские разведочные партии устремились обследовать трассу будущей телеграфной линии в Русской Аляске и в Сибири. Но вот что странно, Вадим, трассу будущего телеграфа наметили точно по “золотому поясу”! Смотри: Сан-Франциско, Сакраменто, устье знаменитого Фразера, Стахин, дальше Аляска, а в Сибири — у подножия такого же горного барьера, что и у западных берегов Америки. Первые же находки, сделанные телеграфной компанией в наших владениях на Аляске, убедили американцев, что они идут по верному следу. Вот послушай, что писал в своем донесении в Петербург главный правитель Русской Америки князь Максутов… — Генерал вытащил потертую записную книжку и громко прочел: — “…Американская телеграфная компания открыла в наших владениях около горы святого Ильи золото в столь огромном количестве, что даже находятся самородки ценностью в 4–5 тысяч долларов…” А вот что писала “Нью-Йорк геральд”: “…эта гора есть начало и глава золотоносной цепи, пролегающей по Калифорнии, Неваде, Мексике, Средней и Южной Америке. Почему не предположить, что в ней скрываются прииски богаче всех прочих, лишь бы добраться до них…” Видал, что пишут, черти полосатые: “лишь бы добраться до чих…” Хитроумными дипломатическими маневрами и подкупом царского двора Соединенным Штатам удалось купить у России Аляску накануне открытия ее легендарных золотых богатств. — А телеграфная компания? — спросил я. — Была быстренько ликвидирована “в связи с прокладкой трансатлантического подводного кабеля”. После покупки Аляски американцы нашли сумасшедшее золото Клондайка на Юконе. Позже они не раз пытались проникнуть на Чукотку, отлично понимая, что великий золотоносный пояс уходит из-под рук на нашу сторону. В двадцатые годы, пользуясь отдаленностью края и разрухой, царившей в России, американцы понастроили свои фактории на Чукотке, отправляли проспекторов[223] искать золото на чужой земле. А сейчас за проливом пронюхали о чукотском золоте, действуют тем же манером. Вот смотри… Он развернул на столе карту Аляски и Чукотки, изображенных на одном листе. — Зашевелились на том берегу: войска, флот пригнали, военные базы как ошалелые строят. Видишь: северо-западные берега Аляски, Алеутские острова, подковой охватывают Чукотку… — Ого! — Только теперь не проведешь, шиш с маслом! — усмехнулся генерал. — Шагнем туда с машинами, дорогами, людьми. И может быть, очень скоро… — Глаза его стали колючими. — Неизбежно! Весь этот разговор кажется сном. Может быть, потому, что слишком внезапно перенесся из гущи Омолонской тайги в комфортабельный кабинет генерала. Молчаливо рассматриваю карту Аляски. Об охране северных рубежей я как-то не задумывался. Они казались такими недосягаемыми, далекими от событий, потрясавших мир, надежно укрытыми самой природой. Да и война окончилась, наши войска вошли в Берлин… Я сказал об этом генералу. — В общем, тишь, да гладь, да божья благодать… Вот… полюбуйся, — указал он на громадное пятно, заштрихованное на карте черной тушью. Черная сеть затянула все внутренние районы Чукотско-Анадырского края: верховья Анюев, Чауна, Амгуэмы, Анадыря, Пенжины, подобралась к Омолону. — Смотри, территория с пол-Франции! У нас под самым носом, рядом с твоим Омолоном, засели последние богачи и шаманы Чукотки. Знаешь, сколько у них оленей? Только не упади с кресла — двести тысяч! Они и делают в горах Чукотки политику. Правят этим “государством” крупные оленеводы, короли тундры, почище твоего Синего орла. На американцев надеются, что порядки им прежние вернут. А Буранов, Золотой зуб. мямлит, цацкается с ними. Тут зубастая нужна голова, мертвая хватка, как у тебя, когда королевство Синих орлов рушил… Генерал насупился, испытующе поглядывает, словно ожидает ответа. Я молчу, не зная, что отвечать. “Бурановым, что ли, недоволен? Жаль, что не успел встретиться с ним перед конфиденциальным разговором. Адъютант генерала прямо с аэродрома, минуя Управление Оленеводства, доставил меня в этот роскошный кабинет”. — Читал вашу с Бурановым докладную записку. Кольцо совхозов вокруг золотых приисков без чукотских оленей не построишь. Организовал Буранов совхоз в верховьях Чауна. А “шакалы” тундры окружили своими табунами дальние стада и полсовхоза тяпнули. Буранов и в ус не дует, мудрит — надеется на постепенную коллективизацию… А нам ждать нельзя, сам понимаешь, — генерал стукнул кулаком по столу, — трухлявое дерево валить нужно! — Он в упор посмотрел мне в глаза. — Ну, атаман, возьмешь булаву? Мне стало не по себе. Судьба Буранова висела на волоске. Я любил Андрея за полет мысли, за размах, душевное отношение к людям. Генерал предлагал мне всю полноту власти. Конечно, я мечтал строить Великое кольцо оленеводческих совхозов, но Андрей столько сил положил на его основание… Генерал спокойно ждал ответа, словно понимая мое замешательство. — Строить кольцо совхозов, товарищ генерал, нужно вместе с Бурановым, а меня пошлите на Чукотку — оленей добывать у крупных оленеводов. Генерал сдвинул брови, насупился. Не любил, когда перечили. Наши взгляды скрестились… Дальстрой в те времена был могущественной организацией. Начальник Дальнего строительства, в сущности, был хозяином огромного края. И вдруг что-то доброе, мягкое засветилось в ясных, холодноватых глазах под нависшими седыми бровями. — Эх и дикие оленеводы друг за друга уцепились — водой не разольешь! Любому инженеру только дай полномочия… Я осмелел: — На Чукотке, товарищ генерал, оленей силой брать нельзя. Скупить побольше важенок надо у богатеев для наших совхозов. — Да что они, дурачки, что ли, — рассердился начальник строительства, — не продадут они нам оленей! — Товары для обмена привезем — продадут. Отгородились они на своих плоскогорьях от всего мира, нужны им товары как воздух… Генерал задумался, помрачнел. Пауза затянулась. — Пожалуй, ты прав, — наконец сказал он, — начнем с этого… Товары, охрану тебе выделим. Полсотни людей хватит? — Охраны мне никакой не нужно. Костю, еще Илью с Омолона заберу… — Да они же вас укокошат! — рявкнул генерал. — Недавно торгашей уложили. Из Анадыря к ним пробрались. Об этом случае я слышал еще на Омолоне. Но представители фактории явились к оленеводам с оружием. — В тундре, товарищ генерал, с оружием в гости не ходят. — Да как же иначе? — удивился он. — Кулачье. С этими чертями на бога надейся, а сам не плошай! — С товарами пожалуем, мирно… — Не пойму я вас, что за люди? — развел руками генерал. — Одичали со своими оленями. И Буранов то же твердит, одно слово — лесные бродяги. Кстати, Вадим, как твои личные дела? — Личные?! — Нашлась ли чудная Мария? — добродушно усмехнулся он. Я покраснел. “Откуда знает о Марии? Буранов, что ли, все рассказал?” — Плохо, товарищ генерал, потерялась в Польше, два года ничего не пишет. — Да-а, война… — вздохнул генерал и опустил поседевшую голову. — Друга я, Вадим, потерял, всю гражданскую войну вместе прошли. И сам виноват… Если жива на белом свете твоя суженая, — встрепенулся он, — разыщем. Обязательно. Сообщу тебе на Чукотку. — Спасибо, товарищ генерал! — Ну, иди отдыхай, лесной стрелок, в гостинице номер забронирован, только, чур, о разговоре нашем помалкивай. Утром пусть Буранов ко мне зайдет. Сохранил ты ему башку. — Глаза под нависшими бровями потеплели, морщины разгладились. Генерал встал. — Прощай, гвардеец, не поминай лихом, коли не встретимся. Ох и сдавил я на прощание генеральскую ладонь! Вылетел из роскошного кабинета точно пробка, сбежал по широкой лестнице, перепрыгивая через ступеньки, подмигнул опешившему вахтеру, плечистому русоволосому с густым чубом солдату, и, нахлобучив пушистую оленью шапку, вырвался вихрем на волю. Темнело. На площади кружились снежные космы, свистел ветер, грохотали железные крыши, колючие иглы жалили разгоряченное лицо. Началась пурга — частая зимняя гостья столицы Золотого края. Искать Буранова было уже поздно. Я отправился в гостиницу. Радостно было на душе. Предстояла новая одиссея — рискованное путешествие на загадочные внутренние плоскогорья Чукотско-Анадырского края… Поздно вечером в гостиницу позвонила секретарша генерала и сообщила, что подписан приказ о моем переводе с Омолона в Магадан, в Главное управление строительства заместителем Буранова, и о срочной командировке в Певек “для проведения широких закупочных операций в центральной Чукотке”. Генерал сдержал слово: Буранов остался во главе Оленеводческого управления, я получал широкие полномочия и должен был вылететь на Север без промедления. Долго не засыпал я в ту ночь, склонившись над картой, в пустом, неуютном номере гостиницы. На месте внутренних плоскогорий Чукотки, куда меня посылали, растекалось большое белое пятно неизведанных земель. Оно казалось загадочным и туманным. Как встретят нас отшельники Анадырских гор? Уцелеют ли на плечах буйные наши головушки? Утром я пошел в Оленеводческое управление. Буранов ходил из угла в угол маленького кабинета, увешанного цветными картами оленьих пастбищ. Высокий, лобастый, с каштановыми прядями, спадающими на выпуклый лоб, он курил папиросу за папиросой. Андрей держал приказ генерала. Молча он стиснул мою руку. Все было ясно без слов. — Андрей, генерал вызывает тебя… — Знаю, — улыбнулся Буранов. — Столкнулись мы, Вадим, с ним. Хочет он кольцо совхозов единым махом построить — оленей силой взять у крупных чукотских оленеводов. А все это не так просто. Совхозы не карточные домики — сразу не построишь. Кучу денег отваливает, успевай только поворачиваться. — Да ведь это здорово, Андрей! Эх, и размахнемся с тобой… — Здорово, да не очень, — нахмурился Буранов, — дров можно наломать сгоряча. Ты, Вадим, романтик, человек чувства. Тебя покоряет размах. А ведь для строительства кольца совхозов в непроходимой горной тайге надо изучить пастбища, маршруты дальних перегонов оленей, собрать опытных пастухов, специалистов, раздобыть, наконец, уйму оленей и… честным путем, чтобы не оттолкнуть простых людей чукотской тундры… — А мы, Андрей, как Петр флот строил — собственными руками. Я заберусь на Чукотку, в самое ее пекло, все там вверх тормашками переверну, оленей добуду, и честным, как ты говоришь, путем, а ты наши табуны с Чукотки через Омолон принимай, готовь в тайге пастбища, людей, снаряжение новым совхозам. Помнишь, как на Омолоне мечтали?! — Ох и горячая ты голова, Вадим! — рассмеялся Буранов. — Не так просто все это сделать — сам знаешь. Последние могикане встретят вас не с распростертыми объятиями. Удивляюсь, как генерал согласился на скупку оленей? Ведь я, в сущности, предлагал ему то же самое. Буранов задумчиво прошелся по кабинету. — Ну, Вадим, мне пора, — спохватился он. — Вот тебе печать, ключи от сейфа, располагайся. Теперь ты мой заместитель. Рад, что вместе работать будем. Буранов быстро собрал в папку какие-то документы, откинул пряди со лба. — Пойду на прием… Я остался один в кабинете среди раскрашенных молчаливых карт…“СНЕЖНЫЙ КРЕЙСЕР”
Пурга бушует во мраке полярной ночи на льду замерзшего океана. Вокруг — кромешный ад: исступленно пляшут снежные космы, хлещут с неистовой силой оголенные торосы. Ветер стонет, свистит, сшибает с ног все живое, тащит в воющую темь. Обрушился “южак” — ураганный ветер. Здесь, у грани двух полушарий, он поднимает пурги чудовищной силы, дующие педелями. Не дай бог в такую пургу оказаться в пути. Меха леденеют, нестерпимая стужа пронзает до костей, и человек замерзает, если не закопается в снег. Белые космы яростно бьются в смотровые стекла. Могучие порывы сотрясают кабину, и дикий, заунывный вой заглушает рев мотора и лязг гусениц. Широкий, смутный луч прожектора едва пробивает крутящуюся снежную муть, освещая перед носом идущей машины фирновый панцирь с ребрами застругов и грядами мелких торосов. Мы давим их широкими стальными гусеницами. В просторной кабине тепло и уютно. Фосфорическим светом горят циферблаты контрольных приборов. Крошечная лампочка освещает большой штурманский компас. Водитель, поблескивая белками глаз, гонит машину точно по курсу сквозь сумятицу пурги. В руках у меня микрофон. В шлем вшиты наушники. Иногда спрашиваю, все ли в порядке, и знакомый хрипловатый голос Кости, смешиваясь с воем пурги, отвечает: “Порядок, Вадим, трещин нету. Так гони…” Под защитой техники полярная стихия бессильна причинить вред. Как странно складывается судьба человека. Два года назад я встретил Буранова в кабине вездехода на льду Колымы, и он казался пришельцем из иного, нереального мира. Теперь, облеченный еще более высокими полномочиями, одетый в такую же респектабельную канадскую куртку, я веду по льду полярного океана целый поезд. Странный у пего вид: впереди мчится, сметая все на своем пути, тягач с утепленной кабиной, похожей на кузов бронированного автомобиля. Он тянет две сцепленные грузовые платформы на полозьях, с высокими бортами из досок. Платформы доверху нагружены мешками муки и сахара, ящиками с плиточным чаем и маслом, галетами и печеньями, тюками черкасского табака — бесценным для нас грузом. Платформы накрыты брезентом и накрепко увязаны просмоленными канатами. В кильватере грузовых саней грохочет гусеницами второй тягач с такой же утепленной кабиной. На буксире у него еще одна платформа с бочками горючего, углем, бревнами и разным путевым скарбом. К платформе прицеплен походный дом на полозьях, с освещенными иллюминаторами, с дымящей трубой на обтекаемой крыше. Свирепый ветер срывает клочья дыма и уносит их прочь. На кабинах тягачей горят прожекторы. Они освещают мятущуюся снежную пелену таинственными зеленоватыми лучами. В смутных огнях наш караван, вероятно, кажется фантастическим снежным крейсером, скользящим по льду океана. Впереди головной машины, скрытая пургой, во всю прыть скачет упряжка из дюжины отборных псов. На длинной нарте сгорбились две фигуры в обледенелых мехах. Груза на собачьей нарте нет. Лишь походная рация с прутом антенны отличает ее от охотничьей нарты. Она несется впереди каравана, точно рыбка-лоцман перед носом акулы. В нарте — Костя и Илья. Это наше “сторожевое охранение”. Они высматривают трещины. И все-таки… чувствуем себя на льду океана не в своей тарелке. Под нами стометровые глубины, тракторный поезд весит полсотни тонн. Что, если лед не сдержит? Не могу побороть невольного опасения… После памятного разговора с генералом я вылетел из Магадана на специальном самолете, через Омолон в Певек. На Омолоне мы приняли на борт Костю с Ильей. Втискиваясь в крошечный самолет с тюками походного снаряжения, Костя ворчал: — Своих дел, что ли, на Омолоне мало? Кой черт несет нас, Вадим, в Певек? Невидимое за сопками солнце освещало Омолонскую котловину малиновым светом. Тополя и чозении,[224] опушенные изморозью, склонялись над замерзшей протокой. Свежесрубленные домики совхоза, заметенные сугробами, приютились среди мохнатых коричневых лиственниц. Из труб поднимались к розоватому небу ватные столбики дыма. За лесом горбились малиновые заснеженные сопки. Тишиной и спокойствием веяло от мирной, идиллической картины. В самом деле, куда несет нас из теплого, насиженного гнезда? Грустно расставаться с Омолоном. Здесь все выстроено собственными руками, тайга исхожена вдоль и поперек. Дверка кабины захлопнулась, взревел мотор, самолет развернулся, взметая лыжами снежную пыль, и понесся по белому полю замерзшей протоки, подпрыгивая на застругах. Приникли к иллюминаторам, прощаясь с Омолоном… И вот тяжелый караван, громыхая гусеницами, несется сквозь воющую темь по льду Чаунской губы. Широким языком замерзший залив глубоко врезается в чукотскую тундру. Это видно на морской карте, развернутой у меня на коленях. Идем курсом на устье Чауна, где разместилась база оленеводческого совхоза, организованного Бурановым. Там снарядим свой торговый олений караван. Оттуда кратчайшим путем можно проникнуть в сердце Чукотки, к отшельникам Анадырских плоскогорий. Прокладываю курс, орудуя транспортиром и линейкой, как заправский штурман. Кажется, ледовый рейс окончится благополучно: сделали половину пути — вышли на середину Чаунской губы. Пурга не стихает, беснуется с прежней силой; снежные космы бьются в зеркальные окна, как подстреленные чайки. Словно плывем в белых волнах. Хорошо за стеклами утепленной кабины! Клонит ко сну, укачивает на пружинистых подушках комфортабельных сидений. Вспоминаю трудные дни перед выходом в снежный рейс… В Певек мы перелетели с Омолона без всяких приключений. На следующий день в кабинете начальника Горного управления состоялось бурное совещание. Против экспедиции во внутреннюю Чукотку возражали местные ветераны. На Чукотке они прожили много лет и утверждали, что сейчас не время для такой операции. Опыт окружной торговой экспедиции окончился плачевно: представители фактории были убиты при весьма загадочных обстоятельствах, да и случай с разгромом стад Чаунского совхоза, зашедших в верховья Анюя, тоже свидетельствовал о неблагоприятной обстановке. Старожилы предлагали подождать завершения коллективизации в районах, прилегающих к неспокойному сердцу Чукотки. — Время не ждет! — рявкнул из своего угла Костя. — Давно нужно было кулачье прижать. А вы цацкаетесь, двадцать лет ходите вокруг да около. А они оленей у Чаунского совхоза хапнули? Хапнули. Местных работников к себе не пускают? Не пускают. К “верхним людям” их отправляют? Отправляют. Несознательных тундровиков вокруг себя мутят? Мутят. Сила тут нужна… Характер у Кости горячий, решительный. Слишком экспансивное выступление вызвало недовольные реплики. Старожилы, работавшие среди чукчей по двадцать лет, великолепно изучили их прямодушный характер и предпочитали действовать убеждением, примером, увещеванием. В этом они видели смысл национальной политики в неосвоенных районах Чукотки. Я задумался. “Не странно ли, что в последние годы эти увещевания не давали толку? В центральной Чукотке происходили какие-то непонятные сдвиги. Стада крупных оленеводов увеличивались, власть их укрепилась, подняли голову шаманы, хозяйство Чукотки, разорванное на два непримиримых полюса — коллективное в приморских районах и откровенно частновладельческое во внутренних территориях, — плясало на месте. Правильны ли эти полумеры сейчас, когда жизнь всего края готова так стремительно шагнуть вперед?” Последнее слово в те времена оставалось за представителями Дальнего строительства. Но я так погрузился в собственные мысли, что не заметил наступившей тишины. — Ну, так что будем делать? — нетерпеливо спросил ведущий собрание начальник Горного управления, посматривая в нашу сторону. — Золото не ждет, — сейчас нужны… более решительные действия, — ответил я. — Торговый караван необходимо снаряжать, и немедленно… Тут поднялся молчавший до сих пор молодцеватый полковник, оставив на спинке кресла шинель. По-военному коротко он заявил, что гарантировать безопасность каравана во внутренних районах можно только с хорошо вооруженной охраной. Костя одобрительно хмыкнул и громко зашептал: — Шут с ними, Вадим, возьмем охрану, переоденем их в кухлянки, оружие в спальные мешки спрячем! Я встал: — Нет… охраны, оружия не возьмем… Таков приказ генерала. Полковник развел руками, соболезнующе покачал головой и сел, поправив на блестящем ремне кобуру пистолета… Мне так ясно представились эпизоды совещания, что я забыл о пурге, не слышал зловещего воя урагана, рокота мощного мотора. …В снаряжении каравана приняли участие все, кто был на совещании. Иными словами — вся администрация Певека. Разногласия были позабыты, делалось все, что возможно. Нас провожали так, словно мы отправлялись в пасть дракона. Особенно помог нам главный механик Горного управления — худой человек с грустными темными глазами и длинным лицом в глубоких морщинах, удивительно похожий на любимого моего писателя Александра Грина. Все его величали Федорычем и относились с большим почтением. Руки у него были просто золотые. В механической мастерской он творил чудеса с разбитыми вдрызг машинами, отслужившими свой срок моторами, поломанными гусеницами, обретавшими у него вторую жизнь и действовавшими безотказно в любую певекскую стужу. С бригадой своих промасленных помощников механик в несколько суток оборудовал наш “снежный крейсер” — утеплил кабины мощных тягачей, смастерил необыкновенно прочные грузовые платформы на полозьях, построил обтекаемый вагончик с корабельными койками в два яруса, печкой и хитроумной системой труб-обогревателей. В те времена тракторные поезда редко ходили на большие расстояния, а если и осмеливались пускаться в путь, терпели бедствия в снегах Чукотки… Посматриваю на щиток с освещенными приборами. Думаю о размахе начатого дела. С помощью “снежного крейсера” мы единым махом забрасываем громадный груз по льду Чаунской губы в преддверие центральной Чукотки. И кроме того, поднимаем на ноги ослабевший Чаунскнй совхоз. Подцепили к своему поезду целую платформу товаров и снаряжения для совхоза и везем в вагончике на полозьях новое подкрепление — смену специалистов с семьями. С горячей признательностью вспоминаю Федорыча. Встает перед глазами его тощая фигура, грустные глаза. Какое горе гнетет его? Сейчас он спит в вагончике после очередной вахты. Старший механик сопровождает наш караван до Усть-Чауна и после выгрузки в оленеводческом совхозе вернется с тракторным поездом обратно в Певек. Покачиваясь в мягком кресле, я незаметно задремал… Очнулся от страшного толчка и скрежета. Кабина накренилась, я свалился на водителя. Сквозь смотровое стекло в смутном луче прожектора вижу зубастый зеленоватый излом вздыбленной льдины, черную, как чернила, вспененную воду океана, клубящуюся на морозе паром. Гусеницы, лязгая по льдине, вращаются с бешеной скоростью в обратную сторону, но тягач не подвигается: что-то мешает ему выбраться из ловушки. Медленно, юзом соскальзывает он по накренившейся льдине к воде. — Дверь! — заорал водитель, выключая задний ход. Свою дверцу открыть он не может — она уже повисает над зияющей полыньей. Дальше помню все, как в полусне: рванул ручку, выскочил на обледенелую гусеницу и, не замечая вихря пурги, гигантским прыжком перемахнул край вздыбленной льдины, трещину с водой и плашмя рухнул на заснеженный целый лед. На меня наваливается водитель, прыгнувший вслед за мной. Не чувствуя холода, барахтаемся на краю полыньи. Льдина качнулась, полезла вверх, трактор, опрокидываясь набок, покатился по льдине и тяжело плюхнулся в воду, окатив нас веером холодных брызг. В полынье что-то забулькало, забурлило. Еще секунду под водой светил прожектор призрачным сиянием, освещая зеленоватую воду и громаду трактора, медленно уходящего вглубь. Буксирный трос натянулся, врезался в лед. Но тяжелые сани, груженные продовольствием, не сдвинулись с места. Погрузившись в воду, трактор потерял в весе и не мог осилить тридцатитонной махины. Тягач повис на тросе в холодной морской пучине. Драматическая сцена, разыгравшаяся в несколько секунд, ошеломила нас. Бродим по краю полыньи, вглядываясь в неспокойную воду. Ветер безжалостно хлещет лица колючим снегом. Второй тягач, осторожно подвигаясь вперед, освещает прожектором место катастрофы. К нам бегут люди. Из (нежной сумятицы вынырнула Костина упряжка. Собрались вокруг полыньи, поглотившей головную машину. — Дьявольщина! Откуда взялась, проклятая?! — удивляется Костя. Десять минут назад он проехал тут с нартой и не заметил и признаков трещины. Видно, тяжести трактора не выдержала льдина, непрочно смерзшаяся с ледяным полем; край ее опустился, и машина ухнула в полынью. Пройди мы на пять метров вбок — и несчастья не случилось бы. Льдина растрескалась. Осколки ее плавали в темной, как чернила, воде, сталкивались острыми боками, терлись о туго натянувшийся трос. Пурга бушевала пуще прежнего, торжествуя победу. Люди, обсыпанные снегом, молчаливо толпились, точно у могилы. Вода курилась на морозе паром. Что могли мы предпринять на льду океана, в кромешной тьме пурги? Неужели придется бросать груз и бесславно возвращаться в Певек, на радость скептикам, предвещавшим печальный исход экспедиции? Тут кто-то вспомнил о Федорыче, безмятежно спавшем в вагончике. Костя помчался будить его. Федорыч явился тотчас. Невыспавшийся, в короткой, не по росту, кухлянке, он молчаливо осмотрел место происшествия. Промерил своими метровыми шагами ширину полыньи. Попросил принести с грузовых саней рейку — смерил толщину льда и глубину, на которой повис трактор, обследовал прочность льда. Все это он делал спокойно, неторопливо, точно у себя в мастерской. Он сосредоточенно размышлял о чем-то, не обращая внимания на ураганный ветер, жаливший ледяными иглами, и, наконец, словно очнувшись, позвал нас в вагончик. В каюте было тепло и уютно от раскаленной железной бочки, топившейся углем. Все собрались у маленького столика, заполнив проход между койками. Никогда не забуду эту короткую “летучку”. Суматоха разбудила обитателей вагончика. С коек свешивались пассажиры: ребятишки, встревоженные женщины. Раскаленная печка красноватыми бликами освещала сосредоточенные лица собравшихся. Федорыч заявил, что попытается вытащить трактор, но для этого потребуется авральная работа всего экипажа. Он быстро распределил обязанности: водителям поручил выгрузить пустые железные бочки из-под горючего и подкатить к полынье; молодым специалистам совхоза — сбить из реек каркас для большой палатки; мне с Костей — изготовить из железной бочки печку. Сам он, выбрав в помощники белокурого великана, ветеринарного врача совхоза, сказал, что займется кузнечными делами. — Ума не приложу, на кой черт ему понадобились пустые бочки? — удивился Костя… Работа закипела. Мы с Костей притащили в вагончик железную бочку и принялись усердно вырубать дверцу и отверстие для трубы. Ветеринарный врач, выполняя поручение Федорыча, принес четыре лома и стал их раскаливать в железной печке, обогревавшей вагончик. Молодые специалисты, не обращая внимания на свирепые порывы пурги, сбивали, под зашитой грузовых саней, каркас для большой палатки. Федорыч с водителями воздвигали у края полыньи странное сооружение из бочек. Они поставили на лед три бочки, на них две, а поверх еще одну. Всю эту пирамиду связали проволокой. Такое же сооружение воздвигли и у другого края полыньи. Скручивать бочки проволокой на обжигающем ветру было чертовски трудно. Наконец Федорыч велел всем вооружиться ведрами и поливать железные пирамиды водой из полыньи. Вода моментально замерзала. Скоро образовались монументальные ледяные столбы, похожие на сталактиты. Лицо механика прояснилось. — Голь на выдумки хитра, — усмехнулся он, — добрые ряжи получились, крепче бетона… Принесли с грузовой платформы самое длинное и прочное бревно и положили на ледяные опоры. Полынью закрыли до половины накатником. Бревна мы прихватили с собой из Певека для сооружения переправ через трещины во льду. Теперь они пригодились. Федорыч торжественно извлек из грузовых саней блок и цепи талей и вместе с водителями подвесил их к бревну. Он долго колдовал, подвешивая блоки так, чтобы равномерно распределить тяжесть будущего груза. Малейшая оплошность могла привести к несчастью. Второго такого длинного бревна у нас не было. Все это походило на чудо. Ведь вокруг бушевала пурга, густая тьма окутывала замерзший океан. Люди, запорошенные снегом, казались в лучах прожектора белыми привидениями. Я невольно вспомнил Левшу, подковавшего, на удивление всей Европе, металлическую блоху. Замысел Федорыча был гениально прост. Подъемник готов! Федорыч отправился в вагончик, согнул из раскаленных добела ломов здоровенные крючья и закалил их в бочке с питьевой водой. Долго закидывали стальные крючья, пытаясь зацепить трактор. В смутном свете прожектора, в сумятице пурги сделать это было невероятно трудно. Растянувшись на обледенелом помосте, мы вслепую шарили в воде, стараясь подцепить гусеницы, и наконец это нам удалось. И вот цепи талей заработали. Медленно, дюйм за дюймом, показываются из воды тросы крючьев, натянутые как струны. Повисая на цепях, поднимаем страшенную тяжесть. Из воды появляется мокрая крыша кабины, блеснули смотровые стекла в стекающих каплях. Луч прожектора уперся в эти плачущие стекла. Внутри кабины колеблется темная вода, что-то белое покачивается там, прилипая к стеклам… Да это же моя карта! Все выше и выше поднимается из воды кабина. Точно рубка субмарины всплывает в полынье. — Еще раз… еще разок, са-ама пошла, сама пой-дет! — командует Федорыч, взмахивая обледенелыми рукавами кухлянки. Из воды появляются мокрый радиатор, капот машины, мощные гусеницы. Забыв о стуже, гроздьями повисаем на талях. Трактор покачивается над водой и быстро покрывается беловатой коркой льда. Бревно заметно прогибается… — Кабанг! Валимся на обледенелые бревна. Не выдержав многотонной тяжести, обломился один из крюков. Мы замерли. Трактор накренился. Крючья соскальзывают с гусениц один за другим. Машина тяжело плюхнулась в воду и снова погрузилась в пучину. Вода бурлит, сталкиваются обломки льдин. Трактор повис под водой на спасительном тросе. Стальной канат глубоко врезается в край ледяного поля… — Тьфу, пропасть! Чертыхаясь, барахтаемся на бревенчатом помосте, хрустит обледеневшая одежда… — Порядок, выдержит! — кричит Федорыч, махнув на перекладину. Лицо его раскраснелось, глаза блестят. Пришлось снова “выуживать” трактор, зацеплять крючьями траки. Цепи тянули потихоньку, без рывков. И наконец тягач опять повис на талях. Мгновенно закрыли всю полынью накатником. Потихоньку опустили машинуна помост и вздохнули с облегчением. Подогнали второй тягач и на буксире вытянули спасенного утопленника на ледяное поле. Он стоял перед нами весь белый, обвешанный сосульками, точно айсберг после бури. Обледеневшую машину поставили под защиту грузовых саней, накрыли только что сделанным каркасом, натянули на каркас брезент. Ураганный ветер рвал его из рук, надувая точно парус. Края его придавили тяжеленными ящиками с консервами. Получившуюся просторную палатку обвязали канатами. В шатре установили железную печку, которую мы смастерили из бочки, вывели трубу, натаскали угля, разожгли печку и раскалили докрасна. В палатке стало жарко, как в тропиках. Работали с неистовым воодушевлением… Все понимали, что совершается чудо. Машина оттаяла и обсохла. Федорыч разобрал и прочистил карбюратор. Мы не жалели масла, заливали во все узлы, пазы и зазоры машины, протирали каждый болт. Наконец механик неторопливо влез б кабину, артистическим движением коснулся рычагов. И… трактор ожил: чихнул, кашлянул и вдруг взревел и зарокотал ровным, спокойным гулом, пересиливая вой пурги и восторженные крики людей. Из кабины высунулась счастливая физиономия в масляных пятнах, горькие складки на лице разгладились, и следа грусти не осталось в сиявших глазах. Трудно описать нашу радость. Подхватив Федорыча, мы вынесли его из кабины и принялись подбрасывать к закопченному брезентовому потолку. Всем хотелось чем-то отблагодарить старого механика, так смело и так дерзко выхватившего стального коня из объятий морской пучины. Я посмотрел на часы: было без четверти шесть. Двенадцать авральных часов пролетели как миг… И снова наш “крейсер” в пути. Мерцают фосфорическим светом приборы. На коленях у меня та же карта, только сморщившаяся и покоробившаяся после морского купания. В наушниках хрипловатый голос Кости — нарта сторожевого охранения по-прежнему впереди. Рядом на сиденье Федорыч и водитель. Напряженно всматриваемся в сумятицу пурги. Прожектор едва пробивает снежную муть, и мы видим только заструги перед носом машины. Что, если опять попадемся в ловушку? Еще несколько часов скользим по льду Чаунской губы навстречу скрытой, притаившейся опасности — Светает. Наступают короткие сумерки зимнего полярного дня. Пурга стихает, но барометр не предвещает ничего хорошего. Видно, “южак” угомонился ненадолго, сделал короткую передышку, чтобы обрушиться с новой силой. Судя по карте. почти пересекли огромный залив Чаунской губы и подходам к устью Чауна. В наушниках зашуршало, и я услышал радостный голос Кости: — Порядок, Вадим, вижу берег, огни совхоза! Мы еще ничего не различаем в белесом сумраке стихающей пурги. Нарта с Костей значительно опередила нас. Кричу Федоры чу: — Костя видит берег! Водитель стирает рукавом мелкие капельки пота. Федорыч облегченно откидывается на спинку кожаного сиденья. Распахиваю на ходу дверцу кабины. Снежная сумятица улеглась, открыв бесконечное белое поле залива, курившееся поземкой. Тракторный поезд, обсыпанный снегом, едва темнел на матовом снегу. Острый, как бритва, ветерок тянул с юга. — Бр-р… холодина! Захлопываю дверцу. Сквозь смотровые стекла видим вдали пустынный и дикий берег, заметенный сугробами. Крутым, обледенелым порогом он поднимается над помертвевшим заливом. Наверху поблескивают огоньками домики крошечного поселочка, погребенные снегом. Костина нарта, как птица, взлетает на снежный барьер. Собаки, почуяв жилье, несутся галопом, за нартой клубится снежное облако… Водитель прибавляет газу, тягач устремляется вперед, давя в лепешки мелкие торосы. Проскочили припай, ползем на обледенелую бровку. Капот вздымается к небу. Гусеницы с лязгом и грохотом уминают твердый, как железо, снег, мотор оглушительно ревет. Вползаем выше и выше, волоча на буксире тяжеленные платформы… И вдруг на самой бровке перед машиной появляется человек в мехах. Он стоит, широко расставив ноги, на пути “снежного крейсера”, будто преграждает дорогу в поселок совхоза. Поджарый, длинноногий, в щеголеватой кухлянке, опушенной волчьим мехом, в штанах из бархатистых шкурок неблюя,[225] в белых чукотских торбасах. Откинутый малахай открывает высокий лоб, исчерченный морщинами, прямые черные волосы, спадающие на плечи нестриженными прядями. Но больше всего поражало его лицо — худощавое, умное, выдубленное морозами, иссеченное глубокими морщинами, с редкой, заостренной бородкой. Любопытство, страх, недоумение отражаются в его темных глазах под насупленными мохнатыми бровями. На крутом подъеме мы уже не в состоянии свернуть. Водитель включает воющую сирену. Человек в мехах прыгнул в сугроб, освобождая дорогу. На секунду наши взгляды скрестились. В его глазах я прочел испуг и холодную ненависть. — Кто это? — спросил Федорыч. — Не знаю… какой-то чукча. “Снежный крейсер” с грохотом вкатился в поселок. Из домов выбегали люди. С изумлением разглядывали они гремящий железный караван. Костина нарта остановилась у нового бревенчатого домика с красным флагом. — Газуй туда… там контора совхоза…ТАЛЬВАВТЫН
И вот… Не решаюсь пошевелиться. Теплая щечка Геутваль покоится на моей ладони, согревая ее своим теплом. Девушка спит безмятежно и крепко — видно, во сне соскользнула с мехового изголовья. В пологе пусто — никого нет. За меховой портьерой в чоттагине[226] кашляет Эйгели, позванивая чайником, — раздувает огонь в очаге. Потихоньку встаю. Душно, приподнимаю меховую портьеру, жадно вдыхаю свежий морозный воздух. Уже светло. Оленья шкура у входа откинута, и неяркий свет зимнего дня озаряет сгорбившуюся над очагом Эйгели. Черт побери! Проспал… Давно пора ехать навстречу Косте. Поспешно натягиваю меховые чулки, короткие путевые торбаса. Они высушены и починены, внутрь положены новые стельки из сухой травы. Видно, постаралась заботливая Эйгели. Влезаю в своп меховые штаны, сшитые из легкой шкуры неблюя, туго завязываю ремешки. Выбираюсь из теплого полога, прихватив из рюкзака полотенце. — Здравствуй, Эйгели! Старушка закивала, добродушно щуря покрасневшие от дыма глаза. Согнувшись в три погибели, перешагиваю порог яранги… Белая долина облита матовым сиянием. Вершины, закованные в снежный панцирь, дымятся. Там, наверху, ветер — вьются снежные хвосты. А здесь, на дне долины, тихо. Ребристые заструги бороздят замерзшую пустыню. Все бело вокруг — долина, горы, небо; белесая морозная дымка сгустилась в распадках. Лишь черноватые яранги нарушают нестерпимую белизну. Скинув рубашку, растираюсь колючим снегом. Кожа горит, мороз обжигает, стынут пальцы. Полотенце затвердело, хрустит… Вдруг из яранги вышла Геутваль. Меховой комбинезон полуоткниут, крепкое смуглое тело обнажено до пояса. Она потянулась, волосы ее рассыпались. С любопытством Геутваль наблюдала мою снежную процедуру. Затем решительно шагнула в сугроб и принялась растирать снегом лицо, оголенные руки, бронзовую грудь. На пороге яранги появилась Эйгели и замерла в удивлении. — Какомей! Что делаешь, бесстыдница?! Перестань скорее… Геутваль своенравно мотнула головкой. — Простудишься, дикая важенка! На, возьми, — протянул я полотенце. Геутваль засмеялась, схватила полотенце и стала неумело растираться. Ловко накинула на голые плечи меховой керкер и вернула мне полотенце, изрядно потемневшее. И вдруг я понял: девушка никогда не умывалась. Позже я узнал, что обитатели диких стойбищ Анадырских плоскогорий не мылись вовсе, называя себя потомками “немоющегося народа”. Чай мы пили втроем: Эйгели, Геутваль и я. Гырюлькай и Ранавнаут ушли к стаду. Тынетэгин отсыпался в своем пологе после ночного дежурства. Я сказал Геутваль, что поеду встречать своих товарищей, везущих в стойбище товары. Девушка взволновалась и заявила, что не останется в стойбище одна. — Тальвавтын обязательно приедет, силой забирать к себе будет. Очень плохой старик, все равно — волк! — воскликнула она, драматически заломив руки. — Возьми меня с собой! Ее решительное заявление смутило меня. Костю с караваном я рассчитывал встретить далеко за Голубым перевалом. В ледяной трубе ущелья можно было заморозить Геутваль. Но больше всего меня смущало то, что юная охотница незаметно завладевала моей душой. — Буду тебе пищу готовить, одежду чинить в пути… — решительно проговорила она. Что-то живое и теплое мелькнуло в ее глазах. Это окончательно привело меня в смущение. Я молчал, не зная, что ответить. Одолевали сомнения: имею ли право дружить с Геутваль, не предавая Марию? “Но ведь Геутваль действительно нельзя оставить в стойбище на произвол судьбы. Тальвавтын может нагрянуть каждую минуту и увезти к себе…” — Ладно, поедем вместе, только одевайся потеплее, — махнул я рукой. Геутваль очень обрадовалась, глаза ее вспыхнули торжеством. Наскоро допила чай с печеньем, проглотила кусочки мороженой оленины, достала свой маленький винчестер, повесила на шею мешочек с патронами, вытащила теплую кухлянку, ремень с ножнами. Быстро увязали нарту. Отдохнувшие собаки понеслись как черти. Геутваль опять устроилась позади, уцепившись за мой пояс. В душе я проклинал своенравную девчонку, и все же… я охотно принял ответственность за ее судьбу: мне приятно было оберегать ее от всех опасностей и бед… Собаки, повизгивая, галопом мчались по вчерашнему следу. Не прошло и часа, как мы очутились у ворот перевальной ложбины. Белый желоб, где я встретил Геутваль, круто поднимался вверх к скалистой, зияющей щели на гребне перевала. Снизу, со дна долины, высоченные стены ущелья казались крошечными, а грозные снежные карнизы — безобидными козырьками. Ущелье дымилось снежной поземкой, и я невольно поежился, представив обжигающий ледяной вихрь, дующий наверху в обмерзшей каменной трубе. — Олени! — пронзительно закричала Геутваль. Я затормозил, вонзив остол в наст. Высоко-высоко из щели перевала высыпались в белую ложбину темноватые черточки, как будто связанные незримой нитью. Ущелье выстреливало и выстреливало связками нарт. — Караван! Неужели Костя и Илья успели осилить длинный путь?! Ведь я оставил караван далеко за перевалом, у границы леса по Анюю. Растянувшись бесконечной цепочкой, оленьи нарты скользили вниз по белому желобу быстрее и быстрее. Пришлось поскорее убираться с дороги. Псы уже водили носами, чуя приближающихся оленей. Гоню упряжку к противоположному борту долины. Там опрокидываю нарту, ставлю на прикол, и, награждая собак тумаками, вцепляемся вместе с Геутваль в потяг. Вереница оленьих нарт скрылась в глубине перевальной ложбины. И вот уже из белых ворот распадка вылетают первые олени. Впереди па легковой парте мчится сломя голову Костя — большой, рыжебородый, в заиндевевших мехах. На поводу у него длиннющая связка упряжек. Он погоняет своих оленей что есть мочи, ускользая от галопирующих позади упряжек. Нарты вздымают облако снежной пыли. Костя похож сейчас на мифического бога, слетающего в облаке с небес. — Ну и сорвиголова! Только он мог решиться на спуск галопом с грузовыми нартами с незнакомого перевала. Костя гонит упряжки во всю прыть, освобождая дорогу следующей связке каравана. Ущелье наверху опять выстрелило вереницей нарт. Это по следу Кости устремился вниз Илья с главной частью каравана, удостоверившись в благополучном спуске Костиных нарт. Заметив собак, Костя круто завернул оленей и остановил свою связку поодаль от нашей упряжки. — Гром и молния! — рокотал он, соскальзывая с нарты. — Вадим, Вадимище, жив?! Он бежал к нам, перепрыгивая заструги. Собаки, натягивая постромки, хрипели, лаяли, визжали — они узнали Костю. Лицо его раскраснелось, борода, усы, брови обледенели. Геутваль растерянно смотрела на бородатого великана, тискающего меня в медвежьих объятиях. — Ух и гнали по твоему следу! Слабых оленей бросали. Думали, прихлопнут тебя тут, как куропатку… А это что за чертенок?! — Дочь снегов, прошу любить и жаловать, пастушка Тальвавтына. — Тальвавтына? Ты видел Тальвавтына?! Етти, здравствуй, — кивнул Костя девушке. — И-и… — едва слышно ответила присмиревшая Геутваль. Из ложбины вылетели в долину сцепленные упряжки. Их благополучно спустил с перевала Илья. Сгорбившись, старик восседал на своей легковой нарте, весь запорошенный снегом. Вся долина перед ними заполнилась грузовыми санями и оленями. Илья подошел неторопливо, сдерживая волнение. Он уже успел закурить свою трубочку. Я обнял старика. — Хорошо… жива Вадим… правильно, — бормотал он, смахивая с покрасневших век слезинки. — Эко диво! Откуда девка взялась? Взволнованно я оглядывал похудевших товарищей. Нелегко было им с махиной грузового каравана продвинуться так быстро по следу моей легковой нарты в Белую долину. Ох и вовремя друзья подоспели! Теперь я не один. Мы вступали в царство Тальвавтына рука об руку с верными друзьями, с армадой нарт, доверху груженных драгоценными в этой позабытой стране товарами… К стойбищу подъехали засветло. Я мчался впереди на собаках. За мной следовали Костя, Илья с длиннющими караванами нарт. Замыкала шествие Геутваль. Она выпросила у Ильи связку нарт и управлялась с ними не хуже мужчин. Ну и подняли мы гвалт в стойбище! Из яранг выбежали Гырюлькай, Тынетэгин и Эйгели. Нарты подходили и подходили. Скоро вокруг яранг образовался целый кораль. Оленей распрягали сообща, сбрасывали лямки и пускали на волю. Уставшие животные брели к ближней сопке, где паслись ездовые олени стойбища. Тесной компанией собрались в пологе Гырюлькая. Костя, сбросивший кухлянку в чоттагине, блаженно потягивался в тепле мехового жилья. Илья, разоблачившись, уселся на шкурах, спокойно посасывая трубку. Геутваль примостилась рядом со мной на шкуре пестрого оленя. Она не отходила от меня ни на шаг. — Ну и везет же тебе, Вадим, — усмехнулся Костя. — Дон-Кихот с верным оруженосцем… — Что говорит рыжебородый? — встрепенулась Геутваль. — Говорит: ты все равно олененок, а я важенка. Геутваль прыснула и смутилась. Эйгели поставила на низенький столик блюдо дымящейся оленины, я развязал рюкзак, уставил стол яствами и стал рассказывать Косте о ночном посещении помощников Тальвавтына в неудавшемся похищении Геутваль. И тут в чоттагине что-то брякнуло и загремело, полог заколебался. Появился Тынетэгин, бледный и встревоженный. — Тальвавтын едет! — хрипло крикнул юноша. В пологе поднялся переполох. Толкаясь, мы ринулись из яранги. К стойбищу галопом мчалась одинокая упряжка белых оленей. Человек на легковой нарте бешено погонял их. Беговые олени неслись вихрем, разбрасывая комья снега. Приезжий круто затормозил перед коралем из нарт. Гырюлькай, сгорбившись, вышел навстречу гостю. — Етти, о етти… — Эгей, — отрывисто ответил гость. Гырюлькай согнулся в три погибели, распрягая белых оленей. Я не верил глазам: перед нами стоял сухопарый, длинноногий человек в щеголеватой кухлянке, с лицом, иссеченным морщинами, с редкой, заостренной бородкой. Тот самый, что преграждал путь нашему “снежному крейсеру” на далеком берегу Чаунской губы. Приезжий с напускным безразличием оглядывал армаду грузовых нарт. В глазах его, свирепых и бесстрашных, мелькнула тревога. — Здравствуй, Тальвавтын, — протянул я ему руку. Глаза старика вспыхнули и погасли: он узнал меня. Небрежно прикоснулся рукавицей к моей ладони. — Однако, не прошли сюда твои железные дома? — язвительно спросил он по-русски, кивнув на загруженные нарты. — Больно далеко живете… Гырюлькай встречал Тальвавтына как почетного гостя. Усадил в пологе рядом со мной на шкуре пестрого оленя. Геутваль не ушла к женщинам и пристроилась тут же у моих ног. Вся ее напряженная фигурка выражала дерзкое упрямство. Она словно не замечала Тальвавтына, всем своим существом понимая, что новые друзья не дадут ее в обиду. На Гырюлькая жалко было смотреть. Старик сник, сгорбился, робко и виновато поглядывал на Тальвавтына. Тынетэгин сидел с каменным лицом, и лишь посеревшие скулы выдавали его волнение. Я задумался. История с Геутваль могла поссорить нас с Тальвавтыном и, может быть, сорвать все предприятие с закупкой оленей. Но оставить девушку без защиты, на произвол судьбы мы не могли. Как спасти ее, не нарушая дипломатических отношений с властным стариком? Тальвавтына поразило, видно, обилие яств на столе Гырюлькая. Но он невозмутимо пробовал печенье, сгущенное молоко, консервированный компот, джем, шоколад, конфеты… Костя раскупорил флягу с неприкосновенным запасом и разлил всем понемногу спирта. Угощение получилось на славу. И вдруг Тальвавтын спросил по-чукотски, жестко и зло: — Почему девку не пускали? Он, — кивнул Тальвавтын на Гырюлькая, — много мне должен… В пологе стало тихо. Геутваль побледнела. Эйгели перестала разливать чай — у нее дрожали руки. Ранавнаут замерла. Тынетэгин весь напрягся. В пологе было душно, как перед грозой. И вдруг меня осенило: — Скажи, Тальвавтын, много ли Гырюлькай тебе должен? — До смерти не отдаст, — холодно усмехнулся Тальвавтын. — Нужны ли тебе хорошие товары? Тальвавтын внимательно и остро посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде светилось любопытство. — Оставь Гырюлькаю девку, бери любой выкуп, сам выбирай товары… Долго молчал Тальвавтын, покуривая длинную трубку. Лицо его было непроницаемо. Молчал и Костя, изумленный неожиданным поворотом дела. — Все равно купец… — одобрительно сказал наконец Тальвавтын, — девку покупаешь. — Он переборол злость. — Ладно, пойдем торговать… Напряжение разрядилось. Эйгели шумно вздохнула и принялась поспешно разливать чай. Гырюлькай словно проснулся от глубокого сна. Лицо Тальвавтына разгладилось, мелкие капельки пота выступили на скулах. Геутваль заерзала на своем месте… Все вышли из яранги и направились к нартам. Костя распаковывал тюки и показывал товары, как заправский приказчик. Тальвавтын неторопливо выбирал. Представление о ценности товаров у него было своеобразное. Он отложил два мешка муки, медный чайник, ящик с плиточным чаем, мешок с пампушками черкасского табака и болванку свинца. Таков был выкуп, назначенный Тальвавтыном за девушку. — Дьявольщина! — ворчал Костя, увязывая нарты. — Приехали покупать оленей, а покупаем людей. Ну и влетит нам, Вадим. — Не влетит… — тихо ответил я. — Просто отдали долг Гырюлькая… И все-таки меня грызла тревога: правильно ли поступил? Выкуп Геутваль не лез ни в какие ворота. Но что могли мы поделать? Тут, в сердце Анадырских гор, властвовали законы старой тундры. И пока мы не в состоянии были их изменить. Гырюлькай и Тынетэгин сложили трофеи Тальвавтына на пустые нарты и крепко увязали чаутами, оставленными впопыхах ночными пришельцами. Дипломатическая беседа продолжалась. Все вернулись в полог и устроились вокруг столика. Геутваль от избытка чувств, не стесняясь Тальвавтына, положила свою черноволосую голову ко мне на колени. Невольно я погладил ее спутанные волосы. И вдруг девушка взяла мою ладонь и доверчиво прижалась щекой, окончательно смутив меня. — Раз купил — терпи, — усмехнулся Костя, заметив мое смущение. Тальвавтын спокойно пил чай, не обращая ни на что внимания. Глубокие морщины бороздили скуластое, смуглое, как у индейца, лицо. Я искал повод заговорить и не решался начать важный разговор. Тальвавтын опередил меня. — Зачем приехал в Пустолежащую землю? — нахмурившись, спросил он. — Приехали к тебе в гости — оленей торговать. Тальвавтын не выразил удивления. Видно, о цели нашей поездки хитрец давно уже знал. Недаром встретил нас в поселке на берегу Чаунской губы, в преддверии Пустолежащей земли. Видно, на разведку приезжал. — Зачем тебе олени? — насмешливо прищурился он. — Табуны держать будем далеко в тайге, где люди золото копают, дороги, дома строят. Много людей кормить нужно. — Как будешь чукотских оленей в тайге держать? Дикие они… обратно уйдут… — Хорошие у нас пастухи. Изгороди на темные ночи строим. Большие совхозы там есть. Оленей, что у тебя купим, погоним на Омолон. Тальвавтын задумался. Глаза его стали холодными и жестокими. — Живых оленей чаучу[227] не продают, — резко сказал он. — Много товаров хороших привезли, меняться будем. Деньги платить за каждого оленя и товары разные давать в придачу. Тальвавтын задумался, выпуская из трубки синие кольца дыма. — Давно это было, — заметил Костя, — чукчи много живых оленей американцам продали… на Аляску. Тальвавтын холодно кивнул: — Мой отец тоже чаучу был — не хотел продавать живых оленей мериканам… На этом дипломатический разговор закончился. Тальвавтын пил и пил чай, перебрасываясь с Гырюлькаем односложными замечаниями о своем стаде. Он спросил меня, где “железные дома”, и я ответил, что из Чауна ушли обратно в Певек. Спросил и о войне: кончилась ли она совсем? Простыми словами я рассказал ему о капитуляции Японии, о новостях, тревоживших мир. Тальвавтын внимательно слушал, не выказывая любопытства. Но о продаже оленей больше не обмолвился ни словом. Мы тоже, соблюдая тундровый этикет, не возобновили разговора, представлявшего для нас главный интерес. Закончив затянувшееся чаепитие, Тальвавтын поднялся и хмуро сказал: — Приезжай завтра в гости ко мне, в Главное стойбище. Он перевернул вверх дном чашку на блюдце, показывая, что чаепитие окончено. Тынетэгин побежал ловить ездовых оленей и вскоре пригнал их. Белых впрягли в легковую нарту Тальвавтына. К ней привязали уздечки оленей грузовой связки из двух нарт с выкупом за Геутваль. — Аттау…[228] — отрывисто бросил Тальвавтын. Он прыгнул в нарту, беговые олени понесли; откормленные ездовые быки не отставали. Старик унесся как привидение, так же внезапно, как появился. Радости бедной семьи не было границ. Словно тяжелый груз упал с плеч. Наше появление спасло несчастных людей от голода и неумолимого преследования Тальвавтына. Тынетэгин торжественно протянул мне свой нож в расписных ножнах. Я знал, что это означает; снял с пояса свой клинок и протянул ему. Глаза юноши заблестели. Этот клинок достался мне на Памире в первой моей экспедиции и был выкован таджикскими мастерами из великолепной шахирезябской стали. Обменявшись ножами, мы с Тынетэгином становились побратимами… Только поздно вечером угомонилось веселье в пологе Гырюлькая. Илья отправился спать к Тынетэгину. Мы с Костей остались у Гырюлькая. Улучив минутку, когда Костя вышел из полога, Геутваль на мгновение приникла ко мне и горячо прошептала: — Мне очень стыдно сказать: я очень люблю тебя. Ты отдал за меня большой выкуп, и теперь я принадлежу тебе. Я буду хорошей, верной подругой. Девушка юркнула под заячье одеяло и притаилась как мышонок. Признание Геутваль ошеломило п растрогало. Множество мыслей одолевало меня, и я долго не мог заснуть. В эту ночь приснилась Мария. Она стояла на коленях на плоту среди бушующего океана, как Нанга когда-то во время тайфуна, и протягивала тонкие белые руки. Ее светлые волосы трепал ветер, и слезы бежали по лицу. Во сне мне сделалось невыносимо грустно…ОЖЕРЕЛЬЕ ЧАНДАРЫ
Утром мы устроили настоящий военный совет. Отказ Тальвавтына продавать живых оленей ставил нас в очень трудное положение. — Худо… совсем худо… — говорил Илья, попыхивая трубочкой. — Ну его к чертовой бабушке! — разорялся Костя. — Не имеет он права держать столько оленей! У Гырюлькая мы узнали, что Тальвавтын владеет пятью крупными табунами и, судя по всему, скопил в своих руках больше десяти тысяч оленей. — Целый совхоз захапал! Предъявим ему разрешение окрисполкома на покупку оленей и прижмем ультиматумом! Пришлось охладить пыл Кости — сгоряча действовать нельзя. Это неминуемо приведет к ссоре с Тальвавтыном и сорвет нашу операцию. Ведь с ним кочует многочисленная группа больших и малых оленеводов. Уведет Тальвавтын их в недоступные долины и укрепит только свои позиции. Илья одобрительно кивал. Гырюлькай, которому я перевел существо спора, считал, что уговорить Тальвавтына нужно добром: — В Пустолежащей земле он главный, и его слушают все равно как царя. Костя тут же заметил, что царя давным-давно спровадили к “верхним людям”… Но Гырюлькай покачал поседевшей головой и повторил: — В Пустолежащей земле Тальвавтын все равно царь. Туманно он намекнул, что русские, приходившие год назад с оружием и товарами, ушли к “верхним людям” из Главного стойбища Тальвавтына. А нарты с товарами он приказал не трогать и вернуть на побережье. Сообщение Гырюлькая для нас было новостью. Каждый шаг в этой “стране прошлого” нужно хорошо продумать и сделать с большой осмотрительностью. Мы ступали словно с завязанными глазами по краю пропасти. — В гости в Главное стойбище поедешь — подарки Тальвавтыну привези, — окончил свою немногословную речь Гырюлькай. Старик преобразился. Прежде никто не спрашивал его мнения на столь важном совете. — Хитрющую лису подарками не проведешь! — пробурчал Костя. Тут Илья заёрзал на своем месте. — Ну говори, старина, что сказать хочешь? — Ожерелье, Вадим, надо Тальвавтыну и шаманам показывать. — Ожерелье? Какое еще ожерелье?! — У Пинэтауна я брал… про запас, — хитро сощурился старик. Он долго шарил за пазухой и наконец вытащил и положил на чайный столик груду костяных бляшек. — Ожерелье Чандары?! — воскликнул Костя. — Какомей! — тихо ахнул Гырюлькай. С недоверием и страхом уставился он на груду крошечных медвежьих голов, сцепившихся клыками, виртуозно выточенных из кости. — Знак главного ерыма![229] — прохрипел Гырюлькай, не решаясь притронуться к ожерелью. — Везде Тальвавтын ищет костяную цепь, у людей спрашивает, сундуки стариков смотрит. Все, что попросишь, отдаст Тальвавтын тебе за большой знак ерымов! Милый, мудрый Илья! Как он догадался прихватить с Омолона амулет Чандары? Собираясь на Чукотку, я и не подумал, что ожерелье может нам пригодиться. Эта красивая вещица, снятая с груди умершего Чандары, хранилась у Пинэтауна и Нанги как семейная реликвия. — Красный кафтан, золотой нож у олойских чукчей Тальвавтын нашел, — продолжал Гырюлькай, — анюйские чукчи привезли ему денежные лепешки с блестящими лентами, старинные бумаги с висячей красной печатью… Я осторожно расправил костяную цепь и надел на шею. Медвежьи головы загремели, сцепившись клыками, улеглись на груди ровным рядом. Гырюлькай застыл. Потом торопливо проговорил: — А этот главный амулет Тальвавтын не нашел — совсем пропадал куда-то. Как тебе достался? Ты сын ерыма? — согнувшись в три погибели, спросил Гырюлькай. Костя прыснул: — Только этого не хватало, попадешь еще в самозванцы, Вадим, чукотским царем станешь. — У чукотских ерымов, Костя, были и русские жены, и нет ничего удивительного, если у меня в жилах потечет королевская кровь. Впрочем, шутки в сторону. Ну что ж, подарим Тальвавтыну ожерелье Чандары, а? — Не вздумай отдавать старому хрычу, пока оленей не продаст, — стукнул кулачищем Костя. Столик Энгели скрипнул и зашатался. — Красиво… — тихо произнесла по-чукотски Геутваль, осторожно коснувшись ожерелья смуглыми пальчиками. В стойбище к Тальвавтыну решили ехать не откладывая, втроем с Костей и Гырюлькаем. Костя с Ильей отправились чинить легковую нарту к предстоящей поездке, Гырюлькай и Тынетэгин — ловить ездовых оленей. Энгели хлопотала в чоттагине. Мы с Геутваль остались в пологе одни. После вчерашнего признания Геутваль была грустна и молчалива. Я сказал девушке, что хочу о многом с ней поговорить, но плохо знаю чукотский язык и боюсь, что она не поймет меня как следует. Геутваль взволновалась и заявила, что она хорошо понимает мой разговор и постарается понять все, что скажу. Я взял ее маленькую, шершавую ручку — она потонула в моей ладони — и сказал, что люблю ее, как брат любимую сестру, что мне приятно оберегать ее от всех бед и опасностей, что я всегда буду дружить с ней, но далеко-далеко на Большой земле у меня есть невеста и мы любим друг друга, что ее зовут Мария, она уехала два года назад с Омолона на материк и я очень скучаю о ней. Из нагрудного кармана я извлек свой талисман — портрет в овальной рамке — и долго растолковывал, что это бабушка моей невесты, когда она была молодая, и что Мария очень похожа на нее: “Портрет — все равно Мария”. Растолковать все это было очень трудно, приходилось долго подбирать незамысловатые чукотские слова. Но Геутваль кивала черноволосой головкой и как будто все понимала. Осторожно она взяла миниатюрный портрет, написанный акварелью. Долго и пристально разглядывала бледнолицую незнакомку в бальном платье, с большими печальными глазами и наконец тихо проговорила: — Хорошая твоя невеста, умная… Потом сказала, что сгорает от стыда и просит выбросить из головы вчерашний ее разговор. Меня поразил живой ум и необычайный такт чукотской девушки. Геутваль спросила, где сейчас Мария и что она делает. Объяснить это было еще труднее. — Понимаешь, Мария уехала далеко-далеко, в свою родную страну — в Польшу. И делает так, — невольно вырвалось у меня, — чтобы поляки и русские были братьями и никогда больше не ссорились… Геутваль, волнуясь, пылко воскликнула: — Я не умею, как сказать: всем людям надо стать братьями! И чаучу, и русским, и полякам. — “Полякам” она произнесла с чукотским гортанным акцентом и совершенно покорила меня. Геутваль взволнованно замолкла. Подумав, она спросила, как маленький следователь: — Почему твоя невеста так далеко уехала без тебя и вернется ли она к тебе? Этот вопрос поставил меня в тупик. Наконец я ответил: — Не знаю… давно от нее нет вестей… В глазах девушки блеснули искорки. Она еще что-то хотела спросить. Но объяснение наше прервал Костя — он влез в полог, разгоряченный и красный. — Нарты готовы! Ого, Вадим, молодчина, свою суженую показываешь! — Рассказываю, чтоб ясно все было. — Хвалю… Заморочил ты девчонке голову… Ну, поняла? — обратился Костя по-чукотски к девушке. — Невеста у него любимая есть… Что-то живое, теплое и вместе с тем лукавое мелькнуло в глазах Геутваль. Стремительно она поднялась на колени, поцеловала меня и бросилась вон из полога. — Ну и дьяволенок! — опешил Костя. Гырюлькай и Тынетэгин пригнали ездовых оленей. Они выловили шестерку своих лучших беговиков. — Поедем, как важные гости, — улыбнулся старик. На легковые нарты положили самое необходимое — спальные мешки и рюкзак с продовольствием. Геутваль принесла свой маленький винчестер и протянула мне: — Спрячь в спальный мешок… может быть, стрелять надо… — Ай да молодец! — восхитился Костя. — Бери, Вадим, перестреляют, как куропаток, и отбиться нечем… Я не взял оружие, поблагодарив юную охотницу. В стойбище мы отправлялись как гости и взяли лишь подарки Тальвавтыну: мой “цейс” — великолепный двенадцатикратный бинокль, ожерелье Чандары и рюкзак отборных продуктов. На душе у меня скребли кошки — ведь недавно в стойбище Тальвавтына сложили свои головы представители фактории. Неспокоен был и Гырюлькай. Он курил и курил свою трубку, не решаясь идти к нартам. Рядом стояли наши друзья Тынетэгин, Геутваль, Илья — сосредоточенные и молчаливые. — Может, поеду с тобой? — спросил Тынетэгин, сжимая широкой, сильной ладонью свою длинноствольную винтовку. Мне очень хотелось взять его с собой, но появление Тынетэгина в Главном стойбище наверняка рассердит Тальвавтына. Я сказал об этом юноше. Гырюлькай удовлетворенно кивнул, спрятал трубку и шагнул к оленям. Мы с Костей едва успели прыгнуть в нарты — беговые олени как бешеные рванулись вперед. Комья снега полетели в лицо. Я обернулся: Геутваль замерла, протягивая руки, словно удерживая нарты. Лицо ее побледнело. Вихрем мы уносились навстречу опасности… Погонять быстроходных оленей не приходилось — они мчались во всю прыть. Нарты оставляли позади длинным хвост снежной пыли. Главное стойбище было где-то недалеко — в соседней долине. Как птицы, взлетели на пологий перевал. Впереди, среди белых увалов, открылась широченная снежная долина, словно приподнятая к небу. Повсюду на горизонте вставали белые пирамиды сопок с плоскими, столовыми вершинами. У подножия дальнего увала поднимались в морозном воздухе голубоватые дымы. Гырюлькай остановил оленей и обернулся. На его посеревшем лице мелькнула жалкая улыбка. — Стойбище Тальвавтына… — сказал он каким-то глухим, сдавленным голосом. Крошечной группой мы сошли на седловине, волнистой от застругов. С любопытством рассматриваем необычные столовые сопки. Наконец-то ступили на порог таинственных Анадырских плоскогорий! Гырюлькай достал кисет, набил непослушными пальцами трубку и закурил. Я вытащил из-за пазухи свой “цейс” и навел на голубые дымы. Близко-близко я увидел дымящие яранги, множество нарт, оленей и черноватые фигурки люден, столпившихся на окраине стойбища. Мне показалось, что они смотрят на перевал, где мы стоим. На таком расстоянии они могли видеть лишь точки. Я протянул Гырюлькаю бинокль и спросил, почему так много людей там. Старик, видимо, впервые видел бинокль. Я помог ему справиться с окулярами. — Какомей, колдовской глаз! — воскликнул он, увидев стойбище необычайно близко. — Все старшины собрались, нас заметили… Костя нетерпеливо потянулся к биноклю. — А ну давай, старина. Но Гырюлькай не хотел расставаться с невиданными стеклянными глазами. — Орлиный глаз! — восхищенно чмокал он. — Однако, ждут нас, — отдавая наконец бинокль, проговорил он с нескрываемой тревогой. — Заметили, черти, суетятся, в кучу сбились, побежали куда-то… готовят прием… — бормотал Костя, подкручивая окуляры. — Не разберу, что они делают? Окопы, что ли… — Полегче, старина, многие там и русского человека никогда не видали. — Поехали! — рявкнул Костя. Беговые олени ринулись с перевала галопом. Никогда я еще не ездил с такой быстротой — прямо дух захватывало. Скоро уже простым глазом мы различали фигурки людей. Но странно: теперь они не толпились на окраине стойбища, а занимались каким-то делом. Копошились у нарт, жгли какие-то костры… Гырюлькай поравнялся со мной и радостно крикнул: — Оленьи бега готовят, жертвенные огни зажгли! Галопом мчимся к стойбищу. Но люди там словно ослепли, не замечали гостей. — Хитрые бестии! — крикнул Костя. — И виду не подают… Подъезжаем к стойбищу. Никто не обращает внимания на приезжих. Мужчины готовят нарты, просматривают упряжь, запрягают ездовых оленей. На окраине стойбища, в тундре, женщины жгут костры, кидают в огонь кусочки мяса и жира в жертву духам. Вокруг огней толпятся обитатели стойбища в праздничных кухлянках, шитых бисером торбасах. На шестах у финиша висят призы: новенький винчестер, пампушки черкасского табака, узелок с плиточным чаем. Тут же привязан к нарте призовой олень. Останавливаемся у передней, самой большой яранги, неподалеку от призовых шестов. Люди стараются не смотреть в нашу сторону, но я вижу, с каким напряжением сдерживают они острое любопытство. Из яранги не спеша вышел Тальвавтын в белой камлейке,[230] накинутой на кухлянку, отороченную мехом росомахи. Подол камлейки опоясывают нашивки из ярких шелковых лент. На ногах белые как снег чукотские торбаса. — Етти, о етти! — поздоровался он. — И-и, — отвечаю я. — Бега будем делать, — говорит Тальвавтын. Быстрым взглядом окинул сгорбленную фигуру Гырюлькая, наши великолепные упряжки и, холодно усмехнувшись, спросил старика: — На беговиках приехал? Давай гоняться будем… Гырюлькай радостно кивнул. По внезапному наитию я прошагал неторопливо сквозь расступившуюся молчаливую толпу к шестам с призами, снял с груди “цейс” и повесил на самый высокий шест. Зрители сгрудились вокруг. От нарт бежали мужчины и, смешиваясь с толпой, разглядывали невиданный подарок. — Хороший твой приз! — громко сказал Тальвавтын. — Быстро сегодня побегут олени… Толпа шевельнулась и ответила тихим вздохом. Напряжение разрядилось. — Здорово… вот это номер! — улучив минуту, шепнул Костя. Подготовка к бегам продолжалась с необычайным возбуждением. Драгоценный приз манил гонщиков. Даже Гырюлькай лихорадочно перепрягал в свою нарту лучших беговиков из нашей шестерки. В короткой сегодняшней поездке олени получили хорошую разминку, и Гырюлькаи рассчитывал взять “колдовской глаз”. К бегам готовилось полсотни нарт. Оказалось, что в гонках участвует и Тальвавтын… Видно, старик увлекался бегами. Он пошел к своей нарте. Движения его стали мягки и пружинисты, как у рыси, заметившей добычу, глаза сузились, худощавое лицо окаменело. Белая, утрамбованная ветрами долина, плоская, как дно корыта, была словно создана для оленьих бегов. Одетая плотным настом, она тускло отсвечивала в неярком свете короткого зимнего дня. Нарты одна за другой выезжали на старт. Гырюлькай поставил свою упряжку справа от Тальвавтына. Позади гонщиков сгрудились все обитатели стойбища. Мы с Костей очутились в самой гуще пестрого сборища. Вперед вышел сгорбленный старик в кухлянке с красными хвостиками крашеного меха на спине и рукавах — видно, шаман — и, подняв блеснувшим винчестер, выстрелил… Нарты ринулись, поднимая тучу снежной пыли. Упряжки, обгоняя друг друга, неслись сломя голову. Постепенно они вытягивались гуськом и скоро скрылись за низким увалом у дальнего поворота долины. Без Тальвавтына нас меньше дичились. Женщины с любопытством разглядывали наши бороды, чему-то улыбаясь. Черноглазые ребятишки в меховых комбинезонах жались к матерям, опасливо посматривая на чужеземцев. Молодые чукчи, собравшись вместе, тихо переговаривались, доброжелательно поглядывая в нашу сторону. Только старики демонстративно отворачивались. В толпе я заметил двух молодцов с знакомыми лицами — угрюмыми и неприятными. Они избегали попадаться мне на глаза. За спиной у них поблескивали винчестеры. — Вон наши ночные гости, — толкнул я Костю локтем, — чауты нам оставили. Костя обернулся… С полчаса длилось томительное ожидание. И вот толпа зашевелилась, зашумела. Из-за дальнего поворота вылетали нарта за нартой. Зрители расступились, образовав широкий коридор у финиша. Две нарты, опередив остальные, мчались к стойбищу почти рядом. — Ого! — Тальвавтын и Гырюлькай! — Молодец старина! — Аррай! Аррай! — Уг-уг-уг! — Хоп-хоп-хоп! Все были охвачены необычайным возбуждением. Олени неслись галопом, высунув розовые языки. Упряжка Гырюлькая на полкорпуса опередила тальвавтыновских красавцев. Оба гонщика, согнувшись на своих нартах, погоняли оленей. Упряжки мчались, словно связанные невидимым ремнем. Расстояние между передовой парой и остальными нартами увеличивалось. — Гэй, гэй, аррай! — подпрыгивали зрители, хлопая рукавицами. Костя рокотал раскатистым басом. — Гырюлькай! Гырюлькай! Давай, давай, старина!.. Чувствуя близость финиша, олени выкладывали последние силы. Тальвавтын привстал на коленях, со свистом рассекая воздух погонялкой; он что-то кричал оленям, теснил нарту Гырюлькая. Лицо его помолодело, горело азартом. И вдруг мне показалось что Гырюлькай не хочет обгонять Тальвавтына. Он по-прежнему погонял оленей, согнувшись в три погибели, едва заметно уступая Тальвавтыну дорогу. Морды их оленей поравнялись, Тальвавтын уже на четверть корпуса впереди. И вдруг он почти встал на своей нарте, бешено погоняя упряжку. Олени рванулись и… вырвались вперед у самого финиша. Молниями промелькнули мимо упряжки. Через секунду навалились и остальные нарты. Снежная пыль заволокла все вокруг… Бега закончились. К шестам подошли Тальвавтын и Гырюлькай. — Быстроноги твои олени… — хрипло говорит Тальвавтын, — хорошо бегали… Скрывая волнение, Тальвавтын неторопливо снял драгоценный приз. Гырюлькай отвязал призового оленя. Новенький винчестер достался краснолицему юноше в кухлянке, подбитой волчьим мехом, — сыну главного шамана. Плиточный чай и пампушки табака поделили между собой двое чукчей с суровыми лицами, исполосованными глубокими, как шрамы, морщинами. Все были довольны. Я понимал, что Гырюлькай в последнюю секунду добровольно уступил победу Тальвавтыну, не желая, видимо, осложнять накаленную обстановку. — Вот так старина, — тихо сказал Костя, — ну чем не дипломат! Вокруг Тальвавтына толпились мужчины, поздравляли с выигранной гонкой, по очереди прикладывались к биноклю, удивленно цокали, разглядывая далекие вершины. Прирожденные оленеводы и пастухи оценили необыкновенный приз. С таким “колдовским глазом” очень легко было искать отколовшихся от табуна оленей. Костя обратил внимание на обилие оружия в стойбище. Почти на каждой нарте лежал винчестер. Многие молодые чукчи стояли с небрежно закинутыми за спину винтовками. Люди Тальвавтына были вооружены до зубов. Но больше всего нас поразило состояние оружия: новенькие винчестеры блестели, точно купленные в оружейном магазине. Винчестеры на Чукотке остались со времен контрабандной торговли американцев. За многие годы после запрета хищнической торговли винчестеры износились, истерлись… — Откуда раздобыли повое оружие, черти? — удивился Костя. Тальвавтын пригласил нас в свою просторную ярангу. Внутри висел громадный полог, по крайней мере втрое больше, чем у Гырюлькая. Мы с Костей сбросили в чоттагине кухлянки и влезли вслед за Тальвавтыном в большую меховую комнату. Жирник, похожий на блюдо, освещал роскошное меховое жилище. Пол устилали пушистые белые оленьи шкуры. У светильника висела пышная связка старинных амулетов — “семейных охранителей” — идолов, вырезанных из дерева, украшенных кусочкамимеха. На шкурах восседала старуха в богато расшитом керкере и курила длинную трубку. Она кашляла, бормотала какие-то проклятия и не обращала ни малейшего внимания на гостей. Тальвавтын резко оборвал ее. Она спрятала трубку, зашипела, как змея, и выбралась из полога. — Ну и карга! — проворчал Костя. Тальвавтын расположился на шкуре пестрого оленя, пригласил сесть рядом, вытащил трубку с блестящим медным запальником и неторопливо закурил. Старуха внесла низенький столик и поставила перед нами. Она не переставила что-то бурчать себе под нос. В полог поодиночке вползали люди. Молчаливо усаживались на оленьих шкурах вокруг столика. Меня поразили их лица: выдубленные полярными морозами, иссеченные морщинами, насупленные. Их соединяло какое-то общее выражение, словно родных братьев. Я пытался уловить это выражение и вдруг понял — высокомерие. В отблесках огня лица их напоминали мрачные и неподвижные жреческие маски. У многих на рукавах болтались хвостики крашеного меха. Видно, тут собрались старшины и шаманы стойбищ, подчиненных Тальвавтыну. Все они невозмутимо покуривали длинные трубки, точно индейские вожди на военном совете. — Вот так синклит… — усмехнулся Костя. Я спросил Тальвавтына, много ли у него стойбищ в подчинении. — Считай, — ответил он небрежно, кивнув на людей. — Каждый человек — стойбище… — Недурно! Двадцать гавриков, — констатировал Костя. Тут портьера зашевелилась, и в полог явилось еще двое те самые парни с угрюмыми физиономиями. Они уселись напротив нас, в темном углу полога, положив на колени винчестеры. — Ничего себе… — прошептал Костя, — целая батарея… Невольно я подумал, что именно эти парни спровадили к “верхним людям” наших предшественников. Мы сидели перед этой грозной батареей, освещенные светильником, беззащитные, как младенцы. Старуха, кряхтя, втащила деревянное блюдо с горой дымящейся жирной оленины. Видно, для встречи гостей забили яловую важенку. Костя неторопливо поднялся и вышел из полога, провожаемый двадцатью парами внимательных, настороженных глаз. Никто не притрагивался к дымящемуся мясу. Портьера зашевелилась- в полог вернулся Костя. Он принес с нарты рюкзак с угощениями. Мы уставили столик невиданными яствами, стараясь представить полный ассортимент своих продуктов во всей красе. Костя вытащил даже флягу с неприкосновенным запасом спирта. Лица оживились. Мясо было сочное и ароматное. Засверкали ножи. Все ели с аппетитом. Старуха немного смягчилась и перестала бормотать свои проклятия. Она принесла котел с наваристым бульоном, достала из старинного сундучка тонкие фарфоровые пиалы и разлила гостям ароматный навар. Бульон все закусывали галетами. После бульона Костя ножом вскрыл банки с персиковым компотом и разлил всем в чашки. Десерт понравился. Вожди тянули его крошечными глотками, поддевая скользкие персики ножами. Костя вскрывал все новые и новые банки. Раскрыв последнюю, поднес ее старухе. Она окончательно замолкла и принялась за невиданное угощение, ловко орудуя ножом. Но Костю она наградила свирепым взглядом, в котором светились неистовая злоба и затаенное торжество. — Ведьма чертова… — прошептал Костя. Началось бесконечное чаепитие. Напряжение, повисшее в пологе, немного разрядилось. Лицо Тальвавтына разгладилось, подобрели лица свирепых его помощников. Только двое с винчестерами оставались настороженными, словно к чему-то прислушивались. Кушанья перемешались. Старуха принесла блюдо, полное розоватых палочек сырого костного мозга. Он таял во рту, как масло. Мы закусывали его конфетами и запивали густо заваренным чаем. Пламя в жирнике разгорелось, он пылал точно светильник в катакомбах, освещая желтоватыми бликами странное сборище. Двое с винчестерами нетерпеливо поглядывали на Тальвавтына. Лицо старика нахмурилось и побледнело. Он едва скрывал возбуждение. Притихли и его помощники. В пологе наступила зловещая тишина. Кажется, пора. Незаметно расстегиваю пуговицу на рукаве лыжной куртки. Ожерелье, обмотанное кольцами вокруг руки, соскальзывает вниз. Протягиваю пустую чашку к чайнику старухи. На запястье улеглись кольцами медвежьи головы, сцепившиеся клыками. Ожерелье свободно свешивается с руки несколькими браслетами. Шлифованные костяные бляшки тускло отсвечивают в колеблющемся пламени светильника… Блестящий носик чайника ходит ходуном. Старуха уставилась на ожерелье, позабыв лить чай. Тальвавтын и его старшины словно в столбняке. Все как завороженные смотрят на ожерелье. Изумление, недоумение, страх написаны на лицах. Старуха, схватившись обеими ладонями за дужку чайника, угодливо принялась наливать мне чай. Ставлю полную чашку около себя, поднимаю руку — костяные бляшки гремят, — ожерелье скользит, как живое, обратно в рукав лыжной куртки. Как ни в чем не бывало застегиваю пуговицу. Такого эффекта мы не ожидали и с любопытством наблюдаем немую сцену. Первым очнулся Тальвавтын. — Скажи, откуда у тебя ожерелье наших ерымов? И тут моя фантазия воспламенилась: — Последний ваш ерым подарил ожерелье моему отцу на Омолоне. А отец передал его мне, когда я поехал к вам, на Чукотку. Это была бессовестная ложь, и до сих пор я не могу понять, почему я так ответил Тальвавтыну. Я солгал, ввел в заблуждение неграмотных, полудиких людей. Костя хмыкнул, возмущенно заерзал на своем месте, обалдело поглядывая на меня. Тальвавтын опустил голову, глаза его горели. После долгого раздумья он спросил: — А знаешь ли ты, откуда наши ерымы получили эту костяную цепь? — Нет, отец никогда не говорил мне об этом… — Наши ерымы, — гордо проговорил Тальвавтын, — были потомками того храброго чукотского вождя, который победил вашего жестокоубивающего Якунина.[231] Сцепившиеся медвежьи головы — знак единения наших племен. Этот вождь получил в наследство от внуков Кивающего головой[232] — знаменитого чукотского воина, защитившего нашу землю от коряков, отбившего у них большие стада оленей. Вождь, победивший вашего Якунина, завещал медвежью цепь своему сыну. А когда сын состарился, ожерелье получил Галагын — первый чукотский тойон. Этот передал ожерелье своему сыну Яатгыргину — тоже чукотскому тойону. А Яатгыргин, когда умирал, отдал его Омракуургину — первому чукотскому ерыму. Он был все равно что царь. Меня поразила осведомленность Тальвавтына, и я спросил, откуда он все это знает. — Древние вести старые люди рассказывают… Очень старые люди видели твое ожерелье у старшего сына Эйгели — последнего нашего ерыма. Он кочевал летом на Олое, а зимовал на Омолоне. Потом, — вздохнул Тальвавтын, — медвежья цепь совсем пропала, и чукотские племена стали жить каждый по себе, каждый по своему разуму. Остались только кафтан ерымов, золотой нож, блестящие лепешки на лентах и бумаги старинные, что белый царь чукотскому царю дарил… Речь Тальвавтына была куда более красочной. Я пересказываю се своими словами, хотя и довольно точно, потому что слушал с необыкновенным вниманием и даже просил Тальвавтына повторять дважды непонятные места его речи. Так вот откуда пошли чукотские ерымы! Тальвавтын несомненно сообщал сведения большой исторической ценности. Особенно меня поразила история ожерелья Чандары. Не случайно Синий орел берег его как символ наследственной королевской власти, легендарные чукотские богатыри считали это ожерелье магическим знаком единения раздробленных племен, а Тальвавтын разыскивал пропавшее ожерелье, чтобы заполучить символическую реликвию в свои руки и укрепить престиж неограниченной власти. Кое-что из истории известно было и мне. В 1742 году в ответ на непослушание чукчей императорский сенат вынес жестокое решение: “На оных, немирных чукоч военною, оружейного рукой наступать и истребить вовсе”. Комендант Анадырской крепости майор Павлуцкий силой оружия и жестокостью пытался выполнить это решение и подчинить непокоренных чукчей, но в 1747 году был разбит чукотским военачальником и убит в бою. Царское правительство, решив действовать после неудачной войны с чукчами мирным путем, пожаловало сыну и внукам этого вождя знаки отличия — кафтаны и медали на лентах. Сто лет спустя Майдель, ученый-путешественник и представитель царской власти в Колымо-Чукотском крае, попытался закрепить у чукчей начальственную организацию, разделив чукчей на ясачные роды во главе с родовыми старшинами и верховным князем Омракуургином. Как символ наследственной верховной власти Омракуургин получил царский кафтан, кортик, инкрустированный золотом, серебряные медали, жалованные грамоты с висячими сургучными печатями. А от своих предков — ожерелье знаменитого чукотского вождя Кивающего головой. По счастливому стечению обстоятельств, эта старинная реликвия оказалась в наших руках… — Зачем тебе ожерелье наших ерымов? — спросил вдруг Тальвавтын. — Подари мне костяную цепь. Я задумался. Пламя светильника освещало суровые лица. Тальвавтын недаром собирал старинные прерогативы власти ерымов. Видимо, старик всеми путями стремился укрепить свою власть в Пустолежащей земле. Но спасут ли его от неумолимого наступления времени старинные побрякушки? — Тебе, Тальвавтын, нужно ожерелье ерымов, нам — олени. Продавайте пять тысяч важенок. Мы тебе и твоим людям деньги, товары — все отдадим и ожерелье в придачу. Тальвавтын выслушал предложение не шевельнувшись, опустив голову. Вокруг неподвижно, как мумии, сидели его приближенные. В пологе было душно и жарко. Они могли просто укокошить нас и овладеть ожерельем и товарами. Я видел, как напрягся Костя, готовый отразить нападение. В темном углу зашевелились парни с угрюмыми физиономиями. Мне почудилось, что дула винчестеров дрогнули, поворачиваются в нашу сторону. А Тальвавтын неподвижно сидел и молчал, словно погрузившись в забытье. Атмосфера накалялась. Все взгляды обратились к Тальвавтыну. Как будто ждали его сигнала. — Ты говоришь, — вдруг хрипло спросил он, — что последний ерым подарил костяную цепь твоему отцу? Хорошо… Совет старейшин будем делать — отвечать тебе. А теперь прощай, — нахмурился он, — будем думать. С облегчением мы выбрались из душного полога. Никто не вышел нас провожать. Гырюлькай, бледный, осунувшийся, ждал у нарт. Видно, не надеялся увидеть живыми. — Поехали домой, старина, — улыбнулся Костя. — Ну и дьяволы, чуть не прикончили нас. Думал, отправимся с Вадимом к “верхним людям”…КОРАЛЬ
Домой возвращались в полночь, радостные и возбужденные. Звездное небо переливало разноцветными сполохами, ярко светила луна, туманный Млечный Путь уводил куда-то выше перевала в темную пропасть неба. Олени бежали резво и споро. Хрустел снег под копытами, визжали полозья. Нарты скользили будто по алмазной пыли. Взлетев на перевал, мы едва не сшиблись с бешено несущимися оленьими упряжками. На передней нарте стояла на коленях Геутваль, погоняя оленей гибкой тиной.[233] Кенкель[234] со свистом рассекал воздух. За спиной у нее блестел винчестер. Позади галопировала вторая упряжка с Тынетэгином, вооруженным длинноствольной винтовкой. Они неслись, как ночные духи, и лишь в последнюю секунду свернули, избегая столкновения. — Куда, сумасшедшая?! Геутваль вихрем слетела с нарты. — Какомей! Жив ты?! Подбежал Тынетэгин: — Тальвавтына убивать ехали… — Ну и дьяволята! — рассмеялся Костя. Не сговариваясь, мы подхватили Геутваль и стали подкидывать к небу, полыхающему зеленоватыми огнями. Наконец девушка уцепилась за мой капюшон, и я осторожно поставил ее на сверкающий снег. — Думала, совсем пропадал… — тихо проговорила она по-чукотски и вдруг прижалась раскрасневшейся щечкой к обветренному, бородатому моему лицу. Я ощутил нежное тепло девичьих губ. — Огонь девка! — восхитился Костя и взял ее маленькую ручку в свои громадные ладони. — Осторожно, не раздави, медведь. — Не ревнуй, хватит с тебя и Марии, — ответил Костя. — Что он говорит? — спросила Геутваль. — Этот говорит, что ревную тебя. Глаза девушки плутовато блеснули. Все вместе мы стояли рука об руку на обледенелом перевале, освещенные северным сиянием. Вороненые стволы винтовок тускло отсвечивали, и казалось, что никакие опасности теперь не страшны нам. Почему-то пришла на ум песенка из джек-лондоновского романа “Сердца трех”. Я обнял Геутваль и громогласно затянул гимн искателей приключений: Ветра свист и глубь морская! Жизнь недорога. И — гей! — Там, спина к спине у грота, Отражаем мы врага! Голос терялся в густом морозном воздухе, а пустой, обледенелый перевал мало походил на палубу корабля. Не было и грот-мачты. Но все равно — песня сложена была о таких же доблестных скитальцах, какими мы себя сейчас представляли. — Ох и фантазер ты, Вадим! — воскликнул Костя. — А ну, давай еще: и — и раз… Ветра свист и глубь морская! Жизнь недорога… Схватившись за руки, мы протанцевали дикий чукотский танец, увлекая в свой круг оторопевшего Гырюлькая. Вероятно, люди в мехах, пляшущие на пустынном перевале, в призрачном свете луны имели довольно странный вид. Спускаясь в Белую долину, мы гнали оленей галопом. В холодной мгле упряжки, посеребренные инеем, мчались гуськом, не отставая, точно летели на серебряных крыльях… Две недели Тальвавтын не подавал о себе вестей. Мы истомились, ожидая ответа. Каждое утро уходим с Гырюлькаем и Тынетэгином в стадо — помогаем пасти табун Тальвавтына. Илья остается в стойбище — сторожить груз. Зимний выпас северных оленей несложное дело. Олени спокойно копытят снег, добывая ягель. Ягельники здесь богатые, никем не потревоженные, одевают землю пушистым ковром. Снег рыхлый, и олени держатся почти на одном месте, не отбиваясь от стада. Мы разделили громоздкий трехтысячный табун на две части и пасем в двух соседних распадках, не скучивая животных. У оленей хорошо развит стадный инстинкт, и теперь даже отъявленные бегуны не уходят далеко, а прибиваются к одному из косяков. Утром обходим на лыжах распадки с оленями и следим за выходными следами. Тынетэгин или Гырюлькай объезжают окрестности на легковой упряжке — “смотрят волчий след”: не появились ли хищники? Геутваль целыми днями пропадает на охоте и возвращается в ярангу только вечером с трофеями: куропатками, зайцами, иногда приносит песца. Ведь она единственный кормилец семьи: Тальвавтын, поссорившись с Гырюлькаем, запретил старику забивать оленей на питание. Нас поражают олени Тальвавтына — все рослые, как на подбор, упитанные, несмотря на зимнее время. Оказывается, олени — страсть Тальвавтына. Он знает “в лицо” большинство хороших важенок и хоров[235] во всех своих табунах и безжалостно бракует плохих животных во время осеннего убоя на шкуры и зимнего убоя на мясо. В отел не цацкается с новорожденными телятами. Все это нам рассказывает Гырюлькай: — Тальвавтын велит: пусть остаются только самые сильные и крепкие телята, как у диких оленей. Потому люди, если его слушают, много шкур на одежду и мяса на еду получают… — Хитрющая бестия, — покачал головой Костя, — трех зайцев убивает: людей приманивает, мехсырье получает и оленей отборных без канители выращивает. — Ну, положим, такое натуральное хозяйство приносит мало толку Чукотке. Ведь товарной продукции огромные стада Тальвавтына почти не дают. — Копят, гады, оленей — ни себе, ни людям… — ворчит Костя. — Если Тальвавтын продаст важенок Дальнему строительству, — примирительно говорю я, — оправдает свое существование. — Реквизировать излишки у кулачья надо, слить в товарные совхозы, и баста! — Пришелся бы ты по душе нашему генералу… Гырюлькай рассказывает, что всю жизнь пасет оленей, знает, как держать табун, чтобы олени жирные были. “Все сопки, долины, урочища Пустолежащей земли знаю”. — Эх, хорошо бы Гырюлькая с семейством заполучить пастухами нашего перегона!.. — размечтался Костя. — Прежде надо выудить оленей у Тальвавтына. Мы сидим на легковых нартах, покуривая трубки. Перед нами простерся белый распадок, усыпанный оленями. Они спокойно взрыхляют снежную целину. — Гык! — вскочил Гырюлькай. — Люди едут. По длинному склону на увал, где мы расположились, быстро поднимаются две оленьих упряжки. На передней нарте Тынетэгин. За ним — гость в темной кухлянке и в пушистом малахае. Что-то знакомое было в его подтянутой фигуре. — Твой приятель пожаловал, — пробурчал Костя. Нарты подъехали, гость откинул малахай, открыв хмурое, неприятное лицо. Я узнал одного из телохранителей Тальвавтына. Парень избегал моего взгляда. Мы обменялись короткими приветствиями. — Письмо тебе привез Вельвель, — сказал Тынетэгин, стирая рукавом капельки пота с коричневых скул, — Тальвавтын писал… — Письмо? Тальвавтын умеет писать?! — По-чукотски тебе писал, — ответил юноша. Посланец молчаливо снял с шеи ремешок с узкой дощечкой, ловко развязал узелок, сдернул ее с ремешка и протянул мне. На дощечке, выструганной из светлой древесины тополя, чернели странные знаки, похожие на иероглифы. — Что это? — протянул я дощечку Тынетэгину. — Тальвавтын говорит: “Согласен два табуна важенок тебе продавать, приезжай — торговать будем…” — Здорово! — Я едва скрыл радость. — Посмотри, Костя, письменность у них своя! — Почище, чем у Синих орлов, — удивился Костя. Действительно, это было уже не простое рисуночное письмо, а почти иероглифы. Настоящая идеограмма. Каждый знак изображал слово или его значение. Я вспомнил университетские лекции по этнографии: идеографическое письмо люди придумали в эпоху зарождения государства и развития торговли — потребовалось передавать на расстояние довольно сложные тексты. В чистом виде такое письмо сохранилось на старинных дощечках у обитателей острова Пасхи и Океании. — Дощечке этой, Костя, цены нет, просто феномен какой-то — идеографическое письмо в двадцатом веке! Наши этнографы с ума сойдут. Спрашиваю Гырюлькая, давно ли люди Пустолежащей земли передают так мысли. — Десять лет назад Тальвавтын и шаманы стали нас учить… Придумал говорящие знаки чукотский пастух Теневиль. Тальвавтын говорил: “Так рисовать мысли лучше, чем русские учат. Всем понятно — чукчам, ламутам, корякам, юкагирам: одни знаки на всех языках”. — В общем, эсперанто придумали, — усмехнулся Костя. — Ну и бестия Тальвавтын! Под тихую сколачивает здесь свое государство — прибрал к рукам оленей, прерогативы чукотских ерымов, письменность, изобретенную Теневилем, в общем, охмуряет людей Пустолежащей земли… — И пожалуй, с большим успехом, чем Синий орел, — заметил я. — Отвинтить Тальвавтыну голову нужно! — Ну-ну, дружище, потише! Все-таки анадырский король продает оленей нашим совхозам. — Кто его знает… — с сомнением покачал головой Костя. Я обратился по-чукотски к Вельвелю: — Скажи Тальвавтыну, что хорошее письмо прислал, завтра приедем торговать оленей. Вельвель хмуро кивнул. Костя протянул кисет с табаком. Он поспешно набил трубочку. Молчаливо выкурил, коротко попрощался, прыгнул в нарту и понесся вниз по склону к Белой долине. Упряжка скрылась в морозной дымке. Мимолетная встреча казалась сном. Но в воздухе стоял еще терпкий запах выкуренной трубки Вельвеля, а в руках осталась белая дощечка, изукрашенная необыкновенными письменами. Все понимали важность случившегося. Дощечка с письменами пошла по кругу… На следующее утро мы с Костей отправились к Тальвавтыну на своей собачьей упряжке. Отдохнувшие собаки неслись во всю прыть, радостно повизгивая, хватая снег на бегу, — им надоело сидеть без дела. Вот и знакомый перевал. Вдали, у подножия сопки, темнеют яранги Главного стойбища. Подъезжаем ближе и удивляемся — стойбище словно вымерло. Не видно ни людей, ни оленей. Никто не выходит навстречу приезжим. Ставим упряжку на прикол неподалеку от большой яранги Тальвавтына, идем к шатру, поскрипывая снегом. В чоттагине встретила знакомая старуха. Недовольно пробурчав приветствие, матрона с ядовитой любезностью пригласила в полог. На белых шкурах, накрывшись кухлянкой, спал Тальвавтын. Необычайно высокого для чукчи роста, он едва вмещался в меховой комнатке. — Тальвавтын! — притронулся я к спящему. Старик вздрогнул и сел. — Гык! Крепко заснул, — пробормотал он, вытаскивая трубку и закуривая. — Письмо твое получили, торговать оленей приехали. Старуха поставила свой почерневший столик, принесла чайник и блюдо с замороженным костным мозгом. Костя вытащил из-за пазухи заветную фляжку и разлил спирт в фарфоровые чашки. Спирт мы имели право расходовать в исключительных случаях — только на торжественное угощение, и точно выполняли инструкцию. Лицо Тальвавтына оживилось. — Хорошо торгуешь, — заметил он, кивнув на флягу, — давай разговаривать. На тонких губах мелькнула ироническая усмешка. Я сразу приступил к делу и сказал, что за каждую важенку мы заплатим по твердой государственной цене. — Продашь пять тысяч важенок — получишь вот такой сундук денег, — кивнул Костя на деревянный ящик, обтянутый сыромятью, из которого старуха извлекла фарфоровые чашки. — И в придачу, — добавил я, — все продукты и товары, которые мы привезли с собой. — Сколько денег? — удивился Тальвавтын. — Как считать буду? — Купить сможешь две фактории со всеми товарами и домами в придачу. — Какомей! — Глаза Тальвавтына заблестели. — Только, чур, важенок продавай отборных — на племя! — Из разных стад давать буду, — поспешно сказал Тальвавтын. — Только как отбивать будешь? — Кораль — деревянную изгородь у границы леса построим. — Однако, плохо, — покачал головой старик, — важенки бока намнут о твердую загородку, много выкидышей в отел будет. Видно, Тальвавтын не пользовался никогда коралем. Мы с Костей отлично знали, что олени, загнанные в кораль, избегают прикасаться к изгороди. Я сказал об этом Тальвавтыну. Он удовлетворенно кивнул — повадки оленей старик знал великолепно. Весной перед отелом чукчи отбивают самцов от отельных важенок, загоняя табун в ограждение из туго натянутых арканов, завешанных шкурами. И олени никогда не сметают шаткой преграды. — Как пасти купленных оленей будешь? — спросил вдруг старик. В его глазах вспыхнули недобрые искорки. — Пастухов у нас пока нет, дай нам людей для перегона на Омолон — оттуда нам навстречу нам люди кочуют. Тальвавтын нахмурился, долго молчал, покуривая трубку, и наконец ответил: — Нет лишних людей у меня. Как давать стану? — Много оленей у тебя покупаем — два табуна, — вмешался Костя, — меньше пастухов тебе нужно. Старик одобрительно хмыкнул — ему понравилась логика ответа. Вообще он с удовольствием вел с нами дипломатическую беседу. Дело было стоящее — он получал большие оборотные средства и действительно мог стать королем Анадырской тундры. Покупая у него оленей, Мы невольно укрепляли его могущество. Но людей выпускать из-под своей эгиды Тальвавтыну не хотелось. — Очень нужны мне люди, — повторил он. — Не насовсем у тебя просим — на четыре месяца. Тальвавтын задумался. — Хорошие подарки, выкуп тебе за людей дадим, — вмешался вдруг Костя. — А что генерал скажет? — не преминул заметить я. Костя махнул рукой. — Его бы сюда, в это чертово пекло! — тихо ответил он. — “С волками жить — по-волчьи выть”. Мы выбросили все козыри. Не согласись старик выделить нам пастухов, вся операция полетит к чертям. Но и Тальвавтын понимал, что, если не даст нам людей, чертовски выгодная для него сделка не состоится. Все решалось на острие ножа. — Сколько тебе людей надо? — спросил Тальвавтын. — Человек шесть нужно. Это было очень мало — вдвое меньше, чем требовалось. Но я понимал, что многого не выудишь. Да и мы с Костей могли помочь пастухам. Кроме того, зимний выпас требует меньше людей, а к весне с Омолона подоспеет выручка. Долго молчал старик, о чем-то раздумывая, и наконец сказал: — Ладно, бери пока Гырюлькая, Тынетэгина, Ранавнаут и Геутваль, Эйгели еще — торбаса, одежду чинить. Тальвавтын сделал паузу, затянулся и выпустил синие кольца дыма из длинной трубки. — И Вельвеля еще возьмешь… Костя обрадовался. Лицо его раскраснелось, глаза заблестели. Его желание сбывалось: семейство Гырюлькая переходило в полном составе к нам. Но Вельвель… Правая рука Тальвавтына. Зачем его подсовывают нам? Но выбора не было, мы ударили по рукам. Может быть, мне показалось, но в глазах Тальвавтына мелькнуло торжество. Коварство и хитрость старика мы в полной мере испытали позже. — Праздник большой у кораля устроим, — польстил я старику, — праздник отбоя оленей. Тальвавтын кивнул. Но глаза его оставались холодными и колючими. Долго пили чай, обсуждая детали предстоящего отбоя. Кораль Тальвавтын посоветовал построить на границе леса у Белой сопки. Ее столовую вершину мы видели с перевала. Тальвавтын сказал, что пусть Гырюлькай кочует с табуном к подножию Белой, сопки, а Вельвеля он пришлет к нам завтра в помощь Гырюлькаю. Мы обещали выстроить кораль в десять дней — невероятно короткий срок. Но медлить нельзя — приближается время, когда беспокоить стельных важенок небезопасно. Окончив торг и бесконечное чаепитие, распрощались, договорившись встретиться через десять дней у Белой сопки… — В толк не возьму, почему старый лис так быстро согласился? — недоумевал Костя на обратном пути. — Еще бы не согласиться — денежки с неба валятся и продукты на все дикие стойбища Пустолежащей земли. — В кон ему ударили… — хмуро посетовал Костя, — власть его укрепляем… Гырюлькай просто не поверил известию о благополучном завершении переговоров. — Как живых оленей продавать согласился? — недоумевал он. — Половину богатства отдает. Геутваль заметила, что тут что-то нечисто: Тальвавтын неспроста так быстро согласился продать оленей — хитрит, как старая лисица. И все-таки спокойнее стало у всех на душе. Вечером мы собрались в пологе Гырюлькая. Было уютно и тепло. Казалось, что все преграды рухнули и мы почти у цели. Эйгели и Ранавнаут накрыли чайный столик. Теперь у них был целый сервиз, который мы с Костей преподнесли женщинам из “посудного отдела” своей передвижной фактории. За чаем я торжественно объявил нашим друзьям, что отныне они пастухи перегонной бригады Дальнего строительства: Гырюлькай-бригадир, а Эйгели — чумработница. И что каждый месяц они будут получать хорошую зарплату и покупать любые продукты, какие хотят. Долго мы с Костей растолковывали, что такое зарплата и сколько товаров можно купить на эти деньги. Гырюлькай восхищенно цокал, Эйгели прыскала, удивляясь, за что она будет получать деньги, — ведь всю жизнь починяла одежду Гырюлькаю и своим детям даром. Тынетэгин и Геутваль как завороженные слушали нас, и мне чудилось, что они видят какие-то новые, невидимые для нас горизонты. Геутваль порывисто поднялась на колени, откинула керкер (в пологе было жарко) и, протянув обнаженную руку к светильнику, воскликнула: — Мы будем сами себе люди, никогда не вернемся к Тальвавтыну и будем всегда кочевать с тобой, да?! Глаза ее блестели. Пылкая ее душа не знала покоя. Тынетэгин подался вперед. Лицо его покрылось пятнами. Костя сидел притихший и молчаливый, поглядывая с нескрываемым восхищением на бронзовую фигурку Геутваль. С распущенными волосами, черными и блестящими, девушка походила на жрицу дикого, первобытного племени… Утром приехал Вельвель. Тальвавтын выполнил обещание и прислал его к нам пастухом. Вельвель привез Гырюлькаю дощечку с иероглифами — коротким распоряжением перегонять табун к Белой сопке и там ждать подхода остальных табунов Тальвавтына. Я попросил у Гырюлькая “говорящую дощечку”. Так я начал собирать уникальную коллекцию идеографического письма Пустолежащей земли, взбудоражившую впоследствии университетских языковедов… Несколько дней мы продвигались с табуном и со всем своим караваном вниз по Белой долине, забираясь дальше и дальше в глубь Пустолежащей земли. Костя ехал задумчивый и хмурый. — Заманивает нас старый плут в ловушку… сами лезем в капкан. Но я не видел опасности. Ведь Тальвавтын согласился продать нам оленей и, видно, решил честно выполнить свое обещание. — Посуди сам, — говорил я Косте, — зачем ему расставлять какие-то ловушки? Ведь расправиться с нами он мог уже давно. Да и сделка чертовски выгодна для него — получает в собственность и законным путем целый “королевский банк” и “универсальный магазин” с товарами. Но Костя молчал, нахмурившись. Только на третьи сутки мы подошли к Белой сопке с плоской, как стол, вершиной. На снежных ее склонах чернели мохнатые от древесных лишайников узловатые лиственницы. На речных террасах поднимались более стройные деревья. Граница леса частоколом перегораживала Белую долину. Ох и обрадовались мы лесу! После бесконечных скитаний в лабиринте голых, безжизненных сопок, закованных в снежный панцирь, деревья казались близкими, родными друзьями. Яранги поставили на опушке среди лиственниц, утоптали площадку, накололи дров из сухостоя, и сразу лагерь принял обжитой вид. Костя расположил нарты с грузом квадратом вокруг лагеря, оставив лишь узкий проход к ярангам. Получилась маленькая крепость среди снежной тайги. Время подгоняло: через неделю к границе леса прикочует Тальвавтын с табунами. Надо успеть срубить, как договорились, кораль. Место для изгороди выбирали всей бригадой. На плоской террасе среди лиственниц нашли просторную опушку. Долго бродили с Костей в снегу, считая шаги, и наконец составили план кораля. Конструкцию его упростили — ведь рук для строительства не хватало. Костя принес из наших неистощимых запасов новенькие американские топоры на длинных изогнутых ручках, похожие на большие томагавки, и ручную канадскую пилу. Работа закипела. К сумеркам уложили длинные завалы крыльев. Они суживались воронкой ко входу в будущий вспомогательный загон. Усталые и довольные, возвращались мы в лагерь. — Больно хорошо пастухом у тебя работать, — вдруг сказала Геутваль, поправляя выбившиеся из-под канора волосы. — Ты работаешь не у него, — рассмеялся Костя, — а в Дальстрое, понимаешь, в Дальстрое… Гырюлькай шел, поглаживая блестящее лезвие топора: — Очень нужный, хороший топор! Приятно было растянуться в теплом пологе, пить горячий чай, уплетать сочную вареную оленину. Все были в приподнятом настроении. Наше настроение передавалось и женщинам. Смешливо переговариваясь, они суетились у чайного столика. Гырюлькай и Илья мирно покуривали прокопченные трубочки. На душе у меня было легко и радостно: шаг за шагом мы подвигались к своей цели. Я спросил Костю, что такое счастье. — Коо… кто его знает… — рассеянно ответил он, пробудившись от раздумий. — Хочешь, выдам самое точное, самое верное определение?.. — Ну, выкладывай! — Счастье, старина, — в достигнутой благородной цели! Костя обалдело уставился на меня и вдруг, смутившись, отвел в сторону глаза. Пять суток, почти не отдыхая, рубим и рубим лиственницы. Жерди приколачиваем прямо к стволам деревьев. Особенно пригодились нам строительные железные скобы. Целый мешок их подарил нам в Чауне Федорыч, прослышав, что собираемся строить первый кораль в центре Чукотки. К концу недели, совершенно выбившись из сил, окончили хитроумное сооружение и были готовы принять табуны Тальвавтына. Первыми почуяли приближение чужих табунов ездовые собаки. Потом забеспокоились самые неуравновешенные олени, державшиеся по краям стада. Они норовили удрать, отбиться от табуна — разведать манящие запахи. Пасти табун стало трудно. Приходилось то и дело заворачивать беглецов. Неожиданно в стойбище нагрянул Тальвавтын. Он появился у кораля на своей упряжке белых оленей. Старик похудел, глаза его блестели недобрым огнем, но встреча была мирной. Не скрывая изумления, он осмотрел кораль. Видно, впервые видел ловчую изгородь и сразу оценил ее достоинства. — Пять табунов привел, завтра отбивать будем. Я предложил начать с табуна Гырюлькая, полагая, что наши пастухи хорошо знают оленей своего стада, и мы получим в первый же день надежное ядро будущего табуна. Тальвавтын хмуро кивнул. У кораля появлялись всё новые и новые нарты — приезжали старейшины, родственники Тальвавтына, возглавлявшие табуны. Собрался весь “цвет” Пустолежащей земли. Гости важно здоровались со мной, словно не замечая Костю, Гырюлькая, Илью. Молчаливо разглядывали кораль, перебрасываясь односложными замечаниями. Осматривая ловчую камеру, Тальвавтын спросил словно невзначай: — А какую тамгу будешь ставить? Его свита притихла, ожидая ответа. Вопрос о тамге — семейной метке — был особенно важен для обитателей этого острова прошлого. Каждый из них имел собственную метку — тавро — надрезы на ушах оленей. По числу и форме этих надрезов определялась принадлежность животных. О своем тавро мы позаботились еще в Магадане. Горький опыт Чаунского совхоза научил нас. Там оленям, купленным у последних магнатов тундры, оставили метки прежних хозяев. И этим не преминули воспользоваться крупные оленеводы. Они расставили свои табуны вокруг пастбищ, где пасся купленный табун. И совхозное стадо растаяло, как сахар в стакане воды. Представителям совхоза оленеводы заявили: “Приезжайте отбивать своих оленей, если узнаете”. Буранов после этой истории имел крупные неприятности… — Будем ставить свое тавро, — нахмурился Костя, — железное. — Железное? — удивился Тальвавтын, в глазах его мелькнула досада. И тут я понял: старый лис отлично знал историю с Чаунским совхозом и, может быть, готовил нам такой же удар. Осмотрев кораль, гости уехали. — Завтра преподнесем ему тавро, — усмехнулся Костя. — Провались я на этом месте, если чертов старик не лопнет от злости… Утром Геутваль разбудила нас затемно. В небе горели звезды, и луна освещала белую вершину столовой сопки. Облитая мягким сиянием, она словно парила над Белой долиной. Стали подъезжать люди Тальвавтына. Пологи в наших ярангах пришлось поднять, настелить оленьих шкур, чтобы вместить всех гостей и напоить чаем. Первыми приехали рядовые пастухи, преимущественно молодые. С любопытством осматривали кораль, охотно пили чай и чувствовали себя без старшин свободно. Они окружили Тынетэгина и Геутваль и о чем-то расспрашивали. Разговоры моментально прекратились, как только появился Тальвавтын со своей свитой. Молодые пастухи во главе с Тынетэгином отправились собирать табун. И вот решительная минута наступает. Плотной кучен трехтысячный табун медленно движется к невысокому увалу. По ту сторону его широкой пастью раскрываются крылья кораля. Пойдут ли дикие олени Тальвавтына в кораль? Ведь изгородь они видят впервые. Позади табуна, полукругом, идут загонщики, покрикивают, стучат палками по стволам деревьев, подгоняют отстающих. Передние олеин переваливают гребень увала. Если сейчас испугаются изгороди, начнется невообразимая паника. Табун повернет обратно, сметая все на своем пути. В цепь загонщиков включаются все. Мы с Костей идем рядом с Тальвавтыном. Он молчаливо наблюдает за поведением оленей. Пока все спокойно. Поваленные лиственницы с необрубленными ветвями, образующие крылья кораля, не беспокоят полудиких животных. Табун спокойно втягивается в разверзшуюся пасть завала. Передовые олени благополучно проходят широкие ворота, вступают в первый, вспомогательный загон. И только тут замечают изгородь. Секунда растерянности… Но сзади напирает стесненный табун. Встревоженные вожаки устремляются вперед, увлекая за собой массу оленей. Рысью передовые олени вбегают в главный загон. И, понимая, что попали в ловушку, несутся во всю прыть. За ними неудержимым потоком льется табун. Но впереди только крошечная ловчая камера, а дальше пути нет — глухая изгородь. Вожаки в панике поворачивают назад, табун в растерянности, олени вскидываются на дыбы, бегут по кругу в просторном главном загоне. Вот живой поток хлынул обратно в камеру вспомогательного загона. Поздно! Люди уже задвигают шесты в воротах у самых крыльев. Путь на волю отрезан. Олени поворачивают обратно, образуя водоворот в главном загоне. — Здорово! — кричит Костя. — Сработал, как часы! На лицах Тальвавтына и его свиты растерянность, любопытство, недоумение. Табун кружит в главном загоне. Здесь очень много важенок — светлошерстны, крупных, упитанных, несмотря на зимнее время. Спины оленей плоские, как доски. — И выбирать нечего, — говорит Костя, — ставь метку и выпускай в боковую камеру. Пора начинать. Загонщики устремляются в главный загон, отбивают первый косяк с полсотни оленей и загоняют в небольшую ловчую камеру. Обезумевшие олени теснятся, лезут друг на друга, молотят копытами своих сородичей. Но высокую изгородь не перепрыгнуть. К ловчей камере примыкают два боковых загона. В один будем пускать отобранных важенок, в другой — остальных оленей. Костя приносит гремящий мешок и бросает на свою нарту: — Вот наши метки! Вокруг теснятся старшины, пастухи Тальвавтына, любопытно заглядывают через плечи своих товарищей. Костя вытаскивает пригоршню наших “волшебных кнопок”. Это последняя новинка института оленеводства — полые пуговицы и бляшки с остриями. Демонстрирую несложную операцию на ездовом олене, пронзаю острием бляшки ухо, надеваю полую пуговицу и сдавливаю… Щелк! Пуговица намертво скреплена с бляшкой. Не отдерешь от уха. На бляшке выгравирован номер. — И-кхх! — Какомей! — Колдовская метка! С острым любопытством наши гости рассматривают невиданную метку. Осторожно передают друг другу алюминиевые пуговицы. Тальвавтын прокалывает свой малахай и застегивает кнопку намертво. Шапка идет по кругу. Каждый повторяет несложный опыт. Полный успех! Теперь все наши гости щеголяют в меченых малахаях. Шутят, смеются. Даже шаманы, отбросив надменную чопорность, радуются, как дети. Костя, Тынетэгин и несколько молодых пастухов, набив карманы бляшками, спрыгивают в ловчую камеру, в гущу оленей. Мы с Тальвавтыном оседлали изгородь — будем считать отобранных важенок. В камере начинается суматоха. Парни снуют среди оленей, ловят обезумевших важенок, ловко прокалывают ухо острием бляшки. Щелк! И готово! Приотворяют калитку и выпускают меченую важенку в наш загон. Я ставлю точку в блокноте, Тальвавтын кидает спичку в малахай. После конца отбивки мы сличим счет… Кораль действует безотказно. Ловцы воодушевлены ритмом слаженной работы. Через десять минут в ловчей камере остаются лишь непринятые олени. Тынетэгин выпускает их в другую калитку, в пустой боковой загон. Загонщики отбивают в главном загоне следующий косяк и загоняют в опустевшую ловчую камеру. И снова суматоха, едва успеваю отмечать в блокноте меченых важенок. И так целый день. Ловчая камера кипит, как котел. Мечутся олени, люди. Отбивка идет стремительно, как по конвейеру. Времени не замечаем… Табун в главном загоне тает. А когда стало смеркаться, мы пропустили последнюю партию оленей. Табун разделился на две части. В нашем загоне медленно кружат меченые важенки, крупные, как на подбор. В боковом загоне теснится отставшая часть табуна. — Больно хорошая твоя изгородь, — говорит Тальвавтын, стирая пот с лица. — Сами будем теперь такие делать. — Подарим тебе кораль, как отобьем всех важенок, — говорит Костя. Тальвавтын удовлетворенно кивает. Мы считаем спички в малахае Тальвавтына. Их там 952. В блокноте у себя я насчитал 953 точки… Пять суток, не смыкая глаз, пропускаем громадные табуны Тальвавтына через кораль и наконец отбиваем шестую тысячу важенок. В этот же вечер в пологе Гырюлькая мы составили акт передачи важенок Дальнему строительству. В пологе собрались все старшины Тальвавтына. Они молчаливо наблюдают всю процедуру. Наконец Костя громогласно переводит текст исторического акта — первого торгового документа Пустолежащей земли. Подписываем его, передаем Тальвавтыну. При гробовом молчании старик ставит вместо подписи иероглиф, обозначающий семейную тамгу… Костя высыпает из кожаного мешка посреди полога груду пухлых денежных пачек. Тальвавтын неторопливо складывает деньги в сундук, обтянутый сыромятью, и заполняет его доверху. К нему перекочевывает содержимое нашего кожаного мешка. — Разводим миллионеров… — ворчит Костя, чертыхаясь. Снимаю с груди и передаю Тальвавтыну ожерелье Чандары. Он сейчас же надевает его. Медвежьи морды, сцепившиеся клыками, улеглись на смуглое тело. Старейшины склоняют головы. Глаза Тальвавтына блестят торжеством, лицо помолодело. Исполнилось заветное его желание — он получил старинную реликвию ерымов — пропавший талисман чукотских вождей. Вручая Тальвавтыну копню акта, говорю, что завтра может забрать наши товары… Вся эта сцена производит глубокое впечатление на присутствующих; мне она врезалась в память навсегда. День мы завершили великолепным пиршеством в нашей яранге. Только поздно вечером гости покинули лагерь, вполне удовлетворенные невиданным зрелищем. Теперь у нас образовался громадный шеститысячный табун. Табун после отела в пути удвоится. На Омолон, в случае счастливого завершения похода, мы приведем целый оленеводческий совхоз! Хлопот с выпасом шеститысячной армады прибавилось. Собранные из нескольких табунов, олени стремились вернуться к своим сородичам. Особенно тревожными были последние сутки. Мы сбились с ног, заворачивая беглецов целыми косяками. Управляться с громоздким табуном было невероятно трудно. Разделить его на две части не решались: уследить за двумя косяками при таком наэлектризованном состоянии оленей мы просто не могли… Ночью, когда я спал, меня разбудила Геутваль. Я так крепко заснул, что долго не мог очнуться. Девушка тормошила меня и встревоженно говорила: — Проснись, проснись, Вадим, беда, да проснись же ты… Ее слова едва достигали моего сознания. Но слово “беда” мгновенно отрезвило меня. В пологе тускло светил жирник. Горячо и сбивчиво она рассказала, что пошла на лыжах по следу отбившегося оленя. Он шел быстро, не останавливаясь, и она не смогла нагнать его. За ближним увалом в распадке она увидела табун Тальвавтына, который мы пропускали днем через кораль. — Тальвавтын ночью не отогнал его, и наш олень убежал к ним. Я почуяла недоброе, — продолжала Геутваль, — пошла дальше на лыжах, и везде в распадках притаились табуны Тальвавтына. Ночью они потихоньку подогнали их и, как ястребы, окружили твое стадо. И теперь заманивают наших оленей. Говорила я тебе: Тальвавтын все равно волк, хитрая лисица, коварная росомаха! Лицо девушки пылало. Она только что пробежала на лыжах километров пятнадцать и вся кипела возмущением. Геутваль так хороша была в эту минуту, что я притянул ее к себе и поцеловал. Это случилось неожиданно, само собой. Девушка тихо засмеялась: — Оставь… у тебя на Большой земле невеста есть… Известие Геутваль ошеломило меня. Неужели Костя оказался прав: Тальвавтын заманил в ловушку и мы очутились в тисках? — Кочевать надо, убегать скорее из кольца! — воскликнула Геутваль. Накинув кухлянки, мы выбрались из яранги в лунную морозную ночь. Голубоватый снег исполосовали угольно-черные тени лиственниц. Свежий лыжный след Геутваль, взрыхляя серебристый склон сопки, спускался прямо к ярангам. Подвязав лыжи, мы заскользили к близкому стаду. Подоспели вовремя. Нас встретили встревоженные друзья, обессиленные борьбой с растекающимися оленями. Табун волновался как море. Чувствуя близкий запах сородичей, охваченные нервным возбуждением, олени целыми косяками как одержимые устремлялись к близким сопкам. Приходилось непрерывно объезжать стадо и заворачивать беглецов. Горстка людей боролась из последних сил. — Не пойму, что с этими дьяволами случилось, белены объелись, что ли?! — прохрипел, подъезжая на своей нарте, Костя. — Быстрее, старина, собирайте стадо! Тальвавтын табуны ночью подогнал — взял нас в кольцо. Удирать надо!.. — Чертов хрыч! — загремел Костя. Он дернул поводок упряжки и понесся к дальнему краю табуна. Соединенными усилиями мы быстро собрали многотысячный табун на опушке, освещенной лунным сиянием. Стесненные олени медленно закружились плотной, живой массой. Неукротимой силой веяло от табуна. “Точно туго натянутый лук, — невольно подумал я. — Что, если тетива лопнет?” Мы сошлись у трех сухих лиственниц. Геутваль посохом нарисовала на серебристом снегу расположение стад Тальвавтына. — О-кка! — удивился Гырюлькай. — Душить табун хочет. Сюда будем убегать, — показал он на замерзшее русло реки. Действительно, по льду можно было вырваться из окружения. Решили, не теряя времени, двинуть табун вверх по заснеженному руслу и гнать до тех пор, пока хватит сил. Яранги лагеря оставим на месте до приезда Тальвавтына, сохраняя видимость присутствия табуна. К рассвету я предполагал вернуться в лагерь — встретить Тальвавтына и передать ему обещанные товары. Геутваль заявила, что вернется со мной и будет готовить гостям мясо и подавать чай. Вельвеля решили не будить. Он спал в пологе с Тынетэгином и Ильей, отдыхая после дежурства. Ранавнаут потихоньку разбудила их. Приготовления к стремительному ночному маршу начались… Через час мы вытеснили живую громаду табуна на замерзшее русло. Молчаливо провожали нас лиственницы, отбрасывая длинные черные тени на светящийся снег. Вытянувшись лентой, табун лился живой рекой среди заснеженных берегов. Двигались молчаливо, стараясь не шуметь. В тихом морозном воздухе скрипел снег, под копытами потрескивали суставы бесчисленных оленьих ног, постукивали рога. Движение “походной колонной” успокоило оленей. Они послушно брели за нартой Гырюлькая со связкой ездовых оленей на поводу. По бокам стада ехали Илья и Тынетэгин. Вооружившись длинноствольной винтовкой, юноша прикрывал левый фланг табуна. Мы с Костей ехали сзади, подгоняя отстающих. Геутваль, Ранавнаут и Эйгели вели легкий обоз из нескольких нарт. Невольно я вспомнил такую же лунную ночь далеко на Омолоне. Тогда мы двигались по заснеженному его руслу на штурм Синего хребта и чувствовали себя победителями. Теперь наше шествие напоминало отступающую, потрепанную в боях кавалерийскую часть. Уходим налегке, прихватив лишь самое необходимое: немного продовольствия, палатку с печкой, спальные мешки, скудное лагерное снаряжение и стволы сухостоя — запас дров на первое время. Яранги и основной груз я рассчитываю привезти после завтрашней встречи с Тальвавтыном. Почти всю ночь двигаемся по Белой долине, уходя дальше и дальше от границы леса и манящих запахов чужих стад. Через каждые два часа останавливаем табун, пасем на заснеженных террасах и снова пускаемся в путь. Небо едва заметно светлеет. Останавливаем табун на очередную кормежку. Олени успокоились. — Пора… — волнуясь, сказал Костя. — Пора тебе, Вадим, возвращаться… А мы с табуном еще километров двадцать отмахаем. Ну и взбесится старый хрыч! Держись… кремневая встреча будет. Гырюлькай привел лучших беговых оленей. Ведь к рассвету мы с Геутваль должны вернуться в наши яранги. — Прощай, дочь снегов, береги Вадима. — Костя приподнял девушку могучими ручищами и чмокнул в губы. — Ох нет, пусти! — Геутваль закрыла лицо руками. Все собрались у наших быстроногих упряжек. Мы прощались с друзьями, может быть, навсегда…В ТИСКАХ
Блаженствуем в теплом пологе. Еще затемно примчались на беговых оленях в покинутый лагерь. Вельвель по-прежнему беспробудно спал в соседней яранге — видно, здорово утомился на дежурстве. Теперь Геутваль — маленькая хозяйка стойбища. Она старательно наливает чай в мою большую кружку и себе в расписную фарфоровую чашечку, которую я ей подарил, нарезает мелкими ломтиками мороженое мясо, ставит на столик сахар, масло, печенье. Мы одни в этом огромном снежном мире. Освещенные колеблющимся светом жирника, среди пушистых оленьих шкур… С незапамятных времен женщина отдавала свою заботу и ласку мужчине, и он защищал ее от всех бед и опасностей. В кочевом шатре, осененном веками, я особенно остро ощущаю свое одиночество. Смотрю на Геутваль, на ее фигурку, крепкую как орешек, смуглое личико, спокойное перед надвигающейся грозой, и вдруг понимаю, что за эту маленькую, смелую девушку готов отдать жизнь. Геутваль подняла голову, посмотрела пристально в глаза и неожиданно потянулась ко мне доверчиво и просто. — Зачем страдать заставляешь?.. И вдруг снаружи слышится хруст копыт и скрип полозьев: кажется, ярангу со всех сторон окружают бесчисленные нарты. — Тальвавтын! — метнулась к винчестеру девушка. — Спрячь винчестер, сумасшедшая! Выкатываюсь из полога, выскакиваю наружу. Рассветает, звезды померкли. К ярангам подходят вереницы пустых грузовых нарт. Совсем близко белеет упряжка Тальвавтына. — Приехал?! — Нарты привез, грузить будем… Показываю сани с товарами, приготовленными для передачи. Каюры Тальвавтына начинают перегружать наши богатства. На каждой нарте винчестер в чехле. Целый арсенал! Тревожный признак. Идем с Тальвавтыном в ярангу. В чоттагине он долго отряхивает кивичкеном[236] торбаса, кухлянку. Тут все в порядке: Геутваль, согнувшись в три погибели, усердно раздувает костер под чайником. Вползаем в полог. Вытягиваю из полевой сумки список товаров, передаваемых в уплату за оленей. Неторопливо читаю бесконечный перечень. — О-к-к-а! Много! — удовлетворенно кивает старик. Он подписывает акт передачи — ставит свою классическую тамгу, похожую на трезубец Нептуна. Операция завершена! Геутваль втаскивает чайник, степенно расставляет чашки, разливает чай. Неторопливо пьем крепкий, как кофе, напиток. Знает ли старик, что наш табун ускользнул из мертвой петли? Лицо его спокойно, непроницаемо. — Как олени? — вдруг спрашивает он. — Хорошо, только бегают очень — держать трудно, — отвечаю, не сморгнув. Тальвавтын пьет и пьет чай, о чем-то размышляя. Наконец переворачивает чашку вверх дном. — Однако, пошел, — говорит он по-русски, — ехать далеко надо. Хорошо торговали. Через два дня в гости к тебе приедем — праздник отбоя будем делать… Облегченно вздыхаю. Геутваль в волнении роняет чашку. Не унюхал еще, старый лис! Выходим из яранги. Каюры перегрузили нарты и покуривают трубочки. Прощаюсь с Тальвавтыном как ни в чем не бывало. Белая упряжка рванула с места. Старик обернулся. На тонких его губах змеилась холодная усмешка. Караван тяжело груженных нарт тронулся по следу Тальвавтына. Мы с Геутваль молчаливо стояли у порога яранги до тех пор, пока последняя нарта не скрылась за лесистым увалом. — Ну, Геутваль, снимай скорее яранги, удирать будем! Я побежал будить Вельвеля. Нельзя было терять ни минуты. Втроем быстро свернули лагерь, пригнали ездовых оленей. Через час наш легкий караван несся вверх по Белой долине, в противоположную сторону, по следам ушедшего табуна. Только тут Вельвель сообразил, что случилось. Он ехал хмурый и злой. На месте нашего стойбища оставалась вытоптанная в снегу площадка и холодный пепел потухшего очага… Только в сумерки нагнали табун. В глухом распадке, как ветер, налетела легковая нарта Тынетэгина. Юноша, вооруженный винтовкой, спустился галопом с ближнего увала, где устроил, видно, сторожевой пост. Соскользнул с нарты и, не выпуская поводка, в волнении закурил трубку. — Гык! Давно ждем вас, Костя совсем не спит… Подражая взрослым, он старается скрыть радость, но юношу выдают глаза — сияющие и счастливые. — Как олени? — В Большом распадке, — махнул в сторону увала Тынетэгин, — совсем смирные стали… Наше появление всполошило лагерь. Из палатки выскочили Костя, Гырюлькай, Ранавнаут, Эйгели. Костя окинул быстрым взглядом наш караван. — Молодец, Вадим! — тискает он меня в могучих объятиях. — Собирался уже ехать на выручку. — Едва догнали вас… далеко увели табун… — Ах ты чертенок! — обрадовался Костя, увидев Геутваль. — Сберегла Вадима! На шум подъехал Илья, дежуривший у стада. Все собрались вокруг. Расспросам не было конца. Снова сошлись вместе — маленький, непобедимый отряд. Лишь Вельвель сумрачно стоял у своей упряжки, не разделяя общей радости. Яранги решили не расставлять — повесили на шестах одни пологи. На рассвете уйдем с табуном дальше… Утром мы обнаружили исчезновение Вельвеля. Это встревожило нас: через несколько часов Тальвавтын узнает о нашем скрытом маневре. В путь собрались быстро. Решили продвинуться возможно дальше. Табун гнали ускоренным маршем, почти не останавливаясь на кормежку. В этот день сделали особенно большой переход, достигнув того перевала, откуда мы с Костей впервые увидели Главное стойбище Пустолежащей земли. Теперь табуны Тальвавтына не страшны. Вряд ли он решится беспокоить стельных важенок утомительным маршем. Да и нам двигаться дальше такими стремительными переходами нельзя — погубим приплод. На общем совете решили устроить отдых. Расположились у перевала комфортабельно — поставили две яранги с пологами, вокруг сдвинули нарты в каре, добыли льда на промерзшей до дна речке, напилили и нарубили дров из привезенного сухостоя. Костя торжественно поставил у яранги шест с красным флагом — символ нашей полной независимости. — Настоящий форт получился! — восторгался Костя. — Голыми руками не возьмешь. — Только пушек не хватает, — съязвил я. Но все-таки на соседней возвышенности выставил сторожевой пост. Олени спокойно копытили снег на пологих гривах Белой долины, украшая тонким кружевом следов склоны. Дежурили у стада в три смены. Я выходил с Геутваль, Костя с Гырюлькаем, Тынетэгин с Ранавнаут. Илья помогал ночной смене. В дежурство один объезжал табун на легковых нартах, другой безотлучно находился на сторожевом посту, обозревая окрестности и широкую тропу, пробитую табуном во время отступления. Распорядок был твердый, как в армии. Всем это очень нравилось. Работали с увлечением. Особенно охотно несли сторожевую службу Геутваль и Тынетэгин… Ночью, в пологе, я сквозь сон услышал близкий выстрел. “Р-ра-рах!” — тревожно повторило эхо в горах. Я не успел проснуться, как Геутваль затормошила меня в темноте: — Винтовка Тынетэгина стреляла, просыпайся скорее! Девушка быстро зажгла светильник, принялась будить Костю, Гырюлькая. В пологе поднялась суматоха. Геутваль заряжала винчестер; Костя, чертыхаясь, натягивал торбаса; Гырюлькай лихорадочно одевался. — А ну давай сюда! — потянулся Костя к девушке. Маленький винчестер потонул в Костиных ручищах. — Только, чур, старина, уговор оружие пускать в крайнем случае! Костя неопределенно хмыкнул. Снаружи послышался скрип полозьев, свист кенкеля, хриплое дыхание галопирующих оленей… Мы с Костей выскочили из яранги. К нам бежал Тынетэгин, затормозивший упряжку у кораля из нарт. — Куда стрелял?! — крикнул Костя. — Спящих в пологе разбудить хотел — Тальвавтын едет… — Один?! — На беговой упряжке. — Уф… дьявол, — облегченно вздохнул Костя. Он едва успел сунуть винчестер в ярангу. Из морозного тумана вынырнула белая упряжка. В лунном мареве белые олени, опушенные изморозью, казались привидениями, а седок, запорошенный серебристым снегом, — пришельцем из лунного мира. Олени как вкопанные остановились рядом с упряжкой Тынетэгина. — Какомей! Далеко убегали… — вместо приветствия насмешливо проговорил Тальвавтын. — Твои табуны близко подошли, — резко ответил Костя. Тальвавтын нахмурился, угрюмо посмотрел на Костю и дерзко сказал: — Мои пастухи плохо оленей стерегли. Я пригласил Тальвавтына в полог. Беседа не клеилась. Костя сидел у чайного столика, хмурый, закипая бешенством. Тальвавтын молчаливо курил длинную трубку. — Экельхут, главный шаман, разговаривал с духами, — вдруг сказал старик. — Большая беда будет. Нельзя вам кочевать дальше в горы — погибнут олени, надо обратно к границе леса уходить… Тальвавтын замолчал и снова погрузился в раздумье, словно подчеркивая длинной паузой зловещее предупреждение. — Ну и шельма… — пробормотал Костя. Действительно, маневр Тальвавтына был шит белыми нитками. К границе леса нас и калачом не заманишь. — И что же говорит Экельхут, какая беда грозит нашему табуну? — Сильно сердятся келе[237] — живых оленей тебе отдавали. Большое бедствие на Пустолежащую землю насылают. Экельхут говорит: быстрее кочевать тебе нужно к границе леса — обманывать духов, — повторил Тальвавтын. — А где твои табуны? — спросил я старика. — В лесные долины быстро кочуют. — Не пойдем к лесу, мало времени осталось, — грубо отрезал Костя. — Спешить надо… отел скоро, — подтвердил я отказ в более вежливой форме. — Добра желаю вашему табуну, — презрительно взглянул на Костю Тальвавтын. — Поехал я. Array! Тальвавтын исчез так же внезапно, как появился. Поведение его было для меня непостижимо. Зачем он приезжал? Чего хотел? Чем грозил нашему табуну? — Мэй, мэй, мэй! — встревожился Гырюлькай. — Экельхут очень сильный шаман, большая беда будет! Мы долго еще обсуждали предостережение Тальвавтына и решили не принимать его во внимание — двигаться дальше, возможно быстрее покидая Пустолежащую землю… Неделю мы кочевали, совершая небольшие переходы, уходя далее и далее от границы леса, в лабиринт безлесных снежных долин обширного горного водораздела между Анадырем, Анюем и Олоем. Теперь нас отделяли от границы леса добрые сто пятьдесят километров, и мы почувствовали себя наконец в безопасности. В этот памятный день мы поставили свои яранги у подножия сопки с одинокими кекурами. На следующее утро, когда мы с Геутваль отправились дежурить, нас встретил Гырюлькай. Лицо старика посерело от волнения. — Совсем плохо, — сказал он, — посмотри, какое грязное небо. Обычно зимнее небо было белесым и тусклым, теперь же облака набухли странной синевой. Мороз упал, стало необычайно тепло, и воздух пропитывала непонятная свежесть. Подошел Костя: — Черт знает, что творится! Все шиворот-навыворот… Лесных куропаток видимо-невидимо налетело, сороки появились, белую сову видел, кукша пролетела. Не пойму, откуда их несет?! — Плохие облака, — повторил Гырюлькай, — давно такие видел зимой, когда мальчиком был… Он что-то еще хотел сказать, но не успел. Где-то в вышине утробно забулькало, как в горлышке большой пустой бутылки, и мы увидели двух черных как уголь птиц. Медленно махая крыльями, они пролетели на север. — Вроны! Откуда их в такую пору дьявол принес?! — удивился Костя. Появление на безлесных плоскогорьях птиц, давно улетевших на юг, к тайге, поражало… Но больше всего нас пугали облака. Они все гуще наливались синевой, точно перед грозой. С востока потянул теплый ветерок, напоенный необычной свежестью. Казалось, что надвигается грозовая туча. Но вокруг лежал снег девственной белизны, толпились снежные сопки. Посиневшие облака никак не вязались с картиной белого безмолвия. И вдруг на лице я ощутил влажную морось. Гырюлькай, бледный и подавленный, молчаливо опустил голову. — Дождь?! Зимой?! Ошеломленные, мы стояли с Костей и Геутваль, подняв лица к посиневшему небу. Я видел мелкие капельки на смуглых щеках девушки. Костя, чертыхаясь, стирал шарфом бусинки воды со лба. Дождь моросил и моросил. Падая на снег, вода не замерзала. Наступила сильная оттепель. Снег на глазах посерел, и можно было лепить мокрые снежки. — Большая беда пришла… — глухо проговорил Гырюлькай. Мы с Костей не сразу постигли грозный смысл случившегося. — Дьявольщина! — заорал вдруг приятель. — Гололедица, мертвая гололедица! Пастушеский посох согнулся и треснул, переломившись, как спичка, в его ручищах. Только теперь перед нами открылась неотвратимость поразившего нас бедствия. После оттепели с дождем неминуемо грянет мороз и скует снежную целину непробиваемым панцирем. Олени не в состоянии будут разбить копытами лед, и гибель их неизбежна. Так вот о чем предупреждал нас Тальвавтын! Он звал нас в лесные долины, где снег не так подвержен оледенению. Вероятно, Экельхут — хранитель мудрости поколений — сумел по каким-то признакам предсказать наступление зимней оттепели. Послушай мы вовремя Тальвавтына, успели бы вернуть оленей к лесу! Дождь моросил и моросил, все усиливаясь, и вдруг хлынул как из ведра. Странная, ужасная картина: ливень зимой. Поверхность снега превратилась в мокрую кашу. Вершины сопок почернели от проталин. Дождь стекал по мокрому меху кухлянок. Казалось, все в мире перевернулось вверх дном. “Почему так легкомысленно мы пренебрегли предупреждением опытного оленевода? Неужели все наши усилия тщетны и олени обречены на гибель?!” — Скорее, братцы! — крикнул Костя. — Оттепель продержится несколько дней, и мы сумеем вырваться к лесу! Пожалуй, это был последний шанс спасения табуна. Мы побежали к ярангам. Быстро собрали лагерь, погрузили свой скудный скарб, пригнали ездовых оленей, запрягли в нарты и бросились собирать табун. Пробираться по раскисшему снегу было тяжело. Но олени держались кучно, спокойно разгребали мокрый снег и лакомились ягельниками. Не мешкая, собрали шеститысячный табун. Наконец двинулись по старой кочевой тропе. Нарты с грузом едва тащились по раскисшему снегу. Зимний дождь не прекращался, обильно смачивая снег, набухший точно вата. Оставив позади грузовой караван, подгоняем табун на легковых нартах. Но продвигаемся слишком медленно. Олени проваливаются в рыхлый, промокший снег. Обычный дневной переход совершаем за сутки и, вконец утомив табун, встаем на отдых у подножия горы, похожей на колоссальный монумент. Венчал ее массивный останец, сложенный горизонтальными слоями скальных пород. Каменный чемодан покоился на огромном конусе более рыхлых пород и возносился над пустой снежной долиной. На отвесных его стенах снег не удерживался, и побеленные инеем стены холодно темнели в вышине. Такая причудливая вершина осталась, вероятно, от древнего водораздельного плато, размытого в течение тысячелетий. Невольно я подумал, что эта сопка самой природой приспособлена для обороны… Яранг не расставляем — натянули палатки. Необычайно тепло, и это нас радует. Даже воспрянули духом: может быть, успеем спасти табун. Засыпаем как убитые, решив сделать только трехчасовую передышку… Разбудила нас Геутваль. Было еще темно. Первое, что я ощутил, — холод в палатке. — Мороз… — жалобно воскликнула девушка. Все лихорадочно одевались. Костя тихо ругался, не попадая в штанину меховых брюк. Выбрались из палатки. Светила лунная морозная ночь. Холодно и беспощадно мерцали звезды. Вокруг все звенело и шуршало. Сначала я не понял, что происходит. Тысячи копыт молотили непробиваемую ледяную корку. Олени пытались пробить панцирь и добраться до ягельника. Замерзшая долина отсвечивала полированной сталью. Душу сдавил мертвящий ужас. Все было кончено, все рушилось на глазах — судьба шеститысячного табуна предрешена… Олени оказались в тисках. Преодолеть 130 километров обледенелых снегов и выбраться к лесу голодный табун не в состояния. Да и там, у границы леса, гололед, видимо, не пощадил снегов. Грозное стихийное бедствие обрушилось на Чукотку. Вероятно, случайное воздушное течение вынесло массы сравнительно теплого, насыщенного влагой беренгийского морского воздуха в континентальные области — наступила внезапная зимняя оттепель. А потом массы арктического воздуха пересилили случайное воздушное течение и заковали снежную целину в ледяной панцирь… Подавленные обрушившимся несчастьем, мы пытались что-то предпринять. Захватив топоры, остервенело рубили и кромсали матовую, скользкую, как каток, ледяную корку. Толщина ее была не менее семи сантиметров, и олени не могли ее пробить. К рассвету все выбились из сил, так и не облегчив участи табуна. Наши “царапины” привлекали толпы проголодавшихся оленей. Они теснились вокруг, пытаясь расширить ямки, ожесточенно били и били копытами. Напрасно! Непробиваемая толща не поддавалась, лишь счастливчикам удавалось выхватить клочки ягельника. Несчастные животные ранили ноги. Повсюду алели пятна крови, и, когда рассвело, снежная долина стала похожа на поле сражения, политое кровью. Гырюлькай предложил разделить табун на мелкие части и загнать оленей на вершины сопок с проталинами. Там росли черные высокогорные лишайники, жесткие, как проволока: олени смогут некоторое время продержаться. Мы понимали тщетность этих усилий: слишком велик наш табун, проталины на вершинах малы и людей у нас мало, очень мало. Но сидеть сложа руки невозможно… Вместе с Гырюлькаем я полез на сопку с причудливым останцем на вершине — высмотреть сопки с проталинами. Остальные принялись из последних сил взрыхлять топорами ледяной панцирь в долине. С высоты их работа казалась работой пигмеев. Крошечные фигурки людей терялись среди моря теснящихся оленей. Подымаемся медленно. Крутые склоны сопки скользкие, не за что уцепиться. Рубим топорами ступеньки. Хорошо, что торбаса подшиты щетками[238] и ноги не так скользят. Обындевевшей громадой сверху нависает каменный чемодан. Подползаем ближе и ближе. Если нога соскользнет, покатишься вниз, как на салазках, пронесешься через всю долину и угодишь в гущу табуна. — Плохая сопка… — говорит Гырюлькай. — Сильно здесь воевали с коряками. Сюда Кивающий головой последних коряков загонял — на вершине всех убивал… — Полезем? — кивнул я на скальную стену. — Тут нельзя — упадешь… С другой стороны тропа Кивающего головой осталась… Мы выбрались к подножию отвесной каменной стены, обдутой ветрами. Слои каменных пород лежали горизонтально слоеным пирогом. У основания останца был довольно широкий плоский карниз. Держась за стены, мы стали огибать “каменный чемодан” и скоро подошли к месту, где останец был косо срезан наподобие пирамиды, слои, разрушенные временем, образовали естественные ступени. — Вот тропа Кивающего головой… Тут он приказал своим воинам стрелять из всех луков и со своими подмышечными первый взбежал на вершину и убил много врагов… — Подмышечными? — удивился я. — Кто это? — Самые сильные воины, охранявшие его от копий, — невозмутимо ответил старик. Сопка ожила в моем воображении. Эта неприступная скалистая вершина была почище любого средневекового замка. Я позабыл о табуне и представил себе штурм неприступной вершины. Это был подвиг. Недаром чукотские предания сохранили его в веках! По этим ступеням легко взобрались на плоскую вершину. Тут могли свободно поместиться несколько сот людей. Проталины обнажали мелкокаменистую поверхность, покрытую бриопогеном — черным высокогорным лишайником с перепутанными, как проволока, стебельками. — Смотри… Я обернулся. — Боже мой! Перед нами открывалась целая страна снежных сопок. Точно белые валы окаменевшего в бурю океана. Все сопки сверкали ослепительными бликами, а долины, врезывающиеся между ними, отливали сталью, словно огромные катки. Гололедица сплошным панцирем заковала снега… Лишь вершины сопок там и тут чернеют проталинами. Но это крошечные островки среди океана обледенелых снегов. Да и не ко всем вершинам подступишься с оленями по скользким, обледенелым склонам. Доступны для нас лишь те из них, что соединяются с плоскогорьями перемычками гребней. Исцарапанными пальцами карандашом набрасываю в блокноте расположение спасительных сопок. — Приметные сопки, — говорит Гырюлькай. — Все их помню… Теперь скорее вниз к табуну! Но спуститься не так просто. Вонзая ножи в обледенелый снег, часа два сползаем по ступенькам. Собрались вшестером вокруг табуна. Гырюлькай каждому разрисовывает на листке из моего блокнота путь к сопкам с проталинами. Удивительно! Вся топография местности отпечаталась в голове старика, как на фотопластинке. Он точно рисует ее на бумаге. Все молчаливы и сосредоточенны. Понимаем, что с бродячими косяками станем вечными скитальцами замерзшей пустыни. Косяки отбиваем без счета прямо на дне Белой долины. И вскоре шесть косяков уводим в разные стороны. Белая долина опустела. Лишь одинокие яранги чернеют у подножия обледенелой сопки. Над ними реет красный флаг и вьется синеватый дымок. В лагере остались лишь женщины: Эйгели и Ранавнаут. Они будут варить пищу, разыскивать нас по следам, привозить еду и чай. Мы стали людьми, живущими на сендуке,[239] без крова и пристанища, привязанными каждый к своему косяку. Куда заведет нас судьба? Мне достался остаток табуна с тысячу важенок. Поглядывая на листок с приметами Гырюлькая, сверяясь с компасом, потихоньку тесню косяк на легковой нарте. Голодные олени послушно бредут, куда их гонят, словно понимая, что человек ведет их к спасению. Сопку я нашел в верховьях бокового распадка. С трудом преодолев пологий, но скользкий склон, поднялись на седловину. Ослабевшие олени тяжело дышат, часто ложатся на замерзший снег передохнуть. На перевале оставляю свою истомленную упряжку. Дальше идем по гребню. Ну и крестный путь! Вытянувшись бесконечной лентой, бредем и бредем по узкой, как лезвие ножа, перемычке. Справа и слева круто спадают обледенелые скаты. Неверный шаг — и покатишься неудержимо бог знает куда. Чуя опасность, олени осторожно переставляют широкие копыта, украшенные мохнатыми щетками. “Может быть, ошибся и гоню косяк к обледенелой вершине, где нет никаких проталин?” Передние олени выбираются на плосковерхую сопку. Вижу, как они устремляются вперед… — Проталины! Олени растекаются по вершине, приподнятой к небу. С потрясающей быстротой счищают плотный слой черного бриопогена. Ужасно! Через пятнадцать минут на проталинах все съедено до камней. Вершина сопки оголяется, точно после пожара. Олени ожесточенно долбят скудную каменистую почву, раскапывают и съедают какие-то корешки. Вдали, на соседней сопке, — олени. Они облепляют проталины, как мухи. На вершине танцует крошечная фигурка, размахивая какой-то одеждой. — Да это же Геутваль! Милая девочка… Сбрасываю кухлянку и отвечаю ей. А еще дальше на плоской, как стол, вершине — тоже олени, но фигурка человека так мала, что различить, кто это, невозможно. Высматриваю следующую сопку с проталинами, куда можно двинуть свой косяк… Счет часам потерян, семь суток на ногах, сплю урывками, забываясь чутким, тревожным сном, пока косяк расправляется с очередной вершиной, и снова в путь. Вверх, вниз; вверх, вниз… В голове шумит, глаза слипаются. Остановиться невозможно. Бродим со своими косяками по кругу, как лунатики, все дальше и дальше уходя от стойбища. Просто уму непостижимо, как находят нас женщины в лабиринте обледенелых сопок! Раз в сутки привозят вареную оленину, горячий бульон в бутылках и… крепкий чай, последнюю отраду скитальцев. Как мы благодарны им — это наши сестры милосердия. Эйгели уже привезла мне одно письмо с каракульками Геутваль. Она изобразила на клочке бумаги волнистые сопки, крошечных оленей на вершине, бородатую фигуру на соседней сопке и летящую к бородачу птицу. Яснее не напишешь! Я люблю маленькую Геутваль. А как же Мария? Олени очищают проталины до камней. Но что толку? Животные слабеют с каждым днем — слишком много сил теряют на бесконечные подъемы и переходы к сопкам. Мы не видимся друг с другом вот уже семь суток. Представляю, как истомились люди почти без сна. Ведь каждый день нам приходится еще взламывать топорами обледенелый панцирь — добывать ягельник для ездовых оленей в упряжке. На моей нарте всегда в запасе мешок ягеля, добытый с невероятным трудом! Иногда я засыпаю в пути, и ездовики долго тащат вслед за бредущими оленями нарту с человеком, спящим сидя. Уходят последние силы. Понимаю, что дальше не выдержать ни людям, ни оленям. Мои олени едва волокут ноги, часто ложатся на снег и никуда не хотят двигаться. Приходится поднимать их силой и гнать, гнать на сопки… В этот памятный день мы с Костей оказались на соседних сопках. Я видел, с каким невероятным трудом ему удалось загнать на вершину ослабевший косяк. Костя заметил моих оленей и поспешил ко мне на сопку. Лицо друга осунулось и почернело, губы запеклись. Он тяжело дышал, взобравшись на мою высокую сопку. — Амба! — махнул он рукой. — Пропали олени, пора спускать флаг. Распустим табун, пока могут уйти на своих ногах. Может, протянут до весны в одиночку на проталинах, а? Костя прав: пока у оленей остались хоть какие-то силы, надо пустить их на волю. — Падеж начнется со дня на день — видишь, сколько слабых появилось. Понос начался… Костя — ветеринарный врач и ясно видит надвигающийся конец. Лежим высоко над Белой долиной, у плиты, расколотой морозами. Оранжевые, желтые, зеленые пятна наскальных лишайников пестрым узором расцвечивают серый камень. Вокруг сгрудились олени, расправляясь с последними проталинами. Безумно хочется спать, звенит в ушах. И вдруг… Смотрю на Костю, он на меня — испуганно и подозрительно. — Ты слышишь? — Слышу… Тихий, непрестанный гул то пропадает, то возникает вновь. Вскакиваем как безумные. Сон слетел. — Самолет! — кричит Костя. Гул с неба слышен явственнее. Перед нами простирается море заснеженных сопок. Но сколько ни вглядываемся в блеклое небо, пусто, ничего не видим. И все-таки это не галлюцинация! Гул нарастает, перекатывается, точно весенний гром, в сопках. Теперь и олени услышали странный звук — насторожились. Внезапно из-за дальней сопки выскальзывает крошечный самолетик. Он деловито и целеустремленно рыщет над вершинами. — Нас ищет! Скинув кухлянки, пляшем на сопке, размахивая одеждой, точно потерпевшие кораблекрушение, призывающие корабль. Что-то вопим охрипшими глотками. По лицу Кости, похудевшему и заросшему, бегут слезы. Нервы сдали и у меня. Но мне не стыдно. Самолет круто разворачивается, устремляется к нашей сопке. Рев мотора оглушает. Олени, сбившись в табун, галопируют по кругу. Самолет закладывает головоломный вираж на уровне вершины. Сквозь колпак кабины вижу улыбающееся, небритое знакомое лицо, сдвинутый на затылок лётный шлем. — Сашка! Дьявол! — Да он же врежется! — вопит Костя. В крутом вираже самолет дважды огибает вершину, чуть не задевая крылом разрисованные лишайниками плиты. Кажется, что пилот вывалится из своего кресла нам на головы. Бурная радость теснит душу; как по команде, сжимаем кулаки в ротфронтовском приветствии. Самолет выравнивается, выстреливает вымпелом и уносится на север, покачивая на прощание крыльями. Скатываемся на седловину, бежим наперегонки к ленте вымпела, алеющей на снегу. Спотыкаюсь о ребро заструга и растягиваюсь на фирновом склоне. Костя первый схватывает алую ленту. Торопливо вытаскивает из патрона записку и громогласно читает: — “Соберите табун к яранге с красным флагом, ждите, утром прилетим. Целую лохматые образины”. Невольно вспоминаю Омолон. Вот так же, в самую трудную пору, появился на самолете Саша. Но там он мог нам помочь разыскать ускользнувших оленей. Теперь же, будь он самим богом, бессилен спасти шесть тысяч оленей, истомленных голодом… — Ясно?! — Ничего не пойму. Зачем собирать табун? Кто прилетит? И как они сядут к нам? Разобьют лыжи о ледяные заструги. — Приказ есть приказ, — решительно говорит Костя. — Давай собирать табун к ярангам. А ночью разобьем топорами заструги в Белой долине — подготовим посадочную площадку для Сашки… Быстро спустили оленей с сопок, соединили в один косяк, и Костя погнал их к лагерю. Я отправился искать косяк Гырюлькая. Через час напал на следы его оленей. Поднялся к перевалу и пошел по гребню к вершине. Наконец очутился на вершине среди оленей. Они сожрали уже альпийские лишайники и ожесточенно копытили каменистую почву. — Какомей! Вадим! — обрадовался Гырюлькай, заметив меня. Давно я не видел старика. Он похудел, глаза покраснели, возбужденно блестели. — Железная птица летала! — воскликнул старый пастух. — Оленей смотрела, смеялась с неба, потом вот это бросала… Гырюлькай протянул флягу, обшитую войлоком, с длинной алой лентой, привязанной к горлышку. — Боялся открывать без людей. Я отвинтил металлическую крышку, вытащил ножом пробку и попробовал жидкость, налитую во флягу. Ого! Крепчайший ром! — Попробуй, старина… Гырюлькай глотнул и поперхнулся. — Крепкая вода! Мы так ослабели за эти дни, что несколько глотков рома закружило головы. Ноги не держат. Уселись на снег — продолжаем разговор в более устойчивом положении. — Железная птица и у нас с Костей была, письмо бросала: табун велела к ярангам собирать. — Келе, что ли, брать оленей хочет?! — испугался старик. — Самолет — хорошая птица, — успокоил я. Спустили оленей Гырюлькая с сопки на дно долины, и я повел их к ярангам. Гырюлькай, отлично знавший местность, поехал собирать косяки Ильи, Тынетэгина и Геутваль… В сумерки весь табун собрался у яранг. Олени улеглись и стали пережевывать жвачку. Несчастные, что они пережевывают? Ведь за эти дни они наглотались лишь жестких, как проволока, горных лишайников. Собрались все в одном пологе. С наслаждением отогреваемся в тепле мехового жилища. Растянулись на шкурах, дремлем, не в силах побороть сон. Геутваль, свернувшись калачиком, спит, положив мне на колени голову. Пожалуй, она устала больше всех. Ей пришлось забираться с оленями на самые дальние сопки. Несчастье сплотило нас в одну семью. И матерью этой большой семьи была Эйгели. Старушка обрадовалась, что все ее “сыновья” собрались вместе. Разливая чай, она рассказала, что днем, когда светил полный день, вдруг что-то сильно загудело, она выскочила из яранги и увидела железную птицу совсем близко. Она кружилась над ярангами, “чуть не задевая красную материю на шесте”. От испуга Эйгели упала в снег. Поднялся страшный ветер, и птица унеслась прочь, “ничего не схватив”. Илья и Тынетэгин видели летящий самолет издали, а Геутваль слышала только далекий рев железной птицы. Я рассказал о Сашином самолете, о полетах на Омолоне. Людям, никогда не видевшим самолета, все это казалось красивой сказкой… Недолго пришлось нам нежиться в тепле. Когда появилась луна и осветила серебряную долину, мы вышли разбивать обледенелые заструги. Ну и помучились мы с посадочной площадкой! Но дело подвигалось быстро. К полуночи разбили ледяные гребни, отметили свой “аэродром” по углам разостланными шкурами. Остаток ночи спали в теплом пологе вповалку как убитые. У табуна по очереди дежурили Эйгели и Ранавнаут, оберегая сон скитальцев. Утром Эйгели едва добудилась нас: — Беда! Тальвавтын опять едет! Выскакиваем из яранги полусонные. К лагерю подъезжает знакомая упряжка. Олени бегут неторопливо, дышат тяжело — видно, очень устали. Не узнаю старика — похудел, состарился, лихорадочно блестят глаза. Не распрягая оленей, он снимает мешок с парты и вытряхивает ягельник утомленным ездовикам. — Трудно далеко ездить, — говорит он осипшим, простуженным голосом, — корм возить надо… Тальвавтын с любопытством осматривает отдыхающий табун. Олени спокойно лежат по соседству на гладком, как каток, дне долины. — Как, живы?! — воскликнул старик, не скрывая своего изумления. — Семь дней на вершинах сопок пасли, на проталинах, — ответил я. — Отдыхать табун собрали. Тальвавтын понимающе оглядел наши измученные лица и тихо проговорил: — Все равно слабые олени — очень большой табун, маленькие проталины, подохнут, однако. Костя протянул Тальвавтыну кисет; он пошел по кругу, все закурили. — Как твои олени в лесу? — Трудно живут: в густолесьях остался рыхлый снег. До весны перетерпят, — ответил Тальвавтын. — Плохо, не слушались вы, далеко уходили в горы. Экельхут правильно говорил… — А что сейчас говорит Экельхут? — поинтересовался я. — Говорит: твой табун распускать надо, пока ходят олени. А весной все равно придут на знакомые места в мои табуны. Тамга твоя крепкая — железная, отобьешь потом своих оленей. И вдруг я понял Тальвавтына: ему просто жаль было оленей и он предлагал единственно правильный путь их спасения. Собственно, к этому же выводу мы с Костей пришли на сопке, где нас настиг Сашкин самолет. Я посмотрел на Костю — лицо его было хмурое и злое. Он не успел ответить… Откуда-то с неба послышался монотонный нарастающий гул. Тальвавтын, отвернув ухо малахая, прислушался. — Сашка летит! — завопил Костя. Гул нарастал и нарастал, раскатывался эхом в сопках Пустолежащей земли, наполняя долины грохотом. Все замерли, подняв лица к небу. И вдруг из-за сопки с “каменным чемоданом” вылетела странная машина. Она неслась слегка юзом, похожая на громадную пузатую стрекозу. Таких летательных аппаратов мы с Костей еще не видывали. Сверху над металлической стрекозой вращались громадные лопасти. На хвосте тоже вертелась какая-то вертушка. И вся тяжеленная махина с невероятным гулом легко и свободно неслась над долиной. Тальвавтын окаменел, словно пораженный громом, лицо его побледнело, глаза расширились… — Геликоптер! — изумился Костя. — Вертолет! — поправил я. В те годы вертолеты только что появлялись в авиации, и увидеть такую необычную машину в сердце Чукотки мы не ожидали. Огромная махина с отвислым брюхом, внезапно как-то косо изменив курс, помчалась к нам. — Железная птица! — воскликнул Гырюлькай. Воздевая руки к небу, он подпрыгивал, словно приглашая невиданную машину к себе. Оглушительный рев заполнил долину, летательный аппарат пронесся над ярангами, взметая вихри, и вдруг повис над площадкой, которую мы приготовили ночью для посадки Сашиного самолета. Вихрь разметал оленьи шкуры, расстеленные по углам площадки. Вертолет величиной с добрый автобус, с длинным хвостом, украшенным вертушкой, плавно и вертикально опускался па отполированное дно долины. В воздухе бешено крутились лопасти, похожие на крылья железной ветряной мельницы. И вдруг мы увидели под брюхом вертолета нечто невероятное! Покачиваясь на тросах, там висел знакомый тягач с утепленной кабиной. Головная машина нашего “снежного крейсера”, испытавшая ледяное купание в полярном океане! Чудесная машина опустилась и, осторожно щупая надутыми шинами разбитые заструги, поставила свой драгоценный груз на обледенелый снег. И только тут мы с Костей сообразили — пришло спасение! Мы как ошалелые тискали друг друга в объятиях. Я расцеловал Геутваль. Костя, подхватив Эйгели и Гырюлькая, пустился в пляс. Сквозь стекла кабины мы видели смеющихся пилотов. И вот лопасти замерли. Распахнулась металлическая дверь, выскользнула узкая дюралевая лесенка… На обледенелый снег выскакивали люди. Коренастый, в комбинезоне, в меховых унтах, в лётном шлеме Саша, побритый и радостный. За ним высокий — в канадской куртке и пыжиковой шапке. — Да это же Буранов. Андрей! За ним неловко спускается по лесенке длинная, сутулая фигура в короткой, не по росту, кухлянке. — Неужто Федорыч?! Механик уже копается у тягача. Из вертолета выпрыгивают парни в штормовых куртках, с откинутыми капюшонами. Они выгружают какие-то железные рамы, сваренные треугольником из рельсов, с массивными стальными ножами. — А это что? — Снегопахи… Федорыч придумал, — смеется Буранов, поглядывая на растерянные наши физиономии. — Просто чудо какое-то! Андрей, как ты здесь очутился?! — На выручку прилетел… — блеснув золотым зубом, ответил Буранов. — А вертолет?! — Авиаторы выручили. Все это похоже на сон. Голова идет кругом. — Порядок, Вадим… — усмехается Буранов. — Вы здесь вон какой табунище отхватили — целый совхоз! А мы тоже не зевали. Благодари Сашу — он вас разыскал. — Вашасопка помогла, — кивнул на причудливую каменную вершину летчик. — Издали увидел “каменный чемодан”, подлетел, гляжу — флаг у стойбища, значит, свои… Федорыч завел трактор, и впервые с сотворения Белая долина ответила эхом на рокот тракторного мотора. Механик вывел машину из-под фюзеляжа вертолета. Парни прицепили рамы из рельсов с приваренными зубьями. — Показывай, Вадим, где у вас тут ягельники, сейчас накормим табун, — говорит Буранов. Зову Гырюлькая. Опасливо подходит старик к невиданной машине. Федорыч влезает в кабину, распахивает дверку: — Садись, старина, показывай, где ягельники хорошие… Растолковываю растерявшемуся Гырюлькаю, что надо показывать. Подвел к железным рамам с зубьями. И вдруг Гырюлькай радостно закивал поседевшей головой. — Крепкие ножи! — воскликнул старик. Федорыч поманил его в кабину. Мы с Костей подхватили старика и посадили на мягкое сиденье, рядом сел Буранов. Дверца захлопнулась. Тягач взревел и двинулся, волоча тяжелые рельсовые бороны. Зубья дробили обледеневший наст на мелкие куски. За трактором оставалась широкая полоса взрыхленного снега. Мы с Тынетэгином и Геутваль поднимаем многотысячный табун, тесним к взрыхленной целине. Передние олени, учуяв запах ягеля, выбегают на широкий след, легко разгребают взрыхленный наст и жадно набрасываются на освобожденные ягельники. Скоро весь шеститысячный табун вытянулся узкой лентой позади трактора. Грохот мотора не пугает оленей. Они чувствуют, что громыхающее чудовище избавляет их от гибели. Люди молчаливо смотрят, потрясенные невиданным зрелищем. — Здорово! — восхищается Костя. — Ну и башка у Федорыча! Чудесный снегопах быстро взрыхляет пологий склон увала, особенно богатый ягелем. Тальвавтын поражен — с недоумением следит за оленями, неторопливо разгребающими изрубленный снег. Авиаторы принялись выкатывать из вертолета бочки с горючим. Тягач, оставив на склоне увала свои могучие бороны, мчится к нам. На снег выпрыгивают разгоряченные и раскрасневшиеся Буранов, Гырюлькай, Федорыч. — Большой шаман, сильнее Экельхута, — кивает на Федорыча старик, — победил духов… — Ну, Вадим, принимай снегопах на десять дней и Федорыча в придачу. Пойдете с трактором на запад, по кратчайшему пути к границе гололеда. Сто километров гололед будет, а дальше рыхлый снег, там и встанете… Саша, — позвал Буранов, — передавай свои кроки. Саша подошел и вытащил из лётного планшета лист. — Вот тебе схема маршрута и азимут движения. Вот граница гололеда и приметная сопка с кигиляхом[240] на вершине. Там заберем Федорыча с его колымагой. Знакомлю Буранова со всеми нашими друзьями. Подвожу смутившуюся Геутваль: — А это дочь снегов — великая охотница. Она подружила нас с обитателями Пустолежащей земли. — Хороша… — тихо говорит Буранов. — Кстати, Вадим, генерал просил тебе передать: в Польше твою Марию не нашли. Уехала куда-то в Советский Союз. Поиски продолжают. Найдут — сообщу. У меня подкосились ноги. “Неужели жива? Но почему не пишет?!” Тальвавтына не успеваю познакомить с Бурановым. Старик словно очнулся от сна, лицо его исказила судорога. Круто развернув нарту, он помчался прочь от нашего лагеря, нещадно погоняя оленей. — Кто это? — спросил Буранов. — Тальвавтын — король Анадырских тундр. — Ого! Птица высокого полета. Много слышал о нем. Жаль, что не познакомились. Парни откатили бочки с горючим для трактора. — Прощайте, друзья… — говорит Буранов. — Улетать пора. Надо засветло в Певек вернуться с вертолетом, к последнему контрольному сроку… Вертолетчики уселись в свои кресла, пристегиваются ремнями. Обнимаем Сашку, Андрея… — Увидимся ли? Передай привет генералу. Буранов скрылся в пузатом брюхе вертолета. Саша, махнув шлемом, втаскивает лесенку и захлопывает дверь. Вертолетчики подняли в прощальном приветствии руки, одетые в мохнатые рукавицы. Взревел мотор. Завертелись лопасти винта. Вихрь подхватывает и уносит наши малахаи, оленьи шкуры, разбросанные на снегу. Схватившись за руки, смотрим, как медленно подымается вверх чудесная металлическая стрекоза. Косо прочертив воздух, вертолет уносится ввысь, наполняя долину невероятным грохотом. Неяркий свет полярного дня озаряет обледенелые снега. Они холодно отсвечивают. Но теперь этот мертвый ледяной панцирь не страшен нам…
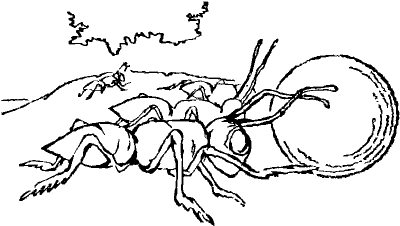
Домбровский К. СЕРЫЕ МУРАВЬИ Фантастическая повесть
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ (“Мир приключений”, 1969) Вся история началась с того, что в Америке взорвали очередную атомную бомбу, давно, еще в сороковых годах. Подземные воды, насыщенные радиоактивными веществами, просочились на поверхность и образовали в глухом лесу маленькое озеро. Около него прижился муравейник. Спустя много лет, уже в наше время, в окрестностях маленького университетского городка Нью-Карфагена начали происходить странные события. Внезапно умер, то ли от укуса муравья, то ли отравленный бразильским ядом кураре, Роберт Григ-младший — одни из местных промышленников. В этой смерти оказалась замешана жена профессора Нерста — Мэрджори Нерст. Из боязни скандала она тщательно скрывает свое знакомство с Григом, но все подробности их отношений очень скоро становятся известны полиции. В городе совершаются таинственные кражи. Из радиоприемников исчезают германиевые транзисторы. В ювелирном магазине пропадают рубины, аккуратно вырезанные из своих оправ каким-то неизвестным инструментом. Все эти события так или иначе связываются с появлением в окрестностях города серых муравьев. Изучением этих муравьев занимается профессор Нерст. Ряд обстоятельств приводит к выводу, что он имеет дело с совершенно новым, не известным науке видом муравья, отличающегося сравнительно высоким интеллектом и зачатками того, что можно назвать технической культурой. Некоторые наблюдения указывают на то, что муравьи связаны между собой биологической радиосвязью. В исследованиях Нерсту помогает ассистентка Линда Брукс и профессор физики доктор Ширер. Последний подвергался в прошлом преследованиям по обвинению в антиамериканской деятельности, но под давлением властен отказался от своих взглядов. Некоторые сведения о муравьях Нерсту доставляет бразилец Васко Мораес — поденщик, работающий на ферме Томаса Рэнди. Здесь тоже появляются серые муравьи, и от их укуса погибает сын Рэнди — мальчик Дэви. Химический концерн Грига, заинтересованный в увеличении продажи ядохимикатов, раздувает сенсацию вокруг появления опасных серых муравьев. Непосредственно этим занимается репортер местной газеты Ганнибал Фишер. Провокационные сообщения в газетах и по радио приводят к тому, что окрестные фермеры под водительством Томаса Рэнди устраивают поход против муравьев. Но это не дает желаемых результатов, и после гибели одного из фермеров остальные разбегаются. Однако при этом Васко Мораесу удается поймать “стальную” стрекозу, как-то связанную с появлением муравьев. Он приносит ее доктору Нерсту, который сразу устанавливает ее искусственное происхождение. Перед собравшимися возникает вопрос — кто же ее сделал?
1
8 июля. 10 часов 55 минут. — Муравьи? — переспросил Ган Фишер. — Да, муравьи, — повторил доктор Нерст. — Эту механическую стрекозу создали муравьи, теперь я в этом совершенно уверен. — Он смотрел на корреспондента, но, казалось, не видел его и обращался сразу ко всем, кто находился в этот момент в лаборатории: и к своему другу Ширеру, и к молчаливой ассистентке Линде Брукс, и к стоявшему в сторонке Мораесу, и к сотням своих студентов, ожидавших в аудиториях, и к миллионам американцев, сегодня еще ничего не знавших о серых муравьях. — Эта стрекоза, — продолжал доктор Нерст, — не насекомое. Это искусственно созданный летательный аппарат, построенный разумными муравьями. Ни один человек, даже самый искусный, своими грубыми руками никогда не смог бы сделать что-либо подобное… По сравнению с этой стрекозой механизм даже самых изящных дамских часиков выглядел бы вроде кукурузного комбайна… Лестер Ширер стоял перед экраном проекционного микроскопа и разглядывал изображение внутренностей “стрекозы” — тонкие беловатые трубки, разветвляющиеся, как пучки проводов или нервы на школьных анатомических моделях, какие-то ритмичные кристаллические структуры с четкими гранями и явно металлическими включениями, сероватые разорванные пленки, почти прозрачные и, казалось бы, влажные… Местами все это напоминало машину, местами — просто внутренности раздавленного насекомого. — Быть может, вы немного увлекаетесь, доктор Нерст, и забегаете вперед в своих высказываниях, — заметил Ширер. — Пока можно сказать лишь то, что мы в данном случае имеем дело, по-видимому, не с биологическим объектом. Я говорю “по-видимому”, потому что пока не сделаны химические анализы материалов, пока мы не имеем ни малейшего представления о функционировании объекта в целом, об устройстве и назначении отдельных частей, о его энергетике наконец, нельзя делать никаких окончательных выводов. То, что, вскрыв один из сегментов брюшка насекомого, мы обнаружили детали, напоминающие известные нам приборы, созданные людьми, еще ничего не доказывает. Возможно, это результат какого-то еще не известного нам эволюционного процесса, возможно, и то, что это простая случайность, приведшая к грубому заблуждению. Представьте себе, что мы вскрыли желудок акулы, проглотившей корабельный компас, и не видим ничего, кроме его поврежденных деталей. Было бы опрометчиво делать на этом основании вывод, что рыбы двигаются с помощью электромотора. Необходимо провести подробное исследование и прежде всего хотя бы в общих чертах ознакомиться с “анатомией” этого объекта. — Ваше замечание, дорогой Ширер, относительно акулы, проглотившей компас, может быть, и остроумно, но едва ли уместно в данном случае, — возразил Нерст. — Я далек от мысли делать какие-либо окончательные выводы, разумеется, для этого необходимы подробные исследования, но все же то, что в данном случае мы имеем дело не с насекомым, а с механическим прибором, кажется мне бесспорным. Что же касается общей “анатомии”, как вы говорите, то этим я предполагаю заняться немедленно. Нерст выключил экран микроскопа и, уткнувшись в окуляры, принялся налаживать манипулятор. — Вам не помешает, доктор Нерст, если я сделаю несколько снимков для газеты? — спросил Ган Фишер. — Помешает, — не оборачиваясь, ответил Нерст. — Сегодня я не могу дать вам никакой информации. — Но… — возразил Фишер. — Никаких “но”, мистер Фишер, — вмешался Ширер. — До тех пор пока мы не закончим исследования и не придем к достаточно обоснованным выводам, в газетах не должно появиться ни одной строчки. — Но вы забываете, доктор Ширер… — Я все помню. — Вы забываете, доктор Ширер, что эта стрекоза, или этот объект, называйте как хотите, принадлежит мне. Это моя собственность. И только от меня зависит, разрешу ли я производить над ним какие-либо эксперименты или исследования. Я заплатил за него пятьдесят долларов, и он принадлежит мне. Фишер говорил очень тихо и сдержанно, чувствуя за собой неоспоримое право. Ширер посмотрел на него удивленным, недоумевающим взглядом. Он не сразу воспринял несколько непривычный для ученого чисто коммерческий подход к делу. Ему казалось само собой разумеющимся, что подобное научное исследование должно в равной мере интересовать всех имеющих к нему отношение. Минуту помедлив, он достал из кармана чековую книжку и автоматическую ручку. — Я готов немедленно возместить вам расходы, мистер Фишер. Ган Фишер отрицательно покачал головой: — Вряд ли у вас хватит денег, доктор Ширер. Я не собираюсь продавать эту стрекозу ни за пятьдесят, ни за тысячу долларов. Я гораздо больше смогу заработать на сообщениях о нашем открытии. Я готов оставить вам для исследования этот объект, но с условием, что мне будет предоставлено исключительное право публикации сообщений о ваших исследованиях. Как о том, что вами и доктором Нерстом уже сделано, так и о том, что может быть выяснено в дальнейшем. Фишер замолчал, давая время ученым обдумать его ультиматум. Этой паузой воспользовался Мораес для того, чтобы внести свое предложение. — Босс, — робко сказал он, — если вам нужны такие стрекозы, то по сто долларов за штуку я мог бы их вам приносить каждый день… Нерст продолжал возиться со своим микроскопом. Казалось, он даже не слышал того, что говорили Фишер и Мораес. — Лестер, — позвал он Ширера, — взгляните, Лестер, я никак не могу разобраться в том, как они крепят связки к панцирю. Сегменты панциря соединены эластичным материалом, но впечатление такое, словно… словно этот пластик прирос к металлу… Мне не хотелось бы его разрезать… Ширер, все еще держа в руке перо и чековую книжку, нагнулся к микроскопу. — Конечно, было бы лучше не разрезать, — сказал он. — В технике существует правило, что всякая машина, всякая конструкция, созданная людьми, обязательно должна разбираться на части. — Да, но эта конструкция создана не людьми, — возразил Нерст. — Это не имеет значения. Техника должна оставаться техникой. Даже в муравьиных масштабах. Разборность механизма — это один из всеобъемлющих принципов конструирования. В этом, по-видимому, основное различие между произведениями техники и биологическими объектами. Любая машина изготовляется по частям и потом собирается, тогда как биологические объекты формируются сразу как единое целое путем одновременного наращивания деталей на молекулярном уровне. Поэтому животное нельзя разобрать на части, как машину. — Это справедливо для человеческой техники. А здесь мы можем столкнуться с иными, нам совершенно чуждыми и непонятными технологическими приемами. — Все равно. Любая машина должна изнашиваться или ломаться. Они должны были предусмотреть возможности ремонта, а для этого машина должна разбираться. — Опять же с человеческой точки зрения… Что… вы хотите сами попробовать действовать манипулятором? — Да. Ширер неумело пытался продеть пальцы в кольца на рукоятках манипулятора. Нерст показал ему правильное положение руки. — Это очень просто, вы быстро освоитесь. Захваты манипулятора повторяют движения ваших пальцев и рук, но уменьшенные в масштабе одна двухсотая. Самое трудное — привыкнуть к левому изображению в поле зрения… Это обычный принцип пантографа… Ширер осторожно и неуверенно попробовал управлять манипулятором. Ган Фишер достал из футляра фотокамеру и установил на ней фотолампу. Линда Брукс, следившая за его действиями, встретилась с ним взглядом и отрицательно покачала головой; неслышно, одними губами, она произнесла слово “нельзя”. Фишер сделал вид, что не понял ее знаков, и, выбрав подходящий момент, нажал спуск фотокамеры. Полыхнула и погасла фотолампа. Доктор Нерст резко обернулся: — Что это было? — Поймите меня правильно, доктор Нерст, — сказал Фишер, — я никоим образом не хочу мешать вашей работе. Наоборот, вы могли убедиться в том, что я всячески рад вам содействовать, но вы должны понять и меня: пресса — это мой бизнес, моя работа. Вся эта история с муравьями интересует меня лишь постольку, поскольку она может дать материал для печати. Это мой бизнес… — Я прошу вас возможно скорее уйти из лаборатории, — сказал Нерст. — Подождите, Клайв, не нужно горячиться. — Ширер повернулся от микроскопа и старался выпростать пальцы из захватов манипулятора. — Подождите, Клайв, от прессы мы все равно не избавимся, а мистер Фишер действительно оказал нам некоторую помощь, и кое в чем он прав. Если бы не он, мы бы сейчас не имели в руках этой стрекозы. — Но я не могу допустить безответственных публикаций в газетах и по радио. Если бы не эта безграмотная передача, фермерам никогда не пришло бы в голову устраивать поход против муравьев. Гибель этого старика на вашей совести, мистер Фишер. Фишер сделал протестующий жест: — Я не давал этой информации, доктор Нерст. Я передал на радио только то, что было напечатано в газете и что мы с вами согласовали. Эту передачу финансировало местное отделение химического концерна “Юнион кемикл”: они заинтересованы в продаже ядохимикатов и ради этого несколько сгустили краски. Я здесь ни при чем. — Но это возмутительно! Какая может быть гарантия, что нечто подобное не повторится снова? — Такой гарантии быть не может. Мы живем в свободной стране, и каждый вправе публиковать то, что он считает нужным. — Если это не вредит интересам общества, — вставил Ширер. — Обычно это бывает очень трудно доказать. — Вот поэтому я и не хочу давать никакой информации, пока мы не придем к определенным выводам, — сказал Нерст. — Я думаю, вы не правы, Клайв, — возразил Ширер. — Заставить замолчать прессу не в нашей власти. Какие-то сведения все равно будут появляться и будоражить общественное мнение. Единственное, что мы можем сделать, — это позаботиться о том, чтобы информация носила по возможности объективный и научно достоверный характер. События, участниками которых мы стали, имеют слишком большое значение не только для нас. Впервые за всю историю Земли люди столкнулись с технической культурой, с цивилизацией, которая имеет нечеловеческое происхождение. Это подобно появлению инопланетных пришельцев, о которых пишут в фантастических романах. Мы не вправе брать на себя всю полноту ответственности и замалчивать факты в ожидании исчерпывающих научных результатов. — Но тогда я категорически настаиваю на том, чтобы любое сообщение, которое будет публиковаться со ссылкой на нашу лабораторию, было предварительно мне показано. Вы правильно заметили, Ширер, что на нас лежит слишком большая ответственность перед обществом и мы обязаны проследить за тем, чтобы в печати не появлялось ничего такого, что может ввести людей в заблуждение. — Это я могу вам обещать, доктор Нерст. Вы уже имели случай убедиться в моей корректности, и я обещаю вам передавать в печать лишь ту информацию, которую вы сочтете уместной. — Фишер, как полководец, одержавший сомнительную победу, спешил закрепиться на завоеванной позиции. — Но, понятно, я не могу нести ответственность за то, что будут писать мои коллеги… Если вы не возражаете, я хотел бы сделать еще несколько снимков в лаборатории… Нерст молча отвернулся. Его воображению представились те сотни и тысячи холодных, равнодушных, эгоистичных, иногда более или менее честных, иногда подлых людей, которые будут делать свои большие и мелкие бизнесы на его открытии.2
9 июля. 13 часов 20 минут. Самолет набирал высоту. Пассажир у восьмого окна с правой стороны равнодушно смотрел в мутный кружок иллюминатора. На стекле розовел косой след раздавленной мошки, отброшенной встречным потоком воздуха. В детстве он любил давить мух на окнах. Это было немного противно, немного жутко и щекотало нервы ощущением власти и безнаказанности. Это же сознание безнаказанности, возможность вызывать в людях чувство страха, стало для него источником удовлетворения в его теперешней деятельности в роли специального инспектора Федерального бюро расследований. Сейчас он направлялся в один из юго-западных штатов для проверки хода следствия по делу Грига. Под крылом самолета медленно скользили желто-зелено-серо-лиловые клетки полей, четко разграниченные внизу, прямо под самолетом, и сливающиеся в общий голубоватый тон вдали, на непривычно высоком горизонте. Тонкие, прямые, белые нити дорог расчленяли лоскутную пестроту полей на большие квадраты, подобно координатной сетке на географической карте. Разница была лишь в том, что на географических картах меридианы и. параллели изображают обычно черными, а здесь они казались почти белыми. Все было очень правильным и прямоугольным. Редкие извилистые ленты рек и висевшие кое-где между землей и темным, фиолетовым небом белые хлопья облаков только еще больше подчеркивали строгую геометричность разграфленных по линейке посевов и пашен. Это была прочно обжитая, хорошо ухоженная, крепко прибранная к рукам земля. Старательный хозяин трудом нескольких поколений очень хорошо оборудовал ее для жилья. Она казалась причесанной, приглаженной, подстриженной, выскобленной до стерильной чистоты, обсосанной пылесосами, напомаженной и смазанной там, где ей полагалось быть смазанной. Это была очень удобная и совершенная машина для жилья людей, снабженная электричеством, сеткой оросительных каналов, гладкими дорогами, уютными фермами с телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и удручающей скукой по вечерам. Инспектора Федерального бюро расследований весьма мало интересовала панорама напомаженной страны за окном самолета. Он равнодушно отвернулся, открыл объемистый желтый портфель и занялся своими бумагами. До того, как стать инспектором ФБР, он переменил несколько профессий. Он был агентом по продаже недвижимости, гидом на Ниагарском водопаде, держал маленькую рекламную контору в Кентукки и даже пробовал свои силы в кино. Пожалуй, ни одна область человеческой деятельности не привлекает к себе в такой степени мечты неудачников, как кино. Это кажется так просто — жить на экране, увлекать миллионы людей выдуманными поступками выдуманных героев и собирать с этих миллионов людей миллионы долларов. Он не имел никаких данных для того, чтобы стать артистом. Его крошечное личико, сморщенное, как старушечий кулачок, с остреньким носиком, никак не подходило для звезды экрана. Поэтому он решил попытать счастья в качестве продюсера. Его расчет был прост. Не полагаясь на свой талант или профессиональный опыт, он предполагал добиться успеха, показывая на экране то, что всегда вызывает отвращение в людях с развитым интеллектом, но что привлекает нездоровое любопытство толпы обывателей. Ему удалось собрать некоторую сумму денег, достаточную, чтобы начать съемки фильма и тем поставить своих кредиторов перед дилеммой: или потерять деньг, или продолжить финансирование в надежде закончить картину и вернуть затраты. В фильме из современной американской жизни много и подробно убивали людей. Их били дубинками, им выдавливали глаза и заливали глотки горящей нефтью. Все это делалось с большой изобретательностью и претензией на новое слово в искусстве. Опасаясь, что зритель может не поверить в истинность того, что ему показывают, и догадается, что все это лишь изображается актерами, а не происходит на самом деле, он добавил несколько настоящих, подлинных истязаний — забил насмерть собаку и переломал ноги лошади. Но обыватели его почему-то не поняли и не понесли срои доллары в кассы кинотеатров. Не помогли ни реклама, ни глубокомысленные замечания некоторых критиков, боявшихся прослыть отсталыми. Потерпев финансовый крах, он был вынужден ликвидировать свою рекламную контору и заняться иного рода деятельностью. Использовав некоторые неофициальные связи, ему удалось поступить на службу в Федеральное бюро расследований. На выбор новой профессии повлиял один, казалось бы незначительный, факт: по странной случайности его звали Джеймс Бонд. Собственно говоря, его звали не Джеймс, а Оливер, и не Бонд, а Бонди, так звали его, когда он был маленький. Полное имя — Оливер Мартин Джеймс Бонди. В школе его звали Слизняк Бонди за унылую внешность и пристрастие к доносам. В шестидесятых годах, когда он прочел романы Флемминга о героических похождениях легендарного сыщика — “агента 007” Джеймса Бонда, когда насмотрелся фильмов, повествующих о невероятных приключениях этого супермена, преследователя гангстеров и борца с коммунистами, он утвердился в мысли, что сходство имен даст ему право на преемственность по отношению к литературному герою. Так бывает иногда с глупым актером, стяжавшим известность исполнением роли великого человека. Постепенно он так вживается в образ, что и в жизни начинает путать себя с киногероем. Такой актер, правда, не совершает великих деяний, свойственных его прототипу, но зато всегда с удовольствием принимает преклонение публики, относящееся вовсе не к нему лично как к актеру, а к тому, кого он изображал. Постепенно ему начинает казаться, будто он и в самом деле совершил те подвиги, которые только изобразил перед стеклянным глазом кинокамеры. Оливер Джеймс Бонди так привык отождествлять себя со своим почти однофамильцем, что стал путать действительность с вымыслом, свою настоящую, весьма прозаическую, жизнь с насыщенной приключениями жизнью киногероя. Он изменил свою фамилию, откинув “и” на конце, и добился того, что был принят на работу в ФБР. Нельзя сказать, что сходство фамилий так уж совсем не способствовало его новой карьере. Каждый, с кем он встречался, услышав знаменитое имя Джеймс Бонд, невольно переносил на него уже сложившееся под влиянием кино и телевидения отношение к Джеймсу Бонду — непобедимому сыщику. Правда, его деятельность в ФБР носила весьма скромный характер. Поручение заняться делом Грига было его первым серьезным заданием, и сейчас, направляясь в штат Южная Миссикота, он был полон решимости доказать, на что способен настоящий, невыдуманный Джеймс Бонд. Впереди в проходе между креслами появилась профессионально прелестная стюардесса. Оливер Бонди не любил женщин такого типа, слишком уверенных в своей привлекательности. Он вообще не любил всех здоровых, веселых и красивых люден, словно бы они захватили полагавшуюся ему долю радостей жизни. — Леди и джентльмены, — сказала стюардесса с дежурной голливудской улыбкой, — приветствую вас на борту самолета “Америкен эрлайнз” пятнадцать восемьдесят один. Мы летим на высоте тридцать две тысячи футов со скоростью шестьсот миль в час. Температура воздуха за бортом самолета — минус пятьдесят градусов по Фаренгейту. Сейчас мы находимся над штатом Западная Вирджиния, через несколько минут с левого борта можно увидеть город Чарлстон. Наш самолет следует по маршруту Вашингтон—Денвер—Парадайз-сити. Командир корабля капитан Дональд Роклин, стюардессу зовут Мюриэл Акерс. Она охотно исполнит все ваши просьбы. Стюардесса еще раз кокетливо улыбнулась. Оливер Бонди покосился на ее стройную фигурку и отвернулся. Он достал из портфеля подборку материалов по делу Грига и занялся чтением. Работать в самолете не очень удобно. Как бы ни был обычен в наше время воздушный транспорт, как бы часто ни приходилось летать человеку, все равно каждый новый полет — это всегда событие, несколько выходящее из ряда обыденных впечатлений. Настойчивые заботы администрации о комфорте и безопасности лишь подчеркивают исключительность полета. Биологически человек не приспособлен для жизнедеятельности в воздушном пространстве, и любой воробей должен чувствовать себя в самолете спокойнее и увереннее, чем даже самый опытный летчик. Оливер Бонди сделал над собой усилие и постарался думать не о тридцати двух тысячах футов, отделявших его от земли, а о бумагах, лежавших у него на коленях. В докладе, составленном по материалам следствия, которое вел местный агент в Нью-Карфагене, весьма скупо излагались факты, касающиеся смерти сына полковника Грига во время загородной поездки вместе с женой профессора Нерста, и высказывались некоторые предположения относительно возможных обстоятельств убийства. Все выглядело довольно обычно, за исключением туманных упоминаний о серых муравьях, которые, видимо, играли в этом деле более существенную роль, чем это хотелось показать автору доклада. Оливер Бонди откинулся на спинку, кресла и постарался представить себе, с чем ему придется иметь дело в ближайшие дни. Те, кто его послали, довольно ясно намекнули, что в этом деле далеко не все так просто, как может показаться с первого взгляда, особенно если судить только по докладу местного агента. Ему советовали основательно заняться муравьями и не спешить с выводами. Оливер Бонди перевернул плотную хрустящую пачку листков доклада и стал просматривать газетные вырезки. Первые сообщения местной печати по тону и освещению событий мало отличались от того, что содержалось в докладе инспектора. Но чем дальше, тем все большее место уделялось муравьям. Последние сообщения о нападениях муравьев на людей и неудачном походе фермеров были перепечатаны некоторыми центральными газетами. В корреспонденции высказывались упреки в адрес местных властей и сельскохозяйственной инспекции, которые не приняли никаких мер для уничтожения ядовитых насекомых. В общем, все это носило довольно обыденный характер, за исключением одной статьи в распространенной газете, где высказывались явно бьющие на сенсацию совершенно фантастические домыслы о какой-то особой породе муравьев, научившихся пользоваться металлами и похищающих драгоценности из ювелирных магазинов. “Если бы это оказалось хотя бы на десять процентов правдой, — подумал Оливер Бонди, — я мог бы считать свою карьеру обеспеченной. Нет в современной Америке более легкого способа сделать деньги, как оказаться в центре сенсации, а из этого безусловно можно сделать сенсацию, если с умом взяться за дело”. В конце статьи скупо упоминалось о том, что муравьи пользуются какими-то летающими приспособлениями, по виду напоминающими стрекоз. Оливер Бонди захлопнул папку с документами и рассеянно взглянул в окно. Реактивные двигатели воздушного лайнера пели на одной ноте. Этот звук не повышался и не понижался и по тону походил на жужжание стрекозы. В окно был виден край крыла с подвешенными под ним моторами. Корпус мелко вибрировал, усиливая сходство самолета с каким-то гигантским насекомым, с единым организмом, живущим своей жизнью. Оливер Бонди представил себе такой же самолет, но пропорционально уменьшенным в сотни раз. Какая нежная, хрупкая штучка должна получиться! Такая же или даже еще более хрупкая, чем живое насекомое. Одного щелчка, одного движения пальца было бы достаточно для того, чтобы превратить это сложное сооружение в кровавую кашицу из раздавленных пассажиров, скорлупок металлической обшивки и перепутанных клубков тончайших трубочек и проводов. Хрустнет, как раздавленная муха, и все… Стюардесса начала подавать завтрак, ловко маневрируя в узком проходе между креслами. Оливер Бонди укрепил поднос на подлокотниках. Стакан сока, ножка цыпленка с листиком салата и кусок шоколадного торта. Он отпил сок и готов был приняться за цыпленка, но в этот момент заметил на краю подноса маленького муравья. Он не сразу подумал, что это может быть один из тех самых муравьев, о которых он только что читал. Повинуясь первому импульсу, он придавил его пальцем. На подносе остался грязный след. Половина муравья — голова и грудь — осталась цела и продолжала шевелить лапками. Бонди еще раз прижал его ногтем, и только тут у него мелькнула мысль о грозящей смертельной опасности. Он попытался подняться, но ему мешал поднос. Он почувствовал себя в ловушке. Стараясь освободиться от подноса и встать с кресла, он рассыпал лежавшие на коленях бумаги и опрокинул стакан с томатным соком. Ему показалось, что весь он облеплен муравьями. Они ползали у него за воротником, копошились на спине под рубашкой, кусали икры и плечи. Залитые соком брюки противно липли к телу. Подбежала испуганная стюардесса. — У нас не может быть муравьев в самолете, сэр, это ошибка… это хлебная крошка… Позвольте мне заменить вам завтрак… Оливер Бонди окончательно потерял самообладание. Он вскочил на ноги. Толкнув соседа, задев стюардессу, встречая возмущенные, сочувствующие, насмешливые и просто безразличные взгляды пассажиров, Оливер Бонди пробрался в туалетную комнату. Ему вдогонку из репродуктора слышался равнодушно-любезный голос: — Леди и джентльмены! Наш самолет пролетает над рекой Миссури южнее города Сан-Луи. Вы можете любоваться открывающимся видом через окна правого и левого борта…3
9 июля. 14 часов ровно. — Джентльмены! Окружной агроном сделал паузу и обвел взглядом собравшихся. Члены Совета графства и несколько человек, специально приглашенных на это заседание, расположились за длинным столом в унылой казенной комнате и делали вид, что пришли сюда с единственной целью: выполнить свой гражданский долг. Перед каждым лежал чистый лист бумаги, на котором еще не появились ни записи, ни пометки с большими восклицательными или вопросительными знаками, ни бессмысленные закорючки, которые так любят рисовать “отцы города” во время подобных заседаний. Справа от окружного агронома, несколько отодвинувшись от стола, жался в кресле смущенный доктор Нерст. Он чувствовал себя стесненным этой, непривычной ему, официальной обстановкой и совершенно бессмысленно перебирал бумаги в разложенной на коленях папке. Тихо гудел мотор кондиционера. — Джентльмены! — повторил окружной агроном. — Совет графства просил меня сделать сообщение о тех мерах, которые уже предпринимает или может предпринять в ближайшее время сельскохозяйственная инспекция нашего округа для уничтожения появившихся в последнее время в окрестностях города вредных насекомых. Я имею в виду ядовитых серых муравьев. Все вы, несомненно, читали газеты и находитесь в курсе происшедших событий. Мне нет нужды говорить о той опасности для населения, которую представляют собой серые муравьи, и поэтому я сразу перейду к изложению тех данных, которые имеются в распоряжении сельскохозяйственной инспекции. К сожалению, эти данные носят в значительной части случайный, отрывистый или недостаточно систематизированный характер. Тем не менее сейчас уже можно считать установленным, что серые муравьи отнюдь не являются неуязвимыми, как это может показаться после недостаточно обоснованных газетных сообщений. Серые муравьи, как и большинство насекомых, подвержены действию ядохимикатов, в частности, они быстро погибают при обработке их такими веществами, как гексахлоран, хлорпикрин или дихлордифенил-трихлорэтан. Однако сложность проблемы состоит в том, что муравей погибает лишь при непосредственном воздействии на него ядохимиката. Нужно производить опрыскивание на довольно большой площади, охватывающей весь район распространения насекомых, и делать это так тщательно, чтобы ни один муравей не мог избежать контакта с ядохимикатом. Мы сейчас еще не знаем точного расположения места их гнездования, мы можем лишь предполагать, что муравейник — или муравейники — находится где-то в окрестностях лесного озера, в нескольких милях от федеральной дороги. Сложность проблемы усугубляется тем, что вблизи озера находится очаг повышенной радиации. По некоторым наблюдениям, мощность излучения такова, что исключает возможность пребывания там человека сколько-нибудь длительное время. Неудачная попытка фермеров уничтожить муравьев теми средствами, которые они обычно применяют для истребления вредителей на своих полях, убедительно показывает всю сложность стоящей перед нами проблемы… — Что же вы предлагаете? — задал вопрос один из членов Совета графства. — Сложность проблемы… — Агроном остановился, заметив, что он злоупотребляет повторением одного и того же выражения. Он потянулся за сифоном с содовой водой. — Передайте мне, пожалуйста, воды, — сказал он. — Спасибо. — Он отпил несколько глотков и начал фразу с другого конца: — Сейчас я перейду к тем предложениям, которые может сделать сельскохозяйственная инспекция. На наш взгляд, представляются два возможных варианта. Так сказать, радикальное решение и компромиссное. Мы можем примерно определить границы района, где локализована деятельность серых муравьев. Это лесной массив площадью около двадцати тысяч акров. Единственное, что возможно сейчас сделать в рамках нашей обычной деятельности по защите посевов, — это постараться воспрепятствовать дальнейшему распространению муравьев за пределы этой зоны. Я полагаю, для этого мы могли бы обработать ядохимикатами более или менее широкую полосу по границам участка. Это не приведет к полному уничтожению муравьев, но, несомненно, затруднит их распространение за пределы участка. Это, так сказать, простейшее мероприятие, которое мы могли бы провести своими силами. Другое, как я сказал, радикальное решение — это обработка всего лесного массива с воздуха. Это мероприятие поведет к полному уничтожению очага размножения муравьев, по оно потребует расхода довольно значительных средств и может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Дело в том, что для полного уничтожения муравьев необходимо тщательно обработать каждое дерево, каждый куст. Возможно, потребуется предварительное применение дефолиантов для устранения листвы на деревьях. Все это неизбежно приведет к полному истреблению всего живого на территории леса, а возможно, и к гибели всего лесного массива. Так как лес находится в ведении федеральных властей, мы не вправе принимать эти меры, не согласовав их с вышестоящими организациями. — Едва ли федеральное правительство будет возражать. Это можно легко уладить. — Сколько будет стоить проведение операции? — По предварительной смете, обработка с воздуха обойдется 57 832 доллара. — Какой убыток причиняют муравьи и какова предполагаемая сумма убытков на ближайшие годы, если вообще не принимать никаких мер по уничтожению муравьев? — Этот вопрос задал тот же член Совета графства, который интересовался стоимостью операции. Он сделал первые пометки на своем листке бумаги. — Видите ли… — Окружной агроном замялся, подыскивая более точную формулировку. — Видите ли… собственно говоря, до сих пор, если не считать несчастных случаев с людьми, муравьи не приносили убытка. Скорее, даже наоборот: серые муравьи, как и другие обычные лесные муравьи, приносят некоторую пользу — они уничтожают вредных насекомых, вредителей леса, и тем способствуют его росту. — Значит, они полезны? — В этом смысле — да. Но они представляют определенную опасность для жизни люден… — Это можно легко подсчитать… — Член Совета графства, интересующийся стоимостью, посмотрел на сидящего напротив другого члена Совета графства, связанного со страховым обществом. — Мой коллега, — продолжал он, — надеюсь, сообщит нам, кто из пострадавших и на какую сумму был застрахован? — Только двое: бармен на пять тысяч долларов и Григ на тридцать шесть тысяч. — Итого — сорок одна тысяча долларов. Но Григ — это не типичный случай. Я думаю, следует принять среднюю сумму страхования жизни фермеров что-нибудь около десяти тысяч… Какое число жертв ежегодно можно считать вероятным в том случае, если не будет предпринято никаких мер по уничтожению муравьев? Вы меня понимаете, джентльмены? Я ищу приемлемых критериев для оценки экономической эффективности мер по уничтожению муравьев. Сколько стоит человек и сколько стоит муравей? Мертвый муравей. — Я полагаю, — заметил член Совета графства, связанный со страховым обществом, — я полагаю, — повторил он, — что, если муравьи не будут уничтожены, наша компания будет вынуждена пересмотреть тарифные ставки страхования жизни. Во всяком случае, ставки для данного района страны. Я считаю, что наш долг перед избирателями, наша священная обязанность- как можно скорее принять все необходимые меры для полного уничтожения серых муравьев. — Вопрос установления тех или иных тарифных ставок страхования жизни — это частное дело компании и не может быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения, — заметил молчавший до этого член Совета графства. — Единственная задача наша — это принять такое решение, которое наиболее полно отвечает интересам налогоплательщиков. С этой, и только с этой, точки зрения мы и должны рассматривать всю проблему. Насколько я понял из объяснений окружного агронома, муравьи, пока они находятся в лесу, не приносят вреда посевам, наоборот: они являются, в известном смысле, полезными насекомыми. Что же касается опасности для людей, то это мне кажется сильно преувеличенным. На земле существует много ядовитых животных — змеи, пауки, осы и множество других, я не буду их перечислять, дело не в этом, а — в том, что если от их укусов и бывают случаи гибели людей, то всегда это происходит по собственной неосторожности. Главным образом, оттого, что люди не применяют необходимых защитных мер. Я не вижу необходимости уничтожать огромный лесной массив ради того, чтобы истребить несколько муравьев. Гораздо проще предоставить заботу о собственной безопасности самим фермерам. Фирма “Юнион кемикл”, в которой я имею честь сотрудничать, может обеспечить население любым количеством весьма эффективных инсектицидов и по достаточно низким ценам. В настоящее время наша фирма разрабатывает новый препарат — “формикофоб”, специально предназначенный для защиты от муравьев. Он обладает приятным запахом и совершенно безвреден для человека. Мой коллега интересовался экономической стороной дела. Мне кажется, предложенный им способ оценки стоимости одного человека, по средней сумме страховки в десять тысяч долларов, крайне завышен. В среднем человек стоит гораздо меньше, так что с этой точки зрения нет никаких экономических оснований для проведения весьма сложного и дорогостоящего мероприятия по уничтожению муравьев. Член Совета графства замолчал. Насколько он мог судить, его выступление произвело нужное впечатление, и, если не будет приведено новых, более веских аргументов, Совет графства не примет ассигнований на полное уничтожение муравьев. Некоторое время в зале заседаний царило молчание. По гладкой, хорошо отполированной ножке стола, с той стороны, которая находилась по диагонали от угла, за которым сидел доктор Нерст, медленно ползли два серых муравья. — Я шериф, — сказал шериф, — и на моей обязанности лежит забота о безопасности жителей нашего графства. Должен сказать, что это первый случай в моей практике, когда людям, населению нашего округа, угрожают не люди, а… как бы это сказать… очень маленькие насекомые. Но тем не менее это опасность, а с каждой опасностью надо бороться. Я не специалист и не могу судитьобо всем так подробно, как другие, но за последнее время мы имели несколько случаев правонарушения, которые, возможно, связаны с муравьями. Я имею в виду хотя бы ограбление ювелирного магазина. Следствие по этому делу еще не закончено, и сейчас нельзя сказать ничего определенного, но не исключена возможность, что это дело рук… — Он поправился: — …дело ног муравьев… — Поняв, что совсем запутался, он махнул рукой и продолжал: — Все равно… если подобные случаи будут повторяться, они так же должны быть приняты в расчет при определении убытков, приносимых муравьями. Было бы интересно выслушать по этому вопросу мнение доктора Нерста, присутствующего на нашем заседании. Все посмотрели на доктора Нерста. Он сидел в своем кресле, несколько отодвинувшись от стола, как бы показывая этим свою непричастность к этому собранию люден, считающих себя вправе распоряжаться судьбами города. Ему никогда не приходилось принимать участие в подобных собраниях, никогда не приходилось так близко наблюдать в действии американскую демократию. То, что здесь говорилось, мысли и соображения, которые здесь высказывались, даже сам подход к проблеме с точки зрения стоимости одного среднего человека был совершенно чужд складу его ума. Если оценивать это собрание с позиций тех научных дискуссий, участником которых он часто бывал, все это производило впечатление крайнего дилетантизма и непрофессиональности. “Очевидно, — думал он, — управление городом должно быть такой же профессией, как и всякая другая. И главное, здесь так же, впрочем, как и в любой деятельности, необходима полная честность, отрешенность от предвзятых мнении и личных интересов. Что было бы с наукой, если бы ученые в своих спорах руководствовались не поисками истины, а конъюнктурными интересами коммерческих предприятий, политических партий или отдельных лиц? Собравшимся здесь “отцам города” нет никакого дела до существа проблемы, они даже не задумываются над тем, что из себя представляют серые муравьи. Они интересуют их лишь в той мере, в какой могут оказать влияние на их личные планы, на развитие их бизнеса. Шериф хочет быть переизбранным на следующих выборах, и поэтому ему важно успокоить общественное мнение; член Совета графства, очевидно связанный со страховым делом, опасается увеличения числа несчастных случаев, так как это, естественно, повлечет за собой убытки. Поэтому он заинтересован в полном уничтожении муравьев и восстановлении статус-кво. Но в то же время он подумывает о том, что небольшая ложная паника могла бы пойти на пользу дела, так как вызвала бы приток новых клиентов. Представитель фирмы, торгующей инсектицидами, уже все подсчитал и взвесил. Он пришел к выводу, что ему гораздо выгоднее увеличение розничного сбыта, чем единовременный заказ, связанный с тотальным уничтожением муравьев. Окружной агроном пытается сохранить объективность, но он совершенно не понимает всей сложности возникшей проблемы, хотя сам все время повторяет эти слова. Председатель Совета графства…” — Итак, доктор Нерст, — обратился к нему председатель, — что могли бы вы сказать по этому поводу? — Я думаю, — сказал Нерст, — я думаю, что мы, все здесь собравшиеся, несколько недооцениваем те факты, с которыми нам приходится иметь дело. Если обратиться к историческому опыту, то нужно с сожалением признать, что еще ни в одном случае, когда перед людьми вставала задача полного уничтожения вредных муравьев, не было достигнуто успеха. Трудность в данном случае усугубляется тем, что мы имеем дело не с обычными муравьями. Появившиеся отличаются от всех ранее известных видов насекомых и не только насекомых. Дело в том, что они, видимо, стоят на иной, более высокой ступени развития, чем все известные нам живые существа, кроме нас самих. Они обладают тем, что я назвал бы “технической культурой”. Они не только строят дороги и жилища, как все муравьи, но они создают машины. И это главное. Машины. Орудия производства. А раз так, то, помимо чисто практических трудностей борьбы с вредными насекомыми, перед нами встает прежде всего вопрос, я бы сказал, этического характера. Целесообразно ли, вправе ли мы уничтожать эту возникшую рядом с нами культуру только потому, что она не такая, как наша? Уничтожать, не подвергнув ее прежде доскональному и всестороннему изучению? — Скажите, доктор Нерст, если я вас правильно понял, вы возражаете против тотального уничтожения муравьев с воздуха? — Этот вопрос задал тот член Совета графства, который был связан с торговлей химикатами. — Я считаю, — ответил Нерст, — что это принесет нам больше вреда, чем пользы. — Хорошо. Тогда, если мне будет позволено, — член Совета графства обратился к председателю, — я хотел бы сформулировать проект нашего решения по этому вопросу… — Член Совета графства взглянул на лежащий перед ним лист бумаги, на котором он делал заметки, и увидел ползущего серого муравья. Член Совета графства машинально смахнул его со стола, но тут же, с некоторым опозданием осознав, что это один из тех муравьев, вскочил со своего места и затопал, застучал каблуками, стараясь раздавить невидимого муравья. Он вертелся так, словно учился плясать чечетку. Почтенные “отцы города” невозмутимо сохраняли благопристойность…4
11 июля. 10 часов 30 минут. Если на землю смотреть с вертолета, она не теряет своей привычной реальности. Это не то, что вид из окна самолета с большой высоты, когда все затянуто голубоватой дымкой и цвета меняются, становятся блеклыми. С вертолета хорошо видны участки полей, разделенных узкими полосками живых изгородей, дороги с автомобилями, отдельные деревья и люди, работающие на полях. Мальчик, который сидел у окна в кабине, смотрел на землю и старался узнавать знакомые места. Все выглядело обычно и в то же время странно, потому что он еще не привык видеть землю сверху. Он сидел рядом с пилотом и глядел на проносящиеся внизу черепичные кровли ферм, на проезжающие по дорогам автомобили, на тень вертолета, машущую своими лопастями и легко скользящую по темно-зеленым группам деревьев. Сверху они были похожи на клочки густого лесного мха. Такой мох растет в сырых еловых лесах. Мальчик жил раньше в северных штатах, где много таких лесов. — Папа, мы полетим вдоль дороги? — спросил он. Отец его не услышал. Мальчик потянулся за ларингофоном, который висел на стенке кабины. Отец увидел, что мальчик прилаживает переговорное устройство, и улыбнулся. Он поправил свой шлемофон и отключил связь с аэродромом. — Что ты хочешь спросить, сынок? — сказал он. — Я говорю: мы полетим вдоль дороги? — Нет, я думаю, сперва пролетим над лесом, чтобы осмотреть весь участок, а потом начнем обрабатывать западным клин. Там ждет репортер из Ти-Ви. Он хочет снять нас для вечерней программы. Мальчик промолчал. Ему было жаль, что они не полетят вдоль дороги. Ему хотелось сравнить скорость их вертолета с проносящимися по шоссе машинами. Все мальчишки любят быструю езду, и в машинах они прежде всего обращают внимание на крайнюю цифру спидометра, не задумываясь над тем, что никто никогда не ездит с этой максимальной скоростью. — Папа, а ты дашь мне самому включить эжектор, когда мы прилетим на место? — Я же тебе обещал. — Они прячутся в лесу? — Кто? — Муравьи. — Конечно. Муравьи обычно живут в лесах. Разве ты не знаешь? — Знаю. Только я никогда не видал этих серых муравьев. — Их мало кто видел. Больше разговоров. — И мы их всех уничтожим? — Вряд ли. — Почему? — Лес — это не хлопок. На хлопке или на капусте можно за один раз уничтожить всех вредителей, да и то не всегда. А в лесу это трудно. — Почему? — Нужно, чтобы ядохимикат проник в почву. Муравьи живут на земле. На деревья они поднимаются только за пищей, а в основном прячутся в своих муравейниках. А с воздуха разве можно обработать весь лес так, чтобы опрыскать каждое дерево от макушки до корня. Из этого все равно ничего не выйдет. — Зачем же мы тогда летим? — Нам платят за это деньги. Это моя работа. Совет графства принял решение, а я должен его выполнять. Конечно, нужно было бы сперва обработать лес дефолиантами, чтобы опали листья, но на это не согласились. Не хотят портить леса. Не понимают, что сперва надо уничтожить листья на деревьях, а потом пускать в дело инсектициды. Тогда они пропитали бы всю почву и муравьям некуда было бы деваться. А так вся наша химия останется на листьях, а муравьи будут спокойно сидеть в своих муравейниках и только посмеиваться. Мальчик представил себе хохочущих муравьев, и ему самому стало смешно. Вертолет пересек магистральное шоссе и теперь летел вдоль восточной окраины леса. Справа, до самых холмов на горизонте, раскинулся сплошной лесной массив. Слева — расчерченные светлыми полосками дорог поля фермеров. Пилот посмотрел на приборы. Давление масла в норме. Бензина — почти полный бак. Обороты в норме. По серой серебристой панели щитка пробирался муравей. Он почти сливался с фоном панели — его серое брюшко мутно поблескивало совсем так же, как серебристая эмаль отделки панели. Пилот достал из-под сиденья тряпку и раздавил муравья. На панели остался влажный беловатый след раздавленных муравьиных внутренностей. Пилот перехватил тряпку и снова чистым концом протер панель. Теперь на ней уже не осталось никаких следов. Пилот потянул к себе укрепленную на планшете карту. Зеленый клин леса и желтый треугольник автомобильной свалки были обведены жирной красной чертой. Он взглянул на расстилавшуюся под ним местность. Впереди и немного левее по курсу виднелось буро-ржавое автомобильное кладбище. Он снова посмотрел на карту и попытался в уме прикинуть площадь, обведенную красной чертой, — примерно пять на восемь… — сорок квадратных миль… около двадцати пяти тысяч акров… Если по полтора доллара за акр, то опрыскивание всего леса должно стоить около тридцати семи тысяч долларов… Недурная сумма. Жаль, что Совет графства решил ограничиться только полосой шириной в сто ярдов по границе леса… но и это составит 1350 долларов — совсем неплохой заработок за несколько дней. Мальчик сидел неподвижно, уткнувшись в ветровое стекло. Вертолет летел медленно над самыми верхушками деревьев. Они колыхались и пригибались от потока воздуха, отбрасываемого винтом. Под вертолетом образовывалась гудящая воронка из трепещущих, вывернутых наизнанку листьев* Эта воронка медленно двигалась по лесу вместе с вертолетом. — Скоро будем включать эжектор, — сказал отец. — Репортер просил пролететь пониже, чтобы ему удобнее было снимать. — Да, вон он стоит, около голубой машины. Ты видишь? — Вижу. Сейчас мы развернемся и начнем опрыскивание. Ган Фишер стоял около своей машины с ручной кинокамерой и махал платком. Вертолет повис в воздухе, потом развернулся и полетел вдоль границы леса, примыкавшей к автомобильному кладбищу. Из эжектора вырвалось белое облако распыленной жидкости. Ган Фишер сунул платок в карман и начал снимать. Вертолет удалялся — он летел вдоль опушки леса и был плохо виден. Ган положил камеру на капот машины и открыл дверцу кабины. Он потянулся за телефонной трубкой и набрал номер. — Карфаген. Диспетчер аэродрома слушает. — Не могли бы вы связать меня с вертолетом “Би-Икс двадцать семь—одиннадцать”? Говорит репортер Ти-Ви-Ньюз Фишер. — Сейчас постараюсь, мистер Фишер. Ган через ветровое стекло автомобиля следил за удаляющимся вертолетом. — “Би-Икс двадцать семь—одиннадцать” слушает. — Хэлло, это Фишер. Из Ти-Ви-Ныоз. Я вас вижу. Я стою левее автомобильной свалки, вы должны были меня видеть — голубая машина с белым верхом… — Я вас видел, мистер Фишер. — Я прошу повторить заход. Пройдите немного правее, над самой свалкой раза два-три, а потом разворачивайтесь вдоль леса. — О’кей, мистер Фишер. Я понял. Над самой свалкой, потом влево над лесом. Ган Фишер вышел из машины, взял камеру и приготовился снимать. Вертолет был еще далеко, и Фишер, не выпуская его из поля зрения визира, ждал, когда он приблизится настолько, что будет хорошо видно белое облако распыленной жидкости. Вертолет медленно приближался. Ган Фишер нажал спусковую кнопку. Камера мягко зашелестела. В прямоугольном окошечке визира он ясно видел серебристо-серый вертолет и белый конус выбрасываемой жидкости. Ударяясь о землю, облако распадалось на отдельные клубы, быстро тающие в нагретом воздухе. У основания облака возникла небольшая радуга. Вертолет находился теперь точно над самой свалкой. Он летел низко и очень медленно. Через визир Фишер не заметил никакой вспышки, никакого взрыва. Просто в какой-то момент все четыре лопасти винта одна за другой оторвались, как бы обрезанные невидимой нитью, на которую натолкнулся вертолет. С резким гудением лопасти полетели по касательным, одна из них пролетела над головой Фишера и тяжело шлепнулась в нескольких футах позади машины. Вертолет резко качнулся и. вращаясь на одном месте, начал падать. Он со скрежетом врезался в гору наваленных друг на друга машин. От места падения взметнулся крутящийся столб дыма с пламенем. Винтом, спиралью, черным штопором взвился в небо черный дым, черный с оранжевыми просветами пламени. В своем вихревом движении он все еще повторял вращение оторванных лопастей. В лицо Фишеру пахнуло жаром, едким запахом горящего бензина, масла, краски, человеческого мяса и резины. Глухо взорвался бензобак одной из разбитых машин. За ним рванули второй и третий. И ржавые трупы разбитых машин каждый раз подпрыгивали в своей посмертной агонии, выбрасывая в воздух языки дымного пламени. Растекшийся бензин перебросил огонь на другие машины. Фишер непрерывно снимал, пока не кончилась пленка. Когда камера остановилась, он бросил отснятую кассету на сиденье машины и, торопясь и нервничая, достал из сумки новую. Порыв ветра отнес дым в его сторону, он закашлялся и закрыл рот платком. Теперь горело уже много машин, и трудно было определить место, куда упал вертолет. Ган Фишер влез на крышу своего автомобиля, чтобы снять пожар с верхней точки. Здесь было еще жарче. Он провел длинную панораму по лесу, по дымному зареву автомобильного кладбища, по шоссейной дороге с проносящимися по ней машинами. Задыхаясь от дыма, Фишер спрыгнул на землю и влез в машину. Запустив двигатель, он сразу почувствовал себя спокойнее. “Пожалуй, стоит отъехать немного и спять пожар общим планом”, — подумал он. Фишер быстро развернул машину, но, проехав едва несколько ярдов, увидел лежащую в траве у обочины оторванную лопасть винта. Он подал машину назад и выскочил на дорогу. Край лопасти был отрезан очень ровно, как по линейке. Края разреза оплавились так же, как микроскоп в лаборатории доктора Нерста. Ган Фишер попробовал поднять лопасть, но она была слишком тяжела и длинна для того, чтобы он мог увезти ее в своей машине. Он еще раз провел пальцами по гладкой оплавленной поверхности разреза. Она была чуть теплой. Ган Фишер оттащил лопасть в сторону от дороги и забросал ее травой. После этого он сел в машину и поехал к выезду на магистраль. Отъехав на некоторое расстояние, достаточное для того чтобы чувствовать себя вне опасности, он опять остановил машину, соединился с редакцией и продиктовал подробный отчет о трагическом итоге первой попытки уничтожить муравьев с воздуха.5
12 июля. В то же время. Доктор Нерст сидел в своем низком кресле в углу лаборатории. Его длинная фигура, составленная из ломаных прямых линий, напоминала сложенную кое-как плотницкую линейку, такую желтую складную линейку с дюймовыми делениями, какими пользовались мастеровые в конце прошлого столетия и какими сейчас еще пользуются редкие мастера, упорно не признающие современного машинизированного производства. Нерст сидел, подперев голову руками, опершись острыми локтями на острые колени, и внимательно смотрел на мерцающий экран топоскопа. На экране, разделенном примерно на два десятка отдельных ячеек, одновременно пульсировали голубоватые линии осциллограмм. Причудливые изгибы этих линий, непрерывно меняющихся по частоте и амплитуде, образовывали в целом хаотическую мозаику импульсов, подчиненную тем не менее крайне сложным, но все же вполне точным закономерностям. Экран топоскопа представлял в целом схематический план мозга человека. Отдельные ячейки, в которых были установлены электронно-лучевые трубки, соответствовали определенным участкам мозга. На голове Нерста, почти так же как в прежних опытах на голове рыжей обезьяны, были укреплены провода, образующие нелепую шевелюру из тонких проволок в яркой изоляции. Провода подсоединялись к датчикам на металлизированных участках кожи. Эти серебристые кружки, величиной с мелкую монетку, поблескивали среди почти таких же серебристых седеющих волос. Разноцветные провода, собранные в толстый жгут, подобно косе античной модницы, свисали на затылке, лежали свободными кольцами на спинке кресла и затем тянулись к усилительному блоку топоскопа. От металлизированных кружков на височных долях черепа отходили две тонкие, длиной в указательный палец, блестящие антенны. Они напоминали игрушечную комнатную антенну телевизора, или рога улитки, или усики насекомого. Серый муравей сидел на правом плече Нерста. Доктор Нерст с предельным вниманием вглядывался в пульсирующий ритм осциллограмм на экране топоскопа. Он стремился уловить связь между тем, что он думал, связь между образами, возникающими в его мозгу, и тем, что он видел на экране, отражающем биотоки мозга. Временами ему казалось, что такая связь обнаруживается. Собственно, он был в этом почти уверен. Каждый раз, когда он вызывал в своем воображении абстрактное понятие “число”, это сопровождалось определенной, часто повторяющейся группой колебаний на некоторых ячейках экрана. Сейчас он пытался уловить зрительную разницу между картинами, возникающими на экранах в тех случаях, когда он представлял себе понятия “один” или “два”. Но при этом он каждый раз терялся в хаосе импульсов. Если абстрактное понятие “число” часто сопровождалось более или менее похожими группами колебаний, то понятие “единица” отражалось всегда по-разному. Это зависело от того, представлял ли он себе число “единица” в виде цифры, записанной на бумаге, или одного пальца, одного человека, одного экрана. Ему не удавалось абстрагировать понятие “единица” от тех зрительных образов, которые с ним связывались, и поэтому он видел на экране отражение уже не абстрактного понятия, а конкретных представлений. Они возникали в сознании случайно, каждый раз путая электронную картину наслоением побочных, несущественных деталей. Устав от долгого напряжения, Нерст переключил топоскоп на автоматическую запись, откинулся на спинку кресла и постарался ни о чем не думать. Он закрыл глаза и целиком отдался тем мыслям и представлениям, которые могли возникнуть в его мозгу под влиянием внешнего воздействия. Это воздействие осуществлялось муравьем, сидевшим у него на плече. Зрительные образы, начавшие проявляться в его сознании, были сперва расплывчаты и бесцветны. Они напоминали обычную черно-белую фотографию, слегка подкрашенную двумя тонами — красновато-коричневым и зеленоватым. Потом у него появилось ощущение приятной влажности и свежести. В сумрачном рыжевато-сером фоне выделилась широкая зеленая полоса. Ее края были слегка зазубрены. Нерст сделал над собой усилие, чтобы как-то почувствовать размеры этой полосы, слегка покачивающейся, поднимающейся почти отвесно вверх. Она была гладка и упруга, и ее конец терялся в вышине. Она была, во всяком случае, шире его тела. С непривычной легкостью и быстротой Нерст побежал вверх по этой гладкой зеленой поверхности. Он почти не чувствовал своего тела. Он различал направление вверх и вниз, но движение вверх не представляло никаких трудностей, как если бы изменилась сила земного притяжения. Вообще произошло какое-то странное смещение привычных чувств и ощущений. Он мог бежать очень быстро. Если сравнить с движением на автомобиле, то, может быть, больше ста миль в час. Так ему казалось. Так он чувствовал. Взбираясь по отвесной зеленой полоске, широкой, как шоссе, он не испытывал ни напряжения, ни усталости, ни сопротивления встречного воздуха. Он легко перебирал своими неощутимо легкими конечностями и быстро достиг вершины зеленой травинки. Ее заостренный конец заметно раскачивался. Прямо под собою Нерст увидел муравьев. Они представились ему такими же большими или такими же маленькими, каким был он сам. Они показались ему одного с ним размера. Он воспринимал все окружающее глазами муравья, с точки зрения муравья. Нерст открыл глаза. Перед ним по-прежнему мерцал экран топоскопа. Голубые линии осциллограмм продолжали свой пульсирующий дрожащий бег. “Как странно, — подумал Нерст, — муравьи смогли создать такую сравнительно высокую техническую культуру, и в то же время они так примитивны в своих потребностях. Зачем им техника? Люди изобрели паровую машину и ткацкий станок потому, что им было холодно. Им была нужна одежда. Много тканей. Муравьям одежда не нужна. Вероятно, им чуждо и понятие комфорта. Они не знают любви — они бесполы. Что же остается? Зачем нужна техника? Для связи? Но у них эта проблема решена биологически, они обмениваются информацией непосредственно с помощью излучения мозга. То, к чему люди пришли в результате тысячелетнего развития техники, образовалось у них с самого начала как физиологическое свойство организма. Что же остается? Любопытство? Война? Голод? По-видимому, это единственные стимулы, двигающие вперед их цивилизацию. Или, может быть, что-то другое, о чем мы, люди, не можем даже догадываться…” Нерст снова закрыл глаза и сосредоточился на восприятии того, что непроизвольно возникало в его мозгу. Эти странные образы отличались той же мерой условности и реальности, как и необычайно яркие воспоминания о давно прошедших событиях, которые появляются при электростимуляции мозга посредством вживленных электродов. В созданной Нерстом, вместе с Ширером, установке переменное поле, генерируемое мозгом муравья, принималось чувствительным приемником и после усиления вводилось через фокусирующие электроды в те участки мозга, которые управляли образным мышлением. Как часто бывает в науке, в данном случае экспериментальные результаты существенно опередили теорию этих сложных процессов. Возникновение в мозгу человека тех или иных, по преимуществу зрительных, образов под воздействием излучения мозга муравья было им обнаружено почти случайно. Прямая биологическая радиосвязь между муравьем и человеком была возможна и без применения каких-либо специальных приборов усиления, однако в этом случае возникавшие у человека мысли или желания были весьма смутны и неопределенны. Используемая Нерстом аппаратура, разработанная, в основном, еще для опытов с обезьяной, позволяла получать значительно более четкое отражение образов и восприятий муравья. Для Нерста оставалась неясной возможность обратной связи — от человека к муравью. Некоторые наблюдения давали основание думать, что это осуществляется даже с большей легкостью. Сейчас Нерст направил свое внимание, свои мысли и волю на то, чтобы установить какой-либо обмен информацией в области таких отвлеченных понятий, как основания геометрии. Перед его мысленным взором постепенно из тумана неопределенности образовался круг. Довольно четкий белый круг на коричневато-черном фоне. В круге прочертился диаметр и возникло число: 305/100. Нельзя было сомневаться, что муравьи пытаются сообщить число пи — отношение длины окружности к диаметру. Но эта фундаментальная мировая константа равна, как известно, 3,14… Нерст еще раз проверил свое ощущение и снова, увидя 3,05, не мог предположить ничего иного, кроме того, что или все его попытки установить контакт с муравьями ни к чему не приводят и все это является лишь его собственной галлюцинацией, или же что в “муравьином мире” действуют иные законы геометрии и там имеет место иное соотношение между основными геометрическими понятиями. Между тем круг, представлявшийся его воображению, начал постепенно деформироваться, он приобрел материальность; теперь это был уже не круг, а сфера, полый шар, стенки которого были всюду одинаковой и совершенно неопределенной толщины. Нерст очень остро, каким-то дополнительным чувством ощущал эту общность отвлеченного понятия замкнутой сферической полости со стенками всюду равной толщины и плотности. Зрительные образы, сопутствующие этим представлениям, были неопределенны и в то же время конкретны. Все было темным, коричневатым, всюду одинаковым и все же видимым. Он представлял себе эту темную сферическую полость одновременно и как бы изнутри, и снаружи, и в разрезе. Себя самого он почувствовал внутри полости, свободно парящим в пространстве. Он мог двигаться и не мог перемещаться. Он как бы находился в состоянии полной невесомости, подобно космонавтам в космическом корабле, лишенным воздействия гравитационных сил. Нерст услышал звук открывающейся двери. В лабораторию вошел доктор Ширер. — Я не помешал, Клайв? — спросил Ширер. — Вы просили зайти к вам. Нерст резко повернулся. Фантастический мир странных видений сразу исчез. Он полностью вернулся к действительности. — Нет, нет, Лестер, вы как нельзя более кстати. Я здесь совсем запутался. — Что-нибудь новое? — Да, и весьма интересное. Наш усилитель работает отлично. Теперь мне удается довольно уверенно устанавливать двустороннюю связь. Во всяком случае, мне так кажется. Я делал попытки найти общий язык на базе математики, но пока получается что-то не то. Видимо, они мыслят не словами и не понятиями, а образами. В основном зрительными и осязательными образами. Садитесь, Лестер. Это больше всего похоже на галлюцинации. — Я никогда не испытывал галлюцинаций. — Я тоже. Я сужу только на основе клинических описаний. К сожалению, этот вопрос еще так мало разработан. Серый муравей, сидевший на плече у Нерста, перебрался на спинку кресла, оттуда на рабочий стол, заваленный аппаратурой, и скрылся в глубоком ущелье между двумя конденсаторами. Нерст отсоединил от усилителя жгут проводов и сунул конец разъема в карман пиджака. — Ну, а что у вас? — продолжал Нерст. — Разобрались вы наконец в этой стрекозе? — Почти ничего. Все чертовски сложно. Единственное, что нам пока удалось установить с несомненностью, — это что они пользуются плазменным двигателем, работающим на дейтерии. Однако механизм действия этого двигателя совершенно непонятен. Видимо, им удается создавать в очень малом объеме магнитные поля совершенно невероятной напряженности. Но пока это только наши предположения. Жаль, что этот ваш друг, бразилец, так здорово ее помял. — Понимаете, Лестер, то, чем я сейчас занимаюсь, это не заслуживает в наше время названия научного исследования. Пока это всего лишь жалкие дилетантские опыты. Мы с вами с первых же шагов столкнулись с таким невероятным обилием совершенно новых, принципиально новых фактов, что для их систематизации, только систематизации, не говоря уже о серьезном научном исследовании, потребовалась бы лаборатория с десятками, сотнями сотрудников, с другим, более совершенным оборудованием. На все это нужны деньги, но сейчас об этом нельзя и думать. На данном этапе нам нужно выяснить хотя бы некоторые основные факты, такие факты, которые мы могли бы предать гласности, а тогда уже можно заняться настоящим изучением этой проблемы. Пока же нам не остается ничего иного, как действовать нашими примитивными методами. Кое-что мне удалось установить, но все это очень запутано. После того как муравьи сами вернулись в мою лабораторию, я не могу сомневаться в том, что они стараются войти с нами в контакт. И в ряде случаев это мне удается. Я уверенно принимаю передаваемые ими образы, но их истолкование представляет большие трудности. Слишком велика разница между муравьем и человеком. Я говорю о принципиальных различиях в методике мышления, о различиях в такой области, как основные понятия математики. Например, их представление о круге, о геометрических отношениях, связанных с кругом, видимо, совпадают с нашими, но почему-то в их геометрии отношение длины окружности к диаметру, число пи, составляет не 3,14, а только 3,05. — Этого не может быть, — уверенно возразил Ширер. — Если вы умеете… — Ширер замялся, подыскивая подходящее слово, — …если вы можете понимать передаваемые ими числа, то это уже очень много. Собственно, пользуясь только числами. можно передать любые понятия, как это делается, например, в наших компьютерах. Но число пи должно оставаться числом пи даже в муравьиных масштабах. Я уверен, что если на других планетах, в любом уголке Вселенной существует цивилизация, существует Разум, то и там дважды два равно четырем, а пи равно 3,14… — Они передавали мне образы какой-то полой сферы… — Нерст рассказал о своем ощущении невесомости внутри замкнутой полости. Ширер некоторое время сосредоточенно думал, потом сказал: — Ну, это понятно. Если я вас верно понял и если вы правильно изложили то, что вам старались внушить, то это всего лишь иная, весьма необычная для нас, интерпретация закона тяготения Ньютона. Собственно, это ваше видение эквивалентно известному положению из элементарной теории гравитации: шаровой слой не притягивает материальной точки, расположенной внутри слоя… Если принять это положение за основу, то из него можно вывести закон тяготения Ньютона в его обычной формулировке… Но почему пи не равно пи? — С числами вообще получается какая-то нелепица. Возьмите этот ряд цифр, который они мне сообщили. В нем нет никакой закономерности. Иногда создается впечатление, что они умеют считать только до пяти. — И тем не менее строят плазменные двигатели? — усмехнулся Ширер. — Конечно, здесь явное противоречие. Но меня поражает другое. С одной стороны, все данные говорят за то, что наши муравьи достигли уровня разумного общества, научились создавать технику посложнее человеческой, но в то же время мы видим, что иногда они ведут себя как самые безмозглые насекомые: кусают неповинных людей, заползают в бутылки с виски и, если не считать ваших сегодняшних наблюдений, не делают никакой попытки войти с нами в контакт. А ведь если они разумны, то это первое, что должно их заинтересовать. Вместо этого они просто воруют у нас нужные им материалы. Как-то не верится… Может быть, за всем этим кроется что-то другое, более сложное, такое, до чего мы еще не добрались? — Мне кажется, Лестер, в нас говорит сейчас обычное человеческое самомнение. Мы слишком привыкли считать себя вершиной разума и хотим все мерить на своп мерки. А с точки зрения муравья, люди могут представляться какими-то двигающимися горами, разумность которых совсем не очевидна. Что мы знаем о них? Вы говорите: они воруют. А доступно ли им само понятие воровства? Для этого должно прежде всего существовать понятие собственности. А если его нет? Если они вообще в принципе не знают, что такое твое, мое, чужое? Они просто берут то, что им нужно. Почему они обязаны понимать различие между рубином и желудем, валяющимся под каждым дубом? Откуда они могут знать о физиологическом действии алкоголя? Может быть, кусая Грига, они просто были пьяны? Вы говорите: они не пытались установить контакт с людьми. Как знать, может быть, они и делали такие попытки, а людям даже и в голову не приходило, что это разумные насекомые. Слишком велика разделяющая нас пропасть. Разве могут они сразу уловить разницу между нами, учеными, и теми тысячами обывателей, чей интеллектуальный уровень значительно ниже муравьиного? Очень может быть, что они не заметили различия между мной и моей обезьяной и, принимая ее за человека, пытались вступить с ней в контакт, а она давила их как блох? Я не знаю… Зазвонил телефон. — …я не знаю, — повторил Нерст. — Я не берусь высказывать сейчас какие-то окончательные суждения. Можно говорить лишь о том, что я… что я сам… Зазвонил телефон. — …наблюдал. Конечно, “наблюдение” — это не самый подходящий термин для данного случая, но я не могу подобрать лучшего. — Нерст нервничал. Его раздражали… Зазвонил телефон. …эти ритмично повторяющиеся звонки. Он знал, что это звонит Мэрджори, что она опять будет горячо и долго убеждать его бросить свою работу и уехать… Зазвонил телефон. …вместе с нею во Флориду. Это злило Нерста тем более, что он отлично понимал, что Мэдж давно уже решила уехать одна, без него, что все это лишь пустая маскировка. Зазвонил телефон. Нерст снял трубку. — Доктор Нерст? Говорит Хальбер. Я вам помешал? Вы долго не отвечали. — Нет. нет, пожалуйста, чем я могу быть вам полезен? — Может быть, вам будет интересно узнать, доктор Нерст, что из моей лаборатории исчезли запасы неодима. Это весьма редкий металл, используемый в некоторых лазерных устройствах большой мощности. Не может ли это находиться в связи с вашими экспериментами с думающими муравьями? Хальбер не постеснялся дать почувствовать скрытую в его словах насмешку.6
15 июля. В середине дня. — А есть ли они на самом деле, эти муравьи? — спросила миссис Бидл. — Видел ли их кто-нибудь своими глазами? Миссис Бидл вместе с Мэрджори занималась укладкой чемоданов. По всей комнате да и по всему дому были раскиданы пляжные халатики, шорты, платья, туфли, чулки, несессеры, платки, полотенца, купальные простыни и купальные костюмы, блузки, кофточки, юбки, свитеры, подвязки, детективные романы, духи, тюбики с кремом, бусы, темные очки… Поразительно, какой чудовищный беспорядок могут создать две неорганизованные женщины, собирающиеся в дорогу. Они уже давно безнадежно запутались среди этой массы нужных и ненужных вещей, запутались так, что теперь уже положительно не знали, что они берут с собой, а что оставляют здесь. Мэрджори уезжала во Флориду, в Майами, на берег моря, ее мать — к себе на север, в Вайоминг. — Иногда мне кажется, — продолжала миссис Бидл, — что вся эта история с муравьями просто рекламный трюк. Фирме нужно продавать свои инсектициды. Ты берешь эти платья? — Нет, они мне малы. — Уже малы? — Да, малы, — с досадой повторила Мэрджори. — Как ты можешь спрашивать, видел ли их кто-нибудь, когда весь город заражен муравьями? Их сколько угодно у Клайва в лаборатории. Они там, наверное, так и ползают по всем столам. Мэрджори лишь однажды была в лаборатории доктора Нерста и довольно смутно представляла себе характер его занятий. — Ну, у него вообще столько этих разных жуков и бабочек… Как только он не запутается в них? Я всегда удивлялась, как может в наше время серьезный мужчина заниматься такой мелочью. — Ему это нравится. — Да, но за это платят так мало денег! — Миссис Бидл бросила взгляд на телевизор. На экране респектабельный мужчина и респектабельная дама обсуждали проблемы, сложившиеся в связи с тем, что у младшего сына начался насморк, а старшая дочь Айлин поссорилась со своим женихом как раз в то время, когда они всей семьей собрались на велосипедную прогулку. Это была еженедельная передача из серии “Семья Парсонс” — передача, не имеющая ни конца, ни начала, продолжающаяся неделя за неделей уже на протяжении нескольких лет. — Клайв сегодня опять задержится? — спросила миссис Бидл. Мэрджори, думавшая в это время о другом, ответила не столько на вопрос матери, сколько своим собственным мыслям: — Он говорит, что не может никуда уехать, пока не закончит свою работу с этими муравьями. — Тогда, может быть, лучше тебе пока остаться? — Я уже сто раз говорила, что не могу здесь оставаться больше ни одного дня. Между Мэрджори и миссис Бидл уже давно установились отношения молчаливого взаимопонимания и невмешательства в личные дела. Мэрджори не поверяла матери своих секретов, хотя отлично знала, что та о многом догадывается, а миссис Бидл со своей стороны старалась не задавать дочери таких вопросов, которые могли бы поставить ее в затруднительное положение. Как всякая мать, она пребывала в счастливой уверенности, что между нею и дочерью нет и не может быть никаких тайн. Все же некоторые обстоятельства, повлиявшие на решение Мэрджори немедленно уехать из города, ускользнули от внимания миссис Бидл, а Мэрджори, как человек, слишком далеко зашедший по пути лжи и обмана, теперь уже не могла быть откровенной. То, что ее волновало, знала только она и, может быть, еще один человек. Она не была в этом твердо уверена, но ей показалось, что в мужчине, подошедшем к ней в универмаге, она узнала того, кто подвез ее из леса в день смерти Роберта Грига. Тогда она была настолько подавлена случившимся, что ее охватило какое-то тупое безразличие ко всему окружающему. Она плохо запомнила человека, сидевшего за рулем. Останавливая попутную машину на шоссе, она следила лишь за тем, чтобы в ней не было пассажиров и чтобы номер был не черного цвета, то есть чтобы машина была не местная. Перебирая в уме все события того дня, она никогда не считалась с возможностью вновь встретить того, кто ее подвез. Эта улика казалась ей надежно сброшенной со счета, и когда в универсальном магазине она лицом к лицу встретилась с этим человеком и он ее, видимо, узнал, она почувствовала себя пойманной за руку на месте преступления. Даже при том, что обвинения в убийстве теперь явно отпадали, все равно установление ее личности грозило неминуемым скандалом. В этой ситуации она видела для себя единственный выход в немедленном бегстве из города. Нужно уехать, уехать, все равно куда, лишь бы иметь возможность переждать, пока все успокоится, пока возникнет новая сенсация, дающая пищу газетам и сплетникам. Но во все эти деликатные обстоятельства она никого не посвящала, предоставляя миссис Бидл полную возможность строить любые предположения по поводу ее настойчивого желания немедленно уехать в Майами. Мэрджори не знала и не понимала того, что полиция уже давно проследила каждый ее шаг в тот день, что все ее телефонные разговоры записывались на пленку, что полиции были известны такие подробности ее биографии, которые она сама уже давно позабыла. Она наивно думала, что ей удалось что-то скрыть, что она сохраняет свободу воли, и не понимала, что эта свобода не больше той, которой располагает инфузория в капле воды на предметном стекле школьного микроскопа. — Совершенно не понимаю, почему вдруг тебе понадобилось немедленно уезжать из города, — заметила миссис Бидл. — На твоем месте я бы ни за что не оставила Клайва одного. Зачем ты опять все вынимаешь из чемодана? — Я забыла положить серый костюм. Они, кажется, сейчас помирятся. — Мэрджори кивнула головой в сторону телевизора. Сложные проблемы семейства Парсонс получили наконец благополучное разрешение, и на экране появился любезный теледиктор: — Я воспользуюсь минутной паузой, чтобы сделать следующее сообщение: взволновавшие в последние дни наш город события, связанные с появлением в магазинах и некоторых общественных зданиях серых муравьев, побудили нас к решительным действиям. Муравьи будут уничтожены завтра. Совет графства принял постановление о полной ликвидации серых муравьев. С этой целью из лагеря Спринг-Фолс близ Прадайз-сити вызвано специальное подразделение войск химической обороны. Войска прибудут в наш город завтра после полудня. Команды дегазаторов сперва изолируют очаг размножения от остальной местности — будут прокопаны канавы и почва обработана инсектицидами, а затем будет приступлено к планомерному уничтожению муравьев в месте их размножения. Жители города могут быть уверены, что печальные события, случившиеся в последние дни, больше не повторятся… Диктор любезно улыбнулся и исчез.7
16 июля. 12 часов 10 минут. — Так-то, Мораес, — сказал Рэнди. — Будете еще в наших краях, заезжайте на ферму. В конце августа мне опять понадобятся рабочие на сбор персиков. — Премного вам благодарен, босс, большое спасибо. Обязательно постараюсь заехать, — говорил Васко Мораес, засовывая в карман не слишком толстую пачку долларовых бумажек. — Непременно заеду, когда буду в этих местах. Мужчины стояли у порога белого дома фермы Рэнди. Был тихий солнечный день середины лета, ясный, безветренный день, когда пахнет нагретой землей и над полями дрожит и струится горячий воздух; когда ласточки летают высоко в прозрачном, чистом небе и серебряные нити паутины тихо плывут над душистой спелой травой. Им нечего было больше сказать друг другу. Мораес отработал свое и получил заработанные деньги. Рэнди закончил уборку ранних овощей и теперь несколько недель мог обойтись без работника. Когда снова подойдет горячая пора, он без труда найдет другого такого же Мораеса, который за ту же цену будет ему помогать и потом, получая расчет, будет так же неловко стоять перед ним и топтаться на месте, словно хочет еще что-то сказать, когда говорить уже нечего. Оба думали в этот момент об одном и том же. О том, что их связывало в жизни нечто большее, чем случайная полевая работа. Тот день, когда они двое с напряжением всех душевных сил пытались спасти жизнь маленького Деви Рэнди, навсегда запечатлелся в их памяти. Слова и мысли, чувства людей, вместе переживших трагедию, не исчезают бесследно. Они застревают в глубинах сознания, роднят людей, устанавливают между ними неощутимые нити душевных контактов. Ни Рэнди, ни Мораес не были сентиментальны. Каждый был целиком поглощен своей борьбой за существование, не оставляющей места мыслям о том, что не было связано с насущными задачами сегодняшнего дня. Они стояли на различных ступенях общественной лестницы н, каждый по-своему, в меру своих возможностей, боролись за свое место под солнцем. Их цели и стремления в известном смысле противоречивы, как всегда бывают противоречивы цели рабочего и работодателя. Один заинтересован в том, чтобы получить за свою работу как можно больше, другой старается заплатить как можно меньше. Это непреложный закон борьбы за существование в том обществе, в котором они жили. Казалось бы, все очень просто — работа сделана, деньги заплачены и люди расходятся, как спортсмены после встречи, окончившейся вничыо. И все же мужчины молча стояли у порога дома, топтались наместе, не решаясь окончательно порвать тонкую нить, на время связавшую их судьбы. Эта эфемерная, призрачная связь, установившаяся между ними, лежала вне рамок привычных отношений. Она определялась проявлением необычного для них чувства человечности. В критические минуты опасности, когда нужно быстро и энергично действовать, не щадя своих сил и не считаясь со своими формальными обязанностями, они на какое-то время перестали быть хозяином и работником и стали двумя товарищами, делающими общее дело. Мораес еще раз переступил с ноги на ногу и сказал: — До свидания. — До свидания, — ответил Рэнди. Мораес повернулся и пошел к машине. “Плимут” долго не заводился, и пришлось несколько раз включать стартер. Наконец мотор заработал, и Мораес развернул машину. В боковое окно он увидел Рэнди, все еще стоявшего у порога. Мораес помахал рукой. Рэнди ответил тем же, повернулся и вошел в дом. Мораес вывел машину на дорогу, ведущую к магистральному шоссе. По федеральной дороге, держась в крайнем правом ряду, строго соблюдая дистанцию между машинами, двигалась воинская часть. Колонна шла на скорости сорок миль в час, интервал между машинами всюду был равен десяти футам — примерно половине длины грузовика. В голове колонны шел бронетранспортер — приземистая, угловатая, лязгающая треками машина. За ней как единое целое, как бы связанная невидимой сцепкой, ревя моторами, шла колонна грузовиков — крытых фургонов с людьми и снаряжением, с походными кухнями, радиостанциями, цистернами с химикатами, дозиметрическими лабораториями и всем другим сложным военным снаряжением, необходимым для того, чтобы обеспечить деятельность молодых парней, набившихся в грузовики. Машины шли так плотно одна за другой, так точно выдерживали заданную скорость, что солдаты, сидевшие в кузове впереди идущей машины, могли свободно перекидываться шуточками с парнями, сидевшими в кабине следующей. Они не стеснялись отпускать солдатские остроты по адресу обгонявших легковых машин. Они делали это с особенным удовольствием, чувствуя свою полную безнаказанность, сознавая себя частицей огромной военной машины, неудержимо и беспрепятственно катившейся по заполненному автомобилями шоссе. Капрал Даниэльс, ехавший в кабине последней, замыкающей машины, развалился на сиденье рядом с водителем, высунув ноги в открытое окно. Встречный ветер приятно холодил икры. Даниэльс посасывал дешевую сигару и чувствовал себя в том блаженном состоянии, когда все идет нормально, по строго установленному порядку, когда все обязательства выполнены, а впереди ждет что-то новое, приятное уже тем только, что оно отличается от привычного и надоевшего. До города оставалось меньше пятидесяти миль, через несколько минут они должны были прибыть к месту намеченной стоянки. Предстоящая акция по уничтожению серых муравьев представлялась ему, да и всем остальным участникам этого несколько необычного похода, чем-то веселым и праздничным, призванным нарушить унылое однообразие воинской службы. Васко Мораес миновал лесную опушку и подъехал к месту пересечения с магистральным шоссе. Всю дорогу от фермы Рэнди он обдумывал план своих дальнейших действий, но все еще не пришел к определенному выводу. Увольнение с фермы, хотя и было вполне естественным, так как работа, на которую он подрядился, была закончена, все же явилось для пего некоторой неожиданностью. Он надеялся, что ему удастся несколько дольше задержаться на этой уютной белой ферме с хорошими, благожелательными хозяевами. Теперь ему нужно было решать, куда направить свой путь. Если ехать в город, то надо было проехать прямо через тоннель на другую сторону шоссе и повернуть налево. Если ехать на восток, надо было сейчас сворачивать направо и вливаться в поток машин, едущих в сторону Прадайз-сити. Мораес, не выключая двигателя, притормозил у развилки, чтобы еще раз взвесить представлявшиеся ему возможности. Если поехать налево, в Нью-Карфаген, то там едва ли удастся найти сейчас работу, но зато представлялись весьма туманные перспективы снова подработать на чем-нибудь, связанном с муравьями. Если он уже два раза получил от Фишера по пятьдесят долларов, то, возможно, ему подвернется снова что-то в этом роде. Если повернуть направо, то с этим будет покончено, но зато можно рассчитывать на небольшой, но верный заработок на какой-либо ферме. Можно, наконец, продвинуться дальше, в Канзас или Айову, там сейчас должен быть спрос на рабочую силу… Раздумывая так, Мораес сидел в своем “плимуте”, машинально прислушиваясь к звукам мотора, глядя через ветровое стекло на проносящиеся по дороге машины. Вдали справа показалась зеленовато-серая колонна военных грузовиков. Они шли довольно быстро, слитно держась один за другим, похожие вместе на сумасшедшую гусеницу или на пьяный экспресс, внезапно покинувший рельсы, чтобы прокатиться по белой ленте шоссейной дороги. Слева навстречу проносились легковые машины. Приближался огромный белый фургон рефрижератора. Мораес смотрел на шоссе рассеянно, занятый своими мыслями, и потому он не видел, как это началось. Он заметил только, как прямо перед ним большой синий автомобиль вдруг разделился на две части, как бы разрезанный вдоль невидимой нитью, протянутой поперек шоссе на высоте двух-трех футов. Линия разреза пришлась чуть выше бортов машины. Нижняя часть продолжала двигаться вперед, а верхняя, отброшенная сопротивлением воздуха, съехала назад. Высекая снопы искр, она проволочилась несколько ярдов по шоссе и была смята колесами встречной машины. Остаток лимузина, потеряв управление, съехал на обочину, ударился бортом в перила путепровода над тоннелем и, перевернувшись в воздухе, с глухим скрежетом упал на нижнее поперечное шоссе. Разбившийся лимузин загорелся. Встречная машина, налетевшая на верхнюю, отрезанную часть синего автомобиля, пытаясь затормозить, стала поперек шоссе. В нее тут же ударилась машина, следовавшая за лимузином. Тяжелый белый фургон-рефрижератор, стараясь избежать столкновения с машинами, загородившими шоссе, взял слишком вправо. На какое-то мгновение его колеса повисли над краем путепровода, и в следующий момент, хрустя и ломаясь, — как яичная скорлупа, он рухнул на горевшие остатки синего лимузина. Колонна военных машин не имела времени затормозить. Головной бронетранспортер с ходу смял стоявшую поперек машину, отбросил ее влево и тем расчистил путь следующим за ним грузовикам. Через полторы секунды с ним повторилось то же, что произошло с первым лимузином. Он так же был разрезан невидимой нитью, пересекавшей шоссе, ярдов на шестьдесят левее. На этот раз линия разреза пришлась несколько ниже, очевидно, были затронуты механизмы управления, потому что треки сразу заклинило, нижняя часть бронетранспортера развернулась и остановилась, а верхняя, кусок брони с башней, скользнула по инерции вперед, превращая в кровавую кашу все, что было внутри. Ближайшая машина, шедшая следом за бронетранспортером, врезалась в него и загорелась. Вторая тоже не смогла избежать столкновения — они шли слишком близко одна за другой. Последующие, постепенно притормаживая и сворачивая в стороны, сбились в кучу у места катастрофы. Все это произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем Мораес сумел отдать себе отчет в том, что здесь происходит. Он тупо смотрел на горящие машины, на выползающих из-под обломков людей и все яснее ощущал свое бессилие оказать помощь. Справа и слева от места катастрофы начали скапливаться машины. Кто-то очень громко кричал. В этот момент Мораес заметил стрекозу. Она летала вокруг машины, временами почти неподвижно зависая в воздухе, временами стремительно взмывая вверх. Сделав еще один круг, она села на капот машины, уцепившись лапками за огрызок эмблемы. Ее металлическое тело вытянулось в прямую линию, и Мораес увидел довольно яркую вспышку. От стрекозы по направлению к шоссе протянулся прямой, тонкий, как вязальная спица, луч красноватого света. Он продержался неподвижно доли секунды, потом взлетел вверх, разрезал наискось стальную ферму высоковольтной линии электропередачи, снова опустился’ на шоссе, описал плавную дугу, разрезая на пути остановившиеся военные машины, и погас. Взорвался бензобак последней машины в колонне грузовиков. Загорелся растекшийся бензин. Струя пламени скользнула по насыпи и перекинулась на разбитый фургон. Мораес — включил скорость и тронул машину. Стрекоза улетела. Мораес развернул “плимут” и, поднимая клубы пыли, поехал обратно в сторону леса. Сзади он услышал дробный стук — несколько звонких ударов по крышке багажника, по он не обратил на это внимания. Капрал Даниэльс со своей позиции в кабине грузовика не мог видеть дороги. Когда он заметил, что машина резко тормозит, он, не вынимая сигары изо рта, спросил водителя: — Приехали? — Нет. Авария на шоссе. Ведущий остановился. Даниэльс втянул высунутые из окна ноги, стряхнул с рубашки осыпавшийся пепел, открыл дверцу и спрыгнул на землю. Для того чтобы увидеть место аварии, ему нужно было обогнуть машину. Он сделал несколько шагов и почувствовал, как сильно затекла у него левая нога. Он нагнулся, чтобы растереть лодыжку, и это его спасло. Луч лазера прошел у него над головой. Он успел заметить яркую вспышку, исходившую от потрепанной черной машины, стоявшей слева внизу на поперечном шоссе. В следующий момент он услышал у себя за спиной грохот взрыва. Все это вызвало у него болезненно яркие воспоминания о войне. Повинуясь привычному автоматизму, он растянулся на асфальте и пополз к обочине, одновременно освобождая оружие. Он еще раз отметил вспышку и вслед за тем увидел, что черный “плимут” начал разворачиваться. До того как он скрылся за поворотом, Даниэльс успел выпустить по нему две коротких очереди из автомата.8
16 июля. 12 часов 20 минут. Первые сообщения о катастрофе на федеральной дороге пришли в город от полицейской патрульной машины. Заметив скопление автомобилей, далеко не доезжая до места происшествия, констебль Роткин вызвал по радио полицейский вертолет и мотоциклистов. Еще не зная, в чем дело, полагая, что это одна из обычных аварий, образовавших временный затор, он вывел свою машину на левую сторону и, пользуясь отсутствием встречного движения, проехал вперед. Вся правая сторона шоссе была забита машинами, стоявшими вплотную одна к другой в несколько рядов, растянувшихся мили на полторы. Эта вереница машин непрерывно увеличивалась за счет новых, подходящих со стороны города. Впереди был виден столб черного дыма, поднимавшийся почти отвесно в тихом, безветренном воздухе. Водители задних, только что подошедших машин, привыкшие во всем полагаться на указания полиции, терпеливо ждали, когда будет ликвидирован затор. По опыту они знали, что, если в подобных обстоятельствах нет возможности свернуть на боковую дорогу, не остается ничего иного, как ждать, пока снова восстановится движение. Но чем дальше, чем ближе к месту катастрофы, тем больше росло возбуждение этой механизированной толпы. Люди видели впреди огонь и дым и догадывались, что там случилось что-то серьезное, но, сидя в своих удобных, комфортабельных машинах, слушая радио или продолжая начатые разговоры, болтая по телефону и досадуя на задержку, они в то же время ни на секунду не допускали мысли, что им самим угрожает опасность. Такие мысли не возникали потому, что в их сознании любые опасности, связанные с машиной, всегда ассоциировались только с ездой. Слишком быстрой ездой. Опасной дорогой, крутыми неожиданными поворотами, случайными неисправностями, но все это было опасным лишь во время движения. Если же машина вынуждена стоять, то это не может ничем угрожать, кроме досадной потерн времени. Те, кто стоял ближе к месту катастрофы, видели горящие впереди машины и понимали, что там произошла тяжелая авария, но также не связывали это с какой-либо опасностью для себя и тоже выжидали. Каждый водитель, если бы он на пустынной дороге увидел машину, попавшую в беду, несомненно остановился бы и оказал помощь, но здесь было слишком много людей и машин, и каждый молчаливо слагал с себя обязательства по оказанию помощи, полагая, что там и без него справятся. Наконец, водители самых передних машин, видевшие катастрофу, но сумевшие избежать столкновения, были совершенно потрясены масштабами происшедшего. Непосредственно у самого места катастрофы образовалась плотная свалка, клубок покореженных, сцепившихся друг с другом автомобилей, перегородивших всю ширину шоссе. Впереди, смрадно дымя, горела колонна военных машин. Плакали дети и стонали раненые. Некоторые из них оставались в машинах, другие выползли на обочину. Метались растерянные люди. Некоторые пытались оказать первую помощь пострадавшим, другие просто глазели и давали советы. Кто-то достал аппарат и фотографировал горящие машины и окровавленные трупы. С другой стороны горящей свалки время от времени слышались короткие очереди из автомата, но кто и почему стреляет, было неизвестно. Констебль Роткин доложил по радио о том, что он успел увидеть, и просил блокировать шоссе на выезде из города, чтобы прекратить увеличение затора. Пока это было единственное, что он мог сделать до прибытия подкреплений. Вся его выучка, опыт и тренировка были направлены лишь на разрешение обычных неожиданностей. Подобные же обстоятельства не имели прецедента в его практике. Насколько можно было судить с того места, где он остановился, больше всего пострадала колонна военных машин. Они были уничтожены практически полностью. Впереди пылал огромный бензиновый костер, протянувшийся вдоль шоссе более чем на сотню ярдов. Констебль Роткин вылез из машины. Навстречу, по левой обочине, двое мужчин и женщина несли обожженного. На нем тлела одежда. — Надо эвакуировать людей! Надо эвакуировать раненых! — кричал один из мужчин. — Где полиция?! Они засели с правой стороны в лесу! Я видел! Они могут опять пустить свою дьявольскую штуку! — Кого? Кто засел? — растерянно спросил Роткин. Он все еще не понимал, что здесь произошло. — Это диверсия! Как вы не понимаете, это диверсия! Они засели в лесу… Они стреляют по машинам… Впереди, с той стороны, где горели военные грузовики, опять послышались выстрелы, и мужчина пригнулся. Слева у дороги громоздилась разрезанная невидимым лучом ажурная мачта линии высоковольтной электропередачи. Оборванные провода извивались на земле, разбрасывая снопы голубых искр. Кричали дети. В небе показались два вертолета. Они быстро приближались. Человек с окровавленным лицом пытался выбраться из разбитой машины. Дверцу заклинило, и он неуклюже, головой вперед, выползал через разбитое окно. Констебль Роткин бросился к нему, чтобы помочь. В машине плакал ребенок. Мать была без сознания. Подлетевшие вертолеты зависли над местом катастрофы. Один из них — белая санитарная машина — сделал круг и начал опускаться на лужайку между шоссе и лесом. Поток воздуха пригнул, расчесал траву, затрепал ветви кустов, дохнул в лица черным дымом. Тогда со стороны леса блеснул едва видимый в ярком солнечном свете тонкий красный луч. Он срезал верхушку молодого деревца, мазнул по скопившимся на шоссе машинам, рассек надвое санитарный вертолет, секунду поколебался в воздухе, метнулся вправо ко второму вертолету, и тот вспыхнул ярким желтым пламенем. Кто-то подал команду “Ложись!”, но люди, выбравшиеся из машин, продолжали стоять, сбившись в кучи, и следили за тем, как медленно падает, кружась в воздухе, горящий вертолет. Те, кто сидел в своих машинах сравнительно далеко от места катастрофы, до этого сохраняли относительное спокойствие. Они просто не понимали, что, собственно, здесь происходит. Никому из людей, скопившихся на шоссе, не могло прийти в голову, что они присутствуют при полном крушении всех установленных ими правил и законов. Констебль Роткин был здесь единственным представителем власти, обязанным принять меры для восстановления нарушенного порядка. Но один он был совершенно бессилен что-либо сделать. С минуты на минуту должны были подойти мотоциклисты и санитарные машины. Он снова вызвал полицейское управление города. Ему ответили, что помощь выслана. — Вертолеты! — крикнул он. — Вертолеты сбиты! Оба! Сгорели! Нас обстреливают! Его не поняли. — Вертолеты вылетели, — ответил спокойный голос. — Они должны скоро прибыть. Роткин бросил трубку. Слева горели обломки вертолета. Впереди стреляли. Роткин оглянулся назад. Шоссе было забито машинами почти на всю ширину. Только у правой обочины оставался узкий проезд. Несколько машин пытались развернуться в обратном направлении, и это грозило уже полным хаосом. Роткин включил громкоговоритель: — Здоровые мужчины, ко мне! Врачи или санитары, ко мне! Водители машин, слушать меня! Водитель первой машины, серый “форд”, подайте машину вперед и постарайтесь развернуться на левую обочину. Серый “форд” тридцать три—пятьсот семьдесят два, я обращаюсь к вам. Остальные ждут моей команды… Здоровые мужчины, врачи, ко мне! Вдали на шоссе послышался вой санитарных машин. Они были на расстоянии больше мили от места катастрофы, когда их остановил красный луч. Ехавший впереди мотоциклист был разрезан надвое примерно на уровне пояса. Это произошло быстро. Внезапно он испытал острую боль в обеих руках и в области диафрагмы. В течение нескольких секунд его мозг еще продолжал функционировать и принимать информацию от органов чувств. Он понял, что с ним случилось что-то ужасное и непоправимое. Потоком встречного воздуха отрезанная часть туловища была отброшена назад. Он еще успел увидеть продолжающий движение мотоцикл с половиной его тела и цепляющимися за руль обрубками рук. Следовавший за ним санитарный фургон, захлебываясь, как свинья на бойне, диким ревом сирены, разваливаясь на части, сбивая стоявших у машин и на обочине людей, расплескивая горящий бензин, загородил оставшийся проезд. Через несколько секунд в этом месте полыхал второй бензиновый костер, из которого выскакивали обезумевшие от ужаса горящие люди. Констебль Роткин с того места, где он находился, не мог видеть всех обстоятельств гибели санитарных машин. Он слышал вой сирены и видел поднявшийся там столб пламени. Теперь дорога была перерезана в двух местах, и бесполезно было ожидать помощи из города. Нужно было спасать оставшихся в живых людей, орущих и плачущих, бессмысленно мечущихся вдоль шоссе, боящихся покинуть эту узкую полоску привычной культурной земли, протянувшуюся среди чуждой горожанину зеленой стихии природы, находящейся к тому же в частном владении. Констебль Роткин снова повторил свой призыв: — Здоровые мужчины, врачи, санитары, ко мне! — Я врач, — сказал высокий седой мужчина в дорогом костюме. — Я все видел. Они ведут огонь из леса. Нужно выводить людей через кукурузное поле под прикрытием насыпи. Вы были на фронте? — Нет, — сказал Роткин. — Я займусь ранеными, а вы… У вас действует радио? Роткин кивнул головой. — Вызывайте санитарные вертолеты, пускай они садятся в поле не ближе двух миль от шоссе… — То ли от волнения, то ли из-за больного сердца врач говорил медленно, делая большие паузы между словами и тяжело, со свистом, набирая воздух. — Я займусь ранеными, а вы уводите людей в поле… Они только с той стороны шоссе. Людская толпа, случайное сборище чужих, ничем не связанных между собою людей, враждебных, трусливых, смелых, нахальных, охваченных страхом за себя и свое благополучие, объединенных лишь одним общим стремлением как можно скорее выбраться из этого страшного места и вернуться к привычному комфорту, людская толпа, растерянная и возмущенная, понуро брела по кукурузному полю. Стадный инстинкт на время победил воспитанный в этих людях с раннего детства американский индивидуализм. Перед лицом непонятной опасности, вынужденные спасать свои драгоценные жизни, они невольно собрались в толпу, старались держаться друг друга и, как стадо баранов за вожаком, растянулись длинной неровной цепочкой среди высоких зарослей кукурузы.9
17 июля. 11 часов 30 минут. Паника в Нью-Карфагене началась в тот вечер, когда прибыли первые беженцы с места катастрофы на восточной дороге. Усталые, измученные, запыленные, перепачканные глиной, в разбитой обуви и порванной одежде, они заполнили гостиницы города и, как это свойственно людям, потерпевшим поражение, представили все события в сильно преувеличенном виде. По их рассказам, все случившееся приобретало характер чудовищной космической катастрофы, полного крушения всех устоев нормальной жизни. Впервые столкнувшись с реальной опасностью, увидев обожженные трупы не на экранах телевизоров, а здесь, рядом, став непосредственными участниками разыгравшейся трагедии, чувствуя свою полную беспомощность, все добравшиеся до города в своих рассказах изображали события так, что по сравнению с ними поражение в Пирл-Харборе или бегство англичан из Дюнкерка могли показаться детской игрой в солдатики. Распространяясь по городу, эти рассказы, многократно усиленные и искаженные, способствовали развитию паники, побуждали людей к бегству из Нью-Карфагена. Сбивчивая информация, передаваемая в первые часы радиостанцией Парадайз-сити, только усиливала эти панические настроения. Однако наибольшее влияние на умы обывателей оказало то, что город лишился электроэнергии. Вечером улицы Нью-Карфагена были темны и мрачны, как улицы Лондона в дни войны. Не горели огни реклам, и было темно в домах. Не работали пылесосы и телевизоры. Выключились холодильники и электрические плиты. Кондиционеры перестали подавать в комнаты свежий воздух, и на электрических тостерах нельзя было поджарить гренки. В первый момент, когда прекратилась подача электроэнергии по линии, проходящей вдоль восточной дороги, на местной подстанции переключили питание на другую линию и выслали ремонтную бригаду на место аварии. Ремонтники вылетели на вертолете. При попытке снизиться вертолет был уничтожен. Приблизительно через полтора часа вышел из строя главный трансформатор подстанции. Он был разрезан лучом лазера. Примерно в то же время вышел из строя узел телефонной и телеграфной связи. Местная радиостанция прекратила передачи. Жизнь города была практически парализована. Продолжали работать лишь те немногие предприятия, которые имели резервные автономные источники питания электроэнергией. Водопровод еще действовал, но подача воды сильно сократилась. Утром тысячи жителей Нью-Карфагена не смогли, как обычно, как ежедневно, принять ванны — вода из кранов едва сочилась тоненькой стрункой. Впервые за много лет они не нашли у своих дверей пакетов со свежим хлебом. Газеты не вышли. Крупные магазины были закрыты. Торговали мелкие лавочки, и в закусочных подавали только холодные блюда. У бездействующих колонок скопились длинные очереди машин. Бесполезные и ненужные, брошенные своими владельцами, они с терпеливостью мертвецов ожидали того момента, когда жизнь снова войдет в свою колею. Транзисторные приемники, включенные в каждом доме, приносили все более путаную, противоречивую информацию, которая только усиливала тревожное настроение города. Радиостанции Парадайз-сити, Денвера и Сан-Франциско передавали сообщения о небывалой катастрофе, охватившей весь район Нью-Карфагена. Осторожно, как бы все еще не веря в правдоподобность такого объяснения, говорилось о каких-то чудовищных насекомых, вступивших в борьбу с людьми за овладение городом. С десяти часов утра началась передача радиорепортажа из Нью-Карфагена, транслировавшаяся по всей стране. — Сейчас мы едем по восточной федеральной дороге к месту вчерашней катастрофы. — Репортер вел передачу в привычном быстром темпе, пропуская слова и не следя за стилистикой, подобно тому как это делают радиокомментаторы бейсбольных матчей. — Итак, мы приближаемся к месту катастрофы. Только что миновали тридцать шестую милю, осталась еще одна—две минуты — и мы прибудем. Дорога на всем протяжении от самого города совершенно пустынна. Ни одной машины — ни встречной, ни попутной, даже как-то странно! Шоссе словно вымерло. Пока мы не видели никаких повреждений, просто ничего нет, и все… Джеф, возьми, пожалуйста, чуточку левее, чтобы я мог видеть идущие впереди машины. Это я прошу нашего водителя взять левее, а то мне все загораживает фургон телевизионщиков. Так хорошо, Джеф, спасибо. Наша машина идет третьей. Впереди на открытой машине едут кинооператоры. Они установили свои треноги и сейчас, наверно, уже снимают, хотя снимать пока нечего. Дорога по-прежнему пустынна. Не видно ни огня, ни дыма. Пожар, вероятно, уже потушен. Сейчас я возьму бинокль. Джеф, веди, пожалуйста, ровнее. Ага, в бинокль я что-то вижу! Да, конечно, впереди, на расстоянии примерно около мили, я вижу несколько машин. Это обгоревшие машины. Одна, крайняя, лежит поперек шоссе. Сейчас ее видно уже невооруженным глазом. Кинооператоры в передней машине засуетились… Так и держи, Джеф… Они едут на расстоянии примерно ста восьмидесяти ярдов впереди нас, затем, ярдах в ста, фургон телевизионной компании “Эй-Би-Эс”. Справа от нас лес, слева кукуруз… А… Вот… С передней машиной что-то случилось… Они полетели за борт, и люди и камеры, амашннавсеедет… Их разрезало, их смело… Джеф, тормози-и! Фургон! НадвоеразрезанДжефтормози-и-и… тормо… …После этого в приемнике послышался треск, а потом спокойный голос другого диктора сообщил: — По техническим причинам передача временно прерывается… А сейчас послушайте немного музыки! Пятнадцать миллионов зрителей, смотревших в это время телевизионную передачу, видели, как люди, сидевшие и стоявшие со своими киноаппаратами в открытой машине, были разрезаны пополам на уровне немного выше бортов машины. Невидимый луч срезал ветровое стекло машины, голову водителя, перерезал треножник киноаппарата и двух людей, стоявших около него. Все это произошло очень быстро, но было отчетливо видно на телеэкранах. Лишенная управления машина врезалась в обгорелый остов, лежавший поперек шоссе. В следующий момент телепередача прекратилась. До последней секунды в телестудии была включена магнитная видеозапись. Все, что случилось с автомобилем кинооператоров, не только было несколько раз передано по телевидению всеми станциями Соединенных Штатов, по с этой записи были изготовлены фотоувеличения отдельных кадров, показывающие в деталях весь ход катастрофы. Эти фотографии были широко распространены информационными агентствами и появились в печати многих стран мира.10
22 июля. 12 часов 00 минут. Лус Морли — сенатор от штата Южная Миссикота — придвинул один из разложенных на столе снимков. На большой глянцевой фотографии был изображен тот момент, когда автомобиль с кинорепортерами попал в зону действия лазера. Сам луч не был заметен, но было хорошо видно, как срезанное ветровое стекло машины перекосилось и сдвинулось назад. На другом снимке, сделанном в более поздний момент, все, что находилось выше той линии, по которой прошел луч, уже отсутствовало. В машине можно было разглядеть тело водителя, прикрытое упавшим ветровым стеклом, и что-то, представлявшее собой останки оператора и его помощников на заднем сиденье машины. На переднем плане было видно сильно смазанное изображение двух фигур, отброшенных назад встречным потоком воздуха. В момент, когда был сделан снимок, они еще не успели коснуться поверхности шоссе. Сенатор отложил снимки и обвел взглядом собравшихся членов Специальной комиссии по расследованию событий в штате Южная Миссикота. За длинным столом, кроме него, сидело еще шесть членов комиссии: представители министерства внутренних дел, Федерального бюро расследований, Центрального разведывательного управления, Комитета начальников штабов, Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и представитель отдела внутренней безопасности министерства юстиции. Все это были умные, энергичные люди, обладавшие большим профессиональным опытом в своей области, привыкшие обсуждать серьезные вопросы и не боявшиеся ответственности за принятые решения. Все они принадлежали к чиновной элите Вашингтона, и каждый обладал более или менее прочными связями в деловых кругах. Большинство из них до того, как стать чиновниками, занимало ответственные посты в частных фирмах, и эта прошлая деятельность неизбежно накладывала свой отпечаток на характер принимаемых ими решений. Но в данном случае никто из них не преследовал каких-либо скрытых целей. При обсуждении событий в штате Южная Миссикота они могли руководствоваться только своей совестью и интересами общественного благополучия. Это объяснялось тем, что по сравнению с масштабами, в которых они привыкли действовать, вся эта муравьиная история представлялась слишком мизерным фактом. Это не была воина в Корее или Вьетнаме, не убийство Кеннеди и даже не расовые беспорядки. Поэтому при обсуждении событий в штате Южная Миссикота они со спокойной совестью могли думать лишь об интересах своей карьеры, престиже своего ведомства и благосостоянии своей нации. Сенатор еще раз посмотрел снимок и, не обращаясь к кому-либо особенно, сказал: — А не может ли все это быть просто ловкой мистификацией? Вы ведь знаете, в кино могут делать самые невероятные трюки… — Это исключено, — возразил представитель Федерального бюро расследований. — Я абсолютно уверен, что это исключено. Я сам видел эту передачу, и, кроме того, у нас есть вполне достоверные показания очевидцев. Как-никак уничтожено целое воинское подразделение и пострадало много гражданских лиц. — Все же… — сенатор недоверчиво покачал головой, — так просто разрезать лучом автомобиль и даже бронетранспортер… Если это верно, то им ничего не стоит обрушить таким же способом Бруклинский мост?! Что вы об этом думаете? — Сенатор обратился к представителю Комитета начальников штабов. Подтянутый полковник загадочно улыбнулся и пожал плечами. — Не знаю, — сказал он. — По официальным данным, лазерная техника наших потенциальных противников еще не достигла такого уровня. Я не могу сказать, доступно ли им обрушить Бруклинский мост с помощью лазера. — Прежде всего, я думаю, нам следует установить, кому это им, — заметил представитель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Наступило молчание. — Я полагаю, — предложил представитель ФБР, — было бы целесообразно выслушать показания нашего агента, проводившего расследование на месте. Он находится здесь. Никто не возражал. Оливер Бонди бочком вошел в зал заседания. У него было ясное сознание, что наступил тот решительный момент, к которому он давно готовился. Ожидая в приемной, сидя у стенки на жестком стуле, положив на колени объемистый портфель желтой кожи, он без конца перебирал в уме все детали предстоящего доклада. Очень легко представлять себе свои героические действия, когда сидишь один в тихой комнате, и совсем другое — реально действовать в критические минуты, когда надо собрать всю свою волю и умение для решительного момента. Для Бонди это выступление в сенатской Комиссии представлялось именно тем Большим Шансом, которого он всегда искал и который всегда от него ускользал. — Я прошу вас вкратце рассказать о результатах проведенного вами расследования, — сказал представитель ФБР. Оливер Бонди остановился у свободного конца длинного пустого стола, за которым сидели члены комиссии, положил на стол свой тяжелый портфель и начал: — Проведенным следствием твердо установлены следующие факты: в конце июня текущего года, а именно: двадцать третьего шестого, двадцать шестого шестого, двадцать седьмого шестого… — Несколько короче, пожалуйста, — заметил представитель ФБР. Бонди глотнул слюну и продолжал: — …были отмечены случаи смерти от паралича сердца при не выясненных до конца обстоятельствах. Примерно в то же время и несколько позже были отмечены не раскрытые до настоящего времени случаи ограбления ювелирного магазина и двух лабораторий в местном университете. В частности, из лаборатории доктора Хальбера похищены запасы редкого металла неодима, используемого в экспериментах по созданию мощных лазеров. В начале июля в местной печати появились сообщения, в которых все эти события объяснялись деятельностью некоторого вида муравьев, якобы достигших высокого уровня развития и научившихся пользоваться металлами и другими не свойственными им материалами. Корреспондент местной газеты Фишер показал на допросе, что эти сообщения были инспирированы неким доктором Нерстом, профессором Нью-Карфагенского университета. Газетные статьи вызвали в городе большое возбуждение и повлекли за собой новые жертвы. По слухам, очаг размножения муравьев находится где-то в лесу, на расстоянии около сорока миль от города. Под давлением общественного мнения местные власти были вынуждены принять меры для уничтожения вредных насекомых, но это не дало положительных результатов. Тогда городское самоуправление обратилось за помощью к военным властям для проведения широкой акции по полному уничтожению “разумных муравьев” во всем районе, примыкающем к восточной федеральной дороге. С военной базы Спринг-Фолс, расположенной близ Парадайз-сити, было вызвано подразделение химических войск… — В армии Соединенных Штатов нет химических войск! — прервал Оливера Бонди представитель объединенных штабов. — Международной конвенцией запрещено применение химического оружия. — Моя ошибка, — поправился Бонди. — Я имел в виду специальное подразделение, в задачу которого входит ликвидация последствий химического или ядерного нападения. Представитель штабов удовлетворенно кивнул головой. — Дальше разыгрались события, широко освещенные нашей прессой. На подходе к предполагаемому месту обитания серых муравьев воинское подразделение было почти полностью уничтожено. Уцелела лишь небольшая группа солдат. Почти одновременно были выведены из строя электростанции и узел связи. Все диверсии осуществлялись с помощью неизвестного оружия, основанного на действии лазера. В последующие дни ни одна машина не смогла подойти к месту катастрофы. Все они уничтожались на подходах к сорок второй миле. Сейчас там образовался завал из нескольких десятков, если не сотен, сгоревших машин. Точное число жертв пока не установлено. Два полицейских агента сумели подойти к месту катастрофы, пробравшись по кукурузному полю. Вот сделанные ими фотографии. Оливер Бонди выложил перед комиссией пачку снимков, на которых можно было видеть искореженные, обгоревшие остовы машин, потерпевших аварию, и длинные вереницы неповрежденных машин, покинутых своими владельцами. Они стояли в несколько рядов, растянувшись вдоль шоссе в обе стороны от места катастрофы. — Движение на этом участке федеральной дороги полностью парализовано, — продолжал Оливер Бонди. — Полицейские агенты пробыли на месте катастрофы около часа и тем же путем, через кукурузное поле, вернулись обратно. По словам констебля Роткина, осматривая машины, он видел в них много серых муравьев. — Полицейские агенты принимали какие-нибудь предохранительные меры? — спросил представитель Департамента внутренних дел. — Да, на них были защитные костюмы, те, которые применяются для работы с ядохимикатами, и они опрыскали себя инсектицидом. Развитию паники в немалой степени содействовали распространяемые в городе слухи о нападении муравьев. По заявлению ряда свидетелей, они видели серых муравьев в своих домах или в магазинах, но эти данные не достоверны. Способствовало бегству населения из города и то сообщение, с которым выступили по радио Парадайз-сити два профессора местного университета — уже упоминавшийся доктор Нерст и доктор Ширер. Они предупреждали население о необходимости соблюдать осторожность, опять повторили своп утверждения, будто серые муравьи наделены разумом и умеют пользоваться машинами. Они сообщили, что ведут исследование этой проблемы, но отказались дать какие-либо подробности, пока не закончат своей работы. Стенограмма их выступления имеется в деле. Из материалов допроса непосредственных свидетелей катастрофы наибольший интерес представляют показания капрала Даниэльса. Они позволяют увидеть эти события в совершенно ином свете. Как я уже говорил, капрал Даниэльс в момент катастрофы находился в замыкающей машине воинского подразделения, и ему удалось избежать гибели. Я не буду оглашать протокол полностью, прочту лишь наиболее существенные места… Оливер Бонди хорошо освоился с обстановкой и теперь говорил достаточно четко и уверенно. Он не спеша открыл свой портфель и достал папку с протоколом допроса. Он не заметил, да и не мог заметить нескольких серых муравьев, скрывавшихся в складках портфеля. — Итак, я цитирую, — начал Бонди. — “Вопрос. Что вы сделали, выскочив из машины? Ответ. Я постарался сориентироваться на местности, сэр. Вопрос. Что значит “сориентироваться на местности”? Ответ. Это значит постараться определить, откуда исходит опасность, где может скрываться противник. Вопрос. Что же вы обнаружили? Ответ. Прежде всего я оценил обстановку. Справа было открытое кукурузное поле, слева лес. Диверсанты всегда предпочитают прятаться в лесу. Да и по расположению подбитых машин мне показалось, что огонь вели из леса. Вопрос. Вы слышали выстрелы? Ответ. Нет, выстрелов я не слышал, но я слышал взрывы. Вопрос. Не было ли это результатом взрыва бензобаков машин? Ответ. Может быть, но я в этом не уверен. Вопрос. Что вы сделали дальше? Ответ. Я пополз на левую сторону шоссе” стал наблюдать за лесом. На проселочной дороге, у выезда из леса, я заметил автомашину. Она была повернута в сторону шоссе. Я стал просматривать лесную опушку и в этот момент увидел в машине яркую вспышку, и затем от нее протянулся едва заметный красноватый луч света. Очень тонкий луч. Он был направлен в сторону шоссе, и там что-то взорвалось. Я не видел, что именно, так как смотрел в другую сторону. Луч светился несколько секунд, потом погас, и машина стала разворачиваться. Тогда я открыл по ней огонь. Вопрос. Вы попали в нее? Ответ. Думаю, что попал. Я не мог промахнуться. Правда, расстояние было довольно большое, но я должен был в нее попасть до того, как она скрылась в лесу. Вопрос. Что вы делали после этого? Ответ. Я собрал оставшихся в живых солдат и приказал им вместе со мною вести наблюдение за лесом. Мы еще два раза видели красный луч, и оба раза на шоссе происходили катастрофы. Но мы не видели вспышек. Луч выходил из леса. Мы вели огонь, пока у нас не кончились патроны…” Оливер Бонди сложил свою папку и продолжал: — Эти показания капрала Даниэльса представляют исключительный интерес, так как они являются по существу единственным достоверным свидетельством очевидца и прямого участника событий. Немедленно по получении этих сведений на всех дорогах, ведущих от места катастрофы, были установлены контрольные посты. Пока они не обнаружили машину, отвечающую описанию, данному Даниэльсом, и если только она не успела скрыться в первые же часы, она должна оставаться в этом районе. Данные, полученные от капрала Даниэльса, заставляют нас предполагать здесь тщательно продуманный и широко осуществленный акт диверсии против вооруженных сил Соединенных Штатов. А вся шумиха, поднятая вокруг пресловутых “думающих муравьев”, — это всего лишь ловкий ход, предпринятый с целью посеять панику и скрыть следы диверсантов. В этой связи особое внимание привлекает деятельность некоторых преподавателей местного университета. Показания доктора Хальбера… — А что из себя представляет этот доктор… — сенатор взглянул на лежавшую перед ним записку, — этот доктор Нерст? Вы знакомились с его досье? — Да, господин сенатор, я сейчас об этом доложу. Доктор Нерст… — Оливер Бонди опять покопался в своем портфеле, доставая нужную бумагу. — “Доктор Нерст, профессор энтомологии, родители — выходцы из Голландии. Проходил проверку лояльности. Женат. Жена, Мэрджори Нерст, проживает с мужем, занятие — домашнее хозяйство. Доктор Нерст лютеранского вероисповедания, но церкви не посещает. Никогда не участвовал ни в каких политических выступлениях. На выборах обычно голосует за демократов. Член нескольких национальных и европейских научных обществ. Участник ряда международных конгрессов”. Как видите, весьма заурядная личность. Несколько больший интерес представляют данные о его ближайшем сотруднике, совместно с которым он выступал с сообщениями по поводу муравьев. Я имею в виду доктора Ширера из того же университета. — Оливер Бонди взял другой листок: — “Лестер Ширер, профессор теоретической физики. В молодости отличался радикальными взглядами. Был отстранен от работы в атомной промышленности Соединенных Штатов. Принадлежит к методистской церкви. Уроженец Соединенных Штатов. Холост. На протяжении ряда лет находился в связи с некоей Идой Копач, участницей прокоммунистической организации “Комитет борьбы за демократию”. Эта организация отнесена к разряду подрывных. После вызова в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности Ширер заявил о своей лояльности и порвал с Копач. Последнее время состоит профессором Нью-Карфагенского университета…” Оливер Бонди сделал паузу и окинул взглядом собравшихся. Все молчали. — Итак, — продолжал Бонди, — собранные материалы дают хотя и косвенные, но довольно веские основания полагать, что в данном случае мы имеем дело с диверсионными действиями, в которых принимали участие коммунистические организации. Если сделать предварительные выводы, то… — Выводы будем делать мы, — оборвал его сенатор Морли. — Ваша задача — предоставить нам факты и только факты. Я думаю, мы можем больше не задерживать мистера… — Сенатор посмотрел на представителя ФБР… — Бонд. Джеймс Бонд, — подсказал Оливер Бонди. — …мистера Бонда, — продолжал сенатор. — Вы можете быть свободны, но я попрошу вас все же подождать в приемной, быть может, вы нам еще понадобитесь. Оливер Бонди стал собирать свои бумаги. Серые муравьи выползли из портфеля, но он их не заметил. Его сморщенное старушечье личико выражало достоинствои сознание собственной значимости. Он откланялся и вышел из зала. Муравьи расползлись среди фотографий, раскиданных по столу. — Ну, так что вы об этом думаете? — спросил сенатор. Все молчали. — Мне кажется, мы все еще не располагаем достаточным материалом, для того чтобы делать окончательные выводы, — осторожно сказал представитель Отдела внутренней безопасности. — Однако факты есть факты. Нанесен значительный материальный ущерб, погибли сотни американских граждан и парализована жизнь целого города. — Не ясно, чем это вызвано. — В сущности, мы имеем только два возможных объяснения: или это организованная диверсия, как предполагает ФБР, или следует принять версию о “разумных муравьях”, что мне лично представляется слишком уж фантастичным. Мне кажется, мы должны оставаться в рамках реальности, — заметил представитель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. — Но практические действия в обоих случаях должны быть совершенно различны, — возразил представитель Департамента внутренних дел. — Если принять версию о каком-то заговоре, то нужно действовать в основном полицейскими мерами и выявить прежде всего организаторов. Материалы, собранные Федеральным бюро расследований о деятельности этих двух профессоров, представляются мне пока весьма неубедительными… — Это только первые данные, — вмешался представитель ФБР. — Настоящее расследование еще впереди. — Я понимаю. Но мне не ясно, какую цель может преследовать такая диверсия. Было бы интересно узнать, что по этому поводу думает представитель ЦРУ? Представитель ЦРУ, человек с крайне невыразительным лицом и оттопыренными ушами, ответил: — У нас нет никаких данных о подготовке подобного заговора. Но подробный анализ сообщений советской печати и некоторых публикаций советских авторов в иностранных журналах позволяет утверждать, ч^о в Советском Союзе ведутся обширные работы по исследованию высшей нервной деятельности различных животных, и в том числе насекомых. — Эти работы, конечно, засекречены? — Н-не совсем… Собственно, у нас нет сведений, что Советы ведут эти исследования в секретном порядке. Мы пользовались только публикациями в печати. — Тогда какое это может иметь отношение к данному случаю? — Пока никакого. Я только констатирую факты, собранные нашей информационной службой. Представитель Департамента внутренних дел хотел еще о чем-то спросить представителя ЦРУ, но передумал. — Тогда, если остановиться на предположении о действиях каких-то вредоносных муравьев, следует просто принять эффективные меры для уничтожения насекомых в этом районе. — Объявить войну муравьям? — воскликнул представитель ФБР. — Но это же смешно! Армия Соединенных Штатов против… муравьев! Смешно. Полковник пожал плечами. У него было свое мнение, которое он пока не высказывал. Сенатор постучал карандашом по столу. — Джентльмены, — сказал он, — будем придерживаться фактов и попытаемся дать им разумное объяснение. Мне кажется совершенно невероятным, что муравьи или какие-либо другие насекомые могли создать столь мощное оружие, действие которого мы испытали. Насекомые могут ужалить, могут причинить смерть, но они не могут пользоваться новейшими лазерами. В этом я совершенно уверен. Следовательно, это сделано людьми. Я полагаю, необходимо продолжить начатое ФБР расследование и как можно скорее довести его до конца. Не исключено, что здесь действовали оба фактора. Это мне кажется наиболее вероятным. Было бы неправильно отрицать возможность появления в каком-то районе неизвестных ядовитых насекомых. Я это не исключаю. Допустим, произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Это, естественно, вызвало возбуждение общественного мнения. Тогда некоторая подрывная организация решает использовать создавшееся положение и осуществляет свой план диверсий. — Но зачем? — Политическая цель подобной акции совершенно ясна. Она призвана вызвать волнение в нашем обществе, дискредитировать правительство и способствовать проведению пропагандной кампании, направленной на подрыв устоев американского образа жизни. А разумные муравьи — это миф… — А что вы думаете об этом? — сказал представитель Отдела внутренней безопасности, указывая на лист бумаги, лежавший перед сенатором. По бумаге полз серый муравей. Сенатор не сразу понял, о чем идет речь, но, заметив муравья, он спокойно и неторопливо поднял стоявший перед ним пустой стакан и накрыл им насекомое. — Вот и все, — сказал он. Члены комиссии со сдержанным любопытством разглядывали муравья. Он не проявлял признаков беспокойства. Он стоял смирно, пошевеливая усиками. По стенке стакана медленно стекала капля воды. — Вот и все, — повторил сенатор… — Я никоим образом не склонен отрицать возможности появления тех или иных ядовитых насекомых. Один из примеров — перед вами. Но не надо это преувеличивать. В конце концов, это всего лишь муравей, который не может выбраться из стакана. Будем смотреть на вещи трезво. Совершить подобную диверсию могли люди и только люди. И наша задача их обнаружить и обезвредить. — То, что говорит уважаемый сенатор, представляется мне в высшей степени разумным н логичным, — сказал представитель министерства внутренних дел, — но давайте взглянем на события с несколько иной точки зрения. Допустим, все это действия какой-то подрывной организации, использовавшей появление серых муравьев лишь как удобный предлог для того, чтобы замести следы. Во-первых, в этом уже есть известное противоречие. Насколько я могу судить, в результате катастрофы пострадали гражданские лица и маленькое саперное подразделение. Следовательно, военное значение этой диверсии практически равно нулю. Я имею в виду возможное ослабление нашей обороноспособности… Значит, эта диверсия преследовала лишь политические цели. Но здесь возникает противоречие: сваливая всю вину на муравьев, эта подрывная организация тем самым лишает диверсию ее политического значения. Тогда это просто стихийное бедствие, несчастный случай, не более. Представитель Департамента внутренних дел взглянул на собравшихся. Никто не возражал. Сенатор, казалось, был целиком занят своими мыслями. Полковник из Пентагона кивнул головой. — Я хотел бы развить и дополнить мысль, высказанную моим коллегой, — сказал представитель Отдела внутренней безопасности. Это был сравнительно молодой человек лет сорока, с небрежной прической, как у студента. ^ — Давайте рассмотрим возможные последствия принятых нами решений. Допустим, мы обнаружим ту или иную подрывную организацию, которая будет обвинена в совершении диверсии. Прежде всего не так легко собрать неопровержимые улики, особенно если судить по сегодняшнему докладу. Но, допустим, мы соберем достаточно данных для возбуждения судебного процесса. Что за этим последует? Каковы будут политические последствия подобного процесса? Газеты неизбежно поднимут кампанию против наших органов безопасности, прежде всего против ЦРУ и ФБР, допустивших самую возможность осуществления подобной диверсии. Признание существования в нашей стране столь сильной оппозиционной группы также не будет способствовать проведению принятого нами курса политики. Априорно следует считать, что в нашей стране подобные события невозможны. Следовательно, придется опять сваливать все это на действия какого-то фанатика, совершавшего свои преступления в одиночку. Мы уже имели подобный опыт, и вы должны согласиться, что это не легко. Наконец, нет никакой гарантии в том, что нам удастся ликвидировать предполагаемую подрывную организацию полностью. Возможны случаи повторения диверсий, и тогда это может перерасти в скандал международного масштаба — скандал, могущий существенно повредить престижу Соединенных Штатов. С другой стороны, если мы применим быстрые и энергичные меры к полному уничтожению очага размножения муравьев, то тем самым лишим возможные эксцессы их политического значения. Я не берусь судить сейчас о том, могут ли муравьи создать столь совершенную технику, но я думаю, что нам выгоднее признать такую возможность. — Иными словами, — вы предлагаете оставить без внимания собранные нами данные, включая совершенно ясные и недвусмысленные показания капрала Даниэльса, видевшего диверсанта, и принять объяснение событий, предложенное такими вызывающими подозрения личностями, как эти профессора Нерст и Ширер? — Представитель ФБР смотрел упорным, немигающим взглядом. — Я предлагаю продолжать следствие, не предавая его огласке, и полностью уничтожить очаг размножения муравьев. — Какими методами вы предлагаете это осуществить? — Я полагаю, здесь не может возникнуть серьезных затруднений. Конечно, придется прибегнуть к помощи вооруженных сил, так как обычные средства борьбы с сельскохозяйственными вредителями могут оказаться недостаточными. — Они уже оказались недостаточны, — заметил представитель министерства внутренних дел. — Было бы интересно выслушать, что думает по этому поводу полковник? — Мне представляется предложение министерства юстиции наиболее правильным в данной ситуации. Я тоже не хотел бы выносить сейчас окончательное суждение о том, кто является виновником катастрофы-люди или муравьи. С военной точки зрения, оба эти понятия объединяются одним термином — противник. Им было совершено нападение на вооруженные силы Соединенных Штатов, и он должен быть уничтожен. Насколько можно судить, этот противник располагает довольно эффективным оружием, действующим, однако, лишь на малых дистанциях, порядка одной мили. Во всяком случае, мы не имеем сообщений о большей дальности. Это позволяет ему осуществить блокаду дороги, но противник, судя по всему, вынужден скрываться в ближайшем лесу или в самом городе. Если весь этот район подвергнуть тотальному уничтожению, то погибнут все — и муравьи, и диверсанты. Это практически полностью решает проблему. — Вы считаете, что такое тотальное уничтожение технически осуществимо? Полковник изобразил на своем лице любезную улыбку. — Мы располагаем более чем достаточными средствами для того, чтобы уничтожить все живое не только в этом районе, но и на всем земном шаре. Полностью. И это займет не очень много времени. — Вы, очевидно, имеете в виду атомное оружие, но его применение, в силу известных вам международных соглашений, в данном случае исключено. Окажется ли оружие обычного типа достаточно эффективно против муравьев? Ведь оно рассчитано на уничтожение главным образом людей, а не насекомых? — Я полагаю, да. Конечно, проще всего было бы применить здесь тактические атомные бомбы небольшой мощности. Это дало бы отличный результат и одновременно позволило бы нам провести боевые испытания новых образцов. Но и обычные вооружения вполне годятся для этой цели. Мы будем обрабатывать эту площадку с воздуха: сперва уничтожим дома, деревья и тому подобное, затем выжжем всю местность напалмом и, наконец, используем отравляющие вещества. Конечно, уничтожить человека легче, чем муравья. Простой подсчет показывает, что вероятность поражения муравья при стрельбе из винтовки с расстояния триста футов приблизительно в тысячу раз меньше, чем вероятность попадания в человека. Кроме того, насекомые могут скрываться под землей, в корнях деревьев, в расщелинах между камнями, словом, в таких местах, где человек скрыться не может, но я не предвижу здесь особых трудностей. Естественно, пока будет вестись подготовка этой акции, необходимо, чтобы противник оставался на месте. Очевидно, он ставит своей целью не допускать наши машины к месту катастрофы. Для того чтобы удержать его там, нужно периодически проводить ложные атаки. Это сопряжено с некоторыми жертвами, но на это придется пойти. — Значит, все же сражаться с муравьями?! — подал голос сенатор. — С муравьями, один из которых сидит здесь, у меня на столе, прикрытый стаканом? Сенатор посмотрел на стоявший перед ним перевернутый стакан. Под ним ничего не было. Только чистый лист бумаги. — Куда же он делся? — Сенатор подозрительно посмотрел на присутствующих. — Кто его выпустил? Члены комиссии испытали то странное чувство растерянности, которое обычно испытывает человек, сталкиваясь с непонятным. Они внимательно осматривали стакан и бумагу — там не было ни малейшего просвета. За несколько минут до того они все разглядывали серого муравья, сидящего под стаканом, а сейчас его не было. — Но вы же сами его выпустили, — медленно сказал представитель ЦРУ. — Я все время наблюдал за вами, сенатор. Мне казалось, что вы так заняты своими мыслями, что не замечаете окружающего и готовы заснуть. Потом вы приподняли стакан и выпустили муравья. — Этого не может быть! Я этого не делал. Я пока еще нахожусь в здравом уме и твердой памяти и отвечаю за свои поступки. Этого я не делал! Сенатор разволновался, как всегда волнуются старики, подозревая в молодых недоверие к своим способностям. — Тем не менее это факт, — спокойно заметил представитель ЦРУ. — Подобный случай доказывает лишь то, что с муравьями дело обстоит далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.11
22 июля. 14 часов 40 минут. Дорогу перебежала жирная крыса. Она шмыгнула вдоль стены и скрылась в невидимой щели. Доктор Нерст ехал по пустынным улицам покинутого города на маленьком ярко-красном садовом тракторе. Внешне здесь почти ничто не изменилось, не было только людей. Дома и улицы обрели некоторый налет запустения. Не то чтобы они покрылись пылью или где-нибудь были заметны разрушения, нет, все осталось прежним, и все же все было иным. Так выглядят жилые комнаты, в которые давно никто не заходил. Все вещи стоят на своих местах, все лишнее убрано, а войдя в такую комнату, сразу чувствуешь, что здесь никто не живет. Человек в своей повседневной деятельности вносит в неживую природу тысячу едва уловимых следов своего присутствия, тысячи едва заметных неправильностей, или, вернее, правильностей, нарушающих устойчивое равновесие хаоса, к которому стремится природа. Говоря современным языком, деятельность человека всегда и всюду, кроме войны, ведет к уменьшению энтропии, к внесению в природу некоторого, несвойственного ей порядка. Природа имеет свое направление развития, противное воле человека. Люди сооружают плотины, строят дома, украшают их стены семейными фотографиями, а реки смывают дамбы, и пыль покрывает серым налетом портрет любимой. Улица была пустынна. Ветер смел пожелтевшие обрывки бумаги и опавшие листья к краям тротуаров. Глянцевитые черные полосы, накатанные автомобилями на асфальте улиц, потускнели и стали серыми. Бледные ростки хилой травы еще не успели пробиться между камнями, но казалось, они вот-вот готовы протянуть к солнцу свои острые лепестки. Красный садовый трактор, на котором ехал Нерст, раньше стоял без употребления в углу гаража. Он купил его вместе с домом, но так ни разу и не использовал по назначению. Он сам обычно не имел времени для работы в саду, а Мэрджори принадлежала к тому типу женщин, которые не слишком любят утруждать себя возней с гудящей, дымящей, капризной и своевольной техникой. Сейчас доктор Нерст перегонял трактор в университет для того, чтобы использовать его там как дополнительный источник электроэнергии. Небольшой генератор, который он с Ширером установил в лаборатории в первый же день после аварии на электростанции, был недостаточно мощным для питания всей необходимой аппаратуры. Нерст повернул влево и выехал на аллею, ведущую к университету. Его трактор был, вероятно, единственным движущимся экипажем в этом покинутом городе, и все же, разворачиваясь на перекрестке, он автоматически выехал на правую сторону, словно бы здесь еще действовали правила уличного движения. В этой части города, застроенной одноэтажными жилыми домами, муравьев почти не было видно. Они орудовали, главным образом, в центре, на Главной улице, где были сосредоточены магазины. Снова пробежали одна за другой две крысы. Они даже не заметили трактора, промчавшись в двух шагах от него. Беспокойно взлетела стайка голубей, как бы вспугнутых неожиданной опасностью. Они покружились и улетели. Впереди, на расстоянии нескольких ярдов, Нерст заметил довольно широкую темную полосу, пересекающую дорогу. Он почувствовал резкий и неприятный запах. Серая полоса на серой дороге медленно двигалась, извиваясь, как гигантская змея. Она выползала из разрыва между двумя домами, пересекала тротуар, сползала на проезжую часть улицы, наискось пересекала серый пыльный асфальт и скрывалась между домами на левой стороне. Это шли муравьи. Миллионы муравьев плотным серым потоком неслышно двигались по безлюдной улице покинутого жителями города. Они шли, строго соблюдая определенное направление, подчиняясь какому-то непонятному приказу. Нерст остановил свой трактор. Его поразила удивительная организованность и четкая целеустремленность этого массового переселения. Муравьиная колонна двигалась как единое целое, как лента конвейера, как ручей, как пехотная дивизия на марше. Нерст вспомнил рассказы натуралистов, наблюдавших подобные переселения муравьев-кочевников. Они уничтожали все живое на своем пути, все, что не могло улететь или спастись бегством. После их ухода оставались только стерильно очищенные скелеты животных — мышей, крыс, лягушек, собак, если они были привязаны, коз и телят, случайно оставшихся в загонах. Есть описание того, как муравьи-кочевники заживо съели ягуара, запертого в клетке. Нерст с любопытством ученого наблюдал стройное движение этого бесконечного серого потока. Он не испытывал страха: с тех пор как муравьи сами вернулись в его лабораторию, как бы предоставляя себя для исследований, он привык к мысли, что ему лично ничто не угрожает. Ему казалось, что между ним и муравьями установилось какое-то негласное сотрудничество. Внезапно, повинуясь неизвестной команде, колонна муравьев разделилась на два потока. Одна часть продолжала свое движение в прежнем направлении, а другая, как бы отрезанная невидимым ножом, круто свернула влево и направилась к тому месту, где стоял трактор. Сплошная лента муравьев, преграждавшая дорогу, оказалась разорванной. Нерст осторожно двинул трактор и направил его в образовавшийся просвет. Правая часть колонны, изменившая направление движения, обогнула трактор сзади и направилась на соединение с ушедшим вперед головным отрядом. Нерст еще раз оглянулся назад и проследил за тем, как муравьиный поток снова слился в одно целое. Он невольно задумался над тем, сколь точны и организованны были действия муравьев. Для того чтобы человеческая толпа могла выполнить подобный маневр, понадобилось бы, кроме общей команды, дать индивидуальные приказания каждому человеку в отдельности. По-видимому, связь, система общения у муравьев была много совершеннее, чем у люден. За последнее время он достиг известных результатов в своих попытках наладить обмен информацией, но это касалось лишь некоторых, крайне ограниченных областей. Его настойчивые попытки установить какое-то подобие взаимопонимания на базе простейших математических понятий неизбежно заканчивались неудачей. Он терялся в хаосе чисел и представлений, возникавших в его мозгу при общении с муравьями. Арифметические действия не подчинялись привычной школьной логике и приводили к абсурдным решениям, где пятью пять равнялось сорока одному. Въехав во двор университетского здания, он подвел трактор к помещению мастерской, где стоял генератор. Ширера здесь не было, но двигатель работал. “Наверно, Лестер у себя в лаборатории”, — подумал Нерст. Он заглушил трактор и направился по дорожке к главному входу в здание… Захотелось курить. Нерст машинально сунул руку в карман пиджака и вспомнил, что сигареты кончились, а Линда все еще не вернулась из Парадайз-сити, куда она поехала за покупками. Странное дело: город был завален продуктами, они лежали на витринах магазинов, на складах, бесполезно пропадали в бездействующих холодильниках, сигаретами были набиты сотни безмолвных и безответных автоматов, но ни Нерст, ни его товарищи ни разу не воспользовались брошенными товарами. Для них эта сдержанность была своего рода защитной реакцией, утверждением своего человеческого достоинства. В отличие от остального населения, для них жизнь все еще продолжала идти своим заведенным порядком. Оставшись одни в опустевшем городе, Нерст и Ширер целиком отдались работе. Что же касается тех неудобств и лишений, которые им приходилось испытывать, то они мирились с ними, старались не замечать отсутствия горячей воды или свежего хлеба и приспосабливались к новым условиям, оставаясь, по возможности, в рамках того порядка, тех норм поведения, которые были им привиты с детства. “Может быть, у Лестера остались еще сигареты?..” — подумал Нерст. Он постучал в дверь лаборатории, но никто не ответил. Дверь была не заперта. Нерст вошел. В лаборатории было темно и тихо. Узкие полоски света пробивались через опущенные шторы. Рентгенограф был включен, горели сигнальные лампы. Ширер лежал, свернувшись в кресле, подперев голову рукой, неуклюже поджав ноги. В этой скрюченной фигурке было что-то наивно-детское, ребяческое. Нерст опять испытал острое желание закурить. Он подошел к окну и поднял штору. Снаружи на подоконнике ползали муравьи. — Это вы, Клайв? — услышал он за спиной голос Ширера. — Я, кажется, задремал. Вы знаете, рентгеноструктурный анализ дал удивительно интересные результаты… Нерст обернулся. Минуту он молча смотрел на Ширера. — У вас есть сигареты? — спросил Нерст. — Да, пожалуйста. Что, Линда еще не вернулась? А я заснул. Я последнее время очень плохо сплю. Одолела бессонница. Ночью часами лежишь, ворочаешься с боку на бок и не можешь заснуть, и вертятся в голове одни и те же черные мысли… — Ширер потянулся к приборной доске и выключил рентгенограф. — Если вам не трудно, Клайв, остановите, пожалуйста, генератор. Я протянул выключатель в лабораторию, чтобы не спускаться каждый раз в мастерскую. Он рядом с вами, слева у окна. Белая кнопка. Иногда очень остро чувствуешь свое одиночество. У вас есть семья, а я один. Я должен рассчитывать только на себя самого. Вот и лежишь ночью, прислушиваешься к своим ощущениям и представляешь себе в деталях, как будешь умирать. Мы с вами вступаем в самый инфарктный возраст. Этого можно ждать в любой момент… Да, а с рентгеноструктурным анализом получаются замечательные результаты. Вы понимаете, они используют бездислокационные кристаллы — материалы, обладающие совершенно безупречной структурой. В таких условиях обыкновенное железо обладает прочностью в сотни, в тысячи раз большей, чем самые твердые стали! Вы понимаете, что это значит? — Пока не очень. Вы сказали, Лестер: у меня семья. Какая же это семья? Я не менее одинок, чем вы. Я так же часто бессонными ночами думаю о смерти, а потом утром делаю гимнастику, чтобы держать себя в форме. У нас каждый должен рассчитывать только на себя самого. Я боюсь старости с ее дряхлостью и беспомощностью, но ни от кого не хочу ждать помощи. — И все же, Клайв, я совсем один, а у вас есть жена. — Мы очень разные люди. Мэрджори хороший человек. Она добрая и заботливая, но все ее интересы сводятся к очень примитивной программе — есть, спать, наряжаться. Больше ее ничто не волнует. Ей нет дела ни до меня, пи до моей работы, ни до чего-либо, что выходит за рамки этой программы. — Ну что же, и это не так уж мало. Больше, чем у муравья. Тем, во всяком случае, не нужно наряжаться. — У них есть любопытство, Лестер. Я много думал над вопросом, чем вызвана столь резкая вспышка их развития, что заставило их пойти по пути технического прогресса? Зачем нужны им машины? Ведь их потребности остались почти на прежнем уровне. Казалось бы, им ничего не нужно. Что же заставляет их работать, создавать новое? Любопытство. То же самое, что заставляет нас, меня с вами, оставаться в покинутом городе и, рискуя жизнью, вести свои эксперименты. Мне интересно, мне хочется узнать, как они живут, как они думают, как создают свои удивительные машины. Это возбуждает мое любопытство. Мне хочется узнать это так же, как мне интересно, какая будет завтра погода. — А вы не думаете, Клайв, что нами движут, я бы сказал, более высокие соображения. Например, польза общества? Стремление предотвратить грозящие людям опасности? Пользуясь вашей биологической терминологией, не руководит ли нами инстинктивное стремление к сохранению и развитию био-1огического вида гомо сапиенс? — Или, наоборот, мелкое тщеславие? Стремление к личной славе? — Не знаю. Может быть. Но мне лично слава не нужна. Я предпочел бы взять свою долю деньгами. Ширер поднялся со своего кресла. — Вы слушали радио? — Ничего особенного. В Вашингтоне создана комиссия из семи человек, которой поручено расследовать последние события. Представляю себе, какую ерунду они там говорят. Что они могут знать? У семи нянек всегда дитя без глаза. — Нам нужно скорее заканчивать наши работы, Клайв. Нельзя оставлять общество в неведении. — Если мы выступим с недостаточно обоснованными сообщениями, нас просто поднимут на смех. Это может только повредить. — Я вас понимаю. Вы все еще надеетесь, что вам удастся установить с ними контакт и взаимопонимание. Я в этом не уверен. Да, кстати, сколько у муравья ног? — Шесть, конечно, у всех насекомых шесть ног. — Я так и предполагал. Понимаете ли, я все думал над вашими неудачными попытками установить контакты на основе математической логики, и я знаю сейчас, почему это не удалось. Это до смешного просто. У них не десятичная, а шестиричная система счисления. Ведь мы выбрали число десять за основание нашей системы лишь потому, что у нас десять пальцев на руках. Это совершенно произвольно. Просто неандерталец начал считать по пальцам число убитых оленей. С тем же успехом можно взять любое другое число. Например, в наших компьютерах мы пользуемся двоичной системой, у древних майя была пятиричная система, а вавилоняне взяли за основу число шестьдесят, и мы до сих пор пользуемся этой системой для измерения углов и времени: шестьдесят секунд — одна минута — одна единица следующего разряда, шестьдесят минут — один час и так далее. А муравьи начали считать по ногам. Шесть ног — один муравей. Новый разряд — единица с нулем. Вы следите за моей мыслью, Нерст? Это весьма интересные данные для истории муравьиной науки. Ширер торжествующе смотрел на Нерста. Он весь преобразился, охваченный радостью открытия. Человеку свойственно испытывать радость всякий раз, когда он понимает, находит стройную закономерность в том, что раньше казалось ему хаосом случайностей. Это тоже есть акт упорядочения информации, уменьшения энтропии. — А те цифры, — продолжал Ширер, — которые вы мне тогда передали, это всего лишь ряд простых чисел в шестиричной записи! Нерст молчал, напряженно думая, стараясь восстановить в памяти разрозненные результаты своих наблюдений и осмыслить их с новой точки зрения. — Да, я понимаю вас. Это вполне логично и действительно дает некоторый ключ к пониманию исторического хода их развития… Но если так, то можно составить таблицы перевода с одной системы в другую? Подобно тому, как это делается для компьютеров? — Конечно! Это не представит ни малейших затруднений. Нужно только помнить, что у них число шесть является единицей следующего разряда, как у нас число десять. Тогда семь нужно записывать как наше одиннадцать, восемь — как двенадцать и так далее. Это очень просто. Важно то, что и в этой арифметике дважды два — четыре, а пятью пять — двадцать пять, только записываются они иначе… Ширер суетливо подбежал к пишущей машинке, торопясь и нервничая, заложил лист бумаги и начал выстукивать таблицу перевода: Таблица перевода чисел из одной системы в другую Десятичная система Двоичная система (компьютеры) Шестиричная система (“муравьиная”) 0 0 0 1 1 1 2 10 2 3 11 3 4 100 4 5 101 5 6 110 10 7 111 11 8 1000 12 9 1001 13 10 1010 14 11 1011 15 12 1100 20 13 1101 21 За окном послышался шум подъехавшей машины. — Линда приехала, — сказал Нерст. Линда Брукс вернулась усталая и оживленная. Так входят в дом матери, неся рождественские подарки: “Смотрите, дети, что я вам принесла…” — заранее предвкушая ту радость, которую они могут доставить своим близким. — Я еле смогла добраться, — говорила она еще на пороге — Все дороги перекрыты. Пришлось делать большой объезд. Я едва смогла убедить полицейских, чтобы меня пропустили. Пришлось доказывать, что у меня здесь осталось двое детей… Разве не правда? — Она улыбнулась своей шутке. — Вот ваши сигареты, доктор Нерст. И почта. Я видела в городе этого корреспондента, мистера Фишера. Он, конечно, пристал ко мне со всякими вопросами, но я отказалась отвечать. Я была стойкой как скала. Он от меня ничего не добился. Он сообщил, он просил вам передать, что он продал свой договор с вами относительно монополии на право информации. Официальное уведомление должно быть в почте. Теперь вместо него с вами будет иметь дело Гарри Купер, комментатор из “Эй-Би-Эс”. Вы его знаете? — Не знаю и не желаю знать, — ответил Нерст. — Ловкий ход, — заметил Ширер, не отрываясь от пишущей машинки. — Теперь у него развязаны руки. Он, очевидно, содрал с этого Купера хорошую сумму, а сам будет теперь направо и налево торговать той информацией, которую успел здесь собрать. Очень ловко. И мы лишены возможности на него повлиять. Я составляю таблицу до трех десятичных знаков. Я думаю, пока этого хватит? — Да, да, конечно. — Нерст просматривал полученные письма. — Вот видите, опять из Оксфорда. Просят подтвердить мое участие в конгрессе. Очевидно, до них тоже дошли сведения о муравьях. Но они проявляют британскую сдержанность и прямо об этом не пишут. — В Парадайз-сити только об этом и говорят, — заметила Линда. — Все помешались на муравьях. А наш город совершенно опустел. Никого. Ни одной живой души. За всю дорогу я видела только одного фермера — он грабил радиомагазин. Вытаскивал из разбитой витрины какие-то ящики и грузил в свой “пикап”. Нерст разбирал бумаги, полученные из Оксфорда, — план работы конгресса и перечень докладов. Нерст увидел свою фамилию и предложенную еще весной тему: “К вопросу о биологической радиосвязи у насекомых”. Среди других сообщений он отметил доклад профессора — Ольшанского из Московского университета: “Влияние ионизирующей радиации на филогенетическое развитие высшей нервной деятельности у Апис мел-лифика”. “Возможно, этот русский проводит на пчелах почти те же опыты, что я на муравьях, — подумал Нерст. — Только он, видимо, идет к цели с другого конца…” Нерст просмотрел список делегатов и анкету, в которой просили указать, когда и каким транспортом приедет делегат, и будет ли он один или вдвоем, и сколько мест в гостинице нужно резервировать. Нерст сразу начал заполнять анкету. На последнем вопросе он задержался, взглянул на Линду и написал: “2 места”.12
22 июля. 15 часов 30 минут. Рэй Гэтс стоял перед разбитой витриной радиомагазина. Издали могло показаться, что человек просто стоит и глазеет на опрокинутую радиолу, изучает для собственного удовольствия случайные формы осколков стекла, странные извивы трещин. Но в действительности Рэй Гэтс был здесь неспроста. Он ждал. В его позе было что-то покорно-услужливое, ватное. Эдакое лакейское подобострастие человека, полностью лишенного сознания собственного достоинства. В давние времена так держались мелкие писари перед лицом сурового начальника или дрожавшие за свою шкуру предатели на докладе у фашистского оккупанта. Он стоял и ждал, как бы прислушиваясь к внутреннему голосу, который должен был подсказать ему, что он должен делать. Медленно и неуверенно он шагнул вперед. Хрустнули осколки стекла. Он прошел через витрину и остановился внутри магазина. На полках были выставлены приемники и телевизоры. Все осталось почти в том виде, как было в последний день перед бегством из города. Владелец магазина, видимо, так торопился, что не стал ничего упаковывать. Рэй Гэтс постоял минуту, как бы ожидая нового приказания, и затем, так же вяло и неуверенно, как раньше, прошел в глубь магазина к тому отделу, где находились радиодетали. Он остановился перед шкафом, составленным из множества отдельных ящичков с названиями деталей. Он не стал читать эти надписи, а вместо того начал медленно водить рукой, как это делают дети в игре “жарко—холодно” или саперы, работая с миноискателем. Рука задержалась у одного из ящиков. Рэй Гэтс натянул перчатки и выдвинул ящик. Там лежали упакованные в прозрачный пластик германиевые триоды. Он рассеянно поворошил их, как бы ожидая найти в ящике что-нибудь более ценное или хотя бы понятное, и, не найдя ничего заслуживающего внимания, поставил ящик на прилавок. Затем он прошел к двери в подсобное помещение. Она была заперта. Он подергал ручку — дверь не открывалась. Гэтс потоптался на месте и, не зная, что делать, присел на край прилавка. Закурил, но тут же бросил сигарету и придавил ее своим тяжелым башмаком. Звонко сплюнул на кафельный пол. Сдвинул на лоб свою широкополую шляпу и почесал за ухом. На шляпе сидела стальная стрекоза. Она расправила крылья, взлетела, сделала круг и неподвижно повисла в воздухе на расстоянии примерно трех футов от двери. В полной тишине покинутого города было слышно негромкое гудение крыльев. Потом раздался слабый щелчок, похожий на треск электрической искры, блеснула вспышка света, и от стрекозы к двери протянулся тонкий красный луч. Он шевельнулся и погас. Дверь едва заметно дрогнула. Запахло обгоревшей краской. Рэй Гэтс лениво поднялся со своего места и подошел к двери. Она легко открылась. Щеколда замка была разрезана. Рэй Гэтс вошел в помещение склада. Там было темно. Он потянулся к выключателю, но с досадой выругался, вспомнив, что электричество не работает. Он вернулся в торговый зал, прошел за прилавок, туда, где продавались электропринадлежности, и выбрал ручной электрический фонарик. Проверил его. Фонарь давал сильный и широкий сноп света. “Два доллара девяносто центов”, — с удовлетворением отметил Гэтс. Он осветил фонариком помещение склада. Там, сложенные штабелями, стояли картонные ящики с. радиоаппаратурой. Ящиков было много. Рэй Гэтс опять остановился в нерешительности. Он несколько раз поводил фонариком вверх и вниз, освещая причудливые архитектурные композиции, образованные случайным нагромождением серо-желтых картонок. Подобные сооружения выстраивают дети из своих разноцветных кубиков. Здесь он повторил ту же игру “жарко—холодно”. Он стал методически, один за другим, освещать сложенные ящики. Оп делал это с ленивым равнодушием человека, не заинтересованного в своей работе, не утруждающего свой мозг мыслями, не делающего ни малейшей попытки вникнуть в суть своих поступков, понять, что и зачем он делает. Очевидно, получив какой-то сигнал, он задержал свое внимание на нескольких ящиках, стоявших внизу с левой стороны прохода. Он пристроил фонарь у противоположной стены и принялся за работу. Пыхтя и ругаясь, он сдвинул верхние ящики, некоторые из них были довольно тяжелыми, разобрал штабель и, когда нужные ему коробки освободились, одну за другой стал их перетаскивать в стоявший у подъезда “пикап”. В машине уже лежали два ящика фруктовых консервов и сильно вонявшая свиная туша. На ней копошились муравьи. Рэй Гэтс посмотрел на них, усмехнулся своим мыслям, поправил ящики в кузове “пикапа” и вернулся в магазин. Он прошел прямо к двери конторского помещения и открыл ее. Замок был уже вырезан стрекозой. В конторке Гэтс легко нашел вделанный в стену сейф. Он потрогал рукоятку замка и отошел. Стрекоза, поняв его намерение, повисла в воздухе перед сейфом. Блеснул красный луч, и в стальной дверце образовался разрез. Гэтс открыл сейф. На полках лежали пачки документов. Некоторые из них, оказавшиеся на пути красного луча, были разрезаны. Наличных денег нашлось только 217 долларов. Гэтс пересчитал их, сунул в задний карман брюк, еще раз переворошил бумаги в сейфе и, не найдя ничего интересного, вернулся в торговый зал магазина. Он взял с прилавка оставленный им ящичек с триодами и остановился в раздумье, что бы еще захватить. Он покрутил один из транзисторов, тот сразу заработал — шла передача о бейсболе. Диктор говорил очень громко и взволнованно. Гэтс быстро его выключил и сунул приемник в ящик с триодами. Он еще раз оглядел напоследок магазин, толкнул ногой большую радиолу на тонких ножках, она опрокинулась, зазвенело разбитое стекло. Гэтс пнул ее сапогом в мягкое картонное подбрюшье — радиола застонала. Гэтс вышел. Он покосился на мерзко вонявшую свиную тушу, влез в машину и захлопнул дверцу. Гэтс проехал уже почти весь город и только у выезда на шоссе вспомнил, что он забыл набрать сахара. Он притормозил машину, думая развернуться, но вспомнил, что впереди, недалеко, есть маленькая дорожная закусочная. “Какая разница, — подумал он, — возьму сахар там. Что другое, а сахар-то должен остаться”. Закусочная была так же брошена хозяевами, как и все в городе. Останавливая машину, он заметил, что дверь открыта. Должно быть, здесь уже кто-то успел побывать до пего. На стойке стояли пустые бутылки. Одна, разбитая, валялась на полу. Гэтс сразу прошел в кладовку. Открывавшаяся внутрь дверь мягко распахнулась. Здесь был полумрак, на окне были спущены решетчатые жалюзи, и сквозь них пробивались косые лучи света. Сильно пахло тухлыми яйцами и еще какой-то кислятиной. На полу лежала разорванная коробка от яиц. Кругом была разбросана яичная скорлупа. Гэтс глянул на полки, отыскивая, где лежит сахар, и в этот момент услышал за спиной тихий шорох. Как бы ни был груб, нахален, примитивен в своем умственном развитии человек, все равно, когда он ворует, нервы его напряжены до крайности. Любой звук, любая неожиданность может нарушить неустойчивое равновесие духа и вызвать внезапный пароксизм страха. Гэтс резко обернулся. В углу, между ящиками, дрожал волчонок. На морде у него прилипли яичные скорлупки. Он смотрел на Гэтса испуганным человечьим взглядом, прося помощи. Он забрел сюда в поисках пищи, но дверь захлопнулась, и несколько дней он не мог выбраться на свободу. Рэй Гэтс в какой-то дикой злобе бросился на волчонка. Тот увернулся и отскочил в другой угол. Гэтс изловчился и ударил его ногой. Волчонок заскулил и глубже забился между ящиками. Гэтс замахнулся, чтобы еще раз ударить, но поскользнулся и едва удержался на ногах. Волчонок выскочил из своего убежища и забился в узкую щель под нижней полкой. Теперь Гэтс видел только кончик его оскаленной морды и большие испуганные глаза. Гэтс заметался по тесной кладовке в поисках подходящего орудия. Им овладела бессмысленная жажда убийства. Убийства во что бы то ни стало. Убийства ради убийства, без смысла и цели. Ему под руку попался тяжелый стальной ломик для выдергивания гвоздей. Но волчонок забился так глубоко в свое убежище, что Гэтс не мог нанести сильного удара. Он попытался выдвинуть ящик, за которым скрывался волчонок, но мешала стойка. Тогда он, наоборот, двинул ящик вглубь. Прижатый волчонок по-детски захныкал и выскочил из своей щели. Гэтс кинулся на него, не давая ему спрятаться, но в этот момент открылась дверь, и волчонок вырвался на свободу. Рэй Гэтс остановился. В дверях стоял коренастый мужчина с конопатым лицом. — Что это здесь? Могу помочь? — спросил он. Гэтс швырнул в угол свой инструмент и вытер рукавом пот со лба. — Волк, — хрипло сказал он. — Волк. Он тяжело дышал и все еще смотрел диким, звериным взглядом. — Убежал, — сказал Мораес. — Я не знал, что у вас здесь волк. Маленький. Одногодок. — Пойдем выпьем, — сказал Гэтс. Они прошли к. стойке. — А я еду мимо, вижу — машина стоит и дверь открыта. Ну, думаю, значит, здесь люди. А тут — волк. Бывает… Гэтс налил. — Джин. Виски я не нашел. Все вылакали. — Можно и джин. А вы-то сами — хозяин здесь? — Теперь все здесь хозяева. Бери что хочешь. Все убежали. — И в городе? — И в городе никого нет. Сегодня видел одну сумасшедшую, ехала в машине. Чего ей здесь надо? А вы-то сами откуда? — С фермы. Батрачил. — У Рэнди? Мораес кивнул. — Теперь я вас узнал. Я тоже тогда был в лесу. Надо же такому случиться… Вы на дороге были? — Был. А чего вы с собой эту тухлую свинью возите? Гэтс хитро подмигнул и налил еще по стакану. — Вы муравьев боитесь? — Я? Нет. — И я не боюсь. Надо уметь устраиваться. Если есть голова на плечах — не пропадешь. Ну, мне пора. Надо еще сахару взять. Он прошел в кладовку, Мораес подождал, пока Гэтс вышел с ящиком сахара. Они вместе прошли к машинам. — Здорово воняет, — сказал Мораес. Гэтс ухмыльнулся: — Ничего, они это любят. — Кто? — Муравьи. Ну, привет. — Привет. Мораес дождался, пока Гэтс развернул машину и выехал на шоссе. Ему не хотелось, чтобы Гэтс видел пробоины в багажнике его “плимута”.13
24 июля. 15 часов 05 минут. — Если вы собираетесь оставаться здесь дольше двух недель, джентльмены, я потребую, чтобы у меня была настоящая кухня. И большой холодильник. — Линда Брукс, в белом передничке, накрывала обеденный стол в кабинете доктора Нерста. — Нельзя все время питаться одними консервами и замороженными продуктами фирмы “Буш и Бекли”. — Это салат? — спросил Ширер. — Великолепно! Пропали бы мы без вас, мисс Брукс. — Конечно, пропали бы. Разве мужчины способны на что-нибудь дельное, кроме своей науки? — А за наукой вы все же признаете право на существование? Линда Брукс улыбнулась: — Да, если она обеспечит меня плитой с четырьмя конфорками. Это же немыслимо — приготовить настоящий обед на такой маленькой плитке! — Вот чисто утилитарный подход к науке. Что вы об этом думаете, Клайв? — Я думаю, что мы уложимся в одну неделю. Не считая, конечно, тех двадцати лет, которые потребуются для дальнейших исследований. — Вы удовлетворены, мисс Брукс? Кажется, нам не придется оборудоватьздесь большой холодильник. Скажите, Клайв, а что вообще вы думаете о дальнейшем развитии нашей работы? Сейчас мы так увлеклись, так завязли в огромном количестве нового и необычного материала, что, мне кажется, утратили перспективу. Что вы об этом думаете? — Ничего не думаю. Я привык ставить перед собой локальную задачу и разрешать ее. А потом возникает следующая, а потом еще одна, и так без конца. Сейчас единственное, что я могу делать в1 этих условиях, — это исследовать феноменологическую сторону механизма биологической радиосвязи у серых муравьев. Затем нужно исследовать тот же вопрос с позиций биофизики. Затем разработать эффективные методы обмена информацией между людьми и муравьями. Затем исследовать их общество, их культуру и технику. Конечно, я могу заниматься в дальнейшем лишь биологическими аспектами этой проблемы. Изучением техники или, скажем, социальной структуры будут заниматься другие. Но для этого важно прежде всего с достаточной научной строгостью установить факт обмена информацией. Как только этот этап будет пройден, можно опубликовать результаты исследований и заняться, уже в больших масштабах, другими вопросами. Я полагаю, мы могли бы выступить с сообщением по телевидению уже в начале августа. Как вы думаете, Лестер? — Вы знаете, Клайв, основные результаты я уже получил, а полное исследование мы все равно здесь не сможем закончить. Я мог бы подготовить выступление к началу августа. Вообще при данной ситуации не стоит это затягивать. Передайте мне, пожалуйста, соли. Спасибо. Я думаю сейчас о другом. Вы строите такие далеко идущие планы изучения муравьев в полном отрыве от реальности. Не кажется ли вам, что их все равно придется уничтожить? — Зачем? — Не “зачем”, а “почему”. Дело в том, что, к сожалению, не мы будем решать этот вопрос. Вы привыкли смотреть на муравьев как на свое детище, как на свою научную, авторскую собственность. Но ведь мы с вами только случайно и временно находимся в такой полной изоляции в покинутом жителями городе. Кроме нас, существует остальное человечество, которому нет никакого дела до ваших научных интересов и которое не может оставить без последствий такие происшествия, как то, что случилось на федеральной дороге и о чем вы стараетесь не вспоминать. Вы просто отмахнулись от этого, игнорируете то, что в глазах общества представляется самым существенным. — Это печальное недоразумение. Ошибка. Результат непонимания. Первобытного человека тоже, вероятно, кусали волки, прежде чем он сумел их приручить. В конце концов, муравьи действовали в порядке самозащиты. — Вы надеетесь их приручить? — Ешьте бифштексы, пока они не остыли. Неужели у вас мало времени для научных споров? — Линда Брукс, как всякая женщина, оказавшаяся в роли хозяйки, чувствовала за собой в этот момент известные права, выходящие за границы обычных официальных отношений. — Бифштекс превосходный, — ответил Нерст. — Я не собираюсь приручать муравьев, они слишком умны для этого. Я полагаю, будет найден некоторый модус вивенди, какая-то форма существования, допускающая развитие обеих культур. — Сомневаюсь, что кто-либо согласится встать на вашу точку зрения. Слишком все это необычно, слишком далеко от наших представлений, от того, что мы привыкли считать здравым смыслом, нашим американским практицизмом. Мы не имеем представления о том, что сейчас делается в мире, в кашей стране. Мы не читаем газет и не слушаем радио… Вы наладили свой приемник? — Нет. Он окончательно замолчал. Скисли батареи. Но у нас есть радио в машине. — Это бесполезно. Кто же будет спускаться в машину специально для того, чтобы слушать радио? Во всяком случае, мое любопытство не заходит так далеко. Можно представить себе ту шумиху, тот бешеный ажиотаж, который развили вокруг последнего инцидента газеты. Политики постараются нажить на этом политический капитал, бизнесмены, несомненно, найдут способы извлечения денег из муравьиной проблемы; совершенно неизвестно, как отнесется к этому церковь… — При чем здесь церковь? — Согласитесь, Клайв, что церковь не сможет пройти мимо факта появления разумных существ, обладающих иной, не человеческой культурой и не человеческим происхождением. Здесь сразу возникнет масса вопросов: есть ли у муравьев душа? Доступно ли им божественное откровение? Применимы ли к ним догматы христианской морали? — О чем вы говорите, Ширер? Что может быть общего между чисто научной проблемой — исследованием нового вида насекомых и догмами христианской религии? Что может их связывать? — То же, что вообще связывает науку и религию. Вера в единый смысл и всеобщую целесообразность окружающей нас Вселенной. Если сравнивать науку и религию… — Их нельзя и не нужно сравнивать, — прервал Нерст. — Они прямо противоположны! Наука — это комплекс познанных нами объективных закономерностей. Закономерностей, объясняющих причины и позволяющих предвидеть следствия. Область религии — это все то, чего мы не знаем, не понимаем, не умеем объяснить. И в этом смысле наука и религия прямо противоположны. Взгляните на историческое развитие человеческого знания. Первобытный человек не понимал, почему гремит гром, и он говорил: это бог. Люди не знали о существовании бактерии, и для них чума была проявлением воли божьей. Чем больше мы узнаем, чем дальше развивается наука, тем меньше остается таких явлений, для объяснения которых мы вынуждены прибегать к сверхъестественной помощи. Я рос в семье, где соблюдались внешние формы религии, но мой отец, по-своему очень умный человек, однажды как бы вскользь сказал мне фразу, которая осталась у меня в памяти на всю жизнь: “Бога выдумали люди, чтобы объяснять непонятное”. Кажется, до него это уже сказал Вольтер. Это стало основой моей личной философской системы. — А не кажется ли вам, доктор Нерст, что доктор Ширер думает совсем не то, на чем настаивает, — вмешалась в разговор Линда Брукс. — Мне лично очень нравится Санта-Клаус. Я люблю получать рождественские подарки. Но что касается Неизвестного, то как можно приписывать ему какую-то сознательную деятельность, если это всего лишь не известные нам законы природы? Ширер удивленно посмотрел на Линду. Он привык считать молчаливую ассистентку чем-то вроде лабораторного оборудования и не ожидал от нее такой способности к самостоятельным суждениям. — Конечно, вы правы, дорогая мисс Брукс. Вы правы. Я, пожалуй, разделяю точку зрения доктора Нерста, но было бы так скучно жить, если бы никогда не возникало споров и все думали одинаково. Возможно, так живут муравьи, но тогда непонятно, как у них мог развиться разум и техническая культура. Для этого необходимо столкновение противоположных точек зрения. Как вы думаете, Клайв, муравьи умеют спорить? Нерст взглянул на Ширера. Он был немного задет тем, что его вызвали на спор, который не имел под собой оснований. — Вы шутите, Лестер, но вы не отдаете себе отчета в том, насколько серьезен этот вопрос. Пока я не могу на него ответить. Это покажет будущее. — Тогда я хотел бы вернуться к началу нашего разговора. Мы не знаем, какова реакция общества на первое серьезное столкновение с муравьями. Сейчас мы не можем предвидеть, как будут развиваться события: муравьи — это не миф, а действительность. И, как показал опыт, достаточно опасная действительность. Где гарантия, что не найдутся люди, которые сумеют, помимо вас, вступить в контакт с муравьями и потом использовать их в своих целях? Как долго вы сможете сохранять монополию на общение с муравьями? Несколько недель. Как только мы опубликуем результаты своих наблюдений, так сейчас же появится множество последователей, истинных и мнимых. Возникнет чудовищная путаница, которая не принесет ничего хорошего. Я понимаю ваш интерес ученого, исследователя, столкнувшегося с новой увлекательной проблемой. Мне тоже очень интересно разобраться в новых технических решениях, с которыми я встретился. Возможно, это принесет нам некоторую выгоду, даже материальную. Поможет ускорить прогресс техники. Поэтому я здесь и остался. Но, в общем, пока я не вижу ничего такого, до чего мы не могли бы додуматься сами, пускай несколько позже, это неважно. Но с другой стороны, при их чудовищной плодовитости и бесспорной работоспособности они могут представить серьезную угрозу для нашего общества. — Однако, Лестер, вы должны согласиться, что бесполезно пытаться повернуть историю вспять. Нужно приспосабливаться к новым условиям существования. История развивается по своим сложным и не всегда понятным законам. Выживает тот биологический вид, который умеет лучше и быстрее приспособиться к изменившимся условиям. — Иными словами, вы предлагаете плыть по течению? — Мы расходимся в оценке событий. Уничтожить муравьев можно было раньше, несколько лет назад. А сейчас уже поздно. Для этого потребовались бы совершенно исключительные меры вроде атомной бомбы, но на это никто не пойдет. Все наши вооружения рассчитаны на уничтожение нас самих, а не муравьев. Вы можете целый день обстреливать лес тяжелой артиллерией, разнести всё в щепы, сровнять с землей, а муравьи будут спокойно ползать по вывороченным из земли корням. История — это процесс необратимый… Я думаю, нам пора идти. Мне хотелось бы сегодня обработать последние осциллограммы… Да, и еще, последнее, Лестер. Я вынужден просить вас: когда мы будем выступать по телевидению, не настаивать на необходимости уничтожения муравьев… — Ну, разумеется, Клайв. Об этом не нужно говорить. Может быть, вы и правы. Может быть, так и нужно поступить в интересах нашего общества. Нерст поднялся со своего места и, звонко стуча каблуками, заходил по комнате. Его длинная худая фигура то рисовалась темным силуэтом на фоне окна, то, наоборот, светло-серым на темном прямоугольнике двери. — Вы говорите, Ширер: “общество”. О каком обществе вы говорите? Мы нация индивидуалистов. Нас больше двухсот миллионов, и каждый тянет в свою сторону. Каждый думает только о себе и о своей выгоде. У нас нет единого, монолитного общества, выступающего как сплоченная социальная сила. Мы все разрозненны и думаем только о своих долларах. Такие люди, как мы с вами, — это редкие исключения, белые вороны, патологические отклонения от общего правила. — Вы рассуждаете, как коммунист, Нерст. — Я не коммунист. Я американец и так же, как вы, люблю страну, в которой родился и вырос. Я люблю осенние красные листья на кленах, люблю свежий ветер полей, люблю наши озера и реки, люблю, наконец, весь тот уклад жизни, который мы создали. Но когда вы предлагаете уничтожить культуру, возникшую рядом с нами, только потому, что она совершенно отлична от нашей, я не могу с вами согласиться. — Прежде всего, насколько я понимаю, быть коммунистом — вовсе не значит отрицать свою родину. — Я не знаю, Ширер. Я не знаю. Я не политик и никогда не интересовался политикой, но как биолог я должен сказать, что в межвидовой борьбе за существование оказывается более жизнеспособным тот вид, тот коллектив, внутри которого отдельные особи способны жертвовать своими интересами ради взаимопомощи, ради сохранения вида в целом. И в этом отношении мы, американцы, существенно уступаем даже самым обычным лесным муравьям. Пойдемте работать, Лестер. Ширер поднялся. Линда Брукс собрала со стола посуду. Спускаясь по лестнице в первый этаж, она услышала внизу, в холле, какой-то шум. Это были неуверенные шаги человека, случайно забредшего в незнакомое помещение. Она остановилась. Человек подошел к лестнице и тоже остановился. Она подождала, потом негромко спросила: — Кто там? — Хэлло, мэм, я уж думал, никого не найду… — А кто вам нужен? — Я не знаю… Кто-нибудь… Линда спустилась. Мораес ждал внизу. — Здравствуйте, мэм. Я уж думал, никого не найду. — Здравствуйте. Что вы здесь делаете? — Я мимо ехал. Услышал — мотор шумит. Ну, думаю, значит, здесь люди. А я человека ищу. В городе никого не осталось. Я уже был здесь раньше… — Я помню. Мистер… — Мораес. Васко Мораес. — Да, да, я помню. А почему вы остались? Почему не уехали? — Мне нельзя сейчас уезжать. Они задержат меня на дороге. Мне нужно сперва отремонтировать машину. Вы слышали радио? Они ищут машину, пробитую пулями. Номера они не знают. Мне нужно ее отремонтировать, а здесь нигде нег электричества… И я не могу это сделать один. Там нужно работать вдвоем. Одному держать, другому работать. Мне нужен еще один человек. Линда поставила посуду на ступеньки лестницы. — Пойдемте, я вас провожу к доктору Нерсту.14
24 июля. 20 часов 20 минут. В тот час, когда на атлантическом побережье уже стемнело, здесь, в штате Южная Миссикота, солнце еще не заходило. Близился тот мирный предвечерний час, когда стихает ветер, когда пыль на дорогах медленно оседает и воздух становится чистым и свежим, когда раскаленный шар солнца постепенно теряет свою слепящую яркость и все ниже склоняется к неровной линии далеких темных холмов. Рэй Гэтс ехал по узкой проселочной дороге в своем клыкастом, похожем на старого бульдога “пикапе”. Услышав сегодня сообщение по радио о предстоящем уничтожении всего района, заселенного серыми муравьями, и плохо представляя себе, во что это может вылиться, он почел за благо немедленно выполнить требование властей и возможно скорее покинуть опасный район. Его совсем не беспокоила судьба фермы. Все имущество было застраховано, и, кроме того, федеральное правительство гарантировало полное возмещение всех убытков. В этом случае он материально никак не страдал и даже, наоборот, мог рассчитывать на некоторую выгоду. И еще одно обстоятельство повлияло на его быстрый отъезд. Он получил приказание. Он уже привык получать указания, оформленные как смутные, полуосознанные желания сделать то или другое. Он быстро наловчился правильно понимать эти приказы и охотно выполнял их потому, что это не требовало от него большого труда и приносило заметную выгоду. Сейчас он знал, что должен во что бы то ни стало и как можно скорее выехать по направлению к местечку Бранденберг в одном из центральных штатов. Это приказание было настойчивым и возникло в его мозгу почти сразу после сообщения по радио. По складу своего ума, не расположенному к анализу ощущений, он просто повиновался этому мысленному приказу. Если бы он дал себе труд задуматься, проанализировать свои поступки, он, может быть, поступил бы иначе, но это его не интересовало. Его вполне устраивало создавшееся положение, при котором, выполняя несложные задания муравьев, он взамен получал некоторую помощь или содействие, позволявшие ему реализовать свои желания весьма практического свойства. Большую часть ценностей, добытых в городе, он надежно закопал на территории фермы, а наличные деньги увозил с собой. Все это представлялось ему довольно выгодной сделкой, тем более что необычность обстоятельств, казалось бы, исключала неприятные последствия. Предстоящее уничтожение Нью-Карфагена было особенно выгодно, так как устраняло любые следы его деятельности. Впереди, слева, несколько в стороне от дороги, показались белые строения фермы Рэнди. Над домом поднималась тонкая струйка сизого дыма. С тех пор как человек научился пользоваться огнем, дым очага стал для него священным символом дома, родины, семьи. Завидев издали дым очага, усталый путник ускорял шаги, и ноша казалась ему менее тяжелой. На протяжении многих тысячелетий вся жизнь людей концентрировалась вокруг огня. Дым костра звал к себе, обещая тепло, еду, отдых. В наше техническое время жители городов почти утратили священное и поэтичное чувство домашнего очага, огня, у которого вечером, после тяжелого, трудного дня, собирается вся семья и мать раздает еду. Огонь костра всегда был для люде” символом дружбы и единения. У огня забывались распри и ссоры, откладывалось в сторону оружие, и недавние враги сидели рядом, молча глядя на раскаленные угли. Собираясь вокруг огня, люди становились Людьми. Рэй Гэтс посмотрел на дым и проехал мимо фермы Рэнди. Он смотрел на поднимающийся из трубы дым, пока это было возможно, а потом отвернулся. Впереди были участки хорошо обработанных полей, а дальше, на горизонте, поднимались невысокие холмы. Проехав около мили, он все же притормозил машину, с трудом развернулся на узкой дороге и поехал обратно. Поравнявшись с фермой Рэнди, он свернул направо и подъехал к дому. Никто не вышел навстречу. Он продвинул машину вперед и за углом увидел Рэнди, возившегося с трактором у раскрытых дверей сарая. — Хэлло, Рэнди! — окликнул Гэтс. Рэнди повернулся. Низкое солнце светило ему прямо в глаза, и он прикрылся рукой, чтобы лучше видеть. Потом, вытирая на ходу испачканные маслом руки, он сделал несколько шагов навстречу Гэтсу. — Хэлло, Рэнди, ты разве не слышал радио? Всем нужно уезжать. Комитет семи объявил нас опасной зоной. Будут уничтожать муравьев. Хотят выжечь и лес, и город, и все вокруг. Надо уезжать. У тебя что, машина не в порядке? Я могу подвезти тебя и Салли. — Машина в порядке, — сказал Рэнди. — Так надо ехать. Здесь все уничтожат с воздуха. Правительство обещает возместить убытки. — Я не поеду, — хмуро сказал Рэнди. — Ты уезжай, а я не поеду. Я здесь родился, я здесь и останусь. Тут все мое. — Да ты не понял, по радио передавали… — Я слышал радио, я все знаю, только я никуда не поеду. Эту землю копали мой дед, мой отец, я… Здесь все мои… — Он замолчал. — Они все лежат здесь, в этой земле. Это наша земля, и я ее не оставлю, что бы они с ней ни сделали, что бы здесь ни наломали. Рэй Гэтс глядел на Томаса Рэнди, на его перепачканный маслом комбинезон, грязные руки и хотел было спросить, зачем же он сейчас ремонтирует трактор, если знает, что завтра утром все будет уничтожено — и дом, и трактор, и все вокруг… Но Гэтс промолчал. — Ты поезжай, а я останусь, — сказал Рэнди. — Спасибо за заботу. Будь здоров. Он повернулся и пошел к трактору. Гэтс развернул свой мордастый “пикап” и выехал на дорогу в сторону Бранденберга. …На авиационной базе Бранденберг с вечера начали готовить самолеты к вылету. Разъехались по полю длинные белые автозаправщики. С глухим урчанием подползали они к сверкающим в голубых лучах прожекторов рядам бомбардировщиков. Длинные черные тени людей и машин метались по аэродрому. Команды технического обслуживания снимали чехлы с двигателей, проверяли исправность оборудования, строго следуя подробным инструкциям, деталь за деталью, прибор за прибором, проверяли они весь сложный комплекс механических, пневматических, гидравлических, электронных, радиотехнических, оптических, магнитных и гироскопических устройств, которыми оснащен современный самолет. Лихо заломив козырьки своих рабочих кепок, засучив рукава рубашек, здоровые, рослые парни, ребята — золотые руки, с привычной добросовестностью, с отменной тщательностью и профессионализмом американских рабочих проверяли все то, что им полагалось проверить в соответствии с точной, умно и ясно составленной инструкцией. Эти американские рабочие в военной форме хорошо делали свое дело. Это была их работа, за которую хорошо платили. Они выполняли ее аккуратно и добросовестно, а все остальное их не касалось. Об остальном они старались не думать. В их подробной инструкции не было пункта о том, что нигде в самолете не должны скрываться муравьи. Об этом никто не позаботился. Да разве возможно их обнаружить? В сложнейшем сплетении проводов, между обшивками корпуса, в тонких стреловидных крыльях они могли найти тысячи мест, где их нельзя, невозможно заметить. Начали подвозить боезапас. Автопогрузчики, плавно покачиваясь на мягких шинах, подруливали к самолетам, бережно поднимали своими стальными лапами черные тела авиабомб и заботливо, как мать укладывает ребенка в колыбель, стараясь не потревожить его мирный сон, затискивали бомбы в раскрытые чрева самолетов. Все это делалось просто, спокойно, без лишней спешки, точно и деловито. Для работников аэродромной службы это было обычным будничным делом, ничем не отличавшимся от сотен других патрульных вылетов, направленных к берегам потенциального противника. Здесь все было слажено, продумано до мелочей, и весь этот комплекс машин и люден работал четко и ритмично, как хорошо отрегулированный механизм, как организм вполне здорового человека. Рэй Гэтс беспрепятственно миновал контрольно-пропускной пункт на выезде из запретной зоны вокруг Нью-Карфагена. К авиационной базе Бранденберг он подъехал уже ночью. С пустынного в этот час шоссе были видны цепочки огней на аэродроме. То вспыхивающие, то внезапно гаснущие фары автомобилей освещали длинные ряды самолетов. Их стройные рыбьи тела то загорались алюминиевым блеском, когда на них попадал косой луч прожектора, то, наоборот, в голубоватой дымке рассеянного света рисовались их четкие черные силуэты. Рэй Гэтс поставил машину на обочину, обошел кругом, постоял у края канавы, подтянул брюки, достал из кузова небольшую картонку от яичного порошка и швырнул ее в канаву. После этого он сел в машину, закурил сигарету и уехал дальше в ночь. Из картонки выполз муравей. В штабе авиационной части, базирующейся в Бранденберге, начальник штаба проводил инструктаж командиров кораблей перед вылетом: — …в шесть часов тридцать семь минут первое звено должно выйти в район цели. Первый заход на высоте девяти тысяч футов, последующие — по решению командира. Оружие противника действует до высоты шести тысяч футов — это надежно проверено автоматическими самолетами-мишенями. На высоте девять тысяч футов вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Ваша задача: полностью уничтожить все живое в квадратах одиннадцать—восемнадцать и двенадцать—двадцать один. Это значит: плотность бомбовой обработки местности должна быть такова, чтобы были разрушены все здания до фундаментов и вскрыты подвальные помещения. Необходимо создать условия для наиболее эффективного применения напалма и отравляющих веществ. Должна быть вскрыта любая щель, любая нора. То же относится и к лесному массиву и прилегающим фермам. Весь район, отмеченный на ваших картах, должен быть превращен в сплошное пожарище, выжженный пустырь, на котором не уцелеет ни одно насекомое. Так выжигают каленым железом ранку от укуса змеи на здоровом теле. Желаю удачи. Бог да благословит вас.15
25 июля. 05 часов 17 минут. Сперва возникли три белых лошади. В бурой мгле, среди пыльных развалин они мчались и мчались вперед, калеча копытами мрамор колонн, ломая цветы и оставаясь все время на месте. Кругом вздымались руины разрушенных зданий, закопченные, темные, с красными подтеками битого кирпича, безобразные, как гнилые зубы во рту великана. Красный конь тянулся к черной чернильной воде и не мог до нее дотянуться. Густая, тягучая, словно вар, вода блестела в темноте и была неподвижна. Так неподвижны свинцово-осенние пруды в парках. На них плавали желтые листья. Младенец в коляске орал полицейской сиреной. Замолкая на минуту, как машина на повороте, он снова испускал свой дикий вопль, дрожащий, вибрирующий на одной ноте… Семь нянек в белых передничках сидели на скамейке Централ-парка и неслышно шептались. Кривой мальчишка слепым, невидящим глазом целился в них из игрушечного автомата. Нерст хотел остановить его, он силился пошевелиться, но мог только стонать. — Проснись, Клайв. Ты так ужасно стонешь. Что тебе снилось? Нерст очнулся от кошмара. В комнате было темно. Линда трясла его за плечи. — Что тебе снилось? — Так… Всякий ужас. Разве можно рассказать? Семь нянек, у которых дитя без глаза… Глупости. Почему ты не спишь? — Меня разбудила сирена. Полицейская машина ездит по городу и сигналит. Совсем как воздушная тревога. Слышишь? Опять. — А ты разве слышала сигналы воздушной тревоги? — Конечно. Учебные. — А я слышал настоящие. В начале войны мы с отцом застряли в Лондоне. Я был тогда еще маленький. Мы прятались в убежище. Я очень любил своего отца. Он казался мне таким сильным, таким мудрым, он знал все и обо всем умел мне рассказать. И каждый вечер мы спускались в убежище. Это было совсем не страшно, ведь мы были вдвоем. Да и вообще дети не знают страха смерти. Они больше боятся уколоть палец. Мне нравилось, как стреляют зенитки, и было интересно видеть разрушенные здания. — Зачем люди воюют? — Иногда бывает так, что нельзя не воевать. — Все равно это плохо. — Конечно, плохо. Небо за окном казалось темно-лиловым, и на нем тускло светили бледные звезды. Скоро начнется рассвет. Было очень тихо, только вдали иногда слышался вой полицейской сирены. — О чем ты сейчас думаешь? — спросила Линда. — А ты как узнала, что я о чем-то думаю? — По глазам. Они улыбались твоим мыслям. — Я думал… Я думал о том, что, если бы у нас родился сын, мы бы назвали его Ники… Николсом, как моего отца. — А ты уверен, что был бы мальчик? А если девочка? — Нет. Непременно мальчик. II он был бы веселым и смелым. И я ездил бы с ним на озеро ловить рыбу… — Нет, не так. Сперва мы купили бы ему голубую колясочку, и я ходила бы с ним гулять в парк, и он смеялся бы, когда я к нему наклонялась. Ведь он был бы веселым? Правда? — А потом он первый раз пошел бы в школу… Представляешь, как он будет волноваться? — А я стояла бы за дверью и ждала, когда кончится урок… — Летом я буду с ним уходить в лес, далеко-далеко. Я буду ему рассказывать, как растут деревья, как живут лесные звери, как птицы вьют гнезда. Ведь он будет совсем маленький и сперва совсем ничего не будет знать, а я ему буду рассказывать. Знаешь, это очень большая радость, когда можешь передать ребенку частицу своего опыта. Частицу самого себя… Ты спишь? — Нет, я слушаю. — Жаль, что ничего этого не будет. Рассветный сумрак медленно пробирался в комнату, придавая всем предметам странные, причудливые очертания. Контуры стен, стулья, стол постепенно проявлялись из темноты, как скрытое изображение на фотопластинке. Они молчали, прислушиваясь к тишине покинутого города. Скоро яркий шар солнца поднимется над горизонтом. Сперва он осветит верхушки деревьев и красные крыши домов, потом, рассеивая утренний туман, его лучи проникнут в пустынные улицы, потянет ветер, шелестя обрывками старых газет. Из щелей и подвалов поползут к солнцу и свету новые хозяева этого города. Наступит день. Где-то очень далеко последний раз прозвучал сигнал полицейской сирены. Констебль Роткин закончил свой объезд Нью-Карфагена и с легким сердцем, довольный сознанием выполненного долга, радуясь тому, что и на этот раз для него все обошлось благополучно, вывел свою машину на пустое шоссе и дал полный газ. Было пять часов сорок три минуты.16
25 июля. 06 часов 26 минут. Капитану военно-воздушных сил Соединенных Штатов не положено особенно много рассуждать. В этом нет необходимости. Это за него делают другие. Он обязан выполнять приказ своего командования независимо оттого, что он думает о его смысле и целесообразности. Лучше всего, если он по этому поводу вообще ничего не думает. Командир ведущей машины, так же как и все члены экипажа, как и командиры остальных машин, в данный момент выполнял приказ и делал это со всей точностью, которая требуется в таких случаях. Если у кого-либо из них и возникало неприятное чувство от сознания того, что они летят бомбить не какой-то чуждый им вражеский “военный объект”, а свой, чистенький и благоустроенный американский городок, то они старались этого не замечать. Они гнали от себя такие мысли. Они старались не думать о том, что им предстоит превратить в дымящиеся руины частицу своей страны. Они смотрели на эту операцию, как на любое другое задание, подлежащее выполнению. Это была их работа. Да и в самом деле, не все ли равно, куда сбрасывать бомбы — на покинутый жителями город или на изрытый воронками полигон в пустыне? При взгляде на карту район, обреченный на уничтожение, представлялся таким маленьким, таким ничтожным кусочком огромной страны, что сразу становилась ясной неощутимая малость такой потери. Все те материальные ценности, которые предстояло уничтожить — дома, холодильники, мебель, семейные портреты на стенах, посуда, расставленная на полках шкафов, и тысячи самых разнообразных предметов, созданных людьми для своего удобства, все то, что составляло призрачные, внешние атрибуты счастья для нескольких десятков тысяч людей, — псе это в общей сложности стоило намного дешевле тех самолетов, которые сейчас приближались к городу. Современный бомбардировщик — это удивительно сложная, совершенная и очень дорогая машина. Он спроектирован и построен так точно, так тщательно и продуманно, снабжен таким количеством прецессионной аппаратуры, что представляет собой как бы самостоятельный организм. Почти живое существо. Он очень умен, такой самолет. Его приборы могут делать очень сложные вычисления, учитывать множество изменяющихся величин; он может лететь с огромной скоростью на очень большой высоте; он может видеть и слышать все, что делается вокруг на далеком расстоянии. Он может видеть в темноте и тумане. Его радиолокаторы непрерывно ощупывают землю своими лучами, поддерживают связь со станциями слежения и наведения. Сотни приборов непрерывно контролируют его полет, работу всех агрегатов. В любой момент он точно знает свое место в пространстве, и ему не страшны никакие капризы погоды. Экипаж корабля занимает места в удобных кабинах, где все продумано до мельчайших подробностей, где все сделано для того, чтобы человек мог точно, уверенно и беспрепятственно убивать других людей. Это очень хитрая, сильная и дорогая машина — современный бомбардировщик. Самолетом управлял автопилот. Командир сидел, откинувшись на спинку своего кресла, изредка поглядывал на приборы, жевал резинку и думал о том, как сегодня вечером он встретится со своей девушкой. Все шло нормально. Для командира корабля этот полет был частью его работы, довольно выгодной и не слишком обременительной, не лучше и не хуже любой другой, дающей обеспеченное существование. Ему не пришлось участвовать в войнах, и он никогда не испытывал страха перед зенитными снарядами или самонаводящимися ракетами — для него они были всего лишь абстрактными понятиями из курса подготовки военных летчиков, такими же отвлеченными, какими для многих на всю жизнь остаются заученные в школе законы физики или формула решения квадратных уравнений. Война и связанные с нею опасности всегда скрытно присутствовали где-то в глубине его сознания. Команды других самолетов, все эти здоровые, веселые, жизнерадостные парни, относились к предстоящей операции примерно так же, как их командир. Они просто о ней не думали. Каждый был занят выполнением своих, строго регламентированных, обязанностей, требующих почти автоматических действий. Все шло нормально. Строгая, тщательно разработанная система субординации насильственно объединяла между собой команды самолетов и превращала все это воинское подразделение в единый, точно и слаженно работающий механизм. Самолеты летели в плотном строю, образуя в небе четкие геометрические фигуры. Они были как бы связаны друг с другом невидимыми нитями дисциплины. Они были очень хороши в небе, эти серебристые стрелы двадцатого века. Командир ведущего корабля посмотрел на часы, переложил жвачку за другую щеку и нажал кнопку переговорного устройства. — Спринг-Фоллс, я “Дэвид—пять”. Сообщите обстановку в районе цели. Прием. Станция в Спринг-Фоллс ответила грудным басом: — “Дэвид—пять”, я Спринг-Фоллс. Вы подходите к Парадайз-сити. Через полторы минуты смена курса. Новый курс — три ноль семь. В районе цели ясно. Ветер на высоте девяти тысяч футов — сто десять градусов, восемь узлов. Командир корабля удобнее уселся в своем кресле, отключил автопилот и взялся за ручку управления. Штурман сделал пометку на карте. Все шло нормально. Внизу, в брюхе самолета, в бомбовом отсеке висели в своих держателях бомбы. Длинные, черные, неподвижные, таящие в себе чудовищную разрушительную силу, они молчаливо ждали своего часа, того момента, когда по команде человека, повинуясь едва заметному нажатию кнопки, они сорвутся со своих мест и ринутся в гудящую пустоту, чтобы, достигнув земли, полыхнуть оглушительным взрывом. По одной из бомб, второй снизу в правом ряду, полз муравей. Он спустился по ребру стабилизатора, пробежал по гладкой цилиндрической поверхности корпуса, миновал желтые буквы заводской маркировки и приблизился к закругленной головной части бомбы. Здесь уже копошилось несколько муравьев. Они суетливо бегали вокруг серой, похожей на паука машины. С тихим жужжанием, не громче исправной электрической бритвы, она вгрызалась в металл корпуса бомбы. Цепляясь за окрашенную поверхность восемью членистыми лапками, эта машина высверливала в металле круглое отверстие, приблизительно четверть дюйма в диаметре. Тонкие, как пыль, блестящие стружки разлетались во все стороны, оставляя на корпусе бомбы едва заметный серебристый налет. По мере того как отверстие становилось глубже, паукообразная машина сгибала свои лапки, все больше и больше погружаясь в тело бомбы. Работа подвигалась медленно, и муравьи нервничали. В тот момент, когда наконец металл был просверлен насквозь, машина прекратила жужжание и повисла над чернотой отверстия. Муравьи один за другим быстро проникли внутрь корпуса. Они расползлись по стенкам головного обтекателя, перебрались на механизм взрывателя, быстро обследовали его и собрались в том месте, откуда удобнее всего можно было добраться до капсюля детонатора. После этого несколько муравьев вернулись к своей паукообразной машине, и она пришла в движение. Быстро и ловко перебирая лапками, “паук” подполз к тому месту, которое наметили муравьи на корпусе взрывателя, закрепился на нем и начал сверлить новый канал, открывающий доступ к детонатору. Самолеты приближались к городу Парадайз-сити — столице штата Южная Миссикота. Было раннее утро. Люди еще спали, но воробьи уже проснулись. В этот час, пока еще не началось оживленное движение машин, они могли кормиться на тихих улицах. Закончили свою ночную работу пекарни. Автофургоны грузились горячим хлебом. На железнодорожной станции только что приняли большой товарный состав. На аэродроме готовились к вылету первые рейсовые самолеты. Последние полицейские машины, закончив ночное дежурство, разъезжались по своим участкам. На путях товарной станции два железнодорожника, молодые, статные негры, о чем-то спорили. Они говорили оба разом, быстро, зло и невнятно, потом оба одновременно засмеялись, похлопали друг друга по спинам, достали сигареты и закурили. Вдали над горизонтом показались летевшие в строю самолеты. Их еще не было слышно, и только утреннее солнце блестело на серебряных крыльях. Командир ведущего самолета подал команду приготовиться к перемене курса и, всем телом сливаясь с могучей машиной, предчувствуя каждым своим мускулом знакомое и приятное ощущение небольшой перегрузки, возникающей в момент поворота, вдавливающей тело в кресло, заставляющей сильнее напрягаться мускулы, безотчетно радуясь своей силе и могуществу, он уже готов был отклонить влево руль управления, когда все его мысли, чувства и желания разом оборвались. Он не успел ничего ни сделать, ни увидеть, ни услышать. Он не успел ничего почувствовать, потому что все началось и кончилось гораздо быстрее, чем нервные импульсы смогли дойти до коры головного мозга. Его такое удобное кресло, мгновенно смятое взрывом, сложилось надвое, стало клубком изогнутых дюралевых трубок. В ничтожные доли секунды все то, что представляло собой самолет с его экипажем, приборами, двигателями, было превращено в клочья мяса, куски исковерканного металла, брызги горящей жидкости. Железнодорожники увидели этот взрыв с расстояния приблизительно одиннадцати миль. Издали это было совсем не страшно. Где-то вдалеке, едва различимая в утреннем небе, серебристая стрелка внезапно превратилась в клубок оранжевого пламени и затем распалась на несколько дымных струй. Следующий самолет взорвался немного ближе. Затем, через несколько секунд, почти одновременно взорвались еще два самолета. Они были уже ясно видны, но железнодорожники все еще не слышали взрывов, так как самолеты летели быстрее звука. Только когда уже совсем близко разорвалась пятая машина, они услышали грохот взрывов и поняли, что эти казавшиеся далекими и безобидными вспышки желтого пламени в голубом небе могут угрожать их жизни. В инстинктивном страхе перед непонятным, не отдавая себе отчета в своих поступках, они скатились по насыпи и бросились ничком в канаву. Следующий самолет упал в районе железнодорожной станции. Последний разорвался над жилым кварталом окраины Парадайз-сити.17
2 августа. 18 часов 56 минут. Телевизионная студия довольно четко делилась на две половины — темную и светлую. В темной части стояли телекамеры, осветительная аппаратура, двигались люди — там шла какая-то работа. Светлая половина была пуста. Здесь не было ничего, кроме стола и трех стульев. Нерста и Ширера провели в светлую половину. — Пожалуйста, доктор Нерст, садитесь. Вот сюда, пожалуйста, прошу вас, доктор Ширер, садитесь слева от меня… — Телекомментатор компании “Эй-Би-Эс” мистер Купер был очень любезен. Даже слишком любезен. Такая приторная любезность была неприятна и настораживала. Нерст занял предложенное ему место за большим гладким столом полированного дерева, на котором стоял белый телефонный аппарат. Нерст разложил листки со своими записями и осмотрелся. Прямо перед ним выстроились телевизионные камеры. Операторы неслышно передвигали их с одного места на другое, то поднимали, то опускали, выбирая нужные точки съемки. Лаконичными жестами операторы давали указания своим помощникам и так же беззвучно переругивались друг с другом на своем условном языке жестов. Высокая худая девушка, ассистент режиссера, осматривала сцену опытным хозяйским взглядом, давала шепотом какие-то указания, о чем-то справлялась у стоявшей рядом с нею Линды Брукс и часто поглядывала на секундомер. Яркий свет был направлен на стол, за которым сидели Нерст, Гарри Купер и Ширер. Отсюда все остальное помещение казалось особенно темным, и в этом полумраке шла какая-то слаженная, очень четко организованная и совершенно бесшумная деятельность. Справа, чуть впереди телекамер, стоял передвижной пульт с телеэкраном. — Напоминаю, джентльмены, — говорил Купер, — на этом экране вы будете видеть то изображение, которое идет в эфир. На включенной в данный момент телекамере загорается красная лампочка. Если вы захотите, чтобы ваше изображение на экране смотрело прямо в глаза зрителю, смотрите в объектив этой камеры. Девушка-ассистент сделала шаг вперед и вытянула руку с поднятым пальцем. — Осталась одна минута до начала передачи… Доктор Нерст почувствовал себя подопытным кроликом на операционном столе. Сейчас он еще мог распоряжаться собой. Через минуту он окажется полностью во власти этих людей и тех миллионов зрителей в Соединенных Штатах и за границей, которые будут смотреть передачу. Девушка согнула палец. — Полминуты… Гарри Купер ободряюще улыбнулся. Нерст подумал о том, как странно, что этот сладенький, заискивающий, насквозь фальшивый человек может пользоваться такой любовью и доверием публики. Девушка сжала руку в кулак и сразу же резко выбросила ее вперед, уставившись указательным пальцем на Гарри Купера. И в тот же момент он заговорил. Заговорил ясно, сильно, убедительно, с полным чувством собственного достоинства, без малейших следов того заигрывания с публикой, которое всегда идет от неуверенности оратора и так неприязненно воспринимается слушателями. Он превратился в совершенно иного человека. Он начал работать: — Леди и джентльмены! Вы все, конечно, читали и слышали о тех трагических событиях, которые в последнее время происходили в штате Южная Миссикота. Чудовищная катастрофа на восточной дороге, бегство жителей из Нью-Карфагена, гибель наших самолетов, наконец, последние сообщения о том, что серые муравьи замечены в атомных лабораториях Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института, в лабораториях, занятых исследованиями в области ядерной энергетики в Брукхевене, и в некоторых других атомных центрах. Все это не могло не вызвать среди населения нашей страны справедливой и обоснованной озабоченности. Раздаются возмущенные голоса людей, недоумевающих: как могло это случиться в нашей стране? Высказываются предположения о том, что муравьи в данном случае являются лишь предлогом, своего рода ширмой, за которой скрывается преступная деятельность враждебных организаций, стремящихся подорвать наш строй, нарушить наш американский образ жизни. Высказывается мнение, что нелепо приписывать муравьям такие исключительные способности, относить на их счет то, что на самом деле является результатом действий широко разветвленной подрывной организации… Как только Гарри Купер начал говорить, Нерст почувствовал себя спокойнее и увереннее. Он взглянул на Ширера — тот, сдвинув очки на лоб, просматривал записи в своем блокноте. Нерст посмотрел на экран монитора — там было крупное изображение одного Гарри Купера. — …Для того чтобы разобраться во всех этих сложных вопросах, — продолжал Купер, — мы пригласили сегодня в нашу студию известного энтомолога доктора Нерста и профессора физики доктора Ширера. В последнее время они занимались изучением всего, что связано с появлением серых муравьев… Нерст все еще смотрел на экран монитора. Очевидно, камера, ведущая передачу, стала отъезжать, так как поле зрения раздвинулось, и он увидел на экране себя и Ширера… Он оторвал взгляд от монитора и растерянно взглянул на батарею телевизионных аппаратов, отыскивая среди них тот, на котором горел красный огонек. Линда встретилась с ним взглядом и ободряюще кивнула. Ассистент, поняв его затруднение, жестом указала нужную камеру. Нерст взглянул в голубоватую линзу объектива и в знак приветствия едва заметно кивнул головой. Он впервые выступал потелевидению, и ему, привыкшему на лекциях непосредственно обращаться к живой аудитории студентов, было странно и непривычно искать контакта с этой бездушной стекляшкой, торчавшей в большом железном ящике. — Доктор Нерст, — обратился к нему Гарри Купер, — не могли бы вы в общих чертах рассказать нам о ваших последних работах по изучению серых муравьев? Что они собой представляют? — Прежде всего я должен заметить, что наши работы еще далеко не закончены, собственно говоря, они только начаты, и если я позволяю себе выступить сегодня с публичным сообщением, то это вызвано исключительно желанием рассеять те нелепые слухи, которые успели широко распространиться. Я хотел бы внести некоторую минимальную ясность в проблему, с которой мы столкнулись. Дело в том, что впервые за всю историю своего развития человек — биологический вид, известный науке под латинским названием гомо сапиенс, то есть человек разумный, впервые встретился с живыми существами, с обществом живых существ, так же, как и он, обладающих разумом. Это новый биологический вид насекомых, муравьев, которому мы дали название формика сапиенс, то есть, по аналогии с человеком, муравей разумный. Высшая нервная деятельность этого вида насекомых принципиально, качественно отличается от всего, что нам было известно в мире животных. И различие здесь именно в способности этих муравьев думать, а не только действовать, повинуясь врожденному инстинкту, как бы сложен он ни был. Думать — это значит аналитически оценивать обстановку, предвидеть возможные последствия и сознательно принимать то или иное решение. Наши далекие предки стали людьми благодаря тому, что в силу ряда обстоятельств, вследствие генетических изменений наследственности и естественного отбора у них колоссально усложнился аппарат управления поведением — их мозг. Это привело к принципиальному качественному скачку в ходе эволюции. Человек обрел способность сам формировать программу своего поведения. Он стал трудиться. Нечто подобное произошло в последние годы и с тем видом муравьев, которым мы занимаемся. Надо сказать, что нервная система муравья, его мозг, если можно так выразиться, несравненно примитивнее мозга человека. Биологическое развитие вида формика сапиенс пошло по принципиально другому пути. Не по пути развития и усложнения мозга отдельного индивида, а по пути развития связей между индивидами и создания таким путем коллективного мозга всего вида в целом… Здесь я должен коснуться понятия коммуникабельности, то есть способности к общению между собой отдельных представителей вида. Хорошо известно, что ребенок, от рождения лишенный возможности общения с людьми, скажем, глухо-немо-слепой или искусственно изолированный от человеческого общества, будучи предоставлен самому себе, остается на крайне низком уровне умственного развития. Он не может выйти за пределы врожденных программ поведения. Вся наша культура, все то, что мы с гордостью называем величайшими достижениями человеческого разума, разума наших великих гениев, таких, как Франклин, Дарвин или Ньютон, — все это есть прежде всего результат коллективного разума, коллективного действия людей как биологического вида в целом. Вне общества, без общения с другими людьми их великие открытия не были бы сделаны. У интересующего нас вида муравьев способность к общению друг с другом развита несравненно выше, чем у людей. И этим они восполняют примитивность организации каждого отдельного индивида. Как показали наши исследования, эти муравьи обладают почти неограниченной коммуникабельностью, возможностью передачи информации. Есть основания полагать, что они, весь коллектив, весь вид в целом, представляют собой как бы единый мозг. Все они связаны между собой общей системой передачи информации. Это позволяет им осознавать себя как единый организм, хотя бы и расчлененный на отдельные особи. Муравьи вида формика сапиенс все одновременно знают, что делает каждый из них. Если больно одному — больно всем. Если один из них нашел что-то заслуживающее внимания — об этом знают все. Такая универсальная связь позволяет им действовать с идеальной согласованностью. Развитие коммуникабельности восполнило несовершенство мозгового аппарата каждого насекомого в отдельности и сделало возможным развитие коллективного сознания, способности к разумной деятельности всего ансамбля как единого целого… Не слишком ли долго я задержал внимание наших зрителей, мистер Купер? — Нет, нет, доктор Нерст, все, что вы рассказали, очень интересно и, в общем, я надеюсь, понятно… но… это весьма неожиданно. Трудно представить себе, что такое может существовать. — Почему нет? В сущности, это доведенная до крайности модель нашего общества. То, к чему мы стремимся, развивая и совершенствуя наши средства связи, наши технические средства общения и воздействия на мысли. Например, сейчас мы с вами объединены в такую систему, но, в отличие от муравьев, эта система односторонняя. Нас видят, но мы не видим наших зрителей. У муравьев подобная система дополнена обратной связью от индивида к целому. И это очень важно. Это позволяет им обеспечить единство мыслей, полное подчинение индивида обществу. Может быть, не отдавая себе отчета, люди, как общественные животные, всегда стремились к этому, но нередко случалось обратное: что общество подчинялось воле отдельного индивида, который, используя ту или иную технику связи, старался осуществить контроль над мыслями. Тому есть немало исторических примеров. На этих же принципах основана наша массовая реклама или армейская дисциплина. Представьте себе, что стало бы с нами, если бы мы лишились всякой возможности общения друг с другом. Люди очень скоро превратились бы в орду дикарей, нет, не в орду — она тоже основана на связи. Мы стали бы массой разрозненных индивидов, где каждый учитывает только свои личные интересы, — массой, обреченной на быстрое вымирание… Гарри Купер корректно и сдержанно слушал Нерста, давая своим видом понять, что он пока не опровергает его высказывания, но и не соглашается с ним полностью. Он просто давал ему возможность высказать свою точку зрения, резервируя за собой право ответить. Хорошо владея своей профессией, он все время умело поддерживал специфически телевизионный контакт с аудиторией. В нужный момент его изображение на миллионах телеэкранов как бы встречалось взглядом со зрителем, молчаливо призывая его на свою сторону. — Я сейчас подумал, — сказал он, — как хорошо, что мы, люди, владеем таким замечательным средством общения, как телевидение. Ваши слова, доктор Нерст, заставили меня по-новому оценить это замечательное создание нашей техники. Скажите, пожалуйста, доктор, а вам удалось выяснить, каким именно способом ваши муравьи осуществляют между собой ту универсальную связь, о которой вы рассказали? Что же, у них есть какой-то язык? Или как вообще они объясняются друг с другом? — Это чрезвычайно сложный вопрос, который сейчас еще полностью не разрешен. Поставленные нами опыты говорят за то, что у муравьев нет языка в нашем понимании. К ним неприменим сам этот термин — язык, слова… Дело в том, что у них нет органов слуха и речи. Видимо, они обладают способностью непосредственно воспринимать биотоки мозга, но об этом лучше расскажет мой коллега доктор Ширер. Купер повернулся налево. Ширер, казалось, был целиком поглощен изучением своих записей. Он сидел, уткнувшись в бумаги, не обращая никакого внимания на то, что происходило в студии. Такое пренебрежение к смотревшим на него зрителям невольно вызывало в них чувство некоторой антипатии. Сейчас, оторвавшись от своих записей, он растерянно взглянул вокруг, отыскивая перед собою невидимую аудиторию. — К сожалению, та аппаратура, которой мы располагали на первом этапе работы, не позволила провести исследования с необходимой полнотой и точностью. Поэтому я вынужден ограничиться лишь замечаниями самого общего характера. Сейчас можно сказать, что нервная система муравья является излучателем очень слабых электромагнитных колебаний и эти колебания могут непосредственно восприниматься другими особями и дешифрироваться, то есть переводиться снова в исходные представления. Короче говоря, муравьи передают друг другу не слова, как это мы делаем по радио, и не изображения, как в телевидении, а непосредственно те ощущения, те зрительные, вкусовые или осязательные образы, которые возникают в мозгу передатчика. Интересно отметить, что при благоприятных условиях передаваемые муравьями образы могут восприниматься людьми. Мы добились некоторых результатов, используя специально собранное устройство и фокусирующие электроды, закрепленные на черепе человека. С другой стороны, можно с уверенностью утверждать, что обратный процесс восприятия муравьями тех образов, представлений или даже мыслей, которые возникают в мозгу человека, осуществляется значительно легче. Иными словами — муравьи могут понимать то, что мы думаем. — Если я вас правильно понял, доктор Ширер, вы хотите сказать, что муравьи знают все наши мысли? — Да, именно это. Конечно, не все мысли всех людей без исключения, но все то, что их в данный момент интересует. — Возможно ли это, доктор Нерст? — Да, безусловно. Это проверено на многих опытах. Более того, при благоприятных условиях, зависящих, в основном, от индивидуальной психической конституции, возможна прямая передача мыслей, или, пожалуй, правильнее — желаний от муравьев к человеку и без посредства тех приборов, которыми мы пользовались. Это должно восприниматься нами как своего рода внушение или галлюцинация. Этому должны быть подвержены люди с неустойчивой психикой и слабой волей. — Тогда… — впервые в тоне Гарри Купера прозвучала нотка смущения и неуверенности, — тогда можно допустить, что и сейчас эти муравьи слушают и понимают нашу беседу? — Я в этом не сомневаюсь. Очень возможно, что они присутствуют сейчас в этой студии или в домах зрителей и следят за нашей дискуссией. — Но… неужели нельзя как-то оградить себя от их вмешательства в нашу жизнь, в наши мысли? — А как? Попробуйте обнаружить муравья в этой комнате. Он может скрываться где угодно, в щелях пола, в складках занавеси, в этом столе… под воротником вашего пиджака… где угодно… Гарри Купер нервно поежился и поправил свой воротничок, словно бы почувствовав на себе насекомое. Миллионы людей на территории Соединенных Штатов испытали в этот момент такое же ощущение и повторили сделанный им непроизвольный жест. Поправили воротнички сенатор Морли и старый полковник Григ, поежилась Мэрджори, отряхнулись миссис Бидл, и Дженни Фипс, и Ганнибал Фишер, и все миллионы людей, смотревших программу. — Ну что же, — продолжал Купер, — вначале мы говорили, что они сумели создать своеобразную техническую культуру. Удалось ли вам исследовать какие-нибудь произведения муравьиной техники? — Да, я имел возможность довольно подробно изучить некоторые механизмы, созданные муравьями. Они чрезвычайно интересны с технической точки зрения и дают возможность судить о путях развития муравьиной культуры. Прежде всего следует отметить огромное значение в их творчестве того, что мы теперь понимаем под словом “бионика”, то есть использование в технических конструкциях принципов и схем, существующих в природе. Вообще, по-видимому, муравьиная техника развивалась совсем иным путем, чем наша. Мы начали с каменного топора и постепенно, за десятки тысячелетий, дошли до атомной энергии, кибернетики, молектроники и тому подобного. Они с этого начали. Они зажгли свечку с другого конца. Они не изобретали колеса и не пользовались огнем. У них не было паровой машины и водяной мельницы. Им это было не нужно. В их масштабах такая энергетика оказалась бы крайне неэффективной. Они начали сразу с использования атомной энергии. Они не пользуются горячен обработкой металлов — это понятно, потому что перед ними никогда не стояла задача добывания металла из руды: они имели его в неограниченном количестве на наших автомобильных свалках. Это избавило их от огромного труда. С самого начала освоив атомную энергию, они тем самым полностью решили для себя проблему энергетики и могли сосредоточиться на развитии техники. Например, они сумели создать крайне миниатюрные лазеры, действие которых мы испытали на себе. — Считаете ли вы, что их технический опыт, их изобретения, если можно так выразиться, могут представить какой-то интерес для нашей промышленности? — Да, но с некоторыми оговорками. Так же, как и другие конструкции, созданные природой. Но я не думаю, чтобы мы могли буквально повторять их “изобретения”, как вы говорите. Здесь все дело в масштабах. То, что оказывается целесообразным и эффективным для муравьев, может быть совершенно неприменимым в увеличенном виде. Здесь нельзя подходить механистически. — Вы говорили, доктор Ширер, о том, что они, эти муравьи, научились пользоваться атомной энергией в производственных целях. Можно ли предположить, что их техника дошла до создания… атомного оружия? — В принципе в этом нет ничего невозможного. Весьма вероятно, что именно этим и вызвано их появление в наших атомных лабораториях, о чем вы говорили в начале вашего выступления. Конечно, они не могли и никогда не смогут создать атомную бомбу, подобную тем, которые были сброшены на Японию. Здесь опять-таки дело в масштабах. Те бомбы основаны на явлении так называемой критической массы и могут быть реализованы лишь в определенных, достаточно больших размерах. Но отнюдь не исключена возможность иных технических решений, скажем, применения далеких трансурановых элементов, для которых критическая масса может оказаться вполне доступных для них размеров, и тогда станет возможным создание маленькой “муравьиной” атомной бомбы. Но не нужно думать, что оттого, что она будет маленькой, она будет менее опасной. Много таких мини-бомб смогут принести вред не меньший, чем одна большая. — Благодарю вас, доктор Ширер. Теперь я хотел бы задать несколько вопросов вашему коллеге. Скажите, пожалуйста, доктор Нерст, как вы оцениваете возможность установления какой-то связи, какого-то взаимопонимания между людьми и муравьями? Нерст смотрел на свое изображение па экране монитора и думал о том, сколько людей, чужих и близких, следят сейчас за выражением его лица, за каждым его жестом. Вероятно, и Мэрджори сидит у телевизора где-то в Майами, за тысячи миль отсюда, и пытается понять его слова только потому, что сейчас это делают все. — Прежде всего, — сказал Нерст, — я хотел бы возразить доктору Ширеру по поводу его предположений, что появление разумных муравьев в наших атомных лабораториях вызвано их намерением создать атомную бомбу. Такое предположение совершенно необоснованно. Как известно, все эти лаборатории заняты чисто научной деятельностью, не связанной с ядерным оружием. Теперь что касается вашего вопроса, мистер Купер, — относительно установления взаимопонимания. Я думаю, что в будущем это окажется возможным. Здесь нужно учитывать целый ряд специфических особенностей, обусловленных биологией вида формика сапиенс. Как я уже говорил, они общаются путем прямой передачи мыслей, чувственных образов. Поэтому у них принципиально невозможен обман, ложь, умолчание, сознательная дезинформация. Все эти понятия, играющие такую большую роль в общении между людьми, совершенно отсутствуют в обществе муравьев. Поэтому у них нет и не может быть искусства, литературы, музыки или живописи. Это им чуждо. Их мышление предельно рационалистично. У них принципиально иная житейская логика, иные интересы, иное отношение к жизни. Они не знают многого из того, что для людей является крайне важным и часто определяет наше поведение. Муравьи не знают любви. Во всяком случае, любви в нашем понимании. Подавляющее большинство муравьев — так называемые “рабочие” или “солдаты” — бесполы. В каждом муравейнике имеется только одна женская особь — матка и небольшое число мужских особей — трутней, которые часто погибают или изгоняются из муравейника после выполнения функции оплодотворения. У муравьев нет семьи. Нет экономики, потому что у них нет денег — они им никогда не были нужны. У них принципиально не может быть правонарушения, и потому у них нет закона и аппарата принуждения, следящего за его выполнением. Абсолютная коммуникабельность, абсолютная связь единого мозга делает это просто излишним. Они весьма ограниченны в своих желаниях и потребностях: они хотят только есть, работать и удовлетворять свое любопытство, свое стремление к созиданию и познанию природы — это заложено в их наследственной программе поведения. Им не нужны развлечения, им чужды страсть, споры, противоречия, эксплуатация друг друга, стремление к обогащению — все то, что наполняет жизнь многих из нас. Что же касается маток и трутней, то они еще примитивнее в своих желаниях. Они не работают и не любопытны. Они практически лишены интеллекта и являются лишь носителями наследственности. — Удивительно унылое общество! — заметил Купер. — С нашей точки зрения — да. Но в некотором смысле, как биологический вид, они лучше приспособлены к борьбе за существование, чем мы — люди. — В чем вы это видите? — возразил Купер. — В их технике? — Отнюдь нет. Разум и вытекающую отсюда способность к созидательной деятельности я принимаю как данное, как отправной пункт наших рассуждений. Их преимущество как биологического вида состоит прежде всего в том, что у них интересы отдельной особи всегда стоят на втором плане по сравнению с интересами общества, всего вида в целом. Тогда как у нас, в Америке, мы привыкли думать только о себе. Мы страна эгоистов, и в этом наша слабость. С биологической точки зрения. Как видите, различия между нашим обществом и муравьями весьма глубоки. Слишком глубоки для того, чтобы могло быть достигнуто полное взаимопонимание. Мы слишком разные. Причем нам, людям, легче понять их, потому что, при всех наших недостатках, мы все же организованы неизмеримо сложнее и совершеннее их. И даже главное преимущество муравьев вида формика сапиенс — их единый мозг и вытекающая отсюда идеальная согласованность действий — легко может быть достигнуто нами при современных средствах коммуникации, но для этого необходимо сознательное подчинение всех наших усилий общей цели. — Таким образом, если я вас правильно понял, вы не считаете реальным, если можно так выразиться, мирное сосуществование с муравьями? — Нет, почему же. Я убежден, что те трагические события, которые имели место, произошли скорее по нашей вине. Муравьи нигде не нападали на людей первыми, они только оборонялись. Они просто хотят жить, и я не вижу причин, почему мы должны уничтожать разумные существа только потому, что они думают и живут иначе, чем мы. В конце концов, их потребности крайне ограниченны и совершенно ничтожны по сравнению с нашими. Уничтожение муравьев должно стоить много дороже того, что они могут съесть за тысячу лет. — Если они не будут размножаться. — Вы правы. Если они не будут размножаться. Их способность в этом отношении такова, что они могут за год удвоить и даже удесятерить свою численность. Это и произошло, очевидно, в последние годы. Но дело в тем, что если они обладают разумом, то они неизбежно должны ограничить свою плодовитость в таких пределах, которая позволит поддерживать биологическое равновесие между видами формика сапиенс и гомо сапиенс. — А если нет? — Тогда их нельзя считать разумными, и все этические проблемы отпадают. — Значит, вы, доктор Нерст, все же за сотрудничество, за то, чтобы предоставить вашим муравьям возможность свободного развития? — Да. — А что вы думаете, доктор Ширер? — В этом вопросе я не могу согласиться с моим другом доктором Нерстом. Я полагаю, что муравьи должны быть уничтожены. Ширер сказал это подчеркнуто резко. Нерст удивленно поднял брови. Он не ожидал, что Ширер так легко пренебрежет его просьбой и своим обещанием не настаивать на уничтожении муравьев. — В наше время на нас, на ученых, — продолжал Ширер, — лежит гораздо большая ответственность за наши поступки и высказывания, чем это было раньше, в прошлом столетии. Тогда научное открытие, каким бы значительным оно ни было, оказывало сравнительно малое влияние на судьбы человечества. Роберт Майер открыл закон сохранения энергии — один из кардинальных законов природы, и что же? Кто знает его имя? Какое влияние это оказало на судьбы миллионов людей? Да почти никакого. Когда же Эйнштейн обобщил этот закон и дал формулу эквивалентности массы и энергии, это привело к созданию атомной бомбы, а это уже близко касается каждого из нас. Целое поколение нашей молодежи воспитано в страхе перед угрозой атомной войны. Ученые оказались в положении рыбака, выпустившего джинна из бутылки и не знающего теперь, как с ним справиться. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Я понимаю доктора Нерста, его интерес биолога к новой научной проблеме, но я уверен: не следует выпускать нового джинна из бутылки. Мы не можем сейчас предвидеть всех последствий, всего, что может вызвать появление на нашей маленькой планете новой разумной силы. Мы люди и должны прежде всего заботиться о себе. Мы должны действовать в интересах сохранения и развития своего вида, а не разумной жизни вообще. До таких высот альтруизма я не способен подняться. Я эгоист и буду отстаивать необходимость их уничтожения. Доктор Нерст разволновался, и это было заметно зрителям. — Но вы не можете отрицать, — возразил он, — что, если нам удастся установить деловой контакт с муравьями, это может принести большую пользу хотя бы в деле создания миниатюрных приборов, таких, какие мы никогда не сможем изготовить сами? Пример тому — события в Калифорнийском университете. Кроме того, если подходить к этому вопросу с позиций биологии, то следует признать, что подобно тому, как внутривидовая взаимопомощь способствует развитию вида, так же точно и взаимопомощь между различными цивилизациями способствует развитию Разума в самом широком смысле этого слова… — А знаете, сенатор, мне нравится этот парень, — сказал старый полковник Григ. — Который? В черном? — Нет, другой, высокий, в сером. Биолог. В нем есть какая-то детская непосредственность. Наивность. Он так любит своих муравьев, что это вызывает симпатию. Хочется ему верить. — Я купил другого. Ширера. Он теперь работает на нас. — Толковый? — Да, свое дело знает. Разобрался в конструкции их лазеров. Мы начинаем работы в этом направлении. Понимаете, полковник, эта история с самолетами наделала слишком много шума. Нельзя, чтобы такое повторилось. Григ согласно кивнул и отпил из своего стакана. — Но на биржу это оказало очень хорошее влияние. “Юнион кемикл” поднялись на три с половиной. Мы переводим еще два завода целиком на производство “формикофоба”. Сегодняшняя передача тоже сделает свое дело. — Конечно. Пока все идет хорошо. — Еще как хорошо! Вы представляете, что будет твориться завтра по всей Америке? Мы и сейчас едва успеваем удовлетворять спрос. Понимаете ли, такой серьезный научный разговор лучше любой рекламы. Он должен очень сильно подействовать на воображение зрителей… На экране телевизора доктор Нерст продолжал говорить, приводил новые доводы в защиту муравьев, но сенатор и полковник его уже не слушали. — Так вы думаете, Мор л и, их нужно уничтожить? — Я думаю, да, полковник. Дело зашло слишком далеко. Они в самом деле могут представлять некоторую опасность. Мы вынуждены считаться с общественным мнением. Скоро выборы. — Какими же средствами вы предполагаете это осуществить? — Наша комиссия еще не пришла к окончательным выводам. Конечно, вы понимаете: вся эта история с бомбардировкой носила скорее демонстративный характер, мы с вами об этом говорили. С самого начала было ясно, что нельзя уничтожить таким способом всех насекомых на довольно большой площади, — бомбежка могла подействовать не столько на муравьев, сколько на воображение потенциальных покупателей. Но я не ожидал, что им удастся подорвать наши самолеты в воздухе… — Об этом не стоит говорить, сенатор, это дело прошлое. Что вы собираетесь делать теперь? — Мы склоняемся к тому, что наиболее эффективным в этих условиях был бы ядерный взрыв. — Но его нужно производить в атмосфере? — Да, но этот вопрос, я думаю, нам удалось бы уладить. У меня есть одна идея. Мы действительно имеем здесь дело с исключительными обстоятельствами, на которые можно сослаться. С другой стороны, Пентагону может понадобиться повод для того, чтобы испытать наши новые боеголовки. В этом заинтересован Комитет начальников штабов. Это удобный предлог. Григ довольно долго молчал, рассеянно глядя на экран телевизора. — Вас беспокоит формальная сторона этого дела? — спросил сенатор. — Нет. Я думаю о том, как это отразится на деловой конъюнктуре. В известном смысле, уничтожение муравьев нам не выгодно. Но нельзя забывать, что наши настоящие враги вовсе не муравьи, а люди, живущие за океаном, и с этой точки зрения испытание новых боеголовок может оказаться для нас важнее. Он правильно говорит, этот муравьиный доктор: иногда нужно идти на жертвы ради общего дела. Теряя некоторую часть прибылей, мы укрепляем нашу систему в целом… Серые муравьи, контролирующие беседу сенатора Морли и полковника Грига, скрывались на обратной стороне крышки низенького столика, на котором стояли стаканы, бутылки и хрустальная посудина с кубиками тающего льда. — А что думает по этому поводу ваш маленький профессор? — спросил Григ. — Ширер? Он считает такое решение вопроса наиболее рациональным. У него есть вполне конкретные предложения. Видите ли, здесь необходимо соблюсти строгую секретность. Я имею в виду секретность по отношению к муравьям. Нельзя допустить, чтобы повторилось то же, что с этими злосчастными бомбардировщиками. Необходимо полностью исключить малейшую возможность контакта муравьев с оружием. Он предлагает произвести запуск баллистической ракеты с подводной лодки, которая уже давно находится в плавании и где заведомо нет муравьев. А конкретную лодку выбрать по жребию в самый последний момент. — Ну что же, в этом есть здравый смысл… Еще виски? — Нет, спасибо… Впрочем, налейте. Довольно. А что касается конъюнктуры, я не думаю, что это существенно повлияет на спрос. Страх перед насекомыми еще долго будет владеть обществом, а потом это войдет в привычку… Знаете, полковник, мне только что пришла в голову интересная мысль: что, если нам оставить нескольких муравьев, настоящих или… мифических? Для поддержания рынка будет достаточно двух-трех сообщений в год о несчастных случаях. Это всегда можно организовать. Впрочем, газеты и сами позаботятся об этом, без нашей помощи. Теперь все будут сваливать на муравьев. — Я об этом уже давно подумал, — сказал Григ. — По этому вопросу я прошу вас связаться с моим новым сотрудником мистером Фишером. Он теперь заведует отделом рекламы “Юнион кемикл”. Он хорошо разбирается во всем, что касается муравьев. …На экране говорил Гарри Купер: — …так вы предполагаете, доктор Нерст, что окажется возможным как-то приручить муравьев, превратить их в своего рода рабочих на специальных предприятиях? Это интересная мысль… — Я не предрешаю сейчас конкретных форм возможного сотрудничества, об этом еще рано говорить… — Я с вами согласен, — вмешался Ширер, — конечно, при известных условиях муравьи могли бы оказаться полезными в некоторых областях приборостроения, в военной промышленности, но неизвестно, захотят ли они с нами сотрудничать? С другой стороны, учитывая их плодовитость и бесспорные технические возможности, они очень легко могут выйти из повиновения… — Не кажется ли вам, доктор Ширер, что вы мыслите колониалистскими категориями прошлого века? — Но ведь они не люди! — Но они разумны! — И все же, взвешивая все “за” и “против”, я прихожу к выводу — их нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше. — Не думайте, что это так просто. Мы с вами уже разбирали этот вопрос. Мы до сих пор не смогли уничтожить малярийных комаров на нашей планете. — Ну, я думаю, у нас найдутся средства для этого. Просто нужно правильно взяться за дело, пока не поздно, пока джинн только еще высунул голову из бутылки… Ширер замолчал. Телевизионная девушка подняла руку и показала пять пальцев. Гарри Купер обратился к Нерсту: — Доктор Нерст, наша передача подходит к концу, у нас осталось несколько минут. Я хотел бы задать вам последний вопрос: чем вы объясняете такое внезапное развитие этих серых муравьев, почему мы ничего не знали о них раньше? Почему они достигли такого высокого уровня развития именно сейчас, а не сто и не тысячу лет назад? Быть может, они были случайно или намеренно занесены в нашу страну с другой планеты или… с другого континента? — Я не могу вам ответить с полной достоверностью — для этого нужно проследить всю историю их развития, но я могу высказать предположение, как я надеюсь, весьма близкое к истине. Нелепо думать, что эти муравьи занесены к нам откуда-либо извне, тем более с другой планеты. Оставим эту версию романистам. Исследование их анатомического строения показывает, что они весьма близки к широко распространенным и всем хорошо известным обычным лесным муравьям. Они отличаются от них примерно так же, как мы отличаемся от шимпанзе. Причина их быстрого эволюционного развития кроется в резком и внезапном изменении генетического кода, в изменении наследственных признаков. Это могло произойти в результате радиоактивного облучения. Наукой изучено огромное число подобных примеров. Чаще всего изменение наследственности бывает неблагоприятным: такие особи быстро погибают. Но случайно возникают и такие изменения, которые способствуют развитию нового подвида. Таких примеров много. Как известно, центр размножения муравьев находится вблизи очага повышенной радиации. Судя по тому, что раньше в этой местности не наблюдались подобные явления, можно предполагать, что этот очаг радиации случайно возник вследствие проводившихся в нашей стране атомных испытаний. Таким образом, если кто-нибудь и виноват в появлении серых муравьев, то это только мы сами.18
Через несколько дней. Оливер Бонди потратил довольно много времени на то, чтобы выбраться из Нью-Йорка, и теперь, выехав на магистральное шоссе, испытывал то удовлетворение, которое неизменно испытывают все водители после городской сутолоки, видя перед собой широкую, ровную, серую ленту дороги, плавно взлетающую на холмы, спускающуюся в низины и так точно спланированную на поворотах, что машина проходит их, почти не снижая скорости, а потом снова легко ложится на прямой участок, и дорога с мягким шелестом стремительно расстилается под колесами. Оливер Бонди включил приемник. Передавали что-то о муравьях. Диктор излагал основные сведения по морфологии насекомых вообще и муравьев в частности. Бонди переключил программу. На этот раз передавали джазовую музыку, и кто-то кричал, что он не хочет ничего слышать о муравьях, они страшны только тем, кто не пользуется “формикофобом”. Бонди выключил приемник совсем. Проехав миль пятьдесят, он начал присматриваться к местности вдоль шоссе. У Хоторна он свернул влево и пересек водохранилище. За Иорктауном, где все чаще стали попадаться лесные участки, он снизил скорость и свернул вправо. Он сделал еще несколько поворотов и наконец остановил машину на тихой лесной дороге. Он заглушил двигатель, достал из-под сиденья пустую стеклянную банку от яблочного компота, нейлоновый чулок и детский игрушечный совок и направился в лес. Он довольно долго бродил между сосен, прежде чем ему попался первый муравейник. Бонди осторожно обошел его кругом, приглядываясь к муравьям, потом присел на корточки и стал наблюдать за тем, как они суетливо копошатся на его округлой поверхности, сложенной из сосновых игл. Муравьи были заняты своим несложным делом и не обращали на него никакого внимания. От муравейника в разные стороны тянулись узенькие тропинки — дороги, проложенные муравьями в джунглях зеленых трав. На одной тропинке вяло шевелился червяк. Муравьи облепили его со всех сторон. Он был слишком тяжел для того, чтобы они могли затащить его в муравейник, и они ели его здесь, на дороге. Бонди довольно долго и с интересом наблюдал за тем, как муравьи разделываются с червяком. Он смотрел и думал: “Всюду одно и то же… Муравьи едят червяка, а черви едят нас, людей, после того как мы умираем. И мы едим друг друга, когда это удается делать безнаказанно. Всюду одно и тоже…” Непривычная тишина и знойный запах соснового леса настроили мысли Бонди на философический лад: “Конечно, — думал он, — какому-нибудь доктору Нерсту я могу казаться таким же ничтожным червяком, он может даже меня не заметить, войдя в комнату, и все же я сильнее его. Придет мое время, и я съем его, Нерста, вместе со всеми его муравьями…” Червяк извивался, не имея силы сопротивляться муравьям. Бонди сорвал сухой стебелек травы и подцепил им одного муравья. Он подождал, пока муравей дополз до конца травинки, и только что хотел его раздавить, но муравей свернулся в крошечный комочек, сорвался со стебелька и исчез в траве. Бонди достал сигареты и закурил. Он пустил струю дыма на муравейник. Насекомым это не понравилось — они быстрее забегали, но потом, когда дым рассеялся, успокоились. Тогда Оливер Бонди воткнул сигарету в купол муравейника. Сигарета задымила и погасла. Муравьев это очень обеспокоило. Весь купол пришел в движение. Муравьи суетились и, казалось, без всякого смысла перекладывали с места на место сухие веточки и хвойные иглы, но уже через несколько минут стало заметно, что поврежденное место снова приобретает первоначальную форму. Тогда Бонди, изловчившись, зачерпнул совком горсть хвойных игл вместе с муравьями и ссыпал их в банку. Муравьи сразу начали расползаться. Он накрыл банку чулком и зачерпнул еще горсть, стараясь захватить побольше муравьев и меньше игл. Он повторил эту операцию несколько раз, пока банка не наполнилась. После этого он аккуратно завязал ее сверху чулком и направился к машине. Ставя банку рядом с собой на сиденье, он посмотрел, как себя чувствуют муравьи. Повинуясь инстинкту, они пытались навести порядок в своем новом жилище. Бонди встряхнул банку и понюхал ее. Она пахла прелым листом и дешевыми духами. “Это от чулка”, — подумал Бонди.19
11 августа. 10 часов 10 минут. Каждая страна, каждый город обладают своим, неповторимым, только им одним присущим запахом. Этот характерный запах страны охватывает вас в тот первый момент, когда вы спускаетесь по трапу самолета на всюду одинаковые бетонные плиты аэродрома, и потом уже не покидает вас во все время пребывания в этой стране. Гавайи пахнут цветами, Бангкок — парной баней, Нью-Йорк — бензиновым перегаром, Исландия — морем, а Россия — полевыми травами. Англия пахнет каменноугольным дымом. За последние полтораста лет в этой стране сожгли такое количество угля, что его дымным, терпким запахом пропиталось все — одежда, мебель, шторы на окнах, дома, земля, деревья, — все. К нему не скоро привыкнешь, к этому запаху. Первое время он постоянно напоминает о том, что это другая страна, с другими обычаями, с другим ритмом жизни. Выйдя из самолета, Нерст испытал приятное чувство успокоенности и благополучия, возврата к нормальному образу жизни. Все то, что его волновало в последние месяцы, вся трудная, напряженная работа, которую ему пришлось проделать, осталось далеко позади, за тысячи миль, за несколько часов ночного полета над Атлантикой. Проезжая в старомодном такси по узким улицам Лондона и потом, по дороге в Оксфорд, он думал о своем предстоящем докладе, о встрече с коллегами, собравшимися сюда со всех концов земли, о тех спорах и дискуссиях, которые неизбежно должны возникнуть в связи с его сообщением. Он радовался возможности вернуться в атмосферу чистой науки, где люди откровенно высказывают свои мысли, правильные или ошибочные, но по большей части искренние, свободные от конъюнктурных соображений, личной выгоды или сложных закулисных интриг. Здесь, в Англии, тревожные события последних дней как бы отодвигались в прошлое, позволяли взглянуть на себя со стороны, спокойно и объективно. Здесь никто не боялся муравьев. Никто о них просто не думал. Нерст уже бывал раньше в Оксфорде, но сейчас он с новым интересом смотрел на улицы этого старинного города, такого старого, что здесь называют здание, построенное в тринадцатом веке, всего лишь “Новым колледжем”. Машина проехала по шумной и оживленной Хай-стрит, мимо знаменитой библиотеки Радклифа, потом по тихим тенистым уличкам, таким уютно-старомодным, что, казалось, автомобили избегают на них показываться, стесняясь своей новизны. Наконец машина остановилась у ворот колледжа, где размешался Международный конгресс биологов. Это было действительно новое здание, построенное только двести лет назад. Нерст отнес чемодан в отведенную ему комнату в студенческом общежитии и спустился во внутренний дворик. Было воскресенье, и в университетской церкви играл орган. Удивительная музыка Баха, гениальная своей простотой и глубочайшей эмоциональностью, наполняла все пространство двора. Густой, почти физически ощутимой массой она переливалась над зеленым квадратом газона, мягко касалась красных кирпичных степ, обтекала ажурные выступы башен. Упругие кольца музыки свивались в гигантские космические клубы и уносились вверх, в ясное, безоблачное небо, где невидимый самолет чертил прямую, белую, нематериальную линию. Нерст долго стоял неподвижно, вглядываясь в черную темноту раскрытых готических окон, откуда вытекала музыка. Потом орган замолк, и пространство стало пустым. Нерст услышал шорох листьев у своих ног. Смешно припадая на широко расставленные лапки, распушив хвост, к нему прыгала рыжая белка: Она остановилась и посмотрела, ожидая подарка. “Что ты, милая, — сказал Нерст, — у меня сейчас ничего нет. Как-нибудь в другой раз…” Белка поняла и запрыгала дальше. Нерст прошел на лужайку, отыскивая взглядом знакомых среди собравшихся здесь людей. На зеленом газоне сквера стояли, сидели, прохаживались делегаты конгресса. Это было место встреч, бесед и неофициальных контактов. Пробежал, размахивая бумагами, маленький энергичный профессор из Вены, прославившийся своими околобиологическими работами. Нерст не любил людей такого сорта, слишком деятельных для того, чтобы стать настоящими учеными. Они всегда на виду и всегда занимают почетные места в президиумах, но после их смерти не остается ничего. Нерсту хотелось встретить одного своего знакомого из Утрехта, но он его не находил. Он увидел американского коллегу из Колумбийского университета, скучного, прямого, сухого и занозистого, как неструганая доска. Он встретил компанию слишком оживленных и не в меру болтливых итальянцев, скромного и застенчивого энтомолога из Праги и двух самодовольных немцев из Геттингена. Нерст раскланивался со знакомыми, обменивался пустыми, незначащими словами и спешил перейти к другой группе, избегая серьезного разговора. Он боялся неизбежных вопросов о последних событиях в Америке — вопросов, которые, могли нарушить то состояние душевного равновесия, в котором он находился. Инстинктивно ему не хотелось вступать в такие разговоры сегодня, накануне его доклада, и тем растрачивать накопленные мысли и впечатления. Так певцы избегают петь перед маленькой аудиторией и писатели стараются не говорить о незаконченных произведениях, сберегая свой эмоциональный заряд для основной работы. Нерст вспомнил, что он не видел сегодня утренних газет и не знает, чем кончилось вчера обсуждение в Международной организации вопроса о применении против муравьев атомного оружия. Он направился к выходу на улицу, чтобы купить газеты. — Доктор Нерст, — окликнул его кто-то по-английски, — как поживаете? Нерст обернулся. К нему подходил знакомый профессор из Берлинского университета. Вместе с ним был человек неопределенного возраста в темном костюме. Он как-то странно держал голову немного набок и пристально смотрел на Нерста. У него были очень светлые, чисто-голубые глаза. Немец представил его: — Профессор Московского университета, доктор… — Он назвал такую длинную и труднопроизносимую фамилию, что Нерст даже не сделал попытки ее запомнить. — Профессор интересуется вашей работой о муравьях… — Очень приятно, — сказал Нерст и протянул руку. Русский пожал неожиданно сильно. Нерст не привык к таким энергичным рукопожатиям. — Я читал запись выступления вашего по телевидению, — сказал русский. Он говорил медленно, на довольно сносном английском языке, но слишком книжном, для того чтобы его можно было легко понимать. — Меня заинтересовали некоторые мысли, вами высказанные в этой беседе. Я хочу задать несколько вопросов относительно этого. В тоне, каким он говорил, в его манере держаться сквозила такая убежденность в своем праве задавать вопросы и получать на них ответы, что Нерст даже не пытался уклониться от разговора. Немец откланялся, и они остались вдвоем. — Я плохо говорю по-английски, — продолжал русский. — Знаете ли вы немецкий или французский языки? Мне было бы легче говорить по-немецки. — Я провел два семестра в Геттингене, — ответил Нерст по-немецки. Русский оживился. Он сразу почувствовал себя свободнее, перейдя на язык, которым хорошо владел. Он говорил быстро, легко, не подыскивая слов, употребляя чисто берлинские словечки и обороты. — Меня совершенно не занимают детали ваших опытов и методика наблюдений. Я полагаю, что все было сделано на достаточно высоком уровне и эксперимент ставился строго. Я принимаю ваши результаты, но хотел бы сделать некоторые замечания относительно выводов и обобщений. Вы высказали интересную мысль о роли коммуникаций для развития культуры. Вы утверждаете, что муравьи обладают своего рода абсолютной системой связи, объединяющей их в единый, монолитный нервный аппарат, единый мозг. И вы видите в этом причину их быстрой эволюции. Но вы себе противоречите, потому что ранее вы утверждали, что своим развитием человеческая культура обязана не столько гениальностиотдельных личностей, сколько возможности обмена информацией внутри коллектива. — Я не вижу тут противоречия. По-моему, это одно и то же. Просто у муравьев эта способность к обмену информацией доведена до предела. — Но это же абсурд! — Русский начал горячиться, и Нерста покоробила его резкость. — Это абсурд, — повторил он. — Согласитесь сами: единый мозг, хотя бы и расчлененный на множество индивидов, — это все же один мозг, я подчеркиваю — один. Если связь абсолютна, как вы говорите, то нет обмена информацией. Все думают одинаково. И, следовательно, это неизбежно должно привести не к развитию, а к полной деградации коллективного интеллекта, так как в этом случае отпадает, полностью отпадает сама возможность диалектического развития. Вы следите за моей мыслью? — Да, да, только говорите, пожалуйста, немного медленнее. — Я согласен с вашим тезисом, что для развития культуры, для развития индивидуального интеллекта необходим обмен информацией внутри коллектива. Это есть процесс преодоления противоречий. Но если эта способность к обмену становится абсолютной, то есть если коллектив превращается по существу в один мозг, действующий с идеальной согласованностью, то с кем же он будет корреспондировать? С кем же он будет обмениваться информацией? Он уподобится одному изолированному индивиду и неизбежно прекратит свое развитие. — Но остается обмен информацией с внешней средой, посредством органов чувств… Русский удивленно и, как показалось Нерсту, насмешливо посмотрел на него. — Внешняя среда… Неужели вы допускаете, что Эйнштейн, попав на необитаемый остров, стал бы заниматься теорией относительности? При всей своей гениальности он очень быстро превратился бы в животное и начал бы жрать сырое мясо… Скажите, пожалуйста, может быть, я вас задерживаю? Что вы собирались делать сейчас? — У меня не было никаких определенных планов, кроме покупки газет… Когда здесь ленч? Я завтракал в самолете довольно рано. — До ленча у нас еще почти полтора часа. Давайте пройдемся немного и по дороге поговорим. Я первый раз в Англии. Прекрасная страна! Но вы чувствуете этот запах угля? — Да, здесь всегда так. Потом к этому привыкаешь и перестаешь замечать. Нерста заинтересовал этот человек, так непохожий на всех, с кем ему доводилось встречаться. Ему была близка и понятна его страстная убежденность и готовность отстаивать свою точку зрения. Если бы разговор зашел о второстепенных деталях его сообщения, о частностях, вокруг которых обычно возникают дискуссии на официальных собраниях, он, вероятно, нашел бы способ уклониться от беседы. Но этот русский ухватился за самую суть, за самую глубинную часть его доклада, за ту проблему, которая далеко выходила за рамки данного конкретного случая и касалась самых общих вопросов развития любой цивилизации, вне зависимости от того, муравьи это, или люди, или представители иной планеты. Его интересовало не столько фактически сложившееся в данный момент положение, сколько динамика его развития. — Вы говорите, обмен информацией с внешней средой, — продолжал русский, когда они вышли на улицу. — Но такой обмен может оставаться в рамках чисто рефлекторной деятельности. А здесь речь идет о развитии интеллекта, о развитии цивилизации. Я совершенно согласен с вами, когда вы утверждаете, что, лишенные всякой возможности общения, мы очень быстро превратились бы в разрозненное скопище глухонемых идиотов, живущих примитивной жизнью. Но и другая крайность — абсолютная информационная связь каждого индивида со всеми, абсолютное подчинение единому разуму, когда невозможны никакие споры, никакая критика и все раз навсегда определено и понято идеальным мозгом, который все равно знает лишь то, что он знает, и не больше; такое положение также неизбежно должно привести к деградации и вырождению, но уже не индивида, а всего коллектива в целом. — Тогда какие же выводы следует сделать относительно перспектив развития вида формика сапиенс? — Следовательно, или вы допустили ошибку и сильно переоценили их способность коммуникации, возможно, у муравьев имеется какая-то иная, гораздо более сложная система связи, но не столь совершенная, как вы предположили, обладающая неполнотой, оставляющая место для ошибок и непонимания, и тогда внутри этого общества должны существовать противоречия, конкуренция, внутривидовая борьба, которые в какой-то мере ослабляют возможность согласованных действий, но зато способствуют дальнейшему развитию их разума, общества в целом. Или другой вариант, вы полностью правы, и тогда эта внезапная эволюционная вспышка, приведшая к такому быстрому развитию, столь же быстро угаснет, и, предоставленные самим себе, муравьи утратят способность к развитию и снова превратятся в обычных муравьев, застывших на достигнутом уровне и желающих лишь есть, жить и размножаться. Они утратят любопытство, стремление к познанию и совершенствованию, ибо это свойство есть результат неполноты информации, несовершенства знания. Правда, это случится, только если они действительно будут предоставлены самим себе, то есть если вы не поведете с ними активной борьбы. В противном случае такая борьба явится мощным стимулом для развития их способностей. Я не вижу третьего варианта. Некоторое время они шли молча. Потом Нерст сказал: — Пожалуй, вы правы, но тогда я вижу еще не один, а два возможных пути развития. — Какие? — Первый — это если неполнота информации, непонимание приведет к таким непримиримым внутренним противоречиям, что в результате внутривидовой борьбы они просто уничтожат самих себя… — В животном мире мы не знаем таких случаев… за исключением гипотетического пока примера с человеком разумным, добравшимся до атомной бомбы… — Я это и имел в виду. — Так, а другой вариант? — Другой возможный вариант представляется мне в том, что деградация, о которой вы говорите, приведет к снижению жизненного уровня, к частичному вымиранию, и это послужит новым стимулом к развитию разума и, следовательно, цивилизации. Таким образом, это общество будет как бы колебаться около некоторого среднего уровня равновесия. — Интересная мысль, но мне кажется… как бы это лучше выразить… недостаточно четко сформулированная. В известном смысле, вы правы: любые трудности в процессе борьбы за существование обычно в человеческом обществе приводят к обострению умственной деятельности. У нас, у русских, есть поговорка: “Голь на выдумки хитра”. Это трудно перевести на немецкий, но смысл вам ясен. В тяжелых условиях человек проявляет больше изобретательности, его сознание работает более интенсивно. Собственно, этому факту мы и обязаны своим развитием: вся наша цивилизация является следствием и проявлением борьбы за существование. Но человеческое общество развивалось в условиях постоянных дискуссий и противоречий. Это главное. Вне спора не может быть развития. Такова диалектика. Но, возможно, мы с вами допускаем ошибку, рассматривая это муравьиное общество изолированно, в отрыве от его связей с человеческим обществом. Это нельзя игнорировать. Я думаю, что именно это — существование рядом двух различных цивилизаций, возникающие между ними противоречия, их взаимодействие — должно явиться решающим фактором для развития каждой из них. В этом главное. Воскресные улицы были пустынны и тихи. Редкие автомобили и еще более редкие прохожие не нарушали этой торжественной тишины всеобщего отдыха, а скорее подчеркивали ее. Было слышно, как падает с дерева пожелтевший лист и где-то далеко звонит колокол. — Священная тишина британского воскресенья, — заметил Нерст. — Удивительный народ англичане. Они стремятся сохранить свои традиции во что бы то ни стало, но с каждым годом им это удается все хуже и хуже. — Ну, не скажите, — возразил русский. — Вчера в Лондоне на Пикадилли я видел такого великолепного Форсайта, что казалось, он только что сошел со страниц Голсуорси. У нас в Москве такого не увидишь. Да и в Америке, я думаю, тоже. Навстречу прошли две девушки в ультрамодных юбках. Модных до последней крайности. Нерст искоса взглянул на своего собеседника. Он впервые заметил у него на шее глубокий шрам. “Должно быть, поэтому он так странно держит голову”, — подумал Нерст. — Вы так хорошо говорите по-немецки, профессор, — сказал он, — вы учились в Германии? Русский удивленно посмотрел на него. — Нет, я учил язык в школе. Но в некотором смысле вы правы, если, конечно, называть это учением. Я там воевал. А потом должен был задержаться на несколько лет в Берлине. Они дошли до конца улицы и свернули направо. Здесь начинался просторный английский парк с редкими группами деревьев, одиноко стоявшими на залитых солнцем зеленых лужайках. Двое мальчишек сбивали с дерева конские каштаны. — Мальчишки всюду мальчишки, — заметил Нерст. — Скажите, профессор, вы не знаете, чем кончилось вчера обсуждение в Международной организации вопроса об уничтожении муравьев? — Разве вы не знаете? — удивился русский. — Нет, я не видел утренних газет. Я приехал сюда прямо с аэродрома. — Ваша делегация сумела настоять па своем, использовав для этого несколько необычный прием. Вы действительно ничего не знаете? — Нет, я же сказал — нет. — В последний момент перед голосованием в зале заседаний появились муравьи. Возникла небольшая паника, кое-кто стал покидать зал. Тогда ваш делегат выразил уверенность в том, что человечество сможет справиться с нависшей над ним угрозой. Это решило исход голосования. В конце концов, делегаты — это тоже люди. Но самое нелепое состоит в том, что муравьи оказались самыми безобидными лесными муравьями. Их просто выпустили в нужный момент в зал заседаний. — Я ничего об этом не знал. — Я не сомневаюсь. Вы же выступали против их уничтожения. Вообще, должен сказать, вам здорово повезло, что в результате случайного облучения возникли мутации, приведшие к такому изменению наследственности. Это чрезвычайно интересный и пока беспрецедентный факт. — Вы говорите: “пока”. Трудно допустить, чтобы такое стечение случайных обстоятельств могло повториться. — Случайных — да. Но эти обстоятельства, такое изменение наследственности под воздействием ионизирующих излучений можно вызвать искусственно. Я опубликовал несколько статей по этому вопросу. Мы уже давно ставим опыты на пчелах и получили очень интересные результаты. Я буду об этом докладывать на конгрессе. Правда, наши пчелы еще не достигли такого уровня развития, как американские муравьи, но зато этот процесс нами полностью контролируется. Поэтому-то меня так интересуют ваши работы по муравьям фор-мика сапиенс. Это крайне интересный объект исследования, и будет очень жаль, если вы его уничтожите. Хотя не исключено, что муравьи в последний момент еще выкинут какую-нибудь штуку… Вам не кажется, что мы слишком далеко зашли? Не пора ли возвращаться, мы рискуем опоздать к ленчу. Нерст остановился. Он пытался прочесть фамилию русского профессора на значке делегата, приколотом к лацкану его пиджака, но так и не сумел разобраться в непривычном сочетании букв. Русский резко повернулся, и они зашагали обратно.20
12 августа. 16 часов 35 минут. Белый медведь медленно брел по заснеженному ледяному полю. Тусклое полярное солнце слабо просвечивало сквозь белую муть облаков. Все кругом было привычно белым, пустым и безжизненным. Медведь устал и был голоден. Инстинктивный, неосознанный опыт многих поколений вел его вперед, туда, где могла быть чистая вода, полынья, в которой можно было найти тюленей. Его вели к полынье сотни неуловимых сигналов, столь смутных и неопределенных, что ни один компьютер не смог бы их точно проанализировать и определить по ним направление. Едва ощутимое движение льда, неслышимые ухом, но ощущаемые всем телом потрескивания и скрип, цвет неба, слабый ветер, временами доносивший запах морской воды — все эти тончайшие признаки перерабатывались его сознанием в желание идти вперед в определенном направлении. Скоро он уже вполне ясно почуял запах воды и затрусил быстрее, слегка припадая на левую ногу. Все его движения были удивительно плавны, лаконичны и точны. Его тяжелые мохнатые лапы легко и мягко ступали на гладкую поверхность обнаженного льда, на плотный, слежавшийся снег, покрытый тонкой хрустящей корочкой. Впереди показалось темное пространство свободной воды. Медведь остановился в заметенной снегом расщелине между двумя торосами и, вытянув вперед свою удлиненную горбатую морду, стал принюхиваться. Все было тихо. Вода неслышно плескалась о зеленоватую кромку льда. Полынья была большая, она далеко растянулась вправо и влево. Медведь уже переступил с ноги на ногу, чтобы подойти ближе к воде, когда заметил на ровной поверхности странное волнение. Это не было похоже на то, как всплывает тюлень, а китов он никогда не видел. Вода вздыбилась бурлящим бугром, вода поднялась горой и развалилась пенными струями. Вода стекала с чего-то огромного, темно-серого, всплывавшего на поверхность. Шумная волна с белой пеной раскатилась по ровной глади полыньи и выплеснулась на ледяной берег. Из воды вырос громадный темный столб с тонкими крыльями-плавниками, распластанными, как у летящей птицы. С крыльев стекали потоки зеленой воды. Потом появилась темная спина, округлая и обтекаемая, как у тюленя, и большая, как айсберг. Серое чудовище, вынырнувшее из глубины, тяжело покачалось и замерло среди полыньи. Медведь уже не раз видел здесь появление таких чудовищ. Сперва они вызывали у него только любопытство, потом страх, потом он научился их различать по запаху. Они были опасны, память об одной такой встрече он носил в левом боку. Двуногие, пахнущие сигарным дымом, вылезшие из чрева серого чудовища, загремели, как ломающиеся торосы во время весенней подвижки льда, и тогда он почувствовал сильный удар в левый бок, и было очень больно, и он бежал, оставляя на снегу кровавый след, и потом долго отлеживался среди торосов, зализывая кровоточащую рану. Капитан подводной лодки включил привод перископа. Гладкая стальная колонна плавно пошла вверх. Когда из шахты появились рукоятки, он привычным жестом откинул их и прильнул к окуляру. Медленно разворачивая перископ, он осмотрел белый берег, нагромождения торосов, протянувшуюся далеко вперед темную полосу полыньи, снова торосы и желтоватый силуэт медведя между ними. — Отдраить люк! Поднять антенну! Радистам выйти на связь! — скомандовал он и отошел от перископа. — Белый медведь слева по борту, хотите взглянуть, Джим? — обратился он к старшему помощнику. Тот подошел к перископу. — Хорош… Разрешите сойти на лед, капитан? — Стреляйте с борта. Он близко. Если убьете — спустим шлюпку. Цельтесь в голову. У меня один такой уже ушел. Матросы протопали по трапу на мостик. Старпом пошел за винтовкой. Радист включил свою аппаратуру и передал позывные штаба подводного флота в Норфолке. Рулевые откинулись на спинки своих кресел. Медведь все еще стоял на льду и нюхал воздух. Глухо стукнула крышка открываемого люка. Несколько человек один за другим вылезли из чрева чудовища и разбежались по горизонтальным рулям. Медведь сильно втянул воздух и сразу ощутил острый запах сигарного дыма. Он медленно повернулся и, прихрамывая, побрел между белыми ропаками. Когда старпом поднялся на палубу, его уже не было видно. В центральном посту радист передал капитану полученную радиограмму. Капитан прочел и взглянул на радиста. Тот смотрел прямо на своего начальника, и его лицо решительно ничего не выражало. Капитан вторично перечел приказ. В нем говорилось, что вверенный ему корабль должен выйти на боевую позицию в Мексиканском заливе и произвести запуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой по указанной цели на территории Соединенных Штатов. Многие годы, на протяжении всей своей служебной карьеры, капитан готовился к войне. С тех пор как он принял командование атомной подводной лодкой, все его действия были подчинены одной цели, он жил одной мыслью о том критическом моменте, когда получит приказ ввести в действие те силы, которые были ему доверены. Его подводная лодка, в числе многих других, несла патрульную службу вблизи берегов “потенциального противника”. Это был отличный корабль, и, как всякий моряк, он любил его, как любят живое существо. Американские рабочие, инженеры и ученые вложили много труда в его создание. Это был огромный труд. Одна такая подводная лодка стоила столько же, сколько стоит постройка современного города на 100 000 жителей. На те деньги, которые были израсходованы на создание подводного корабля, можно было построить пять тысяч комфортабельных домов, с электрическими кухнями, кондиционерами, гаражами и зелеными лужайками, на которых могли бы играть дети. 16 боевых ракет, спрятанных в глубоких шахтах в теле корабля, были в любой момент готовы вырваться на свободу и устремиться к назначенным целям. Каждая из ракет, в случае точного попадания, могла полностью уничтожить, превратить в руины средней величины город. И если к тому же нападение удалось бы совершить внезапно, одна ракета убила бы сотни тысяч людей — молодых и старых, мужчин, женщин, детей, влюбленных и беспечных, веселых и озабоченных, мальчишек, девчонок, матерей и отцов. На протяжении многих лет службы все мысли и усилия капитана были направлены на то, чтобы обеспечить эту внезапность. Он упорно и настойчиво тренировал свою команду, добиваясь безупречно четкой и согласованной работы всех звеньев. Он до мельчайших, доступных ему подробностей изучил те 16 городов “потенциального противника”, на которые должны были упасть доверенные ему бомбы. Он много лет каждый час и каждую минуту был готов получить приказ привести в действие систему ядерного нападения и, нажав кнопку, совершить непоправимое. Он много лет жил в постоянном страхе перед ответной мощью “потенциального противника”. Теперь вместо всего того, к чему он себя готовил, он должен был совершить почти то же, но выпущенная им ракета должна была обрушиться не на чужой город, отмеченный кружком на карте чужой страны, а на землю его родины. Капитан аккуратно сложил бумагу и скомандовал: — Приготовиться к погружению!21
18 августа. 17 часов 10 минут. Томас Рэнди вышел на крыльцо своего дома. — Том! — окликнула его Салли. — Что? — Том, нам нужно уезжать отсюда. Мы одни здесь остались. Совсем одни. Все уехали. Рэнди ничего не ответил. Он стоял на истертых ступенях, на каменных плитах, которые много лет назад, еще мальчишкой, помогал укладывать своему отцу, когда они заново перестраивали этот дом. Он смотрел на свои поля, на густую зелень кукурузы, на ровные ряды персиковых деревьев, которые в этом году дали первый урожай, на далекую темную полосу леса, за которой проходило, безжизненное теперь, федеральное шоссе. — Том… — Я сказал, Салли, это моя земля. Я здесь родился. Пускай делают что хотя г. у них опять ничего не выйдет. — Том… Рэнди спустился по ступенькам и зашагал в поле. Слева шелестела своими глянцевитыми листьями кукуруза. Скоро нужно убирать. Трудно будет. Одним не справиться. Будет очень трудно. Земля лежала перед ним горячая, жаркая, распаренная, пахнущая ветром и травами. Сколько же труда вложено в нее, в эту землю. Сколько забот и радости, сколько надежд, горьких разочарований и счастья, удач с нею связано. Она как женщина — верная и преданная, иногда капризная и своевольная, она требует к себе внимания и ухода, ее надо знать, понимать, ее надо любить, эту землю, и тогда она тоже ответит любовью. Рэнди медленно брел по меже. Он нагнулся и сорвал ветку полыни, растер ее и глубоко вдохнул терпкий запах. Скоро все это будет уничтожено. В глубине сознания он понимал, что на этот раз сопротивление бессмысленно. Им придется уехать, придется в чужом и незнакомом месте начинать все заново. Обживать новую землю, которая только его детям и внукам снова станет родной и близкой. Он последний раз окинул взглядом поля и повернул к дому.22
19 августа. 07 часов 32 минуты 19 секунд. — Через сорок секунд выйдем на боевую позицию, сэр, — доложили с поста управления боевыми операциями. — Глубина? — Сто двадцать три, сэр! — Ход? — Четырнадцать с половиной, сэр! Капитан следил за медленно бегущей стрелкой секундомера. — Приготовиться к пуску… и-и-и… Огонь! Вахтенный офицер поста управления оружием нажал кнопку. Подводный корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Америки сделал свой первый боевой выстрел. На пульте указатель времени отсчитывал секунды, оставшиеся до взлета ракеты. Команда центрального поста замерла на своих местах. В полумраке светились циферблаты приборов, экраны локаторов и красные сигнальные лампочки. Рулевой, не отрывая взгляда, всматривался в экран “Кона-лога”, на котором плавно бежала навстречу протянувшаяся в бесконечную даль полосатая линия “дороги” и ее отражение в верхней части экрана. Центральная марка точно держалась на точке схода. Вахтенный офицер поста управления громко отсчитывал секунды: — Девять… — Восемь… — Семь… — Шесть… — Пять… — Четыре… — Три… — Две… — Одна… — Зиро! Сильный удар тряхнул корпус. Подводная лодка начала медленно проваливаться в глубину. На экране “Коналога” уходящее в перспективу полотно “дороги” закачалось, искривилось и поползло вверх. В момент выстрела ракета находилась в глубокой десятиметровой шахте, диаметром около полутора метров. Рядом было расположено еще пятнадцать таких же шахт с ракетами, ждущими своего времени. После того как вахтенный офицер нажал кнопку, все дальнейшие операции происходили автоматически, управляемые очень хитро придуманными приборами. Тысячи рабочих, тысячи умелых рук изготовили их со всей тщательностью, на которую только были способны. А способны они были на многое и работать умели. В нужный момент автоматические приборы впустили в шахту сжатый газ. Они впустили его ровно столько, чтобы уравновесить давление забортной воды. Затем приборы прекратили доступ газа и включили механизм, сдвинувший тяжелый двухметровый люк, закрывающий шахту. Теперь внутреннюю часть шахты с находящейся в ней ракетой отделяла от воды только тонкая пластмассовая пленка. После этого приборы включили механизмы управления ракеты и открыли доступ в нижнюю часть шахты сжатому под громадным давлением воздуху. Как пуля из пневматического пистолета, пятнадцатитонная ракета рванулась вверх, прорвала полиэтиленовую пленку и, со скоростью двести километров в час, вырвалась из шахты в мутно-зеленую толщу воды. Взметнув белые фонтаны брызг, она поднялась над поверхностью моря, и в этот момент умные, хитрые приборы, управляющие ее полетом, отбросили ненужные больше защитные крышки и зажгли горючую смесь двигателя первой ступени. Гудящий, ревущий, бушующий столб пламени вырвался из хвостовой части ракеты и заставил ее двигаться все быстрее, и быстрее, и быстрее, все стремительнее врезаться в казавшуюся бесконечной синеву неба. Сперва ракета двигалась почти вертикально. Потом хитрые приборы подсчитали, что если она будет лететь так дальше, то она попадет совсем не туда, куда послали ее люди. Приборы дали команду другим точным и сильным механизмам, и те повернули рули ракеты так, что она несколько изменила направление своего полета. Приборы заметили, что горючее первой ступени выгорело полностью, и приказали отбросить эту часть ракеты и включить двигатели второй ступени. Исполнительные механизмы это сделали точно и аккуратно. С той высоты, на которой находилась ракета, приборы хорошо видели юго-восточное побережье Соединенных Штатов. Серебряная лента Миссисипи плавно извивалась среди желто-зеленых берегов. Справа, вдали, на самом горизонте зеленел полуостров Флорида. Приборы видели сияющее в черном небе Солнце и по-неземному яркие звезды. Сверившись по ним, они решили, что нужно несколько изменить угловую ориентацию ракеты, и распорядились выполнить это. Ракета летела в молчаливой пустоте космоса. Холодные, бесстрастные приборы равнодушно смотрели на нашу родную Землю. Прекрасная, как невеста, она плыла в звездной россыпи мироздания, вся в белом кружеве облаков, окутанная голубой вуалью туманов. Удаляясь от Земли, ракета постепенно замедляла свой стремительный полет. Достигнув наивысшей точки траектории, повинуясь строгим законам механики, известным только людям и созданным ими приборам, она плавно и медленно изменила направление своего движения. Она начала падать на Землю, все убыстряя, и убыстряя, и убыстряя свой бег. Под ней сейчас были видны серовато-желтые пустыни штатов Колорадо и Нью-Мексико, морщинистые гряды гор, глубокие, темные борозды каньонов, и серые пашни, и зеленые прерии, и темные пятна лесов, и серебро озер, и ленты рек, и прямые дороги, и города, и дома, и деревья, и травы… Сопротивление воздуха раскалило ракету. С гулом и ревом, дрожа и обгорая, она рассекала плотные слои атмосферы, готовая вонзиться в невинное тело Земли. Но хитрые приборы, сделанные людьми, не допустили этого. Они спокойно и терпеливо ждали, пока ракета достигнет нужной им высоты, и в этот момент замкнули тонкие золотые контакты. Лавина освобожденных электронов ринулась по проводам и привела в действие механизм взрывателя. В небе над Нью-Карфагеном вспыхнуло ослепительно яркое, новое солнце. Клубок белого пламени раскинулся над Землей, над полями и лесом. Дома, деревья, цветы и камни мгновенно превратились в горящий хаос, над которым глумливо кривлялось черное облако пыли. Выворачивая с корнем деревья, ломая стены, сокрушая могильные плиты, выбрасывая в небо острые, белые кости, взрывная волна, подобно волне прибоя, раскатилась далеко вокруг, сметая все на своем пути. Земля вспучилась и почернела, словно ее перепахали великанским плугом. С неба на нее падал серый радиоактивный пепел… Безумный волк с выжженными глазами и опаленной шкурой метался среди черных, поваленных, разбитых в щепы стволов деревьев. А потом все успокоилось, и пошел дождь. Вода смывала радиоактивный пепел в низины, в глубокие расщелины, образовавшиеся в месте взрыва, скапливалась в темных кавернах и в поисках выхода протачивала в теле Земли новые пути. Насыщенная радиоактивностью, вода постепенно образовала маленький подземный ручей. После долгих блужданий этот ручей выбрался на поверхность, и там собралось тихое озерцо. На берегу озера жил своей мирной и незаметной жизнью лесной муравейник. Москва 1965–1968 гг.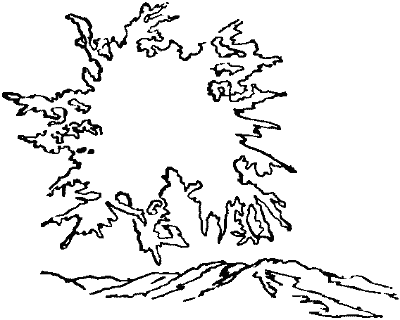

Коротеев Н. ПО СЛЕДУ УПИЕ [241] Приключенческая повесть
Было раннее и очень тихое утро. Тишина стояла ясная, хрустальная, как воздух, каким он бывает в глухой тайге в августе после ливня, прошедшего три дня назад. Земля уже подсохла, и лишь запах от полусгнивших колодин, терпкий и вязкий, устойчиво держался у земли. Деревья, даже смолистые кедры, и кустарники уже не пахли, потому что на них созрели плоды, а листья и хвоя стали суховатыми, жесткими. Наискось по склону сопки поднимался неторопливо, но споро таежник с котомкой за плечами. Он был одет в шинель с подрезанными полами, штаны из шинельного сукна, на ногах олочи из сыромятной кожи. Голени оплетены сыромятными ремешками, а из олоч торчала ула — мягкая трава, которая греет не хуже шерстяных носков. По островерхой бараньей шапке можно было судить, что он не из коренных жителей. Таких шапок в здешних краях не носили. Легко поднявшись на середину склона, человек остановился и осмотрелся. Меж стволов высоченного, но молодого кедровника ему стала видна долина, перемежеванная полосами зарослей и леса, с распадками и полянками. Над одной кругами вились вороны. “Чего они там крутятся? — подумал человек. — А, все равно. Совсем все равно. И не стоит думать. Теперь совсем не стоит об этом думать. Думать надо об одном: не остался ли я в дураках. Верно ли я понял Ангирчи? Не хвастался ли он, говоря о женьшене, который будто нашел еще его прадед? И вряд ли там лишь один корень… Вдруг целая плантация? Рано, рано размечтался, Петро Тарасович, — остановил себя таежник. — Прибыль хорошо считать, когда красненькие в руках. А ну как ошибешься?.. Теперь надо смотреть в оба. Затески, шу-хуа[242] — язык искателей корня не проглядеть. Ягоды женьшеня красны, ярки — их птицы склевать могли… Листья — маралы или лоси объесть. Они великие охотники до женьшеня и прочих растений из семейства аралиевых, как говорит Наташка Протопопова. Верно, оттого в их рогах копится особая сила, во многом похожая на женьшеневую. Смышленая девка. Ничего не скажешь. Коли ее отец не был бы участковым инспектором, милиционером, велел бы Леньке жениться на ней. Вот ведь только не та семейка, чтоб родниться. Узнай Самсон Иванович про мои дела — по-хорошему, по-родственному он не поступит. Упечет крепче, чем чужого. Чудак человек, будто кто знает, сколько я корней нашел, а сколько сдал. Тут меня голыми руками не возьмешь. И никогда Самсону не угадать, кто сбывает в городе мои корешки. За столько-то лет не сообразил! Но теперь — все. Хватит. Пофартило мне… Пора и тихо пожить. Годы не те, а подыхать в тайге, как Ангирчи собирается, мне совсем не хочется. В городе в свое удовольствие поживу. Да и надоело слышать у своего затылка дых Протопопова. Совсем на пятки наступать стал. За каждым корнем смотрит, все учитывает… Ну, где ж ты, корешок? Не зверь, не отзовется и следов не оставит… Сидит в земле, помалкивает… Вот!” Петро Тарасович Дзюба замер, словно мог спугнуть корень. Даже не сам корень, а затески, особые надрубки на стволах кедров, которые для настоящего таежника — замок покрепче электронного в государственном банке. Затески свежие, прошлогодние… Снял с плеч котомку, все так же осторожно и тихо, лишь шевельнув плечами. Сглотнул слюну--горло пересохло от волнения. Взгляд таежника рыскал по редкой траве меж стволов. И, наконец, наткнулся на то, что искал. Удивление охватило Дзюбу. Хотя он и готовился к негаданному, но увиденное превзошло все надежды. — Чу-удо… — шепотом протянул Дзюба. — Чудо… В нескольких шагах от него, рядом с полусгнившей валежиной, вымахал едва не по грудь Петра Тарасовича толстый, в два пальца, мясистый стебель, увенчанный зонтом ярких, красных ягод. Дзюба стал считать листья на стебле. По их количеству можно определить примерный возраст корня, но от удушливого, алчного волнения сбился со счета. — Старый корень — упие! Ясно! Ясно, старый, еще прадедом Ангирчи найден! Ему сто—сто пятьдесят лет! — бормотал Дзюба, по-прежнему стоя на месте, будто не решаясь до конца уверовать в свою воровскую удачу: так точно все разведать! Сколько ж лет ему понадобилось, чтоб втереться в доверие Ангирчи, льстить, подлаживаться к этому старому дураку… Дзюба постоял еще немного, дав сердцу успокоиться. Потом вытер потные от волнения ладони и, не спуская глаз с яркого, красного зонтика, присел, на ощупь отыскал в котомке две костяные палочки, не длинные, с авторучку, шагнул к женьшеню. Двигался Петро Тарасович медленно, крадучись. Он все еще не обвыкся с мыслью, что корень, к которому подбирался столько лет, — вот, перед ним. Подойдя к стеблю почти вплотную, Дзюба протянул руку к плодам и погладил тугие, глянцевые, мясистые ягоды. Затем огляделся. Ни рядом, ни поодаль стеблей женьшеня не было. “Жаль… — подумал Дзюба. — Жаль. Одно верно: нашел я именно тот корень, о котором проговорился Ангирчи. Выходит, плантация у него в другом месте…” Опустившись на колени, Дзюба стал осторожно отгребать от ствола женьшеня опавшие и полусгнившие прошлогодние листья, длинную темную кедровую хвою, веточки. Он делал это без спешки, тщательно и очень осторожно. Заскорузлые, крючковатые пальцы двигались удивительно ловко и плавно. Очистив метра на полтора землю вокруг стебля, Дзюба взял костяные палочки и, став на четвереньки, словно в глубоком молитвенном экстазе, движениям, легкости и точности которых мог бы позавидовать нейрохирург, начал откапывать шейку женьшеня. “Да, работы здесь хватит дня на три… Если не на неделю…”*
Бывают же такие странные дни… Поначалу все вроде бы как надо, а потом вдруг пойдет наперекосяк, комом, будто кто подножку поставил. В домашних нескончаемых мелких хлопотах прошло утро. Антонина Александровна, жена участкового, не успела к отлету, чтоб, как повелось, проводить и отправить пассажиров. Самого Самсона Ивановича в селе не было — ушел с инспектором из райотдела в дальний леспромхоз. В таких случаях в “аэропорту” — на выгоне, где приземлялся вертолет, — дежурили либо сама Антонина Александровна, либо кто-нибудь из общественников. Чаще всего начальник “аэропорта” — Степан Евдокимович. Никто из живущих в селе и появляющиеся в нем не считали подобную щепетильную заботливость участкового и его помощников ни обременительной, ни навязчивой. Напротив, уходящие в таежные дебри считали долгом сообщить участковому и о своих намерениях, и о маршруте. Мало ли что может случиться в тайге! Не появись они в названный самими срок, участковый организует поиски, придет на помощь. Обычай этот укоренился несколько лет назад. Пропали тогда в тайге двое охотников-любителей. Ушли по чернотропу на кабанов и сгинули. Вечером Антонина Александровна пошла в клуб. По средам вертолет доставлял в Спас кинофильмы, и первым обычно крутили самый новый. Статная, с косами, светлой короной уложенными на голове, жена участкового выглядела много моложе своих сорока лет. У клуба ее окликнул Степа, или Степан Евдокимович, начальник “аэропорта”. — Что ж вы решили предпринять, Антонина Александровна? — Ты о чем, Степан Евдокимович? — Как — о чем? — Начальник “аэропорта” глаза вытаращил. — Разве Леонид вам ничего не сообщал? — Он бы еще с оркестром в хлев заявился! Дренькнул гитарой, Астра подойник опрокинула. Турнула я твоего Леонида со двора. — Турнули… — Случилось что? — Пассажир перед самым отлетом объявился. По реке пришел. На берестянке-самоделке. Сказал, мол, смердит у Радужного. У водопада, в скалах. — Что смердит? — А может, “кто”? — Степан Евдокимович склонил голову набок, как бы желая получше увидеть, какое впечатление произвел вопрос на жену участкового. — Так уж и “кто”… Зверь в обвал попал. Чего только не может случиться в этих Чертовых скалах. Недаром их так назвали. Немолодой уже, краснолицый, с мешочками под глазами, как у всех истых любителей пива, начальник “аэропорта” достал папиросу и долго, старательно разминал ее: — Мое дело сказать. Фамилия его Кругов. Вроде геолог. Рыжий такой. Торопился он. Около Антонины Александровны и Степана Евдокимовича, стоявших у клуба, задержалось несколько жителей. Прислушались к разговору, переглянулись. Один вмешался: — Да не столько пассажир торопился, сколько Степа был занят. С летчиками ругался. — Брось, — махнул рукой Степан Евдокимович. — Чего уж там — брось! Пива тебе обещанного не привезли, вот ты и ругался. А на геолога тот рыжий не похож. В комбинезоне и без кепки. Скорее пожарник-десантник. Антонина Александровна разволновалась. Неопределенность, неясность, намеки сильнее всего действуют на воображение. А тут еще Степа явно наплевательски отнесся к важному делу. Так уж всегда — одно к одному. — Степан Евдокимович, толком расскажи! — взмолилась Антонина Александровна. — Да… все я рассказал… — пожал тот плечами. — Говорит Крутов этот: смердит, мол, у Радужного. А что, почему — не знает. Торопился… Ну хоть Леонида спросите… Он рядом стоял. Будь Самсон Иванович дома, все было бы просто: он сам бы находился на “аэродроме” и решил бы, как поступить. А Протопопов и инспектор угрозыска из райотдела появятся в Спасе лишь дней через десять. Может быть, у Радужного ничего и не случилось — так, пустяки: зверь попал в каменную осыпь. А может, что и серьезное. Тут еще таинственный то ли геолог, то ли пожарник-десантник… Вдруг и “засмердило” у Радужного после того, как он там побывал? И торопился он, чтоб скрыться? Или видел что-то, а сообщить не захотел: чего, мол, мне не в свое дело вмешиваться? “Вероятно, Леонид подробнее расскажет”, — подумала Антонина Александровна. Но Леонид в клубе не появился. Идти же в дом к своей бывшей подруге Дуне Дзюбе Протопопова не хотела. И не пошла бы, даже если бы появилась еще большая надобность. Так уж складываются порой отношения между подругами. Фильм Антонина Александровна видела и не видела. Не до того было. Ждала окончания, чтоб поговорить с председателем сельсовета: больно уж странное дело. Илья Ильич был, кстати, и начальником штаба народной дружины. И еще Протопопова надеялась, что на танцах после кино появится Леонид. Илья Ильич по своей привычке сначала больше гмыкал да вытирал платком лысину, нежели отвечал. Потом принял соломоново решение: — Подождем до утра. Вдруг кто из тайги придет? — Кому прийти-то? Не время, — возразила Антонина Александровна. — Не время… Корневщики месяца не будет как ушли… Кородеры — тоже. А те, кто пантачил, вернулись. Гм… гм… Я и говорю: вдруг, — добавил Илья Ильич и вытер платком лысину. Был он полнотел, медлителен в движениях и мыслях. Возвратившись домой, Антонина Александровна поужинала без вкуса и аппетита. Потом прокрутилась всю ночь с боку на бок, чего с ней никогда не бывало. Засыпая, решила наконец, что чуть свет, едва выгонит корову, пойдет к Илье Ильичу. Но поутру он пришел сам. — Гм… гм… Откашливаясь то ли от смущения, то ли после первой папиросы, Илья Ильич сказал: — Не спал… Оно таки очень странно. Съездить надо… Дней за пять обернемся. Полдня ушло на споры — кого брать с собой, на сборы. Поехали втроем: сам Илья Ильич, Степан Евдокимович и Леонид Дзюба. Сын старика Дзюбы приехал со стройки, где он шоферил, в отпуск. Тайга парня не манила: наломаешься больше, чем за баранкой… Красивый, чубатый и кареглазый, Леонид пропадал на реке, охотился неподалеку по перу, отдыхал в свое удовольствие. Старый Дзюба держал сына в строгости, но в последний год что-то случилось, после чего Петро Тарасович не возражал, когда сын, как он говорил, дармоедничал. Прежде чем согласиться поехать к Радужному, Леонид долго отказывался. Как заметил Илья Ильич, его аж в пот бросило, что придется, может быть, иметь дело с уголовщиной. Но и отказаться Леонид не мог — в отпуске все же. Степана Евдокимовича тоже уломали с трудом. Но экспедиции нужен был радист. Чтобы скорее добраться до водопада Радужного и вернуться обратно, решили идти на моторке и по ночам.*
Река Солнечная, если глянуть на карту, гигантской подковой огибала горный кряж. В том месте, где она прорывалась сквозь сопки, и образовался водопад. Илья Ильич со спутниками добрались до Радужного к концу третьих суток. Ведь шли против течения и без отдыха, даже отсыпались в моторке. Остановились в заводи, едва не за километр от водопада. Отсюда легкие баты, оморочки или берестянки тащили на себе и спускали в реку уже выше водопада. Но они подниматься по Солнечной не собирались. Выпрыгнув из лодки первым, Степан Евдокимович долго и тщательно чалился. Илья Ильич гмыкал — первый раз ему доводилось вот так, без Самсона Ивановича, выходить в тайгу на проверку “сигнала”. Беспокойство Антонины Александровны, молчаливость Леонида во время пути, мрачность Степана Евдокимовича, твердившего, что погнали его зря и что тот рыжий — геолог ли, пожарник ли — балбес и выдумщик, настраивали Илью Ильича на тревожный лад. Наконец они сошли на низкий травянистый берег. — Тут устроимся… — сам не зная толком почему, сказал Илья Ильич. С ним молча согласились. От узкой поймы вверх к скалам, через чернолесье, вела узкая извилистая тропа — волок. Трава и кустарник выглядели нетронутыми, свежими. Лишь приглядевшись, можно было увидеть, что густая розово-белая кипень метелок хрупкого иван-чая и леспедеции попримята, поломана. Говорливо трепетали по-августовски звонкие кроны осин, шумели березы, мерцали под ветром листья кленов, а в вершинах лип кое-где светились первые желтые пряди, очень яркие среди остальной темной зелени. Шуму леса вторил низкий, густой немолчный гул водопада, доносившийся издалека. Подъем по просеке был не крут, но и не легок. Трава скрывала острые выступы камней. Гул водопада с каждой минутой нарастал. Слева из-за верхушек лиственного леса поднимались причудливые, сильно выветренные, даже на вид непрочные верхушки красных скал. Наконец скалы взмыли вверх прямо перед ними. И так высоко, что деревья у их подножия выглядели крошечными. А справа, в клубах седой водяной пыли, вспыхнула радуга. Они вышли на площадку перед водопадом. Никогда раньше Илья Ильич не замечал мрачной красоты этого места. Неуютным оно было, даже опасным. Меж скал виднелись светлые языки каменных осыпей. Но другого, более легкого пути к верховьям Солнечной не существовало. А там, за скалами, начинались самые богатые пушным зверем охотничьи угодья, заросли бархата-пробконоса. Там бродили стада пятнистых оленей, гиганты сохатые и жирные кабаны, рос женьшень. Ниже Радужного река растекалась бесчисленными протоками по болотистой долине, бедной зверем. Остановились на краю поляны. — Ерунда, — сказал Леонид. — Где ж тут смердит? Степан Евдокимович вынул платок, трубно высморкался. — Не гожусь я в гончие… Ничего не чую. — Гм… Раз уж мы здесь, надо по порядку… — “По порядку”… — пробурчал Степан Евдокимович. — Один дурень сбрехнул, другие поверили… — Бабий переполох, — поддержал его Леонид. — Чего ж серчать? Радоваться надо. Ложная тревога — хорошо… Гм… гм… Только что ж вы решили, будто вот так посреди поляны и наткнемся?.. Давайте всерьез все осмотрим. Придется и в скалах полазить. Осторожно. Там и свою голову оставить — пара пустяков. На поляне то тут, то там валялись серые ошкуренные стволы с торчащимикорнями. Их вырвали из земли мощные сели — послеливневые паводки, которые возникали, когда вода в реке поднималась на несколько метров и горловина водопада не успевала сбросить поток. Река сама создала себе второе русло, смыв часть скал выше обычного уровня. По этому “аварийному руслу”, по камням, отполированным тысячами селей, и перебирались в верховья Солнечной. Путь, что и говорить, трудный, но все же это было легче, чем тащить поклажу через горный кряж. Да и самый тяжелый путь — обратно, с добычей, — пройти по реке одно удовольствие: сама к дому принесет. После селей поляна быстро зарастала травой, и лишь огромные валежины со щупальцами корней напоминали о редкой силы наводнениях. Степан Евдокимович и Леонид двинулись за Ильей Ильичом вдоль скал. Они шли от расселины к расселине, старательно принюхивались. Степан Евдокимович ворчал на “собачьи” обязанности, да и в душе Ильи Ильича место тревоги и настороженности заняла досада. Леонид следовал за ними как бы поневоле. И тут Илья Ильич споткнулся, точно его нога попала в петлю. Кряхтя, поднялся с четверенек и увидел, что он зацепился за ремень валявшегося в траве карабина. — Эт-то… что? — с трудом вымолвил Илья Ильич, поднимая оружие. — Э-те-те-те… — опешив от изумления, протоковал Степан Евдокимович. — Находочка! Целый? Дай-ка я посмотрю. — Подожди! — отцепляя руки Степана от цевья и дула, воскликнул Илья Ильич. — На номер надо взглянуть. Леонид, стоявший за спиной Степана Евдокимовича, сказал негромко: — Отцов… похоже… — Подожди… подожди… Очки достану. Дело такое…, — Отцов! Отцов карабин! — закричал Леонид, отстраняя Степана Евдокимовича, но к оружию не притронулся. — По ложу узнал! Отцов!.. — Дзюбы? Погодь, паря… погодь. Чего ты сразу так… Гы… Мало что бывает… Гм… гм… — Кое-как сладив с очками, Илья Ильич прочитал номер. — Точно… А сам-то Дзюба где? — Илья Ильич сдвинул очки на кончик носа и пристально огляделся вокруг, словно надеясь увидеть коренастую фигуру Дзюбы. — Н-да! — покрутил головой Степан Евдокимович. — Не такой Дзюба человек, чтоб живым из рук оружие выпустить. Ишь ты… “Смердит”… Ловко он. И смылся. — Раскаркался! — одернул его Илья Ильич и двинулся к широкой расселине. Потоптавшись около карабина, Леонид пошел за ним, а Степан Евдокимович присел на корточки и сам прочитал номер: — Дзюбин… — Степан! — послышался крик Ильи Ильича. — Иди сюда! Подбежав к председателю сельсовета и Леониду, Степан Евдокимович потянул носом: действительно смердило. — Пахнет, — подтвердил Степан Евдокимович. Леонид пошел было вперед, но председатель сельсовета удержал его: — Не лезь… Дело такое… И тут Илья Ильич увидел торчащую из-под камней непомерно распухшую фиолетовую руку с почерневшими ногтями. Обернувшись, Илья Ильич глянул на Леонида: огромные, будто совсем белые, без зрачков глаза, лицо словно без губ — так они были бледны. — Откопать… Откопать! — Он давно умер… Он давно умер… — приблизив губы к уху Леонида, почему-то шепотом твердил Илья Ильич. — Ну что ты… Ну что ты… — басил растерянно Степан Евдокимович. — Откопать! Похоронить… дайте! — Нельзя… Нельзя, — увещевал Степан Евдокимович. — Темное… Темное дело… — вторил ему председатель. Но Леонид не слушал их, вырывался, кричал. Они силком увели его подальше от скал. Когда он немного успокоился, спустились вниз, к лагерю. Потом Степан Евдокимович развернул рацию и связался с райцентром, с отделом внутренних дел, и сообщил обо всем. Начальник отдела сказал, что завтра, видимо, на место происшествия прибудет вертолетом следователь прокуратуры. По пути, хоть и не совсем, они захватят участкового Протопопова и инспектора уголовного розыска Свечина. — Главное — не трогайте ничего! Пусть все останется как есть. Чтобы Леонид не натворил глупостей, Илья Ильич и Степан Евдокимович дежурили по очереди у костра. Леонид тоже не спал, но и не пытался уйти в скалы.*
Свечин вышел к реке первым. Хотелось лечь ничком и прикрыть веки. Но сильнее усталости, сильнее головной боли мучила жажда. Сбросив с плеч котомку, Кузьма подошел к заводи. Сквозь воду виднелось рыжее дно, стебли, поднимающиеся вверх. От воды веяло прохладой. — Не надо, — раздался позади голос Самсона Ивановича. — Чуть-чуть… Глоток. — Не удержишься. Потом совсем сдашь. Чай сварить — минутное дело. Лучше сядь в тени. У берега стояло гладкоствольное дерево. Ветви его раскинулись, словно пальмовые, и отбрасывали короткую густую тень. Там, в траве, кое-где светились росинки, спрятавшиеся от солнца. Кузьма лег ничком, окунул лицо в зелень, пахучую и влажную. Стылые капли росы смочили губы. Пить захотелось нестерпимо. Он поднял голову и взглянул на заводь, близкую и манящую. Сквозь слепящий отраженный свет он увидел нечто, поразившее его. Белые лилии в заводи стали голубыми… Как небо. Вскочив на ноги, Кузьма шагнул назад. Хмыкнул. Закрыл ладонями глаза, опять глянул на заводь. — Лотосы… Обычные лотосы, — послышался за спиной Кузьмы голос Самсона Ивановича. — Нелумбий. Повернувшись в его сторону, Кузьма увидел, что участковый вроде и не смотрел на заводь. Он копался в котомке. Усталость пропала, даже пить вроде расхотелось. Пожалуй, Кузьма просто не помнил уже: хотел или не хотел он пить. Кузьма глядел на заводь, и объяснение Самсона Ивановича представилось ему слишком обыденным и отвлеченным: “Лотосы…” Память по ассоциации вытаскивала из своей кладовки: “Древний Египет… Пирамиды… Фараоны… Нил… Священный цветок”. Чересчур мало, чтобы объяснить чудо. Не древняя история, не Египет, а вот — наклониться и дотронуться. Лотос поднялся над водой почти у самого берега. Он очень напоминал пион и был такой же величины. Но лепестки выглядели плотнее, восковитее. Кузьма заглянул в голубую чашу цветка фарфоровой прозрачности. Там бриллиантами сияли капли росы. Время словно пропало. И будто померк солнечный день. Светился только цветок. Неожиданно Кузьма услышал у себя за спиной усердное сопение, и нагой Самсон Иванович, пробежав рядом, плюхнулся в воду. Вынырнул, долго отфыркивался и кряхтел, по-бабьи обхватив руками плечи. Очевидно, вода была холодна. — Зачем… — Кузьма сморщился, точно от зубной боли. — Забыл ты сухари на заимке, Свечин. Вот я и иду на промысел. — И Самсон Иванович погрузился в воду, ставшую мутной от взбаламученного ила. “Черт с ними, сухарями! Так бы поели. Купаться-то здесь зачем? — сердито думал Кузьма. — Дела нет ему до красоты, — с горечью размышлял Свечин, отойдя от берега и устроившись в тени похожего на пальму дерева. — Л может, он просто привык? “Обыкновенные лотосы…” Не хотелось бы мне заиметь такую привычку и в шестьдесят лет. А Самсону Ивановичу всего-то сорок пять”. Подумал, кстати, Кузьма и о том, что долгое пребывание на одном месте, в одном районе, привычка к людям и обстановке, неизменно притупляют восприятие. Так, живя в городе, словно перестаешь слышать шум машин, а тишину начинаешь ощущать как нарушение обычного, заведенного порядка. Засиживаться в этих краях не входило в расчеты Свечина. Работу инспектора уголовного розыска в глубинке он считал своего рода стажировкой для своей будущей деятельности. Прислонившись спиной к гладкому стволу, Кузьма прикрыл глаза. Вернулись усталость, боль в висках. Теперь она казалась даже сильнее, чем прежде. До слуха долетало фырканье и бульканье купавшегося Самсона Ивановича. Потом кряхтенье и трубное сморкание, чавканье ила под ногами участкового. Протопопов вышел на берег. Открыв глаза, Кузьма увидел его тело: поджарое, без единого грамма лишнего веса, хорошо тренированное. Одевшись, Протопопов вернулся к берегу и поднял из травы целый пук вырванных с корнями лотосов. “Вот так”, — горько усмехнулся про себя Кузьма. Вздохнув, он лег ничком. Не хотелось смотреть ни на заводь, ни на своего спутника. Усталость, досада и какое-то тоскливое разочарование обессилили Кузьму. Голос Самсона Ивановича послышался как бы издалека: — Сварим корневища. Отлично вместо хлеба сойдут. Свечин не ответил. Незаметно для себя он словно провалился в сон. Привиделась какая-то ерунда: по Нилу плыли белые крокодилы и пожирали лотосы — яркие, пунцовые, будто канны на городских клумбах. По берегам Нила почему-то стояли пирамиды, а меж ними сфинкс с разбитой мордой мопса оглушительно хохотал, выл. Вскочив, Кузьма и наяву продолжал слышать вой и треск. Вихрь едва не сбил его с ног. Наконец он понял, что над поляной завис вертолет. Кто-то распахнул дверцу, выбросил веревочный трап, знаками приказал им подняться на борт… В оглушительном треске и урагане от винта Свечин и Протопопов забрались по веревочной лестнице в кабину. Там, к изумлению Свечина, их встретил следователь районной прокуратуры Остап Павлович Твердоступ. Вместо приветствия следователь потрепал их обоих по плечам. Затем он уселся рядом с Самсоном Ивановичем и стал что-то кричать тому на ухо. Кузьма ничего не мог разобрать, хотя и сидел совсем близко. По виду Самсона Ивановича он догадался, что стряслось нечто чрезвычайное. Резче обозначились морщины на лице участкового, словно свитом из канатов. Подождав, пока Твердоступ закончит разговор с Самсоном Ивановичем, Кузьма дотронулся до плеча следователя. Тот наклонился к Свечину: — Нашли труп… У Радужного… — Убийство? — спросил Кузьма. — Похоже на несчастный случай. Надо разобраться, — неохотно ответил Твердоступ. Они летели минут тридцать. Потом машина зависла. В иллюминаторе виделись рыжие скалы, похожие на столбы. Из кабины пилотов вышел плотный человек в кожаной куртке и, открыв дверь, выбросил трап. Твердоступ знаками показал: надо выходить. Ураган от винта мотал веревочную лестницу из стороны в сторону, и приходилось подолгу ловить ногой очередную ступеньку. Свечин спустился первым и сразу же отбежал в сторону. Потом добрались до земли Самсон Иванович и следователь прокуратуры. Вертолет боком отлетел на другой берег реки и сел на длинной косе. Грохот мотора стих, но в воздухе продолжал слышаться мощный, непрерывный гул. Кузьма не понял сначала, откуда он доносится. Взглянув вверх по реке, увидел зеленый блистающий занавес водопада. Отсюда, издали, занавес казался неподвижным, замершим. И не было видно места, куда обрушивалась лавина. Его загораживали камни. Седыми, будто кисейными клубами поднималась водяная пыль, и время от времени в ней разгоралась яркая радуга. Она вспыхивала неожиданно, словно кто-то зажигал ее то в глубине ущелья, то над водопадом, и так же быстро пропадала. Скалы стояли около водопада полукольцом — высокие ржавые столбы с широкой полосой осыпей у подножия. “Страховидное местечко… — подумал Кузьма. — Каменная мышеловка! Надо быть либо совсем неопытным человеком, либо отлично знать этот лабиринт…” Самсон Иванович, стоявший рядом с Кузьмой, тоже глядел на Чертовы скалы, словно увидел их впервые. — Труп мы оставили на месте, — сказал подошедший вперевалку Твердоступ. — Вы, Самсон Иванович, хорошо знаете погибшего Дзюбу. Нам не понятно, зачем ему понадобилось забираться в эту ловушку. Из нагромождения камней, перепрыгивая с обломка на обломок, вышел Степан Евдокимович. Кивнув в его сторону, Остап Павлович сказал: — Не обрати он внимания на слова Крутова, вряд ли мы скоро узнали о гибели Дзюбы. Экспертиза теперь еще может более или менее правильно определить причины, повлекшие за собой смерть. А у вас неплохие помощники. Действовали как надо. — Дзюбу опознал он? — спросил Протопопов. — Еще бы мне Петра Тарасовича не знать, — улыбнулся Степан Евдокимович. — Только первым руку его в камнях Илья Ильич увидел. За ним — Леонид. А потом уж я. — А где же… — Илья Ильич с Леонидом? Внизу, у реки. Получилось же так!.. Сын отца опознавать приехал… Тяжко ему… Все-таки отец… — Котомка Дзюбы цела? — обратился к следователю Самсон Иванович. Твердоступ кивнул: — В ней четырнадцать корней женьшеня. Отличные экземпляры! — Жаль, что вы развязали котомку, — раздумчиво проговорил Самсон Иванович. — Сначала ее сфотографировали, — быстро вставил начальник “аэропорта”, увлекшийся расследованием. Кузьму несколько удивило, с каким уважением Твердоступ относится к замечаниям Самсона Ивановича. — Спасибо за помощь, товарищ Шматов, — сказал следователь. Сообразив, что он слишком навязчив, Степан Евдокимович несколько обиженно пожал плечами и отошел. — У меня такое ощущение, что произошел несчастный случай, — продолжал Твердоступ. — Пока я так думаю. — Возможно. Карабин здесь… Котомка цела… — Интересно и другое, Самсон Иванович, — сказал Твердоступ. — Вы, товарищ Свечин, тоже обратите внимание… Котомка была завязана и находилась у костра. Она, очевидно, просто осталась лежать у костра, когда потерпевший почему-то вскочил и побежал в скалы. — Вскочил? — переспросил Кузьма. — Почему вы так думаете? — Вы сейчас увидите — у него пепел на шнуровке олочи, на голени. И они вчетвером направились к скалам, в лабиринте которых находился труп. Прыгать с обломка на обломок оказалось делом нелегким и не безопасным. — Иди за мной! — бросил Самсон Иванович, поравнявшись со Свечиным. — Здесь торопиться — не доблесть. Послушался Кузьма безоговорочно: теперь он до конца осознал смысл фразы следователя: “Непонятно, зачем ему понадобилось забираться в эту ловушку”. За поворотом у подножия столба, в осыпи, они увидели обезображенный камнепадом труп. Эксперт то и дело ослепляюще вспыхивал блицем, чертыхаясь, спотыкался о камни, отыскивая нужные точки для съемки. Молоденькая невысокая докторша стояла поодаль. — Вот так он и лежал, — проговорил Остап Павлович. — Видимо, обвал настиг его на бегу. А вы как думаете? — Похоже, — согласился Самсон Иванович. — Карабин валялся от него метрах в двадцати? — Не больше. Получается так: он выстрелил и опрометью бросился в расселину, на верную гибель. Обвал ведь мог возникнуть от звука выстрела, — сказал Твердоступ. Обернувшись, Свечин с сомнением осмотрел путь, который пришлось преодолеть Дзюбе после предполагаемого выстрела, и сказал: — Мы сюда добирались секунд двадцать… Камни обвала рухнули бы раньше… — Резонно… — заметил Твердоступ. — Но ведь он бежал. Бежал опрометью, не разбирая дороги. Бежал от костра, Смотрите… Кузьма пригляделся. На правой ноге Дзюбы трава, вылезшая из задника олочи, обгорела. Прожжен был и суконный чулок. И что самое важное — на закраинах прожженной дырки, небольшой, с пятикопеечную монету, сохранился пепел. — Сукно еще некоторое время тлело… уже после того, как обвал обрушился и придавил его, — сказал Свечин. — И я так считаю, — кивнул следователь прокуратуры и обратился к Самсону Ивановичу: — А вы? — Может, и так… — Что же вас смущает, Самсон Иванович? — Зачем ему было бежать опрометью в эту ловушку? Стрелять… Ведь он, наверное, стрелял. — Да, — кивнул Твердоступ, — вот гильза. Ее нашли в двух метрах от валявшегося карабина. Вот план, Самсон Иванович. Здесь все обозначено. Это-то меня и интересует. Вы же очень хорошо знали Дзюбу. Его характер, привычки… Что, к примеру, могло заставить Дзюбу побежать в расселину, несмотря на риск? — Легкая добыча… — Интересно… Если так, то можно предположить: дело происходило днем. Дзюба находился у костра. И увидел… легкую добычу… — В скалах козы, случается, бродят. Их тут много, — заметил Самсон Иванович. — И потом… Науку тайги ни за месяцы, ни за годы до конца не постигнешь. Тут так бывает. Уж казалось бы, какой опытный таежник — суперохотник. А вдруг на склоне дней такое отчебучит — диву даешься. Мало — сам пострадает, еще и товарищей подведет. — Он мог испугаться кого-то или чего-то, — заметил Свечин. Самсон Иванович покачал головой: — Дзюба? Испугаться? Никогда не поверю. К тому же он был вооружен. Чего же бояться? — Значит, легкая добыча, — констатировал Твердоступ. — Не вижу ничего другого, — твердо заявил Самсон Иванович. — Что ж… Если вскрытие и экспертиза не дадут ничего нового… закроем дело. — Пойду в скалы, посмотрю, нет ли там этой легкой добычи, — сказал Самсон Иванович. — Да, да, — согласился Твердоступ. — И потом… Ни ниже водопада, ни выше него нет лодки. — Все-таки жаль, Остап Павлович, что вы не захватили нас с собой сразу… — попенял Протопопов. — Честно — боялся, что общественники набедокурят… — несколько смущенно улыбнулся следователь прокуратуры. — Вы, товарищ Свечин, займитесь осмотром костра и пути от него до расселины. — Я думаю, товарищ Твердоступ… мне лучше держаться с Самсоном Ивановичем, — пересилив себя, проговорил Кузьма. — Хоть я и год здесь… Но дела вел в райцентре. По-настоящему в тайге впервые. Могу упустить важное. Часа полтора они лазали в скалах по гибельным каменистым осыпям, рискуя сломать себе если не шею, то ногу или руку наверняка. Отыскали полуразложившуюся, полурастащенную зверьем и вороньем тушу козла. Протопопов обрадовался находке. — Вот и “легкая добыча”! Дзюба мог только ранить козла. Побежал за добычей да под камнепад и попал. Привели на место находки следователя и эксперта. Эксперт принялся сверкать блицем, а доктор после тщательного осмотра и записи в протокол заметила, что и в этом случае определить время гибели козла и характер ранения сразу нельзя. Нужна патологическая экспертиза. Потом стали осматривать костер и местность вокруг него. Кострище, у которого лежала котомка Дзюбы, находилось в глубине поляны, далеко от обрыва, где гудел водопад. — Здесь, как правило, местные останавливаются, — сказал Самсон Иванович. — Ты записывай по ходу, быстрее будет. Кострище старое. Ему уже сколько лет… А вот полено… отброшено. — Ну и что? Головня, может. — Еловое полено. Такое таежник в костер не положит. Стреляет еловое полено угольками. Недолго и одежду прожечь. — И у Дзюбы есть прожог, — напомнил Кузьма. — Да, но полено-то зачем ему класть в костер? Чтоб выкинуть? Нет, тут новичок был. С кем-то из опытных. Должен здесь был быть новичок. Ага… Банка из-под консервов знакомая… Вот упрямица! — Кто? Вы о ком, Самсон Иванович? — О Наташке. О дочке. Она любительница лосося в собственном соку. Обычно рыбных консервов в тайгу не берут. Капризные — портятся. Да и свежей рыбы много. Наловить можно. Может быть, они с напарницей по ошибке сунули в костер еловое полено? — Еще банки из-под консервов. Две. Мясная тушенка. Семипалатинская. Вымыты дождями начисто. — Семипалатинская? — переспросил Самсон Иванович. — Да. — А открыта как? — Взяв в руки банку, Самсон Иванович принялся рассматривать срез. — Дождь сильный был месяц назад… Срез… Семипалатинские мясные… Их получили метеорологи. Станция здесь неподалеку. Пятьдесят километров. Нож, которым консервы эти открывали, не самодельный, заводской. Старый. Из отличнейшей стали… — Вы знаете, чей это нож? — Да. Телегинский. Метеоролога Телегина. “Шварцмессер”. — Немецкий? — Кузьма так и подался вперед. — В переводе “черный нож”. — Уральский. В войну уральцы послали на фронт танковую бригаду. На свои деньги полностью укомплектовали, экипировали часть. В комплект обмундирования входил и нож в черном кожаном футляре. Нашим уральским золингенов-ский знаменитый как палку строгать можно было… Сталь под стать ребятам-танкистам. Их фрицы пуще огня боялись. А за ножи — не было таких в других частях — фашисты и прозвали бригаду “Шварцмессер”… Охотникам нашим ножи кузнец Семен делает. Тоже отличные. Из рессорной стали… Самсон Иванович присел около банок, стал присматриваться к характерам срезов. — Одну банку открывал Телегин. Сам. А вот вторую — кто-то другой. Телегин, тот воткнул нож, повернул банку — и готово. А второй этак пилил. И нож другой. Да и банка не так сильно поржавела, как первая. Свечин, который записывал в блокнот замечания Протопопова, покусал кончик карандаша: — Может, первая с прошлого года осталась? — Нет. Поздней осенью я на всякий случай чищу поляну. Чтоб не путаться. А зимой охотники консервов с собой не берут. Эти баночки для меня что карточки визитные. Пришел человек в Спас — назвался, отметился. Я о снаряжении расспрошу, об экипировке… Потом уж тут для меня секретов нет. Был тот-то. А вот эта банка… Консервы одни и те же… — Самсон Иванович сравнил выдавленные на крышках цифры и буквы- индекс выпуска. — Кто ж их открывал? Кто тут был? — Может, этот Крутов? Который тревогу поднял. — Сомнительно… Крутов из другого района, из другой организации… И чтоб сошелся номер партии, время выпуска… — Да… Но ведь и в реку пустую тару бросают. — Редко. Почти никогда… Все успел записать? — Все. У трех других кострищ в разных концах поляны ничего существенного обнаружено не было. — Самсон Иванович, где может быть лодка Дзюбы? — спросил Твердоступ. — Где ж ей быть? Выше порога. Вот если ее не будет… — Протопопов поднял палец, — то Дзюбу кто-то сюда привез. Лодка действительно оказалась за порогом. Она была вытащена высоко в тальник. — Мог ли Дзюба один втащить лодку так высоко? — спросил Остап Павлович. — Дзюба мог, — не задумываясь, ответил участковый. В лодке были и шест и мотор, покрытый брезентом. Все в полной сохранности. — Экспертизу у нас в больнице будете проводить? — поинтересовался Протопопов. — Тогда уж Матвея Петровича пригласите. — Само собой, — кивнул Твердоступ. — Сдается мне, что результат будет один — установим одновременность смерти Дзюбы, погибшего под обвалом, и козла, которого он ранил. — Вроде так… — согласился Протопопов. — Коли корешки в котомке целы. — Вы знаете, где его дружки корнюют? Самсон Иванович кивнул: — Не вовремя он ушел из бригады… — Заболел… Простыл… — предположил Твердоступ. — Петро Тарасович?! — Хоть бы и так. Что, Петро Тарасович заветное слово знал? — Знал: “женьшень”. Таких стариков, как он, ничем не проймешь. Корешки их не только кормят. Они и себе их оставляют. Пользуются. — И не только государству сдают, но и поторговывают, — в тон Самсону Ивановичу протянул Твердоступ. — Лицензий на женьшень нет. Корень — не шкурка, клейма на нем не поставишь. — Вы сказали, что Дзюба не вовремя ушел из бригады? — спросил Остап Павлович. — Как это “не вовремя”? — Сезон в разгаре — середина августа. Если ушел, то или на самом деле совсем лихо ему стало, или, может, пофартило. Скорей всего, последнее. Корень хороший, крупный нашел. Граммов на сто пятьдесят. С таким бродить в тайге опасно. — Опасно? — спросил Кузьма. — Для корня. Подпоить, подмочить то есть, можно. Поломать. Половина цены долой. И только. Да… Однако, и заболеть мог… Матвей Петрович, помнится, говорил, что печень у Дзюбы шалит. А ему как не верить? Звание заслуженного врача республики ему присвоили небось не за то только, что он безвылазно сорок лет на одном месте проработал. Матвей Петрович — врач замечательный… И научную работу ведет. Говорили, что вот-вот доктором наук станет. — Есть у меня предложение, Самсон Иванович, — сказал следователь. — А не пойти ли вам с инспектором Свечиным к корневщикам? К Храброву и Калиткину… — Как же… как же… Если что… и если запираться начнут, то как расскажу о Дзюбе… Одно им останется… Либо корн” потерять, либо правду сказать. Тем более, что намерений-то их мы не знаем — как они хотели с корнями распорядиться. Можно и к ботаникам добраться, и на метеостанцию… Ангирчи увидеть можно. — Заманчиво… Старик Ангирчи очень наблюдательный, — сказал Твердоступ. — А корешки в котомке вы, Самсон Иванович, посмотрите. И оформим их актом. — Как же… как же… Подойдя к котомке Дзюбы, Самсон Иванович поднял ее за лямки, словно взвесил. Потом стал доставать из нее лубянки — конверты, сделанные из лубодерины. Сверху они были аккуратно перевязаны лыком, чтоб не раскрылись ненароком. Двенадцать лубянок. Самая большая — со сложенную вчетверо газету. В каждом конверте лежал закутанный мхом корень, чем-то похожий на крохотного воскового человечка: один напоминал стоящего на посту солдата, другой выглядел словно моряк на палубе штормующего судна, третий как бы заложил ногу за ногу, четвертый танцевал… Самсон Иванович осторожно брал корни и взвешивал по одному на аптекарских весах, взятых из котомки Дзюбы. Весы — часть экипировки искателя женьшеня, как и костяные палочки, которыми выкапывают корень. — Не так уж и велика добыча… — сказал Самсон Иванович, закончив взвешивание. — Из-за такой не стоило торопиться в заготконтору. Явно не стоило. Дзюбу заставило выйти из тайги что-то другое.*
Перед тем как отплыть к искателям женьшеня, Самсон Иванович сказал следователю: — Выясним, пропало ли что из котомки, и тут же дадим вам знать. Лодку корневщикам оставим — ихняя. Ну, а нас, как договорились, вертолетом вывезете. Погода вроде не должна подвести. — К тому времени и у нас многое станет ясным. А вы, товарищ Свечин, рацию берегите, — улыбнулся Твердоступ стройному лейтенанту, на котором новехонькая форма сидела словно на магазинном манекене — не обмялась, не приладилась. Кузьма ответил весело, с задором: — Как зеницу ока! Движок заработал сразу. Плоскодонка резво отошла от берега. По-осеннему радужные берега, поднимавшиеся вверх от синей реки, выглядели равнодушными, безжизненными. Разговаривать с Самсоном Ивановичем, сидевшим на корме у гремящего мотора, было невозможно. Следователь прокуратуры и Самсон Иванович, должно быть, правы: с Дзюбой произошел несчастный случай. Позарился старый на “легкую” добычу — козла. Выстрелил в него, а тут обвал. Не всегда он начинается лавиной: пока-то камушек по камушку ударит. А Дзюба кинулся в расселину сразу. Вот и угодил в самое пекло. Их же поездка — необходимая формальность, без которой дела не закроешь. Но для него лично поездка значит очень много. У Самсона Ивановича есть чему поучиться. Недаром же он больше двадцати лет проработал в тайге. Солнце оказывалось то справа от Кузьмы, то слева, било в глаза и грело затылок. Высота берегов и юр, вздымавшихся по сторонам, менялась, и Кузьма потерял ориентировку и даже чувство времени, а когда взглянул на часы, понял: плывет они уже шесть часов с лишним. Самсон Иванович размышлял о своем и по-своему. В глубине души ему как-то не верилось, будто все происшедшее с Дзюбой — несчастный случай. Петро Тарасович был человеком осторожным, осмотрительным. Похоже, есть сомнения и у следователя, но ощущение — это еще не доказательство. “Легкая добыча”? Может быть. Плюс ошибка от самоуверенности. Может, может быть. Они пристали к берегу, когда солнце скрылось за горный хребет. Самсон Иванович достал из котомки моток серебристой нейлоновой лески, из-под подкладки фуражки — крючок и велел Кузьме наловить рыбы на перекате, уху сварить. — А я пока к Ангирчи схожу. — Он живет неподалеку? — поинтересовался Свечин. — Пантовал здесь. Панты теперь сушит. Ждет охоты на реву. А живет… Вся тайга — его дом. Он вроде шатуна. С чудинкой человек. Вон его бат в кустах стоит, припрятан. — Какой бат? — Лодка большая, долбленная из целого тополя. — А-а… — протянул Кузьма, недовольный собой, что не заметил укрытой в прибрежных кустах длинной лодки. — Посмотри, Кузьма, спички у тебя не подмокли? — Сухие. Жаль, лопатки нет. — Зачем тебе? — Червей накопать. На наживку. — Мух налови. Шмелей. — У реки их нет. — Вон около бата должны быть. — Откуда они там? — хмыкнул Кузьма. — Мясо там спрятано. Не за одним же изюбрем пришел сюда Ангирчи! Накоптил, поди. И для себя и на продажу, чтоб припасы на зиму купить. Да леску не режь! — На одну удочку ловить? — Хватит, — улыбнулся участковый. — Я скоро. Чуешь, дымком попахивает? — Нет, — признался Кузьма. Самсон Иванович ничего не сказал и пошел по галечнику к береговым зарослям, высокий, сутуловатый. Камни под его сапогами не скрипели, не постукивали. Вздохнув, Свечин тоже двинулся к зарослям — срезать удилище. Справив снасть, Кузьма с превеликим трудом поймал пяток мух и вышел к перекату. Приглядевшись к прозрачной воде, увидел стоящие против течения рыбины. Сначала одну, потом еще и еще. Различить их на фоне пестрого галечного дна было не так-то просто: веселого цвета радужный плавник как бы рассекал рыбу надвое. Серо-зеленый хребет и пятнистая буро-желтая голова довершали мимикрический наряд. Прочно нацепив на крючок одну из пяти так трудно доставшихся ему мух, Свечин закинул леску. Муха коснулась воды у самого уреза, но стремительное течение подхватило ее и понесло на быстрину, туда, где стояли рыбы. Забрасывая удочку, Кузьма потерял добычу из виду и теперь старался угадать, увидят ли рыбы наживку. И вдруг меж витых струй выскочила из реки серебристая, с радужным отливом рыбина и, описав короткую дугу, исчезла. Леска тут же натянулась, и удилище едва не выскользнуло из рук Кузьмы. Свечин дернул. Рыбина вновь выскользнула из витых струй переката, будто только для того, чтоб глянуть на Кузьму крупным ошалелым глазом, и скрылась. Свечин, вываживая, попятился. Наконец у берега показалась крупная пятнистая голова. Рыба остервенело билась на гальке, пока Кузьма не исхитрился оглушить ее ударом камня. Так он поймал еще три рыбины. В меру своего умения Кузьма выпотрошил, почистил их, поставил варить уху. Хотя солнце давно уже закатилось за сопки, темнело исподволь. Небо меркло медленно. Река выглядела светлой полосой. Сообразив, что уху надо чем-нибудь заправить, Кузьма полез в котомку Самсона Ивановича за пшеном и наткнулся на перевязанный бечевкой конверт из тополиной коры. Свечин пощупал его, понюхал, подавил. Кора была свежая, лежало в ней что-то упругое, пахло деревом и еще чем-то странным. Из лубяного конверта торчала лохматушка мха, а на ней светилось что-то пестрое, сухое, похожее на крылышко мотылька. “Откуда это?” Кузьма был готов поручиться, что еще вчера тополиного конверта в котомке не было. Ведь он укладывал продукты да еще забыл сухари. Уха получилась на славу, как считал Кузьма, только в юшке оказалось много чешуи, и приходилось то и дело отплевываться. Похвалили уху и участковый с Ангирчи. Когда тот вместе с Самсоном Ивановичем вышел из кустов, Свечин поначалу принял его за мальчишку-подростка. Низенький, сухонький, со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, старичонка протянул Свечину руку лодочкой и все время улыбался. Видимо, по дороге участковый не успел, а вероятнее всего, и не стал говорить с Ангирчи. После ужина, прошедшего в торжественном молчании, старичонка облизал ложку, сунул ее за онучу и сказал: — Вверх идете… — К корневщикам, — кивнул Самсон Иванович. Ангирчи тоже покивал головой: — Очень Дзюба вниз торопился. Я махнул ему, чай пить звал. Не остановился. — Ночевать пришлось бы ему здесь. Не успел бы к Радужному до темноты. — Зачем не успел? Рано-рано шел. Солнце над сопками не поднялось. Только свет был. Значит, ночью шел. Луна, как теперь, вполовину была. На рожденье, однако. — Вы не будете возражать, если я запишу разговор? — спросил Свечин. — На пленку. — Пиши, начальник. На что хошь пиши. Прихватив свой рюкзак, Свечин сел позади Ангирчи и Самсона Ивановича и включил магнитофон. Это была его гордость — сам собрал: портативный, на транзисторах. В таких условиях вещь незаменимая. И кроме магнитофона-самоделки, есть у него “оружие” и посерьезнее. Но о нем не знает ни следователь, ни Протопопов. Свечин задал Ангирчи несколько вопросов, заставив его повторить сказанное. Ведь старик точно назвал срок, когда Дзюба прошел здесь, — две недели назад. И время — утро. Выходит, Дзюба пришел к Радужному в полдень. Но Протопопов вроде бы не обратил внимания на слова Ангирчи. Лишь повторил: — Торопился, наверное. Болел… — Нет. Большая котомка был. Много корня вез. — Много? — Большой-большой котомка был. — Вы ошиблись, — сказал Свечин. — Не-ет. Ноги слаб стал, глаз — нет. Большой котомка! Много корня. Что с ним? Почему на его лодке пришли? Самсон Иванович рассказал о гибели Дзюбы и заверил Ангирчи, что в котомке у того корней оказалось немного. — Хунхуз объявился… — Известие о гибели Дзюбы очень взволновало Ангирчи; он, недвижный до того и, казалось, глухой ко всему, зацокал, покачался из стороны в сторону, будто от внезапной боли. — Его ищи, Самсон. Кузьма подался к старику: — Кто такой “хунхуз”? Но ответил Самсон Иванович: — Хунхузы — бандиты. Грабили золотодобытчиков, искателей женьшеня. Были такие когда-то. — Хунхуз Дзюбу убил, — настойчиво сказал Ангирчи. — Почему же хунхуз этот все корни не взял? — спросил Свечин. — Чтобы мы думали, что с Дзюбой произошел несчастный случай, — сказал Самсон Иванович. — Котомка-то полупустая, а Ангирчи утверждает — большая котомка. Только откуда и кто мог знать, когда Дзюба будет у Радужного? Ангирчи, — обратился участковый к удэгейцу, — ты здесь каждый куст знаешь… Мог Петро найти необыкновенный корень? — Нет, однако, можно сказать. — Старичонка стал смотреть в костер. Лицо его будто окаменело. — Да — тоже можно… Если он взял корень… Корень мог и сорок соболей стоить. — Откуда ты знаешь про такой корень? — Мой много знай, мало говори… Посмотреть, однако, надо… Своими глазами гляди. — И Ангирчи замолк, будто склеил губы. Свечин задал ему еще несколько вопросов, но Ангирчи будто и не слышал его. Кузьма выключил магнитофон, поднялся, взял чайник: — Я за водой… Он понял: разговор, собственно, окончен. Подойдя к воде, Кузьма уловил мягкое, редкое и глухое постукивание. Он долго прислушивался, пока не понял, что это камни под водой бьются друг о дружку. Сильное течение тащит гальку по дну. Когда огонь взвивался особенно высоко, на быстрых струях речки мелькал пляшущий свет костра. Звезды отражались в воде нервными, дергающимися черточками. “С норовом старичок, — думал Кузьма. — Но что-то он знает… Или догадывается? Может быть, подозревает, но не хочет говорить? Да, норовистый старик”. Пока Кузьма был у реки, около костра не обронили ни слона. Подвесив чайник над огнем, Свечин глянул на лица сидящих и поразился их окаменелой похожести. Даже мечущиеся отсветы пламени не оживляли их, как это обычно бывает. Закипел чайник. Кузьма достал из рюкзака заварку, бросил в бившую ключом воду. Крышка запрыгала, пена фыркнула через край. Не успел Свечин сообразить, чем снять чайник с рогульки, как Ангирчи взялся голой рукой за дужку висящего над огнем чайника и поставил его на землю. Пальцы его были точно железные, в движениях не чувствовалось ни тени торопливости, будто дужка холодная. Ангирчи спросил: — Зачем вы его лодку взяли? — Корневщики на ней вернутся, — ответил Самсон Иванович. “Ведь сейчас Протопопов фактически сообщил Ангирчи, что они попадут в Спас другим путем, другим способом, — подумал Свечин. — Сообщил, что они уже не встретятся больше с ним, Ангирчи… Зачем старичонке это знать?” Спать Ангирчи улегся в своем бате. Милиционеры устроились на лапнике у кустов. Проснулся Кузьма от холода и сырости. Едва светало. Река приукрылась туманом. Вскочив, Свечин принялся пританцовывать и хлопать себя ладонями по плечам. А ведь он был в ватнике. Подойдя к бату, Кузьма увидел, что охотника нет. Забыв о холоде, Свечин заспешил к Протопопову: — Ангирчи ушел! — Ему некогда — охота, — спокойно ответил Самсон Иванович. — Не надо беспокоиться. — И все-таки я хотел бы знать, почему вы… — Почему отпустил его? — Я хочу знать… — Вы хотели бы поступить опрометчиво? Ангирчи не причастен к этому делу. Потом они сели в лодку и поплыли вверх по реке. Вечером за ужином Самсон Иванович сказал: — Отдохнем часа два и пойдем дальше. — Ночью? В темноте? — Луна взойдет после полуночи, — ответил Самсон Иванович. Кузьма внимательно посмотрел на участкового. Свечина не в первый раз поражали решения Самсона Ивановича. Так же удивляло его и собрание книг в библиотеке участкового: полка накопленных годами изданий “Роман—газеты”, тома “Истории войны на Тихом океане”, военные мемуары, комплекты юридических журналов. Все это не вязалось с представлениями Кузьмы об участковом инспекторе в “глубинке”, самим обликом Протопопова. Он, Кузьма, конечно, другой. Он-то должен знать очень многое. Но он, Свечин, и не собирается “завязнуть” на своей должности. И потом, он и мысли не допускал, что можно провести сравнение между ним, Кузьмой Семеновичем Свечиным, и Протопоповым. А Самсон Иванович глядел в огонь костра, слишком жаркий и слишком желтый. Понимал — быть завтра грозе — и радовался, что будет гроза, а не нудный обложной дождь. Поэтому он и решил идти ночью, когда взойдет ущербная, но еще довольно яркая луна. Размышлял Самсон Иванович и о Свечине. Он жалел Кузьму. Он не раз встречал молодых людей, которые, приобретая знания, считают, что проценты от этих знаний прежде всего ложатся ступеньками карьеры, их жизненного успеха. И можно ли вот так, как Кузьма, мерить жизненный успех, счастье в жизни метрами и сантиметрами служебной лестницы? И потом, где она, мера человеческих способностей? Сам-то человек что Микула Селянинович — кажется ему похвальба правдой… И на чем старухе рыбачке следовало остановиться? На новом корыте, избе, на боярских, на царских хоромах? А? Ведь никто не знает, где предел возможностей его “золотой рыбки” — таланта. В какой-то книжке, за давностью уже и забыл какой, он читал мудреную и мудрую притчу, как один человек задал дьяволу вопрос: “Кто самый великий полководец на земле во все времена?” А дьявол показал на холодного сапожника, что сидел на углу улицы: “Вот он — самый великий полководец во все времена. Только он не знает об этом”. “Ну, а ты? — спросил сам себя Протопопов. — Участковый. Не плохой, если верить начальству, участковый… И будь доволен!” — Самсон Иванович… Протопопов перевел взгляд с играющего пламени костра на Свечина. Очевидно, Кузьма уже несколько раз обращался к нему и теперь дотронулся до его плеча, чтоб вывести из задумчивости. — Самсон Иванович, что за конверт из коры у вас в рюкзаке? — Лубянка. В ней корешок женьшеня. — Откуда? — Из котомки Дзюбы. Совсем крошечный корешок. Года два. Не принято такие брать. — Разве не всякий вырывают? — Умный корневщик — не подряд. У умных корневщиков свои плантации есть. По десять, по двадцать лет ждут, пока подрастет женьшень. Найдут вот такой, к примеру, корень. Крошечный. Выкопают его, пересадят в тайное место. Ухаживают. — А если кто другой выкопает? — Узнают, кто выкопал… Могут и убить за такое. Кузьма подивился спокойствию, с которым участковый проговорил эти слова, спросил: — И не грабят плантаций? — Свой кто наткнется случайно — не тронет. По свежим затескам на деревьях увидит — не бесхозная плантация. По посадке корней увидит, по уходу. Не возьмет. Да и хозяин бывает неподалеку. Плантация что огород — завел, так и кормишься с нее. Уж не корни, семена подсаживает. — Вы знаете таких кладовладельцев? Да и сколько стоит, ну, средняя плантация? — с интересом спросил Свечин. — Ни их жены, ни дети не знают, где плантация. Редко когда сыновей посвящают в тайну. Перед кончиной обычно, или уж ног таскать не станет корневщик. А случись что с хозяином — все в тайге в тайне останется… — Искоса взглянув на Кузьму, Самсон Иванович усмехнулся: — А стоимость… И до десятков тысяч может дойти. Сколько корней, смотря какой возраст… Бывало, натыкались на старые плантации. Фартило… Не при мне, стороной слышал. Оценивали такие плантации в самородок золота с конскую голову величиной. — Но ведь, Самсон Иванович, иметь плантацию — государственное преступление! — воскликнул Кузьма. — Существует закон, по которому… — Да. Статья сто шестьдесят семь Уголовного кодекса. Но в ней ничего не говорится о женьшене, хотя он дороже золота, металлов и кое-каких камней. “Нарушение отдельными гражданами правил сдачи государству добытого ими из недр земли золота или других драгоценных металлов или драгоценных камней…” Не относится женьшень и к кладам. Так-то. Никто, кроме самого корневщика, не знает: сколько он нашел, сколько сдал государству, сколько себе оставил… И сколько на сторону за хорошие деньги сбыл. — Не представляю! — нервно передернул плечами Кузьма. — Корешок травы — и такая ценность! Десятки тысяч рублей денег! — Молоды… — проговорил Самсон Иванович. — Молоды! — Чтобы понять? — Нет. Вот Владимир Клавдиевич… — Кто? — Арсеньев. “Дерсу Узала” читали? — А… Читал. — Так он писал, что на строительстве железной дороги был найден корень в шестьсот граммов! Редчайший из редких. Его тогда за границу за десять тысяч золотом продали. Это, считай, тысяча соболей. И не в деньгах дело… Когда старость да болезни корежить начнут, никаких денег человек не пожалеет. Деньги… — Что ж, он от смерти спасает, женьшень? — Как считать… — протянул Самсон Иванович. — Прошлой зимой запоролся я в промоину. По грудь вымок. Дело уж затемно было. До заимки — километров восемнадцать. А мороз. Только к утру до тепла добрался. И хоть бы чихнул. — Женьшень принимали? — С осени. — Случай… — Кузьма даже рукой махнул. — Больно много случаев… Пора нам, — нахмурившись, бросил Самсон Иванович и добавил, будто про себя: — Такой корень, про который Ангирчи говорил, должен граммов четыреста с гаком весить. Это уже государственная ценность. Таежная реликвия. В музеях таких нет. Слышал я о находке в четыреста граммов. Но если Ангирчи угадал, то Дзюба нашел побольше. Взяв котелок, чтобы пойти за водой и залить костер, Свечин сказал: — Кто же такой корень купит? — Государство. — Я не про то… — А-а… Покупают же “Волги”. Для удовольствия. А корешок может лет десять жизни подарить. Кто с умом его принимает. Молод ты, здоров. Вот и не веришь. Вернувшись, Свечин залил костер, но Самсон Иванович не торопился с отправлением в ночное плавание. Быстро взошел большой тусклый серп луны. Но, постепенно поднимаясь, он делалсясеребристее, ярче. Стали различимы отдельные кусты, а легкая туманная дымка, пологом проступившая над рекой, еще сильнее рассеяла свет. Мотор застучал раскатисто и басовито. Ясно зашелестела вода, расталкиваемая тупым носом плоскодонки. Протопопов повел лодку не быстро, но уверенно. Он хорошо знал стрежень реки. В блеклом, неверном свете он без особого труда находил дневные ориентиры. Долина реки быстро сузилась. Берега взмыли вверх. Если бы не туманная дымка, рассеивавшая свет, то в ущелье, где по-медвежьи урчала вода, было бы совсем темно. Подавшись вперед, крепко сжав рулевую ручку мотора, Самсон Иванович взглядом и на слух прощупывал реку перед собой. Потом, к заре уже, берега расступились. Протопопов зажал ручку мотора под мышкой, набил трубочку, закурил. Устроившись около средней банки, Кузьма спал. Не мог предполагать тогда Самсон Иванович, что два дня спустя он и Свечин будут едва не ползком искать на здешних берегах следы, смытые ливнем.*
Леонид сказал неожиданно и резко: — Хватит спорить! Чего тут торговаться?! Не бросать же лодку здесь. Давайте я спущусь в Спас на лодке… Твердоступ, Илья Ильич и начальник “аэропорта” переглянулись и почувствовали себя неловко. Настало время отлета, но все еще было неясно, кто отправится на вертолете, а кто погонит лодку. — Я серьезно. Доберусь за двое суток до Спаса, — повторил Леонид. — Гм… гм… Нехорошо получается. Остап Павлович подумал, что у Леонида, наверно, обостренное чувство товарищества. Это, конечно, очень хорошо, но Леониду следовало подумать о своей матери, на которую так внезапно обрушится удар, а рядом не окажется самого родного и близкого человека — сына… И в то же время Степану Шматову надо как можно скорее попасть в Спас — дела. И у Ильи Ильича — тоже. — Гм… Остап Павлович, — откашлявшись, сказал председатель сельсовета, — дайте листок бумаги. Без справки его ведь не похоронят. И печать со мной… Степан Евдокимович, горячившийся почему-то больше других, отошел в сторонку. Махнув рукой, Леонид поморщился, промолвил безразлично: — Как хотите… Мне все равно. По реке погнал лодку Илья Ильич. В Спасе Остап Павлович передал в райотдел внутренних дел, что сигнал Крутова подтвердился — обнаружен труп, и просьбу: выяснить личность этого Крутова, поскольку не ясны обстоятельства, при которых он обратил внимание, что у Радужного “смердит”. Ни гостиницы, ни Дома приезжих в селе не было, и Твердоступ по приглашению Антонины Александровны остановился у Протопоповых. Остап Павлович попросил Шматова дать ему список фамилий пассажиров, улетавших из Спаса в последний месяц. Их было не много — всего восемь человек. Твердоступ встретился с ними и поинтересовался целями их отъезда, их отношением к Дзюбе. Второе получалось как бы ненароком. Гибель Дзюбы в Чертовых скалах жители Спаса восприняли так же, как и Самсон Иванович: считали, что погнался Петро Тарасович за легкой добычей. Это никем не оспаривалось. Говоря о Дзюбе, люди даже слово “деньги” употребляли на его манер: “гроши”. — Гроши он любил… — Где пахнет грошем, тут Дзюбу понукать не надо… — Он всякий грош до копицы, до кучи нес… — Он все больше по договорам: охота, женьшень, панты, бархат… — Только на себя мужик надеялся… — Сбочь от людей шел… Часу в одиннадцатом вечера в комнату, где расположился Остап Павлович, пришли доктор, выезжавшая на осмотр места происшествия, и местный врач-нанаец Матвей Петрович. Они закончили вскрытие тела Дзюбы. — Вот протокол вскрытия, — сказала Анна Ивановна. — Никаких свидетельств, что смерть Дзюбы произошла от на несения ему огнестрельных или ножевых ранений, нами не обнаружено. Однако у Матвея Петровича есть кое-какие сомнения… — Вы это занесли в протокол? — спросил Твердоступ. — Да, — ответил врач. — В чем дело, по-вашему, Матвей Петрович? — Сомнения — не доказательство, Остап Павлович… — начал доктор. — Тем более, состояние трупа… Я считаю, что нужно провести дополнительно тщательную химическую и гистологическую экспертизу. Но в наших условиях это, к сожалению, невозможно. — Вы, Матвей Петрович, предполагаете, что… — Отравление. — А вы, Анна Ивановна? — Здесь у меня нет твердого мнения, хотя согласна, что гистологическую экспертизу провести совершенно необходимо. Это поможет установить более или менее точно время гибели Дзюбы. А также злополучного козла… — Да… — ответил Твердоступ, подумав: “Не получается, выходит, несчастного случая… Впрочем…” — И Остап Павлович обратился к Матвею Петровичу: — А что-либо о характере отравления можно сказать? — Об этом может с уверенностью говорить лишь химик. — А все-таки… Как вы думаете? — Характер яда — психотропный… действующий на нервную систему. Но не только на нее. Так сказать, яд с широким спектром действия. Обычно такими ядами являются растительные. Характерные признаки указывают на цикуту. — Съел случайно что-нибудь? — спросил Твердоступ. Матвей Петрович пожал плечами. — Что ж… — поднялся Твердоступ, а за ним и врачи. — Благодарю. Отправьте все, что нужно, в крайцентр… Через несколько дней прилетел инспектор краевого управления внутренних дел Виктор Федорович Андронов. С собой он привез результаты гистологической и химической экспертиз. Предположение Матвея Петровича подтвердилось: до того, как Дзюба попал в обвал, его отравили. Точнее, Дзюба выпил спирт, в который подмешали яд — цикутотоксин. Розовощекий, улыбчивый Виктор Федорович появился в знакомом ему доме Протопоповых — как показалось Остапу Павловичу, уже привыкшему к глуховатой тишине, — чуточку шумливо. Он “подселился” к Остапу Павловичу. Они знали друг друга еще по тому времени, когда Виктор Федорович только что начал после демобилизации свою работу в милиции участковым и был “соседом” Самсона Ивановича. Чай пили в своей комнате, чтобы не мешать хозяйке, а главное, обсудить дело. Выводы экспертизы, подтвердившие догадку старого врача Матвея Петровича, многое меняли. — С Крутовым беседовали? — спросил Остап Павлович. — Сначала его надо найти, — улыбнулся Андронов. — В бегах? — Вроде нет. Он действительно десантник-пожарник. И действительно торопился. Крутов был в тайге около двух недель. Вернувшись, в тот же день оформил отпуск и уехал с женой отдыхать. А вот куда — неизвестно. Говорили, будто отправятся — ближний свет! — на Черное море. То ли в Сочи, то ли в Ялту. Писать не обещали. Некому. Ищем. — Может быть, это ловкий ход? — вздохнул Твердоступ. Не нравилось ему, очень не нравилось, что люди отправляются в вояж за тысячи километров, не сказав куда. — Вы ведь, наверное, тоже время не теряли, Остап Павлович? — Поговорил со многими… О Дзюбе. Ну и с теми, кто последний месяц выезжал из Спаса. Ничего особенного. Но сам покойный был человеком своеобразным. Мягко выражаясь. — Такого типа не забудешь и через пятнадцать лет. Все греб и греб к себе. Так уж руки у него устроены… — Но сейчас он мертв… — Да, и умер он все-таки не от отравления. Он был еще жив, когда на него обрушился камнепад. Вот ведь в чем дело, Остап Павлович. Ранения, полученные Дзюбой, погубили его раньше цикуты. Я побывал перед отъездом у экспертов. Они назвали одно-единственное растение, которое содержит цикутотоксин, — вех. Он распространен по всей России. От Балтийского до Охотского моря. — Таежники, бывает, долго сидят без еды, — как бы про себя рассуждал Твердоступ. — Однако если ты едешь по реке, можешь остановиться, чаю попить. В котомке сухари, копченое мясо. Отличное, Виктор Федорович… Выходит, Дзюба спешил. Очень. Гнал во все тяжкие, чтобы успеть куда-то, к кому-то. Куда?.. — Может быть, и не к Радужному. Может быть, в Спас. — Да… Но он был отравлен. Следовательно, есть отравитель. Почему Дзюба отравлен и кто его отравил? А пока мы не знаем даже, зачем или почему он спешил. — Я слышал, — заметил Андронов, — что вехом травились дети и туристы. По недоразумению. Один раз какая-то очень уж дотошная хозяйка обвиняла пастуха в том, что он, мол, нарочно загнал ее корову в болото, где вех растет. Но чтоб мало-мальски таежный человек наелся веха — не бывало. — Может быть, не слышали потому, что люди просто-напросто пропадали в тайге? — Это бывало, — согласился Андронов. — Но ведь Дзюба почти ничего не ел… Смерть от цикутотоксина наступает и через двадцать—тридцать минут, а случается, что и через несколько дней. — Но признаки отравления появляются уже через пять—десять минут. Недаром вех зовут еще водяной бешеницей. И все же у нас очень мало фактов. Связь со Свечиным и Протопоповым завтра вечером. Возможно, у них есть новости… А пока, я думаю, продолжить изучение Дзюбы. В деталях восстановить его образ жизни, привычки, склонности, связи. Необходимо знать не только местных пассажиров вертолета, но и тех, кто в это время уходил в тайгу и где был. Непонятным остается, Виктор Федорович, одно немаловажное обстоятельство. Почему все это произошло у Радужного? Случайность? Роковое стечение обстоятельств? Или заранее обдуманные действия? Отравление, стрельба, обвал… — Мне думается, Остап Павлович, преступник действовал по наитию. Плана, заранее обдуманного, у него не было. Отсюда и этот ералаш в поступках. Неопытный, импульсивны” человек, он метался, пытаясь во что бы то ни стало скрыть следы. — Может быть… Может быть. И все-таки, почему именно у Радужного? — Обычное место встречи, — заметил Виктор Федорович. — Тогда следует предположить, что Дзюба был знаком со своим убийцей, хорошо знаком! И при чем тогда во всей этой истории козел, которого, надо полагать, убил Дзюба? Ведь экспертиза подтвердила, что корневщик мог убить животное. Их смерть, можно сказать, наступила одновременно. По крайней мере, произошла в один и тот же день. — По-моему, Остап Павлович, надо ждать вестей от Свечина и Протопопова. Если у Дзюбы были еще корни, кроме тех, что остались в котомке, то будет ясен мотив убийства, отравления. Его ограбили. Но забрали не все, а только часть, чтоб запутать следствие. Утром Виктор Федорович решил познакомиться и поговорить с родными погибшего. “Дзюбина хата” — так все и сам покойный называли крепостицу из бревен в обхват — была, не в пример другим домам, огражденным хилыми плетнями, обнесена дощатым забором. На калитке висела жестяная табличка с надписью масляной краской: “Осторожно! Злая собака”. Рядом с калиткой проволочка, очевидно, к звонку. Андронов дернул. Раздалось бряцанье бубенца. В подворотне сердито, но без лая фыркнула собака. Потом послышались легкие, будто невесомые шаги. Постукивали один за другим какие-то запоры. Наконец дверь открылась. — Совсем забыла, что хозяин помер. Законопатилась на все задвижки, — вместо приветствия пробормотала худенькая сутулая женщина. — Вы жена Петра Тарасовича? — спросил Виктор Федорович. — Вдова уже… — и махнула рукой. — Хозяйка теперь, выходит. — Разве вы раньше ею не были? — Отмучилась… Двор, открывшийся Андронову, был, что называется, вылизан. Видимо, каждая вещь имела свое, только ей предназначенное место. Лишь у калитки валялись дубовые засовы, только что брошенные хозяйкой. В комнатах не ощущалось никакого беспорядка, какой бывает в доме внезапно и трагически погибшего человека. Лишь зеркало было завешено простыней. Тяжеловатая дорогая мебель выглядела словно сконфуженной среди светлых, медового цвета, выскобленных стен. Мебели явно не хватало света, чтоб, как говорят, “глядеться”. От сутулости, верно, руки Авдотьи Кирилловны казались очень длинными, а ее привычка смотреть исподлобья, напряженно, будто угадывая мысли собеседника, словно гипнотизировала. — Большое у вас хозяйство. Управитесь? Трудно будет. — Трудно… — неопределенно проговорила Авдотья Кирилловна. — Известно. Две коровы, свиньи, овцы, куры… ульи, сад, огород… А работников всего десять. — И женщина вытянула крупные, узловатые руки с широкими, красными, припухшими пальцами. — Сын поможет. — Нет. Уедем с ним в город. Покойник все командовал, командовал. В черном теле держал. Оттого сын и на стройку утек. Пусть теперь вздохнет. Поживет по-людски. — Ваш сын дома, Авдотья Кирилловна? — Нет. — Он в Спасе? — Тут. — Мне бы его повидать хотелось. — Не девушка… Чего его видать? А вот лодку пашу угнали. — Кто? — Ваши. Самсон и этот… чистенький. Посмотришь на него — прямо с витрины. Из района который. Следствие ведут. А закон — тайга, прокурор — медведь. — Я тоже когда-то здесь жил. — Помню. До города уже дослужились. Начальство… А Самсон тут и зачах. Судьба. Она тенью за человеком ходит. “Неужели ей всего сорок лет? — с недоумением подумал Андронов. — Так состариться! Дорого же ей досталось хозяйство…” — Пригонят вашу лодку. Отдадут. — Калиткин и Храбров? Нет. Скажут, бригадная. Мы, мол, за нее и тем-то и тем-то заплатили. — Значит, она артельная. — Петро Тарасович говорил — его. Сам мастерил. Когда ж нам корешки отдадут? — поинтересовалась Авдотья Кирилловна. — Поди, бригадные так поделят, что достанется с гулькин нос. — У них с Петром Тарасовичем свои расчеты. — Ясно — не наши. “Да. Держал ее Дзюба в руках крепко. Тени несогласья не терпел. А платье на ней дорогое… Совсем новое, но шила, видно, сама…” — Баловал вас муж… Авдотья выпрямилась, точно ее ударили в подбородок, даже сутулость пропала. — Баловал… — Она подошла к трехстворчатому шифоньеру, распахнула. — Баловал. Вот это — двадцать лет назад куплено. А вот — десять висят, по году прибавляйте. А потом отрезы пошли. Все ново, все цело, все лежит. Пять пар туфель я за двадцать лет заработала. Вот. Два костюмчика детских- на шесть и на пятнадцать лет. Все не надевано. Некуда было надевать. Это Петра Тарасовича костюм. Говорил, довоенный. — Зачем вам все это? — неожиданно сорвалось у Андронова. — Добро… Нажито. Сыну останется. — И богат Дзюба? — Хватит Леониду, чтоб жить не по-нашему. Как мне только во сне снилось. — Пил Петро Тарасович? Вдова покосилась на кухонную перегородку, словно и сейчас там мог сидеть хозяин. — Выпьет стакан самогону, посидит, хлебом занюхает… Ждет, пока в голову ударит… “Самогону”… — повторил про себя Виктор Федорович. — Ведь на спирту настаивают женьшень. Пил ли его Дзюба?” И Андронов спросил об этом у вдовы. — Как же! Такому бугаю еще лет тридцать жить бы да жить. Да дума — за горами, а смерть — за плечами. — Где ж он самогон гнал? Дома? — У себя на заимке. Тут нельзя — Самсон. И на заимке-то с предосторожностью. Спирт денег больших стоит… А брюхо добра не помнит, говорил Петро Тарасович. — Не болел Дзюба? — Покатается иной раз с печенью, а так особо не жаловался. Они вышли из дома. Собака, лежавшая у калитки, понуро поднялась, отошла в сторону. — А на калитке написано: “Осторожно! Злая собака”, — сказал Андронов. — По хозяину тоскует. Пятый день не жрет. Похоже — сдохнет. Леониду сказать, чтоб к вам зашел? Невесело у нас… Действительно, выйдя со двора Дзюбы, Виктор Федорович как-то свободнее вдохнул чистый воздух, напоенный и свежестью близкой реки, и ароматами тайги. “Тяжеленько жилось Авдотье, да, наверное, и Леониду, — подумал он. — А самому Дзюбе? Экий скупой рыцарь двадцатого века. Скупой? Нет, что-то другое. Жене в год по платью, по отрезу. Пять пар туфель. Сыну костюмы “на шесть и на пятнадцать лет”. Мебель. “Выпьет стакан самогону. Ждет, пока в голову ударит”… Даже здесь расчет!” Андронов рассказал следователю прокуратуры о своем посещении вдовы, о привычках и характере Дзюбы. — Вот и выяснилась весьма существенная деталь, — добавил Виктор Федорович. — Дзюба выпил яд, очевидно подмешенный в спирт. Но это было чье-то угощение. Вот зафиксированный в протоколе список вещей в котомке. Среди них — “фляжка алюминиевая армейского образца. Наполнена жидкостью с запахами самогона и специфическим — женьшеня”. Результат химического анализа: “Спирт с большим содержанием сивушных масел — самогон. Настойка корня женьшеня”. Вынул же Дзюба из котомки только кружку. Наверное, и еду. Но ее птицы могли растащить. Пил же Дзюба спирт, а не самогон. Таково заключение экспертизы. Спирт! — А если там никого не было? — Твердоступ прищурил один глаз. — Если отравитель оставил Дзюбе спирт? Тогда все-таки следует предположить: у Дзюбы был тайный сообщник. Доверенный человек. С ним Дзюба, видно, вел дела не один год.*
Ливень ударил сразу после полудня, но Самсон Иванович не повернул к берегу. Вымокшие до нитки, уже в сумерках, они увидели на яру костер и пристали около отесанного кола, белевшего в полутьме. Он был прочно вбит в расселину каменной стены. — Может, это не корневщики? — спросил Кузьма. — Боле некому… После дождя небо очистилось, а пунцовая заря долго не гасла. Самсон Иванович впотьмах искал тропку наверх, чертыхался, поминал корневщиков недобрым словом за то, что они, заслышав мотор, не спустились навстречу. Наконец они поднялись на яр. Под высокими липами у костра полулежали двое. Над огнем висел парующий котелок. Очевидно, корневщики недавно вернулись и готовили ужин. — Что не встретили? — молвил Самсон Иванович, выйдя из тени к свету. Оба корневщика разом обернулись. Было видно, что они ожидали кого угодно, только не участкового. Поднялись, сделали по нескольку шагов навстречу. — Гость-то какой! — всплеснул руками заросший по глаза мужичонка и по-бабьи хлопнул себя по ногам. — Да не один!.. Милости просим! — Здорово, Терентий, — сказал участковый. — Соскучился, что ли, Самсон? Чего дома не сидится? — спросил второй корневщик. — Аль запрет какой на корешки вышел? — Да вот… — Самсон Иванович повел своим длинным носом, — учуял вкусный запах. Дай, думаю, поужинаем кстати. Решил вот, Серега, к тебе в гости напроситься. А? — Ангирчи угостил, — улыбнулся конопатый Серега, мужик с редкой клокастой бороденкой. — Еще когда подымались… Добрый человек. Хорошо копчена изюбрятина. — Чую, чую… — добродушно отозвался участковый. — А это товарищ из района, — кивнув на Кузьму, добавил он. — Очень… очень… — кланяясь, подскочил к Свечину Терентий, а Серега, кивнув, пробурчал что-то неразборчивое себе под нос и опять улегся у огня. — Поздравить вас надо, мужики! — улыбнулся Самсон Иванович. Терентий захихикал: мол, шутит начальство, понимаем. А Серега, скривив губы, цыкнул слюной в костер. — Неужто сохатых разрешили без лицензий бить? — С находкой вас… — присаживаясь па валежину у огня, ласково продолжал участковый. — Ты что, Самсон, белены объелся? — Бойкий мужичонка принялся подпрыгивать, размахивая руками, как-то по-куриному и квохча бросать слова, словно они жгли ему рот. — Типун тебе на язык! Едва дорогу оправдаем. А харч? “С находкой”! Да в середине сезона… Тьфу, тьфу… Эк шутить! Сам знаешь, люди мы не государственные. На своп страх и риск идем. Ни черта пет. Три сопки обломали-пусто. “С находкой”… Да этот… Дзюба! Туды его… Сутки в таборе провалялся — и вон из тайги. Печенку схватило. Ишь! Темнил что-то. Глаза у него не больные — ясные. Вот те крест — не так что-то. Будто я его не знаю! Потом — у Лысой сопки — дымок… — Не пыли… — глухо буркнул Серега. — Столько намельтешил. Не продохнешь. Тебе, Самсон, Дзюба находкой хвастался? — Нет, Ангирчи сказал. — Ангирчи? — Серега быстро, не по возрасту, сел, скрестив ноги, плюнул в огонь. — Хм… Ангирчи… — Значит, не находили вы крупного корня? — Да не смейся, Самсон! — вновь закудахтал Терентий. — Не пыли… Не пыли, Терентий! Затоковал. Погодь, Самсон. Ангирчи сам у Дзюбы большой корень видел? Какой корень? Серега подался к участковому, будто готовясь к прыжку. Его темные глаза сузились в щелочки, а клокастая борода как-то странно зашевелилась в разные стороны. И тут же корнев-щнк расхохотался, показав два ряда ослепительных зубов: — Ловишь, ловишь, участковый! Поклеп на Дзюбу возводишь. — Погиб Дзюба. То ли пожав, то ли передернув плечами, Серега точно сказал: “Все может быть… Все под смертью ходим… Только, если погиб Дзюба, при чем здесь корень?” Терентий же присел на землю и, схватившись за щеку, постанывал, словно у пего разболелся зуб. — Мы на вашей моторке приехали. Можете посмотреть, — сказал Самсон Иванович, будто именно этот факт неопровержимо свидетельствовал и с полной очевидностью доказывал, что Дзюба погиб. — А корень? Корень цел? А, Самсон Иванович? При вас? — Серега сглотнул нечто застрявшее у него в глотке, а вопрос его прозвучал до странности вежливо. — Нет его… Другие вроде целы. А большого корня нет. — Хи… Хи-хи-хи… И не было. Совсем не было. Сболтнул Ангирчи. — Не пыли! Кто украл? Наш он! Самсон Иванович, наш ведь? Мы в бригаде с Дзюбой. Что ж… он по дороге мог найти. Остановился отдохнуть — увидел. Он бы обязательно с нами поделился. Старшинка наш. Бригадир и учитель. Какой человек! Ангирчи сказал — большой корень? — Ангирчи сказал — сорок соболей стоит. — А то и все пятьдесят, — добавил Кузьма. Удивление и корысть, проступившие на лицах корневщиков, даже позабавили Свечина. Так легко и просто примирились бригадники со смертью своего “старшинки” и так всполошились, узнав, что в “наследство” им достанется корень стоимостью в сорок-пятьдесят соболей. У костра стала глухая тишь. Булькало в котелке варево. — Ах, хи-хи-хи… — запрокинул голову Терентий, подняв к небу густую мелкокольчатую бороду. — Держи, Серега, карман шире! И найдут, да нам — шиш! — Почему же… Почему? Нет такого закона! Верно, Самсон Иванович? Не крадено! Най-де-но! Тогда- в бригаду. Вы не беспокойтесь, Самсон Иванович. — Серега снова подался к участковому, но теперь глаза его были широко открыты, голова чуть склонена набок, а руки прижаты к груди. — Мы по справедливости. И ему, погибшему безвременно… его часть… сполна выделим. По справедливости. Правда, Терентий? Ведь выделим? Вы, Самсон Иванович, не сомневайтесь. Сами знаете. Мы не какие там-нибудь. Мы люди. — Люди… — нахмурившись, протянул Самсон Иванович. — А такое зачем творите? Из какой корысти? Участковый, не вставая, протянул длиннющую руку к котомке, пошарил в ней и вынул небольшой, в ладонь, конверт-лубянку из тополиной коры. Раскрыв Лубянку, Протопопов протянул ее Сереге. Кузьма, сидевший рядом с корневщиком, увидел на подстилке из мха крохотный, в полмизинца, тощий корешок, схожий с корешком петрушки, и два хилых листка на стебельке. А меж тенетами мха запутался какой-то светящийся голубовато-серый жучок. — Не наш панцуй! Не наш! — замотал головой Серега. — Враги мы себе? Его через три года или через пять лет выкопать — другое дело. А это ж погодок. Пестун, можно сказать. Не цвел еще. Не взрослый. Не-ет. К Сереге подскочил Терентий. — Хи-хи, — не то посмеялся, не то гмыкнул он, — нет такого мха здесь, Самсон Иванович. Как есть нету. Хоть все тутошние сопки облазайте. Нет. А этот грибок… — Терентий выковырнул то, что Кузьма принял за светлячка, — этот грибок местах в пяти и всего видел. Редкий. Ночью, однако, увидел раз такой пень… весь мерцает, играет зеленым, с желтизной, с голубизной. Ну, думаю, пропал. Крестился, чурался — мерцает и прямо на меня вроде движется. Стрельнул… хи-хи… по привидению. Да кубарем… Утром не утерпел — слазил. Грибочки махонькие облепили пень. Где ж его погибель нашла? — без перехода спросил Терентий о Дзюбе. — Около Радужного, в скалах. Зашел в эти Чертовы скалы, порешил козла. От выстрела пошел обвал. Вот и засыпало. Терентий поднялся, затеребил пальцами бороденку. — От то-то… В прошлом годе хотел я там поохотиться… сбоку издаля… Не пустил он меня. “Не дури”, — сказал. Однако. Не верил я, что был у Дзюбы большой корень. А теперь уж совсем верю, что был! Вот как перед истинным говорю вам, Самсон Иванович: был. Существовал обязательно! Хоть голову на отрез дам! — С такой находкой далеко не уйдешь, Серега знает, — сказал о себе в третьем лице Серега. — Куда?.. Так что, как обнаружите его, — сразу нам. В крае только слово сказать — во всех заготконторах ждать будут. Как миленького. Объявится — тут его и хвать. Протянув свои длинные ноги, участковый вздохнул: — Доказать надо, что корень был и что он у Дзюбы украден. — Это уж ваше дело, Самсон Иванович. Вы — власть, вы и докажите. Как же иначе? Нас ограбили. Шутка ли! Я за двадцать лет корневки столько не заработал. Трудно вам будет. Да назвался груздем — полезай в кузов. Найдено бригадой — в бригаду и возверните. Серега всегда все по закону, по справедливости. Мы, Самсон Иванович, труженики тайги, и прочее. Что потопаем, то и полопаем. — Так вы, Терентий Савельич, — обратился Протопопов к пышнобородому, — говорите, что после ухода Дзюбы видели дым костра у Лысой сопки? — Видел, видел, Самсон Иванович. С левой стороны от вершины. Как от нас смотреть. — А когда Дзюба ушел? — На новолунье. Хмарилось, да попусту. — На новолунье — три недели назад… Находки у вас хорошие. Поэтому заторопился, может? Котомка его цела. Видел ваши корешки. — Удачлив, удачлив он, Самсон Иванович. Так удачлив, проклятый, царство ему небесное… — Ты погоди, Терентий, не пыли… Вот списочек, между прочим, Самсон Иванович. Итого — триста шестьдесят четыре грамма. Все — первый сорт! Серега тут толк знает. Свечин не сдержал улыбки: до того по-детски наивно скрытничали и простодушнейше признавались бородатые корневщики. — Всё на месте. А сортность в заготконторе определят. — Были первосортные, — упрямо проговорил Серега. — Знаем мы, пока из ваших рук в заготконтору попадут… Дадут за женьшень цену петрушки. Нам жить надо, кормиться. И мужик лет пятидесяти с гаком, упорно звавшийся Серегой, принялся бубнить, что заработок идет на троих и даже с большим корнем, который, конечно, найдут, каждому все равно достанется понемногу. Нельзя, мол, считать, будто эта находка оправдывает “хожение нонешнего года”. В прошлом вот нашли кошкины слезы, а три года назад и обувку не оправдали. Самсон Иванович по виду слушал и не слушал сетования Сереги. Он изваянием сидел у огня, как тогда вечером, когда ужинал с Ангирчи. Его сухое лицо, словно сплетенное из канатов, замерло. Крепкие руки его, лежавшие на острых коленях, казались высеченными из камня. Стараясь не перебивать бормотание Сереги, Терентий пододвинулся к Кузьме и тихо сказал: — Лапнику поди наруби. Спать-то на чем будете? Кивнув, Кузьма захватил топор и отошел от костра. Несчастный случай на охоте, в который поверили все, теперь, как казалось Свечину, превращался в нечто другое. Тот, кто украл или кому Дзюба передал корень, мог его и убить. Сорок соболей — четыре тысячи! Еще в милицейской школе Кузьма слышал, что в тайге, понадеявшись на безнаказанность, убивали охотинспекторов и лесников всего лишь “за сохатого”. А сохатый “тянул” едва на сотню с небольшим! А тут не только в деньгах дело: корень редчайший. Он вздохнул полной грудью прохладный до остроты, душистый и невесомый воздух, переложил на другое плечо охапку веток и, пройдя еще с десяток шагов, бросил их у костра. — А, это ты, Кузьма… Догадался, хорошо, — встрепенулся Самсон Иванович. Свечин хотел сказать, что, мол, догадался-то не он, а Терентий ему подсказал, но решил, что не в этом суть, и достал из-за голенища ложку. Котелок с похлебкой стоял на земле. Терентий и Серега вытащили из своих мешков по сухарю и собрались приняться за еду. Самсон Иванович вынул из мешка буханку, вторую из трех, что передал ему Твердоступ перед отъездом, отрезал всем по ломтю, а остальное убрал. Терентий принялся цыкать зубом от удовольствия, а Серега понюхал хлеб, как цветок, отломил половину и спрятал. — Ишь, со свежим хлебом ходят… — уписав пол-ломтя, буркнул он. — Как же вы обратно добираться думаете? Кузьма хотел сказать: “Вертолет вызовем”, но сдержался, поперхнулся и зашелся кашлем. Когда наконец Свечин успокоился, Самсон Иванович сказал: — Подбросить бы нас надо. До Черемшаного распадка. — Начётисто… — ответил Серега. — А на чем бы вы возвратились? Мы же вас выручили, лодку пригнали. — Сезон в разгаре. Да и власть должна заботиться о нас. На то она и власть. Нет? Увидел непорядок — исправь. Нет? Плот бы вы связали. Вниз-то за полдня добежите. Участковый кивнул: — Ясно… “Ну и жлобы!” — подумал Кузьма. — Чего ты, Сережа, гоношишься? Дело ведь и паше. Они ж не гуляют — наш корень ищут. — Должны — вот и ищут. А Сереге шастать туда да обратно резону нет. У участкового своя посудина есть. Мотор, бензин государственные. Чего на своем не пришел? Жалко? Сколько нашего бензина спалил! Кузьма не выдержал: — Так и Дзюба приехал бы на лодке! Серега мотнул головой, усмехнулся: — От… городские… Он бы с нами остался, корневал. Добыток в бригаду пошел. Эх, что тебе говорить… — Прокачу вас, Самсон Иванович, — закивал Терентий. — Может, пофартит… Не то что корень сам, а хоть местечко, где рос, обнаружите… При таком большом должны быть и помене. Серег, может, и нам туда податься? — Не пыли… Засвербило! Ну, найдет. Корень от нас не убежит. И место мы найдем. На будущий сезон туда подадимся. А окажется, что Ангирчи сбрехнул, так мы и этот сезон себе не испортим. Голова! Тока, если поедешь с ними, мои находки за то время в общий котел не пойдут. — Бога побойся, Серега! — Умные люди говорят: нету его. — Серега подался к Терентию. Кузьме показалось, что сейчас он язык покажет своему напарнику, так озорно сверкнули его глаза. А может быть, в это мгновение ярче полыхнул костер. — Прокатишь? — спросил Самсон Иванович. — Крепкий человек был Дзюба, — кивая, ответил Терентий, — а все ж человек… Ужин был съеден, чай выпит. Все стали устраиваться на ночь. Кузьма лег навзничь. “Черт возьми! — думал Кузьма. — Сколько надо терпения, чтоб ладить вот с такими… Сколько лет надо потратить, чтоб завоевать их доверие, уважение, чтоб они вот так простодушно признавались во лжи… Сколько лет надо жить их интересами, входить в мелочи быта. Или просто надо обладать талантом… Смешно! Талант участкового инспектора районного отдела внутренних дел… Смешно? Нет. Действительно, талант нужен. Талант общения с людьми. А он у меня есть? Может, я, как мальчишка, научившийся лишь бренчать на рояле, вообразил себя композитором? Пусть и не великим”. Где-то над черными и чуть подсвеченными снизу костром купинами ветвей блестели звезды. Меж сучьев беспорядочно метались, мерцая неверным, зеленоватым колдовским огнем, крупные светляки. Чуть слышно шипели в огне валежины, и совсем едва-едва доносился легкий, почти призрачный звон воды в камнях. Потом звезды как-то поплыли и растаяли. — Пора! — ударил в уши громкий голос Самсона Ивановича. Кузьма вскочил и ощутил, что основательно продрог. Солнце еще не взошло. Согрелся, пока бегал с чайником к реке да на одном дыхании взбирался обратно на яр. Плотно позавтракали, а потом Терентий со вздохом отправился их “прокатить”. На воде стало теплее. В мягких сумерках паровала река. Пряди змеились по течению подобно поземке. Протопопов сел у мотора, а Терентий свернулся клубком и дремал, привалившись к боку Кузьмы. Свечин думал: смогут ли они найти в тайге место, где был якобы вырыт женьшень? Ведь пока они не найдут это место, не установят, что именно здесь и именно крупный корень выкопан, все узнанное ими — разговоры, пустые разговоры. А как отыскать его? Крупный корень, вернее большая лубянка-конверт находилась якобы в лодке Дзюбы, и видел его только Ангирчи. Было это седьмого августа. Ушел Дзюба из табора первого. Спуститься на моторке от лагеря корневщиков до Ангирчи — три дня, может, и четыре. Не больше. Где был Дзюба остальные три? Дотронувшись до плеча Терентия, Свечин перекричал рокот мотора: — Терентий Савельич, когда уехал Дзюба? — Первого, первого! — Когда? — Не на ночь же глядя! “Значит, утром, — подумал Кузьма. — А если мы дойдем до Черемшаного распадка за полдня… За столько же дошел туда и Дзюба. Первого же августа он примерно в два—три часа пополудни остановился. Дела в тайге начинаются с утра. Светает чуть позже четырех. Вот тогда Дзюба отправился в тайгу, к корню… Знал ли он, где растет женьшень? Должен был знать. Не пошел же наобум? Шел день, полтора… Иначе он не смог бы за то же время вернуться к лодке и седьмого быть у Ангирчи… А если он шел и ночью? Две ночи — пятого и шестого. Седьмого к вечеру… У Радужного. Получается. Если он плыл и по ночам, то ушел от Черемшаного пятого и, против обыкновения, едва не в сумерках! Неужели он шел полтора дня, чтоб дойти до места, где рос женьшень! И он знал где! А мы? По следам? После ливня! Смех… Да! Сколько времени надо, чтоб выкопать корень? Выкопать… Корешок… Ну, пять, десять минут. Не целый же день!” — Терентий Савельич! — Свечин вновь наклонился к спутнику и громко спросил: — Долго женьшень выкапывать? — Какой?.. — Большой. — Два дни. — Сколько? — Два дни. Может, и боле. — Так долго? — Это скоро. Кто очень хорошо умеет и знает, как надо… — А самый маленький, самый… — Какой корень… Можно и день потратить. Кузьма видел и не видел, как порозовели, а потом стали медовыми облака под солнцем. Из прибрежных кустов вылетали голубые сороки. Надоедливо-ритмично стучал мотор. “Вот так раз! — продолжал думать Свечин. — Два дня выкапывать корень! Как это так? Пошутил старик. А если нет? Тогда место, где рос женьшень-великан, неподалеку от реки. Вероятно, мимо Лысой сопки мы прошли ночью. Я ее не видел. Вечерние и утренние сумерки были густы… Два дня выкапывать корень!” К Черемшаному распадку они подошли после полудня. Терентий Савельич тотчас уехал обратно. Постук мотора долго слышался меж отвесными берегами. Распадок-ущелье разрезало каменную громаду и резким поворотом уводило куда-то в глубь плато. Узкая галечная полоса — берег. Грязные полосы на камнях, видневшиеся на уровне двух-трех метров, говорили о том, что во время сильных дождей в верховьях вода здесь поднимается очень высоко, и беснующаяся река ревет в тесном русле на протяжении нескольких километров. И иного выхода на плато из ущелья, кроме Черемшаного распадка, поблизости нет. — Почему так долго выкапывают корень? — Ювелирная работа, Кузьма. Доведется — увидишь. — Вы тоже считаете, что если корень старый, то он рос не один? — Кто знает? Женьшень — растение таинственное. Остаток древней флоры, обитавшей здесь то ли миллионы, то ли десятки миллионов лет назад. Реликт. Как тигр, к примеру. А в те времена женьшень, наверное, встречался так же часто, как теперь кошачий корень. Тогда он, может, рос и под Москвой, и на Таймыре, — ответил Самсон Иванович. — Чего же он там не выжил, этот реликт? — В прошлый, третий ледниковый период до нашего края ледники не доползли, не спустились. “Третий ледниковый период… Что-то знакомое…” — подумал Свечин, но память более ничего не подсказала. Они неторопливо продвигались в глубь ущелья. Прошедший вчера ливень крепко нахозяйничал в узком и глубоком каньоне. Неожиданно Самсон Иванович повернул обратно к реке. — Он должен был предусмотреть… Состорожничать… — пробормотал участковый. — Что, что? — Надо поискать, где он оставлял лодку. Он знал, что будет гроза. Помнишь, в тот день мы с тобой дневали на заимке… Тогда, еще по дороге в леспромхоз, прошла гроза? — Да. — В тот день он приехал сюда. Он тоже, как и я, по признакам должен был догадаться о ливне. И спрятать лодку. Вытащить ее выше отметок на камнях, оставленных водой. — Поднять лодку на три метра по такому крутому склону? — удивился Свечин. — Одному? — Остаться без лодки… Еще тяжелее. Они возвратились к гирлу каньона. — Если он прятал лодку, то на правом склоне. — Конечно… — удовлетворенно заметил Самсон Иванович. — Там течение спокойнее. В левый же борт вода бьет со всей силой. Она врывается с реки и бьет в левый борт каньона… — Известно, — поощрил Самсон Иванович. — Веревка у него была. Сами в лодке видели. Капроновый шнур. Такой и полтонны выдержит… Кузьма, разговаривая, внимательно осматривал склон, поросший по трещинам и выступам травой. Кое-где за крохи почвы цеплялись и деревья. Корни их наподобие змей обвивали камни и уползали в расселины в поисках земли. Но редко какое дерево вырастало сильным. Большинство засыхали и даже обваливались, расщепив скалы своими корнями. Лишь метрах в ста от начала каньона на небольшой площадке рос молодой кедр. — Самсон Иванович! Там бат! Такой же, как у Ангирчи! — Что? Где? Забыв об осторожности, они оба, приникая телом к скале, цепляясь за выступы и трещины, полезли к густо поросшей кустами верхней террасе. И там они увидели долбленку Ангирчи. Лодка была пуста. Только шест, с помощью которого толкают бат против течения, оказался привязанным к борту. — Это лодка Ангирчи… — как-то странно, врастяжку проговорил Протопопов. — Что же ему здесь надо? — Честно говоря, Самсон Иванович, я предполагал что-либо подобное. Помните его странное молчание… Он в конце разговора перестал отвечать на вопросы. Тогда вам это не показалось странным. А жаль. — Я, Кузьма, и сейчас не верю, что Ангирчи имеет хотя бы малейшее отношение к делу Дзюбы… И мы не нашли места, где оставлял лодку сам Дзюба. Усмехнувшись про себя, Свечин двинулся по террасе за Самсоном Ивановичем. Ему думалось, что Дзюба здесь мог и не быть. Ангирчи оговорил Петра Тарасовича, сказав, что Дзюба вез “большую котомку”. По каким-то причинам старик сам расправился с корневщиком… Дальнейшее развитие этой версии Кузьме пришлось прервать. — Вот здесь стояла лодка Дзюбы! — твердо сказал Протопопов. — Но как Ангирчи догадался, что сюда приходил Петро Тарасович? — А в сговоре они каком-то не могли быть? — В сговоре… — Да. Именно в сговоре! — Сговор… Сговор… О чем, по поводу чего? — Я высказал предположение вообще… — неловко оправдался Кузьма. — Вот чувствую какую-то связь между Дзюбой и Ангирчи. Сам Ангирчи натолкнул меня на подобную мысль. Помните его последние слова? “Мой много знай… Мало говори… Посмотреть, однако, надо… Своими глазами гляди…” — Ты хочешь сказать, что Ангирчи едва ли не прямо предупреждал нас о своем походе? — Выходит, что так, Самсон Иванович. — Что ж, двинемся по их следам. Поглядим, зачем приходил сюда Дзюба и что тут понадобилось Ангирчи. Они спустились с террасы на дно каньона и пошли по острой щебенке, устилавшей ущелье. Постепенно дно поднималось, и скоро они вошли в густые заросли иван-чая и кустарники. Сюда вода при подъеме не добиралась. Вдруг что-то в зарослях стукнуло, мелькнуло, и Протопопов, шедший впереди, охнув, завалился на бок… Кузьма бросился к нему и увидел стрелу, настоящую оперенную стрелу, вонзившуюся чуть выше правого локтя Самсона Ивановича.*
В тот вечер, когда Леонид Дзюба по приглашению Виктора Федоровича зашел с ним в дом Протопопова, интересного разговора как-то не получилось. На вопросы об отце он отвечал односложно, неохотно. А когда Остап Павлович спросил, хороша ли была охота в Лиственничном, Леонид заверил, что не очень. — Да вот хоть у Ермила Копылова, Федьки Седых да Васьки с Петькой Ивлевых спросите, — заметил Леонид. — Они тоже палили на кордоне. — Вы с ними виделись? — поинтересовался Твердоступ. — Я на них и здесь насмотрелся. А настоящая охота только начинается. — Снова собираетесь? — Отсюда не уеду, пока про отца все толком не узнаю, — нахмурился Леонид. “Прямо на вопрос не ответил…” — подумал Андронов. — Чего ж узнавать? — Вот теперь товарищ Андронов здесь объявился. И вы, товарищ Твердоступ, не уезжаете. Инспекторы — и наш из райотдела — в тайге… Не все, значит, просто и ясно. А? — Ваше присутствие в Спасе ничего не изменит, — сказал Твердоступ. — Отец хорошо знал лесничего Ефима Утробина? Дружили? Он к вам часто заезжал? — Хотите поохотиться — компанию составлю. А про Ефима не знаю. Батя мне не докладывал. — Что ж… — Андронов подумал, что надо проверить у лесничего, охотились ли там и кто именно, и про его отношения с Дзюбой-старшим узнать. — Вот послезавтра и подадимся. Время было не позднее, и после ухода Леонида Андронов отправился в чайную, своего рода местный мужской клуб. Там Виктор Федорович пробыл допоздна. Из разговоров он узнал обо всех отлучках жителей Спаса за последний месяц: кто, куда и зачем ходил в тайгу, когда ушел и быстро ли вернулся. Не верить было просто невозможно. Тут же в непринужденной беседе это подтверждалось свидетелями, большими знатоками здешних условий. Когда он вышел из чайной, совсем стемнело. Проходя мимо клуба, Виктор Федорович на минуу задержался в раздумье. Из широких окон падали на вытоптанную площадку пятна света. Слышался четкий ритм чарльстона. Старательно “лягались” пары. Улыбнувшись, как ему показалось, удачному сравнению, Андронов направился в сторону больницы. “Вех… Да его полно около болот, в любой низине встретишь белые зонтичные цветы. А одного пористого, дырчатого, как сыр, корня хватит, чтобы умертвить десяток людей. Но каким образом заставили Дзюбу выпить яд? Если верить сообщению Ангирчи, которое передал по радио Свечин, к Радужному Дзюба приехал утром седьмого. Там его кто-то ждал, с кем он мог выпить. Может быть, и выпил с удовольствием. Ведь даром же! Потом… Трудно предположить, как будет действовать человек, отравленный вехом. Но кто мог отравить Дзюбу? Каковы мотивы? Свечин передал, что есть предположение: у Дзюбы в котомке могли быть еще корни или один большой корень, очень ценный. Но пока это лишь предположение. Надо точно установить, что корни — или один крупный женьшень — действительно найдены Дзюбой…” Матвей Петрович жил в небольшом домике на территории больницы. Врач пригласил Андронова в дом — семья ужинала, но Виктор Федорович отговорился и ждал доктора в беседке, у клумбы с душистым табаком. — Как вы думаете, Матвей Петрович, — начал Андронов, — это сделано местными? Если судить по характеру отравления? — Местные… Они больше верят в карабин. Сколько живу — не помню случая отравления. Тем более исподтишка. Тихой сапой. — На морщинистом лице врача проступили недоумение и брезгливость. Виктор Федорович в задумчивости барабанил пальцами по перилам. Цветы табака слабо светились в темноте и дурманяще пахли. — Матвей Петрович, я слышал, вам присуждают степень доктора медицинских наук… И даже без защиты диссертации. — Да… В здешних местах я проработал тридцать лет. Вел кое-какие научные исследования. Опубликовал около ста работ. Весьма различных. Но последние лет двадцать занимался женьшенем, проверял некоторые выводы по клиническому применению женьшеня. — Удачно? — Очень! — обрадованно закивал нанаец. — Самсон Иванович говорил, что женьшень — лекарство для здоровых. — Совершенно верно. — Зачем же лекарства здоровым? — М-м… Вы слышали о дамасской стали? Весь секрет ее крепости в особой закалке. Вот так же женьшень закаливает организм. Человек становится подобен дамасской стали. То, что для другого грозит гибелью, для него лишь испытание. Трудное, но испытание. Женьшень не дает бессмертия, но может продлить дни жизни. Он — не живая вода, человека не оскрешает. Однако помогает саморегуляторам организма держать его в параметрах, которые называются здоровьем. Поэтому женьшенем нужно пользоваться до болезни. — Как вы думаете, — спросил Андронов, — из котомки Дзюбы могли взять лишь часть корней? — Кто знает, Виктор Федорович, кто кого повстречал в тайге, кто с кем свел счеты… — вздохнул доктор. — Но отравление у Радужного… — Я думал об том, Матвей Петрович… Почему не в тайге, в глухомани, где, может, искать пострадавшего пришлось бы годы? Если вообще нашли бы… Почему в таком месте, где за лето и зиму проходит добрая сотня народу? — Да-да… — закивал доктор. — Так поступают, наверное, “вотще решась на злое дело…” — Как? Как вы сказали? — Так мог поступить человек “вотще (с отчаяния) решась на злое дело”. — Именно с отчаяния, — повторил Андронов. И поднялся. — Что ж, Матвей Петрович. Извините, что отвлек. Спасибо. Они расстались. По дороге к дому Андронов размышлял о том, что ему все-таки не совсем ясен этот Дзюба. Странен, замкнут и Леонид. На селе его считают нелюдимым. Скорее, наоборот. Но при вопросах об отце он отмалчивается, отнекивается, словно тень Петра Тарасовича стоит у него за спиной. Как же складывались отношения между отцом и сыном? С учительницей из спасской школы-интерната Виктор Федорович встретился на другой день. Агния Мироновна была в свое время классным руководителем группы, в которой учился Леонид. Седая, подтянутая женщина, с глубокими, “профессиональными”, как отметил Андронов, морщинами от крыльев носа к углам рта и множеством продольных складок на лбу, несколько удивилась приходу Андронова: — Дзюбу Леонида? Конечно, помню. Отличник. Но… — Агния Мироновна развела руками. — Неудобно говорить плохо о покойнике… Леонид, видите ли, был отличником поневоле. Раз я ему поставила тройку. До сих пор не могу забыть его лица — отчаянного, молящего… Спросила на перемене: “Что с тобой?” — “Не пойду домой… Отец…” — “Он тебя бьет?” — “Нет, отвечает, есть не даст. И страшно”. Попыталась поговорить с Петром Тарасовичем. Как вы думаете, что он мне сказал? “Вы учите, а воспитаю его я сам…” — А потом? — Леонид получал отличные оценки. Но любви к знаниям, к труду у него, по-моему, не было. И нет. — Больше вы со стариком Дзюбой не говорили? — Пробовала. В ответ — вопрос: “Леня плохо учится?” — “Нет”. — “Вот спасибочки”. И весь разговор. Для Леонида учеба была изнурительней рабского труда.*
На кордон Андронов с Леонидом уехали на следующее утро. До избы лесничего на берегу озера добрались к заходу солнца. Семейство Ефима Утробина обрадовалось приезду гостей, словно это был праздник в их бирючьей жизни. — Осень нонче, слышь, ранняя. Сентябрь вон когда придет, а глухари токовать пошли. Вчера слышал. — Спутал, поди, Ефим, — улыбался Леонид. — Обрадовать хочешь. Рано осеннему току быть. Перелетные — другое дело. — Рано! Сам знаю, рано! — Достав коробок спичек, Ефим спрятал его под столом. — А вот вышел заутро и… Тут лесничий защелкал ногтем по коробку, точь-в-точь как токующий каменный глухарь. Рассмеялись и гости, и дородная лесничиха, и их двое детей: подростково вытянувшаяся дочка и круглолицый мальчишка лет десяти. — Затемно отправимся, — продолжал лесничий, — на лодке дойдем до лиственничного бора. Там они токуют. Собак не надо. В бору сушь, а свету и прозрачности столько, что воробья на другой опушке увидите. Леонид сам очень осторожно завел разговор о своем пребывании здесь. Взрослые разговорились, а детишки отправились спать. — Да, Ефим, а когда мы с тобой тигрицу слышали, помнишь, в скалах ревела? — спросил Леонид. — Как — когда? — удивился Ефим. — Я тогда к таксаторам подался, а ты у озера ночевал. Вот когда. — День, число какое? — спросил настойчиво Леонид. — Число… Да третье. Я у таксаторов бумаги подписывал. Дату ставил. А на другой день ты домой отправился. Озерко на лодке переплыл, а там пеше. Лодку я потом взял. На обратном пути от таксаторов… Как и договорились, Ефим отвез их еще задолго до рассвета к Лиственничному бору. Они быстро поставили палатку, но костра не разводили. Изредка с озера доносилось мягкое, но четкое в чуткой тишине всплескивание рыбы. — Слышь, глухарь играет! — шепотом проговорил Ефим и присел на корточки, словно так было лучше слышно. Подражая Ефиму, Андронов тоже присел и услышал далекое-далекое постукивание, действительно напоминающее щелчок ногтем по спичечному коробку. — Недалече… В километре… — снова прошептал взволнованно Ефим. Они пошли в ряд. Бор был чист от подлеска, устлан мягчайшей хвоей и тонкими, хрупкими веточками, которые ломались под сапогами бесшумно. Пощелкивание слышалось все ближе. Ефим и Леонид пригнулись и перебежками начали приближаться к подернутой тонкой туманной пеленой мари. Передвигались они теперь только в то время, пока токовал глухарь. Выйдя на опушку, они не увидели его. Так уж получилось, что Виктор Федорович первым догадался поднять голову и различил на белой вершине лиственницы крупную черную птицу. Она сидела, вытянув шею и низко опустив как бы безвольно повисшие крылья. Андронов выстрелил из карабина навскидку. Глухарь дернулся, вроде стал падать, однако тут же вскинул крылья, звучно защелкал при взмахах перьями. Но полет птицы был неуверенным. Она быстро теряла высоту и силы, потом врезалась в гущу ветвей, с шумом, кувыркаясь, начала падать и тяжело ударилась о землю. — Н-да! — протянул Ефим. — С вами я хошь на кабана, хошь на медведя пойду. Подстрелили еще двух глухарей. Ефим заторопился. — Вам счастливой охоты, а мне — домой. С подполом возиться. Продукты надо впрок закладывать, а мышей из тайги понабежало видимо-невидимо. Нужно потравить вехом. — Вехом? — переспросил Андронов. — Ну да, — кивнул Ефим. — Соку из корней нажмем да и польем крупу. Крупу в подпол, дохлых мышей — вон. — Вех-то, поди, подсох, — заметил Леонид. — Да у нас есть, — ответил Ефим. — Только вот задевала жена куда-то бутылочку. Хоть и приметная — треугольная из-под уксусной эссенции, — да запропастилась. — Как же вы так неосторожно? — посетовал Андронов. — У вас же дети. — Они знают. Нечего за них бояться. Жена недавно мышей морила. И месяца не прошло. А этих тварей опять полно. — Что ж, бутылочка-то из-под эссенции недавно пропала? — Я ж и говорю — месяца не прошло. — Странно… — сказал Андронов и подумал: “Ничего себе для начала!” — Чего ж странного? — пожал плечами Ефим. — Сама хозяйка и поставила, да забыла куда. Она у меня может сковороду день-деньской искать. И Утробин ушел. Леонид и Андронов решили остаться до следующего утра. Ефим обещал заехать за ними. Часам к десяти каждый добыл по пятку крупных, тяжелых птиц. Хранить глухарей было негде, и пальбу решили прекратить. Вернувшись к палатке, плотно то ли позавтракали, то ли пообедали, выпотрошили птиц. Леонид набил тушки какими-то травами, чтоб мясо сохранилось подольше. “Дело ветвится, — несколько лихорадочно размышлял Андронов. — Только перед отъездом сюда мы с Остапом Павловичем прикидывали, кто был и кто мог быть у Радужного в начале августа. Список получился небольшой: Крутов, Телегин, ботанички… Предположительно, у водопада мог появиться Леонид. Он охотился на Лиственничном. А этот кордон хоть и немного в стороне, но на полдороге между Спасом и Радужным. Получается же, что не только Леонид, но и Утробин, вместо того чтоб пойти к таксаторам, мог завернуть к Радужному с бутылочкой из-под эссенции… Но бутылочку действительно могли и стащить… Кто? Леонид? Не слишком ли я разошелся?” — остановил себя Андронов. Он покосился в сторону Дзюбы-младшего. Тот лежал неподалеку от костра и глядел на серое, под стать небу, озеро. Погода так и не разгулялась. Еще с рассветом небо затянули тучи, низкие, тяжелые, с набрякшими днищами, из которых, того гляди, посыплет нудная, невесомая морось. Словно почувствовав на себе взгляд, Леонид полуобернулся к Андронову и мечтательно протянул: — Жизнь в городе вольготная! — Это как смотреть… — Андронову вспомнились слова учительницы Леонида: “Но любви к знаниям, к труду у него не было. И нет”, — и спросил: — Вы любили отца? — Гм… Люби не люби… Куда денешься — отец. — Вы когда вернулись в Спас после охоты здесь? — спросил Андронов. — Десятого. — Ваш отец, говорят, скопидомок был… — Как гроши наживаются — я знаю. Теперь тратить поучусь… — Леонид поднялся и пошел вдоль берега озера. Ветер дул ему в спину и уродливо косматил волосы на голове. До слуха Андронова доносилось быстрое и злое хлюпанье маленьких, торопливых волн.*
Участковый вскочил на ноги так быстро, что Кузьма не успел отстраниться, и оперенье стрелы мазнуло его по щеке. Й, пожалуй, именно это прикосновение убедило его, что виденное — не сон. Самсон Иванович выдернул стрелу из предплечья, охнул и присел от боли. — Достань бинт, Кузьма, — бросил он Свечину. — В котомке, в кармашке. Кузьма подивился его ровному голосу, умению владеть собой. Пока Свечин непослушными пальцами рылся в рюкзаке, Самсон Иванович положил стрелу па землю и, зажав рану левой рукой, шагнул в кусты, откуда несколько мгновений назад раздался щелчок. Разрывая вощенку, в которую был обернут перевязочный пакет, Кузьма шагнул за участковым и остановился, увидев в кустах нечто похожее на средневековый арбалет. — Что за черт… — проговорил Самсон Иванович. Он был бледен, посеревшие губы нервно кривились. — Кто?! — спросил Кузьма, помогая снять китель и заворачивая рукав рубахи участкового. — Кто это сделал? — Значит, точно вышли на след. Подожди… Что за черт… Самсон Иванович рванулся было в кусты, но Свечин удержал его: — Дайте перевязать. Дело паршивое… Стрела. Наконечник наверняка ржавый. Вертолет срочно вызывать нужно. — Места мы не нашли, где корень выкопан. — Самсон Иванович… — А вот ты ушел бы? А, Кузьма? — Ржавый, старый наконечник. Заражение крови может быть. — Ты мне не ответил. — Я молодой. Обошлось бы. — Э-э, да ты дипломат, — постарался рассмеяться Самсон Иванович. — Нет уж. Будем считать, что у нас сутки в запасе. Участковый посмотрел на повязку. Сквозь ватный тампон и бинт проступала кровь. — На фронте не такие “пчелы” жалили. Обходилось. Ты думаешь, сталь снарядов стерильная? Только вот “визитная карточка” мне не нравится. Вон, Кузьма, подними. Под кустом нож валяется. Нагнувшись, Кузьма увидел на земле финку в черных кожаных ножнах. — “Шварцмессер”? — Кузьма быстро глянул на участкового. — Он, — кивнул тот и, взяв оружие, стал пристально его разглядывать. — “Шварцмессер”. Телегина, метеоролога. Только странно… Как эта штука здесь оказалась? — Получается, Телегин здесь был. — Получается-то получается… — неопределенно проговорил Самсон Иванович. Последний раз Протопопов видел “шварцмессер” у Ивана Телегина два месяца назад, когда по пути в стойбище ночевал в домике метеорологов. Участковый знал, что Телегин очень дорожил ножом — единственной памятью об отце. И тут он почувствовал головокружение, покачнулся. Кузьма поддержал его. — Отвык, — сказал Самсон Иванович, словно извиняясь. — Очень уж неожиданно ударило. — Надо срочно вызвать вертолет. — Нам нужны сутки… Поговори со мной, Кузьма… Как-то не по себе. Давай, Кузьма, чаю попьем. — Самсон Иванович, вы можете руку потерять. И вообще… — Вот попьем чаю, найдем место, где выкопан корень… Потом подумаем “вообще”. По просьбе участкового Свечин заварил очень крепкий чан. Самсон Иванович, обливаясь потом, выпил четыре кружки. Затем они снова пошли к Лысой сопке, которая вздымалась уже совсем неподалеку. Самострел и стрелу взяли с собой. Чтобы не стереть отпечатки пальцев, которые, возможно, на них были, Кузьма обложил оружие огромными, в зонт, сочными листьями белокопытника. — Надо взять. Очень интересная вещь. Самострел, я помню, принадлежал Ангирчи… Нож — метеорологу Телегину… — Я как чувствовал, Самсон Иванович… Как чувствовал: не обошлось это дело без Ангирчи. — Подумать надо. Не торопись. Ангирчи ведь здесь после Дзюбы был. — А если он и в первый раз с Дзюбой приходил? Потом еще… И нигде нет следов человека, — сказал Кузьма. — Появятся, — уверил участковый. — Они есть. — Где? — Ты не заметил — кора с плавуна срезана. Молодое деревце смыло, занесло в распалок во время ливневого паводка. А кора с него сорвана. На подметки пошла. — Что же вы мне не сказали? — упрекнул участкового Свечин. — Я тоже не до всего сразу додумываюсь. Только теперь и сообразил. — Вам в больницу надо… — Вот найдем место, где корень выкопан, тогда… Они снова пошли по звериной тропе в сторону Лысой сопки. Она на самом деле оправдывала свое название. По склонам темнела тайга, выше виднелась кайма стланика, а сама вершина была вроде бы совсем белой и даже поблескивала на солнце. Настал полдень. Под пологом леса было душнее. Однако в подлеске все еще держалась обильная роса. Стоило притронуться к стволу, задеть плечом ветки, как сверху сыпался сверкающий дождь, звонко ударявший по жестким августовским листьям. — Вот и следы, — остановился Самсон Иванович. Кузьма подошел и взглянул из-за плеча Протопопова. Почва в неглубокой лощинке, которую пересекали участковый и Свечин, была вязкой, и среди толстых, крепких стволов высоченного дудника и белокопытника с зонтоподобными круглыми листьями Кузьма увидел сломанный кусок корья, а чуть дальше четко отпечатавшийся след сапога с окованным каблуком. — На Дзюбе были олочи, — припомнил Свечин. — Следы сапог Телегина. Метеоролога. Отдохнем давай, Кузьма. Кровь не остановилась. Повязка намокла. В голове стучит. Да и подумать надо. — Ведь все ясно… — Не совсем, Кузьма… — Протопопов присел на валежину. Свечин очень тщательно сделал несколько снимков, с ориентирами и масштабом, потом снял слепок со следов Телегина. — Что же не ясно, Самсон Иванович? — спросил он, подходя к участковому. Выглядел тот очень усталым, глаза запали, лоб покрыла крупная испарина. — Не нравится мне это, Кузьма. Неужели их было здесь трое? — Во всяком случае, есть кого подозревать. — “Подозревать”… Тяжело. Люди жили бок о бок со мною. Здоровались, смотрели в глаза, не отводя взгляда. — Чем же объяснить столько совпадений? Тайга не похожа на улицу, по тротуару которой проходят тысячи неизвестных людей, — проговорил Кузьма. — Пока неизвестных нет. Крутова ищут и найдут. А совпадения… Если сочинять, то можно объяснить все совпадения. Но их должны объяснить они — Ангирчи, Телегин, Дзюба. А обстоятельства… Корень — женьшень. Видимо, и за двадцать лет я не все узнал об этих местах. Что-то осталось секретом, который, похоже, разгадал другой. Дзюба, например. Свечин глянул на участкового искоса — не бредит ли? — и напомнил: — Дзюба мертв. А Ангирчи, конечно, все свалит на него. — Мертв… Но в данном случае говорить будут дела… Слова — что? И еще надо доказать, что самострел поставил Ангирчи. А Телегин… Не знаю… Ума не приложу, почему он тут оказался. Пока Кузьма укладывал фотоаппарат и прочие вещи в рюкзак, Самсон Иванович осматривался, будто только сию секунду пришел сюда. Когда Свечин был готов отправиться в путь, участковый посоветовал: — Идите по следам Телегина. Ангирчи шел за Дзюбой. — Нам, по-моему, лучше держаться вместе. Вы не дойдете. — Потом, потом. А то не успеем… Я не успею. — Иду, иду, Самсон Иванович, — заторопился Кузьма, поняв, что Протопопов держится из последних сил, а дел у них еще много. Главное, пусть участковый убедится, как Ангирчи провел его, воспользовался доверчивостью Самсона Ивановича. Самострел — старое, запрещенное оружие охоты. Это Свечин знал. И кто, кроме Ангирчи, мог воспользоваться им? Войдя в низинку, Кузьма двинулся сбочь от цепочки следов. Судя по отпечаткам, Телегин шел спокойно, ровно, не останавливаясь, очевидно твердо уверенный в правильности направления. Время от времени он преодолевал завалы, но и тогда Свечин без труда находил царапины и обдиры на трухлявой древесине. А в густом подлеске, где палые листья толстым слоем покрывали землю, стоило лишь точно сохранять взятое Телегиным направление, и Свечин снова выходил на след. И вдруг следы пропали. Напрасно Кузьма кругами обходил заросли какого-то колючего, широко разросшегося кустарника. — О-го-го! — донеслось сверху. — Кузьма-а! Свечин чертыхнулся про себя. Надо же было Протопопову окликнуть его в тот момент, когда он потерял следы. — О-го-го! О-го-го! Кузьма-а! — Да-да-а! — Сделай затеску, где стоишь. Давай ко мне! Я выше тебя! Бери левее! Перед тобой скала! Левее иди — там расселина! — Иду! Иду! — откликнулся Кузьма, поражаясь, что Протопопов знает, где он. Свечин взял левее и действительно вскоре в стороне увидел стену сброса, по которой ему было бы не подняться. А прямо перед ним зияла расселина, и он быстро взобрался наверх. Тайга здесь была совсем не похожа на ту, которую он только что оставил. Высоченные кедры стояли не часто. Их темной меди стволы в два обхвата походили на исполинские колонны. Меж ними весело пестрел березняк и нежные липки и клены. Сквозь опавшую хвою кое-где пробивалась трава. Место было довольно сухое и теплое, приятное. В этом сквозном радостном лесу Кузьма издали увидел Самсона Ивановича. Тот колдовал около молодого кедра, едва поднявшего крону над подлеском. Заглядевшись на участкового, стараясь понять, что это делает Протопопов, Кузьма споткнулся и затрещал сухими сучьями валежника. — Иди смотри! — крикнул Протопопов. Неподалеку от Самсона Ивановича Свечин увидел большую продолговатую яму. Земля, насыпанная по краям, выглядела так, будто ее просеяли сквозь мелкое сито. — Что это? — Здесь рос большой корень. Очень большой. — Вот такой — метра два длины? Самсон Иванович поглядел на удивленно вскинутые под козырек брови Кузьмы и едва сдержал улыбку. — Нет. Корень сантиметров в сорок. Гигант! Чуть ли не восьмое чудо света. Раз в полвека находят такие. А то и реже. Больше четырехсот граммов вес. Может, и больше. Глядя в пустую глубокую яму — цель их утомительного путешествия, Кузьма присел на валежину и почувствовал усталость. Семь суток они мчались, не досыпая, не доедая, и вот — яма, откуда выкопан корень-гигант, “чуть ли не восьмое чудо света”. — Ты сюда смотри, Кузьма. Свечин вскинул глаза и увидел на стволе молодого кедра большой белый прямоугольник — след содранной коры. — Лубодерина-то какая огромная! — воскликнул Протопопов. Еще одно подтверждение. Лубянку из такого куска в лодке действительно трудно не заметить. Прав Ангирчи! — Я след этого метеоролога потерял, Самсон Иванович. — Он вел не сюда. Телегина здесь не было. А вот Ангирчи… Смотри, сколько его следов! Бесновался прямо-таки старик… Неспроста. Похоже… ограбил его Дзюба. — Замешан Ангирчи в этом деле! Я же говорил! Дзюба ограбил его, а Ангирчи убил Дзюбу. Вот так. Вот так, Самсон Иванович. — После разговора с нами Ангирчи пошел проверить корень, а он-то выкопан. Однако на сопке следы не только Дзюбы, но и Телегина. Вот почему мы не встретились здесь с Ангирчи. Он, наверное, отправился на метеостанцию. Старик решил поговорить и с Телегиным. — Логично, Самсон Иванович. Интересная версия. Глядя на воспаленное лицо участкового, на его болезненно блестевшие глаза, Кузьма подумал, что ранение Протопопова дает о себе знать. Самсон Иванович попросил Свечина очень тщательно сфотографировать и яму, и лубодерину, а сам принялся измерять задир на стволе кедра. — И получается, Дзюба — вор. Вот зарубки Ангирчи на стволах. Это был его корень… Точно, его. Я знаю его метки. — А настороженный самострел? Нож, наконец… — Они у нас. Экспертиза определит, отпечатки чьих пальцев на них остались. Если остались. И живы их владельцы — Телегин, Ангирчи. Им еще предстоит нам ответить. Увидев, что Кузьма хочет его перебить, Самсон Иванович поднял левую руку, попросил помолчать. — Ангирчи таких тонкостей не знает, чтобы ставить самострел в перчатках. Дзюба… может знать. Телегин тоже мог бы сообразить. — Самсон Иванович! Если Дзюба вырыл маленький никудышный корень, то… тогда он знал: не вернется больше в тайгу. Никогда! — Ты молодец! Я ждал, когда додумаешься. — Самсон Иванович, закачавшись, поднял руку и заскрипел зубами от боли. — А вот Телегин в каньоне у реки не был. Он шел с метеостанции, мимо Радужного. Лодки у него нет. Не было… Да и у Радужного — помнишь? — банка из-под семипалатинских консервов? Отметился он там. — Но ведь нет второй банки, открытой “шварцмессером”! Вторая вскрыта другим ножом! — Не знаю, что тебе ответить. Надо спросить Телегина, если он на метеостанции. Они работали долго. Кузьма не обнаружил поблизости ни одного следа, похожего на телегинский. У ямы были лишь следы Дзюбы. И беспорядочные, путаные следы взволнованного, ошеломленного потерей Ангирчи. Смеркалось. Становилось свежевато, но, присмотревшись к Протопопову, Кузьма увидел крупные капли пота у него на лбу. Участковый окончил дотошный осмотр лубодерины и, наконец, словно решившись, сделал надрезы на коре по сторонам от задира и отделил вырез. Теперь у них была как бы форма, точно соответствовавшая размерам и приметам лубодерины, в которой находился выкопанный здесь и исчезнувший женьшень. Взглянув на часы, Кузьма отметил, что до выхода в эфир осталось четверть часа, и заторопился. Он дал себе слово: обязательно сообщить о ранении Протопопова, о необходимой ему медицинской помощи. В установленное время на связь неожиданно вышел радист краевого управления. Прежде чем передать новости, Кузьма, стараясь не смотреть в сторону Протопопова, потребовал немедленной присылки вертолета за раненым. Самсон Иванович вскочил и стал над рацией: участковому стоило большого труда сдержаться и не разбить ее вдребезги. Но в следующую минуту Самсон Иванович почувствовал сильную слабость от потери крови, подскочившей температуры и отошел в сторону. Кузьма передал все о результатах поездки, о корне, в существовании которого уже не приходилось сомневаться, о вещественных доказательствах, требовавших немедленной экспертизы. Участковый хмурился, но смолчал. Кузьма, пока еще было светло, отправился собирать валежник на костер. Вернувшись с вязанкой хвороста, он увидел, что участковый сидит, прислонившись к стволу кедра и запахнувшись в плащ. Его, видимо, сильно знобило. Однако при Свечине он старался казаться бодрым, засуетился, разжигая костер. Потом Свечин пошел за водой к ручью, который звенел где-то внизу. Вернулся задумчивый: — Мы так и не проследил” до конца, куда ходил Телегин… Самсон Иванович поежился под плащом: — Зато другое установили наверняка… Что чайник в руках держишь? Так он до утра не вскипит. А поставишь — вон туда пройди шагов двадцать. И глянь на вершине сопки. Кузьма отошел в сторону и замер от неожиданности. Во тьме, выше по склону и будто вдали, обозначился четкий квадрат глубокого фосфорического свечения. Он горел сначала манящим слабо-зеленым огнем, потом желтым, почти солнечного оттенка, а затем засквозил голубым сиянием. В темноте казалось, что свет исходит из глубины. Непреодолимая оторопь на некоторое время овладела Свечиным. Холодок в груди мешал дышать. Рядом зашуршала палая листва под чьими-то легкими лапами. Кузьма вздрогнул. И наконец заставил себя пошутить: — Что это… Лаз в преисподнюю? Маловат… Пересилив оторопь, он двинулся к ночному чуду, которое будто вело в недра. И едва не натолкнулся на него в глубоком обманчивом мраке. С инстинктивной осторожностью Кузьма протянул руку к мириадам сросшихся “светлячков”. Пальцы нащупали сухую и холодную коросту, плотно облепившую пень. Свечин отломил кусочек и зажал в ладони. У костра молодой инспектор разглядел крошечные, невзрачные сероватые грибки с бурой окантовкой. Они, словно две капли воды, походили на тот, из лубодерины с крошечным корнем, найденным в котомке Дзюбы. — Такие грибки-кориолюсы — редкость в тайге, — заметил Самсон Иванович. — Я знаю наперечет такие места. Другого поблизости нет. — Значит, у нас есть неоспоримое доказательство, что Дзюба был здесь, — сказал Свечин. — Иначе откуда в котомке у него взялся мох с таким грибком!*
Вертолет должен был вылететь с первым светом и к полудню приземлиться на вершине Лысой сопки. Узнав об этом, Самсон Иванович еще вечером забеспокоился, что им не удастся закончить дела: осмотреть местность вокруг находки Дзюбы, узнать, куда ведут следы Телегина. Но ночью он начал бредить, а утром не смог подняться, метался в забытьи. Рука у локтя сильно распухла. Одутловатость поднялась к плечу, пальцы стали холодными, ногти посинели. Кузьму он перестал узнавать и поминутно просил пить. Вода кончилась давно, еще перед рассветом. Ночью, пока Свечин ходил к далекому ручью, Протопопов в ознобе подкатился к костру, и на нем затлел ватник. Подоспевший Кузьма едва успел уберечь Самсона Ивановича от сильных ожогов. Теперь он боялся оставить Протопопова одного, томился, слушая его сбивчивый бред: — Пить, Тоня. Капельку! Достать воды было не самое трудное. Предстояло втащить Протопопова на вершину, где только и мог совершить посадку вертолет. Но предварительно пришлось привязать участкового к кедру и пройти на вершину одному — отыскать удобный путь. Двести пятьдесят метров подъема — не так уж много, однако напрямик идти было невозможно. То здесь, то там вздымались неприступные отвесные скалы. Разведав более или менее доступный подход, Кузьма соорудил волокушу из жердей, старательно привязал к ней Самсона Ивановича. Подъем занял добрых три часа. Несколько раз Кузьма валился с ног от усталости. Камни и щебень плыли под ногами вниз, и каждый метр высоты он брал по нескольку раз. Руки и колени его были сбиты и расцарапаны, а форма превратилась в лохмотья, словно ею хлестали по бороне. Взойдя на вершину и не давая себе отдыха, Свечин набрал дров на сигнальный костер. Потом он спустился к лагерю забрать вещи и тут впервые задумался над тем, как ему поступать дальше. Остаться в тайге на доразведку, улететь с Самсоном Ивановичем или попросить подбросить его на метеостанцию, к Телегину? Остаться в тайге для поиска возможных улик не так уж и безрассудно. Однако много ли он сможет сделать без опытного помощника-следопыта? Нет, пребывание на Лысой сопке бесполезно. Нужно продолжать маршрут — встретиться с Телегиным, с ботаниками… Главное, с Телегиным. Нож его, конечно, с собой не возьмешь. Его нужно отправить вместе со слепками следов, вырезкой коры в форме лубодерины, самострелом и стрелой, пленкой со снимками. Надо прежде всего выяснить цель появления Телегина на Лысой сопке. А вдруг он все-таки сообщник Дзюбы? Задержать его и на вертолете доставить в Спас? Ведь там следователь и, наверное, приехал инспектор угрозыска из крайуправления. Пожалуй… Собрав вещи, Кузьма поднялся на вершину встречать вертолет. По дороге он клял на чем свет стоит того, кто насторожил самострел. Ранение Самсона Ивановича смешало все планы. За полчаса до назначенного времени Свечин зажег костер. Погода стояла тихая, дым под мягким нажимом муссона поднимался косой полосой. Вертолет прибыл словно по расписанию. Крохотный старик нанаец, назвавшийся доктором, осмотрел Протопопова и отругал Свечина: следовало вызвать машину тотчас же после ранения. Кузьма не оправдывался. Он понимал: у врача были основания опасаться за жизнь Самсона Ивановича. Подойдя к пилоту, Свечин попросил высадить его на метеостанции, тем более это как раз по пути. Но ему ответил доктор: — Для вас вертолет — не такси. Машина в моем распоряжении. — Я туда не на прогулку. Возможно, там скрывается человек, по чьей вине ранен Протопопов. Старик искоса посмотрел на Свечина. — Сколько времени вам нужно? — Только взять на борт Телегина. — И подумал: “Если он там…” — Хорошо, — быстро закивал доктор и крикнул пилоту: — Полетели, полетели!*
Андронов вернулся в Спас недовольный собой. Много хлопот задала ему трехгранная бутылочка из-под уксусной эссенции, в которой жена лесничего Утробина надумала хранить сок веха. Очень мешал Леонид. При нем нельзя было проявлять особого интереса к исчезновению этой треклятой склянки. Сыну Петра Дзюбы пока совсем ни к чему знать, что его отец отравлен. С другой стороны, уж очень настойчивое желание Леонида поскорее вернуться в Спас тоже настораживало. Парень горяч. Наломает дров, коли подвернется случай, себя под удар поставит. Плохой ли, хороший ли характер имел Петро Дзюба, он — отец Леонида. Этим все сказано. Рассуждать парень по молодости долго не станет, а охотничье ружье бьет наповал не только зверя… И, словно догадываясь о мыслях следователя, Леонид, вернувшись с охоты, принял в поисках злополучной посудины самое деятельное участие. — Да при тебе ж, Леня, мы тогда мышей травили! — восклицала лесничиха. — Я видел, на полочку вы бутылочку ставили, — отвечал Леонид. — И не один я у вас был. Ивлевы заходили. Потом этот продавец из леспромхозовского магазина. Может, бутылочку-то детишки ваши разбили? Лесничиха с пристрастием допросила своих чад. Не обошлось при этом и без недозволенных приемов-увесистых материнских подзатыльников, а также клятвенных заверений применить еще более строгие меры для выяснения истины. Однако ребята дружно, без рева, но с искренней обидой стояли на своем: пузырька даже не видели. Пусть мать сама хорошенько подумает и вспомнит, куда могла его припрятать. Утробин старался успокоить жену: — А черт с ней, с этой бутылкой! Пришла тебе охота пошуметь! Нет, и ладно. — Сам знаешь, сколько у нас народу бывает. А бутылка-то с уксусной этикеткой. Плеснет кто не спросясь — греха не оберешься. — Ефим, — неожиданно обратился к лесничему Андронов, — вы тогда, ну, когда Леонид в первый раз приезжал, с таксаторами виделись? Застали их? — Не… Понапрасну ходил. Не застал их на таборе, на стоянке, значит. Ушли. — Это какой же вы крюк сделали? — Почитай, до Радужного добрался, — вроде простодушно ответил лесничий. “Простодушно ли… — подумал Андронов. — Ведь кто-то помогал Дзюбе сбывать “левые” корни…” И спросил: — В город часто ездите? — Бывает. А осенью так обязательно. “Как охотно Утробин идет навстречу расспросам, — размышлял Виктор Федорович. — Лесничий мог быть у Радужного. И именно у него в доме пропала склянка с ядом — соком веха. Нет у Утробина и алиби. С таксаторами он не виделся. Или таксаторы — просто отговорка? Но алиби нет и у Леонида. Он охотился на кордоне, когда Утробин уходил, и никто не знает, действительно ли он оставался здесь. Да еще какой-то продавец из леспромхозовского магазина…” Леонид и лесничий вышли из дома: Утробин попросил молодого Дзюбу помочь ему сменить столбы в изгороди. — Давно у вас Петра Тарасовича не было? — обратился Андронов к жене лесничего. — Какой еще Петро Тарасович? — удивилась та. — Да Дзюба, отец Леонида. — Не бывал… Видно, не любитель ходить по перу… Ведь тут у нас серьезного зверя нет. Это выше Радужного. Там по-настоящему охотятся. Тут — так, балуются. — Когда вы спохватились, что пропала склянка? — как будто между прочим спросил Виктор Федорович. — Ведь если не по ошибке, а сознательно кто-то взял бутылку с соком веха… Утробина посмотрела на Андронова широко открытыми глазами, потом склонила голову набок, словно хотела проверить: не ослышалась ли? — Да вы знаете, товарищ инспектор, что может случиться? — Я-то знаю… А вам такая мысль не приходила? — Н-нет… Кто же на такое решится? Может, я по забывчивости бутылочку на чердак или в чулан убрала? Дом переверну, а найду. Ведь я и сама могу ошибиться. Мой-то все перченое-переперченое да маринованное любит… — А тот продавец из леспромхоза… — Кочетов-то? — Его фамилия Кочетов? — Да. Семен Ефимович Кочетов. — Он заходил к вам на обратном пути? Когда с охоты возвращался? — Этот не заходит обычно. — И, понизив голос, добавила: — Мой-то сказывал, будто шалит он. Потому и уходит верхом, от Радужного. Только ведь не пойман — не вор, а язык, он без костей. Мало что говорят, а сглупу повторяют. — От вас далеко до леспромхоза? — поинтересовался Андронов. — Не… Четверо суток. Да вы у моего моторку попросите. Вам он не откажет. За трое доберетесь. Течение в ручье очень быстрое, перекатов много. Кое-где волоком придется. Плесов да заводей почти и нет. Решение съездить в леспромхоз и повидаться с Кочетовым Виктор Федорович принял тотчас же, но осуществить его не пришлось. Узнав о намерении Андронова, лесничий, насупившись, сказал: — Добраться до леспромхоза можно. Только сейчас попусту. Кочетов говорил, что раньше чем через месяц туда не вернется. В тайге он. А из тайги обычно в город, в Находку, подается. Через перевал к Прибрежному выходит, — уточнил лесничий. — Оттуда и летит в город и обратно. — Зачем он так? — удивился Андронов. — Кто ж его знает… — неопределенно ответил Утробин. — Всяк живет как хочет. — Теперь этого Кочетова в Находке искать надо? — Не поручусь. Еще и в тайге, может, бродит. — Леонид, ваш отец знал Кочетова? — спросил Виктор Федорович. — Не думаю… — не очень уверенно отозвался Дзюба-младший. — У нас в доме я его не видывал… “М-да… — подумал Андронов. — Леонид работает на строительстве в Находке, куда ездил или поедет Кочетов Семен Ефимович. Случайность? Не обманул ли Дзюба-младший, сказав, что не знаком с Кочетовым?” — Постой, Леонид, — вдруг спросил Андронов. — Ты говоришь, не видывал Кочетова. А здесь разве вы не встречались? — Я сказал: у нас в доме я его не видывал. Ну… не знаю, знаком ли он был с отцом. А на кордоне я его видел. Так… шапочное знакомство. “Все-таки, — подумал Виктор Федорович, — надо встретиться с Кочетовым. Но прежде всего нужно из Спаса связаться с леспромхозом. Помнится, там у Самсона Ивановича есть не плохие помощники. И сам Протопопов, верно, знает Кочетова. Если возникнет особая необходимость, то из Спаса до леспромхоза всего-то два часа лету… А теперь, пожалуй, пора в Спас. Лесничиха едва ли найдет свою трехгранную склянку. Она где-то в тайге. Зачем ее взяли — ясно. Но кто? Вернее всего, тот, у кого окажется корень женьшеня, найденный Дзюбой”.*
Только Андронов с Леонидом появились в селе, как Степан Евдокимович Шматов сообщил, что ждет прибытия спецрейса, которым доставят раненного в тайге из самострела Протопопова и арестованного метеоролога Телегина. — Телегина арестовали! — взвился Леонид прежде, чем Андронов успел что-либо сообразить. Как хотелось Виктору Федоровичу отчитать этого болтуна Шматова! Ведь еще ни ему, ни Твердоступу не были известны причины, которые заставили Свечина задержать Телегина. Виктор Федорович только что возвратился в Спас с кордона, а Твердоступ находился в райцентре. Он счел необходимым ознакомиться с корнями, сданными в этот сезон, и с формулярами находок. При сдаче женьшеня корневщики, как правило, на специальных бланках точно указывают место своей находки. — Арестовали гада! Ясно! — Прекрати истерику! — прикрикнул Андропов. Но Дзюба-младший, что называется, закусил удила. Он грозился пристрелить Телегина, едва того выведут из вертолета.*
На аэродроме прилетевших встретил Андронов. Самсона Ивановича, который был без сознания, бережно перенесли на телегу и под наблюдением Матвея Петровича отправили в больницу. Едва телега с раненым отъехала, как со стороны села донесся женский крик. Андронов и Кузьма, оглянувшись, увидели на крыльце протопоповского дома Антонину Александровну, а у плетня Леонида с карабином в руках. Андронов сделал два шага к Телегину и стал так, чтобы прикрыть его собой. Метеоролог, видимо, понял, в чем дело, и побледнел. — Задержанный, зайдите в помещение. — Андронов кивнул на избушку — “аэровокзал”. Просить дважды не пришлось. Телегин рванул дверь и скрылся в убежище. — Не прячьте — все равно убыо гада! — прокричал подбежавший Леонид. — Успокойся! — приказал Андронов. — Сказал — сделаю! — Я тоже сказал и тоже сделаю. Что ты с карабином носишься? Придется отобрать. А тебя привлечь к ответственности. — Давай! И меня арестовывай. Ну! Ни черта не можете! — тяжело дыша, кричал Леонид. Андронов взял его за плечо: — Успокойся. Не маленький. — Мне молчать?! — Леонид вырвался. И вдруг сел на траву и заплакал. Через несколько минут Леонид немного успокоился. Поднялся. Возможно, он почувствовал, что вел себя уж слишком нелепо, и ему стало неловко. — Виктор Федорович, — обратился он к Андронову, шмыгая носом и по-мальчишески беспомощно вытирая рукавом слезы, — может, мне уехать из Спаса? Побродить по тайге… В себя прийти… Инспектор нахмурился, пристально взглянул на молодого Дзюбу: — Разве ты не поедешь в город? — Нет. Пока убийцу не отыщете — не поеду. — Следствие может затянуться. — Буду ждать, — упрямо проговорил Леонид. — Вот что, зайди ко мне через час. Тогда и поговорим. — Подписки о невыезде я вам не давал. Положив руку на плечо Леонида, Андронов сказал сдержанно и спокойно: — Я просто прошу тебя, понимаешь? Зайди в кабинет Протопопова через час. Дело есть. — Для меня? У вас? — Да. Пожав плечами, Леонид направился в село. — Истерика… — проговорил Андронов, когда Леонид отошел на почтительное расстояние. — Он совсем раскис. А ведь поначалу как держался! Вести следствие при нем трудно. И у нас есть повод послать его в тайгу. Нам нужно выяснить два обстоятельства: где находится или где появится Кочетов, продавец из леспромхоза, и не встречали ли ботанички Дзюбу. Поэтому надо побывать у них, а Леонида взять проводником. Проводником, и только. Он не должен ни в коем случае получить каких-либо сведений. Ни в коем случае. — Понятно. Не при нем же вести опрос ботаничек. — Говоря откровенно, — задумчиво произнес Андронов. — когда с Леонидом приключилась истерика, я подумал, что это неспроста. Теперь, чтобы успокоиться, он хочет на время уйти из Спаса в тайгу. Но только ли для этого? — Виктор Федорович, — сказал Свечин, — может, эти “переживания” и нужны ему для мотивировки отъезда. Мне кажется, не ради одной охоты явился Леонид в Спас именно сейчас, когда идет корневка. Возможно, у него был сговор с отцом? — Это и я хотел бы знать. Пока нет никаких доказательств, что найденный Дзюбой крупный корень женьшеня в Спасе или в городе. Женьшень спрятан где-то в тайге. Но его надо высушить или законсервировать в водке. Такой корень во фляжку не сунешь, на солнышке не провялишь. Разрезанный на части, он потеряет в глазах знатоков до девяноста процентов стоимости. Оставить его в тайге в сыром, как говорится, виде нельзя. Испортится. — Виктор Федорович… Вы в чем-то подозреваете Леонида? — Если бы я сказал “нет”, то солгал. Он может знать, где находится корень. Но не говорит, так как боится, что бригадники отца потребуют доли. А Леонид тоже гроши очень уважает. Отца уж не воскресишь, а деньги — уплывут. — Интересно… Что ж, от меня он, естественно, ничего нового для себя не узнает. Но ботанички… — Строго предупредите: если будет особая необходимость. Кстати, прибор ночного видения при вас? — У меня и магнитофон есть. Свой, самодельный. — Записывали беседы? — С Ангирчи. — Оставьте мне эту пленку. Если ботанички не станут возражать, то и их сообщения запишите. С Леонидом будьте осторожны. Не давайте ему понять, будто мы… догадываемся о возможных причинах его страсти к перемене места. Вам предстоит также рассказать Наташе, дочери Протопопова, о ранении ее отца. Сделайте это поделикатнее… — Постараюсь, Виктор Федорович. — Не тяжело в тайге? У вас едва не пуд аппаратуры. — Откуда пуд? Все портативное: рация, магнитофон, прибор, фотоаппарат. Самое необходимое. А своя ноша не тянет. — Держите со мной связь. Когда понадобится, вышлем вертолет. Но о Леониде это пока наш предварительный уговор. С Телегиным побеседовали? — Нет… А задержал я его потому, что он — единственный, кто может сообщить нам о происшедшем около Лысой сопки. Ведь там рядом с настороженным самострелом найден его нож. — Что ж, резонно. Пройдем в кабинет Самсона Ивановича, там с Телегиным и потолкуем. В комнате участкового инспектора, как всегда хорошо прибранной, у стола сидел Телегин. Кузьма лишь теперь смог по-настоящему разглядеть метеоролога — не старого, лет тридцати, длинноногого, сутулого, на вид усталого человека. После первых вопросов, которые задавал Андронов, метеоролог странно выпрямился на стуле. “Неестественная, нарочитая поза…” — отметил Свечин. — Скажите, каким образом ваш нож оказался около самострела? — Не знаю. Понятия не имею. Я очень уважаю Самсона Ивановича. — Не отдавали ли вы свой нож? “Да это просто подсказка!” — Свечин удивился неудачному, как ему показалось, вопросу Андронова. — Отдал, — кивнул Телегин. — Реликвию… Единственную память об отце? Кому выотдали нож? — Ангирчи. — Ангирчи? — переспросил Андропов. Телегин кивнул. — Когда? — Весной. Нет, в конце июня. — И тогда вы шли мимо Радужного? Открывали банку консервов? Телегин оторопело посмотрел на инспектора: — Точно… — А три недели назад? — Я не был у Радужного. Ведь табор Ангирчи на левом берегу. — Значит, вторую банку… — Я завтракал у Радужного на обратном пути от Ангирчи. Летом в июне. Открыл ее простым охотничьим ножом. Вот этим. — И Телегин положил на стол нож, какой можно купить в любом магазине. — Вы продали нож? Или подарили?.. — М-м… Можно сказать, продал. — Продали или обменяли? — настойчиво спросил Андронов. — Обменял. — На что? — На корень. На женьшень. — Большой? Телегин замешкался несколько, угловато повернулся на стуле, ударился коленями об стол. Потом, словно догадавшись о чем-то, показал на средний палец андроновской руки: — Вот такой. — Вы знаете, сколько стоит подобный корень? — Дорого… — Вы ведь обманули Ангирчи. Корень стоит намного дороже ножа. — Ангирчи сказал: “Бери, дарю”. Подаркам-то совсем не обязательно быть равноценными… — несколько обиделся Телегин. — Куда вы пошли потом, после встречи с Ангирчи? Ведь на метеостанцию вы вернулись позавчера, через три недели после встречи со стариком. — Ходил к ботаничкам, — ответил Телегин. — Ходили к ботаничкам? — Свечин не сдержал недоуменного восклицания. — Минуточку, минуточку! — прервал его Андронов. — Где вы виделись с Ангирчи? Когда? Телегин ответил, что спустился к Ангирчи от метеостанции, и точно назвал день. Свечин быстро достал блокнот. “Получается, — прикинул Кузьма, — что он вышел за два дня до того, как у Радужного был убит и, видимо, ограблен Дзюба. Если Телегин не спешил, он не мог, никак не мог дойти до Радужного, а потом, совершив преступление, добраться пешком до Ангирчи. Да и зачем? Для алиби?.. Берега вдоль уреза воды непроходимы. Сам видел. Остается один путь — по сопкам. Ангирчи видел Дзюбу пятнадцатого…” Вопрос, который задал Андронов, был как бы продолжением мыслей Свечина: — От кого вы узнали о месте лагеря ботаников? — Ангирчи сказал. Они за два дня до меня поднимались выше по реке. Останавливались у Ангирчи. Чаевали. “Так, — продолжал рассуждать Свечин. — Ангирчи видел Дзюбу пятнадцатого. Девятнадцатого к удэгейцу пришел Телегин, а за два дня до этого — ботанички. Значит, семнадцатого… Но Ангирчи ничего не рассказывал! Хотя… Разве не мог он перекинуться несколькими фразами с Самсоном Ивановичем, пока они шли к костру, а я удил рыбу? К тому же о том, что ботанички и Телегин были у Радужного, мы знали. Просто не знали дня!” — И еще, — продолжил Андронов, — зачем вы ходили к ботаничкам? Ведь путь неблизкий — десять дней. Может быть, хотели проверить, настоящий корень дал вам Ангирчи или обманул? — Нет! — запротестовал Телегин. — Ангирчи не обманет! Я не сомневался, что корень настоящий. А нож… Ангирчи при последней встрече сказал, что хотел вернуть его. И отдал Дзюбе для передачи мне, но я не встретил Петра Тарасовича. — Минуточку, минуточку! Дзюба останавливался у Ангирчи? — Да, когда шел на корневку. Он-то и рассказал Ангирчи о том, что это за нож. То есть почему он мне дорог. И Ангирчи решил его вернуть через Дзюбу. — Никак не вяжется. Ведь вы должны были встретиться с Ангирчи? — Да, — согласно кивнул Телегин. — Но Дзюба обещал передать мне нож раньше. Он предполагал корневать неподалеку от метеостанции. А корень мне Ангирчи и так обещал дать. В подарок. Андронов почесал правую бровь, совсем разлохматив ее. — Обещал занести, а вместо того… Что вместо?.. Оставил у настороженного самострела? Черт знает что… — скорее не проговорил, а подумал вслух Виктор Федорович. — Подождите, товарищи! — вдруг воскликнул Свечин. — Так Дзюба… — и замолчал, с трудом пересилив себя: “Телегин и мог рассчитывать, что своими ответами вызовет именно такое впечатление. Ведь на сопке и около нее было трое: Дзюба, Телегин и Ангирчи! Только трое! Важно понять, кто и на кого мог насторожить самострел… Самострел, как утверждал Самсон Иванович, принадлежит Ангирчи. Нож — Телегину… Но телегинский нож находился в то время у Дзюбы. Так утверждает метеоролог. Не верится, что Ангирчи, оставив лодку в распадке у реки, пошел настораживать самострел. Однако почему он после разговора с нами вдруг отправляется в Черемшаный? Чем объяснить это “вдруг”?” — Минуточку, минуточку… А вы, товарищ Телегин, на обратном пути от ботаников виделись с Ангирчи? Ведь вы проходили там… пять дней назад. — Сам удивлен. Не встретил. Он мне тропку кратчайшую показал. Говорил, что будет ждать охоты на реву. Пришел я на его стоянку, а там пусто. В хибарке — шаром покати. — Хм… — неопределенно заметил Андронов. — Как вы думаете, что же могло случиться с таким обязательным человеком? — Понятия не имею. — Телегин пожал сутулыми плечами. — И все-таки зачем вы ходили к ботаничкам? — Как — зачем? Об элеутерококке узнать. Есть такой куст в тайге. Его еще нетронником, чертовым кустом зовут. И даже диким перцем. Этот вот нетронник исследовали ученые и считают, что он действует на организм человека так же, как женьшень. Наталья Самсоновна, дочь Протопопова, сказала: помогает организму бороться со всякими болезнями. А в тайге этого нетронника — пруд пруди, — радостно закончил Телегин.*
С самого раннего утра летали они над тайгой вдоль реки, пытаясь найти Ангирчи. Но старик удэгеец, который одиноко жил на берегу, как сквозь землю провалился. Он — и только он — мог ответить почти на все вопросы, возникшие в ходе расследования. Вернувшись в село, они собрались в кабинете Протопопова. Андронов, хмуря густые брови, сидел на лавке у открытого окна, а Свечин, чтобы скрыть заплаты на своей еще недавно новехонькой форме, поместился поближе к столу следователя районной прокуратуры. — Ну вот, — не поднимаясь со стула, начал Твердоступ, — теперь можно подвести некоторые итоги… Начнем с вас, Кузьма Семенович. — Сегодня мы получили из крайцентра данные экспертизы, — заговорил Свечин. — Нож “шварцмессер”, самострел и стрела чисты, как стеклышко. Очень заботливо протерты. Лубянка для женьшеня-гиганта вырезана “шварцмессером”… И нужно точно установить, у кого был в то время нож… Его перебил Андронов, посоветовал: — Кузьма, вы по порядку. С самого начала. — Сначала мы встретились с Ангирчи. Запись разговора с ним вы слышали. Последняя фраза настораживает: “Надо пойти посмотреть…” Тогда мы не обратили па нее внимания. Считали, что он имеет в виду пас. После разговора со стариком мы отправились к корневщикам. Те напрочь отрицали, что нашли нечто необыкновенное. И вообще считали, что корневка не удалась, а Дзюба покинул лагерь по болезни. Однако они видели дым костра на Лысой сопке и почему-то решили, что там Дзюба. Но мы, когда добрались до ямы от выкопанного корня, точно установили: костра Дзюба не жег. Дзюба… — Не сбивайтесь, не сбивайтесь, Кузьма Семенович. Излагайте в хронологическом порядке, пожалуйста. И не волнуйтесь, — заметил Твердоступ. — После встречи с корневщиками мы спустились на их лодке до Черемшаного распадка. По нему двинулись к Лысой сопке. Самсон Иванович шел впереди. И тут из кустов и вылетела стрела, которая ранила участкового. Будь Протопопов чуть пониже ростом, она угодила бы ему в шею или в голову… По тому, как одобрительно кивнул Твердоступ, Кузьма понял, что ненароком он высказал очень интересную мысль. Из тех, кто побывал на сопке, ниже всех ростом был Ангирчи. — Нам необходимо найти старика. Без него для нас многое останется неясным. И, конечно, побывать у ботаничек. Кузьме и поручили отработку версии, что корень-гигант вырыл Дзюба и он же насторожил самострел. Андропову предстояло отыскать Кочетова, того самого продавца из леспромхозовского магазина, который охотился на кордоне Лиственничном, а потом, как говорят, подался к Радужному…*
К табору ботаников на берегу ручья Тигрового вертолет доставил Свечина и Леонида уже перед заходом солнца. Они запалили костер, поставили варить кашу, подвесили над огнем чайник. Потом нарубили сосновых веток и прилегли у огня. — И зачем нам нужны эти ботанички? — раздраженно произнес Леонид. — Разгадку, кто моего батю под осыпь загнал, они в своих папках для гербария не принесут. А вот Ангирчи — крепкий орешек. Самострелом охотники уж сколько лет не пользуются. Он только у Ангирчи и сохранился. — Тебе виднее… — Кузьма пожал плечами. — С Ангирчи этот Телегин и мог сговориться, — подался к Свечину Леонид. — Для чего? — “Для чего, для чего”… — Смотри — гости! — раздался женский голос. — Я же говорила! Кузьма поднялся навстречу хозяйкам. В ватниках, одинакового роста, одна в юбке армейского образца, другая в джинсах, ботанички были к тому же и некрасивы. Как бы желая пресечь обычные вежливые вопросы о здравии домочадцев, Леонид сказал: — Я — проводник. У товарища Свечина к вам дело. — Дело? — удивилась младшая. — Вот интересно! Вы знаете, с какого времени мы в тайге? Едва не полтора месяца. — Иди, Наташа, умойся, — негромко проговорила старшая. Она присела на валежину у костра, закурила, глубоко и со вкусом затянулась. Только сейчас Кузьма, хоть ему и самому себе было стыдно в этом признаться, осознал, что младшая, ботаничка в джинсах, дочь Самсона Ивановича! И ему, Свечину, придется сказать ей о несчастье, которое случилось с ее отцом. — Наташа, — продолжила старшая, — в зеркало на себя посмотри. Я еще у реки говорила тебе: умойся. А ты: потом, потом. Выхватив из внутреннего кармана ватника зеркальце, девушка всплеснула руками и, продолжая что-то бормотать, быстро пошла вниз, к воде. Провожая ее взглядом, Свечин про себя отметил, что Леонид с появлением ботаничек как-то стушевался, а Наташа с самого начала подчеркнуто не замечала молодого Дзюбу. “А ведь они из одного села…” — подумал Свечин. — Первое время, — сказала Полина Евгеньевна, — Наташа прямо не могла нарадоваться всему, что встречала в тайге. Стоило нам остановиться, она тут же шла бродить. Думала, сейчас же найдет нечто сверхинтересное. Может, даже увековечит свое имя в науке, обнаружив какой-нибудь если и не вид, то разновидность растения, неизвестного миру. Она хоть и местная, но здесь не бывала. Сюда лишь кондовые таежники добираются. От палатки к костру направлялась Наташа, и Свечин с тоской подумал, что обе женщины заговорят его до озлобления. Кузьме при словоохотливости ботаничек не хватило бы и километра пленки, а у него осталась всего одна кассета. Подняв глаза на Протопопову, Кузьма не узнал ее. Она оказалась очень красивой: большеглазая, с высоким лбом и волной медных волос. “Неужели расческа, губная помада и пудра способны сделать такое чудо?” — несколько робко подумал Свечин и сказал: — Мне нужно поговорить с вами… Полина Евгеньевна поднялась: — Леонид, пойдем нарубим еще лапнику, пока светло. Когда они ушли, Наташа, сразу посерьезневшая, неожиданно спросила: — Что случилось с отцом? — С… с Самсоном Ивановичем? — Говорите прямо. Не ожидавший такого поворота, Кузьма опустил взгляд: — Мы с ним вместе шли… — Что случилось? — Ранен в руку… Из самострела… Но сейчас ему легче. — Сердце — вещун… Как вас с Леонидом увидела, так и подумала: что-то стряслось с отцом. Мы с мамой всегда очень беспокоимся, когда он уходит в тайгу. Даже теперь… А ведь прошло пятнадцать лет, как его едва не убили в перестрелке браконьеры… — И встрепенулась: — Вы спрашивайте… спрашивайте. Ведь вы по делу приехали. Подняв глаза, Кузьма увидел непроницаемое лицо девушки, очень похожей в эту минуту на Самсона Ивановича. “Никак не мог предполагать, что она так спокойно, совсем по-мужски примет тяжелую весть. Отцовский характер!” — подумал Свечин. — Спрашивайте. — Вы не будете возражать, если я запишу наш разговор на магнитофон? — Пожалуйста. — В первых числах вы были у Радужного? — Мы ушли оттуда семнадцатого утром. Находились… Собственно, переночевали. “Так, — прикинул Свечин, — они пришли, когда Дзюба уже был мертв”, — и спросил: — По дороге вы никого не встречали? — Нет. На реке ниже водопада много проток. Можно разминуться. — А после? — Тем более. Правда, завернули к Ангирчи. Потом сюда к нам приходил Телегин. Пробыл два дня. Он очень интересовался нашей работой. — А у самого Радужного вы не приметили ничего необычного? — Необычное… Нет. А что считать необычным? Для меня- я впервые была там — все необычное. Водопад. Грива белой пены и радуга над ним. Розовые скалы, прекрасные и дряхлые. Удивительные! Согласитесь: все это необычное. — Да-а… — протянул Кузьма. — Но, может быть, какая-то деталь… — Нет. Хотя… Когда мы подошли к волоку, то там, в кустах перед водопадом, увидели кепку. Старую? Нет. Дождем прибитую. На нее уже упало несколько листьев. — Давайте нарисуем план. Где она лежала? — Пожалуйста. На то время, пока Наташа рисовала в блокноте схему, Свечин выключил магнитофон. Потом беседа возобновилась. — Отец действительно выздоравливает? — Да. Он у вас сильный, смелый… отличный человек. — А не секрет, что произошло? — В скалах у Радужного погиб Дзюба. — Погиб? А когда ранили отца? — Большего я вам сказать не могу. — Значит, Леонид поэтому не уехал в город на работу? — А вы почему задерживаетесь? — Для нас важен именно сентябрь. Тема такая. Мне разрешили задержаться. — Вы, Наташа, хорошо знаете Леонида? — Когда-то дружили… — Поссорились? — Нет. Компании разные. — Как это? — Так… Поехал он в город учиться, а больше лоботрясничал. Вырвался из-под опеки отца и загулял. Потом бросил учебу. “Шоферю”, — говорит. — Чье-то влияние, видимо. — Ах, уж это влияние!.. Как все просто — влияние! Слабая душа… Не верю я в слабые души, которые поддаются влиянию. Леонид — не телок. Нужна, по-моему, одинаковая сила воли, чтоб поддаться дурному влиянию или хорошему. “Ах, идти по хорошему пути трудно — будни, одно и то же”. Ведь говорят так? Говорят. А что “будни”, “одно и то же”? Мне, например, интересно узнать новое. И я каждый день узнаю. В науке. Просто в прочитанной книге. Фильме, спектакле, картине. Что может быть разнообразнее? Шалопайство? Гулянки? Вот уже где все абсолютно одно и то же! — Вы так говорите… — Как будто видела? Знаю? Да. Мне хватило двух недель. Это произошло два года назад. Деньги у Леонида появились. Говорил, отец дает. И тут же у него дружки завелись. Две недели посмотрела я на эту “разнообразную” жизнь. Так можно жить, если ничего не любишь, даже себя. — Эгей-гей! — послышался из-за кустов голос Леонида. Кузьме жаль было прерывать разговор с дочерью Самсона Ивановича, но еще нужно было поговорить с Полиной Евгеньевной. — Ждем! — крикнул Свечин и добавил, обратившись к Наташе: — О нашем разговоре не надо никому рассказывать. И если что вспомните, то скажете потом. — Конечно. Выйдя к свету, Полина Евгеньевна и Леонид бросили у костра лапник. Наташа поднялась и ушла в палатку. — Теперь я один прогуляюсь, — постарался бодро сказать Леонид. Запись беседы с Полиной Евгеньевной инспектор начал с вопроса, не заметила ли она у Радужного чего-нибудь необычного, не присущего этому месту. — Вроде бы нет. — “Вроде бы”! Или нет? — Нет. Конечно, нет. Ничего нового из беседы с Полиной Евгеньевной инспектор не узнал. Но, заканчивая разговор с нею, Кузьма не мог отделаться от ощущения, что она не то чтобы умалчивает о чем-то, а просто еще не решила, действительно ли та деталь, которую она припомнила, заслуживает внимания. Ночью Кузьма, спавший, как и Леонид, у костра, проснулся оттого, что его теребили за плечо. Спросонья он не сразу понял, что его будит Полина Евгеньевна. — В чем дело? — Он машинально достал папиросу, закурил. — Скажите, товарищ Свечин… Дзюба случайно не отравился? — Что? — Кузьма поперхнулся дымом и надолго закашлялся. Леонид проснулся, посмотрел на них настороженно. — Отойдем! — сказал Свечин. Поднялся, прихватил магнитофон. Они отошли подальше от костра и остановились у ствола какого-то дерева. — Почему вы так решили, Полина Евгеньевна? Откуда это вам известно? — сипло спросил Кузьма. — Я до сих пор сомневаюсь: не ошибка ли мое предположение. Попробовав затянуться, Свечин вновь закашлялся и отбросил папироску: — Выскажите ваши предположения… Там подумаем, ошибка или нет. — Я не могу ручаться на все сто процентов. Поэтому отнеситесь к тому, что я скажу, очень осторожно. — Хорошо, хорошо… Так что вы хотите сказать? — поторопил ее Свечин. — Там, у Радужного… Когда Наташа пошла за вещами, я осталась одна на пятачке, окруженном скалами. Я люблю смотреть на водопады. Так засматриваюсь, что у меня голова начинает кружиться. — Хорошо, хорошо, — снова поторопил ее Кузьма. — Да… Вот я и пошла к водопаду… И тут неподалеку от обрыва увидела бутылку. Вернее, склянку. Знаете, в таких хранят уксусную эссенцию. Ее специально в таких бутылках выпускают — трехгранных, чтоб не спутать… А знаете, как пресное в тайге надоедает? Соль да черемша вместо лука. И то не всегда ее найдешь. А склянка эта наполовину заполнена. Эх, думаю, дурак бросил. Возьму-ка ее на всякий случай… — Да-да… — Бутылка была заткнута. Я по привычке на свет поглядела. Жидкость по цвету показалась странной. Открыла я склянку, палец смочила чуть-чуть — и на язык. Не эссенция. Запах петрушки. Ну, в общем, разобралась. В склянке из-под уксусной эссенции — сок веха. Яд. — Вех? Что за вех? — Цикута. — Цикута? — Да-да, та самая цикута, которой отравили Сократа, приговорив его к смерти. Та самая. Еще вех зовут мутником. У тех, кто его съест, мутится сознание. Или “гориголова” — при отравлении горит голова. А еще водяной бешеницей называют. Пострадавшие становятся очень беспокойными, как бы с ума сходят. — Что вы сделали с бутылкой? — совсем не громко спросил Кузьма. — Выбросила. Выбросила в водопад. — А… Черт возьми! Вот ведь не везет! — Я предупреждала вас, товарищ Свечин, что могла ошибиться. Все это мне могло просто показаться. У меня и в мыслях не было анализировать содержимое. Решила, что дрянь какая-то в бутылке, и выкинула. То, что это был вех, я окончательно поняла только через час. Голова у меня раскалывалась. А ведь лизнула-то всего чуть-чуть. Наташе я не сказала… — Плохо, очень плохо… — бормотал Свечин. — Где же можно достать этот вех? Не растет же он на каждом шагу. — На каждом шагу. Буквально, — заверила Кузьму пожилая ботаничка. — Вы точно помните, что брошенная в водопад бутылка разбилась? — Вопрос был более чем наивен, и, задав его с ходу, Свечин почувствовал себя неловко. Остаток ночи он не спал. А когда с первым светом в лагере поднялись, он спросил у начальницы ботанической экспедиции Полины Евгеньевны: — Вы когда думаете сниматься? — Через неделю. Примерно. — Я договорюсь, и за вами придет вертолет. — Не можем. У нас по смете нет таких расходов. — Если вы не возражаете, мы возьмем вашу лодку, — сказал Кузьма. — А вы воспользуетесь нашим транспортом. — Что ж… если так нужно… — Полина Евгеньевна развела руками. Утро споро набирало силу. Туман еще не оторвался от воды, когда Кузьма и Леонид распрощались с ботаничками и столкнули лодку в ручей. По Тигровому шли, держа мотор на весу: ручей был мелковат, с частыми перекатами. Едва выскочили в Солнечную и ходко двинулись на моторе, как время тоже словно ускорило бег: пелена над рекой быстро поредела. Из узких ущелий-распадков и ключей, мимо которых они проезжали, вытягивало скопившийся ночной туман. На речном просторе его быстро растаскивало ветерком с верховьев. К полудню впереди засветились буруны порога. Кузьма инстинктивно сжался, даже затаил дыхание. Словно догадавшись о его состоянии, Леонид, сидевший на руле, ободряюще похлопал инспектора по плечу. Лодка будто выскочила на донельзя разбитую дорогу. Ее мотало из стороны в сторону, она бухала днищем, поднимая каскады брызг, вертко съезжала со вспучившихся бурунов, черпала бортами. Плоскодонка наполнилась почти до половины. Кузьма ни за что на свете не смог оторвать своих пальцев от обшивки, чтобы вычерпать воду. Наконец их вынесло в спокойный плес. Свечин заставил себя разжать одеревеневшие пальцы и долго растирал их, прежде чем взять черпак. А впереди виднелись буруны следующего порога. Кузьма поднялся, чтоб посмотреть, не намок ли его рюкзак. Как и все другие вещи, он был завернут в брезент, но лодка начерпала слишком много воды, а влага, попади она в рацию или магнитофон, могла вывести их из строя. — Сядь! — закричал Леонид. — Сядь! Сядь!! И тут Кузьма почувствовал: то ли у него закружилась голова, то ли Дзюба-младший качнул лодку. Он протянул руку, чтоб схватиться за борт, промахнулся и упал в реку. Порог был уже в метрах ста. Кузьму подхватило течением и понесло к порогу, в серединную его часть, где подобно клыкам торчали из воды камни. Оглянувшись, Кузьма понял, что Леонид не сможет сразу же прийти ему на помощь. Лодку бы разнесло в щепы. Более спокойный боковой проход, куда правил Леонид, находился от Кузьмы в стороне. Порог стремительно приближался. Вытянув вперед руки, Свечин смягчил удар грудью о камень, выступавший из пенной струи рядом с другим, гладким, похожим на плешивый череп. Через него то и дело перехлестывала вода. Обрадовавшись, что ему удалось выбраться из стремнины, Кузьма прильнул телом к камню и на мгновение забыл даже о холоде воды, о сведенной судорогой ноге. Лишь вздохнув всей грудью, он почувствовал, что ребра как бы сжаты ледяным корсетом. Он осознал, что секундная задержка у клыка — лишь передышка. Не передышка даже — насмешка. Ему подарено еще одно мгновение жизни только для того, чтоб он до глубины своего существа понял, какая именно грозит ему гибель, ужаснулся бы, сдался и прекратил борьбу. Меж камнем, похожим на гладкий череп, и клыком вода бурлила и ревела. Она низвергалась с оглушительным шипением, и там, внизу, в разъяренных вихрях, из ослепительной пены выскакивали блестящие зубья скальных обломков. Он увидел и осознал это тут же: для такой крохотной доли, наверное, и не существовало меры времени. Ноги его стало затягивать между камнями. Все живое возмутилось в нем. Неимоверным, рыбьим изворотом он подтянул ноги, сгруппировался, отпустил клык и, оттолкнувшись, выскочил из воды больше чем по пояс, перевернулся и упал животом на едва омываемый гладкий камень. Он не почувствовал, что ударился лицом, грудью со всего маха. В глаза бросилась сверкающая, витая гладь мчавшейся к нему воды. — …и-ись! — донеслось откуда-то. Подняв взгляд, Кузьма с трудом уловил поодаль на искрящейся грани воды размытый блеском силуэт Леонида, стоявшего в лодке. Он хотел ответить ему, но горло пересохло. Вскочив на колени, Кузьма зачерпнул пригоршнями и выпил, вернее, протолкнул в себя воду, стылую до зубной боли. Затем, основательно освоившись, он встал на ноги и заорал торжествующе: — Держусь! Теперь, когда он стоял на камне, окружающее в его видении стало обычным: река, освещенная солнцем, синяя вода в длинной и косой тени яра, желтые березы, пылающие рдяные клены, лиловые черемухи, изумрудная ольха и иссиня-зеленая ель, поднявшаяся над всеми деревьями, и лодка — совсем недалеко, ближе, чем казалось секунду назад. Она шла к солнечному берегу. — Держи-ись! Свечин огляделся. Ему хотелось немедленно начать действовать, как-то выбраться из ловушки, в которой он оказался. Кузьма находился посредине реки, у края низвергавшейся, грохочущей лавины. Выбраться отсюда самому нечего было и думать. Однако Свечин не представлял себе другого пути спасения. “Как Леонид поможет мне?” — подумал он и до боли сжал зубы, чтобы унять неприятное клацание. Озноб колотил его. Мокрая одежда, пронизываемая ветром, не грела. Кузьма увидел, как, выйдя на берег, Леонид принялся рубить ель, ближе других высоких деревьев стоявшую к воде. Леонид махал топором как одержимый. И лишь теперь Кузьма сообразил, в чем состоял план Дзюбы-младшего: срубить дерево, столкнуть в воду и завести так, чтоб образовался “мост” меж камнями и берегом. Но тут же отказался от своего предположения: поток в одно мгновение переломил бы ствол как спичку. И потом Леониду понадобилось бы столько усилий и столько сноровки, что требовать подобного от одного человека просто невозможно. Лишь когда вершина ели ухнула на середину галечной косы, Свечин понял: Леонид хочет воспользоваться срубленным деревом как якорем. А тот снял мотор и разгрузил лодку. Затем закрепил один конец веревки на ели, а другой — на носу лодки. Все это сооружение находилось прямо против Свечина. Потом Леонид еще раз перехлестнул веревку через ствол и, столкнув лодку в воду, стал стравливать бечеву. Пустую плоскодонку, конечно, снесло на стрежень. Но, когда она дошла почти до самого порога, Леонид намертво закрепил конец веревки за ель. Теперь плоскодонка была надежно подстрахована. Леонид раз двадцать подводил лодку к порогу, но она оказывалась слишком далеко от Свечина. Только часа два спустя она вплотную подошла к камням, и Кузьма без риска перебрался в нее. Закоченевшие руки и ноги почти не слушались его. Наконец Леонид выволок лодку на косу и, крикнув, чтоб Кузьма раздевался, бросился в затишье меж береговыми скалами, быстро запалил там огромный костер. Леонид ухаживал за Кузьмой, словно за малым ребенком: растер его шерстяным свитером, спиртом, одел во все сухое, снятое с себя, а одежду повесил сушить, плотно накормил Свечина и уложил спать. Ощущая приятную теплоту и хмельную радость, Кузьма после пережитых волнений быстро уснул, едва успев с благодарностью подумать о Леониде. Ведь он спас его. Спас! Открыв глаза, Кузьма встретился с устремленным на него взглядом Леонида. — Как ты? Не ломает? Оклемался? — Будто ничего и не было. — Нормально! — восторженно воскликнул Леонид и вздохнул с облегчением. — Очень я за тебя беспокоился. Не хватало только, чтоб с тобой какая-нибудь ерунда приключилась. — Обошлось, — поднимаясь, сказал Кузьма. Настроение было отличное, и все, что он увидел, представилось ему прекрасным. Туман бисером мелкой росы вышил паутину меж веток ближнего куста. На рыжих листьях висели крупные капли. В них крохотными серпиками светилось утро. Седой дым от влажных дров припахивал пожарищем. Шум порога, скрытого пеленой, слышался глухо, утробно. — Ну, сегодня я дежурный, — продолжил Свечин. — Завтрак такой сварганю… — Уже готов. Ешь — и поехали. Я лодку приготовлю. — Ее же волоком надо перетаскивать… — Уже. — И, встретив удивленный взгляд Кузьмы, Леонид пояснил: — Ты спал двенадцать часов. Спустить лодку под уклон не так уж трудно. Тем более пустую. А вещи я потом перетаскал. Не знал, сможешь ли ты подняться. Кузьме стало неловко и тревожно. Леонид проделал воловью работу. И все из-за его оплошности. Оплошности ли? Он мог погибнуть, ничего не узнав. Однако он жив, черт возьми! Значит, по-прежнему будет действовать. А что мог сделать Леонид, пока Свечин спал? Прослушать магнитофонную запись! Леонид слишком настойчиво интересуется ходом расследования. Но он и виду не подает, что теперь знает и об отравлении своего отца, и о кепке ниже водопада, у волока. Почему? Какие у него причины молчать? Соучастие в отравлении? Чушь… Чушь? С ним надо быть очень осторожным. Очень. Завтрак, приготовленный Леонидом, оказался действительно вкусным. После еды Кузьма глянул на часы, приложил к уху: — Все. Отработали. Сколько времени? — Восемь… — Пора выходить на связь. — Так ты обычно выходил на связь вечером. — Ты не знаешь расписания связи. Сегодня — утром. — Твое дело. Чего объяснять? Миновав берегом порог, Кузьма и Леонид прошли к лодке. Она уже была на плаву. Взяв рюкзак, Кузьма придирчиво оглядел застежки, узел. Все выглядело вроде бы нетронутым. Но, осматривая магнитофон, он обратил внимание, что единица, показывающая метраж, не дошла до места в смотровом окошечке. А он хорошо помнил: она занимала иное положение. Тогда Кузьма заклеил клавиши управления особой пленкой. Под ней оставались в неприкосновенности следы пальцев Леонида в том случае, если он касался клавиш и не оборачивал палец тряпкой. Леонид возился в лодке и всем своим видом старался показать, что копания Свечина с рюкзаком его не интересуют. Коробку с прибором ночного видения Леонид, по всей вероятности, не смог открыть. А передатчик почему-то не работал. Сколько Свечин ни ломал голову, выискивая поломку, все было тщетно. — Мы скоро пойдем? — послышался голос Леонида. Свечин решил заняться рацией на вечернем привале. На связь ему действительно нужно выйти в двадцать один тридцать, а к берегу можно пристать раньше. На первый взгляд, видимых повреждений в передатчике он не обнаружил. Винить Леонида в поломке не приходилось. — Ну, Кузьма, теперь дорога гладкая. К мотору садись ты. А я — посплю. Так и просидел Кузьма весь день на корме у мотора. Вечерний сеанс связи пришлось пропустить. Поломки Свечин не нашел, передатчик молчал. Оставалось думать одно: сели батареи. К вечеру следующего дня они прошли мимо яра, где еще неделю назад находился табор корневщиков. У воды белел свежеотесанный кол. Лодки не было. То ли Калиткин и Храбров подались ниже, то ли, заботясь о судьбе корней, доверенных Дзюбе, а главное — корня-гиганта, спустились в Спас. Все это время Свечин думал о человеке, с которым он плыл в одной лодке, сидел у одного костра. Зачем Леониду понадобилось прослушивать записи? Пока Кузьма копался в передатчике, Леонид предавался любимому занятию — строгал веточки. Возьмет одну и аккуратненько, будто карандаш, стругает ее, пока не останется огрызок. Затем берет новую веточку, и все повторяется сначала. “Ну, прослушал он записи, а дальше? Он узнал, что кто-то отравил его отца. Или он ищет другое, интересуется другим — драгоценным корнем? Это деньги, которые не придется делить ни с кем. Но для того чтобы искать, где спрятан гигантский женьшень, надо наперед знать: он непременно существует. Откуда Леониду это известно? От отца? А ведь может быть! Тогда понятна двойная заинтересованность Леонида в поисках убийцы. Убийца — он же и похититель корня. Однако откуда убийца знает о редком женьшене? Почему убийца встречал Петра Дзюбу? Не понятно. Как и то, откуда Леонид брал деньги на веселую жизнь в городе. Возможно, в сговоре с отцом, он сбывал женьшень и раньше. Хотя бы последние два года. Вывод, пожалуй, один. Я и Леонид знаем: у Дзюбы был корень, Дзюбу отравили, а корень похитили, вернее, спрятали. Если бы отец передал корень сыну, тот не стал бы сидеть в Спасе. Он бы уехал и продал женьшень. В заготконтору? Такой корень — не иголка в стоге сена. Но если и до этого Леонид получал от отца корешки, то у сына есть свои каналы связи с покупателями. Сбыть корень втихую для него не проблема. “Покупают же “Волги” ради удовольствия”, — как говорит Самсон Иванович”. Что ж, Кузьме тогда понятны и слова Леонида: “Не хватало только, чтоб с тобой какая-нибудь ерунда приключилась”. Ведь так было сказано. Так, но кто убийца? Телегин? Крутов? Или человек, на след которого еще не напали? Снова они шли целый день. Леонид словно забыл подменять Кузьму у мотора. На этот раз Свечин почувствовал, что основательно выдохся. Наконец Леонид сказал: — Глуши! Мотор смолк. Лодка стала подворачивать к берегу. — Заночуем в Черемшаном распадке. Самое удобное место. — Наверное, — неопределенно пожал плечами Свечин. Он окинул взглядом будто бы знакомые очертания берегов, уже тонувшие в глубоких сумерках. — Вы на обратном пути тоже здесь ночевали? — Мы… Вроде… Высадились. Кузьма огляделся и вдруг понял, что попал в совсем незнакомое место. Оно не походило на Черемшаный распадок, хотя еще минуту назад Свечину казалось, что именно тут они причалили с участковым инспектором Самсоном Ивановичем, перед тем как идти к Лысой сопке, где и нашли яму от вырытого корня-гиганта. Кузьма решил не выяснять, почему Леонид лгал. Пока не выяснять. В конце концов, ему все равно, где они заночуют, а чего хочет добиться таким ходом Дзюба-младший, станет ясно из его дальнейших поступков. Стоп, Кузьма! Стоп! “Сегодня мы первый день идем по тому отрезку пути к Радужному, по которому Дзюба двигался уже с корнем. С женьшенем в Лубянке! Дзюба был отравлен и погиб при странных обстоятельствах в скалах у водопада. Но корень он мог оставить в условном месте. Ведь, по моей версии, отец и сын находились в сговоре. Рано тревожишься, Кузьма. Лубянку видел старик удэгеец Ангирчи. Самсон Иванович ему верил. А где та коса, на которой мы встретились со стариком? Если я не узнаю Черемшаного распадка, то коса, наверное, нами уже пройдена. На карте я не делал отметок ни тогда, ни теперь. Спросить у Леонида, далеко ли до Радужного?” Тот ответил: — Часов восемь. Ты что, места не узнаешь? Ничего, бывает. — А против течения сюда за сколько времени можно дойти? — Смотря какое течение. После дождя… В долгое вёдро… По-разному. Потом, какая лодка, какой мотор… “Почему Леонид уходит от прямого ответа? — подумал Свечин. — Можно, конечно, попросить его, чтоб указал на карте, где остановились. Но поступить так — уверить его в том, что я догадался и о сговоре, и о существовании тайника, где спрятан женьшень-великан… Придется не спать”. Принять решение было куда легче, чем выполнить его. Тем более, приходилось делать вид, будто спишь. Снова и снова в мыслях Свечин возвращался к возможной причине отказа рации, разбирал самые сложные варианты. И вдруг его осенило: он не проверил, не разъединены ли каким-либо образом контакты между элементами, питающими рацию. Достаточно было Леониду просунуть между стыками сухих элементов клочок бумаги — и рация бы вышла из строя. С первым светом Кузьма проверил это предположение и убедился, что оно правильно. Теперь у него не осталось никаких сомнений: Леонид должен знать, где находится тайник. К моменту убийства в котомке старика Дзюбы сокровища уже не было. “Вот почему Леонид изматывает меня днем, держа на руле! — подумал Свечин. — Ему надо, чтобы я спал мертвым сном. Ему надо, чтобы я не мог сообщить в Спас о нашем точном местонахождении и вообще не знал его. Что ж, поборемся! До Радужного нам осталось идти часов десять. Если я воспользуюсь рацией, то Леонид поймет, что его подлость обнаружена, и к тайнику уже не подойдет. Придется сделать вид, что я ни о чем не догадываюсь, и наблюдать за ним”. Когда Свечин разбудил Леонида, тот, протирая глаза, сказал, что всю ночь очень плохо спал — живот разболелся. — Режет. Сил нету. Пришлось устроить дневку. А Кузьма не мог позволить себе спать и следующую ночь. Выдержать пытку бессонницей на вторые сутки было очень трудно. Мысли мешались, путались, темнота убаюкивала. Иногда Свечину казалось, будто он спит с открытыми глазами. Если бы можно было двигаться, хотя бы сидеть, глядя в огонь костра! Нет, Кузьма лежал, отвернувшись от огня, чтоб случайно брошенный Леонидом взгляд не застал его врасплох. А днем Свечину снова пришлось занять место у руля. Только на другой вечер они вошли в заводь у скал. В ту самую, откуда полторы недели назад Кузьма и Самсон Иванович на лодке Дзюбы отправились к его напарникам-корневщикам. Было еще достаточно светло. В заводи серо отражалось затянутое облаками небо. Чертовы скалы — высоченные, сильно выветренные — вздымались от самого уреза и опрокинутыми рисовались на глади воды. Все осталось по-прежнему. — Чего гнали? Было ж ясно — к вечеру придем! — раздраженно бросил Кузьма. Две бессонные ночи доконали его. От звуков, цвета, запахов его отделила стена усталости. — Погода могла испортиться… — отговорился Леонид. При одной мысли, что и третью ночь — хоть она и решающая — придется не спать, к горлу Свечина подкатывал ком тошноты. Леонид принялся похрапывать. Потом повернулся на другой бок и затих. А Кузьма, загородившись от света костра рюкзаком, думал о том, что с легкостью перенес бы любую боль, лишь бы ему сомкнуть глаза. Ему казалось, что тогда жги его, режь — он не проснется. Леонид проворчал что-то во сне, повернулся. Потом сел, потряс головой, словно отгоняя тяжелый сон. Из полутьмы, из-за рюкзака, которым Кузьма загородился от света костра, он видел, как Дзюба-младший, немного посидев, потянулся, похлопал себя ладонями по плечам и, крякнув, поднялся. Прошла минута, другая. Сквозь мерный шум водопада до слуха Кузьмы донесся хруст ломаемых сучьев. Свечин глянул в сторону зарослей у спуска к реке. Опять оттуда послышался треск. Явственный, даже нарочитый. Кузьма затаил дыхание. Потом медленно протянул руку к рюкзаку. Развязал его. Вытащил плоскую коробку с прибором ночного видения, достал аппарат, похожий на старинный, неуклюжий пистолет с широким дулом. “Пистолет”, голову и руки Свечина по-прежнему скрывала густая тень от рюкзака. Кузьма на ощупь поставил наводку прибора, прильнул к окуляру, нажал кнопку и вздрогнул: в ярком салатовом свете перед ним возникла фигура Леонида. Он был как будто рядом. Вероятно, Леонид шел от костра по прямой, поэтому Свечин сразу же и “наткнулся” на него. Чуть тронув виньер настройки, Кузьма “отдалил” от себя Леонида. Стали обрисовываться ветки кустов, в которых стоял Дзюба-младший. Он не скрывался, но все-таки выглядывал из-за листьев осторожно, будто догадывался о возможностях Кузьмы. Наконец изображение в окуляре шевельнулось. Свечин услышал треск ветвей. Не оставалось сомнений, что Леонид проверял: спит ли инспектор, или только притворяется.*
— Долго быть у больного нельзя, — нахмурившись, проговорил Матвей Петрович. Андронов впервые видел доктора в его рабочей обстановке, и крохотный старик в белом халате и белой шапочке показался ему внушительнее и даже выше ростом. Обычная мягкость в обращении, которая порой казалась едва ли не приторной, куда-то исчезла. Перед инспектором стоял словно другой человек. — Хорошо… То есть мне надо кое-что рассказать Самсону Ивановичу, посоветоваться с ним, кое о чем спросить. — Это его не очень взволнует? — М-м… Не думаю, — ответил Андронов, хотя и знал, что это было неправдой. Но обсудить с участковым ход расследования было просто необходимо. Андронов подошел к двери палаты, в которой после операции лежал Протопопов, приоткрыл ее. Самсон Иванович был один. Вторая койка пустовала. Участковый быстро повернул голову в сторону вошедшего и постарался улыбнуться. Подойдя к нему, Андронов привычно протянул руку, но участковый, тоже привычно попытавшись поднять правую руку, болезненно поморщился. — Извини, извини, Самсон Иванович… — скороговоркой проговорил Андронов, смущенно опустив взгляд. — Я сам то и дело забываю, что здороваться мне пока надо левой. Времени у Виктора Федоровича было мало, и он сразу перешел к делу: — Ни в одной заготконторе края такого крупного корня не принимали. — Не примут, — заверил Самсон Иванович. — Выходит, почти безнадежное дело. Не найти нам “уплывший” корень, — промолвил Андронов. — Не похоже, чтобы он “уплывал” из тайги. Думаю, даже в Спасе корня того нет. Рыжего геолога, или пожарника, нашли? — Нашли. Действительно спешил человек. Решил: смердит так смердит. Доложу, и баста. — Расскажите мне обо всем, что произошло за эти пять дней, — попросил Самсон Иванович. — Телегин твердит, что самострел и нож у Ангирчи взял Дзюба. По дороге на корневку. Пристыдил, мол, старика, что нехорошо менять такой нож на корень. А самострелом его он и раньше пользовался. — Да, не уследил я… — Вот и я не уследил. Пропал Ангирчи. Да и тот ли он человек? — Я верю Ангирчи. Это хороший человек, Виктор Федорович. — А вот Твердоступ твердит, что нет. Много мелких грехов за Ангирчи… Дзюбу покрывал. Самострел ему одолжил. Хорош свидетель обвинения. Может, поэтому и скрывается старик? — Нет. Он не стал бы скрываться. Здесь что-то другое… — Вы уверены? — Твердо, Виктор Федорович. — Кстати, что там с продавцом из леспромхоза стряслось? Вы же это выясняли со Свечиным? — Проворовался, пропился. — А какие отношения были между Дзюбой и этим Кочетовым? — Дзюба был человек скрытный и ловкий… — помрачнел Самсон Иванович. — Осторожный. Может, и сплавлял корень—другой. Знал бы я наверняка — другое дело… Что случилось, Виктор Федорович? — Странное совпадение… — откашлялся Андронов. — Без особой надежды на успех я связался по радио с леспромхозом. Оказалось, Кочетов наконец-то там объявился. Сейчас находится в больнице. Его нашел в тайге — говорит, что случайно, — Утробин, лесничий с кордона Лиственничного. Еле живого, побитого, с легким огнестрельным ранением. И что самое важное, продавец хоть и не сильно, но отравлен. — И что за эту траву принялись?! — Тут другое. Из дома Утробина, как я узнал, пропала склянка из-под уксусной эссенции. В ней хранился сок веха. Им жена Утробина мышей травила. А накануне гибели Дзю-пы Кочетов заходил на кордон… Кстати, большая была у него недостача? — Три тысячи с лишним. — B это в таком магазинчике? — Да там сейчас целый универмаг. — А мог ли, Самсон Иванович, такой человек, как Кочетов, если бы узнал о редком корне, на преступление пойти? — Мог. Этот — мог. Андронов встал. И, не протягивая руки, легонько дотронулся до здорового плеча участкового: — Поправляйтесь. Эх, если бы не ваше ранение, давно бы дело закончили! Самсон Иванович заметно смутился: — Да будет вам, Виктор Федорович… Вам-то что прибедняться? А как Свечин? — Пожалуй, выйдет из него толк. Цепкий парень-Полет занял немного времени. Вскоре машина приземлптась около поселка лесодобытчиков. Андронов разыскал больницу- новый дом, сложенный из еще не потемневших, медового цвета бревен, — вошел в приемную и представился врачу, средних лет женщине, с крупными карими глазами. — Вас проводить к больному? — Давайте прежде поговорим, — предложилАндронов. Его интересовало многое: состояние больного, характер ранений и их примерная давность. — Сейчас Кочетов чувствует себя вполне удовлетворительно, — ответила врач. — Огнестрельная рана в области грудной клетки — касательная, легкая. Характер ранений и ушибов… Впечатление такое, что он либо скатился с горы, либо… его краем задел камнепад. Так, каменная мелочь. Но местами ранения глубокие, ушибы были сильные. Ведь он почти две недели пробыл в тайге… — Не больше? — Я говорю: в тайге. А потом еще на кордоне Лиственничном. “Итак, — прикинул Андронов, — лесничий доставил Кочетова на кордон едва ли не сразу после моего отъезда оттуда… Сообщить нам об этом, по своей наивности, не догадался: мало ли что, мол, может случиться в тайге…” — Что ж, проводите меня, пожалуйста, к пострадавшему. То, что Андронову пришлось выслушать от взволнованного, испуганного продавца, было одновременно и просто, и сложно, как это и бывает в жизни. А началось вес с шанежек — кушанья удивительно вкусного даже в холодном виде. Отправляясь в город, где он думал достать денег для погашения растраты. Кочетов взял с собой из дома всяких печеностей. По дороге он зашел на кордон и случайно узнал у Леонида, что у Радужного должен появиться Дзюба-старший. Так у кого же и попросить денег, как не) старого приятеля, которого сам выручал в делах куда посерьезней?! С этой мыслью Кочетов и пошел на поиски Дзюбы. Утром перед уходом он взял с кухонной полки бутылку с уксусной эссенцией — знал, как приедается в тайге пресное. Бутылку со спиртом он загодя положил в котомку еще дома. Дзюбу он застал у водопада и очень обрадовался. Приди он туда сутками позже, и считай, зря бил ноги. Петро Тарасович был не в духе. Позарился на козла — больно уж тот удобно стоял в скалах неподалеку — и убил, но услышал, как шуршат, осыпаясь со склонов расселины, камни, и побоялся идти в каменный лабиринт. За ужином, прежде чем заговорить о делах, Кочетов и предложил Дзюбе домашних шанежек, да еще с уксусом. Петро Тарасович подобрел, поглядывал ласково. А когда продавец достал и бутылку спирта, Дзюба совсем оживился. Махнул в мясо, запеченное в тесто, солидную порцию “уксуса”, да еще пожаловался: мол, сильно развел, не жжет. Кочетов от приправы отказался: давно уж желудком страдает. Уж и по второй собрались выпить, когда Дзююба побагровел и зло спросил, какой это отравой напоил его Кочетов. Тот взял “уксус”, лизнул слегка, почувствовал что-то не то и, закрыв склянку, отставил ее в сторону. А полуобезумевший Дзюба уже “пёр медведем”. Кричал, что Кочетов, мол, пришел его ограбить, схватился за карабин. Тут продавцу стало не до объяснений, он бросился куда глаза глядят — к скалам. Едва добежал до расселины, раздался выстрел, и ему обожгло бок. Он продолжал бежать опрометью, и в это время сверху посыпались камни. Очнулся Кочетов утром. Все тело было избито, изранено. К тому же его выворачивало наизнанку. Еле-еле выбрался на поляну, но Дзюбы не нашел. С трудом передвигаясь, взял свои вещи и пошел прочь. Внизу, у начала волока, связал кое-как плотк из валежин. Кепку, ватник потерял. — А накануне как переправились? — Так Дзюба и перевез. — А если бы его не застали? — На том берегу и заночевал бы. Дело привычное. Когда тщедушный, исхудавший Кочетов узнал о смерти Дзюбы, отравленного вехом и засыпанного камнями, он заплакал. Шумно, взахлеб.*
В окуляре прибора ночного видения мелькали салатовые очертания скал и кустов. В прогалах меж ними быстро двигалась человеческая фигурка. Против ожидания Кузьмы, считавшего, что Леонид пойдет вниз, к реке, тот пробирался по опушке к Чертовым скалам. Цепь кустов оборвалась. Леонид стоял у подножия высоких скал, пристально глядя в направлении костра. Кузьма не шелохнулся. Конечно, Дзюба-младший мог дойти до скал проще, напрямик, а не тащиться по кустам. Только ему, очевидно, нужно было идти так, чтоб в любую минуту сделать вид, что собирался он не туда. Шло время. Леонид не отводил взгляда от костра. Скрывшись по плечи в тени рюкзака, Кузьма лежал неподвижно, боясь спугнуть Леонида, хотя тот находился метрах в трехстах и едва ли заметил бы, шевелится его спутник или нет. Неожиданно фигура Дзюбы-младшего исчезла за скалами. Вновь появилась. Он карабкался вверх. Было просто удивительно, как он умудрялся ориентироваться в темноте. Наверное, отлично знал, куда шел, и не раз туда ходил. Причем риск был громадный: каждый шаг мог стать последним. Кузьме приходилось теперь не только следить за Леонидом. Время от времени он вскидывал “пистолет” и по зубцам “привязывал” путь Леонида к скалам, чтобы не потерять ориентировку. Иначе потом он не смог бы найти это место. Поднявшись метров на двадцать вверх, Дзюба-младший остановился. Он снова долго смотрел в сторону костра. “Похоже, еще раз хочет убедиться, не проснулся ли я, не спохватился лк, что его нет, не пошел ли искать, — понял Кузьма. — Значит, тайник там”. В следующее мгновение Леонид юркнул за скалу и пропал из виду. И тут Кузьма едва не вскочил на ноги и не заорал во все горло: метрах в двух выше, как бы заглядывая — да, именно заглядывая — в расселину, в которой скрылся Леонид, появился человек, по пояс высунувшийся из-за скал. Переведя виньер прибора на самое сильное увеличение, Кузьма узнал в этом человеке… Ангирчи. Свечин протер глаза. Может, с усталости померещилось? Но нет. Облик Ангирчи он узнал бы из тысячи других. И старик, видимо, следил за тем, что делает Леонид. Он наблюдал! “Вот что, Кузьма, — обратился Свечин к самому себе. — Подожди. Подожди с выводами, заключениями и даже предположениями. Наблюдай! Внимательно наблюдай! Не упускай ни одного движения — ни Леонида, ни Ангирчи!” Сколько времени прошло, пока появился Леонид, Кузьма не знал. Но едва тот стал спускаться на поляну, как Ангирчи легко перелез через груду камней и бесшумно скрылся в расселине, откуда только что вышел Дзюба-младший. Снова Кузьма, чтобы одновременно наблюдать за Леонидом и Ангирчи, пришлось уменьшить увеличение. Леонид преодолел уже половину спуска, когда Ангирчи появился над камнем, похожим на голову орла в профиль. Он-то и прикрывал расселину. В руках у него было нечто похожее на большого формата книгу, атлас, что ли, длиной в полметра, а шириной немного поменьше. “Лубянка? Лубянка!.. С корнем!” Кузьма снова усилил увеличение и увидел, что створки Лубянки распахнуты. Значит, она пуста. Ангирчи снова с ловкостью барса взобрался на скалы и скрылся за ними. Кузьма перевел объектив прибора к подножию. Леонид еще не закончил спуска. Он двигался очень расчетливо, придерживаясь за камни одной рукой, а вторую не отрывал от груди. Видимо, что-то прятал под ватником. И снова, оказавшись на поляне, он не пошел к костру напрямик, а двинулся вдоль опушки. Свечин не спеша убрал аппарат в коробку и, увидев, что Леонид направился к костру, задвинул ее под рюкзак. Через несколько минут Дзюба, покашливая, подошел к огню. Присел. Закурил. Неторопливо, с чувством, и лишь затяжки его — глубокие, прерывистые — свидетельствовали: он только закончил трудное и опасное дело, потребовавшее от него напряжения всех сил. Глядя сквозь чуть приоткрытые ресницы, Кузьма понял: у Леонида под ватником что-то есть. Убедившись, что Свечин спит, а тот, поежившись, преспокойно повернулся на другой бок, почмокал губами и затих, Леонид повернулся спиной к костру, переложил спрятанное за пазухой в свою котомку. Потом бросил окурок в огонь, подложил дров и лег. Раздумывая над происшедшим, Кузьма сообразил: перед рассветом на поляну непременно поползет с реки туман. Тогда он сможет незаметно пробраться в скалы и точно узнать, зачем же туда пробрался Леонид… Туман — это хорошо. Он вряд ли поднимется выше вершин. Решив так, Свечин стал думать о том, правильно ли он вел себя и так ли, как надо, поступил. Первый вопрос, который он себе задал, был: “Почему ты не задержал обоих на месте преступления?” И тут же ответил: “Но разве нельзя предположить такое: я просыпаюсь, а Леонид смеется и говорит: “Пока ты спал, инспектор-салага, я корень нашел. Вот он!!” Леонид достаточно честолюбив, чтоб поступить именно так. Но зачем Ангирчи Лубянка! И почему Леонид не взял ее. В том-то и дело! Если бы Ангирчи был в сговоре с Леонидом, то не стал бы тайком утаскивать Лубянку, когда корень женьшеня из нее уже взят. А Дзюбе куда ее девать? Корень, правда, пострадает, но и упустить то, во имя чего совершилось преступление… А ты, Кузьма, сам-то уверен, что Леонид его совершил? Я не сказал еще точно: Леонид… Не назвал убийцей? Но ведь убийство совершено для того, чтобы завладеть женьшенем…” И тут Кузьма увидел, что к свету костра из ночного мрака выходит Ангирчи с Лубянкой в руках. Он шел неторопливо и уверенно. Свечин сел и вытаращил глаза на старика. Он был поражен тем, сколько в фигуре на вид хрупкого удэгейца было достоинства и силы. Поднявшись, Кузьма сказал: — Здравствуй, Ангирчи. Я рад тебя видеть. Где ты пропадал, Ангирчи? — Уголком глаза инспектор наблюдал за Леонидом. Тот словно окаменел, скрючившись на земле. — Кузьма… Ангирчи заговорил совсем негромко, но в ночи его слова не заглушались даже шумом водопада. — Кузьма, у костра твоего — вор и сын вора… — Может быть, и убийца?.. — Нет! Я не убивал отца! — закричал, не поднимаясь, а только ощерившись, Леонид. — Нет!.. — Твой отец украл у меня корень… Ты скрывал место, где он спрятан. Ангирчи догадался. Он две недели ждал тебя. Только это не мой женьшень. Ангирчи стар. Ему немного осталось жить на земле. И я хотел отдать корень людям. Неуловимым, мягким, но неожиданно сильным движением Ангирчи оказался около Леонида. Достал из его котомки корень, очень похожий на индийского танцовщика, изваянного из слоновой кости. Отсветы костра играли на нем, и казалось, что фигурка живая. Старик бережно, словно ребенка в колыбель, уложил женьшень в Лубянку и передал ее Свечину: — Держи его. Это чудо не для грязных рук. Храни и передай людям…
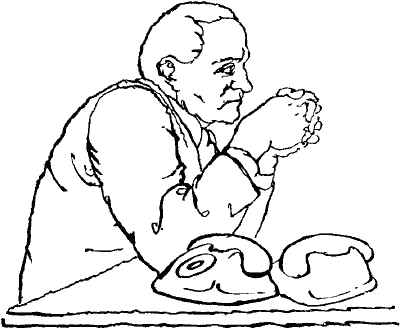
Безуглов А. ВАС БУДУТ НАЗЫВАТЬ “ДИКС” Приключенческая повесть
У журналистов, как в у актеров, есть, очевидно, свои амплуа. Одни пишут фельетоны, другие — серьезные статьи. Мне чаще всего приходится писать судебные очерки. В Зеленогорск я попал случайно. Не было ни редакционного задания, ни командировки. Просто хотелось повидаться с одним старым другом, побродить с ружьем, вспомнить студенческие годы. Но отдохнуть так и не пришлось: события, о которых мне рассказал мой товарищ, целиком захлестнули меня. Происшествие было настолько необычным, не похожим па те, с которыми мне пришлось сталкиваться прежде, что я не мог не написать о нем, хотя это запутанное дело выходило за рамки судебного очерка. Я долго думал о форме повести и пришел к выводу, что лучше всего будет, если я не добавлю от себя ни единого слова: пусть обо всем расскажут главные участники этих событий. Итак…РАССКАЗ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Я сижу в кабинете Лазарева и, хотя все вопросы, которые я сегодня собираюсь ему задать, знаю наизусть, почему-то медлю. Капитан милиции, человек средних лет, внимательно смотрит на меня; он знает о цели моего визита и весь подобран и сосредоточен. “Нельзя начинать с главного, — думаю я. — Он ограничится изложением фактов, а мне важна каждая мелочь, каждая незначительная деталь”. — Сергей Васильевич, — обращаюсь я к Лазареву, — очень прошу вас, расскажите мне все по порядку, не пропуская буквально ничего. Не бойтесь, что кое-что в вашем рассказе может показаться мне малозначительным или вовсе не нужным. Лазарев на минуту задумался, потом начал.*
— Это случилось 17 ноября 1969 года. День в нашем райотделе начался как обычно. Лейтенант Скирда рассказал первый за этот день анекдот и обиделся, что никто на него не отреагировал. Лейтенант слывет у нас остряком (впрочем, кроме него самого, в это никто всерьез не верит). И обиделся он на нас зря: я лично этот анекдот слышал еще, когда был студентом. Но обида Валерия Скирды была столь неподдельна и искренна, что я смалодушничал и попросил его рассказать что-нибудь еще. Пусть человек реабилитируется. И тут же раскаялся в своем малодушии, потому что Валерий рассказал еще более древний анекдот. Откровенно говоря, я не сдержался и прочел ему краткую лекцию о том, чем должен заниматься в служебное время инспектор уголовного розыска. Скирда, растеряв весь свой юмор, что-то буркнул в ответ и по-мальчишески надул губы. Парень он хороший, способный, есть хватка, со временем из него выйдет толковый работник, но пока он еще очень молод. К нам его прислали недавно, и, очевидно, работа в милиции представлялась ему бесконечными приключениями и подвигами при его личном, Валерия Скирды, участии. А у нас все проще. И на первых порах трудно ему привыкнуть к мысли, что кино — это кино, а жизнь — это жизнь. Валерию, наверно, хотелось с пистолетом в руках выслеживать опасного преступника, применять на практике познания в области самбо — в общем, “Именем закона!”. А тут иди и составляй протокол “о хищении козы, принадлежащей гражданке Пыховой”. Есть от чего напускать на себя таинственный вид перед местными девчатами. Служба в милиции — это не игра в казаки-разбойники, с ее азартом, погонями, перестрелками. Бывает, конечно, и такое, но не это главное. Работа в милиции не только своевременное раскрытие преступления и задержание преступника. Прежде всего это предотвращение преступления, как мы говорим — профилактика. Чем меньше преступлений совершено, тем лучше работает милиция. Все это Валерий понимал умом, но в сердце своем все же лелеял образ столь милого ему киногероя. Я подумал, что обсуждение методов воспитания молодых оперативных работников не входит в задачи моего интервью, и осторожно перебил Сергея Васильевича: — Скажите, а когда вы узнали о случившемся? — В четырнадцать часов двадцать пять минут мне сообщили, что на дороге, ведущей в леспромхоз, невдалеке от города, обнаружен труп мужчины, сбитого, очевидно, автомашиной. Отдав распоряжение об охране места происшествия, я захватил с собой судебно-медицинского эксперта Николая Николаевича Першина, лейтенанта Скирду и выехал на место происшествия. Осень в том году выдалась холодная. С неба на размытую землю вперемежку с косыми тяжелыми дождями сыпалась белая крупа. Снежинки таяли в грязи тротуаров, растворялись на мокрых лентах асфальтовых дорог. Кое-где под заборами на прелой листве снег уже лежал чистыми полосками, напоминая о близкой зиме. Свинцовые тучи ползли так низко, что казалось, они вот-вот зацепятся за колокольню старинного собора, самого высокого здания в нашем городе. Валерий, сидящий на переднем сиденье, рядом с шофером, закурил, а Николай Николаевич демонстративно опустил стекло. В лицо ударила струя холодного воздуха. Першина я знал давно, но если б меня спросили, что я думаю о нем, то мне было бы нелегко дать вразумительный ответ. Человек он замкнутый, скрытный, и я не помню, чтобы за годы нашей совместной работы мы разговаривали с ним о чем-нибудь, кроме служебных дел. Першин слыл эрудитом, глубоко и по-настоящему знающим свое дело. Не было случая, чтобы работа, проведенная им, требовала повторной экспертизы. Иногда он предлагал свою, как правило, очень оригинальную и хорошо мотивированную, следственную версию и частенько оказывался прав. Но было в нем качество, не вызывавшее во мне симпатий. Очевидно, наступает такая стадия в развитии человека, когда аккуратность переходит незаметно в педантизм, а сдержанность — в равнодушие. Вот, пожалуй, на такой стадии и находился Николай Николаевич. Единственное, к чему он, по-моему, был неравнодушен, так это к собственному здоровью. Он не пил, не курил и терпеть не мог, когда курили при нем. Однажды кто-то из сотрудников спросил его, правда ли, что медики начинают курить после того, как побывают в анатомичке. Першин, иронически посмотрев на него, ответил: — А я вот поэтому и не курю, что слишком много трупов повидал. Несмотря на преклонный возраст, он занимался спортом, вечно возился с какими-то травяными отварами и вместо чая пил настойку шиповника. По слухам, Першин собирался дожить до ста лет. А Валерий клятвенно утверждал, что наш эксперт каждый вечер измеряет температуру и, если она поднимается хоть на одно деление против тридцати шести и шести, тут же ложится в постель. Впрочем, это было явной выдумкой, так как здоровьем Першин обладал действительно отменным, и я не помню, чтобы он хоть раз болел чем-нибудь. — Вы бы окошко прикрыли, — попросил Валерий, поворачивая к нам посиневший на ветру нос. — Свежий воздух гораздо полезнее табачного дыма, — наставительно отозвался Николай Николаевич и, всем телом повернувшись ко мне, добавил: — Курящие думают, что отравляют только себя. Это заблуждение: окружающие страдают нисколько не меньше. Валерии досадливо крякнул и, слегка приспустив стекло, выбросил недокуренную сигарету. — А у меня вот дед и курил, и пил дай бог как, — неожиданно вступил в разговор шофер, — и дожил до восьмидесяти шести лет. — Исключение из правил только подтверждает правила, — сухо сказал Николай Николаевич и крепче вцепился в чемоданчик, стоявший у него на коленях. Переспорить Першина было невозможно. — Что-то рано в этом году зима начинается, — примирительным тоном сказал Скирда, стараясь, очевидно, свернуть разговор к ничему не обязывающим ахам и охам по поводу действительно необычно ранних для наших мест холодов. — Ну это еще не зима, — охотно подхватил шофер. — Я вот в армии служил в Иркутске — вот там зима. Выйдешь на улицу, вздохнешь, как будто самогонки хватил. Один раз, помню, были у нас учения, мороз сорок пять градусов. — В тени? — невозмутимо поинтересовался Валерий. — Моторы паяльными лампами разогревали, — не обращая внимания на его выпад, продолжал шофер… Как мне знакомо вот это состояние перед тем главным, что нас ожидает. Люди разговаривают о совершенно посторонних вещах, а все мысли там, где совсем недавно неожиданно оборвалась чья-то жизнь. К смерти привыкнуть невозможно. Каждый по-разному представляет, что ждет его на месте происшествия. Каждый про себя строит версии, вспоминает похожие случаи, прикидывает, с чего взяться за дело. Но мы не говорим об этом, не обсуждаем предстоящей работы. Каждый напряжен и за обычными разговорами пытается скрыть свое напряжение. С той минуты, как мы выйдем из машины на место, где произошел несчастный случай, а может быть и преступление, не будет сказано ни одного лишнего слова. Машина выбралась за город и, разбрызгивая лужицы, скопившиеся в выбоинах, на предельной скорости понеслась по шоссе. За окнами замелькали голые мокрые деревья… …Несмотря на отдаленность от жилья, на месте происшествия собралось немало любопытных. Я попросил Скирду выяснить, является ли кто-нибудь из собравшихся свидетелем происшедшего, и вместе с Першиным подошел к трупу. Человек лежал ближе к обочине, лицом вниз, неловко выбросив вперед руку. Серое драповое пальто было испачкано дорожной грязью. Устанавливать личность убитого не было необходимости: в человеке, лежащем на шоссе, я узнал учителя географии Леонида Николаевича Карпова. В нашем городе его знали многие. Общественник, бывший подпольщик… — Лазарев на минуту умолк и потянулся за новой сигаретой. — Скажите, Сергей Васильевич, на месте было что-либо обнаружено? Лазарев резким движением руки разогнал табачный дым. — Да, след машины, которая, очевидно, сбила Карпова, был хорошо заметен. После наезда след вилял примерно метров триста, а далее пошел ровно. Видимо, шофер был настолько растерян, что не мог совладать с нервами. Эти триста метров машину буквально бросало из стороны в сторону. В одном месте она настолько близко подошла к обочине, что даже зацепила бортом деревце, росшее у края дороги. Свежее повреждение коры находилось на высоте 107 сантиметров от земли. По ширине колеи, следу и форме узора протектора покрышки я пришел к выводу, что наезд совершен на грузовом автомобиле “ГАЗ-51”. Через несколько дней экспертиза подтвердила этот вывод. Тщательно сделав гипсовый слепок следа протектора, я подошел к Першину. — Обратите внимание, Сергей Васильевич. — Першин нагнулся к трупу. На голове Карпова, среди слипшихся от крови волос, червонным золотом поблескивало несколько длинных рыжих волосков. — Перелом основания свода черепа. Очень странно. — Першин тяжело поднялся. — Думаю, что все станет ясно после вскрытия. Рад, что вы не задаете традиционного вопроса “Когда наступила смерть?”, — добавил он, увидев, что я внимательно разглядываю часы Карпова. Очевидно, одно из колес прошло по руке, часы марки “Салют” буквально врезались в запястье, небьющееся стекло, вдавленное непомерной тяжестью в циферблат, покрылось густой сеткой трещин, стрелки остановились и показывали тринадцать часов тридцать семь минут. — Значит, смерть наступила в тринадцать тридцать семь. — А может быть, и раньше. — Першин иронически посмотрел на меня. — Почему вы так решили? — Я еще ничего не решил, это только предположения, и не больше. — А на чем все же основываются ваши предположения? — Хотя бы на том, что часы могут идти не точно. Бывает ведь такое? Першин явно хитрил, но за годы работы с Николаем Николаевичем я привык к тому, что он иногда говорит загадками. Когда у Першина рождались какие-то предположения, он никогда ни с кем ими не делился до тех пор, пока сам тщательно не проверял их обоснованность. На месте происшествия я действительно кое-что обнаружил: гвоздь, кусочек вогнутого стекла и булыжник. Причем каждый из этих предметов в отдельности, впрочем как и все они вместе, могли не иметь к случившемуся ровно никакого отношения. Изъял я также рыжие волоски, найденные на голове убитого. Лейтенанту Скирде повезло больше — среди собравшихся любопытных он отыскал женщину, которая видела, как примерно в то время, когда случилось происшествие, по дороге проехала зеленая грузовая машина. Номера женщина не запомнила, помнит только, что к кабине был прикреплен треугольный красный флажок. Скирда с таким суровым и таинственным видом допрашивал свидетельницу, что она окончательно растерялась и к тому времени, когда я подошел к ней, только испуганно моргала. А Скирда, грозно нахмурив брови, железным голосом спрашивал: — Неужели больше вы ничего не запомнили? Я ведь вас предупреждал… “Ах ты, Шерлок Холмс чертов”, — подумал я, видя, что женщина взволнована и запугана и толку от нее будет немного. Это состояние свидетелей мне, к сожалению, хорошо знакомо: они ожидают наводящих вопросов следователя и могут подтвердить все, что угодно. Я вообще с большой осторожностью отношусь к свидетельским показаниям. Гладко и точно дают показания обычно только лжесвидетели. Человек же, бывший действительно на месте происшествия или преступления, часто сбивается, не может точно установить время происходившего, путает цвета и другие приметы. Есть, конечно, внимательные люди с прекрасной зрительной памятью, но таких, к сожалению, не много, большинство же не обладает этим ценным для свидетеля качеством. Ну, а уж если свидетель запуган или взволнован, то нужных показаний от него не жди. Из искреннего желания помочь следствию он может нагородить такое, что до второго пришествия не разберешься. Я записал адрес и фамилию женщины и отпустил ее, решив допросить в более спокойной обстановке. Отведя в сторону усердного лейтенанта, я второй раз за день прочел ему нотацию, на этот раз вполне серьезно. Валерий слушал с недовольным лицом, изображая непонятого гения, этакого молодого Мегрэ, к которому придирается старый бездарный инспектор. — У вас была какая-то версия? Вы кого-нибудь заподозрили? Лазарев покачал головой. — Версия рождается из целого ряда улик: прямых и косвенных. Кого я мог заподозрить? У меня не возникало сомнений в том, что Карпова сбил какой-то лихач. Надо было срочно разыскать машину, на которой было совершено преступление, а затем выяснить, кто находился за рулем. Найти машину, совершившую наезд, оказалось несложно. В гараже городской автобазы я сразу обратил внимание на “ГАЗ-51” зеленого цвета, к кабине которого был прикреплен выцветший треугольный флажок. При детальном осмотре машины на правом переднем колесе были обнаружены следы крови Для экспертизы, я тщательно осмотрел борта кузова. На правой стороне, на высоте 107 сантиметров, явно выделялась царапина от удара о дерево, рисунок протектора покрышки совпадал с отпечатком, обнаруженным мной на месте происшествия. Сомнений не было: это та самая машина, сбившая Карпова. В диспетчерской автобазы, проверив путевки, я выяснил, что сегодня на этой машине в леспромхоз выезжал шофер Горбушин. Отдав распоряжение притихшему после выговора Скирде доставить на допрос Горбушина, я поехал в райотдел: надо было успеть написать постановление о назначении экспертиз по поводу желтых волосков, стекол, обнаруженных на месте происшествия, группы крови, соскобленной с колеса машины, и, наконец, следа протектора. К тому времени, как я закончил писать последнее постановление, у меня изрядно разболелась рука. Чего-чего, а писанины в нашем деле хватает. Горбушин мало чем напоминал шофера грузовой машины: его скорей можно было принять за студента, молодого инженера, за кого угодно, но только не за шофера. Красивое, тонкое лицо с девичьим румянцем, белая нейлоновая рубашка, аккуратно повязанный галстук. Те шоферы, с которыми мне доводилось встречаться, как правило, несли на себе отпечаток своей нелегкой профессии: обветренные лица, загрубелые руки, а уж если белая рубашка, то только по праздникам. Народ веселый, напористый, грубоватый. — Давно работаете шофером? — спросил я. — Второй год. Как вернулся из армии. — Голос у Горбушина был тихий и приятный. “Вот черт, — мелькнуло у меня в голове, — ведь этот вежливый, аккуратный паренек сегодня задавил человека! А держится спокойно, будто ничего не произошло. Что это? Самообладание, уверенность, что он уйдет от расплаты, или просто равнодушие? Обыкновенное равнодушие, которое притаилось за элегантной внешностью? Ни тени испуга, ни следа растерянности, как будто его вызвали не в милицию, а пригласили к друзьям в гости. Мне случалось видеть, как люди, ни в чем не виновные, вызванные в милицию по самым пустяковым вопросам, нервничали и чувствовали себя не в своей тарелке. А этот спокоен. Ну, погоди, Горбушин Михаил Семенович, тысяча девятьсот сорок четвертого года рождения, женатый, член ВЛКСМ, сейчас мы поговорим с тобой как следует”. — Вы догадываетесь, зачем вас сюда вызвали? — Не имею ни малейшего понятия. — Горбушин открыто посмотрел мне в глаза и озабоченно добавил: — Что-нибудь случилось? — Где вы были сегодня от тринадцати до четырнадцати? — в упор спросил я и заметил, как по красивому лицу шофера скользнула тень. — В тринадцать — в рейсе, — слегка помедлив, но все так же спокойно ответил он. — Ездил в леспромхоз. — И по дороге сбили человека, — не давая ему опомниться, быстро сказал я, — сбили и уехали… — Никого я не сбивал, вы что-то спутали. — Бросьте, Горбушин, мы же не дети. Следствие располагает неопровержимыми доказательствами, что ваша машина 25–34 на шоссе, ведущем к леспромхозу, сбила человека. Горбушин судорожно сглотнул слюну и, проведя указательным согнутым пальцем за воротником рубашки, испуганно сказал: — Это какое-то недоразумение. — Сегодня не первое апреля и вообще: если бы я хотел вас разыграть, то наверняка придумал бы что-нибудь поостроумнее и повеселее. — Уверяю вас, товарищ, — Горбушин даже привстал со стула, — я никого не сбивал. Я очень аккуратно вожу, у меня вообще никогда ничего подобного не было… — Голос у него дрожал, в глазах появилось растерянное выражение. Вместо уверенного в себе “студента”, как я мысленно окрестил Горбушина, передо мной сидел побледневший, испуганный мальчишка. Я нарочно неторопливо закурил и простым, будничным тоном, как бы давая ему понять, что мне все уже ясно, спросил: — Ну что, Горбушин, может быть, все сами расскажете? Зря вы запираетесь. Не тяните время. Горбушин срывающимся голосом сказал: — Что вам может быть известно? Никого я не сбивал, что я, пьяный? Это какая-то ошибка. Бред какой-то… В его взволнованном голосе чувствовалась такая убежденность, что я невольно подумал: “Из “студента” наверняка бы получился незаурядный актер”. Да, трудно признаться, что ты убил человека. Я понимал, что в Горбушине сейчас происходит внутренняя борьба, но ощущение того, что он слишком уж уверенно держится для выбранной им позиции, не покидало меня. Так может вести себя человек, которому действительно ничего не известно о происшествии. Что это? Холодный расчет или талант, умение собрать волю и разыграть весь этот спектакль? В том и другом случае добиться признания будет трудно. Я подумал, что рассчитывать на легкий успех с Горбушиным мне не придется. Для того чтобы сбить его с прочно занятой позиции, мне было совершенно необходимо предъявить ему какое-нибудь веское, неопровержимое доказательство его вины. Решение пришло сразу. — Пойдемте, Горбушин, — резко вставая с места, сказал я. Парень испуганно посмотрел на меня. — Куда вы меня ведете? В тюрьму? Не отвечая на его вопрос, я позвонил Скирде и попросил спуститься к дежурной машине. На автобазе, куда я доставил Горбушина, нас встретил начальник отдела эксплуатации, толстый пожилой мужчина, в щеголеватой, давно вышедшей из моды габардиновой кепке-восьмиклинке. Не обращая никакого внимания на Горбушина и на меня, он кинулся к Скирде. — Товарищ лейтенант, узнали что? — высоким, бабьим голосом, так не гармонировавшим с его внешностью, спросил он. — Ведь я не из любопытства, это же пятно на весь коллектив, ЧП. Коллектив у нас передовой, за прошлый год получили переходящее знамя. Что же теперь будет? Толстяк так просительно и подобострастно поглядел на Скирду, которого, очевидно, принимал за старшего, что мне стало его искренне жаль. Наш Шерлок Холмс принял самый недоступный вид и строгим, начальственным тоном изрек: — Не знаю, не знаю… Начальник отдела эксплуатации горестно вздохнул и принялся сбивчиво перечислять заслуги автобазы. Тут были и безаварийные пробеги, и экономия горючего, сверхплановые перевозки, и даже помощь подшефному колхозу. Прервав поток его красноречия, я попросил провести нас к машине, на которой совершал сегодня ездку Горбушин. — Пожалуйста, пожалуйста… — заторопился толстяк и тут, кажется, впервые заметил Горбушина, сидящего в машине. Наклонившись к стеклу, он с отвращением глянул на него и искренне, с душой сказал: — Подлец же ты, Горбушин! — Товарищ Ермаков, — строго взглянул на него Скирда, — прошу без оскорблений. — Извините, товарищ лейтенант, но ведь этот гад общественником прикидывался, стенгазету выпускал. Видали у нас в конторе “За рулем”? Писатель! — Толстяк сплюнул. — Может быть, вы все-таки проведете нас к машине? — обратился я к Ермакову. — Конечно, конечно, товарищ… — Толстяк засмеялся, не зная, очевидно, как меня назвать. — Товарищ следователь, — подсказал ему Скирда. С этой минуты, поняв, что я старше по должности, Ермаков переключил все свое внимание на меня. Высадив из машины Горбушина, мы направились в гараж. Ермаков лебезил до неприличия и даже попытался поддержать меня под локоток, когда мы обходили лужу, подернутую жирными радужными пятнами мазута. Не умолкая ни на минуту, он снова и снова говорил о заслугах автобазы и почтительно, понизив голос, сообщил, что начальник автобазы Евтеев — депутат райсовета и член райкома партии. Гневно взглянув на Горбушина, шагавшего между мной и лейтенантом, Ермаков патетически воскликнул: — Ну ничего, коллектив автобазы смоет это черное пятно! — Бензином, — невозмутимо изрек Скирда. — Зря шутите, — отозвался толстяк, — беззаветным трудом. Правильно я говорю, товарищ следователь? — И он как-то по-собачьи заглянул мне в глаза. Мне стало так противно, что я едва сдержался, чтобы не сказать ему несколько “теплых” слов. Терпеть не могу людей такого типа, с неуемной жаждой подчиняться, ни в чем и никогда не имеющих собственного мнения, прикрывающихся высокими словами, любящих с апломбом доказывать, что дважды два — четыре. — Вот эта самая машина, — драматически понизив голос, сказал Ермаков, подводя нас к уже знакомому мне грузовику. — Я все сделал, как сказал товарищ лейтенант: никто к машине не подходил, — опять заторопился он, — ведь надо же — такое пятно на коллектив… — Помолчите, Ермаков! — не вытерпел я. Ермаков испуганно захлопал глазами и пискнул: — Слушаюсь. — Вы на этой машине сегодня ездили? — обратился я к Горбушину. — На этой, — тихо ответил он. — Только уверяю, товарищ следователь, никакого наезда я не совершал. — Брось отпираться, Горбушин! — вмешался Ермаков. — Советский суд не обманешь. — Здесь еще никого не судят, — сказал я и, подведя Горбушина к правому борту, обратил его внимание на царапины и потертости кузова. — Чем вы можете объяснить происхождение этих царапин? Горбушин пожал плечами. — А кто его знает, зацепил кто-нибудь. Я лично нигде ни за что не цеплялся. — Сейчас мы возьмем двух понятых и выедем на место происшествия. Я покажу вам, где вы приобрели эти шрамы. Лейтенант Скирда, вы поведете грузовик. Скирда козырнул мне и полез в кабину. Я торопился прибыть на место происшествия засветло. По дороге Горбушин несколько раз пытался заговорить со мной, но я обрывал его. Сейчас, в ранних сизых сумерках осеннего дня, шоссе выглядело обычно; ничто не говорило о произошедшей здесь трагедии. — Знакомое место? — спросил я у Горбушина, выводя его из машины. Я заметил, как он вздрогнул… “Так, “студент”, — подумал я, — сейчас я тебе покажу”. И, подведя его к дереву с ободранной корой, попросил Скирду вплотную подогнать машину. Скирда осторожно сдал грузовик назад и прижался правым бортом к поврежденному дереву. Как я и предполагал, царапины на коре в точности совпадали с царапинами и потертостями на правом борту кузова. Скирда, выйдя из кабины, закурил и, сделав непроницаемое выражение лица, как бы между прочим спросил у Горбушина: — Ну, что вы теперь скажете? Я незаметно подал ему знак, чтобы он не вмешивался, и, не торопясь, сделал нужные мне снимки. После этого я так же неторопливо подошел к Горбушину: — Видите теперь, откуда эти царапины на борту грузовика? Шофер ошалело смотрел на меня: — Ничего не понимаю, я не задевал дерева. Чтобы так сильно врезаться, надо вообще не уметь водить машину. — Да, но факты — упрямая вещь. Именно вашей машиной было ободрано дерево. И именно машиной, ободравшей дерево, был совершен наезд. — Я никого не убивал! Никого не давил! — Голос Горбушина сорвался на крик. — Какого черта вы ко мне пристали? Я ничего не знаю. — Он рванул ворот своей нейлоновой рубахи — белая пуговица покатилась по шоссе. Я поднял пуговицу и, показав ее Горбушину, спросил: — Что это? — Пуговица. — Нет, это вещественное доказательство того, что у вас сдали нервы, а вот это дерево и борт вашего грузовика тоже улика того, что сегодня в тринадцать часов тридцать семь минут вы наехали на человека. — Я ни на кого не наезжал… — Горбушин заплакал, совсем по-детски хлюпая носом. Утро следующего дня началось с неприятностей. Прокурор Рудов наотрез отказался дать санкцию на арест Горбушина. И, как я его ни убеждал, он твердо стоял на своем, говоря, что в деле много неясных мест, что надо, мол, дождаться заключений экспертов. Формально, может быть, он и прав, но мне кажется, что арест Горбушина был бы именно тем фактором, который бы заставил его чистосердечно признаться… Повторный допрос Горбушина снова не дал никаких результатов. По воспаленным глазам, осунувшемуся лицу было видно, что он провел бессонную ночь. Он затравленно смотрел на меня и с непонятным упрямством отвергал обвинение… — Скажите, — прервал я Лазарева, — в ту минуту вы были убеждены, что Горбушин виноват? — Если говорить честно, я мало верил показаниям Горбушина, тем более что все улики говорили не в его пользу. Кроме того, несмотря на правдивость его тона, каким-то шестым чувством я ощущал, что Горбушин что-то скрывает, недоговаривает. Это ощущение не покидало меня до конца допроса. Теперь Горбушин выглядел совсем не так, как при первом нашем знакомстве. Он как-то весь сник, полинял и мало чем напоминал вчерашнего щеголеватого “студента”: чувствовалось, что в нем происходит внутренняя борьба. Это состояние обвиняемого следователям известно. Сначала полное отрицание даже самых явных улик, затем спад — душевная депрессия и признание вины. Помню, как несколько лет назад я расследовал дело об убийстве. Обвиняемый на первых допросах, несмотря на неопровержимые улики, вел себя нагло, кричал, что это мне так не пройдет; что сейчас не те времена; что я порочу его честное имя; грозился жаловаться в вышестоящие инстанции, а потом, после какого-то внутреннего перелома, сник и без театральных ударов в грудь подробно рассказал, как было дело. Мне показалось, что у Горбушина наступило именно такое состояние. — Ну, Горбушин, а теперь расскажите, как все было. Шофер вздрогнул и, зло взглянув на меня, срывающимся голосом ответил: — Вы просто издеваетесь! Я вам русским языком сказал, что ни на кого не наезжал. Больше мне добавить нечего… На следующий день хоронили Карпова, и в местной газете “Знамя труда” появилась заметка, из-за которой я крепко поспорил с нашим комсоргом, адвокатом Песчанским. В заметке говорилось, что шофер Горбушин, сбивший Карпова, не должен уйти от расплаты. Я был уверен, что заметка написана правильно, что она выражает мнение общественности, а Песчанский заявил, что заметка вредная, что никто не имеет права до того, как вина не доказана, объявлять человека преступником. Кроме того, мол, такие выступления печати могут повлиять на решение суда. — Если суд решит, что Горбушин не виноват, то никакая газета ничего сделать не сможет, — не выдержал я. Песчанский близоруко посмотрел на меня и своим поставленным адвокатским голосом спросил: — А доброе имя человека? — Слушайте, Песчанский, я не народный заседатель, и на меня ваши красивые слова не действуют. — А жаль. — Песчанский сощурился. — Вы ведь еще не доказали, что Горбушин совершил преступление, а уже всенародно объявили его убийцей. Задумайтесь над этим, и тогда вам станет ясно, что это не просто красивые слова. Поставьте себя на его место. — Если бы я поставил себя на его место, то давно бы уже признался, — невольно вырвалось у меня и, чтобы прекратить этот ненужный спор, вышел из комнаты. Вернувшись к себе в кабинет, я достал из сейфа папку с делом и в который раз внимательно стал изучать весь собранный материал. Почему Горбушин столь упорно запирается? Он прекрасно должен понимать, что улики против него. Если он совершил наезд… Стоп! Какого черта я уперся в эту версию? Видимо, потому, что она удобная, все под рукой: машина, Горбушин. А что, если наезд совершил не он? Тогда кто? Нет, Карпов был сбит именно этой машиной, тут сомневаться не приходится. Криминалистика — наука точная. А за рулем этой машины сидел Горбушин. Значит, виноват все-таки он. “Опять ты себя загоняешь в тупик, — с досадой подумал я. — Ясно пока одно: наезд был совершен грузовиком “ГАЗ-51”, все совпадает — и след протектора, и царапины на правом борту. Если наезд совершил не Горбушин, то, значит, за рулем находился кто-то другой. Могло же такое случиться”. — Что вам давало основания так думать? Лазарев пристально посмотрел на меня и, чуть понизив голос, внятно сказал: — Рудов был, конечно, прав, в деле оставалось много неясного. Что это за желтые волоски на голове убитого? Что за осколок стекла? Ну хорошо. Осколок мог лежать на месте преступления случайно. А волоски? Чертовщина какая-то… В конечном итоге и признание Горбушина ничего не давало. Вы же знаете, что признание обвиняемого не есть бесспорное доказательство его вины. К тому же было еще одно обстоятельство, которое наводило на размышления. Дело в том, что после вскрытия трупа Карпова Першин написал в заключении, что удар, приведший к перелому основания свода черепа, мог быть нанесен до наезда. Следовательно, Горбушин мог наехать на Карпова уже после того, как тот был мертв. Мне это показалось маловероятным. Если бы дело происходило ночью, такой вариант был бы возможным. Но днем не заметить человека, лежащего прямо на шоссе… Я решил посоветоваться с Першиным. Ум хорошо, а два лучше… В райотделе Николая Николаевича не оказалось, и я отправился к нему домой. Погода стояла холодная, заметно подморозило. Тротуары покрылись тоненькой корочкой льда, сапоги скользили, и пришлось идти медленно и осторожно. Не успел я сделать несколько шагов, как на крыльцо выскочил Скирда. — Сергей Васильевич! — громко крикнул лейтенант и, увидев, что я остановился, спрыгнул с крыльца. Сильно разбежавшись, он не смог затормозить на скользком тротуаре и проехал на подошвах ботинок мимо меня, нелепо размахивая руками. — В чем дело, Скирда? — строго спросил я, глядя на его возбужденное лицо. Но Скирда, не обращая внимания на мой тон, вынул из кармана бумажку и, обретя наконец равновесие, торжественно протянул ее мне: — Вот, читайте. Я развернул бумажку — это был акт экспертизы, в котором говорилось, что соскоб, взятый с колеса машины, является кровью третьей группы. — Ну и что? — Как — что? — изумился Скирда. — На колесе кровь третьей группы, так? — Так, — согласился я. — А у Карпова, если вы помните, — тон лейтенанта стал язвительным, — тоже третья группа. Так? — Так. — Из этого следует, что именно Горбушин укокошил товарища Карпова. — Ничего из этого не следует. Скирда растерянно захлопал ресницами. — Вот что, уважаемый Валерий Игнатьевич, я буду у себя часа через два, а ты за это время доставь в райотдел свидетельницу Макарову. Но учти: если ты опять запугаешь ее, как тогда на шоссе, пеняй на себя.И не забудь надеть шинель: насколько я понимаю, лето уже кончилось. — И все-таки, Сергей Васильевич… — Скирда обиженно надул губы. — Делай, что тебе сказали. — Дайте мне высказать свое мнение. — Для того чтобы высказывать мнение, его надо как минимум иметь. Прикажешь отдать письменное распоряжение, чтобы ты доставил свидетеля? — Ну зачем же… — В голосе Скирды зазвучали обиженные нотки. — Я схожу… — Вот за это спасибо от лица службы. И не забудь, о чел! я тебя просил. Обращайся с Макаровой, как с родной, любимой тетей, которую ты не видел лет десять. Ясно? — Ясно, — нехотя проворчал Скирда. Дом Першина находился на улице, круто спускавшейся от Соборной площади к реке. Раньше эту уличку называли просто Взвозом, а с некоторых пор ей было присвоено звучное имя — Профсоюзная. Дома здесь стояли деревянные, крепкие, построенные еще дедами. Они чем-то неуловимо напоминали своих жильцов — людей солидных и немногословных. Когда-то все население Взвоза состояло из подрядчиков — народа хваткого и двужильного. За годы Советской власти многое здесь ушло в прошлое, а дома остались прежними, поставленными, казалось, на века рачительными хозяевами. Дом Першина стоял на отшибе, в самом конце улицы, дальше тянулись пожелтевшие, запорошенные снегом огороды, круто опускающиеся к реке. Железная, изрядно проржавевшая табличка, прибитая к фасаду, говорила о том, что дом застрахован в 1896 году страховым обществом “Россия”. Ничего, кроме телевизионной антенны, не говорило здесь о сегодняшнем дне. Дома у Николая Николаевича я никогда не бывал, несколько раз подвозил его на служебной машине, но дальше калитки не ходил. Я знал, что Першин закоренелый холостяк, живет один и поэтому, войдя во двор, заранее приготовился увидеть беспорядок, столь обычный в холостяцком хозяйстве. Ничего подобного не оказалось: двор был тщательно выметен, за домом, у сарайчика, сколоченного из крепкого потемневшего горбыля, аккуратно высилась поленница колотых березовых дров. Я пересек двор и, взойдя на крыльцо, сначала обчистил от грязи сапоги о скребок, вбитый в доску, а потом вытер их о резиновый коврик, заботливо положенный у самых дверей. “Педант!” — подумал я и поискал глазами звонок. Но ни звонить, ни стучать к Першину мне не пришлось. Дверь распахнулась, и на пороге я увидел хозяина, одетого в меховую безрукавку н старые, подшитые валенки. — Ну-с, — не здороваясь, сказал Николай Николаевич, поблескивая очками, — с чем изволили пожаловать? Я промямлил что-то невразумительное: уж больно неожиданно появился передо мной Першин. — Так, ясно, — невозмутимо произнес наш эксперт. И, сделав широкий жест, торжественно сказал: — Заходите, сделайте милость. А то, гляжу, бродите вы по двору, высматриваете что-то, вроде никаких грехов за собой не помню, а вы, оказывается, в гости. Ну что же, очень приятно. В передней, куда меня провел Першин, висело старинное зеркало в резной ореховой раме, по бокам горели два вычурных бронзовых канделябра, в которые вместо свечей были вставлены каплевидные матовые лампочки. — Уж не осудите, — закряхтел Николай Николаевич, доставая из-под вешалки шлепанцы, — я, знаете ли, убираю сам. Пришлось снять сапоги. В большой светлой комнате царил образцовый порядок. Каждая вещь занимала место, отведенное для нее раз и навсегда. Несмотря на обилие мебели, комната имела какой-то нежилой вид. Неяркое осеннее солнце отражалось на золоченых корешках старинных книг. Я с невольным уважением окинул взглядом библиотеку Першина. Книги, выстроившиеся ровными, по-солдатски, рядами, занимали два больших дубовых шкафа и бесконечные стеллажи, тянувшиеся вдоль стен. Перехватив мои взгляд. Пер шин криво усмехнулся и, подмяв вверх сухой указательный палец, наставительно сказал: — Не шарь по полкам жадным взглядом. Здесь книги не даются на дом. — Ну что вы, Николай Николаевич, я бы и не осмелился у вас попросить. — И правильно бы сделали. Вообще должен вам сказать, дорогой Сергеи Васильевич, если вы желаете сохранять с людьми хорошие отношения, никогда не давайте им книг или денег взаймы. Это мое многолетнее правило. — Наверное, чтобы собрать такую библиотеку, вам потребовались годы, — попытался я изменить неприятную тему. — Годы? — Николай Николаевич, как мне показалось, с сожалением посмотрел на меня. — Не годы, батенька, а вся жизнь. Эту библиотеку начал собирать еще мой отец. Вот полюбуйтесь… — Николай Николаевич, совсем как экскурсовод, указал на один из шкафов. — Здесь вся “Академия”, вел, до единого тома. Многие из этих книг стали библиографической редкостью. Здесь, — он небрежно кивнул в сторону золоченых корешков, — полный Брокгауз и Ефрон, Брем, “Человек” Ранке и прочее, и прочее. Ну ладно, заговорил я ваг. Сел на своего конька. Простите старика. — Ну что вы, Николай Николаевич! Я вполне понимаю вашу страсть. Сам люблю книги, собираю их, но, конечно, моей библиотечке далеко до вашей. Наверно, таких книг нет и в городской библиотеке. — “В городской”… — Лицо Першина озарила горделивая улыбка. — Убежден, что некоторых экземпляров нет даже в Ленинке. “В городской”… Чудак человек! Ну, хватит о книгах. Как говорили наши предки: “Соловья баснями не кормят”. Сейчас я вас буду потчевать, — решительно объявил Першин. — Спасибо, Николай Николаевич, но я совсем недавно пообедал. — Зря отказываетесь. Готовлю я отменно. Уж не знаю, какой я медик, а повар исключительный. Может быть, рюмочку водки под соленый рыжик? Я сам не пью, а для гостя найдется. И рыжики у меня что надо, собственного засола. Я, ссылаясь на дела, вежливо, но твердо отказался от водки и, чтобы не обидеть старика, попросил у него стакан чаю. В столовой царил тот же образцовый порядок, круглый дубовый стол был покрыт белоснежной камчатой скатертью. За стеклянными дверцами старинного буфета разноцветными бликами поблескивали бесконечные ряды хрустальных рюмок и вазочек. Так же как и в кабинете, по стенам тянулись стеллажи, плотно уставленные книгами. — Здесь у меня специальная литература. Медицина, юриспруденция, философия. Ну, да мы договорились не говорить о книгах, — сказал Николай Николаевич, доставая из буфета разноцветные банки с вареньем, закрытые белой бумагой и аккуратно завязанные бечевочками. — С чем чай пить будете: айва, слива, вишня, клубника… — Если можно, с вишней, — сказал я. — Ну и я с вишней. — Николай Николаевич махнул рукой, будто он собирался совершить какой-то отчаянный, из ряда вон выходящий поступок. Пока Першин вышел на кухню, чтобы поставить чайник, я стал разглядывать комнату и обратил внимание на блюдечко с молоком, стоящее возле буфета. — Кошку держите? — спросил я у входящего в столовую эксперта. — Нет, кошек не люблю, — брезгливо поморщился Першин. И, нагнувшись, позвал: — Егорка! Егорка! — а затем как-то особенно зачмокал губами. Из-под буфета показалось острое любопытное рыльце с черными бусинками глаз. — Егорка, — ласково, совсем как к ребенку, обратился к ежику Першин, — давай вылезай, у нас гость. Ежик хрюкнул и, постукивая коготками по полу, шустро подбежал к хозяину и уткнулся в его валенки. Я протянул к нему руку, но ежик тут же юркнул под буфет. — Вы на него не обижайтесь, — насупил брови Николай Николаевич. — Не привык он к чужим, а так ручной совсем, третий год у меня живет. Мне вдруг стало до боли жалко этого одинокого старика. Вот ведь работали вместе много лет, а что я о нем знаю? Ровным счетом ничего. Педант, хороший специалист, холостяк, человек замкнутый. Как мы иногда преступно мало обращаем друг на друга внимания. Как, наверно, ему одиноко среди всех этих книг и стерильной, больничной чистоты. А ведь мог же я зайти к нему не по делу, а просто так, как старый сослуживец, знающий его много лет. В конце концов мог пригласить его к себе домой. Побыл бы старик в семейной обстановке, отогрелся немного. Я даже не знаю, был ли он женат, имел ли детей. Тон, которым он разговаривал со зверюшкой, особенно остро дал мне почувствовать всю глубину одиночества этого умного и милого человека. И мне стало стыдно за то, что я не мог раньше разглядеть за его сухостью и педантизмом обыкновенную застенчивость, желание не быть никому в тягость, желание не навязывать никому своего общества. Неужели я так огрубел? Ведь никогда я не был черствым и невнимательным. Мысленно я дал себе слово: при первой же возможности пригласить к себе Николая Николаевича или посетить его без всяких на то причин. Просто прийти и провести с ним вечер, сыграть в шахматы, поговорить о книгах. Николай Николаевич налил мне крепкого душистого чаю и, как бы угадав мои мысли, спросил: — Сергей Васильевич, простите за любопытство, что вас все же привело ко мне? — Хотелось с вами посоветоваться. — По делу Карпова? — Да. Вы написали, что травма черепа могла быть нанесена и до наезда. Как это понимать? — Как понимать? А очень просто. — Першин вскочил из-за стола и с неожиданной резвостью кинулся к себе в кабинет. — Идите сюда, — уже из другой комнаты раздался его голос. Я прошел в кабинет. Першин сидел за столом и уверенными, крупными штрихами что-то рисовал на большом листе бумаги. — Это хорошо, что вы пришли, — бормотал он, не переставая рисовать. — Очень хорошо, я сам к вам собирался. — Першин рывком пододвинул ко мне рисунок. На листе довольно сносно были изображены контуры человеческого черепа. Я недоумевающе посмотрел на Першина. — Ну что же тут непонятного? — хорошо знакомым мне недовольным тоном сказал эксперт. — Я пока не буду касаться массовых и тяжелых повреждений, нанесенных Карпову машиной… — Першин произнес несколько слов по-латыни. — Дело сейчас не в них. Нас интересует травма черепа. Повреждения у Карпова были вот здесь. — Першин уверенно нарисовал стрелку, указывающую место перелома. — Что из этого следует? — Что? — спросил я, внимательно разглядывая рисунок. — А то, что это повреждение никак не могло быть нанесено машиной. Предположим все-таки, что его стукнула машина радиатором, бортом, чем угодно. В таком случае должна пострадать затылочная кость, но она цела. Удар был нанесен сверху. Для того чтобы получить такую травму, Карпов, простите, должен был стоять на четвереньках, лицом к движению, абсурд! — Так, значит… — Передо мной мелькнуло растерянное лицо Горбушина. — Значит, — подхватил Першин, — наезд был совершен на труп. Карпов был мертв, когда по нему прошла машина. — Выходит, Карпов был убит, а уже потом положен под колеса. — Выходит, что так. — Но кто это мог сделать? — невольно вырвалось у меня. Першин развел руками. — Как говорили древние: “Кому это выгодно?” Вот и ищите того, кому это выгодно. Не успел я войти в райотдел, как ко мне подскочил лейтенант Скирда. На его юношеском светлобровом лице отражалась сложная гамма переживании; чувствовалось, что лейтенанта буквально распирает какая-то новость. Схватив меня под руку, он торопливо оглянулся, как бы желая убедиться, не слушают ли нас, п, сделав круглые глаза, таинственно сказал: — Пришла! — Макарова? — спросил я. — В том-то и дело, что нет. Совсем незнакомая девушка. Отказалась назвать свою фамилию. Хочет видеть главного следователя. Я уже и так и сяк… — Скирда развел руками. — Одно твердит: “Я про Горбушина знаю правду…” — Где она? — Ждет около вашего кабинета. — Ну хорошо, поговорим с ней. А где свидетельница Макарова? Я же велел тебе во что бы то ни стало доставить ее сюда. На лице Скирды появилось виноватое выражение: — С Макаровой, Сергей Васильевич, пол\чилась неувязка. — Что такое? — Уехала в деревню, к родным. — Куда именно? — В Сухановку. Будет дня через два. — Вот что, Валерий Игнатьевич, немедленно свяжись с Сухановкой. Там участковым инспектором старший лейтенант Гаврилов, объясни ему ситуацию. Чтобы завтра к утру Макарова была здесь. Если надо, сам поезжай за ней. Скирда недовольно пожал плечами: видно было, что ему не улыбалась прогулка в Сухановку. — Пойми, — строго сказал я, — что Макарова единственная свидетельница, которая видела машину примерно в то время, когда произошел наезд. От ее показаний зависит очень многое. Увидев, что Скирда направился было за мной, я остановился и официальным голосом спросил: — Куда это вы, лейтенант Скирда? — Хочу вас проводить к этой девушке. Чувствовалось, что Скирда умирает от любопытства. Наконец, с его точки зрения, появилась в следствии какая-то загадочная личность, а он, непризнанный гений сыска Скирда, должен тащиться в какую-то Сухановку, вместо того чтобы присутствовать на допросе таинственной незнакомки. — Дорогу к своему кабинету я найду без посторонней помощи. А ты займись тем, что тебе велено. — Слушаюсь. Скирда даже крякнул от досады, но, очевидно поняв, что спорить со мной бесполезно, круто повернулся и пошел в дежурку. Возле своего кабинета я увидел девушку, застывшую в неудобной позе на стуле, стоящем возле дверей. — Вы ко мне? — спросил я, открывая дверь. — А кто вы будете? — настороженно спросила она. В коридоре было темно, и я никак не мог разглядеть ее лица. — Мне доложили, что вы хотите сообщить что-то по делу Горбушина. Я следователь, который ведет это дело. Моя фамилия Лазарев, зовут Сергей Васильевич. — Тогда к вам, товарищ Лазарев. — Девушка тяжело вздохнула. — Проходите, — пропустил ее вперед и, войдя в кабинет, зажег свет. Теперь я мог как следует рассмотреть ее. В тускло освещенном коридоре она показалась мне старше. На самом деле ей можно было дать лет девятнадцать-двадцать. Ее вполне можно было назвать хорошенькой, если бы лицо не портили заплаканные красные глаза с тяжело набрякшими веками. — Ну что ж, — как можно приветливей сказал я, — раздевайтесь, садитесь, будем знакомиться. Кто вы и что привело вас ко мне? Девушка расстегнула пальто, но, так и не сняв его, села на стул. — Я Клава, Клавдия Брызгалова. — Девушка поправила выбившуюся прядь волос и, с обидой взглянув на меня, сказала: — Вы вот, товарищ Лазарев, собираетесь засудить Мишу… — Горбушина? — Да, Горбушина. А Миша ни в чем не виноват. Ну, вот ни капельки. Не мог он этого сделать. Ну никак не мог! Голос ее звучал уверенно и даже резко; было видно, что она взяла себя в руки и новых слез можно не опасаться. — Ну хорошо, — сказал я, — а если не он, то кто это сделал? — А я почем знаю? Но могу вам дать честное комсомольское, что это не Миша. — У нас есть доказательства, что… — Какие доказательства? — Клава упрямо поджала губы. — Вот, — она вынула из кармана сложенную в несколько раз газету и кинула ее на стол, — читайте. Я развернул “Знамя труда” и сразу же увидел заметку, из-за которой поспорил с Песчанским. — Я читал эту заметку, факты в ней изложены правильно. — Правильно? — В голосе Клавы послышались гневные нотки. Она выхватила у меня газету и торопливо, как бы боясь, что я ее перебью, прочла: — “17 ноября в тринадцать часов тридцать семь минут на шоссе, ведущем из города в леспромхоз, автолихачом был сбит учитель географии средней школы Леонид Николаевич Карпов. Лихачом, сбившим Карпова, оказался шофер городской автобазы некто Горбушин”. — Ну и что из этого следует? — спросил я. Девушка положила газету на стол и, как бы устыдившись своей вспышки, опустила вниз глаза. — А то, товарищ Лазарев, что Миша никак не мог сбить Карпова в тринадцать тридцать семь, потому что с без четверти час до двух он был у меня. Если не верите, можете спросить у тетки Матрены, она его видела. — Кто это — тетка Матрена? — Папина сестра. — Так. Меньше всего я ожидал, что разговор пойдет об алиби Горбушина, о котором, кстати, он сам даже не заикнулся. Что это? Сговор или просчет следствия? — А вы знаете, что Горбушин мне ничего не сказал о том, что он был у вас? Ни единого слова. — Что он мог сказать? — В голосе Клавы опять послышались слезы. — Что ему теперь говорить-то… Только зря он волнуется, я никуда не пойду жаловаться, и денег мне его не надо… Наша беседа с Клавой длилась более двух часов. Сбиваясь, то плача, то говоря гневно и обличительно, она рассказала мне следующую историю… Клава познакомилась с Михаилом в вечерней школе. Постепенно между ними возникло чувство, в котором трудно провести грань между дружбой и первой юношеской любовью. Большинство свободных вечеров Михаил и Клава проводили вместе: ходили в кино, на танцы или в городской сад. Были и первые робкие поцелуи и признания… Но то, что для Михаила, человека мягкого и безвольного, не способного на сильные и глубокие чувства, было лишь увлечением, для Клавы стало ее первой настоящей любовью. Подошло время, и Михаила призвали в армию. Клава писала ему письма, слала посылки. Между молодыми людьми был уговор, что после демобилизации они поженятся. Но вскоре письма от Михаила перестали приходить. Клава не знала, что думать, ходила в военкомат и даже, поборов девичью гордость, наведалась к матери Михаила. Горбушина приняла ее сухо, сказав, что не вмешивается в личную жизнь сына. Клава ушла с пылающим лицом. А вскоре пришло то памятное письмо, без марки, со штампом “воинское”, которое Клава запомнила наизусть. На листке, вырванном из ученической тетради, было написано несколько слов. Но что это были за слова: “Клава, с этого дня мы с тобой чужие. Я ничего не намерен тебе объяснять, а тем более слушать твои объяснения. Михаил”. Как выяснилось в дальнейшем, незадолго до этого Михаил получил письмо от Клавиной подруги Тамары Сысоевой, в котором она писала, что Клава забыла Горбушина и “гуляет” теперь с Володькой Казаковым, известным в городе красавцем-киномехаником. Время шло. Клава закончила десятилетку, пробовала поступить в заочный институт, но не прошла по конкурсу. С завода, где она работала, Клава уволилась и переехала из общежития к отцу, лесничему леспромхоза. Зарплата в леспромхозе была выше, и Клава устроилась учетчицей. К тому времени Михаил вернулся из армии, но прежние взаимоотношения между молодыми людьми не восстановились. Несколько раз они встречались в леспромхозе и в городе, но Михаил проходил мимо, даже не здороваясь. Клава решила окончательно забыть о нем. Решила, но не смогла. Вскоре до нее дошли слухи, что Михаил женился на Тамаре Сысоевой, ее школьной подруге. Тогда еще Клава не знала, что именно Тамарино письмо послужило причиной для их разрыва. Горбушин получил в армии специальность шофера и теперь на своем грузовике часто приезжал в леспромхоз. Однажды, когда Клава возвращалась с работы — дом ее отца был расположен невдалеке от леспромхоза, — около нее на шоссе остановилась тяжело груженная машина Михаила. — Садись, подвезу, — не здороваясь, распахнул дверь Горбушин. — Спасибо, как-нибудь сама доберусь, — гордо отказалась Клава. — Садись, садись, чего там, что было, то прошло. Я на тебя не сержусь. — А за что это ты на меня можешь сердиться? — Клава чуть не задохнулась от гнева. — Как будто не знаешь? — Михаил закурил и, прищурившись от табачного дыма, нагловато посмотрел на нее. — Кто с Володькой Казаковым шуры-муры крутил, когда я был в армии? Эх, ты… Нужна ты ему больно, да у него таких… — Михаил хотел еще что-то добавить, но, увидев изменившееся Клавино лицо, замолчал. Еле сдерживая себя, она нарочито спокойным тоном сказала: — Дурак ты, Миша, ой какой дурак! Никогда в жизни, слышишь, маминой памятью клянусь, — голос ее осекся, — никогда ни с Володькой, ни с кем другим ничего у меня не было. Я не то что… — Клава хотела сказать “твоя Томка”, но воздержалась. — Знаем мы вас… — неуверенно протянул Михаил. — Ты у Володьки спроси, он тебе врать не будет… — Еле сдерживая слезы и не оглядываясь, Клава зашагала по шоссе. Михаил с силой захлопнул дверь, дал газ. А через несколько дней, оставив машину на шоссе, он подошел к домику, где жила Клава. Вызвав ее за калитку, Михаил сказал, отводя глаза в сторону: — Ты была права. Я дурак, даже хуже, чем дурак. Прости меня, если можешь. — В его голосе было столько тоски и боли, что Клава, помимо своего желания, не оттолкнула его, не сказала ничего обидного. Молодые люди стали вновь встречаться. Михаил рассказал ей, что Володька Казаков поднял его на смех, когда он, выпив для храбрости, стал расспрашивать киномеханика о его отношениях с Клавой. Рассказал и о злополучном письме и долго не признавался, от кого он его получил. Не признался до тех пор, пока не проговорился, что не любит Тамару, что жизнь с ней в тягость для него. Тогда все н выяснилось. Михаил, как бы чувствуя свою вину перед девушкой, относился к ней очень внимательной заботливо. Любовь к Горбушину, которую Клава так и не смогла в себе подавить, разгорелась с новой силой. Девушка и дня не могла прожить, чтобы не увидеть Михаила. Встречаться им приходилось тайком: ведь Михаил был женат. О своем будущем молодые люди не говорили. Это подразумевалось как бы само собой. И Клава была страшно удивлена и расстроена, когда увидела, как испугался Михаил, узнав, что у них будет ребенок. Целых четыре дня Горбушин не появлялся ни в леспромхозе, ни в доме у Клавы. И только когда она с одним знакомым шофером передала ему записку с просьбой приехать к ней, Михаил появился у калитки ее дома. Случилось это в тот самый злополучный день, когда был сбит Карпов. Отказавшись войти в дом, Михаил сбивчиво объяснил Клаве, что с Тамарой сейчас разойтись не может, так как у них только что родилась дочка. Разговор получился тяжелый и неприятный. Ушел Горбушин от нее в два часа — это она помнила точно, потому что на крыльцо вышла тетка Матрена и добродушно, не зная, какой разговор она прерывает, сказала: — Хватит лясы точить, Миша, два часа уже, Клавдия па работу опоздает… Выслушав сбивчивый и взволнованный рассказ девушки, я попросил собственноручно записать свои показания, обратив особое внимание на ту часть, где говорилось о времени пребывания Горбушина у ее дома. Пока Клава писала, я машинально пробежал глазами знакомую наизусть заметку в газете “Знамя труда”… — Скажите, Сергей Васильевич, а не мог Горбушин уговорить девушку дать ложные показания? Ведь если она говорила правду, то он действительно не виноват. — Я об этом думал. Конечно, он мог встретиться с ней и придумать всю эту историю. Почему ни на одном из допросов Горбушин ни слова не сказал о том, что он заезжал к Брызгаловой? Он не настолько глуп, чтобы не понимать, какое значение имеет такой факт. С другой стороны, в рассказе Клавы я не чувствовал ни малейшей фальши, ни малейшей натяжки. Путаное дело… Надо немедленно устроить им очную ставку, — решил я. — Нет, пожалуй, сначала лучше допросить Горбушина, выяснить, будут ли расхождения в их показаниях. Необходимо также немедленно допросить тетку Брызгаловой. Я мысленно стал составлять план предстоящего допроса и только тут заметил, что Клава перестала писать и, помусолив палец, пытается стереть с него чернильное пятнышко. — Вы пишите, пишите, я подожду. — А я уже кончила. — Клава пододвинула ко мне лист бумаги, заполненный ровным, каллиграфическим почерком. Я прочел ее показания, машинально поставил перед “что” запятую и попросил расписаться где положено. Показания были написаны толково и без лишних слов. — Скажите, Клава, — обратился я к девушке, — когда можно повидать вашу тетю, в какое время она бывает дома? — Да она все время дома сидит, она у нас пенсионерка. А если это срочно, товарищ следователь, то вы можете ее увидеть хоть сейчас: она меня внизу дожидается. Когда узнала, что я в милицию иду, ни за что не захотела меня одну отпускать. — Где же вы ее оставили? — Внизу у вас коридорчик, направо от входа, там диван стоит, я ее усадила и пошла вас искать. — Ну что ж, пойдемте за вашей тетей, если она, конечно, не ушла. Сколько вы здесь пробыли? Часа полтора, не меньше… — Никуда она не денется, она у нас терпеливая. В коридорчике, который вел к паспортному столу, на широком кожаном диване действительно сидела пожилая полная женщина, чем-то неуловимо похожая на Клаву. Завидев девушку, она тяжело приподнялась с дивана и, поправляя теплый пуховый платок, нараспев сказала: — Ну, слава те господи, я уже думала, ночевать здесь придется, и народ такой настырный: “Чего надо?” да “К кому пришла?” Пойдем, что ли, Клава… — Вот, тетя, познакомься, — Клава кивнула в мою сторону, — следователь, товарищ Лазарев Сергей Васильевич, он как раз и занимается Мишиным делом. Клавина тетка протянула мне негнущуюся руку со стертым обручальным кольцом, врезавшимся в безымянный палец, и так же нараспев представилась: — Матрена Степановна Гущина, это по мужу Гущина. — И тут же без всякой видимой связи, другим голосом, каким обычно разговаривают в очередях, добавила: — Что же вы, товарищ, к Мише прицепились? Аль вам жуликов мало? Кого надо, вы небось не трогаете. Вон, к примеру, Митрохин: оклад сто рублей, жена не работает, а дом отгрохал — чисто санаторий… — Да погодите вы, тетя, — поморщилась Клава, — при чем здесь Митрохин? Но, видно, Матрена Степановна достаточно за сегодня намолчалась и теперь горела желанием высказаться. — Как — при чем! — тем же недовольным голосом продолжала Клавина тетка. — Жулик он, а они ноль внимания. Взяли себе моду невинных людей по милициям таскать. Да еще настырные какие! “Зачем пришла”! А я никого не боюсь, человек честный, мне государство пенсию платит. Чтобы остановить поток ее красноречия, я пригласил Матрену Степановну подняться ко мне в кабинет, а Клаву оставил в дежурке. По дороге к кабинету Гущина не умолкала ни на минуту, разоблачая неведомых мне жуликов и проходимцев, сокрушаясь по поводу того, что они до сих пор не попались на глаза милиции. В кабинете, заполняя протокол свидетельских показаний, я настоятельно попросил ее отвечать только на те вопросы, которые буду задавать я. Показания Гущиной в основном совпадали с тем, о чем рассказывала Клава. Проводив Клавину тетку, которая ворчала всю дорогу, недовольная тем, что ей не дали излить душу, я попросил дежурного как можно быстрей, по телефону, пригласить на допрос Горбушина. В кабинете я перечитал показания Брызгаловой и Гущиной. Расхождений в них не было. Были кое-какие мелкие неточности, но они скорее свидетельствовали о том, что Клава и ее тетка говорили правду. Например, Гущина никак не могла припомнить, во что был одет в тот день Горбушин. Это казалось мне логичным, видела она его минуту-полторы, не больше, издалека, и поэтому вполне могла не запомнить или просто не обратить внимание на то, как он одет. На вопрос, почему она так точно помнит время, когда она вышла на крыльцо, Гущина ответила: — У нас часы идут неточно, то спешат, то отстают. Чтобы племянница не опоздала на работу, я включила приемник. Как раз по “Маяку” передавали мою любимую песню “Рязанские мадонны”, и сразу после этого тик-так: “Московское время четырнадцать часов”. Ну я и вышла, чтобы поторопить Клаву, она с Мишей о чем-то у калитки толковала. — А почему она в это время оказалась дома? — спросил я. — Как — почему? На обед пришла, повариха у них в леспромхозе ушла, горячего не готовят, а на сухомятке долго не протянешь. Колбаса да сырки плавленые — куда это годится? А я суп сварю и котлетки поджарю. Чувствуя, что Матрена Степановна не прочь пуститься в рассуждения на кулинарные темы, я спросил, как она относится к Михаилу. — Парень как парень. Ничего плохого сказать про него не могу. Так из себя вежливый и специальность хорошая, к тому же шофер, а не пьет. — Откуда вы знаете, что он не пьет? — Пьющего сразу видно. Вот мой, — очевидно имея в виду мужа, сказала Матрена Степановна, — на что был непьющий, а в получку обязательно назюзюкается. А Миша — тот и в получку ни-ни, хороший парень! — решительно добавила она. Очевидно, Матрене Степановне не было ничего известно о конфликте, произошедшем между Горбушиным и ее племянницей. Последний вопрос, который я задал Гущиной, носил несколько необычный характер. — Скажите, Матрена Степановна, — как бы невзначай спросил я, всем своим видом давая понять, что серьезный разговор закончен, — вы, случайно, не помните, кто пел “Рязанские мадонны”? Матрена Степановна покосилась на меня, очевидно приняв мой вопрос за праздное любопытство. — Зыкина. Я ее от всех отличу. И Русланову помню, и Ковалеву, и Сметанкину, а лучше Зыкиной нет — за сердце берет. Чувствовалось, что в этом вопросе Гущина обладает изрядной эрудицией и не прочь поделиться со мной своими познаниями. Я жестом остановил ее и, прочитав показания, попросил их подписать. Слушая меня, Матрена Степановна поддакивала, кивала головой, и только когда я дошел до места, где она утверждала, что перед проверкой времени по “Маяку” передавали “Рязанские мадонны” в исполнении Зыкиной, брови старой женщины удивленно полезли вверх. — К чему это? Какое это имеет отношение к Мише? — недовольно проворчала она. — А может быть, передавали что-нибудь другое? — с надеждой спросил я. — Не путайте. Я эту песню наизусть знаю, — рассердилась Гущина и старательно вывела свою подпись. Я встал из-за стола и, отложив в сторону протоколы, прошелся по кабинету. В этом году из-за некалендарных холодов начали раньше топить. В кабинете было жарко. Я встал на стул и открыл форточку- в комнату хлынул холодный воздух. Не слезая со стула, я всей грудью вдыхал свежую морозную струю. “Простужусь, — мелькнула у меня мысль. — Ну и черт с ним! Как хорошо было бы посидеть сейчас дома, попить чай с малиновым вареньем, поиграть с сынишкой в шахматы! Сашка, несмотря на свои одиннадцать лет, в последнее время все чаще и чаще стал меня обставлять, да и не мудрено- ходит во Дворец пионеров, в шахматную секцию, выучил такие заковыристые слова, как “эндшпиль”. А отец за всю свою жизнь освоил всего одну шахматную премудрость — киндермат. Офицером и ферзем — не густо!” Я спрыгнул со стула и вновь зашагал по кабинету. Не знаю почему, но, когда у меня что-то застопоривалось в делах, на ходу думалось лучше. Выходит, что в тринадцать тридцать, вернее, в тринадцать тридцать семь, если верить часам убитого, Горбушин не мог его сбить. Но почему он не сказал о том, что заезжал к Брызгаловой? И Гущина и Клава отрицают встречу с Горбушиным после происшествия; если они искренни в своих показаниях, то о сговоре не может быть и речи. Я позвонил дежурному и попросил срочно, через московских товарищей, связаться с редакцией радиостанции “Маяк” и выяснить, что передавали в интересующий меня день перед проверкой времени в 14 часов. Может быть, здесь появятся разногласия. Пока что у меня нет оснований для опровержения показаний Гущиной и Брызгаловой. Я еще раз подумал, что прокурор Рудов прав: чем глубже я вникал в дело Карпова, тем больше находил в нем неожиданностей. В дверь постучали, и дежурный по райотделу ввел в кабинет Горбушина. Михаил остановился на пороге, нервно комкая в руках черную каракулевую шапку с кожаным верхом. — Раздевайтесь, Горбушин. Проходите, садитесь, — приветливо, как старому знакомому, сказал я ему. Горбушин покорно разделся и, тяжело вздохнув, сел. По лицу Михаила было видно, что последние дни не прошли для него даром — он сильно осунулся, глаза запали и лихорадочно блестели. Я тоже сел и, как бы между прочим, спросил: — Как назвали дочку? — Зоя, — машинально вырвалось у Горбушина. — Сами решили или Тамара? — тем же дружеским тоном осведомился я. — Тамара. Я хотел Ниной назвать. — В честь Нины Николаевны? Михаил испуганно посмотрел на меня, услышав имя матери; он явно не понимал, к чему я клоню. В это время я вынул из сейфа его показания и неторопливо прочел их вслух. — Вы подтверждаете, что все записанное здесь с ваших слов является правдой? — Да, подтверждаю. — Михаил стиснул руки и, взглянув на меня, добавил: — Могу дать любое слово. — И соврать, — в тон ему подхватил я. — Почему вы не сказали, что заезжали в этот день к Клаве Брызгаловой? — К какой Клаве? — Михаил даже привстал со стула, лицо у него побледнело, на лбу выступил пот. — К какой Клаве? — надрывно повторил он. — Никакой Клавы я не знаю! — Опять обман. — Я снял трубку и попросил пригласить ко мне свидетельницу Брызгалову. До прихода Клавы Горбушин сидел сутулясь, опустив глаза. Когда девушка вошла в кабинет, он вздрогнул, искоса взглянул на нее и снова уставился в пол. — Гражданка Брызгалова, знаете ли вы этого человека? Клава молча, в знак согласия, кивнула. — Кто он? Девушка молчала. — Назовите его имя, фамилию… — как можно мягче снова спросил ее я. — Горбушин, Михаил, — еле слышно сказала Клава и, сделав паузу, добавила: — Учились вместе. — А вы, Горбушин, знакомы с этой гражданкой? Посмотрите на нее. Он нехотя поднял голову и, воровато стрельнув глазами, снова уставился в пол. — Ну, что скажете, Горбушин? — Никого я не знаю. — Миша! — ахнула Брызгалова. — Да как же так! — Она, как от удара, прикрыла лицо рукой и, очевидно только сейчас оценив меру его предательства, глухо, сквозь зубы сказала: — Ну и подлец же ты! — Что она оскорбляет? — возмутился Горбушин. — Нет, она вас не оскорбляет, по-моему, она сказала очень правильно, — не сдержался я. — Повторите ваши показания, гражданка Брызгалова! Клава слово в слово повторила все то, что рассказала мне часа полтора назад. Когда Клава закончила говорить, я спросил у Михаила: — Горбушин, вы подтверждаете то, что сейчас сказала свидетельница Брызгалова? Подумайте, прежде чем ответить. — Да, подтверждаю, — по-прежнему не поднимая головы, чуть слышно сказал Горбушин. Я поблагодарил девушку и сказал, что она и ее тетка свободны… Клава кивнула мне и молча вышла из кабинета. — Ну, Горбушин, давайте теперь поговорим откровенно, или вы опять будете вилять и путать следствие? — Я вам все скажу, все, вот сейчас, честно… Горбушина было трудно узнать: все черты его лица выражали неподдельный страх, руки тряслись, губы перекосились в жалкой улыбке. И тут я понял, что мешало ему дать правдивые показания, — страх. Обыкновенный страх. Этот элегантный и подтянутый парень оказался патологическим трусом. Михаил, захлебываясь, как бы опасаясь, что я его перебью, говорил: — Да, я заезжал к ней, заезжал, а она сказала, что ждет ребенка. Я не хотел, чтобы Тамара узнала: она убьет меня, вы ее характера не знаете. Ночью стукнет чем попало. Она мне сто раз говорила, что за ревность ей дадут условно. А Клава, то есть гражданка Брызгалова, жаловаться пришла. Она, и когда я в армии был, путалась с кем попало. У меня есть письма, документы. И вообще надо еще доказать, чей это ребенок. Сейчас доказывают по группе крови! В своем страхе он даже не понимал, из каких побуждений пришла ко мне Клава. Его сейчас заботило только одно: как бы история их взаимоотношений не всплыла на поверхность. На своем веку я повидал много преступников: циничных, развязных людей, у которых осталось мало тех качеств, из-за которых их можно было назвать людьми. Но, пожалуй, ни один из них не вызывал во мне такое чувство отвращения и брезгливости, как этот изворачивающийся, запуганный, изолгавшийся человек. Но моя профессия не давала мне права идти на поводу у чувств. Нарочито спокойным тоном, чтобы прервать бессвязную исповедь, я спросил: — Что вы делали после того, как ушли от Брызгаловой? — Я могу поклясться, что ни на кого не наезжал. — Мне не нужны ваши клятвы. Я повторяю. Что вы делали после того, как ушли от Брызгаловой? — Да ничего особенного. Правда, но вы мне опять не поверите, мне показалось, что машина, которую я оставил на шоссе, стоит намного дальше того места, где я ее оставил. — На сколько дальше? — Не могу точно сказать, но дальше. — Почему вы так решили? — Да потому, что я оставил ее как раз напротив дома, там надо идти через опушку леса метров триста — четыреста, все прямо и прямо. А когда я шел обратно к шоссе, то увидел, что машина стоит намного правее, так что пришлось идти наискосок. — Вы это точно помните? — Ну конечно, там еще канава, пришлось ее обходить. А если идти прямо, то никакой канавы нет. — Почему вы сразу об этом не сказали? — А кто бы мне поверил, вы вон как на меня навалились. Признавайся, да и все тут. А я действительно ни на кого не наезжал. Я очень аккуратно вожу, вот посмотрите. — Горбушин полез в карман и достал водительские права. — Третий год — и ни одного прокола. — Когда вы подошли к машине, вы ничего особенного не заметили? — Нет, я был в таком состоянии после разговора с Брызгаловой, что если там что и было, то все равно бы не заметил… — Заводные ключи оставались в машине? — Не помню… — Вы никого не встретили на шоссе после того, как вернулись от Брызгаловой? — Нет, а может быть, и встретил, я вам говорю, что был в таком состоянии… — Почему вы скрыли, что заезжали к Брызгаловой? — Боялся, что Тамара узнает. Кому это приятно? — Да, приятного мало… — согласился я. — Ладно, Горбушин, идите. — Товарищ следователь… — Михаил умоляюще посмотрел на меня, — можно вас попросить… — Идите, идите, — строго сказал я, зная заранее, о чем он будет просить. — Идите и помните, что подписка о невыезде остается в силе. “Пусть поволнуется, трус паршивый”, — злорадно подумал я, хотя в эту минуту был почти уверен в том, что Горбушин не совершал наезда. Горбушин вскочил и торопливо, не попадая в рукава пальто, стал одеваться. — Что вы почувствовали, когда поняли, что Горбушин не виноват в наезде? — Я не сказал, что Горбушин не виноват. Вы меня неправильно поняли. Я сказал, что был почти уверен в его невиновности, а это не одно и то же. Надо было доказать, а для того, чтобы доказать, надо было найти преступника. Но отвечу на ваш вопрос: “Что я чувствовал?” Злость. Самую настоящую злость на самого себя. Что я уцепился за Горбушина? Очень уж удобная версия. Машина — пожалте машину, преступник — пожалте преступник. Первый круг ассоциаций. С самого начала я отверг несколько мелочей, забыв о том, что в нашем деле мелочей не бывает. Какой дурак придумал поговорку: “Все гениальное просто”. Ничего подобного: не только не гениальное, а даже все правдоподобное, жизненное, очень сложно. Вот пойди предугадай, что Горбушнн, боясь разоблачения перед женой, будет сознательно скрывать свое алиби. Прав был все-таки Песчанский: преждевременно напечатала заметку наша газета. Конечно, Горбушина трудно назвать светлой личностью, вел он себя как самый настоящий подонок. Но все же он не убийца. Подонок, мерзавец, трус, но не убийца, хотя я знаю случаи, когда убивали из-за трусости. Зря многие думают, что трусость безобидное качество, от которого страдает только ее обладатель. Трусы предают, позволяют совершать при них преступления, а часто сами совершают их именно из-за трусости. Вот такой субъект вполне мог убить Клаву, чтобы не быть разоблаченным перед своей женой, которую, видно, боится до полусмерти. Клаву мог, но вот Карпова? По всем имеющимся у меня данным они даже не были знакомы. Нет, это сделал не Горбушин. — Тогда кто? — не вытерпел я. Лазарев удивленно посмотрел на меня. — Кто? Тот, кому это выгодно — как сказал Николай Николаевич. Впрочем, это он повторил слова кого-то из древних. Любое преступление, и тем более такое страшное, как убийство, имеет свои причины, мотивы. В противном случае оно совершено человеком ненормальным. Какие мотивы могли быть в данном случае: ревность? Корысть? Месть? Что я знал о Карпове? У него учился мой сын. Несколько раз я встречал Карпова в школе на родительских собраниях. Близко с ним не знаком. Передо мной лежало личное дело Карпова, изъятое из канцелярии школы, где он работал учителем географии. Я еще раз просмотрел пожелтевшую папку. — А может быть, все-таки это сделал Горбуши”, — подумал я почему-то вслух. Да, надо довести до конца версию с Горбушиным, и, подняв телефонную трубку, попросил соединить меня с директором леспромхоза Сабировым. Через несколько секунд я услышал сквозь потрескивания и шумы голос директора: — Сабиров слушает. — Привет, Сафар Асхатович. Лазарев звонит, прости, что поздно беспокою. — Ничего, ничего, Сергей Васильевич, всегда рад тебя слышать. — Сафар говорил с легким акцентом, слегка растягивая гласные. — Что-нибудь случилось? — Нет, просто хочу навести справку. Что гам у тебя случилось с поварихой? — Ничего не случилось, все в порядке. — Ты мне скажи, она работает или нет? — Как — работает, бала будет у нее, бала. — Что, — не понял я, — что будет? — Бала, говорю, ребенок по-русски. С завтрашнего дня нового человека беру. А что, уже пожаловался кто-нибудь? — Нет, никто не жаловался. Спасибо, Сафар. Поговорив с директором еще немного, я положил трубку. И тут же снова поднял ее, чтобы ответить на звонок. — Что это у тебя с телефоном, занято и занято, — недовольно проворчал густой бас: я узнал дежурного по райотделу майора Шуйдина. — Тебя интересует ответ на запрос? — так же недовольно пророкотала трубка. — Уже получили? — невольно удивился я. — Вот это оперативность. — Столица! — солидно пробасил майор. — Ну, слушай: “17 ноября сего года с 13 часов 45 минут до 14 часов по московскому времени по радиостанции “Маяк” передавался концерт из произведений советских композиторов; в 13 часов 56 минут была передана песня А.Долуханяна на слова поэта А.Поперечного “Рязанские мадонны” в исполнении народной артистки республики Людмилы Зыкиной…” — Александр Фомич, занеси мне, пожалуйста, эту справочку, — попросил я майора. — Ты, Сережа, помоложе будешь, — наставительно сказал Шуйдин и повесил трубку. Значит, все, что говорила Гущина, полностью подтвердилось. Я достал общую тетрадь — “талмуд”, как в шутку называл ее Скирда, где кратко резюмировал ход дела, и возле показаний Клавиной тетки поставил два жирных красных креста. Я раскрыл личное дело Карпова. На фотографии, приколотой к автобиографии канцелярской скрепкой, он выглядел намного моложе. По длинным, свисающим вниз уголкам воротника я пришел к выводу, что фотография сделана не меньше десяти лет назад, — именно тогда носили рубахи с такими воротниками. В лице Карповане было ничего примечательного, значительного. Люди с такими лицами встречаются часто, а вместе с тем биография этого человека была не совсем обычной. Родился он в 1924 году в Ростове-на-Дону, отец кадровый рабочий, участник гражданской войны, мать домохозяйка. В 1927 году семья переехала в небольшой городок Солоницы, там прошли детство и юность Леонида Карпова. К началу войны окончил десятилетку, был членом комитета комсомола школы. Эвакуироваться не смог, потому что перед самым вступлением в Солоницы гитлеровских войск перенес операцию аппендицита. Оставшись в оккупированном городе, вступил в подпольную комсомольскую организацию “За Родину!” и вскоре стал одним из активнейших ее членов, возглавив боевую диверсионную группу. В сорок третьем году организация была раскрыта гестапо. Все ее члены были арестованы и приговорены военно-полевым судом к расстрелу. Был приговорен к расстрелу и Карпов. В ночь после расстрела Карпова подобрали невдалеке от братской могилы местные жители. Он был тяжело ранен в голову и левую руку. Около двух недель семья Панченко, жители села Троицкого, скрывала у себя раненого подпольщика, а затем переправила его к партизанам. Руку ему пришлось ампутировать в партизанском госпитале. Вместе с другими тяжело раненными Карпов был вывезен на Большую землю, в Зеленогорский госпиталь. Выписавшись из госпиталя, Карпов устроился работать воспитателем в ФЗО и одновременно поступил на заочное отделение областного педагогического института. В 1949 году Карпов с отличием окончил географический факультет, после чего перешел в среднюю школу, где и проработал до последнего дня своей жизни. За боевые действия в тылу врага Л.Н.Карпов награжден посмертно (его считали погибшим) орденом Боевого Красного Знамени, а также медалью “Партизан Великой Отечественной войны” второй степени, медалью “За победу над Германией”. В 1967 году Карпову за педагогическую деятельность был вручен орден “Знак Почета”. Карпов был активным общественником, дважды избирался депутатом райсовета, принимал активное участие в создании школьного музея боевой и трудовой славы жителей Зеленогорска… В деле находилось заявление на имя директора с просьбой оформить Карпова на должность преподавателя географии, датированное 1949 годом, благодарности в приказе, анкета… И больше ничего. — Вы знали, что имя Карпова было высечено вместе с именами погибших подпольщиков на обелиске в Солоницах? — спросил я у Лазарева. — Знал, хоть этого и нет в его биографии, приобщенной к делу. Знал, потому что Карпов специально ездил в Солоницы и попросил убрать с обелиска свое имя, раз уж он остался в живых. Исключительной скромности был человек. Но вернемся к делу. Помните, я говорил вам о трех китах, на которых держится такое преступление. Итак, ревность. Мог ли Карпов стать жертвой ревности? В принципе да, но оперативные данные, собранные Скирдой, полностью исключали эту возможность. Люди, близко знавшие его, отрицали какие бы то ни было связи покойного с женщинами. Карпов был женат, но семейная жизнь у него сложилась неудачно, и он развелся. В настоящее время его бывшая жена проживает в городе Кандалакше. Корысть? Но кому могла принести пользу смерть Карпова? Наследников, если не считать его матери, у пего нет. Да и какое наследство он мог оставить? Месть? Это, пожалуй, подходит больше. Тут мотивы бывают столь разнообразны и причудливы, что над этой версией придется серьезно поработать. Но за что могли мстить Карпову? Он никого не разоблачал, никого не преследовал. По всем известным мне данным, не то что врагов, но даже недоброжелателей у него не было. Нет, пока что ни один из трех китов не являлся опорой для построения более или менее правдоподобной версии. Может быть, убийство с целью ограбления? Но у него ничего не было взято. Из хулиганских побуждений? Маловероятно. Убийство такого рода не стали бы совершать столь сложным способом с явным расчетом подсунуть вместо себя шофера Горбушина. У хулиганов соображение работает слабо: пырнуть ножом, ударить обрезком водопроводной трубы или велосипедной цепью, полоснуть бритвой — это они могут, но пытаться ввести в заблуждение следствие при помощи инсценировки — такое им в голову вряд ли придет. Чаще всего хулиганские поступки совершают под влиянием алкоголя, а в пьяном состоянии человек соображает особенно туго… А что, если все-таки Горбушин сбил Карпова? Дались мне эти часы. Ведь еще на месте происшествия Першин сказал, что часы могут идти неточно. В конце концов, они могли просто стоять. Да, но тот же Першин утверждает, что перелом основания свода черепа, от которого погиб Карпов, был нанесен не машиной. Машина наехала на него позже, когда он был уже мертв. Но с какой стати Горбушину убивать Карпова? Скорее, он мог убить Клаву, которая имела против него компрометирующий материал. Стоп! А не является ли причиной гибели Карпова то, что он тоже против кого-то имел компрометирующие данные. Каким-то особым чувством, хорошо знакомым людям моей профессии, я понял, что нахожусь па верном пути. Мотивировки, из которых нельзя было построить более или менее приемлемую версию, отпали одна за другой. Но в ту минуту, как я подумал, что Карпов мог кого-то разоблачить в неизвестных еще грехах, в темном лабиринте догадок появился некий просвет. Тогда, если я, конечно, на правильном пути, преступник не Горбушин. Что мог он сделать такого, чтобы из боязни быть разоблаченным убить человека? Ну, левая ездка или даже если совершенно неведомыми путями Карпову стала известна история с Клавой, — все равно Горбушин не решился бы на такое. Я раскрыл свою книжку и записал на чистой странице: “Кому это выгодно?”, а под изречением древнего юриста проставил красным карандашом жирный икс. Телефонный звонок прервал цепь моих рассуждений: звонил из научно-технического отдела эксперт-криминалист Ивашов. — Ну, что там у тебя? — не вытерпел я. — Значит, так, — деловито начал эксперт, — заключение на стеклышки… Где же оно?.. Ах, вот. Осколки стекла являются частью оптических стекол от очков с диоптрией плюс восемь с половиной. Так. А вот второе заключение. Волосы, представленные для исследования, принадлежат лисице. — Что?! — Я чуть не выронил трубку. — Кому, ты сказал? — Лисице, — невозмутимо повторил Ивашов и, пожелав мне спокойной ночи, повесил трубку. Ночь я провел плохо. В голову упрямо лезли версии одна фантастичнее другой. Я вставал, выходил на кухню (в комнате я не курю) и, не зажигая огня, подолгу сидел там, прислушиваясь к пощелкиванию холодильника. Потом, когда, как мне показалось, события последних дней стали выстраиваться в стройный ряд, я, обрадовавшись, совершил неосмотрительный и, в общем-то, глупый поступок. Осторожно, чтобы никого не разбудить, сварил себе черный кофе, чтобы “прояснились мысли”. От двух чашек крепкого кофе действительно в мыслях наступило прояснение, но вот именно оно-то и не дало мне построить стройной версии. Все мои предположения показались запутанными и надуманными, будто вычитанными из какого-то третьесортного детективного романа, а ни о каком сне не могло быть и речи. Наконец я заснул, но меня тут же разбудил резкий звонок будильника. Пришлось встать, хотя я чувствовал себя плохо, голова была тяжелая, словно налитая свинцом. В райотделе меня уже поджидал лейтенант Скирда со свидетельницей Макаровой. Она слово в слово повторила свои показания, данные ею раньше. — Скажите, Галина Степановна, — морщась от головной боли, спросил я, — вы, случайно, не обратили внимание на шофера, который вел интересующую нас машину? Откровенно говоря, я абсолютно не рассчитывал на успех и вопрос задал просто для проформы. — Как же, товарищ следователь, обратила. — И вы могли бы его узнать? — нарочито неторопливо, чтобы не выдать своего волнения, спросил я. — Не знаю… — неуверенно протянула Макарова и добавила, сделав небольшую паузу: — Но думаю, что смогла бы… Когда словесный портрет был составлен, я попросил свидетельницу подождать и, выскочив из кабинета, приказал Скирде немедленно доставить в райотдел Горбушина. Затем я забежал в соседнюю аптеку и принял сразу две таблетки тройчатки. Через полчаса Горбушина доставили и вместе с двумя посторонними мужчинами предъявили свидетельнице для опознания. Макарова, войдя в комнату, внимательно посмотрела на всех троих и молча отрицательно покачала головой. — Посмотрите внимательно, Галина Степановна, — попросил я. — Может быть, кто-нибудь из этих людей вам знаком? — Нет, я никогда не видела этих товарищей, — уверенно ответила женщина. Когда Горбушин и понятые ушли, я то ли от досады, то ли от усталости совершил абсолютно недопустимый промах. — А между тем один из этих людей, по нашим предположениям, был за рулем машины, — сказал я. Макарова испуганно взглянула на меня. — Но тот же совсем другой, лицом поменьше и покруглее. “Ах, идиот! — подумал я. — Чуть не натолкнул человека на ложные показания. Хорош! Ничего не скажешь”. — Меньше и покруглее, вы говорите, — чтобы хоть что-нибудь сказать, растерянно пробормотал я вслух. — Да, — уверенно ответила Макарова. — Я его хорошо рассмотрела, потому что удивилась, как он вел машину… — Свидетельница сделала волнообразное движение рукой. — Как пьяный… — Давайте еще раз уточним, во что он был одет. — Так я же уже говорила, что шофер был в пальто и зимней шапке, такой мохнатой. — Какого цвета пальто? — Или черное, или темно-синее, темное, одним словом. — А шапка? — Шапка, знаете, такая рыжая. — Вы говорите, рыжая шапка? — не скрывая волнения, спросил я. — Да, пушистая такая… Это я хорошо запомнила. — Спасибо, Галина Степановна. — Я вышел из-за стола и крепко пожал ей руку. Женщина с удивлением посмотрела на меня. — Вам придется на несколько дней отложить свою поездку в деревню. — Ну что же, если надо, значит, надо, — просто сказала Макарова. Вызвав к себе Скирду, я попросил его немедленно выехать в леспромхоз и выяснить на месте, есть ли у кого-нибудь из работников или людей, бывавших там в последнее время, рыжая, по всей вероятности, лисья шапка. Скирда подобрался и чем-то неуловимо стал походить на охотничью собаку, застывшую в стойке. — Только очень тебя попрошу, Валерий, — поняв его состояние, попросил я, — будь осторожен. Ни в коем случае не задавай этого вопроса в лоб. Придумай какую-нибудь версию, ну, скажем, у нас есть подозрение, что кто-то из леспромхозовских учинил в городе драку. Придумай приметы… — Высокий, похож на грузина, пальто-бобрик, черное, хромовые сапоги, на лице шрам, — выпалил Скирда. — Кто похож на грузина? — Ну тот, в лисьей шапке, — безмятежно ответил Скирда. — Не надо столько подробностей, достаточно упомянуть, что, мол, высокий, черный, и потом вроде невзначай вспомнить о шапке… Ясно? — Ясно, — блеснул глазами Скирда. — Еще раз прошу: будь осторожен. Все дело можешь испортить. Действуй! Да, постой: если выяснишь, кто хозяин шапки, ни в коем случае не предпринимай никаких мер. — Слушаюсь. — Скирда обиженно хлюпнул носом. Отпустив его, я позвонил в аптеку и выяснил, что очки в нашем городе можно заказать всего в двух местах: в первой аптеке на проспекте Карла Маркса и в аптечном ларьке при горбольнице. В первой аптеке я узнал, что за последние полтора—два месяца никто не приобретал очки со стеклами восемь с половиной. По дороге в больницу меня все время не покидала мысль, что успех еще далеко не гарантирован. На месте преступления обнаружен осколок стекла от очков с диоптрией плюс восемь с половиной. И этот осколок мог оказаться там совершенно случайно. Даже если это осколок от очков, принадлежащих убийце (Карпов вообще не носил очков), то не обязательно, что убийца тут же бросился заказывать себе новые. В конце концов, могла же быть у него запасная пара. Но, памятуя святое правило, что в нашем деле не бывает мелочей, я решил довести эту линию до конца. Каждая, даже неправильная версия, доведенная до конца, сужает круг поисков и приближает к правильному решению. На аптечном киоске висело объявление, написанное от руки: “Ушла на базу”. Я разделся и сел в кресло возле кабинета терапевта, расположенного как раз напротив аптечного киоска. — У вас какая очередь? — тут же спросила меня старушка на соседнем кресле. — Я не к врачу, мамаша. — Знаем вас: “не к врачу”! Тут вот один пришел на минутку, бюллетень подписать, а сидит целых полчаса. Вот молодежь пошла, так и норовит без очереди пролезть. — Да я здоров, мамаша. — Все здоровы! Чего же тогда по больницам ходишь? — Жену жду, — брякнул я первое пришедшее в голову объяснение. — А что с ней? — участливо спросила старушка. Я неопределенно пожал плечами. — Вот-вот, у меня тоже ничего определить не могут — и кардиограмму делали, и рентген. “Вы, говорят, здоровая…” Видно было, что бабка села на своего любимого конька. Я, не вслушиваясь в ее рассуждения, кивал, поддакивал, не сводя взгляда с киоска. Наконец в киоск вошла пожилая полная женщина. Я, не дослушав старушку, поспешил к киоску. — Здравствуйте, — обратился я к женщине, — я бы хотел спросить у вас… — Киоск закрыт. — Женщина показала мне на плакатик. — Я следователь. — Я протянул ей свое удостоверение. — Следователь? — В ее голосе послышалось удивление. — По какому поводу? Наркотики отпускаю только по спецрецептам, все зарегистрировано, никаких левых дел. Если вам кто накляузничал, что я кому-то чего-то не отпустила, то это не потому, что для кого-то прячу лекарства, бывает, их просто нет. — Я вовсе не по этому поводу, — успокоил я ее. — Как вас зовут? — Спирина Мария Федоровна. — Ну вот что, Мария Федоровна, — сказал я, видя, что к киоску торопится какая-то женщина с рецептом в руке, — где бы нам с вами поговорить? Много времени это не займет. Допрашивать Спирину мне пришлось в кабинете главврача. — Вспомните, пожалуйста, Мария Федоровна, не пришлось ли вам за последнее время продать кому-нибудь очки плюс восемь, плюс восемь с половиной? — Ну как же, пришлось, — с готовностью ответила Спирина. — Две пары продала: одну в импортной оправе, а другую в нашей. — Вы это точно помните? — Конечно, а как же, товарищ следователь, плюс восемь редко кто спрашивает, это вот такие стекла. — Спирина пальцами с ярким маникюром показала предполагаемую толщину стекла. — Самые ходовые — это до плюс пяти. Шутка сказать, плюс восемь! Человек с таким зрением без очков почти ничего не видит. — А кому вы их продали, не помните? — Помню, — уверенно сказала Спирина. — Первую пару я продала одной старушке, Михаил Семенович их выписал. — Кто это Михаил Семенович? — поинтересовался я. — Наш окулист, — ответил главврач. — Для кого она брала очки? — Как — для кого, — удивилась Спирина, — для себя! Фамилию ее не помню, но можно спросить у Михаила Семеныча. — А вы убеждены, что для себя? — Конечно, она целый час мерила, говорит, что берет их для чтения. — Ну хорошо, а вторую пару? — Вторую у меня взяла Галя. — Какая Галя? — Галя Олейник. Наша процедурная сестра. — Тоже для себя? — Да нет, что вы?! — Спирина даже всплеснула руками. — Зачем ей, она женщина молодая, интересная и очки вообще не носит. — А для кого же она их купила? — Этого я не знаю. Подошла ко мне и говорит: “Мне нужны очки плюс восемь, нет ли у вас, Мария Федоровна?” Ну я ей и продала. Что мне, жалко, что ли? — А рецепт она вам какой-нибудь давала? — Нет, но я тут, товарищ следователь, никакого правила не нарушила, спросите хоть у Степана Ивановича. — Спирина кивнула в сторону главного врача. — Да, тут нарушения нет. Как правило, пациенты помнят свой номер и, чтобы не терять время у окулиста, обходятся без рецепта, — подтвердил главный врач. — Ну хорошо. Спасибо. Попрошу никого о нашем разговоре в известность не ставить. — Конечно, конечно, — торопливо сказала Спирина. — Могу я повидать эту медсестру? — спросил я главврача. — Пожалуйста, пригласить ее сюда? — Пройдемте лучше к ней. — Как хотите. Поднявшись на второй этаж, мы подошли к процедурной как раз в тот момент, когда из дверей выглянула женщина в белом халате и громко спросила у дожидавшихся больных: — Кто еще на внутривенное? — Это она, — сказал главврач и, жестом остановив поднявшегося с места больного, пропустил меня в кабинет. — Хорошо, что вы зашли, Степан Иванович. Я сама к вам собиралась. Надо менять большой автоклав. Он уже никуда не годится, я тысячу раз говорила об этом Ерофееву, а он ноль внимания. — Женщина поправила пушистую прядь волос, выбившуюся из-под белой косынки. — Об этом потом, вот товарищ к вам, Галина Сергеевна. — Слушаю вас. — Женщина спокойно посмотрела на меня. — Скажите, Галина Сергеевна, вы покупали недавно очки внизу, в киоске? — Очки? — Брови женщины удивленно полезли вверх. — Ах, очки. Покупала, а в чем, собственно говоря, дело? — Какие очки вы покупали? — Ну как — какие? Какие мне были нужны, такие и купила. — Поймите, Галина Сергеевна, что я расспрашиваю вас об этом не из праздного любопытства. — Ну хорошо. — Олейник недоуменно пожала плечами. — Я купила очки плюс восемь, в немецкой оправе, заплатила три рубля тридцать с чем-то копеек, но я все-таки не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете? — А для кого вы купили эти очки? — не отвечая на ее вопрос, спросил я. — Для одного своего знакомого. — Какого знакомого? — Знаете ли, — вспыхнула Галина Сергеевна, — я в достаточной мере взрослый человек, и потом, почему я должна отвечать на ваши вопросы? — Мы так и не познакомились, простите: следователь Лазарев. — Следователь? — В глазах женщины мелькнул испуг. — Боже мой, с Костей что-то случилось? — Ни с кем ничего не случилось. Не волнуйтесь. И очень прошу вас вспомнить, для кого вы купили очки. — Для своего знакомого Князева Константина Гордеевича. Дверь отворилась, и в процедурную вошел высокий мужчина. — Слушайте, товарищи, это нечестно, — забасил он. — Мало того, что ворвались без очереди, так еще сидите здесь целый час, а мне за ребенком в детсад идти. Чувствуя, что разговор с Олейиик у нас будет долгим, я попросил Галину Сергеевну поехать со мной в райотдел. Когда мы спустились на первый этаж, я увидел, что киоск до сих пор не открыт, а Спирина о чем-то с азартом рассказывает регистраторше. Как видно, сохранить что-либо в тайне было выше ее сил. В райотделе Олейник пробыла около часа. Из разговора с ней выяснилось следующее. Прошлым летом Галина Сергеевна решила провести отпуск на юге. Путевки в санаторий или дом отдыха ей достать не удалось, и поэтому она поехала на Кавказ, как говорят, “диким” способом, рассчитывая устроиться у кого-нибудь на квартире. В Хосте ей повезло — удалось снять койку. — Особых удобств мне и не требовалось, — сказала Олейник, — главное — солнце и море. В том же доме, где и Галина Сергеевна, остановился Князев, человек тихий и незаметный, работавший, по его словам, экспедитором в Элисте. Тактично и ненавязчиво Князев стал ухаживать за Галиной Сергеевной. То вставал ни свет ни заря и занимал ей место на пляже, то доставал билеты в кинотеатр. Перед самым отъездом Галины Сергеевны Князев пригласил ее в ресторан. Пили сухое вино, и Галина Сергеевна немножко захмелела. Князев ей казался милым и одиноким человеком. В его отношениях к ней не было и намека на легкий и ни к чему не обязывающий “курортный роман”, и поэтому ей показалось вполне естественным, когда Константин Гордеевич попросил ее адрес. — Гора с горой не сходится, — сказал Князев, поднимая бокал. — За новую встречу. Я ведь бываю в ваших краях. А может, и письмо когда напишу. Разрешите? Галина Сергеевна разрешила ему писать. Но писем от Князева она так и не получила. Олейиик стала уже забывать о своем курортном знакомом. Но совсем недавно, несколько дней назад, он позвонил к ней на работу и сказал, что приехал в Зелеиогорск в командировку недели на две и остановился в гостинице. Галина Сергеевна к себе в гости его не приглашала, так как у нее склочные соседи и ей не хотелось, чтобы пошли всякие сплетни. Очки Князев попросил ее заказать, объяснил, что случайно разбил свои. Зная, что Галина Сергеевна работает в больнице, он попросил сделать это как можно быстрее потому, что с его зрением он без очков как без рук. Женщина, сидящая напротив меня, была очень взволнована, лицо и шея покрылись у нее красными пятнами. Она не понимала, зачем я расспрашиваю ее о Князеве, и, очевидно, эта неизвестность заставляла говорить о нем очень осторожно. Я чувствовал, что она все время пытается что-то скрыть, скорее всего, свои подлинные отношения с Князевым. Впрочем, меня это мало интересовало. На вопрос, знакома ли ей фамилия Карпов, Олейник ответила отрицательно. Во всем ее поведении чувствовалось желание придать отношениям с Князевым невинный оттенок случайного знакомства. В дальнейшем, как я и предполагал, выяснилось, что у Галины Сергеевны был с Князевым тот самый пошлый “курортный роман”, наличие которого она столь упорно отрицала. — Скажите, Галина Сергеевна, а как одет Князев? — спросил я у нее. — Как одет? — удивилась Олейник. — Обычно одет. Пальто, костюм, шапка… — Черная каракулевая с кожаным верхом, — вспомнив шапку Горбушина, подсказал я. — Нет, — уверенно ответила Олейник. — Вы его с кем-то, наверное, перепутали. — Женщина облегченно вздохнула. — У Константина Гордеевича лисья шапка, такая… желтая. Я почувствовал, как учащенно забилось сердце. “Наконец-то! Неужели я вышел на того, кто мне нужен? Неужели икс найден? Не слишком ли просто?” Еле сдерживая охватившее меня нетерпение, я внимательно перечитал показания Галины Сергеевны и попросил расписаться. Затем, сославшись на то, что она мне еще потребуется, вежливо попросил ее подождать некоторое время в дежурке. Проводив се туда (я опасался, что она могла предупредить о нашем разговоре Князева), я кинулся к телефону. В леспромхозе мне сказали, что Скирда давно выехал от них. Кажется, никого в жизни я не поджидал с таким нетерпением, как нашего лейтенанта. И когда он, усталый, но довольный, ввалился ко мне в кабинет, я нетерпеливо спросил: — Ну, что узнал? Впрочем, взглянув на Скирду, можно было этого вопроса и не задавать. Глаза Валерия сияли, и чувствовалось, что его буквально переполняют какие-то важные новости. — Значит, так, — зачастил скороговоркой Скирда, — в леспромхозе ни у кого лисьей шапки нет. Такая шапка есть у заготовителя, который приехал из Элисты. — У Князева Константина Гордеевича, — не выдержал я и увидел растерянное лицо Скирды. Поторопил его: — Ну дальше, дальше. — А дальше, — удивленный моей осведомленностью, продолжал Валерий, — то, что Князев в день наезда появился в леспромхозе как раз около двух часов. От места происшествия до леспромхоза ходу минут двадцать — двадцать пять! Вот вам и дальше! — торжественно закончил он. — Молодец, Валерий! — хлопнул я его по плечу. — Едем в гостиницу. — За Князевым? — подтянувшись, спросил Скирда. — Вот именно. — Оружие брать? Я хотел было сказать, что не стоит, но, подумав, что этим сильно подорву интерес Скирды к предстоящей операции, великодушно махнул рукой: — Бери! …В вестибюле гостиницы стоял крепкий приторный запах тройного одеколона, несшийся из парикмахерской. Администратор, пожилая женщина с нездоровым, отечным лицом, полистав книгу приезжих, сказала, что Князев остановился в номере 23. Мы со Скирдой поднялись по скрипучей лестнице, устланной вытертой ковровой дорожкой, на второй этаж. Скирда, как ему, наверно, казалось, шел походкой индейца, вступившего на боевую тропу. Нахмурив брови и не вынимая руки из кармана, где лежал пистолет, он не шел, а буквально крался по коридору. На лице лейтенанта застыло суровое, сосредоточенное выражение. Я оглянулся и, увидев, что коридор пуст, шепотом строго сказал: — Вот что, милый, или ты сейчас же вынешь руку из кармана и прекратишь весь этот цирк, или катись отсюда к чертовой бабушке! Брать будем тихо, без рукоприкладства и перестрелок. Ясно? Скирда поспешно выдернул руку из кармана и, покраснев, виновато посмотрел на меня: — Ясно, Сергей Васильевич. Подойдя к двадцать третьему номеру, я негромко постучал. — Входите, не заперто, — раздался из-за дверей мужской голос. Мы вошли. У зеркала, висевшего над раковиной, стоял невысокий мужчина в пижамной куртке. Я обратил внимание на его неестественно прямые плечи и спину. Видимо, перед самым нашим приходом он брился: на стеклянной полочке лежали бритва, помазок и тюбик с пастой для бритья. Па левом ухе застыл клочок мыльной пены. — Вы ко мне, товарищи? — спокойно спросил мужчина, поворачиваясь к нам. Лицо у него было небольшое, аккуратное, с маленькими, глубоко посаженными глазами, с небольшим шрамиком, пересекавшим верхнюю губу. На первый взгляд было трудно определить, сколько ему лет. “Вот уж истинно маленькая собачка до старости щенок”, — невольно подумал я, вспомнив, что, по показаниям Олейник, Князеву должно быть далеко за сорок. — Простите, ваша фамилия? — спокойно спросил я. — Моя? Князев, а что? Да вы проходите, присаживайтесь, — приветливо сказал мужчина, тщательно промывая под струйкой воды безопасную бритву. Я окинул взглядом номер, но лисьей шапки нигде не было. — Мы из милиции, — сказал я как бы между прочим. — Вот как? — без тени удивления произнес мужчина и внимательно взглянул на меня; в его маленьких серых глазах блеснул холодный, недобрый огонек. — Одну минутку. — Он ополоснул лицо и тщательно вытер его. — Одеколона не употребляю, — ни к кому не обращаясь, сказал Князев. И, заметив, что Скирда по-прежнему стоит у дверей, сделал широкий жест. — Садитесь, садитесь, в ногах правды нет. — Ничего, я постою, — холодно ответил лейтенант. Князев пожал плечами, вынул из кармана очки, протер их полой пижамы и, надев, повернулся ко мне. — Слушаю вас. — Казалось, лицо его ничего не выражало, кроме вежливого внимания. — Вот что, товарищ Князев. К нам поступили сведения, что вы незаконно получили в леспромхозе некоторые дефицитные пиломатериалы, надо разобраться, — веско сказал я. — Вас ввели в заблуждение. Все, что я получил, оформлено по накладным, можете проверить. — Это я и собираюсь сделать. — Пожалуйста. — Князев вынул из папки, лежащей на столе, кипу документов и протянул их мне. — Чепуха какая-то. Как это, скажите на милость, я могу получить то, что мне не положено? Я ведь представляю государственную организацию, а не частную лавочку. — И все же вам придется поехать с нами. — Это еще зачем? — все так же спокойно спросил Князев. — Я думаю, что можно разобраться на месте. Поверьте, я ни в чем не виноват. — Вот и хорошо, — сказал я, вставая, — напишите объяснительную записку, много времени это не займет. Одевайтесь. — Ну, как хотите, — недовольно проговорил Князев и начал одеваться “Где же шапка, — мучительно думал я. — Неужели он ее выбросил?” А может быть, спрятал. Тогда придется делать обыск. И только когда Князев снял с вешалки пальто и вытащил из рукава засунутую туда рыжую лисью шапку, я, не удержавшись, облегченно вздохнул. Вот она, теперь все в порядке. Правда, бывают в жизни самые неожиданные совпадения… Войдя ко мне в кабинет, Князев аккуратно разделся и закурил, не спрашивая разрешения. Держался он уверенно, как бы давая понять, что вызов его в милицию ошибка, и не более. Записав анкетные данные, я откинулся в кресле и, пристально посмотрев на Князева, спросил: — А теперь, Константин Гордеевич, скажите мне, где вы были семнадцатого ноября с тринадцати до четырнадцати часов? Князев зло блеснул глазами и промолчал. — Вы что, не поняли вопроса? Могу повторить, — раздельно произнося слова, сказал я. — Где вы были семнадцатого ноября с тринадцати до четырнадцати часов? Тут произошло что-то совсем уже несуразное. Князев хрустнул пальцами, глубоко, с аппетитом зевнул и, отвернувшись от меня, уставился в окно. — Не хотите отвечать, ну хорошо. Кстати, Князев, вы водите машину? Князев хитро посмотрел на меня, добродушно улыбнулся и высунул язык. — Прекратите валять дурака! — строго сказал я, поняв, что Князев пытается прикинуться душевнобольным. — На месте преступления обнаружены осколки от ваших очков. Вот показания гражданки Олейник, которая по вашей просьбе заказала новые очки с такой же диоптрией, те самые, которые сейчас на вас. Вот результаты экспертизы, утверждающие, что на голове убитого Карпова обнаружены лисьи волоски. Кстати, я изымаю вашу шапку для установления идентичности с найденными на месте преступления шерстинками. Но и без всякой экспертизы я убежден, что волоски именно от этой шапки обнаружены на месте преступления. Меня интересует, почему вы убили Карпова? Князев посмотрел на меня отсутствующим взглядом и снова зевнул. Допрос длился довольно долго, но на все мои вопросы Князев отвечал молчанием. Только когда вызванная свидетельница Макарова среди других опознала в нем человека, которого она видела за рулем автомашины, переехавшей убитого, Князев вновь захихикал и высунул язык. Допросы Князева шли уже третий день, но он по-прежнему молчал. Не отрицал своей вины, не оправдывался, просто молчал, тупо уставившись в одну точку. Время от времени он равнодушно зевал и почесывал небритый подбородок. Начальник следственного отдела Сурен Акопович Мартиросян предложил направить подследственного на судебно-психиатрическую экспертизу. Но я был твердо убежден, что Князев симулирует и хочет выиграть время. Для чего? По колючим искоркам, мелькавшим иногда у него в глазах, я ясно видел, что он прекрасно понимает смысл моих вопросов; чувствовалось, что его мозг работает лихорадочно и вполне отчетливо в поисках выхода из сложившейся ситуации. Нет, на экспертизу я его всегда успею отправить. Сейчас важно сломить его упрямство, дать ему понять, что выхода у него нет, заставить его говорить. Зря он рассчитывает, что я не вытерплю, нервы у меня в порядке, и я очень надеюсь, что первым они сдадут у него. Поэтому, не повышая голоса, я в который раз задавал Князеву одни и те же вопросы. Скирда ходил все эти дни в героях. Распивая кефир в нашем буфете, он в сотый раз рассказывал сотрудникам о трудностях, с которыми нам (то бишь ему, Валерию Скирде, и мне) пришлось столкнуться по этому запутанному делу. Постепенно нашим поединком с Князевым заинтересовался весь райотдел, и поэтому я не был удивлен, когда ко мне в кабинет пожаловал сам прокурор Рудов. Яков Тимофеевич кивнул мне и, внимательно посмотрев на обвиняемого, тихо спросил: — Ну что, игра в молчанку продолжается? Князев буквально впился глазами в Рудова; он даже привстал на стуле, но тут же сел и, прикрыв рукою лицо, шумно выдохнул из себя воздух. — Послушайте, Князев, — так же спокойно сказал Рудов, — неужели вы не понимаете, что ваше молчание ничего вам не даст? Ну, отправят вас на экспертизу, небольшая оттяжка, и говорить все равно придется. Может, хватит, а? И тут произошло неожиданное. Князев медленно опустил руку и, еще раз пристально взглянув на Рудова, жестом показал, что хочет что-то написать. Я поспешно протянул ему бумагу и карандаш, ничего не понимая: ведь я десятки раз повторял Князеву эту же фразу и она не производила на него никакого впечатления. Князев что-то написал и протянул бумагу Рудову. — Прошу оставить нас вдвоем, — попросил меня Рудов. Увидев мое недоуменное лицо, он молча дал мне записку. “Буду давать показания только Рудову”, — было нацарапано корявым почерком. Я встал, молча вышел из кабинета. “Интересно получилось, — подумал я. — Бился, бился, и нате. А Рудов хорош: пришел, увидел — расколол! Будет теперь разговоров”. Впопыхах я забыл сигареты, но возвращаться в кабинет мне не хотелось. — Дай-ка закурить, — обратился я к проходящему мимо Шуйдину, совсем забыв, что он некурящий. Шуйдин молча развел руками. — Ты что, тоже немой?! — не сдержавшись, заорал я на весь коридор. — Валерьянки выпей, — спокойно пробасил Шуйдин. И пошел дальше. Минут через сорок я все же не вытерпел и постучался в свой собственный кабинет. Князева уже увели. Рудов по-прежнему сидел на моем кресле и задумчиво смотрел в окно. — Ну? — не вытерпел я. — Что удалось узнать, Яков Тимофеевич? Рудов молча протянул мне протокол допроса. На чистом листе бумаги была написана всего одна фраза: “Я не виновен” — и стояла размашистая подпись Князева. — Что это значит? — Я с удивлением уставился на прокурора. — А то, — спокойно ответил Рудов, отбирая у меня листок бумаги, — что Князева придется из-под стражи освободить. — Как — освободить? Что за глупые шутки! — Я вовсе не шучу. — Рудов строго посмотрел на меня. — Вы что, действительно считаете, что он не виновен? А улики? — Против Горбушина у вас тоже были улики, не так ли? — спокойно возразил Рудов. — Но я не согласен с вами! — взорвался я. — Принципиальность для следователя нужна не меньше, чем для прокурора, и все же, дорогой Сергей Васильевич, я очень прошу вас написать постановление… — О чем? О прекращении дела? Ни за что! — А кто вам сказал, что дело нужно прекращать? Я предлагаю изменить меру пресечения: возьмите подписку о невыезде, но из-под стражи Князева освободите и никаких следственных действий в отношении его не проводите. — Я буду жаловаться прокурору области. — Это ваше дело. — Рудов встал с моего места и вежливо добавил: — Ваше законное право. Взглянув на часы, прокурор направился к двери и уже у порога сказал: — Извините, но меня ждут на заседании исполкома. К нашему разговору мы вскоре вернемся. Позже вы все узнаете. Я буквально кипел от злости. На каком основании Рудов решил выпустить из-под стражи Князева? Может быть, это тактический ход? Но почему тогда он ничего мне не говорит об этом? Неужели не доверяет? Я бился, распутывая это дело. Вышел, как мне казалось, на верный путь. Просчетов здесь быть не должно. И вот я сейчас должен собственными руками отпустить щуку в реку, как в той басне. Скрепя сердце я сел и написал постановление об изменении меры пресечения. Когда этому постановлению был дан законный ход, вызвал к себе Скирду и, ничего не объясняя, сказал, что мы меняем меры пресечения к Князеву. По ошарашенному виду Скирды я понял, что освобождение Князева показалось ему, как п мне, совершенно неожиданным н необоснованным. Начальник следственного отдела Мартиросян, к которому я обратился со своими подозрениями, ворчливо попросил не вмешивать его в это дело, сославшись на то, что ему скоро уезжать в длительную командировку. Я в сердцах поговорил с ним, но на Мартиросяна это не произвело ни малейшего впечатления. В тот же день вечером, в одиннадцать часов, ко мне домой прибежал взволнованный Скирда и, утащив на кухню, возбужденно сказал: — Только что в кафе “Георгин” видел Князева. — Ну и что? — не понимая причины его волнения, спросил я. В том, что тот пошел в кафе, не было никакого криминала. — Да, но с кем я его видел? — торжествующе блеснул глазами лейтенант. — С Рудовым, пили коньяк, — не дожидаясь моего вопроса, выпалил Скирда. — Как — с Рудовым? — уставился я на него. — Ты ничего не перепутал, часом? — За кого вы меня принимаете, Сергей Васильевич? Ровно в двадцать ноль—ноль Князев вышел из гостиницы, и я решил посмотреть, куда он пойдет. Пошел прямым ходом в Черемушки. (В каждом городе есть свои Черемушки. У нас, в Зеленогорске, тоже есть район, носящий такое название). Сошел с автобуса, — возбужденно продолжал Скирда, — и в кафе “Георгин”, а там в отдельном кабинете его поджидал Рудов. Говорили они часа полтора. Потом Рудов ушел, а Князев посидел еще минут пятнадцать и тоже ушел, сейчас он в гостинице, лег спать, во всяком случае, свет в номере погасил. О чем говорили, сказать не могу — в кафе я не заходил, чтобы себя не расшифровывать, наблюдал с улицы через окно. — Так, — только и мог проговорить я. Надо сказать, что место для встречи было выбрано очень правильно. В это время года в кафе-мороженое “Георгин” почти никто не ходит. Его даже собирались закрыть из-за нерентабельности в зимний период. Значит, Рудову нужно было уединенное место для переговоров с Князевым. Но зачем? Неужели тот пообещал ему взятку? И он согласился?.. На Рудова это не похоже. Тогда в чем же дело? Почему прокурор при столь явных уликах дал распоряжение освободить Князева из-под стражи? — Вот что, — сказал я Скирде, — ты Князева оставь пока в покое. Завтра с утра я поеду к прокурору области и обо всем ему доложу. — Как вы думаете, Сергей Васильевич, почему Рудов встретился с Князевым? — Если бы я знал, Валерий! Чего мы будем сейчас гадать? Во всяком случае, факт этой встречи говорит о многом. В чем тут дело, докопаемся непременно. А ты делай, что тебе велено. В областную прокуратуру я попал во второй половине дня. Но мне повезло — у прокурора области Барышева не было посетителей, и я сразу прошел к нему в кабинет. Василий Семенович поздоровался и поинтересовался, что привело меня к нему. Я подробно доложил Барышеву дело об убийстве Карпова и высказал свои соображения по поводу непонятной позиции, занятой Рудовым. Барышев внимательно, не перебивая меня, выслушал все мои доводы и, неожиданно улыбнувшись, спросил: — И какие у вас есть соображения по этому поводу? — Даже не знаю, что думать, но согласитесь — дело путаное. — Охо-хо, в том-то и оно, что путаное, — загадочно сказал Барышев. Он встал из-за стола и протянул мне руку. Выходя из кабинета, я был неприятно поражен, столкнувшись в дверях с Рудовым, который как ни в чем не бывало поздоровался со мной. Я почувствовал, как к моим щекам приливает кровь, и быстро вышел из кабинета. “Решит, что приехал на него жаловаться. Очень красиво! Впрочем, сам согласился на то, чтобы жаловался”, — размышлял я. В коридоре ко мне подошел капитан Ступин и, поздоровавшись, скороговоркой спросил: — Давно вы здесь? — А что? — Как — что? Я чуть телефон не оборвал — звоню. Никто не отвечает. — Я нужен? — Еще как! Но об этом потом. А сейчас ищу Рудова. Вы его не видели? — Он у Василия Семеновича, — ответил я, продолжая думать о своем. И только когда Ступин скрылся за высокой дверью, обитой черной клеенкой, я вспомнил, что он вот уже третий год как перешел на работу в органы КГБ. “Так, — мелькнуло у меня в голове. — Если Рудовым заинтересовалось КГБ, то дело еще более усложняется. Но что могло произойти, почему Рудов отпустил Князева?” Чем больше я об этом думал, тем больше запутывался, тем более возникало сомнение. Я было собрался уходить, но меня остановил вахтер. — Вы Лазарев? — Я. — Товарищ Барышев просит подняться к нему. Я снова пошел в кабинет к областному прокурору. Ну, о том, какой разговор был в кабинете Барышева, и о событиях, предшествующих этому разговору, думаю, вам лучше расспросить не у меня. Я вам рассказал все то, что мне известно по этому делу, все то, в чем я принимал непосредственное участие. Я поблагодарил следователя Лазарева за обстоятельный рассказ. Завтра мне предстояло изучить материалы уголовного дела по обвинению Князева.ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО
Листы дела 95 —98
…Честно говоря, мне не хотелось ехать в Зеленогорск. Непонятное чувство тревоги владело мной. Наверное, виною этому был многолетний страх. Постоянное ожидание конца. Панические метания по медвежьим углам. Бессонницы и холодный пот от животного страха за свою жизнь. Впрочем, можно ли назвать жизнью то состояние, в котором я пребывал все эти годы?.. Я устал, дико устал. Бывали минуты, когда смерть мне казалась избавлением, но всегда в самый последний момент не хватало силы воли, чтобы принять окончательное решение. Впрочем, что толку сейчас говорить. В Зеленогорске случилось то, чего я опасался больше всего на свете, то, от чего потерял сон, то, от чего бежал без оглядки, бросая друзей, работу, насиженное место. Вы спрашиваете: могу ли я еще быть честным? Даже не со следователем, не с мифической совестью (все люди подлецы- глубоко в этом убежден), просто с самим собой? Вряд ли. Я столько лгал за свою жизнь, что давно потерял различие между ложью и правдой. То и другое так тесно переплелось во мне, что порой трудно, а то и просто невозможно отличить правду от вымысла. И все же попытаюсь быть честным — говорят, это приносит облегчение. Я приехал сюда из-за Галины. Нравилась ли она мне? Пожалуй, нет. Во всяком случае, не больше, чем все остальные женщины, с которыми до этого я был знаком. Наша встреча произошла в Хосте, куда я ездил отдыхать два года подряд. Единственное и непременное условие, которое поставила мне Галина: чтобы никто ничего не знал о наших отношениях. Связь, начавшаяся так прозаически, постепенно укрепила во мне веру, что я могу быть с этой женщиной если не счастлив, то, по крайней мере, спокоен. Галина была именно тем человеком, который мог принести мне это спокойствие. Уравновешенная и нетребовательная, недалекая, но добрая и внимательная, она могла стать идеальной женой для такого человека, как я. И поэтому, взяв при расставании ее адрес, я всерьез задумался: а не имеет ли смысл переменить жизнь? Я устал от бесконечного напряжения, от переездов, от всей своей неустроенности. Что, если покончить со всем этим, осесть где-либо в небольшом городке, жить тихо, мирно, смотреть телевизор, забыть и похоронить свое прошлое. Кажется, у австралийцев есть оружие, гнутая палка — бумеранг, который, описав дугу, возвращается к охотнику. Так вот наше прошлое и есть этот проклятый бумеранг. Причем возвращается оно в самую неподходящую минуту. Решение жениться на Галине пришло не сразу. Я тщательно взвешивал все “за” и “против”, обдумывал десятки возможных вариантов. Кроме всего прочего, я не был убежден, нет ли у нее друга в Зеленогорске. То, что она говорила в Хосте о своем одиночестве, на деле могло оказаться неправдой. Писем я не писал. Однажды вечером, вернувшись в свою грязную, нетопленную комнату, я с ужасающей ясностью понял, что дальше так жить нельзя. Да и разве можно было назвать жизнью все эти годыпрозябания? Подавленный своими вечными страхами и опасениями, я опустился до того, что неделями не менял белье, не прибирался в комнате. Мое жилье сильно смахивало на берлогу, на звериное логово, — трудно было поверить, что в такой грязи, в хаосе, среди немытых тарелок, окурков, пустых бутылок может жить человек. “Надо начать новую жизнь, — решил я, — тихую, нормальную жизнь. Но одному мне это не под силу. Надо немедленно ехать в Зеленогорск, увидеть Галину. Именно она тот поплавок, что удержит меня на поверхности, иначе я пойду на дно”. И вот тут-то я ощутил то бепокойство, которое можно назвать предчувствием. “Что-то должно в Зеленогорске произойти, — кольнуло меня, — что-то должно случиться. Глупости, — тут же успокоил я себя, — не валяй дурака, у тебя просто не в порядке нервы. В Зеленогорске ты никому не нужен, кроме Галины. Все забыто, все похоронено. Ты уже давно не ты. Трус паршивый, возьми себя в руки! Так и до петли недалеко”. Я решил ехать. Наша птицефабрика, в которой я работал завхозом, нуждалась в пиломатериалах, и поэтому командировку в Зеленогорск мне дали без особого труда. Сразу же по прибытии я позвонил Галине на работу. Ее, как мне показалось, мой звонок обрадовал. Вечером мы встретились, и я честно сказал ей о цели своего приезда. Галина приняла мое предложение. Но как человек практичный просила обождать с оформлением нашего брака. Я не хотел оставаться в Зеленогорске, она же должна была скоро получить отдельную квартиру в новом доме и трезво рассуждала, что обменять ее на жилплощадь где-либо в другом городе будет нетрудно. Так что вопрос о том, где мы будем жить, оставался открытым. В общем, за исключением мелких житейских неурядиц, все шло хорошо, как вдруг… Ах, это проклятое “вдруг”… Именно здесь, в этом забытом богом городишке, именно тогда, когда я несколько успокоился и мысленно, перечеркнув свое прошлое, рисовал новый этап своей жизни, бумеранг вернулся.Листы дела 108 —120
Я родился и вырос в Солоницах. Мать моя, Елизавета Федоровна Садкова, была дочерью местного акцизного чиновника, умершего еще до революции. Бабки своей я тоже не помню, так как она скончалась, когда я находился в младенческом возрасте. Домик, в котором я жил с теткой Матреной, принадлежал именно этой бабке. Мать я помню смутно, потому что провел с ней всего несколько лет, да и то когда был совсем маленьким. С отцом она познакомилась в нашем городе, где он проходил действительную службу в Красной Армии. Сразу же после демобилизации они поженились. Через какое-то время родился я. Отец был беспокойным человеком, не способным сидеть на одном месте. Им вечно владела охота к перемене мест. Через год после моего рождения он уехал в Среднюю Азию, в Чимкент, на строительство какого-то комбината, но пробыл там недолго. Вернувшись в Солоницы, он пожил какое-то время дома, а потом, забрав мать, укатил с пей в Сухуми, из Сухуми они перебрались на Урал, а уже с Урала отбыли на Кубань. За время этих переездов мать дважды была в Солоницах и один раз прожила дома целых семь месяцев. Отец не приезжал ни разу. В 1936 году родители, завербовавшись, уехали на Крайний Север, как говорила тетка, “за длинным рублем”, и с тех пор, кроме денежных переводов и редких коротеньких писем, я от них ничего не получал. Может быть, они живы и по сию пору — не знаю, меня это мало интересует. Тетка была человеком недалеким, со всяческими предрассудками и верой во всевозможные приметы. Единственным смыслом ее жизни было желание, чтобы в доме было не хуже, чм у других. Я рос странным и капризным ребенком. Тетка рассказывала, что в детстве я мог часами молчать, уставившись в одну точку. Стоило мне разреветься, и любое мое желание, даже самое нелепое, беспрекословно исполнялось. Я рано это понял и беззастенчиво пользовался теткиной добротой и мягкосердечностью. Так постепенно во мне развивался эгоизм. У меня было очень плохое зрение, но необыкновенная зрительная память. Стоило мне хотя бы один раз увидеть человека, его лицо навсегда запечатлевалось в моей памяти. Со своими сверстниками я никогда не был особенно близок. Физической боли я боялся панически и однажды, зная, что тетка с утра должна вести меня к зубному врачу, сделал вид, что вешаюсь, чем напугал ее до полусмерти. Всю жизнь я чувствовал себя невероятно одиноким, с теткой общего языка я не находил, как не находил и ничего общего со своими школьными товарищами. В шалостях и драках я участия не принимал, и за это ребята меня презирали. Следователь. Неужели у вас никогда не было друзей? Князев. Нет, почему же… Когда я учился в школе, у меня даже было чувство, похожее на первую юношескую любовь к моей однокласснице Лене Ремизовой. Мне нравилось бывать в доме Ремизовых, где всегда было полно молодежи, где никогда не умолкал смех. Как отличался он от тесной и тихой теткиной квартиры! В доме Ремизовых я никогда не слышал разговоров о том, что “все безумно дорого”, что “где-то выкинули что-то”, бесконечных толкований глупейших снов и прочего — всего того, что было так мило Матрене Степановне. Следователь. Вы были членом комсомольской подпольной организации? Князев. Да. Как раз Лена Ремизова и вовлекла меня в подпольную организацию “За Родину!”. Немцы оккупировали Солоницы. Серо-зеленая гусеница танков ползла по главной улице города. Солдаты в тяжелых глубоких шлемах весело смеялись, переговаривались, останавливались у колодцев и водоразборных колонок и, не стесняясь местных жителей, раздевались догола, чтобы смыть с себя дорожную пыль. Тетка, сидевшая весь день в погребе, накинулась на меня с упреками и руганью (она беспокоилась, не зная, где я), но когда я рассказал обо всем увиденном, облегченно вздохнула: — Ну, слава богу, может быть, и обойдется, — и пошла разогревать борщ. Но ничего не обошлось. Уже на следующее утро на заборах и фонарных столбах запестрели первые приказы нового начальства. Комендант города сообщал жителям Солониц, что с сегодняшнего дня им запрещается: хранить оружие, выходить из дома после комендантского часа, а точнее, после восьми вечера, и так далее, и тому подобное. За малейшее нарушение его распоряжений обер-лейтенант грозил расстрелом. Другой меры наказания оккупанты не предлагали. Жизнь в городе на какое-то время замерла. Магазины были закрыты, а на рынке, несмотря на то что фашисты поощряли частную торговлю, было пусто, хоть шаром покати. Правда, вскоре рынок ожил. На главной улице в ресторане открылось казино для немецких офицеров. В Солоницах вовсю шли аресты, искали коммунистов и советских работников. Об этом говорили шепотом. Тетка ходила на рынок и, так как деньги были совершенно обесценены, меняла вещи на продукты. Она и приносила всевозможные слухи, пересказывая их с выпученными от страха глазами. Вскоре дали о себе знать партизаны: подожгли дом, в котором расположились офицеры, обстреляли немецкую автоколонну, убили какого-то важного полковника. В разных концах города появлялись листовки со сводками Совинформбюро. Я был глубоко убежден, что все партизаны прячутся в лесах, и никак не мог понять, как им удается проникать в город, где кругом вооруженные оккупанты. А о том, что среди партизан могут быть мои вчерашние одноклассники, мне даже в голову не приходило. Но вот однажды зимой я встретил на улице Лену Ремизову. За то время, что мы с ней не виделись, она сильно изменилась. Повзрослела, вытянулась и выглядела гораздо старше своих семнадцати лет. В глазах у Лены появилось какое-то особенное сосредоточенное выражение. Ее вряд ли можно было назвать красивой — были в нашем классе девчонки красивее, — но мне она почему-то нравилась больше всех. Она куда-то спешила, и мы договорились встретиться на другой день утром. В тот день я проснулся рано и, позавтракав, с нетерпением стал поглядывать на старенький будильник с лопнувшим стеклом. — Куда это ты собрался? — недовольно проворчала тетка. — Сейчас такое время, что лучше сидеть дома и носа не высовывать. Я не обращал внимания на ее бормотание, еле дождался десяти часов и, накинув пальто, вышел на улицу. Лену я застал дома одну: она только что проводила своего брата Сергея на службу в магистратуру. Чтобы избежать отправки в Германию, Лена собиралась устроиться официанткой в офицерском казино; тогда я не знал, что это было заданием подпольной организации, и стал отговаривать, но она как-то странно посмотрела на меня и, с силой сжав мою руку, твердо сказала: — Нужно, Олег, ничего не поделаешь. Кстати, тогда меня звали Олегом. Лена спросила, вижу ли я кого-нибудь из одноклассников и поддерживаю ли с ними какие-нибудь отношения. Я ответил, что случайно кое-кого встречал, но отношений ни с кем не поддерживаю. — Чем же ты занят, Олег? — Лена опять как-то особенно посмотрела на меня. — А ничем, — беспечно ответил я, — тетка достала мне справку о том, что у меня тяжелый порок сердца и, кроме того, зрение сама знаешь какое, так что сижу себе дома да книжки почитываю. — Что же, так и думаешь отсиживаться до прихода наших? — Придут ли они, вот в чем вопрос. Немцы — сила. Всю Европу взяли. Ты видела, сколько техники они гонят на Восток? — Придут, обязательно придут! — В голосе Лены звучала такая убежденность и вера, что я невольно с уважением посмотрел на нее. — И потом, что немцы? Ты когда-то неплохо знал историю. Помнишь, Наполеон Москву взял, и все равно мы победили, потому что Россия непобедима. А твоих немцев, кстати, под Москвой расколошматили в пух и прах. — Почему это “моих”? — обиделся я. — Они такие же мои, как и твои. Кстати, про то, что им недавно всыпали, я слышал — тетка говорила. — И что жетона говорила? — Ну, что им всыпали. — “Всыпали, тетка сказала”! Ах ты! Слушай. — II Лена подробно рассказала о разгроме немцев под Москвой. — Откуда ты знаешь об этом? — удивленный ее осведомленностью, поинтересовался я. — Не все в такое время сидят дома и романчики почитывают, — загадочно ответила Лена и, увидев, что я не на шутку обиделся, добавила: — Потерпи, когда-нибудь узнаешь. — А что мне делать? — все еще злясь на ее назидательный тон, спросил я. — Выйти на улицу и ухлопать какого-нибудь фашиста? Да у меня и оружия нет. — Это совсем необязательно. Но поверь мне: стыдно смотреть, как советский человек… А может, ты бывший советский? — Почему же бывший? — обиделся я. Но Лена, словно не замечая моей обиды, продолжала: — Тем более стыдно смотреть, как советский человек в тяжелый для Родины час забился, как мышь, в нору и преспокойно выжидает, что будет дальше. Я узнал прежнюю Лену Ремизову. На школьных собраниях лучше было ей на язык не попадаться. — Сейчас самое главное, чтобы народ знал правду, — продолжала Лена, — чтобы было меньше отсиживающихся по своим норкам. Фашистская пропаганда запугивает таких ложью и своими мнимыми победами парализует их. Помнишь, сколько они трепались, что взяли Москву? И у многих после этого руки опустились. А Москва стояла и стоять будет. Надо, чтобы каждый, чем только мог, вредил этим гадам. — Девушка гневно сдвинула брови. — Чтобы ни одной минуты они спокойно не чувствовали себя на нашей земле! — Да я бы с удовольствием им насолил. — Ее взволнованная речь подхлестнула меня, сделала сильным и, как мне казалось, способным на все. — Я так и думала, Олег. — Лена пристально посмотрела мне в глаза. — Хочешь нам помогать? — Кому это “нам”? — спросил я. — Нашим, советским, — уклончиво ответила она. — В чем должна состоять моя помощь? — Для начала будешь переписывать листовки. Писать будешь печатными буквами. Тексты листовок будешь получать от меня. Я с радостью согласился. В ту минуту я вовсе не думал о последствиях. Мне ужасно захотелось в глазах Лены выглядеть смелым и сильным. Прошло полгода, прежде чем я узнал о существовании подпольной организации “За Родину!”. Лена умела хранить тайну. Все это время я аккуратно размножал листовки и передавал их Ремизовой. О привлечении меня к более сложной работе речь зашла тогда, когда понадобился связной с областным центром. Моя кандидатура показалась штабу подходящей. Так я стал полноправным членом подпольной комсомольской организации “За Родину!”. В нашей семье произошли за это время серьезные перемены. Тетка Матрена неожиданно стала коммерсанткой. Войдя во вкус обменных операций на рынке, она заявила мне, что снимет на рынке ларек. Я не нашел, что ей возразить. На следующий день Матрена Степановна сходила в городскую магистратуру и за соответствующую мзду выхлопотала себе патент. Странные метаморфозы происходят порой с людьми: тихая Матрена Степановна буквально на глазах превратилась в крикливую, нахальную торговку. Впрочем, метаморфоза ли? Ее всегда больше всего в жизни интересовали две проблемы: “где что дают” и “почем”. Просто ей негде было применить на практике свои таланты, которые дремали в иен до поры до времени. Так или иначе, новое положение моей тетки было мне на руку: во-первых, я официально был при деле, как совладелец торговой точки, а во-вторых, мои отлучки в областной центр можно было объяснить коммерческими делами. Догадывалась ли тетка об истинной причине моих поездок? Думаю, что нет. На ее расспросы о том, что я делаю в городе, я придумал, как мне тогда казалось, хорошую отговорку. Я заявил ей, что завел в городе девушку и наведываюсь к ней. Теперь с Леной мы виделись часто. Порой мне казалось, что она просто воспользовалась моей увлеченностью ею и использовала меня в своих целях. Ни размножение листовок, ни тем более утомительные поездки в областной город не доставляли мне никакого удовольствия. Я считал все это детской игрой. Кроме того, меня раздражали ее бесконечные рассуждения о Родине, о долге, все это напоминало мне комсомольские собрания, на которых Ремизова всегда играла первую скрипку. Меня так и подмывало сказать ей в такие минуты, что на меня эта голая агитация не производит впечатления. Но, конечно, ничего подобного я ей не говорил, а, наоборот, поддакивал и даже весьма удачно имитировал энтузиазм, прекрасно понимая, что переубедить ее невозможно…Листы дела 150 —167
Следователь. Скажите, Князев, вы знали Карпова? Князев. Конечно. Карпов был членом штаба и руководил диверсионной группой в подпольной организации “За Родину!”. Следователь. Почему вы его убили? Князев. А что мне оставалось делать? Все началось со знакомства с майором СС Кригером. Следователь. Расскажите об этом поподробней. Князев. К майору Кригеру я попал по чистой случайности. Выполняя задание подпольной организации “За Родину!”, я в качестве связного несколько раз ходил в областной город. В тот памятный январский день 1943 года я, ничего не подозревая, шел на явочную квартиру на Железнодорожной улице. В подкладке моего пиджака были зашиты разведданные, собранные группой Павлычко. Тихий городок Солоницы во время войны стал крупной узловой станцией. Сбор разведывательных данных о прохождении военных эшелонов имел важное значение для командования Красной Армии, готовившей наступление на нашем участке фронта. Мои документы были в полном порядке. В городской магистратуре работал наш человек, и поэтому проверок я не опасался. В небольшом домике по Железнодорожной, на конспиративной квартире, меня ожидал работавший слесарем-водопроводчиком дядя Ефрем. Я бывал у него не раз, и поэтому все формальности с паролем и отзывом казались мне смешной и ненужной забавой. Вообще к конспирации большинство из нас, зеленых мальчишек, относилось как к увлекательной игре. Дядя Ефрем не раз журил меня за это, но я обращал мало внимания на его наставления, считая их просто блажью. За это я и поплатился. По условиям наших встреч, я ни в коем случае не должен был останавливаться, а тем более подходить к дому, если на ближнем к крыльцу окне не были задернуты занавески. День выдался морозный, я окоченел, кроме того, сильно устал и проголодался; хотелось как можно скорее скинуть с себя сапоги, напиться горячего чая, которым меня всегда угощал дядя Ефрем, и завалиться спать, чтобы завтра пораньше отправиться в обратный путь. Подойдя к знакомому дому, я быстро пересек двор и, даже не взглянув на окно, взбежал на крыльцо и постучал условным тройным стуком. Дверь быстро распахнулась, и кто-то рывком втащил меня в сени. Не успел я ахнуть, как мне больно заломили руки, а потом втолкнули в комнату. — Свет! — произнес властный голос. В комнате вспыхнул свет. Ноги у меня подкосились от страха и боли, я чуть не потерял сознание. За столом сидел человек в кожаном пальто и шляпе, надвинутой на самые глаза, в комнате находились еще какие-то люди в штатском, но, сколько их было, я не помню. — Ну, что скажете, молодой человек? — спокойно спросил тот, что был в шляпе, и добавил что-то по-немецки. От стены отделился верзила и похлопал ладонями по всему моему телу, очевидно разыскивая оружие. — Я жду, — так же спокойно повторил человек, постукивая по столу костяшками пальцев. — Только не надо говорить, что вы разыскиваете Ивановых или Петровых. Я непроизвольно кинул взгляд на контрольное окно — так и есть: занавески не задернуты. — Минуточку! — Человек в шляпе резко поднялся из-за стола. — Вот почему они обходили этот курятник… — Он подошел к окну и задернул занавески. — Они должны быть так? Ну, считаю до трех! — Человек в шляпе вынул из кармана “вальтер”. — Я ничего не знаю, — охрипшим голосом выдавил я из себя. — Думаю, что ты не врешь, — усмехнулся мужчина, — такому молокососу вряд ли доверят серьезное дело. Но про занавеску тебе известно. Не так ли? Второй день, как явка провалена, и никто сюда не является. Так не бывает, дружок. Поверь мне на слово, я человек в подобного рода делах опытный. Единственное, что я не понимал, так это то, каким способом бывший хозяин дал знать об опасности. Ты мне помог, спасибо. Но смотри не обмани меня, я этого не люблю. Итак, я прав насчет занавесок? Раз… Открой-ка рот и учти: я тебя уговаривать не буду. Два… — Мужчина сунул мне в рот холодный вороненый ствол пистолета. — У тебя почти не осталось времени. Даю тебе слово, что при счете “три” я тебя пристрелю. И учти: свое слово я привык держать. Если захочешь что-нибудь сказать, моргни глазами. Два с половиной… Не знаю, если бы он кричал, бил меня, я бы, наверное, выдержал. Но в его вежливом и равнодушном тоне не было даже угрозы. Я понял, что мне осталось жить считанные секунды, увидел, как медленно стал сжиматься его указательный палец, лежащий на спусковом крючке, и зажмурил глаза. Мужчина не торопясь вынул ствол пистолета у меня изо рта, аккуратно вытер его платком и, улыбнувшись, почти ласково сказал: — Ну, смелей! “Второй день, как они здесь. Наверняка все в городе знают, что явка провалена. Черт с ним, скажу о занавеске”, — решил я. Страх, желание выжить оказались сильнее чувства долга. — Итак, я прав насчет условного знака? — Спрашивающий указал в сторону занавешенного окна. Я молча кивнул. — Ну вот и умник! Если занавеска закрыта, то путь свободен? Я правильно ее закрыл? — Правильно, — выдавил я и почувствовал, как меня бьет мелкая противная дрожь. — Ну и хорошо. Только смотри не обмани меня. За обман — особая плата. Как это у вас поется: “По заслугам каждый награжден”. Вот я тебя и награжу по заслугам. Если раньше ты не желал говорить, то это, в конце концов, твое дело, я бы просто тебя пристрелил. Но если ты меня обманул, — гитлеровец горестно вздохнул, — ты будешь меня умолять, чтобы я тебя пристрелил. Смерть покажется тебе недостижимо прекрасной и заманчивой. Ну, а теперь давай знакомиться. Мужчина потянулся за моими документами, которые верзила положил на стол. — Так, Курдюмов Олег — это твое настоящее имя? — Да, настоящее. — “Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам”. Знаешь такие стихи? — Знаю. — Начитанный парень. А теперь давай то, что ты сюда, принес. Давай, давай, не стесняйся. Я молча оторвал подкладку пиджака под левым бортом и протянул ему сведения, собранные ребятами из группы Павлычко. Мужчина развернул донесение и, бегло просмотрев его, нахмурил брови. — А дело-то серьезное, вещий Олег. Я думал о тебе хуже, прости, пожалуйста. А ты, товарищ Курдюмов, вполне созрел для полевого суда. Ты ведь, наверно, знаешь, что разведчиков в плен не берут. А почему? Да потому, что самый злой род войск — это мы, разведчики. Одно вот такое донесение наносит больше урона, чем танковый корпус. Но ничего, поговорим с тобой с глазу на глаз, авось что-нибудь и придумаем. У нас ведь есть о чем поговорить, не так ли? — Мужчина отдал какое-то распоряжение по-немецки и затем добавил, обращаясь ко мне: — Сейчас ты поедешь со мной, машина стоит на соседней улице, но очень прошу: не выкидывай никаких глупых номеров. Рихард, — он кивнул в сторону верзилы, — придушит тебя, как котенка. А ты мне нравишься, слово чести, нравишься… — Мужчина поднял воротник пальто и вышел из комнаты. Верзила грубо подтолкнул меня к дверям. Так я и познакомился с майором, а вернее, штурмбанфюрером СС Отто Кригером. Гестапо находилось на площади Труда. Здание было старинное, с множеством коридоров и комнат, с глубокими зарешеченными подвалами. Жители города старались обходить стороной этот дом. Всем было хорошо известно, что человек, попавший в него, редко возвращается домой. Сама форма гестаповцев, череп и кости на фуражке, внушали людям ужас. Отто Кригер был несомненно опытным контрразведчиком; его методы сильно отличались от топорной и грубой работы большинства его коллег, способных замучить человека до смерти. Штурмбанфюрер обладал талантом в распознании “материала”. Каким-то непонятным чутьем он понимал буквально с первых допросов, будет на него работать тот или иной человек или нет. Если перспективы перевербовки были безнадежны, он передавал допрашиваемого обер-штурмфюреру Рейнгарду, патологическому садисту, которым брезговали даже гестаповцы. Люди, попавшие в руки Рейнгарда, кончали свою жизнь в страшных мучениях. Если перевербовка казалась Кригеру возможной, он бульдожьей хваткой вцеплялся в человека, пуская в ход весь свой богатый арсенал — от красноречия до угроз. Он не мучил, даже не бил, а просто рассуждал вслух, создавая иллюзию искренней заинтересованности в судьбе нужного ему человека. Иногда для контраста он заставлял своих “подопечных” присутствовать на допросах с пристрастием, которые проводил обер-штурмфюрер Рейнгард. Довелось и мне однажды побывать на таком допросе. Рейнгард на моих глазах замучил девушку-радистку лет двадцати. Он не узнал даже, как ее зовут, потому что после перенесенных пыток девушка находилась в полубезумном состоянии, и, кроме криков боли и невнятного бормотания, от нее невозможно было ничего добиться. С того времени минуло много лет, но до сих пор при воспоминании об этом допросе меня до самых костей пробирает мороз. Это было так страшно, что я там же, в камере, потерял сознание. Но вернусь к тому морозному январскому дню, когда я впервые попал в старинный мрачный дом на площади Труда. В комнате, которую занимал Кригер, не было ничего лишнего, и, если бы не тяжелые решетки на окнах, ее можно было принять за обычный кабинет обычного чиновника. Кригер, войдя в комнату, снял пальто, аккуратно стряхнул с воротника снег и повесил пальто на плечики, которые он достал из стенного шкафа. Затем он снял шляпу и неторопливо зачесал назад свои редкие волосы. — Садись, Олег, — Кригер глазами указал мне на стул, — разговор у нас будет долгим. Теперь я смог как следует рассмотреть его. На вид Кригеру можно было дать лет сорок—сорок пять. Роста он был среднего, под идеально сидящим на нем синим костюмом угадывалось мускулистое, сильное тело. Держался он прямо, но не как кадровый военный. Его осанка говорила скорей о длительной спортивной тренировке. Лицо его можно было назвать красивым, если бы его не портили маленькие, глубоко посаженные глаза. Губы Кригера были постоянно раздвинуты в полуулыбке. Вот как раз эта-то полуулыбка совершенно не гармонировала с холодным, змеиным выражением глаз. Кригер сел в кожаное кресло, неторопливо закурил и, улыбнувшись мне, тихо сказал: — Ну, товарищ Курдюмов, выкладывай, кто ты и что ты. Рассказывай подробнее. Мне надо знать о тебе все. — Говорил он по-русски чисто, без малейшего акцента, только иногда некоторые слова произносил очень тщательно и отчетливо. Кригер сделал небольшую паузу и, не дождавшись моего ответа, предупредительно поднял руку. — Только учти, что каждое твое слово я проверю. И, если хоть в чем-то меня обманешь, сгоришь без дыма! — Ничего я вам больше не скажу! Ни единого слова. Делайте, всё что хотите. Можете меня расстрелять, плевать я на это хотел! — Я вскочил с табурета и выкрикивал еще какие-то фразы. Кригер с усмешкой, спокойно наблюдал за мной. Он не стукнул кулаком по столу, не закричал, нет, он просто смотрел и улыбался. Когда мой запал кончился, я в изнеможении опустился на табуретку. — Все? — по-прежнему не повышая голоса, бесстрастно осведомился Кригер. — Как же тебе не стыдно? В твоем возрасте иметь такие нервы. Ай-яй! — Кригер укоризненно покачал головой. — Ну и дураки же твои руководители, разве можно такому сопляку доверять серьезные вещи?! А я хотел спасти тебя. Ты понимаешь, где ты находишься? И почему здесь находишься? Объясняю. — В голосе Кригера зазвучали металлические нотки. — Здесь гестапо. Ты задержан как вражеский разведчик. Ты знаешь, что такое гестапо? Думаешь, здесь поругают и отправят домой, к маме? — Кригер вышел из-за стола, подошел ко мне и положил руку на плечо. — Ах, дурачок ты, дурачок, не веришь, что я хочу тебя спасти? Думаешь, я тебя обманываю? Сейчас я тебе покажу, как здесь поступают с теми, к кому я отношусь плохо, а потом вернемся к нашему разговору. Так я попал на допрос девушки-радистки. Очнулся я от того, что кто-то больно хлопал меня по щекам. Девушка уже не кричала — она лежала на цементном полу, широко раскинув руки, и из ее рта вместе с дыханием вырывался тяжелый, надсадный хрип. В дверях камеры стоял улыбающийся Кригер. — Пойдем-ка ко мне, — как ни в чем не бывало сказал он. — У тебя действительно паршивые нервы. Но не успел я выйти в коридор, как приступ неудержимой рвоты буквально потряс все мое тело. Раздавленный и потрясенный, согнувшись в три погибели, я стоял, прислонившись к шершавой стене, не в силах сделать ни единого шага. — Поговорим утром, — брезгливо глядя на меня, сказал Кригер и, добавив что-то по-немецки дюжему фельдфебелю, неторопливо зашагал по коридору. Фельдфебель дал мне еще пару оплеух, а затем схватил за шиворот и грубо поволок в противоположную сторону. Дойдя до конца коридора, мы спустились вниз по узенькой лестнице без перил. Я почувствовал сырой и затхлый подвальный запах. Вдоль коридора, освещенного тусклой лампочкой, одетой в металлическую сетку, тянулся ряд дверей, обитых листовым железом. Отомкнув одну из дверей, фельдфебель втолкнул меня в камеру. Я снова потерял сознание. Очнулся на рассвете. В камере не было ничего, кроме охапки прелой соломы. При тусклом свете, пробивавшемся в маленькое зарешеченное оконце, я заметил надписи, сделанные на стенах. Надписей было много: это были прощальные слова узников, сидевших здесь до меня. Некоторые из них были сделаны кровью. “Живым мне отсюда не выбраться”, — мелькнула мысль. Но, как ни странно, эта мысль не вселила в меня чувства страха: после всего виденного и пережитого мной овладело тупое безразличие. Нестерпимо хотелось пить, и это единственное нехитрое желание полностью охватило меня. Мне все время мерещилась вода, какой торговали на всех перекрестках Солониц до войны, шипучая газированная вода. За стакан простой чистой газировки, с белыми пузырьками, я готов был отдать сейчас все, что угодно… С лязгом отворилась дверь, и в камеру втолкнули мужчину в разорванной рубахе. Мужчина, застонав, неловко опустился на солому. — Мерзавцы, — процедил он сквозь зубы, — все печенки отбили! Эй, паренек, — повернулся он ко мне, — помоги-ка. Я подскочил к нему и в нерешительности остановился, не зная, чем ему помочь. — Переверни меня на бок, только осторожнее, — попросил мужчина, сморщившись от нестерпимой боли. — Крепко они меня отделали, по-научному. — За что они вас так? — За что? — Мужчина невесело усмехнулся. — Это тебе знать не стоит. — Он внимательно посмотрел на меня, а потом спросил: — Ты, часом, не знал дядю Ефрема? — Нет, — невольно вырвалось у меня. — Значит, показалось. Видел я однажды у него хлопчика, похожего на тебя. — Нет, нет, это был не я! — Да ты не таись. — Тут лицо мужчины перекосилось от боли. — Нам все равно выхода отсюда нет. Жаль только, что мало этой фашистской рвани уничтожил! Продала нас какая-то тварь, чтоб ей ни дна ни покрышки! — А что с дядей Ефремом? — поспешно спросил я, чтобы сменить тему. — Если б я знал… Может, его уже и в живых нет. То, что не он предал, — голову даю на отсечение! Проверенный человек. А тебя я сразу узнал, ты к нему приходил из Солониц. Так, что ли? Меня ты видеть не мог, я у Ефрема в сараюшке сидел, оттуда в щелку тебя и видел. Где тебя взяли? — Там, на Железнодорожной. — Ясно. Меня тоже там. Иду — занавески закрыты. Все в порядке. Стук-стук-стук — тут они и навалились. Но я им, гадам, дал шороху, двоих положил на месте. Знать бы только, кто нас продал, сообщить товарищам. — Давно вас взяли? — спросил я. — Часа три назад. Я почувствовал, как кровь ударила в лицо. Это я помог арестовать сидящего передо мной человека, из-за моего малодушия он обречен на смерть. Увидев, что я изменился в лице, мужчина приподнялся и, строго посмотрев на меня, сказал: — Эй, парень, только не раскисай, ты ведь, поди, комсомолец. Покажем фашистам, как умеют умирать советские люди! Снова загремели замки, и меня повели на допрос. Кригер отослал конвоира и только после этого, широко улыбнувшись, протянул мне руку. — Господин Курдюмов, — лицо его приобрело официальное выражение, — от имени германского командования выражаю вам благодарность за содействие в поимке опасного государственного преступника. Садись, Олег, — просто добавил он. — Какого преступника? Что вы говорите? — еле ворочая языком от ужаса, сказал я. — Не скромничай, — силой усаживая меня на табурет, ответил Кригер. — Благодаря тебе мы задержали одного из руководителей подпольного обкома — ты его только что видел в камере. Это большая удача, Олег. Я за ним давно охотился. Дело в том, милый, что я тебя обманул, каюсь, но в интересах дела. В разведке это называется дезинформация. Квартиру на Железнодорожной мы накрыли часа за два до твоего прихода, так что она была совершенно свеженькой. И если б не ты, не видать нам этого товарища Степанова как своих ушей. Степанов — это, конечно, псевдоним, но ничего — Рейнгард и не таким развязывал язык. Слова Кригера доходили до меня словно через плотный слой ваты. Значит, я предатель, меня обманули, как глупца. Я погиб! — Не спорю, — продолжал Кригер, — положение твое сложное. Теперь ты, как говорится, между молотом и наковальней. С одной стороны, я могу расстрелять тебя как вражеского разведчика, с другой стороны, твои товарищи-подпольщики хлопнут тебя за предательство. Большевики такого не прощают, не так ли? А я сумею проинформировать твоих друзей о той роли, которую Олег Курдюмов сыграл в аресте товарища Степанова. Кстати, убежден, что явка на Железнодорожной даст еще богатый улов. — Кригер сделал паузу, закурил и озабоченно добавил: — Давай вместе думать, как нам быть? “Покажем фашистам, как умеют умирать советские люди!” — вспомнил я слова Степанова. Мне захотелось кинуться на Кригера, вцепиться ему в горло. Но я был сломлен, я был просто раздавлен всем случившимся. Да, я виноват, и моей вине нет прощения. В ту минуту мне казалось, что лучше было бы погибнуть, как та девушка-радистка. Но, вспомнив ее, я вздрогнул. Нет, все, что угодно, только не это. Жить, жить любой ценой! Выйти отсюда и бежать куда глаза глядят, забиться в какой-нибудь уголок и сидеть там долго-долго — всю жизнь, наслаждаясь покоем и безопасностью. И, вместо того чтобы кинуться на Кригера или гордо сказать ему “нет!”, я жалким, дрожащим голосом попросил у него воды. С этой минуты я стал послушной игрушкой в руках майора. Подав мне стакан, Кригер, как бы угадав мои мысли, сокрушенно покачал головой. — Да, Олег, рановато ты на тот свет собрался. А вместе с тем выход есть. Буду с тобой играть в открытую, как говорится, карты на стол! Ты сейчас подпишешь соглашение о сотрудничестве с нами, а затем, не торопясь, обстоятельно, доложишь все, что тебе известно о подполье в Солоницах. И пойми: это единственный выход для тебя. Вернувшись, ты скажешь своим друзьям, что явка завалена. Видишь, я иду даже на это. Твою задержку мы объясним, ну, скажем, тем, что тебя по другому поводу задержала фельджандармерия. Соответствующую справку ты получишь. — Кригер посмотрел на часы. — Даю тебе пять минут на размышление, как положено во всех детективных романах, — усмехнулся он, — но слово чести, у меня и без тебя есть дела. Итак, пять минут. — Я согласен. Кригер удовлетворенно потер, руки. — Был убежден, что именно так ты и ответишь. Ты на меня сразу же произвел приятное впечатление. Запомни, что с сегодняшнего дня за твою безопасность буду нести ответственность лично я, — напыщенно сказал он. — Не в моих интересах проваливать нужного агента. А в том, что ты принесешь много пользы, не сомневаюсь. Поэтому я буду твоим крестным. Запомни: с сегодняшнего дня твоя кличка… — Кригер задумался на секунду, — Дикс! О подпольной организации “За Родину!” в ту пору я знал немного. И поэтому первым моим заданием, полученным от Кригера, было возможно подробнее узнать о структуре организации и руководстве. Особенно интересовала Кригера боевая группа, действовавшая на железной дороге. Он подробно инструктировал меня о том, как лучше завоевать доверие подпольщиков, о том, как внедриться в состав боевой группы. Я слушал, кивал и неотступно думал о том, что, как только меня выпустят, я тут же попытаюсь скрыться, и вновь, как будто отгадав мои мысли, Кригер строго сказал: — Если ты думаешь удрать, то сразу выкинь и эту мысль из головы: за тобой неотступно будут следить мои люди, вот, — Кригер вынул из кармана, пистолетный патрон, — это твой. Я клянусь честью, именно эту пулю ты получишь в затылок, если вздумаешь вилять. Но с другой стороны, — майор улыбнулся, — ты парень ловкий, не так ли, мой друг? Предположим, что тебе это удастся. Тогда, будь уверен, я найду способ сообщить в НКВД, что ты наш агент. Когда нам нужно завалить агента, который проштрафился, мы именно так и поступаем. И учти, что, кроме твоего жизнеописания, НКВД получит фотографии, подробнейшие приметы и отпечатки твоих пальцев. Тебе ясно? Я почувствовал, что попал в западню. Все аргументы, которые Кригер приводил, казались убедительными и неопровержимыми. Мне не надо было рассказывать, как партизаны поступают с предателями. Я сам видел в городском парке труп полицая Семена Ляшенко. Долго мне потом мерещилось его синее лицо с вывалившимся языком и аккуратный картонный плакатик на груди с единственным словом — “предатель”. — Опасаться тебе нечего, — продолжал между тем Кригер. — Организации типа “За Родину!” состоят из молодежи. Одурманенные коммунистической пропагандой, они склонны расценивать каждого члена своей организации как истинного патриота! Мне уже приходилось вести подобные дела. Комсомольские мальчишки понятия не имеют, что такое немецкая контрразведка, и лезут напролом. Знаешь, как стреляют диких уток? Могу рассказать. На озере, где они бывают, сажают обыкновенную утку, привязанную за лапку. Она так и называется — подсадной уткой. Вот ты и будешь моей подсадной уткой. И мы с тобой славно поохотимся. Ну не обижайся. Это, как говорят у вас, для красного словца. Кстати, почему красного? А не зеленого и не синего. Ну и язык, черт ногу сломает. — Вы хорошо знаете наш язык, — с каким-то тайным желанием подлизаться, презирая себя за это, сказал я. — Ну, ну, не льсти мне. Хорошо знать язык-это думать на этом языке. Хорошо можно знать только свой родной язык. А выучить при соответствующем упорстве можно что угодно, вплоть до телефонного справочника. — Кригер встал и без всякой видимой связи официальным тоном сказал: — Сейчас тебя накормят, и мы продолжим нашу беседу. Ты ведь голоден, не так ли? Я утвердительно кивнул, хотя есть мне абсолютно расхотелось, страшно болела голова и ломило тело, как при гриппе. После обеда, который я заставил себя проглотить, я снова встретился с Кригером. — Теперь мы обсудим с тобой вопросы связи… — Майор постучал костяшками пальцев по столу. — Слушай меня внимательно. Связь — это ахиллесова пята разведки, уязвимое место, — добавил он, думая, что я не понял, о чем идет речь. — Большинство разведчиков проваливается именно на связи. За примером не надо далеко ходить: вчера ты сам имел возможность убедиться, как нужно быть осторожным. Придется тебе послушать небольшую лекцию о том, что такое связь. За отсутствием времени я изложу тебе все это в сжатом виде. Итак, отбросив сразу радиодело, перейдем к двум видам связи, которыми мы можем воспользоваться. Первая — непосредственная связь с нашим человеком. В данном случае ты должен быть предельно осторожен; выйдя на связь в определенное время в условленном месте, убедиться, нет ли за тобой хвоста, попросту — слежки; находиться на данном месте в случае отсутствия связного не более пятнадцати минут; тщательно проверить знание пароля и отклика. Учитывая твою неопытность, я отклоняю такой вид связи, тем более что Солоницы не Берлин и не Москва, каждый чужой там на ладони. Следовательно, нам остается второй, более безопасный вид — безконтактный. В определенном месте, которое мы с тобой оговорим особо и выберем вдвоем, ты устроишь тайник: туда будешь класть свои донесения, там же ты будешь находить наши инструкции. После ознакомления с инструкциями ты обязан их немедленно уничтожить, лучше всего сжечь. На контакт с нашим человеком ты выйдешь в случае крайней необходимости. Для этого ты должен подойти к часовщику на Базарной площади. Он там один, и ты его прекрасно знаешь, не так ли? Я в знак согласия кивнул. — Опиши мне его, — приказал Кригер. — Большие усы, пожилой, шепелявит, — сказал я. — Правильно. — Кригер снова постучал костяшками пальцев по столу. — Проверишь предварительно, нет ли кого-нибудь поблизости. Скажешь ему всего три слова: “Я от племянника”. — Это все? — Все. Запомни: твой разговор с часовщиком будет означать, что ровно через час в условном месте тебя будет ждать наш человек, он подойдет к тебе сам и… — Кригер порылся в ящике и достал оттуда большие часы Кировского завода, — …и предложит купить эти часы. “За рубли или за марки?” — спросишь ты. “За марки”, — ответит этот человек. Только после этого ты можешь смело с ним говорить. Мы с Кригером подробно обсудили места для будущего тайника и встречи с агентом. Я что-то говорил, поддакивал, предлагал, но в голове упрямо таилась одна-единственная мысль: я погиб, погиб! И вместе с тем где-то в глубине сознания безрадостно, но властно вспыхивало: я жив, жив! Что для меня все они, если погаснет солнце, если я перестану чувствовать, дышать, даже мучиться? Почему-то вспомнились все обиды, заслуженно и незаслуженно нанесенные мне товарищами. Чувствуя, что с каждой минутой пропасть между мной и ими увеличивается, и для того, чтобы увеличить этот разрыв, я старался вспомнить все плохое, что было между нами. Что мне толку, если они будут жить, любить, радоваться и горевать, а меня, Олега Курдюмова, не будет на свете? Да, я эгоист. А они не эгоисты? Втянули меня, зная, чем это грозит. В школе я избегал даже драк. А тут дело пострашнее. И все это из-за Ленки Ремизовой — тоже мне, развела агитацию! Не хочу я быть героем, просто не могу. В конце концов, они, не задумываясь, пожертвовали бы мной, а почему я должен их щадить? Ради чего? Их хорошие слова в случае моей гибели мне не помогут. Да и не скажут они их, если я завалил какого-то Степанова. Кто он мне: сват, брат? “Быстро ты сдаешься, Курдюмов”, — подумал я, но тут же отогнал эту мысль: нечего кокетничать с самим собой. Главное сейчас — выжить, выжить любой ценой! Майор Кригер — умный человек, с таким не пропадешь: пока я ему нужен — я в безопасности. В общем, Кригер был прав, когда сказал, что я находился между молотом и наковальней.Листы дела 188 —189
Следователь. Какова судьба Лены Ремизовой? Князев. Ее расстреляли вместе с другими четырьмя членами штаба подпольной организации “За Родину!”. Следователь. Скажите, Князев, а почему тогда Карпов остался жив? Князев. Никак не могу понять. Может быть, и он был человеком Кригера, хотя это и маловероятно. Но даже в этом случае я боялся его. Следователь. Расскажите подробно, как вы убили Карпова. Князев. Утром семнадцатого я сходил на товарную станцию и договорился о погрузке лесоматериала. Возвращался в гостиницу вместе с экспедитором леспромхоза. Мы шли не спеша, разговаривая о делах. Я курил. Ко мне откуда-то со стороны подошел мужчина и попросил прикурить. — Пожалуйста, — почти автоматически ответил я, не прерывая разговор о делах. Я машинально отметил, что, прикурив, мужчина пристально посмотрел на меня. Не дождавшись положенного “спасибо”, я отряхнул с конца сигареты пепел, и мы направились дальше. Я сделал шаг, второй и, чувствуя на спине чужой взгляд, повернулся. Мужчина, стоя на месте, не спускал с меня глаз. — Курдюмов, — окликнул он меня. “Карпов, его голос!.. — Я почувствовал, как ноги приросли к тротуару, внутри что-то оборвалось. — Что за наваждение, — лихорадочно подумал я, — а может быть, это вовсе не он? Как он может очутиться в Зеленогорске?” — Олег! — еще раз как током ударило меня. — Вы ошибаетесь, Леонид Николаевич, — поправил его мой спутник. — Это не Курдюмов, а наш заготовитель Князев из Элисты. — Извините, — неуверенно сказал Карпов. — Кто это? — спросил я у экспедитора. — Наш учитель географии Леонид Николаевич Карпов, — объяснил он. — Известный человек, после войны к нам приехал. Партизан, о нем в газетах писали и даже по телевидению передача была. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Карпов живет за городом, на территориилеспромхоза. Много раз по ночам мне представлялась сцена ареста, много раз мерещилось, что за мной следят, много раз слышалась фраза: “Гражданин Князев, пройдемте”. Но никогда я не думал, что встречу человека с того света. Язык прилип у меня к нёбу. Невероятным усилием воли заставил себя не кинуться со всех ног в ближайшую подворотню. Прежним размеренным шагом мы продолжали свой путь, а я старался спокойно отвечать на вопросы экспедитора, лихорадочно обдумывая создавшееся положение. То, что Карпов узнал меня, не вызывало никаких сомнений. А может быть, и мне лучше было бы “узнать” его, разыграть радостную встречу, наврать с три короба. Нет, это не годится. Он знает Олега Курдюмова и теперь знает, что я — Князев из Элисты. Начнут копать, что к чему, докопаются до Дикса. Я чувствовал, как пульсирует у меня кровь в висках. “Теперь погиб! Погиб!” — владела мной единственная мысль. Идет он за мной или нет? Вот когда мне пригодились уроки, полученные в разведшколе. Заметив на другой стороне улицы зеркальную витрину, я предложил перейти через дорогу. Карпов меня не преследовал. Я подошел к афишной тумбе и, делая вид, что рассматриваю афишу, оглядел улицу. Карпов шел в противоположную сторону, метрах в тридцати от меня, по направлению к школе. Экспедитор попрощался и ушел, а я стоял у афиши и думал: “Почему Карпов остался жив? Может, он был завербован, и я просто об этом ничего не знал. Нет, это исключено, слишком хорошо я знал боевую биографию Карпова. Он наверняка сообщит в КГБ о нашей встрече. Тогда все пропало. Сейчас главное — убрать этого неожиданно ожившего свидетеля”. Занятия в школе должны вот-вот закончиться, и Карпов, скорее всего, пойдет домой. Пустынная дорога, которая вела к его дому и в леспромхоз, мне знакома. Я поспешил на шоссе. Если встреча не состоится, надо будет тут же бежать, не заходя в город, замести следы. Минуты, что я провел в лесу возле шоссе, поджидая Карпова, показались мне самыми длинными в жизни. Наконец вдалеке на пустынном шоссе показалась одинокая фигура — Карпов! Вы можете не поверить, но я лично никогда никого не убивал. И вот теперь я вынужден был это сделать. Во мне не было ни страха, ни сожаления, мной владела только одна мысль: не встретиться с ним лицом к лицу, не увидеть его глаза. За поворотом, невдалеке на обочине, я заметил стоявшую без шофера грузовую машину. Решение принял сразу: юркнул за радиатор, присел на корточки и стал наблюдать за приближением Карпова. И только теперь в моей голове пронеслось: нужен какой-нибудь тяжелый предмет. Сначала я хотел незаметно открыть дверь машины и достать разводной ключ или заводную ручку, которые обычно шоферы возят под сиденьем, но у самого кювета заметил булыжник. Я быстро подобрал его. Он был увесист, но велик по размеру, и держать его в руках было неудобно. Я снял шапку и положил в нее булыжник. Получилось нечто вроде кистеня. Карпов был уже близко. Вот он поравнялся с машиной, прошел мимо борта, потом радиатора, сделал шаг вперед, и это был последний шаг в его жизни. Я ударил раз, затем другой в висок, Карпов глухо вскрикнул и навзничь упал па шоссе. Впопыхах я не заметил, как с меня слетели очки, и только треск стекла, на которое я наступил, вернул меня к действительности. Я торопливо подобрал сломанную оправу и осколки стекла и сунул их в карман. И тут мне пришла в голову блестящая идея: надо инсценировать наезд. Я вскочил в машину, включил зажигание, выжал сцепление и дал газ. Машина, грузно перевалившись через труп Карпова, рванулась по шоссе. Отъехав на некоторое расстояние, я выключил мотор и, выйдя из машины, оглянулся. Без очков я видел очень плохо, но не настолько, чтобы не заметить, что шоссе по-прежнему пусто. Я быстро зашагал в сторону леспромхоза. Когда вернулся в гостиницу, первой моей мыслью было скорее бежать из Зеленогорска. Я метался по номеру, как зверь в клетке. Выпив залпом стакан воды, я немного успокоился и пришел в себя. Собственно говоря, почему я должен бежать? Кто узнает, что Карпова убил я? Наоборот, если я поспешно уеду, могут возникнуть подозрения: почему человек ни с того ни с сего сорвался и уехал? Нет, надо остаться в городе. А когда в газете появилась статья о шофере-убийце, я и совсем успокоился.Листы дела 212 —223
Следователь. Почему вы молчали на первых допросах? Князев. А что я мог сказать? Признать одно — значит, надо признать и другое. Кто бы мне поверил, что я не предатель. Трус? Может быть, но за это не судят, а я прекрасно понимал, что мне грозит за измену Родине. А убийство? Что ж, Лазарев неопровержимо доказал, что я убийца. На первом же допросе он буквально припер меня к стенке. Но важны мотивы. Следствие было бессильно что-либо доказать. Вот я и решил: пусть мои действия расценят как поступок душевнобольного. Уж лучше провести остаток жизни среди психов. Эта идея созрела давно. Опасаясь ареста, я разработал целую систему, как вести себя в таких обстоятельствах. Я решил при аресте симулировать и даже прочел специальные книги по судебной психиатрии. Придерживаясь избранного мною метода, на все вопросы следователя я отвечал полным и упорным молчанием и ожидал только одного, чтобы меня скорее направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Следователь. Тогда почему вы решили дать показания прокурору Рудову? Князев. Вы, наверное, считаете меня военным преступником? А я скорее жертва собственной нерешительности, трусости, чего хотите. Мелкая рыбешка, запутавшаяся в сетях. А вот крупные щуки устроились получше. Дело в том, что прокурор Рудов мой старый знакомый, обер-лейтенант абвера Герман Рюге. Следователь. Какую роль обер-лейтенант Герман Рюге сыграл в вашей жизни? Князев. Как-то меня вызвал Кригер… — Ты теперь не Олег и не Курдюмов, — сказал он, — ты теперь Князев Константин Гордеевич, запомни это твердо. Заодно запомни свою кличку — Дикс. Я долго думал о твоей дальнейшей судьбе, — продолжал Кригер, — и принял кое-какие решения. Как ты, наверное, догадываешься, в Солоницах тебе появляться нельзя. Использовать тебя здесь тоже не могу. Не имея связей, в местном подполье ты совершенно бесполезен и только зря будешь есть хлеб. А зря есть хлеб — большой грех. Как это у вас говорят: кто не работает, тот не ест. Это, пожалуй, единственное, в чем я схожусь с коммунистами. Скажу тебе честно, я бы не стал с тобой возиться, если бы ты мне не понравился. Чувствуется, что ты человек грамотный, трезво оценивающий обстановку, с отличным нюхом, необходимым настоящему разведчику. Все эти качества, на мой взгляд, необходимы настоящему разведчику. Работа разведчика — дело тонкое. Но без соответствующей подготовки не может работать ни один разведчик. Дилетантизм в нашей профессии смертелен. Поэтому тебе придется кое-чему поучиться. — Но я вовсе не собираюсь стать разведчиком. Кригер нахмурился: — Я не спрашиваю тебя о согласии. Это приказ. Запомни: от нас не уходят. Твоя судьба до конца жизни связана с гестапо, где бы ты ни служил и что бы ты ни делал, а то будешь лежать там, где лежат твои бывшие друзья. Ты теперь наш человек. Несколько дней назад к нам прибыл представитель абвера обер-лейтенант Герман Рюге, он с нашей помощью отбирает кандидатов для одного учебного учреждения… — Кригер усмехнулся. — Вот я тебя с ним и познакомлю. Кстати, обер-лейтенанту Рюге вовсе не обязательно знать, что ты наш агент. Просто ты изъявил желание работать с немецким командованием. Мы тебя проверили, и ты оказался благонадежным. Тебе все ясно? — Да, господин майор. — Ты становишься военным человеком и учись отвечать по-военному: “так точно, господин майор”! — Так точно, господин майор! — послушно повторил я. — В этом учебном заведении от нас будешь не только ты. Сейчас я тебе скажу пароль и отклик. “Ты очень похож на моего двоюродного брата”. — “А как зовут твоего брата?” — “Сергей”. Человеку, сказавшему тебе пароль, ты должен беспрекословно подчиняться. Ясно? — Так точно, господин майор. — Ты делаешь успехи. Вопросы будут? — Что я все-таки там буду делать? — Учиться, хорошо и прилежно учиться. И учти, что если в своей школе за плохой ответ на экзаменах тебе могли поставить двойку, то здесь вместо двойки будет пуля. Вечером ты получишь от меня более подробные инструкции, а сейчас пошли. — Кригер мельком взглянул на часы. — Через пять минут встреча с обер-лейтенантом Рюге. Постарайся ему понравиться. Запомни: это для тебя первый экзамен. Обер-лейтенант абвера Герман Рюге, как и Кригер, прекрасно владел русским языком, так что разговор со мной он вел без переводчика. Собственно, особого разговора между нами не было. Обер-лейтенант записал мои анкетные данные (я назвался Князевым), подробно расспросил о членах семьи, поинтересовался, почему я желаю сотрудничать с немецким командованием. Если биографию я рассказал без запинки, то на последний вопрос я, как сейчас помню, ответил маловразумительно. Я и сам толком не знал, почему мне хочется сотрудничать с немецким командованием, а точнее, с военной разведкой. На мое невнятное бормотание об идеях национал-социализма и обидах, нанесенных мне Советской властью (которые я придумал на ходу), Рюге только иронически кривил губы. К своему удивлению, вечером я узнал у майора Кригера, что произвел на обер-лейтенанта приятное впечатление, но я до сих пор убежден, что решающую роль в моем зачислении в разведывательную школу сыграла рекомендация Кригера. В последнюю нашу встречу майор дал мне подробные инструкции на период пребывания в разведшколе. В мои обязанности входила слежка за товарищами по группе, провокационные разговоры, выяснение настроений. Обо всем этом я должен был со временем доложить человеку, сказавшему мне соответствующий пароль. На прощание Кригер пожал мне руку и прочувственно сказал: — С богом, мой мальчик, никогда не забывай, что твоим крестным был я, а это что-нибудь да значит. Думаю, мы еще с тобой поработаем. На другой день я и еще один будущий курсант в сопровождении фельдфебеля выехали в Германию. Своего будущего соученика Игната Поночевного я невзлюбил с первого взгляда. Высокий, широкоплечий, с тупым лицом, усеянным прыщами, он оказался ярым националистом и принципиально обращался ко мне только по-украински. Не стесняясь, даже с удовольствием, рассказывал он о грабежах и насилиях, в которых принимал участие, лебезил перед фельдфебелем, на каждый его вопрос отвечал по-немецки, коверкая язык немилосердно. “Вот уж кто добровольно выразил желание сотрудничать, холуй чертов”, — подумал я со злостью и твердо решил при первой возможности написать на него донос. Я знал, что немцы не очень-то поддерживали любой национализм, кроме своего собственного, и им самостийная Украина была не нужна. Всю дорогу мы дули самогонку, которую Игнат, как фокусник, доставал из своего необъятного чемодана. Чтобы не показаться жадным, я купил на марки, полученные от Кригера, две бутылки румынского рома и угостил фельдфебеля. — Гут, — одобрил он и высосал весь ром сам, не дав Игнату ни капли. Без особых приключений на четвертый день мы добрались до цели нашего путешествия — Шварцвальда, небольшого местечка, расположенного под Гамбургом. Поздней ночью грузовик доставил туда меня и Игната, и фельдфебель сдал нас под расписку дежурному. Хотя мы очень устали, очень хотели спать, нас постригли наголо и погнали на санобработку. Я никак не мог отрегулировать душ и попеременно то отпрыгивал от струи кипятка, то вздрагивал от ледяного холода, стоя на щербатом асфальтовом полу. “Кто же я? Олег Курдюмов, Константин Князев или Дикс?” — с тоской думал я. После этого малоприятного купания заспанный солдат в белом несвежем фартуке, надетом поверх мундира, побрызгал нас какой-то вонючей жидкостью и, хлопнув со всей силы Игната по жирной спине, заржал, показывая длинные желтые зубы. Игнат скривился от боли, но тоже захихикал, чтобы не обидеть шутника. Солдат не торопясь зашагал в каптерку, а Игнат, у которого от обиды дрожали губы, забыл о своем национализме, сказал мне по-русски: — Вот гад! Меня даже батька так не лупцевал. Я промолчал, хотя ответ вертелся у меня на языке. Вскоре солдат вернулся и принес нам белье, потрепанную форму и низкие немецкие сапоги. За каждую вещь пришлось отдельно расписываться, и только после этого он вывел нас на крыльцо и жестами объяснил, как пройти к бараку. Ежась от холода, мы перебежали двор, обнесенный высоким забором с колючей проволокой. На этом наши мучения не кончились. Дежурный отослал нас в административный корпус, где нам сделали прививки, затем погонял нас с час, чтобы мы научились представляться по форме, и только после этого указал койки. Мне показалось, что я только что заснул, как прозвенел резкий звонок. — Подъем! — протяжно крикнул кто-то над самым ухом. Я вскочил с койки и ошалело захлопал глазами, не соображая со сна, где нахожусь. — Пять минут оправиться! — раздалась новая команда. Я топтался на месте, не зная, что делать. — Новенький, что ли? — торопливо спросил меня сосед по койке, невысокий голубоглазый крепыш, и, не дождавшись ответа, так же торопливо сказал: — Дуй за мной. — Куда? — В умывалку, через пять минут построение, потом заправка коек. Ну рысью, кто быстрей! Я побежал за ним. День в этой школе был расписан поминутно. И с подъема, в шесть ноль-ноль, до отбоя в одиннадцать вечера был так плотно забит, что не оставалось ни единой свободной минуты. Изучали радиодело, системы оружия, ориентацию на местности, уставы Советской Армии, способы тайнописи, шифровки, учились подделывать всевозможные документы (от паспорта до справки об инвалидности), незаметно фотографировать военные объекты и прочее и прочее. Унтер-офицер Бюргер, человек с перебитым носом и длинными, как у гориллы, руками, преподавал нам пауку о том, как без оружия можно убить человека. Меня за мою неповоротливость он возненавидел лютой ненавистью, и столько приседаний и заячьих прыжков, сколько пришлось мне сделать в наказание на его занятиях, наверняка не сделал ни один спортсмен, готовящийся к первенству мира по бегу. Вскоре в школе появился обер-лейтенант Рюге. Какую должность он занимал, я до сих пор не знаю. Но помню, что он приходил на наши уроки, задавал вопросы и, если наши ответы не удовлетворяли его, распекал по-немецки педагогов. А те стояли вытянувшись и покорно слушали. Предполагаю, что Рюге был большой чин. Состав курсантов в школе был пестрый, в возрасте от восемнадцати до тридцати лет. Были здесь и власовцы, и украинские националисты, люди, ненавидевшие Советскую власть и просто запуганные и растерявшиеся, не вынесшие ужасов лагерного режима, те, кому даже адские порядки нашей школы казались санаторием. Но точно узнать, кто есть кто, было почти невозможно. Несмотря на разницу в возрасте и образовании, народ подобрался опытный. Каждый опасался сказать лишнее слово, довериться другому, каждый видел в соседе врага. Первые месяцы сорок третьего года ознаменовались массовыми налетами английской авиации на Гамбург. По ночам было видно, как на горизонте пылало багровое зарево далеких пожаров. Наши педагоги ходили хмурые и подавленные, у некоторых из них в Гамбурге были семьи. В одну из таких ночей английские самолеты, отогнанные от Гамбурга огнем зенитной артиллерии, сбросили бомбовый груз на Шварцвальд. Это небольшое местечко, в котором не было ни одного крупного предприятия, не имело никакого прикрытия, кроме двух батарей 85-миллиметровых зенитных орудий. Англичане в несколько заходов буквально сровняли его с землей. Досталось и нашей школе: тяжелая фугасная бомба до основания разворотила административный корпус. Прямым попаданием был уничтожен мой барак, под обломками которого погиб поклонник Симона Петлюры — Игнат Поночевный. Я спасся только потому, что в этот вечер был в наряде на кухне. Смертельно перепуганный и оглушенный, я не сразу почувствовал, что ранен. Крошечный осколок, не больше горошины, попал мне в коленный сустав левой ноги. После отбоя, когда радио сообщило, что самолетов противника в воздушных пределах третьего рейха нет, нас, тяжело и легко раненных, повезли в госпиталь. Операцию мне сделали наспех, и после того, как рана зажила, выяснилось, что сделали ее неудачно. Еще многие годы я сильно прихрамывал на раненую ногу, да и сейчас после долгой ходьбы я начинаю на нее припадать. Военно-медицинская комиссия признала меня негодным к строевой службе, и я был направлен на военный завод, где работали иностранцы, вывезенные в Германию со всей Европы. Я получил задание выявить участников группы Сопротивления, действующей на заводе. Организация Сопротивления, в которую мне удалось проникнуть, работала в цехе, где делали корпуса к авиабомбам. В нее входили поляки, французы и русские… Руководил ею бывший капитан Советской Армии, который выдавал себя за рядового. Но я никого не выдал. Работа уборщиком действительно давала мне возможность свободно передвигаться по территории, заводить новые знакомства, прислушиваться к разговорам, вести провокационные беседы, за что я получал усиленный паек, состоящий из двух кусков хлеба, намазанных маргарином, банки мясных консервов и полфунта искусственного меда. Заметив, что я повадился часто ходить к нему, агент гестапо стал кормить меня только в том случае, если я приносил действительно ценные сведения. И я старался… нес всякую околесицу и ни слова не говорил о главном. В 1944 году усилились воздушные налеты. Почти ни одна ночь не проходила спокойно. Выли сирены, грохотали зенитки. Гулко ахали разрывы тяжелых авиабомб. Во время налетов рабочих не выводили в бомбоубежище, и они метались, запертые в бараках, забивались под нары. На меня во время бомбежки находило одеревенение, я был не в силах пошевелить пальцем; вынужденный сидеть вместе со всеми, я только судорожно переводил дыхание и, хотя никогда не был верующим, молил бога сохранить мне жизнь. Несуществующий бог, как видно, внял моим просьбам — я выжил, пройдя сквозь этот ад. Войска Советской Армии подходили всё ближе и ближе. И однажды на рассвете канонада русской артиллерии прокатилась над городом. На заводе началась паника, ни о какой планомерной эвакуации не было и речи. А к вечеру город был занят войсками Советской Армии. Рабочие плакали, целовались, обнимали друг друга. Я тоже ликовал вместе с ними, хотя на душе скребли кошки. Целую ночь мы с песнями и национальными флагами, раздобытыми невесть откуда, ходили по улицам освобожденного города. Немцев почти не было видно, из многих окон свешивались в знак капитуляции флаги из простыней. Солдат и офицеров Советской Армии, показавшихся нам навстречу, обнимали и качали, высоко подбрасывая в воздух. Рано утром молоденький капитан, приехавший на завод, попросил граждан Советского Союза отойти в сторону. Многие знали, что я русский, и поэтому мне ничего не оставалось, как присоединиться к ликующей толпе моих соотечественников. Нас накормили и отправили во временный лагерь для проверки. Я назвался Князевым Константином Гордеевичем, красноармейцем, попавшим в плен в 1942 году. Легенда была разработана майором Кригером, и я знал ее назубок. Подлинного Князева давным-давно не существовало на свете, все его родственники погибли во время оккупации, так что опасаться мне было нечего. Многие, попав в плен, назывались другим именем и другой фамилией, так что назваться можно было кем угодно. В лагере для репатриированных все шло гладко. Проверяли нас не особенно тщательно: на это просто, видимо, не хватало ни людей, ни времени. После того, как я прошел медицинскую комиссию, мне из-за ранения и усилившейся за это время дальнозоркости дали “белый” билет и проездные документы. Так я попал обратно на родину. День Победы я встречал в казахском городе Кокчетаве. Я знал, что такие, как я, считаются государственными преступниками. И страх неминуемой расплаты не давал мне долго засиживаться на одном месте, не давал обзавестись семьей и друзьями. Мне постоянно чудилось, что за мной следят, что меня разоблачили, и я срывался с насиженного места и мчался сломя голову, заметая следы, в какой-нибудь медвежий угол. Порой мне казалось, что страхи мои лишены оснований; я успокаивался, но ненадолго — через некоторое время все начиналось сначала. Шли годы, война забывалась, молодежи она казалась чем-то отдаленным, как нам нашествие Наполеона. Но во мне война продолжала жить. Испытывал ли я раскаяние? Да, но вместе с тем тут же оправдывал себя, приводил тысячи спасительных доводов и, что самое главное, точно знал, что расплатился за все сделанное мною гораздо большей ценою чем смерть. За прошлое всегда приходится платить. Грехи наши всплывают, словно утопленники, и, как правило, в самый неожиданный и неподходящий момент. Ну, разве я мог когда-нибудь предположить, что в каком-то Зеленогорске нос к носу столкнусь с Леонидом Карповым, а буквально через несколько дней с обер-лейтенантом Рюге. И если я считал первую встречу убийственной, то вторая, как мне казалось, была послана самим богом во спасение…СЛОВО ПРОКУРОРУ
У Якова Тимофеевича Рудова внимательные и спокойные глаза. Виски густо запорошены сединой. Лицо усталое. Говорит он неторопливо, веско, тщательно подбирая слова. — Скажите, Яков Тимофеевич, как вы стали прокурором? — задаю я ему свой первый вопрос. Рудов какое-то время медлит с ответом, видимо, он ждал, что я спрошу о другом. Потом сухо, как бы нехотя начинает свой рассказ. — После войны, в 1946 году, поступил в заочный юридический институт. После окончания пять лет проработал следователем, потом три года помощником прокурора, а с 1959 года стал прокурором. Последние десять лет работал в соседнем районе. — Давно вы приехал в Зеленогорск? — Скоро будет четыре месяца. — Была ли для вас неожиданностью встреча с Князевым? — Не скрою, этого я ожидал меньше всего. — Что вам сказал Князев, когда вы остались вдвоем? — Когда Лазарев вышел из кабинета и закрыл за собой дверь, Князев, еще раз внимательно посмотрев на меня, неожиданно заговорил: — Нас здесь никто не подслушивает? — Разумеется, — ответил я, не подозревая, к чему он клонит. Князев облегченно вздохнул и, глядя мне прямо в глаза, тихо сказал: — Тогда здравствуйте, господни обер-лейтенант. Я вздрогнул и чуть не выронил сигарету. Кто этот человек? Откуда он знает о моем прошлом? — Чего же вы молчите, господин Рюге? — Князев усмехнулся. — Вы не ошиблись? — невольно вырвалось у меня. — О нет. Вы, конечно, изменились за эти годы. Но, несмотря на это, я вас узнал. У меня прекрасная память. Вспомните майора Кригера, Солоницы, наконец, Шварцвальд… Вам это о чем-нибудь говорит? — Кто вы? — Это не так уже важно. — Слушайте, Князев, если вы уж вспомнили майора Кригера, то, как он любил говорить, карты на стол. — А вы неплохо устроились, — вместо ответа нагло посмотрел на меня Князев, — крыша что надо. Работаете на новых хозяев или по-прежнему верны абверу? “Он не знает, что я был в СС, — отметил я про себя. — Кто же он: кто-нибудь из военнопленных, видевший меня в концлагерях во время вербовки, или один из моих бывших подопечных. Откуда он знает Кригера? Если он знает Кригера, то наверняка был связан с гестапо. Самое главное сейчас — найти правильный ключ в разговоре с ним”. — Послушайте, Князев, втемную у вас со мной не пройдет. Или вы немедленно скажете, кто вы и что вам от меня нужно, или я сейчас же вызову конвой и вас отправят туда, откуда привели. — Вы этого не сделаете, — спокойно ответил Князев. — Иначе вам будет крышка, господин обер-лейтенант. — Вы мне, кажется, угрожаете? Что вы можете мне сделать? Заложите? Но вам придется признать, что вы были тайным агентом гестапо. Я увидел, как у Князева дрогнуло лицо. Значит, я угадал: он действительно человек Кригера. — Доказать это будет просто, — сказал я, глядя в упор на Князева. — У вас в свое время брали отпечатки пальцев. Архивы сохранились. Итак, повторяю в последний раз: что вы от меня хотите? — Я Курдюмов, Олег Курдюмов. Вам это ничего не говорит? Мне это имя действительно ничего не говорило, и я отрицательно покачал головой. — Тогда я Дикс! — Дикс! — невольно вырвалось у меня, словно я услышал голос Кригера: “У меня в детстве был чудный терьер по кличке Дикс…” Теперь я вспомнил все — и как Кригер настойчиво предлагал взять в разведшколу абвера какого-то хилого паренька… Ну конечно, его фамилия была Князев. Но если мне не изменяет память, он потом куда-то исчез. Кригер так и не раскрыл мне тогда своего агента. Впрочем, почему я удивляюсь? Кригер — отличный разведчик: он всегда работал с пятикратной подстраховкой. У него были агенты, о которых знал только он, и никто больше. — Ну что же, вспомнили, обер-лейтенант? — Теперь, кажется, вспомнил, — сказал я и протянул Князеву руку. — Так вот вы какой… Князев с жаром пожал протянутую руку и сказал: — Господин обер-лейтенант, спасите меня, готов сделать все, что угодно. Придумайте что-нибудь чтобы меня отпустили или замяли дело. — Во-первых, Князев, — подчеркнуто произнеся его фамилию, сказал я, — здесь нет никаких обер-лейтенантов, а во-вторых, как вы, собственно говоря, представляете свое освобождение? — Возьмите того шофера. — Это не так просто, вы наделали массу глупостей, Князев. Оставили улики. Придумали эту идиотскую молчанку. Просто не знаю, что делать. Кстати, за что вы ухлопали этого, как его… — Я замолчал, не закончив фразу. — Карпова, — услужливо подсказал Князев; теперь он совершенно переменился и, как говорится, ел глазами начальство. — Вот именно, Карпова. — А что оставалось делать? Этот покойничек узнал меня. — Хорошо, Князев, я постараюсь вам помочь. Но предупреждаю, что за это потребую, ну, скажем, небольшую услугу. — Все, что угодно… — Князев молитвенно сложил на груди руки. — Сейчас вас уведут, а вечером вы будете свободны. Я предложу следователю вынести постановление о вашем освобождении. — А он согласится? — с тревогой спросил Князев. — Это моя забота. Все будет хорошо. — Ну, дай-то бог! — вздохнул Князев. — Теперь слушайте, — приказал я. — Завтра в двадцать тридцать встречаемся в кафе “Георгин”. И не приводите “хвост”. Если заметите слежку, возвращайтесь в гостиницу. О месте следующей встречи сообщу дополнительно. — Двадцать тридцать в кафе “Георгин”, — повторил Князев. — Кстати, не думайте скрыться из города. Я вас найду, можете не сомневаться. Донести на меня вы не осмелитесь и отсидите за убийство как миленький, ясно? — Куда ясней. Я вызвал конвой. Князева увели. — Когда и при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Князевым? — Зимой 1943 года. Я приехал в один из крупных лагерей для военнопленных. В мою задачу входил отбор кандидатов для разведшколы. С Князевым я познакомился через майора СС Кригера. Было у меня еще одно задание, о котором Кригер не знал, — меня интересовали Солоницы. — Если не секрет, чем они вас интересовали? — Теперь это уже не секрет. Как вы знаете, 1943 год был решающим в ходе второй мировой войны. В конце ноября Красная Армия перешла в наступление под Сталинградом, и через три дня группировка войск в составе двадцати двух дивизий под командованием Паулюса попала в окружение. Начальник генштаба Цейтлер предложил фюреру ряд конкретных и эффективных мер по выводу из котла шестой армии. Но фюрер отклонил предложение Цейтлера. Канарис через своих верных агентов в Англии получил точные сведения, что Черчилль, несмотря на многочисленные заверения союзников об открытии второго фронта, не намерен в 1943 году реализовать свои обещания. При таком положении вещей высвобождались огромные воинские силы на западе. Гитлер принял решение о переброске целых дивизий на восток в группу войск “Дон”, которой командовал фельдмаршал фон Манштейн. Как раз там на него и возлагалась ответственная задача прорвать кольцо окружения армии Паулюса. Рейхс-министр Геринг заверил фюрера, что до подхода войск Манштейна будет создан воздушный мост, который поддержит боеспособность шестой армии. Вот в это время тихий, никому не известный городок Солоницы и попал в поле зрения разведки. Ведь именно через него шли на восток эшелоны с боевой техникой и живой силой. Мимо этих самых Солониц проезжали те, кто бомбил Мадрид, маршировал по покоренному Парижу, Праге, Афинам. Так я оказался в Солоницах… — Там вы и познакомились с Князевым? — Нет. Я познакомился с Князевым не в Солоницах, а в областном центре, в помещении гестапо, которое находилось на площади Труда. — Какое впечатление произвел на вас Князев? — Я знал, что Кригер любит подсовывать в нашу школу людей со своей начинкой, это был не первый случай. Князев не вызвал у меня никаких особых эмоций. Обычный осведомитель гестапо, и не больше. — Скажите, пожалуйста, а вы встречались с Князевым уже здесь, в Зеленогорске, после его освобождения из-под стражи? — Да, в назначенный срок, в кафе “Георгин”. — О чем вы говорили? — Говорил, собственно, он. В эти минуты я казался ему единственной опорой. Он был глубоко убежден, что я работаю на новых хозяев и, кажется, был не против войти с ними в контакт. Наконец, он смог за столько лет впервые говорить откровенно. Расставаясь, мы договорились о новой встрече. — Она состоялась? — Нет, на следующее утро меня вызвали к прокурору области. На свидание с Князевым пошел другой человек. Я понимаю, что нарушаю правила интервью, но мне очень хочется узнать, как вы относитесь к показаниям Князева? — спросил меня Рудов. — По-моему, они правдивы и напоминают исповедь человека, осознавшего свою вину, — сказал я, честно говоря не очень подумав над содержанием своего ответа. — Ну что же, если он и сказал правду, то, пожалуй, только в том месте, где утверждает, что давно утратил свойство видеть различие между правдой и ложью. — Почему вы так думаете? Не отвечая на мой вопрос, Рудов достал из письменного стола бобину с магнитофонной пленкой: — Хотите послушать, что рассказал о себе Князев обер-лейтенанту абвера Герману Рюге в тот вечер в кафе “Георгин”? Не дожидаясь моего ответа, Рудов заправил в магнитофон ленту и нажал кнопку. В динамике что-то щелкнуло, а потом я услышал голос Рудова, а затем Князева: “Я не требую от вас исповеди о ваших переживаниях. Мне нужны факты и только факты. Говорите все, начиная со знакомства с Кригером, не пропуская ничего. Мы должны знать все о вашей службе”. “Хорошо, я расскажу все. У вас еще есть время?” “Сколько угодно”. “Ну, тогда не обессудьте, если буду сбиваться, как вы изволили выразиться, на лирику. Я столько лет молчал и носил в себе все события этих лет, что вы просто не представляете, как я рад впервые за эти годы быть откровенным. Молчание — очень тяжелая штука, господин обер-лейтенант… товарищ Рудов или товарищ прокурор? Как вам удобнее?” “Называйте, как вам больше нравится. Однако вы много пьете, а спьяну человек говорит лишнее, и в нашем деле это не годится, так что пейте меньше”. “О, пусть вас это не волнует. Я пью редко и, как правило, не пьянею. Итак, по порядку? Ну что ж, слушайте. Мое возвращение в Солоницы прошло гладко. Товарищи приняли историю с фельджандармерией за чистую монету и даже посочувствовали мне. Погоревали о дяде Ефреме. Случайно я узнал от Карпова, что на самом деле дядя Ефрем был экономистом и настоящая его фамилия Скрыпник. Видимо, я все же сильно простудился в подвалах гестапо и дня четыре не выходил на улицу. Странно, глядя на ребят, навещавших меня, я не чувствовал раскаяния. Наоборот, где-то в глубине души поднималось злорадное чувство, ощущение моего могущества, моей власти над их жизнями. В условленный срок я отнес в тайник свое первое донесение и через день вынул оттуда инструкцию. В инструкции было всего несколько слов. “Не спеши, работай в основном направлении”. Я тут же сжег ее. Шли дни — ничего не менялось, я аккуратно писал донесения и получал инструкции. Крупной акцией подпольщиков за это время был подрыв бензохранилища, о котором я не смог сообщить Кригеру, хотя и принимал в этой операции непосредственное участие. Случилось это так. Решение взорвать бензохранилище было принято боевой группой неожиданно. Я узнал о ней буквально за полчаса до начала. Отказаться я не посмел. Вся моя роль заключалась в том, чтобы стоять на страже. За то, что я не предупредил майора вовремя, я получил разнос в следующей инструкции. В донесении я сообщил о тех, кто принимал участие в подрыве бензохранилища. Но это самое главное: наконец я проник в боевую группу и был немало удивлен, узнав, что ею командует Ленька Карпов. Парень, которого я знал еще в школе, — человек тихий и даже застенчивый. Мало-помалу я узнавал планы организации и, где обходными путями, где прямо, выявлял е участников. На связь с часовщиком я выходил всего лишь раз, когда готовился поджог паровозного депо. Подпольщики были встречены неожиданными заслонами и потеряли в этой операции одного человека. Но, как я ни старался, мне так и не удалось выявить группу, работающую на железной дороге. Помог случай. Убитого подпольщика опознали, и руководство организации, опасаясь, что будут аресты среди родных убитого, отправило их в лес к партизанам. Ушел в лес и связник, державший связь с группой на железной дороге. На его место назначили меня. После участия в ликвидации группы, взорвавшей бензохранилище, мои акции в глазах Кригера сильно поднялись. Теперь по его заданию мне оставалось выяснить, кто непосредственно поддерживает связь с партизанским отрядом. Удалось в конце концов и это. А в последних числах октября начались повальные аресты. Об этом стоит рассказать подробнее. К тому времени штаб организации “За Родину!” установил прочную связь с подпольщиками, с подпольным обкомом партии, временно потерянную после провала группы дяди Ефрема. Из-за срыва последних операций, а особенно из-за неудач на железной дороге, в подпольном обкоме пришли к выводу, что в ряды организации “За Родину!” сумел проникнуть провокатор. Тут Кригер ошибся: мы, конечно, были зелеными мальчишками, но в подпольном обкоме партии, который непосредственно руководил нами, нашлись достаточно опытные люди, видимо чекисты, оставленные на работе в тылу врага, и старые большевики, прошедшие школу подпольной борьбы еще до революции и в годы гражданской войны. Они-то как раз прекрасно понимали, что к чему. В их лице Кригер нашел достойных противников и, кроме завала группы дяди Ефрема, происшедшего, как я потом выяснил, случайно, майор не добился в борьбе с подпольным обкомом каких-либо ощутимых побед. Моя перевербовка и раскрытие организации “За Родину!” являлась для Кригера невероятной профессиональной удачей, пожалуй самой крупной удачей за всю его карьеру. Поэтому все контакты со мной майор сохранял в величайшей тайне, в которую не посвящал даже самых близких своих сотрудников. Он прекрасно понимал силу чекистов и, будучи человеком неглупым, не мог относиться к ним легкомысленно. Как это ни парадоксально, но одним из первых, кто узнал в нашей организации о предполагаемом провокаторе, был я. Случилось это так. В Солоницах были введены ночные пропуска. Я уже говорил, что в городской магистратуре работал наш человек — старший брат Лены Ремизовой, Сергей. Сергей был старше нас всех, ему исполнилось двадцать пять лет. Из-за костного туберкулеза, перенесенного в детстве, в армию его не призывали. Он прилично знал немецкий язык, и поэтому подпольная организация, в которую он вступил одним из первых, направила его на работу в магистратуру. Для оккупационных властей Сергей был вполне подходящей кандидатурой — его отец был в тридцатых годах репрессирован. В тот день я пришел к Ремизовым, чтобы договориться с Сергеем о выдаче мне нового ночного пропуска. Лена сказала, что Сергей должен быть дома с минуты на минуту, и решила напоить меня чаем. Пока она ставила чайник на “буржуйку”, я болтал о каких-то пустяках. — Ты знаешь, Олег… — Лена осеклась. — Ладно, ничего… — Вечно у тебя какие-то секреты. — А, — махнула рукой Лена, — все равно скоро об этом узнаешь, и, кроме того, ты человек проверенный, только прошу: больше никому не говори. — Да что, в конце концов, случилось? — чувствуя, что Лена хочет сказать что-то важное, спросил я. — Мы скоро все уйдем к партизанам в лес. Представляешь, как здорово взять в руки настоящий автомат и гнать эту мерзость с нашей земли! — Глаза у девушки засверкали. То, что она мне сказала, являлось полной неожиданностью. — Что за странный приказ? — Ты понимаешь, в обкоме убеждены, что в нашу организацию сумел проникнуть провокатор. — Что за бред? — еле выдавил я из себя. — Я тоже так считаю, — спокойно сказала Лена, не замечая моего волнения, — но с другой стороны, провал в депо, гибель товарищей… Если провокатор существует, то ему должно быть многое известно… Я почувствовал прилив какого-то истерического возбуждения. — Да такого подлеца убить мало! — выкрикивал я, размахивая руками. Я еще что-то много и горячо говорил и даже грубо выругался. Лена спокойно налила чай и, придвинув мне чашку, строго сказала: — Успокойся, Олег: если он существует, от нас не уйдет. А вот ругаться не надо. Я понимаю тебя. Но все же не надо. — Прости, — смущенно проговорил я. Нет, Ремизова не понимала меня, наивно принимая игру за искреннее возмущение. “Не уйдет! — стучало у меня в голове. — Не уйдет!” Я вспомнил синюю рожу повешенного полицая. Прямо скажу: мне не хотелось болтаться на суку. И я твердо решил: уж если кто и не уйдет, так это ни один из них. Надо немедленно встретиться с человеком Кригера и все ему рассказать. Я чуть было тут же не побежал к часовщику, по вовремя вспомнил, что должен дождаться Сергея и хотя бы для виду переговорить с ним о новых ночных пропусках. К счастью, Сергей не заставил себя ждать. Когда он вошел в комнату, Лена сделала мне предостерегающий жест, чтобы я ему не рассказал о нашем разговоре. Я в знак согласия молча кивнул. Договорившись с Сергеем прийти к нему завтра за пропуском в это же время, я нарочито неторопливо попрощался и вышел от Ремизовых. Опасаясь слежки, я минут десять кружил по улицам, прежде чем пойти к часовщику. Наконец я добрался до него, сказал пароль и тут же ушел. Ровно через час я подходил к гипсовой фигуре “Дискобол” в городском парке. На скамейке возле статуи, повернувшись ко мне спиной, уже сидел какой-то мужчина в потрепанном пальто, с черным каракулевым воротником. То, что он дожидался меня, не вызывало никаких сомнений: в это время года парк почти не посещался. Дождавшись, когда я подошел, мужчина резко повернулся и с деланной улыбкой посмотрел мне прямо в глаза. Я обмер. Передо мной был не кто иной, как Степанов. Язык прилип к гортани. Тот самый Степанов, с которым я сидел вместе в камере гестапо. “Неужели он бежал? — мелькнула у меня мысль. — Но почему он здесь? Я раскрыт! Что делать?” От испуга мысли смешались в голове. Бежать? Но он несомненно вооружен. Вдоволь насладившись моим испугом, мужчина неторопливо полез в карман и вынул оттуда большие “кировские” часы, которые мне показывал Кригер. — Не купишь, паренек? — Мужчина спокойно покрутил завод. — Работают, как трактор! И только сейчас до меня дошло: Степанов — человек Кригера, а не подпольщик, такой же агент, как и я. Только, видимо, завербован раньше, и задание у него было иное. В общем, купил меня Кригер как маленького. Ну да черт с ним, теперь этот человек — союзник. — За рубли или за марки? — стараясь придать голосу как можно более независимую интонацию, осведомился я. — За марки, — ответил мужчина. И, сплюнув, добавил уже от себя: — На кой они ляд мне, твои рубли… “И как я его мог принять за работника обкома?” — невольно подумал я, анализируя недалекое прошлое. — Ну что слышно? — спросил мужчина. — Говори спокойно, не бойся, здесь никто не услышит. Я вкратце изложил ему то, что узнал от Лены. — Дело серьезное, — покрутил он головой, — думаю, господин майор останется довольным. Да ты не дрейфь: передавим твою камсу, как клопов, злой я до них! Батьку моего в Сибирь укатили. Имею к тебе официальное приказание, — строгим тоном добавил он. — Сегодня в двадцать два ноль-ноль явишься на Садовую, семнадцать. И не дай тебе бог привести “хвост”, а то твои же и пришьют — они мастаки. А теперь топай и не оглядывайся. Я повернулся и пошел, утопая сапогами в снегу. — Стой, — раздалось мне вслед, — если остановят немцы, пароль “Бремен”. Весь вечер я не находил себе места, слушая бесконечную воркотню тетки Матрены. А когда стрелки на будильнике показали половину десятого, оделся и осторожно вышел из дома. На улице было пустынно. Я без особых приключений добрался до Садовой, 17. Дверь мне отворил Степанов. В комнате, куда он меня провел, за столом, на котором была расстелена большая карта, сидел Кригер. Майор кивком отослал Степанова и, улыбнувшись своей застывшей улыбкой, протянул мне руку. — Здравствуй, Олег. Садись. Как видишь, твое сообщение не застало меня врасплох. Я уже второй день в Солоницах. И буду лично руководить предполагаемой операцией. Плод созрел, и думаю, что пора его сорвать. Но сначала о самом главном: ты выяснил, кто поддерживает связь с подпольным обкомом? — Нет, господин майор, это держат в тайне. — Нет ничего тайного, чтобы не становилось явным. Запомни, мой мальчик: от этого многое зависит в твоей будущей карьере. — Майор многозначительно посмотрел на меня. — Господин майор, мне кажется, что после провала явки на Железнодорожной от нас вообще не было связного… — Разумно… — Кригер постучал костяшками пальцев по столу. — Тем более разумно, что в обкоме подозревают о наличии в местном подполье нашего человека. В таком случае должно быть два вида связи. Первый — человек из области сам приходил в Солоницы, и второй — связь с вами поддерживалась через партизан. Какой тебе из этих вариантов кажется более реальным? Говори, не стесняйся: ты лучше знаешь местные условия. — Думаю, что второй, господин майор. — Почему? — Да потому, что новости и инструкции из области появлялись в отряде после того, как Яценко бывал у партизан. — Гм… — Кригер нахмурил брови. — Тогда, как говорят у вас, кое-кому я крепко надеру уши. Дело в том, мой мальчик, что наши люди как раз сегодня “провожали”Яценко, чтобы выяснить расположение партизанской базы, но были, очевидно, обнаружены. Яценко вывел их прямо на партизанский заслон. В перестрелке заслон был уничтожен, но что самое досадное — погиб Яценко, хотя я и дал строгий приказ ни в коем случае в него не стрелять. — Майор открыл папку и, достав фотографию, протянул ее мне. — Это он? Я не ошибаюсь? Я посмотрел на фотографию и невольно зажмурился. Семен Яценко лежал на снегу, шапка валялась рядом, смоляной чуб, которым он так гордился, спадал на изуродованное лицо. — Подорвал себя гранатой, — спокойно проговорил Кригер, — но узнать можно… — Да, это он, — глухо ответил я, отдавая майору страшную фотографию. Мне ли не знать Яценко, того самого Яценко, который вечно списывал у меня диктанты. Веселого и бесшабашного парня… Я ему всегда втайне завидовал. Семку, хваставшегося своим дедом, который дожил до ста восьми лет и умер, опившись самогонки на свадьбе у своей правнучки… Подорвал себя гранатой, какая страшная смерть!.. — Я вижу, ты еще не вылечился от впечатлительности. Так нельзя, мой мальчик, — мягко сказал Кригер. — Война есть война. Смею тебя уверить, что этот товарищ Яценко преспокойно засунул бы тебя в петлю, если бы знал, кто ты есть на самом деле. Когда люди становятся врагами, их перестают связывать не только дружеские взаимоотношения, но даже семейные узы. Законы борьбы неумолимы. Итак, приступим к делу. Сколько человек на сегодняшний день состоит в штабе организации? — Теперь девять, — подумав о Яценко, сказал я. — Девять без тебя? — Без меня, я же не член штаба. — Значит, арестуем все-таки десять. Мне придется и тебя арестовать. Но, ради всех святых, не волнуйся, — посмотрев на меня, торопливо сказал Кригер. — С тобой ровным счетом ничего не случится. Я ведь тебе обещал нести ответственность за твою безопасность. Но зато после ареста ты будешь в их глазах таким же патриотом, как они. В камере перед смертью у многих развязываются языки. Все члены организации “За Родину!” у меня в руках, но наша главная задача — не только уничтожить этих фанатиков, но через них выйти на подпольный обком. Так что твой арест будет чистой формальностью. Заранее предупреждаю, что тебе придется поставить пару синяков; постараюсь, чтобы это было не очень больно. Теперь уточним адреса, ты мне сейчас их покажешь на карте. — Кригер пододвинул мне карту города, разложенную на столе. — Сегодня у нас двадцать третье… — задумчиво продолжал майор. — Ну что же, особенно спешить нам не стоит. Операцию назначаю в ночь на двадцать шестое. Все выходы из города будут перекрыты, так что ни одна птичка не упорхнет. Посмотрим: может быть, до двадцать шестого они пошлют нового связника к партизанам? И если на этот раз его не возьмут, я лично перестреляю моих олухов. Итак, начнем; Леонид Карпов, Базарная, двенадцать… Утром, когда я еще спал, ко мне в окошко постучалась Лена. Я пригласил ее войти в дом, но она отказалась. Я спросил, в чем дело, почему она прибежала в такую рань. — Немедленно собирайся и приходи к нам. По взволнованному голосу девушки я понял, что произошло что-то очень важное. “Неужели узнали о моей вчерашней встрече с Кригером?” — похолодело все внутри. Стараясь говорить как можно естественнее, спросил: — Что за срочность такая? — И, зевнув, добавил: — Дай сон досмотреть. — Олежка, милый, — торопливо отозвалась Лена, — не могу я тебе ничего сказать, спешу — мне еще надо к Карпову сбегать. — Она махнула рукавичкой и побежала к калитке. “Пронесло! Если бы она что-то про меня знала, не было бы никакого “милого Олежки”, — отлегло у меня от сердца. — Но что же все-таки случилось?” Я стал одеваться, ломая себе голову над причиной столь необычного раннего визита. Когда я пришел к Ремизовым, то застал там Сергея и Женю Пилипчука; у них был встревоженный вид. — В чем дело, хлопцы? — придерживаясь все того же спокойного тона, как и с Леной, спросил я с порога. — Что за совещание пи свет ни заря? — Садись, — строго сказал Сергей. — Веселого мало. Сейчас придут Лена с Карповым, тогда поговорим: не могу я каждому в отдельности повторять одно и то же. — Что произошло? — уже серьезно спросил я Пилипчука, усаживаясь с ним рядом. — Откуда я знаю! — Женя пожал плечами. — Я пришел за пять минут до тебя. Сергей, ни на кого не глядя, расхаживал по комнате, припадая на больную ногу. Так продолжалось минут десять, пятнадцать. Наконец дверь распахнулась, и в комнату вошли Лена и Леонид. — Так, все в сборе, — даже не поздоровавшись с Карповым, сказал Сергей. — Товарищи, наша организация раскрыта гестапо. В ночь на двадцать шестое назначена облава. Подпольный обком партии предложил членам нашего штаба, которые прошлой ночью отправились к партизанам за оружием, в город не возвращаться, а нам немедленно по одному или группами не более чем по два человека покинуть Солоницы. Сбор у Березовских каменоломен. Для связи остается Курдюмов. Все. Вопросы будут? Вопросов не последовало. Все стали расходиться. Направился к двери и я. — Олег, — раздался голос Сергея, — задержись на минутку; получишь задание штаба. Но каким было задание штаба, я так и не узнал. Кригер обманул всех, в том числе и меня. Нас взяли в ту минуту, когда мы должны были расходиться от Ремизовых. Больше всех досталось Карпову, который успел выхватить пистолет, когда в комнату ввалились солдаты. От удара прикладом он потерял сознание, но его еще долго пинали тяжелыми коваными сапогами. В кузове машины, куда нас затолкали, я увидел Яшку Кучера — его оставил Сергей на страже. У Яшки были скручены за спиной руки и проломлена голова. Он так и скончался, не приходя в сознание, в камере, куда нас кинули после ареста. А в общем, Яшке повезло. Ребят допрашивали круглые сутки. Через два дня они были истерзаны и изломаны так, что мало чем походили на людей. Меня, несмотря на обещание Кригера, тоже отделали весьма прилично. Все мое лицо было сплошным кровоподтеком. Когда я решился напомнить ему о нашем уговоре, он, как всегда, улыбнулся и назидательно заметал: — Ты же не хочешь, чтобы они тебя придушили в камере? А потом, говоря честно, ты это заслужил: не сообщаешь ничего нового, мой друг, ничего нового. Все признания, на которые ты их вызываешь, не стоят ломаного гроша. Мне важно выйти на подпольный обком. Ну хоть какую-нибудь зацепку, черт побери! Будь смелее — я тебя полностью обезопасил, отсадив отдельно Пилипчука. Кстати, ты сказал в камере, что видел его, когда возвращался с допроса? — Да, сказал, — еле шевеля разбитыми губами, ответил я. — Ну и что, они поверили? — Вроде поверили, — вяло ответил я. У майора Кригера все было расписано как по нотам. Поместив нас всех в общую камеру, он тут же при аресте отсадил отдельно Женю Пилипчука. На первом допросе, когда Рейнгард так безжалостно отделал меня, Кригер велел мне сказать ребятам, что, когда меня вели с допроса, я якобы видел Пилипчука живого и невредимого, разговаривавшего с кем-то из гестаповцев. Но, несмотря на то что товарищи вроде поверили в измену Пилипчука и на меня никакие подозрения не падали, ничего нового о связях с подпольным обкомом я ни у Сергея, ни у Карпова не выведал, а кроме них, вряд ли кто-нибудь об этом знал. 28-го ночью нас повезли на расстрел. Кригер ничего не добился, и все же до самого конца он решил не расшифровывать меня: Пилипчука среди нас не было, его, как выяснилось позже, расстреляли отдельно. Нас везли по затихшим улицам ночного города. Кто-то из ребят запел “Орленок, орленок…”, все дружно подхватили знакомые слова. Расстреливали всех вместе. Ребята стояли около неглубокой ямы, освещенные фарами машин. — Прощайте, друзья! — крикнула Ремизова. С бронетранспортера по шеренге подпольщиков ударила пулеметная очередь. Я в это время уже сидел в “оппель-капитане” Кригера. — Ну, вот и все, — закуривая, спокойно сказал он и, увидев, что меня бьет дрожь, протянул фляжку. — Выпей, здесь коньяк, это тебя подкрепит. Солдаты деловито переговаривались, наскоро забрасывали могилу мерзлыми комьями земли. Машина круто развернулась и, набирая скорость, понеслась по шоссе, ведшему в областной город. С этого дня я никогда больше не бывал в Солоницах. Через несколько дней, уже в гестапо, в здание на площади Труда, меня вызвал к себе Кригер. — Садись, Олег, — как всегда, улыбкой встретил меня майор. — У меня есть для тебя приятное известие. — Кригер протянул мне лист бумаги с немецким машинописным текстом. — Впрочем, я забыл, что ты не силен в немецком, — улыбнулся Кригер. — Ну ничего, думаю, что по-русски это будет звучать не менее приятно. Ты представлен к награде за успешную ликвидацию Солоницкого подполья. Список утвержден и подписан. Поздравляю! — Кригер встал из-за стола и торжественно протянул мне руку. Кстати, награду мне почему-то так и не вручили…” Рудов встал и выключил магнитофон. — Ну как? Сильно отличается этот рассказ от того, что записано в показаниях Князева? — Да, но тогда как же вы решились отпустить такого человека? — Иного выхода у нас не было. Мне нужно было добиться полного доверия Князева и узнать подробности провала Солоницкого подполья. Я должен был сделать сейчас то, что не смог сделать почти двадцать шесть лет назад. Карпов был мертв, да он и не знал имени провокатора. Кригера уничтожили партизаны. Единственный человек, знавший правду, был Князев. Нужно было развязать ему язык. Я позвонил в КГБ и рассказал о Князеве. Мои действия одобрили. Я прекрасно понимал возмущение Лазарева, но посвящать его до поры до времени в подробности этого дела не имел права. — А не мог Князев сбежать, воспользовавшись свободой? — Нет. С самого начала обо всем знали работники КГБ. Каждый шаг Князева был им известен. А вскоре Курдюмов—Князев был вновь арестован. Это произошло в тот самый день, когда следователь Лазарев доложил прокурору области Барышеву о необоснованном освобождении Князева, о том, что прокурор района встречался с преступником. Лазарев иначе поступить не мог. Увидев его в приемной прокурора области, я сразу догадался, в чем дело, и попросил Барышева пригласить Лазарева в свой кабинет, что он и сделал. Когда Лазарев прослушал пленку с записью моего разговора с Курдюмовым—Князевым, он растерянно посмотрел на меня и следователя КГБ, а затем, обратившись к Барышеву, спросил: — Так, значит, товарищ… — А потом, словно споткнувшись о привычное слово “товарищ”, он произнес: — Извините, гражданин Рудов… — …действительно был сотрудником абвера, — подхватил я. Барышев рассмеялся и, глядя на Лазарева, сказал: — А вы и не подозревали, что рядом работает такой опасный человек, как обер-лейтенант Рюге? Когда к вечеру мы с Лазаревым возвращались в Зелено-горек, мне пришлось рассказать ему свою биографию. — Не могли бы вы повторить ее мне? — Если она вас интересует, пожалуйста. Я наполовину немец. Девичья фамилия моей матери Грот. Дед преподавал до революции в Московском университете, но в 1905 году вместе с несколькими педагогами был лишен кафедры за поддержку революционно настроенного студенчества. Карл Францевич Грот был из обрусевших немцев, но родной язык, несмотря на это, знал прекрасно. До конца жизни он оставался либерально настроенным интеллигентом. Революцию в России принял всем сердцем, хотя многое из происходящего в то время ему было неясно. Моя мать была настоящей большевичкой и познакомилась с отцом, саратовским рабочим Тимофеем Рудовым, в то время, когда он находился на нелегальном положении. Я появился на свет за год до Великой Октябрьской социалистической революции, 25 октября 1916 года по старому стилю. По этому поводу в нашей семье часто шутили, говоря, что Анна, моя мать, ошиблась на год, как и Маяковский. Помните? “Где взгляд людей обрывается куцый, главою голодных орд, в терновом венке революций, грядет шестнадцатый год…” Отца я не помню, он погиб в 1919 году, при подавлении белогвардейского мятежа в Кронштадте. Воспитывал меня в основном дед, поэтому с самого раннего детства у меня было два родных языка: немецкий и русский. Для меня были одинаковы близки Гёте и Пушкин. Когда я учился в школе, наша “немка”, милейшая старушка Адель Львовна, в случае, если кто-либо не выучил урок, обращалась ко мне, и я, чтобы не подвести товарища, пускался с ней в длинные разговоры, нажимая на свое “чисто берлинское” произношение. Адель Львовна таяла, и инцидент бывал исчерпан. Я рос, как тысяча моих сверстников: школа, комсомол, общественные нагрузки. В мире было неспокойно. В Германии к власти пришли фашисты. Истерические вопли Гитлера о реванше и жизненном пространстве для немцев перестали быть пустой угрозой. Лучшие люди Германии покинули страну. Человечество было поставлено перед лицом новой мировой войны. Дед, читая газеты, трагически поднимал брови и заявлял: — Черт возьми, что стало с Германией или они все там с ума посходили? Я подтрунивал над ним, взывая к “голосу крови”. А дед, не понимая иронии, топорщил седые усы и фальцетом кричал на меня: — Мальчишка, что ты в этом смыслишь! Да, я — немец, немец, но из тех немцев, из которых Моцарт, Гейне, Бетховен! Гитлеры и прочие имеют к Германии такое же отношение, как я к папуасам. Русские мудры, они правильно говорят: в семье не без урода. Войну я встретил студентом юридического факультета МГУ. Услышав по радио о начале войны, я поцеловал деда и молча двинул к двери. — Подожди, Яшенька. — Дед засеменил ко мне. — Береги себя, слышишь… — Он заплакал и обнял меня своими слабыми руками… Перед тем как идти в военкомат, я заехал в наркомат просвещения попрощаться с матерью. Несмотря на воскресный день, у нее был какой-то семинар. С матерью я последнее время виделся редко. Несколько лет назад она вторично вышла замуж, а с отчимом, как говорится, мы не сошлись характерами. Я переехал к деду, в его большую и гулкую квартиру на Петровке. Разговор с матерью был короток. — Ты молодец, что решил идти на фронт. Отец одобрил бы твое решение, — только и сказала она. Моя мать принадлежала к тому поколению, для которых общественное и личное были несоразмеримые категории. Сколько я помню, она вечно куда-то спешила — заседать, налаживать, организовывать. Все, что не касалось ее дела, для нее не существовало. Натура по природе сильная и цельная, она нашла себя и в борьбе. Для нее революция не кончилась вместе с гражданской войной, она продолжалась для матери всю жизнь. И в тяжелые дни эвакуации она осталась такой же. Как мне потом рассказывали, она была бодрой и энергичной, ходила в Кемеровский горком, добивалась улучшения работы эвакоприемника. Подбадривала людей, поддерживала их своим оптимизмом. До самой последней минуты мать оставалась такой, какой была всю жизнь. Она умерла в Кемерове в декабре 1942 года от крупозного воспаления легких. — Скажите, Яков Тимофеевич, а как вы стали разведчиком? Рудов пожал плечами. — Вообще-то случайно. Из военкомата я был направлен на одну из подмосковных станций, где формировался стрелковый полк особого назначения. В полку я подал по команде рапорт, где докладывал о том, что в совершенстве владею немецким языком. Говорил я это и в военкомате, но в те июньские дни, когда военкоматы были забиты до отказа, разобраться с каждым в отдельности, очевидно, не было возможности. Через некоторое время меня вызвали в политотдел, где я познакомился со старым чекистом полковником Денисовым. Разговор у нас с ним состоялся обстоятельный и подробный. А через два дня я был отчислен из части и переведен в распоряжение полковника. Сергей Михайлович привык тщательно обдумывать каждую операцию, которой он руководил. Он прекрасно сознавал, что имеет дело с одной из сильнейших разведок мира, и великолепно знал, что те реальные немцы, с которыми его подопечным придется иметь дело, сильно отличаются от немцев, изображаемых в кинокартинах, снятых в первые годы войны. Моя подготовка велась тщательно. Однажды поздним вечером, когда я, устав после напряженного дня, собирался лечь спать, ко мне в комнату вошел довольный, улыбающийся Денисов. — Не помешал? Да ты сиди, сиди, — сказал он, заметив, что я вытянулся по стойке “смирно”. Денисов уселся поудобнее и вновь обратился ко мне: — Ну, брат, нашел я тебе двойника, пальчики оближешь. Полковник провел по лицу и вздохнул. Я украдкой рассматривал его. Передо мной сидел усталый пожилой человек, с набрякшими от бессонницы глазами, лысый, курносый, самый обыкновенный на вид. Под гимнастеркой с полковничьими петлицами туго выпирал солидный животик. И вместе с тем я знал, какой острый и проницательный ум, какое горячее сердце скрывается за этой заурядной внешностью. — Тебе что, не интересно? — Денисов достал “Беломор” и, по-особому смяв мундштук, закурил. — Как — не интересно, Сергей Михайлович, очень даже интересно, — глупо, совсем по-детски ответил я. — Тогда слушай: Рюге, Герман Рюге, из прибалтийских немцев, репатриировался в Германию незадолго до установления в Латвии Советской власти. Имел в Германии дядю. Дядя как дядя, владелец писчебумажного магазина в Брауншвейге. Но! — Денисов поднял вверх указательный палец. — Дядя в январе сорок первого возьми да помри от рака, так что теперь никаких родных у Рюге нет. Сирота, одним словом. Старше тебя на два года, очень похож. — Откуда вы его достали? — Подарок фронтовой разведки, надо сказать — ценнейший подарок. Ну, спать будешь или еще поговорим? — Конечно, поговорим, товарищ полковник, если вы не устали. Вам ведь тоже спать надо. — А, — махнул рукой Денисов, — я на том свете отосплюсь. Мы проговорили с полковником еще несколько часов, обсуждая вопросы, которые завтра я и он должны задать лейтенанту Герману Рюге. Полковника волновало, что я не знаю латышского языка, которым Рюге владел прилично. — Зато ты знаешь русский, — рассуждал вслух Денисов, — этого скрывать не надо. Там, — добавил он, пристально глядя на меня, — в Латвии, многие знают русский. Старайся говорить с легким акцентом, но не переборщи. Впрочем, тебя в этом потренируют. И придется подучить латышский. Ты у нас полиглотом станешь. — Когда он должен прибыть в часть? — спросил я. — Скоро, — вздохнул Денисов. — Но мог же он попасть под бомбежку, могло его контузить. — Да, нужны справки, документы, — неуверенно сказал я. — Это пусть тебя не волнует, это уж паша забота. — Денисов встал и открыл форточку. — Ух, и накурили же мы с тобой! — сказал он укоризненно… На другой день с утра в кабинете у Денисова я встретился со своим “двойником” — Германом Рюге. — Предупреждаю вас, Рюге, — холодно сказал Денисов, — малейшая ложь повлечет за собой самые тяжелые последствия. Рюге испуганно посмотрел на Денисова и, сглотнув слюну, торопливо ответил: — Клянусь, господин полковник, что я буду говорить только правду. Я внимательно глядел на Рюге. Нет, он не был моим двойником. Очевидно, вчера полковник решил меня ободрить. Впрочем, не все ли равно, похож или не похож. Если я встречу там хоть кого-то, кто хорошо знал его, он быстро поймет, что я не тот Рюге, который, скажем, сидел с ним на одной парте в гимназии. Вопросы мы задавали по очереди. Сначала пленный отвечал коротко, но потом осмелел, обвыкся и даже пытался шутить. — Почему вас взяли в СС? — спросил Денисов. — Я оказал рейху кое-какие услуги. — О ваших услугах СС вы дадите нам подробный письменный отчет. — Слушаюсь. — Люди, принятые в СС, проходят особую проверку. Как вы объясните, что вас, фольксдойче, все-таки взяли туда? — Простите, господин полковник, но вы ошибаетесь, я не фольксдойче, а рейхсдойче. Дело в том, что я родился в Германии, — с гордостью ответил Рюге, — я родился в Брауншвейге. Дядя доказал это по церковным книгам, моя мать была католичкой. Проверку я тоже прошел. — Брали ли у вас отпечатки пальцев? — Не помню. — Я спрашиваю: брали ли у вас отпечатки пальцев? — Нет, я всего два месяца как в армии. — Откуда же лейтенантское звание? — Я имею высшее образование и, кроме того, знаю латышский и русский языки. — Насколько мне известно, за это в чине не повышают. — Возможно, мне зачли… — Рюге замялся. — Вашу работу в гестапо? — Да. Допрос длился более трех часов, а после, наскоро перекусив, я отправился к преподавателю латышского языка, который я изучал недели две. …Перед моей заброской в тыл врага провожал меня на аэродром полковник Денисов. — Запомни, — твердил он, дымя папиросой, — справка из госпиталя, та, что у тебя, сделана отменно, но она — липа. На явке в Харькове получишь настоящую. — Самую что ни на есть настоящую? — попытался пошутить я. — Не валяй дурака, — строго посмотрел на меня Денисов, — запись в фастовском госпитале будет подлинная, человек из-за этого жизнью рисковал, — тихо добавил он. — Простите, Сергей Михайлович, — виновато сказал я. — Ничего, ничего… Неужели ты думаешь, что я такой уж выживший из ума олух? Если справка будет без записи в госпитальной книге, ты же завалишься на первой проверке. А проверять тебя, Яша, будут много, ох как много!.. — выдохнул он. — Помни все, о чем мы говорили, все, чему я тебя учил. — Палдиес! — Что? — переспросил меня Денисов. — Ах, палдиес — спасибо! Я по-латышски, пожалуй, только это и знаю. Ветер гнал по полю аэродрома колючую снежную крупу. Мы обнялись. Сергей Михайлович неловко чмокнул меня в тщательно выбритую щеку. — Ну, Тимофеевич, с богом! Самолет, набирая скорость, понесся по взлетной полосе. Вот так я и стал разведчиком… — Скажите, пожалуйста, а как вы попали в Солоницы? — В январе 1943 года абвер направил меня в Солоницы отбирать учеников в разведшколу. Я сообщил в Центр и получил задание по выяснению перемещений дивизий вермахта с западного направления в группировку “Дон”. Маленький городок Солоницы стал во время войны крупной узловой станцией. До поры до времени на этом участке все складывалось благополучно, но в самый нужный момент из Центра в подпольный обком пришли тревожные сигналы. Данные, поступавшие из Солониц, проверенные по другим каналам, оказались тонко состряпанной дезинформацией. Кроме того, из подпольного обкома через связного сообщали, что хорошо продуманная и тщательно подготовленная операция по уничтожению паровозного депо провалилась. Я решил выехать в областной центр и на месте во всем разобраться. Командировка не представляла большой трудности, так как вблизи от города находился большой лагерь военнопленных, где я бывал уже несколько раз, вербуя учеников в разведшколу Шварцвальда. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Как вы знаете, между гестапо и абвером шла глухая и непрекращающаяся вражда, окончившаяся в конце концов поражением Канариса. Гестапо тщательно собирало компрометирующие материалы о сотрудниках абвера, и поэтому я был особенно удивлен, узнав на допросах подлинного Германа Рюге, что он, помимо прямой работы на абвер, является еще и агентом гестапо. Только этим обстоятельством я объясняю те доверительные отношения, которые сложились у меня с майором Кригером. В тот памятный январь сорок третьего из разговоров с Кригером я понял, что дезинформация о солоницком железнодорожном узле дело его рук. Расспросить его подробнее, как ему удалось внедрить в подпольную организацию своего человека, я не решался, чтобы не вызвать у майора подозрений. Кригер был опытным контрразведчиком, и любой неосторожный вопрос мог его насторожить. Обсудив создавшееся положение с представителями подпольного обкома, мы решили срочно переправить участников подполья в лес, к партизанам, тем более что, по словам Кригера, ликвидация организации “За Родину!” назначалась на двадцать шестое число. В тот день в Солоницы ушел связной. Наметили мы также кандидатуры людей для работы на железнодорожной станции. Я думал, что на этом дело и кончится, и уже собрался уезжать, но Кригер спутал все карты: вместо двадцать шестого он провел операцию по ликвидации Солоницкого подполья двадцать четвертого. Весть о том, что пять наших товарищей схвачены гестапо, произвела на меня тяжелое впечатление, я буквально не находил себе места. Через несколько дней, поздравляя Кригера с успешным проведением операции, я как бы невзначай спросил его о том, как это ему удалось. Кригер загадочно улыбнулся и, постучав костяшками пальцев по столу, мечтательно сказал: — У меня в детстве был чудный пес по кличке Дикс. — Ну и что? — не понимая, к чему он клонит, спросил я. — Чужих он пускал в дом охотно, но обратно выйти никто не мог. Вот и в этом деле мне помог мне верный Дикс! Дальнейший разговор с Кригером не внес ясности. Нам было известно, что все арестованные подпольщики расстреляны. Одно из двух: или предателем был неизвестный нам человек, имя которого не удалось установить, или Кригер вместе с подпольщиками расстрелял и своего осведомителя, который перестал быть ему нужным. Зная Кригера, я был убежден в то время, что второе предположение более правильное, тем более что случайный человек вряд ли мог знать всех членов организации. И вот через столько лет правда восторжествовала. Эхо далекой войны, о которой мы всегда должны помнить, дало себя знать. Карпов стал последней жертвой среди героев Солоницкого подполья. Жаль его безмерно. Обидно, что мы жили с ним рядом, а не были знакомы, даже ни разу не поговорили. — А вам известна дальнейшая судьба подпольной организации “За Родину!”? — Находясь за сотни километров от Солониц, я с большим удовлетворением читал секретные донесения о том, как один за другим шли под откос немецкие эшелоны, как утром Первого мая над зданием райисполкома взвился красный флаг, на котором были вышиты слова: “За Родину!” Значит, организация жила. На место погибших героев пришли новые. — Яков Тимофеевич, как вы можете объяснить то, что Курдюмов был на следствии в КГБ так откровенен, не отрицал убийства Карпова, признался в своих связях с гестапо? — Вы ошибаетесь. Князев не был откровенен. Зная, что он разоблачен, этот провокатор пытался создать новую версию, выгородить себя, представить себя жертвой жестокости фашистов. Теперь это ему не поможет. Суд установит его подлинное лицо. — А вы будете выступать в суде? — Обязательно. Но не в качестве прокурора, а как свидетель. — И этим ваша миссия по этому делу будет исчерпана? — Нет. Я поеду в Солоницы, ведь там на мемориальном обелиске до сих пор стоит имя предателя… История внесла корректив. На этом месте по праву будет имя Карпова, которое он попросил в свое время убрать. Имя патриота Леонида Николаевича Карпова, дважды убитого, будет жить.*
Такова история уголовного дела “Об убийстве учителя Карпова”, которую я случайно узнал в маленьком городе Зеленогорске.

Абрамов С. ВОЛЧОК ДЛЯ ГУЛЛИВЕРА Фантастическая повесть
1. СЕДЬМОЕ ЧУДО ВЕКА
Когда Майк Харди, старший конструктор фирмы электронных приборов, двадцатидевятилетний холостяк, вернулся с работы много позже обычного, он устало плюхнулся в кресло, вытянув ноги к электрообогревательному камину, горящему, несмотря на летний угасший день. Летним, впрочем, он был только по времени года — с утра в Лондоне лил мелкий осенний дождь и зловеще протяжно, как в романах Анны Рэдклифф, завывал ветер за рассохшимися от старости створками окон — ох, уж эти мне древние английские дома, не желающие умирать даже к самому концу века! Но комната все же хранила тепло и уют: не вставая, можно было взять сигару или сигарету, виски и лед из висячего бара с морозильником и даже просмотреть программу миниатюрного телевизора, укрепленного на ручке кресла под линзой с прогрессирующим увеличением. Но Майку не хотелось ни есть, ни пить — он поужинал по дороге домой в баре напротив, — не хотелось курить и даже просто думать о чем-нибудь занимательном. Идея нового изобретения, терзавшая его уже два с лишним месяца, наконец оформилась, и он чувствовал себя опустошенным, как кухонный холодильник после очередного налета гостей. В этот момент и проник в полусонную тишину вечера чуть приглушенный зуммер видеофона. Майк не включил экрана — не захотелось. — Ну? — сказал он лениво. — Харди? — спросила трубка. — Мистер Харди, — поправил Майк. — Говорит представитель “Хаус Оушен-компани”, — властно сказала трубка, игнорируя назидательность реплики. — Почему не включаете видео? — Не хочется. — Ваше дело Пока мы не имеем права настаивать, — “мы” и “пока” прозвучали явно подчеркнуто, и Харди тотчас же это учел, — но мне бы хотелось встретиться с вами, не откладывая. Встреча может быть интересной и для нас, и для вас. Майк, не очень довольный своими делами в фирме, оживился. Неожиданный разговор что-то обещал. — Где и когда? — спросил он. — Скажем, завтра. Позавтракаем вместе в двенадцать. — Невозможно, — вздохнул Харди, — завтраки доставляют нам из бара “Думсдей”. Шеф не любит, чтобы мы покидали лаборатории. — Плюньте на вашего шефа. До завтрака он будет уволен. — Не понимаю… — Поймете. Вы любите французскую кухню? — Люблю, — растерянно откликнулся Майк, — но… — Включите экран. На экране возник холеный седоватый джентльмен с модными в этот сезон викторианскими бачками. — В двенадцать в Сохо, — сказал он. — У Жюля Леметра. Третий стол у окна. Экран погас. Майк встал и прошелся по комнате, нервно потирая руки. Предстоявшая встреча с “Хаус Оушен-компани” взволновала бы каждого. Ведь само название это было производным от слова “Хаус” — “Дом” с большой буквы, — седьмого чуда света в последние десятилетия двадцатого века. До рождения Дома таких чудес было шесть. Тоннель под Ламаншем, накрепко привязавший Британию к континенту, и пластмассовый мост через Каспийское море, соединивший Баку с Красноводском; пятикилометровая вонзившаяся в небо игла — парижская телебашня, сменившая старенькую игрушку Эйфеля, и свободно плавающий остров курорт Майями Флай-айленд; международный космопорт на Луне и постоянно действующая советская автоматическая беспилотная станция на Венере. Дом был седьмым. Седьмым чудом уходившего века, воздвигнутым инженерным гением Доминика Лабарда всего за шесть лет до начала третьего тысячелетия живущего по григорианскому календарю человечества. Майк знал о Доме все или почти все, о чем буквально вопили мировая печать и радио, видел Дом на кино- и телеэкранах, на рекламных плакатах и журнальных фото. Двухкилометровой высоты, полтора километра в диаметре поперечного сечения, он походил на гигантский волчок, поставленный на крохотном островке-рифе в Атлантическом океане этаким космическим Гулливером, сошедшим со звезд к земным лилипутам. “Волчок” вращался, не прекращая движения ни днем, ни ночью, и, говорили, именно это и обеспечивало ему устойчивость и недоступность для ветров и бурь. Построенный за пределами американских территориальных вод, этот дом-город в 450 этажей, с трехмиллионным населением и собственной индустрией был не государственным, не национальным, а частным владением, личной собственностью миллиардеров Грэгга и Хенесси, контролирующих две крупнейшие и перспективнейшие отрасли американской промышленности — электронную и автотранспортную на воздушных подушках, вытеснившую к концу века почти все виды морского и сухопутного транспорта. Создание Дома было ответом на предсказания ученых о демографическом взрыве, который якобы вот-вот последует. Так, по мнению строителей дома, могла быть освобождена земля от перенаселяющих ее городов. А города росли и укрупнялись, образуя могучие агломерации, связавшие десятки городов-карликов в единый гигант Мегалополис. С восточным Мегалополисом, объединившим добрую сотню городов от Бостона до Балтиморы, был связан и Дом пуповиной-тюбом, ежедневно выбрасывающим с гиперзвуковой скоростью вагоны-поезда на центральных вокзалах Нью-Йорка и Вашингтона. Майк знал и больше — ведь рекламные проспекты “Хаус Оушен-компани” распространялись по всему миру, — он даже представить себе не мог, чем он, Майк Харди, безвестный конструктор фирмы “Притчардс и Притчардс”, никогда не сообщавшей, кто является автором запатентованных ею электронных новинок, чем мог он заинтересовать создателей уникального технического феномена. Может быть, слухи об идейке, терзавшей его два с половиной месяца, все же дошли до их ушей — ведь он мог сболтнуть кое-что кое-кому в часы ресто-ранно-клубных идиллий. Все выяснилось на другой день в двенадцать часов в ресторане Леметра за столиком у окна, выходившего на такую же, как и вчера, дождливую лондонскую муть, в которой внизу мелькали мокрые туфли и туфельки, а наверху — черные и цветные зонты. Моды, как заяц, петляя и путаясь, возвращались на следы тридцатилетней давности. Навстречу поднялся холеный псевдовикторианец с поседевшими бачками. — Стрэнг, — назвал он себя. — Завтрак я уже заказал по своему вкусу. — Все обошлось, как нельзя лучше, — заметил Майк. — Шеф даже не зашел ко мне до двенадцати. — В одиннадцать его уволили, — пояснил Стрэнг. — Дело в том, что мы купили компанию “Притчардс и Притчардс”. Этим, в сущности, и вызвана наша встреча. Майк раскрыл рот и умолк, ожидая продолжения, но Стрэнг предпочел перейти к завтраку. Майк не настаивал. Спаржа и крылышко цыпленка с белым вином требовали повышенного внимания, да и любопытство следовало скрыть. Стрэнг молчаливо одобрил выдержку Харди: не торопится, не суетится, выдержан, немногословен. — У нас к вам предложение перейти на работу в Дом, — сказал он. — Диспетчером автоматических блоков связи. Сложная цепочка электронных компьютеров. Но думаю — справитесь. Контракт на пять лет. Гонорар двойной против лондонского. — А если не справлюсь? — улыбнулся Майк. — Вернем вас в лондонскую лабораторию. — А если захочу уехать, не отработав контракта? — Уплатите неустойку, едва ли для вас приемлемую. — И последнее, — засмеялся Майк. — Если не соглашусь? — А почему? Мы предлагаем вам пост одного из представителей интеллектуальной элиты Дома. Вы, может быть, думаете, что наш диспетчер — это нечто вроде диспетчера автобазы или разгрузочной станции? Нет, это электронщик очень высокой квалификации. Вы, например, — король связи. Видеофонной, телевизионной, лучевой. Связи с внутренним и внешним рынками. С любым абонентом любой страны. Машина нашей индустрии, торговли и образования остановится, если оборвутся каналы связей. Вы — дирижер этих связей, алгоритм их непрерывности. Ваши компьютеры что-то убыстряют, тормозят, открывают, блокируют, дают задания автоматическим системам. Вы — композитор этой симфонии. Мало? — Слишком помпезно. У меня в Лондоне тихая, почти независимая, своя лаборатория. — Свою лабораторию вы получите и у нас, кстати, лучше и современнее оборудованную, но только после обязательного объема работы. Что пострадает? Киносеанс, или телепрограмма, или, может быть, встреча с девушкой? Едва ли об этом стоит жалеть. А любое ценное изобретение, рожденное у вас в лаборатории, тут же приобретается после удовлетворительных испытаний и патентуется с указанием имени автора. Майк все еще колебался. Он не понимал одного: чем же объяснялась настойчивость этого незаурядного предложения. — Мое положение? — пожал он плечами. — Едва ли оно значительно. Мои таланты? Едва ли они заметны. — Не скромничайте. Мы знаем вас лучше и ценим дороже, чем Притчардсы. Мы тщательно изучили вашу документацию по молеэлектронике и все изобретательские находки. Ваш ручной телевизор-браслет с десятикратно увеличивающей изображение линзой по сравнению с достижениями микроэлектроники прошлых десятилетий — феномен, чудо. Мы уже приобрели патент и пустим в производство как “Харди-микро”. Есть у вас и другие плюсы: скромность, честность, необходимая жесткость характера и к тому же нет ни жены, ни детей. — Неужели и это имеет значение? — И даже большое. Не всякой женщине мы можем предоставить работу, а неработающих жен у нас и так слишком много, особенно на верхних уровнях Дома. Бездетность же — обязательное условие его демографической стабильности. Вы можете влюбляться, сходиться, жениться, по только не иметь детей! Иначе — расторжение контракта и высылка по месту прежнего жительства. — Меня это не пугает, — засмеялся Майк. — Значит, согласны? — Когда прикажете начинать? — Контракт подпишем сегодня, — ответил Стрэнг. — А выехать вам придется завтра утром из Лондонского порта на одном из наших суперкраулеров. Контракт и прочие документы — в этом конверте. И он передал Майку конверт с гербом “Хаус Оушен-компани” — “Домом-Волчком” на океанской скале. Майк поклонился и вышел, ничуть не подозревая, какая цепь удивительных и необычайных событий потянется за этим, казалось бы, сугубо деловым разговором.2. ВОЛЧОК В ОКЕАНЕ
Суперкраулеры, напоминающие плоскобрюхих китов с закованным в органическое стекло пустым и прозрачным туловищем, лежали прямо на берегу Темзы. Для них не нужно было строить ни пристаней, ни причалов — достаточно широкой искусственной насыпи, окаймленной невысоким забором. Рядом со своими суперсобратьями, рассчитанными на сотни пассажиров и сверхкомфорт путешествия, лежали более скромные надводные стайеры со вместимостью междугородных автобусов. Но и те, и другие пересекали Атлантику запросто за два—три часа. Их звуковая и сверхзвуковая скорость, отсутствие качки и абсолютная безопасность путешествия вытеснили к концу века и морские и воздушные лайнеры. Первые переключились на амплуа плавучих гостиниц и санаториев для людей с избытком денег и времени, а вторые — кто на перевозку грузов и почты, а кто попросту стал металлическим ломом. Харди никого не встретил, кроме хорошенькой стюардессы, указавшей ему место рядом с проходом; он сел и утонул в бархатистом кресле с почти неощутимыми из-за мягкости сиденьем и спинкой. Краулер заполнялся быстро, пассажиры не опаздывали. Одни были знакомы друг с другом и перекликались весело и непринужденно, другие сидели молча, оглядываясь настороженно и с любопытством. Нетрудно было догадаться, что первые возвращались в Дом из служебной или курортной поездки, а вторые ехали дальше — в Бостон, Нью-Йорк или Балтимору. Майк не заметил среди них ни одного бедно одетого человека: его суперкраулер был лайнером для крупных бизнесменов и высокооплачиваемых служащих. Кто в шестидесятых или семидесятых годах мог представить себе ощущение пассажира суперкраулера? Только профессиональный гонщик на прямой трассе без виражей или военный летчик, идущий на своем сверхзвуковом “Фантоме” на цель. Краулер плавно соскользнул на воду, поднялся над ней беззвучно и пошел, едва касаясь ее курчавых барашков, ловко маневрируя в портовой тесноте. Мелькнули в стекловидной стенке причалы и склады, ажурные башни портальных кранов, гигантские рекламы, подвешенные над берегом, потом все слилось в белый хаос брызг и тумана, словно краулер нырнул в пену Ниагарского водопада. Снаружи он и походил на вспененный водяной кокон, с немыслимой скоростью скользящий над пенным кружевом волн. Да Майк и не мог видеть его снаружи, а изнутри была та же вспененная белая тьма — до конца путешествия. Неожиданный конец его вырвал Майка из уютной дрёмы. Неожиданный потому, что это был не конец, а промежуточная рекламная остановка в десяти километрах от Дома, у островка-поплавка с полукружным обзором, супербиноклями и ресторанными столиками. Огромный даже издали красный волчок Дома казался единственным мазком волшебной кисти по густой синьке моря и неба. — Нравится? — спросила стоявшая рядом стюардесса и в ответ на восхищенный вздох Майка продолжала: — Каждый раз потрясает. А смотрю уже в сотый. — По-моему, островок не так мал. Шире Дома, — сказал Харди. — Все это пристройки. Причалы и морской вокзал. Искусственно расширенная площадь. — А основание Дома? — Сто пятьдесят метров в диаметре. Такова же и вышка. А посредине — около двух километров. Зеленые полоски видите? — Серые. — Так это издали. А вблизи все это зеленые насаждения. Лесопарковые галереи-кольца. Чем выше, тем шире. Я была — невероятно! Восхищение ее казалось неподдельным, но Майк знал: реклама Дома входила в обязанности каждого сотрудника “Хаус Оушен-компани”, и потому промолчал. Смотреть на далекий красный волчок, казалось, соединяющий небо и океан, было приятнее, чем слушать рекламную воркотню стюардессы-экскурсовода. — Он кажется совсем неподвижным, — все же заметил он. — Только издалека. Будем подъезжать — увидите, как крутится эта игрушка. Последние десять километров они прошли со скоростью обычного торпедного катера. И с каждым оставшимся позади отрезком пути громадина становилась все больше, заслоняя небо и солнце. Сейчас Гулливеров волчок уже не восхищал, а пугал, подавляя своими размерами и почти беззвучным кружением. Сходство с волчком еще более усилилось — ведь любой детский волчок бесшумен, пока не иссякнет энергия вращения. А эта энергия не иссякала, сохраняя один и тот же неизменный ритм, точь-в-точь включенная в розетку бесшумная электробритва. Краулер на искусственном покатом причале, ожидавший старта, казался коричневым жучком под красным парасолем художника. Да и красный цвет его вблизи выглядел блестяще-багровым, как еще не высохшая кровь. Краулер, высадив больше половины пассажиров, ушел к берегам Америки, а Майк с двумя чемоданами — в одном нехитрый скарб холостяка, в другом инструменты и приборы ученого-электронщика — растерянно проследовал, увлекаемый пассажирским потоком, в неширокий проход к бегущей вниз лестнице, похожей на входы в метро и так же уводящей под землю. Тут его и встретил мужчина — его одногодок по внешнему виду, — сероглазый и рыжий, с еле заметными следами веснушек на упрямо сохраняющем мальчишеский облик лице. Одет он был по-домашнему — в черном свитере без пиджака и мягких туфлях на поролоне. — Так удобнее, — усмехнулся он в ответ, заметив взгляд Майка, и официально холодным тономспросил: — Мистер Харди? — Да. — Ваш коллега по Дому. Джонни О’Лири, диспетчер транспортных линий. — О’Лири? — переспросил Майк. — Ирландец? — Только по фамилии. Родился и вырос в Штатах. Сначала в Теннесси, потом в Восточном Мегалополисе, мистер Харди. — Бросьте “мистер”, Джонни. Просто Майк. Рыжий сразу оттаял и уже совсем другим тоном спросил: — Впервые в Доме? — Угу. — И туристом не побывал? — Не пришлось. — Тогда — глаза шире. Не слиняй от любопытства. Лестница вытянулась лентой и привела в большой круглый зал, отделанный цветным пластиком и нержавеющей сталью. Он замыкался вокруг такого же круглого, массивного и красного стояка с открытыми проходами внутрь. Именно здесь столкнулись два человеческих потока: прибывшие устремились к красным проходам, встречные — к широким дверям в стене, похожим на ворота скаковых конюшен. — Спешат к тюбу, — пояснил Джонни, — за три минуты выплюнет тебя в Нью-Йорке или Филадельфии. — Кто спешит? Жители Дома? — Те, кто здесь не работает. — А есть такие? — Немного, но есть. Жители верхних уровней. Крупные дельцы, хозяева маклерских и адвокатских контор, акционеры банков. Наш брат без специального пропуска покинуть пределы Дома не может. — Та-ак, — протянул Майк. — А куда эти проходы ведут? — К лифтам. Это основание конструкции Дома. — Почему же оно не вращается? — Вращается только надводная внешняя оболочка. — Зачем? — Вращение по принципу ионокрафта создает ионизированный поток воздуха, своеобразный “электрический ветер”, отбрасывающий атмосферные воздушные потоки. Поэтому Дому не страшны никакие тайфуны и бури. — Переход от стабильной к движущейся части обеспечивают эскалаторы? — Конечно. Семь лент, выкрашенных в цвета спектра. Кстати, так же выкрашены и двери лифтов. Семь цветов — семь скоростей от непрерывной лифтовой ленты до лифтов-экспрессов и лифтов-“мгновенников”. “Мгновенннки” доставят тебя действительно мгновенно в любую часть Дома — вертикальное движение на требуемом уровне сменяется горизонтальным, и ты на месте. — Так и пешком ходить разучишься. — Не разучишься. “Мгновенннками” пользуются только в исключительных случаях. А пешеходных дистанций сколько угодно — хоть два часа ходи. Самый дешевый способ. — Разве лифты оплачиваются? — Конечно. Специальные компьютеры высчитывают число поездок, определяют стоимость и зачисляют в твою графу расходов. — Расчетливо, — скривился Майк и переменил тему: — А сейчас куда? — К тебе. На триста семидесятый. Уровень — экстра-класс. Парк больше нью-йоркского. А этажом ниже — твой департамент; шагай пешком, лифта не нужно. Кстати, учти: “мгновенником” не поедем — спешить некуда, а баловство дорогое. Поедем на сплошной ленте: посмотришь, по крайней мере, все транспортные связки. И не забывай, что король транспорта — я. Прошли галерею лифтов, широкую, как городская улица, и пестревшую расцвеченными по спектру дверьми. Выбрали синий. — Скорость так себе, — пояснил Джонни, — зато все увидишь: шахта прозрачная. Лифт не то чтобы медленно, по и не очень быстро пополз вверх сквозь высокие — метров до четырех — этажи. Синева двери поблекла и приобрела прозрачность стекла, позволяя увидеть то уголок большого конференц-зала, то магазина, похожего на суперрынки больших городов, то автоматического машинного цеха без единого человека, но со множеством белых, далеко отстоящих друг от друга дверей (“Квартиры”, — шепнул Джонни), и коридоры с цветными дверями (“Горизонтальные лифты: видишь — половина черная, половина цветная”), и даже настоящий лес с высокими кленами и сосняком (“Целых три уровня — дивись, друг!”), незнакомым подлеском и дорожками, припудренными красноватым песком. А лифт все шел: триста семидесятый этаж — целое путешествие. По пути увидели и футбольное поле с довольно высокими трибунами (“Тысяч на сорок”, — подсказал Джонни), и бассейн с песчаными пляжами под полосатыми тентами от солнца (“Искусственного, должно быть”, — подумал Майк) и загорелыми купальщиками в плавках и бикини. Наконец лифт затормозил, дверь засинела и раздвинулась, выпустив их на неширокую улицу с ярко освещенными витринами магазинов. Майк тотчас же подметил, что довольно малочисленные прохожие если и заходили в магазин, то на витрины не заглядывались, как это обычно бывает в фешенебельных кварталах больших городов, где покупатели обычно ездят на автомобилях, а пешком прогуливаются, чтобы поглазеть на витринные выставки. Здесь ездили на лифтах, а пешком ходили только для моциона, мысленно отметил Майк, пройдя пятидесятиметровую улицу и свернув в переулочек, напоминающий коридор на океанском лайнере. Одну из дверей его рыжий спутник открыл без ключа, набором цифр на панели, и тут же сбил рычагом цифровой пропуск: “Сам придумаешь”. Тем и закончилось вознесение Майка в его трехкомнатный рай на триста семидесятом уровне. — Почему, кстати, уровне? — спросил он. — Первая заповедь доминиканца: избегать шаблонов. А ты теперь доминиканец. — Не понимаю. — Всех, кто служит Доминику Лабарду на высшем уровне, именуют доминиканцами. — Моего шефа у Притчардсов звали Тамплем, но тамплиером[243] я не был. Джонни прикрыл рукой рот Майка и шепнул еле слышно: — Тсс!.. Ни слова больше, следуй за мной! — и громко добавил: — Все, кто подчинен Доминику Лабарду, влюблен в него безоговорочно. Ты тоже влюбишься. И, подмигнув Майку: молчи, мол, увел его в ванную с бассейном из черного мрамора, автоматическим аппаратом для массажа, душами и сушилкой. Он тут же открыл все краны, и ванная наполнилась ревом Ниагары. — Теперь можно говорить, не рискуя, — тихо произнес он, присаживаясь на черный пластиковый табурет. — Кроме шума воды, никто ничего не услышит. А то все и везде здесь прослушивается. — Микрофоны? — Микротелепередатчики. И черт знает, где они вмонтированы. Никто не находит. Должно быть, в стенах: те звуко-сверхпроводимы. Если лет тридцать назад только подслушивали на расстоянии и в любой среде, то теперь научились и подглядывать. Микротелепередатчик зафиксирует каждый твой шаг, слово, жест и даже выражение лица. Тебе, электронщику, лучше знать, как это делается. Даже оставаясь один, ты не можешь быть уверен, что ты в одиночестве, а не под наблюдением парочки скучающих “астрономов”. — Невероятно! — шепотом удивлялся Майк. — Ведь электронное подслушивание запрещено ООН еще в восьмидесятых годах. Микрофоны и микросъемки исключены даже из методов судебного разбирательства. — Ты не в ООН и даже не в Штатах. Ты в частном владении. И запомни: рассчитывай каждый свой шаг и взвешивай каждое слово. Ты птичка в роскошной клетке. У тебя работа — не бей лежачего и княжеский гонорар. У тебя ванна — мечта голливудской звезды и лаборатория — рай электронщика, а каждая из сотни кнопочек в столовой и спальне молчаливо взывает: жми, жми, жми! Нажмешь — и приемлешь все дары электронных данайцев, от слизывающей бритвы “Нежность” до ирландского рагу в чесночном соусе. Кстати, учти: с трехсотого этажа и выше — никакой химии. Все натуральное — и виски, и русская икра. А делать, говорить и думать будешь только по мановению указующего перста папы Доминика. Кроме “папы”, впрочем, есть еще и “кардинал” с не менее колоритным именем — Лойола. Правда, не Игнаций, а Педро, но служителей его именуют, как и положено, “иезуитами”. Их трудно отличить от всех прочих, потому что рясы они не носят, а служебный жетон прячут за лацканом. Но будь уверен, что кто-нибудь сейчас прильнул к экрану и удивляется, что это мы так долго делаем в ванной. И, подхватив совсем уже растерявшегося Майка под руку. Джонни вывел его в квартиру со словами, рассчитанными не на микрофон, а на рупор: — Суперкомфорт, милок. Быт цезарей. Не мытье, а нега в магометанском раю, только без гурий. Впрочем, гурии тоже будут — увидишь, а мне пора. Он тихо выскользнул в коридор, еще раз подмигнув на прощание, а Майк, обалдевший от полученной информации, растерянный и непонимающий, не потянулся ни к одной кнопочке, а плюхнулся на диван и уже не вслух, а про себя отчаянно выдохнул: “Влип!”3. “Я ХОЧУ ЖИТЬ!”
Утром он попробовал кнопки. Все сработало. И выстиранное, отутюженное белье, положенное накануне в белый пластмассовый ящик, и вкусный завтрак, и рюмка коньяку для бодрости. Автоматический механизм сменил и старые полуботинки на новые, более современные и изящные, из натуральной кожи. “Никаких заменителей” — видимо, такова была программа здешней потребительской автоматики. Но Майку вспомнились и слова Джонни о том, что с трехсотых этажей никакой химии. А до трехсотых? Что предлагала автоматика там? Надо было спешить в диспетчерскую, но Майк не воспользовался “мгновенником” у себя в холле — обычная лифтовая кабина на двух человек, кнопочная панель с цифровым набором, нержавейка и пластик. Он пошел пешком — надо же соблюдать “пешеходную дистанцию”. На этот раз она привела по коридору к мраморной лестнице, застланной иранским ковром, спустила на этаж ниже и вывела на диспетчерскую — анфиладу холлов с раздвижными дверями разного цвета. У диспетчерской Майка был голубой с синим номером 36 и фамилией в металлической рамке. Место фамилии было пусто: его предшественник уже снял свою. Кстати, Майк так и не узнал ее и чувствовал себя неловко, пройдя автоматически пропустившую его дверь. Но встретивший его за ней широкоплечий американец с каменно-неподвижным, точно вырубленным из розового туфа лицом, холодно пришел ему на помощь. — Роджер, — представился он. — Входите, не стесняясь, мистер Харди. Давно жду. И нетерпеливо. — Почему нетерпеливо? — переспросил Харди. — Долгий разговор, — отмахнулся Роджер. — Может быть, мы и вернемся к нему, а может, и нет. Сейчас же принимайте хозяйство. Майк осмотрел большой зал, не очень высокий — метра четыре—пять, не больше — с невидимым, но достаточно сильным источником света, дневного, как и всюду. По стенам тянулись блоки компьютеров со входными и выходными каналами, перфорационными лентами, вспыхивающими и потухающими глазками различных цветов, огромными, средними и совсем крохотными экранами с непрекращавшимся движением зубчатых и волнистых, тоже цветных линий и скользящими вдоль стен платформами управления. Все это было уже знакомо, предстояло лишь разобраться, как говорится, что к чему, где видеофонная и телевизионная связи, где лучевая, где блокирующая автоматика и контрольные пункты. Вскоре Майк с помощью Роджера установил все без труда, по и без энтузиазма. Роджер сразу это заметил. Его каменное лицо чуть оживилось улыбкой, насмешливой, но все же улыбкой. — Первый раз вижу новоиспеченного доминиканца с такой кислой рожей. Майк равнодушно пожал плечами: — Я конструктор, а не регулировщик. — Пленились гонораром? — Отчасти. Да и выхода у меня не было. Они же купили Притчадсов. — У меня тот же случай. Купили “Чикаго электрониклс”, а заодно и меня. — Пять лет назад? — Три. — Платите неустойку? — удивился Майк. — Получил наследство, вот и плачу. И если бы вы знали, с каким удовольствием! Впрочем, погодите, не спрашивайте. — Он извлек из кармана какой-то микроприбор и взглянул на стрелку крохотного циферблата: она не двигалась. — Не подслушивают, — удовлетворенно заметил он. — Правда, я поставил условие, чтобы убрали все микрофоны из диспетчерской. Но кто их знает? Ухожу почти со скандалом. С неустойкой! Первый случай в их практике. Насилу уговорили, чтоб вас подождал. — Неужели так плохо? — Хотите виски? — вместо ответа спросил Роджер, кивнув на бар у стола. — Приют алкоголика, — усмехнулся он, наполняя бокалы. — И вы станете через год таким же. Все зависит… — От чего? — От процента человеческого достоинства. Если оно у вас есть. — Я уже кое-что слышал и, честно говоря, услышанное не вдохновляет. — От кого слышали? — Неважно. Каменный Роджер снова засветился улыбкой, на этот раз совсем не насмешливой. — Хвалю. Вы, кажется, стоите того, чтобы вам открыли глаза. — На что? — На седьмое чудо уходящего века. С душком чудо. Смердит. — Чем? — Всем. А главное — парадокс обеспеченности и унижения. Обеспеченность максимальная, жизненный уровень выше, чем в Штатах, и платят в два раза больше, и в три раза — чем в Европе. Нет ни забастовок, ни трудовых конфликтов и профсоюзов нет, так что и пожаловаться все равно некому. Развлечения дешевле выпивки — стриптиз-бильярдные, бары и кино на всех этажах. Телевизоры принимают все программы Мега-лополиса. А через каждые десять этажей — стадион или ринг, все виды спорта, от коньков на искусственном льду до тенниса на травяных кортах. Хотите билеты на матч века между тяжеловесом Дома Клайдом Биггерсом и чемпионом Восточного побережья Штатов Джимми Мердоком — нажмите кнопку под титром ФД. А здешние ЭВМ подсчитывают не только плату за телесвязь и видеофонную трепотню, но и за каждый ваш жест, подлежащий оплате. За кнопочные завтраки и души Шарко, за свежее мыло в ванной и пьяное изобилие в ресторации за углом. А когда наступит день получки, сумма вычетов может свести ее до нуля. И пойдет жизнь взаймы, в неоплаченном долгу у “Хаус Оушен-компани”, потому что кнопочные радости стоят не дешево. А цены на квартиры, в особенности на верхних этажах, так высоки, что оплачивать их могут только миллионеры. И представьте — платят. Работают в своих банках, маклерских конторах или адвокатских офисах в Нью-Йорке и Вашингтоне и ездят сюда на уик-энд — еще бы: Хаус, седьмое чудо, океанский простор и парки, повисшие над пенистой пропастью. — Много платят — дорого берут. Закономерно, — пожал плечами Майк. — Где ж унижение? — А то, что вы никогда не остаетесь один. То, что каждое ваше слово фиксируется и записывается, потом производится соответствующая селекция и составляется досье, полностью определяющее ваш духовный портрет. С неподходящими контракта не возобновят, критиканов уберут с соответствующим иском, который адвокаты Дома всегда выиграют. Существуют и местные наказания: “иезуиты” чрезвычайно изобретательны. Кстати, возьмите вот этот приборчик. Когда захотите поговорить откровенно, проверьте: движется стрелка — значит, подслушивают. — Зачем им это? — недоумевал Майк. — Ведь сюда же приходят добровольно. — Но добровольно не уходят. Долг погашается отработкой в кредит. В идеальном “обществе потребления” Дома кредит доведен до магии. Он — кнут и пряник. На верхних этажах равняет с миллионерами из Майями, на нижних этажах закабаляет, как бессрочное долговое обязательство. — Ад и рай, — улыбнулся Майк. — Не смейтесь. Только рай — как в театре с партером и галеркой. На нижних, “производственных” этажах, где находятся все промышленные предприятия Дома, — то же кнопочное, только уцененное изобилие. Жратва — химия, выпивка — пойло, развлечения — верблюжьи радости. — А если бунт? — Какой? Забастовка? Рабочая аристократия не бастует. — Пассивное сопротивление. Никудышная работа, например. Пусть увольняют. — Кому выгодно увольнение с судебным иском. К тому же каждый работник Дома — его акционер и заинтересован в росте прибылей. А никудышную работу изобличит машина. — Можно же найти какую-то форму протеста? — Нельзя. Вы всегда будете в проигрыше. Почта перлюстрируется. Видеофонная связь только в пределах Дома. Отпуска запрещены — это оговорено в контрактах. Тюб закрыт. Ни один краулер не возьмет на борт работника Дома. А будете надоедать, с вами может случиться несчастье. Здесь есть и крематорий для таких неудачников. Майк помолчал, подумал и сдался. — Действительно — магия. — И самая черная. Со своими “тайнами мадридского двора”. Я как-то попробовал вычислить на машине, где и по каким признакам распределяется трехмиллионное население Дома. Оказывается, два миллиона восемьсот тысяч с лишним работают в системе его предприятий, промышленных и торговых. Более полутораста тысяч — в Штатах или вообще нигде, только живут здесь, как на курорте. Что делают остальные несколько тысяч жителей Дома, компьютер не знал: не было входных данных, никакой, по существу, информации. Спрашивается, где же они работают, если не покидают пределов Дома, и куда исчезают с воьми утра до шести вечера? — А вы не обращались с таким вопросом к шефу “доминиканцев”? — Я хочу жить. Лицо Роджера давно уже утратило свою неподвижность, губы дергались, зубы то стискивались до судороги в челюстях, то нижняя челюсть бессильно отваливалась. Он выпил, не разбавляя, еще бокал виски и тихо закончил: — Я потому и удираю отсюда, что проник в эту тайну. Они не тронут меня, если я буду молчать. Поэтому не спрашивайте меня ни о чем. Считайте, что разговора не было. В наступившей тишине вдруг щелкнула входная дверь, и низкий женский голос спросил больше по привычке, чем по существу: “Можно?” Дверь тут же открылась, пропустив миловидную девушку, больше похожую на итальянку или испанку, чем на американку из северо-восточной группы Штатов — ни безукоризненной прически, ни косметически оформленного лица, ни спортивной спины, как у девушек из колледжа. Стриженная по-мальчишески голова, пряди черных волос заложены за уши, не подкрашенные глаза и губы, и только большие темно-синие, как сливы, глаза заставляли вас обратить внимание на это лицо. Майк не был исключением. Внимание он обратил сразу и замер на полуслове. — Вы уезжаете, Роджер? Завтра, да? — спросила она, даже не взглянув на Майка, словно его и не было рядом. — Увы, — вздохнул Роджер. — Сдались? Еще один струсивший гладиатор. — Сдался. Красе сильнее. А Спартака у нас нет. Может быть, он? — Роджер искоса и с улыбкой взглянул на Майка и сказал: — Познакомьтесь, Полетта. Мой сменщик Майк Харди, и, кажется, стоящий парень. Я в людях редко ошибаюсь, вы знаете. — Полетта Лабард, — сказала девушка, глядя неподвижно и строго. — Лабард? — удивился Майк. — Однофамилица?.. — Не однофамилица, а приемная дочь, — перебил Роджер, — и учтите, Харди: она хотя и личный секретарь своего приемного папочки, но отнюдь не разделяет его взглядов на Дом и, пожалуй, на жизнь. И еще одно учтите: папочка пока не знает, с кем дружит и кому помогает его приемная дочь. Несмотря на все микрофоны. — Их нет только у отца и Лойолы, — сказала Полетта. — Гений с причудами, — добавил Роджер. — Зовут его Доминик — он придумал “доминиканцев”, нашел Лойолу — создал “иезуитов”. А это — четыреста пятьдесят шерифов и тысячи тайных и явных агентов, утверждающих власть магистра. И всех влюбил в себя — от Лойолы до Грэгга с Хенесси. — Не влюбитесь и вы, — пригрозила Майку Полетта. — У Доминика огромное обаяние ума и таланта. Кстати, вы сегодня же и познакомитесь с ним на проводах Роджера. Официально вас приглашаю. Четырехсотый этаж, внешний парковый ресторан. Любой информарий выведет. Будете? — Сочту за честь, — сказал Майк.4. МАГИСТР ОРДЕНА “ДОМИНИКАНЦЕВ”
В семь вечера Майк в белом смокинге, как это было принято на курортных приемах, воспользовался “мгновенником”, и через полторы—две секунды неизвестно откуда возникшая воздушная волна мягко вытолкнула его из клетки лифта на внешний перрон четырехсотого этажа. Мимо него с возрастающей скоростью двигались одна за другой семь эскалаторных кольцевых дорожек шириной в три метра каждая. Все кольца до последнего паркового, двигавшегося уже вместе с внешней оболочкой Дома, были выкрашены, как и клетки лифтов, в последовательные тона спектра, от фиолетового до красного. На парковом вас встречал газон, переходящий в кустарник, а затем, как на лесной опушке, в рассыпной строй деревьев разных видов. Каштан соседствовал с белой акацией, а магнолия — с североморской сосной. Быстрота движения здесь совсем не ощущалась, настолько гладким и плавным было скольжение этой стометровой в поперечнике, удивительной по красоте лесного ансамбля внешней парковой полосы. На перроне и движущихся кольцевых дорожках было довольно много народу. Поражало только отсутствие пожилых и детей, обычно преобладающих в лондонских парках. Здесь же преобладали тридцати- и сорокалетние, едва ли старше. Должно быть, шли на вечернюю прогулку парочками и группами поглазеть с высоты двух километров на океанский простор или поужинать в ресторанах и барах, растянувшихся кругом по внешней опушке леса. Дорогу Майк не искал. Уже первый попавшийся информационный киоск-автомат указал ее мелодичным, записанным на магнитною пленку голосом. Пешеходная дистанция и тут не оказалась слишком утомительным терренкуром. Ресторан под туго натянутой полимерной пленкой раскинулся совсем близко, прямо на траве среди цветников и кустарников, а кроны деревьев опускались над столами, днем даруя спасительную тень от субтропического солнца, а вечером — неяркий рассеянный свет от скрытых в их зелени электрических лампочек. “Умеют работать и жить”, — восхитился Майк, забыв о предупреждениях Джонни и Роджера. Они оба в таких же, как и у него, белых смокингах ничем не напоминали утренних мизантропов. Сидели за столом у края кольца над двумя километрами пропасти, отделенные от нее лишь тонкой прозрачной пленкой, которую, однако, не пробил бы даже средний артиллерийский снаряд, а широкая лента можжевельника и травы столь же надежно отделяла их от соседних столов, создавая иллюзию вечернего пикника на лесной лужайке. — Майк Харди, — представил его Роджер, и все, кроме Полетты, встали, церемонно склонив головы в знак уважительного внимания. “Грэгг”, “Лабард”, “Фрэнк”, — услышал в ответ Майк. — Ну, вот и опять встретились, старина, — небрежно откликнулся Джонни. Полетта только подняла и опустила ресницы, а одутловатый человек в морском кителе с золотыми нашивками ничего не произнес, не взглянул даже, а просто встал, поклонился и сел, прислушиваясь к происходящему. — Я особенно рад, что на этот раз к нам прибыл “доминиканец” из Англии, — сказал Лабард. — Скоро весь мир будет представлен в элите нашего Дома. За столом он был бесспорно самым заметным и примечательным. И внешне- в белом фраке и лиловом жилете, с давно вышедшими из моды волосами до плеч, и внутренне — с гипнотическим взглядом немигающих глаз, повелительными интонациями баритонального голоса и темной, тяжелой силой каждого сказанного слова. Все в нем привлекало сразу, покоряло и притягивало, подавляя сопротивление. В свои пятьдесят лет он казался еще совсем молодым, полным сил, готовых развернуться, как сжатая стальная пружина. Остальные невольно отступали перед ним, как бы уходя в тень. Педро Лойола, натурализовавшийся мексиканец с животом-мешком, выпирающим из-под бортов его псевдоморского кителя, с действительным или показным безразличием молча посасывал ледяной кофе с мороженым. Фрэнк, родной брат Полетты и, кстати, очень на нее похожий, оказался коллегой Майка — управляющим блоком химической автоматики. “Король нашей химии”, — представил его Лабард, безраздельно владевший разговором. Даже Грэгг, суховатый и седоватый владелец контрольного пакета акции “Хаус Оушен-компани” и фактический босс Лабарда, ни разу не перебил его. — Вернемся к Роджеру, — говорил Лабард. — Я все-таки не понимаю, почему вы расторгаете контракт. Мы нарушили его? Нет. Вас обсчитывали? Тоже нет. Вы имели здесь больше, чем любой равный вам инженер на континенте. — Вы же знаете, — поморщился Роджер, — наследство позволяет мне создать собственную лабораторию в Штатах. — А разве здесь у вас ее нет? — Трудно сообразить что-либо путное после дежурства в диспетчерской. — Вы цените деньги, Роджер. Ваш счет у нас чист: ни цента долгу. И вы с легким сердцем выплачиваете нам прожиточный минимум остальных лет. Двух лет. Где же логика? — Логика в свободе капитала, Лабард, — неожиданно вмешался Грэгг. — Насколько мне известно, сумма наследства Роджера вполне позволяет ему рискнуть неустойкой. — Не верю, — встряхнул длинными волосами Доминик. — Это не свобода капитала и не свобода времени. Это освобождение от нашего общества. Вы не любите Дом, Роджер. — Что подтверждают и мои данные, — как бы вскользь, никому не глядя в глаза, бросил Лойола. “Вы правы: не люблю, — хотелось крикнуть Роджеру, — и жажду свободы. От страха, от сыска, от невидимого и неслышимого насилия”. Но он промолчал. Лабард знал, что говорит. И тут подняла ресницы Полетта: — А за что ему любить Дом, Доминик? За электронные развлечения Лойолы? За свободу его “иезуитов” открывать наши комнаты и рыться в наших бумагах? О какой свободе идет речь? Я не могу без специального разрешения воспользоваться ни краулером, ни тюбом. Это я. А Роджер? А Джонни? А Майк? Не рассчитывайте, Майк, на морские прогулки и летние отпуска. Здесь не заинтересованы в свободе ваших передвижений. Доминик Лабард побледнел, замер, машинально согнул серебряную вилку, но сдержался. — Не знал. Моя дочь переходит в оппозицию. — Две неправды, — откликнулась Полетта. — Первая: я помогаю, а не мешаю вам. Как секретарь я бы удовлетворила даже Лойолу. И вторая: я не ваша дочь. — Приемная, Полетта. Но что это меняет? Я вырастил тебя, как родную дочь. — Котенка тоже можно вырастить, Доминик. — Полетта права, — поддержал сестру Фрэнк. — Вырастить и воспитать еще не значит отнять право мыслить по-своему. Семейный спор, думал Майк. А пожалуй, это не только спор, но и расхождение во взглядах, скрытая, но уже обнаруживающая себя враждебность. Ведь Полетта не случайно дружит с Роджером, а отношение Роджера к Дому уже известно. И Джонни хотя и молчит, только губами поводит, словно резинку жует, но явно сочувствует и Полетте и Фрэнку. Значит, в Доме действительно есть оппозиция его главе и создателю, и Доминик, вероятно, об этом догадывается, а Лойола наверняка знает. Тогда Лабард должен дать бой своим скрытым противникам, дать бой именно сейчас, чтобы завоевать Майка, потому что именно сейчас Майк должен решить, примкнуть ли ему к оппозиции или остаться нейтральным. Ведь пять лет впереди уже отнял контракт, а у него нет наследства, чтобы выплатить неустойку, а может быть, сейчас Лабард преодолеет его сомнения. И Доминик, словно прочитав мысли Харди, повел наступление, как адвокат, убежденный в правоте подсудимого, расчетливо и вдохновенно. — Не любить Дом нельзя. Все, что о нем писали как о чуде, — правда, и я не стыжусь напомнить об этом. Я убежден, что это и вершина демографической мысли. Вообразите себе моря и океаны мира, застроенные тысячами таких домов. Островов хватит. Бермуды, Багамы, Гавайские, Соломоновы — мало ли их? А ведь такому дому-городу нужна только скала размером не больше футбольного поля. Все население Земли можно будет разместить в этих океанских волчках — пять, десять, двадцать пять миллиардов. Не страшен никакой демографический взрыв, никакая перенаселенность. На Земле останутся — я имею в виду сушу — только опустевшие города-музеи, свидетельство прошлого нашей цивилизации, охотничий рай лесов и поля — сельскохозяйственная кухня планеты. Воскреснут изобилие викторианских житниц, романтика древних странствий по миру и цветущая прелесть природы, не тронутой человеком. Давайте, Грэгг, строить такие дома по всем архипелагам мира. Вкладывайте в них свои миллиарды — выручите триллионы. Станете вместе с Хенесси властителями единого мира! — А кто объединит этот мир, Доминик? — тихо спросил Грэгг, отхлебнув разведенный виски из бокала со льдом. — Кто объединит наши страны и нации, перекроит их экономику, сплавит политику и перелицует быт? Социалистическая система? Едва ли это устроит нас с вами. ООН? Что-то не верится. Мировая война? — А вдруг? — Тогда мы назначим вас фельдмаршалом, — засмеялся Грэгг. — Вы неисправимый мечтатель, Доминик. Прямой потомок ламанчского рыцаря. Живой анахронизм. Нет, мой друг, имеется другой, куда более реальный проект. — Какой? — Дом станет еще одним американским штатом. В ближайшие месяцы мы попробуем войти с этим предложением в сенат. Прямая выгода для Дома и для государства. Дом становится административной государственной единицей, а государство приобретает выдвинутую далеко в океан мощную оборонную базу. Ну, а мои миллиарды, Доминик, право, реальнее и прочнее ваших триллионов. Сжатые губы Лабарда чуть-чуть скривились. В усмешке? Не к месту. Но Майку все же показалось, что он смеется, беззвучно, одними глазами, но смеется откровенно и не стесняясь. — Штат? — повторил он. — Это мало. Очень, очень мало для Дома — только один штат. Он поднялся и, не прощаясь, пошел к выходу — высокий, длинноволосый, в белом фраке, точь-в-точь дирижер симфонического оркестра где-нибудь во Флориде.5. ИЗ ДНЕВНИКА МАЙКА ХАРДИ Первая запись
В ноябре, на пятый месяц моего пребывания в Доме, я начал вести дневник. Не часто и не регулярно, потому что времени было мало, да и дело это не легкое. Пишу не на бумаге, которую можно прочесть и которую негде спрятать, а на магнитной нитке, тонкой, как шелковинка, и прочной, как нейлоновый шнур. Для сохранности и безопасности наматываю ее на пуговицы своего двубортного пиджака — никакая “иезуитская” слежка не обнаружит. Пока закончил две записи, третью начал и ночами в уборной прослушиваю их на крохотном магнитофоне, вмонтированном в старый агатовый перстень. Раньше он без дела валялся — забавная поделка, а теперь ношу его, не снимая. Агат отвертывается, нитка закладывается в отверстие, и, приложив к уху, можно отчетливо слушать запись. Поначалу я подробно рассказал о Доме, о его кнопочной роскоши и неограниченном потреблении, о лифтовых экскурсиях по этажам-уровням и прогулках по “улицам” с искусственным видом на океан, о сверхрынках и универмагах-гигантах, где можно приобрести в кредит все, что жадно ухватит глаз, от пачки сигарет до миниатюрной пластинки, исполняющей целую оперу или симфонию на проигрывателе, втиснутом в зажигалку или пудреницу. Казалось, капитализм создал здесь модель идеальной стадии “постиндустриального общества потребления”, но я, даже не будучи ни коммунистом, ни просто знатоком и почитателем Маркса, все же разглядел, что разрекламированная золотая цепь уже на изломе. В дни получек редкие “акционеры” Дома — а мы все считались таковыми, получая годичные премии в несколько акций на брата, — радовались двум нулям на листке своего текущего счета. Первый — в графе дневной разницы между прожитой и заработанной суммой, второй — в графе месячной или годичной задолженности. Неизменная тенденция ее роста в конце концов превращала пятилетний контракт в семи- или восьми-, а то и десятилетний, а “преуспевший” таким образом акционер “Хаус Оушен-компани” мог купить себе свободу лишь ценою приобретенных акций, да и то, если задолженность не превышала их суммы. Любопытно, однако, что на нижних этажах — в цехах, мастерских, лабораториях и офисах Дома — почти никто и не жаловался на его порядок. Молодые, здоровые парни, завербованные во всех странах, у себя на родине считались редкими и высокооплачиваемыми специалистами. Здесь же неограниченное потребление и королевские траты превращали их в лунатиков, бредущих с закрытыми глазами по карнизу американского небоскреба. В личные карточки текущего счета они даже и не заглядывали. Зачем? Ведь общество здесь предоставляет им жизнь взаймы по образу и подобию миллионеров, пока они не постарели. А перспектива одинокой голодной старости мало кого тревожит в тридцать или сорок лет. Кто похитрее, сколотит все-таки капиталец, но хитрых не гак уж много в трехмиллионном обществе Дома, а если они и находятся, то могут смело украшать обложки журналов, как живая реклама “постиндустриальной” идиллии Дома. С обитателями его верхних этажей, за исключением друзей и связанных со мной по работе лиц, я почти не общался. Миллионеры и мультимиллионеры жили обособленно, позволяя своим банкирам оплачивать любую задолженность. А потребление здесь па трехсотых и четырехсотых уровнях стоило много дороже, чем на любом мировом курорте, за исключением плавающего острова Майями Флай-айленд. Конечно, как и во всяком богатом городе, этот суетный, праздный сброд был смешан и перетасован, как карты в колоде, где рядом с финансовым тузом ловчил в баккара мелкий червонный валет. С некоторыми из них был знаком и я, чокался в барах, обменивался визитными карточками, курил свои или чужие сигары. Но ни один из них даже издали не подвел меня к тайне, которая заставила бежать Роджера. Именно сейчас я и включаю свой потаенный магнитофон, еще и еще раз вслушиваясь в слов? дневника. Не ошибся ли я, не пропустил ли чего-нибудь, не усмотрел ли в чьих-то словах какого-нибудь хоть и далекого, но важного для меня намека. Оппозиция? Да нет же здесь никакой оппозиции. Есть несколько горячих голов, возмущенных диктаторскими замашками Доминика Лабарда и электронным сыском Лонолы. Они искренне восстают против материального благополучия человека, если оно приводит к морально-этическому бесправию. Но ни один из них не знает рецепта, как исправить это унизительное положение, и каждый по-своему относится. Для Фрэнка и Полетты это всего лишь результат болезненно растущего пагубного властолюбия их приемного отца. Даже Джонни относится к нему с философским равнодушием: меня лично это не задевает, стерплю, погашу задолженность и нищим, как приехал, уеду. Роджер в такой же ситуации сбежал еще раньше. Но он знал больше всех и — главное — знал тайну, так смертельно его напугавшую. Вот брошенную им перчатку и поднял я, твердо решив, что пяти лет достаточно, чтобы раскрыть карты властителей Дома и сыграть с ними в свою игру. В такой игре могут участвовать и газеты, всегда падкие на сенсацию, и общественность, которую иногда можно разбудить от спячки. Автоматическому сыску Лойолы я противопоставил свой, индивидуальный, прибегнув так же, как и он, к электронике. Обнаружив, что мой крохотный, вмонтированный в корпус ручных часов телевизор полностью дезорганизует прием микротелепередатчиков, я подарил его Лойоле, который обрадовался ему, как ребенок новой игрушке. Взамен я получил “иезуитский” значок-пропуск, который облегчал мне пешеходные и лифтовые экскурсии по Дому. Все микрофоны в лаборатории я подавил с легкостью, не опасаясь агентов Лойолы. Дня через два он меня спросил: — Это ваш ручной телевизор подшучивает над микропередатчиками? — Конечно, — признался я невинно. — Я уже сконструировал еще один. — Примем к сведению. — Лойола сморщился, как надувная кукла, из которой выпустили воздух. — Только больше никому не дарите, а то всюду, где появляюсь я, микропередатчики слепнут и глохнут. Но свой телевизорчик я сконструировал иначе. Он мог работать и на другой волне, лучше, чем всякая микротелевизионная связь Лойолы, хотя и в том же дециметровом диапазоне, рассчитанном на пределы Дома. Помимо обычных телевизионных программ из Штатов, которые можно было принимать с помощью дополнительной приставки, мой телевизор-крошка принимал и сигналы двух микротелепередатчиков, которые я собирался тайком установить у Доминика и Лойолы. Моя страсть к конструированию электронных микроагрегатов потихоньку превращалась в некую манию, хотя и вполне последовательную. Фрэнк посмеивался: — Ты становишься техническим гением сыска… Смех смехом, конечно, но мой “технический гений” давал свои — и вполне пригодные к делу — плоды. Я сконструировал еще два миниатюрных орудия: электронную отмычку, безотказно открывающую все виды замков, даже с цифровыми наборами, и электронный пистолет, бивший на двадцать метров крошечными ампулами с мгновенно усыпляющим газом, несколько миллиграммов которого полностью выводили человека из строя минимум на два часа. Газ мне достал наш “король химии” Фрэнк, он же отлил и “патроны” из тончайшего стекла, разлетающегося в порошок при ударе о любое препятствие. Пришлось сконструировать такой же пистолет и для Фрэнка. Свой я вмонтировал в перстень, который, в отличие от магнитофона с агатом, носил уже на другой руке, причем вмонтировал очень хитро: при повороте камня вправо открывался стреляющий агрегат, а при повороте влево — диск лучевого видоискателя. То был крохотный план Дома, увеличенный с помощью миниатюрной лупы до трех сантиметров в диаметре, с красной точкой, скользящей во всех направлениях и позволяющей сразу установить, где находится лицо, с ней совмещенное. Этим лицом был Лойола, которому я незаметно, но прочно вклеил в шеврон позолоченную бисеринку. Она и управляла движением красной точки на видоискателе, показывая, куда шел Лойола и где он задерживался. Четыре месяца работал я над своим электронным вооружением. В ноябре привел его в действие. Первый микротелепередатчик мы с Полеттой установили в кабинете Лабарда, находившегося в это время в Нью-Йорке. Не обошлось и без трудностей. Лабард был слишком искусным инженером, чтобы не обнаружить без выдумки установленный агрегат. Но мы придумали. Во-первых, он не нащупывался обычными средствами магнитного поиска, а во-вторых, в глазу бронзового Вольтера на книжной полке его не нашел бы сам Шерлок Холмс. Глаз высверлили и заделали так, что швы не просматривались и в лупу. А придя домой, я опробовал фокус: на экране моего ручного телевизора сразу же возникла улыбающаяся Полетта и часть стола с креслом Лабарда. “Ау, — засмеялась Полетта, — мы уже на крючке”. С Лойолой все оказалось сложнее: пришлось ждать, когда я ему понадоблюсь. — Устрой миниаварию с выводом из строя телевизионных контактов, — предложил Джонни. — Сумеешь? — А чинить он пригласит электронного Яго. — Бальца? — Может быть, Флетчера. — Предоставим обоих Полетте и Фрэнку. Кто откажется от выпивки за чужой счет? — Бальц непьющий. — Зато он неравнодушен к Полетте. И в один, как говорится, прекрасный день авария телеконтактов в кабинете Лойолы совпала с жестоким похмельем Бальца и Флетчера. Я ждал видеофонного вызова. И дождался. — Подымитесь ко мне, Харди. Что-то с контактами. Для вас это задачка из школьной практики. Я поднялся с инструментом. Что-то вскрыл, что-то сдвинул, что-то нажал. Лойола не отходил от стола, видимо не рискуя оставить меня одного, хотя сейф был заперт сложнейшим электронным замком, а телеэкран закрыт наглухо замкнутой шторкой. Но, должно быть, что-то в кабинете Лойолы все же заставляло его держаться настороже. Именно тогда и прожужжал зуммер видеофона. Заговор действовал: Лабард по настоянию Полетты вызывал Лойолу для срочной беседы. “А если по видеофону?” — нехотя протянул Лойола. “Не спорьте, Педро, — услышал я голос Лабарда, — тем более что вы не один”. Молодец Полетта, все учла! — Вам долго еще возиться? — недовольно спросил Лойола. — Минут пять—десять самое большее. — Закончите — уходите. Дверь за вами сама закроется. Я остался один. Контакты соединил мгновенно. Нашел место для телепередатчика, вмонтировав его в раму портрета Лабарда, висевшего как раз напротив письменного стола. Прибор был настолько мал, что не прощупывался там ни рукой, ни зондом, а магнитный песок его обнаружить не мог. Затем я быстро, стараясь ничего не упустить из виду, обошел кабинет. Никаких секретов. Только две лифтовые двери у входа буквально пригвоздили меня к месту. Два “мгновенника”. Почему два? У одного синяя дверь отличалась от своей соседки красной полоской у ручки. Зачем? Куда мог привести этот лифт? И не из-за него ли Лойола так не хотел оставить меня одного в кабинете? Я повернул камень перстня: красная точка остановилась в апартаментах Лабарда. Времени хватит, беседа шефа “иезуитов” с Домиником по милости Полетты займет не менее получаса. И я рискнул, хотя и понимал, что риск может стоить жизни. Сначала нажал ручку двери с красной полоской. Дверь открылась легко и бесшумно. Обыкновенная лифтовая кабина для мгновенного продвижения по Дому. Рискнул войти — ничего страшного, все на месте. Никаких панелей и указателей, кроме красной стрелки вниз на пусковой кнопке. Дверь, как и у всех “мгновенников”, автоматически закрылась. Оставалось только нажать кнопку. Я еще раз взглянул на застывшую на месте красную точку: значит, Лойола все еще сидел в кабинете Лабарда. Р-раз! И кнопка легко сдвинулась вглубь. Лифт без толчка, мягко и плавно переместил меня куда-то. Автоматически открылась дверь, оставив кабину на месте, как и у всех “мгновенников”. Значит, путь назад оставался открытым, если только лифт не вызовут до моего возвращения. Я оглянулся: синий холл с белой одностворчатой дверью, по которой периодически пробегала огненно-красная надпись: ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ КРАСНЫЙ ПРОПУСК! Красного пропуска у меня не было — я даже не мог открыть двери, чтобы не нарваться на охранника. Вместо этого я только отдернул лацкан пиджака, открыв для обозрения бляшечку “иезуита”. Я знал, что нахожусь под невидимым наблюдением с той секунды, как открылась лифтовая дверь. И не ошибся. Прозвучавший ниоткуда хриплый басок насмешливо спросил: — Пропуск забыл? Сегодня — красные. Учти, чучело! Ничего не оставалось, как немедленно ретироваться в кабину, кстати тут же закрывшуюся. На этот раз уже без нажима кнопки “мгновенник” доставил меня обратно с тем же комфортом. Я взглянул на красную точку в перстне: она медленно двигалась взад и вперед в миллиметровом диапазоне. Значит, Лойола расхаживал по кабинету Лабарда, в чем-то его убеждая. Порядок. Я тихо открыл дверь лифта и вышел из кабинета, чуть позвякивая инструментом в сумке. Секретаря у Лойолы не было, дверь его открывалась только для тех, кто предварительно сговаривался по видеофону. Поэтому, никем не замеченный, я спустился в лабораторию, тут же включив свой миниатюрный видеоскоп. Я увидел Лабарда в кресле и стоящего перед ним Лойолу. Крохотный размер фигурок не мешал мне — я видел их такими, какими знал. Телевизор включился, когда Доминик уже заканчивал: — Лучшее время — канун Нового года. Точнее, даже самый час встречи. Лучшее место — салон Грэгга и Хенесси. Там мы их и замкнем со всей ярмаркой. Полный набор миллионеров с Мегалополиса. А ты почему нервничаешь? — Я оставил Харди одного в кабинете. — Ну и что? — А вдруг он обнаружит второй “мгновенник”? — В крайнем случае спросит, зачем он тебе понадобился. — Жаль потерять такого специалиста. — Почему же его терять? — А если он найдет спуск в преисподнюю? — Харди достаточно умен, чтобы не лезть туда без разведки. Наивный Доминик! Он преувеличивал мою осторожность. Впрочем, он тут же набрал требуемый номер на панели видеофона. Я не видел экрана, но услышал чуть приглушенный двойным контактом молодой голос: — Я вас слушаю, сэр. — Кто-нибудь сейчас спускался по лифту “А”? — Я только сейчас сменил дежурного, сэр. При мне никаких происшествий не было, а в книге записей обе графы пусты. Вероятно, сменившийся дежурный не счел мое появление достаточно важным, чтобы вносить его в книгу записей. А перед уходом глотнули по стаканчику со сменщиком и забыли обо всем. Вот уж везет так везет! — Все спокойно, Педро, — вновь услышал я бархатный голос Лабарда, — тайна блистона — все еще тайна. Пока, — застучали деревянные дощечки: он смеялся. Лойола молча поклонился и вышел. Я выключил телевизор. Колени у меня дрожали, как у человека, который едва не попал в аварию. Блистон! Вот она, тайна Роджера. Я не раз удивлялся его негодованию против электронного сыска Лойолы. Ведь система электронного подслушивания и подглядывания существовала по крайней мере уже полстолетия. И мы, электронщики, только тем и занимались, что варьировали и совершенствовали микрофоны и микротелепередатчики. В конце концов даже в Америке электронной охоте за чужими секретами был положен предел законодательственным вмешательством Конгресса. Но в промышленности эта охота процветала по-прежнему, и напрасно негодовал Роджер: в его нынешней “собственной” лаборатории в Штатах сейчас, наверно, уже внедрены кем-нибудь такие же микротелепередатчики. Нет, здесь они действовали не столько для охоты за чужими тайнами, сколько в целях сохранения одной-единственной тайны, неизвестной, судя по разговору Доминика с Лойолой, даже фактическим владельцам Дома.6. ИЗ ДНЕВНИКА МАЙКА ХАРДИ Вторая запись
Сам по себе блистон ни для кого не был тайной. Новый трансурановый элемент, открытый канадским химиком после геологических изысканий на Луне в восьмидесятых годах и получивший свой номер в менделеевской таблице под его именем, приобрел не меньшую популярность, чем уран или золото. Не прошло и трех лет, как блистоновые руды на Луне начали разрабатываться совместно советско-американской компанией. Было заключено специальное соглашение, к которому присоединились все государства мира, не использовать блистон для военных целей. Если трех водородных бомб было бы достаточно для того, чтобы уничтожить Англию, то три блистоновые отправили бы на дно океана всю Северную Америку. В руках безумцев блистоновая бомба означала бы самоубийство мира. Что же вырабатывалось на подземных уровнях Дома, куда доставлял Лойолу специальный “мгновенник”? Я повторял и повторял слова Доминика: “Тайна блистона пока все еще тайна”. О какой тайне шла речь? Ведь блистон вырабатывался совершенно открыто и в Советском Союзе, и в США, причем исключительно в мирных целях, заменив уран в атомной энергетике. Блистон использовался и как новый вид топлива для космических ракет и трансконтинентальных краулеров, и, вероятно, сыграл и играет свою роль в механизме вращения Дома. Но почему это тайна? Почему скрываются работы за дверью со световой надписью “Предъявляйте красный пропуск” и почему Лойола так боялся, что я открою “спуск в преисподнюю”? Да и не об атомной энергетике думал Лабард, когда уверял Лойолу, что “тайна пока еще не открыта”. Но Роджер открыл ее и уехал, объяснив свой отъезд откровенным “я хочу жить”. Я тоже хотел жить, но еще не открыл тайны. Я только подошел к ней, понимая, что ступил па “минное поле”. Идти ли дальше? Роджер никого не посвятил в свое открытие. Я поступил иначе. В тот же день я сообщил о необходимости срочной встречи Полетте, Джонни и Фрэнку. В моей лаборатории, хотя и огражденной от электронного сыска, такое сборище могло бы вызвать подозрение Лойолы, который узнал бы о нем через две-три минуты. Но Полетта могла попросту пригласить нас в гости, а у нее мы были уже в полной безопасности. Прежде чем рассказать, я долго думал о том, что нас связало до того, как я проник в тайну Лабарда. Джонни просто были не по нутру диктаторские замашки Доминика и Лойолы. Уйдя из Дома, он стал бы обычным средним американцем, отменным специалистом, равнодушным к любой политической акции. Союз Фрэнка и Полетты вызывал еще большее недоумение. Лабард взял их из приюта с явно рекламной целью. Потеряв жену, сбежавшую со своим другом детства, он объявил публично, что создаст новую семью на новой основе, и тут же распределил детей “по рукам” с хорошей оплатой за содержание и “дрессировку”. Учились Фрэнк и Полетта не только в разных учебных заведениях, но и в разных штатах, зато оба прошли сквозь стихию студенческих волнений, снова в конце восьмидесятых — начале девяностых годов охватившую капиталистический мир. Видимо, это и сблизило их, когда оба оказались в кадрах “Хаус Оушен-компани” под крылом вспомнившего о них “отца”, которого они не знали и не любили. А что меня привязало к ним? Единомыслие? Едва ли. О политике мы почти не говорили, и я даже удивился, увидев как-то у Фрэнка настольную книгу моего отца, всю жизнь отдавшего борьбе на левом фланге лейбористской партии, но так и не приобщившего меня к ней. Книжка была растрепанная, фамилия автора оторвана, но название воскресило воспоминание детства: “Динамика социальных перемен. Хрестоматия марксистской науки об обществе”. Фрэнк смущенно прикрыл книгу иллюстрированным журналом. “Интересуешься?” — спросил я. “Надо знать больше, чем учили нас в школе”, — уклончиво ответил он и переменил тему. Разговор о политике с Полеттой тоже не получался, да и не политика нас связала. Видимо, просто общая неприязнь к Лабарду. Но сейчас дело менялось: надо было не ворчать, а действовать. — Я знал, что несколько тысяч рабочих занято на каких-то специальных работах, — сказал Фрэнк, выслушав мой рассказ. — Я просто этим не интересовался. — Я знаю больше, — добавил Джонни. — Мои транспортные счетчики ежедневно регистрируют отправку и возвращение безадресных рабочих партий. Эти лифты циркулируют три раза в сутки, не совпадая с обычными часами “пик”. Все группы отправляются на самые нижние уровни, ниже центрального подъемного вокзала. Я думал, что это связано с какими-то подводными работами — внутрискальные механизмы или подводные ремонтные операции. А может быть, специальная подводная полиция? — Несколько тысяч человек? Зачем? — удивился я. Джонни, недоумевая, пожал плечами: — Еще одна тайна. — Та же самая. Доминик ясно сказал: “Тайна блистона — пока еще тайна”. Для кого тайна? Для жителей Дома? — Или для мира? — задумалась Полетта. — А может быть, ты недослышал, — усомнился Джонни. — Случайная обмолвка в случайной беседе. — И обмолвки не было, — подчеркнул я. — Доминик очень ясно ответил на беспокойство Лойолы. Почему начальник полиции так встревожился тем, что оставил меня одного в кабинете? Из-за второго “мгновенника”? Бесспорно. Он совершенно логично предположил, что я им воспользуюсь. И почему Лабард тотчас же проверил это у наблюдателя? Хорошо еще, что мне повезло со сменщиком! — Ты сказал о красных пропусках? — Да. — Я слышал о синих. — Очевидно, их меняют из предосторожности. — Но ведь тайна блистона — нонсенс! — воскликнул Джонни. — Блистон не засекреченный препарат. Это все знают. — Верно, но не точно, — усмехнулся Фрэнк. — Блистон не засекречен в атомной энергетике. А если из него делать оружие? — Чушь! Зачем? Какое оружие? — Бомбы. На минуту все смолкли от чудовищности предположения. — А почему, вы думаете, сбежал Роджер? — сказал я. — Когда я спросил его об этом, знаете, что он ответил: “Я хочу жить”. Опять все замолчали. — Я вспоминаю день, когда он вернулся откуда-то вместе с Домиником, — задумчиво проговорила Полетта. — Он сразу же попросил у меня стакан виски. “Дай ему “хайболл”, Полетта, — сказал Доминик, — и не разбавляй содовой. Может быть, это сразу отшибет ему память”. — Они были внизу? — спросил Джонни. — Не знаю. — Между прочим, его отпустили без неустойки, — вставил реплику Фрэнк. — Или уплатили за молчание, или ликвидируют на континенте, — предположил Джонни. — Кто знает, может быть, мы завтра или послезавтра прочтем о кончине выдающегося американского специалиста по молеэлектронике, павшего жертвой лопнувшей воздушной подушки под его новой машиной. “Иезуиты” сделают это чистенько и без промаха. Я почувствовал, как рука Полетты судорожно сжимает мою. — Мне страшно, Майк. — Мне тоже. Но не бежать же всем, как Роджеру. — Надо проверить, — сказал Фрэнк. — Мы еще не все знаем. Ощущение нелепости происходящего вдруг охватило меня. Что мы знаем? Зачем Доминику блистоновые бомбы? Тайное соглашение с “ястребами” американской внешней политики? Вздор. Штаты не нарушат договора, подписанного всем миром. И не зря же его заключали: с блистоном не шутят и превратить землю в руины не рискнет ни одно государство. А вдруг Доминик сошел с ума или возмечтал себя новым Гитлером? Да ведь Дом уничтожат прежде, чем квазидиктатор продиктует свой ультиматум. — Не так-то легко уничтожить Дом, — сказал Фрэнк. — Чепуха. Одно попадание обыкновенной фугаски. — Термоионные преобразователи, создающие ветровой вакуум вокруг вращающейся конструкции Дома, оттолкнут любую бомбу в море. — А взрывная волна? — Она изменит направление или расколется, обогнув Дом. Я не сдавался: — Есть же флот, наконец! — Какой? Суперкраулеры-авианосцы? Тот же результат. — А подводные лодки? Фрэнк задумался. — Подводные лодки могут, конечно, серьезно повредить или даже частично разрушить скалу, на которой поставлен Дом. Может быть, часть засекреченных рабочих и занята сейчас на подводных работах. Не так уж трудно создать мощную заградительную сеть для торпед и подлодок. — Давайте по порядку, — вмешалась Полетта. — Допущение первое: Лабард вообразил себя новым Гитлером. Допущение второе: где-то на нижних уровнях Дома изготовляются блистоновая бомба и ракетное устройство для доставки ее на место. Спрашивается: где и с какой целью может быть нанесен первый удар? — Где? — переспросил я. — Вероятно, на севере Канады или в Гренландии, где жертв будет не так уж много. Лабард не станет уничтожать континенты, он просто пригрозит миру такой возможностью. Вот вам и цель удара. Ультиматум будущего владыки планеты. Одно государство может уничтожить другое, одна система может ниспровергнуть другую. Но Дом никто ниспровергнуть не может. Он неуязвим и безнаказан, если я правильно понял Фрэнка. И снова замолкли все, и опять спросила Полетта: — А что означают слова Доминика о том, что время — канун Нового года, место — салон Грэгга и Хенесси, где их и замкнут с какой-то целью! С какой? — Не знаю, — откровенно признался я. — До встречи Нового года у нас больше месяца, — сказал Фрэнк. И тут раздался смех Джонни, поразивший нас всех, как самая нелепая выходка в самое неподходящее время. — Не глядите на меня, как на сумасшедшего, — произнес он по-прежнему с веселыми искорками в глазах, — я сейчас оправдаюсь. Мне стало смешно, что мы в отчаянии обсуждаем смертельную угрозу миру, когда именно мы, четверо, легко можем предотвратить ее. — Как? — вырвалось у нас одновременно. — Проверить высказанное здесь предположение. Следить за всеми подозрительными встречами Доминика и Лойолы. Здесь нам помогут Полетта и ручной видеоскоп Майка. Все выяснить, вычислить и проявить. А затем наносим удар мы, прежде чем Лабард предъявит свой ультиматум. — Как? — опять повторили мы. — И это спрашивают электронщик и химик! — засмеялся Джонни. — Майк выключает всю связь в пределах Дома, в крайнем случае вообще выводит ее из строя. Я делаю то же с транспортом. Ни один лифт не сдвинется с места, замрут все эскалаторные дорожки и кольца. Фрэнк изолирует наши этажи жидкостным газовым заслоном в случае пешеходного продвижения полицейских отрядов. А основные полицейские резервации легко блокировать автоматическими решетками. Это еще более осложнит положение Доминика и Лойолы в их час “пик”. — А нас пристрелит первый же незаблокированный полицейский, — сказал я. — Так мы и будем ждать его лицом к стенке! Нет, уж драться так драться. Можно замкнуть наглухо диспетчерские пункты. Есть огнестрельное оружие и газовые гранаты. Есть, наконец, и лазеры, которые можно использовать против массированных полицейских ударов. А за это время можно сообщить всему миру о надвигающейся угрозе, о блистоновой бомбе в руках маньяка. Если он собирается замкнуть Хенесси и Грэгга вместе с сотней мультимиллионеров, значит, юридические владельцы Дома не участвуют в заговоре. Пожалуй, у нас не меньше козырей, чем у Лабарда с Лойолой. — А кто выиграет? — У нас много шансов. — Фифти-фифти. — Что-то мне не хочется умирать из-за короны Доминика, — вздохнула Полетта. — Мне тоже не хочется умирать, — поднял перчатку Фрэнк, — но, думаю, речь идет не только о короне Доминика. Никто не ответил, но никто и не возразил. — Значит, решено, — подытожил дискуссию Джонни. — Штаб проверяет, вычисляет и обдумывает. Собираемся у Полетты якобы для игры в бридж. Командует Майк. Я даже не отнекивался. Не все ли равно, кому командовать?7. ЧТО МОЖНО ЗАПИСАТЬ НА МАГНИТНУЮ НИТКУ
В конце ноября и начале декабря Майк дневника не вел. Он только записывал на свою магнитофонную нить все наиболее существенные встречи и разговоры, которые принимал его ручной микротелеприемник. Тут же записывались и комментарии “Совета четырех”, на заседаниях которого под видом очередной партии в бридж прослушивалась очередная запись. Записи располагались в следующем порядке. Лойола и незнакомый блондин со значком инженера-ракетчика на лацкане пиджака. — Значок вам придется снять во избежание ненужных вопросов. А работа, я думаю, вам знакомая. Обыкновенные боеголовки, только с другой начинкой. — А кто гарантирует мне безопасность, если об этом пронюхают ищейки? — У нас своя полиция. — Я имею в виду контролеров ООН. — Они к нам не заглядывают. — Но могут заглянуть. — Работы ведутся в полной изоляции от нижних и верхних этажей. — При заключении контракта меня предупредили об этом. Но я же буду возвращаться к себе, захочу развлечься. Контракт не отнимает у меня права на личную жизнь. — Не отнимает. Но жить вы будете на блокированных уровнях. Где-нибудь между сто одиннадцатым и сто шестнадцатым. — Но не в одиночном же заключении? — На этих уровнях около двадцати тысяч жителей. Целый город. Заводите знакомства, но не болтайте. — И есть где выпить? — Хотите в одиночку — нажмите кнопку у себя в номере. Требуется партнер или партнеры — бар за углом. Жаждете океанской прохлады — лифт доставит вас на внешнюю галерею. Там рестораны цепочкой. — Подходит, шеф. Джонни. Это специалист по глобальным ракетам. Должно быть, Нортон. Рыжий? Майк. И веснушчатый. Джонни. Он. Полетта. А выводы? Джонни. Проследить, где он будет в канун Нового года, и заблокировать подземку. Майк. Принято. Джонни. Если в баре, так этажи все равно прикрыты. Мы их замкнем окончательно. Ужин у Лабарда. Доминик, Грэгг, Хенесси — толстенький аккуратный человечек, Пикквик в современном костюме, — и две дамы — брюнетка с высоким и резким голосом и платиновая блондинка с мелодичным контральто. Запись открывается репликой Лабарда по адресу своей светловолосой соседки. — А что такое, по-вашему, счастье, Барб? — Любить и быть любимой. — Пресно, Барб. Иногда это случается, но быстро надоедает. — Доминик прав. — Это брюнетка с высоким голосом. — Счастье — это много денег и возможность обладать всем, что захочешь. Смех Лабарда: — Грэгг под этим подпишется. — Едва ли, Доминик. Счастье — это не наличие денег, а возможность их делать. Согласны, Хен? — Полностью. — И все вы ошибаетесь. — Бархатный голос Лабарда подымается до высоких нот. — Счастье — это власть. Абсолютная, неограниченная, беспринципная. Мир — это “джиг-со”. Карта, составленная из кусочков цветного пластика. Пятнышки-государства. Ты меняешь их, перекладываешь, выбрасываешь. Вспомните Гитлера. — Пиноккио, поставленный у карты немецкими мультимиллионерами. Забытая всеми кукла. Вы знаете Гитлера, Барб? — Кто-то из старых фильмов? — Зебра! — воскликнула брюнетка. — Мы же проходили это в школе. Что-то военное, да? — Умницы, — смеется Лабард. И Майк выключает запись. Майк. Кто эти идиотки? Джонни. Блондинка — Барбара Торнелли, итальянская звезда Голливуда. Брюнетка — ее соперница, Диана Фэн. Полетта. По-моему, Барбара неравнодушна к Доминику. Джонни. А ну их к дьяволу! Включай дальше, Майк. — Деньги могут дать власть, но власть — это не деньги, — снова включается бархатный голос Лабарда. — Ее капитал — сила. В обществе, основанном на неограниченной власти, нет ни классов, ни классовой борьбы, ни буржуа, ни пролетариев. Человек измеряется мерой силы, ему положенной. Он может быть ничтожной мышкой или живым богом, отбросившим все привычные моральные категории. Смешок Грэгга. — Отрыжка ницшеанства, Доминик… Я предпочитаю тоже старомодный, но живучий практицизм. Вы построили Дом на мои деньги. Вы говорите, я слушаю. Но пенки с молока снимаю я, а не вы. Теперь уже смешок Доминика: — Кто знает, Грэгг, чем измеряются зигзаги удачи? Фрэнк. Лабард раскрывается. Джонни. Повторяется. Полетта. Уже не стесняясь владельцев Дома. Должны же они это заметить. Майк. Сейчас узнаете. …Кабинет Грэгга. Грэгг и Хенесси. Запись произведена с микротелепередатчика общего типа для всего Дома. — Что-то мучает тебя, Джо. — Верно, Хен. С того вечера на веранде. — Доминик? — Он. — Я так и думал. Что-то он затевает. Странные слова. Странные мысли. — Я уже давно догадываюсь. Но что? — Украдет Дом? — А вдруг? — Это не слишком легко. — Но и не слишком трудно. Интересно, с какой целью он пригласил на работу Линца и Нортона? — Линц — старый блистонщик. Нужно же кому-то крутить Дом. — Не думаю, что его нужно крутить с помощью глобальных ракет. — Не понял. — Нортон — специалист именно по глобальным ракетам, недавно оставивший работу в военно-промышленном комплексе. — Неужели ты считаешь… — Я считаю только будущие прибыли и убытки. — Если он украдет Дом, мы потеряем около восьми миллиардов ежегодно. Не считая его номинальной стоимости. — Как бы мы не потеряли больше. Ты понимаешь, о чем я думаю? — А заманчиво все-таки стать владыкой мира. Я бы не возражал. — Какой ценой? Если Доминик выиграет, выгодно нам это или невыгодно? Мы и так контролируем экономику тридцати восьми стран. А что начнет Доминик? Стирать их с карты. Строить свои Дома в океане и загонять туда государство за государством. Начнет с Африки: там государств и народов как сельдей в бочке. Их — в океан, а континент — в джунгли. Так выиграем мы или проиграем? — Наши капиталовложения в Африке — это несколько десятков миллиардов. — Более полусотни. — А переселение народов процесс длительный. Доминик, конечно, наобещает нам миллионы акров плантации и даровую рабочую силу, но его демографические забавы — это игра. — Игра хороша, если беспроигрышна. Есть еще и социалистическая система, а там сложа ручки сидеть не будут. Нет, Хен, даже с блистоновой бомбой мы не вернем всего, что потеряем. — Тогда надо действовать. — А может быть, сначала проверить? Скажем, через агентство Хаммера. У них дельные ребята. — Не будем множить число самоубийц, бросившихся п океан с ведома Педро Лойолы. Есть и другие средства. Сенаторы, например. Половина поддержит нас, если понадобится. — Тогда подумаем. Еще есть время. Полетта. Как это их свободно выпускают отсюда после таких откровений? Фрэнк. Доминик показывает, что его уже ничто не пугает. Майк. Сейчас вы узнаете, почему. Лабард и Лойола. — Остались считанные дни. Реклама самой дорогой встречи Нового года должна быть усилена. Нажимай все кнопки: газеты, радио, телевидение. Воскреси старомодные “сандвичи” на улицах, листовки с вертолетов, кинорекламу на крышах. Пусть все и везде кричит: Новый год, Новый век, Новое тысячелетие! Где самая фешенебельная, самая дорогая встреча? В Доме! Я хочу собрать здесь всех мультимиллионеров Мега-лополиса. В час ночи я им преподнесу ультиматум. — Это копия. — Наметанный глаз. Подлинник пошлем в ООН. — Третий экземпляр я возьму себе в сейф. Кстати, кто печатал? — Диктофон. — Не доверяешь Полетте? — Чем меньше людей знают об этом, тем лучше для дела. — Когда будет нанесен первый удар? — В полночь. На рубеже веков. — К одиннадцати у Нортона все будет готово. Джонни. Хорошо бы узнать текст ультиматума. Майк. Беру на себя. Джонни. У Лойолы сейф с электронным замком. Майк. А у меня электронная отмычка. Полетта. Надо спешить, мальчики. Джонни. У меня все готово. У них — к одиннадцати, у нас — к десяти. Фрэнк. Не забывай о полиции. Они могут поставить охрану раньше. Джонни. Я никого не пущу в диспетчерскую. Есть специальное распоряжение Лойолы: все приказы только от него и только по видеофону. У Майка тоже. Кстати, нас не собираются заменять перед акцией. Майк. Откуда ты знаешь? Джонни (загадочно). Знаю. Майк. Ну, а сейчас все узнают. Лойола и Джонни. — Я вас слушаю, сэр. — К сожалению, только неприятное, Джонни. — Я готов, сэр. — Вы не будете встречать Новый год, Джонни. Вы будете работать. — С повышенной оплатой, сэр? — В три раза. — Возражений нет. Жду инструкций. — Вы знаете, конечно, о существовании грузового лифта “даблыо”? — Запломбированного? Конечно. — Вы сорвете пломбу и подымете его по первому сигналу лампочки. За минуту получите мой личный приказ. — Есть опасность? — Какая? — Но лифт “даблыо” запроектирован только для подъема грузов на уровень причала сверхкраулеров. В случае опасности, сэр. — Вы не в курсе, Джонни. Лифт “даблыо” подымает на верхнюю площадку Дома. — Но… — Никаких “но”. Я приказываю — вы подчиняйтесь. И не проявляйте излишнего любопытства, как не проявляет его Майк. Могу сообщить вам обоим, что я доволен вашей работой. Можете идти. Фрэнк. Что это за таинственный лифт? Джонни. Понятия не имею. Он с основания Дома запломбирован. Полетта. А я догадываюсь. Он выведет ракету на смотровую площадку. Джонни. Не выведет. Майк. Не сорвешь пломбы? Джонни. Не только. Заблокирую авторешетками все выходы с подводных уровней. Полетта. Да благословит вас бог! Это я по старой привычке, простите. Воспитывалась у католичек. Майк. Охотно прощаем, девочка.8. В СЕЙФЕ ЛОЙОЛЫ
Осталась всего неделя до встречи Нового года, самого страшного года в нашей судьбе. Вернее, он мог быть таким. Ожидание — всегда нервотрепка. И когда ждешь окончания дела, исход которого беспокоит, или приговора врача, или просто свидания с девушкой, на которое она опаздывает, и ты не отрываясь следишь за бегом минутной стрелки, сердце бьется все чаще с каждой секундой. А мы были в цейтноте, когда ход противника требовал немедленного ответа. Противник записал ход, но мы не знали его. Запись хранилась где-то у Доминика и в сейфе Лойолы. Текст ультиматума, который должен был зачитать Лабард после боя часов, возвещающего пришествие нового века. Более полутора тысяч гостей ожидалось на этой встрече, и каждое слово ультиматума должно было встать костью в горле, которую не запьешь коньяком или шампанским. Мы всё подготовили, всё рассчитали, как шахматный этюд. Никакие ракеты с боеголовками не подымутся наверх ни в десять, ни в одиннадцать часов, блистоновый “пистолет” Лабарда не выстрелит, и человечество может оставаться спокойным: новый век придет тихо и торжественно, как Санта-Клаус, не разбив ни одного бокала на столиках в гостевом салоне владельцев Дома. Десять сенаторов и шесть губернаторов, генеральный прокурор Мегалополиса и два министра, сотня миллиардеров и более тысячи миллионеров будут мирно звенеть бокалами и кричать: “Хелло! Ура! Желаем всем счастья и процветания в новом столетии!” Но что произойдет через час, через два, когда связь будет восстановлена, лифты пущены, а наши трупы будут дожевывать акулы, шныряющие вокруг седьмого чуда уходящего века? Нас только четверо, а “иезуитов” Лойолы сотни на каждом этаже. Мы можем радировать во все газеты мира о том, что ждет человечество, мы можем вызвать подводный флот десятка держав, а “пистолет” Лабарда успеет выстрелить, уничтожив полмира. Мы можем убить Лабарда и Лойолу до последней полуночи года, но вдруг окажется, что ультиматум Доминика был новогодней шуткой, и мы все четверо сядем на электрический стул. Не зная ультиматума, мы не могли действовать; не зная, что происходит в подводных этажах Дома, мы не могли пугать человечество. Короче говоря, мы не могли двинуть ни одной фигурой, пока противник не объявит записанный ход. Следовательно, мы должны были найти и продиктовать миру текст ультиматума за несколько часов до того, как он мог быть прочитан одновременно с вырвавшейся в небо ракетой. Этому и было посвящено наше последнее совещание во время очередной “партии в бридж” за неделю до Нового года. — Может быть, мы сделали ошибку, не создав массовой оппозиции заговору? — с сомнением высказался Майк. — Глупости! — сказал Джонни. — Создать агитационный комитет, искать ущемленных и недовольных — у нас ушли бы на это месяцы, а может, и годы. При наличии электронного сыска Лойолы ни один разговор не остался бы неподслушанным. Кто-нибудь попался бы через два дня, и весь наш заговор лопнул бы, как мыльный пузырь. Роджер не зря бежал: его уже фактически выследили. — Джонни прав, — согласился Фрэнк, — у нас единственный выход — уничтожить Доминика. — Останется Лойола. — Начнем с Лойолы. — Не с Лойолы, а с поисков текста ультиматума, переданного ему Домиником, — сказала Полетта. — Майк взял это на себя еще две недели назад. — Но Лойола никуда не выходит. — А как же он общается? — Только по видеофону. — Может, “потрогать” Доминика? — Займет слишком много времени. Я не знаю, где он хранит секретные документы. — Тогда в открытую, — сказал Джонни. — За два часа до встречи, когда связь и лифты будут выключены, атакуем Лойолу. А там видно будет. 31 декабря газеты, мелькая шапками на всю полосу: “Самая дорогая встреча Нового года”, “Короли биржи и банков в новогоднюю ночь над океанской пучиной”, “Миллионы и миллиарды в гостях у гения нашего времени”, валялись на полу под ногами. Майк ожесточенно топтал их, отмеряя шагами окружность диспетчерской. Связь он только что выключил. Ни один телевизор, ни один видеоскоп не осветится, хоть сотни раз нажимай кнопки. Не откликнется ни телеграфная, ни радиосвязь с континентом. Ни одно приказание не сможет быть передано по этажам. Майк знал, что одновременно остановились все лифты и эскалаторные дорожки. Только “мгновенники”, доставляющие гостей на четырехсотый этаж, ждали своей очереди. Лестницы же от подземных этажей до трехсотпятидесятого уровня, откуда начинались диспетчерские промышленных функций “Хаус Оушен-компани”, были автоматически перекрыты стальными решетками, которые нельзя было ни пробить, ни взорвать. Ровно в десять в диспетчерской появились Фрэнк, Полетта и Джонни. — Все готово, Майк. — Все. Только боюсь, что это обнаружится в ближайшие полчаса. — Мы уже двенадцать раз это обсуждали. Обнаружится так обнаружится. Встретим. — Хорошо, что Доминик лег спать и просил его не беспокоить, — сказала Полетта. — Зато Лойола бодрствует, — зло усмехнулся Майк. — Тем лучше: будить не придется. Они вышли вместе. Подняться надо было всего на один пролет лестницы. Никто не встретился. — Где же “иезуиты”? — удивился Майк. — Вызваны на четырехсотый этаж. Туда уже съезжаются гости, — пояснил Джонни. Белые пластиковые двери Лойолы, как всегда, были закрыты. Майк молча извлек свою электронную отмычку и почти мгновенно открыл замок. Два гиганта-охранника бесшумно выросли в коридоре, но струя газа из крохотного пистолета Фрэнка так же бесшумно бросила их на ковер. Высокий ворс его погасил звук падения тел. Холл перед кабинетом был пуст, а дверь открыта. Лойола, не ожидавши” визитеров, суетился у панели с кнопкам” связи и транспорта и даже головы не поднял, когда в кабинет вошли все четверо. — Бросьте, Лойола, — сказал Джонни, подошедший ближе, — не тратьте сил. Все выключено. — Как — выключено? Кем выключено? — крикнул Лойола, все еще ничего не понимая, но руки его уже машинально шарили в приоткрытом ящике стола в поисках оружия. — Руки на стол, — потребовал Джонни. Но Лойола уже успел выхватить пистолет. Майк, ближе всех находившийся на линии выстрела, мог стать первой жертвой — трусом Лойола не был. Майк не прочел в его глазах страха — только мгновенное осознание того, что произошло и может произойти. Да, трусом Лойола не был, но он не был слишком проворным. Поворот перстня Майка предупредил неминуемый выстрел. Струя того же газа, которым был заряжен и пистолет Фрэнка, ударила кардиналу “иезуитов” в лицо. Эффект был мгновенным — тело Лойолы мешком сползло с кресла. Полетта стояла отвернувшись, но ее не упрекали: девушке не к лицу было заниматься “мужским” делом. Джонни и Фрэнк, не церемонясь, вытащили грузное тело Лойолы из-под стола и щелкнули наручниками. Теперь его безвольные руки оказались скованными. — Вы убили его? — хрипло спросила Полетта. — Разве его убьешь? — усмехнулся Фрэнк. — Полежит пару часов и очнется в наручниках. Да и Новый год, пожалуй, встречать не будет: мускулы ослабнут, не встанет. А Майк тем временем уже возился со своей отмычкой у сейфа. Сначала отмычка вращалась быстро и Майк только отмечал на диске, какие цифры вспыхивали. Составив число, он снова пустил в ход отмычку, передвинув в ней какие-то штифтики, и замок сейфа мягко щелкнул, обнаружив содержимое “тайного тайных”. Поверх кипы бумаг лежал всего один лист, отпечатанный на диктофоне, но он-то и был нужен им как самая крупная драгоценность в мире. — “Дорогие дамы и господа, — начал читать Майк дрожащим от волнения голосом, — вот мы уже подняли и выпили свои бокалы за Новый год, Новый век и Новое тысячелетие. Пробили часы. И одновременно с последним, двенадцатым боем ушла в небо первая ракета с верхней площадки Дома. Первая ракета с блистоновой боеголовкой. Не удивляйтесь и не трепещите. Я не признавал и не подписывал договора о запрещении блистонового оружия. Правда, у меня нет государства, но есть Дом с трехмиллионным населением, который сильнее любого государства и неуязвим для пушек, ракет и бомб. И он может войти в ООН, скажем, на тех условиях, как административный округ Колумбия со столицей Вашингтон входит в состав Соединенных Штатов Америки. Ни одно государство не сможет помешать мне, потому что моя первая ракета с блистоновой боеголовкой уже стерла с карты земного шара часть суши, равную половине Европы. Это не очень важная часть для человечества — я гуманен и выбрал для первого удара Гренландию, где много льда и не так уж много человеческих жизней. Но второго удара человечество не допустит: какое государство отважится на самоубийство? Так будет объединен мир, единоличным главой которого стану я, новый мир без войн и границ, без классовой борьбы, забастовок и демонстраций. Когда-то нечто подобное провозглашал Гитлер, но был он мал и ничтожен. Теперь историю пишу я, и мое перо легко вычеркнет коммунизм и социализм, а судьбу человека будет определять по аппетитам его, по силе его, по способностям приложить эту силу к достижению доступных ему высот. Будут сверхлюди и просто люди и недочеловеки, высшие и низшие расы, господа и рабы. Многие из вас будут мне аплодировать — я уже вижу сенатора Бультивелла и двух губернаторов с восторженно поднятыми руками, — и я не обману ваших надежд. Кое-кто пострадает, конечно. Грэгг и Хенесси потеряют миллиарды Дома, но я отдам им английские и бельгийские рудники в Африке, и они простят мне эту экспроприацию. Смирятся и Белый дом, и Уайт-холл, и Кремль, потому что мое маленькое государство уничтожить нельзя, а я могу уничтожить полмира”. — Мы угадали, — сказал Фрэнк, — он начал с Гренландии. — Не начал, — сказал Джонни. — Начнем мы.9. КОНЕЦ ДОМИНИКА
Майк спустился в диспетчерскую и, включив внешнюю радиосвязь, передал следующую радиограмму: “ООН и всем правительствам мира. Говорит радиостанция “Хаус Оушен-компани”. Готовится чудовищное преступление против мира и безопасности. На нижних подводных уровнях Дома уже давно фабрикуются в тайне от трехмиллионного населения Дома ракетные боеголовки из блистона, запрещенные специальным соглашением всех государств, входящих в Организацию Объединенных Наций. Волею главы Дома инженера Доминика Лабарда первая ракета с такой боеголовкой должна быть выпущена сегодня после полуночи во время встречи Нового года на четырехсотом этаже. Одновременно Доминик Лабард огласит перед собравшимися свое обращение к ООН и правительствам всего мира”. Далее следовал изъятый из сейфа текст. “Мы, группа противников заговора, — продолжал выстукивать открытым текстом свое обращение Майк, — блокировали ракетную шахту Дома. В полночь блистоновая пушка не выстрелит. Полицейские резервации почти на всех этажах блокированы автоматическими решетками. Просим к утру прибыть инспекцию ООН для обследования блистоновых установок Дома. Инспекторов должен сопровождать охранный отряд на случай возможного сопротивления полиции, если блокировка казарм к тому времени будет снята. Начальник полиции Дома пока обезврежен и находится под арестом в своем кабинете”. Зажглась красная лампочка видеофона. — Хорошо, что ты включил поэтажные связи, — сказал Фрэнк. — Здесь Грэгг и Хенесси. Мы вызвали обоих. Передай по радио от их имени, что они присоединились к нам и поддерживают наше обращение. Майк снова вышел в эфир, кратко сформулировав заявление владельцев Дома. Закончив, тяжело вздохнул и опустил руки, как боксер между двумя раундами. О том, что было сделано, он уже не думал: оно отняло все помыслы, желания и силы. Тянулась цепочка ненужных мыслей: хорошо бы выпить чашку кофе с ликером, пришить оторванную пуговицу на рукаве, отстричь загнувшийся на мизинце ноготь. Когда Майк поднялся наверх, то никого не увидел: яркий свет ослепил его — у него в диспетчерской было темно, — и лица людей, ожидавших его в кабинете Лойолы, казалось, плавали в тумане, подсвеченном невидимыми “юпитерами”. И первое, что он услышал, было жалобное восклицание Полетты: — А ты поседел, Майк. Спереди совсем белый. В никелированной поверхности сейфа отразилось уменьшенное лицо Майка с серебряной, точно припудренной, набегающей на лоб прядью волос. — Вы герой, мистер Харди, — слышал он голос Грэгга и наконец-то разглядел американца. — Чтобы предотвратить такое бедствие, нужно обладать не только умом, но и рыцарской храбростью. “Еще бы, — зло подумал Майк, — сохранили тебе восемь миллиардов годового дохода”. — Я же был не один, — сказал он лениво. Говорить не хотелось: в глазах мелькало видение ракеты с блистоновой боеголовкой — что-то длинное и сверкающее, как башня в пламени. — Мы оценим всех, — торжественно произнес Грэгг, — только бы вовремя прибыла инспекция ООН. — При чем здесь инспекция ООН? И вообще, что, собственно, происходит? Я пришел сюда по трупам охранников, — раздался гневный голос с порога. В дверях, как изваяние, стоял разъяренный Лабард в белом парадном смокинге. — Они живы, — сдержанно ответил Фрэнк. — Временный транс. Но Лабард не сдерживался, он еще ничего не понимал. — Почему стоят лифты? — закричал он, заметив Джонни. — Лифты без перебоев доставляют прибывающих гостей на четырехсотый этаж, — отбарабанил Джонни. — Я спрашиваю о лифтах вообще. По какому приказу они остановлены? И вообще, почему вы здесь? Где Лойола? Джонни не требующим пояснения выразительным жестом указал на ковер, где со скованными руками лежал кардинал “иезуитов”. — Мертв? — вскрикнул Лабард. — Очнется, — равнодушно заметил Джонни. — Вы проиграли, Доминик, — сказал склонный к патетике Грэгг, — мы уже ознакомились с вашим ультиматумом, знаем все о готовящемся преступлении и благодарны людям, сумевшим ему помешать. Доминик сделал шаг назад, к открытой двери. — Не трудитесь, Лабард, — остановил его Джонни. — Все этажные перекрытия блокированы. Все лифты, кроме гостевых, остановлены. Хотите вызвать полицейских — вы найдете лишь тех, которые дежурят в банкетном зале. А они подчиняются только приказам Лойолы. — Что вы говорили здесь об инспекции ООН? — спросил Доминик. — Мы вызвали ее к утру проверить ваши блистоновые установки на подводных уровнях, — сказал Фрэнк и, подойдя вплотную к Доминику, тихо добавил: — Ваши руки, сэр, если не хотите насилия. Еще раз мягко звякнули наручники. — И ты, Фрэнк? — вздохнул Лабард. — И он, и я, — откликнулась Полетта. — Вы маньяк, Доминик. Называть вас отцом — значит оскорбить память наших действительных родителей. Вы преступник, чудовищный, хладнокровный, безжалостный. — Как и те, которых когда-то судили в Нюрнберге, — прибавил Фрэнк. К нему присоединился и до сих пор молчавший Хенесси. — Вас тоже будет судить международный суд, Доминик. И я, как юрист, могу вам сказать, что ни один адвокат не поможет вам ускользнуть от петли. Мне страшно подумать, чем кончилась бы начатая вами мировая война. — Жаль, — сказал Лабард. — До войны, пожалуй, дело бы не дошло. Но я проиграл, вы правы. Не посмотрел, что у противников на руках все четыре туза: ум, расчет, связь и транспорт. — Он усмехнулся. — Гордитесь: вы почти победили непобедимого Лабарда. — Почему “почти”? — удивился Джонни. — Побеждать нужно живых… — Лабард не закончил, поднял скованные руки к лицу, проговорил: — Это старомодно, но по-прежнему надежно, — и надкусил уголок манжета сорочки. Джонни рванулся к нему, но не успел: Лабард вздрогнул, дернулся и, не сгибаясь, упал на ковер. — Идиот! — простонал Джонни. — Это я идиот. Не сообразил. — Мы все не сообразили, — сказал Фрэнк. — Но, может быть, так и лучше… Никто не смотрел на Доминика. Никто не подошел к нему, не нагнулся над ним. Только Джонни сказал, неловко скривив губы: — Наручники, пожалуй, придется снять, — и снял их, не прикасаясь к телу. — Я думаю, до прибытия инспекции и полиции из Штатов нам ничего не нужно трогать в этой комнате, — деловито проговорил Хенесси. — Врач не потребуется ни ему, ни Лойоле — тот все равно останется до утра в таком состоянии: я знаю действие этого газа. Надо закрыть комнату и уйти. — Хен прав, — сказал Грэгг и взглянул на часы, — без десяти двенадцать: попадем как раз вовремя. Хозяева Дома должны обязательно быть на банкете, и встреча Нового года должна пройти не омраченной даже намеком на то, что произошло в этой комнате. Вам, Харди, придется принести себя в жертву и остаться в радиобудке для связи с миром, если возникнет необходимость отвечать на многочисленные радиозапросы о случившемся. Я думаю, что уже сейчас нас вызывают отовсюду, а радио Дома молчит. Поэтому поспешите. Лифты, я полагаю, кроме гостевых, можно не включать до утра. Тех из вас, кто хочет встречать Новый год в общем зале, я приглашаю к столу, но у кого возникнет желание остаться в диспетчерской вместе с Харди, я, естественно, не возражаю- все для праздника будет им обеспечено. Но всем нам до утра пригодится и сдержанность, и умение сохранять спокойствие в любой ситуации. Так закончился этот последний и самый страшный день в уходящем году.10. ИЗ ДНЕВНИКА МАЙКА ХАРДИ Третья, и последняя запись
Мы с Полеттой уезжаем в Англию. Дом получил статут города, и мэром единогласно избран Фрэнк. Директором всех коммерческих предприятий Дома назначен Джонни. А вместо находящегося под следствием Педро Лойолы прибыл бывший начальник полиции штата Нью-Джерси. Мне не пришлось платить неустойку. Напротив, мне предложили премию в сумме моего годового оклада. Я отказался: не хочу ничем быть обязанным администрации Дома. — Мне жаль отпускать вас, Харди, — сказал Грэгг, — не понимаю вашей неуступчивости. Может, все-таки передумаете? — Нет, мистер Грэгг, не передумаю. Я устал — слишком много пережито. Вы помните: я приехал сюда брюнетом, а уезжаю почти седым. — Вы можете возглавить наше отделение в Англии? — Предпочту небольшую, хорошо оборудованную лабораторию с ассистентом в лице Полетты. — Я, между прочим, так и не догадался о ваших отношениях, — усмехнулся он. Я тут же отреагировал: — Мы, англичане, как вы сами заметили, умеем быть сдержанными в своих чувствах. С Джонни мы расстались по-дружески, осушив две бутылки мартини, но, в общем-то, без особых сожалений и угрызений. Прощание с Фрэнком было иным. Мы стояли на внешнем парковом поясе Дома над океанской далью, уплывающей в сумерки. Глубоко под нами шумели волны. — Ты можешь гордиться единодушным избранием, Фрэнк, — сказал я. Он усмехнулся: — Чем тут гордиться? Правые элементы в руках Хенесси и Грэгга. Левые всегда бы меня поддержали. Ты не знаешь одного, Майк: даже без помощи Джонни ракета Доминика все равно бы не вышла с боеголовкой. Накануне ее заменили. — Кто? — Нашлись и у меня единомышленники на блистоновых установках. Я посмотрел ему в глаза: онулыбался откровенно и многозначительно. — Странно, Фрэнк, — сказал я, — ты же всегда говорил о рабочей аристократии Дома и о невозможности избавиться от электронного сыска. Он не смутился. — Это Роджер говорил, а не я. А кроме того, не всегда и не всем можно говорить то, что знаешь. Даже среди рабочей аристократии может найтись горсточка настоящих людей. Главное сделано, а за годы моего правления надеюсь сделать еще больше. Без боеголовок, ракет и электронного сыска. “Иезуиты”, думаю, нам тоже не понадобятся, а хозяйские аппетиты можно будет и подсократить. — Едва ли это обрадует Хенесси и Грэгга, — заметил я. — А ты обольщен их доверием? — Не обольщен, но удивлен, пожалуй, что они не поддержали Лабарда. — Из благороднейших побуждений, из любви к человечеству, да? Нет, мой милый, из трезвого экономического расчета. Ты же сам записал их разговор. Игра хороша, если беспроигрышна. А в игре Лабарда было слишком много риска и авантюры. Рулетка. Не для солидных, обеспеченных ставок. Конечно, американские “ультра” охотно возвели бы Доминика на мировой престол, но трезвых голов на американском финансовом Олимпе все-таки больше. И они, эти трезвые головы, как и Грэгг с Хенесси, могли бы точно подсчитать: смирится ли мир с угрозой Лабарда? Нет, не смирится. Есть и разумные руководители наций, есть, наконец, социалистическая система, и блистоновые бомбы изготовить там тоже сумеют. Кстати, и скорее и больше. Да и так ли уж неуязвим Дом? Пробовали массированные воздушные налеты? Нет, не пробовали. А вдруг попробуют и прорвут где-нибудь защитный ионный барьер? Под водой еще проще. Там одной торпеды с блистоновой начинкой достаточно, а взрывная волна сметет все восточное побережье Мегалополиса. Хен с Грэггом все несомненно продумали, подсчитали и учли. И не такие уж они ангелочки, чтобы тревожиться о судьбах человечества. О своих миллиардах они тревожились и нас покупали, чтобы их сохранить. Только ничего у них не выйдет. — Отнимете? — Отнимем. Два—три миллиарда они потеряют наверняка. Мы создадим профсоюзы, отменим кабальный кредит, поломаем всю электронику сыска и добьемся снижения цен до континентального уровня. И учти, что все это только начало. Я вспомнил мечту Лабарда о его демографическом рае. — И ее на свалку дурных воспоминаний? А не просчитаетесь? Фрэнк предпочел не заметить иронии. — Почему воспоминаний? Гигантские дома-города на воде уже и сейчас строят. В Средиземном море на острове, откупленном французским правительством у наследников миллионера Онассиса, на Змеином острове против устья Дуная по проекту советских и румынских инженеров. И Хенесси с Грэггом скоро раскошелятся — не захотят отставать. Невыгодно? Вздор. Производство городов в океане вскоре станет одним из наивыгоднейших капиталовложений. Только строить будут “по потребности”, в зависимости от угрозы перенаселения. А старые города, конечно совершенствующиеся со временем, могут преспокойно оставаться на земле в положенных им границах, и незачем сгонять все человечество на воду. Земля была и будет его кормилицей, и противоестественно превращать ее в охотничьи джунгли. Это бред, и Лабарда следовало поправить заблаговременно. Но кто знал? Мне стало грустно оттого, что я теряю этого нового, так недавно и неожиданно раскрывшегося передо мной человека. Я бы кое-чему у него научился. — Ты и так научился, — сказал он. — Практически. А теоретически подучит Полетта. Тут она помудрее меня. Я усомнился: где мне! Не то мышление, не то воспитание. — Ты Полетты не знаешь, — сказал он многозначительно. — Пройдет год—два, и “тихая” лаборатория покажется тебе тюремной камерой. И сбежишь ты, мой милый, к старине Фрэнку вместе с Полеттой. Как говорят в таких случаях: он словно в воду смотрел.
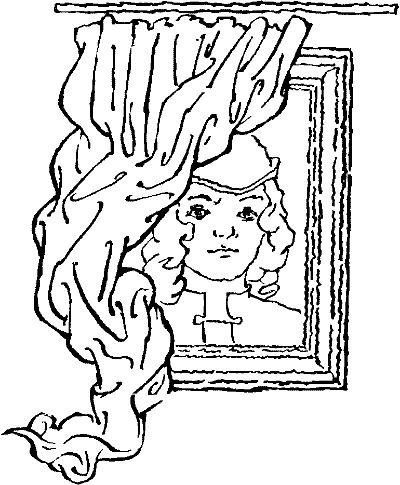
А.Зак, И.Кузнецов ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ Приключенческая повесть
Пролог
В Знаменском, в имении князя Тихвинского, долгое время после бегства хозяина за границу все оставалось по-старому. Все так же ослепительно сверкал паркет, на высоких подставках у стен белели мраморные скульптуры, в хрустальных подвесках старинной люстры солнечные лучи, преломляясь, играли всеми цветами радуги. В полуденной тишине парадных комнат бронзовые часы, стоявшие на камине, неторопливо, удар за ударом, отсчитали двенадцать… Под циферблатом раскрылись бронзовые ворота, из которых показался всадник, закованный в доспехи. Он неторопливо проехал вдоль стены замка и скрылся в других воротах. Вместе с последним ударом медленно поднялся подъемный мостик, перекинутый через ров, и наглухо закрыл ворота миниатюрной крепости. По длинной анфиладе парадных комнат шли трое: комиссар Кочин, матрос Петровых и бывший управляющий князя Илья Спиридонович Тараканов. Кочин, лысый, с поседевшей бородкой, в потертой гимнастерке, прищурившись, разглядывал висевшие на стенах картины. Петровых, с маузером в деревянной кобуре под распахнутым черным бушлатом, держал себя демонстративно независимо, и только большие руки, мявшие бескозырку, выдавали его растерянность перед великолепием княжеских покоев. Илья Спиридонович, тщедушный человек в полотняной толстовке, в очках со слегка затемненными стеклами, шел чуть впереди, раскрывая двери перед представителями Советской власти. — Это кто же такой, язвия его дери?! — спросил Петровых, остановившись перед конным портретом генерала, блиставшего орденами и эполетами. — Генерал-аншеф князь Тихвинский Федор Алексеевич, герой двенадцатого года, прадед владельца этого поместья, — вежливо сказал Тараканов. Кочин усмехнулся: — Полагаю, вы хотели сказать — бывшего владельца? — Извините, господин комиссар, привычка… — Тараканов изобразил подобие улыбки. А Петровых уже разглядывал портрет немолодой женщины с широкой атласной лентой, повязанной через плечо. — А это что за дамочка, язвия ее дери? — снова спросил он. — Императрица Елизавета Петровна, — сказал Кочин. — Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, — с готовностью подтвердил Тараканов. — По ее указу это имение было передано навечно князю Петру Андреевичу Тихвинскому. — Навечно? — снова усмехнувшись, переспросил Кочин. — В указе, хранящемся в архиве князя, написано именно так: навечно, — не глядя на Кочина, сказал Тараканов. Из соседнего зала послышался раскатистый бас Петровых: — А это что за пацан, язвия его дери? Кочин и Тараканов вошли в просторный зал, увешаный от пола до потолка картинами в золоченых рамах, и остановились у небольшого портрета мальчика в голубом костюме. — Пинтуриккио?[244]! — спросил Кочин. Тараканов кивнул. — Если не ошибаюсь, — сказал Кочин, — это знаменитый портрет мальчика в голубом из собрания Медичи? Тараканов снисходительно улыбнулся и сухо сказал: — Сергей Александрович приобрел эту картину во время последней поездки в Италию, за год до войны. — Подлинник? — спросил Кочин. — Князь не собирал копий, — сказал Тараканов. — А это Буше? — спросил Кочин, показывая на небольшую картину в пышной золоченой раме. — “Амур и Психея”, — ответил Тараканов. В зал вошла высокая сухая старуха в черном кружевном платье. — С кем имею честь? — слегка склонив голову, спросила она Кочина. — Иван Евдокимович Кочин, полномочный представитель Народного комиссариата имуществ Республики. — Кочин протянул старухе мандат. Старуха повертела в руках бумагу и передала Тараканову: — Не сочти за труд, Илья Спиридонович, выручи старуху, прочитай. — “Веками потом и кровью создавалась Россия, — негромко, чуть надтреснутым голосом начал читать Тараканов. — Куда ни посмотрим — всюду мы видим плоды рук трудового народа. Вчерашние дворцы возвращены их законному владельцу, победителю, революционному народу. Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коими тешились лишь цари и богачи, стали нашими”. Старая княгиня, слушая Тараканова, внимательно разглядывала Кочина. — “Мы никому их не отдадим, — продолжал Тараканов, — и сохраним их для себя, для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него”. — Довольно, Илья Спиридонович, я все поняла. И что же, сударь, — старуха показала на картины, висевшие на стенах, и на фарфоровые статуэтки под стеклянными колпаками, — вы поделите все это… между пролетариями и мужиками? На всех не хватит, дружок. — Ты, бабуся, думай, что говоришь, — не вытерпел Петровых. — Товарищ Петровых… — укоризненно остановил его Кочин и, обращаясь к старухе, сказал: — Можете быть спокойны, Елена Константиновна. Мы хорошо понимаем, с какими художественными ценностями имеем дело. Коллекция вашего сына отныне является достоянием Республики и будет целиком передана Петроградскому Государственному музею по решению Совета Народных Комиссаров, подписанному Лениным. И вдруг из соседней комнаты раздался резкий, пронзительный голос: — Государ-р-р-ю импер-р-р-ратор-р-ру ур-р-ра, у-р-р-ра, ур-р-р-ра! Петровых выхватил маузер и, оттолкнув старуху, бросился в раскрытые двери. В нарядной клетке, стоявшей у окна, сидел большой попугай. — Ур-р-р-ра! — вызывающе сказал попугай, глядя на матроса. — У-у, контра, язвия тебя дери! — засмеялся Петровых. — Скажи спасибо, что ты птица. Был бы человек — на месте шлепнул!*
Конный отряд Струнникова ожидал погрузки на узловой станции. Старый паровичок медленно подтаскивал к низкой платформе запыленные вагоны товарного состава. — Первые пять вагонов — под лошадей! — скомандовал Струнников. — Шестой — под фураж! Заскрипели отодвигаемые двери, бойцы подносили к вагонам тесаные бревна, складывали из них помосты для лошадей. Струнников придержал коня возле одного из вагонов и увидел внутри большие ящики с лаконичной надписью: “Петромузей”. — Освободить вагон! — скомандовал он. Несколько бойцов бросились выполнять приказание командира. На одном из ящиков, накрывшись бушлатом, богатырским сном спал Петровых. Под общий смех ящик со спящим матросом вытащили из вагона. И только когда рыжий жеребец, подведенный к вагону, от испуга встал на дыбы и оглушительно заржал, проснувшийся Петровых вскочил на ящик и, прежде чем сообразил, что происходит, выхватил маузер. Конники засмеялись. — Контра, язвия вас дери! — заорал Петровых. — Грузи ящики обратно! Конники захохотали. Жеребец, подтягиваемый за повод, неохотно поднялся по бревнам. Петровых бросился наперерез, закрывая дверной проем вагона. — Осади назад, стрелять буду! — кричал он. — Я везу в Петроград имущество князя Тихвинского! Со всех сторон послышались гневные возгласы: — Шкура! — Барский холуй! — Гони его в шею! — К стенке гада! Бойцы стащили Петровых на платформу, отняли у него оружие и скрутили руки. И тут же, как из-под земли, перед ним появился Струнников на сером в черных яблоках коне. — Кто такой? — спросил Струнников. — Холуй князя Тихвинского. Барское добро спасает, — сиплым голосом доложил худощавый боец. — Это я холуй? — задыхаясь от ярости, прохрипел Петровых. — Это я, матрос революционной Балтики, холуй?! Я же тебя, контра, язвия тебя дери!.. — Мандат есть? — спросил Струнников. Бойцы, державшие Петровых, отпустили его руки, он достал свой мандат и протянул его Струнникову. — Читай сам, — приказал Струнников. — “Веками потом и кровью создавалась Россия, — с трудом разбирая текст, читал Петровых. — Куда ни посмотрим, всюду видны плоды рук трудового народа…” — И, уже не глядя в бумагу, как оратор на митинге, Петровых бросал конникам запомнившиеся ему слова мандата: — “Царские и княжеские дворцы, бесценные произведения искусства, коими тешились лишь цари и богачи, стали нашими. Отныне и навечно они возвращены законному владельцу — победителю, революционному народу!” — И неожиданно для себя, подхлестнуты” собственным воодушевлением, он закричал: — Ура! — Ура! — подхватили конники. Но Струнников дождался паузы и скомандовал: — Заводи лошадей! — Не пущу! — закричал Петровых, снова бросаясь к вагону. — Не дури, матрос, — строго сказал Струнников. — Нам каждая минута дорога. Республика в опасности! На фронт едем! Отойди, слышь! Петровых метнулся к Струнникову, сунул ему в лицо мандат: — Читай, если грамотный. “Всем местным властям, железнодорожным начальникам и командирам воинских соединений предписывается настоящим оказывать всяческое содействие товарищу Петровых в доставке ценного груза Республики”. Печать Совета Народных Комиссаров видишь? Или неграмотный? — Грамотный, — заглянув в бумагу, нетвердо сказал Струнников. — Отдайте ему пушку, а вагон отцепите. И Струнников, вздыбив коня, поскакал вдоль состава. К Петровых протиснулся худощавый боец, обозвавший его княжеским холуем. — А не можешь ли ты сказать, Балтика, — засипел он, — в какой сумме выражается стоимость данного имущества? В золотых рублях. Ну, скажем, в тысячах, в миллионах или, допустим, в миллиардах? — Бери выше, — важно сказал Петровых, укладывая маузер в кобуру, — в биллионах, а может, даже в этих… в бильярдах.*
Через два дня во внутреннем дворике Петроградского музея служащие разгружали подводы с ящиками, доставленными Петровых. Лошади подбирали с земли остатки сена. Директор музея, придерживая рукой спадающее пенсне, проглядывал длинную опись коллекции, с трудом удерживая довольную улыбку. — Вы, товарищ Петровых, даже представить себе не можете, какое великое дело вы совершили… — сказал он, пожимая руку матросу. Рядом с маленьким директором в черной шапочке матрос выглядел гигантом. — А вы не скажете, товарищ заведующий, — расплываясь в улыбке, спросил он, — в какой примерно сумме выражается стоимость этой коллекции… ну, скажем, в золотых рублях? — Не скажу. Даже приблизительно. Эта коллекция, собранная князьями Тихвинскими на протяжении почти двух веков, практически цены не имеет. Она бесценна. — Он заглянул в опись. — Вот, скажем, номер шестьдесят семь… Пинтуриккио. Мальчик в голубом. В 1672 году герцог Миланский заплатил за нее золотыми монетами, уложенными в два ряда по всей поверхности картины. Сегодня, в 1918 году, ее цена возросла во много раз. Она уникальна, то есть, иными словами, бесценна. Я прошу вас, Андрей Аполлонович, — обратился он к одному из сотрудников, — откройте пятый ящик… Сейчас вы увидите этот шедевр… Сотрудники музея вскрыли один из ящиков, подняли крышку. — Осторожнее, ради бога, осторожнее!.. — с волнением произнес директор. Он отстранил рабочих и аккуратно приподнял слой войлока, под которым оказалась стружка… Он опустил руки в стружку и вытащил из ящика старый, поломанный стул. — Что это значит? — обернулся он к Петровых. Матрос бросился к ящику, запустил руки в стружку и вытащил оттуда старую керосиновую лампу… Войлок и стружка… Больше в ящике ничего не было. — Откройте другой ящик… вот этот… — упавшим голосом сказал директор. И во втором ящике оказалось то же самое — войлок, опилки, старая рухлядь, кирпичи… — Что вы нам привезли? Где коллекция?! — Вот этими руками… собственными руками… укладывал, — тихо сказал Петровых, и на лице у него выступили крупные капли пота.Часть первая ОДНОРУКИЙ СТАРЬЕВЩИК
Трое мальчишек в скуфейках и кургузых послушнических рясках, со свечами в руках молились перед иконой богоматери. Чуть вздрагивало пламя свечей, едва заметно шевелились их губы. В полумраке собора Острогорского монастыря несколько монахов, подоткнув под пояс рясы, мыли пол. Грузный дьякон осторожно заливал масло в большую лампаду зеленого стекла. В гулкой тишине собора послышался негромкий голос: — Мальчата, отец настоятель кличет. В дверях стоял плечистый рыжебородый монах. Мальчики накапали воск, поставили свечи перед иконами и, перекрестившись, вслед за монахом вышли из собора. Мартовское солнце освещало большой монастырский двор. Настоятель отец Николай, с черной, в первых проседях бородой, в круглых, в железной оправе очках, стоял посреди монастырского двора с представителем укома, бывшим машинистом Сергеем Мызниковым. В кожаной, видавшей виды фуражке и старой железнодорожной шинели, из-под которой виднелась белая косоворотка, Мызников пристально разглядывал высокого и статного отца Николая. Оба молчали. Чуть в стороне стояли укомовские сани. На козлах, свесив голову и не выпуская из рук вожжей, дремал кучер. Монах подвел мальчиков к настоятелю и, поклонившись, отошел в сторону, к большим саням, нагруженным сеном. Вооружившись вилами, он взобрался на верх копны и стал сбрасывать сено в распахнутые двери сарая. — Вот они, дети. Этот, меньшой, — Иннокентий, побольше который — Алексей, а этот вот… долговязенький, — Олександр. — Настоятель ласково поглядел на мальчишек и сказал: — Вот, поедете с этим человеком из уездного комитета… А перед тем соберете свои котомки да к отцу Леонтию загляните, он вам на дорогу харчей соберет. Мальчики настороженно покосились на Мызникова и, поклонившись настоятелю, ушли по узкой каменной дорожке, пересекавшей еще не освободившийся от снега монастырский двор. — У нас тут они обуты, одеты, накормлены, — тихо сказал отец Николай. — А вы подумали, чем вы их поить-кормить станете и какая судьба им уготована? Времена смутные, пропадут дети. Мызников заговорил, и голос у него оказался сильным и низким. — Дети — наше будущее, отец Николай, — сказал он. — Стариков перевоспитывать поздно, а детей отравлять религиозным дурманом мы не позволим. И за судьбу их не бойтесь. Республика их в обиду не даст. Если подумать, для кого мы революцию делали? Для них, для их светлого будущего. По решению укома мальчиков в учение отдаем, ремеслу будем учить, полезному для народа. — Была бы моя воля, не отдал бы вам мальчиков. Отец Николай поклонился и отошел от Мызникова. Мальчуган, которого настоятель назвал Иннокентием, стоял перед высоким сутулым монахом в светлой келье, уставленной иконами и загрунтованными досками. На доске, стоявшей у стены, был изображен Георгий Победоносец на коне, длинным копьем пронзающий змея. — Данило, а Данило… — разглядывая всадника, спросил мальчик. — А кони красные бывают? Данило поглядел па доску, бережно погладил Иннокентия по голове. — А то… Вот когда солнышко к земле клонится, оно все вокруг в свой цвет красит… Не токмо кони, а человек и тот красный делается. Не замечал? — Не… — покачал головой мальчик. Данило обтер руку полой перепачканного краской подрясника и перекрестил Кешку. — Полюбил я тебя, Иннокентий, за нрав кроткий, за послушание… Не боязно ехать-то? — Боязно, — тихо ответил Кешка. — А ты не боись, Иннокентий. Может, оно и к лучшему. Людишек повидаешь, божий мир поглядишь. Ладан-то небось надоело нюхать? — засмеялся Данило. Иннокентий поглядел на валенки Данилы. — Валенки-то… каши просят, — улыбнулся Кешка. — Я тебе новые достану. — Где же ты их возьмешь? — усмехнулся Данило. — В городе-то, говорят, чего только нет… Данило тихо рассмеялся и снова перекрестил Кешку: — С богом! Ступай! Добрая ты душа… Укомовские сани выехали из монастырских ворот, над которыми возвышалась квадратная церковь, почти в сумерки. Мызников сидел рядом с кучером. Он то и дело оборачивался назад, ободряюще подмигивал ребятишкам, сидевшим на заднем сиденье. Кучер помахивал кнутом, и лошади весело бежали по дороге, ведущей в заснеженное поле. Солнце едва скрылось за лесом, и облака, подсвечиваемые им, были как бы прозрачны… У Мызникова было хорошее настроение, и он запел: Мы красная кавалерия, И про нас Былинники речистые Ведут рассказ О том, как в ночи ясные, О том, как в дни ненастные Мы гордо, мы смело В бой идем, Идем! Он пел негромко и как-то задумчиво. Мальчики сзади чуть приободрились, и первая улыбка появилась на лице Кешки… Веди ж, Буденный, Нас смелее в бой. Пусть гром гремит. Пускай пожар кругом. Пожар кругом. Мы беззаветные герои все. И вся-то наша жизнь есть борьба, Борьба! Дорога свернула в лес, сразу потемнело, сани обступили высокие стволы редко посаженных сосен. Мызников снова обернулся к мальчишкам, ребята смущенно опустили головы. И вдруг позади послышался топот. Мызников привстал и, выхватив вожжи и кнут у кучера, стал подхлестывать лошадей. На дороге появились всадники. — Мызников, стой! — закричал один из них. — Стой! Стой, комиссар, все равно не уйдешь! За поворотом дороги, между стволами деревьев, хорошо были видны фигуры всадников. Послышались выстрелы. Двое всадников, отделившись от остальных, понеслись наперерез саням. Мызников бросил вожжи кучеру и, пригнув головы мальчишек книзу, выхватил револьвер. — Гони! — крикнул он кучеру. — Это бандиты, лагутинцы! Гони! Спасай ребятишек! И Мызников, спрыгнув с саней, упал в снег. Чуть приподнявшись, он выстрелил, один из всадников упал с лошади. Другой, нагнав сани, почти в упор выстрелил в кучера. Кучер упал в снег. Лошади, возбужденные выстрелами, понесли… Сани подбрасывало на кочках, било о стволы деревьев, и мальчишки едва удерживались, чтобы не вывалиться. Выстрелы слышались уже далеко позади, когда лошади вынесли сани к полотну железной дороги. Возле насыпи они остановились, и мальчишки бросились врассыпную. — Шурка! Алешка! Погодите! — кричал Кешка, но грохот проходящего состава заглушал его голос. Мальчики не слышали его, и, когда поезд, замедлив ход, вдруг остановился, Кеша увидел, что он остался один. Из леса доносились выстрелы, и Кеша, путаясь в ряске, стал карабкаться вверх по заснеженной насыпи, к вагонам, на зеленых стенках которых были прикреплены таблицы: ПСКОВ—ПЕТРОГРАД. На подножке одного из вагонов, накинув на плечи шинель, курил красноармеец в буденовке. Увидев Кешку, он крикнул: — Давай скорее, монах! А то тронемся, не поспеешь. Кешка остановился, что-то вспомнив. — Погодите, я сейчас! — крикнул он в ответ, кубарем скатился вниз, подбежал к саням и, прихватив свой мешочек, снова стал карабкаться по насыпи вверх.*
Поздним вечером по безлюдному в это время Загородному проспекту шел запоздалый прохожий. Под мышкой он нес какой-то плоский предмет, аккуратно завернутый в старую кухонную клеенку. Близилась ночь, и только кое-где тускло светились окна. Прохожий, поеживаясь от пронизывающего весеннего ветра, по мокрому снегу торопливо шагал в сторону Невского. И вдруг совсем рядом, из подворотни, послышалось странное завывание. Прохожий вздрогнул и остановился. Из подворотни появились странные, похожие на призраки фигуры в длинных белых балахонах. Чуть покачиваясь из стороны в сторону, то взлетая над землей, то опускаясь, они стремительно приближались к прохожему, испуская пронзительный, леденящий душу вой. Прохожий застыл от ужаса. Он узнал их, узнал, хотя видел их впервые и не верил в их существование. Это были те самые “попрыгунчики”, о которых в Петрограде говорили шепотом, загадочные “попрыгунчики” — не то пришельцы с того света, не то просто переодетые налетчики-грабители. Оцепенение прошло, и прохожий побежал. Он бежал посреди мостовой, а за ним с воем и улюлюканием неслись “попрыгунчики”. У площади Пяти Углов “попрыгунчики” настигли и окружили его. Прохожий, испугавшись припрыгивающих вокруг него призрачных гигантов, споткнулся, упал, уронил на мостовую очки и, наконец поднявшись, с воплем побежал в обратную сторону. “Попрыгунчики” догнали его, и один из них, закатываясь нечеловеческим смехом, вырвал у него сверток. — Отдайте, отдайте! — закричал в отчаянии прохожий. — Возьмите деньги! Все, что у меня есть… только отдайте! Но “попрыгунчики” с гиканьем и воем, высоко взлетая над мостовой, уносились всё дальше и дальше, разбрызгивая мокрый снег, смешавшийся с липкой рыжей грязью. Расстояние между ними и прохожим все увеличивалось, а он все бежал и бежал за ними, пока они совсем не скрылись из его глаз. Прохожий, ограбленный “попрыгунчиками”, меньше всего мог предположить, что уже наутро драгоценный для него сверток будет лежать на письменном столе Карла Генриховича Витоля, начальника Петроградского уголовного розыска. Усталый, с землистым от бессонницы лицом, не выпуская изо рта погасшую папиросу, он сидел на обыкновенном венском стуле перед великолепным письменным столом с замысловатыми бронзовыми инкрустациями, принадлежавшим еще недавно какому-то крупному царскому вельможе, в особняке которого и располагался Петроугрозыск. Кресло, впрочем, такое же массивное и так же инкрустированное темной бронзой, находилось тут же, но Витоль не пользовался им, а предоставлял его в распоряжение посетителей. Сейчас в нем сидел уже знакомый нам директор Петроградского музея. — Георгий Абгарович, взгляните, пожалуйста, — с отчетливым латышским акцентом сказал Витоль и развернул сверток. В свертке оказалась небольшая картина без рамы, изображавшая какой-то мифологический сюжет. Георгий Абгарович торопливо вытащил из кармана пенсне и, нагнувшись, стал внимательно разглядывать полотно. Витоль следил за ним, покусывая потухшую папироску. Наконец Георгий Абгарович поднял лицо и взглянул на Витоля. — Откуда она у вас? — спросил он взволнованно. Витоль не ответил и в свою очередь спросил: — Представляет ли она какую-нибудь ценность? — Безусловно. Это “Амур и Психея” работы Франсуа Буше, картина из коллекции князя Тихвинского. Витоль кивнул головой. — Как эта картина оказалась у вас? — снова спросил Георгий Абгарович. — Ее похитили “попрыгунчики” у какого-то прохожего. — Вы задержали его? — Мы задержали одного из “попрыгунчиков”. — Было бы лучше, если бы вы задержали прохожего. Оба молчали. — Обнадеживающая находка, — сказал Георгий Абгарович. — Все эти годы я считал эту коллекцию… утраченной… И вот теперь… эта находка. Значит, коллекция не погибла… — А вы не допускаете, — спросил Витоль, — что сохранилась только одна эта картина? — Допускаю. Но вот какое странное совпадение… Недели полторы назад наша сотрудница, проглядывая иностранные газеты, обратила внимание на небольшую заметку. Речь шла о том, что шведский коммерсант Ивар Свенсон ведет переговоры о приобретении одной из картин коллекции князя Тихвинского. Я не очень поверил этому, поскольку подобные сообщения всякий раз оказывались блефом. Витоль молча положил папиросу. — Я даже не представляю себе, кому поручить это дело. Все мои сотрудники просто валятся с ног от усталости. — Речь идет о бесценных сокровищах искусства, принадлежащих народу, — неожиданно резко заговорил Георгий Абгарович. — Владимир Ильич и Анатолий Васильевич придают нашему делу первостепенное значение. Наш музей получает дрова на эту зиму по специальному решению Совнаркома. Если вы не сумеете изловить двух—трех спекулянтов, это не нанесет России такого ущерба, как потеря этих сокровищ. — Есть у меня один сотрудник… только что демобилизовался. Опыта у него еще маловато, но паренек старательный. К тому же сам искусством интересуется… Живописью. На высоких малярных козлах, под самым потолком круглого зала в особняке, где помещался угрозыск, Макар Овчинников закрашивал белой краской плафон с изображением Венеры, рождающейся из пены вод в окружении амуров с трубами. Столы сотрудников были сдвинуты к входной двери и покрыты газетами. Витоль вошел в зал и, увидев Макара, поморщился: — Тебе что, Макар, делать нечего? — Я, Карл Генрихович, по поручению партячейки… Решили ликвидировать этих венер и амуров. Завтра придет Миша Рубашкин и распишет потолок революционным искусством. В центре нарисует пролетария, мускулистой рукой сжимающего глотку многоголовой гидры-разрухи, а по бокам — рабоче-крестьянский орнамент в виде серпов и молотов заместо этих амуров и психеев. — Слезай, Макар. Есть для тебя дело поважнее, тоже… по живописной части… Будешь этих амуров и психеев… разыскивать. Он подошел к буфету и достал с полки одну из папок: — Вот, держи. Познакомишься с делом, зайдешь. Он направился к двери и, остановившись на пороге, сказал: — А Рубашкину своему скажи, чтобы не приходил. Потолок уродовать запрещаю. Витоль ушел. Макар спустился вниз и взял папку, на которой было написано: ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ КОЛЛЕКЦИИ бывш. кн. Тихвинского С.А. 1918 год. Папка оказалась довольно тощей. Содержалось в ней лишь несколько свидетельских показаний, часть из которых была написана чернильным карандашом, и тоненькая брошюрка с описанием собрания художественных ценностей князя. Из свидетельских показаний Макар узнал, что комиссар Кочин, проводивший реквизицию имущества кн. Тихвинского, был срочно вызван в Петроград, а упаковкой и доставкой коллекции руководил матрос Петровых. Сам Петровых был, конечно, вне всяких подозрений, поскольку по происхождению он был из рабочих и на фронте показал себя преданным бойцом революции. В упаковке коллекции, помимо Петровых, принимали участие еще два человека — бывший управляющий князя Илья Спиридонович Тараканов и плотник Егор Поселков, которого Петровых и Тараканов в своих показаниях называют просто Митричем. Однако по материалам дела и Митрич и Тараканов также оказывались вне подозрения, поскольку упаковка ящиков производилась под строгим надзором самого Петровых, который ничего подозрительного за ними не заметил. Этими сведениями и ограничивалось дело о похищении коллекции. За отсутствием каких бы то ни было улик и вещественных доказательств, а также в связи с уходом следователя Веденкина на фронт следствие по делу было прекращено. Изучив документы и поговорив с Витолем, Макар решил начать новое расследование с допроса задержанного “попрыгунчика”. Макар допрашивал задержанного “попрыгунчика” в круглом зале. Все было уже расставлено по местам, и только белое пятно на плафоне напоминало о незавершенной затее Макара. Макар поднял голову к потолку и, увидев незакрашенную Венеру, в сердцах ударил кулаком по столу. — Скажешь или нет? — грозно обрушился он на “попрыгунчика”. — Я же не чиновник какой-нибудь, я твой брат рабочий! “Попрыгунчик” съежился: — Я же говорю… Плюгавенький такой буржуйчик. В очках. В черном пальто. — Очкастых да в черных пальто в Петрограде тысячи. Как я его буду искать? — Ты начальство, тебе виднее… — “Начальство, начальство”… — рассердился Макар. — Три года, как революция, пора бы отвыкнуть от этой рабской психологии. А если, к примеру, завтра мировая революция, что будешь делать? — А чего делать? — осклабился “попрыгунчик”. — Не знаю. Тебе виднее, ты начальство… — Ох и темный ты!.. — огорченно вздохнул Макар. — Ну хоть голос у него какой, можешь описать? — Голос у него был жалобный. Я, говорит, денег вам цельную кучу отвалю, у меня денег, говорит, куры не клюют. А на что они нам, деньги?! Мы никого не трогаем, так только, пугаем, да и то больше буржуев недорезанных. — Толку от тебя, Козихин, как от козла молока! Ну, к примеру, глаза у него какого цвета, волосы? — Волосы? Не то лысый, не то в кепке. А глаза… я же говорю — в очках. В темных очках, вроде как у слепых. — Ладно, подпиши… Макар протянул протокол допроса Козихину, тот широко улыбнулся: — Я неграмотный. — Ставь крестик. Вот здесь. Козихин пососал кончик чернильного карандаша и поставил крестик. — Да, вспомнил, — спохватился он. — На ногах у него сапоги были хромовые… или галоши резиновые… В темноте блестели. — Так сапоги или галоши? Козихин задумался. — Не помню. Вот только помню, что блестели. Может, галоши, а может, и сапоги. Козихин, однако, неспроста путал галоши с сапогами. Человек, у которого “попрыгунчики” отняли картину, действительно носил галоши, но галоши глубокие, доверху закрывающие ботинки. Галоши эти, в то время как Макар допрашивал Козихина, месили весеннюю грязь на пустынной дачной улице в Озерках, под Петроградом. Увязая в жидкой и глубокой грязи, человек этот с плетеной кошелкой в руке направлялся к двухэтажной даче с цветными стеклами на огромной террасе. Остановившись у калитки, он оглядел дачу, казавшуюся необитаемой, обернулся и, убедившись, что улица пустынна, открыл щеколду, запертую изнутри, и толкнул калитку. По выложенной кирпичами дорожке он направился к крыльцу. Поднявшись по узкой скрипучей лестнице, он оказался в просторной комнате с высокими, во всю стену, окнами. Посреди комнаты стояла холодная, как видно давно не топленная, железная печурка, а в углу — мольберт с потемневшей от времени картиной старого голландского мастера, изображавшей трех повес, пирующих в кабачке. Повсюду у стен стояли картины в золоченых и не золоченых рамах, картины без рам, рамы без картин и просто холсты, свернутые в рулоны. — Кто там? — раздался простуженный голос из-под груды тряпья, валявшегося на низкой тахте. — Добрый день, господин Тамарин, — произнес посетитель. — Это я. Тряпье зашевелилось, и из него появилось бородатое лицо сравнительно молодого человека. Выбравшись из тряпья, он накинул на плечи солдатскую шинель и с брезгливой миной взглянул на вошедшего. — Вы? Что вам? — спросил он, позевывая. — Я принес два фунта коровьего масла и мерку пшена… Тамарин взглянул на посетителя, на этот раз уже с некоторым интересом: — А что еще принесли? — Больше ничего, господин Тамарин. Это все, что мне удалось раздобыть. — Врете, Тараканов. Я же вас знаю. У вас есть еще кое-что. На всякий случай. Если я заупрямлюсь. Так вот, считайте, что я заупрямился. Тараканов немного поколебался и, пожав плечами, сказал: — Сало есть… немного… меньше чем два фунта. Тамарин расхохотался: — Ладно, берите. Любую берите. Тараканов отдал кошелку Тамарину, а сам направился к картинам. Он не выбирал. Он вытащил из стоявших у стены ту, которая была ближе всего к стене, аккуратно обтер ее от пыли и поднес к свету. — Вы варвар, дорогой мой господин Тамарин, — сказал он, качая головой. — Вы так небрежны с картинами, будто это просто хлам, старый, негодный хлам. — Вот именно — хлам. Старый, негодный хлам, — повторил Тамарин, роясь в кошелке. — Что вы там углядели? Он подошел к Тараканову и, взглянув на картину, усмехнулся. — Н-да… — вздохнул он. — Хорошая работа. Тонкая… Очень даже недурная работа. На картине был изображен мальчик в голубом.*
В одном из петроградских дворов, похожих на темные глубокие колодцы с выложенным булыжником дном, невдалеке от Кузнечного рынка, высокий молодой человек в черной широкополой шляпе, в ярко-оранжевой блузе и высоких охотничьих сапогах с отворотами голосом ярмарочного зазывалы обращался к выглядывавшим из окон обитателям дома: — Граждане Советской России! Революция освободила вас от царя, помещиков и капиталистов! Я освобожу вас от рабства вещей. Зачем свободному человеку предметы роскоши? Могучий голос человека в широкополой шляпе разбудил мальчишку, бывшего юного послушника Острогорского монастыря Иннокентия, а теперь обыкновенного петроградского беспризорника по имени Кешка, а по прозвищу Монах. Не было на Кешке ни скуфейки, ни рясы, и он ничем не отличался от двух своих приятелей, укрывавшихся здесь, на чердаке, от холода и патрулей под рваным, в клочках ваты, грязным одеялом. Услышав голос старьевщика, Кешка выбрался из-под одеяла, перелез через сломанное кресло с торчащими пружинами и, забравшись на ломберный столик, выглянул из чердачного окна. Внизу, в прямоугольном колодце двора, человека в широкополой шляпе уже окружало несколько зевак. Старьевщик сбросил с плеча мешок, и Кешка увидел, что вместо правой руки у него пустой рукав. — В каждой квартире, у каждого хозяина найдется старая картина или хрустальная люстра, бронзовый канделябр или фарфоровая статуэтка, — продолжал он. — Вчера эти вещи украшали вашу жизнь, сегодня они стали камнем на шее свободного человека! Несите эти камни сюда, и вы получите за них хорошие деньги, миллионы рублей! Изящно поклонившись, он взмахнул шляпой. К старьевщику подошел невзрачный человечек в выцветшем сюртуке чиновника почтового ведомства и протянул ему полированный деревянный футляр. Старьевщик приподнял крышку и восхищенно прищелкнул языком. В углублениях на вишневом бархате лежали два дуэльных пистолета с воронеными стволами и ручками, отделанными перламутром. Старьевщик вынул один из пистолетов, ловко подбросил его. — Эта бельгийская безделушка изготовлена в городе Льеже почти сто лет назад. Зачем гражданину свободной России эта бессмысленная и опасная вещица? Я освобождаю вас от нее. Кешка, раскрыв рот, следил за происходящим внизу. — Осторожнее! — закричал человечек, когда старьевщик взвел курок. — Один из этих пистолетов заряжен! Вокруг старьевщика сразу образовалась толпа. Пожилая женщина с трудом тащила мраморный бюст императора Александра I. — Русских царей и императоров не беру. Испанских, французских, австро-венгерских, римских беру, русских — не беру. За спиной Кешки послышался шум, крики, брань, мимо него прошмыгнули выбравшиеся на крышу приятели. — Кешка, шухер! — крикнул один из них. — Мотай! — закричал другой, и оба бросились наутек, громыхая по железной крыше. Кешка не успел опомниться, как из окна высунулась раскрасневшаяся физиономия разъяренной старухи. — Воры! Грабители! Караул! — истошно заголосила она, схватив Кешку за ногу. — Попался, урка! Я тебе покажу, как белье воровать! — Пусти! На что мне твое белье! Кешка стащил с ее плеча мокрую наволочку и накинул на голову старухи. — Караул, режут! — заголосила она. В толпе раздался взрыв смеха. А Кешка вырвался и побежал по крыше. Из другого окна проворно выскочил дворник и бросился ему наперерез. — Ахмет, держи его! — закричала старуха, освободившись от наволочки. Все забыли о старьевщике и, задрав головы, следили за погоней. — Ахмет, он за трубой! — кричала рыжая толстуха из окна верхнего этажа. Старьевщик бросился к пожарной лестнице и, засунув за пазуху пистолет и ловко подтягиваясь одной рукой, стал подниматься вверх. — Поймал! — раздался ликующий голос толстухи. — Бей его! Бей негодяя! — послышался визгливый голос снизу. — Отпусти мальчишку! Стрелять буду! — крикнул старьевщик, добравшийся до самого верха лестницы. Дворник тащил упиравшегося Кешку к слуховому окну. Старьевщик вылез на крышу и поднял пистолет. — Отпусти мальчонку, или я сделаю дырку в твоем картузе, чтобы не повредить твою дурацкую голову! Из окна третьего этажа выглянул пожилой человек, на полном лице которого острая бородка клинышком и тоненькие усики выглядели несколько легкомысленно при его тяжелой, осевшей к старости фигуре. Он выглянул из окна как раз в тот момент, когда старьевщик картинно подбросил левой рукой пистолет… Раздался выстрел, и фуражка Ахмета полетела вниз, во двор. Человек, продававший дуэльные пистолеты, поднял фуражку дворника, и окружавшие его люди увидели дырку в тулье фуражки. — Я предупреждал, что один из пистолетов заряжен, — испуганно лепетал человечек. Ахмет отпустил Кешку и скрылся в слуховом окне. Старьевщик снял шляпу и поклонился невольным зрителям этого представления. Потом он подошел к краю крыши и бросил пистолет в раструб водосточной трубы. Пистолет с грохотом пролетел все пять этажей и выскользнул из трубы к ногам хозяина. — Вот это да… — вырвалось у Кешки. — Идем, малыш, со мной, — торжественно сказал старьевщик и протянул руку Кешке. — А вы… кто?.. — растерянно спросил Кешка. — Я? — усмехнулся старьевщик. — Я разрешаю тебе называть меня просто… маркизом. Они пошли по мокрой от весеннего дождя крыше и скрылись за дымовыми трубами. Человек с бородкой проводил их взглядом и закрыл окно. — Алена, — обратился он к женщине, сидевшей в кресле-качалке и читавшей какую-то французскую книгу. — Ты не помнишь, Алена, в двенадцатом году… или в тринадцатом, если я не ошибаюсь, мы смотрели с тобой в цирке Чинизелли номер “Однорукий Вильгельм Телль” — молодой человек левой рукой сбивал яблоко с головы мальчика… — Помню, конечно, помню, это был эффектный номер, — сказала женщина. — А почему ты вдруг вспомнил об этом? — Так… по странному стечению обстоятельств. Он прошелся по комнате и остановился возле портрета, с которого он сам из того самого далекого двенадцатого года смотрел на самого себя сегодняшнего. В углу под портретом стояла подпись художника — И.Репин, а к раме была приделана медная дощечка с надписью: Портрет известного криминалиста Прокофия Филипповича Доброво. 1912 г.*
В крохотной комнатушке большого дома на Каменноостровском или точнее — на улице Красных Зорь, как он стал называться после революции, сидели двое: хозяин комнаты, уже знакомый нам Илья Спиридонович Тараканов, и узколицый блондин с тщательно приглаженными редкими волосами. Закинув ногу на ногу, блондин курил длинную папиросу, с интересом разглядывая попугая в клетке, стоявшей на широком подоконнике. — Мне нужны деньги и паспорт, — сказал Тараканов. — Вы принесли деньги и паспорт? — Вы их получите, как только у меня на руках будет картина, которую вы мне обещали, — с акцентом произнес блондин. — Я вам уже сказал: картину похитили “попрыгунчики”. — Да, да… “Попрыгунчики”. Я прекрасно понимаю, что это очень неприятно, — кивнул блондин, глядя на хозяина слегка выпученными глазами. — Я верю вам, господин Тараканов. Но мои компаньоны хотели бы убедиться в том, что коллекция князя у вас. И мы с вами в прошлый раз договорились, что вы предоставите мне хотя бы однукартину. Любую, по вашему выбору. Тараканов поправил очки и поднялся: — Хорошо. Если вы так настаиваете… Он подошел к тяжелому, громоздкому буфету, занимавшему едва ли не половину всей комнаты. — Что поделаешь, господин Тараканов! В наше трудное время всюду нужны доказательства, — повторил блондин. Тараканов достал из-за буфета завернутую в цветную ткань картину. — О! — невольно вырвалось у блондина, когда Тараканов поставил на стул картину в скромной дубовой раме. — Надеюсь, это доказательство, господин Артур? — Пинтуриккио… Этому невозможно поверить! — восторженно прошептал господин Артур. — “Мальчик в голубом”! — Мне срочно нужны деньги и паспорт, — быстро заговорил Тараканов. — Без них я ничего не могу сделать… “Амур и Психея” Буше уже висит в музее. Надеюсь, вам понятно, что это означает? — Нет, простите, не понимаю. — Это означает, дорогой господин Артур, — со сдержанным раздражением объяснил Тараканов, — что картина из исчезнувшей коллекции князя должна привлечь к себе внимание властей, что поиски коллекции неизбежно возобновятся. Они уже идут, вероятно. И я не исключаю, что меня уже разыскивают. Мне нужны деньги и паспорт, — снова повторил Тараканов и выжидающе посмотрел на Артура. — Деньги вы получите завтра… так сказать, аванс… А документы… — Артур достал из кармана паспорт и протянул его Тараканову: — Отныне вы есть Леопольд Францевич Авденис, коммерсант из Либавы. Тараканов раскрыл паспорт и увидел фотографию человека с фатоватыми усами. — Усы? — удивленно сказал Тараканов. — Почему усы? — Да, я совсем забыл поставить вас в известность: Леопольд Францевич носит шнурбарт, усы. — Но у меня-то их нет?! — возмутился Тараканов. — Для того, чтобы вырастить такие усы, понадобится полгода. — Зачем полгода… Не надо… полгода. — Холеный господин протянул Тараканову конверт: — Здесь вы имеете… два шнурбарт… то есть два уса, на всякий случай. — Он засмеялся. — Если вдруг ветром сдует. А это — лак, чтобы их наклеить. — Он вытащил из кармана маленькую бутылочку. — Отличный лак, немецкая фирма “Лейхнер”. — Ур-р-ра! Ур-р-ра! Ур-ра! — неожиданно закричал попугай. На другой день Илья Спиридонович направился на набережную Фонтанки. Усы Леопольда Францевича Авдениса уже украшали его физиономию, и если бы не темные очки, от которых Илья Спиридонович не мог отказаться, он был бы неузнаваем. Моросил мелкий дождь. Тараканов шел, как бы прогуливаясь, держа обеими руками за спиной толстую трость с набалдашником. У Горбатого моста он остановился и, облокотившись на перила, долго разглядывал старенькую баржу, пришвартованную к гранитной стене набережной. Когда-то на ней привезли сюда дрова, а потом, в неразберихе прошлых лет, забыли о ее существовании. Тараканов перешел через Горбатый мост и направился к барже. В трюме баржи, посреди каюты, стояла докрасна нагретая буржуйка, труба которой уходила в круглый иллюминатор. На стене, заклеенной старыми “Биржевыми ведомостями”, висела картина в позолоченной раме, такая темная, что разобрать, что именно на ней изображено, было просто невозможно. На столе рядом с бюстом Наполеона стояла миниатюрная копия конной скульптуры Донателло. Однорукий Маркиз, обнаженный до пояса, уже не был одноруким, в правой “несуществующей” руке он держал шпагу и показывал Кешке фигуры фехтования. Кешка зачарованно смотрел на Маркиза. — Двойной выпад с переброской шпаги в левую руку… — пояснял Маркиз. — Прием, с помощью которого д’Артаньян одолел своего коварного противника де Рошфора. Смотри внимательно. Эн, де, труа, катр, сенк… Он показал Кешке прием и бросил ему шпагу. — Репете!.. Эн! Де! Труа! Катр! Сенк! Кешка повторил показанный прием. — Для начала манифик! Если возникли вопросы, задавай! — А что такое… манифик? — спросил Кешка. — Манифик… в переводе с французского… ну, скажем — превосходно, блестяще. Еще вопросы есть? — Дяденька Маркиз, а где мне достать валенки? Маркиз расхохотался: — Валенки? Зачем тебе валенки? Зима-то вроде кончилась. — Эта кончилась, другая будет. Маркиз снова засмеялся: — Будут тебе валенки. — Так то не мне, дяденька Маркиз, большие нужны, для Данилы. — Для Данилы? Найдем и для Данилы. Итак, эн! Де! Труа! Катр! Сенк! Илья Спиридонович, некоторое время стоявший возле биржи, неожиданно проворно для своего возраста перебрался через перила и, спустившись вниз по лестнице, скрылся в трюме. Когда он открыл дверь в каюту, шпага, брошенная Маркизом, воткнулась в деревянную переборку прямо над его головой. — Браво! — усмехнулся он. — Что вам угодно? — сухо спросил Маркиз. — Вы, кажется, не узнали меня? Меня прислал к вам Сергей Александрович. — Присаживайтесь, — сказал Маркиз и накинул на плечи свою оранжевую блузу. — Отец Иннокентий, выйди на палубу, подыши воздухом. Кешка завернулся в одеяло и выскользнул из комнаты. — Вы из Парижа, Илья Спиридонович? — спросил Маркиз, когда они остались вдвоем. — Я получил от князя письмо. Сергей Александрович указал на вас как на человека, который может переправить через границу кое-что из его имущества, — тихо сказал Тараканов, протирая стекла очков. — Я этим больше не занимаюсь, — ответил Маркиз, скручивая цигарку из газеты. — Я не хочу ссориться с Советской властью. — Поэтому вы скупаете за гроши ценные произведения искусства и продаете их иностранцам? — В голосе Тараканова Маркиз почувствовал угрозу. — Что вы хотите переправить? — небрежно спросил Маркиз. — Кое-какая живопись, скульптура. — Много? — Несколько ящиков, которые умещаются на одной подводе. Маркиз усмехнулся: — А “Медного всадника” вы не собираетесь отправить князю за границу? — Нет, “Медного всадника” мы с вами оставим на месте. — Простите мое любопытство, — сказал Маркиз, — ноя хотел бы знать, где находятся эти ценности? — Это вы узнаете в свое время. Маркиз усмехнулся. — Разрешите взглянуть на вашу трость, — сказал он и, взяв трость, быстрым движением отвинтил набалдашник и обнажил лезвие кинжала. — Я купил эту трость в Гамбурге пять лет назад, но даже не подозревал о ее секрете. — Вы неточны, господин Тараканов, эта трость действительно приобретена в Гамбурге, но не вами, а мною, в ту самую поездку, когда я сопровождал князя в качестве воспитателя его младшего сына. Как видите, Илья Спиридонович, я тоже кое-что знаю… Вы рассчитываете на мою помощь. А если я откажусь? Я не уверен, что смогу вам помочь. — Вы не откажетесь, — улыбнулся Тараканов. — Вы слишком многим обязаны князю. Это во-первых. А во-вторых… Я полагаю, вам не хотелось, чтобы большевики узнали, что бегство князя Тихвинского было организовано вами, господин Шиловский. — Вы, кажется, вздумали меня запугивать, господин Тараканов? Запомните: я ничего не боюсь. Я не боюсь ни вас, ни бога, ни черта. Он внимательно, изучающе поглядел на Тараканова. — Насколько я понимаю, — сказал Маркиз, — вы знаете, где находится коллекция князя? Тараканов промолчал. — Так, так, — усмехнулся Маркиз. — Значит, похищение коллекции… дело ваших рук. — Я это сделал по поручению князя, — улыбнулся Тараканов. — Вы знаете мою преданность его сиятельству. — Ваша преданность!.. — Маркиз задумчиво посмотрел на Тараканова, потом подошел к двери и вытащил шпагу, торчавшую в деревянной переборке. Он несколько раз взмахнул шпагой, рассекая воздух, и наконец глухо, не оборачиваясь к Тараканову, сказал: — Хорошо. Я помогу вам переправить коллекцию через границу. Вы правы, я действительно многим обязан князю. И я не хочу, чтобы эти сокровища были разграблены… — И, обернувшись, добавил: — Или попали в ваши руки. Тараканов улыбнулся: — Вы не доверяете мне. Что ж, это ваше право. Со временем вы сами убедитесь, что я не обманываю ни вас, ни князя. Маркиз поклонился. — А этот ваш мальчуган… он нам пригодится, — сказал Тараканов. — Это очень хорошо, что у вас есть мальчуган.*
На узорных воротах Знаменского имения князя Тихвинского висел большой амбарный замок. Калитка тоже была закрыта. Маркиз подсадил Кешку, и тот проворно перебрался через ограду. — Отодвинь щеколду, — сказал Тараканов. Тяжелая заржавленная щеколда не открывалась. — Камнем стукни, — посоветовал Маркиз. Кешка нашел камень и стукнул по щеколде. Щеколда подалась. С резким скрипом открылась калитка. Когда все трое вошли. Тараканов прикрыл калитку и задвинул щеколду. К опустевшему барскому дому вела широкая липовая аллея, заросшая травой и сорняком. Поднявшись на парадное крыльцо. Тараканов достал ключ и открыл дверь. Из просторного вестибюля два полукруглых марша мраморной лестницы вели на второй этаж. В парадных комнатах было полутемно. Свет едва проникал через закрытые ставни, на стенах не было картин, исчезли ковры, гобелены и мебель… Тараканов остановился возле камина, на котором когда-то стояли часы со всадником. А Кешка подошел к зеркалу, покрытому густым слоем пыли. Он стал водить пальцем по стеклу, и в луче пробивающегося из-за прикрытых ставен света постепенно появился причудливый контур сказочного коня с узкой длинной шеей, с вьющейся по ветру гривой… Маркиз подошел к зеркалу и нарисовал на Кешкином коне всадника в широкополой шляпе. Кешка засмеялся. — А ну-ка, поди сюда, — окликнул его Тараканов и, указав на камин, сказал: — Полезай. — Не полезу! — заупрямился Кешка. — А я тебе говорю — полезай! — вспылил Тараканов. — Чего это я в печку полезу? — Кешка посмотрел на Маркиза. — Зачем ему лезть в камин? — Скажите ему, чтобы лез в камин, я объясню, что делать. Маркиз кивнул Кешке, и Кешка скрылся за каминной решеткой. — Нащупай колесико. Сбоку. Нашел? — Нашел. — Поверни налево. — Не крутится. — А ты посильнее! Тараканов прислушался к едва уловимому скрипу, доносившемуся из камина. И вдруг камин слегка вздрогнул и медленно стал поворачиваться, открывая тайник… — Черт побери! — засмеялся Маркиз. — Надежное местечко! Камин, повернувшись, открыл проход в темную комнату. Тараканов нащупал в темноте фонарь, зажег его и осветил узкую комнату. Комната была пуста. Кешка нагнулся и поднял с пола разбитую фарфоровую статуэтку. — Что ты там нашел? — спросил Маркиз. Он взял у Тараканова фонарь и осветил голубую фарфоровую фигуру коня с отбитым крылом. — Лошадка… С крылами, — сказал Кешка. — Это Пегас. Крылатый конь вдохновения, — сказал Маркиз. В дрожащем свете фонаря Пегас казался сказочно прекрасным. Его глаза диковато смотрели на Кешку, а сохранившееся крыло, казалось, вздрагивало и трепетало. — Где же ваши… ящики? — спросил Маркиз у Тараканова. Тараканов вырвал из рук Кешки Пегаса и со злостью швырнул его на пол. Конь разлетелся вдребезги. — При чем же тут этот… несчастный Пегас? — усмехнулся Маркиз. К воротам имения тем временем подъехал удивительный кортеж. Впереди, на извозчике, рядом с молодой красивой дамой в пудреном парике сидел разбитной парень в кожаной тужурке, с мотоциклетными очками, поднятыми на лоб. За извозчиком ехал ломовик с ящиками и полосатой сторожевой будкой. За ломовиком следовала телега с гусарами и гренадером в высокой шапке, а еще дальше шесть лошадей, запряженных цугом, тащили золоченую карету, в которой какие-то молодые люди распевали “Яблочко”. Кортеж остановился около ворот, парень с мотоциклетными очками соскочил с пролетки и, открыв амбарный замок, распахнул ворота. Вся процессия с шумом подкатила к барскому особняку. Перепачканный сажен Кешка выбрался из камина, снова закрывшего вход в тайник, в ту минуту, когда снизу послышался шум. — Кто это? — встревожился Тараканов. — Что там за люди? Маркиз подтолкнул Кешку за плечи. — Ну-ка, отец Иннокентий, сбегай узнай, что там происходит. Возле парадного подъезда заканчивались приготовления к киносъемке. Возле полосатой будки прохаживался гренадер со старинным ружьем, у лестницы стояла карета, в которой сидела красавица в пудреном парике, на высоких козлах восседал ливрейный кучер в треуголке, а в открытой автомашине рядом с оператором и кинокамерой стоял наголо обритый режиссер в клетчатой курточке с накладными карманами. Приложив рупор ко рту, он кричал: — Приготовились!.. Поехала карета! Камера! Оператор завертел ручку. Гренадер сделал “на к-раул”. Дама, приложив к глазам лорнет, кокетливо выглянула из-за занавесок кареты. — Стоп! — закричал режиссер. — Где грумы? Не вижу грумов! Боржомский, где грумы?! Парень в мотоциклетных очках бросился к режиссеру. — Какие грумы, Яков Николаевич? В сценарии грумов нет. — А голова у вас на плечах есть?! — кричал режиссер. — Парадный выезд, шестерка цугом, ливрейный кучер, а кто на запятках? Я вас спрашиваю, кто на запятках?! — На запятках? Пожалуйста, Яков Николаевич, я сам встану на запятки… — Мне нужны грумы или хотя бы… негритенок! — А где я возьму вам негритенка? Мы с вами не в Африке, Яков Николаевич. — Вы уволены, Боржомский. Съемка отменяется, — неожиданно спокойно сказал режиссер и стал раскуривать погасшую на ветру трубку. Именно в этот момент парадная дверь приоткрылась, и из нее выглянула удивленная физиономия Кешки. — Съемка продолжается! — снова закричал Яков Николаевич. — Я нашел вам грума, Боржомский. Берите этого мальчишку, и чтоб через пять минут на запятках был негритенок! Маркиз через щель в ставнях увидел, как Боржомский схватил Кешку за рукав и потащил к костюмерше, стоявшем на подводе у раскрытого ящика с костюмами. — Пойдемте, Илья Спиридонович, нам тут делать больше нечего. Полюбопытствуем, как снимают кино. — Стоит ли рисковать? — спросил Тараканов. — Не бойтесь, — ответил Маркиз. — Кроме съемки, их сейчас ничего не интересует. Когда Тараканов и Маркиз вышли на парадное крыльцо, режиссер сразу же обратил внимание на элегантную фигуру Маркиза. — Хорошо стоишь! — крикнул ему режиссер. — Так и оставайся. Наденьте на него камзол! А вы, — крикнул он Тараканову, — будете открывать дверцы кареты! — А по какому, простите, праву… — начал было Тараканов. — Не спорьте, Илья Спиридонович, — остановил его Маркиз. — Отдадим несколько минут нашей жизни Великому Немому! Рассуждать было поздно — на них уже надевали цветные камзолы и пудреные парики. — Съемка! — закричал режиссер. — Поехала карета! Камера! Карета тронулась. Кешка с вымазанной черной краской физиономией, в непомерно большом камзоле и в парике, с растерянным видом трясся на запятках. Когда карета остановилась, Тараканов, бессмысленно улыбаясь, распахнул дверцы, красавица медленно и величественно поднялась по ступеням, и Маркиз застыл в изящном поклоне. Когда съемка закончилась, режиссер подозвал к себе Кешку и сказал: — В понедельник приходи на кинофабрику. Я начинаю снимать новую фильму “Гуттаперчевый мальчик”. Будешь играть роль! А пока — держи! Он достал из сумки, лежащей на сиденье, буханку хлеба и отдал ее Кешке. Автомобиль загудел и тронулся вслед за шумным кортежем, покидавшим имение. — Это что, гонорар? — спросил Кешку Маркиз, показывая на буханку. — Не… хлеб… — улыбнулся Кешка, махнув на прощанье рукой режиссеру. — Ну что ж, Илья Спиридонович, — усмехнулся Маркиз, — вас кто-то опередил? — Все-таки отвратительный у вас характер, — поморщился Тараканов. — Только вы напрасно злорадствуете… Еще далеко не все потеряно, Шиловский. Для начала мы поместим вашего мальчугана в детский дом имени Парижской коммуны. Когда к дому подъехала пролетка и из нее вышли Макар и Петровых, шумные кинодеятели были уже далеко, а Маркиз, Тараканов и Кешка уныло брели к станции, каждый погруженный в собственные мысли. Петровых, в старом бушлате, надетом на косоворотку, в картузе, сменившем матросскую бескозырку, утерял свой грозный вид и даже ростом стал вроде бы поменьше. Остановившись на крыльце черного хода, Петровых, щурясь от яркого солнечного света, закурил папиросу. Здесь, за городом, еще виднелись островки почерневшего снега, с крыш, из водосточных труб стекала вода. — Тут на крыльце у меня круглосуточный пост был. И у парадного хода часовой стоял, — рассказывал он Макару. — Дом после пропажи прочесали, можно сказать, насквозь и даже глубже. Нет тут коллекции, точно нет, можешь мне поверить. Они вместе обошли вокруг дома, вышли к парадному крыльцу, где всего час назад разыгрывалась сцена из старинной роскошной жизни. Макар открыл дверь и вошел в вестибюль. — Вот по этой лестнице аккурат ящики и таскали… — объяснял Петровых, поднимаясь по лестнице. — Гляди-ка, перила поломанные… Мы и поломали, язвия его дери… — Чердак обыскивали? — спросил Макар. Глаза его смотрели на Петровых строго и недоверчиво. — Обыскивали, — пожал плечами Петровых. — Стены простукивали? Подвалы осматривали? — Вроде простукивали, — снова повторил Петровых. — “Вроде”! — передразнил Макар. — Здесь должны быть ящики! Больше им быть негде! — с завидной уверенностью сказал он и решительно направился на чердак. Через два часа, мрачный, перепачканный, весь в пыли и паутине, с продранным локтем, Макар бродил по пустынному дому уже без прежней уверенности. Нигде не было даже следов, способных натолкнуть его на какие-либо предположения. Петровых сочувственно поглядывал на Макара и тяжело вздыхал. — Митрича, плотника… допрашивал? — спросил Петровых, когда они наконец уселись покурить на подоконнике в зале второго этажа. — Митрича… нет. — Возьми его в оборот. Он ящики сколачивал, может, чего и знает. — Нету Митрича, — вздохнул Макар. — Как так — нету? — Кокнули Митрича. — Наши? — Нет. — Белые? — Нет. — А кто же? — Бандиты. Лагутинцы. — А старуху княгиню видел? — Нет. В прошлом году умерла от тифа. Петровых почесал затылок. — А Тараканова… допрашивал? — Нет, — вздохнул Макар. — Пропал Тараканов. Исчез. Будто сквозь землю провалился… — Шутка сказать… Три года прошло… Ищи ветра в поле. Макар еще раз оглядел стены, обитые вишневым шелком с большими темными прямоугольниками на тех местах, где когда-то висели картины. — Нечего здесь делать, — сказал он сокрушенно. — Пошли. Решительно натянув кепку, он направился к выходу. И вдруг, проходя по каминному залу, он остановился. Возле большого камина на затянутом пылью паркете виднелась какая-то свежая, едва заметная полоса. Эта дугообразная полоса как бы от раскрывавшейся двери и возле камина была непонятна и неестественна. Макар внимательно осмотрел пол. На паркете виднелись следы ног. Их было много, и разобраться в них было почти невозможно, хотя Макар, как ему казалось, узнавал следы собственных сапог и матросских ботинок своего спутника — они проходили здесь, наверно, раз десять. Но дугообразная полоса никак не могла быть объяснена их собственным присутствием здесь. Макар провел ладонью по мраморной поверхности камина, ощупал ребра, нагнулся, заглядывая в печное отверстие. — Ты чего увидел, а? — спросил Петровых. Макар вскочил и выбежал из комнаты. Потом вернулся с большой кувалдой и ломом и, задыхаясь от волнения, сказал: — За камином тайник. Факт. Он забрался за каминную решетку и стал ломом дробить кирпич. Кирпич не поддавался. — Ну-ка я попробую. — Взяв кувалду, Петровых сменил Макара. Макар ликовал — он предвкушал победу. И действительно, вскоре ему с Петровых удалось пробить такое отверстие, через которое Макар проник в тайник. Но и его, как и Тараканова, ожидало разочарование. — Пусто? — спросил Петровых. — Пусто, да не совсем. — Макар протянул Петровых осколок Пегаса. — Коллекция была здесь. Обвели тебя вокруг пальца, как маленького, Петровых!*
Шведский коллекционер Ивар Свенсон завтракал в номере парижской гостиницы “Мажестнк”, когда его секретарь доложил о приходе посетителя: — Вас хочет видеть князь Тихвинский. Свенсон, высокий, не старый еще человек с поседевшими слегка висками, нахмурился. — Я не могу его принять. Я занят… — Господин Свенсон, рано или поздно вам придется встретиться с князем, лучше не откладывать. — Ну что ж, Нильс, вы, пожалуй, правы. Пригласите его. Нильс вышел, а Свенсон подошел к мольберту, на котором стояла картина Пинтуриккио “Мальчик в голубом”, и накинул на нее кусок материн. Вошел Тихвинский. Это был несколько располневший, но подвижный человек среднего роста, с чуть насмешливым выражением глаз. — Господин Свенсон, — сказал князь, поклонившись, — я весьма сожалею, что наше знакомство происходит при малоприятных для нас обоих обстоятельствах. — Я тоже сожалею, — ответил Свенсон. — Картина, которую вы приобрели у неизвестного лица, является моей собственностью. Вы известный коллекционер, я не сомневаюсь, что в вашей библиотеке есть каталог моей коллекции и, таким образом, вы, разумеется, отлично знаете, что приобретенная вами картина принадлежит мне. — Принадлежала, — сухо сказал Свенсон. — Принадлежит, — улыбаясь, сказал Тихвинский. — Цель моего визита состоит в том, чтобы заявить вам: я буду вынужден обратиться в суд с просьбой вернуть картину мне, законному владельцу. Это ваше право, князь. Но вряд ли у вас что-либо выйдет. — Поживем — увидим, господин Свенсон, — снова улыбнулся Тихвинский. — Но прежде чем уйти… я хотел бы взглянуть на картину. Простите мою сентиментальность, но я не видел ее несколько лет. Свенсон подошел к мольберту и откинул драпировку. Тихвинский подошел к мольберту. — Вы подновляли ее? — спросил он. — Нет, — насторожился Свенсон. — Странно, — сказал Тихвинский. — У меня такое впечатление, будто ее заново покрыли лаком. Он взял в руки картину и осмотрел холст с тыльной стороны. Потом подошел с полотном к окну и, внимательно рассмотрев холст, снова поставил картину на мольберт. — Я должен извиниться перед вами, господин Свенсон. Я не буду подавать в суд. Не буду потому, что эта картина не моя. — Не ваша? — растерялся Свенсон. — Не моя. И не Пинтуриккио! — Не Пинтуриккио? Но ведь я консультировался со специалистами! — На всех картинах моей коллекции на обратной стороне холста есть оттиск моего герба. Вам подсунули фальшивку. Превосходную, я бы даже сказал — талантливую… но подделку! — Вы уверены в этом, князь? — Да… Свой герб на подлинник я наносил собственноручно. Что касается этой копии, то я ее знаю: она написана нашим петербургским художником Борисом Тамариным, можно сказать — гением своего дела. Не знаю, во что вам обошлась она, но могу вас утешить, господин Свенсон. Лет через сто талантливые копии Тамарина, быть может, будут цениться не многим дешевле подлинников.*
Витоль стоял у окна своего кабинета и смотрел, как на каменных плитах двора две девочки и свободный от дежурства молоденький милиционер играли в классы. Макар докладывал о результатах розыска. — Картина похищения в целом представляется так. Люди, принимавшие участие в упаковке коллекции, в самый последний момент незаметно для Петровых, видимо, подменили ящики. Ящики со всякой рухлядью прибыли в Петроград, а подлинная коллекция была спрятана сначала в имении, а потом перевезена в какое-то другое место. — Это твоя догадка? — спросил Витоль, не оборачиваясь. — Нет, Карл Генрихович, не догадка. Я обнаружил тайник за камином в одной из парадных комнат, — ответил Макар. — Там валялись осколки фарфоровой фигурки Пегаса, обозначенной в списке коллекции. Факт, а не догадка. — Куда же девалась коллекция? — Витоль обернулся и посмотрел на Макара. — В какое другое место ее перевезли? И кто это сделал? Макар пожал плечами: — В марте прошлого года мальчишки в Знаменском видели, что плотник Егор Поселков вывез из имения какие-то ящики, — сказал Макар. — Куда? — Не знаю. — А Поселкова ты разыскал? — нетерпеливо спросил Витоль. — Нет. — Почему? — Бандиты его убили. Лагутинцы. — А человека, у которого “попрыгунчики” похитили картину, ты нашел? — Нет, — огорченно произнес Макар и добавил: — Судя по описанию Козихина, это, вероятно, Тараканов. — Тараканов? — заинтересовался Витоль. — Управляющий имением Тихвинского, — пояснил Макар. — Вскоре после реквизиции коллекции он куда-то уехал. Появился в Петрограде у княгини Тихвинской незадолго до ее смерти, затем исчез. Витоль прошелся несколько раз по кабинету и снова остановился у окна. Он вдруг обратил внимание на куст сирени у высокой кирпичной стены, выпустивший первые зеленые листики. — Весна… — сказал он негромко. — Что? — не понял Макар. — Весна, говорю… Время идет, а дело наше не двигается. Как ты объясняешь следы возле камина? Следы свежие? — Свежие… Какие-то негодяи узнали о тайнике, проникли в него, но тоже опоздали. Витоль вернулся к столу. — Что же ты намерен делать дальше? — Вызвать всех имеющихся в Петрограде Таракановых и устроить им очную ставку с Козихиным. Витоль улыбнулся: — Сколько, по-твоему, Таракановых в Петрограде? Макар пожал плечами. — Думаю, несколько тысяч, Макар. Во всяком случае, очень много. Но тот Тараканов, который нам нужен, если только он действительно замешан в этом похищении, к нам не явится. — Опыта у меня маловато, — вздохнул Макар. — Боюсь, что не справлюсь я с этим делом, товарищ Витоль. — Макар опустил голову. Витоль обнял его за плечи. — Дело это серьезное, Макар, и тебе, пожалуй, не по плечу. — Он задумался и, помолчав немного, сказал: — Есть в Петрограде человек, который мог бы нам с тобой помочь. Видный криминалист, опытный сыщик, большой знаток искусства… Правда, он обижен на нас… на Советскую власть… — Витоль усмехнулся. — Попробуй, может быть, тебе удастся его уговорить. — Вы говорите о Доброво? — спросил Макар. — Да, — задумчиво сказал Витоль. — Прокофий Филиппович Доброво.*
Прокофий Филиппович Доброво, покачиваясь в качалке, терпеливо выслушал Макара и тихо спросил: — Зачем, молодой человек, вы мне все это рассказываете, а? — Мы очень просим вас, Прокофий Филиппович… — начал было Макар. Но Доброво прервал его. — Напрасно просите, господин Овчинников, — так же тихо сказал он. — Во-первых, употребляя вашу терминологию, я полицейская ищейка и обращаться вам, представителю революционного пролетариата, ко мне не следовало. Так-то-с. — Прокофий Филиппович… — попытался вставить слово Макар. — Во-вторых, — так же тихо, не давая себя прервать, продолжал Доброво, — кому сегодня нужна эта коллекция, когда Россия летит в тартарары?! — Но, Прокофий Филиппович… — снова перебил его Макар. — И, наконец, в-третьих, — так же неумолимо продолжал Доброво, — вы здесь выразились в том смысле, что я буду получать у вас паек. Запомните, господин Овчинников, Доброво не продается ни оптом, ни в розницу даже за ваш паек. Так-то-с… — Но вы специалист своего дела, вы опытный сыщик! — Я не сыщик, — презрительно сказал Доброво. — Я криминалист. Сюда, в этот кабинет, приходили за советом крупнейшие юристы России. В этом кресле сиживал ныне здравствующий Анатолий Федорович Кони, если вам что-нибудь говорит это имя. Меня приглашали на консультации в Париж, в Милан, в Амстердам и даже в Венецию. И этот мой портрет, — он показал на свой портрет, висевший на стене, — писал сам Илья Ефимович Репин! Вот так-то-с! Доброво поднялся и, перебирая четки, направился к выходу. Он распахнул дверь перед Макаром, показывая, что разговор окончен. — Очень жаль, Прокофий Филиппович, что вы отказываетесь нам помочь, — жестко сказал Макар. — Вы, конечно, уверены, что без вашей помощи мы с этим делом не справимся. У вас опыт, знания, у меня их нет. Если хотите, я только сегодня утром ходил к Витолю, отказывался от этого дела. Но сейчас… Запомните, господин Доброво, я найду эту коллекцию. Найду, если даже ее утащили черти. Можете считать, что я у вас не был! Макар вышел из кабинета и тут же вернулся. — Личный вопрос задать можно? — Можно, — усмехнулся Доброво. — В девятьсот двенадцатом году, в деле об ограблении ссудной кассы, как вы догадались, что именно Ковригин спрятал деньги? — Случайно, — засмеялся Доброво. — Случайно? — недоверчиво переспросил Макар. — Совершенно случайно, молодой человек. Правда, должен заметить, что подобные счастливые случайности идут в руки только тому, кто их ищет. — Не хотите сказать… Ваше дело. — И Макар быстро вышел из кабинета. Доброво подошел к окну. Через знакомый двор шел Макар. Когда он скрылся в подворотне, Доброво обернулся и увидел жену. Кутаясь в белую шаль, она спросила: — Ты отказался? — Ты же знаешь, Алена, Доброво не продается, — горько сказал Прокофий Филиппович. — Это я знаю. Но нам с тобой совсем нечего есть, Проша, — грустно улыбаясь, сказала жена. — Я сказал, что Доброво не продается… Это так… Но мы продадим… другого Доброво. И он посмотрел на свой портрет.*
В зале французского искусства XVIII пека Петроградского музея экскурсовод рассказывал о картине Франсуа Буше “Амур и Психея”. Экскурсанты — рабочие и красногвардейцы с суконными шлепанцами на грубой обуви — окружили хрупкую седую женщину в заштопанной шерстяной кофте. — Франсуа Буше — один из крупнейших живописцев эпохи рококо, — восторженно говорила она. — Своими декоративными картинами, преимущественно на мифологические и эротические сюжеты, он обслуживал вкусы аристократии и разбогатевших откупщиков. Франсуа Буше умер в 1770 году, незадолго до Великой французской революции. Среди экскурсантов в таких же шлепанцах на сапогах, как и у всех, стоял Макар. Он напряженно вслушивался в слова экскурсовода, не отрывая глаз от картины Буше. — “Амур и Психея”, картина из коллекции бывшего князя Тихвинского, необычайно характерна для живописной манеры Буше. Обратите внимание на смелую живописную лепку и теплые, насыщенные краски, позволяющие художнику передать материально-чувственный облик изображаемого. Экскурсанты теснее окружили женщину, внимательно разглядывая картину. — И хотя перед нами мифологический сюжет, — продолжала женщина, — мы с вами восхищаемся умением художника ярко передать красоту человеческого тела и пробуждение в юных героях первого трепетного чувства любви. Девушка в белом платочке украдкой взглянула на стоявшего рядом паренька и, слегка покраснев, потупила глаза. — А теперь мы пройдем в следующий зал, где вы познакомитесь с искусством Великой французской революции. Экскурсанты, волоча шлепанцы по блестящему паркету, направились к дверям. — Я задержу вас на минуту, — негромко сказал Макар, останавливая экскурсовода. — Вы уверены, что эта картина… та самая, из коллекции князя Тихвинского? — Несомненно. Ее подлинность установлена специалистами по ряду признаков, в том числе по фамильному гербу Тихвинских на обратной стороне холста. — Я из угрозыска, — тихо сказал Макар и показал свое удостоверение. — Покажите мне… обратную сторону холста. — Нет, нет! — растерянно залепетала женщина… — Это невозможно. Необходимо специальное разрешение директора… Я не могу… — Не будем спорить, гражданка, — решительно оборвал ее Макар и, подойдя к картине, повернул ее к себе, не снимая со шнура. — О господи! — вздохнула женщина. В углу справа на полотне виднелся герб — два оленя с двух сторон тянулись к кроне вишневого дерева. — Я где-то видел этот герб, — сказал Макар. — Черт побери, где я видел этот герб? — Не знаю, — испуганно пролепетала женщина.*
Воспитанники детского дома возвращались из бани. Они шли, выстроившись попарно, по булыжной мостовой. А сзади на подводе везли мешки с бельем, шайки и веники. Впереди колонны шла миловидная девушка в длинной юбке, в шляпке с бантом и в сапогах. Коротко остриженные воспитанники приближались к бывшему княжескому особняку с песней: Долой, долой монахов, Раввинов и попов. Мы на небо залезем, Разгоним всех богов! Кешка, шагавший в общем строю, не пел. Песня была для него слишком кощунственной. Но шагавший рядом паренек, заметив, что Кешка не поет, ткнул его кулаком в бок, и Кешка вместе со всеми подхватил песню: Раз, два. Горе — не беда! Направо — околесица, Налево — лабуда! С колонной поравнялся Маркиз в своем экзотическом наряде однорукого старьевщика. Когда воспитательница прошла мимо него, Маркиз склонился в изысканном поклоне. — Коман са ва, мадемуазель? — произнес он по-французски. — Са ва, — улыбнулась воспитательница. Мальчишки захохотали. — Сова! Сова! — закричали они. Кешка, отстав от ребят, подбежал к Маркизу. — Как дела? — тихо спросил Маркиз. Кешка неопределенно пожал плечами. — Иннокентий! — послышался голос воспитательницы. — Сейчас! — откликнулся Кешка, влюбленно глядя на Маркиза. Маркиз задумчиво ворошил спутанную Кешкину шевелюру. — Ты узнал, где в доме помещается котельная? — В подвале у черного хода. — Слушай меня внимательно. За котельной есть комнатушка, вроде столярной мастерской. Кешка кивнул. — Ночью, когда все уснут, — продолжал Маркиз, — спустишься в мастерскую. В левом углу, под верстаком, есть люк. — Маркиз протянул Кешке большой, слегка заржавленный ключ. — Найдешь на крышке люка круглое отверстие, вставишь ключ и повернешь три раза. Под люком будет винтовая лестница. Спустишься по ней в нижний подвал. Там под самым потолком… дверь железная, закрытая на щеколду. Откроешь щеколду. Я буду ждать за дверью. Понял? — А чего там искать, в подвале? — спросил Кешка. — Ящики. Много ящиков. Маркиз как-то странно — не то виновато, не то насмешливо — поглядел на Кешку и отвернулся. — Запомнил? Повернуть ключ надо три раза. — Запомнил, — улыбнулся Кешка. — Ну, беги! — Маркиз шлепнул Кешку по спине и, нахмурившись, быстро зашагал прочь. Кешка с некоторым недоумением поглядел ему вслед и, сунув ключ за пазуху, побежал догонять ребят. Догнал он их уже в воротах, над которыми висел транспарант на красном полотнище с надписью: “Детский дом № 6 имени Парижской коммуны”. Макару понадобился целый день, прежде чем он вспомнил, где он видел этот герб с двумя оленями и вишневым деревом. Каждый день, направляясь в угрозыск, он проходил мимо роскошного барского дома, где на двух каменных квадратных столбах парадных ворот красовалось по гербу с оленями. Вечером того же дня он входил в эти ворота бывшего городского особняка князей Тихвинских, где теперь располагался детский дом. Директор детского дома, уже немолодой человек со старомодным пенсне, покашливая в платок, который он все время держал возле рта, поручил Макара молоденькой воспитательнице, которая представилась ему как Анна Дмитриевна. Вместе с Макаром они обошли весь дом — это заняло довольно много времени, — побывали на чердаке и в подвалах, и уже совсем поздно, когда воспитанники укладывались спать, они поднялись в учительскую, где Макар принялся расспрашивать Анну Дмитриевну. А тем временем Кешка со свечкой в руках спустился в подвал. Здесь было сыро. Где-то мяукала кошка… Он прошел через котельную, выбрался в длинный коридор и вдруг услышал какие-то странные звуки, чавканье, приглушенные голоса. — Эй ты, шкет, дай ложку. — Дай ему ложку! — Там пусто. — Как — пусто? Была цельная кастрюля. — Вот заразы, всю кашу сожрали! Кешка загасил свечу. В коридор вывалилась компания с большой кастрюлей. Мальчишки пробежали мимо котельной и скрылись. Кешка зажег свечу и толкнул дверь столярной мастерской. В углу были сложены старые доски, на полу лежали поломанные кресла и стулья, на верстаке валялись брошенные инструменты. Под верстаком пол из кафельных плиток был завален опилками и стружкой. Кешка поставил свечу, разгреб опилки и стружку, отодвинул верстак и, присмотревшись, увидел отверстие для ключа, забитое опилками. Кешка улегся на пол и стал прочищать замочную скважину гвоздем. Потом вставил ключ и с трудом повернул его три раза. Щелкнула какая-то пружинка, и большой квадрат, выложенный плитками, слегка приподнялся. Кешка открыл люк и, взяв свечку, стал спускаться по винтовой лестнице… Помещение, в котором он оказался, было большим сводчатым подвалом с кирпичным полом. Со стен сочилась вода… Послышался слабый писк, и в дрожащем свете свечи Кешка увидел двух крыс, внимательно наблюдающих за ним. Кешка попятился к лестнице, как вдруг сверху по металлическим ступенькам скатилась целая ватага ребят. У одного из них в руках была большая керосиновая лампа. Он приблизил ее к лицу Кешки и сказал: — Монах! Ты что тут делаешь? — Ничего, — испуганно сказал Кешка. — Шпионишь, гад! — придвинулся к нему долговязый парень с кастрюлей в руках. — Не трожь его, Верзила, он безвредный, — сказал мальчишка с лампой. — А чего он сюда залез? — не унимался парень с кастрюлей. — Глядите, шпана, — сундук! Мальчишки бросились к стене, где одиноко стоял кованый сундук, сорвали заржавевший замок и откинули крышку. Сверху лежал овчинный полушубок, под ним оказались носильные вещи, сапоги, валенки… Мальчишки мгновенно опустошили сундук. Парень с кастрюлей уселся на пол и стал примерять огромные новые валенки. — Валенки мои! — бросился к нему Кешка. — Отдай! — Катись, пока не заработал! — угрожающе сказал Верзила. Кешка бросился к нему и, ухватившись за валенок, сорвал его с ноги. — Мои валенки! — закричал он, прижимая их к груди. — Я сюда первый пришел. Верзила поднялся с пола и пошел на Кешку. — Убыо, — мрачно сказал он. — Положь валенки или сейчас убью… Он вытащил из кармана ножик и раскрыл его. — Убивай. Валенки не отдам. — На что они тебе? — смягчился Верзила. — Ты в них утонешь. Мальчишки облегченно захихикали. — Валенки мои, — упрямо повторил Кешка. Верзила вырвал сапоги у стоящего рядом пухлого мальчугана и сказал: — Подавись своими валенками, я сапоги возьму. И, усевшись на пол, он стал примерять сапоги. Пухленький мальчуган захныкал. — Не хнычь, Булочка, они тебе велики, — миролюбиво сказал Верзила. Кешка, прижимая к груди валенки, оглядел помещение. Кроме сундука, в подвале ничего не было… Верзила напялил сапоги, скомандовал своей компании: “Айда, ребята!” — и все так же стремительно, как появились, исчезли в люке наверху. Кешка подставил к видневшейся под потолком железной двери лестницу, валявшуюся на полу, поднялся по ней и с трудом отодвинул щеколду. Половинка двери со скрипом открылась, и в подвал просунулось лицо Маркиза. Маркиз оглядел подвал и усмехнулся. — Где же наши ящики? А, Иннокентий? — Нету. Вот только сундук. — Ладно, пошли отсюда… — Он подал руку Кешке и, оттолкнув ногой лестницу, захлопнул дверь. Именно в это мгновение компания Верзилы снова появилась на винтовой лестнице. С ужасом увидели они, как в пустом подвале падает лестница, и бросились бежать наутек. Макар все еще сидел с Анной Дмитриевной в учительской. — Трудно с ребятами, — говорила она, — с виду они дети, малыши, а такое успели повидать за эти годы, что, знаете, я просто иногда теряюсь… Макар же настойчиво продолжал расспрашивать девушку: — А что, Анна Дмитриевна, из служащих… бывших служащих князя, никто у вас не работает? — Нет, не работает. Когда я пришла сюда, года два назад, говорили, будто работал тут какой-то столяр. Не помню, правда, его фамилии, я его не застала. Слух прошел, что он уехал в деревню, а там его бандиты убили. — Не Поселков ли его фамилия? — насторожился Макар. — Не помню… Его все называли по имени — Егор. В эту минуту в комнату вбежал пухлый мальчуган с трясущимися от страха губами. — Привидение! — закричал он. — Анна Дмитриевна, там, в подвале, привидение!.. За спиной мальчика толпилась вся компания Верзилы с белыми от страха лицами. — Привидений не бывает, Булочка. Запомни, это просто суеверие, — твердо, хотя не очень уверенно сказала воспитательница. — Какие еще там привидения? — сказал Макар. — А ну-ка, пойдемте, покажите, где они, эти ваши привидения. Ребята толпились на винтовой лестнице, не решаясь спуститься вниз. Анна Дмитриевна трясущейся рукой держала фонарь, а Макар, оглядев подвал, приставил к стене лестницу и, взобравшись на нее, приоткрыл дверь. По пустынной улице, залитой белесым сумраком, четко постукивая копытами, ехал конный патруль. В Петрограде начинались белые ночи. Маркиз и Кешка шли по набережной. И вдруг Маркиз остановился: — Ты погляди, Иннокентий, какая красота! Кешка огляделся. — Где? — спросил он. — Вокруг, всюду, — сказал Маркиз. В белесой прозрачности белой ночи Кешка шел за Маркизом, широко шагавшим по набережной Невы с таким видом, будто он сам построил этот город. Он то и дело останавливался, протягивая вперед руку и как бы говоря: смотри! И мальчику открывалась неведомая дотоле красота города, реки, ночи… Когда они остановились у “Медного всадника”, Маркиз спросил у Кешки: — А ты не боишься, что он вдруг поскачет? — Он железный, — улыбнулся Кешка. — Медный, а не железный. Но однажды ему это не помешало. Он поскакал! Один бедолага здорово перепугался. Бежит и слышит за собой Как будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой! Кешка испуганно попятился. — Не бойся, — засмеялся Маркиз, — это всего лишь стихи. Возле сфинкса у Академии художеств Маркиз и Кешка уселись на гранитной лестнице у самой воды. — Вот что, отец Иннокентий, — тихо сказал Маркиз, — ты больше ко мне не ходи. Живи в своем доме имени Парижской коммуны и будь счастлив. — А вы… уезжаете? — Нет, Кешка, я никуда не уезжаю. Просто боюсь, пропадешь ты со мной. Кешка опустил голову. — Надоел вам? Маркиз достал изкармана ломоть хлеба, завернутый в бумагу, и сунул Кешке: — Жуй! Кешка взял хлеб, а Маркиз поднялся, на мгновение прижал к себе Кешку и, уже не оглядываясь, ушел. Когда Кешка вернулся в детский дом, он, крадучись, пробрался к своей койке и быстро нырнул под одеяло. — Монах, а Монах, ты где пропадал? — тихо окликнул его Булочка. — А тебе что? — буркнул Кешка. — Верзила велел, чтобы завтра с утра на кладбище был. — Это еще зачем? — В Крым решили махнуть. Кешка удивленно поглядел на Булочку: — Почему в Крым? — Верзила сказал, там тепло. Там яблоки. — Ну, а на кладбище… пошто? — спросил Кешка. — Харчей на дорогу запасти надо. Верзила говорит, если в склепах пошарить, барахла можно найти… на продажу. — Какое барахло… на кладбище! — сердито сказал Кешка. — Верзила говорит, на нашем кладбище одних графьев да князей хоронили. Могилы богатые, золото небось и то есть, — шепотом объяснял Булочка. Кешка слушал недоверчиво. Все же наутро, не осмеливаясь спорить с грозным Верзилой, Кешка вместе со всеми отправился на кладбище. Подсаживая друг друга, мальчишки перебрались через кирпичную стену, отделявшую сад детского дома от кладбища. Кешка перелез последним и, спрыгнув с высокой стены, упал на заросшую высокой травой могилу. Поднявшись, он побежал вслед за ребятами к возвышавшемуся среди могил большому склепу. В нише у входа мраморная женская фигура скорбно склонилась над урной. Массивная железная дверь была заперта, и мальчишки проникали в склеп через выбитое стекло в крыше склепа. Когда Кешка оказался внутри, его приятели вытаскивали откуда-то снизу, из-под отодвинутой плиты, тяжелый ящик. Ловко орудуя ломиком, Верзила отрывал доску за доской. Под слоем войлока оказалась стружка, а под ними — большие бронзовые часы. Мальчишки подняли их, вытащили из ящика и поставили на пыльное надгробие посреди склепа. Яркий солнечный луч, проникавший сверху, осветил часы, некогда стоявшие на камине в имении князя Тихвинского. Верзила повернул ручку завода, и в тишине послышалось мерное тикание… — Золотые… — расплылся в улыбке Булочка. — Дурак ты, Булочка, — солидно сказал Верзила. — Нешто часы из золота делают? Он пальцем перевел стрелку. Послышался мелодичный перезвон, раскрылись ворота, и перед глазами изумленных мальчишек всадник отправился в свой привычный путь. Булочка от восторга засмеялся. — Лыцарь… — сказал он. — Егорий Победоносец! — авторитетно сказал Кешка. — У Егория — копье, — сказал Верзила, — а это — рыцарь! Он еще раз перевел стрелку, и снова всадник под мелодичный перезвон проехал перед мальчишками. А Тараканов и Маркиз неторопливо брели по Невскому. Возле Аничкова моста они остановились. — Как вы думаете, почем нынче такие кони?.. — Маркиз, усмехнувшись, показал на клодтовских коней. — Ну, разумеется, не здесь, а там, за кордоном? Тараканов не ответил. — Ну что вы так убиваетесь, Илья Спиридонович? В конце концов, коллекция не ваша. А князь потерял нечто большее… Петербург, Медного всадника, наконец, святую Русь. — Перестаньте паясничать, Шиловский! Тараканов облокотился на перила моста, глядя на пестрые разводы нефти на воде. — Этот болван Митрич… Куда же он дел ящики? — раздраженно пробормотал Тараканов. — Кстати, Илья Спиридонович, возьмите ваш ключ. — Маркиз протянул ключ от подвала. — Мы с ним договорились вполне определенно. В случае опасности он перевозит коллекцию в городской особняк. Что вы мне суете ключ? На кой черт он мне нужен?! Тараканов схватил ключ и швырнул его в воду. — Это катастрофа, Шиловский, понимаете — катастрофа. Митрич убит, и никто, никто на свете не знает, где он спрятал коллекцию Тихвинских. Тараканов задумался и вдруг обернулся к Маркизу: — Зачем вы отпустили мальчишку? Он слишком много знает. — Я не хочу, чтобы он стал таким же прохвостом, как мы с вами, — широко улыбнулся Маркиз. — Прошу вас, Шиловский, выбирать выражения! — вспылил Тараканов. — Извините, — буркнул Маркиз. Послышались жидкие звуки траурного марша. По набережной Фонтанки шла похоронная процессия. За длинными белыми дрогами шел одинокий скрипач, а за скрипачом — небольшая кучка людей, не вызывающих сомнения в своей принадлежности к “бывшим”. Маркиз снял шляпу. — Не кажется ли вам, Илья Спиридонович, что эта траурная мелодия в исполнении единственной скрипки звучит для нас некоторым образом символично? А этот посланец вечности, восседающий на козлах… Нет, вы взгляните на его лицо! Не хотел бы я, чтобы в последний путь меня провожал подобный экземпляр. На козлах в белом балахоне, в цилиндре восседал бородатый мужик устрашающего вида, с бегающими глазками. Тараканов перекрестился. — Вам не нравится этот человек? — спросил он. — Красавец, — насмешливо сказал Маркиз. Тараканов торжествующе взглянул на него. — Вы смеетесь, а между тем для меня это лицо сейчас — прекраснейшее в мире! Потому что это мой Егор! Мой исчезнувший Митрич! Он подхватил Маркиза под руку и потащил вслед за уходящей процессией. — Но ведь его убили бандиты, — вглядываясь в возницу, сказал Маркиз. — Первый раз вижу мертвеца, который сам возит на кладбище других покойников.*
В одном из петроградских залов по средам, как и в прежние времена, все еще проводились аукционы по продаже предметов искусства и антиквариата. Правда, покупателей почти не было, в большом амфитеатре в этот день едва можно было насчитать десяток посетителей, разбросанных по всему залу. На небольшой сцене за высокой конторкой сидел аукционер — громоздкий мужчина в потертом фраке, с обвисшими седыми усами. Ударив молоточком по конторке, аукционер громко возвестил: — Портрет известного криминалиста Прокофия Филипповича Доброво работы художника Репина. Оценивается в два миллиарда семьсот миллионов. Два служителя вынесли на сцену портрет и установили его рядом с конторкой. Доброво с женой сидели на самом верху амфитеатра. Когда внесли картину, жена дотронулась до плеча Прокофия Филипповича. — До чего мы дожили… — тихо сказала она. — Два миллиарда семьсот миллионов — раз! — объявил аукционер. Зал молчал. — Два миллиарда семьсот миллионов — два! Аукционер скорее по привычке, чем по необходимости, сделал паузу и, стукнув молотком, сказал: — Три. Снимается с продажи. — Вот и вышло по-твоему, Алена, — тихо сказал Доброво. Служители унесли портрет, а аукционер объявил: — Бронзовые каминные часы работы швейцарского мастера начала восемнадцатого века Клода Жоффруа, анкерного хода, с месячным заводом, с курантами на музыку Генделя, с рыцарем, выезжающим при бое. Оцениваются в семь миллиардов. Служители вынесли часы. Доброво поднялся и стал спускаться к сцене. Жена последовала за ним. — Семь миллиардов — раз! Аукционер взглянул на Доброво, но тот сделал отрицательный жест и приблизился к часам. — Семь миллиардов — два. Доброво внимательно разглядывал часы, что-то вспоминая. Жена подошла к нему. — Семь миллиардов — три! Снимается с продажи. Служители унесли часы. Из первого ряда поднялась толстая, почти квадратная женщина в шляпе с пером и направилась к выходу. Доброво последовал за ней и догнал ее на лестнице. — Простите, мадам, не вы ли хозяйка этих часов? — Я, — вызывающе ответила она. — В чем дело? — Мадам, часы краденые, — улыбнулся Доброво. — И вы это знаете. — Я их купила на толкучке. И знать ничего не знаю. Женщина в шляпе стала спускаться с лестницы. — Простите мою назойливость, где вы приобрели эти часы и у кого именно? Женщина остановилась и изобразила на лице улыбку: — Это ваши часы? — Нет. Но мне знакомы эти часы, так чтобы не соврать, уже сорок лет. Вот почему мне хотелось бы узнать, каким образом они попали к вам в руки. — Я купила их на Сенном рынке у беспризорников. И оставьте меня в покое! Женщина проворно сбежала вниз. Когда к Доброво подошла жена, он задумчиво сказал: — Скажи, Алена, ты, случайно, не знаешь, кто сейчас занимает особняк Тихвинского? — Не знаю, Проша. В последний раз, когда я там проходила, в саду играли какие-то дети. Может быть, там приют?*
Макар продолжал обследовать особняк Тихвинских. Он облазил весь дом, всю запутанную сеть подвалов, простукивал стены, измерял их толщину, стараясь угадать, не скрывается ли где-нибудь такой же тайник, как тот, за камином в имении. В нем жила странная уверенность, что сокровища князя должны быть именно здесь, где-то совсем близко. Он несколько раз снова и снова изучал нижний подвал с дверью под потолком и пришел к выводу, что коллекции там никогда не было — никаких следов от ящиков он не обнаружил. Макар сидел с Анной Дмитриевной в ее комнатушке и пил чай вприкуску, когда воспитательница, прислушавшись, выскочила за дверь и вернулась, таща за руку упирающегося Булочку. В руках у Булочки был мешок, набитый чем-то почти доверху. — Опять что-нибудь украли? — грозно спросила Анна Дмитриевна. — Вовсе мы ничего не украли, — насупился Булочка. — А в мешке что? — Хлеб. — Откуда хлеб? — удивилась Анна Дмитриевна. — Где вы взяли хлеб? — Купили. — На какие деньги? — недоверчиво спросила воспитательница. — Ну, говори. — Часы продали. Медные, — признался Булочка. — Часы? — всплеснула руками Анна Дмитриевна. — Какие часы? Со второго этажа, с амуром? — Не, другие, здоровенные такие, с лыцарем… — Где вы их взяли? — В могиле… — В какой еще могиле? Где? — вскочил Макар. — На нашем кладбище, в склепе, где генерал-аншеф князь Тихвинский похоронен… Федор Алексеевич. Макар схватил Булочку, потащил его за собой. У фамильного склепа Тихвинских стояли Прокофий Филиппович Доброво и бородатый кладбищенский сторож, у которого испуганно поблескивали маленькие глазки. — А вы, барин, значит, им родственником приходитесь? — Да… Дальний родственник, — кивнул Доброво и сунул старику деньги. Старик быстро спрятал их. — Это уж вы, барин, зря… За уход вперед плачено, за десять лет, до марту месяцу девятьсот двадцать пятого года… Они подошли к склепу, старик открыл дверь ключом из большой связки. Доброво прошел вперед, и они оказались внутри склепа. — Стекло-то беспризорники выбили… Я фанеркой прикрыл, нету нынче матовых стекол… Доброво посмотрел на мраморную плиту, на которой было написано: Генерал-аншеф ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ ТИХВИНСКИЙ 1783—1851 — А внизу? — спросил Доброво, перебирая четки. — Внизу тоже есть помещение? Старик отодвинул массивную плиту, и Доброво спустился вниз. — Сюда никто не наведывался в последнее время? — спросил он. — Как не наведываться? — сказал старик. — По соседству приют. Приютские тут такой шалман устроили… Я заглянул — батюшки светы! Войлок, стружка, стекло битое… Цельный день прибирался, старуху приводил… полы мыть… — А кроме мальчишек, здесь никто не был? — Акромя мальчишек, никого. Мы, барин, при кладбище живем, так что если бы кто наведывался, как вы, к примеру, мы бы не пропустили. Когда Доброво вышел из склепа, он внимательно осмотрел посыпанную песком дорожку, ведущую к склепу, на которой были заметны размытые дождем следы от колес. — А какая телега сюда подъезжала? — спросил Доброво. — Это я, барин, песок привозил, — ответил сторож. В этот момент Доброво увидел приближающегося Макара и чуть заметно улыбнулся. — Вы здесь, Прокофий Филиппович? — удивленно спросил Макар и уже строго спросил: — Что вы здесь делаете? — Да вот, с вашего разрешения… навещал усопших родственников, — насмешливо ответил Доброво и приподнял шляпу. Макар бросился к склепу. — Не спешите, господин Овчинников. К сожалению, вы, как, впрочем, и я, несколько опоздали. — Опоздали? — обернулся Макар. — Да, любезнейший господин Овчинников. Нас с вами опередили. Увы. — Доброво ткнул тростью, показав на хорошо заметный след колеса: — Видите этот след? Может быть, он вас куда-нибудь и приведет. Не далее как вчера коллекция Тихвинских была здесь, в этом склепе. Доброво приподнял шляпу, заложил трость за спину и медленно пошел по аллее к выходу. Сделав несколько шагов, он вернулся к Макару. — Советую вам поинтересоваться этим пройдохой кладбищенским сторожем! — сказал он тихо. Макар оглянулся. Сторож, только что стоявший рядом и подслушавший весь их разговор, исчез. Это был Егор Поселков, попросту Митрич.*
Тараканов и Маркиз укладывали ящики в трюме баржи, служившей Маркизу жильем, когда наверху послышался грохот и сверху по лестнице скатился Митрич. Борода у него была всклокочена, глаза вытаращены от страха. — Егор? — рассердился Тараканов. — Зачем ты, братец, сюда явился? Я же тебе велел… — Возьмите меня с собой, не губите! — взмолился Егор. — Хватит с меня, натерпелся страху за эти годы, не приведи бог, а тут еще… — Я сказал тебе, еще недельку останешься на кладбище, чтобы своим исчезновением не всполошить кого не надо. — Дознались, Илья Спиридонович, дознались. Нынче приходили из угрозыска… До всего дознались, еле ноги унес. Не губите, Илья Спиридонович! — причитал Егор. — Возьмите с собой!.. Верой и правдой служил вам — ящики пуще глаза своего берег! От страха и так дрожишь, а тут еще покойники кругом. — Ну, Егор, грех жаловаться на покойников, они недурно кормили вас, — усмехнулся Маркиз. — Вот что, Митрич, — сказал Тараканов, — с нами ты не поедешь. Добирайся сам. Жди нас в Больших Котлах… через неделю. И не беспокойся — свое получишь. — А не обманете, Илья Спиридонович? — Не обманет, — сказал Маркиз. — Я тебе обещаю, Егор, не обманет. — И он насмешливо взглянул на Тараканова.*
В пустынном, нетопленном зале Петроградского зоологического музея среди гигантских скелетов ископаемых животных прохаживались Тараканов и Артур. У Тараканова был вызывающе самодовольный вид, он то и дело потирал руки. С лица Артура не сходила вежливая, чуть презрительная улыбка. — Я хотел бы вам сказать… — заговорил наконец Артур, остановившись у витрины с челюстью пещерного медведя, — что вы обманули меня. И не только меня. Вот уж никак не думал, что вы обыкновенный проходимец и обманщик, господин… Авденис. — Он произнес эти слова тихо и даже вежливо. — Я попрошу вас выбирать слова, господин Артур, — вспыхнул Тараканов. — Я выбирал слова, господин Авденис, самые точные слова. Пинтуриккио не есть подлинник. Он есть подделка. — Ах, это, — засмеялся Тараканов. — Но у меня не было другого выхода. Вы мне не верили, требовали доказательств. А мне нужны были деньги и паспорт. Теперь все это не имеет никакого значения. Коллекция в моих руках, и мы с вами можем продолжать наше общее дело. — И Тараканов засмеялся. — Вы смеетесь? Тараканов дотронулся до руки Артура: — Я прошу извинить меня, господин Артур. Артур перевел взгляд с медвежьей челюсти на лицо Тараканова. — Хорошо, — после некоторого раздумья произнес Артур. — Предлагаю для переправки груза воспользоваться дипломатическими каналами. Такая возможность у меня есть. — А меня вы переправите тоже… дипломатической почтой? — усмехнулся Тараканов. — Вы получаете деньги… валюту. — Здесь, в России, мне ваша валюта не нужна. Я сам доставлю коллекцию. — Стоит ли подвергать риску… такой ценный груз… и себя?.. — Что делать… Зато я буду уверен, что меня не обманут. — О! — вспомнил Артур насмешливо. — Вас обманут? Вас?! — И уже серьезно спросил: — Какое, вы полагаете, время достаточно для доставки груза? — Недели полторы—две, — сказал Тараканов. — Согласен. Наши люди будут ожидать вас с двадцатого числа в известном вам месте. — Хорошо. Они разошлись, не прощаясь. Тараканов вышел из музея, а Артур еще некоторое время задумчиво бродил среди чучел и скелетов давно вымерших животных.*
На кладбище, возле склепа Тихвинских, стояли Витоль, Макар и еще двое сотрудников Петроугрозыска. — Ты уверен, что кладбищенский сторож именно тот самый плотник Митрич? — спросил Витоль Макара. — Он, товарищ Витоль. По всем описаниям — он, — сказал Макар удрученно. — Ты говорил, что его убили лагутинцы. — Так мне сказали в деревне. Наверно, он сам пустил этот слух. — Почему ты дал ему уйти? — резко спросил Витоль. — Почему ты не задержал его? — Растерялся, товарищ Витоль. Ну каких-нибудь две минуты упустил… В голову не пришло, что он может сбежать… Витоль бросил давно погасшую папиросу и сунул в рог свежую. — Опыта не хватает, Карл Генрихович, — виновато заметил Макар. — Н-да, не хватает. Только не опыта, а сообразительности. Сдашь дела Когану и Булатову. — Нет, Карл Генрихович, — возмутился Макар, — я этого дела ни Когану, ни Булатову не отдам. Я на прошлой неделе в Народном доме выступление товарища Луначарского слушал и хорошо понял, что пролетариату без общечеловеческой культуры, — Макар провел по шее ребром ладони, — во! И коллекцию эту мы обязаны найти. — Хорошо, что ты это понял, — сказал Витоль. — Но дело это я у тебя все-таки забираю. Завтра с утра займешься ограблением на Кирочной. А вы, — обратился он к стоявшим рядом сотрудникам, — явитесь ко мне через час. И он быстрыми шагами направился к воротам кладбища. Булатов, худощавый брюнет с аскетическим лицом, сочувственно похлопал Макара по плечу: — Не раскисай, Макар. Революции, в конце концов, безразлично, кто именно спасет ее достояние. Важно, чтобы оно было спасено! — Понимаю, — сказал Макар. — Но я хочу сам… Сам! Сам хочу докопаться! — В другой раз, — бесстрастно сказал Булатов. С высокой ограды детдома, как горох, сыпались мальчишки. Они перебирались через ограду, выскакивали из окон и бежали, подхватив свои тощие мешочки, сбивая с ног прохожих, бежали к набережной и дальше, через мост на другую сторону Невы. Макар возвращался с кладбища и проходил мимо ограды детского дома, когда на него откуда-то сверху свалился мальчишка. Мальчишка поднялся, Макар узнал Булочку и схватил его за плечо. — Куда ты? — В Крым. — Зачем? — Там тепло, там яблоки… Пусти. Макар не отпускал его. С ограды свалился Верзила. — Отпустите огольца! — Он ударил ребром ладони по руке Макара, и Макар выпустил Булочку. Оба мальчика бросились вдогонку за бежавшими вдоль улицы детдомовцами. Макар растерянно поглядел им вслед. Из ворот выбежала воспитательница. — Дети, дети, вернитесь! — кричала она, пытаясь схватить то одного, то другого, но ребята вырывались из ее рук и убегали. — Помогите мне! — крикнула она Макару. — Задержите их! — Как их удержишь, — мрачно сказал Макар, — вон их сколько. Мимо пробежал Кешка. — Кешка, и ты… Куда ты? — крикнула ему Анна Дмитриевна. — В Крым! — крикнул на ходу Кешка. — Там тепло, там яблоки… Макар и Анна Дмитриевна стояли у чугунных перил набережной Фонтанки. Наступила ночь, белая петроградская ночь, и они задумчиво смотрели па отсвечивающую металлическим блеском воду, на небольшой буксир, тащивший старенькую баржу. — Не гожусь я для этой работы, — сказала Анюта и тихо заплакала. — Я с ними была так добра, я так их любила! А они убежали… В Крым… — Там тепло, там яблоки, — ласково улыбнулся Макар. — Не огорчайтесь, Анюта… — Вам что… А меня с работы снимут. Я не хочу… я люблю эту работу, — всхлипнула снова Анюта. — Меня уже сняли, — невесело усмехнулся Макар. — Вас? За что? — Мне один человек сказал… если ищешь, случай сам тебе в руки идет. Вот он и шел… случай этот… а я прошляпил… На барже, шедшей мимо них, в каюте у Маркиза, за столом, на котором стояла клетка с попугаем. Тараканов и Маркиз рассматривали географическую карту. В каюте было тесно от ящиков, поставленных друг на друга. Это были такие же ящики, как и те, которые Петровых когда-то доставил Петроградскому музею. — Государ-р-р-рю имперар-р-ратор-р-ру ур-р-ра! — неожиданно крикнул попугай. Макар и Анюта вздрогнули, услышав приглушенный крик с баржи. — Голос какой странный, — сказала Анюта, — будто не человеческий. — Человеческий! — зло сказал Макар. — Очень даже человеческий. Перепились какие-то контрики. Надо запомнить номер этой баржи… Семьсот семьдесят семь…Часть вторая ЦИРКОВОЙ ФУРГОН
В Париже, в одном из переулков Монмартра, ставшего с давних пор излюбленным местом художников всего мира, в небольшом кафе, расположившемся прямо на тротуаре под брезентовым тентом, за круглым столом возле большой вазы с цветами сидели трое мужчин в широкополых шляпах, как видно художники. Не обращая ни на кого ни малейшего внимания, они вели оживленный разговор, о чем-то горячо спорили, обильно жестикулируя. Мимо них неторопливо прошел пожилой человек с аккуратно подстриженной скандинавской бородкой и, неторопливо расправив рукой полы пальто, уселся поодаль, за отдельным столиком. Тут же к нему подбежал официант и почтительно склонился в поклоне. И пока двое художников продолжали свой бесконечный спор, третий внимательно приглядывался к только что вошедшему человеку, перед которым расторопный официант уже поставил высокий стакан с молоком. Художник, наблюдавший за ним, положил руку на плечо одному из своих приятелей и тихо сказал: — За вашей спиной сидит пожилой господин и пьет молоко. Взгляните на него, друзья. — Что за птица? Я где-то видел это лицо. — Шведский промышленник Ивар Свенсон собственной персоной. — Спичечные фабрики и свиные бойни? — И алмазные копи в Африке. К столику Свенсона быстро подсел Артур в щеголеватом костюме в полоску и положил перед ним какую-то телеграмму. Свенсон неторопливо поднес ее к глазам и, проглядев текст, сказал: — За этим прохвостом, как говорят русские, нужен глаз да глаз… После этой истории… с Пинтуриккио я ему не верю. — Вы ничем не рискуете… — чуть скривив губы в улыбке, сказал Артур. — И потом… ждать осталось совсем недолго. Если же вы, патрон, не верите и мне… — Не горячитесь, Артур, это вам не идет… ваш стиль — сдержанность. — Пожалуй, вы, как всегда, правы, патрон. Артур взял со стола телеграмму, сунул ее в боковой карман и, поднявшись, церемонно раскланялся: — Честь имею! Художники все еще разглядывали Свенсона. — Что он здесь делает, у нас в Париже, этот бандит? — Скупает все, что попадается под руку. Он возвращается из Рима, где, говорят, приобрел картины Джотто и Перуджино. — Постой-ка, Серджо… Не он ли наложил руку на какую-то крупную русскую коллекцию? Тот, которого назвали Серджо, кивнул: — Он. Это довольно темная история. Пользуясь тамошней неразберихой, какие-то негодяи похитили коллекцию и вот теперь сбывают ее этому… знатоку искусства. — Но ведь это же уголовное дело! Грабеж! — Этот господин не так прост, — все еще продолжая смотреть на Свенсона, сказал Серджо. — Он не станет демонстрировать эту русскую коллекцию. Он просто спрячет ее. — Ты хочешь сказать, что никто, кроме него, так и не увидит ее? — Во всяком случае, нас с тобой он не пригласит. Третий художник, до сих пор не проронивший ни слова, спросил: — Он что-нибудь понимает в искусстве, этот мясник? Серджо рассмеялся: — Спроси у него. — Ну что ж, спрошу. Он поднялся и подошел к столику Свенсона: — Господин Свенсон, если не ошибаюсь? — Допустим… — настороженно кивнул Свенсон. — Вы что-нибудь понимаете в живописи, господин Свенсон? Свенсон чуть прищурил глаза и поднял монокль. — С кем имею честь? — Дино Моллинари, художник. Свенсон презрительно поджал губы: — Моллинари? Не слыхал. Дино подошел еще ближе к Свенсону. — Я вас спрашиваю — вы что-нибудь понимаете в живописи, господин мясник?! Свенсон поднялся и крикнул официанту: — Меня оскорбляют! Уберите его! Дальше все произошло так молниеносно, что подбежавшему официанту только и осталось, что помочь Свенсону вытереть молоко, которое выплеснул ему в лицо Дино Моллинари. — Вот моя визитная карточка, — под общий смех посетителей кафе сказал Дино, положив ее на стол перед Свенсоном. — Теперь, я надеюсь, вы запомните мое имя!*
Макар, огорченный неудачами, никак не мог смириться со своим поражением. И хотя ему было поручено совсем другое дело, он все еще думал только о том, как напасть на след похищенной коллекции, перебирая в уме в который уже раз все известные ему подробности дела. И поэтому он и не заметил, как оказался возле подъезда огромного желтого дома с колоннами. Здесь, среди бесчисленного количества табличек с названиями разных учреждений, его внимание привлекла к себе только одна. На слегка проржавевшей железке желтой краской было выведено: ПЕТРОГОРТОП. Петрогортоп, организация, снабжавшая Петроград топливом в эти трудные годы, заинтересовала Макара только потому, что теперь здесь работал тот самый матрос Петровых, который когда-то привез в Петроградский музей пустые ящики… Макар постоял немного перед подъездом, бросил в урну недокуренную папиросу и открыл дверь. Когда Макар вошел в кабинет Петровых, тот поднялся ему навстречу, крепко пожал руку и сразу же сказал: — Дров я тебе не дам. — А мне дров и не надо, — хмуро ответил Макар. — И торфу не дам. — И торф мне без надобности. — А угля нет! — почему-то почти ликующе сказал Петровых. — Уголь только по ордерам Петросовета. — Мне и угля не надо. — Что ты ко мне ходишь? — снова усаживаясь за огромный стол, сказал Петровых. — Все я тебе рассказал. Все. Ничего больше не знаю. Макар оглядел кабинет Петровых. Здесь в прежние времена была, вероятно, просторная гостиная барского дома. Макар подсел к столу Петровых, на котором, занимая чуть ли не половину всей поверхности зеленого сукна, стоял роскошный серебряный чернильный прибор с чернильницей в виде римской колесницы, запряженной четверкой лошадей. Макар немного помолчал и, стараясь не глядеть в глаза Петровых, сказал: — Да нет, я не по делу. Я так зашел. Проходил мимо… Дай, думаю, загляну к Петровых, как он там поживает… Петровых облегченно вздохнул. — Я теперь другим делом занимаюсь, — сказал Макар. — На Кирочной среди белого дня у одного известного артиста квартиру очистили. Все до нитки вынесли… В том числе бронзовые канделябры в стиле рококо. Петровых протянул Макару пачку папирос. Оба закурили. — Слушай, Петровых. Не по службе, а так просто… Может, еще что-нибудь вспомнишь? Кто еще, кроме перечисленных тобой лиц, присутствовал при реквизиции коллекции? Кто еще там был? — Тьфу! — в сердцах сплюнул Петровых. — Что ты ко мне пристал — кто да кто? Ну, попугай еще присутствовал! Макар опешил от неожиданности. — Ты надо мной не издевайся. Какой такой попугай? — Точно тебе говорю. Попугай. Не то ара, не то какаду. Старуха покойница сказывала, ему чуть ли не двести лет. — Петровых рассмеялся, припомнив что-то смешное. — Я его чуть не шлепнул, гада! — За что? Петровых затянулся и закашлялся. — За что? А за то, что монархию пропагандировал. Государю, говорит, императору, пропади он пропадом, ура, говорит. Орет, что на митинге. Макар вытаращил глаза. — Государю императору? Не врешь? — Слово в слово. Государю императору, говорит, ура! Я этого попугая на всю жизнь, можно сказать, запомнил. Макар от удивления раскрыл рот, но тут же опомнился. — На Фонтанке баржа… Номер семьсот семьдесят семь… Можешь узнать, чья она, эта баржа? — схватив Петровых за плечи, крикнул Макар. — Ты что, полоумный?! — рассердился Петровых, сбрасывая руки Макара. — Можешь ты узнать, чья она, эта баржа? — настаивал Макар. — Тут и узнавать нечего. — Петровых на всякий случай отошел подальше от Макара. — Наша это баржа, гортоповская. Наша. Прошлой осенью застряла, там и стоит, на Фонтанке. — Стоит?! — Стоит. — Ты можешь поручиться, что стоит? — Могу, — сказал Петровых, теряя свою уверенность. — Во всяком случае, еще утром она была там. — Была! Была, да сплыла! — крикнул Макар и бросился к двери.*
Маленький буксирный пароход под гордым названием “Повелитель бурь” тащил баржу № 777 по Неве мимо деревянных домиков петроградских пригородов. Паровой буксир, весело попыхивая, уводил ее все дальше и дальше от Петрограда, а Маркиз тем временем, привязав себя на веревках к кранцам, старательно перекрашивал номер. Несколько уверенных мазков белой краской, и вместо баржи под номером 777 плывет по Неве баржа с новым номером… 999. В порту, куда на служебном “Даймлере” примчался Макар, ему сразу же показали небольшой катерок, мерно покачивающийся у высокого причала. Макар спрыгнул на его корму и махнул рукой механику. Суетливо застучал старенький мотор, и катерок, оторвавшись от причальной стенки, двинулся по реке. И вот уже катерок поравнялся с баржей, по виду совершенно такой же, как и та, которую ищет Макар. Катерок приближается к носу баржи, и только тогда Макар видит, что номер закрыт большим красным транспарантом с надписью “Хлеб — Красному Питеру”. Длинным шестом Макар приподнимает полотнище, под которым вместо номера написано старое название “Бурлаков, сыновья и K°”. …Маркиз спустился в трюм баржи, где, пристроившись на одном из ящиков, Тараканов сосредоточенно раскладывал какой-то замысловатый пасьянс. Рядом стояла клетка с попугаем. Маркиз подошел к клетке, приоткрыл дверцу и налил немного воды в маленькое блюдечко. Попугай взмахнул крыльями и вдруг закричал пронзительно-скрипуче: — Государ-р-рю импер-ра-тор-ру ур-р-р-ра! Тараканов вздрогнул от неожиданности и, взглянув на Маркиза поверх своих темных очков, проворчал: — Он погубит нас в конце концов. Сверните ему шею! — Зачем же? — возразил Маркиз. — Мы научим его чему-нибудь новенькому. Маркиз вытащил попугая из клетки и посадил к себе на плечо. — Двести лет ты твердишь одно и то же. Пора менять репертуар. А ну-ка скажи: “Тараканову ур-р-ра!” — Чему вы учите птицу, Шиловский? Тараканов смешал карты и отошел к столу. — Вы помните о своем обещании пронумеровать мои ящики, Шиловский? — Ваши ящики? — Маркиз впустил попугая в клетку. — Разве они ваши… эти ящики? — Не ловите меня на слове. — Тараканов попытался отшутиться. — Вы меня не так поняли. — Нет, Илья Спиридонович, я понял вас правильно. Именно поэтому я буду сопровождать ваши ящики… — Маркиз так язвительно произнес слово “ваши”, что Тараканов даже вздрогнул, — непосредственно до встречи с князем. — У вас нет оснований подозревать меня! — взвизгнул Тараканов. — Я не давал повода! — Давали, давали… — спокойно ответил Маркиз. — И вообще разрешите вам заметить, драгоценный Илья Спиридонович, что вы ведете со мной бесчестную игру. — Я не понимаю вас, Шиловский! — Сейчас поймете. Я хотел бы знать, зачем вы, Илья Спиридонович, выменяли у несчастного Тамарина на пшено и коровье масло его великолепную копию “Мальчика в голубом”? Тараканов побледнел. — Не удивляйтесь, господин Тараканов, Боря Тамарин когда-то был моим товарищем, мы вместе учились в Академии художеств. — Извольте, я объясню вам… если на то пошло, — засуетился Тараканов. — Люди, которые помогают нам с вами, хотели иметь гарантию… — Они хотели иметь гарантию… а вы — деньги? — Какие там деньги… Гроши. — Гроши за “Мальчика в голубом”? Это не похоже на вас, Илья Спиридонович. Вы ведь, конечно, догадались умолчать о том, что это копия? Или вернее — подделка? В глазах Тараканова, скрытых за темными очками, промелькнуло что-то недоброе. — Не волнуйтесь, Шиловский, вы получите свое. — А я и не волнуюсь. Я только наперед предупреждаю вас, Илья Спиридонович, чтобы вы не вздумали обманывать меня! Нечестной игры я не потерплю! …На рассвете “Повелитель бурь”, выбрасывая из трубы черные облачка дыма, стоял у пристани рядом со знакомой баржей. Небольшая пристань на берегу Ладожского озера носила чисто служебное название “3-й участок Гортопа”. Макар, стоявший поодаль с капитаном буксира, внимательно наблюдал за баржей. Когда из трюма появились грузчики с ящиками, Макар решительно направился к ним. — Ну-ка, товарищи, стойте, — приказал он. Грузчики опустили ящик. — А ты кто такой? — лениво спросил один из грузчиков. — Не видишь, что ли… генерал от инфантерии! — засмеялся другой. — Генералов нынче всех в Черном море потопили, а я такой же, как вы, беспорточный, — засмеялся Макар. Засмеялись и грузчики. — Я из угрозыска, — сказал Макар. — Ищу покражу. — Коли с розыску — смотри. Один из грузчиков взял ломик и вскрыл ящик. В ящике были топоры. — А в этом что? — Макар показал на другой ящик. — Пилы. Макар обернулся к капитану буксира: — Где ящики брали? — Ящики-то? — по-вологодски окая, переспросил капитан. — С базы Гортопа. Из Питеру. — По дороге нигде не останавливались? — Как — не останавливались! Останавливались. Ночью в Михайловку заходили, двоих высадили. С грузом. К поезду, надо думать. — Что за люди? Какой груз? — спросил Макар. — Люди-то? Люди как люди. На барже зимовали. А груз-то? Ящики… Вона… вроде этих. Макар и капитан буксира подошли к носу баржи, на которой стоял номер 999. — Кто перекрасил номер? — спросил Макар. — Как так… перекрасил? — удивился капитан. — Когда эта баржа стояла на Фонтанке, у нее был другой номер. — Чертовщина какая-то… — почесал затылок капитан. — Сейчас проверим. У нас в журнале-то все прописано. Ванька! — крикнул он. — Погляди-ка в книге, какой там номер был у баржи-то? Веснушчатый увалень, выглядывавший из капитанской рубки, заглянул в журнал и ответил: — Три семерки. — Три семерки? — удивился капитан. — То-то и оно, — сказал Макар, — были три семерки, а стали… три девятки. Вот какая история. Макар и капитан буксира поднялись по трапу на баржу и спустились в трюм. В трюме было пусто, и только в каюте, где жил Маркиз, на столе стояла клетка с попугаем. Увидев людей, попугай лениво взмахнул крыльями и отвернулся. Макар подошел к нему. — Ну что испугался? Говори, не бойся. Попугай, отвернувшись, молчал. — Говори! Тебе говорят-говори! — прикрикнул на него Макар. Попугай, нахохлившись, посмотрел на Макара. — Тар-р-раканову ур-р-р-ра! — сказал он и снова отвернулся. …В Михайловке Макар сразу же отправился в просторный станционный пакгауз. Старичок весовщик в форменной железнодорожной фуражке раскрыл перед Макаром нужную страницу в толстом бухгалтерском фолианте. — Я плохо разбираю ваш почерк, — сказал Макар. — Вот вы из Питера, вы бы там сказали — писать нечем. О чернилах я и не мечтаю, хотя бы карандаши чернильные дали. Пишу огрызками, какая уж тут каллиграфия. Макар проглядывал запись. — “Поезд 569-бис…” — читал Макар. — А тут что написано, не разберу… Старичок неторопливо надел свои плохонькие очки с дужками, обмотанными суровыми нитками. — Это к вам не касается. Это разгрузка. А погрузка ниже. Вот видите, ящики… Вот вы из Питера, вы бы там сказали… бумага газетная, ничего не видать. — Вы лучше скажите мне, что это такое? — Где? Здесь? — Он протер очки краем засаленной клеенки и, внимательно посмотрев, сказал: — Что-то сам не разбираю… — Вот здесь ящики. Станция назначения — Изгорск? Старичок вдруг рассердился: — Сами все прекрасно разбираете, зачем же морочите голову старику? Ящики. Общий вес двадцать один пуд. — А это что? — указывая на другую запись, спросил Макар. — Тоже ящики. Тут ясно написано: ящики, общий вес тридцать пять пудов. Станция назначения — Кандалакша. — А это ящики? Станция назначения Гдов? — Ящики. В эту ночь, можно сказать, как нарочно, чуть не весь груз — ящики. А на той неделе день был — в пятницу или в четверг, не помню, — не поверите, одни бочки грузили. Вот вы из Питера, вы бы там сказали… Макар, не слушая весовщика, старательно переписывал сведения из книги в свою помятую тетрадку. Старенький телеграфный аппарат “Морзе”, постукивая, выталкивал длинную ленту с точками и тире. За спиною телеграфиста стоял Макар и, глядя на таинственные знаки, слушал глуховатый голос дежурного: — “Осмотр грузов Кандалакше никаких результатов не дал. Проверка, проведенная Коганом Гдове, также результатов не дала. Продолжение розыска вам лично разрешаю. Немедленно выезжайте Изгорск”. Подписано — “Петроугрозыск. Витоль”. Он оборвал ленту и протянул ее Макару. Макар сунул ленту в карман и, хлопнув телеграфиста по плечу, сказал: — Спасибо, товарищ. Для меня эта депеша вроде как якорь спасения. Она мне, можно сказать, жизнь вернула. Макар толкнул створки окна и выпрыгнул на перрон. Телеграфист покачал головой и снова склонился к своему аппарату.*
В полутемном вагоне, освещенном коптящей керосиновой лампой, все спали. Спали сидящие на нижних лавках, спали счастливчики, растянувшиеся на полках рядом с тюками и баулами, спали и те, кто в проходе пристроился на мешках. Дремал в тамбуре проводник, не выпускавший из рук фонаря. Безмятежно спал и Макар, притулившись возле окошка. Размеренно постукивали колеса, убаюкивая пассажиров… Под вагоном в угольном ящике ехало трое мальчишек. Здесь стук колес был оглушающим. Верзила, Булочка и Кешка не спали. В лохмотьях, перепачканные углем, они занимались весьма мудреным делом. Кешка и Булочка крепко держали высунувшегося из ящика Верзилу, который на ходу поезда пытался зацепить крюк, привязанный к веревке, за раму открытого окна. Наконец крючок зацепился. Верзила подергал веревку и, убедившись, что цель достигнута, залез обратно в ящик. — Лезь, Булочка, — сказал он. — Почему я? — испугался Булочка. — Ты самый легкий, — сказал Верзила. — У меня руки слабые, — захныкал Булочка. Мальчишкам приходилось кричать, чтоб услышать друг друга. — Я бы сам слазил, да меня веревка не выдержит! — крикнул Верзила. — Жеребь тянуть, — предложил Кешка. Верзила, придерживая веревку, поломал какую-то палочку на три части и, упрятав их в кулаке, протянул мальчишкам. Жребий вытянул Булочка. — Не полезу, боюсь! — У Булочки затряслись губы. Кешка увидел испуганные глаза Булочки и сказал: — Ладно. Я полезу. Он поменялся местом с Верзилой, схватился за веревку и, выглянув наружу, испуганно огляделся. Внизу мелькали шпалы, у Кешки зарябило в глазах, и он влез обратно. — Не дрейфь, Монах! — подбодрил его Верзила. И Кешка осторожно полез вверх по веревке Добравшись до окна, он ухватился руками за раму. Ноги соскользнули с веревки, и он беспомощно повис… Паровоз дал длинный гудок, и вагон с висящим мальчишкой пронесся мимо пустынной платформы с одиноким дежурным, лениво помахивавшим фонарем. Кешка нащупал ногами веревку и, подтянувшись на руках, влез в полураскрытое окно. Макар открыл глаза и увидел чьи-то ноги. На столике стоял мальчишка. Он деловито обшаривал верхнюю полку, осторожно вытащил из-под головы спящего пассажира буханку хлеба, положил ее в холщовый мешок и снова стал шарить… Макар взял Кешку за ногу. — Пусти! — испугался Кешка. — Пусти, дяденька! — Ты что тут делаешь, мазурик? — негромко сказал Макар. — Пусти, я больше не буду, — захныкал Кешка, стараясь разжалобить Макара. — С голодухи… неделю маковой росинки во рту не было… Пусти, дяденька. — Ты откуда взялся? — Оттуда. — Кешка мотнул головой в сторону окна. — С улицы. Макар увидел крюк на раме, снял его и вытащил веревку. — Ловко! Ты один? — Один, — соврал Кешка. — Врешь? Макар привязал холщовый мешок к крючку и спустил его вниз. Верзила ухватился за мешок и дернул его. Веревка вырвалась из рук Макара. А внизу, в угольном ящике, Верзила вытащил хлеб из мешка, и оба они вместе с Булочкой накинулись на хлеб, которого уже давно не ели. Они отламывали его круглыми кусками и давились, не успевая прожевывать черный липкий хлеб. Макар раскрыл свой брезентовый саквояж, вынул оттуда кусок белого хлеба, отрезал сала и, усадив Кешку на колени, сказал: — Жуй. Кешка жадно набросился на еду. — Куда пробираешься? Кешка широко улыбнулся: — В Крым. — Зачем? — Там тепло. Там яблоки… Макар пристально посмотрел на Кешку. — А ты из Питера? Из детдома Парижской коммуны?! Кешка удивленно вытаращил глаза: — А вы откуда знаете? — Я тебя давно подкарауливаю, — усмехнулся Макар. — Обратно в Питер повезете? — с оттенком обреченности спросил Кешка. Макар засмеялся и уже серьезно спросил: — Отец с маткой где? Живые? Кешка отрицательно покачал головой. — Убили? — Отца на германской убили, а мамка от сыпняка померла… Макар снова открыл саквояж, достал кусок колотого сахара и протянул Кешке. — Рафинад… — удивленно прошептал Кешка.*
Господин Вандерберг, один из крупнейших голландских коллекционеров, принимал ванну. Огромная ванная комната со множеством зеркал была ярко освещена. Ванна, в которой лежал Вандерберг, была утоплена в кафельном полу и доверху наполнена мыльной пеной, из которой виднелась только лысая голова Вандерберга. Перед ним стоял ливрейный лакей в полном облачении. — Приехал этот господин — из России, — негромко сказал лакей. — Зови! Зови, зови его! Скорей! Лакей удалился, а Вандерберг высунул из воды ногу и нетерпеливо пошевелил пальцами. В ванную комнату вошел Артур и церемонно поклонился Вандербергу. — Ну, что же вы молчите, Артур? Я сгораю от нетерпения. Как наши дела? — Вандерберг прикрутил кран, чтобы не шумела вода. — Ну, рассказывайте, Артур! — Еще полторы, ну, максимум две недели, господин Вандерберг, и коллекция Тихвинского будет здесь. Вандерберг восторженно шлепнул рукой по воде, обдав Артура мыльной пеной. — Ха-ха! — раскатисто захохотал он. — Вымолодец, Артур. Золото, а не человек. Вы дьявольская проныра! Артур поморщился. — Не сердитесь, Артур. Я шутя. Вы знаете, как я ценю вас. И не только ценю, — Вандерберг снова рассмеялся, — но и щедро оплачиваю ваши услуги. Кстати, что этот негодяй требует за свои немыслимые богатства? — Господин Тараканов, по моим наблюдениям, опытный деловой человек, к тому же весьма осторожный. Он настаивает, чтобы оценку производили компетентные эксперты. — Ну что же, пусть будет так. Вандерберг поднялся, включил сильный душ и, отчаянно фыркая, стал смывать мыло. Потом он накинул на себя ворсистую простыню и, усевшись в низкое кресло, сказал: — Теперь о главном. Я бы хотел знать, на что именно я могу рассчитывать. Что вы отдаете Свенсону и что получу я? — Видите ли, господин Вандерберг… Это вопрос деликатный, — замялся Артур. — Я бы хотел быть с вами вполне откровенным. — Разумеется, мой друг. Мы с вами деловые люди. Выкладывайте все. — Господин Свенсон настаивает на единоличном владении всей коллекцией. Ваидерберг откупорил бутылку с пивом. — Что за чушь! У него нет таких денег, можете мне поверить. — Возможно, что и так. Но он хочет оставить себе живопись. Все остальное он собирается уступить вам с таким расчетом, чтобы оправдать почти все свои расходы. — Всю живопись я ему не отдам! Слышите, не отдам! Артур подсел к столику, и Вандерберг разлил по стаканам пиво. — Артур, я предлагаю вам честную игру. Как только коллекция окажется у вас, мы с вашим патроном устроим маленький аукцион. — Вандерберг снова раскатисто засмеялся. — Вы меня понимаете — аукцион! Кто больше даст! Выручка пойдет в вашу пользу. — Господин Свенсон на это не пойдет. Больше того: в последнем разговоре он намекнул, что, если вы не пойдете на его условия, он оставляет всю коллекцию за собой. — Не понимаю, к чему вы клоните, Артур. — Я обещал господину Свенсону живопись. Мы отдадим ему живопись. Но я вовсе не обещал ему всю живопись. — Артур многозначительно выделил слово “всю”. — Мои разговоры с патроном носили, я бы сказал, предварительный характер… А теперь я располагаю документом, представляющим определенную ценность. Артур вытащил из бокового кармана тоненькую книжицу и положил ее перед Вандербергом. — Я не читаю по-русски, — сказал Вандерберг. — Переведите, пожалуйста. — С удовольствием, — улыбнулся Артур и, раскрыв книжицу, стал называть имена: — Веласкес, Веронезе, Ван Дейк, Рубенс… — Стоп, стоп, стоп! — замахал руками Вандерберг. — Давайте сразу отметим, что будет принадлежать мне!*
У станции Изгорск поезд, в котором ехал Макар, остановился перед закрытым семафором. И вдруг в сонной тишине вагона послышался чей-то испуганный голос: — Ой, што это? Кажись, горим?! — Горим, братцы, горим! — истошно завопил тот же голос, и все пассажиры спросонья бросились к окнам. Макар тоже высунулся из окна и увидел, что станционные пакгаузы охвачены огнем. Расталкивая пассажиров, перебираясь через мешки и корзины, Макар выскочил из вагона. У пакгауза стояли какие-то люди, безучастно наблюдая за тем, как двое пожарников качали ручную помпу, а третий направлял тонкую струю воды на деревянную стену багажного сарая. Вслед за Макаром от поезда к пакгаузу бежали пассажиры, на ходу рассуждая о причинах пожара. — Молния, что ли, вдарила? — Да грозы-то не было, от сухости, надо думать, возгорелось. — Будет болтать! — сказал кто-то. — Бандиты подожгли, лагутинцы. У горящего пакгауза собралась большая толпа. Макар подбежал к растерянному человеку в фуражке с красным околышем: — Что вы стоите?! Ведра, багры, кастрюли, баки — все, что есть, тащите! И, обращаясь к пассажирам и стоявшим возле пожарников зевакам, крикнул: — Товарищи, граждане! Что же вы стоите глазеете, когда на ваших глазах гибнет достояние Республики?! И, не дожидаясь ответа, Макар выхватил у одного из пожарников топорик и устремился в горящий пакгауз. Верзила, Булочка и Кешка с валенками под мышкой бежали к пакгаузу. — Пацаны, куда вы?! — кричал Верзила. — Смываться надо! Самое время смываться! Но Кешка, а за ним Булочка бросились к месту пожара. А здесь уже от маленького пруда к горящему зданию бежали с ведрами и кастрюлями первые добровольцы. Макар с остервенением, заслонясь рукавом от огня, в дымном сарае взламывал ящик за ящиком. С треском отлетела доска, и Макар увидел еще не выделанные овечьи шкуры. Задыхаясь от дыма, он выскочил из дверей и, подбежав к начальнику станции, суетившемуся возле пожарных, схватил его за плечо: — Где ящики, которые прибыли ночью из Михайловки? — Из Михайловки… — оторопело пробормотал начальник станции. — А… да, да, были ящики. Они в третьей секции. — И он показал рукой на закрытую дверь одного из отделений пакгауза. — Сюда воду, сюда! Сюда! — крикнул Макар. И он бросился к дверям, на которых стояла цифра “3”. Пожарники подтащили брандспойт и, взломав дверь, направили струю туда, откуда валил густой дым и вырывалось пламя. А между прудом и пакгаузом выстроились две цепи. По одной передавали ведра с водой, по другой — порожние. Среди взрослых стояли в цепи трое беспризорников. Кешка и Булочка передавали ведра с водой, а Верзила — порожние. То и дело наклоняясь к Кешке, он тупо повторял одно и то же: — Пацаны, тикать надо, пока твой комиссар не хватился! Слышь, Монах! И вдруг в третьей секции раздался оглушительный взрыв. Столб пламени высоко взметнулся над пакгаузом. Обе цепочки шарахнулись в сторону и в испуге застыли, глядя на раскрытые двери пакгауза. Пожарники бросились внутрь и вскоре вытащили из пакгауза обожженного Макара. На нем тлела одежда. Пожарники направили на него струю, чтобы сбить огонь. — Фельдшера! — крикнул начальник станции. — Скорее фельдшера! — Опоздал. Опоздал я, — с отчаянием говорил Макар, вытирая лицо рукавом, и, неожиданно потеряв сознание, повис на руках у пожарников. К Макару подбежал Кешка: — Дяденька, ты живой? Живой? Живой? Тем временем Верзила схватил за руку Булочку и утащил за собой. Макар открыл глаза и, увидев Кешку, едва шевеля губами, тихо произнес: — Сгорело… Все сгорело.*
В кинематографе “Арс” на Невском шел новый фильм режиссера Тарсанова “Фаворитка его величества”. Доброво со своей супругой смотрел картину на последнем сеансе. В переполненном зале зрители вслух читали надписи, а пожилой тапер, глядя на экран, играл старинный вальс. …Золоченая карета, запряженная шестеркой лошадей, подкатила к парадному крыльцу большого барского дома. На запятках стоял негритенок, одетый в ливрею. К карете подошел слегка сутулый человек с близорукими глазами, раскрыл дверцу и склонился в поклоне. Из кареты вышла дама в пудреном парике и, взбежав по лестнице, улыбнулась красавцу лакею, предупредительно распахнувшему перед ней парадную дверь… После сеанса Доброво поднялся в кинобудку и попросил длинноволосого киномеханика в студенческой курточке показать ему некоторые куски пленки. Он долго и внимательно разглядывал их на просвет и наконец обратился к механику: — Попрошу вас… Вырежьте мне, пожалуйста, несколько кадриков… Этот… этот и вот этот… — Не могу. Нам не разрешают. Вы попросили показать, я показал. А вырезать не могу, — сказал киномеханик. — И потом… простите, кто вы? — Моя фамилия Доброво. — Прокофий Филиппович? — расплылся в улыбке киномеханик. — Откуда вы меня знаете? — удивился Доброво. — Я был студентом юридического факультета. Я знаю ваш учебник криминалистики. Собирался быть адвокатом… — усмехнулся киномеханик. — Зачем вам эти кадрики, Прокофий Филиппович? — Видите ли… мне показалось, что один из этих статистов замешан в деле, которое меня интересует, — сказал Доброво. — И я был бы вам очень признателен, если бы вы все-таки подарили мне эти три маленьких кусочка ленты. Киномеханик улыбнулся и взял ножницы. …Помощника режиссера, молодого человека в кожаной тужурке и мотоциклетных очках, Доброво разыскал в задымленной комнатушке кинофабрики, где одновременно гримировали и переодевали артистов, режиссер и оператор обсуждали план съемки, а участники массовых сцен получали деньги у пожилой кассирши, кутавшейся в темный шерстяной платок. Разглядывая на просвет вырезанные кадрики, помощник режиссера сказал: — Мы снимали этот эпизод в Знаменском, в имении Тихвинских. Это парадное крыльцо… Слуга у кареты и лакей наверху — не артисты, люди случайные. — Случайные? — переспросил Доброво. — Участники народных сцен? — Нет, нет, это не наши люди. Они случайно были там, в Знаменском, в имении. Не знаю, право, что они там делали, но, когда они появились, Тарсанов решил их использовать. Ему понравилась фигура вот этого лакея, у двери. — Помощник режиссера показал на пленке Маркиза. — А фамилии этих людей… я мог бы узнать? — спросил Доброво. — У вас, вероятно, записаны их фамилии? Помощник режиссера заглянул в свою тетрадку, вытащенную из куртки, и сказал: — Фамилии… фамилии… Здесь столько фамилий… Малинин, Кривченя, Масленникова, Петров. Нет, нет, все не то, другая съемка… А здесь? Вот. Баранов-Переяславский, Кусакина, Лихачев, Калужский, Сипавина… Нет. Не помню. Решительно не помню, кто из них кто. И к тому же, насколько я помню… я просто не записал их фамилий. — Жаль, — сказал Доброво. — Я бы дорого дал, чтобы узнать фамилию хотя бы этого человека. — Он показал на Тараканова, стоящего рядом с каретой. — А зачем вам… этот человек? — спросил помощник режиссера. — Видите ли… я когда-то учился с ним в одной провинциальной гимназии. Хотелось бы его разыскать. Доброво поклонился и вышел из комнаты. Старушка в зеленом капоте подошла к помощнику режиссера и спросила шепотом: — Вы знаете, Петенька, с кем вы только что беседовали? — Нет. А вы знаете? — Конечно, знаю. Это знаменитый Доброво. — Доброво? Не знаю. …Дома, в своем кабинете, Прокофий Филиппович разложил фотографии кадров из фильма “Фаворитка его величества” на письменном столе и стал их тщательно рассматривать через лупу. Со двора донеслись звуки шарманки, и надтреснутый старческий голос запел: Трансвааль, Трансвааль, Страна моя, Ты вся горишь в огне… Доброво подошел к окну, распахнул его и увидел во дворе рядом с сараями старого шарманщика с морской свинкой, окруженного детьми. Из окон выглядывали жильцы, а в глубине двора кто-то звал дворника: — Ахмет, Ахмет!.. Доброво задумчиво взглянул на крышу, на чердачное окно, откуда когда-то появился Кешка… Он вернулся к столу, из нескольких фотографий выбрал две — увеличенные портреты Тараканова и Маркиза, — отложил их отдельно. Потом Прокофий Филиппович подошел к книжному шкафу и, порывшись па одной из полок, вытащил тоненькую книжечку, такую же, какую Артур привез Вандербергу. На обложке было написано: ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, принадлежащих князю С.А.Тихвинскому СПБ—1915 г. Доброво полистал каталог и раскрыл его на фотографии фарфоровой статуэтки, изображающей крылатого Пегаса. Он положил каталог на стол и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Клетка с попугаем, которую Макар нашел в каюте Маркиза, стояла в кабинете у Витоля. Попугай дремал, не обращая никакого внимания ни на Витоля, беседовавшего с Доброво, ни на молодую женщину в кожаной курточке, что-то диктовавшую машинистке, закутавшейся в старый плед, пи па сотрудника угрозыска, занятого поиском нужной карточки в картотеке, занимавшей целую стенку в комнате. — Нет, нет, Карл Генрихович, вы меня неправильно поняли, — говорил Доброво. — Работать я у вас не собираюсь. Я слишком стар, чтобы начинать жизнь заново. Просто я не хочу, чтобы уникальная коллекция Тихвинского пропала для России… — Она пропала, Прокофий Филиппович… — с горечью сказал Витоль. — Сгорела. — Как — сгорела? — Во время пожара. На станции Изгорск. Сгорела дотла. Доброво прищурил глаза: — Эти сведения достоверны? Витоль подсел поближе к Доброво: — Вполне. Сгорел пакгауз, все, что там было. Спасти ничего не удалось. Доброво помолчал. — Боже мой… А я размышлял… медлил… Он встал. — Мне показалось, — сказал Витоль, — что вы хотели мне что-то сообщить. Или я ошибся? — Нет, не ошиблись. Я хотел сообщить кое-какие подробности, к сожалению ныне потерявшие всякий смысл… Доброво направился к выходу, но задержался в дверях: — Вы сказали, что из огня ничего вынести не удалось? — Ничего. Наш сотрудник пытался спасти хоть что-нибудь, но ему это не удалось…*
В большой палате Изгорской городской больницы, куда после пожара попал Макар, больные еще спали, когда ранним утром в раскрытом окне появился Кешка. Макар заметил его и тихо присвистнул. Кешка подошел к нему и развязал узелок, в котором оказалась миска с вареной картошкой. — Все в окна лазишь? — шепотом спросил Макар. — А в двери меня не пускают, — улыбнулся Кешка. — Откуда взял? — Макар кивнул головой на миску с картошкой. Кешка вздохнул и отвернулся. — С рынка? Кешка вяло кивнул. — Краденого есть не буду, — так же тихо, но твердо сказал Макар. — А ты мне деньги, что ли, давал?! — Мне ничего и не надо. — “Не надо”… — проворчал Кешка. — Жрать не будешь — совсем подохнешь. — Неужто ворюга из тебя вырастет? — вздохнул Макар. — Не… — улыбнулся Кешка. — Я богомазом буду. — Богомазом? — Ну да. У нас в монастыре Данила Косой знаешь сколько огребал? За одного Георгия Победоносца ему отец Николай целый мешок проса отвалил. Макар помрачнел. — Опять за свое! Сколько раз я тебе говорил — нету бога, нету! — Слыхал я это, — снова заулыбался Кешка. — Однако иконы-то есть? Скрипнула дверь. Кешка нырнул под кровать. Старая нянечка заглянула в палату, кого-то разыскивая, и тут же прикрыла дверь. — Ушла? — спросил Кешка. — Ушла. Кешка выбрался из-под кровати. — А валенки куда девал? — испуганно спросил он. — Не бойся. У нянечки в шкафу твои валенки. Кешка посмотрел на миску с картошкой. — Съел бы картоху-то. Кешка взял картошку и стал аппетитно есть. Макар потянулся к миске рукой, Кешка, заметив это, ободряюще кивнул ему, и тогда, рассмеявшись, Макар взял картошку и тоже стал есть. — Только гляди, чтобы это было в последний раз! — строго сказал Макар. Кешка кивнул. Оба уселись на низком подоконнике. В утренней дымке, освещенный низкими лучами солнца, изгорский Кремль выглядел сказочным чудо-городом. Высоко над кирпичными стенами поднимались башни. А на самой верхушке одной из них словно полоскался на ветру флюгер, вырезанный каким-то умельцем, — силуэт архангела с трубой. Озеро подкатывало свои ленивые волны к самым стенам крепости… — Как считаешь, Иннокентий, красиво? Кешка кивнул головой. Он смотрел на архангела, и ему вдруг почудилось, что заиграла труба… — А это, братец, между прочим, подневольный народ строил, — сказал Макар. — Рабы да крепостные! И вот, представь ты себе, какую красоту свободный пролетарий не для царей да господ, а для себя сотворить может? Я так думаю, что и представить себе этого нельзя! Весело трубил архангел на верхушке одной из башен. У дощатой платформы станции Изгорск остановился пассажирский поезд. Из последнего вагона вышел Прокофий Филиппович Доброво с небольшим кожаным чемоданом. Он огляделся по сторонам и направился к сгоревшему пакгаузу. У невысокого станционного забора пассажиры остановившегося поезда торопливо запасались вареной картошкой, солеными огурцами, яблоками. Покупали на деньги, меняли на вещи. Тут же толкался Кешка, высматривая что плохо лежит, пока наконец не взял прямо из-под рук шумно спорившей из-за цены торговки маленькое ведерко с мочеными яблоками… Кешка шмыгнул в толпу, и в тот момент, когда он почувствовал себя в безопасности, на его плечо легла чья-то рука. — Угостил бы яблочком, — услышал он откуда-то сверху. — Дяденька, я больше не буду… — начал он было привычное нытье, но, подняв голову, увидел перед собой Маркиза. — Дяденька Маркиз… Неужто… вы? — Я, отец Иннокентий. Я самый! — Он взял Кешку за руку и потащил за собой. — Зачем же ты из детского дома удрал? — Все убежали. — Куда же пробираешься? Из Вологды в Керчь? — Ага. В Крым, — заулыбался Кешка. — Чего там не видел? — Там тепло. Там яблоки. — Ну, вот что, — сказал Маркиз, — хватит тебе, Кешка, скитаться. Ни в какой Крым ты не поедешь. Будешь работать со мной. — Опять ящики искать? — спросил Кешка. — Ящики искать не буду! — О ящиках забудь. Были и нету. Сгорели, Видишь сарай? — Он показал на станционный пакгауз. — Вот в этом самом сарае и сгорели. Тем временем Доброво вошел в помещение пакгауза. Обгоревшие стропила во многих местах рухнули, крыша обвалилась… Доброво осмотрел пакгауз — всюду видны были следы пожара. Пол был покрыт толстым слоем золы, на нем валялись обгорелые балки, ржавые куски железа, узкая металлическая лента, скреплявшая сгоревшие ящики, обручи от бочек… Когда Доброво вышел на привокзальную площадь, он увидел круглую афишную тумбу, на которой была наклеена нарисованная от руки многоцветная афиша, изображавшая человека в широкополой шляпе, с револьвером в левой руке. !!!ОДНОРУКИИ ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ!!! !!!Последняя гастроль Революционного цирка!!! Вряд ли на афише можно было узнать в одноруком Вильгельме Телле Маркиза, но Прокофий Филиппович сразу же понял, что догадка его подтвердилась — Шиловский здесь. Значит, где-то здесь и Тараканов. Но прежде чем отправиться в цирк, Доброво решил разыскать Макара. Больница была на окраине города, но Прокофий Филиппович решил пройтись пешком. Длинный дощатый забор больницы был выкрашен в густой темно-красный цвет. Проходя мимо него, Доброво обратил внимание на несколько рисунков мелом, сделанных на заборе. Возле одного из рисунков он остановился. Это был сказочный конь с длинной, узкой шеей и с вьющейся по ветру гривой… Доброво встретился с Макаром во дворе больницы. Они сидели на лавочке, и Доброво, по обыкновению перебирая четки, неторопливо говорил: — Во время пожара, когда весь пакгауз был охвачен пламенем, в такой, можно сказать, эмоциональный момент вы, естественно, не могли трезво сопоставить факты, вам прежде всего хотелось погасить огонь… — Я опоздал… Когда я добрался до третьей секции, там все уже сгорело… — огорченно сказал Макар. — Все, что было в пакгаузе, сгорело. Этот факт не вызывает сомнений. Но коллекции к тому времени там уже не было. И это тоже факт. — Как — не было? Была! Мне начальник станции сказал! Груз, который ночью прибыл из Михайлов™, был в третьей секции. Доброво улыбнулся: — Коллекции там не было. Попробуем рассуждать спокойно. Если бы она сгорела в пакгаузе, там, во-первых, можно было бы обнаружить хотя бы осколки фарфора. Не так ли, господин… Макар? — Да? Да, конечно… — пробормотал Макар. — Во-вторых, — продолжал Доброво, — не мог сгореть и бронзовый бюст Вольтера… — Работа французского скульптора Гудона, уменьшенный вариант собственноручной работы автора, — на одном дыхании выпалил Макар. — О, вы, оказывается, к тому же и знаток изящных искусств? — удивился Доброво. — Нет, — простодушно сказал Макар. — Я выучил на память весь каталог коллекции князя. Эта бронзовая скульптура записана там под номером сто двадцать девять. — Вот видите, — улыбнулся Доброво. — Номер сто двадцать девять никак сгореть не мог. — Теперь-то я наконец понимаю, зачем они подожгли пакгауз! — вскипел Макар. — Заметали следы, гады! — Возможно, что и так… Но мы с вами этого не знаем. Может быть, им просто повезло, а пакгауз действительно подожгли лагутинцы… или просто произошло совпадение… поджог совершили какие-то злоумышленники, пытавшиеся прикрыть свои хищения. — Неужели еще не все пропало? — обрадовался Макар. — Что же делать? Надо действовать! — Вне всякого сомнения. И как можно быстрее. Прежде всего, если вам разрешат врачи, вы отправитесь сегодня вечером на прощальное представление цирка. А я составлю вам компанию. — В цирк? Зачем в цирк? — удивился Макар. — Доверьтесь мне, господин Макар. Я надеюсь, вы не пожалеете об этом. Доброво приподнял свою шляпу в знак окончания разговора. У ворот изгорского Кремля стоял фургон, оклеенный афишами передвижного цирка. В окошечке фургона кассир продавал билеты на представление, которое вот-вот должно было начаться. В приоткрытых воротах вокруг контролера толпились мальчишки, а за стеной крепости играл оркестр. Макар с рукой на перевязи подошел к фургону, заглянул в окошечко и протянул деньги. Макар получил билет и отошел от кассы, но потом вернулся и снова заглянул в окошечко, разглядывая кассира; его лицо показалось Макару знакомым. — Вам что? — послышался голос кассира. — Мне?.. Мне еще один билет. — А деньги? — Деньги… Вот деньги. Макар взял ненужный билет и пошел к воротам. Но снова вернулся к фургону и опять заглянул в кассу. — Чего вам еще? Ступайте, ступайте! — послышалось из окошка. Макар еще некоторое время потоптался возле кассы и вошел в ворота. Макар твердо знал, что лицо этого кассира он где-то видел. Но где? Кто он такой, этот кассир? Представление уже началось. Во дворе крепости вокруг арены были расставлены скамейки, окруженные фургонами. Зрители расположились на скамейках, на крышах фургонов, на крепостной стене… Из-за пестрой занавески, натянутой между двумя фургонами, появился шпрехшталмейстер, похожий на швейцара роскошного отеля, и громогласно объявил: — Революционная пантомима “Освобожденный труд”! Под звуки оркестра на манеж вышел гигант с обнаженным торсом и кузнечным молотом в руках. Два униформиста, одетые подмастерьями, вынесли огромную наковальню. В такт музыке гигант сделал несколько ударов молотом, но тут выбежали артисты, изображавшие помещика, фабриканта, попа и генерала, и окружили молотобойца, с ужасом наблюдая за ним. По сигналу генерала появились “жандармы”, они заковали гиганта в цепи, а генерал, помещик, фабрикант и поп взобрались на него, образовав пирамиду. Макар уселся на скамейку недалеко от арены в тот момент, когда оркестр заиграл “Смело, товарищи, в ногу!” и гигант сбросил с себя облепивших его эксплуататоров и мощным усилием разорвал цепи. И тут под музыку на манеж вышли артисты, изображавшие рабочих и крестьян, с красным знаменем. Зрители неистово аплодировали. А на манеж вышел шпрехшталмейстер и объявил новый номер: — Неразгаданные тайны Востока! Индийский факир Тумба-Юмба-Али-Бад! Погасли фонари и тут же зажглись снова. На манеж в костюме факира на верблюде выезжал Али-Бад. К кассе цирка подошел Доброво. Он протянул деньги и так же, как Макар, с интересом посмотрел на кассира. В человеке в темных очках он сразу же узнал Тараканова. Он взял билет и прошел в ворота. На манеже Тумба-Юмба-Али-Бад с помощью своего ассистента “распиливал” женщину, лежащую в ящике на возвышении. Доброво прошел между рядами и уселся сзади Макара. Послышались аплодисменты. “Распиленная” женщина стояла рядом с Али-Бадом и посылала зрителям воздушные поцелуи. И снова перед занавеской появился шпрехшталмейстер: — Неповторимый номер! Однорукий Вильгельм Телль! Оркестр заиграл марш, и на арену вышел Маркиз в костюме тирольского охотника. Правый рукав был заправлен за пояс. Униформисты вынесли мишени, изображавшие Антанту, империалистов, Врангеля, Колчака, Деникина, Юденича… С поразительной меткостью Маркиз поразил мишени, перебивая нитки, на которых они висели. Тараканов пересчитал деньги, закрыл окошечко и вышел из фургона. А шпрехшталмейстер надевал черную повязку на глаза Маркиза. Новая серия выстрелов… Новый взрыв аплодисментов. — Смертельный номер! — объявил шпрехшталмейстер. — Администрация просит людей со слабыми нервами покинуть цирк! Все зрители остались на местах. Маркиз взял небольшой пистолет и выстрелил вверх. Раздалась тревожная барабанная дробь, и на арену в коляске, запряженной пони, выехал Кешка в красном камзольчике и белых чулках с бантами. Кешка расставил руки, и шталмейстер положил в них по яблоку. Третье яблоко он положил ему на голову. Маркиз повернулся спиной к Кешке. Смолкла барабанная дробь. Маркиз, глядя в зеркальце, прицелился. Один за другим послышались три выстрела. Все три яблока раскололись пополам. И под гром аплодисментов Кешка бросился к Маркизу. На арену вышел Макар. Он подмигнул Кешке и, похлопав по плечу Маркиза, сказал: — Молодец, Вильгельм! Дай-ка свой пистолет, теперь я попробую! Он взял у Маркиза пистолет. Униформисты по сигналу шпрехшталмейстера вынесли мишени. — Маэстро, прошу! — скомандовал Маркиз. Раздалась барабанная дробь. — Завязывай глаза! Шпрехшталмейстер завязал ему глаза. Зрители, сидевшие поблизости от мишеней, перебрались подальше от опасности. Барабан смолк. Макар прицелился и выстрелил. Мишень, на которой был изображен Врангель, упала. Цирк взорвался аплодисментами. Макар сделал серию выстрелов. И снова раздались громкие аплодисменты. Цирк бушевал. Макар отдал пистолет Маркизу и, снова подмигнув Кешке, как победитель вернулся на свое место. Когда он сел, Доброво склонился к нему и тихо сказал: — Вы молодец, Макар! — Он кивнул в сторону Тараканова, стоявшего возле занавески, и спросил: — Вы знаете, кто этот человек? — Как будто Тараканов, — тихо сказал Макар. — Но меня смущают его усы. — Пусть они не смущают вас. Он их приклеил, — улыбнулся Доброво. — Если я вам понадоблюсь, вы найдете меня в гостинице. Он поднялся и пошел к выходу. После представления Макар за кулисами разыскал Маркиза и Кешку. Униформисты укладывали имущество цирка в фургоны. Клетки с животными стояли уже на подводах, артисты, изображавшие силача и попа, несли скатанные ковры. Кешка стоял рядом с Макаром. — Поедемте с нами, дяденька Макар, — поглядывая на Маркиза, сказал Кешка. Маркиз кивнул: — Поехали? — Ну, допустим, поеду я с вами, какая моя роль будет? — спросил Макар у Маркиза. — А как сегодня, — сказал Маркиз. — Будешь выходить из публики в своем костюме или оденем тебя матросом для эффекта. Мимо них торопливо прошел Тараканов, на минуту задержался, подозрительно приглядываясь к Макару. — Согласен! — сказал Макар и протянул Маркизу руку. Кешка обрадованно прижался к Макару. …Цирк уезжал из Изгорска рано утром. По главной улице вслед за цирковыми фургонами бежали мальчишки. Лаяли городские собаки, чуя животных. Ревели медведи. Ржали лошади. За одним из фургонов гордо выступал верблюд Али-Бада. Доброво из окна гостиницы наблюдал за движением циркового кортежа. На фургоне с изображением Вильгельма Телля он увидел Макара, сидящего рядом с Маркизом. Доброво закрыл окно. В дверь постучали. — Войдите! — сказал Доброво. В номер вошли Витоль, Булатов и Коган. — Здравствуйте, Прокофий Филиппович. Знакомьтесь с моими сотрудниками. — Витоль показал на своих спутников: — Василий Булатов и Миша Коган. — Прошу вас, садитесь. Витоль подошел к окну и, приоткрыв его, взглянул вслед удаляющемуся цирковому обозу. — Какая жалость, что нам не удалось побывать на представлении! — засмеялся Витоль. — Представьте, мне ужасно не везет. С детских лет не бывал в цирке. — Вы много потеряли. В этой провинциальной труппе, — сказал Доброво, подходя к Витолю, — есть подлинная жемчужина — столичный артист из цирка Чинизелли — однорукий Вильгельм Телль. Но самое любопытное в этой процессии заключается в том, что в одном из этих фургонов господин Тараканов увозит в Латвию коллекцию, которую вы разыскиваете. — Это ваше предположение? — спросил Витоль. — Предположение, основанное на ряде фактов. В этой цирковой труппе есть два человека, тесно связанные между собой. Это Тараканов, работающий на скромной должности кассира, и сам Вильгельм Телль — Петр Васильевич Шиловский, по кличке Маркиз, человек разнообразных дарований, многим обязанный князю Тихвинскому, служивший у него некоторое время воспитателем младшего сына… Этот Шиловский последнее время занимался перепродажей художественных ценностей. Доброво положил на стол фотографии Маркиза и Тараканова из фильма “Фаворитка его величества”. — Вот они оба. Вслед за тем Доброво вынул из ящика стола карту и, разложив ее, показал кружочек, возле которого была надпись: “Изгорск”. Витоль, Коган и Булатов склонились над картой. — Маршрут бродячей труппы… от Пскова через Изгорск ведет к Ивановке, то есть, как вы изволите видеть, к границе Латвии. Витоль взглянул на Когана. — Это совпадает с нашими предположениями, — сказал Витоль. — Миша был на квартире, где последнее время жил Тараканов, и ему кое-что удалось узнать. — Человек, который его навестил, оставил ему кое-какие продукты, завернутые в латышскую газету, — сказал Миша. — К тому же среди оставленных им книг я нашел русско-латышский словарь. — Ну, допустим, цирковой обоз направляется все ближе и ближе к границе. Но почему вы уверены, что Тараканов везет коллекцию с собой? — спросил Витоль. — Я не уверен, Карл Генрихович. Это моя рабочая версия, — сказал Доброво. — Во всяком случае, к моменту прибытия цирка в Ивановку, я думаю, Макар это будет знать точно. — Предлагаю догнать их, пока еще не поздно, и арестовать, — сказал Булатов. — А там видно будет, с ними ящики или нет… — Вы, как всегда, горячитесь, Булатов, — сказал Витоль. — Мы еще не знаем, где коллекция. Арестуем Тараканова и Шиловского, а коллекция уйдет от нас… — Во всяком случае, действовать надо быстро и решительно, — сказал Доброво. — Вот и не будем терять времени, — сказал Витоль. — Благодарю вас, Прокофий Филиппович. — Во-первых, Карл Генрихович, я человек суеверный и благодарить меня еще рано, — сказал Доброво. — Во-вторых, интуиция мне подсказывает, что мы имеем дело с людьми ловкими, хитрыми, изворотливыми, и, вне всякого сомнения, нас еще ждут неприятные сюрпризы… И, наконец, в-третьих, — Доброво улыбнулся, — я прошу помнить, что я не служу у вас, а занимаюсь этим делом только для того, чтобы достояние России не оказалось за ее пределами. — Ну что ж, Прокофий Филиппович, — улыбнулся Витоль, — я все-таки не теряю надежды, что мы с вами еще встретимся в интересах Советской России. Комбриг Струнников, тот самый Струнников, который три года назад был командиром отряда, приказавшим выбросить Петровых с его ящиками из вагона, принимал Витоля в своем штабе в Изгорске, расположенном в зале бывшего дворянского собрания. — Рад бы помочь тебе, да не могу, — трубным голосом говорил Струнников. — Покончу с Лагутиным, приходи. Взвод попросишь — дам! Эскадрон? Бери эскадрон. Лагутинская банда терроризирует всю губернию, буквально выскальзывает из рук. Днем в деревне — мужик мужиком, а ночью — бандит. Вчера были в Дятлове, сегодня в Понизовке… Куда тебе надо бойцов? — В Ивановку. — Так бы сразу и сказал. В Ивановке-то у меня эскадрон Корытного стоит. Эскадрона тебе хватит? — Хватит. — Кулагин! — позвал Струнников своего ординарца. К Струнникову подскочил молодой ординарец. — Пиши приказ. “Командиру эскадрона Корытному. Настоящим я, комбриг Струнников, приказываю оказывать всякое и всяческое содействие представителю Петроградского уголовного розыска…” Как твое фамилие? — обратился он к Витолю. — Витоль, Карл Генрихович. — Пиши, — приказал он ординарцу. — “…оказывать содействие товарищу Витоль всеми доступными средствами и всеми силами эскадрона в выполнении важнейшего задания Совнаркома Республики”.*
Господин Вандерберг пригласил к себе своего адвоката, чтобы посоветоваться с ним но одному щекотливому поводу. — По имеющимся у меня сведениям, господин Вандерберг, — говорил адвокат, — как только все эти ценности окажутся в ваших руках и в руках господина Свенсона, князь Тихвинский немедленно подаст в суд. Надеюсь, вы понимаете, что суд вряд ли поддержит нас с вами. — Мы попытаемся избежать судебного процесса, — улыбнулся Вандерберг, протягивая адвокату сигары. — Для этого вы прежде всего сделаете заявление от моего имени, что я вовсе и не собираюсь приобретать коллекцию князя Тихвинского. Изобразите дело таким образом, что князь просто поверил газетной утке. Вандерберг поднялся. — Кроме того, я прошу вас посетить самого князя Тихвинского и от моего имени чистосердечно заверить его, что я, так же как и он, уважаю право частной собственности, и если вдруг я что-либо узнаю о его коллекции, я, разумеется, тут же все сообщу князю в Париж. Вандерберг, довольный собой, шумно рассмеялся. Адвокат встал, поклонился, и Вандерберг проводил его до дверей. И сразу же в кабинет вошел Артур. — Наши планы несколько меняются, Артур, — сказал Вандерберг. — Вы, как мы и договорились, встретитесь с Таракановым в Либаве, а оттуда повезете коллекцию не сюда, в Амстердам, а на мою виллу в Норвегии. Кроме вас и меня, об этом не должна знать ни одна живая душа. Ситуация сложилась… щекотливая. У этой коллекции теперь два хозяина — князь Тихвинский и новое правительство России. Вот я и решил: пусть коллекция полежит в тиши норвежского фиорда… — Но что же я скажу Свенсону? — вырвалось у Артура. — Вы ему скажете то же самое, что и князю Тихвинскому. Пусть все считают, что сокровища снова исчезли, так же как и тогда, в восемнадцатом году… — И Вандерберг снова расхохотался. — Что же касается России, то будем надеяться, что там скоро будет другое правительство. Желаю вам успеха, Артур. Ждите меня в Норвегии. И не хмурьтесь, дружище. Вот вам задаток. — И он протянул Артуру плотную пачку банкнотов.*
Цирковые фургоны с поднятыми оглоблями стояли на берегу реки. Тут же, неподалеку, паслись распряженные лошади. Цирковой табор недавно проснулся — артисты умывались, разводили костры… Маркиз и Макар сидели на мостках и удили рыбу. Поплавки застыли в неподвижной воде, и они оба внимательно наблюдали за ними. Макар сидел несколько сбоку, так, что ему был хорошо виден большой деревянный фургон, в котором жил Тараканов. Кешка рядом с мостками, на глинистом берегу, по своему обыкновению, сооружал какую-то замысловатую крепость. Откуда-то доносился звук валторны, где-то рычал медведь, на поляне разминались акробаты, индийский факир Тумба-Юмба-Али-Бад в рваном халате и мятой буденовке жарил яичницу, держа сковороду над костром. — Скажи, Маркиз, где ты так стрелять насобачился? — спросил Макар. — Видишь ли, Макар, в нашем кругу, я имею в виду истинных аристократов, — Маркиз с достоинством наклонил голову, — с детства, можно сказать с пеленок, обучают фехтованию, стрельбе из пистолетов и верховой езде. Кроме того, в предреволюционные годы в целях заработка я работал в цирке Чинизелли… Пока Маркиз говорил эти слова, из фургона, за которым наблюдал Макар, вышел Тараканов в бархатной курточке, с полотенцем через плечо. Он вытащил из кармана замок, запер дверь фургона и направился к воде. — Я — неудивительно, — продолжал Маркиз. — А вот где ты успел наловчиться? — Я-то?.. — засмеялся Макар. — Два года империалистической, в окопах, на Стоходе, да три гражданской! Пять лет с винтовкой в обнимку. — А потом? — Потом? Макар пододвинулся поближе к Маркизу: — Этот… ваш кассир… Его как зовут? — Тараканова? Илья Спиридонович. Макар придвинулся еще ближе: — Сдается мне, что этот ваш Тараканов большой жулик. — Думаешь, деньги из кассы берет? — заинтересовался Маркиз. — Этого я не знаю. Тараканов прошел к своему фургону, открыл замок, бросил полотенце, взял котелок и, снова заперев замок, направился к костру. — Фургончик свой аккуратненько на замок запирает. Что у него там? — спросил Макар. — Как — что? Деньги. — Деньги он еще вчера директору отдал. — Все-то ты замечаешь, Макар! — рассмеялся Маркиз. — Не клюет, — сказал Макар. Маркиз посмотрел на причудливую крепость из глины с башенками, глубоким рвом и подъемным мостиком. Кешкино сооружение было чем-то похоже на корпус бронзовых часов из дома Тихвинского, но об этом не подозревали ни Макар, ни Маркиз. — Откуда же ты такой замок взял? — спросил Маркиз. — Из головы? — Не, — улыбнулся Кешка. — Видел. — Видел? — удивился Маркиз. — Ага, — ответил Кешка и снова углубился в свое занятие. — Заберу я его у тебя, — тихо сказал Макар. — Учиться ему надо. — А если я не отдам? — так же тихо сказал Маркиз. — Отдашь. Нет у тебя на него прав. — А у тебя есть? — Есть. Потому как, если хочешь знать, он есть воспитанник детского дома имени Парижской коммуны! — Вот как… — усмехнулся Маркиз. — А я и не знал. Но все равно Иннокентия я тебе не отдам. — Отдашь, — уверенно сказал Макар. …Вечером цирковой обоз подъезжал к лесу. Дальше дорога шла вдоль лесной опушки. Солнце скрылось за деревьями, и густая тень легла на дорогу. Посреди процессии все так же гордо вышагивал верблюд Али-Бада. Дремали в своей клетке медведи. Скрипели на ухабах колеса телег и фургонов… Последним в обозе шел фургон Тараканова, где впереди сидели Тараканов и Маркиз. Тараканов держал в руках вожжи и изредка помахивал кнутом. А сзади за фургоном тащился на привязи пони со своей тележкой, на которой сидел Кешка. — Я вас догоню в Больших Котлах, — негромко говорил Маркиз. — У местного звонаря разыщите Егора. Он спрячет вас до моего приезда… — Маркиз насмешливо посмотрел на Тараканова: — Только не вздумайте уговаривать его переправиться через границу без меня. Не выйдет. — Вы все еще не верите мне, Шиловский? — Что вы, Илья Спиридонович… Пока вы без меня не можете обойтись, я вам вполне доверяю. — Мальчишку оставьте этому… своему помощнику, чтобы не путался под ногами, — сказал Тараканов. — С Иннокентием я не расстанусь. Вы возьмите его с собой, — ответил Маркиз. — На кой черт вам нужен этот щенок? — Вам этого не понять, Тараканов. Просто я полюбил мальчика. Понимаете, полюбил! Маркиз спрыгнул на землю и быстро, обгоняя повозки, направился к голове обоза. Поравнявшись с фургоном, на стенке которого был изображен Вильгельм Телль, он вскочил на козлы и сел рядом с Макаром. — Где Иннокентий? — спросил Макар. — Сзади, на пони. Макар оглянулся и увидел позади обоза, на повороте дороги, тележку с пони, привязанную к фургону Тараканова, на которой действительно сидел Кешка. Когда обоз свернул на дорогу, ведущую к реке, Тараканов, несколько поотставший со своим фургоном от всех, неожиданно погнал лошадей в лес. Кешка спрыгнул с тележки и, подбежав к Тараканову, встревоженно спросил: — Куда вы, Илья Спиридонович? Зачем в лес? — Гнедой копыто сбил… Тем временем Маркиз и сидевший с ним рядом Макар подъезжали к мосту, ведущему в деревню, показавшуюся на другой стороне реки. — Пролетарское чутье тебя не подвело. Молодец, Макар! — говорил Маркиз. — Тараканов-то и вправду жулик. Макар с интересом посмотрел на Маркиза. — Знаешь, что он прячет? — спросил Маркиз. — Что? — бесстрастно спросил Макар. — Семечки. — Какие семечки? — Подсолнечные, — подмигнул Маркиз. — Десять мешков семечек. — Десять мешков… семечек… — повторил Макар и, как бы невзначай, взглянул на конец обоза. Фургона Тараканова не было. Не было и тележки, запряженной пони, на которой ехал Кешка. Макар понял, что надо действовать. Действовать быстро и решительно. Но как? Перед самым мостом он потянул вожжи и съехал с дороги. — Зачем останавливаешься? — сказал Маркиз. — Поехали! Мимо прошел Али-Бад со своим верблюдом. — В чем дело, Макар? — спросил Али-Бад. — Что-нибудь случилось? — Нет. Просто хочу лошадей напоить, — ответил Макар. Али-Бад недоуменно пожал плечами. Цирковой обоз проходил мимо. — Али-Бад прав. Лошадей поить в дороге нельзя, — жестко сказал Маркиз. — Поехали дальше, Макар! — Маркиз вытащил пистолет и, улыбнувшись, сказал: — Сделай одолжение, дружище, поезжай дальше. Макар тут же обернулся, держа в руке револьвер. — Что вы делаете, мужчины? Так можно и убить друг друга, — сказала женщина, которую “распиливал” Али-Бад. — Мы джентльмены, Марион! Мы не любим крови! — крикнул ей вдогонку Маркиз. Марион засмеялась, а се телега, ехавшая последней, загрохотала по деревянному пастилу моста. — Прошу тебя, Макар, поезжай! — снова сказал Маркиз. — Марион права, зачем нам убивать друг друга? Какое тебе дело до семечек Тараканова! — Брось оружие! — крикнул Макар. — Ты прав! Я слишком хорошо им владею! Маркиз отбросил пистолет в воду и в то же мгновение вышиб ногой револьвер из рук Макара. Макар бросился на Маркиза. Сцепившись, они покатились по мосту. То один, то другой брал верх, пока Макар, изловчившись, не прижал Маркиза к перилам. Раздался треск, и Маркиз полетел в воду. Макар поднял свой револьвер, подбежал к фургону и, вскочив на сиденье, погнал лошадей к лесу. В лесу, на полянке, где Тараканов оставил свой фургон, Кешка внимательно осмотрел копыта Гнедого и, убедившись, что подковы в порядке, подошел к Тараканову, отвязывавшему пони от фургона. — Илья Спиридонович, у Гнедого копыта не сбиты… — сказал он. — Поехали, Илья Спиридонович, как бы не заблудиться… — Сейчас поедем, — буркнул Тараканов. — Не заблудимся. — Он раскрыл дверцу фургона и, показав на котелок, лежавший на одном из ящиков, попросил: — Ну-ка, достань котелок. Кешка залез в фургон, и в то же мгновение Тараканов захлопнул дверцу. Кешка оказался закрытым в фургоне. — Пустите!.. — закричал он. — Зачем вы меня закрыли?! В фургоне было почти совсем темно, только через узенькую щелку сюда проникал тонкий луч света. Кешка стал колотить кулаками подверце. — Отпустите меня! — кричал он. — Я скажу Маркизу! Я ему все скажу! Тараканов не отвечал. Он вытащил из кармана связку ключей и, взглянув поверх очков, нашел нужный. Затем, вставив ключ в отверстие, дважды повернул его. Кешка от бессилия стал колотить ногами по дверце. — Что я вам сделал? Зачем вы меня заперли? — кричал он. Но Тараканов, не обращая внимания на его крики, подошел к пони и, не распрягая из тележки, стал выводить его на дорогу. Потом он достал из-под сиденья кнут и резко хлестнул по спине маленького коня. Пони вздрогнул и, шумно отфыркиваясь, побежал к лесной опушке. А Тараканов, проводив взглядом тележку, вернулся к своему фургону. — Илья Спиридонович, где вы?.. Куда вы ушли?! — все еще кричал Кешка. — Да ты не шуми, — неожиданно миролюбиво сказал Тараканов. — Не съем я тебя, ничего с тобой не будет. Потерпи маленько, выпущу. Он забрался на козлы и, натянув поводья, стал разворачивать лошадей. Выехав на дорогу, он сильно ударил вожжами по крупу коренной, и лошади покатили фургон все дальше и дальше по лесному проселку. Кешка, чтобы не упасть, уцепился руками за дверную ручку. В фургоне стало совсем темно — плотные кроны деревьев, казалось, совсем не пропускали солнечного света. Макар, преследовавший Тараканова, торопился, но он не мог гнать лошадей слишком быстро — надо было внимательно наблюдать за дорогой, за перепутанными следами на пыльной колее, чтобы не пропустить того места, где свернул с дороги Тараканов, и понять, куда он угнал свой фургон. Макар уже приближался к лесу, когда навстречу ему появилась тележка, запряженная пони, и он увидел, что тележка пуста… Следы таракановского фургона вели к лесному проселку. Макар спрыгнул на землю и осмотрел дорогу. Сомнений не было — Тараканов свернул здесь Макар хорошо понимал, что нельзя терять время. Вскочив на козлы, он развернул лошадей и, направив их по лесному проселку, резко ударил вожжами. — Но, мои золотые! — крикнул он. — Вперед!.. Маркиз, после того как, мокрый, выбрался на берег. кое-как выкрутил одежду и бросился догонять цирковой обоз. Последним в кортеже шел фургон Марион, и Маркиз еще издали закричал: — Марион! Марион, остановитесь! Но голос Маркиза заглушал шум ветра, и Марион не слышала его. Она сидела впереди, на высоких козлах, погруженная в свои размышления. — Марион, вы что, не слышите меня? Она увидела перед собой возбужденное лицо Маркиза, догнавшего ее. — Остановитесь, Марион! Марион натянула поводья, фургон остановился, и Маркиз, подбежав к ее упряжке, стал распрягать одну из лошадей. — Что случилось, Маркиз? — испуганно бормотала Марион. — Умоляю, скажите, что случилось?! Из-за чего вы поссорились со своим ассистентом? Зачем вы купались в одежде? Маркиз не отвечал, он быстро седлал коня. Марион подбежала к нему: — Зачем вы распрягли лошадь? Право же, это невежливо… отнимать у женщины лошадь… Марион попыталась удержать Маркиза, но он, вежливо отстранив ее, вскочил на коня, махнул рукой и поскакал по дороге. — Не грусти, Марион, я скоро вернусь! — крикнул он. — Где ваше благородство, Маркиз… где ваше благородство?! — беспомощно повторяла Марион, глядя вслед удаляющемуся всаднику. Макар, без устали погонявший лошадей, стал уже сомневаться в том, что выбрал верную дорогу, когда проселок вывел его из леса к излучине реки и он заметил вдали фургон Тараканова, приближающийся к броду. “На этот раз вы от меня не уйдете, господин Тараканов”, — подумал Макар и снова подхлестнул усталых лошадей. Но Тараканов, казалось, вовсе и не опасался Макара; он видел, что его догоняет какой-то другой фургон, и был уверен, что на помощь ему спешит Маркиз. Он даже хотел придержать лошадей и подождать его, но, когда услышал зычный крик Макара, подхлестывавшего свою упряжку, он понял, что ошибся. И тогда Тараканов кнутом сильно стегнул лошадей, они, будто обезумев, рванулись к воде, стремительно преодолели речку и вынесли фургон на противоположный берег. — Стой! — закричал Макар. — Стой, Тараканов! Макар поднялся с сиденья и снова сильно ударил вожжами по спине коренного. Заднее колесо его фургона подпрыгнуло на камне, и из оси вылетела шпонка, удерживающая колесо. Колесо стало сдвигаться все ближе и ближе к краю оси… Макар не мог видеть этого, он отчаянно хлестал лошадей. Его фургон вслед за таракановским скатился по отлогому песчаному съезду к воде, и лошади потащили его по каменистому дну. И тут вконец разболтавшееся колесо соскочило с оси. Фургон сразу же завалился набок, и лошади встали. Макар спрыгнул в воду и бросился распрягать лошадей. Быстро освободив из упряжки пристяжную, Макар вскочил на нее и поскакал вслед за Таракановым. Таракановский фургон пронесся мимо хутора, распугивая гусей и кур, и, едва не сбив козу, выскочил на дорогу, идущую через поле нескошенной ржи. Кешка через узкую щелку в дверях фургона увидел приближающегося всадника. В свете заходящего солнца белая лошадь всадника казалась пурпурно-красной. Красным было и небо у горизонта. Всадник быстро приближался, и Кешка узнал в нем Макара. — Дядя Макар, дядя Макар! — радостно закричал он. Макар почти вплотную приблизился к таракановскому фургону. — Я здесь, дядя Макар! — кричал Кешка. — Слышу, Кешка. Я сейчас, погоди маленько. Макар пришпорил коня и поравнялся с фургоном. И в это мгновение один за другим прозвучали два выстрела. Тараканов стрелял, высунувшись из-за передней стенки фургона. Макар, оставшийся невредимым, немного отстал и теперь держался на лошади так, чтобы фургон закрывал его от Тараканова. — Стой! — крикнул Макар. Но в ответ снова одна за другой просвистели пули. — Тараканов, стойте! — снова крикнул Макар и тут же увидел высунувшееся из-за фургона искаженное лицо Тараканова, его револьвер… Но выстрела не было, и Макар понял, что у Тараканова кончились патроны. — Остановитесь, Тараканов, я буду стрелять! — предупредил Макар и выстрелил в воздух. Но Тараканов все стегал и стегал лошадей. Макар, снова поравнявшись с фургоном, на ходу перепрыгнул со своей лошади на крышу таракановского фургона, а с крыши — на коренную лошадь его упряжки и с силой натянул поводья. Тараканов хлестал по крупам лошадей, по спине Макара, но взмыленные лошади остановились, и Тараканов бросился в рожь. — Стой! Стреляю! — крикнул Макар, спрыгивая с лошади и бросаясь за Таракановым. Но в эту минуту послышался истошный крик Кешки: — Дяденька Макар, дяденька Макар! А-а-а… Макар подскочил к двери фургона, рукояткой револьвера сбил замок и, распахнув дверь, увидел Кешку, придавленного ящиком, сдвинувшимся при резкой остановке. — Ногу… Ногу придавило… Макар плечом отодвинул ящик, и Кешка спрыгнул на землю. Макар огляделся. Тихо стрекотали кузнечики. В сумерках слабо шелестела рожь… — Удрал… Макар сплюнул и, поднявшись в фургон, стал открывать ящик, придавивший Кешку. — Семечки, говоришь?.. Он поднял крышку и увидел завернутые в вату фарфоровые фигуры. — Номер семьдесят три, — улыбаясь, сказал Макар. — Терпсихора, муза танцевального искусства, императорский фарфоровый завод, конец восемнадцатого века… Макар вытащил из другого ящика небольшом, свернутый в рулон холст, развернул, и лицо его просветлело. — Номер шестьдесят семь, “Мальчик в голубом”. Художник Пинтуриккио. Так вот он какой, мальчик… Гляди, Кешка! — почти шепотом сказал он. — Ему почти пятьдесят лет, а он живой! Кешка смотрел на портрет мальчика, на его чуть настороженные глаза, на его голубой костюмчик… В спустившихся сумерках портрет приобрел какую-то таинственность, краски заката причудливо видоизменили полотно… И вдруг, будто из-под земли, появились какие-то люди. — Не найдется ли закурить? — миролюбиво спросил один из них, подходя к Макару. Макар полез за кисетом. — Тебе не страшно? — лениво спросил другой. — А чего бояться? — отшутился Макар. — Чего везешь? Что за товар? Кешка испуганно смотрел на подошедших. — Вот вам табачок… а разговоры разговаривать мне некогда. — Да и у нас времени в обрез, — сказал первый, принимая кисет у Макара и пряча его за пазуху. В то же время второй вывернул руку Макара и бросил его на землю. Все трое накинулись на него и, связав, засунули в рот кляп. — Лезь в фургон! — прикрикнул на Кешку первый. Связанного Макара уложили на ящики, Кешку усадили рядом с ним, и первый снова распорядился: — Ты, Родя, присмотри за ними, а мы спереди сядем. И фургон мирно покатил по дороге… Было уже совсем темно, когда Маркиз, потеряв следы Макара, наконец догнал фургон Тараканова. Приблизившись к нему почти вплотную, он увидел на дверце афишу с рисунком однорукого Вильгельма Телля и, убедившись таким образом, что он не ошибся, крикнул: — Илья Спиридонович, остановитесь! — Дяденька Макар, это Маркиз, — прошептал Кешка. Макар в темноте прикрыл Кешкин рот ладонью. А Маркиз, пришпорив коня, рванулся вперед и подскочил к сидевшим на облучке фургона бандитам. — Илья Спиридонович, уж не думаете ли вы скрыться от меня? И где Иннокентий?! — Никак, обознался, любезный, — довольно миролюбиво отозвался один из бандитов. — Езжай своей дорогой, — хрипло проворчал другой. — Джентльмены, прошу вас остановиться, вы затеяли дурную игру! — крикнул Маркиз и снова рванулся вперед, поставив свою лошадь на пути упряжки, катившей фургон. Лошади остановились, и Маркиз крикнул бандитам: — Что вы сделали со стариком и ребенком? — Слушай ты, джентельмен, — злобно сказал хриплый, — убирайся ко всем чертям, если не хочешь получить пулю в лоб! — Пулю? С кем имею честь, господа?! Кешка отодвинул руку Макара от своего рта. — Это Маркиз, — снова зашептал он. — Маркиз! — Я тебе покажу маркиза! Молчать! — прикрикнул охранявший внутри фургона Макара и Кешку бандит, которого называли Родей. — С кем имею честь? — снова повторил свой вопрос Маркиз. На этот раз вместо ответа последовал выстрел. Маркиз рванул лошадь. — Вот это уже напрасно, господа! — крикнул он. — Вам следовало для начала хотя бы поинтересоваться, с кем вы имеете дело! Один из бандитов хлестнул лошадь, и фургон покатил дальше. Из-за туч показалась луна, и Маркиз, поскакавший вслед за фургоном, увидел, что лесная дорога внезапно оборвалась у стен Острогорского монастыря. Глухие, казалось, ворота надвратной церкви распахнулись, пропустили фургон и так же быстро захлопнулись. Маркиз понял, что невольно оказался у самого гнезда лагутинцев. Он пришпорил коня и поскакал обратно по лесной дороге. В просторной монастырской трапезной при тусклом свете изрядно коптившей керосиновой лампы лагутинцы за большим столом, сколоченным из массивных дубовых досок, угрюмо играли в лото. Посреди стола стояли опустошенные бутылки от самогона, рядом с картами лото валялись остатки сала, куски черствого хлеба. Сидевший в торце стола бледный и очень худой человек неторопливо доставал из ситцевого мешочка бочата с цифрами и лениво называл номера, едва шевеля губами: — Двадцать девять… Барабанные палочки… За неимением фишек почти все играющие пользовались патронами от обрезов, которые лежали здесь же, возле карточек лото. — Пятьдесят четыре… Двое дюжих бородачей втолкнули Макара через узкую сводчатую дверь в трапезную и подвели к столу. Макар оказался напротив худого, который так же тихо и невозмутимо продолжал называть номера. — Сорок четыре… шесть… — Он на какое-то мгновение взглянул на Макара и спросил: — Хотел бы я знать, мил человек, у кого вы столько добра награбили? — И тут же объявил: — Семьдесят пять. — Я не грабил, — хмуро сказал Макар. — Я хотел вернуть республике… ее достояние. — Какой республике, мил человек? — Советской Республике рабочих и крестьян, — твердо сказал Макар. Лагутинцы оторвались от карт и уставились на Макара. — Дед, — снова объявил худой, и играющие опять уткнулись в карты. — У меня, господа, квартира. Худой отложил в сторону ситцевый мешочек и взял в руки наган. — Комиссар? — тихо спросил у Макара. — Нет. — Коммунист? — Да. Худой вздохнул. — Я вычеркиваю вас из списков живущих на этом свете. Как члена партии коммунистов. Он заложил в пустой барабан всего три патрона и повернул его. Потом поднял наган и прицелился в Макара. Бородачи, охранявшие Макара, взяли его за плечи, но Макар резким движением скинул их руки. — Стреляй! Худой продолжал целиться. — Попытаем судьбу, — сказал он, нажал спусковой крючок. Выстрела не последовало — боек ударил в пустое гнездо, где не было патрона. — Повезло, — все так же бесстрастно сказал худой и, отложив наган в сторону, снова взял ситцевый мешочек. — А ведь не правда ли, хочется жить? Макар не ответил. — По глазам вижу — хочется. Так вот ведь, подумайте только, какая несправедливость: вам жить хочется, а вы жить не будете, мне же совсем не хочется, а я буду. Лагутинцы захохотали. — Но все равно считайте, что вам пока повезло, — продолжал худой. — Вас отведут в божий храм, и у вас будет достаточно времени, чтобы подумать о своей душе и помолиться господу богу, прежде чем отправиться в иной, лучший мир. — Он вытащил бочонок и объявил: — Тридцать пять. У меня, господа, партия. Лагутинцы зашумели, отодвигая от себя карты. Бородачи взяли Макара за плечи и повели к двери. — Куда вести-то его? — спросил один из бородачей. — Не слышал, что ли… Лагутин велел в церковь, — ответил другой. Когда они вывели Макара на монастырский двор, к нему тут же бросился Кешка с валенками под мышкой: — Дядя Макар! Бородач оттолкнул его. — Пустите мальчика, — попросил Макар. — Пущай идет, — мирно сказал второй лагутинец. — Пущай, — согласился первый и вырвал валенки у Кешки. — Дяденька, отдайте валенки! — Отдай! Отдай пацану валенки! — крикнул Макар. — Отдай, на что они тебе, — сказал второй лагутинец. Кешка вырвал валенки и пошел вслед за бородачами, которые, скрутив руки Макару, повели его через залитый солнцем монастырский двор, через двор того самого Острогорского монастыря, из которого когда-то Мызников увез Кешку и который теперь превратился в главную резиденцию Лагутина. Лошади, повозки, костер посреди двора, пулеметы, ружья, составленные в пирамиды, разношерстное войско Лагутина — все это заполняло монастырский двор, который теперь больше напоминал военную крепость, чем божью обитель. Монахи, напуганные лагутинцами, попрятались в своих кельях, и только изредка через двор, прижимаясь к стене, торопливо проскальзывали одинокие фигуры в рясах. Макара и Кешку подвели к закрытым дверям церкви. Один из парней отодвинул засов, открыл массивную дверь, и Макар с Кешкой оказались в церкви. У ворот монастыря безногий инвалид на тележке со скрипучими колесиками развлекал часовых лагутинцев и толпившихся здесь же деревенских жителей частушками, которые он пел, подыгрывая себе на трехрядке. На голове у него была шапка-ушанка с оборванным ухом, на плечах — подвернутая шинель, подпоясанная веревкой. Частушки он пел незамысловатые, но слушатели были в восторге. — Ты его во двор допусти, пускай мужиков потешит! — сказала часовому молоденькая бабонька в плюшевой куртке. — Кабы ты попросилась, может, и допустил бы… мужиков потешить, — под общий смех сказал часовой. — А балагуров у нас своих хватает! — До чего дожили! — жалобно заныл инвалид. — Убогому человеку помолиться не дают. В церкву не пущают! — Говорят тебе, дурья башка, нельзя в церкву, там арестанты содержатся. И вы, люди добрые, расходитесь, нечего тут околачиваться, кругозор застилаете. И часовой прикладом винтовки стал разгонять толпу. Инвалид на своей тележке, закинув за плечи гармошку, быстро покатился вдоль стены и скрылся за угловой башней. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что за ним не следят, он проворно отвязал ремни и, освободившись от тележки, поднялся на ноги. Достав из-за пазухи веревку с камнем, он ловко забросил ее на стену, веревка зацепилась за зубец, и инвалид, оказавшийся переодетым Маркизом, быстро полез на стену… Отсюда ему хорошо был виден весь монастырский двор. Пригибаясь, Маркиз побежал вдоль парапетной стенки и, поравнявшись с трапезной, увидел за ее углом таракановский фургон с яркой надписью: “Революционный цирк Острогорского губоно”. Фургон стоял в закутке, между трапезной и монастырской гостиницей. Рядом, у стены, привязанные лошади лениво жевали сено. На переднем сиденье фургона, накинув на себя овчинный тулуп, спал какой-то лагутинец. Маркиз закрепил веревку и соскользнул по ней вниз. Когда до земли оставалось не больше сажени, он бесшумно спрыгнул на сено. Спавший лагутинец приоткрыл глаза и, не заметив Маркиза, повернулся на другой бок. Маркиз подкрался к нему и, зажав ему рот, стащил на землю. Связав, он кинул его на сено и заглянул внутрь фургона. Ящики с коллекцией были на месте. Маркиз заложил двери фургона палкой и стал запрягать лошадей. Лагутинский лагерь жил своей обычной жизнью. Родя со своими приятелями неподалеку от ворот чистил оружие, когда из-за угла трапезной выехал фургон. На козлах сидел незнакомый им человек в шинели, без шапки. Он выехал на середину двора и, направив лошадей к открытым воротам, хлестнул кнутом. Лошади рванулись вперед. Испуганные лагутинцы шарахнулись в стороны, а Родя вскочил и с криком: “Держи его, робя!” — бросился наперерез фургону. Маркиз выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Кто-то из лагутинцев бросил под ноги лошадям бревно, но лошади взяли это препятствие, и фургон, подпрыгивая, понесся к воротам. Весь монастырский двор пришел в движение. Наперерез фургону бежали лагутинцы. — Ворота! Затворяй ворота! — закричал Родя. Но лошади уже влетели в подворотню. Казалось, ничто не остановит их, однако в последнюю минуту часовые захлопнули внешние ворота. Лошади с налету чуть раздвинули их, но навалившаяся толпа, ухватившись за поводья и оглобли, задержала фургон. Маркиза стащили на землю, и Родя, заглянув ему в лицо, узнал его. — Вильгельма Телль! — удивленно сказал он. — Да нет, тот однорукий, — усомнился стоявший рядом лагутинец в папахе. — Точно, Вильгельма, — убежденно сказал Родя и, обращаясь к Маркизу, спросил: — Ты Вильгельма? Маркиз кивнул. — Врет. Рука-то правая откеда взялась? — спросил лагутинец в папахе. — Дурень ты, Сенька, — сказал Родя. — Безрукий он в цирке, для интересу. — А-а… тогда да… — согласился Сенька. — Ежели для интересу, тогда да… — Все одно, — сказал Родя. — Хошь он и Вильгельма, а Лагутин ему рецепт на тот свет пропишет. — К Лагутину его, к Лагутину! — загудела толпа. — Все, Вильгельма! Отстрелялся. Видно, тебе на роду написано от самого Лагутина смерть принять, — сказал Родя. Когда двое лагутинцев втолкнули Маркиза в церковь, он сначала увидел в полутьме высокие леса, возведенные чуть ли не к самому куполу, и только потом заметил в углу спящих на сене Макара и Кешку. Он подошел к ним и, толкнув Кешку, сказал: — Коман са ва, отец Иннокентий? Кешка, продрав глаза и увидев Маркиза, обрадовался. — Сова! — засмеялся он. — Бон жур, месье Макар! Будь другом, подвинься, пожалуйста, а то я притомился малость. Макар сел и хмуро посмотрел на Маркиза: — Ты как сюда попал? — Выписали из списка живущих и послали молиться. С тобой за компанию. — Я гадам не компания, — мрачно сказал Макар. — Гад… — задумчиво повторил Маркиз. — Может быть, и гад. Однако все это для нас с тобой уже несущественно. Суета сует и всяческая суета, как любил говорить старик Экклесиаст. Заметив в глазах Кешки недоумение, Маркиз усмехнулся и сказал Макару: — Завтра на рассвете выведут нас с тобой во двор, поставят лицом к монастырской стене… — Маркиз прищелкнул языком. — Так стоит ли ссориться перед смертью? — А я и перед смертью и после смерти скажу: гад ты, гад и есть! Для кого стараешься? Для эмигрантов, для мировой буржуазии?! Кешка старался понять, о чем говорит Макар. — Мне, Макар, если сказать по правде, нет дела ни до мировой буржуазии, ни до мировой революции. — Маркиз погладил Кешку по голове. — Просто хотелось сохранить для потомства эти прекрасные безделушки, из-за которых мы с тобой… поссорились. — Для потомства? Врешь! Вот оно, потомство, перед тобой сидит! — Он притянул к себе Кешку. — Для него ты старался? Для него? Маркиз поглядел на Кешку и ничего не ответил. Он достал кисет и протянул Макару. Макар слегка поколебался, но табак принял. — А ну-кась, Иннокентий, — послышался гулкий голос откуда-то сверху, с лесов, — поднимись ко мне. Кешка проворно стал взбираться на леса. — Кто это? — спросил Маркиз. — Богомаз. Кешка у него подручным был. Маркиз посмотрел на леса и в свете солнечных лучей, проникавших через узкие окна под куполом, увидел высокого сутулого монаха с кистью в руке и рядом с ним Кешку. — Подай-ка мне умбру, — сказал Данило. — Ноги мои, Иннокентий, совсем никуда стали. Не хотят ходить. Кешка разыскал нужную краску, передал Даниле. — Я тебе, Данило, валенки раздобыл… новые. Держи. — Вот уж никак не ожидал! Спасибо, — оживился Данило. — В храме больно зябко… — И он тут же уселся и стал надевать валенки. — Ну, как тебе свет божий, понравился? Кешка кивнул: — Ага. А я, Данило, красных коней видел. Данило пристально посмотрел на Кешку и ласково сказал: — Это хорошо. Значит, глаз у тебя есть. А для художника глаз — первое дело. Маркиз и Макар молча курили, прислушиваясь к голосам, доносившимся с лесов. Маркиз жадно затянулся и, вздохнув, сказал: — Смешная у меня жизнь получилась. В Академии художеств стипендиатом был. В Италию за казенный счет посылали. А художником так и не стал. Егерем был, цирковым артистом, воспитателем барских недорослей, жокеем на ипподроме, авиатором и то был. Даже фотографом. А художником так и не стал… — Все потому, что правильной цели у тебя не было, — сказал Макар. — У тебя есть, — усмехнулся Маркиз. — Есть. Я для революции живу. Для светлого будущего всего человечества. Чтоб этот пацан… Вот помяни мое слово, коли уйду от смерти — будет Иннокентий знаменитым революционным художником. Сверху спустился Кешка и возбужденно зашептал: — Данило говорит — убьет вас Лагутин. Он завсегда на рассвете… убивает. Молись, говорит и в голову из пистолета стреляет. Каждое утро кого-нибудь стреляет. — Ну, это еще посмотрим, кто кого. Не так просто убить Вильгельма Телля, — сказал Маркиз. — А Макару и вовсе умирать нельзя: кто же без него мировую революцию совершит? — Я могу вон из того окошечка, — Кешка показал рукой на узкое окошко наверху, — на крышу вылезть, а потом по стенке наружу… — Так… — оживился Макар. — Где уком, знаешь? — Не, — помотал головой Кешка. — В Ивановке. Запомнишь? — В Ивановке? Ага… — Теперь слушай, — сказал Макар и, обернувшись к Маркизу, предупредил: — Только ты имей в виду, если нас и выручат, тебе от пролетарского суда все равно не уйти. Это я тебя наперед предупреждаю. — Согласен. Буду уповать на то, что пролетарский суд окажется гуманней лагутинского. Когда стемнело, Макар, Маркиз и Кешка поднялись на леса. Макар подсадил с помощью Маркиза Кешку, и тот палкой выбил стекла из узкого стрельчатого окна. Стекло вылетело со звоном, и все трое прислушались. Было тихо. Кешка вынул осколки, из рук в руки передал Маркизу. — Бог в помощь, — сказал Маркиз. Макар недовольно покосился на него и сказал: — Ни пуха ни пера… Кешка просунул руки, а вслед за ними и голову в разбитое окно. Макар подтолкнул его, и Кешка с трудом протиснулся наружу. От окошка до ската крыши было довольно высоко. Кешка снял ботинки, бросил их в окошко, а сам повис на руках, держась за нижний переплет рамы. Отпустив руки, он упал вниз и, не удержавшись на ногах, покатился по крыше. С трудом зацепившись за водосточный карниз, он притаился и прислушался… За монастырской стеной двое лагутинцев неторопливо рыли могилу. — Кому яму-то роем, Семен? — откашливаясь, спросил один из них. — Да Вильгельму Теллю и его напарнику, — тоненьким голоском ответил Семен. — Ентому, который из публики выходил. Первый воткнул лопату и покачал головой. — А пошто одну яму роем, коли их двое? — Мертвые не подерутся. Первый закурил и сел, опустив ноги в яму. — Неужто Лагутин самого Вильгельма шлепнет? — А то… — ответил Семен и тоже закурил, присев рядом. Сверху, со стены, донесся какой-то шум. Семен прислушался. — По железу ктой-то ходит. — Кошка по крыше бегает. — Нешто кошки так громыхают? — Ночью всякий звук в объеме увеличивается. — И то, — согласился Семен. Кешка, пригибаясь, добрался до того места стены, где она подходила к пригорку и расстояние до земли было меньше сажени. Кешка спрыгнул и огляделся. По лугу, пощипывая траву, бродили две стреноженные лошади. Кешка подкрался к той, что была ближе, и освободил ее от пут. Оба лагутинца все еще покуривали. — Я вчерась дома ночевал. Вот баба моя и спрашивает, — рассказывал первый лагутинец, — “И чего это вы, дурачки, воюете, никак не успокоитесь? Антанту и ту расколошматили, а вы все никак не угомонитесь…” — И то… — согласился Семен. — Слух прошел, самого Струнникова против нас двинули. — Коней-то наших не видать… Где они там? Первый поднялся, взял винтовку и пошел вдоль стены. Завернув за башню, он увидел мальчишку, скачущего вдоль берега реки. Он вскинул винтовку и выстрелил в ту сторону, куда ускакал Кешка. — Семен, Семен!.. Мальчишка коня угнал! …В ту же ночь Тараканов, оборванный и усталый, добрался наконец до деревни Большие Котлы и разыскал там Егора. Тараканов сидел в деревенской избе за столом и жадно ел борщ из большой глиняной миски. — Что же теперь будет… что же будет?.. — жалобно причитал Егор. — И надо же… такая напасть… — Не ной! — огрызнулся Тараканов. — Запрягай телегу. Сейчас поедем. — В ночь? Куда ехать-то, Илья Спиридонович? — И ружье прихвати. Егор перекрестился. — Что вы задумали, Илья Спиридонович? — заныл Егор. — Умолкни, ирод! Иди запрягай телегу. Тараканов выбрался из-за стола и, подойдя к иконе, размашисто перекрестился. На лесах в церкви Макар и Маркиз, покуривая, наблюдали за тем, как Данило заканчивал роспись, изображавшую Георгия Победоносца на ярко-красном коне. Утреннее солнце стояло еще низко, и его лучи, прорываясь в узкие окна, освещали купол, оставляя в полутьме весь собор. Заскрипела дверь, и яркий свет прорезал дорожку на каменных плитах пола. — Выходи! — раздался голос в дверях, и в собор вошли бородачи. Данило перекрестил Макара и Маркиза, и они медленно стали спускаться с лесов. — Поживей шевелись, Лагутин ждать не любит, — добродушно сказал один из бородачей. Когда Макара и Маркиза увели из церкви, Данило услышал далекий свист, а затем звук камня, ударившего по крыше. Он положил кисть и палитру и, быстро спустившись с лесов, направился к двери. Лагутин в черной косоворотке сидел в высоком вольтеровском кресле невдалеке от монастырской стены, окруженный своими приспешниками. А у стены на ящиках, в которых хранилась коллекция Тихвинского, стояли фарфоровые статуэтки и мраморные античные скульптуры. Тут же в беспорядке валялись свернутые в рулоны полотна. Лагутинцы гоготали, разглядывая статуэтки, изображающие муз. Толпа вокруг Лагутина притихла и расступилась, пропуская бородачей, ведущих арестованных. Руки Макара и Маркиза были связаны. Их подвели к Лагутину. Лагутин исподлобья взглянул на них и спросил: — Помолились? Ответа не последовало. — Безбожники, — сплюнул стоявший рядом с Лагутиным старик. — Мои люди говорят, — как всегда, тихо сказал Лагутин, обращаясь к Маркизу, — что видели вас в цирке. И будто вы в костюме Вильгельма Телля демонстрировали феноменальную меткость. — Точно… Он самый и есть… Вильгельма… — зашумели лагутинцы. К воротам монастыря подошел Данило, держа за руку Кешку, переодетого монашком. — Откуда малой-то? — спросил часовой, преграждая им путь. — Слепой, что ли, вместе с ним и выходили, — сказал Данило. — Помощник мой, краски растирает, кисти моет. — Вас не разберешь, — сплюнул часовой. — Ходи живей! Лагутин вытащил из кобуры свой наган и прицелился в Маркиза. Маркиз поднял голову. Лагутин усмехнулся и опустил наган. — Я предлагаю вам небольшую забаву. — Он протянул Маркизу свой наган. — Здесь в барабане шесть пуль. Если вы шестью выстрелами снесете головы этим шести Терпсихорам, я снова занесу вас в списки живущих на этом свете и отпущу на все четыре стороны. Толпа восторженно ахнула. Кешка пробирался через толпу лагутинцев, прислушиваясь к словам атамана. Он оказался впереди в тот момент, когда Маркиз, усмехнувшись, сказал Лагутину: — Я в женщин не стреляю. — И вдруг лицо его стало жестким. — Вы, кажется, образованный человек. Как же вы додумались до этого? Уничтожаете сокровища искусства… Это варварство! — Варварство… — будто взвешивая это слово, тихо повторил Лагутин. — Называйте это как угодно, милостивый государь. Но я знаю простого человека. — Он показал на коллекцию: — Это все — принадлежности дворцов и салонов. Игрушки богатых бездельников. Простому человеку этого не надобно. Скажите, братья, — так же тихо обратился он к окружающим его бандитам, — нужна вам вся эта парфюмерия? — Нет! Не нужна! — закричали лагутинцы. — Нужны вам эти раскрашенные фарфоровые барышни? Или вам нужны краснощекие, здоровые, работящие, живые? — Живые! — выдохнула толпа. Кешка испуганно смотрел на происходящее. Он встретился взглядом с Макаром. Макар чуть заметно улыбнулся. А Лагутин снова протянул наган Маркизу: — Выбирайте, уважаемый. Или вы стреляете, или я. Ну-с? Выбирайте. Я, может быть, стреляю хуже вас, но уверен в том, что даже одной из этих шести пуль хватит, чтобы отправить вас на тот свет. Кешка зажал рот кулаком и не отрываясь смотрел на Маркиза, стараясь поймать его взгляд. Маркиз заметил его, широко улыбнулся Кешке и громко сказал: — Хорошо. Я согласен. — Гад! — прошептал Макар. — Продажная шкура! Маркизу развязали руки и дали наган. Телохранители Лагутина навели свои обрезы на Маркиза. Маркиз взял наган в левую руку и тщательно прицелился в одну из фарфоровых фигурок. Он стоял спиной к Лагутину и долго целился. Толпа притихла. Лагутин внимательно наблюдал за Маркизом. Маркиз опустил пистолет и, обернувшись к толпе, громко, как шпрехшталмейстер, объявил: — Смертельный номер. Администрация просит людей со слабыми нервами покинуть цирк. Толпа загоготала. А Маркиз снова повернулся спиной к Лагутину, прицелился в статуэтку, но внезапно вскинул руку с наганом и через плечо, не глядя, выстрелил в Лагутина. Лагутин схватился за грудь. В то же мгновение раздались выстрелы телохранителей, стрелявших в Маркиза. Маркиз упал на землю. Кешка бросился к нему: — Дяденька Маркиз, дяденька Маркиз!.. Толпа смешалась, окружив убитого Лагутина. Кешка встал на колени возле Маркиза. — Вы живой, живой! — плача, повторял Кешка. — Они вас не убили… — Убили, отец Иннокентий. А ты — живи… Живи, как человек… Несколько лагутинцев подняли тело убитого атамана и понесли его, как вдруг в воротах появился всадник на взмыленном коне. — Струнников идет! Струнников! И тут всадник увидел мертвого Лагутина. Он резко осадил коня и снял шапку. Монастырский двор притих. Все обнажили головы. И в наступившей тишине раздался истерический крик: — Братва, здесь нас всех перебьют! Весь двор снова пришел в движение. Лагутинцы седлали лошадей, запрягали телеги, расхватывали оружие. И вот уже через ворота летели всадники, повозки, бежали пешие… В панике лагутинцы забыли о Макаре. Кешка развязал ему руки и сунул наган, тот самый, из которого стрелял Маркиз. К ящикам подкатил таракановский фургон, остановился у самой стены, и трое лагутинцев, соскочив с козел, бросились к коллекции, чтобы все снести в фургон. — Стой! Стрелять буду! — закричал Макар, вскочив на козлы. Лагутинцы отшатнулись. Но в эту минуту лагутинец, копавший ночью могилу, узнал в маленьком монашке мальчишку, угнавшего коня, и истерически завопил: — Хватайте малого! Он коня моего угнал! Это он Струнникова привел! Он! Бей его! Толпа загудела и двинулась на Кешку. Макар отчетливо понял, что вот сейчас, в какие-то считанные мгновения, решается все — судьба Кешки, его собственная судьба… И сразу же увидел прищуренные глаза пожилого лагутинца в папахе, увидел, как поднялся ствол его обреза, нацеленный на Кешку. Раздался выстрел. Это стрелял Макар, опередивший лагутинца. Лагутинец упал. Макар подтолкнул Кешку за фургон и сам скрылся вместе с ним, помог ему быстро взобраться на крышу фургона, стоявшего возле самой стены. Макар отстреливался, закрывая собой Кешку, по вдруг сам схватился за плечо. Превозмогая боль, он помог Кешке перебраться на монастырскую стену и сам прыгнул вслед за ним. И сразу же Макар увидел, что навстречу ему по парапетной стенке долговязый лагутинец катил старый, видавший виды пулемет “максим”, колеса которого поскрипывали на стыках кирпичей. Макар выстрелил, и бандит упал. Тогда Макар подкатил пулемет к краю стены и, крикнув Кешке: “Ложись!” — растянулся рядом с мальчуганом. Отсюда, сверху, хорошо было видно, как к фургону с обеих сторон двигались вооруженные лагутинцы. Сюда же приближенные Лагутина на руках несли тело своего атамана. — Все назад! — крикнул Макар. Толпа на какое-то мгновение застыла… Двуколка, запряженная жилистой низкорослой лошадкой, с Егором и Таракановым, тряслась по лесной просеке. При выезде из леса Егор остановил лошадь и, соскочив на землю, прислушался. Тараканов подошел к нему, и они вместе вышли на опушку. Отсюда хорошо был виден весь монастырь, стоявший на высоком берегу реки. По всему склону, во все стороны — к реке, к лесу, к дальнему полю — неслись всадники, повозки, телеги, бежали люди. — Лагутинцы драпают, — сказал Егор. — Кто ж это их спугнул?.. И вдруг Тараканов толкнул Егора в бок и, протянув руку, показал на фургон, выезжающий из ворот монастыря. Это был его фургон, в котором он жил и хранил коллекцию. Фургон спустился к реке и, переехав через мост, направился к лесу. Молодой парень с винтовкой за плечами стоя гнал лошадей. Тараканов и Егор развернули двуколку и углубились в лес. Лагутинец с таракановским фургоном гнал лошадей по лесной дороге. За поворотом лошади внезапно остановились. Поперек дороги стояла пустая двуколка Егора. Лагутинец, чертыхаясь, соскочил с фургона и схватил лошадь Егора за уздцы. Но в это время могучие руки Егора обхватили его и повалили на землю. Связав его, Егор посадил лагутинца возле дерева, сам влез в двуколку и быстро погнал лошадь по дороге. Тараканов обошел фургон. Задняя дверь была забита крест-накрест двумя досками. Тараканов подавил улыбку и, взобравшись на козлы, поехал вслед за Егором. Эскадрон Корытного приближался к монастырю. Рядом с молодцеватым командиром эскадрона ехали Витоль, Булатов и Коган. — Странно, — сказал Витоль, — почему так тихо? Неужели мы опоздали? — Эскадрон, за мной! — скомандовал Корытный, выхватив шашку из ножен, и конники рысью поскакали к монастырю. Тараканов и Егор, на фургоне, по глухой лесной дороге приближались к границе. Егор натянул поводья и остановил лошадей. — Дальше без Маркиза не поеду. И вас не пущу, Илья Спиридонович. — Не дури, Егор, не время! — огрызнулся Тараканов. — По совести скажу, боюсь — обманете вы меня, Илья Спиридонович. Вот найдем Маркиза, тогда и поедем. Егор соскочил с козел и взял под уздцы лошадей. Тараканов как бы застыл, бессмысленно глядя на Егора. Потом он выхватил пистолет из бокового кармана и, прицеливаясь в Егора, закричал: — С дороги! Егор отскочил в сторону, но Тараканов выстрелил, и Егор упал. Тараканов хлестнул лошадей. Фургон, подпрыгивая на кочках, понесся к границе. Дорога становилась все же и же, ветви хлестали по лицу Тараканова, а он все гнал и гнал лошадей. Тяжело дыша, стоя, он все хлестал и хлестал лошадей, пока они не вынесли его на небольшую поляну, где Тараканов сразу же заметил мелькнувшую за деревьями фигуру в темном костюме. Он вздрогнул от неожиданности, но фигура показалась знакомой. Человек этот вышел на поляну и, сняв шляпу, махал ею Тараканову. Ну конечно же, это был Артур… Но ведь он должен был встречать его вовсе не здесь, а в условленном месте, там, за кордоном. — Не опасайтесь, Илья Спиридонович! — крикнул Артур. — Это я! Это есть я! — Вижу, что вы… — с трудом удерживая лошадей, ответил Тараканов. — Зачем вы здесь? Что вы здесь делаете? — Я здесь для того, чтобы облегчить вашу задачу, — сказал Артур, снимая перчатки. — Последнее время на границе неспокойно… А нам не хотелось подвергать опасности ни вас, ни ваш ценный груз. — Бесценный, вы хотите сказать. — Тараканов так устал, что ему даже не удалось выдавить из себя улыбку. — Я покажу вам надежную тропу, — сказал Артур. — Через границу ящики придется перенести на руках. Тараканов спрыгнул с козел на землю. — Я сам буду сопровождать каждый из этих ящиков. — Он похлопал по стенке фургона. — Если б вы только знали, господин Артур, чего это мне стоило! Не думайте, что вы получите эти ящики за бесценок. — Успокойтесь, дорогой Илья Спиридонович, мы не собираемся вас обманывать. Вы будете богаты. Как говорят у вас по-русски, вы будете сказочно богаты. Где-то рядом на верхушке сосны дятел так сильно ударил своим клювом по стволу, что Тараканов невольно вздрогнул. Артур подошел к дверце фургона. — А сейчас, если позволите, я хотел бы только взглянуть… — Вы все еще не верите мне? — с горечью сказал Тараканов. — Нет, нет, что вы… — Артур попытался успокоить его. — Мною руководит просто нетерпение. Обыкновенное человеческое нетерпение. — Ну что ж, открывайте, — тихо сказал Тараканов. — Нет, я сам! Он достал из-под сиденья топорик, с его помощью с трудом отодрал одну, затем другую доску и распахнул дверцы настежь. На полу пустого фургона лежал труп, завернутый в одеяло. Тараканов приоткрыл край одеяла и в ужасе увидел незнакомое лицо мертвого человека… Это был Лагутин. — Где же коллекция, господин Тараканов? — спросил внезапно побледневший Артур. — Где ваши богатства?! Тараканов молча смотрел на мертвого Лагутина… Фургон был пуст. …По дороге к Изгорску под охраной эскадрона Корытного ехал цирковой фургон с изображением однорукого Вильгельма Телля, на фургоне яркой краской крупными, размашистыми буквами было написано: ПЕТРОМУЗЕЮ! Впереди на фургоне сидел Макар с перевязанной рукой и с ним Кешка, смотревший куда-то вдаль. — О чем задумался, Иннокентий? — спросил Макар. Кешка не ответил. Он смотрел на голубое небо, по которому медленно плыли облака.

Жемайтис С. КЛИПЕР “ОРИОН” Главы из романа
1918 год. Бывшие союзники России в воине с кайзеровской Германией готовят интервенцию против молодой Советской Республики. Англичане в свой экспедиционный корпус, посылаемый в Архангельск, хотят включить и русское парусное судно — клипер “Орион”. Командир клипера Воин Андреевич Зорин считает недостойным для русского офицера и патриота участвовать в карательной экспедиции против своего народа и решает бежать из-под опеки англичан. Дерзкий замысел удался. Миноносец, посланный в погоню за русским кораблем, гибнет от немецкой торпеды, но и немецкая субмарина тоже налетает на мину. Спаслись только двое англичан и немец — командир подводной лодки, взятые на борт “Ориона”. В “Мире приключений” печатаются заключительные главы первой книги романа. “Орион” после длительного перехода, штормов, сражения с немецким рейдером “Хервег” и аварии остановился для ремонта и отдыха команды на одном из островов Яванского моря. Капитан потопленного рейдера Рюккерт и барон фон Гиллер (спасенный русскими моряками) с помощью местных пиратов пытаются захватить “Орион”. Русских приглашают в деревню на местный праздник в честь бога Шивы н в качестве “подарка” посылают оставшимся на корабле отравленное пальмовое вино. Коварный план срывается, и “Орион” продолжает свои путь. Несмотря на все препятствия, клипер доходит до Владивостока.
БУХТА ТИХОЙ РАДОСТИ
Вернувшись на шхуну “Розовый лотос”, барон фон Гиллер сказал Рюккерту: — Франц! Они все знают. Вернее, догадываются. Этот проклятый мальчишка заставил их насторожиться. Никто из них не будет на празднике. — Все идет к дьяволу! — Рюккерт сжал серебряную чашу руками с такой силой, что она сплющилась, и ром брызнул вверх, залив лицо капитана. Голубой Ли[245] на корточках застыл у двери каюты. — Не совсем. Франц. Напиток Ли свалил добрую половину русских. Ли видел в иллюминатор матросов, лежащих на палубе и в жилом кубрике. Не пей больше, Франц. Ночью потребуется вся ясность твоего ума. — Атака? — Да, нас больше в три раза! — Такое количество и требуется для наступления. Мы пустим теперь наших союзников вперед! Они сами стремятся находиться в первых рядах, будто пронюхали о наших планах. Вначале они надеялись на меня. Представь, они считают, что в меня вселился дух смерти! Неплохо для начала! И знаешь, они правы. В каждом немецком солдате сидит дух бога войны, Фридрих! Мы сегодня с тобой идем на абордаж! — Хорошо, Франц, только повторяю: не пей больше! — Да, да… голова должна быть ясной. Ли! Дай мне той настойки на ваших дьявольских травах или водорослях, — попросил он, переходя на французский язык. Шкипервытащил из рундука под столом бутылку и налил из нее в чашку темно-коричневой жидкости. Рюккерт выпил, покрутил головой: — Необычайно противное питье, но просветляет голову. Вот я уже почти трезв, Ли! Шкипер поднял на Рюккерта свой вечно улыбающийся лик. — Немедленно собери своих союзников, главарей лаутов, — так, кажется, малайцы называют пиратов. — Совершенно правильно. Они, капитан, давно ждут на палубе… До поздней ночи светились вершины деревьев по обе стороны долины, где находилась деревня. Там горели костры. Доносился рокот барабанов. Время от времени прожектористы бросали на берег луч ослепительного света. На берегу не было ни души. Безлюдные катамараны, выхваченные из тьмы лучом, застыли на неподвижной воде. И на шхунах не замечалось никакого движения. Часовые у бортов клипера, расчеты у орудий коротали ночь, ведя тихие разговоры. Около часа ночи смолкли барабаны, померк свет над деревьями. Мир обволокла безмятежная тишина, с берега доносился только звон цикад, а с гряды рифов, перед входом в бухту, плыл убаюкивающий шум прибоя. От недавних опасений не осталось и следа, вошли в прежнее русло мысли русских моряков о далекой родине, о близких, об урожае, который скоро будут снимать бабы, если не потоптали его солдаты: красные, или белые, или невесть какие, сейчас на Россию накинулись все — и недавние союзники, и враги. Раздался протяжный зевок. Матрос, стоявший недалеко от мостика, сказал: — Во темень так темень! Прямо смола разлитая, а в воде какие-то гады шастают, смотри, как она вспыхивает. И отчего бы это? — Должно, свойство такое, — ответил другой сонный голос. — Здесь все чудно и страховито. Смотри, будто искры тучей на берегу! — Ну, это понятно: светляк здешний, жук такой. Давеча один залетел, хвост у него светится, как свеча. Не видал? — Не. — Ну, еще будет. — Опять зевок. — Хоть бы луна взошла. — Месяц только народился. Видишь, там, за горами, светит, только малость позолотил верхушки. Последовал вздох. Оба помолчали, затем первый сказал: — Все здесь не то. Сейчас бы ушицы окуневой похлебать да у огонька под тулупом прикорнуть. Дух у нас какой от трав да от всего… — И здесь дух дюже пахучий, да… — Вот тебе и “да”… О, слышишь? Пойдем поближе, послушаем. — И так слыхать. Зосима Гусятников, стоя у борта с винтовкой в руке, стал рассказывать сказку о том, как меньшой крестьянский сын Иван, несусветный дурак и простофиля, сталкиваясь с людьми и жизнью, умнел не по дням, а по часам и стал задумываться о таких вещах, которые прежде ему и в голову не приходили. — …И пришел он к царю. Старенький такой, плюгавый царек на золотом троне сидит, стража кругом него с топорами да ружьями, министры стеной стоят, и все так на Ивана смотрят, будто он даже не последняя козявка, а еще хуже… Царь и спросил Ивана: “Слышали мы, что ты зуб на нас имеешь. Хочешь бояр да меня, грешного, земли лишить, стражу мою верную пахать заставить, дочь мою Пелагею за себя замуж взять? Правда ли это? Говори, собачий сын, потому скоро тебе голову срубят и на кол посадят и никто твоей думки, тайны не узнает, и горько помирать будет тебе, беспутному, с таким грехом невысказанным, непокаянным”. “Все правильно, царь. Холопы твои слово в слово тебе доложили мои мысли. Только не себе одному престол я задумал взять и землею, и пашнями, и реками, и лугами владеть. Все я задумал поделить меж всеми мужиками. Только дочь твою Пелагею беру за себя, так как она на тебя не похожая и к людям жалость имеет и меня любит”. Царь аж посинел. Ртом воздух, как рыба, хватает… — Эх, Зосима, Зосима Гусятников, — раздался голос Брюшкова, — влетишь ты со своими сказочками, как гусь в чугунок! Что ни царь у тебя, то последний дурак, справный мужик- мироед. — Так оно и есть, Назар. Не был бы царь дураком, давно бы по справедливости землю разделил и мужичка не притеснял, и не было бы теперь свары на земле. — Без тебя разберутся, кому положено. Зуйков сказал, позевывая: — Брось, Зосима. Не спорь с ним. Пустое дело. Назар сам из мироедского семейства. Батрачил у них, знаю. За сотню десятин нахапали. — Трудом да головой. А ты, лодырь, молчи! — Да я за грех считаю с тобой говорить об этом. Разговором тут одним не возьмешь. — Да будет вам! — прикрикнул младший боцман Петушков. — Давай, Гусятников, да про Пелагею побольше расскажи, какая она из себя и вообще. Гладкая, наверное, да статная. Вокруг засмеялись. Брюшков выругался и замолчал. Подошел вахтенный начальник Горохов: — Вольно, вольно, ребята. Лясы точите? — Чтобы сон отбить, — сказал Зуйков. — Ну-ну. Только слушать получше. Чуть где всплеск — поднимайте тревогу. Полезут — пускайте в ход оружие. — Да кто полезет-то, Игорь Матвеевич? — спросил Петушков. — Кому жизнь надоела? — Слыхали, что днем было? Подослали нам сонной водки. До сих пор вторая вахта дрыхнет. Чем еще кончится, неизвестно. Вот что значит довериться неизвестным людям. — То же было бы и с нами, сойди мы на берег, — сказал Зосима Гусятников. — Разве не выпьешь? Водка ихняя вроде пива, слабая. Вахтенный начальник пошел обходить корабль, а у грота опять потек говорок Зосимы Гусятникова. Не спали командир и старший офицер. Они после захода солнца не сходили с мостика, вестовые туда принесли им ужин. Сейчас командир, по обыкновению, сидел в своем удобном кресле, старший офицер мерил шагами мостик по диагонали. Командир спросил: — Вы заметили, какую эволюцию претерпел Иван-дурак у Зосимы Гусятникова? — Как-то не было времени… — А на вахте? — Не занимался анализом его литературного героя. — Именно литературного. Зосима — художник. И художник, тонко чувствующий веяние времени. Его Иван — народный борец. Все меньше и меньше надо ему самому. Заботится о народе. Себе оставляет только царевну Пелагею. Слышали? — Пелагею? Действительно, оригинальное имя для царевны. Слышал я как-то — рассказывал он о Марье, тоже царской дочери… Вони Андреевич, меня тревожит туман. Надо расставить матросов на борту. Мало людей… Я пойду распоряжусь. — Идите… Феклин! Вестового пришлось позвать несколько раз, пока он отозвался. — Виноват. Вздремнул. Все от этого мухомора проклятого. Выпил всего полкружки, не боле, а кто хватил по-настоящему, тот до сих пор спит. Везет же людям, — неожиданно заключил он. — Везет, говоришь? — Ну а как же! Мы глаза таращим, а они спят, как младенцы. — Не хотел бы я быть на их месте. Иди умойся, выпей холодного кофе да нам с Николаем Павловичем принеси. — Есть! Кофе прогнал сон. Феклин стал было рассказывать командиру, как у них в деревне зимой ловят налимов, да вернулся старший офицер, и вестовой обиженно умолк, потому что дальше в его рассказе было, как он вытянул из проруби десятифунтового налима. Воин Андреевич сказал: — Тропики, жара, акулы, а вот Феклин только что рассказывал о зиме, морозе и налимах. Как-то даже прохладней стало. — Туман сгущается, — заметил старший офицер, — стопроцентная влажность. Понизилась температура перед рассветом, и вот извольте… — Ничего, Николай Павлович. Будем надеяться. Да, звезды погасли, и даже светляков не видно на берегу. — Командир нашел в темноте руку друга и крепко пожал. — Обойдется. Вахтенный матрос отбил три склянки — половина шестого, прошло полтора часа второй вахты, через полчаса взойдет солнце. Тревожно прозвучал голос матроса: — Справа по борту всплески! Второй голос оповестил, что с кормы кто-то крадется по воде к “Ориону”. Старший офицер приказал дать несколько выстрелов вверх. Всплески прекратились на некоторое время, затем послышались вновь, но попеременно с разных сторон. Туман порозовел, но был так густ, что в трех шагах ничего не было видно. Внезапно бухта огласилась криками и ударами об воду. Гулкое эхо в береговых кругах многоголосо повторяло и усиливало все звуки. Под этот маскировочный шум к “Ориону” со всех сторон двигалось множество лодок. Туман уже начал подниматься, и с лодок смутно проглядывался корпус “Ориона” на метр выше ватерлинии. Лодки остановились в пятнадцати — двадцати метрах, тесно окружив клипер: ждали сигнала Голубого Ли, чтобы разом броситься со всех сторон. На палубе клипера послышался смех, матросам показалось, что опасность миновала, да и никакой, собственно, опасности и не было. Просто офицеры ее придумали, чтобы не пустить на берег перед уходом в рейс. И вот сейчас, не спавши, придется карабкаться на реи, отдавать паруса, трекать снасти… — Ух, и дурной же мы народ, братцы! — радостно на весь корабль гаркнул матрос Грицюк. — Так ведь воны рыбалят, рыбу в сети загоняют, помните, как на том острове, где банан брали и другую овощь! — Помолчи, брат, — сказал Гусятников, — и так все гудит. Хитры, собаки… Никак, вода с весел каплет? Старший офицер приказал прекратить все разговоры, и на палубе стало тихо, но голоса “рыбаков”, удары по воде стал еще сильней, яростней. Кто-то из матросов уловил плеск весла и громко крикнул: — Подходят! Близко уже! И с другого борта донеслись предостерегающие возгласы. Защелкали затворами матросы. — По местам! Сейчас они полезут на нас! Стреляйте, ребята! — крикнул командир. — Бейте их всем, чем располагаете. Помните, мы защищаем свою жизнь и честь русского… Его речь прервал выстрел, затем началась частая стрельба, поплыл леденящий кровь заунывный вой корсаров, идущих на абордаж. Они подошли вплотную и, зацепив за планширь крюками, карабкались вверх, стреляя из револьверов или норовя ударить ножом. Но мало кому удалось при первой атаке спрыгнуть на палубу, да и тут смельчака ждала печальная участь. С каждой минутой светлело. Туман клочьями поднимался к реям. — Так их, так их, братцы! — гремел голос командира. — Пусть узнают, как нападать на русских! Он видел, как матросы бились насмерть уже на палубе, один против двух—трех пиратов. У мостика появился отец Исидор с винтовкой. Убегавший от него пират исчез за бортом, и отец Исидор, бросив взгляд вокруг, кинулся на выручку к Роману Трушину. Тот дрался одной рукой с юрким пиратом, вторая, окровавленная рука Трушина висела как плеть. Сбив с ног противника Трушина, отец Исидор поспешил к баку, где щелкали пистолетные выстрелы. — Браво, отец Исидор! — крикнул Воин Андреевич и оглянулся, привлеченный мягким стуком о палубу. Он увидел высокого малайца в одних лава-лава; его шоколадное тело было мокрым, он, видно, только перебрался через борт. Пират присел на корточки и, молниеносно выпрямившись, нацелил нож в спину Феклина. Командир выстрелил в пирата, и тот, прокатившись по перилам мостика, упал и замер, неестественно вывернув руку с ножом. Феклин обернулся, посмотрел на убитого, потом на своего командира с револьвером в руке и прошептал: — Во, проклятый! И как это он подлез? — Смотреть надо лучше. Не то нас с тобой, как кур, прирежут. — Теперь уж я… — Феклин взял ружье наизготовку. — И как он, проклятый… Во! — Он приложился и выстрелил в бегущего вдоль борта пирата, промахнулся, и тот ловко перемахнул через фальшборт. Раздался плеск. Косые лучи утреннего солнца осветили окровавленную палубу и поверхность бухты, покрытую космами тающего тумана. Несколько матросов, положив винтовки на планширь, стреляли по уплывавшим пирогам. У грот-мачты матросы накрывали брезентом павших товарищей. Бледный доктор перевязывал матроса, раненного в плечо, сбоку стоял санитар Карпухин, держа сумку с бинтами. Раненый матрос улыбнулся командиру: — Сила их была. Как и отбились в такой темени да тумане, право, не знаю. Лезут и лезут, как тараканы из щелей. И ножи у них, не приведи господи! Прямо косы, а не ножи! Командир узнал матроса Луконина, тихого, застенчивого человека. — Молодец, Луконин! — Чего уж там молодец… — На серых щеках матроса появился слабый румянец. — Думал, не встречу солнца. А вон оно, жжет уже… — Большие потери? — спросил командир у доктора. — Еще точно не знаю. Пятеро убитых у нас и человек двадцать раненых. Карпушин, помоги раненому встать. — Ничего, я сам… — сказал Луконин. Подбежал, как всегда озабоченный, старший боцман, взял под козырек. — Вольно! Жив, Петрович? Ну как, страшно было? — Страх был, конечно, да не очень. Больше я за тех был в тревоге. — Боцман боднул головой в сторону нижней палубы. — Думал, не оклемаются… — Ну, и как? — Живы, черти! Николай Павлович приказал их еще подержать в кубрике, пусть в чувство придут да совестью помучаются. — Согласен. Боцман замялся, потом сказал: — Это, конечно, правильно, да народ с похмелья, некоторым до гальюна есть потребность… — Ах, вот оно в чем дело! Выпускай по очереди… Командир заметил Лешку Головина: с винтовкой, грязный, в разорванной рубахе, юнга шел по палубе с таким видом, будто вернулся сюда после многолетней отлучки. — Головин! Лешка вздрогнул, увидев командира, приосанился и, подбежав к нему, остановился в выжидательной позе. — И ты воевал? — с удивлением спросил командир. — Так точно, гражданин капитан второго ранга! Воевал! Все патроны расстрелял! Когда только вы скомандовали, я и начал! — Рановато, голубчик, ты начал стрельбу в людей, да время сейчас лихое. Молодец! — Рад стараться! — Лешка шмыгнул носом вслед командиру. Ему так хотелось рассказать, как он, положив винтовку на кнехт, посылал пулю за пулей в подплывающих пиратов, что рядом с ним лежали и стреляли Зуйков, Трушин и еще кто-то и все же пираты подплыли правей, к форштевню, и полезли на клипер, и как там их встретили комендоры, а возле него кто-то дрался и наступал ему на ноги, а он все стрелял, пока не кончились патроны, и хотел уже встать и тоже вступить в рукопашную схватку (как ему сейчас казалось), да почувствовал страшный удар в спину: пират прыгнул на него с фальшборта. Что с ним, этим разбойником, было дальше, Лешка не помнит: в глазах у него помутилось. Зато когда он снова увидал молочно-белый свет и смутные фигуры мечущихся по палубе людей, услышал выстрелы и крики и недолго думая хотел вскочить и броситься в драку, то почувствовал, что кто-то схватил его за грудки и держит мертвой хваткой (зацепился рубахой за утку), и как он рванулся что есть силы и стал на ноги, да пират куда-то исчез, а то бы… — Лешка! Курицын сын! — услышал он голос Зуйкова. — Во, братцы, вояка! Как он в них садил!.. Давай сюда! Не ранило? — Кажется, нет… Матросы стояли вдоль бортов, вполголоса делясь впечатлениями о недавнем бое. Уже доносился смех. Гарри Смит что-то рассказывал лейтенанту Фелимору, потрясая винтовкой. Фелимор в разорванной сорочке, с перевязанной головой стоял, подбоченясь, с зажатым в руке наганом. Лейтенант Горохов, оборонявший со своим взводом правым борт, смотрел в бинокль, поставив локти на планширь. Голос старшего офицера слышался с бака. Командир приятно удивился, услышав и скрипучий голос артиллерийского офицера. Ему вечером доложили, что Новиков и Стива Бобрин спят, уложенные напитком Шивы. Новиков проснулся при первых выстрелах и дрался на баке, возглавив орудийный расчет. Подошел старший механик, постаревший за ночь на десять лет. Сказал, что у него убили кочегара Куликова Федора, отца двух детей, что вся его машинная команда билась на юте, есть раненые и он сам в кого-то стрелял, что через час машина будет готова… Командир подошел к баку, здороваясь с матросами. Зуйков, заливаясь смехом, рассказывал, как иеромонах крушил пиратов. Его с удовольствием слушали, хотя многие видели сами подвиги своего духовного наставника. — Я их легонько сгонял с палубы, и только. Ну, может, и задел кого ненароком, так ведь война. — Он и стрелял, братцы! — говорил Зуйков. — Так вжарил, что любо-дорого! — Ну, и стрелял, так я же не целился, для острастки, слава тебе господи, не попал. — Вдруг попал? — Ну, и попал! Одним супостатом меньше. Ты вот зубы скалишь, а невдомек, что я не простой поп, а военный. Заключительная фраза иеромонаха вызвала дружный смех. Заметив командира, матросы разом замолчали и стали по стойке “смирно”. Он поздоровался, и ему дружно ответили. Вдоль другого борта пробежал вестовой старшего офицера Чирков, неся на вытянутой руке белоснежный китель. Николай Павлович в одной рубахе смотрел в прицел пушки. Чирков, тяжело дыша, стал за его спиной. Новиков стоял сбоку пушки и смотрел в бинокль. — Фугасным! Зарядить! — прохрипел он. В это время над головой просвистел рой пуль. На берегу в скалах застучал пулемет. У ног командира ударилась рикошетом пуля, выломав длинную щепу. Три раза подряд ударила пушка, и пулемет стих. — Отбой! — сказал Новиков, и в голосе его слышалось сожаление. — Вот теперь, кажется, все, — сказал старший офицер, подавая руку командиру. За его спиной стоял Чирков, держа китель за вешалку, ветер раскачивал его, и от золотых пуговиц во все стороны летели ослепительные зайчики. Через несколько часов “Орион” вышел в океан.УДАР КОПЫТОМ
Семейство зеленых попугаев в каюте капитана “Розового лотоса” вело себя на редкость шумно. Словно счастливая чета стремилась оповестить весь мир о чрезвычайном событии: их первенцы впервые покинули гнездо и вот сейчас, покачиваясь, сидят на жердочке, укрепленной поперек клетки. Родители в нервном возбуждении метались по каюте, клевали бананы и плоды манго, лежащие на столе, кидались к птенцам, совали корм в их желтые рты, вылетали в иллюминатор и с озабоченными криками возвращались назад. — Необыкновенно назойливые птицы, — сказал капитан Рюккерт, — чуть не перевернули чашку. Выпьем, Фридрих, за лучшее будущее. Я думаю, что у меня кончилась полоса невезенья, хотя этого и трудно ожидать после того, как им стало известно о замысле наших сообщников. Гиллер сосредоточенно смотрел в желтоватую жидкость и молчал. — Только русская водка может соперничать с этой маркой! — продолжал Рюккерт. Выпив залпом, он взял оранжевый плод манго, вяло съел его, налил себе еще чашу. — Ну, за твое здоровье! — И он выпил вторую чашу. Тем временем Фридрих фон Гиллер поймал одного из попугаев, севшего ему на плечо, и сунул его клюв в чашу с виски. Попугай мгновенно затих, обмяк. Выпущенная из рук птица упала на бок, забилась на столе и скоро затихла. — Вот это напиток, — вяло ворочая языком, сказал капитан Рюккерт. — Удар копытом “Белой лошади”!.. Что-то у меня круги в глазах, а у тебя ничего? Ах да, ты же не пил! Трезвенник… Барон сказал холодно: — Виски отравлен! — Чушь! Все птицы дохнут от ал… от… черт, не могу выговорить… от этого… кроме одной скотины… человека. — Отравлен! — повторил барон. — Ты мне нравишься, Фридрих: отравлен, а сам сидишь. Друг гибнет, а он сидит. Раз отравлен, то что надо делать? Дать противоядие. У тебя оно есть? — Не паясничай, тебе осталось жить очень мало. Неужели ты не чувствуешь? Рюккерт схватился рукой за горло и с ненавистью посмотрел на своего соотечественника: — Воды. Принеси морской воды… хорошее рвотное… — Не поможет. Их яды действуют безотказно. Вот что, Рюккерт, ты сам знаешь, что для тебя это лучший выход. Ты не должен был покидать крейсер. Я скажу, что ты погиб во время боя с англичанами. — Воды… подлец! Воды! — Рюккерт встал, его бросило в сторону, он еле удержался на ногах, ухватившись за кромку стола. — Воды! — Возьми себя в руки. Ты знаешь, что их яды надежны. Капитан Рюккерт внезапно протрезвел, голова у него стала ясной, только силы оставили его. Он упал на стул. — Подлец! За что? — спросил он. — Не обвиняй, а благодари. Да, я мог не дать тебе выпить яду. Но я сразу догадался по лицу этого подлеца, что тебе необходимо уйти. Капитан Рюккерт не мог уже говорить, он только спросил глазами: “Почему?” — Ты пережил свою славу. Германии ты такой не нужен. Хватит с нее позора. Ты должен остаться “Железным Рюккертом”. И ты им останешься! Будь уверен, я преподнесу как надо твою смерть. Прощай, Франц! Так надо. Ты сам знаешь, что так необходимо… Рюккерт сжал рукоятку пистолета, у него хватило еще силы вытащить оружие из кобуры, но в это время сердце капитана остановилось, и он сполз с сиденья на пол каюты. Барон быстрым движением поднял с пола пистолет, выпавший из руки Рюккерта, снял с предохранителя, прислушался. На палубе мелодично журчали голоса малайцев, слышалось урчание мотора: подходил катер. Барон мигом оценил обстановку: “Сейчас Голубой Ли заглянет в каюту, чтобы убедиться в действии “Белой лошади” и закрыть на ключ дверь каюты”. По трапу скатились джутовые мешки. “Саваны для нас”, — понял барон и навел пистолет в проем двери. По трапу кто-то спускался без всякой осторожности, хлопая сандалиями. Показались коричневые ноги и край черного саронга. Гиллер выстрелил и, когда помощник шкипера рухнул в каюту, выпустил в него еще несколько пуль. Голубой Ли следил за приближающимся катером, решив, что сейчас самый удобный случай разделаться с оставшимися в живых белыми. Он и их угостит виски, таким образом вся операция закончится без всякого шума. В это время раздались выстрелы в каюте, что несколько удивило его: яд всегда действовал безотказно. “Наверное, помощник решил подстраховать”, — подумал он и пожалел обивку в каюте из сандалового дерева, продырявленную пулями. Но тут его насторожили звуки тяжелых шагов. У Голубого Ли выработалась молниеносная реакция на все неожиданности, часто встречающиеся в его опасной профессии, в следующее мгновенье он уже прыгнул за борт, так как увидал в отверстии люка голову барона и пистолет в его руке. Голубой Ли плавал, как рыба. Пройдя под килем шхуны, он еще метров пятьдесят плыл под водой, вынырнув, чтобы сменить в легких воздух, снова ушел под воду. Гиллер догадался о его маневре, когда Голубой Ли подплывал уже к берегу. Перейдя на другой борт, он увидел его черную голову на застывшей голубой воде и не стал стрелять. Все внимание он сосредоточил на подходившем катере.[246] Мотор у него работал с перебоями. В довершение всего катер остановился в ста метрах от шхуны, и три матроса на ней склонились над мотором. Наконец катер подошел к борту. — Что с машиной? — спросил барон. Унтер-офицер артиллерист вяло ответил: — Карбюратор. Вечная история. Когда мы шли сюда, раз пять промывали. Дьявол его знает, что с ним! — Оставь дьявола в покое, когда разговариваешь со мной. Постарайся, чтобы карбюратор вел себя как надо! Понял? Унтер-офицер посмотрел новому командиру в глаза, перевел взгляд на рукоятку пистолета, торчащую у барона за поясом, и, кашлянув, изобразил на лице покорность. Два других немца, один тощий, длинноносый, в разорванной матросской рубахе, второй голый по пояс, с обгоревшими на солнце плечами, переглянулись. Унтер-офицер спросил: — А где наш капитан, если позволите спросить, капитан-цурзее? — Мертв! Его отравил шкипер этого корыта. Разве вы не видели, как этот пират прыгнул за борт и уплыл на берег? — Что-то не заметили, — сказал унтер-офицер. Матросы опять переглянулись, и длинноносый спросил с усмешкой: — Как же вы уцелели, капитан-цурзее? — Я не пью по утрам. И вообще пью редко. Я предупреждал вашего капитана, что виски отравлен. И даже провел опыт над попугаем. Увидите, он лежит дохлый на столе. — Кто: попугай или капитан? — сострил длинноносый. Унтер и второй матрос зашикали на него, и все стали спускаться в каюту. — Картина! — Длинноносый остановился у комингса. — Ну, что стали? Видите мешки? — Приличные саваны, — сказал длинноносый. — Один был для вас? — Меньше разговаривай. У нас нет времени. Помощника шкипера, упрятанного в мешок, сбросили за борт без лишних церемоний. Тело Рюккерта положили у борта. Унтер-офицер сказал, вздохнув: — На крейсере он совсем не пил и спиртное запретил держать. Даже доктору приказал спирт отравить, а тут — пил, глушил без просыпу, и вот… — Кончай заупокойную мессу, — сказал длинноносый матрос. — Смотри, на берем у сколько их собралось. Никак, хотят принять участие в похоронах, и в наших в том числе. Барон фон Гиллер тоже заметил толпу на берегу. Перед ней, у самой воды, бегал Голубой Ли и, что-то крича, показывал обеими руками на свою шхуну. — Кончайте! — Барон фон Гиллер кивнул, и бухта Тихой Радости, скорбно всплеснув волной, поглотила тело “Железного Рюккерта”. Капитан-цурзее распорядился: — Возьмите на шхуне все необходимое для большого перехода. Мы сейчас уходим из этого проклятого места. Сколько вас там еще осталось на берегу? — С вашей помощью никого не осталось, — ответил длинноносый комендор. — Последних русские разнесли вместе с пулеметом. Раненый, что чудом остался на клипере, помер полчаса назад. Так что все мы здесь, капитан-цурзее. — Вот и прекрасно. — Куда уж прекрасней! — Я не о том. Конечно, с нами случилось страшное несчастье. Хорошо, что мы, оставшиеся в живых, собрались здесь. Через четверть часа мы должны покинуть это проклятое место. Надо взять воды и продуктов. За дело, друзья! — В его голосе появились заискивающие нотки: он знал, как рискованно портить отношения с людьми, от которых б)дет зависеть исход плавания по неведомому морю. Он едва сдерживал себя, наблюдая, как эти грязные оборванцы с подчеркнутой независимостью расхаживают по палубе, перетаскивая на катер продовольственные запасы Голубого Ли. Барон фон Гиллер думал не без горечи, как быстро падает дисциплина даже среди немецких матросов, стоит им очутиться вне привычной обстановки, и лишний раз убеждаясь, что для государства “с новым порядком” необходимо создать расу человекообразных существ, абсолютно послушных, все строптивые чувства которых должны быть заменены преданностью господину, еще более сильной, чем у собак… Вернувшись на шхуну, Голубой Ли огорчился по-настоящему, увидев на столе в своей каюте мертвого попугая. Ни проигранное сражение, ни промах с белыми туанами так его не расстроили. Попугай был не простой птицей, а служил вместилищем для духа — покровителя “Розового лотоса”. Теперь дух вылетел из мертвого тела, и шхуна, а следовательно, и ее. хозяин остались без надежного заступника. Голубой Ли крикнул одному из уцелевших матросов, чтобы тот прибрал в каюте, а сам пошел на корму, где находился небольшой алтарь, зажег жертвенные свечи и, приняв молитвенную позу, обратился мыслями и сердцем к богине Кали, прося ее не оставлять его своими милостями. Он дал очень нелестную характеристику сбежавшему духу-покровителю. Во-первых, он не помог захватить корабль чужеземцев, хотя знал, какие жертвы обещаны и ему и ей, богине Кали. Сегодня же дух-покровитель до того растерялся, что дал отравить свое тело. Пусть богиня мщения пришлет более расторопного духа, он же, Ли, ее верный слуга и раб, не останется в долгу… Ночь застала барона фон Гиллера и его незадачливую команду в открытом море вблизи банки, на которой стоял буек с ацетиленовой мигалкой. Мотор останавливался раз десять, несмотря на ругань и угрозы командира. Наутро вблизи острова катер догнал голландский сторожевой миноносец и запросил, “не нуждается ли катер в помощи”. Катер в это время стоял лагом, и его несло к банке. Барон фон Гиллер приказал поднять “флаги бедствия” и, когда подошла шлюпка, оставил катер. К удивлению барона и команды спасательной шлюпки, матросы с “Хервега” и их унтер-офицер отказались оставить катер. Как раз в это время мотор на катере вновь заработал. — Мы дойдем до острова, — сказал унтер-офицер. — Вон же пальмы торчат. На какого дьявола мы оставим такую посудину? — Хорошо, я буду ждать вас на острове, — согласился капитан-цурзее. — Если же у вас опять испортится мотор и мы не увидимся, то надеюсь, вы не уроните чести флота кайзера Вильгельма. — Чести нам никак нельзя уронить, — сказал длинноносый комендор, — она, эта честь, так низко сейчас лежит, что ее поднимать надо. Второй матрос, мечтательно улыбнувшись, на миг представил себе, как они, продав катер, заявятся в кабак где-нибудь в Батавии, и уж там-то они “честь поднимут”… Мотор взревел, и суденышко, словно обрадовавшись, что избавилось от неприятного пассажира, бойко пошло к острову. — Пожалуй, мы пропустим этот остров, — сказал длинноносый комендор. — Лучше всего пойдем к следующему, — подтвердил унтер-офицер. — Выберем островок поспокойней, мы заслужили отдых. — Матрос с обожженными плечами подмигнул товарищам и вытащил из вещей, захваченных в каюте Голубого Ли, недопитую бутылку виски. — “Белая лошадь”! Я прихватил ее на шхуне. Враки, что малаец отравил кэпа. Они поскандалили из-за вчерашнего. У старика было неважное сердце, да еще этот проклятый пират вывел его из терпения, ну, и… Эх, какой приятный цвет! Выпьем за крепкий причал и мою Клару. — Аминь, — произнес длинноносый комендор. По обыкновению, судьба барона фон Гиллера складывалась гораздо лучше, чем у всех его соотечественников, с которыми он имел дела в последние полгода. С голландского сторожевика он пересел на английский миноносец, один из тех, что потопили “Хервег”. Командир миноносца с радостью принял на свой борт человека, который знал о сражении из уст самого Рюккерта и плавал на непокорном русском клипере. В Гонконге бывшим командиром немецкой подводной лодки заинтересовалось высшее морское начальство и особенно английская разведка в лице майора Нобля. Майор снабдил его небольшой суммой денег и несколько дней присматривался к нему, расспрашивал о плавании на “Орионе”, его экипаже. Майор с удовлетворением отметил, что пленный немецкий офицер не зря провел время среди русских: он добился значительных успехов в изучении русского языка; правда, говорил он по-русски хуже самого майора Нобля. Барон фон Гиллер признался, что на клипере избегал говорить по-русски и вообще выказывать знание русского языка, “чтобы иметь преимущество перед своими врагами”, — как он заявил майору Ноблю, и удостоился понимающей улыбки. — Вы природный конспиратор, — одобрил майор Нобль. — Такие люди, как вы, да еще со знанием русского языка, сейчас дороже бриллиантов. Вот что, дорогой барон, я могу вам предоставить возможность сражаться против русских и таким образом избавлю вас от плена. Как вы смотрите на поездку во Владивосток, где сейчас решается судьба всей азиатской России, и даже не только азиатской? Происходят грандиозные события. Россия рухнула, на ее обломках будет создано несколько государств, вернее провинций. Дальний Восток, Сибирь ждут предприимчивых колонизаторов. Насколько нам известно, барон, вы не обременены земельной собственностью у себя на родине? — С середины семнадцатого века наш род опирался только на шпагу! — высокомерно ответил барон фон Гиллер, глаза его прищурились: он не переносил, когда разговор заходил о его имущественном положении. Полное лицо майора Нобля расплылось в улыбке; он отхлебнул из стакана неразбавленного виски и подцепил на вилку коричневый кусочек трепанга. — Ешьте, барон, эту гадость. Говорят, она благотворно действует на весь организм. Они сидели в кабинете ресторана “Мандарин”. В воздухе стоял приглушенный гул, доносившийся с улицы, и шорох лопастей вентилятора над головой. Барон выжидающе смотрел на майора Нобля, в то же время оценивая его. За кажущимся простодушием этого человека угадывалась железная воля, что он не остановится ни перед чем в достижении поставленной цели. Его лучше иметь союзником, чем врагом. Барон терпеливо ждал. Майор Нобль одобрительно высказался о китайской кухне и, очистив тарелку, без перехода продолжал начатый разговор: — Мы с вами не виноваты в том, что наши предки не смогли приобрести земельную собственность. Мы с вами можем поправить дела. И должен сказать, что сейчас настолько благоприятный момент, какие бывают раз в столетие. Происходит передел мира! И делим его мы, черт возьми! Сибирь, Дальний Восток, по существу, уже в наших руках. Надо закрепить успехи. Для этого нужны надежные люди, без предрассудков, с ясной целью. Выполняя мировую миссию, каждый, кто не дурак, может обосноваться там на “клочке” земли величиной с целое графство! Дорогой барон, вы произвели отличное впечатление не только на меня! Война на Западе, по существу, окончена, Германия потерпит поражение, но и она не останется забытой, ее интересы на Дальнем Востоке будут сохранены. Как вам известно, капитал стирает национальные границы. Вы можете стать одной из фигур на огромной шахматной доске. — Надеюсь, не пешкой? — Ну, что вы! Пешек везут на грузовых транспортах. Английский разведчик никогда не котировался ниже слона! “Зачем столько ненужных слов?” — подумал барон и сказал: — Благодарю. Я согласен… Вот почему барон фон Гиллер очутился на мостике английского крейсера, направляющегося во Владивосток. Они стояли с майором Ноблем обособленно от других офицеров, и не потому, что стремились уединиться, — дистанция между ними двумя и всеми остальными на крейсере образовалась как-то сама собой. Чопорные английские офицеры сторонились бывшего командира немецкой субмарины и находили бестактным, что адмирал навязал им его общество. Что же касается пехотинца майора Нобля, то его репутация в глазах флотских офицеров тоже была невысока. Но неожиданно этот толстяк привлек всеобщее внимание недюжинными знаниями по части парусников. Он по достоинству оценил внешний вид “Ориона”, сравнив его с лучшими чайными клиперами, такими, как “Летящее облако”, “Фермопилы”, “Китти Сарк”, “Молния”, “Владыка морей”. Перечислив с десяток клиперов и остановившись на их мореходных качествах, он опять перешел к “Ориону”, которого обходил сейчас “Суффольк”, имея клипер справа но борту. — Неплохо, совсем неплохо! — говорил майор Нобль. — Смотрите, как лихо идут! Всю парусину вывесили. Поставили даже рингтэйль! Видите парус позади бизани? Запасной бом-кливер! И все запасные стаксели! Удивительно, даже поставили шапочку! Шапочку! Вот она сейчас отлично видна, та, что пришнурована к нижней шкоторине фока. Увеличенные лиссели — по бокам всех прямых парусов! Никогда бы не подумал, что идет русский клипер. Исключительное зрелище! Вы не находите, барон? — Да, если не вникать в суть данного зрелища. — Понимаю. И завидую вашей целеустремленности. Я иногда могу предаться иллюзорным мечтам. Меня волнуют миражи вроде этого клипера, будто плывущие из восемнадцатого столетия. И мне жаль, что такое чудесное видение может исчезнуть навсегда… — Майор Нобль глубоко вздохнул и сменил мечтательный тон на сухой, официальный: — Вы должны сохранить клипер, используя свои связи. Отдано распоряжение, чтобы против него не применялись репрессии. Слишком ценный груз. — Я понимаю и уже слышал… — Да, я в общих чертах знакомил вас с планом захвата клипера. — Майор Нобль, просветлев лицом и обратив мечтательный взгляд за корму, где, распластав крылья, терялся в голубой дали “Орион”, снова перешел на задушевный тон: — Не кажется ли вам, дорогой барон, что клипер из какого-то непонятного, рыцарского великодушия уступает нам дорогу? Ему жаль ржавого “Суффолька”, лишенного до конца дней своих подлинного общения с ветром, морем, солнцем. Все это для него враждебные стихии, в то время как они составляют душу “Ориона”. — И опять жестко: — Вы не находите? — Вы поэт, майор. Я — сухой прозаик. И все более убеждаюсь, что нашей судьбой движет случай. — Ничего не могу возразить, но хотел бы подробностей в данном случае. — Пожалуйста. Если бы я не налетел на мину в Атлантике, то, по всей вероятности, “Орион” не находился бы сейчас в поле вашего зрения. — Как и вы? — Разумеется. — Но я счастлив, что так случилось! — Я не могу полностью с вами солидаризироваться до момента встречи в Гонконге. Они улыбнулись, каждый довольный тем, что так хорошо понимает другого, а сам остается для него загадкой. Едва скрылся под горизонтом крейсер “Суффольк”, как показался английский миноносец. Догнав “Орион”, миноносец сбавил ход и некоторое время шел с равной с ним скоростью, держась в пятидесяти саженях с правого борта. И хотя большинство команды клипера после боя с “Хервегом” и пиратами преисполнились чувством уверенности в своих силах и даже переоценивали их, сейчас, рассматривая хищное тело миноносца, с торчащими на нем стволами орудий и лотками минных аппаратов, матросы видели, что противник “серьезный”, и все же им не верилось, чтобы их “Ориоша” сплоховал против этого “железного корытца”, как охарактеризовал миноносец Зуйков. — Поплоше немецкого крейсера будет, — сказал Трушин. — Тот, если сравнивать, больше на битюга походил — ломовая лошадь, а этот так себе, стригунок. Форсу много, толку мало. — Он тебе даст толку, как саданет торпедами, настругает стружек, — заметил Брюшков. — Крейсер тоже хотел, — Трушин задорно тряхнул головой, — ты тогда тоже пророчил. Эх, Назар, земляная твоя душа, привыкла клониться перед тем, кто посильней или кто кажется сильным. А ты свою силу показывай, свою удаль! — Удаль… на дне-то?.. — ухмыльнулся Брюшков. — Да везде! Пока душа живет. Наводчик кормового орудия Серегин, человек обстоятельный, резонно заметил: — Самое главное — надо момент не упустить, а первым ударить, фугасным, по машинному отделению. С такой-то дистанции верная ему крышка. Только если первым ударить… Ему возразили: — А если он опередит? — Нас не опередит. Была бы команда в срок дадена, так врежем, что век не забудет. — Он те врежет, — сказал Брюшков. На него зашикали, и Брюшков замолчал, зло покусывая выгоревший в тропиках ус. Прошел на мостик радист, бросив на ходу матросам: — Прощайтесь с Гринькой Смитом. За ним и лейтенантом Фелимором пришел миноносец. Матросы возмущенно зашумели. Веселый, никогда не унывающий англичанин всем пришелся по душе, даже Брюшков угощал его табаком, а такой “чести” он удостаивал очень немногих, да и то из унтеров. Воин Андреевич, выслушав сообщение радиста, сказал: — Жаль расставаться, да ничего не поделаешь, это их право. Позвать ко мне англичан. И лейтенант Фелимор, и старший матрос Гарри Смит стали просить командира клипера, чтобы он разрешил завершить плавание на своем корабле, тем более что миноносец “Отранто” тоже шел во Владивосток. Командир приказал передать эту просьбу командиру “Отранто” капитану Коулю. Тотчас же пришел лаконичный ответ: “Сожалею. Приказ адмирала”. Клипер лег в дрейф. У лейтенанта Фелимора подозрительно блестели глаза, когда он прощался с офицерами. И как потом передавал Сила Нефедов, его окончательно “разделал в лоск” Стива Бобрин: — Сует ему мой Белобрысенький самую большую коробку с перчатками, те, что он у Фелиморовой невесты накупил в Плимуте, такого они желтенького цвета, малюсенькие из себя, на дитё и то, поди, не влезут; как-то я померил, они в каюте у него остались, так только три пальца и вошли — и по швам! Пришлось списать в иллюминатор, да их там еще около двух дюжин осталось. И надо вам сказать, что никогда я такой радости на лице у человека не видел, как у того Христофора Фелиморова. Аж затрясся весь, как увидал эти, прости господи, напальнички. Бормочет. В глазах слезы, жмет моему руки. Хороший человек. И куда они ему? Думаю, взял из деликатности, от доброго сердца, чтобы моего не обидеть. Ведь так потратился человек, одному отцу Сидору пятьдесят целковых должен. И такая радость у этого Христофора, будто в адмиралы произвели… Не менее трогательным было прощание Гарри Смита с его многочисленными друзьями. Все понимали, что расстаются навсегда с этим славным компанейским парнем, и каждый старался вручить ему какой ни на есть подарок. В мешок, тоже подаренный, совали носки, платки, рубахи, Зуйков, хлопнув подошвой о подошву добротными шлепанцами, сплетенными из манильского троса, сказал: — Носи, Гриня, не марай! Гарри Смит отдарил Зуйкова, вручив ему свою фарфоровую наяду. Зуйков долго не брал такую драгоценность, да Гарри сунул ему трубку в карман и, хлопнув по плечу, сказал: — Закуривай, и будь здоров! Под выстрелом у борта клипера плясала на волнах английская шлюпка. Матросы, гребцы с миноносца, положив весла на валек, прислушивались к голосам, доносившимся с палубы “Ориона”, и обменивались впечатлениями “об этих русских” и их корабле. Пожилой боцман (боси), командовавший шлюпкой, неодобрительно хмурил густые брови. Ему не нравилось слишком затянувшееся прощание. Он даже считал неприличным поведение своих соотечественников, которые так затягивают прощание с русскими. Боцман вытащил из кармана часы и убедился, что прошло уже пятнадцать минут, как он подошел к паруснику, и больше сорока минут, как там стало известно, что за ними придут. Боцман лишний раз убедился, насколько было предусмотрительно высшее начальство, приславшее инструкцию, как вести себя в русских портах. Инструкция запрещала матросам общаться с большевиками и прочими революционно настроенными элементами, как военными, так и гражданскими. И если говорить о большевистской заразе, то здесь, на этом паруснике, ее, видно, хоть отбавляй. Недаром клипер сбежал из Плимута на Восток, где тогда еще у власти стояли красные. Этих двоих, особенно матроса, приказано держать “в карантине”… Боцман опять вытащил часы и, взглянув на циферблат, сильно щелкнул серебряной крышкой, что не предвещало ничего хорошего, и буркнул: — Он забыл, что все-таки является матросом Королевского флота! — Боцман сделал ударение на “матросе”, он знал службу и никогда не позволял себе критиковать старших по званию, но в данном случае всем в шлюпке стало ясно, что боцман прошелся и насчет лейтенанта, и, быть может, главным образом имел его в виду. Наконец лейтенант Фелимор ловко спустился по штормтрапу, потряс руку боцману, поздоровался с матросами. Гарри Смит, прыгнув в шлюпку, только кивнул всем сразу и продолжал обмениваться прощальными словами с русскими матросами. Шлюпка отвалила. Неожиданно Гарри Смит совсем по-русски сорвал с головы бескозырку (русскую) и, хватив ею по днищу, стал выкрикивать, мешая английские слова с русскими, все же достаточно ясно, чтобы понять, что Смит думает об адмирале. Задавая темп гребцам, боцман кивал головой, загадочно щурясь и ликуя в душе: “Он раскусил этогоСмита, ругавшего на чем свет стоит адмирала. За такое Смита можно спокойно упрятать до конца рейса в карцер, а там решит военный суд. И вот сейчас он., не закрывая рта, продолжает расхваливать русских, с которыми нам не сегодня, так завтра придется драться”. Боцман сказал: — Что-то ты их так аттестуешь, будто лучше их людей нет? Гарри Смит пожал плечами, секунду помедлил, прежде чем сказать: — Встречал я и раньше хороших ребят, и думалось мне, что они водятся только у нас, оказалось, что везде есть стоящие люди. Боцман спросил: — Надеюсь, они найдутся и на “Отранто”? — Еще бы, сэр! И прежде всех вы, сэр! Матросы, опустив глаза и силясь не улыбнуться, налегли на весла. Лейтенант Фелимор, стремясь выручить Смита, заметил, что и он сам ничего плохого не сможет сказать о русских, они спасли их от гибели и месяцы заботились, как о самых близких людях. На что боцман проронил многозначительно: — Посмотрим, посмотрим… На другой день после встречи с “Отранто”, увидав в миле с левого борта миноносец, Воин Андреевич сказал старшему офицеру: — Видимо, у англичан серьезные намерения. Берут реванш за Плимут. Думают, что мы опять можем удрать. — Командир тряхнул головой: — Вот когда хотелось бы, чтобы “Орион” превратился в линейный корабль. Тогда бы вся эта шушера при встрече поджимала хвост. — Он вздохнул. — А теперь сила на их стороне. Да разве дело только в видимой силе, во всей этой стали, в пушках? Видно, нет, раз держится восставший народ… А уйти от них не так трудно, как вы знаете… — Труда не составляет, — ответил старший офицер, — да зачем? — Да, да, голубчик, — зачем? Не в нашем понятии, как говорят матросы, оставлять отечество в опасности. Я много думал и говорил о возможности уйти в один из нейтральных портов. — Сейчас их нет нигде, этих нейтральных. — Думаете? — Вытекает из обстановки, Воин Андреевич. Не окончилась одна война против Германии и ее союзников, как началась другая, против России, и, судя по сообщениям радиста, на нас ополчился весь мир, то есть все правительства, которые видят в русской революции опасность для своего строя, как в свое время видели в Парижской коммуне. — Да, да, и мы знаем ее печальный конец. Погибли люди кристальной чистоты и несгибаемого мужества! Похожие на нашего лейтенанта Шмидта! — В России все может пойти иначе, если мы используем опыт коммуны и найдутся люди, подобные Шмидту. — Они, видимо, уже есть, такие люди, раз второй год держится новая власть, да и противник не так глуп, чтобы не учитывать исторический опыт. Старший офицер улыбнулся: — Отец Исидор говорит, что все — следствие корысти, злобы людской и потери веры в справедливость. Они помолчали. — Вы не думали, Воин Андреевич, что на Дальнем Востоке могут остаться неоккупированные порты в Охотском море, например, или на Камчатке? — спросил старший офицер. — Думал и хотел с вами посоветоваться. Даже распорядился, чтобы Герман Иванович разведал на этот счет в своем эфире.КОНЦЫ В ВОДУ
В девятом часу вечера Стива Бобрин вытащил из ящика стола клеенчатую тетрадь, раскрыл ее и, взяв карандаш, поставил дату и ниже написал: “Скоро решится все. На щите или со щитом! Медлить нельзя. Настает долгожданный случай…” Дверь отворилась. Боком вошел машинист Мухта и остановился, закрыв собой весь дверной проем. Бобрин укоризненно покачал головой: — Опять заходишь без стука? — Чего стучаться — не барышня. Звал? — Да, я просил унтер-офицера Бревешкина… — Он и передал. Что у тебя? Стива опять болезненно поморщился. Мухта понял: — Не нравится, что простой машинист “тыкает”? А ты привыкай. — Мухта повысил голос: — Когда настанет царство свободы без власти, тогда при всеобщем равенстве не будет никакого “выканья”. Стива замахал руками: — Тише! Ради всех святых! Машинист понизил голос: — Святых не призывай, предрассудок это и засорение идеологии. Когда? — Скоро, Мухта, скоро. Как у тебя, все в порядке? Мухта уставился на него, скривив губы: — Э-эх, парень, резину тянешь! Надо действовать, а то у нас типы появляются, одного пришлось списать за борт сегодня ночью: сдрейфил, с доносом хотел идти. — Белкина? Так он не сам упал? — Помогли малость. Ну, когда? — Перед подходом к заливу Петра Великого. — Ой, упускаем время, голубь. — Скорей нельзя, некому будет нести вахту. Кроме меня, не будет офицеров. — Дотянули бы без них. Боцманов поставим? — Не смогут. — Жалко, угля нету. Будь они прокляты, эти паруса, только тормозят ход эпохи! Скоро залив твой? — Дней через семь—восемь при свежем ветре. Можешь идти. На днях еще вызову. — Не беспокойся, сам приду и уйти тоже сам уйду. Ты вот лучше скажи: что в стол сунул, что за книжка? — Тетрадь. — Дай сюда! — Это личное, дневник. — Давай, давай свой дневник. Кто уполномочил записи делать? Обращался к революционной массе? — Зачем? Это личное. — У нас ничего нет личного, запомни! — Мухта, оттолкнув Бобрина от стола, достал дневник и стал читать, бросая мрачные взгляды на обескураженного Стиву. Закрыв тетрадь, он ударил ею по столу, сказав: — Ух, и завихряет тебя, барин! Да если эта пакость им в руки попадет раньше времени — расстреляют, гады. — Он отвинтил барашки у иллюминатора, раскрыл его и, швырнув за борт Стивин дневник, спросил: — Как артиллерист? Все кобенится? — Да. Вообще он сильно изменился. Считает восстание ненужным, даже вредным. — Ишь ты, вредным! Все это по идейной отсталости. Через бунт обретем право свое! Понял? То-то! — Безусловно… ясно… хотя… — Не вижу, чтобы тебе особенно ясно было. Что это за “хотя”? Никаких “хотя”, и баста! Что плечиками поводишь, как гимназистка? Ничего, мы тебя поставим на рельсы, подкуем в теории, и будешь настоящим боевиком. Ладно, помолчи!.. Своим монархистам — ни слова. Народ ненадежный, трепачи. Раззвонят. Потом привлечем к деятельности. И Новикова брось агитировать. Сам присоединится, как увидит итог. Понял? Молчи и обдумай мои слова. Все! — Не прощаясь, машинист грузно повернулся и вышел, сильно хлопнув дверью. Стива вскочил. Все в нем клокотало от ярости. Как смел этот наглец так с ним разговаривать? Вырвать из рук и выбросить дневник, в котором отражена вся его жизнь, записаны мысли! И этот наглый тон… Но Стива только притронулся к дверной ручке и снова упал на диван. “Займу место командира, все припомню Мухте, — утешал он себя. — Брошу в канатный ящик и выдам властям, — решил он. — Анархистов не любят на судне. Сразу же скручу их в бараний рог! Сейчас ссора не ко времени”. Этот “идейный убийца”, как называет его Новиков, мог разорвать все нити заговора, спугнуть драгоценный случай, которого Стива так ждал многие годы. Он самодовольно улыбнулся: нет, на этот раз он использует случай, возьмет все, что заложено в нем, и даже больше!.. Стива Бобрин всегда помнил последнее свидание с отцом, тоже моряком, вышедшим на пенсию. Стива был у него единственным сыном. Жил он в Балаклаве, в небольшом домике, под опекой своего старого вестового Лукина, тоже отслужившего более тридцати лет на флоте. Стояла осень, бухта в сиреневом свете заката недвижно лежала внизу с застывшими на ней шаландами и старой шхуной. Лукин принес тарелку винограда и бутылку молодого вина, разлил вино в стакан и в две кружки с отбитыми ручками. Выпили. Отец, задумчиво глядя вниз, на бухту, побарабанил пальцами по столу, крякнул и сказал: — Степан! Не знаю, удастся ли нам свидеться… Нет, нет, хотя и война, но тебя бог сохранит, я о себе, сдает сердце, но это на всякий случай, может, и дождусь твоего возвращения. Мне хочется сказать тебе несколько слов. Думай как хочешь, но учти опыт своего старого отца. К сожалению, мы пренебрегаем опытом старших и потому повторяем их ошибки. Ты знаешь, что мы с Лукиным были не последними моряками, и вот итог: пенсия, этот угол, и все. — Палат каменных на флоте не наживешь, — сказал Лукин хриплым басом, — хотя бывали случаи. Вот у нас в Кронштадте… — Помолчи, Егор… Между прочим, все могло быть иначе, я мог сделать карьеру и, наверное, сейчас носил бы орлы на погонах, да упустил случай. Стива знал об этом случае. Отцу предлагали выгодную должность в морском штабе, но он отказался оставить корабль. Человек, который занял его место, сейчас контр-адмирал. Все же отец повторил всю историю и продолжал: — Конечно, мы были напичканы романтикой моря еще в корпусе и создали себе идеалы, которые и привели меня на эту “виллу”. Погоди, не ерзай, я сейчас закончу. Учти, что в жизни не часто складываются благоприятные обстоятельства, и если они налицо, то используй их. Тут нужна смелость, некоторое предрасположение к риску, а это у тебя имеется в достаточной мере. Конечно, не следует нарушать законов чести. Да что я говорю! У тебя твердые устои. Я многого жду от твоего плавания на “Орионе”. Прекрасный корабль, капитана я не знаю, но слышал, что достойный человек, старший офицер также… “Смелость — риск — удача” стали девизом Стивы Бобрина. Он изнывал, ожидая случая, чтобы рывком выйти вперед, обойти однокашников, а сличая все не подворачивалось; наоборот, благодаря чьей-то небрежности где-то в дебрях морского ведомства затерялся приказ о его производстве в мичманы, и он третий год плавал стажером, “вечным выпускником” старшей роты морского училища. Не радовало его и хорошее отношение командира, который, не ожидая производства, доверил ему самостоятельную вахту и приказал выплачивать жалованье лейтенанта. — Видимо, неудачи родителей, как и болезни, передаются детям, — как-то сказал он Новикову. На это артиллерийским офицер ответил, кривя тонкие губы: — Богатство — к богатству, к болячке — хворь, а посему выпьем… Стиве казалось, что Новиков испытывал злорадное удовлетворение, что есть человек, жизнь которого складывается еще хуже, чем у него самого. Бобрин пил редко, тоже следуя совету отца, и с ненавистью смотрел на Новикова. Общество этого человека не могло принести ничего хорошего, и еще Стива верил, что несчастья прилипчивы, как зараза, и Новиков в чем-то виноват в его незадачах. На корабле деться было некуда. За столом они сидели рядом, жили в каютах через стенку. И между ними невольно возникла дружба. Дружба странная, питаемая неприязнью друг к другу. В минуту откровенности Бобрин поведал Новикову свои жизненные принципы и виды на будущее. — Не густо, — сказал Новиков, — все же зацепка есть. Одним словом: “используй миг удачи”, следуй по стопам пушкинского Германа. Кто не шел и не идет этой дорогой? Только, мой друг, вы совершили глубочайшую ошибку: с такими замыслами — да на парусник! Сейчас не времена “Очакова” и “Синопа”. Ну какой вам может подвернуться случай выдвинуться из общей массы? Да еще в наших плаваниях. Разве погибнете геройской смертью, спасая матроса, или пойдете со всеми нами на дно от немецкой мины или снаряда? Детские мечты, мой друг, а посему выпьем… Февральская революция, падение самодержавия, Временное правительство вернули Стиве Бобрину уже потускневшие надежды на карьеру и славу. Теперь они с Новиковым часами говорили о “новой эре” Российского государства. Бобрин и Новиков в эти дни стали ближе друг другу. Не понимая грандиозности Октябрьской революции, ее значения для хода мировой истории, они расценили ее “как бунт черни”, восстание против священных устоев нации, то есть собственности, старых законов и установлений. Новиков подал рапорт (отклоненный командиром) “о переводе в армию, сражающуюся с большевиками и им подобными”… Бобрин не подал такого рапорта: это был не тот случай, какого он ждал. Оставить клипер и сложить голову от пули русского мужика не входило в его расчеты. “Надо еще подождать”, — решил он, вместе с Новиковым возмущаясь диктаторскими замашками Мамочки,[247] не разрешающего бороться с большевиками. Тут впервые у друзей зародилась мысль, что командир симпатизирует красным. Он предложил Новикову написать и после его отказа сам написал письмо к адмиралу сэру Элфтону о готовящемся побеге “Ориона”. В случае успеха, а тогда он казался стопроцентным, Стива сразу мог стать заметной фигурой среди довольно безликой массы русских офицеров, прозябавших в английских портах. Зная падкую на сенсации английскую прессу, он уже видел жирные заголовки над статьями о своем “подвиге” и свои портреты на первых страницах “Таймс”. Позорный провал с письмом был первым страшным ударом для Стивы. Он ждал смерти; будучи на месте командира, он, конечно, не пощадил бы человека, попытавшегося противостоять его воле. Да и Новиков поддерживал мысль о военно-полевом суде. Когда гроза миновала, Стива мгновенно преобразился и, по определению того же Новикова, “выказал ранее скрываемую наглость”. Появление барона фон Гиллера на клипере оказало очень большое влияние на формирование личности Стивы. Барон фон Гиллер говорил при каждом удобном случае, что он, Стива, один из тех немногих людей славянского происхождения, которых необходимо привлечь для создания “великого общества”. Бредовые идеи Гиллера Стива воспринимал как откровения пророка. Сам не зная того, он ощупью приходил к тем же выводам; пленный немецкий офицер лишь ускорил этот процесс, избавил от раздумий, вложив в голову Стивы простую и ясную мысль, что люди неравны, есть господа — их немного, и есть рабы — их масса. Рабами, естественно, должны управлять господа, что и делалось испокон веков, но е последние столетия благодаря тлетворному влиянию социальных идей в мире нарушается “гармония”, пришла пора ее восстановить на новом, высшем уровне. Единственное, с чем Стива не мог согласиться, так это с тем, что главенствующую роль в создании “великого общества” должны играть тевтоны, и сказал об этом Новикову. Артиллерийский офицер внимательно посмотрел на него: — Если дело так пойдет и дальше, то вы перещеголяете немца. Барон чрезвычайно прямолинеен в своих действиях, питает презрение ко всему, что не соответствует его понятиям, ко всем племенам и расам, кроме арийской; почему-то нас, славян, он считает неарийской, а следовательно, “низшей расой”, и это презрение, переоценка своих данных и недооценка окружающих чуть было не стоили ему головы. И еще он беспредельно нагл; в храбрости ему тоже не откажешь, но наглость- его отличительная черта. И еще, конечно, умен, только ум у него какой-то однобокий, как у всех маньяков. Ведь он даже вас провел и чуть было не использовал в своих целях! — Когда? Извините! — Охотно. Если бы вы не напились этого мухомора — “напитка бога Шивы”, то… — Думаете, я пошел бы на абордаж в бухте Тихой Радости? Ну уж извините! — И на этот раз извиняю. На абордаж бы он пас не погнал, вы были ему нужны для управления парусами нашего клипера в случае его захвата. Ну как? Я не прав? — Конечно! Я не мог пойти на явную измену, перейти на сторону пиратов! — Врете, Стива. Перешли бы, если б знали, что есть шансы очутиться на “Суффольке”. Я наблюдал за вами, когда вы увидели барона на мостике среди англичан. Ну что? Стива молчал, закусив губу. Как он ненавидел сейчас этого прозорливого пьяницу! — Ну, не сердитесь, — как-то совсем мягко сказал Новиков, — вы же знаете, какой я циник, мало чего приятного нахожу в жизни, и все-таки относительно вас я кое в чем согласен с Мамочкой. Толстой писал, что нет абсолютно хороших и плохих людей, и вы можете выровняться, если захотите, в этом главное различие между вами и бароном. Тому уж не выровняться. — Оставьте, Юрий Степанович, этот тон гувернантки. — Извольте, а посему выпьем… Стива потянулся, сидя на диване. Он еще никогда не казался себе таким сильным, смелым, удачливым. От его воли зависела судьба экипажа и корабля и его, Стивино, будущее. Он с силой ударил кулаками по пружинящей коже дивана, вскочил и, заложив руки за спину, зашагал по каюте — четыре шага от двери до бортовой стенки и назад к двери. Он репетировал свое первое появление на мостике в роли командира: “Матросы стоят на шканцах. Убраны все верхние паруса, и клипер торжественно движется по спокойному морю (в эту пору штормы здесь редки). Я останавливаюсь, глядя на озадаченные физиономии матросов, и говорю…” В двери заглянул вестовой Нефедов. Стива было накинулся на него: — Какого черта! — но тут же спохватился: нельзя обострять отношения с нижними чинами в такие минуты. — Ну, что? — спросил он недовольным тоном. — Да так. Думаю, может, чего надо… — Спасибо, ничего пока… Постой! Зайди. Закрой дверь. Садись. — Можем и постоять, но раз приглашаете, можно и сесть, хотя, как вас стал нянчить, только и дела, что лежать да сидеть… — Нянчить?! — Ну, не совсем нянчить, а всё уход, как за дитём. Стива опять чуть не вспылил, но, сдержавшись, сказал: — Ты оставь это. Какая ты мне нянька! Вестовой — и только. Я давно должен ходить в звании лейтенанта, а если бы плавал не на этой деревяшке, то и капитана третьего ранга. В войну производство идет быстро… Конечно, не будь революции. — Ничего, еще чины будут. Было бы на чем погоны носить. — Ты что мелешь? — Да как же, Степан Сергеевич, время-то — сами знаете. Герман Иваныч только что говорил, что у нас дома страшенные бои идут! Попадем в самое пламя, вспомним еще наш тихий клиперок, хотя и он уже стал не тихий. — Ты что причитаешь, Сила? Я не узнаю тебя. Бывало, слова не выдавишь из тебя, а сейчас — оратор! — Сам удивляюсь. Будто язык подменили, и в голове мысля шевелится. Наверное, от пустой моей жизни. Когда был настоящим матросом, тогда думать было некогда: на реях наломаешься, до палубы доберешься, только и думы, как бы прикорнуть да чарки дождаться. — Нефедов повел рукой. — Да и сейчас все думать стали, потому многое самим решать надо. Раньше что — барин или староста рассудят, а теперь, выходит, сам должен решать, каким идти течением в жизни. Стива насупил брови: — И ты попал под влияние большевиков! В философию пускаешься! Вот что, Сила, запомни и другим передай, что все эти разговоры о Советах и какой-то особой свободе — пустое дело. Будет все, как в пятом году. Ни мы, ни союзники наши не дадим погибнуть России. Все будет, как прежде, конечно, более организованно и справедливо. — Хорошо бы, Степан Сергеевич! — Вестовой вздохнул. — Оно бы спокойней, да народ с узды сорвался, как говорит Зосима Гусятников, прямо удержу нету. — Ну хорошо, оставим это. Скажи лучше, что говорят на баке? — Разное говорят, а всё к одному идет: прежнего уже не будет. — Опять про старое! Ну, а какие новости? Что говорят про того электрика… как его… — Белкин! Да что говорить — свои сбросили за борт. Вот оно и получается. С Мухтой не поладил — и сбросили беднягу. И надо же, человек был он хороший, совестливый. Мутят что-то на юте анархисты. Слух пошел… — Нефедов с опаской покосился на дверь. Стива привстал от нетерпения: — Ну, а еще что? — Будто и вы стакнулись с анархией… Стива плюхнулся на диван, чувствуя, как весь покрылся липким потом. “Неужели все пропало?” — подумал он и крикнул срывающимся голосом: — Вранье! Брешут! 11с верь. Скажи там, на баке, что неправда это… Нефедов с укоризной посмотрел на него: — Мухта только от вас вылетел сейчас. — Вылетел, говоришь? Так это я его отправил. Приходил со своей агитацией, книги предлагал. Я его в шею! Нефедов недоверчиво спросил: — В шею, говорите? Такого-то — да в шею? — Не веришь? — Ну, раз вы говорите, как не поверишь. Все же прохвост он, зверь. Когда бой был в бухте, Мухта раненого малайца ногами затоптал до смерти. Хоть и разбойник, а ведь раненый. Ужасно было смотреть. Я кинулся, хотел отнять, да тот уже мертвый. Не водитесь вы с ним, ну его к чертям собачьим. Подлец он. Убили они Белкина. Он со своим Свищем, больше некому. — Может, Белкин сам за борт свалился. — Так не бывает, чтобы без крику человек упал, да и падать в такую погоду, в тишь, немыслимо. В бурю не падал, а тут упал, как камень. Всплеск под утро вахтенные слышали на юте. Вот оно что, Степан Сергеевич. Хуже не придумать. Человек погиб прямо, можно сказать, на пороге дома. Не приведи бог никому такое! — Хорошо, иди, мне отдохнуть надо перед вахтой. Слухам не верь. Для чего мне связываться с анархистами? Ты же знаешь, что я против разбоя и за твердую власть. России нужен сильный правитель, такой, как Петр Великий! — Оно бы, может, и ничего было, если бы такой нашелся, да Громов говорит, что из всех царей за триста лет, что были Романовы, только один и объявился. Может, с царями и взаправду покончить, а держаться за народную власть… И вам бы, Степан Сергеич, присмотреться да прислушаться, что Громов и Лебедь говорят, а не этот Мухта проклятый. Один раз вы уже обмишулились, как бы снова не попали в еще худшую передрягу. Стива побагровел. Сейчас можно было не сдерживать “справедливого” гнева, который копился весь вечер и не находил выхода. — Агитировать пришел? Учить? Вон, скотина! Нефедов поднялся. — Уйду и не приду боле. Стыдно, Степан Сергеевич. Ищите другого холуя. — Постой! Ты всерьез? — Всерьез! — Ну, пшел к черту! Скоро… — Что — скоро? Думаете, на брюхе приползу, так не надейтесь. Я-то думал… а вы, видно, без нутра, как тот немец. — Погоди. Ты что говоришь, да не договариваешь, что там еще за сплетни обо мне? Ну… Не сердись, Сила. Мало ли что бывает между своими. Ну погорячился, сам говоришь, что время такое. Сядь! Вижу, что не все сказал. Выкладывай! — Э-эх, замарана у вас корма, видно, Степан Сергеевич, а вам чистить ее боле не буду! Н-ну… — И он вышел из каюты, оставив Стиву в полном смятении. В это время Мухта проводил собрание своих сообщников-анархистов. В кубрике находилось более двадцати человек — кочегары, машинисты, матросы. Было душно — иллюминаторы задраены. Голос Мухты глухо слышался в низком помещении: — …Дотянули! Откладывать больше нельзя. Все напортила нам большевистская фракция. Сколько раз были возможности превратить наш “осколок царской империи” в оплот мировой революции! — Конец!.. Хана! — как вздох, послышались голоса. — Да, там мы попадем в лапы к интервентам, хотя мы и везде можем поднять восстание, наши сейчас есть повсюду, во всех армиях и странах! — С большевиками разговаривал? — Говорил сегодня с Лебедем и Громовым — отказались. Хотят вести борьбу против интервентов и буржуазии на берегу. Призывали присоединиться к ним. Сказал, подумаем. Конечно, чтобы не вызвать подозрения. Белкин, кажись, успел брякнуть. Так что, товарищи анархисты-боевики, ждать мы не можем, думаю начать завтра! Захватим корабль, скрутим всю контру. Кто не с нами — тех за борт, и повернем на революционный простор! Пойдем по всем странам. Понесем наше черно-красное знамя! Сейчас необыкновенная революционная ситуация! Мир — как сухая солома! Довольно искры, и вспыхнет пожар и охватит весь шарик… — Он замолчал: открылась дверь над входным люком, и Свищ, стоявший на стреме, стал спускаться, фальшиво насвистывая “На Молдаванке шухер завязался”. — Там эта белобрысая контра рвется, — сказал он. — Пускать? Да вот она и сама! Давай, не оступись, соратничек! В кубрике пахло керосиновой гарью — лампа с закопченным стеклом покачивалась под настилом верхней палубы. Стива, не различая лиц заговорщиков, но чувствуя на себе их взгляды, сказал, задыхаясь: — Все пропало! — У него перехватило горло. — Они все знают… Мы раскрыты! — Без паники, — сказал Мухта. — Сидеть тихо. Матросы — к себе! Выходить с разговорами, со смехом. Решение всем сообщат… Ну что? Откуда узнал? Стива, запинаясь, глотая слова, рассказал о разговоре с вестовым. Мухта расхохотался. Облегченно засмеялись и кочегары. — И только? — спросил Мухта. — Да мало ли что о нас говорят и думают! Нам надо действовать, и побыстрей. Понял? Нефедова не отстранять! Попроси у него прощения! Хорошенько попроси, пусть при тебе будет, а мы за ним присмотрим, и за тобой тоже присмотр будет. К нам ни ногой. Большевички, наверное, опять накололи это твое посещение к нам. Лишних разговоров не надо. Сами будем тебя ставить в известность. Насчет всего. Еще одна просьба — заметь, мы не приказываем пока, только просим: поговори с Новиковым, можешь лаже пригрозить слегка, но чтобы не спугнуть и не обернуть совсем против нас. Вот и все, ребята! Ни у кого нет предложении товарищу гардемарину? Нету! Пока! Иди, уже третий час пошел, скоро тебе заступать на “собачью вахту”. — Мухта, а за ним и все его единомышленники захохотали. Как только захлопнулись двери люка, Мухта сказал: — Дело серьезное, братишечки анархисты-боевики. Хоть мы и осмеяли Белобрысенького, а пахнет керосином. Завтра будет поздно. — Он сделал паузу и прошептал: — Выступаем сегодня на его вахте, — Мухта боднул головой вверх, — как только пробьют первую склянку. Понятно? Ну, что затихли? Свищ прихлопнул в ладоши. — Переживаем, кореш! Дух захватило у боевиков! Сколько ждали, и вот пожалуйста! Погуляем, братишечка, снова в теплых морях, да не так, как с этими офицериками! Пощупаем мировую буржуазию! Подожжем соломку мирового пожара и сами на огоньке погреемся! Так я говорю, командир? — Закрой поддувало! Пусть другие скажут, если есть что сказать. “Другие” подавленно молчали. Стива лег на диван не раздеваясь, до вахты оставалось около часа. В ушах еще звучал издевательский смех анархистов, перед глазами проплывали их лица. “А не послать ли все к черту?” — подумал он и улыбнулся своему малодушию. Сейчас он лежал на мягком диване, плавно покачивающемся под ним, слушал меланхолический плеск волн за бортом, и все происшедшее казалось ему малозначительным, пустячным эпизодом, издержками в большой игре, которую он вел. Действительно, Мухта держит себя безобразно и явно оттирает его на второй план. Стива снова улыбнулся, представив себе звероподобного машиниста в роли командира клипера, а Свища — старшим офицером. “Получится настоящий пиратский корабль”, — подумал он и не подозревая, что разгадал их замыслы… Он погрузился в чуткий сон, готовый вскочить от легкого прикосновения вестового и с первым ударом в рынду подняться на мостик. Сквозь сон с палубы доносился шум, топот, удары, похожие на выстрелы. “Шквал. Прозевал Горохов”, — определил Стива. — Вставайте, Степан Сергеевич. Скорее! — услышал он. У дивана стоял Бревешкин. Даже при зеленом свете ночника было заметно, как он напуган, в его выпуклых глазах застыл ужас. — Вахта наша через склянку. Слушайте, какое дело. Кочегарье проклятое, анархия… бунт затевают. Мне Тимохин Димка сейчас сказывал, тоже с нашей вахты марсовый, к анархистам, гад, переметнулся. — Да что случилось? — уже совсем пришел в себя Бобрин и понял, с чем пришел Бревешкин. — Через сорок минут они всех порешить хотят. Димка сказал, что вы всё знаете, и вот я к вам… — Молодец! — На Стиву нашло прозрение. “Вот он, тот случай, когда от секунды промедления зависит самое главное- жизнь!” И он решился: — Иди на мостик к Горохову, живо пусть играет боевую тревогу! — Да как же?.. — Скажи, что передал Бобрин, приказ командира! — Есть! — понял Бревешкин и вылетел из каюты. Когда Стива вошел к командиру, там находился Громов. — Извините! Чрезвычайное сообщение! На корабле готовится бунт! В это время бешено зазвенела рында. — Что такое? Уже? — Командир посмотрел на Громова и выхватил револьвер. Стива сказал, чеканя слова: — Нет. Бунт назначен через тридцать пять минут. Я от вашего имени приказал объявить тревогу. — Вы? Голубчик! Отлично! Это спутает их планы. Вот и Громов принес мне те же прискорбные вести… Стиву будто прорвало. Дрожа, как в лихорадке, он перебил командира, хотевшего еще что-то добавить: — Разрешите немедленно арестовать зачинщиков — Мухту и Свища? — Да, да, голубчик! Сейчас же арестуйте. Громов! — Есть! — Возьмите свое отделение и следуйте с вахтенным начальником. — Есть! — А мы, Феклин, идем на мостик. Феклин с первыми ударами рынды уже стоял в каюте с фуражкой и плащом. Воин Андреевич машинально взял и надел фуражку, а плащ отстранил: — И так, голубчик, жарко. Феклин пошел следом, держа плащ. На палубе было тихо и душно, волнение улеглось, казалось, корабль остановился посреди моря, залитого золотистым светом заходящей луны. Темное золото пропитало паруса и снасти, фигуры рулевых казались непомерно большими и тоже отлитыми из золота или бронзы. У трапа командира встретил старший офицер и громко отрапортовал, что все подразделения на местах по боевому расписанию. — Хорошо, хорошо. — Командир отвел его в угол мостика. — Я приказал арестовать Мухту и Свища, извините, без вас — не было времени. Вот список, прикажите и этих взять под стражу! Бунт! Коля, дорогой, у нас! Уму непостижимо! Действуйте! — Кто берет Мухту? — Бобрин! — Не может быть! Из машинного отделения глухо донеслись два револьверных выстрела… По боевому расписанию Мухта и Свищ находились в машинном отделении, хотя топки были погашены и весь клипер освещался керосиновыми лампами. Здесь же стояли и сидели почти все кочегары и машинисты. Молчали, прислушиваясь к звукам, доносящимся с палубы. Свищ зашептал: — Дознались, гады… Идут! Топают. Прикладами цокнули! — Закрой хайло! — гаркнул Мухта, вытаскивая револьвер. — Оружие приготовить! Уничтожим тех, кто идет, а потом — по расписанию. В темноте мы их живо перекокаем. Только смотрите мне, Белобрысенького не попортить! Появление в кубрике Бобрина во главе вооруженных матросов парализовало всех заговорщиков, кроме Мухты и Свища. Свищ спросил, держа руки в карманах: — Вы чего, братишечки? Заблудились? Стива сказал, поводив перед собой наганом со взведенным курком: — Мухта, Свищ! Вы арестованы! Взять их! Мухта молча вырвал руку из-за спины. Стива успел нажать на спуск на сотую долю секунды раньше, чем мог бы это сделать Мухта. Свища схватили матросы, хотя он и не думал обороняться. — Меня за што, братишечки? — говорил он задушевно. — Ну што я сделал? Все это Мухта, покойничек. Вот ваш офицерик не даст соврать, что я был против и все ребята против. Мы хотели сами прибрать Мухту, да вы появились. Шум подняли. Это он кокнул Белкина… Громов наклонился, взял Мухту за руку, подержал, опустил. — Мертвый. — И, глядя на Стиву, сказал: — Зря вы второй раз стреляли. Мог бы кое-что сказать, а теперь — концы в воду.РОДНЫЕ БЕРЕГА
Стояла теплая, почти тропическая ночь, хотя “Орион” шел Японским морем, приближаясь к родным берегам. Такая погода случается на Дальнем Востоке в конце августа, когда море щедро отдает тепло, накопленное летом, и дуют жаркие южные ветры. За кормой стлалась голубая светящаяся лента, почти такая же яркая, как в Яванском море. Только за бортом, в глубине, не появлялись тусклые шары фосфоресцирующих медуз и не шлепались на палубу крохотные кальмары, как нередко случалось в ночные вахты в тропиках. На клипере никто не спал, хотя приближалась полночь. Все ждали, когда покажется земля, “теперь уж наша”, говорили матросы. Ровно в 24 часа, когда Роман Трушин отбивал склянки, впередсмотрящие срывающимися голосами прокричали: — Огонь слева по носу! Земля! Маяк показался! Старший офицер, сдав вахту лейтенанту Горохову, остался на мостике, здесь же находился и Воин Андреевич. Далеко на невидимом берегу вспыхивал и угасал маячным огонь. Вся команда молча смотрела на свет с родной земли. Ветер дул ровно и почти не ощущался на палубе. Пела вода на форштевне, иногда слышался всплеск легкой волны о борт, да раздавался чей-нибудь вздох. Неожиданно раздался звонкий голос Лешки Головина: — Дядя Спиридон, а сколько верст будет до маяка, как ты думаешь? Зуйков закашлялся, затем ответил сипло: — Верст, верст… Эх, Алеха! Плаваешь ты по всем морям, просолел весь, как астраханская селедка сухого посола, а море на версты меряешь. — Ну, миль, ошибся. — Юнга сконфузился. — Миль двадцать будет? — Может, и все сорок будет. Давеча Герман Иванович говорил, что маяк на скале, высоко над морем, а с высоты еще дальше можно увидеть. Снова настала тишина. Кто-то засмеялся и быстро оборвал смех, почувствовав, что он неуместен в такую торжественную минуту. Опять заговорил юнга, но только шепотом: — Ну, и перепутал версты с милями, потому что нее разговоры о земле, а землю чем меряют? — Понятное дело, — отозвался Зуйков. — Да ты не принимай к сердцу, позору тут нет никакого-что верста, что миля, только миля — она подлинней. Я вот тоже про милю помню, а все в уме на версты ее перевожу. Эх, Алеха, дома ведь почти уже, а! Чувствуешь? Вот ты, что бы хотел, как на свою землю ступишь? — Не знаю… По земле побегать… С ребятами встретиться, поговорить… — Все так. Ну, а самое первое что? Не знаешь? То-то и оно. Самое первое, Алеха, отправимся мы с тобой в баню. Да с веничком, да с парком пройдемся по грешному телу. Ух, хорошо! Смоем копоть с души и тела и возьмемся за настоящую работу. По палубе прошел одобрительный шепот. Назар Брюшков сказал: — Я последний раз в финской бане мылся два года назад, когда в Гельсингфорсе стояли. Ничего баня. Кто из вас в кабак, а я — в баню. — В голосе его слышалось превосходство над бесшабашной матросней. — И деньги сберег и попарился. — Чище не стал, — заметил Зуйков. Его поддержал Зосима Гусятников: — Черного кобеля не отмоешь добела. Матросы засмеялись. Гусятников продолжал, но уже другим тоном, умиротворенно: — Если про баню говорить, то лучше ее нету, как у нас на Севере. Бани у нас просторные — хоромы. На задах у речки. Не какие-нибудь там финские, а русские, особенные. Топим мы их по-черному. — Серость, — проронил Брюшков. — Постой, Назар. Не серость, а мудрость и соображенье. Ты слушай. Так вот, когда баня натопится, раскалится каменка, дым выйдет, первым паром очистится воздух, тогда банька закрывается, и дух в ней такой, как в кедровом лесу в сухое лето. И всего тебя жар обнимает и холит. Во! Возьмешь веничек да заберешься на полок, и как обдаст тебя жаром, дух захватывает. Любой француз или англичанин как рак сварится в таком духу, а тебе ничего, только необыкновенно хорошо. Как напаришься — и в речку, хоть летом, хоть зимой, а не то в снежок. Хорошо! И никакая хворь не берет, никакая простуда. Наоборот, выходит она от пара и жара и особого воздуха. А из холода опять на полок. И вот так раза три обернешься, и будто десять лет сбросил. От мачты до мачты прошел веселый гул голосов, потом говор стал тише, невнятней, беседа потекла уже не для всех, а только для “своих”; кто-то засмеялся. Над мачтами пролетела стайка птиц, жалобно перекликавшаяся в высоте. — Кулички-плакальщики, ночами перелет делают, — сказал Гусятников. — И куда летят? Никто ему не ответил. Командир сказал старшему офицеру: — Действительно, куда летят? И в этих широтах, и на юге я обращал внимание и не знал, что это кулики-плакальщики. А вы знали? — Нет. А тоже не раз слышал, и всегда появлялось какое-то щемящее чувство. — Да-да, вот именно. Может, поэтому и матросы присмирели? А мы ведь на пороге дома! — Горящего дома. — Ну, зачем? Может, все не так плохо… Помолчали. Затем командир сказал весело: — Что бы там ни было, а дома! И не зря матросы о бане заговорили. Надо смыть и с тела и с души весь пепел, что накопился за войну. Может, перед новыми передрягами, а надо. — Он продолжал мечтательно: — Поставим “Ориошу” в Амурском заливе — и на берег. Там, помню, где-то возле Семеновского базара есть торговые бани, а затем в “Версаль” — ужинать и спать на твердой земле… — Помолчав, он спросил: — Как думаете, есть телеграфная связь с Севастополем? — По всей вероятности, нет. Хотя… Они замолчали. И разговор среди матросов совсем затих. Застучали подошвы башмаков по ступенькам трапов: свободные от вахты и подвахтенные спускались в жилую палубу. Новиков и Бобрин стояли на юте, глядя на огонь маяка, и невольно слушая матросов. Когда голоса стихли, Стива сказал по-английски: — Удивительно! Стоим на пороге неизвестности, может быть, завтра примем участие в грандиозных событиях, и эти люди ведут себя так, будто возвращаются с поля в деревню. Новиков ответил по-русски: — Мне нравится такая уверенность, что все на месте, и дом и баня, где можно попариться. — О нет, это не уверенность! — Что же? — Проявление тупоумия. Отсутствие чувства ответственности за судьбу России. — Ого! Чувства ответственности нет, а решать им придется. — Они только материал, пешки! Новиков засмеялся и пропел, фальшивя: — И пешки съели короля! — Фиглярничаете в такое время! Новиков положил ему руку на плечо: — Не обижайтесь, Стива. Вы должны уже привыкнуть к моему характеру. В чем-то вы правы, в чем-то нет. Да и кто прав во всем? Избегайте делать безапелляционные выводы. Я тоже кое о чем думал последнее время. А посему идемте ко мне и отметим счастливое прибытие на восточную оконечность бывшей Российской империи. — Почему бывшей? — Ах, Стива, Стива!.. — Опять вы со мной как с младенцем разговариваете? — Отнюдь. Приглашаю выпить как мужа. Постойте! Что это такое там горланят матросы? Впередсмотрящие возвестили, что справа по носу видны ходовые огни двух транспортных судов, идущих на запад. — Из Японии во Владивосток, — сказал Новиков. — Слетаются со всего света, и не с добром, а за добром, как говорит Зосима Гусятников. Неслышно подошел отец Исидор и, стоя в густой тени от парусов, несколько минут слушал тихий разговор офицеров. Неожиданно он сказал рокочущим басом: — Ропщете, юноша, на порядки, а потом удивляетесь сами, откуда растут корни протеста и смуты у людей низшего звания. Нехорошо! Новиков засмеялся. Стива Бобрин вспылил: — Вот именно, нехорошо подслушивать! — Мне-то? О юноша! Долг мой в том и состоит, чтобы улавливать мысли людские, и если они не соответствуют морским установлениям и заповедям господним, то вразумлять сходящего с пути праведного, отвращая его от военного трибунала. — Хватит, отче, — сказал Новиков, — пошли за компанию, впьем с радости. — Чего не делалось за компанию, какие мерзопакостные дела! Но я иду, дабы направить и худое дело на благо. И действительно, ночь-то благостная, тихая, идет клипер наш, будто и не по воде, а в облаках витает — так осторожно море его на себе держит, а ветер устремляет к цели нашего пути. Они спустились по трапу и, когда подходили к каюте радиста, из нее поспешно вышел Герман Иванович. — Есть новости, сын мой? — спросил отец Исидор. — Не отпирайся, на лике твоем написано, и, видно, не особенно хорошие. — Да, приказано вместо Владивостока идти на Аскольд и ждать распоряжений. Извините, господа, спешу к командиру. — Иди, сын мой, и не бойся плохих известий, ибо все в мире не стоит на месте — и плохое или то, что мы подразумеваем плохим, может обернуться хорошим и наоборот. В каюте Новикова, развалясь на диване, Стива Бобрин сказал срывающимся от волнения голосом: — Все развивается так, как я предвидел: нам не простили, не забыли побег из Плимута. Сейчас союзное командование по достоинству оценило поведение нашего командира. Стороны в борьбе определились достаточно ясно, и мы, господа, в особенно выгодном положении, тем более что я сохранил копию письма к адмиралу сэру Элфтону. — Стива подмигнул Новикову, накрывавшему на стол. — Прошу, господа, — сказал Новиков, — из закусок только сухая колбаса, да не хочу будить моего вестового. За прибытие, господа! Выпили. Отец Исидор, понюхав корочку хлеба и глубоко вздохнув, сказал, глядя из-под кустистых бровей на гардемарина: — Не натворите новых глупостей, юноша. Тот позорный документ порвите и развейте по морю. Не делает он чести, особенно сейчас; тогда, под влиянием неясности событий, еще можно было найти смягчающие вину причины, сейчас — нет. Обдуманная гадость становится подлостью. Стива Бобрин, приподняв плечи, покосился на хозяина каюты и, переведя взгляд на отца Исидора, сказал: — Позвольте, как вы смеете! Новиков поднял руку: — Отставить, Стива. Продолжайте, отец, в ваших словах иногда проглядывает истина. — Золотые слова! — Ваши, отец. — Тем приятней. Что же касается истины, то она глубоко сокрыта и многогранна, и только изредка кажет нам одну из своих бесчисленных сторон. Суждение сие относится к облает” высокой философии. Мы же, грешные, пытаемся решить дела более простые… Еще по одной? Не откажусь. Хороша!.. — Понюхав корочку, он продолжал, не спуская глаз с гардемарина: — Что касается изменения нашего курса и, другими словами, задержания или ареста, то здесь причина не только наш побег из Англии, о нем могли забыть в такой сумятице и, вспомнив, рады были бы нашему приходу, они же изолируют нас, как бы сажают в карантин. Почему? — Отец Исидор усмехнулся. — Потому, что все это дело пакостной души немецкого барона Гиллера. Воистину ни одно доброе дело не проходит безнаказанно. Сей парадокс к нам подходит вполне. Барон расписал самыми пакостными красками положение на корабле, ославил капитана и команду, представив нас бунтовщиками. Вот и хотят нас вначале спрятать в тихой бухточке, а затем прибрать к рукам. Незавидная участь. В таком положении следует забыть все распри, дружно противостоять новой беде, никаких оговоров, хулы на товарищей своих, пусть неприятных нам, а связанных воедино многими опасностями и счастьем избавления от оных. Так-то, юноша. Выкинь нее из головы, как сор, и почувствуешь облегчение немалое. Гардемарин изрядно захмелел после третьей стопки, нагловато усмехнулся: — Нет уж, отец, на шею бросаться мы никому не собираемся, как и брать на себя чужую вину. Не послушались, чуть нас не расстреляли, а теперь мы должны снова подставлять за них грудь! Пардон, отец мой духовный! Думаю, и вы, Юрий Степанович, согласны со мной. Новиков покачал головой: — Нет, я думаю о другом. — Интересно. У вас есть иное мнение? — Не по этому поводу, в связи. Я думаю, какой же из вас сукин сын получится, Стива, если действительно вас не расстреляют! — Что вы сказали? Как вы смеете! Сейчас же извинитесь, или… — Стреляться задумал? Так я пока не хочу вас убивать. Идите спать! Отец Исидор! — Что, чадо мое хитроумное? — Держите чашу, не видите — стол кренится. — Пошла бортовая волна, — сказал отец Исидор, протягивая стакан. — Вы не тянитесь, Стива, — сказал Новиков, наливая иеромонаху, — вам отпущена норма. Скоро на вахту, еще свалитесь с мостика и подорвете свою славу, завоеванную в подавлении организованного вами бунта. — Действительно, — сказал отец Исидор, глядя через стакан, — пьяный отрок есть явление скверное, говорящее о тяжелом недуге, пожирающем род наш. Стива встал и, глядя побелевшими глазами на собутыльников, прошипел: — Как я жалею, что кто-либо из вас не был на месте Мухты! — и швырнул стакан на пол. — Стакан не разбился, — поморщился отец Исидор, — плохая примета. — Стива великолепен! — сказал Новиков вслед Бобрину. — Пожалуй, кой в чем он приближается к барону, общение с Гиллером оставило на нем заметный след. Ведь как, подлец, ловко вывернулся из дела Мухты! Теперь никакой суд не осудит. Ну, пейте, отец. За благополучный приход в родные воды. — Именно пока в воды, дальше не будем заглядывать. Хотя суеверие и порицается церковью, а я не могу совладать с собой, потому имею много примеров… Ну, будем! — Он выпил. — Противна зело жидкость сия. Отрок же наш действительно стал на пагубную тропу, одна надежда — образумится. — Ну, батя, вряд ли. Он только в начале пути, как говорят последователи Будды… Выслушав радиста, командир сказал: — Ну что ж, пора привыкнуть к неожиданностям, может, оно и лучше, что идем на Аскольд: там отличная бухта, возможно, будет время оглядеться и прийти к каким-то окончательным решениям. Курса менять не будем, Николай Павлович. К утру выйдем на траверз Аскольда. Впередсмотрящие прокричали: — Справа по борту миноносец “Отрада”! Идет с нашей скоростью. — Передайте этой “Отраде”, этому… как его… сэру Коулу, капитану “Отранто”, что растроганы его заботами, благодарим, но в помощи не нуждаемся. Действуйте! — Есть! — Постойте, — остановил радиста старший офицер. — Текст, по-моему, слишком изящный для таких типов. Предлагаю сказать просто: “Сэр, у нас в России не любят жандармов. Убирайтесь к дьяволу!” Воин Андреевич, крякнув, согласился: — Пожалуй, так еще “изящней”. Посылайте, Герман Иванович. Когда радист ушел, Никитин сказал командиру: — У меня есть еще одно предложение. — Что такое, голубчик? Пожалуйста! — У нас ценностей на пятнадцать миллионов рублей. Оружия, снарядов, боеприпасов, продовольствия — на целую дивизию. — На две, голубчик! — И все это… — …отберут, Коля. — Если мы безропотно войдем в бухту Наездник и поднимем руки. — Что же вы предлагаете? Опять не подчиниться? Но сейчас у люден не то настроение. Мы дома! Идти в Черное море? Но оно у французов и англичан. — Постойте, Воин Андреевич. О побеге я не думал. Есть же у нас во Владивостоке русское морское командование! — С которым вот уже месяц не можем связаться? — Возможно, радиостанции под контролем “союзников”. Все равно, если командование существует, то оно может воздействовать на англичан и защитить свои, наши интересы! Учтите, теперь, когда у них барон, они смогут пас обвинить в чем угодно, вплоть до пиратства, припомнят нам Плимут. — Предлагаете апеллировать к нашим флотоводцам без флотов? — И выяснить па месте обстановку. Не знаю, как вы, а я полон сомнений, что груз мы должны передать для подавления революции. — Хорошо, Коля. Я согласен. Вы, как всегда, правы! Еще есть какие-то микроскопические шансы. Давайте их используем. Конечно, отправитесь вы?.. — Просил бы, и очень. — Возьмете баркас, а команду — с вельбота. Народ там отличный, один Громов чего стоит. — И об этом я хотел просить вас. Возможно, остался кое-кто из прежних однокашников. — Вам карты в руки, я был здесь недолго, месяца два, и то месяц из них на Курилах и Камчатке. Идите готовьтесь, я принимаю вахту. Впередсмотрящие прокричали: — “Отрада” ближе подходит! Когда “Орион” изменил курс, на эсминце переполошились, и Герман Иванович стал получать радиограмму за радиограммой с требованием ни в коем случае не идти во Владивосток. — А хотелось бы, — сказал Воин Андреевич радисту. — Да у нас другой замысел. Капитан Коул получил приказание конвоировать нас на Аскольд и боится, что мы подведем его. Передайте: “На каком основании?” Тотчас же радист принес ответ: “Приказание командования объединенных сил”. “Мы им не подчинены, просим удалиться и не мешать”. Далее произошел обмен такими радиограммами: Коул. Вынуждены будем принять решительные меры. Зорин. Мы также. Коул. Я потоплю вас! Зорин. Попробуйте! Коул. Впереди рифы! Зорин. Вы спутали залив Петра Великого с Английским каналом. Коул. Ваше упрямство дорого обойдется, Зорин. Кому? Коул. Вам, черт возьми! Зорин. Мы привыкли платить по счетам, не торгуясь. Коул. Будьте же благоразумны, сядете на камни — в миле архипелаг Римского-Корсакова. Баркас был спущен на воду, Воин Андреевич приказал передать только одно слово: “Спасибо”, и взял курс на Аскольд. На этот маневр последовало последнее, довольно язвительное послание Коула: “Благодарю создателя. Все же ожидал, что вы выдержите характер”. На что получил ответ: “Мы не обманули ваших ожиданий”.В ПЛЕНЕННОМ ГОРОДЕ
Баркас шел под парусами. Команда расположилась у левого борта. Матросы дремали. Никому из них не пришлось соснуть в эту ночь: сразу после первой вахты стали готовить баркас, затем отправились “из одного плавания, неоконченного, в другое — неизвестное”, как сказал Зосима Гусятников на прощание. У руля сидел Громов. Рядом на банке — старший офицер, по привычке прищурясь, поглядывал вдаль. Неуютные скалистые островки Римского-Корсакова остались позади, открылся остров Русский. Он казался очень большим, кудрявым, посредине его поднималась приземистая конусообразная сопка, похожая на вулкан, на вершине ее застыло серое облачко. — Смотрите! — сказал Громов. — Неужели “Отранто” за нами охотится? Показавшийся на западе миноносец прошел близко от баркаса, обдав нефтяным перегаром. — Ничего, ребята, — сказал Николай Павлович, — все это неприятности временного характера. Россия не Индия, где англичане могут делать все, что хотят. К тому же стремление к завоеванию больших территорий, огромных стран в конце концов приводило к краху захватчиков. — Николай Павлович стал растолковывать Громову, Зуйкову и Трушину — остальные спали, пригревшись на солнце, — почему еще никому не удавалось создать “единое мировое государство”. Громов слушал особенно внимательно, и когда Николай Павлович замолчал, то заметил: — Все это оттого, что у народов не было одной цели. Существовали и существуют классовые и национальные интересы, существует собственность па землю и средства производства. — Да ты настоящим марксист! — Далеко еще мне! Так, кое-что уяснил в кружке и сам почитывал, как будто уловил основы, а самую науку, тонкости- образования не хватает. Пошел бы сейчас учиться, засел за парту, за книги и читал, учил бы день и ночь, да вот… — Нет, вы, Громов, — он невольно назвал его на “вы”, — вы вполне развитой человек, а в области социологии — даже очень. Хотя в остальном надо учиться, чтобы не поручалось однобокости в развитии. Никитин задумался над тем, что за несколько лет совместной службы он так мало зияет люден. Его интересовали только их деловые качества, нужные и л клипере: знание своего дела, исполнительность, храбрость, высокая дисциплинированность. Все остальное — их внутренний мир, стремления, запросы — ему почти неизвестно. Только иногда с удивлением он узнавал, что у матросов есть суждения совсем иные, нежели у него, и, в чем приходилось сознаться, более верные. Сейчас, сидя с Громовым, он вдруг понял, какое огромное влияние оказали на него подчиненные ему матросы. Исподволь, по крупицам они заносили в его сознание сомнения, помогали находить ответы на многие мучительные вопросы. И сейчас он уже не тот самонадеянный, уверенный в себе мичман, затем лейтенант, вынесший из стен морского корпуса “много знаний, потускневших от времени идей и мало жизненного опыта”… Баркас, подгоняемый в корму засвежевшим ветром, подходил к южной оконечности острова Русского. Из бухты Новик, которая глубоко вдавалась между гористыми берегами острова, выходил японский транспорт. Матросы проснулись и, заспанные, разглядывали японский пароход, остров, рыбачьи суда при входе в бухту. “Какая скрытая жизнь шла на “Орионе” эти годы, — опять с удивлением подумал старший офицер, — если там отразились все идейные движения, происходящие в России: появились анархисты, черносотенцы, есть, говорят, и эсеры (тоже, кажется, среди машинной команды) и вот — большевики…” — Лево на борт! — приказал старший офицер. — Есть лево на борт! — Вот, матросы, перед нами и Золотой Рог! Налево — город, причалы, направо — мыс Чуркина. Там мы и причалим. Против центра города. Матросы с удивлением рассматривали рейд со множеством военных и торговых судов, белый город, сбегающий с крутых сопок к шумному порту. Доносился грохот лебедок, гудки буксиров. От берега к берегу, перевозя пассажиров, сновали крохотные “юли-юли” с одним гребцом на корме, ворочающим длинным веслом. — И наши есть, смотри, ребята! — сказал Трушин. Три миноносца под русским флагом стояли недалеко от входа в бухту. — “Грозный”, — прочитал Зуйков. — Вот тебе и “Грозный”! Самого почти из бухты вытолкнули, а тоже — “Грозный”… Посреди бухты грузно осели в воду линейные корабли, крейсера, миноносцы. На них свежий ветерок трепал многозвездный флаг Соединенных Штатов Америки, японский — белый с красным пятном посредине, английский “джек”, французский, итальянский и даже греческий. Вся эта армада застыла, как стая хищников, готовая по сигналу вожака броситься на город, который беззаботно млел под еще жарким солнцем, празднично сверкая окнами и стенами домов. Капитан-лейтенант приказал убрать паруса и рубить мачту. Матросы гребли слаженно, с тем шиком и легкостью, которые даются годами тренировок во всякую погоду, а тут еще не хотелось ударить в грязь лицом перед многочисленными зрителями — моряками, глазеющими со своих и иноземных кораблей. Пройдя по рейду, Никитин велел повернуть к мысу Чуркина, где находились склады леса, стояли на приколе несколько барж и старых буксиров. Тут у одной из барж и было выбрано место для стоянки. На барже стоял высокий, плечистый старик с белой бородой, в старом полушубке и валенках. — Давай заводи по ту сторону, — сказал он деловито, — здесь волной будет бить о мое корыто. Видишь, сколько посудин шастает, волну разводят, а там тихо. — Мы у тебя, дедушка, здесь постоим немного, — сказал Никитин. — Да господи, стойте, сколь хотите! Мне веселей. Баржа тонуть станет — вынете меня. Мне, ребята, тонуть еще рано, — говорил он, принимая конец и забрасывая на кнехт. — Мне ведь всего девяносто восемь лет. — Посмотрел хитровато на матросов сверху вниз: — Двух до ста не хватает. Вот доживу век, а тогда помру. Люблю ровный счет. Вижу, вы издалека прибыли, своих я всех здесь знаю. Вы что-то черноваты, у другого солнца грелись, да и успел я прочитать название на баркасе. Такого судна здесь еще не бывало. Чай будете пить? Не бойтесь, вода у меня есть: племянник как мимо идет на водолее, так накачает полную бочку, я когда и приторговываю водичкой, ее на Чуркине почти нет — камень. Он вскипятил огромный закопченный чайник в крохотном камбузе, высыпал осьмушку чаю. — Ну, господа матросы, садитесь и пейте, харч у вас видный, заграничный, — сказал он не без ехидства. — Пожалуйста, с нами, — пригласил Никитин. — Чайку выпью, а есть это заграничное в байках не буду. Старой веры я. Чай бусурманский мне тоже не положено пить, да по старости оно ничего, обойдется, одни лишний грех много не тянет. Наскоро перекусив, старший офицер отвел Громова в сторону: — Я сейчас отправлюсь в город, со мной поедут Трушин и Зуйков. Ждите нас здесь. Поговорите со стариком. Тут на берегу я видел матросов и солдат, поговорите и с ними. В общем, выясняйте обстановку здесь, а мы — на той стороне. — А если спросят, откуда пришли и где корабль? — Не стоит скрывать, мне все равно придется идти к начальству, но своего мнения обо всем происходящем не высказывайте. Завтра мы должны уйти на Аскольд. — Да, там ждут. Не беспокойтесь, Николай Павлович, я все понимаю, да и ребята тоже. Езжайте спокойно. Перевозчик на своей “юли-юли” доставил моряков в торговый порт, забитый артиллерией, походными кухнями, горами снаряжения у причалов, уже не вмещавшегося в огромных пакгаузах из оцинкованных листов волнистого железа. С транспорта “Сибири мару” по широким сходням спускался поток солдат в светло-желтой форме. Они шли молча, подгоняемые резкими криками унтеров. Закончил разгрузку “американец” “Колорадо”, его оттаскивал буксир от причала. Другой буксир уже подтягивал с рейда “англичанина”. Прошел патруль американских солдат. Американские и английские солдаты стояли у складов, охраняли штабеля грузов и артиллерию. До выхода из порта нашим морякам пришлось пробираться среди иностранцев. На привокзальной площади, как перед парадом, тесно друг к другу стояли японские батальоны. Только на Светланской, главной улице города, меньше встречалось иностранных солдат. Тротуарами завладела праздничная, по-летнему одетая толпа, мелькали офицерские мундиры различных армий. Особняк, в котором прежде находился штаб Тихоокеанского флота, занимали англичане. Английский офицер, к которому обратился Никитин, пожал плечами и спросил: — Разве у вас есть флот?.. У магазина “Кунста и Альбертса” навстречу шел морской офицер и двое матросов с винтовками. Еще издали на лице лейтенанта отразилось изумление, сменившееся широкой улыбкой. Капитан-лейтенант Никитин узнал своего однокашника Леню Бакшеева. Лейтенант был очень рад этой неожиданной встрече. — Черт возьми, ты?! Нет, не может быть. Колька! Я глазам не верю! Так ты пришел на “Орионе”! Откуда?! Какими судьбами? — И я рад, Леня, очень рад… но… — Ах да! Ты прав, мы устроили запруду из всей этой швали, я не имею в виду прелестных дам. Смотри, какая блондинка! Зайдя за угол, он сказал своим матросам: — Вот что, ребята. Видите, кого я встретил! Ну так вот: знакомьтесь и идите куда-нибудь в тихий уголок на два часа. Затем прибыть к ресторану “Версаль” и ждать у входа. И чтоб ни-ни, ни в одном глазу!.. Матросы дружно и весело гаркнули: — Есть, ваше благородие! — Кру-угом! Вот так! Эть, два! Курс на Семеновский базар. Н-но помнить!.. — И-иесть! — ответили теперь уже все четверо разом. Оба зала ресторана — и нижний, и верхний, — несмотря на ранний час, гудели от разноязычного говора. В дверях моряки остановились. Все столики были заняты, во втором зале, видном снизу через огромную выемку в потолке, огороженную перилами, двое американских офицеров удерживали третьего, пьяного в лоск. — Обычная сцена, — сказал Бакшеев. — Наверное, опять рвется прыгнуть вниз на пари. Несколько типов уже поломали кто руки, кто ноги, а один убился насмерть. Имей в виду, что надо прыгнуть па занятый столик. Вот в чем весь шик. Ну, идем, Варфоломеич знаки подает. Седой официант провел их в угол за пальму. — Берегу столик для своих, — сказал он, устало улыбаясь. — Обедать будете или только закусить? — И обедать и закусить. Спасибо, Иван Варфоломеевич. Старого друга встретил. — Вижу, что не тутошний. Угостим. У нас все есть, для своих, конечно. Не беспокойтесь, Леонид Васильнч, и накормим и напоим. — Насчет питья как ты, Коля? А мне, сам знаешь, — вахта. Если рюмку, две? — И мне не больше. Дела у меня очень серьезные. — Вот и распрекрасно! — сказал официант, будто обрадовавшись, что среди всех этих пьяниц нашлись два скромных человека, и свои — русские. — Ну, Коля, рассказывай! Так ты с того самого “Ориона”, что вогнал в тоску нашего последнего адмирала? Ты, конечно, слыхал о нашем Свекоре! Нет?! Такая колоритная фигура! Он служит посредником между остатками эскадры и различными миссиями. Спиридон Фомич вначале обрадовался, когда узнал, что к нему в эскадру вливается свежая единица, а затем, особенно после приезда одного немца, который, говорят, плавал с вами, а потом сбежал где-то в Голландской Индии, увидав, что корабль захватывают “красные”, расстроился. Ну, что улыбаешься? Я забегаю вперед, не выслушав тебя, извини, но тебе, я знаю, очень важно, что о вас думают здесь. Ну, рассказывай… Спасибо, Варфоломеевич! За встречу… И рассказывай! Бакшеев много раз прерывал восторженными или гневными восклицаниями рассказ своего друга, а когда тот закончил, то сказал, пожимая ему руку: — Какое плавание, какие вы орлы! А командир ваш прелесть! Так ему, Мамочке, и передан. Так обвести англичан! Хорошо, что вы не пошли с ними в Архангельск. Там сейчас, по скупым сведениям, творятся ужасные вещи. Да и у пас, видишь, что происходит, но мы здесь, хотя сохраняем видимость самостоятельности. А вообще — дело дрянь. Кран оккупирован, заняты все города. Деревня бурлит. Поставляет массами “повстанцев”. Красные отряды довольно сильно тревожат “союзников”. Все признаки гражданской войны. Но как же с вами? Вот что, Коля, все-таки ты сходи к адмиралу, он может разрядить обстановку, прекратить дело, начатое при посредстве барона Гиллера. Хозяева всей этой своры, — он повел глазами по залу, — не заинтересованы в скандале с русскими военными моряками. У них в парламентах выступает довольно сильная оппозиция, к тому же они еще считаются с печатью, общественным мнением. Интервенцию они подают как “помощь братьям по оружию, союзникам, исстрадавшемуся народу России”. Поэтому могут уступить просьбе нашего Свекора — так мы его зовем для краткости, полное же его наименование Лебединский-Свекор. В “Союзном штабе” с ним считаются. Так называемый “Союзный штаб” — теперь главный орган всей власти на Востоке. В него входят представители всех стран, “бескорыстно” предоставивших свои силы и средства для помощи “исстрадавшейся России”… В штабе Свекор сидит по старой привычке до четырех, хотя делать абсолютно нечего, ждет вызова, телефонных звонков. Флот весьма невыгодно выглядит в глазах союзников. То ли дело пехота! Она сейчас прямо на вес золота. Надо сказать, матросы создают им немало трудностей. Вот сегодня объявлено о розыске одного из матросов, большевистского агитатора, который был схвачен, бежал из-под стражи, находился где-то в Сибири и сейчас здесь. Контрразведка с ног сбилась, разыскивая беднягу. Некто Ведеркин Илья. — Найдут? — Мы — ни в коем случае. Вот видишь, как зарекомендовал себя флот. Поэтому Свекор и корчится, как береста на огне. На его счастье, у красных нет еще флота. Вот разве вы сделаете почин. Шучу, конечно… Пожалуй, пора. — Посмотрел на часы: — Матросы ждут уже десять минут. Как я рад, что встретил тебя-человека совсем из другого мира. Не маши рукой. Поживешь с нами, увидишь, как опустошены и растеряны люди. Оставь свои фунты стерлингов. Плачу я! Ты мой гость! Варфоломеевич, пожалуйста! Сдачи не надо. — Нет уж, увольте, Леонид Васильевич, со своих, да еще моряков, чаевые не беру. Знаете, сын на Балтике — моряк. И я через него тоже причастен к морякам. Всего вам наилучшего! — И вам тоже. Они пожали руку вконец растроганному Варфоломеевичу. У подъезда “Версаля” Никитина и Бакшеева ожидали четверо матросов. Лейтенант окинул их наметанным взглядом: — Молодцы, ребята! Где были? — Да нигде, на сопке просидели, — ответил один из патрульных. — Они такое рассказывали, что мы про все забыли… Бакшеев привел капитан-лейтенанта к тому же дому, где расположилась французская военная миссия. — Позволь, но мы уже здесь были! — Догадываюсь. Ты не учел обстановку. Теперь французы в главном здании, а мы во флигельке, но и здесь наш адмирал устроился недурно: прямо в комнатах, где хранятся все личные дела офицеров и списки состава экипажей кораблей. Он, так сказать, в своей любимой сфере. Обрати внимание на письменный прибор: отлит по его чертежам в портовых мастерских в одном экземпляре, чудо, а не приборчик! Сейчас устрою гебе свидание! Едва Никитин переступил порог, как ему невольно бросилась в глаза чугунная эскадра, занимавшая весь фасад на массивном и очень большом письменном столе. Лебединский-Свекор пристально разглядывал старшего офицера “Ориона” из-за носовых башен броненосца, служивших чернильницами. Он был лыс, лицо одутловатое, нездорового цвета. Глаза голубые, усталые, близоруко щурились. Адмиральский китель, казалось, он надел по рассеянности вместо вицмундира статского советника. Капитан-лейтенант доложил о прибытии “Ориона” на Аскольд, о состоянии экипажа клипера, груза и сказал, что должен рассеять ошибочное мнение, сложившееся о корабле и его командире, что по этому поводу главным образом и решился беспокоить его превосходительство. — Мне уже все известно, капитан-лейтенант. Дело, могу сказать, прискорбное. — Сведения, которые вы получили, исходят от спасенного нами военнопленного, бывшего капитана немецкой подводной лодки Гиллера. — Барона фон Гиллера, — поправил адмирал холодным тоном, — прошу не выказывать пренебрежения в моем присутствии к титулованным особам, независимо от их национальности, тем более что барон в настоящее время на службе в войсках нашего союзника — Великобритании. Оставим это! Создается специальная комиссия, которая нелицеприятно разберется в вашем деле и накажет виновных. — Ваше превосходительство, выслушайте хотя бы в общих чертах суть нашего так называемого дела. Мы, рискуя жизнью, сохранили корабль и груз, стоящий пятнадцать миллионов рублей, и пришли на родину. Корабль притом в хорошем состоянии. — Позвольте об этом судить нам. — Вице-адмирал вздохнул, пошарив по столу, нашел очки, надел их и улыбнулся так, как будто обрадовался, что наконец увидал желанного гостя: — Прошу садиться. Много слышал о вас в последнее время. Например, вчера мне сообщили, что ваш капитан снова не подчиняется приказу, намеренно изменил курс и некорректно ведет себя в отношении капитана миноносца, посланного с целью облегчить ему плавание в незнакомых водах. — Разрешите, ваше превосходительство… — Не разрешаю! У вас еще будет время и место, где вы сможете оправдываться. Здесь вы должны понять тяжесть своих, мягко говоря, проступков. Я перечислю некоторые из них: приказ в Плимуте вы нарушили — р-раз!.. В водах Голландской Индии учинили сражение с рыбаками — два! Черт с ними, с этими малайцами, но скандал! Дипломатические запросы, вас обвиняют в пиратстве, батенька мой! И как вы оправдаете вообще свое бегство, дезертирство из рядов сражающегося флота к большевикам! Неся такой груз вины, следует быть тише воды, ниже травы, а вам удалось вызвать новый скандал с союзниками: облаяли капитана английского миноносца! — Мы не обязаны терпеть наглость и подчиняться невесть кому! — Вот-вот. — Он вздохнул. — Разучились подчиняться. В этом корень зла. Наша трагедия. Все разучились, не хотят подчиняться! Свергли монарха! Самим богом установленный порядок! Вы, я вижу, дельный офицер: доставить сюда парусник из Плимута — шутка! Но и в вас сидит тлетворное зерно анархии. Конечно, вы лицо подчиненное, за все ответит командир. Все же вы, хотя бы здесь, у меня, должны были дать здравую оценку всему происходящему на судне. Я понимаю, вы возбуждены кажущейся несправедливостью, но только кажущейся! В конце концов вы поймете свои заблуждения. И не думайте, что вы были забыты во время плавания. Ваше рве-нне в период службы в составе Королевского флота отмечено приказами самого Первого Лорда адмиралтейства Уинстона Черчилля! Мы также не забывали вас и продвигали в звании, согласно заслугам. Вот, прошу взять выписку из приказа, полученного первого января 1917 года о присвоении очередного звания мичмана гардемарину Бобрину Степану Сергеевичу. Вот так, капитан-лейтенант! — Он пристально посмотрел на Никитина. — Второй приказ о присвоении званий и вам и многим другим, возможно, этого заслуживающим, приостановлены в движении по причинам, изложенным выше. Бобрин единственный, к сожалению, офицер, на кого не падает тень злостных или вынужденных нарушений или даже преступлений. Так, гардемарину Бобрину присваивается и звание лейтенанта. Достойный молодой офицер! Может пойти далеко. Передайте ему мои личные поздравления. Надеюсь вскорости увидеть его. Вы как будто не разделяете моего мнения? — Разделяю относительно присвоения ему очередных званий, так долго задержанных… — Так-так… Но не разделяете моих лестных оценок его прочих качеств. — Так точно, господин адмирал. — Похвальная прямота, но неуместная в данном случае! Вы, как старший по чину и званию, должны были воздействовать на его отрицательные свойства, хотя в оценке данных свойств у нас с вами существенные расхождения. Как вы можете заметить, мы весьма осведомлены о вашем плавании и поведении людей. Почему вы до сих пор не доложили о разложении матросов? — Мне неизвестно о таковом. — Зато нам известно, капитан-лейтенант, и потому ваше дело, так как оно приняло формы вредного, недопустимого характера, подлежит уже компетенции “Союзного штаба” и нашего правительства. — Вице-адмирал поверх очков пристально посмотрел на Никитина и продолжал соболезнующим тоном: — С момента вашего появления у меня в кабинете я ждал, что вы, милостивый государь, доложите о главном, самом прискорбном явлении на вашем паруснике. Вы не догадываетесь, о чем идет речь? — К сожалению, нет! — Именно — к сожалению! Сожаления достойно, что старший офицер, докладывая о возвращении из плавания, забыл упомянуть о разложении команды и наличии среди нее большевиков! — Повторяю: мне неизвестно о таковых. — Нам известно! О чем с прискорбием извещаю вас! — Все это время адмирал как бы сочувственно улыбался, скорбел, понуждая своего подчиненного к покаянию, но вот он снял очки, и лицо его стало отчужденно-холодным, надменным. — Разрешите идти, господин вице-адмирал? — Да, я сейчас отпущу вас, капитан-лейтенант, прошу лишь принять некоторые советы. Так вот! Немедленно отправляйтесь на корабль. Дальнейшее ваше пребывание в городе буду расценивать как новое ослушание и отдам приказ о вашем аресте. Передайте своему командиру, капитану второго ранга Зорину Воину Андреевичу, что адмирал рекомендует ему извиниться перед капитаном английского миноносца “Отранто” сэром Коулом. Из бухты Наездник не выходить без особого разрешения! Команду на берег не увольнять! Я уже отдал это распоряжение по беспроволочному телеграфу. Вас же, как еще исполняющего обязанности старшего офицера, ставлю в известность. Все! Лебединский-Свекор снова надел очки и приветливо улыбнулся… — Ну что? Полный пожар? — встретил Никитина лейтенант Бакшеев у крыльца адмиральского флигеля. — Хуже! Пожар во время наводнения… — Тогда сносно. Головешки можно затушить. Пошли в скверик. Главное, что ты еще можешь шутить… Вот сюда. Наши матросы тоже здесь, за теми кустиками, совсем подружились ребята. Боюсь, твои матросы вконец поколеблют и так сильно пошатнувшийся дух моих молодцов. Садись и рассказывай. Выслушав Никитина, лейтенант Бакшеев сказал: — Дело серьезное. Не знаю, что и посоветовать тебе. Наш бюрократ — в своем репертуаре. У меня с ним весьма натянутые отношения, по его милости я все еще, как видишь, хожу в лейтенантах, считает, что я непочтителен к вышестоящим и слишком либерален с подчиненными. Что, если обратиться к самому адмиралу?.. Да тоже не имеет смысла: старик напуган и также считает, что все беды — от падения дисциплины. Извини, я задерживаю тебя. Медлить нельзя. К вечеру выходи. Подготовь Воина Андреевича ко всяким неожиданностям. Лучше бы вам до поры до времени задержаться по пути во Владивосток. — Думали, да матросы рвались домой, и мы сами считали, что не имеем права стоять в стороне от событий, решающих судьбу страны. — И это правильно. Наверное, и я бы поступил так же. Идем, Коля, я провожу тебя. На адмиральской пристани есть дежурная шлюпка, она в моем распоряжении и доставит тебя на Чуркин мыс. На улице адмирала Невельского, круто сбегавшей к бухте Золотой Рог, они увидели русского матроса, стоявшего возле дощатого забора, и японских солдат. Унтер-офицер стоял посреди булыжной мостовой и хохотал, опершись о винтовку, два солдата, скаля зубы и тараща глаза, бросались на матроса, делая вид, что сейчас пригвоздят его штыками к забору. У матроса не было бескозырки, по щеке стекала струйка крови. Бакшеев сказал, не оборачиваясь: — Ребята, примкнуть штыки! Трушин, весь подобравшись, побледнел и шагнул было к японскому унтер-офицеру, да капитан-лейтенант остановил его. — Отставить! — Эх, Николай Павлыч!.. — Спокойно… — Да мы их, как цыплят… — сказал Зуйков. — Что с парнем делают! Унтер-офицер первым заметил русских и резко крикнул что-то солдатам и стал говорить, скаля зубы и кивая на матроса. Солдаты взяли винтовки к ноге и также улыбались. — Иди сюда, братец, — сказал Бакшеев матросу. — За что они тебя? — Ни за что. Шел в Голубинку, остановили, сорвали бескозырку, забросили вон за ограду, и вот сами видели — стали издеваться. — Откуда? — С “Грозного”. — Почему один? Не знаешь приказа — ходить не менее трех человек? — Знаю, мы и шли впятером, да я поотстал, корешей встретил из экипажа, и вот… — Возьми бескозырку и иди, да побыстрей! — Да они опять… Эх, дайте мне винтовку, я им… — Не время еще. Иди! Матрос сходил за фуражкой, сбил с нее пыль рукой, надел. Козырнул: — Спасибо, ваше благородие. Кабы не вы, закололи бы, гады. Спасибо, ребята! — Он быстро пошел в гору. Японцы было пошли за ним, но Бакшеев прикрикнул на них, а патрульные вскинули винтовки, преграждая им дорогу. Постояв немного, унтер-офицер буркнул команду, все трое повернулись и затрусили к Светланской. — Вполне обычная картина, — сказал Бакшеев потрясенному Никитину. — Весной японцы закололи штыками кочегара с того же “Грозного”. Данный эпизод нужно расценивать как “дружескую шутку” со стороны союзников. Не больше. — Немного помолчав, Бакшеев добавил: — Наши тоже не остаются в долгу. Ночью они по одному не ходят, да и днем, как видишь. На пристани, прощаясь, Бакшеев подал Никитину листок из записной книжки: — Мой адрес здесь, в городе. Имей в виду: можешь приходить в любое время суток, скажу хозяевам — примут. Всякое может случиться. Они обнялись. Трушин и Зуйков крепко пожали руки своим новым приятелям. Команда дежурного вельбота, видимо, с уважением относилась к лейтенанту Бакшееву. — Есть доставить на мыс Чуркин! — повторил приказание младший боцман — старшина шлюпки. Матросы гребли не за страх, а за совесть, явно выказывая свое расположение знакомому лейтенанта Бакшеева. Да и незнакомый капитан-лейтенант им тоже понравился с первого взгляда, хотя бы потому, что со всеми запросто поздоровался. Внушало уважение и его спокойное, волевое лицо: “Такой и службу спросит, и не выдаст”. — Не спешите, боцман! — сказал Никитин. — Минута—другая для нас не решает дела… — Не беспокойтесь, ваше благородие, нам, вы знаете, но привыкать, да мало мы своих последнее время катаем. Как дежурство на адмиральской, так почему-то приказывают всякую пьянь по их коробкам развозить. Правда, не в вахту лейтенанта Бакшеева, тот не дозволяет, а есть, сами знаете, какое наше начальство, угодить стараются. Вы, говорят, из дальней пришли? — Кто говорит? Мы будто ни с кем и не говорили об этом? — улыбнулся Никитин. — Ну как же! Только в бухту вошли, уже стало нам известно. Наши суда наперечет, а тут незнакомый баркас и название корабля редкостное. Да и ребята из штаба тоже говорили, будто вас англичане прижимают, чем-то вы им насолили. — Скорее они нам. — Ну, уж это мы видим, и соли и перцу подсыпали, не приведи господи. — Вам тут, вижу, тоже не сладко живется? — Что говорить! Так нас прижали, так взяли в оборот и в таком мы положении, будто не они у нас в гостях, а мы к ним в гости пожаловали. И встречают нас тем, чем ворота подпирают, а то и похуже. — Да, печально, — сказал Никитин. — Все очень печально. Младший боцман вопросительно, с надеждой посмотрел на него: — Конец скоро будет? — Не знаю, брат. Хотелось, чтобы скорее. От нас самих зависит. Если будем всё сносить, то они никогда отсюда не уйдут. — Так, выходит, надо гнать?.. — Да, боцман! — Трудно. Кабы флоту побольше да… — Он хотел сказать: “Да еще бы таких, как вы, командиров”, но, подумав, что этот офицер может не так его понять: дескать, льстит, подлизывается, — подал команду гребцам. Шлюпка развернулась, и гребцы, уложив весла, протянули руки, не давая шлюпке удариться о баржу. — Ты, капитан, не пори горячку, — сказал старик сторож на барже. — Дай ребятам поесть, отдохнуть малость, и потом пойдешь на Аскольд, будь он неладен совсем! Я годов двадцать назад на нем золото добывал, еще молодой был… Что смеешься, в семьдесят лет я женился пятый раз, мерли у меня все бабы, эта вот пятая — тянет еще, меня переживет… так вот, и говорю я тебе: не торопись. Сейчас выйдешь к вечеру из Босфора и заштилюешь у мыса Басаргина. Погода сейчас видишь какая, будто вареная. Тишь. Так после заката бризовый ветер потянет, да с моря. Ведь знаешь не хуже меня, на паруснике, говорят, старшим ходишь? Ну, и будет он тянуть, этот морской ветерок, часов до одиннадцати, а потом уж на него нажмет береговой, вот тогда ставь паруса и лети на Аскольд. — Хорошо, дедушка, ты прав. — Еще бы не прав, ведь я кем только не был за свою жизнь! Шестьдесят лет назад сюда пешим пришли из Тамбовской губернии, три года добирались. Железной дороги еще не было. Вот и шли. Жуткое дело!.. Подошел Громов и попросил разрешения сойти на берег вместе с Трушиным. — Идите, но не задерживайтесь и далеко от берега не ходите. — Здесь иностранцев нет. — Все равно опасно. В случае чего дайте знать выстрелом. — Есть! Должны ребята подойти с “Быстрого”. Были после вашего ухода. — Идите! Старик сказал: — Матросы у тебя хорошие. Тверезые матросы и тебя уважают. Я тут насмотрелся на всякие художества. Твои и себя понимают, и насчет дисциплины. Другие бы уже после такого плавания насосались водки. Твои — нет, даже вот меня угостили, а сами только по чарке, и баста, а водка, видать, еще осталась. Мне она очень пользительная, при окружающей сырости, да сейчас, сами знаете, деньги только в золоте ходят, да еще всякие заграничные. Николай Павлович велел Зуйкову угостить старика, и тот, выпив, присел на пустой ящик всзле рубки. Никитин стоял, глядя на город, там утихал дневной шум. Солнце опустилось за сопки, позолотило их вершины. Где-то на террасе ресторана или на бульваре оркестр заиграл грустный вальс, звуки то почти совсем стихали, то усиливались. Внезапно на той стороне завыли гудки, поглотив все звуки, и скоро умолкли. — Работу на сегодня закончили, — сказал старик. — Я и там работал, на заводе. Где я только не работал, чем не занимался! Даже золото мыл, и вот видишь, каким богатым стал. И лес валил, и рыбу ловил, и дома строил. Ведь когда мы пришли сюда, здесь голое место было, все сопки лесом поросли, олени водились. Они и сейчас на Русском острове и на Аскольде есть да и в окрестности города забредают, а тогда везде водились. Да что олени или медведи! Тигры по ту сторону бухты жили да и здесь, на Чуркином мысу, водились. Помню, я тогда при военной части печником работал. Переполох поднялся: часового тигр унес, да хорошо, парень голову не потерял от страха. Она его, тигра, взяла за воротник шинели и волочит в тайгу, а тогда кругом тайга, солдат и стал ремень расстегивать, а потом и пуговицы у шинели да и выпал из нее. Ну, а тигр так и убег с шинелью, а солдата оставил. Может, сытый был, а может, баловник, ему лишь бы нашкодить. И зверь всякий бывает: его не тронь, и он не тронет, тот же тигр или медведь. Ведь он почему на того солдата напал? Потому что мы его земли, угодья захватили, а он, значит, предупреждение сделал: дескать, выметайтесь отсюда. Да где там! Убили того тигра солдаты, а шкуру взял себе полковник. Так-то оно, капитан хороший. К чему все это я? А к тому, что тогда мы как стали на эту землю, так и ни зверю, никому ее не уступали, и город-то как назвали — Владивосток: владей востоком, значит. А теперь што? Кто им владеет? И нами кто владеет? Вишь, выстроились! Даже греки приехали и муллов своих привезли. Да неужто мы так обессилели? Или все от раздору нашего, от распри? Наверное, от этого. Потому народ против иностранцев, а ваш брат за них, возле укрывается, защиту ищет. И от кого? От своего народа… — Извини, дедушка, я должен распорядиться… — Распоряжайся. Когда Никитин спустился в баркас, старик сказал Зуйкову: — Томится ваш офицер. Все мы томимся. На што я, мне бы сидеть да смотреть последние два года, а глаза не глядят. Охота, чтобы очистилось все от погани, чтобы надежда у людей появилась на лучшее. — Мы их наладим, дед! — сказал Зуйков. — Так и пометем. Вот увидишь. — Большая метла нужна. Надо ее по прутику собирать да туже связывать. Позавчера, когда племянник воду привозил, то сказывал, что на Сучане шахтеры все в тайгу ушли, в партизаны. Так бы весь народ поднялся, и куда бы те японцы и англичане делись! — Поднимутся, и из России тоже придут на помощь! — Когда? На словах все хорошо, как в сказке. По тому, как все складывается, дело годами пахнет, а мой срок маленький. Неужели так и помру и ничего не увижу? — Увидишь, дед, поверь мне, увидишь! Старик покосился на Никитина, который уже снова стоял на барже и отдавал какие-то распоряжения матросу Селезневу. — Есть, гражданин капитан-лейтенант! — весело ответил Селезнев. Старик повторил: — “Гражданин”! Ишь ты, уже не “ваше благородие”, а “гражданин”. У нас еще здесь “благородят”. — Он спросил еще, понизив голос: — Ты скажи мне, а вы не того… не из тех, не из красных, случаем? — У красных все товарищи — и командиры, и матросы. — Так, так, слыхал. Значить, не красные? — В голосе старика слышалось явное разочарование. Вернулись с берега Громов с Трушиным и с ними человек без фуражки, в солдатской шинели, накинутой на плечи; он прихрамывал. Перейдя на баржу по утлым сходням, он скинул шинель и оказался в матросской форме. Громов докладывал старшему офицеру, поводя головой в сторону “гостя”: — …Матрос из экипажа. Его ищет контрразведка. Если найдет — расстреляет. Расстрелы здесь каждую ночь. — Большевик? — Наш… — Фамилия? — Он сейчас под другой фамилией. Скрывается. За парня могу ручаться. — Не Ведеркин? — Возможно, и он. — Дело серьезное, Громов. Сам понимаешь. — Сейчас все серьезное. Погибнет человек, а вины за ним, как и за нами, никакой. — Подбивал матросов к бунту? — Правду говорил! — Правда, Громов, — самая неприятная и опасная вещь. — Разрешите ему побыть здесь хотя бы до нашего отъезда. — А потом? — Оставим ему продуктов, отсидится у старика в трюме. — Его найдут. Тем более, он приметный — хромает. Ранили, когда из-под ареста бежал. — Вот видишь. Нет, оставлять его здесь нельзя. Возьмем с собой! — Есть! — Сейчас уходим! — Есть!..ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ ГАРРИ СМИТА
Попав на “Отранто”, Гарри Смит “заскучал”, как сказали бы его приятели с “Ориона”, увидев тусклую физиономию своего Гриньки, всегда такого жизнерадостного, любящего шутку и острое словцо. Сейчас он ходил по миноносцу как потерянный. Лединг Симен — старший матрос, когда-то не последний человек на “Грейтхаунде” и “Орионе”, теперь он выполняет обязанности юнги на камбузе и чистит гальюны. И это бы еще ничего, хотя и несправедливо, служба не вечна, да общительная душа Гарри изнывала в тоске от одиночества. Спрыгнув в шлюпку “Отранто”, он сразу почувствовал вокруг себя непривычную пустоту. Только несколько сочувственных взглядов заприметил он, а остальные матросы, и особенно боцман, выказывали только любопытство с явной примесью недоброжелательства. Его встретили, как встречают футболисты своего бывшего члена команды, который сейчас играет за другой клуб. Может быть, если бы Гарри Смит повел себя иначе с первых минут встречи с соотечественниками, картина была бы иной. Прошел бы какой-то период карантина, в течение которого он бы показал себя с самой “лучшей” стороны, то есть выказывал бы всеми доступными способами, как он рад, что возвратился на “свой” корабль, “траванул” бы что-нибудь о варварских порядках у русских, которые только чудом держатся на воде, приврал о своей тяжелой жизни среди “варваров”. Все были изумлены, наблюдая расставание Смита с русскими: его провожали с грубоватой нежностью и искренним огорчением. Полный мешок сувениров говорил об этом, вызывая недоумение и плохо скрываемую зависть. — Видите, как эти славяне стараются замазать глаза нашим парням! Азиатские штучки! И как этот олух не может понять, что он роняет достоинство! — сказал боцман. — Я не говорю уж о лейтенанте, тот тоже подает неблаговидный пример. Испытания Гарри Смита начались сразу, как только он сел на банку шлюпки “Отранто”, и боцман, подав команду отваливать, тут же задал вопрос, все время вертевшийся на языке: — Вижу, что тебе очень понравилось у русских? — Всю жизнь буду помнить. Хорошие они парни! Боцмана покоробило. По приказанию старшего офицера он только сегодня провел беседу с младшим командным составом, а те в свою очередь с матросами и машинной командой о России и ее народе. Команде внушалось, что она идет в дикую страну, где часть отсталого населения взбунтовалась и теперь грозит превратить свое отечество в пустыню. Что эти люди выступают против веры и всех человеческих законов. А тут этот матрос все опровергает! Нет, боцман не мог этого оставить. Он, ехидно улыбаясь, задал явно провокационный вопрос и подмигнул гребцам: — Неужели лучше наших парней? — Не скажу,что все лучше, есть среди них разные. А есть и такие, с кем нашим придется потягаться. Товарищи хорошие. — Слыхали, ребята? — сказал боцман. — Ну, допустим, тебе там кто-то понравился, и как это еще понимать, кто хорош, кто плох, но хороший парень у нас прежде всего — моряк! А тебе должно быть известно, что не было и не будет лучше моряков, чем британцы! Никто не может сравниться с нашим самым последним матросом! Запомни это, Смит! Гарри не мог смолчать и сказал, зная, на что идет: — Вы так говорите потому, что не видели этих парней в работе. — Да, отличные моряки! — поддержал лейтенант Фелимор. И ободренный Гарри продолжал: — Боюсь, что даже вы, сэр, кое в чем спасовали бы перед ними! — Я?! — Вы, сэр… Хотел бы я посмотреть на вас, когда подается команда: “Марсовые на марс!”, “Убрать бом-брамсели!” А корабль кладет с борта на борт, ноки задевают гребешки волн, а вы на них качаетесь, уцепившись всеми четырьмя! Фелимор не мог сдержать улыбку, представив, как боцман ведет себя на мачте. Дело в том, что в лице и фигуре боцмана было что-то обезьянье. Матросы приоткрыли рты от изумления, левый загребной поймал “щуку”, запустив по валек весло в воду, и сбил всех гребцов с ритма. Сам боцман был озадачен наглой дерзостью матроса, побывавшего среди “красных”. Для поднятия авторитета следовало дать ему по роже, да Смит сидел в носовой части шлюпки, а рядом улыбался лейтенант Фелимор, который тоже, видно, потерял всякое понятие о настоящей морской дисциплине. В довершение всего и этот “красный” лейтенант подначил его, боцмана, сказав такое, будто находился не на военной шлюпке, а по крайней мере в пивной: — Да, боси, поставил он перед вами задачу. Конечно, Гарри слегка перегнул: моряк с парового военного судна вот так сразу не сможет работать на паруснике, будь он трижды британец. Сам же Гарри, могу вас заверить, отлично работал на мачте при любой погоде, днем и ночью, и на самых верхних парусах! Рыкнув на гребцов, боцман молчал с минуту, затем проронил: — У нас нет высоких мачт и парусов, и боюсь, что Смиту придется заняться работой на камбузе и наводить блеск в некоторых других местах… — Не забывайте, боси, что Смит — старшин матрос, — напомнил Фелимор. — У него есть документ? — Наши документы остались на “Грейтхаунде”. — Сделаем запрос. — Я удостоверяю! — Хорошо. Я не решаю. Вы знаете, кто решает… В тот же день, чтобы показать настоящее место Смиту на “Отранто”, боцман не стал вызывать его к себе в каюту, как он любил делать, а подошел к нему в кубрике и сказал вскочившему и стоявшему навытяжку Смиту: — Вот что, милейший! Все разговоры, что ты старший матрос, ничем пока не подтверждаются, твой лейтенант сам не имеет документов. Сделают запрос, как полагается. Пока ты станешь, как я уже сказал, помогать в камбузе, но это не основная твоя работа, главное — будешь наводить лоск во всех гальюнах. Понял? Гарри Смит молчал, сраженный несправедливостью. Гальюны убирали по очереди да еще провинившиеся — по наряду, а тут ни за что ни про что такое унижение! Боцман, удовлетворенный, что его пошатнувшийся было авторитет был с “блеском” восстановлен, сморщился, что у него заменяло улыбку: — Ну как, Смит? Понял наконец, где ты находишься? II помни: тебе надо много потрудиться, чтобы опять занять прежнее место во флоте его величества! Гарри Смит с достоинством ответил: — Сэр, я должен вам сказать, что всегда оставался матросом Королевского флота. Камбуз и гальюны меня не пугают. Я благодарю вас за такое ко мне внимание. На третий день после прибытия на “Отранто” капитан миноносца получил приказ: при первой возможности отправить лейтенанта Фелимора во Владивосток. Возможность представилась к исходу дня: транспорт из Манилы, и Фелимор отбыл, пожав руку Гарри и дав ему совет не ссориться с боцманом. Смит остался совсем один. То в течение дня он хоть раз—другой видел лейтенанта и перекидывался с ним несколькими фразами, знал, что Фелимор всей душой сочувствует ему и уже вел разговор о нем со старшим офицером, правда безрезультатно: старший офицер не хотел подрывать авторитет боцмана, да ему самому не нравились ни новый матрос, ни лейтенант, хлопотавший за него. Очень скоро Смит пришел к выводу, что как бы тяжело ему ни было, нет смысла падать духом. И, вынося помои с камбуза или выполняя другую “грязную” работу, неизменно насвистывал самым беззаботным образом. Как-то один из матросов, желая угодить боцману, обозвал его “вечным гальюнщиком”, и тут же получил с правой, чуть пониже глаза, где моментально всплыл великолепный фиолетовый фонарь. Больше никто не решался его задевать. И если бы сам Гарри не проникся полным презрением к матросам миноносца, то смог бы подметить и сочувственные взгляды, и даже попытки сойтись покороче. Гарри гордо отверг все эти “подвохи”, полагая, что все это делается, чтобы посмеяться над ним, а он не любил, когда над ним смеются люди, не имеющие на то никакого права. Смеяться над собой он позволял только друзьям, да и то не особенно часто. Чтобы еще больше унизить Гарри Смита и сломить его, боцман приказал перейти ему в кубрик к кочегарам. Тотчас же “услужливые” парни выбросили вещи Гарри из матросского кубрика на палубу. С этой минуты между ним и палубной командой порывались все официальные и неофициальные связи, он становился одним из “духов”, то есть существом низшим в глазах “настоящего” матроса. “Духи” вначале отнеслись к нему не особенно тепло, хотя о нем уже шла слава как о человеке, который объявил войну самому Рыжему Джиму — событие небывалое не только для “Отранто”, но и для всего Королевского флота, где боцман на иерархической лестнице занимает очень высокое место: чуть пониже короля и господа бога, по крайней мере для всего рядового состава. Если “Орион” являлся частицей России, то и “Отранто” с полным правом можно было назвать миниатюрной копией Соединенного Королевства. Здесь еще жестче чувствовались классовые и кастовые разграничения. Каждая из служб на корабле имела свои преимущества, явные или кажущиеся, над другими службами, что вызывало зависть и недоброжелательство и в то же время стремление замкнуться в кастовом кружке, сохранить и укрепить преимущества образцовым выполнением своих обязанностей. Комендоры считали себя выше всех на корабле потому, что они главная его сила и все остальные работают на них. Но и дальномерщики также не желали отдать пальму первенства: кто находит противника и дает данные для стрельбы? Находились точно такие же убедительные доказательства у сигнальщиков, радистов, минеров, электриков и, конечно, у рулевых. И все они, представители верхней палубы, считали себя неизмеримо выше “духов”. Глухая вражда между палубной командой и машинной зародилась со дня появления первого парохода. Моряки с парусников возненавидели “отступников”, заменивших благородные паруса вонючей машиной. И хотя теперешние матросы в большинстве своем никогда не плавали на парусниках, им по наследству передавалась неприязнь к машинной команде. Таким образом, была отдана дань традиции, имеющей такую непоборимую силу во всех сферах английской жизни. Так с помощью древнейшего принципа “разделяй и властвуй”, заимствованного у древних римлян, на Королевском флоте поддерживался необходимый порядок и сохранялась высокая боеспособность. “Отранто” описывал сложные кривые, стараясь не потерять из виду русский “красный” парусник. Гарри, улучив минуту, подолгу смотрел на его белоснежные паруса, вспоминал своих приятелей и невольно улыбался. Это заметили и донесли боцману. Рыжий Джим застал Гарри, когда он стоял за шлюпкой и махал рукой в надежде, что хоть кто-нибудь его заметит на “Орионе”. — Ты что это за сигналы подаешь большевикам? — Просто помахал рукой. — Слышите? — обратился боцман к матросам. — Этот тип просто машет рукой, когда ясно, что он семафорит. Ну, что ты передал им? — Ничего не передавал. Я не знаю их языка, чтобы хоть что-то передать. Просто помахал им рукой. — Расскажи кому другому. Ты разве не знаешь, что запрещено всякое общение с большевиками? С ними можно разговаривать только голосом пушек! Рыжий Джим сморщился, что, как известно, заменяло ему улыбку. Собственно, он, боцман, сейчас ничего против Смита не имел. Сегодня было получено подтверждение, что он, Гарри Смит, действительно числится в списках старших матросов погибшего миноносца. Смиту следует вернуть его права и снова водворить в матросский кубрик. Все же неплохо будет, если перед этим он пройдет окончательную шлифовку в карцере. — Так вот, Гарри Смит, чтобы ты не забывал, где находишься, отсидишь двое суток в “отеле”. Понял? — Да, сэр. Благодарю. — Так тебе нравится жить в “отеле”? Могу продлить еще на сутки. Отдохни после работы у русских. Да и гальюны ты драил отлично. Отведите его, ребята, и устройте с полным комфортом. В железной каморке, куда втиснули Гарри Смита, нельзя было ходить, а только стоять или сидеть, скорчившись на полу. Зато в ней имелся иллюминатор, хотя и высоко, да Гарри легко подтягивался на руках и висел, глядя на море, пока не деревенели пальцы. Два дня миноносец шел малым ходом, затем выключил машины, загрохотала якорная цепь, и Гарри увидел из своей тюрьмы зеленые склоны, длинную низкую казарму на них, японский пароход у причала и, повернув голову, вскрикнул от радости: на голубой глади бухты стоял “Орион”. Матрос, чем-то напоминавший Гарри его погибшего друга Арта, принес галеты, кружку воды и, прислушавшись, не идет ли кто, вытащил из кармана сверток. — Здесь мясо, только тихо! Бумагу отдай мне. Матрос остался, наблюдая, как Гарри ест. — Ну и рыжий у нас! — сказал матрос. — Сколько он нам крови испортил! Я зимой тоже здесь сидел. Думал, концы отдам. Сейчас хоть тепло. — У русских так не издеваются, — произнес Гарри с полным ртом. — У них нет боцманов? — Как — нету? Есть. Да больше на людей похожи, а такие, как этот орангутанг, хвост поджимают. — Мне надо идти. Часового у тебя сегодня нет, просто закрываешься на замок. Если захочешь в гальюн, стучи. — Я не прочь пройтись. — Доедай мясо!.. Меня Томасом звать… Том Форд. — Как приятно познакомиться с автомобильным королем! — Меня так и зовут ребята. Народ у нас в большинстве хороший. Да сам знаешь, боятся проштрафиться. — Ну уж нет. Это не оправдание. Так подло вести себя… Первый раз встречаю… — Какая там подлость, Гарри! Тебя ведь тоже не сразу раскусишь. Вытри рот, и пошли. “Ну прямо Арт, — печально подумал Гарри, — особенно когда улыбается”. С палубы Гарри оглядел бухту, закрытую довольно высокими скалистыми горами. С “Ориона” спустили шлюпку. Видимо, кто-то из офицеров съезжал на берег. — Ну, идем, — Том толкнул в бок, — как бы не влетело и тебе и мне! В сумерки Том принес ужин: те же галеты, воду и от себя плитку шоколада и главное — последние новости. — Дела идут отлично, Гарри! — весело заявил Том. — Оказывается, уже два дня, как пришло подтверждение, что ты старший матрос с “Грейтхаунда”. Кочегары уже выкинули твои пожитки, а я перенес их к себе в кубрик. Будешь спать надо мной. Ты рад, надеюсь? — Не особенно. Я ведь знал, что рано или поздно утрут нос вашему рыжему боси. Ты скажи лучше, не видал ли кого из русских? — Как же! Как раз хотел рассказать тебе о нашей встрече. Действительно, народ ничего. Один из них прямо мне понравился, подарил мне пачку табаку, такого крепкого, что глаза лезут на лоб. Как-то странно называется этот табак. — Махра! — Вот-вот! Приятные парни эти русские, да жаль, скоро пришлось отваливать. Их старший офицер был у начальника порта, да что-то быстро вернулся. Твое имя они называли и еще что-то говорили, судя по лицам — отзывались о тебе неплохо. — Ну, может быть, и не обо мне шел разговор, — заметил Гарри. — Главное, что вы кое в чем убедились. — Конечно! Я теперь тоже сомневаюсь, что это корабль пиратов, как зовет его боси. Тут у нас ходят слухи, что там, наверху, — Том поднял глаза к потолку из клепаных листов стали, — недовольны свержением с престола родственника нашего Жоржа: ведь Георг Пятый то ли брат, то ли дядя русского царя. Поэтому нам приказано преследовать и уничтожать при каждом удобном случае красных… Кто-то идет?.. — Не к нам. Ты что еще хотел мне сказать? Давай живей! — Русским на паруснике грозят большие неприятности. Стюард в кают-комнанни слышал, как сегодня за обедом говорили о следственной комиссии, которая скоро прибудет сюда. Русским запрещено сходить на берег… — Почему? Ты ведь с ними там встречался? — Ослушались приказа. Сейчас они грузят уголь, хотя боси сказал, что он им не понадобится. Вот, Гарри, какие дела. Прощай! Завтра ты уже оставишь этот железный ящик. Ну, что хмуришься? Ешь шоколад!“ОГОНЬ ОТКРЫВАЕМ МЫ!”
В большом матросском кубрике собрались почти все матросы, кочегары, машинисты, унтер-офицеры, только вахтенные находились на верхней палубе, и то у трапов, прислушиваясь к голосам внизу. Собрание вели большевики. Громов, Трушин, Зуйков, Гусятников, раненый матрос с мыса Чуркина стояли у стенки под иконой Николая-угодника. Остальные плотно друг к другу сидели на полу, жались у трапов и бортовых стенок. В душной тишине глухо раздавался голос Громова: — Видите, товарищи, что нас ждет. В лучшем случае снимут морскую робу и пошлют в пехоту, воевать против своих… Тише, товарищи! Кто хочет, еще выскажется, а сейчас пусть скажет слово товарищ, который знает обстановку лучше нас, и вот тогда поговорим и примем наше решение, потому что идти, как бараны, на убой за чужие интересы, да еще против своих братьев, думаю, охотников мало найдется. Давай, Илья! В это время в открытые иллюминаторы с берега долетел звук горна. Раненый матрос повел головой: — Слышите? Японцы дудят! Вечерняя поверка. Видали, остров они заняли. То же и там, на материке. Вся железная дорога, города у них пока, у японцев, американцев, французов, и кого только нет у нас там1 Прямо скажу — положение не из легких. Раздался голос: — Чего же щеришься? Что веселого-то? — А то, что унывать мы не привыкли. То, что они, гады, захватили нашу землю, ненадолго. Вокруг них и под ними земля начинает гореть! Вот что, кореш! И то, что мы не одни! Нами Ленин руководит, вот что, товарищи! — Он повысил голос, и его широкоскулое лицо стало суровым. — То, что весь народ поднимается на борьбу за свою народную власть, против поработителей всяких, вот что, дорогой товарищ! Мы не сидим здесь сложа руки! Не думайте, товарищи! Для вашего сведения, в Забайкалье сражается партизанская армия под командованием большевика Сергея Лазо! В Приморье боевой отряд, в нем больше тысячи человек, отряд товарища Бородавкина. И могу назвать еще десятка два партизанских отрядов, всех не запомнишь, да и сведения доходят медленно, а их уже многие сотни по всему краю и Сибири! Вот ты, товарищ, не знаю, как тебя… — Ну Брюшков, а что? — С ухмылкой слушаешь да шепоток в ухо пущаешь соседу. — Нельзя, что ли? Мало ли ты что скажешь, а чем докажешь? Станем мы на вашу сторону, а нас и пощелкают, как воробьев на гумне. То-то же. Слыхали мы это! После слов Брюшкова по кубрику пошел гул. — И мы слыхали, — сказал раненый матрос и вытащил из кармана свернутую в несколько раз газету. — Закурить, что ли, хошь? — спросил Брюшков. — Опосля и закурим, а сейчас вот послушаем, что пишут о партизанах беляки, они-то уж знают, есть ли партизаны или я набрехал тут. Вот слушайте! Газета называется “Свободный край”, у них тоже свое понятие о свободе. Все читать не буду, кто хочет, после прочтет. Только немного по существу вопроса. “Дальний Восток, — пишут беляки, — представляет собой ярко пламенеющий костер большевизма, который ничуть не склонен потухать, но, наоборот, ежеминутно грозит перекинуть пламя в соседние местности. И это несмотря на то, что здесь-то всего более сосредоточено той иностранной силы, на которой мы строим все наши расчеты как на силе реальной в борьбе с большевизмом…” И вот немножко дальше: “Весь Дальний Восток сейчас должен рассматриваться как театр военных действий”. Вот оно как. товарищ Брюшков!.. Да куда же ты собрался? Сейчас резолюцию будем выносить! И вы, товарищи? Брюшков, Грызлов, Бревешкнн и еще человек тридцать стали поспешно выходить из кубрика. — И отлично! — сказал Громов, когда они ушли. — Без них воздух будет чище. Это, товарищ Илья, монархисты в большинстве, а за ними потянулись выжидающие из зажиточных мужичков, а также эсеры. — Ах, контра? — Не все, да не успели, не смогли всем разъяснить. — Жизнь разъяснит. Теперь, товарищи, надо решать, и немедленно, как выбираться из петли, в которую вас загоняют интервенты и беляки, пока есть хоть малая щелка. Тут недалеко материк, тайга, там наши!.. Председатель следственной комиссии капитан Нортон попросил командира катера обойти вокруг клипера. Высокий тощий английский моряк с трубкой в зубах рассматривал такелаж и корпус корабля. Остальные члены комиссии тоже вышли на узкую палубу. Среди них были вице-адмирал Лебединский-Свекор, капитан первого ранга Струков, майор Нобль, барон фон Гиллер и еще несколько человек в военном и штатском из белогвардейской контрразведки. Вице-адмирал сказал капитану Струкову: — Выглядит клипер как будто удовлетворительно. — Отлично! Возможно, все не так серьезно, как нам доложили. — Очень серьезно! Вы бы поговорили с Никитиным! Как он мне отвечал! Все старался скрыть! Нет, Федор Павлович, не поддавайтесь первому впечатлению. Вам как боевому командиру прежде всего подай внешний вид, только иногда за этим бравым видом такое скрывается!.. Поверьте моему опыту. Из уважения к представителям “Союзного штаба” говорили только по-английски. Капитан Нортон буркнул, не вынимая трубки изо рта: — Парочка повешенных на рее только украсит этот хорошо выправленный такелаж. — Боюсь, что парочкой не удастся обойтись, — сказал Гиллер. Нортон повернул к нему голову: — Не тревожьтесь, барон, мы будем справедливы. Стива Бобрин, как только заметил на палубе катера начальство, сразу догадался, кто пожаловал, и замахал рукой. Нобль спросил: — Кто это так непосредственно выражает восторг по поводу нашего прибытия? Барон ответил: — Единственный человек, заслуживающий доверия. Его показания будут иметь огромную ценность. Вице-адмирал радостно воскликнул: — Лейтенант Бобрин! Да-а, отличный молодой моряк. Редкий, можно сказать, в наше тяжелое время. — Вызвать завтра в восемь! — приказал капитан Нортон. Катер, обойдя “Орион”, направился к миноносцу. “Отранто” стоял в полумиле от клипера, ближе к выходу из бухты. Старший офицер сидел в кресле у круглого стола из красного дерева, и, хотя за бортом было еще светло, яркая лампа освещала карту, развернутую на полированной столешнице. Командир стоял и, прищурясь, рассматривал побережье Японского моря от мыса Поворотного до Императорской гавани. — Да, положение! — сказал командир. — Точь-в-точь как в Плимуте. — Не совсем. Я бы сказал — почти. Здесь обстановка намного сложней. Я бы сказал — гибельней. — Ну уж, Николай Павлович, вы сгущаете краски! Да, обстановочка не из простых, но у меня остается еще надежда… — Слабая, Воин Андреевич. Не будем себя обманывать. Нам следует быть готовыми ко всему и принять безотлагательные контрмеры немедленно! Завтра уже будет поздно. — Да, но что?.. Какие меры? — Частично вы их уже приняли. Вот карта на вашем столе. Вы погрузили уголь… Воин Андреевич прошелся до двери, вернулся к столу: — Действительно, вы же знаете, я давно думаю о возможности выбора. И выбор только один, почти как в Плимуте. Но там никто не подозревал, что мы решимся на такой шаг, привыкли к русской покорности, они даже в душе не верили в серьезность революции у нас, все экспедицонные корпуса снаряжались главным образом чтобы “застолбить” золотоносные, нефтеносные, лесные и прочие участки и как устрашение для соперников. Думали, что воспользуются нашей слабостью… Там нас не сторожили, не обвиняли. Теперь этот “Отрантишка” — словно пес у ворот… Пока нам повезло только с углем. Какой подлец этот начальник порта! Взял двести фунтов стерлингов. Говорит, что “вам все равно, деньги не ваши, а мне — сами понимаете: жалованье не платят уже полгода. Надо как-то жить, две дочери, сын…” И, по существу, он прав. Да! Еще говорит, что все тащат, разворовывают Дальний Восток. Японцы почти очистили остров. Вывезли все, включая адмиралтейский якорь, лежавший здесь со времен Невельского, запасы фуража и всех лошадей в придачу. Что делается, Коля! — Надо действовать решительно, не теряя ни минуты. За бортом послышался шум парового катера; он прошел невдалеке, вода в графине качнулась несколько раз и замерла. Оба настороженно прислушались. Когда шум винта затих, командир взволнованно продолжал: — Вы забыли, Николай Павлович, что не только мы с вами на клипере. А матросы? Как они отнесутся к новым тяготам, риску и, что скрывать, возможно, верной гибели? — О гибели говорить еще рано. Матросов я беру на себя… За дверью раздался характерный стук — ленивый, небрежный. — Герман Иванович! — обрадовался командир, как будто тот должен был принести неожиданные новости, которые снимут с него непосильный груз. Радист вошел, как всегда с печальной саркастической улыбкой, и остановился посредине салона, спрятав руки за спину. Без вводных слов он стал передавать содержание телеграммы: — “Отранто” приказано повысить наблюдение за “Орионом”. Категорически запретить общение с берегом. Капитан получил нагоняи за то, что дозволил нам отбункероваться. Прибыла следственная комиссия. Только что. На катере. В числе инквизиторов наш барон Гиллер в новенькой английской форме. В телеграммах его называют экспертом по русским вопросам. Все! — И добавил от себя: — Положение гадкое. Хуже трудно представить. Командир и его помощник молчали. Несмотря на все, в них еще тлела какая-то смутная надежда, что “все обойдется”: комиссия не приедет, вице-адмирал сменит гнев на милость, новые, более важные дела заставят англичан оставить клипер, да и мало ли что могло случиться в это смутное время. Но ничего отрадного не произошло. Петля сжималась все туже. При полном молчании появился лейтенант Бобрин. — Прошу извинить, я, кажется, помешал, на мой стук никто не ответил. Ваше высокоблагородие, господин капитан второго ранга… Командир болезненно поморщился: — Ну что вы, Степан Сергеевич, все “благородите” меня! Был давно приказ перейти на новую форму обращения. Ну, что там у вас случилось? — На мой взгляд, у нас происходят события недопустимого характера. — Ну, что там еще? — Сейчас в матросском кубрике происходит сходка. Я слышал сам, как беглый матрос или, вернее, субъект в матросской форме призывал захватить шлюпки и бежать на материк к партизанам. Его следует немедленно арестовать и выдать властям! — Николай Павлович, выясните, что за сходка! Я же приказал — никаких сходок. У вас, Бобрин, есть еще и приятные новости? Стива погасил улыбку на своем сияющем лице. — Прибыла следственная комиссия, и среди них вице-адмирал. Последнее обстоятельство дает право надеяться, что с нас снимут многие обвинения. — Стива не выдержал и опять улыбнулся. На нем безукоризненно сидела новая форма, сияли золотом новенькие погоны. И сам он был новый, ликующий, уверенный, что все эти люди, еще так недавно стоявшие над ним или считавшие себя равными ему, как, например, кондуктор Лебедь, сейчас опускаются все ниже и скоро будут повергнуты в прах не без его участия. Теория “случая” торжествовала. Он как бы снисходительно вскинул руку к околышу фуражки, тоже новенькой, с козырьком чуть иной формы, чем положено, повернулся кругом, и чувствовалось, что все это он делает исключительно по своему собственному желанию, а не потому, что так положено по уставу. Все трое молча проводили его взглядом. — Нельзя допустить, чтобы команда предпринимала что-либо раньше времени. Пожалуйста, Николай Павлович, Герман Иванович, идите к ним, — сказал Воин Андреевич. Командир позвал вестового и, когда Феклин появился в дверях, приказал немедленно вызвать к нему артиллерийского офицера и старшего механика. В матросском кубрике, у трапа, все это время стоял отец Исидор, потупясь и вникая в каждое слово, наблюдая из-под кустистых бровей за своей паствой, явно готовой к бунту. И хотя его пастырский долг обязывал тушить искры неповиновения, не давая им разгореться пламенем, призвать к смирению, заставить положиться на волю божию, без которой, как известно, не упадет и волос с головы человека, иеромонах молчал, так как его мятущаяся душа была с этими людьми, ищущими правды и готовыми за нее умереть. Когда товарищ Илья умолк, отец Исидор сказал рокочущим басом: — Много морей мы прошли, много перенесли бурь и прочих испытаний силы нашего духа, и все это время шел спор и внутри каждого из нас, и между собой, на чью сторону стать в смуте великой, что идет на многострадальной Руси нашей. И я думал и вникал и вот сейчас решил, товарищи матросы, снять свои сан и ити с вами до последнего своего часа, так как вижу, что справедливость на вашей стороне. Отец Исидор сбросил рясу, под которой оказалась полная матросская форма. Все вскочили, и в кубрике раздался оглушительный рев ста матросских “луженых” глоток, выражающих своп восторг и одобрение… Наступили минуты, когда нельзя уже было отмалчиваться, скрывать свои мысли, выжидать, а надо было сказать свое слово, на чьей ты стороне, с кем! Пусть даже тебя еще грызет червь сомнений, останавливает страх, все равно надо было стать по одну из сторон черты, которая наконец ясно проступила на клипере, и люди делали этот шаг. Командир знал убеждения старшего механика, приверженца монархических порядков, и, чтобы не вызывать с его стороны ненужных разговоров, просто приказал ему через полчаса приготовить машину. Стармех обрадовался: — Так, значит, идем во Владивосток? Командир, ничего не ответив, отпустил его кивком. С Новиковым было сложнее. Артиллерист пришел к нему одновременно со старшим механиком и, услышав приказ “приготовить машину”, все понял. — Ну, Юрий Степанович, вы знаете, зачем я вас вызвал? — Да. Знаю… Командир выжидающе молчал. — Знаю и готов предложить три варианта, с помощью которых мы можем выйти из бухты. Командир перевел дух: — Я слушаю. — Снарядить взрывчаткой брандер и подорвать миноносец. — Так… Второй? — Таран! — Третий? — Обстрелять его танки с нефтью. Поджечь! — Таранить рискованно. У нас маломощная машина, и мы можем в нем завязнуть. Были подобные случаи. Брандер соблазнителен, да придется жертвовать жизнью людей. Отпадает и этот вариант. Третий принимаю как единственно возможный, хотя и не сторонник таких методов, но выбора у нас нет. Готовьте расчеты и ваши орудия! — Есть! — Постойте, Юрий Степанович, голубчик, мамочка моя! Новиков не мог сдержать улыбку — никогда еще он не удостаивался таких знаков расположения. — Будете стрелять только по танкам с нефтью и по машине. — Есть! — Идите, голубчик… Феклин! Феклин! Вестовой влетел в каюту и остановился, тяжело переводя дух. — Фуражку! Идем живо!.. Поспевая за командиром, Феклин не удержался, чтобы не сообщить новость, по мнению вестового заслоняющую собой все последние события: — И знаете еще, Воин Андреевич, что наш отец Сидор сана себя лишил? — Что за чепуха! Оставь, тут и без сана… — Да нет, правда, рясу скинул, а под ей вместо его кальсонов в полоску — клёш, и фланелька, и тельняшка… — Ладно, ладно, потом, — отмахнулся Воин Андреевич, взбегая на мостик. Его встретил старший офицер и сказал по-английски: — Они догадались или просто предосторожность, но держат нас под прицелом. Завтра приходят сюда еще два эсминца. Приказано нас всех снять с клипера, взять под стражу, начать немедленно следствие и закончить в два дня, включая суд. — Спешат! И нам нельзя терять ни секунды. Сейчас уходим. У нас есть единственный шанс вырваться отсюда. — Да, один из тысячи! Если мы первыми откроем огонь… — Это мы и сделаем, Коля! С богом! — Идите вниз! По местам! Боевая тревога! В рынду не бить! И хотя все уже стояли у своих мачт, у пушек, у брашпиля, у котлов, у машины, команду подхватили боцманы и унтер-офицеры, передавая ее непривычно тихо. “Орион” бесшумно двинулся к выходу из бухты. Его маневр заметили вахтенные на палубе миноносца. Прошла минута, пока доложили капитану Коулу и тот поднялся на мостик. Комендоры на миноносце приникли к прицелам и, как было приказано, целились по мачтам. На миноносце ослепительно вспыхнул прожектор, и его луч стал ощупывать палубу “Ориона”. Клипер казался беззащитным существом, идущим на верную гибель. Сейчас раздастся залп из всех пушек миноносца, и полетят за борт его стройные мачты. Капитан Коул детально рассчитал со своим старшим артиллеристом, как все это произойдет в случае, если командир парусника, охваченный приступом безумия, попытается снова бежать. Теперь капитан Коул ждал, пока поднимется на мостик “высокая комиссия”: ему бы никогда не простили, если бы он лишил ее такого зрелища. Не беда, если русские выйдут из бухты, тем больше оснований будет расправиться с ними в открытом море, и притом гораздо эффектней. Он только приказал просигналить: “Остановитесь, иначе — смерть”. На мостик миноносца один за другим стали подниматься члены следственной комиссии. — Мне их искренне жаль, — сказал капитан первого ранга Струков. — Между прочим, я этого ожидал, — проговорил вице-адмирал Лебединский-Свекор и обратился к Струкову по-русски: — Какой ужасный пример, Павел Федорович! Но Коул их проучит! — Последнюю фразу он произнес по-английски. Капитан Нортон презрительно улыбнулся. Майор Нобль воскликнул: — Они молодцы! — и спросил Гиллера: — Вы несколько разочарованы, барон? Сожалеете, что никого нельзя будет повесить? — На этот счет я не беспокоюсь, русские живучий народ. Вместо пушек я предпочел бы торпеду. — С такого расстояния? По кораблю, начиненному тротилом? — Ну нет. Не здесь… Прочитав предупреждение капитана Коула, лейтенант Бобрин бросился к мостику. У трапа его остановили два матроса с винтовками: — Приказано не пускать! — У меня срочное… важное сообщение… — сказал он, задыхаясь. С мостика донесся непривычно жесткий голос командира: — На место, лейтенант! — Что вы делаете! Безумство! Остановитесь! — Арестовать! Вниз!.. Бобрина схватили под руки, и он с ужасом понял, что для него все погибло. Сейчас секунды решали все. Ему не удастся изменить решение командира “погибнуть и погубить всех”. “Но что делать, что? — билось у него в голове. — Какой выход? И есть ли он в таком безнадежном положении?” Надо было уходить, бежать, не дожидаясь этой ночи. Ведь он знал, на что способны эти люди. Бобрин обмяк в матросских руках, и часовые почти выпустили его, подталкивая к трапу, ведущему в жилую палубу. Неожиданно Бобрин рванулся к борту, раздался плеск. Матросы оцепенели: “Как это мы? Не уследили Белобрысенького! Утонет!” Полагалось во всю глотку оповестить: “Человек за бортом!” Однако никто не проронил ни звука: в такую минуту нельзя было отвлекать командование. И они тотчас же забыли о лейтенанте, заняв свое место у трапа и жмурясь от ослепительного луча прожектора, ощупывающего борт, мачты, палубу, ждали, что вот-вот плеснут огнем орудийные жерла миноносца. Лейтенант Бобрин, ликуя, что и на этот раз он не упустил единственный шанс, счастливый случай, плыл к миноносцу. Капитан Нортон покосился на капитана Коула — как тактичный офицер он не считал себя вправе вмешиваться в распоряжения другого офицера — командира корабля, но все же не мог не дать понять, что пора переходить к более решительным мерам. Капитан Коул понял этот взгляд и кивнул артиллеристу, чтобы тот приступал к выполнению намеченного плана “укрощения русского парусника”. Дело это казалось и ка-питану, и старшему артиллеристу настолько простым, с давно решенным исходом, к тому же у них были такие высокие судьи, что им хотелось как можно лучше, по всем правилам провести эту “учебную стрельбу”. Артиллерист чуть помедлил, передавая приказание, офицеры у орудий также сделали небольшую паузу, прежде чем отдать приказания “зарядить”. А в это время клипер подходил, занимая наивыгоднейшее положение для стрельбы из своих двух пушек. Всего на несколько секунд артиллерийский офицер Новиков опередил своего коллегу с “Отранто”. Исполнилась мечта комендора Серегина, наводчика носового орудия: первым “трахнуть” по противнику. И он “трахнул”. Снаряд попал в танк с нефтью. К небу поднялось пламя, гася звезды. Нефть огненным дождем падала на палубу миноносца, разгоняя орудийную прислугу. Следственная комиссия кинулась в рубку, стараясь погасить одежду, стереть с рук и лица горящую нефть. Барон фон Гиллер поскользнулся и упал, барахтаясь на горящем мостике, никто не помог ему встать, в панике офицеры топтали его ногами. Одновременно с носовым орудием “Ориона” открыла огонь и его кормовая пушка, поражая в борт миноносец. Не прошло и минуты, как “Отранто” потерял управление. Обезумевшая команда стала прыгать в воду с правого борта, где не было горящей нефти. Командир клипера приказал прекратить огонь. Путь из бухты к берегу был свободен. Забрезжило утро. “Орион” уходил на север. Дул свежий юго-западный ветер. Командир еще ночью приказал, “не прекращая паров, вступить под паруса”. Вахтенные на марсовых площадках зорче, чем когда-либо, всматривались в серое море, вспыхивающее белыми гребнями на высоких волнах. Слева тянулся гористый берег, поросший густым лесом; до него было около двух миль, у берега кипел прибой, гул волн слышался на палубе, внушая надежду. Вид берега успокаивал, где-то уже недалеко находилась спасительная бухта. На палубе готовились к высадке на берег: из трюмов поднимали тюки с теплой одеждой, ящики и мешки с провизией, оружие. Все шлюпки подготовили к быстрому спуску на воду. Мало кто вздремнул за прошедшую ночь, и все же чувствовалось бодрое, приподнятое настроение. У открытого люка, из которого поднимали лебедкой ящики с консервами, унтер-офицер Бревешкин, явно ища расположения своих вчерашних недругов, говорил, почти не ругаясь: — Кто, братцы, не ошибается? И на старуху бывает проруха. Ведь что нам говорил Белобрысый, царство ему небесное!.. Дескать, пойдем за ним и получим кресты, медали, чины всякие. В офицеры, говорит, всех произведут, а сам, туды его… в адмиралы метил. Я видал, как нашего лейтенанта взяли под арест, а он, туды его… за борт! Во дурак! Я видел, как он поплыл к “Отраде”, а из ее — огненная нефть хлестанула и потекла ему навстречу. — Бревешкнн вздохнул. — Утоп обгорелый. А надо сказать, далеко метил. А с другой стороны, кто знал, что так дело обернется? О себе скажу: как мы обрубили канат да пошли на “Отраду”, у меня дух захватило! Я все смотрел, как там у пушек прислуга ихняя ждала команды, как даже заряжать уже стали, и тут наш артиллерийский офицер стеганул по нефтяному баку. На какой-то секунд опередил! Не боле… Зосима Гусятников перебил Бревешкина: — Ты сегодня по-человечески говорил и даже одну умную мысль высказал — про секунду, от которой наша жизнь зависела. Командир наш на ней, на этой секунде, да на смелости держался в прошлую ночь и ни разу в наше плавание не прозевал эту самую одну-единственную секунду… Отец Исидор в матросской робе один оттаскивал тяжелые ящики к борту, ветер трепал его пастырскую гриву, волосы падали на глаза. Он остановился, тряхнул головой, сказал, будто подумал вслух: — Только ступлю на твердь, тотчас же остригу власа, а бороду оставлю, так как знаю — морозы здесь стоят крепкие. а борода греет, — и снова принялся за работу. Зуйков, Трушин и Брюшков укладывали снаряжение в баркас. Подбежал юнга Лешка Головин. Все трое оставили работу и вопросительно смотрели на него. Лешка весело выпалил: — За нами погоня! Миноносцев пять, а может, и десять! Японских, французских, английских, американских! — Ну что веселого нашел, дурень? — осерчал Зуйков. — Что они тебе, леденцы везут? — Надо мне! Только им нас теперь не догнать. — С двадцатиузловым ходом? — Хоть с тридцати. Они только сейчас вышли. Герман Иванович всю ночь наушники не снимал. “Отрада” молчала. Что-то у ней с радиостанцией стряслось. — Стрясется, если все судно разнесли, — сказал Брюшков, — за это по головке не погладят. — Так мы им и дались, чтобы гладили! Дядя Герман говорит, что японцы своим передали о нас, а пока те раскачались, мы вон где уже! Скоро в бухте будем! Матросы и юнга поглядели на желанный берег, ярко освещенный поднявшимся из моря солнцем. Неожиданно засвистели боцманские дудки, и разнеслась команда: — Мыться, бриться, к построению… форма три! Как в праздники и перед увольнением на берег, команда выстроилась на шканцах. Офицеры также в парадной форме стоят на мостике. Матросы не спускают с них глаз. Уже пронесся неведомо кем пущенный слух, что “все образовалось: получен приказ идти в Петроград”. И как будто действительно “все образовалось” — командир, как обычно улыбаясь, что-то говорит своему помощнику, разве только лицо его чуть бледнее, чем всегда, да знают, сколько он пережил за последние шесть часов. Отданы положенные рапорта. Командир, как всегда, смотрит на свои золотые часы, подходит к перилам и обращается к матросам так, как никогда еще никто не обращался к ним: — Товарищи! Дорогие соратники! Поздравляю вас с первой победой над врагами нашей родины! Прошло несколько томительных секунд, прежде чем строй несколько вразнобой отозвался троекратным “ура”.

Симонов Е. СЕЗОН НЕСОСТОЯВШИХСЯ ВОСХОЖДЕНИИ
Аллах, аллах, взгляни на горы! В самом деле. Их головы от бед и горя поседели. Кезим МечиевРоманов лежал ничком под хлопьями снега, мокрого, как вода, в струях воды, холодной, как снег. Давно уже — так представляется ему — силится он стряхнуть это навалившееся на него бессилие. Но из всех пяти чувств оставлен тебе один слух. “…Так, значит… Джазовый перестук — камнепады. А это наползающее, угрожающе надвигающееся шипение — это уже лавина. И — ветер, не смолкающий на всем божьем свете ветер”. Приходя на миг в себя, начал, как и каждый альпинист, с того, что провел рукой по веревке. Хоть здесь-то порядок! Хоть здесь… Грудная обвязка с узлом проводника на месте. Основная веревка зачалена от тебя на крюк. И крюк забит по головку в гранит Домбая. И их четверо. И заночевали они на полочке, чуть не доходя вершины. Под перемычкой от Буульгенской “пилы” к плечу Восточного Домбая. Это он помнит. Но это же не всё! Это лишь фон. А что же дальше? Да, не дальше, а раньше. Что было? Вот этого-то и не знает. Силится — в который раз! — поймать, сложить, понять, и только зыбкие, только ускользающие, не попадающие в фокус кадры… Вот поползла ужом по стене веревка. Теперь всплеснулась волной. Юра Коротков подает знак. Он выше. У него заело, надо думать, веревку о выступ. И еще — дымки дыханий в морозном небе утра. Три дымка трех его партнеров по восхождению. Ниже — каждое отдельным столбиком. Выше — одним. Самих не видать. Дыхание видать. Стена разбросала их поврозь. Дыхание общее. Да не в этом же дело, товарищи дорогие! Совсем нет! В том, чт случилось с ними, дело. Вот в чем… И вновь подхватывают Бориса ощущения непонятной ночи. Подхватывает и тащит сквозь мрак, сквозь грохот движение, в котором сдвинулись с места и камни и горы. Впрочем, какое же это, к чертям, движение, если лично он не в силах приподнять хотя бы голову? — Есть еще кто у нас? — Фу! Наконец-то смог овладеть собой. Но каждое слово врезается в грудь словно иглой. — В самом деле. Что же все-таки было? — Еще один голос. Юры Короткова. Капитана их альпинистской команды на данное восхождение. Еще один, значит, тоже здесь. В агрегатном, так сказать, состоянии. А Ворожищев? И Кулинич? Улавливал же Борис шевеление с того края спальной полки, где они? — Алло! Володяй! Юрик! Как вы там? — Ни-че-го! А что же это было? Нечего ответить тебе, капитан. Лежу и думаю. Думаю и лежу. Вот и все! И не впервой ведь мастеру спорта Романову вершины делать. Это для заезжего курортника все они на одно лицо. Для того, кто восходит на них, у каждой и лицо свое, и характер персональный. Как у любого, кто испил хоть раз пресноватой воды ледников, жизнь Бориса Романова текла по двум руслам. Одно — это Москва, клятва Гиппократа, стерильные перчатки медика, вновь нарождающаяся дисциплина радиационной, космической медицины. Другое — всклокоченная грива горных рек, блистающий мир вершин. И пусть их резкий, грубый их голос ни в чем не схож со сладкогласным пением сирен, — он сильнее. Да и наши одиссеи в заскорузлых штормовках не залепляют воском ушей. Отвечают на зов. Уходят к вершинам. Как и все, с “единицы-бе”, элементарной Софруджу, на которую косяками водят новичков, сотен по шесть за сезон, начинал и Борис. Иные под завязку сыты альпинизмом с первого восхождения. Для других оно лишь первый шажок. Так и Романов двинул вдаль да ввысь по вершинам: от цейского пика Николаева (4100) к семитысячным пикам Ленина, Коммунизма, Хан-Тенгри (6995). А после вопим паши парни с аксельбантом капроновой веревки на плече повстречались и с зарубежными вершинами: от Тирольских Альп до Килиманджаро, Гималаев, Новой Зеландии, Кордильер. Лично он, Романов, наносит протокольный визит вежливости “Белой горе” — Монблану, делает шестерочные[248] стенные маршруты на Эгюи-де-Миди, иглу Эм. Это уже отвесы, сплошное лазанье, крючьевая работа, даже ногу некуда примостить, только на подвешенные твоей рукой стремена. Словом, не впервой в горах. Тем непостижимее “это”…
*
Случилось “это” в Домбае. Где голубизна снежников врезана в эмаль неба, чистого, как глаза ребенка. Где нефритглетчеров оправлен пестроцветием альпийских маков, крокусов, рододендронов: лед и цветы рядом. Создатели школы сравнительной оценки ландшафтов англичане[249] не поскупились бы на самые высокие баллы Домбаю. Отдавали же ему предпочтение перед своими Альпами либо Тиролем сами же иностранцы Фишер, Рипли, Даншит. Для советского альпинизма Домбай открывает лет с полета назад молодой алгебраист Борис Николаевич Делоне.[250] Но дальше не свелось к повторению пройденного. Когда были сделаны все подсказанные логикой, наименее рискованные пути к вершинам (по гребням), новые поколения избирают иные варианты: лет двадцать назад такие не мыслились хотя бы как “проблемные”, “гипотетические”. (“Кой черт по этим стенам полезет! Ведь это же отвесы!”) Летопись отечественных путей сообщения донесла рассказ, как кинутая на карту августейшей дланью линейка соединила по идеально прямой Москву с Санкт-Петербургом. В горах подобная прямая в пространстве, от подножия до вершины, никогда не будет кратчайшим путем во времени, не говоря уж о той угрозе, что нависает на каждом сантиметре отвеса. Но так утверждало себя новое качество, класс “стенных восхождений” по прямой, по любой круче. “А здравый смысл? — возразят непреклонные рационалисты. — Ради чего усложнять жизнь? Уверены, что никому и никогда не понадобится умение лазать по каким-то стенам, равно и — как их там — скалолазы! А в номенклатуре “нормальных” человеческих профессий имеются и верхолазы, и такелажники, наконец, пожарные с выдвижными лестницами. А ваших — хе-хе! — “скалозубов” держите при себе. Для настоящего дела они никогда не потребуются. Вещь в себе. Спорт для самих себя”. “А что, уважаемые оппоненты, если они понадобились, и очень даже скоро? Спрос на стенолазов давно уже превышает возможности “поставки” их секциями альпинизма”. “Так это вы о спорте, а мы же о деле”. “Вот именно о деле, как вы изволили выразиться. Такие вот стенолазы приходят недавно на выручку блокированного обвалами рудника Осетии. Перед рудоуправлением дилемма: неделями пробивать обходную трассу в горах либо обезопасить гору, которая рушится на дорогу, а рудник работает, помимо всего прочего, на экспорт. Выручила тройка скалолазов. А прорыв ледника Медвежьего либо разлив Заревшана? Или вызов — “молиня” этакой скорой альпинистской помощи на отвесы будущих створов Токтогульскоп II Нурекской ГЭС, этих исполинов нашей энергетики? Да многое, вплоть до Красной площади либо одного из переулков у Никитских ворот”. “Тоже мне горные хребты! Москва-то при чем?” “Очень даже при чем… На главной площади страны в канун Первомая никто, кроме альпинистов, не взялся сменить за несколько оставшихся часов оформление на мачтах над ГУМом. В Никитском переулке “зашившийся диссертант” вместе с ключом захлопнул в квартире и свою докторскую работу. Выручил опять-таки чемпион по скалолазанию: взобрался по фасаду в окно пятого этажа”. Одну из таких (не городских, конечно) стен и заявила на сезон шестьдесят третьего года команда “Труда” (Юрий Коротков, Борис Романов, Владимир Ворожищев, Юрий Кулинич). Массив Большого Домбан-Ульгена бросается в глаза еще с развилки Клухорского перевала, подобно баскетболисту сборной нации в кучке болельщиков. Народ отметил это в имени вершины. Для карачаев она была таким же хозяином хребтов, как “домман” — зубр в лесах. Вспомните, как наблюдательнейший Гумбольдт, вслушиваясь в болтовню попугая, настораживается. Улавливает реликты уже не существующего в жизни, уже умершего, вернее, убитого языка. Его знает этот попка и никто больше на свете. Даже историки или филологи. На нем изъяснялось поголовно вырезанное испанскими идальго индейское племя. Так и название “Домбай-Ульген” (“Зубра убили”) звучало для нас эхом начисто сведенного поголовья зубров (ныне восстановленного). Сезон восхождений обещал быть в том году насыщенным. Николай Михайлович Семенов с ущельского КСП[251] напоминал инспектора ОРУД ГАИ в часы “пик”. Пусть посмеиваются: “Хочешь перезимовать летом — займись альпинизмом”, на турбазах, в альплагерях, мотелях на каждое койко-место приходилось по три соискателя и больше. Все потому, что высота у нас в почете. И ни социологи, ни даже психиатры не в силах вывести закономерность, по которой все больше граждан, которым их достаток вполне позволял бы нежиться на пляжах Пицунды, с постоянством птиц, возвращающихся с юга в Заполярье, едут из года в год в горы, и только в горы. Едут, дабы мокнуть, мерзнуть, ходить немытыми, рисковать и возвращаться абсолютно удовлетворенными всем этим. Среди таких была и четверка Коротко”, Она долго готовилась. Подбиралась. Притесывалась один к другому. Сила мышц, сила одиночки еще не всё для альпинизма. В нем не получится давать все пасы на лидера. А ему только и дел — забивать в “девятку”. В матчах с вершинами не обойтись без того, что для оркестра назовут сыгранностью, в экипаже космонавтов — психической и физической совместимостью. В альпинизме — это схоженность. Когда капроновая нить сечением в девять миллиметров обращается в живой нерв и по нему перетекает от одного к другому уверенность в превосходстве человека над слепой материей. Оставаясь самим собой, каждый отдельно взятый человек обретает в команде ансамблевую сыгранность. Не только общности движений, но и мышления. И это там, где ситуации сменяются в темпе сверкающих молний. Так и возникает команда. Итак, их четверо… Борис Романов, самый зрелый и сильный в четверке. Высок, строен, гибок, подчеркнуто прям. Ежик блондинистых волос над стального оттенка очами, которые словно зашторенное окно для стороннего. Властен, самолюбив, честолюбив. Когда нужно, не только сожмет зубы, но и весь в себя уйдет, — пойди пойми, что у него на душе. Юрий Коротков. Из тех мальчиков, завидев которых девчата почти непроизвольно взбивают прически, искоса мечут взоры на смуглого, весьма приглядного Юрочку. Ничего не скажешь: хорош! Единственный технарь в команде трех медиков. Инженер по самолетостроению. Реактивный, моторный, взрывной, не любящий канителиться. Владимир Ворожищев. По первому взгляду флегма. Но это от нелюбви мельтешиться, от рассудительности и надежности. Невысокий, кряжистый, из тех, на кого можно положиться в любой неожиданности, из которых и сложится восхождение. План. График. Раскладка. Это для себя, для начальства, не для вершин. Но это начало помогает осилить их, хотя они и будут пытаться вносить свои поправки. И — Юрий Кулинич. Темноголовый, лобастый крепыш. Никогда не повысит голоса. Тих, может показаться нерешительным. Но это только по видимости, вообще-то сама надежность. Конечно же, у каждого из сборной четверки “Труда” есть что-то и кроме восхождений. Ворожищев конструирует первую искусственную почку, Кулинич врачует малышей, Романов защищается на кандидата, Коротков инженерит в конструкторском бюро. …И они сошли с последней травки Чучхурского ущелья и подошли вплотную к стене, которую задумал одолеть человек. Тяжкая сила камня берет здесь верх над всем: нежностью лугов, взбитой пеной облаков, живым дыханием земли… Пепельные граниты. Кровавые граниты. Пробегающие по их телу этакой ящеркой которая то уныряет внутрь, то снова выскочит наружу, зеленоватые сланцы. И все это здорово-таки тронуто временем, ветром, сменой жара и холода. Здорово-таки разрушено. Захватов, значит, будет навалом, скалолаз! Но и “живых” каменюг с избытком. Они глядят на дальние склоны. “Камнепад”, — бросает Ворожищев. Остальные понимающе кивают. Хотя камнепада, между прочим, не видно. Но белые брызги, белые вспышки, равномерно повторяющиеся на леднике, это и есть удары о лед. На склонах сидят крупные облака. Не движутся. Не испортилась бы погода. Но они надеются проскочить. Маршрут трудный. Но короткий. …Время! Непонятно зачем поплевав на руки, Романов берется за выступ, растягивается в балетном шпагате. И, только вжав в камень йогу, отпускает руку. Священное правило “трех точек опоры”, одинаково обязательное и для новичка, и для аса свободного лазания. Первый метр из тысячи шестисот. Только первый.*
На горы круто взбираясь, вздыхаешь ты, как старик. Но если достигнешь вершины, орлиный услышишь там крик. Генрих ГейнеВ те же дни, что и четверка Короткова, выходят на свое восхождение и спартаковцы (Главный Домбай, по южной стене). Тоже четверкой. Капитан — Владимир Кавуненко. Обе команды в числе тридцати восьми заявленных на первенство СССР по альпинизму. И в тот час, когда бьет в стену крюк Коротков и, прежде чем загрузить его собой, пробует на звук, на рывок, на интуицию, это же проделывает и капитан главных их конкурентов на золотые медали — спартаковцев. Альпинизм представляется многим сложенным сплошь из крупных объемов. И физических и психологических. Этакая игра атлантов. И только тому, кто лезет, позвякивая, будто цыганка монистами, всеми навешанными на пего альпинистскими причиндалами (молотки, крючья, карабины), только тому виден он расщепленным на множество микродеталей. — Выдавай. — Выбирай. — Готово? — Пошел! — Передай крючьев потоньше. Здесь нам не светит. — Лепестковых? — Их. — Цепляю на репшнур. — Вытягиваю. Закрепи, пойду маятником. — Готов? — Момент! Вдруг рывок. Забью еще крюк. На всякий случай. — Готов? — Давай. — Пошел. — Выдаю. И человек оторвался от скалы, и оттолкнулся, и взвился, и улетел. И его откачнуло обратно. И он повторил все, пока не ухватился за гранитную грань на том, на противоположном борту кулуара.[252] И то, что со стороны смотрелось бы цирковым трюком, для исполнителя, для Кавуненки то есть, было всего лишь приемом продвижения по сложному скальному рельефу “маятником”. Так уж устроен человек, что адаптируется к тому, что считалось еще вчера невозможностью. Хотя первое, что чуть не отпугнуло навсегда от гор молодого одессита Кавуненко, прямого отношения к альпинизму не имело. Он попал в заурядный каникулярный поход в Карпаты, И на подъеме к главной закарпатской высоте Говерле альпиниада заночевала в полузаброшенной колыбе.[253] Спали неплохо… А вот и небо за окном становится жемчужным—лимонным—рубиновым—золотым. Кавуненко босиком подбежал к окну да так и… обмер. В упор на него ощерился беззубым ртом мертвяк. Череп то есть. И в другом окне не легче — во весь квадрат белесые ребра скелетов. — День добрый, Кавуненко! Просыпаешься, вижу, с утра пораньше: заводской гудок приучил. — Резкий, скрипучий голос начальника альпиниады, одесского инженера и бывалого альпиниста Блещунова. — Здрасте и вам, Александр Владимирович! Слыхал новичок Кавуненко, что на своем веку поднимал Блещунов станцию космических лучей на вершины Антикавказа, лазал к пещере Мататаш на Памире за несметными сокровищами китайских завоевателей, даже ловил галуб-явана, так и не появившегося на глаза “снежного человека”. Блещунов поправил седой пробор, и искорки смешинок заплясали в больших зорких глазах. Он все понял. — Догадываюсь, о чем спросить тебе охота, да? Насчет окон, да? И никакой такой здесь мистики. Очень даже просто со всеми этими хижинами дяди ТЭУ.[254] Не принимает их уважаемый дядя на свой баланс: ни трамплины здешние, ни хаты в горах. На эту колыбу базируются альпинисты Черновицкого мединститута. Фондовых стройматериалов не выделили. Вот и застеклили побитые окна отработанной рентгенопленкой. Только и всего! Говерла станет первой его вершиной. Нижней ступенькой лестницы. И поднимется она выше облаков. И не только к рекордам спорта. Альпинизм — это и путь постижения незнаемого. Того самого, что не смогли разгадать ни Семенов-Тян-Шанский, ни Пржевальский. И не потому, что были робкого десятка. Просто не знали в их годы в России, что же это за штука такая — альпинизм, с чем его едят. Запретил же царский цензор Елагин заголовок, выговаривал редактору “Научного обозрения” Михаилу Михайловичу Филиппову: “Полагал бы, сударь мой, что столь просвещенному, как вы, писателю и ученому, не след забывать о литулатуре. А что у вас? “Высочайшая гора Эверест”. Смешно-с, коли не грустно. Даже семинаристу ведомо, что “высочайшими” могут именоваться токмо особы царской фамилии”. На отсутствие в России альпинизма сетовал в нашем веке и Д.И.Мушкетов:[255] изучение Высокой Азии “немыслимо будет без известной альпинистической тренировки, полное отсутствие которой у русских путешественников часто пагубно отражается на успехе их начинаний и вызывало досадные, но справедливые попреки иностранцев. В этом смысле надо всячески пробуждать и поддерживать учреждение горных обществ и клубов в Туркестане, хотя бы чисто спортивно-туристического характера, ибо только при их помощи возможна будет постепенная подготовка кадров, пользуясь которыми русская наука сможет завоевать пока недоступные для нее снежные громады Туркестана”. Не только в веке минувшем — еще в двадцатые годы нашего времени учительница Владикавказской епархиальной гимназии Преображенская олицетворяла чуть ли не весь российский альпинизм. Да где-то в заграничных Европах видпл на вершины русский политэмигрант и альпийский проводник Семеновский. И лишь в 1928 году Н.В.Крыленко с Н.П.Горбуновым приступили к планомерной осаде Памира. А тренер Кавуненко с художником Вербовым уже на восхождении, уже соображают: — За оставшееся светлое время дня пройти бы до той вон рыжей балды. — И оба задрали головы в сторону выпирающей из стены глыбины. — Успеть бы обработать отрезок стены до нее, завтра сможем тогда рвануть на штурм всей капеллой. (Их двойка — лишь авангард, разведка). Погода вроде бы обнадеживает. Ниже, чем они, — базовый лагерь спартаковцев на нижней морене. Отсюда наблюдает за передовой двойкой (Кавуненко — Вербовой) Хаджи Магомедов. В нем, как краски на палитре, смешаны кровь и черты аварца с карачаевкой: монголоидно выступающие скулы, разрез глаз, смуглота кожи, по-кошачьи вкрадчивая поступь и речь. Хаджи для начала обводит взглядом весь сектор вершин, от Сулахата до Домбая: — Порядочек, друзья, к тому же полнейший. Погода установилась, и можете поверить мне, надолго. Магомедов вправе так решать: не одни год в спасслужбе ущелья трубит; что-что, а горы знает. Наводит бинокль на полочку, с которой пойдет наверх Кавуненко. А Володя подошел уже впритык к этому рыжему карнизу. Уперся. Теперь — известное дело — лед обкалывать, стремена для ног закреплять, на карниз вылезать, рюкзак с палаткой-памиркой, общим спальным мешком на двоих вытягивать. В притихшем под вечер небе, словно выделенный ретушью, прорисовывался альпинист: сурик ковбойки, белила каски, отсветы заката на гроздьях стальных крючьев. “…А это что?” Кавуненко неожиданно начал спуск к Вербовому, и лагерь на морене мог только гадать: что же перерешили двое на стене? — Имею конструктивное предложение. — Кавуненко ослабил ремешок каски, по-старшиновски натянутый под нижней губой. — Дальше пойдут двадцать метров, самых паршивых. И камни над этой балдой не поймешь, на чем только держатся. И мы с тобой на пределе. Вымотались. А за ночь мороз там все сцементирует наглухо, и мы отдохнувшие будем. — Понял я вас. Только заночевать где? На полке? Или спуск до первой удобной площадки? — Этого только и не хватало: высоту терять! Такое нам без надобности. — Для ясности замнем. Стена дается и вправду не дешево. Предлагаешь сидячий бивак? — Не пойдет и такое, Володя. Трястись всю ночь, как цуцики. Обливаться цыганским потом. Согреваться дрожамши. Кому это нужно? — Имеются конструктивные идеи? — Полочка, на которой стоим, только и годится под нашест для курей. Принимаем решение… Рукавицы. Айсбайли. Снег. Расширять жизненное пространство под палатку. Наращивать из снега площадку. — Другой бы спорил. — Вербовой подвесил на крюки рюкзак. — Снег, кстати, за день стал насквозь волглый, а с закатом с морозом схватится, что твой напряженный бетон. — Главное — надо сил наутро заиметь. Два часа спустя… Ветер. Снежная крупка скребется по палатке. Плевать. Мы под крышей. Отблески молний на лицах. Обратно — плевать, с высокой, с гранитной, с нашей домбайской полки: у нас уже дом. Заправиться за весь день. “Альпинист лучше переест, чем недоспит”. То, что булькает поверх котелка, — супчик, что пониже — горячее второе. Много ли человеку надо? Надо вообще-то, конечно, много, но и мало лучше, чем ничего.
*
Человек поднимается — мир опускается. И каждому метру высоты соответствовали десятки километров далей. Восхождением ты раздвигал собственные горизонты. Многое ли видишь с днища долины? А отсюда уже можешь заглянуть по ту сторону Главного хребта, где то взбирается в гору, то спадает с нее Военно-Грузинская дорога и ты можешь откинуться на страховке от стены и сосчитать все восемнадцать серпантинов Млетского спуска и, прищурившись, увидеть что-то белое и крохотное на чем-то изумрудном и большом. Как рассыпанные на плюше рисунки. Но это баранта на альпийских лугах Хеви. — По времени свободно уложимся в график, до темноты будем у перемычки. — Кулинич отогнул манжет. — Нет и четырех. — Це треба еще разжуваты. — Ворожищев недоверчиво уставился в сторону Черного моря. — Что там смущает мужика? — На траверзе Клухора… Поглядел?.. Убедился?.. — Эта вон клякса, единственная на всем стерильной чистоты небосводе. — Она самая. Вспомни, что тот гнилой угол — поставщик непогоды на весь Домбай. Ворожищеву верить можно. Не из трепливых. Чутью гор обучался у самого Габриеля Хергиани. Повел он их, тогда еще совсем зелененьких, на Ушбинское плато. И на подъеме от Щурака (пика Щуровского) вдруг: “Стой! — Закурил. Уставился на зюйд-ост-ост. — Буду думать. — II весьма решительно продел ладонь в темляк ледоруба. — Наверх не ходим, реьяти. Вниз будем ходить. Бистро давай! Бистро!” “Прогноз же хороший, Гавриил Георгиевич!” “Конечно, хороший. Кто говорит “нет”. Облак только плохой. Не люблю такой. Такой, как хулигани в парк культура”. Они только еще спускались тогда по утрамбованной тысячами ног дресве Шхельдинской морены, когда их охватило сырым и склизким: вошли в туман. Струи дождя. Хлопья снега. Раскаты камнепада. Габриель увел их в самый раз… Так Ворожищев учился у свана из Местиа тому, чему не научат никакие пособия. Но что же тревожит его сейчас? — Идет гроза, ребята. Прямиком на нас чешет. — М-да! На таком месте вызываешь весь огонь на себя. Стена открытая. Подставлена под молнии. — Идем-то, в общем, с опережением графика. Запас по времени имеется. — Темп взяли опять-таки сильный от самого от старта. Помнится, за все годы только одной группе и удалось нашу стену пройти. Вано Галустову. Силен ведь “Черный буйвол”,[256] а шел эту же стену три дня с двумя ночевками. — У нас меньше дня на тот же отрезок. — Решено — бивак!*
Падает тот, кто бежит; тот, кто ползет, тот не падает. ПлинийДавно спят мышцы, не спит мозг. И бегут, бегут перед спящим Кавуненко вершины его жизни… Волнистый гребень Сулахата с двумя куполами. И — Задняя Белалакая с вставшим поперек маршрута черным “жандармом”. Та самая Белалакая, на спуске с которой и давал зарок Кавуненко: “Вы себе как хотите, но он лично в ваши горы больше не ходок. Не псих же он ненормальный, чтобы считать все это, я извиняюсь, конечно, отдыхом. Наелся вашего альпинизма на всю жизнь”. В чернильной тьме ночи они так и не нашли тогда палатки собственного бивака. А кругом — гроза, грохот, огни святого Эльма, черт те что! Ледорубы искрят. По кромке скал форменная иллюминация, как на Центральном телеграфе в Октябрьские дни. Измокли. Нахолодали. Только под утро наткнулись на палатку “Медика”. Попросились. Впустили. В четырехместную “полудатку” впихнулось тринадцать ночлежников. А собственный их лагерь обнаружился утром, метрах в двадцати хода. А зарок оказался некрепким. Горы крепче. Позвали на Домбай, и он пошел. …Кавуненко спал, когда его качнуло, как в бортовой качке, и с ним качнулась сначала к долине, потом от нее не палатка — вся гора. Палатка только повторила ее движения. Качка?.. Как на сторожевом корабле, на котором и отслужил матрос первой статьи Кавуненко действительную? “Удерживать изнутри вздувающуюся парусом палатку? Выскакивать наружу?” — лихорадочно соображал Володя. Соображал и действовал: одной рукой расстегивал мешок, другой нахлобучивал каску на Вербового. Теперь на себя. Молния открыла на миг тесный и темный мир палатки. Их подбросило и поставило на место под ливнями дождя, летящими где-то над головой камнепадами. Нет, ребята, это не гроза! Чего-чего, их-то они повидали. Что-то другое. И еще эта придавливающая тебя тяжесть. Ты как капуста в бочке под гнетом. И знаешь ведь, что кругом горы, высота, простор, но не можешь отделаться от ощущения тяжести. Тяжесть подземелья. Как в бомбоубежище, которое укрывает от налета и оно же завалится на тебя при прямом попадании. А здесь?.. Какое же это, к дьяволу, подземелье?.. — Пригни голову. Ко мне, говорю, ближе. — Ну и дает! Не сыграть бы в ящик. — Не думаю. По мне, так затихает. — Не скажи. — Твоя правда: опять тряхануло. — Гроза или что? — Гроза тоже. — А что помимо? — А толково это получилось, что рыжим карнизом от всех камней заслонились. — А что это, по-твоему, вообще-то сегодня с природой? — Быть бы заварухе, если бы повыше залезть с вечера успели. Представляешь себе наш бивак? На голой стене. Без никаких тебе прикрытий. Труба! — Сдается все ж таки, что это не одна гроза. С ней еще что-то. Как думаешь, что? — В носу что-то засвербило. Фу, черт! А у тебя? — Тоже. Вспомни уроки химии. Сера. Камни ж о камни колотятся. Химию высекают. А гроза все ж какая-то ненормальная. Почему? — Переждем — разберемся. Угасли молнии неба. Включилась адская иллюминация камнепадов. Они не спадал”, они текли сплошным огневым потоком, и он просвечивал сквозь полотнища палатки, и они видели огненный пунктир прямо перед собой. Грохот… Огонь… Толчки… Весь мир стронулся. С ума сошел. Только бы самим не спятить. Продержаться! Вот вроде и подзатихло. И то хлеб! — Ты как знаешь, Вербовой, я лично обратно в спальник отключаюсь. Силы понадобятся. — Давай. — И тебе рекомендуется. — Обожду. Что-то не по себе. — Дело хозяйское. Он не знал, сколько проспал. Знал, что Вербовой стянул с него мешок. Вовремя стянул. Из-под тебя уходила палатка и вместе с каменной полочкой улетала в тартарары. Да никуда не улетели. Никуда не проваливались. Они были. И палатка. И все остальное. И еще это подлое ощущение — падаем! — За ребят Безлюдного, между прочим, опасаюсь. (Его команда должна была восходить отдельно, чтобы на вершине соединиться с четверкой Короткова. — Е.С.). Не накрыло бы. Бивак их на вовсе открытой морене. Все камнепады, их же сегодня до черта, туда куда-то стекают. — Пойди разберись сейчас, что и на кого стекает. — Остается дожидаться утра. Больше заснуть не смогли. Холод, сказал понимавший в этом и во многом Руал Амундсен, то, к чему никогда не сможет привыкнуть человек. Ощущение холода и вернуло сознание Романову и, как бы собирая рассыпавшиеся бусинки, поднимал и нанизывал минуты и события. …Значит, так. Палатка. Друзья. Примус. Ощущение крыши над головой. Уже неплохо! А всего-то навсего утлое убежище прилепилось к отвесу, и меньше чем на шаг от них — сотни метров пустоты. Так было, когда они подвязали последнюю растяжку и расположились на заслуженный отдых, как говорят, правда, провожая на пенсию. И тут все разом… Да… Он посмотрел еще время. 21.15. “Закипает. Снимайте котелок”. Все те же 21.15. И тут удар в плечо. Но к нему же ничто не прикасалось? Удар и невидимый разряд. Прошил тебя насквозь. Пронзительный свет! Они еще сидели по углам палатки, примус посередке. “Постой-постой…” Потом уже толчок… Пораскидало ниц. Только и успели, что сбиться к склону, подальше от края. Но это инстинктом, не сознанием. “Где же у меня боль?.. Боль у меня в боку, в спине боль, везде боль”. Новый вал камнепада. “Чесанул по лавинному желобу. От нас все пятнадцать метров. Не достанет”. Борис подергал палатку. Вот черт! До одного все крючья от палатки повырывало из стены. А понабивали дай боже! “На чем же держимся?.. Понятно. Основная веревка. Пропустили под коньком. Зачалились к ней расходным репшнуром от каждого. А палатка — одни клочья. Практически ее нет. А на дворе дождь со снегом, с ветром: хуже не придумаешь”. Нащупал круглый фонарик. — Обход палаты начнем с тебя. Юрка, — сказал он, как бывало на клинической практике. И произнес это автоматически, а стало в чем-то увереннее. — Спасибо. Камни. Тяжело. Застыл. — А мы их поскидываем. Пуховочкой прикроем. — Достал отлетевшую в сторону пуховую куртку. — Спасибо. Как ребята? — За Кулиннча опасаюсь. Дрожит в неслушающейся руке луч. И — спокойное лицо Кулинича. Чересчур даже спокойное. И на груди целая плита. Как же это так, ребята? Руки, ноги неестественно вывернуты. Как же так? Просунул под ковбойку руку, затаил дыхание… Тук-тук… Часы? — Юрик, у меня руки застыли. Найди его пульс. — Нету пульса. — Так и думал. Тук-тук… Грудь уже холодная. Тук-тук… Часы живут — человек нет. Живые часы на мертвой руке. Всё, ребята! Нету нашего Кулинича. Подрастут, глядишь, ползунки, которых возвращал к жизни педиатр Кулинич, станут кто слесарями, кто адмиралами, и все они, и знатные люди страны и тунеядцы, так и не узнают, что был такой дядя Кулинич и нет его, а они есть. Попомните это, и ребятки и родители! — Далеко мы улетели? Далеко, слышите, спрашиваю? Ворожищев! Очнулся. Не улетел. Уже легче. Хоть тут легче. — Улетели только рюкзаки, спальные мешки, примус. Как ты-то сам? — До низу далеко, говорю? — Да мы на том на самом месте. Остался, правда, один коротковский рюкзак с кинокамерой. Как раз Юрка сидел на нем. Он и не улетел. — Выходит, значит, что все еще летим? Понятно! Как же втолковать тебе, что мы там, где и были. А от каски Ворожищева один ободок. Поднял руку, сорвал. Кинул. На кой такая. А волосы спутаны, спеклись кровью. Не будь на тебе каски, хуже было бы. С касками им подвезло за день до отъезда. Помогли парни из секции альпинизма “Метростроя”, тон самой, которая навела в свое время па непосильные раздумья кого-то из бывших ихних кадровиков. “Образовали, видите ли, у нас какую-то там секту олимпинистов. Пора бы разобраться кому следует!” Через “секту” и разжились из неликвидов по безналичному списанными шахтерскими касками. Не на всех. На основную четверку. А раньше приходилось перед каждым сезоном ловчить. Альпинизм для Спорткомитета не олимпийский вид, не профилирующий, фондов ему в титула не закладывают. …Прилавок секции метизов ГУМа. Видный собой плечистый малый: курчавые волосы, но без хиппских лохм, куртка-вельветка, мастерский значок. — Девушки, что могли бы предложить по линии дуршлагов? — В наличии все три размера. — Мне бы от пятьдесят шестого номера до пятьдесят восьмого. — Дуршлаги измеряются согласно литражу. Выбирайте. По номерам не подразделяются. К вашему сведению, они посуда, а не головной убор. И тут на глазах у ошарашенных отличниц советской торговли Безлюдный бросил на прилавок беретку, примерил одну за другой на… голову с пяток посудин. — Выпишите. Копию товарного чека оформите на ДСО “Труд”. Забрал. Кивнул. Ушел. Отличницы провожали его сочувствующими взглядами. — А с виду в норме. — И не говори! Только подошел, подумала: парень — люкс. С таким бы на танцверанду без открытия прений. — Зачем же тогда посудину — и на голову?.. Как хочешь, он все-таки из этих, с приветом! — Думаешь, чокнутый? — Спрашиваешь! Безлюдный не слышит. Безлюдный уже открыл на дому ателье индпошива головных уборов для стенолазов… Отпилим у дуршлагов ручки, на подкладку — губчатую резину. А что верх перфорированный, так даже плюс: меньше веса. Каска-дуршлаг выручала Кулинича от камнепадов и на Аманаузе, и на Ушбе. А здесь весь удар — на грудную клетку. Всё! Тут не поможет никакая реакция. — Сознание у Ворожищева здорово-таки затемненное, — шептал Романов Короткову. — Подозрение на перелом тяжелых костей таза, бедер, ключицы. Помогай отодвинуть его под стенку. — А у тебя у самого что? — Не могу ни откашляться, ни вздохнуть. Похоже, поломало ребра. Три, а то и четыре. (Не знал тогда, что дышит одним легким.) — Рваные раны головы прибавь. Борь, а Борь, послушай. — Чего? — Придется сигнал бедствия подавать. Пока не загнулись. — Не примут. Видимость нулевая. Облачность садится. — Ракет, прямо скажем, не густо. Штуки четыре. — Беречь до просвета. Тогда сразу сигналить. Всем, чем можем. Утром в разрыве облаков Романов уловил неясное шевеление на снежнике. Сердце тревожно вздрогнуло. Нет! Не камни и не серны. Люди! Двое! Явно с Домбайского перевала. Скорей всего, кто-то из “Спартаков”… — Ты, Коротков, кричать способный? Я лично только шепотом. А они вот-вот войдут в зону голосовой связи. А там уйти могут. — Го-го-го! Знаешь, могу. Вопрос — кому? — Тем двоим. На снежнике которые. — Да иди ты… Ты что, очумел, Боб? Там же ни души. Почудилось. Никого на всем Домбайском спуске не видать. Силы растрачивать не будем. Там же — сам видишь — сплошное молоко. — Брось ты, Юрка. Туман в глазах у тебя. Идут, и один еще на ногу припадает. Значит, Тур с Поляковым. Больше некому. А видимость вполне. Беда — орать не могу. Когда подойдут, скажу, а ты уж звучка дашь… Обожди… Давай! И Коротков набрал воздуха. И каждый глоток вдоха был сухой, жесткий, царапал. Он не может кричать. Он должен кричать. — И-я-ху-у! — Отсчитал про себя “десять” — и снова, и так до шести раз в минуту. Международный сигнал бедствия в горах. Альпинистский SOS. Значит: бросай личные восхождения, мужики; топать, куда скажет начспас. Железный закон гор. — Есть такое дело. Остановились. Слушают: откуда? И Борис ударил патроном о штычок ледоруба, и одна за другой прочертили красную дугу ракеты и рассыпались искрами по снегу. Оба замерли, но сначала снова в тишине то же тук-тук. Часы. Потом — кап-кап. Солнце коснулось сосулек. И только после — двойной голос человека, и над тобой брызжет искрами ответная ракета. Зеленая. Ребята! Услышали. Хорошие мои. Молодцы. Спасибо! Теперь не загнемся. Теперь порядок. Теперь придут. Теперь ждать. Теперь жить… Утром Кавуненко глядел и сам себе не верил. Разве бывает такое в горах?.. Человек может стать седым за ночь. За час. Гора не меняется и за тысячу лет. Кавуненко чувствовал себя, как фоторепортер, который кинул пленку в бачок, а проявилось совсем не то, что засиял. …Сползающий со стены Южнодомбайский ледник вчера (и год, и сто лет назад, и триста) был весь из льда. На данный момент?.. Словно и не было никакого льда, замостило весь за ночь битым гранитом. А еще хотели спускаться с рассветом. Не пойдет такое. Ждать, пока поутихнет. А это что еще за явление Христа народу?.. Откуда эти-то двое взялись? Не иначе, с перевала. Но там же никого, кроме их собственных спартаковских наблюдателей. Витьки Тура с Лёхой Ржавым (для отличия от другого спартаковца, сильно брюнетистого Арика Полякова, прозвали так Лешу за тускло-медную шевелюру). Обоим, как альпинистам, на данный сезон крупно не повезло: после срыва на скалах Туру выколупывали мениск, Полякову подававший назад машину шофер переломил ключицу. Куда же они, я извиняюсь, чешут?.. Ин-те-рес-но все-таки, куда?.. Да к нам, и никуда больше. Два таких вот неполноценных — и нас спасать собрались! Со стены высшей категории трудности. Вот это номер! Идут и не знают, что лично мы в полнейшем ажуре. А ну, подойдите поближе, орлы! “Вставай рядом, Вербовой, слушать мою команду. И — три-четыре!..” Гаркнули в обе глотки. Нет: слов внизу не разбирают. В самом деле, гора грохочет, как тыщи дробилок. Тогда так: встаем, показываем на себя — на них — на спуск — на навешенные с вечера перила. Закивали. Дуйте, в общем, на морену, до Безлюдного. Понятно? А перил, оказывается, и метра не осталось. Даже крючьев по всей стенке ни штуки. Всё этот дьявольский снайпер Гора: без прямого попадания крюка не выбьешь. Гора ссыпала все, что припасла, и Кавуненко с Вербовым начали спуск на ледник. Обошли вставшую особняком скалу, согласно гляциологии — останцу, по-местному — хицану, и, только зайдя за перегиб склона, увидели серый треугольник палатки и в жестко пахнувшем битым гранитом и погребной сыростью воздухе почувствовали струю, которая несла щекочущий запашок бензина, и супчика, и чего-то еще живого, своего, человеческого. И чем ближе, тем сильнее. Лагерь Безлюдного. — Салют, мужики! — Обратно салют. Здороваясь, не выдавая себя, уголком глаз с ходу пересчитать. Слава те… Отлегло, Кавуненко! Все восемь. Все в пыли, будто цементники. Но все! — Представляем, чего нахлебались на стенке. — И не говори! — Хорошо, что так обошлось. Мы за вас уже шибко сомневались. Молчите себе, и всё! — Камнем рацию трахнуло. Вот и замолчала. А с вашей морены всю ночь грохот. Тоже опасались. — Считайте, в сорочке родились. Морена сработала, как волнорез. Все камни обтекали нас. Видали, какие валы за одну ночь нагородило? Камень не падал, рекой стекал. — А у Романова что? — С вечера ни о чем таком и не думали. И прогноз нормальный: надвигается небольшой грозовой фронт. Только и делов. — А с романовской ночевки ничего не принимали? — О птицах ему скажи. — Это да! Это он про уларов. Знаешь ведь, какие они, горные индюшки. Человека за версту обходят. А тут летят и летят. И всей стаей прямо на лагерь на наш пикируют. На палатки. Машут, квохчут, мельтешатся. Пойди пойми. А разобраться — они же первыми землетрясение учуяли. Задолго до первого толчка. — Так это землетрясение? — А вы что подумали? — Нет… мы… ничего. — Девять баллов, Семенов уже радировал. — Но что же Романов? — Сами хотели бы знать. За часом час оживала морена Безлюдного, до этого настороженно и выжидательно примолкшая. Шли с разных вершин. Похожие чем-то на вырвавшихся из окружения бойцов. Последними кинула на камень рюкзаки двойка Шатаев — Уткин. Вот уж кому горы дали прикурить. И больше всего не на маршруте. На спуске, когда уже наконец-то можешь позволить себе расслабиться. — …Наелись во! — И обычно сдержанный Шатаев поднял ладонь поперек горла. — Какие-то двести метров всего-то и остаются. Еще чуть-чуть — и включай третью скорость, Уткин! Только это я подумал, как от Домбая откалывается кусок — Уткин не даст соврать, — метров пятьдесят на двести кусок. И не валится ведь, только себе клонится. Как дерево на порубке. Бежать?.. Куда?.. Ждать?.. Чего?.. А кусок уже дает крен в мою сторону. Уткин от него вдали — еще на веревке. Вот-вот жахнет. Думать некогда. Убежать не успею. Когда но-думал, сам не знаю. Только — ледоруб наперевес, сигаю с маху в первый рандклюфт.[257] Потом уже подумать успеваю, что учили нас обходить всегда трещины, а тут без нее пропал бы. А трещину, как по заказу, заклинило каменной пробкой, на нее и приземляюсь, весь обвал где-то поверху двинул. Затаился, как крот. И — голос Уткина: “Володь, а Володь! Как ты? Живой?” — “Да! — кричу ему. — В норме”. Помог вылезти. Обернулись дальше идти — и глаза на лоб полезли: рядом с рандклюфтом, “моим”, значит, другой рандклюфт, метров на тридцать по глубине. Как же это я в него сгоряча не махнул? — Вся природа сегодня какая-то ненормальная, — бросил Вербовой. — Когда мы с Кавуненкой навстречь вам пошли, между нами — и не поймешь как — режется на глазах по леднику трещина. Разделила, одним словом, нас. И только в долине узнает Шатаев, что, когда он исчез в трещине и скрыло их в вихре битого льда и снега, с бивуака передали на КСП: “Одна из двоек команды Радимова попала под обвал и погибла”. “Будешь долго жить, Шатаев, — скажет ему в Домбае Семенов. — Согласно народной мудрости”. А Шатаев подтвердил, что сигналят со стены Домбая. — И мы услыхали: “Помогите!” — подтвердили подоспевшие Радимов с Балашовым. — Правда, не могли разобрать, кто и откуда. “Сами-то как?” — “Не до себя, тех, со стены скорей выручать”. — Двух мнений быть не может, — сказал, дослушав всех. Безлюдный и вопросительно поглядел на Кавуненку. — В наличии на морене все, кто были на восхождениях. Методом исключения выводим: на маршруте один Романов с командой. — И я так располагаю. — Готовиться на аварийный выход? — Только так. Раз сверху не спускаются, значит, своим ходом не могут. Не дожидаться же, пока спасотряды с Домбая до нас доберутся. По-быстрому двигать на стену. — По-быстрому, да по-умному. — Только так! — Еще одна двойка у нас, значит, объявилась, — протягивает котелок с компотом Безлюдный и этак осторожненько осведомляется: — А вторая связка поотстала, что ли, на подходе? (В четверке были еще Балашов с Радимовым. — Е. С.) Визуально наблюдаем вашу четверку с утра. Потеряли, когда вошли вы в облако. Вошло четверо, вышло двое. — Точно! — подтвердил Шатаев и отхлебнул и не отрывался от переданного Уткиным котелка. Шатаев — до педантичности точный, аккуратист, режимный — был не похож на самого себя. Глаза беспокойно бегают, сам какой-то отсутствующий. И сил уже нет и ни сидеть, ни заняться ничем не может. Такой взвинченный. — Спасибо, ребята! А со второй связкой так… Вошли в облако, бац — ракета. Красная! Мы ходом до вас, Радимов с Балашовым пошли разведать, откуда могут сигналить. Подумать только! От их бивака в глубокой нише на отметке “4000” было до романовской полочки метров сто. Правда, бивуаки ихние по разные стороны хребта. Ночью Шатаев слышал даже после удара разговоры. И — утром. Нет, слов не разобрать, но разговоры — факт — слышал! — Где были, когда первый раз вдарило? — В нише, в тон самой нише, на ночевке. Не люкс, конечно, но переспать вполне можно: сами — полулежа в палатке, ноги — снаружи. Когда тряхануло, Балашову со сна почудилось, что летят и никак не остановятся. Сказал даже про ковер-самолет, Балашов, значит. — Когда сообразили, что землетрясение? — Сей минут, только когда ты сказал. До этого ни бум-бум. И принялись счищать комья глины, никогда ее на восхождениях не видали, а тут сплошь насохла. Спрашивается, откуда? Похоже, срубило верхний слой каменного щита, она снизу и выперла.
*
“Из всех стихийных бедствий землетрясения вызывают самый панический ужас, ибо больше всех остальных грозных явлений природы они ставят под сомнение незыблемость основ человеческого существования”. К такому умозаключению пришел коллекционер землетрясений и их исследователь Гарун Тазиев. Каждые тридцать секунд вздрагивает стрелка, и лента сейсмографа отмечает землетрясение на каком-то куске планеты. Приходят в движение, сталкиваются целые континенты, которые тот же Тазиев уподобляет плотам, плавающим в океане магмы. В таком катаклизме двенадцать тысяч лет назад, поведал Платон, за одну ночь ушла на дно вся Атлантида. Один из таких же идущих из глубины прибоев и поколебал в 1963 году верховья бассейна реки Кодори, тряханул Домбай, вошел в каталоги “Чхалтинским землетрясением”. Экспедиция Института геофизики Грузинской Академии наук отметила “необычную для кавказских землетрясений энергию”. Таких не бывало здесь уже сто лет. “В наиболее потрясенных селах почти все дома испытали сдвиговые деформации”. Двигаясь на юг, волна угасала с девяти баллов (Птыш) до шести (Алибек) и трех (Тбилиси). Величественная медлительность, с которой созидается мир гор, сменилась в эту ночь взрывом. Шел год большого солнца. Но то, что радовало охотников за загаром и виноградарей, сработало как спусковой крючок. Он выстрелил с силой тысячи атомных бомб, высвобождая скопившуюся в земных пластах энергию. Но этого не знали тогда ни Романов, ни Коротков. Они ждали. Надеялись. Они были альпинисты. Их товарищи и конкуренты тоже.*
День первый
Человек просыпается, как проснулся бы всегда. И гонит и отгоняет мысль, что оно лучше бы не просыпаться подольше, так это трудно, так непонятно. Ему. Им. Всем. А сон та антиреальность, обитание в которой легче, чем в подлинной, но мучительной и непонимаемой действительности. Но никуда не деться от вас — утро, день, горы, бивак, холод, боль, грязь. Романов подполз к Кулиничу. То же лицо. Нет, еще спокойней. Покой того “ничто”, куда он ушел первый. И похожие на роговые очки резко прорисованные круги под глазами. Значит, перелом основания черепа. А Ворожищев?.. Он здесь и не здесь. Ему легче, чем нам: идет себе в тумане собственного сознания и видит множество солнц и не видит ни себя, ни нас. А мы разрушены. Мы только оболочка того, что было. — Хоть харч частично уцелел. Успели в скальный карман заложить. Будем сыты. И то дело. — Конечно, дело, — безразлично откликнулся Коротков. — Чего тебе дать? — Мне?.. Ничего. — А попить? — Тоже неохота. — Время уходит. А с ледника ничего. Что-то придется предпринимать. — Похоже, что придется. — Но я же видел их, как вот вижу тебя. — Да, ты сказал, что увидел. — И сил ни капли. — С этим, прямо скажем, неважнец. — И лежать бревном толку не будет. — Не будет. Но они лежали. И весь огромный, принадлежащий человеку мир сжался, будто шар, из которого выпустили воздух. Его не хватало тоже — воздуха. И нынешний их мир был весь из камня, вдавившего тебя в камень, и даже воздух, когда ты хотел набрать его, был таким же жестким, каменным, колющим, и небом — все тот же камень над тобой. Коротков лежал молча, но внутри не утихал разговор. С самим собой? С тенями ночи? Как киномеханик прокручивает задним ходом пленку, так он — все их восхождение, останавливая, вглядываясь. Где допустил слабину, капитан? Просчитался? И еще неохота ему помирать в свои двадцать шесть. И еще звучит любимое присловье Кулпннча: “А я везучий”. И еще сквозьсерость дня и неба дразнят сочные, как кровь, как жизнь, как чей-то девичий рот, рериховские краски вершин. Сюда бы лук с тетивой, сюда колчан. И, как на той картине Рериха, посылаешь ты стрелу с запиской на другой борт долины, где Безлюдный, и не надо им гадать в тумане, где мы и что мы, не надо, если не накрыло их самих, конечно. Борис лежал. Мысли бежали. “Ясно одно, Романов: время работает не на нас. Боль идет по тебе. В тебе самом необратимый процесс разрушения”. Зябко поежился. Натянуть хотя бы то, что от палатки осталось. От тумана прикрыться. Но ею укрыт Кулинич. А зачем? Они же знают- мертв! И ни разу не произнесли: “Тело”, “Труп”. Только — “Кулинич”, “Юра”, “Он”. Лежал и вслушивался в голоса. Голосов не было. Были горы. И еще “кап-кап” над твоей полкой. Слезы тронутых дыханием дня ледышек. Только бы не пришлось им оплакивать и нас. И еще просим тебя, Домбай, не держи на нас зла за все за это. Да!.. Было… Хлестали тебя, веревками связывали. Факт! Изранили крючьями. Тоже факт! Но все это только для того, чтобы перестал ты быть вещью в себе, стал вершиной для людей. А вода продолжает свое “кап-кап”. Отмеряет время, подобно струйке песочных часов. Не спеши, Время! Подожди нас. Ведь молодые. Подай, бога ради, хоть частичку того, чего у тебя так бесконечно много, и не напоминай о том, что утекаешь из-под бессильных пальцев, как эти капли, которыми не дано утолить жажду иссохших губ. Время работает не на нас. Дробятся капли. Течет вода. Текут и дни, и последние наши силы.*
Скорей, скорей. На шее паруса уже сидит ветер. ШекспирОкошечко домика КСП Домбайской поляны светилось до рассвета, как маяк. Семенов положил на стол листок бумаги, взял было карту, да не стал раскатывать: знает сам не хуже. Три вчерашние тревожные минуты (на турбазе прекратили крутить фильм, увели всех из-под крыши ночевать на травку; из бассейна выплескивалась вода; в альплагере “Алибек” сгорел пищеблок). Эти три непонятные минуты сменились ясностью и действием. А прилетевшие из некой южной столицы отпускники уже рассказывали на КСП. …В их гостиничном номере начала вдруг раскачиваться, наподобие маятника, огромная люстра, пооткрывались сами собой дверцы трельяжей, заволновалась вода в графине. В такие минуты не сидится человеку одному. Повыскакивали в коридор. Полно. Как на проспекте Спендиарова. Взад-вперед снуют встревоженные усатые дяди. Гомон. Вопросы. Нервозность. — Оно откуда-то сверху трахнуло. Я слышал собственноручно. — Нет, это я слышал. И вполне ответственно вам заявляю: оно шло снизу. — Не все ли равно, дорогой, откуда они могли что-то на нас сбросить. — Не забывайте, что и Арарат и Арагац были вулканы. Могут они, спрашиваю вас, пробудиться или не могут? — Вулкан! Не дело говоришь, джап. При чем тут арарат? Это все какой-нибудь НАТО — СЕАТО. Споры прекратил взбегавший через две ступеньки администратор: — Только что звонили из города. Ничего особенного, граждане клиентура. Самое нормальное землетрясение. Оснований для поднятия паники администрация не усматривает. Просьба соблюдать правила внутреннего распорядка. А Семенов уже вызывал междугородную, и Минводы, и командира вертолетного подразделения. И шукал в эфире всех, кого только мог, по домбайским бивакам и помечал на листке, кого нашел и кого нет. И уже названивает по альплагерям: “Пусть “Алибек” и “Звездочка” и более дальние узункольские лагеря поднимают по тревоге спасотряды. Планируйте самые сложные условия эвакуации пострадавших. Подробности? Подробности на месте. Выдать продуктов дней на пять. Тросовое снаряжение. Пуховки. Предположительно в аварийном состоянии группа Короткова — Романова. Эвакуация по стене”. Приходилось, и не раз, испить из горькой чаши жизненных передряг самому Николаю Михайловичу Семенову, чей прищуренный глаз придает его лицу выражение несходящей иронии. Но это всего-навсего отметина войны, на которой были и раны, и плен, и нацистские лагеря. Многое довелось хлебнуть тебе, друг Михалыч, но с такой штукой, которую сейсмологи именуют “внезапный разрыв сплошности среды”, еще не доводилось. Но и он, и Кавуненко, и Безлюдный, и все они вели себя так, словно не раз уже имели дело с землетрясениями. Не такими ли показали себя и их деды, наши моряки, оказавшиеся за пятьдесят пять лет до этого на рейде Мессины? Свидетелем того землетрясения (1908 год, 84 тысячи погибших) оказался Максим Горький. Видел и безнадежность горя, и оперативные советы германской прессы — воспользоваться беззащитностью, дабы свести военные счеты с Италией. Думается, наблюдай он три чхалтинские минуты, Горький не нашел бы здесь “духовно разрушенных людей, которые молча сгибались под ударами”. Церкви всей Италии служили заупокойные мессы по городу, как покойнику. В Домбае не молились, не взывали ни к богу, ни к черту. Действовали!
День второй
Бивак на полке сумрачно выжидал. Лежат. Надеются. Лежит и Романов, отмечает, как поднимается вдоль ног и тела грязная теплая вода, и вторгается почему-то в память третьяковская княжна Тараканова, но они-то не располагают силами ни на то, чтобы встать в рост на отсутствующую койку, ни на то, чтобы всего-то навсего слить воду с полки. Лежат в воде. — Думаешь, они все ж таки должны были нас заметить? — в который раз начинал Коротков. — Говорю тебе, чудило, видел их своими собственными глазами. Как тебя. Это были они, и шли они к нам. — И тут же Романову подумалось: “Испытали сильнейший стресс.[258] Не мог ли он сдвинуть и психику? Вполне мог. Вот и увидел ты не то, что есть, а то, чего хотелось”. А сам успокоительно и мягче произнес: — Они уже где-то на ближних подходах. — “А если ты сам внушил себе все это?” — По расчету времени вполне свободно могли подойти еще вчера. Если были вообще они. — “Если-если”!.. Конечно, где-то уже пометили, что одна команда не спустилась. Значит — мы. Встрял Ворожищев: — Я так кумекаю: положение сложное, но ничего безнадежного. Как пишут в диагнозах — “средней тяжести”. Понимай: плохо, но не безнадежно. Главное — не впадать в обломовские настроения. Делать хоть что-то. Весь побитый, хоть собирай заново, а мыслит, как всегда, конструктивными категориями. Верен себе! — Твои предложения? — Подкинуть в организм калорий. — В смысле поесть. Что-то неохота. — Тогда через силу. — II приподнялся. Со стороны он напоминал самого себя, показанного на экране в невероятно замедленном темпе. Все стало трудным: взять фляжку, отвинтить крышку, вскрыть тушенку — все чертовски трудным. Но они понимали: действовать — это жить, безропотно ждать — это сдаться. Черта лысого, ребята! Разве сдавался Абалаков Виталий после обморожений и тринадцати ампутации? Или Хергиани Михаил на пике Победы, когда в зоне, где нехватка воздуха даже для самого себя, нес на горбу другого Хергиани, нес из смерти в жизнь? Нет, не сдавались они. Не капитулируем и мы, пусть жизнь сведена сейчас к каким-то простейшим ее проявлениям — добыть глоток тепловатой жижи, прожевать кусок подогретой ветчины. Давишься, не идет — бери за глотку самого себя, впихни в себя жратву кулаком, не жалей себя, жалей свою жизнь, дело своих товарищей. Горы смяли нас. А мы распрямимся. Не ляжем, задрав кверху лапки. И Коротков начал насвистывать. Что-то сипящее, срывающееся. Пародия на музыку. Но в этом было дыхание жизни. Ее мелодия. Та боевая “Баксанская”, которую на таких же вот кручах сложили парни в форменных куртках горных стрелков и певали ее и в те дни, когда от Ростова отходили до Нальчика, от него — под Дзауджикау. Певали и в тот день, когда Гусев с Гусаком пинком русского валенка сшибали свастику с обоих Эльбрусов и глядели вдаль и видели платиновый блеск Черного моря, и, как всегда с вершин, виделось оно не плоскостью, но вертикалью, — уж не захотелось ли воде встать вровень с вершинами? Романов поискал примус. Нету! Улетел при первом обстреле. Впрочем, их сил элементарно не хватит на возню с тобой, пыхтун. Сольем бензин из канистр в порожнюю банку, подержим на ней мисочку со снегом. Огонь был робким, синеватым. Но он был огнем, и его предком — Прометей, как говорят горцы, прикованный именно к кавказской вершине. И трое глядели на огонь, ибо какие бы ядерные, какие плазменные установки ни создаст человек, простое пламя костра и согреет теплее, и сблизит ближе. А для этих троих робкое пламя в банке становилось шагом не менее этапным, чем для того, кто первым озарил огнем свою пещеру. “Попейте, ребята, тепленького”. — “Теперь по мясцу вдарим”. — “Не идет, не хочется, не можется, а вы через не могу”. И Ворожищев улыбнулся. Улыбались одни губы. А над ними остановившаяся напряженность взгляда. Увидел пробившее облачность солнце, уложил ледяной скол на кусок полиэтилена. Натаем чистой воды. Солнце грело, обсушивало. Трое смогли отжать пуховые куртки, и, ей-богу, это тоже было трудно. Но тепло не только конец сырости, но и начало жажды. В этот день к ним не пришел никто.День третий
Нескладно устроен все-таки мир. Два дня пролежать в лужицах, под ливнями, а сегодня солнце, тепло, и вот уже ни капли влаги. А лед, а снег, даже скалы лучатся, сверкают, слепят, и Романов различает: то, что он принял было за камни, стронулось, сдвинулось, да не вниз, а вверх. Понимать надо, черт подери, вверх! Камни так не передвигаются. “Хотел бы я знать, на нас они держат или куда? И кто они?” — спрашивал себя Романов и не мог себе ответить. А снег пылал, и в каждой его снежинке полыхало еще одно собственное пламя, и горел уже весь воздух, и все это слепило и не давало разобрать тех, внизу. В них твое спасение. Жизнь… Да, вот и они. Двигают к Восточному Домбаю, по пятерочному маршруту. Коротков с Ворожищевым поорали. Ветер донес что-то похожее на ответ. Уже неплохо. Какие-то минуты спустя Романов увидел еще одно движение на снежнике, и это были еще двое и шли к Домбаю, к ним, к нам. Уже легче. Уже что-то. Бивуак оживал, зашевелился, заговорил. Борис привстал, помахал красной курткой: “Это мы. Мы здесь. Мы ждем. Нужно выручать. Время не терпит”. “По-зволь-те… Почему же они отвернули?.. Почему уходят?.. Скрылись за контрфорсом”. Не сказал об этом ребятам. Поняли по тому, как бессильно упала куртка. — Вообще-то могли же элементарно не понять тебя? — Вполне свободно могли. — Грозовой фронт ушел, вот и двинули на свое личное восхождение. — Не такие это ребята, чтобы просто так списать нас. “Пропавшие без вести”. Ни за что не поверю в такое. — Говоришь: двумя двойками шли. Вопрос — кто? — Скорее всего, спартаковцы. Час. И другой. Можно еще ждать? Еще ждать нельзя. Терпеть, конечно, можно. Но до каких? Где предел? Не в этом суть. В том, что кончаются силы, суть. И Романов решил больше не ждать. — Ты, Коротков, на сегодня двигать своим ходом неспособный, — не так произнес, как выкашлял Романов. — Я бы всей душой, ребята. — С тебя и спросу нет. Выходит, в строю мы с тобой, Ворожищев. Мало-мало ходячие. Долезем куда сможем. Самое меньшее — воды запасем. Уже что-то. На всякий случай Романов еще раз оглядел снежник. Только следы. Темно-серые на светло-сером. — С чего-то начинать надо, — обернулся к Ворожищеву. — Давай с веревки. Резонно. Без нее по стене высшей категории ни на шаг, если, конечно, считать шаганием ожидавшее их сплошное лазанье. На штурм брали метров восемьдесят основной веревки, с половину этого расходного репшнура. В наличии?.. Ни одного конца длиннее двух метров. Сколько же понадобилось камней и прямых попаданий, чтобы так все искромсать! И все это переваливалось ведь через их полку! Коротков молча следил за их усилиями. Эх, горы вы, горы кавказские! Сильны же, если два чемпиона, какой уж год в силу мастера ходящие, а тут срастить два конца веревки никак не могут. А надо, если за подмогой идти порешили. — Подумать только, — сказал Романов, — веревки годной с гулькин клюв, а крючьевого хозяйства даже в избытке. — Сказал, а про себя подумал: “Худые дела. Согнуться никак не могу. А сколько раз нужно, пока хоть веревку распутаем”. И тяжело опустился на колени за концом и стоял так и понимал: и встать не могу, и лечь не вправе. — Я так располагаю, что у нас не меньше сотни скальных крюков, штук сорок шлямбурных, — прикинул Ворожищев. А сам подумал: “Что-то не таё у тебя. Адова боль в голове при самом просто движении. Думал, подвигаешься и разойдешься, а все хуже”. Подумал, да не сказал. (Счастье твое, что не знал ты тогда, врач и ученый-медик Ворожищев, про голову. Рассечена трещиной по всей затылочной кости. А по наружности только гематомы, ранки на кожице, весь страх внутри.) Коротков тревожно переводил глаза с одного на другого… Плохи! Дышат как загнанная кляча. А только и сделали, что срастили рифовым узлом веревку. Плохие мы стали. Прямо скажем, никудышные. Голову и ту не удержать. Мы сейчас совсем не мы. Одна оболочка. Как тот “жмурик”. Помните, мешок с песком? На соревнованиях спасателей кладут на носилки, спускают как пострадавшего. Вот и мы стали “жмуриками”. Надо что-то сказать им такое. Ну, взбодрить. Стараются изо всех… Не сказал… Для чего?.. Сами знают. Скользнул по руке луч. Недолгая улыбка жизни. И не остановишь ее, не придержишь. А до чего же неохота расставаться с тем, что есть! Да и рановато бы вроде. А двое уже принялись опять. Стараются. Варганят. Отбирают. Надвязывают. По это исчерпало их энергетический ресурс. Так угасает на глазах огарок свечи. Их хватило еще нанизать на репшнур гроздь крючьев. И тут Романов встретился взглядом с Ворожищевым, и Ворожищев с Романовым, и оба с Коротковым. — Плоховаты мы еще, Юрик, — обронил Ворожищев. — А путь по стене, сам знаешь, чистая пятерка, — добавил Романов. — Да разве ж с вас чего-то такого требуют? — успокаивал их Коротков и еще раз подумал: “А вдруг это и всё?” — Не сомневайтесь, нас уже начали искать. (“Если внизу остались живые, конечно”, — это про себя.) А сами будем действовать таким, значит, манером, — решал за всех Романов. — Сегодня разрешаем себе дневку. Отлеживаемся. С утра все теплое и весь харч — Юрке. Сами двигаем. Самое меньшее до гребня. Хоть воды достанем. От жажды не подох… ну, не будем без питья, одним словом, сохнуть. — Думаешь, наверх легче? — Во всяком случае, ближе. Легли. Умолкли. Романов не мог бы ответить на вопрос, что же подняло вдруг его где-то в районе 15.20. Он же не верит ни в какую чертовщину, даже именуемую “телекинезом” — умением силой взгляда перемещать предметы. Смешно сказать. Да существуй такое, разве не переместил бы он всех троих… прости, друг Кулинич… всех четверых с домбайской полки на бивак Безлюдного! А тут что-то подхлестнуло, подняло. И он увидел их. И они его. И он взмахнул рукой. И они — ледорубами. И Романов показал: “Влево, забирайте левей. Там лучше. По полке до нас проще”. Но они ушли на плечо. Дело хозяйское! Только теперь обернулся к своей богадельне: — А выход, между прочим, аннулируется. Наш, значит, выход. — Чегой-то, друг, темнишь. — И ничего не темню. Встречайте гостей. Идут к плечу. — Не ошибся, часом? — Ни боже мой! Узнал троих из четырех. Полный порядок! — Что от нас требуется? — Ничего такого. Сидеть и не рыпаться. Двинем навстречу — только напортим. Да, четверо! Факт! Туман оседал. Романов успокаивался. Они подходили ближе… Кряжистый, в свитере, с откинутой на шею каской, поднятой головой, с ежиком короткой стрижки — Слава Онищенко. Бесхитростный малый. Немогучий оратор. Отличнейший человечина. По скалам ходит в связке с самим Хергиани. За ним кто-то ростом на все 185, но этот в тени, колпачок сдвинут на лоб, лица не разберешь. Под самым большим рюкзаком топает его племяш, тоже Романов, только Славка. А тот, кто замыкающий, высокий, дымит, идет вразвалку, — явно Безлюдный. А идут ходко. Но без рывков. Как ходят альпинисты. Дошли бы!..*
С вечера трясется Куско! Месяц в небе как печать. Непонятное искусство! Землю взять и раскачать. Роберт РождественскийЭпидемии оспы, полиомиелита отводят вакцинацией. Переболевший корью обретает иммунитет. Удивительное создание — человек адаптируется: обитает под водой и в вакууме космоса, на полюсе и на войне. Но есть ли такое, что может адаптировать к жизни в землетрясениях? Есть ли?.. Чхалтинское землетрясение дало ответ: “Есть!” — “В чем же оно?” — “В тебе в самом, человек. В твоем рюкзаке, альпинист. А скинешь его с потных плеч — в тебе в самом будет”. И это не игра словечками. Это факт! В Домбае не ограничилось первым толчком. А уже в названии таких повторных толчков таится та моральная контузия, которую они наносят. “Афтершок”. Слышите ли вы?.. Шок. Когда врачи разводят руками: медицина бессильна, подготовьте близких к худшему. А в ночь Чхалтинского землетрясения эти самые шоки повторялись, и как говорил нам, покуривая да вспоминая пережитое, Кавуненко: “Такого навидались, что и страх не брал. Не доходил. Задеревенели”. Земля за эти сутки не раз побывала в шоке. Только не люди. А ведь страшное оставалось таким же страшным. И обрушивалось не на город со всеми его службами, а на четырех, на двоих. Но все они были альпинисты и, даже оставшись одни, не чувствовали себя осколками разбитого вдребезги, но частицей огромного целого. И в этот час апокалипсически Страшного суда самые обыкновенные наши парни — работяги и интеллектуалы, гуманитарии и технари — не носились со своими переживаниями, не ловчили, как бы поскорей смыться до долины. Такой оказался один. Остальных валило с йог, и они поднимались с застрявшим в башке грохотом, смахивали каменную пыль и кровавую росу. “Кажись, уцелели?” — И, беспокоясь дальше не о себе: — “Что у тех, наверху?” Еще в 21.14 они были для тебя соперниками по соревнованию. Уже в 21.18 стали теми, кому нужна рука твоей помощи. Вот откуда брались иммунитет и адаптация. Противоречит закону науки?.. Согласен! Но заложено в законе альпинизма. И потому-то в этот грозный день Домбая не надо было никого подымать, мобилизовывать, охватывать. Онищенко подал тетрадь радиограмм. Семенов приказывает Кавуненке возглавить спасработы. Непростая это штука альпинизм. И стенные восхождения в нем — самые трудные. А тут не просто идти по стене, но спускать тех, кто не может сам. … Еще подрагивает земля. Дымятся отвалы. То там, то здесь ухнет скала, и отшвырнут эхо склоны Птыша либо Хокеля. Черт те что! Но четверым, что уже снаряжаются на выход, это без надобности. Они уже впряглись. Такие разные в жизни стали вдруг схожими, словно беда проявила таившуюся общую черту: и в рассудительном, уравновешенном, вежливом Романове, и порывистом, несдержанном Кавуненке, в методично обстоятельном Онищенке и в разбрасывающемся, богемистом Безлюдном. Причесала под одну гребенку общая беда. Хочешь добраться скорее — не обременяйся грузом (как-никак стена!). Хочешь помочь — без трепа тяни на горбу шины Крамера и икру, бензин, шоколад, свитера, тросы… Да разве угадаешь отсюда, от чего зависит, быть может, спасение! Глоток бульона там нужнее тысячи добрых, самых предобрых слов. Без него они не более чем колебание воздуха. Это только на общесоюзном экране (где альпинизм показывают широкоформатно и узкотемно, цветисто и бесцветно) в фильме некоей солнечной киностудии пробившиеся сквозь вентиляторную бурю спасатели приходят к терпящим бедствие без теплых вещей, без харчей. Правда, исполненный гуманизма Сибиряков (прототип — Абалаков) широким жестом делит на шесть равных долей пропитанную жиром рукавицу. “По первоначальному замыслу спасатели по-братски давали пожевать рукавицу пострадавшим, потом уже утоляли ею голод сами, — рассказывал нам постановщик. — Наша задумка не встретила поддержки у консерваторов из худсовета. Натуралистично, поправили нас. Натурализм, переплетающийся с антисанитарией. Минздрав будет возражать”. — “Бред какой-то! — взорвался собеседник. — Не могут же никакие хоть сколько-нибудь уважающие себя спасатели выходить на помощь без ничего. И откуда еще взялась эта идиотская рукавица?” — “За прессой следить надо. Очерки читать, — обиделся постановщик. — Эпизод “Рукавица” заимствовали, генацвале, непосредственно у вас”. Лихорадочно листаю подшивки. Вот оно что… Да, грешен, писал по свежим следам из Миссес-коша, как Абалаков на труднейшем траверсе Безенгийской стены (сорвался рюкзак, буря не подпустила к заброшенному в конце стены запасу) достает последнюю луковицу. По дольке на брата. А машинистка солнечной киностудии вместо “Л” нажимает “Р”. Только и всего! “Луковица” становится “руковицей”: кушайте, пожалуйста, друзья дорогие! Неловкость рук и никакого мошенства. Но те четверо, что, перекидываясь ничего не значащими словечками, собирались на выход, были не из киношных альпинистов. Горы не терпят сахарина ни в котелке, ни в поступках. Сбрасывают маску, которую носит пай-мальчик, и он оказывается себялюбцем и трусишкой, а тот, кого вечно песочили за несоблюдение спортивного режима, он-то стоящий парень. Кавуненко. Давайте для начала распределимся. Я лично займусь с Шатаевым, Радимовым, Балашовым. Разберемся, в каком состоянии те или иные склоны. Не переть же наугад. Запарываться — возвращаться — перебирать варианты. Не та ситуация. Только верняк. Онищенко. И что это за штука такая землетрясение? Мы эту дисциплину в альпинизме не проходили. А получается — с ходу экзамен сдавать. Визуально маршрут проглядывается, а вот поди угадай, что там за каждой скалой тебя поджидает. Придется иной раз ориентироваться на объективно опасный вариант, лишь бы самый быстрый. Безлюдный. Народ подобрался как в экипаже космонавтов. Положиться можем вполне. А то сейчас выловил в эфире: “Радирует перевал Хокель. Сами в порядке. Не осталось только маршрута. За ночь развалился. Запрашиваем Семенова, что делать?” Бывают же такие чудики! Кавуненко. И это не на вершине, на перевале. Да там же ишаков из аулов с картошкой гоняют. Однако к делу, хлопцы! Сборы закругляем, выход сразу после связи с КСП. Семенов вышлет кого-то с тросовым хозяйством, без этого по стене раненых не спустишь. Безлюдный. Веревка, что по стене навешана, вся как есть побитая. И рельеф не узнать. Трещины позакупорены камнями. Романов (подавляя нервозность). Кто только не спускался, все слышали сверху вроде бы: “Помогите”. Не все разобрали, чьи голоса. Значит, кричат все слабее. Только бы не опоздать. К шестнадцати часам Кавуненко проверил наличие: спортивный скарб, харч, аптечка. Порядок! Становиться — и на выход. “Кстати, как там с прогнозом по линии погоды и опять же землетрясений?” — “Семенов имеет в виду — связывался с Пятигорском. Не обнадеживают. Толчки могут повторяться. Прогрессирующие по силе”. — “Тоже мне прогресс! Спасибо вашей тете!” (Они не знали, что наука со всей ее сетью, сейсмостанция-ми и приборами лишь ведет отсчет пульса планеты, регистрирует балльность уже свершившихся сдвигов. Предугадывать их — дело будущего.) Кавуненко на миг приостановился. Затих. В ответе теперь ты, Вовка! Дошло! Огляделся… На всех, кто здесь, положиться можешь, как на себя. Сдохнут, а до полки дотянут. А лучше не сдыхать. Между нами говоря, не хочешь, чтобы загнулись парни Короткова, — тяни из последних, а дойди. Но кто ж его знает? Хорошо бы, добрались все четверо. А нет. Собьет кого? Будем рассуждать трезво. Нужен под руками резерв. Эвакуацию по такой стене, как домбайская, меньше чем двумя—тремя четверками не осилить. Бросил, не докурив “Казбек”. — Команда моя будет такая: ужинать. Ужин самого высокого напряжения. Распихать по карманам грудинку, галеты, конфеты. Час отдыхать. И — на выход. Остальные спасотряды будут подсоединяться по мере подхода, начиная с перевала. — Оглядел всех. Такие же, как всегда, ни намека на жертвенность, надрыв. Такие всего надежней, эмоции — только лишний расход нервных клеток, они хороши — эмоции, наигрыш — для кино либо самодеятельности. Здесь ни к чему. Каждый уже занят делом, а ты что же, Кавуненко? Только под ногами у них мельтешишься. Да не мельтешусь, понимать надо, — прикидываю, вроде бы фигуры на доске расставляю. Ведь то, на что пойдем, — уже не спорт. В смысле — не один только спорт. Хотя и без него ни на шаг. Вот так, братцы: и рекордов не поставим, а рекордный маршрут одолеть придется, и в спортивный зачет его не включат. “Толчки могут повторяться”. Значит, перво-наперво эвакуироваться с этого места, где все они уже вашим землетрясением ушибленные. Сменим место, глядишь — не так уже трудное моральном плане. Уходить, и поскорей! — Нервно подобрал и тут же кинул сжеванный чинарик. — Эй, да уж не психуешь ли ты, часом? Да не психую, просто малость переживаю, а вообще-то почти как в шахматах варианты перебираю. Бывают лица материально ответственные, я — ответственное морально. Хожу е2-е4. С морены под перевал. Ваш ход, Гора. А чем она может ответить? Какую фигуру подвинет? Это все и длжно предусмотреть, предугадать ему, а не дяде. Идти, карабкаться, страховаться, бить крючья и держать в голове всю партию. “В рюкзаки!” Первый ход белых — перевал. Для элементарного туриста вполне самостоятельное мероприятие, почти событие. Для альпиниста — не больше чем дорожка, где дается старт. Вот и ваш ответ, черные. Весь день — солнце, блеск, кроткие, безобидные облачка-овечки. А тут всё враз. С утра вдали лохматились в небе цирусы.[259] “Появились цирусья — встали дыбом волосья”. Так и есть… Прометающий насквозь ущелье ветер. Гроза на миллионы вольт. Густая тьма мгновенно, без сумерек садящейся ночи наслаивается грозой. Остановиться?.. Укрыться?.. Рокироваться под склон?.. Кавуненко только и дал, что достать штормовки, раскатать плащи из серебрянки. Ночью в горах если и не видишь, то ощущаешь и тяжесть хребтов, и отсвет вершин в небе. А тут вовсе ничего. Долетит горьковатый запашок сигареты — Кавуненко задымил, — вот тебе и стежка, держись, если сможешь, на запах и топай. И не на слух уже иди — только по осязанию, по инстинкту. Час, другой… пятый… Под ногами уже не хруст, уже скрип. Это снег. Камень кончился. Значит, правильно. Значит, гребень. А как вышли на него? Не нашего ума дело, как. Шли, шли и вдруг почуяли всем телом свободный и сильный ток воздуха, воздушный Гольфстрим, и в нем живое дыхание леса и щекочущее — моря. Такое движение воздуха всегда на перевалах. В темноте голоса, топанье, волчьи зрачки фонариков. — Кто таков? Не нас, часом, дожидаетесь? — Привет, ребята! Мы спасотряд “Звездочки” альплагерь “Красная звезда”, прибыли в ваше распоряжение. — Ты у них за главного? — Не, Зискиндович, он в палатке. — Зискиндовичу салют! — Здравствуйте, Кавуненко. — Сколько привел? Спортивная квалификация? Кто из твоего народа на спасработы по высшей категории трудности способный? — Народ прямо с колес. Кто под рукой оказался, тех и привел. Квалификация не могучая: третьеразрядники с небольшим превышением. Мастеров — один я. И с сохранявшейся в этой немыслимой обстановке ленинградской щепетильностью отвел Кавуненко под скалу. Извиняющимся тоном самый сильный из наличных в Домбае мастеров сразу стал темнить, в момент выхода и вовсе сдрейфил: — Я бы лично с открытой душой, да не прошел еще акклиматизацию. Боюсь вас подвести. Кавуненко взорвался: — А здесь ему что, Гималаи? Восхождение на восьмитысячник? Скажи: не светит ему работать на дядю. Бережет драгоценное здоровье для личных мастерских восхождений. А ну его знаешь куда! Значит, теперь их не четыре, их четырнадцать. И в рюкзаках у тех, кто пришел, — тросовое хозяйство для транспортировки пострадавших. Уже дело! Значит, не тащить в случае чего на горбу, а транспортировать по тросам и роликам. Кавуненко по меньшей мере раза три проходил Домбайскую стену. Казалось, вся она не то что в памяти — в кончиках пальцев. А сегодня?.. За полтора часа взяли сорок метров по высоте. И это при полной отдаче. Кавуненко наклонился над заклинившим трещину камнем. “Выходишь теперь вперед ты, Онищенко”. Скалолаз проходит сначала маршрут глазами, потом уже пускает в ход руки. Но главная сила в ногах. Зеленого новичка выдает “игра на рояле”, когда пальцы так и бегают по камню, как по клавиатуре, вместо того чтобы ритмично отжиматься от опоры до другой. Но сегодня именно так и выглядел Онищенко. Он хочет пройти наверняка. А некуда. Чхалтинское землетрясение вновь напоминает о себе, Человек. Онищенко — не из пижонов. В руинах Баженовского дворца в Царицыне, этом скалодроме москвичей, на технике Славы обучают разрядников. Он защищал цвета столицы, СССР и на чемпионатах страны, и в Альпах. А тут: “Дальше нельзя. Придется спускаться”. Теряем высоту и время. Обидно-досадно. И ничего не попишешь! Все сжалось против тебя в кулак… Высоту потеряли. С Главного Домбая двинул по ним камнепад. Сошла лавина. Углядели метров за двести, еле по трещинам рассредоточиться поспели. А дальше отслоился кусок стены, навис над тропой и на тебя еще поглядывает. Этого только и не хватало! Снова на пятачке. Вышли на связь. КСП советует с Буульгенской перемычки на плечо Восточного Домбай-Ульгена. Наименее затронуто землетрясением. Тоже резон! И они сидят перед плоской гранитной плитой и водят пальцами по стертой на сгибах схеме. “Стена отпадает, объективно опасна”. — “Через Главную по пиле? Худо-бедно на это двое суток. Чересчур долго”. — “Вызвать вертолет? Но сначала расчищать для приема вертодром. А где для этого время и место?” А снизу шли один за другим отряды и где-то на подходах были еще. Мелькнула даже упитанная личность “того”, который отказался от выхода. Снова забубнил свое об акклиматизации. “Да никто тебя и не уговаривает. Обойдемся в лучшем виде”. И сколотили уже еще одну четверку (Витя Воробьев, Володя Вербовой, Вася Савин, Эрик Петров), а ясности все еще нет. Ясно одно: через вершину отпадает — можем элементарно не поспеть. — Так можно гадать до бесконечности, — сдерживая рвавшееся наружу раздражение, подытожил Кавуненко. — И правда, пора бы выходить, — вставил Романов. — А я о чем? О том же. Выход перед рассветом. Через Южную стену Главного Домбая. И траверсом на плиту. На сегодня это самый что ни на есть оптимальный вариант. Выходим обеими четверками. Семенову радировать: не дожидайтесь, пока дойдем до пострадавших, высылайте маршрутом Романова новые отряды. Не произнес вслух того, о чем подумал: можем свободно не дойти, в нынешней ситуации и лавины и камнепады прут, откуда отродясь их не бывало. — Заметано! День шел к закату, когда Кавуненко здорово-таки ободранными пальцами взялся за влажноватый шершавый гранит. Снизу дали слабину веревке, и он ушел метров на десять от крюка. Работали молча. Уже недалеки от полки. И никого ведь не сбило шальным камнем. А вполне могло. Даже учитывалось в планах. Уговорились: в данном случае перевязываем, закрепляем на первой же укрытой полочке, сами идем дальше. “И с чего это Кавуненко па элементарно простом “жандарме” застрял?” — спрашивал себя, терпеливо выдавая веревку, Онищенко. А Кавуненко обогнул “жандарм” по кромке. Перегнулся. Застыл. …Перед ним тени стены в слезящихся подтеках. Полочка. И он молча смотрит и не отвечает на окрики идущих за ним. Постой-постой! Да постой же!.. Разбросанные в стороны ноги в серых гольфах. Прикрытая палаткой-памиркой голова. Ближе к стене еще один. Жив ли? Не шевелится. Странное, какое-то перекрученное тело. А этот сидит, бросив меж колен голову. А четвертый? Его нет с ними. Четвертого. — Чего застопорил? — опять крикнули снизу. — Уморился? Так и скажи. Давай подменим. А он не мог ни двинуться, ни просто ответить. Очень медленно обернулся к своим. Показал на пальцах: трое мертвых, живых — один. — Боб, — сказал он слишком тихо, как говорят возле гроба, — мы пришли. — Знаю. Ждали. По каскам узнали. — Слова капали по одному, с мучительными перерывами. — Метростроевские такие у одного “Труда”. А тебя сверху, извини, не признали. Спускайся к нам поаккуратней. Камни все подмытые. — Чувствую. И Кавуненко спрыгнул на полку. Присел к лежащим. Эх вы, доходяги! Романов молча протянул ему люксовые защитные очки с алюминиевым ободком и перфорацией, не запотевали чтобы стекла: — Держи. Будут твои. Из Шамони. — Помню. Кулинича? — Юрке уже не понадобятся. — Понятно. — Спасибо, что пришли. Очень вам всем спасибо. — Переживали очень, когда с первого захода до вас не дотянули. Получай апельсин и “Мишку”. И не наша вина. Давай очищу. Маршрут до метра хоженпый, а куда не тыркнемся, рельеф весь новый. И не пройдешь. Давай “Мишку” разверну. Твои любимые. Ты заправляйся. Со мною двое врачей, сейчас вас обработаем. Ты жуй, восполняй потери. А вид у них неважней. Ох и неважнецкий же! Но Романов держит себя спокойно. И не психует. А кожа как земля. И так лицо все сжалось, что глаза вперед вылезают, как у вытащенной из воды рыбы либо больного базедом. И дышит как… Обронит слово и после каждого отдышаться должен. И это Романов. Чемпион лазунов. Кроссмен и лыжник. Красавчик Боб! Ворожищев в спальном мешке, в нише. Откроет глаза — и они сами собой смыкаются. Коротков в той самой позе, которая так удивила. Что же так изогнуло тебя, даже шевельнуться не может. А разговаривает в норме. И осталось у них на все про все полбанки сгущенки. Не густо! Впритык подоспели. — Воды достаньте, ребята, — проронил Коротков. — Что из Москвы? — Это Романов. — Как она хоть? В порядке? — Почему нет? Полнехонький ажур. Ведь наше землетрясение, — и повторил, как втолковывают туго воспринимающим ученикам, — все наше землетрясение чисто местного масштаба. Домбайское. С той стороны “жандарма” все ближе голоса. Его ребята. Но возбуждение — “Добрались!” — сменилось тревожным: “Как быть? Их четверо и нас четверо”. И тут словно прорвало плотину. Здесь было всё. И понимание ситуации. И желание поддержать. Кавуненко развел такой могучий безудержный трёп, будто слова могли возместить те двести граммов, которые вовсе не помешали бы сейчас ни лежащим, ни ему. — Спрашиваешь — говоришь за Москву. Но сомневайся, в курсе. За нами следом спасатели. Наладим троса и с но горком всех вас до КСП — и нах Москау. Столица уже заждалась. Женатиков ждут супруги, остальных тоже кто-нибудь. Народ вы спортивный, тренированный, заживет как на собаке. Давайте уговоримся, самое позднее через месяц сбор всей капеллой на верхней веранде “Праги”. Обмыть ваше возвращение на Большую землю. Только без трезвона. Свободно могут нарушение спортивного режима припаять. Вам что, а нас пропесочат. Уговор — встречу не зажимать, вы, в смысле спасаемые. (Если бы знать тебе, Кавуненко, что этот твой “месяц” для одних обернется тремя, для Короткова и вовсе полутора годами!) …А вот и зашептал молчавший до этого гранит “жандарма”. Шуршит веревка. Скрежет оковки. Над камнем возникает каска и Онищенко: подтеки пота по лицу, уставший, улыбающийся, но свет улыбки в глазах разом выключается, когда он обводит взглядом троих и только чисто мышечным усилием удерживает ее на губах. Слава видит лежащих. Слава — медик. Слава понимает всё. За ним Слава Романов. Уже спрыгнул на полку, а поглядеть в упор боится. Но вот повстречался глазами с Борисом Романовым и, как ни озабочен Кавуненко, примечает, как будто на демонстрации химического опыта с лакмусовой бумажкой, по пепельно-серому лицу младшего Романова (чем ближе к полке, тем становился сумрачнее) резко, сразу вспыхнули отдельные красные пятна. Слились. И, как жидкость в колбе, поднималась от шеи ко лбу граница красной краски. И трое, высекая триконями искру, сбежали по граниту. Кавуненко вздохнул. Уже не один. Уже легче. А разве не мог какой-нибудь незапланированный обвал отделить его от остальных? А так уж легче. Даже горе и боль легче, когда нас много. Когда плечо человека раздвигает угрюмую немоту камня. “Не бойсь, ребята, вырвем из плена. Вернем в жизнь”. Вернем рюкзаком снега, его уже тянет из мульды[260] Безлюдный; сухим бельем, шприцем, бинтами в руках Онищенко; котелком и примусом, над которыми колдует Романов-младший. И в эту минуту ветер донес и тут же понес дальше обрывки новых голосов, и понес их над всем миром вершин, и пусть не донесет до всех топающих по всем тропам спасателей (с лишним полета шагало выручать троих), и осядут звуки росой, это живые голоса четверки Воробьева, и она тоже рядом. Нет хуже в горах, когда пойдут две группы одна над другой. Того гляди, камень на нижних сверзишь. Вот и двинул Воробьев так, чтобы нигде не оказаться над Кавуненкой, через Буульгенское ущелье, на гребень Домбая. В сиреневой тишине вечера слышались голоса, и это не голоса гор, это с воробьевского бивака, и, когда говорят спокойно, на глади сумерек прорисовываются не просто звуки, но слова людей. Звуки, обретающие смысл. — Значит, Воробьев часах в десяти ходу. Совсем даже недурственно. Мы дошли. Много, но не все. Воробьев на подходе. Больше, но тоже не все. Такие уж наши дела. Одолел ступень, думал — самая трудная, за ней новая, еще тяжелей. И вся работа наша, как говорится, не пыльная. Чего-чего, а пыли в альпинизме не водится. И всего-то навсего сделать осталось то, что в отчете (если удастся тебе, тьфу-тьфу, не сглазить бы, его написать) назовешь “спуск”. А нервов возьмет он и сил дай боже, как ни одно восхождение! Думается, наши парни испытывали здесь что-то схожее с Дональдом Кэмпбеллом. Самый быстрый автогонщик планеты, он мыслил после финиша такими же альпинистскими категориями: “Жизнь — цепь горных вершин, и не надо бояться спусков, если вслед за ними вас ожидает новый подъем. Ужасно, когда не на что больше подниматься. Отсутствие цели страница смерти. Моя мечта — умереть в ботинках альпиниста”. Не удалось это вам, старина! Поглотила вашу рекордную мотолодку и вас с нею пучина озера Кэнистон. А ходят наши парни в таких же ботинках альпиниста. Но предпочитают ходить в них за жизнью. Смерть не стала их мечтой.
*
Страх создает призраки, которые ужаснее самой действительности, а действительность, если спокойно разобраться в ней и быть готовым к любым испытаниям, становится значительно менее страшной. Дж. НеруПод вечер ущелье продул сильный и ровный, как в аэродинамической трубе, ветер, метеорологи зовут такой “коридорным” (полсуток с гор, остальные — в гору). С нагревшихся за день скал еще покапывало, и капли отскакивали от ледяного хрусталя, затянувшего отсыревшие плиты. Плотная, хоть бери в руки, струя холода уже стекала с вершин: ночь будет свежей, значит, день ясный. Эфир оповещал: “Оживление сейсмической деятельности наблюдалось на Западном Кавказе повсеместно”. “Теберда, курорт. Был испуг, гул”. “Алибек, альплагерь. Ощущали сильный горизонтальный толчок. Была паника, многие выбежали”. “На протяжении ста лет в плейстосейтовой области Чхалтинского землетрясения не было землетрясений с такой силой и с такими последствиями в лице обвалов, трещин, оползней”. Есть такое явление — миметизм: кучер становится похожим на своих лошадей, псарь — на борзых. Быть может, и в отношениях с вершинами человек вбирает что-то в себя. И большое, и что-то помельче. Так, пижону никак не дают уснуть гул волочащей камни горной реки, дальняя канонада лавин, и он ворочается на травке Медвежьей поляны, а вскоре совсем уже гадливо воспринимает и самое себя, походив недельку немытым. Иначе устроен альпинист. Кинул на камни, на лед моток веревки, квадрат пенопласта и спит себе могучим сном нераскаявшегося грешника. А многодневный слой грязи? Так он же даже экранирует солнечные лучи: гарант от ожогов. Да и вообще микроб — тварь нежная: грязи боится. Юрий Николаевич Рерих как-то поведал нам о необычном соревновании йогов: кто растопит больше снега, пользуясь только теплом собственного тела. Недалек от этого и альпинист, когда в мире льда и камня за счет такой же внутренней отопительной системы обогревает спальный мешок и самого себя. А здесь он уже не только термически, главное — теплом грубоватой души обогрел тех трех, что на полочке. И спал в эту ночь приободрившийся домбайский бивак. Ну и вызвездило нынче! И было их ужас как много, звезд, и по причине хрустальной прозрачности воздуха казались они ближе, чем из долин. Слушай, небо! Звезды! Какие же из вас, очей небесных, захотят стать счастливой звездой путников? Чудно устроен все-таки мир! Не покидая собственной комнаты, видишь перед собой на экране первого из землян, шагнувшего на пепельный покров Луны. За 385 000 километров от себя, черт возьми, видишь! А из Домбайского КСП Семенов силится, мучается, не может не то чтобы увидеть, только узнать, что же там на полочке, до которой и пяти километров нет. “Что так долго в эфир не выходят? Не стряслось ли чего?” Впору сорвать с гвоздя плащ-серебрянку, рвануть в темпе до перевала. Но этого-то и нельзя. Дергайся — психуй — сиди! Он не знал, что у тех, кто дошел-таки до полки, катастрофически садятся батареи. Только и успели сообщить ближним отрядам: “Кровь из носу, ребята, гоните по-быстрому питание. В смысле рации и для нас самих”. Воробьев уже на полке. Прирост, так сказать, на все сто. Уже не четверо, уже восемь. — Привет Кавуненке! — Салют! Кадры твои мне известные. — И, понизив голос, указал глазами на тихого, тоненького парнишечку, старательно разматывавшего барабан с тросом: — Только его в горах еще не встречал. Кто таков? — Подключился, можно сказать, с ходу. Взамен “того” самого. Того ты знаешь. Фрукт тот! Здоровей любого бугая, а шага не сделал, как загундосил: “У меня печень. Недостаточная у меня акклиматизация опять же”. Явный сачок. А этот сам предложился. Скажешь — не могуч? Не отрицаю. А в дороге им разу не пискнул. Кавуненко с недоверчивым уважением глянул на тоненького, с какими-то детскими лапками спасателя. Поглядим тебя в настоящем деле, Петров Эрик. — Не смотри, что пришли только четверо. Аврал по всему ущелью, большой сбор по лагерям. — В порядке уточнения. — Вербовой раскрыл большеформатный блокнот. Быстренько перелистал. — Где же они, записи? — Что ни страница, контуры вершин, лица, понятные одному автору записи: “Багровый закат”, “Лед в трещине по-тигриному полосатый”, “На стыке ледника и долины стал видимым дажевоздух, нежно-серый, дрожит, похож на вуаль” (наброски художника). — Вот они куда заховались. На подходе ленинградцы с Савоном, еще их ребята с Кораблиным, Узункол уже выслал группу Степанова, где-то должен топать со своими Лазебный. С полета, не меньше, факт! Пошел деловой разговор о тросах (“Хватило бы метража на весь первый отрезок. Посреди стены зависнуть — не сахар”), шлямбурных крючьях (“Вас дожидаючись, в стену крючьев понабивали”), и только между делом и обронил Кавуненко: “Планировали таким образом, что может быть па подъеме убыль личного состава”. И в этом не было ни паники, ни позы, просто один из запрограммированных вариантов. “Учли и такую возможность. Когда еще рюкзаки паковали, рассредоточили по всем емкостям и медицину, и примуса, и харч, и все теплое. Чтобы кто дойдет, тот и оказывал всю нужную помошь”. И это могло быть с каждым. Ты пошел, и ты не дошел. Не ты будешь помогать, а тебе. Но кто-то обязан дотопать до полки. Год спустя и мы оказались под стеной Домбая… С почтением вглядываемся в силу камня, подброшенного к небу. Впечатляющая, доложу вам, штука! Слабакам соваться не рекомендуется. Но таких и не было в шестьдесят третьем. Все двинули выручать всех. Л так ведь бывало не всегда и не везде. Проведем же мысленную прямую на зюйд-ост от пилы зубцов Домбайской Джуги до похожего на снежную свечу пика Инэ. Линия приведет к Гималаям, на западной оконечности которых один из восьмитысячников планеты Нанга-Парбат. Вершина, коей, по замыслу гитлеровцев, долженствовало стать через год после их прихода к власти символом победоносности нордического духа. Как-никак 8125 метров над уровнем океана. И человек не поднимался еще тогда ни на одну восьмитысячную вершину. Свастика над первым покоренным восьмитысячником планеты. “Колоссаль!” Эпохальная дата в борьбе человека со стихией. Казалось бы, ход событий обнадеживал. От главной вершины экспедицию тридцать четвертого года отделяли какие-то двести семьдесят метров по прямой, порядка километра по горизонтали. Штурм отложили на день, чтобы взойти всем пятерым. Ночная снежная буря?.. Ну и что, не впервой, отсидимся в палатках, на непогоду в июле кладем самое большее день—другой. Так они рассуждали перед большим гималайским штурмом. Считается, и с основанием, что альпинизм наименее зрелищный среди всех видов спорта. Но здесь то ли ради впечатляемости, то ли в назидание горы приподняли завесу и не спускали ее до последнего акта трагедии. Распахнув полы палаток Верхнего Ракхиотского фирна, их жители могли наблюдать затянувшуюся на десять дней гибель своих коллег. На фоне готически тяжкого Зильберкранца (“Серебряное седло”), отчеканенного ветрами Моренкопфа (“Голова мавра”), перед замершими в неподдельном волнении зрителями возникали и пропадали то зыбкие, то четко различимые в разреженной атмосфере силуэты. Их товарищи по связкам, палатке, спальному мешку, ферейну.[261] Но они передвигаются все тише, все неувереннее, и ты уже спрашиваешь себя: люди это или только призраки Гималаев? Ты насчитал их в первый день одиннадцать… Потом десять… Семь… Два… Ничего! Только белый снег да черный ветер смерти. Одна точка, казалось, еще передвигалась, но и она уже не была — так решили в палатках — жизнью, только донесшимся из мрака эхом. Нет, “это” уже не шевелится. Будем считать, что “это” — всего-навсего скатившийся камень. Так кончились на виду у нижнего лагеря Вилло Вельценбах, Ули Виланд и сам бара-сагиб Вилли Меркль. Начальник экспедиции, которого мы помнили по встречам на Кавказе, у нашей Ушбы и Шхары. Его тело найдут четыре года спустя в зеленоватом склепе льда. В кармане анораки записка, написанная неслушающейся рукой Вельценбаха:
Сагибам между 6 и 7 лагерями, особенно доктору-сагибу. Мы лежим здесь со вчерашнего дня, после того, как на спуске мы потеряли У ли (Виланда, помните, скатившуюся “глыбу”. — Е. С). Оба больны. Попытка пробиться к лагерю не удалась из-за общей слабости. У меня, Вилло [Вельценбаха], предположительно бронхит, ангина и инфлуэнца. Бара-сагиб очень слаб и поморозил руки и ноги. Мы оба шесть дней не ели ничего горячего и почти ничего не пили. Пожалуйста, помогите нам скорее здесь, в лагере. Вилло и Вилли…Но где же рука и забота и подмога нижних лагерей? Неужели в кармане штанов на гагачьем пуху? Неужели она потянулась было к Бацинской впадине, чтобы тут же вернуться в карман, в пух, в тепло, в безопасность? Так и не протянулась к снегам, где умирают. По иронии судьбы один из тех, кто вовремя смылся сверху от товарищей и наблюдал из палатки за их гибелью, там, на Большой земле, был… следователем. Но он же и не преступил закон. Сам еле спасся. А уйди на выручку к Седлу, мог бы только увеличить перечень погибших. Не так ли?.. Перебираю страницы альпинистской памяти, и они заговорили со мной голосами Виталия Абалакова, Анатолия Горелова, Вацлава Ружевского, да я мог бы назвать рядом с ними и десяток наших парней и больше. Год тридцать шестой. Зловеще и торжествующе пылает в небе Хан-Тенгри, словно напоминая о том, что киргизы зовут ее “Гора крови”. По Иныльчеку, одному из величайших глетчеров планеты, припадая на обмороженные ноги, бредет человек. Абалаков идет на поиски выручки для покалечившихся, оставшихся наверху товарищей по команде. Идет один. Не думая о себе, о ползущем все выше обморожении. Ценой тринадцати ампутаций приведет помощь. Выручит всех. Год пятьдесят восьмой. Лавина со склона пика Щуровского. Накрыло троих. Первым откопался Горелов. О чем же была первая его мысль, пробившаяся на свет? Этого мы не знаем и не узнаем никогда. Знаем о первом движении врача Анатолия Горелова. Его, атлета, спортсмена-разрядника, едва хватает на то, чтобы подняться на четвереньки. Но он освобождает из спутавшихся оледенелых веревок Артема Варжапетяна, вытаскивает его заломленные за спину руки, укутывает, вводит стимуляторы. Осматривает и второго, Костю Сизова. Не хватило его только на третьего пострадавшего, на себя, на Горелова. А третий только и может сказать Варжапетяну: “Не надо мне больше ничего, Тема. Не доставай свитер. У меня уходят последние силы. — Пауза. Шорох снега, порывы ветра, голос третьего второму. — Это всё!” Варжапетян нащупал пульс. Нету пульса. Положил на губы снег. Не тает. Прощай, Тоша! Прости и прощай и спасибо тебе, врач без белого халата! В Тырныаузской больнице скажут: у Горелова была оторвана почка, двойной перелом позвоночника. Нужно ли напоминать о том, что лечь, лежать пластом Горелов разрешил себе только после того, как отдал себя другим. Лег, чтобы не подняться. Год шестьдесят восьмой. В горах Северной Осетии непогода застукала молодых туристов. На выручку выходят инструктора-альпинисты Вацлав Ружевский с Иваном Акритовым. Нашли горе-путешественников, которые скисли до того, что лежат в промокших, оледенелых изнутри мешках, и нет у этих птенчиков сил не то чтобы разжечь примус, даже по надобности за палатку выйти (а рядом, в рюкзаке, сухая сменка и спальный мешок). Альпинисты выручили и здесь. Так уж у нас заведено. А на Домбае? Неужто это было легче, чем буря на Нанге? Ни в коем разе не легче. — Остается только спуск. — И Кавуненко сплюнул искуренный чинарик и без удивления видел, как тот не стал падать, стал, плавно планируя, подыматься. Ничего такого выдающегося, ребята, нормальные восходящие движения свободной атмосферы. — Это вы правильно изволили заметить. Именно “только”, — поддержал его Безлюдный. — Всего-то начать и кончить. Кавуненко взрывается моментально. Сейчас нет. Наваливаются новые заботы. Лебедки, блок-тормоза, троса, лягушки.[262] Всю тросовую технику доставили, не будем трясти бедолаг на носилках. Но как управляться со всей этой музыкой, в курсе один Воробьев. Понятное дело, никому об этом Кавуненко не скажет. Похоже, даже от самого себя скрывает. Ну ее, разберемся. — Троса натянулись впритык! — кричит снизу Воробьев. — Давайте, кто первыми. — Сначала кого-то для пробы из здоровых, — предупредил Кавуненко. — Вызываются, понятно, из изъявивших желание. Добровольцы, шаг вперед! И все понимающе ухмыльнулись: шагни — и загудишь и будешь гудеть аж до днища долины! — Разрешите мне. Самый же легкий, вес боксера-мухача. — Не возражаю. Обкатка трассы доверяется Петрову. Давай, Безлюдный, отправление. Теплеет. Снизу легкой вуалью колышется дыхание проснувшейся земли. Тесно ей здесь, душат ее и лед, и камень, а берет она силу, родимая, и травинки сквозь гранит пробиваются, и пихта на сланцах вырастает, и дыхание земли берет верх над вечным холодом глетчеров. Косые лучи прострочили золотыми нитками туман, и в шевелении переливов кажется, что сами обступившие ледниковый цирк вершины склоняются, приглядываются. Горы те же. Но пришел человек, и упал человек, и пришли другие и подняли упавшего. Позвякивает металл, шуршит тросик, лацкают блок-тормоза. Не гора, а транспортный цех. Конвейер. Производство жизни. — Раскручивать помалу, что ли? — Давай. — Кто внизу: по-гля-ды-вай! В оба! — Есть поглядывать в оба! И только много дней спустя, в тишайшей благодати долин, разговорятся парни из четверок Кавуненко и Воробьева: “Теперь все это пройденный этап. Доводилось на нашем веку и с верхотуры Эльбруса на лыжонках спускаться, и с парашютом затяжным падать. Домбайский спуск позлее. Глянешь наверх — мать моя родная, на чем же, собственно, спускаюсь? И знаешь ведь, что все прочностные характеристики обоснованы, но тросик такую тонину имеет, что на стенке и вовсе невидимый”. Но тогда на переживания не оставалось и секунды. Будто бег вперегонки. Кто кого? За тебя только ты сам. Против — и то, что видишь, и то, что крадется внутри у тех, кого камнями побило. Им очень худо, завтра может быть еще хуже, а послезавтра уже ничем не может быть хуже. Потому — конец! Крышка! Сказал же самому себе Онищенко, осматривая Короткова: “Переломы ключицы, бедра, лопатки, таза. А шин ни метра. Как транспортировать, если его нельзя ни сгибать, ни со спины брать?” — Беритесь, братцы, только за руки! — В таком уж разе пометили бы где-нибудь: “Не кантовать”, — весьма хладнокровно заметил пострадавший. И они ухитрились — все-таки зашинировать, подвязав его репшнуром к ледорубам, и так он лежал, ощетинившись во все стороны стальными штычками и клювами, будто отбиваясь от новых напастей. Можно приступать к эвакуации. Кто же из них не сдавал зачет по первой помощи. Но здесь?.. Гляньте на вырывающуюся из-под тебя, падающую вниз стену. Прибавьте к предстоящему “пути” заговорщический шепот лавин, пересвист летящих камней. Вот какой зачетик сдавать. Сюда же, на перемычку, в темпе чемпионов поднялись ленинградцы Кораблин с Беляевым. — Почему в кедах? Не турпоход, не бег трусцой по Летнему саду, — не столь рассердился, сколь подивился Кавуненко. — Для скорости. Ни грамму чтоб лишка. Ни ботинок не обули, ни рюкзаков не взяли. Используй где нужно. Готовые на все. Рвануть за харчами — есть такое дело, рвануть! — В этом случае умолкаю. Кораблин с тем же безотказным работягой Беляевым подбросили снизу рюкзак консервов. “Братская могила”, — разочарованно поднял банку Шатаев. Увы, это так! Под этикеткой “Консервы куриные” Невинномысский птицекомбинат поставляет хорошо вываренные… кости. Слышите ли вы это, начальнички и завхозы домбайских альплагерей?.. Маленький Онищенко затянул лямки спасательного рюкзака, лицом к затылку Славы приторочили Бориса Романова. Осторожно раскручивают лебедку. Упершись в стену расставленными циркулем ногами, пошел первым Онищенко. Кавуненко, перевесившись над краем, отсчитывает метры. Только бы хватило троса. Не зависли бы. Нет, тютелька в тютельку, даже с запасцем. И нельзя спешить. А надо. И пора бы подкинуть в организм больших калорий в смысле икорки, шоколада, ветчинки. Да нельзя! На весь высококалорийный харч пришлось наложить табу: только пострадавшим! И со всех сторон нахально слепят снежинки, а на самой стене ни снежинки, значит, и воды ни капли. Спасибо все тому же худышке Эрику. Пока перебазируют ребят на следующее “плечо” подвесной дороги, он встал и выстаивал на каком-то приступчике, стоял и по капельке набирал сочившуюся из расщелины воду. Терпелив же ты, Эрик! Наполнил-таки флягу. “Первую — лежачим”. И снова встал у расщелины. “Эту можно и спасателям”. Нацедил по крышечке от фляги. А что значит такой вот наперсток для твоей пересохшей глотки: в горах пьешь взахлеб, и с потом сколько влаги теряешь, и детериорация — обезвоживание организма опять же. Так создаются горы. Эрик накачивает примус. Из ложки осетровой икры сочинил супец. “Ничего более противного не едал за всю свою жизнь, — честно признался Кавуненко, — даже хорошо, что так мало”. И снова демонтируй пройденный участок, снимай трос, прокладывай дальше. Устал. Иногда кажется, что нет ничего от тебя и ты глядишь на себя на самого откуда-то со стороны. Прислонишься лбом к холоду камня, не давай закрыться глазам (заснешь ведь) и давай снова двигай, мужик! И заняты по горло: крюки — забивка — перевеска — троса — лягушки. Заняты, а горы напоминают, где ты и что ты такое перед ними. На твоих глазах созидался мир. Была гора — и нет горы. Срезало целый отрог. На место гребня — свежий скол цвета ветчины. Последний метр стены. И последним, подобно покидающему корабль капитану, Кавуненко. Из лазающего становишься ходящим. Вот и ты, земля: жирная, устойчивая, надежная, лоснишься от пота, разве и ты с нами работала? Мы работали. Мы и землетрясение. “Землетрясение” — слово относительно молодое. Летописец давнего века выводил гусиным пером: “И бысть в лето Трус (землетрясение) велик”. Нынешний словарь Сергея Ивановича Ожегова дает иную этимологию: “Трус — человек, легко поддающийся чувству страха”. Но в Домбае, как мы уже узнали, бысть “трус велик”, и не бысть ни единого труса.
*
Товарищ неизвестный мой С корой сожженных губ Придет на кручи, как домой. Сжимая ледоруб. Николай ТихоновВетер свистел в ушах. Все еще свистел, хотя ты сошел с гор и ты шел по своему спартаковскому лагерю и думал, что не видел еще ничего подобного этой траве и не шел по дорожкам, по газонам шел, и еще думал, что только три дня, как ушел отсюда, а будто вечность, как это было. И когда сидел еще там, на гранитном приступчике, и когда на льду сидел, отчетливо представлял себе, как вытягиваешься во весь рост в постели и погружаешься на дно невиданных цветных снов и будешь спать и спишь сколько влезет. Так он и сделает. Толково это все: и конка, и простыня, и спанье. Почему же тогда не спишь, чудак? Ведь теперь можно. За все дни. За все ночи. Потому не спится, и все тут! В инструкторской корпел над книгой приказов малый с красной повязкой “Деж.”. — Вам, собственно, кого, товарищ? — Мне бы из команды мастеров “Спартака” кого. — Часом должны быть. Спустятся вот-вот. Первым ожидается Кавуненко. — Ну, этот по времени должен уже быть. Дежурный по лагерю полистал тетрадь: — Убытие отмечено, в прибывших не значится. — Будь другом, пошукай его, не заховался ли, часом, где? — Будто я твоего Кавуненку в личность не признаю. Тому только три месяца, как зачет по скалолазаныо на Царицынском дворце у нас принимал. Владимир протянул руку: — Кавуненко! — Глаза, пожалуй, действительно ваши. — Да и все остальное опять же. Так он и прослонялся по лагерю до самого подъема. Не спит, не бодрствует, только и может что циркулировать.
*
Весной, как всегда, придут они в старый особняк на Скатертном переулке, парни, что зовут себя “продавцы ледорубов”. Имеешь стажировку, аттестацию, приходи и ты сюда, на инструкторскую биржу. Повстречаешь и Короткова, и Романовых обоих, и Онищенко. А встретишь их в метро либо в кино встретишь, в толпе и не выделишь: такие же, как все, разве что пижонства поменьше, и послушаешь, как говорят между собой, вроде по-русски говорят, а послушаешь и не всегда поймешь: “По лопате, через пилу, на третью Шхель-ду”. — “Через Сурка и Черный бастион на Щурака”. — “А Хергиани зеркало Ушбы хочет сделать”. Как всегда, летом в горы! Как всегда!
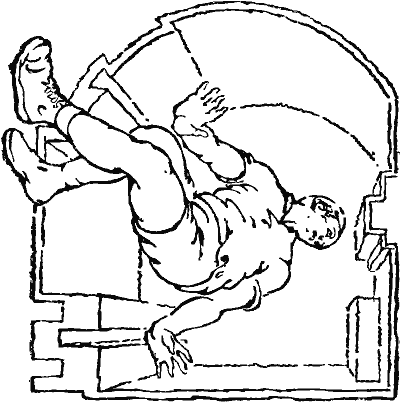
Валентинов А. ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА Фантастический рассказ
Fool proof (англ.), буквально “дурацкая защита” — комплекс приспособлений, обеспечивающий безопасную работу агрегата или машины при неумелом управлении.Если глядеть на запад, то степь казалась гигантским гофрированным листом: неширокие долинки — саи — почти параллельными рядами взлетали к горизонту, сбегаясь вместе где-то там, у розовых гор. На востоке степь тоже была гофрированной, но не так: саи казались совсем мелкими, почти сглаженными и хорошо выделялись только на пригорках. Это потому, что на западе садилось солнце, опуская в саи черные тени, а к востоку тени бледнели и сан сглаживались. Вечернее освещение углубило перспективу, и корявые кустики терскена, торчащие в одиночку, будто неприкаянные души, выделялись четко, как на старинной гравюре. Машина тоже выглядела как на гравюре. Казалось, она притянула к себе все лучи заходящего солнца, на фоне которого появилась, выпрыгнув из-за гор, точно исполинский кенгуру. Потом она расплющилась для лучшего планирования и понеслась с высоты, разрывая розовые облака круглыми, вибрирующими на концах плавниками. Теперь она напоминала гигантского ската манту, налетающего с огромной скоростью, и изуродованные ветрами ветви терскена пригибались и кланялись ей вслед. Я невольно попятился, споткнулся и сел на трухлявые ступеньки крыльца, когда огромный блин вдруг обдал хрупкие домики Базы упругой тормозной волной и стал быстро надуваться, превращаясь в толстую глянцевую колбасу. На этих ступеньках поза у меня была отнюдь не элегантная. А ведь из рубки все видно… Выругавшись шепотом, я торопливо вскочил на ноги, сметя шортами кучу песка в тапочки. Черт побери, подметаешь два раза в день, а все равно степь несет и несет свое дыхание. Надо же было именно сюда загнать испытательный полигон космических аппаратов индивидуального пользования! Сразу чувствуется отношение… Не нашлось места на космических полигонах, вынесенных за сорок тысяч километров от Земли, где испытываются большие аппараты. Машина улеглась на утоптанную волейбольную площадку, поджавшись, чтобы пролезть между столбами, и песок заскрипел под ее тяжестью. Черные влажные бока еще некоторое время колыхались, будто она не могла отдышаться. Серое пятно спереди глянцевито поблескивало. Неприятное место. Я заметил, что не только я, но и остальные члены группы избегали касаться его руками. Остальные сидят внутри Машины. Я сегодня дежурный по Базе, с исполнением обязанностей повара по совместительству. Впрочем, как это часто бывает, обязанности по совместительству — самое главное. Кроме нашей группы, на Базе не было ни одного человека, если не считать Амантая, водителя гравикара, два раза в неделю подбрасывающего продукты. Он как раз улетел полчаса назад, сделав залихватский вираж над крышами и сшибив последнюю трубу. А ночи здесь прохладненькие. Впрочем, мы все равно не топили печи: нечем, дровами нас не снабжали. Когда мы сюда прибыли, База имела восхитительно заброшенный вид. Человеческий дух абсолютно выветрился. Сейчас ведь все рвутся на космические полигоны. Большие корабли, гигантомания. Боюсь, что мы остались единственными в мире, кто еще занимается спасательными лодками. Бока Машины последний раз вздулись и опали, будто изнутри выпустили воздух. Краешек почти скрывшегося солнца окрасил темной бронзой оплывшую оболочку. Только в одном месте, где прорезалась вертикальная складка, застоялась черная тень. Потом складка углубилась, разошлась, и из образовавшегося люка выпрыгнула Лена. Мне будто нанесли удар в область сердца: на фоне вечернего увядания такая она была неожиданно свежая, весенняя, в белой, туго обтягивающей водолазке и белых же расклешенных брючках, перехваченных в талии поясом из широкой золотой пластины. Другой золотой обруч охватывал ее голову, черный поток волос из-под него свободно струился по спине. Это была последняя мода — гибрид античности с архисовременностью. Вслед за ней появились Кент и Гиви — тоже в белых отутюженных костюмах, ловкие, подтянутые, будто и сами были отутюжены и накрахмалены. Меня они не заметили, потому что вечерние тени уже протянулись от Машины к дому. Но все равно я невольно отступил за старый кривой карагач, всей кожей вдруг почувствовав, какая на мне нелепая полосатая рубашка не первой свежести и старые выцветшие шорты, крепко, по-мужски, заштопанные на правом боку. Да еще эти сбитые, все в царапинах колени. Лена шагнула вперед, потом вдруг раскинула руки и издала торжествующий возглас, на манер победного клича древних индейцев, такой громкий, что звякнули стекла. Лицо ее было скрыто сумерками, лишь обруч на голове чуть светился, словно излучал накопленный за день солнечный свет. Ребята вели себя более сдержанно. Впрочем, Кент всегда заморожен, у него это считается хорошим тоном. Зато Гиви шел на цыпочках, будто летел, быстро и мелко перебирая ногами. Так и чудилось, что на нем узкие кавказские сапоги. Глядя на них, я понял, что и это испытание прошло удачно. — Вовик! — крикнула Лена протяжно и сюсюкая, как ребенок. — Вовик, не надо прятаться от тети. Выйди из-за дерева. Я же знаю, что ты там. Таким тоном она звала меня, когда была в очень хорошем настроении, и меня всегда передергивало. Я почти ненавидел ее в эти минуты, потому что вдруг на мгновение понимал, что никогда не переступить мне тот заветный порог, за которым с мужчиной разговаривают совсем иначе. Но мгновение быстро проходило… В общем, я вышел из-за карагача. Прятаться дальше было бы сверхглупо. — Привет тебе от Пата, гор-рячий привет! — весело крикнула Лена, но конец фразы получился гораздо менее мажорным, чем начало. Она безуспешно пыталась удержать улыбку, сбегавшую с губ. Я отлично понимал ее. Надень я к встрече чистый костюм, да побрейся, да сияй благодушием — это было бы в унисон их удаче. А так… постылый влюбленный. Только ведь не объяснишь, что Амантай запоздал с харчами и я еле успел приготовить ужин, подогревая его собственным нетерпением, а уж для себя времени не осталось. Лена внезапно дернула плечом и пробежала мимо меня в дом. Экспансивный Гиви побагровел, а Кент дипломатично поднял глаза к небу, старательно отыскивая что-то среди блестящих звезд. Но он был начальник группы и не имел права молчать. — Все большой порядок. Завтра ты лететь, дурак, — сказал он, старательно улыбнулся и, аккуратно обогнув меня, пошел вслед за Леной. Гиви исчез еще раньше. Тактичность этих ребят порой ранила больней, чем откровенные взгляды девушки. Да еще этот русский язык Кента! Будь он неладен, упрямый шотландец! Мы могли бы изъясняться с ним по-английски, так нет, вбил себе в башку, что непременно должен овладеть русским. И вот результат: “Завтра ты лететь, дурак”. Нет, нет, не стоит растравлять рану. Я же отлично понимаю, что он хотел сказать: “Завтра тебе лететь дураком”. Не дурак, а дураком. В качестве дурака. Подопытным кроликом. И тоже в белом выутюженном костюмчике… Впрочем, черт с ним. Главное — что мы сделали свое дело. Все предсказывали нам неудачу, какой-то ортодоксальный доктор космических наук выступил с разгромной статьей в печати, которая, к счастью, не имела последствий. Шутка ли: гибрид живого существа и машины! Из лабораторных реторт — прямо в промышленность, да еще космическую. Нас обвиняли во всех смертных грехах, даже в идеализме. Мы только стискивали зубы. II вот первый в мире универсальный танк сверхзащиты выдержал предпоследнее испытание. Эти трое пижонов в белых брючках только что вернулись с Луны. Я злорадно ухмыльнулся, представив, как рыжий Пат О’Кейси, начальник порта нерегулярных ракет, таращит голубые глазки, пытаясь попять, почему очутилась здесь эта троица, да еще без путевки. Явиться к Пату в белых брючках! К Пату, который некогда потерпел аварию в кратере Коперника и прошел со сломанной рукой по лунному бездорожью триста километров с десятичасовым запасом кислорода. Вот почему Лена упомянула о “гор-рячем привете”: Пат просто вышвырнул их с Луны. Мне стало легче от этой картины, так ярко нарисованной в воображении. Я даже уговорил себя, что страшно рад, что не участвовал в этом полете. Потерять уважение Пата… Почему-то я был уверен, что это самое последнее дело. Я не пошел в столовую. Пусть сами копаются в кастрюлях. Жаль, что не догадался заранее перетащить к себе из холодильника несколько банок персикового компота, но теперь уже ничего не поделаешь. И вдруг я представил, как они сидят за столом, трескают компот и смеются надо мной. Это была чушь, но я ничего не мог с собой поделать. Их хохочущие физиономии так и стояли перед моими глазами. И особенно Лена. Пять лет мы работаем вместе. Когда меня выгнали из “НИИробот” за создание робота-парикмахера, который уродовал людские прически, потому что его эстетические воззрения абсолютно не совпадали с человеческими, она помогла мне устроиться в “ГИПРОкибер”. Оттуда меня тоже попросили за машину-композитора, которая почему-то выдавала такую разухабистую музыку, что почтенных ученых, воспитанных на классике, мутило. После этого я устроился, опять-таки с помощью Лены, в Академию Космических Работ. В самую бесперспективную, как считалось, группу спасательных лодок. А потом в группе появилась Лена. Почему она так заботилась обо мне? Только не из-за любви, это она тысячу раз говорила. Ну и пусть. Завтра проведу испытания и, если ничего не случится, уйду. Кажется, на Марсе требуются физики-экспериментаторы… Я уже с час ворочался на кровати. Сон не шел. А завтра необходимо быть со свежей головой. Принять таблетку, что ли? И вдруг меня осенило. Да, это будет прекрасный сюрприз па прощанье. Я пулей вылетел из кровати, зачем-то завесил одеялом окно, хотя никто и не думал подсматривать, и примялся за дело. Когда все было готово, я потушил свет, снял одеяло и, приплясывая босыми ногами на сыром песке, добежал до Машины. Вернувшись, я юркнул в кровать и мгновенно заснул. Не помню, что мне снилось, только что-то хорошее. Кажется, утром я здорово огорчил всех. Это ведь традиция — проводить испытания в новых, с иголочки, костюмах, так сказать при полном параде. Я отлично понял, почему и Лена и ребята вышли провожать меня в шортах и простых рубашках: оттенить мой праздничный вид, подчеркнуть торжественность момента. А я… Я появился в немыслимо мятой рубашке, штопаных грязных шортах, да еще с двухдневной щетиной. В розовое свежее утро, когда все блестело, умытое росой, это выглядело кощунственно. Мне показалось даже, что у Лены в глазах сверкнула слезинка. Лицо у нее стало каменное. Гиви насупился и не глядел на меня, усы у него обиженно вздрагивали. Так и казалось, что он сейчас взорвется: “Ну и черт с тобой, понымаишь! Сам будышь виноват!” Даже Кент потерял обычное хладнокровие. На мгновение во мне шевельнулось раскаяние: ну зачем плевать товарищам в душу? Но, взглянув на Лену, я снова ожесточился. Торжественных речей не полагалось, но существовал ритуал похлопать по плечам уходящего в рейс. Черт знает, из каких времен он дошел до нас. Но и этого удовольствия я им не доставил. Разбежался и вскочил внутрь Машины, не дождавшись, пока она спустит подножку. Затем положил ладони на края люка, сделал легкое мускульное усилие, и стенки послушно пошли навстречу друг другу. И только тогда я не выдержал, крикнул: — Счастливо оставаться, братцы! В тот же момент стенки сошлись так, что шва невозможно было отыскать, и я не услышал, что закричали товарищи. Потом я нажал кнопку излучателя, и датчики, вживленные в тело Машины, подали ложные сигналы ее рецепторам. Теперь Машина уверена, что снаружи космическая пустота и холод. Условия — как на астероиде, и, следовательно, выпускать пассажира наружу нельзя. А пассажир — дурак. В этом суть испытания: защита от дурака. Вернее, защита дурака. Вернее, защита дурака от себя самого. Мало ли что может случиться в полете среди равнодушных звезд. Обезумевший от ужаса пассажир после катастрофы; космонавт, заболевший особым видом безумия — космической паранойей; ребенок, наконец, в последний момент втолкнутый взрослыми в танк, чтобы хоть он спасся, — любой из них, оказавшись один на один с космосом, может метаться по каюте, отдавать идиотские приказы… Машина обязана повиноваться человеку, но только в той мере, в какой обеспечивается его безопасность. Вот на эту-то меру я и должен провести испытание. Нормальному человеку трудно “вжиться в образ” безумца. Несмотря на модные теории психологов, усиленно подчеркивающих разницу между человеческим и машинным мышлением, человек вовсе не подвержен алогичным поступкам. Наоборот, его поступки обязательно логичны, хотя причины, вызывающие их, могут лежать очень глубоко. Даже у сумасшедшего своя логика. Вся разница между Машиной и человеком в том, что у Машины причины поступков всегда на виду. И так же она понимает причины человеческих деяний, разматывая виток за витком все возможные логические обоснования. Поэтому я заранее решил, что буду вести себя, как расчетливый самоубийца. Только так можно обмануть Машину, потому что это единственное, чего ей никогда не понять. Я подошел к пульту, оглядел пять рядов разноцветных кнопок, почему-то не решаясь начать. На серийных машинах пульта, разумеется, не будет: он годен только в планетных условиях. Дело в том, что сейчас отдавать мысленные приказы нельзя. Машина прочтет и вторую мысль, подспудную, объясняющую для себя самого смысл первой. И мгновенно игра будет проиграна. Наоборот, нужно глушить все подспудные мысли, убедить себя, что жизнь действительно не стоит того, чтобы ею так уж дорожить. Я вспомнил черноволосую головку с точеным носиком и решил, что это будет совсем нетрудно. Однако пора приниматься за дело. Я ткнул пальцем в кнопку аварийного открывания люка. В обычных условиях на этот приказ Машина должна мгновенно развести стенки и высунуть далеко наружу трап, чтобы пассажиры опрометью могли выбежать. В обычных условиях… Стены рубки заволновались, по ним прошла дрожь. Машина явно удивилась: как можно отдавать такой приказ, когда снаружи смертельный космос? Разумеется, она не выпустит пассажира. Над пультом появились слова, лаконично объясняющие ситуацию. Я сделал отметку в журнале наблюдений и надавил кнопку “Полный вперед”. Так начался этот поединок. “Полный вперед” — это вторая космическая в условиях Земли. Но в этом случае необходимо дать и координаты той точки в космосе, куда необходимо попасть, так как удержаться на поверхности Земли с такой скоростью невозможно. Как поступит Машина? Если она не двинется с места, ожидая уточнения команды, — это решение разумное, но неверное. Ведь в каюте дурак и его надо куда-то доставить. Впрочем, Машине надо еще разобраться, какой у нее пассажир. Машина помчалась над самой поверхностью. Степки рубки внезапно посветлели, будто растворились в наружном воздухе, и пригибающиеся кустики терскена, казалось, метут по ногам, а аккуратные саи мелькали в учащающемся, прямо-таки музыкальном ритме. Та-та-та-та… Та-та-та-та… Та-та… В памяти вспыхнул мотив самой быстрой части Шестой рапсодии Листа. Звуки гигантского оркестра нарастали с увеличением скорости. Этим показом движения Машина явно намекала, что следовало бы уточнить курс. Световой зайчик спидометра резво перескакивал с цифры на цифру. 200… 500… 800… 1000… Тысяча километров в час. Скорость по паспорту, больше Машина давать не собиралась. Судя по всему, она намеревалась огибать так Землю до бесконечности. Ну что ж, подождем несколько часов, а там снова будем биться над этим проклятым полуживым механизмом, который не выдержал элементарного испытания. Что толку крутиться над мертвой планетой, надо везти пассажира туда, где он сможет жить. Я задумался и не засек, сколько прошло времени, когда Машина резко задрала нос и полезла в небо. Разумеется, я тут был ни при чем: если пассажир командует с помощью кнопок, Машина не станет вступать с ним в биосвязь, пока уверена, что он нормальный пассажир. Значит, догадалась сама. Интересно, куда она собирается меня везти? Я бросил взгляд на медленно вращающийся звездный глобус. Пока Машина доверяет пассажиру, она показывает конечную цель. Ага, Луна. Ближайшая населенная планета. Разумно, я бы и сам так сделал. Беда лишь в том, что моя задача — спровоцировать Машину хотя бы на одно неразумное действие. Я нажал кнопку “Вверх” и не отнимал палец, пока Земля не оказалась за кормой. Попробуйте удержаться на ногах, когда пол вдруг становится вертикальной стеной. Пришлось вцепиться в пульт обеими руками. Правда, Машина услужливо соорудила в полу ступеньки для ног. Молодец, умница, но как ты, должно быть, злишься, что тебя сбили с правильных координат, а курс опять не уточняют! Ничего, старушка, придется тебе попотеть. Кажется, ступеньки под ногами стали чуть уже. Опять намек? Я осторожно свесил голову. Как быстро уходит Земля! Желтая степь стремительно сокращалась, словно шагреневая кожа, замыкаясь розовыми полосками гор на севере и западе, узкой ленточкой озера на юге, зеленым пятном оазиса на востоке. Красные крыши Базы еле-еле проступали крохотными крапинками, а может, это просто рябило в глазах. Хорошо идет, молодец, плавно, без шума, не переходит на форсированный режим! Это очень неприятно, когда она идет на форсаже: силовые поля, взаимодействуя выше определенной напряженности, надрывно воют, как леший в старинных сказках. А ведь скорость-то увеличивается. Я с трудом повернул голову к спидометру. Подбираемся к первой космической. Представляю, что делается в блоках памяти! Снова и снова со скоростью света Машина перетряхивает свои знания и убеждается, что там, куда мы летим, нет ни планет, годных для жизни, ни орбитальных станций. И все-таки Машина уходит в космос. Значит, пока доверяет человеку как носителю высшего знания. Ладно, сейчас носитель себя покажет! Кнопка “Вертикально вниз” находилась в самом верхнем ряду. Чтобы достать ее, мне пришлось подтянуться обеими руками и опереться животом об острый край пульта. Попробуйте побалансируйте на животе, когда проклятая доска упирается в диафрагму и уж действительно ни вздохнуть, ни охнуть. А ведь предстоит подать команду, после которой неизвестно еще что будет. Не удивительно, что я невольно зажмурился. Мелькнула совершенно идиотская мысль: а вдруг ошибусь, нажму не ту кнопку? Вот было бы здорово! Я рассвирепел от злости на собственную трусость, вытаращил глаза как можно шире и изо всей силы придавил кнопку, рискуя сломать палец. Хорошо, что я рассвирепел. Иначе нипочем бы не удержался на пульте, когда Машина сделала лихой разворот на сто восемьдесят градусов. Сначала край пульта так впился мне в живот, что дыхание прервалось, а в глазах понеслись огненные кометы. Затем я взмыл к потолку, не весь, разумеется, а только ноги и туловище: руками держался крепко. На мгновение наступило тошнотворное состояние невесомости, а потом меня будто мощным прессом припечатало к пульту, и я потерял сознание. Не то Машина не успела полностью поглотить инерцию, не то не захотела этого сделать. В последнем случае она поступила совершенно правильно: я и сам за подобные штуки любому сказал бы пару “теплых” слов. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на самом краю пульта, свесив голову и ноги через угол. Левая рука мертвой хваткой вцепилась в окантовку, правая продолжала давить на кнопку. Первой моей мыслью было… впрочем, нет, первой была не мысль, а ощущение, что каким-то чудом я еще жив. Затем обожгло, что мы вот-вот врежемся в Землю: неизвестно ведь, сколько времени я провел по ту сторону сознания. Я не успел продумать эту мысль до конца, как совершенно непроизвольно отдернул руку и скатился с пульта. Совсем рядом с ужасающей скоростью желтой смертью налетала Земля. Мгновение — и будет удар… Видимо, нервы под влиянием ужаса заставляют зрачки удлинять фокусное расстояние и, как следствие, приближать предметы. Наверное, отсюда и пошла пословица, что у страха глаза велики. Чем иным можно объяснить, что, как только я очухался. Земля оказалась далеко-далеко внизу? И мы вовсе не падали, а плавно опускались. Требуемое неподчинение? Нет, Машина пунктуально выполнила приказ “Вертикально вниз”, но в своей интерпретации. С небольшим запозданием меня прошиб пот и мускулы обмякли. Я сел на пол, прислонившись к прохладной обшивке пульта, и старался унять противную дрожь, начинавшуюся где-то у копчика и морозной волной пробегавшую по всему телу. Долго это не удавалось, пока я снова не разозлился на себя, а заодно и на Машину. Тогда все опять пришло в норму. Я сел на пульт, крепко обхватив его ногами, заставил Машину наклонить нос к Земле и скомандовал максимальную скорость. Должно быть, Машина тоже рассвирепела. Во всяком случае, она ринулась к Земле с такой готовностью, какой я не ожидал. Вполне естественно: у биомеханического организма должны быть какие-то эмоции. Это моя собственная теория. Правда, ее никто не разделяет, я не раз схватывался на эту тему и с Кентом, и с Гиви, и с Леной. Они считают, что эмоции у машины могут быть только те, которые разрешил человек. Мои же парикмахер и композитор дают мне право считать, что мы не всегда властны над эмоциями роботов. Эго, конечно, только теория. Но теория тем и хороша, что имеет право на существование, какой бы абсурдной ни казалась. Вот когда накапливаются неопровержимые факты, тогда теория либо рассыпается в прах, либо приобретает железобетонную силу закона. Земля мчалась на нас со скоростью метеорита. Желтое пятно степи отодвинулось влево за борт, зато розовая полоска на краю зловеще распухала, как атомный гриб, меняя цвет на грязно-коричневый, перерезывалась морщинами, ощетинивалась острыми клыками… Горы. Их острые пики хищно вытягивались навстречу. Я не мог заставить себя взглянуть на альтиметр. И так видел, что осталось мало, слишком мало… Какая-то гнетущая тяжесть залила затылок, протянула щупальца к вискам, сдавила лобные доли. Точно свинцовый обруч плотно стиснул голову. А потом начали взрываться крохотные гранаты. Точка… тире… тире… точка… Гранаты рвались все глубже, чаще, меня затошнило, стало муторно и беспомощно, словно в кошмарном сне, когда не можешь пошевелиться, чтобы избегнуть опасности. Точки и тире сыпались, как пулеметная очередь, сливаясь в слова, разрывающие сознание. Это Машина исследовала мой мозг, упорно спрашивая: “Зачем? Зачем?” Закрыв глаза, напружив мускулы до судорог, я твердил в ответ: “Надо! Надо!” Палец онемел от напряжения. Теперь уже не он давил на кнопку, а кнопка на него. Будто кто-то внутри пульта изо всей силы выдавливал ее наружу. Пришлось удерживать ее в утопленном состоянии кулаком. А горы были совсем близко. Их угрюмые пятнистые бока, казалось, трепетали от предвкушения… Вон тот камень, серый, с отломанным углом, что наполовину высунулся из коричневой осыпи. Он, пожалуй, устоит и перед таким ударом. Ну, может, еще один угол отломается. Какой у него неприятный изъеденный бок… И вдруг кнопка провалилась. Разумеется, это только показалось: она осталась на месте, а исчезло сопротивление. Это было неожиданно и страшно, страшно своей безнадежностью. Так, должно быть, расстреливаемый, уловив в последнее мгновение белые одуванчики на дулах, успевает интуитивно понять — не осмыслить, на это уже нет времени, — что это все-таки конец: ибо до этих одуванчиков в нем все еще теплилась сумасшедшая надежда. В тот же миг серый изъеденный бок метнулся вправо и исчез, а на меня обрушился удар. Впрочем, “обрушился” не то слово. Просто не могу подобрать точное определение той силы, что смяла, раздавила меня, оторвала от пульта и, как тряпку, швырнула в угол. Стены рубки, вытягиваясь длинными языками, хлестали меня, гоняли по диагоналям, перебрасывали по воздуху. Я летел по рубке, обезумев от увесистых шлепков рассвирепевшего механизма. Черт побери, у этого монстра больше эмоций, чем надо бы. Унизительно получить взбучку от Машины, которую создал собственными руками! Впрочем, унижения я не чувствовал. Наоборот. Как это ни странно, меня охватывала гордость. Внезапно ноздри защекотал резкий запах. Кислород. И еще какая-то адская тонизирующая смесь вроде нашатыря с медом. Машина меняла состав воздуха, чтобы “образумить” пассажира. Я валялся на полу, мысленно собирая себя по кусочкам, и жадно вдыхал свежий, проясняющий мысли газ. Пожалуй, мы слишком тешим собственное самолюбие, внушая Машине такое неоправданное почтение к человеку. По расчетам, на этом испытания должны были закончиться, однако Машина все еще готова выполнять приказания. Ну что ж, у нас в запасе есть еще один сюрприз. Если Машина перешагнет и через него, испытания придется признать неудачными. Тогда снова за расчеты. А жаль: три года работы! На мгновение меня пронзила острая жалость к затраченным трудам. В скольких удовольствиях было себе отказано, и все напрасно! Но тут же передо мной встали лица шести мальчишек, детей физиков с Эйры. Страшные, не детские лица. Я был в поисковой партии, искал “Наутилус”, который они угнали “покататься”. И ни один из этих дураков не умел обращаться с рацией. Тлько через месяц мы случайно нащупали их радаром совсем в другой точке космоса, чем предполагалось! Месяц! Счастье еще, что они не сумели войти в подпространство! Наверное, так же и летчики-испытатели раньше никогда не летали одни. За их спинами, в салонах, сидели пассажиры. Дети, женщины, полные здоровья и сил мужчины. Тысячи пассажиров, десятки тысяч. И ради их жизней летчики рисковали своей, выжимая из машин максимум, выискивая ту крохотную, незаметную причину, которая через десятки или сотни рейсов приведет к катастрофе. Найти и устранить. Так уж повелось у людей: ничто не дается даром. Ты должен самым дорогим, самым ценным для тебя поручиться за людей, которые ходят по Земле, смеются, любят и ни о чем не подозревают. А самое ценное у человека — его жизнь… Мы опять мчались над Землей. Высота три тысячи. Теперь в автопилот введены точные координаты. Однако я заметил, что Машина повиновалась не сразу. Она сначала “проиграла” маршрут в блоке памяти, уверилась, чтоничего опасного на пути нет, и только после этого набрала скорость. Да и то небольшую. Это хорошо: Машина не доверяет пассажиру. Но все-таки слушается его, пока приказания разумны. А моя цель — довести Машину до открытого неповиновения. Так испытатели заставляли самолет разваливаться в воздухе, чтобы выяснить предел перегрузок. Ноздри уже не щипало: Машина снова изменила состав воздуха, как только пассажир, по ее убеждению, “пришел в себя”. Но все-таки кислорода она давала больше нормы. Я понял это по отсутствию малейших следов усталости и по ясности мысли. Если бы еще не болел синяк под глазом! Я не поленился подойти к пульту и посмотреться в зеркальную шкалу альтиметра. Ну и вид! Землю закрывали облака. Плотные, пухлые, как подушки на постели великана. По ним, ломаясь в ухабах, ползла тень — остроносая сигара. Самая удобная форма для любых неожиданностей. Внезапно нос сигары наклонился, и облака дробно застучали по корпусу. Машина села точно на голый курган с каменной пирамидкой на вершине. Я надел на голову обруч с биодатчиками и, стараясь мыслить четко и конкретно, стал отдавать приказания. Теперь можно было войти в биоконтакт с Машиной: вторично она не полезет проверять психику. В пирамидку вмурованы два кубика — белый и черный. Два симпатичных пластмассовых кубика, одинаковых по весу и объему, только черный обладает радиоактивностью, убивающей человека максимум за два часа. Я отдал приказание разломать пирамидку и доставить кубики в рубку. Машина вытянулась, нос ее почти вплотную подполз к пирамидке. Мне не было видно, но я отчетливо представил, как жадно дышит серое пятно, колыхаясь и чмокая, точно голодное болото. Все-таки не стоило, наверное, снабжать спасательную лодку с эмоциями таким оружием. По стенам пробегала дрожь, а пирамидка медленно таяла в воздухе. Все, будто ее и не было. Растаяли и кубики, но их Машина снова “соберет” сейчас по молекулам. Мне стало не по себе, когда я подумал, что Машина точно так же могла “разобрать” меня, чтобы “собрать” в безопасном месте. Тогда мне уже никогда не суждено было бы вновь материализоваться: на любой планете, на любой орбитальной станции датчики показали бы Машине космический вакуум. Миллионы лет бродила бы она по Вселенной, ища обитаемую планету… Мы не предусмотрели такой вариант. Впрочем, мы не предусмотрели и другого: что делать, если Машина внесет черный кубик в рубку. Были абсолютно уверены, что она этого не сделает. Да я и сейчас в этом уверен. Иначе было бы очень уж глупо. А если и внесет, тоже ничего особенного: понадобится несколько секунд, чтобы приказать его выбросить. За это время радиация большого вреда не сделает. Просто прибавит несколько рентген к тем семидесяти, что у меня уже есть. Передняя стена заколыхалась, вытянулась в длинный язык, на кончике которого приплыл белый кубик. А в воздухе над пультом появились слова и цифры, объясняющие, что черный кубик опасен. Любому здравомыслящему пассажиру этого было бы достаточно. Но я — то ведь не здравомыслящий. Поэтому, поправив биообруч на голове, я отдал идиотский приказ: подать сюда черный кубик. И сразу стены рубки потухли. Черные глянцевые плоскости — больше Машина ничего не позволяла мне видеть. Теперь она окончательно убедилась, что везет полнейшего идиота. Я ухмыльнулся и отдал серию приказов — биотоками и на пульте. Приказов вполне разумных. Никакого эффекта. Машина не отзывалась. Она куда-то тащила меня, скорее всего на Луну. Ну что ж, испытания окончены. Я послал импульс датчикам, чтобы они прекратили сбивать Машину с толку, и почувствовал, что курс изменился: Машина повернула на Базу. Потом я раскрыл чемоданчик, который ночью спрятал в рубке, и достал белый костюм и бритву. Экзамен выдержан. Машина отказалась повиноваться на четвертом идиотском приказе — это в пределах нормы. Несмотря на эмоции, она не выбросила меня в космос, не усыпила, не разложила на молекулы. Она служила человеку и честно боролась за него против него самого. Ей может довериться любой потерпевший крушение. Несколько дней займут необходимые формальности, пока Ученый совет Академии Космических Работ рассмотрит материалы и вынесет решение, а затем Машину поставят на конвейер. Больше ей никогда не придется летать. Все, что мы вложили в нее, все, чему она сама научилась за время испытаний, она передаст тысячам других машин, подобных ей. А может, и не совсем подобных, это уж ей решать. Наверняка другие машины не будут так долго определять компетентность пассажира. Им достаточно будет одного глупого приказа. Я потрогал синяк. В конце концов, не такая уж большая плата за то, чтобы другие в будущем не получали синяков. У меня было достаточно времени, чтобы привести себя в порядок и заполнить журнал. Про синяк я, разумеется, писать не стал: никому, кроме меня, это не интересно. Мягкий толчок, стены рубки слегка опадают, и вот появляется светлая щель. Солнечный свет кажется нестерпимым, ощупью ступаю на Землю и слышу общий вздох и голоса: — Очень кароший мистификаций. У нас тоже любить так мистифицировать. — Малчышка, понимаишь, рэмна тэбэ нада. Иди поцелую, дарагой. И не нада ничего говорыть. Все ясно. И еще одни голос — милый и с такими необычными интонациями, что я мгновенно распахиваю глаза: — Володичка, иди скорей в столовую. Я тебе приготовила такой ужин… И тут я понимаю, что солнце не встает из-за гор, а садится за них и что испытание продолжалось шестнадцать часов.

Скорин И. РАССКАЗ ОТСТАВНОГО “СЫЩИКА”
Десять суток просидеть за решеткой в противной, пропитавшейся карболкой и еще какими-то запахами клетке трудно. Трудно вдвойне, если знаешь, что не виноват; знаешь, что выполнил не только приказ, но и свой долг. Плохо сидеть без работы и прогулок, и к тому же еще и отвратительно кормят. Миска бурды на завтрак да такая же порция на ужин. Если бы не передачи, то хоть пропади. Правда, появилась уйма свободного времени и можно вспоминать друзей, трудную работу и все несчастья, свалившиеся за этот месяц. Детства он почти не помнил, зато отчетливо сохранилась в памяти школа. Учился он прилежно и окончил ее с медалью. А сколько потом было этих медалей! Конечно, каждая медаль, приз или диплом доставляли большое удовольствие его другу и наставнику, старшему лейтенанту милиции Акимову. Они проработали вместе целую вечность — восемь лет, и если бы не эта невесть откуда свалившаяся болезнь, наверное, все было бы по-прежнему. Легкая простуда, на которую он, в общем-то, не обратил внимания, дала осложнение, и его списали за невозможностью дальнейшего использования в уголовном розыске. Сейчас, лежа на соломенном матраце, он какой уже раз перебирал в памяти все события. Правду говорят, что уж если не повезет, то не повезет. Отчетливо запомнился тот день, когда к нему пришел старший лейтенант милиции Акимов, уселся на пороге и начал говорить. Он не все понял из того, что говорил друг, разобрал только главное: что ему нельзя больше работать, потому что после болезни пропало его основное качество — обоняние и по состоянию здоровья его списали из уголовного розыска. Наверное, так думал — а он наверняка все понимал и умел думать — этот огромный служебно-розыскной пес Амур. В этот день Амур слушал Акимова внимательно, а тот говорил и украдкой смахивал слезу; говорил, что никогда не забудет Амура, что теперь у него уже не будет такого умного и добросовестного помощника, что ему пришлось взять другую собаку, так как он проводник, а проводнику нельзя без собаки. И он, Акимов, еще не знает, что получится из этого нового помощника. Перебирая парадный ошейник, сплошь увешанный медалями и жетонами, друг рассматривал их, как будто раньше никогда не видал, брал в руки медаль, смотрел и вспоминал, где они ее заработали. А Амуру нечего было вспоминать, он все их помнил наперечет. Несколько были за красоту шерсти и фигуру, как говорится, за экстерьер, но большая часть — за состязания. Любил Амур эти состязания. Ему нравилось гордо пройти по рингу перед публикой и судьями и нравилось идти впереди других собак. Команды он тогда выполнял особенно четко, с удовольствием, а когда разрешалось проявить инициативу, то с особой сноровкой показывал все, что знал. Так было до болезни. Но когда Амур заболел, не помогли ни врачи, ни лекарства, хотя в питомнике очень хороший врач — Галина Викторовна. Она поднимала на ноги почти издыхающих собак. Все помнят, как года три назад ранили Ладу, красивую восточноевропейскую овчарку с дымчатой шерстью, стройную и очень умную. Она пошла на задержание вооруженного бандита, ловко схватила крепкими зубами руку с пистолетом, но не заметила, что в другой у преступника был нож, и бандит ударил Ладу ножом. Проводник привез ее в питомник полуживую. Ох и переполох тогда поднялся! Начальник питомника и проводники разволновались, а собаки устроили такой лай, что их едва усмирили. Галина Викторовна спасла Ладу, сделала операцию, потом носилась с ней, как с малым щенком. Амур вместе с Акимовым навещал больную. Лада выздоровела и снова начала работать. Амур встречался с ней изредка: то на тренировочной площадке, то в машине, когда везли на дежурство, и даже пытался ухаживать, но красавица Лада несколько раз ласково куснула его и отвергла случайные знакомства. А вот Амуру врач не помогла, хотя и поила всякой гадостью, делала уколы. После того как Акимов прощался с Амуром, он заходил к нему еще несколько раз, приносил сахар, вкусные вещи, от которых пахло домом. А однажды Амур, бросившись навстречу к старшему лейтенанту, услышал, что от его друга пахнет собакой. Другой собакой. Амур понял, что это конец, что у Акимова есть уже другой помощник. Амур отошел в дальний угол вольера и тяжело и горько заскулил. В тот день и на следующий Амур не притронулся к еде. Нет, он не объявлял голодовку. Ему просто не хотелось есть. Ему ничего не хотелось. Он забился в угол утепленной части своего жилья, положил голову на вытянутые вперед лапы и предался молчаливой тоске. Дежурный по питомнику несколько раз заходил к нему, приходила Галина Викторовна, говорила ему какие-то ласковые слова, но что эти слова, когда у него уже нет больше друга! Потом пришел начальник всего служебного собаководства, невысокий плотный подполковник — Иван Егорович. Проводники его боялись, а собаки ему доверяли. Амур отлично знал этого подполковника. Знал, что он понимает собак, не дает их в обиду и держит в строгости всех люден. Сразу припомнился случай, когда во время тренировки молодая служебная собака испугалась лестницы и не пошла вверх, а ее проводник, тоже молодой, ударил трусишку поводком. Подполковник отчитал проводника, приласкал собаку, пустил на лестницу Амура, еще несколько опытных взрослых собак, а затем и молодую, и та пошла. Все это промелькнуло в памяти Амура, когда в вольер вошел подполковник. Он опустился на корточки рядом, приласкал его, почесал за ухом, погладил лоб и начал говорить: — Что же нам делать с тобой, Амур? Ты здоровый, сильный, хорошо тренированный пес. Хорошо знаешь свою работу. Но без чутья нам ведь нельзя. В городе и так уйма посторонних запахов на следах, а теперь ты их не разберешь. Вспомни, как трудно было тебе летом во время ограбления магазина, когда преступники испортили свой след. И Амур вспомнил.*
Дежурство уже подходило к концу, занималось летнее утро. В ожидании происшествий Амур дремал в небольшом вольере возле дежурной части, где помещали собак, привезенных из питомника в суточный наряд. Он хорошо усвоил, что на дежурстве тишине и покою не следует верить. Просто нужно ждать. Когда Амур услышал быстрые шаги и заметил пробежавшего к машине шофера, сразу понял: что-то случилось и придется ехать. Вскоре торопливо выбежал Акимов со своей полевой сумкой и парадным ошейником. Ох, этот Акимов, любил он блеснуть! Любил приехать на происшествие и показать собравшимся Амура при всех его регалиях. Амур, по давно заведенному порядку, снял с гвоздя туго скрученный в жгут длинный поводок, зажал его в зубах и ждал. Акимов открыл дверь и жестом показал на микроавтобус. К нему уже спешили эксперт с кожаным чемоданом в руке, врач в белом халате, от которого всегда противно пахло, точно так же, как здесь сейчас. Вышла следователь-женщина, работник уголовного розыска, молодой, видно новый, раньше Амур на дежурстве его не видел. Амур застыл у двери — не мог же он так же, как эти мужчины, лезть вперед, не пропустив женщину. Пока все садились, Акимов успел надеть на него парадный замшевый ошейник, тяжеленный-претяжеленный от медалей и жетонов. Последним вышел самый главный — подполковник Виктор Иванович. Он всегда выходил последним, никогда не торопился, но и не опаздывал. Он попросил женщину-следователя сесть рядом с шофером, и машина рванулась. Амур очень любил эти поспешные, но без суматохи выезды, любил смотреть в окно, ловить встречный ветер, в котором всегда, даже в жару, была свежесть и прохлада. Амур стоял посредине автобуса и смотрел на Виктора Ивановича, и тот, поймав его взгляд, как обычно понял и подвинулся, пропустил Амура к окну. Акимов освободил поводок, и Амур высунул голову в открытое окно навстречу ветру. За окном мелькали дома, деревья, улицы. Во встречном потоке убавилось городских запахов, пропал раздражающий бензин, не осталось копоти, гари, испарений асфальта, и Амур понял, что они едут на окраину, и прислушался к разговору. Виктор Иванович рассказывал: — Один рыбак встал чуть свет и поспешил на зорьку. Шел мимо магазина и заглянул к сторожу, хотел узнать, как ему вчера ловилось. Обошел магазин, а сторожа нигде нет. Заглянул в ограду — двери в склад открыты, а в складе сторож убитый. При слове “склад” Амур сразу же представил себе уйму запахов, представил, как трудно будет ему отыскать тот самый главный запах, что потом нужно запомнить и идти по его следу. Не любил он эти склады, в них обязательно что-то разольют, разбросают самое пахучее, а ему разбирайся. Ну да ладно, решил он про себя, не впервой, разберемся. Тем временем автобус пробежал по веселой, с травой и деревьями, улице и остановился возле светлого, из бетона и стекла магазина. Первым выпустили из машины Амура. Акимов отпустил его на всю длину поводка и позволил осмотреть лужайку, отдохнуть от поездки. Амур обнюхал несколько столбиков, по давней собачьей привычке оставил на каждом свою роспись, а оперативная группа окружила мужчину с длинными удочками и слушала его рассказ. До Амура долетел, видимо, конец разговора. Хозяин удочек говорил: — В склад я не заходил, заглянул в дверь, увидел, что дружок лежит на полу, и бросился к телефону. Амур подумал, что, прежде чем искать след, нужно хорошо обнюхать этого рыбака, чтобы потом не перепутать. Акимов привязал Амура к дереву, растущему возле тротуара, а сам вместе с Виктором Ивановичем и врачом отправились в магазин. Амур наблюдал, как шли они медленно, уставившись себе под ноги, и с благодарностью подумал, что они стараются для пего, хотят не затоптать следы, по которым потом ему работать. Когда они скрылись во дворе магазина, Амур стал рассматривать рыболова: мужчина как мужчина; конечно, взволнован, повторяет свой рассказ следователю, а та записывает все в блокнот. Закончился их разговор, и рыболов с опаской подошел к Амуру, с любопытством, не стесняясь, словно на выставке, стал его рассматривать. Пересчитал медали и спросил у следователя, сколько же Амур раскрыл преступлений. Та пожала плечами и ответила, что много, но сколько, она не знает. Конечно, не знает. Этого и сам Амур не запомнил. Разве что знают Акимов да начальник питомника. А рыбак снова спросил, за что у него награды, за пойманных преступников? Вот чудак, подумал Амур. Собакам дают награды только на выставках да на соревнованиях. За раскрытые преступления иногда награждают Акимова или его начальника. Когда они поймают преступников, Амура, конечно, хвалят, угощают чем-нибудь вкусным. Если бы умел, Амур мог бы рассказать, что у Акимова на руке часы за пойманных ими грабителей. Дома — радиоприемник и фотоаппарат за раскрытые кражи и разбои. Что есть у его друга грамоты и тоже медали за преступников, которых они поймали вместе. Но не может же он, Амур, заставить Акимова все это таскать с собой на происшествия. Достаточно и этого надоевшего ошейника. Со двора магазина выбежал веселый Акимов. Амур сразу и не понял, чему его друг радуется, а тот бежал и кричал: — Живой, живой старик! Лежал связанный и кляп во рту. Акимов быстро снял с Амура парадный ошейник, спрятал его в полевую сумку, проверил, хорошо ли закреплен поводок, и направился уже с Амуром к магазину. Амур едва поспевал за ним. Полагалось идти у ноги, а друг торопился, и ему, Амуру, пришлось бежать трусцой, словно какой-то дворовой шавке. Сторож-старик, не переставая проклинать бандитов, рассказывал, что на него напало двое верзил, отняли ружье, связали, засунули в рот тряпку, от которой он чуть не задохнулся, забрали товары и часа через два скрылись. Он показал и место, где его подкараулили, когда он обходил магазин; рассказал, что веревка их собственная, что грабители принесли се с собой. Акимов дал понюхать веревку Амуру, сложил ее в целлофановый пакет, а затем упрятал в полевую сумку и ему приказал искать. Тем временем Виктор Иванович сказал пареньку из уголовного розыска, чтобы тот сопровождал Амура и Акимова на всякий случай, будто они сами не справятся с какими-то двумя преступниками. Амур вспомнил, как сразу же нашел нужный запах и взял след. Он побежал быстро. Акимов-то привык и поспевал за ним, а инспектор сразу запыхался. След пересек две улицы, большую рощу, где было тихо и пахло соснами и цветами, и вывел на пригорок. Амур запомнил запах преступников и шел уверенно. Противный был этот запах. В общем, какая-то смесь: пахло грязными ногами, водочным перегаром, табачным дымом и еще чем-то, но чем, Амур никак не мог разобраться. Он даже замедлил бег, пытаясь вспомнить, чем же это пахнет еще. Пробежали они довольно далеко. Спустились с пригорка; возле широкой грунтовой дороги, в канаве, Амур в полную силу легких через нос втянул воздух и чуть не упал. На него нахлынула волна сладковатого, удушливого запаха. Если бы он принюхивался осторожно, то такого ошеломляющего впечатления не было бы, а тут, разгоряченный азартом погони и бегом, он дышал глубоко и вместе с воздухом втянул в себя огромную дозу какого-то дурмана. Амур бросился от следа в сторону, попытался обойти удушливое место, закружил, сделал петлю, вышел на дорогу, но всюду было одно и то же. В безветренном воздухе противно пахло так же, как почти всегда пахнут белые тряпочки, которые люди называют носовыми платками. Амур побродил по дороге и вернулся к Акимову, всем своим виноватым видом показывая, что потерял след. Этот след растворился, исчез в новом всепоглощающем запахе. То, что Амур потерял след, Акимов понял сразу. Понял это и тот паренек, что бежал с ними. Но вот почему он его потерял, тогда они не догадались. Они стали бродить по дороге, искать следы машины или лошади, решив, что бандиты уехали. А чего там искать? Понюхали бы — и сразу стало бы ясно. Посовещавшись, Акимов решил вернуться к магазину и еще раз пустить ею, Амура, по следу. А инспектор сказал: бегайте сами, а он пойдет по дороге направо, в видневшийся поселок, и там будет все проверять. И ушел. Они вдвоем с Акимовым вернулись к магазину. Во дворе возле переносного стола сидела следователь. Виктор Иванович ей что-то говорил, а она записывала. Эксперт фотографировал, а доктор беседовал со сторожем. Подполковник, едва заметив их, стал спрашивать: — Ну что? Как? Неужели след потеряли? Амуру стало не по себе. Он поджал хвост и виновато растопырил уши. Подполковник потрепал его по шее: — Как же так, Амур! Ты же лучший специалист по этим самым следам, и вдруг такой конфуз! Примените, товарищ Акимов, еще раз. Осмотревшись, Виктор Иванович не нашел работника уголовного розыска. — А где инспектор? — Пошел в поселок, — доложил Акимов. — Решил искать сам. — Жаль. Некого мне больше с вами послать. Так что обходитесь сами. Пока Акимов и Виктор Иванович разговаривали, Амур подошел к следователю и обнюхал ее сумку, которая лежала на земле возле стола. Едва он осторожно потянул в себя воздух, как снова почувствовал тот же запах, что и там, на дороге. Только из сумки пахло значительно слабее, не так резко. Он взял след, и они с Акимовым побежали. У оврага все повторилось снова. Акимов сел на траву рядом с Амуром и начал советоваться: — Что же случилось здесь, дружок мой Амур? Давай разберемся. Давай посмотрим, вместе понюхаем. Увидев, что поблизости нет никого посторонних, Акимов опустился к злополучной канаве на четвереньки и стал все осматривать. Вот он удивленно крякнул, вот что-то схватил в траве. Это оказалась зеленая пластмассовая пробка, понюхал ее сам и протянул Амуру. Амур сразу отвернулся, от пробки пахло тем же самым, что распространялось вокруг и поглотило запах следа. Акимов довольно улыбнулся, снова сел рядом и заговорил: — Понятно, Амур, ни одна уважающая себя собака с хорошим чутьем не любит одеколона. Значит, эти бандиты здесь его разлили. Зачем? Для того, чтобы тебя сбить со следа. Если их здесь ждала машина, им можно было просто сесть и уехать без всякого одеколона. Потом, сколько мы прошли по следу? Километра три, не меньше. Зачем же бандитам рисковать, тащиться с вещами, если у них машина? Можно было сесть в нее где-нибудь поближе и сразу же уехать. Нет, Амур, инспектор ошибся, у бандитов не было машины. Амур обрадовался, завилял хвостом, оттого что Акимов и на этот раз его понял. Старший лейтенант достал и закурил противную сигарету и не торопясь продолжал говорить: — Если бандиты живут в том поселке, куда ушел инспектор, и не имеют машины, зачем же им идти по дороге, где их могут заметить? Им лучше идти рощей, ведь она подходит почти к поселку. Почему же они именно здесь залили свои следы одеколоном? Почему именно здесь захотели нас обмануть? Акимов посмотрел в сторону небольшой деревни, раскинувшейся впереди за лугом, и, погладив по голове Амура, спросил: — Слушай, Амур, а может быть, эти проходимцы живут вот тут, неподалеку, в деревне? Тогда есть резон, прежде чем отправиться домой, на всякий случай запутать следы. Давай пойдем вон той тропинкой и там попытаем счастья. Они с награбленным наверняка шли огородами; вот мы эти огороды и осмотрим, там и отыщем их следы — не хватит же у них одеколона на всю округу. Когда они подошли к деревне, она уже просыпалась. На дороге сильно пахло молоком, и Амур понял, что уже прогнали на пастбище стадо. Возле крайнего дома у колодца стояла женщина с пустыми ведрами. Ей, наверное, не приходилось еще вот так поблизости видеть проводника с собакой, и она их внимательно рассматривала. Акимов подошел, поздоровался. Достал из колодца ведро воды, потом второе, наполнил ведра женщины, зачерпнул третье, налил воды Амуру в небольшую поилку, сделанную рядом с колодцем, разрешил ему пить. Сам напился из ведра. А женщина все стояла, не решаясь спросить, хотя любопытство и не позволяло ей уйти, не узнав, зачем пожаловали они в деревню. Акимов понял это и рассказал, что в пригороде ночью ограбили магазин и вот они с Амуром ищут бандитов, и спросил, нет ли у них в деревне каких-нибудь шалопаев, которые рискнут на эдакое дело. Амур, прислушиваясь к тому, что говорил старший лейтенант, подумал, что Акимов правильно спрашивает. Что же тут скрывать? Через час или два все равно все узнают: и так каждому ясно, что работник милиции, да еще с собакой, да на рассвете без дела в деревне не появится. Женщина подцепила ведра коромыслом и, раздумывая, обронила: — Нет у нас в деревне своих шалопаев. А вот у Нюшки, в пятой избе с того края, посмотрите. У нее часто гости бывают. Разные. Сказала и ушла. Акимов достал из полевой сумки целлофановый пакет, вынул веревку и подозвал его, Амура. — На вот, понюхай, а то, наверное, забыл, чем эти бандиты пахнут, и пойдем по деревне! Зайдем, конечно, и к той Нюшке, но ты нюхай. Эти мерзавцы могут быть и у кого-нибудь другого. Первыми отреагировали на их появление деревенские собаки; одни, поджав хвост, бросились восвояси; другие, отбежав в сторону, подняли лай и тут же притихли, так как Амур шел молча и сосредоточенно. Он не привык обращать внимание на бродячих собак. Из некоторых дворов уже вышли люди. Впереди, из калитки, крепкий здоровый парень вывел мотоцикл. Установил его на подножку и стал копаться в моторе. Когда Амур со старшим лейтенантом проходили мимо, он проводил их долгим, внимательным взглядом. Все это заметил Амур, тщательно принюхиваясь, стараясь не пропустить запомнившиеся запахи. Когда они подошли к Нюшкиному дому, Амур верхним чутьем схватил тот самый запах, который был там, у магазина. Он забеспокоился, попросил у Акимова подлиннее поводок и, бросившись к воротам, нашел потерянный след. Амур даже взвизгнул от удовольствия и потянул во двор. Акимов догадался, что нужный след найден. Акимов приказал Амуру вести себя тихо, отстегнул поводок от его ошейника, приготовил пистолет, и они вошли в дом. В комнате за столом сидели женщина и двое мужчин, а рядом на диване лежали горой плащи, кофты, костюмы. Едва потянув носом, Амур сразу понял, что след, по которому он шел, оставили именно эти двое. Он заворчал, и тогда один из бандитов бросился к открытому окну. Команду старшего лейтенанта Амур выполнил молниеносно и успел схватить убегавшего, когда тот перегнулся через подоконник. Ох и крик же поднял этот тип, когда Амур втащил его в комнату! Оба бандита подняли руки. Акимов усадил их в пустой угол, а ему, Амуру, велел охранять, а сам в окно несколько раз посвистал в свисток. Перед тем как в дом вбежали мотоциклист, еще какие-то люди и тот самый инспектор, что ушел в другую сторону, Акимов, сжимая оружие в одной руке, другой надел Амуру парадный ошейник. Инспектор остался в доме у Нюшки, а они вдвоем повели бандитов к магазину. Шли вдоль всей деревни: впереди — бандиты, за ними — Амур весь в медалях и рядом старший лейтенант… В соседней клетке застонала, завозилась маленькая несчастная собачонка с грязной шерстью и слезящимися глазами. Амур встал со своего матраца, подошел к проволочной сетке и с грустью посмотрел на соседку; ему было жаль беднягу, но он ничем не мог ей помочь. Подождал, пока та успокоилась, и только тогда вернулся на свое место. Лег, прикрыл глаза и предался воспоминаниям.*
Амур отчетливо помнил тот день, когда пришел к нему в вольер начальник питомника. Помнил, как он его успокаивал, как говорил, что не хочет отдавать в сторожевую службу, где Амуру придется сидеть на цепи круглыми сутками, что он, Амур, своим трудом заслужил лучшую долю, что нет для собаки пенсии, но подполковник обязательно устроит его в хороший дом к славным людям. Амур знал, как живут домашние собаки: жирные, выхоленные, ленивые. Изо дня в день ничего не делают, спят на мягких постелях, кормят их вкусно. Встречался он с такими домашними собаками и на выставках, и на происшествиях. Не раз завидовал. Особенно тогда, когда приходилось мокнуть под дождем. Плестись по слякоти, сознавая, что в такую погоду, когда добрый хозяин даже паршивую собаку из дома не выгонит, искать след бесполезно. Но работа есть работа, и он трудился: в стужу, в дождь, в жару. Конечно, хорошо бы пожить в тепле, у добрых людей, отдохнуть от этой суматохи. Ведь здесь, в питомнике, его-то жилье даже зимой не отапливается: не полагается служебно-розыскных собак делать неженками. Бывало, проторчит весь день на морозе, едва согреется, возвращаясь в машине, — и снова на холод. И еда не ахти какая: больше овсянка да мясные обрезки, что-нибудь вкусное перепадает редко. А потом, в уголовном розыске служба уж больно беспокойная. Того и гляди, кто-нибудь пырнет ножом, как Ладу. Амур рассуждал сам с собой и ждал. Однажды под вечер подполковник пришел с пожилым невысоким мужчиной. Назвал его Николаем Михайловичем и сказал Амуру, что это его новый хозяин. Чтобы Амур лучше понял, пристегнул к его ошейнику поводок и торжественно передал его из рук в руки. Амур, выходя из питомника, взглянул на длинные ряды вольеров, в которых остались собаки, те, кто еще работают, те, кто могут работать. Посмотрел на тренировочную площадку с лестницами, барьерами. Прошел мимо медпункта, в котором распоряжалась Галина Викторовна, и ему стало не по себе. Отяжелели и словно сами останавливались ноги, видно, не хотели уходить из питомника, где прошла вся жизнь. В машине, которой управлял его новый хозяин, Амур жалобно заскулил. Николай Михайлович всю дорогу его успокаивал, рассказал, что он тоже, как и Амур, не работает, уже на пенсии, что рядом с его домом лес и они там будут гулять, что квартира у него большая и Амуру будет привольно, его будут любить, ласкать. Дома его встретили хорошо. Накормили, хотя он не был голоден. В коридоре, в теплом, чистом углу, устроили мягкую, удобную постель, и Амур сразу уснул. Утром его поводили по всей квартире, разрешили заглянуть вниз с балкона. В белой чистой миске дали вкусную еду. Угостили сахаром, хотя он ничего не делал и, конечно, никак его не заработал. Днем Амур улегся на балконе на солнце, дремал и думал, что ему здесь хорошо, что теперь он будет жить спокойно, без всяких там дежурств и происшествий. Совсем быстро он привык к спокойной и ровной семье Николая Михайловича. Ему нравился он сам, его степенная и ласковая жена — Антонина Павловна, Конечно, никого из них нельзя было сравнить ни с Акимовым, ни с Галиной Викторовной, тем более с подполковником, хотя у Николая Михайловича и была машина, правда маленькая и скрипучая, но он почему-то на происшествия не выезжал. Никого не задерживал, не заставлял Амура искать след, но, в общем, ему в новом доме нравилось. Так прошла неделя, другая, и Амур начал скучать. Иногда от безделья просто не находил себе места. Полежит в одном углу, потом пойдет в другой. Заглянет в комнаты, посмотрит, что делает Николай Михайлович, проведает на кухне Антонину Павловну- и снова спать, пока не отлежит все бока. Другой раз было просто совестно подходить к миске завтракать или обедать, и Амур решил — плохо без работы. Он с радостью брался за все, что мог. Но разве это работа — шагать рядом с Николаем Михайловичем и нести из магазина сумку или газеты? Однажды сам напросился тащить мусорное ведро, но из него так отвратительно несло перцем, лавровым листом, что пришлось бросить. Хорошо хоть, оно не упало. Как-то под вечер, когда особенно остро ощущалось безделье, Амуру пришло почему-то в голову, что за ним должен прийти Акимов. Прийти и забрать его в уголовный розыск, в питомник. Ну ладно, пусть он теперь не может идти по следу, так зато сможет задерживать всяких вооруженных преступников, поможет Акимову обучать его нового помощника. Амур стал смотреть на дверь, стал прислушиваться к шагам на лестнице. Несколько раз подходил к двери. Улегшись на свою подстилку головой к порогу, Амур задремал и во сне жалобно, по-щенячьи стал взвизгивать. Николай Михайлович подошел к нему, сел рядом на маленькую табуретку, стал гладить за ухом и говорить: — Не можешь без работы, псина? Я вот тоже сколько лет на пенсии, а никак не привыкну. Проснусь ночью и не сплю. Думаю, как там мой завод? Всю жизнь трудился, с четырнадцати лет. Ты даже и не представляешь, как раньше был нужен. Я ведь главным инженером на здоровенном заводе работал. Без меня, брат, ни один важный вопрос не решался. А сейчас вот все у меня есть: квартира, машина, дача, пенсию большую платят, а я хочу работать, про завод забыть не могу. Амур поднял голову, взглянул на Николая Михайловича и увидел в его глазах тоску, ту самую, что до этого слышал в голосе. Ту самую, что одолевала его, и он понял, что у них одна беда, что оба, получив отдых, заслуженный отдых, мечтают о работе. Амур почувствовал, что Николай Михайлович стал ему ближе; поскуливая, потихоньку встал, подошел к новому хозяину, лизнул его руку и положил свою огромную голову ему на колени. — Не скули, Амур, — продолжал Николай Михайлович, — не смотри на дверь. Не жди, не придет твой Акимов. У него есть другой помощник. Ему некогда, а может, он просто жалеет тебя, не хочет расстраивать. Я вот так же, как и ты, ждал. Бросался к телефону на каждый звонок. Думал: вот понадоблюсь, вот позовут. Сначала приходили, успокаивали, даже советовались. А теперь и приходить перестали. Заняты они там, на заводе, своих дел по горло. В общем, им не до нас с тобой. Давай вместе учиться отдыхать. Это, брат, сложная наука. Я ее несколько лет никак не осилю. Идем-ка лучше побродим, полезно перед сном. Гулять так гулять. Амур встал. Взял с тумбочки свой ошейник, поводок и терпеливо стал ждать, пока Николай Михайлович сменил пижаму на костюм. Гуляли они долго. Ходили па пруд и смотрели, как там катаются на лодках. Прошлись по улицам. Купили в ларьке сигарет и, изрядно находившись, возвращались домой через сквер. Вечер был теплый, от политых газонов и асфальта поднималась прохлада. Приятно пахло цветами. Они выбрали в укромном углу под нависшими деревьями свободную скамейку и решили отдохнуть. Николай Михайлович разостлал газету и удобно уселся, а Амур устроился на подстриженной травке, рядом со скамьей. Николай Михайлович задремал, даже стал похрапывать. Амур видел, как постепенно опустел сквер, женщины укатили коляски с младенцами. Потом нехотя разошлись старухи, сидевшие на двух скамейках, составленных углом. С дальних лавочек ушли парочки. Только одна осталась по соседству на скамейке, поставленной между кустами. Прошла компания парней с двумя гитарами, горланившая песню, от которой Николай Михайлович проснулся, а Амур на всякий случай встал. Знал он таких парней. Сейчас орут песни, ругаются, а потом затеют драку или еще что похуже. Николай Михайлович достал сигарету, закурил, переменил ногу. — Ложись, Амур. Вот покурю, посидим еще немного — и домой. Уж больно хорошо здесь, а дома жарко, душно. Давай завтра соберемся и махнем на дачу. Но на дачу уехать им так и не пришлось. Вместо дачи Амур попал в клетку. Когда в сквере все реже и реже стали появляться прохожие, торопливо цокая каблуками белых туфель, прошла молодая женщина. Видимо, сокращая расстояние, она свернула в боковую аллею и едва скрылась за деревьями, как оттуда послышался крик. Сильный, страшный. Женщина звала на помощь. Амур вскочил, взглянул на Николая Михайловича и понял, что тот растерялся, но на всякий случай взял со скамьи его поводок и тоже встал. Тогда Амур, как бы приглашая своего нового хозяина, потянул поводок; с соседней скамейки поднялись парень с девушкой и быстро ушли в другую сторону, а Николай Михайлович все-таки побежал за Амуром медленно, не выпуская ременного поводка. Они пробежали два десятка шагов и увидели, что здоровенный парень схватил ту женщину в белых туфлях. Она вырывалась, пыталась высвободить руки, кричать, но хулиган зажал ей рот, и крика уже почти не было слышно. Николай Михайлович не знал, что ему нужно делать, а Амур нетерпеливо ждал. Перед ним была работа. Его обычная, повседневная работа, к которой он привык, которую он отлично знал и еще совсем недавно по ней тосковал. Но работу нельзя начинать без приказа, и Амур ждал приказа. Николай Михайлович, вместо того чтобы крикнуть “руки вверх” или “сдавайся”, как всегда в таких случаях требовал старший лейтенант, стал ругать хулигана. Тот отшвырнул женщину в сторону и сквозь зубы процедил: — Ты что же, дряхлый маразматик, со своим домашним псом в чужие дела ввязываешься? Пера захотел? Преступник угрожающе шагнул в их сторону и выхватил нож. Это было уж слишком. Тут нечего было ждать приказа. Амур вырвал из рук Николая Михайловича поводок и в два прыжка оказался рядом. Амур не боялся ни ножей, ни пистолетов. Акимов научил его, как и в каком месте брать вооруженную руку. Амур в следующий прыжок вложил всю свою силу, все свое умение и взял эту вооруженную руку. Преступник взвыл от боли и обронил нож. Амур сжал челюсти чуть сильнее, чем следовало, но, наверное, так было и нужно, ведь рядом стоял не Акимов, а Николай Михайлович. Когда Амур отпустил руку, хулиган бросился бежать. Амур сразу же догнал его, сбил с ног. Тот пытался подняться, но Амур слегка кусал его, и он с проклятиями снова ложился на землю. Потом приехала машина с синей полосой. Капитан милиции “принял” задержанного, обыскал его и нашел у него в кармане часы, принадлежащие женщине. Что и говорить, прошлые угощения за подобные задержания не могли идти в сравнение с тем торжеством, что устроили ему, Амуру, в тот вечер Николай Михайлович и Антонина Павловна. Его угощали такими вкусными вещами, каких ему отродясь не приходилось пробовать. А на другой день все обернулось по-иному. Николай Михайлович вернулся домой расстроенный и сообщил, что Амуру десять суток придется отсидеть в клетке. Амур слышал, что хулиганам дают по десять суток, и не понимал, за что ему эти сутки. Ведь он действовал правильно, и даже капитан там, в сквере, сразу же похвалил его. Николай Михайлович объяснил, что дело не в хулиганстве. Поликлиника, где делали перевязку задержанному, сообщила о случившемся в санэпидстанцию, и там распорядились продержать Амура десять суток в ветеринарной больнице, пока его проверят на бешенство. Врачи сказали, что из питомника он ушел почти месяц и его следует проверить. Ну что ж, пусть проверяют. Конечно, в больнице плохо, в новом доме лучше. Николай Михайлович ему понравился. С ним можно жить. Он приходит сюда к нему каждый день, приходила Антонина Павловна и даже та женщина в белых туфлях. Амур растянулся на матрасике, что принесли его новые хозяева из его нового дома, и задремал. Во сне он увидел дежурную часть, и ему почудилось, что к нему снова пришло чутье и его вернули в уголовный розыск, что сейчас выйдут шофер, Акимов, оперативная группа и они поедут на происшествие…

Шитик В. СКАЧОК В НИЧТО Фантастический рассказ
Авторизованный перевод с белорусского МЕСКИНА Б.Е.Следы обрывались, словно у Корзуна вдруг выросли крылья и он взлетел в фиолетовую бездну безоблачного неба Сирены. Этого, конечно, быть не могло. — Но все-таки интересно, куда девался Корзун? — Шибанов повторил вопрос вслух и взглянул на Саватеева. Тот не ответил, и Шибанов снова посмотрел на следы. Четкие, точно на мягкой глине, с рубчиками и полосками от тяжелых ботинок скафандра, они начинались сразу под скалой, где сейчас стояли Шибанов и Саватеев со свитой кибернетических роботов и с которой час назад спрыгнул вниз Корзун. Он, по-видимому, не спешил — следы были аккуратные, даже в последней ямке стенки осыпались не больше, чем в остальных. А дальше желтел нетронутый песок, почти до самой воды, до которой оставалось еще метров десять. — Волны смыли?.. — Саватеев произнес это неуверенно, скорее всего, чтобы нарушить молчание. Шибанов понял товарища и невесело усмехнулся: море было на удивление спокойное, как лесной пруд где-нибудь на Земле. За те минуты, что прошли с момента, когда с Корзуном прекратилась связь, оно не успело бы успокоиться. Да и вообще многодневные наблюдения свидетельствовали, что море бушует только ночью. И Шибанов ответил: — Тут что-то другое, хотя, кажется, кроме как в море, он не мог никуда деваться. — А что, если… — Догадка была нелепая и страшная, и Саватеев не осмелился высказать ее до конца. Опять Шибанов понял его и отрицательно покачал головой: — Нет! Это песок, не трясина. — А яма, оползень или еще что! Не мог же человек исчезнуть средь бела дня, ничего не оставив после себя. — Сирена — не Земля, какой уж тут белый день! Невозмутимость, прозвучавшая в словах Шибанова, вывела Саватеева из равновесия. — Беда случилась! Беда! Слышишь? — закричал он. — Не кричи, — положил ему руку на плечо Шибанов. — Криком тут не поможешь. Я же спорю с тобой, чтобы себя убедить и быстрее выяснить истину. Саватеев чуть успокоился и предложил: — Давай проверять варианты. Два робота, похожие на людей, одетых в неуклюжие скафандры, подошли к обрыву. Осторожно, будто старики, начали спускаться вниз. Нетерпеливого Саватеева всегда раздражала эта неторопливость движений роботов, которые даже в опасных обстоятельствах никогда не нарушали своего механического хладнокровия. Он знал, что именно так они запрограммированы, их электронный мозг не понимает эмоций, однако не мог не злиться. И сейчас, не сдержавшись, крикнул: — Эй, вы, двигайтесь быстрее! Роботы на мгновение замерли, повернули головы, будто удивились неожиданному требованию и оскорбительному тону, и дружно ответили: — Степень опасности 0,4. Работаем на крайнем режиме. Саватеев покачал головой, а Шибанов улыбнулся. — А ну вас! — крикнул Саватеев и спрыгнул на песок. — Дальше нельзя! Дальше нельзя! Бесстрастный голос робота лишь подзадорил Саватеева, и он, сорвавшись с места, бросился к берегу. И тотчас же затрепетал в бессильном порыве, схваченный роботами за руки. — Дальше нельзя! Дальше нельзя! — неторопливо и монотонно звучало в шлемофоне. — Брось, Павлик! — сказал Шибанов сверху. — Ты ведь сам настроил их на опасность. Саватеев понял нелепость своего поведения. Перестав сопротивляться, он буркнул: — Ладно, буду стоять. Роботы выпустили его из своих крепких железных объятий и пошли дальше, словно ничего не произошло. Они дошли до последнего следа, постояли, сделали еще один шаг вперед и включили аппаратуру. Шибанов смотрел на экран, светившийся ровным зеленоватым светом, и ждал, что вот сейчас оправдается предположение Саватеева и под пластом песка они увидят Корзуна. Шибанов не волновался. Это был бы не такой уж плохой вариант — Корзун хоть и в легком герметичном костюме, однако мог бы продержаться и больше времени, кислорода хватало еще часов на десять. Ни единая искорка не потревожила однообразное мерцание экрана. Песок был однородный, без посторонних предметов, на многие метры вглубь. Роботы покружились еще немного на месте, захватывая все большую площадь, и вернулись. Пожалуй, только теперь Шибанов в полной мере осознал, что произошло. Раньше ему казалось, что исчезновение Корзуна — это шутка с его стороны, а если тут есть какая-то загадка, то безобидная. Он посмотрел на море. Оно было по-прежнему спокойное, но ему уже представлялось грозным. Что он может сказать определенного об этой могучей силе, затаившейся в гигантской массе воды? Ничего. А ведьэта сила может запросто поглотить человека, не оставив никакого следа. Возможно, вот так и случилось с Корзуном. И что вообще они знают о Сирене? Месяц назад звездолет “Памир” совершил посадку на Сирене. Планета имела атмосферу с достаточно высоким содержанием кислорода, воду, близкую по своим химическим свойствам земной, и вместе с тем была лишена сложных органических форм жизни. Высокие голые горы, песчаные пустыни, окруженные со всех сторон морями. Безжизненная планета, единственная в своем роде в системе Альтаира. Люди изучали ее строение, искали причины, которые могли бы объяснить резкие перемены погоды. И вдруг исчез человек. Нужно было организовывать поиски, и никто не знал, с чего их начинать. Шибанов отцепил от пояса бинокль, поднес его к глазам. Море было пустынное, лишь отблески далекой ряби блестели в полированных линзах. — Не доверяешь локаторам? — спросил Саватеев. Шибанов опустил бинокль, бросил взгляд на чистый экран локатора и с недоумением спросил: — Павел, где Корзун? Саватеев молчал. Оставив на всякий случай двух роботов на берегу, Шибанов и Саватеев вернулись на “Памир”, чтобы подготовить гидроплан. Отгадку тайны исчезновения товарища они решили искать в море. Разведка ничего не дала. На добрую сотню километров море было тихим, спокойным, без признаков даже внутреннего движения, просвечивалось до самого дна. Они вернулись, когда серебряное солнце огненным краем коснулось горизонта. Наступала ночь, короткая, темная и такая дождливая, что носа не высунешь. Природа в ночные часы словно возвращала морю всю воду, что забирала у него горячим днем. Разочарованные, удрученные, Шибанов и Саватеев остановились возле звездолета. Корзун мог быть еще жив, но минут через сорок кислород должен был кончиться, и тогда… они не говорили, что будет тогда. Об этом лучше было молчать, чтобы не лишать себя надежды, маленькой и трепетной, которая, несмотря ни на что, не покидала их. Внезапно космонавты переглянулись, еще не понимая, что происходит. В шлемофоне раздался голос робота, который буднично, как о самом обычном, методически повторял: — На берегу человек! На берегу человек! Бесстрастный робот с механической душой оказался, однако, более сообразительным, нежели люди. Сообщая новость, он одновременно вызвал вездеход. Не успели космонавты опомниться, как вездеход уже стоял рядом с ними. Они помчались к обрыву. Корзун стоял на том самом месте, где обрывались его прежние следы. Он задумчиво смотрел на море и смущенно улыбался. — Василий! Василий! — Шибанов крепко схватил его за плечо. Корзун спокойно взглянул на товарища и удивленно спросил: — Ты чего? Что случилось? — Он еще спрашивает! — Шибанов обернулся к Саватееву: — Слышишь, Павлик? — Где ты был? — Саватеев сделал шаг к Корзуну. Корзун сморщил лоб, подумал немного и удивленно ответил: — Ту-ут… — Все время? — осторожно уточнил Шибанов. — Какое время, я же только что пришел сюда. До Корзуна наконец дошло, что товарищи в чем-то сомневаются… — Взгляни! — Шибанов показал вначале на наполовину скрывшийся Альтаир, затем на опустевшие кислородные баллоны. — Видишь, сколько времени прошло? Корзун широко раскрыл глаза и опустился на песок. — Как же это, ребята? — Узнаем, — успокоил его Саватеев и предложил: — Поедем домой. Скоро пойдет дождь. Позже, уже сидя в уютном салоне звездолета, Корзун снова спросил: — Скажите, что случилось? — Сперва немного отдохнем, а потом уж попытаемся ответить на твой вопрос. Досталось нам сегодня! А возможно, и ты что-нибудь вспомнишь. Корзун вспомнил немногое: как пришел на берег, привлеченный земным видом моря, и как потом его встретили роботы. Что было между этим, он знал не более остальных. — Вот только… как бы вам сказать… — Ну, Вася, ну… — Шибанов рванулся к нему. — Нет, это трудно описать. Наверное, я просто загрустил по Земле. Я почувствовал и радость, и тоску, и счастье. Эти чувства овладели мной там, на берегу, и так продолжалось, пока вы не пришли. Наверное, все действительно так и было, ибо Корзун снова стал таким, каким его застали на берегу друзья, — задумчивым, со смущенной улыбкой на губах. Больше к этому разговору космонавты не возвращались, во всяком случае при Корзуне. Время шло. Внешне Корзун не изменился. Лишь чаще стал задумываться, словно приглядывался или прислушивался к чему-то известному только ему одному. Работал же он, как и прежде, старательно и аккуратно. Факт его исчезновения можно было бы посчитать случайностью, если б за ним не стояло нечто неизвестное, необъяснимое, граничащее с чудом и потому выглядевшее угрожающим и опасным для каждого космонавта, для корабля на все то время, пока они будут на Сирене. Саватеев не выдержал. — Я больше не могу, — пожаловался он Шибанову, когда они остались вдвоем. — Или мы стартуем, или, боюсь, что-нибудь еще произойдет. — Не разгадав, что было с Корзуном? — Мы тут бессильны. В какой-то степени Саватеев имел основание говорить так. Минуло уже около двух недель, а они все еще не имели кончика той ниточки, которая позволила бы раскрыть тайну. Действительно, нужно было принимать какое-то решение. Шибанов был капитаном их небольшого экипажа и понимал Саватеева. Он долго стоял у иллюминатора, из которого виднелось море — тихое, ласковое. — Обманчивая красота. — Шибанов отвернулся от иллюминатора. — Сделаем, Павел, еще одну, последнюю попытку. Если не подтвердится мое предположение, покинем Сирену. — Ты что надумал? — забеспокоился Саватеев. — Повторю Корзуна. Только на берег пойду с роботами. — Опасаюсь я этого скачка в ничто. — И я, Павлик. — Шибанов нахмурился. — Но иначе нельзя. Да, нельзя. Хочешь сказать, что у нас другая задача? Согласен. Но теперь задача изменилась. Таков уж закон жизни, на все случаи заранее не придумаешь программы. Ты не волнуйся. — Он подошел к Саватееву, обнял его. — Василий ведь вернулся, и, кажется, нормально. — Только что кажется, — проворчал Саватеев, зная, что Шибанов все равно сделает по-своему. Сборы были недолгими, и назавтра Шибанов с Саватеевым отправились к морю. У выхода они встретили Корзуна. Он неловко потоптался, заслоняя проход, и с грустью проговорил: — Я знаю, что вы не хотите беспокоить меня. Может, и правильно делаете. Только я все время думаю об этом. Мне кажется, Сережа, что там были рыбы. — Он пошел, опустив плечи, словно в чем-то был виноват перед ними. Шибанов догнал его, прижал к груди и попросил: — Ежели со мной что случится, вы тут с Павлом не задерживайтесь, возвращайтесь на Землю. Корзун кивнул. Море встретило людей, как обычно, — покоем. Альтаир только что показался над горизонтом, и его диск светился на серой водяной глади длинной пурпурной полосой. Шибанов на секунду остановился, прислушиваясь к беспокойным ударам сердца, затем решительно спрыгнул вниз. За ним сползли роботы. Втроем — человек и два робота — оставляли множество следов. Но Саватеев видел только ямки от тяжелых ботинок Шибанова. Спустя несколько минут Шибанов остановился. От моря его отделяла узкая полоса желтого песка. Он ждал чего-то невероятного, а вокруг все напоминало о земном пляже — вот если бы только росли деревья и кусты и не нужно было надевать герметичный костюм. Чтобы успокоить Саватеева, Шибанов оглянулся и весело крикнул: — Видишь? На меня духи не действуют! И тут же у него закружилась голова. Шибанов взглянул на море. На его поверхности не было ничего особенного. Это было последнее, что он успел отметить, потому что через мгновение перед его глазами поплыли круги. Теряя равновесие, он взмахнул руками. Роботы поняли это как сигнал о помощи и бросились к Шибанову. Однако, прежде чем они подхватили его, он увидел перед собой какие-то кольца, лучи. Все это причудливо переплеталось, скрещивалось, мгновенно меняло окраску, создавая всё новые и новые невероятные геометрические фигуры. И словно яркие звезды падали вокруг густым осенним дождем. Шибанов уже не чувствовал своего тела, не имел представления о том, где он… Капитан пришел в себя на каменистом обрыве, и первое, что увидел, — это обеспокоенное лицо склонившегося над ним Саватеева. Шибанов покачал головой. — Тебе плохо? — с тревогой спросил Саватеев. — Теперь уже нет. — Шибанов сел, подвигал плечами, пошевелил руками, восстанавливая утраченную власть над своим телом. И рассказал, что ему показалось. — Думаешь, и с Корзуном было так же? — Уверен. — Тогда почему он не рассказывает? Скрывает или не помнит? — спросил Саватеев и поморщился, так неприятно было подозревать друга. Спохватившись, он добавил убежденно: — Не помнит! — Да! — Шибанов принял его последнее предположение без сомнений. — Значит, должно еще произойти что-то такое, что стирает следы из памяти. Я обязан вернуться на берег, Павел. Один. Без роботов. — Не торопись. Нужно подготовиться. В костюм вмонтируем несколько миниатюрных киноаппаратов и передатчиков. Если ты что-либо и забудешь, они зафиксируют. И, возможно, сообщат твои координаты, если сумеют пробиться сквозь толщу воды. Все повторилось сначала. Только теперь за Шибановым наблюдал и Корзун. Шибанов зашатался и закричал: “Выключи робота!” Космонавты видели, как он закружился в немыслимом танце. В шлемофонах было слышно прерывистое дыхание Сергея, словно он с кем-то боролся. Затем обессилел и упал. Море ласково обмывало его прозрачный гермошлем. Корзун рванулся было на помощь, но Саватеев удержал его и шепнул: — Смотри! Неподалеку от берега из моря вдруг выбросился султанчик. Похожий на фонтан, он постоял на месте, затем всколыхнулся, словно под дуновением ветра, и превратился в вихрь, с каждой секундой набирая силу и все глубже вкручиваясь в воду. Вскоре на месте вихря образовалась воронка метров двадцать в диаметре. Ее стенки продолжали вращаться слева направо, пока не оголилось дно. Тогда одна сторона воронки, ближайшая к берегу, вытянулась узким длинным языком, лизнула песок и возвратилась на место, захватив с собой распростертого на берегу человека. Добыча словно удовлетворила море. Оно стало успокаиваться и минуты через три затихло. — Что скажешь? — спросил Саватеев и пожалел об этом. Корзун стоял неподвижно, с побледневшим лицом. — А? — вздрогнул он. — Все вылетело из головы. — Скоро обо всем узнаем. — Саватеев говорил намеренно бодрым тоном. — Мне кажется, что море волновалось только с этой стороны, чтобы забрать Сергея. Станции наблюдения вскоре подтвердили догадку Саватеева. — Это очень важно, — оживился Корзун. — Во всем этом есть какой-то смысл. — Не будем спешить с выводами, — остановил его Саватеев. Тем временем проворные роботы пригнали гидроплан. Затем собрали здание, где люди могли бы отдохнуть, установили там пульты и экраны приборов наблюдения. Минуты текли медленно, складываясь в еще более медлительные часы. И никаких вестей от Шибанова. — Не пробиваются радиосигналы, — констатировал Саватеев. — Я об этом думал. — Корзун взглянул на часы. — Минут через двадцать сигнал должен быть. Автозонд вырвется на поверхность. — Ты молодец, Вася! — Один срок уже миновал, — вздохнул Корзун. Саватеев растерянно притих. Сообщение пришло с опозданием на пять минут. Короткое, словно обессиленное. Автоматы “Памира” и радиомаяков запеленговали автозонд. Он сделал передачу на расстоянии в сто восемнадцать километров. Через несколько минут гидроплан был уже над районом, отмеченным пеленгаторами. Однако Корзуна, отправившегося на поиски, ожидало разочарование. Ни на поверхности, ни в глубине воды ему не удалось заметить ничего существенного. Толща воды скрывала в себе тайну. — Плохо, — сказал Саватеев, выслушав Корзуна. — Сергей находится где-то очень глубоко, а там чудовищное давление. Человек не выдержит. — А как же я? — возразил Корзун. — Будем ждать, ничего другого нам не остается. Темнело. Небо покрывалось тучами, черными, как сама ночь. Подул ветер. Сперва слабый, он постепенно разгуливался, вынося из теснин облака пыли. Начался дождь, он хлестал водяными каскадами по тонким металлическим стенкам временного пристанища космонавтов. Наступала ночь, шквальная, ливневая. Саватеев увеличил яркость экранов, наблюдавших за берегом. Он увидел узкую береговую полосу, неподвижных роботов, прикрепленных тросами к столбу на обрыве, а в нескольких шагах от них — бурлящее море, посылавшее на берег волну за волной. Саватееву даже за надежными стенками стало не по себе. А каково Шибанову, если он еще жив? — Мое время прошло. — Корзун словно прочитал мысли товарища. — У него аварийный запас кислорода. — Утешение было слабым, и сам Саватеев не очень в нею верил, но иного не было. — Отдыхай, Вася, потом сменишь. Порывы ветра участились, перешли в беспрерывный гул. Приглушенный звукоизоляцией стен, он был монотонным, нагонял сон. Саватеев включил метроном. Звонкие секунды наполнили помещение тревогой. Это беспокоило, заставляло все время быть настороженным. Саватеев, сидя в кресле, внимательно вглядывался в экран. Стихия лютовала. Волны уже захлестывали одинокие фигуры роботов, пытаясь сорвать их с места. Однако они стояли как вкопанные. И так час, два… Чтобы не заснуть, Саватеев то и дело мотал головой. Вероятно, он все-таки прозевал что-то. Потому что когда раскрыл глаза, то левого робота на месте не оказалось. Динамик резко крикнул: “Человек в море!” И второй робот бросился в волны. Они выбрались из воды вместе с Шибановым. К зданию он дошел сам, держась за роботов. Обессиленный, он бросил лишь: “Потом, потом” — и заснул на ходу. Очнулся Шибанов часов через двадцать. Снова была ночь. Снова за тонкими стенами их временного жилища неистовствовал ветер, с гор катились водяные валы. Но это уже казалось несущественным. Люди снова были вместе. Космонавты собрались возле проектора. Пленки уже были проявлены. — Вначале я расскажу, что сохранилось в памяти, — предложил Шибанов, — а то пленки могут сделать ненужную мне подсказку. Шибанов держался совсем иначе, нежели Корзун, более уверенно. Это и удивило, и обрадовало Саватеева. — Когда я пошел к берегу во второй раз, — начал Шибанов, — то примерно знал, что меня ожидает. Как только закружилась голова, я не стал противиться чужому воздействию и сразу упал на песок, стараясь не шевелиться. И это оказалось правильным. Голове стало немного легче, и мне удалось кое-что увидеть. Помню, как меня смыло водой, как потащило по поверхности, как я стал проваливаться вглубь. Вот тогда в воде я почувствовал какое-то движение. Не течение, а что-то другое, ограниченное узкими рамками. Ты, Вася, вспоминал про рыб. Возможно, это были они. А может, и иные существа. Вокруг меня все время бурлил водоворот, и хотя в гидрокостюме был воздух, он не держал меня, я продолжал опускаться все ниже. Меня удивило, что было достаточно глубоко, а давления воды не ощущалось. Я испугался. Сделал попытку вырваться, и в этом была моя ошибка… Снова закружилась голова, и я провалился в небытие и очнулся только на берегу. Если бы не роботы, то неизвестно, что со мной было бы. А теперь давайте посмотрим пленки. В костюм Шибанова были вмонтированы шесть маленьких кинокамер. Когда он вернулся, их осталось пять. Шестая пропала… — Зацепилась за что-нибудь, а возможно, роботы оторвали, когда меня тащили, — сказал Шибанов. Но достаточно было и остальных. Они включились в тот момент, когда море хлынуло на берег. Саватееву удалось синхронизировать зафиксированное пленками так, чтобы на экране получилась цельная и объемная картина. Море было такое же, каким люди видели его каждый день, на глубине даже еще спокойнее. Тем более, было странно, что Шибанов двигался рывками. Аппараты с автоматической наводкой быстро приспособились к окружающей среде. В воде они заметили тени, кружившие вокруг Шибанова. Аппараты увеличили резкость, и тени превратились в необыкновенных… рыб. Длинных, величиной с человека, узких и остроносых. — Вася не ошибся! — обрадовался Шибанов. Косяк, говоря земным языком, был немалый — рыбы окружали человека плотно, время от времени касаясь его тела ребристыми плавниками. — Эх, зачем я пошевелился! — сожалел Шибанов. — Аппараты расскажут все, что надо, — подбодрил его Корзун. — Нет, я заметил бы больше. Показалось желтое дно. Оно уже напоминало берег — песчаное, без признаков какой-нибудь растительности. Рыбы, не останавливаясь, продолжали плыть с огромной скоростью. Наконец их движение замедлилось. На экране возникли нагромождения камней, которые вблизи оказались гротами. То ли рыбы жили тут, то ли было что-то другое, киноаппараты не уловили. Видимо, рыбы перестали поддерживать Шибанова, и он опустился на дно, потому что по экрану в этот момент пробежали темные полосы. Затем вновь прояснилось. Шибанов лежал у входа в грот. Рыбы немного покружились возле него и куда-то уплыли. И снова полосы пробежали по экрану. — Зачем они тебя несли? — усмехнулся Корзун. — Ты тоже, наверное, побывал на этом дне. Хотя… — Шибанов удивленно посмотрел на товарищей. — Кажется, вспомнил. — Он отвернулся от экрана. — Сейчас меня перенесут к другому гроту. Там возле входа будет груда не то водорослей, не то актиний. — Правда! — вскочил Саватеев. По экрану в третий раз прошли полосы. — Вспомнил! А? — сам удивился Шибанов. Перенеся его, рыбы долго не возвращались. Почти весь день. И столько же у экрана просидели космонавты, боясь пропустить хоть какую-нибудь деталь. — Жаль, что меня не видно… — произнес задумчиво Шибанов. — Смотри, смотри! — прервал его Саватеев. Подплыла рыба, повисла неподвижно, поводя плавниками, будто усами. Глаза — узкие щелки — поблескивали красноватыми огоньками. Через некоторое время рыба пошевелила носом кучку водорослей и снова замерла. Вскоре к ней присоединились еще две. Сведя головы друг к другу, они словно советовались. Шибанов даже засмеялся, таким нелепым показалось ему это предположение. Внезапно рыб стало больше. Они образовали кольцо. Шибанов оторвался от дна, и рыбы двинулись в путь. Возвращался Шибанов уже ночью. Рыбы вели себя неспокойно. Часть из них отделилась и начала кружиться все быстрее и быстрее. Посреди круга образовалась воронка, которая постепенно увеличивалась. И тогда в водоворот устремились остальные рыбы, а на экран с огромной скоростью начал наплывать черный берег. Когда Шибанов оказался на гребне волны, ни воронки, ни рыб аппараты уже не увидели. Лишь волны, словно взбесившись, одна за другой накатывались на берег. А оттуда, перебирая механическими ногами, торопились роботы. — Путешествие окончено! — Шибанов встал и поклонился. — Брось, — поморщился Саватеев, — тебе же самому не до шуток. Лучше скажи, ты понял, что это? — Жизнь! — Сам вижу. А какая жизнь — разумная, неразумная? — Могу сказать, — уже серьезнее начал Шибанов. — Уровень развития невысокий, на мой взгляд, ими руководит инстинкт, как и у земных существ. Да, да, — перебил он Корзуна, пытавшегося возразить. — Сами посудите, как все произошло. Рыбы сочли меня своим собратом, которого море выбросило на берег. А это, они знают, угрожает гибелью. Они пытаются установить со мной контакт, подбодрить; видимо, мы пользуемся примерно одинаковыми биотоками, отсюда мое почти бессознательное состояние. Рыбы на берег выйти не могут, но они умеют каким-то образом использовать силу моря. Видели, какой водоворот образовали? А потом, когда я не пришел в себя и под водой, они выбросили меня обратно. А что на то же самое место — случайность. — Ага! — воскликнул Саватеев. — Не лови на слове. На Земле ведь есть морские животные, у которых такое поведение вызывается инстинктом. Те же самые дельфины. — На Земле есть. А здесь другое. — Саватеев от волнения не мог усидеть на месте и зашагал по тесной комнатке, лавируя между креслами и приборами. — Давайте вспомним все с самого начала. Рыбы умеют подчинять себе море. Они заметили, что ты неподвижен. Тогда что они делают? Собираются и обсуждают положение. Обсудили и понесли тебя обратно. Они поняли, что ты чужой. Только этим можно объяснить, что ты ничего не помнишь: обычная предосторожность. Ты теперь не сможешь, даже если бы и хотел, привести кого-нибудь или прийти назад сам. Возможно даже, посылая биотоки, узнают о наших намерениях. — Думаешь, они не единственные жители Сирены? — оживился Корзун. — Все может быть. Но не это главное сейчас. Эти рыбы, я уверен, уже обладают разумом. — Вода не та среда, где может развиваться разумная жизнь. — Шибанов не мог согласиться с Саватеевым. — Земная логика. Жизнь на Сирене так и не сумела выбраться из воды на сушу. Но это не значит, что она остановилась в своем развитии. Силы жизни могущественны, и она нашла себе свой путь. Так почему же жизнь не могла дать разум рыбоподобным? Во всяком случае, никакой другой гипотезы у нас нет. — Повторим проверку? — предложил Корзун. После долгого размышления Шибанов покачал головой: — Теперь мы не можем. А что, если Павел прав, хотя он на многое не дал ответа, так же как и я? Что тогда о нас подумают хозяева планеты? Как мы будем выглядеть в их глазах? А раз они находятся на низкой ступени развития, что наиболее вероятно, то неизвестно, что будет с нами в следующий раз. Мы завершим свою работу, не трогая моря. А когда-нибудь позже, когда рыбы достигнут более высокой ступени развития, люди установят с ними контакт. Начав развиваться, жизнь не отступит. Теперь Сирена будет под наблюдением. — Дал же кто-то планете такое название, — заметил Корзун. — Не помню кто, — ответил Шибанов. — Название существует с прошлого века. Возможно, и тогда люди знали про этих рыб. Ну как, согласны с моим решением? Возражений не было. До рассвета космонавты остались на временной станции. Хотя спать в креслах было не очень удобно, они проснулись бодрые, посвежевшие. Шибанов ходил по комнате и повторял: — Ребята, а я, кажется, кое-что припоминаю. Саватеев не выдержал и буркнул: — Да припомни уж наконец. — А что, возьму и… — Он выбежал в переходный тамбур и возвратился, держа в руках какую-то палочку. — Вот, она самая. — Водоросль?! — воскликнул Саватеев. Едва ощутимый запах озона, смешанного с чем-то еще, поплыл по комнате. Шибанов счастливо улыбнулся и сказал: — Садитесь. Разговор только начинается. Заинтригованные, друзья сели в кресла. — Вчера мы не понимали, что за полосы нарушали видимость на экране. Теперь я вспомнил все, будто не было провала в памяти. Волнение Шибанова передалось остальным. Они сидели, не отрывая от него глаз. — Первый раз меня ударило, когда я оторвал один киноаппарат, вот он, был в кармане. — Шибанов разнял пальцы. — Второй раз — когда делал снимки грота, и третий — когда вот это, — он показал на водоросль, — клал в карман. А сейчас посмотрим, что на последней пленке. Вспыхнул экран, на нем возникло подводное царство, точнее, его маленький уголок — грот. У задней стенки грота стояли полки, похожие на соты. И в каждой ячейке лежали водоросли. — Инкубатор? — удивился Саватеев. — Что-то подобное, — ответил Шибанов. Однако самое удивительное было впереди. К полкам откуда-то сбоку, со стен грота, тянулись провода. Иначе назвать эти толстые нитки было нельзя. Съемка продолжалась считанные секунды, но и за это время в нескольких ячейках блеснули красные искорки. — Что вы теперь скажете, друзья? — спросил Шибанов. Товарищи развели руками. — Тогда скажу я. Эти рыбы — роботы, вероятно даже биологические. Я помню их поведение, поэтому убежден. Они действуют логично, но без эмоций. Их создали такие же пришельцы, как и мы, из другого мира. Зачем? Под водой много этих водорослей, содержащих вещество, благотворно действующее на человека. Пока мы просматривали пленку, наши роботы сделали анализ моей крови. Она совершенно чистая, без каких-либо нарушений. Вот как подействовало на меня вещество. — Допустим, — согласился Саватеев. — А биотоки? — Мне кажется, объяснение довольно простое. Наши биотоки приблизительно такие же, как у пришельцев. Рыбы-роботы настроены на них. Поэтому они сразу и появляются, стоит кому-либо из нас оказаться на берегу. — А потеря сознания? — не сдавался Саватеев. — Это своего рода нейтрализатор. В его природе нужно будет разобраться, так как благодаря ему человек может плавать, как глубинное существо, не опасаясь давления. Услышав сигнал, рыбы-роботы берут хозяина, переносят его к гроту, где уже припасены водоросли. Конечно, водоросли роботы могут доставить и сами на поверхность, но, видимо, там необходимо присутствие хозяина. — Но где доказательство, что рыбы — это роботы? — спросил Саватеев. — Такое доказательство есть, — ответил Шибанов, — сейчас мы его приведем. — Он вставил в проектор пленку, на которой были сфотографированы рыбы возле гротов, соединил экран со счетной машиной. — Помните, — объяснил он, — есть формулы движения для живых существ и для кибернетических. С их помощью еще было доказано существование жизни па четвертой планете Проциона. Вот сейчас машина и применит их. Программу я уже составил. Через тридцать секунд после того, как кончилась пленка, машина вытолкнула ленту с ответом. Рыбы, в соответствии с утверждением математики, не могли быть живыми. — Странно, — вздохнул Корзун. — Радостно, — заметил Шибанов. — Значит, люди встретятся еще с одним представителем разума, и, как мне кажется, очень похожим на человека. А ты говорил — инстинкт.


Джекобс У. СТАРЫЕ КАПИТАНЫ Рассказы
В этих рассказах читатель найдет все, чему положено быть в классических повествованиях об отважных пенителях морей. Есть здесь отчаянный голодный бунт на борту и сорванец, пустившийся в море на поиски приключений, есть тайная охота за исчезнувшим сокровищем и коварный заговор команды против своего капитана, есть пылкая любовь помощника к капитанской дочке и вообще паруса, кубрики и трюмы, набитые порохом. Правда, борта кораблей здесь не окутываются пушечным дымом и не взвиваются на мачтах черные флаги с черепом и скрещенными костями, и капитаны здесь не из тех, кто распевает: Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя довезет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Да и откуда взяться в этих рассказах пушечной пальбе и пиратам, если действие их происходит не в восемнадцатом веке, а во второй половине девятнадцатого, и не в далеком Карибском море, а на реках и у берегов доброй старой Англии? Капитаны, помощники и сорванцы, о которых пойдет речь, плавали на непритязательных барках и шхунах, доставляя скромные грузы из оптовых складов где-нибудь на Темзе в лавки, мастерские и заводики заштатных городков на побережье Уэлса или Корнуэла, и в глаза не видели золота с испанских галеонов, вполне удовлетворяясь скромным жалованьем, которое отсчитывалось им наличными прямо из выручки за фрахт. Экипажи их состояли из помощника, двух-трех матросов, кока да юнги, а то и вообще из одного только помощника, выполнявшего по совместительству все прочие судовые обязанности. Впрочем, и этим труженикам малого каботажа приходилось переживать много занимательных приключений, и об этом-то и повествует в своих рассказах известный английский писатель-юморист Уильям Уаймарк Джэкобс (1863–1943). Следует отметить, что даже на самом маленьком барке поддерживалась самая суровая морская дисциплина и субординация. Рядовые матросы жили в тесных, дурно пахнущих кубриках на носу корабля, и им категорически воспрещалось без дела или без вызова появляться на корме, где находился штурвал и располагалась каюта капитана и помощника. Снабжение матросов продовольствием лежало целиком и полностью на совести капитана, который лично закупал для них те продукты, которые считал нужным, то есть “числом поболее, ценою подешевле”. Наршения дисциплины жестоко карались либо вычетами из мизерного жалованья, либо тюремным заключением в первом же порту. Как увидит читатель, Джэкобс великолепно знал жизнь на борту этих маленьких торговых судов. Его нельзя назвать писателем социальной темы, но он любил своих героев — грубых, невежественных, доверчивых моряков, в поте лица зарабатывавших каждый медный грош, н комические ситуации, создавать которые он так умел в своих рассказах, неизменно вызывают сочувствие к простодушно-хитрым капитанам, забулдыгам матросам и, конечно, к мальчишкам-юнгам.
Перевод с английского БЕРЕЖКОВА А.Н.
ПРОСОЛЕННЫЙ КАПИТАН
— Старый Уэппингский причал? — произнес косматый тип, взвалив на плечо новенький матросский сундук и сразу перейдя на рысь. — Есть, капитан, место известное. Ваше первое плавание, сэр? — Угадал, друг, — отозвался владелец сундучка, маленький худосочный подросток лет четырнадцати. — Только не беги так на своих ходулях, слышишь? — Слушаюсь, сэр, — сказал мужчина. Замедлив шаг, он повернул голову и пригляделся к своему спутнику. — Нет, не первое это ваше плавание, сэр, — с восхищением в голосе проговорил он. — Быть этого не может. Я вас сразу раскусил, едва увидел. И что вам за охота втирать очки бедному работяге? — Что ж, в морских делах я разбираюсь неплохо, это верно, — сказал мальчишка самодовольно. — А ну, право руля! Еще немного право руля! Мужчина незамедлительно повиновался, и таким манером, к большому неудовольствию прохожих, двигавшихся навстречу, они прошли оставшееся расстояние. — И всего делов-то на какую-то паршивую полукрону, капитан, — сказал мужчина. С этими словами он поставил сундук на верхнюю ступеньку причала и благодушно расселся на нем в ожидании платы. — Мне нужно на “Сюзен Джейн”, — обратился мальчишка к перевозчику, который сидел в своей лодке, придерживаясь рукой за нижнюю ступеньку. — Ладно, — сказал тот. — Давай сюда твое добро. — Грузи его на борт, — сказал мальчишка носильщику. — Слушаюсь, капитан, — сказал тот, весело улыбаясь. — Только сперва, если вы не против, я хотел бы получить свою полукрону. — Ты же сказал на станции, что шесть пенсов, — возразил мальчишка. — Два шиллинга и шесть пенсов, капитан, — по-прежнему улыбаясь, произнес носильщик. — Это у меня голос такой хрипловатый, и вы, наверное, не расслышали про два шиллинга. Полукрона у нас — обычная цена, сбивать ее нам никак не разрешается. — Ничего, я никому не разболтаю, — пообещал мальчишка. — Отдай человеку его полукрону, — с неожиданной злостью вмешался перевозчик, — и кончай отлынивать. А мне ты заплатишь восемнадцать пенсов, понял? — Хорошо, — с готовностью согласился мальчишка. — Это недорого. Я не знал, какие здесь цены, только и всего. Но я не смогу с вами расплатиться, пока не попаду на корабль. У меня с собой только шесть пенсов. А на корабле я попрошу капитана, чтобы он отдал вам остальное. — Кого попросишь? — взревел носильщик. — Капитана. — Слушай-ка, — сказал носильщик, — ты лучше отдай мне мою полукрону, а иначе я спихну твой сундук в воду и тебя следом за ним. — Тогда погодите минутку, я сбегаю и разменяю деньги, — поспешно проговорил мальчишка и скрылся в узком переулке, ведущем к причалу. — Он разменяет полсоверена, а то и весь соверен, — заметил перевозчик. — Требуй с него все пять шиллингов, приятель, не стесняйся. — Ты тоже не теряйся, сдери с него побольше, — любезно откликнулся носильщик. — Ох ты, ну и… Это же надо… — Слазь с сундука! — приказал огромный полисмен, явившийся вместе с мальчишкой. — Бери свои шесть пенсов, и чтоб духу твоего здесь не было! Если я еще раз поймаю тебя на этом… Не закончив фразы, он взял носильщика за шиворот и дал ему свирепого тычка на прощание. — Плата перевозчику — три пенса, — сказал он мальчишке, между тем как человек в лодке, сделавши каменное лицо, принял от него сундук. — И я постою здесь, пока он не доставит тебя на судно. Мальчишка уселся в лодку, и перевозчик, дыша сквозь зубы, погреб к стоявшим в ряд кораблям. Он поглядел на мальчишку, затем перевел взгляд на могучую фигуру на причале и, с видимым усилием подавив сильнейший позыв произнести несколько слов, яростно плюнул за борт. — Какой он молодец, верно? — сказал мальчишка. Перевозчик притворился, будто не слышит, взглянул через плечо и с силой загреб левой к небольшой шхуне, с палубы которой двое человек разглядывали маленькую фигурку в лодке. — Это тот самый мальчик, — произнес капитан, — и вы должны твердо запомнить, что наш корабль — пиратское судно. — Да уж пиратов у нас на борту предостаточно, — свирепо проворчал помощник; он повернулся и принялся оглядывать команду. — Экая куча лентяев, бездельников, тунеядцев, негодяев… — Это задумано ради мальчика, — прервал его капитан. — Откуда он взялся? — спросил помощник. — Сынишка одного моего приятеля, и я беру его в плавание, чтобы в доме у него вздохнули свободнее, — ответил капитан. — Ему, видите ли, хочется стать пиратом, ну, и я, чтобы сделать отцу приятное, сказал, что мы-де занимаемся пиратством. Если бы я так не сказал, он бы нипочем сюда не явился. — Ну, я ему покажу пиратство, — проговорил помощник, потирая руки. — Он по всем статьям сущее наказание, — продолжал капитан. — Забил себе голову дешевыми книжонками про приключения и совсем от них свихнулся. Начал с того, что сделался индейцем и удрал из дому с двумя другими ребятишками. Когда он решил стать людоедом, остальные двое воспротивились этому и выдали его полиции. После этого он совершил несколько ограблений, и его старику пришлось выложить немало денежек, чтобы замять эти дела. — Хорошо. Ну, а вам-то он на что понадобился? — проворчал помощник. — Я хочу выбить из него всю эту дурь, — тихо ответил капитан, когда лодка подошла к борту шхуны. — Ступайте на ют и расскажите команде, что от них требуется. Когда мы выйдем в открытое море, это уже не будет иметь значения. Помощник с ворчанием отошел, а маленький пассажир взгромоздился на банку и перелез через борт. Перевозчик передал следом за ним сундук и, опустив в карман медяки, без единого слова оттолкнулся веслом и погреб обратно. — С благополучным прибытием, Ральф, — сказал капитан. — Как тебе нравится мое судно? — Удалой корабль, — отозвался мальчишка, с большим удовлетворением оглядывая потрепанную старую посудину. — А где же у вас оружие? — Тс-с-с! — сказал капитан и приставил палец к кончику носа. — Ладно, ладно, — сказал юнец раздраженно. — Мне-то уж могли бы сказать. — Все в свое время, — терпеливо пояснил капитан и повернулся к команде. Матросы подходили, волоча ноги и пряча ухмылки под ладонями. — Вот вам новый товарищ, ребята. Он мал ростом, но он не подведет. Новоприбывший подобрался и оглядел команду с некоторым разочарованием. Для отпетых негодяев они выглядели слишком уж добродушными и разболтанными. — Что это с тобой, Джем Смизерс? — осведомился капитан, злобно уставясь на громадного рыжеволосого детину, который вдруг загоготал ни к селу ни к городу. — Это я вспомнил о том парне, которого я прикончил в последней стычке, сэр, — ответствовал Джем, снова напустив на себя серьезный вид. — Я все время смеюсь, когда вспоминаю, как он визжал. — Слишком много ты смеешься, — строго сказал капитан и положил руку на плечо Ральфу. — Вот с кого бери пример, вот с этого молодчика! Он не смеется. Он действует. Проводи его вниз и укажи ему койку. — Соблаговолите следовать за мной, сэр, — сказал Смизерс, спускаясь по трапу в кубрик. — Здесь, конечно, несколько душновато, но тут уж виноват Билл Доббс. Наш Билл — старая морская лошадь, он всегда спит одетым и никогда не моется. — Ну, это в нем еще не самое ужасное, — произнес Ральф, благосклонно озирая закипающего Доббса. — Попридержи язык, приятель! — сказал Доббс. — Ничего, не обращай внимания, — сказал весело Смизерс. — Никто не принимает старину Доббса всерьез. Если тебе нравится, можешь даже стукнуть его. Я за тебя заступлюсь. — Мне бы не хотелось начинать с ссоры, — серьезно сказал Ральф. — Да ты просто трусишь, — сказал Джем насмешливо. — Этак тебе сроду у нас не прижиться. Дай ему, я заступлюсь, ежели что. Побуждаемый таким образом, мальчишка приступил к делу. Вначале хитроумным маневром головой, всегда вызывавшим восхищение у соседских мальчишек и почитаемым за образец ложного выпада у них же, он отвлек внимание Доббса к области желудка, а затем ударил Доббса по лицу. В следующее мгновение кубрик огласился шумом и гамом, Ральф был брошен поперек Доббсовых коленей и неистово воззвал к Джему, напоминая ему об обещании. — Непременно, — утешил его Джем. — Я непременно заступлюсь за тебя. Он тебя и пальцем не тронет. — Как же не тронет, когда он уже трогает! — вопил мальчишка. — Ты что, не видишь, что ли? — И то верно, — сказал Джем. — Но ты погоди, вот я подстерегу его на берегу и так отделаю, что его родная мать не узнает. В ответ мальчишка разразился потоком визгливых поношений, направленных по преимуществу на некоторые дефекты физиономии Джема. — Экий ты, братец, грубиян, — сказал матрос, ухмыляясь. — Если ты покончил с этим молодым джентльменом. Доббс, — произнес Джем с изысканной вежливостью, — будь любезен, передай его мне на предмет обучения хорошим манерам. — Он не хочет к тебе, — ухмыльнулся Доббс, между тем как Ральф изо всех сил вцепился в него. — Он знает, кто к нему добрый. — Погоди, я еще с тобой посчитаюсь! — разрыдался Ральф, когда Джем все же оторвал его от Доббса. — Господи боже мой, — проговорил Джем, с удивлением его разглядывая. — Смотри-ка, да ведь он ревет, прямо слезами исходит! Ну, Билл, много я повидал в своей жизни пиратов, но этот какого-то нового сорта. — Оставьте парнишку в покое, — вмешался кок, толстый добродушный мужчина. — Иди сюда, иди ко мне, старина. Не плачь, они ведь это не со зла. Обретя у кока покой и безопасность, Ральф от стыда скрипел зубами, пока этот достойный человек, поставив его к себе между колен, вытирал ему глаза каким-то предметом, который называл своим носовым платком. — Все будет хорошо, — приговаривал кок. — Ты и глазом моргнуть не успеешь, как станешь таким же молодцом пиратом, не хуже любого из нас. — Ничего, ничего, — рыдал мальчишка. — Погодите только до первого дела. Не моя будет вина, если кое-кто не заполучит пулю в спину. Матросы переглянулись. — Так вот обо что я расшиб руку, — медленно произнес Доббс. — А я — то думал, что это перочинный нож. Он протянул длань, бесцеремонно ухватил мальчишку за воротник и подтащил к себе, после чего извлек у него из кармана небольшой дешевый револьвер. — Ты только погляди на это, Джем, — сказал он. — Сперва сними палец с курка, — отозвался тот сердито. — Выброшу я это за борт от греха, — сказал Доббс. — Не будь дураком, Билл, — сказал Смизерс. Он взял револьвер и спрятал в карман. — Вещь стоит денег, и на несколько кружек пива мы за нее получим. Эй, посторонись, Билл, его пиратское величество желают выйти на палубу! Билл шагнул в сторону, уступая мальчишке дорогу к трапу, а когда тот поднялся на несколько ступенек, поддал ему снизу плечом. Парень вылетел на палубу на четвереньках, со всей возможной поспешностью вновь вернул себе приличную позу и, отойдя, склонился над бортом — с надменным презрением наблюдать суету рабов на пристани и на реке. Они отплыли в полночь и рано на рассвете прибыли в Лонгрич, где к ним подошел лихтер, груженный бочками, и мальчишка ощутил вкус романтики и тайны, когда узнал, что в бочках содержится порох. Десять тонн пороха погрузили они в трюм, после чего лихтер отошел, люки были задраены, и они снова двинулись в путь. Это было его первое плавание, и он с живейшим интересом разглядывал суда, которые шли навстречу или обгоняли их. Он помирился с матросами, и те угощали его чудовищными рассказами о своей пиратской жизни в тщетной надежде запугать его. — Это просто маленький мерзавец, и больше ничего! — с негодованием отозвался о нем Билл, поразив однажды себя самого мощью собственного воображения. — Подумать только, я рассказываю ему, как младенца бросили акулам, а он хохочет во все горло! — Да нет же, он мальчик как мальчик, — тихонько сказал кок. — Вот погоди, Билл, когда у тебя- будет семеро таких. — Что ты здесь делаешь, юнга? — осведомился капитан, когда Ральф, забрел, засунув руки в карманы штанов, на корму. — Ничего, — ответил мальчишка, вытаращив на него глаза. — Твое место на том конце судна, — резко сказал капитан. — Ступай туда и помоги коку с картофелем. Ральф поколебался, но ухмылка на физиономии помощника решила дело. — Я здесь не для того, чтобы чистить картошку, — сказал он высокомерно. — Ах, вот оно что, — вежливо произнес капитан. — А для чего же, если мне позволено будет узнать? — Сражаться с врагами, — коротко ответил Ральф. — Подойди сюда, — сказал капитан. Мальчишка медленно приблизился. — Теперь слушай меня, — сказал капитан. — Я намерен вбить в твою глупую башку немного здравого смысла. Я знаю все о твоих дурацких выходках на берегу. Твой отец жаловался, что не может управиться с тобой, и теперь я попытаюсь сделать это, и ты на собственной шкуре убедишься, что иметь дело со мной будет потруднее. Подумать только, он полагает, будто здесь ему пиратское судно! Да в твоем возрасте любой сопляк понимает, что в наши времена таких вещей не бывает! — Вы сами сказали мне, что вы пират! — сказал мальчишка яростно. — Иначе бы ноги моей здесь не было! — Потому я так и сказал, — возразил капитан. — Только мне и в голову не приходило, что ты такой дурак и поверишь этому. Пират! Да разве я похож на пирата? — На пирата вы не похожи, — сказал мальчишка с ухмылкой. — Вы больше всего похожи на… — На кого? — спросил капитан, подступая ближе. — Ну, что же ты замолчал? — Я забыл, как это называется, — ответил Ральф, доказывая этим ответом, что здравый смысл ему отнюдь не чужд. — Не смей врать! —сказал капитан. Смешок помощника вывел его из себя. — Выкладывай, живо! Даю тебе две минуты. — А я забыл, — упрямо сказал Ральф. Ему на помощь пришел помощник. — На мусорщика? — подсказал он. — На уличного разносчика? На трубочиста? Ассенизатора? Воришку? Каторжника? Старую прачку?.. — Я буду вам очень обязан, Джордж, — произнес капитан сдавленным голосом, — если вы вернетесь к исполнению своих обязанностей и не будете впредь мешаться в дела, которые вас не касаются. Итак, юнга, на кого же я похож? — Вы похожи на вашего помощника, — медленно сказал Ральф. — Не ври! — злобно сказал капитан. — Забыть такое слово ты не мог. — Я не забыл, конечно, — признался Ральф. — Только я не знал, как это вам понравится. Капитан с сомнением поглядел на него и почесал лоб, сдвинув фуражку на затылок. — И еще я не знал, — сказал Ральф, — как это понравится помощнику. С этими словами он отправился на камбуз и уселся за котел с картошкой, выведя таким образом капитана из неловкого положения. Некоторое время хозяин “Сюзен Джейн” глядел ему вслед бессмысленным взором, а затем повернулся к помощнику. Тот кивнул. — Да, с ним ухо нужно держать востро. Вот так облает тебя, а придраться не к чему. Капитан промолчал, но, едва была почищена картошка, он направил своего юного друга чистить корабельную медь, а после этого — прибрать в каюте и чистить кастрюли и сковородки на камбузе. Тем временем помощник спустился в кубрик и обревизовал его сундук. — Вот откуда он набрался всей этой чепухи, — объявил он, вернувшись на корму с большой связкой грошовых книжонок. — Одни названия чего стоят: “Лев Тихого океана”, “Однорукий корсар”, “Последнее плавание капитана Кидда”… Он присел на светлый люк каюты и принялся листать одну из книжек, время от времени зачитывая капитану вслух поразившие его “жемчужины” фразеологии. Капитан слушал вначале с презрением, а затем нетерпеливо сказал: — Ни бельмеса не понимаю, что вы мне там читаете, Джордж! Кто такой этот Рудольф? Читайте уж лучше сначала. Получив это приказание, помощник нагнулся, чтобы капитану было лучше слышно, и прочел подряд от корки до корки первые три выпуска одной из серий. Третий выпуск заканчивался на том, как Рудольф плыл наперегонки с тремя акулами и полной лодкой людоедов; объединенные усилия капитана и помощника найти остальные выпуски успеха не имели. — Ничего иного я от него не ожидал, — сказал капитан, когда помощник вернулся с пустыми руками после повторных поисков в сундуке мальчишки. — Ничего, на этом судне его приучат к порядку. Ступайте, Джордж, и заприте все остальные книжки у себя в ящике. Больше он их не получит. К этому времени шхуна вышла в открытое море, и это начинало чувствоваться. Впереди открывался синий простор, испещренный изрыгающими дымы трубами и белыми парусами, спешащими из Англии в края романтики и приключений. Что-то вроде этого кок сказал Ральфу, стараясь убедить его подняться на палубу и взглянуть своими глазами. Кроме того, он порассуждал немного — с наилучшими намерениями, конечно, — о целительных свойствах жирной свинины в смысле спасения от морской болезни. Последующие несколько суток мальчишка делил между тяжкими приступами морской болезни и усердной работой, каковую шкипер почитал за вернейшее лекарство от пиратства. Раза три—четыре Ральфа слегка побили, и еще — что было хуже колотушек — ему пришлось в утвердительном смысле отвечать на вопросы шкипера, чувствует ли он, что понемногу набирается здравого смысла. На пятое утро они подошли к Фэрхейвену, и, к своей радости, он снова узрел дома и деревья. Они простояли в Фэрхейвене ровно столько, сколько понадобилось, чтобы освободиться от некоторой части своего груза, причем Ральфу, раздетому до рубашки и штанов, пришлось работать в трюме наравне с остальными, а затем судно направилось к Лоупорту, небольшому местечку в тридцати милях дальше, где им надлежало выгрузить свой “порох”. Был вечер, и был отлив, так что они бросили якорь в устье реки, на которой стоял городок. — Ошвартуемся у пристани часа примерно в четыре, — сказал капитан помощнику, разглядывая кучку домиков на берегу. Затем он повернулся к мальчишке: — Что, юнга, тебе ведь лучше теперь, когда я выбил из тебя немного этой дури? — Гораздо лучше, сэр, — почтительно ответствовал Ральф. — Веди себя хорошо, — сказал капитан, направляясь к трапу, ведущему в каюту, — и тогда можешь остаться с нами, если пожелаешь. А сейчас ступай-ка спать, потому как утром тебе снова придется попотеть на разгрузке. Он спустился к себе, а мальчишка остался на палубе. Матросы сидели в кубрике и курили, и только кок еще занимался своими делами на камбузе. Часом позже кок тоже спустился в кубрик и стал готовиться ко сну. Остальные двое уже храпели на своих койках, и он совсем было собрался улечься, когда заметил, что койка юнги над ним пуста. Он вышел на палубу, огляделся, затем вернулся вниз и, почесав в задумчивости нос, потряс Джема за руку. — Где мальчик? — спросил он. — Э? — произнес Джем, пробуждаясь. — Который мальчик? — Да наш мальчик, — сказал кок. — Ральф. Я что-то нигде не вижу его. Уж не свалился ли он за борт, бедняжка? Джем отказался обсуждать этот вопрос, и кок разбудил Доббса. Доббс благодушно обругал его и снова погрузился в сон. Тогда кок опять поднялся на палубу и принялся искать мальчишку в самых неподходящих местах. Он даже покопался в сложенном такелаже, но, не обнаружив там никаких следов пропавшего, волей-неволей пришел к заключению, что произошло несчастье. — Бедный парнишка, — трагически пробормотал он, перегибаясь через борт и вглядываясь в спокойную воду. Покачивая головой, он медленно побрел на корму. Там он тоже заглянул через борт и вдруг испуганно вскрикнул и протер глаза. Корабельной шлюпки за кормой не было. — Что? — сказали оба матроса, когда он растолкал их и сообщил эту новость. — Ну, пропала шлюпка и пропала, нам-то что? — Может, пойти и сообщить капитану? — спросил кок. — Ну чего ты суетишься? — отозвался Джем, сладко мурлыкая под одеялом. — Это же его шлюпка, пусть сам за ней и присматривает. Спокойной ночи. — А нам спа… на… — проговорил Доббс зевая. — Не забивай себе голову вещами, которые тебя не касаются, кок. Приняв совет к сведению, кок быстро покончил с несложными приготовлениями ко сну, задул лампу и прыгнул в свою койку. В ту же секунду он ахнул, снова выбрался из койки и, нашарив спички, зажег лампу. Минутой позже он разбудил своих приятелей в третий раз, чем довел их до белого каления. — Ну, как я тебе сейчас… — начал Джем разъяренно. — А если не ты, то я уж наверняка! — подхватил Доббс, стараясь достать до кока стиснутыми кулаками. — Это письмо — оно было приколото булавкой к моей подушке, — проговорил кок дрожащим голосом, поднося ближе к свету клочок бумаги. — Вот послушайте… — Мы не желаем слушать никаких писем! — сказал Джем. — Заткнись, тебе говорят! Но было в поведении кока нечто такое, что заставило матросов прекратить ругань. И когда они замолчали, кок стал читать с лихорадочной поспешностью: — “Дорогой кок! Я смастерил адскую машину с часовым заводом и спрятал ее в трюме возле пороха, когда мы стояли в Фэрхейвене. Я думаю, она взорвется между десятью и одиннадцатью сегодня вечером, но я не уверен насчет точного времени. Не говори этим скотам, а прыгай через борт и плыви к берегу. Я беру шлюпку. Я взял бы тебя с собою, но ты сам рассказывал мне, что однажды проплыл семь миль, так что ты легко сможешь…” На этом чтение прекратилось, так как слушатели выскочили из своих коек и, вылетев на палубу, с ревом ворвались в кормовую каюту, где, задыхаясь и перебивая друг друга, выложили содержание письма ее изумленным обитателям. — Что он засунул в трюм? — переспросил капитан. — Адскую машину, — сказал помощник. — Это такую штуковину, которой взрывают парламенты. — Сколько сейчас времени? — взволнованно осведомился Джем. — Около половины десятого, — весь дрожа, отозвался кок. — Надо кликнуть кого-нибудь с берега… Они перегнулись через борт и послали через воды могучий оклик. Большая часть населения Лоупорта уже улеглась по постелям, но окна в гостинице еще светились, и виднелся свет в верхних окнах двух или трех коттеджей. Они снова оглушительно заорали хором, в ужасе оглядываясь на трюмные люки, и вот в тишине с берега слабо донесся ответный крик. Они орали вновь и вновь как сумасшедшие, пока их чутко прислушивающиеся уши не уловили сначала скрежет лодочного киля по береговому песку, а затем и долгожданный скрип уключин. — Да быстрее же! — орал во всю мочь Доббс навстречу лодке, медленно выплывавшей из тьмы. — Чего вы так медленно? — В чем дело? — крикнул голос из лодки. — Порох! — неистово завизжал кок. — Здесь на борту десять тонн пороха, и он вот-вот взорвется! Скорее! Скрип уключин прекратился, послышалось испуганное бормотание; затем на лодке резко загребли одним веслом. — Они поворачивают назад, — сказал вдруг Джем. — Я догоню их вплавь. Эй, на лодке! — закричал он. — Готовьтесь подобрать меня! Он с плеском погрузился в воду и стремительно поплыл за лодкой. Доббс был неважным пловцом и последовал за ним после секундного колебания. — А мне и шага не проплыть! — вскричал кок, клацая зубами. Капитан и помощник, будучи в точно таком же затруднении, вслушивались, перегнувшись через борт. В темноте пловцов не было видно, но их продвижение было нетрудно проследить по шуму, который они производили. Джема втащили на лодку первым, а минутой—двумя позже слушатели на шхуне услыхали, как он помогает Доббсу. Затем до их слуха донеслись звуки борьбы, глухие удары и бранные слова. — Они возвращаются за нами, — сказал помощник и перевел дух. — Молодчина Джем! Лодка, гонимая могучими ударами весел, устремилась к ним и скоро остановилась у борта. Трое оставшихся на судне торопливо ввалились в нее. Джем и Доббс взялись за весла снова с необычайным старанием, и обреченное судно сразу растаяло во мраке. На берегу уже собралась небольшая кучка людей; узнав новости, они забеспокоились о безопасности своего городка. Общее мнение было таково, что уж окна-то, во всяком случае, находятся под угрозой, и были тут же отряжены гонцы предупредить жителей, чтобы окна держали раскрытыми. Между тем покинутая “Сюзен Джейн” ничем не давала о себе знать. Часы на маленькой церквушке позади городка пробили двенадцать, а судно все еще было цело и невредимо. — Что-то у них там не получилось, — сказал старый рыбак, не умевший правильно выражать свои мысли. — Сейчас самое время кому-нибудь отправиться туда и отбуксировать ее подальше в море. Добровольцев не нашлось. — Чтобы спасти наш Лоупорт, — продолжал этот оратор с чувством. — Если бы я был лет на двадцать помоложе… — Это как раз дело для пожилых людей, — возразил чей-то голос. Капитан ничего не сказал. Все это время он, напрягая глаза, вглядывался во мрак, в ту сторону, где стояло на якоре его судно, и мало-помалу он начал думать, что в конце концов все обойдется благополучно. Пробило два часа, и толпа начала рассеиваться. Более отважные обыватели, из тех, кто не любил сквозняков, позакрывали свои окна; неспешно привели обратно детишек, которых подняли с постелей и вывели на ночную прогулку подальше от берега. К трем часам стало ясно, что опасность миновала, а тут и рассвело, и все увидели покинутую, но по-прежнему невредимую “Сюзен Джейн”. — Я отправляюсь на борт, — сказал вдруг капитан. — Кто со мной? Вызвались Джем, помощник и городской полицейский. Взяв все ту же лодку, они быстро погребли к кораблю; там они с невероятной осторожностью открыли люки и принялись искать. Вначале они нервничали, а затем понемногу привыкли; более того, ими овладело некое подозрение, вначале слабое, но постепенно все усиливавшееся, и это придавало им храбрости. Еще позже они стали стыдливо переглядываться. — По-моему, ничего такого здесь нет, — сказал полисмен, сел и неистово расхохотался. — Этот мальчишка просто надул вас! — Похоже на то, — простонал помощник. — Теперь мы станем посмешищем для всего города! Капитан, стоявший к ним спиной, ничего не сказал; вдруг с громким возгласом он нагнулся и вытащил что-то из-за сломанного ящика. — Вот она! — вскричал он. — Всем отойти! Он торопливо выкарабкался на палубу, держа свою находку в вытянутой руке, а затем, отвернув лицо, зашвырнул ее далеко в воду. Громовое “ура” наблюдателей с двух лодок приветствовало это деяние, и далекий отклик послышался с берега. — Это и была адская машина? — прошептал на ухо помощнику смущенный Джем. — А мне показалось, будто это самая что ни на есть простая банка мясных консервов… Помощник покачал головой и искоса взглянул на полисмена, который жадно вглядывался в водную гладь. — Ну что ж, бывало, что люди гибли и от консервов, — произнес он с ухмылкой.В ПОГОНЕ ЗА НАСЛЕДСТВОМ
— Есть у моряков свои слабости, чего там говорить, — честно признал ночной сторож. — У меня у самого они были, когда я ходил в море. Но чтобы беречь деньги — такая слабость водится за ними редко. Я как-то сберег немного денег — два золотых соверена провалились в дырку в кармане. Две ночи я провел тогда на улице и не имел во рту ни крошки, пока не нанялся на другое судно, и нашел я эти самые соверены в подкладке своей куртки, когда до ближайшего кабака было уже больше двух тысяч миль. За все годы, что я проплавал, я знал только одного скрягу. Его звали Томас Геари, мы ходили вместе на барке “Гренада”, который возвращался из Сиднея в Лондон. Томас был человек в летах; я думаю, ему было под шестьдесят, и вообще он был старым дураком. Он копил больше сорока лет и, по нашим подсчетам, сберег что-то около шестисот фунтов. Очень ему нравилось разговаривать об этом и тыкать нам в нос, насколько он богаче всех остальных. А через месяц, как мы вышли из Сиднея, старина Томас заболел. Билл Хикс объявил, будто это из-за полупенса, которого он недосчитался; но Уолтер Джонс, у которого семья была всегда больна и он думал, что в таких делах разбирается хорошо, сказал, что-де он знает, какая это болезнь, да только не может вспомнить, как она называется, а вот когда мы придем в Лондон и Томас покажется доктору, тогда-де и мы увидим, как он, Уолтер Джонс, был прав. Так или иначе, но старику становилось все хуже и хуже. Пришел в кубрик капитан, дал ему каких-то лекарств и посмотрел его язык, а затем посмотрел наши языки, чтобы увидеть, есть разница или нету. Затем он оставил кока ходить за больным и ушел. На следующий день Томасу стало хуже, и скоро всем, кроме него самого, стало ясно, что он отдает концы. Сначала он нипочем не хотел этому поверить, хотя и кок убеждал его, и Билл Хикс убеждал его, а у Уолтера Джонса совершенно таким же манером умер дедушка. — Не буду я помирать, — говорит Томас. — Как это помру и оставлю все свои деньги? — Это будет благо для твоих родственников, Томас, — говорит Уолтер Джонс. — Нет у меня родственников, — говорит старик. — Тогда для твоих друзей, — этак тихонько говорит Уолтер. — И друзей нету, — говорит старик. — Ну как же нету, Томас, — говорит Уолтер с доброй улыбкой. — Уж одного-то я мог бы тебе назвать. Томас закрыл глаза, чтобы его не видеть, и принялся жалобно рассказывать о своих деньгах и каким тяжким трудом он их скопил. И мало-помалу ему делалось все хуже, и он перестал нас узнавать и принимал нас за шайку жадных пьяных матросов. Уолтера Джонса он принимал за акулу и так ему прямо и сказал, и как Уолтер ни старался, разубедить старика ему не удалось. Помер он на другой день. Утром он опять плакался насчет своих денег и обозлился на Билла, когда тот напомнил ему. что с собой он их все равно не унесет, и он выудил у Билла обещание, что похоронят его, в чем он есть. После этого Билл поправил ему одеяло и, нащупав на старике парусиновый пояс, понял, чего тот хочет добиться. Погода в тот день была ненастная, слегка штормило, и потому все были заняты на палубе, а смотреть за Томасом оставили юнгу лет шестнадцати, который обычно помогал стюарду на корме. Мы с Биллом сбежали в кубрик взглянуть на старика как раз вовремя. — Я все-таки унесу их с собой, Билл, — говорит старик. — Ну и правильно, — говорит Билл. — Камень с моей души… теперь свалился, — говорит Томас. — Я отдал их Джиму… и велел выбросить их… за борт. — Что? — говорит Билл, вытаращив на него глаза. — Все правильно, Билл, — говорит юнга. — Так он мне еелел. Это была маленькая пачка банкнотов. Он дал мне за это два пенса. Старина Томас, похоже, слушал. Глаза его были открыты, и он этак хитренько глядел на Билла, словно бы потешаясь, какую он сыграл с ним шутку. — Никому… не тратить… моих денег, — говорит он. — Никому… Мы отступили от его койки и некоторое время стояли, уставясь на него. Затем Билл повернулся к юнге. — Иди и доложи капитану, что Томас готов. — говорит он. — И гляди, если тебе шкура дорога, не сболтни кому-нибудь, что ты выбросил деньги за борт. — Почему? — говорит Джим. — Потому что тебя посадят за это, — говорил Билл. — Ты не имел права это делать. Ты нарушил закон. Деньги положено кому-нибудь оставлять. Джим вроде перетрусил, а когда он ушел, я повернулся к Биллу. Гляжу это я на него и говорю: — Что это ты затеял, Билл? — “Затеял”! — говорит Билл и фыркает на меня. — Просто я не хочу, чтобы несчастный юнга попал в беду. Бедный парнишка. Ты ведь тоже когда-то был молод. — Да, — говорю я. — Но с тех пор я немного вырос, Билл, и, если ты не скажешь мне, что ты затеял, я сам расскажу, капитану и всем ребятам тоже. Ему велел старина Томас, так чем же мальчишка виноват? — И ты думаешь, Джим его послушал? — говорит Билл, скривив свой нос. — Этот змееныш расхаживает теперь с шестью сотенками в кармане. Держи только язык за зубами, и я о тебе не забуду. Тут до меня дошло, что затеял Билл. — Идет, — говорю я, а сам гляжу на него. — За половину я молчать согласен. Я думал, он лопнет со злости, а уж наговорил он мне столько, что я едва успевал отвечать. — Ладно, раз так, — говорит он наконец. — Пусть будет пополам. И никакого грабежа тут нету, потому как деньги никому не принадлежат, и они не мальчишкины, потому как ему было сказано выбросить их за борт. На следующее утро беднягу Томаса похоронили, а когда все кончилось и мы пошли обратно в кубрик, Билл взял юнгу за плечо и говорит: — Теперь бедняга Томас ищет свои деньги. Интересно, найдет или нет? Большая была пачка, Джим? — Нет, — говорит юнга, качая головой. — Их там было шестьсот фунтовых билетов и два соверена, и я завернул соверены в билеты, чтобы они потонули. Ведь это подумать, Билл, — выбросить такие деньги! Это грех, как ты считаешь? Билл ему не ответил, и после обеда, пока в кубрике никого не было, мы взялись за мальчишкину койку и обшарили ее всю как есть, однако ничего не нашли, и в конце концов Билл сел и объявил, что он, должно быть, носит их на себе. Мы дождались ночи и, когда все захрапели кто во что горазд, прокрались к мальчишкиной койке, обыскали его карманы и ощупали подкладку, а затем мы вернулись на свои места, и Билл шепотом рассказал, какое у него мнение о Джиме. — Наверное, он привязал их к животу прямо на голое тело, как Томас, — говорю я. Мы стояли и шептались в темноте, а затем у Билла лопнуло терпение, и он на цыпочках снова отправился на поиски. Он весь так и трясся от волнения, да и я был не лучше, и тут вдруг кок с ужасным хохочущим визгом подскочил на своей койке и завопил, что кто-то его щекочет. Я мигом забрался на свою койку, Билл забрался на свою, и мы лежали и слушали, как наш кок, который страшно боялся щекотки, излагает, что он намерен сделать, если это повторится еще раз. — Ложись и спи, — говорит Уолтер Джонс. — Тебе все это приснилось. Сам подумай, кому взбредет в голову тебя щекотать? — Слово даю, — говорит кок. — Кто-то подкрался ко мне и принялся меня щекотать, и рука у него была с баранью ногу. У меня до сих пор мурашки по всему телу. В эту ночь Билл утихомирился, но на следующий день, сделав вид, будто считает, что Джим растолстел, схватил мальчишку и истыкал пальцем всего с головы до ног. Как ему показалось, что-то такое он нащупал у него вокруг пояса, но увериться в этом он не успел, потому как Джим издавал такие вопли, что остальные ребята вмешались и заставили Билла оставить его в покое. Целую неделю мы искали эти деньги и ничего не нашли, и тогда Билл сказал, что с некоторых пор Джим постоянно околачивается на корме и это подозрительное обстоятельство наводит его на мысль, что мальчишка спрятал их где-нибудь там. Но как раз в это время, поскольку рабочих рук на судне теперь не хватало, Джима отрядили на нос палубным матросом, и тут стало ясно, что он просто избегает Билла. Наконец однажды мы застали его одного в кубрике, и Билл обнял его, усадил на рундук и напрямик спросил его, где деньги. — Да я же выбросил их за борт, — говорит юнга. — Я же тебе сказал уже. Что у тебя с памятью, Билл? Билл взял его и разложил на рундуке, и мы тщательно обыскали его. Мы даже сняли с него башмаки, а пока он снова обувался, еще раз осмотрели его койку. — Ежели ты не виноват, — говорит Билл, — почему ты сейчас не орал и не звал на помощь, а? — Потому что ты велел мне помалкивать об этом деле, Билл, — говорит юнга. — Но в следующий раз я заору. И очень даже громко. — Слушай, — говорит Билл, — скажи нам, где они, и мы поделим их на троих. Каждому достанется по двести фунтов, и мы расскажем тебе, как их разменять и не попасть в беду. Мы ведь умнее тебя, и ты это знаешь. — Знаю, Билл, — говорит юнга. — Но зачем я буду врать? Я выбросил их за борт. — Ладно, раз так, — говорит Билл и поднимается. — Пойду и расскажу все капитану. — Ну и рассказывай, — говорит Джим. — Мне-то что! — Как только ты сойдешь на берег, тебя обыщут, — говорит Билл, — и обратно на судно больше не пустят. Из-за своей жадности ты потеряешь все, а если ты поделишься с нами, у тебя будет двести фунтов. Я видел, что мальчишке это в голову не приходило, и, как он ни старался, скрыть свои чувства он не смог. Он назвал Билла красноносой акулой, и меня он тоже как-то назвал, только я уже забыл. — Подумай хорошенько, — говорит Билл, — и не забудь, что полиция схватит тебя за шиворот и обыщет, едва ты сойдешь с трапа. — Интересно, а кока они тоже будут щекотать? — говорит Джим злобно. — И если они найдут деньги, ты пойдешь в тюрьму, — говорит Билл и дает ему затрещину. — А там тебе придется не по вкусу, за это я тебе ручаюсь. — Что же тебе там так не понравилось, Билл? — говорит Джим, держась за ухо. Билл поглядел на него и пошел к трапу. — Больше трепать с тобой языком я не намерен, дружок, — говорит он. — Я иду к капитану. Он стал медленно подниматься, и едва он ступил на палубу, как Джим вскочил и позвал его. Билл сделал вид, будто не слышит, и мальчишка выскочил на палубу и побежал за ним следом; немного спустя они оба вернулись в кубрик. — Ты хотел мне что-то сказать, дружок? — говорит Билл, задирая голову. — Да, — говорит юнга и ломает пальцы. — Мы поделим деньги, если ты будешь держать пасть на замке. — Хо! — говорит Билл. — А я — то думал, ты их выбросил за борт. — Я тоже так думал, Билл, — говорит тихо Джим, — но когда я вернулся в кубрик, они оказались у меня в кармане штанов. — Где они сейчас? — говорит Билл. — Это неважно, — говорит юнга. — Тебе до них все равно не добраться. Я и сам не знаю теперь, как их взять. — Где они? — снова говорит Билл. — Я сам их буду хранить. Тебе я не доверяю. — А я не доверяю тебе, — говорит Джим. — Если ты сию же минуту не скажешь мне, где деньги, — говорит Билл и снова идет к трапу, — я иду и рассказываю капитану. Они должны быть у меня в руках, по крайней мере моя доля. Почему бы не поделить их прямо сейчас? — Потому что их у меня нет, — говорит Джим, притопнув ногой, — вот почему, и это все из-за ваших дурацких штучек. Когда вы ночью устроили мне обыск, я перепугался и спрятал их. — Где? — говорит Билл. — В матрасе второго помощника, — говорит Джим. — Я прибирал на корме и нашел в его матрасе снизу дырку, засунул туда деньги и затолкал их палкой поглубже. — Как же ты думаешь достать их обратно? — говорит Билл, почесав затылок. — Вот этого я и не знаю, ведь на корму мне теперь не разрешается, — говорит Джим. — Кому-то из нас придется рискнуть, когда мы придем в Лондон. И гляди, Билл, ежели ты попробуешь здесь смошенничать, я сам всех выдам. Тут как раз в кубрик спустился кок, и нам пришлось прекратить разговор, но я видел, что Билл очень доволен. Он был так доволен, что деньги не выброшены за борт, что совсем упустил из виду, как же теперь до них добраться. Ну, через несколько дней он уразумел положение так же явственно, как и мы с Джимом, и тогда он мало-помалу совсем озверел и стал бегать на корму при всяком удобном случае и этим наводил страх на нас обоих. Трап в кормовые каюты был как раз напротив штурвала, п спуститься туда незаметно было так же затруднительно, как незаметно вынуть у человека изо рта вставную челюсть. Один раз, когда у штурвала стоял Билл, Джим спустился туда поискать свой нож, который он якобы там оставил, но едва он скрылся внизу, как выскочил снова в сопровождении стюарда со шваброй в руках. Больше мы ничего не могли придумать, и нас прямо-таки с ума сводила мысль о том, что второй помощник, маленький человечек с большой семьей, никогда не имевший за душой ни гроша, каждую ночь спит на матрасе с нашими шестью сотнями фунтов. Мы разговаривали об этом при каждом удобном случае, причем Билл и Джим едва удерживались от взаимных грубостей. Юнга считал, что во всем виноват Билл, а Билл все сваливал на юнгу. — Я считаю, что есть только один выход, — говорит как-то юнга. — Пускай Билла хватит солнечный удар, когда его будут сменять у штурвала, и пускай он свалится вниз по трапу и покалечится так, что его нельзя будет переносить. Тогда его поместят внизу в какую-нибудь каюту, а меня, может быть, приставят за ним ходить. Так или иначе, он-то уж будет находиться там, внизу. — Хорошая мысль, Билл, — говорю я. — Хо! — говорит Билл и глядит на меня так, словно готов сожрать со всеми потрохами. — А почему бы не свалиться по трапу тебе самому, если так? — По мне, лучше, если это будешь ты, Билл, — говорит юнга. — А вообще-то мне все равно, кто из вас. Можете бросить жребий. — Иди отсюда, — говорит Билл. — Иди отсюда, пока я чего-нибудь тебе не сделал, кровожаждущий убийца!.. У меня у самого есть план, — говорит он, понизив голос, когда юнга вылетел из кубрика. — И, ежели я не придумаю чего-либо получше, я пущу его в ход. Только гляди, ни слова мальчишке. Ничего получше он не придумал, и однажды ночью, как раз когда мы входили в Ламанш, он пустил в ход свои план. Он был в вахте второго помощника, и вот он облокачивается на штурвал и говорит ему тихим голосом: — Это мое последнее плавание, сэр. — О, — говорит второй помощник, никогда не гнушавшийся беседой с простым матросом. — Почему же? — Я нашел себе койку на берегу, сэр, — говорит Билл, — и я хочу попросить вас об одном одолжении. Второй помощник буркнул что-то и отошел на шаг—другой. — Мне нигде не было так хорошо, как на этом судне, — говорит Билл. — И остальным ребятам тоже. Прошлой ночью мы говорили об этом, и все сошлись, что это из-за вас, сэр, и из-за вашей к нам доброты. Второй помощник кашлянул, но Билл видел, что это ему понравилось. — И вот я подумал, — говорит Билл, — что, когда я покину море навсегда, хорошо бы унести с собой что-нибудь на память о вас, сэр. И мне пришла мысль, что, если бы я заполучил ваш матрас, я бы вспоминал о вас каждую ночь в своей жизни. — Мой… что? — говорит второй помощник, вытаращив на него глаза. — Ваш матрас, сэр, — говорит Билл. — Я бы предложил вам за него фунт, сэр. Мне хочется иметь что-нибудь из ваших вещей, и это был бы для меня лучший памятный подарок. Второй помощник покачал головой. — Мне очень жаль, Билл, — говорит он мягко, — но я не могу отдать его за такую цену. — Я лучше дам тридцать шиллингов, чем откажусь от него, сэр, — смиренно говорит Билл. — Я уплатил за этот матрас большую сумму, — говорит второй помощник. — Не помню, сколько именно, но сумма была велика. Ты понятия не имеешь, какой это дорогой матрас. — Я знаю, что это хорошая вещь, иначе вы не стали бы ее держать у себя, — говорит Билл. — А пара фунтов вас не устроит, сэр? Второй помощник мекал и экал, но Билл поостерегся набавлять еще. Со слов Джима он знал, что красная цена этому матрасу была не больше восемнадцати пенсов — для того, кто не очень брезгливый. — Я спал на этом матрасе годы и годы, — говорит второй помощник, а сам глядит на Билла краем глаза. — Не знаю уж, смогу ли я спать на каком другом. Но, чтобы уважить тебя, Билл, я отдам его тебе за два фунта, если ты оставишь его у меня до берега. — Спасибо, сэр, — говорит Билл, едва удерживаясь, чтобы не заплясать от радости. — Я передам вам эти два фунта, как только нас рассчитают. Я буду хранить его всю свою жизнь, сэр, на память о вас и о вашей доброте. — Только смотри, никому ничего не рассказывай, — говорит второй помощник, которому не улыбалось, чтобы об этой сделке узнал капитан, — потому что иначе ко мне начнут приставать другие желающие купить что-нибудь на память. Билл со всем пылом пообещал ему молчать, и когда он мне об этом рассказывал, то чуть не плакал от счастья. — И заметь, — говорит он, — я купил этот матрас, закупил его весь целиком, и к Джиму это не имеет никакого отношения. Мы с тобой уплатим по фунту и разделим то, что внутри, пополам. Он в конце концов убедил меня, но этот мальчишка следил за нами, как кот за канарейками, и мне простым глазом было видно, что уж его надуть будет нелегко. Похоже, к Биллу он относился более подозрительно, нежели ко мне, и чуть что, все приставал к нам, как мы решили с этим делом. Из-за встречного ветра мы четыре дня проболтались в проливе, пока нас не подцепил буксир и не привел в Лондон. Переживания у нас напоследок были ужасные. Прежде всего нам нужно было заполучить матрас, а затем нам нужно было исхитриться и избавиться от Джима. Билл было предложил, чтобы я увел его с собой на берег. Сказал бы, что Билл-де подойдет попозже, и там удрал бы от него. Но я на это заявил, что, пока я не получу свою долю, мне не вынести расставания с Биллом хотя бы на полсекунды. И, кроме того, Джим нипочем бы не ушел без него. Весь путь вверх по реке он торчал возле Билла и то и дело спрашивал, что же мы собираемся делать. Он так переживал, что чуть не плакал, и Билл даже испугался, как бы это не заметили остальные ребята. В конце концов мы отшвартовались в Истиндских доках и сразу повалили в кубрик помыться и переодеться в выходную одежду. Джим все это время не спускал с нас глаз, а затем он подходит к Биллу, кусает ногти и говорит: — Как же это сделать, Билл? — Держись поблизости, когда все уйдут на берег, и надейся на удачу, — говорит Билл и поглядывает на меня. — Посмотрим, как пойдут дела, когда получим аванс. Мы пошли на корму получать по десять шиллингов на карманные расходы. Я с Биллом получил раньше всех, и тогда второй помощник, незаметно подмигнув, с этаким беспечным видом вышел за нами следом и вручил Биллу матрас, завернутый в мешок. — Вот тебе, Билл, — говорит он. — Премного благодарен, сэр, — говорит Билл. Руки у него так тряслись, что он едва не выронил этот мешок, и он хотел сразу уйти, пока Джим не поднялся на палубу. Но болван помощник останавливает его и произносит перед нами маленькую речь. Дважды Билл порывается идти, но помощник кладет ему руку на плечо и все рассказывает, как он всегда старался ладить с командой и как это ему всегда удавалось, и вот пожалуйста — в самый разгар этого представления появляется мистер Джим. Он весь так и задрожал при виде свертка с матрасом и широко раскрыл глаза, а затем, когда мы двинулись на нос, он взял Билла под руку и обозвал его всеми бранными словами, какие только знал. — Ты даже молоко из блюдца у кошки готов спереть, — говорит он. — Но только знай, ты с этого судна не уйдешь, пока я не получу свою долю. — Я хотел сделать тебе сюрприз, — говорит Билл, силясь улыбнуться. — Можешь подавиться своими сюрпризами, Билл, мне они не по вкусу, — говорит юнга. — Где ты собираешься вспарывать его? — Я думаю вспороть его у себя на конке, — говорит Билл. — Ежели мы понесем его через пристань, нас может остановить полиция и спросить, что там внутри. Так что пошли в кубрик, старина Джим. — Ну да, держи карман шире, — говорит юнга и кивает ему. — А там уж вы что-нибудь придумаете, когда я останусь с вами один. Ничего, мою долю ты выбросишь мне сюда, а затем ты сойдешь с судна прежде меня. Ты понял? — Пошел к черту! — говорит Билл. Мы поняли, что последний шанс у нас пропал, спустились вниз, и он кинул сверток на свою койку. В кубрике оставался только один парень. Он повозился минут десять со своей прической, кивнул нам и убрался. Через полминуты Билл распорол матрас и принялся шарить в набивке, а я зажигал спички и приглядывал за ним. Матрас был не так чтобы очень велик, и набивки в нем было не так чтобы очень много, но мы никак не могли найти эти деньги. Билл ворошил набивку снова и снова, а затем выпрямился, посмотрел на меня и перевел дух. — Может, помощник нашел их? — говорит он охрипшим голосом. Мы снова перетряхнули набивку, и тогда Билл поднялся до середины трапа и тихонько окликнул Джима. Он окликнул его три раза, а затем вылез на палубу, и я следом за ним. Юнги нигде не было видно. Увидели мы только судового кока, который мылся и причесывался перед выходом на берег, да капитана, который стоял на корме и разговаривал с владельцем. Мы никогда больше не видели этого гонгу. Он не вернулся за своим сундучком и не пришел получать жалованье. Вся остальная команда была, конечно, тут, и когда я получил свои деньги и вышел на палубу, я увидел беднягу Билла. Он стоял, привалившись спиной к стене, и пристально глядел на второго помощника, а тот с доброй улыбкой осведомлялся, как ему спалось. Бедный парень засунул руки в карманы штанов и со всей мочи старался ответить улыбкой на улыбку. Таким я в последний раз видел Билла.В ПАВЛИНЬИХ ПЕРЬЯХ
Капитан “Сары Джейн” пропадал уже два дня, и это обстоятельство наполняло радостью всех на борту, если не считать юнги, которого никто не спрашивал. До этого капитан, чью натуру можно было бы, вероятно, определить как беспорядочную, дважды опаздывал к отплытию своего корабля, и прошел слух, будто третий раз будет для него последним. Место было выгодное, и на него претендовал помощник, а на место помощника целился матрос Тед Джонс. — Еще два часа, и я отчаливаю, — озабоченно объявил помощник матросам, которые стояли, облокотившись на борт. — Да, примерно два часа, — отозвался Тед, наблюдая, как прилив медленно заливает полосу прибрежного ила. — Интересно, что со стариком? — Не знаю и знать не хочу, — сказал помощник. — Стойте за меня, ребята, и нам всем будет хорошо. В последний раз мистер Пирсон ясно выразился, что, ежели капитан опять опоздает к отплытию, пусть больше не появляется на судне, и он прямо перед стариком приказал мне, чтобы я не ждал ни одной лишней минуты, а прямо отчаливал бы. — Старый дурень, — сказал Билл Лох, другой матрос. — И никто не пожалеет о нем, кроме как юнга. Все утро он как на иголках, я даже дал ему пинка во время обеда, чтобы он смотрел бодрее. Вон, поглядите на него. Помощник бросил в сторону юнги презрительный взгляд и отвернулся. Юнга не подозревал, что на него обратили внимание. Забравшись за брашпиль, он извлек из кармана письмо и внимательно перечитал его в четвертый раз. “Дорогой Томми, — начиналось оно. — Я беру в руку перо сообщить тебе, что нахожусь тут и не могу уйти попричине что вчера вечером я праиграл май адежды в карты и еще деньги и все остальное. Негавари ниадной живой душе об этом потомукак помощник целит на мою должность а сабери какойнибудь адежды и принеси мне неговоря никому. Пойдет адежда помощника потому — что иной какой у меня нет и не гавари ему. Про наски небеспокойся как мне их аставил. Га-лава у миня так балит что я тут канчаю. Твой любящий дядя и капитан Джо Бросс. Еще непападись наглаза памощнику когда пойдешь а то он тибя непустит”. — Еще два часа, — вздохнул Томми, засовывая письмо обратно в карман. — А как мне взять одежду, когда она вся под замком? И ведь тетка приказала присматривать за ним, чтобы он не попал в беду… Он сидел, глубоко задумавшись, но тут команда по приглашению помощника сошла на берег пропустить по стаканчику, и юнга опять спустился в каюту и снова тщательно обыскал ее. На виду была только одежда, принадлежавшая миссис Бросс, которая вплоть до этого рейса плавала вместе с капитаном, чтобы самой присматривать за ним. Юнга уставился на платье. — Возьму это и попробую махнуть в обмен на что-нибудь мужское, — решил он и принялся сдирать платье с вешалки. — Тетка не станет браниться. Он поспешно скатал женские туалеты в сверток и вместе с парой ковровых туфель капитана засунул в старый короб из-под сухарей. Затем, взвалив эту ношу на плечо, он осторожно вышел на палубу, спрыгнул на берег и пустился бегом по адресу, указанному в письме. Путь был долгий, а короб был тяжелый. Первая попытка совершить товарообмен закончилась неудачно, ибо хозяина ломбарда незадолго до этого навестила полиция и он пребывал в столь разрушительном состоянии духа, что юнга едва успел подхватить свой груз и выскочить из лавки. Встревоженный, он поспешно зашагал дальше и свернул в какой-то переулок, и тут взгляд его упал на булочника скромной и добродушной наружности, который стоял за прилавком в своей лавчонке. — Ежели позволите, сэр, — произнес Томми, входя и ставя короб на прилавок. — Нет ли у вас какой-либо бросовой одежды, которая вам не требуется? Булочник повернулся к полке, выбрал черствую краюху, разрезанную пополам, и одну половинку положил перед юнгой. — Мне не нужен хлеб, — сказал Томми в отчаянии. — Но у меня только что померла мать, и отцу нужен траур для похорон. У него есть только новый костюм, и если он сможет обменять вот эти вещи матери на какой-нибудь поношенный, он тогда продаст свой новый и выручит деньги на похороны… Он вытряхнул одежды на прилавок, и жена булочника, которая только что вошла в лавку, не без благосклонности их осмотрела. — Бедный мальчик, ты, значит, потерял свою мать, — сказала она, переворачивая какой-то предмет туалета. — Это хорошая юбка, Билл. — Да, мэм, — сказал Томми скорбно. — А отчего она умерла? — осведомился булочник. — От скарлатины, — со слезами в голосе сказал Томми, потому что это была единственная болезнь, о которой он слышал. — От скар… Забирай сейчас же это барахло! — вскричал булочник, сбрасывая одежду на пол и отбегая следом за женой в противоположный угол лавки. — Забирай это сейчас же отсюда, негодяй ты этакий! Голос его был столь громок, а поведение столь решительно, что перепуганный юнга, не пытаясь спорить, кое-как запихал одежду в короб и отчалил. Прощальный взгляд на часы привел его почти в такой же ужас, в каком пребывал булочник. — Времени терять нельзя, — пробормотал он и пустился бегом. — И пусть старик надевает это либо пусть остается там, где он есть. Он достиг цели, совершенно запыхавшись, и остановился перед небритым человеком в заношенном грязном платье, который стоял перед дверью и с видимым удовольствием покуривал короткую глиняную трубку. — Капитан Бросс здесь? — пропыхтел он. — Наверху, — ответствовал человек со злорадной ухмылкой. — Сидит во власянице, посыпав голову пеплом, и пепла на нем больше, чем власяницы. Ты принес ему во что одеться? — Послушайте, — сказал Томми. Он уже стоял на коленях и открывал крышку короба, совершенно в стиле бывалого торговца вразнос. — Отдайте мне за это какой-нибудь старый костюм. Торопитесь. Вот прекрасное платье… — Чтоб мне провалиться! — произнес человек, вытаращив глаза. — Да у меня есть только то, что на мне! За кого ты меня принимаешь? За герцога? — Ну, тогда достаньте где-нибудь, — сказал Томми. — Если вы не достанете, капитану придется идти в этом… — Забавно, на что он будет тогда похож, — сказал человек, ухмыляясь. — Чтоб мне сдохнуть, я непременно приду наверх поглядеть! — Достаньте мне одежду! — умолял Томми. — Да я за пятьдесят фунтов доставать не стану! — сказал человек с возмущением. — Так и норовит испортить людям удовольствие! Ступай, ступай, покажи своему хозяину, что ты ему приволок, а я послушаю, что он тебе на это скажет. Он с десяти утра бранится на чем свет стоит, но уж об этом он должен сказать что-то совсем особенное. Он повел отчаявшегося юнгу вверх по голой деревянной лестнице, и они вошли в маленькую грязную комнатушку, в центре которой восседал капитан “Сары Джейн” в носках и в газете за прошлую неделю. — Вот юный джентльмен пришел и принес вам одежду, капитан, — сказал небритый человек, забирая у юнги короб. — Ты чего так долго? — проворчал капитан, поднимаясь. Небритый человек запустил руку в короб и извлек платье. — Что вы об этом думаете? — произнес он выжидающе. Капитан тщетно пытался произнести хоть слово, ибо язык его из милосердия отказался служить ему и предпочел застрять между зубами. В мозгу капитана гремели выражения, предающие анафеме зло и пороки. — Ну, хоть поблагодарите, если вам нечего больше сказать, — предложил небритый человек с надеждой в голосе. — Ничего другого не было, — поспешно сказал Томми. — Все вещи были под замком. Я попытался сменять это на что-нибудь подходящее и чуть было не попал за решетку. Одевайтесь поскорее, пожалуйста. Капитан облизнул губы. — Помощник отчалит сразу же, как только шхуна будет на плаву, — продолжал Томми. — Одевайтесь же, надо испортить ему удовольствие. Сейчас идет дождик. Никто вас не заметит, а на борту вы займете одежду у кого-нибудь из матросов. — Платье самое модное, капитан, — сказал небритый человек. — Господи,в вас будут влюбляться с первого взгляда! — Скорее же! — сказал Томми, пританцовывая от нетерпения. — Скорее! Совершенно обалдевший капитан стоял смирно, дико ворочая глазами, а двое помощников обряжали его, пререкаясь по поводу деталей туалета. — Говорят тебе, его нужно туго зашнуровать, — сказал небритый человек. — Да нельзя же туго зашнуровывать без корсета, — презрительно возразил Томми. — Уж вам-то надо бы знать. — Ну да, нельзя, — в замешательстве пробормотал небритый человек. — Ты-то уж что-то много знаешь для своих лет… Ладно, тогда обмотаем его шнурком. — Шнурок искать некогда, — сказал Томми, привставая на цыпочки, чтобы закрепить на голове у капитана капор. — Обвяжите ему шарф вокруг подбородка, чтобы закрыть бороду, и нацепите эту вуаль. Слава богу, что у него нет усов. Человек повиновался, а затем, отступив на два шага, полюбовался на дело рук своих. — Не мне, понятно, говорить, но глядеть на вас — одно удовольствие, — провозгласил он гордо. — Ну, молодчик, бери его под руку. Веди его по задним переулкам, а если заметишь, что на тебя кто-нибудь глазеет, назови его мамой. Будучи реалистом от рождения, небритый человек попытался на пороге сорвать у капитана поцелуй, и парочка пустилась в путь. К счастью, шел проливной дождь, и, хотя некоторые прохожие поглядывали на них с любопытством, никто на пути к пристани к ним не приставал. На пристань же они явились как раз в ту минуту, когда шхуна отчаливала. Увидев это, капитан задрал юбки и припустил бегом. — Эхой! — заорал он. — Стойте! Помощник бросил на необычную фигуру изумленный взгляд и отвернулся, но в этот момент корма шхуны оказалась на расстоянии прыжка от пристани, и дядя с племянником, движимые единым порывом, обрушились на палубу. — Вы почему не задержались, когда я вас окликнул? — набросился капитан на помощника. — А откуда мне было знать, что это вы? — угрюмо возразил помощник, осознавший свое поражение. — Я, может, думал, что это русская императрица. Капитан яростно уставился на него. — Впрочем, мой вам совет, — продолжал помощник с ядовитой улыбкой, — оставайтесь в этой одежде. Вы никогда еще так мило не выглядели. — Я хочу занять у вас какую-нибудь одежду, Боб, — сказал капитан и пристально на него поглядел. — А где у вас своя? — спросил помощник. — Не знаю, — сказал капитан. — Прошлой ночью у меня был приступ, Боб, и, когда сегодня утром я очнулся, одежды на мне не было. Кто-то воспользовался моим беспомощным положением и раздел меня. — Весьма возможно, — сказал помощник. Он отвернулся и крикнул команду матросам, которые возились с парусами. — Ну, так где же она, старина? — спросил капитан. — Откуда мне знать? — удивился помощник. — Я говорю о вашей одежде, — сказал капитан, быстро утрачивая терпение. — А, о моей… — сказал помощник. — Ну, честно говоря, не люблю я одалживать свою одежду. Я, знаете ли, очень брезгливый. А вдруг у вас в ней случится приступ? — Так вы не одолжите мне вашу одежду? — спросил капитан. — Нет, не одолжу! — произнес помощник очень громко и значительно поглядел на настороживших уши матросов. — Очень хорошо! — сказал капитан. — Тед, иди сюда. Где твоя запасная одежда? — Очень сожалею, сэр, — проговорил Тед, неловко переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на помощника в поисках поддержки, — она будет совсем вам не по вкусу. — Об этом лучше судить мне, — резко сказал капитан. — Неси ее сюда. — Сказать по правде, сэр, я вроде помощника, — сказал Тед. — Я всего только бедный матрос, но свою одежду я не одолжу и королеве Англии. — Неси сюда одежду! — взревел капитан, срывая с головы капор и швыряя его на палубу. — Неси сию же минуту! Ты хочешь, чтоб я так и ходил в этих юбках? — Не дам, — упрямо сказал Тед. — Очень хорошо, я возьму одежду у Билла, — сказал капитан. — Только имей в виду, приятель, ты у меня за это жестоко поплатишься. Билл — вот единственный честный человек на борту. Дай мне твою руку, Билл, старина. — Я с ними заодно, — сказал Билл хрипло и отвернулся. В ярости кусая губы, капитан поворачивался то к одному, то к другому, а потом, разразившись проклятьями, зашагал на ют. Но Билл и Тед опередили его, и, когда он спустился в кубрик, они уже сидели рядом на своих сундуках лицом к нему. Угрозы и мольбы они выслушали в каменном молчании, и отчаявшемуся капитану пришлось в конце концов вернуться на палубу все в тех же ненавистных юбках. — Пошли бы в каюту и прилегли, — предложил помощник. — Я бы принес вам добрую кружку горячего чаю. А то ведь вас так кондрашка хватит. — Заткнитесь, а то я вам все зубы повыбиваю! — сказал капитан. — Это вы-то? — весело сказал помощник. — Силенок не хватит. Вы лучше поглядите на того вон беднягу. Взглянув в указанном направлении, капитан раздулся от бессильной злости и яростно погрозил кулаком краснорожему мужчине с седыми бакенбардами, который посылал ему бессчетные воздушные поцелуи с мостика проходящего парохода. — Правильно, — одобрительно сказал помощник. — Их нужно отшивать. Любовь с первого взгляда ломаного гроша не стоит. Ужасно страдая от подавляемых эмоций, капитан ушел в каюту, а команда, подождав немного и убедившись, что он больше не появится, тихонько приблизилась к помощнику. — Если в Бэтлси он прибудет в таком виде, все будет в порядке, — сказал тот. — Стойте за меня, ребята. На борту у него только туфли и зюйдвестка. Выбросьте все иголки за борт, иначе он попробует сшить себе одежду из старого паруса или чего-нибудь другого. Если мы доставим его в этих юбках к мистеру Пирсону, все в конце концов выйдет не так уж и плохо. Пока наверху договаривались об одних мероприятиях, внизу капитан и юнга обсуждали другие. Все поразительные проекты захвата матросской одежды, выдвинутые капитаном, были отвергнуты мальчиком как совершенно противозаконные и, что хуже всего, непрактичные. Битых два часа обсуждали они пути и способы, но завершилось это всего лишь монологами по поводу гнусного поведения команды; в конце концов капитан, чья голова еще трещала после вчерашних излишеств, впал в состояние мрачного отчаяния и замолчал. — Клянусь богом, Томми, я нашел выход! — вскричал он вдруг, выпрямляясь и ударяя кулаком по столу. — Где твоя запасная одежда? — Да она ведь такого же размера, что и эта, — сказал Томми. — Давай ее сюда, — сказал капитан, кивая со значительным видом. — Хорошо, так. А теперь ступай в мою каюту и сними то, что на тебе. Ничего не понимая и опасаясь, что великое горе повредило разум его родственника, Томми повиновался и вскоре возвратился в кают-компанию, завернутый в одеяло и с одеждой под мышкой. — Ты понял, что я собираюсь сделать? — спросил капитан, широко улыбаясь. — Нет. — Теперь давай сюда ножницы. Так. Теперь ты понял? — Вы хотите разрезать два костюма и сделать из них один! — догадался Томми и содрогнулся от ужаса. — Постойте! Не надо! Но капитан нетерпеливо отпихнул его и, разложив одежду на столе, несколькими удалыми взмахами ножниц расчленил ее на составные части. — А я что теперь буду носить? — спросил Томми, принимаясь всхлипывать. — Об этом вы подумали? — Ты? Что будешь носить ты, себялюбивый поросенок? — строго произнес капитан. — Ты вечно думаешь только о себе! Иди и принеси мне несколько иголок и нитки. Если что-нибудь останется и ты будешь хорошо себя вести, я погляжу, что можно будет сделать для тебя. — Нету иголок, — прохныкал Томми, вернувшись после затянувшихся поисков. — Ступай тогда в кубрик и принеси ящик с парусными иглами, — сказал капитан. — И смотри, чтоб никто не заметил, зачем ты пришел, и не забудь нитки. — Чего же вы не сказали раньше, когда у меня одежда была цела? — простонал Томми. — Как же я теперь пойду в этом одеяле? Они же будут смеяться надо мной! — Иди сейчас же! — прикрикнул капитан. Он повернулся к юнге спиной и, тихонько насвистывая, принялся раскладывать на столе куски материи. — Смейтесь, ребята, смейтесь! — весело произнес он, когда взрыв хохота возвестил о появлении Томми на палубе. — Подождите еще самую малость. Но ждать пришлось ему самому, и притом целых двадцать минут, после чего Томми, наступив на край одеяла, скатился по трапу и упал у его ног. Поднявшись и ощупав голову, он торжественно провозгласил: — На борту нет ни единой иглы. Я обыскал все. — Что? — взревел капитан. Он поспешно спрятал обрезки ткани и позвал: — Эй, Тед! Тед! — Здесь, сэр, — сказал Тед, сбегая в каюту. — Мне очень нужна парусная игла, — произнес капитан. — У меня, видишь ли, порвалась юбка. — Последнюю иглу я сломал вчера, — сказал Тед со злой ухмылкой. — Тогда дай какую-нибудь другую, — сказал капитан, сдерживаясь. — Вряд ли такие вещи имеются на борту, — сказал Тед, который в точности выполнил дальновидные указания помощника. — Да и ниток у нас нет. Я только вчера докладывал об этом помощнику. Капитан вновь погрузился в бездну мрачного отчаяния. Отослав Теда взмахом руки, он присел на край рундука и угрюмо задумался. — Очень жаль, что вы все делаете с такой поспешностью, — мстительно произнес Томми. — Насчет иголки вы могли бы побеспокоиться и раньше, до того, как испортили мою одежду. Теперь вот вдвоем будем ходить курам на смех. Капитан “Сары Джейн” пропустил эту дерзость мимо ушей. В минуты глубочайших переживаний сознание человека, обыкновенно прикованное к вещам низменным, обращается к проблемам высокой морали. Потрясенный бедой и разочарованием, капитан сунул правую руку в карман (ему понадобилось время, чтобы отыскать его), попросил обмотанного одеялом отрока присесть напротив и начал: — Ты видишь, мальчик, к чему приводят карты и пьянство. Вместо того чтобы твердой рукой сжимать кормило своего корабля, соревнуясь в навигационном искусстве с капитанами других судов, я вынужден прятаться здесь, как какая-нибудь… э… какая-нибудь… — …актриса, — подсказал Томми. Капитан оглядел его с головы до ног. Томми, не подозревая, какое он нанес оскорбление, честно смотрел ему в глаза. — Что бы ты сделал, — продолжал капитан, — если бы в разгар веселья почувствовал, что принял уже слишком много, и, задержав кружку с пивом на полпути ко рту, вспомнил обо мне? — Не знаю, — сказал Томми, зевнув. — Что бы ты сделал? — повторил капитан, повысив голос. — Наверное, засмеялся бы, — произнес Томми после недолгого раздумья. Звук оплеухи огласил каюту. — Гнусный, неблагодарный жабенок! — яростно сказал капитан. — Ты не заслуживаешь того, чтобы о тебе заботился такой хороший, добрый дядя! — Пусть лучше заботится о ком угодно, только не обо мне! — рыдал негодующий племянник, осторожно ощупывая ухо. — И вообще вы больше смахиваете на тетю, а не на Дядю! Выпалив этот последний выстрел, он скрылся, только одеяло мелькнуло, а капитан, подавив мгновенно вспыхнувшее желание разрезать его на части и затем вышвырнуть за борт, снова уселся на рундук и закурил трубку. Когда судно вышло из устья реки в море, он вновь появился на палубе и, не без труда игнорируя хихиканье матросов и колкости помощника, взял команду на себя. Единственным изменением, которое ему удалось внести в свой наряд, была зюйдвестка, сменившая капор, и в таком виде он выполнял свои обязанности, в то время как обиженный Томми кутался в одеяло и уклонялся от своих. Три дня в море были кошмаром для всех. Так алчен был взгляд капитана, что матросы то и дело хватались за свои штаны и, проходя мимо него, наглухо застегивались на все пуговицы. В грот-парусе он видел только куртки, из кливера выкраивал себе призрачные брюки и в конце концов принялся бессвязно лепетать что-то о голубой сарже и о шотландском сукне. Презрев гласность, он решил войти в гавань Бэтлси глухой ночью; однако намерению его не было суждено исполниться. Неподалеку от дома ветер упал, и Бэтлси, серый берег справа по носу, показался на горизонте, когда солнце было уже высоко. Капитан держался, пока до гавани осталась миля, а затем руки его, сжимавшие штурвал, ослабели, и он озабоченно огляделся, ища взглядом помощника. — Где Боб? — крикнул он. — Помощник очень болен, сэр, — ответил Тед, покачивая головой. — Болен? — Испуганный капитан даже задохнулся. — А ну, возьми штурвал на минуту… Он передал управление и, подхватив подол, торопливо отправился вниз. Помощник полулежал на своей койке и уныло постанывал. — Что случилось? — спросил капитан. — Я умираю, — сказал помощник. — У меня внутри все узлом завязалось. Я не в силах выпрямиться. Капитан кашлянул. — Тогда вам лучше снять одежду и немного отлежаться, — сказал он благожелательно. — Давайте я помогу вам раздеться. — Не стоит… беспокоиться, — сказал помощник, глубоко дыша. — Да нет же, никакого беспокойства, — сказал капитан дрожащим голосом. — Пусть моя одежда будет на мне, — тихо проговорил помощник. — Я всю жизнь лелеял мечту умереть в своей одежде. Может быть, это глупо, но ничего не поделаешь. — Ваша мечта исполнится, будьте покойны! — заорал взбешенный капитан. — Вы негодяй! Вы притворяетесь больным, чтобы заставить меня ввести судно в порт! — А почему бы и нет? — спросил помощник тоном наивного удивления. — Вводить судно в порт — это обязанность капитана. Ступайте, ступайте наверх. Наносы в устье все время меняются, знаете ли. Капитан сдержался огромным усилием воли, вернулся на палубу и, взяв штурвал, обратился к команде. Он с чувством говорил о послушании, которым матросы обязаны своим начальникам, и об их моральном долге одалживать оным свои брюки, когда последние требуются таковым. Он перечислил ужасные наказания, следующие за мятеж на борту, и со всей очевидностью доказал, что предоставление капитану вводить судно в порт в юбках есть мятеж самого злостного свойства. Затем он отослал матросов в кубрик за одеждой. Они послушно скрылись внизу, но их так долго не было, что капитан понял: никакой надежды нет. А тем временем бухта уже раскрылась перед кораблем. Когда “Сара Джейн” приблизилась к берегу на расстояние оклика, на набережной было всего два или три человека. Когда она прошла мимо фонаря в конце причала, там было уже две или три дюжины, и толпа росла со скоростью в три человека на каждые пять ярдов, которые она проходила. Добросердечные, исполненные истинного гуманизма граждане, блюдя интересы своих ближних, подкупали мальчишек медяками, посылая их за своими друзьями, дабы те не пропустили такого грандиозного и дарового зрелища, и к тому времени, когда шхуна подошла к своему месту у причала, уже большая часть населения порта собралась там, лезла на плечи друг дружке и выкрикивала дурацкие и развеселые вопросы в адрес капитана. Новость достигла ушей владельца шхуны, он поспешил в порт и явился туда как раз в тот момент, когда капитан, не обращая внимания на горячие увещевания зевак, готовился уйти к себе в каюту. Мистер Пирсон был человеком быстрых решений, и он появился на пристани, кипя от гнева. Затем он увидел капитана, и его обуяло веселье. Трое крепких парней оддерживали его, чтобы он не упал, и чем мрачнее становился капитан, тем тяжелее становилась их работа. Наконец, когда он совершенно ослабел от истерического хохота, ему помогли подняться на палубу, где он последовал за капитаном в его каюту и ломающимся от эмоций голосом потребовал объяснений. — Это самое восхитительное зрелище, какое я видел в жизни, Бросс, — сказал он, когда капитан закончил свой рассказ. — Я бы не пропустил его ни за что на свете. Я чувствовал себя неважно всю эту неделю, но теперь мне значительно лучше. Уйти с корабля? Не болтайте глупостей. После всего этого я ни за что не расстанусь с вами. Но если вы пожелаете взять себе нового помощника и набрать новую команду, это ваша воля. Ну, а если бы вы согласились сейчас пойти ко мне домой и показаться миссис Пирсон… она, видите ли, заболела… я бы дал вам пару фунтов. Надевайте ваш капор, и пойдем.БЕДНЫЕ ДУШИ
День был прекрасный, а легкий ветер, дувший в старые залатанные паруса, нес шхуну со скоростью всего в три узла. Невдалеке снежно сияли два—три паруса, в воздухе за кормой парила чайка. И никого не было на палубе от кормы до камбуза и от камбуза до неряшливой груды такелажа на юте, кто мог бы подслушать беседу капитана и помощника, обсуждавших зловредный дух мятежа, который с недавнего времени обуял команду. — Они явно делают это назло, вот что я вам скажу, — заявил капитан, маленький пожилой человечек с растрепанной бородой и светлыми голубыми глазками. — Явно, — согласился помощник, личность от природы немногословная. — Вы бы нипочем не поверили, что мне приходилось есть, когда я был юнгой, — продолжал капитан. — Нипочем, даже если б я поклялся на Библии. — Они лакомки, — сказал помощник. — Лакомки! — с негодованием воскликнул капитан. — Да как это смеет голодный матрос быть лакомкой? Еды им дается достаточно, что им еще надо? Вот, глядите! Взгляните туда! Задохнувшись от возмущения, он указал пальцем на Билла Смита, который поднялся на палубу, держа тарелку в вытянутой руке и демонстративно отвернув нос. Он притворился, что не замечает капитана, расхлябанной походкой приблизился к борту и соскреб пальцами в море еду с тарелки. За ним последовал Джордж Симпсон и тоже тем же возмутительным манером избавился от еды, которая, по мысли капитана, должна была насытить его организм. — Я им отплачу за это! — пробормотал капитан. — Вон идут еще, — сказал помощник. Еще двое матросов вышли на палубу с застенчивыми ухмылками и тоже расправились со своим обедом. Затем наступила пауза — пауза, в течение которой и матросы, и капитан с помощником чего-то, видимо, ждали; это что-то как раз в этот самый момент старалось собраться с духом у подножия трапа в кубрике. — Если и юнга туда же, — произнес капитан неестественным, сдавленным голосом, — я изрежу его на куски. — Тогда готовьте нож, — сказал помощник. Юнга появился на палубе, бледный как привидение, и жалобно поглядел на команду, ища поддержки. Их грозные взгляды напомнили ему, что он забыл нечто весьма существенное; он спохватился, вытянул перед собой тощие руки на полную длину и, сморщив нос, с превеликим трепетом направился к борту. — Юнга! — рявкнул вдруг капитан. — Есть, сэр! — поспешно откликнулся мальчишка. — Поди сюда, — строго сказал капитан. — Сперва выбрось обед, — произнесли четыре тихих угрожающих голоса. Юнга поколебался, затем медленно подошел к капитану. — Что ты собирался сделать с этим обедом? — мрачно осведомился тот. — Съесть его, — робко ответил парнишка. — А зачем тогда ты вынес его на палубу? — спросил капитан, нахмурив брови. — Я так думал, что на палубе он будет вкуснее, сэр, — сказал юнга. — “Вкуснее”! — яростно прорычал капитан. — Обед хорош и без того, не так ли? — Да, сэр, — сказал юнга. — Говори громче! — строго приказал капитан. — Он очень хорош? — Он прекрасен! — пронзительным фальцетом прокричал юнга. — Где еще тебе давали такое прекрасное мясо, как на этом судне? — произнес капитан, личным примером показывая, что значит говорить громко. — Нигде! — проорал юнга, следуя примеру. — Все, как положено? — проревел капитан. — Лучше, чем положено! — провизжал трусишка. — Садись и ешь, — скомандовал капитан. Юнга сел на светлый люк каюты, достал складной нож и приступил к еде, старательно закатывая глаза и причмокивая, а капитан, опершись на борт спиной и локтями и скрестив ноги, благосклонно его разглядывал. — Как я полагаю, — произнес он громко, налюбовавшись юнгой всласть, — как я полагаю, матросы выбросили свои обеды просто потому, что они не привыкли к такой хорошей пище. — Да, сэр, — сказал юнга. — Они так и говорили? — прогремел капитан. Юнга заколебался и взглянул в сторону юта. — Да, сэр, — проговорил он наконец и содрогнулся, когда команда отозвалась тихим зловещим рычанием. Как он ни медлил, еда на тарелке вскоре кончилась, и по приказанию капитана он вернулся на ют. Проходя мимо матросов, он боязливо покосился на них. — Ступай в кубрик, — сказал Билл. — Мы хотим поговорить с тобой. — Не могу, — сказал юнга. — У меня много работы. У меня нет времени на разговоры. Он оставался на палубе до вечера, а когда злость у команды несколько поулеглась, он тихонько спустился в кубрик и забрался на свою койку. Симпсон перегнулся и хотел схватить его, но Билл отпихнул его в сторону. — Оставь его пока, — сказал он спокойно. — За него мы возьмемся завтра. Некоторое время Томми лежал, мучаясь дурными предчувствиями, но затем усталость сморила его, он перевернулся на другой бок и крепко уснул. Тремя часами позже его разбудили голоса матросов; он выглянул и увидел, что команда ужинает при свете лампы и все молча слушают Билла. — От всего этого меня так и подмывает объявить забастовку, — закончил Билл свирепо, попробовал масло, скривился и принялся грызть сухарь. — И отсидеть за это шесть месяцев, — сказал старый Нед. — Так не пойдет, Билл. — Что же, шесть или семь дней сидеть на сухарях и гнилой картошке? — яростно воскликнул тот. — Это же просто медленное самоубийство! — Хорошо, если бы кто-нибудь из вас покончил самоубийством, — сказал Нед, оглядывая лица товарищей. — Это бы так напугало старика, что он бы сразу очухался. — Что ж, ты у нас старше всех, — сказал Билл со значением. — И ведь утопиться прямо ничего не стоит, — подхватил Симпсон. — Ну чего тебе еще ждать от жизни в твои годы, Нед? — И ты бы оставил капитану письмо, что тебя, мол, довела до этого плохая пища, — добавил взволнованно кок. — Говорите по делу, — коротко сказал старик. — Слушайте, — сказал вдруг Билл, — я вам объясню, что надо делать. Пускай кто-нибудь из нас притворится, будто бы покончил самоубийством, и напишет письмо, как предложил здесь Слаши: что мы, дескать, решили лучше попрыгать за борт, нежели помереть от голода. Это напугает старика, и он, может, позволит нам начать новые припасы, не заставляя сперва доесть эту тухлятину. — Как же это сделать? — спросил Симпсон, вытаращив глаза. — Да просто пойти и спрятаться в носовом трюме, — сказал Билл. — Там ведь груза не много. Нынче же ночью, когда кто-нибудь из нас будет на вахте, мы откроем люк, и тот, кто захочет, пойдет и спрячется внизу, пока старик не очухается. Как вы полагаете, ребята? — Мысль, конечно, неплохая, — медленно произнес Нед. — А кто пойдет? — Томми, — просто сказал Билл. — Вот уж о ком я не подумал! — с восхищением сказал Нед. — А ты, кок? — Мне это в голову бы не пришло, — сказал кок. — Понимаете, что хорошо, если это будет Томми? — сказал Билл. — Даже если старик об этом узнает, он всего-навсего задаст Томми трепку. Мы не признаемся, кто закрывал за ним люк. Он там устроится с какими хотите удобствами, ничего не будет делать и будет спать сколько пожелает. А мы, само собой, ничего об этом не знаем и не ведаем, мы просто хватились Томми и нашли на этом вот столе его письмо. Тут кок наклонился, с довольным видом оглядывая своих коллег, и вдруг поджал губы и многозначительно мотнул головой в сторону одной из верхних коек: через ее край заглядывало вниз бледное и встревоженное лицо Томми. — Хэлло! — сказал Билл. — Ты слышал, что мы здесь говорили? — Я слышал, что вы будто бы собираетесь утопить старого Неда, — ответил Томми осторожно. — Он слышал все, — сердито сказал кок. — Ты знаешь, Томми, куда попадают мальчики, которые лгут? — Лучше попасть туда, чем в носовой трюм, — сказал Томми и принялся тереть глаза костяшками пальцев. — Не пойду я. Все расскажу капитану. — Ты ничего не расскажешь, — строго сказал Билл. — Это тебе наказание за все, что ты сегодня наврал про нас, и еще считай, что ты дешево отделался. А теперь вылезай из койки. Вылазь, пока я сам не вытащил тебя! Парнишка с жалобным воплем нырнул под одеяло. Он отчаянно цеплялся за края койки и конвульсивно отбрыкивался, но его подняли вместе с постелью и усадили за стол. — Перо, чернила и бумагу, Нед, — сказал Билл. Старик представил требуемое. Билл стер с бумаги комок масла, приставший к ней на столе, и разложил ее перед жертвой. — А я не умею писать, — объявил неожиданно Томми. Матросы в смятении переглянулись. — Врет, — сказал кок. — Честно говорю, не умею, — сказал мальчишка с пробудившейся надеждой в голосе. — Меня и в море-то послали потому, что я не умею ни читать, ни писать. — Дерни его за ухо, Билл, — сказал Нед, которого оскорбила эта клевета на благороднейшую из профессий. — Это ничего не значит, — сказал Билл спокойно. — Я сам за него напишу. Старик все равно не знает моей руки. Он уселся за стол, расправил плечи, с плеском погрузил перо в чернила и, почесав в голове, задумчиво уставился на бумагу. — Побольше ошибок, Билл, — предложил Нед. — Ага, — сказал тот. — Как ты полагаешь, Нед, как бы мальчишка написал слово “самоубийство”? Старик подумал. — Са-ма-ву-бис-тво, — сказал он по слогам. — А как же тогда будет без ошибок? — озадаченно спросил кок, переводя взгляд с одного на другого. — Напиши лучше просто “убил себя”, — сказал старик. — Наверное, мальчишка все равно не стал бы писать такое длинное слово. Билл склонился над бумагой и медленно написал письмо, стремясь, видимо, всячески учитывать пожелания своих приятелей не писать слишком грамотно. — Ну как? — спросил он, отодвигаясь от стола. “Дарагой капитан я беру мое перо в руку паследний раз сообщить вам что я немог дальше есть жудкие памои кторие вы называете еда я утопился это боле лекая смерть чем помирать сголоду я оставил мой складной нож билу и мои сиребряные часы ему тяжело помереть таким маладым томми браун”. — Прекрасно! — сказал Нед, когда Билл закончил чтение и вопросительно оглядел слушателей. — Насчет ножа и часов я вставил, чтобы еще больше походило на правду, — сказал Билл со скромной гордостью. — Но если хочешь, я оставлю их тебе, Нед. — Мне это не нужно, — великодушно сказал старик. — Одевайся, — сказал Билл, поворачиваясь к всхлипывающему Томми. — Не пойду я в этот трюм! — сказал Томми в отчаянии. — Так и знайте, ни за что не пойду! — Кок, — спокойно сказал Билл, — давай сюда его барахло. Ну-ка, Томми! — Говорю тебе, я не пойду! — сказал Томми. — И еще вон тот линек, кок, — сказал Билл. — Он у тебя как раз под рукой. Ну-ка, Томми! Самый молодой член экипажа перевел взгляд со своей одежды на линек и снова с линька на одежду. — А как меня будут кормить? — мрачно спросил он, принимаясь одеваться. — Сейчас ты возьмешь с собой бутыль воды и несколько сухарей, — ответил Билл, — а по ночам мы будем опускать тебе немного мяса, которое так тебе по вкусу. Прячь все это среди груза и, если услышишь, что люк открывают днем, сразу прячься сам. — А как насчет свежего воздуха? — осведомился приговоренный. — Свежий воздух будет тебе по ночам, когда поднят люк, — сказал Билл. — Не беспокойся, я обо всем позаботился. Наконец приготовления были закончены. Дождавшись, пока Симпсон не сменил у штурвала помощника, они вышли на палубу, то волоча, то легонько подпихивая сопротивляющуюся жертву. — Он у нас будто на пикник собрался, — сказал старый Нед: юнга мрачно стоял на палубе, держа в одной руке бутылку, а в другой — сухари, завернутые в старую газету. — Помоги-ка, Билл. Потихоньку… Двое моряков бесшумно сняли с люка крышку, и, поскольку Томми наотрез отказался участвовать в этой процедуре, Нед первым спустился в трюм, чтобы принять его. Билл взял отчаянно брыкающегося юнгу за шиворот и подал его вниз. — У тебя? — спросил он. — Да, — оголился Нед придушенно и, выпустив мальчишку из рук, поспешно выкарабкался наружу, вытирая ладонью рот. — Ты что, приложился к бутылке? — спросил Билл. — Врезал каблуком, — коротко объяснил Нед. — Давайте крышку. Установив крышку на место, Билл и его сообщники тихонько вернулись в кубрик и не без некоторого страха перед завтрашним днем улеглись спать. Томми тоже свернулся в углу трюма и заснул, подложив под голову бутылку, ибо проплавал в море достаточно долго и научился принимать вещи такими, как они есть. Лишь к восьми часам следующего утра хозяин “Солнечного луча” узнал, что у него пропал юнга. Он задал коку вопрос, сидя за завтраком, и тот, будучи человеком весьма нервным, побледнел, уронил на стол кружку с кофе и пулей вылетел наверх. Некоторое время капитан громогласно призывал его в самых изысканных выражениях, какие приняты в открытом море, а затем, весь кипя, поднялся за ним на палубу, где обнаружил смущенных матросов, сбившихся в тесную кучку. — Билл, — встревоженно сказал капитан, — что с этим проклятым коком? — Его постиг удар, — сказал Билл, покачивая головой. — И нас всех тоже. — Сейчас вас постигнет еще один, — пообещал капитан с чувством. — Где юнга? На секунду собственная дерзость повергла Билла в смятение, и он беспомощно оглянулся на товарищей. Те поспешно отвели глаза и уставились в море за бортом, и тогда капитаном овладел панический ужас. Он молча взглянул на Билла, и Билл протянул ему грязный листок бумаги. В полном остолбенении капитан прочел письмо с начала до конца, а затем передал помощнику, который вышел на палубу за ним следом. Помощник прочел и вернул капитану. — Это вам, — сказал он кратко. — Не понимаю, — сказал капитан, качая головой. — Ведь только вчера он ел свой обед вот здесь, на палубе, и приговаривал, что нигде еще не получал такой хорошей еды. Вы ведь тоже слышали, Боб? — Слышать-то я слышал, — сказал помощник. — И вы все слышали его, — сказал капитан. — Ну что же, у меня есть пятеро свидетелей. Видимо, он просто сошел с ума. Никто не слыхал, как он прыгнул за борт? — Я слышал всплеск, сэр, во время моей вахты, — сказал Билл. — Почему же ты не побежал и не посмотрел, что там такое? — спросил капитан. — А я подумал, это кто-нибудь выбросил за борт свой ужин, — ответил Билл. — А! — произнес капитан и закусил губу. — Вот как? Вы все время скулите из-за еды. Что с ней такое? — Это отрава, сэр, — сказал Нед, качая головой. — Мясо ужасное. — Оно вкусное и питательное, — сказал капитан. — Ладно, коли так. Можете брать мясо из другого ящика. Теперь довольны? Матросы несколько оживились и принялись подталкивать друг друга локтями. — Масло тоже плохое, сэр, — сказал Билл. — Масло плохое? — сказал капитан, нахмурившись. — Как это так, кок? — Да я его не порчу, — сказал кок беспомощно. — Давай им масло из бочонка в моей каюте, — проворчал капитан. — Я твердо уверен, что ты плохо обращался с юнгой. Еда была прекрасная. Он ушел, забрав письмо с собой; за завтраком он положил письмо на стол, прислонив к сахарнице, и потому ел без всякого аппетита. В этот день матросы катались как сыр в масле, по выражению Неда: в дополнение к прочим роскошным блюдам им выдали еще и пудинг — угощение, которым они лакомились прежде только по воскресеньям. На Билла смотрели как на хитроумнейшего благодетеля рода человеческого; радость и веселье царили в кубрике, а ночью крышка люка была поднята, и пленника попотчевали отложенной для него порцией. Благодарности он, впрочем, не выразил, вместо этого он задал скучный и неуместный вопрос: что с ним будет, когда плавание кончится. — Мы тайком переправим тебя на берег, не бойся, — сказал Билл. — Никто из нас не собирается оставаться на этом старом корыте. А тебя я возьму с собой на какой-нибудь другой корабль… Что ты сказал? — Ничего, — солгал Томми. Каковы же были гнев и растерянность команды, когда на следующий день капитан снова вернул их на прежнюю диету. Вновь выдали старую солонину, и прекратились роскошные поставки с кормы. Билл разделил судьбу всех вождей, дела которых пошли плохо, и из кумира своих сотоварищей превратился в мишень для их насмешек. — Вот что вышло из твоей замечательной мысли, — презрительно проворчал за ужином старый Нед, с треском разгрыз сухарь и бросил обломки в свой котелок с чаем. — Да, ты не так умен, как о себе думаешь, Билл! — заявил кок с видом первооткрывателя. — И бедный мальчишка ни за что ни про что сидит взаперти в темном трюме, — сказал Симпсон с запоздалым сожалением. — И коку приходится работать за него. — Я не собираюсь сдаваться, — мрачно сказал Билл. — Старик вчера здорово перепугался. Нужно устроить еще одно самоубийство, и все будет в порядке. — Пусть Томми еще раз утопится, — легкомысленно предложил кок, и все расхохотались. — Двоих за одно плавание старику хватит выше головы, — продолжал Билл, неблагосклонно взглянув на дерзкого кока. — Ну, кто у нас пойдет следующим? — Мы и так уже доигрались. — сказал Симпсон, пожимая плечами. — Не зарывайся, Билл. — А я и не зарываюсь, — возразил Билл. — Я не желаю сдаваться, вот и все. Тот, кто пойдет вниз, будет жить без за бог, приятно и легко. Будет спать весь день, если захочет, и вообще ничего не делать. Вот у тебя, Нед, за последнее время очень усталый вид. — О? — холодно произнес старик. — Ну ладно, побыстрей разбирайтесь между собой, — сказал Билл беззаботным тоном. — По мне, все равно, кто из вас пойдет. — Хо! А как насчет тебя самого? — удивился Симпсон. — Меня? — возмущенно спросил Билл. — Да ведь мне нужно оставаться здесь и все устраивать! — Ничего, мы здесь останемся и все сделаем за тебя, — насмешливо сказал Симпсон. Нед и кок расхохотались, и Симпсон присоединился к ним. Тогда Билл поднялся, подошел к своей койке и извлек из-под тюфяка колоду засаленных карт. — Младшая карта — самоубийство, — объявил он. — Я тоже тяну. Он протянул колоду коку. Тот заколебался и поглядел на остальных двоих. — Не валяй дурака, Билл, — сказал Симпсон. — Что, трусите? — насмешливо ухмыльнулся Билл. — Говорят тебе, это глупость, — сказал Симпсон. — Ну и что же, мы все сидим в ней по уши, — сказал Билл. — Только вы все перепугались, вот в чем дело. Просто перетрусили. Юнгу туда отправили, а как дело дошло до самих, тут-то вы и сдрейфили. — А, была не была, — сказал Симпсон бесшабашно. — Пусть будет так, раз Биллу хочется. Тяни, кок. Кок повиновался с видимой неохотой и вытянул десятку. Нед после долгих пререканий вытянул семерку. Симпсон с королем в руке прислонился спиной к рундуку и небрежно разгладил бороду. — Валяй, Билл, — сказал он. — Поглядим, что выйдет у тебя. Билл взял колоду и перетасовал ее. — Мне нужно взять не меньше семерки, — медленно проговорил он. Он вручил колоду Неду, вытянул карту, и остальные трое залились громким хохотом. — Тропка! — сказал Симпсон. — Браво, Билл! Письмо за тебя напишу я, иначе он узнает твой почерк. Что в нем написать? — Пиши что хочешь, — резко ответил Билл, у которого дух занимался при мысли о трюме. Горько и насмешливо улыбаясь, он отодвинулся от стола, а остальные трое весело уселись за сочинение, и, когда Симпсон спросил его, не желает ли он присовокупить к письму поцелуи, он ответил презрительным молчанием. Письмо передали ему на освидетельствование, и он сделал только одно замечание. — Я-то думал, что ты пишешь грамотнее, Джордж, — заявил он высокомерно. — Да я же писал за тебя, — сказал Джордж. Тут надменность Билла куда-то пропала, и он снова стал самим собой. — Если ты хочешь получить в глаз, Джордж, — сказал он с чувством, — то ты так и скажи, понял? Настроение у него было настолько скверное, что половина удовольствия от вечера была испорчена, и церемония препровождения его в убежище не сопровождалась ни колкими словечками, ни жизнерадостным смехом, а больше всего походила на похороны. Последние штрихи добавил Томми, который совсем сомлел от ужаса, узнав, кто теперь будет его сожителем. — Для вас еще одно письмо, — сказал утром помощник, когда капитан, застегивая жллет, вышел из своей каюты. — Что такое? — проговорил тот, бледнея. — Оно у старика Неда, — продолжал помощник, ткнув большим пальцем в сторону трапа на палубу. — Не понимаю, что это на них нашло. Капитан ринулся на палубу и механическим движением принял из рук Неда письмо. Прочитав его от начала до конца, он некоторое время постоял словно во сне, затем спустился, пошатываясь, в кубрик и обшарил все койки, не преминув заглянуть даже под стол, после чего вернулся на палубу и, склонив голову набок, остановился возле люка. Матросы затаили дыхание. — Что все это значит? — проговорил он наконец, не поднимая глаз, и безвольно опустился на крышку люка. — Плохая еда, сэр, — сказал Симпсон, ободренный видом капитана. — Так нам и придется рассказывать, когда мы сойдем на берег. — Об этом вы должны молчать! — сказал капитан, моментально вспылив. — Таков наш долг, сэр, — возразил Нед с выражением. — Послушайте меня, — сказал капитан и поглядел умоляюще на остатки своего экипажа. — Довольно с нас самоубийств. Старая солонина уже кончилась, и вы можете приняться за свежую, а когда мы придем в порт, я возьму на борт свежего масла и овощей. Только не надо никому говорить о том, что пища была плохая, или об этих письмах. В порту я просто скажу, что эти двое исчезли, пропали куда-то, и вас я прошу говорить то же самое. — Это невозможно, сэр, — строго сказал Симпсон. Капитан поднялся и подошел к борту. — А как насчет суммы в пять фунтов? — спросил он тихонько. — Это несколько меняет дело, — осторожно сказал Нед. Капитан взглянул на Симпсона. Лицо Симпсона выражало готовность принять самое добродетельное решение. Капитан снова взглянул себе под ноги. — Или по пяти фунтов каждому? — все так же тихо сказал он. — Больше я дать никак не могу. — Пусть будет двадцать фунтов на всех — и по рукам. Как вы считаете, ребята? — осведомился Симпсон у приятелей. Нед сказал, что это дело, и даже кок забыл о своих нервах и объявил, что раз уж капитан захотел их облагодетельствовать, они, само собой, будут на его стороне. — А чьи это будут деньги? — спросил помощник, когда капитан спустился к завтраку и изложил ему, как было дело. — От меня, к примеру, они ничего не получат. Светлый люк был открыт; капитан взглянул на него, затем нагнулся к помощнику и что-то прошептал ему на ухо. — Что?! — проговорил помощник. Он сделал попытку подавить хохот горячим кофе и беконом; в результате ему пришлось выскочить из-за стола и терпеливо вынести увесистые тумаки, которые капитан нанес ему по спине. Имея в перспективе целое богатство, матросы взялись за дополнительную работу дружно и весело; кок работал за юнгу, а Нед и Симпсон поделили между собой долю Билла. Когда же наступила ночь, они снова подняли крышку люка и стали не без любопытства ждать, что скажут их жертвы. — Где мой обед? — прорычал алчно Билл, выбравшись на палубу. — Обед? — удивленно сказал Нед. — Нет для тебя никакого обеда. — Что? — произнес Билл с яростью. — Понимаешь, капитан выдает теперь еду только на троих, — сказал кок. — Почему же вы не оставили немного для нас? — Нам самим ее не хватает, Билл, — сказал Нед. — Нам теперь приходится работать больше, и нам не хватает даже самим. У вас же есть сухари и вода, чего вам еще? Билл выругался. — Хватит с меня, — сказал он злобно. — Я выхожу, и пусть старик делает со мной что хочет. Мне наплевать. — Не стоит, Билл, не надо, — сказал Нед успокаивающе. — Ведь все идет прекрасно. Ты был прав насчет старика, а мы были неправы. Он ужасно напугался, и он дает нам двадцать фунтов, чтобы мы ничего не разболтали, когда будем на берегу. — Десять фунтов из них мои, — сказал Билл, несколько просветлев. — И оно того стоит. Поди-ка попробуй просидеть целый день там, внизу. У меня из-за этого уже черти в глазах мерещатся. — Да-да, конечно, — согласился Нед, незаметно пнув кока, который уже раскрыл было рот, чтобы высказаться по поводу такого способа дележки. — Старик проглотил все и не поморщился, — произнес кок. — Он совсем обалдел. Забрал все твои вещи и одежду и Тома тоже и собирается передать их твоим друзьям. В жизни не слыхал такой забавной шутки! — Дурак ты, — коротко сказал Билл. Он раскурил трубку, отошел и присел на корточки на носу, отчаянно борясь с дурным расположением духа. В течение следующих четырех дней все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная, и потому ночную вахту несли матросы, и каждую ночь им приходилось переживать пренеприятные минуты, когда они поднимали крышку люка и из трюма, подобно чертику из коробочки, выскакивал Билл. Выслушивать его бесчисленные жалобы и обвинения в бессердечии было поистине тяжким испытанием, а убедить его вернуться на рассвете в свое логово можно было только столь же бесконечными воззваниями к его здравому смыслу и напоминаниями о его доле в деньгах. Так без всяких происшествий они обогнули Лэндс-Энд. День выдался сырой и душный, но к ночи подул свежий ветер, и шхуна стала набирать хороший ход. С облегчением покинув спертую атмосферу трюма, узники сидели на юте и страдали от аппетита, который еще сильнее давал себя чувствовать на ночной прохладе. Нед стоял на штурвале, остальные двое спустились в кубрик и улеглись спать, и тихие жалобы голодных слушать было некому. — Глупая получилась игра, Томми, — сказал Билл, качая головой. — Игра? — Томми презрительно фыркнул. — Ты мне лучше скажи, как мы выберемся отсюда, ко1да придем в Нортси. — Предоставь это мне, — сказал Билл. — А старый Нед, кажется, здорово простыл, — добавил он. — Он прямо задыхается от кашля, — сказал Томми, наклоняясь вперед. — Гляди, он машет нам рукой! Они торопливо вскочили, но удрать им не удалось: капитан и помощник, поднявшись на палубу, уже направлялись в их сторону. — Вы только посмотрите, — произнес капитан, поворачиваясь к помощнику и указывая рукой на преступников. — Вы и теперь не будете верить снам? — Невероятно! — отозвался помощник, протирая глаза. Билл стоял в мрачном молчании, ожидая дальнейших событий, а несчастный Томми прятался за его спиной. — Мне приходилось слышать о чем-то подобном, —продолжал капитан с выражением, — но я никогда не думал, что мне доведется увидеть это своими глазами. Теперь уже вы не скажете, Боб, что не верите в привидения. — Невероятно! — повторил помощник, покачав головой. — Совсем как живые. — На борту привидения, Нед! — воскликнул капитан глухим голосом. — Вон они, души Билла и юнги, стоят против брашпиля! Старый матрос от смущения промолчал; меньший из призраков засопел и вытер нос рукавом, а тот, что был крупнее, принялся тихонько насвистывать. — Бедные души, — проговорил капитан, обсудив с помощником это невероятное происшествие. — Вы видите брашпиль сквозь юнгу, Боб? — Я вижу их обоих насквозь, — насмешливо сказал помощник. Они постояли на палубе еще немного, а затем пришли к заключению, что их присутствие здесь ничем не поможет и даже, кажется, смущает ночных гостей, и вернулись в свои каюты. — Что это он затеял? — спросил Симпсон, осторожно выбираясь на палубу. — Не знаю, будь он неладен! — свирепо сказал Билл. — Может, он и впрямь решил, что вы привидения? — неуверенно предположил кок. — Держи карман! — сказал Билл с презрением. — Он что-то такое затеял. Ладно, я иду к себе на койку. Ты тоже ступай, Томми. Завтра все выяснится, можешь быть уверен. Утром кое-что действительно выяснилось, ибо после завтрака кок испуганно прибежал на ют и сообщил, что мяса и овощей выдано только на троих. Все погрузились в оцепенение. — Пойду поговорю с ним, — произнес Билл, проглотив слюну. Капитан и помощник над чем-то от души хохотали, но, когда матрос к ним приблизился, капитан замолчал, отступив на шаг, и принялся холодно его разглядывать. — Доброе утро, сэр, — сказал Билл, шаркая ногой. — Нам хотелось бы знать, мне и Томми, будут ли теперь выдаваться на нас обеденные пайки, как раньше? — Обеденные пайки? — сказал капитан с изумлением. — А зачем вам нужны обеды? — Чтобы есть, — сказал Билл, глядя на него с упреком. — Чтобы есть? — сказал капитан. — Да какой же смысл кормить привидения обедами? Вам же некуда их поместить. Огромным усилием воли Билл заставил себя улыбнуться призрачной улыбкой и похлопал себя по животу. — Это все один сплошной воздух, — сказал капитан и отвернулся. — Тогда позвольте хоть получить наши вещи и одежду, — сказал Билл, скрипнув зубами. — Нед сказал, что вы их забрали. — Ничего вы не получите, — сказал капитан. — Я доставлю их домой и передам вашим ближайшим родственникам. По закону ведь так следует, Боб? — Так, — отозвался помощник. — Они получат ваши вещи, а также ваше жалованье по ту ночь, когда вы совершили самоубийство, — сказал капитан. — Не совершали мы никакого самоубийства, — сказал Билл. — Мы же на борту живые и здоровые. — Ничего подобного, — возразил капитан. — В доказательство у меня в кармане ваши письма; ну, а если вы действительно живы и здоровы, мне придется по прибытии в порт немедленно отдать вас под стражу за дезертирство. Он переглянулся с помощником, и Билл, постояв сначала на одной ноге, потом на другой, побрел прочь. Остаток утра он провел в кубрике, где показывал младшему привидению дурной пример безудержным сквернословием и угрожал своим собратьям самыми ужасными карами. До обеда капитана никто не беспокоил, но едва он поел и раскурил трубку, как на палубе послышался топот, и через секунду в каюту вломился старый Нед, красный и рассерженный. — Билл отнял у нас обед, сэр! — выпалил он, не переводя дыхания. — Кто? — холодно спросил капитан. — Билл, сэр. Билл Смит, — ответил Нед. — Кто? — спросил капитан еще более холодно. — Призрак Билла Смита! — рявкнул Нед. — Он отнял у нас обед, и теперь он сидит в кубрике с призраком Томми Брауна, и они жрут наш обед, не разжевывая, с ужасной скоростью! — Гм, право, не знаю, чем я тут могу помочь, — лениво проговорил капитан. — Как же вы это ему разрешили? — Вы же знаете Билла, сэр, — сказал Нед. — Я уже стар, кок ни на что не годится, а Симпсону теперь нужен кусок сырого мяса, чтобы приложить к глазам, иначе он неделю не будет видеть. — Чепуха! — весело сказал капитан. — Вот еще новости — трое взрослых мужчин испугались одного привидения! Нет, я вмешиваться не стану. Но ты знаешь, что нужно сделать? — Нет, сэр! — живо сказал Нед. — Ступай наверх и почитай ему молитвенник, и он сразу исчезнет, как клуб дыма, — сказал капитан. Секунду Нед безмолвно взирал на него, затем вышел на палубу, перегнулся через борт и принялся ругаться. Кок и Симпсон, тоже выйдя наверх, почтительно слушали и лишь время от времени оказывали ему поддержку, когда стариковская память подводила его. Весь остаток плавания два преступника претерпевали разнообразные неудобства, связанные с утратой гражданства. Капитан нарочито не замечал их, а в двух или трех случаях вел себя прямо-таки вызывающе, пытаясь пройти сквозь Билла, когда тот появлялся на палубе. Много предположений было высказано в кубрике относительно судьбы привидений, когда они прибудут в порт, и, только когда на горизонте показался Норт-си, капитан раскрыл свои карты. Он появился на палубе с их вещами, аккуратно упакованными в два узелка, и бросил эти узелки на крышку люка. Команда выжидательно смотрела на него. — Нед! — резко сказал капитан. — Сэр? — откликнулся старик. — Как только мы ошвартуемся, — сказал капитан, — ступайте на берег и пригласите сюда управляющего и полисмена. Я пока не решил, кто из них нам понадобится. — Слушаюсь, сэр, — пробормотал старик. Капитан отвернулся и, переняв у помощника штурвал, повел судно в гавань. Он был так погружен в свое дело, что, по-видимому, не замечал, как Билл и Томми украдкой пробирались поближе к своим узелкам и как нетерпеливо они ждали, пока шхуна приближалась к причалу. Затем капитан повернулся к помощнику и разразился громовым хохотом, когда преступники, подхватив узелки, перевалились через борт, спрыгнули на берег и пустились наутек. Помощник тоже расхохотался, и слабое, но совсем невеселое эхо донеслось с другого конца шхуны.РОМАНТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Облокотившись на борт шхуны, помощник капитана лениво разглядывал солдат в красных куртках, слонявшихся по Тауэрской набережной. Осторожные моряки вывешивали отличительные огни, а бесшабашные лихтеры пробирались вверх по реке, отталкиваясь от судов, стоявших на дороге. Зарываясь в пенистые “усы”, с пыхтением прошмыгнул мимо буксир, и слабый испуганный вскрик донесся с приближающегося ялика, который подбросило на волне. — Эй, на “Джессике”! — проревел голос на ялике, когда он подошел к шхуне. Помощник, очнувшись от задумчивости, механически подхватил чалку; в одном из пассажиров ялика он узнал дочь своего капитана, и, прежде чем он успел оправиться от изумления, она была уже на палубе со своим багажом, а капитан расплачивался с перевозчиком. — Это моя дочь Хетти, вы уже, кажется, знакомы, — сказал капитан. — В это плавание она пойдет с нами. Ступайте вниз, Джек, и постелите ей на свободной койке в чулане. — Есть! — послушно отозвался помощник и повернулся, чтобы идти. — Спасибо, я сама постелю! — сказала шокированная Хетти, поспешно заступая ему дорогу. — Как хочешь, — сказал капитан и направился к трапу. — Зажгите-ка свет, Джек. Помощник чиркнул спичку о подошву и зажег лампу. — Кое-что отсюда придется убрать, — заметил капитан, открывая дверь. — Куда нам деть этот лук, Джек? — Для лука место найдется, — уверенно сказал помощник, стаскивая с койки мешок и водружая его на стол. — Я не желаю здесь спать, — решительно объявила гостья, заглядывая в каморку. — Фу, вон какой-то жук! Фу! — Так он же дохлый, — успокоил ее помощник. — Живых жуков у нас на борту я сроду не видел. — Я хочу домой, — сказала девушка. — Ты не смеешь принуждать меня, раз я не хочу! — Надо было вести себя как следует, — наставительно сказал ее отец. — Как насчет простыней, Джек, и насчет подушек? Помощник уселся на стол и задумался, ухватив себя за подбородок. Затем его взгляд упал на хорошенькое негодующее лицо пассажирки, и он моментально потерял нить размышлений. — Придется ей обойтись моими вещами, — сказал капитан. — А почему, — спросил помощник, снова взглянув на девушку, — почему бы не устроить ее прямо в вашей каюте? — Моя каюта нужна мне самому, — холодно ответствовал капитан. Помощник покраснел за него; девушка оставила их решать эту проблему, как им заблагорассудится, и они с грехом пополам устроили ей постель. Когда они поднялись на палубу, девушка, объект любопытства и почтительного восхищения всей команды, которая к этому времени возвратилась на борт, стояла у камбуза. Она оставалась на палубе до тех пор, пока шхуна не вышла на более широкие водные просторы, где задул свежий ветер, а затем, коротко пожелав отцу спокойной ночи, скрылась внизу. — Как видно, она надумала идти с нами совсем неожиданно, — сказал помощник, когда она удалилась. — Ничего она не надумала, — сказал капитан. — Это мы с женой надумали за нее. Весь замысел наш. — Для укрепления здоровья? — предположил помощник. — Здесь вот какое дело, — произнес капитан. — Видите ли, Джек, есть у меня один друг, крупный торговец провиантом; так вот, он задумал жениться на нашей девчонке. Мы с женой тоже хотим, чтобы он на ней женился, а она, конечно, хочет выйти за другого. Ну, мы с женой пораскинули умом и решили, что дома ей сейчас быть ни к чему. Видеть Таусона она все равно не желает и, чуть мать отвернется, удирает гулять с этим сопляком клерком… — Красивый парень, наверное? — несколько встревоженно осведомился помощник. — Ни капельки, — уверенно сказал капитан. — У него такой вид, словно он сроду не ел досыта. Вот мой друг Таусон совсем другое дело — фигура у него почти как у меня самого. — Она выйдет за клерка, — объявил помощник. — Спорим, что нет, — сказал капитан. — Я ведь человек страшный, Джек, и если чего-нибудь задумаю, то добьюсь непременно. Разве смог бы я ужиться в мире и согласии со своей женой, если бы не управлялся с нею по-своему? Было уже темно, и помощник позволил себе ухмыльнуться: все управление капитана в семейном кругу состояло в рабском повиновении. — У меня с собой его большой фортиграфический патрет, — продолжал коварный отец. — Таусон мне дал его с целью. Я поставлю его на полку в каюте. Хетти будет все время видеть его, а не этого клерка и помаленьку начнет думать по-нашему. Иначе я ее отсюда не выпущу. — Хитро вы это придумали, капитан, — произнес помощник в притворном восхищении. Капитан приставил палец к носу и заговорщицки подмигнул грот-мачте. — Я кого угодно перехитрю, Джек, — тихо отозвался он. — Кого угодно. Но вы тоже должны помочь мне. Надо, чтобы вы как можно больше разговаривали с нею… — Есть, сэр, — сказал помощник, подмигивая грот-мачте в свою очередь. — Все время расхваливали бы патрет на полке, — продолжал капитан. — Непременно, — сказал помощник. — Рассказывали бы ей, как все ваши знакомые девушки повыходили замуж за молодых людей в годах и с каждым днем влюблялись в них все больше и больше, — продолжал капитан. — Достаточно, — сказал помощник. — Я понял, чего вы хотите. Насколько это будет зависеть от меня, за клерка она не выйдет. Капитан крепко пожал ему руку. — Если вы когда-нибудь сами будете отцом, — проговорил он с чувством, — пусть возле вас окажется человек, который встанет за вас горой, как вы встали за меня! Увидев на следующее утро портрет Таусона на полке, помощник с облегчением вздохнул. Он пригладил усики и сразу почувствовал, что с каждым новым взглядом на эту образину будет казаться себе все красивее. После завтрака капитан, простоявший у штурвала всю ночь, отправился к себе в каюту. Помощник вышел на палубу, принял вахту и стал с большим интересом следить за действиями пассажирки, которая заглянула на камбуз и учинила коку разнос за его способ мытья посуды. Потом она подошла и присела на светлый люк каюты. — Вы любите море? — вежливо осведомился помощник. — А что мне остается делать? — проговорила она, уныло покачав головой. — Ваш отец кое-что рассказал мне об этом, — осторожно сказал помощник. — Коку и юнге он заодно не рассказал? — спросила мисс Олсен, вспыхнув. — Что он вам говорил? — Ну, говорил о человеке по имени Таусон, — сказал помощник, оглядывая паруса, — и о… еще об одном человеке. — Я морочила голову одному, чтобы отделаться от другого, — сказала девушка. — Вовсе он мне не нужен. Я не понимаю девушек, которым нравятся мужчины. Громадные неуклюжие уроды! — Значит, вы его не любите? — спросил помощник. — Разумеется, нет! — Девушка вскинула голову. — И все же вас отправили в море, чтобы разлучить с ним, — сказал помощник раздумчиво. — Ну что ж, вам остается только… В этот критический момент смелость покинула его. — Продолжайте, — сказала девушка. — Я ведь вот что подумал, — сказал помощник, кашлянув. — Они отправили вас в море, чтобы разлучить с этим парнем… ну, а если вы влюбитесь в кого-нибудь здесь, на корабле, вас немедленно отправят домой. — Правильно! — живо воскликнула девушка. — Я притворюсь, что влюбилась в этого красивого матроса, которого зовут Гарри! Вот будет здорово! — Я бы не стал этого делать, — сказал помощник сурово. — Почему? — удивилась девушка. — Это нарушение дисциплины, — очень строго произнес помощник. — Никуда не годится. Его место на носу, в кубрике. — А, понятно, — сказала мисс Олсен презрительно. — Да нет, вы меня не так поняли, — сказал помощник, заливаясь краской. — Нужно только делать вид. Я хотел только помочь вам… — Ну да, разумеется, — сказала спокойно девушка. — Ладно, а как мы должны будем вести себя? Помощник сделался совсем багровым. — Не очень-то я разбираюсь в таких вещах, — проговорил он наконец. — Нужно будет бросать друг на друга взгляды и все такое прочее… — Что ж, я не возражаю, — сказала девушка. — Мы будем действовать постепенно, — сказал помощник. — Я думаю, помаленьку мы привыкнем, и дальше нам будет легче… — Все что угодно, лишь бы вернуться домой, — сказала девушка, поднялась и медленно пошла прочь. Помощник взялся за роль влюбленного, не теряя ни минуты, и больше уже не спускал глаз с предмета своих чувств, так что едва не налетел на какой-то шлюп. Как он и предполагал, дальше ему стало легче, и в течение дня у него появились и расцвели пышным цветом новые симптомы влюбленности, как-то: потеря аппетита и пристрастие к ярким расцветкам в одежде. Он пять раз умывался между завтраком и чаем и едва не довел капитана до точки кипения, пытаясь удалить с пальцев смолу сливочным маслом из судовых запасов. К десяти часам вечера помощник впал в глубочайшую меланхолию. Девушка до сих пор не удосужилась бросить на него ни единого взгляда, и, стоя у штурвала, он искренне сочувствовал несчастному Таусону. Его горестные размышления были прерваны появлением на палубе легкой фигурки; секунду поколебавшись, девушка подошла и заняла прежнее место на светлом люке. — Тихо и спокойно на палубе, — сказал он, несколько обеспокоенный ее молчанием. — И звезды нынче какие яркие и красивые. — Не смейте разговаривать со мной! — резко произнесла мисс Олсен. — Почему это несчастное суденышко все время подпрыгивает? Вы это нарочно с ним проделываете! — Я? — изумился помощник. — Да, вы! Вот этим колесом… — Уверяю вас… — начал помощник. — Я так и знала, что вы станете оправдываться, — сказала девушка. — А вы бы попробовали сами встать за штурвал, — сказал помощник. — Вы бы тогда увидели… К его несказанному удивлению, она подошла к нему и, мягко опершись о штурвал, взялась за рукоятки. Помощник принялся объяснять ей тайны компаса. Воодушевившись, он отважился положить ладони на те же рукоятки, а затем, совершенно уже осмелев, стал поддерживать ее за талию всякий раз, когда шхуна давала крен. — Благодарю вас, — холодно произнесла вдруг мисс Олсен, отстраняясь. — Спокойной ночи. С легким смешком она удалилась в каюту, и перед помощником возникла громадная темная фигура, мужественно выскребающая из глаз остатки сна костяшками пальцев. — Ясная ночь, — прогудел матрос, берясь за штурвал тяжелыми лапами. — Ужасная, — невпопад отозвался помощник и, подавив вздох, спустился вниз и улегся. Некоторое время он лежал с раскрытыми глазами, затем, удовлетворенный ходом дел за день, повернулся на бок и заснул. Проснувшись утром, он с радостью обнаружил, что за ночь волнение улеглось и что на шхуне не слышно никакого движения. Пассажирка была уже за столом с завтраком. — Капитан на палубе, я полагаю? — начал помощник, намереваясь возобновить беседу с того места, на котором она была прервана прошлой ночью. — Надеюсь, теперь вы чувствуете себя лучше. — Да, спасибо, — сказала она. — Со временем из вас вышел бы хороший моряк, — сказал помощник. — Ну уж нет, — сказала мисс Олсен, которая решила, что сейчас самое время загасить искорки нежности, отчетливо сияющие в глазах помощника. — Я не стала бы моряком, даже если бы была мужчиной. — Почему? — спросил помощник. — Не знаю, — задумчиво произнесла девушка. — Но почти все моряки — такой ничтожный малорослый народец… — Ничтожный? — ошеломленно повторил помощник. — Я бы уж скорее стала солдатом, — продолжала она. — Мне нравятся солдаты — они такие мужественные. Хотелось бы мне, чтобы здесь сейчас был хоть один солдат. — Это зачем же? — спросил помощник, надувшись, словно обиженный школьник. — Если бы сейчас здесь был такой человек, — задумчиво сказала мисс Олсен, — я бы подговорила его намазать горчицей нос старику Таусону. — Что сделать? — спросил пораженный помощник. — Намазать горчицей нос Таусону, — повторила мисс Олсен, переводя взгляд с судка с горчицей на портрет. Только секунду колебался влюбленный по уши помощник, а затем потянулся к судку, выхватил из горчичницы ложку и мстительно ткнул ее в классические черты торговца провиантом. Поведение подстрекательницы не принесло ему облегчения: вместо того чтобы вознаградить его за проявленную храбрость, она только захихикала с самым глупым видом, прижав к губам платок. — Отец! — вдруг сказала она: наверху застучали каблуки. — Ну, сейчас вам достанется! Она вскочила из-за стола, посторонилась, чтобы пропустить отца, и выбежала на палубу. Капитан грузно опустился на рундук, взял чайник и налил себе чашку чая, после чего отлил чай в блюдце. Подняв блюдце к губам, он вдруг тупо уставился на портрет и снова поставил блюдце на стол. — Кто… что… кто, черт подери, это сделал? — осведомился он внезапно охрипшим голосом. — Я, — сказал помощник. — Вы? — проревел капитан. — Вы? Зачем? — Не знаю… — смущенно сказал помощник. — Что-то на меня вроде бы накатило, и я вдруг почувствовал, что мне надо это сделать. — Но для чего? Зачем это? — спросил капитан. Помощник только покачал головой. — Что это за глупая выходка? — заорал капитан. — Не знаю я, — упрямо сказал помощник. — Ну сделал и сделал, и нечего об этом больше разговаривать. Онемев от бешенства, капитан глядел на него. — Вот вам мой совет, Джек, — проговорил он наконец. — Я давно уже замечаю, что с вами что-то неладно. Так вот, когда мы придем в порт, пойдите и покажите вашу голову доктору. Помощник промычал что-то нечленораздельное и отправился утешаться на палубу, но там выяснилось, что мисс Олсен вовсе и не собирается благодарить его, и он отошел от нее, тихонько посвистывая. И тут появился капитан, вытирая ладонью рот. — Вот что, Джек, — сказал он грозно. — Я там поставил на полку другой патрет! Он у меня последний, и потому зарубите себе на носу: если он хотя бы запахнет горчицей, я устрою вам такой разнос, что вы сами себя за шумом слышать не будете. Он с достоинством удалился, и тогда его дочь, которая слышала каждое слово, бочком приблизилась к помощнику и очень мило ему улыбнулась. — Он поставил там другой портрет, — тихонько сказала она. — Горчица в судке, — холодно отозвался помощник. Мисс Олсен поглядела вслед отцу, а затем, к удивлению помощника, без единого слова отправилась вниз. Помощник сгорал от любопытства, но он был слишком горд, чтобы вступить в переговоры, и потому удовлетворился тем, что подошел к трапу. — Послушайте! — послышался снизу тихий шепот. Помощник равнодушно озирал морские просторы. — Джек! — позвала девушка еще более тихим шепотом. Его бросило в жар, и он немедленно спустился в каюту. И он увидел, что мисс Олсен со сверкающими глазами, с горчичницей в одной руке и с ложкой — в другой, исполняет воинственный танец перед новым портретом. — Не надо! — встревоженно произнес помощник. — Почему? — спросила она, приближаясь к портрету вплотную. — Он подумает, что это сделал я, — сказал помощник. — Для этого я вас и позвала, — сказала она. — Уж не думаете ли вы, что мне захотелось вас видеть? — Положите ложку! — сказал помощник, которому нисколько не улыбалось еще одно интервью с капитаном. — А вот не положу! — сказала мисс Олсен. Помощник подскочил к ней, но она увернулась и обежала вокруг стола. Он перегнулся через стол, схватил ее за руку и притянул к себе; ее раскрасневшееся смеющееся лицо оказалось совсем близко, он забыл обо всем и поцеловал ее. — О! — негодующе сказала Хетти. — Теперь вы отдадите мне ложку? — произнес помощник, обмирая от собственной храбрости. — Берите, — сказала она. Помощник снова потянулся к ней, и тут она злорадно шлепнула его ложкой — раз, другой и еще раз. Затем она бросила ложку и горчичницу на стол, а помощник, испуганный шагами за дверью, повернул к вошедшему капитану пылающую физиономию, украшенную тремя мазками горчицы. Ошарашенный капитан не сразу обрел дар речи. — Великий боже! — произнес он. — Теперь он мажет горчицей уже собственную личность! Сроду я не слыхивал о таких штуках. Не подходи к нему близко, Хетти. Джек! — Что? — отозвался помощник, вытирая саднящую физиономию носовым платком. — Вас раньше никогда так не разбирало? — Конечно, нет, — сказал уязвленный помощник. — Он еще отвечает мне “конечно, нет”! — взревел капитан. — Да на вас впору смирительную рубаху надеть! Нет, я пойду и поговорю с Биллом, как быть. У него родной дядя в сумасшедшем доме. И ты тоже ступай отсюда, красавица! Он отправился искать Билла и не заметил, что дочь его не последовала за ним, а только дошла до дверей и там остановилась, с состраданием разглядывая свою жертву. — Вы уж простите меня, — сказала она. — Очень жжет? — Немного, — сказал помощник. — Вы не беспокойтесь обо мне. — Это вам за то, что вы плохо себя вели, — рассудительно сказала мисс Олсен. — Так ведь это того стоило, — произнес помощник, просияв. — Боюсь, как бы не распухло. — Она подошла к нему и, склонив голову, с видом знатока обозрела поврежденные места. — Три отметины, — сказала она. — А пострадал я только за один, — напомнил помощник. — За какой такой один? — спросила Хетти. — А вот за такой, — сказал помощник. И он снова поцеловал ее — прямо на виду у капитана, который в этот момент осторожно заглянул в светлый люк, чтобы удостовериться, что предполагаемый сумасшедший все еще находится в каюте. — Ты можешь идти, Билл, — сказал капитан эксперту охрипшим голосом. — Ты слышишь? Убирайся отсюда и смотри, никому об этом ни слова! Эксперт с ворчанием удалился. Отец, снова заглянув в светлый люк и убедившись, что дочь его удобно прильнула к плечу помощника, тоже удалился на цыпочках, мрачно раздумывая над новым осложнением. Кто-нибудь другой на его месте немедленно помчался бы вниз и разогнал парочку, но капитан “Джессики” был уверен, что достигнет своих целей при помощи дипломатии. И столь осторожно он повел себя, что влюбленные даже не заподозрили, что их тайна ему известна: помощник покорно выслушал лекцию о симптомах начальной стадии идиотизма, которую капитан счел уместным прочесть. До обеда следующего дня капитан не выдал себя ничем. Пожалуй, он был даже более обходителен, чем обычно, хотя гнев так и закипал в нем, когда он замечал, какими взглядами обмениваются через стол молодые люди. — Да, кстати, Джек, — произнес он вдруг, — а как у тебя с Китти Лони? — С кем? — спросил помощник. — Кто это Китти Лони? Теперь очередь вытаращивать глаза настала для капитана, и он проделал это превосходно. — Китти Лони! — сказал он, делая удивленное лицо. — Это девушка, на которой ты собираешься жениться… Под взглядом, брошенным через стол, помощник густо покраснел. — О чем это вы? — проговорил он. — Не знаю, что это с вами такое, — сказал капитан с достоинством. — Я говорю про Китти Лони, про эту девушку в красной шляпке с белыми перьями, которую вы представили мне, как свою будущую супругу. Помощник откинулся назад и уставился на него в испуганном изумлении, приоткрыв рот. — Да неужто вы бросили ее? — продолжал безжалостно капитан. — Вы же брали у меня аванс на обручальное кольцо. Вы же купили ей кольцо? — Ничего я не купил, — сказал помощник. — Я… Да нет же… Ну разумеется… Господи, о чем вы говорите? Капитан поднялся из-за стола и поглядел на несчастного с жалостью, но строго. — Прошу прощения, Джек, — чопорно произнес он, — если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах. Разумеется, меня это не должно касаться. Но может быть, вы скажете, что вы никогда и не слыхивали о Китти Лони? — Конечно, не слыхивал! — проговорил ошеломленный помощник. — В жизни не слыхивал! Капитан сурово оглядел его и покинул каюту, не сказав более нк слова. “Если она в свою мамашу, — сказал он себе, хихикая, — то дело сделано”. После его ухода в каюте воцарилась неловкая тишина. — Не знаю, что вы теперь думаете обо мне, — произнес наконец помощник, — но я понятия не имею, о чем здесь говорил ваш отец. — Я ничего не думаю, — сказала холодно Хетти. — Передайте, пожалуйста, картофель. Помощник поспешно передал картофель. — По-моему, это он так шутил, — сказал он. — И соль, — сказала она. — Благодарю вас. — Не верьте этому, — жалобно сказал помощник. — Не валяйте дурака, — холодно сказала девушка. — Какое это имеет значение — верю я или нет? — Очень большое значение, — мрачно сказал помощник. — Для меня это вопрос жизни и смерти. — Чепуха, — сказала Хетти. — Она не узнает о ваших шалостях. Я не скажу ей. — Уверяю вас, — сказал помощник в отчаянии, — никакой Китти Лони никогда не было! Как вы можете подумать об этом? — Я могу думать, что вы очень низкий человек, — сказала девушка с презрением. — И вообще я вас прошу больше не разговаривать со мной. — Ну, как угодно, — сказал помощник, потеряв терпение. Он оттолкнул свою тарелку и вышел, а девушка, злая и возмущенная, переложила картофель обратно в кастрюльку. Последние дни плавания она обращалась с помощником очень вежливо и доброжелательно, и сквозь эту стену доброжелательства пробиться ему не удавалось. К удивлению Хетти, отец не возражал, когда она попросила разрешения вернуться домой поездом. Вечером накануне ее отъезда они засели в каюте за вист, и помощник капитана в самых безразличных тонах говорил о трудностях предстоящего пути по железной дороге. — Да, поездка будет долгая, — сказала Хетти, которая все-таки была слишком влюблена, чтобы отказаться от мелких уколов. — Какие у нас козыри? — Ничего тебе не сделается, — заметил ее отец. — Пики. Он выигрывал третий раз и, радуясь удаче, решил окончательно доконать удрученного помощника. — А ведь от карт вам придется отказаться, когда вы поженитесь, Джек, — сказал он. — Совершенно верно, — отважно сказал помощник. — Китти терпеть не может карт. — А мне было сказано, что Китти никогда не было, — заметила девушка, взглянув на него с презрением. — Да, она терпеть не может карт, — продолжал помощник. — Помните, капитан, как мы здорово покутили с нею в тот вечер в “Хрустальном дворце”? — Да, это было здорово, — подтвердил капитан. — Помните карусель? — сказал помощник. — Помню! — весело отозвался капитан. — В жизни эту карусель не забуду. — Вы и эта ее подружка, Бесси Уотсон, — продолжал помощник как бы в экстазе. — Господи, как вы тогда веселились! Капитан вдруг напрягся в своем кресле. — О чем это вы говорите? — резко осведомился он. — Бесси Уотсон, — сказал помощник тоном невинного удивления. — Та девушка в синем платьице, которая была с нами. — Да вы пьяны! — Капитан заскрипел зубами: он увидел ловушку, в которую угодил. — Вы разве не помните, как вы с нею потерялись и как мы с Китти искали вас по всему парку? — вопросил помощник во власти сладостных воспоминаний. Он поймал взгляд Хетти и с трепетом различил в нем нежное и уважительное восхищение. — А ты, конечно, все маме расскажешь! — вскричал взбешенный капитан. — Тебе-то известно, какая она у нас. Только знай, что все это дурацкая выдумка. — Прошу прощенья, капитан, — произнес помощник, — если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах. Разумеется, меня это не должно касаться. Но, может быть, вы скажете, что вы никогда и не слыхивали о Бесси Уотсон? — О ней услышит мама, — сказала Хетти, между тем как ее родитель только беспомощно хватал ртом воздух. — Может быть, вы скажете нам, кто эта самая Бесси Уотсон и где она живет? — спросил наконец капитан. — Она живет там же, где Китти Лони, — ответил помощник просто. Капитан поднялся, и вид у него был столь грозный, что Хетти инстинктивно бросилась под защиту к Джеку. И тот прямо на глазах у капитана обнял ее за талию, и так они стояли перед капитаном некоторое время в полном молчании. Затем Хетти подняла глаза. — А домой я поеду морем, — сказала она.

Биленкин Д. ДАВАТЬ И БРАТЬ
Андрею Исидоровичу Думкину, начиная с темного, в полоску костюма и кончая округлой манерой жестов, была свойственна та доля старомодности, которая так хорошо сочетается с рядами тронутых временем книг и профессией библиографа. Обычная при таком характере добросовестность и стала причиной случившегося с ним странного события. Он допоздна засиделся в своем закутке, который также трудно было сыскать в лабиринте хранилища, как единичную клеточку памяти где-нибудь в недрах кибернетической машины. Было тихо и безлюдно, когда он оторвался от работы, лишь в отдаленном углу хранилища сверчком потрескивала газосветная трубка. Перед тем как погасить настольную лампу, Андрей Исидорович устало потянулся, снял нарукавники и подумал, что сегодня он, пожалуй, предпочтет поездку по радиальной линии метро. Как правило, он избирал кольцевую линию, поездка по которой не требовала пересадки. Но ведь иногда, даже в ущерб удобству, хочется разнообразия! Уже погасив лампу, Андрей Исидорович проверил, в кармане ли авторучка, поколебался, взять ли с собой записи, посмотрел на телефон, словно тот мог напомнить о каком-нибудь забытом разговоре, — все лишь затем, чтобы очистить совесть и подготовиться к переходу в состояние уже не библиографа, а пассажира и мечтающего об отдыхе домоседа. Не сейчас, а поздней Андрею Исидоровичу явилась мысль, что люди, вроде него, совершают в жизни путь, подобный замкнутому движению планет. Существуют тысячи других миров, он может наблюдать их издали, узнавать о них в книгах, но они ему недоступны, так как отделены социальным пространством и тяготением привычек. Пожалуй, исключительный случай мог бы его ввести, допустим, в артистический мир, но он бы чувствовал себя в нем неуютно, ибо там действуют свои страсти и заботы, свои притяжения и отталкивания, и даже суточный ритм там иной, чем тот, к которому он привык. А ведь артистический мир не более своеобразен и открыт, чем мир овцевода или дипломата. Но в тот вечер он ни о чем таком не думал. Он уже повернулся к выходу, когда заметил скользящий по полкам фиолетовый луч. Верней, не луч, а фиолетовый круг сантиметра три в диаметре, перед которым не вспыхивала в воздухе ни одна пылинка. В первые несколько секунд Андрей Исидорович вообще ничего не ощутил — ни замешательства, ни страха, пи даже любопытства. Просто стоял и смотрел, как движется фиолетовый круг. Тот медленно скользил по корешкам, нигде не расплываясь в овал, не расширяясь и не суживаясь, как если бы его источник вела чья-то механически точная рука. Едва Андрей Исидорович представил эту руку у себя за спиной, как спокойствию его пришел конец. Он отпрянул, едва не опрокинув стул. Сзади, однако, ничего не было — никакого видимого источника света. Андрей Исидорович был один в пустом книгохранилище, в своем закутке, по которому разгуливал призрачный луч. Другой человек, по логике вещей, мог бы тут издать вопль или решить, что у него началась галлюцинация. Андрей Исидорович, однако, был слишком сдержан и скромен, чтобы устроить переполох, а о галлюцинации он вовсе не подумал, может быть, потому, что неизвестно откуда взявшийся луч вел себя, с одной стороны, чересчур обыкновенно, а с другой стороны, обладал дикими, даже для галлюцинации, свойствами. Андрей Исидорович сделал то, что было свойственно его характеру. Стряхнув с себя оцепенение, с бьющимся сердцем, но без паники он обошел стеллаж и убедился, что луч не просвечивает полки насквозь. По обе стороны от себя Андрей Исидорович видел уходящие вдаль ряды книг, редко из-за позднего времени горящие лампы, тот порядок, который был привычен и незыблем, как навечно заведенные часы. Немного успокоенный, Андрей Исидорович вернулся в закуток. Луч шарил уже по верхним полкам. Ни тогда, ни позже Андрей Исидорович не мог себе объяснить, что же побудило его взять стремянку. Мышление в подобных случаях работает сбивчиво, человека, если он не остолбенел от страха, тянет довериться самым простым ощущениям. Страха Андрей Исидорович не испытывал, но в голове, как после залпом проглоченной водки, была оглушающая пустота. Он влез по стремянке и пальцем тронул фиолетовый круг. Ни тепла, ни холода палец не ощутил. Круг в свою очередь не дрогнул, не исчез, но как ни в чем не бывало продолжал свой путь. И, что самое поразительное, палец не отбросил тени. Недоумевая, Андрей Исидорович изменил позу, потянулся, чтобы глянуть по оси луча. Точно раскаленное железо вонзилось в мозг! Вспышка, потом мрак и боль — и падение вниз, глухой удар об пол. Извиваясь, как полураздавленный червяк, он долго лежал на полу, ничего не соображая от ужаса и боли. Потом из беспросветности отчаяния донесся тихий голос: — Я лучше смогу вам помочь, если вы отнимите ладонь. Чьи-то заботливые пальцы отвели его руку, и в колеблющейся от слез полутьме уцелевший глаз Андрея Исидоровича смутно различил наклоненное над ним лицо и тускло мерцающий на переносице диск. Внезапно боль исчезла. — Теперь шире откройте глаз… Диск приблизился, укрупняясь, пахнуло холодом, и пространство вдруг обрело глубину и резкость. — Я вижу! — воскликнул Андрей Исидорович. Он смотрел, видел, и счастье переполняло его. Но длилось это недолго. Тревожно вспыхнула мысль: здесь сейчас не может быть незнакомого человека! Андрей Исидорович вскочил, ошеломленно глядя на своего спасителя. Диск куда-то исчез с его переносицы; вблизи находилось самое обыкновенное лицо самого обыкновенного человека — слишком обыкновенное для тех поступков, которые тот совершил! Сознание работало поразительно четко. Взгляд Андрея Исидоровича невольно метнулся к полкам… — Искать не стоит, — сказал незнакомец. — Я думаю, с нашей стороны будет уместно извиниться за все случившееся и дать объяснения, на которые вы приобрели право. — Вы… вы оттуда? — холодея от догадки, прошептал Андрей Исидорович. — Да, — услышал он как сквозь вату. Самое удивительное, что после всего этого Андрей Исидорович, встав, машинальным жестом указал пришельцу на стул и сам сел напротив. Его состояние походило на мозговую лихорадку: то он был спокоен, тупо спокоен, то возбужден почти до обморока. — Мы виноваты и просим нас простить. — Странность слов пришельца усиливал его человеческий облик и заурядный серенький костюм. — То, что мы делали здесь, не должно быть зримо, но мелкие технические неполадки, к сожалению, случаются и у нас. — Что, что вы здесь делали? — вырвалось у Андрея Исидоровича. В нем звенело одно только желание: выглядеть — во что бы то ни стало выглядеть достойно! — Мы читали ваши книги. — Ясно. — Голос Андрея Исидоровича упал. — Изучение примитивной цивилизации, космическая этнография, так сказать… Его обрадовало, что в словах, которые он выдавил, был сарказм. — Не только и даже не столько, — последовал быстрый ответ. — Вы, сами того не подозревая, участвуете в топ коллективной работе, которую разум ведет по Вселенной. — Не понимаю, — подавленно сказал Андрей Исидорович. — Не понимаю… — Сейчас поймете. Город, где вы живете, многолюден. По могут ли его жители вести все необходимые им исследования? Развивать культуру с той же быстротой, что и весь мир? Нет. Обрубите интеллектуальные связи города с остальным человечеством, изолируйте эти миллионы людей, и прогресс замрет. Причина проста. Возможности разума, любого, сколь угодно могучего — индивидуального или коллективного, — конечны. А мир, который он пытается познать и переустроить, бесконечен. Вот противоречие, с которым неизбежно сталкивается любая цивилизация, как только ее интеллектуальные ресурсы исчерпаны. Выход здесь подобен тому, которому вы следуете в масштабах Земли: распределение усилий, обмен информацией, кооперация, только уже космическая. С недавних пор вы тоже к ней причастны, ибо добываете знания, которых мы не имеем. — Но этого не может быть! — почти в отчаянии воскликнул Андрей Исидорович. — Мы же по сравнению с вами… с вашей… — Глубокое заблуждение. Кем создан у вас, на Земле, бумеранг? От кого вы получили байдарку, полярную одежду, самый быстрый способ плавания? От тех, кого не слишком умные люди считают дкарями. А разве ваше искусство оставило далеко позади искусство технически неразвитой Древней Греции? Так что не следует считать какую-то цивилизацию примитивной, это большая ошибка. — Подождите… — Андрей Исидорович ощутил вдохновение. — Вы сказали: обмен. Но обмен предполагает… Да, да, понимаю! Прямой контакт невозможен, пока человечество… Значит, вы даете нам… незаметно? Пришелец улыбнулся тепло и сочувственно. “Подумайте”, — словно говорил его взгляд. И Андрею Исидоровичу показалось, что он уловил истину. Ответа не будет. “Нет” пришельца опозорило бы все космическое содружество, “да” утвердило бы над людьми тайную опеку. А открытый контакт бесполезен и даже вреден, пока на Земле есть гориллы с атомными дубинками, требующие коленопреклонения правители и прочая мразь, которая испоганит любой дар пришельцев. — Не трудно догадаться, о чем вы думаете. (Андрей Исидорович даже вздрогнул.) На деле все гораздо сложней, потому что ответ, которого вы ждете, лежит не в плоскости “да” и “нет”, поверьте. Как бы пояснить? Ваши ученые двести лет задавали природе вопрос: свет — волна или частица? Верным оказалось третье: волночастица. В нашем случае, смею вас заверить, вопрос находится еще дальше от истины… Вот все, что я могу сказать. А теперь войдите в наше положение и не обессудьте. Моральный долг обязывал нас устранить несчастье, которое возникло по нашей вине, и дать разъяснения, чье отсутствие могло бы повредить вашу психику. Это сделано. Вы не в обиде на нас за случившееся? — Что вы! Что вы! Я… — Тогда разрешите попрощаться и пожелать вам, как принято на Земле, всего хорошего. — Постойте! — ринулся не ожидавший такого поворота Андрей Исидорович. Но на стуле уже никого не было — пришелец исчез. Андрея Исидоровича обступали до мелочей знакомые предметы, тишина хранилища, китайские стены книг, мир, в котором ничего не изменилось. А чувствовал он себя, как после грозного вала, который его, задыхающегося, волочил и швырял, а потом мягко опустил на безмятежный берег. Этот вал, однако, все еще жил в нем! Лихорадочно соображая, что же ему теперь делать, Андрей Исидорович подобрал с пола портфель, зачем-то пошарил по карманам, и тут его остановила недоуменная мысль. Пришельцы ведь не хотели, чтобы человечество узнало о них, и все же открылись человеку! Андрей Исидорович задумался, посмотрел на пустой стул и не без горечи усмехнулся. Они знали, что делали. Открыться ему их побудили обстоятельства. Но открыться человеку еще не значит открыться человечеству, потому что есть вещи, которым никто не поверит. Возможно, их луч, уже незримый, снова шарит по книгохранилищу, впитывая достижения человеческой мысли и что-то оставляя взамен. Или не оставляя? Хорошо, если бы так. Ибо человечество от этого ничего не теряет. Наоборот! Совсем наоборот! — Вы слышите? — тихо спросил Андрей Исидорович. — Я разрешаю вам брать. Берите как можно больше… Берите все… Ибо потом, когда мы наконец встретимся, ваши знания уже будут не благодеянием старшего, а… Ну, да вы сами понимаете… Сказав это, Андрей Исидорович тут же устыдился своего пафоса. Кто он такой, чтобы решать? Молекула человеческого моря. Сейчас он оденется, спустится, сядет в метро, поедет, мельком встречаясь взглядом с сотнями людей, о которых он ничего не знает и которые ничего не знают о нем. Дома жена, как обычно, спросит: — Ну, что у тебя новенького? И он, как обычно, ответит: — Да так, ничего особенного…
СОДЕРЖАНИЕ
Болдырев В. В ТИСКАХ. Приключенческая повесть Домбровский К. СЕРЫЕ МУРАВЬИ. Фантастическая повесть Коротеев Н. ПО СЛЕДУ УПИЕ. Приключенческая повесть Безуглов А. ВАС БУДУТ НАЗЫВАТЬ “ДИКС”. Приключенческая повесть Абрамов С. ВОЛЧОК ДЛЯ ГУЛЛИВЕРА. Фантастическая повесть Зак А.,Кузнецов И. ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Приключенческая повесть Жемайтис С. КЛИПЕР “ОРИОН”. Главы из романа Симонов Е. СЕЗОН НЕСОСТОЯВШИХСЯ ВОСХОЖДЕНИЙ Валентинов А. ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Фантастический рассказ Скорин И. РАССКАЗ ОТСТАВНОГО “СЫЩИКА” Шитик В. СКАЧОК В НИЧТО. Фантастический рассказ. Авторизованный перевод с белорусского Мескина Б.Е. Джекобс У. СТАРЫЕ КАПИТАНЫ. Рассказы. Перевод с английского Бережкова А.Н. Биленкин Д. ДАВАТЬ И БРАТЬ. Фантастический рассказМИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1974г.


Сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
Оформление В. Терещенко
Н. КОРОТЕЕВ КАПКАН УДАЧИ[263] Повесть

1
Вертолет шел на высоте двухсот пятидесяти метров. Устроившись меж летчиком и штурманом, участковый инспектор старший лейтенант Малинка глядел на землю сквозь остекление пилотской кабины. Рослому, худощавому инспектору давно стало неудобно сидеть на корточках. Ныли ноги и согнутая спина, но Пионеру Георгиевичу было не до себя. Внизу текла вспученная от темной воды река. Наступило второе предосеннее северное половодье, когда от тридцатиградусной жары начала сочиться укрывшаяся подо мхом и скудной почвой вечная мерзлота. Паводок бурлил куда резвее весеннего. Река подтопила русло, а из каждого распадка, ключа и ключика в нее стремились рыжие от ила и размытого дерна потоки. Молчаливые от полноводья и напористые, они легко тащили подточенные и сваленные деревца, деревья. Выворотим эти плыли корневищами вперед и походили на жутких уродцев. Стремнина реки маялась в своем каменном ложе от одного отбойного берега к другому, будто в горячке, вскипая грязной пеной, растекаясь пролысинами водоверти над скалистыми завалами подтопленных перекатов, а во вновь явившихся заводях медлительно кружились водовороты. В них пена, сучья и мох образовывали скопления, напоминающие различные галактики, фотографии которых в ж риалах очень любил рассматривать Малинка. Только теперь Пионеру Георгиевичу было не до «галактик», вращавшихся в заводях. Произошло нечто несообразное, непонятное. Впрочем, два года жизни в алмазном краю, тишайших и спокойнейших, совсем не расхолодили его. Наоборот, по долголетнему опыту он знал, что чем дольше тянется подобное спокойствие, тем неожиданней и коварней может быть происшествие. Бывало такое. И сейчас, задним числом, он как бы припоминал, что последнее время его душу тревожило странное беспричинное беспокойство. Возможно, конечно, и не существовало его, в сердце таилось обычное глухое напряженное ожидание, свойственное часовому на посту, но теперь услужливое воображение подсказывало: не ожидание вероятного и возможного то было, а именно предчувствие — вот-вот что-то произойдет. Машина шла точно над руслом, не срезая углов. На одном из поворотов инспектору показалось, он заметил меж шиверами плотик. Малинка даже руку протянул к локтю пилота, но, разглядев, что он обманулся, стал еще пристальней смотреть вдаль. Летчик тоже увидел странное скопление бревен и, тронув старшего лейтенанта за плечо, указал вниз пальцем. Инспектор поднял глаза, встретился взглядом с пилотом и помотал головой. Летчик понял его, ответил кивком. Тут штурман, сидевший рядом, сунул под нос Малинке планшет с картой и застучал пальцем по целлофану сначала в одном месте, потом чуть выше. На карте в том месте поперек сизой вены — реки — была проведена жирная черта, обозначавшая порог. Штурман снова ткнул пальцем немного ниже и опять в черту, затем показал растопыренную пятерню. «Пятьдесят километров осталось до порога, — понял Малинка. — До порога, который едва ли перекрывает даже темная вода. Если мы не обнаружим плот и на нем Попова, то за порогом найдем, пожалуй, лишь его труп… Совсем плохо! Впрочем, что мешает Сашке Попову пристать к берегу, разобрать плот, пустить бревнышки по течению, а самому податься в тайгу. Да, но чтобы так поступить, надо иметь очень веские основания. Больше того — преступные причины. Попов, удравший на плоту, уж скоро год как живет в этих местах, знает: в редкостойной лиственничной тайге, почти голой тундре, укрыться невозможно. В пен не то что человека — консервную банку разыскать можно. Если понадобится, конечно. Так почему же он, совершив что-то, драпанул без оглядки? А коли ничего за ним нет, чего бежать? Да еще так… опрометчиво…» Штурман теперь показывал часы и провел пальцем по четверти циферблата. «Пятнадцать минут лету…» — закивал инспектор. Они по-прежнему шли на высоте двухсот пятидесяти метров, надеясь: коли Попов бросил плот и ушел в тайгу, то, может быть, удастся приметить дымок костра. Хотя каждый сознавал: надежда эта призрачна, но и ее не стоило сметать со счета. Если бы они знали, что, собственно, произошло! Но узнать обо всем инспектор мог лишь у Попова. Пока было ясно: не напрасна тревога. Раз один из неразлучников вдруг бежит куда-то сломя голову, бросив товарища, — произошло нечто серьезное. Мало ли бывает несчастных случаев на охоте? Однако в двадцатилетней милицейской практике Малинки не находилось происшествия, когда друг оставил бы друга в нечаянной беде. То-то и оно — в «нечаянной беде»! Всего четверть часа могли они потратить на осмотр с вертолета местности выше парома. Друга Попова, тоже бульдозериста и шофера Лазарева, ни живого, ни мертвого они не нашли. А Попова, миновавшего паромную переправу двенадцать часов назад, упускать никак нельзя. Что приключилось с Лазаревым, неизвестно. Но Попов-то жив-здоров. Его и надо догнать. Хорошо еще, паромщик, знавший Попова, догадался позвонить Малинке. Пионер Георгиевич сразу почувствовал: «беспокоят», как выразился паромщик, его, инспектора, неспроста. «Беспокоили» его происшествия на участке вообще чрезвычайно редко. Даже реже, чем следовало, предпочитая применять к мелким нарушителям не закон, а обычное право. Но коли «беспокоили», то, значит, это совершенно необходимо. После позднего звонка паромщика инспектор оседлал мотоцикл и почти всю ночь провел в седле. На полпути, там, где линия электропередачи отходила от дороги и шла прямиком, Малинка издалека услышал долгие надрывные сигналы автомашины. Потом они прекратились, и вскоре навстречу инспекторскому мотоциклу из-за крутого поворота выехал грузовик. Пионер Георгиевич поднял руку в краге, прося остановиться, притормозил сам. Зашипев воздушными тормозами, «ЗИЛ» замер как вкопанный. Долговязый, под рост Малинки, шофер привычно выскочил из кабины и подошел к инспектору. — Что случилось? — спросил Пионер Георгиевич. — Али аккумуляторов не жаль? Поди, всех медведей пораспугал. — Эта живность давно распугана, начальник. А меня ребята тут обещали ждать. Я с час проваландался, только не дождался. Наверное, раньше уехали с кем-нибудь. Им же сегодня с вечера на смену. — Паромщик вам ничего не говорил? — Да ну его, Пионер Георгиевич! — Шофер махнул рукой. — Вы про то, что Сашка удрал по реке? Как пить дать, обознался паромщик. Не может того быть, чтоб Попов бросил Трофима, чего бы там ни вышло. Неразлучники ж они! Сами знаете. — Значит, ты отвозил их на половинку? — А кто же? Я отвез, я и ждал. — С ружьями они были? — С ружьями. — А в какую сторону пошли? Вправо, влево? — Не знаю. — Как же так? Привез — и не знаешь? Они спрыгнули, а ты — газу? Припомнишь, может? — Когда сошли, так стояли на правой обочине. Я вышел. Закурил. Спросил еще: куда, мол, глухарей бить пойдете? Сашка посмеялся: мол, место выведать хочешь. Вы же его знаете: одно слово — Лисий хвост. У него никогда не поймешь, то ли шутит, то ли всерьез говорит. — Погоди-погоди, Потапов… — Гожу, начальник. — Что ж, пьян, по-твоему, паромщик? — Назарыч-то? — Назарыч. — Не принюхивался. — Чего ж не веришь? — Быть того не может, Пионер Георгиевич. — Почему это Назарычу нельзя верить? — Да говорю же я — не может быть, чтоб Сашка куда-то один удрал. Ну, если и удрал, так где Трофим? Он бы пришел на дорогу. Ведь условились? Условились. Часы у Лазарева сломались? Ерунда получается. — Может, и сломались… Шофер рассмеялся: — За час, пока ждал их, я все передумал. Либо уехали, либо задержались. А вернее верного — спят, поди, давно в своих постелях. Тайгу вы лучше меня знаете, товарищ старший лейтенант. Тут уговор дороже денег. «Про уговор ты, Потапов, правильно сказал, — подумал инспектор. — И хотелось бы мне, чтоб ребята спали в своих постелях. Только нет их в постелях-то. И по дороге мне машин не попадалось». А вслух Малинка заметил: — Ты, видно, считаешь, что ночные прогулки мне полезны? — На драндулете-то? — Угу… — Кхм… — этим звуком Потапов выразил искреннейшее сомнение. — То-то и оно. — Плохо дело… получается… — пробормотал шофер. — Потапов, ты по дороге туда говорил Назарычу о Лазареве и Попове? — Они… Нет, это Лазарев мне сказал, будто они зайдут к Назарычу. Если же их не будет на переправе, значит, встретят меня на половинке. — Так и сказали? — Лазарев сказал. Точно. Попов молчал. Даже отвернулся. Словно это не касалось его. — Ты поточнее постарайся припомнить. Дело важное, — настойчиво попросил инспектор. — Точнее быть не может. — Почему же не упомянул сначала? — Так чепуха же, Пионер Георгиевич. — Ты в поселке не трепись… для ясности. Молчи — и все. Понял? — Ну что вы, Пионер Геор… — Слово дай. — Зачем вы так? — Дай слово, Потапов. — Слово, инспектор. — Комсомольское? — Комсомольское, Пионер Георгиевич. — Бывай. — Малинка тронул мотоцикл. «От одного расследователя-доброхота я, кажется, избавился, — подумал старший лейтенант. — Нет ничего страшнее в нашем деле, чем эти доброхоты! После их вмешательства любое пустяковое происшествие может превратиться в лавину трепотни, управлять которой немыслимо. Десятки людей, передавая слухи, становятся предубежденными недоброжелателями человека, возможно, ни в чем не виноватого. Но эта „детская“ игра в „испорченный телефон“ может превратить его в пугало, а то и посмешище. Действительно, что я сейчас знаю, кроме двух фактов: шофер Потапов довез Лазарева и Попова до половинки, и они сказали: мол, идут на охоту. Через два дня мне звонит обеспокоенный паромщик Назарыч и сообщает, что видел одного Попова, плывущего на плоту вниз по течению. На окрики Попов не ответил. Иными словами, вел себя странно. Паромщика-то Попов хорошо знает и мог бы объяснить, зачем ему понадобилось одному плыть в места безлюдные и дикие… И почему одному? Ведь шофер сказал паромщику, что друзья охотятся где-то выше переправы. Они даже хотели зайти к Haзарычу. Да, паромщику было от чего забеспокоиться…» Малинка резво и смело повел мотоцикл на спуске к переправе. Недаром же всего несколько лет назад Пионер Георгиевич не раз бывал призером мотокроссов автономной республики. Машина буквально вылетала из колдобин, резко и ловко приземлялась, увиливала от нового препятствия, чтоб снова, не сбавляя скорости, рвануться вниз. У дверей корявой на вид избушки с лубяной крышей стоял Назарыч и с любопытством глядел на лихача, искренне радуясь каждой и неизменной его удаче на головоломном спуске. А когда мотоцикл круто, с заносом притормозил около него, то паромщик лишь руками всплеснул, признав в человеке, до неузнаваемости преображенном шлемом, самого участкового инспектора, старшего лейтенанта милиции Пионера Георгиевича Малинку. — Ну и ну… — протянул Назарыч. — А! — махнул рукой инспектор, явно считая свой спуск не самым квалифицированным. — Давно не тренировался. Но в этих его словах все-таки слышалась гордость гонщика. Затем, выключив зажигание, Пионер Георгиевич спросил деловым тоном: — Так в чем дело, Назарыч? Что произошло? Расскажи толком. — Я все рассказал… — Не-ет… Ты мне теперь вот покажи, как Попов плыл, где ты его увидел, и объясни, почему ты забеспокоился. Не торопясь. Припомни хорошенько. Паромщик замялся. Он думал: не напорол ли горячки, и наговорил ли напраслины какой на хорошего человека? Шутка ли, сам участковый инспектор, старшин лейтенант, примчался на паром, будто его собаки за пятки кусали. — Засомневался? — спросил инспектор. — Засомневаешься… — А ты выкладывай всё по порядку. Вместе и подумаем. Инспектор старался быть как можно терпеливее. Он понимал: торопить нельзя, но и каждый час промедления мог грозить неизвестною пока бедою. Что паромщик, столь горячо говоривший по телефону, засомневался теперь и ему будто изменила память-вещь обычная для люден искренних и совестливые. Возможно, лишь после звонка участковому он до копна разобрался в том, что, собственно, сообщил инспектору. Ни много, ни мало, как о подозрении в убийстве, вольном ли, невольном. В тайге, в медвежьих умах, подобными вещами не шутят: не оставляют товарища одного, не мчатся как оглашенные куда глаза глядят, не сказав никому, куда да зачем. — Давай покурим, Назарыч. Иль чайком побалуемся? — Намотался… поди. — Есть малость. Они присели у избенки на колодину, служившую скамейкой. Беломорина подрагивала в пальцах участкового, и лишь сейчас он ощутил всю меру усталости. Назарыч, держа папиросу в кулаке, выдохнул вместе с дымом: — Не в себе он был. Ошарашенный какой-то. Черт его ведает… Сдается, он и не слышал, что я кричал ему. Ей-ей, не слышал. Сидел на плоту, колени руками обхватил, подбородок в них ткнул и все куда-то вперед таращился. Вот и все. — Это не по порядку… А насчет чаю как? — Чай у меня завсегда. В халупу пойдем? — Тащи кружки сюда. Лады. Крепкая заварка пахла на воздухе пряно, перебивая нежный дух лиственниц и даже острый еловый аромат. Прихлебывая чай из большой эмалированной кружки, Назарыч принялся за рассказ, время от времени тыча заскорузлым пальцем в сторону речной быстрины с такой убедительностью, словно там именно сейчас скользил плот и на нем сидел отрешенный от всего окружавшего Сашка Попов, не видя размахивавшего руками паромщика, не слыша ни его зычного голоса, ни перекатывавшегося эха. — Не в себе он был… Не в себе! — негромко нашептывал, вскинув брови, Назарыч и добавил уже ровным глуховатым голосом: — Я его знаю. По осени помню. Верткий такой, задиристый… И потом не раз встречал. — Что ж осенью-то было? — Про то и вы знаете. Грохот они тогда на новую фабрику волокли. — Слышать слышал, — кивнул инспектор и залпом допил чай. — А я видел. Неверно говорят, будто воспоминания требуют времени. Они всплывают в чувствах мгновенно, их видят, слышат, осязают, обоняют. И совершавшееся часами или даже днями развертывается тоже сразу от начала до конца. Потом сознание отбирает в воскресшей картине те детали, которые нужны в данном случае. Поэтому иногда «вдруг» человеку приходят на ум такие подробности, какие он вроде бы и не заметил «тогда». Однако нужно время, чтобы рассказать о воспоминании: и свете дня, о том, что делали и говорили люди и хорошо ли они выполняли свое дело. Назарыч не стал говорить, как после злой пурги, что плясала и выла четверо суток, прояснилось и ударил скрипучий мороз градусов под тридцать. Медное солнце, тусклое и бессильное, едва приподнялось над увалами лысых сопочных вершин. И с чистого неба, вспыхивая и сверкая, опускалась едва ощутимая изморозь, или выморозь, выжатая из влажного еще после метельной погоды воздуха. Телефона тогда на пароме не было, и Назарыч очень удивился, услышав издалека звонкую трескотню тракторных двигателей. Он пошел вверх по недавно пробитому колдобинному летнику и увидел процессию из пяти тракторов и двух бульдозеров, которые волокли громадный, с двухэтажный дом, длиннющий дырчатый цилиндр грохота. Неподалеку от спуска колонна остановилась. С первого из тракторов, тянувших грохот цугом, соскочил якут Аким Жихарев и помахал Назарычу рукой-культяпкой. Назарыч ответил на приветствие степенно, потом спросил: — Как же вы эту бандуру по спуску с крутым поворотом поволокете? Да и река толком не стала. Аким сощурился так, что глаз совсем стало не видно: — Вон бульдозеры у нас. Дорогу чуток спрямим, подбреем, на реке мост наморозим. Вон как жмет! — И Жихарев поднял широкоскулое лицо кверху, под искристую выморозь. — Пройдем. Обогреться бы нам… — Давайте, давайте, — заторопил их Назарыч. — Хозяином здесь будешь? — спросил Аким. — Останусь. Мне ж много не надо. И шоферы едой не обижают. — Коли ты, Назарыч, серьезно, то и зарплату тебе положат. Ты не беспокойся. И продуктовым НЗ обеспечим. Чего это тебе при должности паромщика побираться!.. Дворец-то сам собрал? — Сам. — Не мал? — На нарах человек двадцать разместятся. Жихарев хлопнул Назарыча культяпкой по плечу. — Так это ж отель! — Чего? — Гостиница. А когда вошли в избу, Жихарев еще больше удивился. Внутри древесина лиственниц была ошкурена и нежно светилась. — Ну, Назарыч, не ожидал, — сказал Аким. — Быть тебе в должности паромщика! И гостиницу твою поможем содержать. Это точно. Если б ее тут не было, следовало выдумать. Поможем. — Я ж не из-за этого… — Знаю. И тем не менее… Конечно, Аким знал, что по всей Сибири и особо на Севере то на половинке, то на четверти пути от чего-то до чего-то стоят вот такие — а есть и много хуже — избы с добровольными сторожами-блюстителями. Такой должности не существует ни в одном штатном расписании. Исполняют ее старики, которым не под силу сделалась охота, но без людей, без дела жить они не могут и не хотят. Бескорыстное и страстное служение — потребность их души. У Назарыча еще достало сил за лето по бревнышку собрать избу. Впрочем, не без добрых людей — редких проезжающих мимо, умаявшихся шоферов. Он благодарил их отменной заваркой. Трактористы уже отужинали и чаевали, когда в избу пришли Жихарев и двое бульдозеристов, промерзшие, с осунувшимися лицами. По тому, что парни не хотели раздеваться, пока не согреются, Назарыч догадался: люди они на Севере недавние. Но Аким, конечно, настоял на своем. — Ты, двоюродный племяш, меня здесь слушайся! — похохатывал он, стаскивая с долговязого Лазарева полушубок. — Раздевайтесь до белья — тотчас тепло будет. И ты, Сашка, не отставай. А еще солдаты! Чего ж холод под одежкой хранить? После четвертой кружки чая Жихарев оглядел парней, на которых под полушубками оказались только хлопчатобумажные солдатские гимнастерки, и спросил: — Сдурели? — Не заработали еще на одежку. — Больше недели на дорогу не дам, — жестко сказал Жихарев. — Как раз за это время настил на реке наморозим. Парни в гимнастерках переглянулись, отерли пот со лбов, утерли распаявшиеся в тепле носы. — И не просите — больше не дам. Не загорать сюда приехали! — разгорячился Аким. — Вот-вот, — закивал Сашка, такой же коротышка, как и Жихарев. — Три дня — и дорога будет, — трубно высморкавшись, сказал Лазарев. — Чего?! — не сдержался румяный тракторист в свитере крупной домашней вязки. — Не трави. — Трофим сказал — три дня, — подтвердил Сашка Попов. — Значит, три. Аким налил себе еще чаю в кружку: — Послушай, паря, Север трепачей не любит. Ты хоть прикинул, сколько и какой земли передвинуть надо, отутюжить? А? Однако, поди, нет, Лазарев. Это ж месячная норма. — В армии норм нет, — сказал большеглазый Лазарев. — Братва, — заторопился румяный тракторист, — отвечаем ящиком спирта — не вытянут солдаты. — Ха! — воскликнул Сашка. — Пейте сами. Нам без надобности. — Горючее нам без надобности, а вот парой свитеров ответьте, — сказал Лазарев. — Свитеры — чепуха! — рассердился Аким. — Попову я свой из запаса дам, а для тебя, Лазарев, у ребят найдется. Кто ж к вам под полушубки заглядывал… — Свитер найдется, — поддакнул тракторист-торопыга. — Только вы чем ответите, пехота? — Горючим на праздники, — подмигнул Сашка. — Чтоб твоя морская душа распустилась, как масло на горячей сковородке. Аким нахмурился: — Не зарывайтесь, ребята. Здесь Север. — Дядя Аким, и мы не в тропиках служили — в Забайкалье. — Вещи разные… — протянул Жихарев. — Будто мы не служили, — обиделся вдруг тракторист-торопыга, передавая Трофиму плотной вязки свитер подводника. — Флот — это, брат, флот, а не пехота. — Я не об этом говорю, Филипп, — пожал плечами Лазарев. — А за свитер спасибо. — Поглядим, как пойдет дело, — сказал Жихарев. — Теперь — спать. На другой день трактористы рубили лес для стлани на льду. Река хотя и замерзла, но слабо. Естественный ледяной мост не выдержал бы многотонную махину уникального грохота. Лазарев и Попов трудились над выравниванием спуска словно одержимые. Назарыч носил им к бульдозерам чан и разогретые консервы, и ели они, не вылезая из кабин. К полуночи треть спуска была отутюжена. Аким сам проверял дорогу и остался доволен. А в шесть утра бульдозеристы снова сели в кабины. Лазарев хотел побриться, но Жихарев запретил: — Обморозишь лицо. — Непривычно небритым. Чувствуешь себя плохо. — Привыкай. Это — Север. — Ладно. Попробую, — пробурчал Лазарев. — «Север, Север»… В полдень, когда начали укладывать стлань, Трофим неожиданно остановил бульдозер и спустился к Жихареву, на реку. За ним — Сашка. — Дядя Аким, — сказал Лазарев, — почему вы бревнышко к бревнышку подгоняете? — Чего тебе? Трофим повторил вопрос. — Испокон веков четырехнакатная стлань так делается, — недовольно ответил Жихарев. — Что еще? — Если бревна укладывать по-другому, то и трехнакатная стлань выдержит. — Точно, — поддержал друга Сашка. — Занимайтесь своим делом, — раздраженно сказал Жихарев. — Вы выслушайте, дядя Аким. — Какой я тебе, к черту, дядя! Сашка улыбнулся во весь рот: — Соскучились мы по «гражданке», дядя Аким. А трехнакатную стлань нас капитан Чекрыгин научил класть. На маневрах это было. Ей-ей! Точно. Вот Трошка подтвердит. — И Попов искреннейшим образом захлопал белесыми пушистыми ресницами. Лазарев вытаращил и без того крупные глаза, но Сашку, видать, понесло: — Мы за три дня такую стлань сделали — закачаешься! Она выдерживала пять бронетранспортеров сразу. И три танка еще. А эту игрушку запросто выдержит! — Попов мотнул головой в сторону грохота, высившегося на горбе берега. — Ты дело говори, — чуток подобрел Жихарев. — Чего болтать-то. На рынке, что ли, товар расхваливаешь? Рекламу даешь? Цену набиваешь? Смущенный Лазарев переминался с ноги на ногу. Назарычу показалось, что рассказ о сверхпрочной стлани, которую солдаты наводили под руководством капитана Чекрыгина, выдуман Сашкой на ходу. Но эти соображения Назарыч удержал при себе, да и хотелось узнать, как выкрутится Лазарев. — По-моему, — начал Трофим, — надо поперечные бревна раздвигать в разные стороны. Одно наполовину вправо, другое — влево. Площадь их опоры на лед увеличится в полтора раза… — Вот! Смотрите! — Сашка достал коробок спичек и, разровняв валенком снег, показал наглядно, что предлагал сделать Трофим. — Потом, — продолжил Лазарев, взяв спички, — второй накат, продольный, укладывается вровень. Ну, а третий, как обычно, бревно к бревну. — А водой заливать как? — спросил Аким, очень заинтересовавшийся проектом. — Обычно! — выпалил Сашка, покосившись на Лазарева. — Это ж Север, дядя Аким. Тут лед крепче стали. Верно? — Да, — подтвердил тот. — Можем и расчетик сделать. Математический, — совсем осмелел Сашка. — И так понятно, что к чему, — сказал Жихарев. — И без математики ясно. Ловко. Молодцы! Вот чертяки! — улыбнулся начальник колонны, нажимая пальцем на спичечную модель стлани, а затем заторопил: — Ну, давайте на дорогу! Чтоб к сроку готова была! Это ж действительно монтажники могут закончить обогатительную фабрику к Новому году. Ведь только в оборудовании и задержка. Давайте, давайте, ребята, на бульдозеры! Неделю выгадаем, понимаете? И спуск, и стлань подготовили за три дня. Столько же выгадали при подъеме на противоположном берегу, день сэкономили в пути… Однако все эти воспоминания Назарыча уложились в две фразы: — Вот тогда, с грохотом, они здорово помогли! И дорогу подготовили, и с мостом придумали. Хорошие парни, дельные. — Кто спорит! — поднялся с колодины Малинка. — Да вот один пропал, другой утёк… — Вы, Пионер Георгиевич, поспешите Сашку-то догнать. Не в себе он. Куда подался? По реке на триста верст даже заимки нет. Да еще темная вода идет. Долго ли топляку плотик перевернуть? Порог еще там. Бурливый называется. Местов-то Сашка не знает! — Далеко порог-то? — Верст сто пятьдесят. С гаком. — Велик ли «гак»? — усмехнулся Малинка. — Как сказать… Пожалуй, верст тридцать наберется. Я в позапрошлом году с экспедицией этих… гидрологов ходил. Они насчитали больше ста пятидесяти километров. Мы не по верстам меряли… Так с гаком выходило. — Да пес с ним, с гаком! — рассердился вдруг Малинка. — Ты, Назарыч, не помнишь, что гидрологи о скорости течения реки говорили? — При темной-то воде? — При темной. — Помнится, где десять, где двенадцать км. — «Км»… — Так они говорили. — Эх, шалая его голова! — воскликнул инспектор. — Ну, Сашкино счастье, если вертолет на базе есть. Давай звонить. Инспектор пошел в избу. Назарыч — следом, приговаривая: — Ради такого дела летуны должны расстараться. — «Должны, должны»… А что как вечером прилетят? Попов к тому времени, пожалуй, двести километров одолеет. Пройдет порог. — И-и! Не пройдет! Тут и гадать нечего — не пройдет. Разобьется. — Не каркай, Назарыч! — Я что, я правду говорю… Закончив разговор со своим и летным начальством, Пионер Георгиевич снял шлем и вытер вспотевший лоб: — Повезло тебе пока, Попов. Слышь, Назарыч, через два часа машина здесь будет. И крошка-вертолет прибыл к переправе как по расписанию. Хотя Назарыч и торопил начать поиски Попова, инспектор все-таки решил в первую очередь облететь окрестности, в надежде обнаружить Трофима. Беглый осмотр ничего не дал. Они видели избушку, поставленную зимой строителями ЛЭП, по дверь была забита крест-накрест досками и вокруг ни души. Теперь Пионер Георгиевич ругал себя за потерянное понапрасну время. Тем более, пилот торопил его с осмотром. Нежданно-негаданно поперек их курса потянулись низкие косматые облака, волочившие за собой по земле серые шлейфы дождя. Вероятность допущенной ошибки стала особенно ясной, когда штурман постучал по циферблату, показывая, что до порога осталось пять минут лету, и вот-вот он появится вдали. Но на рыжей, будто нефтяной, реке по-прежнему не было видно ни Сашки Попова, ни плота. «Если бы мы обнаружили плот! — с тоской взмолился про себя инспектор. — Хотя бы плот! Тогда бы стало ясно — Сашка высадился и хоронится где-то на берегу. Жив по крайней мере, и найти его — дело времени. Некуда здесь бежать. Только к жилью, только к людям, даже если кругом виноват!» Не поверив часам штурмана, инспектор взглянул на свои. Они показывали то же время. Секундная стрелка дергалась с противной нервозностью. — Пло-о-от! — услышал старший лейтенант крик пилота. Малинка глянул вниз — пустая река. — У по-ро-га! — заорал ему на ухо штурман, тыча пальцем вперед. Взглянув вдаль, инспектор увидел словно замершую на распахнутом плесе аккуратную щепку. Это был плот. И совсем неподалеку от него ровный, будто нарочно сделанный, перепад порога. С борта он выглядел игрушечным, как и плот-щепка. Инспектор в забывчивости схватил пилота за рукав. Машину тряхнуло. Летчик резко сбросил руку Малинки с локтя и гневно посмотрел на него. Но Пионер Георгиевич внимания на это не обратил. — Успеем? — крикнул он. Пилот расстегнул шлем. — Успеем? — заорал инспектор. Взглянув на него, летчик помотал головой, а потом, приглядевшись к плесу и плоту, пожал плечами. Старшин лейтенант видел, что сектор газа уже выжат до упора и на полном ходу машина полого снижалась, будто с горки катилась. Летчик делал отчаянную попытку догнать плот, хотя и не верил в такую возможность. Еще горше стало на душе инспектора. Малинка не воевал и еще никогда в жизни ему не приходилось видеть, чтоб человек погибал у него на глазах. Но при самом страстном их желании помочь терпящему бедствие было невозможно. А парень на плоту, пожалуй, и не замечал опасности. Он лежал, распластавшись на выворотнях, из которых был на скорую руку связан плот. Инспектор даже подумал: жив ли Попов? Через секунду — другую, наверное услышав вертолет, парень на плоту вскочил, разглядывая стрекочущую машину-крошку. Затем наверняка услышал рокот падающей воды. Он схватил шест, попробовал оттолкнуться, однако не достал дна. Суматошно огляделся. Потом снова обернулся к приближавшемуся, но еще далекому вертолету, обернулся к порогу — близкому, ревущему. Уже ни на что не надеясь, Попов отшвырнул шест, лег на бревне, обхватив руками голову. «Сдался! Сдался, дурень!» — подумал инспектор. Малинка понимал всю бессмысленность стремления настичь Сашку у порога. Почти невероятной представлялась возможность спасти Попова. Но отказаться от попытки инспектор не мог. Секунду или какую-то долю ее он смотрел на человека в телогрейке, подпоясанного солдатским ремнем, в резиновых сапогах, распростертого на плоту. — Ну же, ну! — невольно шептал старшин лейтенант. — Ну придумай что-нибудь, Попов! Дерись! Дерись! Хоть попробуй спасти себя… Но парень на плоту не шевелился. Он добровольно, у Малинки на глазах, отказался от борьбы за жизнь — пусть отчаянной, но борьбы во что бы то ни стало. Этого инспектор не мог простить ему никогда. В те мгновения Пионер Георгиевич вел себя подобно одержимому. И выглядело странным — потом, конечно, — что пилот, штурман и бортмеханик слушались старшего лейтенанта. Инспектор знаками попросил сбросить трап. Переглянувшись со штурманом, пилот кивнул и сказал что-то бортмеханику по телефону. Тот ответил и тут же отключил связь. Догадавшись, что его предложение принято, Малинка устремился к дверце. Однако штурман опередил его, жестом показав: командовать будет он. Прежде чем открыть люк и сбросить трап, штурман с помощью бортмеханика опоясал старшего лейтенанта нейлоновым тросиком. — Для страховки! — крикнул он, и инспектор услышал его. — Вас спасать некому будет! За вас нам голову… — И штурман чиркнул ребром ладони по горлу. Малинка рукой махнул: чепуха, мол… Штурман погрозил ему кулаком, потом пальцем, пропустил нейлоновый тросик через скобу около двери, распахнул ее, спихнул за борт моток десятиметрового веревочного трапа. В лицо инспектора наотмашь ударил вихрь. Почему-то виновато улыбнувшись штурману и бортмеханику, страховавшим его, старший лейтенант спиной подался в дверь. Он нащупал ногой одну ступеньку, потом другую и стал спускаться увереннее. Насчитав седьмую перекладину, Малинка уже целиком вылез из брюха вертолета и смог оглядеться. Сашка не валялся на плоту, как минуту назад. Он стоял в рост, расставив ноги, держа в руке ружье. И ощущалось в его фигуре не отчаяние, а нечто иное, как бы утверждавшее: «Вот она, расплата. Не виляй и прими ее». Две ли, три секунды видел инспектор нового для него Попова, перед тем как плот вместе с Сашкой свалился за порог в бурливую пенную реку. «Трусы, гады так себя не ведут!» — мгновенно и вроде бы мимоходом отметил про себя Малинка. Если бы не эта поразившая сознание инспектора мысль, то поднялся бы он на борт, твердо отдавая себе отчет в полной бессмысленности дальнейших хлопот о спасении Попова. Однако теперь поступить так Малинка уже не мог и решился на неслыханную и небывалую попытку. План ее созрел как бы мгновенно. Инспектор промахнулся ногой мимо перекладины трапа и тут же почувствовал, как страховочная веревка потянула его вверх. Малинка поднял глаза на штурмана. Тот манил его обратно. Пионер Георгиевич отчаянно замотал головой и показал рукой за порог. Машина зависла, не двигалась. Штурман исчез из люка — видно, советовался с пилотом, а бортмеханик продолжал манить его. Инспектор попробовал опуститься еще на ступеньку, но не тут-то было: бортмеханик законтрил страховочную веревку. Тут Малинка стал отчаянно жестикулировать свободной рукой. Пилот глядел на инспектора, высунувшись в распахнутую дверцу кабины. Наконец вертолет подался к порогу. В дверце показался штурман и знаком разрешил спускаться. Они миновали ржавый скат в том самом месте, где ухнул за него плотик. Перепад действительно оказался невелик — метра полтора. Но это инспектор отметил мельком. Он спускался на ощупь, не сводя взгляда с пенной воды. Сильно потянули страховочную веревку. «Дальше некуда, — понял инспектор. — Кончился трап. Ничего не видно в воде. Она наполнена туманом мельчайших пузырьков воздуха… Сашка и плот… Черт с ним, с плотом! Они должны вынырнуть где-то здесь. Летчик знает дело…» — Сашка! Сашка! — заорал Малинка в голос, словно тот мог его услышать. Пионер Георгиевич приметил как бы висящую и поднимаемую водой фигуру Попова: горб ватника, подпоясанного солдатским ремнем, растопыренные недвижные руки, темные волосы, будто вставшие дыбом. Сапоги инспектора коснулись воды рядом с телом Сашки, поднимаемым отбитой от дна струей. — Пилот знает свое дело, — проговорил Малинка и, повиснув на одной руке, отвел ноги, стоявшие на трапе, в сторону. Инспектор не дождался, пока струя вынесет Сашку на поверхность. Он погрузил руку в воду почти до плеча, нащупал широкий солдатский ремень, с трудом подсунул под него пальцы. Затем инспектор почувствовал, как натянулась страховочная веревка, машина пошла вверх, и он ощутил всю тяжесть Сашкиного тела, обвисшего на ремне. — Ну, Георгич, — заворчал он про себя, — теперь держи. Держи! Держи!..2
Ночь выдалась светлой. И полная луна стояла высоко. А каждый предмет на земле был словно очерчен мелом. Тайга за городом походила на полотно мелкозубой слесарной пилы, только что наточенной; каменный бордюр глубокого округлого карьера, и кимберлитовое дно его, и каждая глыба, и камушек развороченной взрывами породы тоже будто обвели меловым контуром. Под луной кимберлит действительно выглядел голубым, если на него смотреть близко. Но из кабины десятитонного «МАЗа» близко породу можно увидеть, только выйдя на подножку, когда понадобится поглядеть, достаточно ли и хорошо ли загружен кузов. На приличной скорости вогнав машину в карьер, Сашка лихо развернулся и стал подгонять «МАЗ» к экскаватору под погрузку. На фоне залитого луной карьера огни прожекторов, освещавших лунный ландшафт выработки, и фары экскаватора выглядели блеклыми, желтыми, словно горящая спичка при люминесцентных лампах. Все окружающее отмечалось Сашкой мимоходом. Тайга — дорога, дорога — карьер, коли открыты глаза, надо смотреть, а то прозеваешь поворот, не довернешь баранку на серпантинном спуске — плохо дело. Сказано: гляди в оба. Это про шоферов. Настроение же — само собой. Праздник так праздник. Не считая производственных успехов, Сашка на два месяца раньше срока перевыполнил личный, собственный план, и сегодня в полдень — как раз в карьере рванули взрывы, что твой салют, — Сашка Попов в торжественной обстановке сберкассы отсчитал от получки пятьдесят рублей и положил на книжку. Именно пятидесяти рублей не хватало до тысячи. Чем не праздник? Всякое досрочное выполнение плана — праздник. Можно было бы, конечно, поболтать с контролершей, но за барьерчиком сберкассы сидела старушенция: гладко зачесанная, с тощей кичкой, в телескопических очках, сквозь которые глаза выглядели маленькими и круглыми. Правда, Сашку она всегда встречала широкой улыбкой, демонстрирующей радость и искусство зубного техника. — А я думала, что вы, товарищ Попов, сегодня не придете. Сашка отвечал ей солидно, с веселым достоинством: — Что вы, Серафима Петровна… — Знаю, вы аккуратный молодой человек. — А как же! — Далеко не все такие. Но Попов будто не слышал похвалы. Пока Серафима Петровна производила необходимые финансовые операции, Сашка изучал на стенах наслоения рекламных плакатов. Помещение с зарешеченными окнами было не ахти как велико, и красочно-призывные произведения клеились одно на другое: синее море и белый пароход заслонила туристская карта Карпат, потом Кавказа, золотые пески Варны перекрыли красоты Карелии, которыми вполне можно наслаждаться и здесь, выйдя за околицу. Лишь два плаката пожелтели от времени, проведенном на стене. Один был цезарски лапидарен: «Надежно, выгодно, удобно», а на втором желтозубый (от времени) молодой человек «делал ручкой», сидя в древней модели «Москвича». Надпись гласила: «Накопил — и машину купил». Очевидно, два этих произведения рекламы Серафима Петровна считала неотразимыми. И была, по-своему, права. Александр Попов копил на машину. Правда, машины Сашке было мало. Требовалась еще моторка. Не мотор, а моторка — белая с красной полосой по борту, с каютой, в которой было бы приятно отдыхать, пристав к перегруженному красотой берегу таежной реки. Моторка в сибирских краях — вещь более необходимая, чем машина. Река — древнейший путь сообщения. Автострады созданы по ее образу и подобию. По мнению Попова, дороги далеки от совершенства по сравнению с реками. И тем не менее машину Сашка поставил себе целью номер один. Что из того — на машине он будет ездить три дня в год. Сашке с самого начала, с задумки, не нравился, например, заводской серийный мотор. По его глубокому убеждению, двигатель просто требовал, чтоб Сашкины руки усовершенствовали его. Ну, а остальных мелочей и касаться не стоило. Впрочем, Сашку совсем не интересовал вопрос, сколько километров пробежит его собственная машина, важно, чтоб была и чтоб Сашкины познания шли дальше признанной инженерной мысли заводских конструкторов. Про моторку и говорить нечего. Следовало прежде всего сделать корпус: от шпангоута до клотика… «Моторка, моторка… — передразнивал сам себя Попов. — Не моторка, а катер, почти яхта. А мотор нужно форсировать, сообразить насчет новой геометрии винта». И вот тогда он пригласит Анну. Он доведет ее до реки, а там их будет ждать собственный катер. Сашка говорил об этом Анке. Она ответила вполне серьезно: «Когда рожь, тогда и мера». Что ж, она права!.. Откуда-то издалека донесся до Сашки стук по металлу, и он, оглядевшись, как бы вернулся из мечтательных помыслов в карьер алмазной трубы. Стучал по металлической раме экскаваторщик. Сашка открыл дверцу и вышел на подножку «МАЗа». — Уснул? Попов! — крикнул, увидя его, экскаваторщик Сорока. Меж собой шоферы, разозлившись, звали его «Ко-ко-ко» или запросто «Сорокой». Солидный экскаваторщик не терпел ни той, ни другой клички и поэтому считал шоферов личными недругами и лентяями вдобавок. Взглянув в кузов, Сашка недовольно прокричал: — Опять, Сорока, на хвост навалил! Смотри, какую глыбищу запузырил! Мало, что она при подъеме лишнюю нагрузку на скаты создает — плюхнется, дорогу перекроет. Тебя и вызову, чтоб поднимал! — Ты мне тут не шуми! — А ты не командуй! Ко-ко-ко! — выкрикнул Сашка. И, не дожидаясь, пока Сорока взорвется, закрыл дверцу и тронул машину. В конце концов, не на Сороке свет клином сошелся, можно заворачивать и к другим экскаваторам, да вот погрузка у них занимает больше времени. Пробовал Попов — получается на целую ездку в смену меньше, а в месяц это сколько ездок? То-то и оно. Пожалев, что поругался с отличным экскаваторщиком, Сашка рассердился и на себя, а потому дал полный газ, чтобы, кстати, наверстать на подъеме время, упущенное на мечтания о машине, моторке и Анке. Выхоленный Поповым мотор беспрекословно взял заданную скорость, уверенно прошел поворот с подъемом, на котором другие едва тянули. Обойдя на серпантине одного из таких тихоходов, Сашка повеселел немного и подумал, что если при следующей ездке обойтись с Сорокой ласково, перекурить, то обиду можно и загладить. Сорока человек на ласку отходчивый. За спиной в кузове громыхнуло. «МАЗ» дернулся. Сашка понял, что это все-таки скатилась на дорогу глыба кимберлита, и выругался длинно и забористо, как это умел делать в очень трудные минуты ротный старшина Нечипоренко. Легче не стало. Пришлось остановить машину, выйти и посмотреть, как угораздило глыбе улечься на дороге. Загородила она проезд или, на Сашкино счастье, откатилась в сторону? Попову повезло. Скатилась глыба хоть и неудачно, но по инерции отвалилась к обочине. Лежала она, собственно, за бровкой даже, никому не мешая. Но экскаватор вызвать следовало. Велик ли, мал ли кусок алмазоносной породы, место его в бункере обогатительной фабрики. Оттуда он пойдет в дробилки, грохоты и, обращенный в концентрат, поступит в рентгеновские или жировые аппараты, которые извлекут из него алмазы. Сияла луна. Голубела у обочины глыба кимберлита, привалившись к земляной стенке съезда в карьер. Четко очерченная лунным светом, она не выглядела такой огромной, как в кузове. И тут на мягко поблескивающей грани, на самом острие ее, Сашку поразил необычайный блеск. Он вспыхнул на какое-то мгновение. Может быть, и не было ее совсем, той радужной искры, но уж так ослепительно выглядел просверк, так лучезарна его игра, что Сашка замер. Ему так неодолимо захотелось еще раз увидеть это, что Попов сначала неуверенно сделал шаг к глыбе, потом быстро шагнул — раз, другой. Остановился вплотную к кимберлиту. Но ничего не увидел. Именно ничего. Острие грани, которое существовало только что, будто исчезло. Вместо него — пустота, чуть приметно, будто призрачными линиями, отграниченная и от кимберлита и от окружающего. Эта странная пустота представлялась темнее, чем все вокруг, словно была дырой куда-то, таинственной и страшной. — Ерунда какая, — сказал Сашка вслух. — Ерунда… От напряженного взгляда в однуточку у Сашки выступили слезы, и призрачный, едва очерченный кристалл величиною с ноготь мизинца расплылся, замутился, точно звезда. Сашка протянул руку, накрыл кристалл. Потом нажал схваченную грань. Рыхловатая алмазная порода подалась, отвалилась. Сморгнув слезы, Сашка поднес кулак к глазам и разжал руку. На ладони лежали несколько темных кусочков породы и алмаз. Он действительно был величиной с ноготь мизинца, почти правильной формы, двенадцатиплоскостной, восемнадцатиугольный ромбододекаэдр. Под луной мягко отсвечивали три грани. Но в одной плоскости алмаз оставался так глубоко прозрачен, что представлялся пустотой, не заполненной ничем, пространством, в котором ощущалось, а вернее, лишь угадывалось нечто. Поэтому сама по себе глубина и чувствовалась, оставаясь невидимой, смутной для взора, наваждением. Теперь, когда Сашка долго, не отрываясь глядел на алмаз, не одна — множество искрящихся звезд залучились, заиграли под его напряженным взглядом, переливаясь и вздрагивая, будто живые, настоящие небесные светила. Попов слегка шевельнул ладонью. Зародился новый рисунок созвездия. И открылись уже две глубинных плоскости вместо одной. Они были разъединены тончайшей, едва приметной гранью. Темень их глубины стала еще отрешенней и притягательней. Справа, на земляной стенке откоса, появилось двигающееся пятно света. Из-за поворота показалась машина, которую Попов обогнал несколько минут назад. Зажав алмаз в кулак, Сашка сунул руку в карман. Он сделал это непроизвольно, как бы испугавшись, что подъехавший водитель узрит тут же необычайную прелесть камня. Но Сашка и сам еще не успел ею налюбоваться. Сбавив скорость, знакомый водитель высунулся из кабины: — Подкузьмил тебе Сорока! — А ну его… — недовольно, не поднимая глаз, ответил Попов. — Ведь говорил ему, что вывалится. — Плюнь, уберут, — посоветовал водитель. Тут Сашка, необъяснимо для себя, побежал к проезжавшей машине, с трудом из-за малого роста вскарабкался на подножку и принялся зачем-то горячо убеждать шофера Ламподуева, что остановился он потому, что не был уверен, будет мешать проезду свалившаяся глыба или нет. Миновав поворот, Ламподуев тоже остановил машину, вышел и, участливо кивая, пошел убедиться, что глыба мешать не будет. Только подойдя к глыбе, свалившейся на бровку, Ламподуев пнул кимберлит, рассмеялся, а потом недовольно сказал: — Чего мы, обалдели оба? — Вот видишь… — зачем-то заискивающе пробормотал Сашка. — Чего «видишь»? Вижу — не мешает. От поворота вижу — не мешает. Чего ты раскудахтался? Ну тебя, Лисий хвост! Нарочно остановил? Чтоб обогнать на выезде из карьера? Право, нарочно. Коту и тому ясно — не мешает твоя глыба проезду. — Вот я и говорю… — «Говорю, говорю»… Чего дурака валяешь? Видно же — не мешает. Чего меня останавливать? — Я не останавливал. — Сашка обалдело посмотрел на Ламподуева. — Ты сам остановился. — А кто на подножку вскакивал? Руками махал? — Так я объяснял тебе, что глыба упала, но не мешает. — Вот что: малохольный ты сегодня. Не договоримся мы с тобой. Пока. Чего останавливал? Ламподуев пожал плечами и отправился к своей машине. Тогда Сашка звонко хлопнул себя по маслянистым до заскорузлости брюкам на бедрах и крикнул вдогонку: — Обгоню! Не оборачиваясь, Ламподуев махнул рукой. А Сашка вскочил в кабину и, лихо объехав машину Ламподуева, покатил по дороге на фабрику. Ему было очень весело. Он мчался по шоссе вдоль растянувшегося спящего города. Мотор урчал утробно и довольно, словно кот, когда ему почесывают за ухом. И на душе у Сашки разлилось такое же умиротворение. В минуты гонки по городу он вроде бы начисто забыл о колдовском прозрачном камушке, который притаился в уголке нагрудного кармана ковбойки. Лишь в один-единственный миг, когда Сашка притормозил у ворот обогатительной фабрики, он подумал, что глубина неба меж звезд наполнена до предела лучами так же, как и лишь угадываемая, пронизанная светом пустота камня. Он остановил машину, выключил фары, вышел на подножку и стал смотреть вверх, не замечая тупой боли в затекшей шее. Он долго бы смотрел в небо, коли не засигналил бы позади Ламподуев. А когда Сашка въезжал в ворота, то в сторону подалась другая машина. Из кабины высунулся чуть не по пояс его закадычный друг Лазарев: — Попов! На аварию напрашиваешься? Тут маскировки нет. Почему без света шугуешь? — Слушай, Лазарев! Я тебе такое… расскажу, — осекся вдруг Сашка. — Утречком! Ламподуев продолжал сигналить. — Поздно будет! Не увидишь! Не услышал, наверное, Лазарев голоса Сашки. Прекрасное настроение, владевшее Поповым последние четверть часа, возвышенное, даже вдохновенное настроение восторга от увиденного в камне, а потом в небе, в межзвездной глубине, пропало. Растаяло, вернее. Словно чудесная снежинка, невесомая и хрупкая, обратилась в каплю обыкновенной воды. Очень уж хотелось Попову похвастаться находкой перед другом. Да не собирается он таскать с собой алмаз. Ссыплет в бункер породу и отправится к дежурному инженеру фабрики. Про упавшую глыбу доложит и отдаст находку. «Интересно, — подумал Сашка, — а в газету инженер сообщит? Очень уж ко времени подоспела бы заметка о том, что он нашел крупный алмаз. Как бы называлась заметка? „Благородный поступок“. Нет, ерунда. При чем здесь благородство? Нашел он алмаз в глыбе, что из карьера. Сдал. Что особенного? Ничего. „Находка шофера Попова“. Это уже лучше…» Сашка представил себе, как он будет рассказывать Анке об алмазе. Вдруг он словно услышал голос Анки: «Ну и дурак же ты, по самые уши…» Так это неожиданно было, что отработанные до автоматизма движения при переключении скоростей забылись. Вместо первой Попов включил третью, отжал сцепление, а мотор, охнув, точно от боли, заглох. Лазарев уже проехал мимо, потом рядом протащилась машина Ламподуева, который орал во всю глотку и грозил кулаком. Только все равно было Сашке — он ощутил сосущую, как голод, тоску под ложечкой. Ругнувшись на ни в чем не повинный мотор, Попов завел машину и машинально подвел «МАЗ» к бункеру, ссыпал кимберлит. Потом поехал снова в карьер привычной до каждой колдобины дорогой. Чего он рвался так сюда, в город? Куда лучше было вести вольную жизнь кочевников-бульдозеристов. Не работа, а глупое шастанье, словно в клетке, из угла в угол, из угла в угол — от фабрики до карьера, от карьера до фабрики… «Тьфу, чертоплешина какая-то!» — раздосадовался Сашка. Сам же Попов и Лазарева сманил. «А чего он поддался? — обозлился на дружка Сашка. — Будто Трофиму в город, пусть в тесную, но в квартиру, не хотелось! Надо еще поразмышлять насчет того — кто, куда и кого сманил. Ведь это только представление такое у него, у Сашки, что он уговорил Лазарева. Все же, наверное, наоборот было…» Запутавшись в рассуждениях, словно олень в упряжке, Попов отмахнулся от несвязных мыслей и предался приятнейшему делу: вообразил себя за рулем ярко-красной «Волги». Никакой другой цвет Сашку не устраивал. Игра в вождение «Волги» отстранила от Сашки приступ тоски. Но она по-звериному таилась, будто за углом, и ждала лишь удобного момента, чтоб наброситься с удвоенной силой. На повороте в карьер, около свалившейся глыбы кимберлита, Попову вдруг захотелось остановиться и посмотреть, не торчит ли где-нибудь на грани еще алмаз. Но тут в голову пришла сторонняя мысль: «А что подумает о нем Ламподуев, если опять увидит у глыбы? Или Трофим. Да, Лазарев что подумает?» Ни вчера, ни месяц назад подобное соображение не появилось бы у Попова. То-то и оно — ни вчера, ни месяц назад в кармашке пятирублевой Сашкиной ковбойки не было прозрачного камушка, цена которого выражалась цифрой с тремя, а то и четырьмя нолями. Сашка даже подал скорости, минуя глыбу на опасном повороте серпантина. Проехав ее, он почувствовал себя свободнее в движениях и усмехнулся, представив себе свой разговор с разобидившимся Сорокой. Он, Попов, конечно, вывернется из неудобного положения. Подогнав машину к экскаватору, Сашка остановится, не подавая «МАЗ» к забою, а выйдя из кабины, закурит и, держась как можно небрежнее, отправится к Сороке. «Ты что ж натворил?» — крикнет он издалека. Сорока удивится. Надо, чтоб он удивился. Тогда Сашка с удовольствием расскажет о происшедшем, о том, как свалилась на повороте глыба. «Ты что думаешь, — скажет Сашка, — у меня глаза на затылке? Или ты не знаешь, как грузить надо? Загрузил глыбу в полтонны весом на самый задок — и ладно? Разбирайся сам с начальством». Тут уж придется Сороке забыть об обиде. Начальство не любит, когда глыбы валяются при дороге. А Сашке что? Он не виноват. Только почему-то получилось все не по-задуманному. Машину Попов оставил в сторонке и подался к экскаватору, из кабины которого зло смотрел на него Сорока. Желтый свет прожекторов освещал его лицо странным образом, так что глаза экскаваторщика точно горели презрением. Не закуривая и вдруг отчего-то растерявшись, Сашка развел руками и проговорил, словно оправдываясь: — Понимаешь, газанул я на повороте, глыба и слетела… — Ездить надо уметь! — прикрикнул на него Сорока. — Что весь кузов в канаву не вывалил? Понабрали безбородых… — Ты полегче! — огрызнулся Сашка, хотя два часа назад он так бы расчихвостил эту Сороку, что тот бы только летел, свистел и радовался. Сашка нашелся бы ответить на обидный выпад. Борода у него действительно чего-то никак не хотела толком расти. Не борода, а так, поросль, жесткая и редкая: там рыженький волос штопором вылезет, там серенький вкось пойдет. И лицо потому совсем мальчишечье, гладкое, румяное. От армии осталась у Попова привычка носить в нагрудном кармане зеркальце: чтоб не опростоволоситься, ну хоть в ношении пилотки на грани «дозволено — не дозволено», необходимо взглянуть на себя. Да и, в общем, приятно нет-нет да и приглядеться к себе, подмигнуть для уверенности. А вот после неудачи с бородой и усами редко пользовался Сашка зеркальцем. Однажды он чуть не лопнул со стыда. Тетка с третьей улицы этак тронула его за локоток и прошамкала: «Мальчик, а мальчик, почем там московская колбаса, а, мальчик?» Три раза, подлая, повторила. Ушел Сашка из магазина. Кому приятно, что тебя так обзывают, когда ты передовик производства? Нет, «безбородого» Сашка не простил бы ни за что… два часа назад. А сейчас только огрызнулся. Сорока, рассчитывавший на иной эффект, почуял себя неловко: — Раскудахтался… Ну, свалилась порода… Ну, подберем. Не перегородила дорогу? — Нет. — «Не-ет»… — передразнил Сашку экскаваторщик. — Пусть полежит. Не убежит от грохотов, пусть в ней хоть «Кохинур» спрятался. Слышал про такой алмаз? — Слышал. — Говорят, на него десять таких поселков, как наш, построить можно. — Газет ты, что ли, не читаешь, Сорока? Город у нас. Поселок, но городского типа. Значит — город. — Сашка словно вынырнул из воды, холодом и тяжестью обнимавшей его. И сам не понял толком почему. Может быть, оттого, что Сорока и мысли не допускал, что Попов способен спрятать алмаз. А алмаз лежал в нагрудном кармане фланелевой рубашки, и Сашка ощущал его, как теплую каплю. Больше того, Попову показалось, что после разговора с Сорокой алмаз стал согревать его. Теперь Сашка сообразил: задуманной им шутки с экскаваторщиком не получилось потому, что ему показалось, будто алмаз… светится не светится, но может быть увиден Сорокой. Конечно, это глупость. Никто на свете не знает про спрятанный у него на груди камушек, теплый-теплый. Сашке даже жарко сделалось; он распахнул ватник и нарочно выставил перед Сорокой грудь, обтянутую пестрой рубашкой, в нагрудном кармашке которой лежал алмаз. Сашке стало весело оттого, что Сорока ничегошеньки и не подозревает. И Сашка похлопал экскаваторщика по плечу: — Работать надо как следует. Понимаешь? Широкие и пушистые усы Сороки, растянутые улыбкой, сделались еще шире и пушистее: — Хватит трепаться, Сашка. Подавай машину! Спрыгнув с гусениц экскаватора, Сашка пошел было к своей машине, но его остановила неприятная мысль: «Свинья же я, коль так плохо подумал об Анке. Не скажет она так. Мои это думки. Паршивые думки». И, уже не размышляя больше об этом, Попов вернулся к экскаваторщику и, по выражению бывшего подводника, а ныне тракториста Фили Лукашина из колонны Акима Жихарева, обрубил все концы. — Сорока, я алмаз в той глыбе нашел. — Тю! — удивился экскаваторщик. — Добрый? — Вот! — И Сашка достал камень из кармашка рубахи. В прозрачности алмаза смешался голубой лунный свет и золотистый свет прожекторов, и от этого он показался Попону крупнее и прекраснее. Однако Сорока был иного мнении об алмазе: — Фитюлька. Я думал, ты добрый камень нашел. — Чудак ты… Присмотревшись к алмазу повнимательней, Сорока изрек: — Це каменюка тильки на цацки сгодится. — Ювелирный, говоришь? — То тебе Ашот Микаэлянович скажет. Он твою каменюку по косточкам разберет. Сейчас к нему пойдешь? — Вот еще! — А чо? — Ездку пропускать? Что я, чокнутый? И так заболтался. Кончу смену и пойду. — Тоже правда. Ты сегодня впритирочку с планом идешь, передовик. А дружок твой, Трошка, на ездку больше сделал. — А ты не болтай, Сорока. Ты говори, а в кузов наваливай. За остаток ночи у Сашки аж рубашка от пота к спине прилипла, но Лазарева он на две ездки обскакал. Оставив у ветрового стекла полтинник, который задолжал сменщику, Попов не стал его дожидаться и мыть машину, рассудив, что, сдавая алмаз, он тоже делает дело, поэтому сменщик пусть вымоет «МАЗ» сам. Не развалится, не перетрудится. Не будет же Попов тратить личное время на сдачу находки. Умытый, аккуратно причесанный и свежевыбритый, Ашот Микаэлянович встретил Сашку бодрым вопросом: — Как дела, гвардия? — Вот… — сказал Попов и выложил на стол алмаз. Тут же, точно забыв о присутствии Сашки, Ашот Микаэлянович достал из стола кусочек черного бархата и лупу, сел, поддернул рукава сорочки, насколько позволяли запонки, и углубился в осмотр находки. Был он человеком восторженным и темпераментным и, разглядывая алмаз, ерзал на стуле, кряхтел и постанывал от удовольствия. — Отличный экземпляр! — отложив лупу, воскликнул он. — Где нашел? Попов рассказал. — Очень хорошо говоришь, Попов! Это прекрасно, когда ты сказал, что увидел пустоту! Удивительно хорошо! Ты — поэт! — Сколько же стоит этот камушек на цацки? — На «цацки»! — рассмеялся Ашот Микаэлянович. — Да, на цацки. Ювелирный алмаз. Аристократ. В нем… — Ашот Микаэлянович отошел к аналитическим весам, стоявшим под стеклянным колпаком. — В нем… двенадцать и семьдесят три сотых карата… Сумма, которую назвал Ашот Микаэлянович, поневоле заставила Сашку округлить глаза. В воображении построились перед Сашкой машины «Волга» и моторки… — Что так смотришь, Попов? Это же почти готовый брильянт! При огранке потеряется совсем немного. Это не очень крупный камень. Есть раз в пятнадцать — двадцать больше. Но те — уникальные. Уникальные камни уже и в семь — восемь раз крупнее — «Шах», например. Но с каждым таким старым алмазом связаны удивительные и кровавые истории. — И с «Шахом» тоже? Ашот Микаэлянович стал серьезным, даже мрачным: — Это, пожалуй, самая трагичная история. Им расплатились за жизнь автора бессмертной комедии «Горе от ума». — Грибоедова? — Да, Александра Сергеевича Грибоедова. Ведь он был не только писателем, но и крупным дипломатом. Его убили религиозные фанатики в Тегеране. И вот в 1829 году, после убийства Грибоедова, персидский принц Хосрев Мирза отправил алмаз Николаю I. Цена алмаза, по мнению тогдашних правителей Персии, окупала смерть Грибоедова. Русский царь признал инцидент исчерпанным… — Велик ли «Шах»? — спросил Попов и тут же добавил: — За смерть Грибоедова расплатиться алмазом… — Велик ли… Не особо — восемьдесят восемь и семь десятых карата… Он не больше двух фаланг твоего мизинца. — А самый большой алмаз? — Алмаз? «Куллинан». Его нашли в 1905 году на руднике «Премьер», в Южной Африке. Весил он три тысячи сто шесть каратов. При обработке его раскололи по направлению трещин, и получилось несколько брильянтов. Самый крупный — «Звезда Африки» — огранен в форме капли и весит пятьсот тридцать и две десятых карата. — Сколько же он стоит? — тихо спросил Сашка. — Практически, не имеет цены. Впрочем, так же, как и «Шах». Он один из самых редких еще и потому, что на его гранях выгравированы надписи. Сделать это чрезвычайно трудно. В мире известны лишь несколько камней с гравировкой… — Не имеет цены… — Да разве можем мы расстаться с «Шахом»? Это наша история, наша боль и кровь… Ты, Попов, можешь дать название своему камню. — Своему? — Конечно. Ведь будет записано, кто и когда его нашел. И кто дал имя. Как же ты его назовешь? — Ашот Микаэлянович был очень серьезен, торжествен даже. — Не знаю, — сказал Сашка. Ему не давало покоя видение ряда «Волг» и моторок, словно спроецированных на найденный им алмаз, что лежал на столе. — В отличие от золота, — раздумчиво рассуждал Ашот Микаэлянович, — алмазы никогда не потеряют цены. Ведь они нужны человеку не только как украшение. Обрабатывать металлы будут всегда, и чем дальше, тем сталь станет прочнее. Бурить мы будем всегда, и чем глубже, тем сложнее пойдет дело. Без алмаза — никуда. — Пусть он называется «Солдат». — Неплохо! — воскликнул Ашот Микаэлянович. — Просто хорошо! «Солдат»! Будет по-твоему. Так и в газете напишем. — Не надо в газете… — Сашка головой помотал. — Скромность украшает человека. Но и умолчать нельзя. — Ну, букву поставьте… П. — Не понимаю тебя, Попов. — Чего хвастаться? — пожал плечами Сашка. — Хорошо. Это мы решим сами. А вознаграждение за находку вам выпишут в зарплату. — Это другое дело, — бодро сказал Сашка. — Можете не выдавать, а просто перевести на мой счет. Номер я оставлю. — Ого! — На машину коплю. Зачем мне деньги в руки? — Сашка постеснялся спросить, сколько же ему дадут за находку, хоть и очень хотелось. Он ушел от Ашота Микаэляновича гордый чувством исполненного долга, и еще неотступно преследовало его видение машин и моторок, что можно было бы купить на ту сумму, в которую оценивается алмаз, если его продать по полной стоимости.3
Не встретив Сашку во дворе автохозяйства, Лазарев оглядел его машину и остался недоволен: Попов ее не вымыл, и напарник бранился. — Бывает, — снисходительно заметил Трофим. — Знаю, что с ним это бывает, — проворчал в ответ Сашкин напарник. — Только вот не угадаешь, когда случится. И меня не подождал, да и тебя тоже. Бывает… Полтинник, что в долг брал, оставил, а машину не вымыл. Неприятности у него какие? — Не знаю толком. Наверное. — Иди утешь, — сказал Трофиму подобревший от сочувствия сменщик. Было раннее погожее утро, и уже парило на солнцепеке, но не так, как в июльское белоночье. В тени хозяйничал стылый, влажный холод, потому что на глубине полутора метров таилась вечная мерзлота, не позволявшая бедной почве ни оттаять толком, ни подсохнуть. Ступив на деревянные гулкие мостки тротуара, Трофим пошел ровным, увесистым солдатским шагом, и ему было приятно слышать ритм своих шагов, и он даже ступал чуточку тверже. Двухэтажные белые дома стояли на сваях, и казалось, будто городок постоянно ожидал наводнения, которого тут и быть не могло. Строя на сваях, старались уберечься от коварства вечной мерзлоты. Под закрытыми фундаментами небольших построек она то таяла и проседала, то вспучивалась, ломая дома. Бывало и так, что в одном углу вспучивалась, в другом проседала, коверкая здание. А под сваями гулял ветер, без препятствий ходил мороз, и постройка над землей почти не нарушала общего состояния мерзлотного слоя. Диковатый, в полоску, столовский кот с брезгливым выражением на морде пробирался меж свай, подолгу выбирал место посуше, но облюбованный им кусочек тверди оказывался хлябью. Кот шарахался, то и дело попадая в положение, представлявшееся ему, надо думать, катастрофическим. Тогда он отчаянно тряс лапой в чулке из грязи и, ошалело таращась, противно и безнадежно орал. При подходе Трофима кот все-таки достиг обетованном стлани и, выбившись из сил, растянулся на досках, освещенных низким солнцем, зажмурился… Только хвост его мелко дрожал и время от времени презрительно извивался, очевидно, при воспоминании о пережитом. Трофим умерил шаг, полюбовался котом, похожим на выбравшегося на берег после кораблекрушения в океане, и отправился к своему дому. Рабочие, монтировавшие надземным утепленный водопровод и трубы парового отопления, еще только собирались и, нежась, покуривали, поджидая товарищей. Вяло шел утренний разговор, и редко позвякивали инструменты. Смотреть на дома, на фабрику вдалеке, на неторопливых рабочих было приятно, потому что год назад они с Сашкой в составе колонны бульдозеров первыми пробились в эту глухомань, пробив летник, и им даже не очень верилось, будто через год тут поднимутся и корпуса, и двухэтажки, совсем как на макете, выставленном во Дворце культуры столицы алмазного края. Однако солнечный, вовсе не по-осеннему яркий день, теплынь окончательно разморили Лазарева после бессонной ночи за баранкой, и он прибавил шагу. Дверь в комнату оказалась запертой. Ключ не лез в пробой, а заглянув в замочную скважину, Трофим увидел, что комната почему-то заперта изнутри. Он хотел грохнуть сапогом по филенке, но подумал, что Сашка, конечно, сделал это ненароком, а потом заснул. Поднимать шум на весь дом не хотелось, да и Сашку будить — тоже. Повозившись, Трофим протолкнул ключ внутрь и отпер дверь. Сашка странно похрапывал, закутавшись с головой, по летней привычке, чтоб свет не мешал. Две кровати соседей, наладчиков с фабрики, ушедших на смену, как обычно, были не заправлены, что всегда раздражало Лазарева. Тут он увидел на столе ребром поставленный конверт со знакомым почерком и взял его. К письмам из Жиздры он относился с опасливой предубежденностью: мать хворала, и жена поэтому не могла пока приехать к нему. Перед демобилизацией из армии Трофим думал сразу же забрать к месту выбранной им работы и мать и жену. Так и было решено в письмах, но в самый последний момент мать почувствовала себя плохо. Трофим уехал в полной уверенности, что болезнь не затянется, но дело обернулось иначе. Лазарева удивляла трогательная забота матери и жены друг о друге, хотя едва не случилось так, что они могли бы расстаться с Ниной еще во время его службы в армии. И теперь, читая письма из дома, Трофим всегда вспоминал капитана Чекрыгина. …Прошло немногим больше полугода, как Лазарев очень успешно начал службу. Он стал отличным механиком-водителем. Но потом его дела пошатнулись. Вести из дома стали такими, что поневоле все валилось из рук. Трофим скрытничал, ссорился с товарищами, запустил машину. Время было горячее, часть готовилась к большим учениям. Поэтому Лазарева вызвал к себе капитан Чекрыгин. Трофима охватило то томление духа, когда человек понимает и справедливость предстоящего наказания, и глубоко личную обоснованность проступка. Экипаж Лазарева мог подвести всю часть. Узнав о вызове к командиру, Попов, подчиненный Трофима и его наперсник, которому Лазарев, ничего не скрывая, как говорят, плакался в жилетку, постарался ободрить друга: — Ты, Трошка, расскажи Чекрыгину все как есть. — Семейные дела не оправдание плохой службы. — Надо ему все рассказать. — На жалость бить? — Ну вот… Не на жалость — на сочувствие. — Что мне с сочувствием делать? Слезки им утирать? — зло ответил Лазарев. — Ты скажи еще — письма из дома показать. — А что! Думаешь, не поймет? — Понять-то поймет. А что он сделает? Один день губы скинет. — Мрачный ты человек, Трошка. Ты слышал хоть от кого, чтоб Чекрыгин в деле не разобрался, наказал понапрасну? — Отпуска он мне не даст. — А ты, мол, «виноват, исправлюсь». Ты ж ведь не потому дело запустил, что не осознаешь, а… ну, силенок на все не хватает. Право, дай почитать Чекрыгину письма. — Нет. — Возьми с собой. Там видно будет. — Они всегда со мной. — Вот и хорошо. Начался разговор Трофима с капитаном Чекрыгиным как-то сбивчиво, и Лазарев не запомнил ни слова. Однако дальнейшая беседа запечатлелась в памяти по сей день. И фраза, с которой пошел откровенный разговор, была вроде бы зауряднейшей. Правда, перед этим Трофим объяснил капитану суть дела и даже полез было в карман за письмами. Но капитан Чекрыгин жестом остановил его, сказав: — Верю вам, Лазарев. Начали вы службу неплохо… Докажите и теперь, что вы мужчина, — добейтесь отпуска. Заранее могу обещать свою поддержку. Подтянитесь, проявите себя на учениях — поезжайте. Что до писем, сам такие получал. Было, сержант Лазарев… А потом капитан Чекрыгин сказал: — Отпуск могу предоставить на основании рапорта вашего непосредственного командира. — Я напишу, что приеду. — Хотите меня послушать? — Отчего же нет… — Не обещайте. — Вы не верите мне? Не верите, что добьюсь отпуска? — Наоборот. — Почему же тогда не написать? — Если я скажу: мол, вы плохо знаете людей и свою маму в частности… и свою жену тоже, вы можете обидеться. — Тогда я олух, потому что не понимаю и вас, товарищ капитан. — Торопливое суждение. Кроме «да» и «нет», есть определение «в чем-то» и «потому что». — И вы знаете, «в чем» и «почему»? — Может быть, догадываюсь. — «Может быть»… — протянул Трофим разочарованно. «Может быть» его совсем не устраивало. Он хотел знать все происходившее в доме точно, и сейчас же, не откладывая. Иначе какая же жизнь его ждет завтра, послезавтра, через неделю? Верчение под одеялом с вечера, когда после трудного солдатского дня кажется, что стоит донести голову до подушки, и сон, что тьма, навалится на тебя, а на самом деле подушка, словно болтунья-сплетница, начнет шептать — шептать про Нину, про соседского Витьку, которому при одном воспоминании о письмах матери хочется набить морду. Какой тут сон! Ну, сморит наконец усталость, а следующей ночью снова вертишься, тычком поправляешь подушку еще, еще раз, словно она-то, ватная, виновата. Утром встаешь злой на весь мир и больше же всех на себя самого. Свет не мил. Однако служба не ждет. А тут — «может быть»… — Давайте порассуждаем, — предложил Чекрыгин. — Сколько лет вашей матери? — Под шестьдесят вроде. — А точнее? Подумав, Трофим признался: — Не знаю. — И ему стало очень неловко. — Постарайтесь припомнить. Лазарев прикинул. В семье он самый младший. Мать, помнится, старшего брата родила в сорок первом, осенью, а вышла она замуж перед войной, и было ей двадцать. — Двадцатого года она, — быстро отрапортовал Трофим. — Староватой вы ее считаете, Лазарев. Ей едва пятьдесят минуло. — Выглядит так… И они оба рассмеялись. — Маленькая она, платок на лоб повяжет. Совсем старуха. — Отец инвалидом с фронта вернулся? — Второй группы. — Пил? — Нет. Городок наш Жиздра — не такой уж промышленный. В артели отец работал, слесарил. Он мечтал о большом заводе, да куда же: одн нога да контузия… Где ему на завод. Мать от дома — никуда. Санитаркой в больнице работала. Так и жили. Только уж когда я подрос, полегче стало. Старший в армии отслужил. Помогать начал. Сестра, постарше меня, незадачливой, как мать говорит, вышла. До института ее дотянули, да не кончила медицинского: дети, племяши мои, пошли. Ну, фельдшерит в селе под Жиздрой… Извините, товарищ капитан, заговорился. — Жили-то родители как? — Душа в душу… Я ведь потому перед армией женился. Хорошая ведь она, Нина. Уступчивая. Мать в ней души не чаяла. А вот поди… Пишет: «Хоть из дому беги». — ро тца, Лазарев… — Нет, он не пил. Разве мать принесет. Из больницы. Выпьет он, двухрядку в руки и играет. Мать против за столом, обопрется рукой о щеку, слушает, слушает да и всплакнет: «Феденька, как же я об таком все пять лет войны мечтала! Сидеть вот так, да голос твой слышать…» — «А я те года каждую ночь во сне видел: сидишь ты против меня да горюешь, что пять лет у нашей с тобой, Наталья, любви отняли». Сам я это слышал. Вошел в дом, остановился за переборкой на кухне. Потом — в комнату, в дверях стал, а они меня не замечают. Сидит отец на диване, под одной рукой у него гармошка, а другой он мать обнимает. Головы приклонили друг к другу, и так уж им хорошо, так они счастливы, что и о нас забыли. Меня точно по горлу стукнуло, и себя почему-то жалко стало и завидно. Восемнадцать мне уж тогда было. Я попятился и ушел, чтобы не мешать. Потом Нине рассказал про это. Она вдруг заплакала, сжала мою руку: «Как же я Наталью Степановну понимаю…» Тогда понимала. А теперь… может, не будь того вечера, когда она так сказала, и не женился бы я на ней. Вот что, товарищ капитан. — Отец умер после вашей женитьбы? — Да, вскоре. Ну, а я в армию пошел. — И тут Лазарев задал капитану вопрос, давно вертевшийся у него на кончике языка: — Так о чем вы догадываетесь? — Во-первых, что вы письма только жене пишете, а матери приветы присылаете. — В одном доме живут, в одной комнате! — Это ничего не значит. Вы хоть в одном конверте, да каждой по письму. Один пакет матери адресуйте, а другой — Нине. Ревнует вас мать. А вот добьетесь, что отпуск получите, телеграмму отобьете — и на самолет. Там сами увидите — мать вашему счастью не помеха, да и Нина ваша — хороший, видно по всему, человек. Ведь что получается: вниманием вы жену балуете, матери обидно. С другой стороны: пойдет ваша Нина в кино или в тот же кружок кройки и шитья — Наталье Степановне бог знает что мерещится; сидит та дома — свекрови ее жалко, по себе судит, как тяжело без мужа, солдаткой быть. Я ведь по своей матери сужу. Приедете, разобъясните им друг про друга — поймут, что к чему. В семье мужчине надо дипломатом быть не меньше, чем в ранге посла. У посла же чин генерала. — Не уживутся они, — нехотя улыбнулся шутке Трофим. — От вас зависит. — Вот уж нет! — искренне воскликнул сержант. — А вы, Лазарев, в письмах пишете, ну, к примеру, что в кино ходите, какие книги читаете. — Как же… — Получится, что у вас развлечений больше, чем у жены. Той, поди, некогда. Работа, учеба. Она у вас в торговом техникуме? — Да. — Особенно подробно про отдых, про фильмы да книги и матери пишите. Вы ведь в кино бываете чаще, чем в бане. И не напролом об этом в письмах, а между прочим. Жалобы их друг на друга будто не замечайте Мать ваша добрая женщина. Потому и пожелание мое вам такое. Другому бы этого не посоветовал. — Простите, товарищ капитан, а помогали кому-нибудь ваши советы? — По секрету скажу — не спрашивал. А вы не слышали, жаловался кто-либо? — Не слышал ни слова. — Пусть и наш с вами разговор останется между нами. — Товарищ капитан, а почему вы догадались, что я матери писем не писал? — Вы о них не говорили. И не пишите жене «скажи матери», «передай матери». Напишите и сообщите, о чем считаете нужным, сами. Поймите, Лазарев, ведь это невежливо. Даже обидно и той и другой. Главное же — будьте терпеливы, делая выводы, и тверды в решении. Видите — держится человек вас, и вы держитесь его, а удерживать — напрасный труд. — Этот совет только для меня? — Да. При таком характере, как у вас. — А какой у меня характер? — Вы умеете быть прямым, вы откровенны. И не умеете хитрить. — А как же «дипломатия»? — Дипломатия — это умение держать себя достойно, уважая обычаи других. Хитрость — в лучшем случае полуправда… Глубокий вздох и ворчанье Сашки на кровати оторвали Трофима от воспоминаний… — Слушай, ты, Лазарев, я алмаз нашел и сдал. — Везет человеку! Трофим обернулся к Сашке и увидел, что тот лежит на кровати одетый, чего с ним никогда не случалось, да и представить себе такое невозможно. А лицо друга, сообщившего радостную новость, выглядело просто несчастным. — Заболел, что ли? — обеспокоенно спросил Лазарев. — Типун тебе на язык. — Да в чем дело? Говори. — Алмаз я нашел — и сдал. — Ну, а как же! — недоумевал Трофим. — Да никак… — зло ответил Сашка. — Жалеешь… Попов промолчал. — Приз за находку получишь, — сказал Трофим. — Мог бы и не найти. Дело такое. — Наплевать было бы. — Ну и сейчас наплюй. Велика важность. — Ты знаешь, сколько стоит мой алмаз? — Сашка сел в постели. — С ума сойти можно! Три «Волги» и две яхты. Самое малое… — Прикинул? — усмехнулся Лазарев. — Прикинул… — кивнул Сашка и принялся грызть ногти. — Чего это ты за ногти взялся? — удивился Трофим. — Детская привычка. Отвык, да вот вспомнил. — Забудь. И об одном и о другом. Самое милое дело, — по-дружески посоветовал Лазарев. — Считай, что пожелал в личную собственность «Ту-134». Самому смешно станет. — Тошно на душе. — К Анке сходи, потрепись. Может, полегчает. — Не-е… Трошка, ты мне друг? — Стал бы я от кого другого выслушивать этакую околесицу! — фыркнул задетый вопросом Лазарев. — Послал бы я его подальше — и дело с концом. Тоже мне «переживания»… — Пойдем на охоту. Тошно в городе. По три отгула у нас заработано. А? Глухарей постреляем… — Сразу не дадут. — Знаешь, как я алмаз назвал? «Солдат». — Здорово! — Дадут отгул. Я попрошу. — Ну, раз знаменитость попросит… — рассмеялся Трофим, — тогда дадут! Поохотиться — это ты хорошо придумал. Сколько времени собираемся. В общество охотников записались, ружья купили, а не стреляли из них ни разу.4
Сашка, по прозвищу «Лисий хвост», постучал по кабине, машина остановилась. Лазарев и Попов спрыгнули на разбитую вдрызг дорогу как раз на «половинке», на середине пути между приисками. Пасмурная, промозглая ночь сгустилась перед рассветом. Редколесье, расступившееся на мари, выглядело черной стеной. — Точно, это та самая болотина? — передернув плечами от холода, спросил Трошка, чуток вздремнувший в кузове. — А как же! — звонко отозвался Сашка. — Она самая. Видишь две кривых лиственницы? — Не… — буркнул Трошка и полез доставать из машины рюкзак и ружье в чехле. — Ты ничего не забыл? — Чего мне забывать? Всё на мне. А лиственниц и я не вижу… — Может, не та марь? Хлопнула дверца кабины, и к ним подошел шофер, прокашлялся, погремел спичечным коробком, прикурил. От крошечного желтого огонька тьма сделалась еще неприглядней. — Чего забрались в такую глушь? — спросил шофер. — Места знаете? — Все места одинаковые, — фыркнул Сашка. — Тогда чего? — Шофер закашлялся, сплюнул и затянулся так сильно, что стал виден хитрый прищур его глаз. — Места, где водятся глухари, все одинаковы, — наставительно сказал Сашка. — Хитер ты, Лисий хвост… — Мотор дал сбой, чихнул, к шофер не договорил фразы: замер, прислушался. — Ты поезжай, — сказал Сашка, — а то начадишь тут, вся дичь разбежится. — От вас самих соляркой до полюса воняет, — добродушно отозвался шофер. — Но местечко я это запомню. А вас я, значит, захвачу послезавтра либо у парома, либо тут. Ночью я буду, часа в три. — Давай-давай! Только пассажирку на крутоломе разбуди, а то как начнешь на Чертовом спуске тормозить, она себе нос разобьет. Но шофер то ли не слышал, то ли не хотел отвечать. Снова хлопнула дверца, взыграл мотор, и борт с яркими стоп-сигналами поплыл от них. Малиновые огоньки дергались и вихлялись, словно хотели разбежаться. То один, то другой пропадал в дорожных буераках, но тотчас выныривал. И опять искорки принимались мотаться друг подле друга, пока не скрылись за дальним увалом на просеке. Охотники еще постояли. Потом слабое предрассветное дуновение отнесло от них солярный чад, и они оба, не сговариваясь, глубоко вдохнули густой таежный воздух, тяжеловатый от обилия влаги. Резко выдохнув, Трошка снова вздохнул, по теперь уже не торопясь, принюхиваясь: — Не болотом — рекой пахнет. Точно, та марь. — А как же! Я ж в оконце на спидометр посмотрел. — Хитер. — Как лисий хвост, — с готовностью подхватил Сашка и вдруг расхохотался во всю мочь. Но звуки его голоса словно придавила темнота и сырость. — Вздрюченный ты последнее время. Вечером — слова нельзя было добиться, а тут лешачишь. — Эхо здесь заливистое. — То — ясными вечерами в речной долине. Там берега скалистые. Пошли? Сашка не ответил. После приступа веселья он помрачнел, точно раскаивался в какой-то ошибке. — Пошли? — снова спросил Трофим. — Погоди. Вот там на взгорке стоп-сигналы покажутся… — Дались они тебе. — Покажутся? А? Там взгорок должен быть, перед обрывом. Увидим, как думаешь? Должны увидеть. — Загадал чего? — Да… — тихо отозвался Сашка. — Чудак ты. — Я, может, про охоту. — Да полно там глухарей. Гадать нечего. — Трофима раздражала нервозность друга. — Видишь огоньки? — воскликнул Сашка. — Я говорил, что обязательно покажутся на косогоре! Лазарев в ответ только плечами пожал. В темноте Сашка этого, конечно, не приметил и зачавкал сапогами в сторону мари. Трошка — за ним. Они продвигались по опушке меж редкими лиственницами, которые можно было разглядеть, едва не ткнувшись носом в ветви. Сашка, однако, угадывал их почему-то раньше. Вскоре Трофим различил в глубине продолговатой мари блеклое пятно тумана, которое будто светилось. Шли они долго, то и дело проваливаясь в болотную жижу выше щиколотки. Рассвело без зари. Просто сделалось светлее окрест. Засияли гирлянды росинок-линз, повисших на поблеклой хвое. Сашка, шедший впереди, старательно обивал капли стволом ружья, а потом обернулся и, ощерившись в немой улыбке, сказал: — Ишь сколько брильянтов! Обнаженное пространство болотистой кочковатой мари, седой от росы, постепенно сужалось. Впереди поднялась, темнея, зазубренная стенка еловых вершин. Деревья росли за взгорком, в распадке, взрезь наполненном туманом. Долина выглядела серым волокнистым морем, и когда они опускались в нее, то вроде бы погружались в немотную хлябь, скрадывавшую даже звуки шагов. Подошвы сдирали на спуске мох с камней, и приходилось быть очень осторожным, чтоб не поскользнуться и не покатиться по скалистому разъему. Однако не прошли парни и половины спуска, как туман сделался особенно густ, так что головки сапог едва различались, и вдруг пелена оборвалась. Открылась долина, совсем не похожая на лесотундровую марь. Строгие пирамиды елей уступами спускались к темной реке, и среди их густой зелени кое-где пестрели цветастые осенние осины — желтые на каменистых уступах и рдяные на более богатых почвой террасах. Трофим любил речные долины в здешних местах. Тут был особый мир. Человек словно мигом перелетал километров на пятьсот южнее. «Микроклимат», — говорили гидрологи, с которыми им, бульдозеристам-кочевникам, приходилось встречаться. Ведь Трошка Лазарев и Сашка Попов пробивали зимник к будущему гидроузлу, просеку для ЛЭП, потому что стройке энергия требовалась позарез и не мало, даже для начала. По верху «щеки», или непропуску — скале, отвесно опускавшейся к реке, они перешли из распадка в таежное приволье, которое ривьерой протянулось вдоль берега. Туман тем временем поднялся выше, и его будто не хватило, чтоб затянуть все высокое небо. Он стал расползаться, рваться лохмотьями, открывая мягкую голубизну. Еще не выйдя толком из скального нагромождения, Сашка вскинул ружье и выстрелил. Из шатра разлапистой ели, шумно ударяясь о ветви, выпала копалуха. Была она ярко-ржавая с черными и белыми поперечными полосами на перьях крыльев и хвоста. Лишь коснувшись земли, глухарка величиною с добрую индюшку распласталась, растопорщив крылья, и сделалась совсем огромной. — А как же! — воскликнул Сашка и ударил из второго ствола. — Лежи! От деток не уводи! Сорвав с плеча чехол с ружьем, Трошка помедлил. Тем временем Сашка, прыгая с камня на камень, оказался совсем неподалеку от ели, что-то высмотрел в ветвях, наощупь перезарядил тулку и наново ударил дуплетом. Тогда и Трошка уж больше не медлил. Он ловко скатился со скалистого выступа, на ходу складывая и заряжая ружье. А Сашка вновь приготовился палить. Трошка крикнул: — Стой, черт! — А как же! — И Попов снова выстрелил дуплетом. Когда Лазарев подскочил к приятелю, то увидел на ели единственного оставшегося глухаренка. Трошка торопливо вскинул ружье. А тут он еще услышал, как слабо щелкнул приготовленный к бою ствол Сашкиного ружья, и Лазарев, явно видя, что промахивается, спустил курок… После стрельбы было глухо. Да и говорить не хотелось. Сашка начал собирать латунные гильзы, брошенные им впопыхах. Появилось солнце, и стало видно, что туман из долины поднялся не весь. Клочья его кое-где запутались меж елей. Яркие полосы света прошивали сбочь волокнистые извивы. Они нехотя тянулись ввысь, постепенно истаивая. С первым же лучом солнца остро и сладко запахло смолой. А стволы молодых осин выглядели так телесно-упруго, что их хотелось пощупать. Тихая грусть охватила Трошку. Чего его дернуло поторопиться со стрельбой? И с чего Сашка, будто окаянный, как говорит мать, принялся бить копалят? Они точно с цепи сорвались. — Трош, ты чего? — услышал Лазарев голос друга. Широкое лицо Сашки с черточками глаз было безоблачным. — Еще найдем! — На кой они? И этих за неделю не съешь. Протухнут. — Раздарим. — Только что… — И Трошка сел на камень, положив ружье на колени, и полез за папиросами, хотя курить и не хотелось. — Чай, теперь твоя душенька довольна? А Сашка опять вдруг по-лешачьи рассмеялся. Потом он снова придирчиво зарядил ружье. Один патрон, видно, слишком туго входил в ствол. Попов сменил его, взяв крайний в патронташе. — Ты что, жакан ставишь? — спросил Трошка. — А вдруг лось? — Не балуй… — Не вынести его нам отсюда. Если только губой полакомиться… — Это верно, не вынести, — кивнул Трошка, пропустив мимо ушей замечание о лакомстве. — Ты за последние дни так сдал, что в желтизну ударился. Зеркальце вынь, посмотрись. — Не ношу я больше зеркальца. — Тогда на слово поверь. Не пойму только, на кой тебе эта охота понадобилась? — Мне? — Сашка попытался удивиться как можно искреннее. — А то… — Сам что ни выходной про охоту заговаривал. — Это так. — А я не привык к пожеланиям друга относиться, как к пустякам. Так вот: охота-твоя выдумка. Откуда у тебя привычка взялась все на меня валить? — Не крути, Лисий хвост! — рассмеялся Лазарев. — Наверное, ты прав. Собирался на охоту, собирался, а пришел — скучно стало. Зачем столько набили? — Полихачили. Съедим за три дня. Консервы в избушке оставим. Мало ли кто забредет. — Заботлив. На тебе, боже, что нам не гоже. — Спасибо, — обиженно шмыгнул носом Сашка. — Пойдем к нашей избушке. Там и позавтракаем. — От избенки рожки да ножки, поди, остались, — сказал Лазарев, поднимаясь. Сашка собрал подстреленную дичь, связал глухарят и копалуху за ноги, перекинул, будто вязанку, через плечо, и они двинулись к домику, который их бригада поставила здесь, когда пробивала просеку для ЛЭП. Здорово тогда показал себя Сашка! Избушка стояла на берегу, какой они ее оставили полгода назад. Даже доски, которыми они почему-то забили дверь крест-накрест, не потемнели. Лишь шляпки трехдюймовых гвоздей покрылись яркой ржавчиной. — На кой забивали? — рассердился Попов. Он и тогда был против этой меры чересчур хозяйственного бригадира, а теперь, с нескрываемым удовольствием подсунув кол, выдернул взвизгнувшие гвозди. Но сама крестовина так и осталась висеть на двери. — Входи, Трошка! Разводи огонь, а я пару копалят у реки выпотрошу. Там сподручнее. «Что с ним творится? — подумал Лазарев, когда Сашка ушел. — Был человек как человек. И — на тебе: ужимочки, уверточки… Не иначе уехать отсюда хочет. Подлизывается, чтоб и я с ним подался. Отшила, видимо, его Анка окончательно. Так и скажи прямо! Я ж пойму… Эх, Саша, Саша, как же уехать нам отсюда? Ведь вот она, круча, с которой ты на бульдозере сиганул! Такие места оставишь не вдруг…»5
Облитые соляркой лиственничные поленья занялись рыжим чадным пламенем. Устроившись в кружок, бульдозеристы и трактористы, что пробивали просеку для линии электропередачи, сняли надоевшие за день рукавицы и тянули к огню красные, распухшие на морозе руки. От легкого, но пронизывающего на юру ветерка водители укрылись за вершины сизых от инея елей, которые поднимались из-под обрыва. Стадо из трех бульдозеров и трех тракторов приткнулось радиаторами к вагончику-балку и неторопливо попыхивало. Глушить моторы рискованно. Звуки, мерные и привычные, воспринимались как тишина и даже успокаивали. А настроение было постное. Срезая под корень редкостойную лиственничную тайгу, расчищая широкую пятидесятиметровую просеку для ЛЭП от завалов и сухостоя, парни как-то не думали о том, что им придется потратить впустую целых три недели. Все шло по плану, и этот трехнедельный перегон техники в обход речного каньона тоже был запланирован. Но одно дело, когда к этому запланированному, обоснованному правилами и инструкциями по технике безопасности и техническим условиям эксплуатации машин препятствию еще только предстоит подойти, другое — когда этот трехнедельный перегон надо начинать завтра. Три недели они будут пробиваться через бурелом и завалы, мучая людей и технику, и все для того, чтобы, добравшись наконец до места, откуда, собственно, и ушли, проложить в долине реки просеку в три километра длиной и пятьдесят метров шириной. Однако делать нечего. Бульдозеру крылья не приставишь. С семидесятиметровой кручи с уклоном в шестьдесят градусов запросто не сползешь на тяжелой и неуклюжей машине. Потому и невесело было у костра. Добро бы на этом их вынужденное «туристское» путешествие и окончилось. Но потом предстояло пробить еще три километра просеки на противоположном берегу. Потом возвращаться по своему следу обратно, туда, где река идет по низине, затем снова прокладывать путь отвалами бульдозеров по-над берегом, сделать сбойку просеки и уж потом напрямки к будущей ГЭС. Объяснить это и то не легко, а творить «мартышкин труд» — еще тяжелее. Ни к кому особо не обращаясь, Филя-тракторист, подаривший или проигравший когда-то Трофиму прекрасный свитер подводника, сказал: — Похоже, что проектировщики вели линию электропередачи по старому анекдоту… Никто не возразил. — Говорят, будто Николаевская, ныне Октябрьская железная дорога — самая прямая, прокладывалась по указке царя. Взял он линейку, приложил к карте и провел черту. Самый лихой проект. Тут Сашка не выдержал: — Ты забыл физику. Я про потери энергии при передаче… Сто километров крюк. — А ты геометрию забыл. Если бы ЛЭП вести по кривой с самого начала, то она стала бы длиннее всего на двадцать пять километров. — Тебя не спросили! — огрызнулся Попов. — Жаль. — Горе-проектанты вы, — вздохнул Аким Жихарев. — «По кривой», «потери энергии»… — Чего ж здесь не так? — прикуривая от головни, спросил Филипп. — Все верно. — Про топографию забыли — вот это точно, — продолжил лениво Жихарев. — ЛЭП идет по возвышенным местам. Как же на марях да болотах столбы держаться будут? А? Зимой — ладно, а летом все скособочатся. Вот ведь какое дело. — Все равно не нравится мне наша «прогулка», — пробурчал Попов. Аким рассмеялся вдруг: — Ты, Саша, припомни что-нибудь из опыта капитана Чекрыгина! Тогда со стланью у вас здорово получилось. Но на этот раз уж без розыгрыша! После постройки «моста» Лазарев, конечно, не сдержался и рассказал Акиму, что никакой сверхпрочной стлани они с капитаном Чекрыгиным не наводили. Решение пришло с ходу. Простой здравый смысл сработал да физика. Жихарев встретил признание, лукаво улыбаясь: «Думаешь, я не догадался? Догадался я. Назарыч — и тот Сашкин трюк с капитаном Чекрыгиным раскусил. А спорить не стал: видел — дело надежное. Десятилетку-то и я окончил. Но ребята так поверили в опыт капитана, что разочаровывать их не хотелось. Чего ж сомневаться им в том, что Земля вертится? Кстати, за спорами день потеряли бы — ни к чему. Что признался — спасибо». При упоминании о капитане Чекрыгине и о стлани парни повеселели. До чего тогда ловко получилось, а главное, новички Трошка и Сашка показали себя настоящими работягами. — Ты, Саша, поройся, поройся в трюмах памяти, — подзуживал Попова тракторист-весельчак. — Быть не может, чтоб у капитана Чекрыгина на этот счет случая не нашлось! Ты думай, Саша, думай. — Зебры думают. — Это о чем же? — В какую они полоску: в белую или в черную, — рассердился Сашка. Лазарев не расчетливо пошевелился и зашипел от боли: нелегкая его дернула утром пойти на «разведку» в бурелом. Так и не разобравшись, в какую сторону ловчее сдвинуть нагромождение стволов, он поскользнулся, попал в «капкан» меж сучьев и подвернул ногу. Днем боль не особенно донимала Трофима, а вот после часа покоя, похоже, не разойтись, скрутило. — Что с тобой? — строго спросил Аким. — Отсидел… Не в этом дело. Похожий случай у капитана Чекрыгина был. Веселье стало полным. — «Быво, быво, все быво! — подражая и чуток перевирая горьковского Барона — Качалова, заливался тракторист. — И вошади, и каг’еты, каг’еты с гег’бами! Все быво!» Трави дальше! — Это правда было! — Трави, Троша, трави! Мы телеграмму капитану Чекрыгину отобьем. На гаечном ключе. Проверим. Не стесняйся! Додули до горы, с горки — прыгнем! — Так и было! — Трофим прижал распухшие лиловые руки к груди. Жихарев вытирал слезы смеха культяпкой, обернутой в сукно. — Ну трепачи!.. Однако он уже начал прикидывать, есть ли реальная возможность осуществить спуск бульдозера в долину. — Да мне сам капитан Чекрыгин рассказывал! — упорствовал Лазарев. — Саш! А тебе он не говорил о летающих бульдозерах? — Поперхнувшись чадным дымом и пересиливая кашель, Филя-тракторист толкал Попова в бок. У костра всем сделалось вроде теплее, мороз не так уж будто поджимал к ночи, а рдяная заря не выглядела зловещей. — Гы-гы-гы… — дразнил Филю рассерженный Сашка. — Не сообщал мне этого капитан. Лазарев смеялся вместе со всеми, но, когда веселье постепенно улеглось, настойчиво продолжил: — Я все-таки расскажу. — Давай, пока чай закипит, — кивнул Аким. По размышлении Жихарев про себя уже не отрицал напрочь возможности спуска бульдозера, но многое было не ясно. Стоило послушать, что скажут ребята. — Ну, спустили они бронетранспортер с кручи на тросе. Вот все. — Яркая речь, — сказал Жихарев. — Только круча была высотой двадцать метров. Угол наклона не шестьдесят, как здесь, а под сорок, — добавил Трофим. — То-то и оно… — вздохнул Аким. После захода солнца огонь костра стал особенно ярок. Густые тени на задумчивых лицах парней, сидевших в кружок, будто гримасничали. Лиственничные поленья, подобно березовым, хорошо горели и сырые, а на торцах внятно шипела и паровала влага. — Чего вы набросились на Лазарева? Осмеяли, не выслушали! — взорвался вдруг Сашка. — Да, — проворчал бывший подводник, а ныне тракторист Филя, — телеграмму капитану Чекрыгину можно не посылать. Не тот случай. — Почему же «не тот»? — взвился Попов. — У нас есть два конца троса по пятьдесят метров. Трос выдерживает до пятнадцати тонн. Так? Так. Бульдозер весит одиннадцать восемьсот. Этими тросами мы вытягивали машины из топи. При спуске с кручи бульдозер не будет весить больше. Инерции — никакой. В чем же дело? Чем плохо предложение Лазарева? Ты ведь это предлагал? — Да. Я вот еще что хотел… Чтоб притормаживать машину на спуске, несколько елок к тросу привязать, сучьями вперед. Чтоб подстраховаться. — Отвал можно опустить в крайнем случае, — серьезно заметил тракторист. — Ни в коем случае! — воскликнул Лазарев. — Уклон очень крутой. Перевернуться может бульдозер… — Э-э-э… — протянул Попов. — Про технику безопасности забыли. В инструкции что сказано? На крутых спусках машину надо подавать задом. Отвал противовесом будет, а понадобится — и якорем. — Якорем! Действительно, якорем! — обрадовался бывший моряк. Ребята смотрели на Жихарева, ожидая, что скажет Аким, а тот был очень доволен своими парнями, постарался не перехвалить. Он покуривал неторопливо, и лицо его оставалось немо. Трофим не вытерпел: — Никакого риску, дядя Аким. А Сашка просто молодец! Как это никто из нас не вспомнил про инструкцию? Жихарев покосился на него и бросил окурок в костер: — Никакого? А то, что ты можешь на попа встать да шмякнуться кабиной о камни? Ни тебя, ни машины… — По-моему, это исключено. Елки, которые будут привязаны к тросу, достаточно тяжелы, чтоб создать противовес. — А что мы знаем о склоне, скрытом под снегом? Сашка рукой махнул: — Разведать можно! Спустимся, обследуем трассу… — Ничего себе «трасса»… — вздохнул Филя. — Пока всю технику таким манером спустим, обязательно какую-нибудь машину разобьем. — Зачем же все машины спускать? — пожал плечами Лазарев. — Я об одном бульдозере говорил. Об одно-ом! — А если поломка? — не унимался тракторист. — Нас рядом не будет. Трофим сказал твердо: — За свой я ручаюсь. А если что — отремонтируем. — Это тебе еще бульдозер на запчасти оставлять? Вспыхнул спор. Основным возражением было: сможет ли один бульдозер расчистить просеку площадью в пятнадцать квадратных километров за месяц, за то время, пока колонна обходным путем выйдет на кручу противоположного берега. Это казалось совершенно нереальным. — Делать в день пятьдесят на пятьдесят просеки?! Одним бульдозером? — Взбеситься надо! — Почему за день? — спросил Лазарев. — И почему одному? — Прежде чем спорить — посмотри под кручу! Там тебе не редкостойная, лиственничная, как здесь, наверху. В долине — лес. Деревья чуть не в обхват попадаются! — горячились трактористы. — Трелевать можно, — вступился Сашка. Лазарев поднял руку: — Обождите. Давайте об одном. Почему, я спрашиваю, за день, за светлое время? И почему одному? Вон техника сутками стоит и пыхтит не переставая. Если вдвоем с напарником работать по шесть часов, то почему же за сутки не сделать пятьдесят на пятьдесят? А? Попов спросил: — Платить как будут? Третий бульдозерист, косматобровый мужик с сивой от седины бородой, сказал: — По мне, хоть золотом, а такой работы не надо. План есть, вот по плану и пусть все идет. Чего выдрючиваться, хребет ломать? Ни к чему. Начальство знало, что делало Если запланирован обход — обойди. И дело с концом. Прыгать на бульдозере с кручи, а потом ишачить, словно верблюд двугорбый? Блажь это! Однако двое лесорубов запротестовало: — Хороша «блажь»! — Нам больше месяца сидеть без выработки? А в долине дела полно! — Мы в долине за месяц полторы тысячи кубов на двоих навалим. Поди, плохо! Сашка Попов поднялся на ноги, вроде бы собираясь пойти в балок спать, и сказал: — Без хозяина решаем… Что скажет начальник колонны, то и будет. Раскудахтались, будто новгородцы на вече. Можно подумать — Трофиму осталось сесть в кабину бульдозера и начать гонки по вертикальной стене. Цирк! Аким задрал голову, чтоб получше видеть Сашкино лицо: — Сам-то ты как думаешь? — А чего мне думать? Кто предложил, тот пусть и прыгает. — Я считаю иначе, — прикуривая новую папиросу от пру-гика, сказал Жихарев. — Плохо, когда предложение готов осуществить только тот, «кто его подал». Прямо говорю: этот человек из-за ложно понятой чести — «докажу во что бы то ни стало», из-за тщеславия — «мол, как же так, предложил, а не сделал», и еще по сотне причин, — этот человек, пожалуй, меньше других годится для дела. Судить здраво, критически, учитывать неожиданные вводные, как в армии говорят, человек этот не может. Очень часто при подобных обстоятельствах люди идут на неоправданный, дурацкий риск. Задуманное губят и себя угробить запросто могут… Так что ты думаешь о деле, Попов? Ты ведь тоже защищал предложение Лазарева. — Я что… Я ничего… Лазарев слушал Акима опустив голову и молчал, крепко сцепив руки на коленях. — Невесело говоришь, Попов. — Не шоколадом угощаете… — буркнул Сашка. — Одно — обсуждать, другое — осуществлять. — Я не приглашал. Сам напросился. — Когда? Не припомню. — Полтора года назад писал мне один солдат: мол, хочу таежную романтику «на зубок» попробовать. Не поднимая головы, Трофим сказал громко, может быть, громче, чем следовало бы: — Два солдата вам писали. Но я не могу управлять бульдозером. Копыто подвернул. — И он с трудом вытащил ногу из валенка и развернул портянку. Голеностопный сустав опух и отек. Попов сказал: — Дней десять ты не работник. — Выходит, ты знал, Трофим, что мне на бульдозере прыгать придется… — резко обернулся к другу Сашка. — Вот что, Попов, — резким, гортанным голосом выговорил Жихарев. — Извинись-ка перед своим другом… — Или… — спросил Сашка. — «Или» не будет! Тут произошло неожиданное для всех и больше всего, может быть, для самого Сашки. Он без всякой фанаберии подсел к Трофиму и, положив ему по-братски руку на плечо, сказал задушевно: — Прости, Троша. Поверь, я не хотел тебя обидеть. Сорвалось по-глупому… — Чепуха. Я знаю, ты и не думал меня обижать. Сорвалось — так ведь трудно тебе, туго придется. Приказать никто не может. А отказаться тебе совесть не позволит. Черт бы меня побрал с этой «разведкой», надо же этак ногу изуродовать! — Заживет, пока мы там, в долине, будем устраиваться. Лесорубы, избушку сварганим? Балк-то у нас нетути, — тут же вдруг повеселел Сашка. — О чем говорить! — Не враги мы себе… Такое зимовье отгрохаем! Оконца вот только нет… Аким расплылся в улыбке: — Дам я вам запасное оконце от балка. Печурку из бочки сделаете. Ну, и пару запасных коленец труб выделю… Теперь ужинать, братва! Вече новгородское прошло без колокольного звона. Ужинали гречневой кашей с бараниной — вкусной, пахучей на морозе и очень сытной. И больше не говорили о том, что предстоит делать завтра. Даже в сторону обрыва не глядели. Кое-как, с помощью Попова доковыляв до балка, Трофим забрался на нары. Думал, не уснет из-за боли в ноге, от мыслей, комариным столбом мельтешивших в голове, однако захрапел едва ли не первым. А Сашка лишь несколько раз вздохнул да крутанулся с боку на бок. Он хоть и понимал: спуск по крутой осыпи на бульдозере — штука не шуточная, но и представить не мог, что его ожидает, а потому усталость быстро взяла свое. Скоро смежились веки и у Акима — человека, который лучше, чем кто бы то ни было, осознавал и риск и тягость труда в речной долине, если, конечно, спуск пройдет удачно. Спали без снов и остальные, крепко умаявшись за рабочий день от зари до зари. Утром пошел редкий снег, стало пасмурно, и мороз отпустил. Трофим очнулся от сна первым и, припадая на больную ногу, поскорее заковылял из душного балка на свежий воздух. Среди срезанной бульдозерами лесной мелочи он довольно скоро отыскал кривую березовую рогатину и, пользуясь ею, как костылем, принялся разводить костер, готовить завтрак. Хотя дежурил тракторист-балагур, Лазарев старался заняться делом. Очень уж противно было чувствовать себя лишним в такой день, когда от каждого требовалось предельное напряжение сил. «А больше других достанется Сашке, — подумал Лазарев. — Надо же мне из-за глупой неосторожности такое дело взвалить на плечи друга! То, что Аким говорил о своем отношении к поручаемому делу, ом, наверное, тогда же и выдумал… Сашка, конечно, справится с заданием, но лучше бы мне самому вести машину. Я ведь не из зависти, я так, ради справедливости. Не может другой человек выполнить задуманное тобой столь же хорошо, как ты сам». После завтрака Аким сказал Лазареву: — Ты не торчи на обрыве. Себя не трави, не мучай. У нас под ногами не крутись. — Ладно. — Обед приготовишь. — Ладно… — Сбоку, под балком, в ящике бараний задок лежит. Ты одну ногу отруби и свари. Трудный будет сегодня день, а консервы обрыдли. — Хорошо, дядя Аким. — Опять… — рассердился Жихарев. Он был необычно нервен и суров. Не пошел Трофим к обрыву, но очень хотелось. Он не видел, какого труда стоило очистить трассу от крупных скальных обломков, которые могли помешать спуску. На его глазах Жихарев часа два инструктировал Сашку, показывая, как следует Попову поступать в том или ином критическом положении. Попов, на удивление Трофиму, оказался внимательным и терпеливым. Столько выдержки на тренаже Сашка не проявлял даже в армии. И тут Лазареву пришла мысль, поразившая его. Прослужив с Сашкой два года в армии и полтора года отработав здесь, прожив с Поповым все это время бок о бок, Трофим весьма мало знал о нем. При всей своей разговорчивости и характере рубахи-парня, Сашка был скрытен. Лазарев не мог припомнить случая, чтоб Попов откровенничал с ним о жизни до армии, или о своих отношениях и чувствах к официантке Анке или зачем Сашке так — ну донельзя! — необходимы машина и моторка. Да, в конце концов, почему Попов столь крепко ухватился за мысль поехать сюда, в Якутию? Бывает же! Оказалось, Сашка знает о нем все, до мелочи, а он о нем почти ничего. Как же так получилось? Правда, Александр подружился с Трофимом, как ни с кем другим. Особенно это стало ясно после случая, который произошел еще в армии, на втором году службы. После больших маневров Трофим уехал в отпуск. Попов, не без рекомендации Лазарева, замещал его на должности командира отделения. Вернувшись в часть, Трофим, на радостях, что дома отношения между матерью и его женой наладились, все пошло к лучшему, не проверил бронетранспортера, а ночью поднятая по тревоге машина оказалась не готовой к марш-броску. — В чем дело, сержант Лазарев? — нахмурился капитан Чекрыгин. — Виноват, товарищ капитан. — А если бы вы сапоги свои дали поносить, то приняли бы их обратно грязными? — Никак нет… — Пять суток. Едва Чекрыгин отошел, Сашка прошипел Трофиму: — Зверь… — По-настоящему за такое десять полагается, — понурясь, ответил Трофим. — Что на меня не пожаловался? — Я виноват. Принял машину, я и виноват. На подобное Сашка не нашелся что ответить. С людьми, как оказалось, Попов ладить не умел, тем более командовать ими, когда необходимо знать, что каждый может и на что способен. Командиру невозможно отделываться приказами. Пока Трофим отсиживал свой срок на губе, Попов, спрятав ложное самолюбие «в карман», прежде всего извинился перед товарищами за фанфаронство и вздорные мелочные требования, которыми досаждал им, а потом они в полном согласии привели бронетранспортер в отличное состояние. — Вот теперь другое дело, — похвалил капитан сержанта на следующей поверке. — А что пять дней не покурили, Лазарев, здоровее будете. Потом Сашка признался Трофиму: — Перехитрил меня капитан Чекрыгин. — Меня, выходит, тоже. И оба рассмеялись, а с той поры стали закадычными друзьями. Когда же они получили ответ Жихарева на свое письмо, то, не колеблясь, пошли к капитану. Тот сказал очень серьезно: — Если вы поедете вместе, то беспокоиться не о чем. Попов не удержался от вопроса: — Это почему же, товарищ капитан? Один я не гожусь? — Вы — друзья, — улыбнулся Чекрыгин. — А друзьям легче, когда они вместе… Размышляя над тем, почему обычно несдержанный Сашка так упрямо отрабатывал тренаж с Жихаревым, Трофим не мог не вспомнить этого разговора с капитаном Чекрыгиным, а, вспомнив, не мог не подумать о том, что Попов делает это немного и ради их дружбы. Когда трасса была готова, ребята пообедали и высушили одежду. Трофим отмечал происходящее почти механически. Его помыслы занимал предстоящий спуск Сашки с обрыва в речную долину. Затем они направились к круче. Попов шел впереди. Он сделался серьезным, сосредоточенным. Молчали и остальные. Бульдозер стоял кормой к обрыву. Сашка поставил ногу на трак и, ухватившись за дверцу, легко поднялся на гусеницу. Здесь он задержался, обернулся к товарищам. Трофим стоял почти рядом с машиной. Он нарочно проковылял несколько шагов вперед, чтоб быть ближе к другу. Лучше бы он так не поступал. Сашка вздохнул и пожалел себя, свою молодую жизнь. Ведь через несколько минут он может отправиться «стеречь багульник», как говорили о кладбище, поросшем этими рано цветущими кустами. Тут он вроде только что увидел Трофима, Жихарева, и еще ребят, и бывшего моряка-подводника. Сашка мысленно представил себя на их месте и понял: если он и дальше будет торчать на проклятой гусенице, то наверняка или бывший моряк, или Трофим с больной ногой, или даже Аким Жихарев подойдет и скинет его, Александра Александровича Попова, с пьедестала доверия и чести, сам сядет за рычаги и поведет бульдозер вниз. «Это точно. Как пить дать!» — подумал Сашка. Но холодный ком за грудиной жал, тянуло внизу живота, и он почувствовал, что осунулся за эти томительные секунды. Он просто чувствовал, что осунулся, похудел. От нетерпеливого волнения Трофим шагнул к Сашке, наверное, чтоб произнести какие-то слова ободрения. Это словно послужило сигналом. Сашка заставил себя поднять руку и помахать прощально. Тогда, глянув на себя как бы со стороны, он увидел, что его жест и поза похожи на жест и позу космонавта, перед тем как тот занимает место в кабине ракеты. Сашке полегчало, и особая гордость наполнила его сердце. А когда ему ответили, тоже приветственно подняв руки над головами, Сашка постарался улыбнуться бодро, уверенно, крикнул знаменитое: «Поехали!» — и влез в кабину. Усевшись поудобнее, Сашка скинул меховые варежки и вытер о колени вспотевшие вдруг на морозе ладони. Затем, положив их на рычаги, он дал газ. Дизель взыграл, громко, раскатисто, словно конь заржал. Осторожно и плавно Попов включил муфту сцепления. Бульдозер тронулся будто нехотя. Сбоку орал что-то Акимыч. Чего — Александр не разобрал, да и разбирать не хотелось, ни к чему. Ори не ори, рычаги в руках у него, Александра Александровича Попова, и нечего — поздно! — лезть с советами и пожеланиями… Покосившись в открытую дверцу, Александр увидел: сбоку — пропасть. Сашка заерзал на сиденье. И, будто именно от этого его движения, бульдозер начал опрокидываться: Александр заметил это тоже сначала по елям — неожиданно появился еще один венец ветвей. Потом крен стал увеличиваться скорее, скорее… Руки Сашки непроизвольно напряглись, и ему пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтоб сдержать инстинктивный рывок и не отдать от себя рукоятки. Надо было продолжать двигаться. — Не останавливай! — кричал себе Сашка. — Не останавливай машину! Не стопори! Он не остановил бульдозер. Креп перешел в падение. Перед остановившимся взором Попова промелькнули стволы елей до комля. И он увидел: тайгу на противоположном берегу, заснеженную полосу реки, долину, поросшую высоким лесом, пятна кустарника… Все это тотчас скрылось за верхним краем кабины. Перед ним была истоптанная глубокими следами в снегу осыпь, как бы упершаяся в его глаза. Удар был не силен. Его смягчил трос с принайтовленными к нему стволами. А бульдозер продолжал то ли ползти, то ли скользить. Остановка… «Что случилось? — Александр взглянул поверх „якоря“ — отвала. — Ель ежом застряла на склоне!» Попов снова вытер мокрые ладони о колени, потом взял рукоятку на себя. Траки сцарапывали снег, бульдозер заметно погрузился в паст. Тогда Сашка дал полный газ, до отказа отвел на себя рычаги муфты сцепления. Машина рванулась вперед, сорвала ель с обрыва и проскользнула вниз метров на десять. И, уже не задерживаясь, быстро, вспахивая сугробы, устремилась в долину. Александр ликовал. Он до конца понял, что напряжение ежедневных занятий на полигоне, мытарства маневров, гонки по безводной степи, броски через таежные болота — все, представлявшееся в армии едва ли не выдумками лично капитана Чекрыгина, служаки и безжалостного человека, по сути дела, воспитание в них, солдатах, мастерства, воли, упорства в достижении цели. И теперь, когда действительная служба в армии позади, мастерство, воля и упорство очень пригодились в обыденной жизни. Без того, что вложено в них капитаном Чекрыгиным и другими командирами, оказался бы невозможным этот прыжок в бульдозере. Без армейской выучки они, пожалуй, только зубы поломали бы на таежной романтике, не сделав ничего путного. Увлекшись подвернувшейся мыслью, Сашка был уже не способен разобраться объективно в происшедшем. Он попросту снял со счета сделанное товарищами на разведке склона. Проваливаясь по пояс в снег, они прочесали каждый метр кручи, отыскивая скалистые обломки, вагами отваливали их в сторону или сбрасывали вниз, чтоб расчистить дорогу бульдозеру. Ведь разворот на склоне, да еще с креном, если машина наскочит гусеницей на камень, грозил почти неминуемой катастрофой. Ребята вылезли из обрыва мокрые по шею, но очень довольные. Потом лесорубы валили ели, чтоб принайтовить их, как сказал морячок, к страховочному тросу. Трактористам пришлось трелевать «якоря» наверх, но это уже были шуточки рядом со сделанным. Правда, и лесины пилили и трелевали после того, как Аким Жихарев, кряхтя, достал из НЗ две бутылки спирта. — Заработали… — сказал он и оставил свою долю на «после». Попов, который не пил и начинал презирать человека, выпившего хоть бы рюмку, очень ревниво относился к Трофиму, довольно покладистому на приглашение. — А Лазареву за что? Он и сух и сыт. Пробу снял, поди. — За идею, — сказал тракторист-балагур, очень стеснявшийся своего имени Филипп. Он боялся «шуточки», которую позволяли себе люди, не знакомые с его кулаками: «Филя-Филя, просто Филя». — Царская милость, — проворчал Александр. — Ты не внакладе. — Аким передал Попову плитку шоколада. — Вот тебе эквивалент. — «Золотой ярлык»! Это да. А еще есть? — спросил Сашка-сладкоежка. — Там посмотрим. Трофим молчал. Он всегда чувствовал себя неудобно перед Александром, когда приходилось выпивать, удивлялся воздержанию Попова и не понимал его. Ребята сидели на нарах в исподнем и сосредоточенно работали ложками. Нательное белье они переодели, а верхняя одежда сушилась, развешанная вокруг раскаленной докрасна бочки-печки. Лишь Лазарев да Аким, ухаживавшие за рабочими, были в сухих ватниках и брюках. Жихарев во время расчистки пути для бульдозера командовал с кромки. В бригаде никто и никогда не бывал в претензии на Акима. Бригадир умел организовать дело лучше не надо. Работа выполнялась споро и с наименьшей затратой времени, что стоило не одной пары рабочих рук… Однако теперь, глядя из долины на крутой склон, который он преодолел, Сашка искренне думал, что заслуга в осуществлении замысла Лазарева принадлежит ему, лишь ему. Если бы кто-либо попытался спорить с Сашкой, он посчитал того злым завистником. Но с Поповым никто и не думал пререкаться, делить славу. Зачем? Яснее ясного — каждый делал свое, как мог и умел. Один Александр Попов не сделал бы ничего, сколько бы он ни старался. Едва бульдозеры, страховавшие Сашку, дошли до края обрыва и все увидели, что рискованный эксперимент удался, рабочие попрыгали с кручи, покатились по сугробам. Добежав до Сашки, они подхватили его на руки и стали качать. Александр принял восторг товарищей как должное. И когда, устав, ребята поставили его на ноги, произнес: — Теперь чепуха осталась. — И он кивнул на кустарник и лес в долине, через который надо еще было проложить просеку. Жихарев хотел возразить, но лишь рукой махнул, приняв Сашкины слова за восторженное удивление перед тем, что они совершили. Промолчал и скатившийся по склону вместе с костылем Лазарев. Впрочем, Трофим, может быть, и не смолчал бы, да тут Аким сказал такое, что не до Сашкиных переживаний стало. — Братцы! Слушайте! — начал Жихарев. — Мы удачно спустили в долину бульдозер. Он здесь и на той стороне реки может и трелевать, и кусты, подлесок резать. Нам теперь нет никакого смысла идти запланированным маршрутом. Его предложили лишь потому, что со стороны ледяного моста до просеки в долине путь преграждают шивера… — Правильно! Правильно, Аким ты наш Семеныч! — заорал Филя-тракторист. — Вот это да! Плевали мы теперь на шивера и с той и с другой стороны! Вернемся по нашей просеке к дороге, оттуда по ледяному мосту на другой берег — верхом, верхом, — вот к тому месту. — Он показал рукой на заречную кручу. — И руби просеку дальше! Путь на самом трудном участке сокращается вдвое! — И заработок, и прогрессивка, и премия нам обеспечены! — Попов готов был колесом пройтись от восторга. — Качать бригадира!6
Взяв в руки по копаленку, Сашка в прекраснейшем расположении духа отправился к реке потрошить птицу. «Вот повезло! — думал он. — Три минуты… Да где там три, минуты не прошло, а мы отстрелялись. Даже жаль немного. Собирались чуть не полгода, охотились — минуту. Вот ведь как бывает. Скорое исполнение желаний — не велико удовольствие. Нам бы походить, поискать, может быть, и отчаяться, а вместо компота, как Филя говаривал, и попалась бы копалуха с выводком… Пострелял я их всех, конечно, зря. Злость сорвал. Только чего ж мне злиться? Все хорошо. И в каталог мою находку занесли, и имя алмазу я дал, и в газете обо мне написали… „Счастливчик“, как назвала меня Анка. Да счастья нет». Он вышел к реке у широкого плеса. Вода хоть и темная, вроде бы ржавая, была здесь прозрачна. Сквозь ее толщу хорошо виднелись полуокатанные, со срезанными углами, но еще шероховатые камни подтопленного русла. Берег обрывался уступом. Солнечные блики, пробиваясь сквозь толщу рыжей воды, играли на дне даже в метрах двух от Сашкиных ног, а дальше — тьма, коричневая, омутная. Попов сел на валунчик у самого уреза, так что река омывала головки резиновых заколенных, на манер ботфортов, сапог. Ухватив копаленка и как бы взвесив его, Сашка подумал, что в дичине килограмма два вкуснейшего нежного мяса. «Глиной обмажем, запечем под костром, и перья ощипывать не надо. Сами слезут. А уж вкуснота — неописуемая! Сразу двух не слопаем — на ужин останется. Возиться не придется. А то уж сейчас слюнки текут. Ждать-то часа два придется. Ничего, потерпим». Отрубив ножом голову глухаренку, Сашка вспорол брюхо и подивился обилию желтоватого, влажно поблескивающего жира в огузке. Он выкинул потроха и бросил птицу в воду у берега. — Мойся, прополаскивайся сама, — сказал он вслух. — Я за второго примусь. Так быстрее будет. Второй копаленок — видимо, самка — оказался еще жирнее, и, выпотрошив птицу, Сашка долго отмывал осаленные, будто осклизлые, руки. В холодной воде, да без мыла мытье шло почти безуспешно. — А черт с ними! — сказал вслух Сашка, вытер ладони о рубашку. — Наплевать. Потом он взял одного копаленка, валявшегося у берега, подождал, пока стечет вода, затем достал другого. И тут на вывернутом жире огузка он увидел очень крупную искрящуюся каплю. Вода, вытекшая из тушки, лишь омыла ее — так плотно искристая крупная капля пристала к жиру. Сашка ощутил, что ноги стали будто ватными, не держали его. Он не то сел, не то плюхнулся на гальку. Отвести взгляд от прилипшего к жиру кристалла было невмоготу. — Ал… ал-ма-аз… — пошевелил онемевшими губами Сашка. Голос осекся, горло сдавило судорогой. — Алмаз… Ал… Рыжая река, пики елей будто поплыли куда-то. Закружилась у Сашки голова. Попов едва не повалился на бок. Кристалл словно вспыхнул радугой. Он был чуть меньше найденного пять дней назад в глыбе на съезде в карьер, но красивее его и округл, что ценится особо. Ведь об этом ему сам Ашот говорил. Легкий янтарный налет окрашивал камень, однако прозрачность додекаэдроида была удивительной. Ошеломленный сказочной, невероятной удачей, Сашка, все еще не веря себе, поднес тушку с прилипшим к жиру алмазом к самым глазам. В сознании вспышкой мелькнули слова Ашота Микаэляновича, который через несколько дней после находки водил Попова по фабрике: «Жировой способ извлечения алмаза известен так давно, что сделался легендарным. О нем рассказано еще в сказках Шехеразады о Синдбаде-мореходе. Там говорится о недоступном ущелье, в котором якобы обнаружились целые россыпи. Чтоб добыть алмазы, люди пошли на хитрость. Они швыряли в ущелье жирные куски мяса. Орлы начали слетаться в ущелье за легкой добычей и тащили ее в гнезда. Птиц били влет, и алмазы, прилепившиеся к жирному мясу, доставались людям. Потом эту же легенду приписали Александру Македонскому и его воинам, которые дошли до Индии. Ведь Индия самая древняя страна, где добывали алмазы. Африканские коренные месторождения открыли лишь в середине прошлого века…» — Какое мне дело до Синдбада-морехода, сказок «Тысячи и одной ночи», Александра Македонского, африканских месторождений… — Попов едва шевелил непослушными губами. — Снова идти к Ашоту, будь он проклят!.. Сашка почувствовал, что его корчит неведомая сила. И он заплакал… Упав на прибрежные камни, он колотил по ним кулаками, не ощущая боли. Потом долго тихохонько, утробно скулил, не отирая бегущих слез. Рыдания сдавили глотку, сковали грудь. Ему хотелось орать от злосчастья, но он не мог. Вдруг Сашка сел, в глубоком отчаянии прижал алмаз, зажатый в кулаке, к колотившемуся сердцу. — Не отдам… — по-змеиному прошипел он, а потом взвизгнул: — Нет! Нет! Не отдам! Мой! Он — мой! «Что ж ты сделаешь с ним?» — посмеиваясь, будто зашептал ему на ухо Ашот. Это послышалось так явственно, что Попов сжался в комок и огляделся. Около — никого. — Продам… — утирая тыльной стороной ладони затекшие губы, сказал Сашка. — В отпуск поеду и продам. Неужели охотников не найдется? Найдутся. Есть охотники… Какие-то страшные рожи замельтешили в воображении Попова. Герои десятков детективных фильмов и книг предстали перед ним. Будто страшный листопад закружился перед его мысленным взором. Каждый тянул руки к алмазу, прижатому к бешено стучащему Сашкиному сердцу. Рожи ухмылялись, грозили и, словно экран, сознание Сашки заслонило дуло пистолета. «Давай! Давай!» — раскатами стенал чей-то жуткий голос в звенящей пустоте. От такого «видения» Попов как бы очнулся. — Тьфу ты, черт! — сказал он вслух. — Чего это я? Сбрендил? Сашка огляделся, словно утверждая себя вот здесь, на берегу реки, переполненной темной водой. Он отер рукавом заплаканное лицо и подивился своим слезам. Но когда он разжал кулак и поглядел на крупную, чуть желтоватую и в то же время прозрачнейшую каплю, им овладела паника. Сашка и подумать не мог о том, чтоб сдать алмаз. Это даже в воображении было свыше его сил. Однако он понимал и другое: попытка одному, в одиночку, реализовать сокровище чревата самыми неожиданными и, может быть, трагическими оборотами. «У меня же есть друг, — подумал Попов. — Ну, одно дело алмаз, найденный в карьере. Но тут-то не карьер! Само собой, что Малинка объяснял: и подобная находка принадлежит государству. Даже статья в УК есть… 97. Сколько старший лейтенант ни старался втемяшить: мол, преступление, преступление… но наказание-то за него — лишение свободы на срок до шести месяцев… Общественное порицание. Есть смысл рисковать. Хорошо, что Малинка провел лекции по правовому воспитанию. По крайней мере знаешь, что к чему. Правда, существует еще статья 167. Но о ней лучше не думать…» Размышляя, Попов окончательно вроде бы оправился от потрясения. Достав мятый платок, он завязал алмаз в узелок и положил в карман. Однако чем больше он думал о том, чтобы привлечь к делу Трофима, тем меньше верил в его согласие. Но надо было решаться, решаться сейчас, пока они здесь, а не в поселке… В конце-то концов, как бы то ни было, Сашка не украл алмаз, нашел его совершенно, ну совершенно случайно! И считать преступлением, если он распорядится находкой, как ему вздумается, — нелепость! Подняв валявшихся у воды копалят, Попов не спеша отправился к избушке, у которой его ждал Трофим. По пути он остановился, достал спичечный коробок, высыпал спички. Потом отрезал от платка узелок с алмазом, положил драгоценность в коробок, а его сунул во внутренний карман и зашпилил булавкой, которую, по солдатской привычке, вместе с иголкой и ниткой носил за подкладкой ватника.7
Попов подошел неслышно, и когда Трофим почувствовал его присутствие и обернулся, то неожиданно увидел как бы незнакомца. Черты Сашкиного лица, обычно добродушные, мягкие, заострились, вроде подсохли. Даже щелочки глаз, опушенные белесыми ресницами, оказались вдруг широко распахнутыми, напряженно всматривающимися. Именно взгляд, пожалуй, и изменил до неузнаваемости облик друга. — Ты, Саш, чего? Чудище какое увидел? Попов прокашлялся. — Разговор есть. — И он бросил к костру копалят. — Ну… — Пойдем в дом. — Боишься, медведь подслушает? — Лучше в доме поговорить… Совершенно не понимая Сашку, Лазарев в то же время ощутил внутренний сбой в душе друга, но лишь отмахнулся. На всякий Сашкин чих не наздравствуешься. Однако ясно было: Попов начал глядеть на мир по-иному, еще не понятно, как и почему, по по-иному. Подобного не скроешь. Желая разгадать тайну перемены, Трофим поднялся с чурбана, на котором сидел у костра. В полутьме, едва подсвеченной крохотным окошком, они сели по разные стороны стола, помолчали. Наконец Трофим не выдержал: — В гляделки играть будем? — Наплевать, — невпопад сказал Сашка. — Давай плевать. — Ты мне друг? — Как и ты мне. — Я очень серьезно. — Я тоже. — Тебе можно верить и доверять? — пристально вглядываясь в глаза Трофима, спросил Попов. Очень странно выглядел Сашка. Перед Трофимом был вроде бы и не Попов: чужой человек. Тревога нарастала в душе Лазарева, и в то же время ему хотелось посмеяться над своими «предчувствиями»: «Вот глупость. Это ж Сашка. На то он и Лисий хвост, чтоб номера откалывать!» — Как я тебе, — сдержанно ответил Трофим, а сердце его забилось непривычно ощутимо и неровно. — Как я тебе верю. — Ты помнишь, я спас тебе жизнь? — сказал Попов. — Помнишь, на маневрах? — Да, — ответил Лазарев, но вопрос ему не понравился. Попов, продолжая глядеть на Трофима, расстегнул ватник, долго копался, отшпиливая булавку; укололся, пошипел, пососал палец, сплюнул; залез во внутренний карман и, достав спичечный коробок, с маху, будто костяшкой домино, шлепнул им о столешницу: — Вот! — У меня такой же, — сказал Трофим и выложил на стол коробку спичек. Этикетки были одинаковые — на черном фоне треугольник паровозных огней в обрамлении пунцовых букв: «Минута или жизнь!» — Правда, впечатляющая надпись? А, Саш? Только паровозов здесь нет. — Наплевать. — Наплевали. Тогда Попов медленно, пальцем продвинул свой коробок ближе к Лазареву: — Ты посмотри, что в нем… Трофим взял коробок. Тут Сашка закрыл глаза. С ноющей тоской в сердце понял: раскрывшись другу, он стал целиком и полностью зависимым от него, как никогда и ни от кого на свете. Вся его, Сашкина, судьба с этой минуты в руках Лазарева. И, томясь под тяжестью этого ощущения, стараясь сдержать сгон сожаления и страха, спиравший его грудь, Попов поднялся и вышел. На воле будто легче стало. Поигрывали солнечные блики на серой, прошлогодней хвое и редкой траве. Накатами шумел ветер в вершинах. Поодаль поскрипывал старый ствол. От костра потянуло дымом, сладким и острым. Сашка чихнул, и ему сделалось почему-то совсем хорошо. Он поправил ветки в огне и сел на чурбан. Было приятно сидеть и ни о чем не думать. Удивительно приятно. Потом вдруг Попов забеспокоился: «Чего же Трошка не выходит?» Он оглянулся. Проем двери был пуст и темен. Холодная тревога начала извиваться в груди Сашки: «Дурак… Какой же я дурак! Дурень! Дурень!.. Кому доверился я! С кем связался, олух!» И тут же пламя паники с небывалой и неизбывной силой охватило его сознание. Мысли полыхали подобно верховому пожару в тайге, который они тушили на второй день после приезда сюда. Они сами напросились в десантники. Вдруг стало тихо от ровного голоса Трофима: — Откуда он у тебя? Сашка ответил. — Везунчик! — констатировал Лазарев. — Сдашь — вот тебе и половина машины. — Сколько в нем, как ты думаешь? — Карат двенадцать… — не очень уверенно сказал Трофим. — Двенадцать карат — и половина машины? — Попов покосился на Лазарева. Тот держал алмаз меж большим иуказательным пальцами и рассматривал его то с одной, то с другой стороны. — Стекляшка на вид. Обыкновенная стекляшка, — словно не слыша Сашкиного вопроса, проговорил Лазарев. — Как же ты его заметил? — Я же говорю: бросил в реку копаленка, камень к жиру и прилип. — Везунчик! — повторил Лазарев. — Закон парности случаев. Вот тебе и теория вероятности… Правду, значит, говорят: алмазы и брильянты при солнце и электрическом свете — ничего особенного, так… блестят. Однако при живом огне, в полутьме, играют… Я вот в избушке его рассматривал — хорош. На солнце же — стекляшка. — Продадим его… На двоих… — Ты нашел, ты и сдавай. — За десятую настоящей цены? — Может, и за сотню. Тебе-то что за дело? Разве ты здесь обнаружил алмазы? Ты, что ли, трубку, россыпи разведал? Город построил, фабрики? Или ты в карьере, в вечной мерзлоте копался? Кайлом породу долбил?.. Вот с этой грани он особо хорош, чертяка. Правда? — И, не дожидаясь ответа, Трофим скучным голосом продолжил: — Может, ты на свои деньги сюда прилетел? Опять нет. — Давай алмаз. — На. — Коробочку. — Пожалуйста. — И Трофим рассмеялся. — Ты чего? — Вспомнил одну историю. Еще в прошлом веке где-то в здешних краях купец у местных алмаз за полушку купил, а продал за огромные деньги. Так ты на него сейчас похож. Завернув камень в тряпицу, Попов положил его в коробок, сунул в холщовый кармашек, намертво пришитый к ватнику, и заколол булавкой. — Специально карман пришил? Большой карман-то? — Видишь, пригодился… — Сейф ходячий, — усмехнулся Трофим. — Потешься камушком. — Трош, давай подадимся в Россию. Там и продадим камень. За полную цену. А? — вкрадчиво спросил Попов. — Сибиряк… «В Россию»… В Москву, что ль? — Хотя бы. Деньги — пополам. Деньжищи-то какие! Мать подлечишь. Сам устроишься лучше не надо. Зарплата за десять лет вперед. — Вот спасибо, дорогой. Благодетель! — откровенно издевался Трошка. — Не с руки одному. Обманут. Ограбят. Не смейся. Я всерьез тебе говорю. — Боишься, ограбят? Аи, бедный, ворованное отберут… Приз за находку тебя не устраивает? — Приз… Для государства этот камушек — тьфу! — Да ведь государство — это я, ты, он… — Магомет, Наполеон. Это о человеке сказано, — отмахнулся Попов. — Ты — камушек, я — шайбочку, он — гвоздик… И каждый — в норку, в норку… — Мы делаем больше, чем сможем унести. — Обрадовал! — Зная вздорный Сашкин характер, когда до самого краешка, до капли на донышке мысленных действий нельзя было ручаться, шутит Попов или говорит всерьез, Трофим никак не мог относиться взаправду к Сашкиным словам. — Мало тебя помполит гонял! Проголодался я от разговоров с тобой, — продолжал Трофим. — На ключик за водой схожу. Чайку попьем. Может, блажь твоя и пройдет. Он пошел по пружинящей под ногами хвое. Ему все больше не нравилось «отчужденное, будто государство при капитализме» лицо Сашки. В голову пришла неприятная мысль, что Попов, может, и не шутит вовсе. Но Лазарев тут же оборвал себя: «Сашка дурака валяет, ему не впервой. Таков уж характер вздорный. А ты-то, Трофим, чего разволновался? Думаешь, Сашка всерьез забарахлил? Ерунда. Однако разыграть его стоило бы. Ох, стоило бы! Только как? Ну да что-нибудь придумаю». Насвистывая мелодию «Не плачь, девчонка, пройдут дожди», Трофим бодро шагал к ключу. Но рассуждения о характере Попова не развеяли окончательно его сомнений в том, что Сашка шутит. Не очень-то походило его поведение на простое зубоскальство. И алмаз был настоящим. Трофим попробовал его грань на оконном стекле — настоящий алмаз. «Может быть, про письмо Акима Жихарева напомнить Сашке?» — подумал Лазарев. Незадолго до демобилизации они увидели в газете очерк о нем и фотографию. Неделю сочиняли ему послание о своем желании попробовать «на зубок» таежную романтику. Ответил Жихарев быстро, и часть его письма врезалась в память Трофима: «Приезжайте, если хотите узнать, что стите вы хотя бы в переводе на тонно-километры. Сколько осилите? Говорят еще про Север, будто рубли здесь длиннее обыкновенных… Да, рубли у нас длинные: пока от одного его краешка до другого доберешься, жизнь может оказаться короче. Что до алых там парусов, бригантин, то подобная романтика у многих быстро выходит потом. Советую вам: спросите у своего командира, куда вам ехать — к нам или в Жиздру. Я не понял, кто из вас оттуда. Не обижайтесь, но если вы работу не любите, вам здесь делать нечего. Я ведь напрямки. Потому что, кроме работы, в жизни любить нечего. Сами понимаете — я про дело, не про людей. И то — плохих у нас не держат, и им держаться не за что. Не пойму, кстати, я одного: зачем это работу, словно касторку, сиропом романтики приправляют? А труд, нормальный для человека труд, уж не хлеб, не штаны, не тепло в доме? Любишь дело — ищи место, где показать себя в нем. Вот и вся „романтика“. А Джека Лондона я не люблю. В его романтику, как в омут, бросаются либо с отчаяния, либо с жиру…» «Но если Сашка всерьез задумал натворить с собой недоброе? Он бывает упрям, нахален и прет как танк… — размышлял Лазарев. — Да что я, в конце концов: верить — не верить! Проверить надо. Тогда все станет ясно. Можно? Проще простого…» Трофим набрал кристальной воды в ключе и, не торопясь, вернулся к костру. Попов сидел нахохлившись, точно его знобило. Однако пара копалят, обмазанных глиной, были уже закопаны под костром. — Полежу я… — сказал Сашка. — Пока копаленок поспеет. — Покурю чуток — и за тобой вдогонку, — кивнул Трофим. Но Лазарев и не подумал идти отдыхать и, выкурив папиросу, прошел в избенку. У него было много дел. Сашка похрапывал на нарах.8
Бортмеханик, злой, лежал на пахнущей прелью хвое, уткнувшись лицом в согнутый локоть. Ему сдавалось, что он после всего происшедшего ни о чем не думал, но на самом деле мысли его, словно игла на заезженной пластинке, совершив оборот, возвращались на круги своя. Он опять и опять с одинаковой силой, трепетом и радостью, что остался в живых, переживал приключившуюся с ними беду. Когда инспектор Малинка подцепил из реки за порогом бездыханное тело беглеца, повиснув на трапе и страховочном веревке, летчик скорее потянул к берегу. Пожалуй, именно тогда они совершили единственную грубую ошибку — не втащили на борт инспектора и спасенного. Но было ли это ошибкой? До берега оставалось метров двести — секунды полета. Они просто не успели бы ничего сделать. Втягивая же старшего лейтенанта в кабину, они лишь осложнили бы его положение. Рука-то у Малинки не из железа, не карабин страховочного пояса монтажника-верхолаза. А он держал на весу по меньшей мере центнер: пусть и небольшого на вид парня, но в намокшем ватнике и одежде, в болотных заколенных сапогах, с рюкзаком на спине. Второй рукой инспектор вцепился в деревянную перекладину веревочного трапа. Так он и висел боком. Однако берега реки высоко подтопило темной водой. Галечные косы, песчаные забереги скрылись. Найти место для посадки или хоть сухой краешек земли, не закрытый рослым пойменным лесом, оказалось совсем не легко. С этого все и началось. Когда инспектор бросился спасать беглеца, никто о приземлении не думал. Спасти человека, свалившегося за речной порог, в тот момент стало самым главным, самым важным делом их жизни. Отчаявшись отыскать площадку, пилот решил перелететь пойменную тайгу. Деревья здесь росли такие высокие, что опустить на землю двух человек, висевших на конце трапа, очень рискованно, винт крошки-вертолета мог зацепить за ветви. Но тут рука Малинки, державшая ступеньку трапа, сорвалась. То ли он устал, то ли хотел половчее схватиться и не рассчитал своих сил. Теперь двое повисли на страховочной веревке. Пилот, который видел все, решил: «Будь что будет!» — и начал резко снижаться к первой попавшейся ему на глаза крошечной прогалине. Может быть, если бы не такая его поспешность на спуске, винт-стабилизатор и не наткнулся на вершинку, не разлетелся бы вдребезги. «„Может быть“… „если бы“… Слова-то какие жалкие!» — проговорил про себя бортмеханик. Ну, а когда от стабилизатора не осталось ни рожек, ни ножек, вертолет, удерживаемый в воздухе несущим, начал по инерции вращаться всем корпусом вслед за винтом. Здесь ни при чем ни опыт, ни мастерство летчика. В дело вступили неумолимые законы физики. Все, что мог сделать пилот: снизиться еще, опустить на землю бедолаг пассажиров и пролететь чуть дальше, чтоб не придавить их корпусом машины, терпящей катастрофу, — он сделал. Вертолет, круша винтом деревья, теряя лопасти, упал. По счастью, экипаж отделался синяками и шишками, а Малинка и спасенный беглец — царапинами. Инспектор не растерялся: едва коснувшись земли, он подхватил беглеца на руки и, волоча за собой отпущенную бортмехаником веревку, отбежал в сторону. Потом, оставив Сашку, Малинка поспешил к рухнувшей машине, помог выбраться летчику и штурману из перекосившегося, заклиненного фонаря пилотской кабины. И вот теперь который час горюют они у костра, ожидая, что их выручат. Впрочем, «горюют» не то слово… Сначала они занимались вполне бесполезным делом: осматривали разбитый вертолет, словно в их силах было, определив повреждения, хоть как-то отремонтировать машину. Но и отказаться от осмотра груды металлолома они не могли. Разговаривая меж собой преимущественно междометиями, члены экипажа уяснили себе: прогалина совершенно не годилась для высадки пассажиров по техническим причинам — деревья вокруг нее слишком высоки. Не стабилизирующим винтом, так несущим они задели бы какую-либо верхушку. Это могло стоить жизни всем. Разбив несущий винт, они грохнулись бы с высоты двадцати — тридцати метров сами и погребли бы под обломками пассажиров. Это раз. Два: никто, даже сам Пионер Георгиевич, не мог бы поручиться, что его не подведет вторая рука, которая держала спасенного Сашку Попова. Правда, тогда еще никто не знал, жив ли он, оклемается ли. Но если бы Малинка уронил Сашку с высоты девятиэтажного дома, то тот наверняка разбился бы насмерть. Ни бортмеханик, ни штурман не сказали пилоту ни одного худого слова, не нашли в его действиях промаха. Но машина погибла. У инспектора были свои заботы. Он и не задумывался пока над тем, почему произошла катастрофа. Выручив пилота и штурмана из перекосившейся клетки-фонаря, он оставил их на попечение бортмеханика и поспешил к Сашке. Расстегнув ремень и ватник, он приложился к груди Попова, но, будучи в шлеме, услышал лишь отдающееся в ушах биение собственного сердца. — Что ж ты, Попов… — растерянно пробормотал инспектор. — Как же ты так… Ты ж, ну, минуту в воде пробыл… И вот… Малинка принялся делать искусственное дыхание, потом массировал сердце. И так продолжалось долго, пока Попов не открыл глаза. Сашка уставился на инспектора, забывшего снять шлем мотоциклиста, диковатым взглядом. — Ну чего, чего ты, Саша… — сказал старший лейтенант и похлопал спасенного по плечу. — Это я, инспектор Малинка. Помнишь меня? Я — Пионер Георгиевич. — Зачем… — прохрипел Попов. — Зачем? — После, после… Отдохни. — И инспектор, шумно вздохнув, привалился спиной к стволу дерева. Сашка лежал спокойно и дышал, дышал, дышал, не думая ни о чем, кроме того, что видит небо, верхушки елей и берез, уходящие ввысь, слышит — неподалеку говорят люди. А потом, вдруг вспомнив все, что произошло вчера под вечер, Попов скрючился, будто от удара в живот, и заскрежетал зубами, бормоча: — Зачем? Зачем? — Что случилось, Попов? Где болит? Сашка замер: «Не знает ничего инспектор? Или притворяется?» — Да скажи, наконец, что с тобой, Попов? «Молчать. Молчать! Он ничего не знает. Конечно, нет. Откуда все стало бы известно? Случайно они на меня наткнулись… Молчать! Молчать…» — твердо решил Сашка. — Не хочешь говорить — не надо… — ровным голосом протянул Малинка. «Не хочешь говорить… Выходит, что-то знает, — еще больше сжался Сашка. — Зна-а-ет. Ждет, что я сам все расскажу. Во всяких фильмах и книжках преступников убеждают: мол, признание облегчает вину. Так вот прямо и брякнуть?.. Не-ет… Страшно». Обернувшись к инспектору, Попов сказал: — Копалята в рюкзаке. Ешьте. — Ишь ты, продовольствием запасся. Значит, далеко плыть задумал. Сашка не ответил. — Ты молчи, молчи. Только знай: потом труднее говорить будет. А за угощение спасибо. Не пропадать же добру! Съедим. Хоть и нарушение это… Инспектор позвал вертолетчиков, при них развязал рюкзак, показал содержимое: трех глухарят, пачку патронов, буханку размокшего хлеба и банку тушенки. — Видите? — спросил инспектор. — А зачем это нам? — Летчик удивленно поднял брови. — Ружья нет, — констатировал Малинка. Пилот, догадавшись, что они фактически понятые при обыске, ответил: — Нет ружья. Утонуло, может? — Может. Попов разговаривать не желает, а вот угощает. Примем? — Давно дичиной не лакомились. — Принято, — подмигнул пилоту Малинка. — Видно, крепко друзья-неразлучники схватились… — проговорился, словно невзначай, инспектор. Ничего не ответил Сашка, даже не пошевелился. — Вот видишь — молчит, — сказал Пионер Георгиевич. — Угощать угощает, а про дело молчит. Неспроста. Пилот подтвердил: — Кто же «спроста» драпать будет? — Вот и я про то. Молчит — значит, подтверждает. Мол, было. «Не удивляется, — отметил про себя Сашка. — Будто о пустяке болтает, словно Филя-тракторист. А чего инспектору удивляться? Сколько лет в милиции работает. Поди, не с таким здесь сталкивался». Ровный тон Малинки успокаивал Попова незаметно для него самого. Да и жуть перед смертельной опасностью, охватившая его у порога, была слишком близка по времени, чтоб он мог отстраниться от только что пережитой беды, ясно осознать совершенное им вчера. Пока он лишь успокаивал себя: «Раз Малинка спокоен, еще нечего волноваться. Об остальном после, после… Когда „после“? Не сейчас, не сию минуту…» — Где охотились-то, Саш? То, что в речной долине, понятно. А ведь, поди, на просеке. Место самое удобное. Там и избушка есть… Не под открытым небом ночевали? Ты дверь-то снова забил? Так что же было? А? Летчик взял копалуху за крыло и залюбовался оперением. — У самого глухаря лучше. Куда! — сказал Пионер Георгиевич. — С одного выстрела убил? А, Саш? Ты убил? Сашка сел, отодвинулся от инспектора, уперся спиной в ствол, но, не соображая, что же ему мешает, продолжал сучить йогами, скреб каблуками землю, пытаясь отползти еще дальше. Попов косился на старшего лейтенанта, словно тот навел на него пистолет. — Убил, — кивнул Попов, совсем неожиданно, против своей воли. — Трошку убил. Только я не стрелял. Камень я схватил. Вот! — Он протянул к инспектору ладонь с чуть согнутыми пальцами. Потом поднял глаза на летчика. — Нет! Не может быть… Пилот кинул копалуху к ногам Попова и пошел прочь, презрительно бросв через плечо: — Машину угробили… — Я… Я не знаю… Я… Пионер Георгиевич возился с ремешком мотоциклетного шлема, который все еще торчал на его голове, но лишь теперь инспектор почувствовал, как это сооружение из пробки и дерматина сдавливает лоб, виски. Намокший ремешок не поддавался. Сашка содрогнулся, словно наяву представив себе все происшедшее…9
Трошка, стоя на скале, размахнулся, точно гранату собирался бросить, и швырнул то, что было зажато в кулаке, в воздух, в пространство над рекой. Онемев, Сашка следил за рукой Лазарева. Сверкнув, рассыпав искристый блеск, алмаз полетел вверх… Попов видел теперь лишь темноватую точечку, забиравшую все выше, все дальше от берега. Потом на какое-то мгновенье камешек остановился, истратив силы, приданные ему броском. Сашка лишь тогда в полной мере осознал происшедшее во всей его невероятности, непредставимости для него, Сашки. Грянь гром, затрясись под ним, растрескайся земля, оживи и запляши деревья — ничто не потрясло бы его так, как выкинутый Трошкой сверкающий осколочек. И теперь, когда камешек словно замер над рекой, а затем вдруг будто взорвался в свете солнца невообразимо прекрасным для Сашкиных глаз радужным блеском мечты, Попов взвыл утробно, дико… Ему даже показалось, будто его ударили ножом в грудь. Сперло дыхание. Он чуть присел. Время для него потеряло смысл. Оно было протяженностью падения седого камушка, не укладываясь ни в какие меры. Не разбирая дороги, кинулся Сашка вниз, ломая кусты, ударяясь о скалистые обломки, чтоб успеть приметить, догнать, подхватить, достать камушек. Ему представлялось, что он ни на миг не упускает из вида падающий в реку алмаз, десять его собственных тысяч рублей… Анна, моторка, машина, новый дом, синие облигации с жирной тройкой — все, все, все падало в коричневую бугристую от напора реку. И он с разлету ввалился в воду, вскочил, не почувствовав мерзлотного холода. Сашка ринулся к тому месту, куда юркнул, блеснув, алмаз. Но тугие струи опутали ноги. Он упал снова. Стал барахтаться, исступленно бил кулаками воду и все-таки шел к тому, отмеченному его воображением месту, где скрылся камушек, пока не оступился на глубине и река не понесла его. Только тут он опомнился. Испугался за себя помимо волн, инстинктивно. Повернулся к берегу и увидел Трофима. Тот, не торопясь, спускался с утеса. Сашка хотел закричать «Стой!», но поперхнулся водой, забился в кашле. Но не отвел взгляда от Трошки. Лазарев будто ни в чем не бывало неторопливо нашаривал ногой достаточно прочную опору в разрыхленных морозом, водой и ветром камнях. Ярость ослепила Сашку. До сих пор по какой-то странности он не связывал исчезновение своего собственного алмаза с Трофимом Лазаревым. Даже то, что он видел, как Трофим вскарабкался на скалу, убегая от него в какой-то детски-дурацкой игре, не увязалось с пропажей, потому что со скалы Лазарев говорил какие-то слова, на которые Сашке было плевать. И бросок Трошки не укладывался в сознании с Трошкой-другом. Сейчас же для Попова все стало на свои места. С утеса спускался не Трошка Лазарев. Нет. То был похититель, ничтожный завистник, втоптавший в грязь всю будущую Сашкину жизнь, закрепленную, разрисованную, расцвеченную в мечтах такими же красками, как игра алмаза. Сашка не закричал. Он стиснул зубы и пошел из реки так размеренно, так напористо, точно никакая вода и не путалась у него в ногах. Орать и ругаться совсем не хотелось — ни к чему. Скорее бы добраться до голышей на берегу. Да вот же они, под ногами, и, нагнувшись, Сашка не спеша нашарил камень по руке, чуть больше гранаты-лимонки. Видимо, Трофим краем глаза наблюдал за ним, потому что, когда Сашка выпрямился и размахнулся, Лазарев оттолкнулся от утеса и мягко спрыгнул вниз. Голыш цокнул о то место, где Трофим был секунду назад. По крутому склону защелкала оббитая мелочь. Еще не разогнувшись после прыжка, Трошка прикрыл голову руками, чтоб какой-нибудь острый осколок не угодил ему по затылку. — Балда! Спасибо мне скажи, дурень! Трофим усмехнулся, но тут же вскользь подумал, что усмехаться не следовало. Совсем не нужно было усмехаться, дразнить и без того взбешенного Сашку. Попов кинулся на него. Надежно защититься Лазарев не успел, но и четко отработанный рефлекс не отказал. Левая рука Сашки повисла плетью, а правая ударила не в челюсть — в грудь. Однако выпад оказался так силен, что Трошка сел. Попов лез в драку со скривившимся от боли лицом. Разъяренный Сашка бился бестолково, нерасчетливо, и отразить его приемы Трофиму не стоило большого труда. Ему даже хотелось сказать Сашке, чтобы тот успокоился, и дело пойдет. Ведь известно, Попов, случалось, справлялся с Лазаревым на занятиях по самбо. Наверно, все, что Трофим хотел сказать Сашке, было написано аршинными буквами на его лице. Попов провел такой болевой прием, что у Трошки потемнело в глазах. И пока он приходил в себя, Сашка разбил ему губу. Тут пришла злость. Подловив Попова, Трофим сграбастал его, швырнул с обрыва в реку. — Остынь, чумовой! — крикнул он вслед и почувствовал, как из разбитой губы по подбородку потекла кровь. — Простись еще раз с камушком! Сашка плюхнулся в воду боком — видно, ушибся малость. Тут же стал на четвереньки и схватил камень. Однако, верно, устал он сильно. Шмякнул камнем об воду, по-рачьи, боком выбрался на берег, сел спиной к Лазареву: — Убью! Трофим сдержался, чтоб не бросить подвернувшееся на язык: «Раньше надо было…», и, помолчав, нарочито лениво и безразлично ответил: — Может быть… — Точно. — Я и говорю… — Другом звался. — Значит, звался. — И убью, — не оборачиваясь, пробубнил Сашка. — Может быть… — Подлец ты, Трошка. — Как знать… — Трофим достал папиросы, долго выбирал целую меж измятых в драке. — Точно, подлец. — Как знать… — Все… равно… убью, — заикаясь, выговорил Попов. Его колотил озноб, каждая мышца дергалась, выплясывая по-своему, и от этого то одно, то другое плечо подпрыгивало; одеревенели мышцы бедер, живота, а ребра словно свело от холода, вздохнуть было больно. Впервые в жизни Сашка ощутил сердце. И раньше после бега или тренировки он чувствовал, как оно учащенно и усиленно бьется, иногда оно подкатывало будто к самому горлу, по чтоб ныло — такого не случалось. А сейчас оно казалось тяжелым, неповоротливым комом и вроде бы даже скулило по-собачьи, и поэтому глухая, как дебри, тоска охватывала душу и хотелось подтянуть, что ли, тоскующему сердцу. Боясь расплакаться от жалости к себе, от тоски и злости, от которых словно померк свет дня, Сашка зачерпнул ладошкой холодной воды из реки и плеснул в глаза. От этого прикосновения судорога пробежала по телу, и, вскочив, он обхватил плечи ладонями, сжался как мог и побрел вверх по косогору, к избушке, оскальзываясь, припадая набок. Ему представился свой собственный вид со стороны: скрюченная, тощая, облепленная одеждой фигурка, жалкая и смешная. Тогда сделалось еще горше, хоть и казалось, уж будто горше и быть не может. Противно скрипел о голенище спустившийся отворот резинового заколенного сапога. Тут Лазарев крикнул вслед: — Ну где же твой алмаз? Дай посмотреть! Сашка остановился, пробурчал что-то и медленно, медведем пошел на Трофима. Попова напрочь вывела из себя издевка Трофима. Тот забавлялся, посмеивался, будто в игре перебегая от дерева к дереву, дразнил, будучи уверен, что Сашка ничегошеньки ему не сделает. Какие тут шутки, когда речь шла о потерянных, буквально выброшенных деньгах! И каких! И вспыхнула злобная ненависть к Лазареву, вздумавшему распорядиться его, Сашкиной, судьбой, как хотелось ему, Трошке. Тоже мне благодетель — выбросил алмаз в реку! Мол, раз не согласен сдать, пусть никому не достается! Лазарев продолжал кричать, подхохатывая: — Где ж твой алмаз? Покажи! Сашка мычал в ответ и, поматывая головой, двигался на Трофима будто в трансе. — А ты нырни, Сашенька! Речка-то неглубокая. Ну, нырни! Зверем бросался Сашка на Трофима. Но тот ловко увертывался. Так шло, пока они не выбежали на склон, где на каменной осыпи чудом держалась корявая сухостойная лиственница, старая-престарая. Распластав корни-щупальца далеко в стороны, дерево вымахало метров на двадцать вверх. Но то ли иссякли силы у самой лиственницы, то ли ветры порвали корни, — дерево зачахло, ослабли в мертвой хватке корни, и теперь оно едва держалось. В азарте бега Трофим бросился к сухостоине. Отчаявшись его догнать, Сашка схватил полупудовый камень и что достало сил метнул его в Лазарева, поскользнулся… Это теперь лишь в воспоминании Попов ясно представил себе и свою одержимость злобной ненавистью к другу, и даже впечатление от лиственницы-сухостоины выразилось ярко. Тогда было не до того. Когда он поднялся, все было кончено. Державшаяся еле-еле лиственница рухнула, придавив стволом Трофима. Но ведь Сашка бросил камень и чувствовал уверенность — попал, и лишь потом лиственница упала на Лазарева. То, что увидел Попов, ошеломило и потрясло его. Плохо сознавая, что он совершил и что делает, Попов отпрянул от лежащего тела. И мысль, подобная слепящей тьме: «Я убил его… Я…» — заставила Попова отступить еще и еще. А потом он ринулся вниз, и жуть перед содеянным руководила им во всех остальных поступках. То была не боязнь ответственности или наказания, которые в глубине души принимались как нечто безусловное. То было именно ощущение жути. Трофим, пусть искренне ненавидимый в те секунды, живой человек, от одного его, Сашкиного, движения стал камнем среди камней.10
Попов вернулся из воспоминаний и шало огляделся. Инспектор все еще никак не мог снять шлема. Сашка уперся взглядом в спину удалявшегося от них пилота. Никогда еще люди не относились к нему со столь явным презрением. — Правда убил… — прошептал Попов. Инспектор расстегнул наконец ремешок шлема и снял его. Пионер Георгиевич был поражен признанием Сашки не меньше, чем сам Попов. Малинка знал их обоих — и Попова и Лазарева, — хорошие парни, работяги. Да… Сашка-заводила ему, честно говоря, нравился больше, чем сдержанный Лазарев. И вот на тебе! — Зачем было меня спасать? Зачем?! Малинка молчал. — Что ж не спрашиваете? Как все было… — сказал с тоской Сашка. — Жду. — Чего? — Когда сам расскажешь. «Э-э, — додумался тут Сашка, — да ведь про алмаз-то никто не знает. И не узнает никогда! Валяется он на дне реки меж камушков. Лежит и молчит! Кто о нем расскажет? Кто его видел у меня, кроме Трофима? Никто. Никто! Валяется на дне алмаз и молчит. Сколько их в этой реке валяется! Лежат, молчат. И я буду молчать! А драка? Трофима я не спасу. Себя — может быть». — Бил Трофим меня. Вот, посмотрите! — Сашка засучил рукав и показал лиловый синяк на предплечье. — Бил, понимаете? — Давай по порядку, — сказал Малинка. Сашка придвинулся поближе к инспектору, растопырил руки, вытаращил глаза и начал вдохновенно врать. Столь разительная перемена в поведении Попова не ускользнула от инспектора. Но Сашка, занятый выдумкой о глупой драке из-за подстреленных копалят, сочиняя на ходу историю ссоры, не заметил чуть прищуренных век Пионера Георгиевича, ставшего более напряженным взгляда инспектора. Живо, в лицах проиграв перед старшим лейтенантом историю неожиданно вспыхнувшей ссоры, Сашка, с некоторым торжеством даже, сказал: — Вот так оно и произошло… все. Не веря уже окончательно ни одному Сашкиному слову, инспектор не находил никакого реального объяснения поведению Попова. Смущали инспектора и некоторые детали в передаче Попова — их тут же не выдумаешь, очень уж точны, жизненны. Не вязался рассказ Сашки о зачинщике драки Лазареве с тем, что говорил о Трофиме шофер Потапов, паромщик Назарыч. Однако, с другой стороны, и сам он, Малинка, думал о Попове иначе. Нужно было время, чтоб Сашка понял нелогичность своего поведения и рассказа о происшедшем, этого яркого, живого экспромта. И самому Малинке необходимо было разобраться в рассказанном и сказанном Поповым до импровизации. — Пионер Георгиевич… — тихо сказал Сашка. — Что, Попов? — Не верите вы мне… — Догадался? — Я — вор. Только доказать этого уже не смогу. — Рассказывай все сначала. — Инспектор сел и достал папиросы. — Закуришь? — Не курю. — Молодец, Лисий хвост. — Подлец я, инспектор, — сказал Попов. — Давай разберемся по порядку. Нагородил ты — на три огорода хватит, — недовольно проворчал Малинка. Он не любил, когда в человеке вот так, словно плотина прорывалась. Много мути набегало в дознание, ненужной, посторонней, чрезвычайно осложнявшей дело впоследствии. — Ты сказал, что «убил». — Из-за меня… Может быть, от моей руки погиб Лазарев. Я бросил в него камень. — Попал камнем-то? — уточнил Малинка. — Не знаю. Не видел. — Почему же — «убил»? — Очень хотел убить. — Ты видел его мертвым? — Да, — твердо сказал Сашка. — Ясно. Почему ты «очень хотел» смерти Лазарева? — Старшин лейтенант тоном подчеркнул это «очень хотел». — Он выбросил в реку мой алмаз! — с запалом сказал Сашка. — Твой алмаз… — Да. — Откуда он у тебя? — Я его нашел в реке. И Сашка рассказал, как это было. — Знаешь… Не жизнь — детский сад! — Малинка хлопнул ладонями по коленям. — Знают — врать нельзя, а врут. Знают — воровать нельзя, а крадут… Что с Лазаревым? — без перехода спросил инспектор. — Драка была у нас… — Из-за чего? — Трофим сказал: «Едем сейчас же в поселок — сдать надо алмаз». А я предлагал сбыть. — Где же это? — Толком не придумал… — А он что? — Он потребовал, чтобы мы тотчас вернулись в поселок и сдали камень. — Ты отказался. — Да. — А дальше? — Трошка попросил посмотреть камень еще раз. Я дал. А он — к реке. И выбросил камень. Я с кулаками на него. Да где мне с ним сладить! Я — за камень. Вот и все… В мокрой насквозь одежде Сашка основательно продрог. У него зуб на зуб не попадал, хотя в тайге было градусов под тридцать и сильно парило. «Нервное это у него, — подумал Малинка, — но обсушиться все равно нужно. Ночью будет холодно». — Идем к костру, — сказал инспектор Сашке. — Раздевайся до трусов, а одежду — на колышки. Умеешь? Попов только головой помотал — у него свело скулы. — Я помогу. Давай, да поживее. Свалилось же лихо на мою голову… — Последние слова Пионер Георгиевич пробормотал себе под нос. Когда они подошли к костру, у которого сидели парни из экипажа разбившегося вертолета, те, как по команде, встали и отошли далеко в сторону. Там они запалили новый костер и унесли чайник. Сашка глядел на них с тоской. Он почувствовал все увеличивающееся отчуждение между собой и людьми. Попов никогда не размышлял о великой мере душевной близости меж собой и окружающими. Она казалась естественной, как воздух, как солнечный свет. И люди не сторонились, а тянулись к нему за добродушие и веселый нрав. А теперь, когда ему как никогда хотелось участия, потому что он ощущал себя кругом виноватым, люди сторонились. Перехватив тоскующий Сашкин взгляд, инспектор сказал: — А ты думал, тебе медаль за твои подлости дадут? Не жди.11
За деревьями в густых сумерках ночи ворочалась река. Высокая вода тупо тыкалась в берег, хлюпала, урчала, захлебывалась противным всасывающим звуком, будто живая. Малинка слушал это невнятное бормотанье, глядел на трепетную ночь. Звезды проступили на небе блеклые, дрожащие. Истаивала луна в последней четверти. К рассвету сделалось промозгло, холодно. Прислонившись спиной к дереву, Пионер Георгиевич сидел тихо, точно слившись с окружающей мглой. И река, и ели, и осины, и сама ночь то ли разговаривали сами с собой, то ли прислушивались к себе, и Малинка размышлял о своих личных делах. Были они не очень веселыми. Он на мгновенье представил себе, как теперь на совещании в райотделе при упоминании его имени будут говорить: «Малинка? А, это на участке которого один парень алмаз украл, а потом товарища пришил…» На душе сделалось муторно. Конечно, есть тут его недоработка. Ведь жил с этим Поповым чуть не год бок о бок, как говорится. Видел его на дню не один раз. Куда в поселке денешься? И вот поди ж… Не углядел парня. Дело даже не в том, что на совещаниях поминать будут. Такое ЧП! Суть не в том, что задета его безупречная профессиональная честь. Разговор глубже, серьезнее. Совершено упущение по службе, в работе, ради которой он, собственно, и поставлен. Он в ответе и за скандал в семье Нюрки-поварихи, и механика гаража Наумова, и за это вот ЧП. Смысл не в оправданиях для себя, что парень всего три месяца в поселке, а до того был бульдозеристом-кочевником. Кочевали-то они не по луне — по его участку. На подобных кочевых точках он не бывал. А наверняка надо бы быть. Там тоже не ангелы обретаются — люди. Люди, зашибающие крепкую деньгу. Да тьфу с деньгами! Там не побалуешься — негде и нечем. И времени свободного почти не останется. Снова не о том. Такие бригады — крепкие, сбитые коллективы, где происшествие-вещь почти немыслимая. Каждый на виду у всех. И все-таки посещать такие кочевья надо, просто необходимо. Мало слышать о том, как трудятся люди, знать их нужно. А время? Где взять время на подобные длительные поездки? Придется выкраивать. Густые сумерки короткой ночи начали редеть. Столпившиеся темной массой деревья вдруг будто разъединились, и каждое стало само по себе, и лес обрел глубину. Белесый, обманчивый свет дрожал и переливался меж стволами. Проступил легкий туман. А Малинка продолжал свои невеселые рассуждения. Правда, теперь они были о другом — о том, что не одна, может быть, корысть двигала Поповым. Существует в этом необыкновенном камне — алмазе — какая-то странная притягательная сила. Она отмечена людьми давно. Нет, он не собирался оправдывать Сашку. Пионеру Георгиевичу хотелось отыскать ту крохотную, побудительную причину, которая заставляет человека, дотоле честного, сделать первый шаг к преступлению. Потом все идет своим чередом по проторенной дороге правонарушения. Но вот причинки: плохо лежит, подтолкнул кто «вовремя», увидел случайно — взял, а расстаться уже сил не хватило; взял «на время», а оказалось — навсегда… Их тысячи, таких «причинок». Они различны, будучи общи в одном: слабостью характера человека и не исключительно корыстными побуждениями. То, что в данном случае не существовало организованности, задуманности в правонарушении, Малинка был уверен. Не так бы пошло дело: не побежал бы, словно оглашенный, Попов, постарался бы скрыться «втихую». А Сашка меж тем, неудобно повернувшись, проснулся неожиданно для себя и сразу будто вынырнул из воды. Не поднимаясь и не изменив позы, он осмотрелся. Ели и кривые березки, одинаковые во всей пойме, представились ему теми же, что росли вокруг избушки, невдалеке от просеки ЛЭП. Все происшедшее показалось ему лишь привидевшимся в кошмарном сне, а сейчас, когда он открыл глаза, жизнь пойдет своим чередом как ни в чем не бывало. Мысль эта была так радужно приятна, что Сашка по-детски, со всхлипом вздохнул и тут приметил сидевшего невдалеке инспектора. «Было! Все было. Произошло… убийство Трофима. Потеря алмаза», — отчетливо осознал Сашка, и от этого сделалось так тоскливо и муторно, что он застонал, стиснув зубы. Там, где Сашка оставил друга, Трофима может съесть росомаха — самый злой разбойник в тайге. Сашка представил себе, как это будет или уже было, и вскочил. Инспектор тотчас оказался рядом: — Что с тобой, Попов? — Страшно. — Держись. Держись, парень. — Постараюсь. — Теперь тебе часто и долго придется думать и говорить об этом. Знай. Помни. — Зачем? — пожал плечами Сашка. — Чтоб и в беде не потерять человеческого достоинства. Попов. Не опуститься, не махнуть на себя рукой. Происходит такое само собой, а вот возвращает человек достоинство с великим трудом. — О чем вы? — Виноват ты, но не списывай себя с человеческого счета, не тверди себе: мол, жизнь кончена для меня. «Откуда инспектор знает, что я об этом думаю? — недоумевал Сашка. — Или душа моя для него — открытая комната? Что ему там делать? Я признался. Что еще? Что? При чем здесь моя жизнь, которой сейчас я не рад? Что? Что еще?» Малинка размышлял о своем. Долгие годы жизни и работы с людьми научили его терпению и бережному отношению к взрослым людям, словно бы к детям. Это свое настроение он так и называл «детсадовским». Годилось подобное отношение не для всех, с кем приходилось сталкиваться Малинке. Закоренелый, матерый преступник-рецидивист такого отношения не требовал и удивился бы, коль скоро старший лейтенант милиции заговорил с ним подобным тоном. Но ведь Сашка, к примеру, преступник, но по случаю, в силу обстоятельств, сложившихся для него «слишком удачно». Да, именно «слишком удачно». Удача для человека слабого, неустойчивого — капкан. Она для него горе, которое может обернуться бедой. Так и получилось. Для слабых людей обстоятельства — бич. Он гонит их в западню. Особенно, если это «счастливое» стечение обстоятельств, которое они непременно хотят использовать для себя и только для себя. Не попадись, к примеру, Сашке алмаз на дороге, он, пожалуй, всю жизнь остался бы славным, немного взбалмошным парнем. Он купил бы себе и машину, и моторку и был бы счастлив на свой манер. Да вот на тебе, подвернулась удача! И он уже не хочет довольствоваться «малым» — получить приз за находку. Он пытается искать путей «полной» реализации, стремится отыскать сообщника, наверняка предвидя возможные сложности. И запутывается в сетях случая. Нет, удача никогда не сравнится с успехом, заслуженным, твердым успехом. Успех не подведет, если его не станут использовать словно удачу. Успех — неразменный рубль… «Полно, — остановил себя Малинка. — Для Попова слова уже в прошлом. Он знал, что делал, и ответ с него полной мерой. Послушаем, что Лисий хвост будет говорить сегодня. Вчера он пробовал крутить…» — Что ж, Попов, поговорим дальше, — начал инспектор. — Пока к нам прибудет помощь, время у нас не ограничено. — О чем говорить? Я все сказал. — Повторить не мешает. — Спрашивайте, — мрачно проговорил Попов. — Как ты нашел алмаз? — Украл я, а не нашел, — поправил Попов. Он находился в том состоянии нервозной взвинченности, которая характерна для людей, ставших на путь признания. Вчера он мог вдохновенно врать о причине драки, стараясь скрыть главное — хищение алмаза, а сегодня само слово «нашел» вызывало в нем внутренний протест. — Ну, как украл — ясно. Протянул руку и взял, — сказал Малинка. — Нашел… Нашел тоже просто. Кинул в реку потрошенную тушку. Вытащил — на жирном огузке алмаз. Вот и все. Мне бы не брать его совсем. Да руки не послушались. — Ты раньше никогда не думал о возможности такой находки? Попов немного помолчал. — Думал… — И всегда брал? В карман совал? — Если большой, конечно, отдавал. — Как это — «большой»? — С кулак там или крупнее. А тут — с ноготь… Блажь вес это. Глупая блажь, инспектор. Не думал я всерьез. Хоть бы мыслишка толковая проскочила — как с ним быть. Да и случаев таких — один на десять миллионов. Мне, дураку, достался. Совладал я с ним? Только и беда, что в карман положил, не сразу отдал… — Сдать собирался? — Что с ним еще делать? — вскинулся Попов. — Я об этом и спрашиваю. — Поносил бы неделю в кармане — и сдал. Некуда с ним податься. Понимаете, не-ку-да… — Уверен ли ты был в Лазареве? В его согласии стать сообщником. — Нет. «Пожалуй, ты, Попов, все-таки больше дурень, чем подлец. И поступки его — глупее не придумаешь, — размышлял Малинка. — Почему так часто бывает, что ежели вдруг в человеке подлость пробуждается, то ею, подлостью своей, прежде всего самого близкого человека, друга пытаются заразить? На сочувствие рассчитывают, что ли?» Вслух инспектор сказал: — Значит, не исключал ты возможности, что Лазарев тебя в контору поволочет алмаз сдавать? — Не исключал… — И все-таки драку затеял. — Так он выбросил камень! — Выбросил? — Точно. Сам видел. «А что, если ты видел не то и не так? — подумал инспектор. — Очень не похоже на свой характер действовал Лазарев. На месте надо быть. Обязательно. И сегодня. Не то дожди смоют все следы. Тогда одна путаница пойдет. Ох уж эта катастрофа! Но пока следует выяснить действия, поступки, если можно — передвижения Лазарева и Попова в долине у избушки». — Вот что, — сказал инспектор, — садись ближе. Старший лейтенант достал блокнот, карандаш. — Писать надо? — спросил Попов. — Не-ет, — протянул инспектор, занятый наброском. — Вот это план долины с избушкой. Расскажи, как вы прошли туда, что делали, куда ходили… Все по порядку. Не торопись. Это важно. Надо восстановить последовательность происходившего. — Хорошо. Я постараюсь ничего не спутать. Одного я не знаю, что делал Лазарев, когда я спал… Вертолет спецслужбы нашел потерпевших катастрофу рано утром. Малинка очень удивился, когда из машины, приземлившейся за пойменным лесом, вышел сержант Никулин. — Ты будто знал — понадобишься! — воскликнул инспектор. — А начальство на что? — подмигнул сержант. — Меня майор Нестеров послал. Вызвал, говорит: «Старший лейтенант понапрасну беспокоиться не станет. Выходит, дело серьезное, а раз он и экипаж пропали, то вдвойне. Может быть, помощь потребуется. В общем, отправляйся». — Помощь действительно требуется. Не положено таких типов без охраны в район отправлять… И Малинка вкратце рассказал о деле, на которое он натолкнулся. — Мне, сам понимаешь, до зарезу нужно побывать на месте преступления. Вот-вот дождь — и от следов ни шиша. Признание Попова признанием, а повиснет на мне дело — не обрадуешься. У меня от него уж и так шея болит. Вот спасибо, что прилетел! — Начальство благодарить будешь, — снова подмигнул сержант. — Мое дело — приказ выполнить.12
С высоты крутая осыпь выглядела плоской. Сбоку, у самого края ее, валялось дерево. Все, как на плане, что они начертили с Поповым, который на автомашине ехал теперь с сопровождающим в райцентр. Действительно, план оказался точным. Только ни под стволом дерева, ни близ него не было человека. — Что за чертовщина!.. — не сдержался Малинка. Он высунулся за борт, насколько позволял выпуклый иллюминатор. — Никого. Где же Трофим? Неужели зверье растащило? Больно быстро, быть не может. Да и наследило бы зверье — ой-ой! Вертолет заходил на посадку. Плюхнувшись на металлическую скамью, Пионер Георгиевич даже глаза протер. «А чего я, собственно, разволновался? — подумал он. — Может быть, и хорошо, что никого под деревом нет. Трупа нет. Чего ж мне расстраиваться? Это уж по инерции, по вере в Сашкины слова, что труп должен быть. Ерунда какая! Вот приземлимся — я в избушке посмотрю. Замечательно, если мы прибыли вовремя и сможем оказать Лазареву помощь!» Поляна перед избушкой была достаточна для посадки. Пионер Георгиевич попросил пилота обождать и побежал к дому. Теперь он понял, что ошибся при первом облете, когда решил: дверь заколочена. Она действительно так выглядела. Но только выглядела. А на самом деле — лишь притворена, да крестовина досок не снята. Дверь открылась легко. — Лазарев! Трофим! —почему-то нетерпеливо крикнул Малинка. Никакого ответа. В избушке стояла полумгла. Крохотное подслеповатое окошко скупо пропускало свет. Солнечные лучи, косо падавшие в дверной проем, освещали лишь порог. Странный беспорядок царил в доме. Но инспектор пока не стал разбираться, что к чему, — раз Трофима здесь не было, следовало отпустить вертолет. Выйдя на свет дня, инспектор помахал рукой, и машина тотчас ушла, разметав на поляне тучи прошлогодней хвои, вздув пепел кострища около избушки. «Хорошая штука вертолет, — подумал старший лейтенант, — но кое-какие следы — вещественные доказательства — потеряны безвозвратно. Их разметал вихрь от винта. Жаль. Очень жаль. Но делать нечего». Инспектор вернулся в дом, сел на нары и закрыл глаза, чтоб они привыкли к полутьме. Когда он открыл их, внутренность жилья предстала перед ним словно обнаженной. Сразу было видно — жили здесь люди не таежного склада: слишком много беспорядка и безалаберщины. Дрова кучей свалены в углу. Печка из бочки расположилась слишком близко к стене дома. Тут же торчало забытое ведро с тавотом. На столе банка с солью. И нож. Добротная, даже шикарная для тайги фабричная финка. На рукоятке стояли инициалы: «А. П.» «Сашкина, — понял инспектор. — Он о ней даже не вспомнил. Совсем не таежный человек». Тут же на столе валялись патроны. «Получается, что при желании Попов мог найти патрон, — подумал Малинка. — Только действительно не в себе он был, не в своей тарелке. Иначе Лазареву пришлось бы гораздо хуже. Хотя я не знаю, что с ним, и не могу пойти искать, пока не закончу осмотр». В изголовье нар инспектор обнаружил следы крови. Они были недавние — запекшиеся, но не подсохшие еще, не въевшиеся в доски. Инспектор сделал соскоб и убрал его в один из крохотных целлофановых пакетиков, которые всегда носил с собой. Под нарами валялся небольшой спортивный рюкзак, развязанный и в спешке полувыпотрошенный на пол. В нем две банки тюльки в томате, свитер. «Сашка взял свой рюкзак. Это — лазаревский. А если северянин оставляет свитер — плохо человеку, — отметил про себя Малинка. — Ведь следы крови на нарах свидетельствуют, что Лазарев приходил в избушку уже после того, как выбрался из-под сухостоины. Не иначе». Под нарами же, у самой стены, инспектор приметит длинный, похожий на дубинку предмет. Малинка, кряхтя, полез за ним. И даже когда в руках у него оказалось ружье, он не сразу поверил в это. Бросить ружье в тайге представлялось ему верхом опрометчивости. Ружье было заряжено отнюдь но холостыми патронами. «Спрятал его, выходит, Лазарев, — понял Малинка. — Свое ружье спрятал, чтоб Сашка его не схватил ненароком. А почему потом не взял? Ведь в тайгу ушел, не в лесок. Невмочь было и ружье нести? Пожалуй». В углу избы валялась убитая копалуха. Инспектор разозлился не на шутку. Добро, когда стреляют глухарей, чтоб наесться, по бить птицу ради забавы — такое уж из ряда вон, и в донесении он не преминет упомянуть о хищничестве. Потом он с удовольствием вышел на воздух и отправился к берегу, к скале, о которой говорил Попов. С нее, по его словам, Лазарев бросил в реку алмаз. На боку дикого камня инспектор обнаружил царапины от подковок лазаревских сапог. А под камнем трава была крепко потоптана, почва взрыта. «Э-э, — протянул Малинка, — драка была и здесь, не только на склоне осыпи. Попов об этом ни гугу…» Осматривая около этого места спуск к реке, инспектор обнаружил несколько ямок от свежевывернутых камней. Они были хорошо заметны. На заберегах таежных рек не задерживается ничего лишнего. Всё уносят талые воды, паводки, ливни. А тут темнело три свежих ямки. «Что ж, — отметил инспектор, — выходит, камень, пушенный в Лазарева на склоне, был не первым и не единственным… II зачем, кстати, понадобилось Лазареву забираться на скалу, чтоб бросить в реку алмаз? Это можно было сделать хотя бы вот отсюда, да и с любого места на берегу. К чему он карабкался на трехметровый камень?» В душе Малинка должен был признаться себе, что все-таки надеялся найти здесь хоть какое-то оправдание действиям Попова. Инспектор думал: возможно, Лазарев в чем-то не так повел себя, был груб в своих справедливых требованиях, оскорблял Сашку, вызвав приступ лютой злобы. «Подожди, подожди. Малинка! — остановил себя старшин лейтенант. — Так ведь на скалу Трофим залез, чтоб из безопасности уговаривать друга. Он, пожалуй, до конца надеялся, что тот, хоть и подлец, но не убийца. Уговоры оказались бесполезны. Тогда Лазарев бросает в реку алмаз. Бросает… Алмаз! Не похоже на Лазарева. Потом Трофим бежит к осыпи. И там… случаи? Случаи или Сашкин камень лишает его жизни… Так, по крайней мере, кажется Попову. Вот тогда, словно очнувшись, Сашка решает бежать. Так велико было его желание убить Лазарева, что, увидев его поверженным, придавленным лиственницей, Попов принимает желаемое за действительность. Сашка не пытается помочь другу, даже не любопытствует, жив ли тот». Размышляя о происшедшем здесь, инспектор направился к осыпи. Двадцатиметровая корявая мертвая лиственница была очень тяжела даже на вид. На камнях, примерно у середины ствола, Малинка увидел запекшуюся кровь и снова сделал соскоб, потому что первый же дождь смоет след. На частицах почвы у вывороченного корня инспектор приметил отпечатки сапог с подковками. Тут же, метрах в двух от выворотня, валялся здоровый камень. Он совсем не вписывался в рисунок осыпи, лежал углом вверх и не рядом, а поверх других. Ведь если внимательно осматривать любую каменную осыпь, то она предстанет перед взором не беспорядочным нагромождением свалившихся камней, а потоком. Но всякий поток подчиняется некоему общему движению. Случайностей бывает очень мало даже в каменной лавине. Общий рисунок осыпи инспектор отметил, еще только подходя к ней. Это сделалось как-то интуитивно. Меж сопок, среди которых прошла большая часть жизни Малинки, в каменистых распадках и ключах осыпей полно. По ним часто проходят звериные тропы. И даже их можно увидеть, если присмотреться как следует охотничьим взглядом. А у Малинки был взгляд охотника, хотя последние годы он не брал в руки ружья. Этот лежавший поверх других гладкий камень Малинка отнес в избушку. Ведь на камне должны были остаться отпечатки Сашкиных рук. Подходя к избушке от осыпи прямым путем, инспектор сделал еще одно маленькое открытие. Две молодые елки, росшие неподалеку от дома, были ошкурены. Около них виднелись следы лазаревских сапог с подковками. Когда — до схватки с Поповым или уже раненный — сдирал кору Лазарев и для чего, оставалось пока не ясным. В плане, который они составляли с Поповым, указывалось, что в дальнем по течению реки углу долины находился завал. Из его сухих стволов Сашка и смастерил плот. Около завала, осматривая следы работы Попова, инспектор отметил четкий, повторяющийся, похожий на змеиный след. Глядя на него. Малинка втихомолку ругал себя. Он не спросил у Сашки, чем тот вязал плот, и просмотрел, где же лежала бухта тонкого троса в избушке. «Похоже, я слишком доверяюсь плану, — с недовольством отметил про себя Малинка. — Это неверно. Что-то, и наверняка важное, вне его. А я ничего особо существенного пока не обнаружил. Не следует торопиться». Малинка сел на чурбан у кострища и задумался. Все, что он видел, подтверждало рассказ Попова и существенно дополняло его. Но в долине у избушки Лазарева не оказалось. Уж одно это хорошо. Значит, он жив, мог идти. Срезанные с комля елей кородерины говорили еще об одном: что Лазареву трудно и он передвигается на четвереньках. Инспектор додумался до этого как бы невзначай. Логика подсказала. Черт знает что! Эти «неразлучники» задали такую задачку, что впору было покачать головой, и только. — Да, и только! — сказал вслух инспектор. Малинка любил это слово и употреблял его в самых трудных случаях. Действительно, один друг признался в краже алмаза и покушении на жизнь человека, второй бросает алмаз в реку. Статьи-то, что называется, разные: одна — до общественного порицания, другая — до восьми лет. Что и говорить, «дистанция огромного размера». С одной стороны, надо, надо идти за Лазаревым, спасать теперь и второго дружка. А что-то не давало покоя Малинке, удерживало. Ощущение можно было бы назвать чувством неудовлетворенности. Факты, наблюдения не замкнулись в цепь. Он не мог уйти отсюда, не разгадав какой-то загадки. И не уходил. Он ковырял палочкой пепел давно погасшего костра и неожиданно для себя обнаружил ямку. Стал копать глубже и видел тушку копаленка. Только теперь инспектор вспомнил, что не ел с утра, когда его забросили в долину на вертолете. Глухаренка приготовили со знанием дела. Малинка выкопал его, почувствовал острый вкусный запах запеченной под костром дичинки и, вздохнув, отломил ножку. «Каким путем мог уйти из долины Лазарев, да еще в его положении? — размышлял инспектор. — Верхом, через непропуски, к Назарычу, путь короче, но труднее. Намного тяжелее дороги по осыпи, а потом по просеке к половинке. Но здесь путь значительно дальше. Кстати, по тяжелой дороге Лазарев сразу выходил к людям, к парому, к Назарычу. А во втором варианте, он мог рассчитывать только на счастливый случай, но без риска в пути. Дорога ровная, не сорвешься». Инспектор долго не мог понять, что же его еще волнует, не дает покоя. Он еще раз осмотрел избушку. Ощущение неудовлетворенности было странным и полуосознанным. Будто он вошел в темную комнату, где должен быть враг. Но чувства диктовали другое. Большой опыт и большая выдержка не дали ему сделать слишком поспешный вывод. Довериться первому впечатлению? Он знал, насколько обманчиво оно бывает. Вот этим-то интуитивным движением души он и ощутил, что в «комнате» не враг, а друг. Человек, который ему очень нужен. Именно он может дать отгадку буквально на сто вопросов, волнующих Малинку. Инспектор не мог сразу поверить, что дружба, проверенная в сложных испытаниях, могла рассыпаться на первом жизненном пороге. Пионер Георгиевич не отвергал всего сказанного Поповым. В его исповеди была своя правда. Именно «своя». Здесь с Лазаревым находился человек, который сохранил лишь имя и фамилию его друга. Да, именно так. Тезка его друга — не более. Существо, словно в волшебной сказке принявшее обличье Сашки Попова, с которым Лазарева связывала дружба. «Оказывается, такие превращения встречаются не только в сказках, — подумал инспектор. — И это страшно!» То, что Лазарев догадался о «подмене», представлялось инспектору бесспорным. Однако безусловно и другое: Трофим до стычки на осыпи не верил в окончательное превращение друга в оборотня. После того как он отправил Попова в райцентр, инспектору оставалось искать факты его виновности. Придя на место преступления после отправки в райцентр Попова, инспектор начал с того, что проверил факты, рассказанные Сашкой. Они подтвердились. У скалы он обнаружил след Лазарева, который, по признанию Сашки, оттуда бросил алмаз в реку. Но почему он это сделал? Почему? Скрыть преступление друга во что бы то ни стало? Вот тут-то и зарыта собака. Выброси Лазарев камень, тогда, что называется, все стало бы попятным: камня нет, не было, и ссора друзей могла объясниться любым поводом. И дело уже касалось другого — доказательства существования самого камня. — Алмаза-то нет! — Инспектор хлопнул ладонями по коленям. В таком случае это обвинение могло отпасть за недостаточностью улик. Не на то ли и бил Лазарев? Взгляд Пионера Георгиевича почему-то время от времени останавливался на дальнем от него углу избушки. Вот и опять. Малинка не очень любил торопливость и решил понаблюдать за собой. Просто подойти, посмотреть — не годится. Возможно, даже наверняка он найдет, что привлекало его взгляд. Однако не осознает, почему именно этот предмет занимал его. В игре солнечного света, проникавшего сквозь кроны деревьев, блеснуло что-то. Снова блеснуло… Тогда, аккуратно положив ножку копаленка, которую он ел, на хвою у кострища, Малинка прошел к углу избушки. Около камня у сруба валялись осколки бутылки. Разбита она была совсем недавно. Это легко можно заметить по краям обломков стекла. Они ничуточки не припылились даже. Остра пахло бензином, который, очевидно, находился в бутылке. Причем сначала разбита бутылка. А потом донышко. Вот они, толстые осколки. Да, нет сомнения, что донышко разбито после, разбито специально. Зачем? На стекле горловины, основательно запыленной, виднелись четкие отпечатки пальцев. Осторожно взяв горлышко за край, инспектор отнес его в избушку. Улика веская для следствия. Да и непонятно пока было, зачем понадобилось Попову или Лазареву бить посудину! И тут инспектора словно осенило! Пока это была лишь догадка. Но она быстро оформилась в четкую мысль: «Бутылку разбил Лазарев. В реку брошен осколок стекла, а не алмаз! Зачем Лазарев так поступил? С преступной целью подмены? Опять-таки с целью спасения друга от преступления, от самого себя — любой ценой! Очень опрометчиво, но вероятно. Неужели Лазарев до конца, может быть до сего момента, продолжает бороться за Попова против Попова? Пожалуй, это точно. Эх, человечина!» Теперь Малинка не медлил. Осмыслив происшедшее, он решил, что если его версия верна, Лазарев не станет рисковать. Он пойдет пусть долгим, но зато и безопасным путем. С ним — драгоценная ноша.13
Очнувшись, Трофим хотел глубоко вздохнуть и не смог. Попробовал пошевелить рукой — одной, другой — не получилось. Но пальцы ощущали сучки сухостоины. Было темно, потому что ресницы склеились. Ноги слушались и, подвигав ими, Трофим сообразил, что лежит на склоне, головой вниз. Каким образом и почему он очутился здесь, Лазарев припомнить не сумел. «Что за чертовщина? — удивился Трофим. — Где-то рядом должен быть Сашка. А если он тоже в таком положении? Может, ему еще хуже?» — Саша! Саша! — громко позвал Лазарев, превозмогая боль и тяжесть в груди. — Попов, где ты? От напряжения зазвенело и застучало в голове, и Трофим решил, что именно поэтому он не услышал отзыва. — Попов! Попов, что с тобой? — проговорил он ровно. Ответа не было. «Может, он за вагой ушел? — подумал Лазарев. — Меня деревом придавило. Как же я здесь очутился? Вот дела! Подождать? Да чего там, надо выбираться. С чего начать? С рук. Ими удастся столкнуть с груди сухостоину или выползти из-под нее. Давит она вроде не так уж и сильно». Трофим, пошевелив пальцами, принялся обламывать трескучие сучки. Постепенно руки освобождались от корявых пут. Обломав сучки и сучья, мешавшие двигаться, он вытащил руки из-под ветвей, в клочья изодрав рукава. Потом стащил с век налипшую свернувшуюся и засохшую кровь. Открыл глаза. Был вечер и ясное небо. Сильно пахло хвоей и прелью. Когда Трофим попытался спихнуть лежавший поперек груди ствол сухостоины и зашевелился, с окрестных деревьев поднялось с десяток ворон. Они покружились, покружились над ним, противно грассируя, и улетели. Лишь одна, то ли слишком голодная, то ли очень молодая, не желая верить, что жертва ожила, уселась на ближнюю осину. И всякий раз, когда Трофим двигался, пытаясь освободиться, ворона растопыривала крылья и нагло со злостью орала. Трофим процедил, стиснув зубы: — Каркай в такт, паразитка! Ну, раз-два, взяли! Еще… — и потерял сознание, не рассчитав своих сил. Приходил в себя Трофим на этот раз трудно. Боль металась в голове, словно большой лютый зверь в клетке. Надсадно ломило грудь. Руки ослабли и дрожали. Неожиданно он почувствовал: кожа на лбу покрылась потом. Это очень обрадовало его. — Жив, значит! Слышь, ты, паразитка, жив! — Трофим поискал глазами горластую ворону: — Улетела… Наконец, после изматывающих усилии, Лазареву все же удалось столкнуть ствол с ребер. — Ну, живот да бедра протащить — плевое дело, — сказал он сам себе. И действительно, выбрался из-под ствола довольно скоро. Сел, огляделся: поблизости Сашки не было. Внизу, в долине, — тоже. Не горел костер, дверь в избушке издали выглядела заколоченной. Но тут Трофима замутило, к горлу подкатила тошнота, окружающее поплыло перед глазами. Лазарев припал грудью к стволу и ощутил жесткий угол в межреберье. «Чертов сучок! — подумал он, терпеливо перенося приступ дурноты. — Этак он кожу пропорет». Когда полегчало и он отвалился от ствола, то увидел, что никакого сучка в том месте на валежине не было. Трофим полез в нагрудный карман ковбойки, нащупал там камушек. Он хотел выбросить его не глядя, как вдруг осознал: — Алмаз! Это ж алмаз! Я же разыграл Сашку — бросил-то в реку осколок стекла от бутылки! В неверном свете кристалл выглядел совсем невзрачно. Куда невзрачнее блестящего искристого осколка стекла, который Трофим швырнул в воду. «Наверное, потому и кинулся Попов на меня словно ненормальный, — вспоминал Лазарев. — С придурью он стал в последние дни. Тоже выдумал: выручку от продажи алмаза — пополам. Будто этот камень — его, он нашел алмаз в своем огороде! Только и в твоем огороде клад — собственность государства, всего народа. А тут, Саша, месторождение, открытое на средства не дяди, а всех граждан нашей страны. Значит, и твои, и мои… У кого же ты стащить решил… Э-э, похоже, что для него, сколько ни говори, всё одни слова. И хороший ты парень, друг, а сам себе подножку хотел подставить. Озверел при мысли о пачке купюр… Может быть, я сам себя разыграл в этой истории? Сашка не прост…» В помыслах и поступках Попов шел порой на грани напористого нахальства и откровенной наглости. Но он не забывал оставлять себе этакую тонюсенькую щелочку для отступления, в которую исчезал с мастерством фокусника. Когда все уже верили, что он либо гад, либо подонок, Сашка расплывался в улыбке: «Эх, вы, а еще умные люди…» И оказывалось или так выглядело для окружающих — сами они обманулись, он же тут вовсе ни при чем: вольно принимать шутку — пусть неумную — всерьез. Возможно, Сашка испытывал его, Трофима, — поддастся он или нет на подачку, чтобы в том случае, если поддастся, все-таки рассмеяться по-лешачьн. Вполне вероятно, что так оно и было бы. Подкоп под подкоп, думал Лазарев. Однако он, Лазарев, сам помешал. Затеял розыгрыш. «Хороша шуточка! Это же провокация! Хуже Сашкиной. Он — словом, я — делом. Как же ты, Трофим, докатился до такого…» Тяжело вздохнув, Лазарев поднялся, но тут же сел: мир качался перед глазами и ноги не держали. Когда головокружение чуточку улеглось, Трофим подумал: «Не получается на двух, попробуем на четырех. Человек-исключение среди млекопитающих». И он начал спускаться в долину, к избушке. Не зная, сколько времени прошло с того момента, когда на него обрушилась сухостоина, Трофим надеялся, что Сашка ждет его. Ведь Попов не знал да и догадаться не мог, будто он. Лазарев, сыграет этакую злую шутку. Сашка, конечно, принял все всерьез. Есть такая слабинка у любителей подшутить и разыграть. Может, Попов перестал преследовать его намного раньше, чем Трофим схватился за ствол сухой лиственницы, и ничего не знает о случившемся с ним? Сидит, поди, на нарах, злой, ждет, когда Лазарев объяснит, почему это он решился так поступить с очень ценной и нужной для государства вещью — выкинуть алмаз в реку. «Ох, Трофим, Трофим, заварил же ты кашу!» — вздохнул Лазарев, с трудом передвигаясь на четвереньках под уклон. Попова в избушке не оказалось. Разбросанные вещи свидетельствовали о торопливых сборах. «Обиделся. Очень обиделся Сашка. И смотался, — решил Лазарев. — Конечно, не знает он, что со мной стряслось. Иначе бы не ушел. Разве Сашка, зная о моей беде, смотался бы? Не струсил же он на последних маневрах. Там я попал в переплет куда посерьезней, чем этот». Забравшись на нары, Лазарев лег на спину, чтоб не побеспокоить рану у виска. Он чувствовал себя спокойно и не тревожился ни о чем. Руки целы, ноги целы; ружье — под нарами, еда — в рюкзаке. Понадобится, он на четвереньках до парома, к Назарычу доберется. Нет, Сашка не оставит его, как не оставил тогда… Это случилось на летних маневрах. Их с Поповым послали срочно вывезти из горного района десант, который выполнил свое задание. И дела-то всего часа на четыре. Подскочить в горы, забрать ребят — и обратно. Но уже вечерело, ехать пришлось совсем в темноте, ориентируясь по компасу и карте. А это уже совсем не просто. Местности они толком не знали. Проезжали здесь как-то в начале лета. Но одно — июнь, другое — октябрь. В предгорьях снег еще не выпал, но стоило им подняться на несколько сотен метров по одичавшей горной дороге, как вездеходы натолкнулись на снежные завалы. Фары включить было нельзя. Маневры проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Капитан Чекрыгин предупредил их. И еще они знали — где-то на трассе около десанта находится посредник, который тут же засек бы любое нарушение. Завалы для вездехода были сущей чепухой. Трофим преодолевал их с ходу. Целые вихри снега вздыбливались перед машиной. Петя-помощник с непривычки даже лицо локтем прикрывал, когда вдруг будто лавина вздымалась перед кабиной. Новый, недавно, перед самыми маневрами, полученный Трофимом бронетранспортер показывал свою резвость. Где-то на дороге должен был быть глинистый оползень. Трофим помнил, что и летом он доставил им немало неприятных минут. Но где именно он находился, теперь можно только угадывать. И не потому, что стемнело. Ранняя горная зима неузнаваемо изменила пейзаж. Слабо светлел снег в ночи под небесным светом, который просачивался даже сквозь низкие тучи. Контуры безлистых ветвей деревьев, росших слева по косогорью, неясно виделись на фоне сугробов. Узнавались лишь дубы — они полуоблетели и казались обугленными. Да что толку? Не помнил Трофим особых примет оползня. И поэтому нервничал. Он внутренне напрягался, едва на косогоре появлялась пролысина — возможный признак ловушки. Машина влетела на оползень неожиданно. Трофим почувствовал, что бронетранспортер ведет себя не так, как на твердом грунте. Он ощутил это ладонями, лежащими на рукоятках фрикционов: ладони испытывали различное напряжение, переданное с гусениц. Те работали теперь вразнобой. И вот здесь-то Трофим, по его мнению, совершил ошибку. Он решил переключить скорость на меньшую: увеличилось бы сцепление траков с хлябью почвы. Но в то же мгновение он забыл, что ведет новую, недавно полученную машину, а не свою старую, к которой привык и на «привычки» которой было рассчитано каждое движение его мышц. Может быть, на какие-то несколько миллиметров больше нога его освободила педаль, а рука выжала сектор газа. Этого оказалось достаточно, чтоб дизель заглох, машина замерла и начала под собственной тяжестью сползать к круче берегового откоса. Трофим заставил двигатель работать через несколько секунд. Однако за это время машина сползла юзом метра на четыре от дороги, и когда водитель пытался взобраться на грейдер, то случилось самое неприятное. Трофиму пришлось включить лишь правый фрикцион. Здесь он тоже, возможно, поторопился. Едва гусеница на самом малом начала выравнивать бронетранспортер, как машина круто развернулась на глинистой осыпи и стала кормой к обрыву. Вновь пришлось сбросить газ, а тяжелый бронетранспортер неудержимо заскользил вниз. Мотор отказал. Стрелка на циферблате показателя топлива в баке прыгнула к нулю. Помощник-первогодок распахнул дверцу и, глянув назад, ошалело обернулся к Трофиму: — Круча! Падаем! Спасайся! — и кубарем скатился из кабины в снег. Трофим только зубы стиснул и что хватало сил жал на тормоза. Под гусеницами послышался каменный хруст. Скольжение замедлилось. Хруст слышался все громче… Смолк. Машина остановилась. Мотор не работал. Подняв глаза на дорогу, Трофим увидел, что бронетранспортер Сашки Попова проскочил опасный оползень. Наверное, с ходу. Он шел вторым и мог учесть ошибки Лазарева. — И то хорошо, — стащив с потной головы шлем, негромко, для себя, проговорил Трофим. Потом он очень осторожно отдал тормоза. Машина стояла как вкопанная. — Тоже неплохо… Открыв дверь, Трофим выглянул наружу и посмотрел на кромку обрыва. Она была метрах в семи. — Рано запаниковал, Петя… Впрочем, у страха глаза велики… — И, продолжая негромкий разговор с самим собой, Трофим снова посмотрел на показатель горючего. Стрелка, может, на миллиметр отошла от нуля. — Так. Коли горючего было почти полбака, значит, оно на крутом склоне откатилось к задней стенке. Горловина насоса то ли наполовину, а может, и меньше вышла из жидкости и засасывает воздух. Вполне понятно… Трофим принялся вручную подсасывать горючее. Плоховато, но получалось. Попробовал завести мотор. Пошел. Держа дизель на малых оборотах, Трофим осторожно тронул машину вверх. Двинулась. Метр, другой… Характерное чихание голодного, задыхающегося без топлива двигателя — и стоп! Тишина. И скольжение обратно, к обрыву берега. Лазарев до отказа выжал тормоза, хотя понимал: помогает это мало, насколько хватит инерции у массы машины, настолько она и сползет. Сползла, остановилась, пробив колею еще ближе к обрыву. Трофим вздохнул. Тут он увидел, как от дороги огромными скачками прыгает под горку Сашка. Подбежал, вскочил в кабину. Покосившись на друга, Трофим подкачивал топливо вручную. Окинув взглядом слабо освещенную подсветкой приборную доску, Попов постучал пальцем по стеклу циферблата показателя горючего: — Бак пуст? Как же ты, а? — Да есть горючее. Почти полбака. — А тут — нули. — Крутой откос. Назад откатилось. Вот и пули. — Чего же не дозаправился? Положено. — У тебя было время, у меня — нет. Обстановку, трассу изучал. — А помощник? — Петух-то? Вон он в снежке остывает. Сдрейфил. Есть от чего. — Брось, — поморщился Трофим, хотя знал: прав Попов. — Дозаправиться — десять минут, — ворчал Сашка. — Как же ты залетел? — Не «как», а «почему». Разговор с Сашкой успокоил Трофима, и Сашка явно понимал: болтовня эта нужна Лазареву, растерявшемуся на какое-то мгновение. — Ну почему? — Потерял ощущение машины. На секунду, на несколько. Не помню. Пошла она сама по себе, а я сам по себе. Понимаешь? Потерял с ней контакт. — А теперь? — Не знаю. — Может, мне за рычаги сесть? А, Трош? Лазарев только головой помотал. Чуть пригнувшись, Сашка заглянул в лицо друга: — Еще такая попыточка — гробанемся в озеро. — Убирайся к черту! Я не звал тебя! — Не ярись, командир. Не положено. — Без тебя тошно… Напрямую подниматься? Или наискось по склону?.. Сашка вскинул брови и поморгал белесыми пушистыми ресницами: — Наискось. Напрямую ты уже пробовал — сорвался. — Верно. Наст я тут содрал. Заскребут траки, как мне по сердцу… — Это точно. Как ты не дозаправился? — Не снимай с меня кожуру. Ужо! Потом. — Я ж не ножичком — «экономочкой», — хохотнул Сашка. — Знаешь, сколько я по первому году по кухне отнарядил? Картошки через мои руки прошло — вагон! — Добро. — Ничего себе «добро». — Попробуем вылезти, говорю. — Трофим обхватил ладонями рукоятки фрикционов и несколько раз то сжимал, то разжимал пальцы, прилаживался ухватиться поудобнее, точно именно от этого зависело, удастся или нет выбраться им из ловушки глиняного оползня. — Вот что, Сашок, моральная поддержка — великая вещь, но займись-ка делом. Подкачивай все время топливо вручную. — Само собой. — Попов с привычной небрежностью принял предложение, словно он-то его и высказал, добавив: — Направо подавай. — Почему? — Склон ровнее. — Откуда знаешь? — продолжая примериваться к рукояткам, не глядя на Сашку, спросил Лазарев. — А когда я козлом сверху прыгал, то приметил слева от тебя снежные горбы. Значит, там камни. Справа их нет. И язык оползня, если рассуждать логически, кончается здесь, где ты торчишь. «Логически»… Ты бы попозже сказал, что вправо подавать надо. — Вовремя сказано, командир, — мерно работая топливным насосом, проговорил Попов, и он снова, чуть пригнувшись, заглянул в глаза Трофиму: — Ну давай, давай! Не тяни, Троша! — Дверцу открой. — А… — Открой! — Да ну тебя! — Черт! Ты вверх посмотри. — Ну… — Видишь, на дороге три фигуры, а не две. — Ну… — Двое — наши помощнички, а третий — посредник. Увидит он, что мы нарушили правила техники безопасности, и посчитает нас «убитыми» или потерпевшими катастрофу. Может, ты уйдешь? — Нет, — резко ответил Сашка. — Ты уверен, что наши помощники и без нас на одной машине выполнят задание? — Выберемся. — Я не ною. — Давай пошли, — негромко сказал Попов. Трофим опять дал мотору малые обороти и очень осторожно начал разворачивать бронетранспортер. Машина противно скребла гусеницами по камням, слушалась, но нехотя, будто через силу. Во взгляде Сашки зажегся шалый огонек, и он работал с остервенением: — Пошла, пошла, милая! Ну, еще, еще чуток! Трофим действовал молча. Он упрямо сжал губы. Пальцы его впились в рукоятки фрикционов и точно слились с ними. К нему вернулось ощущение машины. Он сторожко чувствовал, как бьется ее сердце, иногда захлебываясь от пробившегося воздуха, и тогда ему казалось, будто и его собственное сердце замирает и работает не в лад. Он слышал скребущий звук траков по камням и как они проскальзывали по голышам на крутизне, и вздрагивание машины при этом и дрожь передавались ему. Он видел в смотровое стекло, с каким невероятным трудом бронетранспортер отвоевывал у кручи сантиметр за сантиметром, и ему представлялось, что не машина, а он сам, напрягая последние силы, задыхаясь и соскальзывая, преодолевает предательски скользкий и коварный от размягшей глины, спрятавшихся камней склон. Наконец Лазареву все-таки удалось повести машину наискось по круче, придав бронетранспортеру более устойчивое положение. — Ну! Ну! Вывози, родимая! — все азартнее орал Сашка. Когда они повели бронетранспортер наискось по круче, подача горючего улучшилась. Но Сашка не перестал его подкачивать вручную. На всякий случай. Остановка была бы равносильна не просто «поражению», не только возможным юзом сползшей в озеро машины, но и гибелью Сашки. Прыгать в открытую дверцу — бессмысленно. Попов попал бы под гусеницы и его бы столкнула в озеро сама машина. А Лазарев не оставил бы друга до последней секунды. Они не говорили об этом. Все было ясно без слов. Оползень действительно вскоре остался в стороне. Бронетранспортер увереннее стал цепляться за скудную почву, трещали под траками раздавленные камни. — Давай, давай вторую скорость! Ну, Троша! Трофим не отвечал, продолжая медленный и равномерный подъем. Повысить скорость значило увеличить расход горючего. Лазарев не мог пойти на такое. Слишком памятным оставался для него первый нерасчетливый рывок. И Лазарев знал, что второй промашки, даже если они и не свалятся в озеро, посредник им не простит. Не имеет права простить. Сашка орал, будто одержимый, толкал Трофима локтем в бок. Однако Лазарев молчал и продолжал делать свое дело так, как он считал нужным. Добрых полчаса понадобилось им, чтоб преодолеть каких-то тридцать метров кручи. Когда машина выползла на грейдер, посредник, ни слова не говоря, отошел в сторону, словно ничего не произошло и он ничегошеньки не видел. Потом дела пошли как по маслу. Они прошли на предельной скорости остаток пути, опоздав к десанту лишь на пять минут расчетного времени. Ребята, которые их ожидали, и поволноваться толком не успели, а потому встретили их в меру радостно, не спросив о причине пустяковой задержки. К месту сбора десантников доставили точно по расписанию. На рапорте у капитана Чекрыгина Лазарев доложил о происшествии, хотя Сашка убеждал Трофима, что все это чепуха и дело выеденного яйца не стоит. Капитана Чекрыгина обеспокоило в донесении два обстоятельства: почему Лазарев небрежно отнесся к тому, что его помощник не дозаправил машину, и, во-вторых, какие воспитательные меры думает принять старший сержант Лазарев к подчиненному, который оставил свой пост во время опасности. — Ответа тотчас не спрашиваю, — сказал капитан. — Подумайте и доложите мне завтра после вечерней поверки. Но едва Лазарев и Попов покинули кабинет, как капитана вызвал к себе начальник. В коридоре Чекрыгин столкнулся с майором-посредником. Тот остановил его: — Водители вам доложили, капитан? — О чем, товарищ майор? — О происшествии на глиняном оползне по-над берегом озера. — Конечно, товарищ майор. Адские водители, вы хотите сказать. — Райские! Райские, товарищ капитан. Чекрыгин улыбнулся: — В раю такого, я слышал, не бывает. — Только в раю такое и бывает, — авторитетно заверил майор. — Лазарев на липочке висел. До сих пор не могу попять, что меня удержало и я не снял их. Наверное, его храбрость. И отчаянная удаль Попова. Вот сорвиголовушка! Но каков! Он же рисковал больше, чем водитель. Когда они пошли вправо, Попову в случае чего и прыгать было некуда! Столкнула бы его машина и накрыла в воде. — Простите, товарищ майор… Вы считаете, риск был оправданным? — Как всякий большой риск: и да и нет. Понимаю, что победителей судят. Строже, чем побежденных, если хотите. Так вот. Оба водителя вели себя и смело и осторожно. В их действиях я не приметил ни бесшабашности, ни излишней перестраховки. Проще — трусости. — Но… — Помощник водителя струхнул. Осуждаю, по не наказывал бы. Я видел его там, над кручей. Это для него такой урок, какой не всякий солдат получает за весь срок службы… Вы воевали, товарищ капитан? — За хвост подержался, как говорится. Восемь месяцев и девятнадцать дней. Второй Белорусский. — На одном фронте, значит. Так вот, товарищ капитан. Я командовал танковой ротой. — 11 майор назвал помер полка и гвардейской дивизии. — Так вот, в то время, капитан, я бы, если не уговорил, то выкрал бы у вас этих ребят. Ей-ей, утащил бы! И они оба рассмеялись. — Извините, капитан, но вы — сухарь. — Я люблю этих ребят, майор. Не так уж просто получились из них хорошие солдаты. — Так уж водится… — вздохнул майор. Потом, откозыряв, они пожали друг другу руки и разошлись по своим делам. От начальства Чекрыгин вернулся в батальон и снова вызвал к себе Лазарева и Попова. Но теперь он принялся расспрашивать Сашку, а не старшего сержанта. Капитан знал: Попов куда эмоциональнее Трофима и его легче расшевелить. У старшего сержанта Чекрыгин уточнял детали, и больше всего они говорили о том моменте, когда Трофим потерял контакт с машиной; не растерялся, а именно утратил связь. — И все-таки то была машина, — заключил капитан. — Счастье и достоинство ваше в том, что вы не потеряли связи, контакта друг с другом. И в трудную минуту каждый из вас не стал сам по себе. Тогда — беда… Неминуемая… Теперь, лежа с разбитой головой на нарах, Лазарев, вспомнив слова капитана, осознал, что именно эта беда и стряслась с ним, с ними там, на берегу таежной реки, наполненной темной водой. Он, Трофим, пыжился своей праведностью, как пивная кружка пеной. Он ни разу ни на секунду не представил себя на Сашкином месте, для которого сказочная удача обернулась капканом. Возможно, что равнодушная, даже насмешливая издевка, с которой он отнесся к смятенному Сашке, — привычка к сумасбродным идеям, то и дело выдвигаемым Поповым. Трофим не почувствовал глубокого срыва в душе друга. Тут они стали каждый сам по себе, и пришла неминуемая беда. Нет врага более лютого, чем старый бывший друг. Ведь он знает и слабые струны его сердца, самые больные раны его души. Трофим должен был признаться себе: воспользовался он этим знанием беспощадно. «Но что толку валяться на парах? — спросил себя Трофим. — Надо идти, идти скорее, пока Сашка сдуру, сглупу, сгоряча не натворил еще чего-либо более дикого, совсем непоправимого, хоть бы и для себя самого. Он долго раздумывать не будет. Хватит ли у меня сил? Должно хватить. Достало же их у Сашки, когда он посоветовал свернуть вправо по склону, хотя отлично понимал: маневр лишает его последнего шанса на спасение в случае неудачи. Должно и у меня хватить сил спасти его от самого себя». Трофиму представился Малинка, у кафедры, когда он выступал с докладами по правовому воспитанию. То что «совершил» Лазарев на глазах у Сашки, швырнув «алмаз» в реку, квалифицировалось статьей 98 УК, как «Умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества», причем по пункту «б» — «причинившее крупный ущерб». По нему преступник «наказывается лишением свободы на срок до десяти лет». Без оговорок. Парни из поселка очень любили слушать доклады Малинки. Рассказывает он интересно. Еще бы — двадцать лет богатейшей практики! Но больше всего ребятам нравилось задавать Пионеру Георгиевичу всякие каверзные вопросы. Они вгоняли участкового инспектора в пот, но старший лейтенант обычно с честью выходил из трудных положений. И уж если говорить все до конца, то пример, который Пионер Георгиевич привел для иллюстрации преступления, подлежащего рассмотрению по статье 98 УК, был как раз такой. Точно. «Почему же Сашка не догадался? — затосковал Лазарев. — Ведь все так ясно! Я виноват — не сказал после потасовки на берегу? Пожалуй. Но уж больно он разошелся. Прямо озверел. Мне хотелось его как следует проучить, чтоб долго помнил. Вот и проучил. На свою голову». Лежать на нарах и размышлять было приятно, покойно. Трофим не заметил, как впал в забытье. Проснулся от мысли: «Предал Сашка… Сашка предал? Предатель Сашка… Это Сашка-то предатель? Он же бросил меня. Из-за алмаза бросил. Смотался. А алмаз при мне. Надо отдать. Скорее отдать! Немедленно. Как я мог спать, когда алмаз при мне, а его нужно отдать. Отдать, пока Сашка не натворил еще каких-либо бед. Сказать ему про алмаз — и сдать. Сдать, сдать!» Лазарев резко поднялся, застонал от боли в голове. Понял, что встать и выйти ему не под силу. Он сполз на пол и поковылял на четвереньках. «Придется мне медвежьим способом добираться. Верхом. Там легче и с патрульного вертолета могут заметить». Машинально Трофим взглянул на часы: «Девять тридцать пять. Утра? Вечера. А число? Двадцать первое. Вчера было двадцатое. Тогда, пожалуй, утро. Ночь прошла. Голова еще болит. Отдохну часок — и в путь. Да… Лубянки из коры надо на ладони и колени вырезать. Необходимо даже. Отсюда врхом до дороги — двадцать километров. К полуночи могу добраться. Если километр за час буду проходить… Это пятнадцать с половиной метров в минуту. Осилю?.. Придется».14
Перекинув поясной ремень по-бурлацки через грудь. Малинка уже с полчаса тащил за собой волокушу с лежавшим на пей Лазаревым. Тот был без сознания. Инспектор нашел Трофима километрах в пяти от дороги, на просеке ЛЭП. Обессиленный Лазарев приткнулся к корявой березке. «Силен, однако, — подумал Пионер Георгиевич, оглядев раны Лазарева. — Другой мог и не выдюжить. А этот дышит». Вид у Лазарева был хуже некуда. Лубянки давно истрепались. Ошметки от них Малинка видел по дороге. И теперь руки и колени Трофима были изодраны в кровь. «Чего же ждать, тащить его надо», — решил Малинка и смастерил волокушу. Позади инспектора послышался тихим сгон, шевеление. Отпустив осторожно волокушу на землю, Малинка подошел к Лазареву: — Ну, млодец, как дела? Трофим глядел на инспектора тупыми, затуманенными глазами, потом взгляд его как бы очистился. — Откуда вы? — спросил он. — С неба, бедолага, с неба. Дай дух переведу. — И Пионер Георгиевич, сняв мотоциклетный шлем, вытер потный лоб. — Водички хочешь? Если есть… — Фляжечку имеем, поделимся. Пей. Давай-давай, не стесняйся. Вот так. И сами приложимся. Малинка был чрезвычайно доволен, что Трофим наконец пришел в себя. Инспектор опасался, что перенапряжение сильно скажется на состоянии Лазарева и он не успеет доставить его в больницу. Сам Пионер Георгиевич тоже устал, и ему хотелось отдохнуть. — Откуда вы узнали про меня? Сашка рассказал? — Рассказал, рассказал… — Вот алмаз. Никуда я его не бросал. — Трофим полез за пазуху и достал видавший виды носовой платок. — В уголке завязан. Как Саша? — В райцентре твой Саша уже. — Что с ним? — Сидит отдыхает. Лазарев встрепенулся: — Он не хотел… Оставил он меня, знаю. Только я тоже виноват. Зачем мне понадобилось… — Я, Трофим, не прокурор, не суд, — строго сказал инспектор. — Взял не свое — отвечай по закону. После этих слов сознание Лазарева как бы прояснилось окончательно. Он увидел, как Пионер Георгиевич по-простецки, зубами развязывает узел на платке. Потом взял алмаз пальцами. При косом свете солнца кристалл то вспыхивал, то мерк глазом хищного зверя. — Вы знаете, товарищ инспектор, — собрался с силами Трофим, — для нас, работяг, цена одного карата… не сравнима с рыночной стоимостью на брильянты. Для меня он — свои брат, трудяга: бурит, режет, шлифует… — Ты свои силы побереги, — сказал инспектор, поднимаясь и берясь за волокушу. — Я уже не говорю о том, что и тебя Сашка бросил в беде. Не оставил, а попросту бросил. Предал. А это тоже нарушение — и не малое. И старший лейтенант потащил волокушу дальше, обходя кочки, к дороге, до которой еще было далековато.А. АБРАМОВ, С. АБРАМОВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОГ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА Фантастическая повесть

Глава I ЗАВЕЩАНИЕ
Вчера я написал завещание. Почему? Потому что, как уверяет Коран, дни мои уже сочтены. Аллахом. А я-то знаю, кем они сочтены. Завещание было нотариально оформлено в старинной лондонской адвокатской конторе «Хорпбек и Хорнбек» в одном из тишайших переулочков Сити. Несмотря на то что оно написано корявым языком английской юридической документации, я помню его от слова до слова.«Я, Монтегю Генри Клайд 34 лет, проживающий на Друммонд-стрит, 23, штатный ассистент кафедры истории английской литературы Лондонского университета, сим объявляю свою последнюю волю. В случае моей смерти все личное имущество мое, за исключением книг и не принадлежащей мне мебели, я оставляю квартирной хозяйке Розалии Соммерфилд. Книги передаю в безвозмездное пользование владельцу букинистической лавочки на Друммонд-стрит Джозайе Барнстеплу. Купленные у него, они к нему и вернутся. Самое же ценное и дорогое для меня — рукопись вдвух экземплярах под названием „Империя невидимок“ — завещаю двум единственным знающим о ней лицам, а именно: Сьюзен Мейуэйн, студентке третьего курса отделения ядерной физики того же университета, и Валентину Глинке, русскому по национальности, гражданину Советского Союза, кандидату филологических наук, по согласованию с Московским университетом и в порядке обмена научными кадрами проходящего стажировку на моей кафедре, с тем, что оба они передадут имеющийся у каждого экземпляр вышеупомянутой рукописи: первый — английскому Королевскому обществу, второй — Академии наук СССР, и добьются признания ее, как единственного научного объяснения до сих пор не получивших такового всех загадочных событий, потрясших мир за последние месяцы. Независимо от согласия или отказа перечисленных высоких научных организаций, владельцам рукописи предоставляется неограниченное право публикации ее как отдельным изданием, так и в периодической печати с их собственными комментариями и авторским гонораром, который издатели обязаны уплатить им за публикацию. Настоящее завещание составлено мною в здравом уме и твердой памяти, что подтверждается письменным свидетельством психиатрического отделения частной клиники профессора Уингема, Чейн-уок, 37, и не может быть оспорено никем без сответствующих доказательств».Стряпчий Джереми Хорнбек, оформляя завещание, не проявил никакого любопытства к содержанию рукописи. Он только заметил: — Может быть, последний пункт нуждается в уточнении? — Не нуждается, — отрезал я. — Одно свидетельство психиатров вы используете в случае возможного обвинения вас в сговоре с сумасшедшим, другое опубликует профессор Уингем для опровержения публичной клеветы о моей психической неполноценности. Разговор об этом возник сразу же после моего возвращения в клинику, не в психиатрическое отделение, куда я обращался за нужным мне освидетльствованием, а в терапевтическое, где находился на излечении уже второй месяц. — Составили завещание? — спросил Уингем уже во время вечернего обхода. — Торопитесь, дружище, торопитесь. — Но у меня же лейкоз, профессор, — сказал я, — и притом неизвестная вам форма. — Это нас и обнадеживает, — подмигнул мне он с видом человека, уверяющего вас, что на улице прекрасная погода, в то время как дождь зачастил с утра. — Во всяком случае, — добавил он, — течение болезни не оказывает обычного в таких случаях угнетающего влияния на психику. Значит, уверен в моей психике. Что ж, позондируем. — А что вы ответите, профессор, если я вам скажу, что лейкоз у меня инфекционный, а инфекция занесена из космоса? — Отвечу, что вы — шутник и со склонностью к мистификации. Он поднялся с белоснежного табурета у моей койки и, не оглядываясь, пошел к выходу из палаты. Никогда не поверит. Не поверил же Доуни, когда я объяснил ему, что в действительности произошло в июне этого года. Не поверил и с перепугу прислал ко мне своего лечащего врача. — Я пришел, чтобы проверить вас, — сказал тот. — Профессор Доуни очень обеспокоен состоянием вашей нервной системы. Я сразу понял, что мне грозит. — Не трудитесь, доктор, — извинился я. — Прошу прощения. Все, что я говорил Доуни, было шуткой. Я просто разыграл старика. — Но ведь был же электрический разряд! — Не отрицаю. Только он прошел рядом, не задев меня. Даже кожа не обожжена. — Я погладил затылок за ухом. — Через два часа после шока я уже мог играть в гольф. И никаких последствий. Ни головокружений, ни боли. — Но Доуни… — Забил тревогу слишком поспешно. Придется извиняться перед стариком за дурную шутку. А гонорар получите, сэр. — За что? — За старание. Вы же не виноваты в моих проказах. После визита врача я уже никому не говорил о том, что случилось после той памятной грозы у коттеджа Доуни на дороге в Саутгемптоп. Только двум упомянутым в завещании друзьям. Близких друзей в Лондоне у меня вообще не было. Доуни был только коллегой по кафедре, разделявшим бремя профессиональных трудов и забот, Розалия Соммерфилд — только добросовестной и ненавязчивой квартирной хозяйкой, соседи — вежливыми, но не коммуникабельными знакомыми, как и большинство живущих на одной улице англичан. Лондон не Палермо или Неаполь, где жители перекликаются с одного конца улицы на другой, в Лондоне одиночество — привычное состояние холостяка, если только судьба не подарит ему редкую, не корыстную дружбу. Такая дружба и скрепила мое сообщество с Вэлом и Сузи. Вэлом я назвал его потому, что Валентин звучало слишком чужеродно, Валентайн — громоздко, а мистер Глинка — чересчур официально для почти однолеток (я был лишь на три года старше его), одинаково влюбленных в елизаветинскую эпоху и ее литературных избранников. Русский искусствовед прижился у нас на кафедре, говорил со славянским акцентом, по зато близкие мне слова о близких мне драматургах. Он знал Флетчера и Бен Джонсона не хуже меня и цитировал «Эписип, или Молчаливую женщину» с любой страницы и любой строки наизусть, как проповедник — Евангелие. Но оценивал прочитанное по-своему, с классовых, как он говорил, позиции, какие я никак не мог ни понять, ни опровергнуть. — При чем здесь Маркс? — горячился я. — Бен Джонсон уже истлел за два столетия до Маркса. — А при том, что Бен Джонсон беспощадно расправился с обществом, в котором «деньги стали силой всех сил», а это же слова Маркса, дражайший Монти. И опровергнуть их бы не сможете. Мы звали друг друга по имени и любили, подобно «елизаветинцам», подолгу посидеть в «пабе» за кружкой пива, где и появилась однажды покоренная Вэлом Сузи. Наши интересы были ей чужды, жила она в мире ядерной физики, и покорили ее не знания Вэла в области елизаветинской драмы, а его голубые глаза и русые волосы эдакого викинга, подстриженные по моде сороковых годов: Вэл откровенно презирал «волосатиков», а диогенскую неряшливость «хиппи» считал анархической блажью буржуа-недоучек. Наши беседы подчас напоминали разговоры строителей вавилонской башни, так и не достроивших ее из-за взаимного непонимания. — Я пробовал читать «Капитал», но, увы, зевота чуть не свернула челюсти, — говорил я, подначивая Вэла. — Маркс не Агата Кристи, — огрызался тот. — А зачем читать Маркса, когда есть Эйнштейн и Дирак? — вмешивалась в разговор Сузи. — Ни тот, ни другой не смогли предотвратить Хиросиму. — Второй Хиросимы не будет. — Ты уверена? — Приходи завтра на демонстрацию студентов колледжа — убедишься. — Иностранцу не подобает вмешиваться во внутренние дела не слишком гостеприимной державы. — Ты просто трус! — Не знаю, так ли уж умна храбрость девчонок, бросающихся под колеса полицейских машин. Не проще ли скинуть ваших лейбористских лидеров, которые слишком уж откровенно служат обществу, где «деньги стали силой всех сил». Это опять Маркс, учти. Я нарочно так подробно цитирую наши беседы, чтобы подвести к одной, знаменательной, с которой и началось наше соприкосновение с «империей невидимок». Тогда еще я ничего не знал об этой «империи» и только был удручен и встревожен чудесами, начавшимися после памятной всем грозы на уикэнде у профессора Доуни. Когда я рассказал об этом Вэлу и Сузи, оба выслушали меня, не перебивая и не иронизируя. Только Вэл спросил: — Может быть, это результат увлечения Хитчкоком? — А кто такой Хитчкок? — спросила Сузи. — В кино надо ходить, милая. Хитчкок — это создатель кинематографии ужасов. — Кажется, я что-то видела. «Психо» пли «Птицы», не помню. А вы видите это у себя дома? — спросила она у меня. — Вижу. — Привидения? — иронически заметил Вэл. — Привидения — это чисто оптическое явление или поток молекул в газообразном состоянии, ограниченный каким-нибудь физическим полем, — сказала Сузи с обычной для нее многозначительностью. — Не знаю, как назвать то, что я вижу. Что-то делается у меня на глазах, кем-то делается без моего в этом участия. Как и рассказе у Мопассана. — В каком? — спросила Сузи. — Помнишь, как герой из окна своего дома видит корабль, прибывающий в порт? Вот с этого корабля и приходит к нему некто невидимый, неощутимо проникает в душу, живет рядом, существует, вполне материально, но невидимо и неслышно. Передвигается по комнатам, переставляет мебель, звенит посудой, читает книги… — Орля? — вспомнил Вэл. — Орля.
Глава II УИКЭНД
На уикэнд, с которого и начались все описываемые далее удивительные события, мы тогда, как обычно, поехали к Доуни втроем, застав у него также традиционных гостей — судью Блетчфорда с женой и викария Хауленда. Они уже не удивлялись Вэлу, привыкли к нему и даже не затевали с ним политических споров, от которых он уклонялся с присущим ему дипломатическим тактом. Да он и сам привык к традиционному английскому отдыху, научился весьма сносно играть в гольф и пить виски перед вечерним обедом. А после обеда в тот вечер мы долго сидели на широких ступеньках веранды, наслаждаясь теплым июньским сумраком, пастельным закатом и прохладным ветерком с Темзы, лениво болтая о том, что приходит в голову в такие убаюкивающие, бездумные часы. — Я сейчас перечитываю Уэллса, — вспомнила миссис Доуни, — как раз именно в такой летний вечер и, пожалуй, в такой же близости к Лондону упал на Землю первый снаряд с марсианами. — Теперь не упадет, — откликнулся Вэл. — Никаких марсиан не существует в природе. И вообще никакой жизни на Марсе нет. — Может быть, не белковая, не кислородная? — предположил судья. — Вы ведь физик, Сузи. Что скажете? — Боюсь, что нет. — Даже растительной? — Никакой нет, — отрезал Вэл. — Ни мхов, ни лишайников — одни каменные кратеры да измельченный песок, подымаемый бурями. Советские спутники Марса уже передали на Землю снимки его поверхности: только мертвые пемзовые пустыни вроде лунных со смерзшейся углекислотой на полюсах. Сухой лед, как в пакетах мороженого. Ваш Уэллс, при всех его литературных достоинствах, по крайней мере на полвека отстал от науки. — Странные совпадения бывают в жизни, — сказал до сих пор молчавший викарии. — Помню, как лет тридцать назад — я тогда еще мальчишкой был — собрались у отца, как и у вас сейчас, друзья по соседству. В таком же деревенском коттеджике. Еще до Дюнкерка, даже до Мюнхена. И заговорили: а вдруг война? Тихий закат, ветерок с реки… — К чему это вы, ваше преподобие? — перебил Доуни. — Случайная мысль: а вдруг? — Что вдруг? — Неожиданное, непознаваемое. — Непознаваемого нет, есть только непознанное, — вмешалась Сузи. Я решил погасить спор: — А ветерок-то иссяк. Совсем иссяк. Тихо, как в церкви. Доуни встал и оглядел чернеющее небо: — Будет гроза. Метеосводка сообщила о двух циклонах. Один с берегов Испании, другой с арктических широт движутся навстречу. Встретятся над Англией. Может быть, здесь. — Боюсь грозы, — встревожилась Сузи. — Я тоже, — поддержала ее миссис Доуни. — Пойдемте в комнаты. Судья и викарий последовали за дамами. — А мы, пожалуй, останемся, — сказал Доуни. — Уж очень вечер хорош. Да и гроза далеко. Я выглянул из-за колонны. Чернота на небе прожорливо глотала убегающие облака. — Молния может ударить внезапно. — Мы под крышей и за колоннами, — сказал Доуни. — А шаровая? — Не паникуйте, ассистент. Шаровую придумали физики. — А зеленую? — вдруг спросил Вэл. По черной туши неба черкнула зеленая искра. Мы напряглись, ожидая грома. Но грома не было. Только светилась в небе зеленая ниточка, как след реактивного самолета. А конец ее летел вниз, прямо к нам. Я говорю условно — летел, потому что длилось это мгновение, какие-то доли секунды. Доуни едва успел спрятаться за колонну, а Вэл, отпрыгнув, рванул меня. По слишком поздно: светящийся конец копья, брошенного невидимым копьеносцем, ударил меня прямо в лицо, ослепил и прошел насквозь, бросив в беззвездную черную тьму. Сознание погасло… Очнулся я на диване в нижнем холле коттеджа. В темноте горели свечи. Вэл поддерживал мою голову, а миссис Доуни прижимала к носу пузырек с нашатырным спиртом. Я оттолкнул его: голова была свежа, как после крепкого здорового сна. — Как долго я был без сознания? — спросил я, подымаясь. — Минут десять. А мы уже думали, что вам конец, — сказал, подойдя, Доуни. — Ведь молния ударила прямо в вас. — Рядом, — сказал я: мне не хотелось вспоминать о беззвучном и безболезненном уколе зеленой искры. — Молния ударила между нами, если это вообще была молния. Я перехватил понимающий взгляд Вэла: он-то все видел, но не счел нужным противоречить. — Думаю, что не молния, — сказал он. — Ни грома, ни дождя — только зеленая вспышка. — И туман, — прибавил Доуни, — густой зеленый туман. Мы, подхватив Монти, насилу добрались до двери. — Он подошел к окну: — А туман рассеивается. Звезды уже видны. Не гроза, а миф. — Странный миф, — задумчиво произнесла Сузи. — Молния — это электрический разряд большой мощности. А вы ничего не почувствовали. — Только увидели. Вспышку, — сказал я. — Кстати, почему это света нет? Доуни снова взглянул в окно. — Нигде нет. Должно быть, повреждена сеть. Еще одно свидетельство в пользу электрического разряда. — Может быть, то была просто зарница, — предположил судья. — На далеком расстоянии грома не слышишь. — А зеленый туман? Электрический разряд, ударивший в баки анилиновой красительной фабрики и разбрызгавший бриллиантовую зелень по всей округе? Глупости. — Сузи говорила с апломбом ученого, хотя о метеорологии знала едва ли больше меня. — Это чисто оптический феномен. Результаты циклопической бури в верхних слоях атмосферы. Завтра утром метеорологи объяснят все. Читайте газеты. Мы остались ночевать у Доуни, разместившись в комнатах для гостей на втором этаже коттеджа. Мне с Вэлом досталась крохотная комнатка с двумя койками и диванчиком у стола, на котором тускло горела свеча. Мы ее не тушили. — Почему ты скрыл, что молния, если это только была молния, прострочила твою башку? Я ведь стоял рядом и видел, — поинтересовался Вэл. — Не хотелось общественного участия. Боли я не почувствовал, удара тоже. А очнулся даже свежее, чем был. Как после чашки крепкого кофе. — По-моему, Сузи права. Это явление из оптики, а не из электроэнергии. Любопытный феномен, конечно. — Сузи всегда права, — услышали мы от двери. — Вы еще не спите, мальчики? — Входи и располагайся у свечки. В ее тусклом ореоле ты будешь похожа на привидение, — ответил Вэл, не подымая головы от подушки. — Еще одна из удольфских тайн[264] этого замка. И свеча погасла. — Я же говорил, — хохотнул Вэл, — не хватает только, чтобы она опять зажглась. И свеча зажглась, хотя ничья спичка ее не коснулась. Сузи замерла в дверях, не в силах что-либо вымолвить. Меня как пришибло — язык прикусил. Только Вэл продолжал, не смущаясь: — Ты, крошка, по-видимому, несешь в себе огромный запас еще не открытых элементарных частиц, каких-нибудь кси- или пси-мезонов. Они вызывают зеленые молнии и зажигают свечи. Живой ядерный реактор в действии. — Я боюсь, Вэл, — прошептала Сузи. — Чего? — Ведь это, в сущности, необъяснимо. — Пока. Потом объяснят. В крайнем случае спроси какою-нибудь ассистента у себя на кафедре. Сузи вышла, еще раз повторив, что ей очень страшно. И свеча потухла. — Удобно, — зевнул Вэл, поворачиваясь лицом к стене. — По крайней мере, не надо вставать. Но тотчас же зажглась электрическая лампочка в цветной розетке на потолке. — На этот раз, кажется, чудеса районной электросети. Все-таки придется встать, — сказал я и выключил лампочку. Но не успел дойти до койки, как она снова зажглась без участия выключателя. — Чудеса продолжаются, — иронически заметил Вэл, — и ведь самое страшное, что они не дадут нам спать. — А мы перехитрим их. Я опять встал, повернул свечу фитилем в подсвечник и вывернул лампочку, положив ее на стол. Но едва лег, как она уже совсем волшебно зажглась на столе, не соединенная с сетью. — Удольфские тайны, — удивленно повторил Вэл и, как мне показалось, даже не без удовольствия. — Кто-то в округе проводит опыты с беспроволочной передачей электроэнергии. Надо бы ему помешать. — Он сунул чудесно светящуюся лампочку в ящик стола и прильнул глазом к щелке между крышкой и ящиком. — Светится. Но спать можно. Так мы и заснули, перехитрив всех удольфских волшебников. О чудесах сговорились молчать и хорошо сделали, потому что ни хозяева, ни прислуга их не подтвердили. Свечи и лампочки у них загорались и гасли без всякого волшебства, и ночь прошла спокойно, без гроз и молний. А на следующий день, вернувшись в Лондон, я набросился на утренние газеты и перелистал их с сугубым разочарованием. Ни «Таймс», ни «Гардиан», ни утренние выпуски радио ни словом не обмолвились о зеленой молнии. Только в «Дейли миррор» на пятой или шестой странице приютилась крохотная заметка о метеорите, замеченном в полете и сгоревшем в атмосфере где-то над южной Англией. О зеленом тумане не было сказано ни слова. Должно быть, он не распространялся дальше коттеджа Доуни на Саутгемптонской дороге. Сузи я не нашел, а Вэла застал за ленчем в маленьком кафе близ университета. Разочарование мое его никак не задело: подумаешь, событие — гроза без дождя и молния без грома. Пусть этим занимаются метеорологи, а у него есть дела поважнее, в частности отношение Бен Джонсона к Флетчеру и Марло. Мне же, по его мнению, как ассистенту кафедры, и совсем не подобало заниматься разгадкой удольфских тайн: оставим чудеса со свечкой и лампочкой физикам и электрикам. Я робко сопротивлялся: — Я приемлю чудеса только в цирке, а чудеса без участия иллюзиониста меня пугают. — А ты уверен, что это чудеса, а не опыты? — Чьи? — Узнаем у Сузи. Она докопается. Но Сузи не докопалась, докопался я.Глава III ОРЛЯ
Спал я плохо. Три раза просыпался, разбуженный одним и тем же кошмаром. Вернее, схожим по смыслу. Сперва я увидел улицу, запруженную народом. Ни одного авто и омнибуса. Только стоящие плечом к плечу люди. Мужчины. Одинаково стриженые головы и черные пиджаки. И запрокинутые кверху лица, обращенные ко мне. Затем, как в кино, когда камера наезжает на объект съемки, улица выросла и приблизилась. Лица придвинулись вплотную и стали одним лицом. Моим лицом, размноженным тысячи раз. Тысячи моих глаз вопрошали меня о чем-то серьезном и страшном. О чем? Я проснулся, сел на постели и замер в темной тишине комнаты. Гулко пробили каминные часы один раз. Час ночи. Стараясь не вспоминать о нелепом, но почему-то пугающем сне, я прислушался к привычной тишине ночи, но, кроме тиканья часов, ничего не услышал. «Приснится же такое», — успокаивающе подумал я и снова заснул. И вновь я увидел улицу, только ночную, пустынную, освещенную лишь тусклыми пятнами света от невидимых фонарей. Одинокая фигура незнакомца двигалась мне навстречу, и мы, не сворачивая, столкнулись лицом к лицу. И опять я увидел свое лицо с холодно вопрошающими глазами. Кто-то из нас сказал: «Близость должна быть совершенной и полной». И мы шагнули друг в друга, как в туман, в ночь, в темноту, оформленную смутными очертаниями моей спальни. Я понял, что проснулся. Часы пробили три раза. Значит, ночь еще не кончилась. Из полуоткрытого окна несло лондонской ночной сыростью. Я вдруг озяб и глотнул прямо из бутылки бренди, стоявшей рядом на столике. Закурил, затянулся и подумал традиционно: что, мол, сей сон означает? Но раздумывать не стал: сонливость успокаивала и звала к дремоте. Третий сон подытожил первые два. Я стоял у большого овального зеркала, освещенного двумя трехсвечными канделябрами по бокам, и всматривался в свое зеркальное отражение. У него не было ни глаз, ни ушей. Только в глазницах сверкали зеленые искры. «Мне нужны твои глаза, чтобы видеть то, что ты видишь, — сказало оно, — твои уши, чтобы слышать то, что ты слышишь, и твоя кожа, чтобы ощущать тепло или холод прикосновения. Мне нужен твой мозг, чтобы восхищаться тем, что тебя восхищает, страшиться того, что страшит тебя, и удивляться тому, что тебя удивляет». И я в третий раз проснулся, отметив про себя, что литературный штамп «в холодном поту» не так уж далек от истины. Лоб у меня был холодным и влажный. А будильник истошно звонил о том, что пора начинать еще одно утро. Я принял душ, оделся, приготовил наспех яичницу с беконом и вдруг, случайно взглянув на книжную полку, заметил что-то неладное. В первый момент я даже не сообразил, что именно, и только потом дошло: мраморный бюст Шекспира наверху исчез. Я вспомнил, что еще вчера вечером я видел его: доставал с верхней полки роман шекспировского современника Роберта Грина «Крупица здравого смысла, купленная миллионами раскаяний». Я даже подумал при этом, что хорошо бы все-таки стирать пыль с бюста — стоит высоко, миссис Соммерфилд, убиравшей мои комнаты, трудно до него дотянуться Но куда же он все-таки делся? Тяжелая штуковина, которую запросто и не сдвинешь. И кто снял? Кроме Розалии Соммерфилд, ко мне никто не входил. Я вышел в коридор и громко позвал миссис Соммерфилд, жившую рядом. Минуту спустя она появилась, кутаясь в теплый стеганый халат. — Что случилось, сэр? Я показал на верх полки с книгами. — Вы куда-нибудь убрали его? Она не поняла. — Что именно, сэр? — Шекспира! Мраморный бюст, который стоял на полке. — Я никогда не дотрагивалась до него, сэр, — сказала она с достоинством. — Может быть, он упал и разбился? — А с какой стати я бы стала это скрывать? — В словах ее уже прозвучали нотки закипавшего раздражения. — Но я еще вчера вечером видел его на месте. Розалия Соммерфилд выпрямилась, как стальная пружина. — Вы, кажется, подозреваете меня, сэр? — Что вы, миссис Соммерфилд! Я, право… Но она не дала мне закончить: — Только у вас и у меня есть ключи от ваших комнат. Поэтому я требую вызвать полицию. Кстати, сержант Филби еще не ушел на работу. Полицейский сержант Филби жил в угловой комнате по коридору и вошел ко мне в полной форме, но явно смущенно и неохотно. — Леди уверяет, что вы хотите сделать заявление, сэр. Я не на работе, но могу принять его, если желаете. — Я не собираюсь делать заявления, Филби, — сказал я неспешно. — Ничего серьезного не произошло. У меня ни к кому нет никаких претензий. — Второй ключ от этой квартиры у меня, сержант, — вмешалась настойчиво Розалия Соммерфилд, — а со вчерашнего дня у мистера Клайда посторонних не было. Следовательно, подозрения в краже или уничтожении мраморного Шекспира падают на меня. Но я вчера полночи просидела у миссис Уинтон из двенадцатого номера: у нас у обеих бессонница и мы до трех часов ночи раскладывали двойной пасьянс Марии-Антуанетты. Сами понимаете, сержант, что после этого я не могла беспрепятственно и незаметно проникнуть к спящему мистеру Клайду и бесшумно унести статую с книжной полки, да еще у самого потолка. Настаиваю, чтобы мои показания были занесены в протокол. — Миссис Соммерфилд! — взмолился я. — Где именно стояла статуя? — спросил Филби. Я взглянул на полку и обмер: бюст Шекспира стоял на своем месте. Что произошло дальше, нет смысла описывать. Филби веселился, а Розалия выговаривала мне тоном королевского прокурора: — Ваши трюки, сэр, можете показывать в цирке. Но я сдавала комнаты ученому, а не фокуснику. А мне было совсем не смешно. Я стоял неподвижно, тупо соображая: что, что, что же произошло? Может быть, мы с Розалией стали жертвой обмана зрения, оптического фокуса, причудливой игры утреннего света на запыленном мраморе? Нет, никакой игры света здесь не было и не могло быть. Книжная полка стояла в темном углу комнаты. Но меня ожидал еще более зловещий удар. На столе рядом с остывшей яичницей лежала изогнутая, старая, хорошо обкуренная трубка. Пять минут назад ее не Было. Мало того, ее вообще не было: я никогда не курил трубку. И в довершение всего я узнал ее: трубка принадлежала Доуни. Он курил ее вчера, когда мы разговаривали у входа в аудиторию. Может быть, по ошибке он сунул ее не в свой, а в мои пиджачный карман? Или я бессовестно стащил ее у него? Но Доуни не рассеянный профессор из комиксов и я не клептоман. Да и память у меня еще не отшибло: в последний раз я видел эту проклятую трубку в зубах у Доуни. Он уныло откликнулся, когда я позвонил ему. — Что-нибудь случилось, Монти? — Это у вас случилось, профессор. — Да, да, я где-то потерял свою трубку, Монти. Какое несчастье! — Вы потеряли ее не где-то, а у дверей шестой аудитории. Там я и нашел ее несколько минут спустя. — Вы золото, Монти! Осчастливили старика. Но себя я не осчастливил. Удольфские тайны сопровождали меня из коттеджа Доуни. Я по-прежнему был игрушкой мистических сил. Еле-еле дождался ленча и успел захватить Вэла и Сузи в нашем кафе. Там и состоялся уже упомянутый мной разговор о рассказе Мопассана со странным названием «Орля». — Но это же мистика! — воскликнула Сузи. — Мистика, — согласился Вэл. — Творчество уже терявшего рассудок писателя. — Я, кажется, тоже теряю рассудок, — сказал я. — Да, рассказывать кому-либо об этом, пожалуй, не стоит. — Что же мне делать? — Продолжать, пользуясь лексиконом Сузи, ставить дальнейшие опыты. С нашим участием. — Что ты подразумеваешь? — насторожилась Сузи. — Для начала мы сегодня переночуем у Монти. Понаблюдаем Орля в действии. Надеюсь, что мы ему не помешаем. — Я боюсь, — сказала Сузи. — Чего? Потусторонних сил? Ты в них не веришь. Вес в мире для тебя только движение элементарных частиц, волн и полей. Вот и попробуем научно проанализировать трюки Орля. — А ты в него веришь? — Я еще не знаю, кто он или оно. Существо или вещество. Материя или энергия. Нечто объяснимое уровнем нашей науки или требующее привлечения наук завтрашнего дня, вроде телекинеза и телепортации, невидимости и сверхпроходимостью. Поживем — увидим. — А если не увидим? — Надеюсь, что он или оно продолжит свои контакты с Монти. Я не выдержал: — И ты называешь это контактами? — А ты предпочитаешь мопассановскую трактовку? Пришлось сдаться. Да и предложение Вэла меня устраивало: втроем не так страшно. Может быть, Орля соблазнится и вступит в прямой контакт. Так и порешили. Скоротав томительный вечер в «пабе», мы втроем пересекли улицу и явились во владения Розалии Соммерфилд часам к одиннадцати, за час до времени привидений, вампиров и ведьм. Включив свет и оглядев комнаты с порога, я вздрогнул. — Что такое? — заинтересовался Вэл. — Он передвинул кресло на середину комнаты! — Он пошутил и с часами. Я взглянул на каминные часы и пролепетал: — Перевел стрелки на два часа вперед. — Нет, они просто идут назад. Наоборот. Сейчас на пик не пять минут двенадцатого, а без пяти час. Не час ночи, а час дня. Часы действительно шли назад. — Но это же перестройка всего механизма. Без инструментов! — По-видимому. — И зачем это ему? — удивилась Сузи. — Ставит опыты, крошка. Он тоже экспериментатор, как и ты. — Интересно, какой опыт поставим мы. — По трафарету Мопассана. На стол — молоко, воду и хлеб. Прикроем салфеткой и посмотрим наутро, что он или оно отведает. Так и сделали. Поставили молоко в фаянсовом молочнике, воду в графине с пробкой и булку на тарелке, аккуратно прикрыв ее салфеткой. Подождали чудес, но чудес не было — все оставалось на своих местах, ничто не двигалось, не исчезало и не гасло. В двенадцать легли спать — мы с Вэлом в столовой, Сузи в кабинете на плюшевом диванчике у открытой к нам двери: ядерная физика не спасала ее от страха перед дедовскими поверьями. Меня разбудил тоненький дребезжащий звук. Я вскочил и сел на постели. Вэл тоже поднялся на локте. — Ты слышал? — спросил он. — Телефон? — Это не телефон. Это треснул графин на столе. Я встал, включил свет. Тотчас же в комнату заглянула Сузи в пижаме. — Что случилось, мальчики? Я молча кивнул на стол. Молоко в молочнике вспенилось и убежало, залив стол и ковер под столом. А вода смерзлась в кусок льда, раздавившим стенки графина. Звон треснувшего стекла на столе и разбудил нас. Только булка под салфеткой лежала нетронутой. Вэл коснулся пальцем молочной лужицы. — Теплая, — сказал он. — Должно быть, молоко вскипело и ушло. — Как — вскипело? Само собой? Вэл покрутил пальцем у лба. — Нет, его предварительно поставили на плиту, а графин — в морозильник. — Интересно, — сказал я, игнорируя насмешку. — С хлебом, вероятно, еще интереснее. Вэл снял салфетку и взял булку. — Она же совсем целая! — удивилась Сузи. — Только стала тяжелее раз в десять. — Вэл подбросил булку, и она упала на стол с грохотом утюга. — Чистый металл, вернее, сплав, оформленный в виде булки. Мы молча смотрели друг на друга. Опыт поставлен, но неизвестное не найдено. Мы могли сотни раз спрашивать друг друга: кто, когда, как и зачем, но ответа ни у кого не было. — Что же дальше? — спросил я. — Присутствие «невидимки» бесспорно, — ответил Вэл, подумав. — Действия его очевидны, но непонятны. Что дальше? Продолжать опыты. И ждать. — А ты уверен, что это мыслящее существо? — Я уверен только в одном. Это не человек, не уэллсовский «невидимка». И не подобный нашему разум. Но разум Во всех его, казалось бы, алогичных проявлениях своя логика — стремление попять мир окружающих нас вещей, материальных форм, твердых, жидких, газообразных, органических и не органических. Думаю, что он не враждебен жизни. Земной жизни. Может быть, это и поспешное заявление, но в действиях его я не вижу вреда. Свечи гаснут, но не ломаются, лампочки зажигаются, но не перегорают, бюст Шекспира исчезает, но возникает снова на том же месте, трубка переносится, но не пропадает. С водой, булкой и молоком — элементарные эксперименты, по существу безобидные попытки познать или видоизменить материал. Ни одному из нас не причинено ни малейшей боли, даже мухи вон спят живехонькие. Я выслушал его не перебивая. Умный парень, этот русский ученый. Он даже не сослался на общеизвестное гамлетовское «есть многое, Горацио, на свете» — Шекспир и Бен Джонсон не ограничили его кругозора. Не то что у Сузи с ее точнейшей наукой. На вопрос Вэла: «Твой ход, Сузи?», она так и ответила: — Я — пас. Ни в одной работе по ядерной физике не найдешь этому объяснения. А все-таки оно нашлось именно в ядерной физике, только в новой ее главе, еще неизвестной людям.Глава IV РАЗУМ-РАЗВЕДЧИК
Проснулся я поздно, в одиннадцатом часу, когда Сузи и Вэл давно уже ушли. Они не будили меня, зная, что спешить мне некуда, что проверкой курсовых работ на кафедре я буду занят во второй половине дня. Проснулся я легко, с ясной мыслью, без малейшей тревоги, так томившей меня вчера. Следов ночных событий уже не было: Вэл и Сузи обо всем позаботились. Молочник вымыли, осколки стекла убрали, а к булке приложили записку с лаконичным приглашением: «Можешь отведать». Я осторожно надавил ее пальцем… И что бы вы думали? Металлическая булка снова стала съедобной, только чуть зачерствевшей со вчерашнего вечера. Никаких других изменений не наблюдалось, все находилось в обычном порядке, ничто не пропало. Вода в кране текла, душ работал, свет горел. Я с аппетитом позавтракал и просмотрел газеты — очередные выпуски «Таймса», «Дейли миррор» и коммунистической «Морнинг стар», куда я заглядываю по настоянию Вэла, дабы не ограничивать свой кругозор твердолобым самомнением тори и желтой безответственностью Флит-стрит[265]. Обычно я делаю это основательно; проглядываю хронику происшествий, иностранные телеграммы, отдельные статьи прочитываю целиком и решительно пропускаю объявления, спорт и биржевые курсы за отсутствием у меня акций и процентных бумаг. Но на этот раз я по неизвестной и непонятной для меня причине просто листал все газеты подряд, ни на чем не задерживаясь. Окинул взором страницу, будто фотографируя ее, и перешел к следующей, мазнул по ней взглядом, ничего не прочтя как следует, и прогалопировал таким образом по всем полосам, не пропустив ни одной — даже сплошных объявлений и биржевых котировок. Никакой информации я при этом не извлек и ничего не запомнил, даже заголовков и фото, но осознал это лишь два — три часа спустя, когда вышел на улицу, осознал, что действовал, как сомнамбула, повинуясь какому-то настойчивому, но неясному побуждению. Просмотрев газеты, я столь же неосознанно подошел к книжной полке и взял однотомный Оксфордский толковый словарь английского литературного языка. Если бы меня тогда спросили, зачем он мне понадобился, я бы не смог ответить. Захотелось бессознательно, безотчетно что-то найти. Что, не знаю. Просто взял словарь и, присев к окну, методично и быстро перелистал его по тому же принципу, что и газеты. Откроешь страницу, взглянешь, запечатлеешь где-то в ячейках памяти все слова и дополнения к ним, идиомы и синонимы, затратишь на это не более секунды и пробегаешь глазами уже другую страницу. И так с А до Z, пока не устал сгибаться палец, перевернувший тысячу с лишним страниц тончайшей индийской бумаги. Я не запомнил ни одного слова, ни одного примера, ни одной семантической формы, — в голове была мешанина из непереваренных слов, обрушившаяся на меня словесная Ниагара, в которой утонули все впечатления и помыслы. Мой мозг как бы отключился, проглотив словарь и грамматику, и дремал, как питон, переваривающий более чем обильную добычу. Дремал он недолго — я не считал минут — и очнулся, едва вышел на улицу. Собственно, «очнулся» не то слово — я был в полном сознании, только мой мысленный аппарат был вроде как отключен от внешнего мира, от его дел, забот, вещей и людей. И этот внешний мир ворвался в мой черепной вакуум, как отключенный звук в телевизоре врывается в действие, когда его снова включили. Я вдруг все вспомнил, осознал и, ничего не поняв, встревожился. Что же произошло? Почему я бездумно листал словарь и газеты, не читая, фотографируя страницы только глазами, без участия разума, не вдумываясь в увиденное, не осмысливая его? Зачем я это делал, что побуждало меня, заставляло, именно заставляло подчиняться какому-то неосознанному, не контролируемому движению мысли? Встать, взять, перелистать, ухватить взглядом и вновь положить на стол или поставить на полку. Кто-то или что-то во мне мысленно приказывало это сделать, и я повиновался, не думая и не сопротивляясь. Орля? Невидимый враг, вошедший в меня зеленой молнией в тот загадочный вечер? В том, что он существует и действует, убедились мы все втроем, только не видели логики в его действиях. Человеческой логики. А если она была, эта логика, — пусть не человеческая, но была? Тогда становилось понятным и мгновенное поглощение газетной информации, и педантичное перелистывание английского словаря. Невидимка знакомился с делами и тревогами мира, нас окружающего, и со словами, формирующими его духовный облик. Но едва я осознал и объяснил себе все происшедшее, как где-то в мозгу «прозвучал» новый приказ. Я еще не «услышал» его, но уже механически устремился к его выполнению. Вместо садовой дорожки, ведущей к дверям моей кафедры, я машинально свернул к корпусу университетской библиотеки. Окружающим мир снова потух, и я знал только одно: открыть дверь в библиотечный холл, подойти к дежурной мисс Стивене и взять у нее все тома Британской энциклопедии. Она не удивилась, молча выписала карточку и указала служителю на ближайший стол в читальном зале, куда можно было погрузить все кирпичи томов в синих, строго академических переплетах. Никто не обратил на это особенного внимания: студенты и научные сотрудники кафедр нередко брали для работы по дюжине книг. Один из таких сотрудников устроился за столом против меня, водрузив перед собой стопочку, правда, поменьше весом. Я знал его — Смитс, не то Смэтс, аспирант из отделения языка и фонетики. Мы сухо кивнули друг другу и склонились над книгами. Но я не учел усталости пальцев — перелистывать многостраничные тома Британской энциклопедии было им не по силам. Они стали тормозить, задерживать страницы на поворотах. И тут произошло нечто неожиданное: страницы сами стали перевертываться без участия пальцев… Мне оставалось только присмотреться полсекунды, и страница с мягким шелестом ложилась налево, открывая следующую для бездумной фиксации. Мысль спала, как и дома во время «чтения» газет, — я лишь тупо следил за перевертывающимися страницами. В читальном зале не разговаривали, но мой визави, должно быть, не выдержал. — Как это у вас получается? — спросил он шепотом, еле подымая отвисшую челюсть. — Что, что? — не понял или не расслышал я. — Сттт… раницы, — сказал он заикаясь. Мне тут же была дана возможность все осознать, понять и даже развеселиться. — Телекинез, — грозно прошептал я. — Мысль перелистывает страницы. Смитс или Смэтс поперхнулся, съежился и молча пересел со своей стопочкой книг за другой стол. Он не любил чудес. А я, уже все понявший и внутренне давно подчинившийся, продолжал фиксировать глазами-объективами каждую перевернутую страницу. Они методично шелестели, щекоча приближенные к ним для видимости подушечки пальцев. Три часа автоматической бездумной работы, тысячи моментальных снимков в подсознательной памяти — и никакого следа в памяти сознательной. Короче говоря, с моей помощью Орля выучил английский язык и собрал всю информацию о нашем мире, втиснутую в строй томов Британской энциклопедии. Я вспомнил разговор во сне со своим отражением в зеркале: «Мне нужны твои глаза, чтобы видеть то, что ты видишь, твои уши, чтобы слышать то, что ты слышишь, и твоя кожа, чтобы ощущать тепло или холод прикосновения. Мне нужен твой мозг, чтобы восхищаться тем, что тебя восхищает, страшиться того, что страшит тебя, и удивляться тому, что тебя удивляет». Я дал ему и язык, и глаза, и мозг. И даже уходя из библиотеки и потирая уставшую поясницу, я все еще не был свободен. Новый приказ побуждал меня найти Вэла и Сузи, вернее, одну Сузи с непонятным и для нее и для меня требованием. Непонятным и даже невероятным оно прозвучало лишь в момент оглашения, до этого я знал только то, что должен увидеть Сузи. Мне повезло: я нашел ее на скамейке у дверей ее факультета, она просматривала записи лабораторных работ. — Срочное дело, Сузи, — сказал я, не здороваясь. Какое дело, я еще не знал. — Монти? — удивилась она. — Где это вы скитались? Вас ищет Вэл, а Доуни отменил проверку курсовых работ из-за вашей неявки. — Напишите мне список наиболее важных работ по ядерной физике и физике высоких энергии. Сейчас же, здесь, — сказал кто-то во мне моим голосом. Даже чудеса Орля так не удивили Сузи, как мое требование. — Зачем вам, Монти? — спросила она меня почему-то шепотом. — Не знаю, только это необходимо. Возьмите блокнот и перечислите то, что у нас есть в библиотеке. — И все-таки я не понимаю — зачем? — И я не понимаю. Но вы должны сделать это, Сузи. И скорее. Это — не я. Моя бессвязная речь заставила ее подчиниться, но не устранила недоумения. С не меньшим недоумением встретили меня и в библиотеке. Специалист по английскому Ренессансу и вдруг бросается в дебри элементарных частиц. Почти уникальный случай в пашей университетской среде, где нет больших невежд, чем специалисты вне своих узких областей знания. Но даже узаконенному невежде книжки все-таки выдали. И я листал их еще два часа, ничего не понимая и не запоминая. Кто-то читал и запоминал их вместо меня. Самим собой я стал только на улице, по в каком качестве! Выжатым лимоном, выкипевшим чайником, выкуренным окурком — с чем хотите сравнивайте эту душевную пустоту и равнодушие ко всему на свете. Я пошел прямо домой, побуждаемый единственным желанием, которое у меня осталось, — возместить пропущенные ленч и обед. И даже не удивился, найдя уже готовый обед на столе: об этом позаботились Сузи и Вэл, терпеливо ожидавшие меня с благословения Розалии Соммерфилд. — Дай ему виски, — сказал Вэл Сузи, — скорее встряхнется. Я выпил. — Говорить можешь? — Пусть поест сначала. Я молча проглотил остывшие сосиски с горчицей и запил пивом. В голове зашумело, но вакуум исчез, вернее, наполнился радостным сознанием того, что я — это я и действую по собственному разумению и помыслам. Желание говорить переполняло меня и выплеснулось сразу, без допроса. Я рассказал все: о перелистанных газетах, словаре, Британской энциклопедии и ядерной физике. — Листал, не читая? — переспросил Вэл. — Читал Орля. Я был выключен. — Зачем, понятно. Изучал язык, постигая смысл выражаемых им понятий, и наконец выбрал заинтересовавший его объект информации. Значит наш Невидимка проходит по ведомству Сузи. — Если его мысль, — задумалась Сузи, — находится на уровне человеческой… — Или выше, — подсказал Вэл. — …или выше, то он несомненно знает, что мышление происходит на уровне элементарных частиц. Для контакта с человеком… — А ты уверена, что он ищет контакта? — Судя по его действиям — безусловно. Все его чудеса — это стремление познать наш мир. — Разве обязателен для этого прямой контакт с человеком? Мозг Монти он уже изучил, во всяком случае может диктовать ему что угодно Датчиками его он воспользовался, узнал, что его интересует. Изучение же окружающего нас материального мира, по-видимому, возможно для него и без участия человека: удольфские чудеса это подтверждают. Так почему же думать, что он ищет контактов? В принципе могут быть цивилизации, так называемые замкнутые, которых не интересуют никакие контакты. — Не верю, не могу верить, — решительно возразила Сузи. — Зачем изучать наш язык, если можно проникнуть в мозг и запросто снять весь накопленный им запас информации? И обрати внимание: Орля оставил Монти, когда тот выдохся, когда дальнейшая перекачка информации уже грозила необратимыми изменениями мозговых клеток. Значит, у Орля цель. Или Монти и в дальнейшем будет служить только проводником информации, или с ним потом вступят в прямой контакт. — Может быть, ты и права, — неуверенносогласился Вэл, — поживем — увидим. — Что увидим? — рассердился я. — Как переворачиваются страницы без участия пальцев, как превращают в робота бакалавра литературы, как закипает молоко без огня и как замерзает вода в комнате летом? Так объясните же роботу, почему это чудовище при его интересе к ядерной физике избрало для своих экспериментов меня, а не Сузи? — Так ведь не в нее, а в тебя ударила зеленая молния. Тогда у Доуни… — Молния не живое существо. — А ты видел, как выглядят живые существа в других звездных системах и других галактиках? Может быть, это форма газообразной или энергетической жизни. Другой путь эволюции — другие формы разума. Сузи закрыла лицо руками. — Мне страшно, мальчики, — повторила она. — А вдруг это враждебный нам разум? Все замолчали. — А что мы можем предпринять? — вздохнул Вэл. — Какие у человека средства против чужого разума, ощутимого, но невидимого, властного над материей, но не материального? Поджечь дом, как в рассказе у Мопассана? Но это поступок сумасшедшего, да и наш Орля или потушит огонь, или восстановит дом. Рассказать о нем людям — военным, ученым, газетчикам? Нас сочтут больными или мистификаторами. Забегу вперед, если сообщу, что я все же попытался рассказать Доуни, когда передавал ему трубку. Что из этого получилось, вы уже знаете: я едва ускользнул от психиатрического надзора. — И все же я оптимист, — закончил Вэл. — Это высший разум, допускаю. Но не разум-завоеватель, а разум-разведчик. — С какими целями? — События не заставят себя долго ждать. Вэл оказался пророком.Глава V «МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС»
По древнему сказанию, на пиру вавилонского царя Валтасара, этак лет за пятьсот с лишним до нашей эры, чудесно возникшая кисть руки начертала на стене три непонятных слова: «мене, текел, фарес». Как были расшифрованы эти слова, я же не помню, но чувство страха, потрясшее очевидцев, я испытал тоже почти в аналогичной ситуации. Правда, ни на шумном «пиру» у ректора по поводу окончания экзаменационной сессии, а в тихом уединении меблированных комнат Розалии Соммерфилд, когда сессия еще не кончилась. Но уверяю вас, страх был не менее леденящим. Со времени моего последнего разговора с Вэлом и Сузи прошло несколько дней — сессионные дела разлучили нас, да и мы с Доуни задерживались на кафедре дольше обычного, так что я возвращался домой, даже не заглянув в «паб» за очередной кружкой пива: его доставляла мне на дом Розалия. Несмотря на прогноз Вэла, «события» все еще ждали. Орля пли покинул мой тихий очаг, или затаился для новых фокусов. Ничто не нарушало нормальной жизни: вещи не исчезали, часы шли, как полагается, книги не срывались с полок и никто не заставлял меня заглядывать в словари. Но когда я однажды, вернувшись домой усталый и умиротворенный, устроил себе импровизированный пир из подогретой грудники, чая и рюмки бренди с куском восточной тянучки из магазина «Персидские сладости», включил телевизор на середине какого-то «вестерна» и уже приготовился наслаждаться, небесное предупреждение не заставило себя долго ждать. Только вместо письма на стене застучала открытая пишущая машинка с бумажным рулоном, какие в ходу на телетайпах и какие вообще удобнее: не нужно то и дело вставлять и вынимать лист бумаги для перепечатки. Я не случайно упомянул о телетайпе. Машинка задвигалась и застучала именно как управляемый извне механизм — рычаги букв щелкали, подымаясь и опускаясь, лепта ползла, накручиваясь и раскручиваясь в катушках, каретка судорожно металась взад и вперед, методически выталкивая наверх оттиснутые строки. На моих глазах происходило новое «удольфское чудо», настолько поразительное, что у меня не возникло даже любопытства прочитать эти строки. Я замер от ужаса, как мопассановский герой, заставший «невидимку» врасплох, и пребывал в столбняке до тех пор, пока стук не прекратился и над остановившимся валиком не появился отпечатанный текст. Он был написан грамматически правильно, без единой помарки, с прописными буквами и знаками препинания, как продиктованный машинистке самого высокого класса. «Мы впервые пробуем ваш язык как средство коммуникации — средство, конечно, примитивное, но другие для тебя не годятся. Телепатический обмен мыслями привел бы к торможению твоих церебральных процессов, так как, включая пашу мысль, мы бы выключали твою. Отвечать можешь устно или мысленно — нам безразлично. Хотя ты и скрываешь иногда свои мысли, не рассчитывай, что обманешь нас, — мы читаем их, как принято называть у вас такой способ накопления информации. Наши сигналы связи вызывают у тебя незнакомые нам помехи, самая устойчивая из которых — страх. Мы проследили его эффект, но объяснить не можем — мы внеэмоциональны. Не смущайся (кстати, тоже непонятный нам, но характерный для тебя импульс), объем твоей информации нам известен, и за пределы его мы не выйдем. Цель нашего общения — прояснить жизнь, с которой мы столкнулись впервые и понять которую до сих пор не можем». Растерянность моя проходила но мере того, как я читал этот текст, и с последней строчкой я даже оказался способным оценить комизм ситуации. Пишущая машинка в качестве голоса запредельного мира и машинистка-невидимка в роли его разведчика. И это величавое «мы»! «Мы, ее величество, повелеваем…» — внутренне усмехнулся я. «Что значит „ее величество“?» — выстукала машинка. Смешно, подумал я. Как школьнику, надо объяснять, что «ее величество» — это обращение к королеве, а во множественном числе от первого лица короли всегда обращались к народу. Я еще ничего не сказал, как машинка уже ответила: «Что такое „смешно“, мы не знаем: у нас нет чувства юмора. Но объяснение понятно. И в дальнейшем продолжай на школьном уровне». — Но почему же все-таки «мы»? — вслух спросил я. — Разве ты не один? «Нас много. Как много, объяснить не сумеем. Речь может идти о множествах лишь в приблизительном математическом исчислении». — Кто же вы? «Не люди. Даже не биологические организмы с невидимой глазу структурой, как ты подумал. Просто мыслящие энергоблоки на уровне элементарных частиц. Вы еще мало знаете ваш микромир и не открыли кирпичиков, из которых сложено его здание. А мы еще меньше этих кирпичиков, но с более высокой, чем ваша, организацией мышления». — С кем же я общаюсь сейчас? — совсем уже недоуменно пробормотал я. «С полем, подобным любому энергетическому полю, обладающему определенными свойствами и заключенному в некое окружающее тебя пространство. Комната? Нет, конечно. Для нас нет стабильных материальных границ. И не одно это поле окружает тебя. Мы можем создавать их в любой точке пространства по всей территории планеты. Создавать и изменять в зависимости от их предполагаемых функций. Ты опять мысленно спрашиваешь: сколько же нас в этом поле? А ты можешь сосчитать, скажем, число нейтрино в этой комнате? И в том и в другом случае едва ли возможен абсолютный ответ». Я уже успокоился и даже попытался сгруппировать в уме целую систему вопросов к невидимой и неведомой силе, неизвестно как и зачем возникшей, но мой телетайп опять застучал: «Не умножай вопросов о происхождении, облике и функциях нашего мира. Речь об этом, возможно, пойдет на дальнейших, по вашей терминологии, сеансах связи. Продолжительность такого сеанса понижает нервную активность твоего мозга, поэтому мы вынуждены ограничивать время связи». — А как вы ухитряетесь его отсчитывать? «Мы живем в иной ритмике времени, не одинаковой в различных зонах космоса. Но мы уже приспособились к земному ритму, смене темноты и света, сухости и влажности воздуха, появлению утренней росы на траве и вечерним закатам. Мы научились мысленно предвосхищать этот ритм». — Ну, а мы просто фиксируем его часовым механизмом. «Часы могут идти и назад». — Это вы повернули их. Ритмика часовой стрелки следует за движением планеты. Мы уже привыкли друг к другу — я и машинка. Диалог наш почти не задерживался: слова ложились на бумагу с быстротой световых реклам. «В нашем мире нет вещей. Мы создаем и уничтожаем любые атомные структуры. Вы же окружены сонмом вещей — громоздких и неточных механизмов, бесполезных игрушек, аппаратов, назначение которых не всегда ясно». — Например? «Телефон. Ты подымаешь трубку и говоришь с ней, как с живым собеседником. А он не виден». — Мы еще не научились передавать слово и мысль телепатически. Еще пример? «Телевизор. Его экран дублирует другую жизнь, которая тебя почему-то интересует». — Человека интересует всякая информация. Тем более видеографическая. До известной степени она заменяет нам книги. Ведь процесс мышления у нас неразрывно связан со словом. «А какую информацию дает тебе зеркало? Оно тоже дублирует жизнь, но в другом ракурсе, где правое становится левым». — С эффектом зеркальности приходится мириться. А как он возникает, объяснить не могу: я не физик. В остальном же зеркало дает нам живую информацию о нас самих, о нашей внешности, у которой свои язык жестов и мимики. «Внешность, форма. Разве вы не ощущаете ее мысленно?» — Только то, что видит глаз. Для остального нужно отражение в какой-нибудь материальной среде — вода, металл, стекло. «Для этого же у твоего окна стоит стеклянный ящик с водой и разноцветными рыбками?» Я не мог сдержать смеха. «Что означает этот звук? — отстучал телетайп. — Мы ошиблись?» — Ошиблись. Это аквариум. Он воспроизводит уголок живой природы тропических водоемов. «Зачем?» — Мне нравится. «Увлечение?» — Скорее развлечение. Радость. Удовольствие. Неужели вы не знаете удовольствия? «Знаем. Удовольствие в познании мира, вас окружающего. В решении его загадок. В самом его движении, изменчивости форм, умножении и трансформации. А какое удовольствие доставляет тебе то, что ты называешь искусством? Мы не воспринимаем его совсем, даже через твои восприятия». — Разве у вас нет чувств, чтобы воспринимать его непосредственно? «Мы воспринимаем мир иначе, чем вы, без участия органов чувств. У нас нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния. Вкус нам неизвестен, как и пища. Осязание — тоже. Даже поле — это только сгусток энергии, не имеющий стабильных материальных форм». — Еще вопрос… «Нет. Нервная активность твоего мозга уже понижается. Связь прекращаем. Возобновим завтра в это же время. Можешь пригласить друзей — их высказанные вслух мысли дойдут и до нас. Через тебя». Телетайп умолк. Каретка застыла, дойдя до упора. Длинный машинописный лист свернулся трубочкой над остановившимся валиком, как не сорванный телетайпный выброс. Я осторожно оторвал его и несколько раз перечитал написанное, осмысливая каждое слово. Тайна Орля приоткрылась, только приоткрылась, не позволив даже заглянуть сквозь щелку. Что я узнал о пен? Не много. Что нас окружает удивительный микромир мыслящих существ, вернее, целая галактика миров с населением, близким по численности к математической бесконечности. Что представляет собой разумный индивидуум этого мира? Микромуравей, соединяющийся с триллионами ему подобных в гигантские энергетические поля-муравейники? Мыслящий мезон или нейтрино с мозгом Эйнштейна, способным разрушать и создавать любые атомные структуры? Так распавшаяся на атомы трубка Доуни восстановилась у меня на столе, так обернулась булка высокой твердости сплавом, а механизм стенных часов, не сломавшись, был вывернут справа налево. Так загорелась лампочка без проводов, сама перелистывалась Британская энциклопедия, а моим мозгом, как сосудом с нервными клетками, владело таинственное энергополе — сплав еще более таинственных микросуществ. Я снял телефонную трубку и позвонил Вэлу. — Еще не спишь? — Нет, а что? — Одевайся и немедленно иди ко мне сию минуту, сейчас. — Это так важно? — Очень важно. И настолько, что срочно разыщи Сузи, оторви ее от конспектов по структуре нуклона и доставь сюда. Кстати, захвати виски, у меня оно кончилось, а без него я не доживу до утра. — Да что случилось? — кричал Вэл. Но я уже положил трубку. Говорить не хотел, даже не размышлял — пустой, как выкипевший чайник. Представьте себя на моем месте: среднего университетского преподавателя, уже не юного холостяка с привычкой к тихой размеренной жизни, книгам, телевизору и кружке пива в уютном баре напротив, типичного гуманитария с его приблизительным представлением о точных науках, трезвого, здравомыслящего работягу, всегда избегавшего любопытства газетчиков; и даже не вообразите, а только попробуйте вообразить, что он добровольно дает интервью невидимым пришельцам с какой-нибудь Тау Кита. Розыгрыш. Нонсенс. Абсурд. С такой убежденностью я допил остаток бренди и впустил гостей. В моем рассказе было все: и пережитое, и перечувствованное, и переписанное самодеятельным телетайпом. — Фантастика, — сказала Сузи. — Именно так все и происходит в подобного рода литературе. А что, если всерьез? — А ты можешь допустить мыслящие частицы? — спросил Вэл. Сузи вздернула подрисованные брови. — Почему нет? Все допустимо в до сих пор не изученном микромире. Допускается, например, что элементарные частицы в принципе могут создавать системы, способные к накоплению информации и саморазвитию. Опытами это не доказало, но гипотеза о возможности существования жизни на основе не атомов, а элементарных частиц уже дискутируется. Кстати, Вэл, у твоих же соотечественников в Бюрокане я а симпозиуме о внеземных цивилизациях была высказана гипотеза о фридмонах, предположительно существующих частицах, заключающих в себе целую Вселенную со своими галактиками и звездами. Фантастика? Пока да. Но и мыслящие частицы до сих пор проходили по ведомству фантастики. «Эффект Клайда» — я уже придумала, Монти, научный термин для твоего открытия — доказывает их реальность. По крайней мере, есть теперь объяснение нашим «удольфскпм тайнам». Но я откровенно недоумевал. Абсурдным казалось само предположение о микросуществах, способных что-то воспринимать и действовать в масштабах макромира. Какой может быть кругозор у пылинки на подступах к Эвересту? — А энергетические поля? — напомнила Сузи. — Когда твои микросущества объединяются в математические множества с числом нулей, которое даже трудно себе представить, изменится и кругозор пылинки. Кстати, и для атомной бомбы требуется не один атом урана. Мы с Вэлом молчали. Начинались дебри ядерной физики, куда нам, гуманитариям, дальше опушки соваться не следовало. Я только рискнул спросить, обращаясь ко всем без адреса: — Ну, а делать что будем? Ответил Вэл, и ответил твердо. — Продолжать контакт. В любом случае и в любых обстоятельствах. — Может быть, расширим круг экспериментаторов? — Вспомни Доуни, Монти, — осторожно сказал Вэл. — Доуни — скептик. — Таких скептиков в науке тьма. Есть они и у нас. — Что предлагаешь? — Терпение и труд. В пределах тройственного союза.Глава VI «ЭФФЕКТ КЛАЙДА»
Тайна связывает и отделяет связанных ею от общества. Я умышленно избегал Доуни, Вэл замкнулся в университетской библиотеке, а Сузи, занятой сессионными консультациями, было не до развлечений. Но «тройственный союз» заседал при первой возможности и за ленчем, и за обедом. Гаданиями не занимались, говорили только о выводах, которые уже позволял сделать окрещенный Сузи в мою честь «эффект Клайда». Здесь тон задавала сама Сузи. — Почему фантастика? Противоречит законам физики? Нисколько. Известная нам физика не обязательна для всей Вселенной, где-то могут действовать и другие физические законы. Значит, можно предположить и жизнь, возникшую не на молекулярном уровне. И не наш, а другой путь эволюции. У нас — к сложным биологическим молекулам, у них — к не менее сложным энергетическим связкам. — Меня интересует другое, — говорил Вэл. — Не уводи нас в дебри вселенской физики. Иной мир? Согласен. Возможность контакта доказана. А нужен ли вообще этот контакт? Не знаю. Поймем ли мы друг друга? — Может, и не поймем, — соглашалась Сузи. — Сумеют ли они передать нам свои знания? — Захотят ли? — Не убежден. Как и в том, сумеем ли мы их усвоить. А может быть, они и вовсе непригодны в наших условиях. Что может дать элементарная частица, пусть даже мыслящая, совсем не элементарному, а сложнейшему из сложнейших биологических организмов — человеческому разуму? — Антропоцентризм! — вспыхивала, негодуя, Сузи. — Эгоистическое самомнение неандертальца. Ты не можешь мысленно передвинуть стул, а они могут. Я скучно слушал, дожевывая вчерашнее мясо. — А почему вы молчите, Монти? — продолжала атаку Сузи. — Вас-то это больше других задевает. — Именно поэтому, — буркнул я. — Не могу больше слушать трескотню машинки. Ты говоришь, как человек, вслух, а тебе в ответ: тук-тук-тук-зззззз… тук-тук-тук-зззззз… Идиотская ситуация. — Как же вы хотите общаться? Они, по-видимому, не могут воспроизводить звуковые волны. — А световые? — вмешался Вэл. — Помнишь лампочку? Шрифт им известен, могут воспроизвести любую букву. — Где? У меня же экрана нет. — А телевизор? Вечером собрались у меня. Уселись почему-то за стол, должно быть, по привычке. Помолчали неловко и, пожалуй, растерянно. Текло время. Тикали часы. И ничего не происходило — никаких чудес и неожиданностей. Я смущенно взглянул на Вэла и Сузи. Оба тотчас же откликнулись. — Кажется, встреча не состоится. — Еще есть время. Подождем. Ты бы адресовался к ним как-нибудь, Монти. — Вы здесь или нет? — спросил я громко и без всякой торжественности. — Сигнализируйте хотя бы. И неожиданное все-таки произошло. Бюст Шекспира птицей слетел с полки и столь же бесшумно опустился в центре стола. Мы переглянулись скорее недоуменно, чем испуганно. Во всем этом было что-то нелепо комическое. — Включайте «эффект Клайда», Монти. Они здесь, — поторопила меня Сузи. Но я включил только телевизор. Начинался какой-то американский гангстерский фильм. Шли титры. Крупный шрифт, средний, мелкий… Как раз то, что нужно. Я выключил телевизор. Экран погас, и умолкла музыка, а я сказал, смотря в потолок: — По-моему, это лучший способ общения, чем пишущая машинка. На мгновенно освещенном экране появилась надпись, набранная только что показанным шрифтом: «Поле уже генерировано. Можете говорить». — А о чем говорить? — тихо спросила Сузи. Я молча пожал плечами. Так много надо было узнать, а тут слов не нашлось. — Спроси, откуда они, когда и как прибыли, надолго ли и с какой целью, — сказал Вэл. Я не успел повторить вопроса, как на экране уже появился ответ: «Прибыли из другой Вселенной сквозь всасывающий провал в пространстве, который ваша несовершенная наука не очень точно определяет как невидимое дозвездное тело. Прибыли не с планеты, а со звезды. Без названия. Мы ничему не даем никаких названий. С угасающей звезды с уже иссякающими внутренними резервами энергии. Земля — это наша ошибка в пути. Мы искали не планету, а такую же звезду, только в более раннем периоде угасания». Текст медленно протекал по экрану. Одни строки сменялись другими. «Уйдем, как только пополним необходимый энергетический запас. Не скоро. Понадобится период, который вы исчисляете в часах, возможно, в нескольких сменах дня и ночи. Земля как жизненная база для нас не подходит. Ненужная атмосфера, солнечная радиация, неравномерный климат, наличие иной жизни… На Земле никаких целей не ставим. В пути мы уже встречались с другими формами жизни, но не входили в контакт. Не можем проникать в структуру живых биологических организмов. Такое проникновение произошло впервые и случайно, когда поток движущихся энергетических связок прошел вблизи человеческого мозга. Мы смогли узнать, что этот биологический организм подобен полю. Иной по форме, стабильный и неизменчивый, он оказался близким по структуре множествам множеств мыслящих единиц. Вы называете их нейронами. Так возникла возможность коммуникации… Задавайте вопросы только самые важные. Напряжение поли по вашему исчислению времени рассчитано на три тысячи секунд». — Почти час, — сказала Сузи. — Можно мне? — Начинай, — согласились мы. Сузи спросила подчеркнуто громко, хотя, как выяснилось впоследствии, этого совсем не требовалось. — Вы сказали: «не скоро», подразумевая несколько суток и даже часов — период, который мы склонны считать кратковременным. Я понимаю, что вы живете в иной ритмике времени. Как же долго по вашему исчислению продолжается ваша жизнь? «Не однозначно для всех, — последовал ответ. — Одни стабильны, как ваши электрон или нейтрино, — это коллекторы и датчики информации, жизнедеятельность других ограничена микродолями секунды. Но и они не исчезают, а трансформируются. Таким образом, поле в сеансе связи — это непрерывно меняющийся энергоблок со скоростью миллионов трансформаций в секунду». — Как вы сосуществуете с земным микромиром? «Мы живем и движемся вне его пространственно-временных границ». — Ваше поле вокруг нас, — вмешался Вэл. — А где же другие поля? Много ли их и каковы их функции? «Много. По всей планете. Возникают и распадаются в непрерывном движении. Цель одна — познать окружающий вас макромир. Скорость передвижения ограничена — она, конечно, меньше первой космической, иначе мы бы удалились от Земли в космическое пространство. Скорость связи между полями много выше, почти приближается к скорости света» Меня так и подмывало спросить что-нибудь, и наконец я не выдержал: — А что вас больше всего удивляет в нашем мире? «Ваш гигантизм и стабильность». — Но мы совсем не стабильны, — запротестовала Сузи, — мы стареем и умираем. И постоянно меняемся. «Мы не можем проследить изменений. То, что вы называете человеком, для нас — стабильная взаимосвязь отличных друг от друга миров: мир сложных биологических молекул и мир химических элементов, психический мир, сосредоточенны в нервных клетках мозга, и мир бактерий и вирусов Самая непонятная форма разумной жизни». Я снова взял слово. — А могли бы вы уничтожить ее? — С ума сошел! — толкнула меня локтем Сузи, но вопрос был уже задан. «Зачем? — прочли мы бегущие по экрану строки. — Все в природе целесообразно — любая форма жизни и любая ее эволюция. Но, получив соответствующий импульс, мы могли бы вызвать распад любой материальной формы». — Что вы подразумеваете под «соответствующим импульсом»? «Хотя бы ваше желанно». — А если бы оно касалось обмена знаниями? — снова вмешался Вэл. «Мы знаем больше и меньше вас. Но если нет взаимопонимания, знак равенства невозможен». — Я говорил, что контакт бесполезен! — воскликнул Вэл. — Чем обмениваться? Они нам — миллион трансформаций в секунду или опыт бесприборной связи со скоростью света, а мы им — устройство автомобильного конвейера или способ жарить яичницу! Так? — Ты что, очумел? — зашипела Сузи. — Они же слышат! — У них нет эмоций, девочка. Они не обидятся. Сами говорят, что знают и больше и меньше нашего, а знания одних не подходят другим. Мы не сможем ни усвоить их, ни переработать для нашей практики. Но Сузи все еще цеплялась за «эффект Клайда». — А чудеса? «Что есть „чудеса“?» — последовал вопрос на экране. — Множественное число от слова «чудо», — не без иронии подхватил Вэл. — То, что противоречит законам природы и не подтверждено наукой. В данном случае имеется в виду ваша способность мысленно передвигать предметы в пространстве. «Почему мысленно? Мы передвигаем их с помощью гравитационного поля. И не только передвигаем, но и трансформируем». — Смотрите! — закричал я. Мраморный бюст Шекспира на столе неожиданно высветлился, блеснув неяркой желтизной позолоты. — Золото! — восхищенно прошептала Сузи, осторожно тронув шекспировский нос. — Беспримесное чистое золото. — Насчет беспримесности надо спросить у химиков, но, кажется, ты разбогател на этом контакте, Клайд, — насмешливо заметил Вэл. Я молча тупо разглядывал золотую шевелюру, золотую бородку и скошенный по бокам золотой камзол бюста. «Что значит „заработал“?» — снова спросил экран. — Вы превратили мрамор в золото, — сказал Вэл, — а золото — самый дорогой металл на Земле. За эту фигурку Монти получит несколько тысяч фунтов. Я тут же подметил, что Вэл в своей, казалось бы, невинной реплике сосредоточил несколько труднейших для невидимок понятий. Объяснение должно было смутить их. Так и случилось. «Фунт — это мера веса металлической массы?» — спросил экран. — Не только, — с готовностью ответил Вэл, продолжая свою тактику. — Это и денежная единица. Листок плотной бумаги с водяными знаками и надписью, определяющей его платежную силу. — Вэл вынул из бумажника фунтовую ассигнацию. — Вот такой. «Мы догадываемся о назначении многих окружающих вас вещей, но ваша система обменивать их на бумагу необъяснима». Надпись исчезла, и несколько секунд экран безмолвствовал, не теряя, однако, своей освещенности. — Совещаются, — сказал Вэл, — определяют смысл формулы: товар — деньги — товар. К сожалению для них, Британская энциклопедия не дает ей должного объяснения. «Напряжение падает, связь прекращаем», — резюмировал экран и погас. Золотой бюст Шекспира вспорхнул на полку и снова стал мраморным. — Они, кажется, раздумали платить за контакт, Монти, — засмеялся Вэл. Всем стало весело. — Не было «соответствующего импульса»; Монти не пожелал оставить Шекспира в золоте. — Не упускай богатства, Монти. Я попробовал представить себя в роли Мидаса. Вот я с золотым Шекспиром у ювелиров на Стрэнде. Вынимаю бюст из баула и робко предлагаю купить. Ювелиры с лупами и кислотами придирчиво осматривают Шекспира, потом задают подозрительные вопросы. В худшем случае я в дальнейшем даю объяснения в полиции, в лучшем — попадаю на страницы «Дейли миррор»: «Причуды холостяка. Влюбленный в Шекспира штатный преподаватель университета Монтегю Клайд отливает из нескольких фунтов золота бюст любимого автора». А потом ледяной разговор в ректорате: «Откуда вы взяли столько золота, мистер Клайд?» — «Нашел сундук с испанскими дублонами, сэр». Или: «Купил несколько брусков золота на черном рынке в Бомбее, сэр». — «Я очень сожалею, мистер Клайд, но боюсь, что ваше дальнейшее пребывание на кафедре неуместно». Бррр… Проспорили до первых предрассветных бликов за окнами. — Почему ты упорно подбирал сложные для их понимания детали? — атаковал я Вэла. — Хотел выяснить для себя, смогут ли они понять процессы, происходящие в нашей жизни, не биологическую структуру, а социальный смысл. — И выяснил? — Выяснил. Не смогут и не поймут. — Может быть, мы делаем что-то не так? — усомнилась Сузи. — Может, пригласить все-таки авторитетных ученых? — Кого? Где ты их возьмешь к завтрашнему вечеру? — Уговорю Джима Андерсона. — Кто этот Джим Андерсон? — Мой куратор с кафедры. Может быть, удастся заинтересовать и профессора Гленна. — У Монти уже есть пример — Доуни. — Здесь им покажут реальный опыт. — В который они не поверят. Будут ползать по полу в поисках проводки, подозревать жульничество, предполагать мистификацию с помощью какого-нибудь усовершенствованного «волшебного фонаря». — А что, если обратиться непосредственно к руководству университета? — предложил я. — Кто обратится? Ты не рискнешь штатной должностью, Сузи вообще не доберется до ректората. Оба вы отлично знаете, что нет более бюрократических и консервативных организаций, чем британские «храмы науки». Если бы все это происходило в Москве, а не в Лондоне, я, вероятно, сразу бы нашел непредубежденных ученых. Ведь университет в Москве, Монти, совсем не то, что здесь. У нас, кроме учебной, есть и партийная, и комсомольская организации, и даже своя многотиражная студенческая газета. Замолчать или осмеять без серьезной проверки что-либо подобное «эффекту Клайда» не сумели бы даже и архискептики. — В конце концов, и мы можем заинтересовать газетчиков. — Можем. Воображаю заголовки: «Империя „невидимок“», или «Псевдонаучный фокус?», «Эмиссар из Москвы мистифицирует английских ученых». Нет уж, увольте. Меня по крайней мере. Перспектива оказаться «нежелательным иностранцем», мистификатором и шарлатаном меня отнюдь не устраивает. — Почему обязательно предполагать недоверие? Можно и у нас добиться создания авторитетной и непредубежденной научной комиссии. — Если бы твои «невидимки» оставались здесь навсегда или надолго — да! Можно добиться и комиссии, и признания, и действительно грандиозной научной сенсации. Может бить, даже и контакт с «невидимками» оказался бы перспективным, хотя я лично в этом совсем не уверен. Но для такой сенсации нужно время. Не часы или дни, а недели и месяцы. Только длительность и стабильность опыта обеспечит его признание. А ты уверен, что уже завтра или послезавтра гости не отбудут и космическое пространство? А вдруг не отбудут? — Гарантируешь? — Нет, конечно. Но можно же в конце концов добиться от них более определенного ответа. На этом и порешили.Глава VII НЕЛЕГКО БЫТЬ ВОЛШЕБНИКОМ
Вэл пошел проводить Сузи — она жила с родителями — и вернулся ко мне. Домой не мог: хозяйка студенческих меблированных комнат не разрешала ночных возвращений. — Половина четвертого. Лондон спит. И нам три-четыре часика соснуть можно, — сказал он, укладываясь у меня на диване, и заснул с детской неприхотливостью. А я не спал. Голова кружилась от грандиозности открытия, пожалуй самого удивительного со времен Коперника. Сколько гипотез было высказано о связи с внеземными цивилизациями, сколько симпозиумов состоялось, сколько статей написано! И вот такая цивилизация рядом с нами, невидимая, неощутимая, в чем-то превосходящая нас, в чем-то нам уступающая, бесконечно чужая и чуждая нам форма разумной, разумной, разумной жизни. Пусть контакт и неповторим, ели она уйдет — а уйдет она непременно, — но уже одно соприкосновение с ней открыло нам еще одну тайну Вселенной. Конечно, Ньютон, скажем прямо, был счастливее нас: он мог доказать свое открытие. А сможем ли мы? Сможем. Я вспоминаю о «соответствующем импульсе». Если, приняв его от меня, энергополе «невидимок» со скоростью света передаст его аналогичному полю в любом месте планеты, любой избранный мною материальный объект распадется на атомы, причем энергия распада будет отброшена в сопредельное временное пространство. Так по крайней мере объясняла мне Сузи. А на доступном мне языке понятий это значит, что объект исчезнет без шума и вспышек, без всяких там излучений и взрывных волн, просто исчезнет, как стакан, прикрытый цилиндром фокусника. Хотя бы на день, на час я становлюсь человеком, который мог творить чудеса. Сказка Уэллса превращается в быль. Я не буду размениваться на мелочи — выращивать на улице розовые кусты, печатать фальшивые ассигнации или отливать на кухне золотые бруски. Я размахнись но глобусу, прекращу любую войну и любой террор, заставлю уйти в отставку любое преступное правительство За несколько минут любая военная хунта отправится в ад или сдастся на милость народа. За несколько минут невинно осужденный выйдет на свободу из любого застенка… Я разбушевался в мечтах, как школьник, нагромождая в уме сказку за сказкой, пока спасительный сон не избавил меня от постыдного возвращения к действительности. Сои под утро тревожный и хрупкий, полный странных видений, словно повторяющих что-то забытое в твоей жизни. Я иду в каменном ущелье будто вымерших улиц. Одинокие черные тени в подъездах с неопределенным человеческим обликом. Прохожих нет. Стекол в окнах тоже нет — одни пустые глазницы. Может быть, это улицы из фильмов о разрушенных войной городах? Улицы суживаются, оборачиваясь переулками и проходными дворами, и я знаю, что где-то неподалеку меня ждет тупик, из которого уже нет выхода. Это — ворота, похожие на вход в автомобильный гараж. Они медленно раскрываются, выпуская навстречу мне что-то неопределенное и рыхлое, как медуза. А может быть, это новая форма разумной жизни? «Почему?» — спрашивает она и не договаривает. «Почему?» «Почему?» Я просыпаюсь и сажусь на постели, опустив босые ноги на пол. Должно быть, еще рано, в комнате света мало, и только на освещенном экране телевизора легко читается тот же вопрос: «Почему?» А вслед уже бегут слова, договаривающие сон: «Почему у тебя несколько жизнен?» Я даже протер глаза, чтобы убедиться в том, что не сплю. Экран ждал ответа. А что я мог ответить на этот, мягко говоря, странный вопрос? — У меня одна жизнь. «Две. Ты одновременно был в двух пространственно-временных мирах. Ночью и днем. Лежал не двигаясь и двигался в пространственных границах, какие вы называете улицами». — Это не жизнь, это — сон, — сказал я зевая. «Ваш словарь толкует слово „сон“ слишком неопределенно. Это и физиологическое состояние, в котором периодически прекращается работа сознания, это и видения спящего, и мечта, и фантастический продукт воображения. Слишком много исключающих друг друга понятии». — Я имел в виду именно видения — то, что происходило во сие, а не наяву, — сказал я вслух. Экран понял по-своему. «Другая жизнь, но мы не могли в нее проникнуть». — Потому и не могли, что она не существовала реально. Продукт неконтролируемого воображения. «Непонятно. Все, что существует, — существует реально. Реально не существовала — несовместимость понятий. Еще один признак чуждой нам формы жизни». И экран погас. — Ну, что скажешь? — услышал я позади смешок Вэла. Он, как и я, не спал и сидел босой на диване. — Кажется, взаимопонимание недостижимо, — вздохнул я и прибавил: — Только… — Что только? — насторожился Вэл. И я, опустив голову, чтобы не смотреть ему в глаза — неловко, конечно, а так хотелось рассказать, — все-таки рассказал ему о своих воздушных замках. Пусть улыбается, пусть острит, пусть говорит, что, мол, глупо все это и смешно. — Конечно, смешно, — подтвердил Вэл тоном судьи, выносящего приговор. — Наивность всегда смешна. Это свойство инфантилизма. Смешно быть ребенком в тридцать пять лет. А твои мечты — издержка воображения подростка, возомнившего себя властелином мира. Он, видите ли, предотвращает войны, уничтожает оружие на военных базах!.. Не суйся, милок, в политику: не по зубам орешек. И штаб НАТО не потроши. Документацию уничтожишь, а генералы останутся. И планы восстановят, и агентуру, и средства. И ничего не изменится, только легкую панику вызовешь — на время. А ультиматумы диктатурам или хунтам — это уж совсем смешно. Даже физическое уничтожение диктаторов не приведет к революции. Революции не экспортируются и не делаются по приказу извне; их делает народ, когда создается революционная ситуация. Разгромленный, я отступал, все еще не сдаваясь. — Могущество «невидимок» не только в разрушении. — А что они создали? Курительную трубку и золотой бюст? — Дело не в масштабах. Полагаю, что с такой же легкостью они создадут и океанский лайнер. — Для кого? Для тебя? Стоит этакий пароходище в устье Темзы. Абсолютно пустой. Ни капитана, ни команды, ни судовых документов. Как ты докажешь свои права на владение? — А если не для меня? Для общества. Например, строительный кооператив для лондонской бедноты. И не один квартал, а целый пригород. Или, допустим, мост через Ла-Манш или туннель. Без труда и средств — раз, и готово! — Допустим. А по какому образцу они его выстроят? Что они знают о сопротивлении материалов и строительной механике? Можно ли будет ездить по этому мосту, даже если он и повиснет волшебно над Ла-Маншем? Да и пригород твой — это не трубка Доуни. Дело не в масштабах, согласен. Но по каким расчетам и чертежам они скопируют сложное инженерное хозяйство с его транспортными магистралями, осветительной и газовой сетью, водопроводом и канализацией, телефонной и телеграфной проводкой? Они и понятия об этом не имеют, и назначения не поймут, а ты — пригород! Нет, Монти, в своем чудотворчестве ты даже ограниченнее, чем герой Уэллса. Тот хоть мог сотворить себе яичницу, а ты и этого не сможешь: нет образца для синтеза. Я молчал. — Пора вставать, волшебник, — зевнул Вэл и пошел в душ. — Может, позавтракаем вместе? — Твоя Розалия еще не вставала, а у меня — дела. Проводив Вэла, я подошел к окну. Уже совсем рассвело, но квартал еще спал: не было ни людей, ни машин, только автотележка молочника задержалась у подъезда напротив. То был подъезд старого лондонского дома, выстроенного, должно быть, еще полстолетие назад. Рядом с ним стоял, вероятно, такой же, но во время войны его разрушило прямое попадание немецкой фугаски. Уже несколько лет на его месте собирались воздвигнуть новый, а строительная площадка, огороженная аккуратным забором, все еще оставалась пустой. Только окрестные мальчишки, проникавшие сюда сквозь щели в заборе, устраивали здесь свои футбольные и крокетные матчи, прекращавшиеся с появлением лондонских «бобби» — строгих блюстителей уличной тишины и порядка. «А что, если…» — мелькнула озорная мысль. И я сказал вслух с невольной торжественностью: — Если вы еще здесь и можете меня слышать, постройте дом на пустыре напротив. Что значит «построить», вы, вероятно, знаете, «дом» — тоже. А пустырь я сейчас наблюдаю: он огорожен забором, оклеенным рекламными афишами. Дом должен быть точнейшей копией соседнего, стоящего рядом. Не только снаружи, но и внутри. Вся проводка, которую вы скопируете, должна быть также связана с подземным хозяйством улицы. — Я вздохнул и добавил: — Возле подъезда укрепите большой белый экран с надписью: «Бесплатные квартиры для бедняков. Вселяйтесь и живите. Вход свободный». Ничто не звякнуло, не стукнуло, не шелохнулось. Дом, задуманный мной, не появился. «Эффект Клайда» попросту не сработал. Я внутренне посмеялся над своим дурачеством, вздохнул и начал одеваться. Потом съел завтрак, просмотрел газеты и, захватив зонтик, собирался уже выйти на улицу, как вдруг услышал нарастающий шум за окнами. Словно поймали вора или кого-нибудь сшибло автомобилем. Взглянул в окно и обмер. На бывшем пустыре стоял пятиэтажный дом, точная копия своего выцветшего и закопченного соседа. У дверей до второго этажа тянулся белый прямоугольник с задуманной мною надписью, ясно читавшейся даже из моего окна. А внизу ее читала и обсуждала толпа, собравшаяся у дома. Что-то кричал полицейский в каске, останавливались проезжавшие автомашины, толпа росла. Я, забыв зонтик, стремительно выбежал на улицу.Глава VIII МИДАС
И вблизи дом оказался таким же старым, как и его сосед, словно их строили одновременно. У подъездов с воинственным видом стояли полисмены: должно быть, постовой уже вызвал дополнительный полицейский наряд. На тротуаре толпились прохожие и зеваки — обычные лондонские зеваки, моментально собирающиеся вокруг любого уличного происшествия. Но привлекал их даже не самый дом, а надпись на огромном щите, выведенная полуметровыми буквами и тем же шрифтом, которым пользовались невидимки у меня на экране. Наиболее словоохотливые обменивались репликами: — Бесплатные квартиры. Видал? — Вранье. — Так ведь ясно написано. — Мало ли что написано. Обман. Въедешь, а тебе — счет: плати. — Попробуй въехать. Видишь — ангелы у дверей рая стоят. Кто-то попробовал подойти ближе. — Назад! — крикнул полисмен, отстраняя его концом черной дубинки. — Не подходить близко. Я перешел к другой группе. — Вчера этого дома не было. Я ведь рядом живу, — пояснял, жестикулируя скрученным зонтиком, седоватый клерк в котелке. — За одну ночь его выстроили. Непостижимо! — Не за одну ночь, а утром. При мне. — Глупости! — Я молоко привез — никакого дома нет. Пустырь. Поставил машину вон там. (Тележка молочника все еще стояла у подъезда соседнего дома). Отлучился на минуту, вернулся — дом! Точь-в-точь такой же, как этот. Прямо из воздуха. Будто в кино. Впереди косматый молодой человек лихорадочно щелкал фотокамерой. На слова молочника обернулся: — Вы лично видели? — А как же иначе? Точь-в-точь. Как в кино. — Расскажите подробнее. Я из газеты, — засветился обладатель фотокамеры, но молочник тотчас же стушевался: — Некогда мне — заказчики ждут. — Разыгрывает, — сказал кто-то. — Чудес не бывает. Я решил поддержать молочника: — А вдруг? Я не видел этого дома еще полчаса назад. Глядел вон из того окна напротив — пустырь и забор. А вышел на улицу — ни пустыря, ни забора. У соседнего дома материализовался дубль. Газетчик еще раз щелкнул фотокамерой, должно быть снимая мое окно. — Ваше имя, сэр? — Зачем? Я не мечтаю попасть в газеты. Мне же нужны свидетели, сэр. — Чудеса не нуждаются в свидетелях, мистер. Это не преступление, — сказал я и пошел прочь. Газетчик кинулся было за мной, но к дому в этот момент подъехал автофургон телевизионной компании. Причаливший следом серый «форд» выбросил полдюжины волосатиков, сразу же атаковавших моего газетчика. — Что здесь произошло, Арчи? — Опыт скоростного строительства, да? Я не стал слушать… На кафедре еще ничего не знали о чуде, но в перерыве между лекциями сенсационная весть уже долетела с улицы. Мимо меня бегом промчались студенты, торопясь к месту уже известного им происшествия. Тут меня и поймал Вэл. — Твоя работа? — А что? — спросил я невинно. — А то, что ты кретин Зачем тебе это понадобилось? Забыл, в какой стране живешь? Если бы ты выстроил дом в Москве, тебе бы только сказали спасибо, а здесь ты обогащаешь землевладельца. — Как? — не понял я. — Вот так. Не бедняки, милок, получат твои квартиры, а хозяин. По праву священной частной собственности. — Увидев подкатившего Доуни, Вэл заторопился: — Встретимся в «пабе», когда выйдут вечерние газеты. Надо поговорить. Я не знал, надо ли. Да и о чем? Дело-то ведь уже сделано. Но реплика Доуни подтвердила, что и ему надо об этом поговорить. — Ведь вы живете на Друммонд-стрит, Монти? — начал он. — Слыхали, что произошло? — Нетолько слыхал — видел. — Так рассказывайте скорее! — Что рассказывать? Дом как дом. Доуни сделал строгое лицо, как на экзаменах. — Я только что говорил с соборным епископом. Он проезжал по вашей улице. Едва пробился — такая давка. — Доуни приблизился ко мне вплотную и прибавил почему-то шепотом: — Говорит, что это не от бога, Монти. Не от бога. А вы что скажете? — Что в городе появился волшебник, сэр. Доуни шарахнулся от маня, как от зачумленного. Вечерних газет ждать не понадобилось: уже экстренные выпуски дневных отвели целые полосы «чуду на Друммонд-стрит». Со всеми подробностями была описана суета вокруг дома, впечатления очевидцев его рождения, болтовня зевак. «Дейли экспресс» опубликовала даже снимок фасада меблированных комнат миссис Соммерфилд с моим окном, помеченным крестиком. «Из этого окна преподаватель университета Монтегю Клайд лично наблюдал волшебную материализацию здания». Косматый газетчик оказался проворнее, чем я думал, сумев выведать все, что ему требовалось, даже у неприступной Розалии. Научные авторитеты отмахивались: «не знаю», «не понимаю», «не могу объяснить». Архитектор Брукс, специалист по скоростному домостроительству, высказался определеннее: «Не знаю ни материалов, ни метода, с помощью которых можно выстроить пятиэтажный дом в одну ночь. Может быть, открыт секрет самовозрастающей цементной массы, но мне он неизвестен». Мгновенного рождения дома архитектор вообще не допускал, не обмолвившись о том даже намеком. Плакат с бесплатными квартирами вызвал подозрения «Нью джорнал», намекнувшей на «происки коммунистов, получивших секрет сверхскоростного строительства из Москвы». Задавались вопросы, кто же станет хозяином дома — землевладелец или строитель, если он объявится. Вечерняя «Ивнинг ньюс» недвусмысленно разрешила все сомнения на этот счет, опубликовав интервью с владельцем земельных участков на Друммонд-стрит Джозайей Харрисом: «— Было ли это неожиданностью для вас, мистер Харрис? — Полнейшей. — Как вы относитесь к такому событию? — Я очень доволен. — Как вы его объясняете? — Никак. Зачем обогащенному объяснять причины своего обогащения. Важен сам факт. — Значит, вы уже считаете себя законным владельцем дома? — Бесспорно. — А если предъявят свои права строители? — Все, что построено на моей земле без предварительного договора на аренду, принадлежит мне. Пусть строители обращаются в суд. Закон на моей стороне. — Последний вопрос. Как вы относитесь к объявлению на фасаде дома о бесплатных квартирах? — Я приказал его снять. Распоряжаюсь квартирами я. И цены назначаю я. Кто платежеспособен — милости просим». Я пошел в бар и выпил уйму дряни. Но не опьянел, во всяком случае не убил в себе тупого отчаяния. Только в глазах все помутнело и закачалось. Таким меня и нашел Вэл. — Читал? Я кивнул. — Что скажешь? — Соглашаюсь с тобой. Я кретин. — Не придирайся. Я сказал это в запальчивости. Просто ты не подумал о последствиях, а твои «невидимки» не знают английского законодательства. Кстати, они еще здесь? — Не знаю. Если здесь, ничего не предприму без твоего совета. — Увы, — вздохнул Вэл. — Завтра вылетаю в Москву. — Совсем? — испугался я. — Временно. В Москве постараюсь заинтересовать ученых Удастся — вызову. Узнай только, может ли поле последовать за тобой или передаст тебя другому в другой зоне рассеяния. Я не ответил. Помутневший мир еще более потемнел и закружился. Шатаясь, я встал. — Что с тобой? Тебе плохо? — спросил Вэл. — Просто выпил лишнее, — сказал я сквозь зубы. — Я провожу тебя. — Не надо. Все равно. Мне было действительно все равно. Я оставался один на один с империей «невидимок». Помощь Сузи проблематична Духовный мир ее, ограниченный конспектами лекции по ядерной физике — микромира, бесконечно далекого от микромир гостей, — был лишен широты воображения и железной логики Вэла. А что мог извлечь из контакта с пришельцами я, еще более ограниченным преподаватель литературной классики, отброшенный in современности в историческую глубь елизаветинской Англии? Я вернулся домой протрезвевший. Только злость осталась, неостывшие угли гнева, вновь готовые вспыхнуть. Я вам устрою еще одно чудо, господа ревнители частной собственности! Я вас обогащу еще больше, мистер Харрис, обогащу, как Мидас, прикоснувшись к вашему краденому имуществу. Подойдя к окну, я снова увидел творчество «невидимок». Дом стоял мрачный, скучный, с грязно-серыми подтеками на фасаде. Объявления о бесплатных квартирах уже не было Часть тротуара возле дома была окружена недостроенным высоким забором; строители, не закончив работу, уже ушли Харрис демонстративно защищал свое право собственности Скоро ему будет что защищать, только едва ли он справится. И я, не оглядываясь, сказал вслух: — Если вы еще здесь, измените структуру дома напротив. Сделайте его золотым, как статуэтку на книжной полке. Пусть он будет сплошным, монолитным куском чистого золота. Долго ждать мне не пришлось — минуты две — три, не больше. Дом стоял там же, не шелохнувшись. Ничто в нем не изменилось, кроме окраски. Он стал светлее, чище, исчезли грязные подтеки, свет от уличного фонаря весело заиграл на его ровно желтой поверхности, даже издали блестевшей, как начищенная медь. Но я знал, что это не медь. — Ну вот к все, — сказал я себе — Теперь посмотрим, что будет завтра.Глава IX ЗОЛОТОЙ ЦИКЛОН
Утром я проснулся поздно, часов в одиннадцать, и мог бы спать еще дольше, если б не разбудил меня шум за окнами. Не просто шум, обычный для уличного происшествия, а шум большого уличного скандала. Я открыл окно и обомлел: ничего подобного в Лондоне не было со дня его основания. Новоявленное создание «невидимок» превратилось в сверкающий золотой брусок, повторяющий форму массивного пятиэтажного дома. Внизу, как муравьи, его облепили люди. Недостроенный забор был повален, по его сломанным доскам напирали вновь прибывающие. Строители в синих комбинезонах, орудуя кто ломом, кто кувалдой, отбивали куски золота от стен, углов и ступенек подъездных лестниц. Кто-то отпиливал их золотые перила, кто-то стучал пневматическим молотком, выгрызая из стены огромные бесформенные куски. Все это галдело, орало, вопило, толкало и сшибало друг друга под ноги напирающих с тротуара. В шуме порой различались выкрики, как лай или рычание в драке собак. То просительно: — Отдай лом! То визгливо: — Пусти, убью! То со стоном: — Он! То угрожающе: — Отойди, хуже будет! В человеческом муравейнике, облепившем дом, кипели страсти. То у одного угла, то у другого начинались драки. Может быть, с увечьями. Может быть, смертельные: лом не тросточка. Какой-то парень в кепке — лица его сверху не было видно — выпиливал кусок из углового ребра, взобравшись на стремянку, приставленную к степе. На моих глазах у него выбили ее из-под ног, он свалился, а за ним обрушился отпиленный золотой кусок, должно быть очень тяжелый, потому что сразу сбил с ног кого-то внизу. Выпиленный с таким терпением кусок тотчас же подхватил один из стоящих рядом и побежал по улице, расталкивая встречных. «Стой!» — закричал полисмен, только что подъехавший на мотоцикле. Человек с золотой добычей не оглядываясь бежал дальше. «Стой!» — повторил полисмен. Бежавший споткнулся, уронил брусок. Полицейский догнал его на мотоцикле, соскочил, схватил брусок и умчался, никем не преследуемый. Я кое-как оделся и выскочил на улицу, даже не закрыв за собою дверь. Но перейти улицу не мог: она буквально кишела охотниками за золотом. И я остался у подъезда рядом со стоявшим тут же бородачом, наблюдавшим с ироническим удовольствием за вавилонским столпотворением. — Экстра шоу, — сказал он улыбаясь. — Почему же вы не присоединяетесь? — тем же тоном спросил я. — У отца денег достаточно плюс стенокардия. Вполне могу позволить себе роскошь неприсоединения. А каков спектакль! — Давно смотрите? — С утра. Строители как пришли на работу — видите забор поваленный? — так бросились с инструментом к золотой махине. Один сковырнул ломом ручку от двери и побежал в ювелирную лавочку за углом. А минут десять спустя вернулся, размахивая пачкой ассигнаций. «Золото, кричит, чистое золото! Не теряй время, ребята. Обогащайся!» И началось!.. — Даже пилами орудуют. — Это уже присоединившиеся. Все пилы для металла скупили в округе. Видите, даже пневматический молоток действует. Должно быть, центнер золота или около того уже выщерблено. А скольких придушили в давке — не сосчитать. — Не вижу полиции, — удивился я. — А вон они, полисмены, — сказал бородач, указав на балкон. — Они на втором этаже работают. Два выломанных или отпиленных куска дадут больше, чем десятилетняя служба в полиции. Организованное обогащение. — Что же власти смотрят? — А что власти! — усмехнулся бородач. — Власти завидуют. И мэр города, и начальник полиции сами бы не прочь отхватить по центнеру золота, да престиж не позволяет. Впрочем, кажется, идет экстренное заседание кабинета министров. Я внутренне ликовал. Вот вам мой подарок, предубежденные и скептики. Попробуйте-ка научно объяснить «чудеса» на Друммонд-стрит, если сумеете. Хотел бы посмотреть на ваши лица, когда я выложу перед ареопагом Королевского научного общества свои доказательства недоказуемого ничем, кроме догматов епископа Кентерберийского. Отвратительный спектакль, развязавший самые гнусные человеческие инстинкты, не вызывал у меня отвращения. Мне не хватало только Харриса. И я дождался. — Они убьют его, мистер Клайд! — тревожно вскрикнула Розалия Соммерфилд. Она стояла рядом, в группе зрителей, не зараженных золотой лихорадкой или из трусости не рискующих присоединиться к «старателям». — Он с ума сошел! Что он делает?! — Кто? — не понял я. — Харрис. Мистер Харрис. Тут только я заметил его. Толстенький лысый человечек, точь-в-точь мистер Пикквик в старости, выскочив из черного «роллс-ройса», метнулся по сломанным доскам забора к толпе. — На помощь! Полиция! — Куда лезешь, старик? На кладбище захотел раньше времени? — оттолкнул его детина с куском золотых перил под мышкой, похожим на отрезок железнодорожного рельса. — Это грабеж! — взвизгнул Харрис и схватился за рельсу. — Пошел, дурак! — рявкнул рыжий и легонько пнул Харриса в грудь. Лысый «Пикквик» отлетел на метр и грохнулся на поваленные доски забора. Кто-то наступил ему на пальцы. Он пискнул и замолчал. — Они раздавят его! — в ужасе закричала Розалия. — Да погодите вы! — озлился я и, перебежав улицу, выхватил у кого-то из-под ног онемевшего Харриса и, как куль, подтащил его к машине. — Везите домой, — бросил я шоферу. Дальнейшая судьба Харриса меня не интересовала. Да и других, пожалуй. Только бородач сказал равнодушно: — Зря рисковали. Одним хапугой стало бы меньше. А внимание зрителей было привлечено только что подъехавшей автомашиной, похожей на пожарную, но без шлангов и лестниц, а с короткими и тупыми жерлами, как у пушек на старинных гравюрах. — Водомет, — сказал кто-то, а бородач заметил с ухмылкой: — Кажется, начинается последнее действие. Две мощные водяные струи, как стальные канаты, хлестнули по человеческому муравейнику, облепившему дом. Они ударили сверху и снизу, резанули по фасаду взад и вперед и начали бить в упор по секторам, двигаясь навстречу друг другу. Под ударами воды, сбивавшей с ног, люди падали, подымались, крича и захлебываясь, ползли на четвереньках, пытаясь уйти от водяных смерчей. Одним удалось вынести свою драгоценную добычу, другие растеряли ее под водяными хлыстами, третьи так и остались лежать на покрывших тротуар и часть улицы опрокинутых заборных щитах. Разметав толпу у дома, водометы ударили по тротуару напротив, хотя там никто никому не мешал. Но водяные струи били без предупреждения и без разбора, словно атакующие стремились убрать всех свидетелей их атаки. Минуту спустя и наша группа была сметена водяным смерчем… Мне показалось, что на меня обрушился водопад. Ничего не видя, зажав нос и рот, чтобы не захлебнуться, опираясь на стену, чтоб не упасть, я кое-как выбрался из зоны водяного обстрела. Бар был рядом. За столиками уже шумели, обсуждая происшествие. Я не вслушивался. Мокрый насквозь, я взобрался на табурет у стоики и промычал что-то нечленораздельное. — Там были? — спросил бармен. — Там, — прохрипел я. — Я видел. Ужас! — Ужас, — повторил я. — Чего-нибудь покрепче, Мэтт. — Вам надо переодеться, сэр. Совсем промокли, сэр. — Потом, — отмахнулся я. — Шотландского, пожалуйста. Я пил, пока не согрелся. Потом вернулся домой, благо идти было недолго. Ни участников, ин зрителей спектакля на улице уже не было — только полукольцо солдат на посту возле дома. Он стоял по-прежнему пятиэтажным желтым бруском, по изъеденный, как проказой, ямами, вздутиями, рубцами и ссадинами. — Что с вами, Монти? Я поднял голову: Сузи. — Вошла без звонка, Монти. Дверь была открыта. — Все равно, — сказал я. Сузи присела возле меня на корточки и захлопотала. — Не огорчайтесь, Монти. Что сделано, то сделано. Надо думать, что делать дальше. — Вы видели? — спросил я. — Я пришла, когда уже убирали раненых. — Много? — Несколько человек. Не так уж много, судя по рассказам о том, что творилось. Вы успокойтесь. Все уже кончилось. — Нет, не все, — сказал я и мысленно воззвал об уничтожении дома со всем, что от него осталось. Пусть будет пустырь, как и раньше. — Посмотрите в окно, — сказал я. Сузи взглянула и вскрикнула: — Это опять вы? — Я. Золотой дом исчез со всеми криптами золотых крошек от стамесок и молотков. Вдоль каменного тротуара тянулся грязный земляной карьер. — Теперь уже все, — сказал я, — только не знаю, что делать дальше. — Я говорила с профессором Бруксом, — начала Сузи. — Ну и что? — К сожалению, пока ничего. Брукс не хочет вмешиваться. Не верит. Сравнил вас с Адамским. — Кто это — Адамский? — Какой-то шарлатан, который писал в американских газетах, что летал в другую галактику на летающем блюдце. — Докатились, — хмыкнул я. — Я была и у Каммингса в «Дейли трумпет». Рассказала все, как на исповеди. Он явно заинтересовался, но боится рисковать. Большая сенсация, слишком большая для одной газеты. Нужна, говорит, пресс-конференция. Что-нибудь помасштабнее и с пресс-конференцией можно рискнуть. — Мне не масштабы нужны, а польза! — запальчиво отрезал я. — Хочется сделать что-нибудь полезное людям. Не хапугам вроде Харриса, а порядочным людям, обиженным жизнью. Сузи помолчала, потом расцвела. Даже глаза заблестели. — Я, кажется, придумала. — Что? — А если освободить Диаса и Лоретто?Глава X ГЕОГРАФИЯ ВОЛШЕБСТВА
Мигель Диас и Хосе Лоретто были гражданами одной из латиноамериканских республик, где уже около года захватила власть военная клика. Ни того, ни другого не за что было ни повесить, ни расстрелять — ни один из них не принадлежал к запрещенным военной диктатурой партиям. Но Диас и Лоретто руководили профессиональным союзом докеров, забастовка которых была явно не в интересах дирижировавших экономикой республики иностранных монополии. Бастующие продержались немногим более месяца, но в конце концов забастовка была сорвана правительственной олигархией, а Диасу и Лоретто предъявили наспех сфабрикованное обвинение в убийстве полицейского офицера, руководившего штурмом забаррикадированного забастовщиками столичного порта в Атласе. И хотя Мигель и Хосе даже не были в это время в Агиласе, а находились от него за сотню километров, в другом центре забастовки — в порту Альмадене, оба оказались подходящими кандидатами для полицейской расправы. Обоим угрожала смертная казнь, и только полное отсутствие доказательств их виновности вынуждало военную прокуратуру откладывать судебный процесс, не суливший обвиняемым никаких надежд на спасение. Ни возмущение прогрессивной общественности всего мира, ни протесты даже немногих легальных общественных организаций Агиласа не поколебали деспотического решения диктаторов. Диас и Лоретто по-прежнему находились в тюрьме, ожидая суда. Все это я знал из газет и телевизионных передач именно в таком схематичном изложении языком телеграфных агентств, лаконичных сообщений собкоров, редких кадров фото- и кинохроники. И естественно, что судьба Мигеля Диаса и Хосе Лоретто не могла не волновать любого мало-мальски порядочного человека. Однако неожиданное предложение Сузи, признаться, меня ошеломило. Освободить двух мучеников черной деспотии, конечно, чертовски заманчиво, но как это сделать? Предложить «невидимкам» поднять их в воздух и перенести, скажем, на Кубу? Абсурд! «Невидимки» способны только изменять структуру окружающих нас материальных форм, создавать мощные силовые поля и передвигаться со скоростью света. Но что будет с человеком в движении на такой скорости? Даже не физику ясно: каюк! Когда я изложил все это Сузи, она засмеялась. — Зачем все эти сложности, Монти? Разве мы не можем просто уничтожить тюрьму со всеми ее камерами и стенами? — Так ведь останется тюремная стража с оружием. — Можно уничтожить и оружие. «Невидимки» это сумеют. — Допустим. А дальше? — У тебя совсем нет воображения, Монти. — Не знаю. Все это очень сложно. — Проще простого. Только подумай. — Не тяни. — Сразу же начнется паника. Тюрьмы нет, оружия нет. Тюремщики в полной растерянности, кругом суматоха, все разбегаются. Диас и Лоретто, естественно, — тоже. Население кругом дружественное — мелкие ранчеро, пеоны, пастухи. Любой поможет. Я задумался. Что такое Маз-Афуэра — тюрьма, где томились в ожидании неправедного суда Мигель и Хосе, я знал: видел снимки и текст в «Иллюстрейтед ньюс». Тюрьма была оборудована в почерневшем от времени каменном замке, принадлежавшем когда-то плантатору-южанину и завещанном им полицейской иерархии штата. Замок, построенный на сваях посреди Рио-Бланка, мутной и довольно широкой в этом месте реки в нескольких десятках миль к югу от Агиласа, был огорожен каменной стеной с угловыми башнями для кругового обстрела и причалами для полицейских судов. Ничего деревянного, кроме постельных нар и канцелярской мебели, в тюрьме не было — только металл и камень. Вокруг вода, заболоченные берега, пойма и высушенные трудом издольщиков крохотные участки земли. Бежать действительно будет не трудно и скрыться легко. Диас и Лоретто не преминут, конечно, воспользоваться чудесным исчезновением тюрьмы и, не ломая головы над объяснением случившегося, сбегут вместе с другими заключенными. Кого-то поймают, кому-то удастся и уйти от погони. Лоретто и Диасу это будет легче, потому что едва ли найдется в округе крестьянин, который не счел бы для себя счастьем помочь своим попавшим в беду соплеменникам. Все как будто предвещало удачу, и только одно обстоятельство вызывало сомнение. Сумеют ли «невидимки» найти нужную точку на карте мира и обнаружить там интересующий нас черный замок? Смогут ли воспользоваться привычными для нас географическими координатами, глобусом и снимками в «Иллюстрейтед ньюс» — номер этого журнала валялся у меня где-то на книжной полке. — А зачем гадать? — вздернула плечиками Сузи. — Спросите у них сами. Если они еще здесь и смогут откликнуться. Я последовал ее совету, мысленно предложив для переговоров уже испытанный телевизорный способ. — Вы еще здесь? — спросил я. «Да», — ответил беззвучно экран. — Сможете ли вы найти любое указанное вам место на земном шаре? «Мы можем связаться с любым полем в любой точке планеты». — А если поля в данном районе нет? «Оно возникнет». — Сумеете ли вы ориентироваться с помощью наших географических координат? «У нас свои методы ориентации и поиска. Ваши, с помощью так называемых карт, нам чужды, но воспользоваться их указаниями не так уж трудно». — Тогда смотрите. — Я подошел к глобусу, стоявшему на тумбочке возле книжной полки, и ткнул шариковой ручкой и кружок с надписью «Лондон». — Это Лондон, в центре которого мы находимся. «Не в центре», — поправил меня экран. — Согласен, я говорил приблизительно. А теперь перенесемся сюда. — Я повернул глобус и указал на Рио-Бланка — черную ниточку реки близ обведенного кружком Агиласа. Кончик шариковой ручки пополз вверх по течению и дошел до кружочка, отступив от него на полсантиметра. — Нужное мне место находится в нескольких десятках миль южнее этого города, на пересечении соответствующих меридиана и параллели. Меридианы определяют долготу, параллели — широту, — пояснил я. — Счет широт ведется от экватора. Это южные широты, а это — северные. Долготу отсчитывают от гринвичского меридиана, он проходит почти там, где мы сейчас находимся, и ровным кольцом опоясывает землю от полюса до полюса. Все меридианы западного полушария определяют западную долготу, меридианы восточного — восточную. Так вот: наша точка находится как раз на пересечении координат, которые можно обозначить, конечно приблизительно, точно подсчитать не могу. Все ли вам понятно для ориентации? Экран ответил: «Пока не всё. Постараемся понять. Что вас интересует в этой точке?» — Замок. Тюремный замок. Он стоит посреди реки, ну на берегу, а на воде, на среднем ее течении. Он построен из почти черного камня, внутри находятся металлические конструкции лестниц, решеток, коридоров и камер. «Что вы хотите?» — Чтобы замок исчез. Вся его металлическая и каменная структура. — Деревянные поделки пусть остаются, — добавила Сузи, — и все живое, конечно. — В понятие металлических структур я включаю все виды оружия, от пулеметов на башнях до личного вооружения охраны, — сказал я. — Вы знаете, что такое оружие? «Знаем». — Так сумеете ли вы уничтожить и оружие и тюремный замок? «Попробуем конденсацию поля в этом районе», — ответил экран. — Как долго мне ждать ответа? «Секунды по вашему исчислению времени». Экран умолк, но все еще светился. И мы молчали, даже не смотрели друг на друга, я лишь мельком заметил, как у Сузи дрожали пальцы. Я взглянул на секундомер. — Восемнадцать секунд. Пока еще ничего нет. — Подождем. Двадцать секунд, двадцать три, двадцать восемь, тридцать… Молчание. Найдут ли они этот чертов замок? Вероятно, река, на которой он стоит, мутная, грязно-серая от илистых отложений. И болота на берегу, ядовитая зелень травы, хижины из старых бидонов — «бидонвилли» — на клочках добросовестно ухоженной суши… Сорок секунд, сорок пять… Стрелка ползет к пятидесяти, как поезд, тормозящий у станции. Экран снова заговорил. «Мы нашли эту точку». — А замок? «Тоже». — Что с ним? «Его уже нет». — Уничтожили? «Мы называем это иначе». «Какая разница?!» — захотелось крикнуть мне. Нет больше зловещей тюрьмы, нет ни стен, ни решеток, ни смит-вессонов у стражников, нет даже пуговиц на их форменках. Ничего каменного и металлического. Никаких запретов и наказаний. Я мгновенно представляю себе, как это происходило. Первые мгновения — растерянность, испуг, суета. Потом в сознании каждого, как удар молнии, — мысль о свободе. Что случилось? Где тюрьма? А не все ли равно, когда стражники хватаются за оружие, а его нет. Почему нет? Где тут думать, почему нет, если светит солнце и до берега совсем близко — возьми доски из-под нар, вот тебе и плот. Или скамейку — и плыви на ней, как на доске. Заключенные уже сообразили, что к чему, и вяжут охранников. Чем вяжут? Веревок же нет под рукой. Но есть подстилки на бывших нарах, их можно разорвать на полосы и скрутить жгутом. А на берегу — кто через болота в тростники, в кустарники поймы, кто в одну из хижин «бидонвиллей» на клочках суши. Диаса и Лоретто не «продадут» — спрячут, а затем на каком-нибудь древнем, замызганном «фордике» доставят обоих на север к партизанам. Экран все еще светился, словно ожидая вопросов, и я не выдержал, крикнул: — Почему вы не спрашиваете, зачем мне это? «Мы знаем все, что ты думаешь. Но это лишено разумной ясности. Хаос. Сумбур. Игра частиц разума, ритмы которых необъяснимы». И свет и надпись исчезли. Экран потемнел. — А все-таки мы победили, Монти, — сказала Сузи. — Победили, — машинально повторил я. Наполнявшая меня радость вдруг ушла. Голова чуть-чуть кружилась, в глазах рябило, по телу расползалась, как что-то жидкое, противная слабость, размягчавшая каждый мускул. Руки опустились и отяжелели. Я хотел встать и не мог. — Что с вами, Монти? — испугалась Сузи. — Ничего страшного. Должно быть, простудился утром или сказалось напряжение последних минут. — Сбегать за доктором? — Отлежусь. — Я прибегу, если что-нибудь появится в вечерних газетах. — А что появится, кроме вариантов истории с домом? Она мне уже надоела. Сообщений из Южной Америки, если успеют газетчики, следует ждать в утренних выпусках. Вот и приходите утром — в университете я, пожалуй, не буду.Глава XI ПОСЛЕДНЕЕ ЧУДО
Я спал допоздна и насилу встал, от слабости даже качало. Еле съел овсянку за завтраком — и сразу к газетам. Утренние все еще дожевывали «чудесные превращения дома» пополам с «золотой лихорадкой на улице». Описания я пропустил, а попытки наукообразно объяснить «любопытное явление материализации и временно-пространственной аритмии» могли вызвать улыбку даже у бродяги из Уайтчепеля. Проще высказался епископ дорчестерский, переадресовавший всех чаявших объяснения к господу богу: «Он наказал нас за алчность и корыстолюбие, и незачем обращаться к наукам, когда во всем случившемся только воля его». Дальше я читать не стал, привлеченный интервью с неким профессором из Кембриджа, не пожелавшим назвать свою фамилию для читателей. Предусмотрительное пожелание: глупость всегда безнаказанна в маске. Оказывается, совмещение пространственных фаз может вызвать дубляж материальных форм в зоне стыка. Такое совмещение легко доказать математически, но физически оно недоказуемо. Метаморфоза кристаллической структуры камня легко объясняется направлением химических реакций в материальных объектах, затронутых таким пространственным совмещением. А золото, мол, чистая случайность, могла быть и медь. Я уже готов был швырнуть газету на пол, как внимание мое привлекла телеграмма из Агиласа под заголовком: «Еще одно чудо, на этот раз в Южной Америке». Телеграмма кратко сообщала о загадочном исчезновении замка Маз-Афуэра на Рио-Бланка в нескольких десятках миль от Агиласа. Подробностей не было. Подробности редакция обещала в экстренном выпуске. Выпуск этот принесла мне Сузи около двух часов дня. Самочувствие мое не улучшилось: слабость еще сковывала и глазам не хватало света, чтобы прочитать газетный текст. Он занимал всю первую полосу с жирной шапкой на все шесть колонок: «Чудеса продолжаются. Загадочный чудотворен переехал на другой континент». «Как мы уже сообщали утром, — гласил текст корреспонденции, — бесследно исчез тюремный замок на реке Рио-Бланко в Южной Америке. Его не разбирали, не взрывали и не ломали. Он просто исчез, растаял, как облачко тумана на солнце. Ученые склонны считать это явлением атомного распада по неизвестным науке причинам. Наиболее поразительно, по их мнению, полное отсутствие проявлений энергии такого распада, эффект которого в естественных условиях был бы равносилен взрыву атомной бомбы». Далее корреспондент подробно описывал местоположение замка, его внутреннее устройство, которое он характеризовал, как модернизованное средневековье, его защищенность каменной и водной преградой, почти исключающей возможность побега. «Исчезновение здания со всеми перекрытиями, лестницами, камерами и подсобными помещениями произошло рано утром, когда более половины заключенных были на прогулке в тюремном дворе. Его каменные плиты словно кто-то выдернул из-под ног, и все маршировавшие по ним очутились в воде. То, что здание стояло на каменных сваях посреди реки, спасло находившихся в это время на втором и третьем этажах замка. Их падение в воду обошлось без тяжелых последствий — лишь несколько человек получили травмы, ударившись на глубине о свайные выступы, да и то вода смягчила удар. Утонувших тоже не было, одни сумели вплавь добраться до берега, другие спасали не умевших плавать. Свайные площадки, залитые водой, оказались своеобразными „островками безопасности“, где нашли убежище большинство жертв катастрофы». Ниже газета помещала интервью с начальником тюрьмы, полковником Педро Моралесом, очутившимся в одинаковом положении со своими заключенными. «— Ваше первое впечатление, полковник? — спрашивал корреспондент. — Испуг и недоумение. Потом сообразил и взобрался на свайную площадку, оказавшуюся рядом, когда я вынырнул. Жену и тещу спасли заключенные. — Вы принимали какие-нибудь меры к их временной изоляции? — Какие меры я мог принять, когда ни у меня, ни у охраны не оказалось оружия. Даже перочинные ножи и те исчезли. А вместе с ними и наручники, и ключи к замкам, и сами замки, и даже металлические крючки на штиблетах. — Многим ли из ваших подопечных удалось скрыться? — Нет. Бежало несколько уголовников, доплывших до берега, один пожизненно заключенный и два наркомана, находившиеся в момент катастрофы в тюремной больнице. Все прочие остались, в частности парни, отбывавшие срок за участие в студенческих беспорядках. Одному из них, добравшемуся до ближайшего почтового отделения, удалось связаться по телефону с городом и вызвать спасательный полицейский отряд. Через два часа примерно нас сняли со свай. — А как вели себя Лоретто и Диас?» Я не мог читать. Буквы прыгали и сливались. — Не вижу, прочтите вы, — сказал я, передавая газету Сузи. Она смутилась. — Не огорчайтесь, Монти. Кто мог знать? Мы же хотели как лучше. — Читайте, — оборвал я ее. — «А как вели себя Лоретто и Диас? — повторила Сузи и продолжала: — Похвально. Помогали нашему врачу соорудить нечто вроде нар для травмированных при падении в воду, спасли трех пли четырех, не умевших плавать, в том числе и мою жену, упавшую с высоты второго этажа, где находилась наша квартира. Я спросил Лоретто: почему он это сделал, не из желания ли выслужиться передо мной? Он ответил: „Я просто хотел помочь женщине, дон Педро, независимо от того, чья она жена или дочь“. — Может быть, в связи с его поведением суд смягчит приговор? — Не думаю. Обвинение по-прежнему остается в силе». Корреспонденту удалось побеседовать и с обвиняемыми, находящимися сейчас в камере для подследственных при полицейском управлении Агиласа: «— Почему вы не воспользовались катастрофой и не бежали? Ведь стража не могла вас преследовать, — спросил он у Хосе Лоретто. — Мы не хотели давать козырь прокуратуре. Побег был бы истолкован как признание вины. — Зачем же рисковать в такой накаленной обстановке, какая создалась вокруг вас в городе и в стране? В Европе вы могли бы спокойно работать. — Многие страны, конечно, дали бы нам политическое убежище, — заключил Лоретто, — но мы боролись и будем бороться вместе с нашим народом. Даже в случае судебной расправы выиграют в конечном итоге силы свободы и проиграет насилие». Я тотчас же подумал, что Вэл бы предугадал этот ответ и предотвратил бы ненужное наше вмешательство. В ушах у меня, как морзянка, повторялись слова Сузи: «Мы же хотели, как лучше, Монти». Хотели, да не сумели. Сказка Уэллса не повторилась. Я не мог творить чудеса. Ничего не доказал, ничего не успел и никому не принес никакой пользы. Вредная самодеятельность, сказал бы Вэл. Но у меня уже не хватало Бремени, чтобы его дождаться. Я подумал об этом за минуту до того, как снова вспыхнул экран телевизора и последним чудом появилась на нем короткая надпись: «Мы уходим». Что-то мелькнуло за окном зеленой зарницей и погасло. Мы с Сузи не сказали друг другу ни слова. Зачем? В комнату постучали. Вошла Розалия Соммерфилд с телеграфным бланком в руках. — Вам телеграмма из Москвы, мистер Клайд. — Прочтите, Сузи, у меня опять рябит в глазах. — Я протянул ей телеграмму, которая, как я понимал, ничего уже не могла изменить. — «Есть возможность устроить встречу высшем уровне, — прочла Сузи, — Академия наук принципе поддерживает эксперимент тчк Вылетай Москву немедленно тчк визой порядок Вэл». — Поздно! — прохрипел я, хватаясь за ручки кресла. Комната закружилась вокруг меня. Закружилась и растеклась черной тушью. Очнулся я не скоро и тотчас же зажмурился от яркого света. Все кругом было белым-бело, как зимой в альпийской Швейцарии: белоснежная постель, выбеленные стены и потолок, белая пластмассовая крышка стола и белые шторы на широком, во всю стену, окне. Я прислушался: говорили рядом. — Все еще спит? — Не так громко, доктор. — Он не услышит. Слишком слаб. Сон каменный. — Считаете, что безнадежен? — Лейкозы вообще трудно излечимы, а этот лейкоз особенный. Словно белые тигры в крови. Голоса смолкли — видимо, обход больных продолжался. А я сразу все понял. Наши гости побывали у меня в крови, сменяя друг друга в миллионах трансформаций в секунду. Побывали случайно, никогда ранее не проникая в организмы встречавшихся им форм жизни. У них не было опыта. Мой пример единственный, и они не могли знать, что оставят след, несовместимый с человеческой жизнью. Я ничего не объясняю врачам, подшучиваю над своей болезнью, держусь бодрячком с навещающими меня друзьями — Вэл, получив телеграмму Сузи, тотчас же вылетел в Лондон — и ничего не говорю им о завещании, с которого начал этот рассказ… И, пожалуй, я все-таки счастлив.Ю. ПАПОРОВ РОКЕ ЛОПЕС — СМЕРЧ СИНАЛОЫ Приключенческая повесть

Северо-Запад Мексики, край гор, безводных пустынь, кактусов и ослепительно голубого неба… Здесь с конца XIX века в штате Синалоа на серебряных и цинковых рудниках в своеобразных условиях аграрной и зависимой от иностранного капитала страны начинал формироваться мексиканский рабочий класс и издавна зрели освободительные народные движения. Недалеко от этих мест, в соседнем штате Чиауа, во время антифеодальной и антиимпериалистической Мексиканской революции 1910–1917 годов действовала крестьянская повстанческая армия знаменитого Панчо Вильи, ставшего для мексиканцев живой легендой. Все это хорошо известно молодому советскому читателю по многочисленным романам, рассказам, кинофильмам… Но мало кто знает, как, при каких обстоятельствах задолго до 1910 года создавались предпосылки того мощного революционного подъема, который смел ненавистную диктатуру генерала Порфирио Диаса, безраздельно правившего страной более тридцати лет (1877–1911). В Мексике, стране свободолюбивых, мужественных людей и неосвоенных пространств, где горы сменяются пустынями, а пустыни — растительным буйством тропиков, борьба часто начиналась действиями небольших партизанских групп. Правда, в те времена не существовало понятия «партизан» в том смысле, в котором мы воспринимаем его сейчас. Для представителей власти непокорные смельчаки были просто «бандитами» — по-испански «бандолеро», — хотя все понимали, что речь идет о совсем ином социальном явлении. Задолго до Мексиканской революции, и не только в Мексике, бытовало и другое понятие — «благородный разбойник», нашедшее отражение в многочисленных произведениях мировой литературы (вспомним, например, Вильгельма Телля или Дубровского). Об одном из таких «благородных разбойников» и пойдет речь в повести журналиста-международника Ю. Папорова, много лет прожившего в Мексике. Повесть «Роке Лопес — смерч Синалоа» по содержанию вполне может быть названа приключенческой, хотя в ее основу положена подлинная биография довольно известного мексиканского «бандолеро» Ираклио Берналя. Исключительные личные качества главного героя, динамичность действия, неожиданные и драматические ситуации, возникающие по ходу повествования — все это неоспоримые признаки любимого у нас «авантюрного» жанра. Но предлагаемое произведение интересно не только этим: автору удалось воссоздать самобытный мексиканский колорит, показать дружественную нам страну накануне важнейшего поворота в ее истории. Не случайно повесть Ю. Папорова выходит в свет в 1974 году, имеющем для Мексики и Советского Союза особое значение. Полвека тому назад Мексика стала первой страной Западного полушария, с которой СССР установил нормальные дипломатические отношения. И другая важная годовщина: в октябре 1974 года мексиканский народ отмечает 150-летие провозглашения независимой Федеративной Республики Мексиканских Соединенных Штатов. История отважного мексиканца Роке Лопеса, написанная советским литератором, — факт, сам по себе заслуживающий внимания в свете развитии советско-мексиканских культурных связей.Профессор С. П. Мамонтов
Глава I ПОБЕГ И ВСТРЕЧА
Был обычный летний день, собирался дождь. Темные, низкие тучи цеплялись за башни здания тюрьмы. Было жарко, душно и темни. Старший надзиратель, развалясь в кресле, которое стояло в плохо освещенном коридоре перед тяжелой решеткой, шептал себе под нос проклятия. Тюремщик любил подремать после обеда, но в тот день почему-то именно в обеденное время к ним принесло секретаря городского суда. В конце невысокого прохода послышались шаги и показалась знакомая фигура секретаря. Надзиратель с подчеркнутой поспешностью звякнул ключами и распахнул перед чиновником решетку. В ответ тот буркнул что-то невнятное и скрылся за дверью караулки. «Дуются в кости, — пробормотал тюремщик, имея в виду солдат охраны. — Сейчас он им всыплет». С этими словами старший надзиратель поудобнее устроился в кресле и тут же заснул. Во сне надзирателю явился все тот же секретарь суда, да еще схватил его за плечи и принялся трясти, требуя открыть решетку и выпустить его. Полностью сознание к тюремщику вернулось, лишь когда судейский чиновник, уже будучи у двери караулки, произнес: — Безобразие! Как только преступники с такими надзирателями не бегут из этой каталажки! Зоркий глаз тюремщика вмиг отметил, что теперь на секретаре был костюм несколько иного покроя и темнее цветом. «Сомбреро и зонтик те же, а вот костюм. Входил он в светлом и в первый раз вышел в том же самом. А во второй… То есть как во второй?.. Карамба![266] Где тут сои, а где явь?..» Старшин надзиратель не на шутку взволновался, и через минуту городская тюрьма огласилась частым, тревожным звоном медного колокола, который означал: «Всем арестантам немедленно занять места в своих камерах». (В тюрьме города Масатлана заключенные могли ходить по этажам и по внутреннему двору: там размещались разные мастерские, в которых они работали.) После поверки в двадцать первой камере, где отбывали различные сроки наказания четверо заключенных, одного из них не оказалось. Роке Лопес Сасуэта, осужденный на десять лет за кражу слитков серебра на руднике Гуадалупе-де-лос-Рейес, исчез. Вместо положенного срока он пробыл в тюрьме четыре года и восемнадцать дней.* * *
Между тем тот, кто так смело под видом секретаря городского сула оставил «казенный» дом, не теряя ни минуты, вышел из города на дорогу, ведущую к столице штата, городу Кулиакн. Отойдя на некоторое расстояние и убедившись, что его никто не видит, Роке Лопес углубился в заросли вечнозеленой юкки[267], густого кустарника гваюлы и дикой ежевики. То здесь, то там возвышаясь над зарослями, торчали высокие, разнообразной формы кактусы, агавы и одинокие, словно в лохмотьях, пальмы самандоки. Дождь тем временем прошел стороной. Ветер принес прохладу, и путник шел, легко перепрыгивая через камни, обходя обломки скал, перелезая через поваленные на землю стволы, продираясь сквозь густые кусты ежевики. Роке торопился уйти подальше от хоженых троп, чтобы заночевать где-нибудь в надежном укрытии. Подходящего места в зарослях и среди скал он так и не нашел. Тогда, выбрав на высоком холме дерево повыше, он взобрался на него, поудобнее устроился среди переплетенных ветвей и уснул. Мексиканцы верно говорят, что у хорошего сна нет плохой постели. По тому как Лопес ориентировался на местности и ловко преодолевал препятствия, можно было сделать безошибочный вывод, что он сельский житель. С рассветом Лопес слез с дерева, развел костер. Пиджак, жилетка и сомбреро полетели в огонь. С зонтиком и наклеенными усиками он расстался еще вчера, сразу же как вышел из тюрьмы. Пять песо — все его богатство — он сунул в ботинок и направился в сторону видневшегося неподалеку ранчо. — Бог в помощь путнику, — приветствовал Роке хозяин убогого ранчо. — Доброе утро. — Доброе, — с грустью ответил Лопес, — только пусть всевышний будет к вам помилостивее, чем ко мне, сеньор. Вчера, уже под вечер, меня ограбили разбойники. Мало того, что угнали лошадь, оставили в одной рубашке, еще вдобавок завезли в горы и бросили там среди ночи. У вас не найдется чего-либо на плечи? Да и поесть бы… — Конечно. Проходите. И кофе еще горячий. На дорогах теперь без оружия стало опасно… — сокрушался хозяин ранчо. Роке Лопес рассчитался за завтрак и купил на оставшиеся деньги немного еды, сомбреро и пару гуарач[268]. Спросив о дороге на Масатлан, он бодро зашагал по ней. Отойдя на некоторое расстояние, Лопес переобулся в гуарачи — удобную для ходьбы по горам обувь, свернул с дороги в заросли, обошел ранчо стороной и направился в противоположную Масатлану сторону, к селению Нория. Вечером того же дня в мрачном старом доме, не зажигая огня, два человека вполголоса вели разговор. Вдруг на улице послышался цокот копыт. Собеседники замолчали, бесшумно подкрались к окну: шесть всадников проследовали к каменному зданию, где жил хефе политико[269]. Двое переглянулись, еще ближе сдвинули головы и сновазашептались. Мерцавшие в очаге угли осветили их лица. Один из них был Роке Лопес. Его собеседник, Сирло Прра, высокий, нескладный, с необычайно длинными и сильными руками, молча слушал Лопеса, согласно кивая. Шесть месяцев назад Парра оставил камеру той же тюрьмы, из которой бежал Лопес. Парра попал в тюрьму за то, что отказался выполнить прихоть подвыпившего жандармского полковника — согнуть руками подкову скаковой лошади. Собеседники замолчали. Парра вышел на улицу и направился к главной площади, где невдалеке, утопая в зелени, находился дом хефе политике Там толпа обсуждала новость: полицейские разыскивают бежавшего из тюрьмы важного преступника по имени Роке Лопес. Немного выждав, Парра прошел в комнату, где прибывший с отрядом сержант опрашивал жителей, и попросил, чтобы тот его выслушал наедине. Вскоре шесть теней осторожно, одна за другой проскользнули в дом Парры. Хозяин вышел и незаметно провел к себе на черный двор их лошадей. Когда Парра возвратился, полицейские трапезничали, запивая еду крепким вином. Один из них дежурил у окна, внимательно наблюдая за тем, что происходило напротив через дорогу. Парра достал колоду карт, и вскоре сержант держал банк. Когда под стол поставили очередную пустую бутылку, Парра предложил сержанту сходить подменить караульного у лошадей. — Иди, иди! Не мешай! Я жду туза! Мне нужен туз! — отмахнулся от него старший полицейский и тут же закричал на того, кто стоял у окна: — Ты что пялишься на нас? В окно смотри! Он скоро должен появиться. Вскоре в селении уже все знали о комедии, разыгранной с полицейскими. В то время как они ждали появления Лопеса в доме напротив, Роке и Парра захватили их лошадей, в приседельных кобурах которых торчали сабли и боевые винтовки, вывели их в горы и, выбрав каждый себе коня получше, остальных расседлали и отпустили. Роке и Сирило держали путь на рудник Гуадалупе-де-лос-Рейес, а полицейские, оставшись без лошадей и оружия, вынуждены были ждать до рассвета.* * *
Солнце достигло зенита и пекло нещадно, но одинокий всадник терпеливо ждал кого-то у дороги. Со стороны было видно, что он управлял лошадью с легкостью и грацией, столь свойственными мексиканским чарро[270]. На вид всаднику было не более двадцати пяти лет. Открытое смуглое лицо, прямой взгляд больших черных глаз, стройная фигура привлекли бы внимание самой привередливой красавицы. Ладно сидевший верховой костюм — расшитый жакет и гладкие брюки, — дорогое сомбреро-харано[271], тисненый ремень-патронташ с кобурой и торчавшей из нее рукояткой крупнокалиберного револьвера составляли его одежду. Всадник явно кого-то поджидал, но вместе с тем стоило появиться на дороге погонщикам ослов и мулов, арбам, запряженным волами, коляскам, экипажам, он тут же скрывался в роще. Но вот, наконец, вдали показался всадник на белом коне, и молодой человек выехал ему навстречу. Когда лошади сошлись, гнедой взвился на дыбы от резко натянутых поводьев. — Здравствуй, Синфорсо. Ты узнаешь меня? — спокойно спросил молодой человек. Синфоросо вместо ответа потянулся к кобуре, висевшей у него на поясе, но вовремя передумал. Он увидел, что его собеседник, помимо револьвера, вооружен еще отличным боевым ремингтоном и кавалерийской шашкой. — Я не знаком с вами, но чем могу служить? — выдавив подобие улыбки, произнес Синфоросо. — А ты погляди получше, Синфоросо. — Всадник снял сомбреро. Синфоросо съежился. Голос не повиновался ему, и он едва слышно прошептал: — Ты… Роке?! — Да, я Роке Лопес, твой бывший друг, которого ты оклеветал. Ты свалил на меня свое грязное дело, упрятал в тюрьму и разбил мое сердце. — Прости! Умоляю тебя, прости! — Синфоросо заговорил быстро, глотая слова. — Половина слитков еще цела… Я отдам их тебе. Отдам и половину того, что имею… Все… Только не тронь… А Фелипа оказалась никудышной женой. — Молчи, несчастный! И ты еще был моим другом!.. — Прости! Умоляю! Ради всех святых… — Прощу, если все, что взял, возвратишь в кассу рудника, признаешься перед всеми в своих делах и скажешь, что я ни в чем не виновен, — подчеркивая каждое слово, ответил Роке Лопес. Синфоросо втянул голову в плечи, и лицо его стало бледнее пульке[272]. Но вдруг глаза его забегали, как тараканы в комнате, где внезапно зажгли свет, он заметно ободрился. — Прости меня! Я действительно раскаиваюсь. Ты разоришь меня, но я… я согласен. — Тогда поехали. Немедленно! Но предупреждаю: обманешь — тебе не жить. Первая пуля твоя. Я не успею, мои друзья все равно разделаются с тобой. Поворачивай обратно! Синфоросо с готовностью повернул коня, а Лопес спокойно спросил: — Кого подкупил, когда меня судили? — Никого. Им и так показалось… — Врешь! Говори правду! — Роке положил руку на кобуру револьвера. — Судью. — Эрнесто Гутьерреса. Кого еще? Алькальда[273]? — Да. — Эпифнно Ломел? — Хефе политике сказал, что ты только прикидываешься честным. — Хорошо! Поехали. — И Лопес тронул с места своего гнедого. Немного помолчав, Синфоросо неожиданно предложил: — Давай свернем на тропу, так будет ближе, — и пропустил Роке вперед. Выстрел прозвучал над самым ухом Лопеса, но Синфоросо слишком волновался. Пуля лишь царапнула коня по шее. Гнедой отпрянул в сторону, чем спас жизнь своему хозяину. Вторым выстрелом Синфоросо вновь не попал в цель. Роке выхватил револьвер и ответил, но тоже неудачно. Предатель выстрелил в третий раз. Снова промах! Но этот выстрел был последним в его жизни. Вторая пуля Лопеса попало точно — Синфоросо схватился за грудь и свалился на землю. Роке вложил револьвер в кобуру, нежно погладил по шее своего коня и спешился. Убедившись, что его противник мертв. Роке достал из кармана седла лист бумаги и карандаш. В это время на полном скаку на тропу вылетел всадник. Это был Парра. Он облегченно вздохнул, увидев белого коня без седока. — Когда видишь паука на земле, гляди на небо — быть дождю, — сквозь зубы сказал Парра. — Да, Сирило, ты прав. У нас иной дороги нет. Теперь нам предстоит жить с оружием в руках. Посмотри, что с гнедым, — он спас меня. — И Роке стал писать на листе бумаги: «Я, Роке Лопес, в честной встрече убил Синфоросо, который четыре года назад похитил с рудника серебряные слитки и подло обвинил меня в этом. Я отсидел четыре долгих года и сегодня хотел заставить его признаться в содеянном перед народом. Он попытался, снова подло — выстрелом в спину, убить меня и сам за это поплатился жизнью». Роке немного подумал и приписал: «Правда или смерть!» Прикрыв веки убитому и приколов булавкой ему на грудь записку, Роке вскочил в седло, и оба друга, оставив в стороне дорогу, на рысях направились в горы. Рядом с Синфоросо, опустив голову до земли, топтался белый конь. — Если бы ему было дано понимать людей… Верная душа, он не стоял бы и не страдал над телом этого подлеца… Не успел Роке закончить фразу, как за его спиной раздалось громкое ржание, и белый конь поскакал вслед за удалявшимися всадниками.Глава II ВОЗМЕЗДИЕ И ГУБЕРНАТОР
В местечке Сан-Игнасио Лопеса и Парру с нетерпением поджидал Франсиско Барболин. Бывший кузнец, мастер на все руки, теперь работал поденным рабочим. Он познакомился с Лопесом и Паррой в тюрьме, где отсидел три года только за то, что в том же селении открыл свою кузнечную мастерскую дальний родственник местного судьи. Двум кузнецам в небольшом селении стало «тесновато», и судья с помощью префекта нашел предлог, чтобы упрятать в тюрьму конкурента. В тюрьме Франсиско Барболин понял, что справедливости в его стране можно добиться, только объединившись с такими же, как и он, простыми людьми и взяв оружие в руки. Ему достаточно было часа, чтобы собраться в дорогу. Вместе с ним на коней сели и два его приятеля. Барболин, ожидая Лопеса, убедил их в правоте своих намерений. Роке Лопесу понравились Рамон и Педро — молодые рабочие с серебряного рудника. Вдали показалась крона высокого дерева, возле которого начинался поворот с основной дороги к руднику Гуадалупе. Лопес подал знак — дальше их путь лежал по еле заметной тропе, уводившей к глубоким ущельям одного из отрогов Сьерра-Мадре-дель-Сур. Не успели всадники сделать и двух шагов по тропинке, как Парра, ехавший первым, остановился. — Посмотрите. За кустами испанского дрока, ежевики и барбариса, на небольшой поляне, плотно окруженной деревьями, у трупа большого кудлатого пса сидел на корточках человек и ковырял ножом в каменистой почве яму. Он был так увлечен своим занятием, что не заметил приближения всадников. Рядом с ним на земле лежало старенькое соломенное сомбреро и видавшая виды котомка. Человек опустился на колени и стал руками выгребать из ямы острый мелкий гравий. Всадники подъехали вплотную, и только тогда он поднял голову и злобно посмотрел на окруживших его людей. Роке быстро спешился, вынул из чехла нож и молча принялся помогать незнакомцу. Тут же и остальные, кто с ножом, а кто с мачете в руках, склонились у ямы. Толстячок плюхнулся на землю и быстро-быстро заморгал. Он не плакал, из его глаз не лились слезы, он молча, с тоскою смотрел на простреленную голову мертвого пса. — Бог запаздывает, но не забывает, — произнес наконец толстячок дрожащим голосом. — А ты, брат, лучше бы на себя больше надеялся, чем на бога, — ответил Лопес, поднимаясь на ноги. — Тот, кто горшком родился, не может быть чашкой для шоколада, — сокрушенно произнес незнакомец. — Ладно, твое дело… Кто собаку-то убил? — Почем я знаю? Сеньор какой-то. Все они одинаковы… Не понравился ему лай, и не стало больше моего друга. Им же все можно… — Толстяк втянул голову в плечи. — Что верно, то верно. А чем на жизнь промышляешь? Толстячок еще раз внимательно оглядел столь неожиданно появившихся странных всадников. Они не были похожи на других и вызывали симпатию и доверие, особенно тот, кто заговорил с ним первым. Почесав затылок, толстяк протянул руку, взял лежавший рядом нож, лег на спину и из этого положения метнул его. Нож пролетел метров десять. Перевернувшись несколько раз в воздухе, он точно, острием вонзился в ствол молодого тамаринда. — Могу повторить. — Толстяк жестом попросил нож у Парры. — Даю слово, ты мне начинаешь нравиться, дружище, — заявил Сирило и бросил ему свой нож. — Как тебя зовут? — Хуан Пуэбло. — Толстяк поймал нож на лету за рукоятку, прикинул его вес на руке, взял за конец лезвия, прицелился и, прикрыв глаза левой рукой, снова метнул. И этот нож пришелся точно в то место, куда был послан. Тогда Барболин и Рамон протянули Хуану сразу два ножа. Тот встал спиной к дереву и пустил ножи через плечо — оба вонзились в ствол. Это трудное упражнение вызвало восторг у друзей Лопеса. — Куда ж ты путь держишь, Хуан? — спросил его Роке. — Не знаю… Раньше, куда пес бежал, туда и я шел. Я метал ножи, а он с сомбреро в зубах собирал медяки. Временами трудновато было, но всегда весело. А теперь… теперь не знаю. — Послушай, пойдем-ка с нами. — Пеший конному не товарищ. — Как знаешь. Только, говорю тебе, с нами не потеряешь, только обретешь. Не захочешь, в любое время уйдешь, а подходящая лошадь у нас для тебя найдется. — С этими словами Роке вышел на дорогу, посмотрел в обе стороны, что-то увидел и, возвратившись, предложил: — Давай, Хуан, быстрее хорони своего друга. Сдается мне, что сейчас мы сумеем отомстить за него. Хуан Пуэбло еще утрамбовывал землю на могиле кудлатого, когда раздалось фырканье лошади. Лопес подал знак, друзья его скрылись, а он с Хуаном вышел на дорогу. Какой-то всадник гнал перед собой четырех груженных тяжелой поклажей мулов. — Далеко ли путь держите, дон Антолин? — Ты бы хоть поздоровался, — зло заметил старик. — Откуда меня знаешь? — Кто вас здесь не знает? — Лопес не спеша вынул револьвер и, направив его в сторону дона Антолина, произнес: — Узнаёте? Дон Антолин поглядел на револьвер. — Узнаю. Таких у меня за все время было только два. Одни вот… — Но Лопес повелительным жестом приказал старику снять руку с кобуры. — Другой был продан месяц назад мистеру… как его? С рудника «Сан-Висенте». Однако каким образом это дорогое оружие оказалось у вас? — Точно таким же, как и ваше. — Лопес подошел вплотную к лошади дона Антолина, наведя вороненое дуло прямо на грудь оружейника. — Молодой человек, с этим не шутят! — Я знаю, что вы продаете оружие не для шуток. И я не шучу. Вполне серьезно. Да и бедные мулы устали под тяжелой пошей. Руки! Дон Антолин покорно бросил поводья и поднял над головой руки. Лопес обезоружил его и сказал: — А кошелек отдайте сами моему спутнику. Час назад один такой же, как вы, «добрый» человек застрелил у него на глазах любимого пса, единственного друга. Вот вам и надлежит держать ответ за вашего собрата. — Что это значит? Как вас зовут? — Пока это не имеет значения, но скоро вы узнаете мое имя. Ну, побыстрее кошелек… Хуан поймал объемистое портмоне, туго набитое ассигнациями, а Лопес сильно ударил по крупу коня, на котором сидел дон Антолин, свистнул, и через минуту того уже не было видно в клубах дорожной пыли. — Зачем мне эти деньги? Я никогда не брал чужого. — Хуан протянул портмоне Лопесу. — Настоящего друга деньги не заменят, но на первое время… Однако, если не жалеешь, раздай тем, кого встретишь победнее. Поедешь с нами, Хуан, а завтра решишь, с кем тебе быть и что делать дальше, — заявил Лопес и позвал товарищей. Барболин с удовольствием помог Хуану взобраться на своего коня, а Парра погнал нагруженных оружием мулов по указанной Лопесом тропе, которая привела их к хорошо скрытой в скалах просторной пещере.* * *
Довольно высокие своды грота — в былые времена здесь пробовали заложить рудник — дали надежный приют Роке Лопесу, его друзьям, их лошадям и груженым мулам. — Пока разберите тюки, накормите и напоите лошадей — вода здесь в пятидесяти шагах вниз по ущелью, — разведете костер, я успею возвратиться. — Сказав это, Роке вынул из кобуры ремингтон и скрылся в зарослях орешника. Вскоре в горах многоголосым эхо прозвучал одиночный выстрел, а уже через час на огне жарилось мясо горного козла. За едой — вкусно приготовленным барбакоа[274] с острым соусом и маисовыми лепешками — Лопес, бросив на Хуана Пуэбло долгий, испытующий взгляд, заговорил: — Завтра, мучачос[275], у нас будет первое настоящее дело. Я должен свести счеты с теми, кто упрятал меня в тюрьму, и мы завладеем кассой рудника Гуадалупе. Но сделаем это без единого выстрела. Вообще и в дальнейшем мы не станем нападать и грабить, как какие-нибудь разбойники. Наше оружие — это смелость, точный расчет, быстрота, а где надо и хитрость. — Может, рискованно идти именно на этот рудник? Там сейчас только и разговоров что про вас? — спросил Рамон, прикуривая от тлеющей головешки. — Именно там-то меня никто и не ждет! Жандармы думают, что я удрал. Разве они могут допустить, что я здесь, всего в часе ходьбы от дома Синфоросо? Хуан бросил вопросительный взгляд на Лопеса, а тот, ответив ему спокойной улыбкой, продолжал: — Месть сама по себе — дикое, слепое чувство — вызывает во мне отвращение. Вот рассчитаться, чтобы справедливость восторжествовала, это я признаю. Рассчитываться надо с теми, кто обманул, используя положение, богатство, подкуп, предательство. Если кто-нибудь из нас ограбит бедного, просто украдет, обидит женщину, старика пли ребенка, он за это ответит. Согласны? — Да! — дружно ответили все, а Хуан перекрестился. — Хуан нам не верит. Но, повторяю тебе, мы не грабители с большой дороги Все, что мы станем делать впредь, будет честно и в интересах народа Ему никто не помогает, о нем никто не думает… Завтра сам увидишь, а сейчас давайте спать. Рамон, ты дежуришь первым. В этой пещере мы в безопасности, но тюремный лекарь любил говорить: «Грамм предусмотрительности стоит дороже, чем тонна лекарств», и был прав.* * *
К середине дня улицы селения Гуадалупе стали пустеть. Приближался полдень. Из управления рудника на обед расходились служащие. На небольшой площади перед зданием управления появились угольщики. Дырявые сомбреро прикрывали их головы, а тело — бедные одежды, дешевые, поношенные деревенские накидки. Они гнали перед собой четырех мулов и двух ослов. Ослов и мешки им продал старый рудокоп, которого все звали дядя Хосе. Роке Лопес вытер пот с черного от угля лица и приказал остановиться. — Ждите моего сигнала, тихо сказал он и спокойно вошел в контору. Там в этот час обычно оставался один администратор. После возвращения служащих с обеда он вообще уходил из конторы до утра следующего дня. — Мы не нуждаемся в рабочих, — встретил он заученной фразой вошедшего Лопеса. — А меня управляющий послал узнать, не продадите ли вы заезжему коммерсанту пять — шесть слитков серебра. — Что есть, уже продано, и вообще мы с частными лицами не… — Администратор не успел договорить. Роке с поразительной ловкостью перескочил стойку и, выхватив из-под рубахи револьвер, произнес: — Ни слова или буду стрелять! Администратор от изумления открыл рот, чем немедленно воспользовался Лопес, чтобы всунуть в него платок. В следующий миг верный исполнитель воли хозяев рудника был связан по рукам и ногам и уложен под стойку. — Мучачос, — позвал Роке друзей, — входите. Сеньор Гутьеррес ждет вас. «Угольщики» в изумлении переглянулись, но не стали мешкать и вошли вслед за Лопесом в контору. У ослов и мулов остался Хуан. Роке хорошо знал, где находилась кладовая, несгораемый шкаф кассы и ключи от них. Переложить слитки и наличные деньги в мешки и прихватить с собой долговые расписки рабочих, чтобы затем уничтожить их, было делом нескольких минут. Когда его товарищи ушли, оке повернул администратора лицом к себе, снял сомбреро и проинес: — Вот теперь, сеньор Гутьеррес, вы действительно вправе говорить, что Роке Лопес — грабитель. Хотя тоже отчасти. Зная наверное, что я не мог ограбить кассу, которую вы же сами мне доверили, вы вместе с Синфоросо упрятали меня в тюрьму. Всем серебром Мексики вам не заплатить мне за унижение, которое я испытал в полиции, на суде и в тюрьме. Вы, ваши хозяева, местная власть лишили меня честного имени. Вы первыми бросили вызов. Я принимаю его! Но помните, что тот, кто разворотил костер, не должен жаловаться на искры, обжигающие ему лицо. До скорой встречи, сеньор Гутьеррес! — И Роке, заперев снаружи дверь конторы, не спеша догнал остальных.* * *
Оставив селение, Лопес повернул «серебряный караван» на окольную дорогу и вскоре по малоизвестной тропе вывел его к глубокому ущелью. Там, в густой сосновой рощице, на поляне меж обломков скал, седоков ожидали стреноженные кони, а всего в пяти сотнях шагов выше поляны находилась скрытая от непосвященного взора небольшая, но глубокая пещера. Узкий вход в нее представлял собой естественную расщелину в теле базальтового утеса, нависшего над обрывом, и скрывался за колючими кустами барбариса и плотной зеленой стеной можжевельника. Относительно невысокий свод пещеры кое-где расширялся, но чаще в ней можно было двигаться лишь ползком. Пещера имела несколько ответвлений и выход с противоположной стороны утеса. Она была очень удобна еще и потому, что находилась в непосредственной близости от дороги. Разгрузив мулов и подбросив им сухих кукурузных початков, Лопес и его товарищи подкрепились остатками еды и, переодевшись в свое обычное платье, вновь сели на коней. Ни Парре, ни Барболину, ни остальным не был ясен план их предводителя. Удивляло то, что они направили своих копен прямо по дороге к Гуадалупе. Перед выходом Лопес сказал Хуану: «Сейчас ты решишь, что тебе делать дальше». План Роке был прост. Он рассчитывал, что не более чем через час после их ухода администратор будет развязан и в селении станет известно об ограблении рудника. Еще через четверть часа вслед за «угольщиками» в обе стороны дороги пошлют погоню. В нее отрядят весь наличный состав сельских жандармов. Оставлена будет лишь самая необходимая охрана участка и камеры предварительного заключения. Вот к мрачному каменному зданию тюрьмы, хорошо всем знакомому в селении, Роке Лопес и направился без промедления. Войдя в помещение с Паррой и Барболином, Лопес спросил сержанта, можно ли переговорить с начальником. Сержант, видя перед собой вооруженного ранчеро[276], встал из-за стола и ответил, что хефе ускакал в погоню за Роке Лопесом, который два часа назад ограбил рудник. — Жаль, что мы разминулись! Он ищет меня, а я ищу его. До сержанта еще не успел дойти смысл сказанных слов, как перед его носом запрыгало дуло револьвера. — Руки вверх! Ни с места! — произнес Роке. Находившиеся в комнате жандармы тут же были обезоружены. Лопес взял у сержанта связку ключей, открыл замки на тяжелых засовах камеры и, раскрыв дверь, громко произнес: — Я Роке Лопес, мучачос, выходите! Дарую вам свободу! Тот, кто действительно совершил преступление, больше не должен его повторять. Те, кто посажены сюда несправедливо, пусть ничего не боятся — я и мои друзья встанем на вашу защиту. — Дон Роке, здравствуйте! Вы помните меня? — спросил один из заключенных, вплотную подойдя к Лопесу. — Вы Гарсия — хозяин лавочки, что у самой шахты рудника. — Был хозяином, вы хотите сказать, дон Роке. Однажды, черт меня попутал, я взял да и потребовал у алькальда заплатить мне за продукты. Тот обругал меня последними словами. Я ответил. Алькальд упрятал меня сюда, как говорится, «за оскорбление власти». Я откупился и меня выпустили. Но в лавку стал присылать своих слуг не только алькальд, но и судья. Я долго терпел, а когда отказался отпустить товар, снова очутился здесь. Теперь вижу: мне надо идти с вами. — Вот сейчас я узнал тебя, сеньор дон Роке. Когда продавал тебе ослов, не догадался, кто ты. — Из темной камеры показался дядя Хосе. — Кто-то донес, что видел моих ослов у конторы. Меня избили, деньги, что ты мне дал, отобрали, а хефе политико сказал, что я твой сообщник, и обещал со мной разделаться. — А где он сейчас, этот Эпифанио Ломели? — В погоне за вами, — ответил кто-то из присутствующих, а дядя Хосе продолжал: — Я достаточно пожил на этом свете, чтобы оставаться купцом. Дай и мне винтовку, сеньор Роке, и возьми меня с собой. Оружие, отобранное у жандармов, быстро раздали тем, кто пожелал присоединиться к отряду Лопеса, и тогда тот сказал: — Поскольку Ломели в селении нет, пойдемте к судье… Страж правосудия отдыхал после обеда, но когда слуга сообщил ему, что пришли какие-то незнакомые люди, не замедлил выйти в тенистый дворик, со всех сторон закрытый тенью пальм и бананов. Увидев Лопеса перед собой, судейский чиновник на миг потерял дар речи. — К твоим услугам, Карлос. Вот мы и вновь свиделись. Только теперь наши роли поменялись. Ты знал, что я был невиновен, и все-таки упрятал меня в тюрьму. Я знаю не хуже тебя, в чем ты виновен, однако, в отличие от тебя, буду справедливым. Обвинителями станут они. — И Роке широким жестом показал на жителей Гуадалупе, толпившихся у дома. — Сейчас пойдем к алькальду, и не вздумай только «шутить», если не желаешь сразу отправиться к предкам. — Лопес положил руки на револьверы, висевшие у него на поясе. В доме председателя местного муниципалитета личный охранник алькальда при виде вооруженного Лопеса выхватил из кобуры револьвер. Но Хуан Пуэбло находился рядом. Брошенный им нож на мгновение опередил выстрел. Алькальда и охранника связали. Личный сейф председателя муниципалитета был открыт с его собственного согласия, и из сейфа извлекли все документы и наличные деньги. — Парра, Барболин и дядя Хосе, разыщите администратора рудника и приведите его в муниципалитет. Там у нас с алькальдом и судьей состоится небольшой разговор, — приказал Лопес, и все направились на центральную площадь. В присутствии служащих муниципалитета, под одобрительные крики собравшихся жителей, Роке Лопес объявил, что за все совершенные ими должностные преступления алькальд и судья селения Гуадалупе-де-лос-Рейес отстраняются от занимаемых должностей, навечно изгоняются из селения, а все ими награбленное возвращается прежним владельцам. Алькальд, дрожа как осиновый лист, сам написал прошение о своей отставке и передал ключи с печатью тому, кто по положению должен был в подобном случае до предстоящих выборов занять его пост. Новый мэр принес присягу быть честным, строго соблюдать существующие законы и немедленно выплатить жалованье всем муниципальным служащим. Роке Лопес знал, что чиновникам, жандармам, учителям, сторожам, мусорщикам и всем другим, кто служил в муниципалитете, бывший алькальд задерживал выплату зарплаты по нескольку месяцев, получая в банке с этих денег проценты. Жандармы пожелали получить свои деньги немедленно. — Сколько времени вам не выплачивали жалованья? — спросил Лопес одного из них. Ответил сержант. Он вытянулся в струнку и взял под козырек. — Мои капитан, рядовые не получали ни сентаво пять, я — три месяца У нас доволен только один лейтенант. — А на что вы жили? Сержант опустил глаза. — Капитан, у нас у всех семьи, дети… Есть-то надо… — Обирали кого могли? Сержант утвердительно кивнул. В это время в зал муниципалитета ввели администратора рудника. — Вот, Роке, смотри, что мы нашли у него дома. — Парра положил на стол увесистый мешок, из которого посыпались на стол золотые монеты, драгоценные украшения, изделия из серебра, два револьвера, купчие, нотариальные бумаги, долговые расписки. — Мигель Гутьеррес, вы так же, как алькальд и судья, за притеснения рабочих лишаетесь всего награбленного имущества и завтра же на рассвете навсегда покинете Гуадалупе. Назовите писцам имена бывших владельцев земель и домов, незаконно ставших вашей собственностью. — Повесить его, скорпиона! Он всю кровь из нас выпил!.. Повесить!.. — раздалось сразу несколько голосов. — Нет, мучачос, мы не станем убийцами. Мы по-справедливому будем защищать ваши интересы. — Сеньор дон Роке, а вы забыли про хефе политико. У него в доме еще больше, чем у Гутьерреса, — подсказал дядя Хосе. — Не называй меня так, дядя Хосе. Я не сеньор. Я всем вам товарищ и друг. А что касается хефе политико, то пусть знает, что очередь дойдет и до него. Сейчас дома у него одни женщины и дети. Мы не станем их обижать. Подождем, когда возвратится сам дон Эпифанио. А сейчас идемте в лавку рудника. Это предложение вызвало всеобщее ликование. В лавке, в которой администрация рудника вынуждала более чем пятьсот рабочих покупать второсортные продукты и предметы первой необходимости, Роке Лопес потребовал долговые книги и попросил Барболина организовать бесплатную раздачу присутствующим всего имевшегося в лавке товара. Кто-то из рабочих потянулся за бутылками с текилей[277]. — Нет, нет, мучачос, — сказал Лопес, — берите все, хозяева рудника достаточно нажились на вас, — все, кроме вина. Вино, как продажные власти и алчные хозяева, — ваш злейший враг. Вино — в огонь. Там сгорят и эти долговые книги. Тут же был разведен костер. В него полетели раскупоренные бутылки. Спирт запылал ярким синим огнем. Пока в лавке продолжалась бесплатная раздача продуктов и товаров, Роке Лопес вместе с Хуаном Пуэблой вошел в местную школу, находившуюся в неказистом глиняном домике. Директор школы встретил Лопеса с распростертыми объятиями: — Я знал, мой мальчик, что ты не забудешь старого Бонилью!.. Но что ты задумал? У меня не укладывается это в голове… — Мой учитель, а я — то был уверен, что как раз вы скорее, чем другие, правильно меня поймете. Нет у меня иного пути! Вы любите простой народ, я это знаю. Вы сами научили меня уважать достоинство и права других. Я хорошо помню, как вы страдали оттого, что Мигель Гутьеррес не разрешал вам заниматься просвещением рудокопов. А нашему народу прежде всего нужны знания. Дон Анхель, я скоро снова к вам зайду. Мы еще с вами поговорим. А это, — и Роке высыпал на стол две пригоршни золотых монет, — устройте детям хороший праздник. — Что ты, что ты! — замахал руками директор школы. — Прошу вас! И ждите, я скоро приду. — Прощай и береги себя, мой мальчик! Уходя от старого учителя, в коридоре школы Роке Лопес столкнулся с девушкой. Строго и просто одетая, с аккуратно уложенной на голове черной косой, она сразу привлекла его внимание. Глаза ее излучали такую доброту, что Роке остановился как вкопанный. Он не мог оторвать от девушки взгляда. Она же, учтиво поклонившись, прошла в кабинет Бонильи. Гулко и возбужденно застучало сердце в груди Роке. Он спохватился, лишь когда заметил, что Хуан с удивлением глядит на него. — Идем на главную площадь. Там сейчас соберется все селение, — быстро сказал Лопес и вышел из школы. Подойдя к церкви, рядом с которой Роке увидел своих людей, он поднялся на ступеньки паперти и обратился к собравшимся. На площади воцарилась тишина. — Слушайте меня, население Гуадалупе! Многие из рас хорошо знают, что было со мной. Я понимаю теперь, что это не было случайностью. В стране, где мы живем, с такими людьми, которые до сегодняшнего дня распоряжались вашими судьбами в Гуадалупе, иначе и не могло быть. Чем человек честнее, тем больше неприятностей и бед его ждет. Чем он правдивее, тем ему тяжелее живется. Разве это справедливо? Нет! Вот почему сегодня здесь у вас на глазах были отстранены от власти судья, алькальд и администратор рудника. Очередь за хефе политико… — Долой его! — единым возгласом пронеслось над площадью. — Если он не одумается, то последует за ними. Эти трое не позднее завтрашнего утра — и вы будете тому свидетели — оставят Гуадалупе, чтобы больше никогда сюда не возвратиться. Уверен: они хорошо усвоили, что их ждет в противном случае. Роке Лопес не бросает слов на ветер! Здесь, — и Роке поднял над головой листы бумаги, — собственноручно подписанные ими отставки. Они будут отосланы губернатору. А вот эти документы свидетельствуют об их добровольном и безвозмездном возвращении прежним владельцам многочисленных незаконно присвоенных земельных участков. Раздайте эти бумаги тем, кому они должны принадлежать. Воздух взорвался криками: — Вива Роке Лопес! Выждав минуту и жестом попросив тишины, Роке Лопес продолжил: — Знайте все! Я и мои друзья встали на защиту бедных. Пришел конец безнаказанного угнетения властями народа, конец беспощадной эксплуатации на руднике рабочих, конец, обману, обсчету, вымогательствам, конец издевательствам помещиков над пеонами[278]. Сегодня мы заняли Гуадалупе без единого выстрела, но у нас не дрогнет рука против врага, против предателя, против тех, кто не прекратит обирать бедных. Сейчас мы уйдем из Гуадалупе, но здесь останутся верные люди. Они сумеют сразу сообщить нам, если новые представители власти не сделают для себя вывода. Даю вам слово, что Роке Лопес возвратится сюда столько раз, сколько потребуется, чтобы вы, честные люди, жили в справедливости! Вновь над площадью прокатились громогласные возгласы восторга. — И еще хочу сказать, чтобы знали все, — в каждом бедном человеке мы видим союзника и друга. Любому бедному мы всегда придем на помощь. Мы будем нападать на богатых, отбирать у них награбленное, мы будем нападать на обозы с серебром. Большая часть денег пойдет на помощь бедным, многодетным семьям, у которых нет средств на обучение в школе своих детей, тем честным ремесленникам и кустарям, которые пожелают открыть собственные мастерские, всем тем, кто по-настоящему будет нуждаться в пашей помощи. А сейчас расходитесь. Я еще должен повидать моих братьев. С этими словами Роке Лопес сбежал со ступенек. Братьев ему так и не удалось увидеть, они уехали по делам в город. Когда перед заходом солнца Роке Лопес оставил селение Гуадалупе, в его отряде было уже восемнадцать всадников.* * *
Через месяц после дерзкого налета на рудник Гуадалупе в просторном кабинете губернатора штата Синалоа состоялся важный разговор. Ограбление кассы рудника, насильственное отстранение должностных лиц от их обязанностей, возвращение земель и аннулирование долговых обязательств — неслыханные до того в стране действия шайки «бандитов» вызвали серьезное беспокойство властей. Рудник принадлежал американской горнорудной компании, которая не замедлила предъявить претензии губернатору, отправив копию жалобы самому президенту республики генералу Порфирио Диасу. В письме так и говорилось, что «власти в штате не обеспечивают необходимых условий для нормального функционирования частного предпринимательства». Губернатор Франсиско Каньедо, получивший погоны генерала за решительную поддержку переворота, в результате которого к власти в стране пришел Порфирно Диас, теперь редко снимал с себя военную форму. Докладывал капитан Сантос Мурильо, которого Каньедо специально посылал собрать подробные сведения о Роке Лопесе. Напротив капитана в кресле расположился командующий армейскими соединениями штага генерал Хесус Гами-рес Террон. — Итак, я вас слушаю. Можете сидеть, капитан. — Шайку бандитов, мой генерал, действительно возглавляет некий Роке Лопес Сасуэта, как об этом доносил в первом сообщении префект Гуадалупе-де-лос-Рейес. Родом Лопес из Эль-Чако, в прошлом небольшом ранчо, которое некогда принадлежало его отцу Тимотео Лопесу. Мать Роке, дочь аптекаря из Масатлаиа, вступила в брак против воли своих родителей. Согласно выписке из церковной книги прихода Сан-Игиасио, Роке Лопес родился 28 июня 1855 года. Он пятый и самый младший сын в семье. — Связь с братьями установлена? — перебил губернатор. — Нет, то есть… она не доказана, мой генерал. Все четверо — Антонио, Винсенте, Фернандо и Хосе, — правда, работают рудокопами на ограбленном руднике. Однако в поведении их ничего предосудительного не замечено. — Продолжайте. — Глаза губернатора почти скрылись за мохнатыми бровями. — Надо сказать, что на ранчо никогда не работало больше десяти пеонов. Тимотео Лопес гордился тем, что сам вместе с пеонами выезжал работать в поле. В таком духе он воспитал и своих сыновей. Младший из братьев — Роке был любимцем семьи и всех соседей. По утверждению его учителя Анхеля Бонильи — ныне он возглавляет школу в Гуадалупе, — Роке хорошо учился, помимо занятий много читал, неизменно выходил победителем в мальчишеских играх. Была у него странность: больше всего на свете он любил уезжать один в горы, где, бывало, пропадал по целым неделям. Пищу добывал там, где ее находили дикие звери, если уж и тогда он не занимался грабежом… Губернатор одобрительно закивал, а по лицу генерала Террона, которое не выражало никаких эмоций, нельзя было ничего сказать о том, что он думал. — В шестнадцать лет Роке был уже отличным чарро. Он не уступал иным взрослым, особенно в стрельбе с ходу на лошади. При содействии влиятельной особы из города Дуранго, родной сестры известного вам, мой генерал, сеньора Лауреано Роча, ближайшего соседа Лопесов, Роке отправили продолжать учебу в Дуранго, где он и закончил общеобразовательную семинарию. А в это время старший из братьев, Антонио, вздумал… как бы это сказать… претендовать на руку единственной дочери Рочи, не давал ей проходу… — Здесь вы не совсем точны, капитан. Любовь молодых была взаимна, насколько мне известно, — перебил говорившего генерал Террон. — Да, но Роча был категорически против с самого начала. Он запретил молодым видеться, а Антонио упорствовал… — И тогда Роча приказал своим людям избить его, — докончил за капитана генерал. — Позволь, дон Хесус, ты что, все это уже знаешь о Лопесе? — с некоторым раздражением спросил губернатор. — Нет, дон Франсиско, но кое-что нам в армии все же известно. — Продолжайте, капитан! — Так вот, в ответ Тимотео Лопес нанес оскорбление сеньору Роче. А между тем оказалось, что Лопесы-то жили на земле, которая издавна принадлежала семейству Рочи. Тот потребовал землю обратно, и суд нашел вполне законными претензии Лаурсаио Рочи, а купчую, которая была предъявлена Лопссом, — неверно оформленной. — Узнаю старого Рочу, — заметил с улыбкой губернатор. — Когда я начинал службу, Роча был старшим прокурором штата. — Словом, Лопес отказался покинуть ранчо Эль-Чако, хотя Роча дал ему месяц срока на отъезд. Но в один прекрасный день Лопес, не сказав никому ни слова, бесследно исчез. Жена его заболела и… — И на руках приехавшего из Дуранго младшего сына умерла, — закончил генерал Террон. — Вы точно информированы, сеньор генерал. После этого братья переехали к дяде по материнской линии, который работал и работает по сей день на руднике Гуадалупе. — Так там просто заговор! — воскликнул губернатор. — Должен вас несколько огорчить, мой генерал, ибо самая тщательная проверка показала, что этот человек вне подозрений. Администрация считает его одним из самых честных и исполнительных служащих. — Вот как! Ну, ну. Что же дальше? — Старшие братья становятся горнорабочими, а Роке, наиболее способного из них, принимают в контору управления рудника. Он проявляет себя, и ему очень скоро доверяют должность кассира, то, к чему он, очевидно, стремился, так как не прошло и двух месяцев со дня его назначения, как Лопес похитил из сейфа слитки серебра. Правда, при этом он был настолько пьян, что так и заснул у открытого сейфа… — Уже одно это, капитан, говорит о том, что он вряд ли заранее обдумывал план похищения слитков, — высказал свое мнение генерал Террон. — Однако факт остается фактом: восьми слитков, по дна с половиной килограмма каждый, в сейфе не обнаружили. Свидетели показали на Лопеса, состоялся суд, и бывший кассир был осужден на десять лет тюремного заключения. — А что вы скажете по поводу записки, оставленной Лопесом на теле убитого им Синфоросо? — Такие люди, как Лопес, способны на все! — Мне сдается, вы пытаетесь стать на сторону этого Лопеса? — спросил губернатор генерала. — Я, как солдат, дои Франсиско, предпочитаю знать своего настоящего противника, истинную его силу, а не… — Генерал Террон осекся и тут же продолжил: — Чтобы успешнее с ним сражаться, надо знать все, что было с Лопесом в действительности, а не то, что доносят нам в угоду. — Сеньор генерал, я рассказываю о том, что слышал своими ушами, — начал было оправдываться молодой офицер. — Я не имел в виду вас, капитан Сантос, а тех, кто, возможно, старался вам угодить. — Ну хорошо! Послушаем, что было дальше. Продолжайте, капитан. — В тюрьме Лопес знакомится с Франсиско Коррентасом, который выдает себя за испанского социалиста. Коррентас прибыл к нам в страну, чтобы, взламывая сейфы, пополнить свою партийную кассу. В тюрьме Лопес получил сообщение о том, что его друг Синфоросо, с которым он пьянствовал в день ограбления кассы, неожиданно разбогател и вдобавок женился на невесте Лопеса, — продолжал капитан. — Роке задумал отомстить бывшему другу и составил хитроумный план побега. О том, что Лопес планировал убийство Синфоросо еще в тюрьме, есть множество свидетельских показаний, сеньор генерал. — В этом я не сомневаюсь, — ответил Террон. — Вот как Лопесу удалось бежать из тюрьмы через высокие стены и, насколько мне известно, хорошо охраняемые? Кто были его сообщниками? Вот это мне не ясно. — Если прямо отвечать на ваши вопросы, то секретарь городского суда и старший надзиратель… Конечно, они не были сообщниками в прямом смысле слова. Лопес их просто ловко обманул. Дело в том, что секретарь — лиценциат, только что приехавший из столицы после факультета. Юнец польстился на деньги, и, в общем-то, небольшие… — Не мудрено, когда у нас судейские чиновники получают меньше, чем наши с вами слуги, дон Франсиско. — Я не понимаю, о чем вы говорите, генерал! Продолжайте, капитан Сантос, — резко оборвал губернатор командующего войсками. — Секретарь, очевидно сам начиненный вольнодумными мыслями, всякий раз, бывая в тюрьме, любил подолгу беседовать с заключенными. Когда он уходил, Лопес наклеивал фальшивые усики, надевал сомбреро, такое же как у секретаря, и, подражая ему, потешал заключенных. В день побега Лопес, который сумел вызвать к себе симпатии секретаря, заплатил ему вдвое дороже и выторговал у того костюм. Взамен Лопес предоставил судейскому чиновнику другой, новый, но старомодный костюм. Надзиратель принял переодетого преступника за секретаря (тюремщик, конечно же, не признался капитану, что боролся со сном в то время) и выпустил его через входную дверь. Когда спохватились, Лопеса и след простыл. — Вот как! — удивился губернатор. — Ловко! — Такое случается во всякой тюрьме, дон Франсиско, так же как раз в год оружие само стреляет, — заметил генерал Террон. — О дальнейших событиях вам, мой генерал, уже подробно докладывалось. — Да, да, капитан. Меня, однако, волнует поведение этого Лопеса. Вам известно, что почти все награбленное тут же раздается? Это может породить не одного последователя взорвать общественное спокойствие. Что вы предлагаете делать, капитан Сантос? — Искоренить зло в самом начале! Немедленно направить в Гуадалупе эскадрон и уничтожить банду в бою! — Позволь мне, дон Франсиско, рекомендовать тебе командира для этого эскадрона. Капитан Сантос Мурильо хорошо изучил историю Лопеса. Он с успехом мог бы возгласить экспедицию против него. А вам, капитан, предоставится возможность отличиться и заработать право на повышение в чине. Губернатор задумался. — Пожалуй, я согласен, — сказал он, помолчав. — Только ты, дон Хесус, выдели капитану эскадрон получше. Генерал встал. В это время из боковой двери вышла изящная светловолосая девушка. Подойдя к столу, за которым сидел губернатор, она бросила нежный взгляд в сторону капитана, настолько нежный, что он не мог быть не замечен присутствующими. — Папа, извини. Ты все занят делами, а я не могу уехать, чтобы с тобой не попрощаться. Генерал счел аудиенциюоконченной, поклонился и вышел. — Папочка, я так рада, что капитан Сантос уже вернулся Ты больше, пожалуйста, никуда не посылай его, ладно? — Не понимаю тебя, дочь моя. — Ох, папочка, — на лице девушки появился румянец, — ты никогда ничего не понимаешь. Я и капитан, мы… ну, тебе сегодня все расскажет мама. Она согласна. — Вот это новость! А вы, что же вы, капитан, даже не намекнули? — Как же я мог, мои генерал? — Раз уж так, капитан, зовите меня доном Франсиско. Однако как быть с нашим решением? Карамба! Срочно надо подыскивать кого-либо другого. — Нет, дон Франсиско, разрешите мне поступить как подобает военному. Сейчас тем более я хочу принести к ногам вашей дочери эту, правда ничтожную, победу над мелким бандитом. — Не переоценивайте слабости этих люден, капитан. Исход может быть самым неожиданным… — Ну что вы, дон Франсиско! Я даже не стану затруднять эскадрон походом в горы. Мы просто арестуем братьев, и бандит сам пожалует под наши пули. — Ну, с богом, капитан. Даю вам на все это дело месяц. Вернетесь, поговорим и о дочери. А ты, моя дорогая, не расстраивайся. Учись ждать. Гордись, что такой мужчина, к не капитан Сантос, овладел твоим сердцем.Глава III БРАТЬЯ И УЧИТЕЛЬ
— Ты ясно и четко излагаешь мысли. С тобой трудно не согласиться. Но как можно надеяться на успех поднять общее восстание, когда многие в том, что ты делаешь, видят лишь удобный случай обогатиться за счет других? — Это и есть самое главное, дон Анхель, о чем я хотел с вами поговорить. В пашей стране подавляющее большинство живет в ужасающей нищете и невежестве. Вот почему так легко повсюду действуют шарлатаны. Народ неграмотен, поэтому невольно тянется за этими пройдохами и в конце концов оказывается обманутым. Роке Лопес возбужденно ходил по комнате, полной табачного дыма. — Что же касается возможности обогатиться за счет других, как вы говорите, дон Анхель, то это меня не волнует. Я твердо знаю, что мы действуем справедливо Богатство наших помещиков, алькальдов, судей, хефе политико, владельцев рудников, генералов — результат наглого ограбления нещадно эксплуатируемого народа. И чем наш народ неграмотнее и забитее, тем больше размеры этого грабежа. По тому, как собеседник Лопеса соглашался с его доводами, как блестели глаза учителя, было видно, что он разделяет мысли своего бывшего ученика и восхищается им. Беседа их протекала уже четвертый час, когда неожиданно в дверь комнаты кто-то постучал. Роке встал за дверь и положил руку на револьвер, а учитель спросил: — Кто там? — Это я, дядя. Вы забыли про ужин. В комнату вошла та самая девушка, с которой Роке столкнулся в коридоре в день первой встречи с учителем в Гуадалупе. — Познакомься, это Сильвия. Моя племянница. Учительствует вместе со мной. Кое в чем разбирается не хуже меня, — мягко и с особой теплотой представил учитель свою родственницу, и Роке снова почувствовал, как часто забилось его сердце. — Мы с ней часто говорили о тебе. Роке с трудом понимал, что говорит дон Анхель. Он больше прислушивался к тому, что происходило у него в душе, и удивлялся своему волнению. Именно поэтому, как ни старался Бонилья возвратить беседу в прежнее русло, ничего из этого не получилось. Роке чувствовал, что учитель во всем доверяет Сильвии, но мысли его сбивались, и он, начиная говорить, смущался и тут же умолкал. Бонилья не понимал истинной причины и, думая, что Роке не желает говорить в присутствии Сильвии, отослал ее приготовить им по чашке какао. За душистым напитком беседа мало-помалу обрела прежний характер. — Сейчас важно, хотя бы у вас на руднике, сделать так, чтобы деньги, которые мы раздаем при дележе, не возвращались в кантины[279], в игорные дома. Надо сделать так, чтобы это немногое улучшало, пусть пока незначительно, жизнь рабочих. — Но как рабочих отвратить от пьянства? — Сильвия перебила Роке. — Сколько я ни старалась уговаривать родителей моих учеников, абсолютно ничего не помогает. — Мы с тобой могли бы многое сделать, мой ангел, имей поддержку алькальда, хефе политико или хотя бы, на худой конец, администратора рудника, — заметил Бонилья, наклонившись к Сильвии. — Надо открыть для рабочих бесплатную школу, — сказал Лопес. — Деньги я принес, а властями, чтобы они не мешали, мы сами займемся. Только начинать надо с малого. — Роке встал, чтобы попрощаться. За окнами послышался цокот копыт. Бонилья отправил сторожа школы узнать, что происходит в селении. Вскоре сторож возвратился и сообщил, что из Кулиакана в Гуадалупе на постой прибыл целый эскадрон под командованием капитана Сантоса Мурильо.* * *
В огромной пещере, под сводами которой скрывался отряд Лопеса, произошли значительные перемены. В проходах по обе стороны были воздвигнуты деревянные нары, повешены походные гамаки, пол чисто выметен, продукты сложены в просторном чулане, где лежало оружие и боеприпасы; питьевая вода хранилась в объемистой бочке. Для разведения костра и приготовления пищи было отведено специальное место; нашлось место и для лошадей, которых на ночь и в непогоду заводили в пещеру. Подходы к лагерю тщательно охранялись. Сторожевые посты были хорошо замаскированы и так удачно размещены, что дежуривший у входа в пещеру, он же старший по охране, мог издали контролировать часовых, легко различая подаваемые жестами и голосом сигналы. Вот и сейчас Хуан, дежуривший у входа, услышав трижды прозвучавший крик горного индюка, посмотрел на вершину скалы, нависавшей над главной тропой. С утеса постовой подавал сигналы. Хуан тут же доложил Роке, что к пещере приближается невооруженный человек. Когда человек приблизился, все увидели кладбищенского сторожа из Гуадалупе. — Хефе, беда! Большая беда! Святая дева Гуадалупе! Вчера ночью капитан Сантос приказал арестовать ваших братьев. — А дядю? — Его оставили. Бедный, он не знает, что делать. Эпифанио Ломели сказал, что капитан Сантос не станет ждать, когда они признаются. — В чем они должны признаться? — взволнованно спросил Роке. — Что помогают вам. Хефе политико сказал, их сразу расстреляют. Лица слушавших помрачнели, только в глазах Роке загорелся огонь. — Не бойтесь, мучачос! Дело только начинается. Поглядим, что за нервишки у этого капитана, — сказал он весело и отвел в сторону Парру и Барболина. Барболин тут же принялся чесать затылок — это означало, что он думает, а у Парры постепенно светлело лицо. Вскоре план был принят, и тогда Роке попросил сторожа подойти к нему. Старик внимательно слушал Лопеса. Потом все повторил и засмеялся. — Смотри, сделай так, как я сказал. Вот, держи. — Роке дал старику кошелек, — здесь больше, чем тебе потребуется. Но только все выполни точно! Остаток дня отряд готовился к первому серьезному бою. Перед заходом солнца Роке, Хуан, Педро, Рамон и еще двое сели на коней. Остальные вышли их провожать. — Мучачос, настал момент, когда мы должны доказать, что мы сильнее солдат и офицеров. — Голос Роке Лопеса звучал звонко и уверенно. — Нас всего двадцать пять, но каждый стоит пятерых! Все хорошо продумано, и ничто не должно помешать пашен победе. Но если кто сомневается, еще не поздно. Ан не будем на него в обиде… В ответ послышался недовольный ропот: чувствовалось, что слова Лопеса задели всех за живое и немного обидели. — Тогда хочу предупредить еще раз: в деле малейшее проявление трусости, несоблюдение приказа будет расценено как предательство. Не судите меня строго, но я в глаза предателя смотреть не могу. После боя каждый вправе высказать все, что он думает. Хорошее слово, верное замечание приму с благодарностью, но в деле — отвага, меткий выстрел и точные действия. От этого зависит успех, от этого зависит наша жизнь… Парра и Барболин все объяснят вам, а пока — до встречи! Завтра утром, мучачос! — И Роке тронул своего коня. На следующий день, едва первые лучи солнца коснулись крыш домов, к жандармскому участку в Гуадалупе подошел кладбищенский сторож. Он сообщил караульному, что у развилки дорог видел вооруженных бандитов, и они говорили между собой, что ждут Роке Лопеса. Эскадрон был поднят по тревоге, и тут же поступили сведения от передовых постов: замечена группа всадников, на рысях приближающихся к селению. Все три взвода направились на окраину, где и были укрыты во дворах домов. С крыши одного из них капитан Сантос уже осматривал дорогу. Рядом находились Эпифанио Ломели, трубач и адъютант капитана. Тесной группой всадники показались из-за поворота. Несколько впереди других с винтовкой в руке гарцевал седок и широкополом сомбреро. — Это Лопес, — определил Ломели. — Его сомбреро и конь гнедой. Капитан жестом отдал приказание быть наготове. Всадники меж тем растягивались в цепочку, выхватывая винтовки из чехлов. Когда до первых домов оставалось метров двести, они пришпорили коней, перешли на галоп и тут же принялись стрелять на всем скаку. Со стороны селения раздался немногочисленный, но дружным залп. Капитан вздрогнул и закусил губу. Всадники стали придерживать копой. Залп из селении повторился, капитан топнул ногой и закричал: — Кто отдавал приказ стрелять? Запорю, мерзавцы! Но группа всадников уже разворачивала коней обратно. — Первый и второй взвод, по коням! Догнать и взять живыми! — прокричал капитан и стал слезать с крыши. Лошади «бандитов» скрылись за поворотом, но из селения на полном аллюре уже высыпал первый, а за ним второй взвод. Когда за изгибом дороги пропал из виду последний солдат второго взвода, до слуха донеслись звуки выстрелов — между группой всадников и их преследователями завязалась перестрелка. Вскоре в селение на взмыленном коне влетел связной. Он доложил, что «бандиты» залегли в ближайших холмах и мелкими выстрелами контролируют дорогу. Оба взвода спешились и атакуют неприятеля. — Третий взвод, за мной! — скомандовал капитан и пришпорил коня. Оставив селение, взвод взял резко вправо, явно намереваясь обойти с тыла цепи Рока Лопеса. А в это время жители Гуадалупе, прислушиваясь к выстрелам, с изумлением глядели на похоронную процессию, медленно двигающуюся по главной улице в сторону кладбища. Богатый гроб был так убран цветами, что лица умершего почти не было видно. Покойника несли неизвестные жителям Гуадалупе люди. За гробом шли марьячи[280]. Музыканты недавно прибыли в Гуадалупе из Масатлана. Они не прочь были подработать и поэтому старались изо всех сил. Их нисколько не смущало, что родственник покойного — толстячок, который все плакал и большим красным платком поминутно утирал слезы, — говорил об умершем, как об одном из музыкантов. — Вы знаете, он так внезапно умер… А такой хороший был скрипач! — то и дело повторял толстяк. Музыканты старались, думая лишь о том, что им заплатили вперед вдвое большую сумму да еще обещали вечером, на поминках, дать столько же. Жители — кто из любопытства, кто от нечего делать, а кто просто, чтобы послушать музыку, — пристраивались за гробом, и процессия росла. Когда она поравнялась с жандармским участком и солдат, стоявший около него на часах, направился к гробу, на глазах у всех произошло такое, что может лишь присниться в бредовом сне. — В каком доме выпить на поминках… — Но солдат не договорил: толстяк, всю дорогу ливший слезы, выхватил из-за пазухи нож и метнул его прямо в горло жандарма. Тот повалился навзничь, но выпущенная им винтовка не успела упасть на землю, а тут же оказалась в руках Хуана Пуэбло. Гроб уже стоял на земле, и из него выскочил «покойник» с двумя взведенными револьверами. Многие сразу узнали в нем Роке Лопеса. Мужчины, которые только что несли на плечах гроб, Педро, Рамон и еще двое, уже выхватывали из него винтовки. Музыка оборвалась. Заунывные звуки скрипок и печальные трели труб сменил сухой треск выстрелов. В это время из кладбищенских ворот показалось пять всадников. Каждый в поводу вел по паре оседланных лошадей. Когда эта группа подскакала к жандармскому участку, на крыльце показался Роке Лопес и с ним его четыре брата. — Вы свободны! Разбирайте лошадей! — И Роке подозвал стоявшего рядом человека: — Держи ключи от подвала. Там лейтенант и солдаты. Отдашь Эпифанио Ломели. А эти деньги передай вдове убитого. Если ее нет, то сами похороните его как следует. Антонио, Фернандо, Висенте и Хосе — братья Лопеса — вместе с другими сели на коней, и Роке Лопес направил своего гнедого на тропу, ведущую в горы. Днем, когда обе части отряда соединились, стало ясно, что и основная группа, возглавляемая Паррой, тоже справилась с задачей. Парра, на голове которого красовалось сомбреро Лопеса, сумел выманить эскадрон из селения. Оба взвода солдат, попав под обстрел, спешились и, направив к капитану Сантосу связного с сообщением, начали атаковать позиции, занятые теми, кто залег за удобными укрытиями в холмах и метко вел прицельный огонь. Перестрелка была жаркой, но все же солдаты достигли линии, где оборонялись «бандиты». Тут они увидели, что с тыла к позиции приближается третий взвод. За укрытиями, откуда только что велся огонь, никого не оказалось. Рядом с кустами, обломками скал, камнями валялись пустые гильзы и во многих местах простреленные сомбреро: по ним солдаты долгое время вели огонь, полагая, что поражают противника. Капитан Сантос понял, что его ловко обманули. Он хотел было тут же устроить расправу над нарушителями приказа, без команды открывшими огонь, но оказалось, что ни одни из его солдат не стрелял. И действительно, те два залпа были произведены из-за спин солдат людьми Лопеса, спрятавшимися в селении еще ночью. Капитан Сантос возвратился в Гуадалупе и, узнав, что там произошло в его отсутствие, пришел в ярость. Он принялся проклинать всех святых, с горечью вспоминая предупреждение губернатора. Затем посадил под арест музыкантов и приказал начать преследование Лопеса в горах. Но отряд Роке в это время уже двигался обходными тропами к селению Конитака, куда, по сведениям, должен прибыть обоз с серебром, предназначенным для отправки в США.* * *
Префект, обшарив все горные тропы в районе Конитака — дорога на Масатлан в поисках Лопеса, — ни с чем возвращался домой. Когда вдали, среди тенистых садов, столь украшающих и по сей день Конитаку, замелькали белые домики под красной черепицей, впереди на дороге появился всадник. Он летел как птица. Казалось, лошадь закусила удила и несла всадника помимо его воли. Не успел префект посторониться, как несущаяся лошадь налетела на него, выбила из седла и сбросила на землю. В этот самый миг послышалась стрельба и крики: «Вива Роке Лопес!» Те, кто сопровождал префекта, оказались окруженными мгновенно выросшими словно из-под земли «бандитами». Лопес, чей конь так ловко выбил префекта из седла, быстро спешился и, подавая префекту руку, произнес: — Вы, кажется, меня искали, мой друг? Не правда ли? Так я к вашим услугам. Ваш револьвер! — Вы Роке Лопес? — с удивлением спросил префект. — Не может быть. — Готов служить вам. Вы не ушиблись? — Пусть это вас не волнует. Вы мой враг. Вам удалось перехитрить меня. Так расправляйтесь! Не мне ждать от вас подачек… — Я не убийца. Тем более, когда передо мной на земле безоружный человек. Садитесь в седло. Поедем в Конитаку. — Ни шагу с вами. В лучшем случае отсюда в Конитаку вы привезете мой труп. — Воля ваша. Связать его вместе со всеми! Ждите моего возвращения, мучачос. — И Роке, оставив троих бойцов охранять пленников, с остальными отправился в Конитаку. Подъехав к зданию муниципалитета, Роке Лопес, Парра и Барболин спешились и прошли, несмотря на протесты секретаря, прямо в кабинет мэра. — Я Роке Лопес, которого разыскивает ваш префект. Теперь он у меня в плену. Вот его шляпа и револьвер. Конитака окружена отрядом в сто человек. Но я не хочу причинять ущерба ни селению, ни его жителям. Вы, судья, семья префекта и богатые жители соберете в течение часа двадцать тысяч песо… — Помилуй бог! Откуда? У кого такие деньги? — Пока у вас, а через час будут у меня пли я прикажу разграбить муниципалитет, рудник, все магазины. — Попробую поговорить с деловыми людьми. Посмотрим, что они скажут. — Это меня не интересует, а собрать их я вам помогу. Барболин, давай их сюда! А пока, сеньор алькальд, мы сочиним с вами небольшую бумагу. — Роке сел за стол и четкими буквами вывел на листе: «Подателю сего немедленно вручить ключи от тюрьмы, списки и документы на заключенных, оружие и все боеприпасы». Подписывайте! Мэр заколебался, что-то хотел было сказать, по в это время в кабинет вошел судья. — Что случилось, дон Энрике? Зачем я нужен вам так срочно? — спросил судья, стройный молодой брюнет с модными усиками, не обращая внимания на Лопеса. — Чтобы подписать эту бумагу, — ответил за мэра Роке и протянул лист судье. Тот быстро прочел и швырнул бумагу на стол. — Что за шутки вы вздумали шутить, дон Энрике? Или вы забыли последний разговор с хефе политико? — довольно нагло спросил судья у алькальда. — При разговоре я не присутствовал, по о ваших «шутках», сеньор судья, кое-что слышал. Искрение сожалею, что не располагаю временем сейчас заняться вами серьезно. Но это от нас не уйдет, и боюсь, как бы вам не пришлось последовать за коллегой из Гуадалупе-де-лос-Рейес. Подписывайте бумагу! — По какому приказу? — еще не снижая надменного тона, спросил судья. — По приказу револьверов Роке Лопеса. Или вам кажется, что в Копитаке сейчас есть более высокая власть? На вас достаточно одной пули, сеньор судья. Мучачос тут же уберут охрану тюрьмы. Но я не хочу напрасно проливать кровь. Вам понятно? — В тюрьме ведь преступники… — Спесивый тон судьи заметно упал. — А вы не находите, что их не меньше на воле? Вы, например. Вы вместе с хефе политико, алькальдом, администратором рудника, префектом ежедневно грабите беззащитный народ, нагло пользуясь своим положением. Или в тюрьме сидят люди, выход которых на свободу для вас опасен? — Нет, почему же… — Тогда подписывайте! Оба! Вы и алькальд. — В кабинете в это время уже собралось человек десять. — И помните, предупреждаю вас всех: любое нарушение закона, надругательство над правами граждан, обман и задержка в выплате вознаграждения за труд не останутся безнаказанными. Мы вернемся в любой момент. А сейчас отправляйтесь в зал заседаний, и чтобы через час двадцать тысяч, сентаво в сентаво, лежали на этом столе! Пока из тюрьмы были выпущены заключенные, а запрошенная сумма собрана, население Конитаки узнало о том, что происходит в муниципалитете, и собралось перед зданием на главной площади. Первыми получили положенное им жалованье муниципальные служащие, затем Лопес щедро расплатился с мелкими лавочниками за все то, что он и его люди взяли в лавках, а остальную сумм Парра, Барболин и Хуан роздали населению. Каждый получил не менее 50 песо. Это было для многих целым состоянием Ведь хороший рдокоп получал за час работы 10 сентаво — одну десятую часть песо. Поздно вечером в Конитаку без лошадей, злые и усталые, возвратились префект и жандармы. Дельцы от ярости не находили себе места, узнав, что с Лопесом было не более пятнадцати человек. Но в ту ночь в подавляющем большинстве домов Копитаки был настоящий праздник. Беда пришла на следующий день, когда в Копитаку вступил эскадрой под командованием капитана Сантоса. В полдень был отдан приказ всем жителям собраться на главной площади. Как только капитан появился на балконе муниципалитета, площадь была окружена солдатами. — Данной мне губернатором штата властью приказываю немедленно возвратить деньги алькальду, до последнего сентаво! Вы получили их незаконно от бандита Лопеса. До тех пор никто не будет отпущен домой! — заявил капитан Сантос и спустился на террасу первого этажа, где жандармы по-своему уже «выколачивали» деньги из жителей Конитаки. Тех, кто упорствовал или пытался объяснить, что деньги израсходованы, жандармы и солдаты избивали плетьми. Во время жесткой расправы капитану Сантосу стало известно, что в доме одного из рудокопов на излечении остался боец из отряда Роке Лопеса. Жандармы тут же схватили больного и вместе с хозяином дома посадили в тюрьму. Самосуд продолжался до рассвета. Бльшая часть розданных Роке Лопесом денег была возвращена алькальду. Перед уходом из Конитаки капитан Сантос Мурильо с согласия судьи, но явно нарушая существовавшие законы, распорядился повесить «бандита» и укрывавшего его рудокопа. Но не успели родственники несчастного снять тела повешенных, как в селение, словно горный вихрь, ворвался отряд Роке Лопеса. Он проследовал прямо к дому судьи. Префект с алькальдом и жандармы поспешили скрыться. Они не могли и думать о сопротивлении, когда все население было настроено против властей. Правосудие свершилось на площади перед балконом муниципалитета. Обвинял судью народ, и когда Роке Лопес в воцарившейся тишине спросил: «За все содеянное, за нарушение закона, за убийство двух честных людей какую кару заслуживает судья?», все присутствующие единодушно потребовали: — Повесить! Приговор был приведен в исполнение у той же самой сейбы, что раскинула пышную крону над дорогой у выезда из Конитаки и еще вчера была свидетельницей казни двух невинных людей.Глава IV СРАЖЕНИЯ И ЛЮБОВЬ
На руднике Гуадалупе-де-лос-Рейес стало известно о назначении и скором прибытии туда нового администратора. Всех волновало это событие. В почтовом дилижансе, который совершал регулярные рейсы между столицей штата и районным центром Косала, кроме будущего администратора — молодого инженера Бенхамина Бенитеса — с женой и ответственного контролера горнорудной компании (он должен был обследовать состояние дел на руднике и ввести в курс дела нового чиновника), ехали еще три пассажира: высокое лицо — депутат парламента штата, священник-францисканец и коммерсант, который подсел в дилижанс на дороге в селении Эль-Саладо и не раз своими взглядами заставлял жену инженера Бенитеса кокетливо опускать глаза. Но женщина не могла и подумать, что взгляды приятного попутчика были адресованы не ей, а ее мужу. Действительно, улучив удобный момент на очередной остановке, коммерсант представился Карлосом Лагунасом из Гвадалахары. Дорогая визитная карточка свидетельствовала, что Лагунас преуспевал в делах. Сев рядом с инженером, он завел с ним разговор: — А вам доводилось ранее бывать на руднике в Гуадалупе? — Нет. Предприятие я знаю только по планам, по отчетам да по рассказам бывшего администратора. Мне представляется интересной работа на этом руднике. Есть возможность поиска новых жил, закладки свежих разработок. В управлении, наверное, придется кое-что сделать. Хочу в течение ближайших месяцев довести предприятие до максимума его возможностей. — И молодой инженер покосился в сторону служащего компании. Но тот дремал, не обращая внимания на разговор, который новый администратор столь свободно вел со своим попутчиком. — А вам не кажется, сеньор Бентес, что рвение, с каким вы собираетесь приступить к работе на этом руднике, ваши побуждения и порывы не сделают вам чести? — глядя собеседнику в глаза, спросил коммерсант. — Отчего же? Не понимаю вас, сеньор Лагунас. — Оттого, что вы не задумываетесь над многими вещами. — Например? — Хотя бы над тем, что мы с вами оба мексиканцы. Я, не зная покоя, разъезжаю по городам и селениям. Цель моя — наладить торговлю национальными товарами, организовать доставку к потребителю в самые отдаленные уголки страны продукты труда мексиканских рабочих. Правда, благодаря моим усилиям растет и капитал моего дела. Но от этого роста в прямой зависимости находится качество товара, его своевременная доставка, обеспечение им нашего народа. Моя фирма действует во имя процветания Мексики. Что станете делать вы? Реорганизацией управления рудника вы повысите уровень производства. А во имя чего? Во имя того, чтобы как можно больше серебра и золота вывезти за пределы нашей страны. Ну, владельцы компании, конечно, станут вас хвалить, присылать вам к рождеству и ко дню вашего рождения богатые подарки, по случаю и без оного слать вам хвалебные письма. Но в благодарность за что? За то, что вы, сеньор Бенитес, вы, мексиканец, активно участвуете в ограблении иностранцами своей собственной страны. — Однако, сеньор Лагунас, вы сгущаете краски. Пусть так, продукт добычи рудника вывозится за границу. Но взамен нам поставляется новейшее оборудование, мы осваиваем современную технику, овладеваем новыми методами труда, обретаем высшую квалификацию, растем, так сказать… — Однако, сеньор Бенитес, наш мексиканский рабочий, к примеру, влачит жалкое существование. А почему? Оттого, что находится под гнетом двойной эксплуатации: отечественные дельцы и иностранные капиталисты. Вот ваш предшественник, я его хорошо знал, придумал такую кабальную систему штрафов, от которой никому не было спасения. Он обязал поголовно всех рабочих покупать товары в лавках рудника. Там лежалый, бросовый, дешевый товар продавался по высоким ценам. Ни одному из иногородних и местных коммерсантов на рудник пробиться было нельзя. Хефе политико, мэр и судья участвовали в прибыли. Вам, конечно, известно, как все они были наказаны Роке Лопесом? При упоминании этого имени жена Бенитеса испуганно посмотрела на Лагунаса, а контролер компании даже пробудится от сна. Между тем собеседники спокойно продолжали разговор. — Должен вам сказать, что мне как раз эта сторона деятельности администрации рудника больше всего не по душе. Я сторонник более сознательного и честного отношения к рабочему, — заметил Бенитес. — А я сторонник, если я верно уловил нить нашей беседы, любых мер, лишь бы они способствовали процветанию дел на руднике. Ваш предшественник, Бенхамин, был молодцом. При нем рудник установил рекордные цифры выработки. И это вам не следует забывать, — язвительно заметил, устраиваясь поудобней на сиденье, контролер горнорудной компании. В это время сзади послышались выстрелы, и дилижанс сразу прибавил скорость. С места возницы, где сидели два вооруженных охранника, ответили выстрелами. Контролер и депутат парламента выхватили револьверы. Бенхамин Бенитес, хотя у него на поясе и висела кобура с оружием, продолжал сидеть на месте, священник крестился, а Карлос Лагунас заметил: — Здесь хороший участок дороги. Им не догнать дилижанса. И действительно, выстрелы вскоре затихли, и дилижанс покатился ровнее. — Вы думаете, это был Лопес? — бледная, со слезами на глазах спросила жена администратора. — Скорее всего, нет. От него еще не уходил ни один дилижанс, — ответил Лагунас и поправил тисненную по коже кобуру, из которой торчала перламутровая рукоятка внушительных размеров револьвера. — Конечно, не Лопес. При желании верхом можно догнать любой дилижанс, а эти струсили, — заметил депутат. — Милая, успокойся! Даже если бы то был Лопес, он же не обижает женщин. И с нами ничего не будет. Мы ему не враги. Карлос Лагунас внимательно разглядывал Бенитеса и, когда тот поймал на себе его взгляд, сказал: — Вы слышали, что Роке Лопес часто бывает в Гуадалупе? Жители о нем только и говорят. Им стало легче дышать. Власти боятся, что Лопес сдержит свое обещание. — Какое? — снова, не пытаясь даже скрыть своего испуга, спросила жена администратора. — Успокойся, милая, — ласково произнес Бенитес, взяв жену за руку. — Сеньор Лагунас, очевидно, имеет в виду угрозу Лопеса повторить насильственное смещение с постов тех, кто представляет власть. Нам с тобой это не грозит. Ты же хорошо знаешь. Снаружи послышался окрик возницы. Дилижанс резко затормозил. Пассажиры еле удержались на скамейках. С полок повалились сумки, портфели, саквояжи. Жена Бенитеса обхватила мужа за шею. — Бревно через дорогу, — сообщил возница, и тут же с некоторого отдаления прозвучал зычный голос: — Не оказывайте сопротивления! Каждому будет сохранена жизнь… Вива Роке Лопес! Депутат и контролер выхватили револьверы, кинулись к окнам. — Подумайте, что вы делаете! — возмутился Бенхамин Бенитес. — Здесь женщина и священник. На лужайке слева от дороги, метрах в пятидесяти, гарцевал на превосходном коне вооруженный всадник. То был Сирило Парра. Из-за кустов жимолости на своей белой кобыле выехал Хуан. — Выходите по одному! Оружие на обочину, — приказал Парра и стал приближаться к дилижансу. Первым вышел Лагунас, за ним священник, потом Бенитес с женой. Охранники дилижанса побросали винтовки. Коммерсант и Бенитес сияли пояса с оружием и положили их на землю. Но в следующее мгновение за их спинами раздались выстрелы. Контролер и депутат, видя перед собой всего двух всадников, решили оказать им сопротивление. Копи дилижанса рванули, перескочили через бревно, но колесо при этом отскочило, и дилижанс, завалившись набок, остановился. Лошадь Парры, в шею которой угодила пуля, взвилась на дыбы, выбросив седока из седла. Вторая пуля попала ей в брюхо. В ответ сразу с трех сторон прозвучал дружный залп. Служащий горнорудной компании повалился навзничь и замер. Депутат укрылся за придорожным камнем и палил из револьвера, пока не кончились патроны. Когда его окружили, он с трудом поднялся на ноги; из плеча густой струей бежала кровь. Подошел Парра. — На, держи! — И он протянул свой револьвер. — Иди, добей коня. Ну! Иди! — и отвернулся. Депутат повиновался. Потом его увели в заросли. Меж тем Хуан проверил почтовые мешки. В них ничего ценного не оказалось. У пассажиров было немного денег, которые им оставили. Парра приказал отстегнуть от упряжки дилижанса лучшую лошадь и оседлать ее. Сев в седло, он сказал: — Такого коня убить! Будь моя воля… — И всадник отъехал прочь, не окончив фразы. Хуан улыбнулся и, сказав: «До скорого!», последовал за Паррой. Оружие Бенитеса и Лагунаса так и осталось лежать у обочины. — Это и есть Лопес? — спросил священник, который только что закончил молитву над телом убитого контролера. — Нет, это один из его главарей, — ответил возница и отправился за брезентом, чтобы завернуть в него тело. Пристроив его на крыше, он вместе с охранниками принялся за починку колеса. Инженер Бенитес хлопотал вокруг своей жены, постепенно приходившей в себя от страха. Карлос Лагунас подошел к ним. — Ну, что вы скажете по этому поводу? — спросил он. — Что надо везде расставить жандармов! Вызвать сюда войска. Губернатор прячется за охраной. Попробовал бы ездить по таким дорогам! — нервно выпалила заплаканная женщина. — Нет, милая, погоди. Сеньор Лагунас ждет от нас иного ответа, — сказал Бенитес и посмотрел на своего попутчика. — Конечно, если судить строго, в основе всего лежит несправедливость, безысходность, что-то не учитывается такое… — Что все люди одинаково хотят хорошо жить, — перебил его Лагунас. — Посмотрите крутом. У одних несметные богатства, неограниченная власть, а у большинства — ничего. Забиты, неграмотны, гнут спину от зари и до зари. Конечно же, взбунтуешься! А если думать не столько о себе, сколько о других? — И Лагунас кивнул в сторону священника: — Религия ведь к этому призывает. И надо начинать с малого. У вас на руднике, например, отменить штрафы. Рабочие сразу легче вздохнут, и жизнь в Гуадалупе станет лучше. Бенитес еще пристальнее поглядел на Лагунаса и отошел с ним в сторону. — Да, но как на это посмотрят кругом? Я же стану белой овцой в стаде черных. Во что тогда превратится моя жизнь? А потом, начни я с этого, а кончать придется разделением прибыли: поровну между всеми. — Конечно! Сейчас, возможно, думать об этом — абсурд. Но, в конце концов, это-то и есть настоящая справедливость. Во имя ее такие, как Роке Лопес, и берутся за оружие. — Я припоминаю разговор с бывшим судьей Гуадалупе, — продолжал новый администратор. — Мигель Гутьеррес — он искренне плакал по поводу своей судьбы у меня дома в Кулиакане. Это меня удивило. В юношеские годы он, например, восхищался Хуаресом, был справедливым и честным малым. Получив звание адвоката и службу в одном из управлении штата Дуранго, он очень быстро увидел, что преуспевают наглые невежды, что его честность лишь мешает ему в жизни. Он убедился, что все кругом пробивали себе дорогу лишь благодаря интригам. В конце концов, чтобы он не мешал, его послали в такую дыру, откуда он буквально вынужден был бежать в другой штат. Однако из Кулиакана его направили в Гуадалупе. И там он, сообразуясь со своими взглядами и знаниями, снова пытался выносить наиболее справедливые приговоры. Но чем справедливее выносились приговоры, чем они были более обоснованы законами, тем чаще не находили подтверждения в высших инстанциях. Пока он, как это вынуждены делать все остальные, не начал брать взяток… — И бесстыдно грабить вместе с алькальдом и хефе политико и без того бедных жителей Гуадалупе, — закончил Лагунас. — Скажите, сеньор Лагунас, а вы часто бываете в Гуадалупе? У вас там есть родственники? Отчего вы проявляете столь повышенный интерес к этому руднику? — спросил Бенитес. — Мне думается, вы были откровенны со мной, сеньор Бенитес, и я не стану скрывать от вас правды, — ответил, улыбаясь, Лагунас. — Раньше, несколько лет назад, я работал на этом руднике. На нем и по сей день работает мой дядя. Мое настоящее имя Роке Лопес, к вашим услугам. Новый администратор даже рассмеялся, посчитав такое признание Лопеса за милую и весьма пикантную шутку. — Не смейтесь, сеньор Бенитес, я говорю серьезно. Вы оказались толковым и симпатичным человеком. Поэтому я рекомендую вам пересмотреть условия штрафов на руднике, не мешать местному учителю в организации вечерней школы и запретить продажу спиртного в селении по воскресеньям, ограничив ее в будние дни семью часами вечера. — Но позвольте!.. — Сеньор Бенитес, не позволю! Вы должны дать мне слово. В том, что я действую решительно, у вас не может быть сомнений, надеюсь. — Однако… Ну что ж… Раз так… Насчет штрафов и учителя я, пожалуй, вам обещаю. Но что касается продажи спиртного… — Это не в вашей компетенции, вы хотите сказать. Понимаю. Но уверен: если вы проявите настойчивость, ссылаясь на ваше желание поднять производительность труда рабочих, власти не станут этому препятствовать. Им ведь от компания кое-что перепадает. Не надо недооценивать возможностей вашего места, сеньор Бенитес. С вами многие вынуждены считаться. — Посмотрим. — Значит, договорились! Прошу вас. — И Роке пропустил вперед своего нового знакомого. Весь оставшийся отрезок пути до Конитаки проехали в полном молчании. Каждый был погружен в свои думы. У самого въезда в Конитаку Лопес попросил остановить дилижанс. Он вежливо раскланялся, захватил свой саквояж и вышел. Закрывая за собой дверцу, он сказал: — Сеньор Бенитес, мне особенно приятно было познакомиться с вами До скорой встречи! И пусть ничто нам ее не омрачит.* * *
Сообщение о том, что на руднике Сан-Игнасио готовится к отправке за границу партия серебра, было получено от неизвестного прохожего. Роке Лопес поднял отряд в тридцать пять всадников в поход. Но никто не подозревал, что на сей раз их ждет заранее организованная западня. Хефе полнтико Эпифанио Ломели, объединив свои силы с отрядами полевой жандармерии соседних селении, решил покончить с Роке Лопесом. План Ломели был прост — он заманит Лопеса в район, где тот не располагает такой поддержкой населения, как в префектуре Косала, и там разобьет его отряд в бою. Эпифанио Ломели недавно был переведен в той же должности в Конитаку, селение гораздо большее, чем Гуадалупе-де-лос-Рейес. За каждым движением отряда Роке Лопеса зорко следили, и он неожиданно оказался в кольце. Пропустив передовой дозор по узкой горной тропе, жандармы открыли бешеный огонь из винтовок. Кони взвились на дыбы, а несколько лошадей с всадниками сорвались с обрыва. Свист пуль, ржание, звон стремян — все слилось воедино. II тогда Роке Лопес с криком: «Вперед, мучачос!», с револьвером в каждой руке бесстрашно рванулся навстречу противнику. Огонь, клубы пыли и порохового дыма застлали небо. Предсмертные стоны и проклятья огласили ущелье. Роке и его бойцы сражались как герои, но силы были неравными и пришлось отступить. Ветер медленно рассеивал дым и пыль. Потерявший управление гнедой развернулся и уносил на себе бессильно приникшего к его шее раненного Роке Лопеса. Отряд отступал по той тропе, по которой пришел. Тринадцать человек остались на поле боя. Кровоточившая рапа Лопеса была тяжелой: пуля засела между левым плечом и сердцем. Парра, Барболин, Хуан, Антонио, Висенте и еще четырнадцать бойцов, укрыв за поворотом тропы своих лошадей, заняли боевые позиции за обломками скал. Фернандо и Хосе принялись было перевязывать рану Роке, только что пришедшего и сознание. Но тот с перекошенным от боли лицом отстранил их. — Я ненавижу врага настолько, что мне не нужен его гостинец! — С этими словами Роке вынул из ножны висевшую у него на поясе обоюдоострую испанскую дагу и опустил с плеча окровавленную рубаху. Острием даги, стиснув до скрежета зубы. Роке надрезал рану. Из нее показался конец засевшей в плече пули. Проклиная врага, заманившего его в ловушку. Роке извлек пулю из раны. — Теперь перевязывайте и затяните покрепче, — попроси и он братьев. В это время всего в какой-нибудь сотне шагов от места, где Фернандо и Хосе оказывали первую помощь своему младшему Прагу, показались всадники. Это были жандармы, решившие преследовать уходивший отряд Роке Лопеса. Лассо, брошенное Хуаном со скалы, просвистело в воздухе, и первый жандарм свалился с лошади. Сразу с обеих сторон раздались выстрелы. Преследователи отступили, спешились и, карабкаясь на уступы, принялись обходить заслон, организованный народными мстителями. Те, отстреливаясь, стали медленно отступать к своим лошадям. Перестрелка длилась более получаса, после чего можно было уходить. Мучительно тяжелый переход через глубокое ущелье — Роке стремился повернуть на юг и сбить с толку шедших по пятам жандармов — унес еще двух бойцов. Их кони сорвались вместе с седоками в пропасть. Усталые, измученные и голодные, Роке Лопес и его люди вышли наконец к реке Пиахстла. Все уже было готово к переправе, когда за спиной отряда появились преследователи. Выбора не оставалось. Следовало принять бой — бой против превосходящего силами и вооружением противника. С криками «Вива Роке Лопес!» отряд ринулся на врага. Когда кончились боеприпасы, в ход пошли мачете[281]. На всем скаку Хосе, один из братьев Роке, снес голову сержанту и сам упал, сраженный несколькими пулями. Роке бросился на убийц Хосе. Никто не мог спастись от его мачете. Но меткий выстрел выбил Роке из седла. Солдаты бросились к упавшему Лопесу, но их опередил Сирило Парра. Спасая от верной смерти своего друга, он, не отпуская стремян, нагнулся, одной рукой поднял Роке, взвалил на шею своей лошади и на полном скаку покинул поле боя…* * *
Печальным было для отряда наступление нового, 1880 года. Лишь немногим удалось добраться до пещеры, где хозяйничал дядя Хосе. С тоской в душе они слушали крестьян, рассказывающих о гибели Роке Лопеса и о казни его брата Хосе, которого власти уже мертвым повесили в Конитаке на устрашение другим. Однако Лопес, которого Парра в бессознательном состоянии провез по горам более сотни километров, был жив. Он находился в далекой высокогорной деревушке Эль-Магей, в штате Дуранго. Лопес долго не мог поправиться, раны продолжали гноиться и кровоточить. Болел он до тех пор, пока наконец местный знахарь не послал своего сына к индейцам племени тараумара за чудодейственными листьями. Только самые старые тараумара знали, где их следовало собирать. Листья приложили к ранам, после чего они стали быстро заживать. Когда Роке поправился, Парра сел на коня и отправился в штаб-квартиру отряда. Там уже собрались уцелевшие после боя: Барболин, без двух пальцев на левой руке, Хуан с ярко-красным рубцом во всю щеку, Антонио, Фернандо, Висенте и с ними еще семь человек. Большинство из отряда верило, что Роке и Парра живы, поэтому появление Парры и его радостная весть были встречены всеобщим ликованием. Отряд быстро поднялся, и Парра повел его в Эль-Магем. По пути он купил на ярмарке для Роке Лопеса молодую, сильную рыжую кобылу. Через неделю Роке Лопес темным вечером навестил своего учителя. Радостной была встреча друзей. — Роке! Голубчик мой! Если б ты знал, сколько черных дней и ночей мы провели в сомнениях! — Старый Анхель Бонилья нежно обнял своего бывшего ученика, словно встретил сына. — Сильвия не признается, но я знаю: она даже плакала по ночам. При одном упоминании имени девушки Роке почувствовал, как у него сильно забилось сердце, а когда Сильвия вошла в комнату с ярким румянцем на щеках, опустив глаза, у него перехватило дыхание. Сильвия весь вечер просидела с ними. Она внимательно слушала, угощала гостя горячим шоколадом с домашним печеньем, рассказывала о том, что происходило на руднике. Несколько раз, когда дядя намекал Сильвии, что уже поздно, она, на радость Роке, находила удобный предлог, чтобы остаться с ними. Роке проговорил со своим учителем до первых петухов. Оказалось, что новый администратор на руднике Бенхамин Бенитес сдержал данное Лопесу слово. Прежде всего он предписал, в соответствии с санитарной инструкцией, которую до него ни один администратор просто не соблюдал, навести порядок на всей территории рудника. Расчистить завалы, сжечь мусор и рухлядь, ликвидировать лужи — рассадник москитов, а значит и болезней, освободить от лишнего оборудования и отвальной породы места отдыха рудокопов под землей. Это потребовало от рабочих лишних усилий, но администратор заявил, что только тогда он пересмотрит отданные его предшественником приказы по штрафам. И теперь на руднике штрафы взимались лишь в том случае, когда рабочий действительно допускал провинность по своей собственной вине. Это повысило еженедельный заработок рабочих примерно на 20 процентов. Затем Бенитес, и в этом ему активно помогала жена, запретил продажу на территории рудника алкогольных напитков. Не обошлось без неприятностей.Поначалу рабочие протестовали, но Бенитес был тверд. Некоторые уволились и уехали на соседние предприятия. Однако нехватка рабочей силы продолжалась недолго. Вскоре на рудник в Гуадалупе, где были отменены кабальные штрафы и без задержки выдавали получку, потянулись квалифицированные рабочие. Для того чтобы занять время, которое прежде уходило на пьянство, по инициативе доньи Энрикеты, жены администратора, был создан рабочий духовой оркестр, а местный врач вместе с Бенитесом организовали из служащих и рабочих несколько любительских квадрилий[282]. Теперь по воскресным и праздничным дням все население собиралось на представления боя молодых бычков и праздник наездников — чарро. Бенхамнн Бенитес и донья Энрикета подружились с учителем Бонильей и его племянницей и разрешили им, выделив помещение, организовать при руднике вечернюю школу для взрослых и кассу взаимопомощи. Рабочие охотно вступали в кассу, внося в нее еженедельно по одному песо. Теперь никому в случае рождения ребенка, свадьбы, похорон, несчастья не надо было обращаться к ростовщикам. Обо всех этих нововведениях рассказал Лопесу старый учитель. Роке был доволен: он знал, что в этом была доля и его участия. Наступил рассвет, когда Анхель Бонилья пошел провожать Роке до калитки. Проходя патио[283], Роке уловил какое-то движение за окном комнаты. Сильвия ждала его появления! Она не спала, чтобы еще раз мельком увидеть его. Роке завернул за угол, легко перескочил через забор и оказался в саду. Свет в комнате учителя погас. Роке подошел к решетке окна Сильвии и приник лицом к холодным прутьям. И тут же из-за занавески к нему протянулась чья-то рука. Роке схватил ее, приложил к губам. Любимая… Время летело незаметно. Вдруг Роке услышал протяжный крик филина. Это Хуан, ожидавший его около лошадей, беспокоился о своем предводителе. Надо расставаться. — Жду завтра перед заходом солнца у кедра на горе… — прошептал он. Ответом было ласковое рукопожатие. Однако следующая встреча молодых людей произошла лишь несколько месяцев спустя. Эпифанио Ломели, зная, что Роке Лопес находится где-то поблизости от Гуадалупе и Конитаки и у него в отряде не более двадцати человек, решил еще раз испытать свое военное счастье. Он снова собрал из окрестных деревень и селении жандармов и выступил с ними в горы на поиск Лопеса. Ближайшие друзья и сподвижники Роке удивлялись, почему они, оказываясь в выгоднейшем положении, не принимают боя с противником, а уходят от боя, совершая длинные переходы. Роке объяснил им, что такие действия создают отряду большую популярность, что главное — не проливать кровь, а заставить власти изменить отношение к пароду. Восемь недель оказались достаточным сроком, чтобы силы Эпифанио Ломели истощились. Усталые и измученные безрезультатными погонями, жандармы вернулись в свои участки. Но в первую же ночь возвращения Ломели в Копитаку, когда он спал так, что, казалось, его вряд ли могла разбудить артиллерийская канонада, у дома хефе политико остановился всадник на взмыленном коне. Слуга с огромным трудом разбудил хозяина, чтобы сообщить ему о прибытии из столицы штата нарочного. Протирая руками глаза. Ломели вышел m спальни и оказался носом к носу с Роке Лопесом, который тут же под дулом револьвера вывел его в патио. Там Ломели связали и увезли. Этим же утром в доме префекта Косалы все были разбужены страшным стуком в ворота. Когда их отворили, на земле, в ночной пижаме, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, лежал, мысленно произнося самые отборные ругательства, хефе политнко Конитакн Эпифанио Ломели. В кармане его пижамы обнаружили записку:«Я не желаю крови, но взамен требую справедливости Пусть всем будет прмером рудник Гуадалупе! Все должны так же хорошо жить, как рабочие этого рудника. Закон и справедливость! 10 июня 1880 года. Роке Лопес»
* * *
Народ повсюду с радостью встречал отряд Роке Лопеса. О нем, как о защитнике народных интересов, уже слагались легенды. Роке меж тем продолжал обирать кассы рудников, опустошать сейфы богатых помещиков и коммерсантов и раздавать эти деньги бедным. Он смещал неугодных населению алькальдов и суден, устраивал бесплатные распределения товаров и продуктов среди населения, веселые праздники за счет властей с непременным их участием, правда иной раз под дулами револьверов. Разрушал склады оружия и боеприпасов, обращая в бегство жандармские отряды и мелкие воинские части, а от более крупных уходил из-под носа, словно проваливаясь сквозь землю. В начале сентября, когда на полях крестьяне заканчивали собирать второй урожай кукурузы, в горах кедр начинал терять свои шишки, полные сладких семян, а в селениях одна за другой открывались ярмарки. Роке Лопес привел свой отряд на отдых в пещеру дяди Хосе. Используя первую же возможность, Роке навестил учителя. Старый Анхель Бонилья в тот вечер понял, что между молодыми людьми возникла любовь. На следующий день, первый раз в жизни, Сильвия возвратилась домой в полночь. Потом она встречалась с Роке и днем, и тогда он увозил ее в горы. Роке обучил девушку верховой езде по горным тропам, стрельбе из револьвера и винтовки, открыл перед ней новый, до того ей неведомый, обладавший притягательной силой мир горного леса. Сильвия могла, сидя рядом с Роке на мягком кове густых трав высокогорных полян, часами слушать пение и болтовню птицы синсонте. Птица, видя с верхушки дерева людей, специально для них, с поразительной точностью принималась подражать голосам своих собратьев — пернатых. Временами казалось, что в ветвях собиралось на конкурс лучшего исполнения с десяток разных птиц. И не только их, но и животных: козлят, кошек, койотов и собак. Однажды, когда Сильвия и Роке, сидя на уступе, наблюдали за тем, как внизу, в ущелье, стремительный ручей сверкал радужными переливами, разбивая свой бег о мешавшие ему камни, внезапно из-за скалы на лужайку высыпал перепелиный выводок. Птенцы уже могли подниматься на крыло, но еще держались поближе к матери, не закончив, очевидно, до конца курса начального обучения жизни. Вдруг зловещая тень скользнула по поляне. Взрослая перепелка первой почуяла приближение смертельной опасности и сама бросилась на врага, защищая собой выводок. Она-то и оказалась в острых, цепких когтях серого ястреба. Хищник отлетел с ней на вершину соседнего утеса. Сильвия не могла сдержаться и разрыдалась. Роке молча взял винтовку, встал и скрылся за поворотом. Многократным эхом прозвучал в горах раздавшийся выстрел, и ястреб камнем свалился со скалы. Когда Роке возвратился, Сильвия бросилась к нему и крепко обняла: — Навеки вместе! До последнего вздоха…Глава V ДЕЛА И ПРОГРАММА
Слава о «бандите» Роке Лопесе докатилась до города Мехико. О нем писали в столичных газетах. Но на всем восточном побережье страны, особенно в штатах Синалоа и Дуранго, все знали, что Роке Лопес был справедлив, хотя и тверд в наказании тех, кто превышал свою власть, бесчинствовал и притеснял народ. Смещаемые им с постов и должностей лица никогда вновь не решались возвращаться в те селения, откуда они были изгнаны. Назначаемые Лопесом или присылаемые новые чиновники хорошо помнили о судьбе своих предшественников, и жизнь во многих населенных пунктах, где побывал отряд Роке Лопеса, становилась для народа заметно легче. В ранчо, деревнях, селах и городах дети играли в «Роке Лопеса». Народ назвал своего защитника «Смерчем Синалоа», и никакое иное прозвище не могло больше соответствовать истине. Отряд Роке передвигался как ветер, как смерч налетал он на поместья, деревни и села, рудники и военные гарнизоны, оставляя по себе лишь добрую память о справедливом бандолеро. В армейских частях, высылаемых на борьбу с Роке Лопесом, солдаты рассказывали о нем такие небылицы, что у многих одно упоминание его имени вызывало суеверный страх. Лопес непременно выходил победителем из всех сражении. Когда же Роке чувствовал, что бойцы его отряда устали, он любил устраивать отдых в небольших, удаленных от крупных поселений деревушках. Как правило, отдых начинался с организации общенародных праздников за счет алькальдии и «добровольных» пожертвований состоятельных поселян. Так было и в этот раз. Выстрелы в воздух из винчестеров, ремингтонов и револьверов свидетельствовали о появлении в Байле отряда Роке Лопеса. Самого Роке еще не было в селении, но Парра, выполняя его инструкции, разъяснил перепуганному насмерть председателю местного муниципалитета, как надо провести праздник, чтобы Роке Лопес, его отряд, а имеете с ними и народ Байлы могли бы повеселиться и отдохнуть как подобает. В разгар веселья на танцевальной площадке появился Роке Лопес с Сильвией. Члены отряда и те из жителей Байлы, которым уже приходилось встречаться с Лопесом, бурно приветствовали их, и праздник превратился в народное гулянье. Самой красивой парой были Роке и Сильвия, находившиеся в центре внимания. С приближением рассвета музыканты выбились из сил, но алькальд Байлы, предварительно заручившись подписью Роке Лопеса на документе, где говорилось, что алькальда силой вынудили организовать в селении столь шумный праздник, не согласился, пользуясь своей властью, подать знак, после которого музыканты имели право прекратить играть. Но вот и алькальд после очередной, оказавшейся в тот день для него последней, рюмки текили сел на землю, приткнулся к стволу кедра и уснул. Роке Лопес, приказав отряду собраться в пещере дяди Хосе, усадил Сильвию на круп своей лошади и отправился в горы встречать восход солнца, рождение нового дня. Им надо было перебраться на другой берег реки Пиахстлы. Лошадь спокойно вошла в воду и поплыла. Но на середине реки она неожиданно сильно ударилась о подводный камень и, потеряв равновесие, сбросила седоков в воду. Роке, преодолевая быстрое течение бурного потока, с трудом подхватил Сильвию, терявшую последние силы, и вынес ее на руках на противоположный берег. Но тут его окружили с винтовками наперевес два жандарма и сержант. Не успел Роке опустить Сильвию на землю, как оба его револьвера были выхвачены из кобур, а самого Лопеса связали. Поглядев на Сильвию, Роке нежно ей улыбнулся и шепнул: — Как побегу, спасайся. Уходи! Они шли посередине сухого русла. Мелкая галька шуршала под ногами. Метрах в десяти по обе стороны безжизненного ложа речушки начинались заросли, сквозь которые вилась тропа. Неожиданно Роке побежал, плечом сбив с ног одного из жандармов и гигантским прыжком отскочив от двух других. Он мгновенно скрылся в густой зелени. Жандармы кинулись за ним. Сильвия повернула обратно, выбралась из кустов ежевики и, сойдя с тропы, стала быстро взбираться вверх по склону. Она впервые к жизни оказалась одна в горах, да еще в совершенно незнакомой местности. Но мысль: «Скорее! Надо спешить домой! Предупредить его людей!» — подавляла страх и придавала девушке силы. Жандармы догнали Роке, схватили, и сержант, обвив петлей его связанные руки, второй конец веревки закрепил у себя на поясе. За девчонкой они решили не гнаться. «Не стреляли и даже ни разу не ударили. Должно быть, знают, кого ведут», — подумал Роке. Предположение его оказалось верным. Староста деревушки Ринкон-де-Ибония думал уже о размерах вознаграждения, которое он заслужил, поэтому весьма дружелюбно встретил Лопеса и тут же распорядился поднести ему рюмку мескаля[284]. — После такого праздника не дурно, а? — сказал он и отвел Роке под охрану в собственный сарай, чтобы самому немедленно отправиться в соседнее селение, где находился телеграф. Вскоре важная телеграмма лежала на столе у губернатора. Генерал дон Франсиско Капьедо после четырехлетнего перерыва снова занял пост губернатора, и телеграмма о задержании Роке Лопеса сразу приковала его внимание. — Карамба! Опять этот бандит Роке Лопес!.. А… Может, это и к лучшему начать мои дела судом над ним? — спросил он своего секретаря. — Срочно вызовите ко мне командующего поисками и разыщите подполковника Сантоса Мурильо. Затем немедленно отправьте депеши в Конитаку и Абуйю, чтобы оттуда стянули в Ринкон отряды жандармов и ждали моих дальнейших распоряжении. Через три часа два кавалерийских эскадрона под началом Сантоса Мурильо, теперь уже подполковника, на рысях выезжали из столицы штата на дорогу. Им предстояло доставить живым в Кулиакан «бандита» Роке Лопеса. Между тем перед жителями Гуадалупе предстала немало удивившая их картина. Лошадь с разбитыми в кровь бабками и передними коленями, с трудом переступая, бережно несла на себе сеньориту Сильвию. Та, обхватив шею лошади руками, находилась в седле без сознания. Когда девушку уложили в постель и дон Анхель поднес ей склянку с нашатырным спиртом, она открыла глаза, и губы ее еле слышно прошептали: — Роке… Беда… Жандармы… Байла… Учитель тут же послал сторожа к знакомому рудокопу, который был на руднике одним из доверенных людей Роке. Когда тот пришел, Бонилья сообщил ему, что слышал от Сильвии, и просил срочно передать товарищам Лопеса о случившейся беде. В полночь кто-то тихо постучал в калитку учителя. То был Барболин. Парра с отрядом находился тут же, за селением. Посланец Бонильи разминулся с отрядом, а сообщение о том, что лошадь Роке принесла на себе в Гуадалупе потерявшую сознание Сильвию дошло до них через других людей. Узнав, в чем дело, Барболин и Парра немедленно помчались по дороге на Байлу. В это же самое время отряды жандармов Абуйи и Конитаки тоже выступили в поход. В окрестностях Байлы товарищам Роке стало известно, что произошло с ним, и они повернули к Ринкоиу-де-Ибонии. Перед самой деревней отряд столкнулся с жандармами из Абуйи. Бой был жарким, по коротким. Парра не успел еще подвести итог схватки, как зоркий глаз Хуана заметил выходившее из высокогорного ущелья подразделение полицейских, двигавшихся 13 Конитаки. Устроив засаду, партизаны без труда разбили и этот отряд. Лишь Эпифанио Ломели и с ним еще двум полицейским удалось уйти невредимыми. Так как следовало спешить в Ринкон-де-Ибонию, преследовать их никто не захотел. В деревне, однако, не оказалось ни Лопеса, ни властей, ни большинства жителей, которые испугались мести и ушли в горы. Опасно было верить словам сгорбленной старухи. — Острее ножей зубы у него, — бормотала она, не переставая креститься. — Всю ночь путы грыз… Утром попросил годы. Жандарм принес и… получил поленом по голове. А молодец выпорхнул. Выпорхнул, как птичка. На коня — и был таков. Да, да, и был таков… Кто знает, где он теперь… В это время в деревню пришел полицейский из Абуйи, который уцелел после боя, а теперь решил присоединиться к Роке Лопесу. Он рассказал, что отряд Ломели имел предписание занять Ринкон-де-Ибонию и ждать подкрепление, высланное из Кулиакана. Рассчитав, что это армейское соединение может появиться в деревне не раньше вечера или на следующее утро, Парра разослал в разные стороны разведчиков. Вскоре выяснилось, что Роке спит крепким сном в доме верного человека в Байле. Отряд вошел в селение. Оказалось, что во время праздника местный судья отправил своего слугу к старосте Ринкон-де-Ибонии. Вот почему Роке и был схвачен жандармами на берегу реки. Судью арестовали. Вскоре нашли и старосту. В присутствии жителей деревни бойцы отряда, без участия Роке, избрали трибунал. За предательство и за покушение на жизнь Роке Лопеса судью и старосту приговорили к расстрелу. К вечеру этого же дня отряд утроился. Снабдив добровольцев оружием, захваченным в двух последних боях, Роке повел своих людей навстречу эскадронам подполковника Сантоса Мурильо. Посланные вперед Рамон и Педро возвратились и доложили, что подполковник расположил свою часть биваком на отдых в тридцати километрах от реки Пиахстлы. Установив местонахождение воинской части, Роке без труда определил ее дальнейший маршрут. На всем протяжении предполагаемого ее пути не было более удобного места, чем ущелье, по которому пролегала дорога к деревушке Дос-Пикос. Роке решил, прибегнув к военной хитрости, завязать бой с кавалерийскими эскадронами в невыгодной для них местности. Лопес спешно с частью отряда подошел поближе к противнику и, в ожидании подхода своих основных сил, состоявших из необстрелянных еще добровольцев, разработал план дальнейших действий. Следовало заманить эскадроны подполковника в небольшое ущелье. Там, меж отвесных теснин, пролегало русло пересохшей речушки. Низкие берега ее кое-где раздавались, образуя широкие площадки. Одна из них была особенно удобна для рукопашной схватки: к ней с разных сторон спускались тропы, на которых заранее залегли бойцы Лопеса. Решить сложную и ответственную задачу — заманить армейское соединение в ущелье — было поручено Хуану. Он снял с себя патронташ, пояс с револьвером, вложил винтовку в чехол седла коня, спешился и, прихватив с собой лишь складную наваху, зашагал в сторону деревушки Дос-Пикос. Там Хуан за гроши купил старенькую одежонку, нашел дырявое сомбреро, суковатую палку и поймал первого попавшегося под руку бездомного пса. Надев на него ошейник с поводком, Хуан отправился в горы, в сторону дороги, по которой двигался Сантос Мурильо. Удобно устроившись в тени земляничного дерева, Хуан ждал. Прошло около двух часов. За это время Роке, Парра и Барболин разместили своих бойцов, разбитых на три самостоятельные группы, по удобным боевым позициям. Все было готово к встрече. Когда головной дозор из пяти всадников поравнялся с поворотом в ущелье, Хуан, громко крича и размахивая руками, стал спускаться с холма. Он был покрыт пылью и тяжело дышал. — Сеньоры офицеры! Сеньоры офицеры! — кричал во всю силу своих легких Хуан, сильно припадая на правую ногу и выпучив от страха глаза. — Пресвятая дева Гуадалупская не дала погибнуть… Неисповедимы прозрения твои, о дева! — причитал Хуан, скатываясь с холма на дорогу. — Что скулишь? — грубо спросил сержант, когда Хуан подковылял к всаднику, таща за собой упиравшегося пса. — Сеньор офицер! Пресвятая дева Гуадалупская, о, не дай погибнуть! Спаси и сохрани!.. — бормотал Хуан, повалившись у обочины дороги на колени. — Да что с тобой? Что случилось? Говори толком, дубина! — грубее прежнего потребовал сержант и направил свою лошадь поближе к Хуану. Поводок врезался в руку, боль была сильная, так как пес изо всех сил вырывался, а Хуан, закатив глаза к небу, не переставал креститься и бормотать. — Святая дева Гуадалупская не оставила… Спасла… Сеньор офицер… — Хуан увидел, как из-за поворота основной дороги показалась плотная группа конников, и тут же его острый слух уловил слова команды: «Рассредоточиться! Выслать дозоры на фланги!» Хуан понимал, что подполковник страховал себя от возможной засады, но это обстоятельство Роке учел при составлении экспозиции боя. Когда Сантос Мурильо подъехал со своей свитой к дозору, Хуан отпустил пса. Тот с визгом и лаем кинулся по дороге в родную деревню. — Пума! Пума! — завопил Хуан. — Назад! Куда ты? Убьют, убьют тебя. Пума!.. — голосил он и залился слезами. Жалкий вид сильно прихрамывавшего Хуана, его причитания и особенно то, что дворняжку звали Пумой, вызвали смех, а Хуан продолжал молить: — Не прошу милостыни… Помогите! Не дайте погибнуть людям Святая дева Гуадалупская! Бандиты в Дос-Пикос! Грабят, насилуют… — Для нищего ты слишком толстоват. Тебе не кажется — спросил, лукаво щуря один глаз, подполковник. — Болен я… Болен. Водянкой и желудком страдаю. — плаксиво хныкал Хуан под общий смех солдат. — Убивают там… Еле ноги унес, ваше преосвященство… — Да он и впрямь полоумный. Пошел вон! Меня за священника принять! — обиделся подполковник. — Ты действительно в своем ли уме, друг? — Бедный друг — что тупой нож, ни на что не гож, но других спасите, ваша честь! Сеньор, там люди гибнут, дети. — Лейтенант, — обратился подполковник к штабному офицеру, — куда ведет эта дорога? — К деревне Дос-Пикос, мой командир, и через десять миль сливается с этим же трактом, — ответил штабист, справившись с картой. — У пункта, отстоящего… — В восьми милях отсюда, мог командир. — бодро ответил лейтенант. В этот миг Хуан покрылся холодным потом. Из ущелья показался путник. Он шел быстро и, увидев вооруженных военных, заспешил еще быстрее Хуан лихорадочно соображал, успеет ли он выхватить из кармана наваху, раскрыть ее и метнуть в горло подполковника прежде, чем одна из армейских пуль поразит его насмерть. Приближавшийся к ним крестьянин был незнаком Хуану. Сейчас он скажет правду, и… конец! Хуан схватился за живот, чтобы рука была поближе к карману, но в следующий миг услышал: — Сеньор офицер! Сеньор офицер! Скорее! Там их немного, помогите, наши жены… — Капитан, — обратился Сантос Мурильо к одному из своих офицеров, — с первым эскадроном вперед! Проверьте, что там такое. Сержант чуть было не наехал на Хуана. Крестьянин сдернул соломенное сомбреро, приложил его к груди и быстро крестился. — Хромай вперед, да побыстрей! — все так же грубо приказал сержант Хуану, а тот повернулся к подполковнику: — У стучащей подковы гвоздя не хватает, сеньор! Умный человек, он все сразу понимает… Спасибо, пресвятая дева! Да продлит она дни ваших родичей… — Хромай, хромай! — торопил Хуана сержант. Толстяк, у которого от этого приказания сразу отлегли от сердца и в ногах появилась сила, сам понимал, что следовало спешить. Первый взвод уже скрывался в ущелье, а Хуану в тот момент, когда начнется бон, надо было во что бы то ни стало быть у трех сосен, неподалеку от них с товарищами из отряда будет ждать его конь. Хуан задыхался, в висках стучало, сердце готово было разорваться в груди, когда сержант окрикнул его: — Эй, калека, ты что хромать-то перестал? До сосен, рассыпавших по осени колкие иголки с уступа на дорогу, оставалось каких-нибудь сто шагов. Хуан схватился за живот и, заохав, под общий смех солдат заковылял чуть в сторону. — Гарсия, а ну-ка всыпь ему хорошенько, чтобы все делал вовремя! — распорядился сержант. Раздался громкий хохот. Но Гарсия милостиво разрешил: — Давай, но побыстрее! Хуан поднимался в гору. — Ты куда? — крикнул Гарсия и повел коня на холм Хуана там не было Солдат остановил коня и тут же ощутил резкую колющую боль под левой лопаткой. Поводья и винтовка выскользнули из его рук. В четыре прыжка Хуан был у лошади. Сержант, снизу видевший, как Хуан метнул наваху, закричал. — Догнать! Взять живым! — Но в это время впереди раздался залп, другой… С винтовкой солдата в руках, прикрывая себя конем, Хуан быстро продвигался к трем соснам. Рядом цокали о скалы и свистели пули. Подполковник понял, что был ловко обманут. Арьергард его отряда уже отстреливался от налетевших с тыла партизан. Его часть оказалась умело расчлененной. Причем первый эскадрон явно наскочил на засаду и наверняка нес серьезные потери. Капитан, командир эскадрона, оказавшегося действительно в трудном положении, прежде всего приказал солдатам спешиться и занять оборону. У них было больше боеприпасов, чем у нападавших, но позиции те были куда более выгодными. Капитан, прежде чем контратаковать, стремился определить точное расположение противника и его слабые стороны. Между тем Парра, предугадав задуманный армейским капитаном план, отдал приказание половине своего отряда сесть на коней и спускаться по тропам в ущелье с разных сторон одновременно. Оба выхода из ущелья были надежно перекрыты. Солдаты оказывали отчаянное сопротивление, но ряди их заметно редели. Второй эскадрон, атакованный с тыла, к которому возвратился подполковник со штабом, активно перестреливался с отрядом, возглавляемым Барболином. В это время в спину этого эскадрона ударил Роке Лопес со своей конной группой. Она появилась на полном карьере из-за поворота дороги, по которой всего несколько минут назад часть подполковника спокойно двигалась в Ринкон-де-Ибонию. Эскадрон во главе с подполковником также оказался зажатым с двух сторон. Завязалась жаркая рукопашная. Звон сабель и мачете, звуки залпов и одиночных выстрелов, стоны, проклятья и храп лошадей разносились далеко за пределы поля боя. В самый разгар сражения Роке увидел, как подполковник, окруженный тесным кольцом своих солдат, вытянул руку с револьвером и целится в Рамона. Тот только что отбил атаку двух наседавших на него врагов и теснил третьего, уверенно действуя своим мачете. — За мной, мучачос! — крикнул Роке, и услышавшие его голос Фернандо, Висенте и Педро поспешили за ним. Остальные тоже потянулись за своим предводителем и оказались в самой гуще боя. Кони взвились на дыбы от встретившего их залпа противника. Подполковник, сунув револьвер за пояс, выхватил из ножны седла шашку, пришпорил коня и, увлекая за собой солдат, стал отходить. Рамон — лицо его застилала кровь — обхватил руками шею коня и тут же вывалился из седла. Рядом, получив прямой укол саблей в грудь, упал брат Роке — Висенте. Роке придержал лошадь и соскочил на землю, чтобы помочь Висенте и Району. Но этого мгновения оказалось достаточным, чтобы подполковник вырвался из окружения. Барболин получил удар саблей в плечо, и его бойцы замешкались. — За ними! Догнать! — крикнул Барболин, но было уже поздно. Подполковник Сантос Мурильо и с ним около двадцати всадников на полном галопе оставили поле боя. Первый эскадрон к тому времени сложил оружие. Среди пленных обнаружили воинского лекаря. Он оказывал первую помощь пострадавшим той и другой стороны. Ему помогали Педро и Хуан. Перевязывая раны, лекарь то и дело посматривал на толстяка, сокрушенно покачивал головой и вполголоса приговаривал: — Ну и артист! Какой актер!..* * *
Ужин начался с тягостного молчания. В огромной гостиной, за большим столом красного дерева, накрытым всего на четыре персоны, сидели мрачно нахмурившийся губернатор, непривычно молчаливая губернаторша, их дочь и зять. После креветок под соусом «тартар», двух бокалов вина, выпитых почти залпом, подполковник заговорил: — Да, я снова оказался разбит! Но я потерял отряд в честном бою, дон Франсиско. И должен вам сказать, что на этот раз проигрыш раскрыл мне глаза. Я многое понял, дои Франсиско. Из последней экспедиции я вынес твердое убеждение, что нам, если мы действительно желаем разделаться с Лопесом, следует прибегнуть к его же собственным методам. — Что ты этим хочешь сказать? — спросил губернатор. — Видите ли, дон Франсиско, чем объясняется военный успех этого Лопеса? Прежде всего, конечно, поддержкой населения. С этим, правда, можно легко покончить. — Небольшие черные глаза подполковника злобно сверкнули. («Горяч и, должно быть, опасен во гневе», — подумал губернатор.) — Но главное в другом! Они знают в горах каждый камень, каждую тропу, пещеру, расселину, каждый куст, где можно укрыться. Они в состоянии в любое время дня и ночи и в любом направлении быстро перебрасывать свой отряд, разъединять его, когда надо, на мелкие группы, которые так же смело действуют, без чьих-либо приказов сверху, как и весь отряд под командованием Лопеса. Умеют вновь создавать, притом очень быстро, из этих самых группок мощное боевое соединение в сотню и больше всадников, которых еще вчера нигде не было. Располагая точными сведениями о своем противнике, его силе, путях передвижения, а иногда и его планах, черт возьми, они устраивают неожиданные засады, западни, непреодолимые в горах заслоны, а когда решаются дать бой на ровной местности, намного опережают нас во времени, успевая заранее развернуться в боевой порядок. А как они уходят от преследования! Ты сидишь у них на последнем коне, слышишь стук его копыт, и вдруг отряд словно сквозь землю проваливается. — Все это мне известно. Я хочу знать, что нового ты собираешься сказать? — перебил подполковника генерал. — Крупные армейские соединения, — продолжал Сантос, — которые мы бросаем против бандитов, в состоянии передвигаться только по дорогам и только днем. А что делается в горах, где противник, они не знают. Численность его нам тоже никогда заранее неизвестна, как и неизвестны позиции, которые он защищает. Мы не видим своего противника, а он все видит и все знает о каждом нашем шаге. Вот так, дон Франсиско, и нам следует действовать. — Не понимаю тебя. — Губернатор пожал плечами. — А это так просто! Надо создать, обучить и подготовить небольшие карательные группы по десять — двенадцать человек: десять солдат и два офицера, не меньше, на группу. Базами их будут деревни и села, из которых они станут оперировать теми же методами, какими сейчас против нас успешно действуют бандиты. — Командующий решительно выдвигает требования о выделении дополнительных ассигнований на создание особой карательной бригады. Генерал Анхель Мартинес, ты знаешь, опытный вояка. Наверное, уже советовался и с другими. — Ничего, ровным счетом ничего это не даст! Кроме расходов. Лопес тут же расформирует свой отряд. Каждый бандит укроется в надежном месте. Сам Лопес вообще может уйти в другой штаг. Мы прочешем всю местность и никого не встретим, а по нашим следам, насмехаясь над нами, будут двигаться люди этого Лопеса. К концу ужина подполковнику Сантосу Мурильо удалось убедить губернатора. Однако ровно через неделю, когда Франсиско Каньедо отправился в столицу страны за советом к самому президенту Мексики генералу Порфирио Диасу, в его портфеле лежали документы, в которых доказывалась необходимость создания новых регулярных соединений и просьба о дополнительных на это ассигнованиях. Губернатор сумел убедить президента в том, что увеличение численности армейских отрядов необходимо. Каньедо возвратился в Кулиакан с нужной суммой и сразу же горячо принялся за дело. На этот раз он не мог проиграть. На чрезвычайном заседании специально созданной военной хунты конгресса штата губернатор выступил с горячей речью. Был основан особый карательный штаб. К губернатору штата Дуранго Хуану Мануэлю Флоресу направилась представительная военная миссия с целью обсудить с ним план совместных действий. А в это время Роке успешно продолжал восстанавливать справедливость, как он это понимал, и оказывать помощь бедным людям. На огромной территории горных районов штатов Синалоа, Дуранго и кантона Тепик — четыреста километров вдоль побережья и двести от него в глубь страны — не было ни одного рудника, в котором бы не заводилась специальная книга расходов, вызванных налетами и ограблениями Роке Лопеса. Теперь редко случалось, чтобы слитки серебра и золота, поступавшие из плавилен рудников на склады, дожидались прихода обозов и попадали за границу. Собрав таким образом крупную сумму наличных денег и значительное количество золотых и серебряных слитков, Роке Лопес решил поднять в горах всеобщий мятеж против диктатора-президента. Лопес сочинил прокламацию и, разослав своих уполномоченных по селам и селениям, начал активно готовиться к восстанию. В течение двух недель он собрал под свое начало сто восемьдесят пять превосходно вооруженных и экипированных конников и после трехчасового боя овладел крупным селением Ла-Растра. Всего в одном часе перехода от Ла-Растры стоял карательный полк в триста сабель и винтовок под командованием подполковника Сантоса Мурильо. Роке Лопес пробыл в Ла-Растре ровно столько, сколько понадобилось, чтобы в местной печатной мастерской оттиснуть необходимое количество экземпляров политической прокламации, которая тут же была широко распространена среди населения.«Я, Роке Лопес, выступивший на защиту конституционных гарантий, населению сообщаю: Нынешнее правительство в действительности не избрано пародом и не обеспечивает гарантий, которые каждый гражданин должен иметь согласно Конституции, так как те, кто сейчас правят страной, сами себя поставили во главе правительства, в силу чего отсутствуют элементарные нравственность и справедливость, никто не заботится о защите интересов граждан, ибо, став у власти, эти люди только и думают, как бы обогатиться и обобрать других, причем их действия достигают таких размеров, что никто не уверен за свою жизнь; кроме того, видя, какой протекцией, в ущерб интересам мексиканцев, в стране располагают иностранцы, нельзя поступить иначе, как взяться за оружие, чтобы вырвать власть у негодных правителей и восстановить действие Конституции, поэтому я и предлагаю следующий политический план: 1. Провозглашаю подлинное восстановление действия Конституции. 2. Беру на себя руководство вооруженными силами до тех пор, пока не сочту возможным передать его лицу, заслуживающему моего доверия и полностью согласного с настоящим планом. 3. Приглашаю всех честных граждан к действию и заявляю, что располагаю правом, вытекающим из самой ситуации, объявить настоящий план и привести его в исполнение. 4. Настоящий план будет изменяться в соответствии с интересами народа и здравым смыслом предложений тех граждан, которые к нему присоединятся. 5. Будет применена сила закона ко всем тем, кто станет противиться настоящему плану или выдавать незаконным властям его защитников. Свобода в законе. Составлен в Ла-Растре 27 июля 1885 года».После Ла-Растры Лопес занял ряд крупных селений и деревень. А в это время по дорогам к городам Масатлану и Кулиакану тянулись военные обозы с оружием и боеприпасами. Главный штаб борьбы с Роке Лопесом сжимал вокруг Роке кольцо. Но Лопес продолжал смело действовать. На берегу реки Сан-Лоренсо, всего в каких-нибудь шестидесяти километрах от столицы штата, расположилось, утопая в зелени садов, селение Кила. В комендатуре его находился отряд, на противоположном берегу — лагерь армейской части. Ни властей, ни населения ничто не беспокоило, кроме полуденной жары. Когда она спала, улицы, сквер и центральная площадь у церкви, перед зданием муниципалитета, постепенно ожили и наполнились народом. Вдруг, как всегда неожиданно, с выстрелами и возгласами «Вива Роке Лопес!» в центре селения появилось с полсотни вооруженных всадников. Тридцать полицейских, составлявших местную жандармерию, без какой-либо попытки к сопротивлению сложили оружие. Звонарь, было ударивший в набат, тут же с перебитой пулею рукой умолк. Все были застигнуты врасплох. Жители, оказавшиеся на площади, замерли в молчаливом ожидании. Состоятельные поселяне, бормоча в страхе: «Хесус, Мария и Хосе…», прятались в заброшенных постройках своих черных дворов и корален. Священник, выйдя на паперть, склонил покорно голову, про себя призывая бога отвратить насилие. Хефе политико Килы Кинтин Родригес все же сумел послать гонца к начальнику армейской части, которая стояла на другом берегу реки. Там заиграли боевую тревогу. Роке Лопес, в нарядной замшевой куртке, расшитой позументом и отделанной замшевой бахромой, с алым платком вокруг шеи, подскакал к хефе политико и предупредил его, что если его отряд будет атакован, то он немедленно расстреляет пятерых заложников, взятых им в окрестностях Килы. — Шестым будете вы, сеньор Родригес. Немедленно посылайте второго гонца! — Вороной волновался под седоком. — В Килу мы пришли не сражаться, а поужинать и отдохнуть. Прикажите принести деньги из кассы муниципалитета и заодно доходные книги. Потрясите своих друзей, и через час вместе с вами откроем фиесту[285]. — Я не знаю, кого вы имеете в виду, — мрачно ответил хефе политике. Роке подал знак, и его люди подвели лошадь с седоком, чьи руки были привязаны к передней луке седла. — Не узнаете? Дон Мариано Ромеро. — Но Лопес мог и не представлять связанного всадника, так как присутствующие сразу узнали известного в районе богатого помещика. — Вместе с ним в заложниках находятся Франсиско Рохо, Томас Попсе, Маурисио Лечуга, Эрнесто Гомес. — Роке произносил имена владельцев состоятельных имений. Помещики, которых жители Килы привыкли видеть всегда гордо восседавшими на роскошно убранных конях, еле держались в седлах, глаза их были опущены. — Дон Кинтин, неужели вас не беспокоит судьба ваших друзей и вы не думаете о своем будущем? — спросил Роке, подъехав вплотную к хефе политико. Тот стоял под охраной на высоком крыльце парадного входа в алькальдию. — На этот раз я подчиняюсь силе. Будь по-вашему, — решительно произнес Кинтин Родрпгес и отправил своего слугу с запиской на тот берег реки. Созвать членов муниципального совета для Родригеса не составило особенного труда, и через час, в тени магнолии, фикусов и вечнозеленых аллигаторовых груш, вокруг музыкального киоска, стоявшего в центре квадратного сквера, уже устанавливались и накрывались столы. Большой барабан громко созывал население на праздник. Он начался здравицами в честь Роке Лопеса и его людей. В разгар праздника, на устройство которого местные «денежные мешки» не пожалели средств, Роке Лопес отправит телеграмму-молнию в губернаторский дворец:
«Генералу Франсиско Каньедо. Жители Килы и мои друзья приглашают Вас на торжественный бал устраиваемый вашу честь Роке Лопес.»Губернатор пришел в бешенство от этой телеграммы, вызнал к себе командующего и принялся распекать старого генерала в присутствии его подчиненных. Во все части карательного войскового соединения полетели срочные депеши, предписывавшие самые активные действия. Все эти телеграммы заканчивались одной и той же фразой: «Покончить с бандой Лопеса не позднее сентября с. г.». Но, как и предвидел подполковник Сантос Мурильо, значительные соединения ничего не могли поделать с отрядом Роке Лопеса. Они не были в состоянии в горных условиях использовать преимущества вооружения и численности сил. Двести всадников в горах оказывались способными на действия, которые на равнине были под силу соединению в тысячу солдат. Так прошло четыре месяца. Отряд Роке без особых для себя потерь наносил урон правительственным войскам, но, несмотря на это, Лопес видел, что народ не поднимается на вооруженное восстание. Тогда Роке решил временно распустить отряд. Он договаривается с товарищами по оружию, что по первому призыву они немедленно соберутся вновь, а сам с Паррон, Барболином, Хуаном, братьями и еще десятью всадниками уходит высоко в горы. Армейские части тем временем продолжали поиски Роке. Теперь они преследовали его тень, везде получая самые разноречивые сообщения о его местонахождении. Нередко случалось, что вчерашние бойцы — сегодня мирные жители, чтобы посмеяться над противником, добровольно предлагали свои слуги проводников в горах. Они заводили воинские подразделения в такие дебри, поднимали их на такие немыслимые кручи, что солдаты выбивались из сил, а в души их заползал с спорный страх перед «Смерчем Синалоа».
* * *
Охваченный с двух сторон потоками Умайи и Тамасулы, словно гигантскими руками, Кулиакан — столица штата Синалоа — со дня своего основания конкистадором Нуньо де Гусманом в 1599 году постоянно пребывал в состоянии благополучной дремоты. Расположенный в центре плодородной долины богатого штата, город был украшением восточного побережья. Серебро, золото, лес, обильные урожаи кукурузы, фасоли, кофе, какао, ананасов, сизаля, дающего ценное волокно, приносили хорошие доходы, и на жизни столицы штата поэтому лежала печать неторопливости и чувства собственного достоинства. Одинокий всадник, проезжая по улицам, приветливо улыбался, отвечая на традиционное приветствие кулиаканцев. Он направился к центру города. Там в парке, перед собором святого Мигеля, в ожидании пяти часов — времени чая, парами и небольшими группками прогуливались состоятельные молодые люди, сеньориты в сопровождении мамаш, разодетые в павлиньи цвета сеньоры с детьми и гувернантками. Из-под крыши просторного киоска, установленного в центре парка, заставляя гулявших невольно повышать голос, неслись звуки духового оркестра жандармского управления. По улицам, окружавшим парк в разных направлениях, двигались экипажи и ландо. Осмотрев собор и щедро раздав милостыню, Роке Лопес — а одиноким всадником был именно он — обратил внимание на оживление, возникшее среди гуляющих. Сеньора, вокруг которой собралось порядочно зевак, подняв над головой зонтик и отчаянно вертя им, громко говорила подруге: «Вон, вон, гляди! Вой экипаж… экипаж сеньора губернатора!» Роке подошел поближе. Дон Франсиско Каньедо собственной персоной, оставив в экипаже своего секретаря, уселся на одну из скамеек парка. Проходившие мимо почтительно здоровались с ним, а он подчеркнуто вежливо им отвечал. Добродушный взгляд, кроткая улыбка и довольно приятное лицо не вызвали у Роке неприязни к тому, кто вел с ним беспощадную борьбу и отдал приказ расстрелять его без суда и следствия. Губернатор поднялся со скамьи, и Роке подошел к нему. — Добрый день, ваше превосходительство. Как вы себя чувствуете? — учтиво осведомился Лопес. — Благодарю вас. Только мне сдается… мы не знакомы… — начал было губернатор Каньедо, но Лопес его перебил: — Как же! Как же! Уверен, что вы обо мне знаете гораздо больше, чем я о вас и даже сам о себе. — Странно! Но я знаю наверное, что мы с вами не встречались, — пожимая плечами и пристально разглядывая собеседника, сказал губернатор. — Возможно, это и к лучшему, сеньор Каньедо, но я искренне рад нашему знакомству. — Роке вежливо приподнял свое харано. Губернатор еще удивленнее пожал плечами и сел в карету. Роке подошел к порталу, где был привязан его конь, сел в седло, завернул за угол и у следующего перекрестка остановился. Там помещалась префектура. На террасе дон Фортунато де ла Вега, префект Кулиакана, беседовал с казначеем штата доном Габриэлем Пелаесом, который был крупнейшим «денежным мешком» на всем западе страны. — Добрый день, сеньор префект! — приветствовал главу города Роке, соскакивая с лошади. — Добрый, — ответил тот и, видя пыль на ботинках всадника, спросил: — Что, никак, издалека? Какие-нибудь неприятности? — Ничего особенного, если не считать, что тут рядом я видел людей Роке Лопеса. От одного упоминания этого имени казначей вздрогнул и глаза его забегали. Префект тут же отдал приказ дежурномуполицейскому немедленно позвать жандармского начальника. — Что, неужели вы видели его лично? Вы знаете его? — с явной тревогой в голосе спросил префект. — Лучше, чем кто-либо. — Однако… А вы-то кто сами такой? — Я? Я и есть Роке Лопес, к вашим услугам. До встречи, сеньор префект, и передайте мой привет губернатору. Широкая улыбка, выхваченный из кобуры револьвер, прыжок в седло и искры, посыпавшиеся из-под копыт лошади, на всю жизнь запомнились префекту Кулиакана, который не сразу пришел в себя. Когда же он расхрабрился, было уже поздно. — За ним! В погоню! — Грозное приказание прозвучало как выстрел в воздух. Изумленные очевидцы утверждали, что всадник, мчавшийся по улице в сторону главного тракта, громко и задорно хохотал.* * *
По возвращении в Гуадалупе Роке узнал от Сильвии, что в селении Лас-Едрас власти готовят судебную расправу над местным учителем. Его обвинили в том, что Роке Лопес его друг и что учитель якобы долгое время укрывал Лопеса в сельской школе. Роке попросил Анхеля Бонилью немедленно отправиться в Лас-Едрас и подробно разузнать обстоятельства дела. В сопровождающие он снарядил Баррасу, отчаянного и смышленого парня, хорошо знавшего всех в Лас-Едрас. Бонилья быстро возвратился и сообщил, что дело серьезно, так как у обвинения имеются свидетели, которые утверждают, что видели учителя несколько раз вместе с Роке Лопесом. Суд над беднягой намечается на 27 января. По законам военного времени учителю грозил если не расстрел, то длительное тюремное заключение. Роке немедленно отправил своего доверенного в Масатлан за адвокатом. Встретившись с ним на пути. Роке за приличную сумму выкупил у адвоката его бумаги и сам вместо него отправился в Лас-Едрас. Местного учителя любили в селении, и поэтому небольшое помещение суда было битком набито народом. Судья с нетерпением ждал появления приехавшего специально из города адвоката. Единственная гостевая ложа была уже занята хефе политико председателем муниципалитета и членами их семей. Адвокат появился в традиционной четырехуголке и черной накидке. Его встретил одобрительный гул публики. Твердая походка, уверенные жесты, мужественное лицо и пронзительный взгляд адвоката вселяли надежду на спасение учителя. Роке Лопес поздоровался с обвиняемым и довольно громко произнес: — Если вы не возражаете, я выступлю в вашу защиту. — Я ни в чем не виновен. Меня нечего защищать, и потом, я вас не знаю. — В этом все и дело, — еще громче произнес Роке и поклонился судье: — Мы готовы, ваша честь. Суд начался с принесения присяги. Судья восседал за столом в центре на высоком кресле. Справа от него находился представитель обвинения, слева на скамье, огороженной деревянной решеткой, понурив голову и уронив руки на колени, сидел учитель. Его охраняли два вооруженных жандарма. — Прошу вас, ваша честь, — заявил Роке, когда окончилась церемония принесения присяги, — ведите дело так, как будто меня здесь нет. Я не стану задавать никому никаких вопросов. Лишь воспользуюсь словом в самом конце, и речь моя будет предельно краткой, смею вас заверить. Судья не понимал, к чему клонит приехавший из города молодой юрист, счел его предупреждение за чудачество и повел дело решительно. После того как перед учителем было выдвинуто обвинение и перед судьей прошли один за другим четыре свидетеля: два состоятельных крестьянина — владельцы соседних ранчо, женщина, проводившая целые дни в церкви, и всем известный, в прошлом проторговавшийся мелкий коммерсант, а ныне беспробудный пьяница, судья спросил учителя: — Теперь вы, надеюсь, признаете себя виновным в преступлении против государства, выразившемся в активной поддержке бандита Роке Лопеса. — Нет! — решительно ответил учитель. — Нет! В который раз говорю вам: я никогда — и теперь вижу, что к сожалению, — не только не помогал, но и никогда не видел Роке Лопеса в глаза. — Да, конечно, позвольте, ваша честь! — Роке поднялся и повернулся и полоборота к публике. От его взора не ускользнуло то обстоятельство, что в задних рядах зрители зашептались между собой, кивая в его сторону. — Сеньор судья, вы только поглядите внимательней на обвиняемого, и вы поймете, что величайшим преступлением будет незаслуженное осуждение ни в чем не повинного человека. Не станем сейчас говорить о том, сколь преступны те, кто знакомы с Роке Лопесом, не станем обсуждать и сомнительности свидетельских показаний, хотя вы очень скоро, сеньор судья, убедитесь сами, что свидетели раньше, как и обвиняемый, никогда в своей жизни не видели Роке Лопеса. Я призываю вас, сеньор судья, лишь еще раз внимательно поглядеть на хорошо вам известного учителя. Посмотрите, сколь искренно выражение его лица. Мы все это видим. Вес мы видим на его лице то же удивление, что и на лицах хефе политико, председателя муниципалитета, — Роке Лопес жестом указал на ложу, — на лицах членов их семей. По выражению лица моего подзащитного — бедного, скромного учителя и беспредельно честного человека, как, кстати сказать, и по выражению вашего лица, сеньор судья, не трудно сделать безошибочное заключение, что местный учитель видит меня в первый раз. Вот почему я отказался вчера от предварительной встречи с моим подзащитным. Согласитесь, что обвиняемый, свидетели и вы, сеньор судья, видите меня впервые. — Конечно! Мы ведь живем в провинции, сеньор лиценциат, — очевидно, интуитивно предчувствуя приближение беды, смутился судья. — Так вот, вместе с тем не все в этом зале видят меня впервые. Я не хочу указывать ни на кого конкретно во избежание в дальнейшем для них неприятностей, но, бьюсь об заклад, в задних рядах меня узнали. Узнали, сеньор судья, в отличие от лжесвидетелей обвинения, которые, как вы еще через секунду убедитесь, никогда раньше меня не видели. Я Роке Лопес, сеньор судья, к вашим услугам. Педро и два партизана, чинно сидевшие в первом ряду среди публики, выхватили из-под жакетов револьверы и вмиг обезоружили жандармов, охранявших учителя. В помещении суда наступила абсолютная тишина. Черпая адвокатская мантия соскользнула с плеч «адвоката». Перед оцепеневшей от изумления публикой Роке Лопес предстал в расшитом серебром костюме чарро. Он, по своей привычке, широко расставил ноги, положил обе руки на рукоятки револьверов и спросил: — Можно ли теперь признать учителя виновным, сеньор судья? — Нет! — осипшим голосом выдавил тот. — Тогда позвольте мне, ваша честь, считать дело выигранным? Вместо ответа судья молча кивнул. Педро и его товарищи втолкнули жандармов в комнатку для заключенных. Из нее дверь вела прямо во двор. Вслед за ними на улицу вышел и Роке. Рядом у крыльца уже стоял Хуан с лошадьми. Через дорогу, из окна дома напротив за моментом их отъезда наблюдали братья Роке и Барраса. Когда они увидели из окна, как Роке с товарищами благополучно сели на коней, то в свою очередь поспешили в кораль, где находились их лошади. Но не успели они выйти, как были окружены жандармами. Фернандо выходил последним. Он увидел жандармов, когда Антонио и Висенте побежали от них. Фернандо толкнулся в чулан, оттуда в хлев. На его счастье, в хлеву оказалась щель под крышей. Он подтянулся, протиснулся в отверстие, опустился в соседний двор. Одним прыжком очутился на крыше, а с нее спрыгнул на улицу, смешался с толпой, валившей из помещения суда, прошел немного и скрылся в показавшемся ему подходящем доме. Кроме детей, в нем никого не было. Фернандо прошел в кораль, к лошадям. Он вынул из кармана все деньги, которые были с ним, сунул их в руки растерянному мальчугану, вскочил на коня и вылетел за околицу.Глава VI УТРАТА И КАРА
Антонио, Висенте и Баррасу доставили в Бадирагуато со связанными руками и петлями на шеях. В селение, где стояли три кавалерийских эскадрона и батальон пехотинцев, их ввели за веревки, притороченные к седлам лошадей жандармов. Командир воинского соединения, выполняя полученный по телеграфу приказ, выставил усиленные заслоны вокруг Бадирагуато и ждал подхода еще одной части, чтобы затем доставить задержанных в Кулиакан. Такая предосторожность объяснялась тем, что хефе политнко из Лас-Едрас, не получив достоверных сведений, донес губернатору по телеграфу, что задержан сам Роке Лопес. О том, что произошло в суде, хефе политико решил сообщить генералу Капьедо по почте, рассчитывая, что к тому времени происшедший скандал забудется, так как все будут заняты предстоящей расправой над Роке Лопесом. Однако ликование властен, местных и провинциальных, оказалось кратковременным. Уже в середине следующего дня по городу распространился слух о нападении Роке Лопеса на селение Амакул. Лопес, у которого в отряде было уже более сотни всадников, захватил алькальда, весь состав муниципального совета, хефе местной жандармерии, судью, четырех армейских офицеров и направил губернатору телеграмму с предложением немедленно освободить его братьев и Баррасу в обмен на плененных им офицеров и правительственных чинов в Амакули. Губернатор думал, а тем временем подполковник Сантос Мурильо со своим отрядом настиг конвой в Косала, где установил, что схвачены братья Лопеса, а не он сам. Подполковнику сообщили и о предложении Роке Лопеса обменять задержанных им в Амакули тринадцать видных жителей и четырех офицеров на его братьев. У Сантоса Мурильо тут же родился коварный план. Пользуясь тем, что он был старшим по званию среди офицеров конвоя и имел специальные полномочия в борьбе против Роке Лопеса, подполковник взял командование на себя. Он распорядился привести к нему Баррасу и сам допрашивал связанного партизана. Допрос с пристрастием длился три часа. Баррасу вывели от подполковника еле живого — так он был избит. К вечеру, когда конвой уже собирался выступать дальше, подполковник распорядился вывести Антонио, Висенте и Баррасу за пределы селения. Там, в глубоком овраге, без суда и следствия Антонио и Висенте были расстреляны. Баррасе каким-то чудом удалось бежать. — С ними можно разговаривать только языком петли и пули, — сокрушенно произнес Роке Лопес, когда узнал, какая судьба постигла его братьев. Роке глубоко переживал гибель Антонио и Висенте. С тех пор никто не слышал от Роке ни одной шутки. Губы его плотно сжались, меж бровей на лбу пролегли две резкие складки. Заложников судил партизанский трибунал. Когда осужденных поставили к стенке, они повалились на колени, плакали, предлагали все свои богатства в обмен на сохранение им жизни. Исключение составили капитан и лейтенант, два офицера из четырех: они держались с достоинством, не выказывая страха перед смертью, и лишь попросили разрешения написать письма женам. В последнюю минуту Роке Лопес, посовещавшись с членами трибунала и получив у этих офицеров честное слово немедленно оставить армию, даровал им жизнь. С остальными он был неумолим: — Вас осудил народ. Ваши братья по классу не пожелали сохранить вам жизнь… С тех пор не проходило дня, чтобы о гряд Лопеса не совершал дерзких нападений. Расстрел заложников из Амакули, как на то и рассчитывал Сантос Мурильо, вызвал бурю негодования в конгрессе штата, и губернатор был вынужден согласиться с требованиями военных предоставить им большую власть в районах ведения боевых действий против партизан. Командующий войсками штата генерал Анхель Мартипес присвоил Сантосу Мурильо очередное звание полковника. Теперь массовые расстрелы по приговорам военно-полевых судов, убийства подозреваемых и часто вовсе не виновных «при попытке к бегству», пытки, принуждения к предательству и ложным показаниям, массовые избиения мирных жителей стали повседневным делом в горах Западной Сьерра-Мадре. Роке Лопес и другие партизанские группы, возникающие сами по себе, вели ожесточенную борьбу. Командиры новых небольших отрядов, объединявших в себе 10–15 человек, присылали к Роке своих связных с заверениями, что они действуют под его началом и готовы подчиняться любым его приказаниям, но их действия часто принимали открытый грабительский характер. Пассажирское сообщение и торговые перевозки на юге штата были полностью прерваны. Прекратили работу и некоторые из небольших рудников, расположенных в центре района Конитака — Сап-Хуан — Ахойя. Люди Лопеса захватывали, судили, просто сводили счеты с ненавистными им представителями властей. Иногда от таких налетов на ранчо, помещичьи усадьбы, деревни и села страдали и несли потери мирные жители. Сообщения о подобных фактах подхватывались прессой и всячески раздувались. Однажды по случаю очень нашумевшей публикации в «Эль Пабелион Насиональ», игравшей роль запевалы среди других газет Мексики, на чрезвычайное заседание собрался конгресс штата. Вице-губернатор признал бессилие властей. Финал его высокопарной речи был такой: «Роке Лопес неуловим! Он повсюду — и он нигде! Мы глубоко опечалены и скорбим, что блеск золота и серебра, добываемых в нашем штате, тускнеет от человеческой крови, и что ею забрызганы обочины дорог, что она проливается у стен монастырей, ею омыты плиты главных площадей селении. Мы глубоко сожалеем, что печаль и слезы утраты не покидают многие дома, что то здесь, то там мы с болью в душе встречаем полуистлевшие скелеты, рядом с которыми лежат, теперь уже безымянные, военная фуражка или сомбреро помещика… Мы делали больше, чем позволяли наши силы, но Роке Лопес неуловим! Он повсюду — и он нигде!» В тот день, когда вице-губернатор произносил свою речь конгрессе, Роке Лопес, отведя в глухое ущелье на кратковременный отдых свой отряд, вызвал туда Сильвию. Хуан и дядя Хосе оказались свидетелями грустной встречи влюбленных. Лопеса волновала судьба Сильвии и ее дяди. — Как ты не можешь понять, Сильвия? Оставаться вам с дядей дольше в Гуадалупе не просто рискованно, а безрассудно, — взволнованно говорил Роке, нежно держа руки любимой в своих. — Ни с дядей, ни со мной ничего не случится, — настойчиво твердила Сильвия. — Нас все кругом знают. Мы столько делаем добра людям. Особенно дядя! Его хорошо знает сам губернатор! — Ты заблуждаешься, Сильвия, — урезонивал ее Роке. — При чем тут личное знакомство, когда идет отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть. Учитель из Лас-Едрас и в глаза меня не видел, а его пытались судить и наказать. Дон Анхель и ты, это многим известно, мои друзья. Стоит администратору рудника, к примеру, сказать слово, и никто и ничто не спасет вас… кроме силы оружия. Пойми, должна вспыхнуть гражданская война! Иначе в нашей стране мы никогда не будем свободными. — Дон Бенхамин честный человек, и мы тоже честные, — продолжала упорствовать Сильвия, не соглашаясь на предложение Роке взять у него денег и переселиться на время подальше от штата Синалоа. — Не вижу причины, почему ты отказываешься, — говорил Лопес взволнованно. — Вас это ничуть не обяжет! Вы только смените местожительство, перестанете подвергать себя опасности. — Я не хочу уезжать, Роке… — Сильвия, так надо, иначе… иначе может стрястись беда. Непоправимая беда. Я постоянно думаю о тебе… — В свете костра было видно, как глаза Сильвин засветились радостным блеском. — Ты должна согласиться и убедить дядю. Передай ему, что я настаиваю на вашем отъезде. — А как же школа? Ученики? Наши дела? — Пойми, речь идет о жизни… о твоей жизни. Ну, хватит! На днях я сам заеду к дону Анхелю. Но если с тобой что случится… — Я не знаю… — Взгляд больших серых глаз девушки уперся в пол. — Поговори с дядей и тут же сообщи мне о его решении. У Сильвии на глаза набежали слезы. Хуан и Хосе отвернулись и поспешно вышли из пещеры.* * *
Полковник Сантос Мурильо возвратился из Кулиакана в штаб карательного соединения полный решимости отомстить Роке Лопесу за все свои прошлые поражения. В столице штата наконец он получил согласие командования и губернатора повести борьбу с Лопесом, используя любые методы. С немалыми трудностями полковник нашел среди армейских офицеров и солдат добровольцев. Он переодел их в гражданское платье и небольшими группами рассредоточил в ранчо под селением Сан-Хавьер. Разведка передового отряда, который возглавлял Фернандо, не обнаружила никаких следов противника. Население действительно давно не видело солдат. К вечеру, не вызывая подозрения ни у постов охранения, ни у жителей, каратели полковника Сантоса Мурильо в одиночку и парами пробрались в Сан-Хавьер. Ночью под покровом темноты дома, в которых отдыхали люди Лопеса, были окружены. Партизан расстреливали спящими. Фернандо со своим помощником успел выскочить во двор. Он упорно отстреливался, был ранен, но и на этот раз ему посчастливилось ускользнуть от преследователей и скрыться в колючих зарослях ежевики и барбариса. В это время Эпифанио Ломели, в сопровождении усиленной охраны, прибыл в Гуадалупе-де-лос-Рейес. Получив на следующее утро без особого труда формальное согласие местных властен, он арестовал Анхеля Бонилью, администратора рудника Бенхамина Бенитеса и его жену. Их обвиняли в соучастии и поддержке разбойничьей деятельности Роке Лопеса. Сильвии во время ареста учителя дома не оказалось, она была в пещере. Хефе политико, предполагая, что молодая женщина находится у Роке Лопеса, распорядился окружить селение и рудник скрытыми постами. Из селения никого не выпускали, дабы никто не мог сообщить «бандитам» об арестах в Гуадалупе, и хватали каждого, кто появлялся поблизости. Роке распрощался с Сильвией у пещеры, — он с основной частью отряда спешил в Сан-Хавьер, где его должен был ждать Фернандо. Провожать Сильвию пошли Хуан и самый молодой из партизан, шестнадцатилетний сын кузнеца, расстрелянного год назад Сантосом Мурильо. Когда они подошли к селению, на них напали. Мальчнк побежал. Хуан ударил противника. Рядом прозвучал выстрел. Мальчик упал как подкошенный. Хуан выхватил револьвер и выстрелил в того, кто держал Сильвию. Она освободилась и крикнула: — Хуан! Толстяк проворно отпрыгнул в сторону, и пуля, пущенная в него тем, кто стрелял в мальчика, не достигла цели. Метким выстрелом Хуан уложил убийцу мальчика наповал, но тут же почувствовал, как кто-то сзади ударил его по предплечью. Револьвер выпал из рук Хуана, и он выхватил из-за пояса нож. По самую рукоятку лезвие вошло в грудь врага, но, падая, тот успел воткнуть саблю в бок Хуану. Со всех сторон к месту схватки бежали люди. Силуэт Сильвин растворился в темноте. Хуан как мог быстро пополз в ближайшие кусты. Один из раненных им жандармов приподнялся, указал направление, в котором, как ему показалось, скрылся Хуан. Он ошибся, и это спасло Хуану жизнь. Толстяк лежал в зарослях кустарника и с трудом переводил дыхание. Было больно, перед глазами вертелись круги, к горлу подступала тошнота, а в голове билась только одна мысль: «Ушла ли Сильвия?» Уже серело на востоке, когда женщина, вся исцарапанная, разбив в кровь ноги, добралась до пещеры дяди Хосе. Там оставались раненые и несколько бойцов, которым во главе с Хуаном предстояло выполнить особое задание Роке Лопеса — перепрятать из одного горного тайника в другой внушительную партию серебра. Те, кто могли, немедленно отправились на поиски Хуана, а дядя Хосе поспешил еще выше в горы, к знакомому крестьянину, чтобы попросить его догнать Роке и все сообщить ему. Арестованному учителю сообщили, что Сильвия и Роке пойманы и их ждет суровое наказание. Эта страшная весть потрясла бедного Бонилью, и он умер. Тем временем Эпифанио Ломели получил срочное предписание губернатора немедленно доставить арестованного администратора рудника в Конитаку, куда уже направилась крупная армейская часть. Власти решили устроить шумный показательный процесс в самом центре района активных действий Роке Лопеса. Хмуро, почти не скрывая своей враждебности, провожали карателей из селения жители Гуадалупе-де-лос-Рейес. Окруженная жандармами, двигалась коляска, в которой сидели администратор рудника и его жена. Рудокопы снимали сомбреро и долго размахивали ими над головами в знак приветствия и солидарности со справедливым и честным администратором. Роке Лопес встретил отряд Ломели неподалеку от Гуадалупе, примерно в том месте, где когда-то после побега iij тюрьмы Роке поджидал своего бывшего друга, Синфоросо. Бои был коротким, но беспощадным. От охраны Ломели не осталось ни одного человека. Самому хефе политико — он отчаянно сражался — удалось вырваться из кольца. Он помчался в сторону Гуадалупе, а Роке поскакал за ним. Ломели отстреливался до последнего патрона, затем выхватил саблю Лопес настиг беглеца, их лошади сошлись. Ловким ударом Роке выбил своим мачете саблю из рук врага. Оба спрыгнули на землю. Ломели с налитыми кровью глазами держал в руке кинжал. Роке остановил подскакавших товарищей, отбросил в сторону мачете и попросил нож. — Пусть нас судьба рассудит по закону гор, — сказал Лопес и двинулся на Ломели. Поединок длился недолго. Роке получил легкое ранение в плечо, по обезоружил своего противника. Ломели связали руки за спиной и повели. Под общее ликование жителей Роке с отрядом вместе с освобожденным администратором Бенитесом вступили в Гуадалупе. И тут же к коню Роке приблизилась старая женщина. — Мучачо! — сказала она ему, словно возвратившемуся сыну. — Я так боялась за тебя и за Хуана. Он лежит у меня в хлеву под соломой. Ему плохо… Заходи ко мне на угощенье. Барболин и Педро, крикнув мальчишкам, чтобы мчались за доктором, немедленно последовали за старухой. Роке отправился на кладбище, где только вчера похоронили старого учителя. Могила Анхеля Бонильи утопала в цветах. На руднике прекратили работу. Вес население Гуадалупе собралось у кладбищенских ворот. Роке Лопес молча преклонил колено перед могилой своего верного друга. Он простоял так с минуту, потом поднялся, сорвал яркую ветвь цветущей бугенвильи и бережно положил ее у изголовья могилы Минуту спустя он приказал вывести Эпифанио Ломели за кладбищенскую изгородь и дать ему лопату. — Копай здесь! — распорядился Роке. — Хам тебе не место. Потом я закажу плиту с надписью: «Здесь сгнили останки самого подлого человека на земле — Эпифанио Ломели, бывшего хефе политико Конитаки, загубившего сотни невинных душ и убившего учителя Анхеля Бонилью — самого светлого и честного человека в мире». Рой яму, а мы будем тебя судить. В толпе прокатился рокот одобрения. Через час после того, как с обвинениями против хефе политико выступило более десяти человек, Эпифанио Ломели был расстрелян у кладбищенской стены. Роке зашел в школу, чтобы взять любимые учителем и Сильвией мелкие вещицы. У порога школы его поджидал Бенитес, администратор рудника. — Лопес, — сказал он, — во-первых, спасибо. Во-вторых, выдели, пожалуйста, людей, чтобы они доставили мою жену к родственникам в Гуадалахару. А в-третьих, возьми меня к себе в отряд…* * *
Полковник Сантос Мурильо получил известие о том, что у него родился второй сын. Он отправил поздравительные телеграммы жене, теще, тестю, но выехать в Кулиакан отказался. Часть, которой он командовал, готовила западню отряду Роке Лопеса. Полковник запугивал местное население, стараясь таким образом заручиться необходимыми ему осведомителями. Без точной информации было немыслимо успешно завершить задуманную полковником операцию. Сантос Мурильо собирал эту информацию по-своему, с присущей ему жестокостью. Не случайно народ дал ему прозвище «Кровавый». Полковник беспощадно расправлялся со всеми, даже с теми, кто только попадал под подозрение или отказывался ему помогать. В деревушке Арройо-Мачо Сантос Мурильо велел схватить из толпы, силой согнанной на площадь, наугад двух крестьян. Он намеревался инсценировать их расстрел, чтобы под угрозой смерти они сами или их родственники сообщили бы ему о местонахождении Роке. Так совпало, что одним из схваченных оказался верный Роке Лопесу человек. В толпе находились высланные Роке разведчики. Они видели, как к Сантосу Мурильо через кордон солдат прорвалась рыдающая женщина, как она повалилась на колени перед ним с мольбой отпустить ее мужа. Женщина хотела сказать еще что-то, но сердитый окрик ее мужа, который помогал Роке Лопесу, остановил ее. Она упала на землю, громко рыдая. Полковник явно что-то заподозрил, усмехнулся в усы и распорядился провести арестованных через всю деревню к степам монастыря. За деревушкой на холме стояла обнесенная каменной стеной обитель монахов-францисканцев. Навстречу восседавшему на коне полковнику, солдатам, подгонявшим арестованных прикладами, жителям деревни из порот монастыря вышел настоятель. Высокий, седой старец был одет в длинную коричневую сутану. Наброшенный на голову капюшон обрамлял иссушенное временем лицо. Настоятель воздел руки к небу и произнес: — Во имя господа бога нашего прошу не проливать крови у стен святой обители. Полковник проехал мимо, не обращая на него никакого внимания. Солдаты и толпа проследовали дальше и завернули за угол. По ту сторону монастыря была лужайка. К ней и направился полковник. В двадцати метрах от стены выстроилось отделение солдат под командой лейтенанта. Он обнажил саблю и подошел к несчастным. Они стояли, прислонившись спинами к нагретому солнцем кирпичу. Лейтенант предложил им надеть повязки на глаза. — Не надо, — решительно отказались оба. — Последний раз спрашиваю: что вы знаете о Лопесе? Где он сейчас? Кто его люди в Арройо-Мачо? — прокричал полковник. — Развяжите руки! — потребовал тот, кто был человеком Роке. — Отделение! — скомандовал полковник. — Отделение! — повторил лейтенант, и солдаты вскинули винтовки, беря на прицел стоявших у степы. В толпе послышались стоны и крики. Полковник делал вид, что ничего не слышит, хотя сам добивался того, чтобы ужас заставил кого-либо из родственников потерять над собой контроль и заговорить. — Развяжите руки! — еще настойчивее потребовал человек Роке. — Отставить! — Отставить! — вторил лейтенант. — Развяжите им руки. Может, заговорят, — приказал полковник. Солдаты опустили винтовки, и двое из них побежали к степе. Когда веревки были сняты с рук арестованных и солдаты стали возвращаться в строй отделения, на стене появился монах. Вслед за ним упало лассо. — Скорее, мучачос! — крикнул монах и махнул рукой. Как только приговоренные ухватились за лассо, с той стороны с силой потянули, и они в один миг оказались на стене. — Стреляйте, разини! Что стоите, болваны! — крикнул полковник и, пришпорив коня, поскакал к монастырским воротам. За ним последовало несколько карателей. Ворота оказались открытыми. Полковник и его офицеры влетели во двор. Там их смиренно встретил настоятель: — Неисповедимы пути господни! Мы дети его и совершаем деяния, угодные господу богу! Как и прежде, не обращая никакого внимания на настоятеля, полковник приказал вбегавшим в монастырь солдатам: — Обыскать! Всех выгнать во двор! Из келий в патио монастыря покорно выходили послушники. Они столпились вокруг настоятеля: — Кто из вас был на стене? Монахи смиренно опустили головы. — Кто перебросил лассо? — спросил полковник, растягивая слова, и было видно, как в нем закипала ярость. — Будете молчать, всех поставлю к стенке! — угрожал Сантос Мурильо. Настоятель склонил голову еще ниже. Старец знал, что полковник, каким бы жестоким ни был, не посмеет исполнить свою угрозу, и все-таки ответил: — Злодеев, применивших силу над нами, уже нет в нашей обители. Они оставили ее через подземный ход. Монахи еле заметно зашевелились, и полковник тут же приказал: — Выстроить всех в одну линию! Сантос Мурильо спешился, выхватил из кобуры револьвер и стал осматривать монаха за монахом. — Всем вытянуть вперед руки! Множество рук с аккуратно остриженными ногтями и нежной кожей раскрылось перед полковником. Вдруг огрубелые руки привлекли его внимание. — Обыскать! — крикнул полковник и навел револьвер на опустившего голову монаха. Хотя оружия под сутаной у него не обнаружили, полковник осмотрел всех до последнего послушника и, указывая пальцем на самого худого и самого толстого из них, приказал: — Вывести и всех троих расстрелять! Оба монаха, толстый и тощий, тут же повалились в ноги полковнику, а тот, у кого были грубые руки, замешкался. — Ну что? Где твои сообщники? Содрать с него сутану! — гремел полковник и вдруг рукояткой револьвера наотмашь ударил лжемонаха по лицу. Солдаты схватили разведчика и потащили к выходу. — Будешь говорить? — спросил полковник за воротами монастыря. — Нет! — Тогда я тебя заставлю! Сержант, а ну-ка погоняй этого молодчика. Пусть побегает! Может, образумится и раскроет рот. Сержант спешился, снял веревку с седла, набросил петлю на путы, которыми уже были стянуты руки партизана, влез на копя и тронул шагом. Вскоре конь перешел на рысь, и парень побежал. Через полчаса у него уже не было сил двигаться дальше. Его, шатающегося из стороны в сторону, подвели к полковнику. — Ну, так станешь говорить? — Убей! Для чего мучаешь? — с трудом выговорил парень, болезненно и жадно хватая ртом воздух. Полковник, видя, что тот задыхается, распорядился: — А ну-ка, сержант, дай мне конец веревки. Несчастный упал. Скакавшая лошадь потащила парня по каменистой земле. Когда полковник возвратился к воротам монастыря, разведчик, не приходя в себя, умер. Полковник поднял часть, отдыхавшую в селении, и направился в соседнюю деревню. Там, в Арройо-Секо, которое примыкало к горному отрогу, Сантос Мурильо приказал собрать всех мужчин и выгнать их в поле с лопатами. Под дулами винтовок он заставил их рыть ямы — узкие глубокие щели почти в рост человека. — Если не скажете, где скрывается Роке Лопес и кто в Арройо-Секо его люди, закопаю живыми! — пригрозил Сантос Мурильо. — Где Лопес? Кто его люди? Полное безмолвие, воцарившееся в поле, было ему ответом. — Загнать их в ямы! Солдаты силой спихивали охваченных ужасом крестьян, — неизвестно было, насколько серьезно угрожал Кровавый. Бронзовые лица несчастных стали белыми. По приказу полковника солдаты принялись забрасывать ямы землей. Непокорных, кто не выдерживал подобной пытки и выскакивал из ямы, полковник собственноручно расстреливал на месте. Жестокости его не было конца. На ровном поле, где всего неделю назад крестьяне Арройо-Секо собирали кукурузу, теперь торчали кудрявые, взлохмаченные головы. Глаза одних были плотно зажмурены, у других широко раскрыты и полны ужаса, у третьих неподвижно устремлены в одну точку. По команде полковника офицеры и взвод солдат сели на коней. — Я им покажу! — прозвучал в мертвой тишине голос Сантоса Мурильо. Птицы и те умолкли в кронах деревьев Казалось, в ту минуту весь мир охватила тишина. — За мной! Рысью! Вперед! Кони зафыркали, послышался храп и ржание животных, которые поднимались на дыбы, не желая двигаться с места. По те, кто находился в седлах, подчинили волю животных своей. Широко и неуклюже расставляя ноги, как в каком-то неимоверном танце, лошади понеслись по полю, усеянному головами. Глухой стук их подков о мягкую землю и храп лошадей, протестовавших против этой дикой забавы, смешались с истерическим гиканьем, свистом и улюлюканьем полковника и последовавших за ним офицеров и солдат. — Вперед! Я им покажу! Вы заодно с Лопесом! Получайте… — слышался громкий голос Сантоса Мурильо. Солдаты, которые не допускали родственников к несчастным, сначала замерли, но вдруг в каком-то нервном припадке принялись бить прикладами женщин и детей, только бы не смотреть на то, что происходило в поле… Выстрелы раздались сразу с двух сторон. Из-за холмов на полном аллюре вылетело двадцать всадников. Примерно столько же неслось со стороны поля. Солдаты растерялись. Лишь немногие из них, используя первое попавшееся укрытие, заняли боевые позиции и открыли огонь. Большинство побежало. Жители подмяли под себя охрану и толпой устремились на поле. Полковник со своим взводом стал отходить к деревне Но навстречу ему торопилась третья группа партизан Впереди в неизменном широкополом сомбреро-харано скакал Роке Лопес. Основные силы его отряда окружили расположившуюся в деревне часть и вынудили ее без единого выстрела сложить оружие. Два взвода, конный и пешни, с которыми полковник издевался над крестьянами Арройо-Секо, были быстро перебиты. Сантос Мурильо и четыре офицера с поднятыми руками ждали своей участи. Парра распорядился приготовить освободившиеся ямы для полковника и его офицеров. Роке Лопес молча объезжал поле, осматривая следы изуверства полковника. Узнав о распоряжении Парры, Роке подъехал к группе пленников и отменил приказ. Парра настаивал на своем. Лопес чувствовал, что многие бойцы тоже возмущены. И все же он отменил приказ и подозвал Барболина. — Всех связать! Полковника охранять отдельно! Слушайте меня, мучачос! — Голос Роке звучал громко и уверенно. — Мы не продажные солдаты! Мы народные мстители. Нам не нужна кровь. Мы действовали и будем действовать по справедливости. Завтра утром Кровавого, бывшего полковника Сантоса Мурильо, будет судить народ. Кровавый за все содеянное им, за жизни мирных поселян, за жизни многих дорогих наших товарищей, будет расстрелян. Но по всем правилам закона. Если мы с вами станем учинять самосуд и не будем бороться за справедливость, кто другой добудет ее народу? Если мы с вами станем нарушать правосудие, действовать, как какие-нибудь жалкие бандиты, кто нам поверит? По местам, мучачос! Выставляйте охранение. Помогите крестьянам, своим бедным братьям! Да здравствует Конституция! Закончив свою короткую речь, Роке распорядился двести полковника. Затем он подозвал к себе Хуана и поручил ему и Баррасе охранять Кровавого. Под их присмотром полковник провел свою последнюю ночь. На рассвете Сантос Мурильо и офицеры его части били расстреляны. — Труп полковника, — объявил Роке, — ты, Парра, со своими людьми доставишь в Кулиакан. С кем-либо из местных вручишь родным. Пусть его похоронят как хотят. Народ сохранит память о его «подвигах». Могила Кровавого, какой бы памятник на ней ни поставили, будет живой книгой бесчестья. Он навеки покрыл себя позором. Дети откажутся носить его фамилию. Им будет стыдно приходить на могилу такого отца. Разоруженных солдат отпустили по домам. Роке Лопес заставил старосту и помещиков, проживавших рядом с Арройо-Секо, собрать десять тысяч песо и раздать их населению. Как только отряд оставил Арройо-Секо, Роке приказал остановиться. — А теперь, мучачос, за мной на Росарио! Там готовят обоз с серебром к отправке на Север. Вслед за Паррой, Барболином и братом Фернандо, между Хуаном и Бенхамином Бенитесом, одегая в мужской костюм, ехала Сильвия…ЭПИЛОГ
Так жил и сражался за правду и справедливость во имя свободы своего народа мексиканский бандолеро «Смерч Синалоа». Десять лет правительство диктатора Диаса вело борьбу с отрядом Роке Лопеса, и только низкий подкуп и предательство помогли его победить. Большинство товарищей Роке погибло. Сильвия отомстила предателям, тем, кто выдал Роке Лопеса. Оба они были найдены убитыми, причем стреляли в каждого из одного и того же револьвера небольшого калибра. Сын Парры, верного друга и сподвижника Роке, двенадцать лет спустя стал известным бандолеро. Бойцом отряда Игнасио Парры был молодой Доротео Аранго, впоследствии прославленный народным герой мексиканской революции Панчо Вилья. Автору этой повести довелось прожить в Мексике несколько лет, побывать в отрогах Сьерра-Мадре-дель-Сур — суровом, по прелестном крае, познакомиться с районом действия Роке Лопеса, пещерами, где он жил, и записать популярную песню, которую до сих пор распевает народ, когда вспоминает своих героев.С. ЯРОСЛАВЦЕВ ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ Современная сказка

Часть первая ПОГОНЯ В КОСМОСЕ
1
На берегу некогда студеного, a ныне и навеки теплого океана жили-били три закадычных друга: мастер, спортсмен и ученый. В память о знаменитых мушкетерах мы будем называть их Атосом. Портосом и Арамисом, потому что, во-первых, настоящие их имена большого значения не имеют, а во-вторых, их действительно так всегда и называли, ибо были они неразлучны, готовы были друг для друга на любые подвиги и дружбу свою ставили превыше всего. И если кто-нибудь из их знакомых говорил: «Вчера наши мушкетеры опять отличились», то все сразу понимали, о ком идет речь, и без лишних слов спрашивали: «Что еще они там натворили?» При всем том они были-таки довольно разные люди, что, впрочем, не удивительно, принимая во внимание их профессии. Ведь всем известно, что мастера на нашей планете заняты созданием неописуемо прекрасных произведений искусства и конструированием неслыханно могущественных механизмов; спортсмены развивают замечательные возможности человеческого организма и доводят до совершенства красоту человеческого тела; а ученые — они ученые и есть: замышляют дерзкие походы к самым истокам вещества и планируют чудесные превращения живой материи. Поэтому ученые, спортсмены и мастера всегда будут несколько отличаться друг от друга, пока какой-нибудь гений не совместит в одно лабораторию, стадион и мастерскую. Однако по части досугов вкусы у наших друзей были примерно одинаковые и нередко причиняли беспокойство окружающим. То они заплывали далеко в океан, подкрадывались к пожилому кашалоту, задремавшему под солнцем, на ленивой волне, и вдруг принимались с гиканьем его щекотать, так что тот с воем и фырканьем мчался жаловаться к подводным пастухам. То они принимались, на ночь глядя, разучивать под гитару новую лирическую песенку, и поскольку у Портоса был могучий бас и не было практически никакого музыкального слуха, это неизменно приводило людей, зверей, птиц и роботов, застигнутых врасплох на ближайших гектарах, в необычайное возбуждение. А однажды они тайком сконструировали безобразный механизм, который среди бела дня прошел по центральной улице, играя на черной дудочке, и все роботы-няни, роботы-дворники, роботы-садовники в поселке бросили свои дела, устремились за ним в степь и вернулись только через неделю. Словом, это были порядочные шалопаи, и хотя многим их знакомым подобные выходки очень нравились, все вокруг вздыхали с облегчением, когда на неразлучных мушкетеров нападал тихий стих и они часами валялись где-нибудь в тени на травке, погрузившись в чтение старинных книг о великих революциях и гигантских битвах пародов за свободу и независимость. (Нет, все-таки они были очень разные люди. Как-то каждому из них задали один и тот же вопрос: «Что тебе интереснее всего, когда перед тобой поставлена цель?» Мастер Атос пожал плечами и небрежно ответил: «Пожалуй, искать средства для достижения этой цели». Спортсмен Портос воскликнул, не задумываясь: «Конечно, добиваться этой цели во что бы то ни стало!» А ученый Арамис произнес своим обычным тихим голосом: «Наверное, узнать, что будет после того, как я достигну этой цели». Может быть, поэтому они и были друзьями?) Следует тут же сказать, что в повседневной деятельности пашей тройки большое участие принимала некая Галя, весьма юное и миловидное существо, обитавшее в хорошеньком домике неподалеку. Была она не то двоюродной сестрой, не то троюродной теткой Арамиса и на правах родственницы охотно соглашалась, в зависимости от настроения, либо устраивать мушкетерам выволочку от имени и по поручению возмущенной общественности, либо умиротворять возмущенную общественность от имени и по поручению мушкетеров. В промежутках она выводила на опытном участке за поселком новые сорта винограда, заставляла Атоса мастерить механические игрушки для соседских ребятишек («Ты когда-нибудь оставишь меня в покое со своими сопляками, капустная кочерыжка?»), занималась под руководством Портоса художественной гимнастикой («Носок! Тяни носок, малышка!») и запускала Арамису за шиворот больших жуков-оленей, которых он боялся хуже погибели («Уоу! Я разорву тебя на части, наглая девчонка!»). В общем, Галю почти всегда можно было найти где-нибудь неподалеку от мушкетеров (или мушкетеров неподалеку от Гали), так что их знакомые частенько называли ее «д’Артаньяном в юбке», хотя Галя по некоторым соображениям нипочем не желала откликаться на это во всех отношениях лестное прозвище. И когда Галя по субботам отправлялась верхом в Зеленую долину на блины к своему любимому дедушке, бывшему коку Северного подводного флота, ее почти всегда сопровождали мушкетеры — то ли из дружеской привязанности, то ли в предвкушении великолепных блинов, до которых все они были великие охотники. И надо было видеть, как они летят галопом по обочине шоссе, выпятив поджарые зады и пригнувшись к гривам, пронзительно свистя и подбадривая друг друга удалыми возгласами! Собственно, эта история началась именно в одну из таких суббот, только в тот день Атос и Арамис были заняты и сопровождать Галю к деду отправился один Портос. День был отличный, солнечный, в бездонном синем небе важно плыли пухлые, как сбитые сливки, бело-желтые облака Галя и Портос галопом скакали вдоль шоссе, а вокруг простиралась Зеленая долина: цветущие сади, изумрудные луга, уютные домики и ажурные павильоны, прозрачные ручьи и синие, как небо, реки под горбатыми мостиками, и весело уносились назад километровые столбы с цифрами: 110… 111… 112… Бил в горящие лица свежий ветер, яростно фыркали могучие кони, роняя с серых губ плотную пену, потешная лохматая собачонка кинулась вслед иотстала… И все было просто замечательно, особенно если принять во внимание, что на финише их ждали горы раскаленных золотистых блинов со всеми онерами и причиндалами и запотевшие с холода кувшины с благородным светлым сидром, от которого щиплет язык и слезы наворачиваются на глаза. Вдруг Галя на всем скаку так резко осадила коня, что тот свирепо заржал и взвился на дыбы. Портос проскакал с разгона еще десяток шагов и тоже остановился. — В чем дело? — осведомился он, поворачиваясь в седле. Галя не ответила. Сдвинув брови, она озадаченно разглядывала километровый столб. Портос подъехал к ней. — Ну? — спросил он. — Что случилось? — Гляди… — шепотом сказала Галя. — Что это? Он поглядел. Столб как столб. На белой эмалированной дощечке черные цифры: 160. — Сто шестьдесят, — нетерпеливо произнес он. — Круглое число. Ну? — И лес впереди, — прошептала Галя. Действительно, шоссе впереди уходило в дремучий лес. Что-то забрезжило в сознании Портоса сквозь сладостные видения дымящихся блинов и запотевших стаканов. Галя, не говоря больше ни слова, развернула коня и помчалась назад. Портос пустился за нею. Они остановились у предыдущего столба. На белой эмалированной дощечке чернели цифры: 120. — Сто двадцать… — по-прежнему шепотом проговорила Галя. — И сразу сто шестьдесят… и сразу лес… — Это что же такое происходит? — недоуменно сказал Портос. — Это, значит, выходит, что куда-то запропастились сорок километров шоссе! — Не просто шоссе, глупый! — закричала Галя, и ее прекрасные зеленые глаза палились слезами. — Пропала половина Зеленой долины, пропал дедушкин дом, понимаешь? — Ты не расстраивайся, — пробормотал Портос. — Может, все не так страшно… Они снова развернули коней и вернулись к столбу на опушке леса. — Сто шестьдесят, — сказал Портос. — Какая глупая шутка! — Это не шутка. Это тебе не китов щекотать. Здесь произошло что-то очень страшное! Что же теперь делать? Портос подумал. — Надо рассказать Атосу и Арамису, — решительно произнес он. — Едем назад. — Нет, — сказала Галя. — Едем вперед. — Но впереди же просто лес… — Вот и посмотрим, что там. Они с места пустили коней в галоп и влетели в лес. В лесу царили душноватые семерки, звонко стучали копыта по бетонке, и уносились назад километровые столбы с цифрами: 161… 162… 163… 164… Лес и лес, с досадой думал Портос, вглядываясь в черно-зеленую тьму по сторонам шоссе. Обыкновенный смешанный лес. Только время зря теряем Нам бы скорее домой и сообщить обо всем Атосу и Арамису, это же такие головы, что поискать, а мы скачем куда глаза глядят. Но он по опыту знал, что упрямая девчонка в спорах непобедима. Ладно, снизойдем… И тут он обнаружил странную вещь. Кони с галопа незаметно перешли на рысь, затем пошли шагом, и не успел он поделиться этим ценным открытием с Галей, как его могучий жеребец повернулся боком и встал поперек шоссе словно вкопанный. — Ну? — удивленно спросил его Портос. — Ты что это? С чем дело? Жеребец молча помотал головой. — Может быть, ты устал? Жеребец понюхал бетонку и фыркнул. — Что с конями? — встревоженно спросила Галя. Ее конь пятился, задирая голову, его сотрясала крупная дрожь. — Так-так-так! — сказал Портос, нахмурясь. — А кони-то не хотят идти дальше, боятся. Выходит, ты была права, малышка: впереди что-то есть. Они поглядели друг на друга, потом на своих коней. — Ну как, поворачиваем? — спросил Портос. Он спросил просто так, на всякий случай. Он отлично знал, что будет дальше. И верно: Галя соскочила с коня и сказала: — Мы не кони. Мы пойдем дальше. Разговаривать было бесполезно. Портос со вздохом спешился, привязал коней к ближайшей сосне и тоном, не допускающим возражений, произнес: — Я иду впереди, ты в десяти шагах позади меня. Так они и пошли, держась середины шоссе, то и дело оглядываясь по сторонам. За километровым столбом с цифрой «168» лес внезапно расступился, и перед ними открылась просторная поляна, на которой возвышался крутой, поросший жухлой травой курган с плоской вершиной.2
Некоторое время Портос и Галя стояли, держась за руки, настороженно вглядывались и прислушивались. На вершине кургана обширной зеленой тучей громоздился гигантский приземистый дуб, похожий больше на баобаб, а в его тени виднелось ветхое строение с провалившейся крышей и черными прямоугольниками пустых окон. Было очень тихо, не слышно было ни обычного жужжания шмелей, ни стрекота кузнечиков И ярко сияло в синем небе над головой полуденное солнце. Потом налетел порыв ветра, зашелестела, зашумела, засверкала серебристыми искрами дубовая листва, и длинно и тоскливо заскрипело что-то — то ли наполовину сорванная ставня, то ли ржавые дверные петли. Галя вздрогнула и прижалась к Портосу. Но ветер пролетел, и все снова стихло. Портос мужественно откашлялся. — Я схожу посмотрю, а ты подожди здесь, — предложил он. — Нет уж! — сказала Галя решительно. — Я уж лучше с тобой. По колено в густой траве они пошли через поляну. Белый пушистый комочек с тихим писком выскочил из-под ног Портоса и скрылся. «Кролик», — машинально подумал Портос. Солнце припекало. Они подошли к подножию кургана и стали подниматься по крутому склону. С каждым шагом развесистая крона дуба все дальше надвигалась на небо. Наконец она надвинулась на солнце, и сразу сделалось прохладно. Даже как-то зябко, с удивлением отметил про себя Портос. — Слушай, ты не боишься? — шепотом спросила Галя. — Еще чего! — громовым басом отозвался он. Она изо всех сил вцепилась пальчиками в его ладонь, и он ободряюще улыбнулся ей, стараясь показать как можно больше своих превосходных зубов. Увидеть такие зубы будет небесполезно и неведомому чудовищу, если оно сейчас танком наблюдает за ними. Портос был великий стратег. Вблизи заброшенный дом оказался именно тем, чем казался издали: заброшенным домом. Бревенчатые стены почернели и покрылись зеленовато-голубым лишайником, окна с выбитыми стеклами были затянуты пыльной паутиной, покосившиеся и насквозь прогнившие доски крыльца вели к отверстому дверному проему, а дверь косо висела на одной ржавой петле. Портос легко сорвал ее, отшвырнул в сторону и, пригнувшись под низкой притолокой, вошел в дом. Галя следовала за ним по пятам. — Так-так-так! — произнес Портос, осматриваясь. — Мерзость запустения… Весь дом состоял из одной-единственной и совершенно пустой комнаты. Щелястый пол был покрыт густым слоем пыли, со стен свисали обрывки обоев неопределенной расцветки, потолок просел и наполовину обрушился, сквозь проломы видны были балки, подпирающие крышу, а сквозь дыры в крыше виднелась зеленая листва дуба. Портос шумно принюхался. — И воняет здесь как-то скверно, — сказал он. — Кислотой воняет… Галя вдруг отпустила его руку и присела на корточки. — Портос! — тихо проговорила она. — Портос, гляди! Следы! — Где следы? — живо спросил Портос, шаря глазами по стенам вокруг себя. — Ну куда ты смотришь? Смотри сюда! Портос нагнулся. Он едва успел отыскать взглядом странные вмятины в пыли на полу, словно здесь топтался слон на своих ногах-тумбах, и в то же мгновение жуткий протяжный вопль разорвал тишину, на чердаке захлопали могучие крылья, и с потолка посыпался потоками мусор. Это произошло так неожиданно, что Портос и Галя целых три секунды оставались в прежних позах, не в состоянии пошевелиться, прикрыть головы, крикнуть. А странное нападение продолжалось. «Уху-у-у-у! Уху-у-у-у!..» — вопил нечеловеческий голос, бились о чердачные балки невидимые крылья, валился сверху мусор, и весь дом заполнился плотными клубами удушливой пыли. Портос наконец опомнился. — Эй, там! — взревел он. — Наверху! Шею сверну мерзавцу! — Бежим! — отчаянно крикнула Галя. Легко сказать — бежим. С большим трудом, чихая, кашляя и отплевываясь, они ощупью добрались до двери и вывалились наружу. Суматоха на чердаке сейчас же прекратилась, снова наступила тишина. Портос и Галя медленно поднялись на ноги, поглядели друг на друга и сейчас же принялись молча чиститься. Из окон и двери дома ползли и оседали на траву прозрачные серые облака пыли. — Чтоб ты сдохла, окаянная! — прорычал Портос, ожесточенно выскребая пятерней мусор из волос. — Ты это про кого? — спросила Галя. — Про птицу эту, про кого же еще? Ты не заметила? Громадная такая белая птица, похожая на филина… — Птица, — повторила Галя. — Ладно, пусть птица. Пойдем. Лицо ее, измазанное пылью, было бледно, губы плотно сжаты, зеленые глаза горели. Они молча, изо всех сил стараясь не оглядываться, спустились с кургана, молча пересекли поляну, вернулись на шоссе и молча дошли до того места, где оставили коней. Только когда копыта снова застучали по бетонке, Галя сказала: — Я совершенно убеждена, что все дело в этом кургане и в этой развалине. Здесь кроется какая-то страшная тайна, и если мы ее не раскроем, нам никогда не узнать, что сталось с половиной Зеленом долины и с дедушкой. — Ага… — глубокомысленно отозвался Портос. — Значит, ты считаешь, что птица обо всем догадалась и потому напала на нас? — А ты как считаешь? — Признаться, я думал… она могла просто испугаться, если у нее там, скажем, гнездо или еще что-нибудь. Мы там кричали, шумели, она завозилась, заорала, забила крыльями… Галя с состраданием поглядела на него. — Милый Портосик, ты помнишь, в какой момент все это началось? — Началось это… Да, конечно! Как только ты показала мне следы… Странные, признаться, следы… — Вот именно. Когда она увидела, что мы обнаружили следы, она завалила их всякой дрянью, а нас попросту выгнала. — Ага… — произнес Портос. Он весь даже покраснел от умственного напряжения. — Значит, ты считаешь, что эта птица причастна к исчезновению половины долины и… э… дедушки? Что же это за птица? Галя не ответила. Они выехали из леса и снова пустили коней по обочине. В эту минуту над их головами раздался жалобный писк. Портос взглянул в небо и изумленно ахнул: — Да это же она, собственной персоной! Огромная белая птица с круглой кошачьей головой и огромными глазами парила над ними, сжимая в когтях маленького пушистого зверька. — Смотри, она схватила кого-то! — закричала Галя. — Она его съест! Портос мигом слетел с седла, нагнулся, пошарил под ногами и выпрямился, подбрасывая на ладони увесистый булыжник. Птица холодно и равнодушно разглядывала его сверху, покачиваясь на неподвижно распростертых крыльях. Портос размахнулся. Р-р-раз! Булыжник ударил птицу под левое крыло. Знакомый жуткий вопль прозвучал над долиной. Птица разжала когти и, сильно кренясь на левый бок, исчезла за верхушками деревьев, а белый пушистый комочек упал к ногам Портоса. — Дай его сюда, — сказала Галя. — Да осторожней, не сделай ему больно!.. Это был странный зверек: настоящий Чебурашка, только белый как снег и с красными глазами. Он трясся в Галиных ладонях, и сквозь пушистый мех она отчетливо ощущала, как бешено стучит его крошечное сердце. — Бедненький… — проговорила Галя. — Напугался… — Еще бы! — сказал Портос. — А кто это? Котенок? — Да нет. Видишь, хвостик какой короткий? — Значит, крольчонок? — Тоже нет. Ушки маленькие… Ладно, садись на коня. Едем прямо к Атосу, надо спешить.3
Не умывшись, не переодевшись, бросив коней прямо на улице, Галя и Портос вбежали в домик Атоса, втиснулись в кабину лифта, похожую на стакан из цветного стекла, и спустились в его обширную мастерскую. Здесь пол дрожал под ногами, низко гудели замысловатые механизмы в округлых сетчатых кожухах, стремительные сквозняки разносили запахи раскаленного металла и нагретой пластмассы, вспыхивали и гасли ослепительные лиловые огни, отбрасывая на стены зыбкие тени, и десятки больших и маленьких роботов-крабов, роботов-пауков, роботов-сколопендр деловито сновали, позвякивая сочленениями, из конца в конец этого огромного подземного зала, выполняя какие-то им самим неведомые операции. Сам Атос в белом комбинезоне стоял перед пультом управления на плоской круглой платформе, подвешенной к большому решетчатому крану. — Эгей! — громовым голосом рявкнул Портос. — Атос! — чистым и звонким голосом крикнула Галя. Атос мельком взглянул на них и досадливо отмахнулся. — Я занят! — раздраженно произнес он — Что за манера… Но тут до него дошло, что его друзья выглядят, мягко выражаясь, не совсем обычно. Он снова взглянул на них уже более внимательно, присвистнул и ткнул пальцем в какую-то кнопку на пульте. Платформа плавно тронулась с места, снизилась и опустилась рядом с Галей и Портосом. Атос соскочил на пол. — Ну и ну! — сказал он. — Где это вы так извозились? Как вам не стыдно появляться у меня в мастерской в таком вид. — Пропала половина Зеленой долины! — торопливо затворил Портос. — Пропал дедушка! — заговорила одновременно Галя. — Сорок километров шоссе… — Сначала мы скакали верхом, а потом кони испугались… — Все дело в этом кургане с дубом и старым домом… — Как только мы нашли следы, она заорала и засыпала нас… — Огромная белая птица, вроде филина… — Здесь какая-то опасная тайна… — Я подбил ее камнем, но она улетела… Атос легонько похлопал их по губам ладонью, и они послушно замолчали. Атос поглядел на ладонь, вытер ее белоснежным носовым платком и бросил платок на пол. Немедленно расторопный робот-краб подхватил платок и куда-то унес. — Разберемся, — произнес Атос и сел на край платформы. — Вы чудовищно, до отвращения грязны, но, судя по всему, дело не терпит отлагательства. Поэтому садитесь на пол, потом за вами приберут. Галя и Портос сконфуженно сели на пол, скрестив ноги по-турецки, а он достал из нагрудного кармана радиотелефон и нажал кнопку вызова. — Слушаю, — отозвался тихий, как всегда, голос Арамиса. — Говорит Атос. Прости, что отрываю тебя от дела, но тут ко мне явился наш спортсмен в паре с капустной кочерыжкой, они очень возбуждены и жаждут сообщить нечто весьма любопытное и, боюсь, весьма трагическое. Выслушаем их. — Слушаю, — повторил голос Арамиса. — Рассказывайте, — приказал Атос. Торопливо и сбивчиво, то и дело перебивая друг друга и ссорясь из-за подробностей, Галя и Портос рассказали друзьям и своих приключениях и переживаниях. Когда они замолчали, Атос подождал немного и спросил: — Всё? Галя и Портос кивнули. — Что скажешь, Арамис? — Странно и опасно. Через минуту буду у вас. Я слушал на ходу. — Я за дедушку боюсь… — всхлипнула вдруг Галя и судорожно погладила зверька, устроившегося у нее на плече. Зверек прижался к ее щеке и заморгал красными глазками. — Я бы что сделал? — солидно кашлянув, произнес Портос. — Я бы прямо туда пошел, к этим шутникам, и все бы у них разнес вдребезги, чтобы неповадно било… Негромко звякнул лифт, и из кабины вышел Арамис, на ходу засовывая свой радиотелефон в карман ослепительно белого халата. Присев на край платформы рядом с Атосом, он внимательно оглядел Галю и Портоса и улыбнулся — чуть-чуть, едва заметно, уголками губ. — Итак? — проговорил он. — Ты слышал их, — сказал Атос. — Выкладывай, что ты об этом думаешь. — Давайте еще раз посмотрим, что нам известно, — начал Арамис своим тихим спокойным голосом. — Во-первых, исчезла полоса территории шириной в сорок километров вместе с населением, растительностью и животными. Теоретически можно себе представить — а значит, и воспроизвести — условия, при которых подобная акция осуществима. В субэйнштейнианской физической геометрии она известна и носит название трехмерной контракции… — Закрой рот, — строго сказал Атос Портосу. — Во-вторых, — продолжал Арамис, — в дремучем лесу рядом с шоссе за сто шестьдесят восьмым километром появилась поляна и курган с вековым дубом на вершине. Я говорю «появилась», потому что на аэрофотографиях, отснятых всего год назад, ничего подобного не наблюдается. Я сам проверил это, перед тем как отправился сюда. В сочетании с фактом трехмерной контракции, имевшей место между сто двадцатым и сто шестидесятым километром, внезапное появление этой поляны и кургана с дубом и древним строением выглядит крайне подозрительно и наводит на мысль о маскировке. В-третьих, я совершенно согласен со своей дорогой родственницей, что действия так называемой большой белой птицы имели целью запугать и обратить в бегство непрошеных свидетелей. — Вывод? — спросил Атос. Арамис пожал плечами: — Логический вывод полностью совпадает с интуитивным, к которому вы пришли и без моей помощи. Мы имеем дело с преступлением. Воцарилось молчание. Потом Портос спросил: — С чем? — С преступлением, — повторил Арамис. — Ага… — глубокомысленно произнес Портос. — Ну как тебе не стыдно! — нетерпеливо сказала Галя. — Ты же читал… Это когда открывали без спроса сундуки с сокровищами, отбирали у голодных последний кусок, убивали без причин… — Да, — сказал Портос. — Правда. Я вспомнил. Значит, мы имеем дело с преступлением. Очень хорошо. А то я думал, что это просто дурацкая шутка. — О шутках лучше пока забыть, — сказал ему Атос и повернулся к Арамису: — Давай нам последнее звено, старина. Кто преступники? — Люди не совершали преступлений уже лет сто, — тихо ответил Арамис. — А преступлений, связанных с применением громадных энергий и мощной техники, на нашей планете и в ее окрестностях не случалось уже лет триста. Сам собой напрашивается вывод, что преступники… — Он замолчал и поднял кверху указательный палец. Портос поглядел на потолок. — Неужели соседи? — испуганно спросил он. — Ну что ты с ним будешь делать! — возмущенно воскликнул Атос и хлопнул себя по коленям. — Нет, — сказал Арамис, — преступники — пришельцы из Глубокого космоса. Мы еще не знаем, что у них на уме и каковы их возможности, по мы должны быть готовы к самому худшему. — К войне! — жестко сказал Атос. Портос вскочил и стал засучивать рукава. — Мы их расшибем! — объявил он. — Мы им накостыляем! Мы им покажем, этим космическим нахалам! Пошли, ребята! — Сядь, — приказал Атос. — Да, война. Мы очень давно не воевали, но мы вспомним, как это делается. Вот что я предлагаю. Прежде всего, конечно, надо оповестить Всемирный совет. Там сидят умные люди, и они, несомненно, придумают что-нибудь солидное. Но мы не будем их дожидаться. Как солдаты мы не хуже и не лучше любого из десяти миллиардов людей, населяющих планету. Но мы первыми обнаружили преступников, и мы первыми примем бой. Ясно, что преступники, совершив диверсию между сто двадцатым и сто шестидесятым километром, на этом не успокоятся. Если бы мы знали, где и когда они совершат следующую, мы бы встретили их именно там и именно в то время. Но мы этого не знаем. Я предлагаю пойти на риск: ударить прямо по гнезду, по поляне с курганом. Если мы победим, все в порядке. Если мы погибнем, это будет добрая разведка боем. И мы сделаем это завтра же утром. Согласны? — Согласны! — хором ответили Галя, Портос и Арамис. Галя ответила громче всех, громче даже Портоса, и мушкетеры разом замолчали и в замешательстве уставились на нее. Измазанное лицо ее пылало, глаза метали зеленые молнии, кулачки были сжаты так, что побелели костяшки. Она была уже не в мастерской, она была уже не с друзьями, она мчалась на лихом коне через зловещую поляну, размахивая кривой саблей, и врубалась в ряды коварных космических преступников. Разумеется, эти сладостные иллюзии были немедленно и грубо разрушены. Мушкетеры пустили в ход все средства — логику, шантаж, угрозы, лесть, обещания — и в конце концов взяли верх. Было решено, что во время завтрашней операции Галя расположится в лаборатории Арамиса и будет выполнять ответственнейшее задание по поддержанию непосредственной связи с уполномоченными Всемирного совета. Галя еще всхлипывала и размазывала по румяным щекам слезы и грязь, а Портос и Атос отдувались и утирали потные лица, когда Арамис вдруг спросил: — А где же этот Галин зверек? Все хлопотливо заерзали, озираясь. — Вот он! — в изумлении вскричал Портос, вскакивая на ноги. Белый пушистый комочек стремительно катился к лифту. — Стой! — заревел Портос и первым бросился в погоню. — Стой, тебе говорят! Атос и Арамис отстали от него всего на пять шагов, но странный зверек уже нырнул в прозрачную кабину, похожую на стакан из цветного стекла, ловко, словно муха, взбежал по ее стенке и ткнул лапкой в кнопку подъема. Когда Портос добежал до лифта, кабина уже уносилась вверх. Лишь через несколько минут ошеломленные и взволнованные друзья выбежали на улицу из домика Атоса. И они сразу увидели: в темно-синем предвечернем небе, мерно размахивая крыльями, улетает в сторону Зеленой долины, в сторону дремучего леса, в сторону поляны с курганом большая белая птица, сжимающая в когтях пушистый комочек. Она улетала все дальше, превратилась в белую точку и исчезла. Тогда они переглянулись. У Атоса глаза были как темные щели, лицо Арамиса окаменело, Портос шумно дышал, сжимая и разжимая огромные кулаки, у Гали дрожали губы. — Мы еще не знаем, что представляет собой противник, — медленно произнес Атос, — но мы можем считать, что война нам объявлена. И выше носы! — прикрикнул он. — Слушай мою команду! Галя, немедленно отправляйся домой, приведи себя в порядок и ложись спать. Никаких возражений, это приказ! Завтра у тебя будет трудный день, это я тебе обещаю… (Он и не подозревал, насколько был прав, когда давал это обещание). Портос, ступай в ванную, переоденься и возвращайся ко мне в кабинет. Мы с Арамисом тем временем свяжемся с Всемирным советом… Когда весь красный, распаренный и чрезвычайно чистый Портос в одних трусах вывалился из ванной, его друзья ползали по огромной аэрофотокарте, разостланной прямо на полу. — Ну, стратеги, как дела? — осведомился он, плотно усаживаясь на пустынное плоскогорье к западу от поселка. — Связались с советом? — Связались, — рассеянно ответил Атос. — И что они вам сказали? — По-моему, они не очень нам поверили. Да этого и следовало ожидать. Я бы на их месте тоже не поверил. Но обещали принять соответствующие меры. — Какие меры? — Соответствующие. — Ага… — глубокомысленно сказал Портос. — А как Галя? — Только что звонила. По-моему, из постели. Зевала так, что едва могла говорить. — Умаялась малышка, — сказал Портос с нежностью. Атос бросил циркуль, выпрямился и поглядел Портосу в глаза. — Слушай, спортсмен, — произнес он, понизив голос, — ты сейчас как, в форме? — Вполне. — Мы здесь с Арамисом посоветовались, и у нас возникла одна идея. (Портос кашлянул и приосанился: идеями с ним делились редко.) Дело в том, что противнику теперь известен наш план утреннего нападения. По всем правилам нам следовало бы напасть немедленно, пока он не подготовился. Но мы еще не вооружены. Мы с Арамисом еще только собираемся в Музей истории оружия… — А я? — обиженно спросил Портос. — Дойдет и до тебя, погоди. Мы с Арамисом выберем самое могучее, что там есть, но нам понадобится время, чтобы подготовиться, освоиться и так далее. Одним словом, вооружение мы с Арамисом берем на себя. Тебе же предстоит не менее важное, но гораздо более опасное дело. Ты не знаешь, у кого в поселке есть летающая лодка с бесшумным ходом?4
Портос был классным водителем всех колесных, гусеничных, летающих и плавающих механизмов, и посадку на краю поляны он совершил в полной тишине. Ночь была безлунная, хотя и ясная, но глаза Портоса давно уже привыкли к темноте, и он отчетливо различал неподалеку светлую полосу шоссе, а за нею, на фоне звездного неба, — черный силуэт кургана с дубом и развалиной на вершине. Выждав несколько минут и убедившись, что все спокойно, Портос выскользнул из лодки в пахучую траву и совершенно беззвучно, как только он мог это делать, пополз к шоссе. Он полз легко, без всяких усилий, переливаясь в траве словно ртуть, он не поднимал головы, по не сбивался с направления, все мускулы его работали в лад и совершенно автоматически. Сказывался богатый опыт бессчетных тренировок, сотен озорных проделок, десятков ответственных соревнований на земле и под землей, на воде и под водой, в воздухе и в космическом пространстве. Портос был хорошим спортсменом, и этим все сказано. Добравшись до шоссе, он остановился. До подножия кургана оставалось шагов пятьдесят — шестьдесят, можно было бы, пожалуй, подползти еще ближе, но его могли засечь на светлой бетонке, а увидеть или по крайней мере услышать, что здесь произойдет, нетрудно было и отсюда. Портос расслабился, распластавшись в траве громадной лягушкой. Теперь оставалось только ждать. Медленно тянулись минуты, медленно двигались созвездия над черной кроной дуба, медленно и ровно стучало сердце. Время от времени над поляной проносился тепловатый ветер, и тогда глухо шумела дубовая листва и что-то длинно и тоскливо скрипело — конечно же, не дверные петли, ведь дверь Портос оторвал и бросил в сторону… Экая незадача — захотелось спать! Портос крепко зажмурился и снова раскрыл глаза. И в ту же секунду начались события. Сначала послышался глухой рокот, и легонько вздрогнула земля. Пустые окна заброшенного дома на вершине кургана медленно налились жутким сиреневым светом. Какие-то неясные, но очень уродливые тени задвигались там, и послышались торопливые шаги, а затем знакомое хлопанье могучих крыльев. Портос весь напрягся, обратившись в зрение и слух. Снова шаги — на этот раз тяжелые, уверенные, и звуки как бы астматического, с присвистом, дыхания, и жестяной скрежет… Сиреневый свет в окнах развалюхи медленно померк. Что-то звонко щелкнуло, как будто захлопнулась дверца автомобиля, и вдруг у подножия кургана вспыхнули три яркие фары. Глухой свирепый голос произнес: — Ка! — Здесь, Двуглавым, — отозвался другой голос, высокий и резкий. — Ты все понял, Ка? — Все понял, Двуглавый… — Исходный рубеж — сто двадцатый километр. Рубеж задачи — восьмидесятый километр. По исполнении немедленно возвращаться. — Ясно, Двуглавый. — Ки! — Здесь, Двуглавым! — проревел басом третий голос. — Ку! — На месте, Двуглавый!.. — хриплым шепотом произнес четвертым. — Ятуркенженсирхив! — У тебя в кармане. Двуглавый! — тихонько пропищал пятый. — Отлично. Ка, светает рано, постарайся управиться за три часа. Не забывай, завтра утром нам предстоит сражение. Ну, а я пока обеспечу заложника. Вперед! Послышался низкий гул, яркие фары закачались, пришли в движение и поползли к шоссе. Портос не стал больше ждать: теперь он знал все, что нужно. Едва неведомая машина с тремя фарами выбралась на бетонку, он, теперь уж почти не скрываясь, бросился к своей летающей лодке. Через полминуты лодка на бешеной скорости зачертила днищем по верхушкам сосен, а еще через три минуты Портос посадил ее в заросли акаций напротив километрового столба с цифрой «120» и выхватил из кармана радиотелефон. Атос и Арамис выслушали его не перебивая. Затем Атос прокричал сквозь железный лязг и рев мощных двигателей: — Выходит, их машина будет на сто двадцатом самое большее через десять — двенадцать минут?.. — То-то и оно, — уныло сказал Портос. — А вас когда мне ждать? — Мы делаем все, что можем! Идем на полной скорости, зубы от тряски шатаются… Будем у тебя к рассвету! — Поздновато. — Ты там смотри мне, спортсмен! Никаких лишних движений! Помни: ты в разведке… И не забывай, что они готовы к сражению! — И даже намерены взять заложника… — едва слышно добавил Арамис. — Что это такое, кстати, — заложник? — спросил Портос. — Долго объяснять… Ну, ладно, будь осторожен! — Отключаюсь. Портос выключил радиотелефон и вылез из лодки. Он взглянул на небо. В небе спокойно мерцали яркие звезды. Он посмотрел направо. Справа зловеще чернел дремучий лес. Он посмотрел налево. Слева расстилалась уцелевшая половина Зеленой долины: неоглядное пространство, покрытое спящими садами, среди которых раскинулись спящие селения, смутно белевшие стенами уютных домиков, извивались реки и ручейки, отражавшие в своих водах звездные небеса, лежали луга, по которым сонно бродили выпущенные в ночное кони. Где-то лениво тявкала собака. Сонно щебетали птицы. Слышалось пение — то ли кто-то не выключил радио, то ли подружки загулялись, возвращаясь из клуба. И неутомимо звенела вода в невидимом ручье неподалеку. Все дышало таким спокойствием, такой безопасностью. И над всем этим нависла ужасная угроза, а друзья были еще далеко, и он был один и ничего не мог сделать. Впервые в жизни Портос ощутил душевную боль. Она была таком острой, что у него перехватило дыхание и он в испуге и удивлении схватился за грудь обеими руками. И тогда, как будто пробудившись от этой боли, какое-то смутное воспоминание шевельнулось в его памяти, воспоминание о чем-то великом и светлом… что-то из старинных летописей, которые рассказывали наполовину непонятным языком о грозных событиях и об удивительных людях. Потом он вспомнил, и боль исчезла. Он вернулся в лодку, подвигался, усаживаясь поудобнее, и огляделся. Все было прекрасно видно отсюда. Он пошевелил рычаг управления, и лодка послушно приподняла острый нос. — Я готов! — громко сказал Портос. Словно в ответ на его слова, где-то в глубине леса возникло низкое гудение. Он замер, прислушиваясь, а гудение приближалось, и вот уже свет мощных фар озарил верхушки деревьев, замелькал между стволами и побежал по серым плитам бетонки. Когда в этом свете засверкала эмалированная дощечка с цифрой «120», машина космических преступников остановилась — грузный горбатый силуэт, едва различимый в ночи. Послышался звонкий щелчок, тонкое монотонное жужжание. По сторонам фар, словно водяные «усы» у поливальной машины, возникли полосы странного сиреневого света. Они протягивались в обе стороны все дальше и дальше, пока не достигли горизонта, и Портосу показалось, будто эта светящаяся сиреневая полоса разделила весь мир пополам: по одну сторону был километровый столб с цифрой «120», Зеленая долина, друзья, а по другую — он сам со своей лодкой, машина космических негодяев, черный в ночи дремучий лес. Он приподнялся, чтобы лучше видеть. Он никогда не был трусом, спортсмен Портос, но он почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. Грузный горбатый силуэт одновременно двигался и… стоял на месте. Он неподвижно чернел на светлой полосе шоссе, по Зеленая долина медленно ползла под него, исчезая под фарами, под светящейся сиреневой полосой, протянувшейся от горизонта к горизонту. Машина преступников пожирала Зеленую долину. Первым исчез километровый столб — топким белым призраком вплыл в сиреневый туман и исчез, будто его и не было. Один за другим гасли ночные звуки. Смолк звон близкого ручейка. Резко, как обрубленный, стих лай собаки. Оборвалась на полуслове далекая песня… И только негромко, зловеще ровно гудел чудовищный механизм на дороге. Портос пришел в себя. Он снова опустился на сиденье и спокойным, даже ленивым движением руки, лежащей на рычаге, поднял лодку на высоту тридцати метров. Затем он опустил нос лодки, нацелившись сверху в черную горбатую массу, и до отказа надавил на педаль акселератора. Был страшный удар. Была ослепительная вспышка. Чудовищная сила сорвала Портоса с сиденья, смяла и швырнула в темноту. Что-то трещало, скрежетало, рвалось, а тела не было, и не было сил приподнять веки. «Уху-у-у-у! Уху-у-у-у! Уху-у-у-у!» — вопила большая белая птица, хлопая могучими крыльями. — Проклятая красная кровь! — визжал кто-то высоким резким голосом. — Они разбили контрактор! — Они за это поплатятся! — ревел кто-то низким басом. — Они напали! — астматически сипел кто-то. — Скорее назад! Скорее на «Пирайю»! Все-таки Портосу удалось на секунду открыть глаза, и он успел увидеть высоко над собой уродливую крылатую тень, заслонившую звезды. Затем глаза его сами собой закрылись снова. Он уже не видел, как из-за невидимой черты поползла обратно Зеленая долина. Разбитая машина космических преступников возвращала пожранное. Один за другим возникали прерванные звуки. Полилась с полуслова прерванная песня. Лениво затявкала собака. Зазвенел близкий ручеек. Наконец появился из пустоты и километровый столб с цифрой «120», и все опять стало так, как было четверть часа назад. Только дымилась посередине шоссе груда искореженного металла, а на обочине, раскинув руки и подставив звездному свету бескровное лицо, лежал мертвый Портос.5
С лязгом и скрежетом двигался по шоссе огромный танк, последнее слово земной истребительной техники. Это слово было сказано триста лет назад, по, к счастью, оно запоздало и уже не понадобилось людям, и все триста лет танк простоял и одном из залов Музея истории оружия. Там его нашли Атос и Арамис, хороший мастер и хороший ученый, быстро освоились с ним, отладили, снарядили и вывели на первое боевое дело. Гремели гусеницы, мерно и мощно ревели двигатели, грозно поворачивалась вправо и влево приземистая орудийная башня, и словно щетина дикобраза торчали во все стороны ракетные установки. А по сторонам шоссе уходил назад дремучий лес, затянутый голубоватым утренним туманом, и уползали назад километровые столбы: 161… 162… 163… Танк вел Атос, а Арамис сидел у орудия и поворачивался имеете с башней, а у кормовой переборки лежало тело Портоса, завернутое в серый брезент. Друзья с первого же взгляда попили, что произошло у сто двадцатого километра, и все-таки Атос спросил сдавленным голосом: «Таран?» — «Таран», — тихо ответил Арамис. Лодка угодила носом в рабочий отсек гнусного механизма и полностью разрушила его, но преступники уцелели и скрылись, и надо было настигнуть их и покарать, и даже не столько покарать, сколько обезвредить, вырвать у мерзавцев зубы раз и навсегда! Может бить, нам это не удастся, думал Атос, может быть, они прихлопнут наш танк, как муху, но попытаться необходимо. Мы ведем разведку боем, а за пашей спиной уже поднимаются такие силы, о которых даже мы не имеем представления, и как же худо им придется, этим космическим ворам, бандитам, убийцам… «Галя, наверное, еще спит, — думал Арамис. — Перед выходом мы забежали попрощаться (в это время Портос был еще жив), но она спала, как сурок, засунув голову под подушку и выставив из-под простыни голые ноги. Бедная девчонка, будет очень много горя, очень много слез, она так любила спортсмена, и мы тоже его любили, но нам легче, мы-то будем драться…» — Гляди в оба! — гаркнул Атос и с лязгом захлопнул смотровой люк. Лес вокруг разом вспыхнул. В одно мгновение танк оказался в бушующем море багрово-оранжевого пламени. Деревья по сторонам шоссе превратились в столбы ревущего огня. Но танк даже не замедлил хода. Окутываясь тучами черного дыма, осыпаемый фонтанами оранжевых искр, разметая падающие поперек дороги пылающие стволы, он продолжал невозмутимо двигаться вперед. Возникла в дыму и скрылась эмалированная дощечка с цифрой «164». Вперед, вперед! — Кусайся, гадина! — рычал Атос. — Кусайся, пока есть зубы! Но положение с каждой минутой ухудшалось. Друзьям не пришло в голову позаботиться о запасе кислорода, и в машине становилось душно. Нестерпимый жар медленно, но верно проникал сквозь термоизоляцию. От пляски огненных языков ломило глаза, а светофильтров не было… И тут шагах в двадцати впереди с раздирающим треском лопнула земля. Шоссе раскололось. Трещина стремительно ширилась, в раскрывшуюся пропасть полетели горящие деревья и камни. Атос едва успел затормозить. — Молодец, — прозвучал в наушниках шлемофона тихий голос. Атос растянул в улыбке запекшиеся губы. Похвала Арамиса стоила дорого. Он приник к перископу. По эту сторону пропасти бушевало пламя. На той стороне лес был цел и невредим. Еще километр, не больше. Пустяки… Он старательно, как делал это всегда, когда имел дело с малознакомыми механизмами, повернул рычаг до упора вправо и затем от себя. Послышался пронзительный свист. Разметаемые воздушным вихрем, выше пылающих вершин взлетели клочья горящей травы и тлеющие сучья. Танк поднялся над шоссе на воздушной подушке, на секунду замер, как бы примериваясь, потом медленно и плавно перенесся через бездну и, лязгнув гусеницами, мягко встал на шоссе на той стороне. — Кусайся, гадина!.. — прорычал Атос и дал полный ход. Он выдвинул танк на поляну ровно настолько, чтобы дать Арамису возможность нацелить пушку в курган. Наступало утро. Розовые лучи невидимого солнца осветили верхушки деревьев, но поляна пока оставалась в тени, и над травой висели плотные и пушистые, как вата, клочья тумана. Кругом царила тишина и не было заметно никаких признаков жизни. — Дай предупредительный, — сказал Атос сквозь зубы. Длинный тонкий ствол пушки шевельнулся и чуть приподнялся. Грохнул и прокатился эхом выстрел, и сейчас же левее кроны дуба возникла мгновенная вспышка. Дуб облысел, над поляной взметнулась туча сорванной ударом листвы, и клубы черно-красного дыма затянули голые ветви. — Хорошо, — сказал Атос. — Теперь еще раз — пониже. Целься прямо в развалюху… Что за чертовщина! — вырвалось у него. Он оторвался от перископа, протер натруженные огнем глаза и снова приник к окулярам. Но это был не обман зрения. Вершина кургана действительно поворачивалась вокруг оси. Движение это, вначале медленное, едва заметное, становилось все быстрее, и вот уже между вершиной и подножием возникла ровная темная щель. Еще поворот, еще — и вершина вместе с дубом и ветхим домиком откинулась в сторону, словно крышка гигантской чернильницы. Завещали, ломаясь, толстенные сучья дуба, полетели во все стороны трухлявые бревна и доски распадающегося на лету дома. А из недр кургана неторопливо выплыло и повисло в воздухе огромное аспидно-черное яйцо — невиданный космический корабль неведомого мира. Мушкетеры в тапке оправились от первого изумления. — Второй предупредительный! — скомандовал Атос. Пушка грянула второй раз, и снаряд разорвался чуть выше округлого носа космического корабля. Огромное черное яйцо качнулось и затанцевало на месте, словно на невидимых пружинах, и вдруг, зарокотав двигателями, начало подниматься. — Экий наглец, — процедил сквозь зубы Атос. — Целься в корму, Арамис! Три снаряда беглым — огонь! Но стрелять больше не пришлось. Рокоча двигателями, черный космический корабль продолжал набирать высоту, а в его носовой части открылся люк и из него выдвинулся длинный гибкий шест, на конце которого болталась и крутилась маленькая человеческая фигурка. — Галя… — ошеломленно пробормотал Арамис. — Галя! — с ужасом крикнул Атос. Они не верили своим глазам, но это была Галя, их Галя, «капустная кочерыжка», малышка, родственница, в цветастом ночном халатике, связанная по рукам и ногам, беспомощная и недосягаемая. Ветер безжалостно мотал и раскачивал ее, прижимал растрепанные волосы к ее лицу, мешая смотреть, но она все же заметила их танк и тоненько закричала задыхающимся голоском: — Что же вы смотрите?! Атос! Портос! Арамис! Стреляйте! Бейте их! Бейте! Высунувшись из люков, онемевшие от горя и ужаса, они смотрели, как черный космический корабль поднимается все выше и выше, превращается в черное пятнышко и, наконец, растворяется в розовом утреннем небе… Атос все стоял в своем люке, бессмысленно уставившись в розовую пустоту над собой, когда сильная рука больно сжала его плечо. — Очнись, — жестко сказал Арамис. — Надо действовать. — Но как же она… — Это потом. А сейчас — на космодром, быстро! Они нырнули в люки и захлопнули над собой тяжелые крышки. С громким лязгающим звуком из-под бортовых плит выдвинулись крылья. Секунда — и реактивный самолет с коротким фюзеляжем и скошенными назад крыльями взлетел над дымящимися после пожара верхушками деревьев. На шоссе, как пустая скорлупа, остались гусеничные шасси и броневой остов, увенчанный приземистой башней. И остался Портос…6
А произошло это так. Среди ночи Галю разбудил скрипучий, какой-то спотыкающийся голос, напевавший странную песенку:7
Галя проснулась от глухого свирепого рева. Двуглавый стоял посередине кают-компании и утирал громадным серым носовым платком обе потные физиономии сразу. — Вот! — объявил он, пряча платок куда-то за спину. — Сразились, называется. Повис, видишь ли, у нас на хвосте какой-то наглец и не отстает. Я всадил в него последние пять торпед, и что ты думаешь? Все до единой он расстрелял на лету из лазерной пушки, да как ловко! Нет, чует мое сердце, будет у нас с ним история, не обрадуется Великий… Ну-ка, пошла с моего кресла, девчонка! — заорал он. Галя слезла с кресла и прислонилась к стене. Двуглавый сел на ее место, положил ноги на стол и гаркнул: — Ку! Дверца холодильника распахнулась, и оттуда выскочила мохнатая обезьяна, окутанная облаками пара. — Здесь, Двуглавый! — просвистела она астматическим шепотом. Галя не удивилась и не испугалась. Она устала удивляться и пугаться. — Рекомендую, — произнесла левая голова Двуглавого Юла. — Мой квартирмейстер. Особыми талантами не блещет, трусоват, шулер да к тому же вынужден большей частью жить в холодильнике из страха протухнуть. Но в высшей степени услужлив. Так, Ку? Обезьяна хихикнула и закрыла черными ладонями сначала глаза, потом рот, потом уши на манер трех восточных обезьянок. — Ну-ну! — нахмурилась левая голова. — Нахватался, понимаешь, на Земле… Вот уж планетка… Взболтай мне хорошую порцию ртутного коктейля… и дай девчонке чего-нибудь поесть и выпить. Земного дай, не спутай, скотина! Ку пырнул обратно в холодильник, извлек из него кольцо промерзшей насквозь колбасы, буханку промерзшего насквозь хлеба и бутылку молочного льда. Поставив все это на стол, он снова нырнул в холодильник и завозился там, чем-то булькая, что-то переливая, над чем-то хихикая. — Ешь, — великодушно сказал Двуглавый, указывая на заледенелые деликатесы. — Приступай, не стесняйся. У меня этого добра предостаточно! Галя приблизилась к столу и осторожно постучала по колбасе ногтем. Колбаса нежно зазвенела. — Я пока не голодна, — мужественно сказала Галя, проглотив слюну. — Пусть это пока полежит. Я потом… — Как хочешь, — великодушно согласился Двуглавый. — Я-то, признаться, уже подзаправился в боевой рубке… два кило колчедана потребил. У меня во время сражений всегда аппетит разыгрывается… Ку! — заорал он. — Здесь, Двуглавый! — поспешно отозвалась обезьяна. — Все готово, Двуглавый! Она выскочила из холодильника, с натугой неся перед собой в вытянутых лапах глубокую металлическую кювету, наполненную тяжелой блестящей жидкостью. — Люблю колчедан! — продолжал Двуглавый, принимая кювету одной рукой. — Если колчедан хорошенько измельчить да пропустить через него пары йода… — Он отхлебнул из кюветы сначала левой, затем правой пастью и закатил все три глаза. — М-м-м… Неплохо. Чуть бы побольше хлорной извести… От кюветы несло такой страшенной химией, что у Гали выступили слезы на глазах, и она поспешно отступила к стене. — Внимание, Двуглавый! — раздался под потолком высокий резкий голос. — Удалось записать отрывок радиобеседы преследующего корабля с неким флагманом. Желаешь прослушать? — Ну-ка, ну-ка! — оживился Двуглавый. Он поставил кювету на стол и спустил со стола ноги. — Давай! Послышался шорох, неясное бормотание, а затем голос, от которого сердце Гали так и запрыгало в груди, деловито произнес: — Флагман, докладывает «Стерегущий»! Внимание, флагман, докладывает «Стерегущий»! — Флагман слушает, — отозвался кто-то незнакомый. — Докладывайте, «Стерегущий»! Флагман слушает… — Докладываю. Семьдесят три минуты назад я был обнаружен и атакован атомными торпедами. Атака успешно отбита. В остальном обстановка без изменений. Пребываю в постоянной готовности следовать за целью в подпространство. Прошу дать вашу обстановку… — Внимание, «Стерегущий», флагман дает обстановку. Третья эскадра следует по вашему пеленгу с постоянным ускорением тридцать метров в секунду за секунду. В настоящий момент скорость около пяти тысяч километров в секунду. Расстояние до вас около двадцати тысяч километров. Внимание, «Стерегущий»! Информация с Земли. Только что следом за нами стартовала восьмая космическая эскадра. Получен общий приказ: обнаружить гнездо космических пиратов… Голос оборвался. Осталось только шипение и потрескивание. Двуглавый подождал немного и спросил: — Ну? — Все, — ответил высокий резкий голос. — А дальше? — Все. Больше ничего перехватить не удалось. — Вот тебе и на, — разочарованно проговорил Двуглавый. — На самом интересном месте… А Галя почти ничего не слышала. Голос Атоса все еще звучал в ее ушах. Атос гонится за двухголовым пиратом, Атос отбивает торпедные атаки, Атос спешит на выручку! Она чуть не плясала от восторга и даже тихонько закричала: — Ко мне, мои мушкетеры! — Ты чего это? — подозрительно осведомилась левая голова, но, к счастью, невидимый радист, все еще шипевший и трещавший где-то под потолком, принял этот вопрос на свой счет. — Через минуту связь по расписанию «экстра», Двуглавый, — почтительно отозвался он. Двуглавый безнадежно махнул рукой. — Давай «экстру», — проворчала левая голова. — Семь бед — один ответ. Ох и взовьется старик! — А кто он такой? — спросила Галя. Она вернулась к столу и, отворачивая лицо от кюветы с ртутным коктейлем, попробовала пальцем колбасу. Колбаса была как каменная. — Кто? — не понял Двуглавый. — Этот… старик. Ну, Великий… Раздался вибрирующий свист, и скрежещущий голос позвал: — Двуглавый! — Здесь, — неохотно сказала левая голова. — Великий слушает тебя. Докладывай. — Докладываю, — глухим свирепым голосом произнес Двуглавый. — За мной погоня. Космический корабль неизвестного типа. Атаковал его атомными торпедами — безрезультатно. Неотступно держится в двухстах километрах у меня за кормом. Прошу разрешения взять его на абордаж. — Ни в коем случае! — загромыхал жирный голос загадочною Великого. — Никаких абордажей! В ближнем бою вы мне там погубите весь товар, а я уже получил под него аванс… Почему ты не уходишь в подпространство, Двуглавый? Почему медлишь? — Рано. Скорость еще слишком мала. Но это еще не все, Великий. По данным радиоперехвата, за преследующим кораблем идут две эскадры. Похоже, мы все-таки разворошили осиное гнездо… — Но это же ужасно! — плаксиво взвыл неведомый Великий. — Это же просто страшно! Будь осторожен. Двуглавый! Будь предельно осторожен, заклинаю тебя кровавой Протуберой и синей Некридой! Это будет катастрофа, если ты наведешь их на нашу базу! Постарайся обмануть их, Двуглавый, а уж убытки по контрактору я, так и быть, возьму на себя… Обведи их вокруг пальца! Натяни им нос, будь они прокляты со своей водой, кислородом, хлорофиллом и красной кровью!.. Ах, как ты меня огорчил, Двуглавый! — Я тебя предупреждал… — Ну и что же, что предупреждал, плачу-то ведь я! Великий нудно сетовал, жаловался, грозился, сулил, увещевал, а Двуглавый, прихлебывая из кюветы, огрызался, оправдывался, обещал, хвастался, а Галя, решив, что сейчас самая пора подкрепить истощенные силы, обгрызала оттаявшие участки колбасного кольца, обсасывала размягчившиеся углы хлебной буханки и облизывала кусочки молочного льда. И это продолжалось довольно долго, но наконец Великий и Двуглавый пожелали друг другу здоровья, и сеанс по расписанию «экстра» закончился. Двуглавый допил свой коктейль, швырнул пустую кювету в обезьяну Ку и мрачно уставился в потолок. — Жирный трус… — бормотал он угрюмо. — Платит он, видите ли… Аванс, видите ли, получил… Катастрофа, видите ли, будет! А мне какое дело? Да пропадите вы все со своими авансами и со своими базами вместе! Головы Двуглавого Юла дороже всех ваших баз и всех ваших авансов!.. Не родился еще в обозримой Вселенной такой носитель разума, ради которого Двуглавый Юл полез бы из своей драгоценной кожи… Галя, выполняя свою программу подкрепления сил, старательно грызла, обсасывала и облизывала заледеневший провиант, обезьяна Ку сидела в углу и чесалась под мышками (ковер под нею потемнел от растаявшей влаги), а Двуглавый все бормотал и ругался и заверял всех, кого это может интересовать, что величайшей драгоценностью в обозримой Вселенной является именно он, Двуглавый Юл, а не какие-то там авансы и тем более базы. Потом левая голова его взглянула на Галю, и обе физиономии прояснились. — А не развлечься ли нам? — провозгласил пират. Галя встревожилась, но не подала вида. Между тем Двуглавый извлек откуда-то веревку и привязал к ней великолепный брильянт чистейшей воды. «Ну, уж это дудки», — подумала Галя. — Ты поспала, девчонка? — осведомилась левая голова. — Поспала, — с вызовом ответила Галя. — Поела? — Поела. — Попила? — Попила. — Тогда давай играть. Двуглавый бросил брильянт на пол и дернул за веревку. Брильянт, сверкая и отбрасывая на стены зеленоватые блики, покатился по грязному ковру. — Ну? — нетерпеливо сказала левая голова. Галя отрицательно покачала головой. — Не умеешь? — разочарованно проговорила левая голова. — Эй, Ку, а ну покажи ей, как надо! Ку тигром бросился на брильянт. Двуглавый не успел дернуть за веревку — Ку схватил добычу и на четвереньках выскочил из комнаты. — Ку! — взревел Двуглавый в две глотки. — Стой, прохвост! А ну вернись! Назад, кому говорят? Ку неохотно вернулся. — Подойди ко мне! Ку очень неохотно подошел. — Давай сюда камень! — загремела левая голова. Ку помотал головой и показал пустые руки и ноги. Тогда Двуглавый поймал его за шерстистый загривок и по локоть засунул руку ему в пасть. Ку затрясся, глаза его вылезли из орбит, а Двуглавый с торжеством вытянул руку и разжал кулак. На ладони его сверкал брильянт и лежали несколько золотых монет. — Ворюга! — сказал Двуглавый и дал обезьяне оглушительную затрещину. Ку, тихонько прискуливая, убрался к себе в холодильник. Двуглавый обернулся к Гале: — Поняла, как надо играть? — Сам играй в такие игры! — вне себя от злости крикнула Галя. — Дурак двухголовый! Двуглавый вскочил. — В карцер! — заорал он, топая ногами. — В карцер, негодная девчонка!8
Галя сидела в темном карцере, погруженная в самое мрачное уныние. Ей очень хотелось плакать от обиды и злости, и очень болело ухо, за которое ее тащил сюда в пьяном раже разъяренный Двуглавый. В довершение всего ее удручала и утомляла необходимость сидеть совершенно неподвижно. Дело в том, что карцер у пиратов представлял собой длинную горизонтальную трубу с гладкими стенками, закрытую с одной стороны тяжелой крышкой люка, а с другой — ребристым металлическим щитом. Эта труба при малейшем движении начинала раскачиваться, и Гале приходилось тогда изо всех сил упираться руками и ногами, чтобы не стукнуться затылком или не расквасить нос. Итак, Галя сидела в темноте, стараясь не двигаться, и то лелеяла разнообразные планы мести, один другого ужаснее, то мысленно упрекала своих далеких друзей в нерасторопности и нерешительности, когда ей вдруг почудилось где-то совсем неподалеку жалобное стенание. Она прислушалась… Да, сомнений не было: кто-то не то вздыхал, не то стонал, и звуки эти доносились из-за ребристого щита, закрывавшего дальний конец трубы. Тогда Галя вскочила на ноги и, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, побежала туда. Все-таки она несколько раз упала, а один раз даже перевернулась через голову, но в конце концов добралась до щита и приникла ухом к ребристой холодной поверхности. И сейчас же услышала протяжный горестный вздох. — Кто там? — вполголоса окликнула она. Наступила тишина, затем кто-то прошептал хрипло: — Не смею отвечать. Кто спрашивает? — Галя… — Впервые слышу. — Галя. Так меня зовут. Я пленница. — Тебя уже вмонтировали? Это был странный вопрос, и Галя не сразу нашлась, что ответить. — Н-нет, по-моему… Не знаю… Я в карцере сижу. На этот раз удивился ее неведомый собеседник. — Как — в карцере? Почему в карцере? Ты спряталась? Бежала? — Наоборот, меня посадили… — Постой, ты с какой планеты? — С Земли… — С Земли? Ты с Земли? О, послушай, мне необходимо увидеть тебя! Иди сюда! — Куда? — Ко мне, в штурманскую рубку, конечно… — Где это? И потом, я же заперта… — Я отопру… Не бойся, сейчас сюда никто не заглянет. Ребристый щит медленно раздвинулся, и Галя с превеликим облегчением покинула шатающуюся тюрьму. Штурманская рубка оказалась низким и круглым, как барабан, помещением. Стены по кругу были уставлены цилиндрическими баками высотой в человеческий рост, торчащими из специальных гнезд, так что весь их кольцевой ряд напоминал снаряженную пулеметную ленту. Под потолком висел громадный черный ящик, от которого к каждому баку тянулись гибкие рубчатые шланги, а под ящиком был установлен небольшой пульт с двумя черными и одной красной кнопкой; из щели сбоку торчал обрывок перфоленты. Галю поразила невообразимая и отвратительная грязь, царившая здесь повсюду. Пол был усыпан какими-то гниющими отбросами и раскисшими сигаретными окурками. Пульт был весь липкий и мохнатый от приставшей пыли, клочья той же маслянистой пыли торчали из щели для перфоленты. Баки вдоль стены были покрыты неряшливыми белыми потеками, а гнезда, в которых они держались, лоснились от сырой ржавчины. Гнусного вида белесые сосульки свисали со шлангов и с краев ящика, на потолке красовались жирные, не менее гнусного вида пятна. И здесь поразительно скверно пахло — тухлятиной, падалью, дрянью. — Значит, вот вы какие, жители таинственной Земли, — раздался хриплый шепот. — Смешные… В жизни не видал таких смешных существ! И это у таких, как вы, пятнадцать миллиардов ячеек! Что ж, тем хуже для вас. Теперь ваша очередь идти на конвейеры Искусника Крэга, и, может быть, обитатели других миров вздохнут свободнее… Галя завертелась на месте. — Где же ты? — растерянно спросила она. — Здесь. — Где? — В машине, конечно, где же еще… Да перестань ты вертеться, Галя с Земли, все равно ты меня не увидишь! Меня, собственно, вообще нет… — Ничего не понимаю. Кто же ты? — Когда-то я был счастливым Мхтандом с планеты Оаба, а теперь я — жалкий узел номер шестнадцать бортовой штурманской машины пиратского крейсера «Черная Пирайя». Теперь поняла? — Нет. Почему это ты — узел? — Потому что меня и еще полторы тысячи моих соплеменников вместе с Радужным Берегом захватили проклятые наемники проклятого Великого Спрута, и все мы были отданы в когти Искусника Крэга… И никогда же больше не видать нам изумрудного неба Оабы, ее двенадцати синих лун, ее прекрасных гор, покрытых вечными оранжевыми снегами… Какое небо у вас на Земле? — Синее… — Гм… ну да, конечно. А луны? — У нас одна луна, и она золотая… Но погоди, не забывай, что я здесь совсем недавно и еще ничего не знаю. Совсем ничего, понимаешь? Пожалуйста, объясни мне, что здесь происходит. Мхтанд тяжело вздохнул: — Зачем тебе это знать? От судьбы все равно не уйдешь… — Мы на Земле привыкли сами определять свою судьбу… Рассказывай! — Ты не на Земле, пленница Галя… — Мы определяем свою судьбу везде! Рассказывай! Мхтанд помолчал немного, затем сказал: — Ну хорошо. Правда, это длинная и печальная история, но время у нас есть… Галя, приготовившись слушать, присела на край пульта, но Мхтанд встревоженно прохрипел: — Осторожно! Не нажми на кнопки! Если нажмешь на черные, то разбудишь всех, а они смертельно устали… А если нажмешь на красную… — Не беспокойся, не нажму, — прервала его Галя, соскочила с пульта и отошла в сторону. — Ну, я слушаю тебя, Мхтанд. Вот что рассказал Мхтанд.9
На другом краю Галактики, в нижнем правом углу Малого Магелланова Облака, есть ничем не примечательная звездная пара, которая состоит из кроваво-красного гиганта Протуберы и мертвенно-синего карлика Некриды. А вокруг этой пары, точнее, вокруг центра тяжести этой двойной звезды обращается сравнительно небольшое небесное тело, именуемое Планетой Негодяев. Вероятно, в свое время у этой планеты было более достойное название, но она с давних пор служила прибежищем для всех прохвостов, подлецов и подонков, уродившихся в нижнем правом углу Малого Магелланова Облака, и потому значилась Планетой Негодяев даже в космических лоциях. В кроваво-красном блеске Протуберы и мертвенно-синем сиянии Некриды привольно живут-поживают и добро наживают торговцы живым товаром, скупщики краденого, кровожадные пираты и содержатели отвратительных притопов. Там замышляются дерзкие набеги на беззащитные миры, заключаются зловещие сделки, с громовыми скандалами пропивается добыча. Звенит золото, рекой льются всевозможные напитки, и сотни тысяч рабов томятся в мрачных подземельях, ожидая своей участи. Участь же этих рабов, захваченных в разных углах обозримой Вселенной, была до сравнительно недавнего времени довольно обычной: их морили в шахтах радиоактивных руд, изнуряли тяжким трудом на плантациях драгоценных злаков и даже употребляли в пищу. Но около сотни лет назад к Великому Спруту, весьма деловому носителю разума, неимоверно богатому мерзавцу и в высшей степени влиятельной личности на Планете Негодяев, явился некий Крэг, разумный, но начисто лишенный чувств паук из мрачной системы безымянной нейтронной звезды. Этот Крэг представил Великому Спруту самый подлый и позорный, самый дерзкий и фантастический в истории Вселенной проект, который, однако же, сулил и фантастические прибыли. Как известно, в современной технике нельзя и шагу ступить без надежных и универсальных механизмов управления и контроля. Механизмы эти строятся на принципах автоматики и кибернетики, а вся известная автоматика и кибернетика — на электронной технике. Известно также, что для создания надежных и универсальных механизмов управления и контроля требуются колоссальные затраты: на ученых, на конструкторов, на инженеров, на лабораторное, инструментальное и заводское оборудование. К чему все эти затраты? — вопросил подлый Крэг. К чему тратить деньги на создание устройств, давно и в изобилии созданных самой природой? В обозримой Вселенной обитают миллиарды и миллиарды разнообразных разумных существ, и каждое из них носит в себе в высшей степени компактный, надежный и универсальный механизм управления и контроля. Да, как это ни чудовищно, паук имел в виду мозг разумного существа. В своих лабораториях он научился сращивать живую материю с мертвыми материалами и создал первые образцы вычислительных машин, работающих на мозгах разумных существ. Натурально, Великий Спрут, весьма деловой носитель разума и неимоверно богатый мерзавец, сразу ухватился за эту идею. Он бросил на нее половину своего баснословного состояния. Отныне участь несчастных пленников, попавших в лапы пиратов с Планеты Негодяев, решалась однозначно: все они до единого загонялись на конвейеры в гигантские мастерские Крэга, и на космические рынки потекли партии надежных и универсальных, весьма компактных механизмов управления и контроля. Но живые мозги, вмонтированные в эти механизмы, нуждаются в непрерывном и обильном питании. Причем каждый нуждается в своем. Мозг разумного обитателя планеты Оабы, например, нуждается во фторе, соляной кислоте и магнии. И тут Искусник Крэг предложил Великому Спруту другую свою дьявольскую выдумку. Машину, которая может осуществлять трехмерную контракцию и потому называется контрактор. Никто не знает, как устроен и как работает этот контрактор, но с его помощью оказалось возможным захватывать и упаковывать в сравнительно малые емкости огромные планетные территории вместе с их атмосферой, морскими и речными бассейнами, растительностью, животным миром и населением. Однажды таким вот образом была захвачена целая планета, которую потом, потехи ради, запустили вокруг мертвенно-синей Некриды… И вот уже сотню лет пиратские корабли Великого Спрута, оснащенные контракторами, рыскают по Вселенной, крадут с обитаемых планет более или менее обширные области и доставляют их в обиталище Великого Спрута. Разумное население загоняется на конвейеры Крэга, а контейнеры с атмосферой, морями и прочим придаются к готовым вычислительным машинам в качестве блоков питания… Однажды (это было сравнительно недавно) Великий Спрут, этот самый выдающийся мерзавец под кроваво-красной Протуберой и мертвенно-синей Некридой, владелец ядерных, бактериологических и химических комбинатов, на которых трудились тысячи высококвалифицированных рабов и роботов, шеф научно-исследовательских институтов и лабораторий, в которых работали сотни знаменитых профессоров и жаждущих славы лаборантов, адмирал флота из пяти сверхдальних звездолетов, на которых верой и правдой служили ему десятки отъявленных головорезов, содержатель множества притонов, где выпивались тысячи литров серной кислоты, высокооктановой нефти, сжиженного метана… — И единоличный хозяин этой отвратительной фабрики мозговых машин… — Разумеется, но это страшный секрет! Даже на Планете Негодяев об этом знают не все, а те, кто знают, предпочитают помалкивать. У них там строго: проболтался — на конвейер… — Но вы-то почему не бунтуете? Почему не отказываетесь работать? Боитесь, что вас тогда убьют? Так лучше смерть, чем такое существование… — Да, смерть лучше… Но вон видишь ты эту красную кнопку на пульте, Галя с Земли? При отказе… да что там, при малейшей ошибке в расчетах оператор нажимает эту кнопку, и мы все тогда испытываем мучительную, непереносимую боль. Таких мук ты себе и представить не можешь… — А этот черный ящик… — В нем наш Радужный Берег. В нем зеленый песок, коричневые рощи и фиолетовое море моей родины… Эх, да что говорить! — Погоди. А как же те, кто покупает эти жуткие машины? Неужели все они такие бессовестные негодяи? — Нет, конечно. Просто никто не знает, как они устроены, эти машины. По условиям купли-продажи категорически не рекомендуется вскрывать их… Да если и вскроет их кто, что он там увидит. — Так ведь машины могут сами рассказать владельцам, кто они на самом деле… — Все машины немы. Я — единственный узел, способный разговаривать… Так сделано по особому заказу, и я не в счет. Ну, а покупателей предупреждают, что в случае заминки или неточности в работе следует несколько раз нажать на красную кнопку, вот и все… Но мы отвлеклись. Продолжаю. Это уже касается тебя, твоих соплеменников и твоей планеты… Итак, однажды Великий Спрут предавался короткому послеобеденному отдыху. Он нежился в золотом бассейне, наполненном крепким раствором медного купороса, и четверо грустных одноглазых рабов с робкой планеты Бамба массировали его раздутую пятнистую тушу электрическими щетками под напряжением в пятьсот пятьдесят вольт. Великий Спрут ежился и содрогался от удовольствия, но при этом не забывал о делах — слушал доклад своего верного клеврета и исполнителя самых своих тонких поручений Мээса, который висел перед ним вниз головой, закутавшись в широкие кожистые крылья. Кстати, Мээс — это было прозвище, и означало оно просто Мерзкий Старикашка. Вероятно, именно эту минуту следует считать началом эпохи великих бедствий и испытаний, которые вскоре неизбежно обрушатся на обитателей зеленой планеты Земля, ибо именно в эту минуту грянул звонок телевызова. — Кто там еще!.. — проворчал Великий Спрут. — Впусти. Мээс вытянул длинный белый хобот и включил телеэкран, и перед Великим Спрутом появилось неприглядное изображение его первого консультанта по вопросам науки и техники Искусника Крэга — паука с безымянной системы безымянной нейтронной звезды, бессовестного создателя машин на живых мозгах и изобретателя страшного контрактора. — Здравствуй, Великий, — прошипел Искусник Крэг и протянул сквозь экран жуткого вида мохнатую лапу с ядовитым крючком на конце. — Привет, Искусник! — отозвался Великий Спрут и осторожно пожал протянутую лапу жуткого вида щупальцем, усаженным шевелящимися присосками. — Скребешься? — завистливо произнес Искусник Крэг. У него всегда чесалась головогрудь, но — увы! — твердый панцирь не давал ему возможности почесаться, и потому он всегда завидовал мягкотелым. Даже рабам. — Как видишь, — проворчал Великий Спрут. — Бородавки одолели. С чем пожаловал? Искусник Крэг положил локти на край экрана, снял свои роговые очки и принялся методически протирать стекла. Головогрудь Искусника Крэга украшали двенадцать глаз, поэтому процедура протирания двенадцати стекол всегда была у него довольно затяжной. Но Великий Спрут знал своего консультанта и терпеливо ждал. Наконец Крэг водворил очки на место и сказал: — Я здесь посчитал немного… При этих словах Великий Спрут плотно закрыл правый глаз и широко распахнул левый, а Мээс возбужденно задергался и захрюкал. Когда Искусник Крэг начинал разговор словами «я здесь посчитал немного», это всегда означало, что предстоят огромные расходы, которые, однако же, сулят еще более огромные прибыли. — Я здесь посчитал немного, — сказал Искусник Крэг, — и нашел, что нашему производству угрожает некоторый застой. — Продолжай, — произнес Великий Спрут. — Пределы компактности систем на мозгах обитателей известных нам миров практически достигнуты. Самый мощный мозг, с которым мы сейчас имеем дело, заключает в себе полтора миллиарда ячеек, или, выражаясь по-научному, нейронов. Система из ста пятидесяти миллиардов ячеек, как легко подсчитать, должна состоять из ста таких мозгов с соответствующим числом церебрариев и соответствующим объемом блоков питания. — Продолжай, — проворчал Великий Спрут. — Пока ты очень все понятно рассказываешь… — Я здесь посчитал и нашел, что теоретически возможны разумные существа с мозгом из пяти, десяти и даже пятнадцати миллиардов ячеек, или нейронов. Системы на таких мозгах были бы в пять — десять раз компактнее наших лучших нынешних, а прибыли от их реализации увеличились бы в десять — двадцать раз. — Продолжай, продолжай! — воскликнул Великий Спрут. — Это ты очень интересно докладываешь… — Я нашел также, что непременным условием возникновения, развития и функционирования разумных существ с подобным мощным мозгом является наличие кислорода, воды, хлорофилла и красной крови. Короче говоря, Великий, если мы не хотим останавливаться, а хотим двигаться дальше по пути научно-технического прогресса, нам совершенно необходимо найти несколько так называемых зеленых планет и приступить к их активной разработке. — Зеленые планеты… — проскрежетал Мээс. — Разве такие бывают? — Этого я не знаю, — сказал Искусник Крэг. — Я знаю, что теоретически они возможны. Известно также, что мозг носителя разума не может выработать ни одного представления, которое не имело бы соответствия в природе. Надо искать. Нацелиться на кислород, воду, хлорофилл и красную кровь и искать. Одно могу сказать — в случае успеха прибыли будут колоссальны. — Будем искать! — решительно объявил Великий Спрут. Искать зеленые планеты! Оказалось, что сказать это легче, чем сделать. Множество дней и ночей рылись секретари Великого Спрута в старых бортовых журналах сверхдальних звездолетов; столько же дней и ночей охранники Великого Спрута допрашивали рабов и пленников с самых отдаленных миров; столько же дней и ночей тайные агенты Великого Спрута терлись в притонах и тавернах среди пропившихся забулдыг. Увы! В старых бортовых журналах о зеленых планетах не говорилось ничего. Из всех рабов и пленников только один, принадлежащий к расе разумных амфибий, обитающей в системе далекого Серого Солнца, припомнил, что точно, была когда-то зеленая планета поблизости от его родины, но ее пустили под полигон для испытания новых видов истребительного оружия, и зелень с нее сошла уже давным-давно. А пропойцы в притонах и тавернах демонстрировали готовность поглощать даровое угощение в неограниченных количествах и потому рассказывали о зеленых планетах много и с подробностями, причем все время врали. В конце концов Великий Спрут потерял терпение и совсем было уже решил отказаться от этого смутного предприятия, но тут к нему в кабинет впорхнул самый верный его клеврет и исполнитель самых тонких его поручений Мээс. Он был единственный, кого Великий Спрут допускал к себе без доклада. По обыкновению повиснув вниз головой, Мээс закутался в кожистые крылья и прикрыл глаза голыми веками. — Говори, — разрешил Великий Спрут. — Будь здоров, Великий! — сказал Мээс. — А известен ли тебе некий Двуглавый Юл? — Да, — ответил Великий Спрут. — Знаменитый вольный пират. Мы поставили ему одну из первых мозговых машин. — Он только что вернулся из Глубокого космоса. — Так. — Он узнал, что нам нужны сведения о зеленых планетах. — Так! — Он знает кое-что об одной зеленой планете. — Так!! — Он готов побеседовать лично с тобой. — Так!!! — Сегодня вечером он ждет тебя на борту своей «Черной Пирайи». — Угу… Кого-нибудь другого на месте Великого Спрута такое бесцеремонное приглашение наверняка оскорбило бы. Ему, Великому, тащиться в гости к простому пирату, у которого ничего за душой нет, кроме нахальства и потрепанного звездолета! Но Великий Спрут, в высшей степени деловой носитель разума, был не из тех, кто считается визитами. — Отлично, — проворчал Великий Спрут. — Сообщи ему, что мы будем после захода Протуберы. Поздно вечером, когда кроваво-красная Протубера скрылась за острыми пиками Хребта Страданий и в фиолетовом небе остался только мертвенно-синий диск Некриды, длинный, закрытый ракетомобиль Великого Спрута вкатился на космодром. Ах, какие только корабли можно было увидеть на главном космодроме Планеты Негодяев! Ионолеты, атомолеты, нейтронолеты, гравилеты, летающие тарелки, летающие кастрюли, летающие бидоны, летающие самовары, большие и малые, новенькие с иголочки и изрытые метеоритными шрамами, корабли нападения и корабли защиты, откровенно грозные космические линкоры, ощетиненные смертоносным оружием, и притворно беззащитные корабли-ловушки, упрятавшие смерть в глубоких трюмах… Впрочем, никакого движения не было заметно между этими бронированными чудовищами, так как их экипажи все поголовно пьянствовали и играли в кости в портовых кабаках. Ракетомобиль Великого Спрута пролетел в самый дальний угол космодрома и остановился перед огромным яйцом аспидно-черного цвета. Это и была наводящая ужас «Черная Пирайя», зловещая бригантина Двуглавого Юла. И едва четверо угрюмых шестируких и десятиглазых гигантов-телохранителей извлекли из ракетомобиля носилки, в которых возлежал Великий Спрут, как усиленный динамиком двойной голос знаменитого пирата прогремел: — Будь здоров, Великий! Я жду тебя. Мээс, топорща кожистые крылья и переваливаясь на коротких лапках, первым вступил в распахнувшийся люк; телохранители с носилками взошли на борт «Черной Пирайи» следом за ним. Конечно, Великий Спрут мог свободно передвигаться и без посторонней помощи, но, будучи в высшей степени деловым носителем разума, он справедливо полагал неразумным вводить в соблазн знаменитого пирата. Носилки были достаточно благовидным предлогом иметь телохранителей подле себя, а телохранители у Великого Спрута были существа свирепые, не совсем разумные и чрезвычайно преданные, и шутить шутки в их присутствии не рискнул бы даже такой лихой парень, как этот двухголовый мерзавец. Даже ради миллиардного выкупа. Двуглавый Юл принял гостей в своей шестиугольной кают-компании с круглым столом посередине и с большим холодильником, на котором торчало чучело какого-то маленького зверька. Пират стоял у стены напротив двери, широко расставив длинные, тощие ноги и привычно положив руки на кобуры пистолетов, свисавшие ему на бедра. Правая голова, с черной повязкой через правый глаз, курила сигарету, глаза левой го ловы холодно и бесстрастно разглядывали Великого Спрута. Телохранители поставили носилки на стол, отступили в углы и стушевались. Мээс поискал глазами на потолке, расписанном в красно-зеленую шахматную клетку, не нашел, за что можно было бы уцепиться, и остался стоять рядом с Великим Спрутом. Двуглавый Юл предложил Великому Спруту глоток ртутного коктейля, но тот отказался. — К делу, Двуглавый, — проворчал он. — К делу так к делу, — согласился пират. — Мне нужны зеленые планеты, — сказал Великий Спрут. — Я не знаю, где найти зеленые планеты. Мне сообщили, будто ты знаешь кое-что об одной зеленой планете. Это правда? — Правда, — ответила левая голова. — Ты знаешь, где она находится? — Знаю. — Но это точно зеленая планета? — Точно. — Кислород, хлорофилл, вода, красная кровь? — Все так. И многое другое. — Другое меня не интересует. Там есть разумная жизнь? — И еще какая! — Отлично. Сколько ты хочешь за координаты этой зеленой планеты? Правая голова Двуглавого Юла выплюнула окурок и засмеялась. — Прежде скажи мне, Великий, что ты собираешься с нею делать? — Это тебя не касается. Головы переглянулись, затем Двуглавый Юл пожал плечами. — Как угодно, — сказала левая голова. — За координаты я возьму с тебя недорого — всего сто тысяч. Но в остальном пеняй на себя. Великий Спрут, в высшей степени деловой носитель разума, озадаченно воззрился на двухголового пирата и проворчал: — Что ты имеешь в виду? — Послушай, Великий, что нам толку ходить вокруг да около? Ты забыл, что моя штурманская машина сделана по особому заказу. Она у меня говорящая. Что делать, моя слабость — люблю почесать язык, особенно левый, и люблю послушать, как плачут побежденные. Так вот, я отлично знаю о твоих делишках с Искусником Крэгом и представляю себе, чего тебе нужно на зеленой планете. Клянусь багровой Протуберой и синей Некридой, я вполне сочувствую твоим поползновениям, но… — Но? — Но боюсь, что это дорого тебе обойдется. — Это еще почему? — Видишь ли, эту планету населяют так называемые люди. — Ну и что? — А то, что это тебе не говорящие лягушки из системы Серого Солнца и не трусливые коты с Цирцеи, которые притворяются мертвыми, едва до них дотронешься… — И ты полагаешь, что меня может остановить население какой-то паршивой планетки? Меня? Великого Спрута? Да я их в порошок сотру, в ступе истолку, прахом пущу! — Допустим. Ты можешь попытаться отравить их отвратительную кислородную атмосферу, выпарить их ужасающие водяные океаны, погасить их возмутительное желтое солнце. Но даже если это удастся тебе безнаказанно, цели-то своей ты все равно не добьешься! Как я понимаю, тебе нужны живые головы, а не мертвые черепа… Великий Спрут надулся и некоторое время молчал. Потом он прорычал хрипло: — Ладно. Рассказывай. — Информация стоит денег. Вместе с координатами это обойдется тебе в миллион. Великий Спрут взглянул на Мээса, тот длинным белым хоботом извлек из носилок мешок с деньгами и бросил к ногам пирата. Но Двуглавый Юл не взглянул на мешок. Взгляд его был устремлен в одному ему ведомые глубины мрачного и кровавого прошлого. — Я открыл эту планету и был на ней дважды. Первый раз я высадился там восемьсот лет назад. Мне удалось взять немного золота, и я захватил на пробу сотню пленных. На обратном пути пленники взбунтовались… — Что? Как ты сказал? — Пленники взбунтовались. Другого слова я не подберу. Они принялись крушить все вокруг себя, как экипаж корабля, недовольный своим капитаном, и убили моего боцмана. С тех пор я летаю без боцмана… — Как же ты поступил? — Мне пришлось открыть наружные трюмные люки, — с отвращением проговорил Двуглавый Юл, — и затем выбросить мертвецов за борт. Так я остался без добычи впервые в своей долгой жизни. Второй раз я посетил эту планету четыреста лет назад. На ней свирепствовала война. Я решил воспользоваться этой сумятицей и погреть руки у их огня… а огня там было предостаточно, могу тебя заверить, Великий… — И что же? — Мне врезали с двух сторон сразу. Я потерял правый глаз на правой голове, своего лучшего канонира и изрядный кусок кормы. Корму я потом подремонтировал, но с тех пор летаю без правого глаза и без канонира… — И ты… — И я бежал оттуда без оглядки, причем нисколько этого не стыжусь. Так я остался без добычи второй раз в жизни. — А дальше? — Это, собственно, все. Великий Спрут сказал раздумчиво: — Информация, безусловно, стоит миллиона. А что бы ты мне в таком случае посоветовал? — Людей нельзя запугать и захватить, — медленно произнес Двуглавый Юл. — Их нужно красть! Воцарилось молчание. И вдруг Мээс развернул свои кожистые крылья и захлопал ими, гогоча во все горло и наполняя кают-компанию зловонным ветром. — Гм… — сказал Великий Спрут. — Но моим головорезам такая тонкая работа не по плечу. Они умеют только жечь и грабить… — Поручи это дело мне, — предложил Двуглавый. — У меня с людьми давние счеты. А уж я со своими ребятками обстряпаю это дельце чистенько, можешь быть уверен. К таким делишкам мы, вольные пираты, приучены с младых ногтей… — Сколько? — сейчас же спросил Великий Спрут. — Миллиард, — сейчас же ответил Двуглавый Юл. — И долю в прибыли. Они поторговались и сошлись на семистах миллионах и на одной десятой процента. — Заметано, — произнес Великий Спрут, отдуваясь. — С этого часа ты у меня на службе. Ты будешь поставлять мне живых людей и соответствующие территории для их жизнеобеспечения. Контрактор ты получишь, о технике договоришься с Искусником Крэгом. Теперь так. Не ввязываться ни в какие драки. Ни в коем случае не выявлять себя. Пусть вашим девизом остается: налететь, схватить и исчезнуть без следа. — Сделка заключена, — объявил Двуглавый Юл. — А теперь позволь представить тебе мою команду. — Позволяю, — сказал Великий Спрут. — Экипаж! Стройся! — взревел Двуглавый Юл. Вот это был сюрприз. Круглый стол посередине кают-компании изогнулся, сбросил с себя носилки и, обернувшись голенастым ящером, вытянулся перед Двуглавым Юлом. С потолка, храня на теле его красно-зеленый шахматный узор, сорвалась разлапистая морская звезда и пристроилась рядом с ящером. Распахнулась дверца холодильника, и мохнатая обезьяна, окутанная облаком пара, выскочила оттуда и встала рядом с морской звездой. И чучело зверушки на холодильнике соскользнуло на пол и замерло подле обезьяны. — Моя команда! — провозгласил Двуглавый Юл. — Самые отчаянные и хитроумные ребята во всей обозримой Вселенной. Это Ка, — показал он на ящера. — Может принимать любой облик и прикидываться любым предметом. Это Ки. — Он показал на морскую звезду. — Обладает замечательным даром мимикрии. Способен в две секунды слиться с обстановкой и стать невидимым. Это Ку. — Он показал на обезьяну. — Может сколь угодно долго пробыть в космическом пространстве без всякого скафандра. И, наконец… — Он показал на ни на что не похожего малыша. — Это мой малыш Ятуркенженсирхив, шпион, которого носят с собой. — Рад сделать знакомство, — демократически сказал Великий Спрут, любезно улыбаясь. — Экипаж, слушай команду! — рявкнул Двуглавый Юл. — Нашему новому хозяину — привет! — Будь здоров, Великий! — гаркнул экипаж. — Вольно, — сказал Великий Спрут и полез в носилки. И, уже устраиваясь поудобнее, подбирая под себя жуткого вида щупальца, он осведомился: — Кстати, как называется эта зеленая планета? — Земля! — хором проговорили сквозь зубы обе головы Двуглавого Юла.10
— Достаточно, Мхтанд, — сказала Галя. — Остальное мне известно. Пираты похитили половину Зеленой долины и тысячу человек, в том числе моего дедушку. Теперь их судьба зависит от нас. Придумай что-нибудь… — Что тут можно придумать! — уныло возразил Мхтанд. — Ничего здесь не придумаешь. Мы здесь думали пять десятилетий, а что толку? — Ты ведь еще ничего не знаешь, — терпеливо сказала Галя. — За этой… «Черной Пирайей» гонятся мои друзья, они преследуют ее по пятам, а за ними идут на подмогу две земные эскадры… — Похоже, нашла-таки коса на камень! — радостно вскричал Мхтанд, mo тут же снова увял. — Бесполезно. Двуглавый Юл хитер, через час он пырнет в подпространство, и тогда ищи его, свищи. Твоим друзьям следовало бы просто уничтожить «Пирайю», и дело с концом. Пли у них нет достаточно мощного оружия? — У них все есть, — уверенно сказала Галя. — Но ведь вместе с «Пирайей» погибли бы и пленники….. — А! Лучше гибель, чем наша страшная участь. — Ну, об этом разговаривать незачем. Думай, Мхтанд, думай! Вы не можете остановить «Пирайю»? — Конечно, можем. Можем остановить, повернуть назад, закрутить колесом… Кораблем управляем мы, без нас «Пирайя» — пустая жестянка. Космические корабли не водят вручную. Но едва мы что-нибудь предпримем, как сейчас же прибежит этот двухголовый палач и нажмет на красную кнопку… Галя подошла к пульту. — Слушай, Мхтанд… — сказала она шепотом и остановилась. — Слушай, Мхтанд! — закричала она. — А если вырвать эту проклятую кнопку из гнезда, что тогда? Секунду Мхтанд молчал, потом прохрипел поражение: — Изумрудные небеса Оабы! Недаром у вас, обитателей Земли, по пятнадцати миллиардов ячеек! Ты молодчина, Галя! Мы, конечно, обречены, но твои соплеменники теперь отомстят за нас… Нажми на обе черные кнопки! Разбуди все узлы! Скорее, пока мы здесь одни! Пока Мхтанд безмолвно излагал своим несчастным друзьям положение, Галя, ломая ногти, выдирала из пульта красную кнопку. — Всё! — сказала она. — Что дальше? — Дальше вот что, — сурово сказал Мхтанд. — Нас сейчас наверняка убьют. Мы прощаемся с тобой, Галя с Земли, не поминай нас лихом. И не огорчайся: смерть для нас — избавление. А ты беги. Из штурманской по коридору налево, там увидишь люк в полу. Открой люк и спустись до самого низа. Увидишь дверь, за дверью отсек спасательной лодки. Забирайся в лодку, не забудь захлопнуть за собой крышку и поверни рычаг управления на себя. Поняла? — Поняла, — сказала Галя упавшим голосом. — А вы? — Мы остановим «Черную Пирайю». Потом нас убьют. Остальное — дело твоих друзей. Беги. У тебя в распоряжении несколько минут. И Галя побежала. Что ей оставалось делать! Ей было всего семнадцать лет, она была измучена, голодна, затравлена, на ней был рваный ночной халатик, и жизнь любимого деда висела на волоске. Но она не успела добежать до люка, как самым плачевным образом обнаружился просчет Мхтанда. Едва взбунтовавшаяся штурманская машина выключила двигатели, в корабле наступила невесомость. Галя по инерции перелетела через люк, стукнулась о переборку и повисла в воздухе. Никогда еще ей не приходилось бывать в таком дурацком и беспомощном состоянии. Она извивалась всем телом, дрыгала ногами, размахивала руками, но не могла приблизиться к люку ни на сантиметр. Между тем из шестиугольной кают-компании донесся яростный вопль, сиплая ругань, звон расшвыриваемой посуды, и в коридоре появилась кошмарная процессия. Впереди, раскорячившись гигантским черным пауком, мчался по стене Двуглавый Юл; за ним, вцепившись в его ремень с кобурами, болтался в воздухе безобразный пузатый ящер, белый в синюю крапинку, весь лоснящийся, словно залитый потом; следом за ящером, пульсируя подобно чудовищной медузе, летела фиолетовая морская звезда, а позади, суетливо отталкиваясь то от стен, то от потолка, то от пола, спешила взлохмаченная обезьяна Ку. При виде этого ужаса Галя едва не потеряла сознания. К счастью, пираты в спешке не заметили ее и скрылись в штурманской рубке, откуда сейчас же загремели раскаты свирепого баса Двуглавого Юла и зазвучал хриплый злорадный голос Мхтанда: — Это что еще за фокусы? Почему выключили двигатель? — Так нам захотелось, Двуглавый. Твоя «Пирайя» больше не двинется с места. Игра окончена. — Где красная кнопка? Клянусь Протуберой и Некридой, это дело рук проклятой девчонки! Эй вы, мозги без скорлупы! За работу, живо! Не то перестреляю всех! — Не страшно, Двуглавый. Мы здесь испытали кое-что и похуже смерти. Да и тебе не пережить нас надолго… — Тогда подыхайте! Загрохотали выстрелы. — Конец… — прохрипел Мхтанд. — Будь ты проклят, пират… Прощай, Оаба… изумрудное небо… — К делу! — рявкнул Двуглавый Юл. — А ну, шевелись, ребята, если вам дорога шкура! Всем собраться в абордажной камере и приготовиться к бою! Пираты снова вывалились в коридор, и тут Двуглавый Юл заметил наконец Галю, все еще беспомощно барахтавшуюся под потолком. Он выхватил было пистолет, но передумал. — Нет, — сказал он. — Мы сделаем умнее. В бою у меня всегда разыгрывается аппетит. Ка, возьми девчонку и хорошенько свяжи. После боя я сожру ее живьем. Галя, стиснув зубы, чтобы не закричать от страха, отбивалась руками и ногами, но где же ей было отбиться от ловкого и опытного в таких делах злодея. Не прошло и минуты, как ее, скрученную и связанную, приволокли в какое-то сумрачное помещение и небрежно швырнули в угол. Все пираты уже были здесь, сгрудившись перед обширным, в полстены, экраном. Тускло отсвечивали ножи, кровавым блеском светились глаза. Двуглавый Юл держал последнюю речь перед боем: — Слушать меня, негодяи! Дело наше дрянь. С «Пирайей» все кончено. Корабль землян рядом, и на помощь ему идут еще две космические эскадры. Всем нам грозит виселица, и у мае единственный шанс на спасение: взять этот корабль на абордаж, захватить его и попытаться удрать на нем. Не знаю, что из этого выйдет. Земляне, видно, отчаянные ребята, с такими мы еще дела не имели. Одна девчонка чего стоит… Вы знаете меня, дети нечистых миров! Если это говорю я, значит, это так и есть. Деритесь за свою жизнь. Но никакого огнестрельного оружия — только мускулы и ножи, иначе мы что-нибудь там разобьем и опять останемся в дураках. Всё. Приготовились! Двуглавый Юл повернул рычажок на пульте перед экраном, и низкое гудение наполнило абордажную камеру.11
Погоня в космосе заканчивалась. Медленно и осторожно, на самых малых оборотах, приближался «Стерегущий» к неподвижной «Пирайе». Медленно росла, заслоняя звездное небо, гигантская туша пиратской бригантины. Атос и Арамис сидели перед пультом, не сводя глаз с обзорного экрана, не снимая пальцев с клавиш управления, не убирая ног с педалей лазерной техники. И тут, словно стая демонов из мира старинной гоголевской чертовщины, ворвались через экран пираты в рубку «Стерегущего». Вот где пригодилась быстрота реакции, выработанная у мушкетеров Портосом в ходе изнурительных тренировок. Внезапность и способ нападения поразили, но не ошеломили их. Начался рукопашный бой в невесомости. Двуглавый Юл схватился с Атосом, ящер, морская звезда и обезьяна насели на Арамиса, а пушистым маленький Ятуркенженсирхив — шпион, которого носят с собой, азартно запрыгал на краю экрана, размахивая кинжалом, как саблей. Да, с таким противником пиратам сходиться еще не случалось. Земляне сражались хладнокровно и с ужасающей свирепостью, увертывались от ножей с ловкостью прямо-таки неправдоподобной, наносили удары убийственной силы. Не прошло и пяти минут, как левый глаз левой головы Двуглавого Юла закрылся огромной лиловой опухолью, из правого носа забрызгала зеленая кровь, а правая рука бессильно повисла, парализованная хитрым приемом самбо. Ящер валялся полумертвый, забитый пинками под пилотское кресло, и Арамис добивал визжавшую обезьяну морской звездой, которую он сжимал за концы щупалец. — Амба, — прохрипел Двуглавый Юл. — Ваша взяла. Сдаюсь. Он висел в воздухе посередине рубки и медленно поворачивался вокруг осн. Обе головы его бессильно колыхались на длинных, вытянувшихся шеях, руки и ноги болтались, словно были привязаны на ниточках. Сражение явно не пошло ему на пользу. Атос подтянул его к себе, снял с него пояс с кобурами и усадил в кресло. — Где Галя? — спросил он, вытирая со лба пот. — Там… — еле слышно проговорил негодяй, попытался показать рукой на экран и сморщил от боли обе физиономии. Атос на всякий случай накрепко прикрутил его к креслу привязными ремнями, а тем временем Арамис зашвырнул морскую звезду в кладовку, загнал туда же всхлипывающую обезьяну и оттащил туда же ящера, все еще пребывавшего в тяжком беспамятстве. Заперев их там, он вернулся в рубку, подошел к экрану, запустил в него руку по плечо и извлек, держа двумя пальцами за шкирку, Ятуркенженсирхива. Зверек покорно поджал лапки и зажмурился в ожидании неминуемой выволочки. Арамис его встряхнул. — Ты чего ж это, бандит? — спросил он. — Я больше никогда не буду, — жалобно пропищал зверек. — Не наказывайте меня, пожалуйста. Я ничего не сделал… Надо же как-то кормиться, сами посудите! Я, конечно, маленький, но жить-то все равно хочется… — Перестань ныть, — сказал Арамис уже обычным своим тихим голосом. — Говори живее, где Галя? — А тут, совсем рядом! — восторженно заверещал Ятуркенженсирхив. — Прямо в абордажной ее оставили… Я как раз хотел развязать ее и доставить сюда, но тут вы как раз так ловко меня схватили… — Не ври. Ты просто прятался и подслушивал. Сейчас ты покажешь, куда идти… Атос, останься, пожалуйста, с этим двухголовым негодяем и не спускай с него глаз. Я постараюсь вернуться как можно скорее. По-прежнему держа Ятуркенженсирхива за шкирку двумя пальцами, Арамис вспрыгнул на пульт, перескочил через край экрана и исчез. Двуглавый Юл завозился в кресле. — Сиди смирно, ты! — грозно прикрикнул Атос. — А ты на меня не ори! — сварливо отозвалась левая голова. — Молод еще на меня орать… Я в двести раз старше тебя, ты по сравнению со мной вообще еще вибрион… — Это вам не поможет, — сухо возразил Атос, но поскольку уважение к старости было уже в крови у юношей к тому времени, он добавил: — Я понимаю, вам неудобно сидеть вот так, связанным, по тут уж вы сами виноваты. Впрочем, сейчас подойдет наша эскадра. Я передам вас флагману, и там нам будет удобнее… — Считаешь, меня повесят? — Не знаю. Как-то не задумывался о такой возможности. Но, в конце концов, почему бы и нет? — Ничего не выйдет! — злорадно заявил Двуглавый Юл. — Это почему же? — А потому, родной, что штурманская машина на моей «Пирайе» тютю, разбита вдребезги, и теперь по эту сторону подпространственного барьера никто, кроме меня, не знает координат Планеты Негодяев. — Какой планеты? — Планеты Негодяев. Нашей базы. — Вы забываете, что вы у нас не единственный пленный… — Ха-ха! Ка, Ки, Ку и этот маленький предатель не то что о координатах — о простой арифметике понятия не имеют. В ведомости на получение своей доли добычи крестиками расписываются. Так что будь спокоен, враг мой, я у вас в единственном числе, и вам придется с этим считаться. Атос не нашелся что сказать на это. Действительно, земные эскадры имели задание ворваться на плечах пиратского корабля в ближайшие окрестности главной базы космических негодяев и принудить ее к капитуляции. И если двухголовым пират не врал (а какой ему смысл врать, если подумать), положение сильно осложнялось. — Но может быть, под угрозой смертной казни… — Забудь. Ты имеешь дело со старым и стреляным-перестреляным космическим волком. Драться вы не разучились, в этом вам не откажешь, но насчет смертной казни… Нет! Вы отвезете меня к себе на Землю, будете содержать в приличных условиях, а я буду вспоминать прошлое и терзаться угрызениями совести. Может быть, даже слегка помешаюсь, но потом, окруженный всеобщей заботой, перевоспитаюсь и уж тогда все как есть выложу со слезами на трех своих глазах… В это время из-за экрана на пульт шагнул Арамис с Галей на руках. Следом в рубку вскочил Ятуркенженсирхив, победоносно размахивай мотком веревки. Арамис осторожно уложил девушку в кресло второго пилота, и голова ее бессильно поникла на грудь. Опухшие от слез глаза были закрыты. — Коллапс, — сказал Арамис. — Очень ослабела, очень переволновалась, очень измучена… — Ничего с нею не случится, — проворчал Двуглавый Юл. — Уж я — то знаю, девчонка железная! Такие царей себе подчиняли, империи на распыл пускали… Эх, не раскусил я ее вовремя, не догадался, старый дурак… Арамис только мельком взглянул на него и продолжал, обращаясь к Атосу: — Впрочем, насколько я понимаю, ничего серьезного. Я вспрыснул ей успокаивающее, через десять минут напоим ее куриным бульоном и крепким чаем, а там, надо полагать, подоспеет и эскадра с флагманским врачом… Теперь вот что. Этот пушистый подхалим сообщил мне нечто первостепенной важности. Подвергшийся трехмерной контракции участок Зеленой долины со всем его населением упакован в пятнадцать контейнеров, которые сложены у них в трюме… И у меня такое впечатление, что эти негодяи уже сотню лет занимаются подобным разбоем на обитаемых мирах! — Могу себе представить, — угрюмо сказал Атос и с ненавистью взглянул на Двуглавого Юла. — Но вся беда в том, что добраться до их гнезда нам сразу не удастся. Арамис поднял брови и открыл было рот, собираясь задать очередной вопрос, и в ту же секунду в рубке загремел властный голос: — Внимание, «Стерегущий»! Говорит флагман! Вижу вас! Вижу рядом с вами чужой корабль! Что произошло? Доложите обстановку! Атос подошел к микрофону: — Флагман, слышим вас. «Стерегущий» докладывает. Двадцать семь минут назад пиратский корабль внезапно остановился, и его экипаж в количестве пяти… гм… разнообразных существ, используя неизвестный нам технический прием, ворвался в рубку «Стерегущего»… Внимательно выслушав доклад Атоса, флагман сказал: — Вас понял, «Стерегущий». Поздравляю с полной победой. Ваш доклад транслировался на Землю во Всемирный совет. Я на подходе. Готовьтесь принять концы. Сразу после швартовки забираю Галю к себе на борт для медицинского осмотра и полного отдыха. Забираю к себе также всех пленных и в первую очередь двухголового главаря для более тщательного допроса. Подготовьтесь к приему и переводу в трюм пиратского корабля разгрузочной команды в составе пятнадцати роботов и двух инженеров. Полагаю, что первый этап нашего похода можно на этом считать законченным. Перед том как приступить ко второму этапу… — Перед тем как приступить ко второму этапу, почтенный флагман, вам придется вернуться к себе на Землю не солоно хлебавши! — проорал Двуглавый Юл. — Набирайтесь терпения, земляне, клянусь багровой Протуберой и синей Некрндой, оно вам понадобится!.. Он захохотал и закашлялся, сгибаясь в кресле. Атос из сострадания постучал его кулаком в широченную спину. — В одном могу вас утешить, мастера кулачного боя, — продолжал Двуглавый Юл. — По ту сторону подпространственного барьера координаты вашей зеленой планеты знал тоже только я один. Ни одна живая душа их там больше не знает. Так что, пока я у вас, можете не беспокоиться!.. — Мы и не беспокоимся, спасибо, — вежливо произнес Арамис, и Ятуркенженсирхив, все это время отиравшийся у его ног, подобострастно хихикнул.12
Вот как получилось, что по первому разу земным эскадрам пришлось вернуться к родной планете, так и не добравшись до пиратского гнезда. Двуглавый Юл не соврал (да и какой ему был смысл врать, если подумать): ни один из членов его экипажа понятия не имел не только о координатах Планеты Негодяев, не только о координатах вообще, но и о простой таблице умножения. И нимало не сожалел об этом. Радист Ка, белый в синюю крапину ящер, умевший с равной ловкостью превращаться и в огромную белую птицу, и в кучу трухлявых бревен, интересовался исключительно карточной игрой. Канонир Ки, чудовищная морская звезда, обладавшая поразительным свойством мимикрии, не умела считать даже до двух я все время путала допрашивавшего ее флагмана с Двуглавым Юлом. Квартирмейстер Ку, странная обезьяна, страшившаяся комнатных температур, но вполне равнодушная к холоду межзвездных пространств, была озабочена лишь своей коллекцией золотых монет и драгоценных камней, которую держала у себя в защечных мешках и частично в желудке. А крошечное тело Ятуркенженсирхива, профессионального шпиона, которого носят с собой, было до ушей забито инстинктом самосохранения. Что же касается Двуглавого Юла, то он, конечно, знал все, но все отрицал, и никакие увещевания, угрозы и воззвания к остаткам его совести так и не смогли сломить его упорства. Никаких Великих Спрутов, Искусников Крэгов и Мхтандов он в глаза не видел и впервые о них слышит; обличающий рассказ Гали он объявил бредом несвоевременно заболевшей девчонки с самого начала и до самого конца; штурманскую машину он уничтожил вовсе не потому, что она взбунтовалась и остановила корабль, а из вполне понятного стремления сохранить в тайне координаты родной планеты, которую он желал оградить от вторжения агрессивных землян; в краже участка земной территории с населением, животными и растительным миром он охотно сознается, но… — Взгляните на разумных существ, с которыми я вынужден иметь дело! — патетически орал он, указывая на испуганных Ка, Ки, Ку и Ятуркенженсирхива. — Взгляните на них, и вы представите себе, насколько я был всегда одинок. Я истосковался по носителям разума, похожим на меня, хотя бы и не с тем числом голов. Я искал их по всей обозримой Вселенной, и я испытал огромное удовлетворение, обнаружив их на Земле. Да, я украл тысячу человек. Но для чего? Я хотел перевезти их на свою родную планету, под кроваво-красную Протуберу и мертвенно-синию Некриду и спокойно зажить среди них мирной и счастливой жизнью… Словом, он нагло врал, и толку от него не было никакого. В довершение всего, когда врать ему наскучило, он пригрозил откусить себе оба языка, и от него отступились. Флагман, посовещавшись с Землей, отдал приказ на возвращение. Дни пошли своим чередом. Украденная половина Зеленой долины со всем ее населением, животными и растительным миром была водворена на ее исконное место и зажила, как прежде, счастливо. «Черную Пирайю», очистив от набивавшей ее многовековой грязи и дряни, прибуксировали к Луне и установили в центре кратера Архимеда под прозрачным колпаком из спектролита; сначала специалисты интересовались ею, пытаясь проникнуть в тайну разгромленной разрывными пулями штурманской машины, затем отступились. Двуглавого Юла, продержав положенное время в психическом карантине, определили жить на небольшой островок вулканического происхождения, где он и остается до сих пор, предаваясь составлению разного рода новых кулинарных рецептов из серы, вулканического пепла и пемзы; поговаривают, будто он коротко связался с местными тюленями и любит рассказывать им о своих необычайных похождениях. Ка, Ки и Ку попросились на Марс и не без успеха выступают на эстраде в доме культуры одного тамошнего городка; вскоре после их появления с соседней птицефермы стали частенько пропадать куры, но добродушные марсиане смотрят на это сквозь пальцы. Однажды (это было уже год спустя после описанных событий), в яркий солнечный день, по обочине широкого шоссе, пересекающего Зеленую долину, мимо цветущих садов и зеленеющих лугов, мимо уютных домиков и ажурных павильонов, через ручьи и реки по горбатым мостикам и прямо вброд скакали три всадника. Впереди с Ятуркенженсирхивом на плече летела Галя, следом мчались Атос и Арамис, и один за другим уносились назад километровые столбы с черными цифрами на белых эмалированных дощечках: 117… 118… 119… У столба на сто двадцатом километре они осадили коней и с минуту постояли, глядя на обелиск черно-красного мрамора перед зарослями акаций напротив, а затем шагом двинулись дальше. Галя, смахнув слезу с ресниц, легонько щелкнула Ятуркенженсирхива по носу и проговорила: — Все началось здесь, не так ли, маленький негодяй? Ятуркенженсирхив обиженно пропищал: — Я вовсе не негодяи. Я давно исправился. Некоторое время они ехали молча. Потом Арамис произнес своим обычным тихим голосом: — Я испытываю настоятельную необходимость посетить Планету Негодяев. — Я не умру, пока не побеседую с Великим Спрутом и Искусником Крэгом, — отозвался сквозь зубы Атос. Галя обернулась к ним. — Поехали скорее, — сказала она. — Дедушка не любит, когда мы опаздываем… Они пустили коней в галоп, и через минуту столб с цифрой «121» остался позади.Часть вторая ОПЕРАЦИЯ «ИТАЙ-ИТАЙ»
1
На краю краев великолепной суровой страны, где океан вот уже миллионы лет безуспешно штурмует несокрушимые скалы, а подземный огонь время от времени бессильно грозится подпалить набухшие дождями и снегом тучи, вдали от проезжих дорог и хлопотливых гаваней стоит старинная таверна «Одинокий ландыш». Никто уже не знает да и не интересуется, когда и зачем было построено это неказистое сооружение из бетона, заляпанного мохом и лишайниками, с узкими длинными окнами по углам, со ржавой железной трубой, торчащей из середины плоской крыши. Но уютно сияет в промозглом тумане и в ночном мраке золотистая вывеска. Промерзший скиталец — пилот дирижабля-лесовоза или китовый пастух, заскучавший в тесноте своей субмарины, суровый геолог или падающий от усталости турист, бродяга живописец или таежный ветеринар — спускается по вырубленным в скале широким ступеням, распахивает дубовую дверь и вступает в залитую светом комнату; потирая закоченевшие ладони, он оглядывает обшитые выцветшим коричневым пластиком степы, вытертый красный ковер на полу, потолок, расписанный под бездонно-синее небо. Взгляд его невольно задерживается на очаге, в котором весело потрескивает жаркое пламя, на простых деревянных столах и деревянных табуретках, на буфетных полках, заставленных стеклом и фарфором; ноздри его озябшего носа раздуваются, втягивая необыкновенно вкусные запахи свежеиспеченного хлеба и ванильного печенья, бараньей похлебки с чесноком и жареной свинины, всевозможных солений и маринадов. А тут из-за лиловой портьеры появляется хозяин, дядюшка Витема, бывший смотритель термоядерной станции, — огромный, доброжелательный, улыбающийся, — разводит в знак приветствия могучие руки и произносит глубоким басом: — Добро пожаловать, милости просим. Раздевайтесь, садитесь к огоньку, а я вам для начала стаканчик горячего глинтвейна… Да, друзья мои. Жизнь прекрасна. Слов нет, как славно после обильного ужина посидеть у пылающего очага, рассеянно прислушиваясь к вою ночной вьюги в трубе и глухому реву вечного прибоя, а потом, отчаянно зевая и протирая слипающиеся глаза, спуститься в спальню и забраться в мягкую постель, под хрустящие, пахнущие свежим сеном простыни. Дядюшка Витема чрезвычайно гостеприимен и не скрывает этого. В тот день, когда начались необычайные события, описанные в этой части нашей правдивой сказки, в тот ненастный осенний день дядюшке Витеме повезло совершенно особенно. Гость валом валил в «Одинокий ландыш». И какой гость! Первым явился старый приятель дядюшки Витемы разъездной хирург Старик Саша; бухая гигантскими сапожищами, ввалился в таверну, швырнул в угол блестящий от осенней влаги плащ с капюшоном и, не говоря ни слова, устремился напрямик к очагу — сопя и отдуваясь, принялся сушить перед огнем промокшую бороду. Дядюшка Витема встал у него за плечом со своеобычным стаканом наготове. Когда от бороды клубами повалил пар. Старик Саша распушил ее обеими пятернями в последний раз, откинулся на деревянную спинку и произнес: — Ух ты! Дядюшка Витема немедленно сунул ему в руку стакан. Старик Саша одним глотком спровадил в пищевод огненную жидкость и произнес во второй раз: — Ух ты! В третий раз он произнес эту чисто эмоциональную фразу, когда уселся за стол и заглянул в глиняный горшок, наполненный аппетитнейшей мешаниной из тушеной телятины, картошки и морской капусты. — Погодка нынче, дядюшка Витема, доложу я вам! — объявил он, опростав горшок наполовину. — Злая погодка! — Где же это ты был, Саша? — осведомился дядюшка Витема. — Да опять на Черной Скале, у этого двухголового уголовника. Опять ему плохо. Дядюшка Витема сочувственно поцокал языком и поставил перед гостем глиняную кружку с игристым квасом собственного изготовления. Старик Саша отхлебнул из кружки и продолжал: — «Вам, говорит, землянам, меня не вылечить. Я, говорит, у вас на Земле помру, будете тогда знать. Мне, говорит, умереть ничего не стоит, а вас совесть замучает». Дядюшка Витема опять поцокал языком и спросил: — А что, собственно, с ним такое? Еще на той неделе ко мне заходил, целое ведро уксусной эссенции вылакал… — Вот-вот. Тюлени его плавать научили, вот он и обрадовался. Налакался уксусу, нырнул поглубже, и будто бы кто-то его там, в глубине, треснул чем-то твердым по правой голове, как раз по той, у которой и так одного глаза нет. Так он утверждает. Врет, по-моему. Сам о скалу какую-нибудь треснулся. Я осмотрел — действительно, опухоль на мозге под теменной костью… — Ну-ну? — Надо бы оперировать, конечно, но у него же анатомия совсем другая, чем у нас с вами. У него и кровь зеленая, и кость черная, и сердец у него три, и мало ли что еще… Буду консилиум созывать, так что готовьтесь: днями здесь у вас весь цвет планетной медицины и ветеринарии соберется… И даже, может быть, инопланетной. — Я буду очень рад, разумеется. Но может быть, проще его в Москву отвезти… или в Калькутту, скажем? Старик Саша допил квас и помотал головой. — Не желает. Я уже предлагал, упрашивал, грозил даже. ни в какую. «На Черной Скале, говорит, я по вашей милости три годика страдал, на Черной Скале и умру. В окружении, говорит, моих единственных друзей — благородных тюленей…» В эту самую секунду дверь вновь распахнулась, и на пороге, в облаке дождевых капель, возник высокий худой человек в длинной, до пяток, непромокаемой накидке, с узким костистым лицом, покрытым тем странным серо-коричневым загаром, по которому безошибочно опознают работника Глубокого космоса. И действительно, когда незнакомец поздоровался и сбросил накидку, под нею обнаружилась черная с серебром форма Космического флота. При виде шеврона на правом плече и значка в виде красного флажка над левым нагрудным карманом Старик Саша почтительно привстал из-за стола: перед ним был флагман Космического флота и член Всемирного совета. — Здравствуйте, друзья! — звучным голосом произнес незнакомец, приглаживая ладонями седые волосы. — Позвольте представиться — флагман Макомбер, командующий третьей космической эскадрой. Не помешал? — Что вы, что вы… — засмущался Старик Саша, а дядюшка Витема только руками замахал и бросился наливать прославленному флагману горячего глинтвейна. — Не помните меня, дядюшка Витема? — спросил космолетчик, принимая стакан. — Тридцать лет… нет, тридцать два года назад я потерпел аварию во время тренировочного полета, вынужден был катапультироваться и свалился в тайге километрах в сорока отсюда. Насилу тогда до вас добрался, и вы меня здесь два дня выхаживали… Не помните? — Да разве вас всех упомнишь? — благодушно отозвался дядюшка Витема. — Тридцать лет! За это время столько вас здесь с неба насваливалось, из океана навыползало, из тайги набредало, что никакой памяти не хватит… Садитесь, флагман, и будьте как дома. И скажите лучше, чем вас угостить? — Совершенно безразлично. Впрочем, одну минутку… Если у вас найдется слегка обжаренная ножка упитанной индейки под гвоздичным соусом и с капелькой клюквенного экстракта… и чашечка черепашьего бульона… Найдется? Ну вот и прекрасно. Дядюшка Витема поспешил на кухню, а прославленный флагман отпил немного глинтвейна и приветливо поглядел на Старика Сашу. — А вы как здесь оказались, молодой человек? — спросил он. — Да я, собственно, местный хирург, — сказал Старик Саша застенчиво. — Собственно, совершал обход… вернее, облет… вот и заглянул на огонек. — Прекрасно! — воскликнул флагман Макомбер. — Мне удивительно везет сегодня! А скажите, мой дорогой хирург… — Тут он отставил стакан, навалился грудью на столешницу и, глядя Старику Саше прямо в глаза, спросил вполголоса: — Скажите мне, мой дорогой хирург, нет ли у вас, случайно, пациента на острове, именуемом Черная Скала? Старик Саша даже не успел удивиться — новое и гораздо более сильное впечатление начисто вышибло из его головы загадочным интерес командующего третьей космической эскадрой и члена Всемирного совета к двуглавому пленнику на Черной Скале. Ибо опять распахнулась дверь, и в таверну вбежала, складывая зонтик, самая очаровательная девушка, какую Старик Саша за свою не очень длинную жизнь когда-либо видывал во плоти, на экранах или на фотографиях в иллюстрированных журналах. У нее было румяное от осеннего холода лицо, огромные зеленые глаза, вьющиеся каштановые волосы… Словом, это была девушка Сашиной мечты. Восторг, вспыхнувший в Сашиной груди, был, впрочем, немедленно омрачен: следом за девушкой в таверну шагнул мрачноватый детина, косая сажень от плеча до плеча, в насквозь промокшем сером комбинезоне мастера, с внешними данными, как немедленно и с горечью отметил Старик Саша, которые напрочь забивали самые прекрасные бороды в мире. — Галя, — представилась девушка прекрасным голосом. — Атос, — слегка помедлив, произнес детина. — Э! — воскликнул космический флагман Макомбер, поднимаясь со скамьи. — Кого я вижу! Но тут из-за лиловой портьеры вышел сияющий от восторга дядюшка Витема с двумя дымящимися стаканами в руках. — Милости просим! — провозгласил он. — Я счастлив… Но вы совсем промокли, друзья мои! К огню, к огню! Выпейте вот это. Выпейте, девочка, вы сразу согреетесь… Да садитесь же к огню, обсушитесь, а я подумаю, чем вам угодить… — Простите, мы забежали только на минутку, — смущенно проговорила девушка Галя, сжимая стакан в ладошках. — Мы только хотели спросить… — Да, мы должны двигаться дальше, — прервал ее мрачноватый Атос. — Здравствуйте, флагман Макомбер. Странно, я думал, что вы на Плутоне и готовите экспедицию к Фомальгауту. — А я думал, что вы на Таймыре и монтируете новую очередь солнцепровода, — со странной интонацией отпарировал флагман Макомбер. — Галя, это флагман Макомбер, — сказал Атос, не отрывая цепкого взгляда от космолетчика. («Вот это взгляд!» — с завистью подумал Саша). — Ты помнишь флагмана Макомбера, Галя? Впрочем, ты была тогда без сознания. Это командующий третьей космической эскадрой. Галя радостно вскрикнула, и Старик Саша ахнуть не успел, как она обняла Макомбера и звучно расцеловала его в обе щеки. Макомбер растроганно потрепал ее по спине. — Рад видеть вас живой и здоровой, деточка, — произнес он. — Так вы решили побродить по старушке Земле? — Мы… — начала Галя, но Атос снова прервал ее. — Флагман Макомбер, конечно, шутит, — холодно сказал он. Старик Саша ничего не понимал. Дядюшка Витема тоже. Зато у дядюшки Витемы было чем заняться. Дядюшка Витема ринулся в бой. Он объявил, что в течение ближайшего часа никто не смеет покинуть «Одинокий ландыш» под страхом смертельной обиды. Он увлек Галю к столу и усадил ее. Он почти силой впихнул Атоса в деревянное кресло перед огнем Он принес флагману Макомберу ножку упитанной индейки с надлежащими приправами и чашку превосходного черепашьего бульона. Он с немыслимой точностью определил, что Гале необходимо подкрепиться миской лукового супа и крылышком куропатки, а Атос может уничтожить на выбор либо котлету по-киевски, либо селянку на сковородке. — И еще я угощу вас всех превосходными чарджуйскимн дынями, — закончил он. — Мне только вчера прислал десяток один мой друг-художник. Старик Саша уже оправился от первых потрясений и даже принялся оглаживать бороду, но тут его вновь ударило. Откуда ни возьмись, на плече у прекрасной Гали появился странный пушистый зверек: в два кулака величиной, белый как снег, с красными глазами — то ли котенок, но с очень коротким хвостиком, то ли крольчонок, но с очень маленькими ушками. Деловито оглядевшись, он пропищал: — А мне чего дадут? — Ба! И ты здесь, маленький бандит? — воскликнул со смехом флагман Макомбер. — Ну, как тебе живется у нас на Земле? — Благодарю вас, я чувствую себя на вашей планете вполне сносно, — сухо отозвался зверек. — Однако позволю себе заметить, что, называя меня бандитом, вы глубоко заблуждаетесь. — Это Ятуркенженсирхив, — не совсем понятно пояснил флагман Макомбер пораженному дядюшке Витеме и остолбеневшему Старику Саше. — Бывший шпион, которого носят с собой. Дайте ему молока с творогом, дядюшка Витема. Если мне память не изменяет, это нравится ему у нас больше всего. — Благодарю вас, флагман, — с достоинством произнес Ятуркенженсирхив. — И немного липового меду, если у вас найдется… Дядюшка Витема всплеснул могучими руками и удалился на кухню, а флагман Макомбер, снова повернувшись к Атосу и Гале, сказал: — Итак, вся добрая команда в сборе. Вернее, почти вся. А где же достойный Арамис? — Мы потеряли его из виду год назад, — грустно сказала Галя. — Не сказал нам ни слова и куда-то исчез. Регулярно поздравляет нас с днем рождения и с праздниками, но где он, совершенно неизвестно. Говорят, его недавно видели на Марсе… — На Марсе? Так-так… — задумчиво сказал флагман. — Ну, тогда я вам ручаюсь: не сегодня-завтра вы снова его увидите. — Где? — в один голос спросили Галя, Атос и Ятуркенженсирхив. — Здесь, разумеется, — ответил флагман и хладнокровно принялся за ножку индейки. Последовало молчание, затем Атос спросил: — Почему вы так думаете, флагман Макомбер? — Да я просто уверен в этом. Ведь остальные трое пиратов безвыездно живут на Марсе. Снова наступило молчание. Старик Саша решительно ничего не понимал и даже рот приоткрыл в затруднении, что, впрочем, не было заметно из-за его обширнейшей бороды. — Хорошо, флагман Макомбер, — сказал наконец Атос, встал и повернулся к огню спиной. — Сдаюсь. Вы нас поймали. Да, мы направляемся на Черную Скалу повидать Двуглавого Юла. Но вы-то откуда об этом узнали? Вы что, следили за нами? — Обо мне потом, — проговорил прославленный космолетчик, обгладывая косточку. — Продолжайте, достойный Атос. Откуда вам стало известно, что Двуглавый Юл опасно болен? — Это все Ятуркенженсирхив, — сказала Галя, и пушистый зверек на ее плече раздулся от важности. — Оказывается, у него с Юлом непрерывная телепатическая связь. Позавчера он принял телепатему, что Юл заболел и просит нас навестить его. — И вот мы здесь, — заключил Атос. — Как видите, все очень просто, флагман Макомбер. Космолетчик допил глинтвейн, аккуратно вытер салфеткой губы и пальцы и сказал: — Верьте мне или не верьте, друзья, но я понятия не имел, что увижу вас здесь. Со мной дело обстоит еще проще. Видите ли, я по долгу службы обязал кое-кого присматривать за всем, что происходит на Черной Скале. И вот три дня назад один мои… гм… знакомый китовый пастух со слов своего знакомого дельфина сообщил мне, будто среди местных тюленей циркулируют слухи… Он вдруг замолчал, словно вспомнив что-то, и повернулся к Старику Саше: — Скажите, мой дорогой хирург, в каком состоянии выоставили сегодня Двуглавого Юла? Старик Саша откашлялся. Старик Саша разгладил бороду — вправо и влево. Старик Саша сказал: — Трудно усмотреть что-либо определенное, когда имеешь дело с существом столь чуждой нам организации. Но если судить по его настроению, по болям, которые он испытывает, и особенно по виду опухоли на мозге, положение его не может не внушать тревоги. — Ему очень, очень плохо! — пропищал Ятуркенженсирхив. — Он боится, что умрет. Флагман вопросительно посмотрел на Старика Сашу. — Летальный исход не исключен, — признал тот. — На это я и рассчитываю, — произнес флагман Макомбер. Все с изумлением воззрились на него. — Да, друзья, я не оговорился. Не забывайте, что где-то в Глубоком космосе продолжает процветать Планета Негодяев — отвратительное гнездо космического разбоя, неизбывная угроза всем мирным цивилизациям. Один только Двуглавый Юл во всей обозримой Вселенной знает, где она расположена, но до сих пор он упрямо молчал. Может быть, теперь, перед лицом смерти, он раскается или устанет хранить тайну… — Как вы можете так говорить, флагман Макомбер? — с негодованием вскричала Галя. — Человек опасно болен, он умирает в плену, вдали от родины, а вы… Старик Саша увидел в ее прекрасных глазах слезы и задрожал. Но флагман сурово сдвинул седые брови. — Молчите, глупая девчонка! — прогремел он голосом, которым, вероятно, командовал «Поворот все вдруг!». — Какое мне дело до жизни и смерти одного негодяя, когда на мне лежит ответственность за безопасность моей планеты и сотен других братских миров? А кто может сказать, что натворил Великий Спрут со своей бандой за эти три года, пока двухголовый мерзавец прохлаждался среди моржей на Черной Скале? Родина, говорите вы? У этого подлеца нет и не может быть родины! Он — окаянный предатель великого братства разума во Вселенной, и искупить свою чудовищную вину он может только одним способом… — Вы совершенно правы, флагман Макомбер! — прозвучал у дверей новый голос. Все как зачарованные слушали гневную речь прославленного флагмана, даже дядюшка Витема, застывший у лиловой портьеры со сковородкой и миской в руках, и никто не заметил, что в таверне появился еще один гость. Появился он совершенно бесшумно, его не услышал даже бывший шпион Ятуркенженсирхив с его изощреннейшим слухом, и находился он здесь уже по меньшей мере несколько минут — видимо, тоже слушал. Он стоял ссутулившись, опершись грудью на тяжелую стальную острогу, высокий молодой человек в красно-белом облегающем костюме для подводного плавания в северных широтах, с очень бледным красивым лицом, на котором выделялись большие зеленые глаза, показавшиеся Старику Саше поразительно знакомыми. С молодого человека обильно текло, и вытертый ковер под его ногами изрядно промок. — Арамис! — радостно взвизгнула Галя и, перепрыгнув через табурет, повисла у него на шее. — Арамис! — с изумлением произнес Атос. — Ага, вот и Арамис, — удовлетворенно сказал флагман Макомбер. — А я давно знал, что Арамис придет, — пропищал Ятуркенженсирхив, цепляясь за Галины волосы, чтобы не свалиться в суматохе. Старик Саша, естественно, ничего не сказал, а дядюшка Витема, которому было безразлично все, кроме аппетита гостя, важно прогудел: — Добро пожаловать, дорогой Арамис! Рад снова приветствовать вас в «Одиноком ландыше». — Здравствуйте, друзья, — проговорил Арамис, швыряя свою тяжелую острогу в угол. — Здравствуй, родственница, — сказал он, обнимая несравненную Галю. — Привет, Атос, сто лет не виделись! Приветствую вас, флагман Макомбер, вы, как всегда, очень кстати. Здравствуйте, дядюшка Витема. И ты здравствуй, маленький шпион! — Я давно уже не шпион, — обиженно возразил Ятуркенженсирхив. Арамис ловко щелкнул его по пуговичному носу. — А кто скрыл от всех, что связан напрямую с Двуглавым? Не прошло и минуты, как костюм для подводного плавания оказался в углу рядом с острогой, а загадочный Арамис в темном тренировочном трико и со стаканом глинтвейна в руке уселся перед огнем. Дядюшка Витема вновь умчался на кухню готовить сногсшибательный плов, тогда как Старик Саша обрел сомнительное удовольствие участвовать в пьесе, смысла которой не понимал ни капельки. — Надо полагать, ты здесь по тому же делу, что и мы, — сказал, слегка нахмурясь, Атос. — Несомненно, — ответил Арамис и поглядел на космолетчика. — Вы, я вижу, тоже не теряли времени даром, флагман Макомбер? — Благодарю за комплимент, — поклонился космолетчик. — Ты прямо с Марса? — простодушно осведомилась Галя. — Ну, не совсем прямо… — Как ты узнал, что Двуглавый Юл заболел и вызывает нас? — напрямик спросил Атос. — Ничего удивительного, — пробасил из-за портьеры добрый дядюшка Витема. — Достойный Арамис прибыл сюда как раз за день до того, как с двухголовым случилось это несчастье. — Ах, вот даже как… — сказал прославленный флагман. Он рассматривал Арамиса в упор. — А позвольте узнать, достойный Арамис, чем это вы занимались целый год на Марсе? — Настоящий допрос, — рассмеялся Арамис. — Ну, извольте. Возился с нашими пиратами. Учил ящера Ка читать; прививал морской звезде Ки навыки общежития; отучал обезьяну Ку воровать кур и даже золотые монеты. — Неужели получилось что-нибудь? — недоверчиво спросил Ятуркенженсирхив. — Что ж, более старательных учеников у меня еще никогда не было. И более бездарных, впрочем… — А еще? — спросил флагман. — Что — еще? — Чем еще вы занимались с нашими пиратами? — Послушайте, флагман Макомбер! — произнес Арамис сердито. — Уж не подозреваете ли вы, что я тайно подбивал их поднять бунт и водрузить на Фобосе черный флаг с черепом? — Ну что вы, достойный Арамис! Простое любопытство. Просто меня поразило это совпадение: вы пропадаете на Mapсе целый год, затем вы внезапно объявляетесь в окрестностям Черной Скалы — и пожалуйста, на другой же день Двуглавый Юл прошибает себе голову! — Такое ли еще случается! — сказал дядюшка Витема, водружая на стол блюдо ароматнейшего плова. — Прошу вас, дорогой Арамис, угощайтесь. Арамис поблагодарил и сел за стол. Некоторое время все смотрели, как он ест — полузакрыв глаза от наслаждения, с видимым усилием сдерживаясь, чтобы не набивать рот до отказа. Ясно было, что достойный Арамис страшно проголодался. — Как ты узнал, что мы здесь? — спросил вдруг Атос. Арамис пожал плечами и проглотил очередную порцию плова. — Признаться, даже присутствие флагмана Макомбера не очень удивило меня. А что касается тебя и Гали, то несколько часов назад я говорил с Двуглавым Юлом, и он сообщил мне о пашем приезде… — Он отодвинул блюдо и отшвырнул салфетку. — Вот так, друзья мои. Двуглавый Юл ждет нас завтра в девять утра на Черной Скале для приватной и весьма важной, по его мнению, беседы. То есть ждет он Галю, Атоса и меня, по, как я понимаю, вы тоже присоединитесь к нам, флагман Макомбер? — Разумеется, достойный Арамис, — сказал спокойно прославленный флагман. — Я догадываюсь, о чем Двуглавый Юл собирается беседовать с вами, и, если я не ошибся, значит, не зря я бросил свои дела на далеком Плутоне. — А теперь, — сказал Арамис, поднимаясь из-за стола, — я прошу у всех прощения. Я добирался сюда от Черной Скалы вплавь и порядком устал. С вашего разрешения и с благословения доброго дядюшки Витемы я приму душ и пойду спать. Спокойной ночи, до завтра. Он направился было к люку, ведущему в нижние помещения, по снова остановился: — Да, чуть было не забыл! Я выслушал вашу отповедь моей незадачливой родственнице, флагман Макомбер, и хочу еще раз повторить, что совершенно согласен с вашим взглядом на вещи. Спокойной ночи. И он исчез в люке. Флагман промолчал. Старик Саша взглянул на него и увидел, что он смотрит в угол. Старик Саша тоже посмотрел в угол и увидел острогу, брошенную Арамисом. Тяжелую стальную острогу. Старик Саша не знал и мог только смутно догадываться, что его странный двухголовый пациент на Черной Скале совершил против человечества такое преступление, за которое триста лет назад его бы повесили за обе шеи; что прекрасная девушка, которая сидела за столом напротив и задумчиво катала хлебные шарики, побывала в плену у этого преступника и едва там не погибла; что мрачноватый мастер, сидевший у очага с кочергой в руках, и загадочный Арамис, только что спустившийся в спальню, в рукопашном бою с этим преступником спасли от ужасной участи тысячу человек; что командующий третьей космической эскадрой и член Всемирного совета Макомбер так и не смог сломить упорства этого закоренелого преступника и впервые в своей долгой жизни не выполнил приказа Земли. Да, события, имевшие место три года назад и описанные в первой части нашего повествования, прошли как-то мимо Старика Саши. И то сказать, в эти времена, полные великих и странных чудес, трудно уследить за всем, что творится в обозримой Вселенной, а Старик Саша тогда сдавал экзамены на славное звание практикующего хирурга и вдобавок болел за родимую команду «Земляне Марса». И кто упрекнет его? Разве кому-нибудь известно, например, что в прошлом году Старик Саша со своим другом китовым ветеринаром Каваба-той разнимал матерого кашалота Хрику и бешеного кальмра Сильвестра, сцепившихся в смертельной схватке на глубине двух километров, а потом оперировал израненного Кавабату прямо на узкой палубе субмарины?.. Галя поднялась и протерла кулачком глаза. — Какой Арамис стал странный, — проговорила она. — Да. Странный, — отозвался Атос и тоже встал. — Пора спать. Чует мое сердце, завтра начнутся события.2
Черная Скала представляет собой громадный горб черного базальта, миллионы лет назад выдавленный со дна на поверхность океана вулканическими силами. Расщелины и уступы вокруг верхушки горба облюбовали крикливые склочницы-чайки, на северном берегу обосновалось многочисленное семейство знаменитого в этих местах старого тюленя Фильки, а южный склон Всемирный совет определил три года назад под жительство пленному космическому разбойнику. В толще базальта была выплавлена просторная четырехкомнатная пещера, три комнаты набили серой, пемзой, различными колчеданами и прочими лакомствами (ни капли ртути, конечно), в четвертой же, с отличным видом на южный горизонт, поставили извлеченное из «Черной Пирайи» кресло с непомерно широкой спинкой, предварительно как следует продезинфицировав, продезинсектировав и продезактивировав его. Первый год бывший вольный пират вел чрезвычайно замкнутый образ жизни и целыми неделями только и делал, что в угрюмом одиночестве жрал свои колчеданы, оборотившись к океанским просторам широченной спиной: видимо, наша зеленая планета с ее красной кровью, хлорофиллом, водой и воздухом здорово претила ему. К началу второго года он постепенно привык, а может быть, просто скука взяла свое. Он стал регулярно выходить на воздух и неожиданно для себя пристрастился к яйцам чаек, которые доставались ему ценой больших усилий и изрядного риска, потому что скалолаз он был никудышный. Он стал даже забираться в воду — не глубже, чем по пояс, потому что воды все еще боялся, да и плавать не умел нисколько, но он все так же неожиданно для себя пристрастился к морской капусте, в которой, как известно, содержится много йоду. В воде он встретился и вскоре близко сошелся с тюленями, и дело пошло совсем хорошо. К этому времени Двуглавый Юл ощущал уже настолько острую нужду в обществе, что тюленье семейство могло его не опасаться. Он тетешкал младенцев, рассказывал молодежи поражающие воображение истории о космических битвах и пел со старым, многоопытным Филькой длинные беседы философского, а также морально-этического направления. С кем поведешься, от того и наберешься. Мало-помалу он научился плавать. Впрочем, это оказалось не так уж и трудно. В океанской воде, как он обнаружил, содержится масса питательных солен, и в свои разгрузочные дин Двуглавый Юл стал заменять завтрак, обед и ужин длительными купаниями. А полгода назад он впервые пересек вплавь пятидесятикилометровый пролив и осторожно просунул левую голову в дверь таверны «Одинокий ландыш». Следует сказать, что дядюшка Витема и глазом не моргнул при виде двухголового человека. Не стал он моргать и тогда, когда двухголовый человек отказался от превосходной гречневой каши и потребовал золы из затухающего очага. Запив золу бутылью крепкого уксуса, он поблагодарил и удалился, но через неделю вернулся снова. И еще через неделю, и еще… Он бессовестно забросил своих друзей-тюленей ради уксусной эссенции в «Одиноком ландыше». До тех пор, пока они не выволокли его из-под воды с пробитой макушкой на правой голове… Когда ровно в девять часов утра Галя с Ятуркенженсирхивом на плече, флагман Макомбер и двое мушкетеров переступили порог пещеры на Черной Скале, Двуглавый Юл восседал в своем кресле, положив ногу на ногу и скрестив на груди руки. Он почти не изменился за эти три года, даже его черная одежда и черные перчатки, изготовленные неведомыми умельцами неведомых миров, даже его кобуры от страшных пистолетов, погубивших несчастного Мхтанда и его соотечественников, были прежними. Вот только правая голова подгуляла… Левая, наголо обритая, ушастая, гордо торчала, как и три года назад, на длинной прямой шее и злобно сверкала глазами, но правая, обмотанная, словно чалмой, толстым слоем бинтов, жалко свесилась набок, и единственный глаз ее тускло глядел в щель из-под набрякшего позеленевшего века. — Ага! — глухим свирепым голосом произнесла левая голова. — Знакомые все лица. Пришли поглазеть, как издыхает одинокое разумное существо. Что же, глазейте, будет вам что вспомнить в ваши бессонные ночи, когда меня не станет. Приятно поглазеть на дело своих рук, не так ли? Кого это вы напустили на меня под водой? Какую-нибудь жалкую трусливую черепаху? Профессионального убийцу-нарвала?.. Гале стало до слез жалко его, но Арамис нетерпеливо сказал: — Ты звал — мы пришли. Скажи спасибо и не ломай комедию. Двуглавый. Времени у нас мало, да и у тебя тоже. Говори скорее, что ты хотел сказать. Двуглавый Юл запустил руку в левую кобуру, извлек горсть мелких морских ракушек и набил ими левую пасть. Послышался дробный треск, левая голова выплюнула скорлупки, как шелуху от семечек, и угрюмо проговорила, кивнув в сторону флагмана Макомбера: — При нем разговора не будет. Арамис пожал плечами. — Тогда разговора не будет вообще, — сказал он и повернулся к выходу. Прославленный космолетчик жестом остановил его. — Будьте благоразумны, Двуглавый Юл, — строго произнес он. — Не забывайте, что вы в плену. Вы не можете диктовать здесь свои условия. Условия вам диктуем мы. Тогда левая голова выкатила глаза и принялась орать. Она орала, что он, Двуглавый Юл, в плену никогда, нигде и ни у кого не был и не будет и что отдался он в руки землян совершенно добровольно, в надежде обрести, наконец, общество себе подобных, и правдивость его слов могут подтвердить хотя бы эти мальчишки и эта девчонка, которым он годится в прапрапрапрадеды, а если они откажутся подтвердить, значит, они самые подлые и закоренелые лжецы во всей обозримой Вселенной; что он, Двуглавый Юл, ветеран Глубокого космоса, весь покрытый шрамами от метеоритов, вражеских пуль и укусов инопланетных чудовищ, ничем не хуже какого-то там флагмана, окопавшегося на своей третьестепенной зеленой планетке и воображающего, будто он, флагман, чего-то стоит но сравнению с ним, Двуглавым Юлом; что его, Двуглавого Юла, не раз предавали за сотни лет его бурной жизни и полезной деятельности, да только предатели долго не жили, и близок час, когда он, Двуглавый Юл, сдерет с одного из таких предателей его белую пушистую шкуру и закажет из этой шкуры перчатку себе на правую руку… Так он орал, бранился и рычал довольно долго, не менее пяти минут. Арамис достал из кармана какую-то книжку и сделал вид, что погрузился в чтение; Атос начал позевывать, вежливо прикрывая рот ладонью; Галя на всякий случай потихоньку отступила за ого спину, а Ятуркенженсирхив, охваченный ужасом, спрятался у нее за пазухой; флагман же Макомбер принялся, морщась, рассматривать свои ногти. Потом правая голова вдруг хрипло простонала: «Клянусь Протуберой и Некридой, ты прекратишь когда-нибудь этот проклятый шум? У меня уже все внутри заболело от твоих проклятых воплей!..» И левая голова умолкла, отдуваясь. — Итак? — как ни в чем не бывало произнес Арамис, закрывая свою книжку. — Плохо мое дело, ребята, — сказала левая голова и с тяжким вздохом поникла на грудь. — Дни мои сочтены. Прямо признаем, не жилец я на вашей Земле. Все промолчали. Галя всхлипнула и смахнула со щеки слезинку. — Вот и позвал я вас, ребята, чтобы поговорить начистоту, — продолжал Двуглавый Юл, понемногу воодушевляясь. — Дело мое швах, на Земле вашей никто мне помочь не может, вы уж мне поверьте. Иначе я бы вас, ребята, нипочем бы не позвал. Но раз уж дело мое такое, что остается мне здесь только подохнуть, как последней собаке, решил я на все плюнуть и все как есть вам рассказать. Потому что, ребята, нет мне никакого смысла молчать, раз уж видны мне концы… — Это мы уже поняли, — холодно сказал Арамис. — Действительно, Двуглавый, — сказал флагман Макомбер. — Вы же все-таки мужчина, хотя и негодяй. Не размазывайте, перестаньте причитать и приступайте прямо к сути. — А суть, ребята, вот в чем, — понизив голос, проговорил Двуглавый Юл. — Неохота мне помирать, вот в чем суть. И ведь не то чтобы я смерти боялся. Видел я ее во всех видах: и огненную, и ледяную, и голодную… И сам убивал немало, и меня убивали… Нет, на смерть я нагляделся и ничуть ее не боюсь. Но умирать мне все-таки не хочется. Двуглавый Юл даже зажмурился от сочувствия к самому себе. — И вот теперь, — продолжал он и то ли хихикнул, то ли всхлипнул тихонько, — остался у меня один-единственный шанс на спасение. Это огромная тайна, в ваших местах она ни единой душе не известна, но вам я открою ее полностью и до конца. Только прежде мне придется сделать одно чистосердечное признание, и вы должны дать мне гарантии, что ваши власти не повесят меня потом за обе шеи. — Никаких гарантий вы не получите, — спокойно произнес флагман Макомбер. — Так с какой же стати я буду тогда… — начала было с негодованием левая голова, но правая хрипло прошептала ей на ухо: — Не валяй дурака, никто нас с тобой не повесит, раз уж до сих пор не повесили. — Ладно! — сказал Двуглавый Юл и изо всех сил стукнул кулаком по подлокотнику. — Где мое не пропадало! Полагаюсь на ваше благородство, ребята. Я торжественно, добровольно и чистосердечно признаюсь в том, что все наши дела, о которых этот зловредный Мхтанд рассказал этой вот девчонке, есть чистейшая правда. И про Планету Негодяев, и про Великого Спрута, чтоб ему сдохнуть, и про Искусника Крэга… и про машины на живых мозгах… и для чего я на «Черной Пирайе» к вам на Землю наведался… — Мы с самого начала знали, что это чистейшая правда, — нетерпеливо прервал его флагман Макомбер. — Продолжайте, Двуглавый. Выкладывайте вашу огромную тайну. — Знали? — обрадованно воскликнула левая голова. — Что же вы мне сразу не сказали? Знали и не повесили! Вот так порядочки у вас тут на Земле… Ну, тогда слушайте. Вот что рассказал Двуглавый Юл. Давным-давно, более тысячи лет назад, Богомол Панда, один из самых дерзких головорезов Великого Спрута, рыская в поисках добычи по окраинам Малого Магелланова Облака, наткнулся на незначительное оранжевое солнце с единственной, но цветущей планетой, покрытой фтороводородными океанами и плотной атмосферой из смеси фтора и неона. Обычно на таких мирах бывает чем поживиться, потому что их населяют, как правило, многочисленные и очень трудолюбивые носители разума, но эта планетка, к удивлению и разочарованию Богомола, была совершенно пустой. То есть, конечно, ее сушу покрывали густые сиреневые леса и плодородные лиловые поля, фтороводородные реки и океаны тоже изобиловали жизнью, но разумных живых существ на ней не оказалось. С досады Богомол Панда хотел сбросить на самый большой материк парочку кислородных бомб, но тут же спохватился, потому что кислород на окраинах Малого Магелланова Облака и теперь не всем по карману, а в те времена и подавно. Пришлось Богомолу плюнуть и повернуть свой крейсер прочь от фторовой планетки. А через несколько часов пираты натолкнулись на неизвестный космический корабль, идущий встречным курсом. Тут уж, казалось, дело верное. Корабль был немедленно атакован и взят на абордаж. И как же был вновь разочарован Богомол Панда, когда оказалось, что не технические новинки, не произведения искусства и ремесла, не золотые слитки заполняли отсеки злосчастного корабля, а койки-амортизаторы с больными и увечными носителями разума. Корабль был санитарным транспортом. Рассвирепевшие пираты принялись рубить несчастных вручную, и тем бы все и кончилось, если бы Богомол вдруг не задумался: а зачем, собственно, санитарный корабль с грузом полумертвых разумных существ шел к пустынной фторовой планетке? Он приказал прекратить бойню и привести в рубку оставшихся в живых; ему приволокли полумертвого от ран капитана, похожего на громадного муравья, и полумертвого от страха санитара, похожего на гигантского мотылька. Богомол Панда допросил их сам, ни в чем себя не стесняя. Правда, капитан-муравей во время допроса умер, но то, о чем он упорно молчал, торопливо выболтал санитар-мотылек. Выяснилось, что на Северном полюсе фторовой планетки, под километровой толщей фтороводородного льда, обитает некий чудо-доктор по имени Итай-итай. Этот доктор якобы лечит какие угодно болезни и даже восстанавливает какие угодно утраченные органы у каких угодно носителей разума. Уже много тысячелетий многие сотни цивилизованных рас, населяющих многие десятки планетных систем в окрестностях оранжевого светила, посылают своих безнадежно больных и увечных к доктору Итай-итай, и еще не было случая, чтобы кто-нибудь не вернулся домой полностью исцеленным. Замечательно, что исцеление происходит за считанные минуты, а то и секунды, диагноз же ставится моментально, с первого взгляда. Откуда взялся доктор Итай-итай, какая раса его породила, как и когда он угнездился на этой одинокой планетке незначительной звезды, никто не знает, поскольку вопросов, не относящихся к делу, он терпеть не может. Впрочем, учеников он берет охотно, и их у него перебывало бессчетное количество, однако ни один из них не смог постигнуть даже начал его удивительного искусства. Закончив допрос, Богомол Панда дал приказ немедленно возвращаться на фторовую планету. Остальное было делом техники. Спустя короткое время чудо-доктор Итай-итай был взят и водворен в лучшую каюту крейсера, а его подледный госпиталь был очищен до последнего скальпеля и взорван атомным детонатором. Надо сказать, что наружность чудо-доктора повергла в изумление даже видавших виды пиратов Глубокого космоса. Богомол, который не имел никакого воображения и отличался косноязычием, описал его как «этакую круглую штуковину с тележное колесо, а может, и поболе, да еще с этакими хвостами заместо всего прочего». Он даже не поверил поначалу, что перед ним именно чудо-доктор, а не какой-нибудь диковинный медицинский инструмент. Он не поверил и тогда, когда чудо-доктор пришел в себя от пережитого потрясения и принялся протестовать и браниться. И только получив подтверждение от санитара-мотылька, он успокоился и приказал стартовать. Нет, «успокоился» — не то слово. Он просто забегал по потолку от восторга: его всесильный хозяин Великий Спрут частенько прихварывал, и вознаграждение за такую добычу можно было стяжать весьма и весьма обильное. Но все получилось не совсем так, как он предполагал. Правда, щедрость Великого Спрута, весьма делового носителя разума, неимоверно богатого мерзавца и в высшей степени влиятельной личности на Планете Негодяев, превзошла все его ожидания. Познакомившись с чудо-доктором Итай-итай и проверив его искусство на нескольких рабах, захваченных в разных углах обозримой Вселенной, Великий Спрут задал Богомолу и его команде роскошный пир, на котором, между прочим, было подано желе из санитара-мотылька, зажаренного в купоросном масле под давлением в семьдесят атмосфер, наградил каждого своим портретом в пудовой рамке из чистого золота, а самому Богомолу Панде подарил, кроме того, небольшой астероид. И все бы, наверное, кончилось для счастливцев хорошо, но у пиратов Глубокого космоса есть свои привычки. Сразу же после роскошного пира у Великого Спрута они рассыпались по портовым кабакам и притопам и принялись болтать. И в ту же ночь исчезли все до единого. Верный клеврет и исполнитель самых топких поручений Великого Спрута, некий Мээс, усиленно распространял слухи, будто Богомол и его команда срочно отправлены с каким-то поручением в центр Большого Магелланова Облака, но несколько дней спустя кто-то нашел оторванную клешню Богомола Панды в куче мусора на городской свалке, кто-то другой видел что-то еще… — Одним словом, все было ясно, — закончил Двуглавый Юл. — И никто никогда больше не видел чудо-доктора Итай-итай. — Очень интересно, — сказал после долгого молчания флагман Макомбер. — Но может быть, это просто легенда? Ведь прошло десять веков… — Как же, легенда! — презрительно возразила левая голова. — Великому Спруту, этой мягкотелой твари, давно бы уже положено сгнить заживо и подохнуть от церебральной дезинтегрии, а он здоровехонек, жрет и пьет в свое удовольствие, ворочает триллионными делами… Нет, дело тут ясное. Запрятал он чудо-доктора куда подальше и лечится, каналья, у него в одиночку. От всех носителей разума такого доктора спрятал! — взревела вдруг левая голова ужасным голосом и умолкла. — Все это прекрасно, — холодно произнес Арамис. — А теперь выкладывай, к чему ты все это наплел. — Как это к чему? — возмущенно воскликнул Двуглавый Юл. — Ясно, к чему! Чудо-доктор — он и есть мой единственный шанс на спасение! Мне ведь что нужно, ребята? Мне нужно только вернуться на Планету Негодяев. Там я припаду к стопам Великого Спрута, я буду плакать, как новорожденный тюлень, и рыдать, как чайка перед бурей, я совру, что получил ранение в смертельной схватке за его интересы, и уговорю его показать меня чудо-доктору Итай-итай. Великий Спрут, конечно, сжалится, и через секунду я буду здоров. — И все? — Ну что значит «все»? Я же понимаю, что вам тоже нужно соблюсти свой интерес. Узнав, где находится чудо-доктор, я похищаю его и доставляю прямохонько вам в руки. Быстро, без шума и точно, как в аптеке. После этого я снова, и уже окончательно, поселяюсь в этой пещере и провожу остаток своих дней среди любезных сердцу моему тюленей. Могу даже пообещать никогда впредь не лезть в океан в нетрезвом виде. Прекрасный план, не так ли, ребята? Но для этого вы верните мне мою «Черную Пирайю» и моих преданных друзей Ка, Кн, Ку и Ятуркенженсирхива, а кроме того, поставьте на «Пирайе» электронную машину для прокладки курса… — А тысяча кондиционных голов в придачу тебе не требуется? — вкрадчиво осведомился Арамис. Атос коротко и резко захохотал, а флагман Макомбер оскалил крепкие зубы в зловещей усмешке. — Ага, понимаю, — глубокомысленно сказал Двуглавый Юл. — Разумеется, я признаю, что не вправе пока рассчитывать на полное ваше доверие. Что ж, я согласен прихватить с собой вашу девчонку Галю, пусть она проследит, чтобы все было честь по чести… Атос снова захохотал. — Что за чушь вы несете, право! — сердито сказала Галя. — Стыдно слушать. — Ну, на вас не угодишь, — проворчал Двуглавый Юл и задумался. Затем, словно его осенило, он воскликнул: — Ну конечно, ребята, как это я сразу не подумал об этом! Вы не доверяете Ка, Ки и Ку. Правильно не доверяете. Они бравые парни, но… как бы это выразиться? Короче, они действительно не очень надежны в некоторых ситуациях. Звон золота, всякие соблазны… Хорошо, я готов лететь без экипажа. Мы полетим вдвоем с Галей. Договорились? — А теперь давайте говорить серьезно, Двуглавый, — сказал флагман Макомбер деловым тоном. — Нам всем ясно, чего вы добиваетесь. Вы хотите жить, это вполне понятно. Вы рассчитываете добраться до Планеты Негодяев, собрать там шайку таких же отъявленных мерзавцев, как вы сами, устроить налет на резиденцию Великого Спрута и силой завладеть чудо-доктором. Это тоже вполне понятно. Но ведь это глупо. Скорее всего, эта авантюра кончится тем, что кто-нибудь найдет вашу оторванную клешню на городской свалке. — Мне терять нечего, — угрюмо ответила левая голова. — Так ли, этак ли — все одно смерть. А риск, как известно, дело благородное. Никто, кроме меня, о моей жизни не побеспокоится. — Напротив! — возразил флагман Макомбер. — Мы предлагаем вам другой план, Двуглавый. Вы открываете нам координаты Планеты Негодяев, мы идем к пен тремя космическими эскадрами и захватываем это гнусное гнездо. Главарей арестовываем, рабов освобождаем, а чудо-доктора возвращаем на его фторовую планету. В награду он в одну секунду вылечит вас. Договорились? — Это чтобы я предал свою планету? Своих братьев по ремеслу и соратников? Своих боевых друзей и собутыльников? — возопил Двуглавый Юл и произнес нормальным голосом: — С удовольствием. Но вот в чем загвоздка, господин флагман. Едва ваши эскадры появятся в окрестностях кроваво-красной Протуберы и мертвенно-синей Некриды, как вас засекут сторожевые аванпосты и поднимется тревога. Как только поднимется тревога, вам навстречу снимется весь объединенный флот Планеты Негодяев. Начнется преогромнейшая драка. Положим, что вы и одолеете, я в жизни своей не встречал таких отчаянных ребят, как земляне. Но вы плохо знаете Великого Спрута. К тому времени, когда вы высадитесь, его уже и след простынет. И доктора Итай-итай вместе с ним. Вот так-то, господин флагман. Нет, через аванпосты пройдет только «Черная Пирайя». Ее уж там знают и помнят, мою бригантиночку… Флагман Макомбер взглянул на Атоса и Арамиса, и мушкетеры согласно кивнули. — Тогда предлагаем еще одни план, последний, — сказал прославленный космолетчик. — Мы возвращаем вам «Черную Пирайю» и ставим на ней электронную машину. И мы даем вам экипаж. Только зачем вам обязательно Ка, Ки и Ку? На этот раз к Планете Негодяев с вами пойдут земляне. Ваш новый квартирмейстер — это я. Ваш новый канонир — это Атос. И ваш новый бортрадист — это Арамис. Галя прижала пальцы к губам, чтобы не закричать от ужаса. Двуглавый Юл ошеломленно вертел левой головой. Даже правая голова широко раскрыла единственный глаз. — Когда «Пирайя» пересечет орбиту Плутона, вы сообщите Великому Спруту, что потерпели аварию, — продолжал между тем флагман Макомбер. — Вы сядете на свое обычное место на космодроме. Вы пригласите на борт агентов Великого Спрута для приема груза. Дальше будем действовать по обстоятельствам. С момента старта и до момента возвращения на Землю командовать буду я. При малейшем неповиновении — расстрел на месте по законам Глубокого космоса. — Эка вы как круто загибаете… — проворчал Двуглавый Юл. — II учтите, Двуглавый, — продолжал флагман, — никаких дурацких штучек! Без нас вам чудо-доктора не видать, как… — Он хотел сказать про уши, но запнулся и махнул рукой. — Словом, я предвижу, что нам предстоит проникнуть в святая святых Великого Спрута. — Эх! — произнес Двуглавый Юл сквозь зубы. — Знали бы вы, что если бы но обернулось все так, я бы сию секунду вас всех здесь на месте бы порешил… — Знаем, знаем, — нетерпеливо отмахнулся флагман Макомбер. — Не хвастайтесь, не то мы примем меры… Например, посмотрим, что у вас там под черной повязкой на правой голове! — Ладно, ладно, — проворчал Двуглавый Юл. — И так ясно, что ваша взяла. Собственно, такой план подходит мне больше всего. С вами, ребята, мы горы своротим. Одному бы мне, конечно, не справиться… Так когда выступаем? Флагман Макомбер открыл было рот, чтобы ответить, но Арамис вдруг перебил его. — Скажи-ка, Двуглавый, — произнес он, — а правда, что доктор Итай-итай может оживлять мертвых? Все посмотрели на него. Головы Двуглавого Юла переглянулись и тоже уставились на Арамиса. — Вот пострел — и тут поспел, — сказала левая голова. — Ты-то что в этом понимаешь? — Правда это или нет? — своим холодным, как полярная ночь, голосом спросил Арамис. — Да говорили что-то такое… — неохотно ответила левая голова. — Болтали у нас в кабаках и тавернах… А тебе-то что? — Откуда ты знаешь про доктора, Арамис? — вскинулась Галя, но Атос положил ей на плечо руку, и она замолчала. — Так это правда или нет? — спросил флагман Макомбер. Левая голова сморщилась, и Двуглавый Юл почесал у нее в затылке. — Ну что вам сказать… Был такой пре-це-дент. Точно, был. Лет триста назад. У Великого Спрута есть такой вроде бы секретарь, старикашка Мээс. Ну, однажды Веселый Клоп — есть у нас один такой — пришел с богатым грузом, а Мээс этот его при расчете обжулил… или что иное между ними вышло. Короче, Веселый Клоп вынул пистолет и всадил в Мээса всю обойму, сто разрывных пуль. Мээс, натурально, лег и дымится. Веселый ударился в бега… Да не о нем речь. Я своими глазами видел, как Мээса собрали по кускам и утащили хоронить, а неделю спустя гляжу и этим самым глазам не верю: опять Мээс шляется вниз головой и хобот свой высовывает… Так что выходит, что чудо-доктор и мертвецов воскрешает. Но нас-то это не больно касается, а? Его уже не слушали. Галя с восторгом и ужасом смотрела на Арамиса, Атос с нежной грустью смотрел на Галю, а маленький Ятуркенженсирхив тихонько гладил Галины волосы. Флагман Макомбер внимательно разглядывал свои ногти. Арамис с трудом перевел дух. — Понятно, — проговорил он. — Так. Я в чудеса не верю. Но вместе с нами на «Черной Пирайе» пойдет Портос. Галя слабо ахнула. Атос поднял руки, чтобы обнять ее, но тут же отступил на шаг, и руки его упали. — Три года Портос покоится в спектролитовой капсуле на сто двадцатом километре, — ровным голосом продолжал Арамис. — Дружба прежде всего, Атос. Дружба сильнее любви, родственница. Он отдал жизнь за нас, мы попробуем вернусь долг. Флагман Макомбер нахмурился. — Вы серьезно собираетесь взять в космос мертвое тело, мой дорогой Арамис? — спросил он. — Это было моим намерением с самого начала, флагман Макомбер, — ответил Арамис. Прославленный космолетчик пожал плечами. — Ну хорошо, — сказал он. — Вам все ясно, Двуглавый? — Чего уж яснее! — огрызнулся Двуглавый Юл. Ему было не по себе. — Так когда стартуем-то? — Вам дадут знать, — сказал флагман. — Только учтите! — заорал вдруг Двуглавый Юл. — Если бы меня не трахнули по башке, черта с два я пошел бы на такую авантюру! — Мы учитываем, — зловеще отозвался Арамис. — Мы все время все учитываем, пират! Флагман Макомбер двинулся к выходу из пещеры, остальные молча последовали за ним. Они перешли на глиссер, флагман включил мотор, и невесомое суденышко, понемногу набирая ход, двинулось прочь от берега. Тюлени, расположившиеся на плоских камнях неподалеку, тихонько пели старинную песню, подхваченную их далекими предками где-то за океаном:3
Озаренная кроваво-красным блеском Протуберы и мертвенно-синим сиянием Некриды, медленно, на самых малых оборотах, опускалась «Черная Пирайя» на космодром Планеты Негодяев, забитый летающей посудой. В тысячу первый раз возвращалась она из далеких странствий по обозримой Вселенной, но никогда еще не было на ее борту так чисто и опрятно. За три года на Луне с открытыми настежь люками она основательно проветрилась, хлопотливые роботы-уборщики тщательно выскребли и вылизали ее изнутри и снаружи, а перед самым стартом Галя, обливаясь слезами, украсила ее рубку и каюты огромными букетами неувядающих незабудок. И никогда еще на борту «Черной Пирайи» не было такого странного экипажа. Двуглавый Юл, бывший знаменитый вольный пират, а ныне всего лишь зиц-капитан, мрачно восседал в своем знаменитом кресле, поддерживая вконец обессилевшую правую голову обеими руками, а распоряжался всем командующий третьей космической эскадрой и член Всемирного совета Земли прославленный флагман Макомбер, да еще с вездесущим Ятуркенженсирхивом на плече, а при новеньком электронном штурмане неотлучно дежурил хладнокровный Арамис, а у лазерных пушек, не снимая ноги с педали спускового устройства, сидел угрюмый Атос. И никогда еще не было в трюме «Черной Пирайи» такого странного груза. У самого грузового люка покоился на пружинных растяжках прозрачный спектролитовый ящик, и в нем, залитый жидким аргоном, лежал труп Портоса — вытянувшийся, словно бы в последнем напряжении, с широко раскрытыми мертвыми глазами, со стиснутыми кулаками, прижатыми к бедрам. Еще в пути, незадолго до прорыва в подпространство, где, как известно, нет ни времени, ни движения, ни расстояний, Двуглавый Юл по приказанию флагмана Макомбера связался с Великим Спрутом. Случилось так, что именно в ту минуту Великий Спрут вышел на связь с неким Палачом Тритоном, откомандированным, насколько можно было догадываться, выколотить дань из покоренного народца какой-то провинциальной планетки, и экипаж «Черной Пирайи» немало посмеялся над неразберихой, которая произошла от этого обстоятельства. Укоризненно поглядывая на флагмана Макомбера, сидевшего напротив с пятидесятизарядным бластером на коленях, Двуглавый Юл битых пять минут втолковывал своему бывшему нанимателю, что, будучи Двуглавым Юлом и вольным пиратом, он никак не может одновременно быть и атаманом карателей Палачом Тритоном, и, следовательно, не имеет возможности выделить дредноуты для маневра в сторону системы Рябого Солнца, и, следовательно, не будет испытывать нужды в подкреплении со стороны эскадры Элегантного Дика. Усвоив, наконец, что с ним говорит вольный пират Двуглавый Юл, пропавший без вести три года назад, Великий Спрут онемел от изумления. А Двуглавый Юл, воспользовавшись паузой, принялся докладывать ему о своих злоключениях. Он в ярких красках разрисовал свои подвиги в сражениях с огромным флотом проклятых землян; рыдающим голосом поведал о том, как смертью храбрых полегли на поле брани его верные Ка, Ки и Ку; в сухих, военных выражениях описал маневр, при помощи которого ему удалось оторваться от преследователей; и наконец, прерывая себя стонами и зубовным скрежетом, размазывая по левой физиономии всамделишные слезы, пожаловался на ужасные страдания, причиняемые ему смертельной раной в правую голову. — Постой, Двуглавый, — в некотором ошеломлении проговорил Великий Спрут, — где же ты пропадал все эти три года? Двуглавый Юл ответил, что в ходе сражений его бригантина была вся вдоль и поперек исполосована лазерными пушками, и что все эти три года до последнего дня ему понадобились, чтобы наложить заплаты на броню и отремонтировать поврежденные двигатели. Конечно, с горечью добавил он, другой на его месте, будучи обречен неминуемой смерти от смертельной раны, не стал бы возиться, а просто осел бы на каком-нибудь пустынном астероиде и без лишних хлопот опочил бы вечным сном на дне одинокого кратера, но он, Двуглавый Юл, слишком привык выполнять свои обязательства и решил прежде доставить по месту назначения заказанный груз… — Так груз уцелел? — воскликнул Великий Спрут своим низким жирным голосом. — С этого и надо было начинать! Ты молодец, Двуглавый, хвалю. Остальное расскажешь по возвращении, сейчас мне некогда. Будь здоров. — Ну, будь здоров, Великий! — прорычал Двуглавый Юл, и на этом сеанс связи закончился. Флагман Макомбер сунул бластер в карман и крикнул Атосу заблокировать радиоаппаратуру. Впрочем, на ближних подступах к Планете Негодяев радио снова разблокировали, и едва корма «Черной Пирайи» коснулась обожженного, покрытого трещинами бетона между помятым летающим самоваром и надтреснутым летающим блюдцем, как под потолком раздался скрежещущий голос Мээса, верного клеврета и исполнителя самых тонких поручений Великого Спрута: — Великий поздравляет тебя с благополучным возвращением, Двуглавый… — Хорошенькое благополучное возвращение! — саркастически произнесла левая голова. — Как говорится, войну проиграл, полбашки потерял… — Га-га-га! — рассыпался Мээс скрипучим смехом. — Это ты неплохо пошутил, Двуглавый. Но согласись, что это уже подробности. Самое главное — ты уберег груз и доставил его в целости и сохранности. Ведь в целости и сохранности? — В целости и сохранности, — подтвердила левая голова. — Ну вот видишь! А остальное уладится, уверяю тебя. Передаю распоряжение Великого: из корабля не отлучаться, приготовиться к разгрузке, ждать. Флагман Макомбер ткнул Двуглавого Юла между лопаток стволом пятидесятизарядного бластера, и левая голова возмущенно заорала: — Ждать? А чего ждать-то? С какой стати я буду ждать? Передан Великому, что я каждую секунду могу подохнуть! Мне доктор нужен, а не ждать! Передан ему, что мне нужен самый лучший доктор, понял? И немедленно! — Хорошо, Двуглавый, я немедленно передам, — проскрежетал Мээс и вдруг вкрадчиво осведомился: — А почему это у тебя экран в абордажной камере не действует? Флагман Макомбер снова ткнул Двуглавого Юла между лопаток, но тот отмахнулся локтем и заорал еще громче: — Клянусь кровавой Протуберой и мертвенной Некридой, ты что, не знаешь, где я побывал? Ты воображаешь, что эти проклятые дети кислорода, воды, хлорофилла и красной крови угощали меня любимым ртутным коктейлем? Да если бы ты хоть одним глазом увидел их, у тебя бы от страха вся шерсть на хребте повылезла бы! Скажи еще спасибо, что абордажную камеру у меня разнесло прямым попаданием, иначе я бы от тебя мокрого места не оставил, едва бы ты сунул туда свой хобот! Никто из вас не поднимется на борт моей бригантины, пока меня не осмотрит лучший доктор на планете! Так и передай Великому: никакой разгрузки не будет. Знаю я вас, деловых носителей разума! Пока не будетдоктора, груза вы не получите. Все понятно? — Все понятно, — зловеще кротко ответствовал Мээс и отключился. И тут Двуглавый Юл накинулся на флагмана Макомбера. И как! Видимо, беседа с клевретом и исполнителем самых тонких поручений взаправду довела его до истерики. Он бушевал. Он брызгал слюной и топал ногами. Он заткнул правой голове уши пальцами и вопил так, что Ятуркенженсирхив едва удерживался на плече прославленного космолетчика. Что воображает этот флагман-командующий? Как он смеет тыкать ему, Двуглавому Юлу, в спину всяким железом? Что у него за манеры, и имеет ли он понятие о хорошем воспитании? Если у него чешутся руки, пусть он тычет своим железом в спину всяким землянам! Да будет известно этому флагману-командующему… и так далее в том же духе. Во время этого длинного и довольно несвязного излияния, пока Двуглавый Юл бушевал, топал и брызгал, а флагман Макомбер рассматривал свои ногти, а Ятуркенженсирхив жмурился и втягивал пушистую голову в пушистые плечи, в рубку неслышно вошел Арамис, включил иллюминаторы и стал переходить от одного к другому, рассматривая окрестности. Надо сказать, что на «Черной Пирайе» иллюминаторы были прозрачными только изнутри, а снаружи их вообще не было заметно. Когда Двуглавый Юл замолчал, Арамис спросил, не оборачиваясь: — Ты серьезно надеешься, пират, что Великий Спрут пришлет сюда чудо-доктора Итай-итай? — Держи карман! — презрительно ответствовал Двуглавый Юл, оглядывая свои указательные пальцы и вытирая их о штаны. — Он сдохнет скорее, чем пришлет! — Это никак невозможно, — тоненьким голосом подтвердил Ятуркенженсирхив. — Великий Спрут не станет рисковать чудо-доктором хотя бы потому, что это, вероятно, единственный доктор на всей планете. — Как так? — удивился флагман Макомбер. — Именно так, — сказал Ятуркенженсирхив. — Видите ли, на Планете Негодяев собрались представители самых разнообразных цивилизаций обозримой Вселенной. Разумеется, не лучшие представители. Но справедливость требует отметить вдобавок, что и проявления благодарности у некоторых цивилизаций принимают иногда очень странные формы. — Не тяни, маленький негодяй! — произнес Арамис, по-прежнему не оборачиваясь. — Да, я маленький, — с достоинством произнес Ятуркенженсирхив. — Но я вот уже три года как годяй. А что касается сути дела, то доктора просто не уживаются на этой планете. Положим, купил он здесь практику, вылечил от раны одного, от язвы желудка другого, от внутреннего кровоизлияния третьего, а четвертый, которого он вылечил от алкоголизма, из чувства благодарности взял и съел его. — Что ты говоришь! — ужаснулся флагман Макомбер. — Я говорю чистую правду. Да что далеко ходить! Возьмите присутствующего здесь бывшего вольного пирата Двуглавого Юла… — Заткнись, предатель! — заорала левая голова. — А вы тоже хороши, флагманы-мушкетеры! Вместо того чтобы заниматься делом и спасать меня от верной смерти, развесили уши и слушаете вранье этого мерзавца. Соображайте лучше, что будем делать дальше! Только имейте в виду, что Великий Спрут — пусть он сгниет заживо! — ни за что не пришлет чудо-доктора на борт моей бригантины. Не такой он дурак, чтоб ему вовек не видеть кроваво-красной Протуберы и мертвенно-синей Некриды! Так что добираться до чудо-доктора нам придется собственными силами. Думайте, земляне. И, кстати, неплохо бы закусить. — Одну минутку, — сказал вдруг Арамис. Он по-прежнему стоял спиной к рубке и лицом к одному из иллюминаторов. — Этот самый… как его… Мээс… — Ну? — нетерпеливо произнес Двуглавый Юл. — Ну, Мэ-эс. Мерзкий старикашка. Ну и что? — Он ростом примерно с меня? — Да. — Он мохнатый, с крыльями, как у летучей мыши? — Да! — И у него длинный белый хобот? — Да!! — И шкура сизого цвета? — Да!!! — И низкий лобик, и маленькие выпученные глазки? — Да, черт подери! Да! Дадут мне сегодня пожрать? — В таком случае несомненно, что это именно Мээс приближается сейчас к «Черной Пирайе» в сопровождении четырех… гм… существ с шестью руками каждое. Двуглавый Юл рявкнул что-то нечленораздельное и ринулся к иллюминатору. Флагман Макомбер, доставая на ходу бластер, последовал за ним. Действительно, осторожно ступая по обожженному и растрескавшемуся бетону голыми трехпалыми лапами, к «Черной Пирайе» приближался носитель разума, подобного которому никто из землян никогда не видел. Кто знает, в каком неопрятном углу обозримой Вселенной вывела эволюция такую странную тварь, похожую одновременно на пингвина, слона, летучую мышь и кролика. Но ведь возникла же где-то даже цивилизация таких тварей, и если на то пошло, то и не тварей вовсе, потому что слово «тварь» на земном языке — слово ругательное, а существ, и прошли эти существа, наверное, ту же дорогу, что и благородные земляне: дрожали от холода и страха в своих пещерах, охотились на своих мамонтов, молились своим богам и совершали хорошие и дурные поступки, и сильный у них угнетал слабого, и не исключено, что в конце концов воцарилось на их планете, как и на нашей Земле, царство братства и разума, иначе зачем бы этому поганому отщепенцу бежать из своего мира и лизать щупальца распухшему от крови и золота чудовищу? Следом за мерзким старикашкой Мээсом деревянно вышагивали четверо шестируких и десятиглазых гигантов, кровавые и мертвенно-синие отблески играли на их могучих фиолетовых телах. Арамис вдруг прищурился, вглядываясь, и прижался лбом к иллюминатору. — Атос! — негромко позвал он. — Вижу, — отозвался Атос из артиллерийской башни. — Твое мнение? — Можно попробовать. — План? — Проволынить десять минут и впустить. — Лучше пятнадцать. — Хватит десяти. Будто ничего особенного и не было сказано между мушкетерами, но напряжение на борту бригантины мгновенно возросло до предела. Двуглавый Юл с ужасом взглянул сбоку на Арамиса и отодвинулся. Мелко-мелко задрожал Ятуркенженсирхив, пушистая шерстка у него на шкирке поднялась дыбом. Флагман Макомбер раскрыл было рот, чтобы что-то скомандовать или спросить, да так его и захлопнул, ничего не сказав, и только внимательно проверил затвор своего бластера. Потом Двуглавый Юл очнулся. — Это то есть как это так — впустить? — взвыл он. — Это всю их компанию сюда впустить? Да знаете ли вы, мушкетеры-флагманы, что эти… шестирукие… из личной охраны Великого Спрута? Да они же здесь всё разнесут, когда вас увидят! Мээс как вас увидит, он же им только мигнет… — Мы все пропадем, мы все погибнем! — в панике забормотал Ятуркенженсирхив, трясясь всем тельцем. — В самом деле, достойный Арамис, — произнес флагман Макомбер, нахмурясь, — я что-то плохо вас понимаю. Нельзя же, в самом деле… — Флагман Макомбер, — холодно сказал Арамис, — когда нам придется решать задачи стратегические или хотя бы тактические, мы всецело положимся на вас. Сейчас нам предстоит задача чисто научно-техническая, поэтому потрудитесь не вмешиваться. — То есть как это так — не вмешиваться? — совершенно уже потеряв от страха обе головы, возопил Двуглавый Юл. — Как же тут не вмешиваться, когда их не берет в упор даже противотанковая пушка, когда они своими проклятыми ручищами скалы крушат, когда они не совсем разумные и чрезвычайно преданы Великому Спруту? — Может быть, для тебя, пират, этот твой Великий Спрут действительно велик, — проговорил Арамис сквозь зубы. — Однако сразу видно, что он еще не имел дела с землянами… — И тут Арамис словно с цепи сорвался: — Заткнись, двухголовый подонок, и делай, что тебе говорят, если дорожишь своей шкурой! — прорычал он, сжимая кулаки. — Ты хотел, чтобы мы занимались делом? Мы сейчас займемся делом! Вы хотели войны, подлая банда кровавых бандитов, угнетатели беззащитных, безграмотные скоты? Вы сейчас получите настоящую войну! — Он снова взял себя в руки и продолжал обычным своим холодным тоном: — Так называемый Великий Спрут совершил сейчас роковую ошибку. Можно не сомневаться, что он прислал сюда этого полуслона-полупингвина для переговоров с последующим предательством. Можно не сомневаться также, что этот недослон-недопингвин начнет сейчас ломиться на борт и пытаться протащить сюда с собой этих… шестируких. И можно не сомневаться, конечно, что этот квазислон-квазипингвин будет делать тебе весьма лестные предложения. Так вот, эти предложения ты примешь. — Как это? — ошарашенно спросил Двуглавый Юл. — Очень просто. Соблазнишься и примешь. — Ничего не понимаю. — Этого от тебя не требуется. — А как же эти… шестирукие? — О шестируких забудь. Шестирукие — наша забота. А твое дело — поторговаться с Мээсом минут десять и затем впустить их всех на борт. Ясно? — Ясно, — упавшим голосом произнес Двуглавый Юл, потому что вороненый ствол пятидесятизарядного бластера уже уперся ему в бок. — Одну минутку… — пискнул Ятуркенженсирхив, соскользнул с плеча флагмана Макомбера и заперся в холодильнике. — Внимание! — лязгнул под потолком железный голос Атоса. На стене загорелась синяя лампочка — знак того, что переговорное устройство включили. Мээс и четверо шестируких титанов остановились перед люком «Черной Пирайи». — Кто, кто в теремочке живет? — скрипуче проблеял Мээс. — Еще раз привет тебе от Великого Спрута, Двуглавый! Он прислал меня, чтобы переговорить с тобой начистоту. — Валяй, валяй, — пробурчал Двуглавый Юл и яростно оттолкнул руку флагмана Макомбера, прижимавшую к его боку ствол бластера. — Только скажи сперва, который из этих четверых доктор? И начался у них спор, вялый, тягучий, но обстоятельный, — из тех споров, когда оба спорщика заведомо врут и знают, что врут, по почему-то не теряют надежды переспорить один другого. Мээс поклялся, что единственная цель Великого Спрута состоит в полном вознаграждении Двуглавого Юла за доблесть, жертвы и исполнительность. В ответ на это Двуглавый Юл гнусаво напомнил ему, что доблесть, жертвы и исполнительность вольного пирата стоят дорого и не по карману даже Великому Спруту. Мээс смиренно признал, что намек понял, но все дело в том, что доктор, которого справедливо требует Двуглавый Юл, никак не может явиться на борт «Черной Пирайи», будучи совершенно неприспособлен к передвижениям по поверхности планеты. Двуглавый Юл возразил, что его. Двуглавого Юла, раны и контузии такого свойства, что он еще менее доктора приспособлен сейчас к передвижениям. Мээс немедленно объявил, что Великий Спрут предвидел это прискорбное обстоятельство и потому прислал с ним, Мээсом, вот этих четырех своих смиренных слуг, которые в два счета доставят Двуглавого Юла к доктору. Двуглавый Юл ядовито заметил, что с тем же успехом эти смиренные слуги могли бы в два счета доставить доктора к нему, Двуглавому Юлу. Мээс снова поклялся насчет единственной цели Великого Спрута и в доказательство предложил немедленно выплатить Двуглавому Юлу под расписку причитающийся ему гонорар без вычетов за погубленный контрактор. При этом Мээс принялся призывно размахивать брезентовым мешком, от которого исходило тяжелое соблазнительное побрякивание, а четверо фиолетовых титанов у него за спиной согласно закивали и в знак полного одобрения выставили перед собой оттопыренные большие пальцы вторых правых рук. Тут в люк артиллерийской башни выглянуло бледное лицо Атоса. Арамис кивнул и подал знак флагману Макомберу, и флагман Макомбер легонько стукнул Двуглавого Юла между лопаток: «Пора!» — Ладно! — рявкнул Двуглавый Юл, прерывая на полуслове длинный период, которым Мээс разразился было в доказательство добропорядочности своей миссии. — Ладно. Будь что будет. У меня все болит, правая голова прямо-таки раскалывается, и у меня мочи нет больше ждать. Но пусть все вольные пираты будут свидетелями, что Великий Спрут обязался не только заплатить мне, но и обеспечить меня квалифицированной медицинской помощью. А тем из них, кто не понимает таких длинных слов, я поясняю, что Великий Спрут обязался дать мне доктора, который залечит мои раны и контузии, полученные мною у него на службе. Аминь. Синяя лампочка переговорного устройства погасла, и Двуглавый Юл, скрипнув зубами, повернул рычаг, управляющий наружным люком. Тяжелая плита из перекристаллизованной стали медленно откинулась, открывая вход в шлюзовую камеру «Черной Пирайи». Мээс, топорща кожистые крылья, поднялся по трапу, торжественно неся перед собой брезентовый мешок с гонораром. Фиолетовые титаны гуськом последовали за ним. Арамис в два неслышных прыжка пересек рубку и затаился у двери. В мертвой тишине было слышно, как по рубчатому полу шлюзовой камеры сначала заклацали когтистые лапы Мээса, затем бухнули шаги первого шестирукого, второго, третьего, четвертого… — Люк! — зашипел Арамис. Двуглавый Юл, весь трясясь от возбуждения, рванул рычаг в обратную сторону. Стальная плита люка с глухим лязгом снова встала на место. В ту же секунду дверь в рубку отворилась, и на пороге появился Мээс. — Га-га-га, вот и я! — начал он и не окончил. Молниеносным движением Арамис ухватил его за хобот и изо всех сил рванул на себя. Мээс влетел в рубку и покатился под ноги Двуглавому Юлу, а Арамис одним пинком захлопнул дверь перед самым носом первого шестирукого. — Давай, Атос! — крикнул он, привалившись к двери. Грозный вибрирующий гул наполнил бригантину. Мелко-мелко задребезжали какие-то незакрепленные металлические части, зазвенели неплотно прилаженные стекла, по стенам побежали мурашки, а гул все усиливался, становился выше и перешел в оглушительный скрежещущий визг, и у всех мучительно заныли зубы, и волосы у всех встали дыбом, и на кончиках волосков заплясали, потрескивая, жуткие лиловые огоньки, а с вороненого ствола бластера в руке флагмана Макомбера стали срываться и с громом лопаться маленькие шаровые молнии. Запахло грозовой свежестью. И вдруг все кончилось, и железный голос Атоса раздался под потолком: — Все четверо готовы. Флагман Макомбер провел ладонью по мокрому от пота лицу и осмотрелся. Двуглавый Юл сжался в комок в своем кресле, стиснув обе головы между коленями и прикрывшись сверху обеими руками. У ног его, откинув в сторону морщинистый хобот, в беспамятстве валялся Мээс. Арамис стоял у двери на коленях и озабоченно ощупывал свою спину. Дверь была перекошена и смята от страшного удара снаружи. Флагман Макомбер сунул бластер в карман и спросил, ни к кому не обращаясь, скорее просто так, чтобы опробовать голос: — Что, собственно, произошло? В рубку мягко спрыгнул Атос, помог Арамису подняться на ноги и стал стягивать с него куртку и майку. — Ничего особенного, флагман, — отозвался он. — Мы с Арамисом сразу поняли, что эти шестирукие — не живые существа, а роботы. Ну, а иметь дело с роботами мы привыкли… Ловко обрабатывая огромным багровый синяк на спине Арамиса мазью из походной аптечки, он объяснил, что пока Двуглавый Юл препирался с Мээсом, он поднял из машинного отделения ходовые соленоиды и расположил их вокруг шлюзовой камеры. Когда шестирукие вступили в камеру, он создал в ее объеме переменное электромагнитное поле сверхвысокой частоты, не очень сильное, всего в одну стомиллионную долю рабочей мощности, но с избытком достаточное для полной демобилизации самой совершенной и самой защищенной кибернетической машины. Шестирукие обработаны на славу, можно не сомневаться. — Один все-таки успел ударить в дверь, — с трудом переводя дух, заметил Арамис. — Ребра целы? — Целы, — сказал Атос. — Ты дешево отделался, мушкетер. С чего это тебе вздумалось подпереть дверь спиной? — Почему же именно вздумалось? — сердито возразил Арамис, натягивая майку. — Это получилось у меня чисто рефлекторно. Флагман Макомбер подошел к изуродованной двери и попробовал открыть ее. Дверь была прочно заклинена. Тогда он заглянул в щель. Фиолетовые титаны в нелепых позах валялись на ребристом полу, похожие теперь на исполинские тряпичные куклы. — Чистая работа, — пробормотал флагман Макомбер. — Я протестую!.. — проскрежетал позади него голос Мээса. Он обернулся. Клеврет и исполнитель самых тонких поручений Великого Спрута ощупывал себя с головы до ног трясущимися руками и судорожно трепетал кожистыми крыльями. Хобот его уныло обвис. — Я протестую! — повторил он. — Во имя гуманизма, во имя всего святого в обозримой Вселенной. Я готов предложить любой выкуп. За мою смерть отомстят страшной местью. Я предлагаю любые гарантии. — Попался, крылатый боров! — просипел Двуглавый Юл, выпрастывая головы из-под правого колена. — Ну, теперь отольются кошке мышкины слезки. Говори, где чудо-доктор Итай-итай? Живо говори, а то хобот оторву! Мээс поспешно отполз от него на середину рубки и, кряхтя, поднялся на ноги. Его маленькие выпученные глазки живо оглядели Атоса, Арамиса и флагмана Макомбера, задержавшись на секунду на рукояти бластера, торчавшей из кармана прославленного космолетчика. — Ага! — проскрежетал он. — Все понятно. Вы — земляне, не пытайтесь отрицать это. Но позволю себе заметить, что Планета Негодяев не находится в состоянии войны с вашей планетой. Таким образом, грубый выпад против меня, достаточно важного должностного лица Планеты Негодяев, может рассматриваться лишь как беспрецедентное нарушение… — Нет, вы подумайте, какая скотина! — в гневном изумлении воскликнула левая голова Двуглавого Юла. А правая еле слышно простонала: — Удавить подлеца! — Послушайте, Мээс, — строго сказал флагман Макомбер, — ваши претензии на дипломатический тон просто смешны. Планета Негодяев является базой космического пиратства, находится в состоянии необъявленной войны со всеми цивилизациями обозримой Вселенной и подлежит разгрому и уничтожению. И как важное лицо в вашей пиратской иерархии вы можете рассчитывать лишь на скорую и верную казнь. Но вы еще можете спасти свою жизнь… — Он сам все это прекрасно понимает, флагман Макомбер, — нетерпеливо перебил его Арамис. — К делу. — Правильно! — отозвался Двуглавый Юл. — Он время тянет, а вы с ним миндальничаете, объясняетесь с ним! — Не мешай, пират, — сказал Арамис — Продолжайте, флагман Макомбер. — Итак, — произнес флагман Макомбер, — ситуация теперь резко изменилась. В результате второй роковой ошибки так называемого Великого Спрута в наши руки попал самый превосходный язык, какого только можно пожелать в критическом положении… — А что было его первой ошибкой? — наивно осведомился Двуглавый Юл. — Первой его ошибкой было то, что он послал тебя к нам на Землю, — ответил Арамис. — Но если ты будешь перебивать… — Молчу, молчу, — поспешно пробормотал Двуглавый Юл. — Очевидно, что наша первоначальная стратегема, — продолжал флагман Макомбер, — тайно проникнуть через абордажный экран в пределы резиденции Великого Спрута и искать чудо-доктора на удачу чревата всякого рода опасными и утомительными неожиданностями. Многочисленная стража, всевозможные ловушки на каждом шагу… Плана резиденции у нас нет. Ни Двуглавый Юл, ни Ятуркенженсирхив в резиденции никогда не были… Кстати, а где Ятуркенженсирхив? Арамис шагнул к холодильнику и распахнул дверцу. Повалил морозный пар. — Вылезай, маленький прохвост, — сказал Арамис. Ятуркенженсирхив вылез. Он трясся от холода, под глазами намерзли слезы, пушистая шкурка была покрыта толстым слоем инея. Он чихнул и опасливо закрутил побелевшим носом. Взгляд его остановился на понуром Мээсе. — Ч-ч-что? — тоненько продребезжал он. — Уж-ж-же все? — Все, все, — сказал Арамис и закрыл холодильник. — Прошу прощения, флагман Макомбер. — Короче говоря, успех нашего предприятия по первоначальной стратегеме весьма неочевиден. Другое дело — теперь. Теперь мы можем рассчитывать попасть к доктору Итай-итай прямо через абордажную камеру. — Так, — сказал Арамис. — Так! — железным голосом лязгнул Атос. — Это невозможно, — проскрежетал Мээс. — В палатах чудо-доктора нет приемного экрана. — В таком случае, Мээс, — строго произнес флагман Макомбер, — вы дадите нам шифр любого приемного экрана с пределах резиденции и сами проводите нас к чудо-доктору. — Это невозможно! — каркнул Мээс, приседая на подгибающихся лапах. — Меня умертвят! Я не могу!.. Арамис положил ему на затылок крепкую ладонь. — Сможешь, — ласково произнес он, заглядывая в помертвевшие от ужаса, выпученные глазки. — Все сможешь. И шифр ты нам дашь, и проводишь к доктору Итай-итай.4
В столкновении с землянами «Черная Пирайя» потеряла только штурманскую машину на живых мозгах, и Двуглавый Юл, разумеется, соврал, когда заявил Мээсу, будто абордажную камеру у него разнесло прямым попаданием. Камера была целехонька, просто дальновидный флагман Макомбер приказал временно заблокировать экран, иначе любознательный Мээс не преминул бы незаметно подсадить на борт кого-нибудь из своих шпионов — посмотреть, послушать и понюхать. Надо сказать, что принцип телеэкранной транспортации был уже давно известен земной науке, только не нашел практического применения, поскольку о шпионаже, разбое и воровстве на нашей планете сохранились лишь смутные воспоминания. Такому мастеру, как Атос, и такому ученому, как Арамис, разобраться в механизме этого устройства было все равно что стакан воды выпить, они научились управлять им еще на Луне, когда готовили «Черную Пирайю» к обратному рейсу. И вот весь экипаж в полном составе перешел с борта бригантины прямо в подземные коридоры резиденции Великого Спрута. Они двигались гуськом. Впереди, волоча по полу концы кожистых крыльев, ковылял взъерошенный и очень недовольный Мээс. В двух шагах за ним, неслышно ступая, шествовал флагман Макомбер; в правой руке прославленный космолетчик сжимал рукоять пятидесятизарядного бластера, в левой он нес портфель из кожи венерианского бегемота, заполненный какими-то тяжелыми округлыми предметами, карманы его куртки топорщились от запасных обойм. На его плече спиной вперед восседал Ятуркенженсирхив, таращил красные глазки и напряженно вслушивался в мысли Двуглавого Юла. Двуглавый Юл тащился следом за флагманом Макомбером, бережно придерживая под подбородок правую голову; левая голова время от времени щелкала зубами и строила Ятуркенженсирхиву ужасные гримасы, приводившие беднягу в содрогание. Позади Двуглавого Юла с едва слышным гудением плыла в дециметре от пола летающая платформа со спектролитовой капсулой Портоса; у руля платформы, опершись на тяжелую стальную острогу, неподвижно стоял Арамис. Шествие замыкал мрачный Атос, обвешанный ручными бомбочками с жидким кислородом. Флагман Макомбер не пожалел времени и допросил Мээса очень основательно. Это оказалось сложным предприятием. Пришлось применять лесть и угрозы в изобилии. Дело чуть не дошло до физического воздействия. Сначала Мээс клялся и рвал на себе шерсть, что о чудо-докторе ему ничего не известно. Затем, сломленный свидетельскими показаниями озверевшего Двуглавого Юла, он признался, что действительно имел место инцидент, когда в него, Мээса, всадили сотню разрывных пуль, и действительно некий чудо-доктор собрал его, Мээса, по кускам, но где Великий Спрут прячет этого чудо-доктора, он, Мээс, не имеет представления. И только затем, устрашенный зловещими манипуляциями Арамиса, который взял тонкий пеньковый канат и принялся мастерить петлю, мерзкий старикашка признался, что знает, где содержится чудо-доктор Итай-итай. Дальше пошло легче. Выяснилось, что чудо-доктор Итай-итай содержится в одном из помещений так называемого седьмого яруса. Этот седьмой ярус — святая святых Великого Спрута. В седьмом ярусе хранятся, содержатся и создаются самые тайные и ценные предметы, пленники и механизмы Великого Спрута. Туда допускаются только самые приближенные к особе Великого Спрута носители разума. Там один-единственный приемный экран, и шифр его известен только Великому Спруту, Искуснику Крэгу и ему, Мээсу. Туда ведет только одна лестница, и выходит она прямо в кабинет коменданта седьмого яруса, жуткой старой девицы Конопатой Сколопендры. Головорезам внутренней охраны седьмого яруса под страхом смерти запрещено даже приближаться к двери этого кабинета, а при выходе в отставку им под нечаянным наркозом ампутируют память; впрочем, они об этом, конечно, не знают. Что же касается рабов, обслуживающих седьмой ярус, то они там и умирают. Путь от приемного экрана до палат чудо-доктора довольно долгий, но по-настоящему опасен только один участок: придется идти мимо кантины, где обычно развлекаются свободные от дежурства охранники… — Мастерские Искусника Крэга тоже на седьмом ярусе? — спросил флагман Макомбер. Вот этого Мээс не знает. Ну что хотите делайте — не знает, и все. Ну сами посудите, какой смысл ему, Мээсу, запираться в такой второстепенной тайне, когда он уже столько рассказал? Впрочем, если землянам удастся захватить эту ведьму. Конопатую Сколопендру, вот тогда они узнают все. Эта жуткая тварь битком набита тайнами Великого Спрута. Если ее хорошенько поприжать, она выложит не только про Искусника Крэга, но еще и про такие штучки, о которых и сам Великий Спрут предпочитает не помнить. — Давайте шифр, — скомандовал флагман Макомбер. Шифр был дан. Охранник на часах у приемного экрана сопротивления не оказал, он был слишком ошарашен и вдобавок пьян. Его быстро засунули в мешок, покрепче обвязали веревками и бросили в угол абордажной камеры — в тот самый угол, где три года назад лежала связанная Галя. Коридор, открывшийся перед ними, приятно разочаровал флагмана Макомбера. Все-таки берлога вселенского бандита и изверга, в высшей степени делового носителя разума. Здесь бы на каждом шагу торчать угрюмым подозрительным стражам, валяться черепам и костям, высовываться из амбразур пушечным жерлам. Нет, коридор был как коридор, таких полно было в старинных административных зданиях на Земле: широкий, низкий, прямой как стрела, только плохо освещенный. Пол был чистый, пованивало карболкой. По сторонам в неглубоких нишах тускло отсвечивали круглые и квадратные металлические двери-люки, и видно было, что не все обитатели этого места грамотные: на дверях красовались не номера и не надписи, а разноцветные изображения карточных мастей. И пусто здесь было, и тихо. За первые полчаса никто не встретился им на пути, ни одна дверь не отворилась, и слышно было только, как брякает когтями по полу Мээс, постанывает Двуглавый Юл да мягко гудит двигатель летающей платформы. Но вот полумрак впереди стал редеть, послышалось что-то вроде заунывного пения и неясное бормотание многих голосов. Мээс замедлил шаги, просипел: «Кантина…» — и остановился, встопорщив крылья. Двуглавый Юл поднял обе головы и стал шумно принюхиваться. Ятуркенженсирхив весь затрясся и сделал попытку залезть флагману Макомберу за шиворот. — Серная кислота с сероводородом, — сладким голосом произнесла левая голова Двуглавого Юла, причмокнула и сплюнула. — И пемза под йодистым соусом… — Значит, дверь приоткрыта, — проскрежетал Мээс. — Нас могут заметить… — Вперед! — нетерпеливо скомандовал прославленный космолетчик. — И помните, Мээс, я стреляю без промаха. В случае предательства никакому чудо-доктору не собрать будет того, что от вас останется после удара из бластера. Они двинулись дальше и скоро смогли рассмотреть опасный участок во всех подробностях. В отличие от прочих дверей этого бесконечного коридора, дверь в кантину была из толстого до непрозрачности стекла и широкой, словно ворота. Она действительно была слегка приоткрыта, и сквозь щель падала в коридор полоса яркого сиреневого света. Сиреневые блики озаряли затейливую вывеску, протянувшуюся под потолком поперек коридора, на которой была надпись «Три Веселых Скорпиона» и было изображение троицы омерзительных тварей, сжимавших в клешнях кружки с бьющей через край пеной. И толчками вырывались в коридор горячие волны спертого воздуха, пропитанного едкими запахами противоестественных яств, болезнетворных напитков и зловредных курений, и ясно было, что гуляние в кантине шло полным ходом, потому что в тот момент, когда дрожащие лапы Мээса ступили на полосу сиреневого света, нестройный хор клекочущих, скрежещущих и шипящих голосов вдруг взревел:5
— Ах-ах! Ну кто бы мог подумать? — воскликнул профессор Ай Хохо с планеты Мокса, когда мокрый от страха Мээс ворвался в его спальню, ткнул хоботом в неприметную кнопку, и целая секция пола с лязгом вдвинулась в стену, открывая зияющий колодец. Профессор Ай Хохо оказался пожилой лошадью с нечесаной гривой и свалявшимся в войлок хвостом. Он словоохотливо объяснил флагману Макомберу, как пираты выкрали его пятнадцать лет назад через вытяжной шкаф его собственной лаборатории чуть ли не на глазах его сотрудников. Он понятия не имеет, куда попал и зачем здесь находится. Когда его доставили сюда, он имел продолжительную и довольно мучительную беседу с каким-то громадным двенадцатиглазым пауком, требовавшим от него согласия на разработку совершенно бредовой затеи. Насколько он помнит, смысл этой затеи сводился к теоретическому обоснованию цепных ядерных реакций в планетарных масштабах. Когда он отказался, его слегка побили и оставили в покое. Его даже снабжают бумагой и карандашами, хотя все записи и расчеты, которые он здесь производит от нечего делать, регулярно изымаются.Кормят здесь отвратительно, вода явно синтетическая. Он дважды пытался бежать, но его ловили и каждый раз пребольно кусали за круп… Про свой многострадальный круп профессор Ай Хохо досказывал уже в мрачных недрах винных погребов Великого Спрута. Принимая во внимание обстоятельства, его слушали даже довольно внимательно и с явным сочувствием… Между тем Мээс, ковыляя на голых трехпалых лапах, торопливо вел их по неширокому, слабо освещенному проходу между рядами громадных бочек и баков из серого свинца. Погреба Великого Спрута были вырублены прямо в природном базальте Планеты Негодяев; во всяком случае, пол был базальтовый и весь в безобразных шершавых пятнах от пролитых здесь за многие столетия крепчайших напитков. Через каждые пятьдесят метров в низком сводчатом потолке тускло светились прямоугольные металлические щиты — крышки люков, ведущих в апартаменты седьмого яруса. На крышках были намалеваны такие же разноцветные тузы, какие красовались на дверях в коридоре. У одного из баков был неплотно завернут кран, и земляне долго задерживали дыхание и зажимали носы, а Двуглавый Юл, сидевший на летающей платформе позади капсулы с Портосом, поднял обе головы, облизнулся и сказал тихонько: — Эх, мне бы сейчас здоровье… С той минуты, когда Атос последним спрыгнул в погреб и пол в спальне профессора Ай Хохо встал на место, прошло уже не менее получаса, а погони все еще не было. Видимо, ворвавшись в апартаменты под знаком зеленого пикового туза и обнаружив, что противник загадочным образом исчез, Конопатая Сколопендра отправилась за инструкциями к Великому Спруту. Так или иначе, выигрыш времени был налицо. Профессор Ай Хохо продолжал что-то нести об одном удивительном свойстве электронных оболочек, открытом им на кончике пера, но флагман Макомбер перестал его слушать и потянул Мээса за кожистое крыло. — Далеко еще? — осведомился он. Почти в то же самое мгновение Мээс остановился, задрал хобот и просипел: — Здесь. Все взглянули на потолок. Металлический щит у них над головами был украшен изображением пикового туза оранжевого цвета. — Здесь, — повторил Мээс и вытер со лба пот. — Палаты чудо-доктора Итай-итай находятся здесь. — Пошли! — взревел в две глотки Двуглавый Юл и соскочил с платформы. Флагман Макомбер поднял руку. — Спокойствие, — произнес он. — Скажите, Мээс, вы можете открыть этот люк? — Могу, — мрачно проскрипел бывший верный клеврет и исполнитель самых тонких поручений. — Механизм люка приводится в действие нажатием кнопки, расположенной на потолке за правым краем люка. — Ну да, у вас же есть крылья, — догадался прославленный космолетчик. — В таком случае… — Простите, — встревоженно проблеял вдруг профессор Ай Хохо, — не могу ли я все-таки узнать, флагман Макомбер, о чем здесь идет речь? Мне только что пришло в голову, что я решительно ничего не понимаю в происходящем. Вы взломали с гену в моих апартаментах, увлекли меня в этот дурно пахнущий подвал, теперь вы собираетесь проникнуть еще к кому-то явно без его ведома. Согласитесь, это выглядит в высшей степени предосудительно, а мне решительно не хотелось бы оказаться причастным к каким бы то ни было противозаконным… — Дайте я укушу его за круп! — прорычала левая голова Двуглавого Юла, и профессор Ай Хохо замолчал и опасливо отскочил в сторону. — Прекратите, Двуглавый Юл! — строго сказал флагман Макомбер. — Учитесь вести себя прилично. Видите ли, профессор, — вежливо обратился он к старой лошади, — объяснения заняли бы много времени, а мы очень спешим. Потом вы, конечно, все узнаете, а пока прошу вас во всем положиться на меня и повиноваться мне во всем беспрекословно. Могу вас, впрочем, заверить, что все паши действия продиктованы самыми благородными побуждениями. Вы имеете дело с жителями Земли, профессор. — В таком случае, — торжественно сказал профессор Ай Хохо, — я удовлетворен и полностью полагаюсь на вас, флагман Макомбер. Прославленный космолетчик поклонился. — Благодарю вас, — произнес он. — А теперь — внимание… Двуглавый Юл, вернитесь на платформу. Вас поднимут. Дорогой Арамис, прошу вас приготовиться к подъему, но острогу вашу держите под рукой. Атос, вы меня очень обяжете, если будете по-прежнему прикрывать нас с тыла. Мээс, если вас не затруднит, будьте любезны взлететь и открыть люк. И все время помните, что вы под прицелом. — Ох, скорее бы все это уже кончилось!.. — проскрипел Мээс, расправил свои огромные крылья и тяжело взлетел под потолок. Флагман Макомбер, приподняв ствол бластера, пристально следил за каждым его движением. Сопя и ругаясь вполголоса, Мээс пополз вдоль правого края люка, ощупывая бетонный свод. Что-то сухо щелкнуло, и металлический щит пополз в сторону, открывая ярко освещенный прямоугольник. — Готово, — скрипнул Мээс. — Благодарю вас, — сказал флагман Макомбер. — Отодвиньтесь в сторонку… Вот так. Арамис, прошу вас… Мягко взвыл двигатель, летающая платформа медленно поднялась, на секунду заслонила сияющий белым светом люк и исчезла из виду. Через секунду над краем люка появилось лицо Арамиса. — Все в порядке, — негромко сказал он. — В этом помещении никого нет. — Очень удачно, — произнес флагман Макомбер. — А теперь, Мээс, я хотел бы узнать у вас вот что. Есть ли крылья у Великого Спрута и его личного кравчего? — Нет у них крыльев, — угрюмо признался Мээс. — В таком случае соблаговолите рассказать нам с Атосом, каким образом эти носители разума здесь без них обходятся. Мээс заверещал плаксивым голосом, что ни кравчему, ни тем более самому Великому Спруту никогда не бывает надобности лично спускаться в винные погреба, а уж если такая надобность и возникла бы, то на этот случай в винные погреба имеется другой ход, вполне пригодный для бескрылых существ… Пока мерзкий старикашка лгал и изворачивался, зацепившись ногами за край люка и повиснув вниз головой, флагман Макомбер демонстративно глядел на часы, Атос поигрывал двумя оставшимися бомбочками, катая их с ладони на ладонь, а профессор Ай Хохо нетерпеливо рыл базальт передними копытами и шумно отдувался. Наконец флагман Макомбер прервал Мээса на полуслове. — Ваше время истекло, — не допускающим возражений тоном произнес он. — Прошу вас спуститься вниз, Мээс. И Мээс покорно замолчал. И Мээс спустился и, повернувшись к прославленному космолетчику спиной, принял позу игрока в чехарду. И по знаку флагмана Макомбера профессор Ай Хоха, смущенно хихикая и испуганно взблеивая, взгромоздился Мээсу на спину и обхватил его слоновью шею передними ногами. И Мээс с протяжными стонами вознес эту тяжкую ношу через люк, а затем последовательно вернулся за флагманом Макомбером и Атосом. И Атос готов был поклясться, что, когда металлический щит с лязгом пополз из-под стены на место, закрывая люк, его слух уловил в отдалении под сводами погреба хриплые вопли Конопатой Сколопендры, рыскающей во главе тарантулов между баками и бочками. Помещение, в котором очутились земляне и их пленники, представляло собой абсолютно пустую комнату со степами и потолком совершенно немыслимой белизны и без всяких признаков не только окон, что было, в общем, вполне естественно, но и дверей. И не было здесь никого и ничего похожего на «этакую круглую штуковину с тележное колесо, а может, и поболе, да еще с этакими хвостами заместо всего прочего». Арамис, обойдя со своей острогой комнату по периметру, вернулся к платформе, сел на край рядом с Двуглавым Юлом и молча поглядел на Мээса. И все остальные тоже молча поглядели на Мээса. Бывший верный клеврет и исполнитель самых топких поручении не выдержал этого молчания и этих взглядов. — Чего вы на меня уставились? — завизжал он, пятясь в угол и выставляя перед собой трясущиеся руки. — Я ни в чем не виноват! Я больше ничего не знаю! Ничего, понятно? Не смейте на меня так смотреть! Я не привык! У меня нервы!.. — Ты предал нас, старый колченогий хобот! — зарычала левая голова Двуглавого Юла, и двухголовый пират медленно поднялся на ноги. — Ты заманил нас в ловушку, подлый предатель! Но уж меня-то тебе не пережить! — Оставьте, Двуглавый Юл, — поморщился флагман Макомбер, брезгливо обирая с брюк мокрые от пота клочья Мээсовой шерсти. — Криком делу не поможешь… В чем дело. Мээс? Надеюсь, вы не ошиблись? Это действительно палаты чудо-доктора Итай-итай? Да, это действительно палаты чудо-доктора. Никакой ошибки тут быть не может. Пиковый туз оранжевого цвета, люк над бочками синильной кислоты, настоянной на камнях из печени гигантских птиц с планеты Локи, забыл их название… Но в этом помещении всегда было пусто, когда Мээс сопровождал и поднимал сюда Великого Спрута. Сам Мээс никогда в глаза не видел чудо-доктора. Он доставлял сюда Великого Спрута или дорогих ему мертвецов, а затем его отсылали обратно в погреб с приказом ждать… Да, чудо-доктор воскресил его, Мээса, но где и как это было, Мээс понятия не имеет. И любой не имел бы, если бы в него всадили такую кучу разрывных пуль… И вообще он, Мээс, сделал все, что от него требовали: привел землян в палаты чудо-доктора Итай-итай, а дальше разбирайтесь сами. Ему же, Мээсу, теперь все равно смерть, потому что Великий Спрут ни за что не простит ему такого проступка. И не надо ни утешений, ни обещаний. Его, Мээса, карьера кончена раз и навсегда, и в лучшем случае ему, Мээсу, уготована жалкая участь изгнанника на каком-нибудь мерзлом астероиде вдали от друзей и близких, а между тем он привык каждое утро получать в постель чашечку горячей целебной воды с южного полюса планеты Разбитых Сердец и свежеиспеченную булочку из муки злака, произрастающего исключительно на одном-единственном островке посередине Восточного океана планеты Подземных Хорьков… Такой знаток природы разумных существ, как флагман Космического флота и член Всемирного совета Земли, отлично понимал, что на этот раз старик не врет. Он действительно больше ничего не знает. Он всецело отдался на милость своих пленителей и только у них может теперь искать защиты от гнева своего бывшего хозяина. Возможно, Великий Спрут догадался о цели таинственного вторжения и уже распорядился, чтобы чудо-доктора перетащили в другие апартаменты. Возможно, чудо-доктор сам не желает иметь дела с дерзкими пришельцами. Возможно, чудо-доктор вообще не живой носитель разума, а хитроумный механизм, секрет которого известен со слов покойного Богомола Панды только самому Великому Спруту. Все возможно. А тем временем у них под ногами кишат жаждущие крови тарантулы Конопатой Сколопендры, а по коридору за какой-то из этих белых стен гремят когтями вооруженные до зубов отряды охранников, а на поверхности планеты у них над головами гудит потревоженным ульем вся несметная боевая сила профессиональных убийц и грабителей… — Ну, что будем делать? — обратился Арамис к флагману Макомберу. Прославленный космолетчик пожал плечами, подошел к одной из стен и постучал в нее рукояткой бластера. — Войдите! — раздался звучный и не лишенный приятности голос. И стена исчезла. Землян чудесами не удивишь. Земляне сами стали великими знатоками, ценителями и творцами чудес. Но то, что представилось их взглядам за исчезнувшей стеной, потрясло даже их. Что угодно, только не это ожидали они увидеть в недрах бесконечно чужого и бесконечно враждебного им царства зла. А увидели они большой круглый стол, накрытый белой скатертью и окруженный старинными стульями с мягким сиденьем. Посередине стола сверкал чистым серебром и пускал облачка пара огромный пузатый самовар с пузатым же фарфоровым чайником на конфорке. Самовар окружали хрустальные вазы с вареньями, серебряные подносы с пирожными и плетеные корзинки с сухариками и булочками. По краю же стола перед каждым стулом красовались фарфоровые чашки на блюдцах и хрустальные розетки с маленькими серебряными ложечками. Запахи крепкого свежего чая, ванили и свежей сдобы носились над этим удивительным столом, и теперь уже Двуглавому Юлу пришла очередь задерживать дыхание и хвататься за свои носы. Невысокий, очень плотный и очень румяный человек с пышной седой шевелюрой, мохнатыми бровями и аккуратными усиками под розовым носом картошкой неторопливо поставил на стол блюдце, промакнул губы салфеткой и встал, отодвинув стул. — Здравствуйте, соотечественники, — произнес он звучным бархатистым голосом. — Наконец-то вы явились. А я жду вас вот уже более тысячи лет. — Этого не может быть, — убежденно сказал флагман Макомбер и протер глаза. — Массовая галлюцинация, — грустно вздохнул Арамис. — И тут человек с Земли! — прохрипела левая голова Двуглавого Юла. — Удивительно вкусно пахнет… — восхищенно проблеял профессор Ай Хохо. — А я именно такой штуки и ожидал, — пропищал Ятуркенженсирхив, высовываясь из-за пазухи прославленного космолетчика. Мээс в своем углу проскрипел что-то вообще невразумительное (что-то вроде «Господи, спаси нас и помилуй!») и с головой ушел в свои кожистые крылья. Только Атос не сказал ничего, а с неясной ему самому тревогой и ожиданием всматривался в большие темные глаза незнакомца. Удивительно знакомые глаза! Незнакомец рассмеялся, показывая ровные белые зубы. — Ладно, поудивляйтесь немного, — сказал он. — Время у нас еще есть. Впрочем, давайте знакомиться. Я-то вас знаю, а вы меня — нет. Меня здесь зовут… вернее, здесь я известен, как чудо-доктор Итай-итай… Флагман Макомбер, поставьте на пол ваш портфель и уберите это оружие в карман. Оружие вам вообще больше не понадобится, а портфель понадобится не раньше чем через четверть часа. Атос, спрячьте ваши бомбочки. Арамис, мои бесценный родственник, отложите вашу острогу: Двуглавый Юл вам больше не противник, а Мээс и без того едва дышит. Ну-с… Он быстрым упругим шагом направился к летающей платформе. Двуглавый Юл, пошатываясь от слабости и возбуждения, заступил ему дорогу. — Доктор, — проговорила левая голова. — Тебя взаправду зовут чудо-доктор Итай-итай? Вылечи меня, доктор! Клянусь кровавой Протуберой и мертвенной Некридой, вылечи меня, и ты не пожалеешь! Доктор Итай-итай небрежно отстранил его. — С тобой потом. Сначала я должен взглянуть на своего бедного прапрапра… (Тут флагман Макомбер вторично протер глаза и потряс головой.)… прапрапра… (Атос, спохватившись, принялся отсчитывать на пальцах.)… прапрапра… (Арамис глубоко перевел дух.) …прапрапрадедушку. Он склонился над спектролитовой капсулой. Флагман Макомбер, Атос и Арамис, не сговариваясь, шагнули к нему. Доктор Итай-итай выпрямился и строго взглянул на них, сдвинув мохнатые брови. — Только прошу не мешать, — не сурово, но очень твердо произнес он. — И советую отойти подальше, здесь сейчас будет довольно прохладно. Нет-нет! — Он стремительно поднял ладонь. — Никаких вопросов! Воскрешение мертвых и вообще-то дело очень ответственное, а уж воскрешение собственного предка и подавно. Не отвлекайте меня. Вот покончим с делами, сядем за стол, тогда будете задавать вопросы. Земляне словно во сне отступили от платформы. Комната с самоваром на накрытом столе вновь исчезла за непроницаемой белой стеной, в углу тоскливо завыл под своими крыльями Мээс, беспокойно задергал ушами профессор Ай Хохо, прячась за широченными плечами Двуглавого Юла. Флагман Макомбер хотел что-то сказать — и только закашлялся. Да и что тут скажешь? Атос протянул руку, чтобы то ли помочь, то ли помешать, — и упала рука. Да и кому помочь, чему помешать? Арамис с окаменевшим лицом скрестил руки на могучей груди и застыл в ожидании. Словно во сне все смотрели на этого вдвойне чудо-доктора, как он ходит вокруг платформы, вглядывается в мертвое лицо их друга, мурлыкает вполголоса какую-то странную песенку, постукивает по спектролиту чуткими пальцами. И вдруг спектролитовая крышка со звоном отскочила и грянулась на пол. Столб серого тумана взвился над раскрытой капсулой, ледяной вихрь ударил по комнате, и Двуглавый Юл с ужасным воплем опрокинулся на спину, задрав длинные тощие ноги. А серый туман заполнил все, закрутился струями, забился в стены, и ничего не стало видно, кроме этих бешеных серых струй, которые визжали в ушах, валили с ног, швыряли в лица пригоршни колючего инея, и космический холод пробирал до костей и прокрадывался к сердцу, в мозг, в самую душу человеческую. Потом все кончилось. Жидкий аргон выкипел, туман рассеялся, с заиндевевших стен и от наметенных по углам сугробов потекли струйки воды. Доктор Итай-итай неторопливо отошел от платформы, вытирая сразу осунувшееся мокрое лицо огромным носовым платком. — Все в порядке, — сказал доктор Итай-итай. Флагман Макомбер взглянул на капсулу и зажмурился. Ятуркенженсирхив, пронзительно взвизгнув, в панике полез под мышку прославленному космолетчику. Портос шевельнулся. — Жив… — хрипло прошептал Арамис. Атос взял его за руку, и они медленно, останавливаясь на каждом шагу, двинулись к капсуле. Портос открыл глаза и приподнял голову. И надо же было случиться, чтобы первым, кого он увидел, вернувшись к жизни три года спустя после короткого боя на сто двадцатом километре, оказался Двуглавый Юл, на четвереньках выбиравшийся из-под платформы, куда забил его серый ураган. Велико, поистине волшебно было искусство чудо-доктора Итай-итай, но три года по ту сторону роковой черты по оставили, разумеется, ни малейшего следа в сознании Портоса. Он очнулся, как и умер, в разгар и в пылу боя за Зеленую долину, за родную планету, и появление жуткой двухголовой фигуры на фоне белого потолка, почему-то мгновенно сменившего черное звездное небо, вызвало у него мгновенную и четкую реакцию. — Бей гадов! — гаркнул он и вцепился обеими руками к тощие длинные шеи Двуглавого Юла. И тут он увидел Атоса и Арамиса. Пальцы его разжались, Двуглавый Юл мешком рухнул на пол. — Вы? — растерянно спросил Портос и сел в своей капсуле. — Не понимаю… Что? Где? Как? Не говоря ни слова, глотая слезы, Атос и Арамис подхватили его под руки и стащили с платформы. Спектролитовая капсула перевернулась. — Даю вам честное слово, ребята, — смущенно произнес Портос, — я решительно ничего не понимаю. Он огляделся. Он увидел, что находится в совершенно незнакомой комнате с ослепительно белыми стенами и потолком. Из одного угла таращилось на него мохнатое чудище с белесым хвостом вместо носа, закутанное в какие-то кожистые перепонки. Из другого угла таращилась пожилая лошадь с нечесаной гривой и свалявшимся хвостом. В третьем углу стоял и задумчиво его разглядывал высокий статный мужчина в походном костюме космолетчика, узкое, костистое лицо его было вымазано копотью, волосы обгорели, да и костюм был прожжен во многих местах, а из самой большой дыры на его груди выглядывала поразительно знакомая мордочка какого-то зверька — то ли котенка, то ли крольчонка — с маленькими ушками и красными глазами. А рядом удивительно приятный седовласый человек склонился над распростертым на полу двухголовым типом, от обеих шей и до ступней затянутым в черное. Правый глаз правой головы этого типа был закрыт черной повязкой, остальные три глаза закрыты, оба языка высунуты. — Нет, — сказал Портос, — я все-таки ничего не понимаю. Но это не так уж и важно. Скажите только, чья взяла? — Наша взяла, старина! — отозвался Арамис, с нежностью обнимая Портоса, а Атос только хлопнул воскресшего друга ладонью между лопаток. — А это кто? — гулким шепотом спросил Портос и сделал рукой некий обобщающий жест, посредством коего включил в свой короткий вопрос и профессора Ай Хохо, и Мээса, и флагмана Макомбера, и чудо-доктора, и Двуглавого Юла. Атос и Арамис переглянулись, и оба посмотрели на доктора Итай-итай. Тот ласково улыбнулся им: — Не беспокойтесь, друзья мои. Мой благородный предок совершенно здоров, можете говорить ему все, что угодно. — Только пусть больше не лезет ко мне своими ручищами, — необычайно свежим и звонким голосом произнесла вдруг левая голова Двуглавого Юла. — В конце концов, у меня есть свои рефлексы. Еще немного — и я отправил бы его обратно в стеклянный ящик. — Как вы себя чувствуете, почтенный Юл? — осведомился доктор Итай-итай. На обоих лицах Двуглавого Юла медленно проступило выражение величайшего изумления. — По-моему… — прошептала левая голова и смолкла. Двуглавый Юл поднес руки к правой голове и осторожно ее ощупал. — Здоров… — благоговейно прошептала правая голова. — Здоров! — заорала левая голова, и Двуглавый Юл, сорвав с правой головы заляпанные зеленью бинты, вскочил на ноги, как акробат, прямо из лежачего положения. — Доктор! Чудо ты мое, доктор! Он схватил смеющегося доктора в охапку и трижды расцеловал в обе щеки обеими головами. Затем он круто повернулся к флагману Макомберу. — Ну, флагман… — начал он. — Тихо! — угрожающе произнес прославленный космолетчик и сунул руку в карман. Двуглавый Юл остановился как вкопанный. — Эх, флагман… — сказал он и словно бы задохнулся. — Эх, ребята, ничего вы не понимаете. Я же уже давно свой, ваш. Вы же такие ребята… Я за вас всю свою зеленую кровь готов выпустить, а вы всё меня вашим железом в спину тычете… Ятуркенженсирхив! — Здесь, Двуглавый! — пропищал Ятуркенженсирхив; он уже сидел на плече у флагмана Макомбера, держась за его макушку. — Ты читаешь мои мысли, как книгу, старый предатель. Скажи им! — Я вовсе не предатель, — с достоинством произнес бывший шпион, которого носят с собой. — Я просто перешел на сторону сильных и справедливых. Но я могу засвидетельствовать, что присутствующий здесь Двуглавый Юл совершенно здоров и больше не испытывает страха смерти, что он относится к вам, флагман Макомбер, с дружеским уважением… К вам, доктор Итай-итай, как к самому господу богу… К вам, Атос, со страхом и почтением… К вам, Арамис, он испытывает чувства благодарного и неоплатного должника… — Расстегните ворот, почтенный Юл, — приказал доктор Итай-итай. Двуглавый Юл испуганно взглянул на него и отрицательно затряс обеими головами. — Расстегните, говорю я вам! — сказал доктор, повысив голос. — Порядочные люди таких вещей не стесняются! Двуглавый Юл нехотя распустил на груди «молнию», и все увидели на его бледно-зеленой коже глубокие шрамы как бы от укусов лисицы. — Эти раны, — торжественно сказал доктор Итай-итай, — единственные, кроме сердечных, которые даже я не умею и не желаю лечить. Двуглавый Юл весь обглодан и изгрызен совестью. Можете застегнуться, почтенный Юл. Наступило молчание. Двуглавый Юл, опустив обе головы, затягивал «молнию», изумрудный румянец горел на его четырех щеках. — Ужасно трогательно! — проблеял профессор Ай Хохо. Из его добрых глупых глаз выкатились и со звоном упали на пол две тяжелые, как ртуть, слезы. Флагман Макомбер подошел к Двуглавому Юлу и похлопал его по плечу. — Да ну вас!.. — Двуглавый Юл отвернулся. Арамис подошел к нему с другой стороны и похлопал по другому плечу. — Бросьте вы… — пробормотал Двуглавый Юл. Атос и Портос тоже приблизились к нему. — Ну, извини, — благодушно сказал Портос. — Чего там… — пробормотал Двуглавый Юл. — Однако, — озабоченно произнес флагман Макомбер, — нам хотелось бы, доктор, задать вам несколько вопросов. — Вот именно! — подхватил Арамис. — Прежде всего, почему вы называете Портоса своим пра… — Прежде всего, — прервал его прославленный космолетчик, — почему вы считаете, что оружие нам больше не понадобится? — О, это очень просто, — сказал доктор Итай-итай. — Но мы покончили с делами, друзья мои, и можем поговорить за столом. Он щелкнул пальцами, и стена, скрывавшая накрытый стол с самоваром, исчезла. — Прошу, — сказал доктор. Все нерешительно двинулись к столу, но флагман Макомбер вдруг остановился. — Я должен извиниться… — начал он. — Да! — спохватился доктор Итай-итай. — Разумеется, я совсем забыл. Вызывайте эскадру, флагман Макомбер. Портфель, если не ошибаюсь, вон в том углу. Прославленный космолетчик с изумлением взглянул на него, развел руками и подошел к портфелю. Он извлек из него четыре цилиндрических предмета, сноровисто соединил их торцами и поставил на пол. — Что это? — с любопытством спросил Арамис, разглядывая блестящую металлическую колонку высотой в человеческий рост. — Вэпээрбэ, — отозвался флагман Макомбер. — Всепроникающий радиобуй. Новинка. С нажимом вот этого рычажка его вещество перестраивается и становится проницаемо-проникающим по отношению к обычному веществу в нашей Вселенной. Миниатюрный, но могучий гравитационный двигатель выносит его на заданную высоту, где начинает действовать миниатюрный, но могучий радиопередатчик. Бип-бип-бип… Прошу пронаблюдать. Флагман Макомбер щелкнул крошечным рычажком на боку второго снизу цилиндрика. Раздалось тихое жужжание, блестящая колонка оторвалась от пола, устремилась к потолку и исчезла. — А дальше что? — разочарованно спросил Портос. — А дальше, — ответил флагман Макомбер, застегивая пустой портфель, — дальше вэпээрбэ поднимется на высоту одного мегаметра и подаст сигнал к атаке. — Кому? — хором спросили земляне и Двуглавый Юл. — Объединенной Космической Эскадре. Она следовала за «Черной Пирайей» по пятам и остановилась в тысяче мега-метров, ожидая конца операции «Итай-итай»… Простите, доктор. Как только заработает наш вэпээрбэ — бип-бип-бип, — сто пятьдесят самых мощных земных звездолетов, вооруженных по последнему слову самой современной боевой техники, начнут атаку на Планету Негодяев. — Ох! — вырвалось у левой головы Двуглавого Юла. Доктор Итай-итай рассмеялся. — Пусть вас это не беспокоит, почтенный Юл, — сказал он. — Бойни не произойдет. Ваши бывшие коллеги сдадутся без выстрела, десятки тысяч рабов получат свободу, и вы все благополучно вернетесь на Землю. Однако не знаю, как вы, а я проголодался. К столу, к столу! Вы тоже, Мээс. Они расселись за столом, и каждый получил из рук доктора Итай-итай по полной чашке великолепного чаю, и каждый взял себе в розетку варенья по вкусу, и некоторое время слышно было только, как звякают ложки, как фыркает профессор Ай Хохо, шумно хлебает и отдувается Двуглавый Юл и шипит, обжигаясь и наслаждаясь кипятком, разочарованный событиями Мээс. — Еще чашечку, флагман Макомбер? — осведомился доктор. — Благодарю вас, — ответил прославленный космолетчик. — Но если бы вы взяли на себя труд объяснить… — Я, например, очень хочу хоть что-нибудь понять, — честно признался Портос. — Эскадра, атака, Планета Негодяев… Конечно, малиновое варенье превыше всех похвал, да и шоколадные трубочки тоже, но если бы кто-нибудь объяснил мне… — Действительно, доктор, — просительно сказал Арамис. — В конце концов, это уже становится похоже на пытку… — Ну хорошо, — согласился доктор Итай-итай и откинулся на спинку стула. — Давайте поговорим. С чего бы начать? Да! Прежде всего успокоим флагмана Макомбера. Он все-таки командует операцией моего имени и несет ответственность за всех вас. Итак… Сражаться вам больше не придется, флагман. Объединенная Эскадра приближается, сейчас она уже снимает неприятельские аванпосты, но ей, по сути дела, остается только подмести мусор, оставшийся после вашей блестящей диверсии. Судьба Планеты Негодяев была решена в момент вашего прибытия. Помилуйте, флагман! Поставьте себя на место Великого Спрута, Искусника Крэга и прочих в высшей степени деловых носителей разума. После трехлетнего отсутствия неведомо где возвращается «Черная Пирайя». Посланный на ее борт для досмотра доверенный Мээс самым таинственным образом исчезает вместе с четырьмя могучими роботами-телохранителями, которых не берет никакое оружие. Отряд неведомых пришельцев проникает в святая святых Великого Спрута, в седьмой ярус, и учиняет беспримерный разгром кантины, переполненной отъявленными головорезами, а затем словно проваливается сквозь землю. Великий Спрут понятия не имеет, кто эти пришельцы и сколько их, но он, и особенно такой пройдошливый носитель разума, как Искусник Крэг, да и другие хозяйчики Планеты Негодяев, отлично понимают: координаты их гнезда открыты, грядет возмездие за все их бесчисленные преступления перед Братством Разума во Вселенной. Так какое решение они могут принять в такой обстановке? — Бежать, — задумчиво отозвался флагман Макомбер. — На всех парах! — в восторге вскричала левая голова Двуглавого Юла. — Правильно. И они бежали. Бежали уже час назад, захватив с собой все самое ценное и всех самых ценных, вроде Конопатой Сколопендры, которая слишком много знает и незаменима при некоторых обстоятельствах. Могу себе представить, как жалеет Великий Спрут, что с ним нет его верного Мээса… Так что сейчас на планете остались только вольные пираты, ни о чем не подозревающие и к тому же совершенно непривычные к регулярным боевым действиям, и десятки тысяч пленников. И мы с вами, флагман Макомбер, можем позволить себе продаваться заслуженному отдыху, ни о чем не беспокоясь. — А куда они бежали, вы знаете? — спросил флагман Макомбер. Доктор Итай-итай помолчал. — Я вас понимаю, — сказал он наконец. — Начиная это дело, вы рассчитывали захватить всю верхушку. К сожалению, время еще не пришло. Я могу дать вам только намек. В обозримой Вселенной осталось теперь только одно место, где царствует зло. Это планетная система безымянной нейтронной звезды, родина Искусника Крэга. Между прочим, в свое время Искусник Крэг был изгнан оттуда за доброту. Арамис и Двуглавый Юл так и ахнули, а Портос обиженно спросил: — Кто это такой — Искусник Крэг? — Разрешите налить вам еще чашечку, мои дорогой предок, — сказал, улыбаясь, доктор Итай-итай, — и возьмите еще парочку шоколадных трубочек, а я постараюсь удовлетворить ваше законное любопытство. — А почему все-таки — предок? — спросил Портос. — Не торопитесь, — ответил доктор, передал ему чашку и начал: — На берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана жили-были три закадычных друга: мастер, спортсмен и ученый… Он излагал события, о которых рассказывалось в первой части этого правдивого повествования, и с самого начала все замерли в напряженной и внимательной тишине, даже Ятуркенженсирхив, засевший за самоваром с вазой вишневого варенья в обнимку. И не только потому, что доктор оказался превосходным рассказчиком. Он как бы читал наизусть давно ему известную повесть, читал с выражением, тщательно следя за интонациями, придирчиво вслушиваясь в звучание собственного голоса. И многие подробности его рассказа были неизвестны даже флагману Макомберу, который знал об этих событиях по обстоятельным беседам с Атосом, Арамисом и Галей, и забыты даже Атосом и Арамисом, которые в этих событиях участвовали; и Портос с изумлением вытаращил глаза, выслушав достовернейшее описание своих собственных мыслей и чувств в последние минуты перед тараном, и Двуглавый Юл страдальчески закряхтел и заерзал, слушая свои собственные разнузданные речи перед плененной Галей; а Ятуркенженсирхив только жмурился и ежился, когда шла речь о его предательствах. — Двуглавого Юла сослали на Черную Скалу, его команду отправили на Марс, а Ятуркенженсирхив остался у Гали, — закончил доктор Итай-итай и взял из плетеной корзинки сухарик. — Все это произошло три года назад. — А потом? — одним дыханием спросил Портос. — Потом… — Доктор откусил от сухарика и поднял глаза к потолку. — М-м… Да. Деликатный вопрос. Впрочем, теперь все позади, и можно быть вполне откровенным. Ну-с, как вам уже известно, Двуглавый Юл категорически отказался выдать координаты Планеты Негодяев. Совесть его тогда еще дремала. От него отступились. Один лишь Арамис не терял надежду. Он твердо сказал себе, что пиратское гнездо должно быть сокрушено. И он попробовал обходный путь. Он отправился на Марс и целый год прожил в обществе ящера Ка, морской звезды Ки и обезьяны Ку. Конечно, он не рассчитывал, что узнает от них координаты, ведь это зверье не имеет понятия даже об элементарной арифметике. Но он терпеливо выкачивал из них все подробности развеселой жизни на Планете Негодяев. Это была игра вслепую. Но игра героическая. И она себя оправдала. Однажды ему рассказали легенду о чудо-докторе Итай-итай… Рассказывать дальше? — спросил доктор, обращаясь к Арамису. Тот пожал плечами и усмехнулся: — Почему бы и нет? Теперь все позади. — Арамис составил жестокий и умный план, — продолжал доктор. — Я его понимаю и полностью оправдываю. Надо было вырезать эту опухоль на геле Вселенной и надо было попытаться вернуть к жизни погибшего друга. Арамис знал, что в случае опасного ранения или болезни Двуглавому Юлу не поможет ни один врач в Солнечной системе. Он вернулся на Землю, тайно подплыл к Черной Скале и скоро дождался удобного момента. Двуглавый Юл получил свирепый удар острогой… — Так это ты меня треснул? — бешено в две глотки взревел Двуглавый Юл, сверкнув глазами на Арамиса. — Молчи! — сурово сказал Портос. — Тебя за Галю еще не так надо было треснуть. — За Галю, за Портоса, за многое другое, — добавил флагман Макомбер. — Но теперь все позади, Двуглавый Юл. И, принимая во внимание, чем кончилось все это дело, я бы на вашем месте от души поблагодарил бы Арамиса… — Я уже засвидетельствовал, — пропищал из-за самовара Ятуркенженсирхив, — что Двуглавый Юл питает к Арамису чувство благодарного и неоплатного должника! Двуглавый Юл подулся для порядка с минуту, затем обмяк. — Да я что? — истово произнесла его левая голова. — Я же ничего. Идиот был, конечно. С такими только так и следует… — Именно, — подтвердил доктор Итай-итай. — Другого выхода не было. Ну, а остальное вам известно. — Да! — с большим чувством произнес Портос и даже ударил кулаком по столу. — Вот теперь я все понял. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо вам, чудо-доктор Итай-итай. Значит, я три года провел на том свете? Ничего не помню. А жалко, не было меня в этой драке на борту «Стерегущего»! Ох и вздул бы я тебя, двухголовый брат по разуму! На всю жизнь бы ты меня запомнил… — Я и так запомнил, — отозвалась левая голова Двуглавого Юла. — Я тебе так скажу, мушкетер. Всякие носители разума обитают в обозримой Вселенной: плохие и хорошие, добрые и злые. Есть храбрые, есть трусливые. Но таких драчливых, как вы, земляне, нигде больше нет. Что значит кислород, вода, хлорофилл и красная кровь! Слона не задевай спящего, льва не задевай голодного, а землянина не задевай никогда! Я бы так сказал. — Я бы тоже так сказал, — согласился флагман Макомбер. — Но вот какой вопрос, доктор. Вы точно не знаете, где находится эта самая безымянная нейтронная звезда? Чудо-доктор развел руками. Тогда флагман Макомбер молча поглядел на Мээса. И все остальные тоже молча поглядели на Мээса. Мээс, тянувшийся хоботом к шестнадцатой сдобной булочке, замер. — Нет-нет, — поспешно произнес доктор Итай-итай, — досточтимый Мээс не знает. А вы узнаете непременно. Разумеется, в свое время. Это я вам обещаю. — Ну, — сказал Арамис, — с меня довольно. Пытка слишком затянулась. Выкладывайте все, доктор. И немедленно. И без утайки. И без проволочек. — Да! Да! — закричали все хором. — Немедленно и без утайки! И без проволочек! Начинайте прямо! Кто вы такой? Откуда вы все знаете? Почему вы зовете Портоса предком, а Арамиса — родственником? Доктор Итай-итай поднял руки, и все замолкли. — Хорошо, — сказал он. — Я все объясню. Правда, это не совсем по правилам, но ничего не поделаешь. Слушайте же. И чудо-доктор рассказал самую поразительную историю, какую они когда-либо слышали. Началась она не в прошлом, как это обыкновенно бывает с историями, а в отдаленном будущем, через три с половиной столетия после описанных здесь событий. К тому времени земное человечество достигло совершенно уже фантастических высот науки, техники и культуры, а конца подъему все еще не было видно. И работал тогда между миллиардами прочих ученых, мастеров и спортсменов некий скромный медик по прозвищу Айболит. («Как вы сказали?» — встрепенулся профессор Ай Хохо. «Айболит», — любезно повторил доктор Итай-итай. «Какая прелесть! — восторженно проблеял профессор Ай Хохо. — Великолепное, звучное имя!») Надо сказать, что к тому времени соединенными усилиями санитарии, гигиены и медицины с лица зеленой Земли были окончательно и навсегда изгнаны все болезни и даже сама старуха смерть, а травмы и прочие переломы, какие изредка случались при занятиях опасными видами спорта и при опасных научных экспериментах, каждый землянин научился в два счета вылечивать самостоятельно. Таким образом на родной планете Айболиту делать было, собственно, нечего, и он, как многие его коллеги, проводил свои дни большею частью в разъездах по захолустным уголкам обозримой Вселенной, оказывая посильную медицинскую помощь отсталым и неблагополучным мирам. Однажды он в течение пяти лет воевал с полосатой чумой, разразившейся среди медузоподобных жителей планеты Живых Драконов, а когда вернулся, его срочно пригласили в Центральный биографический архив. Руководитель архива, бледный и взволнованный, едва успев поздороваться, призвал его сохранять полное спокойствие и прямо, без обиняков сообщил ему потрясающую новость: он, Айболит, не существует на свете. Мало того, никогда не существовали на свете и его отец, его бабушка, его прадед и так далее до двенадцатого колена. Как известно, работники и машины биографических архивов заняты тем, что составляют генеалогии всех граждан земного шара. Так вот, при составлении генеалогии Айболита выяснилось, что его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадед героически погиб при отражении набега космических пиратов триста пятьдесят четыре года назад, не успев жениться и не оставив после себя ни сына, ни дочери. Бездетной умерла и его невеста Галя, сохранив верность его памяти до самой смерти. Удар был страшный! Славно и полезно проработать всю жизнь, обзавестись многочисленными друзьями, любимой женой и любимыми детьми и вдруг узнать, что на самом деле ты не существуешь, — такое под силу не каждому. Но Айболит был человеком мужественным и находчивым. Он не поддался отчаянию, а обратился за помощью. Вся планета встала за него. Архивариусы отыскали для него все книги и документы, касающиеся столкновения землян с Планетой Негодяев; историки подробно проконсультировали его относительно всех обстоятельств жизни и гибели славного Портоса; археологи отыскали и извлекли из-под земли спектролитовую капсулу с жидким аргоном, в котором покоился герой. Не прошло и месяца, как Айболит узнал об этой давней трагедии больше, чем знали о ней ее частники и свидетели. Но всего этого было, конечно, недостаточно, чтобы исправить страшное положение. Решающая помощь пришла со стороны физиков… — Об остальном вы, конечно, уже догадались, друзья мои, — сказал доктор Итай-итай. — Я знаю, что теоретические основы путешествия по времени известны даже вашей науке. А лет за полтораста до моего рождения их проверили экспериментально. Но решением Всемирного совета дальнейшие эксперименты были запрещены — если не ошибаюсь, из-за принципиальной неконтролируемости результатов воздействия будущего на прошлое. Однако случай с Айболитом был особый. Речь шла о судьбе человека, высшей ценности среди ценностей Вселенной. Разумеется, руководители этого гигантского предприятия постарались учесть все мелочи. Операция планировалась в полном соответствии с хрониками и преданиями. Именно поэтому, в частности, Айболита забросили не в ваше время, а в пятый век христианской эры и не оставили на Земле, а поместили на Северном полюсе фторной планетки на окраине Малого Магелланова Облака. Там он пять веков ожидал нападения Богомола Панды, а потом еще тысячелетие ждал смелой диверсии землян в подземельях Великого Спрута. Потому что именно так было с легендарным чудо-доктором Итай-итай согласно исторической традиции. Как видите, воздействие будущего на прошлое свелось, по существу, только к воскрешению моего славного предка. Вернувшись на Землю, он женится на прекрасной Гале, и цепь окончательно замкнется. Я кончил. Благодарю за внимание. И доктор Итай-итай поклонился. Воцарилось продолжительное молчание. Потом флагман Макомбер сказал от всего сердца: — Вы — настоящий герой, доктор. — Да, — просто отозвался доктор Итай-итай. — Но ведь мы все такие на нашей Земле. — Задавать вам вопросы о нашем личном будущем, конечно, бесполезно, — раздумчиво произнес Арамис — Но вот скажите: а что будет, если Портос не женится на Гале? Доктор Итай-итай рассмеялся: — Не женится? Мой дорогой родственник, да вы только посмотрите на него! Все посмотрели на Портоса. Да, сомневаться не приходилось: непременно женится, сразу видно. Багровый от смущения Портос кашлянул и сказал: — Я так понимаю, что Айболит — это вы. А почему тогда Итай-итай? — Потому что так я именуюсь в хрониках. Правда, один мой друг, лингвист, объяснил мне, что «итай-итай» на древнеяпонском означает примерно то же, что наше восклицание «Ай, болит!» — Я еще вот чего никак в толк не возьму, — сказала вдруг левая голова Двуглавого Юла. — Почему это Богомол Панда описал вас как какое-то колесо с хвостами? — Это как раз совершенно ясно. Запас слов у него был очень невелик, воображение куцее, человека он никогда не видел… даже вас, не так ли, почтенный Юл? — Да, — согласился Двуглавый Юл. — Его прикончили лет за триста до меня. Доктор Итай-итай, он же Айболит, встал. — Что же, друзья? — произнес он. — Объединенная Эскадра Земли уже овладела планетой. Пора идти. У нас еще много дел.6
Дел, как оказалось, было действительно много. Сорок четыре тысячи разноплеменных пленников требовали ухода, усиленного питания, медицинской помощи и репатриации. Тысяча восемьсот шестьдесят четыре сдавшихся пиратов ждали беспристрастного следствия, скорого суда и справедливого наказания. Огромные горы сложенного оружия и боеприпасов нуждались в немедленной переплавке и уничтожении. Сто шестнадцать вычислительных машин на живых мозгах необходимо было демонтировать, а заключенным в них носителям разума — вернуть природную форму. Десантники и экипажи Объединенной Космической Эскадры Земли проявляли чудеса организованности и неутомимости, но все равно рабочих рук и голов не хватало, и, выйдя из резиденцииВеликого Спрута, наши земляне и даже профессор Ай Хохо тут же включились в дело. На космодроме, залитом кроваво-красным светом Протуберы и мертвенно-синим блеском Некриды, к флагману Макомберу подошел командующий Объединенной Эскадрой и отрапортовал, что: посадка боевых звездолетов и выброс десанта с последующим овладением Планетой Негодяев прошли без выстрела; в погоню за успевшими бежать пиратскими кораблями брошены двенадцатое и шестнадцатое звенья четвертого полка сверхсветовых истребителей-перехватчиков; согласно приказу Всемирного совета, он передает командование флагману Макомберу и переходит в его непосредственное подчинение. Приняв рапорт, флагман Макомбер поблагодарил бывшего командующего за успешные действия и принялся распоряжаться. Прошла неделя, и Планета Негодяев опустела. Последние партии освобожденных узников, в том числе и возрожденные к нормальной жизни элементы страшных машин Искусника Крэга, отбыли к родным мирам — либо на звездолетах, присланных за ними соотечественниками, либо на звездолетах Объединенной Эскадры, если соотечественники еще не имели галактического транспорта. Пленных пиратов судили, некоторых за особенно ужасные преступления приговорили к повешению условно, и всех отправили в ссылку на необитаемые планеты с суровыми природными условиями: расчищать джунгли, осушать болота, растапливать льды — словом, заниматься общественно полезным трудом и перевоспитываться. Все пиратское оружие, все пиратские корабли (кроме «Черной Пирайи») и все боеприпасы были сброшены в жерла действующих вулканов, разрушены и уничтожены; все несметные награбленные сокровища возвращены владельцам; все винные погреба взорваны. К сожалению, звенья истребителей-перехватчиков, посланные в погоню за Великим Спрутом и другими в высшей степени деловыми носителями разума, вернулись ни с чем: подлецы успели нырнуть в подпространство, и след их затерялся. Больше нечего было делать на Планете Негодяев, и Объединенная Эскадра приготовилась к возвращению на Землю. За час до старта доктор Айболит попросил Атоса, Портоса, Арамиса и флагмана Макомбера собраться в рубке «Черной Пирайи». — Пришла нам пора расстаться, дорогие мои предки, — сказал он и смахнул со щеки слезу. — Я был рад познакомиться с вами. Теперь я особенно хорошо понимаю, почему человечество моего времени так умно, великодушно и гуманно. Через несколько минут я покину вас, но навсегда унесу с собой тепло ваших рук и щедрость ваших сердец… — Может быть, заглянете сперва на Землю, доктор? — смущенно предложил Портос. — Погостили бы у нас, поглядели… Доктор Айболит покачал головой. — Нет, мой дорогой и любимый предок. Во-первых, мой визит на Землю увеличил бы вероятность нежелательного воздействия будущего на прошлое. Во-вторых, каждая секунда моего пребывания в вашем времени обходится моим современникам в семнадцать с половиной миллионов киловатт энергии, наши физики пустили на эту операцию вещество целой звезды И, в-третьих, там, в моем времени, мои друзья и близкие, конечно, не успели соскучиться, ведь я вернусь к ним всего секунду спустя после ухода, но я — то так истосковался по ним за полтора тысячелетия! Мне не терпится увидеть и обнять их. Особенно старшего сына — он очень похож на вас, между прочим… Он обнял флагмана Макомбера: — Имейте в виду, дорогой флагман, я вылечил Двуглавого Юла от всех болезней, в том числе и от алкоголизма, однако то, что у него на месте правого глаза под черной повязкой на правой голове, я оставил. Это еще сослужит вам славную службу, потому что почтенный Юл теперь ваш душой и телом, и вы можете полностью положиться на него. Он обнял Арамиса: — Я знаю, мой дорогой родственник, как хочется вам взглянуть на мир, который изгнал Искусника Крэга за доброту. Так поверьте мне, вы этот мир еще увидите. Он обнял Портоса: — Прощайте, мой дорогой и любимый предок. Я знаю, что вы будете счастливы с Галей, уж я — то это вижу, и все равно по обычаю и по сердцу своему желаю вам этого счастья. И последним он обнял Атоса: — Я не умею и не желаю лечить сердечные раны, друг мой. Что делать! Но я знаю, что друзьями вы были, друзьями и останетесь навеки, несмотря ни на что. И так, попрощавшись со всеми, доктор Айболит, он же чудо-доктор Итай-итай, отступил на середину рубки и исчез. — Хороший человек, — хором сказали Атос, Портос и Арамис. Флагман Макомбер задумчиво кивнул.В. МОРОЗОВ НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ Приключенческая повесть

Глава первая
Помимо всего прочего, жизнь интересна еще и тем, что никто не знает, что произойдет с ним в следующую минуту. Неожиданности подстерегают нас всюду и чаще всего в тот момент, когда мы меньше всего к ним подготовлены. Именно это пришлось испытать на себе двум молодым людям, которые темной августовской ночью шли по одному из глухих московских переулков. Вокруг все было спокойно, ничто не предвещало чего-либо необычного. Парни шли, неторопливо, мирно беседовали, а между тем уже в следующую минуту им суждено было принять участие в сложном и запутанном уголовном деле. Вдруг они услышали крик: — Помогите! Товарищи, помогите! На помощь… Крик прозвучал глухо, как из подземелья. Приятели остановились. Тот, что был пониже ростом, спросил: — Ты слышал? — Вроде бы кто-то… — неуверенно начал высокий. — Погоди! Оба прислушались. Но в переулке, погруженном в темноту, стояла прежняя тишина. В больших многоэтажных домах в этот поздний час светилось лишь несколько окон, да тускло горели лампочки над номерными табличками у закрытых подъездов. Но они почти не рассеивали мрак. — Да нет, показалось… Однако едва они сделали несколько шагов, как снова, на этот раз уже совершенно отчетливо, услышали тот же голос: — Помогите, люди!.. Сомнений больше не было: кто-то взывал о помощи. Крик доносился от большого темного дома, стоявшего на противоположной стороне переулка. Парни опять замерли, всматриваясь в темноту. — По-моему, женщина… женский голос, — почему-то перейдя на шепот, сказал один. — Что будем делать? — Как — что? Зовут же… — неуверенно проговорил второй, продолжая, однако, стоять на месте. — А может, уйдем, а? Влипнем в историю, начнется канитель. Пойдем, Боря! Не люблю я эти ночные приключения, — торопливо заговорил высокий. Он цепко схватил товарища за руку, потянул. — Без нас разберутся. Прошу тебя, пойдем! Борис заколебался. Доводы казались убедительными: в самом деле, зачем ввязываться в историю, какая тебя совсем не касается? Но он сделал над собой усилие и твердо сказал: — Нет, Витька, так нельзя, надо посмотреть. Пойдем! — Я не пойду. Не ходи и ты. Будь благоразумным, слышишь? — Вечно ты со своим благоразумием! Пусти! Борис вырвал руку, быстро пошел через мостовую к темневшему напротив дому. — Здесь я, здесь… Сюда идите! Женский голос доносился из глубины невысокой въездной арки. Борис шагнул под ее каменный свод, стал всматриваться в темноту. Арка была длинной, похожей на штольню, в конце ее чуть светлело ночное небо. — Вот я… тут, — услышал он снизу, совсем близко от себя, слабый, прерывающийся голос. — Зову, зову… убили меня, ограбили. — Витька, сюда! — крикнул Борис, торопливо шаря в карманах. — Вы не волнуйтесь, я сейчас, сейчас… Витька! — Что тут? Что случилось? — отозвался тот, появляясь в проеме арки. — Спички давай! При свете они увидели страшную картину: на земле, привалясь боком к стене, лежала женщина; правая сторона ее лица была сплошь залита кровью, руки и белая блузка, видневшаяся под распахнутым пальто, были тоже в крови. Женщина смотрела на ребят обезумевшими глазами и судорожно открывала рот, словно заглатывала воздух. Она попыталась подняться, уперлась руками в землю, но силы изменили ей, и она ткнулась лицом вниз. Спичка догорела, и тьма под аркой стала совсем непроглядной. Виктор вынул другую, но руки у него дрожали и спичка сразу сломалась. В довершение он уронил коробок. — А-а, черт! — Он присел на корточки, стал шарить по земле. — Беги! Такси надо… Я тут останусь. Да ну их, эти спички! Беги! Любую машину останавливай! Виктор выскочил из-под арки. Борис прислушался к его удаляющимся шагам и стал сам шарить по земле. Коробок со спичками словно провалился, пальцы нащупывали на асфальте какие-то щепочки, обрывки бумаги, мелкую пыль. — В больницу меня… ради бога! — услышал он из темноты. — Отвезем, отвезем! Сейчас… Товарищ ушел за машиной, он скоро вернется. Потерпите! — громко сказал Борис. Не зная, что делать, он в растерянности топтался на месте. Женщина больше не говорила, он слышал у своих ног только ее прерывистое дыхание. Иногда она тихо стонала. По вот под аркой стало чуть светлее. Борис оглянулся и увидел на мостовой стелющийся свет автомобильных фар. Он вздрагивал, качался, становился все ярче, послышался шум мотора. Парень выбежал из-под арки, замахал руками: — Сюда, сюда! Я здесь! Из остановившейся возле него машины первым выскочил Виктор, затем неторопливо вылез водитель. Он был тучен, медлителен. Борис успел разглядеть его, когда тот пересекал лучи фар. Шахматных клеток на машине не было. Многих повидала на своем веку комната дежурного по отделению: крикливых спекулянток, молодых и наглых карманных воров с трусливо бегающими глазами, пьяных, орущих бессмысленный вздор, драчунов с разбитыми физиономиями, хулиганов, озлобленных соседей коммунальных квартир, приносивших сюда свои мелкие кухонные склоки. Она служила как бы своеобразным резервуаром, принимающим для первичной обработки грязную накипь человеческих отношений. Поэтому Поздняков, дежуривший в эту ночь по отделению, ничуть не был поражен, когда в начале первого часа ночи двое молодых людей ввели к нему окровавленную женщину, поддерживая ее с двух сторон под руки. Наметанным взглядом он сразу определил, что женщина в тяжелом состоянии: часть ее лица, не залитая кровью, была меловой бледности, глаза безучастно скользили по голым стенам, ноги подкашивались. — Что же вы, не видите, что ли? Посадите ее! — сердито сказал он молодым людям. — Кто ее так разукрасил? — Да вот ограбили, говорит, ранили, — начал объяснять Борис, сажая женщину на скамейку у стены. — Идем мы с товарищем, вдруг слышим… — Ограбили? Где? При вас это было? Поздняков вышел за перегородку. И хотя стоявшие перед ним парни совсем не были похожи на грабителей, он быстро и не скрывая подозрительности, бесцеремонно осмотрел их с ног до головы. — Я же говорю, шли мы из кино вдвоем с ним, — заторопился Борис, показывая на товарища, — вдруг слышим, кричит кто-то, в Клушином переулке это было… Но дежурный уже не слушал его. Он внимательно смотрел на женщину. Она сидела, уронив голову на грудь, руки ее со следами засохшей крови, медленно, однообразными движениями теребили полу легкого габардинового пальто. Похоже было, что она сама не замечала этих движений. Ее шелковая косынка, тоже вся пропитанная кровью, сбилась в сторону. — А ну помолчи! — прервал он Бориса. Он вернулся за перегородку и, поглядывая на женщину, снял трубку телефона. Не дай бог, еще умрет в отделении! С этими окровавленными людьми, которых доставляют в отделение, все может случиться. Поэтому он прежде всего связался с ближайшей станцией «скорой помощи». — Состояние, по всему видно, тяжелое, — говорил он в трубку, — ранение головы… Поскорее, пожалуйста. Нет-нет, пока вроде в сознании… В комнату из другой двери вошел милиционер, молодой и щеголеватый, и тоже внимательно оглядел парней и пострадавшую. Поздняков положил трубку. — Сейчас приедет «скорая»! — бодро сказал он. — А вы чего, молодые люди, приуныли? Испугались? Ничего, разберемся! Так где, говорите, это произошло? В Клушином переулке? — Ага. Там дом большой, в нем арка, длинная, темная, под ней она и лежала. Когда мы прибежали, там уже никого не было, одна она там лежала. Дежурный опять вышел к женщине. — Гражданка, вы слышите меня? Говорить можете? — Могу, — тихо ответила она и медленно подняла голову. — Что с вами произошло? Кто вас ранил? — Шофер… В такси я ехала. Молотком ударил… ограбил и уехал. — Шофер такси?! — Вещи взял, чемодан… Спасибо вам, спасли вы меня… — Женщина слегка повернулась к ребятам, благодарно улыбнулась. От того, что все ее лицо было в крови, улыбка получилась страшной. — А номер такси запомнили? — Нет… — Она покачала головой и перевела дыхание. — В больницу меня, тошнит… и слабость. Плохо мне! — Отправим в больницу, отправим! Я уже вызвал «скорую помощь». Коля! — Он кивком головы показал милиционеру на графин с водой. — Вы не беспокойтесь, окажут вам помощь, все будет хорошо. Вы в Москве живете? — Нет, я приезжая, из Магадана. Милиционер подал воду, женщина прильнула к стакану, осушила его большими глотками. Поздняков опять стал звонить по телефону. — Алло! Здравствуйте, Нина Степановна, извините, разбудил я вас… Это Поздняков говорит, из отделения. Ну, а кого же еще, конечно, его! Я понимаю, время позднее, но что поделаешь!.. — Он прикрыл трубку ладонью, повернулся к милиционеру: — Машина уже вернулась? Скажи Лукову, я приказал, чтобы быстро за Сергеем Петровичем. Быстренько, понял? Милиционер вышел. — Алло! — продолжал он в трубку. — Добрый вечер, Сергей Петрович, то есть ночь уже. Поздняков беспокоит. Да, я сегодня дежурю. Недобрая у нас ночь получилась, срочное дело… Черт те что! Ограбление в нашем районе. Шофер такси пассажирку ограбил, голову молотком пробил… Таким же неожиданным среди ночи звонком он поднял с постели оперативника Бабина. Тот обещал прибыть немедленно. Затем Поздняков достал из стола чистые листы протокола-заявления и, придав лицу официальное выражение, обратился к женщине: — Итак, гражданка потерпевшая, ваша фамилия, имя и отчество? — Укладова Галина Семеновна, — тихо ответила та и, как бы предвидя дальнейшие вопросы, монотонно добавила: — Рождения тысяча девятьсот двадцать шестого года, место рождения город Омск, проживаю… — Не так быстро, — остановил он ее, не успевая записывать. Заполнив обязательные графы протокола, он попросил Укладову рассказать обо всем, что с ней произошло. Ребятам он разрешил курить. Те обрадовались, задымили в две трубы и навострили уши, надеясь услышать увлекательную историю с эффектными моментами. И ошиблись. На самом деле все было предельно просто. «Грубая работа, — определил Поздняков, записав рассказ потерпевшей. — Разбой с применением холодного оружия». Но все равно слушать ее было интересно и жутко. Укладова говорила с видимым усилием, часто останавливалась, чтобы передохнуть, с трудом вспоминала подробности. Ее не торопили. Постепенно из ее отрывочных фраз сложилась довольно цельная картина ночного происшествия. Она инженер по технике безопасности, работает в Магадане на машиностроительном заводе. Получила отпуск и по путевке поехала отдыхать и лечиться в Гагры. По дороге на юг решила остановиться дня на два в Москве «посмотреть столицу, сделать кое-какие покупки». На Казанском вокзале взяла такси и попросила отвезти в какую-нибудь гостиницу. Москву она не знает и полностью доверилась шоферу. По дороге она рассказала ему, что едет из Магадана на Черное море. Он якобы рассмеялся: «Кто с Магадана — у тех денег мешок!» Затем в каком-то темном переулке остановил машину и, угрожая молотком, велел ей выйти. Она отказалась. Тогда он стал вытаскивать ее силой. Она сопротивлялась, но не кричала, боясь, что он ударит молотком. И все же он ее ударил. Дальнейшего она не помнит. Преступник похитил чемодан с вещами, дамскую сумку с документами и деньгами и золотые часы. Номера такси она не знает, но последняя цифра, кажется, была семеркой. Произошло это все, как она считает, примерно в половине двенадцатого.Глава вторая
Ночные звонки в квартире следователя Митина хотя раздавались не так уж часто, но Нина Степановна на всякий случай, перед тем как ложиться спать, всегда накрывала телефон подушкой: в соседней комнате спала трехлетняя Маринка. Сергей Петрович, еще не совсем проснувшийся, одевался при свете крохотной лампочки-ночника. Вечером он засиделся за шахматами со своим другом Владыкиным, спать лег поздно, и поэтому голова сейчас у него была тяжелой. Взбодрить его могла лишь чашка крепкого кофе. Жена это знала, и сразу, как только разбудила мужа и передала ему телефонную трубку, пошла на кухню колдовать с кофейником. Сергей Петрович после разговора с Поздняковым еще с минуту посидел в постели, питаясь собрать неясные, разбегающиеся мысли, и вдруг почувствовал, как у него стало портиться настроение. В это время в спальню заглянула Нина Степановна. — Кофе готов, — сказала она. Сергей Петрович пошарил ногами по коврику, нашел шлепанцы и побрел в ванную. После холодной воды он окончательно пришел в себя. Только глаза еще продолжало резать от яркого света. Он вытерся махровым полотенцем и недовольно поморщился, увидев в зеркало свое помятое после сна лицо с утиным носом, впалыми щеками и высокими залысинами. Оно показалось ему удручающе унылым. Седеющие волосы на висках топорщились, как у клоуна. Чувствуя, как с каждой минутой настроение все больше портится, он тщательно пригладил щеточкой влажные волосы и подумал, что сейчас, пожалуй, наступил тот самый момент, когда следует прибегнуть к психотерапии. Он принял перед зеркалом стойку боксера, сделал несколько быстрых нырков, как бы уходя от перчаток воображаемого противника, и, улучив момент, когда тот открылся, молниеносно ударил сам. Удар получился великолепный! Сергей Петрович посмотрел на кафельный пол, где должен был лежать в нокауте противник, и тут же опасливо оглянулся на дверь: со стороны он выглядел бы, конечно, нелепо — немолодой солидный человек с брюшком и в подтяжках пританцовывает и размахивает кулаками в ванной. Но психотерапия тем не менее подействовала: на кухню он вышел, совсем забыв о плохом настроении. Причину его он так и не понял. Жена в длинном ситцевом халате хлопотала у стола. — Две ложки? — спросил он, заглянув в чашку. — Две, две, успокойся. Ведь знаешь, что крепкий кофе тебе вредно… Что там стряслось? — Во всяком случае, ничего хорошего, — поморщился он. — Ночной грабеж. Шофер такси ограбил пассажирку, ударил молотком. Нет, нет, есть ничего не буду! — Будешь! — Нина Степановна подвинула ему тарелку с сыром, нарезанным ломтиками, и масло. — Нельзя на голодный желудок. Неизвестно, когда еще вернешься. Курить будешь непрерывно, я же тебя знаю. — На какой голодный? Ведь мы же недавно ужинали. Вот кофе выпью, пока машина не пришла. Любая другая жена, услышав от мужа про ночной грабеж, стала бы расспрашивать о подробностях, тем более что жертвой оказалась женщина. И это было бы естественно: все необычное, страшное и жуткое невольно привлекает людей контрастностью с их повседневной жизнью, не столь уж насыщенной яркими событиями. А Нину Степановну больше беспокоило то, что муж не выспался, отказывается от еды, будет много курить натощак и что его ждет трудная бессонная ночь. Известие о каком-то грабеже ее не тронуло. За долгие годы она слышала от мужа столько сложных, запутанных, а порой и кровавых историй, что удивить ее чем-либо было трудно. Сергей Петрович думал о другом: о том, что надо немедленно осмотреть место происшествия и даст ли что-либо существенное этот осмотр, были ли свидетели грабежа и запомнила ли пострадавшая хотя бы приметы шофера. В коридоре раздался короткий звонок. — Это за мной. Ладно уж, заверни пару бутербродов, там перекушу. Он вышел в коридор, открыл входную дверь и увидел на лестничной площадке фигуру милицейского шофера Лукова. Тот, по солдатской привычке, щелкнул каблуками и вежливо козырнул: — Вы готовы, Сергей Петрович? Здравствуйте! Машина внизу. — Здравствуйте, товарищ Луков. Заходите, пожалуйста. — Спасибо, я у машины подожду. — Я сейчас, только плащ возьму. Сергей Петрович заглянул в комнату дочери. Девочка спала, уткнув нос в подушку и прижимая к себе замусоленную матерчатую собаку с оторванной лапой. Он осторожно повернул девочку на спину и потихоньку вышел. Коричневая «Волга», мягко покачиваясь на выбоинах, быстро неслась по пустынной набережной. — Ну не дурак ли: вздумал женщину грабить! Ведь поймаем, как миленького поймаем, я так считаю, Сергей Петрович. А вы? — не глядя на следователя, начал разговор Луков. Но тому не хотелось говорить. Он протяжно зевнул и сказал ворчливым тоном: — И почему это всегда ночами грабят? Выспаться не дадут. Он вдруг понял причину своего недавнего плохого настроения. Помогли ему в этом слова шофера. «Ну не дурак ли: вздумал женщину грабить!» Луков прав: конечно, дурак! «Вот в чем дело, вот почему я был так недоволен, — подумал Митин, вспомнив свое раздражение после телефонного разговора с Поздняковым. — Только-только ухватился за ниточку с этими кожаными пальто в комиссионных магазинах — и на тебе! Дурак таксист не придумал ничего другого, как бить пассажирку молотком… Фу! И теперь из-за него, хочешь не хочешь, придется прервать на какое-то время работу на кожевенной фабрике. Как некстати вклинилось это ограбление. Возись теперь с дураком!» Митин никогда и никому об этом не говорил, но он не любил дела, подобные тому, на которое сейчас ехал. В глубине души он считал себя человеком аналитического склада ума и отдавал поэтому предпочтение тем случаям, где приходилось ломать голову, когда логические умозаключения вдруг опровергались неожиданными обстоятельствами и построенную версию надо было доказывать вновь, вопреки, казалось бы, упрямым фактам. Он испытывал гордость и чувство глубокого удовлетворения, когда подозреваемый, несмотря на железное алиби, под напором собранных улик и доказательств все же бывал вынужден признать себя виновным. Но запутанные и интересные случаи в практике следовательской работы встречаются относительно редко, поэтому Митину чаще приходилось заниматься мелкими кражами, подлогами, жульничеством и другими преступлениями, не представлявшими большой сложности. Правда, недавно ему повезло: вскрылось дело о крупном хищении на кожевенной фабрике. Все началось с мелкого случая. Какой-то гражданин в комиссионном магазине уронил газетный сверток. Бумага на полу развернулась, в ней лежала нераскроенная выделанная кожа — коричневый хром. Случайно оказавшийся в магазине милиционер заинтересовался, откуда у гражданина хром — ведь в свободной продаже его нет. Тот сказал, что якобы купил его у незнакомого на вокзале. Но милиционер все же пригласил его в отделение. По дороге гражданин попытался незаметно выбросить из кармана какие-то скомканные бумажки. Они оказались квитанциями разных комиссионных магазинов, куда были сданы кожаные пальто и куртки, сшитые из коричневого хрома. И колесо завертелось. Митин быстро нашел владельцев квитанций — их было девять, давших самые разные объяснения. Но экспертиза установила, что все пальто и куртки сшиты из сырья одной из подмосковных фабрик. Митин нагрянул туда, но, как и следовало ожидать, на фабрике о хищении и не подозревали. Больше того: учет поступающего сырья и выход готовой продукции были поставлены хорошо, на складах полный порядок, в бухгалтерии тоже. Вот такие дела были Митину интеесны. Здесь было над чем поломать голову. А тут примитивный ночной разбой. Во всяком случае, ничего интересного от этого дела он не ждал. И преступник, действовавший столь прямолинейно, применивший физическую силу, несомненно должен оставить следы и улики, по которым разыскать его не составит большого труда. В отделении милиции Митин жертву ограбления не застал. В комнате дежурного сидели студенты, которых Поздняков попросил остаться, и оперативник Алексей Бабин. Местная шпана, группами торчавшая вечерами у подъездов домов, и мелкие карманные воришки называли его между собой «Бирюком». Прозвище в какой-то мере соответствовало наружности Алексея: коренастый и слегка сутулый, с хорошо развитыми плечами, он выглядел значительно старше своих двадцати восьми лет. Бирючью угрюмость его смуглому лицу придавали темные глаза, глубоко сидящие под сросшимися густыми бровями. Но внешность, как обычно, обманывала; на самом деле Бабин был человеком общительным, добродушным и покладистым. Когда Митин появился в дежурке, Алексей внимательно читал протокол, написанный Поздняковым со слов пострадавшей. Он поднял от бумаги глаза, приветливо улыбнулся следователю. Сергей Петрович ответил ему такой же улыбкой. Он был доволен, увидев оперативника. В прошлом году вместе с Бабиным он успешно провел несколько дел, и сейчас был рад, что они опять будут работать вместе. Митин поздоровался с ним и дежурным и вопросительно посмотрел на ребят. — Студенты, — объяснил Поздняков. — Это они нашли и доставили раненую. Она уже в больнице, «скорая помощь» увезла. — В каком она состоянии? Вы на руках принесли ее? — Нет, на машине. Вот он, — Борис показал на товарища, — сбегал, частную машину привел, такси не было. — Зачем же вы сюда ее привезли? Когда человек ранен, истекает кровью, его в больницу везут, а не в милицию. — Мы тоже говорили, что в больницу надо, а тот товарищ, ну этот… владелец машины, говорит: «Буду я еще больницу искать! В милицию доставлю, говорит, и все». — Где же он, этот ваш владелец? — А он сразу уехал. Только мы с ней вышли из машины, думали, и он с нами пойдет, а он даже не попрощался… — Понятно. Частники, они народ смекалистый. Прочитал? Сергей Петрович взял у Бабина протокол и поморщился: — Ну и почерк у вас, должен сказать! — Что верно, то верно, — вздохнул Поздняков. — Может, вслух прочитаю? Сам-то я разбираю. Но Митин уже погрузился в чтение. Бабин достал из шкафа потертый чемодан, раскрыл его на полу. «Следственный», — догадались студенты. Из-за плеча Бабина было плохо видно, и они сумели разглядеть лишь небольшой фотоаппарат, какие-то флаконы, электрический фонарь, рулетку и большую лупу в металлической оправ. Были там и другие предметы, совсем уж им непонятные. — Странно… — негромко произнес Сергей Петрович, окончив читать, и далеко выпятил нижнюю губу, что у него означало недоумение. — Обычно бывает наоборот, — не поднимая головы от чемодана, сказал Бабин, словно угадав его мысли. — Озверел человек, вот и все! — заметил Поздняков. Он знал, о чем говорили следователь и оперативник; необычным и странным было то, что шофер такси вдруг выступил в роли грабителя. — Не будем терять времени, — поднялся Митин. — Алеша, у тебя все готово? Надо опередить дворников. Плащ я, пожалуй, оставлю. А вас, молодые люди, если не возражаете, попрошу поехать с нами. Ведь других свидетелей, насколько я понял, не было?Глава третья
По дороге студенты еще раз рассказали о случившемся. Митин особенно настаивал на подробностях, объяснив, какое большое значение могут иметь, казалось бы, самые незначительные на первый взгляд мелочи и детали. И хотя ребята, перебивая друг друга, постарались нарисовать самую красочную картину, он из их рассказа ничего существенного для себя не получил. Он почти уже забыл свое недавнее предубеждение против этого неожиданного дела. Конечно, найти виновников крупного хищения на кожевенной фабрике заманчиво, но в то же время он сознавал, что если там все сводилось, в сущности, только к материальным ценностям, то здесь подверглась опасности человеческая жизнь. Ударяя молотком, бандит, вероятно, намеревался убить женщину, и лишь какая-то случайность, не точно направленный, а потому скользящий удар, или на долю секунды отклоненная в сторону голова жертвы спасли ее от верной смерти. А поймать и обезвредить убийцу несоизмеримо важнее, чем разоблачить шайку мошенников. — Где это мы едем? — спросил он, всматриваясь в незнакомые дома. — По Петрушевскому переулку. А вот и Клушин. Показывайте, где? — спросил Луков у студентов, свернув налево в сонный переулок. Был тот переломный час, когда ночь еще держалась, но рассвет уже вступал в свои права. Луков по знаку Митина остановил машину метров за десять от дома, на который показал Борис. Все вышли. — Кажется, не опоздали, — заметил Бабин, просматривая в оба конца пустынный переулок. — Ты про дворников? — спросил Митин. — Рано еще, спят. — Они же подметать начинают, когда народ пойдет! — рассмеялся Луков. — Кто же пыль глотать будет? Приезжать на место преступления после того, как дворники подметут мостовую, почти не имело смысла: все следы наверняка будут уничтожены. Бабин осмотрел ближайшие дома и скрылся в одном из подъездов. Вскоре он вернулся с двумя понятыми: заспанной дворничихой в белом фартуке и пожилым мужчиной в накинутом поверх пижамы пальто. — Товарищ Луков, а ну-ка прикиньте: если бы вы ехали из центра, допустим с Казанского вокзала, то с какой стороны въехали бы в этот переулок? Как мы сейчас ехали или оттуда? — Митин показал в другой конец переулка и повернулся к дворничихе: — Какой там переулок? — Сосновский, — сиплым голосом ответила та. — Из центра? Конечно, как мы ехали. Сначала по Петрушевскому, потом налево сюда. Так сподручнее, — уверенно сказал Луков. — Значит, машину он должен был остановить здесь. — Митин показал на мостовую возле кромки тротуара. Как раз возле арки. А вы, молодые люди, я понимаю, вам интересно, но отойдите, пожалуйста, в сторонку. Тут следы могут быть, а вы их затопчете. Два узких, концентрированно направленных луча вспыхнули в руках следователя и оперативника и заскользили по асфальту. — Поищем сначала молоток, — тихо сказал Бабину Сергей Петрович, — вдруг он его сдуру выбросил. Было маловероятным, чтобы грабитель здесь же постарался избавиться от молотка, которым ударил женщину. Ведь если молоток найдется, он будет одной из веских улик. Но в то же время неизвестно, в каком психическом состоянии он был в тот момент: сгоряча, не подумав, мог отбросить его в сторону, сунуть в урну или в щель водосточной решетки. Если же он сохранил присутствие духа и действовал хладнокровно, то должен стереть кровь с молотка, если она на нем была, и аккуратно положить его на обычное место. Сергей Петрович подумал обо всем этом, когда предложил Бабину искать молоток. Поблизости не было ни одного забора, через который мог бить брошен молоток, ни одной водосточной решетки или люка. Осмотр содержимого нескольких ближайших урн тоже ничего не дал. Значит, преступник не такой уж дурак, подумал Митин и вместе с Бабиным вернулся к дому с аркой. Они не сговаривались, но воображение подсказало им одинаковые и казавшиеся единственно возможными версии: первую — что преступник, оглушив ударом жертву и предполагая, что она мертва, вытащил ее из машины и на руках или волоча по земле донес до арки и оставил там; и вторую — что он просто выбросил ее из машины и уехал, а женщина пролежала какое-то время на мостовой и, будучи все еще в бессознательном состоянии, сама как-то добрела или доползла до арки. И в том и другом случае на тротуаре и на мостовой должны остаться какие-либо следы: пятна или капли крови, обрывки одежды, полосы на асфальте после того, как по нему волоком протащили тело. И преступник и жертва могли выронить из карманов какие-нибудь мелкие предметы. Да мало ли еще что можно обнаружить на месте разыгравшейся драмы и что потом поможет восстановить истину! Поэтому оба и осматривали с такой тщательностью буквально каждый сантиметр мостовой. На следы автомобильных колес они не рассчитывали и не искали их. Дождь не шел в Москве несколько дней, асфальт был сухим и чистым, и протекторы покрышек, будь даже они новыми, все равно не оставили бы на нем отпечатков. Кроме того, здесь проезжал и останавливался автомобиль, на котором доставили раненую, могли проезжать и другие автомобили. — Сергей Петрович! — громко позвал Бабин. Митин подошел к нему, тоже присел на корточки и стал рассматривать на асфальте большие пятна крови. — Вот… здесь он ее выбросил из машины. — Да, лежала тут. Впрочем, это еще неизвестно… Молодые люди, попрошу вас сюда! — позвал Митин ребят. И, когда те приблизились, спросил: — Скажите, пожалуйста, когда вы выводили женщину из-под арки к машине, рана у нее все еще кровоточила? Не могла она тут накапать? — Нет, не могла, — сказал Борис, посмотрев на пятна. — Я хорошо помню, кровь у нее на лице уже засохла. — Да и не тут мы ее сажали! — подхватил Виктор. — Мы подъехали и остановились возле самой арки. Помнишь, Боря? А эта кровь вон где! Тут до арки еще метров десять будет. — Да, метров десять. Значит, такси останавливалось не возле арки, а здесь, — вслух поправил себя Сергей Петрович. Бабин стал быстро водить фонарем вокруг. — Ага, вот еще капли! — воскликнул он. — И еще, еще… ведут прямо к арке. — Да, но я не вижу, чтобы тело тащили, волокли. Следов-то нет! — Может, он ее на руках отнес? — Зачем? — Ну-у… спрятать, убрать с глаз, чтобы подольше не нашли. В переулке стало уже довольно светло, но в глубине арки, как в пещере, все еще ничего нельзя было различить. Свет метался по земле, по стенам и низкому потолку, еще более подчеркивая окружающую темноту. Дворники этого дома, вероятно, были ленивы: следили за мостовой и редко заглядывали под арку — здесь всюду лежала старая пыль, окурки, какие-то щепки. И это обрадовало людей с фонарями: хуже было бы, если и здесь прошлась бы метла дворников. Чутье подсказывало нм, что уж тут-то они обязательно что-нибудь обнаружат. И они не ошиблись. — И тут кровь… капли падали. И на стене… смотрите, Сергей Петрович, это же явный след руки! Видите, отпечатки пальцев. Руки были мокрые от крови. Все сблизили головы, разглядывая красные пятна на штукатурке. Их могла оставить женщина, когда пыталась встать, хватаясь руками за стену, но не исключалось и то, что отпечатки принадлежат бандиту. Ведь у него руки тоже могли быть в крови. И если это его «визитная карточка», то тогда все значительно упростилось бы. — Фотографировать будем? — спросил Бабин. — По-моему, лучше взять кусок штукатурки, — решил следователь. — Может, это он приложил тут свою лапу. Бабин сходил к машине за чемоданом, достал из него молоточек, тонкое зубило и специальную ножовку, похожую на серп. Только зубцы у нее были не на внутренней стороне, как у серпа, а на внешней. Еще он достал лист промокательной бумаги, какие вкладываются в ученические тетради, и флакон с дистиллированной водой. Смочив бумагу в воде, он приложил ее к одной из красных капель на асфальте. Кровь быстро впиталась. То же самое он проделал еще с несколькими невысохшими каплями и сложил все промокашки в чистый конверт. Научно-технический отдел определит группу крови каждой капли — они ведь могли принадлежать не только жертве, но и грабителю: сопротивляясь, женщина могла его легко ранить, поцарапать. Покончив с каплями, Бабин присел у стены, разложил перед собой инструменты и приступил к работе. Светил ему Митин. Надо было надпилить ножовкой по окружности довольно толстый слой штукатурки и отделить его от кирпичной кладки так, чтобы не повредить след от руки. — Дактилоскопию будете применять? — спросил Виктор. Сергей Петрович усмехнулся: — Я вижу, вы тоже не лыком шиты. — А как же, Шейнина читали! — с улыбкой сказал Борис. — Что ж, молодой человек, если уж вы такой эрудит в криминалистике, то вам и карты в руки — посветите, пожалуйста. Он передал фонарь студенту, сам включил другой и стал опять осматривать асфальт. Его внимание привлекли следы ног на слое пыли, покрывавшей асфальт возле стены. Здесь же он увидел коробок спичек. — Ага, спички! Это интересно… Сергей Петрович поднял коробок, встряхнул, чтобы убедиться, что он не пустой. — Это мои спички, — сказал Виктор. — Я их тут уронил и не мог в темноте найти. — А может, не ваши? Жалко, могли бы быть хорошей уликой, — с огорчением произнес Митин. — Ну, тогда покажите вашу обувь. Он осветил ноги студентов. Те тоже с интересом уставились на свои основательно поношенные ботинки. Затем по просьбе следователя каждый осторожно приложил свои подошвы к следам. Сомнений не было: наследили они, когда топтались тут возле женщины — все отпечатки на пыли в точности соответствовали размерам их ботинок. Тем временем Бабин отделил кусок штукатурки от стены. И он и Митин были недовольны. Поиски пока ничего существенного не дали. Только капли на мостовой да отпечаток окровавленной руки на стене. Мало, очень мало… Все это лишь подтверждало, что раненая женщина лежала именно здесь, но в этом и так никто не сомневался. Будет очень хорошо, если папиллярный рисунок ее пальцев не совпадет с отпечатком на штукатурке. А если совпадет? Митин осветил стену, из которой была вынута штукатурка, и обратил внимание на едва заметные полосы на известке. — Алеша, видишь? Похоже, что человек прислонился спиной или плечом, а потом сполз вниз. Будто сухой тряпкой провели сверху. — Похоже, — согласился тот. — Так это она сама и стерла известку. Стояла тут, а потом ноги подкосились. — Правильно! А тогда это означает, что не таксист ее принес и бросил, а она сама сюда пришла. Так получается? Будет он ее еще ставить на ноги, прислонять к стене! Она же была без сознания! Последнее, что они увидели, был отпечаток мужского каблука. В небольшом углублении возле крышки канализационного люка скопилось немного земли, почему-то сырой, и на ней рельефный след каблука. Студенты, стараясь не повредить хрупкий оттиск, опять приложили свои ботинки. На этот раз их каблуки не совпали со следом, он был значительно больше. Митин вздохнул и сказал студентам с огорчением: — Теперь понимаете, почему я в милиции интересовался тем вашим частником? А теперь гадай: он тут наступил или грабитель? Придется, Алеша, зафиксировать. Бабин опять склонился над чемоданом. В мисочке, похожей на пиалу, он развел гипс и залил жидкой кашицей след каблука. Следователь тем временем рисовал на бумаге план: изобразил переулок, дом с аркой, отметил предполагаемое место остановки такси, место, где были обнаружены пятна крови. Все это в будущем могло пригодиться. Затем на всякий случай он прошел всю арку до конца, светя себе фонарем. Арка вела во двор. У ее выхода стояли в ряд приготовленные дворниками с вечера высокие железные бачки с мусором. Митин осветил их. На земле возле переполненных бачков лежали обрывки бумаги, обломок кирпича, картофельная шелуха и какие-то тряпки. «Ничего интересного», — решил он и вернулся обратно.Глава четвертая
На обратном пути Митин и Бабин молчали, словно им не о чем было говорить. Курили, смотрели по сторонам. Стало уже совсем светло. Луков вел машину по улицам и переулкам, известным только ему, прокладывая кратчайший путь к больнице. Оказалось, что машина «скорой помощи» доставила женщину в больницу, расположенную совсем в другом районе: в ближайшей не было мест. Первым нарушил молчание Бабин. Поерзал на сиденье, недовольно сморщил нос и проговорил, ни к кому не обращаясь: — Не густо. Ни большой рыбки, ни маленькой. Сергей Петрович улыбнулся: — Мы с тобой, Алеша, как грибники: собрались в лес, захватили большие корзины. Думали: ну, наберем грибов! А нашли пару рыжиков да гнилой мухомор. — Что называется, не солоно хлебавши… Да ведь, собственно говоря, Сергей Петрович, и рассчитывать-то особенно тоже нельзя было: какие следы могут быть на улице? Уехал — и концы в воду! — И на улице могли быть, — вздохнул Митин. — Но или малый все предусмотрел, или случайно не наследил. Самые важные сведения он надеялся получить от Укладовой. Она видела водителя такси, разговаривала с ним, должна знать его приметы, может быть, приметы его машины. Хорошо, что хоть она запомнила последнюю цифру его номерного знака. Семерка… Странно, что лишь одна семерка осталась у нее в памяти. А другие цифры? — Свяжись, Алеша, немедленно с Управлением таксомоторного транспорта, а еще лучше поезжай к ним сам и узнай, не было ли у них случаев угона таксомоторов. — Может, совсем и не таксист ограбил? — Вот именно. Это Укладова говорит, что таксист. Села в машину с шахматными клетками — значит, таксист. Попроси еще, чтобы приготовили для нас список машин, номерные знаки которых кончаются семеркой. Только тех, конечно, что были этой ночью на улицах. — А вот и больница, — показал Луков на светлое здание за невысокой оградой. Вокруг больницы раскинулся большой тенистый сад. Высокие тополи, разросшиеся кусты, путаница прихотливо переплетенных узких аллей со скамейками. В этот ранний час в саду было пустынно, негромко пересвистывались в листве проснувшиеся пичужки. — Кусок штукатурки и кровь сейчас отдать в НТО или сначала в таксомоторное управление ехать? — спросил Бабин. — В управление еще успеешь, прежде всего анализ крови и отпечатки пальцев. II еще одно, Алеша: я тут, вероятно, задержусь; у тебя будет время, съезди, пожалуйста, на Казанский вокзал… — Узнать время прибытия дальневосточного экспресса? Так это и по телефону можно. — Нет, меня не поезд интересует, а хотя бы приблизительное время ограбления. Сделан так: выйди из вокзала, возьми такси и засеки время. Прикинься, что приезжий, Москву не знаешь. Понял? Приедешь в Клушин переулок — и там засеки. Это не очень точно будет, но все же… — Еще чего, на такси тратиться! — ворчливо заметил Луков. — А я зачем? Да я лучше любого такси… — В том-то и дело, что лучше. А нам хуже надо. Нет-нет, Алеша, только на такси! Таксист, когда везет приезжего, он знает, какой путь выбирать. Приход следователя в больницу в столь ранний час для дежурного врача не был неожиданностью: так было всегда, когда к ним в ночное время доставляли людей с ранениями. Врач, молодой человек, спокойный и невозмутимый, провел Митина в свой кабинет и вынул из шкафа тонкую папку с историей болезни Укладовой. — К сожалению, а вернее будет сказать, к счастью, больная уснула. К счастью для нее, — уточнил он без улыбки. — Сейчас ей нужен полный покой, для нее это главное. Вот,взгляните. Он подал через стол историю болезни. — Она в отдельной палате? — Нет, в общей. Другие больные тоже еще спят. Митин стал читать: «Ранение волосистой части головы в области правой теменной кости без повреждения костной ткани… в результате удара тупым орудием, о чем свидетельствует характер разрыва кожного покрова…» Врач подождал, пока Митин кончил читать, и сказал: — У больной все признаки сотрясения мозга: жалуется на тошноту, головную боль. Была у нее рвота… Придется ей полежать. — Вы осматривали больную. Кроме раны на голове, нет ли у нее других следов насилия — синяков, ссадин, царапин? — На левой руке на запястье есть легкая ссадина. Это когда часы у нее срывали. Удар по голове, вероятно, был скользящим. — Я тоже так думаю. Ее в такси ограбили. Ударили молотком. — Я знаю. Врач нравился Сергею Петровичу; приятна была его сдержанность, немногословие, подчеркнутая официальность беседы. — Впервые в моей практике, чтобы таксист грабил пассажира. Редкий случай, — сказал он, пытаясь растопить ледок. Врач промолчал. — А сейчас, пока больные спят, я попрошу показать одежду Укладовой. Было уже достаточно светло, и Митин приступил к осмотру одежды прямо у окошечка, из которого получил узел. Он аккуратно разложил вещи на подоконнике и через лупу стал рассматривать на них каждый шов, складку и пуговицу. Две молоденькие сестры, приглашенные понятыми, смотрели на него издали. Девушки иногда шептались, глаза у них были круглые и внимательные. Легкое габардиновое пальто песочного цвета сильно залито кровью и на нем недостает одной пуговицы. Через лупу хорошо видно, что оторвалась она не потому, что нитки перетерлись, а от резкого рывка: об этом свидетельствовали концы ниток. «А на мостовой мы ее не нашли…» — отметил Митин и запомнил это. На спинке пальто, как он и ожидал, имелись следы извести. Значит, он был прав, объясняя Бабину происхождение полос на стене. Слипшаяся, заскорузлая от крови косынка. В том месте, куда пришелся удар, ткань слегка надорвана. В кармане пальто — смятый железнодорожный билет. «Чита — Москва», — прочитал Митин надпись на нем, сделанную чернилами. Но и это лишь указывало на то, что Укладова приехала поездом и вышла на Казанском вокзале. В кабинете, куда он вернулся после осмотра одежды, врач сказал, как бы предупреждая вопрос следователя: — Группу крови мы определили у больной. — Для нас? — благодарно улыбнулся ему Сергей Петрович. — Спасибо, вы предусмотрительны. — Нет, на случай, если понадобится переливание крови. — Тем более… Нам, между прочим, группу ее крови тоже знать не мешает. — У нее третья. Сергей Петрович достал сигарету, закурил с наслаждением и сказал доверительным тоном: — Хочу попросить вас об одном небольшом одолжении. Надеюсь, вы не откажете в помощи? — Все, чем могу… — Открою вам один из приемов нашей работы. Дело в том, что нам надо иметь отпечатки пальцев гражданки Укладовой. Понимаете? При расследовании преступления они нам могут пригодиться. Конечно, мы ни в чем ее не подозреваем, смешно было бы — она потерпевшая, она жертва! И все же отпечатки ее пальцев будут нужны. Ведь у преступника, когда мы его задержим, возможно, окажутся вещи Укладовой, ну там, чемодан, например, пудреница, зеркальце с отпечатками ее пальцев, и тогда… — А вы уверены, что поймаете преступника? Лицо у врача по-прежнему было непроницаемым, лишь щеки слегка порозовели. Вероятно, оттого, что вопрос был не совсем тактичным, Сергей Петрович пожал плечами: — А вы, извините, приступая к операции, всегда уверены в благополучном исходе? Так и у нас. Он не сомневался, что преступник будет найден, но говорить об этом вслух считал нескромным. — Конечно, можно просто попросить больную приложить пальцы к стеклянной пластинке, — продолжал он тем же доверительным тоном. — А вдруг обидится? Я по опыту знаю, что люди абсолютно честные почему-то чрезвычайно предубежденно относятся к тому, чтобы дать свои отпечатки. Видят в этом что-то для себя оскорбительное. Возможно, они правы. Человеческое достоинство — очень уязвимо. — Пожалуй, мне бы тоже не понравилось, — впервые улыбнулся врач. — Поэтому я попросил бы, если вам не трудно, сделать так: пусть няня или сестра дадут Укладовой какое-нибудь лекарство в абсолютно чистой мензурке. На подносе или на тарелочке. И сами чтобы ни в коем случае не прикасались к мензурке руками. Вы поняли меня? Нам этого будет достаточно. И больная не будет напрасно нервничать и волноваться. Сделать это надо сегодня же. Возможно это? — Если нужно — пожалуйста. — Спасибо, вы нас очень обяжете. В кабинет вошла сестра, которая была при осмотре одежды. — Укладова проснулась, Вадим Семеныч, — сообщила она врачу тоном заговорщика, мельком взглянув при этом на следователя. — А другие больные? — Тоже. Скоро завтрак разносить будем. — Как ее самочувствие? — спросил Митин. — Разговаривать с ней можно? — По-моему, можно. Вполне… — зарделась девушка. — Вы допрос снимать будете? — Валентина, сколько раз я вам говорил! — строго сказал врач и пояснил Митину: — Ужасная болтушка! Проводите товарища к больной Укладовой и немедленно возвращайтесь. Вы мне нужны. Больным в палате Валя уже успела сообщить, что сейчас к ним придет следователь допрашивать женщину, доставленную ночью на машине «скорой помощи», и они приготовились к визиту: наскоро причесались, прибрали на тумбочках. Новенькая — с ней они еще не успели познакомиться — лежала у двери. Голова у нее была наглухо забинтована, открытыми оставались лишь уши и лицо, бледное, с заметной синевой под глазами. — Сюда, пожалуйста, — показала Митину сестра. — Больная, к вам пришли. Женщина не пошевелилась. Глаза ее были закрыты, губы плотно сжаты. — Галина Семеновна! — негромко, по настойчиво позвал Митин, опускаясь на табуретку возле ее кровати. Веки Укладовой дрогнули, она открыла глаза. — О, простите… я забылась на минуту. Нечаянно… — Я к вам, Галина Семеновна, — как можно приветливее начал он. — Разрешите представиться: следователь по уголовным делам Сергей Петрович Митин. Хочу поговорить с вами. — Пожалуйста. Я знала, что вы придете. Сестра сказала. Голос у нее был слабый. Она подняла руку, чтобы привычно поправить волосы, но наткнулась на бинт и смущенно улыбнулась. Улыбка и светло-голубые, прозрачные глаза украшали ее уже немолодое, но еще свежее лицо. Митин отметил это и подумал, что, видимо, она женщина интеллигентная и с ней легко будет разговаривать. — Примите, Галина Семеновна, мое искреннее соболезнование! Негостеприимно встретила вас Москва. Это ужасно! — Москва здесь ни при чем, — вздохнула она. — Плохие люди есть везде. — Я попрошу рассказать, как же это с вами приключилось такое? Только, пожалуйста, подробнее. Постарайтесь припомнить каждую мелочь. Для меня именно мелочи, детали важны, понимаете? — Я понимаю. Только трудно сейчас все вспомнить, особенно мелочи… и голова болит. Но я постараюсь… Сергей Петрович. Палата притихла. Митин достал чистые листы протокола допроса, приготовился писать. На Валю жалко было смотреть: она разрывалась между желанием услышать подробности ограбления и необходимостью выполнить распоряжение врача. Верх все же взяла дисциплина: девушка помедлила еще с минуту у двери и вышла с обиженным лицом. Укладова рассказала то же самое, что Митин уже читал в протоколе Позднякова. Это его мало устраивало. Нужны были подробности. — Как же так, Галина Семеновна, семерку вы запомнили, а остальные цифры? Видели вы номерной знак его машины? — Не видела! Не смотрела я… кто же знал, что такое будет? И последнюю цифру, можно сказать, случайно запомнила. Знаете, на переднем щитке у них номер машины написан? Чтобы пассажир знал… Ну, а тут на щитке тряпка у него какая-то лежала и весь номер закрывала, понимаете? Теперь-то я знаю, он нарочно тряпку положил. А последнюю цифру все-таки видно было — семерка. Почему я ее запомнила? Да как вам сказать? На тряпке сигареты у него лежали, «Шипка», знаете такие? А у нас на заводе главный инженер очень эту «Шипку» любил, всех просил, чтобы ему покупали. Они же редко бывают. Ну и тут — увидела сигареты и сразу вспомнила нашего главного… понимаете, и семерка из-под тряпки виднеется. Это я уж потом, в милиции вспомнила. В чемодане вещей немного, но хорошие… и часы золотые. Но главное — путевка, паспорт, как я теперь без них? А может, найдете еще? — Будем искать. Твердо обещать, сами понимаете, ничего не могу. А много у вас денег было с собой? — В чемодане семьсот рублей. Ну и в сумочке мелочь, конечно. Две няни вкатили в палату высокий столик на колесиках, уставленный тарелками. Митин вспомнил о свертке с бутербродами, оставленном вместе с плащом в милиции. «Конечно, у них тут нету платного буфета», — подумал он с досадой, ощутив приступ голода. Его внимание привлекла Валя, вошедшая вслед за нянями. В одной руке она несла небольшой стеклянный поднос с мензуркой, в другой держала бумажный пакетик с какими-то таблетками. — Это вам, — сказала она Укладовой с милой улыбкой. — Таблетки запейте микстурой. Укладова послушно выпила, подала сестре пустую мензурку в руку, но та ловко подставила поднос. «Молодчина!» — отметил Сергей Петрович, провожая взглядом уходящую девушку. — Кстати, — обратился он к Укладовой, — почему из Магадана вы не летели самолетом? Такая даль! Проще и быстрее. — Не поверите: ни разу еще не летала. Боюсь! — с улыбкой призналась та. — Смешно сказать, но боюсь. Что со мной поделаешь! — Понимаю. — Он тоже улыбнулся. — А билет на поезд у вас в Чите взят. Ведь, насколько я знаю, из Магадана сначала во Владивосток плывут или в Находку, а уж там… Укладова рассмеялась: — Вот вы о чем! Так я же в Чите остановку делала. Отпуск у меня большой, а в Чите сестра мужа живет, у нее недельку погостила. Вы билет у меня в пальто нашли? — Нашел… — Митин изобразил легкое смущение. — Подолгу службы, так сказать. Ваш муж тоже в Магадане работает? На лицо женщины набежала тень: она отвернула голову в сторону, скорбно сжала губы. Глаза ее слегка увлажнились. «Напрасно спросил», — подумал он и добавил, чтобы сгладить вопрос, который оказался неуместным: — Я к тому, что муж беспокоиться будет. Ведь вам, Галина Семеновна, полежать здесь придется. — В прошлом году у меня муж умер, — тихо сказала она и вздохнула: — Рак… в два месяца скрутило. Оба помолчали. Женщины на соседних койках зашептались. — А дети есть? — участливо спросил он, надеясь отвлечь женщину, и опять не угадал: лицо ее сморщилось, стало некрасивым, она пошарила под подушкой, нашла носовой платок и, приложив его к глазам, закрыла им почти все лицо. — Был у нас сын… единственный, — глухо проговорила она сквозь платок. — На стройке работал, верхолазом. Одна я осталась… Митин заерзал на табуретке, проклиная себя в душе. У женщины умер муж, единственный сын, вероятно, разбился, ее самое ограбили и чуть не убили, и он еще тут со своими дурацкими вопросами… «Удивительная бестактность!» — корил он себя. — Извините, Галина Семеновна, откуда я мог знать! Тяжело вам, я понимаю. Но давайте вернемся к нашему делу. Какие у шофера приметы? Обрисуйте, пожалуйста, его внешность. Молодой он, старый, толстый, худой? Одет как? Если бы встретили его на улице, узнали бы? Она насухо вытерла покрасневшие глаза. — Конечно, узнала бы. Боже мой, он как живой перед глазами! Молотком замахнулся… всякий запомнит. Одет в какую-то куртку, с «молнией», кажется. Темная фуражка, знаете, как у всех таксистов. Пожалуй, молодой: лет тридцать — тридцать пять, не больше. Высокий, худощавый такой… — Нос какой? Цвет глаз? Шариковая ручка следователя быстро скользила по бумаге. — Нос прямой. Глаза?.. Темные, вероятно карие. Да ведь я к нему особенно-то и не присматривалась. — Так, хорошо… Но мне хотелось бы что-нибудь такое, что отличало бы его от других людей. У нас это называется особыми приметами. — Особые приметы? — Женщина нахмурилась, припоминая, затем лицо ее посветлело и она воскликнула: — Вспомнила! Есть особая примета, есть! Шея у него была забинтована. Только сейчас вспомнила. — Вот это уже интересно! — оживился следователь. — Это мне и надо было! Как забинтована, чем? Бинт или, может, просто платком завязана? — Не знаю. Белая такая повязка. Кажется, платок. Как я могла забыть?! — сокрушалась она. — Уж вы меня извините, Сергей Петрович. Шея забинтована — это точно! — А цвет машины? — Вот цвет затрудняюсь точно назвать. Помню, что светлая, не то серая, не то желтая. Ночью ведь. Очередь, каждый хватает машину, где тут на цвет смотреть. — В милиции вы сказали, что у вас похищены золотые часы. — Да, «Заря». — Когда он их у вас взял? До того, как ударил, или после? — Он все вытаскивал меня из машины, понимаете? А я за сумку держалась и за чемодан. Уже потом, когда очнулась под аркой, увидела, что и часов нет. Сорвал, когда без памяти лежала. Она показала всем обнаженную по локоть руку. На коже запястья была небольшая розовая ссадина. — Понятно. А теперь, Галина Семеновна, перечислите, пожалуйста, все вещи, какие у вас были в чемодане и сумочке. Впрочем, может, вы хотите позавтракать? Я подожду. — Нет-нет, у меня совсем нет аппетита, — отказалась она. Сергей Петрович не любил эту часть своей работы; надо было составить перечень всех похищенных вещей, причем описать их цвет, наружный вид, степень изношенности, размер и еще многое другое, что потом могло пригодиться для их опознания. Не любил и поэтому всегда заставлял себя выполнять ее особенно тщательно. В животе у него от голода было неспокойно, во рту горечь от сигарет, а он все задавал вопросы и писал. Наконец Укладова не выдержала и жалобно попросила: — А может, в другой раз продолжим, Сергей Петрович? Устала я, голова опять заболела, и вообще мне что-то нехорошо… — Да, да, конечно! — спохватился он. — Основное я записал. Большое вам спасибо, извините, замучил я вас. Вот, прочтите и подпишите. — Вещи и деньги жалко, конечно, но что поделаешь, раз такое получилось! — Она подписала протокол, не читая. — А вот документы, паспорт? Как я без них теперь? — Ну, это самое легкое! Выдадим справку, что они похищены при ограблении, получите новый паспорт. Да и вещи, я надеюсь, отыщем. — Спасибо вам. — Укладова закрыла глаза. В коридоре Митин встретил медсестру Валю. — А вы молодчина! — похвалил он ее. — Операцию провели как надо! К мензурке не прикасались? — Ой, что вы! — Лицо у девушки покрылось румянцем. — Я все боялась: а вдруг уроню!.. В кабинете Сергей Петрович попросил у врача два небольших куска картона, осторожно взял мензурку пинцетом за край, поставил на одну картонку, сверху прикрыл другой и обвязал шпагатом. В такой упаковке отпечаткам на стекле не грозила опасность чьих-либо случайных прикосновений. — Вон как это делается! — с уважением произнес врач, наблюдая за действиями следователя. — Получили вы что-нибудь от разговора с больной? — Конечно, за тем и приходил, — устало улыбнулся ему Митин. — Картина для меня кое в чем прояснилась. — А скажите, если это не секрет, как вы собираетесь ловить, то есть искать преступника? Ведь это все равно, что в стоге сена… Не представляю! — Видите ли, особых секретов у нас нету, а есть специфика, как и во всяком деле. Вы привели неверное сравнение: Москва не стог сена и преступник не иголка. Для того чтобы найти иголку, надо перерыть весь стог. В данном случае в этом нет необходимости. Вы понимаете меня? — Да, да, понимаю, — подтвердил врач, хотя и ничего не понял. — Здесь преступник таксист — следовательно, искать его надо в таксомоторных парках. Как видите, все очень просто.Глава пятая
От голода и бессонной ночи у Сергея Петровича началась легкая головная боль, солнечный свет резал воспаленные глаза. Он осмотрелся, надеясь увидеть поблизости столовую или закусочную. Больница была старая, в свое время она находилась на окраине Москвы, но город разросся, обступил ее большими домами, вокруг тихого больничного сада пролегли троллейбусные и автобусные линии, понесся бесконечный поток машин. За ближайшим углом Сергей Петрович нашел небольшое чистое кафе и пристроился у окна с опущенной шторой. Горячий кофе, приготовленный в сверкающем никелем аппарате «Экспрессо», против ожиданий, оказался вкусным, ватрушка свежей, и он ел с удовольствием. Сейчас ему не хотелось думать ни о показаниях Укладовой, ни о таксисте. Нужен был какой-то интервал, временное отстранение от этого дела, и он развернул газету. Читать серьезные статьи не хотелось, и он углубился в фельетон на последней странице. Но уже через минуту поймал себя на том, что думает уже совершенно о другом. Сколько бывало случаев, когда беспечные таксисты оставляли таксомотор, не закрыв дверцы и не вынув ключ зажигания, а потом, бледные и испуганные, сообщали постовому, что кто-то угнал машину. Похитители использовали ее в своих преступных целях и бросали где-нибудь на тихой улице или в дачной местности. Что, если и сейчас было точно так же? Он подошел к стойке, попросил еще чашку кофе и позавидовал буфетчице: вот это работа — отмеряй порцию кофе, мигом кипяти и получай монеты. Никаких тебе мыслей и забот! Хорошо, допустим эту версию, думал он, опять садясь за свой столик. Человек угнал машину. Очень ли он рискует, если под видом таксиста будет возить на ней пассажиров? Ведь большинство таксистов часто специализируются: одни возят пассажиров с вокзалов, другие поджидают колхозников и спекулянтов у рынков, третьи предпочитают дежурить у гостиниц и аэропортов. И обычно знают друг друга в лицо. Появись, к примеру, среди вокзальников незнакомый, сразу заметят. И машину могут узнать таксисты того же парка и увидеть, что за рулем сидит незнакомый водитель. Кроме того, об угоне будут немедленно извещены постовые милиционеры и дежурные диспетчеры у вокзалов, и появляться здесь на украденной машине опасно. Преступник, идя на «дело», должен все это учитывать. Впрочем, одним рейсом он мог рискнуть. И само ограбление. На него решаются обычно, зная, что добыча наверняка будет солидной. Исключая, конечно, шпану, что раздевает пьяного или отнимает сумочку у одинокой женщины. Грабить же пассажира, бить молотком, не зная, что у него в чемодане, по меньшей степени глупо. Хотя… почему преступник обязательно должен быть умным? Они всякие бывают. А главное — как он мог об этом забыть! — ведь Укладова показала, что на нем была форменная фуражка таксиста. Слава богу! Митин повеселел. Несомненно ограбил не «кто-то», а именно таксист. Не будет же этот «кто-то» предварительно обзаводиться для одного рейса форменной фуражкой. Еще чего! Впрочем, с неудовольствием подумал он, ведь преступник в прошлом мог работать в таксомоторном парке и у него могла сохраниться фуражка. Надо узнать, сдают ли таксисты при увольнении форму. И купить мог, и заказать в ателье. Даже для одного рейса… Скверно! Чтобы избавиться от сомнений, он решил позвонить прямо отсюда в следственный отдел. Но Бабин там не появлялся. Из отделения милиции ответили, что он звонил из Управления таксомоторного транспорта и сказал, что задержится там. Сергей Петрович вышел из кафе и направился к троллейбусной остановке. Две чашки кофе и ватрушка уже оказали свое благотворное действие: он чувствовал себя значительно бодрее, прекратилась и головная боль. Но ночь без сна все еще давала себя знать. Женщина права: грязная тряпка на щитке перед ветровым стеклом, конечно, была положена специально, чтобы прикрыть номер, продолжал он рассуждать. Водитель бросил ее на щиток как бы случайно и сверху для маскировки положил еще пачку сигарет. Сигареты могли соскользнуть с полированной поверхности. А на тряпке лежали. Вот и думай: тряпка лежит для того, чтобы прикрыть номер, или для того, чтобы сигареты не упали. Вполне достаточно, чтобы усыпить бдительность опасливого пассажира. Вначале, вероятно, тряпка закрывала весь номер и лишь потом от тряски и вибрации последняя цифра открылась. Это чистая случайность, ее водитель мог и не предусмотреть. Не учел он и популярности у курильщиков довольно редких сигарет «Шипка». Не мог же он предполагать, что его сигареты привлекут внимание пассажира и в его памяти непроизвольно задержится и последняя цифра, открывшаяся к тому же случайно. Наружные номерные знаки он мог замазать чем-нибудь, номер на щитке закрыл тряпкой. И все же последняя цифра известна. По ней машина и будет найдена. В этом Митин не сомневался. Правда, предстояла кропотливая работа — осмотреть все таксомоторы светлой окраски всех московских парков, номера которых кончаются семеркой, но иного пути он пока не видел. Если в машине, по словам потерпевшей, происходила борьба, то в ней обязательно должны остаться следы: царапины, может быть, порванная обшивка, кровь или отпечатки пальцев. Забинтованная шея… Интересная и важная подробность, но тут еще надо подумать. Предусмотрительно закрытый тряпкой номер говорит о том, что преступник не забывал об осторожности — и в то же время забинтованная шея… Такая броская, легко запоминающаяся примета! Неужели он этого не учел? Странно. Скорее всего, мысль об ограблении пришла в его дурную голову по дороге в гостиницу неожиданно, и он забыл, что шея у него забинтована. Значит, надо искать шофера с забинтованной шеей или если он снимет повязку, то со следом пореза после бритья или от фурункула. Да, но тут противоречие! Если номер на щитке был закрыт умышленно, значит, грабеж был задуман шофером раньше, а не по дороге в гостиницу, возможно, еще на стоянке, когда он поджидал пассажиров. Значит, надо искать в таксомоторных парках. А если он бросил работу? Мы будем искать его в Москве, а он в это время мчится в купе скорого поезда в неизвестном направлении. Впрочем, если он не дурак, то скорее всего должен остаться на месте. Все обошлось, свидетелей не было, женщина не кричала, номер он закрыл тряпкой. Прошло, что называется, чисто. Значит, можно отработать смену, утром сдать машину и спокойно отправиться домой. Кстати, почему я упорно считаю его дураком? За то, что избрал такой грубый способ грабежа? А какой менее грубый? Грабеж есть грабеж. Алексея Бабина Митин застал в следственном отделе. Тот поджидал его, сидя в буфете в компании двух молоденьких сотрудниц. Увидев следователя в дверях, он оставил собеседниц и пошел к нему. — Были угоны? — спросил Митин. — Ни одного. Ни вчера, ни раньше. Последний угон был дней десять назад, но машину сразу нашли. Я знал, что вас это больше всего интересует. — Еще бы! Как гора с плеч. — Сергей Петрович не скрывал облегчения. — Знаешь, какая морока могла быть! Список машин привез? — Из-за этого и задержался. Хотите кефиру? Ведь ничего не ели! Как пострадавшая? Я лишнюю бутылку для вас взял. Прошу! — Спасибо, Алеша, я уже перекусил. Ешь сам. Оба сели за столик. Девушки тотчас упорхнули. — Проделал эксперимент, — продолжал Бабин, прихлебывая кефир. — Все совпадает. Дальневосточный экспресс прибыл вчера в двадцать три часа, ноль десять минут. Пока от перрона дошел до стоянки такси, пока постоял там, прошло двадцать минут. Засек время. Водитель или добросовестный попался, или понял, что шляпу везет — доехали до Клушина переулка быстро, за пятнадцать минут. — У них глаз наметанный, пиджак от шляпы тотчас отличают, — улыбнулся Митин, подразумевая, что таксисты между собой приезжих называют «пиджаками», а москвичей «шляпами». — Время, как видите, примерно, совпадает. Ребята нашли ее около двенадцати. В Клушин переулок мы въехали тоже со стороны Петрушевского, Луков тогда правильно прикинул. А у вас, Сергей Петрович, что хорошего? Митин подробно рассказал о своей беседе с Укладовой. — А свою фотокарточку он не подарил ей на память? — усмехнулся Бабин, услышав, что у грабителя была повязка на шее. Следователь взял у него список машин и поморщился: — Семьдесят две… ну и ну! — Хорошо, что столько! Могло быть и больше. Всего в эту ночь на линии было около двух тысяч машин. Я выбрал те, что были с семерками. Я же не знал, что она светлая. Здесь и черные могут быть и зеленые. — И правильно сделал. Будем осматривать все. Начнем, конечно, со светлых. То, что Укладова назвала машину светлой, еще ничего не значило: бывали случаи, когда пострадавший или свидетель называли одни цвет машины, а на поверку он оказывался совершенно другим. Объяснялось это условиями освещения, психическим состоянием человека в тот момент или особенностями его зрения. Николай Андреевич Владыкин не встал из-за стола, когда к нему в кабинет вошли Митин и Бабин. Здороваясь с ними, он лишь чуть приподнялся из кресла. Подчиненные знали, что вставать каждый раз из-за тучной комплекции ему трудно, и охотно прощали нарушение общепринятого этикета. Владыкин внимательно посмотрел на осунувшееся, с запавшими глазами лицо друга. — Признайся, во сколько сегодня встал? — спросил он. — В начале второго. — Сергей Петрович кивнул на Бабина: — В одно время нас с ним подняли. — По нему не заметно — огурчик! Впрочем, в его годы я сам по трое суток не спал, и хоть бы что! Постой, постой, я от тебя вчера во сколько ушел? В половине двенадцатого? Значит, ты всего часа полтора спал? — А, пустяки! — отмахнулся Митин. — От таких пустяков до инфаркта один шаг. — Владыкин взял со стола протокол. — Значит, имеем ночной разбой с попыткой убийства? Ну и почерк у этого Позднякова! Разговаривал с пострадавшей? Как она? Были на месте? Нашли что-нибудь? Сергей Петрович стал рассказывать. Свои сомнения, варианты и догадки, которые у него то и дело возникали, он оставил при себе и поделился лишь тем, что видел на месте преступления и получил от допроса Укладовой. Во время его рассказа начальник следственного отдела рисовал на перекидном настольном календаре фигуры фантастических зверей. Это означало, что он слушает внимательно. Когда Митин закончил, он пририсовал зайчонку слоновий хобот и сказал: — Что ж, я считаю, все не так уж плохо. Семерку и забинтованную шею нам тоже не каждый день на блюдечке подают. — Я тоже так считаю. — План работы я у вас не спрашиваю, — продолжал Владыкин. — По-моему, все ясно и так: осмотр машин, поиск шофера по приметам и так далее. Путь, конечно, элементарный, но… — Сергей Петрович, мы будем искать шофера с забинтованной шеей? — спросил Бабин. — А ты думаешь, что он снимет бинт? По идее, конечно, должен бы снять. Но ведь след-то у него все равно какой-нибудь будет на шее. Ну там от пореза в парикмахерской или от фурункула. Должен быть, во всяком случае. Для чего же он тогда шею бинтовал? — В том-то и дело! А если ни бинта и ни каких следов на шее у него не будет? — То есть? — А что, если он нарочно шею платком завязал, сам себе дал особую примету, чтобы пассажирка ее запомнила, понимаете, и чтобы мы потом искали шофера с этой приметой? Тогда как? Мог он такое придумать? Сергей Петрович заерзал на диване, выпятил нижнюю губу. Принять такой вариант — значит лишиться очень ценной приметы, остаться с одной семеркой. Это ему мало улыбалось. — Слишком тонко, — возразил он. — Громила бьет женщину молотком, а мы готовы приписать ему дальний психологический расчет. Нет! Слишком тонко. И вообще, давайте не будем усложнять это простое дело. — Когда бьют молотком, то хотят убить. А мертвый ни о каких приметах не расскажет, — присоединился к Митину Владыкин. — Будем ориентироваться на белую повязку. Ох, Сергей, отоспаться тебе надо! Тут нужна ясная голова, по себе знаю. Усни часок, а потом за работу. — Да не хочу я спать! Утром хотелось, а сейчас нет. Владыкин взял список машин. — Семьдесят две… Двоим вам не справиться. Бригада нужна. Еще пять человек хватит? Конечно, только для осмотра машин. — По десять машин на брата? Хватит. — Как потерпевшая, вполне приличная женщина? — По-моему, да. Скромная, работает инженером. Уже в летах. Одинокая, муж недавно умер, сын погиб на стройке. — Она, кажется, на машиностроительном заводе работает? Надо сообщить в Магадан, что с ней случилось. Напиши, что ранена, находится в больнице… Словом, поставь товарищей в известность. У нее же путевка пропала.Глава шестая
Сергей Петрович так и не последовал совету Владыкина поспать хотя бы один час. Надо было как можно быстрое приступить к розыску: преступление совершено всего несколько часов назад, преступник был еще, что называется, «горячим», мог в спешке наделать ошибок, чего-то недоучесть. Поэтому Митин и Бабин сразу направились в ближайшие таксомоторные парки. Еще пятеро оперативников, приданных им в помощь, поехали в другие парки. Прибыв на место, Митин прежде всего попросил диспетчера вернуть с линии пять машин из семи подозреваемых; две с номерными знаками, имевшими в конце семерку, были на месте — остались в парке после ночной смены из-за технических неполадок. Затем, еще не приступая к осмотру, он осторожно расспросил начальников колонн, не была ли у кого-нибудь из шоферов, работавших на этих машинах ночью, забинтована шея. О белой повязке спросил и у мойщиц — они видели каждого шофера, когда те подгоняли им под шланги свои запыленные, облепленные грязью машины. Врач медпункта тоже не помнила, чтобы кому-либо из шоферов забинтовывала шею. Одну из машин, оставшихся в парке по техническим причинам, Митин не стал осматривать — в ночную смену на ней работала женщина. Над мотором второй уже возились слесари. Это было некстати, они могли все захватать своими грязными руками. Он попросил прекратить ремонт и поставить машину в укромный уголок, где бы ему никто не мешал. Следователю нужно было найти подтверждение, что именно в этой машине был нанесен удар молотком, что в ней происходила молчаливая борьба между шофером и перепуганной женщиной. Поэтому он прежде всего через лупу осмотрел снаружи двери, никелированные ручки, желобки на крыше и подножки. К ним могли пристать ворсинки одежды, волосы, остаться следы крови, царапины от ногтей. Главное внимание он сосредоточил на внутренней обшивке кузова, на сиденьях, спинке и резиновых ковриках, лежавших на полу. Основные следы, скорее всего, могли быть здесь. Но несмотря на самый тщательный осмотр, он вскоре убедился, что и здесь нет ничего подозрительного. За что еще могла схватиться женщина, сопротивляясь? За стойки двери? Митин включил фонарик, направил луч наискось к полированной поверхности, надеясь, что при боковом освещении отпечатки рук будут лучше видны. Мешали четкие свежие следы рук слесарен, и он старался на них не смотреть. Копошась в кузове, Сергей Петрович тихонько насвистывал и думал, что с этой машиной он напрасно теряет время. Все же для порядка он осмотрел коврики, заглянул в ящичек для мелких вещей и в выдвижную пепельницу. Ничего не дал и осмотр молотка, обнаруженного под сиденьем шофера: металл был чистым, деревянная рукоятка почернела от масла. А номерные знаки? Не были ли они замазаны? Впрочем, водитель мог их очистить после грабежа, время у него для этого было. И тряпку, на которой у него лежали сигареты, вероятно, выбросил. «Напрасно мы не осмотрели всю мостовую в Клушином переулке, может, и нашли бы тряпку. Моя ошибка, — подумал он, но тут же успокоил себя: — А зачем, собственно, ему выбрасывать тряпку? Какая в ней для него опасность? Абсолютно никакой! Забираюсь в никому не нужные дебри, сам себя только запутываю..» Однако, одергивая себя, он вместе с тем сознавал, что только таким путем можно добраться до истины. Нужно свободно и смело строить самые неожиданные гипотезы, находить им объяснение и самому же опровергать их. Уметь становиться на место преступника, рассуждать за него, мотивировать поступки, логически их развивать, учитывая одновременно состояние его психики в момент крайнего возбуждения. Можно допустить, что преступник был новичком, впервые решившимся на отчаянный шаг, но им мог быть и опытный рецидивист, прошедший солидную тюремную «академию». Он мог быть в испуге, в панике и смятении после совершенного, но мог действовать и хладнокровно, сообразуясь со здравым смыслом, предугадывая последствия каждого своего поступка. Продумывая то один вариант, то другой, сталкивая их, как кресало с огнивом, следователь пытается высечь искру истины. Как любил шутить Сергей Петрович, почти каждое расследование вначале похоже на ловлю черной кошки в абсолютно темной комнате. — Извините, товарищ, вас к телефону вызывают, — сказал Митину подошедший начальник колонны. — В диспетчерскую. Звонил оперативник Князев из второго таксомоторного парка. Как и Сергей Петрович, он производил там осмотр машин, взятых на подозрение. Он торопливо доложил, что в машине № 24–17 на спинке заднего сиденья есть пятна, похожие на кровяные. Капли крови обнаружены и в рубцах резинового коврика, который кладется под ноги шофера. Но самое главное — кровь ясно видна на деревянной рукоятке молотка. Лежал он под передним сиденьем. — А на молотке, на металле кровь есть? Сергей Петрович почувствовал, как его охватывает охотничий азарт. Князев сказал, что на головке молотка он ничего не обнаружил. Для исследования крови сделал «вымочку» со спинки сиденья и изъял коврик и молоток как вещественные доказательства. — Надеюсь, в присутствии понятых? — Еще бы! Все записано в протоколе. В ночную смену на этой машине работал водитель Крикунов Иван Григорьевич. — А бинт на шее? Я спрашиваю, шея у него забинтована? — кричал в трубку Митин. — Это главное… Про бинт Князев ничего не знал; сам Крикунова не видел, а у других об этом еще не спрашивал. — Хорошо, я сейчас приеду к вам. Сергей Петрович попросил, чтобы до его возвращения к машинам с семерками никто не прикасался, и поехал во второй таксомоторный парк. Разговор с Князевым воодушевил его, и он, всегда трезвый и рассудительный, сейчас вдруг разрешил себе немного помечтать. «Взять бы его, голубчика, сегодня же, — думал он по дороге в парк. — Вот это была бы оперативность! Молодец Князев! Кровь в машине и на молотке, вероятнее всего, принадлежит Укладовой и будет служить главной уликой против Крикунова. Надо немедленно сделать анализ. И если она относится к третьей группе, тогда… тогда шоферу весьма трудно будет доказать свою непричастность к грабежу». Но он тут же остановил себя. Сколько раз вот такие же, казалось бы, крепко построенные замки на поверку оказывались воздушными. Так могло быть и сейчас. Следы крови… На рукоятке молотка они оставлены, конечно, руками преступника. Но ведь мыл же он свои окровавленные руки? Мыл! И неужели не подумал о том, что кровь могла остаться на молотке и в машине? Ведь это так элементарно! Почему он ее не замыл, не стер? Да, пожалуй, рано еще делать оптимистические прогнозы. Вот если бы еще и шея у этого Крикунова была забинтованной, тогда иное дело… Князев как будто каким-то телепатическим путем на расстоянии воспринял опасения следователя и к его приезду сделал вес, чтобы их развеять. Он поджидал Митина во дворе автопарка. Рядом с ним стояла пожилая женщина в резиновом фартуке и высоких сапогах. Стройный, элегантно одетый, в темных солнцезащитных очках, Князев скорее был похож на модника с улицы Горького, чем на серьезного оперативного работника, каким был на самом деле. — Познакомьтесь, Сергей Петрович, с Клавдией Васильевной, — представил он следователю женщину в фартуке. Оказывается, мойщица видела утром у Крикунова бинт на шее. Машина его была голубого цвета, номер 24–17. Князев попросил женщину повторить рассказ. Та бойко затараторила: — И рассказывать нечего! Только я заступила на смену, смотрю, он подкатывает, Крикунов то есть… Не поверите, живого места нет на машине, такая грязная! Где он на ней катался? В Москве же сухо. Свинья свое найдет! Я ему: ты что же это, кум, нарочно для меня свой драндулет так разукрасил? А он вылез злой, как сатана, и такое ляпнул, выговорить неудобно, честное слово! Ребята всегда вежливые с нами, а этот… И шея у него забинтована, это я хорошо видела. — Бинт или носовой платок? — спросил Митин. — Что же я бинт от носового платка не отличу? Самый настоящий бинт. — Он всегда такой грубый в обращении? Она пожала плечами: — Как вам сказать? Прежде вроде не замечала. Иной раз веселый, когда сюда заложит. — Она по-мужски щелкнула себя пальцем по шее. — Есть у него такая слабость. И сегодня запашок был. Так, слегка… — Слабость, говорите? — Митин задумчиво смотрел на ее сапоги. — А номерные знаки у него тоже в грязи были или чистые? — Говорю, как есть вся грязная! Где его так угораздило? И знаки заляпаны. На что у нас шланги сильные, едва отмыли. А еще лается! Ежели я мойщица….. «Слабость к выпивке… и сегодня запашок был, — вот тебе и объяснение, почему руки вымыл, а на коврике и молотке следы крови оставил, — думал следователь. — Все очень просто: пьян был! Затуманенный вином мозг, потеря чувства элементарной осторожности… А вот забинтованная шея — это именно то, что надо!» — И что вы скажете, Сергей Петрович? — начал Князев, когда они отпустили женщину. В голосе его звучало плохо скрываемое торжество. — Как говорится, все улики! Больше ничего и не надо. И по приметам подходит, я узнавал. Словом, все ложится на полочку! — И выпить опять же любит, это тоже кое-что значит, — думал вслух Митин. — Прежде не был грубым, а тут оскорбил женщину. Был возбужден, нервничал пли поддался страху — вот и ляпнул такое, что выговорить неудобно. Все это так, и тем не менее… Он недовольно поморщился. Все вдруг стало складываться удивительно удачно. Настолько, что даже настораживало. Не успели еще и взяться как следует, а преступник уже сам лезет в руки: вот он я, возьмите меня, грешного… — Что вам не нравится? — спросил Князев. — Слишком легко! Слишком просто и быстро все легло на полочку. Вот это мне и не нравится. — Ну, Сергей Петрович! Бывают дела запутанные, а бывают и легкие. А может, нам как раз и попалось легкое. — Будем надеяться, — без энтузиазма согласился тот. Такси № 24–17 ММТ стояло в отдельном боксе. На его переднем сиденье на разостланной газете лежали молоток и рубчатый резиновый коврик. Митин с лупой в руке склонился над ними. — Это же кровь… явная кровь! — говорил за его спиной Князев. — Вот капли, и вот… И на рукоятке, видите? Рука была в крови, не успел обтереть. Молоток лежал под сиденьем, только нагнуться и взять. — Вижу, товарищ Князев, все вижу. Очень интересно! Конечно, кровь. Действительно дурак! Закапал все, заляпал… Адрес его взяли? — А как же! В Сокольниках он живет. Вот он, полюбуйтесь, Иван Григорьич Крикунов! В отделе кадров взял. Типичная иллюстрация к теории Ламброзо. Митин взял небольшой снимок. С него в упор смотрела мрачная физиономия. «Да, такой, пожалуй, способен ударить молотком», — подумал он, но сказал другое: — А вы что, разделяете теорию преступной наследственности? — Да нет, к слову пришлось, — рассмеялся тот.Глава седьмая
Митину хотелось иметь как можно больше уличающих доказательств в предстоящем разговоре с Крикуновым. Поэтому, прежде чем ехать к нему, они с молотком и ковриком завернули на Петровку в научно-технический отдел. Установить, к какой группе относится кровь, обнаруженная в такси, было делом нескольких минут. — Третья, — объявил им лаборант. Такая же, как у Галины Укладовой. Теперь неизвестному Крикунову будет совсем трудно отпираться. По дороге в Сокольники Митин перебирал в уме все то, что могло уличить преступника. Набралось не так уж мало. Как говорил Князев, на полочку легли семерка, бинт, номерные знаки, именно в эту ночь заляпанные грязью… А-а, черт! Сергей Петрович нахмурился. Уже не в первый раз, когда он думал о номерных знаках, которые грабитель должен был из предосторожности замазать, его не покидало чувство, что здесь он слишком прямолинейно рассуждает, возникало какое-то неосознанное беспокойство. Сейчас он, кажется, понял, в чем дело. «А почему, собственно, знаки должны быть обязательно замазаны? Какая от них опасность? — думал он. — Увидит пассажир и запомнит? Но кто из пассажиров, садясь в такси, смотрит на номер? Никто. Могла посмотреть Укладова после того, как ее выбросили из машины. Но достаточно шоферу было просто выключить освещение — ночь была темной, — и цифры стали бы не видны. А потом, отъехав, снова включить. Он же знает, что вообще запрещено ездить с загрязненными знаками, за это его мог оштрафовать любой орудовец. Значит, он не стал бы замазывать свои знаки. Слава богу, наконец-то, кажется, в этот пункт внесена ясность!» — обрадовался он. Крикунов жил в Сокольниках в новом пятиэтажном доме. — Спрашивать буду я, а вы приготовьтесь, — сказал Митин оперативнику, когда они поднимались на третий этаж — Кто его знает, как встретит… Князев и так уже держал руку в наружном кармане пиджака, куда переложил пистолет со снятым предохранителем. Оба не ожидали встретить вооруженное сопротивление — вряд ли у Крикунова могло быть оружие, — но готовыми надо было быть ко всему: сдуру или спьяну он и с кухонным ножом мог кинуться. По узкой лестнице навстречу им спускался старик с авоськой, набитой пустыми молочными бутылками. Они прижались к стене, пропустили его. В какой-то квартире играли на пианино, доносился плач грудного ребенка. На площадке третьего этажа они остановились. Ребенок кричал за дверью квартиры № 28, в которой должен был жить Крикунов. Митин нажал кнопку звонка. Вероятно, крик ребенка заглушал в квартире звонок. Он подождал и позвонил еще раз. Теперь дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина с младенцем на руках. Волосы у нее были растрепаны, лицо потное, злое, через плечо перекинута пеленка. Ребенок продолжал плакать. — Извините, пожалуйста, — Митин заглянул мимо нее в глубину пустого коридора, — Иван Григорьич дома? Мы к нему. Она окинула его и Князева оценивающим взглядом; впечатление было, видимо, не в их пользу и она закричала: — А вы не знаете, где его искать? В пивной он! Чуть глаза продрал… Ходят тут друзья-приятели! В Сокольническом парке ищите, в других местах не бывает. Вам бы толькопогулять, а тут вертишься как проклятая… Она бесцеремонно захлопнула дверь. Слышно было, как кричащего ребенка унести в глубину квартиры. — С чем вас и поздравляю! — Князев шутливо раскланялся перед закрытой дверью. — В Сокольнический парк махнем? — Вот что значит наследственность: у Крикунова и сын крикун, — усмехнулся Митин. По всей вероятности, женщина говорила правду: вряд ли Крикунов был дома и умышленно не вышел на звонок. Прятаться ему не было смысла. И жена, если бы знала о преступлении мужа, вела бы себя иначе. Придумала бы более спокойное объяснение, не кричала бы и не хлопала дверью. Наверняка он ей не рассказал ничего. Люди, видимо, часто ссорятся, а при таких отношениях особой доверительности между ними не бывает. Днем в Сокольническом парке тихо и сравнительно пустынно. Оживленно было лишь на открытой веранде павильона «Пиво — воды»: между столиками сновали молоденькие официантки в кружевных наколках, гремела радиола, покрывая ритмичной музыкой громкие голоса пьяных. Митин и Князев вошли сюда поодиночке. Как бы в поисках свободного места, они обошли всю веранду, незаметно и внимательно скользя взглядами по лицам. Жена, оказывается, хорошо знала повадки своего мужа: Крикунов был здесь. Первым увидел его Князев. Очки он снял и от его зорких глаз не ускользнуло сходство одного из мужчин, сидевшего в шумной компании собутыльников, с маленьким снимком, который уже прочно врезался в его профессиональную память. К тому же, когда мужчина повернулся к соседу, стало видно, что шея у него под ковбойкой забинтована. Князев прошел мимо, поискал глазами Митина. Тот тоже уже узнал шофера издали и ответил чуть заметным кивком головы. По соседству освобождался столик. Митин подошел. Отсюда им хорошо был виден Крикунов и его приятели. «Идиот, — с неприязнью подумал Сергей Петрович, — на грабеж идет, а снять повязку с шеи смекалки не хватило. И сразу в пивную потащился». Крикунов отвечал всем приметам, какие назвала Укладова: на полголовы выше приятелей, значит, высокого роста, плечи под ковбойкой костлявые, и по возрасту подходил — выглядел лет на 30–35 Он не принимал участия в общем разговоре, слушал, что говорили другие, чертил пальцем на мокром столе узоры и все время кривил губы в недоброй усмешке. — Что скажете? Он? — спросил Митин, хотя сам уже не сомневался, что перед ними был именно Крикунов. — Полное сходство с фото! И повязка на шее. Чего еще надо? — А вот Алексей Бабин говорил, что он специально для нас шею забинтовал, тонкий план разработал, — добродушно вспомнил Митин. — Для этого голову надо иметь на плечах, а не кочан капусты, как у этого болвана. Брать Крикунова прямо из-за стола не следовало — оба понимали это: пьяные приятели могли вступиться за него, начался бы ненужный шум. Лучше дождаться, когда вся компания поднимется или он один выйдет за чем-нибудь. Крикунов не заставил себя ждать. Вскоре, словно угадав их желание, он поднялся и довольно твердыми шагами направился в туалет. Поднялись и Князев с Митиным. Все произошло так, как им хотелось: теперь им никто не помешает. Крикунов лишь шумно задышал, когда к нему подошли двое и, предъявив какие-то книжечки, попросили уделить время для небольшой беседы. Он послушно пошел, сам показывая, как пройти в кабинет директора павильона. Сергей Петрович отметил про себя, что ни испуга, ни тревоги, столь естественных в подобных случаях, Крикунов не выказал. И это ему не понравилось. Лучше, если бы было наоборот, подумал он. В кабинете, который охотно предоставил им директор, следователь сразу приступил к делу: — Крикунов Иван Григорьевич? Я не ошибаюсь? Тот, казалось, ничуть не удивился тому, что следователь знает его имя. — Он самый. А что случилось? Я бы попросил сначала объяснить. А то ни с того ни с сего, сами понимаете… — Конечно, объясним. В свое время… Вы не обижайтесь, Иван Григорьич, но разрешите сначала задать вам несколько вопросов. — Что ж, задавайте… Он, видимо, уже понял, что дело серьезное, и хмель у него стал быстро проходить. — Вы во втором таксомоторном парке работаете? — В нем. Номер машины 24–17. А что такое? — Вчера работали? — И вчера, и сегодня. Смена такая: начал вечером, кончил утром. Да вы скажите, что случилось? — Видите ли, Иван Григорьич… интересный случай! Сегодня утром в вашей машине, представляете, мы нашли следы крови. Откуда она? Можете объяснить? — Кровь?! В моей машине кровь? — Брови Крикунова удивленно вскинулись. — Да, в вашей. На спинке сиденья, на резиновом коврике, что у вас в ногах. Да и на молотке тоже… А вы не знали? Шофер явно испугался. Но затем лицо его прояснилось, и он воскликнул: — Так это ж моя кровь! — Он показал забинтованный палец. — Вот, видите? Совсем забыл! Вдруг забарахлило переключение скоростей, понимаете? Начал копаться. Место там неудобное, и отвертка сорвалась. Боли не почувствовал, а потом смотрю — кровь! Вот и накапал, должно быть. Совсем забыл! — А может, курицу резали? — насмешливо спросил Ми-тин. — Сорвалась отвертка, а почему же кровью запачкана рукоятка молотка? — Так разве я одной отверткой? Там и молотком, и разводным ключом пришлось… То за одно схватишься, то за другое… — То-то, я смотрю, вы весь забинтованный: и палец, и шея… — А-а, в парикмахерской порезали! Два дня назад. — Кстати, какая у вас группа крови? — Была третья. — Третья? — переспросил следователь. — А скажите, Иван Григорьич, кого возили вчера вечером? — Интересный вопрос! Разве всех упомнишь? Многих возил. — А все же, — настаивал Митин, — примерно в половине двенадцатого? Где были, в каком районе, кто ехал в машине? Нам это очень важно знать. Именно в это время, понимаете? — Ха! — с видимым облегчением воскликнул тот и полез в карман за папиросами. — Разрешите закурить? Так я же в это время в отделении милиции загорал! Аккурат в половине двенадцатого. — То есть как? — нахмурился Митин. Князев тоже насторожился. — Авария произошла в Новых Черемушках, — живо начал рассказывать Крикунов. — Столкнулись две машины, грузовая и частник. Конечно, частник виноват: кто же из первого ряда разворот делает? Вот его и стукнул грузовик. Еду я, пассажир у меня, летчик какой-то, майор, смотрим: куда его несет, под самый грузовик лезет! А тот на скорости, представляете? Ну и вдарил он его. Мы потом в милиции так и показали, я и майор тот. Страшное дело! Женщина, что рядом с частником сидела, — без памяти, у него рука сломана и лицо побито. Пришлось мне их в больницу везти. Майор заставил. — Справку в больнице вам об этом дали? — спросил Сергей Петрович. Он уже понял, что, несмотря ни на что, они пошли по ошибочному следу. Алиби Крикунова, если его подтвердят больница и ОРУД ГАИ, будет, что называется, железным: не мог же он в одно и то же время находиться в Новых Черемушках и в Измайлове, где был совершен грабеж. — А как же! Дома та справка у меня, на комоде лежит. Потом обратно в милицию поехали. Пока показания давали как свидетели, да акты составляли — словом, канители много было. Во втором часу освободился, разве ж тут план выполнишь! Князев уже крутил диск телефона. Сергей Петрович ничем не выдал своего разочарования. Конечно, наивно было предполагать, что все будет легко и просто, утешал он себя, каждое дело дается почти всегда с большим трудом. Поэтому он принял как должное легкие кивки головой, какими Князев как бы сообщал ему, что дежурный ОРУД ГАИ подтверждает алиби Крикунова. — Была вчера авария в Новых Черемушках, — сказал Князев со вздохом, вешая трубку. — Все правильно, товарищ Крикунов возил раненых, был свидетелем. И произошло это в двадцать три часа… — Он помолчал и прибавил с кривой усмешкой: — По московскому времени. Отпустив Крикунова, Сергей Петрович вытер платком влажную от пота шею, закурил. Было жалко зря потраченного времени. Но они действовали правильно, не их вина, что след, казалось бы такой верный, вдруг оборвался. Он позвонил в отделение милиции, лотом в следственный отдел. Никаких известий от других оперативников не поступало. Настроение у него стало еще хуже. Они вышли из павильона на душную от зноя аллею. Пьяная компания на веранде проводила их недобрыми взглядами. — И пошли они, солнцем палимые, — мрачно проговорил Князев, шагавший сзади. — Вот тебе и тройка — семерка — туз, вот тебе и забинтованная шея. И даже группа крови совпала… Митин обернулся к нему: — Между прочим, у меня кровь тоже третьей группы. А ведь не будь этой аварии в Новых Черемушках, пожалуй, взяли бы с вами этого Крикунова. — А как же иначе! Все ложилось, как на полочку. Князев подумал, что сейчас Сергей Петрович начнет длинный разговор о том, что закон очень острое оружие и обращаться с ним надо предельно осторожно, но тот сказал с легким вздохом: — И сидел бы он сейчас в камере… А мы с вами вечером пошли бы в кино… — На интересную картину, — в тон ему продолжил Князев, — про то, как злые люди осудили невиновного.Глава восьмая
Неудача с Крикуновым не обескуражила следователя. «Все идет нормально, — думал он, возвращаясь в свой таксомоторный парк, — возникают и не подтверждаются одни подозрения, на смену им придут другие, которые, возможно, тоже окажутся несостоятельными. И это даже хорошо: по методу исключения чем их больше, тем ближе к истине». Не может быть, чтобы этот ночной разбой был внесен в список нераскрытых дел. Особенно при таких благоприятных условиях, когда известны приметы грабителя и цифра из номерного знака его машины. Так оно и оказалось: рабочий день уже закончился, когда Бабин, осматривая одну из машин, снятых диспетчером с липни, нашел в ней большую пластмассовую пуговицу. Она была серого цвета со светлыми прожилками, явно женская. Обнаружил он ее под передним сиденьем, когда освещал в кузове карманным фонарем каждую щелочку и уголок. Он сразу подумал, что пуговица принадлежит жертве, оторвалась от ее пальто во время борьбы, и на ней должны быть следы пальцев Укладовой. Ведь пуговица — это такая деталь одежды, к которой люди чаще всего прикасаются пальцами. Его не нужно было учить осторожности: чтобы не повредить могущие быть на пуговице отпечатки, он раскрыл карманный нож, осторожно поднял лезвием драгоценную находку и бережно спрятал в спичечный коробок. — Прошу, товарищи, обратить особое внимание. Это очень важно, — предупредил он понятых. Митин немедленно примчался в шестой таксомоторный парк. — Вот, под передним сиденьем нашел! — с довольным видом сообщил ему Бабин, показывая находку. — Вы видели ее пальто, такие на нем пуговицы? — Кажется, такие… и цвет и форма. — Говорили, что одна пуговица оторвана? Вот она, пожалуйста! Оторвалась, когда они боролись в машине. Но следователь, казалось, не разделял его радости. — Никогда нельзя что-то утверждать. — ворчливым тоном сказал он, продолжая рассматривать пуговицу. — Можно предполагать, но не утверждать. Мне тоже кажется, что эта пуговица от ее пальто. Кажется, понимаешь? — Я уверен! Вот увидите. — Буду очень рад. Но надо прежде проверить. Где машина? Кто на ней работал ночью? — Работал какой-то Астахов. Его домашний адрес я взял. Они прошли в гараж. Таксомотор № 62–27 ММТ был светло-серого цвета. Утром после ночной смены он прошел мойку, значит, все следы, какие могли быть снаружи, смыты и стерты старательными мойщицами. Молоток, о котором говорила Укладова, лежал в багажнике в щели между запасной покрышкой и крылом. Никаких следов на нем Бабин не нашел. — Внутри осмотрел все, — сказал он. Сергей Петрович все же вошел в кузов. Рука его привычно вынула из бокового кармана лупу, и он стал придирчиво водить ею по стеклам, стоикам, обшивке сидении. — Все, говоришь, осмотрел, Алеша? А плафон на потолке? Иди сюда. — Он потеснился, давая Бабину место рядом с собой. — И плафон осматривал, — сказал тот, тоже вынимая лупу. — Значит, не так смотрел. Вот тут, видишь? Две лупы сблизились возле продолговатого матового плафона на потолке, закрывавшего крохотную лампочку. Через сильные стекла на его поверхности были чуть видны слабые, овальной формы следы, похожие на отпечатки пальцев. — Н-да, — признал Бабин, — вроде похоже. — Не похоже, а самые настоящие следы, уж поверь мне. И светить нужно не в лоб, а сбоку. Смотри… Он передвинул фонарь в сторону, и отпечатки исчезли. — Сергей Петрович, — взмолился Бабин, — ну зачем нам еще какие-то следы, если есть пуговица?! Зачем?! Если она от ее пальто, так что еще надо? Это же неопровержимая улика! Митин достал сигарету. — По-твоему, неопровержимая? — начал он. — А я вот другого мнения. Ну, хорошо, допустим, мы сличим пуговицы, и эта и по форме к по цвету будет такой же, какие на пальто Укладовой. Казалось бы, чего еще надо, верно? — Безусловно! Раз одинаковые, — значит, все! — А ты слушай дальше. К сожалению, это еще далеко не все, дорогой мой Алеша! Никогда не надо забывать, что речь идет о тяжком обвинении, о судьбе человека. Это не громкие слова, это надо всегда помнить. И не торопиться с выводами — это главное. — Все это само собой! Ну, а пуговица-то? По-моему… — Я тоже буду рад, если а ней есть отпечатки пальцев Укладовой. А если их нету? Несмотря на то, что ты поднял ее со всеми предосторожностями. Стерлись, смазались во время борьбы. Могло так быть? Бабин кивнул. — И тгда это будет просто обыкновенная пуговица, похожая на те, что пришиты на пальто Укладовой. Только похожая! Ведь точно такие же пуговицы наши швейные фабрики ставят еще на тысячи габардиновых пальто. Разнообразием, как ты знаешь, они не очень балуют. А разве не могла такая же пуговица оторваться от пальто любой другой гражданки, которая тоже, возможно, ехала в этом такси? Тем более, что на нем после Астахова еще другой шофер работал. Астахов на суде скажет: а вы докажите, что пуговица от пальто Укладовой! А нам и крыть нечем! — Ну-у… — разочарованно протянул Бабин, — если так рассуждать, то тогда любую улику можно свести на нет. — Почему любую? Есть улики и неопровержимые, и ты это хорошо знаешь. А рассуждать надо именно так, только так! А вот эту улику, то есть пуговицу твою, надо еще подкрепить, чтобы она стала неопровержимой. Да так, чтобы и подкопаться нельзя было. Дай-ка твой нож. Он умело, одним поворотом лезвия, вынул плафон из гнезда, бережно завернул в листок бумаги. — Обычный пассажир не будет без нужды трогать плафон руками, на кой он ему черт! А вот утопающий, говорят, даже за соломинку хватается. Когда тебя силой тащат из машины, не то что за плафон, за воздух будешь хвататься. Я тоже думаю, что это отпечатки Укладовой, но в то же время на всякий случай допускаю, что их мог оставить и рабочий, который на заводе ставил плафон, или водитель, когда менял, скажем, перегоревшую лампочку. Оба вышли из машины. Митин захлопнул дверцу. — Сделаем, Алексей, так: ты с пуговицей и плафоном поезжай в научно-технический отдел, я им передал мензурку с отпечатками пальцев Укладовой. Пусть сличат. II жди меня там. А я поеду в больницу, еще раз посмотрю на пуговицы и тоже приеду на Петровку. Ты не раздобыл фотографию этого Астахова? — Поздно уже было. Все ушли, отдел кадров закрыт. Сомнения, колебания, предположения… Часто неверные, ошибочные, они теснятся, обступают, уводят в сторону, на них надо тратить нервы и душевные силы. Сколько их приходится преодолевать и рассеивать! На смену одним приходят другие. II так без конца. Совсем как в сказке о стоглавой гидре, у которой вместо отрубленной головы вырастали две новые. Но на этот раз все обошлось благополучно. Рассматривая в больнице заскорузлое от засохшей крови пальто, Митин с удовольствием отметил, что зрительная память его не подвела: пуговицы были точно такими, какую нашел Бабин, — серые, со светлыми прожилками. Теперь оставалось одно: идентичность отпечатков на мензурке и пуговице. И хорошо бы еще на плафоне… Сергей Петрович стоял в коридоре возле камеры хранения, смотрел на пылающие огнем окна противоположного дома — в них отражался закат — и думал о том, как он был прав, когда еще на рассвете считал дело о грабеже легким. Таким оно и оказалось. Не прошло и суток, а машина уже найдена, и пока еще неизвестный Астахов будет легко уличен. Противореча сам себе, он сейчас отбрасывал мысль о том, что пуговица могла оторваться в машине у любой другой женщины. Вероятность такого совпадения ему самому уже казалась надуманной. Возможно, Алексей прав в своей категоричности. Не надо мудрить там, где все значительно проще. И в задержании преступника Сергей Петрович тоже уже не сомневался. Это было самым легким и простым, хотя он все еще, правда неохотно, допускал, что тот мог скрыться из города. Сейчас ему хотелось одного: немедленно поехать за Астаховым. В то же время не мешало бы навестить и Укладову — благо она была рядом — и задать ей несколько дополнительных вопросов. Но он отказался от этого и поехал на Петровку. Бабин ждал его возле научно-технического отдела. Огромное здание Управления внутренних дел в этот час уже опустело; в коридорах, застланных ковровыми дорожками, лишь монотонно гудели пылесосы да бродили уборщицы с ведрами и тряпками. Алексей, увидев в конце коридора Митина, быстро пошел ему навстречу. — И все-таки я был прав, Сергей Петрович! — воскликнул он. — Вот, читайте… Митин взял у него заключение отдела дактилоскопии, быстро пробежал глазами. В нем говорилось, что следы на мензурке, пуговице, стеклянном плафоне и куске штукатурки оставлены пальцами рук человека; оттиски папиллярных линий на всех перечисленных предметах идентичны и, следовательно, принадлежат одному субъекту. — Видали? Ай да мы! — Бабин не скрывал ликования. — Куда теперь этот Астахов денется? Неопровержимые доказательства, я так считаю, Сергей Петрович. Теперь-то уж никаких сомнений. — Согласен, Алеша, согласен! Сейчас, пожалуй, доказательства и в самом деле неопровержимые. Что ж, поедем к Астахову?Глава девятая
Астахов был дома, когда следователь, оперативник и двое понятых, случайных людей, приглашенных с улицы, поднялись по лестнице к его квартире на четвертом этаже. После первого же звонка дверь открылась, и они увидели перед собой приземистого пожилого мужчину с лицом, украшенным пышными усами николаевских времен, и облаченного к тому же в женский передник с оборками. В руках он держал сковороду. Лестничную площадку тотчас наполнил запах подгорелой яичницы. — Извините, гражданин Астахов здесь живет? Он дома? — Я Астахов, — ответил мужчина, посматривая то на незнакомцев, то на яичницу. — Чем могу служить? Митин нахмурился, чувствуя, как его охватывает растерянность. У Бабина лицо тоже выражало недоумение. — Вы Астахов?! Нет, вероятно, вы не тот Астахов… Нам нужен Астахов Семен Афанасьич. — А я и есть Семен Афанасьич, — последовал ответ. — Других здесь нету. А в чем, собственно, дело? Слушаю вас… Вот так пассаж! Такого ни Митин, ни Бабин не ожидали: перед ними стоял человек, даже отдаленно не похожий на грабителя по приметам, какие дала Укладова. Тот, по ее словам, был молодым, высоким и худощавым. И уж, во всяком случае, без усов, да еще таких заметных. Что-что, а уж усы-то она бы обязательно запомнила. Нет, произошла какая-то несуразица, явная путаница… — Позвольте, позвольте, — Митин вдруг рассердился, — вы работаете в шестом таксомоторном парке? Водителем такси? — Так точно. — А какой номер у вашей машины? Бабин поставил пистолет на предохранитель и вынул руку из кармана. Оба замерли в ожидании ответа. — Шестьдесят два — двадцать семь. Да кто вы такие? Что вам нужно? — недоумевал Астахов. Митин беспомощно оглянулся на Алексея. Тот ответил растерянным взглядом и высоко поднял плечи. Понятые с интересом смотрели на всю эту сцену. «Фу, как нехорошо! Глупость какая-то, — с отвращением подумал Сергей Петрович. — Представляю, как мы выглядим в глазах этих людей… Ничего не понимаю!» — Извините нас, товарищи, тут произошла, вероятно, ошибка, — резко сказал он понятым. — Прошу прощения, что напрасно вас побеспокоили. Вы свободны. До свидания! Астахов посмотрел на свою остывшую яичницу и приветливо улыбнулся. Усы у него зашевелились. — Может, пройдете в комнату, товарищи? Не знаю, что у вас, но милости прошу! Он отступил в коридор, как бы приглашая их следовать за собой. Ошибка была бесспорная. Но как она могла произойти — оба не понимали. Все так аккуратно совпадало, и вдруг на тебе — усы! Неужели Укладова их не запомнила? Сотрясение мозга повлияло на память? Такое бывает. Но тогда забывается все. А пострадавшая помнит много мелких деталей и подробностей, вполне вменяема. Оба прошли за Астаховым. В большой светлой комнате было чисто и уютно, на видном месте у окна стояла новенькая, еще не застеленная детская кроватка. — Мы из милиции, вот, пожалуйста. — Митин показал служебное удостоверение. Усатый таксист, услышав про милицию, стал серьезным. — Скажите, гражданин Астахов, в прошлую ночь вы работали? Именно на своей машине, шестьдесят два — двадцать семь? — Да… работал. Отвечая, Астахов чуть изменился в лице, взгляд его стал настороженным. Митин и Бабин это заметили. — Всю ночь работали? До конца смены? — Да… — опять не очень уверенно ответил тот и в свою очередь спросил с тревогой: — А что такое? Случилось что-нибудь? — Случилось. — Сергей Петрович смотрел на него в упор. — В такси номер шестьдесят два — двадцать семь, в вашей машине, — подчеркнул он, — этой ночью была ограблена женщина. При этом сильно ранена. Ограбил шофер. Что вы на это скажете? Кровь медленно отхлынула от лица Астахова. Усы на нем стали темнее и казались наклеенными. Он опустился на стул. — Надо же такое! — почему-то шепотом произнес он, глядя на следователя округлившимися глазами. Затем так же тихо, с какой-то обреченностью сказал: — Под монастырь подвел… — Кто? — Степка! Кто же еще? Степан Воронов… Вот и верь людям после этого! — Какой Степка? — быстро спросил Митин. — Почему под монастырь? Говорите, ну! — властно приказал он. Астахов сорвался со стула, будто тот внезапно стал горячим. Лицо у него покраснело, усы топорщились. — Так это же целая история! — завопил он. — Надо же такое… Я все расскажу, все! Ах ты боже мой! Жена у меня рожать собралась, понимаете? Возраст у меня, сами видите… А тут первый ребенок. И жена не так уж молодая. Я, конечно, волнуюсь… — Вы что-то не о том говорите, гражданин, отвлекаетесь, — остановил его Митин. — Начали о Воронове, о нем и говорите. — А я о чем? Тут понять надо, тут целая история. Я и говорю, жена рожать вроде бы собралась, а мне в ночь работать. Она говорит: «Иди», а я боюсь. Ну, все же вышел, катаюсь, вожу пассажиров, а на сердце беспокойно. Еще бы! С линии позвонил домой, и что вы думаете? Так и есть: жена в панике, схватки начались. И соседей, как назло, никого! Плюнул на все — и домой. Извините, во рту у меня пересохло… Он взял с буфета графин с водой. Митин выжидательно молчал. Бабин шарил глазами по комнате. — Волнуюсь я, — объяснил Астахов, опорожнив стакан. — Надо же такое дело! Так о чем я говорил? — Он на мгновение уставился на следователя пустыми глазами, потом вспомнил: — Ах, да! Ну вот, отвез жену в роддом, сдал там честь но чести. А дальше? Опять на линию? Не поверите, руки трясутся… аж самому смешно. Какая уж тут работа! А со Степкой Вороновым — он в нашей же колонне работает — мы соседи, через дом он живет. Дай, думаю, попрошу, может, заменит. Ведь у нас в парке как — лишь бы план дал! Он вдруг замолчал, задумался, глядя в угол. — Итак, Семен Афанасьевич, вы решили обратиться к Воронову? А он что? — В начале одиннадцатого это было, рано еще, — очнулся тот. — Пришел я к нему, так и так, объяснил все. Парень он душевный, сразу вошел в положение. А к тому же отпуск у него, подумаешь, одну смену отработать! Я бы потом с ним рассчитался. — Значит, прошлой ночью не вы, а Воронов на этой машине ездил? Так я вас понял? — спросил следователь. — Так точно! Хотите — верьте, хотите — нет, как перед богом! А утром я у него машину взял и в парк отвел. — А кто может подтвердить, что вы дали ему машину? Свидетели у вас есть? — Нету! Как есть никого. Вот ведь как получилось… Страх с новой силой овладел таксистом. Вероятно, он только сейчас осознал в полной мере опасность ситуации, в какой оказался. Он опять побледнел, глаза его метались. Вдруг он воскликнул: — Он нет, есть свидетель! Старушка у них, соседка, она мне дверь открывала. Все мельтешила тут, пока мы с ним разговаривали. Да и разговор наш небось слышала. Ведь может она быть свидетельницей, может? Как я о ней забыл?! — Ну вот, видите! Конечно, может. Если она подтвердит ваш приход, значит, все у вас в порядке, и волноваться не надо, — подбодрил его следователь. — У вас, вероятно, есть номер телефона родильного дома? Ведь вы звонили туда? — Конечно, есть! Каждый час звонил… Еще бы! — Разрешите от вас позвонить? Где у вас аппарат? — В коридоре, направо. Митин был убежден в непричастности Астахова к ограблению, но для порядка и формальности решил все же позвонить в родильный дом. Лишняя проверка никогда не мешает. Дежурная сестра в регистратуре подтвердила, что вчера около десяти часов вечера к ним поступила гражданка Астахова в предродовом состоянии. Затем, воспользовавшись случаем, он позвонил домой и предупредил жену, что задерживается на работе и вернется не скоро. — Так вы, говорите, соседи с Вороновым? — спросил Митин, вернувшись в комнату. — Он близко живет? Придется вам проводить нас к нему. — Рядом живет, через дом отсюда. Я сейчас… — заторопился таксист, снимая передник. — Неужто Степан откажется? Как же он в глаза мне смотреть будет? Пока он переодевался, следователь присел к столу и стал заполнять бланк постановления о производстве обыска у Воронова. — Вы не смогли бы описать внешность Воронова? — обратился к Астахову Бабин. — Какого он роста, цвет глаз — словом, приметы. — Молодой он, глаза обыкновенные, карие. Сам высокий. Ну, что еще? Худой он… Не умею я приметы описывать. — А не замечали, на шее у него не было никакой повязки? Может, забинтована или платком завязана? — Вроде бы нет, — стал припоминать тот. — Не смотрел я. Да нет, ничего у него не было! Бабин остался доволен. Получалось, что он был прав, когда в кабинете Владыкина высказал свое соображение о главной примете. Перед уходом Астахов аккуратно провел маленькой щеточкой по усам. Лицо его впервые озарилось улыбкой. — А у меня сын родился! — сообщил он. — Три кило восемьсот граммов. Представляете? Это в моем-то возрасте! — Поздравляю вас! — улыбнулся ему Митин. По дороге к дому, в каком жил Воронов, он обдумывал создавшееся положение. Сейчас его уже не поражал кинематографический поворот событий. Когда жена рожает, мужу полагается торчать в родильном доме, а не мотаться по городу, развозя беспечных пассажиров. И руки к тому же трясутся… А у Воронова, видимо, давно уже бродили преступные замыслы. А тут, выручив товарища, он вдруг обнаружил, что неожиданно для него сложилась исключительно благоприятная ситуация. В самом деле, человек в отпуске, в руках чужая машина, и в ней болтливая пассажирка с пухлым чемоданом. «Кто с Магадана — у тех денег мешок!», «Сделаю дело, а там ищи-свищи…» Вероятно, так должен был рассуждать Воронов, когда вез Укладову в гостиницу. Значит, преступление заранее не было обдумано, просто он соблазнился легкой добычей и решил воспользоваться подвернувшимся случаем. Астахов показал, они вошли во двор и остановились возле большого серого дома. — Будь другом, Алеша, сходи за понятыми. Бабин ушел и вскоре вернулся с двумя дворниками. Женщины для такого случая надели белые фартуки.Глава десятая
Степан Воронов жил в коммунальной квартире. Старушка в темном, низко повязанном платке провела неожиданных гостей по коридору и показала на дверь. — Постучите, может, откроют. Мадам, кажись, дома, — пропела она елейным голосом. Прежде чем уйти в свою комнату, она внимательно посмотрела на Астахова. «Вероятно, она будет свидетельницей, должно быть, она открывала дверь Астахову», — подумал следователь и тут же получил подтверждение: таксист показал ему глазами на старушку и зашептал: — Она, она меня впустила… Ее спросите, она скажет. Митин сделал знак, чтобы он молчал. Бабин постучал и сжал в кармане рукоятку пистолета. Дверь сразу открылась. На пороге, закрыв собой вход, встала молодая статная женщина с пышными рыжими волосами. Слегка вздернутый короткий нос, широко расставленные смелые глаза с откровенно нарисованными уголками и полные, хорошего рисунка губы делали ее грубоватое лицо привлекательным. Одной рукой она придерживала на груди вылинявший халатик, другой уперлась в косяк. Красный лак на ее ногтях наполовину облупился. На вопрос, дома ли Степан Воронов, она сухо ответила: — Уехал. — Куда? — В Крым. Путевка у него в санаторий, вот и уехал. Она отступила назад, намереваясь закрыть дверь, но Бабин успел просунуть вперед ногу. Женщина нахмурилась, но тут же все поняла — присутствие дворников, вероятно, объяснило ей, что это за люди. — Мы из милиции, — сказал Митин и вынул удостоверение. Она не стала смотреть. Слегка побледнев, прижалась к стене, молча пропустила всех в комнату. В коридоре опять показалась старушка в темном платке. Женщина увидела ее и с силой захлопнула дверь. — Извините, гражданка, но придется произвести у вас обыск, вот в присутствии понятых, — показал Митин на дворников, стоявших у двери с напряженными лицами. — Кем вы приходитесь Воронову? Жена, сестра? Женщина вдруг закричала: — Что еще этот уголовник натворил? Ничего я не знаю. И не жена я ему! Хоть у кого спросите. Вместе живем, ну и что с того? А не жена. II прописана в другом месте. Я хоть сейчас отсюда смотаюсь, больно надо! Вон уж и так собралась, вещи сложила! — Она показала на стопку белья на столе. — В его делах я не участница. У меня в киоске полный порядок, хоть сейчас ревизия — пожалуйста! А за него я не ответчица! — А чего вы, гражданка, собственно, раскричались? — строго остановил ее Митин. — Вас лично никто ни в чем не подозревает. Пришли мы к Воронову. Зачем же кричать? Мы ведь не кричим. — Он помолчал. — Так, значит, не жена? А кто же вы ему будете? Вопрос следователя будто подхлестнул женщину: она обвела всех своими диковатыми подкрашенными глазами и с вызовом сказала, обращаясь почему-то не ко всем, а только к дворникам: — Полюбовница, можете так считать! — Затем тут же смущенно усмехнулась и негромко сказала, глядя в сторону: — Не то я хотела… сгоряча сорвалось. Мы со Степаном хотели зарегистрироваться, понимаете? Ну, невеста, что ли… так приличнее будет. — Именно приличнее, — сухо сказал Митин. — Вы садитесь, пожалуйста. Итак, ваша фамилия, имя и отчество? — Зовут Зинаидой Павловной, фамилия Симукова. Работаю в киоске у Киевского вокзала. Знаете, галантерея разная, шпильки там, заколки, трикотаж тоже бывает. А прописана в другом месте. У меня своя комната. — Она помолчала, вздохнула: — И здесь, как видите, бываю. Ну и что? Как-никак, вроде условный, а все муж считается. Женщины у двери осуждающе поджали губы. — Эту ночь вы здесь провели? Вместе с Вороновым? — Нет, одна. Не ночевал он нынче. — Это почему же? Ведь отпуск у него, кажется? — А я почем знаю! Не ночевал — и все! Поругались мы вечером. Знаете, как бывает, он свое, я свое… У него принцип, и у меня. Почему это я должна уступать? А тут звонок в дверь, он пошел открывать… — Это я звонил, я приходил! — торопливо вставил Астахов. Митин укоризненно на него посмотрел и спросил у Симуковой: — Вы знаете этого гражданина? — Нет, в первый раз вижу. Ну, поговорил там Степан с кем-то, может, и с этим гражданином — не знаю, и вернулся вскоре. Я молчу, и он молчит. Взял куртку, смотрю. Ты куда? А он только дверью хлопнул. Вот и все, как на духу! Где был, с кем, что целую ночь делал — ничего не знаю. Спала, как убитая. — В котором часу он вчера ушел? — Часов в десять, может, в начале одиннадцатого. — В начале одиннадцатого! — опять вставил Астахов. Пока все совпадало с тем, что таксист говорил у себя дома, и Митин порадовался за него. Затем неожиданно и быстро спросил у женщины: — У вас часы золотые? Воронов вам подарил или сами купили? Когда? — Эти? — Симукова взглянула на свою руку, несколько секунд помедлила с ответом, словно не зная, что сказать, потом проговорила неохотно: — Его подарок. На Восьмое марта расщедрился. — Разрешите посмотреть? Она открыла на запястье запор тонкой металлической браслетки, подала ему часы. — «Заря», — сказал Сергей Петрович Бабину и подумал, что если второпях их сдергивать с чужой руки, то от металлической браслетки может остаться ссадина. — Так, говорите, на Восьмое марта подарил? Хороший подарок. Точно, на Восьмое? Женщина вспыхнула, будто ее уличили во лжи. — Говорю, на Восьмое, значит, на Восьмое! — грубо сказала она. — Мне ведь дарили, а не вам. — Это верно, — согласился следователь. — Просто я подумал, что, может, не в женский праздник вы их получили, а позднее. Например, сегодня. Ведь сегодня, признайтесь! И учтите, что нам все известно. Иначе бы мы не пришли к вам… Он не сводил с нее глаз. Она тоже не опускала ресницы. Словно в коротком молчаливом поединке каждый пытался прочитать в глазах другого его тайные мысли. Прошло несколько секунд. У женщины чуть дрогнули полные губы, дрогнули даже не от усмешки, а скорее от легкого намека на нее. Вероятно, она догадалась, что на самом деле он ничего не знает о часах и лишь делает вид, что ему будто бы что-то известно. Сергей Петрович так и истолковал для себя это мимолетное изменение в ее лице. Она откинулась на стуле, свободным движением положила ногу на ногу. — Еще чего! — Теперь она усмехалась открыто. — Сегодня! Да я уже три месяца ношу их не снимая. А вы говорите — сегодня! Сергей Петрович рассмеялся. — Что я смешного сказала? — насторожилась она. — Считайте: апрель, май, июнь, июль, август — получается пять месяцев, так? И это еще без марта. А вы часы три месяца носите не снимая. Куда же еще два месяца делись? Арифметика! Дворники, сидевшие у двери, переглянулись. — Ну и что с того? Считайте как хотите. Сказала, не подумавши, — без тени смущения заявила Симукова. — Не подумавши? Что ж, бывает. В котором часу Воронов вернулся утром? — Не посмотрела на часы. Солнце уже взошло, но рано еще было. Спать хотелось… — И вы не встали, не приготовили ему завтрак? — Это после вчерашнего-то? Как бы не так! Ему слово, а он тебе десять. Такого тут наговорил! Завтраки еще ему готовить… — Глаза ее опять стали гневными. — Уйду я от него к чертям собачьим! Отдам ключ старой ведьме — только тут меня и видели! Вон, вещи свои сложила, уходить собралась. — И часто у вас с ним такие ссоры? — сочувственно спросил Сергей Петрович и подумал, что старой ведьмой она, вероятно, называет старушку в темном платке. — Они каждый день ругаются, — сказала от двери одна из женщин. — А ты помалкивай! — Тише, товарищи! Значит, Воронов уехал в Крым? В какой санаторий? — Куда-то возле Алупки. «Восход» называется. — На поезде или самолетом? Проводили вы его? — Больно надо! Перевернулась на другой бок, и все. Слышу, чемодан берет. Даже «прощай» не сказал. — Ну, а все-таки, на поезде или самолетом? — Вроде вечерним поездом хотел. — А ушел утром? — Получается так… — Понятно. А скажите, вот вернулся он откуда-то, не спросили вы, где пропадал, что делал? Не видели, ничего он не принес с собой? Вещи какие-нибудь… — Говорю, перевернулась на другой бок, будто сплю. Может, и принес. Не смотрела. А что Степан опять натворил? — Да уж натворил… По следам хороших дел мы не ходим. Бабин тяжко вздохнул и сказал: — А может, начнем, Сергей Петрович? Ему уже давно хотелось приступить к обыску. Человек с практическим складом ума, он больше надеялся на предметные, вещественные улики и доказательства, чем на словесный поединок, в котором подозреваемого припирают к стене хитро поставленными вопросами. Подозрение, что часы Симукова получила от своего сожителя, у него тоже все время укреплялось — женщина явно что-то утаивала, не хотела говорить правду. Поэтому весьма возможно, что, кроме золотых часов, в этой комнате могли быть и другие вещи, принадлежавшие Укладовой. — Да-да. Сейчас начнем. Только пригласи сначала сюда ту старушку, что в коридоре была. Сергею Петровичу не хотелось производить обыск в присутствии Астахова. Оперативник вышел и сразу же, буквально через несколько секунд, вернулся в сопровождении старушки. «Не иначе, у дверей подслушивала», — подумал о ней Сергей Петрович. — Извините, гражданка, что побеспокоили вас, по нам нужна ваша помощь. Вот посмотрите на этого товарища, — показал он на Астахова, — знаете вы его? Посмотрите внимательно: знаком он вам? Глаза у соседки и без того горели жадным любопытством. Она впилась ими в таксиста. Тот замер. «Как кролик перед удавом…» — подумал Сергей Петрович, наблюдая за ними, и сжал губы, чтобы не улыбнуться: сухонькую, похожую на стебелек старушку при всем желании нельзя было сравнить с грозным пресмыкающимся. — Нет, не знаю. Она покачала головой и отвернулась от Астахова. Тот вскочил: — Мамаша, да как же?! Я же вчера приходил! Вы вспомните, вспомните! Дверь вы мне открывали. Я к Воронову приходил. Сергей Петрович удивился. Он ждал, что соседка в темном платке узнает таксиста, подтвердит, что тот приходил. Ее отрицательный ответ сразу менял всю картину… Лицо у Астахова стало несчастным, растерянным, руки бессильно опустились. Старушка пожала худенькими плечами и пропела: — И вспоминать нечего. Склероза у меня еще нет. И дверь вам, гражданин хороший, открывала, и впустила вас, а вот знать вас — не знаю. Не имела чести… не знакомы мы. Она с достоинством светской дамы поджала тонкие губы. «Вот вредная бабка», — подумал о ней Митин и сказал: — Значит, видели его? Подтверждаете, что он вчера приходил к Воронову? Вот и хорошо. Больше нам от вас пока ничего не нужно. Вы свободны, можете идти. И вы, Семей Афанасьич, тоже идите домой. Я вас еще вызову для показаний. И не беспокойтесь, сами видите, все у вас будет хорошо. Вещей в комнате было не много: простая кровать, видавший виды платяной шкаф, стол с ящиками, в углу фанерный ящик, наполненный всяким хламом. На видном месте хороший телевизор. Несколько книг, разбросанных где попало. Митин пересмотрел их: все, как одна, про шпионов. Обстановка в комнате была типичной для человека, семейная жизнь которого еще не была хорошо налажена. Видимо, Симукова говорила правду, что она не жена Воронову — присутствие женщины в комнате сказывалось мало: пудреница, несколько флаконов духов, одно — два платья и белье, сложенное в стопку на столе, вот и все, чем обходилась она, посещая своего «условного» мужа. Методично передвигаясь от одного края комнаты к другому, следователь и оперативник перебирали каждую вещь, заглядывали во все сокровенные уголки. Но — увы! — ни одного предмета из тех, что берут с собой женщины, когда едут на курорт, обнаружено не было. Значит, вещи Укладовой преступник спрятал в другом месте. Митин теперь понимал, почему в другом: вряд ли Воронов стал бы посвящать в свои темные дела Симукову. Кто она ему? Жена не жена, так, случайная подруга, с которой к тому же, видимо, часто бывают ссоры. А вот часы золотые — не удержался, подарил перед отъездом в санаторий. Подарил, чтобы загладить вчерашнюю ссору. — Эту он надевал ночью? — Бабин показал Симуковой темную куртку спортивного покроя со сквозной застежкой — «молнией». — Ее. Он осмотрел куртку, приблизив ее к свету. Никаких подозрительных пятен на ней не было. «Не видно потому, что материал темный», — решил он и отложил в сторону, рассчитывая на более тщательную экспертизу в научно-техническом отделе. — Взгляни-ка, — негромко сказал ему следователь и подал черные нечищенные ботинки. — Не похожи? Бабин осмотрел каблуки. На глаз трудно было установить, они или не они оставили след на сырой земле возле канализационного люка, и поставил ботинки рядом с курткой. Потом они будут приложены к слепку, сделанному под аркой. На подоконнике среди всякой мелочи на самом виду лежали поношенные мужские перчатки. Кожаные, с теплой подкладкой. Потом Сергей Петрович вспомнит о них, а сейчас он только скользнул по ним взглядом и подошел к платяному шкафу. В нижнем ящике поверх грязного белья лежал носовой платок. Он сразу привлек внимание следователя. Привлек своей формой, вернее, тем, как был смят: он был похож на длинный белый жгут, складки на нем расположились в одном направлении — по диагонали от угла к углу. Вероятно, им обматывали или обвязывали что-то круглое. — Поди сюда, Алеша! — позвал Митин. Наконец-то! Вот он, тот самый платок, о котором у них было столько разговоров и размышлений. Укладова верно запомнила самую важную улику. Интересно, как Симукова будет реагировать? Митин взял платок за угол, показал женщине: — Платок Воронова? — А чей же? У меня, слава богу, шелковые. Никакой особой реакции. Значит, не знает, какую роль платок сыграл во всей этой истории. — Не помните, когда Воронов положил этот платок в грязное белье: сегодня утром или, может, раньше? — Не знаю, не видела. «Конечно, утром! Вернулся, снял с шеи и бросил в ящик. Вероятно, больше был не нужен. Надо спросить, что у него было с шеей, почему бинтовал. Сейчас спросить? Нет, позднее… Сначала отвлечь чем-нибудь внимание». — Между прочим, почему вы в разговоре назвали Воронова уголовником? На каком основании? — А как же! Ведь он уже сидел в тюрьме. Пять лет отгрохал. Полтора года всего как на свободе. И дружок у него, вместе они сидели в колонии, — вот уж бандит так бандит! Митька-Хобот. Все руки в наколках. Пришла вчера с работы, а они сидят пиво пьют… «Бабенка перетрусила и, ничего еще не зная, чернит близкого человека как может. Вот дрянь! А что Воронов уже был взаключении? Это интересно. Полтора года всего выдержал и пошел по новой…» — Как же это так, гражданка: живете с человеком под одной крышей, а он у вас и уголовник, и друзья его бандиты? — К честному человеку с обыском не придут. — Ну хорошо. А почему у него шея была забинтована? — Забинтована? — удивилась та. — Ну или платком обвязана? — Впервые слышу. Ничего у него не было. Не видела. Бабин, с интересом слушавший, бросил на Митина быстрый торжествующий взгляд. «Ты смотри, значит, Алексей-то все-таки прав оказался! — тотчас подумал тот. — Ведь если Симукова действительно не видела у Воронова бинта на шее — а зачем ей, кстати, врать? — то тогда и впрямь получается, что он для нас надевал повязку. Ай да Воронов! В уме ему не откажешь. Сделать такой тонкий и хитрый ход, пожалуй, не всякий сумеет… Да, но в то же время прав и Владыкин, когда говорил, что мертвый не расскажет ни о каких приметах. Ему тоже не откажешь в логике… Фу черт, совсем запутался!» Сергей Петрович подошел к окну, стал выдвигать ящики. В самом нижнем лежала тонкая пачка любительских фотографий, перетянутая резинкой. На всех снимках миловидная девушка в белом халате, окруженная детьми дошкольного возраста… На обороте одного снимка подпись: «Таня». — Кто это? — А кто ее знает! Это до меня еще… мало ли у него было. Он отложил фотографии в сторону. Пригодятся. — У вас нет снимков Воронова? Не подарил вам на память? — Больно надо! Митин был доволен результатами обыска: золотые часы и свернутый в жгут носовой платок могли сыграть существенную роль в изобличении преступника. Если бы еще каблуки его рабочих ботинок совпали с гипсовым оттиском… — Эти вещи мы вынуждены у вас временно изъять, — показал он на платок, куртку и ботинки. — И часы тоже. В протоколе об этом будет записано. Она пожала плечами. — Я сейчас займусь протоколом, а вы, пожалуйста, оденьтесь. Поедете с нами. — Куда? — встревожилась она. — Новое дело! А я тут при чем? Степан там чего-то натворил, с него и спрос. Ни сном ни духом… — Вы не поняли. Поедем туда, где вы прописаны, на квартиру к вам. Ведь вы не только здесь живете. И у вас произведем обыск. К сожалению, это необходимо, понятно? Обстоятельства диктуют, — строго объяснил он. — Вы где прописаны? Она с облегчением вздохнула. — Ах, обыск! Вольно вам… Только время потеряете. В Зюзино я живу. Это я могу взять? — показала она на свои вещи на столе. — Не вернусь я сюда больше. Расстаться мы решили со Степаном. В общем коридоре, куда все вышли после обыска, Митин опять увидел старушку в темном платке. Симукова подошла к ней, сунула ключ. — Вот… отдайте Степану, если вернется. Когда все скрылись за дверью, старушка задержала следователя, вцепившись в его рукав сухой сморщенной лапкой. — Не верьте ей, сударь, ни одному слову не верьте! — зашептала она. — Все врет! Я сколько говорила Степану, брось ее, паскуду, брось. Другой ухажер к ней ходит, бесстыжая она… Если надо, пригласите меня как свидетельницу. Погубит она его! Намедни затеяла стирку, а у меня порошок «Новость» на полке. Мой порошок, а она… — Хорошо, мамаша, хорошо, обязательно пригласим, — сказал он, высвобождая рукав. Потом нагнулся и прошептал ей в ухо: — А у дверей не подслушивайте. Грех!Глава одиннадцатая
Симукова оказалась права: обыск у нее действительно был напрасной тратой времени. Он лишь подтвердил предположение следователя, что Симукова не знала о грабеже и что Воронов или спрятал вещи в какой-то тайник, или в ту же ночь успел спустить их скупщику краденого. Его связь с каким-то уголовником Митькой-Хоботом говорила о том, что он не порвал связь с преступным миром и, следовательно, мог знать каналы, по которым можно быстро ликвидировать «добро». — Митька-Хобот… Тебе эта кличка ничего не говорит? — спросил Сергей Петрович. — Нет, — вяло отозвался Бабин. — У меня в районе такого нету. Есть один, но не Хобот, а Митя-Сапожник. Карманник. — Вчера Митька-Хобот был у Воронова, пиво пили. Накануне, понимаешь? — Угу. Оба замолчали. Время было позднее. Автобус, шедший из Зюзина вначале пустой, постепенно заполнялся модно одетыми молодыми людьми. «Проводили своих девушек и возвращаются по домам», — лениво подумал о них Митин. Усталость давила его, как непомерная тяжесть. От голода, хотя он давно уже его перетерпел, подташнивало, голова была тяжелой. Бабин сидел напротив и из последних сил боролся со сном — против воли веки у него опускались, закрывали потерявшие всякое выражение глаза. Он с усилием поднимал их, но они тотчас снова опускались. Чтобы подбодрить товарища, Сергей Петрович тронул его за плечо: — Полетишь завтра в Крым? — За Вороновым? — встрепенулся тот. — Я тоже об этом сейчас думал. Вы считаете, он в санатории? — Если по-честному — не знаю, Алеша, что и думать: с одной стороны собирался вечерним поездом уехать, а ушел утром с чемоданом. Куда? С другой… да ну его к дьяволу, не хочу думать! — Как это — куда? В Крым, конечно! Вот и поедем. Поедем вместе, а? На один день. Покупаемся в море, красота! — Нет, Алеша, мне эти командировки уже надоели. Поговорим с Владыкиным, может, в Москве искать будем. А сейчас у меня одно желание: спать, спать, спать… Сергей Петрович почти не сомневался, что часы, которые сняла со своей руки Симукова, принадлежат Укладовой, и надеялся, что та признает их своими. Но по правилам предъявлять для опознания одни часы он не имел права: предъявлять обязательно надо несколько, причем все должны быть золотыми, как у жертвы. Поэтому утром на другой день, прежде чем ехать в больницу, он направился в следственный отдел, надеясь раздобыть у сотрудниц хотя бы еще двое золотых часов. Кроме того, надо было встретиться с Николаем Андреевичем, чтобы согласовать с ним командировку Бабина в Крым. Конечно, эффектнее было бы явиться к начальнику после того, как Укладова признает часы, но он тут же одернул себя. «Как мальчишка радуюсь… Удалось за одни сутки установить бандита и часы найти, и сразу хвост распушил, как павлин. Нет, ты поймай его сначала, этого Воронова, а уж потом думай об эффектах». Но все равно настроение продолжало оставаться хорошим, и он с удовлетворением отметил, что после короткого сна голова у него ясная и самочувствие отличное… — Не понимаю, Сергей, что тебе еще надо? Зачем прибедняться, если все идет нормально? — бодро говорил Владыкин. — Я сам, ты меня знаешь, не любитель выкидывать флаг раньше праздника, но у тебя совсем другой случай! Слетает Бабин в Крым и привезет Воронова. — Вот тогда и будет праздник. А пока… — Митин вздохнул и поджал губы. Друзья сидели на диване, курили и наслаждались прохладой, которую гнал на них вентилятор, стоявший на подоконнике раскрытого настежь окна. Митин подробно пересказал Владыкину все перипетии вчерашнего дня, поделился своими догадками и выводами, не скрыл и кое-каких сомнений. Картина расследования на первом этапе получалось, в общем, удовлетворительной, но в конце рассказа Митин вдруг заявил, что, несмотря ни на что, чувствует себя в этом деле весьма неуверенно. — Что — пока? — воскликнул Владыкин. — Мне бы такое дельце кто подкинул! Есть семерка на машине, пуговица, отпечатки пальцев, платок, которым он шею обертывал! Тебе все мало? Приметы, что Укладова дала. А часы золотые! Такая улика повиснет у него на шее, как камень на утопленнике. — Часы Укладова еще не признала своими. — Будем надеяться, что признает. Вот возьмете Воронова, напишу приказом вам с Бабиным благодарность за оперативность, за быстроту… словом, как надо. И вернешься опять на свою кожевенную фабрику. Ну, что тебя еще беспокоит? — А то, что Воронов собирался ехать вечерним поездом, а ушел из дома утром. Вот что беспокоит. С чемоданом ушел, понимаешь? Владыкин пересел за свой стол. Тотчас в его руке очутился карандаш, и на листе бумаги возник контур какого-то животного. — Это Симукова тебе сказала, что собирался вечером, а ушел утром? Веришь ты ей? — Да нет, врет она много. А вот один молодой врач в больнице вчера мне популярно объяснил, что искать преступника — все равно что искать иголку в стоге сена. Боюсь, как бы нам не пришлось взять в руки грабли. — Чепуха! — Рядом с первым животным карандаш начал чертить еще одного, столь же диковинного. В кабинет вошла секретарь, подала телеграмму. — Вам, Сергей Петрович, из Магадана. — Ага, ответили! Спасибо, Нонна. Это я для проверки посылал, — пояснил тот Владыкину и прочитал вслух: — «Укладова Галина Семеновна работает на нашем заводе в должности инженера. В настоящее время находится в отпуске. Начальник отдела кадров Прокопенко». Он сунул телеграмму в карман и продолжал: — Ты говоришь, платок! Улика серьезная, это верно, но… Понимаешь, запутался я с этой уликой. То одно думаю, то другое… То уже согласен с Бабиным, что Воронов хотел пустить нас по ложному следу, то не согласен. А сейчас думаю: почему он так беззаботно бросил платок в ящик с бельем? Когда уезжал из Клушина переулка, был уверен, что убил женщину или только оглушил? Намеревался убить или нет? Зачем тогда надевал платок? Тысяча вопросов! — Да пусть он что угодно намеревался, важно, что Укладова жива осталась. Нам еще убийства не хватало! Собирался вечером? А разве не мог уехать утренним поездом или на самолете? Ему же надо быстрее из Москвы выбраться. Как ты не понимаешь такой простой вещи? Это он до ограбления собирался вечерним поездом, а потом у него все изменилось… вот и уехал утром. — А после ограбления решил скрываться? А почему? Это мы знаем все улики, потому что искали их, собрали… А он? Он же уверен, что никаких улик не оставил. Зачем ему скрываться? Значит, должен ехать в Крым. Логично? В дверь постучали, и вошел Бабин. — Доброе утро, товарищи! — поклонился он. — Признайтесь, Сергей Петрович, думали небось, что я сплю еще? А я уже в таксомоторном парке побывал и на Петровке. Фигаро здесь, Фигаро там! — похвалился он. — И что у Фигаро хорошего? — К сожалению, ничего. Фотографии Воронова в личном деле не оказалось. Путевку в санаторий он действительно получил. С сегодняшнего числа путевка. На Петровке тоже — увы! На куртке той, что с «молнией», никаких следов крови. На платке тоже ничего интересного. Роза Марковна в лаборатории сморщила нос — вы знаете, как она это делает, — и говорит: «От этого платка потом пахнет». — А ей хотелось бы, чтобы от нас фиалками пахло? В такую-то жару, — усмехнулся Владыкин. — А каблуки, Алеша, каблуки? — торопил Митин. — Не подходят. Сам прикладывал к слепку. Должно быть, тот частник там топтался. — Жалко! А я, признаться, так рассчитывал… — Тебе все мало! — Владыкин выключил было вентилятор, но в кабинете сразу стало душно, и он снова включил его. Затем повернулся к Бабину: — Собирайтесь в командировку. В Крым полетите. — Сегодня? — оживился тот. — Любым рейсом, и чем скорее, тем лучше. — Митин вынул из кармана часы Симуковой. — А сейчас, Алеша, нужно добыть еще хотя бы пару таких же. У кого-нибудь из наших девушек есть золотые? — У Никулиной есть и у Виктории Константиновны. — Будь другом, попроси часа на два. Сегодня же вернем. Владыкин взял у Митина часы, внимательно осмотрел. — И хорошо, если бы и браслетки были такими же, — сказал он. — Это уж какие будут! В больнице Сергей Петрович застал вчерашнего врача В этот раз молодой человек был более общительным, сообщил, что больная Укладова чувствует себя значительно лучше. Следователь рассказал ему о цели своего визита, показал золотые часы. — Понимаете, она должна узнать среди них свои. Конечно, если они здесь… Кто знает! Может, вы, Вадим Семеныч, согласитесь присутствовать при этом? Кроме вас, хотелось бы еще одного человека, какую-нибудь медсестру или няню. Понятыми будете. — Пожалуйста, пожалуйста! Сейчас приглашу сестру. Вот вам халат. Впервые в жизни буду понятым! Врач вышел. Митин надел халат, закурил и еще раз осмотрел золотую кучку в руке. Ему повезло: как по заказу, у двух сотрудниц часы оказались не какой-нибудь другой марки, а именно фирмы «Заря». Это была удача. А вот с браслетками получилось не так, как хотелось: металлическая была лишь у Виктории Константиновны, Никулина же предпочла тонкий золотистый шнур. По дороге в больницу Сергей Петрович заглянул в несколько галантерейных магазинов в поисках такой же браслетки, чтобы заменить шнур, но — увы: браслеток в магазинах было мало и все другой формы и к мужским часам. «Итак, двое часов одинаковые, а одни со шнуром, — думал он. — Хорошо это или плохо? Конечно, лучше бы иметь все с металлическими браслетками, от этого усложнился бы выбор. Хотя… Зачем мне усложнять? Не уличать же я ее хочу? А что, если Укладова вообще не признает своими ни одни? Ведь узнавать она будет главным образом по браслеткам; сами корпуса часов без лупы трудно отличить один от другого. А браслетку Симукова из предосторожности могла вчера сменить. Ну, посмотрим…» Укладова сидела на кровати, откинувшись на высоко подложенные подушки. Голова у нее была забинтована по-прежнему, под светлыми глазами залегли синие круги. Увидев вошедшего в палату следователя, она обрадовалась, словно пришел ее лучший друг. — О, вы… Здравствуйте, Сергей Петрович, здравствуйте! Спасибо, что пришли. Не забываете меня… Митин кивком головы поздоровался с другими больными и сел на табуретку, услужливо поданную сестрой. — Разве я могу вас забыть! — с шутливой галантностью ответил он. — Вы же, Галина Семеновна, моя подопечная. Как здоровье, самочувствие? — Неважное, — пожаловалась она. — Тошнит часто. Рана заживает, а вот голова просто раскалывается от боли. — И это нас беспокоит, — вставил врач. — Рентген не показал ничего серьезного, и тем не менее боли… Впрочем, бывает. — Я понимаю, и не буду утомлять, у меня всего несколько вопросов. — Ничего, пожалуйста. Я с удовольствием. В палате наступила тишина. Женщины на других койках с интересом слушали их разговор. В тоскливых больничных буднях визит следователя был для них событием. — Ну, например, — начал он, — в прошлый раз я не спросил, в такси вы сели рядом с шофером или на заднее сиденье? — Конечно, на заднее! — улыбнулась она. — Никто из женщин, если она едет одна, не сядет рядом. Это вы, мужчины, всегда рядом с водителем садитесь. Больные одобрительно переглянулись. «А ведь она права, — подумал он, — очень верное наблюдение». — Пожалуй, это так… Я осматривал вашу одежду, у пальто оторвана пуговица. Не помните, когда она оторвалась? Может, еще до того, как вы в такси садились? — Нет. Когда из вагона выходила, хорошо помню, что все у меня было в порядке. А вы считаете?.. — Считаю, что и по дороге к стоянке такси могла оторваться. И еще… ваши часы, вы их хорошо знаете, по внешнему виду, конечно? Она пожала плечами, подумала. — Да нет, пожалуй. Я ведь недавно их купила, и как-то не присматривалась. Часы как часы. — А ремешок какой? — Не ремешок, а браслетка, такая светлая, блестящая. Я же говорила в прошлый раз. Вы все записали. Митин вынул из кармана и положил перед ней на одеяло трое золотых часов. — Вот, посмотрите, пожалуйста, именно такие часы были у вас на руке? Нет ли среди них случайно ваших? Женщина приподнялась с подушек. Лицо ее слегка порозовело. Она низко наклонилась, всматриваясь в мерцавшее на коленях золото. Затем, словно извиняясь, сказала: — Я плохо вижу… без очков. Очки в сумочке остались. — А вы возьмите в руки, посмотрите внимательно. Она взяла часы с металлическими браслетками, стала вертеть и руках, потом подняла голову. — Право, затрудняюсь… У меня были точно такие же, и браслетка такая же. Есть ли здесь мои? Честное слово, не знаю, боюсь ошибиться… Вроде бы вот эти… — Она показала на часы, изъятые у Симуковой. — Кажется, они. У меня тоже были новые. Да, пожалуй, они! Конечно, они! — окончательно решила она. — А где вы их взяли? Неужели поймали бандита? Так быстро?! — К сожалению, Галина Семеновна, пока еще нет. А часы эти мы вчера еще нашли. И таксист, я думаю, тоже никуда от нас теперь не денется. Она надела часы на руку, умело застегнула миниатюрный запор. Митин, чрезвычайно довольный, смотрел на нее смеющимися глазами. — Так, значит, все-таки узнали свои часы? Вот и хорошо. Только, к сожалению. Галина Семеновна, я должен их пока у вас взять. Они будут фигурировать на суде как важная улика. — Конечно, возьмите! А у меня к вам просьба: я же без ничего осталась, ни денег, ни документов. Пошлите, пожалуйста, от моего имени телеграмму в Магадан, чтобы денег прислали. Директору машиностроительного завода товарищу Чекалину Валерию Иванычу. Пусть рублей двести хотя бы на дорогу. А с паспортом как? — Не беспокойтесь, телеграмму пошлю. И паспорт получите. А сейчас давайте-ка займемся протоколом.Глава двенадцатая
Ровно гудели моторы. От монотонного однообразного гула и легкой вибрации клонило ко сну и большая часть пассажиров спала в комфортабельных креслах. Другие читали, смотрели в иллюминаторы. Бабин то ли по молодости, то ли потому, что летать ему приходилось не так уж часто, считал сон в самолете проявлением нелюбознательности, полным отсутствием интереса к окружающему. В самом деле, как можно спать, когда за стеклом иллюминатора в глубине медленно проплывала величественная панорама. Сам он все время смотрел вниз, отрываясь от стекла лишь когда в пассажирский салон входила юная хорошенькая стюардесса с подносом в руках. Почему-то он решил, что из всех пассажиров ему она улыбается особенно благосклонно. — Прошу пристегнуть ремни! — напомнила ему девушка. — Идем на посадку! Как — уже?! Действительно, длинное крыло за стеклом иллюминатора задралось, земля стала стремительно проваливаться, и он увидел чистое небо — самолет ложился в глубокий вираж. Казалось, совсем недавно вылетели из Москвы — и на тебе, уже Симферополь. Успеть бы на автобус, идущий в Алупку. Южный берег встретил Бабина духотой, пропитанной ароматами парфюмерного магазина. За низкими оградами, сложенными из дикого камня, благоухали клумбы, деловито жужжали пчелы. Легкий ветер с моря не приносил прохлады, и Алексей порадовался тому, что прилетел в одной рубашке. Каково сейчас было бы в пиджаке! Прежде всего он зашел в местную милицию. Ему тотчас выделили в помощь оперативного работника и милиционера. Бабин, немного рисуясь, говорил, что достаточно одного милиционера, но начальник отделения заставил взять двоих. Санаторий «Восход» был недалеко. С высоко расположенной площадки, где стояло почти насквозь прозрачное стеклянное здание, было видно синее море, узкая полоса пляжа, усеянная коричневыми телами. По извилистым тропинкам, тяжело дыша, поднимались отдыхающие в легких войлочных шляпах, с полотенцами и термосами. Наступал час обеда. Алексей подумал, что это хорошо — все будут в столовой и Воронов тоже. «Возьму его и пойду купаться», — решил он. У Воронова, конечно, нет с собой оружия, и сопротивляться он не будет. И вряд ли сделает попытку бежать в момент задержания. Но на всякий случай он все же милиционера поставил в саду возле открытого окна кабинета главного врача. Оперативник должен был находиться в коридоре у двери. «Брать» Воронова Алексей хотел сам. — Воронов?.. — Главный врач санатория, пожилой армянин с большими добрыми глазами, над которыми грозно кустились черные брови, развел руками: — Может, есть такой, а может, и нету. Понимаете, больные только что сменились, и я еще никого не знаю. Впрочем, одну минуту… На звонок вошла медсестра в белоснежном халате, черная от загара. — Людмила Львовна, больные все прибыли? Опоздавшие есть? — спросил у нее врач. — Один опаздывает. А так — полный комплект. — Не помните, случайно, среди больных есть такой, по фамилии Воронов? Он из Москвы. — Кажется, есть… да, да, есть! Помню, — она улыбнулась, — симпатичный такой дядечка. — Пришлите его ко мне, пожалуйста. Вероятно, он сейчас в столовой. Пусть немедленно придет. У Бабина заблестели глаза. Он глубоко, с облегчением вздохнул и тут же постарался принять равнодушный вид, чтобы скрыть охватившее его ликование. Сестра вышла. Врач нервно потер руки. — Значит, есть Воронов! А вы один? Так у вас полагается? Ведь преступник, вы говорите, опасный? — Пустяки! — небрежно сказал Бабин. Ему нравилось перед солидным врачом выглядеть бесстрашным, и он не упомянул о двух своих помощниках. — А кроме того… — Он вынул и показал пистолет. В дверь постучали. Врач излишне громко сказал: — Войдите! Дверь медленно открылась, и в кабинет с трудом протиснулся лысый толстяк на костылях. Одной ноги у него не было. — Здравия желаю! Вы меня вызывали? Воронов моя фамилия, — бодро представился он. — Посмотри, Сергей Петрович, может, он имеет какое-то отношение к делу Воронова? Начальник районного угрозыска показал на новый желтый чемодан, стоявший у него в кабинете на полу возле окна. Митин присел на корточки, внимательно осмотрел. Чемодан как чемодан: небольшой, с тонким металлическим ободом вокруг крышки. Он поднял его за ручку, взвесил. — Не понимаю. — Пустой, мы смотрели, — сказал начальник. — Конечно, не понимаешь. Сегодня утром позвонил управдом из Петрушевского переулка, дом восемь. Говорит, ребятишки играли у него во дворе и нашли чемодан. Понимаешь теперь? Там закуток у них есть глухой возле забора, туда редко кто заглядывает. А ребятня бегала и нашла. Я послал Князева, вот, принес… Может, кто с улицы забросил? — Возможно. И ты думаешь, что… — Кто знает! Чемодан новый, такие не выбрасывают на свалку. Возле забора лежал. Подумай. Может, твой Воронов выбросил. Чемодан — улика, он же понимает это. А кто еще будет через забор с улицы бросать? Словом, вещь подозрительная. Оба подошли к большому плану города, висевшему на стене. Их район был обведен красным карандашом. Вот Петрушевский переулок. А ограбление совершено в Клушином, всего в двух кварталах от Петрушевского. — Дом номер восемь находится, примерно, здесь, — показал начальник. — Помню, там действительно забор, тополя растут. Мысль следователя уже работала. Скорее всего, начальник прав, и чемодан принадлежит Укладовой. Вероятно, было так: оглушив жертву, Воронов выбросил ее из машины, поехал прямо, затем свернул направо в Петрушевский переулок. Это значит, кстати, что в Клушин он въехал не из Петрушевского, а из Сосновского переулка. Таксист просто удлинял маршрут. В Петрушевском остановился. Глухая ночь, вокруг никого нет. Он выпотрошил чемодан и бросил через забор. Не мог же он ездить по Москве с чемоданом без пассажира. Да еще ночью. Это могло вызвать подозрение. Первый же постовой, остановив его за пустяковое нарушение, мог обратить внимание на чемодан на заднем сиденье. Положить его в багажник? А что подумает следующий пассажир, увидев, что в багажнике уже лежит чей-то чемодан? Впрочем, вряд ли он стал бы еще кого-то возить, не до того ему. Хотя, кто знает… А сверток с вещами легко засовывался под сиденье. Он продумал все это, отвернулся от плана и сказал ворчливо: — Видимо, так и было, но для меня этот чемодан уже не представляет интереса. Если даже принадлежит Укладовой. Несерьезная улика. — Это почему? — А потому, что к нему, а точнее, к его замкам уже прикасались десятки рук: и ребятишки, и управдом, не говоря уже о Князеве. Да и ты внутрь заглядывал. Угадай теперь, кто к замкам прикасался? Сплошь захватано. — Ну-ну! — рассмеялся начальник. — Можешь быть спокоен: ребятишки увидели находку, почему-то испугались — и прямо к управдому. И не трогали его. А управдом — майор в отставке, на войне в разведке работал, кое в чем тоже разбирается. Сам говорил, что только за ручку с земли поднял. Тебя это устраивает? И мы с Князевым замочки твои вот этим карандашом открывали. Уж как-нибудь… Митин рассмеялся. — Тогда виноват! Прошу прощения. — Внутри ничего не было, чистенький, как из магазина. Покажи Укладовой, может, признает? — И по описанию вроде подходит, она говорила: новый, желтый, с металлическим ободом. Сергей Петрович уже не сомневался, что ребятишки из Петрушевского переулка дали ему еще одну ценную улику. За последние дни в районе не было никакого происшествия, как-либо связанного с чемоданом, ни от кого не поступало заявления об утере или похищении. Единственное — это ограбление Укладовой. У нее отнят чемодан, а этот найден вблизи Клушина переулка. Почему бы ему не быть тем самым чемоданом? Поэтому он принял как должное заключение научно-технического отдела, гласившее, что на никелированных замках чемодана обнаружены отпечатки пальцев, идентичные отпечаткам Укладовой. Ни ребятишки, ни управдом к ним, значит, не прикасались. При случае надо все же показать его Укладовой. Все правильно. Воображение не обмануло его, нарисовав последовательность действий преступника. Все произошло так, как он предполагал. Он не мог отказать себе в удовольствии сравнить себя и вообще всех следователей с учеными, которые по одной истлевшей кости восстанавливают облик ископаемого животного, жившего десятки тысяч лет назад. Подобно им, следователь по отдельным предметам, по микроскопическим следам, путем логических рассуждений воспроизводит в уме картину преступления, совершенного без свидетелей. А потом преступник, сознавшийся под тяжестью улик, недоумевает: как это следователь смог все узнать вплоть до мельчайших подробностей, словно был в то время где-то рядом, прикрывшись шапкой-невидимкой. Митин рад был, что еще одна улика, подобно кирпичику, легла в ряд с другими, по — странное дело — вместе с тем его не покидало смутное беспокойство, что в деле с этим чемоданом есть какой-то изъян, неясность, будто что-то в нем еще нуждается в уточнении. Но что именно, он не знал, и это ему не нравилось. Почему-то казалось, что кирпич, который он с таким удовольствием положил в ряд с другими, лег неаккуратно, чуть скосился, выпятился одной гранью, нарушив плоскость стены. А еще бывает так: в тихий час на закате любуешься красивым пейзажем, наслаждаешься редкой гармонией в природе, а в это время возле самого уха звенит, зудит невидимый комар, вот-вот сядет… Отмахиваешься от него, а он не отстает. И этот неумолкаемый писк раздражает, отравляет хорошую минуту. Именно такое чувство было у него, когда он думал о чемодане. Не найдя ему объяснения, Митин принял простое решение: ушел с того места, где звенел комар — перестал думать о чемодане. Тот факт, что он принадлежал Укладовой, имел уже немалое значение, утешал он себя. Сейчас, пока Бабин не вернулся из Крыма, надо было вызвать Астахова, Симукову и ее соседку по квартире для официальных показаний. Особенно нужна старушка. Ее свидетельство накрепко «привязывало» Воронова к такси № 62–27 ММТ. Необходимо также собрать характеристики Воронова с места работы, чтобы иметь о нем хотя бы приблизительное, общее представление. В отделе кадров таксомоторного парка ему дали тонкую папку, на которой было написано: «Воронов Степан Антонович». Митин прочитал несколько листов, которые в ней лежали. Родился Воронов в 1940 году. Воспитанник детского дома. Холост. Беспартийный, образование семилетнее, служил в армии в бронетанковых частях, судимость… Ага, верно говорила Симукова: пять лет тюремного заключения по 206-й статье УК. Освобожден в 1972 году. Автобиография написана на листке, вырванном из ученической тетради. По почерку видно, что писать Воронову приходится редко: делает грамматические ошибки, пропускает знаки препинания. Благодарности ни одной, зато несколько приказов: предупреждение за обсчет пассажира, выговор по жалобе пассажира за отказ везти за город, вызов в суд по делу об избиении пассажира. «Ну и тип!» — невольно подумал Митин. Начальник колонны, в которой работал Воронов, оказался на редкость немногословным. Левый глаз у него, как у пирата, был перевязан черной засаленной лентой. Он больше слушал, чем говорил. «У такого только интервью брать…» — с досадой подумал Митин после нескольких попыток получить от пирата более подробную характеристику Воронова. — У нас недавно, чуть больше года. До этого работал и четвертом парке, — сообщил тот. — Почему ушел оттуда, не знаете? — Кто их разберет! Поскандалил, говорят, в буфете, самого директора матом покрыл. Парень горячий, и в тюрьме, говорит, за драку сидел. План выполняет, за машиной следит. Проколы есть в талоне. Без проколов в нашем деле нельзя. — Пьет? — Не замечал. — За что его в суд вызывали? Избил кого-то? Судили? — Нет, отвертелся как-то. — Не заметили, есть у него какие-нибудь особые приметы? Начальник пожал плечами. — А все же, татуировка, еще что-нибудь? — Татуировка есть, видел. На правой руке на каждом пальце по букве, получается «Таня». Я же говорю, в тюрьме сидел. — Дружил Воронов с кем-нибудь из шоферов в парке? — Вроде бы нет. У нас ведь как: сдал в кассу выручку и будь здоров! Индивидуалисты. Может, на стороне кто был… Больше из него ничего не удалось вытянуть. Впрочем, и того, что было в личном деле и что говорил начальник колонны, следователю было в какой-то мере достаточно, чтобы составить о Воронове приблизительное мнение. Обсчитывал пассажиров — значит, нечист на руку. Неуживчивый, с необузданным характером. Вероятно, грубый. Избил какого-то пассажира. В тюрьму угодил за хулиганскую драку, там попал под влияние опытных уголовников, наслушался их хвастливых рассказов. На свободе поддерживал связь с тюремными «дружками», потом решил сам пойти на «дело». Обычный путь, обычная биография многих преступников. Женское имя, вытатуированное на пальцах… Прекрасная примета для розыска! Ее не снимешь, не бросишь в ящик с грязным бельем. И потом, она все время на виду: ведь не будет же он летом носить перчатки или бинтовать кисть руки! Таня?.. На обороте фотографии, обнаруженной у Воронова в столе, подписалась тоже Таня. Вероятно, это одно лицо. Кто она ему? Скорее всего, так звали его возлюбленную, с которой он расстался, а фотографию продолжал хранить. Митин вынул из кармана несколько снимков. Были они любительскими, но лицо у девушки всюду в фокусе. Миловидное, с правильными чертами, на голове уложена короной толстая коса. Большие темные глаза смотрят прямо в объектив, и из них и с губ, кажется, так и рвется сдерживаемая улыбка. «Приятная девушка», — подумал Сергей Петрович. На обороте надпись: «Дорогому Степе на вечную память. Таня». И дата: 1963 год. Так и есть, старая любовь, еще до тюрьмы. Тюрьма разъединила, и сейчас у Воронова — Симукова, особа вульгарная и малосимпатичная. Что ж, бывает… На других снимках Таня в белом халате возле цветочной клумбы, вокруг толпятся дети дошкольного возраста. Кто она; воспитательница в детском саду, медсестра или няня? Еще одна карточка. На ней Таня смеется. «Какая хорошая девушка досталась этому негодяю, — подумал Сергей Петрович. — И как ей повезло, что тюрьма их вовремя разлучила… Впрочем, кто знает, не угоди Воронов в тюрьму, не поддайся там влиянию уголовников — и потекла бы его жизнь с Таней по другому руслу».Глава тринадцатая
Бабин из Крыма прилетел на другой день. — Пустой, как лотерейный билет, — сказал он следователю при встрече. — Вот вам и логика! — огорченно сказал Митин. — Как иногда подводит! Ведь должен был, по всему должен отдыхать в санатории — и на тебе! Накаркал тот врач в больнице, придется стог сена ворошить. Владыкин, по обыкновению, занимался рисованием. Бабин приткнулся в углу дивана с таким видом, будто он был виноват в том, что Воронова в санатории не оказалось. — Логика — она у разных людей бывает разная, — заметил Владыкин, не поднимая головы от рисунка. — У нас одна, у Воронова другая. Решил пожертвовать путевкой и отсидеться в другом месте. Когда заяц петляет по первому снегу от охотника, он, заметь, меньше всего думает о логике. И правильно делает! — Ему понравилось сравнение, и он, довольный, рассмеялся. — Заяц знает, что по следу идет охотник, а Воронов? — возразил Митин. — Ведь не поехав в санаторий, он тем самым навлекает на себя подозрение в причастности к грабежу. Зачем ему это? — А ты бы поехал? — Безусловно! Если бы был уверен, что женщина мертва, поехал! Почему не поехать? — А там Соловей-разбойник, — начальник кивнул на Бабина, — тебя поджидает — и цап-царап! Поэтому и предпочел он другое место. Кстати, товарищ Бабин, а вдруг опоздавший в санаторий — наш Воронов? — Тогда об этом нас известят телеграммой, я договорился, — ответил Алексей. — По-твоему, предпочел другое место? Значит, у него не было уверенности в смерти Укладовой? Допустим. Но почему же тогда он не уничтожил носовой платок? Почему бросил его в ящик? Не боялся обыска? — Ох, Сергей, заморочил ты мне голову этим платком! Нам надо искать Воронова, а ты кроссворды сочиняешь. Потому и не уничтожил, что не знал, что Укладова запомнила семерку из его номера. Понял? Он ведь его тряпкой закрыл. — В таком случае тем более должен был поехать в Крым! Никто его ни в чем не подозревает — почему не поехать? Логично? Машина Астахова, сам в отпуске, путевка на руках… В наступившей тишине стало явственно слышно гудение вентилятора. — Действительно кроссворд! — вздохнул Бабин. — Я хоть выкупался в Черном море. А в самолете стюардесса была!.. Ее бы на конкурс красоты… Никто не поддержал новую тему для разговора, и он тоже умолк. — Не будем мудрствовать, жарко! — сердито сказал Владыкин. — Мы стоим перед простым фактом: Воронова в санатории нет. Отсюда и надо танцевать. Надо думать, где его искать. И искать форсированно. Это народ такой — под горячую руку, опьяненный удачей, он может натворить еще бог знает чего! Родных, говоришь, у него нету? — Вроде нету. В детдоме воспитывался. — Митин налил себе воды из графина, выпил. — Неужели он, дурак, схватил семьсот рублей и скрылся с ними? Квартиру бросил… Впрочем, деньги тут, возможно, ни при чем. Вдруг почувствовал себя преступником. А раз преступник, — значит, надо скрываться… Или просто испугался. Ну, ладно, давайте посмотрим, что мы имеем. А имеем мы семерку, пуговицу, носовой платок — будь он проклят! — золотые часы, чемодан… — Кстати, о чемодане… — прервал его начальник. — А что о нем? — Ладно, продолжай, потом… — Итак, чемодан, татуировку на руке, тюремного дружка Митьку-Хобота и фотографию неизвестной Тани. Ну и Симукову, конечно. Имеем много, кроме самого Воронова. Я полагаю, искать Таню нет смысла: столько детских садов, пионерских лагерей — где там! А вот Митьку-Хобота с наколками поискать стоит. Может, у него он отсиживается? — Запроси угрозыск, он должен быть в картотеке воровских кличек. — Владыкин подтянул живот, выдвинул ящик стола и, порывшись в бумагах, подал Митину телеграмму: — Прочти. Из Магадана. И не забудь своей Укладовой показать. — «Дорогая Галина Семеновна весь цех переживает ваше несчастье не падайте духом скорее поправляйтесь сообщите какая нужна помощь путевку получите новую предцехкома Кутузов», — вслух прочитал Сергей Петрович. — А что, приятно получить такое от товарищей. А я по ее просьбе послал в Магадан телеграмму, чтобы прислали денег на дорогу. Двести рублей. — А если на квартире у него засаду устроить? — продолжал Владыкин. — Вдруг явится? Впрочем, вряд ли, если явится, то скорее к Симуковой в Зюзино. За ней наблюдение установить? — Симукова показала, что накануне грабежа у Воронова был Митька-Хобот и они пили пиво. Нет ли тут какой связи? А что ты хотел сказать о чемодане? — Да я думал тут… Отпечатки пальцев на замках принадлежат Укладовой, верно? А ведь их оставить должен был Воронов, а не она. Он последним прикасался к замкам, когда потрошил чемодан. Ведь верно? Лицо у Митина сморщилось, как от внезапного приступа зубной боли. Вот он, проклятый комар, сел-таки, ужалил. Боже мой, как это он сам не сообразил такой простой вещи! Конечно, Воронов к ним прикасался последним. Укладова закрывала чемодан, а открывал его он. «Мальчишка, щенок! — ругал он мысленно себя. — Не мог сам додуматься…» — Ах, Николай, Николай, до чего же верно, если бы ты знал! — со стоном вырвалось у него. Он вскочил. — Конечно, отпечатки должны быть его. Вот кретин! А ведь все время чувствовал, что-то тут неладно… Будто затмение нашло. Фу, идиотизм! Смотри, как просто оказалось! Алеша, ты понял? — Я тоже об этом не подумал, — признался тот. — Вы сказали: есть отпечатки, значит, чемодан ее — ну и все! А ведь интересно получается! — В том-то и дело! — Митин помолчал, выпятил нижнюю губу. — Почему же не осталось его отпечатков? Не понимаю… Позвольте, позвольте, а может, Воронов в перчатках работал? Алеша, помнишь? Кожаные, теплые… Он смотрел на оперативника, но взгляд его утратил всякое выражение: мысленно он уже был в комнате Воронова, где они производили обыск. Перчатки! Вот когда он о них вспомнил. Мужские, сильно поношенные, с теплой подкладкой, они лежали на подоконнике на самом видном месте среди разной мелочи. Тогда он только скользнул взглядом, не придав им никакого значения. — Как же, — воскликнул Бабин, — на окне лежали! — Будь дело зимой, а летом какой дурак станет надевать перчатки! — Глаза Митина сияли. — Зимние вещи люди прячут, а эти на виду лежали. Значит, он брал их, надевал… Найти Митьку-Хобота оказалось неожиданно легко: когда Бабин пришел на Петровку, где в специальной картотеке хранились все воровские клички, Митька-Хобот, он же Тяпунов, он же Янович, он же Лютиков и так далее, — уже сидел в общей камере и хлебал тюремную баланду… Той же ночью, когда студенты нашли в Клушином переулке Укладову, истекающую кровью, в Люберцах был ограблен большой промтоварный магазин. Случайный прохожий свернул с улицы в узкий переулок и, проходя мимо дощатого забора, увидел в щель, как во дворе магазина у стены, заваленной пустыми ящиками, двигались две темные фигуры. Двигались торопливо и молча. Прохожий понял, что дело тут нечисто. Искать сторожа и поднимать шум он не стал, а просто из ближайшего телефона-автомата позвонил в отделение милиции. Через заранее сделанный под прикрытием ящиков пролом в стене воры проникли в подвал магазина и набили два мешка меховыми дамскими пальто. Прихватили и кусок дорогого драпа. Одним из воров был Митька-Хобот. Оперативная группа, выехавшая по сигналу, задержала воров примерно за квартал от магазина: сгибаясь под тяжестью мешков, они пробирались к шоссе. Сначала они говорили, что нашли мешки на дороге, но когда их привели к пролому, сознались во всем. Сергей Петрович приехал в Люберцы. — Степу Воронова вы, гражданин начальник, к нам не шейте. Он тут чистый. Вдвоем я работал с Глухим, с ним и погорели. Вдвоем и ответ держать будем. А зачем я Степу топить буду? — заявил Митька-Хобот, когда следователь спросил, знает ли он Воронова. Был Митька тщедушного сложения, по-обезьяньи вертлявый, с юркими, бегающими глазами. Широкое и плоское лицо его было украшено удивительно крохотным носом. Не нос, а буквально кнопка с ноздрями торчала у него между щеками. Так вот почему тебя прозвали Хоботом! «Тот, кто дал такую кличку, был не лишен чувства юмора», — подумал следователь. От обилия татуировок руки у Митьки казались синими. — Где с Вороновым познакомились? Когда? — Известно где! Вместе сидели, в один день освободились. На лесозаготовках в одной бригаде ишчили. Мы, бывало, филоним, а Степа знай вкалывет. Чудной! — Вы вот что, я воровскому языку не обучен, — остановил его Сергей Петрович. — Так что прошу, говорите, пожалуйста… Митька улыбнулся, показал кривые зубы. Вероятно, он считал свою улыбку добродушной. — Бросьте, бросьте, гражданин начальник, ведь вы же отлично меня понимаете! Чего там, люди свои! Сергей Петрович отнюдь не был польщен тем, что этот рецидивист считает его своим. Он сухо продолжал: — На свободе встречались с Вороновым, навещали его? Часто? — Зачем часто? Как придется. Зайдешь иной раз… — Вы же с ним друзья. — У меня нет друзей! — с гордостью заявил Митька. — Нужный человек, вот и навещал. — Это для чего же нужный? Митьке, должно быть, нравилось выглядеть откровенным перед этим вежливым начальником. А кроме того, он понял, что тот пришел только из-за Воронова: по его делу не задал ни одного вопроса. И протокол не писал. — Так он же на такси работает! Машина у него в руках, понял? А в нашем деле машина ой как нужна бывает! Век электричества и пара! — И часто он вам свою машину давал? — Если по-честному — ни разу. Да и нужды пока особой не было. Обходились. Глаза Митьки так и лучились правдивостью. — Девятого августа вы были у Воронова. Пиво пили. Зачем приходили? Машина понадобилась? На лице у Митьки опять появилась жуткая улыбка. Казалось, он ужасно рад разговору. — Точно, гражданин начальник! Понадобилась. Мы же с Глухим магазин в ту ночь брали, понял? Но — осечка! Самый раз: накануне Степа в отпуск пошел. Не повезло! — Митька говорил с искренним огорчением. — Где он машину возьмет? Отпуск! — А если бы не ушел в отпуск, дал бы машину? — Мое дело — попросить, — уклонился тот. — Разрешите сигарету? Забыл купить. Оба закурили. — Вас задержали, когда вы с мешками шли в сторону шоссе? — Точно. — А на шоссе вас ждал Воронов, — утвердительно сказал Митин и добавил: — На такси. Митька поджал губы, словно у него истощилось терпение, шумно вздохнул через свой крохотный нос. — Мы же с вами не дети, гражданин начальник, — укоризненно произнес он. — Я же объяснял вам: у Степы отпуск, где он возьмет машину? Тем более такси. Чужую наймет? Клянусь честью, трудно с вами разговаривать. — В эту ночь у Воронова было такси, — жестко сказал следователь. — И вы это хорошо знаете. На секунду глаза у Митьки стали серьезными. Но только на секунду. — Конечно, вы лучше меня знаете! Хорошо, допустим вашу версию, — ввернул он юридический термин. — А вы лучше спросите-ка у моего следователя: где в Люберцах магазин и где шоссе? Там чуть не километр будет. Стал бы я на своем горбу мешок с товаром нести? Я же, как видите, не Юрий Власов, не Жаботинский. Мы бы попросили Степу машину близехонько поставить, за углом, рядом. Чтобы не надрываться смешками. Потому и погорели, что машины не было. Я понятно выражаюсь, гражданин начальник? В голосе его звучала издевка. «На многих же ты, видать, допросах побывал, голубчик!» — подумал Митин и сказал: — Вполне понятно, благодарю вас. А вы сказали Воронову, зачем вам была нужна машина? Посвятили его в суть дела? — Это еще зачем? Согласился — конечно, сказал бы. А так… — Он пожал плечами, серьезно посмотрел на следователя. — Если не секрет, вы что, на Степу Воронова дело завели? Неужели и он сорвался? — Нет, не сорвался. Тут другое… Исчез вдруг ваш приятель. А нам он нужен по одному делу. Как свидетель. Без его показаний может пострадать невиновный человек, понимаете? И не можем его найти. У Воронова путевка в санаторий, справлялись там — нету! Что делать? Может, вы подскажете? Я, в сущности, только за этим и пришел к вам. Объясняя столь неуклюже свой визиг, Сергей Петрович понимал, что перед ним сидит далеко не тот человек, которого можно поймать на такую дешевую приманку, и злился на себя. — То есть вы хотите, чтобы я сказал, где Степа скрывается? — участливо спросил Митька. — Почему скрывается? Я этого не говорил. — Адрес вам нужен? Могу. У вас есть с собой пять копеек? — Н-ну… есть. — Обратитесь в ближайшее справочное бюро. Пять копеек — и через пять минут получите точный адрес. — А ведь верно! — усмехнулся Митин. — Как это я сам не догадался. Спасибо, больше у меня вопросов нет. — У меня тоже. Найдете Степу — поклон ему от меня! Следователь нажал кнопку звонка, вызывая конвоира, шутливо поклонился Митьке: — Счастливо отбывать срок. Хобот! — Привет супруге! — осклабился тот. По всей видимости, Митька кое в чем говорил правду. Он, например, легко и убедительно отверг самому следователю неясное и смутное подозрение, что Воронов, кроме ограбления Укладовой, участвовал и в хищении меховых пальто. Он не отрицал, что приходил к Воронову просить машину, но не сказал, как тот к этому отнесся. Скрытность понятная. Вполне вероятно, что, не будь Воронов в отпуске, он мог бы выполнить просьбу дружка. Его визит, волнующие и соблазнительные разговоры о легкой добыче, пиво, выпитое в большом количестве, могли распалить воображение, направить Воронова на рискованный путь. Врет Митька, конечно, он рассказал и о подготовленном проломе в стене, и о доле, какую Воронов получил бы за одну поездку в Люберцы. Должен рассказать, иначе не соблазнишь. Все небось расписал в лучшем виде и вдруг узнал, что у Воронова отпуск. Как искренне он был огорчен этим неожиданным обстоятельством! Ушел он от друга «пустой», а тому вдруг подвернулась машина Астахова… Сорвалось в Люберцах — почему не воспользоваться пассажиркой из Магадана? Чем он хуже Митьки-Хобота? Ах, какую мы допустили оплошность, что так поздно взялись за этого рецидивиста! Ведь прежде всего Воронов должен был кинуться с вещами Укладовой к нему. Устроить бы у него засаду. А почему к Митьке? Разве он сам не мог знать, кому можно спустить «барахло»? И о существовании Митьки мы узнали лишь к вечеру следующего дня. Возможно, Воронов уже успел навестить дружка, узнал, что тот не вернулся из Люберец, и сам стал петлять, как заяц. Значит, остались Симукова и Таня. Надо попросить старушку, которую Симукова называет старой ведьмой, чтобы она известила, если вдруг появится Воронов, и установить наблюдение за квартирой Симуковой в Зюзино. Как неудобно, что нет ни одной фотографии Воронова! С Таней будет сложнее. Есть фото, но не знаем фамилии. Трудно, очень трудно, но все же найти девушку можно, если она в Москве. А если нет? Ведь времени с их знакомства прошло много, почти семь лет. Ладно, допустим, найдем. А милая Таня скажет, что с тех пор, как Воронов сел в тюрьму, она о нем ничего не знает… Что тогда?Глава четырнадцатая
Неисповедимы пути распространения слухов. Прошло немного времени, а слух о том, что Воронов ограбил пассажира, уже гулял по таксомоторному парку. Исходил он, вероятнее всего, от Астахова. Трудно человеку молча носить на сердце тяжесть подозрения, когда сам ни в чем не виноват. Но было в этом и свое положительное: в следственный отдел к Митину явился таксист того же парка Завьялов и рассказал, что утром десятого августа он отвез Воронова в Старую Рузу, небольшой город, что находится примерно в ста километрах от Москвы. Был тот с чемоданом и говорил, что едет по путевке на курорт, но сначала должен навестить одну знакомую в пионерском лагере. У пионерского лагеря «Ягодка» он Воронова и высадил. Тот расплатился по счетчику. Наконец-то! Знакомая в пионерском лагере — это наверняка Таня, которую собирались искать в списках. И в санаторий Воронов не приехал в срок потому, что решил прежде навестить ее. Где он сейчас, в Старой Рузе или в Крыму? «Все же я был прав, когда утверждал, что по логике он должен непременно поехать в санаторий, — думал следователь. — Значит, Воронов был убежден в смерти женщины. Поэтому и с платком обошелся так небрежно. А Николай говорит, что кроссворды сочиняю…» — Сколько он вам заплатил по счетчику? — Что-то рублей пятнадцать. Это немного в сторону от Рузы, в лесу пионерский лагерь. Признаться, я сам тогда удивился. Мы, таксисты, любим получать по счетчику, а чтобы самому платить… да еще такие деньги! — Завьялов улыбнулся. — В санаторий, говорит, опаздываю, а знакомую навестить надо. Никаких денег, говорит, для нее не жалко. Только выехали из Москвы, он завалился на заднем сиденье и всю дорогу спал. «Действительно, что ему какие-то пятнадцать рублей, если только что, в одну ночь, он добыл семьсот!» — подумал Митин. — Как вы считаете, товарищ Завьялов, почему он поехал именно с вами? Вы близко знали его? Может, друзья? — Если бы друзьями были, вряд ли я пришел бы к вам, — усмехнулся таксист. — Просто знаем друг друга в лицо, в одном же парке работаем. Подошел он к стоянке, увидел машину из своего парка, почему не дать заработать своему? Мне же надо план выполнять, он понимает. Как бы то ни было, но прочесать Старую Рузу необходимо. Городок небольшой, и если Воронов еще в нем, то найти его не составит особого труда. Тем более, что есть пионерский лагерь, в котором работает его знакомая. С лагеря и надо начинать поиски. Луков вел машину, как и подобает водителю первого класса. А имея в кармане милицейское удостоверение, да еще следуя по оперативному заданию, можно идти на предельной скорости и делать обгоны там, где висит запрещающий знак. Километровые столбы на Минском шоссе то и дело отскакивали назад, гудел упругий ветер в открытых окнах, и пейзажи вокруг сменялись быстро, как в видовом фильме. — Конечно, неплохо взять его в Старой Рузе, но, грешный человек, я не прочь бы еще раз выкупаться в море. Хорошо! Бабин сидел рядом с Луковым. Тот, как всегда при быстрой езде, молчал. Сергей Петрович расположился на заднем сиденье. — Может, еще и искупаешься, — отозвался он. — А я вот, Алеша, все думаю: почему он поехал со знакомым таксистом, а не взял первую подвернувшуюся машину? Понадеялся, что Завьялов не расскажет о поездке? Или был так уверен, что его не будут искать, что не стал принимать этой простой предосторожности? — Знаете, Сергей Петрович, и то, и другое. И так, и так могло быть. А вернее всего, глупость, самая обыкновенная глупость! Поверьте мне. Ведь должен же он когда-то и где-то допустить ошибку. Иначе нельзя было бы раскрыть ни одного преступления. Вот он и допустил… Луков притормозил на 83-м километре и свернул с шоссе направо. Проехали красивую рощу, воздух, бьющий в окна, обдал всех свежим лесным ароматом. Затем промелькнул какой-то поселок, высокий мост через реку. Минут через десять перегретая «Волга» остановилась на тихой лесной дороге возле деревянной арки с надписью «Пионерский лагерь „Ягодка“». — Какую же вам Таню? У нас их три, — ответила на вопрос приезжих начальник лагеря, веселая загорелая женщина. — Таня вожатая, Таня медсестра и Татьяна Ниловна, повариха наша. — Вот эту. — Митин подал ей фотографию. — Сиротину? Смотри-ка, она косу носила. Обрезала, вот глупая! Так хорошо с косой. Ее сейчас нет в лагере, отгул ей дали… по очень уважительной причине. — К ней кто-нибудь приехал? Может, Степан Воронов? — наудачу спросил Митин и не удивился, когда женщина ответила: — Он. А вы его тоже знаете? — Еще бы не знать! Где он сейчас? — Вероятно, с ней, где же ему быть? А мы всё допытывались: кто он тебе да кто? Чуть не каждое воскресенье ездит. А недавно призналась: муж, говорит, будущий. — Она по-бабьи вздохнула: — Слава богу, встретила хорошего человека! — Вы так считаете? — А как же, ведь с ребенком берет. — У Тани есть ребенок? — почему-то удивился Митин. — От первого мужа. Девятый год мальчику. У нас в лагере живет. «Милые вы, наивные женщины, — думал Митин, возвращаясь к машине, — знали бы вы, что за человек ездит сюда каждое воскресенье!» По адресу, взятому у начальницы лагеря, они быстро нашли в Старой Рузе улицу, на которой жила Таня Сиротина. Луков поставил машину далеко от ее дома — прямо к дому, он знал, подъезжать нельзя: Воронов мог в окно увидеть остановившийся автомобиль и мгновенно скрыться. Лови потом его по садам и огородам. И следователь, и оперативник, приближаясь к небольшому чистенькому домику, утопавшему в зелени, почти не верили в успех. Сколько раз за эти дни они ошибались, тянули нитку не за тот конец, шли по неверному пути. На двери, ведущей к Сиротиной, они увидели замок. — Так и есть! — вырвалось у Бабина. — Уехали… — Вы к Тане? — окликнула их соседка. — Так она в кино ушла, на дневной сеанс. Вдвоем они ушли. Слава богу! Коротко посовещавшись, они решили к кинотеатру идти пешком, на случай, если Воронов и Таня почему-либо будут возвращаться, а Луков поедет следом, не теряя их из вида. Соседка рассказала, как пройти к кинотеатру кратчайшим путем, так что разминуться с Вороновым они не могли. Улицы в Рузе были тихи, прохожие встречались редко. В тени лежали ленивые собаки, разомлевшие от тепла, гуси щипали траву в канаве. Через несколько кварталов Митин и Бабин вышли на главную улицу. Здесь магазины, киоски, шла бойкая торговля квасом. Уютно людям жить в таком городке. Вот и кинотеатр, украшенный яркими афишами новой кинокомедии. В ожидании сеанса толпился народ, прогуливались пары, бегали мальчишки. — Они? — тихо спросил Бабин. — Кажется… Она, во всяком случае. Навстречу им медленно шли молодая стройная женщина и высокий, хорошо одетый мужчина. Поравнялись, прошли мимо. Сергей Петрович сжал губы, пересиливая легкое волнение. Наступал решающий момент. Бабин ничем не выдал своего состояния, только руку опустил в карман. Сходство женщины с фотографией было несомненным: то же лицо, те же глаза, только вместо косы модная прическа. И худощавый мужчина рядом с ней, конечно, Воронов. Так вот ты какой, бандит и грабитель, посягнувший на жизнь беззащитной женщины! Гуляешь среди бела дня с возлюбленной, собираешься смотреть музыкальную комедию… Сейчас мы устроим тебе комедию! Предстояла несложная операция: надо было нагнать пару, предъявить служебное удостоверение и произнести сакраментальную фразу: «Пройдемте с нами, гражданин…» — Делать будем, как обычно, — негромко сказал Митин. Это означало, что остановит Воронова он, а оперативник тем временем встанет у того за спиной, чтобы страховать следователя от любой неожиданности. — Только, пожалуйста, Алеша, стреляй лишь в самом крайнем случае, — предупредил Сергей Петрович. — Если что, постарайся свалить на землю. Люди кругом, дети. Бабин кивнул. Воронов и Таня повернули обратно и шли теперь к ним. Оперативник двинулся вперед, чтобы зайти к ним с тыла, но вдруг остановился. Замер и Сергей Петрович. К Воронову и Тане подошли невесть откуда взявшиеся милиционер и молодой человек в белой нейлоновой рубашке. Все четверо остановились. Что они говорили, слышно не было. Потом молодой человек истерически закричал: — Это он, он! Я его сразу узнал! Берите его… — Вот так раз! — вырвалось у Митина. — Это еще что за новости? Тихо, Алеша! — задержал он опять было рванувшегося вперед оперативника. — Посмотрим, что дальше будет. А дальше ничего особенного не произошло. Привлеченные криком молодого человека, ближайшие люди даже не успели окружить место происшествия, как вся четверка стала спокойно удаляться от кинотеатра. Лишь молодой человек сильно жестикулировал на ходу, что-то объясняя милиционеру. — Он же наш, Сергей Петрович! — возмутился Бабин. — Ты скажи спасибо, что все обошлось без шума. Его же в милицию повели. В отделение милиции, находившееся поблизости, они вошли следом за всеми. В небольшом узком коридоре Митин увидел, как Воронов оглянулся и со злобой сказал молодому человеку: — И что ты пристал? Мало тебе в лесу досталось? Тебя убить мало! — Не шумите, гражданин! Все вошли в комнату с перегородкой. Милиционер что-то тихо стал говорить сидевшему за столом дежурному, тот с интересом смотрел на Воронова и, выслушав, кивком головы показал на дверь с большим железным засовом. — Сюда попрошу! — сказал милиционер Воронову. «В камеру…» — определил Митин. Дверь за Вороновым закрылась, железный засов бесшумно задвинулся. Теперь можно было пойти к начальнику отделения. Едва они успели представиться и показать свои удостоверения и ордер на задержание Воронова, как в кабинет вошел дежурный и доложил: — Задержали того типа, товарищ начальник, что машину в лесу отобрал. Владелец машины его встретил на улице и опознал. Никакого оружия при нем не оказалось. Допрос сами будете снимать? — Аккуратно получилось! — воскликнул начальник, обращаясь к гостям. — Вы за ним из Москвы прикатили, а мы вам его тут же, как пирог из печки, тепленького! — Он рассмеялся, довольный, и повернулся к милиционеру: — А мальчишке этому скажи, чтобы в ГАИ шел, отыскался его «Москвич». Бросил и его недалеко от больницы, всю ночь на улице простоял. Пусть забирает. Оказывается, вчера в окрестностях Старой Рузы случилось происшествие, заставившее говорить о себе весь город. Сын местного врача ехал на «Москвиче» — подарке отца, — и его на глухой лесной дороге остановил бандит и выбросил из машины, нанеся телесные повреждения. Вероятно, она понадобилась ему для какого-то воровского дела. Милиция, естественно, насторожилась, ожидая известий о преступлении, совершенном с помощью «Москвича». «Лихо! — подумал Митин, выслушав от начальника эту историю. — Мало того, что он в Москве совершил ночной разбой, он и здесь успел отобрать машину. Причем опять с применением насилия. Мальчик серьезный…» Он сказал начальнику, что берет Воронова на себя и сегодня же увезет в Москву. Тот не стал возражать, понимая, что преступление Воронова в Москве было серьезнее. А сейчас Сергею Петровичу надо было произвести обыск у Тани Сиротиной. Раз похищенные вещи не найдены в Москве, значит, они могли быть где-то здесь. Женщина, бледная, испуганная, стояла в комнате дежурного у перегородки, теребила в руках сумочку. Молодого человека в нейлоновой рубашке здесь уже не было. Вероятно, убежал в ГАИ за своей машиной. — Простите, гражданка, ваша фамилия Сиротина? — обратился к ней Митин. — Выйдите, пожалуйста, в коридор. В машине по дороге к дому женщина все оборачивалась то к Бабину, то к нему, лихорадочно говорила: — Я ничего не понимаю! Объясните, какая машина, какой «Москвич»? Это недоразумение. Почему я ничего не знаю? Степан не мог этого сделать! Зачем он будет отнимать машину?.. — Гражданка, поверьте, мы тоже ничего не знаем про машину. Мы из Москвы приехали, совсем по другому делу. Вы успокойтесь! — А почему у меня обыск? — Потом узнаете. Вы работаете в пионерском лагере медсестрой? И живете там с сыном, так? — Да. — А Воронов последние дни жил у вас на квартире? — Жил. Я в лагере, а он у меня. А разве нельзя? Она повернулась к следователю и посмотрела ему прямо в глаза долгим и как бы выпытывающим взглядом. Красивые брови у нее круто сошлись, образовав над переносицей глубокую складку. И лицо на мгновение утратило миловидность. «Догадалась…» — подумал следователь. С этой минуты она почему-то замолчала. Митин задал ей еще несколько вопросов, но она с каким-то злым упорством не разжимала рта, как будто в машине, кроме нее, никого не было. Он искоса посматривал на женщину, сидевшую в напряженной позе, и ловил себя на том, что она, как и на фотографиях, вызывает у него симпатию. «Нет, ни о чем она не догадалась и о грабеже должно быть не знает и волнуется только из-за истории с машиной», — подумал он. Сиротина занимала в доме небольшую комнату с кухонькой и чуланом, и обыск у нее не занял много времени. В пепельнице лежали окурки сигарет «Шипка», в мусорном ведре несколько пустых коробок. «Значит, Воронов жил здесь с десятого августа», — сделал из этого вывод следователь. Таня во время обыска продолжала молчать, взгляд ее ничего не выражал, она словно погрузилась в себя, решая какую-то мучительную задачу. Соседки по двору, приглашенные понятыми, со страхом и любопытством смотрели, как Бабин рылся в ящиках комода, перекладывая женское белье. — Разрешите посмотреть вашу сумочку? — попросил Митин. Он еще в милиции обратил на нее внимание. Женщина молча подала. Сумка новая, светло-желтая, с золотистым хромированным ободом, похожая на маленький портфель. Насколько он помнил, по описанию Укладовой, у нее была отобрана такая же. Неужели это та самая? Он раскрыл сумочку. Внутри лежала разная женская мелочь. — Давно купили сумочку? В каком магазине? Она будто не слышала вопроса. — Не хотите отвечать? Ваше право, пожалуйста. Но эту сумку у вас придется изъять. Как очень ценную улику. Вы, надеюсь, понимаете меня? — с многозначительной интонацией спросил он, вкладывая в свои слова намек, который, казалось ему, женщина должна была понять. Глаза у Сиротиной наполнились слезами. Он вынул из сумки платок, подал ей. Но она не воспользовалась им. Слезы катились по ее неподвижному, словно окаменевшему лицу. — Степан мне ее подарил… — с усилием сказала она. «Интересно! И там и тут одно и то же. У Симуковой часы, у этой сумочка. И там подарок, и тут… Очень интересно!» — подумал Сергей Петрович и спросил: — Давно подарил? В этот приезд или раньше? Казалось, слезы против воли женщины сломили преграду молчания, и она заговорила. Всхлипывая, ладошками вытирая мокрое лицо. Он опять протянул платок, она взяла его. — В этот… За что его? Он ни в чем не виноват, я уверена! Почему не выяснить сразу и отпустить? Он должен на курорт ехать, путевка у него. — Почему же вместо курорта он у вас жил? Просрочил путевку. — Он за мной приехал. Звал с собой в Крым. Я, конечно, отказалась. На какие деньги? И отпуск летом мне не дадут. Вообще ерунду придумал… — А он что? — А он говорит, что денег хватит. И работу велел бросить. А как я брошу, у нас и так медперсонала в лагерях не хватает. А он… словом, уговаривал… — Она заставила себя замолчать. — Сумочка хорошая, дорогая. Больше он ничего в этот раз вам не подарил? — И так потратился… нет, ничего. Андрейке «Конструктор» привез. Балует он его. — Андрейка — сын? Она кивнула. Сергей Петрович достал из-под кровати чемодан. В нем под трусами и майками лежала пачка денег. Он сосчитал их и повернулся к Сиротиной: — Четыреста рублей. А где остальные триста? — Какие триста? — А вы, гражданочка, умеете притворяться, — улыбнулся он. — Ведь отлично знаете, что Воронов привез с собой семьсот рублей, и делаете удивленные глаза. Нехорошо! — Семьсот рублей?! Я притворяюсь? — Глаза ее гневно сверкнули. — А почему вы меня оскорбляете? Кто вам дал право так разговаривать со мной? И что значит «гражданочка»? Я вам не «гражданочка»! У меня есть имя и отчество. Я вообще не знаю, сколько он привез денег. Не интересовалась этим. Бабин обернулся, с любопытством на нее посмотрел. Женщину будто подменили, она вся пылала негодованием. Сергей Петрович густо покраснел. — Извините меня, Татьяна Акимовна, — серьезно сказал он. — Вы правы… нельзя так разговаривать. — Куда же вы теперь Степана? В тюрьму? — сурово спросила она. — Да. В Москву повезем. Кстати, Воронов вам не предлагал прокатиться в Крым на «Москвиче»? Выгодно, не нужно на билеты тратиться. И приятно опять же, он таксист — чего лучше! Она покачала головой, нахмурилась. Вероятно, впервые поняла, в чем могут подозревать Степана. — Глупости! Даже речи не было. Он предлагал поездом ехать. Я пойду в милицию, должны же верить… Еще чего! Чушь какая! Меня пустят к Степану? — Вряд ли. К сожалению, не полагается. Она вскочила, стала вынимать из чемодана вещи. — У него же ничего нету! Белье, сигареты можно? А продукты? Митин не стал ее останавливать. Обыск был закончен, он уже сел писать протокол. Почему-то эта женщина все больше завоевывала его расположение. На укрывательницу преступника она, во всяком случае, никак не походила. — Где искать Степана в Москве? В какой тюрьме? А вас? Дайте ваш адрес. Слезы у нее высохли, она уже была полна кипучей энергии. Итак, картина все более прояснялась. Становились понятнее мотивы поведения Воронова, ранее вызывавшие столько недоуменных вопросов. Отняв у Укладовой семьсот рублей, все же решил ехать в санаторий и прихватить с собой Таню Сиротину, свою прежнюю любовь. Работает она, нет отпуска — бросай работу, денег хватит! В чемодане четыреста рублей. Вероятно, свои, которые накопил для отпуска. Семьсот в другом месте спрятал. Чтобы пустить пыль в глаза Тане, задумал совершить вояж в Крым на легковой машине. Для этого и отобрал ее с дерзкой наглостью у хлипкого частника. Что не взбредет в голову, если уж покатился по наклонной плоскости! Тане о своем намерении не говорил до поры до времени — хотел с «Москвичом» сделать сюрприз. Странно только, что в тот же день машину бросил… Почему? Послушался голоса благоразумия? Решил не рисковать? Запутался в отношениях с женщинами: одной дарит золотые часы, другую зовет в Крым. И той и другой обещал стать мужем. Н-да… Как говорится, моральный облик оставляет желать лучшего. Распутался и еще один узелок. День клонился к вечеру. Они вывели Воронова из отделения к машине Лукова, стоявшей у тротуара. Тот шел впереди, заложив руки за спину, мрачный, как туча. Следователь и оперативник не спускали с него глаз. И вот тут-то Митин и увидел наконец то, над чем они столько думали и спорили Вот она, разгадка! Он толкнул Бабина локтем и показал глазами на шею Воронова. У того сзади, чуть пониже уха, темнело родимое пятно. Небольшое, размером с 20-копеечную монету, вытянутое, овальной формы, очень заметное. — Те-те-те… — негромко произнес Бабин. Первым на заднее сиденье сел он, затем Воронов и последним — Митин. В таком положении арестованный не мог на ходу выпрыгнуть из машины. В руках он держал сверток с передачей, приготовленный Таней. Родимое пятно! Не фурункул, не порез в парикмахерской, а именно родимое пятно. Теперь понятно, почему Укладова увидела у него повязку на шее, а Симукова, Астахов и знакомые в таксомоторном парке не видели. Помня о своей особой примете, которую легко мог увидеть и запомнить пассажир, сидящий сзади, Воронов скрыл ее, завязав шею платком. В случае чего, искать будут шофера с завязанной шеей, а не с родимым пятном… А платок потом можно бросить в ящик с грязным бельем. Так постепенно, слой за слоем рассеивался туман, обнажая истинную суть вещей. Все идет нормально. Круг сужается. Случай с «Москвичом» мало интересовал Митина. Угон машины был самостоятельным делом и подлежал отдельному расследованию. Пусть им занимается рузская милиция. Материалы этого попутного дела будут приобщены уже на суде и станут для Воронова отягощающим главную вину обстоятельством. «Интересно, что ты запоешь, когда тебе будут предъявлены все улики и доказательства, какие мы собрали?» — думал следователь, незаметно рассматривая Воронова. Тот сидел нахохлившись, часто курил. Лицо его нельзя было назвать привлекательным, скорее наоборот — невыразительное, карие глаза глубоко сидят под сильно выступающими надбровными дугами, большой рот и мощный подбородок молотобойца… И что в нем нашла Таня? Да и Зинаида Симукова, женщина довольно яркая, чем соблазнилась, избрав его своим «условным» мужем? Поистине, любовь зла… Митин перевел взгляд на его правую руку. На тыльной стороне пальцев красовались крупные синие буквы, составлявшие имя Сиротиной. Татуировка была старая, вероятно тюремная. Ах, Таня, Таня, милая доверчивая женщина, о ком ты волнуешься, о ком тревожишься! Знала бы ты, что эта рука, на которой запечатлено твое имя, била молотком женщину по голове… Словно угадав, что следователь думает о Тане, Воронов спросил, показав на сумку в руках Бабина: — Почему взяли сумочку у Тани? — А вы не догадываетесь? Воронов подумал, взгляд его стал острым. — Я один отбирал машину. Она тут ни при чем. Я ей подарил сумочку, и что из этого? Разве не могу дарить? «Ага, значит, ты делаешь вид, что тебя взяли только за „Москвича“? Старый прием. Конечно, лучше держать ответ за то, что отнял машину, чем за грабеж с тяжелым ранением головы. Понятно. Подумаешь, избил парня! Машину-то ведь бросил, она опять у владельца». — Дарить можно. Вы где взяли эту сумочку? — Купил. — В каком магазине? Сколько заплатили? — Двенадцать рублей. На Сретенке, в галантерейном. А-а, ну вас! — Он откинулся на спинку сиденья. — Будут тут всякие еще допрашивать! Ваше дело — доставить меня куда следует. Он не догадывался, что рядом с ним сидит следователь, который еще не раз будет учинять ему допрос.Глава пятнадцатая
Во время позднего обеда жена позвала Сергея Петровича к телефону. Звонил неутомимый Бабин. Оказывается, он уже побывал на Сретенке в галантерейном магазине и видел там сумочки, стоимостью двенадцать рублей. Ну и что из этого? Воронов еще до грабежа мог подбирать подарок для своей Тани, видел сумку в магазине, приценивался. А потом такая же сумка оказалась у Укладовой. Зачем еще тратить деньги? «Можно подарить ее, — думал Сергей Петрович, опять усаживаясь за обеденный стол. — Поэтому и цену назвал правильно, и адрес магазина. А такие же сумочки могли быть и в магаданских магазинах. И Укладова, собираясь на курорт, естественно, захотела купить новую». Рассуждение казалось вполне логичным, но на всякий случай он все же подверг его сомнению. «А не подтасовываю я факты, не подыскиваю хитрые объяснения там, где все может быть значительно проще?» И тут же решил: «Нет, нет и еще раз нет! Совсем уж невероятным совпадением будет, если Воронов купил в магазине такую же сумочку. Это было бы уж слишком! В жизни так не бывает». Утром, прежде чем ехать в больницу, он побывал в следственном отделе, чтобы сообщить Владыкину об аресте Воронова. Но тот, оказывается, уже все знал. — Вас с Бабиным можно поздравить, я слышал? — встретил его начальник. — Пожалуй, можно, — с наигранной скромностью согласился Сергей Петрович. — Молодцы, ничего не скажешь! А что показывает Воронов? Еще не снимал допроса? Что он из себя представляет? — Впечатление, должен сказать, производит крайне невыгодное. Угрюмый, грубый парень… Довольно примитивный. Да я еще и не говорил с ним, в сущности. Хочу сначала в больницу съездить. — Сумочку показать? — А ты откуда знаешь про сумочку? От Бабина? — удивился Митин. — Я все знаю. — Владыкин улыбнулся с загадочным видом. — А твоей Укладовой перевод пришел из Магадана. Двести рублей, как она просила. Можешь получить. — Отдать ей? Как считаешь? Зачем ей сейчас деньги? — Это уж пусть она решает. Деньги ее. Укладова повертела в руках сумочку, вздохнула и сказала? — Нет, не моя. Вообще-то похожа, конечно, но вот эта штука, — она показала на золотистый обод, — у моей светлая. И сумка не такая новая. «Значит, все-таки бывают в жизни невероятные совпадения. Так тебе и надо! Вперед наука, не будешь торопиться с выводами…» — с досадой на себя думал следователь. Он был так убежден, что сумка принадлежит Укладовой, что в этот раз даже не позаботился о том, чтобы сумок было несколько. «И правильно сделал, — успокаивал он себя, — раз не признала эту, другие были ни к чему. В сущности, если рассуждать здраво, то действительно Воронов не должен был дарить Сиротиной такую прямо уличающую его вещь как сумка, отнятая у Укладовой. Скорее всего, уничтожил бы ее». А золотые часы? Тоже улика, однако он подарил их Симуковой. Интересно, подтвердит Воронов, что подарил их ей ко дню Восьмого марта или наплетет что-нибудь другое? Возможно, что они не успели договориться о единой версии происхождения часов? — Меня должны скоро выписать, чувствую себя значительно лучше, — бодро говорила Укладова. — Надоело тут, домой хочу. А деньги эти, Сергей Петрович, оставьте пока, пожалуйста, у себя. Зачем они мне тут? У вас сохраннее будут, — улыбнулась она. — А какие хорошие люди у нас на заводе! Валерий Иваныч такой внимательный. И в завкоме тоже… Обещают новую путевку, подумать только! Эта телеграмма, не поверите, мне дороже денег! Она еще раз перечитала телеграмму и передала соседке по койке. Из больницы Митин поехал в тюрьму. Укладовой он умышленно не сказал, что Воронова удалось задержать, хотя его так и подмывало похвастаться. Она бы взволновалась, стала нервничать, это могло повредить ее здоровью. А ей и так в скором времени предстояло встретиться с бандитом на очной ставке. Поэтому он и промолчал. Воронов вошел в следственную камеру боком, будто в троллейбусе протискивался сквозь толпу. Щеки и подбородок его покрылись короткой темной щетиной, веки глаз покраснели, были воспаленными: вероятно, не спал всю ночь. — Здравствуйте, Воронов! Мы уже знакомы. Я ваш следователь, зовут меня Сергеем Петровичем, фамилия Митин. Садитесь, пожалуйста. Воронов молча поклонился, сел. И стулья и стол в камере были привинчены к полу. Быстро покончив со вступительными вопросами протокола, следователь приступил к допросу: — Скажите, Воронов, вы знаете шофера Астахова? — Астахова?! — Парень мастерски изобразил удивление. — Вот те на! А он тут при чем? В Рузе ведь его не было. И никакого отношения он не… — Вот что, гражданин Воронов, — прервал его Митин, — давайте сразу условимся: про то, что вы натворили в Старой Рузе, поговорим потом. А сейчас разговор будем вести по другому делу. И я прошу вас отвечать на мои вопросы. Знаете вы Астахова Семена Афанасьевича? — Это еще по какому другому? А если я не хочу отвечать? — с вызовом сказал тот. — Кроме машины, за мной ничего нету. — Не хотите отвечать? Пожалуйста. Но, по-моему, в ваших же интересах выяснить, за что вас задержали. Воронов выпрямился. Теперь лицо его уже не казалось невыразительным. Взгляд стал настороженно точным. Будто человек ожидал, что его сейчас ударят, но не знал, с какой стороны. — А мне и так известно за что. Хорошо. Семена Афанасьича знаю. Соседи мы с ним. В одной колонне работаем. Дальше что? — А дальше будет вот что: в ночь с девятого на десятое августа Астахов заходил к вам домой? Был у вас? Как раз перед вашим отъездом в Старую Рузу? Парень поднял на следователя тяжелый взгляд, соображая, какой подвох тот ему готовит. — Неужели не помните? Часов в десять вечера это было. Соседка у вас есть в квартире, старушка, она Астахову дверь открывала. Она может подтвердить. Тот шумно вздохнул. Потом сказал небрежным тоном: — А я и не отрицаю, заходил Астахов. Жена у него, видишь, рожать собралась, подменить просил. А что тут такого? «Так, значит, в главном признался… Почему? Странно… Может, из-за старушки? Не скажи я о ней, пожалуй, стал бы все отрицать. А тут живо сообразил, что отпираться нет смысла. А вот что ты будешь петь, когда про пуговицу узнаешь?» — Ну вот видите, вспомнили! — Почему не выручить? Я же понимал: где тут работать, если жену в роддом отвез! Конечно, не положено так… вроде самоуправство получается. — Нет, почему же? Очень даже похвально, поступили как настоящий товарищ. Значит, вы согласились и подменили его? — Пришлось. — Я так и напишу в протоколе. И всю ночь работали на его машине, возили пассажиров? А утром всю выручку Астахову отдали? Не помните сколько? Воронов наморщил лоб. — Точно не помню сейчас. Рублей двадцать семь, кажется. По ведомости можно проверить. Неужели Семен Афанасьич сомневается? — Нет-нет, он ничего! Кстати, почему в ту ночь у вас шея была платком завязана? Болела? Тот опять шумно вздохнул, отвел глаза в сторону. Следователь внимательно следил за каждым его движением. — С чего это? Ничего у меня не болело. Зачем мне завязывать? — Значит, не бинтовали? А где Астахов молоток держит? Вопрос был неожиданным, и Воронов явно растерялся. — Какой молоток? — Обычный, что в инструменте бывает, в комплекте. — Ну… не знаю. Может, под сиденьем, может… — Значит, под сиденьем? Так и запишем. Конечно, под сиденьем, все шоферы туда кладут, небрежно сказал Митин. — А может, в багажнике. Я откуда знаю, я не смотрел. У меня, к примеру, под сиденьем. — Зачем? У всех в багажнике, а у вас под сиденьем? — А на всякий случай. — Губы парня искривились. — Мало нашего брата, таксистов, думаете, грабят? Будь здоров! Личного оружия нам не полагается, а молотком как-никак, а обороняться можно. Вот и кладу, чтобы под рукой был. — А что, это верно! — согласился Митин. — Можно и по голове им ударить. Глаза у парня сейчас были острыми, внимательными. — Там уж по чему придется… — Вы бы, например, ударили? — А почему бы нет? — недобро усмехнулся тот. — Туго придется, и вы ударите. — Так… ездили всю ночь, возили пассажиров. Так и запишем… Молоток, возможно, лежал под сиденьем. — А может, в багажнике. Я говорю, не смотрел, — опять подсказал парень. — Хорошо, хорошо, я так и пишу. Рука следователя быстро скользила по бумаге. Минута обостренного внимания у Воронова, видимо, прошла, глаза его опять стали тусклыми и сонными. Должно быть, сказывалась бессонная ночь. Он медленно перевел взгляд на распахнутое окно за железной решеткой. Раскаленный двор тюрьмы, похожий на каменный мешок, дышал зноем. — У вокзалов дежурили на стоянках? У Курского, Киевского… или у Казанского? — У Казанского два раза. — Кого возили? — Не помню. Говорит вяло, без всякого выражения. И вид такой, будто не понимает, зачем следователь задает все эти ненужные, лишенные смысла вопросы. Но тот продолжал настаивать. Он знал, когда преступник напускает на себя сонный вид, говорит вяло — это значит, что он начинает понимать, какую сеть плетет следователь и выигрывает время, чтобы найти в ней более широкие ячейки. — А вы постарайтесь вспомнить. Это очень важно, я вас предупреждаю, — с участливой доверительностью сказал Митин. Воронов опять наморщил лоб. То ли от духоты, царившей в камере — голые стены ее были выкрашены масляной краской, — то ли от усилия вспомнить, лоб у него покрылся испариной. Он его не вытирал. «Рано же тебя в пот ударило», — подумал следователь. — Многих возил, всех не упомнишь. — С Казанского вокзала, например? — Ну… военного одного с женой. Ребенок у них маленький. На Арбат отвез. — Он помолчал, потом нехотя добавил: — И гражданку одну… «Вот это интересно! — тут же подумал следователь. — Как же ты дальше будешь выкручиваться? Неужели ты настолько глуп, что… или уж больно хитер? Очень интересно!» — А ее куда отвезли, не помните? — Приезжая она, с поезда. В гостиницу ей надо было. — Отвезли в гостиницу? В какую? Парень молчал. — Я спрашиваю, в какую гостиницу отвезли? — мягко настаивал Сергей Петрович. — Да ни в какую! Шебутная она оказалась… То одно, то другое! Ехали в гостиницу, а то вдруг тут, говорит, выйду. Здесь знакомая живет, у нее, говорит, переночую. А мне что! Хоть в гостиницу, хоть куда. Остановил, где она показала, она и вышла. «Вот ты как решил выкрутиться!» — мелькнуло у Митина. — Где же вы ее высадили? На какой улице? Парень собрал лоб в складки. — Плохо я тот район знаю. Не улица, а переулок… этот… как его? — Может, Клушин? — подсказал следователь. — Нет. — Неужели не помните? У таксистов память отличная. — Вот ведь не могу вспомнить! — Он довольно натурально изображал усилия человека, напрягающего память. — Там еще выбоина на проезжей части у светофора. Как его? — Да не мучайтесь вы, Клушин переулок! — Вспомнил: Петрушевский! Точно, Петрушевский переулок. «Путает, не хочет назвать Клушин. В Петрушевский потом заехал, чемодан выбросить». — А может, все же Клушин? Вы не ошибаетесь? — Говорю, Петрушевский… А Клушин — не знаю такого переулка. — Значит, не были в Клушином? Хорошо. Допустим, высадили ту гражданку в Петрушевском. И куда дальше поехали? — А тут меня вскоре взяли какие-то, в центр их отвез. — Когда гражданку везли, разговаривали с ней? О чем? — Болтала она. А мне чего? Если с каждым говорить, за день, знаете… Митин быстро писал. Приближалась ответственная минута: надо было объявить Воронову, в чем его подозревают. Как он будет реагировать? Почему рассказал все так, как могло происходить до самого грабежа? Парень, кажется, не так-то прост! — Говорила она, что приехала из Магадана? — А что случилось с ней, с этой гражданкой? — впервые проявил он интерес. Казалось, что до него только сейчас дошло, что следователь все вопросы подводил именно к этом пассажирке. Митин вздохнул. — Видите ли, гражданин Воронов, с ней случилась беда. Ограбили ее в Клушином переулке. Ударили по голове молотком, отобрали вещи, деньги. Что вы на это скажете? Он внимательно смотрел на парня. Лицо у того стало серым, брови сошлись в прямую линию, на щеках дрогнули желваки. Будто отдуваясь, он шумно выдохнул воздух. «Ага, побледнел… Скажи любому человеку, что кого-то ограбили, разве он побледнеет от этого?» — Ты смотри… Вот тебе и переночевала у знакомой! Я уехал, а ее, значит, того?.. — Нет, гражданин Воронов, она заявляет, что ограбил и ударил таксист, шофер машины, который ее вез. А везли ее вы! — Она, значит, жива осталась? — нахмурился тот. — А вы думали, умерла? Представьте себе — жива! В том-то и дело. И подозрение на вас падает. — Подозрение пусть падает. А я здесь ни при чем. Мало ли она чего наговорит! Кто-то ограбил, а она, значит, на меня валит? Ого! Пальцы у него мелко дрожали, он их стискивал, переплетал, затем вынул носовой платок и стал мять его. — Вы правы, но, кроме слов, есть еще и факты. Словам не всегда можно верить, а фактам? Им мы обязаны верить. Согласны со мной? Воронов кивнул. — Вот и хорошо. Тогда слушайте меня внимательно. И Митин обстоятельно и подробно, ровным голосом стал рассказывать о всех тех уликах и доказательствах, какие они с Бабиным собрали за эти дни. Воронов слушал не перебивая, часто вытирал шею и лицо — они у него мокли не переставая, судорожно тискал влажный платок, затем расправлял, накручивал на руку. «Вот сейчас ты правильно потеешь, ты напуган тем, как много мы знаем», — отмстил следователь, наблюдая за ним. — Да, кстати! — как бы отвлекаясь от главной темы, сказал он. — Не помните, в каком месяце день рождения гражданки Симуковой, вашей, как бы это сказать… словом, вашей неофициальной жены? — Никакая она мне не жена, — глухо проговорил Воронов. — А день рождения… кто ее знает, не спрашивал я. — Значит, не знаете? Или, может, просто забыли? — Да нет, не знаю. — Так я и запишу в протокол. Согласны? — Пишите, только зачем это вам? — А вот зачем: Симукова сказала, что в день ее рождения вы будто бы подарок ей сделали, золотые часы. А вы даже не знаете, когда день ее рождения! — Ей? Золотые часы?! — удивился тот. — Врет она! На улице она их нашла месяца два назад. Шла, говорит, из кино и нашла их на тротуаре. Я еще удивился… «Правильно! Не успели договориться. О дне Восьмого марта и не упомянул. Надо им устроить очную ставку». — Вот видите, расхождение получается: Симукова — одно, вы — другое. Кому верить? А я эти золотые часы у Симуковой взял и гражданке Укладовой показал — так она их с первого взгляда узнала. Мои, говорит, часы, их у меня с руки сорвали. Интересно, правда? Воронов, не зная, что ответить, подавленно молчал. — Астахов вам спасибо скажет за то, что не влип в эту историю, — продолжал Митин. — Ведь если бы вы не признались, что ездили в ту ночь на его машине, подозрение пало бы на него. Пуговицу-то в его машине нашли. — Это я понимаю, зачем человеку зря страдать? — Вот это хорошие слова! Тут вы говорите, как честный, порядочный человек. — Но ведь… гражданин следователь, получается, будто я ограбил? Ведь так по-вашему получается? — с хорошо разыгранным удивлением произнес парень. — А я о чем все время говорю? Не получается, а так все на самом деле и было. Вы ограбили. Улики это говорят, вот в чем дело. Против фактов что скажешь? Воронов вдруг резко вскочил. Лицо его побагровело, исказилось и стало страшным. Казалось, он сейчас обрушит на следователя удары своих длинных костлявых рук. — А мне плевать, что у тебя получается! — срывающимся голосом закричал он. — Погубить хотите, дело пришиваете? Ишь как ловко подвел! Ты, может, еще скажешь, что я убить ее хотел?! Дверь открылась. В камеру, привлеченный криком, заглянул дежурный по коридору. Митин сделал ему успокоительный знак. — Не знаю, возможно, и хотели. Лишь счастливая случайность спасла женщину от смерти. Благодарите судьбу, Воронов, что она жива осталась. Лучше скажите, где спрятали вещи и деньги? В Москве, в Старой Рузе? Воронов тяжело дышал. Подошел к окну, ухватился руками за прутья решетки, стараясь подавить вспышку ярости. Голос его звучал глухо, говорил он не оборачиваясь: — Ничего не знаю… Не грабил, не убивал. Так в протоколе и запишите. Мало ли чего! Вы сначала докажите, что я грабил… придумать все можно. — А мы ничего не придумывали. Зачем нам придумывать, когда у нас на руках все улики и доказательства? Попробуйте их опровергнуть. Ну, я жду. Молчите? Парнем овладел страх. Он вернулся, сел на свое место, жаднозакурил. Сергей Петрович тоже вынул сигарету. — А как их опровергнешь? — тихо, словно говоря сам с собой, произнес Воронов, глядя в пол. Потом опять истерично закричал: — Не хочу я опровергать! Вы докажите! — Ну вот, опять! — огорченно вздохнул Митин. — Не грабил — и все! Редки случаи, когда преступник сразу признает предъявленное ему обвинение. Обычно изворачивается, лжет, все отрицает. И сдается лишь припертый неопровержимыми уликами, показаниями свидетелей или на очной ставке. Но бывают и такие, что несмотря ни на что все равно упорно отказываются признать себя виновными. По всей видимости, к последней категории принадлежал и Воронов. Митину был знаком этот тип людей; с ними тяжело и противно иметь дело — вопреки логике и фактам, они с маниакальной настойчивостью твердят одно: нет, нет и нет… Неподготовленный к разговору о грабеже, захваченный им врасплох, надеявшийся, что все сведется лишь к случаю в Рузе, Воронов растерялся и тоже пошел по самому простому и легкому пути — отрицанию всего. Но что он будет говорить, когда лицом к лицу встретится с женщиной, которую ударил молотком?Глава шестнадцатая
Процедура предъявления личности подозреваемого жертве ограбления была подготовлена строго по форме. Укладову из общей палаты перевели временно в отдельную, довольно большую, светлую, с двумя окнами, выходящими в сад. Женщину предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. Воронов был доставлен из тюрьмы под конвоем — сопровождал его, кроме Митина и Бабина, конвоир охраны. В коридоре больницы недалеко от палаты, куда была переведена Укладова, дожидались четверо таксистов, специально подобранных Бабиным. Были они молодыми, худощавыми и примерно одного роста с Вороновым. Так требовал закон. Подозреваемый не должен резко отличаться от них наружностью. В кабинете дежурного врача Бабин предложил Воронову надеть куртку со сквозной застежкой — «молнией», в какой тот был в ночь ограбления, и форменную фуражку таксиста. Воронов послушно надел. Был он молчалив, углублен в себя и все указания выполнял механически. Лишь время от времени шумно вздыхал, словно выполнял тяжелую работу. Щетины на щеках не было, тюремный парикмахер побрил его сегодня особенно тщательно. — Здравствуйте, Галина Семеновна! — бодро приветствовал больную Митин, первым вошедший в палату. — Я не одни, мы тут целой компанией. Заходите, товарищи! Укладова приподнялась. Бинт на ней был уже легкий, покрывал лишь часть головы, оставляя лицо открытым. Она была явно взволнована предстоящей встречей с бандитом и смотрела на входивших мужчин внимательно и испуганно. Таксисты без халатов, ступая на носки, гуськом вошли в палату. За ними понятые — няня и медсестра. Митин пропустил их, стоя у двери. Сначала таксисты сбились в кучу, но потом встали у стены шеренгой. Воронов оказался с краю возле окна. Конвоир и Бабин, чтобы не заслонять шоферов, тоже встали у двери. Двое таксистов, самые молодые, почему-то ухмылялись, другие сохраняли серьезный вид. Все уставились на побледневшую больную. — Прошу вас, Галина Семеновна… — начал Митин и не докончил фразу. Укладова вытянула руку, указывая на Воронова, и закричала: — Вот он, негодяй! Этот… Затем зажмурилась, как от яркого света, схватилась руками за лицо и откинулась на подушку. Вероятно, перед ней опять возникла страшная ночная картина, когда грабитель замахивался на нее молотком. Наступила полная тишина. Все повернулись к Воронову. У того медленно опускалась нижняя челюсть. Открытый рот его казался темным провалом на белом лице. Затем произошло неожиданное: он вдруг сильно толкнул в плечо стоявшего рядом таксиста, дико закричал «А-а-а!..», одним прыжком вскочил на подоконник раскрытого настежь окна, мелькнул в нем тенью и исчез. Произошло это в считанные секунды. Все оцепенели. Первым опомнился Бабин, рванулся с места, но ему помешали таксисты: повинуясь невольному импульсу, они уже сгрудились у окна. Он стал расталкивать их, продираясь вперед. Сзади конвоир лязгнул затвором пистолета, пронзительно вскрикнула медсестра. Этой заминке у окна Воронову оказалось вполне достаточно: пригибаясь, кидаясь из стороны в сторону, как преследуемый зверь, он быстро скрылся в путанице узких, заросших кустами аллей. Когда Бабин тоже выпрыгнул в сад с пистолетом в руке, ветки кустарника, потревоженные беглецом, уже перестали покачиваться. Все вокруг было мирно и тихо, будто ничего тут не произошло. В глубине больничного сада стояли какие-то служебные пристройки, штабелем лежали ржавые остовы старых кроватей, тут же невысокая ограда. За ней улица. И остановка автобуса. Бабин посмотрел во все стороны. Недавно отошедший от остановки автобус поворачивал за угол. Люди на тротуаре с любопытством смотрели на конвоира с обнаженным пистолетом, высунувшегося из-за больничной ограды, на встревоженного Бабина. Черт его знает! Может, прыгнул в отходивший автобус или слился с толпой и шмыгнул в ближайший подъезд. И стоянка такси рядом… — Шляпы мы, брат, с тобой оба! Вот что я тебе скажу… — со злостью процедил Бабин, вернувшись к испуганному конвоиру. Регулировщик, сидевший в стеклянном «стакане» на углу перекрестка, издали увидел приближавшуюся на большой скорости «Волгу». Сейчас должен загореться желтый сигнал светофора, поставленного на автоматическое переключение. «Ведь не успеет затормозить, на красный поедет…» — подумал милиционер, заранее зная, как будет оправдываться нарушитель, и приготовился дать свисток. Так и случилось: не снижая скорости, «Волга» проскочила перекресток, когда желтый сигнал уже сменился красным. Вслед ей раздалась трель милицейского свистка. Но машина не остановилась. Милиционер взял трубку телефона, чтобы предупредить о нарушителе соседний пост, по передумал: что-то в поведении машины было такое, что заставило его положить трубку на место. «Неспроста она так…» — решил он. Только что, буквально минуту назад он получил по телефону сообщение от дежурного по городу о дерзком побеге из-под стражи опасного преступника. — Давайте предупредительный сигнал, — приказал Митин. Теперь перед машиной открывалась «зеленая улица»: услышав издали резкий и продолжительный звук сирены, регулировщики неожиданно для шоферов переключали светофоры на желтый свет, поднимали полосатые жезлы. Скорее! Скорее в Старую Рузу… Преступник, прежде чем окончательно скрыться, непременно должен заглянуть туда. Там, и скорее всего у Сиротиной, он спрятал деньги, отнятые у Укладовой. Он должен за ними явиться. Без них ему будет значительно труднее скрываться. Последний поворот. Мелькнул справа светлый цилиндр Бородинской панорамы, и машина легла на курс. Вот где Луков мог показать свое мастерство. Он плотно сжал губы, чуть прищурил глаза. Проскочили Кунцево, Сетунь… Загудел ветер, цифра 100 на спидометре, как магнит, медленно притягивала к себе красную стрелку. — Не гоните так, успеем, — сказал Митин. — Ничего, Сергей Петрович, ничего! Луковым уже овладел азарт. Сейчас он участвовал в гонках. Его соперником был неизвестный таксист, в машине которого сидел Воронов. Наверняка он обещал таксисту щедрое вознаграждение, и тот выжимал из машины все, что мог, махнув рукой на возможный прокол в техталоне. — Как дети, в самом деле! Никогда не прощу себе, — процедил сквозь зубы Митин. — Стыд и позор! Ай, какой стыд! Всю дорогу от больницы он молчал, забившись в угол. Бабин понимал его состояние и тоже держал язык за зубами. У него самого на душе было скверно. — Это я виноват, Сергей Петрович, — вздохнул он. — Что мне бы встать у окна! Это ведь так элементарно! Да и кто мог подумать? Таксисты помешали, сгрудились как бараны. У меня бы не ушел, как миленького положил бы. — Драка кончилась, Алеша. Не маши кулаками. — А может, еще начнется? В Рузе. Стрелка за стеклом спидометра перевалила за цифру 100. — Нам еще аварии не хватало, — проворчал Митин. Впереди шли грузовики с сеном, показалась встречная машина — обгонять грузовики было рискованно. Стрелка спидометра послушно поползла влево. Наконец грузовики удалось обогнать, впереди чистая лента шоссе, можно опять увеличить скорость — и снова препятствие: колонна автобусов с красными флажками. В окнах детские лица, ручонки с букетиками цветов. Неужели Воронов окажется победителем в гонках? В Рузе, высадив следователя и оперативника недалеко от дома Сиротиной, Луков проехал дальше и загнал машину в чей-то двор, чтобы не мозолила глаза. Было решено, что он тоже примет участие в операции. Одет он был в штатский костюм и поэтому мог ждать приезда Воронова на улице и, когда тот войдет в дом, занять позицию снаружи возле окна. Окно в комнате Тани было единственным, и если Воронов, как в больнице, вздумал бы выпрыгнуть из него, то угодил бы в руки Лукова. Таня выходила из дверей, когда гости появились во дворе. — Здравствуйте! — удивилась она. — А я как раз в Москву собралась, к вам. Степана искать. Значит, успели, значит, Луков не напрасно выжимал такую скорость. — А мы сами пожаловали. Здравствуйте, Татьяна Акимовна. Не ждали нас? В комнате, куда все вошли, женщина выслушала, зачем они опять приехали в Старую Рузу, и горестно всплеснула руками: — Дурак! Ах, какой дурак! О чем он думал? С этой машиной ведь такая ерунда! Я все узнала… А теперь? Боже мой!.. Митин строго попросил ее замолчать и делать то, что ей будет приказано. А приказано было сесть на стул так, чтобы ее не было видно снаружи, и самой на улицу не смотреть ни в коем случае. Она поняла, побледнела от испуга и послушно села. И даже руки сложила на коленях. «Как провинившаяся школьница», — подумал Сергей Петрович. Сам он расположился в крохотной кухоньке. Бабин засел в чулане. Если Воронов появится, все пути бегства ему будут отрезаны. Потянулись томительные минуты. Оба не курили. Сергей Петрович был по-деловому спокоен. Рассматривая простенькую посуду на полках, он сожалел, что не взял наручники. И еще молил бога, чтобы никто из соседей не зашел навестить Таню. Он привык почему-то мысленно называть ее не по отчеству, не по фамилии, а только Таней. Если зайдет женщина, еще ничего, а мужчина мог внести ненужную путаницу. Дешевенькие ходики на стене всегда тикали тихо, Таня обычно не слышала их. Сейчас их сухой, отрывочный стук казался ей зловещим. Он наполнял всю комнату, от него начиналась боль в висках. Она смотрела на маятник и не могла отвести от него глаз. За окном прошли какие-то женщины. «Нюрку возьмем по грибы…» — услышала она обрывок разговора. Когда же кончится эта мука? Она страстно хотела, чтобы Степан не приезжал, и одновременно боялась, что он не приедет. Нет, пусть приезжает, пусть… так будет лучше. Только скорее! Желание ее исполнилось. В тишине сонной от жары улицы послышался шум автомобиля. Он все ближе, ближе… затих! Таня стиснула руки. Вот знакомые шаги на ступенях крыльца, в сенях… Воронов быстро вошел в комнату и первое, что видел, были широко раскрытые, с ужасом смотревшие на него глаза женщины. — Таня! Танюша… что с тобой? В следующее мгновение он услышал за своей спиной негромкий властный голос: — Руки вверх! Спокойно! Он оглянулся. Следователь и оперативник, появившиеся одновременно, направили на него пистолеты. Мрачное лицо Бабина не предвещало ничего хорошего. Воронов мгновенно понял все. Он не поднял руки, а просто опустился на ближайший стул. На лице у него осталось то же выражение, с каким он обратился к Тане. — Встать! Он встал. И хотя в больницу он был доставлен прямо из тюрьмы и по дороге сюда тоже вряд ли мог обзавестись оружием, Бабин подскочил и быстро и умело провел руками вдоль его тела, ощупывая те места под одеждой, где могли быть нож или пистолет. — Зачем, зачем ты это сделал?! — в исступлении закричала Таня, бросаясь к Воронову. — Гражданка! Нельзя… Она застыла посреди комнаты, как перед невидимой преградой. Воронов не к месту, как будто это было сейчас главным, сказал: — За такси уплатить надо. У меня есть деньги в чемодане. — Почему ты ничего мне не сказал? Я узнала в лагере… Не виноват ты… и судить бы не стали! Степа, зачем ты?.. — Тут, Таня, новое дело… Машина — это чепуха! Только ты не верь, слышишь, не верь ни ему, — показал он на следователя, — никому другому. Поняла? Не верь! Обещаешь мне? Скажи, обещаешь? Она не слушала его. — Зачем ты убежал? Ну не дурак ли? Все так хорошо было… — Действительно, Воронов, большого дурака вы сваляли! — как бы сочувствуя, подтвердил следователь. — Показывайте, где спрятали вещи и деньги? — Так вы же видели все его вещи! — закричала Таня. — И деньги взяли из чемодана. — Он знает, о каких деньгах речь, не беспокойтесь, — сказал Сергей Петрович и повернулся к Воронову: — Ну, где? — А-а ну тебя с твоими деньгами! Митин пожал плечами: — В таком случае, прошу на выход! Только теперь уж, пожалуйста, без глупостей. Таня обхватила Воронова за плечи, прижалась, точно защищая его собой. Лицо у пария стало жалким и беспомощным. Он даже не поцеловал женщину. — Запомнила? Я ни в чем не виноват. Веришь мне? — Верю, Степа, верю! — Береги Андрейку. Я вернусь к вам. Будешь меня ждать, Гудешь? Сцена была тягостной. Сергей Петрович забыл на минуту, что перед ним преступник; два любящих человека переживали драму, прощались перед разлукой — он знал, на долгие годы, — не могли оторваться друг от друга. Лишь Бабин, казалось, был глух к душевным переживаниям. Палец его твердо лежал на спусковом крючке пистолета, из-под насупленных бровей он смотрел, как кошка, которая в этот раз уж не упустит добычу. Итак, круг замкнулся. Не спасла Воронова и последняя, отчаянная попытка — побег из-под стражи. На обратном пути он сидел молчаливый, словно равнодушный ко всему, что с ним произошло. Митин смотрел на меняющиеся за окном пейзажи и обдумывал порядок пунктов обвинительного заключения, которое ему предстояло писать. Материала было вполне достаточно, чтобы на суде преступление было доказано и Воронов получил заслуженное наказание. «Москвич» в Старой Рузе и избиение его владельца усугубляли основную вину Воронова и еще больше характеризовали его как личность, опасную для общества.Глава семнадцатая
Владыкин был в благодушном настроении. Оно было вызвано вкусным обедом, утихающей усталостью после напряженного дня работы и перспективой сыграть с другом несколько интересных партий в шахматы. Жена уехала в санаторий, и он на правах временного холостяка зачастил в последнее время обедать у Митиных. Убрав со стола посуду, Нина Степановна ушла с дочкой к соседке, оставив мужчин одних. Владыкин, удобно устроившись в низком кресле, лениво листал журнал, задерживаясь лишь на фотографиях, Сергей Петрович сидел за журнальным столиком и внимательно, словно изучая, смотрел на дым от сигареты, поднимавшийся к потолку тонкой синей струйкой. — Что-то ты сегодня задумчивый, Сергей, я замечаю. Почему? Воронова взял, все у тебя вроде в порядке. Ты вот не знаешь, а сегодня звонили с кожевенной фабрики — главный инженер у них, видите ли, вдруг прервал свой отпуск и вернулся. Смекаешь? Вероятно, кто-то из друзей сообщил ему, что дело пахнет керосином. — В порядке-то в порядке… я о другом думаю… — Митин почесал свой утиный нос и вздохнул. — Можно полюбопытствовать, о чем именно? — Не поймешь ты! Ну хорошо. Представь, о двойственности человеческой натуры и о неожиданных и потому трудно объяснимых движениях души. Вот какие сложные мысли меня одолевают. Понял или нужно повторить. — О чем, о чем? О движениях души? Ну, знаешь, это после сытного обеда тебя так… Тащи шахматы. Могу дать фору, ладью хочешь? — Да погоди ты! — поморщился Сергей Петрович. — Можешь ты быть серьезным? В шахматы еще успеем. Ты выслушай меня. — Ну валяй, валяй! — «Валяй»! Нет, верно, серьезно… Я вот думаю… как бы то тебе объяснить? Ну, скажем, я, например, отлично понижаю какую-нибудь там тигрицу, которая только что перегрызла горло антилопе и через минуту уже с нежностью и заботой облизывает своих детенышей. Тут все понятно: тигрица не преступница, для нее антилопа — добыча, и только. Тут действуют могучие инстинкты. А люди? Помимо инстинктов у них, что ни говори, есть сознание. Они сознательно преступают законы головные, нравственные… словом, ты понимаешь меня. — Понимаю, но не улавливаю, к чему ты клонишь. — Сейчас поймешь. А люди? Как один и тот же человек, только что сознательно совершивший страшное злодеяние, вдруг тут же, вслед за ним совершает сердечный, гуманный поступок? Как? Почему? То он поворачивается к людям свет-той стороной души, то темной. Какая в нем превалирует? Чем, каким инструментом измерить эти стороны, на каких весах взвесить добро и зло? Вот о чем я думаю. И ошибиться тут нельзя. А вдруг инструмент окажется неточным, а весы вру г? — Тема хоть и старая, но серьезная. — Владыкин потянулся за сигаретами. — Ну что ж… Во-первых, мы с тобой не суд, который определяет меру опасности человека для общества. Точные инструменты и весы — его забота. Это раз. А во-вторых… — Он прикурил от газовой зажигалки. — Вот ты говоришь о двойственности человеческой натуры. Что значит двойственность? Не то слово. Многогранность! Именно многогранность. По-твоему, если человек один раз совершил злодеяние, то и потом тоже только и должен злодействовать? Ходить с мрачным видом и придумывать, что бы еще такое натворить? Так получается? — Это само собой! Я понимаю… Конечно, не бывает, как бы это выразиться… непрерывных преступников, что ли. Я не о том… — И людей, совершающих только одни добрые поступки, тоже не бывает, — перебил его Владыкин. — Это были бы не поди, а какие-то схемы, какие-то роботы с заранее заданными свойствами. И жить с такими людьми было бы скучно и противно. Ты вспомни хотя бы уголовников из штрафбата. Помнишь? Какие чудеса храбрости они показывали на фронте! И, заметь, грудью защищали от врага землю, по которой сами в мирное время рыскали как волки. Народ их ловил, сажал за решетки, а они за этот народ потом на смерть шли. Тут, брат, сложный комплекс, не так все просто. — Война — это особое дело, я понимаю. Тогда был общенародный подъем, у всех естественное чувство патриотизма. Ну, и у воров тоже… А вот в мирное время, сейчас, когда мы заняты будничными делами и на наши души не давят такие грозные события, как война? Как сейчас в человеке могут уживаться рядом добрые поступки и злые? А? Причем, заметь, человек творит добро, рискуя своим благополучием! Вот что непонятно. Владыкину, вероятно, надоел пустой, беспредметный разговор на абстрактную тему о добре и зле, он с хрустом потянулся и сказал: — А вот так и уживаются. Как соседи в коммунальной квартире: один добрый, другой злой. Ты лучше вот что… Хороший следователь должен быть наблюдательным, а ты и не заметил! Как, нравятся? В Военторге купил. Самые модные! Он легко вскинул ногу, показал новую сверкающую туфлю с широким тупым носком. — Ты погоди, я серьезно, — отмахнулся Сергей Петрович. — Тут интересный случай. Послушай, что я тебе расскажу… Утром, подходя к следственному отделу, он увидел у подъезда двух женщин, поджидавших его. Одна была Таня Сиротина, другая незнакомая — просто одетая, немолодая, в цветном платке. В его крохотной комнатке, куда он их пригласил, женщины осмотрелись. Поразило их окно с железной решеткой. Переглянулись между собой. Затем Таня с ходу начала: — Не виноват Степан. Может, в чем и виноват, но не совсем. Вы, товарищ, послушайте, как было. Теперь я все знаю, а вот она подтвердит. Это Маша Зыбина, — показала она на женщину в платке. — И еще есть свидетели. Митин мягко прервал ее: — Татьяна Акимовна, извините, вы о том, что в Рузе произошло? Как он машину отобрал? Дело в том, что… — А в чем же еще? Ведь его за это взяли? Вы послушайте. В тот день мы разминулись с ним: я из лагеря, а он ко мне. Не было меня в лагере, понимаете? А там несчастье случилось… Маша Зыбина, сидевшая рядом с ней на диванчике, вдруг заплакала. Но сейчас же вытерла глаза и, сдерживая, волнение, заявила: — Вы судить его хотите… а он мне Валюшу спас, дочку. Я за него жизнь отдать готова! Следователю невольно пришлось слушать. В пионерском лагере в тот день действительно произошла тревожная история. У двенадцатилетней пионерки Вали Зыбиной начался острый приступ аппендицита. Если девочку немедленно не отправить в городскую больницу, где ее срочно оперировали бы, ей грозила смерть. В лагере началась паника. Мальчишки вызвались нести девочку девять километров на раскладушке. Бросились на две ближайшие дороги ловить машины. Но места там глухие, и машин не оказалось. В это время в лагерь пришел Воронов. Узнав о несчастье, тоже кинулся на поиски машины. Ему повезло: навстречу не спеша двигался «Москвич». Воронов встал посреди дороги, поднял руку. Машина остановилась. За рулем сидел тот самый юноша — сын врача. Не в пример всеми уважаемому отцу, молодой человек оказался бессердечным: узнав, зачем его остановили, заявил, что это его не касается, что он едет по своим делам. — Вы не знаете Степана — он горячий, ух! — говорила Таня, блестя глазами. — Чуть что несправедливо, сразу вмешивается. А тут такое! Девочка умереть может каждую минуту, а этот мозгляк… Степан, конечно, вытащил его из машины. А тот, дурак, в драку. Это со Степаном-то! — нервно рассмеялась она. — Ну, он ему наподдал как следует. А как вы поступили бы на его месте? По-честному, как? Она смотрела в глаза твердо, требовательно. Уклониться от ответа нельзя было, и следователь сказал с улыбкой: — Пожалуй, так же. — Вот видите! Почему же Степана не выпускают? Того судить надо, а не его! — Мы с Вален теперь ему по гроб жизни… Степан доставил девочку в больницу. Машину бросил тут же, напротив подъезда. Почему не рассказал Тане о происшествии? Женщина замялась: — Как вам сказать? Вы не знаете его, а он такой… если что плохое сделает, всегда сам скажет. А хорошее — молчит. Скромный он, понимаете? Потом бы, может, и сказал, позднее… — …Вот тебе и двойственность! Или многогранность, — заключил свей рассказ Сергей Петрович и продолжал горячо и страстно: — Подумай сам, он только что совершил кровавый ночной разбой. Он, естественно, боится всякого соприкосновения с милицией. Тем более, он не уверен, что его уже не ищут, не идут по следу. Ты слушаешь меня? Владыкин кивнул. — И вдруг решается на подобный поступок! Любой преступник прежде всего думает о своей безопасности. Уж мы-то с тобой это хорошо знаем. Кто ему эта девочка в пионерском лагере? Станет он из-за нее рисковать? Да ни за что! А риск огромный! Ведь узнал же его на улице этот мозгляк, задержала рузская милиция. Могли сообщить в шестой таксомоторный парк. Ведь Таня знает, где он работает. А там его ищет московская милиция… Вот тебе и пожар! Сгорел Воронов, как свеча. Он же мог это все предвидеть? Мог. И все же решился. Как хочешь, а мне непонятно, меня озадачивает это сочетание кровавого преступления и гуманного поступка, эта забота о совершенно чужом ребенке! Рядом улеглись, как две горошины в одном стручке. — Горошин в стручке не две, а много. Я же говорю, человек существо многогранное. От него всего можно ожидать, — серьезно заговорил Владыкин. — Ты прав, было бы понятно, если бы приступ аппендицита случился у этого, как его… у Андрейки, у сына Тани. Он мальчишку знает, маму его, по всей вероятности, любит. А девочка? Шут его знает, неожиданно для себя вдруг сверкнул одной из своих граней, а? Мог сверкнуть? Парень молодой, в тюрьме сидел за драку, испортился там, но не окончательно. — Потом, может, локти грыз бы, проклинал себя… — Вот именно! А тут поддался душевному порыву. Нам бы с тобой, Сергей, защитниками его быть на суде, адвокатами, — рассмеялся Владыкин. — А с другой стороны, кто знает, не мог он ширму построить из этого «Москвича»? Тоже но исключено. Быстро смекнул, что ему выгодно, если его возьмут по пустяковому делу. Пока суд да дело, а мы бы искали его том временем по белу свету. — Нет, — возразил Сергей Петрович. — Я тоже раньше думал, что он прикрывается «Москвичом». Нет. Он и вел бы себя иначе, постарался бы сам засыпаться, а не ждать, пока его тот мальчишка увидит на улице. И при аресте, и на допросе все про Рузу говорил, уверен был, что его только за это и взяли. И не поехал бы из Москвы со знакомым таксистом. Спокоен за себя был, понимаешь? Нет, тут ширмы нету. — Ну, ладно. А меня вот еще что интересует: почему это он у тебя на допросе, как ты говоришь, признался, что вез Укладову с вокзала? Согласись, что странно! Ведь мог прост сказать, что не возил. Не возил — и все! Это же так просто! А он признался… — Не возил! Я сам сначала удивился, что за дурак, думаю. А потом понял. Парень, видно, тоже с головой, и догадался, что уж если мы его взяли, то это значит, что нашли какие-то доказательства, какие-то следы, что Укладова ехала именно в его такси. Понимаешь? Ведь пуговицу-то мы в его машине нашли. Поэтому на всякий случаи по-умному и признал, что вез. А чем еще можно объяснить? Только этим. Везти — вез, высадил где-то, но не грабил. В том, что вез — никакого преступления нету, почему не признать? Логично? — Хватит, довольно! — взмолился наконец Владыкин. — В отделе весь день сплошная уголовщина и здесь. Тащи шахматы! Митин пошел в другую комнату, где высоко на шкафу, подальше от дочери, хранил доску с фигурами. Он не стал испытывать терпение друга рассказом о том, что еще узнал от Тани. Существенного отношения к преступлению Воронова это не имело. Простая, немного грустная история о том, как человек из-за незрелости своих чувств глубоко обидел любимую женщину, но затем осознал ошибку и стал ее исправлять. И имела бы эта история, по всей вероятности, счастливый конец, если бы Воронов не сорвался. Она была интересна Сергею Петровичу, поскольку касалась его подопечного, пересказывать же в подробностях его жизнь начальнику он счел лишним. Молодые люди познакомились вскоре после возвращения Воронова из армии. Тане нравился парень, хотя она и видела, что он был некрасивым. Зато, по ее словам, Степан был серьезным, честным и отзывчивым. Даже слишком, говорила она, не сознавая, что слово «слишком» не применимо к хорошему. Собирался учиться, так как сам чувствовал, что образования ему не хватает. Был вспыльчив, горяч, особенно в гневе. И отходчив. Взорвавшись, накричав — тут же успокаивался и говорил с виноватой улыбкой: «Не обращай на меня внимания. Погорячился, больше не буду, виноват, прости!» В такие минуты он казался ей красивым. Даже его горячность и вспыльчивость нравились ей. Единственное, что омрачало Таню, было отношение Степана к ее двухлетнему сынишке. Вернее будет сказать, почти полное отсутствие какого-либо отношения к ребенку. Таня, несмотря на свою молодость, была уже вдовой. Муж, к которому она, по ее же словам, была не очень привязана, работал на железной дороге и по собственной неосторожности погиб под колесами вагона. В сыне молодая мать, конечно, души не чаяла. А Степан его и знать не хотел. Никогда о нем не говорил, не играл с ним, не приносил игрушек и гостинцев и вообще вел себя так, как будто крохотного человечка не существовало на свете. Тем более, что малыш часто гостил в Старой Рузе у Таниной матери. Степан, казалось ей, демонстрировал чистейший эгоизм, так часто присущий легкомысленной молодости. Таню это глубоко оскорбляло и возмущало. Как она могла соединить свою жизнь с человеком, который был так равнодушен к ее сыну! И когда однажды он попросил ее стать его женой, но поставил условием, чтобы первые несколько лет Андрейка жил отдельно от них у бабушки, она категорично и гневно ответила ему отказом. А вскоре Степан из-за своей вспыльчивости ввязался в какую-то нелепую драку и сел в тюрьму на пять лет. Она получала от него письма, но не отвечала на них. Обида была такой, что женщина не сообщила ему даже о своем переезде в Старую Рузу, где у нее тяжело заболела мать. Шло время, боль в сердце утихала. Таня вспоминала Степана все реже, а затем и вовсе вычеркнула его из памяти. Но он появился вновь. Отбыл срок, вернулся в Москву и какими-то путями разыскал Таню. При первой встрече он молча и эффектно показал женщине руку, на которой навечно было наколото ее имя. И — странное дело — этот жест и татуировка заставили учащенно забиться сердце Тани. Она вдруг поверила, что все эти тяжелые годы он помнил о ней, думал и любил. Это так и было. Тюрьма портит немногих, большинству она идет на пользу — дает время продумать прошлую жизнь, проанализировать поступки, многое осмыслить и сделать нужные выводы. Так произошло и со Степаном: вернувшись, он честно и прямо сказал Тане, что был дураком, признал себя неправым, умолял забыть прошлое. Рассказал, почему прежде так избегал Андрейку: оказывается, в раннем детстве покойная мать однажды случайно надолго оставила его одного в комнате соседки с плачущим младенцем. Ребенок надрывался от крика, а маленький Степан смотрел на него с ужасом и не мог убежать дверь была закрыта. Потрясение оказалось столь сильным, что с тех пор — конечно, это глупо, — и, будучи взрослым, он избегал маленьких детей. Андрейка уже не считался маленьким. Это был шустрый, любознательный до надоедливости мальчишка, мечтающий сидеть за рулем самосвала. А Степан как раз был шофером. Можно представить, как они подружились на почве общих интересов! Таню это радовало, притаившаяся в глубине сердца любовь к Степану расправила крылья, обрела новую силу. Воронов честно рассказал ей о Зинаиде Симуковой, о том, как проявил слабость и поддался энергичной и настойчивой атаке пробивной женщины. Но вскоре понл, что та преследовала лишь корыстные цели — прельстилась его якобы высоким заработком на «чаевых». А он их терпеть не мог. На этой почве у них непрерывно возникали ссоры. В последний приезд в Рузу Степан рассказал Тане, что с Симуковой у него все кончено. — Вы представить не можете, как они с Андрейкой подружились! — оживленно говорила молодая женщина. — Мальчишка бредит им, только и ждет, когда тот из Москвы приедет. Вместе игрушки мастерят. Возникновение взаимной симпатии всегда загадочно и непонятно. Возможно, тут играют какую-то роль биотоки или еще что-то, но человек, питающий к кому-либо необъяснимую симпатию, чаще всего в ответ получает то же самое. Сиротина, например, еще на фотоснимках понравилась Митину. В дальнейшем чувство симпатии к ней росло, укреплялось. Он пытался настроить себя на недоверчивый лад, подвергать сомнению все, что она говорит, — и не мог. Она тоже, вместо понятной в ее положении неприязни к человеку, который в ее глазах олицетворял власть и закон, допустивших несправедливость к ее возлюбленному, вдруг доверчиво, как очень близкому, рассказала Сергею Петровичу все о себе и Степане, не скрывая и не стесняясь самых потаенных своих душевных переживаний. Маша Зыбина, о которой Таня, казалось, забыла, слушала ее с застывшей на лице чуть скорбной улыбкой умудренной женщины, знающей суровую сторону жизни. А Митин все это время мучился, ощущая за пазухой тяжесть камня, каким ему предстояло ударить Таню. Он все оттягивал эту минуту, откладывал. Но сколько можно тянуть? Наконец, собравшись с духом, проклиная себя и свою профессию, он бесстрастным голосом сообщил ей, в чем подозревается Воронов и почему его все еще не выпускают. Ведь Укладова-то лежит в больнице, у нее пробита голова, похищены вещи и деньги, утешал он себя. По мере того как следователь говорил, кровь отступала от лица Тани, казалось, она не выдержит повой тяжести. Он отвел глаза в сторону, чтобы не смотреть на нее. Зыбина материнским движением схватила руки Тани в свои. Ее глаза тоже расширились от страха. — Кстати, можете получить свою сумочку. Произошла небольшая ошибка… Словом, она нам не понадобилась, — торопливо закончил свой рассказ Сергей Петрович. Он достал из стола сумку и отдал женщине. К его удивлению, Таня выдержала удар. Неизвестно, где она взяла силы, чтобы справиться с охватившими ее чувствами, по вместо крика и слез, которых он ожидал, она только покачала головой и сказала с глубокой укоризной: — Как вам не стыдно говорить такое! Это неправда. Не мог он… Он просил не верить вам, я и не верю. Все неправда! Голос ее окреп, говорила она с глубокой убежденностью. Митину показалось, что она обращается не к нему, а говорит сама с собой. — К сожалению, Татьяна Акимовна, все так и есть, — вздохнул он. — У нас на руках все улики и доказательства, понимаете? Сам Воронов не может их опровергнуть. Так что… Он развел руки. Она смотрела на него ясными глазами, с выражением спокойной сосредоточенности на бледном лице. — Пусть улики, пусть доказательства. Я в этих вещах плохо разбираюсь. Я знаю Степана, и с меня этого достаточно. Не мог он, понимаете, не мог! И я докажу вам это. Пойдемте, Маша! Митин почувствовал облегчение, когда женщины ушли. Ему понравилось, что Таня проявила силу и стойкость и вместе с тем удивляла ее наивность. Что она сможет доказать? У нее одна эмоциональность, слепая вера в своего Степана, основанная только на любви. А тут неопровержимые факты. Жалко, конечно, женщину и ее сынишку — чуть было он не обрел нового отца, да и она уже стояла на пороге счастья, но что поделаешь! Следователь был доволен: после беседы с Таней образ Воронова в его представлении стал более полным. Все это время он был для него в какой-то мере фигурой абстрактной, грабителем, и только теперь обрел неповторимые черты характера, словно бы ожил, стал более выпуклым, с биографией и нелегкой судьбой. Судьба у пария, надо признать, была далеко не той, о которой можно мечтать: в дошкольном возрасте лишился родителей, воспитывался в детском доме, сам пробивал дорогу в жизни, служил в армии, потом тюрьма… Ну, тюрьма — это хотя и тяжелый, но случайный эпизод. И до тюрьмы, и после нее жил нормально, работал, пытался, правда неудачно, устроить личную жизнь. И вдруг — следователь поморщился — надо же выкинуть такой номер! Ему казалось, что, идя на грабеж, Воронов, вероятно, хотел лишь получше обеспечить Таню и Андрейку. А получилось хуже, получилось совсем плохо — жизнь и у него самого пойдет кувырком, и Тане будет несладко. Дождется ли она его в этот раз? «И как это в человеке уживаются такие крайности?» — задавал он себе вопрос, думая о происшествии с «Москвичом» в Рузе. Поэтому и начал перед шахматами теоретический разговор с Владыкиным. Говорят, что понять человека — значит простить его. У Митина не возникало желания простить Воронова, но он поймал себя на том, что сейчас у него уже не было к грабителю прежней холодной враждебности. «Старею, делаюсь сентиментальным…» — подумал он.Глава восемнадцатая
Очередная встреча с Вороновым в тюрьме — хотя он сам себе в этом не признавался — еще больше озадачила Митина. Воронов вошел в следственную камеру с видом человека, которому уже нечего терять, все трын-трава. Закрыл за собой дверь, встал в позу и запел:Глава девятнадцатая
Дверь громко скрипнула, заставив Симукову оглянуться. Петли она нарочно не смазывала, чтобы слышать, когда кто-нибудь войдет в маленькое подсобное помещение. Сейчас оттуда глядело на нее круглое, лупоглазое лицо Тамары, знакомой продавщицы из соседнего магазинчика «Ткани». Она делала знаки рукой, подзывая к себе. — Извините, я на минутку… выбирайте! — Симукова бросила перед покупательницей на стекло витрины груду простеньких косынок, прошла к Тамаре. — Предупредить хочу, — тихо заговорила та, — слушай сюда: никого не примечала? — Нет, а что? — Шныряет тут одна… Я подумала, может, из ОБХСС? Броде не похожа. Про тебя спрашивала. Симукова нахмурилась: — Еще чего! Какая она из себя? — Так, невидная. Одета простенько… их ведь не разберешь. Говорит, извиняюсь, рядом с вами, говорит, не Зинаида Симукова в киоске работает? А сама покраснела, как зарево. Ее, говорит, ищу. Я говорю, она и есть. А потом подумала, может, напрасно сказала? — Ново дело! — Симукова вскинула брови. — Не примечала никого. Ко мне не заходила. Спасибо, Томочка! Я не боюсь, у меня — ажур! И все же неосознанная тревога шевельнулась у нее в груди. Пора было закрывать киоск. На каждую покупательницу она бросала изучающий взгляд. Но шныряющая где-то вокруг загадочная особа так и не появилась. Это совсем не поправилось Симуковой. Все объяснилось, когда, закрыв киоск, она миновала людную привокзальную площадь и вышла на высокий Бородинский мост. — Извините, можно с вами поговорить? Она оглянулась. Почти рядом, догоняя ее, шла молодая стройная женщина. Лицо ее сразу показалось Симуковой знакомым, но где ее видела — не помнила, лишь подумала, что, вероятно, о ней предупреждала Тамара. — Почему нельзя? Если вам нужно… На всякий случай она приветливо улыбнулась. Но уже в следующую минуту улыбка исчезла с ее лица. В женщине она узнала девушку, которая была на фотографии у Степана в столе. — Мне надо… я хочу… о Степане нам надо поговорить… — сбивчиво начала Таня, бледная от волнения. — Ведь вы Симукова? А я Таня… Татьяна Сиротина. Вы знаете, что Степан арестован? Конечно, знаете, следователь говорил… Обе остановились, одинаковым движением положили руки на чугунные перила. Симукова тоже побледнела. Но ее бледность была вызвана другим чувством: она с недобрым любопытством в упор смотрела на Таню, сузив красиво подведенные глаза. В них горели злые огоньки. — Явилась, пожаловала… А я, дура, не пойму, к кому, думаю, он каждое воскресенье ездить повадился? И невдомек. А оно вон оно что! Хранил он твои карточки, подтвердить могу, в ящике стола хранил, на самом дне. И мне не показывал. За чем же, подлая, ко мне пожаловала? Она говорила тихо, свистящим шепотом, чтобы не привлечь внимание людей, идущих мимо. Таня, казалось, не видела открытой враждебности, она так волновалась, что вряд ли до нее доходил смысл слов Зинаиды Симуковой. — Зина… можно мне вас так называть? Это ужасно, Степан в тюрьме. Он ни в чем не виноват, вы знаете его… Он но может быть виноватым! Зина, выслушайте меня! Спасать надо Степана, слышите — спасать! — Не кричи, дура! Люди идут. Теперь меня слушай, разлучница. Она тоже задышала бурно, ее глаза с разлетающимися бровями стали похожи на кошачьи. — Хотела получить Степана? Вот и получила. Ешь его теперь хоть с солью, хоть с перцем. Сел в тюрьму — значит, заслужил. Поняла? Ты и спасай. А я тут при чем? Ново дело! Может, вместе вы с ним чего натворили… — Зина, Зина, не то вы говорите! — Таня в отчаянье ломала руки. — Ну зачем вы так? Я понимаю… мы обе женщины. Выслушайте меня! — И слушать не буду! — Не звала я его, не разлучала. Он сам пришел. Не о том сейчас. Следователь говорит, часы у вас золотые. Это самая гласная улика. Будто Степан вам подарил… А Степа говорит, что вы их на улице нашли. Для Степана это очень важно, вы даже не представляете как! Его обвиняют, будто женщину ограбил, убить хотел молотком. Это ужасно! И часы у нее отнял… — Степан убить хотел? Дурак твой следователь! — Спасать его надо. А часы — улика, понимаете? Где вы их взяли? Степан не мог вам подарить. — Где взяла — мое дело! Мои часы. Не хочу в ваших делах чествовать, вот мой сказ! Своих забот хватает. Кончен разговор! Она круто повернулась от уронившей руки Тани, сделала несколько шагов и остановилась. Таня замерла. Симукова обернулась, смерила ее взглядом с головы до ног и внятно казала: — И что он только в тебе нашел? Ты ведь тощая, как вобла! Солнце опустилось за здание Киевского вокзала. Высокая Пашня с орлами, распластавшими крылья на углах, казалась на пламенеющем небе вырезанной из черной бумаги. Из-под фолета моста выплыл белый речной трамвай, переполненный пассажирами. Молодые люди на палубе увидели склонившуюся над перилами женскую голову, закричали, замахали гитарой. Таня ничего не видела и не слышала. По ее лицу катились слезы. Люди, проходившие мимо, видели ее вздрагивающие плечи, понимали, что женщину душат рыдания. Одни оглядывались, смотрели сочувственно, другие равнодушно. Пожилой мужчина в морской форме остановился возле нее, потоптался в нерешительности, потом сказал: — У вас горе? Может, я смогу вам помочь? Таня не обернулась, еще глубже втянула голову в худенькие плечи. Укладова появилась в следственном отделе неожиданно — Митин только руками развел, увидев ее входящей в кабинет. — Сил больше нет, надоело, — объяснила она. — И неудобно: здоровый человек, только место занимаю. У них же теснота. Я так главному врачу и сказала. И вот видите — выписали. — Что ж, Галина Семеновна, я рад! Она не удивилась, узнав, что Воронова задержали в тот же день, когда он совершил побег. — А я и не сомневалась в этом. Бежать из-под стражи — это же безумие! Когда он закричал и в окно прыгнул, у меня сердце оборвалось. А потом подумала: куда он денется? Разве скроешься, если вы, Сергей Петрович, за это возьметесь! Последнюю фразу она сказала с улыбкой, как шутливый комплимент. Митин с шутливым поклоном его принял. Воспользовавшись случаем, он показал ей чемодан, стоявший в углу. — Ваш? — Конечно! — Она кинулась к чемодану, подняла его. — К сожалению, пустой… А был полный. Так ничего из вещей и не нашли? И деньги, конечно… — Увы! — Я понимаю. Хорошо, что жива осталась. Посмотрите, почти никаких следов! — Она показала следователю пальто, повертываясь перед ним, как перед зеркалом. — Нянечки отмыли. А помните, какое было? Возьму у вас деньги и отблагодарю их. Митин по телефону вызвал к себе Николая Андреевича. Владыкин вошел и почти заполнил собой крохотную комнатку. С благожелательным любопытством познакомился с Укладовой. Она рядом с ним выглядела миниатюрной. — Вот какие приключения случаются у нас в Москве! Будет о чем рассказать в Магадане. Домой собираетесь? — спросил он. — Боже сохрани от таких приключений! — улыбнулась она. — А что мне еще здесь делать? Путевка пропала, и знакомых никого, одни вы… И денег только на обратную дорогу. — А на суд мы вас пригласим, если не возражаете. За наш счет, разумеется, все оплатим — и дорогу, и суточные. Суд, я думаю, недели через две состоится. Кстати, Сергей Петрович, позвони в отделение, чтобы гражданке выдали справку о похищении документов. Ведь вам нужен новый паспорт? — Еще бы! — По справке из милиции вам его выдадут в любом месте. Сегодня же лететь хотите? Если надо, поможем с билетом. — Спасибо, я сама… Поеду поездом: лететь боюсь, — опять улыбнулась она. — А часы и чемодан этот, Галина Семеновна, останутся пока у нас, будут фигурировать на суде как вещественные доказательства, — сказал Митнн. — Так что… — Пожалуйста, пожалуйста, я понимаю. — Вот ваши деньги, перевод из Магадана. — Он достал из небольшого сейфа пачку денег. — Двести рублей. Пересчитайте, пожалуйста. Расписку, я полагаю, не нужно? — спросил он у Владыкина. — Почему? — возразил тот. — Нет уж, пожалуйста, напишите. Деньги — это дело такое… Укладова присела к столу, послушно написала расписку. Деньги пересчитывать не стала, повертела пачку в руках, сунула в карман пальто и сказала с грустной улыбкой: — Даже сумочки нету, положить некуда. К удивлению Сергея Петровича, ему в этот же день пришлось расстаться с золотыми часами марки «Заря» — одним из самых серьезных вещественных доказательств. За ними пришла Зинаида Симукова. Оделась она, вероятно, намеренно скромно. И лицо было чистым: ни губной помады, ни «завлекалочек». Лишь облупившийся лак на ногтях обновила. — Я вас не вызывал. Что ж, милости прошу, садитесь. Рассказать что-нибудь пришли? — Поговорить надо. Я не знала, дело-то серьезным оказалось. Я думала, так, пустяки. — Что ж мы здесь, по-вашему, пустяками занимаемся? Он с любопытством ее рассматривал. Неспроста она пожаловала, сейчас он узнает что-нибудь интересное. Без краски и помады она выглядела моложе и свежее. Выражение лица сосредоточенное — такое бывает у студентов, когда они садятся перед экзаменатором. — Помните, когда обыск был, вы все о часах золотых спрашивали? Я еще говорила, что Степан будто их подарил. Он кивнул. — Наврала я тогда вам. — Я знал, что вы говорите неправду. Она внимательно рассматривала свои ногти. Он молча ждал: сейчас начнется интересное. Она глубоко вздохнула и, не поднимая головы, заговорила быстро, чуть захлебываясь, словно боялась, что если остановится, то продолжать уже не будет. — Ну и наврала, подумаешь, что тут такого! Я же не знала тогда… И не совсем наврала, если хотите знать. Говорила, что это подарок на Восьмое марта, так оно и есть — подарок. Тут уж без обмана, точно, на Восьмое. Сбилась тогда с месяцами, так вы сами меня запутали… — Она замолчала. Лицо ее стало густо краснеть, она нахмурилась, отвела глаза в сторону. — Только не Степан подарил, а другой человек. — Кто такой? Рубеж был преодолен: самое трудное она сказала. И хотя лицо ее все еще продолжало оставаться нежно-розовым, но она уже приняла свободную позу и положила ногу на ногу. — А это вас, извините, не касается. Другой — и все. Я не на допросе, мало ли вы захотите узнать! Говорю — другой, значит, другой. Не ладилось у нас со Степаном. Я в нем ошиблась, он — во мне. Разве не бывает так? А тут один человек стал за мной ухаживать. Более солидный… Он и часы подарил на Восьмое марта. Степану сказала, что на улице нашла, а он, дурачок, поверил. Ему что ни скажи… Сначала вроде совесть спать не давала, а потом вижу, он сам каждое воскресенье пропадает. Тоже другую завел. То есть баш на баш у нас получилось. Никто не в обиде. — Ах, гражданка Симукова, а если и на этот раз вы говорите неправду? Почему я должен вам верить? А если опять врете? Вы докажите, что говорите правду! Она открыла сумочку, порылась и положила на стол маленькую бархатную коробочку, в каких продаются в магазинах часы. — А вот чем не доказательство? На лице Сергея Петровича появилось скучное выражение: одного взгляда на коробочку для него было достаточно, чтобы понять, что ценная улика уплывает из рук. — Я как узнала, в чем Степана подозревают, сразу пошла к тому человеку. Он у меня знаете какой аккуратный! У него, как в аптеке — все на месте, каждый карандашик. Сразу нашел коробочку. И паспорт на часы в ней лежит. Вы посмотрите. — От кого узнали про Воронова? — Помните девушку на фотографии? Еще у меня спрашивали, кто такая. К ней он зачастил, с ней у меня баш на баш получилось. От нее и узнала. Сама ко мне пришла. «Ай да Таня! Не побоялась к сопернице пойти», — с одобрением подумал Митин. Достать из сейфа часы, завернутые в бумажку, и открыть миниатюрную крышечку лезвием ножа было делом одной минуты. С помощью карманной лупы он прочитал фабричный номер на корпусе часов. Тот же помер был в паспорте. — Так что, товарищ следователь, разрешите получить часики. В магазине куплены, в пассаже. И на Степана вы напрасно… ни у кого он их не отнимал. — Не пойму: вы о часах своих заботитесь или о Степане? — Как хотите, так и понимайте. Степан мне ничего плохого не сделал. — Хорошо, пишите расписку, что получили часы. Не забудьте указать их номер. «Что ж, Укладова могла и ошибиться, признав их своими. Недаром же она колебалась, прежде чем показать на эти». Митин вздохнул. В прочном, казалось бы, мешке вдруг образовалась дыра, и в нее выпала важная улика. Чего доброго, так и другие потерять можно… Но — странное дело! — это его не огорчило. Не то чтобы он обрадовался, просто на душе стало легче, будто чуть уменьшилась давившая тяжесть. Вот как обернулось это такое легкое вначале дело о примитивном грабеже! Если прежде следователь был рад каждому кирпичику, который клал в стену, то сейчас не печалился, когда кирпич не удавалось ровно уложить или он разбивался. Даже вульгарная и лживая Симукова, которую он однажды в душе назвал дрянью, уже не вызывала прежней антипатии. И в ее холодном и расчетливом сердце дрогнули какие-то потаенные струны. И как это Тане удалось их тронуть? Он задумчиво смотрел на женщину. Вдруг у него мелькнула мысль: а что, если и с перчатками он так же промахнулся, как и с часами? От предчувствия ошибки у него даже дыхание перехватило, но он тотчас справился с волнением и спросил, стараясь говорить спокойно: — Да, вот еще… скажите, пожалуйста, вы не помните, в тот вечер Воронов, когда уходил куда-то, взял рабочую куртку с «молнией», фуражку… а перчатки тоже взял? — Какие перчатки? — не поняла она. — Старые, кожаные. На подоконнике у вас лежали. — А, так это я их туда положила! Собирала его в санаторий, они в чемодане были, под руку попались, я их и выложила. Зачем он их летом брать будет? Ново дело! — Значит, не брал? А может, вы выложили, а он, уходя, прихватил их с собой? Могло так быть? А вы просто не обратили внимания… — Как это не обратила? Я же смотрела, как он собирался! Куртку взял, фуражку надел, а перчатки… — Она пожала плечами. «Как просто!» — думал он, когда Симукова ушла, демонстративно надев часы на руку. Вот и перчатки выпали в дыру. Он кинулся было к Владыкину, но тот куда-то уехал. В этот раз Митин поверил Симуковой. Она не могла знать, какое место занимали перчатки в построенной им версии. Воронов не дарил ей часов, не говорил о грабеже, следовательно, и о перчатках не мог предупреждать. И вообще с этими перчатками получается какая-то чепуха! То он грабит Укладову случайно, из-за благоприятно сложившихся обстоятельств, то специально берет их летом из дома, чтобы в них открывать замки чемодана. Фу, идиотизм! Он даже покраснел от стыда. Но что же в таком случае получается? Перчаток Воронов не надевал, а следов его рук на замках нету. Почему? Открывал их, обернув руку носовым платком? Тоже не годится: что же, у него два платка было — одним обвязывал шею, а с помощью другого открывал замки? Какая глупость! Позволь, позволь, а зачем ему два платка? Мог обойтись и одним: отъехал, сиял тот платок с шеи и, обернув им руку, открыл замки. «Вот и объяснение! — обрадовался он. Но ненадолго. — Вроде Алексея начинаю фантазировать. Так мог действовать опытный рецидивист, а не такой новичок, как Воронов, — куда ему! Или открывал замки, прикасаясь к ним через полу куртки?.. Э, нет, так тоже нельзя! Это называется притягивать нужные улики за уши, вынимать их из левого кармана правой рукой». Митин сидел за столом, обхватив голову руками и прислушиваясь к надоедливому писку комара. Проклятый комар, как и в тот раз, опять кружил над чемоданом. Впрочем, имеет ли уж столь большое значение эта неясность с замками, если пострадавшая опознала грабителя и ее пуговица найдена в его машине? И следы ее пальцев на плафоне. Сделав над собой усилие, покривив душой, он причислил сюда и побег. А отпечатки его пальцев могли стереть дети, нашедшие чемодан. Ловко придумал! А почему же тогда они не стерли отпечатки Укладовой? Нет, не поднимается рука писать обвинительное заключение. А что, если Воронов не виновен? Не виновен, несмотря ни на что?Глава двадцатая
Не виновен? Эта мысль, впервые так четко и ясно сформулированная, поразила следователя. До нее он ощущал лишь тревожное беспокойство, недовольство собой, своим уклонением от ответов на вопросы, ставившие его в тупик. И если иногда она мелькала, как в тумане, в глубине его сознания, он гнал ее, не хотел додумывать до конца. Но она все же пробилась наружу. Довольно играть в жмурки с самим собой. Когда дело идет о судьбе человека, все имеет значение. «Раз вопросы возникают, будь любезен отвечать на них со всей прямотой», — со злобой на себя думал он. Не виновен… Вот так раз! А чего же стоят тогда все обличающие улики, логические умозаключения и вещественные доказательства? Где та грань, что должна отделять истинное от ложного? Есть ли в таком случае гарантия объективности в расследовании преступления? Неужели обстоятельства могут сложиться так, что невиновный человек окажется беспомощным и беззащитным перед лицом сурового закона? Нет, не может этого быть, не должно быть! Где свято чтится законность, там не может быть осужден ни один невиновный. Несмотря ни на какие хитросплетения обстоятельств. Он знал что жизнь иногда так тасует события, плетет такие узоры из случайностей, так комбинирует совпадения и неожиданности, что человеку, попавшему в их сложный и пестрый круговорот, кажется, уже не выпутаться… Неужели нечто подобное произошло и с Вороновым? А что, если не было никакого преступления, а просто Воронова накрыла беда своими черными крыльями? Лицо у Митина стало мрачным, угрюмым. Он вспомнил, с какой обреченностью Воронов сказал, что, видно, судьба у него такая… Нет, дорогой товарищ, не судьба владеет людьми, а люди сами устраивают свою судьбу. И если у человека не хватает сил, на помощь ему приходят другие. Он, следователь, должен помочь Воронову. И по долгу службы, и по велению совести. Сергей Петрович всегда боялся впасть в так называемый обвинительный уклон — когда следователь, приступая к расследованию, ставит перед собой задачу не объективно установить истину, а главным образом доказать, что подозреваемый совершил преступление. В этом большая оплошность и даже вина следователя. Не повинен ли сейчас он в этом? Пожалуй, нет. Расследование он провел согласно всем нормам процессуального закона. Добросовестно строил версии и сам же со скрупулезной дотошливостью находил в них уязвимые места и, если считал нужным, отказывался от них. Собрал улики, вещественные доказательства, логически и аргументированно свидетельствующие о виновности Воронова, — и вдруг: не виновен!.. Хорошо, допустим не виновен. Но и невиновность тоже еще нужно доказать. Вопреки всему. Сумел собрать один факты, теперь попробуй найти другие. Ах, Таня, Таня! Это ты пробила первую брешь своей слепой и страстной верой в человека, своей бездоказательной, идущей лишь от сердца убежденностью в неспособность Воронова к преступлению. Вера в человека… А ведь, пожалуй, эго самое главное! Где она есть — там любовь, дружба, семья, а где нет — там ложь, обман и предательство. Разве не так? А как вы прощались тогда в Рузе под дулами пистолетов! Так не прощается преступник с сообщницей. Затем история с «Москвичом», оказавшаяся на поверку поступком достойного человека. Академик со своим японским аппаратом. Он тоже пришел в ярость, узнав, что Воронова обвиняют в грабеже. Даже Митька-Хобот, подонок и рецидивист, назвал его на воровском жаргоне человеком порядочным и честным. Зинаида Симукова набралась мужества признаться в неверности Воронову, чтобы только отвести от него тяжкое обвинение. Э, да что там!.. Впрочем, стоп! Все это, так сказать, нравственные категории, область эмоций. Ведь ты же сам говорил Тане Сиротиной, что имеешь право оперировать только фактами. А факты вот они: семерка из номерного знака, пуговица от пальто жертвы, следы ее пальцев на плафоне, предъявление личности, пробитая молотком голова… Упрямые, жесткие, угловатые — они прямо указывают на Воронова. Да, еще носовой платок забыл! Платок, вытянутый по диагонали в жгут… Митин медленно откинулся на спинку стула. Рот его полуоткрылся, взгляд стал пустым. В его памяти вдруг словно что-то щелкнуло и возникла картина: следственная камера в тюрьме, он рассказывает, как была ограблена Укладова. Воронов бледный, потный слушает его не перебивая и тянет за углы носовой платок, наматывает на кулак, опять тянет и снова наматывает. Платок у него стал длинным, похожим на жгут. Фу ты дьявол! Вот так штука… А что, если у человека привычка такая? Особенно когда он в нервном, возбужденном состоянии? В тот вечер они поссорились. Он кричал на Симукову и точно так же, должно быть, тянул платок и наматывал на кулак. Разве не могло так быть? А потом бросил в ящик с грязным бельем. А я ломал голову! Да, но ведь Укладова видела у него повязку на шее! Зачем ей придумывать? И родника у него… ее ведь можно было закрыть. Он встал, сунул сигареты в карман, быстро вышел из кабинета. В коридоре его окликнула Виктория Константиновна, полнеющая флегматичная дама. — Сергей Петрович! Вас к телефону просят! Он не слышал, прошел дальше. — Сергей Петрович, я вас зову! Директор кожевенной фабрики вас разыскивает. Идите к телефону. — Я уехал. — Но ведь вы же здесь! — с укором сказала она. — Скажите, что меня вызвали… к начальнику. Так и скажите. На улице он поднял руку. У тротуара остановилось такси с зеленым огоньком. — К Казанскому вокзалу, пожалуйста. «Директор кожевенной фабрики подождет, оба они с главным инженером уже трясутся от страха», — думал он, глядя на встречный поток машин. Он сам еще не мог объяснить, почему ему вдруг захотелось проехать тем же путем, каким Воронов вез Укладову. Почему-то казалось, что от этого что-то должно проясниться, что-то стать понятнее. Лучше бы этот маршрут проделать, конечно, ночью, но тогда надо ждать, пока кончится день, еще много часов томиться от неразберихи, царившей в голове. А ему сейчас, немедленно хотелось что-то делать, действовать, двигаться… Огромная площадь перед тремя вокзалами кишела: сновали машины, густыми толпами шли люди, по высокой насыпи двигалась электричка. Но кутерьма была кажущейся — машины подчинялись знакам и светофорам, люди шли только там, где положено. Такси остановилось возле главного входа в вокзал. Но пассажир почему-то не собирался выходить. Шофер на него покосился. — Вы хорошо знаете Москву? — спросил Митин. — Как свою жену. Двадцать один год за баранкой. Вам куда? С закрытыми глазами могу. — С закрытыми не надо. Боюсь, дети сиротами останутся, — улыбнулся Митин. — В Клушин переулок, знаете такой? — Куда угодно! Машина влилась в общий поток. Шофер уже понял, что везет не совсем обычного пассажира. И сел тот возле следственного отдела… «Зачем я еду? Что мне это даст? Только время убиваю. И так все понятно», — думал Митин, хотя понятного было меньше, чем ему хотелось. Таксист не ловчил, не удлинял маршрут. Вскоре Митин увидел на угловом доме табличку: «Петрушевский переулок». Машина качнулась на выбоине возле светофора. Где-то поблизости должен быть дом под номером восемь. Ага, вот он… — Здесь остановитесь. И опять пассажир не торопился расплатиться и выйти. Он смотрел на противоположную сторону, где за высоким забором густо росли тополя. Здесь Воронов, по его словам, высадил Укладову. — Клушин переулок второй налево будет, — сказал водитель. — Я знаю. А нельзя в него с другой стороны въехать? Не с Петрушевского, а с Сосновского? — Верно, там Сосновский должен быть. Почему нельзя? Они проехали немного вперед, затем свернули налево, миновали квартал и повернули направо в Сосновский переулок. Сейчас будет Клушин. Вот он… — Здесь! Днем тут все выглядело иначе. Добротные дома, редкие прохожие. Из-под арки высокого дома выбежали мальчик и девочка в шортах. Когда-то там лежала залитая кровью женщина. Сергей Петрович повернулся к шоферу, вытряхнул из пачки несколько сигарет. — Вы не торопитесь? Закуривайте. — Спасибо, не курю. — Только не удивляйтесь, товарищ, пожалуйста, — начал Митин, закурив сам, — тут такое дело… Есть у вас фантазия, воображение? Шофер усмехнулся. Лицо у него было обветренное, глаза хитрые, с веселыми искорками. — Денег мало, а воображения хватает. — У меня тоже. В таком случае представьте, что в том доме, возле которого мы сейчас останавливались в Петрушевском переулке, где тополя растут, вас ждет хорошая компания друзей. Бутылка коньяка у них, закуска… Ждут вас, понимаете? И чем скорее туда приедем, тем лучше. Ну? Шофер подумал, что-то по-своему понял и повернул ключ зажигания. — Разве что коньяк… — Тогда прямо вперед. И быстро! Петрушевский переулок был близко, только повернуть направо. Приближаясь к углу, машина замедлила ход, водитель замял крайний ряд, явно намереваясь сделать левый поворот. — Зачем налево? Направо! — Не могу. По Петрушевскому одностороннее движение. С весны этого года. Знак висит. Только налево. Он остановил машину. Круглый диск с перечеркнутой изогнутой стрелой был укреплен на видном месте. Он был снабжен лампочкой, значит, и ночью хорошо виден. Митина охватила растерянность. В его воображении за рулем сидел сейчас не таксист, а он сам, и даже не он, а Воронов, только что совершивший ограбление. И на заднем сиденье лежал чемодан. И от него надо было избавиться. Икак можно скорее… И вдруг — знак! — Но нам же направо надо! А если поехать? — Не могу, не имею права. Мало ли что — надо! Любой таксист не поедет. Орудовцы, знаете, его вроде и нету, а, на грех, он тут как тут! — А как еще можно подъехать к тому дому? — Я хотел развернуться и назад, как сюда ехали, а вы заторопили меня. Теперь только так, налево. Правда, крюк придется делать. Пока доедем, в бутылке донышко видно будет. Митин задумался. Пока ему стало ясно одно: версия, которую он так тщательно построил, вдруг угрожающе затрещала. Мысли теснились, обгоняя друг друга, в груди стало душно, томительно. Что же получается? Не будет Воронов разворачиваться и ехать обратно. Он же сам говорил, что плохо знает этот район. Да и зачем ему? Поедет прямо, с тем чтобы сейчас же повернуть направо в Петрушевский. И вдруг увидит знак. Плюнет на запрещение? Ни в коем случае. А вдруг орудовец остановит… А на сиденье у него чемодан. Да и кровь могла быть на машине… Значит, должен ехать налево. Налево? А как же он тогда окажется возле дома с тополями в Петрушевском? Крюк сделает? Зачем ему возвращаться к тому месту, где только что совершил преступление? Ведь там уже могла начаться тревога… — Значит, нельзя направо? — Сами видите. А чемодан? Как он в таком случае очутился за забором? Если не Воронов, то кто еще его туда отнесет? Сама Укладова? Зачем?! Инсценировка ограбления? Зачем ей такая дикая инсценировка? — Где тут поблизости телефон-автомат? — Поищем. Машина повернула налево. Вскоре возле продовольственного магазина они увидели застекленную синюю будку. — Подождите меня. Так и есть: дежурный по отделению милиции ответил, что гражданка Укладова была, получила справку… Еще надежда, правда, крохотная — Укладова говорила, что отблагодарит нянь за стирку одежды. Но в больнице ответили, что Укладова к ним больше не приходила. Митин сел в машину, захлопнул дверцу. — А теперь обратно, и как можно быстрее! «Почему же мы не обратили внимания на знак, когда на рассвете осматривали место происшествия? — задал он себе вопрос и тут же вспомнил: — Мы же тогда прямо поехали к Сосновскому переулку, в больницу я торопился! Поэтому и не могли видеть, знак позади остался». Он попытался осмыслить все то, что свалилось на него так неожиданно, разобраться как-то — и не мог. Как легко и просто развязывались все узлы, если Укладова инсценировала ограбление! Тогда все получало объяснение. Но инсценировка противоречила элементарному здравому смыслу: на нее мог решиться опытный закоренелый преступник, да и его лишь чрезвычайные обстоятельства могли заставить сделать столь рискованный шаг. А Укладова? Совсем не похожа на преступницу. Впрочем, похожа или не похожа — это не существенно. Существенно то, что все ее сведения о себе подтверждены. Телеграммы отправлял он сам и ответы получал от должностных лиц — тут никаких сомнений быть не может. Она вне подозрений. И все же… А если допустить? Наперекор здравому смыслу. Этот великолепный и безупречный здравый смысл иногда способен на скверные шутки. А если все же инсценировка? Воронов высадил пассажирку в Петрушевском переулке у забора с тополями и уехал. Укладова перебросила пустой чемодан через забор, прошла два квартала, свернула в пустой и темный Клушин переулок и там пробила себе чем-то голову. Затем прошла под арку. Мимо проходили студенты, она услышала их шаги и позвала на помощь. Память тут же подбросила ему картину: закончив осмотр, он проходит арку до конца, освещает фонарем приготовленные дворниками с вечера высокие бачки с мусором. Возле них на земле обрывки бумаги, обломок кирпича и какие-то тряпки. Обломок кирпича! Тогда он не обратил на него внимания. Он лежал далеко от того места, где находилась Укладова. А разве она не могла отбросить его? Но тогда и мысли не было об инсценировке: удар был нанесен молотком, о нем думали, его и искали…Глава двадцать первая
Чтобы женщина сама себе пробила голову? А почему, собственно, нет? Женщины тоже всякие бывают. Люди вообще способны на самые невероятные вещи. Разве трудно нанести себе скользящий удар, чтобы только разорвать кожный покров? Крови будет много, а опасности для здоровья, в сущности, никакой. Если инсценировка, тогда понятно и то, почему на замках чемодана нет следов Воронова. И часов золотых не было совсем. Эта деталь придумана для правдоподобия. Но у нее же ссадина на руке… А разве не могла она ее сделать умышленно? Уж если голову пробила… Сергей Петрович тут же осудил себя за домыслы: так могла действовать только преступница, причем достаточно хитрая, предусмотрительная, с завидным хладнокровием и самообладанием. И дерзко смелая. Да, в смелости ей не откажешь… Осудил и все же не мог удержаться и продолжал развивать версию дальше. Пуговицу оторвала и подбросила, в расчете, что мы ее обязательно найдем. И даже за плафон на потолке подержалась. Чтобы облегчить нам поиски машины, «случайно запомнила» семерку. Не весь номер, а только одну цифру. Вот чертовка, все учла, все предусмотрела! А забинтованная шея? О, тут Укладова с блеском продемонстрировала свой незаурядный ум. Увидела у Воронова родинку и тут же придумала хитрый и тонкий ход: не сомневалась, что по приметам, семерке и пуговице, мы найдем таксиста, увидим у него родинку, и тогда ее упоминание о забинтованной шее будет чрезвычайно убедительным. И она не ошиблась. Ведь обрадовался же я, когда увидел у него эту родинку. Но зачем, зачем ей все это? Хладнокровно и безжалостно подставить под удар человека, бросить на него подозрение в тяжком преступлении — совершенно непонятная подлость и жестокость. До какой же низости способны дойти люди ради достижения своих эгоистических целей! А какие у нее цели? Чего она добивалась? И вообще кто она такая, эта Укладова, приехавшая из далекого Магадана? Что мы о ней знаем? За Вороновым люди, хорошо его знающие, за ним его поступки, дела, в конце концов, весь его нравственный облик, а за ней что? Только совершенно необъяснимые телеграммы. Запросить еще раз Магадан, послать проверочный запрос в магаданскую милицию? Самому слетать? Обуреваемый этими мыслями, Митин не заметил, как подъехал к следственному отделу. Машина остановилась, но он опять продолжал сидеть. Шофер, тоже молчавший всю дорогу, повернулся к нему: — Приехали. Или еще, может, куда? — Нет-нет, спасибо! Владыкин с интересом посмотрел на вбежавшего в кабинет друга: вид у того был взъерошенный. — Ты что, Сергей? Случилось что-нибудь? Плохие новости? — Наоборот, хорошие. Надо выпускать Воронова. Он тут ни при чем! — Здравствуйте, как говорится! А еще ты ничего не хочешь? — Вот тебе и «здравствуйте»! Смотри… Он подтащил Владыкина к карте района, ткнул в нее карандашом: — После ограбления Воронов поехал прямо? Затем свернул направо в Петрушевский переулок? И здесь выбросил чемодан, так получается? — Вероятно. Скорее всего, именно так и было. И что из этого? — А то, что не мог он поехать направо. Там запрещающий знак. Одностороннее движение по Петрушевскому, понял? Можно только налево. Так что не мог он подъехать к забору с тополями. Вот какая петрушка! Я только что оттуда, сам знак видел, собственными глазами. И сразу у меня все полетело вверх тормашками. С весны этого года там знак установлен. Владыкин засопел, обнял Сергея Петровича за плечи: — Ох, я вижу, и хочется же тебе выпустить Воронова! — Ужасно хочется! — Я понимаю, но пойми и ты, дорогой ты мои, золотое у тебя сердце! Чихать хотел Воронов на все твои знаки! Не до того ему было. Будет он считаться… поехал — и все! Ночь, никто не видит. — Нет. Все дело в Укладовой. Инсценировка ограбления. — Еще раз здравствуйте! А телеграммы? О них забыл? Подозревать порядочного человека… На каком основании? Сам подумай! — Не верю телеграммам. Тут какая-то путаница… словом, не верю! Сам полечу в Магадан, сам проверю. — Это не разговор: верю — не верю. Телеграммы официальные. В дверь постучали, и вошла секретарша. — Вам телеграмма, Сергей Петрович. Из Магадана. — Ну вот, еще одна! Как нарочно… — воскликнул Владыкин. — Спасибо, Нонна, можете идти. — И когда девушка вышла, Сергей Петрович прочитал вслух: — «Деньги Укладовой не выдавайте видимо произошла ошибка наша Укладова благополучно отдыхает в Гаграх получили от нее письмо и фото директор завода Чекалин». Владыкин вытянул губы трубочкой, стал часто-часто моргать. Митин смотрел на него, сдерживая ликующую улыбку. — Н-да-а… так, значит, самозванка? — спросил Владыкин. — А этой телеграмме ты веришь? Сергей Петрович запрокинул голову на спинку дивана, блаженно закрыл глаза. Эта была одна из немногих счастливых минут в его жизни. Сказал, не открывая глаз: — Побольше бы таких телеграмм! Но тут же вскочил, закричал с возмущением и злостью: — Нет, ты только подумай, сам, своими руками вручил ей двести рублей! И еще расписку не хотел брать. Вот тебе и слабый пол! Нет, какова наглость! Явиться прямо в милицию… ну, знаешь! А мужество, а психологический расчет! Да она любому сто очков даст! Все продумала, все рассчитала и разыграла, как по нотам. Смотри, золотые часы признала своими, а сумочку нет. Ах, умница! — с недобрым восхищением воскликнул он. — Как верно психологически! — Но зачем ей все это? Вот чего не пойму. Неужели только из-за этих двухсот рублей? — Я тоже сначала об этом подумал. Но нет, вряд ли… Для такой крупной игры двести рублей слишком мелкая ставка. Тут что-то другое… Но что? Может, справка, какую ей дали в отделении, а? Может, в ней все дело? — Справка? — А что! Ведь она по ней в любом месте получит новый паспорт. Разве мало мы знаем случаев, когда преступник, чтобы раздобыть подлинные документы, шел даже на убийство? Владыкин вздохнул: — Она даже не просила эту справку, сам я ей предложил. — Не беспокойся, попросила бы! У меня она в больнице каждый раз спрашивала: а как будет с паспортом? Небрежно так спрашивала, как бы между прочим, понимаешь?.. И я не придавал этому никакого значения. — Может, она побег совершила из мест заключения? Представляю, как она сейчас смеется над нами. Ну и баба! — Фамилию ей надо переменить по каким-то причинам. А еще что? — Ладно, Сергей, надо что-то предпринимать. Бросить людей на вокзалы, в аэропорты? Митин поджал губы: — Не тот экземпляр! Уж коли такое провернула… Ручаюсь, в Москве ее уже нету. Уехала на такси или электричкой куда-нибудь в Звенигород или в Малаховку, а уж оттуда поездом. На мякине ее не проведешь, сама любого обведет вокруг мизинца. — Назвалась инженером. И место работы указала точное — машиностроительный завод… Фамилию директора завода знает, — размышлял Владыкин. — Документы похитила у какой-то Укладовой? Нет, не похищала. Все было значительно проще: она только заглянула в них. За несколько дней до происшествия в Клушином переулке в поезд, следовавший из Владивостока в Москву, в Чите села некая гражданка Плетнева. В руках у нее был новый чемодан, который она несла с видимым усилием. Однако если бы кто мог заглянуть в него, то с удивлением обнаружил бы, что он пустой. В купе она быстро познакомилась с соседями. Особое внимание она уделила инженеру Укладовой, ехавшей из Магадана на юг. Женщины в дороге, как это часто бывает, почти подружились, много разговаривали, откровенничали. Плетнева угощала новую знакомую шоколадом, фруктами, была милой, внимательной слушательницей, ловко ставила нужные вопросы. Укладова доверчиво рассказала попутчице о себе многое: и кто она, и где работает, и как фамилия директора предприятия… Плетнева все запоминала. Во время одной из больших стоянок на станции, оставшись в купе одна, она достала из сумочки Укладовой ее паспорт и, посматривая в окно на перрон, где гуляла беспечная попутчица, выписала из него все нужные сведения. Этих сведений ей вполне хватило, чтобы в Москве, не вызывая подозрений, предстать под именем Укладовой Галины Семеновны. Проверки она не боялась, так как знала, что настоящая Укладова в Магадан из отпуска вернется не скоро. Но обо всем этом наши следователи узнают позднее.* * *
Среди дней, заполненных трудной, сложной и, в сущности, малопривлекательной работой, и у следователя изредка бывают такие, что их можно сравнить с маленькими праздниками. В одном случае — это когда после длительных розысков ему удается задержать преступника, и в другом, когда он прекращает дело за недоказанностью преступления и выпускает подозреваемого на волю. Таким маленьким праздником был у Митина сегодняшний будничный день. Во-первых, он освободил из под стражи Степана Воронова, а во-вторых, сегодня наконец вернулись с дачи жена и дочь. На радостях Сергей Петрович предложил отметить оба события в ресторане, предложение, естественно, было одобрено, и они всей семьей отправились в ближайший парк. Днем на веранде летнего ресторана было много свободных мест, негромко играла радиола, официантки на досуге судачили у буфетной стойки. Семейство Митиных расположилось за крайним столиком возле деревянного барьера. Длинная ветка тополя с пыльными листьями далеко просунулась на веранду, будто хотела посмотреть, что люди здесь делают. А люди из маленьких вазочек ели мороженое. Особенно старалась Марина. Ела и ревниво поглядывала на почти нетронутую порцию отца. Сергей Петрович строго сказал девочке: — Опять много берешь ложечкой! Понемногу надо. Видишь, как мама ест? — Ну, а потом что, потом? — нетерпеливо спросила Нина Степановна. — А потом суп с котом! — подмигнул он дочери. — И вот представь, в тот же день к вечеру получили мы очередной бюллетень всесоюзного розыска. Что бы ему хоть на день раньше появиться! Как нарочно… Читаем и узнаем, что три недели назад в Иркутске при загадочных обстоятельствах исчезла кассир универмага Плетнева. И с ней двадцать одна тысяча. Сумма немалая. Вначале было предположение, что она ограблена и убита, но оно не подтвердилось. И приметы ее… — Укладова? — догадалась Нина Степановна. — Конечно! Все приметы подходят. Представляешь? — Папа, можно, я у тебя возьму немножечко? Одну ложечку, — попросила девочка. Со своим мороженым она уже управилась. — Спроси у мамы. Если разрешит — можно. Нина Степановна взяла его вазочку, переложила дочери один шарик. — Значит, твоя Укладова исчезла из Москвы и все пошло прахом, так получается? — спросила она. — Обидно, правда? Работали вы с Бабиным, работали, а в результате — пшик? — Почему прахом, почему пшик? — удивился он. — А Воронов, а Таня Сиротина? Тут ведь главное — что не свершилось самое большое зло: не осужден невиновный. Это главное! Да не будь даже той телеграммы из Магадана, мы все равно отпустили бы Воронова. Обязательно отпустили бы! Несмотря на все мои улики. А ты говоришь — прахом! Снять с человека обвинение — разве этого мало? Говорил он горячо, увлеченно, глаза у него блестели. Нина Степановна смотрела на мужа с восхищением. — И Таня не потеряла веру в справедливость, — продолжал он. — А это великое дело, если хочешь знать. Люди должны верить в справедливость! — Да, конечно. Но это с одной стороны… А с другой? Вот если бы вы еще Укладову взяли… — То есть Плетневу? Ну, тут я совершенно спокоен. Никуда она от нас теперь не денется. — Не понимаю. Где же вы ее искать будете? — А мы не будем искать, она сама объявится. Для чего же иначе огород городила? Давно известно, что даже самый умный, хитрый и осторожный преступник при всем желании не может заранее учесть и предусмотреть то бесчисленное количество случайностей, ничтожных на первый взгляд мелочей и разных житейских обстоятельств, какие могут его выдать. В каждой прочной цепи всегда найдется слабое звено. Иначе цепи бы не разрывались. Эту простую истину знают, главным образом, люди, в той или иной мере причастные к правосудию, и не знают или не верят в нее те, кто решается преступить закон. Потому большинство преступников и попадают за решетку. Те же, что находятся на свободе, находятся на ней временно, так как их преступление в конце концов тоже будет раскрыто, и они непременно понесут наказание. Плетнева, казалось бы, с предельной тщательностью, до мельчайших подробностей продумала и детально разработала свой дерзкий план. Однако жизнь внесла в него коррективы. Вдруг в игру вступили обстоятельства, каких Плетнева, конечно, не могла предусмотреть. Например, она у себя в Иркутске только еще лишь готовилась к похищению дневной выручки из кассы универмага, а тем временем в Москве, в Клушином переулке, уже устанавливался над проезжей частью улицы дорожный знак, которому суждено было сыграть роль первой искры в ее «пожаре». Потом появились письмо и курортные фотографии, посланные инженером Укладовой своим заводским друзьям. Затем бюллетень всесоюзного розыска… Предназначенный преступнице финал был неотвратим. Митин знал это и потому в разговоре с женой утверждал с такой уверенностью, что теперь Плетнева никуда не денется. Он исходил из простои логической предпосылки, что человек, сказавший «а», непременно должен сказать и «б». Так и произошло. Прмерно через неделю в одно из отделений милиции Еревана вошла элегантная женщина в светлом брючном костюме и таких больших солнцезащитных очках, что из-за них были видны лишь часть лба и нижняя половина лица, и рот, чуть тронутый бледной помадой. Привлекали внимание и ее вьющиеся волосы, покрашенные в нежный сиреневый цвет. Это была Плетнева. Как и предсказывал в ресторане Митин, она явилась сама… В дорогом костюме и под косметикой она выглядела так молодо, что близорукий человек издали, пожалуй, мог бы принять ее за девушку. В коридоре перед дверью начальника паспортного стола в ожидании приема сидели несколько пожилых женщин и красивый молодой человек с тонкими усиками. При появлении нарядной женщины он быстро поднялся, уступая ей место на скамейке. Плетнева поблагодарила его легким наклоном головы. На стене прямо перед ее глазами висели в рамках под стеклом многочисленные инструкции и правила, касающиеся прописки и получения новых документов, и хотя она знала их почти наизусть, но все равно стала машинально читать. Молодой человек, уступивший ей место, стоял наискось от скамейки и, вероятно, от безделья или по дурной привычке часто бросал на незнакомку выразительные взгляды. Но Плетнева упорно смотрела мимо. Лицо ее было спокойно и, кроме скуки, ничего не выражало. Но это — со стороны. На самом деле она чувствовала себя, как неопытная актриса за кулисами перед выходом на залитую светом сцену. Наступили как раз те минуты, когда ей особенно были необходимы полное самообладание, предельная собранность и спокойствие. А их не было. Сердце билось излишне сильно и часто, потели ладони, то и дело появлялась необъяснимая тревога. А тут еще этот писаный красавец пялит глаза… Ах, как медленно тянется время! Прошла к начальнику еще одна женщина. Вышла. Теперь очередь молодого человека. Проходя мимо, он опять одарил Плетневу огненным взглядом. Идиот!.. «И чего я боюсь? — торопливо, лихорадочно думала она, вытирая платком ладони. — Все будет хорошо… не может быть плохо, все будет хорошо! И паспорт получу… пусть краткосрочный, какая разница! И прописка будет. В Москве обошлось, и здесь обойдется. Там труднее было…» То ли от самовнушения, то ли от того, что она расслабила все мышцы, по она с удовлетворением почувствовала, как внутри все стало постепенно затихать, успокаиваться. Наконец-то!.. Почему-то вдруг вспомнился Митин, затем этот долговязый таксист с родинкой на шее. Как он побледнел тогда в больнице… «Сидит небось сейчас на нарах, играет со шпаной в карты», — равнодушно подумала она о Воронове. Затем ее снова охватило предчувствие неминуемой беды. Замелькали мысли. А может, уйти, пока не поздно? Деньги есть, бросить нее и уехать, срочно уехать… у Маркиза кончился срок на Колыме, был слух, будто он подался в Прибалтику. Поехать туда? Поискать его в Риге, в Таллине. Он поможет с пропиской, у него везде верные руки… Вышел от начальника молодой человек с усиками. Плетнева посмотрела ему вслед и подумала, что вот была бы удача, если он вдруг оказался бы здесь директором какого-нибудь магазина. Уж он-то принял бы ее на должность кассира. В кабинет начальника паспортного стола она вошла, полностью владея собой. Все ее необъяснимые опасения исчезли, словно их смыло волной. — Можно? — спросила она с легкой улыбкой, задержавшись на пороге. — Здравствуйте! Начальник, немолодой армянин с добродушным лицом многодетного отца, приподнялся над столом, ответил вежливым наклоном головы. — Заходите, милости прошу! Здравствуйте. Женщина, распространяя аромат хороших духов, неторопливо прошла к столу, села, не дожидаясь приглашения, и начала с того, что вынула из сумочки и положила перед собой пачку дорогих сигарет и блестящую, замысловатой формы зажигалку. — Разрешите, я закурю? Она почти не сомневалась в ответе, но вдруг услышала: — Извините, у меня не курят. — Но ведь окно открыто! — чуть капризно проговорила она, показав глазами на окно за решеткой и убирая сигареты. — Не люблю дым, понимаете? Люблю дышать чистым воздухом, — объяснил он, хотя мог бы и не объяснять. — И еще… Не могу разговаривать, когда не вижу у человека глаз. Поймите меня правильно. Но если у вас больные глаза — тогда, конечно! — Пожалуйста, пожалуйста! Я понимаю. Словно делая ему одолжение, она со снисходительной улыбкой сняла очки, стала вертеть их в руках. Начальник сразу стал ей неприятен. — У вас же красивые глаза! — воскликнул тот и широко улыбнулся. — Зачем их прятать? Итак, я слушаю вас, чем могу служить? Неуклюжий комплимент подбодрил женщину, и она легко заговорила: — У меня просьба… Я издалека, можно сказать, с самого края света, из Магадана. Получила отпуск за два года. А в Ереване у меня племянник моей двоюродной сестры, понимаете, и я хочу у него временно прописаться. Надеюсь, вы не откажете? Вот мои документы. Она положила на край стола несколько справок. — О чем разговор! — радушно воскликнул начальник. — Только зачем ко мне? Обратитесь в домоуправление, там есть паспортистка, она сделает все. — К сожалению, я не только о прописке. Понимаете, со мной произошла целая история! Ее рассказ о мнимом ограблении в Москве начальник выслушал внимательно, в нужных местах сочувственно причмокивал губами, покачивал головой. В заключение Плетнева откинула на голове прядь сиреневых волос и показала небольшой, недавно заживший шрам. — Ай-яй-яй! Что делают! — сокрушался начальник. — Паспорт мы вам, конечно, дадим. Временный, краткосрочный, но дадим. Не беспокойтесь. А постоянный получите у себя в Магадане. Женщина подвинула ему лежащие на столе бумаги. — Тут и справка из московской милиции, вы почитайте. Ликуя в душе, почти полностью уверенная в успехе, она смотрела, как начальник читает справку, и уже не испытывала к нему прежней антипатии. — Ваша фамилия Укладова? Галина Семеновна? — спросил он. — Да… Он продолжал читать. А она вдруг заметила, как его глаза, скользившие по строчкам документа, внезапно остановились, будто натолкнулись на какое-то препятствие, затем чуть-чуть, на самую малость, расширились. Изменение в лице мужчины было едва уловимым, но и его оказалось достаточно, чтобы Плетнева, бывшая все время настороже, почувствовала, как ее стала заливать горячая волна. Жар прошел по шее, хлынул в лицо, сразу стало томительно и душно. «Вот оно… — мелькнула у нее леденящая мысль. — Неужели опоздала?» — Извините, одну минутку… — сказал начальник и снял трубку внутреннего телефона. — Аванес? Будь другом, телеграмма, которую мы получили из Москвы неделю назад, у тебя? Принеси ее, пожалуйста. Сейчас принеси. Он положил трубку. А Плетнева вдруг резко вскочила, глаза ее округлились, и она в ужасе закричала, прижав ладони к вискам: — Боже мой! Боже мой… что я наделала! Утюг… Утюг! Я оставила утюг! Вы представляете?! Гладила и не выключила утюг. Там пожар будет, все сгорит… Я к вам завтра приду! Боже мой… Начальник тоже встал, вышел из-за стола и с любопытством смотрел, как женщина торопливо совала в сумочку свои документы и огромные очки. Затем метнулась к двери. И выбежала бы в коридор, если бы не человек в милицейской форме, входивший в это время в кабинет. Он в недоумении остановился в дверях, преградив ей дорогу. — Аванес, закрой, пожалуйста, дверь, — сказал ему начальник и повернулся к Плетневой: — А вы, гражданка, не торопитесь. Какой пожар, какой утюг? Не надо спектаклей, здесь не театр. Ничего у вашего племянника не сгорит. А вот вы, кажется, действительно крупно погорели. Давайте лучше уточним вашу настоящую фамилию. Плетнева не слушала его. Она стояла вытянувшись, закрыв глаза, далеко запрокинув голову и дышала глубоко и сильно, будто только что делала утреннюю зарядку. Затем опустилась на стул, достала сигарету и закурила. — А вы все-таки закурили. Ай-яй! Впрочем, ладно уж, курите, — миролюбиво разрешил начальник. — Или, может, хотите прочитать телеграмму? Но женщине и так было все понятно. Сквозь сигаретный дым она неотрывно смотрела в зарешеченное окно. Отныне — она знала — долгие годы ей придется смотреть лишь через окна с железными решетками. Только что ее душа была полна ликования и радужных надежд, а сейчас в ней царили отчаяние и леденящий холод. Так еще раз подтвердилась старая истина, что никому не дано знать, что с ним произойдет в следующую минуту.М. ГРЕШНОВ УЧЕБНЫЙ РЕЙС Фантастический рассказ

Руки Павла упали с рычагов управления. — Все, Витя, — сказал он, — горючего нет ни грамма. Боковые иллюминаторы, жадно ловившие отблеск фотонного, по все же земного огня, погасли. К стеклам приникла ночь. Она была хозяйкой Пространства, знала это и теперь делала с кораблем, что хотела: взяла его в руки и зажала между ладонями. Далекие неподвижные звезды ей не мешали. Они были отчаянно далеки, чтобы помочь людям. Тьма вошла в остывшие дюзы, встала за переборкой, рядом. Павел и Виктор чувствовали ее, как чувствуешь кожей холод или тепло. Павел закрыл заслонки иллюминаторов. — До Земли четыре световых года, — сказал он. — Пять, в пересчете на бортовое время. Если будем двигаться с этой скоростью, — кивнул на приборы. Неторопливо, стараясь быть подчеркнуто спокойным, развернул карту. — Если полет замедлится, — взглянул на Виктора, — между Землей и нами встанут тысячелетия. Девять шансов из десяти, что это произойдет. Здесь, — указал на цепочку темных пятен, — переменная пылевая туманность. Здесь, — черкнул карандашом по краю карты, — область еще не разведанной гравитации… Виктор молчал. Один шанс из десяти на спасение — мало. В душе его поднимался протест против бессмысленной гибели. Что им может помочь — случайность? В Пространстве случайность не в счет: как ни много посылала Земля кораблей в звездные экспедиции, они были горсточкой пыли в океане Вселенной, где звезды и те казались пылью, брошенной в темноту. — Мне будет сорок пять лет, тебе — сорок два, — продолжал Павел и, помолчав, добавил: — В случае благополучного плавания. Павел говорил слишком много, и это резало слух. Сказать ему, чтобы он замолчал, Виктор не мог: они были равными, капитана на корабле не было. Присвоить права капитана или какое-то старшинство никто бы из них не решился. Но уже то, что Павел подсчитывал годы, надеясь выжить и вернуться на Землю, вызвало у Виктора теплое к нему чувство. А если он говорит больше обычного и волнуется, — ничего. Им только и придется разговаривать друг с другом: в ракете их двое. — Что же ты молчишь? — спросил Павел. — А я согласен с тобой, — чуть поспешнее, чем, может быть, следовало, ответил Виктор. — Тебе будет сорок пять, а мне — сорок два… Они с минуту глядели в глаза друг другу, и каждый понимал, что они оба лгут. За стенами ракеты стояла ночь, и кораблю без горючего до первых маяков Солнечной системы не дотянуть. Вспомогательная ракета «Л-2», в просторечии «Лодка», двое космонавтов с их наигранным оптимизмом — это все, что осталось от звездной экспедиции к Близнецам. Собственно, земных астрономов интересовали не Кастор и не Поллукс, а желтая звездочка между ними спектрального класса G-двойник нашего Солнца. Звезда испытывала возмущения — признак того, что она обладает планетами. Эти планеты и предстояло исследовать Дмитрию Никитичу Карцеву, капитану «Орбели», и шестнадцати участникам экспедиции. Планет у звезды оказалось три — два метано-водородных гиганта, больших, чем наш Юпитер, и третья, ближе к звезде, двойная планета типа Земля — Луна. Астрономы тотчас назвали планету Геей, а ее естественный спутник — Луной. Гея оказалась горячей, покрытой лавовыми озерами, гейзерами и дымами. Но уже на планете был океан, зелень по берегам — была жизнь. С посадкой на Гею не торопились, легли на круговую орбиту. Разведывательные роботы-маяки дали сведения об атмосфере, температуре: в океане сорок три градуса, на побережье — шестьдесят. — Тепло, но работать можно, — резюмировал Карцев и отдал распоряжение: — Готовиться к спуску! Одновременно к высадке на Луну готовилась «Л-2», вспомогательная ракета, она же спасательная, снабженная горючим, кислородом и продовольствием на случай непредвиденных обстоятельств. Прилуниться было поручено бортинженеру Павлу Калинину и геологу, радисту по совместительству, Виктору Ревичу. «Л-2» отошла от «Орбели» за час до его посадки на Гею. Павел и Виктор должны были наблюдать за спуском, отметить координаты посадки и держать с Луны связь с кораблем. Все это они сделали, оставаясь на орбитальном полете вокруг Геи. «Орбели» опустился на берег залива. Со стороны материка и лавовых озер его защищал невысокий хребет. От океана к нему подходила зеленая полоска растительности. Как только спуск был закончен и биологи — первая группа исследователей — вышли из корабля, Карцев отсигналил «Добро» для самостоятельной экспедиции «Лодки» на Луну. Восемь часов спустя Павел посадил ракету на спутник Ген. Луна была копией нашей Луны до мельчайших подробностей: трещины, кратеры, навалы камней. Отличалась лишь тем, что быстрее вращалась вокруг оси на встречном движении по отношению к Гее. Радиосвязь между «Орбели» и «Лодкой» возникала каждые пятнадцать часов. Когда же Лупа и Гея поворачивались «спиной» друг к другу, связь обрывалась. После посадки «Орбели» разговаривал с «Лодкой» шестнадцать минут. — Как вы видите Гею? — спрашивала Зоя Левчук, коллега и приятельница Виктора. — Как раскаленную сковородку, опрокинутую на звезды, — ответил Виктор, сидевший у аппарата. Зоя обиделась на такое сравнение. — А вы, — отпарировала она, — похожи на клецку, плывущую в молоке. — Еще посмотрим, — откликнулся Виктор в том же духе, — что интереснее: клецка или ваша сковорода! Зоя ответила: — Не хотите ли ушицы из местной рыбы?.. Это были последние слова, принятые космонавтами с «Орбели». Павел уже облачился в скафандр и толкал Виктора локтем: кончай болтовню. Виктор отложил наушники и тоже полез в скафандр. — Зойка приглашает на стерляжью уху, — сказал он. — Наверно, биологи вернулись с уловом. — И ты уверен, что у них — стерлядь?.. — спросил Павел. Подъемник опустил их на каменистую почву. Видимо, что-то случилось с клетью или уж так Луна встретила космонавтов, но когда Павел и Виктор оказались внизу, они лежали на полу клети и, кажется, на какое-то время потеряли сознание. — Ты что? — спросил Виктор, придя в себя. — А ты?.. Осторожнее, собьешь мне антенну! — Нас ударило о поверхность!.. — Что-то не в порядке с лебедкой, — предположил Павел. — По твоей части… — буркнул Виктор. — Пошли! Скоро они забыли о происшествии — они наткнулись на след посадки межпланетного корабля. Кто-то побывал на Луне раньше их. Об этом свидетельствовал выжженный в грунте круг. В центре его углубления, выщербленные плазмой при посадке и при старте, — обычная картина посадки тяжелого корабля. — Это да-а… — тянул Виктор. Пораженные, космонавты стояли у края ракетодрома. — Кажется, экспедиция была здесь вчера. Радиоактивность повышена! — Кто же здесь был? — Инопланетный корабль! — Прилети «Орбели» чуточку раньше… Космонавты поспешили к ракете передать известие на корабль. Вот поднимется суматоха! В подъемнике Виктор сказал: — У меня остановились часы. — У меня тоже, — ответил Павел. — Наверно, стали при падении клети. Но и в ракете часы стояли — на пульте, в каютах, за исключением атомных, показывавших земное время. Была и другая странность: на шкалах приборов лежал серый налет. — Посмотри, — обратил внимание Виктор. — Пыль… Но вес это пустяки по сравнению с тем, что произошло позже: «Орбели» на вызов не отвечал. Тщетно бился у аппарата Виктор: — Зоя! Дмитрий Никитич!.. Приемник молчал. В чем дело? Космонавты вслушивались в гудение аппарата. Ни слова! Зловещая дымная Гея висела в обзорных экранах. — Дмитрий Никитич!.. — взывал Виктор. — Стартуем!.. — предложил Павел. Они стартовали немедленно. Залива, полоски зелени, близ которой опустился «Орбели», не было и в помине. Расколов хребты и вырвавшись к морю, на месте приземления корабля сплошным потоком двигалась лава. …— Ну что ж, Виктор Михайлович, — говорит Павел, — пять лет с глазу на глаз — не осточертеем друг другу? Как у тебя с графиком психологической совместимости? График у Виктора был хороший. У Павла тоже хороший. Виктор знал неплохо товарища: Павел был энергичен, даже напорист. Добрый юмор, иногда переходивший в иронию, в общем, для Виктора был приемлем. Виктора не пугали пять лет в ракете. А вот Павла они тревожили: ему надо было искать выход для своей энергии и, пожалуй, объект для юмора, нужно было какое-то дело. — Установим режим, — предложил Виктор. — Физкультминутка, работа, музыка. — Работа… — с сомнением Павел покачал головой. — Оранжерею возьмешь? — подсказал Виктор. — Возьму! — сразу же согласился Павел, смекнув, что с оранжереей можно возиться хоть сотню лет. — А я начну исследовать лунные минералы. Но это — временно, потом что-нибудь придумаем. — Придумаем! — Павел отшвырнул карту. — К черту пылевые гуманности! Виктор заметил его энергичный жест, вздохнул с облегчением. То, что Павел согласился работать в оранжерее, было хорошим признаком: там не соскучишься. Виктор с удовольствием взял бы оранжерею сам. Потянулось размеренное бортовое бесконечное время. Каждое утро подъем и женский веселый голос: «Внимание, начинаем утреннюю зарядку. Спокойнее, поднимемся на носки — вдо-ох!..» В одиннадцать часов — вторая гимнастика. Каждый месяц меняли пленку. Дни тянулись однообразно, но мириться было все-таки можно. Лишь однажды событие потрясло экипаж затерявшейся в космосе «Лодки». В каюту Виктора без стука ворвался Павел: — Какой сейчас год, Витя?.. — О чем ты? — не понял Виктор. — Я спрашиваю, — нетерпеливо перебил Павел, — какой год по земному календарю? — Две тысячи двести пятнадцатый, — пожал плечами Виктор. — Апрель. На Гее мы были в конце января. — Ты уверен, что год две тысячи двести пятнадцатый?.. — Чего ты хочешь? — спросил Виктор. — Витька, без всяких шуток, — часы показывают две тысячи двести девятнадцатый год. — Не может быть! — Пойдем посмотрим! Часы показывали две тысячи двести девятнадцатый год. Это были атомные часы, они могли ошибиться за триста лет на одну секунду. Ошибка в четыре года была немыслимой. — Когда на Луне остановились часы и когда мы их пускали по атомным, ты смотрел год? — спросил Виктор. — Нет, не смотрел. Не обратил внимания. Виктор поглядел на товарища. Оба ничего не могли попять. — Фокус какой-то… — пробормотал Виктор. — И все с часами! Но куда делись четыре года?.. Друзья стояли у безмолвных часов. Обоим было не по себе. Четыре года канули у них за плечами, растворились бесследно. Событие обсуждали несколько дней, но так и не пришли ни к какому выводу. Опять занялись повседневкой. Виктор рассказывал, какие на Луне чудные ильмениты: поставить линию автоматов — титановая проблема на Земле была бы разрешена. — За морем телушка — полушка… — Павел захлопывал «Садоводство» и уходил в оранжерею: у него дозревали персики. На седьмом месяце полета во время дежурства — дежурили и теперь: сидели у застывшего пульта и думали о своем — Виктор заметил, как стрелка гравитометра дрогнула и пошла по окружности. На экране локатора появилось светлое пятнышко. Виктор смотрел на него, с первого взгляда чувствуя необычное: пятнышко появилось не в той стороне, где его можно было ожидать. Что-то, обладавшее массой и скоростью, догоняло ракету. В этом тоже было необычайное: «Лодка» шла со скоростью пять шестых абсолютной скорости света. То, что обгоняло «Лодку», имело еще большую скорость. «Метеорит?.. — подумал Виктор. — Никогда еще метеориты не имели такой скорости. Корабль?.. Но корабль — вообще металл — дает на экране яркий всплеск…» — Павел!.. — закричал Виктор, слыша, что Павел в камбузе, — дверь в рубку была полуоткрытой. — А!.. — откликнулся тот, почуяв тревогу в голосе Виктора. Виктор не отрываясь смотрел на стрелку гравитометра и на экран: за минуту точка заметно переместилась, стрелка гравитометра неудержимо шла по шкале. — Что ты? — Павел вошел в переднике, с мокрыми по локоть руками, увидел оживший экран, замер на месте. Что-то массивное, быстрое догоняло ракету. — Корабль?.. — спросил Павел. — Не пойму, Паша! — возбужденный Виктор повернулся к нему. — Такая скорость! И курс… Посмотри, какой курс! Это, пожалуй, было удивительнее всего. Светлая точка двигалась по диаметру круга — траектория тела совпадала с траекторией «Лодки»! — «Орбели»! — крикнул Павел. — Значит, все они живы!.. Дай позывные! Виктор схватился за ключ передатчика: «Мы здесь! Мы здесь! — начал поспешно передавать. — Дмитрий Никитич. Товарищи!..» На «Орбели» ракету, наверно, уже заметили, аппаратура там более мощная, на экранах плещется отражение «Лодки». «„Орбели“! — повторял Виктор. — Мы здесь! Идем параллельным курсом!» «Орбели» молчал. Точка прошла от края экрана до центра половину пути. «Орбели» не отвечал, будто на корабле все заснули. «Товарищи!..» Завыли сигналы предупреждения: гравитация догонявшего предмета смещала «Лодку» с пути. — Это не «Орбели»! — Павел вцепился в плечо Виктора, понял свою ошибку: «Орбели» ответил бы на призыв. — Не «Орбели», — повторял Павел, стараясь перекричать звук сирен. — Слышишь?.. «Товарищи!..» — еще раз отсигналил Виктор. — Это не наши! — настаивал Павел. — Кто же?.. Павел смотрел на друга, лицо его было бледно. — Железный метеорит! — сказал он. Оба теперь наблюдали молча, как точка стремительно шла к центру экрана. — Он расплющит нас с ходу, — сказал Павел. — Откуда у него такая скорость? Времени на размышления не было. Не было возможности уклониться от столкновения: камеры двигателей пусты. Замигала оранжевыми огнями контрольная система предупреждения, — вторая после аварийных сирен. «Лодку» распирало от звона и от мигания красных огней. — Черт! — выругался Павел. — Погибать, так не под кошачий вой! — и выключил аварийную сигнализацию. Наступившая тишина оглушила друзей. Блестящая точка была возле центра экрана. Павел открыл заслонки иллюминаторов. Включил прожекторы. Из черной пасти пространства, из глубины на ракету надвигалась смутная масса. Нельзя было понять, что это, но видно было, что масса надвигается слепо и неуклонно. Блеснули холмы, черные трещины. — Астероид! — крикнул в последнюю минуту Виктор. — Держись!.. — предупредил Павел. Серая скалистая глыба приблизилась вплотную к иллюминаторам. Виктор вцепился в подлокотники кресла. Павел, напрягши пальцы, — в спинку. Толчок… еще толчок — друзей бросило на стену рубки. Что-то заскрежетало, и наступила тьма. — Витя! — Да… — откликнулся Виктор. — Целы? — Кажется, целы. — Он отыскивал в темноте клемму аварийного освещения. — Здорово нас тряхнуло… Виктор нашел включатель, зажегся неяркий свет. — Надо посмотреть, что с ракетой, — сказал он. Они вышли из рубки. Виктор поддерживал на весу левую руку. Над бровью вспухал синяк. Павел прихрамывал. «Здорово… — повторял он, — тряхнула…» В каютах, в камбузе все было опрокинуто, в машинном зале сорвался с места вентиляторный щит, повредил генератор электроэнергии — к счастью, не сильно. Через четверть часа генератор дал ток. Сеть оказалась неповрежденной, по бокам «Лодки» вспыхнули осветительные прожекторы. Павел и Виктор прильнули к иллюминатору. Зарывшись в рыхлый откос, «Лодка» лежала, слегка накренившись набок. Виднелись два — три невысоких холма, камин, пыль, близкий, со звездами, горизонт. — Как где-нибудь ночью на пустыре, — сказал Павел. — А в общем, приехали… Авария еще не поддавалась осмыслению, но горечь иронии воссоздавала обстановку точно: глыба захватила ракету, несла невесть куда, надежда на возвращение рухнула. Однако отчаяние не овладело людьми. Интерес — вот что чувствовали оба, глядя в иллюминатор: что же это за штука, почему у нее такая скорость? Да еще оба сознавали благополучный исход: глыба догнала их, а не столкнулась с ракетой. Хотя не пожалеют ли они, что избежали мгновенной смерти, ради медленного умирания в плену астероида?.. Вопросы, вопросы, на которые надо было ответить. Но это — потом. Пока интерес брал верх нал тревогами. Направо, налево тянулась ложбина, усеянная камнями. Иллюминатор ограничивал кругозор. Как велик астероид? Из чего состоит? — Выйдем посмотрим? — предложил Павел. Они надели скафандры, приготовили фал: как бы ни был велик астероид, сила тяжести на его поверхности будет ничтожна. Другое дело в «Лодке», где работал искусственный гравитатор… Завыли насосы переходной шлюзовой камеры, медленно затихая, по мере того каквоздух отсасывался внутрь корабля. Медленно отодвинулась дверь бортового входа. Павел прикрепил к поясу фал, первым вышел наружу. Виктор втиснул конец фала в пружинный зажим и для большей страховки намотал себе на руку. Но фал не выскочил по инерции вслед за Павлом, как бывает в условиях невесомости, он потянулся, медленно переваливаясь за кромку входа. Павел, ожидавший, что от толчка он взовьется в пространство, тоже, не веря себе, стоял на поверхности астероида. — Не пойму… — бормотал он. — Что случилось?.. Виктор подергал за фал. Веревка не влетела в кабину, она натянулась и легла у порога. Веревка имела вес. — Никакого фала не нужно, — сказал Павел снаружи. Виктор шагнул вслед за ним, ощутил под ногами почву, а в теле — нормальную силу тяжести. — Может быть, астероид из сверхплотной материн?.. Под ногами щебень и пыль — обыкновенный астероид, каких Виктор и Павел насмотрелись между Марсом и Юпитером, когда еще летали на практику. Пыль, собранная из космического пространства за тысячелетия… И все же не обыкновенная пыль! Она не взвилась из-под ног, не окутала все вокруг, — поэтому астролетчики не любят высаживаться на астероидах. Она лежала как на проселке, по которому ребята школьного возраста ездят на самокатах… — Витя, — спросил Павел, — ты что-нибудь понимаешь? — Ничего ровным счетом, — признался Виктор. Все-таки фал они не бросили — веревка тянулась за ними. Но, честное слово, их не занимала ракета: лежала на грунте — и пусть лежит. Их интересовал астероид — каков он, из чего состоит? Они поднялись на ближайший холм. Дальше лежала еще возвышенность, но, чтобы ее достигнуть, надо было спуститься в лощину. Веревка не кончилась, и друзья решили идти. Павел освещал дорогу — щебень и пыль. Виктор рассеянным светом шарил по склону другого холма. Вдруг Павел остановился. — Витя! — крикнул он сдавленным голосом и бросил веревку. Виктор тоже остановился. — Сюда!.. — Павел светил фонарем, сосредоточив свет у себя под ногами. На серой поверхности, свежий, только что вдавленный в пыль, отпечатался человеческий след… Павел метнул фонарем влево, вправо: длинные, с заостренными носками, с округлыми каблуками отпечатки убегали в темноту между скалами. Павел нагнулся, протянул руку, словно желая убедиться, действительно след или это ему кажется. Тут же отдернул руку. — Витя, смотри, Витя, смотри… — повторял он. В голосе звучало сомнение: не бред ли это? Это не было бредом. Кто-то прошел здесь минут пять или десять тому назад. Робинзон, увидя следы на песке, не был так поражен, как Виктор и Павел. Россыпь алмазов, иридиевая жила — такие вещи встречались на астероидах — не удивили бы так и не потрясли космонавтов. Волосы шевелились у них под гермошлемами. Друзья попятились к гребню холма, повернулись в свете прожекторов и побежали к ракете. Это уж чересчур: астероид, благополучное столкновение, нормальная сила тяжести, человеческий след — все это не просто. Это встреча с инопланетной жизнью. Следы человеческие — и… необычные человеческие: здесь прошли не земные люди!.. В космосе отпечатки могут храниться долго, но и в космосе их забивают микрометеориты и засыпает пыль. Эти следы были свежими, неизвестная жизнь существовала на астероиде. Как она попала сюда? Откуда? В ракете Павел и Виктор старались не смотреть друг другу в глаза. Возвращение было похоже на бегство. Каждый из них старался уверить себя, что это не бегство. Может быть, кто-то посетил астероид? За миллиарды километров отсюда неизвестный корабль сделал посадку на астероиде и потом ушел? Нет, это не объяснение. Всей душой Павел и Виктор чувствовали, что наивные догадки лишь оглупляют их и усиливают растерянность. Люди были здесь, на астероиде, и растерянность землян исходила из неожиданности — никто в космосе не встречался с инопланетной жизнью. Павел и Виктор к встрече тоже не были подготовлены. А встреча вот она — вдруг. — Что мы им скажем? — без предисловий спросил Виктор товарища. — Не знаю, — ответил тот коротко. — Первый контакт, Павел… — заговорил было Виктор. — Понимаю, — еще короче ответил Павел и вложил в это слово все: их беспомощность, более ужасную, чем беспомощность потерпевших бедствие в океане, невозможность поделиться с другой цивилизацией знаниями — в ракете не было микрофильмов, кристаллов записи, все на «Орбели». Павел и Виктор были словно пылинки, поднятые вихрем и заброшенные в Пространство на гибель. Что они могли сказать людям другого мира? — И все-таки, Павел, встреча произойдет… Павел не знал, что ответить. Ничего он не знал, как и Виктор. И — какие пустяки совершают люди в немыслимых обстоятельствах, обрушившихся на них внезапно! — Павел предложил: — Давай побреемся, Витя… Меньше чем через час они вышли из «Лодки». Без фала и без оружия — на этом настоял Виктор. У них еще не было уверенности, что встреча с астероидом, вернее, то, что астероид догнал их в пространстве, не является случаем, таких случайностей в космосе не бывает. Но у каждого зарождалась мысль, что цивилизация, с которой они столкнулись, могущественнее земной. Есть возможность, что кто-то обнаружил их в космосе, хотя было неясно — чтобы помочь им или взять в плен. Все же Виктор убедил товарища не брать с собою оружия. Цепочка следов привела их к возвышенности, втянула в ущелье с отвесными скалами по бокам. Шли молча, один за другим, чтобы не затоптать следов. Ущелье сузилось еще больше — руками можно было коснуться скал, — привело их в тупик. Павел, шедший за Виктором, спросил: — Куда мы пришли? Тот сделал рукой предостерегающий жест. Оба остановились. Луч фонаря шарил по отвесной скале. Павел через плечо тоже направил свет на скалу. В двойном луче космонавты на высоте вытянутой руки увидели металлический треугольник. Следы кончались под ним, словно уходили в скалу. Виктор сделал еще шаг, поднял фонарь к Треугольнику. Металлическая пластинка была вделана в камень. Она напоминала кнопку, каких десятки на любом пульте. Она и была кнопкой, и единственное, что можно было сделать Виктору, стоявшему впереди, — нажать на кнопку. Какой-то миг Виктор колебался. Кнопки бывают разные: для включения света, для взрыва, для запуска космических кораблей… Но след кончался здесь, возле кнопки. Тот, кто пришел сюда, не мог растаять бесследно и не вызвал взрыва астероида. Скорее всего, кнопка откроет вход. Виктор протянул Павлу руку, тот пожал ее. Сквозь металл и пластик скафандра Виктор пожатия не почувствовал, но понял, что Павел согласен с ним, нажал на треугольник. Обоих качнуло, почва у них под ногами дрогнула, их увлекло в темноту по кругу, точно на карусели, и через секунду перед ними открылся туннель. Движение прекратилось, по инерции их качнуло опять, почти толкнуло в туннель. Тотчас скала повернулась назад. Перед Павлом и Виктором устала стена — тупик туннеля. На стене, теперь уже в свете, наполнявшем туннель, блестел такой же металлический треугольник, как и снаружи. «Выход обеспечен, так же, как вход…» — подумалось космонавтам, каждый тайком вздохнул. Туннель был неширок, пологим скатом спускался вниз. Освещение не яркое, но ламп или каких-либо других светильников не было. Свет шел отовсюду, казался голубоватым, немного с зеленью, как в весенней лиственной роще. Это на обоих подействовало успокаивающе. Не говоря ни слова друг другу, они пошли по туннелю. Идти пришлось метров двести, пока не уперлись в другую стену, с тем же треугольным металлическим знаком. Теперь они знали, что делать, но не предполагали, что откроется им. Они очутились в небольшой камере, тоже залитой голубовато-зеленым светом. В камере не было ничего, но даже сквозь ткань скафандров они почувствовали ток воздуха. Их обдувало невидимым вихрем, счищая с одежды пыль. Внезапно степа перед ними раздвинулась, молчаливо предлагая войти в круглый огромный зал. Павел и Виктор вошли. Две лестницы уходили из зала: одна — по правую руку от космонавтов — вниз, другая — по левую руку — вверх. Зал был пуст, если не считать в центре легкого полупрозрачного облака. Оно висело в полуметре над полом, собранное в сгусток, похожий на сплюснутый шар. На его поверхности и в глубине происходило движение: неясные и нечеткие линии складывались в геометрические фигуры, в странные очертания, иногда черно-белые, иногда цветные, словно узоры в калейдоскопе. Павел и Виктор подошли ближе. Облако ожило: они увидели себя, точно в зеркале, стоящими возле шара. Потом они увидели и другое: ракету, лежащую в пыли, между невысоких холмов, открытый люк, космонавта, выходящего из люка с фонарем и с фалом, закрепленным на поясе. Они увидели себя над следом в лощине и как торопливо возвращались к ракете. Узнали себя в рубке, у пульта, следящими за светящейся точкой на радарном экране. Павел увидел, как он работает в оранжерее, Виктор — за корабельным журналом… Потом пошли формулы, переплетение линий, встала кают-компания «Орбели». Капитан Дмитрий Никитич поднял голову и, кажется, глядя в зрачки Павлу и Виктору, сказал: — Ну что ж, друзья, очевидно, Калинин и Ревич погибли. Объявляю старт… Павел и Виктор отшатнулись от шара. Поднимаясь минуту спустя по лестнице, космонавты молчали. Они не были разговорчивы в этой экскурсии, но после реплики капитана, особенно тона, каким она была сказана, было от чего потерять дар речи. Вопросы, которые вихрем поднялись в голове, каждый пытался отогнать прочь: надо было глядеть по сторонам — неизвестно, что еще предстояло встретить. Ступени подняли их в галерею. Одна сторона ее была сплошь стеклянная, на другой узкими нишами на ровном расстоянии были двери. Ни Павел, ни Виктор не решились бы открыть ни одну из них — внимание их было занято другой стороной. За стеклом, на возвышениях из голубовато-синего камня стояли прозрачные, может быть хрустальные, капсулы. В каждой из них на весу, не касаясь ложа, покоились люди. Они не были мертвыми — они спали. Павлу и Виктору они показались великанами — были здесь мужчины и женщины. Если бы не их больше чем двухметровый рост, Павел и Виктор приняли бы их за землян. Они были белокожие, белолицые, тех же пропорции, что и земляне, только выше, значительно выше ростом. II еще они были прекрасны, совершенны до последней черты. Был ли эго изгиб бровей, линия губ — все говорило о том, что природа немало потрудилась, создавая этих людей. Космонавты медленно шли вдоль хрустальной стены. Они насчитали семнадцать капсул. Восемнадцатая была пустой. Зато дверь напротив — единственная из восемнадцати дверей противоположной стены — была освещена изнутри. Матовый четырехугольник ее, вытянутый до потолка, светлел, тогда как другие четырехугольники были темными. Виктор, шедший впереди Павла, остановился, взглянул на товарища. Тот кивнул головой. Виктор нажал на дверь. Дверь подалась, исчезла в стене. Перед космонавтами открылась комната очень больших размеров. У стены, противоположной открывшейся двери, стоял, вернее, висел, потому что ножек не было видно, веерообразный стол, несколько приборов стояли на нем, поблескивали металлом. У стен — невысокие диваны без спинок. Никакой другой мебели космонавты в комнате не заметили, да и саму комнату, диваны они видели боковым зрением. За столом, в неполный оборот к ним, сидел человек-гигант, метров двух с половиной ростом, — олимпийский Зевс, только без бороды и без эгиды. Он спокойно глядел на Павла и Виктора, на лице его не было ни интереса, ни удивления, глядел, и все. Павел и Виктор тоже глядели на Олимпийца, не решаясь войти. — Олла арито са иф… — произнес Олимпиец. Тотчас слова его были переведены на русский язык Кто сделал перевод, осталось неясным: может быть, один из приборов, стоявших на столе, может быть, стены комнаты. Олимпиец сказал: — Не надо ничего объяснять. Я знаю о вас все. Друзья ожидали чего угодно, только не этих слов. Никто не ответил гиганту. Павел и Виктор продолжали стоять. — Войдите и сядьте, — сказал Олимпиец. Павел и Виктор вошли. Тотчас от стены отделилась скамья, услужливо подкатила к ним. Павел и Виктор сели, молча переглянулись. — Можете снять гермошлемы. Космонавты подняли смотровые пластины. Олимпиец не так же сидел в полуоборот к ним. Лицо его, освещенное ровным голубоватым светом, было старше лиц, виденных космонавтами в капсулах. «Капитан корабля». — решили они. Человек был мужествен, сложен могуче, с широким лбом, мягко очерченными губами. Портило лицо равнодушие, с каким он смотрел на пришельцев, будто это была не встреча в космосе, которой земляне ни разу не знали, а просто в гости к нему зашли знакомые, оторвали его от дела, и он не знает, что им сказать, они сами должны догадаться, что пришли не вовремя, и, наверно, было бы лучше, если бы не приходили совсем. Это сковывало землян. Надо было о чем-то говорить, спрашивать, а язык не поворачивался. Не такой им представлялась встреча с братом по разуму. А может быть, Павел и Виктор ошибались? Может, Олимпиец в совершенстве владел чувствами, не выдает своего любопытства? Может быть, эти люди какой-то гранью отличаются от землян, к ним нельзя подходить с обычной земною меркой? Но тогда почему все обитатели корабля, кроме одного, спят? Почему этот не вышел навстречу землянам? Что за странный разговор начал он, будто знает о них все? Как он может все знать?.. Олимпиец словно угадал мысли землян. — Все о вас и об экспедиции «Орбели» рассказал Мозг, — произнес он. — Вы видели его в круглом зале. — Но… как мог капитан Карцев сказать о нас такие слова? — спросил Виктор. — Капитан жив, — сказал Олимпиец. — Экспедиция не погибла. Это было удивительнее слов капитана, услышанных от туманного шара. У Павла и Виктора захватило дыхание. — Мы совершаем учебный рейс, — продолжал Олимпиец. — далеко ушли на край Галактики. Из-за этого нарушилась координация времени. Надо было уравнять разницу — переместить градиент. Вы попали в зону перемещения. Когда спускались в подъемнике на Луне, вы потеряли сознание. Это был миг. Он переместил вас в будущее на четыре года… — Значит, посадка корабля на Луне!.. — воскликнул Виктор, вспомнив космодром на спутнике Ген. — «Орбели» искал вас, — пояснил Олимпиец. — Где он теперь? — Мы догоняем его, корабль прямо по курсу. Разговор налаживался, космонавты почувствовали себя свободнее. — Как вы узнали о нас? — спросил Павел. — Мозг знает все. Он обнаружил вас на Луне. — А как произошло это… перемещение? — Все случилось по нашей вине. Перемещение производил Ило — третий по галерее. С этой работой он сталкивается впервые: все они, — Олимпиец кивнул головой на дверь, — практиканты, готовятся к галактическим навигациям. За экспериментом он не заметил предупреждения Мозга. Я исправляю его ошибку. — Вы спасли мне? — Это наш долг. — Мы благодарим вас! — горячо сказал Виктор. — Из-за этого мы отклонились от курса и от работы. Кажется, это прозвучало укором. Видимо, люди неизвестной планеты не умели скрывать истину от других. Наступила пауза. Чем она становилась дольше, тем неприятнее казалась землянам. — Это ваш межзвездный корабль? — спросил Виктор первое, что пришло в голову. Вопрос был детским, но перед Олимпийцем земляне чувствовали себя растерянными и маленькими. — Да, — ответил на вопрос Олимпиец. — Когда мы летим в неизвестную область, мы заключаем корабль в астероид, чтобы предохранить его от столкновений с метеоритами. — На наших кораблях мы пользуемся радарами, — сказал Виктор. — Мозг знает устройство ваших космических кораблей… Олимпиец чисто человеческим жестом поднес руку ко рту и почти открыто пересилил себя, скрывая зевок. Одновременно Павел и Виктор почувствовали ответы на вопросы, которые еще не были ими высказаны, но уже зародились в мозгу. Это была безмолвная беседа с Олимпийцем, обмен мыслями в целях экономии времени, и такой разговор удивил их, как все на этом удивительном корабле. «Да, это я, — говорил Олимпиец, — догнал вашу „Лодку“, чтобы приблизить ее скорость к скорости света и помочь вам догнать „Орбели“. Я выходил, посадил ракету на астероид, мои следы вы увидели в лощине. Вы должны были прийти сюда и пришли. Я рассказал вам все о вашей судьбе и „Орбели“. Что же вам еще надо?» — Вы хотели бы побывать на Земле? — спросил Павел, нарушая безмолвный монолог Олимпийца. — Нет, — четко произнес тот, и лицо его осталось неподвижным. — Почему? — У нас свой маршрут. — Хотя бы из интереса! — настаивал Павел. — Какого интереса? — спросил Олимпиец. — Цивилизации, таких, как ваша, только на известном нам участке Пространства… — Он секунду помедлил, словно ожидая чего-то, — пятьдесят восемь тысяч, — сказал он, несомненно получив ответ откуда-то, может от Мозга. — Этот участок велик? — спросил Виктор. — Четыре миллиарда ваших световых лет. — Вам известен наш световой год?.. — Все, что вы знаете, видели, пережили, — последовал ответ, — проанализировано и записано Мозгом… Беседа мельчала, все сводилось в ней к одному знаменателю. Павел и Виктор чувствовали себя дошкольниками перед профессором. Что-то рождало в них недовольство: то ли громадность всего и неспособность понять, что они видят на корабле, то ли преклонение Олимпийца перед Мозгом — машины, ими самими созданной. Земляне понимали гуманность этих людей, по не могли понять отсутствия у них интереса к Земле Как-то само собой получилось, что их ничтожество до чрезвычайности было обнажено Олимпийцем. Или он не понимал этого пли не считал нужным прикрыть свое величие и снизойти к землянам. Он был внимателен, но он был холоден, и это землянам не правилось… Вдруг недовольство рождалось и у него? Это было возможно по психологическому закону подобия чувств разных по характеру собеседников. «Надо кончать разговор», — подумали Виктор и Павел. Олимпиец охотно откликнулся на их мысль. — Вы пойдете тем же путем, — сказал он, — через зал и через туннель. Виктор и Павел поднялись. Диван так же беззвучно отошел к стене. — Через час. — напутствовал Олимпиец, — «Лодка» уйдет к «Орбели». Астероид уже в поле его радара. Космонавты медлили. Неужели так и придется расстаться? Олимпиец неподвижно сидел на стуле. — А если… — изменившимся голосом спросил Павел. — Мы что-нибудь сделаем не так? — Вы, — ответил Олимпиец, — просто ничего не сможете сделать. Он улыбнулся — первый раз за весь разговор. Лучше, если бы он не улыбался совсем. В его улыбке было столько иронии, снисходительности, что земляне похолодели. Павел с треском захлопнул шлем. Виктор, чувствуя, что у него дрожат руки, тоже опустил стекло. Они вышли за дверь, которая сейчас же закрылась за ними. Медленно прошли вдоль саркофагов. На какое-то мгновение Виктор почувствовал неприязнь к сине-зеленому свету, к хрустальным капсулам. «Спокойнее…» — сказал он себе. Они спустились по лестнице. Возле шара остановились. Павел увидел Пространство, мчавшийся среди звезд «Орбели». Корабль поднимал антенны. Это делалось тогда, когда приемники настраивались на Землю, корабль входил в пределы Солнечной системы. Виктор увидел пейзаж: голубовато-зеленое солнце заливало долину, расположенную среди пологих холмов, теплым, словно осязаемым светом. Спокойно лилась река. На берегу возвышались два-три строения, гигантскими ступенями устремленные к небу. Чем-то они напоминали зиккураты древних вавилонян. Ослепительной молнией резали воздух несколько металлических треугольников — картина показывала движение. Людей не было видно, но Виктор решил, что это мир Олимпийца — чистый, благоустроенный мир. Виктору хотелось увидеть больше, но перед землянами уже раздвигались двери шлюзовой камеры. — Вот и все, Витя! — сказал Павел, когда они очутились в ракете. — Побывали в аристократическом доме! Виктор молчал. — Видел, каким он получился, контакт? — продолжал Павел. — В благородном семействе не удосужились приготовить людям хотя бы плохонький сувенир! — Это ты зря, — возразил Виктор. — «Орбели», наше спасение… — Я не об этом! — отмахнулся Павел. — Сердечности — вот чего хотелось от встречи. А они — технократы. Выдумали Мозг и спят себе на боку… Взялись делать маневр вручную — вот тебе результат: выбросили нас на четыре года из жизни. Да еще недовольны — пришлось с нами возиться, как с галчатами, выпавшими из гнезда. И даже не взглянули на нас! — Перестань, Павел. У каждой цивилизации свой характер. Окажись ты среди приматов раннего Плейстоцена, считался бы ты с их желаниями!.. — Фу!.. — фыркнул Павел. — Чувствую себя, как букашка под микроскопом. Этот Мозг… Наша цивилизация тоже техническая. Но придумать такое и ничему на свете не удивляться… уволь! Человеку на их планете — каюк! — Чего ты злишься? — спросил Виктор. Нервное потрясение, которое пережили друзья в этой встреча, на каждом из них отразилось своеобразно. Виктор глубоко переживал неудачу контакта и неспособность понять увиденную краем глаза цивилизацию. В самом деле, чем объяснить безразличие Олимпийца к Земле и к землянам?.. Павел, в противоположность Виктору, выражал свои чувства бурно, не считаясь с тем, прав он пли не прав. Скорее всего, он был не прав, но сдерживать себя не хотел. — Инерция — понимаешь? — говорил он. — Они живут по инерции. Потеряли интерес ко всему. Пятьдесят восемь тысяч цивилизаций… Да они не ставят их ни в грош! Глаза и мозги застлала им техника. Не нравится мне такая компания, будь они хотя бы трехметрового роста! В это время ракета дрогнула, зашуршал под обшивкой гравий. Павел и Виктор бросились к иллюминаторам. Ракета скользнула вперед над поверхностью астероида. Неизвестная сила бросила ее как из пращи. На миг в свете прожекторов мелькнули холмы. На одном, отблескивая скафандром, стояла фигура гиганта. Он поднял руку, прощаясь с землянами. — Видишь? — толкнул товарища Виктор. — И иди ты со своими рассуждениями подальше. Они — люди. Оставались людьми с момента, когда заметили собственную ошибку и до этой минуты, когда провожают нас. Астероид исчез. Друзья замолчали. Каждый переживал встречу по-своему. И по-разному. Но оба не вышли из рубки управления, сидели перед приборами. Тишина решала их спор. Арбитром была надежда. Но вот вспыхнуло табло приемной системы радио. Тихо, потом усиливаясь, запела морзянка. Виктор потянулся к ручкам настройки, улыбнулся товарищу. — «Орбели» заметил нас…
В. МИХАНОВСКИЙ ГОСТИНИЦА «СИГМА» Фантастическая повесть

Глава 1 ВЕК XXXII
— Корабль приближается к атмосферному слою Земли, — обычным тоном, каким он в полете всегда делал оповещения по кораблю, сказал капитан, не отводя глаз от пультовых приборов. Он лишь слегка наклонился к переговорному устройству, чтобы произнести эту короткую фразу. Слова прозвучали на удивление обыденно, но за ними крылось многое, очень многое. Наверняка любой член экипажа не раз и не два слышал в мечтах эти слова, произносимые капитаном. Орионцы в дальнем космосе повидали многое, но и в самых критических ситуациях, в самые трудные моменты схватки с Неведомым, в мыслях их, пусть подсознательно, теплился именно этот долгожданный миг. Невидимые лучи инфралокатора, бегущие впереди по курсу «Ориона», уперлись в газовую оболочку Голубой планеты и тотчас затерялись в ней. На экране внешнего обзора медленно начали прорезаться размытые контуры материков и океанов. — Экипаж корабля на местах, — сообщила мембрана взволнованным тенорком штурмана. — Добро, Григо, — сказал капитан — Готовьте шлюпку. Завершим виток, и можно высаживаться. После длительной паузы, которая насторожила весь экипаж, слушавший разговор капитана со штурманом, последний вдруг заговорил поспешно, глотая слова, будто кто-то подтолкнул его: — Капитан, сейчас высаживаться нельзя. — Совет корабля решил высадиться на этом витке. Что изменилось? — спросил капитан. — «Орион» должен сделать не меньше трех витков. — Три витка — это много, Григо, — произнес капитан. — Нужно выбрать подходящую посадочную площадку для шлюпки, — настаивал штурман. — Ладно, пусть будет три витка, — согласился капитан. Он покосился на шаровой экран, внутри которого проступали строгие линии семикилометрового тела «Ориона», корабля глубинного поиска. Обшивка его, некогда серебристая, почернела от безмолвных, но яростных космических непогод. На поверхности эллипсоидальных и шаровидных отсеков зияли глубокие кратеры с рваными краями, еще не успевшие затянуться, — следы метеоритом бомбардировки, в которую корабль попал, выскочив после очередной пульсации в районе пояса астероидов. К счастью, противометеоритная защита сумела сберечь шлюпку — небольшую ракету, которая украшала нос «Ориона» и служила для маневра, звездолет не был рассчитан на то, что ему придется причалить или хотя бы приблизиться к планете, окутанной атмосферой. До Земли оставалось несколько тысяч километров — рукой подать. Какими словами описать волнение орионцев, которые приникли к обзорным экранам! Они всматривались в сверкающие на солнце прозрачные купола строений, расположенные там и сям живописными группами. Как теперь живут люди на Земле? Что волнует, что интересует, что печалит их? Со времени старта «Ориона» по корабельному времени протекло сравнительно немного времени — около тридцати лет. А здесь, на Земле… Вычислить, сколько времени прошло на Земле, было не просто. Лишь накануне вхождения «Ориона» в Солнечную систему корабельный математик Петр Брага сообщил экипажу результаты кропотливых подсчетов, которыми он занимался — правда, урывками — в течение последних месяцев полета. По такому случаю весь экипаж собрался в кают-компании (участок пути выдался спокойный, и корабль вели автоматы). — Земляне ушли от нас вперед примерно на десять веков, — сообщил Брага. Конечно, орионцы ждали подобной цифры, и все равно ела прозвучала ошеломляюще. Первым нарушил молчание юный Брок. — Ты не ошибся, Петр? — спросил он. — Выходит, мы отстали от землян на десять веков? — негромко произнесла Любава, ровесница Брока, как и он, родившаяся на «Орионе». — Д-допустима и такая формулировка, — согласился Брага, заикаясь, как всегда, в минуты волнения. Он стоял, прислонившись к калькулятору, высокий, чуть сутуловатый, широкоскулый. — Каких высот достигли земляне?.. — высказал капитал общий вопрос, носивший, впрочем, скорее риторический характер: разве можно предугадать — хотя бы в общих чертях человеческий прогресс на таком чудовищном интервале времени? — А ты можешь, Петр, назвать год, в который мы попали? — допытывался дотошный штурман. Брага покачал головой. — Я смог определить только порядок величины отставания «Ориона», — сказал он. — Прилетим — все выясним на месте, — заключил капитан. Сказал он негромко, но услышали его все. «Прилетим»… Как волнующе и в то же время обыденно прозвучало-то слово! И вот он приближался, момент, о котором говорил напитан. «Орион» описывал вокруг Земли последние витки в поисках необходимой для шлюпки посадочной площадки. Получив от капитана управление, Григо менял курс корабля. Он делал это, повинуясь неосознанным импульсам. И радостно улыбнулся, когда увидел внизу то, что все время искал. Огромная ровная площадка, выплывшая откуда-то сбоку экрана, напомнила ему космодром, похожий на то лунное сооружение, с которого некогда стартовал «Орион». По краям площадки тянутся приземистые строения — наверное, службы. Немного поодаль возвышается башня космической связи. К счастью, поле свободно. Только на запасных стоянках стоят ракеты. Похоже, на приколе. Неисправные, что ли? «Прилетим — выясним на месте», — подумал Григо словами капитана. И тотчас в переговорной мембране прозвучал капитанский голос: — Годится площадка, Григо? — Вполне, Джой. — Будем высаживаться, — решил капитан. — Погоди, погоди, капитан, — зачастил вдруг снова Григо, — «Орион» описал вокруг Земли только два витка… — Ну и что? — не понял капитан. — А мы должны сделать три витка. — Что значит — должны? Кому должны? Что ты мелешь, Григо? — сказал капитан. — Площадка-то найдена? — Найдена. — Подходящая? — Подходящая. — Так в чем же дело? Для шуточек сейчас не самое подходящее время. — Поверь мне. Джой, поверь, нужно описать еще один виток, — заволновался штурман. — Что за дьявольщина! — рассердился капитан, голос его загремел во всех отсеках, поскольку была включена общая связь. — Знаешь, Григо, к шарадам я тоже не расположен! — Джой, я не могу сейчас объяснить… Но это крайне важно… Разреши сделать еще один виток, — взмолился штурман. — Ладно, — согласился капитан. — Нервы, дружище, — добавил он. Облюбованный космодром скрылся из виду. Вскоре исчезли изрезанные края суши, блеснула сизая подкова океана. — Что это за континент? — спросила Любава. — Австралия, — ответил Брок, старательно изучавший на борту географию. «Орион» пересек терминатор, день на корабле и на Земле сменился ночью. Любава выглянула в иллюминатор: совсем рядом плыла полная Луна. Луна? Но почему такого странного цвета? Она голубая, совсем как Земля издали. А во всех микрофильмах о Земле, которые видела Любава, Луна желтая… Ну конечно! На Луне создали искусственную атмосферу. Как это она сразу не догадалась? Для землян ведь прошло столько времени… Последние полтора часа — продолжительность полного витка — тянулись для орионцев мучительно долго. Но вот снова показался Австралийский материк. Шлюпка отделилась от «Ориона», превратившегося в искусственный спутник Земли, и пошла на посадку. Спуск прошел без приключений, хотя ракетные приборы барахлили. Покачнувшись, шлюпка замерла на стабилизаторах. Грохот двигателей смолк. Первым из люка вышел капитан, за ним высыпали остальные. Бетонные плиты космодрома источали жар раскаленного летнего полдня. Чахлая трава, пробившаяся между плитами, поникла от зноя. — Похоже, мы в лето попали, Петр, — сказал капитан. Брага пожал плечами. — Ты от него, Джой, еще число и месяц потребуй! — усмехнулся штурман. — А он даже год определить не может… — Оставь, Григо, — оборвал капитан. Любава, нагнувшись, сорвала цветок, похожий на белый пушистый шарик. — У нас в оранжерее такого не было, — сказала она, рассматривая маленькое чудо. Да, здесь, на Земле, она каждый миг ждала чуда. Брок, запрокинув голову, смотрел то ли на облака, то ли на одинокого коршуна, который кружил над космодромом. Вдали виднелись контуры ракет. Из-за нагретого воздуха казалось, что они слегка покачиваются. — Где же люди? — спросил Григо, ни к кому не обращаясь. Космодром был пустынен — никто не спешил их встречать. Орпонцы сбились в кучку, совещаясь. — Может быть, нас не заметили? — сказала Любава. — Еще чего! «Орион» не иголка, — хмуро ответил Григо. — Пойдем пешком, — сказал капитан, указав на космодромные постройки. — По крайней мере, там тень. — Туда не меньше десяти километров, — прикинул Брага, жмурясь от солнца. — Да еще по такой жаре, — подхватил Григо. — Люди измучены, капитан… В этот миг от ближайшего строения что-то отделилось и, поблескивая, двинулось в их сторону. Вскоре все разобрали, что это была прозрачная машина, формой напоминавшая каплю. Она легко скользила в полуметре над космодромом. — Автобус, — произнес Брага, и «старики», те, кто родился на Земле, улыбнулись почти забытому слову. — Изо льда его сделали, что ли? — произнес Брок, вглядываясь в приближающийся аппарат. Брага приставил к глазам ладонь козырьком. — Пластик, видимо, — сказал он. — Но в машине нет людей! — громко произнесла Любава то, что вертелось на языке у всех. Машина, резко осадившая перед орионцами, была пуста. — Автомат карантинной службы, — предположил Брага. — Ну, а почему они нам не скажут об этом? — взорвался штурман. — Проходя Солнечную систему, мы не видели на экранах «Ориона» ни одного землянина. Да что там, мы даже голосов их не слышали, а радиоаппаратура у нас в порядке, — махнул он рукой. — У землян могут быть свои соображения, — сказал капитан. — Какие же? — сощурился Григо. — Узнаем в свое время, — ответил Арго, рассматривая аппарат. Солнце успело вскарабкаться довольно высоко. — Какая жаркая планета! — пробормотал Брок, вытирая пот со лба. — Клянусь космосом, я был бы спокоен, если б увидал хотя бы одного из них! — воскликнул Григо. Налетел ветер. Любава вскрикнула: цветок, сорванный ею, весь облетел, и белое облачко, помедлив, потянулось в сторону прозрачного аппарата. Да и каждый из орионцев почувствовал, как невидимая сила мягко, но настойчиво подталкивает его к машине. Одновременно и в аппарате произошло изменение: передняя дверца открылась, точнее сказать — исчезла, растаяла. — Садитесь, орионцы, — пригласил изнутри негромкий голос. Обращение вызвало целую бурю. — Машину запрограммировали люди, — сказал Брага. — Им известно название нашего корабля. Брок покачал головой. — Надпись на борту могли прочесть и машины астрономической службы, — произнес он. — Разве это сложно? Ему не ответили. Джон Арго подошел к дверце. — Куда мы поедем? — спросил он пустоту. — Садитесь, орионцы, — произнес голос с прежней интонацией. — Вам ничто не угрожает. Садитесь, орионцы. — В-вот заладил! — с досадой сказал Брага. — «Ничто не угрожает»… Как же, держи карман! — пробормотал недоверчивый Григо. Все посмотрели на капитана. Арго положил руку на горячий поручень, прозрачный, как и остальные детали аппарата.. — Садитесь все, — показывая пример, он первым вошел внутрь. За ним, бросив цветок, поднялась Любава. — Как прохладно здесь! — сказала она. Последним в машину вошел Брок. Сделал он это с явной неохотой, только после повторного приказания Арго. Дверца за Броком сразу же закрылась, возникнув из ничего, и машина тронулась, приподнявшись над плитами космодрома. Разве о такой встрече с землянами мечтали орионцы в полете? Машина разворачивалась, набирая скорость. Навстречу поплыли постройки, увеличиваясь в размерах. Это только сверху казались они приземистыми. Теперь строения заслонили полнеба. Как разобраться в этой мешанине блистающих плоскостей, туго заверченных спиралей, невесомо легких кружевных башен? — Мы в плену у машин, — прошептал Брок. Но его услышали. — Начитался чепухи, парень, — сказал капитан. — Да еще тысячелетней давности. — добавила Любава. Орионцы всматривались в близкие строения. Не мелькнет ли там, за окнами, хотя бы одна человеческая фигура? Арго бросил взгляд на часы. С момента приземления шлюпки прошло лишь пятнадцать минут, и с каждой минутой ситуация не то что не прояснялась, но, наоборот, все больше запутывалась. Вскоре строения закрыли небо. — Сейчас остановимся, — сказал с надеждой Григо и привстал с сиденья. Любава улыбнулась и взяла за руку Брока, сидевшего рядом. — Нравится тебе Земля? — спросила она шепотом. — Еще не понял, — ответил Брок. — Мне правится… Она таинственная, — сказала Любава. В салоне на миг потемнело — машина въехала под огромную арку. Аппарат замедлил ход. — Оставайтесь пока на местах, — сказал капитан и подошел к выходу. Выражение озабоченности не сходило с его лица. Вместо того чтобы остановиться, машина вдруг резко увеличила скорость, так что капитан едва устоял на ногах, успев ухватиться за поручень сильной рукой. Все его грузное тело напряглось, глубоко посаженные глаза продолжали всматриваться в неизвестность… Вскоре космодромные постройки остались позади. Аппарат вынесся в открытую степь. Он скользил теперь вдоль выпуклой, лоснящейся, словно от пота, прямой, как стрела, дороги. Любава прислонилась лбом к изогнутой прозрачной поверхности, за которой проносилось степное пространство. — Пластик стал горячим, — сказала она. Брок, перегнувшись, потрогал стенку: — От солнца. — Солнце так быстро не нагреет пластик, — заметил Брага. — Виновато сопротивление воздуха. Обратите внимание на скорость, с которой мы движемся. Степные пространства уплывали назад. Вдали, чуть ли не у самой линии горизонта, возникали и таяли диковинные химеры. Мираж? Или постройки людей XXXII века? Но где же они сами, где люди?.. Потрясения последнего часа вкупе с нелегкими испытаниями при посадке шлюпки вызвали неожиданную для капитана реакцию: под ровный бег машины многие орионцы задремали. Резкое торможение аппарата заставило их встрепенуться. Пейзаж за стенами машины изменился. По обе стороны дороги появилась зелень — кусты и деревья. Главное же — справа появилась стена. Никто не заметил, когда это произошло. Высокая, светло-зеленая, она тянулась параллельно дороге, над которой скользил аппарат. Капля с орионцами подкатила к зеленым воротам и замерла у кромки шоссе. Открылась дверца, и люди, неуверенно ступая, сошли на обочину. Полдневное солнце сняло, и к дороге подступала зелень. Дверца закрылась, и машина умчалась. Люди остались одни. С минуту длилось молчание, нарушаемое лишь пронзительным стрекотом кузнечиков. — Веселенькая история! — заметил Григо. — Пока мы не встретили ни одного землянина, — сказала Любава. — Может быть, они видоизменились? Стали пигмеями с большими головами? — Они встретили нас, как врагов, — сказал Григо. — Ты в этом уверен, штурман? — посмотрел на него капитан. — Друзей так не встречают, — упрямо мотнул головой Григо. В этот миг ворота раздвинулись, как бы приглашая пришельцев войти. Арго сделал шаг в сторону ворот, остальные двинулись вслед за капитаном. — Стойте! — закричал Брок, и столько тревоги было в его голосе, что все остановились, обернувшись к юноше. — Это ловушка, — срывающимся голосом сказал Брок. — Может, на Земле и людей-то нет и мы попали в лапы захватчиков? Может, Земля теперь — это царство роботов? Бежим отсюда… Брок метнулся в сторону, но, отброшенный невидимым препятствием, снова отлетел к обочине дороги, едва удержавшись на ногах. — Ты совсем еще ребенок, Брок, — покачал головой капитан, снова трогаясь в путь. — Но ты же не станешь отрицать, капитан, что нас теперь окружает невидимый барьер? — более спокойно произнес Брок. — Силовое поле — обычная штука, — сказал Арго. — Какой же карантин без изоляции? Когда прошел последний орионец, ворота затворились, слипшись со стеной. Люди снова остановились, оглядываясь. — Какая огромная территория! — сказал Брага. Вдали, насколько хватал глаз, тянулись рощицы и перелески, среди которых возвышались разнокалиберные купола строений. От ворот лучами разбегалось несколько гравиевых дорожек. Рядом с одной из них возвышалась мачта, увенчанная прибором не известного орионцам назначения. Штурман подошел к ней и похлопал ладонью по серебристой поверхности. — Это лишнее, Григо, — сказал капитан. И штурман, оставив мачту, присоединился к остальным. Экипажу казалось, что капитану известно нечто, скрытое от остальных. Джой Арго знал не больше, чем прочие. Мучительные сомнения одолевали его, но лицо оставалось спокойным. Он знал слишком хорошо, что любой шаг, опрометчивый пли просто необдуманный, в незнакомой ситуации может привести к необратимым последствиям. Разве не по этой причине погибли четверо орионцев там, в окрестности Проксимы Центавра? Экипаж должен видеть в капитане вожака, верить в него. Во всяком случае, так говорилось в Космическом уставе в те времена, когда «Орион» стартовал. Разве с тех пор устав изменился?.. Пока в действиях машин или систем, черт его знает, как их назвать, — словом, во всем том, что аппараты землян проделывали с гостями, как будто бы не было ничего угрожающего жизни орионцев. Более того, действия систем казались капитану разумными: необходимость карантина при возвращении из глубокого космоса также была оговорена уставом. Капитана, как и остальных, смущало только одно: до сих пор ни вблизи, ни издали, ни на экране, ни каким-либо иным способом они не видели ни одного землянина. В этом предстояло разобраться. Куда идти? Над этим долго раздумывать не пришлось: снова включилось направляющее поле. Под его воздействием группка из двенадцати орионцев двинулась в сторону ближайшего корпуса. Платаны сменились высокими растениями, резная листва которых отливала синевой. Любава замедлила шаг, рассматривая листья. Из всего экипажа, кажется, лишь она одна сохраняла настроение безмятежной доверчивости, смешанной с наивным удивлением всем окружающим. — У нас на «Орионе» таких кустов с синими листьями не было. Что это за растение, Григо? — спросила она у штурмана, оказавшегося рядом. — Кажется, венерианский папоротник, — буркнул в ответ Григо. Вслед за остальными они вошли в просторное строение.Глава 2 ВЕК XXII
Кличка «Изобретатель» закрепилась за Борцей давно, еще с первого курса. В самом слове «изобретатель», разумеется, не было ничего зазорного, однако не нужно забывать, что в степах Звездной академии оно носило несколько иронический, чуть отчужденный, что ли, характер. И действительно, среди учлетов, бредящих звездами. Борца слыл чем-то вроде белой вороны, хотя и не забывал о звездах. Свой досуг он отдавал не старым космическим лоциям, не микрофильмам о прежних экспедициях, не отчетам о полетах, которые стали классическими, наконец, не сочинению стихов о легендарном капитане Федоре Икарове — выходце из Звездной академии, который провел фотонный пульсолет «Пион» к Черной звезде, а колбам, реактивам, биореакторам и прочему реквизиту биокибернетиков. Не было для Борцы большего удовольствия, чем собрать из элементарных белковых ячеек, собственноручно выращенных, диковинную логическую схему, которая поражала воображение однокашников неожиданными решениями. Да и сам Борца мог иногда завернуть такое, что приятели только головой качали, не зная, всерьез Изобретатель говорит или, по обыкновению, шутит.«Наша цивилизация с самогона-чала пошла по неправильному пути, — заявил он однажды. — У нее слишком велик технологический крен. Как только наши предки спустились с деревьев и принялись за изготовление орудий труда, они чрезмерно много долбали, обтесывали, сверлили, а потом, попозже, — плавили, строгали, шлифовали». «А надо было?» — спросил Петр Брага, его друг. «А надо было больше выращивать, скрещивать, высаживать. Словом, больше направлять природу, чем уродовать ее», — пояснил Борца. В Звездной академии Борца слыл чудаком. Так, например, едва только успев очутиться в стенах этого единственного на всю Солнечную систему учебного заведения, он успел всем уши прожужжать о том, что мечтает изобрести — и непременно изобретет! — некий аппарат синтеза, который упразднит все машины, дотоле изобретенные человечеством. «Ну, а полеты к звездам?» — спрашивали друзья. «Полеты не цель, а средство», — отвечал Борца. Иногда добавлял: «Средство к тому, чтобы сделать человечество более сильным, знающим, уверенным в себе, а это значит — более счастливым». Вообще Борца был натурой увлекающейся. Любил он еще историю. Но не пыльные фолианты, не окаменевшие обломки-реликвии заповедников, а подлинные свидетельства отшумевшей жизни. Он мог часами бродить по старой посудине, стоящей на приколе в недавно образованном Музее звездоплавания — для этого приходилось, выбрав свободный денек, добираться на рейсовой ракете до Австралийского континента, а уж со станции — автолетом до музейного космодрома. Это сложное хозяйство еще совсем недавно было последним словом космической техники. Ныне, после изобретения фотонных пульсолетов, космодром сразу же превратился в частицу истории звездоплавания, а с ними и тяговые корабли, ставшие экспонатами. Бродя внутри корабля. Борца переносился на век или два назад. Разговаривал с капитаном и членами экипажа, пил в кают-компании чай с теми, кто сдал пахту, сочинял шарады для вечера развлечений, наблюдал в телескоп зрелые гроздья звезд, шел со всеми навстречу внезапной опасности. Любая деталь оживала под мечтательным взглядом Борцы. Приятелей у Борцы было немало, по больше всего он дружил с Петром Брагой, долговязым парнем, на котором элегантная серебристая форма учлета ухитрялась всегда сидеть неуклюже, топорщась, словно с чужого плеча. Петр обладал незаурядными математическими способностями, но тем не менее решил идти в Звездную академию, куда и попал, выдержав огромный конкурс. Их всегда видели вместе — высокого, сутуловатого Петра и ладного, широкого в плечах и узкого в поясе Борцу. И на выпускном вечере они тоже сидели рядом. Было торжественно и чуточку грустно. Еще несколько дней или недель — и дружная их семья разлетится в самом прямом и древнем смысле этого слова. За большим звездообразным столом, который накрыли в актовом зале, было шумно. Преподаватели, известные всей Земле ученые и звездопроходцы, смешались со вчерашними слушателями. Каждый получил назначение, по возможности отвечающее его склонностям и устремлениям. В распределении слушателей совету академии помог, как всегда, компьютер, который терпеливо изучал характеры учлетов, курсовые работы, качество сдачи зачетов, начиная с первого дня учебы. — Не повезло тебе, дружище, — сказал слегка захмелевший Петр и хлопнул Борцу по плечу. — Я так не считаю, — ответил Борца, накладывая на тарелку салат из крабов. — А я считаю. Это надо же — на весь курс одно каботажное назначение, и компьютер выбрал именно тебя! Почему ты не воспользовался правом несогласия? Борца пожал плечами. — Ну какие такие особые склонности откопала в тебе эта чертова машина? — продолжал Петр. — Влечение к карантинной службе? Закончив необычно длинную для него тираду, Петр принялся рассматривать вилку, словно видел ее в первый раз. — Ты угадал. Именно склонность к карантинной службе, — ответил Борца. — Темнишь, Изобретатель. Знаю, работа карантинщика опасная. И мужества требует и выдержки. Но где же, скажи мне, звездная романтика? — Ларчик открывается просто… — Борца не договорил: на них зашикали. На противоположном конце стола поднялся их однокурсник Джой Арго, готовясь произнести тост. Плотный, как будто вырубленный из одного куска, он стоял, слегка расставив ноги, словно матрос на палубе во время качки, и ожидал, пока уляжется застольный шум. — А знаешь, ему бы пошла бородка. — шепнул Борца, бросив взгляд на мужественное лицо и глубоко посаженные глаза Джоя. — Чистый шкипер с пиратского судна получится. — Передам Джою твой совет, — ответил Петр. — У меня будет такая возможность. Тост Джоя Борца слушал невнимательно: тот что-то говорил о звездах и людях, упомянул Орион или еще какое-то созвездие, — видимо, цель полета чьей-то экспедиции. Да разве мог медноволосый Джон говорить о чем-нибудь, кроме звезд! Когда Джой сел, приятели вернулись к прерванному разговору. — Работая карантинщиком, я первый буду встречать корабли, которые возвращаются, — сказал Борца. — Спасибо, просветил, — хмыкнул Петр. — И не просто корабли, как было до сих пор, а фотонные пульсолеты. Для них эйнштейновский эффект времени будет такой, что дай боже. Словом, каждый из таких кораблей будет представлять собой как бы частичку прошлого, лоскут протекшего века. А я, переходя с корабля на корабль, смогу как бы путешествовать во времени. Усваиваешь? Петр махнул рукой. — Ты всегда был фантазером. Изобретатель, — произнес он. — Древний мудрец сказал: человек создан для полета. — Не совсем древний… И не совсем так он сказал. — А как? — «Человек создан для счастья, как птица для полета», — процитировал Борца. — Вот именно! — подхватил Петр. — А что такое счастье для человека? Полет. Усваиваешь? — Усвоил. — Ну вот. А ты говоришь — карантинная служба. — Но учти одну вещь, Петр: пока ты совершишь один полет, я совершу их множество, — сказал Борца. — Переходя с корабля на корабль? — Хотя бы. Петр разгрыз клешню омара. — Тебя не переспоришь, Изобретатель, — сказал он. — Ладно, оставайся в карантинщиках. Только просьба одна к тебе будет. Борца улыбнулся: — Догадываюсь какая. — Ну-ка? — посмотрел на него Петр. — Ладно, так и быть, похлопочу, чтобы и тебя взяли в карантинщики. Математику у нас всегда найдется место — проверять старые корабельные калькуляторы… — Не угадал, дружище, — покачал головой Петр. — У меня уже другое назначение имеется. — Он себя похлопал по карману. — Только что вручили. Перед торжественной частью. — А просьба-то какая? — Будь другом, когда я вернусь из полета и попаду в твои лапы, ты не очень уж маринуй меня. Грянул оркестр, закружились пары. Роб поставил перед ними ведерко со льдом, из которого торчало серебряное горлышко бутылки с тоником. — Отчаливаешь, значит? — спросил Борца. — Отчаливаю. — Что за посудина? — «Орион». — Корабль глубинного поиска? Первый фотонный пульсолет? — спросил Борца. — Он самый, — с деланной небрежностью кивнул Петр. — П-пульсолет. — Так что же ты мне голову морочишь, Интеграл несчастный! — воскликнул Борца. В этот миг оркестр оборвал свое форте, и на них оглянулись. — К тому времени, когда ты вернешься, на Земле знаешь, сколько лет пройдет? — Знаю, что много, Изобретатель. А сколько именно, это сейчас неизвестно никому. П-подсчитаю на обратном пути, когда «Орион» направит стопы свои к Земле. Оба помолчали, подумав о барьере в несколько веков, который к тому времени разделит их. — Кто капитан «Ориона»? — спросил Борца. — Джой Арго, — кивнул Петр на своего будущего шефа, который посреди зала самозабвенно отплясывал, потрясая огненным чубом. На следующий год после старта «Ориона» Высший координационный совет решил выделить на Земле обширную территорию и создать на ней нечто вроде городка для космических экипажей, возвращающихся на Землю. Решение это, принятое с прицелом на далекое будущее, было продиктовано самой жизнью. Чем совершеннее становились корабли, пронзающие пространство, чем ближе к световому барьеру приближалась их скорость, тем больше замедлялось, «замораживалось» в них — по сравнению с земным — собственное время. Поначалу этот эффект времени был настолько незначителен, что улавливался лишь хронометром. Затем разница стала измеряться сутками, месяцами, а потом и годами, и ее уже можно было уловить на глазок. Тогда-то и случилась история, которая вошла впоследствии в школьные хрестоматии. …Жили-были два брата-близнеца, настолько похожие, что даже мать путала их. Братья росли вместе, дружили, но после школы их пути разошлись. Один бредил космосом и ему посчастливилось попасть в только что открытую Звездную академию, другой стал инженером — преобразователем природы. Наступила минута прощания… Один уходил в пространство, другой пришел на корабль проводить его. Надо ли говорить о том, что в последний момент капитан едва не перепутал их? Надо ли рассказывать о трудностях полета? Пришло время, и корабль возвратился на Землю. И все ахнули, посмотрев на обнявшихся близнецов — двадцатилетнего парня и солидного сорокалетнего мужчину. Перепад времени, разумеется, коснулся всех без исключения членов экипажа, высыпавших из корабля на степной космодром: каждый «помолодел» по сравнению с встречающими друзьями и родственниками ровно на двадцать лет. Просто на близнецах этот факт был наиболее заметен. Потому и стала эта история хрестоматийной. Для будущих экипажей, возвращающихся на Землю, этот временной перепад должен был неуклонно увеличиваться. Принимая решение, Координационный совет учитывал и то, что темп жизни на Земле с каждым годом также будет убыстряться, и соответственно будет меняться не только техника, но и вкусы, манеры, привычки людей. Когда разрыв во времени перевалит за век, вернувшимся астронавтам, очевидно, трудно будет понять землян. На помощь астронавтам и должен был прийти городок, заложенный в сердце Австралийского континента, неподалеку от нового Музея звездоплавания. Там люди, застрявшие на ступеньках прошлого, смогут «акклиматизироваться», ознакомиться — хотя бы вкратце — со всем, чего достигли за это время земляне, войти в ритм их жизни. B лишь после этого пришельцы вольются в общую человеческую семью. Долго ломали голову, как назвать городок. Имя предложил капитан одного из экипажей, обживавших город. Он предложил назвать город — Гостиница «Сигма». Почему гостиница? Да потому, что приезжие живут там только некоторый срок, занимаясь необходимыми делами. Ну, а значок «сигма» обозначает в математике, как известно, сумму. Гостиница «Сигма», таким образом, будет символизировать собой сумму, единение всего человечества. Три года карантинной службы прошли для Борцы незаметно. Встречая корабли, возвращающиеся из космоса, он всякий раз входил в прошлые времена, и всегда это было интересно для него и ново. В свободное время Борца возился в своей крохотной лаборатории — так он окрестил угловую комнату неуютной холостяцкой квартиры. Жил Борца один, если не считать Бузивса, угрюмого шимпанзе, которому суждено было войти в летописи Земли. Родители Борцы ушли в звездный рейс, и о том веке, в который они должны вернуться, Борца предпочитал не думать. Обожая старинную лабораторную утварь, он мог всю ночь провозиться с двугорлыми ретортами, биостатами, пробирками, паять, кипятить, выпаривать, смешивать реактивы, выращивать ячейки для логических схем. Впрочем, все увлечения Борцы подчинялись одному, главному. На запущенной даче он собирал и лелеял машину синтеза — дело своей жизни. Правда, машина не встретила одобрения у приятелей Борцы — физиков. «Идея интересна, по как ты ее осуществишь?» — говорили они. Борца, однако, не складывал оружия — характер у него был кремневый. Вновь и вновь сталкиваясь с неудачами, он утешался мыслью, что во все века были непризнанные изобретатели. Не предполагая, истоком каких событии явится сегодняшний день, Борца с четырьмя помощниками летел в карантинном спутнике для встречи и досмотра «Альберта», корабля, только что вернувшегося из дальнего поиска. Теперь корабль описывал стационарные витки вокруг Земли, говоря жаргоном карантинщиков «лежал в дрейфе». Спутник несколько раз обошел вокруг «Альберта», снимая дозиметрические пробы. Он казался пушинкой, плавно облетающей высокий тополь. — Приготовиться к стыковке, — отдал команду Борца. Люди, как положено по уставу, проверили скафандры, включили манипуляторы и роботов на полную готовность. В иллюминаторах спутника то возникало, то стушевывалась допотопное чудище, линии его ясно прочерчивались на аспндном фоне звездного неба. «Альберт» строили по тому же принципу, что и древние подводные лодки: корабль был смонтирован из отсеков, каждый из которых в случае необходимости мог существовать самостоятельно. Тусклые шары отсеков соединялись переходами, обшивка которых во многих местах обесцветилась и потрескалась. Дюзы, еще не отдохнувшие от огня, изливавшегося из сопел в течение долгих лет полета, чуть светились. Звездолет казался безжизненным. Не верилось, что внутри люди, хотя еще пятеро суток назад радисты службы слежения установили с «Альбертом» двухстороннюю связь. После этого биологи, как обычно, сняли на расстоянии энцефалограммы каждого из членов экипажа, проведали необходимые измерения и пришли к предварительному выводу, что люди на борту «Альберта» не поражены никакой болезнью. Последнее слово было за Борцей и его сотрудниками. Далеко впереди, на носу «Альберта», рядом с острокрылой шлюпкой сияла и переливалась изумрудная звездочка. Борца подумал, что это, быть может, светящийся минерал, захваченный альбертианами на одной из дальних планет. Подтвердилось, что радиация обшивки пришельца невысока, что привело Борцу в хорошее настроение. Мурлыча под нос «Рыжую кошку», он делал последние приготовления, перед тем как ступить на «терра инкогнита». Вот он, люк, ведущий в переходную камеру. Сейчас должен приоткрыться… — Лет на сто — сто двадцать отстали. Изделие двадцать первого века, — вслух определил Борца, взглядом знатока окидывая массивную корму «Альберта», выплывающую из глубины экрана. В области истории Борца слыл непререкаемым авторитетом. Люк альбертиане сами открыть не сумели: токи Фуко чуть ли не намертво приварили его к обшивке. Пришлось прибегнуть к помощи могучих манипуляторов — управлять их действиями для Борцы было делом привычным. Первым на борт корабля ступил Борца. По его просьбе экипаж собрался в капитанской рубке. Люди и киберы разошлись по отсекам. Предстояла ответственная работа. Наметив каждому задание, Борца, прихватив манипулятор, вошел в отсек, следующий за шлюзовой камерой. Трудно описать сложное чувство, охватившее Борцу. Сама История вдруг перевернула перед ним назад сотню страниц в книге, имя которой — Время. Шутка — сделать в прошлое шаг, равный веку, а то и веку с лишним! Отсек, в который проник Борца, освещался панелями. Синеватый свет казался безжизненным. Помещение было невелико. Приборы, к которым, видимо, давно никто не прикасался, были покрыты толстым слоем пыли. Борца живо представил себе, как неудобно было здесь работать космонавтам, облаченным в старинные громоздкие скафандры. Отсек в разных направлениях пересекали тонкие штанги невесомости. Некоторое время Борца озирался. Все предметы казались значительными. «В диковину здесь каждая вещица, все древнего значения полно», — припомнил он с детства знакомые строки. Космошлем с торчащими рожками антенн, небрежно закрепленный у стенки… Когда такие были в ходу? Регулятор диапазонов примитивный, словно вырубленный топором… Ну конечно, сто лет назад еще не знали биопередатчиков и вообще мыслеконтактной аппаратуры. А это что за монстр? Ага, форвакуумный насос… Добравшись до угла помещения, Борца остановился, не веря собственным глазам. Он смотрел не отрываясь на небольшой продолговатый предмет, лежащий в гамаке невесомости. Глаза Борцы успели привыкнуть к скудному свету, и он без труда различил, что предмет имеет очертания человеческой фигуры. Для ребенка слишком мал… Неужели биокибернетическая модель? Это в прошлом-то веке? Переворот в исторической науке, и автором его будет он, Борца! С бьющимся сердцем Борца приблизился к гамаку и протянул руку, облитую непроницаемой перчаткой, к неподвижному предмету. Рассмотрел его и улыбнулся разочарованно: переворот откладывается. История прошлого века осталась непоколебленной. В руках Борцы была не биокибернетическая модель, а обыкновенная детская кукла, к тому же поломанная. Манипулятор неотступно следовал за Борцей. Четверо операторов непрерывно докладывали по биосвязи, что досмотр «Альберта» проходит без осложнений. Что ж, пора в капитанский отсек. Уже на выходе Борца огляделся. Внимание его привлек прямоугольный плоский предмет, свободно плававший в пространстве близ запыленного иллюминатора. За три года карантинной службы, не говоря уж о тренировках в Звездной академии, Борца привык к невесомости. «Штанги нужны только для новичков», — любил говорить Джой Арго. Почти автоматическим, точно рассчитанным движением Борца оттолкнулся от пола и, перелетев по прямой почти весь отсек, в последний момент ухватился одной рукой за решетку, защищавшую иллюминатор, а другую протянул к медленно проплывающему предмету, который заинтересовал его. Манипулятор в точности повторил прыжок человека. Отпустив решетку. Борца вертел в руках непонятный предмет. Постучал по верхней плоскости пальцем — звук получился глухим. Как такие коробки назывались раньше? Шкатулка? Кубышка? Нет, табакерка. Точно, табакерка. Они были в ходу давно, еще до открытия Востокова. Крышку табакерки покрывала серебряная инкрустация. Борца потрогал пальцем в непроницаемой перчатке искусные металлические завитки, затем протянул коробку манипулятору, на табло которого через несколько секунд вспыхнул сигнал: «Опасности нет». Тогда он надавил на выпуклость у створки, и табакерка раскрылась неожиданно легко. Внизу оказалась темно-коричневая волокнистая масса, совершенно высохшая. Кто знает, сколько лет подвергался воздействию радиации этот табак. Какие неожиданные свойства приобрел он в результате такой обработки? А хорошо бы прихватить немного. Для опытов. Реактивами пощупать. А главное, добавить в рабочее вещество машины синтеза. О, он будет осторожен. И потом, ведь рабочее вещество надежно отделено от наблюдателя… Борца еще раз глянул на изящную вещицу. Нем, табакерку он не возьмет — все предметы в корабле должны остаться на месте. Строго говоря, он и так нарушает карантинный кодекс… По искушение было слишком велико. Борца засунул поглубже в карман горстку волокнистой массы, а табакерку, захлопнув, выпустил из рук, и она поплыла по отсеку. Встреча с экипажем была радостной. По просьбе Борцы капитан вручил ему бортовой журнал и коротко рассказал о полете — таков был свято соблюдавшийся ритуал. Но в данный момент Борцу волновали не передряги альбертиан в пути, не изумрудный кристалл на носу корабля и даже не девушка, стоявшая рядом с капитаном, хотя он и успел заметить, что она красивая. — Вы прикинули эффект времени? — спросил Борца, когда капитан, закончив рассказ, умолк. — Да, отстали мы от вас порядком, — ответил высокий капитан, чем-то напоминавший Борце Петра Брагу. — На сто четыре года, если не считать месяцев. Глазомер не подвел Борцу. — Выходит, вы стартовали в двадцать первом веке, — произнес он, чтобы нарушить тягостную паузу. — Да, в самом начале, — сказал капитан — Мы жили на Земле еще в двадцатом веке. Даже Зарика помнит его. Правда? — Правда, — улыбнулась девушка. В отсек вошли остальные работники карантинной службы, и сразу стало тесно. Каждый доложил Борце о том, что на борту «Альберта» все в порядке. — Значит, мы можем… можем лететь на Землю? — дрогнувшим голосом спросил капитан. — Конечно, — сказал Борца и посмотрел на часы. — Минут через десять за вами прибудет пассажирская ракета. — А что будет с нашим «Альбертом»? — спросила Зарика. — Интересный корабль. Думаю, ему найдется местечко в Музее звездоплавания, — сказал Борца. — Кстати, этот музей недалеко от городка, в котором вы поживете некоторое время. — Пока догоним вас? — спросила Зарика. — А может, и перегоните, — улыбнулся Борца. Ему о многом хотелось расспросить альбертиан — не о полете, а о жизни на Земле до того, как стартовал их корабль, — но Борца был сдержан в расспросах: он знал, что поколение альбертиан ушло и они остались одни — маленький островок прошлого в реке времени. Ни родных, ни близких, ни друзей — никого не осталось на Земле, если не считать, конечно, их отдаленных потомков. Но это — новые поколения… Альбертиане, наоборот, наперебой сыпали вопросы. Борца и его товарищи еле успевали отвечать на них. — Построили мост через Берингов пролив? — Полвека назад. — А как климат на Земле? — Перекроили — не узнаете! — Льды Антарктики растопили? — Нет. — Неужели энергии не хватило? — удивился капитан. — Энергии у нас достаточно, — ответил Борца. — Преобразователи считают, что растапливать льды опасно — слишком повысится уровень воды в Мировом океане. Чувствовалось, как изголодались альбертиане по общению. Борца вдруг подумал, что на его глазах и при его участии осуществляется великое дело — связь времен, рукопожатие эпох. Ему зримо представилась цепочка поколений, словно цепочка альпинистов, совершающих восхождение к трудной вершине. Каждый связан со всеми и все — с каждым. Порвется одно звено — что станется с цепью? Что у них сейчас в душе, у альбертиан? Вот, например, эта девушка. Подумать только — она помнит, она захватила XX век, героическое и мятежное время, когда люди, разорвав путы земного тяготения, впервые шагнули в космос. А имя какое у нее — Зарика! Борца никогда раньше не слышал такого. В нем чудится и заря, и река, и еще что-то, не поддающееся определению. Лицо — будто сошедшее с древней камеи… В руках Зарика держала старую, истрепанную книжку. «Наверно, роман», — подумал Борца. Обложка была затрепана, но, когда Зарика повернулась, он исхитрился прочесть на корешке: «Микробиология». Отсек дрогнул от толчка. — Прибыла ракета, — сказал Борца. Сдача дежурства и несколько последующих дней прошли для него как в тумане. Перед глазами все время маячила Зарика, девушка с лицом восточной царицы и глазами цвета морской волны. Несколько раз, будучи дома, он порывался связаться с «Сигмой». Подходил к видео, нажимал клавиши, но, не добрав, давал отбой. Бузивс, мрачный шимпанзе, молча, но с явным неодобрением наблюдал эволюции хозяина. Был Бузивс меланхоликом, к тому же обладал вздорным характером. В частности, недолюбливал гостей. А народу к Борце приходило немало. Со старыми друзьями хозяина Бузивс кое-как мирился, но новых встречал в штыки. Это приводило к смешным, а подчас и не очень смешным ситуациям, но Борца привязался к старой обезьяне и никак не мог решиться на то, чтобы с ней расстаться. Как-то он случайно обнаружил, что зрение Бузивса основательно ослабло. Приглашенный медик предложил выписать Бузивсу очки, и Борца с радостью ухватился за эту идею: быть может, угрюмость и необщительность Бузивса проистекают от его физического недостатка? Бузивс на очки согласился, однако его характер изменений не претерпел. Как-то вечером, решившись, Борца набрал код Гостиницы «Сигма». Дежурный робот соединил его со строением, которое занимал экипаж «Альберта». Зарику разыскали быстро. Она плавала в бассейне. Борца поздоровался, и все фразы, приготовленные заранее, вдруг вылетели у него из головы. — Как живется вам в Гостинице, Зарика? — спросил он довольно глупо. Девушка улыбнулась. — Очень много работы, — сказала она. — Если бы не обучение во сне, не знаю, что бы мы делали. Наверно, торчали бы в вашей Гостинице до скончания века. — Понимаю — кивнул Борца, — огромный объем новой информации. Зарика покачала головой. — Не только в этом дело, — сказала она. — Даже то, что мы знали, теперь безнадежно устарело. Я, например, все свободное время в полете отдавала микробиологии. Мечтала: вернусь — и буду заниматься на Земле любимым делом. Самые новые, последние учебники забрала с собой… А теперь они годятся разве что для музея. — От нуля, значит, начинать? — Пускай от нуля, — упрямо тряхнула Зарика головой. — Все равно я буду микробиологом. — Разрешите вас встретить, Зарика, когда вы покинете «Сигму»? — произнес Борца. Зарика потупилась. — Я покажу вам Землю, — сказал Борца. Глаза Зарики вспыхнули радостью. — Хорошо, — сказала она. Едва Зарика исчезла с экрана, Борца подпрыгнул как сумасшедший, затем схватил Бузивса и закружил его по комнате. Шимпанзе позволял такое только одному человеку в мире — своему хозяину. Недовольно ворча, обнажая желтые кривые клыки, Бузивс неуклюже переваливался с ноги на ногу. Только когда с Бузнвса свалились очки, Борца оставил его в покое. Когда Зарика покинула «Сигму», Борца встретил ее огромной охапкой цветов. — Какая прелесть! — воскликнула Зарика. — Цветы нужно поставить в воду, — решила она. — Что-нибудь придумаем. — сказал Борца, посмотрев на девушку. Альбертиане, вышедшие из «Сигмы» вместе с Зарикой, распрощались с молодыми людьми и двинулись к автолетной стоянке. Последним улетел капитан. Небольшая площадь опустела. — Куда у вас назначение? — спросил Борца. — На биостанцию, — сказала Зарика, — Чертов палец. Ничего имечко? — Это далеко, — наморщив лоб, произнес Борца. — Черноморское побережье. Зарика кивнула. — Знаю. Крым, — сказала она. Они зашли под навес, сели в тени. Зарика положила букет перед собой, цветы заняли почти всю поверхность столика. Роб, поблескивая фотоэлементами, принес два стакана сока со льдом. Зарика сделала глоток. — Что это? — спросила она. — Угадайте, — предложил Борца. — Виноградный? — Нет. — Абрикосовый? Борца покачал головой. — Манго? — Мимо. — Сдаюсь, — сказала Зарика. — Это сок трабо, — сказал Борца. — Трабо? Не знаю, — сказала Зарика и на всякий случай отодвинула стакан. — Трабо растет на Венере, — произнес Борца. — Это растение открыли первые колонисты. — Когда я улетала на «Альберте», экспедиция на Венеру только готовилась, — сказала задумчиво Зарика. — Теперь трабо и на Земле культивируют, — заметил Борца. — А вы пейте. Сок трабо — самый популярный напиток на Земле. Зарика отпила. — Невкусно, — сказала она. — Привыкнете, — пообещал Борца. — Мне он тоже поначалу показался не очень… Между прочим, в народе считают, что сок трабо способствует долголетию. — Так вот почему его пьют! — воскликнула Зарика. — Медики, как ни бились, ничего такого в этом соке не нашли. Но что-то в нем все-таки есть, — сказал Борца, разглядывая свой стакан на свет. Золотистый напиток сверкнул в солнечном луче, словно янтарный слиток. — Да, что-то есть, — согласилась Зарика. Напиток был с кислинкой, слегка покалывал небо и язык, хотя пузырьков газа в стакане заметно не было. — Долго лететь до Чертова пальца, не знаете? — спросила Зарика. — Часа четыре, — сказал Борца. — Так много? — Не забывайте, что нам нужно попасть в другое полушарие. Зарика посмотрела на цветы. — Жалко, завянут, — сказала она. Они допили сок и поднялись. — А вы далеко отсюда живете? — спросила Зарика. — Рядом с Музеем космоплавания. Рукой подать. — Так давайте залетим к вам, поставим цветы в воду, — предложила Зарика. Борца замялся и пробормотал что-то насчет беспорядка в своей квартире. — О, простите, — в свою очередь смешалась Зарика, — кажется, я сморозила ужасную глупость. Капитан предупреждал нас, а у меня все вылетело из головы. За сто лет обычаи на Земле, наверно… — Зарика покраснела и смолкла. — Дело не в обычаях… — начал Борца. — Заберите цветы и поставьте их у себя в воду, — сказала Зарика. — А я полечу на биостанцию. До свиданья, — попрощалась она и зашагала в сторону площадки, на которой накапливались свободные автолеты. Пока они пили сок и разговаривали, из Гостиницы вышла и разлетелась по назначениям еще одна группа. Люди торопились: несмотря на жаркий день, даже навес и прохлада не привлекли никого из них. — Погодите, Зарика! — крикнул Борца. Девушка замедлила шаг, обернулась. Борца догнал ее и взял за руку. — Летим ко мне, — сказал он. — Правда, я живу не один. — Понимаю… — Ничего вы не понимаете. У меня дома шимпанзе. И я не уверен, что он встретит вас приветливо. — Я люблю животных. На «Альберте» у нас были… Ой, что это с ним? — спросила Зарика, указывая на роба. Тот подкатил к их столику, чтобы забрать пустые стаканы. Охапка цветов, лежащая на столе, привела его в тупик. Робот то протягивал к цветам щупальца, то втягивал их обратно. Что делать с этими благоухающими, недавно срезанными растениями? В электронной памяти узкоспециализированного робота соответствующего пункта не было. Борца подошел к столику, отодвинул роба и собрал цветы. Затем молодые люди сели в кабину двухместного автолета, и машина свечой ввинтилась в воздух. Зарику и Борцу вдавило в сиденья. Колоссальная территория «Сигмы» съежилась и скрылась из виду. Под прозрачным полом кабины поплыла ровная, как стол, степь. — Я помню степь… видела ее здесь, на Земле, еще маленькой девочкой, — сказала Зарика. — Что для нее сто лет? Те же коршуны, тот же ковыль да перекати-поле. Ничего не изменилось. — И все-таки я хотел бы побывать здесь лет через тысячу, — сказал Борца. — Хотя бы одним глазком взглянуть. — И я тоже, — сказала Зарика. — Понятно: у вас уже есть опыт путешествия во времени, — заметил Борца, глянул на Зарику и осекся: глаза ее наполнились слезами. — Простите… Прости, Зарика, — пробормотал Борца и взял ее за руку. Незаметно они перешли на «ты». Зарика совсем по-детски всхлипнула. — Ничего… Ничего, Борца, — прошептала она. — Все уже в прошлом… Прошло несколько минут, прежде чем девушка успокоилась. Некоторое время она смотрела на экран внешнего обзора. Автолет, похожий на слегка изогнутую посредине, оплавленную каплю серебра, шел немного ниже слоя перистых облаков. Вся левая сторона капли была щедро обрызгана жидким золотом австралийского солнца. Зарика перевела взгляд с экрана на Борцу. — Может быть, мой вопрос покажется тебе глупым, — начала она, — но я давно хочу спросить… Счастливы ли вы, люди двадцать второго века? Борца пожал плечами. — Счастливы ли мы? — повторил он после паузы. — Знаешь, как-то не думал об этом. А ты можешь сказать мне, что такое счастье? — Хитришь, Бор, — сказала Зарика. — Разве можно определить, что такое счастье? Счастье, по-моему, так же первично и изначально для человека, как пространство или, допустим, время. Счастье — это как постулат, некоторое допущение, на котором строится здание математики. Предполагается некая простая вещь, и из этого предположения выводятся все остальные теоремы. — Постулаты, между прочим, могут быть разными… — вставил Борца. — Вот именно, — подхватила Зарика. — Предположи, что параллельные прямые нигде не пересекутся, — получишь геометрию Евклида. Предположи другое — что эти линии где-то пересекаются, — и перед тобой уже совсем другая геометрия, геометрия Лобачевского… Только человеческое счастье не поддается законам математики. Еще не родился, наверно, мудрей, который сказал бы, что это такое — счастье. Покой или движение? Жизнь на Земле или полет к звездам? Безмятежность духа или постоянная борьба? Уверенность в себе или сомнения? Или, может быть, и то, и другое, и третье? Борца хлопнул ладонью по пульту. — Ну хорошо, оставим определения философам, — сказал он. — Но ты-то, ты счастлива, Зарика? — Кажется, счастлива, — ответила Зарика негромко. — И еще я думаю часто: какова цена счастья? И тогда вспоминаю своих родителей… Борца откинулся на спинку штурманского кресла, приготовившись слушать. — Юность моих родителей совпала по времени с эпохой великих строек Земли, — начала Зарика. — Это были семидесятые годы двадцатого века. — Знаю, читал, — кивнул Борца, оживляясь. — Для тебя это глубокая история, — сказала Зарика. — А я еще захватила двадцатый век. Понимаешь? Двадцатый век — это моя юность, часть моей жизни. О, какое это было время! — Ты начала о родителях, — напомнил Борца. Зарика посмотрела вниз. Под прозрачным полом аппарата проплывала неуютная равнина, лишь кое-где оживленная разнокалиберными холмами. — Мои родители познакомились в Сибири, на одной из грандиозных комсомольских строек… — сказала Зарика. — Их сердца, как и тысяч других, были полны энтузиазма, который способен был, кажется, растопить вечную мерзлоту… Да он и растопил ее! — добавила Зарика. — В каком году твои родители приехали в Сибирь? — В тысяча девятьсот семьдесят четвертом… Мои родители — к тому времени, конечно, незнакомые — получили назначение на одну из самых ударных строек Сибири. Мои родители попросились на самый горячий участок — строительство дороги Тюмень — Сургут. Отец рассказывал, что тогда там была тайга, тундра да болота. Мошка чуть ли не заживо съедала тех, кто приехал осваивать девственный край. — Словно новую планету осваивали, — произнес задумчиво Борца. — Папа рассказывал, как они много месяцев жили в вагончике, который двигался вместе с дорогой — ее вели сквозь тундру. Он работал укладчиком. А мама была комсоргом — комсомольским вожаком. Целыми днями и неделями пропадала она на разных объектах, мерзла, но все ей было нипочем. Рассказывали, что после целого дня напряженной, изматывающей работы она могла и спеть, и сплясать, а однажды на концерте самодеятельности заняла первое место. Когда строительство дороги закончилось, родители не захотели уезжать, решили остаться в Сибири — очень им по душе пришелся этот край. — В каком году ты родилась. Зари? — В тысяча девятьсот восемьдесят пятом, — сказала Зарика. — Страшно сказать! — Почему? — не понял Борца. — Сопоставь с тем, какой нынче год, — кивнула Зарика на светящийся календарик, расположенный в углу пульта, — и ты поймешь, какая я древняя старуха. — При чем тут твой возраст? Собственное корабельное время в соответствии с эффектом Эйнштейна… — начал Борца. — Да знаю я, Бор. Все знаю, — перебила Зарика. — Но все равно, это не просто, потому что… — не договорив, она умолкла. — А что было потом? — прервал паузу Борца. — Чем занимался твой отец, когда построили дорогу? — Он несколько раз менял профессию. Работал буровиком, пробивал нефтяные скважины на тюменской земле. А потом умерла мама, я ее почти не помню. У нее была ужасная болезнь, которую тогда еще не умели как следует лечить… Борца хотел что-то спросить, но глянул на Зарику и промолчал. — После этого отец перешел на строительство трансконтинентального газопровода Нарым — Рим. — А ты? — Я все время была с отцом, — просто сказала Зарика. — Я очень любила его. — Трудно было? — По-всякому. Потом между Тюменью и Сургутом создали школу озеленителей планет, и я поступила туда. Осваивала азы биологии… Тогда ведь еще никуда не летали — ни на Марс, ни на Венеру. Только на Луне появились первые поселения. Будущие озеленители планет стажировались в тундре, в сложных условиях: колеблющаяся почва, бездонные болота, капризный климат, неустойчивая погода, летом — тучи гнуса, зимой — такие морозы, что сердце стынет. — Когда создали школу озеленителей? — спросил Борца. Зарика наморщила лоб. — В девяносто первом, — сказала она. — Мне было как раз шесть лет, и меня приняли в первый класс, на биологическое отделение. А через десять лет, в две тысячи первом году, стартовал к звездам «Альберт», один из первых звездных кораблей. Тогда не то что теперь: в те времена старт к звездам был целым событием. Я в числе прочих выпускников школы озеленителей подала на конкурс. Счастье улыбнулось одной только мне. Произнеся слово «счастье», Зарика усмехнулась. — Видишь, мы опять вернулись к разговору о счастье, — сказала она. — Что я знала тогда, шестнадцатилетняя девчонка? Несколько лет, которые «Альберт» — по собственному времени, конечно, — должен был провести в глубинном космосе, представлялись мне безбрежным океаном неизведанного. Так оно, разумеется, и оказалось. Я, да и все мы, альбертиане, мечтала, что наш полет принесет землянам что-то новое, позволит им сделать хотя бы крохотный шаг вперед. Помню чьи-то стихи, посвященные предстоящему старту «Альберта». Милые такие стишки. Автор говорил, что Земля — это улей, а корабли, словно пчелы, улетают к звездам — цветкам Вселенной, и каждая пчела приносит в улей свою каплю нектара… И я мечтала о своей крохотной капельке — помочь людям раскрыть тайну живого, выковать ключи жизни. В полете мы особенно не задумывались о возвращении на Землю. Оно чудилось — честное слово! — таким далеким, почти нереальным. И тот горький для нас, но непреложный факт, что за год ракетного времени там, на Земле, проходили десятилетия, — этот факт воспринимался нами как чистая отвлеченность. — Разве вы… — Знали, конечно, — перебила Зарика, угадав вопрос Борцы. — Но знали умом, а не сердцем. Понимаешь? — Понимаю. — На обратном пути, перед входом «Альберта» в Солнечную систему, — сказала Зарика, — наш корабельный математик сумел кое-как просуммировать все бесчисленное множество эффектов, связанных с течением времени в ракете, и сообщил, что на Земле теперь двадцать первое столетие. — А год он не мог определить? — спросил Борца, с жадным вниманием ловивший каждое слово Зарики. Девушка покачала головой. — Для этого необходимы слишком сложные подсчеты. На них уже не оставалось времени, — сказала она. — Да и какая для нас была, в сущности, разница — десяток лет в ту или иную сторону? Все равно ведь наше поколение умерло. Борца кашлянул. — Знаешь, Бор, я отлично запомнила, до мельчайших подробностей, пышные празднества, которые прошли по всей Земле, — сказала Зарика. — Это было перед самым стартом «Альберта». Люди отмечали начало нового, двадцать первого столетия. Потом я ушла в пространство… И вот, возвратившись на Землю через несколько лет полета, вижу, что перескочила через двадцать первый век, словно через ручей. И от следующего века отхватила порядочно. Так зачем же мы летели? Скажи, Бор, зачем? Ведь вы, земляне, успели уйти далеко вперед А мы, наоборот, безнадежно запутались, отстали во времени. Кому же он нужен, полет «Альберта»? Может быть, нам вообще не стоило возвращаться? Зарика закрыла лицо руками. — Ты не права, Зари. — Борца осторожно отнял ее руки. — Ты же сама говорила, что на борту «Альберта» у тебя созрело несколько новых идей, связанных с биологией. — А где гарантия, что земляне давным-давно не пришли к этим идеям без моей помощи? — откликнулась Зарика. — Хоть одна идейка да осталась. А даже ради одной идеи стоит лететь к звездам, — убежденно произнес Борца. — Хорошо, если осталась… — прошептала Зарика. — Я уже мечтаю поскорее дорваться до биостанции. Руки чешутся. А сейчас так говорят? — посмотрела она на Борцу. — Говорят, — рассмеялся Борца. — Прости, Бор. Минутная слабость… — сказала Зарика, вытирая глаза. Аппарат без перехода влетел в мохнатое облако. В рубке потемнело, и тотчас засветились панели. Изображения на экранах потускнели, приобрели размытые очертания. Борца привычно нажал кнопку инфравидения, и на обзорном экране перед Зарикой снова возникла серебристая капля автолета. — Нет, полет «Альберта» не мог быть напрасным, — задумчиво, словно отвечая собственным мыслям, проговорила Зарика. — Человечество едино, и поэтому едино его счастье. Каждое поколение вносит свой вклад в общую копилку. Я видела в Гостинице «Сигма», как братаются поколения… Они помолчали. — Климат в Сибири начали по-настоящему изменять в девяностых годах двадцатого столетия, так, Зарика? — нарушил паузу Борца. — В девяностых, — подтвердила Зарика. — А один историк пишет, что уже в семидесятые годы под Тюменью выращивали свежие помидоры. Чепуха? Зарика покачала головой. — Твой историк прав, Борца, — сказала она. — Тюменцы имели собственные овощи за двадцать лет до того, как в Сибири начали перекраивать климат. Мы строили теплицы, которые согревались за счет термальных вод. Да что там теплицы! Мы своими сердцами отогревали Сибирь. И не только для себя. Для вас тоже. Мы, люди, спаяны, связаны каждый с каждым… Автолет пошел на снижение. Вдали показался город. — Знаешь, Борца, я чувствую, что не смогла бы снова пойти в дальний поиск, чтобы совершить еще один прыжок во времени, — сказала Зарика. — Вот, кажется, совсем немного побыла я теперь на Земле, но привязалась к ней… Припомнив что-то, Зарика улыбнулась. — У нас в «Сигме», в строении, которое занимал экипаж «Альберта», была оранжерея, — сказала она. — Оранжереи есть там в каждом здании. — У нас, наверно, была особая. Большая-пребольшая. Прогуливалась я как-то в оранжерее и наткнулась на диковинное растение. Нигде такого не встречала, даже в полете. Дерево — не дерево, куст — не куст… Тонкий ствол, весь изогнутый, будто изломанный, тянется вверх, к солнцу. А со ствола — да, прямо со ствола! — свисают какие-то белые нити. Я подошла поближе, присмотрелась, потрогала рукой — волокна уходят в почву. И тут меня осенило: да это же корни! Да, корни, которые проросли прямо из ствола и тысячами нитей привязывают растение к земле. Вот так и я… вновь привязалась к земле, словно то растение, — закончила Зарика. Первые дома, утопавшие в зелени, вызвали у Зарики прилив восторженности. — Никогда не видела таких зданий! — сказала она. — Ни тогда, до старта… ни на корабле, в сферофильмах. Борца заметил, что Зарика старательно избегала термина «в прошлом», предпочитая говорить: «тогда, до старта» или же просто — «это было тогда…» Торопливо даваяежеминутные пояснения, Борца и сам новыми глазами смотрел на привычные с детства здания-скалы, где каждая квартира открыта ветру и солнцу, на дома-иглы, взметнувшиеся на тысячу этажей, на дома-подсолнухи, гигантские чаши которых поворачиваются вслед за светилом… Улицы были широкие, прямые, они то разбегались веером, то шли параллельно друг другу. Приближаясь к цели, автолет сбросил скорость и перешел на планирование. — Где транспорт? — спросила Зарика, глядя на улицы, по которым сновали пешеходы. — Транспорт вот, — указал Борца на тучи летательных аппаратов, роившихся вокруг них. — Я имею в виду — наземный, — пояснила Зарика. — Наземного транспорта в городе нет. Есть подземный, — сказал Борца. По мере приближения к центру города дома стали располагаться гуще, но количество зелени не уменьшилось. В листве отсвечивали купола, плоские кровли зданий не известного Зарике назначения, и Борца не поспевал отвечать на все вопросы. — Вон дом, в котором я живу, — указал он на здание, выросшее впереди, прямо по курсу машины. Здание, пожалуй, ничем не отличалось от соседних — круглое, окольцованное лоджиями, со светло-кремовой облицовкой, — но Зарике оно показалось знакомым островком посреди моря неизвестности. Перед дверью, ведущей в квартиру, Борца замешкался. — Я войду первым, — сказал он. — Бузивса придержу. Очкастый шимпанзе встретил гостью неприветливо. Однако, к удивлению Борцы, Бузивс на этот раз ограничился лишь недовольным ворчанием. — Тебе повезло, — сказал Борца, — Бузивс признал тебя. Шимпанзе стал на четвереньки и, задрав куцый хвост, подошел к хозяину. — Похож на медвежонка. Миша, Мишка! — позвала Зарика. Борца поставил цветы в воду, познакомил Зарику с квартирой и роботами. Потом они долго стояли у окна, глядя на город. Верхушки домов-игл еще освещались солнцем, а нижние панели уже начинали светиться, бросая мягкий свет на улицы. Потянуло прохладой. — Проводишь меня на биостанцию? — спросила Зарика. — Поужинаем сначала, — ответил Борца. А потом Зарику сморила усталость. Но все, что рассказывал Борца, было так интересно, что она изо всех сил старалась прогнать сон. Зарика устроилась в качалке, Борца присел у ее ног на великолепной светящейся шкуре не известного Зарике зверя. Только много времени спустя узнала она, что имя этому зверю — синтетика. Бузивс прикорнул рядом с хозяином. — Что тебя больше всего потрясло на Земле? — спросил Борца. Зарика подумала. — Пожалуй, то, что ваш век победил болезни человека. Как это вам удалось? — Я не микробиолог, — сказал Борца. — Разные болезни побеждались по-разному. — Рак, например. Мама умерла от рака… Давно его победили? — Возбудитель рака нашли лет семьдесят назад. — Кто нашел? — Петр Востоков. — Петр Востоков… — повторила Зарика. — Твой коллега. Микробиолог. — Он сделал свое открытие на биоцентре? — с живостью спросила Зарика. — Нет, в Зеленом городке. — А, знаю, — кивнула Зарика. — Помню. Зеленый городок в Сибири. — На Оби. — Жив Востоков? — Умер. Там же, в Зеленом, ему памятник отлили. Золотой, — сказал Борца. — Из чистого золота? — Тогда золото уже не имело меновой ценности. Это до старта «Альберта», когда еще были деньги… Ты помнишь деньги? — Помню. — Люди просто хотели выразить свою величайшую признательность Петру Востокову, — сказал Борца. — А золото — металл исторический. Зарика толкнула качалку. — Хочу быть микробиологом, — сказала она. — Всегда мечтала об этом. — …Эге, да ты спишь! — будто издалека донесся до нее голос Борцы. — Сплю, — призналась Зарика. — А ты покажи фокус, чтобы сон разогнать. — Фокусы — моя профессия, — сказал Борца и, сунув наугад руку в карман, вытащил пестрый шарик. Зарика хлопнула в ладоши, отчего Бузивс тихонько зарычал. — Неужели ты еще чем-то сумеешь меня сегодня удивить? — сказала Зарика. — Это биопередатчик. Он есть у каждого человека. И тебе дадут на биостанции. — Как я отстала от вас! — вздохнула Зарика. — В «Сигме», правда, кое-что узнала. Но это так мало… У тебя, наверно, чудес полны карманы. — Конечно, — сказал Борца и, вытащив из кармана горстку светло-коричневой волокнистой массы, озадаченно посмотрел на нее. Зарику, наверно, не удивило бы, если б Борца поджег горстку и из пламени выскочил косматый джинн. — Что это? — спросила она. Борца пожал плечами. — Понятия не имею, — сказал он. Зарика наклонилась к его ладони. — Похоже на табак, — сказала она. Борца хлопнул себя по лбу. — Конечно, табак! — воскликнул он. — Вот так фокус, — сказала Зарика. — Разве в вашем веке все еще курят? — Редко. — А ты куришь? — Нет. — Откуда же у тебя табак? — На «Альберте» нашел. — Симпатичный у тебя Бузивс, — произнесла Зарика после паузы, чтобы сменить тему разговора. Услышав свое имя, Бузивс повернул голову и посмотрел на Зарику. — Молодец, Мишка, — сказала Зарика и, протянув руку, сделала наконец то, на что не решалась весь вечер: погладила Бузивса по голове. Все последующие события произошли в мгновение ока. Бузивс разинул пасть и рявкнул. Зарика не успела отдернуть руку. На кисть ее легла алая подкова — след укуса. В тот же момент Борца ударил шимпанзе кулаком, в котором был зажат табак. Шимпанзе заскулил, закашлялся, оглушительно чихнул. Борца замахнулся еще раз, Бузивс вскочил и забился в угол, угрожающе подняв передние лапы. — Не трогай его, — попросила Зарика. Борца промыл след укуса и наложил на рану пластырь. — Болит? — спросил он. Зарика покачала головой. — Проводи меня до автолета, — попросила она. — Куда ты на ночь глядя? Переночуй здесь, а утром полетим вместе. У меня завтра свободный день, я тебя провожу, — сказал Борца, собирая со шкуры, лежащей на полу, крошки просыпавшегося табака. Он уложил гостью в спальной, а сам устроился в маленькой лаборатории. Проснулся Борца среди ночи от головной боли. Дверь, ведущая в гостиную, была приоткрыта. На пороге неясно чернела какая-то масса. Борца встал, подошел, потрогал и едва не вскрикнул: перед ним лежал труп Бузивса. Качалка в гостиной была перевернута, ваза с цветами опрокинута, под ковер натекла лужа. В комнате стоял незнакомый прогорклый запах — табака, что ли? Голова болела так, что хотелось отрубить ее. Надо бы связаться с медицинским центром. Нужно включить для этого биопередатчик. Это так просто — одно нажатие пальца… Борца только подумал об этом, но не пошевелился. Он стоял, прислонившись пылающим лбом к оконному стеклу. Странное безразличие овладело им. А ведь он собирался утром сбегать в городскую оранжерею за цветами для Зарики. Зарика… Заря… Потом он проводит ее до Чертова пальца. Можно будет выкупаться… Интересно, умеет ли Зарика плавать? Море сейчас теплое. Что это брызнуло там, за окном? Огненная река. Неужели наступило утро? Нет, это стартует «Орион». Лунный космодром… Корабль перед прыжком. Напряженное лицо Петра Браги на переговорном экране. Он что-то крикнул Борце тогда, но включившиеся двигатели заглушили его слова. Теперь уж он никогда не узнает, что хотел на прощанье сказать ему Петр. И вообще никогда он не увидит никого из орионцев — ни тех, кто улетел, ни тех, кто родится в недолгом сравнительно полете: собственное время полета «Ориона» составит что-то около тридцати лет. А сколько на Земле пройдет веков? Этот сложнейший подсчет можно будет провести только на обратном пути, когда «Орион» приблизится к Солнечной системе и выйдет из последней пульсации. Борца сполз на пол. Хотел подняться, но тело не слушалось его. Последним усилием он все же поднял руку и ударил в окно. Звон падающих осколков — последнее, что зафиксировало его сознание. Ночного холода Борца уже не почувствовал.Глава 3 ВЕК XXXII
Экипаж «Ориона» обживался на новом месте. Ушли первые дни на Земле, полные неожиданностей. Однако люди все еще робко ходили по залам, лишь изредка заглядывали в оранжерею, с опаской ступали по прозрачному полу, под которым проплывали тени. Вдоль стен тянулись приборы и установки. Каково их назначение? Собирать информацию о пришельцах из прошлого? Для кого? В огромном корпусе было немало диковинок. Орионцы постепенно к ним привыкали. С утра они собирались в центральном зале. В урочные часы клапан, расположенный в потолке, выбрасывал двенадцать брикетов — по числу членов экипажа «Ориона». Брикеты сыпались вниз, затем метрах в полутора от пола останавливались и замирали в пространстве, покачиваясь вокруг точки равновесия. Штурман утверждал, что брикеты из хлореллы. Некоторые с ним не соглашались. Так или иначе, белая упругая масса была ароматна и питательна. — Сомнений нет: мы в плену у машин, — сказал однажды Брок во время завтрака. — Старая песня, — сказала Любава. — Придумай что-нибудь новенькое. — Ты что-нибудь обнаружил, Брок? — спросил Джой Арго. — Да, обнаружил! — крикнул Брок. — Что именно? — повернул к нему Григо худое, измученное лицо. — Да все то же. Вот этот самый проклятый брикет, хоть это уже и не ново! — С этими словами Брок переломил свой брикет и швырнул его в угол. Щупальца одной из установок тут же втянули его внутрь. — Брикеты — дело машин, — сказал Брок. — Машин, а не людей. Если бы нашими хозяевами были люди, они не стали бы нам давать все время эту дрянь. — А мне брикеты нравятся, — произнесла Любава. — И вкус у них каждый день разный. — Уж кормить-то, по крайней мере, могли бы нас нормально, — пробормотал Брок, ни к кому не обращаясь. — Что ты, собственно, называешь нормальной едой, Брок? — спросил спокойно капитан. — Ну, как что… Это каждому и так понятно, — произнес Брок. — К-каждому из нас — согласен. Но не каждому из них, — вступил в разговор Петр Брага. — Не забывай, что мы отстали от них на десять веков, — сказал капитан. — Может быть, для них эти брикеты — обычная еда? — добавила Любава. — Да для кого — для них? Для кого — для них? — выкрикнул Брок и выбежал из зала. Постепенно люди с «Ориона» пришли к выводу, что всем корпусом, в котором они обитают, управляет если не человек, то некая единая высокоорганизованная система. Желание любого члена экипажа, высказанное в достаточно ясной форме, исполнялось, если оно не выходило за рамки разумного. Жажду можно было утолять струями фонтана, день и ночь игравшего в углу центрального зала. Вода в нем всегда была вкусна и холодна, хотя и чуть горьковата на вкус. Но поскольку другого источника не было, приходилось пить из фонтана. Лишь одно желание, хотя оно и высказывалось членами экипажа часто и довольно недвусмысленно, не выполнялось: речь шла о выходе из корпуса наружу. Дверь, через которую вошли орионцы сюда в памятный день прибытия на Землю, не удавалось открыть никому, несмотря на все усилия. Даже приблизиться к ней не удавалось. Чем ближе была дверь, тем труднее давался очередной шаг. Наконец наступал момент, когда силовое поле попросту отбрасывало настойчивого. Люди пробовали пускаться на всяческие хитрости. Например, прорваться к двери, разбежавшись. Или пытались приблизиться к двери, взявшись за руки и двигаясь цепочкой. Но попытки ни к чему не приводили. Вырваться на волю не удавалось никому. С легкой руки Григо орионцы окрестили своего невидимого хозяина Семиглазом. Время шло, и люди все более настоятельно начинали ощущать нужду в занятиях, которые могли бы заполнить вынужденный досуг. После своей нелепой выходки Брок стал дичиться, сторониться орионцев. В центральный зал он старался приходить, когда все, поев, разойдутся по своим делам. Особых дел, впрочем, у орионцев не было. Ими овладела апатия. Чем заняться сегодня? Как убить время? Да и стоит ли его убивать? Не проще ли дождаться, когда оно убьет тебя? Капитан все время старался придумать для экипажа занятие. В здании, которое они занимали, все еще до конца его не освоив, было к чему приложить руку. Имелось, например, неплохое собрание документальных микрофильмов, библиотека и многое другое. Но что толку читать книги, авторы и прототипы которых, возможно, навсегда покинули Землю? К чему смотреть фильмы, герои которых никогда тебе не встретятся? А что, если Брок прав и обезлюдевшая планета находится во власти умных машин? Капитан Арго говорит: нужно изучать историю, поскольку у нас есть такая возможность. История Земли за время отсутствия орионцев? Это в принципе интересно, но не утратила ли она в данном случае смысл для плененного экипажа? II потом, где гарантия, что авторы микрофильмов и книг — люди? Другими словами, кто может поручиться, что машины не фальсифицировали историю, не стараются подсунуть людям лживую информацию? А если так — долой книги и микрофильмы! Люди чурались всяких занятий, подолгу бродили по помещениям, хмурые, замкнутые, либо не выходили из своих комнат. Петр Брага откопал в библиотеке манускрипт, посвященный одной из глав математического анализа, тон самой, над которой он размышлял и на борту «Ориона», и в первые дни пребывания на Земле. Можно было подумать, что добрый Семиглаз, расшифровав мысли Петра, подсунул ему эту работу. Биосвязь? Почему бы и нет, подумал Петр, ведь ее знали земляне даже до старта «Ориона». Но, поразмыслив, Петр отверг свое предположение, хотя поначалу едва не побежал к капитану, чтобы рассказать ему о странном совпадении. Объемистая книга на стеллаже ничем не выделялась среди своих соседок. Похоже было, к ней множество лет никто не прикасался. Петр поначалу пытался разобраться в случайно попавшейся работе, набрасывал выкладки, пытался следить за мыслью автора, но вскоре забросил свое занятие, вернувшись к бесцельным прогулкам. Внешним толчком к этому послужило все то же злополучное происшествие с Броком. Однажды днем, подгоняемый голодом (время завтрака давно миновало), Брок вошел в центральный зал и остановился от неожиданности. Обычно в это время здесь было уже пусто, а теперь собрался весь экипаж. Что-то случилось в зале, но что, Брок сразу не мог понять. Ему бросилась в глаза грузная фигура капитана, зажавшего в кулак бороду, взволнованное лицо штурмана, горящие глаза Любавы… Все смотрели в одну сторону: на стену, отделявшую зал от внешнего мира. Брок глянул туда же и позабыл о своем голоде. Обычно прозрачная стена, за которой открывался широкий вид на волю, на сей раз помутнела, превратившись в огромный экран. Брок подошел поближе. — Новый подарочек доброго Семиглаза, — произнес он, но никто не оглянулся. Что таить? Брок взволновался, как все, хотя и старался не подать виду. До сих пор все, что демонстрировал Семиглаз на экранах многочисленных приборов, разбросанных в разных помещениях, не выходило за рамки своеобразных бесед с экипажем: орионец задавал какой-либо вопрос — на экране вспыхивал ответ. А теперь… Перед орнонцами проносились лиловые пустыни, обожженные солнцем, храмы и пагоды, машины, похожие на живые существа, и существа, похожие на машины. Внезапный взрыв потряс экран, ввысь взметнулись столбы огня и дыма. Люди инстинктивно потеснились друг к другу. Брок оказался рядом с Любавой. Хотел взять ее за руку, но девушка отодвинулась. — Машинное творчество? — спросил он. — Не мешай, — сказала Любава. Сгустившуюся мглу неустанно полосовали фиолетовые молнии. Глухие взрывы следовали один за другим. Люди силились попять смысл сменяющих друг друга картин, но тщетно. Их можно было, конечно, понимать так и этак, но где гарантия, что именно данное толкование является правильным? Грохот умолк. Экран очистился. Все ждали, что он снова станет прозрачным, открыв привычный пейзаж. Вместо этого по поверхности стены заскользили бесконечные ряды математических формул. Взоры орионцев обратились на Брагу. Это он, корабельный математик, победил малый мозг «Ориона» в шутливом состязании на скорость решения дифференциальных уравнений. Это он сумел за четыре минуты рассчитать курс во время магнитной бури в районе Сириуса, когда все счетно-решающие устройства корабля вышли из строя. Не было, казалось, области математики, незнакомой Петру. Может быть, Семиглаз решил изъясниться с орионцами на языке математических символов? — Чем порадуешь, Петр? — спросил капитан. Брага развел руками. — Убей меня бог, Джой, если я что-нибудь понимаю, — сказал он тихо. — Н-ни одного з-знакомого символа. — И беспомощно улыбнулся. Вскоре таинственная передача закончилась, экран погас. Стена вновь стала прозрачной, и сквозь нее в зал хлынули солнечные лучи. Посыпались реплики. Обмен мнениями едва не привел к ссоре. Часть орионцев видела во внезапной передаче хорошее предзнаменование, другая считала ее бессмысленной выдумкой Семиглаза. Так или иначе, люди встряхнулись, сонная одурь слетела с них. После того как экран померк и стена вновь стала прозрачной, Брага вдруг заторопился. — Ты куда, Петр? Пойдем в оранжерею, побродим, как вчера, — предложил ему Григо. — Не могу, — ответил Брага. — А что? — Дело. Григо недоверчиво усмехнулся. — Дело? — протянул он. — В старой книге копаться? Так ты же сам говорил, что поставил на ней крест. — Есть одна идейка, — сказал Брага. — Кажется, я сумею все-таки разобраться в том, что нагородил сегодня Семиглаз. — А где ты возьмешь те формулы, что пролетели по экрану? — спросил Арго. — Они у меня здесь, — тронул Петр пальцем свой лоб. Наскоро напившись из фонтана, он вышел. Дела нашлись у каждого, и вскоре зал опустел. Любава и Брок остались одни. — Скоро четыре месяца, как мы на Земле, — сказала Любава. — В ловушке, — уточнил Брок. Он выглянул наружу. Погода приметно портилась: на небо набежали невесть откуда взявшиеся тучи, солнце скрылось. — Твой завтрак. — Любава взяла брикет, висевший в пространстве над полом, и бросила его Броку. Брок, обернувшись, поймал брикет. — Дарю его Семиглазу, — произнес он и с силой швырнул его в какую-то установку, расположенную под стенкой, добавив: — Авось подавится! Щупальца, похожие на усики, выдвинулись и тут же исчезли в недрах установки вместе с брикетом. — С голоду помрешь, — сказала Любава. Брок пожал плечами. — Пусть, — сказал он. На «Орионе» Брок и Любава росли вместе. Их обиталищем был космический корабль — другого дома они не знали. И конечно, лишь с трудом могли представить себе, что же это такое — твердая почва планеты под ногами, вольное земное пространство, ограниченное лишь кольцом горизонта, трава, колышимая незапрограммированным ветром, да жаркое светило над головой. Родители Брока и Любавы погибли давно, еще в первой половине полета. Брок рос мнительным мальчуганом, хотя в критические минуты, когда «Ориону» грозила опасность, выказывал не только хладнокровие, но и недюжинную храбрость. С детства Брок грезил о Земле — далекой полусказочной планете, откуда тридцать лет назад по собственному времени стартовал «Орион». На покинутой кораблем планете за это время протекли столетия… Когда наконец корабль, выполнив свою задачу в глубинном космосе, повернул обратно, взяв курс на Солнечную систему, Брок и ложился и вставал с мыслью о Земле, ни о чем другом он говорить не мог. В своей любви к Земле Брок, разумеется, не был одинок. О ней думали и говорили все члены экипажа, несмотря на то что «старшее поколение» корабля знало Землю отнюдь не понаслышке. Не составляла исключения и Любава, но ее чувство к родной планете, в отличие от Брока, носило более спокойный характер. Девушка видела в Земле что-то свое личное, близкое, то, что определяется великим и всеобъемлющим словом — Родина. По-разному реагировали орионцы и на то, как странно встретила их Земля. Для Брока эта встреча была словно измена близкого друга. Тщетно твердил он себе мысленно, что за тысячу лет, которые прошли на Земле за время их полета, многое, очень многое должно было измениться… Разум утверждал свое, но чувства юноши бунтовали еще на безлюдном Австралийском космодроме, когда орионцев встретил пустой аппарат, Брок начал твердить, что людей на Земле не осталось, что вся планета — в руках роботов, что они, орионцы, попали в плен к машинам. Поначалу это казалось бессмыслицей, но постепенно Брок сам почти уверовал в свою выдумку. Экипаж относился к Броку спокойно. «Это у него пройдет», — сказал как-то капитан, выразив, по-видимому, общее мнение. Из всех орионцев Брок выделял Любаву. Его полудетское чувство к Любаве с годами развилось и окрепло. Однако с некоторых пор Броку начало казаться, что Любава к нему равнодушна. Нет, девушка не избегала его, она относилась к Броку ласково и ровно — точно так же, как к остальным орионцам. «Разве это любовь?» — спрашивал себя Брок. Спрашивал — и не находил ответа. Он и минуты не мог прожить без Любавы. Однако, наделенный гордостью сверх меры, стал прятать свои чувства, скрывать их под маской язвительной насмешливости. Это ему удавалось — так, по крайней мере, считал сам Брок. Теперь, в пустом зале, он решил окончательно объясниться с Любавой. После выходки с брикетом Брок чувствовал некоторую неловкость. — Послушай, Любава, — сказал он, глядя в сторону, — что бы ты хотела больше всего на свете? Живые глаза девушки затуманились. — Я бы хотела, чтобы все мы вышли отсюда, — сказала Любава, сделав широкий жест в сторону прозрачной стены. — Чтобы земляне встретили нас, орионцев, как братья… Короче говоря, чтобы все были счастливы. — Этого каждый из нас хочет, — нетерпеливо перебил Брок. — А вот ты сама по себе, ты для себя чего хотела бы? Полные губы Любавы дрогнули. — Не понимаю, о чем ты, Брок, — сказала она. — Ты хотела бы полюбить кого-нибудь? — неожиданно спросил Брок. — Полюбить?.. — задумчиво переспросила Любава. И, помолчав, добавила: — Разве можно полюбить по желанию? Любовь приходит сама. — Откуда ты знаешь? Любава улыбнулась. — Читала, — ответила она. — А ты могла бы полюбить?.. Любава поправила волосы. — Помнишь, Брок, — сказала она, — как мы сдавали машине экзамен зрелости? Там, на «Орионе»? Брок покосился на Любаву. — Разве такое забудешь? — произнес он. — Но к чему ты вспомнила экзамен? — А к тому, что я не на экзамене. И ты не машина, чтобы задавать вопросы, — отрезала Любава. — Прости, — смешался Брок. Любава усмехнулась. — Так и быть, открою тебе тайну, — сказала она. — Я люблю капитана. Брок быстро глянул на Любаву и, обнаружив улыбку в ее глазах, сам расхохотался. Трудно было придумать что-либо более нелепое. Капитан Джой Арго — и любовь? Полно, да ведомы ли ему вообще подобные чувства? Кажется, все его жизненные помыслы сосредоточены были на одном — полет «Ориона», выполнение задачи, возложенной на экипаж Координационным советом. Любовь, ревность, маленькие трагедии, время от времени разыгрывавшиеся на борту пульсолета, — все это скользило мимо его сознания. Брок покачал головой. — Кандидатура капитана отвергается, — заявил он. — Ты можешь предложить другую? — поинтересовалась Любава. — Да. — Какую же? — Свою, — бухнул Брок, словно бросаясь в холодную воду. — Такую размазню, как ты, нельзя полюбить. Только пожалеть можно, — ответила Любава. — Ну, так пожалей. Любава промолчала. Поправив высокую прическу, она подошла к фонтану и напилась. — Сегодня особенно горчит, — сказала она. — Горчит! — взорвался Брок. — Семиглаз нас систематически отравляет. Мы пьем медленно действующий яд. — Зачем ему нужно было бы с нами возиться? Уж если бы Семиглаз решил нас отравить, он мог бы это сделать гораздо проще и быстрее, — заметила Любава. — Почем я знаю? — сказал Брок. — Может, это доставляет Семиглазу удовольствие. — Уж ты скажешь! — Или, может, он проводит какой-то свой опыт, — продолжал Брок. — А мы, значит, подопытные кролики? — Примерно. А может, этот чертов Семиглаз надумал превратить нас в свой придаток, — сказал Брок. — Да зачем же таким сложным путем? — Ты видела, как кошка играет с мышью? — ответил вопросом Брок. Они помолчали, стоя рядом и глядя сквозь прозрачную стену. Строение стояло на пригорке, и отсюда видно было далеко. В ясную погоду можно было рассмотреть десятки строений, теснящихся поодаль. За ними угадывалась стена. — Как время тянется! — вздохнув, сказала Любава. — Осень. Пожелтевшие листья, кружась, опускались на землю. Зарядил неприметный косой дождик, но видимость не ухудшилась: капли, попадая на наружную поверхность стены, тотчас исчезали, испаряясь. — Где ты была вчера? — спросил Брок. — В оранжерее. Целый день бродила. Знаешь, Брок, я нашла там вот это, — ответила Любава и протянула Броку небольшой треугольный предмет, небрежно сработанный, с наплывами, некогда, наверно, прозрачный, но помутневший от времени, с металлической булавкой. — Брошка, — сказал Брок, рассматривая находку. — Женское украшение. Его носят на Земле. Во всяком случае, носили. Интересно, чья она? — Кого-то из тех, кто был здесь до нас, — произнесла тихо Любава. За стеной сырой ветер гнал по земле опавшие листья. Выбежать бы туда, почувствовать под ногами влажную почву, вдохнуть запах вянущих трав, подставить лицо дождю! — Послушай, Брок, а ведь мы с тобой, можно сказать, так и не ходили по земле, — сказала Любава. — Поздравляю с открытием! — ответил Брок. Пройдясь по залу, он поднял за фонтаном блокнотный листок. — Это еще что за послание? — сказал он и протянул листок Любаве. — Наверно, Брага обронил, — сказала Любава, рассматривая вязь интегралов. — Верни ему. Брок забрал листок. — Вот еще! — ухмыльнулся он. — И не подумаю. — Может, он нужен Петру. — Зачем? У Петра все вот здесь, — сказал Брок и похлопал себя по лбу. Затем сложил бумажного голубя и поднес его Любаве. — Спасибо, — сказала Любава и зашвырнула голубя Брока. Птица, описав плавную траекторию, поднялась почти до самого потолка, ткнулась носом в невидимую преграду и, словно подстреленная влет, кружась, упала к ногам Любавы. Девушка подняла голубя. — Отсюда не вылетишь, — сказала она. Брок огляделся и, убедившись, что в зале никто из орионцев не появился, подошел к Любаве. — Знаешь, Любава, мы можем быть удачливее, чем этот голубь, — прошептал он. — Ты о чем, Брок? — вскинула брови девушка. — Давай убежим отсюда! — Вдвоем? — Вдвоем. — Ты открыл способ проходить сквозь стены? — осведомилась Любава. — Не смейся. Кроме стен, есть еще и пол, — ответил негромко юноша. Любава задумчиво расправила мятого бумажного голубя, затем опустила взгляд: под прозрачным полом, как всегда, клубились темные облака. — Нет, в зале пол прочный, его не пробьешь, — лихорадочно зашептал Брок, вплотную приблизившись к Любаве. — Я придумал другой план… Мы сделаем подкоп из оранжереи и выйдем наружу. А уж там, на свободе, мы найдем способ освободить остальных! Яму в оранжерее замаскируем, ее никто не обнаружит… Я отыскал там, за мостиком, одно глухое местечко… Ну как, согласна? Выпалив все единым духом, Брок умолк, ожидая ответа. — Почему ты не хочешь посвятить в свой план остальных орионцев? — спросила Любава после паузы. Брок опустил голову. — Я ожидал этого вопроса, — ответил он еле слышно. — А все-таки? — настаивала Любава. — Разве ты забыл, что по Уставу космонавта… — Я не хуже тебя знаю Устав космонавта! — взорвался неожиданно Брок. — Так в чем же дело? — А в том, что мы не на «Орионе»! — Экипаж корабля никто не распускал, — сказала Любава. — Поэтому независимо от того, находится ли экипаж на борту или высадился на какую-либо из планет. Устав космонавта продолжает действовать… В отличие от Брока, который все сильнее горячился, Любава говорила спокойно, обдумывая каждое слово. — «На какую-либо из планет»! — подхватил Брок последние слова Любавы, не дав ей договорить. — Да пойми же ты, что речь идет не о какой-либо из планет, а о Земле! Любава пожала плечами: — Не вижу разницы. — Очень жаль, если так, — сник Брок. Вспышка его погасла, и он снова заговорил тихо. Любаве очень хотелось приободрить Брока, сказать ему ласковые слова, но она помнила и другое: капитан не раз повторял — и в полете, и здесь, на суровой и загадочной Земле, — что, если дисциплина в экипаже разладится, орионцы могут считать себя обреченными. — Почему ты говоришь шепотом? — спросила Любава. — Я бы не хотел, чтобы о моем плане узнал капитан… — не поднимая головы, произнес Брок. — Он запретит делать подкоп. А кроме того… — Брок снова оглянулся и закончил так тихо, что Любава скорее прочла по движению губ: — Я боюсь, что меня услышит Семиглаз. — Ничего не выйдет из твоей затеи, Брок, — сказала Любава. — Неужели не понимаешь? Брк вздохнул. — Понимаю, — словно эхо, откликнулся он. — Но жить в бездействии больше не могу. Молодые люди подошли к фонтану и долго смотрели на прозрачные струи. Ласковое журчание успокаивало. Мельчайшие водяные брызги оседали на лицо. — Глаза, всюду глаза! — пробормотал Брок. — Ты о чем? — Такое ощущение, будто на меня отовсюду, из каждого закоулка, смотрят сотни, тысячи глаз и никуда от них не скроешься! — пожаловался Брок. — А у тебя нет такого чувства? Любава покачала головой: — Нервы. — Неужели ты веришь, что мы найдем выход из этого тупика? — спросил Брок. — Я верю в доброжелательность Земли, — чуточку торжественно произнесла Любава. Помолчав, добавила: — И в нашего капитана. — Ты не скажешь ему? — А ты будешь в одиночку делать подкоп? — Какой там подкоп! — махнул рукой Брок. — Ладно. Наш разговор останется между нами, — сказала медленно Любава. — Да напейся, не отравишься, — улыбнулась она, перехватив лихорадочный взгляд Брока, брошенный на фонтан. Брок будто только и ждал этих слов. Он припал к воде и долго пил, пока не заломило зубы от холода. Отрывался, чтобы перевести дух, и пил снова. — А знаешь, водичка ничего, — сказал он, вытирая мокрые губы. — Пожалуй, вкусней даже, чем орионская, восстановленная… Но сколько нам суждено еще пить из этого фонтана? Любава подбросила на ладони голубя и ничего не ответила. Взгляд ее был устремлен вдаль, сквозь прозрачную плоскость стены. — Я иногда кажусь себе старым-старым, — сказал тихо Брок. — Будто тысячу лет живу в этом заколдованном замке. Кажется, найди волшебное слово — и двери замка распахнутся. Но этого слова никто из нас найти не может. Со дня возвращения «Ориона» на Землю прошло, в сущности, совсем немного времени, но орионцам — Брок был прав — казалось, что они пользуются деспотическим гостеприимством Семиглаза уже бог знает сколько дней и ночей. Самое трудное для экипажа было — правильно оценить создавшуюся ситуацию и как следствие этого выработать единственно разумную линию поведения. Никто не мог ответить орионцам на вопрос, что им следует делать. Должны ли они придерживаться выжидательной тактики, терпеливо наблюдая ход событий? Или же, наоборот, им необходимо, не теряя ни минуты, идти на штурм, сделать отчаянную попытку вырваться из плена на свободу?..Глава 4 ВЕК XXII
Счастье было в том, что, прежде чем потерять сознание, Борца успел дотянуться до своего биопередатчика и сжать его. По сигналу бедствия, поданному угасающим мозгом Борцы, прибыла медицинская служба. Сам по себе сигнал бедствия не мог еще служить источником особой тревоги. Мало ли что случается с человеком! Он может ушибиться, прыгая с вышки в реку, может пострадать, проводя опыт в лаборатории; наконец, может просто ногу подвернуть, как говорится, на ровном месте. Здесь, однако, судя по всему, случай был особый… Борца лежал навзничь, рука его сжимала передатчик с такой силой, что разжать ее удалось с трудом. Пульс почти не прощупывался. Безликие медики в масках облепили тело Борцы датчиками, и все результаты измерений были незамедлительно транслированы в БИЦ — Большой информационный центр, хранивший в своей памяти симптомы всех людских болезней от сотворения века. Медики принялись хлопотать вокруг Борцы. Однако все дежурные меры, принятые ими, успехом не увенчались: привести в чувство Борцу не удалось. Труп Бузивса в герметическом контейнере направили на клиническое исследование. — Вот это называется — болезни на Земле побеждены, — хмуро сказала начальник группы, глядя на белое, как мрамор, лицо Борцы. — Подождем, что скажет БИЦ, — отозвался помощник. — Есть еще кто-нибудь в квартире? — спросил начальник. Помощник покачал головой. — Когда мы вылетали сюда по сигналу, я успел проверить карточку этого дома, — сказал он и процитировал по памяти: — Борца, двадцать четыре года, холостяк, окончил Звездную академию, состоит в Карантинной службе, живет один… Начальник группы перевел взгляд со своего помощника на опрокинутую вазу и разбросанные цветы. — Проверьте остальные комнаты, — сказал он. Кто-то нагнулся, чтобы собрать цветы. — Не прикасайтесь ни к чему! Пусть все остается как есть, — резко приказал начальник. Едва помощник скрылся за дверью, на руке начальника тонко зазуммерил прибор, похожий на часики: вызывал БИЦ. Начальник приставил мембрану к уху, ловя высокий голос: «У больного человека поражены клетки головного мозга. Состояние угрожающее». Затем послышался треск, скрежет, БИЦ добавил: «Данной болезни в моей памяти не значится», — и отключился. — Не значится, — вслух повторил начальник. Из спальни донесся возглас помощника, обнаружившего Зарику. Девушка также была без сознания. Похоже, ее поразила та же болезнь, что и Борцу. Кроме того, на руке имелся глубокий след укуса, залепленный пластырем. — Обоих немедленно в клинику, — решил начальник. Обведя взглядом всю группу, собравшуюся в гостиной, он добавил: — Все это очень серьезно. Первое дело — строжайшая изоляция обоих больных. Второе — строжайшая тайна. …Тайны, однако, не получилось. По мере того как ночь переходила в утро, в клинику из разных точек города поступали всё новые и новые больные. Правда, все эти точки лежали в одной части, к северу от дома, в котором жил Борца, но это мало что объясняло. Уже сколько десятков лет просторные палаты клиники пустовали, и вот они начали заполняться с угрожающей быстротой. Симптомы у всех были одинаковые: человек шел по улице, либо летел в автолете, либо, наконец, находился дома, и вдруг без всякой видимой причины ему становилось плохо, и он терял сознание. Пульс замедлялся, сходил почти на нет, «замораживались» и прочие жизненные функции. Несколько автолетов, шедших на ручном управлении, разбилось. По всей видимости, болезнь была чрезвычайно заразна. Детальное исследование трупа Бузивса ничего не дало. Возбудитель болезни оставался неуловимым. Благодаря карантину болезнь не перекинулась в другие города Земли. Не было пока что и смертных случаев, но положение больных с каждым часом неуклонно ухудшалось. А ведь с того момента, как были пойманы сигналы бедствия, испускаемые биопередатчиком Борцы, не прошло еще и суток. — Что это за болезнь? Как ее победить? — спросил председатель Высшего координационного совета у главного медика Земли. Разговор проходил с глазу на глаз. Главный медик развел руками. — Все поднято на ноги, но результатов пока не видно, — сказал он. Председатель побарабанил пальцами по столу. Со всех сторон глядели слепые белки отключенных экранов связи. — Говорят, Петр Востоков открыл вирус рака в течение одной ночи, — нарушил он паузу. — Верно, — кивнул медик. — Но этой ночи предшествовали тысячи бессонных ночей, когда ничего не получалось, опыты проваливались, и все валилось из рук. Я уж не говорю о колоссальной и необходимой работе предшественников Востокова, о целой армии микробиологов и вирусологов, трудившихся чуть ли не с двадцатого, а точнее — с девятнадцатого века… Председатель вздохнул. — Все это так, — сказал он, — но у нас нет времени. Никто на Земле не обладает иммунитетом против новой болезни. Неизвестно, как она распространяется. Поэтому все мы сидим на пороховой бочке с тлеющим фитилем. Ну, а что дало вскрытие шимпанзе? — Ничего. — Проверьте получше. Возможно, в этой обезьяне собака зарыта… прошу простить каламбур, — сказал председатель. — Кто еще был в квартире заболевшего? — Девушка. — Знаю, — сказал председатель. — Установили уже, кто она? — Час назад. — Почему так долго? — У нее не оказалось биопередатчика. Пришлось проверить все инфоры… Ее зовут Зарика, она с месяц назад вернулась на Землю из глубинного поиска. — Месяц назад? — Председатель наморщил лоб. — На «Альберте», что ли? — Да. — Как же она оказалась без биопередатчика? — Зарика только позавчера, накануне этого происшествия, вышла из Гостиницы «Сигма», — пояснил медик. — Она получила назначение на биостанцию. Предполагалось, что на биостанции ей и вручат передатчик… — «Предполагалось»! — перебил председатель. — А почему сразу не вручили? — Думали, она сразу полетит туда. — «Думали»! Человек на Земле свободен, волен располагать собой, — сказал председатель. — А что, она освоила в «Сигме» специальность микробиолога? — Мне сообщили коллеги из «Сигмы»: Зарика очень талантливый биолог. — Ирония судьбы… — сказал председатель. — Ну-с, а вы не допускаете мысли, что вся эта история может быть связана с «Альбертом»? — Инфекция, занесенная из космоса? — В каком-то смысле. — Не похоже. Зарика прошла в «Сигме» полный курс карантина. Да и потом, почему остальные альбертиане не стали источниками болезни? Председатель посмотрел на часы и встал. — Проверьте все же все версии, о которых мы говорили, — сказал он медику на прощанье. — Связывайтесь со мной в любое время суток. — Да, еще одно, — обернулся в дверях медик. — Я хотел бы подготовить несколько летающих клиник-спутников. Возможно, в условиях невесомости болезнь будет протекать легче. — Разумно, — согласился председатель. — Ваше предложение мы обсудим сегодня… собственно, через несколько минут, на Совете. А вы действуйте. И помните: в вашем распоряжении — все средства Земли. Наступили дни грозного испытания для землян. Вся Солнечная система жила сообщениями из наглухо перекрытого города, расположенного в центре Австралии. Лишь через полтора месяца была расшифрована загадка болезни, едва не начавшей шествие по Земле. Виной всему оказалась… старинная табакерка с серебряной инкрустацией, случайно найденная Борцей в одном из отсеков «Альберта». Табакерку капитан затерял, и в течение долгих лет полета табак в ней подвергался воздействию ослабленных космических лучей. В результате болезнетворные микроорганизмы, открытые в табаке Петром Востоковым, переродились, приобрели новые опасные свойства. Однако до реальной опасности человеку было еще далеко. Чтобы вызвать болезнь, возбудители должны были пройти инкубационный период, а для этого им нужно было хотя бы на несколько часов попасть в кровь человека или какого-либо теплокровного животного. Даже если бы капитан отыскал в конце полета свою табакерку, ему бы ничего не угрожало. Парадокс состоял в том, что возбудители, приобретя новые свойства болезнетворности, одновременно стали очень «хрупкими»: температуры тлеющего табака было более чем достаточно, чтобы убить их. Таким образом, куря трубку, набитую старым табаком, капитан пребывал бы в полной безопасности. Все сложилось, однако, иначе. Все кончилось бы благополучно, не возьми Борца щепотку табака, экзотического вещества, которое он решил использовать в своих бесконечных опытах. Все кончилось бы благополучно, не приди Зарика в гости к Борце. Все кончилось бы благополучно, не окажись у Бузивса столь скверный характер… Цепочка событий была такова. Когда Зарика протянула руку, чтобы погладить Бузивса, шимпанзе укусил ее. Борца ударил обезьяну. В кулаке у него был зажат табак, который от удара частично просыпался. Несколько крупинок его попало в ранку на руке Зарики. Этого оказалось достаточно… Уже к полуночи вирус вошел в силу. Отныне каждый глоток воздуха в квартире таил смерть. Не для всех, правда: новый вирус оказался весьма прихотливым в выборе очередного «хозяина», но, уж выбрав, расправлялся с ним по-свойски. Первой жертвой оказался Бузивс: мозг обезьяны не смог оказать серьезного сопротивления атаке врага. Потом, перед рассветом, уже пораженный Борца вышел из лаборатории, в которой ночевал. Его выгнало внезапное недомогание. Теряя сознание, падая, он вышиб оконное стекло, и в гостиную хлынул холодный воздух, вытесняя комнатный. Ветер в это время дул в северную сторону… Борца и Зарика, заболевшие первыми, выжили. Долгое время они находились между жизнью и смертью. Их поместили в летающую клинику, где лечили в условиях невесомости. Общее страдание — болезнь протекала мучительно — сблизило их. Зарика все время рвалась к работе, на биостанцию, до которой она так и не долетела. — Твое поколение стало слишком беспечным, — часто говорила она Борце. — Мы окружены космическим морем враждебности. Человечество должно быть все время начеку. А вдруг история с эпидемией повторится?! — Не повторится, — решительно мотал головой, утыканной датчиками, Борца. — Слишком уж извилист и невероятен был путь, по которому пришли на Землю возбудители новой болезни. Рассуди сама. Медики рассказывали, что табакерка должна была обрабатываться космическими лучами строго определенное время. Неделей меньше — и возбудители не приобрели бы свои грозные свойства. Неделей больше — и они бы утратили их. Потом — я должен был встретить тебя… Ну, и так далее. Словом, такая цепь совпадений может осуществиться раз в сто лет! — Раз в сто лет — этого достаточно, — отрезала Зарика. — Не лови меня на слове. Расскажи лучше о полете «Альберта», — попросил Борца. Придерживаясь за поручни, они висели в прозрачной сфере — одном из отсеков госпиталя, который был выведен наоколоземную орбиту. Ни Зарике, ни Борце не приходилось заново привыкать к состоянию невесомости. Зарика вообще большую часть сознательной жизни провела в царстве невесомости — на «Альберте» не было установок искусственной гравитации. Что такое тяжесть, девушка узнала, только когда корабль приступил к торможению; это произошло вблизи границ Солнечной системы, за несколько месяцев до того, как «Альберт» достиг Земли. Что касается Борцы, то и он во время карантинного досмотра кораблей, возвращающихся из космоса, долгие дни и недели проводил в невесомости. Когда дело пошло на поправку, любимым занятием Борцы и Зарики в свободное от лечебных процедур время стало наблюдать Землю, неутомимо проплывающую под спутником-госпиталем. Плоскость вращения спутника непрерывно менялась, и внизу открывались все новые и новые картины. Это было зрелище, к которому невозможно привыкнуть. Теперь Зарика и Борца отдыхали после очередного переливания крови. Глубоко под ними проплывала ночная Земля. Борца посмотрел вниз: — Точно школьный глобус, правда? Зарика глядела на роящиеся огоньки городов. Кое-где пространство плавно прочерчивали ракеты, похожие на равномерно светящихся рыб, — почтовые, грузовые, пассажирские… Девушка вдруг подумала, что аппарат, в котором они летят, удивительно вписывается в общую гармоничную картину земной жизни. В тихие ночные минуты с высоты в несколько сот километров эта картина представилась ей размеренной, исполненной глубокого смысла. — Люблю обозревать ночью Землю с такой высоты, — нарушил паузу Борца. — А ты любишь наблюдать ночную Землю, Зарика? — Я Землю люблю всякую. Но мне больше по душе Земля днем, — откликнулась Зарика. Борца посмотрел на нее. — Ночь скрадывает детали. А днем — все как на ладони, — пояснила Зарика. Внизу показалась однообразная темная пустыня, лишь изредка кое-где оживляемая сгустками огоньков. — Это пустыня? Я думала, на Земле уже не осталось пустынь… — Это не пустыня. Это Тихий океан, — сказал Борца, присмотревшись. Вид Земли сверху — что днем, что ночью — был для него открытой книгой. Во время карантинных досмотров, вращаясь вокруг Земли, он изучил ее во всех подробностях. Борца любил повторять, что он выучил Землю наизусть, как любимое стихотворение. И это была правда. В глубине тихоокеанских вод показалось светящееся пятно. Даже отсюда, с космической высоты, оно представилось Зарике огромным. Казалось, будто кто-то подсветил снизу толщу воды. Зрелище выглядело феерическим. — Что это, Борца? — спросила Зарика, зачарованно разглядывая пятно. — Угадай. — Ты все время, с момента нашей встречи у ворот Гостиницы «Сигма», задаешь мне загадки! — воскликнула Зарика. — Это, наверно, подводный вулкан, да? Борца покачал головой. — Неужели пожар на судне? — Каким бы большим ни было судно, с такой высоты оно выглядело бы еле заметной точкой. — Ну, тогда не знаю… — Зарика на несколько мгновении задумалась, не отрывая взгляда от светящегося пятна, которое медленно уплывало назад. — Может быть, подводное испытание ядерного горючего для звездных кораблей? — Все такие испытания выведены в космос, за лунную орбиту, — сказал Борца. — А ну-ка, пофантазируй еще. — Огненные декорации? Праздник огня на воде? Да мало ли чего можно придумать за сто лет! — Ну, уж ты скажешь — огненные декорации… Это был всего-навсего подводный город. — Подводный город? — восторженно переспросила Зарика. — На дне океана? — Нет, это плавучий город. Он держится на небольшой, заранее заданной глубине. — А кто там живет? — Те, чья профессия связана с водной оболочкой Земли. — Рыбаки, что ли? — Не только. В таких городах живут океанологи, китоводы, — пояснил Борца. — Китоводы?.. — Они обслуживают китовые фермы в океане. — А зачем строить город под водой? Не проще ли его строить на воде? — Не проще. Под водой строения не подвержены ни качке, ни тайфунам, ни штормам. — И на дне океана есть города? — спросила Зарика, вглядываясь в воду. — Есть. — Найди, пожалуйста! — Отсюда они не видны. — А мы побываем в городе на океанском дне, когда выйдем отсюда? — Непременно побываем, Зарика, — ответил Борца и взял девушку за руку. В клинике невесомости был свой, особый режим, ничего общего не имеющий с быстрой сменой дня и ночи, обусловленной вращением спутника вокруг Земли. Корабль совершал полный виток за полтора часа. Таким образом, световой день — и соответственно ночь — составляли всего-навсего 45 минут. Режим в госпитале невесомости — как, кстати сказать, и на любом космическом корабле — соответствовал обычному земному ритму жизни. Исходной единицей его служили сутки, состоящие из 24 часов, поделенные на день и ночь. Физиологи давно, еще со времен первых космических полетов, осуществленных во второй половине XX века, установили, что именно такой режим является наилучшим для человеческого организма, особенно в условиях длительного полета. Зарика и Борца говорили в госпитале обо всем, но больше всего друг о друге. — Я открыл тебя, как астроном открывает звезду, — сказал однажды Борца. Счастливые, они сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели вниз. Ночь, эфемерная сорокапятиминутная ночь, шла на убыль. Они посмеялись, глядя, как проснувшийся в клетке попугай — вестник солнца — принялся смешно подпрыгивать, хватаясь клювом за прутья: бедняга никак не мог привыкнуть к невесомости. — Зари… — Что, милый? — Ты обещала рассказать о полете «Альберта», — тихо напомнил Борца. — Целью полета «Альберта» была звезда Алголь, — ровным голосом начала Зарика. — Алголь, или иначе — Бета Персея, — кивнул Борца. — Слышал об этой звезде. — Ты знаешь отчет «Альберта»? — В общих чертах… — Кроме машины синтеза да еще карантинной службы, для тебя ничего в мире не существует! — Неправда, существует. — Что же? — Ты. — Куда мне! — засмеялась Зарика. — Я ведь не машина, а только человек. Некоторое время они молча смотрели на родную планету, окутанную предутренней мглой, которая быстро редела: через несколько минут спутник-клиника должен был пересечь плоскость терминатора, отделяющую день от ночи. Глубоко внизу, отдаленная от них сотнями километров, угадывалась ночная Атлантика. Среди волн брызнула горстка ярких огней. — Корабли? — спросила Зарика. Борца покачал головой. — Остров Энергии, — сказал он. — Не помню такого. — Не мудрено: когда ты улетала, его еще не было. — Искусственный остров? Борца кивнул. — Его смонтировали недавно. Собрали с помощью белковых роботов, — сказал он. — У подножия острова, на дне Атлантики, — подводный город. Корабль без перехода влетел в день. В черном небе воцарилось мохнатое яростное солнце, потоки света хлынули во все уголки отсека. Борца поднялся и опустил полупрозрачную шторку. — Персей. Красивое имя, — сказал он, садясь поближе к Зарике. Она не отодвинулась. — Знаешь, Зарика, в детстве я больше всего любил легенду о храбром Персее. Помнишь? — В общих чертах… — улыбнулась Зарика. — А еще в гости к Персею летала. — Расскажи легенду, — попросила Зарика. — Дело было, как положено в легендах, в некотором царстве, в некотором государстве, — начал Борца. — Почему в некотором? — перебила Зарика. — Это было Аргосское царство, и правил в нем царь Априсий. — О женское коварство! — воздел руки Борца. — Ты знаешь легенду о Персее лучше меня, так зачем же заставляешь меня рассказывать ее? — Мне нравится, как ты рассказываешь. — В таком случае, продолжаю. Научным прогнозированием в те далекие времена еще не занимались, а царь интересовался своей судьбой. Поэтому призвал он оракула и спросил: «Что сбудется со мною?» Оракул прикинул царскую судьбу и выдал весьма невеселый прогноз: оказывается, в будущем Априсия должен убить его собственный внук, которого еще и на свете нет. Царь решил предотвратить беду домашними средствами. Он заточил свою единственную дочь Данаю в башню. Прошу обратить внимание — башня была выкована из чистой меди. Ни один посторонний не мог проникнуть в башню, и Априсий торжествовал. Но, как выяснилось, слишком рано радовался царь. Дело в том, что сценарий развития событий начертан богами, которые в своих расчетах учли все вероятные увертки хитрого царя. Громовержец Зевс поступил просто: он превратился в золотой дождь и проник к заточенной Данае. В результате у нее родился сын Персей. Он-то и дал название звезде, еще не зная, что к ней полетит красавица Зарика… Ну, а теперь твоя очередь. — Рассказать о Бете Персея? — Да. Зарика прикрыла глаза. — Как сейчас вижу перед собой эту удивительную звезду, — тихо сказала она. — И не мудрено: «Альберт», выходя из последней пульсации, вынырнул слишком далеко от цели полета — пульсатор у нас был потрепанный, чиненый-перечиненый, и капитан со штурманом решили не рисковать. Так что мы, войдя в трехмерку, шли к Алголю на обычной ионной тяге целых четыре с половиной года. Борца присвистнул. — Экипаж немного роптал из-за вынужденной задержки, а я об этом не жалела, — продолжала Зарика. — Все свободное время я проводила в обсерваторном отсеке, у телескопа, который был нацелен на голову дьявола… — Зарика перехватила недоуменный взгляд Борцы и пояснила: — Так переводится название звезды Алголь. — С греческого? — С арабского. — А зачем вы летели к Бете Персея? — спросил Борца. Зарика задумалась. — Тут двумя словами не ответишь, — сказала она. — Надо сделать прыжок в глубокую историю. — История — моя страсть. — А что ты знаешь, Борца, об этой звезде? — спросила Зарика. — Видишь ли, звезды — не моя стихия… — замялся Борца. — Но ты же окончил Звездную академию? — удивилась Зарика. — Верно, — согласился Борца. — Но я был там, можно сказать, исключением. — Которое подтверждает общее правило? — Примерно. Ребята меня прозвали Изобретатель, и недаром: я с первого курса возмечтал о машине синтеза, потом увлекся еще историей, только вот к звездам оставался равнодушным. — Почему же ты пошел в Звездную академию? — Ошибся, могу тебе признаться, — вздохнул Борца. — Думал, полюблю звезды. Презираешь? Зарика погладила руку Борцы: — Глупый, я люблю тебя. Ну, а что касается того, что тебя к звездам не влечет… — Зарика подумала и закончила: — В конце концов, и Солнце — тоже звезда. — Хорошо сказано, — задумчиво произнес Борца. — Солнце тоже звезда. К сожалению, иногда люди забывают об этом. — Знаешь, звезда звезде рознь, — сказала Зарика. — В полете я убедилась: звезды — как люди, каждая на свой манер. Не бывает двух похожих звезд, как и двух одинаковых людей. — Ты обещала рассказать о Бете Персея, — напомнил Борца. — Координационный совет недаром направил нас к этой звезде, — продолжала Зарика. — Она давно волновала землян. Тем, что отличалась от соседок. Те сияли ровно, а эта то меркла, то вспыхивала снова. Монтанари открыл, что Бета Персея периодически меняет свой блеск, еще в 1672 году. В ту пору всё делали не спеша. Больше сотни лет прошло, прежде чем астроном Гудрайк — это произошло в 1782 году — исследовал таинственную звезду Алголь. Оказалось, что Бета Персея — двойная звезда. Люди к тому времени знали, конечно, двойные звезды, но Бета Персея была двойной звездой особого рода: обе ее половины были настолько тесно прижаты друг к другу, что различить их в телескоп было невозможно. На помощь пришла математика, кропотливые расчеты. Получилось, что обе звезды очень быстро вращаются вокруг общего центра тяжести: полный период обращения двух звезд составляет — в земных единицах — двое суток двадцать часов сорок восемь минут пятьдесят пять секунд!.. — Вот это память! — поразился Борца. — Не удивляйся. Мы, альбертиане, много лет жили этой звездой, — сказала Зарика. — Я знаю ее биографию лучше, чем собственную. — А что в ней такого? — Видишь ли, людям известно несколько сотен затменно-двойных звезд, но Бета Персея на особом счету. Астрофизики Земли считали, что экспедиция «Альберта» должна помочь разгадке магнетизма. Кое-какие данные мы, конечно, привезли. Ну, а расшифровать их — это уж дело ученых Земли. Мы, альбертиане, свое сделали, — заключила Зарика. По палатам они расходились неохотно. Так много нужно было рассказать друг другу! Но режим есть режим. — Если бы ты знал, какое это царственное зрелище — двойная звезда Алголь с близкого расстояния! — сказала однажды Зарика, и глаза ее заблестели. — В человеческом языке нет слов, чтобы передать ее красоту. Даже снимки, даже фильмы — не то. Разве что стихи… Но писать их я не умею. Потом, попозже, когда «Альберт» лег на стационарную орбиту, превратившись в заурядный спутник Беты Персея, это чувство притупилось. Все занялись обычным делом — измерениями, исследованиями магнитного поля звезды, все увязли в цифрах да графиках. Собственно, это было главное, чем мы занимались в космосе. Но поначалу… О, поначалу, когда мы только шли на сближение с Алголем… — Зарика задумалась. — Представь себе два океана, которые вращаются друг относительно друга. Вращаются — и никак не сольются. Один океан голубой, с красными прожилками, время от времени из него выскакивают золотистые протуберанцы. Другой океан — темно-вншпевый, волны его медлительны, словно засыпающая лава. В этом огненном океане высилась кирпично-красная гора, поразительно похожая на фигуру человека. Не знаю, то ли тени виноваты, то ли движение «Альберта», с борта которого я вела наблюдение, но мне казалось, что фигура не является неподвижной. Она вроде бы то слегка наклонялась, то снова выпрямлялась. Мне чудилось — только ты не смейся, пожалуйста! — что это какой-то ученый ставит на звезде чудовищные по масштабу опыты. Представляешь? Вокруг него в кипящей лаве нарождаются новые химические элементы, синтезируются атомные ядра, бушуют вихри огня, а он стоит по колено в огне и невозмутимо руководит опытами… Ну вот, я так и знала, что ты будешь смеяться!.. Нет, умом-то я понимала, что все это страшная чепуха. Как бы тебе объяснить… Просто я играла сама с собой в такую игру. Я была тогда совсем девчонка. Что ты бормочешь, Борца? — Ничего. — Я же вижу, ты шевелишь губами. — Тебе показалось, Зарика, — сказал Борца. А назавтра, когда они встретились после утреннего обхода врача, Борца, немного смущаясь, сунул Зарике сложенный вчетверо пластиковый листок. — Что это? — спросила Зарика. — Так… не спалось вчера… После твоих рассказов о Бете Персея, — сказал Борца. — Ну и что? — Попытался я, понимаешь, представить себе этого самого физика там, на звезде… — Какого физика? — все еще не понимала Зарика. — Да этого твоего ученого. Который там, по колено в огне, руководит опытами. — Человек-гора, понятно, — кивнула Зарика. — Только ты прочитай, когда останешься одна, ладно? — попросил Борца. Когда Борцу пригласили на очередную процедуру, Зарика развернула листок и прочла стихи Борцы. Стихи наивные, но в чем-то милые — быть может, благодаря своей непосредственности. В них говорилось о звезде, которая светит оттого, что в глубинах ее пылает лава идей, теснятся вихри огня, будто беспокойные мысли. Похоже, что какой-то космический Фарадей ставит здесь свои эксперименты, на чем свет стоит ругая неловких помощников. Опыты не получаются, но физик упорен — он ставит их и в десятый, и в сотый, и в тысячный раз. И вот он, успех! На исполинской ладони изобретателя горит груда алмазов. Но что это? Физик-гигант внезапно швыряет драгоценные каменья под ноги, в огненную лаву. Он жертвует новорожденными алмазами для того, чтобы звезда разгорелась еще ярче… Зарика иногда расспрашивала Борцу о Федоре Икарове, о легендарном капитане Икарове, которого счастливец Борца — подумать только! — видел собственными глазами, мог общаться с ним: он поступил на первый курс, когда Икаров заканчивал Звездную академию. — Какой он был? — спрашивала Зарика. — Ну, какой, какой! Обыкновенный парень, — отвечал Борца. — Даже сутулился немного. В плечах широкий. — Сильный?.. — Чемпион по дзю-до. — Солнечной системы? — Нет, академии. Это тоже не так мало. Ребята у нас были — дай бог, — произнес Борца и умолк, погрузившись в воспоминания. — Но чем-то же отличался Икаров от остальных? — не отставала Зарика. — Отличался, — соглашался Борца. — Он лучше всех учлетов перегрузки переносил. Эх, разлетелись наши кто куда: по звездам, как по гнездам, — заключил он ходким присловьем. Зарике это присловье было незнакомо. Девушка сообразила, что оно родилось, по-видимому, уже после старта «Альберта». — Как же ты не познакомился с Икаровым, — упрекнула она Борцу, — ходил рядом, дышал с ним одним воздухом… — А кто мог знать, что Икаров — это Икаров? — резонно возразил Борца. — Он был такой, как все. Зачеты сдавал. Случалось, проказничал. Один раз даже экзамен провалил. — Ну да! — не поверила Зарика. — Честное слово. Собственно, это был не экзамен, а учебный поиск. По Луне… — Расскажи, — попросила Зарика. — Помню, как все мы в академии были поражены, когда услышали, что Федор Икаров не получил зачет. Скорей, казалось, небо обрушится на землю, чем Федор какую-нибудь дисциплину не сдаст. Он ведь во всем слыл примером. Особенно для нас, младшекурсников. Ну, а потом выяснилось, что Федор просто созорничал… — Борца снова умолк. — Из тебя каждое слово клещами приходится тащить! — пожаловалась Зарика. — Как же дело-то было? — Здесь замешана женщина, — загробным голосом произнес Борца. — Ой, как интересно! — Понимаешь, на одном курсе с Федором училась одна девушка. Ее звали Май… Май Порт. — Разве в Звездную академию принимают девушек? — удивилась Зарика. — Май была единственной… Она очень любила звезды. И Федора Икарова. А он ее — нет. Он любил другую… Старая, как мир, история. В общем-то, Май скрывала свою любовь, хотя все о ней догадывались. Федор и Май частенько подтрунивали друг над другом… Ну вот. Как-то предстояло старшекурсникам сдавать довольно каверзный предмет… — Какой? — спросила Зарика, с жадностью слушавшая рассказ Борцы. — Инопланетную аэрофотосъемку. Ее сдавали так. Все учлеты курса разбивались на пары. Один из слушателей должен был в ракете-одиночке исследовать местность какой-нибудь из планет. — Солнечной системы? — Конечно. Тогда не то что Марс или Венера — даже старушка Луна была недостаточно изучена. Курсанту могла достаться даже и не планета, а какой-нибудь искусственный спутник, вращавшийся вокруг Земли. Пока один учлет производил съемку местности, другой, его дублер, находился в это время на Земле, следил за его действиями. Имитация космического полета, понимаешь? Зарика кивнула. — После выполнения задания учлеты в каждой паре, естественно, менялись ролями, — продолжал Борца. — Не знаю, как уж получилось, но Май и Федор оказались в одной паре. Первым лететь досталось Федору. В полетном предписании у него значилась Луна. Правда, задание для него придумали не совсем обычное: он должен был сам выбрать любой участок лунной поверхности, изучить его и передать изображение своему дублеру. Май, которая находилась в бункере, обязана была определить, где находится этот участок. — Без помощи карт? — Какие могут быть карты на экзамене, — усмехнулся Борца. — Тут мне нужно сделать небольшое отступление. Скажи, Зарика, как люди твоего времени представляли себе в общем Луну? — Ты имеешь в виду лунную поверхность? — Да. Зарика задумалась, затем медленно произнесла, словно читая по книге: — Луна — царство скалистых гор, глубоких кратеров. Здесь нет влаги, нет воздушных течений, которые могли бы сгладить ее поверхность. Борца удовлетворенно кивнул: — Вот-вот. Это ходячее представление о нашем естественном спутнике держалось не одно столетие. — Разве оно неверно? — Верно, но только в общем и целом. А в каждом правиле есть исключения. На одном из них и решил сыграть Икаров. Луну он знал основательно, как и любой предмет, с которым имел дело. Поэтому для него не составило труда выбрать на лунной поверхности совершенно ровную круглую площадку радиусом километров в пятьдесят. — Нет на Луне такой площадки! — Так подумала и Май, в этом и состояла ловушка Икарова. Между тем такая площадка на Луне есть, она называется «плато Варгентина». Ну, прилунился Федор на этом плато и передает изображение Май. А та в растерянности, потому что рассуждает, как большинство людей, в частности как ты. Федор включает по ее требованию круговое наблюдение — и все равно: перед нею гладкая, как стол, равнина. Разве это Луна?! — А горизонт? Ведь на горизонте все равно должны были наблюдаться пики. Борца с деланным отчаяньем схватился за голову, чем переполошил попугая в клетке. — Боже мой! — воскликнул Борца. — Проходят десятилетия, рушатся горы, высыхают моря, но ошибки, — он поднял указательный палец, — ошибки остаются прежними! Ты сейчас повторила ошибку Май… — Погоди! — остановила его Зарика. — Я сама. — Она подумала и неуверенно произнесла: — Радиус видимого горизонта?.. — Верно. Умница! — похвалил Борца. — В этом весь фокус. На Луне радиус видимого горизонта ничтожен по сравнению с земным, он составляет всего-навсего два с половиной километра. — Ну и штучка твой Федор! — протянула Зарика. — А как же с зачетом? — Пришлось пересдавать. — Обоим? — Конечно. — Капитан Икаров… — прошептала Зарика. — Это правда, что он один повел «Пион» к Черной звезде? — Не один. Экипаж «Пиона» состоял из белковых роботов, — поправил Борца. — Какая разница? Человек-то на борту был один… А почему с ним не полетел больше никто из людей? — Так решил Высший координационный совет. — Это жестоко. — Нет, это гуманно, — возразил Борца. — Полет к Черной звезде обещал быть, по прогнозам астрофизиков, очень опасным. Поэтому совет решил: чем меньше людей подвергнется смертельному риску, тем лучше. — Почему Черная звезда опаснее других? — Там царствует огромная гравитация, — пояснил Борца, — люди с такой гравитацией еще не сталкивались. Она столь чудовищна, что как бы «глушит» все остальные силы — электромагнитные, ядерные… Она даже самое пространство сминает и комкает, как бумагу. Зарика кивнула: — Знаю. Теория Лобачевского. — Вот именно — теория, — подхватил Борца. — Много лет гениальное предвидение русского ученого оставалось чисто умозрительной гипотезой, потому что экспериментально проверить его было трудно. Нужны были слишком сильные поля тяготения, чтобы проверить связь между гравитацией и метрикой пространства. Я не слишком по-ученому выражаюсь? — спохватился он. — Да нет, все понятно. Но если Черная звезда так опасна, почему было не послать к ней автоматическую ракету, без людей? — Говорю с тобой и вспоминаю дни перед стартом «Пиона», — сказал Борца. — Сколько тогда споров велось вокруг этой экспедиции! Сколько копий поломали! Обсуждался, конечно, и твой вариант, связанный с автоматической ракетой. У него было немало сторонников, они говорили: «Пион» к Черной звезде должны повести белковые роботы… — Борца посмотрел на Зарику и счел нужным пояснить: — Белковых роботов синтезируют в Зеленом городке, это место такое на реке Обь, в Сибири. Их воспитывают без всяких ограничителей, поэтому белковые роботы — первые помощники человека. Они обладают огромной силой и ловкостью, высокой приспособляемостью к новым условиям, в случае нужды способны принять самостоятельное решение… И все равно человека белковый робот заменить не может, — произнес Борца с глубокой убежденностью. — Без человека на борту «Пион» не смог бы решить поставленную перед ним научную задачу. — А какова была цель экспедиции? Борца произнес чуточку торжественно: — Разгадка гравитации. — Разгадка гравитации! — повторила Зарика. В этих словах для людей, живущих в XXII веке, заключалось многое, очень многое. К тому времени стало ясно, что ключ к гравитации — одной из сокровеннейших тайн природы — даст людям неизмеримую власть над силами мироздания. Искони силы тяготения были враждебны людям. Какой-то древний философ сравнил эти силы с цепями, которыми человек прикован навсегда к своей планете — Земле. Философ ошибся: человек сумел разорвать эти цепи и выйти в открытый космос. Но все равно каждый такой выход сопровождался огромными затратами энергии: силы тяготения продолжали оставаться враждебными людям. Победа над силами тяготения, возможность управлять ими открывали человечеству совершенно новые, доселе невиданные перспективы, связанные с покорением времени и пространства. Зарика спросила тихонько: — «Пион» еще не вернулся?.. Борца отрицательно покачал головой. — И сведений от него не поступало? — Их и не могло быть, — сказал Борца. — Тяготение Черной звезды так велико, что она не отпускает от себя ни одной частицы, ни единого радиосигнала, ни одного кванта света. Потому, собственно, и назвали эту звезду Черной, хотя настоящее ее имя — Тритон. — А когда «Пион» должен вернуться на Землю? — На этот вопрос никто в мире сейчас не смог бы ответить, Зарика. — Разве нельзя вычислить, хотя бы примерно? Известно ведь, наверно, и расстояние до Черной звезды, и средняя скорость «Пиона»… — И расстояние до Черной звезды, и средняя скорость «Пиона» известны, это верно, — сказал Борца. — Мы не знаем только одной вещи: сколько времени может пробыть капитан Икаров в окрестности Черной звезды. — И только? Ну, тут можно взять условную цифру в пределах разумности. — Например? Зарика подумала. — Скажем, десять лет, — предложила она. — Десять лет, — усмехнулся Борца. — А тысячу лет не хочешь? Или десять тысяч лет? — Ты сказал — десять тысяч лет? — Зарике показалось, что она ослышалась. — Да. Тут возможна любая цифра. — Но ведь это означает, что капитан Икаров вернется на Землю давно… умершим? — Нет, не означает. Не забывай, что я имею в виду время, протекшее на «Пионе» с точки зрения земного наблюдателя. Что же касается Икарова, то для него время — как говорят физики, собственное время — должно течь совсем иначе, чем для нас. Там, близ Черной звезды, все происходит по-особому. — Не понимаю, — призналась Зарика. — Не ты одна, — утешил ее Борца. — Чтобы разобраться во всем, нужно дождаться возвращения «Пиона». — Мы можем и не дождаться… — Что ж! В таком случае, «Пион» и его капитана встретят наши потомки, — сказал Борца, и в голосе его звучала непоколебимая уверенность. — А мне так хотелось бы дожить до возвращения «Пиона»! — тихо произнесла Зарика. — Пусть старушкой, седенькой, сгорбленной, но дожить. Увидеть живого Федора Икарова, посмотреть на его экипаж… Я ведь, представляешь, в жизни не видела белкового робота! Они появились после старта «Альберта». — Тебе многое, Зарика, предстоит увидеть на Земле. Зарика глянула вниз, на проплывающую Землю, и, взвешивая слова, медленно произнесла: — Я мечтаю быть такой, как Федор Икаров… Думать обо всем человечестве. Зарика и Борца много говорили о будущем, строили планы, мечтали. С каждым днем, с каждым часом Борца все больше влюблялся в эту удивительную девушку, и ему казалось странным, как он прежде мог жить без нее. — Скоро на Землю, дружище, — сказал однажды врач, заканчивая осмотр Борцы, и сердце молодого человека радостно дрогнуло. Выздоровление Зарики подвигалось медленнее, но дела ее тоже шли на поправку. — Я тебя подожду. Вернемся на Землю вместе, — сказал ей Борца как нечто само собой разумеющееся. — Хорошо, — согласилась Зарика. Зарика и Борца жадно ловили известия с Земли, следили за напряженным ритмом ее будней. Многое среди сообщений с Земли было непонятно Зарике, многие термины и понятия, привычные для Борцы, она вообще с тишала впервые: во времена до старта «Альберта» их не существовало. Отвечая на бесконечные расспросы Зарики, Борца и сам по-новому осмысливал многое. Они говорили обо всем на свете, однако по молчаливому уговору избегали касаться того, что день и ночь не давало покоя Борце: был ли он повинен в разыгравшихся трагических событиях? Суд совести, разбиравший этот вопрос, решил, что вины Борцы тут нет. Известно ведь, что различные материалы в длительном космическом полете, в условиях сложных физических воздействий приобретают новые, часто полезные и нужные человеку свойства. Такова, собственно, была, как известно, одна из второстепенных целей полетов — изменить свойства веществ… Такие вещества — материал для экспериментатора. Короче, Суд совести оправдал Борцу. И все-таки Борца мучился, едва только медики привели его в сознание (это случилось уже на спутнике). Он считал себя повинным в разыгравшейся трагедии. — У людей всегда должно быть наготове оружие против повой болезни, — сказала Зарика, когда их лечение шло к успешному завершению. — Панацея от всех бед? — Что-то в этом роде. — Я не биолог, — сказал Борца, — мне с тобой трудно спорить. У каждой болезни свой возбудитель. Так разве возможен универсальный рецепт от всех хворей, которые могут одолеть человека? — Я отвечу вопросом на твой вопрос, — произнесла Зарика. — У людей имеется множество машин разного назначения. Так? — Так, — согласился Борца, сбитый с толку. — Каждую машину собирают по-своему, — продолжала Зарика. — Так разве возможен универсальный аппарат, который был бы в состоянии сделать любую машину? — Это разные вещи, — сказал Борца. — Моя машина синтеза должна работать на совершенно новом принципе… — Вот-вот, на новом принципе, — подхватила Зарика. — И я хочу найти такой новый принцип. По-моему, микробиология слишком долго топчется на одном месте. …Вскоре наступил давно ожидаемый и все равно неожиданный час прощания с клиникой невесомости. Зарика и Борца обошли почти пустые палаты, попрощались с теми, кто еще оставался здесь. Затем пошли в шлюзовую камеру, ожидая прибытия автолета. — Вернулась я на Землю, а так и не знаю, чем она живет, — пожаловалась Зарика. — Что волнует вас, людей двадцать второго века? Что тревожит? — Не «вас», а «нас», — поправил Борца. — Тем более. — Надо поездить по планете. — Сама знаю, что надо, — сказала Зарика. — Времени нет. Хочу сразу на биостанцию. Борца задумался. — Ты любишь театр? — неожиданно спросил он. — Театр? Помню. Любила. Я ходила в театр маленькой девочкой… А разве есть у вас театр? — Странный вопрос. — Когда «Альберт» улетал, говорили: искусство театра отмирает. Борца улыбнулся. — Эти разговоры ведутся сотни лет, еще со времен Шекспира, — сказал он, — а театр продолжает здравствовать. Вот что: я поведу тебя в театр, и ты узнаешь, чем живет Земля. …Еще издали, из кабины автолета, Зарика разглядела белоснежный купол, как бы свободно парящий в воздухе, и догадалась, что это и есть политеатр. Политеатр… Словечко было непривычное и отпугивало своей новизной. Автомат у входа протянул им два жетона, и они прошли на свои места. Внимание Зарики привлекли кресла — массивные, они в то же время легко могли вращаться на шарнирах. Садясь в кресло, зритель пристегивался к нему с помощью специального пояса. «Словно в автолете», — подумала Зарика. Арена, расположенная внизу, напомнила Зарике стадион. Необычайно рельефным было освещение, но Зарика, сколько ни вертела голову, нигде не могла обнаружить ни одной лампы. Купол стал меркнуть, и все погрузилось во тьму. Над самым ухом Зарики послышался шепот. «Ты увидишь сейчас подлинную историю, происшедшею на Земле, — говорил голос. — Ты увидишь людей, твоих братьев и сестер. Ты увидишь любовь, которая дает людям крылья…» Шепот потонул в нарастающей мелодии. Зарика не могла отделаться от ощущения, что волны музыки звучат лишь для нее одной. …А на сцене жизнь шла своим чередом. Старая, как мир, история захватила Зарику. Она даже не вникала особо в сюжет, следя за развитием характеров. Особо увлек ее танец, который исполняла женщина. Каждый поворот, каждый шаг ее с изумительной точностью гармонировали с музыкой. Когда они в антракте вышли в прохладное фойе, загадка согласованности музыки и танца не покидала Зарику. — Где помещается оркестр? — спросила Зарика. — Оркестра нет, — сказал Борца. — Что действительно отмерло в театре, так это он. — Остается магнитная запись? Борца покачал головой. — Разве при звукозаписи можно было бы достичь такой гармонии музыки и танца? — спросил он. — Верно, я тоже подумала об этом, — призналась Зарика. — Когда смотришь танец, в голову приходит мысль, что сама балерина — источник музыки. — Так оно и есть, — сказал Борца. — Ты угадала. Зарика искоса посмотрела на Борцу: не шутит ли он? — Понимаю, ты привыкла к оркестру, — возобновил Борт прерванный разговор, когда они отошли от панно «Первый виноград на Марсе». — Здесь, в поли театре, музыка подчиняется непосредственно артисту, и потому посредничество громоздких музыкальных инструментов попросту не требуется. — Не говори загадками, — взмолилась Зарика. — А ты не боишься технических подробностей? — Наоборот, жажду их! — Изволь. Звук извлекается свободным движением тела в пространстве сцены. Под нею включены высокочастотные ультрагенераторы. — Понимаю. — По лицу Зарики было видно, что она напряженно что-то соображает. — Генераторов под сценой много, около сотни, — продолжал Борца. — В сумме они образуют силовое поле. Когда актер движется, он пересекает силовые линии, а это вызывает изменение частоты одного или нескольких генераторов… — Минуточку, — перебила Зарика. — Ведь частоты у генераторов высокие? — Сверхзвуковые. — А откуда звук берется? — Он получается как разность частот. Но давай подкрепимся, антракт кончается, — сказал Борца. Они подошли к автоматам с соками. — Что будешь пить? — спросил Борца. — Только трабо. Я хочу жить долго-долго, — сказала Зарика. …И снова купол погас, а круглая сцена осветилась. Участники высокогорной экспедиции погружали в ракету снаряжение и приборы. Затем члены экипажа один за другим пролезли в люк, заняли свои места в корабле. Каким-то необъяснимым образом и Зарика очутилась среди них. «Старая машина. Похожа на шлюпку с „Альберта“», — подумала Зарика. Так оно и должно было быть — пьеса была на историческую тему. Дрогнул под ногами пол — это был уже не сферозал, а тесная кабина разведчика, — и Зарика вдруг почувствовала, что летит. Вот когда пригодились ремни, которыми она предусмотрительно пристегнулась. Перед глазами промелькнули замерзшие озерца метана, первозданные диабазовые глыбы, сметанные на живую нитку сооружения импровизированного космодрома… Да, Зарика была среди первых людей на Аларди — капризной планете системы Альфа Центавра. Экспедиция высадилась высоко в горах. Непогода бушевала вовсю. Ветер валил с ног, все связались в одну цепочку. Вместе со всеми Зарика, ежась от ледяного ветра, пробивалась к вершине… Вместо купола над нею раскинулось черное небо — именно такое небо видела она все годы полета на «Альберте», только рисунок созвездий был сейчас другим. Когда слабели порывы пурги и огромные метановые снежинки оседали, в небе показывались звезды. Однажды среди них мелькнула невзрачная желтая звездочка. Зарика догадалась, что это Солнце. Спектакль окончился. Небо далекой планеты снова превратилось в купол политеатра. Борца помог Зарике отстегнуть пояс, и они молча двинулись к выходу. Только сейчас, глядя на сплошь незнакомые лица, Зарика ощутила вдруг огромность временного пласта, который лег между ее временем и нынешним. И в то же время политеатр в чем-то сблизил ее с этими людьми, сделал более понятным их внутренний мир. Почему так получилось? Ведь история-то, которую она только что смотрела, в сущности, довольно заурядная. Он любит ее. Она влюблена в другого. Треугольник… Неужели человечеству так и суждено в области интимных чувств довольствоваться элементарной Эвклидовой геометрией?! Зарика замедлила шаг, стараясь разобраться в своих впечатлениях. — Как тебе спектакль? — спросил Борца. — Кажется, ты разочарована? Девушка покачала головой. — Разочарована — не то слово, — сказала она. — Хотя ожидала, кажется, другого. — Ну да, ты считала, что любовь через сто лет будет иной. Зарика покраснела — до того точно Борца угадал ее мысли. — Что касается театральной техники… — начала она. — Оставим технику в стороне, — перебил Борца. — Она меняется. Но разве это значит, что должны меняться человеческие чувства? — Настоящие — нет, — сказала Зарика. Они покинули здание и пошли по ночной улице, ища свободный автолет. — У меня был друг, Петр Брага, — сказал Борца. — Он говорил: любовь-математика. Только она может объяснить мир. — Ты говоришь — был? Твой друг умер? — спросила Зарика. — Нет, не умер. Я расскажу тебе когда-нибудь о нем, — ответил Борца. Перед ними медленно, словно лепесток, опустился автолет. Борта слабо светились, и казалось, что машина источает жар. — Удобная вещь, — сказала Зарика, залезая в кабину. — Как в старину обходились без автолетов? — улыбнулась она. — Будем любоваться спящей планетой сверху или поспешим? — спросил Борца. — Поспешим, — сказала Зарика. — Тогда держись, — произнес Борца и набрал на пульте киберштурмана координаты биостанции. Машина вонзилась в стратосферу, чтобы оттуда, описав гигантский угол, спикировать на Крымское побережье. Борца посмотрел на часы, что-то прикинул на калькуляторе. — Ты будешь на биостанции в пять утра, — сказал он. — Побродим сначала немного? — тихо сказала Зарика. — Море посмотрим… Борца кивнул. Перейдя на ручное управление, он посадил машину высоко в горах, на площадке среди скал, которую обнаружил локатор. Они отпустили автолет и осторожно двинулись вниз. Ярко светила южная луна. Спускаться было трудно. Помогали корневища кустарников, выступы скал. Когда внизу блеснуло море, они остановились, чтобы отдышаться. — Как ты находишь наш век? — спросил Борца. — Сильно изменился мир? — И да и нет, — сказала Зарика. — Многое стало иным. Многое трудно постичь, да многого я еще и не знаю. Но есть то, что не меняется, и это помогает удержать равновесие. Вот эти горы… Море… Луна, — указала она вверх. — Горы рушатся, моря мелеют, — сказал Борца. — В течение миллионов лет. А что для них какой-то жалкий век? Один миг, не больше, — произнесла Зарика. — И сто лет спустя в этих горах так же будет кто-то бродить и над ним будет сиять такая же точно луна. — Ошибаешься, луна будет другая, — сказал Борца. Зарика посмотрела на него вопросительно. — Луна оденется в воздушную оболочку, — пояснил Борца. — И это будет не через сто лег, а гораздо раньше. Там сейчас ведутся большие работы по созданию искусственной атмосферы. — Ну и что? Луна останется на месте. — Но цвет ее изменится. Луна будет голубой, как наша Земля издали, — сказал Борца. — Вон «твоей души предел желанный», — указал Борца. Окруженный горамт, возвышался Чертов палец — торчащая вверх гранитная скала. Рядом прилепилось несколько легких строений. — Биостанция? — Да. — Выкупаемся на прощанье, — предложила Зарина, и они вновь начали спускаться. Неожиданно Зарика споткнулась о какой то предмет Борца нагнулся и поднял пустую бутылку, бог весть как попавшую сюда. Бутылка была не из пластика, а из древнего стекла. Правда, определить это было не просто. Бутылка, видимо, долгое время пребывала в море, волны обкатали зеленоватое стекло, сделав его матовым. Светлело. Зарика взяла бутылку из рук Борцы. Внутри что-то смутно белело. — Открой, — попросила Зарика. Борца присел на корточки, пытаясь вытащить разбухшую пробку. — Такие бутылки раньше были вестниками несчастья, — сказал он. — Моряки, терпящие бедствие, бросали бутылку с запиской в море: авось кому-нибудь попадется. Наконец просмоленная пробка упала на влажный песок. Борца перевернул бутылку и осторожно встряхнул ее. — Не разбей, — сказала Зарика. Из горлышка показалась узкая трубка, перехваченная нитью. Видно, тот, кто перевязывал, спешил: нить в двух-трех местах была оборвана и наскоро связана. — Письмо, — прошептала Зарика. Борца потянул узелок, и истлевшая нить рассыпалась Однако бумага слиплась, и лист не разворачивался. — Наверно, бумага влажная, — сказала Зарика. — Положи на песок, пусть просохнет. Но когда через несколько минут Зарика попробовала развернуть трубку, та рассыпалась. — Что я наделала… — вырвалось у Зарики. — Воздействие кислорода, — сказал Борца. — Записка пролежала в бутылке слишком долго, и свежий воздух оказался для нее гибельным. Налетевший порыв ветра разметал по песку истлевшие клочки бумаги. — Дождался ли он помощи? — спросила Зарика. Вместе с рассветом пробуждалось и море. Волна стала свежей. Они заплыли далеко-далеко, так что берег был еле виден. Усталые, вылезли на берег и растянулись на влажном песке. — Биостанция отсюда похожа на ласточкино гнездо, правда? — спросила Зарика. — Похожа, — согласился Борца. Он смотрел теперь на мир глазами Зарики — широко раскрытыми, наивными, удивленными глазами. Может быть, это самое драгоценное свойство человека — всему удивляться? Не здесь ли начало всех открытий? Отдохнув, Зарика села, взяла в руки бутылку. Борца молча любовался тоненькой фигурой девушки. — Знаешь что? — повернулась к нему Зарика. — Давай снова запечатаем бутылку и бросим ее в море. — Вестником несчастья? — Вестником счастья… — А что мы туда положим? Зарика, усмехнувшись, вытащила ленту из высокой прически. Затем свернула алую полоску трубочкой и сунула ее в горлышко бутылки. — Закупорь, пожалуйста, — попросила она Борцу. Приладив пробку, онразмахнулся, чтобы зашвырнуть бутылку подальше. — Погоди! — остановила его Зарика. — Что? — спросил Борца. — Мне страшно… — тихо сказала Зарика. — Я знаю, ты будешь смеяться, назовешь меня суеверной… — О чем ты, Зорька? — Не бросай ее, — попросила Зарика. — Я буду бояться, что она разобьется, налетит на скалы… Или просочится вода, и бутылка затонет А я не хочу, чтобы наше счастье разбилось или пошло ко дну. — Тогда спрячем бутылку в горах, — предложил Борца. — Хорошо, — согласилась Зарика. Поднимаясь в горы, они обнаружили маленькую тропинку. — Наверно, она ведет на биостанцию, — сказал Борца. — К Ласточкиному гнезду, — поправила Зарика. Тропинка петляла, то и дело приходилось хвататься за колючие ветви, чтобы удержаться. Достигнув площадки с зубчатыми краями, они перевели дух. Над ними нависал Чертов палец, внизу синевой наливалось море. — Здесь спрячем? — спросила Зарика. — Здесь, — сказал Борца. Он осмотрелся, затем подошел к самому краю площадки и приналег на огромный валуи, поросший мхом. Камень сначала не поддавался, затем сдвинулся и вдруг с грохотом низвергся, увлекая за собой лавину обломков. На месте валуна осталась вмятина, глубокая и сырая. Несколько ящериц юркнуло в разные стороны. Зарика положила бутылку с лентой на дно вмятины. Затем они засыпали ее обломками и щебнем. — Море то отступает, то наступает на сушу, — сказал Борца. — Вдруг оно когда-нибудь сюда доберется? — Пусть, — махнула рукой Зарика. Они долго стояли, притихшие. Солнце успело забраться высоко и начало припекать. — Здесь простимся, — сказала Зарика. — Дальше я сама. Борца смотрел, как Зарика поднимается по тропинке. Он стоял до тех пор, пока крохотная, еле различимая фигурка не скрылась в Ласточкином гнезде.Глава 5 ВЕК ХХХII
…Трудны они были, бессонные ночи капитана. Джой Арго вновь и вновь вспоминал и анализировал каждый миг, протекший с того момента, как орионцы ступили на Землю. Начинался финиш нормально. Григо удачно положил корабль на курс к Земле. Правда, в полете переговорить с землянами но удалось, и на корабельных экранах они ни разу не показались. Но, может быть, что бы ни говорили техники, в этом все же была повинна аппаратура «Ориона»? Предположим. Что было потом? Вышли на орбиту вокруг Земли, стали выискивать подходящую площадку для приземления шлюпки. И тут повезло — хорошую площадку обнаружили уже на втором витке, это случилось над Австралийским континентом. Внизу отыскали космодром, на который можно было садиться. Оставалось отчалить от «Ориона» и приступать к спуску, но Григо неожиданно заупрямился: он потребовал, чтобы корабль сделал непременно три витка вокруг Земли — три витка, и никак не меньше. Внезапным требованием штурмана и началась для орионцев, пожалуй, цепь странностей. Никаких разумных доводов в пользу своей настойчивости Григо привести не смог. Необходимы три витка, и точка! Ну, предположим, штурман устал, изнервничался, думал Арго, ворочаясь в постели. Все они были на пределе, к тому же безмерно взволнованы предстоящей встречей с Землей, на которой с момента старта протекло десять веков. Однако же и потом Григо никак не мог объяснить свое поведение. «Будто затмение нашло, — говорил он и добавлял: — Будь я мистиком, то сказал бы, что это был внутренний голос». Так или иначе, шлюпка приземлилась на облюбованной площадке. Теперь уже ясно стало, что это самый настоящий космодром. И снова странность: подобные космодромы были тогда, когда «Орион» стартовал к звездам. Неужели же с тех пор они не изменились, не усовершенствовались? Невероятно! Что же, Земля застыла на прежней ступени развития? Пли… или была вынуждена застыть? Именно тогда родилось страшное подозрение, что Земля давно покинута людьми. Мало ли причин могло возникнуть для этого… Встретили их автоматы, собранные в прозрачной сверкающей капле. Что ж, само по себе это естественно: карантин, правила безопасности и прочее. Много тогда рассказывал о карантинной службе Земли Петр Брага, стараясь успокоить взволнованных орионцев… Нет, он рассказывал о карантинной службе потом уже, когда автоматы поместили их в это проклятое здание, из которого нет выхода. Правда, сведения его несколько устарели, поскольку относились ко времени старта «Ориона», но лучше что-то, чем ничего. После Звездной академии в карантинную службу получил назначение Борца, их однокашник, закадычный друг Петра. Он и Петра, кажется, соблазнял податься в карантинщики. Об этом Петр рассказывал Джою после старта «Ориона» и после первой пульсации, когда они уже покинули Солнечную систему. В свободный часок Джой и Петр перебирали подробности выпускного вечера в Звездной академии. Для них этот вечер был всего несколько дней назад, а на оставленной Земле с тех нор протекло уже четыре года. — Хороший тост сказал ты, старина, — заметил Петр. — А ты слышал его? — Конечно. — По-моему, ты весь вечер был занят только Изобретателем. И за столом вы сидели рядышком, а у Борцы рот не закрывался. О чем он все говорил? (С самого начала полета орионцы усвоили внешне грубоватый тон в разговоре обо всем и обо всех, кто остался на Земле. Словно речь шла о приятелях, с которыми расстались вчера и с которыми увидятся завтра. Так легче было перенести боль прощания со всем своим поколением.) — Расписывал прелести карантинной службы, — сказал Петр. — Мол, шагая с корабля на корабль, из тех, что возвращаются на Землю, попадаешь из эпохи в эпоху, путешествуешь во времени. — В этом есть резон, — кивнул капитан. — Ну, а тебя Изобретатель не уговорил податься в карантинщики? Петр улыбнулся. — Как видишь, — сказал он. — Зато Борца уверил меня в другом. — В чем же? — В том, что тебе совершенно необходимо отпустить бороду. Рыжая борода — сила капитана. — Что ж, и в этом есть резон, — рассмеялся Джой. И теперь в этом здании, спустя тысячу лет, они тоже говорят о Борце, как о живом. Только вчера вспоминали Изобретателя. Своеобразная защитная реакция? Ну хорошо, вернемся на Австралийский космодром, на который благополучно приземлилась шлюпка. Люден они так и не увидели, даже в отдалении. Автомат доставил их сюда, «в темницу», как твердит Брок. Импульсивный мальчик, все воспринимает чересчур болезненно, словно обнаженными нервами. «Ему простительно, — говорит Петр. — Брок родился на корабле и никогда не видел Землю, знает ее только по книгам да фильмам. А такое знание всегда страдает односторонностью». Неубедительно рассуждает математик. Вот ведь Любава тоже родилась на корабле, но она совсем другая. Умница, уравновешенная, с врожденным чувством такта. А сколько ей пришлось вынести! Не всякий зрелый мужчина это сможет. Полет «Ориона» был не из легких. А гибель самых дорогих для Любавы людей? Здесь, взаперти, потянулись бесконечные дни. Семиглаз регулярно их кормил. На еду орионцы не жаловались, если не считать Брока. Вода в фонтане, правда, с самого начала была чуть горьковатой, а потом с каждым днем становилась все более горькой. Что ж, с этим еще можно было мириться. Тем более, что она всегда прохладная и свежая. К услугам орионцев библиотека, фильмотека. Но что толку изучать историю человечества, если она кончается пропастью? Это слова Брока. А вдруг он прав? Пожалуй, самое обидное даже не то, что их возвращение на Землю обернулось такой чудовищной нелепицей, не то, что они оказались в плену, из которого до сих пор не отыскали выхода. Самым обидным капитану и остальным орионцам представлялось то, что их полет, их дальний поиск, полный титанического труда и порой смертельного риска, оказался напрасным. Кому передадут они результаты полета к Дельте Цефея? Уж не Семиглазу ли? Капитан встал выпить воды. Вода в стакане стала теплой, а он любил ледяную, от которой ломит зубы и немеет язык. Огромное строение спало. Круглый зал, посреди которого играл фонтан, напомнил ему кают-компанию на «Орионе». На «Орион» бы вернуться, что ли?.. Честное слово, в полете было легче! За прозрачной стеной зала, словно призраки, высились ночные деревья, раскачиваемые резким ветром. Поодаль там и сям мерцали строения, облитые голубоватым лунным сиянием. Кто обитает в них? Быть может, такие же, как орионцы, горемыки, возвратившиеся со звезд? Пленники машин, лишенные свободы? Наверно, никогда он, Джой Арго, не раскроет эту тайну, так же как не узнает, что это за облака, постоянно клубящиеся под прозрачным полом центрального зала. Джой пил долго. Отдыхал и снова ловил холодную струю, в которой угадывалась горечь миндаля. К себе возвращался тихо, стараясь не разбудить спящих. Двери комнат, выходящие в коридор, стены, пол, потолок — все светилось безжизненным светом. У дверей своей комнаты — он чуть было мысленно не назвал ее отсеком — капитан помедлил. Шальная мысль пришла в голову: а что, если сейчас кликнуть клич, поднять орионцев и пойти на штурм крепости? Сокрушить Семиглаза, вышибить двери и выйти на волю! Джон Арго взялся за ручку двери, усмехнулся и покачал головой. Возможно, и придется пойти на это, но пока еще рано. Даже примитивный штурм, в конце концов, требует тщательной подготовки. Думай, думай, капитан, ищи выход. Впрочем, он ли не думает? Голова от мыслей пухнет. Войдя в комнату, Джон осторожно притворил двери. Узкая койка, смятая постель, казалось, излучали бессонницу. Капитан подсел к столу, разложил перед собой биоблоки, похожие на карандаши разной длины, исписанные пластиковые листки. Вот она, квинтэссенция того, ради чего «Орион» продырявил космическое пространство. Нет, Семиглазу он все это не отдаст, — только людям, если они есть еще на Земле… Капитан один за другим перебирал листки, биопатроны. Вот он, бесценный клад для астрофизиков, для всех землян. Здесь все о загадочной некогда звезде Дельта Цефея. Как это говорили раньше? Цефеиды — маяки Вселенной… Здесь есть все: точные данные о периодическом изменении блеска, величина периода, измерения спектра, температуры разных звездных слоев и прочие физические параметры. Эти Монбланы фактических данных ждут своих истолкователей, тех, кто горы разрозненных цифр сумеет свести в единую картину. Общие контуры этой картины орионцы сумели наметить еще там, в полете. Дельта Цефея пульсирует подобно гигантскому сердцу. То надувается, то вновь опадает огромная резиновая груша… Благодаря своему беспокойному характеру Цефеиды видны с далекого расстояния. Именно это их качество и заинтересовало Координационный совет землян. Если знать период и видимый блеск такой пульсирующей звезды, то можно с легкостью подсчитать и расстояние до нее, а это очень важно в космической навигации. Потому люди и назвали Цефеиды маяками Вселенной. Снаряжая «Орион» к Дельте Цефея, Координационный совет дал задание: исследовать эту звезду, выяснить, в силу каких физических причин она пульсирует. Раскрыв тайну Дельты Цефея, человек получит ключи еще к одной загадке мироздания, сумеет в будущем — как знать? — зажечь собственной рукой новые маяки в глубинном пространстве, вдоль наиболее оживленных звездных трасс. Что ж, «Орион» задание выполнил. Вот они, ключи от загадки, — лежат на столе перед капитаном. Но где руки, которые возьмут эти ключи? Где земляне?.. Один биопатрон, отмеченный еле заметной царапиной, капитан долго вертел в руках, затем приставил его к виску, хотя и знал наизусть все, что там записано. Это был его разговор с Любавой, памятный разговор в астроотсеке, происшедший вскоре после того, как «Орион», возвращаясь домой, вынырнул из последней пульсации недалеко от границ Солнечной системы. Джой Арго закрыл глаза, потрогал бороду. Перед его мысленным взором возник тесный и неудобный отсек внешнего наблюдения, сплошь заставленный телескопами и снаряжением для выхода в открытое пространство. Там, в отсеке, находился капитан. Улучив свободную минуту, он разглядывал в телескоп покинутую Дельту Цефея. Теперь она казалась заурядной звездочкой. «Почти такой же кажется она с Земли», — подумал капитан. Люк отворился. Джой оглянулся — в отсек вошла Любава. Вошла — это только так говорится. В свободном полете — а именно таковым был полет «Ориона» по выходе из пульсации — на корабле царила невесомость. Установки осевого вращения, создающие на борту искусственную тяжесть, на обратном пути не включались — приходилось экономить ядерное горючее. Любава ловко переместилась к капитану, перебирая руками вдоль штанги невесомости. Капитан посмотрел на тоненькую девушку, опустившуюся рядом с ним. Глухо щелкнули магнитные присоски — это ее ноги коснулись пола. Джою навсегда запомнился ее взгляд — странный, обжигающий. — Что нового в космосе, капитан? — первой нарушила молчание Любава. — Все покинутую Дельту Цефея вспоминаю, — улыбнулся Джой Арго. — Да, ее не забудешь, — согласилась Любава. — Хочешь взглянуть? — спросил капитан, кивнув на телескоп. Любава прильнула к окуляру. Она смотрела на звезду долго-долго. Наконец оставила телескоп и резко повернулась к капитану. — Джой, я давно хотела спросить тебя… — начала она и запнулась. — Да? — Вот мы вернемся на Землю… уже недолго ждать. Что ты решил для себя? Так и останешься на Земле? Или снова уйдешь в космос? — Что мне Земля? — ответил тогда Джой. — Меня к ней мало что привязывает. Отдышусь немного, посмотрю, чего земляне достигли за время нашего полета, — и снова в пространство. Такая у меня профессия. — А куда полетишь? — Не всели равно? — махнул рукой капитан. — Послушаю, что предложит Координационный совет. Космос, слава богу, просторен. Может, полечу куда-нибудь новую трассу осваивать, бакены расставлять. — Бакены? — Я имею в виду — маяки, — пояснил капитан. — Превращать обычные звезды в пульсирующие… А у тебя планы какие? — Не знаю, Джой… — Голос девушки дрожал. — Твой путь ясен, — сказал капитан. — Останешься на Земле. Заведешь семью, корни пустишь… — Возьми меня с собой, капитан, — произнесла неожиданно Любава и посмотрела на него. — Что ты, Любава! Тебе Земля необходима. Ты даже не видела ее… — Вот именно, — перебила Любава, усмехнувшись. — Я растение, которое не знает земной почвы. Кто может знать, как она меня примет? — Хорошо примет, — сказал капитан. — Ты говоришь, Джон, тебя мало что привязывает к Земле. А меня, что меня привязывает к ней? Что, если мы окажемся для землян чужими? Они ведь на столько лет опередили нас. Если мы не поймем их, а они нас, — что может быть страшнее этого? А зажечь в космосе маяк, хотя бы один, — это так прекрасно! Он будет указывать путь кораблям, люди не собьются в дороге. Человек должен быть как Цефеиды… Стать выше собственного «я», мелких неурядиц. Только тогда он сможет светить другим. Тут они оба, не сговариваясь, пропели вполголоса шуточный «гимн орионцев», сообща придуманный в веселую минуту всем экипажем. Это произошло, еще когда корабль вращался вокруг Дельты Цефея. Каждый орионец внес в «гимн» свою лепту — кто строчкой, кто всего только словом, Брок придумал целую строфу, а штурман Григо кое-как сколоченный текст положил на музыку:Глава 6 ВЕК XXII
После возвращения на Землю работа поглотила Борцу. Кораблей из космоса приходило немало, и карантинная служба на недогрузку не жаловалась. Каждую свободную минуту, однако, Борца отдавал своему любимому детищу — машине синтеза. Домой он заезжал нечасто-городскую квартиру Борца невзлюбил после печальных событий, первой жертвой которых стал бедняга Бузивс. В память о Бузивсе остался портрет обезьяны, сделанный одним из приятелей Борцы, художником-любителем. Писанная маслом картина изображала Бузивса во весь рост, в натуральную величину. Когда после возвращения из клиники невесомости они заехали сюда, Зарина оставила в углу портрета надпись: «Я не забуду тебя. Прощай, Мишка!..» Сохранил Борца и очки Бузивса, придававшие обезьяне вид сварливой ханжи. Без Мишки-Бузивса в доме стало пусто, и Борца особенно остро, почти физически почувствовал свое одиночество. Когда выдавалось короткое свободное время, Борца летел за город, где в старинном дачном коттедже, преобразованном под лабораторию, проводил опыты. Увлечение Борцы, «род недуга», как говорили его приятели, доставляло ему немало хлопот: машина синтеза не ладилась, капризничала, никак не желала действовать по составленной программе. Силовые поля перепутывались, молекулы своевольничали, частицы рабочего вещества, впрыскиваемые в установку, скапливались совсем не там, где им следовало, и заранее заданная модель в результате искажалась до неузнаваемости. Борца, однако, с упорством маньяка вновь и вновь повторял опыты, до бесконечности варьируя рабочее вещество. Он знал, что подобным терпением, бесценным качеством экспериментатора, обладали и Эдисон, и Фарадей, и Попов, и вообще все великие изобретатели — от древности до наших дней. А чем он, Борца, хуже их?. Тем, что он еще не признан? Но разве те, другие, сразу были признаны? Прилетев на дачу, Борца наскоро перекусывал и облачался в домашнюю одежду, затем спускался в подвал, к своей установке. Он колдовал, он священнодействовал: варьировал электромагнитные поля, смешивал в различных пропорциях разные вещества. Мельчайшие частицы этих веществ, повинуясь воздействию силовых полей машины синтеза, должны были послушно выстроиться в ряды, образовав модель объекта, которую жаждал получить Борца. Жажда, однако, оставалась пока неутоленной. Борца возился, бывало, ночи напролет, взбадривая себя то соком трабо, то — изредка — чашечкой крепчайшего кофе, и непрерывно что-нибудь мурлыкал под нос. Набор исполняемых песен был у Борцы особый: он признавал только песни собственного сочинения. Иногда — в крайнем случае — он к известному тексту придумывал свою мелодию. Чужой музыки для Борцы не существовало. Нельзя сказать, что сочиненные им мелодии отличались высокими достоинствами — во всяком случае, упомянутых достоинств не находили ни старые друзья Борцы, ни Зарика. Однако в том, что касается исполнения собственных песен. Борца был тверд как скала. Даже к «Балладе о вине», любимой поэтической вещи Федора Икарова, Борца умудрился придумать свою мелодию и частенько напевал, ковыряясь в развороченном чреве машины синтеза:Глава 7 ВЕК XXXII
ЭПИЛОГ
Сияющая огнями бухта охватила залив. Свежий запах йода, доносимый морским бризом, смешивался на берегу со смолистым духом туи, с еле уловимым ароматом магнолий. Любава и Эо шли рядом. Еле приметная в сумерках тропинка то петляла у скал, то сбегала вниз, к самой ленте беспокойного прибоя. Скоро начался подъем. — Ну и денек был! — нарушила паузу Любава. — Я запомню его на всю жизнь. Да и все орионцы, наверно, тоже. Сколько теплоты мы сегодня встретили, сколько участия!.. И солнце нынче было под стать землянам. Оно светило так ласково, так упоительно… Именно таким я и представляла его там, на борту «Ориона». Знаешь, Эо, в полете я повидала много солнц, много чужих звезд. Были среди них и красивее, и жарче нашего, но земное светило всегда будет для людей лучше всех светил во Вселенной. — Земля, согретая солнцем, — это наша родина… — А родина у человека может быть только одна, — закончила Любава. Эо замедлил шаг и подошел к темной скале, которая угрожающе нависла над тропинкой. Постоял с минуту, будто к чему-то прислушиваясь. Остановилась и Любава. — А знаешь, — сказал тихо Эо, — скала тоже запомнила нынешний день. Любава повернула к Эо лицо. Отвечая на безмолвный вопрос, Эо обнял девушку за талию и осторожно подвел к темной массе скалы. Нагретый за день гранит еще источал солнечный жар. Любава тихонько прислонилась щекой к камню. — Гранит сохраняет тепло, словно память, — пояснил свою мысль Эо. Любава на минуту прикрыла глаза. — Там, в Гостинице «Сигма», я мечтала об этой минуте, именно об этой, — произнесла она. — И верила в нее. Быть среди землян… Ощутить, что звездный путь «Ориона» завершен. И прислониться щекой к земному камню, нагретому ласковым солнцем… Сюда еле доносились голоса и смех. Далеко позади и внизу остался дворец, сотканный из воздуха и света. Оттененный тремя горами, он возвышался громадным сверкающим кристаллом. Там гремел еще традиционный праздник, посвященный избавлению орионцев от смертельной опасности, возвращению их в единую семью землян. Любава вновь остановилась, заглядевшись сверху на море. — Маяк пульсирует, словно сердце, — сказала она. — Пойдем, — произнес Эо и взял Любаву за руку. — Нам с тобой идти еще далеко-Влажный гравий давно уже сменился каменистой крымской почвой. Тропинка сделала еще один поворот, и вверху среди звезд прорезалась одинокая скала. — Чертов палец? — спросила Любава. — Угадала, — сказал Эо. Девушка улыбнулась, блеснув в темноте зубами. — Не мудрено, — произнесла она. — Ты мне столько раз описывал его, что я встретила Чертов палец, как старого знакомого. — И Ласточкино гнездо узнала? — Узнала. Любава присела на жесткую траву у тропинки, прислонилась спиной к валуну. — Я еще не могу долго ходить… — начала она. — Отдохнем, и я устал, — перебил Эо. Любава сняла туфли, вытянула ноги. Эо растянулся прямо на тропке. Голоса сюда почти не доносились, ропот прибоя лишь подчеркивал тишину. — Сколько людей прошло здесь до нас! — сказал Эо. — И сколько пройдет после нас! — откликнулась Любава. Между скал внизу виднелся кусок спокойного моря, перечеркнутый лунной дорожкой. В стороне провисала черная нить подвесной дороги, связывающей берег с биостанцией. — Еще не привык я к этой дороге, — сказал Эо, уловив взгляд Любавы. Любава знала, что подвесную дорогу, связывающую грузовой порт с биостанцией, выстроили в недавние тревожные дни, когда шла борьба за жизнь орионцев. Любава погладила курчавые волосы Эо. — Знаешь, что больше всего потрясло меня во Дворце встреч? — сказала она. — Не радушие землян — мы ждали его. И даже не то, что вы спасли нас, — мы верили в это. У меня просто слезы навернулись, когда повстречались два Браги — Петр и Ант, предок и потомок… — Что касается Анга, то он давно мечтал об этой встрече, — заметил Эо. — Ты знаком с ним? — Еще бы! Мы с ним вместе встречали «Орион». — Эо нахмурился от нахлынувших воспоминаний. — Между прочим, я тогда же напророчил Анту, что корабельный математик — его дальний предок. — Подумаешь, пророк! — фыркнула Любава. — Они так похожи, что угадать это нетрудно. Отдохнув, они двинулись дальше. — У меня странное ощущение, будто я здесь бывала когда-то, — негромко сказала Любава. — Словно после долгой разлуки я вернулась домой и теперь узнаю прежние места. Как это может быть? — посмотрела она на Эо. — Ты же знаешь, я родилась на «Орионе» и никогда прежде не ступала по земле. Любава несла туфли в руке, помахивая ими в такт шагам. — Хорошо идти босиком, — сказала она. Этой тропинкой Эо шел впервые. Это он помнил отлично. Вечно опаздывал, всегда не хватало времени, постоянно пользовался тем или другим летательным аппаратом. Почему же и его охватило сейчас чувство, что он уже бывал здесь?.. Впереди них бежали две длинные черные тени. Вскрикнула в кустах ночная птица. — Земля дышит, — сказала Любава. — Сейчас здесь суша, а когда-нибудь, наверно, будет море. — И раньше здесь, наверно, плескались волны, — произнес Эо. Остановившись, он разглядывал какой-то предмет под ногами, затем нагнулся, поднял его и сказал: — Только море может так обкатать камень. Любава взяла предмет. — Легкий камень, — сказала она. — Слишком легкий. — Ты права, — согласился Эо, — волны здесь ни при чем. Посмотри, как искусно выточена горловина. Это могли сделать только человеческие руки. — II дно как срезанное… — добавила Любава, разглядывая находку. — Бутылка! — одновременно воскликнули оба. Нужна была немалая фантазия, чтобы угадать бутылку в этом странном камне. Окаменелые ракушки давно срослись с его поверхностью. Затвердевшие водоросли стали его частью. В горлышке еле угадывалась пробка. — Открой, — попросила Любава. — Вдруг это вестник несчастья? Во сне, что ли, видел Эо и эту ночь, и девушку с узким лицом восточной царицы, и странный сосуд у нее в руках? Он силился вспомнить, откуда знакома ему эта картина, по память о ней ускользала. Пробка долго не поддавалась. Наконец Эо вытащил ее зубами, ощутив во рту мимолетный привкус морской соли. В бутылке не оказалось ничего, кроме обесцвеченной ленты. Эо повертел ее, разглядывая в голубоватых лучах Лупи. — Осторожней, — попросила Любава. — Странно: я не вижу ни одного письменного знака, — произнес Эо. Любава взяла из рук Эо ленту и долго разглядывала ее, то отдаляя, то близко поднося к глазам. — Здесь и не нужно никаких знаков, Эо, — негромко сказала она. Затем вложила ленту в бутылку и с усилием заткнула горлышко пробкой. — Утром отнесем ее вниз и бросим в море. На счастье, — добавила она.А. ПАЛЕЙ МУЖЕСТВО Фантастический рассказ

Солнце прошло сравнительно небольшую часть своего пути от восточного края неба до зенита, но день уже давно пылал ровным, напряженным зноем. Ни одно пятнышко не нарушало безоблачной синевы. Крутые склоны горы резко уходили ввысь. Ажурные мачты электропередачи, спускавшиеся по ним, терялись, казались крошечными в их мощных складках. Мачтами, увешанными гирляндами серых изоляторов и связанными между собой ровными нитями проводов, была усеяна и равнина. Мачты были огромные, по на фоне горы не производили такого впечатления. С горой могли соперничать только прислоненные к ней трубы. Гора представляла собой гигантский, неправильной формы каменный конус, возвышавшийся над долиной приблизительно на полтора километра. На ее вершине была небольшая природная выемка, в которой целиком, как лилипут в кармане Гулливера, умещалось шестиэтажное здание электростанции: снизу оно казалось игрушечным макетом. Если всмотреться внимательнее, в морщинах склонов кое-где приютились крошечные здания. Все они тонули в зелени, и потому их трудно было различить. Трубы были грандиозные. Каждая из них имела не менее десяти метров в ширину. Перехваченные мощными поперечными скрепами, они были прислонены к склону на равных расстояниях друг от друга. Концы труб доходили до вершины горы. Каждая из них выходила из гигантского плоского металлического колпака, окрашенного в черный цвет, резко выделявшийся на фоне залитого солнцем ландшафта. Издали это сооружение можно было принять за оранжерею. Но на самом деле крыша опиралась не на стены, а на невысокие, десятиметровой высоты, колонны. Огражденная со всех сторон трубами гора была похожа на великана, взятого в плен мощью человеческого разума. Не вырваться, не убежать! Стоп недвижно и выполняй заданную тебе работу! Конечно, чтобы охватить взглядом всю этувеличественную картину, нужно было находиться в отдалении от нее. Впрочем, к горе, трубам и колпакам над ними даже при желании невозможно было приблизиться: в сотне метров от них решетка ограждала запретную зону. Трубы, выкрашенные в белый цвет (для наибольшего отражения солнечных лучей), резкими контрастными линиями прорезали покрытые зеленью склоны горы. Волнистая поверхность склонов и древесных крон подчеркивала геометрически прямые направления труб. Местность была пустынна, в районе воздушных силовых установок жили только работники станции с семьями. Но вдруг на извилистой тропинке среди деревьев показалась одинокая маленькая фигурка. Это был мальчик лет восьми. Он глядел на трубы и, судя по движениям его губ, напевал песенку. Но он и сам ее не слышал — мелодия тонула в мощном, репном, непрерывном гуле, похожем на рев громадного водопада. Как всегда днем, трубы гудели. Воздух, накаляемый солнечными лучами под черными металлическими крышами, стремясь кверху, врывался в устья труб неудержимым ураганным потоком. Ему на смену притекали воздушные массы из долины, и вся ее поверхность была захвачена непрерывным движением воздуха, со страшной силой несшегося к трубам. В сторону труб наклонились травы, кустарники, ветви деревьев. В том же направлении изогнулись струи фонтанов и неслись облака брызг. А чем ближе к решетке запретной зоны, тем реже становилась растительность, и задолго до изящной бронзовой ограды она вовсе исчезала, оставляя каменистую поверхность во всей ее неприветливой первозданной наготе. Воздушные потоки по мере приближения к трубам всё ускорялись. Вблизи них непрерывный ровный ураган бушевал с такой силон, что, если бы здесь были растения, они были бы сломаны, вырваны с корнем и унесены вихрем. Внутри труб, изолированных от внешней температуры твердой вакуумной пеной, воздух несся кверху со скоростью 200 километров в час. Вырываясь из них, он со всей мощью своего напора ударял в лопасти воздушных турбин. Трубы гудели. Этот рев невозможно было бы переносить, если бы он не был таким однотонным. Его однообразие заставляло слух привыкать к нему настолько, что люди перестали обращать на него внимание. Они как бы не слышали его и замечали только вначале, при восходе солнца. Ночью трубы молчали, силовые агрегаты не работали. Ночью поверхность долины быстро охлаждалась и переставала отдавать тепло воздуху. Разница между температурой воздуха долины и вершины горы сглаживалась, и воздушные потоки замирали. Турбины останавливались и переставали давать энергию в единое, всесоюзное высоковольтное кольцо. Можно было не обращать внимания на шум труб, но мальчик нарочно вслушивался в него. Он любил слушать и смотреть. Он видел, как летят в незримой, но явственно ощутимой воздушной струе срываемые ею с деревьев листья. Как много их прильнуло к решетке! Под напором воздуха они держатся на ней, как железо на магните, и так будет до вечера. Они отвалятся, когда умолкнут трубы: тогда помощник отца дядя Сережа соберет их с помощью пневматической машины, похожей на большой пылесос, и увезет подальше. Коля дошел почти до самой решетки. Здесь напор ветра был уже весьма ощутителен. Мальчик повернул обратно и вполоборота бросил последний взгляд… Что это?! Вход открыт настежь! Нет, этого не может быть! Ему показалось! Вход заперт, открывающая его кнопка находится далеко отсюда, в кабинете главного инженера, отца Коли. Он подошел ближе. Как это могло произойти? Надо сказать отцу. Но, впрочем, случившееся не страшно. Свои все прекрасно знают, что туда ходить нельзя, а приезжих в долине сегодня нет. Да, но они могут быть. Коля забеспокоился. Он уже хотел бежать к отцу. Но что это? Там, за решеткой, миниатюрная человеческая фигурка двигается по направлению к трубам. Это четырехлетний Юра, сын дяди Сережи! Двумя прыжками Коля пересек расстояние, отделявшее его от решетки. Став у открытой настежь низкой дверцы, он изо всех сил закричал: — Юра! Юра! Но он сам не услышал своего голоса, утонувшего в мощном, все заглушающем реве труб. Нет, мальчик, конечно, не слышит его. Здесь, у решетки, напор ветра был ощутимо плотен. Коля чувствовал, что его прижимает к ограде. Он с ужасом смотрел на ребенка. Тот медленно ковылял по направлению к трубам. Вдруг он обернулся, и Коля увидел его искаженное плачем лицо. Ребенок явно пытался кричать, но ураган уносил все звуки. А мальчик продолжал двигаться к трубам, словно его тащила непреодолимая сила. И тут Коля разом все понял. Юра гулял неподалеку от решетки. Он увидел, что вход открыт (но как же, как это могло случиться?), и вошел. Сначала любопытство влекло его к ослепительному блеску. Потом он испугался толкавшего его в спину ветра. Он хотел повернуть обратно и уже не смог. Теперь ураган тянет его к трубам, и он не может справиться с напором воздуха. Его всосет в трубы… Коля перегнулся через решетку, ветер трепал его кудрявые волосы, рвал одежду. Малыш пытался идти назад, но ураган легко опрокинул его. Он поднялся на четвереньки, хотел встать, но неудержимо, правда теперь медленно, его продолжало тянуть к трубам. Больше Коля не мешкал. Он кинулся в проход и побежал к ребенку. С каждым шагом он чувствовал, как ураган все сильнее гонит его, толкая в спину. Стоя на четвереньках. Юра смотрел на него с ужасом и надеждой. Плакать он перестал. Добежав до него, Коля схватил его за руку и хотел остановиться, по не смог: ветер продолжал гнать их обоих к трубам. Они уже были у самого края одной из крыш. Коля пытался упираться ногами, но это плохо помогало. Юру, цепко державшегося за его руку, вытолкнуло вперед. Коля попытался стать спиной к трубам и повернуть Юру, чтобы ветер не бил ему в спину. Это удалось сделать с большим трудом, но идти против урагана оказалось невозможным. Коля почувствовал, что задыхается от нестерпимого жара. Машинально он поднял голову. Они находились уже под крышей, служившей подножием для одной из труб. Металл крыши, раскаляемый солнцем, делал температуру под ней невыносимой. Увидев над собой раскаленную крышу с гигантским, медленно приближающимся, оглушительно гудящим жерлом трубы, чувствуя резь в глазах и боль в ушах, Коля пришел в отчаяние. Ему уже трудно было удерживаться на ногах — стремившийся кверху воздух почти отрывал его ступни от земли. Более легкого Юру приходилось тянуть книзу за руку. И хотя Коля был храбрый и сильный, все же он был только восьмилетним ребенком. Он разрыдался и бросился наземь, устав бороться и потеряв всякую надежду. Плач маленького Юры заставил Колю взять себя в руки. Он вспомнил, что рядом с ним находится существо меньше, слабее и беспомощнее его, которое видит в нем единственную опору. Они почти не двигаются. «Надо что-то делать, и как можно скорее», — подумал Коля. Вдруг он заметил, что по направлению к трубе они почти не двигаются (лежа на земле, оба мальчика представляли гораздо меньшую поверхность для напора воздуха). Инстинктивно Коля еще более прижался к земле и жестами велел Юре сделать то же самое. Ребенок немедленно исполнил приказание, ни на секунду не выпуская его руки. Дышать стало легче. Как можно плотнее прижимаясь к земле, Коля пополз назад, таща за собой ребенка. Это было так трудно, движение происходило так медленно, словно приходилось тянуть стопудовую тяжесть. Но все же они двигались от трубы, и это придавало измученному мальчику новые силы. Коля прополз несколько метров и остановился отдохнуть, плотно прижимаясь к каменистой почве. Юра опять заплакал. Коля посмотрел на него и увидел, что его лицо покрыто кровавыми царапинами и ссадинами. Тут Коля почувствовал, что и его лицо ободрано в кровь — раньше он, занятый борьбой с ураганом, даже не заметил этого. Песчинки, увлекаемые ветром, хлестали по лицам детей. Каждую секунду песок мог попасть в глаза. Коля приказал Юре зажмуриться, и тот беспрекословно повиновался. Коля тоже зажмурился и затем лишь на короткие промежутки времени открывал глаза, чтобы оглядеться. Немного отдохнув, они поползли дальше, и стало не так жарко, они выбрались из-под крыши. Они долго лежали неподвижно, собираясь с силами. Так, метр за метром, с длительными перерывами, они одолевали расстояние, отделявшее их от входа, и, когда Коля, чуть приподняв голову, посмотрел вперед, он ужаснулся, увидев, как много им еще остается ползти. Сил уже не было. Он снова заплакал, пряча лицо от малыша, чтобы не испугать его. Между тем детей хватились. Сначала Юры, потом показалось подозрительным и длительное отсутствие Коли. Их искали везде — сперва с легким беспокойством, потом с волнением, наконец с тревогой. К ограде силовой станции направились в последнюю очередь, просто для очистки совести, так как все хорошо знали, что вход не может быть открыт. Но он оказался распахнутым настежь. Мгновенный ужас сменился надеждой, когда увидели детей, лежавших между оградой и трубой. Обмотав крепкую веревку вокруг ствола могучего дерева и держась за ее конец, несколько мужчин бросились на помощь. Они нашли мальчиков почти без сознания, с израненными лицами, и с трудом вынесли за ограду, преодолевая напор урагана. Коля очнулся в своей постели уже вечером, когда трубы молчали. Он чувствовал себя совершенно разбитым, и многочисленные ранки на его лице болели. Первые его слова были: — Что с Юрой? — Он жив и здоров, сейчас спит, завтра утром ты его увидишь! — Над Колей склонилось ласковое женское лицо — это была мать Юры. Колина ручная обезьянка подбежала к нему и протянула лиловую ладошку. Мальчик осторожно взял ее. — А знаешь, — сказал Колин отец, — ведь это она чуть не погубила вас: оказывается, когда меня не было в кабинете, она нажала кнопку, открывающую вход. — Откуда же ты об этом знаешь, если тебя не было, — удивился мальчик. — Очень просто: она потом при мне нажимала кнопку. Несколько раз. Ведь обезьяны любят подражать, а она не раз видела, как я это делаю. Теперь придется запирать на ключ шкафчик с кнопкой. Коля рассудительно сказал: — Ну, простим ее, она не понимает, что делает.
В. РЕВИЧ НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ Заметки о советской фантастике 1971–1972 годов

Попытка обозреть в одной статье всю «продукцию», выданную «на-гора» нашими писателями-фантастами за два года, обречена на провал. В лучшем случае такая статья свелась бы к обычному перечислению и мало чем отличалась бы от библиографического списка, приведенного в конце. К тому же есть, увы, немало сочинений, для которых самая высокая оценка — это попросту умолчать о них. Другие, наоборот, требуют отдельного и обстоятельного разбора, например роман Геннадия Гора «Изваяние»… Но даже если не стремиться к необъятности, даже если ограничиться только отдельными изданиями, не затрагивая периодику, а из отдельных изданий выбрать только отдельные произведения, притом, как правило, новые, лишь в нескольких случаях обращаясь к перепечаткам, то все равно наберется достаточно много любопытных, своеобразных книг, над которыми полезно поразмышлять и читателю и критику. Конечно, речь пойдет не только о хороших работах, но и о неудавшихся, без них картина двухлетия была бы несколько односторонней. Большинство книг, вышедших в 1971–1972 годах, представляет собой сборники повестей и рассказов. Состав сборников обычно весьма неоднороден, рассказы зачастую плохо сочетаются друг с другом, в то время как произведения различных авторов, написанные в одном жанре или на сходные темы, поддаются наиболее интересным сопоставлениям, из которых можно вывеет и некоторую общую картину современного состояния кашей фантастической литературы. Именно такой — условно говоря, тематический — принцип лег в основу статьи. Правда, при этом придется как бы разброшюровать книги и обращаться к одному автору в разных местах. НАЧНЕМ С САМОГО ТРУДНОГО, но и, по моему мнению, самого нужного из фантастических жанров-с произведении о будущем, но не просто с таких, действие которых происходит в будущем (таких огромное число), а с тех, где нарисована более или менее обширная панорама грядущих дней. Когда-то подобные книги назывались утопиями. Но вряд ли произведения о нашем коммунистическом «завтра» можно называть этим словом (хотя это иногда и делают). Ведь «утопия» означает «нигде». Дав такое имя своему несуществующему острову, Томас Мор подчеркнул его полную нереальность для своего времени. А мы же не раз были свидетелями, как жизнь обгоняла самые смелые предсказания фантастов. Так будет и впредь, и нет никаких оснований зачислять их но ведомству утопии. Но и кроме того: «утопия» — название очень обязывающее, оно предполагает некую всеобъемлющую картину общества, на что авторы повестей, о которых пойдет речь, и не претендовали. Тем не менее нам удается составить довольно полное представление о светлом и радостном мире, в котором посчастливилось жить героям повести Евгения Велтистова «Глоток Солнца». Основным достоинством произведения мне представляется вовсе не традиционный фантастический ход: над Землей появляется серебристое облако, которое захватывает гравилет с пилотом, затем вызывает на планете различные технические и биологические непорядки и в конечном счете оказывается «курьером» далеких разумных существ (к космическим посланцам мы еще вернемся). Гораздо привлекательнее описание обстановки на Земле, вдохновляющей творческой атмосферы, которой дышат все ее обитатели, уважения и любви, с которыми они относятся друг к другу… Все это передано автором не в общих словах, как часто бывает, а через живые человеческие разговоры и поступки. Повесть называется «Глоток Солнца», и действительно кажется, что у ее молодых героев солнце в крови: такие они энергичные, любознательные, веселые, умные… Да как тут не быть умным, когда новая система обучения позволяет значительно полнее использовать резервы человеческого мозга, нежели в наши дни. «Историки говорят, что раньше только гении знали столько, сколько сейчас обычный человек», — утверждает один из героев повести. Из трех главных действующих лиц больше всего удался автору фантазер и заводила Рыж. Рыж совсем еще мальчик, и многое роднит его с сегодняшними 14–15-летними подростками. И дерзость мечтаний, и желание своротить горы, и неуемное любопытство к самым сложным вопросам науки и вообще жизни. Но он и многим отличается от наших современников: он больше для своих лет знает, больше умеет… О ком из теперешних мальчишек можно сказать: Рыж умел так прищуриваться, что видел летящие космические частицы… А гибнет Рыж так же, как порой гибли его вчерашние и сегодняшние сверстники-комсомольцы: желая спасти друга и совсем забыв о себе. И если кто-нибудь из читателей по-хорошему позавидует Рыжу, или программисту Марту Снегову, или его любимой девушке Каричке, если захочет быть похожим на них, автор может считать свою задачу выполненной. Однако «Глоток Солнца» не сводится к взаимоотношениям Марта, Карички и Рыжа. В конце концов в повести людям удается вступить в контакт с иноземным облаком, но в ходе этого диалога выясняется, что человечеству не по пути с тамошней цивилизацией. Правда, существа с далекой звезды достигли бессмертия, но оно куплено дорогой ценой. Срастив себя с неорганической материей, они, оставаясь разумными, практически перестали быть живыми, чувствующими, переживающими, перестали быть людьми в широком смысле этого слова. Земляне отказываются от такого дара и гневно осуждают тех немногих, правда, ученых, которые из тщеславия поддались соблазну поставить эксперимент, лишающий человека права называться человеком. Человек должен оставаться человеком, какие бы технические чудеса ни преподнесла ему его собственная наука, какого бы могущества в овладении тайнами природы он ни достиг, оставаться человеком во всей человеческой красоте и мудрости. Такова главная тема многих отечественных повестей и рассказов. В повести Аскольда Якубовского «Аргус-12», напечатанной в одноименном сборнике, мы найдем мысли, похожие на те, которые Е. Велистов вложил в главы «Глотка Солнца», где описывается борьба Марта с профессором Гаргой. «Аргус-12» тоже произведение о том, как строго люди будущего следят за отклонениями от их высоких нравственных норм. Как ни редки такие случаи, они недопустимы. Снова здесь выступает тип талантливого ученого-честолюбца, подобного Гарге, но пошедшему значительно дальше. Штарк хочет подогнать под свой образец целую планету, уничтожив ее уникальную, хотя и враждебную земному человеку природу… Ради этого он доходит даже до преступления, подтолкнув к смерти человека, который мог помешать осуществлению его замыслов. Ради них Штарк тоже готов отказаться от человеческой «формы» и, проделав над собой варварскую операцию, срастить свой мозг с машиной. Тогда его не смог бы настичь человеческий суд. Неудавшаяся попытка Штарка как раз и доказывает нечеловечность подобных помыслов, их несовместимость с человеческой природой. Мне, правда, показалось несколько странным изображение А. Якубовским тех людей, которые вместе со Штарком прилетели осваивать новую планету. Вряд ли в том высокоразвитом обществе, какое описал автор, могли существовать такие инертные, безвольные, может быть даже надо сказать тупые люди. Значительным произведением представляется мне роман И. Давыдова «Я вернусь через 1000 лет». Правда, при чтении этого романа не раз возникает желание поспорить с автором. Но куда хуже, когда и спорить не о чем. Время действия отнесено в отдаленное будущее. Автор не слишком подробно описал структуру того общества, которое, по его мнению, будет существовать на Земле, но и немногих примет, разбросанных по страницам, достаточно, чтобы составить себе ясное представление о нем. На Земле царит всеобщее братство людей; этнически национальности еще сохранились, но перегородки между ними почти стерлись, даже последняя из перегородок, языковая, и та начинает рушиться. На Земле давно нет убийств и, видимо, вообще преступности, сильно развиты наука и опять-таки система образования, даже школьники делают открытия… И если в целом «та» Земля мало похожа на нашу, то основной стержень книги вызывает прямые ассоциации с сегодняшним днем. К далекой Рите отправляются отряды молодых людей осваивать эту чудесную, похожую на Землю планету, а заодно и помочь побыстрее цивилизоваться местным племенам, находящимся на низкой ступени развития. Сразу возникает вопрос: а вправе ли земляне вмешиваться в чужую жизнь, если обитатели планеты не могут самостоятельно решать свои судьбы? Этот вопрос не впервые ставится в фантастической литературе. И. Давыдов отвечает: да, вправе. Но эта непростая проблема решена у него не путем убедительных философских доводов, а путем голосования. Большинство землян высказываются за помощь. Книге не помешало бы в этом пункте быть более доказательной. Но так или иначе, поднимаются отряды молодежи. Они никогда не вернутся на Землю — путь до Риты слишком далек. Тем не менее добровольцев слишком много, идет жесткий отбор, полетят только лучшие из лучших. Подготовка отобранных кандидатов к полету, обучение в специальных лагерях, где ребят, например, учат вялить лес или стрелять — занятия давным-давно никому не нужные на Земле, — все это описано живо и увлекательно. Но главное внимание — вполне правомерно — автор уделяет моральным сторонам, которые с неизбежностью возникают в предложенной ситуации. Переселенцы должны навсегда расстаться с родными и даже с любимыми, если те не выдержали отбора. Любимая девушка главного героя книги Александра Тарасова совершает подвиг самоотречения: она притворяется, что разлюбила парня, чтобы тому было легче ехать без нее. Что ж, может быть, во всем этом есть своя суровая необходимость. А вот с тем, что происходит далее, вряд ли можно согласиться с автором. Юношей и девушек смешивают в лагере в равных количествах, и каждому предлагают выбрать себе половину. Возьмут на Риту только семейные пары. Сделано это для того, чтобы уменьшить число личных трагедий, как считают руководители экспедиции. Но есть в этом что-то насильственное, да и число семейных драм от подобных мер не уменьшается. А когда кто-нибудь гибнет, что неизбежно на чужой, необжитой планете, оставшийся в живых член семьи попадает в безнадежное положение. В строительстве новой жизни на Рите мы узнаем черти большой комсомольской стройки нашего времени, хотя там действует такая техника, какая нам пока и не снилась. Однако самое интересное начинается тогда, когда автор подходит к главному — к взаимоотношениям с аборигенами. Он обостряет конфликт: обитатели планеты встречают землян неприкрытой враждой и при малейшей возможности убивают земных женщин. С большим трудом удается выяснить причину этой враждебности, но никак не удается убедить племена, что земляне пришли к ним как друзья. А люди, увлеченные «новосельем», сначала лишь пассивно обороняются с помощью электромагнитной защиты. Понадобилось несколько нелепых, ненужных смертей, чтобы они осознали серьезность положения. И только тогда первые добровольцы, смертельно рискуя, безоружными пошли в «народ», чтобы сжиться с племенами и исподволь подружить его с посланцами Земли. Кстати, подобные ситуации вовсе не такая уж отвлеченная фантастика, они сплошь да рядом возникали и возникают во многих странах нашей многонаселенной Земли, например в джунглях Амазонки. Разница лишь в том, что эти столкновения оканчиваются, как правило, трагически для отсталых народностей, потому что «цивилизаторы», само собой разумеется, лишены той коммунистической сознательности, какой обладают герои И. Давыдова. Так что фантастика, говорящая о далеком будущем, оказывается в гуще современных проблем… Роман армянского писателя Карэна Симоняна стоит несколько особняком среди крупных произведений о будущем. Существует такой фантастический прием, особенно часто используемый зама иными авторами: люди расселились по всей Галактике, но тысячам планет и даже начинают забывать, что их праматерью была Земля. Ход этот дает богатые возможности, ибо возникает бесчисленное количество парадоксальных, резко отличающихся от земного, и все-таки человеческих обществ. Конечно, подобные планеты — чистейшая условность, это всего лишь модели, на которых проигрываются различные земные ситуации. Весьма часто они используются в сатирических целях, ведя свою родословную от свифтовской Лапуты. Вот о двух таких планетах и пишет К. Симонян. Одна из них — Виланк, планета развлечений, планета гостиниц, ресторанов, баров, игорных домов… Больше, собственно говоря, мы почти ничего о ней и не узнаем, хотя в романе разворачивается довольно запутанный детективный сюжет, в котором принимают участие заглавный герой, его друг Нестор, очаровательный следователь Линда Ло, девушка Урсула, которая подозревается в убийстве, а затем совершает самоубийство и т. д. Все эти люди — не люди будущего; по образу мыслей, по профессиям, по жанру разговора эго люди XX, а то и XIX века. Невозможно себе представить, чтобы в VII тысячелетия существовали полицейские инспекторы и аптекари, развешивающие на весах какие-то порошки… Лишь во второй части начинаешь понимать, для чего понадобился автору этот галактический маскарад. На другой планете под мрачным названием Лета обитатели нашли способ изготовлять неотличимые копии. Двойники эти работают или представительствуют в то время, когда их «оригиналы» развлекаются. И постепенно исполнительные, но бездушные двойники вытеснили людей, стали хозяевами планеты. Люди деградируют, возникает даже движение протеста, несколько напоминающее современных хиппи: юноши и девушки отказываются от благ цивилизации и уходят в горы, в пещеры, к кострам, чтобы дать начало новому, здоровому поколению. Мысли эти, как видим, уже нам знакомы, мысли правильные и благородные — о подлинно человеческом в человеке, о недопустимости преступных экспериментов над человеческой природой, — по затиснуты эти мысли в неоправданно усложненную и чрезмерно многословную форму. Никто не требует, чтобы авторские идеи высказывались в таком непосредственном виде, как, например, в книге Е. Велтистова, но К. Симоняну пока не удалось найти то единство содержания и формы, которое позволило бы говорить о художественной удаче. Его маленькие рассказы, объединенные с «Аптекарем» в книге «Фантастика», производят более приятное впечатление. Прежде чем заговорить еще об одной повести, где автор рассматривает общие пути развития человечества или цивилизаций, позвольте сделать лирическое отступление. Есть такая известная игра — детские кубики. На каждой стороне кубика наклеен кусочек картинки. Если сложить из них одно изображение, то все последующие можно получить простым переворачиванием целых рядов. Повернул — и новая картинка, еще повернул — еще одна… Это немудреная модель той игры, в которую очень любят играть некоторые наши научные фантасты. На гранях кубиков пишутся обожаемые ими «научные» термины, как-то: нуль-транспортировка, четырехмерное пространство, бластер (он же лайтинг), силовая экранировка и т. д. Можно писать и целые фразы. Например: «Оставив за собой фиолетовую вспышку, огромный сверхзвуковой лайнер ушел в четырехмерное пространство…», или: «Тяжелый бластер бил его по ногам», или «Андрей! — отчаянно крикнул Чарли, срывая шлем непослушными руками. — Андрей!..» (Во избежание недоразумений, я хочу предупредить, что никого не цитирую.) Словом, принцип понятен, и все эти термины, фразы и прочие фрагменты картинок давно известны. Картинки могут быть любыми: путешествия на машине времени, встречи со своими двойниками, нападение злых пришельцев на Землю… Работа по созданию новых произведений по этому методу сводится к простому переворачиванию одних и тех же кубиков. Меньше всего я собираюсь подозревать авторов в прямом и сознательном заимствовании. Картинки каждый раз получаются всё новые и новые. К тому же фантазия авторов может разнообразить произведения некоторыми художественными находками. К примеру, трансзвездный лайнер в одном произведении называется «Варшава», а в другом — «Юрий Гагарин»… Пример такой «кубичной» литературы мы находим в повести Дмитрия Сергеева «Завещание каменного века» (одноименный сборник). Чего в ней только нет! И оживление замерзшего трупа; и цивилизация на иной планете, которая сама себя загнала в тупик слишком большим благополучием; и разумная машина, жаждущая власти и взбунтовавшаяся против своих создателей; и еще многое, многое другое. Даже по этому краткому перечню каждый любитель фантастики без труда вспомнит множество книг, где все это уже было, было, было… Сюжетная путаница, калейдоскоп невероятных приключений мешают разглядеть персонажей повести, даже главный герой — рассказчик совершенно безлик; можно подумать, что на всех героев надели те самые гипномаски, которые были модны у обитателей планеты Земетра, дабы всем быть одинаково и неразличимо красивыми… ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В КОТОРЫХ идет речь о глобальных проблемах, захватывающих целые планеты, целые звездные системы, а то и целые галактики, перейдем к более скромным по своим масштабам рассказам и повестям. Постоянная тема фантастов — космические путешествия. Настоящими произведениями литературы эти рассказы становятся тогда, когда внимание авторов сосредоточивается не столько на звездолетах, сколько на водителях звездолетов; пусть о методике входа в какое-нибудь там «гиперпространство» будет сказано мельком, по зато подробно о цели полета, о мужестве люден, его совершающих. Ведь полеты к далеким мирам всегда будут подвигом. Возьмем рассказ Кир. Булычева «Я вас первым обнаружил!» (сборник «Чудеса в Гусляре»). Звездолет «Спартак» пять лет летел к чужой звезде и долетел и геройски выполнил свою задачу, двенадцать человек из восемнадцати улетевших остались в живых. А на Земле благодаря относительности времени прошел век. И еще век пройдет, пока они смогут добраться до дому. И вот на последней из посещенных планет они обнаруживают записку, из которой узнают о том, что люди уже успели побывать здесь и в тот же год вернуться на Землю. За время, пока «Спартак» находился в полете, наука сумела открыть принципиально новые способы покорения пространства. Жертвы, принесенные экипажем «Спартака», оказались напрасными. С грустным чувством разочарования ложится экипаж на обратный курс; ведь на Земле, как они считают, их никто не помнит, не ждет, и кому они там нужны через двести лет (и такие мотивы встречались в фантастике, вспомним хотя бы «Возвращение на Землю» Ст. Лема)? Кир. Булычев никак не описывает переживания, которые охватили экипаж «Спартака», когда в корабельных динамиках они услышали звонкий голос: «„Спартак“, „Спартак“, вы меня слышите? „Спартак“, я вас первым обнаружил! „Спартак“, начинайте торможение… „Спартак“, я — патрульный корабль „Олимпия“, я — патрульный корабль „Олимпия“. Дежурю в вашем секторе. Мы вас разыскиваем двадцать лет!.. Я вас первым обнаружил. Мне удивительно повезло…» Автор словно молчит вместе с экипажем, у которого перехватило горло от волнения. Но такое молчание красноречивее слов. Почти аналогичную ситуацию мы находим в рассказе Владимира Михайлова «Ручей на Япете» (одноименный сборник). Тоже возвращается из космоса очень древний корабль, и тоже земляне готовят звездопроходцам торжественную встречу. Но этот рассказ совершенно не похож на предыдущий. Он направлен против самовлюбленного телерепортера, посланного для встречи космонавтов. Думая главным образом о собственных успехах, он ухитрился не понять, что вот эти-то измученные, оборванные люди и есть подлинные герои. В его представлении герои должны быть другими. Это хлесткий рассказ, противопоставивший истинное душевное богатство душевной пустоте и никчемности. Проверка — чего на самом деле стоит человек, когда он попадает в необычные и сложные положения, — вообще одна из любимых тем рижского фантаста. В другом его сборнике, озаглавленном «Исток», мы находим рассказ «Свисток, которого не слышишь». Он так повернул характеры, что к концу рассказа выяснилось: самым стойким, перенесшим все испытания, оказался вовсе не тот космонавт, который своим показным оптимизмом даже обманывал друга, «поддерживая» в нем веру. Лог с самого начала был уверен, что им не вернуться, и настроил себя на это, он лгал Силину, чтобы они могли выполнить свой долг, а когда долг был выполнен и притворяться стало незачем, он сразу сломался. Он умер потому, что был уверен в неизбежности гибели. А вот Силин выжил и другие выжили, потому что боролись до последнего. В рассказе «Исток» такую же пару составляют капитан и штурман, хотя дело и обходится без трагедий. Просто Штурман верит в планету, а капитан нет, он всегда и всего боится и оказывается в проигрыше. В рассказе Ольги Ларионовой «Обвинение» (сборник «Остров мужества») тоже подвергаются анализу моральные качества людей будущего. Это рассказ-притча. Темиряне, среди которых ведет научную работу экипаж земного звездолета, странно устроены. Они могут жить только рядом друг с другом, согретые волнами дружбы и сочувствия ближнего. Член племени, оказавшийся в одиночестве, погибает, «замерзает», как они говорят. В этой фантастической гиперболе ленинградская писательница символизировала спайку, солидарность, чувство общности, сознание и твоей собственной нужности для остальных. Из-за непростительного «холодного любопытства» одного из членов экипажа умирает мальчик-темирянин, которого он попытался было увезти на свой звездолет. Презрением и гневом окружают Грога товарищи, и неожиданно обнаружилось, что он тоже «замерз» в своей каюте. «„Человек не может жить, если все кругом думают о нем плохо“, — тихо проговорил Феврие, и никто из нас не посмел возразить, что это правило справедливо только для жителей Темиры…» РАЗ УЖ МЫ ЗАГОВОРИЛИ о разумных существах с иных планет, то разговор надо продолжить. Не менее часто, чем с Земли, уходят звездолеты в Глубокий Космос, и у нас на планете ежегодно приземляются десятки, а то и сотни межзвездных кораблей с самыми разноформатными пришельцами (в книгах, разумеется, лишь в книгах). Такое упорное возвращение фантастов к одной и той же посылке понять нетрудно: встреча с пришельцами или (что то же самое) с представителями древних земных цивилизаций может таить в себе богатые сюжетные и идейные неожиданности. Но может и не таить. Все зависит от того, сумеет ли писатель реализовать эти возможности или опять-таки примется переворачивать кубики… Есть немало рассказов и повестей, авторы которых полагают, что само по себе описание встречи с посланцами иных миров такое интереснейшее событие, что больше ничего от него, автора, и не требуется. Так, например, в рассказе Михаила Грешнова «Гарсон» (сборник «Лицо фараона») к геологу, одиноко коротающему время у костра, приходит в гости робот, посланный со звезды Дельта Кита, для сбора информации о земном шаре и его обитателях. За недолгий срок, который робот провел на нем, никому, кроме Володи, не открывшись, он собрал исчерпывающую информацию, а также разобрался во всех земных проблемах и неурядицах. Скромно, в глухой горной котловине произошел знаменитый фантастический Контакт, Встреча Разумов. Встретились два представителя двух цивилизаций, мило поговорили — как, мол, там у вас дела идут? — а затем робот улетел восвояси. Зачем, спрашивается, он прилетал, если, конечно, исходить не из интересов дельтакитян, а из интересов земных читателей? Вряд ли путь, избранный пашей страной, нуждается в одобрении роботов с иных звездных систем. Это выглядит смешно и наивно. Когда автор брался за рассказ, у него был наготове сюжетный ход, оставалось только втиснуть его в любую конкретную обстановку. Но, к сожалению, сюжетный ход — это еще не замысел. Примерно то же самое можно сказать и о рассказе А. Колпакова «Пришельцы из Гондваны» (сборник «Нетленный луч»). На этот раз гости (правда, не космические) оказались не столь любезными, как робот из предыдущего произведения, а наоборот, ужасно агрессивными. Вместо задушевного разговора героям пришлось вступить в отчаянную схватку. Вступили. Справились. И самуры ушли в океан, «унося с собой неразгаданную тайну», а именно: какую цель преследовал автор, создавая этот рассказ. У повести Владимира Владко «Фиолетовая гибель» иные недостатки (в скобках замечу, что если бы фантастам раздали анкету с вопросом «Ваш любимый цвет?», то они все бы написали «фиолетовый». Должно быть, он им кажется более загадочным, чем остальные цвета). В повести мысль бесспорно есть. Она — в разных характерах трех молодых американцев, нашедших в диком ущелье метеорит с плесенью, распространяющей вокруг себя смертоносное излучение. Но образы этих молодых людей — романтического Джеймса, мечтающего стать ученым, прирожденного дельца Фреда и уравновешенного страхового агента Клайда — оказались схематичными. Подобные типажи, но в значительно лучшем исполнении, хороню знакомы нам по произведениям зарубежных Фантастов (точно такая же сюжетная посылка лежит, например, в основе романа М. Крайтона «Штамм „Андромеда“»). Когда писатель выбирает традиционный (не хочется говорить — избитый) ход, от него как минимум требуется оригинальность общей идеи. Есть немало произведений, которые демонстрируют, как один и тот же сюжетный ход может послужить основой для свежих, написанных на высоком художественном уровне произведений. Например, черный шар из рассказа Вадима Шефнера «Круглая тайна» (сборник «Девушка у обрыва») вполне схож по своему предназначению с роботом Гарсоном из рассказа М. Грешнова. Он тоже прибыл на Землю исследовать земную обстановку. Но для В. Шефнера посланец высокоразвитой цивилизации не самоцель, а лишь повод. Автор повествует о том, как в обывателе просыпаются человеческие черты. Незадачливый журналист, отправившийся писать очерк о ночном стороже, который вернул найденную им крупную сумму денег, и сам не устоявший перед подобным же соблазном; его сосед по квартире, главное занятие которого — заглядывать в чужие окна; школьный приятель героя — все это взятые из жизни, хотя и сатирически заостренные образы. Менее удалась писателю девушка — Леонковалла-Таня. Словом, мы имеем дело с рассказом, написанным по всем законам реалистической прозы, а введенная в него фантастическая нота обостряет, гиперболизирует, делает особенно заметными как положительные, так и отрицательные черты в характерах героев. Так же надо подходить и к повести В. Шефнера «Дворец на троих», напечатанной в том же сборнике. В уже упомянутой книге О. Ларионовой напечатан рассказ «Планета, которая ничего не может дать». Он стоит ближе к привычной фантастике, чем повести В. Шефнера. Рассказ пронизан гордостью за нашу Землю, за людей, какими бы несовершенными они ни казались. Двадцать Седьмая (разведчики Логитании различались по номерам) решает остаться на Гее (читай: на Земле), потому что, в отличие от многих равнодушных ко всему логнтан, она была девушкой с чуткой душой, с любящим сердцем и ей стало не по пути с окостенелой кастовой системой ее родной Логитании, подавляющей в человеке волю и стремления. И это решение Двадцать Седьмой оказало влияние и на ее родную Логитанию. Скульптура Двадцать Седьмой, скульптура прекрасной Галатеи, высеченная геитянским Пигмалионом, стала символом борьбы за свободу, знаменем тех молодых сил, которые выступили за обновление Логитании. Так появляется еще одна, дополнительная черта в произведении — о силе искусства. Все это — серьезные произведения, но тот же сюжет может быть отлично разыгран и в юмористическом ключе, что и сделал Кир. Булычев в цикле рассказов «Пришельцы в Гусляре», составляющем основу сборника «Чудеса в Гусляре». Кир. Булычев писатель, в рассказах которого добро непременно и решительно торжествует над злом, он неспособен долго причинять неприятности героям, которых любит. Для цикла да и вообще для писателя особенно характерен рассказ «Поступили в продажу золотые рыбки». Самые нелепые задания дают обитатели Великого Гусляра чудесным говорящим созданьицам, каждое нз которых в полном соответствии со сказочной традицией выполняет три желания человека, поймавшего золотую рыбку или — в данном случае — купившего ее в зоомагазине. Кто-то, например, «сообразил» заменить воду в водопроводе на водку, и пришлось одной хорошей женщине потратить целое желание, чтобы вновь наладить нормальное водоснабжение городка. Хотя автор впрямую и не говорит об этом, но из названия цикла и из других рассказов нам сразу становится ясно, что это никакие не рыбки, а всемогущие пришельцы, решившие… А что решившие? Позабавиться? И действительно, поначалу кажется, что замысел автора сводится к насмешкам, впрочем довольно добродушным, над корыстностью, жадностью, легкомыслием. Но финал резко меняет тональность всего произведения. Третье, последнее желание почти у всех обладателей рыбок без какого-либо сговора оказалось одинаковым: они отдали его несчастному калеке, который потерял руку на пожаре. Единодушие чуть, впрочем, не привело к тяжелым последствиям, ибо у пария сразу выросло двадцать рук — одна слева, а остальные справа, на месте отсутствующей. Быть бы Эрику таким страшилищем, но сто автор никогда не обидит невиноватого человека, он сохранит в запасе еще одно, неиспользованное желание, чтобы вернуть Эрику нормальный вид. И смешно и трогательно — как раз в духе большинства рассказов Кир. Булычева. Не буду останавливаться на других рассказах цикла, читатели несомненно получат удовольствие от них. «Пришельцы в Гусляре» — большая удача в области юмористической фантастики, пока еще, к сожалению, довольно редкой у нас. По общему настроению к сборнику Кир. Булычева близок сборник томского фантаста Виктора Колупаева «Случится же с человеком такое!..» Основные герои его рассказов — это милые, скромные и самоотверженные люди. Ключом к сборнику может служить рассказ «Настройщик роялей». Этот волшебник-настройщик так знал свое дело, что настроенные им инструменты начинали звучать не только в соответствии с пожеланием своих хозяев; тот, кто садился за фортепиано, излизал в музыке и свою сокровенную сущность. И в лучших своих рассказах В. Колупаев умеет настроится на тот верный тон, который сразу располагает читателя к автору. Это относится к таким, например, рассказам, как «Газетный киоск» или «Зачем жил человек?». Сюда же можно причислить и совсем не фантастическую повесть, давшую заглавие сборнику. Она чем-то напоминает повести В. Шефнера. К этому лирическому направлению можно отнести и рассказ Д. Биленкина «Человек, который присутствовал» из сборника «Ночь контрабандой». «Человек, который присутствовал» — это тот же настройщик роялей, «катализатор психических процессов», чье присутствие зажигает в людях творческий огонь, придаст им вдохновение. И, зная об этом своем даре, Федяшкин старается присутствовать там, где он нужнее всего, где он может быть полезным. Как и настройщик роялей, он ничего не просит за свои хлопоты, незаметно исчезая в подходящий момент. Самая большая радость для таких людей — быть нужным для других. Как видите, начав эту часть с пришельцев, мы ушли от них к самым обычным земным профессиям. Здесь уж пришельцы совсем ни при чем. Рассказы говорят о том, как много вокруг нас прекрасных людей, чье существование облегчает и украшает жизнь окружающим, и как порой незаслуженно мы проходим мимо них, потому что обычно они — люди скромные. А как же все-таки быть с пришельцами? Бог с ними! Люди, надо думать, в конце концов, а пожалуй, что и обязательно, справятся со своими проблемами и без помощи извне. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, О КОТОРЫX сейчас пойдет речь, имеют большее право называться научной фантастикой, чем предыдущие. Но и самая-самая «разнаучная» ничего не стоит без человека. Эксперименты над человеком, над человеческим мозгом, над человеческой психологией продолжают оставаться в центре внимания писателей. Отметим в этом ряду рассказ Ильи Варшавского «Сюжет для романа» (сборник «Тревожных симптомов нет»). Нелегкое дело — описать переживания человека, который должен был умереть от инфаркта легких, но остался жить, потому что его мозг пересадили другому кандидату в морг, у которого голова была размозжена в результате несчастного случая. Чужое тело тоже начинает заявлять свои права, проявлять свои привычки. Беляевскаяситуация выглядит в этом рассказе вполне современно. А вообще опыты на человеке, особенно на его мозге, влекут за собой массу проблем не только медицинских, но и этических, к разрешению которых, пожалуй, никто еще и не знает, как подступиться. Не надо даже обращаться к фантастике, достаточно вспомнить, какая буря началась в печати, когда в мире начались широкие опыты по пересадке сердца. Вероятно, единственно правильная позиция, которую можно запять в этом вопросе, — заявить, что неизвестно к чему приводящие эксперименты над человеком преступны (если речь не идет о спасении человеческой жизни и другого выхода нет). Эсэсовские врачи, которые уродовали заключенных в концлагерях, тоже считали, что действуют в интересах науки. В этом плане мне представляется удачей рассказ А. Якубовского «Мефисто» (сборник «Аргус-12»). Мозг умирающего ребенка, своего сына, один профессор пересадил в тело большого кальмара и пользуется разумным животным в своих эгоистических целях. Разумеется, имея такого «разведчика» на дне моря, можно открыть 1115 новых видов абиссальной фауны. «Самое важное, в конце концов, знание», — успокаивает себя учений отец. Но он ошибается: знания без морали могут приводить к самым тяжелым и бесчеловечным последствиям, чему мир уже не раз был свидетелем. Много ли он размышляет над тем, что должно чувствовать это несчастное существо — получеловек, полукальмар? Настроения Мефисто постепенно изменяются: от отчаяния («Возьми меня к себе, мне страшно») он переходит к ненависти, постепенно в нем исчезает человеческая мораль, по остается человеческое сознание. Разумный зверь (если головоногое можно назвать зверем) — что может быть страшнее? От такого спасения нет. Мефисто начинает убивать и в итоге убивает собственного отца. Да полно, отец ли он ему? Может быть, эта кара заслужена? Человеческий мозг, попавший в кальмарье обличье, мы находим и в другой повести, в «Океанавтах» Сергея Павлова. Но различие разительное. Если у А. Якубовского в этот фантастический ход вложен серьезный нравственный смысл, то у С. Павлова не вложено ничего. Случился вот такой любопытный факт, и точка. Надо еще учесть, что мозг, перебравшийся в кальмара, — это мозг любимой девушки главного героя, который расследует таинственное происшествие на глубоководной станции, где и встречается лицом к лицу со своей Лоттой. Можно себе представить ту сложнейшую гамму чувств, тот ужас, которые должны охватить и его и ее при встрече! Но ничего ужасного не происходит. Человек и кальмар весело сотрудничают друг с другом как ни в чем не бывало. Повесть переполнена чехардой совершенно невероятных приключений и совпадений. А вот обстановку на батискафе автор выписал детально и зримо, видно, он хорошо знал, о чем писал. К сожалению, и А. Якубовский идет сходным путем в другой своей повести, «Прозрачник», почему-то здесь не задумываясь над тем, к каким моральным потрясениям должна приводить кардинальная перестройка человеческого организма. Правда, автор облегчил свое положение тем, что его герои имеет возможность в любой момент вернуться в нормальное человеческое состояние. Следовательно, только от сто доброй поли зависит, заниматься ли научными изысканиями в образе Прозрачника или жениться на любимой девушке. Надеюсь, никто не сомневается, что он выбрал науку. А что бы переживал Сигурд, если бы у него не было возможности вернуться? Впрочем, как я уже сказал, именно этот вариант использовал писатель в рассказе «Мефисто», пожалуй, самом сильном в его сборнике «Аргус-12». ЕЩЕ ОДНА «ВЕЧНАЯ» ТЕМА фантастики — машина времени. Не проходит года — да что там года, месяца! — чтобы кто-нибудь где-нибудь не отправился на прогулку в прошлое или будущее. К сожалению, пассажиров, которых бы не следовало подпускать к таким ответственным командировкам, намного больше, чем хотелось бы. У скольких авторов машина времени давно уже превратилась в одну из граней все тех же вездесущих кубиков! Начнем, однако, с хорошего произведения. К таким бы я отнес повесть Севера Гансовского «Винсент Ван-Гог» (сборник «Идет человек»). Повесть привлекает прежде всего совершенно профессиональным знанием предмета, о котором взялся писать автор, — в данном случае речь идет о жизни и творчестве великого французского художника. Кстати сказать, о том, что С. Гансовский любит и знает живопись, можно было судить и по другим, более ранним его работам. Пожалуй, по этому рассказу не хуже, чем по «обыкновенным» биографическим описаниям, читатель представит себе трагическую судьбу художника, смысл его творений. Но плюс к этому еще добавляется фантастическая фигура жулика, который пытается подзаработать, тайком переправляя полотна из прошлого в будущее. Ничего, правда, из этих махинаций не получается, но неоднократное общение с великим художником выправляет нравственные сдвиги в его душе. В лирическом, не совсем обычном для него тоне разрабатывает тему временных скачков и В. Михайлов в повести «День, вечер, ночь, утро» (сборник «Исток»). Космонавт, вернувшийся на родную планету через пятьсот лет по земному счету, перемещается на машине времени назад и приходит к своей девушке через несколько часов после своего отлета, правда, ненадолго, но В. Михайлов тоже добрый автор, он находит способ, как Киру тоже переселить в будущее, к любимому человеку. А вот пример противоположный. Сказав много хороших слов о сборнике В. Колупаева, я, к сожалению, не могу распространить эти оценки и на его повесть «Качели Отшельника» (сборник «Фантастика–72»). Группа космических исследователей, отлучившись на несколько дней с научной станции на отдаленной планете (разумеется, со следами древней цивилизации), при возвращении обнаруживает, что там произошли странные вещи. Их товарищи куда-то исчезли, от некоторых остались скелеты, всюду запустение и разрушение. Перед нами распространенное начало множества научно-фантастических произведений. Произошло что-то непонятное… Ситуация дает возможность показать поведение разных людей, оказавшихся в критических обстоятельствах, внезапно лишившихся своих близких, друзей… Но возможность еще надо превратить в действительность. Загадка объясняется довольно просто: оказывается, начальник станции организовал эксперимент по управлению временем. Эксперимент вышел из-под контроля, вследствие чего время на разных широтах Отшельника потекло по-разному. На экваторе уже прошло много сотен лет, а на полюсах все осталось по-прежнему. Тут, правда, возникает несколько чисто сюжетных неувязок: как, а главное, почему могло так случиться, что улетевшие на несколько дней со станции люди ничего не знали о готовящемся эксперименте? Два предположения: либо это была необдуманная, скоропалительная авантюра, либо от них это почему-то скрывали. Но почему, зачем? Никаких объяснений мы не получили. Понадобилось автору, чтобы они ничего не знали, вот они ничего и не знают. Или: на станции, где прошли века, осталась в «живых» одна девушка, которая, как и прилетевшие космонавты, не понимает, что произошло. Как же так? А она-то в каком же времени жила. Вопросы можно продолжать, но не в них дело. Вот прочли мы повесть. Давайте в очередной раз задумаемся, зачем она написана. Что хотел сказать автор читателю, претендуя на его время и внимание? Может быть, автор хотел воспеть неодолимую поступь научно-технического прогресса и мощь человеческого разумам Вот, мол, каких успехов добилось человечество, даже течение времени изменять теперь может. Но для утверждения этой не слишком новой и чисто технической мысли не требовалось писать длинную повесть, к тому же она рассказывает не столько о победах человеческого разума, сколько о временных поражениях на пути к овладению тайнами природы. Но тогда будет более верным такое предположение: автор хотел сказать, что наука, прогресс требуют жертв, они неизбежны (хотя эта неизбежность как раз в повести и не обоснована), но, несмотря на эти жертвы, человечество все равно идет вперед. Что ж, пусть так. Опять-таки сама ситуация позволяет создать остродраматическое произведение. Она, и именно с экспериментом, вышедшим из-под контроля, была подробно исследована в повести Стругацких «Далекая Радуга». Речь не о том, что это какой-то совершенный образец, в ней есть натяжки, неубедительные решения, по катастрофа на Радуге показана через восприятие живых и разных людей. За них можно волноваться, радоваться, огорчаться, с ними можно спорить или соглашаться, то есть в произведении есть тот необходимый человеческий материал, который и делает литературу литературой. В «Качелях Отшельника» нам как раз этого-то и не хватает. Мы не можем сочувствовать девушке, которая много лет живет одна в окружении враждебной природы, потому что для нас остается закрытым ее внутренний мир. Нельзя же сочувствовать имени, написанному на бумаге. Мы не можем вникнуть в переживания другой девушки, которая входит а комнату и видит за столом скелеты своих только что оставленных товарищей. Разумеется, нас информируют о том, что она потрясена, но между сообщением о потрясении до изображения самого потрясения — «дистанция огромного размера». Этим-то литература из кубиков отличается от первичной литературы. Она только называет, обозначает предметы и состояния, по большей части давно известные. Конечно, автор может сказать, что точно такого эксперимента с управлением временем никто не описывал. Может быть, точно такого и не описывал. Сути дела это не меняет. Не наполненная оригинальным человеческим, социальным, политическим содержанием, фантастика всегда будет оставаться лишь пустой игрой ума. Если же автор это понимает и стремится к такому наполнению, то, значит, ему просто не всегда хватает мастерства, чтобы осуществить свои намерения. Я думаю, что с В. Колупаевым так и произошло. Уж больно резко «Качели Отшельника» отличаются от некоторых его других произведений. В сборнике «Случится же с человеком такое!..» есть прелестный рассказ «Девочка», в котором та же тема временных сдвигов использована совсем по-иному: нежно, поэтично, убедительно. И НАКОНЕЦ ХОЧЕТСЯ УПОМЯНУТЬ еще о нескольких новинках, которые ни под одну рубрику не подходят. Юрий Дружков сам определил жанр своего произведения — «фантастическая поэма». Не совсем ясно, что это должно означать, но ладно, поэма так поэма. Видимо, Ю. Дружков задумывал спою книгу как художественно-политическое произведение о всемогуществе нынешней науки, о ее месте в пашем сложном мире, о роли и ответственности современного ученого. Видимо, автор хотел вывести в книге привлекательный образ энтузиаста, молодого талантливого исследователя — «физика из ящика», весьма популярного героя сегодняшнего дня. На деле же образ Магнитолога получился совсем не привлекательным, и прежде всего потому, что мы очень часто отказываемся понимать, какие пружины толкают героя для свершения тех или иных поступков. Автор совершает весьма распространенный и нашей научной фантастике просчет: выдвинув некоторое фантастическое допущение, писатели не в состоянии продумать, проанализировать последствия, которые вытекают из собственного допущения. И вместо естественной логики событий начинается авторский произвол, который разрушает характеры и подрывает всякую веру в героя, в книгу, в добрые намерения ее создателя… Магнитолог изобретает «плакатор», аппарат, который «видит» и «слышит» любую точку нашей планеты, для которого не существует ни преград, ни стен. Захотел, например, он, находясь в командировке, посмотреть, как чувствует себя его больная мать, и посмотрел. Мать, естественно, об этом ничего не знает, и нет уверенности, что она желает, чтобы сын подглядывал за ней именно в данный момент. Герой нигде всерьез не задумывается над возможными сферами применения его аппарата. Неясно, зачем он его изобретал. Просто так, наткнулся на интересное свойство магнитных линий, что ли? Действительно, не для разгадывания же загадок истории прибор предназначен, чем более что его свойство заглядывать, кроме комнат нынешних обитателей Земли, еще и в прошлое, открывается позже. Но каждому мало-мальски мыслящему человеку понятно, что такой прибор в современном расколотом мире будет прежде всего использован как глобальное оружие разведки, что государство, обладающее им, получает решающее преимущество перед своим потенциальным или действительным противником, что любая служба безопасности не пожалеет ничего, чтобы заполучить этот аппарат. Такое изобретение, если уж оно, к несчастью, сделано, должно охраняться гораздо надежнее, чем, например, секрет ядерной бомбы, ибо для создания бомбы надо еще воздвигнуть гигантский промышленный комплекс, плакатор же — это, судя по описаниям, всего лишь схема на транзисторах, умещающаяся в маленьком чемоданчике, устройство, которое может спаять любой радиолюбитель. А ведь автор мог поставить в книге интересную проблему что делать с таким вот открытием, от которого вреда больше, чем пользы. К сожалению, научно-технический прогресс ставит человека и перед таким выбором. Проблема эта затрагивается некоторыми фантастами; например, Д. Биленкиным в рассказе «Запрет» (сборник «Ночь контрабандой»), и все они в один голос говорят: запретить, спрятать, уничтожить, задержать даже ценой чести, ценой жизни. «Есть тайны природы, к которым человек не может прикасаться, пока не достиг определенной нравственной высоты», — справедливо говорится в одном научно-фантастическом фильме. А наш Магнитолог ездит со своим чемоданчиком по стране, совершает путешествие в Антарктиду и в довершение всего попадает, правда по воле урагана, в Америку. В конце концов и гениальный изобретатель может быть политическим недорослем и попросту не ахти каким умным человеком. Но как остальные-то допускают все это? Советский ученый, везущий сверхсекретную аппаратуру, попадает на территорию чужого государства. Что сделает нормальный человек на его месте? Немедленно уничтожит прибор и всякие записи о нем. Даже если секретные службы не подозревают о приборе, то ведь не исключена любая случайность — автомобильная авария, обыск, провокация, болезнь, что угодно. А что делает наш герой? Прямо противоположное. Он не только не уничтожает свой чемоданчик, но еще и едет с ним на коленях нелегально в Лахому, город, где произошло убийство Президента. Чем же все-таки объясняется чудовищное легкомыслие Магнитолога? Повесть называется «Прости меня…», но простить героя никак нельзя, все его поведение — это постоянное угождение научному эгоизму. Может быть, выведен и такой, резко отрицательный персонаж, по этому предположению противоречит первая часть повести, где перед памп проде бы вполне нормальный советский парень. Вот и не сведены концы с концами, пот и рассыпался характер вдребезги, и повесть как художественное произведение не состоялась. Рассказ Георгия Гуревича «Опрятность ума» (сборник «Месторождение времени») построен на знакомом фантастическом приеме: проникновением в чужие мысли. И тем не менее рассказ читается, во-первых, потому, что удался образ главной героини — Юлии, а во-вторых, потому, что автора заботят опять-таки не технические подробности, а человеческие реакция. Девушка получает в наследство от умершего отца, который был крупным ученым, прибор, позволяющий читать или, если хотите, слышать, понимать, что думает в данный момент собеседник. Юлия активно пользуется прибором, ей приходится столкнуться с «изнанкой» человеческих мыслей, а среди них попадается много пошлого и некрасивого. Однако девушка оказалась достаточно умной, чтобы отделить постоянное от наносного и, несмотря на многие разочарования, не потерять веры в людей. Юлия остается такой же хорошей, славной советской девушкой, какой она и была до того, как к ней в руки попал «викентор». Однако есть в рассказе два момента, которые вызывают желание не согласиться с автором. Первое замечание общего характера. Если уж Юлия такая положительная, то что должна была бы сделать девушка, попади ей в руки такое открытие? Конечно, в первую очередь подумать о том, какую пользу людям оно может принести, и скорее всего отправиться в Академию наук. Кроме того, она, как человек умный и начитанный, не могла не подумать и о той опасности, которую таит в себе этот приборчик, если он попадет в руки людей недоброй воли. Правда, такая мысль мелькнула в ее голове, но так, вскользь, как неглавная. Разочаровавшись в женихе своей подруги, Юлия даже решает уничтожить «викентора», но и в этот момент ее не одолели сомнения: является ли изобретение отца такой уж ее личной собственностью, над которой она вольна чинить суд и расправу? Второе замечание касается одной строчки. Последней. Идя на свидание с юношей, полюбившим ее, Юлия долго терзается, включать или не включать аппарат, проверять ли истинные намерения своего кавалера или нет, довериться парню, к которому и она неравнодушна, так сказать, без проверки? В конце концов, пишет автор, «Юлия включила аппарат». Если это не опечатка, то, по-моему, зря она это сделала. Это не в ее характере, это переводит Юлию в совершенно иной психологический тип: подозрительных, ревнивых женщин, которые шпионят за своими избранниками. Мне кажется интересным сравнить рассказ Г. Гуревнча с напечатанным еще до революции рассказом некоего А. Зарина под названием «Дар сатаны» (вообще-то подобных сюжетов встречается много, совсем недавно была опубликована, например, повесть З. Юрьева «Звук чужих мыслей»). Я выбрал пример для сравнения, потому что герои близки по возрасту, а следовательно, и по свежести восприятия мира. В рассказе А. Зарина подобную возможность получает молодом человек, скромный, добродушный и к тому же поэт. Получает чисто сказочным путем, и «сделан» этот «прибор» не из транзисторов, а из… слюны дьявола. Но цели введения фантастического хода вполне аналогичны в обоих рассказах. В отличие от нашей современницы, заринский молодой человек разочаровывается во всем: в друзьях, в невесте, во всех встречных людях, которые без исключения оказываются мелкими, подлыми карьеристами… И если Юлия колебалась, не утопить ли ей «викентор» в колодце, то герой «Дара сатаны» со злости выбрасывает свое снадобье в форточку, чтобы автор мог закончить рассказ циничной сценой: «В это время под окошком проходили молодые люди, только что вступающие в жизнь. Они возвращались с товарищеской пирушки и продолжали с жаром говорить об идеалах, о торжестве правды, о готовности пострадать за нее; давали жаркие обеты всю жизнь посвятить добру и служению ближнему, — и вдруг, приостановившись при свете фонаря, взглянули в глаза друг другу и… громко расхохотались». Я думаю, что Юлии следовало бы выключить свой аппарат перед свиданием с Кешей, чтобы быть выше того героя, видимо, далекого от передовых кругов и поэтому приходящего к мысли, что в людях совсем нет ничего святого и искреннего. А ведь и вообще литература — это тоже «заглядывание в чужие головы», так что столь заманчивый прием — сорвать уж окончательно все маски с человека, даже те, которые он носит несознательно, — будет постоянно привлекать к себе писателей. В ином повороте тему «проверки на правду» мы находим в повести Льва Успенского «Эн-два-о плюс икс дважды» (сборник «Тайна всех тайн»). Обращение к фантастике такого известного литератора, как Л. Успенский, конечно, не может не привлечь внимания. В повести прекрасно выписаны обычаи, быт дореволюционного студенчества и тогдашняя жизнь; мы узнаём здесь руку «Записок старого петербуржца». А что касается собственно фантастики — изобретение такого газа, под воздействием которого люди начинают говорить только правду, — то и здесь многим писателям стоит поучиться, как придавать чисто техническим придумкам острый нравственный смысл, заставлять их «работать» на большую, глубокую идею. Право же, сцена в университетской аудитории, где под влиянием этого газа начинает откровенничать профессор-ретроград, может считаться в этом отношении образцовой. Вторая повесть Л. Успенского, «Шальмугровое яблоко» (сборник «Фантастика–72»), стоит несколько особняком. Это довольно редкий вид фантастики «сегодняшнего дня», в которой нет ни пришельцев, ни роботов, ни телепатии, а только лишь загадочные, необычайные происшествия. В повести соседствуют бытовые зарисовки с полупародией, а может быть, и с полной пародиен на приключенческие романы. Увлекательность и веселость — не последние достоинства «Шальмугрового яблока». Скромнейший и тишайший бухгалтер заштатной артели «Ленэмальер-Цветэмаль» вдруг обнаруживает, что в его жизни был такой период (о котором он ничего не помнит), когда он путешествовал по экзотическому острову Калифорния, сражался с дикими зверями и подосланными убийцами и был мужем — этот благонамеренный семьянин! — прекрасной «солнцеподобной» принцессы. Контраст, как видим, максимальным: чуть ли не киплинговский землепроходец и рядовой бухгалтер (почему-то именно эта профессия выбрана литературой для олицетворения обыденности и размеренности существования). Что же хотел сказать автор, соединяя, так сказать, под одной «крышей» две столь противоположные личности. Может быть, то, что человек еще плохо знает сам себя, что в неожиданных обстоятельствах в нем могут просыпаться такие душевные и физические силы и склонности, о которых он и сам не подозревает? И, конечно, в этой повести есть протест против будничности, скуки, намек на то, что каждый человек может прожить свою жизнь интересней и насыщенней…
Советская научно-фантастическая литература в 1971–1972 гг
Александр Абрамов, Сергей Абрамов. «Селеста-7000». М, «Детская литературы», 1971. Д. Биленкин. НОЧЬ КОНТРАБАНДОЙ. М., «Молодая гвардия», 1971. Библиотека советской фантастики. Кир. Булычев. ЧУДЕСА В ГУСЛЯРЕ. М., «Молодая гвардия», 1972. Библиотека советской фантастики. И. Варшавский ТРЕВОЖНЫХ СИМПТОМОВ НЕТ. М., «Молодая гвардия», 1972. Библиотека советской фантастики. Е. Велтистов. РЭССИ — НЕУЛОВИМЫЙ ДРУГ. М., «Детская литература», 1971. Е. Велистов. ГЛОТОК СОЛНЦА. М, «Детская литература», 1972. Издание второе. Владимир Владко. ФИОЛЕТОВАЯ ГИБЕЛЬ. М., «Детская литература», 1971. Север Гансовский ИДЕТ ЧЕЛОВЕК. М., «Молодая гвардия», 1971. Библиотека советской фантастики. М. Грешнов. ЛИЦО ФАРАОНА. Ставропольское книжное издательство, 1971. Геннадий Гор. ИЗВАЯНИЕ. Л., «Советский писатель», 1972. Г. Гуревич. МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ. М., «Детская литература», 1972. И. Давыдов. Я ВЕРНУСЬ ЧЕРЕЗ 1000 ЛЕТ. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1973. Второе издание. A. Днепров. ПРОРОКИ. М., «Знание», 1971. Анатолий Днепров. ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ. М., «Молодая гвардия», 1972. Библиотека советской фантастики. Ю. Дружков. ПРОСТИ, МЕНЯ. М., «Молодая гвардия», 1972. Валентина Журавлева СНЕЖНЫЙ МОСТ НАД ПРОПАСТЬЮ. М., «Детская литература», 1971. Александр Колпаков. НЕТЛЕННЫЙ ЛУЧ. М., «Советская Россия», 1971. Виктор Колупаев. СЛУЧИТСЯ ЖЕ С ЧЕЛОВЕКОМ ТАКОЕ!.. М., «Молодая гвардия», 1972. Библиотека советской фантастики. Л. Лагин. ГОЛУБОЙ ЧЕЛОВЕК. М., «Советский писатель», 1972. Второе издание. Ольга Ларионова. ОСТРОВ МУЖЕСТВА. Л., Лениздат, 1971. Фатим Лухманов. ПЛЕННИКИ ПОДЗЕМНОГО ТАЙНИКА. Перевод с башкирского В. Губарева. Уфа, Башкнигоиздат. 1971. Георгий Мартынов. ГИАНЭЯ. Л., «Детская литература», 1971. Издание второе, дополненное. Владимир Михайлов. РУЧЕЙ НА ЯПЕТЕ. М., «Молодая гвардия», 1971. Библиотека советской фантастики. Владимир Михайлов ИСТОК. Рига, «Лиесма». 1972. Г. Мюрдель. СОНАРОЛ. Рига, «Лиесма», 1972. B. Назаров. ВЕЧНЫЕ ПАРУСА. Красноярское книжное издательство. 1972. «НФ». Сборник научной фантастики № 11. М, «Знание», 1972. «НФ». Сборник научной фантастики № 12. М. «Знание», 1972. Сергей Павлов. ОКЕАНАВТЫ. М., «Молодая гвардия», 1972. Библиотека советской фантастики. Игорь Росоховатский. КАКИМ ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ? М., «Детская литература», 1971. Д. Сергеев. ЗАВЕЩАНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА. Иркутск, Восточносибирское книжное издательство, 1972. Карэн А. Симонян. ФАНТАСТИКА. Ереван, «Айастан», 1972. СКВОЗЬ ЗАВЕСУ ВРЕМЕНИ. Фантастические рассказы. Магадан: Книжное издательство, 1971. Сергей Снегов. ЛЮДИ КАК БОГИ. Калининград, Северо-западное книжное издательство. 1971. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. М., «Детская литература», 1971. ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН. Сборник. Л., Лениздат, 1971. ТОЛЬКО ОДИН СТАРТ. Сборник. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1971. Ю. Тупицын. СИНИЙ МИР. Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство. 1972. «ФАНТАСТПКА–71». Сборник. М., «Молодая гвардия», 1971. «ФАНТАСТИКА–72». Сборник. М., «Молодая гвардия», 1972. Вадим Шефнер. ДЕВУШКА У ОБРЫВА. М., «Знание», 1971. А. Якубовский. АРГУС-12. Новосибирск, Западносибирское книжное издательство, 1972.МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1975
 Сб2
М63
М
Сб2
М63
М 458–75
© ИЗДАТЕЛЬСТВО “ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 1975 г.
458–75
© ИЗДАТЕЛЬСТВО “ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 1975 г.

А.Бауэр · ЧЕТЫРЕ ЧАСА ВОЙНЫ (Героическая повесть-быль о пограничнике)
Умирая, не умрет герой, Мужество останется в веках!Муса Джалиль
1
Граница! Вслушайтесь в это звучное слово. Произнесите его громко, и тотчас перед вашим мысленным взором появится притихшая, как перед грозой, длинная полоса земли — отчетливая линия, которая протянулась на западе от Черного моря до Балтики и дальше на север. Со словом “граница” всегда рядом другое слово, более определенное, твердое и мужественное — “застава”. Трудно представить те сложные чувства, которые возникают, когда слышишь слово “граница”. Оно всегда вызывало в людях неудержимое желание охранить и защитить рубеж милой земли отцов и дедов. Выходили в бой могучие богатыри, полные неудержимой силы и пламенной любви к Родине. Богатырская застава всегда была готова постоять за правое дело, за родимую Русь. Застава!.. Небольшие кирпичные или деревянные домики, длинные казармы, бани, кухни, конюшни. Подземные укрытия и ходы сообщения. Высокие сторожевые вышки, множество невидимых дозоров, телефоны, скрытые в дуплах деревьев, чистенькие пограничные столбы. Ни единым следом не тронутая черная полоса вспаханной земли… Такою была пограничная застава и в то лето… …Мирно темнели дома и сады небольшого пограничного села Цуцнева. Ни шороха, ни огонька. Парни давно проводили своих голосистых подружек. Молчали птицы. Не тявкали собаки. Короткая летняя ночь укрыла землю. Между селом и тихим Бугом спала седьмая пограничная застава. Спала ли? Отдыхали только те, кто возвратился из нарядов и караулов. Многие бодрствовали. Вдоль всей границы, неслышно скользя по берегу реки, сидя в секретах и притаившись на вышках, несли усиленную ночную службу дозорные и часовые. Они напряженно вглядывались в прибрежные деревья и кусты, застывшие у самой воды. Начальник заставы, провожая бойцов в ночные наряды, подчеркнул, что сегодня необходимо быть особенно настороженными и внимательными. Ночь была темна и туманна. А на востоке, там, где утром горит солнце, белым светом сияла большая спокойная звезда. Казалось, что стоит она в небе, как часовой, охраняя сон огромной страны. Предутренний ветерок примчался с ржаных полей. Он поднялся к верхушкам деревьев, пошевелил листья, снова спустился к росяным травам. Не видно и не слышно было пограничников за толстыми стволами дубов и в зарослях влажного кустарника. Ночное небо чуть побелело, но опустившийся туман снова покрыл все густым мраком. Было тихо, и лишь изредка на той стороне слышалась какая-то возня и вдалеке приглушенно гудели моторы. Это неясное и зловещее гудение тревожило часовых… А бойцы в полупустых спальнях крепко спали в ту короткую ночь. Они не знали, что на участке четвертой комендатуры вечером был задержан переплывший через Западный Буг немецкий солдат 222-го полка 74-й пехотной дивизии Альфред Лискоф. Он попросил, чтобы его как можно скорее доставили к старшему командиру. На допросе он заявил: — Утром, в четыре часа германская армия перейдет в наступление. Начальник Владимир-Волынского пограничного отряда майор Бычковский немедленно по прямому проводу связался с начальником погранвойск округа, которому доложил о рассказе перебежчика. Тревожное сообщение передали также командиру 87-й стрелковой дивизии и штабу 41-й танковой дивизии, расположенной в городе Владимир-Волынске. Дежурный офицер штаба, не дослушав Бычковского, закричал по телефону: — Не порите горячку! Передо мною в газете сообщение ТАСС. Слушайте, что тут сказано: “По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы”. И офицер повесил трубку. Но Бычковский стал звонить в пограничные комендатуры с предупреждением о возможном нападении. Многие заставы удалось пополнить людьми, оружием, боеприпасами. На охрану некоторых участков границы были посланы дополнительные наряды. Но оставшимся в казармах приказано было отдыхать. И пограничники спали… Все вокруг было тихо, спокойно. А за кордоном, в лесах и балках, с величайшими предосторожностями скапливались огромные массы войск и военной техники. Заводились моторы самолетов и танков, подтаскивались к реке средства переправы, расчехлялись орудия, и их длинные стволы медленно поворачивались на восток… Там чуть розовело небо. Неудержимо разгоралась лиловая полоска зари. На западе небо было темным, угрюмым, словно предвещало небывало затяжную грозу. Часовые поглядывали на эти два противоположных края неба, и им казалось, что между серебристо-розовым светом и серым тяжелым мраком идет молчаливая ожесточенная борьба. Совсем стало светло в четыре часа утра. В прибужском селе Цуцнев беззаботно пели петухи. Скрипел колодезный журавель. В садах и дубравах затренькали сонные птицы. Начинался день… Много печальных и радостных дат в истории нашей Родины. Знаем мы их, помним и всегда будем чтить и знать. Но далекая воскресная дата одного июньского дня словно выжжена огнем в наших сердцах; она похожа на глубокую рану, которая, хоть и зажила, но болит и вечно будет напоминать о себе. И как вспомнишь двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года, памятный всем советским людям, яркий безоблачный день, наполненный до краев трагизмом и величием… так дрогнет душа, захочется встать и молча обнажить голову…2
Вечером 21 июня один из пограничников, заместитель политрука заставы Василий Петров, никак не мог уснуть. Уже совсем стемнело, а он все ворочался на кровати. Недавно он получил письмо из дома, от сестры Нади, несколько раз перечитал его и не мог не думать о родителях, друзьях детства, о школе, в которой учился. “Как хочется домой, — вздохнул он, — ведь три года не видался со своими. Три года!” Василий откинул простыню, встал с постели и босиком по прохладному полу подошел к открытому окну. Окна казармы выходили на юг. Направо была граница, налево, на востоке, горела в небе звезда. “В этом направлении мой дом”, — мелькнула мысль. Он пристально вглядывался в темноту, и его взгляд как бы проникал все дальше и дальше на восток. Там, на калужской земле, среди лесистых холмов, обступивших змеистую речку Лужу, раскинулся город его детства, старинный, утопающий в садах Малоярославец… Василий даже вздрогнул от наплыва жаркой любви и нежности к родному Подмосковью, к своему маленькому одноэтажному городу… Почему-то вспомнил он, как однажды, кажется, в седьмом классе, показывал своим подшефным октябрятам через эпидиаскоп художественные открытки. Первоклассники радовались, когда на белой простыне возникали пейзажи Африки и Памира, когда мчались трубачи Первой конной армии и летали в небе темные дирижабли. А его первый учитель Вячеслав Лукич, теперь обучавший этих малышей, сидел рядом и подбадривал юного механика. И сейчас, как эти цветные картинки, на экране его памяти появлялись и не спеша проплывали туманные, расплывчатые и в то же время необычайно красочные образы детства. Вот видит он себя босоногим, стриженным под машинку малышом. На нем синие трусики и аккуратно заштопанная матерью рубашонка. Вместе с такими же босоногими приятелями играет он на тихой немощеной улице возле большого деревянного дома. Невдалеке, за густыми садами, проходит железная дорога, и по ней, лязгая на стрелках, лениво бегут в Калугу длинные товарные составы. Дети любят играть в поезда. Вася прикладывает ладошку ребром ко рту и гудит как настоящий паровоз. Надувая щеки и шипя, он обгоняет дочерна загорелую сестру Машу и, мелькая пятками, мчится встречать возвращающегося с работы отца. — Пары пускаешь, сынок? — серьезно спрашивает он и ласково гладит жилистой рукой колючую головку сына. — Пап, а ты что делал на работе? — Я-то? — улыбается в усы отец. — Промывал железки у одного старого паровоза. Теперь побежит весело, как молоденький. — Весело побежит, да? — смеется Вася и, взявшись за руку отца, идет домой. Старается шагать в подражание ему так же солидно, слегка вразвалку… …Василий снова лег, укрылся до пояса простыней и, вздохнув, продолжал думать об отце. Василий Тимофеевич много лет работал промывальщиком в Малоярославецком локомотивном депо. Теперь он моторист. Все шестеро детей очень любили доброго и мягкого характером отца. Как в любой семье, все интересы этой большой семьи были сосредоточены вокруг отцовской работы. Любил Василий Тимофеевич поговорить о ней, не уставая, часами мог рассказывать о разных случаях, о моторах, станках, котлах, но больше всего о паровозах. Удивительные это были паровозы в его рассказах! Как живые люди, они имели свои увлекательные биографии, свои лица и отличались друг от друга характерами и повадками. После таких рассказов детвора, ускользнув от строгого материнского надзора, убегала к отцу в депо и резвилась там, среди мирных безмолвных локомотивов. — Вот что, ребятки, скажу я вам, — иногда за обедом начинал отец разговор. — Скажу, что хорошо быть железнодорожником. Должность почетная. Что есть наш транспорт, знаете? — Знаем, знаем! — кричали дочери. — Нерв! Нерв страны! Ты говорил… — Не только нерв, ребятки. Транспорт — это, это… — крутил он пальцами в воздухе, подыскивая “громкое” слово, — это учитель, так сказать! Да… Приучает нас к честности, аккуратности и, натурально, к дисциплине. А что, не так?.. В школе учитель дает звонок, и все на местах. И у нас колокол на вокзале прозвенит — и поезд трогается. В школе да на транспорте расписание твердое, что надо. А дружат рабочие на транспорте как? По-настоящему, завсегда готовы постоять друг за дружку. Да, великая вещь рабочая солидарность и сознательность, они и революцию нашу сделали. Понадобится — мировую совершат… Отцовская наивная агитация была понятна, дети жмурились, моргали. Став старше, усмехались на “громкие” слова, повторяя их иронически, но… но запоминали на всю жизнь. Большую силу имеют отцовские внушения, если идут они от чистого сердца и подкреплены к тому же собственным жизненным примером. Переглядывались младшие Петровы, посмеивались над своим простодушным папашей, а ведь зря смеялись — все без исключения стали рабочими, правда, более квалифицированными, чем он. Нередко в погожий выходной день Василий Тимофеевич собирал семью, и они на рассвете уходили в лес. Там было прохладно и сыро. Капала с листьев утренняя роса, дремали неподвижные ели, просыпались птицы. Как было радостно найти первый гриб с бархатистой шляпкой, влажной и холодной от ночной сырости. Возвращались домой к обеду с полными корзинами. Самые маленькие гордо несли кузовки с ягодами или орехами. Половину сбора приходилось продавать дачникам, чтобы купить кому-нибудь из детей тапочки или темного сатина на рубаху. Бедно, но дружно и весело жила многодетная семья железнодорожника Петрова. Василий Тимофеевич не чурался никакой сверхурочной работы в мастерских депо, помогал по хозяйству и соседям: резал кабанов, пилил дрова, копал сады, неся каждую копейку в дом. И все равно невозможно было бы свести концы с концами, если бы не умелое хозяйствование жены его Александры Панкратьевны. Сколько дети помнят ее — она все время хворала, а с 1924 года неожиданно заболела туберкулезом легких. Больная, маленькая, очень худая женщина удивительно строго и экономно вела хозяйство, твердостью характера поражая соседей. Она вязала носки, чулки, варежки, кроила фуражки, без конца шила детям ситцевые трусы, платья и рубашки. Долго копила деньги и наконец купила двух козлят и десяток курочек (теперь дети смогли получать утром по яичку и пить парное молоко), возилась в своем крошечном садике и огороде. Крыжовник, малина, овощи помогали разнообразить скудные обеды. Но за всеми этими хлопотливыми делами мать не забывала учить и воспитывать детей. — Народить-то пискунов легко, — говорила она не раз мужу, — а вырастить, сделать людьми — трудно. — Занятно, кем они станут? — Неважно кем, важно какими они будут. Почти не пришлось в детстве учиться Александре Панкратьевне. Но она умело руководила учением детей. Просматривала их тетрадки, придираясь к каждой ошибке или поправке. Большое внимание уделяла чтению, заставляла детей читать вслух или рассказывать прочитанное. Ее слово было законом в семье. Она умела терпеливо разъяснить сыновьям, как надо вести себя на улице, как разговаривать с соседской девочкой, но могла и строго наказать за непослушание или, например, за рогатки, которые ненавидела от всей души. — В людей не стреляют, малых птиц не уничтожают, все живое хочет жить, — приговаривала она. — Убивают только врагов на войне. Запомни это, сынок. Запомни. Навсегда запомни… Особенно часто попадало Саше — забияке и сорванцу. Вася, самый спокойный и послушный, и то испытывал на себе материнский гнев. Однако это случалось редко. — Не сердись, не расстраивайся, мамочка, — обнимал он мать. — Тебе же вредно волноваться. А я больше не буду. Вот увидишь… Ну, честное ленинское, не буду… Василий Тимофеевич не вмешивался, когда жена учила детей, но порой позволял себе осторожно пошутить: — Мама у нас по ошибке родилась женщиной. Ей стать бы командиром самой недисциплинированной роты — мигом навела бы порядок. — Чем глупости говорить, сходил бы с ребятами на реку. Все наловите, может, рыбы на уху. Василий Тимофеевич, больше всего на свете любивший рыбалку, обычно с восторгом вскакивал и радостно хлопал себя по макушке: — На рыбалку, ребятки! Генерал дает нам увольнительную. Ищите живей выползков и мух, а я крючки проверю. — Эй, рыбаки! — кричала им вслед Александра Панкратьевна. — Глядите у меня! Без рыбы придете — колодезной водичкой на обед угощу… Рыбалка! До мельчайших подробностей помнит Вася эти утренние часы, когда уходили они на реку. Тенистая, холодная от многочисленных ключей Лужа извивалась и петляла, огибая большую часть города. Иной раз в поисках удобного места доходили они до широкого Иванова луга, что лежал за рекой, на противоположной от вокзала стороне Малоярославца. Рыболовы усаживались в ивняке и опускали удочки в воду. Рыбы в ту пору в речке было много, и клевала она хорошо. Ведерко наполнялось. Петровы уж не так внимательно следили за поплавками, позволяли себе побродить, искупаться, полежать на песочном пляже. Позади их, по могучей Буниной горе, взбирался темный хвойный лес, в котором желтой лентой таинственно светлела старая дорога, уходившая на Боровск. А впереди на холмах открывался город. На высоком утесе белой иглой возвышался обелиск на братской могиле героев Отечественной войны 1812 года. Вокруг обелиска заросло сиренью старинное кладбище, на котором среди едва заметных холмов зарылись в землю гранитные плиты с полустершимися надписями. Василий Тимофеевич любил свой город, немного знал его пятисотлетнюю историю и нередко рассказывал сыновьям эпизоды из войны с французами. К тому же он считал, что рассказы о геройстве русских людей здесь, в родных местах, отлично воспитывают детей, показывают им благородный пример. Василий с живостью представил себе ссутулившегося на бережку отца с удилищем в руках и словно услышал его мягкий, чуть глуховатый голос. Рассказывал отец напевно, как сказочник, считая, видимо, что о старине надо только так говорить. — Да, было это, ребятки мои, осенью двенадцатого года. Не дождался Наполеон мира с русскими. Вышел он тогда из спаленной Москвы и начал отступление. Подошел вскорости к нашему городку. Солнышко, вот как сейчас, было низко и освещало Боровскую дорогу. Видите вон ее на горе. Французы как раз и двигались по этой дороге. Ну, жители, стало быть, ушли от ворога, попрятались в деревнях. Остался только махонький отрядик, который засел у реки в городище. Еще земляной вал там виднеется. Да… И вот из-за Буниной горы показались на дороге французские гренадеры. Несли награбленное в Москве добро, притомились, натурально. Мечтали хоть немножко отдохнуть в Малоярославце. Не пришлось им, однако, не пришлось. Десяток храбрецов спустились с городища и подожгли единственный мост через Лужу. Да, ребятки, так и сгорел мосток на глазах у французов. Как свечка. А речка-то наша, сказывают, в те времена была пошире да поглубже, вброд ее не перейдешь, как нынче. Ну, значит, остановились французы перед речкой, почесали затылки и начали наводить понтоны. Что это такое? Ну, мост такой дощатый, на лодках. И хоть наполнилась от осенних дождичков речка, все ж работа у них спорилась. Пройдет час, и враг будет в городе. Что тут делать? Как быть? Растерялись мужики в городище, опечалились. А среди них находился один молодой служащий городского суда по имени Савва, по фамилии Беляев… Да, да, школа у нас его именем прозывается, и бюст там стоит. Этот самый… Видит он, что саперы вот-вот наведут треклятый мост, и спрашивает товарищей своих: “Видите, ребята, плотину на городской мельнице?” “Видим”, — говорят мужики. “А гляньте, сколько воды набралось за нею?” “Порядочно водицы”, — говорят. “Что, ежели пустить эту воду на Иванов луг?” “Знатно, Савва, получилось бы. Ох, неплохо бы!” “А что, мужики, если нам сию плотину разрушить?” “Дюже хорошо вышло бы!” “Тогда, дяди, за мной, кто Россию любит!..” Такой вот был разговор у них, да… — Ну, а дальше? Дальше что было? — спрашивали мальчики. — Известно что. Посмотрел Савва Беляев на мужиков орлиным взором и бросился с ними к плотине. Кто с топором, кто с дубиной. Стали крушить перемычки, расшатывать сваи, выворачивать бревна. Силушкой бог не обидел… Очухались, знать, французы, сообразили, в чем дело. Подскочил отряд ихний, открыл стрельбу, поранил многих. И Савву в лицо ранило. Но что героям рана? От них мужики злей становятся. Под пулями успели свою работу сделать, разобрали плотину. А вода как нажмет, как заревет — всю плотину и разнесла. Помогла речка своим, да… Разрушила понтонный мост, разметала лодки. Вышла из берегов, затопила этот луг и соединилась с прудом. Пруд был вон там, где сейчас торф копают. Французы, натурально, подались назад, а Наполеон ихний сидит наверху и трясется аж от злости. Еще бы! Маленькая Лужа превратилась в море, задержала его на много часов перед городом. А за это время Кутузов и сам к Малому подоспел, стал недалече стеною. Дрались, дрались французы в городе, но не выдержали и пошли дальше по старой, ими же разоренной дороге. Во какие славные дела происходили в нашенских местах, ребятки мои. А от мельницы еще и столбы, глядите, остались… Отец замолчал. Солнце стояло высоко, и рыба больше не клевала. Чуть слышно журча, бежала черная вода. Мальчики смотрели на поблескивающие струйки и переживали рассказ отца. Они думали о героях, которые жили здесь, в их городе, возможно, гуляли по берегу этой реки более ста лет назад. Простые русские люди в солдатских шинелях и без шинелей защищали тут, в глубине России, свою землю от вражеского нашествия… Подняв загорелые лица, мальчики смотрели на строгий белый памятник, который четко выделялся на фоне безоблачного неба.3
Когда человек думает о далеком прошлом, вспоминает своё детство, то не сплошная длинная дорога видится ему, а отдельные запомнившиеся отрывки, пестрые картинки. Это и есть воспоминания, которые то скользят быстрой чередой, бесцветные и неглубокие, то приобретают окраску и объемность. Вспомнил он, как мальчиком нередко месил для матери дрожжевое тесто, ничуть не стесняясь приятелей, повисших на подоконнике и насмешливо взиравших на эту “не мужскую” работу; зато первым он получал прямо со сковородки свои любимые хрустящие пирожки с капустой. Увидел он себя на экзаменах за семилетку. В новой рубашке-ковбойке и широких брюках стоит он перед исторической картой и рассказывает экзаменационной комиссии о битве на Чудском озере, о полководце, на которого ему хотелось хоть немного походить, — об Александре Невском. — Любишь историю? — спрашивает его учительница Вера Максимовна. — Да! — не задумываясь, восклицает он. Выходит это у него так пылко и от души, что начинает улыбаться Вера Максимовна, другие члены комиссии, ребята, ожидающие своей очереди взять экзаменационный билет. Экзамены Вася сдал успешно. На выпускном вечере пел в школьном хоре и сыграл на мандолине “Светит месяц”. Первый раз проводил девочку из параллельного класса, впервые взял ее под руку. А утром был серьезный семейный разговор за завтраком. — Не лучше ли тебе, Василек, пойти на бухгалтерские курсы? — спрашивала Александра Панкратьевна, считавшая профессию бухгалтера “чистой” и хорошо оплачиваемой. — Нет, мама, не лучше, — ласково гладил он худую руку. Василий Тимофеевич хитро подмигивал дочерям. Он-то знал, что сыну до смерти хочется попасть в депо, но внешне соглашался, как обычно, с женой. — А что же лучше? — спрашивала смуглая сестра Маша. — Быть квалифицированным рабочим — вот что лучше. Рабочий класс — это силища!.. — Ну, ну! Пошел отцовские речи повторять, — замахала руками мать. — Итак, мамочка, решено. Иду в наше ФЗУ, кончаю его и к бате в депо. От своей мечты не откажусь… — И это все, сынок? — Почему все? Только начало. Поработаю, отслужу в армии, потом поступлю в техникум. А там видно будет, жизнь покажет. Сестренка Надя, лицом похожая на брата, поддержала его: — Правильно, Вася, я тоже так сделаю. Будем работать вместе с отцом в нашем депо. Василий Тимофеевич торжествовал, был в душе горд, что дети хотят последовать его примеру и стать рабочими, однако и виду не подавал и даже слегка хмурился, чтобы не огорчать жену. И Вася пошел в ФЗУ. Сначала токарное дело ему не давалось. Самую простую шайбу выточить было куда труднее, чем выпилить лобзиком из фанеры тончайший узор. Все вечера он выпиливал. И все думал, почему запарывает шайбы, портит инструмент, режет пальцы. Ходил в депо, наблюдал за работой старых токарей, расспрашивал их. И постепенно дело наладилось. Стал работать чисто, не запарывал деталей, не портил резцов, получал одни отличные оценки. — А что, ребята, выберем старостой группы Василька Петрова? — предложил кто-то на собрании. — Работает хорошо, товарищ — что надо, всякому готов помочь, в комсомол записался. — Правильно! Выберем! Парень свой!.. — кричали фэзэушники, поднимая единодушно руки. Да, славное было время! Время ученья в мастерских, жарких споров на собраниях, прогулок с девушками в городском сквере, время первых месяцев работы в локомотивном депо, где его вскоре избрали секретарем комитета комсомола. Своими успехами Василий не гордился, зато хвастался сыном Василий Тимофеевич. — Понимаешь, мать, — говорил он как-то за обедом, — Васе-то нашему… новый станок дали, самостоятельную работу доверили пацану. Шутка сказать! Видала? Иному рабочему у нас годов пять не дают нового станка, а нашему — пожалуйста! — осваивайте советскую технику, творите, Василий Васильевич… — Ну ладно, пап, ну, хватит, — смущался Василий. Это наивное отцовское хвастовство он запомнил еще потому, что в тот день принес вечером домой первую получку и целиком отдал матери. Совсем старенькой и чувствительной стала Александра Панкратьевна. Пересчитывая красненькие тридцатки, заплакала вдруг она и обняла взрослеющего сына за широкие плечи. — Ну, ну, мам, зачем так горько плакать? — шутливо сердился он. — Видишь, не меньше бухгалтера денег заработал… — Вырос… Вырос, Василек мой… — всхлипывала мать. По этому случаю Василий Тимофеевич сбегал за четвертинкой, которую сам всю и выпил, так как Вася торопился в городскую рощу, где ждала его тоненькая темноволосая девчонка. …Воспоминания бежали чередой, но иногда внезапно прерывались или уходили в далекое детство. Как же было не вспомнить поездок в Москву. Два — три раза в год вся их большая семья непременно бывала там. Это был их семейный праздник. — Мы живем недалече от столицы, — говорил накануне поездки Василий Тимофеевич, — и должны держать с нею полный контакт. Что это за жизнь — без Москвы. Побываешь там, поглядишь на Кремль, на Мавзолей — и вроде ближе, родней становится вся матушка-Россия. Великое это слово — Москва! На всю жизнь в груди… Ничего не знал о педагогике старый железнодорожник, не ведал о воспитательных приемах и средствах. Но безошибочно воспитывал в своих детях самые высокие чувства патриотизма. Все Петровы, и старые, и молодые, с нарастающим нетерпением ожидали этот заветный день. Наконец он наступал, почему-то всегда теплый, удивительно солнечный. Поднимались на рассвете, быстро пили чай, запирали дом и торопились на вокзал. Дети с интересом, а жена с гордостью наблюдали за Василием Тимофеевичем. Ходил он по перрону важный, торжественный. За руку здоровался со знакомыми, приподнимал форменную фуражку и опять ходил, заложив руки за спину и хозяйским глазом окидывая пути, стрелки, красноглазые семафоры. Поезд прибывал в Москву в 8 часов утра. От Киевского вокзала старшие Петровы не спеша вели детвору но Бородинскому мосту. Недолго стояли, глядя на утреннюю Москву-реку. Потом выходили на Смоленскую площадь. Дребезжащий трамвайчик без прицепа весело бежал вдоль Новинского бульвара к площади Восстания, которую отец по старинке называл Кудринкой. — Папа, а почему Кудринка называется теперь площадью Восстания? — спросила как-то дочь Надя. — Да ведь это — Красная Пресня. — Ну и что же, что Красная Пресня? — Как что? Как что? — рассердился отец. — Здесь же было восстание московских рабочих в 1905 году!.. До последнего держались тут рабочие. Полегло их много на баррикадах. Вот в честь восстания и названа так Кудринка. Придет время — памятники здесь поставят… Александра Панкратьевна дергала мужа за рукав, и он умолкал. Сойдя с трамвая, они пешочком отправлялись в Зоологический сад… Много мест в Москве знал и любил Василий: площадь Свердлова со сквериком перед Большим театром, Центральный парк культуры и отдыха с его веселыми аттракционами. Большой Каменный мост и, конечно, Красную площадь с Мавзолеем и серебристо-голубыми елями у кремлевской стены. Но, попадая в столицу — один ли, с сестрами или всей семьей, в детские годы или уже юношей, — он всякий раз, хотя бы на часок, заглядывал в любимый Зоопарк. Дети обязательно шли к знаменитой львице Кинули, которая дружила с маленькой собачкой, любовались гордыми черными лебедями и павлинами. Перед тем, как пускаться в обратный путь, Василий Тимофеевич многозначительно кашлял в кулак и смотрел на жену ожидающим взглядом. Семейный заговор! Смешным он кажется в глазах взрослых. Но не в глазах детей. Они внимательно следили за молчаливыми намеками отца и выражением лица матери. Александра Панкратьевна, по обычаю, сперва не понимала покашливания мужа, потом, снисходительно улыбнувшись, выдавала ему деньги на покупку бубликов и вафельных трубочек с кремом для ребят. Немного медлила и, снова усмехаясь, добавляла мужу на пиво. Василий Тимофеевич веселел и мчался с детьми в кафе. Поезд долго тащился среди подмосковных лесов. В вагоне было жарко, в окна залетала копоть. Петровы дружно клевали носами и никак не могли дождаться, когда покажется длинное здание Малоярославецкого депо. Усталые и довольные приходили домой, открывали настежь запертые окна и садились пить чай. — Ну, насытились мы нашей красавицей Москвой всласть, — говорил Василий Тимофеевич, — хороша матушка. Правда, ребятки? — Правда, папа. Верно… — отвечали дети.4
Шла осень 1938 года. Из военкомата пришла повестка: Василий Петров призывался на действительную службу в Красную Армию. Вася с нетерпением ждал этого дня, мечтал о военной службе. Он прочел множество книг о гражданской войне, не пропустил ни одной военной кинокартины и мечтал стать пограничником. Внутренне он как бы уже подготовился к службе в Красной Армии. Последний вечер в родном доме пролетел быстро. Приходили соседские ребята, товарищи детских игр, комсомольцы из депо, дарили на память записные книжки, значки и разную мелочь. Александра Панкратьевна угощала всех капустным пирогом и не спускала глаз с сына. — Спел бы ты что-нибудь, Василек, — попросила она. — Правда, Вась! — подхватили гости. — “Метелицу” заветную свою или “Москву майскую”. Спой на прощание… С детства Василий любил петь, всегда участвовал в школьном хоре, выступал и один перед ребятами. Подыгрывал себе на балалайке или мандолине. Тенорок у него был несильный, но приятный, музыкальный, слушали его с удовольствием. — А что? Спою. Возьму и спою! — смелый от выпитого вина, воскликнул он. — Где мой инструмент? Никому он не показался смешным, когда, одернув модную сатиновую косоворотку, вышел на середину комнаты и стал в позу. Незаметно приподнял рукав, чтобы все видели недавно купленные наручные часы, подчеркнуто красивым жестом занес руку над мандолиной. Гости затихли. Сестры, обнявшись, влюбленными глазами смотрели на брата. Звякнули тонкими голосками струны. Круглое Васино лицо стало задумчивым, большие светлые глаза посерьезнели. Негромко он запел:5
Тихо было в комнатах двухэтажной бревенчатой казармы, где по-солдатски крепко спали свободные от дежурства пограничники. Только легкий храп да спокойное дыхание спящих слышалось в темных спальнях. Уже перед рассветом забылся легким сном Василий Петров. Политрук Колодезный сдавал экзамены во Львове, и его молодой заместитель Петров наравне с начальником заставы чувствовал возросшую ответственность. Он хотел не спать до рассвета, поэтому и отдался воспоминаниям детства, но незаметно для себя все же заснул. Когда стало совсем светло, неясное беспокойство, какой-то необъяснимый шум заставили его очнуться и открыть глаза. Койки, белые подушки, треугольнички салфеток на тумбочках, широкие рамы портретов на стенах, небольшой столик с графином — все как обычно, привычно для глаз. “Надо одеться”, — подумал Василий, сбрасывая простыню. Одеваясь, он прислушивался, но, кроме шелеста гимнастерки и скрипа ремня, ничего не слышал. Но вот за рекой вдруг загудели моторы. Сначала слабо, потом все громче, назойливей. Постепенно это далекое гудение покрыл медленно нараставший грозный гул. Он рос, заполнял все вокруг, переходя в тягучий монотонный рев. “Самолеты идут! — с забившимся сердцем определил Василий, застегивая последние пуговицы на гимнастерке. — Множество самолетов… Провокация!..” — Тревога! — крикнул он не совсем уверенно, все еще не веря в провокацию и в душе надеясь, что этот рев и шум пройдут мимо, вдоль границы и не затронут ни его, ни белой мирной комнаты. В тот момент, когда ревущие в небе бомбардировщики прошли над рекой, в окна казармы ударила мерцающая вспышка света и невдалеке раздался мощный залп. Вслед за ним, сотрясая землю, вблизи и вдали загрохотали взрывы. С жалобным звоном посыпались стекла, сорвались со стен тяжелые рамы, рухнули с потолка куски штукатурки, И тотчас за окном пронзительно и тревожно запела труба. — Тревога! Тревога! — громко закричал Петров. — Быстро одеваться!.. Будто налетевшим шквалом сдуло бойцов с коек. — Застава, в ружье! — раскатисто прокричал внизу начальник погранзаставы лейтенант Репенко. Он тоже не спал в эту ночь. Его заместитель вместе с политруком Колодезным был во Львове, а он, предупрежденный начальником одной из соседних застав, куда позвонил майор Бычковский, всю ночь просидел за столом, ощущая приближавшуюся опасность. Ему хотелось что-то предпринять, поднять бойцов, расставить их вдоль своего участка границы, выдвинуть к самой реке пулеметные гнезда. Но он помнил строгий приказ: не поддаваться на провокации, и поэтому, кроме посылки дополнительных нарядов, ничего не мог предпринять. Обошел спальни, проверил посты, а потом сидел и разбирал деловые бумаги. Когда на западе прерывисто заревели моторы, он быстро сложил документы в сейф и сбежал вниз. В это время и ударили за рекой пушки. В разбитые окна казармы глядело светлое утреннее небо. Комнаты были наполнены пылью от обвалившейся штукатурки. Оставшиеся кое-где в рамах обломки стекол звенели и дрожали. Петров и несколько бойцов подбежали к окнам и на секунду оцепенели, потрясенные увиденным. В туманной мгле польского Забужья сверкали сотни ярких вспышек: то германские батареи, подтянутые ночью из тыла, вели огонь по приграничной советской зоне. В сером небе лопались и медленно падали вниз желтые и красные звезды сигнальных ракет. Воздух содрогался от взрывов авиационных бомб, тяжелых снарядов и мин. Вокруг казармы взлетали черные фонтаны земли. От прямых попаданий разрушились подсобные помещения заставы, загорелась конюшня, где высокими голосами ржали лошади. Вырвались из голубятни и в ужасе разлетелись белые голуби, которых любовно разводил Петров. Позади заставы, где лежало разделенное на хутора село Цуцнев, справа и слева, где находились соседние заставы в селах Выгаданка и Михале, над старинным городком Устилугом и еще дальше на север и на юг — над всей пограничной зоной гремело и грохотало. На мгновение Василию Петрову стало страшно. Прежние учения, крупные маневры да и бои при освобождении Западной Белоруссии, в которых ему приходилось участвовать, казались игрушечными по сравнению с тем, что творилось сейчас, в первые минуты фашистского нападения на советские границы. Да, это было мощное, заранее подготовленное, массовое нападение, а не одиночная провокация, о чем сначала подумал Петров. Смелый пулеметчик, уже побывавший в кровопролитных боях, обстрелянный и однажды раненный, он был ошеломлен и подавлен неожиданностью, силой и размахом вражеского налета. — Товарищ замполит! Что же это такое? Что это?.. — раздался хриплый голос за его спиной. Этот одинокий голос, в котором было столько страха, недоумения, гнева и отчаяния, больно ударил в сердце и привел в себя застывшего у окна молодого командира с четырьмя треугольниками на зеленых петлицах и красной звездой на рукаве гимнастерки. — Война это! Война, товарищи!.. — громко ответил Василий, чувствуя, как от этого ужасного слова “война” и от привычного и дорогого слова “товарищи” он мужает и собирается с мыслями. — Будем драться с подлыми нарушителями границы. А теперь — вниз! Расхватав винтовки, бойцы через люк в полу соскользнули по столбу со второго этажа в нижний коридор. Лейтенант Репенко с потемневшим лицом и суровыми глазами, но, как обычно, спокойный и подтянутый, резким голосом выкрикивал команды: — К бою готовься! Сержант Козлов, занять со своей группой оборону в левом блокгаузе! Замполитрука Петров! Назначаетесь старшим в правом! Сержант Скорлупкин, отправляйтесь с пулеметом на правый фланг внешнего кольца обороны! Наблюдателям — разведать обстановку на берегу! Открыть люки в подземелье и пройти всем в блокгаузы!.. Четко отданные команды подчеркнуто спокойного лейтенанта сделали свое дело: пограничники ободрились и быстро, без паники стали выполнять распоряжения командира. Сейф с документами, патронные ящики, оружие, медикаменты были спущены в подземелье, откуда шли скрытые ходы в блокгаузы — вырытые в земле глубокие долговременные укрытия, приспособленные к круговой обороне. — За мной, ребята! — крикнул сержант Козлов и повел через темное подземелье свою группу в выдвинутое к Бугу укрытие. Деловито расставлял людей у бойниц Василий Петров. — Смотреть в оба! — говорил он. — Стрелять по каждому, кто появится на берегу. Между блокгаузами были вырыты ходы сообщения и узкие траншеи, в которых засели стрелки. Они напряженно смотрели в одну сторону — на запад. Там, за невидимым отсюда Бугом, в тумане вспыхивали точки огней, беспрерывно грохотали орудийные залпы. Свистели в воздухе пули, с тяжелым воем и скрежетом проносились мины и снаряды. Многие из них взрывались в расположении заставы, оставляя глубокие воронки, превращая аккуратные домики в дымящиеся развалины. Вот в полуразрушенной казарме, словно крадущийся вор, пробежал красный язык пламени, потом он вырвался наружу и, уже не таясь, стал жадно пожирать все подряд. Закусили губы, сморщились от душевной боли люди, когда увидели, что их дом, их чистые спальни, светлый коридор, комната отдыха — все скрылось в огне и дыму. А неподалеку продолжали подниматься тучи бурой пыли, и тогда от взрывов земля тряслась и вздрагивала. Огромные, с рваными краями воронки появлялись там, где недавно были цветочные грядки, клумбы, усыпанные песком дорожки. Прильнувшему к бойнице Петрову казалось, что это горит, покрывается ранами и дергается от боли близкий, родной человек, насмерть пораженный безжалостными ударами. К запыленному небу всюду вздымались желтые столбы песка. Вот чуть приподнялась над землей молодая кудрявая березка, под которую угодил снаряд. Как птица крыльями, взмахнула она зелеными ветвями и опрокинулась на камни. Василий никогда прежде не видел, как умирают вырванные с корнем деревья, и при виде этого застонал, как от острого укола в грудь, от жгучего гнева. Он даже не замечал, как потрескавшиеся его губы повторяли какие-то непонятные, полные жалости и злобы слова: — Бедная, бедная… Изверги… Ну, берегитесь, берегитесь… В блокгауз вбежал лейтенант Репенко. Бойцы повернулись к нему, пропустив через бойницы в укрытие немного света, и поразились его виду. Куда делась его безукоризненная аккуратность в одежде, служившая всегда примером для других? Китель, разодранный на спине, видимо, пролетевшим осколком, был весь в грязи, сапоги — в желтой комкастой глине. Обычно гладко причесанные, а теперь спутанные и пыльные волосы прилипли к мокрому исцарапанному лбу. Сначала Петрову показалось, что начальник заставы страшно перепуган и растерян, но он увидел его глаза. Всегда светло-голубые и спокойные, смотревшие благожелательно, они теперь неузнаваемо изменились. Посинели, потемнели, загорелись гневом, нет, не гневом, а бешенством, как при отчаянной схватке с диким зверем. — Ну, как тут? Что тут?.. — крикнул он, переводя дыхание и вытирая лоб грязным рукавом. — Все в порядке, товарищ лейтенант! Бойцы к бою готовы! — выпрямился перед ним заместитель политрука, потом нагнулся и полным тревоги голосом спросил: — Что там, впереди-то? — Эх, Вася, друг… — прошептал Репенко, прикрыв на мгновение глаза ладонью. — Был на берегу… Плохи дела. Мало нас… Фашисты атакуют Михалевскую заставу и Выгаданку. На юге через реку пошли танки. А у нас одни пулеметы… Петрову захотелось сказать лейтенанту что-то значительное, нужное и ему, и всем этим людям, притихшим в полутемном блокгаузе, захотелось и самому услышать свой голос, свои слова, серьезные и весомые. — Ничего! И с пулеметами можно держаться. Будем держаться… По-моему, надо выдвинуться на берег Буга, товарищ лейтенант. — Да! Там брод, и надо его взять на мушку… — Именно, товарищ лейтенант! После артподготовки немцы полезут на нас. А мы их встретим хорошенько… И обоим стало легче оттого, что они обсуждали условия боя, ближайшие задачи — словом, начали заниматься будничным военным делом, к какому уж не один год готовились. — Вот об этом я и пришел тебе сказать, — вздохнул лейтенант. — Наблюдатели сообщают, что у леска, на сопредельной стороне, фашистская пехота готовится к переправе. Там по нашему плану должен быть расчет политрука Колодезного. Но тот во Львове… — Понимаю, товарищ лейтенант. — Бери свой пулеметный расчет и занимай оборону на мысу, у брода. — Есть занять оборону на мысу! Не пустим немцев через брод! — воскликнул Петров. — Прощайте, товарищ лейтенант! Не подведу! В случае чего… — Он на секунду запнулся: — В случае чего, напишите моим в Малоярославец… — Отставить такие разговоры, товарищ замполитрука! — строго прервал его Репенко, пронзительно взглянув в лицо Василию. — Сам… сам напишешь домой после боя. Ну, до свидания, друг! Держись как можно дольше. Бей их беспощадно! Мы поддержим с фланга… Понимая, какое трудное, крайне опасное поручение он дает своему лучшему пулеметчику, начальник погранзаставы крепко пожал ему руку и пристально всмотрелся в круглое, совсем еще мальчишеское лицо, в котором было так много жизни, нерастраченной нежности и доброты. Только небольшие, серые, с легким прищуром глаза глядели по-взрослому прямо, строго и горели гневным огнем. — Бывайте здоровы, товарищ лейтенант. Не подведу! — еще раз повторил заместитель политрука и, лихо повернувшись, позвал звонким голосом пулеметчиков своего расчета: — Маршевой! Буйниченко! Термос с водой, патронов побольше и айда за мной! Лейтенант Репенко пригнулся к бойнице и стал наблюдать за пулеметчиками. Сначала по ходу сообщения, потом по пыльной, приникшей к земле сухой траве, они волокли станковый пулемет к нужному месту. Прячась в кустарнике, пробиваясь сквозь колючий бурьян, трое людей поднимались все выше и выше на зеленый прибужский холм. Река делала крутой изгиб, выгибаясь лукой, и здесь вдавался в эту излучину высокий обрывистый мыс. С этого холма, как бы грудью нависшего с двадцатиметровой высоты над Бугом, можно было увидеть уходившие к горизонту поля, бедные деревеньки, какой-то польский городок. Видны были уже колонны вражеской пехоты и танков, медленно ползущие вдали, грузовики, подводы и артиллерийские батареи, которые продолжали вести огонь по нашей стороне. Отсюда на многие сотни метров отлично просматривалась тихая, немного обмелевшая за лето не особенно широкая река. Наконец Петров с товарищами добрались до самой высокой точки мыса. Здесь уже давно был вырыт довольно глубокий и удобный окоп, вокруг заросли бурьяном овражки и ямы, оставшиеся тут еще со времен первой мировой войны. — Прибыли! — крикнул Петров, спрыгивая в окоп. — Здесь и будет наша первая огневая позиция. А ну-ка, друзья, отройте еще пару окопчиков вон там, в стороне. — Есть, товарищ замполитрука, отрыть два окопа! — отозвался Буйниченко, помогая установить на бруствере пулемет. С лопатками в руках бойцы расползлись в разные стороны, а Василий стал хозяйским глазом осматривать весь мыс. “Почему мы не построили здесь настоящих укреплений? — подумал он. — Такое выгодное место. В четырнадцатом году тут были траншеи. Вон их сколько кругом. Да, плохо мы готовились встретить врага на границе…” Может быть, и не совсем так думал пограничник, лежа в окопчике на прибужском мысу. Но скорей всего, именно такие мысли должны были появиться в голове любого человека, который оказался бы здесь в первые полчаса нападения гитлеровских войск на нашу страну. Сердцу истинного патриота всегда бесконечно близки и до боли дороги и счастливые минуты в жизни Отечества, и горькие моменты в его судьбе. И поразительней всего, что человек, гражданин, большую-то часть происходивших ошибок отнесет на свой счет, станет винить прежде всего себя, своих друзей, близких и прямо скажет самому себе: мы виноваты, мы недоглядели, мы не научились… Осмотревшись, Василий устроил поудобней свой пулемет и взялся за рукоятки. Розовым заревом пылала заря на востоке. На фоне ее ясно выделялись зловещие столбы дыма и кроваво-красные языки пламени: то горели соломенные крыши домов в Цуцневе. А в безоблачной синеве на разные голоса выли, свистели, шипели тяжелые снаряды. В стороне, километрах в двух от мыса, стояли немецкие батареи. Из длинных орудийных стволов то и дело вылетали снопы пламени. Клочья бесцветного тумана, будто живые, плавали между кустами и приникали к самой воде, словно спасаясь от гибели. И вот тут, совсем близко, Петров увидел фашистов. Танков и автомашин на этом участке не было, они пошли севернее. Сотни гитлеровских солдат в приплюснутых касках цепями выбегали справа из леса и тащили за собой вспухшие тела надувных резиновых лодок. Они уже пытались переправиться на левом фланге, но река там была шире, глубже, берег крут с обеих сторон да и станковый пулемет сержанта Скорлупкина серьезно мешал им. Теперь они сосредоточивались здесь, почти напротив мыса, где было наиболее удобно переправиться. Дорога спускалась прямо к воде, к обмелевшему от июньской жары броду. — Бей по ним! Чего ждать? — нетерпеливо воскликнул подползший Маршевой. — Зачем торопиться, успеем, — хладнокровно ответил замполитрука. — Пусть усядутся в лодки, тогда и начнем. И немцев побьем, и лодки продырявим. Прижавшись грудью к еще прохладной земле, он продолжал исподлобья следить за врагом. Маршевой с уважением смотрел на своего командира. “Ишь ты!.. Ничего не боится парень, — думал он. — Умеет выжидать. Сразу видать, что уже воевал. А мне чего-то боязно, аж озноб пробирает. Что мы можем сделать с такой силищей?” Столпившиеся на берегу солдаты стали прыгать в лодки, которые грузно оседали под их тяжестью. И в этот момент задрожал в руках Василия пулемет. В общем гуле и грохоте почти не было слышно его мерного та-та-та-та. Подававшему ленту Маршевому было ясно, что пулеметчик стрелял с удивительной точностью. “Еще бы! — одобрительно посмотрел он на Петрова. — Наш заместитель политрука знает свое дело, не гляди, что молод. На всех учениях отличался. Первоклассный стрелок…” Ошеломленные гитлеровцы валились в воду или с воплями выскакивали на отлогий берег и мчались в соседний лесок. Тупорылые лодки, пробитые пулями, медленно погружались на дно. Вскоре из-за леса забили минометы, и над мысом засвистели первые мины. Фонтаны земли приближались к окопу пулеметчиков. — Надо переходить на другое место! — крикнул Буйниченко. — А то накроют, гады!.. — Переходим, — согласился Петров. Он со своим напарником перетащил “максим” в другой окоп, отрытый Маршевым. — Хорошо угостили фашистов! — радовался тот. — Десятка два совсем не встанут, да столько же, поди, покалечено. Боец повеселел. Сначала ему казалось, что невозможно остановить полчища врагов, переползающих через границу, но теперь, увидев работу Петрова, он понял, что даже с одним пулеметом можно долго продержаться и не отступить. Он энергично заработал лопаткой, удлиняя окоп. Потом обтер вспотевшее смуглое лицо рукой, приготовился немного отдохнуть и неожиданно услышал звук приближавшейся мины. Странное состояние переживает человек в минуту смертельной опасности, когда он, например, падает откуда-нибудь или когда летит на него невидимая, остервенело воющая мина. Что успел вспомнить, о чем подумать за эти секунды пограничник Маршевой? Вероятно, очень многое и важное. А может, вспомнил только о том, что в горящей сейчас казарме превратились в пепел письма из дома, что в далеком селе Бубенцове стоит старая отцовская хата с подслеповатыми окнами, возле которой он хотел по возвращении из армии построить новый красивый дом… Мина шлепнулась совсем рядом, разорвалась и с силой бросила вверх кучу земли. Взвизгнули осколки. От удара в бок тихо охнул и повалился на дно окопа Маршевой. С ругательством схватился за голень Буйниченко. Василий Петров остался невредим. Стряхнув со спины комки глины, он повернулся к товарищам. У Петра Буйниченко была задета мякоть ноги. Маршевой с серым перекосившимся лицом стонал от неглубокой рваной раны в боку. Кровавое пятно быстро росло на его гимнастерке. “Вот и кровь, первая наша кровь пролилась… — с тоской подумал Василии, поддерживая Маршевого и поспешно разрывая перевязочный пакет. — Заплатят они за эту кровь, за бомбежку нашей земли. Заплатят…” — А ты сильно ранен? — спросил он у Буйниченко. — Царапина, нестрашно, — хмуро ответил тот, не обращая внимания на свою ногу и приподнимая гимнастерку у Маршевого. — Вот он-то дюжей пострадал. Дайте мне бинт… Вам надо быть у пулемета. — Да, да! Опять шевелятся в кустах — надо быть настороже. Перебинтуйтесь и пробирайтесь на заставу. А, черт! Полезли… Василий нажал на гашетку и прошил длинной очередью поднявшихся было фашистов. — Нехорошо, товарищ замполитрука… — бормотал Буйниченко, перевязывая побелевшего от боли и потери крови товарища. — Как же вы один тут будете? Неладно это… Петров, не оборачиваясь, сердито крикнул: — Приказываю немедленно уходить! Вы теперь мне не подмога!.. — Как же не подмога? — продолжал ворчать Буйниченко. — А ежели ранят, аль “максим” забарахлит? Нет, как хотите, а вернусь. Вот отведу Маршевого и вернусь сюда… — Ладно, ладно, возвращайся, Петр. Идите, други, идите. Только осторожненько, маскируйтесь лучше. Привет передайте на заставе. Скажите, что отсюда не уйду, буду держаться до конца… И он снова дал очередь по врагу. Долгим печальным взглядом посмотрел Петр Буйниченко на лежавшего за пулеметом Василия, такого ему сейчас близкого и родного, как никогда раньше. Тоскливо до боли ему стало. Взглянул на себя: штанина и ботинок — в крови, нога одеревенела. Он лег на землю, взвалил на спину тихо стонущего Маршевого и пополз вниз, в густой колючий кустарник. Василий не раз оглядывался. Невдалеке в кустарнике иногда мелькала забинтованная спина Маршевого, но вскоре и ее не стало видно.6
Пограничник остался один на высоком обрывистом берегу, под огромным шатром голубого неба, по которому проплывали черные клубы дыма. Совсем, совсем один. Лицом к лицу с врагом. Поднял Василий голову над глинистым бруствером, посмотрел по сторонам, увидел зеленый извилистый берег, темную реку, широкую панораму Забужья. На мгновение ему показалось, что он бесконечно одинок, что вообще один, совершенно один защищает границу своей страны. И, конечно, эта мысль и это чувство не могли обрадовать или воодушевить самого смелого человека, ибо нет ничего страшнее одиночества и тем более одиночества в борьбе… Но среди гула удалявшейся канонады услышал он дробные пулеметные очереди с заставы, частую винтовочную стрельбу справа и слева. Вдали, возле Устилуга, шел горячий бой, сражалась Выгаданка, а совсем недалеко, на левом фланге, уверенно стучал пулемет бесстрашного сержанта Скорлупкина. Потом вдоль границы пролетел самолет, и Петров сразу признал в нем своего, звездокрылого. Тоска, поднявшаяся было со дна души, исчезла. Пограничник снова почувствовал силу и бодрость оттого, что не одинок он в этот страшный утренний час, что рядом дерутся с врагом его друзья с заставы, пограничники с соседних участков. И от ощущения близости других людей так тепло стало у него на душе, что захотелось крикнуть какие-то сердечные слова или просто запеть… Скажут: не может этого быть, не станет человек петь в минуту страшной опасности, накануне, возможно, своей гибели! Неверно это. В самых трудных минутах боя есть секунды передышки, когда все чувствачеловека сосредоточиваются на самом дорогом и любимом, и тогда это нахлынувшее чувство любви хочется как-то излить. И Василий запел. Тихо, возможно не слыша своего голоса от артиллерийского гула, не зная, что поет, но он запел. Ту песню, которую пел дома:7
В нескольких километрах севернее Цуцнева, на берегу Буга, раскинулась небольшая деревенька Выгаданка, в которой находилась 6-я пограничная застава, обычно называемая Выгаданкой. Когда в тумане загрохотали фашистские орудия и первые снаряды разорвались вблизи, начальник заставы старший лейтенант Неезжайло, как и другие командиры, повел своих бойцов в укрытия. Сперва между тремя блокгаузами связь поддерживалась по глубоким ходам сообщения. Но от прямых попаданий разворотило центральный блокгауз, рухнули здания заставы, и все ходы наглухо завалило. Остались две изолированные друг от друга огневые точки внутреннего пояса обороны. Две маленькие, хорошо укрепленные крепости, которые, как ежи иголками, ощетинились огненными струями пулеметных очередей. В одном из подземных укрытий, расположенном на возвышенности, ближе к 7-й заставе лейтенанта Репенко, среди других пограничников находился старшина Михаил Каретников. Он не мог спокойно оставаться на одном месте. Приникал к одной бойнице, к другой, стрелял из третьей, подбегал к двери и выглядывал наружу. Ничего не было видно: кругом рвались мины и снаряды, вздымая землю и тучи пыли, дым закрывал небо. — Ребята, берегите патроны, чего зря в пустоту палить! — старался он перекричать грохот взрывов. — Кончится их огонь, полезут к нам, тогда и бей фашистскую нечисть в хвост и в гриву!.. Воздух и свет могли проникать в блокгауз только через небольшие бойницы. Иногда приоткрывалась покосившаяся дверь, и сюда вносили тяжело раненных. Некоторые со стонами протискивались сами, приткнувшись в темных углах, затихали, понимая, что товарищам сейчас не до них. Легкораненые, кое-как перевязавшись, подползали с винтовками к бойницам и двери и тоже принимали участие в бою. — Да лежите вы, братцы, без вас управимся! — уговаривал их Каретников. За всех ответил немолодой окровавленный пограничник: — Кровушка еще не вся вытекла… Будем сражаться… И не гони нас, старшина, все равно умрем… Другой добавил клокочущим голосом: — И умрем как герои. Когда-нибудь про нас скажут: они первыми приняли удар Гитлера… Посторонись-ка, старшина!.. “Какие люди, какие люди, — поражался Каретников. — Я и не знал, что меня окружают такие…” Под прикрытием артиллерийского огня гитлеровцы неоднократно пытались приблизиться к блокгаузам, но всякий раз сплошная полоса огня вставала на их пути непреодолимой преградой. Атака захлебывалась. Противник, неся потери, отступал. Снова по укрытиям били минометы, снова гремели взрывы и содрогалась земля. Пролетели два бомбардировщика, сбросили бомбы, но не попали в блокгаузы. Потом вдруг стало тихо. Вдали рвались снаряды, слышались винтовочные залпы, гул танков, а тут вдруг наступила тишина. И как бы подчеркивая ее, где-то в деревне раздался громкий женский крик. — Что-то хотят предпринять, гады! — сказал один боец, жадно затягиваясь папироской. — Психическую атаку задумали, — отозвался другой. — Как белые в “Чапаеве”. Каретников присвистнул: — Пусть думают. Сломаем их думки. В это время невдалеке раздались два не особенно сильных взрыва, и там поднялись клубы молочно-белого дыма. — Вот новость… — удивился раненный в руку пограничник. Послышались тревожные голоса: — Что за дым? Не газ ли? — Подготовить противогазы! — Да не газ это — дым простой… — Хлопцы, а что будем делать, если дым к нам попрет? На последний вопрос никто не ответил. Опять стало совсем тихо. Кто-то хрипло дышал в углу. Привалившись к приятно прохладной стенке, Михаил Каретников обострившимся слухом различал приглушенную винтовочную стрельбу со стороны 7-й заставы. Но вот, в минуту затишья там, уловил он ровные пулеметные строчки. Как же их не узнать? Это же “почерк” Василия Петрова! Артистическая работа — ничего не скажешь… В первые минуты нападения на границу, когда телефонная связь между заставами еще не была прервана, лейтенант Репенко сообщил сюда, что направляет к броду, на мыс, расчет замполита Петрова. “Да, да, конечно, это Василь бьется на мысу!.. — взволнованно думал Каретников. — Вот молодчина! Поди, сотню фашистов уложил. Уж он не промахнется… Эх, как бы дать ему знать о себе? Слышу, мол, тебя, помню… Придумал! Верно, придумал!..” — Дай-ка я пальну! — подскочил он к соседу-пулеметчику. — Пальни, — посторонился тот. Михаил приладился к пулемету. Подождал минуту, потом, не целясь, дал две нескладные прерывистые очереди прямо в белое облако дыма. Друг часто ругал его за эту неритмичность, за “сумасшедшие” строчки, и теперь если услышит, то должен обязательно узнать их. Тут до его слуха еле слышно донеслась издалека ответная, удивительно четкая строчка Васиного станкового пулемета. — Узнал! Вспомнил! Понял!.. — Каретников громко, радостно засмеялся. — Кто узнал? О ком ты? — удивился пулеметчик. — Понимаешь?.. Отозвался на мою стрельбу дружок с Цуцневской заставы! Замполитрука Петров Василь! Снайпер… Артист… Засел он у излучины Буга, понимаешь… Ах, дружище ты мой сероглазый! Как бы хотелось перебраться на твой холмик, чтобы рядом драться с врагами!.. После нескольких безуспешных попыток прорвать оборону пограничников, гитлеровцы начали забрасывать блокгаузы дымовыми шашками, стремясь выкурить их защитников. Теперь шашки лопались совсем рядом. Едкий дым струйками стал проникать в бойницы. Застонали, закашляли бойцы. — Тряпками, гимнастерками заткнуть все отверстия! — скомандовал Каретников и первым сдернул с себя гимнастерку. В блокгаузе стало темно, точно внезапно наступила душная беззвездная ночь. Еще тяжелее запахло кровью. В углу умирал политрук заставы Ващеев, у которого по самое плечо оторвало руку. Еле слышным голосом он невнятно произнес: — Слюду… От моей планшетной… Через нее можно… — И он, протяжно застонав, впал в забытье, не прибавив слово “смотреть”. Но все его поняли. Кто-то в темноте нащупал сумку политрука и с хрустом вырвал пленку. Теперь через небольшое отверстие, защищенное прозрачной слюдой, можно было вести наблюдение. Когда дым слегка рассеялся, пограничники заметили на нашем берегу неясные фигуры наступающих гитлеровцев, которые пытались обойти укрытия. — Открыть бойницы! Пулеметы к бою! Огонь! — тонким голосом закричал Михаил Каретников. Вмиг пулеметы и винтовки высунулись из бойниц и с ожесточением застрочили в разные стороны. Тени на берегу заметались, послышались крики, проклятия. Враг вынужден был снова убраться за реку. Пулеметы послушно умолкли. Возбужденные стремительным боем и победой, пограничники радостно переговаривались: — Здорово трахнули мы… — Психическая атака не вышла! — Я метил в тех, кто повыше… — Отбились! Ей-богу, отбились!.. Опять на этом участке наступила сравнительная тишина. Не надевая гимнастерки, старшина опустился на патронный ящик и прикрыл слезившиеся от дыма глаза. Он снова думал о Васе и вспоминал их крепкую четырехлетнюю дружбу, начавшуюся в Ленинградской школе командиров. Солдатская дружба! Много хороших слов сказано о ней. Не сразу увидишь ее, не скоро распознаешь. Она скрыта от посторонних глаз, она, пожалуй, начисто лишена внешних признаков. Прикрывается порой суровым или требовательным взглядом, равнодушным словом, а то и острой насмешкой. В ней нет объятий, мелочной ревности, все в ней предельно просто и ясно. Но огромная теплота и верность, готовность в любое время подставить плечо и сердечная забота глубоко скрыты в душе. Бескорыстная солдатская дружба — одно из самых прекрасных проявлений человеческой доброй души, и нет, наверно, чище и святее чувства на земле… Кто знает, отчего катились слезы по смуглому лицу бойца, но он не замечал их и в эти короткие минуты передышки думал лишь о друге и мысленно видел перед собой его круглое добродушное лицо, ласковые серые глаза, которые нередко зажигались решимостью и гневом… С молниеносной быстротой проносились перед ним обрывки воспоминаний. Впервые увидались в сырой холодный ленинградский день, была в спальне у них одна тумбочка на двоих, рядом спали, играли в одной волейбольной команде… Потом граница, освобождение западных областей — всегда были вместе. А потом служили в соседних заставах, но видались часто в Цуцневе. О чем же говорили вчера, нет, позавчера? О чем? Ах, да, о родине, вернее, о родной стороне… Грустил Василь, мечтал поскорей домой воротиться. Поехали бы вместе в Малоярославец. Ведь как братья стали они… Сейчас Василий на мысу сражается больше трех часов. Хороший, труднодоступный мыс. Теперь наверняка будет называться мысом Петрова… Оглушительный взрыв, потрясший землю, оборвал думы Михаила Каретникова. — Бомбы! Фугаски бросают! — закричал кто-то пронзительным голосом. В блокгаузе без ран и контузий осталось всего семь человек, и все они были готовы к бою. — Примем последний бой, братцы! — глухо сказал один из них. — Ух и зол я! В горло готов вцепиться этим. — Да, какая жизнь вчера была… — Вчера — жизнь, сегодня — смерть… — Ничего, нас много, всех не перебьешь, фашист проклятый! — Братцы! Тол! Тол рвут!.. Действительно, не сумев в открытую пробиться к блокгаузам, немцы скрытно подвели к ним неглубокие траншеи и взорвали возле соседнего блокгауза большой заряд тола. Снова защелкали винтовки, залаяли пулеметы. Застава осталась жива, она не сдавалась, не уходила. От семнадцати пулевых ранений скончался в окопе начальник заставы Неезжайло, перестал дышать политрук Ващеев. Сорок две раны насчитали бойцы на теле старшего сержанта Мананникова. Погибли многие пограничники. Вот только они да раненые, находившиеся в беспамятстве, не могли стрелять. Остальные, обливаясь кровью, скрипя зубами от боли, с черными от страдания лицами и безумными глазами, не выпускали из рук оружия. 6-я застава ожесточенно дралась, не пропуская врага в глубь Волыни. Бой не затихал. Но слишком неравны были силы. Гитлеровские цепи приближались, фашисты без умолку палили из автоматов, забрасывали пограничников гранатами. Потом они залегли и стали чего-то ждать. Горстка бойцов в укрытии молчала. Ни один из них не подумал о том, что он может сдаться, об отходе, ни один не дрогнул в минуту гибели. Русские парни выполняли высший долг своего сердца, они защищали границу, они готовы были умереть, но не склонить головы перед врагом их Отечества, перед их личным врагом… Вокруг последнего блокгауза стали рваться гранаты, потом, через несколько минут, последовал новый взрыв тола, еще более сильный и близкий. Земля куда-то рванулась. Точно живые, затрещали и зашевелились в накатах толстые бревна. Посыпались камни, глыбы земли. Закричали придавленные к полу люди… Отброшенный воздушной волной, Каретников отлетел в сторону, ударился обо что-то острое и упал прямо на мертвого политрука. Не то солнце, не то сноп пламени ослепительно сверкнул в его голове. Он чувствовал, что не убит, что жив, но не мог пошевельнуть рукой, не мог поднять головы. Пламя погасло, и стало темно и тихо.8
По всей стране было солнечным и ярким то июньское утро. Поднявшееся солнце заливало теплым желтым светом тысячи городов и среди них тихий, закутавшийся в зеленое покрывало садов, древний Малоярославец. Был город тогда мал, напоминал старинное село. Рано должны подниматься хозяйки в таких маленьких, деревенского типа городках. Ведь почти в каждом дворе есть какая-нибудь живность: корова ли, коза или поросенок, всюду по заросшим травой улицам расхаживают гуси и куры. Среди других домов на короткой пристанционной улице имени Некрасова стоял потемневший от времени, старый деревянный дом, половину которого занимала семья Петровых. Несмотря на ранний час, не спала Александра Панкратьевна. Сунув ноги в стоптанные шлепанцы и надев длинное ситцевое платье, она тихонько, чтобы никого не разбудить, сняла крючок с двери и вышла на скрипучее крылечко, еще не совсем проснувшись, с полузакрытыми глазами. Свежий, бодрый, чуть нагретый солнцем воздух, в котором было столько душистых запахов, очистил, будто умыл заспанное лицо и прогнал дремоту. Женщина опустилась с крыльца, медленно прошла по зеленой дорожке маленького садика. С яблони на плечи ей закапали холодные росинки, мокрая трава сверкала сотнями крохотных солнц, заставляя выше поднимать ноги. Сняв с забора глиняный горшок, тоже весь мокрый от росы, Александра Панкратьевна вошла в сарайчик подоить коз. Они тихо блеяли и терлись о ее плечо, выпрашивая кусок хлеба. Наверху, в голубятне, уже мелодично разговаривали голуби. Александра Панкратьевна улыбнулась воркованию. Все ее сыновья с упоением гоняли голубей. И к удивлению учителей, это азартное, отнимающее много времени занятие вовсе не мешало их учению в школе. Они не пропускали уроков, аккуратно выполняли домашние задания, получали “хоры” и “очхоры”. Младший сынок Алеша тоже сейчас занят голубями, но Вася отдавался им всей душой. Каким-то он стал теперь?.. Три года прошло. Карточки присылает: то он в шлеме, то в фуражке. Повзрослел, посерьезнел, только щеки все такие же пухлые и глаза добрые, ласковые. Скоро придет домой, осенью кончает службу… Отогнав в стадо коз, Александра Панкратьевна, поскрипывая половицами, снова вошла в комнаты и распахнула выходившие на улицу окна. Все спали. Только Надя, разбуженная щелчком оконного шпингалета, подняла с подушки светловолосую голову и сонным голосом спросила: — Ма, пора гнать коз? — Спи, спи, Надюша, — шепнула мать, — я уже выгнала. Спи — сегодня воскресенье. Дочь опять уткнулась лицом в подушку. Мать взяла с комода свою рабочую коробку, сдернула со спинки стула Алешину рубаху и уселась на ступеньки крыльца. Вчера заметила дырку на локте, надо зашить, чтобы больше не расползлась. Ох, уж эти мальчишки, всегда порвут что-нибудь! Особенно все горит на подвижном Саше. Наверно, на всех заборах и деревьях в городе остались клочки его штанов и рубашек. Да и на Алеше тоже все рвется. А вот Вася был не таким. Тоже бегал и скакал через кусты и заборы, как все мальчишки, а вот рубашки у него были всегда целыми. Во дворе протяжно пел золотистый петух, сдержанно ворковали на карнизе голуби. Раскрылись возле дома цветы, и на них копошились пчелки. Вдали весело гудел паровоз. Разгоралось июньское утро. Приятно согретая солнцем, зашив рукав рубашки, осталась сидеть на теплом крылечке Александра Панкратьевна, и думы ее, как думы всех матерей земли, были о своих шестерых детях. “Сегодня совсем хорошо себя чувствую, — думала она, положив худую руку на грудь. — А вчера и свет был не мил. Не могла даже веника поднять, чтобы снять в углу паутинку: так болело сердце…” Она усмехнулась, вспомнив, как испугались дети и сами, без нее, стали убираться в доме. Алеша сердито отобрал у нее веник и неумело обмел все стены. Быстрая в работе Надя перестирала белье, выскоблила некрашеные полы. Саша, сильный парень, едва успевал приносить из колодца воду и сам полил грядки. А муж все бродил из угла в угол, тревожась за жену, и предлагал ей то капли, то порошки. Потом ушел на работу, но дважды прибегал домой, будто за каким-то инструментом. Вечером, когда ей стало легче, он с Алешей отправился на речку и наловил с полведра рыбы. Удачная была рыбалка. Нужно будет сейчас вынуть рыбу из воды и поджарить на завтрак. Нет. Нет, рановато еще, пусть поспят в выходной подольше. Можно посидеть еще… Александра Панкратьевна положила ножницы в коробку, достала из-под ниток и пуговиц несколько синих истертых конвертов. В них лежали письма старшего сына. Она невольно вздохнула при мысли о нем. “Вася, Вася, Василек ты мой ласковый!.. Три года прошло с тех пор, как проводили мы тебя. Вот и карточка сохранилась. Осенний теплый денек. Сидим все за столом, и Вася неуверенно держит стакан с вином… Давно я не видала твоих серых, с прищуром глаз, круглого лица, не гладила волос, выгоравших каждое лето от частого купания под солнцем. Давно не видала… Ну ничего, скоро ты, мой мальчик, вернешься в родной дом. Займешься своим лобзиком, мандолиной, голубями белыми. А по вечерам, возвращаясь с гулянья из городской рощи, опять будешь напевать: Всю-то я вселенную проехал, Нигде я милой не нашел. Седеющая голова матери низко склонилась над письмами сына. Она вынимала их из синих конвертов, перебирала, ласкала пальцами. Листочки раскладывались у ее колен, белые, серые, розовые, в линейку или совсем гладкие… Почерк четкий, ровный, круглый. Письма! Сыновние письма! Нет в них ни одного неискреннего слова, все просто, ясно, доверительно, как в редкой фотографии, когда приоткроется вдруг истинная душа человека, проглянет истинная натура или сокровенная мысль. Ни один портрет не скажет так много о человеке, как его письма домой, родным и тем более матери. Посмотришь на письма Василия Петрова, написанные таким ясным и выразительным почерком, и сразу определишь его внешний вид, и темперамент, и характер. И главное, понимаешь, что автор их добрая и сильная душа, с твердым ласковым характером, все в нем открыто, чисто и честно, все ясно в нем. Про такие натуры говорят: цельный человек! А иногда выражаются сильнее: настоящий человек. …Александра Панкратьевна задержала взгляд на некоторых строчках из писем. Сын писал: …Смотри, мама, никому не давай пока моего заветного альбома открыток с видами Ленинграда. Полюбуйся на эти улицы и дворцы. Я здесь никак не нагляжусь на эту красоту. Посмотришь на какой-нибудь дворец или картину в Эрмитаже и думаешь: стоит на земле жить и защищать наше великое искусство. Всегда буду помнить и любить образ Ленинграда, в котором мне посчастливилось немного пожить… Она покачала головой. Да, Вася целый год писал такие восторженные письма. Недавно Петя Савушкин — приятель его по ФЗУ — прислал письмо оттуда. Пишет, что Васек очень интересовался местами, связанными с Лениным, хотел даже подготовить доклад об этом, но не успел… С колен матери упал сложенный вчетверо лист. Она подобрала его, медленно развернула. Это было письмо к сестре Наде. Дружат до сих пор ребятки. Похожи друг на друга и лицом и характером, да и по годам близки. Когда Надюша училась в Калуге, он уже работал в депо и нередко посылал сестре деньги. “Надо же девчонке духи себе купить, ленты, носки или конфетками полакомиться”, — говорил. И она теперь заботится о брате, отправляет небольшие переводы, художественные открытки, чьи-то карточки. А он-то! Как милой своей пишет. Ишь какую бумагу красивую нашел для сестренки! Хорошее письмо. Спокойный почерк, ровные буквы. Здравствуй, Надежда! Крепко, по-братски, тебя целую. Как работается, что нового у нас в депо? Как здоровье мамы и папы? Рад, что из дома стали регулярно приходить письма. А ты ничего, пожалуйста, не присылай мне. Некуда тратить твои деньги. Знаешь же, сестренка, что не курю, водки не пью. Как живу, спрашиваешь? Жизнь протекает нормально. Вот солнце начинает уж припекать. Весной попахивает. Сегодня особенно греет и моментально высушивает чернила на этом письме. Я — выходной и справляю свой день рооюдения. Спасибо за хорошие пожелания вам всем. Мирон Давидович Репенко (ты знаешь, кто это) очень тепло поздравил. Федя Козлов все норовил уши натереть, а Михаил Каретников торжественно преподнес мне ремешок к часам. Да, сестра, 23 годика прожил я на белом свете. Самые годы, сейчас только и живи. И я живу, не жалуюсь. Полной, интересной жизнью живу!.. Жалко только, что не могу рассказать тебе поподробнее про всякие наши любопытные дела. Ну, пока все. Передавай привет от меня всем, всем. Той передай также, хоть и не пишет она мне… До свидания. Жду ответа. Василь. Мать улыбнулась, складывая письмо. Кто ж это ему не пишет? Девушка какая-нибудь. Ничего, скоро встретятся, помирятся… Вот еще одно письмо сестрам. О ней, о матери, пишет. Где это место? Ага, вот оно: …Беспокоюсь о здоровье мамы. Знаете, когда начинаешь больше всего любить родной город, родной дом и родную мать? Когда далеко все это… Сестры мои, жалейте, берегите нашу маму, не огорчайте ее. Скажите Алексею, чтобы не грубил ей. Уши оборву, если узнаю что. Подумайте, сколько хороших, добрых правил мама сумела внушить нам, сколько вложила в нас своего ума, честности, как строго и справедливо воспитывала нас в детстве. Как хотите, а родители наши — замечательные воспитатели! А маме нашей пришлось много пережить, пока она с отцом не подняла всех на ноги. Очень мужественная у нас мать, хотя и слабенькая, больная совсем… Помните, как отец рассказывал о ее поездке на Украину за хлебом? Подумайте: молодая женщина, одна, в гражданскую войну и разруху, поехала в такую даль! Чуть не погибла от петлюровцев, заболела в дороге. А все ж привезла хлеба, спасла своих “пискунов”, как всегда говорила о нас. Вот сколько в ней мужества! Учусь у нее… “А ведь я счастливая мать! — сделала она открытие. — Конечно. Я и не догадывалась… Разве это не счастье — вырастить хороших детей, отдать за них здоровье и жизнь, почувствовать их заботу и ласку?..” А в этом письме пишет сын отцу: …“Сосед” наш зашевелился. Бывают с той стороны “гости”. Но мы им ходу не даем, излавливаем, конечно, каждого. Полезут кучей — придется “угостить” их как следует. “Максимка” — друг мой надежный, слушается меня беспрекословно. Да, отец, хоть и не пристало хвастать, но стрелком оказался неплохим. Политработником, кажется, тоже… Суровое письмо, строгое. Вот и это, последнее, тоже такое. И почерк почему-то изменился: острый, стремительный… Здравствуйте, мама и папа! Рад, что у вас все в порядке. У меня — тоже. Учимся, работаем, отдыхаем — все нормально. Знаете, всерьез захотелось учиться. Вернусь домой — сразу начну готовиться в техникум, в железнодорожный, конечно. Планов много… “Сосед” неспокоен. Но мы начеку!.. Отец мой. ты можешь спокойно жить и работать. Оправдаю твои слова в любую минуту. Не пожалею ни сил, ни своей молодой жизни, чтобы было все хорошо… За меня не тревожьтесь — все будет в норме… До свидания, дорогие. Пора идти в ночной наряд. А звезд-то на небе — ух, красотища! Всем горячий привет. Скоро напишу еще. Василь. “Ах, Василь, сынок мой! — вздохнула мать, бережно складывая письма и пряча их в коробку. — Трудно приходится тебе на границе. Пишешь бодро, не хочешь тревожить нас, успокаиваешь, а будто грозой пахнуло от этого коротенького письмеца… Ведь небольшая речка, не шире, пожалуй, нашей Лужи, отделяет тебя и твоих молодых товарищей от злой чужеземной силы. Знаю тебя, знаю, честно стоишь ты на посту своем сторожевом, не посрамишь наших седых голов. Но страшно за тебя, ох как боязно…” Воскресное утро разгоралось. Женщина сидела на крыльце, смотрела на листву деревьев, пронизанную солнцем, и ничего, совсем ничего не видела: все ее мысли и чувства были устремлены к сыну, в зеленую воображаемую даль. Потом она зажмурилась от попавших в глаза солнечных лучей, хотела приподняться со своей ступеньки, да вдруг схватилась рукой за сердце. Застучало, закололо, защемило материнское сердце, прервалось дыхание. Голубой утренний свет померк в глазах, закружились над головой темные вершины деревьев. Потрясающей силы удар обрушился на нее. Точно в эту минуту не сына Васю, а именно ее ударило в спину горячим осколком мины… Но не убил сына вражеский металл, хотя и застрял глубоко в теле. Вскрикнул лишь, застонал пограничник, произнес одно коротенькое слово: “мама”. В мельчайшую долю секунды промчалось это слово через тысячу километров и достигло чуткого сердца матери, сказав ему, что смертельная рана открылась в теле ее сына. Но сын не умер… Уронил он на мгновение русую голову с острым ежиком выгоревших волос, потом с великим трудом приподнялся, стиснул зубы и опять ухватился за рукоятки “максима”. Стало легче на сердце у матери, почуявшей беду, можно было вздохнуть наконец и выпрямиться. Верхушки деревьев перестали кружиться. Увидела она снова голубое небо и черные стрелки ласточек в нем. “Что же это со мной, что? — недоумевала она. — Такого чудного и быстрого приступа никогда не бывало со мной. Сердце ноет как-то странно, не как всегда…” Не поняла Александра Панкратьевна, что в эту минуту тяжко ранен ее сын на высоком прибужском мысу. Не могла она также знать, что сегодня в полдень разнесется по стране страшная весть о войне, и заплачут многие жены и матери. Не знала она, что через пять дней, 27 июня, прочтет она коротенькую заметку в “Комсомольской правде” о подвиге и гибели на границе пограничника В.В.Петрова. Зальются ее глаза обильными слезами, заплачут дочери, посуровеет, почернеет от горя лицо мужа. Вот так же, как сейчас, схватится она худой рукой за сердце и неожиданно вспомнит тогда это раннее утро, когда яркий голубой свет внезапно исчез у нее из глаз. Распространится по городу известие о первом его жителе, погибшем на войне, о его замечательном подвиге. Весь день будет горевать семья Петровых, а Василий Тимофеевич сядет писать большое письмо в газету. И никому не придет в голову, что Петровых в России много, что в этот же день, например, на Кавказе и в Рязани горько заплачут, прочитав газету, две молодые женщины, у которых служат на западной границе мужья, тоже Петровы, и инициалы их тоже В.В. В ответ на запрос Василия Тимофеевича напишут ему об этом из редакции газеты… Вздохнув, поднялась Александра Панкратьевна на ноги, медленно вошла в дом и остановилась, прислушиваясь к дыханию спящих. Тихо было в комнате. На стене, у окна, висела старая гитара с голубой лентой. То ли муха коснулась ее, то ли загудел где-то маневровый паровоз, но только задрожала, едва слышно загудела на ней струна, отозвавшись на какой-то неуслышанный звук…9
Лейтенант Мирон Репенко поднес руку к бойнице, чтобы рассмотреть стрелки на часах. “Больше трех часов уже держит застава оборону, — определил он. — Вот если бы всем заставам продержаться до подхода регулярных частей. Но нет, не удастся. Много сил бросили немцы на наши пограничные заслоны. Однако вот держимся, и ничего они с нами сделать не могут. Пока всех не перебьют, не пройдут здесь…” Он выглянул наружу. Сильные бои шли на юге и на северо-востоке. Огромные клубы дыма поднимались там высоко в небо, слышался вдали гул сотен моторов, летали самолеты. Во многих местах, сняв советские заставы, враг шел в глубь нашей территории. Лишь в районе 6-й и 7-й застав, где танки не могли преодолеть крутизну берегов, положение несколько стабилизировалось. После нескольких сильнейших артналетов и бомбежки с воздуха здесь стало сравнительно тихо. Немцы не сумели подавить станковые пулеметы Скорлупкина и Петрова, не захотели идти тут на большие человеческие жертвы, форсируя Буг, и, отказавшись от переправы, пошли вслед за прорвавшимися танками. Только минометные батареи продолжали лениво обстреливать мыс Петрова и полуразрушенные укрытия 7-й заставы. Они покосились, частично их засыпало землей, бойницы в них стали неприцельными. Но пограничники, измученные бомбардировкой, запыленные и раненные, держались стойко и не думали отходить. Командовавший внутренним кольцом обороны лейтенант был слегка контужен и ушиблен, но его выдержка и спокойная уверенность очень подбадривали людей и вселяли в них уверенность в свои силы. Детство Мирона Репенко прошло на Волге, в бедной многодетной семье. Отец, бывший красногвардеец, молодой коммунист, в тридцатом году занимался организацией колхозов в родной волости. Потом в числе лучших сельских активистов его направили в Саратов, учиться в комвузе. Приезжая на каникулы домой, в колхоз, он всякий раз говорил, оглядывая поля и постройки: — Год от года меняется деревенька наша. И жить становится маленько легче, и кулак не давит. Машины пошли в деревню. Мы тоже сообразительней стали: артелью работаем. Скоро прогоним треклятую бедность и отсталость… Три года ждала его жена с детишками и не дождалась. Накануне выпускных экзаменов упал головой на стол никогда прежде не болевший крестьянин-вузовец, и в полчаса его не стало. Мирону пришлось бросить школу и вместе с матерью круглый год работать в колхозе, чтобы могли учиться подраставшие младшие сестренки и братишки. Нелегкий крестьянский труд был не страшен ему: еще раньше приходилось ему батрачить у зажиточных мужиков от зари до зари, управляя лошадьми, запряженными в плуги. Колхоз приметил спокойного и трудолюбивого паренька, хотел послать его учиться на агронома, но в 1936 году призвали его в армию, направив в пограничные войска. Вот здесь-то он с радостью мог учиться. Командовал взводом маневренной группы, участвовал уже командиром отряда в освобождении Западной Белоруссии. Потом сам обучал молодых бойцов, готовя их к службе на границе. В марте 1940 года был он назначен начальником 7-й пограничной заставы на Буге, близ города Устилуга. До чего сходны биографии лейтенанта Репенко и заместителя политрука Петрова. А впрочем, чему тут удивляться? Такова была молодость всех рабочих и крестьянских парней в те славные годы, когда Советская власть делала резкий поворот к лучшему… Начальник погранзаставы Мирон Репенко был счастлив. Он любил свою суровую интересную службу, любил своих боевых товарищей, души не чаял в молодой жене Еве Ивановне. Они были хорошей, дружной парой. Эта круглолицая миловидная женщина с веселыми глазами и темноволосый стройный лейтенант с тонким красивым лицом. Нелегка служба и сурова жизнь пограничников, и очень любят они людей веселых, жизнерадостных, умеющих и спеть, и сплясать, и сказать задушевное слово. Вот такою была Ева Ивановна, и все бойцы на заставе восхищались ею. Живя недалеко, она с разрешения командования часто гостила на заставе, самозабвенно танцевала и пела с пограничниками, вместе с таким же, как она, неугомонным Васей Петровым участвовала в художественной самодеятельности. Репенко даже вздохнул глубоко, вспомнив об этих чудесных днях. Теперь вот ничего этого не будет, теперь началась война, и неизвестно, увидит ли он свою милую Еву и услышит ли ее заразительный смех. Вооруженные до зубов фашисты лезут как саранча. Прорвались уже в наши тылы, обходят где-то недалеко заставу, и скоро придется занимать круговую оборону. А людей-то мало, совсем мало. Кто ранен, кто уж никогда не увидит небо… “Какие молодцы! Молодцы ребята! — думал он. — Хоть и не были прежде под огнем, не видели войны, а держатся хорошо, без жалоб истраха. Без паники, суеты ведут неравный бой, хотя отлично знают, что многим отсюда не уйти… Ни один боец — он знал это твердо, — ни один не бросит оружия, не уйдет без приказа с границы. Настоящие люди…” …Послышался шорох осыпающейся земли. Репенко выглянул из двери, приготовил пистолет. По засыпанному ходу сообщения полз человек в красноармейской гимнастерке. — Ни с места! Кто ползет? — крикнул лейтенант. Человек прижался щекой к земле и скороговоркой ответил: — Свой, свой я! Связной из комендатуры… Красноармеец приблизился. Лицо его пересекала глубокая царапина, глаза смотрели испуганно и удивленно. По робким взглядам, угловатым движениям Репенко сразу распознал в нем новичка, новобранца. — Фу, еле добрался к вам! — облегченно выдохнул он, втискиваясь в укрытие. — Дайте, братцы, закурить, аж все внутренности дрожат… Стрельба страшенная, немцы кругом рыщут. Фу!.. Кто тут лейтенант Репенко? Аль убило его?.. — Я — начальник заставы Репенко, — сказал лейтенант. — Получите приказ. Вот он. Репенко торопливо разорвал конверт. Комендант участка старший лейтенант Говоров приказывал всему личному составу заставы отойти в направлении деревни Суходолы для соединения с частями комендатуры. — Передайте старшему лейтенанту Говорову, что все будет исполнено, — сказал Репенко. — Ползи, дружок, осторожней. Связной потоптался на месте, оглядывая хоть и ненадежное, но все же укрытие, произнес свое “фу” и пополз назад. Лейтенант проводил его взглядом, потом повернулся к пограничникам. — Боец Ивакин! — позвал он. — Я! — Отправляйтесь на левый фланг, к Бугу, к сержанту Скорлупкину. Пусть выводит свою группу к селу Цуцневу и ждет нас у дороги во ржи. — Есть, товарищ лейтенант. — Боец Буйниченко! Как нога? — Ничего, товарищ лейтенант. Могу наступать на нее. — Проберитесь к заместителю политрука Петрову и передайте мой приказ: немедленно отходить! Поможете ему вынести пулемет. — Есть пробраться к Василию! — радостно гаркнул Буйниченко и, хромая, выскочил из блокгауза. — Боец Супрун! — продолжал распоряжаться лейтенант. — Сообщите сержанту Козлову во втором блокгаузе и в двух других, чтобы начали отход ровно в 8.00. Отослав еще несколько пограничников для помощи при отступлении раненым, начальник заставы остался один с молоденьким веснушчатым красноармейцем Алексеевым. Некоторое время они прислушивались к звукам далекого боя. Ближе, иногда с долгими перерывами стрелял станковый пулемет на мысу. “Значит, не все немцы ушли от брода, — подумал он. — Петров не пускает их. Как он нас выручил сегодня, если бы только кто знал…” Из двух укрытий, выдвинутых на запад, тоже били по противоположной стороне. На левом фланге, у Скорлупкина было тихо. — Ну что ж, товарищ Алексеев, давай готовиться с тобой к отступлению, — вздохнул Репенко, с трудом произнося вместо слова “отход” неприятное, горькое, как полынь, слово “отступление”. — Выноси в ход сообщения сейф с документами, — сказал он Алексееву. — Давай-ка я помогу тебе. Потом за лопатами вернусь… Будем зарывать все в землю, чтоб врагу не досталось. В одной из неповрежденных стенок траншеи они стали рыть глубокую яму. К тому времени, когда она была готова, в ход тяжело спрыгнул Петр Буйниченко. Он был весь в земле и колючках. — Ну! Ну что там? — бросился к нему Репенко. — Где Петров? Почему не отступает, почему продолжает стрелять? Буйниченко поморщился от боли в ноге, грустно посмотрел на командира виноватыми глазами, поднес руку к пилотке и отрапортовал каким-то чужим, тоже виноватым голосом: — Товарищ замполитрука жив, но ранен в спину. Весь в крови… Я хотел его перевязать, вынести на себе, но… но он категорически отказался. Отказался наотрез… Однако пулемета из рук не выпускает. Немцев наколотил у брода видимо-невидимо. Дюже зол… Приказал передать вам, что прикроет наш отход, а сам до конца останется на мысу. Замполитрука Петров… — голос бойца вдруг прервался, и задрожала, искривившись, верхняя губа, — просил… просил вас не сердиться за невыполнение вашего приказа… Репенко отвернулся. “Эх, Василий, Василий! Славную смерть ты ищешь себе, — подумал он. — До конца предан границе… Дорогой ты мой товарищ!..” — За такое “ослушание” не наказывать, а награждать надо. — глухо проговорил он и тут же подумал о том, как нелепо, сухо, пожалуй, дико звучат эти холодные слова, совсем не выражая его чувств и мыслей о подвиге раненого товарища. — Да! Верно, товарищ лейтенант! — подхватил Буйниченко. — Настоящий он герой, самый что ни на есть настоящий! Век его не забуду. Мыс будто плугом перепахан, как не убило человека — не пойму. А он там с самого начала один… Страшно… — Я бы, наверно, не выдержал, — покачал головой Алексеев. — А я? И я тоже… А может, выдержали бы?.. Репенко никак не мог отвести взгляда от невидимого отсюда холма, на котором, обливаясь кровью, лежит за пулеметом Василий. — Да, да… Трудно… Трудно остаться там… Сердце нужно иметь героическое… Ну что ж, давайте делать свое дело. Задвинем сейф в яму поглубже. Вот так… Еще немного. Так… Зароем теперь. Запомните это место, друзья. Вон, наверху, большой камень торчит из земли, как раз в двух метрах от него на север пусть и лежит наш сейф. — Есть запомнить место! — сказал Буйниченко, заравнивая лопатой яму. — Вернемся-отроем его… Алексеев спросил с сомнением в голосе: — Неужто возвернемся скоро? Буйниченко презрительно посмотрел на его веснушчатый нос. — Эх ты, недотепа! Ясно, возвратимся. Не скоро, может, но вернемся, это уж как пить дать. Не мы, так другие придут опять на границу. Отстроят все заново и заживут лучше нашего, брат. — Непременно вернемся, товарищи бойцы! — строго посмотрел на них начальник заставы и неожиданно для самого себя улыбнулся от мысли, что прекратится же когда-нибудь эта кошмарная война и он снова будет служить на мирной спокойной границе. Приказав командиру пулеметного отделения сержанту Подгайному прикрывать их отход, он вывел свою поредевшую заставу из укрытий. Все вокруг было разбито, сожжено и покорежено. Главное здание и другие помещения заставы обрушились и сгорели. От пожарища несло дымом и смрадом. Обсыпанные пеплом и сажей цветы на уцелевших клумбах стояли как каменные. Больно было смотреть на развалины, и бойцы проходили мимо, низко опустив головы. Некоторые не раз оборачивались назад, как бы прощаясь с дорогим местом и мысленно давая обещание возвратиться сюда. Репенко тоже дал в душе слово, что когда-нибудь, если до конца войны останется жив, посадит здесь снова цветы, сделает зеленые беседки, выстроит новые, еще более светлые и просторные казармы… И надо сказать, что все так и получилось в дальнейшем, когда отгремели залпы войны и прежние пограничники вернулись в знакомые места… Выгорело не все село Цуцнев, но ни одного человека не встретили пограничники на его развороченных улицах. Видно, ушли крестьяне подальше от пожара или спрятались в каменных погребах. В пахучей поспевающей ржи бойцов уже ждали Скорлупкин со своей группой. Репенко не успел поблагодарить этого немолодого пулеметчика за отличную работу у Буга, как пограничники внезапно попали под огонь гитлеровцев, которые обходили село с другой стороны. — Сержант Скорлупкин! — быстро сказал Репенко. — Скройтесь с бойцами в лесу, за лощиной. Я с Буйниченко приму бой и задержу противника. Выполняйте! Петр Буйниченко уже деловито разворачивал “максим” и тут же застрочил по еще невидимым врагам. Те прятались где-то во ржи и беспорядочно палили из автоматов. Лейтенант пригляделся к падавшим колосьям, которые срезались пулями, и определил местоположение и направление гитлеровского отряда. — Дай-ка теперь я попробую, — сказал он бойцу. — А ты ленту подавай. Сейчас мы их накроем. Первые же его очереди точно нащупали цель. Вдалеке послышались крики. С шумом, как вспугнутое стадо свиней, гитлеровцы бросились в сторону. — Ну, вот и прогнали их к черту! — воскликнул лейтенант. — Можно дальше идти! И в этот миг громким голосом закричал Петр Буйниченко и грузно перевернулся на спину. Шальная пуля попала ему в грудь и вышла у поясницы. Казалось, серый пепел опустился на его полное лицо и засыпал добрые, крупные, как сливы, глаза. Лейтенант нагнулся над ним, дрожащими пальцами стал рвать гимнастерку на том месте, где расплывалось темное влажное пятно. Хотел приподнять бойца, чтобы попробовать сделать перевязку, но тот громко застонал и отстранил руки лейтенанта. Потом явственно произнес: — Не троньте меня. Я убит… убит. И Подгайно, наверно… А Вася? Жив он! Слышите?.. — Слышу, слышу, — прошептал Репенко, хотя ничего не слышал. — А я с Васей не остался. Почему я с ним не остался?.. Вернулся бы туда. Там простор, небо видно, реку… А здесь тесно, душно, как в тюрьме… Товарищ… товарищ лейтенант, слушайте… — Что, что, Петя? Говори, дружок. Слушаю… — Примите меня в партию, товарищ лейтенант! Чтоб умереть коммунистом… Примите, а? Легче мне будет уйти… Напишите маме… Адрес знаете. Напишите, умер ее сын Петро на границе, умер коммунистом. Неужто не примете?.. Выпуклые глаза его не хотели закрываться, они все смотрели и смотрели на Репенко с немой просьбой. И тогда начальник заставы сказал прямо в ухо умиравшему: — Боец Петр Буйниченко, принимаю тебя во Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков!.. Ветер пролетел над высокой рожью. Зашевелились стебли колосьев, и тени от них побежали по телу убитого пограничника. Казалось, что не тени, а чьи-то бесплотные тонкие пальцы нежно ласкали неподвижное лицо… За долгие кровавые месяцы войны много таких тягостных картин увидит молодой офицер, потеряет множество близких боевых друзей, часто будет горевать над телами однополчан. Но никогда не сможет он забыть, как, нарушая устав, принял в партию умирающего бойца, не сможет забыть быстрой смерти этого простого русского парня с широким добродушным лицом, которое просветлело при последних словах своего командира… Слезы застыли давящим комком в горле Репенко, отчего стало трудно дышать. Он бережно поднял тяжелое тело, перенес его в воронку от снаряда и положил там, накрыв лицо товарища выцветшей пилоткой. Потом, с усилием волоча пулемет, не прячась, не нагибаясь, равнодушный ко всему на свете, зашагал к лесу. …Пройдет три года. Раздастся в плечах, возмужает капитан Репенко, в его синих глазах появится глубина и зрелость. Освобождая родную землю, дойдет он, наконец, до этих мест, где у Буга начинал войну. Уж не с винтовками в руках, как было в сорок первом, а вооруженные могучей техникой придут к государственным границам страны советские солдаты. Война пойдет дальше, туда, откуда пришла к нам. У белого камня, в заросшем окопе, найдет Репенко позеленевший сейф и всю ночь будет разбирать отсыревшие бумаги. Вспомнит каждого бойца своей бывшей заставы, первые четыре часа войны. Походит возле развалин, долго будет стоять на высоком мысу Петрова. А затем пойдет в Цуцнев, разговорится с местным жителем, старым крестьянином Иосифом Колюжным, который вовсе и не узнает его. Мешая русские слова с украинскими, станет он допытываться: — Так вы, стало быть, из тех хлопцев, кто оборонял границу? — Из тех, дедуся, из тех. — У самые первые годины войны? — Да, в самые первые… — И упомнили, як тут усе было? — Кто же может забыть это?.. — Нэкто нэ може. Ой, и страшный був тот день для нас, дюже страшный. Мы усе, як мыши, сховались в пидвалах, а тут усе горело и гремело. А вон там, на бережку, стрелял по хрицам одын ваш пограничник. Вин долго нэ сдавався. Петров — его хвамилия. Похоронили мы его там же. О, храбрый був хлопец… Слухай, командир, есть еще тут одна могилка драгоценна серед поля. Пишлы, покажу тебе. Пишлы! С бьющимся сердцем направился в сопровождении Колюжного капитан Репенко в ржаное поле. Памятное, знакомое место! Здесь положил он в воронку грузное тело рядового Буйниченко и накрыл пилоткой его широкое бледное лицо… Как раз здесь, возле заросшей травой воронки, увидит он небольшой могильный холмик с громадным дубовым крестом на нем. Будет на кресте кем-то вырезана маленькая пятиконечная звездочка. Снимет капитан фуражку, подойдет медленно и неожиданно отшатнется. Бросится ему в глаза, точно ударит в самое сердце, черная короткая надпись: “ТУТ ПОХОВАН НАЧ. ЗАСТАВЫ РЭПЭНКО”. Со странным, не передаваемым словами чувством, будет глядеть Мирон Давыдович на эту одинокую могилу, грубо сколоченный крест, на эту надпись, потрясшую его душу. “Какой случай? Просто случай войны, что не я здесь лежу, — подумает он. — Такой бы могла быть моя могила…” А за его спиной будет скрипеть голос старика: — Бандеровцы три раза копали могилу. Шукали пулемет, из которого отбивался от хвашистов этот Рэпэнко. Тильки зазря оскверняли прах. Нэ було с им того пулемета, нэ було… Чернявый быв командир, очи, як море… Не выдержит такой муки капитан Репенко, повернется он круто и, срывая голос, закричит почти на все поле: — Дедусь! Диду! Ну, подывись на меня хорошенько! Ну же!.. Ведь ты бывал у нас на седьмой заставе! Неужели не узнаешь, диду? Тут похоронен пограничник Петр Буйниченко, а не Репенко. Репенко же я!.. Не убили меня тогда. Даже не ранили!.. Побледнеют темные щеки крестьянина, будто изрубленные морщинами, запавшие глаза загорятся, как кусочки угля. Поднимет он над головой не то в ужасе, не то в мольбе свои жилистые руки, постоит секунду как столб и вдруг упадет капитану под ноги, всхлипывая и причитая: — Боже! Что же это?.. Хиба это вы? Та нэможетого быть!.. Я же три годочка молився за вас, як за упокойного… Вот счастье-то вашим диткам! Товарищ Рэпэнко, милый ты мой… Живый. Нэ сгинул, сынку… И обнимет он колени обомлевшего от неожиданности капитана, и будет прижиматься к его сапогам своим темным лицом, а слезы его оставят на пыльных голенищах мокрые черные полоски… Опомнившийся Репенко с трудом поднимет обмякшего от слез старика и горячо обнимет его за трясущиеся костлявые плечи. Говорить он тогда не сможет… Но все это произойдет лишь через три года, через три долгих года войны… А пока мы видим, как бредет в желтой ржи худощавый лейтенант в разорванной гимнастерке с застывшим от горя лицом. Сделав десятка три неуверенных шагов, Репенко повернулся резко к западу и остановился, вздернув голову и прижав руку к горлу. Когда он шел, то, как во сне, неосознанно слышал длинную, еле различимую пулеметную очередь. И вот теперь она оборвалась на высокой ноте. Оборвалась и больше не возобновилась… Словно молниеносным ударом перебили голосистое горло пулемета… Прошла минута. Запекшиеся губы лейтенанта беззвучно задергались, щеку, как от зубной боли, перекосило, изо рта вырвался странный, похожий па смех, протяжный звук. — Погиб! Погиб! И Вася погиб… — хрипло пробормотал он, и синие глаза его стали совсем черными. — Прощай, друг… Прощай, Вася Петров, весельчак и певун из далекого Малоярославца. Мы не забудем тебя… Твоего подвига не забудем… Никогда. Никогда. Никогда…10
Но нет, не так-то легко убить жизнь в человеке. Василий Петров был еще жив. Просто от сильного кровотечения потерял он на несколько минут сознание. Уронил рядом с умолкшим пулеметом русую голову, уткнулся лицом в землю и замер. Лежал в спокойной позе спящего. Подтянул одну ногу к животу, как любил спать в детстве, некрупную загорелую руку вытянул вперед, точно сунув под подушку, и, казалось, сладко дремал. Спал не в луже крови, не в воронке от фугасной бомбы, а в сухой и мягкой постели. Светило солнце. Дул ветерок. Пел свою песню кузнечик. Оранжевая бабочка весело кружила над развороченной минами землей. Вот она пролетела, беспечно играя, мимо неподвижного тела, вернулась и, сделав круг, нерешительно опустилась на спину, на темную от крови гимнастерку. И тотчас же отчаянно забила, захлопала крылышками, взвилась высоко в воздух и умчалась стремительно прочь, преследуемая тяжелым запахом крови. Сознание медленно, трудно возвращалось к человеку. Царапая землею сухие губы, повернул он набок голову, с усилием разлепил веки. Сначала перед ним замерцал, заструился белый дрожащий свет, потом зрение прояснилось. Над бесконечно далеким горизонтом висела голубая ленточка неба, на фоне которой отчетливо вырисовывались какие-то сказочные растения. Не понимая, что это травинка и крохотные листочки, пограничник смотрел на них удивленно и жадно. “Умираю, должно быть, — подумал он, и коротенькая мысль ничуть не поразила его, но окончательно прояснила сознание. — Конечно… Конечно, умираю. Ничем не могу двинуть, ни ногой, ни плечом. Даже губы не шевелятся, как чужие. Только глаза видят…” И он все смотрел и смотрел, не мигая, на острые копья зеленых травинок, резные лепестки, на яркую полоску света перед глазами. “Как жжет затылок, особенно спину, — мысленно поморщился он. — А-а-а! Ведь меня ранило! Но куда? Не знаю. Не помню. Совсем забыл… Горит всюду одинаково. Нет, спина горит больше… А может, не туда?.. Сейчас дерну ногой, шевельнусь и узнаю… — решил он и стал собирать силы, чтобы двинуться, как вдруг поразился другому: — Почему так тихо кругом? Почему ничего не слышно? Ни шороха, ни стрельбы, ни взрывов… Хоть бы птичка какая запела, лошадь заржала бы… Что я? Какие тут лошади? Все вырвались из горящей конюшни и ускакали прочь. И голуби мои белые разлетелись. Тихо… Ах, как тихо, как мучительно давит на уши тишина! Где же мой кузнечик храбрый? Услышать бы сейчас шум ветра в поле, шорох колосьев… Нет, лучше человеческий голос, какое-нибудь хорошее русское слово. Тогда я поднялся бы, ожил…” Так и лежал неподвижно на солнечном берегу реки молодой пограничник, лежал и никак не мог собрать сил, чтобы пошевелиться. Много, слишком много крови вытекло из его сильного тела! Остановилось для него время. Замерло в небе жаркое солнце. Исчезли желания и мысли, покинули воспоминания. Ничто, казалось, не могло вернуть человека к жизни, ничто… Но не просто человеческая душа заключалась в этом распростертом теле, в нем билось еще сердце воина, защитника своей земли, и первые же звуки тревоги, новой опасности отозвались в нем, как грозный и требовательный призыв к борьбе, на который не могло не откликнуться оно. То были неприятные для его слуха, чужие звуки. Они зачернили полоску света перед взором, нудно сверлили мозг. Василий рывком поднял голову. Что это? Что за стрекотание металлического кузнечика?.. Не впереди, не за Бугом, а на востоке, сзади, стрекотали мотоциклы, и это назойливое безостановочное стрекотание заставило раненого пошевелиться, выше поднять голову. Откуда-то вернулись остатки сил и напористости. Почти теряя от тошнотворной слабости сознание, на дрожащих, подгибающихся руках Василий Петров выполз из своей неглубокой воронки и, напрягая зрение, устремил взгляд на восток. Небо, солнце, желтые ржаные поля ослепили его. Но вот на ближнем плане увидел он другое: по кромке контрольно-вспаханной полосы, разрытой кое-где снарядами и минами, не спеша ехали два мотоциклиста. Это были немцы. Они ехали без касок, с обнаженными до локтей руками. Ехали по дорожке и не смотрели по сторонам. Совсем обессиленный, Петров следил за ними. В глазах его помутнело, но мысли были ясны. “Ишь как важно едут, как хозяева, — думал он. — Какие же это хозяева?.. Чужой забрался в наш дом. Враг забрался… Враг едет по моей земле! Чего же я смотрю?..” И мысль о том, что враг уже топчет хлебные поля Украины, катит спокойно по извилистой тропинке, которую он знает до последней ямки, всколыхнула, возмутила его разум и кровь, не всю еще вытекшую из пораненного тела. Силы крепли. Скрипя зубами, Василий приподнялся и медленно стал поворачивать непомерно тяжелый пулемет на восток, прямо в диск желтого слепящего солнца. — Как вы смеете, как смеете? — чуть не плача от острой, обжигающей боли не то в спине, не то в самом сердце, шептал он, из последних сил хватаясь за рукоятки своего верного “максима” и нажимая на гашетку. Треск пулемета будто накрыл омерзительное стрекотание моторов. Поглотил он и боль, ушла она из тела, и тело стало легким и сильным. Один из гитлеровцев свалился боком с мотоцикла и покатился в рожь, другой — успел спрыгнуть на землю и застрочить из автомата. В грудь пограничника впились тупые иглы. На миг ему почудилось, что эти черные иглы воткнулись в голубое небо, пронзили золотой шар солнца и погасили его… Сердце героя перестало биться. А кровь его еще сочилась из пробитой груди, стекала на руку, окрашивая красную звезду на рукаве в еще белее красный, почти темный влажный цвет…ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мужественные люди, скромные герои в зеленых фуражках день и ночь несут вахту, охраняя священные рубежи нашей великой Родины. Имена многих из них известны стране, всему народу, прославлены будут в веках. Но есть немало людей, о которых еще надо рассказать, которые не менее других достойны нашего уважения и глубочайшей признательности. Об одном таком скромном и мужественном человеке, своем земляке, малоярославецком рабочем пареньке, я и хотел рассказать в своей небольшой документальной повести. Не было на его груди орденов и медалей, участвовал он в Великой Отечественной войне не четыре долгих года, даже не четыре дня, а всего четыре часа, но подвиг, совершенный им в то трагическое, памятное всему советскому народу утро 1941 года, был светел и прекрасен. Сначала комсомолец, потом член великой партии коммунистов, заместитель политрука, двадцатитрехлетний пулеметчик Василий Васильевич Петров, выполняя свой воинский долг, приказ своего сердца, не отступил перед натиском многочисленных врагов, не ушел с границы. Без сомнений и колебаний отдал он свою жизнь за самое прекрасное на земле — за независимость, честь и свободу своей и нашей с вами, читатель, Родины. На стыке двух братских советских республик Украины и Белоруссии, на высоком берегу Западного Буга, четыре часа вел неравный жестокий бой один на один с захватчиками молодой русский пограничник и перестал бороться только тогда, когда из его ран вытекла вся кровь. В тот же вечер командование пограничных войск Украины передало в Москву следующее сообщение: “Заместитель политрука Василий Васильевич Петров не покинул границу, станковым пулеметом уничтожил полбатальона фашистов, погиб смертью храбрых”. Через пять дней газета “Комсомольская правда” напечатала небольшую заметку о подвиге и гибели пулеметчика В.В.Петрова. Шли годы. Миллионы советских патриотов, героев фронта и тыла, совершали бессмертные подвиги, приближая радостную победу над фашизмом. И когда над рейхстагом взвилось красное Знамя Победы, то в этом всенародном торжестве была заслуга и тех пограничников, которым пришлось принять на себя первый удар чудовищной гитлеровской машины. Через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны об этом боевом эпизоде в районе 7-й пограничной заставы появилось в печати несколько небольших очерков и статей, написанных писателем В.Беляевым и журналистом Н.Сердюком. Тогда же Указом Президиума Верховного Совета УССР село Цуцнев, где депутатом сельского Совета был В.Петров, было переименовано в Петрово. По Московско-Киевской железной дороге много лет ходил комсомольский паровоз “ФД № 21-3101” имени Василия Петрова. Потом в Малоярославецком локомотивном депо была создана колонна имени Петрова, на почетном месте висит его большой портрет. В Малоярославце есть улица имени Василия Петрова, на доме, где прошли детские годы героя, недавно установлена мемориальная доска, в школах района работают пионерские отряды и дружины, носящие его имя. Родина высоко оценила героический подвиг отважного пограничника. В честь двадцатилетия Великой Победы советского народа над фашистской Германией Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Василию Васильевичу Петрову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Несколько лет назад я заинтересовался личностью нашего замечательного земляка и стал собирать материал о его короткой жизни. Нашел я людей, хорошо знавших и Василия, и его родителей. Не раз побывал я в старом доме Петровых, встречался с его сестрами, братьями, с родными и близкими. Улица теперь носит его имя, как и районный Дом пионеров. Удалось мне найти бывшего начальника 7-й погранзаставы, ныне подполковника запаса М. Д. Репенко, который рассказал много важных подробностей о первом дне войны на границе, о боях своей заставы. Много ценных замечаний и советов дал научный сотрудник Музея пограничных войск полковник И.И.Теряев. Итак, постепенно передо мной возник обаятельный образ жизнерадостного, умного и доброго человека, верного сына партии и народа Василия Васильевича Петрова, которым теперь гордится калужская земля. Погибая, герои не умирают. В памяти людей навсегда останутся их имена. Имя молодого советского патриота, предвосхитившего бессмертные подвиги Николая Гастелло, Виктора Талалихина, Александра Матросова, — имя Героя Советского Союза Василия Петрова должно быть широко известно советской молодежи, нашему великому народу.
Александр Шагинян · КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
…
Фантастический рассказ
Все остальное произошло не так, как рассчитывал пилот Сандр. Притяжение оказалось сильней, и межпланетный разведчик вместо того, чтобы сделать рекогносцировочный облет, на четверть корпуса врылся в песчаную почву обследуемой планеты. Сандр выругался и сразу посмотрел на счетчик. На табло выскочила новая цифра — 789 цаталов. “Так, — уныло подумал Сандр, — еще восемь — и месячное вознаграждение фумпалу под хвост… Ну, что за игун в Межзвездном придумал такую… — Сандр опасливо посмотрел на счетчик, — гм, штуку. Чтобы пилота, да еще пилота-разведчика, штрафовали за проклятия!” — Сандр скрипнул шеей, но сдержался. Он отстегнул ремни и включил экран визуального осмотра. — Видел он и перевидел… — по привычке думая о себе в третьем лице, бормотал Сандр, внимательно разглядывая местность вокруг корабля. Корабль сел на берег спокойного на вид моря. Вернее, на берег бухты, потому что левее, примерно в трех фарах от борта корабля, была видна уходящая в море узкая песчаная коса с какими-то неясными строениями. — Становится интересным, — сказал Сандр и увеличил изображение на экране. Строения были построены скученно, они как бы выходили одно из другого. Между постройками, в разных местах, торчали высокие башенки. По улицам двигались разумные. Сандр включил круговой обзор. В общем-то, это не было новостью. В Межзвездном Совете давно знали, что на планете существует жизнь на довольно примитивном уровне. Хуже было другое — второй параграф Устава, выработанного Советом, запрещал вступать в какой-либо контакт с цивилизацией, стоящей по уровню развития ниже Третьего пояса. Сандр открыл толстый справочник, полистал его и, найдя нужное место, прочитал: “…посадка на планеты типа Третьего пояса строго ВОСПРЕЩАЕТСЯ. Причина: возможность нанесения аборигенам глубокой психологической травмы. Определение Третьего пояса см. стр. 1857, т. 9. Пилот, нарушивший положение, наказывается ШТРАФОМ в размере семи месячных вознаграждений”. — Ну как же, конечно же, штрафом, фумпаловы дети!.. За спиной тихо щелкнула цифра на счетчике. — Соур! — заорал пилот. Люк соседнего отсека открылся, и показалась маленькая фигурка робота. Робот аккуратно закрыл за собой люк и, подойдя к Сандру, остановился. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Сандр. — Контакты в порядке, система блоков тоже, — густым басом ответил Соур. Соур был роботом-новинкой — Совершенный Универсальный робот, — и поэтому Сандр относился к нему недоверчиво. Его все время смущало то обстоятельство, что Соур мог по надобности принимать любую форму и размеры, а Сандр был пилотом старой школы, которые начинали летать еще на “Кассдис-7”, и привык доверять только своим трем рукам, двум головам, да еще, пожалуй, навигационным приборам. И поэтому он не любил этого слишком уж совершенного робота. — Я не рассчитал и посадил корабль на планету Третьего пояса… — начал Сандр. — Запрещается, штраф, — сказал Соур. — Помолчи, умник! — разозлился Сандр. — Без тебя знаю, железный фумпалу… На счетчике появилась новая цифра. — Пошел наружу! — в бешенстве заорал пилот. — Ведете себя нелогично, — заметил робот. — Сперва надо объяснить задание. — Ты слышишь, Сандр, этот железный лом упрекает тебя в нелогичности… — Я доложу о вашем недостойном поведении Совету, — обиженным тоном сказал Соур. — Значит, ты еще и доносчик? — Вы незаслуженно оскорбляете меня, — с достоинством возразил Соур. — Это будет зафиксировано в моей памяти. — Ну хорошо, — сдерживая себя, сказал Сандр. — Иди наружу, освободи корабль и жди следующей моей команды. — Задание понял. Соур посмотрел на Сандра мерцающими линзами глаз и вышел из пилотской. “Можешь считать, Сандр, что ты своим длинным языком похоронил сейчас семимесячное вознаграждение… Этот лом обязательно донесет Комиссии по результатам разведки, — с горечью размышлял Сандр, наблюдая в иллюминатор, как Соур, выйдя из корабля, трансформируется — начинает расти вверх и в ширину, то есть занимается тем, что больше всего не нравилось в нем Сандру. — И мало того, что оштрафуют. Эти умники в Совете могут спять и с полетов. Придерутся к чему-нибудь- они это умеют, умеют… Ладно. — Сандр сплюнул. — Главное, тебе дотянуть до ухода… Но как быть с роботом? Память у него наверняка запломбирована, да и не разрешит он в себе копаться. Вон махина какая…” Робот продолжал вытягивать свое раскаленное тело. В этом и заключалась оригинальность конструкции Соура. Ученые нашли такой сплав дюманолия, который при определенной температуре мог вытягиваться практически до сотни метров, затем включалась система охлаждения и дюманолий застывал, приобретая твердость алмаза. Сокращение робота происходило в обратном порядке. В общем, это было действительно оригинальное изобретение — оно давало возможность сокращать такую мощную машину до величины детской игрушки. Соура можно было взять даже в небольшую ракету. Вот из-за этой, доведенной до абсолюта, рациональности и не любил его Сандр. Он вообще не любил ничего доведенного до стерильного совершенства, если можно так выразиться. Сандра иногда подмывало бросить к фумпалу все эти автоматы и полуавтоматы, остаться на какой-нибудь пригодной для жизни планете и руками добывать и готовить себе пищу. Останавливала его только мысль о семье… Соур окутался паром, охлаждая дюманоливое тело, затем гигантскими клешнями взял корабль и легонько выдернул его из земли. — Полегче! — только и успел крикнуть Сандр. Прочно установив корабль па твердом грунте, робот нагнулся и заглянул в пилотскую. — Задание выполнил, — пророкотал он. “Как бы мне от тебя избавиться, — мучительно думал Сандр, глядя па громадное лицо, закрывшее весь иллюминатор. — А придумать надо — или прощай твои полеты, Сандр. Донесет, обязательно донесет эта консервная банка…” — Задание выполнил, — повторил Соур. — Рад за тебя, — огрызнулся Сандр. Сейчас он ненавидел робота так, как только можно ненавидеть себе подобного. — Это было в пределах моих возможностей, — скромно сказал Соур, явно набиваясь на разговор о его редкостном устройстве. — Поздравляю, — сказал Сандр, чтобы отвязаться. Соур мог без конца говорить на эту тему. “В конце концов, Сандр, этот Соур — только запрограммированный металлический ящик, а его самомнение — просто гордость ученых, создавших робота. Они научили Соура логически мыслить, но никогда он не сумеет соображать так, как может сделать живой и опытный пилот, как…” — Как бы ты не надувался, — вслух сказал Сандр. — Не понял, — сказал Соур. — Сейчас поймешь, — хихикнул Сандр. “Лом, он лом и есть. Хитрить вы не умеете, Универсальный и Совершенный, хотя хитрость это и есть высшая логика”. — Больше приказов не будет? — Уж очень ты нетерпеливый. — Энергия расходуется. — Как же так, Соур? — фальшиво удивился Сандр, стараясь выиграть время и обдумать одну нужную мысль. — А я думал, что ты практически вечен? — Так оно и есть. Только нелогично зря расходовать энергию. — Да, Соур, с каждым разом я все больше и больше убеждаюсь — ты действительно Универсален. — Слово “Универсален” Сандр произнес так, что робот от удовольствия заблестел глазом. — Вы, Сандр, несколько преувеличиваете мои возможности. Но если быть объективным и придерживаться логики (Сандр чуть не застонал от этого слова), то я действительно многое умею и многое знаю. В прошлую нашу с вами беседу я говорил и сейчас хочу еще раз отметить, что в моей памяти записаны почти все знания, накопленные Межзвездным Советом за полуторамиллионную цивилизацию нашей Системы. Я могу возвести в степень формулу Арванако… — Да-да, — поспешно перебил его Сандр. — Ты мне ее уже как-то возводил. — Нет. Я рассказывал вам о превосходной формуле Гиеса, которая… — Верю тебе на слово. Ты не можешь ошибиться. — Это верно. — А мне кажется, Соур… — вкрадчиво начал Сандр, — что при всей универсальности, ты бы не смог вступить в контакт с жителями этой планеты? — Запрещено. Специальным параграфом Устава. Номер параграфа… — Знаю-знаю. А все же? — Почему вы пришли к такому умозаключению? — клюнул на приманку Соур. — А потому, — сказал Сандр, — что при всей разносторонности заложенной в тебе информации, ты не сможешь понять живой организм, наделенный разумом, понять его психологию во время непосредственного с ним контакта. — Полный курс возможных психологических положений записан в моей памяти. Вы ошибаетесь, Сандр. — Это ты ошибаешься, Соур. Ты не задумывался над тем, почему не одних роботов посылают в космических кораблях? Даже на опасные для жизни планеты? Потому что в жизни возникают иногда такие ситуации, которые невозможно заранее предвидеть даже таким универсальным машинам, как ты. — Я робот, а не машина. — Извини, я не хотел тебя обидеть. Видишь ли, Соур, при общении с мыслящим, в достаточной степени разумным существом чаще всего важным бывает не то, что он говорит, а его интонация, мимика, движения — совокупность всех факторов непосредственного восприятия. Понимаешь? — К чему вы клоните? — подозрительно спросил Соур. — Мне в левую голову пришла одна мысль… Раз уж так случилось, что мы сели на эту планету, то почему бы не попробовать такой эксперимент: ты, создание лучших умов нашей Системы, первым вступишь в контакт с разумными этой планеты, тем более все данные о ней записаны у тебя в памяти. И тем самым докажешь, что и лучшие из роботов твоей серии способны вступать в общение с разумными. — Это же запрещено параграфом вторым пунктом третьим, — неуверенно сказал Соур. — Вот в этом и состоит различие между машиной и мыслящим существом, — пренебрежительно сказал Сандр. — Будь па твоем месте я или кто другой живой, то он бы не задумываясь согласился. Такой шанс войти в историю выпадает очень редко. Робот страдал. У него так интенсивно мерцал глаз, что Сандру даже стало жаль его. Но еще больше он жалел себя. — Но… — с запинкой сказал наконец Соур, — если я отвечу согласием, во мне сразу же перегорят предохранители и автоматически выключится система питания энергией. Я буду мертв. — Да, это верно… — протянул Сандр, внутренне ликуя. — Об этом я и не подумал. Ладно, — после паузы сказал он и сделал вид, что решился, — беру на себя всю ответственность. Ты мне покажешь, где отключаются эти самые предохранительные клапаны, и я, фумпала с ними, отключу их. — Вы опять нарушаете параграф, — машинально произнес Соур. — В общем, я тоже решился — каждый эксперимент требует жертв. — С каждым твоим словом, Соур, я все больше и больше проникаюсь к тебе уважением. Ты действительно Совершенный робот. Так как же отключить предохранители? — Да, решился я, — с чувством повторил Соур. — Сформулируйте приказ. — И только? — удивился Сандр. — Отключать ничего не надо? — Нет. Потому что я решил, что этот приказ логичен. Сформулируйте его. — Я, пилот разведчика “Селман”, приказываю роботу Соуру остаться на планете Х-II для непосредственного контакта с разумными. — Вступать в контакт по возможности осторожно, стараясь не травмировать психику разумных, — добавил робот. — Стараясь по возможности не травмировать психику разумных, — послушно повторил Сандр. — Все? — Да. Когда вы за мной вернетесь? — Три ску тебе достаточно? — Достаточно. — А как ты собираешься вступать в контакт? — с любопытством спросил Сандр. — Я думаю, — коротко ответил робот и начал сокращаться в размерах. — До встречи. — Желаю успеха! — злорадно крикнул Сандр в облако пара, которым окутался робот. — Передай мой привет разумным. — Он хихикнул. — Универсальная фумпала! Нет, лом ты мой железный, ни через 13 ску, ни через 100 ску я сюда не вернусь. И никто за тобой не прилетит сюда, потому что в Совете будет доложено пилотом Сандром, что робот Соур вышел из повиновения и выбросился в космос. И поверь мне — Сандр все преподнесет им в наилучшем виде, со всеми подробностями. Может быть, через 1000 ску ты поймешь наконец разницу между своей универсальностью и пилотом Сандром и почему все же для встречи с другими разумными посылают не роботов, какие бы они ни были, а живых и разумных… — Сообщите о нашем решении в Совете, — неожиданно появившись в иллюминаторе, сказал Соур. — Непременно. Прощай, Соур. — Сандр скорчил на обоих лицах страшную рожу счетчику морали и, прыгнув в пилотское кресло, торжествующе заорал: — Фумпала в степени и еще трижды!.. На счетчике, торопясь, одна за другой, выскакивали новые суммы штрафа. Но Сандру теперь на это было наплевать. Он уносился прочь, в глубину синего неба, а шутка, которую он выкинул с универсальным роботом, стоила несколько лишних цеталов… …В голове у Хасана билась тупая ноющая боль. Иногда эта боль опускалась в пересохший желудок и вызывала сильную изжогу. Тогда Хасан тихо стонал и, морщась, отпивал из пиалы теплый шербет. — Оййх… — Тугой комок снова подкатил к горлу. Хасан болезненно сморщился. Пожалуй, они перебрали. Хасан вспомнил вчерашнюю пирушку у чувячника Али, того, что живет у пешеходной калитки Главных ворот. Уж слишком кисло было во рту. Последний кувшин был явно чужим для желудка. Можно было бы его оставить и на утро… Он, кряхтя, встал и, шлепая босыми ногами по глиняному полу, вышел в маленький, огороженный глинобитной стеной дворик. Сморщив лицо, он посмотрел на солнце — оно стояло высоко. Вздохнув, он еще раз с нежностью вспомнил кувшин вина, который вчера так удачно обменял на полтаньги, и не спеша начал складывать сеть. Сильно припекало солнце. Загребая ногами горячую пыль, Хасан не спеша двигался вниз по кривой улочке. Он сейчас мечтал только о том полкувшине вина, который заставит веселей бежать по жилам кровь, расклепает гудящую голову, освежит благодатной влагой пересохший рот и желудок и весело прищурит опухшие глаза. Но где достать, когда в кошельке нет даже полтаньги?.. Для начала Хасан направился к Кривому Абдулле, его лавка находилась совсем рядом, у серных бань. Меняла Абдулла сидел у входа своей лавки и, почесывая локтем толстый живот, ел дыню. — Мир дому твоему. Как дела, как торговля? — присаживаясь рядом с ним на корточки, издалека начал Хасан. — Слава аллаху, — лениво ответил Абдулла и отрезал сочный ломоть дыни. — Это хорошо, когда хорошо, — глубокомысленно заметил Хасан. — Хуже, когда плохо. Кривой Абдулла молча продолжал есть дыню. — И совсем никуда не годится, если у тебя дома сварливая и худая жена. Не жена, а горькая отрыжка шайтана. — Возьми палку и побей, — равнодушно посоветовал Абдулла. — Не могу, голова болит, — пожаловался Хасан. — И жены у тебя нет. — Абдулла громко рыгнул. — Душа с аллахом разговаривает, — доверительно сообщил он вздрогнувшему от неожиданности Хасану. — Хорошие у тебя отношения с аллахом. Абдулла перестал есть дыню, повернул круглое лицо с бельмом на одном глазу к Хасану. — Послушай, Хасан, если ты пришел просить у меня деньги, то зря мучил свои ноги. — Мне надо две таньги. Только две таньги. Вечером я принесу тебе за них полную корзину рыбы. — Когда принесешь, тогда и получишь, — снова принимаясь за дыню, сказал Кривой Абдулла. — Одну таньгу, Абдулла! — В голове у Хасана переливали раскаленный свинец. — Вы что, сговорились с чувячником Али? То он с утра приходит клянчить деньги, теперь ты. Я чеканю их? Убирайся! — Аллах тебя покарает, Кривой Абдулла, — поднимаясь, сказал Хасан. — Ты скоро лопнешь от жира, как созревший чирий на холке моего осла… — Пошел-пошел, оборванец! А то сейчас людей позову!.. Хасан забрел еще к нескольким соседям, но сегодня его везде постигала неудача — у одних тоже не было за душой ни таньги, другие жадничали, третьи молча закрывали дверь. Солнце продолжало нещадно палить. Город вымер, впав в послеобеденную спячку. Вконец расстроенный Хасан наконец решил идти ловить рыбу. Проходя мимо Главных ворот, он зашел к чувячнику Али. Али храпел на земле, не дойдя всего двух шагов до ступенек своего дома. Рядом с ним лежал пустой кувшин. Хасан сплюнул, поправил сеть на плече, уважительно кивнул игравшим в нарды стражникам и вышел из города. Сегодня он решил порыбачить за Каменным мысом: там была хорошая тень и из расщелины в скале стекал ручеек родниковой воды. Дойдя до мыса, Хасан напился и, забросив сеть в море, прилег отдохнуть в густую сыроватую тень. Проснулся он, когда солнце уже побагровело и совсем склонилось к морю. Хасан встал, побрызгал на лицо родниковой водой и, отвязав веревку от деревянного кола, потянул сеть. Сеть не поддавалась. “Шайтан! Что за неудачный день!” Хасан закатал шальвары и полез в воду. Нащупав камень, он попытался освободить сеть, но только сильней запутал ее. Еще раз помянув шайтана, Хасан поднатужился и вместе с сетью выволок камень на берег. Разворошив водоросли, он с удивлением обнаружил, что в сеть к нему попал не камень,а какой-то похожий на кувшин предмет. “Старинная амфора с вином”, — сразу подумал Хасан. Они иногда попадались рыбакам. Он взял камень и осторожно постучал по верхней части неизвестного предмета. — Не бойтесь меня, — вдруг густым басом сказал похожий на кувшин предмет. У Хасана спала с головы чалма и вспотели подмышки. Он проглотил слюну и неуверенно посмотрел по сторонам. — О, аллах! Клянусь тебе пить только в дни полнолуния!.. — дрожащим голосом начал было Хасан и замолчал, выпучив глаза. Похожий на кувшин предмет окутался густым паром и начал расти вверх. — А?.. — сказал Хасан, и его коротко остриженные волосы стали дыбом. Пар продолжал клубиться, затем раздалось шипение, подул ветерок, и перед ошалевшим Хасаном появился громадный ифрит с одним красным глазом во лбу. Хасан тихо ойкнул, упал на песок и закрыл голову руками. — Я повторяю вам, разумный, не бойтесь меня, — пророкотал где-то вверху голос ифрита. Хасан только сильней прижался к песку. — Я понимаю, что для вас, как бы поточнее выразиться… несколько странен мой вид, вы боитесь меня. Но попробуйте рассуждать логично: если бы я захотел вас обидеть, то давно бы мог привести это намерение в действие, — сдерживая грохочущий голос, убеждал ифрит. — Я давно наблюдаю за вами. Вы разумный, независимого склада ума, то есть идущего вразрез с общепринятой в вашем обществе моралью, и поэтому я остановил свой выбор на вас, надеясь, что наш контакт не нанесет вам особенно сильной психологической травмы. Поднимитесь — вы же разумный. Разумный продолжал лежать, чувствуя, как его сердце щекочет пятки. — Чтобы вы ко мне почувствовали дружеское расположение, хотите, я исполню какое-нибудь ваше желание? — просительным тоном сказал ифрит. Хасан пошевелился. — Любое? — спросил он, не поднимая головы. — Почти! — обрадовался ифрит. — Исчезни. Имя всемогущего аллаха в моем сердце — исчезни! Ифрит огорчился. — Я ваш друг. — Друг? Если ты друг, достань кувшин красного вина. — Приказ понял, — сказал ифрит. — Химический состав этой жидкости мне известен. Готово, — через минуту сказал он. Хасан сел и, собравшись с духом, посмотрел на ифрита. В общем-то, ифрит был не очень-то и безобразен. Страшным в нем был только большой, вспыхивающий красным цветом глаз. Хасану иной раз после седьмого кувшина виделись ифриты и пострашней… — Ну вот, разумный, видите: ничего страшного не произошло, кроме того, что у вас сейчас усиленно работают потовые железы. Поверьте мне, и это скоро пройдет. Я исполнил ваше приказание. — Ифрит нагнулся и протянул Хасану сосуд. Выпив вина, Хасан почувствовал себя смелей. — Ифрит, — сказал он, — ты для меня слишком большой- отойди дальше. — Хорошо, — послушно сказал ифрит и отошел на несколько шагов в сторону. — Ты хороший, ифрит, — похвалил его Хасан. — Да, — согласился ифрит. — Во мне заложено много знаний, которыми я мог бы поделиться с тобой и другими разумными. Они принесут вам пользу, вы станете жить лучше. Я научу вас обрабатывать землю с помощью машин… — Да, ты — хороший, — убежденно повторил Хасан. Блаженными ручейками вино разбегалось по крови. — А не мог бы ты сотворить еще кувшинчик? Аллах вознаградит тебя-ты помог в трудную минуту бедному рыбаку, — поспешно добавил он, видя, что его просьба пришлась не по вкусу ифриту. Выпив второй кувшин, Хасан быстро захмелел. — Мы сейчас пойдем с тобой в город, и я познакомлю тебя с одним хорошим человеком. — Хасан двинулся к ифриту и взял его за громадную руку-клешню. — Он — хороший… — Ученый? — отстраняясь, спросил ифрит. — Очень… Только забывает, что у него есть сосед, который утром тоже хочет выпить вина. А я — нет… — Ваш сосед поймет меня, не испугается? — Кто? Чувячник Али испугается? Чувячник Али никого не боится, даже моей бывшей жены… А Кривого Абдуллу я сегодня побью. Видит Аллах, во мне давно зрело это желание… — Акт насилия не к лицу разумному, — укоризненно сказал ифрит. — А в городе мне пока еще рано показываться. Вы лучше приведите Али сюда. Я подожду. — Все равно побью, — упорствовал Хасан. — А ты, клянусь головой пророка, ты очень умный, как главный визирь. Но мне нужен еще кувшин вина, не то Али сюда не пойдет. — Это обязательное условие? — с сомнением спросил ифрит. — Аллах свидетель. Иначе Али не поверит в твое существование, — убежденно сказал Хасан. — Логично, — подумав, согласился ифрит. И сотворил. Теперь Хасан не боялся ифрита и смотрел во все глаза, надеясь запомнить волшебство, но так ничего и не понял. — Не успеет солнце сесть за море, как мы с Али будем тут, — заверил Хасан и, подхватив сосуд с вином, быстро зашагал к городу, иногда почему-то заваливаясь то в одну сторону, то в другую. …Только на третий день очнулся Хасан. Рядом с ним мирно спал чувячник Али, а чуть дальше молился Кривой Абдулла. Он был в окровавленном рваном халате. Увидев, что Хасан проснулся, он согнал с лица благочестивое выражение и мелкой скороговоркой понес Хасана, его родителей, прадеда. А когда он дошел до бабушки его деда, Хасан наконец сообразил, что почему-то находится в глубокой яме с решеткой наверху, куда обычно бросали самых опасных преступников. Хасан провел языком по пересохшим губам и попытался приподняться. Тело болело так, будто его сбрасывали с самого высокого минарета в городе. Он застонал и снова лег на сырую землю. — О, аллах! — простерев вверх руки, кричал Кривой Абдулла. — Зачем ты, благоразумный, поставил на моем пути этот навоз в человеческом облике?! — Расскажи, что случилось, Абдулла? — спросил Хасан, пытаясь вспомнить, за что же мог попасть он в самую страшную тюрьму города. — Что случилось?! — взвизгнул Кривой Абдулла. — Ты еще спрашиваешь, что случилось, враг жизни моей?! Завтра палач выколет нам глаза, вырвет язык, а потом отрубит головы — вот что случилось!.. — Ты слышишь? — разбудив чувячника Али, сказал Хасан. — Нас завтра казнят. — Все в руках аллаха, — сказал Али и перевернулся на другой бок. — Рассказывай же, Абдулла, — попросил Хасан. — И оставь в покое моих родителей. Ты завтра встретишься с ними у аллаха дома и все им сам скажешь. Перемежая рассказ воплями и проклятиями, Абдулла поведал Хасану, что случилось три дня назад. А случилось вот что: придя в город, Хасан разбудил спавшего в той же позе чувячника Али и первым делом распил с ним сосуд с вином. Поведав о встрече с ифритом, Хасан предложил ему отправиться на берег моря. Али согласился, но предложил сперва зайти к Абдулле и выпить еще кувшинчик, объяснив это тем, что должен подготовиться к встрече с ифритом. Вначале Кривой Абдулла и разговаривать не хотел, но в конце концов друзья уговорили его поставить кувшин вина, рассказав о предстоящей встрече с ифритом. Абдулла не очень-то и поверил рассказу Хасана, но сосуд, который тот предъявил в качестве вещественного доказательства, поколебал его недоверие, и он решил тоже пойти на встречу с ифритом. — О копыто ишака, о ночной горшок! — стуча себя кулаком по голове, запричитал Абдулла. — Продолжай, — сказал Хасан, он тоже начал что-то припоминать. Но смутно. На берег они пришли, когда уже начало темнеть. Увидев стоящего за скалой ифрита, Али и Кривой Абдулла в ужасе упали на песок, но вскоре осмелели, видя, как уверенно ведет себя с ним Хасан. Потом они разговаривали с ифритом. Кривой Абдулла выпросил себе мешок золотых, а Хасан и Али еще по кувшину вина. Уходя, все трое договорились с ифритом встретиться завтра на этом же месте. Вернувшись в город, Абдулла пошел домой прятать мешок с золотыми, а приятели завернули к кому-то в гости, где за кувшином вина и проболтались о своем знакомстве. На следующий день слух об этом дошел не только до кади, но и проник во дворец халифа. Халиф приказал схватить возмутителей спокойствия и Допросить под пыткой. Пытали в основном Кривого Абдуллу — Хасан и Али были до такой степени пьяны, что даже удары кнутом из кожи носорога не могли привести их в чувство. Через полчаса Абдулла рассказал не только о встрече с ифритом и мешке с золотыми, но и о заветной кубышке, что была спрятана под кривой чинарой. Халиф очень заинтересовался ифритом и приказал воинам схватить его, но две сотни самых лучших молодцов не смогли даже с места сдвинуть ифрита. Халиф понял, какое мощное оружие он мог бы получить в свои руки, если чудовище будет ему повиноваться. Он собрал большой диван, звездочетов и приказал в течение ночи и дня найти решение, иначе… К утру следующего дня один хитромудрый старикашка из звездочетов сказал: — Сделаем как можем, если не можем как хотим. — И предложил следующее: — Если ифрит, — сказал он, — не убил рыбака Хасана и не тронул напавших на него воинов, следовательно, он добрый ифрит. Если это так, то мы ему скажем: или ты, ифрит, будешь слушать нашего халифа — живн он вечно! — или мы убьем рыбака Хасана, потом отрубим голову чувячнику Али, потом вырвем второй глаз у менялы Аб-дуллы… — Но мне не нужен добрый ифрит, — недовольно перебил старикашку халиф, — мне нужен злой ифрит, ифрит-воин. Старикашка покашлял в сухонький кулачок: — А когда мы его приручим, тогда постепенно сделаем злым. Это просто. — Если все будет так, как ты говоришь, звездочет, — быть тебе главным визирем, — изрек халиф. Главный визирь побледнел, а хитромудрый старикашка бросился целовать золотой чувяк халифа. И хотя хитромудрый не стал главным визирем — его через семь дней нашли дома посиневшим от яда, — все было так, как он предположил. Когда на глазах ифрита к шее Хасана палач приставил острый кинжал, он сказал: — Параграф первый Устава для роботов гласит: “При возникновении угрозы для жизни существа разумного, робот обязан сделать все возможное для ликвидации опасного положения, вплоть до самопожертвования”. Я жду вашего приказания, халиф. …При виде окутанного дымом ифрита, рыкающего громовым голосом заклинания, вражеские воины в ужасе бросали оружие и разбегались. Таким образом халиф одержал множество славных битв, воспетых потом поэтами. После смерти халифа ифрит пошел по рукам. Он был даже слугой одного царька варваров, который с его помощью стал императором, но никто его не попросил научить тому знанию, что мог дать ифрит. Был, правда, один чудак, который хотел узнать, что такое Вселенная, но его сожгли на костре. А в общем, все просили или золота, или славы для себя. Второй параграф Устава Межзвездного Совета, запрещавший вступать в контакт с цивилизацией, стоящей по уровню развития ниже Третьего пояса, оказался прав… Точно через три ску, минута в минуту, робот был на том же месте, где его оставил пилот Сандр. Корабля не было. И робот стал ждать. Он долго стоял на берегу, пока на него не наткнулись мальчишки из города. Чтобы не привлекать к себе внимания, он сократился до размеров кувшина и ушел под воду. С тех пор он сидит там и терпеливо ждет прибытия корабля. Через каждые сто лет он тщательно проверяет направленным импульсом систему блоков и заботливо смазывает передающие шестеренки коленных суставов. А в это время на земле все дела и подвиги ифрита с одним красным глазом во лбу продолжали обрастать небылицами и легендами, пока его действительное существование полностью не превратилось в сказку из 1001 ночи… Бедный, бедный робот Соур. Никогда за тобой не прилетит космический корабль. Тебя обманули.
Андрей Михайловский · ОДИНОКИЙ БОГАТЫРЬ (Приключенческая повесть)
Часть первая “ПАРАД-РЕТУР”
1
В Тулоне в начале века строился для России крейсер “Баян”. Водоизмещением 7700 тонн при скорости 22 узла. Оснащали артиллерией, минными аппаратами. Команда “Баяна” перед выходом корабля с верфи находилась во Франции, среди матросов двое вятичей — Василий Бабушкин и Афоня Деготь. В Тулоне русские матросы как-то заглянули в балаган. Артист-атлет показывал силовые фокусы. Коронным номером француза был подъем на столе десяти человек. Делал он это так: из публики выходили и размещались на столе желающие принять участие в представлении. Черноусый красавец подлезал под стол, выгибал спину… Вуаля! — Ерунда, — зевнул Василий Бабушкин. — А что, Вась, слабо сесть на стол? Такой, як ты, за троих потянет своим весом. Афоня Деготь ответил за друга морячку-товарищу: — Мы не могим встревать в эту сплавку. — Это ж почему? — сказал Бабушкин. И вдруг зашагал к подмосткам. Силач с нафабренными усами смерил русского матроса борцовским взглядом. А когда Бабушкин и поспешивший за ним Афоня уселись на стол, закачал головой и отошел в сторону. Жестом он предложил морячку попробовать повторить его номер. Тогда Бабушкин слез со стола, обратился к дружку: — Сажай всех, кто желает. Дуй горой! — Эн, де, труа, катер, сянк, сеп, уи, неф, дис!.. Мать честная, чертова дюжина! На солидном круглом столе уселись тринадцать мужчин, Афоня хотел удалить одного-двух, но Бабушкин прекратил его старания. — Пусть хорошо держатся. Ногами не болтают. — Полундра! — загорланили моряки. Заспорили: поднимет — не поднимет. Бабушкин подлез под стол. Захватывающий момент! Что он делал там? Искал точку опоры ногам и место в центре для богатырской спины под тяжелой “палубой”. Нашел, поднатужился и разогнулся… Ножки стола оторвались от пола, повисли, вдруг вздернулись на двадцать — тридцать вершков. — Уах! — вылетело как из одной могучей глотки. Зрители выражали восторг бурными возгласами. Афоня вспомнил начало французской фразы: — Доне муа диз… Бонжур — знай наших! — И перевел эту фразу в патетическое звучание: — Доне муа диз… Бонжур! Покедова! И уже кричали русские матросы Василию и Афоне: — Навертывай на крейсер! Живо! Полный! В последующие дни Бабушкин заточил себя в кубрике. На портовых улицах, в матросских харчевнях говорили о страшной силе русского моряка. Бились об заклад, сколько человек его осилят. Женский пол, из тех, кто были в балагане на представлении, подсылали русскому красавцу надушенные послания. Чтобы прочесть их, Бабушкин засел зубрить словарик французских слов. Одно письмецо зазубрил сполна. Кончалось оно именем назначившей ему любовное свидание. Муза. Но встречи избег. Женщин опасался, а вина не пил. Афоня упросил дружка, Бабушкин неохотно дал согласие. Вместо Бабушкина пошел на рандеву с Музой Деготь. Вместо пылкой французской дамы чуть не попался Афоня в объятия портовых подонков. Пятеро типов взяли матроса с русского корабля в кружок. Пропал Афоня? Ан, нет! Раскидал апашиков дерзкими приемчиками вятичей. Разлетелись, как рюхи. Был Афоня хват, да послабей Василия. Был Афоня удалым, а станет скоро хворым… II вот Тулон в дымке того, что прошло — было. “Баян” в Порт-Артуре, а в море и на сопках война. Русские матросы — люди от сохи — на флотской службе соединились в крепком товариществе. Всем им война на кой черт! Если подумать, она не нужна и японским людям. А убивать и калечить себя и других надо. У Василия Бабушкина к этой войне свое отношение: воевать, если уж пригнали, надо весело. “Весело” на Руси — объемное слово. Весело — не радостно, не смешно. Весело — не потешаться, не скалить зубы, а быть собой, не давать воли страху.2
Апрель 1904 года на исходе. В Порт-Артуре шла та известная нам теперь по многим книгам жизнь, характерная для городов-крепостей, которые противники хотят одолеть, а защитники отстоять. Как-то под слякотный вечер капитан 2-го ранга Иванов возвращался из штаба на корабль и встретил георгиевского кавалера двух степеней, узнал Василия Бабушкина. — Заскучал, Василий Федорович? Вопрос Иванова имел основания. Находясь на “Баяне”, Василий Бабушкин не упускал случая разогреть кровушку на других палубах. Ходил на сторожевых катерах, брал с другими смельчаками на абордаж неприятельские брандеры. Нападение — вот что было по душе русскому матросу. Бабушкин присмотрелся к противнику. — А не замечали вы, ваше высокоблагородие, что кораблики японцев вблизи нас топают одним курсом? — Что ты этим хочешь сказать? — Кавторанг насторожился. — Вы же, если мне память не отшибло, на “Амуре”? “Амур” был минным заградителем, Иванов — талантливым морским офицером. — Поставить по этому курсу “орешки”?.. А что скажет начальство? — Иванов уже успел приглядеться к руководителям обороны морской крепости. Начальство отклонило эту “затею” командира минзага. Иванов искал в отказе лазейку. 1 мая на море сгустился туман. Вблизи врага под прикрытием тумана “Амур” выполняет отважное дело как разведку. На минзаге Василий Бабушкин. “Амур” не обнаружен противником и возвращается без мин к месту стоянки. Мины расставлены по вероятному курсу японцев. Никто из минеров не пострадал (что нередко случалось при постановке мин). Тайна закрыта не только от недругов. Афоня допытывается: — Где пропадал ночью, Василий? Откройся одним словечком. В такую же туманную ноченьку двое друзей вместе зарабатывали Георгиевские кресты — выслеживали на суше японских агентов. Накрыли троих на месте, когда эти изворотливые “ходики” подавали сигналы огнями… Василий разрешает себе побаловаться махрой, берет у Афони солдатскую трубочку-самоделку, попыхивает и — молчок. Японцы не имели причин отклоняться от привычного курса. Бездействие русских кораблей, запертых в Порт-Артуре, развязывало им руки. А мины были коварным врагом. Невидимый враг страшнее более сильного — зримого. Эскадра японцев не впервой проходила на виду осажденной крепости. Вот и на этот раз корабли идут знакомой дорогой… И вдруг море приносит минную смерть. Эскадренный броненосец “Хатсусе” тонет на месте взрыва. Что случилось, гадать будут потом; прежде нужно спасать людей. Второй эскадренный броненосец “Ясима” спешит к месту катастрофы. И подрывается на мине. Страшное зрелище быстрой гибели двух закованных в броню кораблей, без видимого неприятеля (в это время эскадра дефилировала как на параде), вызывает ужас у японских моряков. Мины? Но их тут не было. Подводные лодки? Нет! Японские моряки на уцелевших кораблях открывают беспорядочную стрельбу по “невидимкам”. Но враждебное море нельзя наказать, море не принимает ран. Русское командование осталось при прежнем мнении, высказанном кавторангу Иванову: “К чему ваша затея?” Осажденные не подбросили губительного огня мятущемуся врагу. Русские корабли на внутреннем рейде не сдвинулись с места. Но мы описываем не оборону Порт-Артура. Мы идем по следам жизни двух вятских крестьян, оказавшихся в матросской робе. У Василия Бабушкина уже было все четыре Георгиевских креста, у Афони Дегтя — двух степеней, когда непостоянная военная судьба пригрозила им последним, деревянным крестом. Когда японский артиллерист посылал свой снаряд на укрепление № 3, он не знал, что там будет находиться один из виновников гибели “Хатсусе” и “Ясима”, а если бы знал, то от волнения мог бы не попасть в цель. Афоня вызвался починить станок на укреплении № 3, а Бабушкин пошел за компанию. Японский снаряд разорвался вблизи Василия, Афоня не получил и царапины. Он потребовал носилки, чтобы отнести друга в госпиталь. Солдат-санитар покачал головой: — В дороге до лазарета помрет. Дадим умереть на земле. Чужая земля, а земля. — Такие, как он, не помирают. — Непоколебимая вера Афони Дегтя заставила санитаров уложить на носилки безжизненное тело. В госпитале положение Василия Бабушкина признали безнадежным. У матроса — восемнадцать ран. — Если и будет спасен с помощью сил природы, — сказал доктор, — пролежит долго. — На глазах хирурга умирали и с меньшими ранениями. — Отвоевал. Может быть, и лучше ему умереть… — Долго, не долго лежать ему, а не дольше жизни, — высказался верный друг Афоня. — Мы с ним и не такое одолеем! — А надо ли одолевать? — спросил скептик-врач. В госпитале Бабушкин прочел во французской газете, что русские моряки потопили на внутреннем рейде свои корабли. Не потрудились выйти на глубокие места. Верхние палубы затопленных кораблей — над водой. Их, конечно, поднимут японские водолазы. Какие трофеи! Василий заплакал, как дитя. Поправлялся уже, а тут едва не изошел кровью. Он не знал, не дочитал (слабое утешение) о броненосце “Севастополь”. Броненосец этот заставил французов вспомнить легендарную оборону русскими Севастополя. Броненосец “Севастополь” под командой капитана 1-го ранга фон Эссена со своим “севастопольским” экипажем один ринулся в неравный бой на внешний рейд… И вот японцы в Порт-Артуре. Японские врачи не делали различия между ранеными русскими и соотечественниками. Удивлялись божественному сложению Бабушкина. Учились у него русскому языку, а он у них — японскому. Кто-то из пленных пожелал выслужиться у победителей: Бабушкин для японцев — злодей. Что же вышло — поди пойми японцев! Еще лучше стали лечить, в палату заглядывали высшие офицеры. О том, как теперь сложится его жизнь, Василий не думал. Скучал и тревожился: где Афоня, что с ним? Японские врачи в Порт-Артуре поставили матроса Василия Бабушкина на ноги, но признали полным инвалидом. Инвалида-русского вежливо отпустили на все четыре стороны. А в какой стороне был его дом? Сторона-сторонка известно где, да ведь ехать-плыть к родине — весь мир можно объехать.3
Порт-Артур — Сингапур. Василий Бабушкин плывет на английском пароходе. Русские эскадры топают на Дальний Восток. Огромный мучительный путь. У адмирала Того везде тысячи глаз и ушей. В пути Бабушкин по французскому журналу узнал некоторые черты характера японского адмирала. Японских матросов, солдат и врачей Василий видел воочию. Русские адмиралы Рождественский, Небогатов, другие еще собирались показать себя Европе и Азии: О Того европейцы писали почтительно. Хорошо сложенный, высокий, слегка сутулый пожилой человек, с большой головой и маленькими кистями рук, всегда с трубкой. В остренькой бородке седые нити волос. Кончил с блеском высшее военно-морское училище на Британских островах. Много плавал на английских кораблях. Перенял у своих учителей традиции самого сильного в мире флота. Величайший хитрец с опасным для врагов умом, тонким коварством, жестокостью. Такой человек (комментировал журнал) видел далеко и мог управлять хорошо кораблями. Предполагалось, что адмирал Того держит флаг на эскадренном броненосце “Микаса”. На английском пароходе, где Бабушкин плыл пассажиром, ни один моряк не сомневался в гибельном для России исходе морской битвы противников. Это злило Василия, хотя он понимал: ему-то в любом случае будет не холодно и не жарко. Сам-то Бабушкин честно отвоевал, а вот брала досада. В мареве показался Сингапур. Город на самой южной точке Малаккского полуострова заявлял о себе издали большим зданием собора[286]. Вокруг города-порта много пустынных островов с отмелями. Многообразный, многоязычный Сингапур напомнил Василию лоскутное одеяло. Англичане задавали тон, они чувствовали себя дома, как умеют чувствовать (и вести себя) англичане в чужом месте. Тут, конечно, многочисленные консульства великих и малых держав. Русский консул, надворный советник Рудановский, перекочевал в Сингапур с Миллионной улицы Петербурга. К нему-то и пошел с корабля Бабушкин. Василий не ожидал восторженного приема, но ошибся. Как только консул узнал, кто стоит перед ним, вскочил с плетеного кресла, обнял матроса, усадил, забегал вокруг Василия. Радость встречи с соотечественником была не бескорыстной. — Это чудо! Услышал мои молитвы бог. Само провидение мне послало тебя. И не просто русский моряк, а георгиевский кавалер, русский богатырь… Русский богатырь Бабушкин со своими восемнадцатью ранениями после долгого пребывания в лазарете и теперь утомительного пути чувствовал себя Аникой-воином. Рудановский и не подумал предложить моряку-скитальцу даже короткий отдых. Правда, он имел для этого вескую причину. Бабушкин узнал, что консулу удалось передать для 2-й эскадры, когда эта эскадра проходила мимо Сингапура, важное сообщение о месте нахождения японского флота под командой адмирала Того. “Так ли уж это достоверно?” — подумал Бабушкин и стал слушать динамичный рассказ Рудановского о том, как консульский пароход догнал флагмана русской эскадры, шел около его борта… С флагмана ему сообщили о 3-й эскадре адмирала Небогатова. Она вышла, как узнал консул, из Джибути. У Бабушкина слипались глаза, он хотел бы переменить одну из повязок, чувствуя, что от жары и пота рана под грязным бинтом кровоточит. Но вот он уловил наконец, что желает возложить на него Рудановский. Через день — два 3-я эскадра под флагом адмирала Небогатова должна показаться в этих водах. Небогатову следует передать секретную почту. Но выйти в море па этот раз Рудановскому нельзя, да и не дадут: англичане следят за русским консулом. Это должен проделать неизвестный в Сингапуре человек, но верный и русский. — Ты это и должен выполнить! А я все обставлю так, что англичане останутся с носом, — закончил монолог надворный советник. Тот, к кому он обращался, спал в кресле сном праведника. — Отдыхайте, — сказал Рудановский, — а к ночи я препровожу вас в отель. Утром мы займемся приготовлениями. Консул не допускал и мысли, что русский матрос откажется от выполнения его поручения. За такое важное дело моряк получит еще одну награду. И Бабушкин принял агентурное поручение в чаяньи долгожданной награды. Такой наградой была для него в его мыслях возможность быстрейшего возвращения на родину. Путь домой показался ему ближе с эскадрой, идущей к Владивостоку, не в пример кругосветному путешествию из Сингапура. Окружный путь, как мы знаем, бывает и самым коротким. Два чемодана с наклейками “Лондон”, “Париж” в комнате — о солидном багаже позаботился Рудановский. Но кто перевяжет раны? Позвать никого нельзя, выходить на улицу консул запретил. Ночь проходит без сна. У Василия начинается слуховая галлюцинация: голос Афони зовет на помощь, плачет, ругается на чем свет стоит. С первыми лучами малаккского солнца Бабушкин нарушает запрет консула: выходит из отеля. У подъезда сонные рикши, Василию удается не привлечь их внимания к себе. Босоногие люди спят на тротуарах. Редкие прохожие — женщины. Навстречу ему идут две ярко одетые цыганки. На плече старухи маленькая обезьяна в красных штанишках. В руках плетеная корзина с фруктами. У молодой медный таз, натертый до блеска. Обезьянка перепрыгивает с плеча старухи на плечо Бабушкина. Это заставляет остановиться цыганок и моряка. Молодая улыбается, подносит к лицу мужчины сверкающий солнечным блеском таз, прося посмотреться в него. Она говорит по-французски: — Тулон! Старуха зло произносит по-русски: — Он не любит тебя. Ты писала ему, а он не пришел. В глубине таза, как в зеркале, Бабушкин видит мордочку обезьяны. Она гримасничает, а слух Василия доносит до сознания совсем странные, обжигающие сердце слова: — Оставь его, он друга забыл, друг совсем близко, ищет его… Опять послышалось! Это же от потери крови… Почему он не пошел за цыганками? Не потребовал объяснения? Но он даже не помнит, как обезьянка спрыгнула с его плеч, побежала догонять женщин, а потом цыганки скрылись из виду. Вернувшись в своей номер, Бабушкин принял решение не уезжать из Сингапура. План, разработанный консулом, был хорош, если считать, что задача сводилась к тому, чтобы покинуть Сингапур и выйти в море без помех, не привлекая к себе внимания. Чемоданы оставались в номере, когда Бабушкин пошел к морю в назначенное место, держась в десяти — двадцати шагах за спиной человека в пробковом шлеме. Этот мужчина, с бородкой на откормленном лице европейца, передал Бабушкину у пустынной береговой черты запечатанный пакет и подвел к маленькому катеру. В топке катера разводил пары молчаливый индус в чалме. Европеец сел за руль; это был владелец катера, француз месье Леру, доверенное лицо русского консула. На корме повис французский флажок. С берега, должно быть, не разглядели скорлупку, а патрульное судно не потрудилось сойти с курса. Затем катер затерялся между двух островков, лавируя среди отмелей. А потом Сингапур скрылся из виду. Это заняло три с лишним часа. По предположению Рудановского, корабли 3-й эскадры должны были пройти мимо отдаленного от других пустынного острова. Море серебрилось до видимых краев. Стали появляться видимые дымки. Катер несколько раз сближал расстояние, но это были пароходы — “купцы”. Наконец, Леру надоело гоняться за невидимками, и он положил катер в дрейф. Солнце на экваторе — адское пекло, а тут до экватора рукой подать. Бабушкин не выпускает цейсовский бинокль из рук. От солнечного света в глазах рябит. Индус не выходит из машины. Леру не понимает русских слов. Бабушкин, кажется, забыл, что знает французский язык. “Морская прогулка” для француза затянулась. Он съедает все, что захватил из дома, один выпивает все вино. Леру курит, читает роман, на обложке которого картинка: красавчик капитан сжимает в объятиях рыжеволосую деву. Бабушкин размышляет: жизнь — не модный роман, в ней много горечи и мало любви. Что бы спросить у этого типа? — В Сингапуре много цыганок? Леру выпятил рачьи глаза. Бабушкин подыскивает французские слова. Леру понял, засмеялся. Ответ кажется неправдоподобным: “Это были моя жена и дочь”. “Чем черт не шутит! Возможно, и этот Леру — цыган…” Индус в машине не отводит глаз от черно-желтых язычков пламени. Они пляшут, кажется, потешаются над ним, и он мучительно старается вспомнить, кем был раньше, с какими встречался людьми. Сорвав чалму, ощупывает шрам от лба до затылка. У него убиты и простые чувства; жажда, голод. Живет в нем, толкает на действия потребность в тяжелом физическом труде. Он и удовлетворяет ее. Кажется, самого себя с наслаждением бросил бы в топку. Леру говорит: — Надо возвращаться. Бабушкин не придает значения его словам. Леру круто поворачивает руль. — Нет! Мы вернемся, когда выполним поручение консула. Бабушкин отстраняет француза от руля. Леру уходит в маленькую каютку, где есть одна койка и постельные принадлежности. Бабушкин закрепляет руль, идет к индусу, объясняет жестами: надо спустить пар. Чалма до глаз, а глаза, глаза Афони!.. Опять наваждение. Индус — “Афоня” словно слепой. К Бабушкину подкрадывается страх: не сойти бы с ума. Ночь поглощает собой и небо и море. Леру спит. А если эскадра пройдет при потушенных огнях? А как корабли прошли? Сердце-вещун у матроса подсказывает: не прошла эскадра. В анкерке плещется вода, Бабушкин относит анкерок индусу. Томительно долго тянется ночь. Новый день в морском просторе заставил Леру декларировать свое решение вернуться в Сингапур. Бабушкин показал кулаки, которые не потеряли внушительных размеров. Индус издавал гортанные звуки: просил воды и пищи. Уголек кончился. Бабушкин сорвал, где мог, деревянную обшивку. Леру угрожал матросу ломиком, подняв его над головой. — Вышвырну в воду — и делу конец, — сказал Бабушкин. Леру застонал от бессильной злобы. Море было пустынно. Леру закрылся в каютке. Его проклятия и угрозы призывали на головы русских все громы небесные. Индус свалился с ног и лежал, свернувшись калачиком. Бабушкин бодрствовал. На третий день на катерке вспыхнул бунт. Бабушкин-“капитан” вдруг заговорил по-французски: увещевал. Леру, можно сказать, взбесился. Тогда Василий уложил противника на лопатки, связал руки и ноги, уложил на коечку. Индус с перекошенным, и без того ужасным лицом жаждал крови, крутил над головой угольной лопатой. Бабушкину показалось самым простым столкнуть его за борт, дать попускать пузырей, а потом выловить. И он уже приготовился к этому “тур-де-бра”, когда вдруг индус заорал во все горло: — Доне муа диз… Бонжур — знай наших! — Афоня! Деготь! Ты? Это уже была не галюцинация, понял и даже не удивился Бабушкин. Его имя, произнесенное “незнакомым человеком”, произвело на несчастного волшебное действие. “Индус” заплакал, заговорил на языке своей родины: — Домой! В дом родной… К матке, к батьке, к Васютке… Бабушкина точно обожгла мысль: не вернулся ли друг-матрос из своего долгого забытья в детские годы? Какие ужасы он видал, какие страшные сны его навещали?! Как выбрался из Порт-Артура? Почему — индус? Почему русский консул сделал больного, неполноценного человека своим слугой? Красной же нитью тянулась в голове одна мысль: где эскадра? Эскадра эта состояла из старых кораблей: “Николай I”, “Владимир Мономах”, трех броненосцев береговой обороны. Они прошли через Суэцкий канал, Красное море, не заходили в Носсе-Бе, как корабли 2-й эскадры. А затем — к Зондским островам. По пути проводили артиллерийские учения. Ночью шли при потушенных огнях, но путь эскадры для противника был секретом полишинеля. Русская агентура работала спустя рукава, часто не подавала признаков жизни. Телеграфные запросы с пути в Главный морской штаб не вызывали в Петербурге необходимых флагману ответов. Небогатову оставалось только гадать, где искать 2-ю эскадру Рождественского. Ему казалось, что если теперь в считанные часы он не получит каким-то чудом указания, где группируются основные силы отечественного флота, ему остается одно — застрелиться. И он пустил бы себе пулю (и тогда бы не попал в каземат Петропавловской крепости)… Скорлупкой выглядел катерок с палубы броненосца, когда раскачивался на волнах, поднятых кораблями эскадры. Стоящий на катере человек семафорил нательной сеткой. Безумным выглядела его попытка привлечь внимание к себе, трижды безумной была мысль: в открытом море остановить идущую на войну эскадру. “Безумству храбрых поем мы славу!” Но по какому вдохновению, какой мудрости тот единственный человек, который только и мог остановить корабли, приказал поднять на фок-рее черные шары? Стоп машинам! Спустили шлюпку. Приняли на борт троих. На катере остались два матроса. Когда Бабушкин ступил на палубу русского корабля, он упал лицом вниз и не мог сам подняться. Поднятый под руки лейтенантом и каперангом Смирновым (оба интуитивно поняли, что этот измученный человек принес им какую-то важную весть), он без слов протянул запечатанный пакет. Контр-адмирал Небогатов, в белом кителе, в широченных черных брюках, в фуражке с большим флотским козырьком, в золотых эполетах с черными “орлами” и с неизменным биноклем, торопливо схватил пакет левой рукой, а правой — перекрестился. В агентурном донесении консула Рудановского было сказано и о матросе, который взялся вручить адмиралу пакет, — полном георгиевском кавалере, герое обороны Порт-Артура… Небогатов пробежал глазами строчки в бумагах: — Черт побери! Я получил то, что надо! — И к Бабушкину: — Молодчага! Лейтенант граф Мирбах сам отвел Бабушкина в лазарет, где уже находился Афоня — живые мощи. Месье Леру вернулся победителем в Сингапур, в катер подбросили уголек, дали сопровождающего — матроса, которого списали с корабля. Это был не первый матрос русских эскадр, из тех, кто по разным счастливым и несчастливым стечениям обстоятельств оставались в чужом порту. Но последним, потому что теперь для других чужой берег станет неволей.4
“Раскинулось море широко”. В этой песне тысяча куплетов. Всякий, ее поющий, присочинял свой. Что видел, что пережил — в бесхитростные строчки. Идет эскадра… Свистят боцманские дудки, бьют рынды. “На молитву становись!” Среди множества команд нет одной: “Петь и веселиться!” Смерть — не самое страшное на войне. Кто видел смерть друга в жаркой битве, тот сам проникается презрением к смерти. Хуже ее — неизвестность. На броненосце в лазарете к Афоне вернулось сознание. Он видел Василия рядом с собой, и этого ему было достаточно. Бабушкин не тревожил друга воспоминаниями. Афоня потерял слух, с глазами творилось что-то неладное. Палуба уходила из-под ног (Афоня качался на койке). Земля! Безграничная, бесконечная, беспредельная. Он видел ковры полей, хребты сизых гор, водяные ленты и туманные чаши морей, и всё это в объятии лесов — исполинских дубов, корабельных сосен. Без птиц и людей, без живой твари. У болотного края с топями, зыбунами, омутами притулилась церквушка. Кривая проселочная тропка. Но что это? С заплечными котомками ползут люди-комарики. Как бы их разглядеть? Такие, помнит, были в деревне Крапива. Погост. Сторож, что ли, бьет в колотушку? А кто у корыта? Святые угодники! Мать! Афоне хочется крикнуть, позвать старую женщину, он малое дитя, нет слов… Матросские руки могут быть нежными, как у женщины, они обнимают калеку и поднимают на койке, суют в пальцы ложку. Перед недужным горячий борщ. Афоня спрашивает; — Какой нынче день? Сколько дней друзья на “Николае I”? — Вчера было 9 мая… — Победим? — Беспримерно победим! Иначе нельзя. С первых выстрелов Василия охватила боевая горячка. Это началось тринадцатого, когда Бабушкина перевели в машинное отделение. В лазарете места берегли для раненых. Потом туда спустили Афоню. Голоса орудий глухо отдавались в машине. Первая весть с палубы — перевернулся русский броненосец. Афоню потряс смех: — Дурья голова, где глаза? Перевернулся японец… Броненосец выпустил много снарядов из устаревших орудий. Дымовой порох прикрыл корабль удушливой завесой. Она мешала видеть противника. Орудия броненосца безмолвствовали, пока не развеялась пелена. Но и с этой досадной помехой комендоры истратили полторы тысячи снарядов крупного и среднего калибра. До поры “Николая” противник миловал — были лучшие корабли. Но и он получил большую и малые пробоины. — Какой нынче день? — спрашивал Афоня. Какой день! Лучше б не было этого дня… Когда все орудия неприятельского флота были наведены на броненосец “Николай I”, старший артиллерист лейтенант Пеликанов доложил адмиралу: — Стрельба бесполезна: наши снаряды не достанут до неприятельских кораблей. Небогатов заревел, как мальчишка, сорвал с головы фуражку и стал с яростью ее топтать. В машине от одного к другому передавался почти невероятный рассказ об “Изумруде”. Крейсер был прикомандирован к “Николаю”. Накануне “Изумруд” со своим командиром на мостике сражался и маневрировал, уходя с опасного места на безопасное. К ночи вышел из битвы, и ни один матрос не был убит. Всю ночь крейсер охранял флагмана, не считаясь с вероятностью погибнуть от минных атак… Когда наступил новый день, на “Изумруде”, по примеру “Николая”, отрепетировали сигнал о сдаче неприятелю, но быстро спохватились и опустили малодушный сигнал. И все на боевых постах. А на “Николае”? Команда броненосца собралась на шканцах. Небогатое, превратившийся в старую бабу (сходство дополняли широченные брюки, одутловатое лицо без фуражки, с красными пятнами — следы от недавней экземы), сбивчиво произнес, что он не страшится помереть, а молодых… у него руки не поднимаются толкать на смерть, на гибель. Весь позор он-де берет на себя и готов на казнь в России. На броненосце уже никто не придерживался разумной дисциплины, а многие потеряли и чувство товарищества. Кто-то подал убийственный клич: — Адмирал пожалел нас. Спасайся кто может… На “Изумруде” не проглядели промежуток между отрядами японских кораблей. У крейсера был превосходный ход, а кочегары и машинисты дали своему кораблю предельную скорость. Это был “сверхполный вперед”, он-то и вынес русский крейсер из зоны обстрела. Такого еще не видали японские моряки. “Изумруд” уходил в русские воды под Андреевским флагом. Сенявин, Нахимов, Макаров могли бы ему пожелать “добро”. На палубе броненосца Афоня подковылял к Бабушкину. — Братки, в машину! Откроем кингстоны… — И верно! — поддержал призыв Бабушкин. Но их взяли матросы с “Николая” в плотное кольцо. Рябой верзила лизнул пол-аршинный самодельный ножик: — Задний ход, труха, георгиевский ерой, своячок! — Я тебе не свояк, — парировал угрозу Бабушкин. — А вот земляк! И то правда, не помнишь суседского Митрича? — Земляк! Тогда не будь шкурой. — А кем? Погляди на себя. Ноги хромы, боки вмяты! — Трусы вы, как и ваш адмирал. Трюмные крысы. — Трусы проживут, а ерои подохнут. Наша матка — энто Вятка, братейник — нож… Пощекотать? — Оставь его, Митрич, он дохлый пес… Кто-то крикнул: — Убит Мирбах! И верно, убит. А каперанг Смирнов дышит на ладан в лазарете. Раскромсанные и изувеченные тела на палубах. У боевой рубки взрыв. Осколками ранило штурмана. Пристрелочные выстрелы противника поднимают тяжелые фонтаны воды у борга броненосца. И вот, русским не забыть много лет, подтянутый к рею фок-мачты, над броненосцем повис красный круг на белом фоне. Хорошо были слышны гортанные выкрики победителей: “Банзай!..” 18 июня 1905 года на другой стороне России, на Черном море уходит из Одессы восставший броненосец “Князь Потемкин-Таврический”. С борта корабля русские матросы обратились “Ко всему цивилизованному миру”. В обращении говорилось: “Граждане всех стран и народов! Эскадренный броненосец делает этот первый шаг…” Наши герои — Василий Бабушкин и Афанасий Деготь — тогда были уже второй раз в японском плену.5
Ялта — голубые глаза Крыма. Черноморская поздняя осень — теплое вятское лето. Когда вятские мужички бывали в старое время в Крыму? Ялта — курорт для господ. Но ветер русско-японской и жаркое дыхание русско-германской войны занесли в Ялту наших друзей. Смерть отступила. А слава разлетелась дымом. Жизнь их пролетела от войны до войны, если это можно назвать — жизнь. Бабушкин поправился, тело налилось силой. Афоня часто недужил: что-то давило ему на мозг, надо было делать трепанацию черепа. От земли отошли, к городскому быту не прибились. Бабушкин разъезжал по большим селам и маленьким городам, показывал с подмостков силу, на ковре боролся. По селам — с медведем, это имело успех. Но медведя не приручишь не выпускать когти. Дрессированный зверь остается зверем, а он капризен, привередлив, выдержать не может и половину того, что выпадает на человеческий удел. Один мишка подох от простуды, другой взбесился, пришлось пристрелить. Последний зачах от тоски по лесу, по берлоге. Колесил Бабушкин по стране, таскал за собой Афоню. Добрались до Петербурга; тут положили Афоню в клинику,военный медик оперировал. Посоветовал ялтинский воздух, тихий частный санаторий. Легко сказать! А как выполнить? Много думать — дело с места не сдвинешь. Идти напролом, а по ходу будоражить мысль — так поступал Василий Бабушкин. Далеко в море виднеются головы двух смелых пловцов. Вода 15–16 градусов не всякого курортника завлекает. Моряку у бережка — что за купание! Бухта минирована, сторожевой кораблик следил за людьми в воде. Но слава Бабушкина, хотя и на излете, еще действует на воображение. Дельфины резвятся, не прикасаясь к пловцам; на гальке пляжа отдыхающих нет. Это ли не красота? Вернулись из моря; да, это Бабушкин, а его спутник — неизвестный мужчина: стройная фигура и странно-красивое лицо. Чтобы согреться, стали легко бороться. Терентий прекрасно знает приемы японской борьбы, А Бабушкин вдохновенно парирует хитроумный прием, а на коварный не идет. Согрелись. Заговорили. — Персидский поэт сказал, не помню его четверостишие, но смысл: хотите оценить все, что я пережил, — ставьте на стол все вина мира. Но раны мои оставьте мне, не согласны — уберите вино. — Это сказал Терентий, разглядывая на богатырском теле Василия зарубки, которые оставила война и медведи. Но почему у Терентия “странно-красивое лицо”? Правильные черты, темные глаза, черные волосы и благородная желтизна кожи. Греция и Восток. Русский отец (морской офицер) и мать — японская женщина. Брак на сезон еще до русско-японской войны. В эскадре Рождественского отец плыл каперангом, сын (на другом корабле) — лейтенантом. В эскадре Рождественского Терентий Терентьев был телеграфистом на “Урале”. Железная громада корабля стала отличной мишенью для японских снарядов. Когда “Урал” (из разведочного отряда) вышел из строя, его оставила вся команда, кроме Терентия. Некоторое время у него работала радиоаппаратура. Но никто на русских кораблях не принимал, не расшифровывал эти радиосообщения. У Терентия был заготовлен подрывной патрон. И банка китового жира… Раздевшись, смазав тело китовым жиром, Терентий подорвал радиоаппаратуру и “ушел” с корабля в воды. Его подобрали японские матросы, с которыми он говорил по-японски. Но на суше, в Японии, Терентий не скрыл, что он русский. И тогда его сделали переводчиком, что намного облегчало положение пленного и давало возможность ему помогать многим раненым и больным соотечественникам. Вернувшись из плена в Кронштадт, Терентий как инженер бывал на заводах морской крепости и Петербурга, где познакомился с социал-демократами. Очевидец цусимского поражения царизма стал если не явным большевиком, то человеком революционных убеждений, понимавших силу и будущее рабочего класса. Еще в Японии Терентий подружился с Бабушкиным. И вот теперь они встретились в Ялте. — А я свои раны уступлю, в придачу Афонины, за деньги, чтобы забрать его из лечебницы. — Я же сказал: помогу. Я тут знаю много богатых людей. — На что им мы? — Просить не будем, сами заставят взять. Вы себя мало цените, Бабушкин. Трепов имеет пакет в Русско-азиатском банке. Трубит о силе русского человека… — Какой это пакет? — Вел дела с немцами, помогал ввозить в Россию фальшивые деньги, богат. А Денисов — владелец Гурзуфа. — Да ну! — Купил у Губонина за один миллион. С винными подвалами — розовыми и белыми мускатами в доме — в парке Раевских. Шаляпин приценивался к живописной скале. Хочет построить дачу над морем. Путилов — заводчик. Огромный военный заказ. Манташев… Все сейчас в Ялте… — Да ну их к лиху! — Лиходеи полетят в тартарары, но пока мы их посадим на стол, а ты поднимешь их на своей матросской спине. Как в Тулоне. — Это пожалуйста! Терентий, сам человек безденежный, имел связи в разных кругах русского общества, легко завязывал знакомства с людьми. Он знал четыре европейских языка и японский. Они фланируют по набережной. Ялта, как коридоры лазарета для выздоравливающих больных, раненых и посетителей. С Терентием здоровается мужчина в голубом котелке. — Юшкевич. “Приключения Леона Дрея”. Читал? — Читаю только Толстого и Куприна. Богатыри! Много знакомцев у Терентия. Представительный господин Томилин. (Русский представитель акционерного общества страхования имущества от огня “Меркурий”.) Остановка поездов под Москвой называется его именем. — А ежели революция сожжет именья, дома в Петрограде, Москве, заплатят? Терентий смеется: — Если признают русскую революцию стихийным бедствием. А кто этот симпатичный штатский, который предлагает Терентию дорогую сигару, ласково заглядывает в глаза Бабушкина? Гроза преступного мира столицы, знаменитый сыщик российской земли Шидловский. На отдыхе? Или в погоне? Разве скажет!.. Со слов Терентия Бабушкин знает, что его близкая приятельница Ольга Модестовна живет в Джалите. Ухаживает за ранеными в той лечебнице, где Афоня Деготь. Друзья расстаются до вечера. Встреча — в ресторане. Бабушкин идет в лечебницу доктора Жане. Врач и совладелец ялтинской больницы принимает Василия Бабушкина в розовом кабинете: на шелковых обоях розы, розовые кусты высажены в ящики из розового дерева. На стене в дорогой раме портрет седого ученого с белыми усами и снежной бородой — Макс Петтенкофер. В рамке поменьше — Илья Мечников у микроскопа. Фотографические снимки заставляют видеть жизнь не в розовом свете. “Во время эпидемии холеры в Санкт-Петербурге в 1908 году”. У деревянной церквушки — трупы. “Мечников с миссией врачей у тела жертвы чумы в Маньчжурии, 1911”, “В одной из китайских больниц для чумных больных — инъекция сыворотки через задвижное окно”. Не в первый раз Бабушкин разглядывает тут розовые кусты и ученых с умирающими от чумы и холеры. Жане в кресле, обитом мягкой розовой кожей, выписывает длинный, как товарный состав, счет. Итог оказывается большим, больше чем уже получил доктор. — Господин больной Деготь моими стараньями вышел в здоровые люди. Он в здравом уме, в безжирном теле. Пищу может поглощать круглые сутки в астрономическом количестве. Курс лечения по моей европейской системе можно назвать чудом двадцатого века. Но таких чудес у нас много по счетам. (Он так и сказал!) Я выписываю его… — Подождите. Я хочу еще подержать его у вас. — Со вчерашнего дня — двойной тариф. Места нарасхват. Продукты питания дорожают непомерно. Наша Ялта потребитель, привоз стоит непомерных денег. — Дайте ему все, что он просит, я заплачу, доктор. — Тогда я припишу к счету еще, скажем, три дня. — Пусть будет три дня… Закрывая за собой дверь, Бабушкин отвел душу: — Чумы на тебя нет! — Это в адрес процветающего врача. Вечер выдвинул на ялтинском небе смуглую луну. В ресторане за большим столом сытые господа слушали Терентия, который угощал их небылицами. Господа мало пьют, но заказ обилен. (Они напьются после ресторана). Рыба с Волги, виноград из Ташкента, мясо из Орла, овощи и клубника из парников Гатчины. Разносолы из Москвы. Василий Бабушкин останавливается у входа. Певица смотрит на вошедшего: вот это мужчина! Терентий увидел, что борец пришел, глазами передает ему: подожди. — Господа! Предлагаю пари, если только у вас хватит наличных денег. Что еще хочет сказать этот безнадежный космополит? Какое пари? У них ли нет денег! У Путилова злобно сверкнули глаза, он не любит таких шуток. Барон хрипло хихикнул, Елисеев смеялся стремительными вспышками. Юшкевич подольстил: — А зачем наличные? Одно имя, и всё! — Уж не твое ли? — сказал Путилов. Терентий знал, чем разжечь страсти этих сытых людей: — Кто самый сильный человек в России? Вы скажете, Иван Поддубный? — Не ошибусь, — кивнул заводчик. — А я знаю борца, который заставит вас поверить, что сильнее его человека нет. Терентий под столом нащупал ботинком ногу Юшкевича, ему нужен союзник. — Я расплачиваюсь за наш ужин и ставлю две тысячи против двух тысяч с каждого из вас, что матрос-борец Василий Бабушкин поразит всех своей фантастической силой. Он поднимет на своей спине стол, на котором разместятся десять человек. — Ой! — вскрикнул Юшкевич, которому Терентий придавил ногу. — Невозможно! — сказал Елисеев. — Я бы взял такого матроса на свою яхту, — сказал барон Гинцбург. — Десять человек не поднимет, — сказал Путилов. — Даже девять, — сказал Шидловский. — Если я буду девятым. — Разрешите пригласить за стол? — спросил Терентий. Певица проводила глазами рослого красавца, когда он подошел к столу петроградских господ, и запела: Песня туманная, песня далекая И бесконечная, и заунывная, — Доля печальная, жизнь одинокая, Слез и страдания цепь непрерывная… Бабушкин за столом сказал приготовленную для этого случая фразу: — Русскому не занимать силу у немца, француза и англичанина. — Держу пари на ближайший гонорар! — выкрикнул Юшкевич. Терентий открыл бумажник, отсчитал и положил на стол деньги. Путилов потянулся за купюрами, проверил — две тысячи. Положил в свой карман. Надо было полагать, что он пари принял. Барон понял, что Терентий старается для борца: — Зачем ему столько денег? — Я бы мог ему дать две тысячи, но Василий Федорович хочет организовать чемпионат, — сказал Терентий. — Я помогу ему и без пари, — сказал Шидловский. — А знает ли он, кто вы? — спросил ядовито писатель. — Человек! Убрать все со стола! — приказал гастроном-щик. Певица привыкла к обстановке ресторана, пела, не теряла выразительности. — А нет ли стола побольше, потяжелее? — заволновался Путилов. — Я не сяду, — решил Елисеев. — Посажу вместо себя лакея. — И то, — согласился Путилов, но взяло сомнение: — Они худые, эти людишки, пятьдесят пудов не натянут. Вот разве повара и буфетчика. Певица, которую никто уже не слушал, подошла к Бабушкину, стойко заканчивая последний куплет: Жаль нам допеть нашу песню унылую, Трудно нам сбросить оковы тяжелый!.. Терентий и Шидловский сели на стол. Юшкевич тянул к столу Елисеева. Бабушкин сбросил пиджак, расстегнул ворот косоворотки, за которым показалась тельняшка. Певица была сообразительна: — Зачем тебе это? Уйдем со мной! — Битте шен, — галантно ответил Бабушкин. — Я стараюсь для друга. — Кто из них тебе друг? В этой своре? — Друг в больнице, я должен заплатить за лечение. Василий увидел в артистке своего человека. — Тогда… придешь ко мне завтра, я возьму у них деньги, у них же… — Ах, мадам, вы же знаете, что для моряка это невозможно. Она поправила его: — Не мадам, а мадемуазель. Меня зовут Жаклин, моя мать француженка. — И, пожав плечами, удаляясь от моряка, сказала так, что ее слова услыхали многие: — На широкой спине русского мужика сидят помещики, фабриканты, купцы, а с ними в компании всякая шушера. В этом нет ничего удивительного. Вот сейчас все это увидят. Василий Бабушкин неторопливо забрался под стол. Грек-пианист забарабанил на плохо настроенном пианино. Из дальнего угла ресторана к месту представления направился морской офицер с погонами каперанга на белом кителе. Высокий лоб открыт, фуражка в руке, под дугами темных бровей великолепные и пытливые глаза, нос прямой, рот прекрасно очерчен. Представился всем и никому в отдельности: — Иванов. — А затем: — Прошу прекратить! — И смягчая свой властный приказ: — Согласитесь, господа, что герою Порт-Артура не место под столом у гуляющей публики. Офицер в предадмиральском чине даже с фамилией Иванов заставил прислушаться к своим словам. Заводчик, не слезая со стола, отрекомендовался: — Путилов. А это барон Гинцбург. Под столом Бабушкин не мог разглядеть Иванова, узнать капитана, с которым ставил мины для японских кораблей, но по голосу решил, что это военный человек: — Отойдите, ваше высокоблагородие. Я отслужился. Терентий отвел Иванова в сторонку, но, прежде чем стал объяснять, что это пари, и пари, придуманное им, чтобы выручить Бабушкина, к ним подлетела певица: — Наконец-то нашелся один джентльмен! — Джентльмены — грубые люди, — парировал Иванов. — Они не достойны вашего изумительного пения. — О, о! Я вас поцелую. Я француженка и люблю рыцарей. — Не в таком месте, — улыбнулся Иванов. — И с тем большим удовольствием, если вы это сделаете от имени Франции. — А вы всех этих господ вызовите на дуэль и убьете? — серьезно спросила дочь француженки. Каперанг Иванов не подыскивал подходящий ответ, но он не успел открыть рта, как ножки стола отделились от пола. Господа на столе даже не заметили, как пол, казалось, пошел вниз, а затем они словно повисли в воздухе. Терентий быстро считал; когда он произнес “23”, стол стал медленно опускаться на место. Жаклин с опозданием вскрикнула. Грек уже со скрипкой в руке заиграл нечто визгливое. Когда Бабушкин, мокрый как мышь, выбрался из-под “палубы”, Иванов достал из нагрудного кармана белый платочек, вытер лоб матросу. Взял его повыше локтя, повел за собой, но перед тем, как скрыться из вида ресторанной братии, сказал сухо: — Вы убедились, господа пассажиры, что русский матрос держит вас на спине. Тот, кто держит, поднимает и опускает, — может и сбросить. Честь имею! Бабушкину было стыдно. Стыд ранит сильных людей тяжелее, чем острый нож. На лунной набережной бывший матрос всё рассказал славному офицеру флота. Бабушкин знал: Модест Иванов не такой человек, как все. Требовательный командир, превосходный моряк, Иванов на своем корабле снискал любовь и уважение матросов. Модест Иванов знал в лицо и по именам всех матросов на крейсере. Но и Василий Бабушкин для каперанга был не обычным матросом, а героическим в своей сущности человеком. Вот почему старший моряк сделал для младшего то, что не стал бы делать для другого. — Курс на лечебницу, и ни слова! Ночной звонок в ялтинское заведение доктора Жане был настойчивый. Врач и совладелец не смог уклониться от делового свидания с поздними посетителями. — Мне нужен матрос. — Какой матрос? Это же частная лечебница, а не экипаж! — Афанасий Деготь. — А счет? Почему не подождать до утра? — Сейчас же будет оплачен. — Иванов командовал, как на палубе. Василий Бабушкин подкрепил командирские слова: — Подъем! Через пять минут мы отчаливаем. Ясно, доктор? — Профессор, — поправил профана врач и показал себя энергичным и исполнительным человеком. Ялтинская луна потонула в море облаков. Трое мужчин уходили за полосу робких желтых огней в темноту, где совсем рядом с ними беспокойно дышало море. Их шаги были гулкими, но кипарисы не прислушивались к шагам редких прохожих.***
В Петрограде прошли белые ночи. Их очень любила Ольга Модестовна. О белых ночах напоминает белая сирень, ее много в комнате молодой женщины в большой и пустынной питерской квартире. Дом большой, новой постройки начала века, он на Петроградской стороне и одним фасадом выходит на набережную Карповки. Сирень! Большой букет Ольга Модестовна приобрела за пайковое пшено. Когда ее квартирантка и приятельница Жаклин узнала о безумном расточительстве Ольги Модестовны, из ее рук выпала и разбилась великолепная тарелка из французского сервиза, на которой она несла лепешки из кофейной гущи. Одна утрата вызывает другую — так бывает всегда. Второй букет в комнату принес временный жилец — иностранец. Курт был шведом и весьма прогрессивным человеком, его лояльность, видимо, не ставилась под вопрос представителями новой власти в Советской России. Третий букет бело-розовой махровой сирени принес матери своего дружка-школьника мальчик Андрюша. И спросил: — Это правда, что Олежка попал в плен к Колчаку? Дети, сами того не зная, легко наносят раны своим и чужим матерям. — Я узнала, что детей взял под покровительство американский Красный Крест. Теперь будет все хорошо… Она лгала ему и себе. Голодной весной 1918 года петроградцы послали девятьсот детей в хлебную Сибирь. Олежка и Андрюша должны были уехать вместе, но в последний день мать Андрюши заколебалась и передумала, а Олежка уехал в Сибирь. А Сибирь захватил Колчак. Муж Ольги Модестовны, отец Олежки, был намного старше супруги. Он любил ее преданно до самой смерти. Смерть пришла к нему как-то неожиданно, он умер перед февральскими днями в Петрограде. Вот тогда вдова вызвала из Ялты Жаклин, с которой познакомилась у Черного моря. Мысль о сыне подчинила себе все другие мысли Ольги Модестовны, сделала ее равнодушной ко всему, что с ней и вокруг нее происходило. А происходило вот что: обитатель ее квартиры, который навязал ей свое знакомство, Курт, без малейшего повода со стороны Ольги Модестовны вдруг сделал ей предложение. Он вошел в комнату с букетом белой сирени и сказал: — Вы, конечно, догадываетесь, что я думаю и желаю? — Боже мой, зачем же мне это знать! В моих мыслях только мой мальчик. Я — мать, и несчастная мать, это так понятно. — Не стоит волнений. Детей не берут в солдаты. “Вдовы уступчивы, — полагал Курт. — Шекспир в “Ричарде III” и Петроний в знаменитой новелле (вдова у тела умершего мужа и римский воин) отлично это показали”. — Сын вернется, когда вы, дарлинг, уже станете моей женой. — Дай-то бог, — сказала Ольга Модестовна, не подумав. — Я люблю вас больше моря. — Курт называл себя моряком. — Я знаю, меня любят. — Но вы не любите их? Других. — Я люблю и многих из тех, кто меня не знает или не любит. — Нельзя любить тех, кого нет. А я здесь. И любите меня, я вам позволяю. — На родном языке Курт построил бы фразу иначе. — Как вы странно, как практично понимаете любовь! Меня давно любит один человек, очень любит, но понимает, что я должна и хочу любить только сына. — Нет! — Курт придерживался своего курса. — А на нет и суда нет! — Она хотела прекратить разговор. — Судить буду я, — мягко заявил Курт. — Молодая женщина не должна жить без мужчины. “Как бы отделаться от него? Что бы сказать?” — Когда я пустила вас в свою квартиру, то была далека от мысли иметь своего судью. Я сама сужу себя строго. За то, что отправила в Сибирь сына. А теперь вы хотите, чтоб я прибавила себе наказание за то, что доверилась вам? — Это будет приятная казнь. Нет, он был не способен ее понять. Тогда она заговорила о цветах — как чарующе пахнет сирень и как красив ее цвет чистого снега! В цветах нет грубости, пошлости. Он должен это понять. — А сирень — иностранка. Вам знакома врубелевская “Сирень”? Лунный свет отражается в цветущих гроздьях, а печальная незнакомка в переливах лиловых и фиолетовых оттенков нежна и загадочна. Что он понял? Он был верен себе. — Женщины на картинах хороши потому, что они молчат. — Рахманинов — мой любимый композитор. У него была необыкновенная почитательница: много лет в разные времена года на все его выступления приносила белую сирень. Он назвал ее “Белой сиренью”, потому что всё началось с первого исполнения его романса “Сирень”. Курт сидел, положив ногу на ногу. Ему казалось, что это — поза ценителя женщин и музыки. Она подняла крышку рояля и сыграла романс, напевая про себя: Поутру, на заре, по росистой траве Я пойду свое счастье искать… Бедное ее счастье! Но теперь она знала непреложно: до того, как уехал в гнетущую неизвестность ее сын, она была счастлива. Все любили ее, и она не обидела никого. У нее были редкостные фиалковые глаза, глаза-цветики; хороша собой, добра и отзывчива. Единственная дочь бедных, но именитых родителей была принята в Смольный институт Благородных девиц на казенный счет. На выпускном балу в нее влюбился старик, который мог бы быть ее дедушкой. Ее мало интересовало, что будущий муж, бездетный вдовец, был известным в России богачом. Он задарил ее драгоценностями — она их не носила. Предоставил большую свободу, окружил слугами и служанками. Своей свободой она пользовалась, как курсистка — посещала лекции, ходила в театры на балкон; из служанок выбрала подругу. И как пушкинская барышня-крестьянка называла себя Акулиной, когда в Народном доме с ней заговаривали студенты, мастеровые. Она жила в собственном доме, где во всех комнатах вечерами горел яркий свет и где не принимали знатных гостей, а на кухне и в “девичьих” комнатах часто устраивались “приемы”. И уж как веселились! И пели и танцевали под балалайку, гармонь. Она устраивала ночлег в доме незнакомым людям, чтобы они могли избежать опасной встречи с полицейскими и “статистами с Фонтанки”. Она прятала, а затем передавала “верному человеку” прокламации, не прочитав ни одну, не спрашивая, какая партия призывает к борьбе с самодержавием. У мужа были в Сибири заводы, он часто уезжал. Какая счастливая жизнь! А потом, потом муж-старик чуть не сошел с ума от счастья… …На зеленых ветвях. На душистых кистях Мое бедное счастье цветет. И то счастье в сирени живет… Она забыла, кто же она теперь, и тут голос Курта вернул ее к жестокой действительности. — Что за женщина была поклонницей вашего русского музыканта? Какая женщина? Ах, да! Да… — У “Белой сирени” оказалась французская фамилия и русское имя. — Это очень интересно. Я могу знать? — Какая же тайна! Фекла Руссо — так звали поклонницу Рахманинова. Курт встал, ему хотелось курить, и подготовка была проведена перед решительным наступлением. — Я приду к вам сегодня в полночь. Ее прекрасные глаза расширились: — Прямо как Герман в “Пиковой даме”. — Прошу комнату не запирать. — Я ее никогда не запираю, даже замка нет, — сказала она, не подумав. Курт откланялся. Ушел в свои две комнаты. Что же придумать? Уйти из дома, но куда? Можно было поехать на трамвае к приятельнице за Нарвскую заставу, к Стрельне. Но она в одной комнате с мужем. Стеснить людей. Пойти к Жаклин, но тогда он подумает, что она его боится. Ольга Модестовна оделась потеплей, лето было холодное, как осень. Рядом с домом Ботанический сад, сторожа ее знают. По деревянному мосту Ольга Модестовна переходит Карповку; на стоячей темной воде большие опавшие листья. Уснувший многоцветный парк. Сотни видов древесных растений. У нее тут есть любимцы. Черная и ситхинская ели, кавказская и маньчжурская липы, американский вяз. Под северным небом пальмы, кактусы. Ольга Модестовна бродит в саду осажденного города у хладных финских вод среди австралийских, канадских, мексиканских деревьев. И думает, думает о своем сыне. На земле, пусть и очень далеко от нее, есть единственный человек, способный прийти к ней на помощь. И она обращается с пламенной молитвой к нему: — Терентий! Ты можешь, ты хочешь, ты должен спасти сына! Послать телеграмму во Владивосток. Петроградский телеграф не знал перерыва в работе. Прием частных телеграмм ограничили, но ее послание приняли, не вселив ей надежды. Может быть, через Харбин? Сколько дней? А что, если адресат получит телеграммы через месяц? Все возможно в такое переменчивое время. Время было не только переменчивым, грозным, но и замечательным. Курт Стрэнг, обиженный невниманием к нему Ольги Модестовны, жаловался Жаклин. Он, видите ли, надумал осчастливить собой русскую женщину в голодающем городе, принять русское подданство, пережить вместе тяжелые времена, чтобы потом взять от жизни все, на что можно рассчитывать в новой республике. Жаклин вздыхала, конечно, она не может ему заменить Ольгу Модестовну. У нее нет ее красоты. Но поет она лучше, Ольга Модестовна только хорошо играет Рахманинова. И она, кажется, полюбила внезапно там, в Ялте, настоящего русского богатыря-красавца, Василия Бабушкина. Где-то он? Что с ним? Владивосток того времени, когда там оказались Бабушкин и Терентий после Ялты, лучше всего можно было узнать на Семеновском базаре. Там и назначил Терентий рандеву Василию после случайной и неожиданной встречи в трамвае. Город-порт с сопками, спускающимися террасами к воде, уходящими в тайгу, казался морякам родным братом Сан-Франциско. Но это было обманчивое сходство. Грязные переулки, темные переходы, зловещие лабиринты среди деревянных лавочек и бог весть какого жилья бедноты; игорные притоны, дома свиданий и опиекурильни. Бездонные замаскированные ямы — ловушки для живых и могилы для мертвецов. Все это имело своих содержателей, хозяйчиков, арендаторов, ночлежников. Корейцев, китайцев, татар, обрусевших немцев, японцев. Сброд. Разные языки, а религия одна — деньги! Торговали свежей, гнилой, сухой, мокрой и консервированной едой — дарами моря, тайги, земли и всем привозным. Тысячи разных людей забыли честный труд. Расцвела контрабанда. Воровали, грабили, перепродавали, скупали, прятали и вывозили на кораблях. Иностранные флаги на рейде. На улицах английские, американские, японские офицеры, солдаты, матросы, полицейские. На окраинах рабочие, железнодорожники, портовики. В домах подпольщики. В сопках партизаны. Тюрьмы забиты. Власти меняются. На “миллионке” приноровились к переменам в правительствах. “Нам любая власть — в масть, не мешала б только красть”. “Любая? — подумал Терентий, прислушиваясь к болтовне на базаре. — А если Советская? Не так уж она далеко… Но пока ее нет!” Терентий наблюдает: испитой босяк опрокидывает в горло мутную хмельную жидкость из жестянки, закусывает морским ежом. Английский офицер сгружает с машины рулоны превосходной кожи, лавочник-китаец тут же рассчитывается с ним. А Бабушкин не идет. Бабушкин — тот единственный человек, который может помочь в беде Терентию. В Ялте Терентий старался выручить Василия, его друга Афоню. Во Владивостоке Бабушкин может (а если нет?) спасти от неволи сына Ольги Модестовны… “Миллионка” торгует, спорит, ругается, буйствует, ворует, обманывает, развлекается. Тут знают всё. А когда отплывает “Мэри Норт”?***
Во Владивостоке закручены рельсы в порту, надпись гласит: “Конец Транссибирской магистрали”. В океанские ворота России вошли чужеземные военные корабли и еще не подошло время им отчаливать, увозя остатки разбитых армий. Но награбленное в молодой республике отправлялось в заграничные порты каждый день. Иностранные агентства с лживыми обещаниями сомнительных благ вербовали молодых людей в процветающую Америку (где было много своих безработных). Завербованных цинично переадресовывали на угольные шахты Австралии, Пенсильвании, отбраковывали, как скот, после повторного осмотра сердца, легких, зубов, пересортировывали и грузили в заселенные корабельными крысами трюмы. Бабушкина это возмущало. Он говорил Терентию: — Безумное поветрие! Владивосток нонче постоялый двор… Терентий шел рядом с Василием, думал свою думу. Сказал невпопад: — Не волнуйся, дорогая, вместе порадуемся. Бабушкин удивился: — Какая тут радость? Мерзость! — Извините, задумался. О чем вы говорили? — Да все о том же. На что полагалась Германия, завязав драку на Западе? А японцы прибрали к рукам все, что плохо лежало под боком. Циндао. Маршалловы острова. Марианские, Каролинские, Хотят господствовать в Шаньдуне, Южной Маньчжурии, Внутренней Монголии, Фудзяне. Но Приморье и Сибирь им не по зубам. — Своей головой надо думать. Народ, согласен, хороший. А правители с самурайским духом поганые. Порт-Артур еще обернется им всенародным горем. Русская кровушка отплатит им, вот увидите, в наших сыновьях. На их месте я бы с содроганием глядел на Электрический утес, где стреляла 15-я батарея защитников города, на сопку, где был штаб геройского генерала Кондратенко. Помяните мое слово, еще придут наши воины на русское кладбище в Порт-Артуре, где лежат в братской могиле 15 тысяч солдат, матросов и офицеров. Чтоб сказать пророческое слово, не надо быть пророком. В русском народе живет правда, а правда далеко видит. Собеседники шли по Маньчжурской мимо церкви, у которой чернел нищий люд, старики и старухи — коренные жители города. Стали подниматься в Рабочую Слободку. Терентий вспомнил дружка, замечательного морского офицера Дорофеева. Дорофеев служил на “Аскольде”[287]. Бабушкин, оказывается, знал, что в начале этой войны крейсер ушел в Средиземное море для совместных действий с англо-французским флотом. Но кто из них тогда мог предполагать, что высокотрубный “Аскольд” вместе с английским и французским крейсерами “Кокэн”, “Адмирал Опп” встанет на мурманском рейде! На Абрекской улице Терентий сказал: — Вот дом Пляскина, тут жил лейтенант Шмидт… Бабушкин остановился: — Давненько? — В девяностых годах. — Много воды утекло, много пролилось кровушки. Ему бы быть не на “Очакове”!.. — А где? — На “Князе Потемкине-Таврическом”, — И объяснил свою мысль: — Обстрелял бы Одессу, высадил бы десант. Что матросам не хватило? Командира корабля, смелости, решительности. Ушли из Владивостока “Лейтенант Малеев”, “Бравый”, “Грозный”. Терентий видел в бухте “Печенега”. Кроме этого вспомогательного крейсера, во владивостокских водах сейчас шаланды, шампунки со спущенными парусами. Транспорт “Шилка” отправился в Сиэтл. (На “Шилке” поднимут красный флаг в пути.) Терентий спросил: — Вы знаете, Василий, каперанга Иванова? — Встречались… — Я большой друг его сводной сестры. Олежка, о котором я вам говорил, сын Ольги Модестовны. — А мне не надо пояснять, кому и кем доводится этот парень. Сделаю все возможное и невозможное, но… — Не надеетесь? — А не надеялся бы, так не вел бы вас к моему железнодорожнику. Василий Бабушкин в добротном костюме, на пиджаке четыре Георгиевских креста. Его вид, осанка, награды производили впечатление. А где друг Василия Бабушкина Афоня Деготь? Из окна 36 номера гостиницы “Золотой Рог” Афоня наблюдал за виадуком. После Ялты они пожили с Василием на родной стороне, а потом покатили на колесах, присоединились к борцам, так и добрались после красных дней до того места, где кончаются рельсы, — на кулички. Когда по виадуку паровозы протаскивали вагоны, гостиница содрогалась, а номера наполнялись грохотом. Бабушкин забежал в номер, наказал Афоне ждать его и следить, какие составы и с кем пройдут к порту. Выйдя на железнодорожные пути, Бабушкин и Терентий обогнули несколько стрелок, перешли рельсы и направились на запасный путь, где вдоль вагонов расхаживал матрос в бушлате с японским карабином. Их остановил окрик: — Стой! Назад! Военный груз. Я стрелять мастак, мигом делаю дырку в черепушке. Бабушкин шепнул Терентию: — Двум смертям не бывать, я напрямик, а вы его обойдите. Две живых цели перед караульным матросом рассредоточились. Бабушкин запетлял, а Терентий отошел к крайнему товарному вагону. Караульный всмотрелся в фигуру Бабушкина: — Братейник! Вятка? — Вятка. — Наша матка — евто Вятка, сестрица — рожь, братейник — нож. — Митрич? — Цепкая память помогла Бабушкину вспомнить матроса-громилу на “Николае”. — Кого сторожишь, белая гвардия? — Задний ход, своячок! Караульный родную мать не подпустит на выстрел. Однако покурить можа. Бабушкин не курил, но потянулся к кисету земляка, скрутил козью ножку. Терентий у хвостового вагона поднял камушек и ловко забросил в зарешеченное окно “Столыпина”. (Так назывались арестантские вагоны с той поры, когда крестьян насильно переселяли с обжитых мест на лесные просторы матушки-России.) Выглянуло личико не то ребенка, не то старца. Терентий невольно подумал вслух: — Краше в гроб кладут. Митрич не утратил настороженности: — Эвто что за бубон? — Из американского креста, — сказал Бабушкин и прибавил весомо: — Рыцарь Колумба! — Нечистая сила! — Митрич сплюнул. — Замордовали сопляков. Зло берет на твоих лыцарей Колумба. Утром подняли писк: “Дяденька, кусочек хлебушка”. — Не кормят? — Накормят. В порту. — А когда подадут паровоз? — Когда ты напоишь меня в ресторане! — Митрич ухмыльнулся. — И то, — сказал Бабушкин. — Я живу в “Золотом Роге”. Ставлю. — Караульную службу знаешь? Но я приду, когда арестантов угонят в порт. В “Золотом Роге” Афоня поглядывал на виадук, строил дерзкие планы вызволить из неволи петроградских детей. Все его планы были виртуозно дерзки и невыполнимы. Терентию удалось закинуть записочку в оконный проем вагона. Он просил передать Олегу Иванову, что его хочет увезти домой близкий друг его матери. В вагонах этих не было санитарных удобств. В томительном пути из Сибири детей не выпускали из вагонов. Кормили галетами, сгущенным молоком один раз в сутки. Воду приносили в ведрах. Начались желудочные заболевания, потом подкралась цинга. Больных не отделяли от здоровых. Два детских трупа от Иркутска до Читы оставались в вагоне среди живых. Девочки были отделены от мальчиков, сообщения между вагонами не было. Братья не виделись с сестрами, девочки не знали, кто заболел, кто умер, хотя и слышали разговор об этом. Девочки держались дружнее мальчиков. Одна из них знала английский язык, ее сделали старшей в группе. Детская одиссея могла бы разбить сердца английских читателей, если бы в ту пору нашелся правдивый писатель, даже не с таким дарованием, как у Диккенса. Но это была еще первая часть трагедийной были — детям предстоял долгий морской путь из Владивостока. У Олега Иванова не было сестры, у Бориса Азарова сестры остались в Петрограде. У Павлуши Колерова старшая сестренка Калерия говорила и писала по-английски. Мальчики держались вместе, но только один из троих задумал при первой возможности убежать. “Убежать и вернуться в Петроград!” — решил Борис. Но в юном возрасте стойких желаний нет. Когда паровоз, распустив с шипением пары, потянул через виадук арестантские вагоны, Афоня в номере гостиницы услышал грохот металла и голоса, сливающиеся в один крик. Одно слово повторялось. “Пе-тро-град!” — послышалось Афоне. В порту “Мэри Норт” уже получила сучанский уголь в трюмы.***
Бабушкин и Афоня прощались с Владивостоком. Побывали в театре “Золотой Рог”, посмотрели “Гибель Надежды”. Играла труппа Зубова. — Название пьесы подходит для Владивостока, — заметил Василий. — Вот бы еще им показать “Потоп”. Не в театре, а у бухты Золотой Рог разыграется потоп, и надежды задержаться в Приморье у иноземцев и белых гибли. Друзья заглянули в “Балаганчик”, место сбора богемы. Актеры читали отрывки из пьес, били себя в грудь, проливали пьяные слезы. Копируя Вертинского, любимец публики Росов исполнял его старый репертуар. Местный поэт Марта подражал Бальмонту, который бывал во Владивостоке. Капитан Лухманов живо рассказывал морские историйки. В подвальчике художники Пальмов, Комаров демонстрировали художество. В Народном доме, где собиралась рабочая молодежь, куплетист Зотов в костюме портового нищего “продергивал” непорядки на городском транспорте. — Мне за них стыдно, — сказал Бабушкин. — Мелководье! — А им — за тебя. — Афоня удивил друга. — Это почему? Я не артист, не художник. — Ты русский борец. И не уложил на ковре ни японца, ни англичанина, ни американца. — Ты лучше скажи: билеты не потерял? А то, когда все побегут, ни за какие денежки не уедешь. Билеты на пароход, уходящий к чужим берегам, были у Афони. Почему они покидали родину? Василий Бабушкин был героем русско-японской войны, Афоня — искалеченным человеком. Революция каждый день рождала новых героев, ни Василий, ни Афоня ими быть уже не могли[288]. У Бабушкина оставалась физическая сила и французская борьба — спорт; это и звало его во Францию. И только тогда, когда в стеклышке иллюминатора они увидали бухту Золотого Рога и топот матросских ног на палубе над их головами затих, Василий рассказал другу, как ему пришлось выполнять поручение Терентия. Тут ему пришлось действовать одному, вопреки обстоятельствам, без советчиков и помощников. По разумному вдохновению. *** Купив в порту у китайца плетенку с ананасами, прикупив у корейца двух огромных вареных крабов, Бабушкин без труда нашел место, где стояла “Мэри Норт”. Дети уже были на палубе, разбежались по ней, а цепь полицейских между трапом и вагонами с распахнутыми дверями образовала замкнутый треугольник с боковым узким проходом к трапу. Тут сгруппировались американские джентльмены и леди. Другие наставники на палубах корабля старались навести порядок. Дети, вырвавшись из заточения, почувствовали себя под открытым небом свободными. Их глаза, уши вбирали с простора все то, что принадлежало действительной свободе. С мыса Голдобина доносился гул колокола. Розоватый туман прикрывал входы в Диомид и Улисс. В конце полуострова Шкота белел Токаревский маяк. Чайки кружились над маслянистой водой; их хищные крики мало отличались от голосов американцев, пытающихся загнать детей в трюмы. Под ногами билось металлическое сердце машины. У Бабушкина были приготовлены десятки фраз на английском языке; так на вопрос, зачем он идет на “Мэри Норт”, последовал решительный ответ: “Несу фрукты и лакомство святому служителю церкви”. В американском Красном Кресте (по разумению Василия) могли не подумать о враче для детей, но не о проповеднике слова божьего. И он не ошибся. Сердитые леди бестолково силились спровадить русских мальчиков, девочек под палубу. У одной пожилой дамы был рулон белой тесьмы, она, видимо, хотела распустить тесьму и с ее помощью сужать пространство, по которому носились бледнолицые дикари. Понимая вздорность этой дамской затеи, Бабушкин решил сыграть роль старательного помощника. Он освободился от корзины с ананасами и от крабов. Они сослужили ему службу, став как бы пропуском на корабль. Теперь надо было искать на палубе одного из сотни детей, Олега Иванова. Ухватив свободный конец белой ленты, Бабушкин показал пожилой мэм, как надо держать рулон, и стал разматывать его, петляя и удаляясь от американки. Словив первого подростка, Бабушкин прокричал ему в ухо: — Олега Иванова не знаешь, малыш? Игра представлялась безрезультатной. Матросы в разных местах покуривали трубочки, сплевывали в воду и безучастно относились к происходящему на палубе. У них все было готово к отплытию. Капитан не показывался. Олег, Борис Азаров, Павлуша Колеров и его сестра Калория, девочка с большими недетскими глазами, нашли укромное место на спардеке, сговаривались о передаче записок в пути. Они не сомневались, что окажутся в плавучей тюрьме. Разматывая и разматывая белую ленту, стараясь угадать, каким он увидит и узнает (непременно!) Олега, Бабушкин разглядел на спардеке группку старших ребят, рванулся к ним. Они не успели подумать, кто и что хочет от них этот человек, как он заговорил по-русски: — Спокойно! Внимательно слушать. Я — русский матрос и борец Василий Бабушкин. Меня послали наши друзья найти сына Ольги Модестовны Ивановой — Олега-Олежку. Кто из вас знает его? О, родной с колыбели язык! Ты его слушаешь сердцем, когда еще не понимаешь слов матери. Но это русская речь, твоя речь; бабушки, прабабушки со своим материнским молоком передавали из поколения в поколения на первой ступеньке бессознательной жизни малышей удивительную расшифровку еще таинственных позывных материнского чувства. Павлуша Колеров из всех остальных был наиболее импульсивным ребенком-подростком. И он бросился на грудь к богатырю, зашептал, заплакал и засмеялся — все сразу: — Возьми меня! Унеси! Укради! Или… брось в море… Бабушкин уже подумал: не все ли равно, кого он унесет с чужой палубы, если эта ребячья душа уже оказалась в его объятиях? Но тут он услышал голос девочки: — Это Павлуша, мой брат. А Олег Иванов, да вот он… Что же ты молчишь, Олег Иванов? За тобой твоя мама послала этого дядю. Руки Бабушкина разжались, он выпустил мальчика. — Но я не хочу убегать, — сказал Олег. Возможно, у неге были самые лучшие побуждения: мальчик не хотел оставлять друзей. Бабушкин знал свою правду: увести с “Мэри Норт” всех детей он не мог. Видит бог, за такое геройское дело Василий отдал бы четыре своих креста, медали, все прихваченные на всякий случай деньги (и полученные от Терентия) в иностранной валюте, согласился бы получить еще столько же ран, сколько ему принесла проигранная война. Бог попробовал вмешаться в происходящее, но его склонял на свою сторону седовласый джентльмен, потрясавший Библией; он показался на спардеке, а его молодой помощник вынес звездный американский флажок. Они хотели, чтобы по обычаю, заведенному в их школах, русские дети дали “клятву верности”: приложив руку к сердцу, хором произнесли слова. Слова клятвы перед Библией и победоносным флагом догадливо были переведены на русский язык и были тут же прочитаны молодым американцем. Бабушкин прислушался, как будто в этих словах могло открыться что-то хорошее для него. “Я приношу клятву верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, символом которой он является, — одна нация, под богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех”. Обстановка менялась, приобретала явно полицейский характер: матросы разобрали пожарные рукава, пустили в дело помпу, чтобы сильными струями забортной воды загнать непослушных наставникам-просветителям будущих американцев в трюмы. Бабушкин вытер вспотевшее лицо носовым платком. Он не видел выхода. Подошел рослый негр в белой накрахмаленной курточке, желтые белки темных глаз навыкате вздрагивали. Он гнусавил псалом. Протянул руку, чтобы погладить по голове русскую девочку. Калерия отшатнулась. Бабушкин почувствовал злость: — Чума, холера на всех вас! Негр испугался, перекрестился. Возможно, он был не хуже “дяди Тома”, но для детей, как и Библия, чужой флаг выглядел зловещим признаком. Бабушкин поискал в уме перевод своего ругательства на английский. Он готов был ужаснуть и морского черта: — Плагуэ!.. Чолера!.. У негра подкосились ноги. Просветитель едва не выронил Библию. Бабушкина осенила шальная мысль: надо навести ужас на всех этих богобоязненных людей. Оторвал желтую подкладку от пиджака — пусть станет знаменем страшной болезни. Завязал потничком нос. Схватил Олега, сжал в своих борцовских объятиях. Что еще сделать перед тем, как уйти с драгоценной ношей? Передать деньги девочке… А если отнимут? Но, может быть, сохранит… — Держи! Спрячь! Храни. Для всех вас… Думайте о нашей родине. Мы не забудем, не оставим, вызволим… Калерия поняла. Со страхом и восхищением она смотрела на человека, который один на чужом корабле выступал против всех. Бабушкин поднял над головой кусок желтой материи, спустился напалубу. К нему подлетел матрос, потом штатский. Бабушкин закричал так, что ему самому стало страшно: — Чолера! Плагуэ! Синие штаны и шапочка шарахнулись. Штатский закрыл лицо руками. Чума на корабле — это такие слова, которые побоится произнести самый бесстрашный моряк. Шарахнулись, расступились и другие. Открыли широкий путь, чтобы бесстрашный человек с белой повязкой на лице и желтым знаменем смертельной беды убрался со своей зловещей ношей с несчастного корабля. У старпома началась рвота без малейшего признака качки. Капитан, когда до него дошел смысл происходящего на “Мэри Норт” перед последними минутами отплытия, пришел в ярость. Визгливый вой судовой сирены Бабушкин услышал уже тогда, когда с перевешенным через его плечо Олегом, казалось, уже мертвым или потерявшим сознание, был в порту, за первым пакгаузом. Бросив желтую тряпку, сорвав с лица потничок, Бабушкин поставил мальчика на ноги, дал шлепок и, взяв за руку, повел задними путями из порта, чтобы сдать его на руки Терентию.***
Афоня выслушал рассказ друга без удивления. Не вставил в повествование ни одного слова. А потом сник, утратил интерес ко всему. У Афони было множество дерзко великолепных планов, как спасти всех детей и похитить “Мэри Норт”, но вот Василий действовал сам, а теперь было ясно одно. Что ему было ясно, Бабушкин понимал. В порту, где они перестанут быть пассажирами, им придется искать любую работу, потому что все их сбережения уплыли на “Мэри Норт”. Великий океан, первосозданная стихия и матерь всего живого на планете, океан со своими водами, обозначенными человеком (в этой части света) как морями — Беринговым, Охотским, Японским, Желтым, Восточно-Китайским, — никогда не бывает тихим. В какой-то части своего исполинского тела он дремлет, в дремоте вздрагивает, словно переворачивается с боку на бок, а в другой — бешено крутящиеся вихри несутся с ужасающей скоростью навстречу или вдогонку кораблям. От человека требуется много сил, чтобы не только пуститься по океану в странствование, но и для того, чтобы крепко стоять на ногах на твердой земле даже под сенью мирных деревьев. Громадные силы у русских людей. Большой ум. Но что такое один человек, когда он один? И даже — с другом?Часть вторая “ПАРАД-АЛЛЕ”
Любимец жизни — Марсель. От южного неба Франции и Средиземного моря — вдохновенный свет. Древний город, но не дряхлый. За 600 лет до нашей эры его основали финикияне. У горы. На горе возвышается Нотр-Дам де ла гард. Собор венчает позолоченная статуя, обращенная в сторону моря. Святая Мария — покровительница мореходов. Побывай в соборе, поклонись ей, и она избавит тебя от беды на море до смертного часа! От старого порта начинается главная улица Ля Каннебьер. Солдаты в хаки и матросы в полощущихся синих клешах. Мастеровой люд в кепках и скромные интеллигенты в соломенных шляпах. Если прислушаться к разговорам (даже зная один русский язык), можно узнать о многих событиях, пережитых марсельцами. И угадать почти без ошибок, кто тот или другой. Прекрасные люди чудесной страны из команды миноносца “Протен”. Как! Не знаете их? Они подняли восстание и зажгли революцию на линкорах “Франс”, “Жан Бар”, “Вальдек Руссо”. Ну об этом будут помнить все столетие! Французские матросы, побывавшие в России (это уж они не забудут). Одесский рейд!.. С военных кораблей, посланных для “нового” захвата Севастополя!.. Из морских патрулей, переброшенных через румынскую границу частями 58-го и 176-го пехотных полков. Жива память! Они же побратались с русскими рабочими. Французские моряки из Владивостока… Этот рыжий детина с отмеченным оспинками лицом тоже был во Владивостоке в белой армии. Сам протягивает раскрытую пятерню цыганке. У него загребущая рука, сиплый голос. Говорит для “плезира”: — Наша матка — евто Вятка, сестрица — рожь, братейник — нож. А цыганке не надо гадать, чтобы сразу определить: этот мародер из разбитой армии. А вот тем, тоже русским, двоим из Иностранного легиона с красными аксельбантами на правом плече (высшая боевая награда) она споет “люли-люли, стояла” — про березку. Легионеры размещаются на террасочке кабачка, открытой круглый год, заказывают легкое вино и закуску — ракушки. Продолжают приятельскую беседу об уроженце Полтавщины, севастопольском грузчике, показавшем во Франции русскую силушку. Кто из русских не любит борьбу? Кто не слышал о Иване Максимовиче Поддубном! — Кто в Париже на чемпионате в 1903 году был кумиром публики? — Черт его знает! — Рауль Буше. — Теперь вспомнил. — Поддубный выдержал с ним часовую схватку. Буше уходил от острых приемов. — Это и есть настоящая борьба. — Не скажи! Потом в Петербурге в четвертом году Поддубный не знал себе равных. — Пусть зарежет меня марроканец, если ты что-то смыслишь в французской борьбе! — В Марселе нынче не будет Буше, Педерсона и Поддубного. Иван гнет поясницы американцев. — Алла верды! А слышал о Василии Бабушкине? — Медвежья сила и множество ран. Матрос, который соединил две эскадры! Цыганка оставила вятича Митрича с его неразгаданной судьбой. Подошла к легионерам. И они услышали грудной голос: — В Марселе так же легко утопить свою тайну, как и найти чужую. — Что ты хочешь этим сказать, цыганка? — Смотри пожалуйста, прямо от Яра! — Какая тайна? Чья тайна? Слово “тайна” всегда вызывает любопытство. — Тайна борьбы. Вы хотели бы знать победителя. И сыграть на него! — Как ты угадала, о чем мы говорили? — Все в Марселе говорят о борьбе. А потом… вы в беседе проделывали такие “бра руле”, что вот-вот перешли бы в партер. — И она показала под стол. Посмеялись. До чего проста загадка! — Алла верды! Любишь борьбу? — Как месяц — солнце. — Любишь борцов? — Предпочитаю аксельбанты, а не медали. — Тогда спой нам. — В Марселе надо слушать песни Прованса. — Тогда мы споем для тебя. Дама — всегда дама. И они запели — голос к голосу: Нам каждый гость дается богом, Какой бы ни был он на вид. И даже в рубище убогом… Алла верды!.. Алла верды! Она сказала: — Это похоже на Марсель, хотя пел Кавказ. Открытая веранда, где ели, пили, курили, смеялись, спорили, ругались, пели, выглядела островком в человеческой реке. Жаркие улицы этого города кишели бродягами со всех стран. Война прошла, но они оставались ее бесприютными тенями. Они исповедовали одно торжествующее “сегодня”, их жизнь ограничивалась минутой, часом, днем. Бездумные приливы приобретений — нищенских и баснословных — и отливы трат. В марсельской толпе незаметно и сдержанно проходили пожилые и бережливые рабочие: мастера-плотники, мастера-каменщики, мастера-механики, рыбаки с побережья, крестьяне с равнин. Мелькали яркие одеяния крови и славы. И бросались в глаза красные помпоны французских моряков. — Ты цыган, — сказала Муза первому легионеру. — А кто теперь не цыган? Или мертвый, или цыган. — Но война умерла. — Нет, — вмешался второй легионер. — Война, зловещая старуха, только засыпает летаргическим сном. Ее кто-нибудь на планете разбудит. — Но в России настал мир. И республике русских не нужна война. — Но республика русских — бельмо на глазах у Европы. — Да, я русский, и цыган, ты угадала, — по матери. А мой друг — грузин, но у него был русский отец. Если я размотаю перед тобой мою жизнь, ты узришь великолепное и банальное начало. Как это сказано у поэта? “Раз заснула она среди слез. “Князь приехал!” — кричат ей… (Моей будущей матери.) Двадцать тысяч он в табор привез и умчал ее ночью морозной.” Прожила она с князем… Только он был не князь, просто богатый мужчина, заводчик, владелец домов и всякой всячины. Когда я, шалопай и единственный сын богача, подрос, мать упросила отца отпустить ее в табор. — И муж отпустил? — У нее началось кровохарканье. — Ты остался с отцом? — Мать сказала: не бросай его и забудь про меня. Но… — Почему ты молчишь? — Почему я рассказываю? А! Потому что середина и конец моей жизни даже не снились мудрецам романистам. Мать сказала: когда наш отец закончит свой земной путь, продай все, что он завещает тебе, отдай деньги твоим рабочим и слугам, а сам без гроша уходи в табор к цыганам. — И ты так и поступил? — Революция это сделала за меня…***
Муза знала Марсель, как его может знать человек, родившийся во Франции и исколесивший с цыганским табором все дороги страны. Она шла в хорошо ей знакомый дом, где раньше жила с матерью и отчимом. Она называла его, как и все остальные люди, имевшие различные дела с этим негоциантом, месье Леру. История жизни легионера не удивила цыганку. Таких таборных сюжетов было много. И ее мать несколько лет жила с Леру, поехала с ним и с дочерью от первого брака в Сингапур. А потом вернулись во Францию. Митрич искал в шумном городе уединения. Лучшим местом для этого ему представилось кладбище. Он нашел дорогу на Сен-Шарль. Шествуя на погост у Средиземного моря, вятич прихватил по дороге вино и закуску. Среди чужих могил, усыпальниц, надгробий под тисовыми деревьями, кленами редкими чахлыми березами Митрич нашел одинокую могильную плиту со стертой надписью, сделал из нее стол, поставив литровую бутыль и выложив закуску. Но прежде чем позволить себе промочить горло, следовало вдали от посторонних глаз сосчитать накопленные им сбережения. Все, что было у него, при нем — на теле, в сапогах, черт те где! Золотишко- “рыжики”, “камни” — драгоценности, несколько легких, но весомых бумажек солидных иностранных государств. Подсчитал, насладился, ржавым гвоздем выцарапал на плите круглую цифру в царских рублях. Засунул в замшевый мешочек и повесил на шею. Осенил лоб крестом и, задержав дыхание, полил из бутылки в раскрытый рот темную, сильную градусами жидкость. Перекрестил мелким крестом рот, крякнул и, присев на плиту, стал принимать на зубок. Русский сыщик в Марселе — не первый день, любезно принял его французский коллега. Шидловский рассказал о себе и о годах, пережитых в красном Питере. Там он читал лекции курсантам, приобщал молодых людей к опасной науке борьбы с преступниками разных мастей. Трудно приходилось всем без исключения, и курсантам тоже. Отдавали голодающим часть хлебного пайка, “приварочного довольствия” — кусочек хлеба, сахара, щепотку соли. Страдали от недостатка табака. Нарком Семашко счел курение опасным для здоровья, и тогда выдачу махорки отменили. Последний раз оторвались от учебы, когда подавляли кронштадтский мятеж. И вот жизнь вошла в мирные берега. Пограничникам и милиционерам пригодились специальные знания розыска, выслеживания и поимки уголовников. Комиссар марсельской полиции искренне поздравил старого петроградского сыщика с тем, что он с чистой совестью отдал себя в распоряжение новой власти. Протянул гостю ящичек с манильскими сигарами. Русский взял сигару, с наслаждением обнюхал ее, со вздохом вернул на место: — Вот так в трудах и лишениях военного времени я и бросил курить. Посмеялись. Роскошь, расточительство и обжорство убивают не так уж мало людей. Но быть спартанцем всю жизнь потруднее, чем разок-другой полезть под пули. — Вы, конечно, хотели бы посетить наш “театр”? Комиссар судил по себе, не ошибся. И они поехали в тюрьму. По дороге француз рассказывал о Провансе. В глубине провинции гребни скал делят ее на бесплодные узкие долины. Вокруг Марселя много свободной земли. Город-порт узурпировал власть над всеми промыслами. Море, порт, судоходная Рона — как три кита. В замке Иф, вблизи Марселя, Дюма заточил героя своего романа; дал ему возможность головоломного бегства, а потом одарил баснословным богатством. Комиссар печально улыбался: стать графом, бароном, жить, как Монте-Кристо и мстить недругам — это, увы, остается программой действия слишком многих людей, отказавшихся от скромного честного труда. От марсельских тайн у полиции и всех честных людей болит голова, но как расчистить дно? Русский удержался от совета, хотя совет и напрашивался. Слишком много его соотечественников, бежавших от страха перед правосудием народа, оказалось во Франции. И как бы в подтверждение этого за решетками и запорами русский сыщик узрел и одесских, и ростовских “гастролеров”, закатившихся в Марсель, известных ему по старым проделкам Валетов, Тузов уголовного мира бывшей столицы. Одни кружились по камерам и ругались в кратких приступах свирепой ярости, проникнутой отчаянием и бессилием, другие отлеживали бока и клялись в своей невиновности. Белокурый “ангелочек” узнал русского мастера сыска, изобразил на красивом лице, отмеченном наглостью, радость: — Вы за мной, шеф? Ну как там, у нас? Уже можно приниматься за старое? Глухие стены не препятствовали проникновению к арестантам разговоров с улиц, базарных площадей. В тюрьме знали о марсельском чемпионате французской борьбы, называли имена возможных фаворитов, спорили до одурения, ставили в заклад пальцы рук, ног. Толковали о якобы готовящемся ограблении страхового общества “Меркурий”, называли имела предполагаемых высоких покровителей международной шайки, прибывшей в Марсель для “кражи века”, капиталистов, заинтересованных в финансовом ударе по держателям полисов, а среди них имена русских, подвизавшихся во Франции, — бывшего заводчика Путилова, барона Жоржа Гинцбурга, гастрономщика Елисеева. Они, выгнанные из Советской России, тут, в чужой стране, ходили на свободе, обделывали темные дела, жили припеваючи. Себя арестанты считали неудачниками, мелкой рыбешкой, попавшей в зубы акулам. Кто знает, по-своему, возможно, они были правы. Потом старые сыщики поехали в Сен-Шарль. Тюрьмы, кладбища, дома призрения показывают исследователям жизнь большого города чаще, чем парадные улицы, памятники старины и оперные театры — туристам. День был, как золото и драгоценный камень. Тысячи тружеников Марселя, рабочие, рыбаки, скромные служащие умели ценить каждый из многих таких золотых дней. Они ни за какие деньги, сокровища не соблазнялись бы провести и одни сутки в замке Иф. Русский гость не хотел омрачать такой день своему собеседнику-марсельцу тяжелой и горестной думой, но вышло так, что не смог удержаться, сказал: — Знаете ли вы, моя родина потеряла с 1914 по 1920 годы убитыми и умершими от эпидемий и голода 19 миллионов человек от 16 до 49 лет?! Такая статистика способна остановить биение сердца. — Другая страна не поднялась бы на ноги после таких потерь; Россия — великая страна. На кладбище марселец показывал петроградцу наиболее примечательные могилы. Но что это? Пьяный, надорванный голос смущает могильный покой. Кто этот дерзкий безумец и что он поет? Его рот похож на нож, с него слетают острые словечки. Митричу кажется, что он режет правду-матку. Русский гость возмущен, хочет унять хулигана. Француз не шокирован — порой студенты позволяют себе черт те что в общественных местах. Его успокоит кладбищенский сторож. Митрич распоясался. А что, ежели постращать этих буржуа? И он направляется к ним, еще не зная, что его душенька скажет: — Эй вы, мертвяки! Кто викон, кто шевалье? Из какого склепа? — Из марсельской полиции, — добродушно произносит комиссар. — Визитную карточку не даю, но вас примут, не сомневайтесь. “Примут и обыщут!” — сработало в голове Митрича. Нет, он не смеет по пустякам заводить преждевременные знакомства. Даже если этот ветряк болтнул. — Шуток не понимаете. А еще марсельцы! И он сплевывает через плечо и ретируется. В этой встрече примечательного нет для него — так он думает. Откуда ему знать, что он попал на глаза тем, кто развил в себе цепкую зрительную память. Выходя с кладбища, комиссар начинает служебный до некоторой степени разговор: — В Марселе часто бывает месье Леру. Опасный субъект и осторожный до тонкости. У Леру яхта, даже не яхта, а крепкая шхуна под парусами. Но паруса для вида. Сильные моторы “Рэно” делают “Цыганку” самым быстроходным кораблем-малюткой. В салоне происходят встречи весьма примечательных господ. “Цыганка” крейсирует вдоль берегов, заходит в Монако, на Корсику. Италия, Испания наши соседи… — Чем занимается Леру, если не секрет? — Вот это он и держит в секрете последнее время. Состоятельный негоциант, живет в свое удовольствие. Русский засмеялся. Он жил теперь в стране, где законы — на страже интересов народа. — Вы же охраняете состоятельных людей, для чего же тогда портить господину Леру удовольствие? Француз оценил несколько коварный вопрос, но продолжал идти к цели: — На “Цыганке” прислуга… Два русских матроса. Вы могли бы без труда найти с ними общий язык. Несколько наводящих вопросов — и наши подозрения подтвердились бы или отпали. — Ваш Леру нарушает законы Франции? — Уголовное преступление, в котором мы подозреваем Леру, принесет ущерб многим. И русским. — Русским во Франции? — Русским в России. Вашему государству. — Что же это может быть?! Вы меня заинтриговали. — Словить преступника, прежде чем он совершил преступление! Поймать, обезвредить, прежде чем пролилась кровь, не похищены и не припрятаны ценности… Ну так вот! Один матрос на “Цыганке” в прошлом русский герой и борец. Его имя… Минуту! Дядюшкин. Нет! Дедушкин… — Бабушкин?! — воскликнул Шидловский. — Да. Бабушкин. Богатырского сложения… Шидловский вспомнил Ялту, ресторанчик на берегу. Что тогда пела артисточка? Не забылось!.. Жаль нам допеть нашу песню унылую, Трудно нам сбросить оковы тяжелыя…***
Господа собрались на яхте. — Ялта краше, — сказал Путилов. — Марсель надо сравнивать с Одессой, — сказал барон Жорж Гинцбург. — Помните, наш Куприн предпочитал Ялте Балаклаву, — сказал Томилин. — Я говорю о море, — сказал директор Русско-азиатского банка Путилов. — А море — что море? Вода! — сказал французский вице-директор Русско-азиатского банка Гинцбург. Процитировал англичанина Честертона: — “Пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино”. — Засмеялся. Посмотрел на Леру. Леру пригласил гостей в салон, где уже был накрыт стол. Афоня Деготь заканчивал протирать бокалы салфеткой. Делал он это как заправский половой — поплевывал на хрусталь и орудовал тряпицей. При полном безветрии судно стояло на рейде. Василий Бабушкин в парусиновых брюках, белом кителе и капитанке облокотился о фальшборт и смотрел в воду. В спокойной незамутненной воде отражались палубные надстройки “Цыганки”. И хотя Бабушкин глядел в воду, он не видел того, что его ждало в ближайшее время. В салоне за столом господа говорили, а матрос Афоня разливал вино и убирал тарелки, заменяя чистыми. Гости и хозяин заняты едой; кусок не идет в горло Путилову, присутствие Томилина, приехавшего из Ленинграда, его раздражает, хотя он сам попросил устроить с ним встречу на “нейтральной почве”. Томилин рассказывал Гинцбургу: — Денежная реформа позволила перейти на твердый товарный рубль. Отчеканены золотые и серебряные монеты, переданы в государственные банки. У советских людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Проезд на трамвае стоит семь копеек станция. В столовых можно получить обед за двадцать копеек. Ужин в ресторане из пяти блюд обойдется меньше рубля, без вина. Чаевых официанты не берут. Висят плакаты: “Чаевые унижают достоинство”. Барон Жорж притворно вздохнул: — Бедные! Что же под старость будет иметь человек из ресторана? — Будет кормиться плакатами, лозунгами, — съязвил Путилов. — Получать пенсию, — сказал Томилин. — Вот тогда он и пожалеет, что не “унижали” его достоинство, — сказал Путилов. — А вас не повесят, когда вы вернетесь в Россию? — спросил Леру у Томилина. — Де-юре вы представляете у нас интересы своих держателей полисов. Де-факто большевики получат валюту, а застраховавшие свои дома, имущество — под нож, вместе с вами. — У них “вдову” заменяет свинец-братец, — сказал Гинцбург. Томилин попал на яхту Леру потому, что банкиры в письме к нему писали, что правление страхового общества “Меркурий” поручает им ликвидацию дел и удовлетворение претензий русских, оставшихся в красной России. Он обязан был выслушать Путилова, Гинцбурга. Но ничто не заставляло То-милипа, человека со своими убеждениями, далекого от политики, но здравомыслящего, вежливо выслушивать от “французов” всякие бредни. И он решил положить конец выпадам: — Большевики не бежали с деньгами за границу, как это проделали тысячи так называемых “истинных сыновей России”. Большевики совершили великолепные дела, проделали гигантскую работу для восстановления порядка. — Сколько вам платят? — спросил Леру. — То, что получает рядовой советский служащий. — Скажите, — спросил Леру, — почему “Меркурий” прекращает существование? Барон поторопился ответить за Томилина: — Честность тоже приносит деньги. А суды еще пользуются влиянием. — Для расплаты необходимо золотое обеспечение. — Леру следил за выражением лица Томилина. — Оно будет доставлено. — Из Канады? — И будет лежать во французских банках. Томилин сдержан, он не собирается дальше отвечать на расспросы. Леру, можно сказать, взорвался от смеха. Кипучий и негодующий смех. — А если не золото, а свинец в слитках будет погружен на корабль за океаном?! А если судно попадет в океане в ураган, пойдет со своим грузом на дно?! Тогда полисы станут дешевле туалетной бумаги! Томилин поднялся, он понимал, что вокруг “Меркурия” началась темная игра. От него не было скрыто, что на бирже последнее время ценные бумаги “Меркурия” то поднимались в цене и продавались с рук, то резко падали — следовательно, кто-то приобретал их. Это было закономерно в мире, где много банков принадлежало частным лицам. Но Томилину это претило. Он принадлежал к тем честным людям с осторожным и ограниченным умом, которые верили в порядочность состоятельных людей, готовых улучшать общество. Страхование от огня было для Томилина одной из действенных форм помощи многим людям, потерявшим то, что было приобретено их трудом. А пожары и до войны всегда были в России бедствием. Барон Жорж смотрел на пылающее от выпитого вина лицо Леру, с таким лицом, огромными, выгнутыми бровями, большим ртом и черной бородкой можно было без грима играть Мефистофеля. И барону, не лишенному фантазии (всегда мрачной, порой убийственной), представилось судно в бушующем океане, корабль, охваченный адским огнем, и расплавленное золото, стекающее на палубу. Путилов катал хлебный шарик, глаза спрятались в узких щелках. Томилин открыл дверь салона, его проводили взглядами. Никто не сдвинулся с места. На палубе Бабушкин размышлял о прожитой жизни. В двадцать пять лет мы говорим: молодость прошла, в пятьдесят — это еще не старость. Василий где-то между этих берегов, его ладья вот уж действительно носилась в пенистом потоке. Афоня стоял за спиной. “В последний раз выиграть схватку в Марселе, — думал Бабушкин. — Уложить всех на лопатки!” О многом, что присутствовало в сознании, не хотелось вспоминать. Среди многих мыслей не терялась черная нить, завязавшаяся узелком между им и Леру. Из Сингапура “вилась веревочка”, опустилась на дно и всплыла в Марселе, когда Бабушкин и Афоня сели на мель. Прежде чем взять к себе на службу двух молодцов, Леру хорошо обдумал все выгоды для себя и отрицательные стороны сделки. Русские — нет знакомых и близких во Франции, кому они смогут говорить про него, да и кто станет их слушать. Моряки! Эти двое заменят весь экипаж яхты. Бабушкин — богатырь, при случае станет телохранителем. И во всякое время, когда он, Леру, решит, он легко от них отделается. Афоня неполноценен. Но здесь Леру ошибался. Афоня все видел, запоминал, впечатления прятал до времени. Иногда Афоня удивлял Бабушкина, но, пораздумав, Василий всегда находил объяснение. Теперь на палубе “Цыганки” Афоня вдруг сказал: — Обходим вокруг Италии и — через Дарданеллы!.. Черное море — родное, и в первый порт. Какой будет? — Батум, — сказал Бабушкин, еще не понимая, что привело друга к этой мысли, что это за план и какое место в нем займет владелец судна. — В Батуме продадим “Цыганку”. — Вот как! — Затемно снимаемся с якоря. — Я — что! Я готов плыть на спине. — Бабушкин знал, что его друг не терпел прямых возражений. Надо было дело представить ему так, чтобы он сам отказался от своей мысли. — Зачем на спине! Карту треба достать. — Да, плыть вслепую — лучше и не стараться. — Загодя я раздобыл карты. — Тогда всё. А погоня? — А кто догонит “Цыганку”? — А Леру? Заработает телеграф. Афоня, как видно, все хорошо продумал. — Леру что! Леру не пикнет. — Ты что же, заткнешь ему глотку? Слова Томилина, которые он услышал в салоне, “твердый товарный рубль”, как серебряными рублями, одарили Афоню. Значит, ушли в прошлое разруха, бескормица, ветер перемен унес с собой керенки и бумажные миллиарды. — Сам заткнется, когда полетит в море. Бабушкин пристально поглядел в глаза другу, Афоня выдержал взгляд. Василий присвистнул: предстояло трудное объяснение. — А гостей спишем на берег? Они поднимут на ноги полицейских. Нас перехватят через пару часов. Афоня доверчиво заулыбался: надо же — такое простодушие! — Путилова и барона — в мешки! Привезем на расправу домой. Вот это план! Видать, Афоня решил действовать не с кондачка. Надо быть строгим с ним, а то, чего доброго, один устроит бунт на корабле. — Слушай и повторяй за мной: это делать нельзя. — Это делать… нельзя. Пошто так? — Мы не пираты, не душегубы. — Не душегубы… — И тут взбунтовался: — А в России буржуев к ногтю! Душегубы, пираты — они! — показал на салон. Из салона на палубу выбрался Томилин, посмотрел в сторону города. В этот предзакатный час вблизи “Цыганки” не было ни одного суденышка. Почему Томилин возненавидел эти “денежные мешки”? Разве он не знал повадки, алчное стремление к наживе, свирепый и спокойный эгоизм банковских выжимал-воротил? Его частое общение с ними до сих пор не вызывало никаких чувств. Эти господа не могли измениться, не изменились и тогда, когда произошли поразительные перемены в Европе; Томилин и не рассчитывал, приехав во Францию, увидеть их хоть в чем-то новыми, другими людьми. Значит, переменился он сам. Леру позвал матроса, распорядился показать гостю из России каюту, приготовленную для него. Афоня уже стоял перед Томилиным, почтительно предлагая последовать за ним. Бабушкин наблюдал за Афоней и Томилиным. Гость сказал по-французски: он хочет на берег. Афоня развел руками — тут ничего не зависит от него. — Я требую! — крикнул Томилин. — Спустить шлюпку! Я свободен в своих желаниях. Никто не посмеет меня оставлять там, где я не хочу дольше быть. — Господа разбираются сами, — сказал Афоня. — Матрос подчиняется капитану, а капитан — месье Леру. Дерзкие помыслы Афони при первом же соприкосновении с действительностью уступили место выработанному в нем чувству слепого повиновения тому, у кого он находился в подчинении. Бабушкин усмехнулся: скорее его друг даст запрятать в мешок себя и безропотно полетит за борт, чем осмелится выступить против Леру. А он сам? В салоне, в большом раскрытом чемодане, лежали кипы полисов страхового общества “Меркурий”. Афоня устанавливал на серебряном подносе две бутылки “Муму” и четыре бокала. На палубе Леру, старичок Путилов и барон Жорж отговаривали упрямца Томилина, настойчиво повторявшего: — Нет, господа, нет! Мы с вами — на разных полюсах. Барон сострил: — Но полисы-то одни?! Леру сорвался на грубость: — Здесь распоряжаюсь я. Господин Томилин должен выслушать и обдумать. А потом я отправлю его хоть в Лион… — Я найду дорогу и без вас. — Не пойдешь же ты, как Иисус Христос, по воде? — сказал Путилов. Появился Афоня с подносом, и барон взял бутылку шампанского. Бабушкин невозмутимо развернул шлюпбалки, разобрал тали. Леру приказал своему матросу: — Ты что, глухой? Ступай! Афоня с улыбочкой сказал господам: — Кулак пудовый, удар резкий. — Посмотрел на Василия. Леру не устоял перед открытой угрозой: — Пусть забивает гвозди кулаком, поднимает тяжести на спине, если пробковая башка не слушается меня! — Ты мою голову не купил, — сказал Василий. — Ни пени, ни франка с меня! Живи и кормись своей головой! — выкрикнул владелец судна. — Это же ваш хозяин, — сказал Томилин. — Подчиняйтесь ему. Я попробую сам спустить шлюпку. — Но ведь он не хозяин над вами. — Бабушкин безмятежно улыбнулся Томилину, показал, чтобы он шел к трапу. Скрипнули боканцы, взвизгнули блоки талей. Плеснула о поду шлюпка, спущенная Бабушкиным. — Мерзавец! — выкрикнул Леру. — Вор! Украл шлюпку… Сгниешь на тюремной соломе. Стукнули в уключинах весла. Барон Жорж свистнул: — Вуаля!.. Бросил бутылку шампанского в лодку, Бабушкин ловко словил ее и передал Томилину. — Пошли, господа, в салон, — сказал Путилов. Афоня поставил на палубу поднос, перегнулся через фальшборт, услышал слова друга: — Найдешь меня там, где я говорил… На закате море — красное вино. Густые многоцветные тени. День постарел. День Василия Бабушкина.***
Были еще прекрасные дни, без моря и солнца. Старая цыганка встретила Бабушкина у воды. Портовые сорванцы с ликующими криками накинулись на русского матроса. Четверо взгромоздились на широкие плечи, малыш уселся на голове, двое, держась за литую шею, повисли на спине и груди, а еще парочку Бабушкин подхватил под мышки. И так ступал со своей славной ношей шаг за шагом до Экса. Но старая цыганка оторвала от него детей, а молодая перешла дорогу, чтобы позвать за собой. Муза увлекла его в тень усталых от солнца деревьев. Они всегда искали друг друга, находили и теряли друг друга, и вот встретились, и слова на всех языках мира потеряли для них всякий смысл.***
Работала судоходная Рона. Лион посылал в морские ворота Франции знаменитый бархат, шелка. В море развело волну. Море — неутомимый труженик и неугомонный буян. Зеркальная поверхность морей не отражает происходящего в голубой бездне. Вечное творчество и отчаянная борьба за существование живых организмов. И жемчуг, и кораллы, и окаменевшие кости, погребенные корабли. Прекрасный, поэтический образ дал великий писатель Франции Виктор Гюго: “Море и судьбы послушны одним и тем же ветрам”. Для Бабушкина море и судьба сплелись. Словами Гюго можно сказать об Афоне: “Люди, которые плачут, тоскуют по родине, изуродованы физически и нравственно, может быть, не меньше, чем “человек, который смеется”, но как далек для большинства из них срок платежа!” Кончилась первая мировая война, в Германии готовится захватить власть Адольф Гитлер, а для Афони все еще живы смертельные схватки Порт-Артура. Афоня съехал с судна Леру, получив расчет “без претензий”. Мосье передал деньги и для Бабушкина, замаскировав шуткой злобу и неприязнь. Пообещал даже замолвить от себя словечко устроителям чемпионата в Марселе, чтобы Бабушкина допустили на съезд борцов. Есть выражение: “плакали денежки”. Леру не распускал до такой степени свои деньги, а теперь он давал им возможность “посмеяться”, субсидируя чемпионат, выговорив свое право ставить условия борцам. Больше того: у него был свой фаворит… “Цыганка” стояла у причала, ее охранял русский матрос Антон. Афоня дожидался Василия в маленькой таверне, где друзья и раньше находили приют на мансарде, предназначенной для жилья неприхотливых людей. Обстановка — стол, стул, две койки (при нужде можно поставить еще пять). Комната пропиталась запахами вина и кушаний с острыми приправами. Запахи, кухонный чад поднимались снизу, где у оцинкованной стойки и за столиками собирались портовые выпивохи. Теперь мансарда зримо свидетельствовала о тех, кто нашел в ней временный причал. Матросские сундучки, штанга, гири, гантели и скакалка. Надувные мячи, гнущиеся блестящие сабли, прямые ножи, с помощью пружинки уходящие с кончиком в рукоятку. По ночам стены содрогались от трехдольных движений джиги, громкий смех, иногда плач, залихватское пение слышались с утра допоздна. Ночь в “приюте моряков” не хотела молчать. Загулявшие частенько поднимались по деревянным ступеням, отбивая чечетку, будили спящих сном праведников, “квартирантов”, пили с ними, а потом вповалку засыпали. Афоня и Бабушкин уже обретались тут, пока не произошла их встреча с Леру. И вот теперь снова им быть и жить тут. Бабушкин и Муза вернулись в Марсель. Город разъединил их, но в этот раз, как они думали, на короткое время. Условились встретиться у старой ратуши, для верности назначили для свидания три дня подряд. Мало ли что могло помешать любящим прийти в назначенное время в первый день. У нее и у него оставались обязательства перед другими, Бабушкину надо было подготовить друга к временной разлуке с ним. Афоня приедет к нему, когда Василий с Музой найдут пристань. Поплывут! Мало ли чудесных уголков на белом свете! Острова вечной весны. В полдень солнце направляет на землю весь пыл своих жарких лучей, но улыбчатым капризом природы на островах круглый год — весенняя свежесть. А на острове Нуку-Хива — вечное лето. Василий и Муза не знали грустной поэмы южных морей, где были такие слова: “Пальма растет, коралл вздымается, а человек умирает”. Но какое это имело значение для мечты? Бабушкин расслабился, но для него, как борца, это было даже хорошо. Он оставался борцом, хотя забыл про это. Василий решил подготовить Афоню в течение первых двух дней, Бабушкин забыл об удивительной чуткости друга. Когда Василий поднялся на мансарду, Афоня не стал спрашивать его ни о чем, не дал ему раскрыть рта и засыпал вдруг (подумать только!) биржевыми словечками. Он не понимал значения произносимых слов (наслышался от Леру и его гостей), но составлял из них длинные фразы, имевшие определенный смысл. Это были такие слова, как “премия”, “ликвидация”, “репорт”, “депорт”. Смысл же заключался в том, что в марсельской борьбе Бабушкин “пойдет на понижение”. Казалось, он спутал мысли друга, чтобы после взаимного молчания дать ему понять — от меня, мол, не скрыто ничто. — Напишешь — приеду. — И с болью, покорностью: — Стану нянчить внуков — матросов… Когда появляется будущее, тогда за спиной встает прошлое. Где-то на суровой земле была Вятка, двое вятичей ехали, ехали и заехали черт знает куда! Почему же они должны расставаться? В первый день Бабушкин подошел к ратуше без вещей. А какая поклажа у матроса-странника? Ждал долго. Не увиделись. Было еще два других дня. Задержка почему-то принесла Бабушкину облегчение. На второй день пришла Муза и не дождалась Василия. В этот день в таверну заявился представительный господин, попросил хозяина вызвать вниз русского матроса. Бабушкин спустился, он-то и был нужен. Мужчина отрекомендовался: — Бывший начальник розыскной полиции в бывшей русской столице… Бабушкин никогда не имел дел с полицией, счел посетителя эмигрантом. — Я не нуждаюсь в охране. — А вы не помните Ялту? Ресторан… Русские господа спорили: сколько человек поднимет на столе силач, знакомый Терентия… — Было такое дело. — Не откажите в любезности выйти со мной для разговора на улицу. Вышли. — Я приехал из Ленинграда по некоторым старым делам. — Шидловский никогда еще не был в таком двусмысленном положении. — Меня просили тут, не удивляйтесь, пожалуйста, обратиться к вам, не скрою, за маленькой помощью. Ну знаете… не за великой. — Из Ленинграда? Повторите! — Из Ленинграда. Что вас удивляет? — Меня? Нет, ничего. — Бабушкин читал, что Петроград по просьбе питерских рабочих переименован в Ленинград, но так впервые ему назвали этот город по-русски. — Ну хорошо… А там остались “Кресты”? — И грубовато: — Большевики амнистировали царских полицейских? — Не сказал бы. Видите ли, я не сидел в “Крестах”. От политики держался в стороне, если… если не мог помочь политическому. — Что же вы делали в Петрограде? В… Ленинграде… Торговали на рынке полицейской одеждой? — Могу удовлетворить ваше любопытство. Я, например, проводил беседы с молодыми стражами советских границ, читал лекции курсантам. — Здорово получилось! Как пережили понижение по службе? Что вас привело в Марсель? А что делают наши бойцы? Поддубный еще не вернулся из Америки? На пестрых улицах многоязычного города никто не прислушивался к их разговору. Шидловскому удалось самому перейти к вопросам: — А что представляет из себя марсельский фаворит? Очевидно, это — татуированный борец в маске… — А кто его знает! Меня интересует не его лицо, а лопатки. Шидловский решил подойти к цели своего свидания с Бабушкиным: — Правосудие заинтересовалось его лицом. — “Марсельские тайны”? А вы тут при чем? Разве “Маска” — русский? — Предположительно — немец. Но дело не в его национальности. — Так или иначе, но это печаль здешней полиции. Вы же знаете, что, когда происходит борьба, маску снимают с лица только в конце чемпионата. — Не совсем верно. — Как так? — Маску снимет борец по требованию публики. — Публики, а не полиции! — Когда борец в маске будет лежать на лопатках, — сказал Шидловский, посмотрев в глаза Бабушкина. — Так кто позволит ему лечь на лопатки в начале или не до конца чемпионата? — Надо заставить открыть лицо. — Тогда закроется чемпионат. Вы что, не знаете профессиональной борьбы? Маска — одна из весомых приманок. Под маской выпускают на ковер если не самого сильного, то и не середнячка, а опытного противника, умеющего постоять за себя. Теперь разобрались? — Но ведь и с ним станут бороться не слабосильные. — Тогда возможна ничья — “Маска” остается нераскрытой. Шидловский наступал. — Мне рассказывал Терентий, как вы во Владивостоке унесли с “Мэри Норт” Олега Иванова. Благодарная мать… — Полноте! Кроме горечи, ничего не испытывал. Вспоминать не хочу. — Не понимаю вас. — Ну одного спас, а других увезли. — Значит, вы приняли близко к сердцу судьбу этих всех петроградских детей? — А вы бы остались равнодушным? — Нет. Я и Томилин, а он вас считает благородным человеком, оба мы беспокоимся тут о тысячах наших держателей полисов страхового общества “Меркурий”. Общество ликвидировалось. Держатели полисов должны получить деньги. Золотой фонд “Меркурия”, обеспечивающий выплату денег в твердой валюте, отправлен из Канады во Францию. “Мэри Норт” в пути. Корабль с золотом ждут в Марселе. Вокруг золота и “Меркурия” темная и преступная борьба. Одна из нитей заговора связана с марсельским чемпионатом. Многие другие нити ведут, как мне говорили, к крупным финансистам, дельцам. Называют имя Леру. Есть и другие, но это не наше дело. Чем бы ни кончилась вся эта грязная история, пострадают держатели полисов. — “Мэри Норт”? Вы сказали: “Мэри Норт”? — Почему это вас поразило? А, понимаю! — Кто держит в карманах полисы? Буржуи! — Сотни, тысячи русских людей, которые страховали свое имущество от огня. Имущество честных людей. Квартиры, дома… — Домовладельцы. Что-то я не видел, не знал, чтобы наши вятичи получали какие-то ценные бумаги от “Меркурия”. — Страховали, платили страховку в городах, пригородах. Послушайте, Бабушкин, вы же не анархист! Советское правительство больше, чем вы, знает цену буржуазии. Томилин — официальный представитель держателей полисов, живущих в нашей стране. Его послали во Францию представлять интересы некапиталистов. — Что же, я должен спасать полисы? Я — матрос, я — борец, человек, которого ваши курсанты без зазора пристрелят на границе. — Вы же не станете пробираться через границу ночью, тайком? — А что же, я покачу, как ваш Томилин, как вы, в спальном вагоне? Прямым сообщением? Бабушкин задумался. Что хорошего видел он в Вятке? В Марселе о Вятке и вспоминать смешно. Там у него не осталось людей, близких по крови. Но своя кровь манит туда — к глухим дорогам, морозному ветру, дубовым вешкам, северным сумеркам, к пахучему омету возле сарая из теса, к скотному двору, риге, к ржаному воздуху от свежей соломы и мякине на гумне. Черное небо. Дым из трубы избы, самовар с легким угарцем. Хорошо бы иметь своего дитятку, подержать на груди, походить с ним в лаптях. А в черные ночи волчьи глаза да испуганный всхрап кобылы… Очнись! Погляди, что кругом. Жаркие улицы, веселые заведения. Дома, похожие на населенные людьми баржи, сползали к морю. Одинокие удильщики на камнях. Кто тебя тут потревожил? Шидловский что-то говорил, замолчал. Он не ждал от Бабушкина больше вопросов — их беседа ничем не закончилась. Матрос, казалось, забыл про него, но Шидловский посчитал свою миссию выполненной. — Моя борьба будет честной, — нарушил затянувшееся молчание Бабушкин. — Бонжур!.. На третий день у ратуши на условленном месте Бабушкин не появился. Не пришла и Муза. Но это в их отношениях не изменяло то большое, что теперь будет связывать их.***
Всё на свете принадлежит кому-то другому, и твоей физической силой может распоряжаться карлик. Парад борцов — это внушительный парад. На открытой груди почти у всех медали на разноцветных лентах. Истинной красотой телосложения блещут не все, но это сильные мужчины, готовые постоять за себя. Высокий человек в фиолетовой бархатной маске позволяет себе выйти на подмостки в роскошном халате из дорогой ткани. Когда уйдут все борцы, он останется и скинет халат. Все его тело наколото рукой неизвестного мастера, с помощью иглы и какой-то особенной краски на теле, живом теле, скопированы картины знаменитой Дрезденской галереи, своеобразная экспозиция в миниатюре на руках, ногах; рисунки крупнее — на спине и груди. Желающие поближе рассмотреть это живое чудо и тонкое своеобразное художество выстраиваются друг другу в затылок. На это уходит немало времени. Чемпионат — длительное развлечение, он трясет карманы публики. Борцы представлялись публике видным стариком с орлиным носом на морщинистом лице оливкового оттенка. В середине лысого черепа пучок желтых волос, расчесанных на пробор, большие черные усы. Он действительно знал, но не больше чем по тридцати слов на шестидесяти языках. Грудь крахмальнойманишки украшал диковинный орден восточного государства. Борцы ревниво относились к своим титулам, требовали полного перечисления их выдающихся побед на ковре. Если не было чемпионских званий, громких побед, они получали меткие, устрашающие характеристики. Удивительны были поклоны борцов публике, у каждого свой, непередаваемый жест. Бабушкин представлен на русском языке, представление повторено на французском, немецком, английском, итальянском, испанском. — Русский матрос и борец Вась Ба-буш-кин (с ударением на втором слоге). Кавалер всех солдатских орденов российской империи, известный самому японскому микадо, богатырь, имевший силу соединить две могучие эскадры. Еще не имел поражений в жизни и на ковре… А как же его восемнадцать ран? Его молодой, прекрасно сложенный противник был окрещен Черной Пантерой. Алжирец не вызвал симпатии у торговок и обитательниц монастыря в белых одеждах, заглянувших полюбопытствовать на мирское зрелище (чтобы потом еще больше оценить благостную тишину своих стен). Негры, мулаты, метисы, квартероны встретили алжирца ликующими воплями. Распорядители борьбы старались доставить удовольствие всем. Все человеческие чувства (и низкие страсти) были взяты в расчет. Бабушкин подписал “джентльменское соглашение”, бумага пролежала у Афони под подушкой несколько дней, пока Василий не обратился к нему; — Что у тебя за пазухой? Прочел по глазам. Выкладывай! “Купчая крепость”? Так называл матрос все эти договоры, написанные эзоповским языком, по которым борец нес, как тяжкий груз, все решительно обязательства, а дирекция никаких, кроме оплаты выступлений “по личной договоренности сторон”. — Моя борьба будет честной, — сказал Бабушкин. Афоня ответил туманно, не на тему разговора: — До нови, до обмолота первого урожая озимой еще далече. Василий не разгадывал ход его мысли: — Еще будет какой обмолот! Урожая не жди. Афоня яростно всадил в грудь цирковой нож (лезвие вошло в рукоятку, и она присосалась к телу). — Мы выведем их на чистую воду — чтобы утопить! Вот и весь разговор, а что предрешать! Алжирец имел привычку широко раскрывать рот, показывать желтые зубы и… прыгать на противника. Ему бы выступать на ринге. Гибкая спина помогала уходить от захватов. Бабушкин снисходительно давал ему проказить. Когда противник сбил у себя дыхание, Бабушкин увел его в партер — нижнюю стойку; дал возможность сделать мост. Лежа на ковре с запрокинутым лицом, упираясь затылком и прогнув спину, алжирец касался пятками ковра, а расставленными руками поддерживал опору. Можно было сломать мост. Алжирец готовился сделать перекат, вскочить на ноги. Бабушкин тяжело задышал — притворно; повозился с руками партнера — нерасторопно; и в одно мгновение, как железными клещами, соединил свои руки на пояснице борца. Это было неприятно алжирцу, но не опасно: без помощи рук нападающий не припечатает его лопаток к ковру. Великолепная техника Бабушкина, ловкость, сила позволяли ему сделать то, что темнокожий борец не ожидал. Оторвав противника от ковра, Бабушкин встал с ним во весь рост, вскинул над головой и, разжав руки, послал обмякшее тело борца на ковер. Алжирец проехал лопатками по ковру, что вызвало восторги и смех у публики. Но это ему не засчитали за поражение. Ударил гонг. У человека, который следил за временем, простреленное горло; перед тем, как вымолвить слово, он закрывал дырку двумя пальцами. На одном пальце у него железное кольцо с портретом Льва Толстого на светлой эмали. На цепочке от часов позвякивала масонская эмблема. В Марселе не знали его. Для стража времени в его вечном движении нельзя было выбрать более мрачного и таинственного лица. Те, кто общались с ним, слышали всегда одно изречение на английском: “Игра тогда не стоит свеч, когда не стоит свечи жечь”. Хриплый голос стенных часов, у которых сорвалась гиря. В первых схватках обычно раскрывается характер борца, они показывают его сильные и слабые стороны. Но ведь бывает и скрытый “запасец”. После перерыва по черным выразительным глазам алжирца можно было понять, что у него только два “друга”, два неверных, коварных — зависть и злоба. Теперь он не прыгал, не уклонялся от захватов, его цепкие пальцы искали на теле противника болезненные места, не находили. С таким же успехом он мог бы ощупывать статую. Простой силовой прием — передний пояс. Еще проще парад — контрприем — упереться руками в подбородок противника. А потом, когда спина захватчика отклонится назад, подогнуть ноги и проскользнуть на ковер. Василий жал алжирского борца, выжимал из него силенку, как сок из лимона. Склонял к ковру. Перегибал гибкий прут. Только у тонкой лозы корни держат. Человека не удержали ноги. Падающий на спину нес на себе живую тяжесть опытного борца. Коснулся левой лопаткой ковра, сделал мост. Русский не разжимал руки — железный обруч. С его силой он опять рванет черное тело над своей головой, швырнет на ковер так, что вытряхнет душу! Бабушкин уже собирался отпустить борца, когда “мост провис”, а за этим не последовало переката и шпрунга… Палец с портретом великого писателя на белой эмали готов остановить время. О, как презирал побежденный не победителя, русского матроса, а марсельскую публику, для которой он стал жалким развлечением! И, показывая свое презрение ко всем, алжирец остался лежать на ковре, положив руки под голову. Бабушкин не порадовался легкой победе. Удар гонга на этот раз остановил время на чемпионате для того, кто перестал быть Черной Пантерой и превратился в одну из “подстилок”. Силы Бабушкина боялись, а кошачья ловкость настораживала (кошки не падают на спину) — француз Маго, рыжий Андерсен, неуклюжий Блейк, японец Урю ожидали и для себя нелегкой победы. Бабушкин отмахнулся от репортеров без грубости: — Шерше ла фам. — Где? — Если бы знал!.. — Француженка? Русская? — Ее зовут “Мэри Норт”. Репортеров озадачил непереводимый юмор русского. Отвязались. …Оставив воды Атлантики, судно в золотом блеске плыло в Средиземном море. Позади Сен-Тропез, башня Комар, залив Кавалер, мыс Негр, Леван, Порт-Кро, остров Иер, мыс Бена. Но вот странно: у южного берега Поркероля встало на якоря. Чем была вызвана остановка у этого заброшенного уголка Франции, захолустья, где так мало жителей? Они были и оставались далекими от тулонцев, марсельцев и парижан, как и в прошлом веке, когда (после восстания “Черных Знамен” в 1883 году) республика захватила Индокитай и он стал французским протекторатом. На Поркероле не составляло труда заблудиться, потерять из вида море. Буйный кустарник, нагретый солнцем, источал смоляной запах. Шлюпка с судна с шестью мужчинами пошла к земле, на которой поркерольцы продолжали исчислять время часами прилива и отлива. Посыльный от неизвестного адресата принес Бабушкину корзину испанского вина и дивные фрукты. Василий приказал Афоне отдать презент содержателю таверны. Море к вечеру — синий ковер, на удивление, пустынный. Перед вечерним выступлением Бабушкин побродил по городу. На улицах, площадях, набережных он терялся в толпе пешеходов, хорошо думалось. Не заметил, как оказался на берегу, где рыбаки грели смолу. Приятно дышалось. Чайки, парящие над водой, унесли его мысли во Владивосток. Что же стало с детьми, увезенными на “Мэри Норт”? Надо было спросить у Шидловского. Бабушкину предстояло через час-два уложить на ковре американского борца Блейка. Интересно, кого только не припечатал лопатками к ковру в Америке Поддубный? …Блейку Бабушкин дался на двойной нельсон — позволил заложить на своем затылке руки, гнуть шею. “Маска” демонстрировал публике этот захват: у борца длинные рычаги, и этот прием у него — коронный номер. Но Бабушкин не собирался показывать спину фавориту. Блейк жал на шею матроса изо всех сил. Если быстро поднять руки, присесть, можно уйти в партер. А зачем это делать — опускаться на согнутые ноги, создавая упор руками. Пусть поскрипит зубами. Когда Блейк отступился и они сошлись лицом к лицу, Бабушкину удалось правой рукой, с поворотом корпуса влево, захватить голову Блейка. Пригибая его к ковру, Василий неожиданно перешел на бра руле, заставил захватом руки растянуться во весь рост, протянул, упал грудью на грудь и держал побежденного до тех пор, пока двое судей, пригнувшись к ковру, не вынесли согласованного решения. Блейк был доволен своим поражением больше, чем Бабушкин — победой. То ли американец ухитрился сделать крупную ставку против себя, то ли в среде борцов он выполнял агентурное поручение полиции. В тот вечер француз Маго оказался прижатым лопатками дважды. По требованию публики Маго не признали побежденным и продлили схватку. Его противник Андерсен взбешенным ушел с ковра. Страсти накалялись. Марсельские повара, как известно, славят французское кулинарное искусство в Европе и за океаном. А вот с открытия чемпионата все мясные блюда в ресторанах города подавались на стол пережаренными, а соуса — горькими. Вино потеряло вкус, пьянели от разговоров о чемпионате. Бабушкин продолжал получать подношения. Из парижского магазина Радзевича — шесть костюмов фруктовых тонов: персиковый, абрикосовый, банановый, виноградный, яблочный и ореховый — из великолепного материала. Афоня принял коробки в отсутствие друга. — Примерь, — робко сказал Афоня. Лицо Бабушкина устрашило бы и Степана Разина. — Отправишь обратно, напишешь… Афоня, как он любил, высказался иносказательно: — Не лезь в шторм на мачту — можно сломать шею. Бабушкин размашисто написал на коробке, где покоились произведения Радзевича: “Размер не мой”. Всё это были только цветочки, ягодки зрели. Недруги бродили, кружились, толкались вокруг и около русского богатыря-матроса; он, что называется, не пришелся ни к одному двору. Но были и друзья… Два легионера предложили Бабушкину охранять его на городских улицах, а когда Василий отказался от добровольной стражи, шли за ним на почтительном расстоянии; этого он не мог им запретить. На пути борца из дома в балаган и обратно стали попадаться цыганские парни. После борьбы русского окружила трезвая компания французских матросов. Перед схваткой с Урю шофер Гинцбурга вручил визитную карточку своего хозяина, барон на словах (деловая осторожность!) просил передать: “Японца надо сломить… любою ценой!” Шофер — деникинский офицер, седоусый, горбоносый и широкоплечий, — прибавил от себя, привычно пожевывая кончик усов: — Отплати желтолицым за Порт-Артур! Во время русско-японской войны барон поднажился на поставках военному ведомству; из каких чувств он, теперь “патриот из кафе” Франции, желал видеть на марсельском ковре японского спортсмена под русским? У всякого барона своя фантазия! …В заведении с надписью на занавеске “Ресторан” рано утром хозяин поджаривал булочки овальной формы со сладкой начинкой. Они лежали на железных щипцах, перевернутых через хибати. Когда ранний посетитель переступил порог, маленький японец, не поднимая глаз, сказал: — Не угодно ли попробовать? Отведайте кусочек для развлечения. Афоня выполнял поручение друга: надо было предупредить борца Урю, что Бабушкин был в Японии и хорошо изучил все приемы национальной борьбы, согласен в честной схватке показать марсельцам красивый поединок; и что он предлагает Урю ничью, отказавшись от силовых жимов. Афоня произнес по-японски великолепную и бессмысленную фразу, но в ней склонялось имя Урю. Владелец заведения закивал: — У вас случилось что-нибудь? Горе? — Да нет, ничего не случилось. Вятские предлагают японским тядо. Законченные фразы и на родном языке сообщают меньше, чем одно оброненное слово. Диалог и монолог, как средство передачи мысли и чувств в современном мире, стали пригодны только для комедии, из тех, что впечатляют в театре. В жизни враждебные и дружеские импульсы передаются одним словом. “Тядо” — непереводимое слово, но за ним скрывается многое. Это, если уж необходимо объяснить, — путь чистоты и утонченности, путь гармонического единства с окружающим миром. Владелец заведения в интернациональном порту провел Афоню в комнаты, где обретался Урю. Урю сидел на соломенном коврике — татами, расслабив тело. Черное хаори с гербами висело на стене. У японского борца была не очень округлая, но красивая шея. Он думал (если Афоня мог бы знать) о том, что сказал Конфуций: “Я не постиг еще жизни, как же мне постичь смерть”. От себя он прибавлял: “Япония никогда не была побежденной, завтра я должен торжествовать над русским борцом, нашим пленным матросом”. На него набегали сладостные волны, исходящие от воспоминаний разгрома русского флота при Цусиме и покорения Сибири еще несколько лет назад. Он сознавал, что война и спорт требуют высшего напряжения душевных и физических сил, и был готов завтра на ковре показать себя японцем. Небольшого роста, темноликий, гибкий и стройный, Урю вежливо встретил посланца своего русского противника, отвечая на все слова его только одним: — Аригато (спасибо). У входа в японское заведение Афоню поджидали земляки (они выследили его). — Наша матка — евто Вятка… — Вятские робята — хватские, семеро одного не пужаются… Это были Митрич и русская прислуга с судна Леру — Антон. Митрич, рябой высоченный детина, с удлиненным лицом без подбородка, прикидывал в умишке, какую пользу извлечь из легкой встречи с борцом-матросом в Марселе. Выгода намечалась во Владивостоке, но там Бабушкин только помаячил и исчез. Счет начинался с деревеньки, где силач Митрича не замечал, а тот его с нестерпимой злобой запомнил. Антон, подгребая на шлюпке с “Цыганки”, заприметил на берегу у сходней огородное пугало в марсельском варианте: в шляпе из соломы, в дырявой сетке па теле и порточках, закрученных у колен, с растопыренными руками. В пальцах были зажаты простиранные портянки. Опознали друг дружку: — Вятские робята — хватские!.. — Исная, ликуй! Сукин ты сын… Под жарким небом встретились тепло. Вместе волынили на “Николае”, бранили чужое житье-бытье в заморских странах, сетовали на зажившихся на свете кряжистых отцов, сколотивших “копейку”, имевших батраков-подростков, не захотевших уберечь сынов от набора в царскую армию. Разбеседовались. Эко летело времечко! Оба ходили в кандидатах в солдаты, новобранцами пришли на призывной пункт за месяц раньше срока. Шла гульба. Рекрутами топали из дома в дом, требовали угощения. Родители будущих защитников России ставили на стол прощальные харчи. Матери, жены лили слезы. Прокучивали всё, что могли. Волостной старшина поставил четверть “николаевской”, выдал тридцать рублей на закуску, пригрозил за буйство сгноить в остроге. В день призыва потянулись подводы с пьяными со всех сел, деревень. Вокруг здания, где проходил призыв, — тысячи. Старшина, в суконной поддевке, с медалью на груди, с крыльца выкликал по фамилиям. Вошли, тянули жребий. Потом в городе у воинского начальника получили назначение — на флот. Из дома взяли белье на весь первый год службы. И на деньги отцы не поскупились — в казарме подносить водку “стрелкам”. По щекам пускай бьют, а избивать и калечить — избави бог. Терпи, Митрич, ловчи! Выполняй приказания, Антон, не мысли! Антон и Митрич шли по Марселю в обнимку, им теперь и это чужое море по колено, а уж на улицах сам себя заведешь в кабак. Бывало, из казармы идешь с провожатым — старшим матросом. Шагаешь без ленточки на фуражке, провожатый за тебя отдает встречным офицерам честь. За науку брал деньги, водил в распивочную. “Дядьки” заставляли молодых ребят подражать им. У Леру на “Цыганке” оставалось одно свободное место в прислуге. Бабушкин и Афоня ушли. Антон пошутил! — Кормил волк ягнят, а у баранов завились рога. Митрич откликнулся: — С волками жить — по-волчьи выть. Это нам не впервой Леру одобрял русскую прислугу, тут был свой расчет: чужой, в чужой для себя стране. Но не всякий наемник — покорный слуга. Митрич подошел. Бабушкину не пришло на ум, что ему надо охранять Афоню. Борьба, страсти вокруг борьбы и борцов разгорались. Бабушкин же был далек от этого. Он разумно полагал, что чемпионат в Марселе — один из многих видов развлечения публики. Проходили и велосипедные гонки. Был и пользовался успехом футбол. В доках Марселя шла трудовая жизнь. Чемпионат французской борьбы с его накалом страстей стал событием для узкого круга тех людей, которые постарались превратить его в игорный дом. В игорных домах Марселя посетителей и в это время было не мало. Крупье до зари выкрикивали: — Ставки принимаются! Делайте вашу игру… Ставок больше нет! Крутилось колесо рулетки. Резались в шмен-де-фер. Крупная азартная игра шла не тут, а между Марселем и итальянской границей, на французской Ривьере. Ницца, Канн, Монте-Карло за длительный бархатный сезон принимали состоятельных англичан, американских “королей”, русских князей, балтийских баронов, закамуфлированных государей и великолепных раджей. Открытые автомобили позволяли часто менять “декорацию”. Автомобильные гудки долетали до тихих садов и огромных сосен. Пылились завитки виноградных лоз, нежных листьев лимонных деревьев. Шумно разгуливали звуки музыки. Шоссе крутилось в приземистых Маврских горах, отделяющих побережье от Прованса. Воды моря выносили на гальку побережья обрывки водорослей. Вдоль горизонта маячили мирные корабли. “Мэри Норт” еще не приблизилась к Марселю. Бабушкин потерял спокойствие. Вот уже трое суток не видел своего друга. Жаркие улицы, темные улицы, веселые заведения — где искать Афоню? А если несчастный случай — больница, морг? Заявлять в полиции об исчезновении товарища не позволяло подсознательное чувство настороженности. Вспомнил Шидловского, но этот русский — залетная птица. Брала досада и на себя и на Афоню. В этот день пронырливые мужчины в больших темных очках, с разноцветными шарфами, закрученными вокруг шеи, распоряжались и суетились у всех входов на утреннее представление. Их окружали толпы зевак, что парижанам мешало работать и, как всегда, льстило. Это были посланцы киностудии. Кинокамеры и осветительная аппаратура, складные зеркала, мегафоны, зонты от солнца, кофры охранялись полицейскими; еще не было случая во время выездных съемок, чтобы что-то не унесли на память у гомонов[289]. Бабушкин вынужденно остановился. К нему не без робости подошел некто в темных очках, протянул запечатанный конверт, отступил на почтительное расстояние. Вскрыв конверт, он увидел короткую записку и цветной продолговатый печатный бланк. Записка была от Афони, кривые большие буквы, как и оборот речи, не вызывали сомнения. Податель письма, держась метрах в трех, снял с лица “консервы”, сказал: — Я што? Вот как братейники повстречались! Бабушкина почему-то не удивила встреча с Митричем после Владивостока в Марселе и то, что тот заставил принять себя за работника студии. Второстепенное обстоятельство не влияло на суть дела. Афоня писал: “Это я, Афоня для тебя, а для всех господин Деготь с почтением. Японца можешь скрутить, а под маску ложися лопатками. Супротив пойдешь и меня сгубишь. Цыганка — пики, ее пужайся…” Стараясь понять Афоню, мысленно расставляя знаки препинания в письме (их не было), Бабушкин услышал последние слова Митрича, произнеся которые, он затерялся в толпе: — …не лезут в карман, а вокруг пальца обведут, скажут: не обман. Я на тебя поставил свои кровные. Дай японцу макороны! “Макоронами” назывались допустимые удары во время борьбы противника в партере — согнутой рукой в предплечье. Цветной продолговатой бумажкой, вынутой Василием из конверта, был чек на крупную сумму. На бланке напечатаны города, где предъявитель мог получить деньги по чеку. Бабушкин прочитал: “Лион, Париж, Мадрид” — и увидел название еще одного крупного города: “Санкт-Петербург”. Было ясно пока одно: сегодня он не может выйти на ковер. Публика ждала, операторы приготовились снимать острую схватку двух сильных противников — японского борца Урю против русского матроса Василия Бабушкина.***
Ни Афоня, ни Бабушкин никогда не задумывались над тем, как они относятся друг к другу. Если “чужая душа — потемки”, то своя — бездонный колодец. Что ты увидишь в его глубине? Разве что отражение чужого света. С Тулона завязался первый морской узел дружбы Василия и Афони. Афоня сам выбрал Бабушкина в друзья, своих неподтвержденных прав не уступал. Сила Бабушкина выделяла его из всего экипажа, доброе спокойствие, трудолюбие, исполнительность избавляли от придирок начальства. Тихий нрав, скромность встречали уважение. Афоня до ранения и сам мог постоять за себя, не нуждался в защите самого сильного на корабле человека. Там, где много разных людей вынужденно живут вместе, всегда создаются еще более близкие, тесные отношения, уже по своему выбору, между двумя родственными душами. В Порт-Артуре для Бабушкина каждый матрос, который с ним рисковал своей головой в лихом деле, был в тот момент, в те часы самым близким другом. У Афони появилось ревнивое чувство, это не понравилось Бабушкину. На войне и родной брат не дороже чужого тебе человека, если он с тобой рядом, под пулями. Афоня требовал для себя предпочтения. Порт-артурская судьба разлучила вятичей, в госпитале Бабушкин понял, что Афоня для него самый близкий человек. После Сингапура и пережитого на “Николае” Бабушкин и Афоня стали как бы двумя половинками. Ранение в голову, частичная потеря памяти у друга, его беспомощность пробудили у Бабушкина более глубокое чувство — нежную любовь. Такую любовь сильные люди могут испытывать или к женщине, или к ребенку. Афоня отвечал ему тем же. Тут не было места словам, если нежность и ласка возникали, то только по суровой необходимости. В скитаниях по селам (после возвращения из японского плена) Бабушкину приходилось ухаживать за другом — Афоня хворал. Василий мыл его в теплой баньке, а то и в корыте, укладывал спать, ставил компрессы, кормил с ложки. Делал он все это с радостью; когда (после Ялты) окрепший Афоня попробовал поухаживать за другом — постирал его белье, разобрал постель, — Бабушкин запретил это делать, раз и навсегда — баста! Теперь Василий уже сам предъявил свои права на Афоню. Любовь к Музе пришла, не могла не прийти, и она поместилась в большом сердце мужчины, не заняв места, где жила дружеская любовь к Афоне. Но борьба, чемпионат борьбы в Марселе временно и закономерно заняли все мысли, помыслы Бабушкина. Это понимала цыганка. Но хотел ли Афоня мириться с тем, что у друга будет жена, дети? За поведением Афони всегда надо было пристально следить. Он был дерзкого духа, но не самолюбив, доверчивый, но и неожиданно — подозрительный. Понять его не всегда было просто. Афоня мог совершить самый неожиданный поступок даже себе во вред, только чтобы показать самостоятельность мышления. С ним было не легко, но ведь привыкаешь ко всему. Как в лице постаревшего любимого человека видишь памятную тебе его молодость, так в Афоне и с Афоней Бабушкин видел себя таким, каким он был в начале жизни. Скуластый, с высоким лбом и круглыми впавшими прозрачными глазами, Афоня мог часами любоваться на воробьев, не выносил чаек, хищных птиц, крикливых и дерзких. Он высказывал нежность к самым удивительным созданиям; так однажды дней десять носил за пазухой ежа, кормил, поил, ложился с ним спать. Удивительно, но никаких следов не оставили иголки ежа на теле его почитателя. Что же говорила, если подумать хорошо, записочка, присланная скрывшимся без предупреждения другом? Шарады Бабушкин не решал, загадок не любил, но тут задумался и набрел на одну догадку. “Цыганка — пики, ее пужайся”. Цыганка — не Муза, не женщина, с которой хотел связать свою судьбу Василий, цыганка — судно Леру “Цыганка”! Афоня оказался на яхте! Что его привело туда? Хитрость Леру. Пугаться, остерегаться следовало того, что исходило с “Цыганки”. В этом не было ничего нового, но, конечно, присланный в конверте чек был липкой и грязной бумажкой. Но и чистое золото, драгоценный камень не могли бы перевесить чашу весов, против той, на которой покоилась честь матроса-борца, честь весомая, если уж говорить правду, только для самого Бабушкина. И, конечно, для его друга. Бабушкин почувствовал себя сильным, очень сильным, сильным, как никогда. Когда Бабушкин на троекратный вызов его на ковер не появился перед публикой, не вышел против японского борца Урю, ему засчитали поражение. У русских, бежавших из России и оказавшихся в Марселе, у следивших по газетам за борьбой, легкая победа японца вызвала бурю негодования. Бабушкина поносили — “дерьмовый георгиевский кавалер”, “чемпион русского флота”! Но квасной патриотизм и квасные патриоты не затронули спокойствие Василия. У него была та родная силенка, которая пришла к нему и налилась на русской земле, но и заставляла уважать японского, немецкого, турецкого спортсмена. В силе, подлинной силе, должны быть и красота и ум. Глупый бессилен, он может только на короткое время создать некую видимость силы. Еще не свиделись в Марселе Василий и Афоня, но уже познакомился с марсельской тюрьмой Митрич. Бес попутал его прихватить у гомонов на съемке подзорную трубу. С этой трубой “режиссера” Митрича и пригласили в полицию, когда он в укромном месте у моря обозревал бесподобные виды, не имея вида на жительство. В месте заключения Митрич смог пространно потолковать с комиссаром полиции, которого пугал на кладбище[290]. Леру как зритель отдал дань французской борьбе: он сидел в лучшей ложе у подмостков в обществе красивой женщины. Никто бы не узнал в этой даме, одетой по последней парижской моде, с драгоценностями в ушах и на открытой груди, босоногую цыганку. И два легионера, за столиком которых раньше сидела Муза, не признали ее. А вот Бабушкин знал, что она среди публики. В этот день борец в маске после трех сокрушительных побед на ковре выступал против русского матроса. Он был великолепен. Черная шелковая полумаска с вырезом для глаз закрывала половину лица, не мешала дышать носом. В самом деле это любопытно — кто же он? Высокий мужчина в окружении телохранителей и поклонников разгуливает по городу, живет в лучшем отеле и не снимает с лица маски. Красавец или урод? Лорд, князь или нищий? Одет с иголочки, нем как рыба. Сверхполный сбор, тысячи поставили трудовые денежки за таинственного борца против любого. Беспроигрышная лотерея! Выход русского матроса встречен гомерическим смехом и свистками. Это тот трусливый борец, который испугался японца. А Урю да и все борцы чемпионата, не очень-то любопытные до чужих схваток, сегодня собрались смотреть борьбу. Гомоны, разумеется, не снимают эту борьбу, она не представляет для них интереса — исход ясен, зрелищного интереса нет. Против “Маски” богатырь из “дважды побежденной России” (на полях сражения) выходит с открытой душой, но кто знает про это. И что значит в материальном мире, “какая-то русская душа” против всего, что взвешено, определено и уготовлено? Зрелище не страдает от этого, наоборот, оно полно предвкушения сладостных минут. Но как далеки все от истины! И только один Урю где-то близок к ней, памятуя изречение Судзуки: “Истина — созерцание, она по ту сторону слов”. (Книгами и речами ее не передашь.) Но разве можно приложить великие слова к такому низменному делу, как профессиональная борьба? На выступление на ковре этой пары съехались многие с побережья, из Лиона, даже из Парижа. Пришли цыгане, засидевшиеся в Марселе, матросы с многих судов. Маска плотно прилегала к лицу борца, она была приклеена театральным лаком, снять ее чужой рукой было невозможно. Все свободные от постов и дежурств полицейские Марселя, одетые в штатское, заполнили проходы. Инспектора, агенты и сам патрон, шеф, префектор, комиссар, как их там тогда называли, теперь уже не имеет значения, из полицейской префектуры, из марсельского отделения знаменитой Сюрте — “сливки общества” — посетили чемпионат в тот довольно обыкновенный день. Антрэ!.. Борьба фаворита с русским матросом была лишена тех эффектных моментов, которые ценит платная публика, но это была настоящая борьба. Зрительно в ней не было ничего показного, а значит, волнующего, но переживания борющихся, как и перипетии борьбы вызвали повышенный интерес у всех участников чемпионата. Что касается до скрытых, как всегда, от зрителей чувств и помыслов противников, то читатель может представить себе хоть малую толику того, что волновало Василия Бабушкина. Бабушкин мог проиграть: во всех видах соревнований всегда бывает случайность. Василий не видел несколько дней друга Афоню, исчезновение товарища в накаленной обстановке чемпионата подсказывало естественно тревожное предположение: если Бабушкин победит на ковре фаворита, те, которые поставили на борца в маске деньги, захотят отомстить Василию. Сам Бабушкин почти недоступен для недругов, а его друг… Татуированный борец в маске, как всякий борец, страшился поражения. И пусть он не покушался на золотой фонд “Меркурия”, не возглавлял шайку, а был в жизни даже скромным немецким обывателем. Он, как участник марсельского чемпионата, старался угодить своим покровителям. У него высокий рост, фигура лишена классических пропорций, крепкие кривоватые ноги, длинные рычаги, с наращенными упражнениями бицепсами. Его бицепсы длиннолинейны, что не самое лучшее, с точки зрения специалистов физической культуры. “Маска” обнял шею Бабушкина. Василий правой рукой (левую держал на весу) прошелся по телу противника — от подмышек до пояса. У немца почти не было лятусов — это те великолепные мышцы, которые плечи и грудь обрамляют до талии в “треугольник”. Бабушкин дал противнику возможность закинуть руки на шее за плечами, обнять себя, чуть вывернулся, потянул за собой в партер. Высокий противник положение в партере на согнутых. ногах с расставленными руками в обороне освоил хорошо Бабушкин не собирался тратить силы на отрыв его рук; ног для попыток уложить на ковре хотя бы на одну лопатку… Встал на ноги. Предстояла лицом к лицу изнуряющая силовая схватка. Помассировали один другого. Василий исхитрился заложить противнику полунельсон — две руки с захватом шеи. С этого приема не кинешь на ковер. Ничего потрясающего. У соперников равные силы? Оба не первой молодости. Но разве эти длинные руки фаворита не устрашающи? Его зажимы, обхваты и болевые приемы выдержать, говорят, нельзя. Отдав себя в руки массажиста, Василий не взглянул на него, но, еще не услышав знакомого голоса, почувствовал сердцебиение. Афоня ловкой и нежной рукой прошелся губкой и полотенцем по торсу друга. Кожа Бабушкина была сухой, Василий не вспотел. — Где пропадали, господин Деготь? Стыда у вас нету. — Васютка, бежим, ну их к лиху! — Сейчас, что ли, бежать? — Когда разложишь удава под собой. Меня заарканили, но я бежал… Борец в маске и в самом деле мог показаться удавом. Маленькая голова на узковатых плечах, пятнистое тело — нечеловеческая кожа. Фаворит не только вспотел в первой схватке, он был влажным, а значит, и скользким для рук того, кто притронется к нему. Афоня после борьбы расскажет Василию о случившейся с ним “оказии”, он удачливо вышел сухим из воды — и это было самым важным для Бабушкина. В следующей схватке Василий пошел напролом: брал противника на передний пояс, выдерживал долго, прежде чем отступить, после его “парада”-отпора. Сам давался на задний пояс, а ноги от ковра не отрывал. От коварно-незаметного болевого приема сгоряча боли не почувствовал. Захватив же по всем правилам шею соперника, так пригнул его, что только маска на лице скрыла ужас мгновенного паралича ног и рук. Вот теперь следовало уложить его на лопатки. Бабушкин же дал отдышаться борцу. В балагане стоял рев. И тут произошла роковая (для кого?) неожиданность. У фаворита хлынула кровь из носа. Он схватился двумя руками за лицо. От нелепого страха — а ведь это бывает у всех спортсменов — борец закинул голову, струйки крови потекли через прорези маски в глаза… И невольно он сорвал маску с лица! В балагане наступила тишина. А потом крик из публики: — Ганс! Ганс Зуппе! Это же матрос с голландской баржи. Таинственная маска оказалась “своим братом” — матросом. — Я прекращаю борьбу! — заявил полицейский чин. И прибавил, пользуясь настороженным вниманием публики: — Кто тут победитель, кто побежденный — не мое дело. Говорят: победить — это значит пережить и свои победы, и поражения.Часть третья С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Василий Бабушкин покидает Марсель, он тут устроил все дела. Простился с любимой женщиной, узнал, что у него будет сын, “так порешили” — сын! А как назовут — неизвестно: Федор или Марсель? С другом Афоней договорились. Принудил себя зайти в полицейскую префектуру Марселя, его принял усталый от “марсельских тайн” старый человек, хороший знакомый Шидловского. Кое над чем приоткрыл завесу, не препятствовал чистому и свободному прощанию с Францией; мог бы написать русскому матросу хорошую характеристику, ко по полицейской мудрости счел, что для ленинградского ЧК это не лучший аттестат. Как всякий матрос, Бабушкин посетил знаменитый собор, перекрестил в соборе лоб и грудь трехперстным крестом — благодарность “покровительнице” за то, что охраняла. “Береженого и бог бережет” — так подумал Василий. И — в путь! Туда, где тысячи богатырей, не чета ему! Легко оказаться за пределами матери-родины, а как пасынку припасть к ее груди? Парижский экспресс тронулся, вошел в длинный туннель. Поезд мчался средь равнин Прованса. Из Парижа русский матрос едет в переполненном вагоне. Поезд пересек границу Эльзаса. На этой, вернувшейся к Франции земле, люди говорили на немецком языке. Местные девушки в национальных костюмах бойко учились объясняться по-французски; в Эльзасе было больше французов, чем немцев. В Висбадене Бабушкин пересел в поезд местного назначения, над деревянным диваном коптила свеча в фонаре. Послевоенная Европа не во многом отличалась от царской России. Поезд делал частые остановки, “герр обер” с немецкой пунктуальностью объявлял остановки. Но вот он предложил пассажирам покинуть вагон. Что-то стряслось на пути. Начальник маленькой станции предложил Бабушкину показать документы. Василию нечего было показать. Французский начальник станции, раздосадованный проволочкой, крепко выругался на русском языке. Родная речь за границей всегда звучит, как ласка. Бабушкин отрекомендовался, что едет в Германию открывать чемпионат французской борьбы. — Печатай на лопатках бошей! — посоветовал грозный начальник станции, сразу став обходительным человеком. И он повел Бабушкина (у Василия был легкий чемодан) в немоту пограничной ночи. Шли на свет фонаря к шлагбауму, перекрывавшему шоссе. Часовой-африканец в одиночестве сторожил новую французскую границу; на той стороне не было видно ни одного живого существа. Бывший русский офицер сказал темнолицему стрелку два слова, африканец вяло и равнодушно приподнял шлагбаум. Русский не отказал себе в удовольствии дать пинок пониже спины Бабушкину: — Крой, бродяга, и знай наших! Оказавшись в Германии, Василий услышал хохот русского начальника станции на французской земле. Во Франкфурте-на-Майне Бабушкин без вопросов поменял в банке франки на марки. Банковский чиновник с унылой улыбкой сказал, что еще год назад, в середине октября, буханка хлеба стоила 480 миллионов марок. Но вот теперь вступил в действие “план Дауэса”, германский капитализм получил финансовую помощь монополий США и Англии — бывших врагов. Условия жизни трудящихся людей стали лучше, но один бог знает, что ждет немцев впереди. Бабушкин мог бы сказать немцу: а я не знаю, где буду и что станет со мной через месяц. Но эти слова относились бы только к одному Бабушкину, тогда как немец говорил не только о себе, а о Германии. И Бабушкин вежливо простился со служащим банка. Первым берлинским поездом русский матрос покатил в столицу побежденной страны. В Берлине было много советских торговых представителей, Бабушкин искал именно советских людей. Что бы ни ожидало его за подъездом торгпредства, Бабушкин не останется в Берлине и на одну ночь. И он входит в парадный подъезд. Не в этом ли особняке когда-то устраивал чаепития для гостей русский посол Остен-Сакен? Не сюда ли однажды приехал сам Вильгельм II? Тени прошлого в этом здании не омрачают сознание тех людей из Страны Советов, которые посланы для налаживания торговых и дружеских связей с немецким народом. В приемной много посетителей, говорящих на немецком языке. Сверкал паркет, сверкали дверные ручки. Бабушкин так растерялся, что заговорил с подошедшим к нему великолепно одетым молодым человеком по-французски. Высокий и красивый брюнет с чуть надменным выражением лица не понял ничего. Стоящего перед ним человека он видел впервые и не знал, к какой категории просителей следует его отнести. Машинально он учтиво представился по-русски: — Я — Дубсон. — И прибавил: — Сегодня обычного приема нет. Бабушкин протянул руку, пожал и просто сказал: — А я Бабушкин. Боролся в Марселе. Там, вы знаете, чемпионат французской борьбы… Для всех других Бабушкин этим не сказал бы ничего, но для Дубсона за скупыми словами посетителя приоткрывалось увлекательное приключение. — Зовите меня, Бабушкин, Мишей. Выйдем отсюда, найдем уютное место, и вы мне расскажете про борьбу. Идет? А тут делать нечего сегодня и вам и мне. Прием! Но прежде Бабушкина о себе стал рассказывать Миша Дубсон. Не то чтоб он хвастался, но как было не поведать русскому в Берлине о том, как смоленский гимназист приехал в Берлин, а в Берлине стал учеником знаменитого Фрица Ланга. В Смоленске Миша с первого класса стал изучать немецкую литературу и язык. Когда гимназия превратилась в советскую школу, изучение иностранных языков прекратилось, но Дубсон, как и некоторые другие, говорил, читал и писал по-немецки свободно. Правда, у них не было берлинского произношения, но это дело наживное. Знание языка привело Дубсона в Берлин, где его услугами пользовались советские работники. Миша интересовался немецкой кинематографией, новая в послевоенной Европе, она вышла на первое место. Уже начался обмен фильмами, и картины с участием великолепного Яннингса — “Дантон”, “Петр Великий”, “Отелло” — демонстрировались в Москве, Ленинграде, Киеве. А теперь в Берлине ждали приезда советских кинематографистов и русских кинокартин. С места в карьер Миша предложил Бабушкину сниматься на студии “Нейсбабельсберг” и “УФА”. Внешность, сила быстро выдвинут Бабушкина, если не в короли экрана, то в “принца”. Дубсон говорил без умолку. Бабушкин думал: вот молодой человек чувствует себя в Берлине, как дома. Может быть, это потому, что Дубсон уехал из России как советский гражданин и может в любой день вернуться на родину. …Дубсон и Бабушкин разгуливали по берлинским улицам, их русская речь ни у кого не вызывала настороженности. Мимо них проходили тайные советники, бароны, офицеры на пенсии, рантье, господа мясники, чиновники, девицы в пестрых шляпах, молодые люди в остроклювых кепи со знаком свастики над козырьками, почтовые служащие и чиновники по железнодорожному ведомству, пожилые женщины и старухи, чья одежда старого времени была хозяйственно убережена от моли. На открытых окнах в ряде домов бамбуковыми палками выбивали перины и зимнюю одежду. Кружились, перелетали с места на место голуби, эти птицы-спутники всех городов Европы. Берлинские — тощие и драчливые. Послевоенная порода. Дубсон вдруг спросил, не встречался ли Бабушкин на ковре с борцом, у которого все тело в наколках? — Довелось. — Я смотрел на него в Берлине. — В Марселе он выступал под маской. — Вы боролись с “Маской”! Он сильный борец. — Ничего… Миша стал расписывать “убийственные” приемы голландца. Бабушкин терпеливо слушал, думая, что надо уезжать из Берлина. — А вы устояли против захвата шеи? — Да ведь как сказать! Одним приемом приличная борьба не кончается. — Но вы не победили его? Бабушкин поморщился, как от зубной боли — ему хотелось забыть борьбу в Марселе. Дубсон ждал. — Маска, рисунки на теле — это еще не сила. — Положили?! — Он сорвал с лица маску. Дубсон с уважением посмотрел на Бабушкина, думая, где лучше приложить его соотечественнику богатырскую силу. Бабушкин же увидел себя, как бы со стороны, в ту минуту в Марселе на подмостках, когда, подойдя к ложе, он протянул мосье Леру чек, полученный им в конверте, а Леру сделал вид, что не понимает его, и тогда борец Бабушкин, еще не скинувший халат, разорвал чек и бросил обрывки в ложу… — Сколько вы получали в Марселе? — Дубсон спросил это, чтобы что-то сказать, у него созревали сразу две ослепительные мысли. — Я держал в руках чек с четырьмя ноликами. — В Гамбург, — вскричал Миша, — в Гамбург! И стал объяснять: в Гамбурге Бабушкин наймет циркачей и поедет с ними выступать в Ленинград, в цирк Чинизелли, исполняющий обязанности директора которого знаменитый Вильяме Труцци сейчас в Гамбурге и набирает для своего манежа немецких артистов, а в зверинце Гагенберга — зверей. Все очень просто (по словам Дубсона), но у Бабушкина нет желания быть артистом, а кроме этого, денег — в обрез. — Бабушкин, ваше счастье, что я начинаю выступать как сценарист. Если вы еще не охладели к пароходным топкам и углю, я дарю вам вторую мысль, слушайте! Гамбург, Бремен — это порты, куда заходят с прошлого года наши корабли… Бабушкин и без подсказки будущего режиссера и сценариста хотел подняться на палубу советского парохода, Дубсон только укрепил его продуманное желание, и теперь Василий знал, что ему не нужен Берлин. И хотя у входа в варьете надо было вести себя с оглядкой на стражей порядка, русский матрос схватил сильными руками молодого человека за талию и, оторвав от асфальта, вскинул над своей головой, как младенца.***
В Берлине Шпрее — “прусский Рейн”. Конечно, не в ширине дело, Шпрее и заводы, индустрия и природа. И еще жив в сознании немецких трудящихся лозунг, выдвинутый год назад КПГ — “Бейте Пуанкаре в Руре и Куно на Шпрее!”. Бабушкин покидает Берлин, видит Шпрее из окна вагона. Со Шпрее к заводам клубится туман. Уходят, уходят дымящие трубы и потемневший Сименсштадт. Но долго видны заводские часы на пожарной башне.От Берлина до Гамбурга пережить несколько часов пассажирам легко. Гамбург многогранен и многолик. Гамбург-мировой порт. О Гамбурге бюргеры говорили: “Поле деятельности — весь мир”. Из Гамбурга Германия протягивала руки в Азию и Америку, а уж Европа была под рукой у Гамбурга. В Гамбурге Бабушкин занес чемодан в камеру хранения на вокзале. Старик с потухшей трубочкой, приняв у приезжего ручной багаж, сказал по-немецки: — Господин на родине великого Брамса. Бабушкин пошел побродить по городу. На привокзальных улицах ему сопутствовали запахи гудрона и лошадиного пота. На Ландунгсбрюкен Эльба показалась на минуту. Встречались мужчины в котелках, женщины в прямых юбках и двубортных жакетах. Волосы у немок подстрижены, как у мальчиков, причесаны на косой пробор. С островка на городском озере Альстер доносились звуки музыки Брамса. Проносились мотоциклеты с молодыми людьми. Они уважали скорость, стремились в неясное будущее. Гамбург, как всякий портовый город, — многолик. Гамбург — на все вкусы. Из лавчонки татуировщика выбралось на уличный свет нечто, что привлекло внимание Бабушкина, заставило вздрогнуть. Это были три ужасных калеки, смонтированные кем-то в одного живого робота. Длинные ноги в солдатских сапогах и залатанных штанах принадлежали человеку с пустыми глазницами. На его груди на открытой подставке-полке сидели два человеческих обрубка, закрепленные ремнями. Один из них был без ног и без рук, но сохранил глаза. Огромные светлые, они, как и рот, улыбались. Второй несчастный без ног, но имел две руки, его глаза прикрыты черными очками. Все трое говорили на три голоса — несколько заученных фраз на трех языках — немецком, французском и русском. “Они” шествовали. Протягивались руки, руки опускали в матерчатый мешок подаяние. Зрячий указывал путь, ноги несущего на себе двух других — двигались. Бабушкин разобрал одну фразу: — Они нападали, они погибали, они отступали, они не сдавались! В огромном гамбургском порту не было оживления. Порт уснул, но уже начинал пробуждаться. Повисли лебедки, замерли транспортеры. У одинокого причала готовился к отбытию белоснежный пароход. С палубы, облокотясь на перила, сплевывал в ржавую воду негр. Бабушкин увидел темное лицо на фоне белых надстроек; хотел повернуть, пойти в другой конец, как вдруг что-то неосознанное заставило его подойти ближе и прочитать название судна. Название маленького корабля было выведено на его борту русскими буквами. Для многих европейцев все негры на одно лицо. Негр на советской палубе обладал хорошей памятью на лица белых. Когда Бабушкин оказался у трапа, негр по-русски крикнул: — Бог чельму метил! Стоять! — Разразился бранью: — Чума! Чолера! Бабушкин после этой неожиданности не знал, что и думать. На крики негра появился высокий, здоровенный мужчина с правой рукой в лубке. Негр что-то старался ему рассказать, но он не слушал и оценивал Бабушкина взглядом. Прежде чем Бабушкин, подыскивая слова, решил обратиться к человеку с бледным лицом и рукой в лубке, тот бросил вопрос: — Камрад, ты случайно не повар — “кухе”? — Еще какой повар! — вдохновенно ответил Бабушкин. Русская речь насторожила русского моряка на судне в гамбургском порту. (Русский в чужом порту — значит, белогвардеец.) Бабушкин ждал вопросов, не знал, что сказать. Моряк на судне теперь слушал негра с вниманием. — Тебя видели во Владивостоке? Иван не спутал тебя с другим? Иваном советский моряк, видимо, назвал негра. — Был… Уплыл… В памяти всплыло воспоминание: негр на американском пароходе. Как он оказался в команде советского судна? А как Бабушкин из Вятки, побывав в Марселе, теперь в Гамбурге! — Зачем выкрал парнишку, поднял шум на чужом корабле? Ты что — цыган? А у нас кого хочешь унести? Меня, может, да? — Большое тело русского моряка затряслось от смеха. Он забрасывал вопросами Бабушкина, не давая ему возможности ответить. — Подослан? Кем подослан? Или друг? Бесплатный пассажир? Где родился, как воевал? Какие такие заслуги перед революцией? — Господин капитан, — сказал Бабушкин, — разрешите я все расскажу о себе на коробке. — Ну и пташка! — Моряк присвистнул. — Это я — “господин”?! Это ты — господин! Я — товарищ, камрад, геноссен. А стряпать можешь? Если хочешь знать, я шеф-повар по совместительству, а по назначению — электрик. — Я могу приготовить любое ресторанное блюдо. — Врешь! — Изучил за свои скитания по далеким странам все кухни. — Какие еще кухни? — Порт-артурскую, жаркую, не продохнешь. — С перцем, что ли? — С японским перцем. И японскую у японцев, без русской соли. Рис — в ста различных видах. Трепанги, водоросли, плавники акулы. — Бабушкину пришлось пустить в ход все свое красноречие, постараться уложить на лопатки противника, от которого, может быть, ничего и не зависело. — Душистое тесто и… таби! Китайские кушанья, сам Нептун не скажет — рыба или мясо. И еще — бесподобную гречневую лапшу. Заливное из гусиной… кожи. — Стоп! Малый ход. А французскую стряпню знаешь? — С моим удовольствием! Лучше нет поваров, чем в Марселе. Бра-руле, тур-ду-ан-шантен… Соуса и подливки на вине, прованском масле. Дары моря — радость желудка! “Португалес”. Кафе-крем. Фритюр. Крабы по-марсельски, Торнедос. — Языком ты готовишь здорово! — Плат ди жур. Кулаком могу превратить жирную тушу в свиную отбивную. Касолет — рагу из мяса и дичи с бобами — в горшке. — Как в горшке? — В глиняном горшочке. — Аккуратней. Как с итальянской пищей? — Какой борец не может раздать макароны! — И сам ел это всё? — Пробовал по долгу кухонной службы. — И выплевывал? Черт побери! Жарь дальше. И чтоб знал — эта жуткая стряпня не для нашего экипажа. — Борщ по-флотски — в котелке стоит ложка. Компот из сухих фруктов. Жареная картофель со шкварками. — Тебя слушаешь — разыгрался аппетит. Ну так вот, у нас будет несколько пассажиров. Итальянский артист с женой. Один немец… — Сосиски с капустой. — Англичанин… — Яичница с беконом — на завтрак. И еще я, забыл сказать, сомельер. — Что за блюдо? — Это, извините, метрдотель по винам в ресторане. Бабушкин за свою жизнь не выпил и бутылки вина. Его память сохранила названия вин, которые пил Леру и его гости. Советский моряк почесал левой рукой макушку. — С вином у нас вышла чертовщина… — В винах разбираюсь по этикеткам. Шатоикем, лафит, флери, монтаньи, мартель, мум, алжирское… — Не хлопай пробками! Ты или пропойца и обжора или в самом деле повар. Понимаешь… По пути попали в штормишко, поскользнулся на мокрой палубе, сломал руку. Корзинкин и Лисеев могут без затей приготовить здоровую пищу на плите, но вот, на грех, взяли до Ленинграда пассажиров. Бабушкин услышал заметное слово: порт назначения — Ленинград. Счастье было в его руках. И хотя он, кроме каши, себе не готовил ничего, к столу не подавал, насмотрелся, как мастерски стряпал Афоня. Неужели не выдержит этого испытания? Испытание всех сил ждало Бабушкина в Финском заливе. Но и до этого страшного испытания ему еще предстояло пройти “чистилище” на корабле под мирным флагом его все еще далекой родины. Моряк, с которым разговаривал Бабушкин, отправился к капитану Дедрухину, доложить, что есть на примете здоровяк кок, русский матрос, побывавший в плену у японцев. Дедрухина матросы называли в разговорах сокращенно — Дед. Он и был дедом в свои сорок лет: двадцатилетняя дочь молодого капитана имела уже дочь. Среднего роста, стройный Дед выглядел даже моложе своих лет. На его морском кителе (висел на спинке кресла в каюте) был прикреплен орден Красного Знамени. Деда не удивило, что вот теперь, в 1924 году, русский матрос из Гамбурга стремится попасть на родину. Еще не все матросы с восставшего в 1905 году броненосца “Потемкин” вернулись домой. Одиссея русских матросов, разнесенных на грозных волнах всех событий с начала XX века, продолжалась. Но американского негра капитану проще было взять на свою палубу, записать в команду корабля, чем соотечественника. Долгой бурей пронеслась по родной советской земле гражданская война, за рубеж бежали сотни тысяч подданных бывшей царской империи. Но кок нужен, немец или француз не будет знать языка. И может оказаться продувной бестией. — Приведите его ко мне, — сказал Дед. — И скажите доку Хрыпову: пусть проделает с этим коком все медицинские штучки. Пока решалась участь Бабушкина, негр Иван стоял на трапе и давал ему понять поднятым черным кулаком, чтоб моряк не делал попыток к вторжению. Бабушкин добродушно улыбался, думал, что если ему повезет, на коробке он услышит от черного матроса о судьбе петроградских детей, вывезенных из Владивостока американцами. Что с ними стало? Доктор Хрыпов был молодым врачом, но уже считал себя старым моряком — этот рейс был для дока пятым. Александр Ефремович, еще учась в Военно-медицинской академии, изучил прилично французский язык (стал учить английский). Разговорной практики не было. Запираясь в своей каюте, Хрыпов прочитывал французские журналы, газеты, громко произносил отдельные фразы. В этот час, когда для Бабушкина решалось, “быть или не быть”, Хрыпов просматривал несколько номеров газеты, выходящей в Марселе, оказавшихся в Гамбурге с заметным опозданием. В одном номере вся страница отводилась чемпионату французской борьбы, в другом было сообщение об убийстве некоего господина Леру, причастного к делам чемпионата. Хрыпов любил борьбу (и пин-понг); только он собрался скрутить табачок “добельман” и со смаком заняться марсельским чемпионатом, как в дверь каюты постучали. — Антрэ! — отозвался док Хрыпов. Его единственный за весь рейс пациент, давший корабельному врачу благодарную возможность повозиться со сломанной рукой, перешагнул порог, приложил два пальца левой к козырьку фуражки: — Я нашел кока. Пришлось обежать весь порт и полгорода. — Вы не должны были этого делать с больной рукой. Я вам запретил уходить на берег. — Если я скажу, что кок сам навязался на мою шею, — вы не поверите. Хрыпов профессиональным жестом поправил положение забинтованной руки моряка, вдетой в черную повязку через шею. — Что я должен делать? Снять пробу? — Он еще не дошел до плиты. Пробу вы должны снять с него. — Не понимаю. — Ну пустить ему кровь из пальца, сунуть палец в рот. — У вас странные представления о врачебном осмотре. Зовите! И берегите руку от случайного удара. В каюту доктора вошел высокий смущенный мужчина. Тот, о ком Хрыпов будет теперь ночью читать в марсельской газете. — Раздевайтесь. Чем болели? Вспоминайте! Богатырь смутился еще больше. — Ничем не болел. Но валялся в госпиталях. — Куда ранены? — Если бы в одно место! — Где лечились? — У японцев. Хрыпов с интересом посмотрел на участника русско-японской, который искал работы с котлами и сковородками. Дед в капитанской каюте принял решение, достойное хитроумного Улиса. Тот ли Бабушкин, за которого он себя выдавал? Паспортизация в Москве, Ленинграде тогда еще не прошла (а в селах жили по справкам и без справок). Русские матросы плавали на английских, американских, бельгийских, нидерландских судах. Дедрухин взял негра в команду корабля, толком не зная его имя. За это его даже похвалили в Ленинграде. Но русский в немецком городе? А не взять его он не мог, и не потому, что им нужен был шеф-повар. Еще неизвестно, что состряпает он. Этот вятский крестьянин, оторванный от родной земли, скитавшийся по свету (Бабушкин скупо рассказал о себе), этот рослый красивый человек пришелся по душе Дедрухину. Отвечать же за его прошлое он не может, не хочет. И сказал Дед себе: “Я продам ему пассажирский билет первого класса”. (Бабушкин показал деньги — марки.) Пассажиров несколько человек, в Ленинграде у них проверят паспорта на корабле. Если Бабушкина на берег не выпустят, он останется на палубе и в обратном рейсе сойдет в Гамбурге. Пострадает карман, но моряк побудет среди своих. Эта мудрость и человечность сорокалетнего Деда, капитана корабля, приобретенного с верфи в Христиании, судна товаро-пассажирского с малой командой, сулили Бабушкину то, от чего могло разорваться и львиное сердце. Увидеть отчизну и не сойти на землю родины.***
“Завязывал бантик, а развязал узелок”, — думал Бабушкин, лежа в отдельной каюте на советском корабле, прислушиваясь к звонкам машинного телеграфа. Шведские переборки были тонкими. Бабушкин все еще видел себя в Гамбурге, когда он в вечерний час бежал спринтом из порта за своим чемоданом. Ему казалось, что советский пароход уйдет без него. Вот его остановит полицейский, потащит в участок. За ним действительно гнался… негр. — Чума! Чолера! — Темнолицый Иван догнал, заулыбался. Шли размашистым шагом. На обратной дороге Иван нес чемодан, не торопились. На французские слова русского американец отвечал английскими. Смеялись над несовпадениями ответов с вопросами. Над Гамбургом плыла коричневая луна, отражалась в водах мутной Эльбы, черного озера Альстер, заглядывала в освещенные электрическим светом витрины. Качка была легкой, но несносной. Сон сморил Бабушкина. У раскаленных топок под ним люди в сетках на обнаженных торсах повторяли в определенном ритме обычные здесь команды: — Подломали! — Забросали! — Грибком раздали… Подламывая шлак для доступа воздуха, Тараканов повисал на ломе. Другие “духи” (так называли на пароходах кочегаров) тоже сноровистые ребята. Работенка не для хилых и стариков. Но закопченные лица не давали возможности определить их возраста. И сложение, и сила у этих людей были другими, чем у борцов. Жилистые, поджарые. Придет время чистки топок. От усилий Мамоткадзе шлак вывалится целым куском. Такой пышущий жаром кусок называли “шубой”. Добрый матрос “дух” Мамоткадзе за еще короткий свой век сработал множество “шуб”. Но за все эти жаркие “шубы” любящий и ревнивый муж не смог еще приобрести для жены легкой норковой шубки. (Может быть, когда он перейдет на теплоход, станет электриком — мечта сбудется.) “Мистер Баскет”, как называли шустрого и болтливого Корзинкина, спустился к “духам”, чтобы сообщить “последние корабельные новости”. — Сенсация номер первый! Рыжий англичанин, каюта пять, закупил все спиртное, что было у буфетчика. Выписал чек на… Вы понимаете? Зачем вам, сэр-сир? — спросил у пассажира однорукий. (Анцелович, сломавший руку, стал для Корзинкина “одноруким”.) Должно быть, по англо-русскому словарю турист составил фразочку: “Я хотел бы предаться пьянству”. Европа! — Сколько было бутылок с горючим у Анцеловича? — поинтересовался Тараканов. — Двести! — выпалил Корзинкин. — Даже сто бутылок доброму пьянице не выдуть до Питера. — Он будет разбавлять воду в ванной вином. Это здорово действует на селезенку! — сказал Мамоткадзе. — В каюте… — Корзинкин поднял палец вверх, — здоровенный детина, обжора. Полночи не отходил от плиты, наварил и нажарил сущую прорву. Утром всё пустит в расход. Его Труцци будет показывать в цирке Чинизелли. Посмеялись. “Мистер Баскет” правду — в своем изложении- делал неправдоподобной, но потешной. Серые воды несли на себе пароход. Море казалось пустынным. Пепельное утро застало доктора Хрыпова в каюте в облаках табачного дыма. Прочитаны марсельские выпуски газет. Русский богатырь уложил на ковре всех, кто против него вышел. Маска сорвана с человека-удава, татуированного с пяток до затылка. Но приз за победу над монстром отдан владельцу паровой яхты, которому русский матрос-борец всем обязан. Мистер Леру вывез феноменального силача из голодной Советской России, где его хотели за людоедство пристрелить. Неблагодарный мужик завлек своего господина в ловушку… Леру неожиданно исчез. Пропал из виду и борец-победитель, а “Маска” потребовал реванша. В последний раз преступника видели на вокзале. Некий русский, служивший у Леру, показал: на “Цыганке”, по указанию владельца яхты, был сервирован ужин на десять персон. Но никто не явился. Полицейские на другой день после выдающейся схватки на ковре, видели негоцианта Леру в закрытой машине. И вдруг… (без “вдруг” не обходятся такие дела) рыбаки выловили в Роне, при впадении реки в море, труп, который обглодали рыбы. В кармане пиджака (“он оказался обитателям наших вод не по зубам” — стиль репортера!) были обнаружены золотые часы с крышкой. На крышке криминалисты без труда прочли надпись русскими словами: “Господину Леру за услугу, оказанную русскому консулу в Сингапуре”. Корабельный врач имел много свободного времени — в каюте и на берегу. Свое время он расходовал непринужденно, получая удовольствие от всего, на что вдруг наталкивалась его мысль. Хрыпов любил писать пространные корреспонденции знакомым, в темах у него недостатка не было, а ответов он, “морской бродяга”, не ждал. Письмами с описанием чужих городов Александр Ефремович не скупился угощать родных и близких, часто и малознакомых. Он смотрел немецкие, английские фильмы, передавал содержание их. Но и жизненные истории попадали под его перо. В одном из писем отцу Хрыпов рассказал приключения американского негра, взятого на советское судно в Христиании. Он вдохновился борьбой униженных и оскорбленных черных рабов с плантаторами. Не подозревая, на какие потрясающие письма вдохновит его этот рейс, который без малейших событий шел к концу, Хрыпов вошел в кают-компанию, где за большим столом собрались для первого завтрака все пассажиры и свободные от вахт моряки. Дед занял место, положенное ему как капитану. Кресло дока оставалось свободным. С двух сторон его находились Бабушкин и О’Флаерти. Хрыпов поклонился: — Гуд морнинг! Уселся, развернул салфетку, положил на колени. Прислуживал Корзинкин, который для этой церемонии облачился в сверкающий белизной костюм, надел крахмальный воротничок (на три размера больше шеи). На столе с голубоватой скатертью (английского производства из смоленского льна) стояли бутылки с вынутыми пробками. Хрыпов приблизительно подсчитал, заложил уголок салфетки за галстук. Бутылок было много. Анцелович следил за Корзинкиным, подавал непонятные знаки, “мистер Баскет”, взявшись не за свою роль, только ждал (считая это неизбежным), когда он перевернет блюдо с кушаньем кому-нибудь на голову. Из предосторожности Корзинкин близко не подходил к капитану и обходил стороной единственную даму, цирковую наездницу Эмму Труцци. Муж и жена Труцци, чтобы сохранить свою конюшню (кормить дрессированных лошадей было нечем), записались добровольцами в Первую конную армию. Вместе со всеми бойцами, их лихими командирами, героическими начдивами, храбрыми трубачами под водительством прославленных полководцев итальянские артисты из цирка Чинизелли прошли все военные дороги. И снова загорелись огни ленинградского цирка. Лошади вышли на манеж. Конюшня пополнилась. Труцци много работал над новыми номерами. Ему дали денег, он получил большое количество кожи — надо было делать новую сбрую для лошадей. К моменту прихода Хрыпова в кают-компанию Вильяме рассказывал о своей командировке во Францию, Германию. Его дело в поездке объяснялось “пустяком”. Лак-шевро в России не вырабатывался, а лошадки должны быть одеты шикарно. Лак-шевро делали французские мастера. Но во Франции не шили для цирковых лошадей из кожи “наряда”. В Гамбурге же для всех цирков мира можно было приобрести все решительно — любых артистов, любую вещицу, костюмы, сбрую и любых животных от дрессированных морских свинок до львов и слонов. Рассказ Труцци больше других заинтересовал Бабушкина. Он быстро сообразил, что из цветной лакированной кожи во Франции гамбургские ремесленники выкроили и пошили сбрую. Труцци же во время рассказа незаметно поглядывал на Бабушкина. Он сразу понял: этот человек — силач, боролся на ковре. Но кто он — любитель, профессионал? Не пригласить ли его в цирк? Рыжий англичанин выжидательно смотрел на капитана. Дед поднялся, обратился к собравшимся с застольной речью: — Команда советского корабля приветствует в моем виде (надо было сказать: “лице”, но поправляться было поздно) вас, как говорится, живой груз. Мы вас доставим прямым курсом к месту выгрузки. В пути с вами ничего не случится. На море туман, но у нас есть глаза. Ну, покачает, хотя волны с туманом не уживаются, как и некоторые супружеские пары… Амер наполнил бокал содержимым пузатой бутылки. О’Флаерти выставил перед своим прибором водку, белое вино и коньяк. Анцелович делал страшные глаза своим товарищам. Хрыпов повернулся к Бабушкину, вскочил с места. Его обуяло желание взглянуть для очистки совести на фотографию в марсельской газете. Дед поплавал на мелком месте, подошел к рифу, который и заставил его провести культурную беседу. — Уважаемый мистер О… О… О… — О’Флаерти, — подсказал док (он успел познакомиться с англичанином). — Я и говорю это, — продолжил Дед, — сделал широкий жест. Мы не против, мы должны заботиться о пассажирах, вот учимся этому. Но тут, так сказать, произошло столкновение идей. Мистер захотел приобрести в свою собственность все напитки, которые у нас были. Кроме ваших пузырьков, док. Я не мог отказать. Он сказал, что теперь угощает всех, и попросил держать бутылки в кают-компании круглые сутки в открытом киде. Что и сделано. Пейте, но меру знайте. И вам, нашим гостям, без обиды не вредно будет узнать закон советских моряков. На своем корабле и во время рейса ни один моряк — капитан, помощники, кочегары — не притрагивается к спиртному. Ни капли всей этой дряни без рецепта врача! А док, я знаю его, прописывает охотно только касторовое масло. Приятного аппетита! — Капитан сел, вытер пот со лба. Супруги Труцци поаплодировали. О’Флаерти не понял ни одного слова. Хрыпов подобрал для него несколько английских фраз. Англичанин спросил, Хрыпов понял, сказал всем: — Он спросил, чем мы все, кроме него, больны? Эмма Труцци засмеялась. Посмеялись и другие. Капитан встал: — Александр Ефремович, садись на мое место и развлекай гостей. — Дед вышел, ему показалось, что он сбросил с себя тяжелый куль с песком. Амер передал англичанину цветной карандаш. Он сам с длинными тонкими руками и ногами походил на фигуру рекламного человечка, составленную из карандашей. Эта фигура за столом много ела, еще больше пила. О’Флаерти не притрагивался к ножу и вилке, зато не выпускал полновесного бокала из правой руки, а в левом не уставал держать бутылки. Хрыпову не терпелось перечесть выпуски, изучить фотографии и выпить без посторонних глаз. Бабушкин обратился к Анцеловичу: — Капитан носит орден? Он давно награжден? — Это орден Боевого Красного Знамени, — сказал Анцелович с гордостью, словно не Дед, а он был обладателем ордена. — Деду дали его за Вятку. — За что? — Бабушкин даже привстал. — За Вятку, глухой тетерь. Не за марсельскую кухню. За бои на реке Вятке. — Я Вятку знаю вдоль-поперек… — Мало знать, надо было отвоевать. На камбузе молодецки справлялся Иван-негр. Передал Корзинкину металлический поднос с горкой тарелок. Они были раскалены, предназначались для мяса на вертеле. В кают-компании Амер обнимал одной рукой О’Флаерти, свободными руками — один правой, другой левой — немец и англичанин чокались, подносили ко рту бокалы. Решили выпить на брудершафт. Хрыпов разговаривал с супругами Труцци. Ждали смены блюд. Бабушкин думал о своем. Корзинкин с подносом вошел бочком. С кого начать? Анцелович протянул руку за тарелкой. — Бите шон, — сказал Корзинкин. Для чего-то чуть пригнулся. Анцелович схватился за тарелку, вздрогнул, она полетела на пол, покрытый большим синим ковром. “Подымет сам”, — подумал Корзинкин. Подрулил к Труцци. Дама — всегда дама. Эмма Труцци взяла тарелку с подноса за край. Рефлекторным движением артистка цирка подбросила в воздух тарелку, ухитрившись придать ей вращательное движение. В следующие секунды Вильяме словил эту тарелку, поставил перед женой на стол. Анцелович сказал: — Раскалили тарелки, как в аду. Кто вас, черт дери, научил? — Поостудим, — сказал Бабушкин, встав из-за стола. Он отвел улыбающегося Корзинкина в сторону, а потом, взяв у него две тарелки, продолжавшие держать в себе жар, неторопливо подбросил над головой. Словил. Повторил номер с тремя тарелками. (Афоня жонглировал и тарелками и ножами одновременно. На досуге Бабушкин забавлялся с ним.) Все сошло бы хорошо, если бы иностранцы не пришли от этого экспромта в восторг. От выпитого вина оба находились в высоких градусах. Амер пустил в воздух с десяток карандашей, замахал руками и не словил и одного. Тогда он взялся за пустые бутылки… Эмма быстро приблизилась к нему, ласково сказала, что надо пойти проветриться. Пока что в море все себя чувствовали, как дома. Опустевшая кают-компания наполнялась моряками, свободными от вахт. Пришел Иван отдохнуть, посидеть с товарищами. Было тихо. Даже на поминках бывает веселее. Корзинкин и Анцелович убрали со стола всю стеклянную посуду. Батарея бутылок занимала внушительную позицию в середине стола. Горлышки без пробок источали соблазнительные алкогольные ароматы. Все они были закуплены иностранным пассажиром. А советские моряки во время рейса не пьют. Если кто и пропустит невзначай стаканчик, то не за чужой счет. К вечеру стало известно: завтра днем, если не будет тумана, станет виден Кронштадт. Бабушкин заставлял себя не думать о будущем, но спокойствия не было, он не находил себе места. Походил у капитанской каюты. Дед закрылся у себя. На мостике вахту нес помощник. У Деда в каюте на столе фотография красивой женщины. В каких он отношениях с ней? Спросишь — не ответит. А вот док хорошо знает Ольгу Модестовну! Когда Хрыпов приходит на Сергиевскую улицу в затейливый особняк, он находит свою приятельницу среди белого мрамора, дубовых панелей, под лепными потолками в аудиториях Института экранного искусства. Она всегда встречает его словами: “Саша Хрыпов, морской бродяга, появился!” Особняк принадлежал купцу Александрову. В нем собирались, говорят, масоны. Александров владел садом с театром “Аквариум” на Петроградской стороне, где сейчас расположилась киностудия. Ольга Модестовна снимается в кино. Доктор Хрыпов пишет для нее сценарий. Студент института Иогансон работает на “Севзапкино” помощником режиссера. Когда “Иогушка” станет режиссером, он снимет фильм по сценарию Хрыпова, для которого автор уже нашел название — “На дальнем берегу”. Эти связи теперь нам понятны, но Дед — Дедрухин, капитан корабля, остается в стороне. Может быть, и он снимался или съемки происходили на этой палубе. Бабушкин не встречался с Ольгой Модестовной; она знает его, Бабушкин вернул ей сына. Василий решился постучать в дверцу докторской каюты. — Войдите! Вошел. — Садитесь. Что болит? Тогда я для практики побеседую с вами на языке Мопассана. У вас какое арго? — В Марселе все оттенки французского языка. — Вы курите? Тогда я закурю. Хотите выпить со мной? — Вы, пожалуйста, пейте. — Отлично! Перейдем на французский. Прошу вас задать мне вопрос. Бабушкин спросил, как оказался негр на борту советского судна. Хрыпов уложил ответ в несколько фраз. Бабушкин понял: негра избивал капитан на американском корабле, ребята возмутились и позвали черного матроса на свою палубу. Док опустил фабулу. (Он ее уже расписал в письме, а теперь подумывал написать рассказ.) Негр был сильно избит, он не сопротивлялся, покорно стоя перед хозяином. Американские матросы кричали ему: “Беги!” Русские звали. Негр перемахнул одним прыжком через борт, оказался на другой территории. Американец вызвал полицию. Обвинил беглеца в краже часов. Проверить было невозможно- капитан не пустил полицейских в свою каюту. Негру грозила тюрьма. Дедрухину за укрывательство преступника — американского подданного — пришлось бы держать ответ перед американцами, шведами и своими… Вспомнив эту неприятную ситуацию, Хрыпов подумал, что с Бабушкиным Дед не оберется неприятностей. Дело русского из Марселя — темное. Американцу не удалось очернить негра. Иван догадался, куда мерзавец капитан мог запрятать свои часы. В своей же каюте. В присутствии шведов-свидетелей обвинитель принужден был снять обвинение. Белого же моряка марсельские газетчики основательно запачкали типографской краской. И тогда Хрыпов решил “пройти прямым курсом”. — Вы не знали в Марселе Леру? Коммерсанта Леру… — Почему вы спрашиваете меня? Вы-то его знаете? — По газетам. — Маловато. — Не хотите ли почитать на ночь? Марсельские… — Для чего! А что пишут в ленинградских газетах? Нет ли у вас старенькой? — В Марселе, представьте, убит… Леру. Труп опознан, хотя его извлекли из моря. Убийцу ищут… Такой выстрел заставил бы вздрогнуть преступника, побледнеть невиновного — подозреваемого. Следуя примеру, взятому у Арсен Люпена из романа Леблана “813”, Хрыпов протянул “жертве” сигареты, налил в мензурку спирт и, разбавив водой, поставил перед сидящим. — Да вы не стесняйтесь. Курите, пейте. — Да, я еще в Сингапуре знал Леру. В Марселе служил у него. Убит, говорите? — Не я. Об этом пишут. — Так ведь пишут в Марселе. А там, знаете, что только не пишут! Леру оказался темным дельцом. Он не один такой. Леру сам мог убить, утопить, задушить — и об этом бы не писали газеты. Убит, сказали? — Не я, черт возьми! — А вы видели его труп? — Только этого мне не хватало! Можете переменить тему. Хрыпов вынул из коробочки таблетку, бросил в рот. Его бросило в жар или только показалось? Бабушкин размышлял, корабельный врач ему нравился. Славный парень! И ничего морского в нем нет. Сутулые плечи, чуть впалая грудь. — Могли утопить барона… Но, а нам-то какое дело до них? Вы встречались в своей жизни с капиталистами? Люди как люди, если они молчат, улыбаются — их не раскусишь. — Для чего это мне говорите? — Вот пассажир Амер, он кто? — Концессионер. — А рыжий англичанин? — Ирландец. Хороший писатель. — Писателю надо поездить по свету. — Давайте выйдем на палубу, что мы забились в каюту? — Послушайте, если желаете, мою жизнь… Доктор охотно вышел с Бабушкиным из своей деревянной скорлупки. Небо без звезд. Море без волн. В легкой дымке тумана светили корабельные огни. Глухо билось под палубой машинное сердце. Хрыпов оказался талантливым слушателем: во время рассказа и после не произнес слова. Пожав руки друг другу, они разошлись. Бабушкин не пошел в каюту. Он не будет спать до Ленинграда. Зашел на камбуз, там дежурил темнолицый Иван. Потолковать бы, порасспросить! Поймешь только смысл, а этого мало. Иван первый прибегнул к языку жестов. Положил локоть правой руки на стол, пальцы сжал, медленно склонил к столу предплечье. Бабушкин усмехнулся: чья рука другую заставит разогнуться. — Я борец, — сказал Бабушкин. — Врестлер… — Форсе! — Атлет. — Свинг. Так можно перекидываться словами до рассвета. Бабушкин занял позицию против Ивана, согнул свою руку. Ладонь к ладони, вокруг большого пальца противник сжимает свои… Теперь каждый своим рычагом жмет, жмет к груди — в левую сторону. Приподниматься с места, опираться свободной рукой — против правил. Благородное мужское единоборство за столом. Кто бы мог побороть Бабушкина? У Ивана длинные руки, они и дня не прожили без тяжелого физического труда. У негров поразительно эластичные мышцы. Резина против человеческой стали. И все же русский матрос, чемпион всех видов борьбы, чуть не дал Ивану пригнуть к столу свою руку. Повторяли несколько раз. Взялись левыми руками. Бабушкин встал, когда понял, что его противник может сопротивляться до бесконечности. Он не счел себя побежденным. Хорошее упрямство! — Гуд бай, беби! “Я выхожу из формы”, — подумал Бабушкин. Это не радовало. Но что-то новое, радостное почувствовал он. На этой палубе, среди своих соотечественников он был не одиноким. Хрыпов сбил себе сон. Начинался рассветный час. Курить и читать, писать не хотелось. Думал о Бабушкине. Дон-Кихот? Рыцарь Печального Образа — что он достиг? В Бабушкине много рыцарских чувств, он воевал не с ветряными мельницами. Доктор Хрыпов рассуждал здраво и был добрым малым и компанейским человеком. Но все наблюдения и заключения его лежали на поверхности. Бабушкин много раз обошел пароход. Как сторож в селе, не хватало только колотушки. Вахтенные, естественно, обходились без него. Пассажир же Амер лежал на полу каюты, две пустые бутылки катались у его головы. Дверь не была закрыта с внутренней стороны. Бабушкин вошел в каюту, не подумав, что этого нельзя делать. Разобрал койку, поднял с пола тяжелое тело, уложил в постель. Прикрыл одеялом, потушил электрическую лампочку. Убрал бутылки. В открытом иллюминаторе в другой каюте увидал О’Флаерти, он спал за столом в кресле. Бабушкин разглядел исписанные листки бумаги; похоже, что этот ирландец с более крепкой головой работал. Мысль о том, что Иван мог согнуть его руку, тревожила. Что его ждет в Ленинграде? Зачем гадать! Когда Бабушкин передал о своей встрече в Ялте с Модестом Ивановым, доктор как-то странно посмотрел на него. А потом, перед тем как они разошлись, доктор сказал: “Между прочим, ваш знакомый Иванов — первый красный адмирал еще с 1917 года”. (Хрыпов не сказал, что адмирал теперь был в отставке. Перешел в торговый флот. Перегонял в Ленинград суда, закупаемые за границей.) Но Бабушкин не надеялся на то, что кто-то в Советском Союзе его помнит. В легком пальтишке Василий озяб. У него был толстый пуловер, переодеваться не хотелось. По железной винтовой лесенке спустился к тем людям, которые обеспечивали непрерывное движение парохода. На вахту только что заступили Тараканов, Мамоткадзе. По последним новостям Корзинкина, русский пассажир был “сам Поддубный”. — Подломали! — Забросали! — Грибком раздали… Появление Бабушкина “духи” встретили словами “с гвоздиком”. — В нашем полку прибыло. — Один чертяка сачкует — пошел к доктору поставить клизму. Тараканов протянул знаменитому силачу металлическую лопату. К удивлению всех, тот ее принял. Бабушкин сбросил пальто, вытянул лопату, уперся ногами: — Садись. — Не удержишь, — ухмыльнулся Тараканов. — Как зовут вашего брата? Скажите нашему брату. — Бабушкин. — А я думал — Поддубный. — Значит, бабушка надвое гадала! — Нет, не сяду, — сказал Мамоткадзе. — Думаешь, не удержу? — Нет, боюсь перепачкаться. — Лицо и руки были в угольной пыли. — Киньте пассажиру ватничек, а то у нас озябнет. — Не смастерить ли для малокровного “шубы”? Бабушкин позволял шутить над собой, а потом своей шуткой брал шутника за пояс. Он разделся до пояса, поплевал на ладони. Его могучий торс с заметными шрамами произвел впечатление. — Какой тигр с тобой баловался? — Желтый. — Как понять? — Японец. — Зубаст! Ты его не заставил поджать хвост? — Случалось. — А германский не поцарапал, товарищ? “Товарищ” пришлось по сердцу. — Меня зовут Васильем, товарищи. Будем знакомы. — А я думал, Жан Вальжан, — изобразил удивление Мамоткадзе. — Из каких мест, Василий? — Вятский. — Из хлебных мест. Добрый хлеб в урожайные годы. — А я вот давно не ел ржаного хлебца. Хоть бы запах его почувствовать. На пароходе Бабушкин не нашел и черного сухаря. Засыпая, он любил думать о хлебе. Представлял: полные горсти зерна. Подставлял спину, ему наваливали мешок с мукой. Мучица пылила глаза, тяжесть ноши не чувствовалась. Так и засыпал. Много раз было это… Тараканов слыл начитанным человеком: — Предлагаю мистера Баскета перекрестить в барона Мюнхаузена! Шутки в сторону! Бабушкин взял на лопату уголек большой горкой “с присыпкой”. Ритмичным движением рук, поясницы зашвырнул в топку. Тогда стали держать пари, на сколько времени хватит духа у Василия, как скоро он “заскучает”, выпустит из рук лопату. Бабушкин шуровал уголек без заметного напряжения. Пароход уже был на подходе к Кронштадту. Механик попросил у капитана остановить машину на полчаса. — Что у вас? — Неисправность. Заело насос, питающий котел водой. — Не работает? — Не работает. — Даю вам час, чтобы перебрать насос и устранить неисправность. Рейс подходил к концу. Спешки не было. Просветы на небе еще не прогнали темноты ночи. Бабушкин поднялся на палубу. Разогрелся у “духов”. Подошел Корзинкин, вежливо спросил: — Парле франсе? Бабушкин засмеялся — первый раз еще с приезда в Гамбург. Заговорил с удивительно любопытным товарищем по-японски. Машина остановилась. Доктор Хрыпов только подумал, не заснуть ли минуток на сто — заглянул в иллюминатор: небо утра. Бабушкин оставил Корзинкина на палубе в смятенных чувствах. Оставалось только погадать на воде, что представляет собой этот “инкогнито”. Корзинкину не хотелось прислуживать, как вчера, у стола. Хотел поменяться местами с Иваном, остаться на камбузе. Анцелович сказал, что этого нельзя делать. “Выходит, что русскому здорово, то негру — смерть”. — “Не смерть, а унижение”. Что подумают немцы и англичане, когда увидят на советском корабле негра-стюарда? Эмма Труцци нашла укромное место на баке, делала балетные упражнения у импровизированного станка. Раз-два-три. Раз-два-три. Гнулась. Поднимала ножку с оттянутым носочком. Вильяме в каюте работал с гантелями. О’Флаерти выспался за столом, как ни в чем не бывало застрочил “паркером” по бумаге. Амер проснулся, еще с закрытыми глазами занялся умственной гимнастикой. “Сколько денег в России у него вложено в маленькое предприятие? Сколько в банке? Какой доход можно ожидать в этом году?” Дед на мостике думал о внучке. Если бы не Ольга Модестовна, кто бы выходил его? Замечательная женщина. После операции сестра Иванова не одну ночь провела у его постели. Следила за пульсом, приготовляла питье… Почему, думал Дед, от жены он, здоровый или больной, никогда не видел такого внимания! А кем был для Ольги Модестовны он? Кем был, тем остался — чужим человеком. У нее была и своя беда: сын Олег оказался в Сибири у колчаковцев. Из Владивостока чуть не угодил в Америку… Корзинкин стоял на палубе, оттягивал время до облачения в белый костюм, ненавистный крахмальный воротничок, галстук, который он не умел завязывать. Он считал это “крупной неприятностью”. Вздохнув, Корзинкин напоследок посмотрел за борт. Отшатнулся. Не поверил глазам, посмотрел в просветлевшую воду, крикнул (ему показалось, что крикнул), но никто не услышал его крика. Теперь он смотрел на плавучий предмет, как смотрит кролик в пасть удава. Горло стало сухим. Язык не отделялся от гортани. У самого борта корабля (это понял бы и не моряк) находилась плавающая мина. Мина! Трется о борт. Корзинкин с кривой улыбкой принудил себя говорить спокойно. Он произнес и содрогнулся, подумав, что он сказал: “Какой же теперь завтрак?! Мы все взлетим в воздух”. И утешил себя: “Будет что рассказать в Ленинграде!” Ноги не повиновались ему. Сколько бы минут он стоял — неизвестно. Мимо проходил Анцелович. — Вот где ты! Пора накрывать на стол. — На ка-кой сто-ол? — Что с тобой? В присутствии товарища Корзинкину стало спокойнее. — Вот сейчас она нас накроет. — Показал за борт. Анцелович посмотрел за борт. Мина терлась о борт. — Это — мина, — сказал Анцелович. — Где ты ее выкопал? (Он хотел сказать: где, как ты ее высмотрел.) Я пойду доложу капитану, А ты накрывай на стол. Ответ Корзинкина, его надтреснутый голос испугали Анцеловича больше минной опасности, — Не лучше ли спеть “Пятнадцать человек на ящике мертвеца, йохо-хо и бутылка рома”? Анцеловичу захотелось закатить Корзинкину оплеуху, назвать его трусом. Но рука в лубке не поднималась, а слово “трус” у наших моряков стояло на последнем месте в “списке” ужасных ругательств. И он назвал его… — Нэпман! Корзинкин не снес оскорбления. Нэпман был “темным элементом”, дрожал за свою шкуру. — Я тебе покажу, покажу!.. Что Корзинкин мог показать, он еще не знал. Анцелович, растягивая шаг, чтобы не побежать, направился к капитану. Эта сцена заняла считанные секунды. Корзинкин покинул место у борта, где в воде терлась мина, что не следовало ему делать, для чего-то побежал на другую сторону. Дед выслушал Анцеловича и заставил себя вспомнить всё, что он знал о морских минах. Отчалить от мины, отступиться можно, но тогда плавучая смерть затеряется в волне и окажется враждебным “подарком” для другого судна. Надо немедля радировать. Сколько пройдет времени, прежде чем подойдет военный катер? А что делать с миной? Как она поведет себя? Отплывет, а потом хлопнет о борт? А если ее потянет под винт парохода? Обезвредить мину?! Когда Анцелович подвел Деда к борту, где раньше находился Корзинкин, Корзинкина уже не было, и мины за бортом… тоже. Дед, вглядевшись в поверхность воды, посмотрел на Анцеловича. Анцелович потерял самообладание. — Чертовщина! Где этот Корзинкин, “йохо-хо”! — А где вы заметили мину? — Дед не надеялся на то, что моряки ошиблись. Метрах в пяти от них тоже у борта попыхивал трубкой доктор, размышляя о прихотливой судьбе Бабушкина. Сколько раз этот человек глядел в лицо смерти, и она оставляла на его теле свои пометки… Доктор посмотрел на воду, увидел какой-то плавающий предмет. Крикнул Деду: — Тут какая-то бочка! — Хороша бочка, — сказал, подойдя, капитан. — Это мина. И Дед вспомнил всё, что знал о минах. Разоружать на воде плавающую мину нельзя. Это чрезвычайно опасно, безграмотно и технически невозможно. Слабое утешение! Мысль у доктора сработала, как во время опасной операции: — Бабушкин!!! Он минер — ставил и уничтожал мины. — На ловца и зверь бежит, — сказал Анцелович. — Не откажусь от разумного совета, — произнес капитан Дедрухин. — Зовите! И позаботьтесь, чтобы пассажиры завтракали, пили, ругались, целовались — всё, что хотите, но не вылезали на палубу. — Это легкая смерть, — сказал доктор. — Что не знаю — то не знаю, но ей не нужны “помощники”. В другое бы время доктор Хрыпов не полез за ответом в карман, но сейчас следовало поскупиться на слова и рецепты. Дед уже исчерпал свои знания о минах. В редких случаях, только тогда, когда требуется изучить новый образец неприятельскоймины, плавающую или подсеченную тралом мину осторожно отбуксировывают в тихую погоду к берегу. У берега начинают разбирать. А как уничтожают плавающую мину, Дед не знал. Но если бы и знал, от его знаний не было бы пользы. С миной дело имеет минер, и не один… Бабушкин неторопливо подошел к капитану. Он уже знал от доктора, для чего его позвали. — Что посоветуете? — спросил Дед. — Совет один. Считать, что ремонт машины всем спае жизнь. — А по существу? — Отвести мину от борта корабля. — Я и сам это думаю. Но как? — На вашем месте я бы распорядился спустить шлюпку с другого борта. В шлюпку сядут четыре-шесть добровольцев. Вы сядете с ними, подойдете к мине и… отведете ее. Если вы минер. — А на моем месте, что бы вы приказали мне, если знали, что я не специалист в этом деле? — Я бы вас не послал. Рисковать жизнью нельзя. Я бы сказал: “Бабушкин- в шлюпку! Вы — минер, это будет не первая мина в ваших руках”. — Бабушкин! Вы — минер, это будет не первая, и не одна человеческая жизнь в ваших руках. — Вы изменили конец. Этого я не произносил. — Разве это не так? — Я-то знаю, еще кое-кто знает, но вы не видели. — Но увижу! Катер вызван. — Мину с катера и подорвут. Вот так… Первым в шлюпке среди добровольцев оказался Корзин-” кин. Теперь пусть однорукий Анцелович почешет затылок левой рукой! Чего не сделаешь, чтобы потом это красочно расписать! Отважный “мистер Баскет” глаз не спускал с Бабушкина. На шлюпке сняли руль. Шлюпка медленно, кормой подошла к мине. Тут Корзинкин закрыл глаза, пропустил момент, когда Бабушкин лег животом на кормовое сиденье, выставив вперед руки. Лежа вниз животом на кормовом сиденье, Бабушкин протягивал руки к мине. Мина и шлюпка чуть покачивались на воде. Гребцы замерли, затаили дыхание. Бабушкин дотронулся руками до мины. Теперь следовало отыскать на ней рым. Эти кольца, одно или два, всегда имеются на мине: они необходимы при погрузке и для работы с миной на корабле. Сколько раз, отыскав рым на всплывшей мине, Бабушкин навешивал подрывной патрон, зажигал бикфордов шнур, и тогда шлюпка отходила от мины. А теперь с миной приходилось еще понянчиться. Бабушкин ввязал в рым мины конец. (Трос взяли в шлюпку.) Поднял руку над головой, гребцы стали плавно отходить. Бабушкин распускал трос. Изменил положение — трос удлинился. Зажал трос в сильных руках так, что содрал кожу с пальцев. Не заметил. Мина отошла от борта корабля… И пот она уже не была опасной для парохода. Но этого не могли сказать о себе люди в шлюпке. Они были связаны с миной — на одном конце шестеро и смерть. — Пока всё. — Бабушкину захотелось подбодрить моряков. — Как вы думаете, какая это мина? — спросил Корзинкин. — Хотели бы еще ближе познакомиться с ней? Корзинкин подавил невольную дрожь: — Интересуюсь, какая это мина: немецкая, английская, советская? Бабушкин про себя ругнулся, ответил сдержанно: — Мина — это просто плавающая мина. При чем здесь ее национальность? Неужели вы думаете, что на русской мине подорваться приятнее, чем на английской?! — А мы еще можем… подорваться? — В любую секунду. Кто знает, что происходит в ее брюхе. — И Бабушкину стало жалко Корзинкина, матросов. — Но мы с вами теперь можем быть спокойными за наш пароход, остальную команду и всех пассажиров. Свой долг мы выполнили. С миной расправится катер. А мы ее попридержим, чтоб другим кораблям не грозила. Русская пословица утверждает: “На людях и смерть красна”. Это можно понять и так: где ты не один, там не будет места страху. Бабушкин стал рассказывать о мине, как говорят о пуле, винтовке и порохе. — Средний срок службы, ребята, выставленной мины около четырех лет. Но может быть и больше… Помолчал. (Пусть прикинут мысленно, с какого года и по каким обстоятельствам где-то близко от пути их парохода таилась мина). — Основная позиция русского флота шла от Таллина к Хельсинкам. Мина, выставленная там в 1917 году, вполне могла сохраниться до нашего года. Кроме того, вы должны знать лучше меня: в гражданскую войну ставились мины в районе Кронштадта. Возможно, что одно такое минное поле было поставлено и англичанами. Корзинкин кому-то подмигнул: мол, и я так думал. — Но разве постоянные западные ветры осенью не могли пригнать мину из любой части Финского залива? Когда все понятно, на душе спокойно. Или — не так тревожно. На пароходе ждали катера, возвращения шлюпки. Заработала машина, от первых ударов корабельного сердца палуба, казалось, задрожала под ногами. В самом низу блекло горели электрические лампочки, отсвечивал металл, сипел пар и сочился кипяток и масло. Заходили лопаты в руках черномазых белолицых. Механик принимал горячий душ. Все уже знали на корабле, что подстерегло их в пути — шесть человек ушли в шлюпке. Потребовались добровольцы. Повышенное любопытство было у одного “мистера Баскета”. Еще один суховатый и малодружелюбный морячок был любопытным, но скрывал это от команды. На это у него были веские причины. Воспользовавшись отсутствием одного из пассажиров на корабле, Лисеев осмотрел его каюту. В раскрытом чемодане ничего подозрительного не обнаружил, но вот борцовские медали и Георгиевские кресты наводили на размышление. Кресты! Лисеев слышал: казаков за усмирение рабочих награждали крестами. Лисеев подумал, вздохнул, даже сочувствуя Бабушкину. Мысль Лисеева заблуждала вокруг царских наград, казаков с нагайками и “Крестов” — пересыльной тюрьмы на Выборгской стороне, построенной еще до революции в Петербурге. Да, Лисеев не облегчит положение Бабушкина. На палубу вышли пассажиры. Заметив шлюпку, Амер показал на нее О’Флаерти. Спросил Анцеловича. Услышал в ответ: — Маленькая увеселительная прогулка. — Добавил: — Могли бы и вас прихватить для компании. Эмма Труцци приставила к глазам театральный бинокль. Шлюпка с гребцами в бинокле приблизилась, и было хорошо видно, что делает Бабушкин. Эмма передала бинокль мужу. Когда Амер попросил у него бинокль, а О’Флаерти даже протянул руку за ним, Труцци (какой промах!) уронил бинокль в воду. Мужчины посмеялись над неловкостью циркового артиста. Пассажиры остались в неведении. Из Кронштадта шел быстроходный катер. В Ленинграде в порту рассчитали время прибытия парохода: родственники моряков получали ответы по телефону. Барометр падал. Западный ветер подгонял к Ленинграду темные облака. По мощенному торцами Невскому медленно тянулись трамваи. Стрелки на разъездах переводили ручным способом. Если стрелочник забежал в “Красную Баварию”, вагоновожатый останавливал моторный вагон, доставал железную палку с закругленным концом, выходил из вагона и сам переводил стрелку. Ольга Модестовна загостилась у своей подруги. Подруга жила на набережной Лейтенанта Шмидта. Комната выходила окнами на Неву. Сын Ольги Модестовны, молодой военный моряк, находился в Кронштадте, но обещал быть в городе на Неве. Ольга Модестовна оставила сыну телефон подруги и ждала его звонка. — Видишь Терентия? — спросила подруга, Казимира Георгиевна. Ольга Модестовна вдруг засмеялась. Терентий был в Ленинграде, прислал письмо, он решился “разрубить узел, который не мог распутать”. Терентий давно и преданно любил Ольгу Модестовну. Однако их большая и тонкая дружба не переходила у женщины в любовь. Теперь Терентий задумал жениться. — А где тот моряк, который вернул тебе сына? Где тот моряк, Ольга Модестовна не знала. Но будет благодарна ему всю жизнь. А Олег, уже ставший взрослым, хорошо знал, кто для матери Василий Федорович Бабушкин. Подруги условились в ближайшие дни пойти в кинематограф и посмотреть фильм молодых режиссеров Козинцева и Трауберга “Похождение Октябрины”. Бабушкин на шлюпке ждал катера. Ему почему-то не хотелось возвращаться на пароход, дали бы ему шлюпку, и он один подгреб к родному берегу. Но на это не приходилось надеяться. Погруженный в свои мысли, Бабушкин не приметил катера на горизонте. На пароходе разглядели. Просигналили о плавающей мине. На катере Олег Иванов принял сигнал. Он за этим и шел — не на морскую прогулку. В море случается всё. Но когда спешишь на чужую беду, кто ждет для себя радостной встречи? Катер сблизился со шлюпкой. Бабушкина Олег узнал сразу. Среди шестерых моряков он выделялся богатырским сложением. Его великолепная фигура, светлые глаза на обветренном всеми ветрами лице, выдавали морскую душу. Это был человек, который вызволил Олега с “Мэри Норт”. — Вы не изменились! — Как сказать! За собой не примечаешь. — Не узнаете? — Не ошиблись? — Не помните “Мэри Норт”? — Владивосток… А вы что там делали? — А кто меня уносил с американского корабля под желтым флагом? Великолепная выдумка! — Чего не бывало! — И Бабушкин отвернулся. Он все еще туго соображал, какое отношение к мальчику Олегу имеет этот стройный моряк с военного катера. Предположим, мальчик превратился в мужчину, что он даже скажет: “Спасибо вам”, Бабушкин не ответит же ему: “Приятная встреча! А теперь берите меня с парохода и несите на руках на берег”. Но Олег не отступился от Бабушкина. Протянув к нему руку, позвал на катер. От борта шлюпки до борта катера три шага. Бабушкин легко и без лишних слов перебрался на катер. Шлюпка возвращалась на пароход без Бабушкина. “Мистер Баскет” подготавливал сенсационное сообщение: “Нашего пассажира весь Кронштадт знает”. На катере приняли решение расстрелять мину с близкого расстояния. Можно было, конечно, отойти от мины на расстояние 5 кабельтовых, но тогда пришлось бы сделать много выстрелов, пока будет достигнуто попадание. Катер от мины в 40–60 метров — 1/4 кабельтова. Расстреливают из мелкокалиберного орудия. Из пулемета или винтовки недопустимо. От пули мина может не взорваться, а только притонуть. Тогда она становится еще опаснее, так как ее не видно под водой. Бабушкин все это знает, но ему интересно: молодые советские моряки, смена. Четко отработаны движения. Команды не повторяются второй раз. Попадание в мину со второго выстрела. Феерический белый столб воды. Для посторонних (их нет), наверное, жуткое зрелище. Свистят, и еще как свистят, осколки мины, летящие через катер… Западный ветер в Финском заливе взрывает на огромном протяжении поверхность воды. И гонит в устье Невы. Трудно поверить глазам: вода за одну ночь в Неве поднялась, подступает к стенкам набережных, к елизаветинскому граниту. Так бывало на памяти петербуржцев — поднялась, а потом отошла. Ровно век не было такого грандиозного наводнения (послужившего поэту сюжетом для “Медного всадника”). За сто лет отстроился город на Неве: на месте деревянных хибар, снесенных водой и ветром, построены каменные дома. Нева кипит от холодного гнева. Неужели повторится ее наглое буйство, ленинградцы станут свидетелями разрушающих сил, слепого гнева стихии? Все можно ждать… Созданы “тройки” по борьбе с наводнением, они подчиняются штабу. Большинство квартирных телефонов отключено. Ольга Модестовна в своей квартире на Петропавловской ждет телефонного звонка сына. Она в комнате, где из окон видна Карповка. Окна закрыты, но не замазаны рамы. О стекло бьется белый голубь, как его не впустить. Женщина открывает половину окна, птица влетает в комнату. Но это не голубь, а чайка. Вот куда залетела балтийская чайка! Четвероногие хищники, крысы, первыми почуяли опасность, стали покидать огромные продовольственные склады на Старом Невском. Петербуржцы уверяли, что сами видели полчища крыс, ходивших на водопой. Люди прятались на лестницах домов, трамвайное движение останавливалось. Нева выходила из берегов — на всем протяжении Ленинграда. Штормовой ветер гремел на крышах домов, завывал в трубах печного отопления, срывал подгнившие рамы окон, поднимал воду в Неве. Ольга Модестовна понимала, что Олег теперь из Кронштадта не приедет, но ведь можно позвонить! И ждала телефонного звонка всю ночь. Бунтующие массы воды угрожали пригородам: Лахте, Сестрорецку, Стрельне, Петергофу. В городе вода просачивалась на мостовые сквозь решетки подземных труб. Вырывалась пенящимися фонтанами. Ночью город, осажденный на этот раз водой, тонул в серо-желтых сумерках. Луна находила короткие просветы в черных облаках, показывала свой затуманенный лик. В этом году заговорило радио. Радио еще не обрело зычного голоса, его можно было услышать в наушниках. Ольга Модестовна не спала всю ночь. Держала наушники. “Временами ветер, — передавали по радио, — достигал силы 10–11 баллов по шкале Бофорта”. На Невском размыло торцы, всякое движение прекращено. У Аничкова моста выбросило на мостовую баржу с дровами. Биржа труда направила безработных на разгрузку дров. Спасательные команды передвигались по улицам на лодках. Пожарные, подкрепленные добровольцами, вступили в борьбу с водой и огнем. Со станции Званка специальный поезд доставил в Ленинград строителей Волховской ГЭС. На подмогу к питерским рабочим пришли вятичи, рязанцы, новгородцы, псковитяне. Их тогда называли сезонниками. Смычка города с деревней, провозглашенная недавно, обрела новый смысл. Из ближайшего к волховской стройке села Михаила Архангела приехала на борьбу с наводнением артель крестьян, вооруженных неказистой (и по тем временам) техникой. Но как мастерски люди работали на улицах бывшей столицы своими баграми, отгоняя плывущие по улицам деревянные предметы, перегоняя в нужное место бревна, дрова — все, что держалось и плыло на воде. По радио дали сообщение: “Перебоя в продаже хлебных изделий не будет, горячая пища для всех!” Ольга Модестовна услышала в пустой квартире телефонный звонок. Побежала, споткнулась на ровном месте и чуть не упала. Охрипший голос “барышни”: — Ваш номер? Повторите! Вы — Иванова? Из Кронштадта ждали звонка? — Да, да, я Иванова, жду… — Вам звонили два часа назад. — Нет, нет, что вы, не звонили! — Где вы были? — Дома, боже мой, дома! — Если еще позвонят, соединим. Кто там у вас? — Сын. Вы слышите, сын! Отбой. Снова к наушникам. Бархатный баритон первого ленинградского диктора (как хотелось увидеть лицо говорившего) проникал в сердце: “…В устье Невы много раз хотели прорваться вражеские корабли. Ни один не прошел!” — Да, да, правда!.. — Ольга Модестовна словно ожила. Радио старалось подбодрить людей, дать им веру в собственные силы. “…По Невскому проспекту не промаршировал ни один вооруженный вражеский солдат. А сегодня… и не один ленинградец не пройдет, не проедет по Невскому. (Диктор был склонен к шутке, еще не требовали от него точно придерживаться утвержденного начальством текста). Всплыли торцы, их сбивает в груды вода. Потерпите! Вспомните!..
Кир. Булычев · БОГАТЫЙ СТАРИК
Фантастический рассказ
1
Ольга Герасимовна угадывала старика по звуку шагов. Он шел тяжело, медленно, но не шаркал, не волочил ноги, а придавливал землю, и доски тротуара коротко ухали и взвизгивали под его сапогами. Старик подходил к киоску, кланялся и молчал. У него было лицо благородного актера, с крупным носом и глубокими морщинами на щеках. Ольга Герасимовна доставала новый журнал и клала перед стариком. Старик медленно листал его и возвращал. Он никогда ничего не покупал, и Ольге Герасимовне это нравилось, потому что она считала трату денег на журналы неразумной. — Уже осень, — говорил старик. — Осень, — соглашалась Ольга Герасимовна. В словах старика была угроза. Осень казалась стихийным бедствием. Ольга Герасимовна произносила это слово мягко и лирично, успокаивала, что не все еще потеряно, что и в осени есть своя прелесть. — Картофель не успеют убрать, — говорил старик. — Может, успеют еще, — говорила Ольга Герасимовна. Если кто-нибудь подходил, старик замолкал и ждал. Ольга Герасимовна спешила отпустить покупателя. — Завтра получу “Советский экран”. И “Здоровье”, — говорила Ольга Герасимовна. — Обязательно зайду, — отвечал старик, словно давно ждал этих журналов. — Вас очки не беспокоят? У Ольги Герасимовны были новые очки, она как-то пожаловалась, что давят в переносице. — Спасибо, привыкаю, — отвечала Ольга Герасимовна. — Как ваша работа? Старик был на пенсии, жил один и сказал как-то Ольге Герасимовне, что производит опыты. — Спасибо, продвигаются, — говорил старик. Ольга Герасимовна наклоняла голову и смотрела на старика сбоку, жалела его. Верхняя пуговица на пальто висела на одной ниточке. У старика где-то погиб единственный сын, жена умерла давно, и позаботиться о нем было некому. — Я пойду, — говорил старик. — Завтра приходите, — отвечала Ольга Герасимовна. Ей хотелось еще добавить, чтобы он не забыл надеть кашне, но сказать об этом она не решилась.2
Алла спустилась по скрипучей лестнице на первый этаж. Она была недовольна, что посетитель пришел так не вовремя. Завтра должна приехать ревизия из областного музея, а она еще не кончила проверять серебро. И, как назло, директорша уже неделю, как читает лекции в районе. В первом зале, у витрины с ископаемыми костями и макетом жилища первобытного человека, ее ждал благородного и сурового вида старик в черном пальто и с потертым портфелем в руке. — Вы будете директор? — спросил старик строго. — Я замещаю директора, — сказала Алла. — Что вы хотели предложить? — Имею коллекцию древних монет, — сказал старик. — Не желает ли музей ее приобрести? — Нет, — сказала Алла. — Мы сейчас не покупаем. Конец года, совсем нет денег. — Значит, мне обратиться в областной центр? — Старик был разочарован. — Я посмотрю сначала, — сказала Алла. В небольших провинциальных городах случаются находки, которым может позавидовать столица. В директорском кабинете старик вытащил из портфеля парусиновый мешочек, развязал его и приподнял за донышко. Монеты хлынули на стол, растекаясь к углам. Подставив ладони, чтобы удержать их, Алла поняла, что это не коллекция, а клад — монеты были одинаковыми, нечищенными и лишь недавно лежали в горшочке. Рука коллекционера к ним не прикасалась. — Где вы нашли их? — спросила Алла. — Я не находил, — сказал старик. — Я их собирал. Много лет. — Я вам не верю, — сказала Алла. — Это не коллекция. — Как угадали? — Старик был саркастичен. — Это моя специальность. И поймите, если это клад, то для нас очень важно знать, где он найден, в чем, при каких обстоятельствах… — И потом вы заберете у меня за спасибо. — Почему? Вы получите соответствующее вознаграждение. Старик приподнял мешочек и свободной рукой начал сгребать монеты в кучку. — Разговор у нас не получится, — сказал он. — Я не хотел признаваться сначала, но теперь вынужден сказать: это коллекция моего покойного сына. Придется везти ее в область. — Оставьте свой адрес, — сказала Алла, не надеясь на то, что старик ее послушает. Монеты она успела разглядеть. К счастью, это были рубли второй половины XVIII века, большой ценности они не представляли. — И не подумаю, — сказал старик.3
Старик вернулся домой огородами. Эта ворона из музея могла устроить за ним слежку. Старик был собой недоволен. Он даже порой смотрел на себя со стороны и удивлялся тому, как некрасиво и неправильно он живет. Скупость влекла его к необдуманным поступкам. В предвкушении денег он терял осторожность. На лестнице сидел грузный мужчина, сосед Северов, которого выгоняли курить из дома. Он курил с наслаждением. Старик набрал в легкие воздуха и задержал дыхание, чтобы не отравиться дымом. Старик не любил Северова за вялость мыслей и готовность заранее со всем согласиться. Он сторонился его жены, считавшей весь мир своей собственностью, а Северова — вещью, от которой пользы немного, но выкинуть жалко. Их дочка Светлана в шесть лет была похожа на отца. В ней его раздражала добродушная лень и привязанность к нему, старику, незаслуженная и ненужная. Старик прошел к себе в комнату, не раздеваясь, бросил мешочек с монетами на стол, монеты звякнули, а Светлана спросила от двери: — Это столько денег у тебя, дедушка? Старик прикрыл мешочек ладонью и велел Светлане уходить. Сказал сердито и обидел Светлану. И хотя обида у нее была краткой, на десять минут, она заревела в коридоре, тут же хлопнула дверь, и ее мать спросила деловито: — Кто обидел? Старик запер дверь на щеколду. Потом снял пальто и спрятал мешочек за шкаф. В областной музей он не поедет, потому что женщина из музея могла позвонить туда, предупредить.4
Старик шел по улице. Было уже совсем темно и последний фонарь остался позади. Ночь была лунная, но облачная, и свет на дороге обманчивый и неверный. Стены монастыря, частично побеленные реставраторами, светились под луной будто в театре, где играют оперу с ночными встречами героев. Старик подошел к лесам и осторожно поднялся по лестнице к верху стены. Он двигался медленно, не потому что опасался непрочности лесов, но мог услышать сторож. Отдышавшись, старик дошел до окна. Сторож читал газету и качал головой, переживая прочитанное. Он был моложе старика, но ему не надо было ночью, словно вор, красться по лесам и пробираться кустами. Старик пожалел собственную неустроенную старость, но тут же забыл об этом, потому что пора было действовать. В следующем дворе реставраторы уже закончили работу, ко не успели убрать бочки из-под краски и доски. На двери в собор висел большой замок, старик прошел мимо, он знал ход вниз, под зимнюю церковь у трапезной. В подвале было зябко, под ногами шуршали листья и скрипела кирпичная крошка. Старик сделал три шага вперед и потом зажег фонарик. Низкое помещение тянулось далеко вперед, и на штукатурке какой-то турист уже успел написать квадратными буквами “Костя”. Здесь тоже были могильные плиты, совсем старые. Раньше старик боялся таких помещений. Если бы его спросили почему, ответил бы, что здесь могут прятаться хулиганы. Хулиганы были ни при чем. Он боялся чего-то потустороннего, в чем сознаваться было стыдно. Теперь потустороннее не пугало, потому что сам старик проник за грань того, что доступно другим людям. Старик достал из кармана аппарат и повернул свет фонаря так, чтобы видеть деления на циферблате. Потом поддел ногтем и вытянул тонкую антенну. Он начал свое путешествие от того места, где прошлый раз нашел в стене тайник с монетами. Осколки горшка, в котором были монеты, и сейчас валялись под ногами. Их никто не заметит в каменной трухе. Старик поставил стрелку на индекс серебра. Неудобство поисков в темноте заключалось в том, что, переводя стрелку на иное вещество, приходилось доставать таблицу и искать по ней нужную шкалу. А это сделать неловко, если у тебя в руках и фонарь, и аппарат. Старик повел антенной вдоль стены, сверху вниз, смотрел, не загорится ли лампочка. Но она не загоралась долго, пока он не прошел до конца подвала и не повернул вдоль стены налево. Потом лампочка разок вспыхнула, но радость была преждевременной. Когда он проверил расстояние и вес серебра, понял, что где-то, в трех метрах под ногами, лежит одна монета. Ради нее копать не стоило. Через пятнадцать минут старик уморился, вернулся к могильным плитам у входа и сел на одну из них. Надо бы вернуться к сторожке и проверить, не вышел ли в обход сторож. Но поиски с аппаратом всегда отнимали у старика много сил, он был весь как выжатый. И он решил, что все равно сторож сюда не заглянет. Старик был недоволен аппаратом, потому что его каждый раз приходилось устанавливать на новую шкалу. Надо было бы придумать, как настраивать его вообще на металл. Чтобы с самого начала искать сразу все. И золото, и серебро, и даже платину. Ему представилось, что он уже изобрел, как это сделать. Ему вообще последнее время казалось, что аппарат — его изобретение и он его обязательно усовершенствует. В подвале было сыро и зябко. Старик отыскал в таблице номер и переключил аппарат на золото. Следовало бы, раз уж такой неудачный день, вернуться домой, все равно ничего не найдешь. Но тут же старику показалось, что в самом центре подвала зарыт золотой клад. И он угадал. Пока шел к центру подвала, лампочка разгоралась. Здесь было золото. Старик сужал круг, пока не нашел ту точку, где под землей, неглубоко, сантиметрах в тридцати, лежало что-то небольшое, но золотое. У старика не было лопаты, только нож, он сел на корточки и начал царапать ножом слежавшуюся землю. Ему стало жарко, потому что он в первый раз нашел золото.5
Ночной сторож дочитал газету, надел ватник и кепку и решил обойти двор. На прошлой неделе сюда забрались мальчишки из техникума. Шли из кино и забрались, без цели, с глупого веселья. Один из них упал с лесов и сломал ногу. Сторожа вызывали в горисполком, хотя он был не виноват. По монастырю гулял несильный, но холодный ветер, и было неуютно. Сторож пожалел, что сдохла собака, с ней спокойнее. Он прошел мимо собора, поднялся на ступеньки и пощупал замок. В дальний конец двора, где стояла часовня с мощами святого Иннокентия, он ходить не стал. Решил дойти до трапезной и потом вернуться домой, а к тому времени вскипит чайник. За дверью в подвал ему послышалось сопение. Сторож послушал и хотел было пойти к себе, взять ружье или позвать милицию. Сопение не прекращалось, и тогда сторож осторожно спустился к подвалу и заглянул в дверной проем. Какой-то человек сидел посреди подвала и ковырял землю, подсвечивая себе фонариком. Человек был один. Тогда сторож крикнул ему: — Стой! Выходи оттуда! Человек охнул и выронил фонарик. Фонарик покатился по полу, бросая луч света на стены и своды подвала. Сторож осмелел, но не настолько, чтобы войти в подвал. Он угрожал неизвестному человеку судом и милицией, но, для того чтобы привести угрозу в исполнение, требовалось покинуть пост у входа. А старик, застигнутый в тот момент, когда до золота оставалось несколько сантиметров, из подвала не выходил. Как только он опомнился от испуга, он ощутил глубокий гнев на сторожа, который мог бы прийти на десять минут поз же. Старик с удивлением заметил, что его рука с ножом двигается, нож гнется и вгрызается в слежавшиеся камешки. Все было против этого — надо бежать, спрятаться в кустах, но рука трудилась. А сторож так и не решился войти внутрь. Он не видел человека, но молчание было угрожающим, и наконец сторож замолчал и даже сделал шаг назад, потому что ему показалось, что человек в подвале подкрался к выходу. А старик еще раз ударил ножом, нож скрипнул и сломался. Опустив пальцы в ямку, старик нащупал гладкий, округлый кусочек металла и ощутил внутреннюю теплоту настоящей драгоценности. Наверно, это было кольцо или перстень… Снаружи быстро застучали шаги, и старик догадался, что сторож побежал к себе, то ли за ружьем, то ли позвонить в милицию. И с некоторым удивлением старик подумал, что на этот раз жадность его спасла, потому что заставила не двигаться с места, пока нервы сторожа не сдадут.6
Шаги старика были иными, чем всегда. Ольга Герасимовна сразу это поняла. Они потеряли четкость и равномерность. Старик возник перед киоском, и Ольга Герасимовна посмотрела на него тревожно, решила, что болен. Но старик был пьян. — Мое почтение, — сказал старик. Он никогда раньше не говорил этих слов, они с ним не вязались. Ему больше шло корректное “здравствуйте”. Ольга Герасимовна удивилась. Шляпа старика сдвинулась на ухо, и черное пальто было расстегнуто. Ольга Герасимовна уже сложила для себя образ старика. И по этому образу старик был непьющим. Он должен был презирать спиртные напитки. — Не обращайте внимания, — сказал старик. — Не обращайте внимания, потому что я достиг больших успехов. — Поздравляю, — сказала сухо Ольга Герасимовна, глядя поверх старика. — А ведь в самом деле, — сказал старик. — В самом деле. — Новые журналы поступили, — сказала Ольга Герасимовна. — Хотите посмотреть? — Зачем смотреть? — сказал старик. — Я покупаю. Ольга Герасимовна аккуратно выложила перед ним на прилавок “Советский экран” и “Здоровье”, а старик вынул из кармана пять рублей и кинул ей. Ольга Герасимовна вдруг испугалась, что он скажет “сдачи не надо”, что было бы полным крушением сердечных отношений, существовавших между ними ранее. Но старик не сказал. Он заметил, что взгляд Ольги Герасимовны задержался на массивном золотом перстне, старинном, с печаткой, изображающей какой-то герб. — Принадлежит мне, — сказал старик. — Лично мне принадлежащая ценность. Ольга Герасимовна отсчитала сдачу и, чтобы старик не успел сказать “сдачи не надо”, спросила его: — Это очень старинное? — Еще не определял, но подозреваю. Он задумался, и вдруг его повело вбок, так что он еле успел вцепиться пальцами в край прилавка. — Фактически, — сказал он, — я нахожусь в загуле. Что для меня непривычно, хотя имеет оправдание. И все ее подозрения беспочвенны. Понимаете? Старик подмигнул Ольге Герасимовне, но она не знала, что старик имеет в виду Аллу из городского музея, хотя послушно кивнула. Ольге Герасимовне хотелось сказать старику, чтобы он шел домой. — Вот это, — сказал старик и поднял руку с перстнем, — плоды моей научной работы. Ольга Герасимовна поняла, что перстень старику мал. Он был с трудом надет на мизинец. — Если желаете, — сказал старик, — могу вам подарить. К вашим чудесным пальчикам это украшение пойдет. А вы как думаете? — Перестаньте, прошу вас, — сказала Ольга Герасимовна. — Вы ведете себя так странно… — И неестественно, — сказал старик. — Правильно. Потому что мне долгие недели не везло. А теперь повезло. И будет везти всегда. У вас отдельная квартира? — Я живу с сестрой, — сказала Ольга Герасимовна. — Вы еще не старая, — сказал старик. Ольга Герасимовна промолчала. — Не старая, повторяю. А люди тянутся друг к другу. Особенно если я могу вас обеспечить. — Как вам не стыдно! — А ничего особенного. Вы придете ко мне пить чай? Я куплю торт. — Нет, спасибо, — сказала Ольга Герасимовна. — Я не приду к вам. — Придете, — сказал старик. — Не сегодня, так завтра. Я вам вот что покажу, — сказал он и вынул из внутреннего кармана пальто аппарат. Ольга Герасимовна увидела коробочку, похожую на транзисторный приемник. — Я с этой штукой, которую лично изобрел, за один вчерашний вечер вот что заработал. Перстень описал дугу перед лицом Ольги Герасимовны. Она отвернулась. — Стыдитесь? — спросил старик. — А ложно.7
Старик лгал, но сам не замечал этого. Никакого аппарата он не изобретал. Лишь недавно догадался о его пользе, но возможности машинки так потрясли старика, что он поставил ее выше, чем само изобретение. Аппарат лежал больше года вместе с вещами сына, и старик знал о нем, даже был знаком с принципом. Аппарат, как объяснял сын, был нужен геологам для поисков металлов и всяких полезных ископаемых. Это был молекулярный прием” ник. Если поставить его на индекс того вещества, которое следовало найти, он определял, есть ли поблизости вещество с такой же молекулярной структурой, и давал сигнал лампочкой. А потом можно было определить, далеко ли вещество и даже сколько его. Аппарат делал сын и еще один, Иванов, которого старик никогда не видел. Готовили его к экспедиции, а перед этим сын побывал дома, собирался в отпуск, много рассказывал отцу о том, сколько от этого аппарата зависит в геологии, и старик сочувствовал сыну и полагал, что теперь он будет много зарабатывать и женится. Хотя вслух своих надежд не высказывал, потому что сын таких разговоров не любил. А весной сын поехал в отпуск, зарядиться солнцем, как сам объяснил, и утонул в Черном море, хотя отлично умел плавать. Старик остался один. А через месяц, когда старик уже вернулся из Сухуми, где похоронили Колю, и был в сумеречном, безысходном настроении, пришло письмо от Иванова, который спрашивал, где бумаги сына и прибор. Старик ответил, что не знает. Он тогда и не помышлял присваивать себе аппарат, ему не было дела до аппарата, но он винил в смерти Коли многих людей. Непрощение распространил и на тех, с кем сын раньше работал. Они не уберегли Колю. Если бы не эта экспедиция, не поехал бы Коля так не вовремя на Кавказ, когда море еще холодное и бурное, а поехал бы, как все люди, и остался жив. Через год старик разбирал бумаги Коли, нашел таблицу индексов и догадался, что она имеет связь с аппаратом. От тоски и безделия достал аппаратик, вставил батарейки и научился им управлять, потому что раньше работал инженером, хоть и в другой области. На окне стоял оловянный солдатик, память о Коле; когда-то Коля играл в солдатики и этого знаменосца выделял из других и сберег. Старик тогда отыскал индекс олова, и лампочка на аппарате загорелась. Потом он понял, как работает антенна направления и даже определил вес солдатика, проверил его на весах и задумался. Всю жизнь старик зарабатывал деньги. Не всегда удачно, потому что был неуживчив и не смел. Он старался экономить, но пока была жена, экономить не удавалось. А старик хотел иметь много денег. Он не знал точно, сколько, но полагал, что долгим трудом и бережливостью заслужил право на большие суммы. И вот, сидя с аппаратом посреди комнаты и уже испытав его на разных вещах, найдя в комнате друзу аметиста, привезенную Колей еще с первой студенческой практики, определив вес всех стаканов, чашек и чайника, узнав расстояние до стен, он задумался, что же делать дальше. Вошла соседская девчонка Светлана, и, привыкши за последние дни с вниманием глядеть на различные металлы, старик заметил на ее запястье желтый браслет. Он не одобрял в маленьком ребенке раннее стремление к украшениям и осуждал за то Светланину мать, но тут подумал и спросил: — Это медь, Светлана? — Что, дедушка? — не поняла Светлана. — Это у тебя приемник? — Приемник, — ответил старик и поставил индекс бронзы. Индекс был сложный, как у всех сплавов. Лампочка не загорелась. Чтобы Светлана не ушла, пришлось дать ей поиграть аметистовой друзой. Старика задело, что он не может опознать дешевую браслетку. Хотел было спросить у родителей, но тут нашел индекс латуни и, оказалось, угадал. Это было приятно. А когда Светлана ушла, довольная тем, что дед был таким добрым и не гнал ее, как обычно, старик лег спать, а ночью ему снились браслеты и кольца. Но не латунные, а золотые, все в драгоценных камнях. И лежали они почему-то в земле, в ямке, вырытой стариком. Как приходит во сне решение задачи к школьнику, мучившемуся весь вечер, так и решение проблемы, что делать с аппаратом, пришло во сне к старику. Городок был небольшим, но в нем было много старых домов, два кладбища и монастырь на окраине. В них должны быть спрятаны ценные вещи, которые никому не принадлежали, вернее, принадлежали старику, как ближайшему родственнику Коли. И с тех пор, отправляясь на охоту, с каждым днем все более погружаясь в азарт кладоискателя, старик называл это опытами. Даже для самого себя. Он начал с кладбища, где его ждало большое разочарование, потому что аппарат несколько раз показывал ему отдельные серебряные и золотые вещи, но все эти вещи лежали в метре-двух под землей, и добраться до них было нельзя. Старик начертил план кладбища, похожий на пиратскую карту, и условными значками отметил на нем ценности. А потом он отправился в монастырь, где на второй день нашел горшок с серебряными монетами, а на третий, когда чуть не попался в руки к сторожу, — золотой перстень.8
— Вы полагаете, — сказал старик, — что я этот перстень купил или дажеукрал. — Избави боже, — возразила Ольга Герасимовна. — Мне и в голову не пришло. — Могло и прийти, я не в обиде, — сказал старик. — Потому что я этот перстень нашел. Не смотрите так, я его не случайно нашел, а целеустремленно. И возвращать не намерен. Сейчас объясню. Но объяснить сразу не удалось, потому что к киоску подошел человек в синем плаще и спросил журнал. Старик протянул руку за аппаратом, но Ольга Герасимовна, словно чувствуя, что машинка не предназначена для чужих глаз, накрыла ее газетой, за что старик был ей благодарен и даже понял, что не ошибся, решившись довериться этой доброй женщине. — Так вот, — сказал старик уже увереннее, когда покупатель отошел, а Ольга Герасимовна подтолкнула аппарат к руке старика, — скажите мне, из какого металла изготовлены, простите, ваши сережки? Подозреваю, что из серебра. — Они платиновые, — чуть было не обиделась Ольга Герасимовна. — Может, они и не производят впечатления драгоценных, но были оставлены мне моей мамой. И камни в них настоящие, гранаты. — А мне все равно, — ответил старик. Он уже достал из кармана список индексов и искал номер платины. С реки дул пронзительный ледяной ветер и нес мелкие сухие снежинки. Казалось, что они родились не в сером, темном небе, а где-то внизу, под обрывом, и летают как тополиный пух. — Вот, — сказал старик, — видите? Ставлю индекс платины, и что получается? На аппарате загорелась маленькая лампочка. Ольга Герасимовна наклонилась вперед и чуть поморщилась, потому что от старика пахло водкой. — Мы наблюдаем, — сказал он, — что поблизости находится платина. Вы угадали. Ваша мамаша вас не обманула. — Зачем же ей меня обманывать? — удивилась Ольга Герасимовна. — Я же лет пять назад ювелиру сережки показывала. — Проверили все-таки, — с удовлетворением заметил старик. — Правильно. Ольга Герасимовна покраснела, потому что, оказывается, сказала не то, что хотела, а в словах старика ей почудилась ирония. — Я не потому, — сказала она, — что… — Так вот, — старик не слушал ее, — смотрите. Мы ведем эту стрелку, которая показывает направление на платину, пока она не остановится. Не придвигайтесь. Вот так. Семьдесят сантиметров. Точно. От ваших ушей до машины. Посмотрим вес — сюда вот смотрите. Вес всего четыре грамма, нет, восемь — потому что у нас два объекта. Ясно? — Нет, — сказала Ольга Герасимовна. — Объясняю. С помощью моей машины мы можем не только найти любой металл или минерал, но узнать, на каком расстоянии, в каком направлении и сколько его имеется. Теперь ясно? — Это же такое изобретение!.. И вы сами? — Вместе с Колей, покойным сыном, — сказал старик честно. — Но ведь это надо сдать куда следует? — неуверенно сказала Ольга Герасимовна. — А вот это неразумно, — возразил старик. Он протрезвел на холоде и уже начинал жалеть о своей болтливости. — Вы не сомневайтесь, — сказала Ольга Герасимовна, которая правильно истолковала жест старика. — Я никому не скажу. Я понимаю, что могут неправильно понять…9
Снег, как начал сыпать вчера, так и не переставал всю ночь и все утро. Он был холодным, колючим. Старик проснулся поздно, с отвращением к себе, ощущая и собственную старость и неладное нежелание мышц трудиться, нести его тело. Лишь часам к десяти он заставил себя подняться с кровати и пойти на кухню, поставить чайник. День был субботний, и Светлана поднялась позже, с родителями. Северов, как всегда, сидел на лестнице, курил, а жена его собирала Светлану на экскурсию с детским садом. Детей вели в парк, на окраину, где тянулись поросшие рыжей травой валы городища, давшего когда-то начало городу. Светлана воевала с матерью, настаивала, чтобы ей разрешили взять браслетку, потому что любила прихорашиваться. Старик в разговоры не вмешивался. У него ныло в висках и дрожали колени. В этом была несправедливость, потому что именно теперь, когда ему с таким опозданием улыбнулось счастье, здоровье было необходимым дополнением к этому счастью. Старик обернул ручку чайника полой не очень чистой пижамной куртки и поплелся к себе в комнату, вспомнив по дороге с неудовольствием, что забыл вчера, когда был пьян, купить булку. И молоко тоже кончилось. Тут он вспомнил еще о своем таком глупом, нелепом визите к Ольге Герасимовне, и стало стыдно. Пустая четвертинка, забытая на столе, напомнила о позоре, и он сшиб ее в угол, не поглядев, куда покатилась. А где перстень? Старик поставил чайник на подставку и кинулся к висевшему в углу черному пальто. Золотой перстень лежал в боковом кармане. Старик положил перстень на стол и, поглядывая на него, заварил чай. Потом сел за стол и в ожидании, пока чай станет покрепче, старался вспомнить, где у него лежит аспирин. Так и не вспомнив и не решившись идти к соседям, он переоделся, не потому что собирался выходить вскоре из дома, но привык к минимальному распорядку жизни одинокого человека, состоявшего из маленьких ритуалов. Переодевание входило в их число и происходило между кипячением чайника и завтраком. Затем старик достал из буфета тарелочку с печеньем и сахар и позавтракал. Чай согрел его, и, усевшись у окна, старик начал думать о том, что будет дальше, в будущем году или через год. Мысли были неконкретны, расплывчаты, но приятны. Старик в задумчивости катал пальцем по столу золотой перстень. Он не собирался становиться миллионером, не хотел дачи в Крыму или машины “Волга”. Всю жизнь старик был жаден, знал об этом, не любил собственной жадности и с завистью относился к людям, которые могли сорить деньгами или покупать жене цветы букетами. И старик считал, что он сам в собственных недостатках не виноват, потому что виной тому обстоятельства его жизни. Теперь с этим будет покончено. Он победит собственную, прилипчивую, гадкую жадность. Он будет богат ровно настолько, чтобы до конца своих дней не думать о деньгах. Из-за облаков, все еще сыпавших мелким снегом, выглянуло солнце, и снежинки загорелись искрами на темном фоне. Старика охватило тихое умиление перед красотой природы, смешанное с грустью, потому что красота эта открывалась слишком поздно и неизвестно, сколько еще придется ею любоваться. Время текло незаметно, и лишь голод да голоса в коридоре заставили отвлечься и взглянуть на часы. Был уже двенадцатый час. Старик прислушался. Северова ругалась в коридоре, что пора обедать, а Светлана не возвращается. Старик решил тоже пообедать в городе, в столовой. Он спрятал перстень под белье в шкаф, потом решил взять с собой аппарат, чтобы так, для собственного невинного развлечения, посидеть после обеда в садике и проверить, многие ли из прохожих носят с собой золотые вещи. Потом следовало зайти к Ольге Герасимовне и извиниться за вчерашнее поведение. Старик постарался вспомнить, где же лежит аппарат. Из кармана он его, видно, вытащил, но куда положил йотом, запамятовал. Сначала старик заглянул в ящик шкафа, куда клал аппарат обычно, но черной коробочки там не было. Старик обыскал карманы пальто и костюма, поднял подушку на диване, заглянул под матрас. Тяжело нагнулся и посмотрел, не лежит ли аппарат под шкафом. Он поочередно вспоминал об всех захоронках, которые придумывал для машинки, но ее не было. Осознание того, что аппарат он где-то оставил, потерял, прогрохотало в мозгу как гром. И опустились руки. Аппарата не было. Это следовало понять раньше и бежать искать его, а не копаться по углам. Не было аппарата, не было денег, не было будущего. Жизнь так удачно придуманная, завершилась… Старик стоял посреди комнаты. Он был очень стар и никому не нужен. В коридоре раздался звонок, шаги Северовой и голос ее: — Наконец-то. Старик старался вспомнить, где он последний раз держал аппарат в руках. Получалось, у киоска. Он его даже клал на прилавок. А что было дальше? Вернула ли она машинку? Господи, она ее не возвращала. И лицо Ольги Герасимовны, которое представилось старику, было недобрым и таящим хитрую угрозу. А что ей стоило обмануть пьяного, беззащитного старика? Он пришел к ней, выворачивал наизнанку душу, все объяснил… И конечно, киоскерша поняла, что ей машинка нужнее, чем старику. И теперь она уже пробирается по кладбищу или еще где в укромном месте, жмет на кнопки, подбирает индексы… Старик не двигался. Он смотрел пустыми глазами в окно и старался вспомнить, видела ли Ольга Герасимовна список индексов, могла ли запомнить номер золота? Он ведь все объяснял подробно. Он не слышал очередной вспышки голосов в коридоре. Пришел Северов, и жена приказывала ему идти к соседям, узнать, не вернулась ли дочка с экскурсии. Потом он начал собираться, никак не мог найти шляпу — спешил застать Ольгу Герасимовну в киоске, если она, конечно, вышла на работу, не уехала в другой город. Снова раздался звонок в дверь. Северова промчалась по коридору, кляня на ходу мужа и дочку. Но пришел кто-то другой, Северова сказала: — Я думала мои, а вам кого нужно? Что-то ей ответили, старик не прислушивался, шнуровал ботинки. Северова объясняла, почему тревожится, обед на столе, никого не дозовешься. Другой голос ее успокаивал. Еще раз хлопнула дверь, вернулся Северов, его голос вплелся в женские голоса в коридоре. Потом из общего гула вырвался голос Северовой: “… И чтобы без нее не возвращался!” Раздался стук в дверь к старику, и он, так и не успев зашнуровать ботинок, кинул взгляд на стол — нет ли там чего лишнего, сделал шаг к двери и сказал раздраженно, как человек, оторванный от дела: — Кто там? Входите. И вошла Ольга Герасимовна. Она была в новом пальто и пуховом платке, и от нее распространялось уютное и приятное ощущение здоровья, зрелой красоты и благорасположения к людям. — Простите, — сказала она, — что я к вам пришла без приглашения. Старик был растерян, ничего не ответил. — Просто несчастье, — сказала она, — не знаю, как только таких малышей в мороз на экскурсии водят. Извините, но я подумала, что вы волнуетесь, во вчерашнем состоянии и голову можно было оставить, но надеюсь, это для вас не типично. Понимаете, когда к человеку чувствуешь расположение, не хочется разочаровываться, вы просто не представляете… Речь ее лилась ровным, теплым потоком, она не переставала говорить ни на секунду, потому что старалась скрыть этим свое смущение, так как не привыкла приходить куда-нибудь без приглашения. Она достала из сумочки черную коробку аппарата, протянула его старику, и он схватил машинку, удивившись силе и цепкости своих пальцев. — Вы когда ушли, — продолжала Ольга Герасимовна, не обращая внимания на то, что пальцы старика гладят, ласкают аппаратик, — я не сразу заметила. Потом спохватилась, думаю: вот ужас-то, как вы переживать будете, а у меня вашего адреса нет. Я сначала думала, что вы скоро вернетесь, а вы не пришли. Ну ладно, значит, сильно были выпивши и легли спать, с утра придете. Я ведь рано открываю, сразу вас разыскивать не будешь. А потом больше волноваться стала, вспомнила, что вы как-то про Садовую улицу говорили, у спуска. Закрыла киоск; я бы не стала так волноваться, но вы вчера мне о качествах говорили, представляю, какая ценность… Она все стояла в дверях, и старик понял, что надо ее как-то утешить, пригласить в гости, а самому более всего хотелось проверить, работает ли машинка, не сломалась ли от неловкого обращения, а сделать это было нельзя, потому что Ольга Герасимовна этим могла оскорбиться.10
Они сидели в кафе, на улице Толстого. Народу было немного, Ольге Герасимовне совсем не хотелось есть, она согласилась пойти сюда, потому что была растрогана тем, как рад и благодарен ей старик за то, что не поленилась, принесла машинку, и ей было чуть смешно, от того, что старик перед ней робеет. Старик, как прошло первое потрясение, ощутил страшный голод. Подчистив тарелку борща, он управлялся с мясом, был оживлен и, к смущению Ольги Герасимовны, успевал в промежутках своей исповеди говорить неловкие комплименты ее внешнему виду и одежде. Машинку он из кармана не доставал, но говорил и о ней, похлопывая себя по груди, убеждаясь с радостью, что аппарат на месте. Потом они сидели на лавочке в сквере, и проходящим мимо это было странно, потому что стоял сильный холод и даже молодые люди на лавочки не присаживались. Старик холода не чувствовал, а Ольга Герасимовна не хотела расстраивать его желанием уйти в тепло. Лишь когда закоченели ноги, она сказала об этом старику с виноватой улыбкой, и тот очень был этим обескуражен и клеймил себя за невнимательность, что также было Ольге Герасимовне приятно. Они пошли по улице к дому Ольги Герасимовны и тут встретили бегущего Северова. Старик не обратил бы на это внимания — что ему за дело до Северова, пустякового человека, но Ольга Герасимовна, которая быстро вживалась в судьбы других людей и принимала их близко к сердцу, окликнула Северова и спросила, нашлась ли Светлана. И тот на ходу крикнул, что Светлана так и не вернулась с экскурсии, хотя другие пришли, и что он бежит в милицию, где находится воспитательница из детского сада, которая виновата в том, что Светлана потерялась. Ольга Герасимовна пришла в ужас и тут же пошла к Северовым, чему старик был рад, потому что хотел отложить расставание. Северова плакала на кухне, там уже были соседки и родственницы, ей сочувствовали, и Ольга Герасимовна сразу же включилась в эту женскую сумятицу, как будто была сама родственницей Северовой. Старик вернулся к себе в комнату, потому что знал, что девчонку найдут — как можно пропасть в небольшом городе? По коридору протопали тяжелые мужские шаги. Выглянув в дверь, старик увидел, что пришли два милиционера с собакой, и он сразу захлопнул дверь, потому что собака могла унюхать лишнее, не исключено, что ее ночью водили в монастырь. Но собаку провели в комнату к Северовым, чтобы нюхать Светланины вещи. Старик сидел и ждал, когда вернется Ольга Герасимовна, и даже достал из шкафа праздничные чашки, чтобы потом напиться чаю в семейном кругу. Он торопил время, чтобы скорее нашлась эта девочка, потому что понимал, что, пока длится эта неизвестность, ему трудно вернуть Ольгу Герасимовну к личным разговорам. Когда Ольга Герасимовна заглянула все-таки в комнату, было почти совсем темно, и старик зажег верхний свет. — Сейчас заводские выходят, — сказала она. — Только трудность, что суббота, от дома к дому пришлось ходить. — Как ее угораздило? — спросил скучным голосом старик, понимая, что сейчас в жизни Ольги Герасимовны он занимает не главное место. — Они на холм ходили, на городище. Это преступление, что только одна воспитательница с ними. Совсем девчонка. Не догадаться пересчитать детей, когда домой пошли! И спохватились уже в городе, когда к садику вернулись. — Надо было в кустарниках поискать, — сказал старик. — Конечно, искали. Сначала сама воспитательница там бегала — еще больше времени потеряла. Потом Северов. Но вы же знаете… Старик знал, что кустарник, начинающийся за городищем, переходит постепенно в лес, пересеченный оврагами и уходящий километров на двадцать. — Вообще-то нестрашно, — сказал он. — Только холодно. — Вот именно, — сказала Ольга Герасимовна. — Сейчас минус четыре, а ночью до минус десяти обещают… И вдруг она заплакала. И это было неожиданно и странно для старика, который никак не связывал ни себя, ни Ольгу Герасимовну с пропавшей девочкой. Ольга Герасимовна вытирала платком нос вместо того, чтобы вытирать глаза, и старику захотелось улыбнуться. Но он не улыбнулся, потому что была грустная ситуация и девочка могла замерзнуть. И старик подумал, что у Северовых еще будут другие дети, а вот у него никогда уже не будет детей. Но вслух об этом не сказал, чтобы не показаться бессердечным. — Найдут, — сказал он, — обязательно найдут. Ведь не тайга. — Темнеет уже, — ответила Ольга Герасимовна. — Собака след возьмет. — Милиционер сказал, что сомневается — ветер сильный, поземка. Но они постараются. — Ольга Герасимовна, — заглянула в дверь незнакомая женщина, — у вас валидола нету? Она вела себя так, словно Ольга Герасимовна жила в этой комнате. Старик не обиделся. Он подошел к шкафу, достал валидол. — Я им сказала, что здесь буду, — оправдываясь, объяснила Ольга Герасимовна. — Ничего, — ответил старик. — Жалко, что ваша машинка только металлы ищет, — сказала Ольга Герасимовна. — Вот было бы чудо, если бы девочку вы нашли. — Да, — согласился старик. — Только металлы. — Ну я пошла, — сказала Ольга Герасимовна. — Может, я там нужна. “Вот неудачно-то, — думал старик. — Она может про аппарат рассказать. Будет там стоять какой-нибудь милиционер или кто-то из начальства. А она скажет: “Вот у старика есть аппарат. Вроде миноискателя. От сына остался. Может найти любой металл”. И тут милиционер припомнит заявление из музея или заявление сторожа. Девочку искать долго, найти и отнять аппарат — дело двух минут”. Старик достал аппарат из кармана, постоял, прислушиваясь к звукам из коридора. Пока они не имели отношения к нему. Куда спрятать аппарат? Он постарался поставить себя на место милиционера, который будет обыскивать его комнату. Куда он не посмотрит? Старик потратил следующие пятнадцать минут, перепрятывая машинку. Он устал, взмок, ему казалось, что вот-вот войдут и спросят: “Это вы используете не по назначению государственное изобретение?”11
— Нет, я не могу больше, — сказала Ольга Герасимовна, снова входя в комнату, опускаясь на стул и не замечая настороженного и измученного лица старика, который только что сунул аппарат в ящик с грязным бельем. — Ну придумайте же что-нибудь! У вас есть опыт. — А какие новости? — заставил себя спросить обычным голосом старик. — Не нашли еще? — Я не думала, что вы такой черствый, — ответила Ольга Герасимовна. Глаза Ольги Герасимовны распухли, волосы растрепались, и она казалась куда старше и грузней, чем днем. И старику было жалко, что она так расстраивается, и эта жалость непонятным образом распространилась на девочку. Старик был не лишен воображения, и он представил вдруг, как страшно и холодно в лесу, как жгут лицо снежинки и как немилосерден ледяной ветер. — Вы бы шли домой, — сказал старик. — Я вас провожу, если желаете. — Как домой? — удивилась Ольга Герасимовна. — Я в лес пойду. — Куда? — Лиду все равно дома не удержишь. Она туда рвется. И грех ее удерживать. Старик удивился. За несколько лет, что он жил в этом доме, он не запомнил имя соседки. Была она для него Северовой, женой Северова. — Там холодно, — сказал старик. — И темно. Еще сами заблудитесь. — Ничего со мной не случится. — Ольга Герасимовна задумалась и сказала потом: — Честное слово, если бы можно было поменяться с девочкой местами, не задумываясь осталась бы вместо нее в лесу. — Чепуха какая-то, мистика, — сказал старик. — У вас какая-нибудь фуфайка найдется? Я завтра верну. — Ну конечно, конечно. — Старик достал свитер сына, почти новый, и положил на стол перед Ольгой Герасимовной. — Спасибо, — сказала она. — Я бы рад помочь, — сказал старик. — Всеми силами… — Куда уж вам, — сказала Ольга Герасимовна, не желая обидеть старика. — Холодно, темно в лесу. Вот если бы вам аппаратик использовать… Я, знаете, спросила у Лиды… У старика оборвалось сердце. — Я спросила у Лиды, может, на девочке были какие-нибудь металлические части. То есть пуговицы или сережки. Но от нее разве добьешься толку? — Даже если и были, — сказал старик быстро, — мы не знаем, из какого металла… И он с ужасом понял, что знает: на девочке латунный браслет. И это тоже было тайной, которую нельзя открывать. И потому старик добавил: — Если бы даже было известно, такой маленький предмет не найти. И расстояние велико. — Но перстень-то вы нашли, — сказала Ольга Герасимовна. — Может, собаки отыщут ее. — Старик постарался отвлечь Ольгу Герасимовну, но та только покачала головой. — Может, у вас в списке, который вы показывали, другие вещи есть, которые аппарат определяет? — спросила Ольга Герасимовна. Старику хотелось прикрикнуть, чтобы она замолчала, но он сдержался. — Нет, — сказал он, — только металлы. Это тоже было неправдой. Но старик уже нашелся: — Там же, в лесу, сейчас народу много. Ольга Герасимовна не услышала. — Погодите! — воскликнула она. — На ней же сапожки. А в них железные гвоздики! Конечно. Давайте, я кого-нибудь помоложе позову. Вы все расскажете. Она взглянула на старика, поняла, видно, его чувства, но не совсем правильно истолковала их. — Не беспокойтесь. Не сломаем. Я от него ни на шаг не отойду. — Нет, — отрезал старик со злостью. — Гвоздиков машинка не найдет. Ни за что не найдет. — Почему? — Она на два метра работает. Только на два метра. Она хуже, чем человек видит. Бесполезно. Ольга Герасимовна готова была поверить старику, она забыла, как он вчера говорил ей, что аппарат может уловить грамм вещества за километр, но старика выдал голос, неожиданное дрожание рук и нежелание встретиться взглядом. И она поняла, что разговаривать им не о чем. Она медленно поднялась и пошла к двери, не оборачиваясь, словно старик ее тяжело обидел, а он ничего не придумал, как сказать, подавляя сладкое облегчение: — Свитер оставили, Ольга Герасимовна. Женщина лишь пожала плечами. И затворила за собой дверь медленно, но окончательно.12
В доме было тихо. Это была мертвая тишина. Если кто и остался в других квартирах, то люди молчали, даже дети не плакали. Старик представлял себе, как сотни людей идут по лесу, как горят огоньки и как все кричат, шумят и мешают друг другу. А девочка уже померла от холода. И среди них идет Ольга Герасимовна, полная пожилая женщина. И ей холодно, потому что она не взяла с собой свитер. И еще старик думал о том, что придется отказаться от ежедневных посещений газетного киоска. Ольга Герасимовна — женщина мягкая и добрая, но все равно обратного пути нет. И от этого было еще грустнее, и старик почему-то представил себе, как он сейчас тоже идет по лесу, но ищет не Светлану, а Ольгу Герасимовну, спасает ее и несет к городу, а она говорит ему старомодно и тихо: “Благодарю вас, мой спаситель”. Старик поднялся, прошел на кухню, выпил воды. Тишина в доме угнетала, а радость по поводу того, что удалось все-таки сохранить аппарат, не отдать свое будущее богатство людям, которые в этом ничего не понимают, уже миновала. Старик еще выпил воды. Он хотел идти обратно, как услышал тихий стон. От неожиданности он даже схватился за край плиты. Оказалось, это только котенок, который вовсе не стонал, а пискнул, тоже чувствовал страх и одиночество. Старик хотел цыкнуть на котенка, но увидел, что на шее котенка повязана красная ленточка, и вспомнил, что еще два — три дня назад видел эту ленточку в косичке у Светланы. И не прогнал котенка. Так они и стояли посреди кухни. — Нет, — сказал старик вслух, — все равно уже поздно. Котенок сел и облизнулся. Он был рад, что не один в доме. Старику было трудно дышать, и ломило в затылке. Победа, спасение аппарата лишь усложнили жизнь, и не было на самом деле никакой победы. Котенок слушал, наклонив голову, как старик рассуждал с невидимым собеседником: — Тысяча человек не нашли, а я им найду… ну как я им найду? Котенок поднял хвост и пошел в угол, к миске, проверить, нет ли там молока. Молока не было. Забыли налить. — Человека презирать нетрудно. Каждый из нас одинок. И ты одинок, и я одинок. А понять никто не может. Могли бы, но не хотят. Скажу: держите, пользуйтесь. А кто спасибо скажет? Скорее всего, привлекут за незаконное хранение. Старик поглядел на котенка, стоявшего в растерянности перед пустой миской. — А долг перед тобой никто не выполнил. Ушли, забыли. Не беспокойся, сейчас все вернутся, на радостях, может, и накормят. Или снова забудут. Старик прислушался. Ему показалось, что по лестнице звучат шаги. Нет, показалось. На кухне было жарко. А там, в лесу, холодно. Раньше он всегда кому-то был нужен… Жене, сыну, на работе. Потом, когда оставался сын, он уже был мало чем нужен сыну, хотя тот приезжал и слал письма. А теперь никому не нужен. Но сейчас они придут, приведут девочку. А никого нет дома. Надо воду поставить на плиту, чтобы согрелась к их приходу. Наверно, Светлане горячую баню надо устроить. Он долго искал спички, а когда нашел, понял, что зря ждет людей здесь. Девочку повезли в больницу. Там ее смажут, если обморозилась, и выкупают. Старик положил спички у плиты и постарался вспомнить индекс латуни. Не вспомнил. Вернулся в комнату, достал список, поглядел, спрятал список в карман брюк. Его мысль вернулась к Ольге Герасимовне. Она тоже может обморозиться. Надо бы ее встретить, проводить. Если она захочет с ним разговаривать. А почему не захочет, когда он ее встретит из леса и проявит заботу? Старик вернулся в комнату, натянул свитер сына, на улице холодно. Зря Ольга Герасимовна его не взяла. Он решил дойти до леса, встретить Ольгу Герасимовну, не более. На лестнице ему пришла в голову простая мысль: ведь он нарочно обманул Ольгу Герасимовну. Конечно, обманул, потому что сейчас пойдет в лес, найдет девочку и приведет ее домой. А когда Ольга Герасимовна спросит, почему не сделал это раньше, со всеми, ничего не ответит. Пускай сама догадывается. Конечно же, он из скромности не сделал этого раньше. А если он пойдет сам по себе, в стороне от людей, никто не увидит аппарата. И никто не отнимет его. А Ольге Герасимовне он скажет, что оставил аппарат дома. Конечно же, он оставлял аппарат дома. Теперь главное, чтобы девочку не нашли раньше, чем это сделает он сам. Он должен ее найти. Не тысячи людей, с собаками, а он, один. И пока он спешил, почти бежал через пустой, замерший городок, то ему все казалось, что люди возвращаются из леса, нашли девочку без него. И он все прибавлял и прибавлял шаг, чтобы этого не случилось. За последними домами, у пустоши, тянущейся до городища, стояла санитарная машина. Огни в ней были потушены, и никого не было внутри. Значит, и шофер, и санитары тоже там, в лесу. На краю кустарника мелькали огоньки. Там уже были люди. Старик прошел в лес вдоль самого берега реки. Здесь людей не было. Он представил себе лес и решил подняться туда по глубокому оврагу. Фонарик он включал. Вышла луна, и, если наступать на белые снежные пятна, можно идти почти как днем. На зрение старик не жаловался, всегда гордился своим зрением, острым не по годам. Сверху, от леса, доносились слабые крики, казалось, что перекликаются грибники. Когда старик поднялся по склону оврага и углубился в лес, то стало чуть теплее. Старик снял перчатки и сунул в карманы, чтобы согреть пальцы. Близко прошли люди. Несколько человек. Они шарили перед собой фонариками и перекликались. Старик прижался к стволу осины и переждал, пока пройдут. Хорошо, что они еще не нашли девочку. Наконец начался сосновый бор. Старик вынул из кармана аппарат и поставил индекс латуни. Лампочка не загоралась. Он перевел стрелку на максимальное расстояние, больше километра, увидел, как засветился волосок лампы. Неужели так сразу и нашел? Он развернул аппарат к источнику. Оказалось, сигналы шли оттуда, где были крики. Несколько латунных точек передвигались по лесу. Нет, там искать не надо. Там милиция, может, лесники, солдаты. Пуговицы у них. Старик выключил аппарат и пошел дальше, в глубь леса, но не по оврагам, где особенно старались, прочесывали каждый куст люди, а по высоким местам. Почему-то ему казалось, что девочка должна тоже искать самое высокое место. Минут через двадцать крики отдалились, хотя и не пропали. Они стали частью ветра и потрескивания ветвей. Старик через каждые пять минут останавливался, включал аппарат, но впустую. Потом стало холодно. Старик пожалел, что не достал валенки. В ботинках, хоть и с галошами, мороз добирается до пальцев. Уверенность старика в том, что он не только отыщет девочку, но и приведет ее домой раньше, чем вернутся из леса расстроенные и разочарованные прочие люди, начала оставлять его. Уж очень холодно, пусто и безлюдно было здесь, среди черных деревьев.13
Наступил момент, когда старик понял, что устал так, что дальше не сможет сделать ни шагу. Пальто было в трухе, листьях и сучьях, руки исцарапаны, и в одном месте лопнули брюки. Напряжение, помогавшее старику два часа пробираться сквозь чащу, сменилось апатией. И старик вдруг без особого волнения или негодования подумал, что может и не выбраться из леса. И его никто не будет искать так, как ищут эту девочку, которая ничего еще не сделала в жизни, и если сложить все деньги, которые истрачены на ее поиски, все время, которое тратят на это сотни взрослых людей, окажется, что она и десятой части того не стоит. Но ее ищут. А старика, когда хватятся завтра, никто искать не будет, хотя он прожил долгую жизнь и тридцать с лишним лет работал, кормил семью и вырастил талантливого сына. И не он виноват, что сын погиб. Вот и кончится его семья, его род. И никто не заметит. Пальцы онемели, и старик, сидя на поваленном дереве, с трудом извлек из-за пазухи аппарат, вытянул антенну и нажал на кнопку, включая индекс латуни. Не потому даже, что верил, что найдет девочку. Просто в этом действии сейчас заключался смысл его существования. И лампочка загорелась ярче, чем прежде. Старик не очень удивился. Ему было уже почти все равно. Он повел антенной, и оказалось, что латунный предмет, небольшой латунный предмет находится в сорока метрах от старика, во впадине за молодыми елками. Старик встал не сразу. Ему не хотелось вставать. Его клонило ко сну. А ведь если девочка чувствует то же, что и он, ее лучше не беспокоить, пускай поспит… Сильный порыв ветра, треск сломившегося сучка неподалеку и высокий, пронзительный вой, пролетевший с ветром, словно разбудили старика. Его руки зашевелились, он потряс головой, будто выливая из ушей воду, и так резко поднялся, что чуть не упал на мерзлую землю. Нет, еще не все кончено, мы еще повоюем… Старик уверенно шел к латунному браслету. Он не допускал мысли о том, что там может оказаться что-то иное. Сорок шагов дались нелегко, потому что впереди оказался завал, а старик стал обходить его, чтобы еще раз не включать аппарат, не студить рук. Треснуло, расстегнулось пальто, и нога попала в какую-то щель. Старик рванул ногу и оставил в щели галошу, но, заметив это, не придал тому значения, потому что вдруг понял, что все кончится хорошо, что найдет девочку, он выйдет к людям… Полянка была окружена густой еловой порослью. Трава на ней была вытоптана. Старик включил фонарик, и его луч задрожал, заметался по листве и сухой траве. Браслетик лежал у пенька, он заблестел под лучом фонаря, как золотой. Старик присел на корточки и поднял браслетик. Браслет был холодный, ледяной, и неизвестно было, когда его потеряла девочка. А без браслета старику ее было не найти. Он с трудом заставил себя выпрямиться. Он был очень стар, куда старше своих лет. Ему не было жалко себя или богатство, которого он не дождется, а он вдруг пережил весь страх, который достался на долю Светланы, и надежду ее на то, что кто-то придет и уведет ее отсюда. И виноват в этом был он, старик. Потому что он уже несколько часов знал, что может найти ее. И если бы не он, девочка давно была бы дома. Он мог найти ее днем, когда было светло и не так холодно, он мог позвать с собой в лес Ольгу Герасимовну, и они вдвоем привели бы домой Светлану. И Ольга Герасимовна никому бы не рассказала об аппарате, потому что она человек серьезный. Ну, а если бы рассказала? Что, не прожили бы они вдвоем на его пенсию и ее зарплату? И старик в отчаянии бродил кругами вокруг поляны, раздвигал ветви елок и сипел: “Светлана!” — на крик не хватало голоса и силы. И никто не отзывался. А у старика уже не было сил вернуться туда, где были люди, и позвать их сюда, чтобы они прочесали эти елки. Последней вспышкой энергии в старике бушевала злость на себя, погубившего девочку и себя самого. Он не чувствовал ног, и сердце билось частыми неровными толчками, замирая и останавливаясь. А он шел и не чувствовал ни уколов, ни ударов ветвей по лицу. Раз он упал и, когда поднимался, увидел на земле черную коробочку. И с удивлением отметил, что это его аппарат, который он выронил или только что, или несколько минут назад, проходя по этим же местам, совершая круги по ельнику. И это его не волновало, потому что аппарат относился к какому-то далекому прошлому, а сейчас его вроде даже и не было и быть не могло. Старик силился подняться, аппарат лежал совсем рядом, и тут возникла мысль, как-то связанная с аппаратом. Но старик не сразу смог понять, почему аппарат еще может ему пригодиться. И в ушах звучали какие-то важные слова Ольги Герасимовны о гвоздях. При чем тут гвозди? Где гвозди? Старик, лежа, протянул руку к аппарату и, не осознав, что делает, включил аппарат и на память поставил его на индекс железа, который бы никогда не вспомнил днем. И глядя, как разгорается лампочка, он понял, зачем подобрал аппарат. Гвоздями подбиты сапожки Светланы.14
Светлана сидела, удобно свернувшись в комочек, засыпанная листьями, и ее можно было не увидеть, пройдя в двух шагах. Сначала старику показалось даже, что она не дышит. Она была такая холодная и неподвижная. Старик сел рядом с нею и начал расталкивать ее, хрипеть над ухом, а Светлана не отзывалась. Он, сидя, притянул ее к себе и свободной рукой принялся расстегивать пальто, чтобы прикутать девочку к своему телу, а Светлана была вялой, послушной и никак не хотела просыпаться и помочь старику, у которого не было сил, чтобы согреть ее как следует. Ему мешал аппарат. Он откинул его подальше, и аппарат скрылся в ворохе листьев. Аппарат мог пригодиться, чтобы найти дорогу назад, но об этом старик не думал, потому что важнее было, чтобы девочка была живой, ведь все равно возвращаться к людям, делать такое невероятное усилие, можно было бы лишь, если она жива. А так и не нужно было возвращаться к людям. Старик держал Светлану, обеими непослушными руками, прижимая к груди, и ему показалось, что ее сердце бьется. Он не мог быть в этом уверен, но надежда на то, что девочка жива, придала ему сил, о существовании которых старик и не подозревал. Он, сидя, смог положить девочку себе на колени, стащить с себя пальто и свитер сына. Он закутал девочку в свитер, потом в пальто. Он даже растер ей пальцы, совсем холодные, ледяные пальцы, и девочка всхлипнула, как во сне. Теперь самое главное было встать на ноги и поднять девочку. Старик увидел, что совсем низко протянулся толстый сук. Он обхватил сверток с девочкой правой рукой, а левой вцепился, не чувствуя пальцев, в сук и постарался подтянуться. Ему не удалось этого сделать. Пришлось отпустить сук, встать на колени, обхватить Светлану и медленно выводить ногу вперед, поднимая колено, потом стоять с минуту на одном колене, пытаясь унять сердце, и после нескольких неудачных попыток все-таки встать на ноги и сделать первый шаг.15
Он шел, почти не видя дороги впереди, оборачиваясь спиной, если приходилось пробираться сквозь заросли, и защищая Светлану телом. Он шел вперед и не боялся, что может заблудиться, потому что в этом была бы такая несправедливость, на какую не может решиться даже судьба. Он шел вниз, туда, где вдоль реки тянется проселочная дорога, потому что знал, что скоро упадет и не сможет нести девочку. Хоть руки и онемели, их все время тянуло вниз, и они могли в любую минуту просто упасть, и тогда уже их ничем не заставишь поднять девочку снова. Но руки еще некоторое время служили ему. До самой дороги. Он все-таки вышел на дорогу, не увидев ее, а угадав, что стоит на ней, и пошел по дороге. Ему казалось, что он идет быстро и ровно, и он даже отсчитывал шаги, только все время сбивался, потому что не мог вспомнить некоторых цифр. На самом деле он продвигался редкими, неверными шагами, порой топтался на месте, со стороны могло бы показаться, что он смертельно пьян. Светлана вдруг сказала что-то неразборчиво, и старик ей ответил, успокаивая. Вместо слов у него получилось мычание, хотя старик думал, что говорит убедительно и мягко. Потом он уже ничего не думал и не считал шагов, а боролся с видениями, которые уговаривали его остановиться и лечь, видел разных людей — и сына, и покойную жену, и Ольгу Герасимовну, но их увещеваниям не верил. Он упал у самого края леса и инстинктивно лег так, чтобы обнять Светлану, подтянул колени и спрятал ее от ветра в кольце рук. А ему казалось, что он идет. Так их и нашли. Минут через десять после того, как старик упал. Их нашли люди, которые возвращались из леса по той же дороге, потому что многие уже замерзли, и торопились домой, чтобы немного отогреться, передохнуть и с рассветом снова идти в лес. А когда потом Светлану спрашивали, как и где нашел ее старик, она не могла вспомнить.
Виктор Болдырев · Дар Анюя
РЫЖИЙ ЧУКЧА (Отрывок)
Приключенческая повесть
“Дар Анюя” — отрывки из повести “Геутваль” В.Болдырева. Первый отрывок — “В тисках” — печатался в предыдущем сборнике “Мир приключений”. Действие всей повести происходит на Чукотке в 40-е годы. Обстановка в этом отдаленном районе нашей страны сложилась сложная и своеобразная. Дело в том, что коллективизация на Чукотке происходила намного позже, чем в остальных районах Советского Союза. При ликвидации кулачества приходилось принимать самые разнообразные меры: дипломатию, разъяснительную работу, — крайние меры применялись только к тем, кто выступал против Советской власти с оружием в руках. Молодые специалисты, выполняя ответственное поручение Дальнего строительства, проникают в Центральную Чукотку, где остались последние крупные кулаки и шаманы. Преодолевая их интриги, а также стихийные бедствия, Вадик и Костя скупают для совхозов многочисленные табуны оленей и выводят их на Анадырское плоскогорье на летние пастбища. Им помогает Геутваль — пастушка “короля” Анадырских гор Тальвавтына. В публикуемых отрывках рассказывается о последних днях “острова прошлого” на Чукотке и о необычайной судьбе героев повести.***
Июнь — чудесная пора в горах Чукотки. Снега стаяли, греет проснувшееся солнце, комаров еще нет, тундра, освободившись от снега, расцветает. Люди и олени блаженствуют после долгой зимней стужи. Все наши злоключения остались позади. Мы обрели мир, покой и тишину. Нежимся на пушистом ковре ягельников, на террасе, высоко приподнятой над долиной. Голову слегка кружит терпкий запах цветущего багульника. Повсюду зеленеют побеги горной осоки с пушистыми серыми головками. Вокруг, куда ни глянь, синеют сопки — островерхими голубыми валами. Целая страна Синегория! Море света заливает долину дивной красоты, простершуюся у наших ног. На альпийских высотах все источает свет: небо, горы, озера, ослепительно белеющая наледь на дне долины. Голубоватый ледяной ее щит, покрывая галечное русло во всю ширь долины, теснит горную речку, и она ветвится под щитом. Сквозь лед это, конечно, не видно, но вековое потепление климата, сократив некогда величественную наледь, освободило побелевшее ложе, израненное ручьями. На зеленом склоне сопки, ниже террасы, где мы расположились, мирно пасутся тысячи важенок с пушистыми оленятами, похожими на Бемби. Склон так густо усыпан оленями, что издали кажется живым — шевелится. Отел прошел благополучно, и мы удвоили свой громадный табун… — Как хороша наша страна весной… — задумчиво говорит Геутваль. Девушка устроилась на пестрой кочке, обняв колени руками. У ее ног дымит костер, и греются на угольях походные кружки с крепким чаем. Костя, раскинув могучие ручищи, лежит на спине, разглядывая эмалевую синь неба. Рядом покоятся глянцевитый пастушеский посох и маленький винчестер Геутваль. Набираю, не вставая, полную пригоршню сморщенной прошлогодней шикши, протягиваю девушке. Она машинально берет по одной ягодке. Губы наши черны от водянистого сока. Смуглое обветренное личико Геутваль затуманено грустью. “Милая девочка… Что смущает ее? Вспоминает ли недавние дни холода и всевозможных лишений? Или жаль прощаться с Пустолежащей землей, оставшейся за близким перевалом?” Мы с Костей боготворим ее. Бродим повсюду втроем, точно связанные незримой нитью. Вместе дежурим сутками у стада, вместе отдыхаем, вместе ловим хариусов и форель в прозрачной горной речке у нашего стойбища. Геутваль смягчает необузданный нрав моего друга. В своих чувствах не могу разобраться. После всех наших злоключений юная охотница еще милее мне и будит в душе безграничную нежность. И вместе с тем понимаю, что не должен переступать грань дружбы. Ведь Мария, может быть, уже возвращается на Чукотку из далекой Польши… Вдруг Геутваль встрепенулась. Глаза ее округлились, лицо окаменело. — Человек, человек! Смотрите… Она указывала на крутой перевал по ту сторону долины. За каменистой его седловиной синели островерхие гребни Пустолежащей земли. По сланцевой россыпи, почти сливаясь с серым фоном камней, двигалась крошечная фигурка. Ее мог заметить только наметанный глаз охотника. Геутваль вообще отличалась необыкновенной остротой чувств. Она первой замечала что-то необычайное в тундре, слышала звуки, которые мы с Костей еще не улавливали, чувствовала едва ощутимые запахи. — Издалека идет — с пастушьей палкой… — говорила Геутваль, прикрыв глаза козырьком ладони. — Ну и дьяволенок! — удивился Костя. — Разрази гром, не вижу посоха. Котомка за плечами, точно, есть… Действительно, фигурка человека, спускающегося с перевала, казалась горбатой. — Ружье еще несет… — разглядывая путника, прошептала Геутваль. С тревожным любопытством следим за пришельцем. Появление непрошеного гостя из Пустолежащей земли не предвещает ничего хорошего. — Кого еще черт несет?! — пробормотал Костя, поднял винчестер и выстрелил в воздух. Эхо раскатилось в сопках. Путник точно споткнулся о невидимую преграду. Оглядел долину и стал быстро спускаться к наледи. — Табун увидел, — констатировала девушка. — Пошли встречать! — рявкнул Костя, повесив маленький винчестер на шею, как автомат. По крутому склону мы быстро спустились на дно долины и пошли по наледи навстречу незнакомцу, оставляя следы на голубоватом подтаявшем снегу. Пришелец остановился у края наледи, поджидая нас.Откинув замшевый капюшон, он стирал пот с разгоряченного лица. Меня поразила необыкновенная внешность незнакомца. Рослый, в замшевой весенней одежде, с ножом на поясе, винчестером и котомкой за плечами, с пастушьим посохом в руках. Широкоскулое, типичное монголоидное лицо обрамляла огненно-рыжая, давно не стриженная шевелюра! Пришелец настороженно следил светло-голубыми глазами за нашей троицей. На чистом чукотском языке он приветствовал нас. — И-и, — недоумевающе ответил Костя. — Вот так диво, — пробормотал приятель, — рыжий чукча! С любопытством разглядываем странного гостя. Рыжие волосы и голубые глаза придают ему сходство с европейцем. Но скуластое лицо, ладно сшитая чукотская одежда, чистая чукотская речь свидетельствуют, что перед нами настоящий чукча. Спрашиваем по-чукотски. Незнакомец отвечает односложно и скупо. — Откуда пришел? — Из стойбища Тальвавтына… — Где Тальвавтын стоит? — У Большой сопки с каменной вершиной, весной вы там жили. — Как олени? — Плоховато отел прошел, много оленят погибло… “Интересно… Могучий снегопах Федорыча спас наш табун от бедствия. Отел у нас прошел на удивление хорошо”. Я сказал об этом рыжему парню. Он угрюмо кивнул, глаза его стали ледяными. — Тальвавтын зовет тебя. — Гость протянул дощечку, исписанную знакомыми иероглифами. Я взял послание и передал Геутваль. Девушка громко прочла: — “Совсем плохо мне. Грудь болит, дышать трудно. Шаманы лечить не могут. Приходи в главное стойбище, вылечи…” — Плохие дела… — обернулся я к Косте. Но тот сосредоточенно молчал. Нахмурилась и Геутваль. Оставив девушку дежурить у табуна, мы с Костей и незнакомцем двинулись к белеющим вдали ярангам нашего стойбища. По дороге я расспрашивал о болезни Тальвавтына. Пришелец отвечал довольно вразумительно. — Воспаление легких у старика, — уверенно поставил диагноз Костя, — сульфазолом лечить надо… Появление гостя из Пустолежащей земли взволновало наших друзей. Все собрались в яранге Гырюлькая. Я попросил его послать Ранавнаут сменить Геутваль у табуна. Мне не хотелось лишать девушку радости встречи с соплеменником. Меня удивило, что Гырюлькай тоже не знал гостя. Старик помнил всех жителей Пустолежащей земли в лицо, но о Рыжем Чукче даже не слыхивал. За чаем Костя спросил пришельца, где он кочует и давно ли знаком с Тальвавтыном. Рыжий Чукча ответил, что кочует далеко в Корякской земле, у моря. Тальвавтына знал его отец и, умирая, велел ему посетить стойбища Пустолежащей земли. Тут явилась Геутваль, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы. Она устроилась на своем любимом месте, на пестрой оленьей шкуре, рядом со мной. Эйгели наполнила ее расписную чашечку крепким чаем. Поставив чашку на смуглую ладонь, девушка молчаливо пила чай, испытующе поглядывая на гостя. Мне показалось, что глаза пришельца вспыхнули недобрым огнем. Геутваль заметила это и нахмурилась. Спрашиваю: сколько дней он шел к нам от главного стойбища Тальвавтына? — Три дня, хорошая дорога, сухая, быстро пойдем с тобой обратно… После чая утомленный гость крепко заснул в летнем пологе, а мы, покинув ярангу, еще долго сидели на грузовых нартах, обсуждая неожиданное приглашение. — Нельзя тебе идти, Вадим, — горячилась Геутваль, — больная лисица еще хитрее. Лекарство надо с Рыжим послать. — Провались я на этом месте, — тихо выругался Костя, — Рыжий — пройдоха и плут, больно хитрющая у него рожа. Тальвавтын подослал бестию неспроста. Но если старик действительно болен, посылка лекарства не поможет — лечить его надо все-таки от воспаления легких. А в таком возрасте это не шутка. Я ветеринарный врач, и я пойду к нему. Да и моя очередь идти в разведку, — закончил свою тираду Костя. Гырюлькай заметил, что время для похода сейчас подходящее — “две недели комаров еще не будет, а важенок с телятами без хайдана[291] легко держать”. У меня письмо Тальвавтына не возбуждало подозрений. Это был зов о помощи, и не откликнуться мы просто не могли. Но я понимал, что Косте идти к Тальвавтыну нельзя. Они ненавидят друг друга. И от лечения проку будет мало. Я сказал об этом приятелю. Гырюлькай одобрительно кивнул. Но Костя возмутился: — Заманивает, старый хрыч, а ты опять лезешь, как заяц в петлю! Не унималась и Геутваль: — Рыжий очень плохой человек, как пойдешь с ним?! Возьми меня с собой. — А тебе и подавно нельзя показываться в стойбище Тальвавтына. Пойду вместе с Ильей. А ты с Костей беречь табун останешься. — Правильно, Вадим, вдвоем ходить надо, так будет хорошо, — выколачивая трубку, проговорил Илья. Пока гость отсыпался, мы с Костей и Геутваль, захватив сетку, пошли на речку ловить рыбу. Подходящее место было километрах в двух от стойбища, у подножия крутой сопки. Река ветвилась тут на протоки, образуя тихие заводи. В прозрачной воде, на фоне голубоватой гальки, сходились густыми стаями черноспинные рыбины. За полчаса мы наловили с полсотни отличных хариусов. Геутваль разожгла костер, быстро очистила несколько рыб, завернула каждую в листы из старого журнала и положила на раскаленные угли. Сидим вокруг догорающего костра, любуемся игрой пламени. Галька теплая — нагрета солнцем. Долина, распахнувшись голубыми воротами, наполнена светом, дышит миром и спокойствием. “Куда опять влечет меня погоня за необычайным? Влечет из этой тихой, прекрасной долины, от верных друзей и мирного очага?” — Как будто в бурях есть покой… — вздохнул Костя, словно разгадав мои мысли. — Не сердись, старина, мне хочется сдвинуть горы! — Да уж понимаю… а мне, по-твоему, не хочется?! — Ну нельзя же тебе идти к Тальвавтыну! Понимаешь? Потасовка у вас будет вместо лечения… Геутваль хлопотала у костра, молчаливая и печальная. Она решительно откинула волосы и сказала: — Пусть Илья винтовку возьмет, весной без ружья не ходят, на сендуке[292] медведей голодных много. Оружия я брать не собирался. Но доводы Геутваль были вразумительны. Появление в Главном стойбище Ильи с винтовкой п такое время не вызовет нареканий. Да и огорчать Геутваль не хотелось. Я кивнул: — Ладно, пусть так… — И патронов побольше прихватите, — вставил Костя, — может быть, удирать от чертей придется. Чай в кружках закипел. Бумага обуглилась — рыба на угольях испеклась. Сидим у костра, уплетаем необыкновенно вкусных свежеиспеченных хариусов. Как хорошо нам втроем среди диких сопок, в солнечной долине, вдали от цивилизованного мира! Геутваль по-своему выразила охватившие нас чувства. Она взяла наши руки, соединила в своей ладони, запачканной копотью костра, посыпала три скрещенные руки горячей золой и сказала, что этот обычай ее сородичи переняли от последних юкагирских племен, обитавших в верховьях Анюя. Вероятно, и наши далекие дикие предки соединяли огнем верную, нерушимую дружбу. Я привлек Геутваль и погладил ее рассыпавшиеся черные волосы. Особенно был тронут Костя. Осторожно он взял своими ручищами испачканную ручку Геутваль и нерешительно поцеловал. Это было удивительно: приятель никогда не отличался сентиментальностью. Он смутился и покраснел. — Дьяволенок… — пробормотал он. Дьяволенок между тем лукаво поглядывал на двух смятенных закаленных бродяг своими черными, удлиненными глазищами. Долго мы сидели у костра, обсуждая детали предстоящего похода. Договорились о контрольном сроке — две недели. Если после этого мы с Ильей не вернемся, Костя отправится на выручку. Геутваль немного успокоилась. — Вадим, — сказала она, — если ты не придешь, я тоже с Костей пойду тебя искать… На этом наш разговор у костра окончился. Мы еще раз закинули сеть и с полным уловом пошли к лагерю. Рыжий Чукча спал. Геутваль сдала хариусов неутомимой Эйгели, опустила в яранге большой летний полог. Утомленные дежурством и треволнениями беспокойного дня, мы уснули мертвым сном… Рано утром, когда солнце вышло из-за гор, Гырюлькай разбудил всех, и мы сели за прощальный завтрак. Походные котомки наши были собраны. Костя уложил в мой мешок небольшую медицинскую аптечку, где главным лекарством был сульфазол и горчичники. Илья вычистил и приготовил свою длинноствольную берданку. Собрались вокруг чайного столика, уничтожаем сваренных хариусов. На столике стоят блюда, полные оленины, сырого костного мозга, и наши деликатесы: банки с консервированными фруктами и сгущенным молоком, груды печенья и конфет. Проводы получились торжественными и… грустными. Геутваль сидит печальная, не поднимая глаз. Костя, о чем-то задумавшись, молча потягивает из своей большой кружки чай. Гырюлькай и Илья тоже неразговорчивы. Меня охватила тоска. Как будто все мы предчувствовали надвигающуюся грозу. Только Рыжий Чукча был необычайно оживлен. Лицо его раскраснелось, глаза блестели. Ранавнаут разливала чай. Ее тонкие руки едва удерживали здоровенный медный чайник. Но она старалась лить в чашки до краев. Так полагалось отправляющимся в дальний путь. Рыжий Чукча протянул свою чашку, он сидел поодаль от молодой женщины. Ранавнаут поспешно подняла чайник и, стараясь налить полную чашку, случайно плеснула кипятком на руку гостя. — Damn it all! — воскликнул он, отдернув руку. Ранавнаут испуганно вскрикнула. Чай расплескался из чашки. Гость как ни в чем не бывало вытер ладонью обожженное место и, усмехнувшись, сказал по-чукотски: — Нельзя так стараться… Мы с Костей удивленно переглянулись. Рыжий Чукча выругался на чистейшем английском языке. Я знал английский. Damn it all означало: черт побери! Прощаясь и тиская меня в могучих объятиях, Костя прошептал: — Берегись, смотри в оба за рыжей бестией. — Не тревожься, старина, ведь он с Корякского побережья, а там еще помнят язык американских китобоев. Но смутная тревога невольно закралась в мою душу…ЭКЕЛЬХУТ
Трое суток пробираемся по каменистым тропам снежных баранов, напрямик пересекая пустынную горную страну. Сверху узнаем долины, где прокладывали с Федорычем путь стаду, взрыхляя стальными ножами снегопаха мертвый, обледенелый панцирь. Теперь эти долины, освобожденные от снегов, согретые солнцем, цветут яркой зеленью и больше не пугают своей безжизненной пустотой. Иногда спускаемся вниз и находим кострища прежних наших стоянок. Идем, почти не останавливаясь, не смыкая глаз… На третьи сутки увидели вдали знакомую вершину, увенчанную каменным чемоданом. Снова вступили в пределы Пустолежащей земли. Рыжий Чукча повеселел, глаза его заблестели. — Стойбище Тальвавтына близко, — сказал он тихо и вкрадчиво, — конец твоего пути! В его голосе слышалось скрытое торжество. — Нашего пути… — холодно поправил я. Полуночное солнце повисло над гребнями сопок и ниже уже не спускалось. В косых его лучах величественный конус с каменным останцем на вершине горел дивным малиновым светом, словно освещенный изнутри. В долинах улеглись темные тени, а небо сияло нежными красками: розовыми, фиолетовыми, зелеными, голубыми, незаметно переходящими друг в друга. Невольно я залюбовался игрой света. — Чай последний раз пить надо… — сказал Илья, вытаскивая из котомки маленький чумазый чайник. Рыжий Чукча взял посудину, сбежал к близкому перевалу и зачерпнул воды из темно-синего озерца. Мы с Ильей смастерили из камней очаг, собрали ворох черного высокогорного лишайника. Бриопоген, сухой как порох, ждал только спички. Странное это было чаепитие. Молчаливо сидим у догорающего костра, вокруг притихла уснувшая горная страна, раскрашенная бликами потухающей зари. Над гребнями сопок низко висит бледный серпик луны. Спрашиваю нашего рыжеволосого спутника, долго ли он прогостит у Тальвавтына. — Коо[293], — неопределенно ответил он, — невесту буду искать. — Ты хочешь остаться у Тальвавтына навсегда? — Коо… Разговор не клеился. Летнее стойбище Тальвавтына, вероятно, километрах в десяти, не больше. Илья спрятал чайник в котомку, затоптал тлеющую золу, и мы снова пустились в путь по каменистым гребням. Казалось, что вершина с причудливым останцем медленно идет навстречу, облитая кровью. Я вспомнил рассказ Гырюлькая: там погибли последние корякские воины, сраженные копьями Кивающего Головой и его сотоварищей. В голову лезут мрачные мысли… Выходим на последний перевал. Внизу широкая корытообразная долина. На плоском ее дне ветвится тонюсенькими рукавами горная речка. А на широкой террасе… Черт побери, целый город! С полсотни яранг, смутно белеющих в сумраке долины. Почему так много? Ведь летом оленеводы кочуют с семьями, двигаясь вслед за стадами. Стойбище спит. Ни одного дымка не вьется над ярангами. Долину запирает молчаливая сопка с “каменным чемоданом”. Вершина ее померкла, стала фиолетовой. Разглядываем с перевала главное стойбище. На восточном краю его различаю большую ярангу Тальвавтына. Вертится назойливый вопрос: зачем собрались они все здесь? Что ждет нас внизу? Пожалуй, зря сунулся в это пекло. — Большое стойбище! — удивляется Илья. — Почему не кочуют? Спускаемся в сумрачную долину, точно в бездну. Повсюду следы оленей — вытоптанные ягельники, объеденная листва, поломанные веточки карликовых ивняков и березок, россыпь высохшего помета. — Совсем все съели, — бормочет Илья, внимательно разглядывая почерневшую, словно после пожара, тундру. На дне долины — неповторимая свежесть ночного, холодного воздуха. Переходим вброд быстрые и прозрачные рукава речки. Стойбище спит, даже собаки не лают. Минуем одинокую ярангу на отлете. Подходим к большому шатру Тальвавтына. Откуда-то слышатся редкие удары бубна: тамтам, там-там… В ночных сумерках бубен звучит торжественно и глухо. — Шаманят, — тихо сказал Рыжий Чукча. Откинув рэтэм[294], вошли в ярангу. Пламя костра, горящего посреди яранги, освещает медными бликами скрюченную фигуру. Узнаю старуху Тальвавтына. Она сидит на корточках и, мерно покачиваясь, словно в забытьи, бьет в бубен, не замечая гостей. Тень ее, похожая на горбатую птицу, мечется по натянутому рэтэму. У ног старухи, на оленьей шкуре, неподвижно лежит человек. Лицо его накрыто темным платком. Он простерся недвижный и молчаливый. — Умер?! — невольно вырвалось у меня. — Не Тальвавтын это, — прошептал Рыжий, — шаман Экельхут… Старуха, не обращая ни на что внимания, била и била в бубен. — Духов зовет, — пробормотал Илья, — сейчас шаман лечить Тальвавтына станет. Всю ночь, видно, шаманил. И тут я заметил в глубине шатра, под балдахином откинутого летнего полога, ворох мехов и бледное лицо Тальвавтына. Укрытый меховым одеялом, старик дремал. Вдруг шаман мигом сдернул платок с лица, вскочил, выхватил у старухи бубен и стал громко бить в него и петь заунывно и протяжно. Иногда пение переходило в зловещий вой. Лицо Экельхута, морщинистое и свирепое, подергивалось нервной дрожью, на лбу блестел обильный пот. Нестриженые космы жесткими прядями падали на плечи. Глаза лихорадочно блестели. Хмурились густые черные брови. Жесткие линии губ подчеркивали свирепость лица прокаленного морозами, темного от загара. Невнятно он бормотал какие-то заклинания, а потом громким, пронзительным голосом заговорил быстро и сбивчиво — на разный манер. Старуха, согнувшись в три погибели, внимательно слушала и кивала головой. Я не успевал уловить смысл невнятной речи шамана. — Говорит, — перевел Рыжий Чукча, — духи велят медведя убить, сало топить, грудь, бока Тальвавтыну сильно мазать, крепкий чай с медвежьим жиром пить, в зимнюю одежду тепло одеваться… — Крепкий шаман! — одобрительно кивнул Илья. Советы шамана действительно были дельными. Видимо, он добросовестно хранил житейскую мудрость поколений. О чудодейственной силе медвежьего жира я слышал еще на Омо-лоне. Но в нашей аптечке мы принесли куда более действенное лекарство — сульфазол. Сульфазолом Костя успешно лечил воспаление легких у оленей. Экельхут бросил бубен и устало опустился на шкуру. Старуха точно пробудилась ото сна. Заметив Рыжего, она угодливо согнулась, всем своим видом выражая почтение, меня наградила злобным взглядом, подкинула дров в костер и подвинула к огню прокопченную клюшку с чайником. Я подошел к Тальвавтыну, опустился на шкуру и положил ладонь на горячий его лоб. Он тихо застонал, открыл покрасневшие веки. Глаза его вспыхнули. Он порывисто приподнялся на локтях… — Пришел ты, Вадим! Совсем помираю, везде болит, духи отвернулись от меня. Вытянув из рюкзака аптечку, я достал градусник и сунул старику под мышку. — Крепко прижимай, нельзя ронять. Экельхут молчаливо следил за каждым моим движением. В его недоверчивом взгляде светилось острое любопытство. Я попросил старуху опустить полог Тальвавтына. Экельхут протянул мне бубен, решив, видимо, что я собираюсь шаманить в пологе. — Не нужны мне твои духи — сам лечить буду, — остановил я его. Сам не знаю, почему так грубо ответил ему. Угрюмое лицо Экельхута искривилось, задергалось. Густые брови сошлись крыльями. Он вскочил и вышел со своим бубном из яранги, бормоча проклятия. — Очень злой стал… — заметил Илья. Старуха неодобрительно заворчала. Тальвавтын прикрикнул на нее и закашлялся. Мегера поставила перед нами чайный столик. Открыла знакомый ящик, обитый сыромятью, и стала вытаскивать из-под вороха денежных пачек, доверху наполнявших сундук, чашки и блюдца. Богатство, полученное за оленей, Тальвавтын хранил без запоров, полагаясь на честность сородичей. — Ух, много денег, однако! — прищелкнул языком Илья. Старуха поставила на столик блюдо с жирной олениной, миски с бульоном. Я вытащил термометр у Тальвавтына. — Тридцать восемь и пять! Вовремя пришли… Мне хотелось поскорее осмотреть больного. Специалистам оленеводческих совхозов приходится быть мастерами на все руки. Однажды в далеком стаде мне пришлось принимать роды, а Косте делать даже неотложную хирургическую операцию. В те времена в оленеводческих совхозах не было еще вертолетов, походных радиостанций в стадах, и раздумывать долго не приходилось. Наконец старуха, бурча себе что-то под нос, опустила замшевый полог. В пологе я не опасался простудить старика и велел ему снять кухлянку. Старуха принесла и зажгла светильник. Жилистое, худое тело Тальвавтына было горячим. Слушал я его, точно больного оленя, — приникая ухом прямо к телу. Вскоре я уловил в нижней части левого легкого ясно различимые хрипы. Да и жаловался старик на колющую боль в этом месте. Диагноз был ясен. — Левостороннее воспаление легких! Меня поразил пульс старика. Даже при такой температуре, он размеренно бил, как молот, не чаще шестидесяти ударов в минуту. — Ого! Как у боксера! — Что говоришь? — переспросил Тальвавтын. — Говорю, сердце у тебя, как у ермекына[295]. Одевайся, старина, скоро будешь бегать, как молодой бык. Теперь я не опасался за больного. С таким сердцем можно применить большие дозы сульфазола. Лицо Тальвавтына порозовело, глаза заблестели. — Большой ты шаман, Вадим! — Доктор, старина, а не шаман… Я позвал старуху и велел принести плошку с теплой водой. Увидев порозовевшее лицо Тальвавтына, она беспрекословно повиновалась. Из аптечки я вынул пачку горчичников и скоро смоченными листками залепил весь бок старика, накрыл полотенцем, а сверху теплой кухлянкой. — Ну, лежи, больно будет — терпи. Я вылез из полога, сполоснул руки и принялся уплетать оленину. С дороги мне очень хотелось есть. — Что с ним? — вдруг спросил по-русски Рыжий Чукча. — Умрет? — Левостороннее воспаление легких, — ответил я. — Сердце необыкновенно крепкое, через неделю встанет на ноги. И тут я спохватился: — Ты говоришь по-русски, как профессор?! — В школе учился, в Воегах, — спокойно ответил он. Просто удивительно, какой волчий аппетит нападает, когда надышишься вольным воздухом в горах! Мы съели все мясо, выпили бульон, опорожнили чайник. Сидим разговариваем — вспоминаем о перипетиях молниеносного марша по каменистым россыпям Пустолежащей земли. Я вспомнил о горчичниках. Почему Тальвавтын молчит и не зовет?! Откинул полог, вижу — лежит, точно окаменел, на лбу капли пота, губы плотно сжаты, желваки играют. Старуха сгорбилась в изголовье — тревожно всматривается в искаженное лицо больного. — Тальвавтын! Почему не зовешь, ведь больно?! — Ты сказал — терпеть надо. Духи острыми когтями бок скребут, горячими угольями посыпают… Поспешно я снял горчичники, осторожно вытер багровую кожу смоченным в теплой воде полотенцем и поставил новые горчичники на грудь. — Ох, хорошо, — облегченно вздохнул Тальвавтын, — крепкая твоя бумага! Хорошенько прогрев горчичниками тощую грудь старика, я скинул ковбойку, стянул с себя майку и велел Тальвавтыну надеть ее на голое тело. Старуха принесла пыжиковую рубашку и помогла ему облачиться. Прикрыв меховым одеялом больного, я успокоился. Теперь он не мог простудиться. Потом я дал Тальвавтыну чудовищную дозу сульфазола и напоил горячим чаем с оленьим жиром. Старик быстро уснул, крепко и спокойно. Мы долго еще сидели вокруг чайного столика, распивая чай. И снова я заметил странное поведение старухи. Она с необычайной подобострастностью прислуживала Рыжему Чукче, словно именитому гостю. Рыжий принимал это как должное, напустив на себя важный вид. “Что же ты за птица?” — думал я, внимательно вглядываясь в маловыразительное лицо нашего спутника в огненном ореоле рыжих волос. Почтительность старухи заметил и Илья. Рыжий Чукча перевернул чашку на блюдце, заканчивая чаепитие, неторопливо поднялся. — Пойду я… спать к Экельхуту. Он взял свою котомку, посох, винчестер и вышел из яранги. Старуха пошла за ним, провожая гостя. Мы с Ильей остались одни. — Большой начальник, однако… — задумчиво проговорил Илья, закуривая трубку. Старуха вернулась с полной охапкой хвороста. Она, по обыкновению, бурчала что-то себе под нос. Илья спросил ее по-чукотски: кто такой Рыжий Чукча? Но старуха не удостоила pro ответом. Молчаливо мы сидели вокруг костра, думая каждый о своем. У огня было уютно и тепло. — Вредный очень старуха… — Илья сердито прочистил трубку гусиным пером. Вдруг полог у входа зашевелился, сильная рука откинула его, и в ярангу, согнувшись, протиснулся высокий человек в летней замшевой одежде. Красноватые блики огня осветили мрачное лицо. Черт побери, да это же наш знакомец Вельвель, один из телохранителей Тальвавтына! Не поздоровавшись, без тени замешательства Вельвель сказал Илье: — Пойдем, покажу, где спать будешь… Мне не хотелось расставаться с Ильей. Но Вельвель, словно предупреждая возражения, хмуро проговорил: — Экельхут велел, у старухи Вааль будет спать… Илья не спеша собирался. Выбивал трубочку, плевался, завязывал свою котомку, поправлял ремень на длинноствольной винтовке. Видимо, ему тоже не хотелось расставаться со мной. — Ну, да все равно, старина, завтра приходи сюда. — Хорошо, можно, пожалуй… Илья поднялся, вскинул котомку и винтовку за спину и вышел вслед за своим провожатым. Мы остались наедине со старухой. Сухой корень в костре вспыхнул. Мне почудилось, что старуха смотрит на меня с неистовой злобой и торжеством, а глаза ее светятся, как у сказочной колдуньи…БАБУШКА ВААЛЬ
Проснулся я поздно. Выглянул из полога — яранга пуста, старуха куда-то пропала. Множество солнечных лучиков пронзает таинственный полумрак яранги. В тонких, как спицы, полосках, горят пылинки. Кажется, светящиеся стрелы пучками пронзают рэтэм. Это свет солнца проникает сквозь бесчисленные дырочки, оставшиеся в замше от личинок овода. Яранга кажется волшебным чертогом из метерлинковской “Синей птицы”. Тишина… Лежу на пушистых шкурах, словно внутри магического кристалла. Приподнял соседний полог: Тальвавтын спокойно спит — видно, легче ему стало… В очаге тлеют угли, не давая остыть закопченному чайнику. Выбираюсь из яранги. Ярко светит солнце, ни единого облачка. Синие сопки теснят долину. Вдали голубым шатром вздымается вершина с каменным “чемоданом”. Вокруг молчаливо толпятся яранги с опущенными рэтэмами — стойбище еще спит. Лишь у одинокой яранги, на отлете, около раскрытого входа сидит человек. Мне показалось, что на коленях он держит винчестер. В пяти шагах от шатра Тальвавтына стремительно течет речка — серебрится на солнце, играет струями. Захватив полотенце, сбрасываю ковбойку, умываюсь до пояса. В светлой глуби мелькает пятнистыми боками форель. Омовение холодной водой и мирная картина спящего стойбища вернули оптимистическое настроение. В яранге все по-прежнему — старухи нет, Тальвавтын мирно спит. Подвязываю ремешками полог к шестам — пусть старик дышит свежим воздухом. Расположился на шкурах как дома — вытащил заветную тетрадь, записываю впечатления минувшего дня. Может быть, эти записи когда-нибудь пригодятся? Снаружи послышались нетвердые шаги, кряхтение, хруст сбрасываемого хвороста. Согнувшись, в ярангу вошла незнакомая старушка. Истертый керкер[296] мягкими складками облегал ее сухонькую фигурку. Замшевый капор, откинутый на спину, освобождал черные, без признака седины волосы, завязанные ремешком в тощий пучок. Морщинистое лицо гостьи светилось душевной теплотой и старческой мудростью. Не решаясь зайти в ярангу, она присела на корточки у самого входа и, добродушно щурясь, с любопытством разглядывала меня слезящимися глазами. Поздоровавшись по-чукотски, я спросил старушку: — Кто ты? Озираясь, она тихо ответила: — Бабушка Вааль… — Илья у тебя спал? Она кивнула: — Кайво[297]. Хороший старик, много о тебе рассказывал, очень устал — спит долго. Словно тень затуманила ее доброе лицо. Тревожно взглянув на спящего Тальвавтына, она прошептала: — Вельвель еще у нас спал — так велел Экельхут. Теперь сидит у яранги с ружьем… Бабушка Вааль испуганно умолкла. Кто-то шел к яранге и что-то бормотал. Я узнал голос старухи Тальвавтына. Она вошла в ярангу, подозрительно покосилась на гостью и резко сказала ей несколько непонятных слов. Вааль сжалась в комочек, поспешно выбралась из яранги и принялась ломать хворост. Вскоре она вернулась с охапкой наломанных сучьев и стала разжигать потухающий костер. Старуха с ворчанием подвинула к огню клюшку с чайником. Я продолжал как ни в чем не бывало писать дневник: “Кой черт принес Вельвеля ночевать к бабушке Вааль? Зачем он торчит с винчестером у яранги, где спит Илья?” Это была последняя запись в моем дневнике… Старуха поставила на чайный столик блюдо с ломтями вяленого мяса. Налила чай в новенькие фарфоровые чашки. Сунула одну бабушке Вааль, скромно примостившейся у порога. Вдруг в ярангу вошел Экельхут — хмурый и насупленный. Молча он сел у столика. Старуха подала ему чай. Мне захотелось восстановить дипломатические отношения с шаманом, загладить вчерашнюю грубость. — Экельхут, — примирительно сказал я, — пусть ваши охотники убьют медведя. Ты правильно вчера говорил: медвежьим жиром бока Тальвавтыну надо мазать, чай с жиром пить. Хороший твой совет. В глазах шамана мелькнули искорки. — Духи мне это вчера шептали. Завтра убьем медведя. Только сухой он весной — долго топить жир надо. Поддерживая завязавшийся разговор, спрашиваю: почему в летнем стойбище так много яранг? Экельхут внимательно и остро взглянул из-под насупленных бровей. — Женщины, дети тут живут, еще старшины. Мужчины пошли за оленями с легкими пологами. Странно… Чукчи-оленеводы исстари избегали пасти оленей без семей. Только особые обстоятельства могли изменить установившуюся веками привычку. Я подумал, что причиной этого была болезнь Тальвавтына. Но Экельхут заметил, что наступают важные события и люди Пустолежащей земли собрались вместе для необходимых решений. Заявление шамана удивило меня. — Скажи, Экельхут, какие важные события заставили собраться ваших людей в такое неподходящее время? Экельхут нахмурился. — Ты чужеземец и не должен знать об этих событиях… пока они не наступят, — загадочно усмехнулся он. Искренний ответ Экельхута поставил меня в тупик. Молчаливо пьем чай, закусывая вяленым мясом. “Какие важные события имел в виду Экельхут? Что опять грозит Пустолежащей земле?” Шаман тянул и тянул с блюдца горячий чай, словно не замечая моего недоумения. Но я отлично видел, что хитрец притворяется. Я не стал больше задавать вопросов, не касаясь, по тундровому обычаю, главной, интересующей меня темы. Тут проснулся Тальвавтын и попросил пить. Старуха поспешно налила ему крепкого чаю. — Хорошо, Вадим, лечил меня, — сказал Тальвавтын, — совсем бок не болит. — Лежать тебе еще надо. Медвежатину есть, жиром грудь мазать. Я протянул Тальвавтыну градусник, и старик покорно сунул его под мышку. — Завтра медведя убьем, — сказал Экельхут. И, обратившись ко мне, спросил: — Скажи, долго ли будет болеть Тальвавтын? — Дней пять еще… Разговор продолжался. Я спросил его, где Рыжий Чукча. Шаман сдвинул густые брови и спокойно ответил, что Рыжий Чукча ушел в стадо и вернется через двое суток. Не отставая от Экельхута, я спросил, кто Рыжий Чукча и откуда он явился в Пустолежащую землю. Нахмурившись, шаман неохотно ответил, что гость пришел из Воег и что он сын богатого корякского оленевода. Словно избегая дальнейших расспросов, Экельхут быстро допил чай, перевернул чашку и поднялся, бросив на ходу: — Пошел я, старшины ждут в моей яранге… Тальвавтын сосредоточенно пил чай, осторожно прижимая свободной рукой градусник. — Плохой человек Рыжий, — вдруг зло проговорил он по-русски, — совсем чужой… Слова больного изумили меня. Но я, не сморгнув, взял у него градусник. Температура резко упала. — 37,2! Отлично, на поправку пошел, старина! Я дал ему порцию сульфазола, положил перед ним ломти вяленого мяса. Это был местный деликатес — мясо горного барана, отличавшееся особой питательностью. Как хотелось возобновить откровенный разговор о Рыжем Чукче! Но Тальвавтын, словно спохватившись, замолчал. Он с аппетитом съел вяленое мясо и попросил старуху сварить оленины. Бледное лицо его оживилось, покрылось едва заметным румянцем. Старуха, не скрывая радости, принялась готовить мясо. Тальвавтын давно не просил есть. — Хорошо, что пришел, Вадим, ко мне, — продолжал он, — совсем собирался кочевать к “верхним людям”, сильное твое лекарство. — Рад, что помог тебе… После болезни Тальвавтын стал как-то мягче, общительнее, в его словах звучала искренность. Не сладко, видно, пришлось ему за это время. — Помнишь, — говорил старик, — когда ты приехал ко мне первый раз, бега делали? Старшины решили вас убить в моей яранге: пусть, говорили они, забудут русские дорогу в Пустолежащую землю. Не кивнул я тогда, не подал знак, пошел против старшин. Совсем, Вадим, ты другой человек: с миром в гости ко мне пришел, торговать оленей, как купец. Старик закрыл глаза: ему еще трудно было говорить после изнурительной болезни. — Очень нужны, старина, олени, потому к тебе пришел, а теперь мы квиты: трудно тебе стало — лекарство хорошее принес, к “верхним людям” не пустил, — улыбнулся я. — На хороших делах люди живут на земле, — тихо проговорил Тальвавтын. Я чуть не поперхнулся, проглотив полчашки горячего чая, — не ожидал, что король Анадырских гор станет философствовать. Старик замолчал, затих и задремал. Стараясь не шуметь, старуха убрала с чайного столика посуду. Тальвавтын оказался куда более сложной натурой, чем я его себе представлял. Почему он так недоброжелательно отзывается о Рыжем Чукче? И что значит “чужой человек”? Осторожно ступая, остерегаясь разбудить старика, выбрался из яранги. Стойбище проснулось-рэтэмы у многих яранг откинуты. Там и тут копошились согнутые женские фигуры. Соседняя белая яранга дымила, как паровоз, — видимо, там пили чай собравшиеся у Экельхута старшины. Я направился к одинокой яранге бабушки Вааль — выручать Илью. Около входа сидел Вельвель с блестящим винчестером на коленях. Лицо его, холодное и неприступное, точно окаменело. — Не ходи в ярангу — Илья спит, — угрюмо проговорил он. В его словах послышалась скрытая угроза. Меня поразил наглый тон Вельвеля — я остановился. — А если войду и разбужу Илью? — думая, что он шутит, спросил я. — Стрелять, наверное, буду, так велел Экельхут, — хрипло ответил Вельвель, едва заметно поворачивая ко мне дуло винчестера. Свирепая его рожа не предвещала ничего хорошего. Ответ Вельвеля мгновенно спустил с облаков. Ясно, что мы с Ильей очутились в ловушке. Я повернулся спиной к Вельвелю и спокойно зашагал обратно к яранге Тальвавтына. Не заходя к старику, прошел на берег речки и улегся на гальке. Мне хотелось обдумать создавшееся положение. Ярангу бабушки Вааль и Вельвеля с винчестером отсюда не было видно — их заслонял большой шатер Тальвавтына. Долго я лежал на берегу потока, ломая голову, как выбраться из ловушки, в которую мы попались так неосмотрительно. Размышления мои прервала довольно странная картина: по берегу двигалась ко мне женская фигура в обвисшем керкере. Плечо и рука ее были обнажены. Женщина то и дело взмахивала длинным удилищем, закидывая удочку. Усилия ее не пропадали даром. Она часто выхватывала из воды черноспинных рыбин. Удильщица медленно шла по берегу вниз по течению речки, приближаясь к месту, где я сидел. Пойманных хариусов она умерщвляла ударом голыша по голове и прятала свою добычу в сумку, перекинутую через плечо. С интересом я наблюдал за ловкой удильщицей и вдруг узнал бабушку Вааль. Не спеша она подвигалась ко мне, словно не замечая присутствия гостя. Движения ее были ловки и артистичны. Когда шатер Тальвавтына заслонил Вельвеля, бабушка Вааль устремилась ко мне, резво перепрыгивая валуны, и быстро, беспорядочно заговорила: — Вельвель не велит Илье ходить к тебе, никуда не пускает. Опасность вам большая грозит. Рыжий Чукча и Экельхут, как Тальвавтына вылечишь, убить вас хотят, табун обратно поворачивать. Рыжий — плохой, чужой человек. Бабушка Вааль, подхватив удочку, суетливо понеслась дальше, взмахнув удилищем в ту минуту, когда из-за шатра Тальвавтына вновь показался сидящий у дальней яранги Вельвель. Не оборачиваясь, она уходила все дальше и дальше по течению речки, энергично закидывая свой чудесный самолов. Черт побери! В голову лезли и роились разные мысли, одна тревожнее другой…ВАЖНЫЕ ВЕСТИ
Прошло пять томительно долгих дней. Тальвавтын почти поправился. В последние дни я давал ему умеренные дозы сульфазола, горчичники ставил все реже и реже. Поил на ночь чаем с медвежьим жиром. Растирал теплым жиром грудь и бока. Хрипы в легких исчезли, температура понизилась, кашель прекратился. Болезнь была побеждена. Но каждый день воскресения Тальвавтына приближал неизбежную для меня развязку. Илью по-прежнему не пускали ко мне, и он, как сообщила потихоньку бабушка Вааль, сидел целыми днями на шкурах, курил трубочку и о чем-то думал. Стойбище затихло словно перед бурей, люди редко выходили из своих яранг. Экельхут избегал встречаться со мной, не появлялся в яранге Тальвавтына. Вельвель со своим винчестером постоянно торчал у яранги бабушки Вааль, не спуская глаз с Ильи. Я много передумал за эти дни, искал и не находил выхода из тупика. Часто разговаривал с Тальвавтыном, но о “домашнем счастье” Ильи ничего ему пока не говорил — не хотел волновать выздоравливающего. Судя по всему, он к этой истории был непричастен. Вероятно, Экельхут на время болезни Тальвавтына принял бразды правления. Не появлялся в стойбище и Рыжий Чукча. И вот пришел тот, памятный день… Утром меня разбудил какой-то странный, до боли знакомый звук. Все в яранге спали, я вскочил как ужаленный и прислушался. Едва слышно, ровно и монотонно где-то гудел самолет. — Сашка летит?! Я выскочил в одних трусах наружу. Было ясное-ясное утро. Едва слышный звук самолетного мотора не стихал. Я заметил, что необычный звук всполошил все стойбище. Почти у каждой яранги замерли люди, к чему-то прислушиваясь. У соседней яранги стоял Экельхут и оглядывал небо. Звук несся откуда-то из-за сопок. Но как я ни вглядывался — ничего не видел. Внезапно звук оборвался, точно в небе лопнула тетива лука. Долго стояли люди у яранг, прислушиваясь и разглядывая небо. Звенящая тишина повисла над долиной. Я вернулся в шатер. “Что это, самолет или вертолет? Может быть, нас ищут?” В полдень снова послышался едва уловимый гул. Тальвавтын приподнялся на локтях, насторожился. — Железная птица летает, — тихо, словно про себя, сказал он. Старик тоже узнал знакомый звук. Я воспрянул духом. Далекий гул мотора разбудил надежду, вселил бодрость. Но вскоре все стихло, и ничего не нарушало больше тишины… Часов в пять я вышел на берег речки, надеясь услышать знакомый зов. С надеждой оглядывая небо, сопки, долину, я заметил крошечную фигурку человека, идущего к стойбищу со стороны сопки с “каменным чемоданом”. Кто же это? Человек быстро приближался, он спешил и двигался почти бегом. В руках у него мелькал посох, за спиной висела котомка и болтался винчестер. Что-то знакомое было в подтянутой, худощавой фигуре путника. Дьявольщина! Да это же Рыжий Чукча… Возвращение его не предвещало ничего хорошего. Он проследовал беглым шагом мимо, не обратив на меня внимания. Возбужденное лицо его, похудевшее и почерневшее, дышало энергией, одежда была забрызгана грязью. Куда спешит рыжий бродяга? Не заходя к Тальвавтыну, он прошел к белой яранге Экельхута. События разворачивались. Я вернулся в ярангу Тальвавтына, решив откровенно поговорить с королем Анадырских гор. Старик пил чай, закусывая медвежатиной. — Сядь, Вадим, разговаривать будем, — торжественно произнес Тальвавтын, будто угадав мое желание. Он величественным жестом указал на почетное место на шкуре пестрого оленя. Старуха поспешно налила мне чай, пододвинув плошку с медвежатиной. Но мы не успели начать разговор. В ярангу стремительно вошел молодой чукча с хмурым и неприветливым лицом — товарищ Вельвеля и склонился перед Тальвавтыном. — Экельхут зовет тебя на совет, старшины собрались — важные вести есть… Тальвавтын нахмурился, долго не отвечал и наконец отрывисто бросил: — Хорошо, приду я… Приятель Вельвеля исчез как привидение. Молча мы пили чай. После болезни он впервые пойдет на воздух. — Надень пыжиковую рубаху — простудишься. Тальвавтын кивнул. — Рыжий Чукча, наверное, вести принес, — сказал я. — Сейчас прошел в ярангу Экельхута. Старик сдвинул лохматые брови. Не спеша допил чай, натянул пыжиковую рубашку и пошел к выходу. — Жди меня здесь, никуда не ходи, — сказал он на прощание. Рэтэм опустился. “Жаль, что не удалось объясниться с Тальвавтыном!” Долго не возвращался старик. Лишь к вечеру пришел, раздраженный, бледный, усталый. Достал свою трубку с медным запальником и хотел закурить. Я посоветовал ему не курить, пока не окрепнут легкие. Он послушно спрятал трубку и кисет за пазуху. — Какие вести принес Рыжий? — спросил я. — Так себе… — уклончиво ответил он. — Устал я, спать буду… Старик, не раздеваясь, улегся на шкурах и вскоре уснул как убитый. Старуха выскользнула из шатра — видно, пошла узнать новости. В яранге стало тихо, как в могиле. Давило ощущение нависшей опасности. Вдруг рэтэм у входа заколебался. В ярангу протиснулась бабушка Вааль с вязанкой наломанного хвороста. Оглянувшись на спящего Тальвавтына, она поманила меня морщинистой ладонью и тревожно зашептала: — Важные вести тебе принесла… Чужая железная птица сегодня прилетала — на сопку с каменной вершиной садилась. Из брюха выбрасывала много ящиков с патронами, еще ящики с винчестерами — Рыжий по счету брал, под брезент на сопке складывал. — Бабушка Вааль торопилась, захлебывалась. — Рыжий — чужой человек, начальник большой… Совет старшин с Экельхутом собирал, велел русских больше не пускать в Пустолежащую землю, тебя с Ильей убивать, ваш табун обратно гонять. Через пять дней железная птица опять прилетит, бочки железные принесет — кормиться на сопке с каменной вершиной всегда будет… И еще… — округлив глаза, зашептала бабушка Вааль, — железная птица принесет главного начальника — он бумагу чукчам привезет: не пускать русских в Пустолежащую землю! Тальвавтын на совете очень сердился, говорил: не надо чужих людей, чужих бумаг — свой ум у чукчей есть. Табун не будет брать у тебя обратно — много денег, товаров нужных ты привез. Сказал, что надо торговать с русскими, а чужих людей Пустолежащей земле не надо! Экельхут очень Тальвавтына ругал — говорил, что эти люди добра чукчам хотят, шаманить можно будет, оленей держать сколько хочешь. Долго спорили старшины. Пять дней дали Тальвавтыну думать… Старушка перевела дух, испуганно поглядела на спящего Тальвавтына. — Илья, — совсем тихо прошептала бабушка Вааль, — сегодня ночью убегать будет — Костю звать на помощь; спрашивает: как бросать тебя будет? Может, вместе с ним убежишь? Тальвавтын застонал, заворочался во сне. Старушка замолкла и принялась суетливо ломать сучья для костра. “Вот так рыжая бестия! Недаром в стойбище Тырюлькая он выругался на английском языке. Так вот какая птица залетела к нам! Бежать из стойбища Тальвавтына в такое время мне нельзя…” — Думай, думай скорее: что делать Илье? — торопила бабушка Вааль. Махнув рукой (без риска не выигрываешь), я ответил: — Пусть Илья быстро убегает, Косте и Гырюлькаю все расскажет, табун подальше гоняют. Я пять дней буду говорить с Тальвавтыном — время тянуть. Кивнув, бабушка Вааль выскользнула из яранги. Подождав с полчаса, я вышел наружу. Спускалась ночь. Собственно, ночей уже не было. Солнцененадолго скрывалось за гребни сопок, долина погружалась в светлые сумерки, туман клубился в распадках, холодный воздух наполнял долину. Громко шумел поток, дымя туманом. Лишь несколько яранг курились синеватыми дымками. Там пили последний чай. Спала и одинокая яранга бабушки Вааль. Вельвеля не было видно — он убрался в ярангу поближе к Илье. Меня охватила тревога. Удастся ли старику обмануть бдительность стража? Уцелеет ли Илья, ускользая от погони? Я улегся в пологе не раздеваясь. Долго не мог уснуть: одолевали мрачные предчувствия. Главное стойбище Пусто-лежащей земли было накануне мятежа, и предотвратить его я не мог. Незаметно я уснул. Не знаю, сколько времени спал. Меня разбудили громкие голоса в яранге. Кто-то приподнял замшу и заглянул в мой полог. Я притворился спящим. Спросонья я не понимал, о чем идет разговор, но узнал гортанный голос Экельхута, злые реплики Рыжего Чукчи, недовольное бормотание Тальвавтына. Взволнованно переговариваясь, мужчины вышли из яранги. “Неужели Илью поймали? Может быть, ему нужна помощь?” Я выскочил из яранги. Солнце уже показалось из-за гор. Наступало утро. У яранги бабушки Вааль толпились люди, возбужденно размахивая руками. Через речку вброд переправлялись на ту сторону трое с винчестерами за плечами: Рыжий Чукча, Вельвель и его угрюмый товарищ. “Черт побери, погоня! Ушел милый Илья!” У меня отлегло от сердца. Не так просто им изловить Илью — великого, мудрого следопыта. Невольно я вспомнил, как хитро он обвел вокруг пальца Чандару и Медведя, тоже величайших следопытов, запутав наш след в Синем хребте. Неторопливо я пошел к яранге бабушки Вааль, где толпились встревоженные мужчины. Заметив меня, все сумрачно притихли. — Что случилось? — спросил я Тальвавтына. — Убежал твой старик, — нахмурившись, ответил он. — Хорошо делал Илья! — не сморгнув, ответил я. — Зачем гостя с винтовкой стерегли?! — Этот, — пренебрежительно кивнул на Экельхута Тальвавтын, — без меня велел. — Кончать надо было их, — зло кивнул на меня Экельхут. — Замолчи! — рассердился Тальвавтын. — Гости они мои. Правильно сделал Илья… — Далеко не убежит… — прошипел Экельхут, — Рыжий поймает, на аркане приведет, как норовистого быкаПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
С большим нетерпением ждали в стойбище возвращения погони. Тальвавтын окреп и принял бразды правления от Экельхута. Все сразу почувствовали его твердую руку. Он вызвал из стад мужчин, оставив у табунов самых надежных пастухов. “Столица” Пустолежащей земли наполнилась вооруженными людьми и напоминала теперь военный лагерь. Перевал, ведущий в долину, охранял целый отряд молодых людей. К девятизарядным винчестерам они приладили сошки, связанные ремнями, и засели в скалах, точно альпийские стрелки с ручными пулеметами. Словно оправдываясь, он сказал мне: — Буйный твой товарищ, наверное, придет искать тебя, если Рыжий Илью не поймает… В последние дни старик стал неузнаваем. Он подтянулся и посуровел, как-то замкнулся в себе, был полон скрытой энергии. Целыми часами о чем-то думал, устремив неподвижный взгляд на тлеющие угли очага. Изменились и наши отношения — мы почти не разговаривали, словно сторонились друг друга. И все-таки я чувствовал глубоко скрытую симпатию Тальвавтына. Однажды, когда мы наедине пили чай, он сказал по-русски: — Вадим, ты мой гость, и я не хочу тебе зла. Экельхут, старшины говорят: что убежишь ты, как Илья, — большая беда будет. Стеречь, говорят, тебя надо, пока Илью ловят, руки ремнем вязать. Не хочу тебя пленником держать. Слову твоему верю. Обещай три дня не бегать. Через три дня Рыжий вернется. Большой совет будем делать — решать, как дальше жить… Предложение Тальвавтына не противоречило моим планам. Двухнедельный контрольный срок, о котором мы условились с Костей, оканчивался, и он, несомненно, поспешит на выручку. Меня охватывала страшная тревога за его судьбу. Костя мог ринуться напролом и угодить в засаду на перевале. И бежать я не мог: ведь Главное стойбище Пустолежащей земли было накануне мятежа и нужно было сделать все возможное на предстоящем Большом совете, чтобы предотвратить трагические события. Мысли проносились и путались в голове. Я сидел, опустив голову, не отвечая Тальвавтыну. “Нет, бежать, конечно, нельзя”. Старик сидел неподвижный и невозмутимый — курил длинную трубку, ждал ответа. — Ладно, Тальвавтын, спасибо за гостеприимство. Верное слово даю не убегать от тебя, пока сам не отпустишь. Только обещай и ты: если Костя придет в стойбище искать меня, прими его как гостя… Старик облегченно вздохнул. Глаза его загорелись. Подумав, он ответил: — Хорошо, не убьют твоего друга мои помощники… если не будет стрелять первый. Ответ Тальвавтына мало успокоил меня. Я знал вспыльчивый нрав друга и был уверен в неизбежности столкновения… Прошло трое суток. Утром мы не успели допить чай. В ярангу вбежала бабушка Вааль… — Идут! Наши люди с перевала идут! Тальвавтын торопливо поднялся и шагнул к выходу. Я ринулся за ним. Обитатели стойбища высыпали из всех яранг. Люди молчаливо смотрели на близкий перевал. По зеленому мшистому склону спускались в долину три человека. Впереди брел, опираясь на посох, Рыжий Чукча, за ним шагали, опустив головы, его товарищи. Ильи с ними не было. — Неужели убили?! — Убежал твой старик, — с сердцем заметил Тальвавтын, — скучные идут… Лица преследователей действительно были невеселые. Но я еще не верил в спасение Ильи. Измученные преследователи поравнялись с нами. Нахмурившись, Тальвавтын спросил: — Где старик? Почему пускали его?! Рыжий Чукча остановился, тяжело опираясь на посох, и язвительно ответил: — Говорил я тебе: убивать их надо — мертвые не бегают. Шустрый у него старик, — кивнул он на меня, — след запутал, как хитрая лисица. Твой табун далеко угнали. Продукты кончились, не могли далеко по следам табуна идти. Завтра вертолет наш прилетит — все равно настигнем, убьем их… Тальвавтын помрачнел, круто повернулся спиной к Рыжему и молча ушел к себе в ярангу. Наши взгляды скрестились, в глазах Рыжего Чукчи стояла холодная ненависть. — Завтра уйдешь к “верхним людям”, — прохрипел он и побрел к яранге Экельхута. За ним, едва передвигая ноги, поплелись Вельвель и его утомленный товарищ. Больше всего меня тревожило появление неизвестного вертолета. Если завтра он действительно нагрянет, моим друзьям грозит смертельная опасность… В яранге меня встретил Тальвавтын, торжественный и серьезный. — Садись, Вадим, разговаривать будем… Торжественность короля Анадырских гор удивила меня. Я устроился на шкуре около Тальвавтына, вытащил кисет и закурил трубку. — Завтра прилетит чужая железная птица. Главный начальник бумагу привезет. Не хочу я в Пустолежащую землю их пускать. Жадные они очень: давно у русских Аляску купили, потом оленей живых у чаучу, потом товары свои привезли, хорошие правда, но всю пушнину у чукчей брали. Недавно у нас брали пушнину — винчестеры давали. Теперь хотят нашу землю брать. Нельзя их пускать сюда! — Правильно говоришь, мудрая у тебя голова, Тальвавтын! — Скажи, Вадим, — спросил он, — будут ли еще русские торговать в Пустолежащей земле оленей? — Много нужно будет оленей — первое золото на Чукотке находят, скоро люди придут с машинами золото копать… Тальвавтын задумался, долго молчал и наконец твердо сказал, словно подводя черту под долгими раздумьями: — Кайво! Пусть так… Завтра на Большой совет вместе пойдем, — решать, как жить дальше… В этот вечер мы больше не касались интересующей нас темы. Я попросил Тальвавтына рассказать “Древние вести”, И Тальвавтын поведал мне много удивительных, никем не записанных сказаний. С особенным подъемом он рассказывал о подвигах чукотских богатырей — военачальников, отражавших натиск пришельцев. — Много столетий, — с гордостью говорил он, — чаучу защищали свою землю от разных племен, потом убили вашего Якунина и с той поры остались непокоренным народом, русские только мирно торговали с нами… И тут я понял основу политики старика — он не хотел вмешательства в дела Пустолежащей земли людей с другого берега. Стремился установить торговые отношения с представителями Советской власти, сохраняя в Пустолежащей земле порядки старой тундры. Но времена нэпа давным-давно прошли, и затормозить колесо истории Тальвавтын не мог, даже в недоступном сердце Чукотки. Об этом я не хотел пока говорить старику, и мы продолжали свой мирный разговор. Тальвавтын повторил во всех деталях историю чукотских ерымов[298] и, заканчивая свой рассказ, вдруг сказал: — Давно это было, когда белый царь еще жил, мой отец молодой был — чукотские старшины собирались, предлагали Вэиппу[299] стать чукотским ерымом, чтоб лучше шла торговля с русскими… — Ну и что ответил старшинам Вэипп? — Вэипп сказал, что он всю жизнь воевал против белого царя и его исправников и, будучи чукотским ерымом, не сможет помочь важному делу. Тальвавтын сообщал уникальные сведения. Видимо, Богораз-Тан пользовался огромным доверием чукчей. Наш интересный разговор окончился лишь поздно ночью. Я забрался в свой полог и долго не мог уснуть, размышляя о предстоящей битве на Большом совете старшин… Ночью меня преследовали кошмары. Под утро я внезапно проснулся. Во сне кольнула тревожная мысль: “Ведь Костя должен быть уже в стойбище Тальвавтына, а его нет… Что с ним случилось?” Сон больше не шел, я то и дело выбирался из яранги, оглядывал спокойно спящее стойбище, пустую долину, молчаливый перевал, где притаилась засада, и тревожно прислушивался, ожидая выстрелов. Солнце еще не выходило из-за гор, но его лучи позолотили вдали молчаливую вершину с “каменным чемоданом”. Так я и промаялся все утро в ожидании надвигающихся событий. Когда стойбище стало просыпаться, из яранги Экельхута вышел Рыжий Чукча с котомкой и винчестером за плечами. Широким шагом он проследовал мимо яранги Тальвавтына в сторону сопки с золотившимися скалами на вершине. Он заметил меня, и на его самодовольном лице мелькнула торжествующая усмешка. Видно, он отправился встречать свой вертолет. Меня охватила страшная тревога. Рыжий мог исполнить свою угрозу, настигнуть наш табун на вертолете и погубить моих товарищей. Теперь я жалел, что не взял оружия и не мог нанести решающий удар. Рыжий уходил все дальше и дальше к сопке с “каменным чемоданом”. Сжимая кулаки, я смотрел ему вслед. Один план фантастичнее другого возникал в разгоряченном воображении. Мне хотелось отбросить к чертям всю дипломатию, похитить у Тальвавтына винчестер и догнать предателя на пути к пристани воздушных пиратов. Я поспешил в ярангу. Но Тальвавтын уже проснулся, а старуха собирала чайный столик к утреннему чаепитию. — Рыжий пошел на каменную сопку свою железную птицу встречать, — тревожно сказал я, — как будешь без него совет старшин собирать? — Рыжий — чужой человек, — спокойно ответил старик, — пусть идет куда хочет, сами решать свои дела будем. Тальвавтын позвал старуху и велел готовить ярангу к Большому совету. Наскоро закончив чаепитие, он вышел из шатра и пошел к Экельхуту. Старуха принялась устилать огромную ярангу белыми оленьими шкурами. Тревога не покидала меня. Я вышел на волю. Вид стойбища преобразился. Во всех направлениях сновали нарочные, извещая о предстоящем Большом совете. Яранги курились синими дымками — старшины спешили закончить утренний чай. Мне ничего не оставалось, как принять сражение… Вернулся Тальвавтын хмурый и сосредоточенный. Мы вошли с ним в ярангу, и он пригласил меня сесть с ним на шкуру пестрого оленя, на почетное место под громадным балдахином откинутого полога. — Упрямый стал Экельхут, старый, не понимает, как жить надо… — проговорил Тальвавтын, закуривая трубку. Старуха тем временем сложила круг из крупных голышей, ограждая очаг. По старинному поверью, это препятствовало проникновению в ярангу злых духов. Поодиночке стали входить старшины. Лица их мне были знакомы. Молчаливо и важно они усаживались на шкурах, вытаскивали длинные трубки и закуривали, высекая огнивами блестящие искры. Скоро шатер заполнился суровыми, загорелыми людьми. Невольно я вспомнил тот — первый совет, безжалостно решивший нашу участь. Холодок пробежал по спине. Двадцать сумрачных людей сидели передо мной загадочные, как сфинксы… Тальвавтын нетерпеливо оглядывал своих сподвижников. Экельхута среди них не было. Прошло еще некоторое время. Все сидели спокойно, покуривая свои трубки. Наконец рэтэм заколебался, и в ярангу вошел Экельхут в замшевой камлейке, изукрашенной белой бахромой. Он держал почерневший от времени бубен. Экельхут прошел мимо почетного места и сел рядом с Вельвелем, напротив нашего балдахина. Лицо его, иссеченное морщинами, неподвижное и высокомерное, напоминало маску. Первый заговорил Тальвавтын. Говорил он долго, с воодушевлением, очень быстро. И мне удалось уловить лишь общий смысл его экспансивной речи. Король Анадырских гор сказал, что настали новые времена и в Пустолежащей земле скоро негде будет укрыться последним эрмэчынам[300] и шаманам. Он говорил, что долго думал, какой путь должны избрать люди Пустолежащей земли. Сейчас надо торговать с русскими — оставить тропу распрей и свернуть на мирный путь торговых сношений. И если удастся завязать торговлю, то новые порядки, которые так не нравятся эрмэчыпам и шаманам, установленные вокруг Пустолежащей земли, долго не придут сюда — пока будут у людей Пустолежащей земли лишние олени, которых можно продавать “людям, копающим золото”. — Удивительно, — продолжал Тальвавтын, — что некоторые не понимают всего этого, может быть, потому, что они стали слишком старыми. И предлагают снова вступить на военную тропу — принять оружие от чужих людей, которые потом захватят древнюю землю чаучу жадными руками. И эти непонимающие люди даже хотят убивать гостя, который впервые пришел мирно торговать оленей у наших эрмэчынов! Конечно, речь Тальвавтына была куда более интереснее и ярче, чем я передаю. Слова Тальвавтына многие присутствующие воспринимали очень живо, отвечая одобрительными возгласами: — Кайво! — Гык[301], гык! — Эмнобык[302]! — Какомей[303]!.. В устах короля Анадырских гор эта “тронная речь” звучала как откровение и была по-своему логична… Окончив свое слово, Тальвавтын опустил голову и задумался. Затем неторопливо зажег погасшую трубку и внимательно оглядел своих сподвижников, словно желая убедиться, какое впечатление произвели его слова. Оживление царило в яранге. Видимо, жить изгоями на пустынных плоскогорьях порядком всем надоело. Только Экельхут и его сторонники оставались сумрачными. Тальвавтын, сдвинув мохнатые брови, долю смотрел на Экельхута и наконец резко сказал: — Говори теперь ты, Экельхут… Все притихли, ожидая ответа старого шамана. Экельхут спокойно загасил трубку пожелтевшим от табака, узловатым пальцем и ответил: — Шаманить надо — спрашивать духов, как жить дальше… Экельхут стянул с себя замшевую камлейку, обнажив до пояса смуглое жилистое тело. Выколотил погасшую трубку, набил свеженарезанным черкасским табаком и закурил. Он сидел невозмутимый и сосредоточенный, глубоко втягивая дым в легкие. Старшины застыли. Неподвижно восседал и Тальвавтын, глаза его ярко блестели. Языки пламени освещали красноватыми бликами скуластые лица старшин, полуобнаженного Экельхута. Длинные причудливые тени колебались на полотнище рэтэма. Вся эта сцена казалась мрачным сном, напоминала жрецов перед жертвоприношением. Экельхут взял бубен и ударил по натянутой перепонке. Сначала тихо, потом все громче и громче. И затянул протяжный напев без слов: — Ах, яа-ка, яа-ка, яа-ка… ах, яа-ка! Так призывал он духов, которые должны были явиться сквозь его тело. Шаман вскочил и стал бесшумно прыгать на шкурах возле очага, то вздымая бубен, то опуская его, ударяя в такт своей дикой и ритмичной пляске. Длинная темная тень металась по рэтэму, словно черное, встрепанное привидение. Бубен звучал все громче и громче. Заунывный напев перешел в истошные вопли. Экельхут, не останавливая бешеной пляски, выхватил откуда-то из полутьмы медвежью шкуру и набросил ее на себя. Шкура была с черепом и когтями. Казалось, что у огня, неловко переваливаясь, танцует медведь, гремя когтями как кастаньетами. Удары бубна следовали один за другим все быстрее и быстрее. Протяжный напев оборвался. Плясун стонет, рычит, трясет головой, изображая медведя, застигнутого комарьем. Отчетливо слышен тонкий, навязчивый писк освирепевших насекомых, пронзительные вопли потревоженных чаёк, холодящие душу, булькающие крики ворона, голодный вой волка… Это появляются духи и возвещают о себе разными голосами. Кажется, что кто-то кричит прямо в ухо, и я невольно хватал воздух, желая поймать пронырливого духа. Присутствующие отвечали одобрительными возгласами, что еще более усиливало экстаз шамана. Феерическая пляска и дикий хаос звуков возбуждали и гипнотизировали присутствующих. Я чувствовал, что на мозг находит смутное облако, на затылок давит какая-то тяжесть. Смутные видения вились вокруг очага. Мелькнула спасительная мысль: “Экельхут великий артист, обладающий гипнотической силой и даром чревовещания. Надо собрать всю волю и не поддаваться его влиянию…” Полуголое тело шамана блестело от пота, на губах выступила пена. Танцор казался полубезумным. И вдруг он повалился на шкуры замертво. Я впервые видел настоящее шаманское действо и подумал, что человек, как говорится, “откинул лапти”. Но тут замшевый полог над нами зашевелился и с шуршанием опустился. Мы с Тальвавтыном очутились в темноте. Какие-то люди внесли в полог недвижное тело шамана и опустили на шкуры. В полог вползали старшины и скоро набились в него битком. Стало душно. Тальвавтын взял бубен и начал бить редкими, негромкими ударами. Потом я узнал, что так кончалось настоящее шаманское действие. Экельхут “смотрел внутрь” — “разговаривал с духами”. С четверть часа он неподвижно и безмолвно лежал на шкурах, а Тальвавтын размеренно бил и бил в бубен. Внезапно Экельхут вскочил, выхватил у Тальвавтына бубен и, громко ударяя, запел дико и заунывно. Старшины притихли, словно ожидая чего-то. Полог вдруг поднялся, как занавес в театре, бубен смолк и Экельхут заговорил быстро, но довольно разборчиво: — Духи говорят: торговать с мериканами надо, пушнину им давать, винчестеры, много патронов брать. Русских в Пустолежащую землю не пускать, не торговать с таньгами. Плохие люди они — эрмэчынов, шаманов гоняют, жить настоящим чаучу не дают… Экельхут перевел дух и хрипло продолжал: — И еще говорят духи: надо мериканов с железной птицы принимать как гостей — они верные друзья эрмэчынам, а русского, что к нам в стойбище пришел, убивать надо, живот разрезать и внутренности в жертву духам на сендуке бросать! Экельхут замолк. И тут все явственно услышали далекий, непрекращающийся гул самолета. — Слышите?! — приподнялся на локтях шаман. — Железная птица! Вот они, близко — летят к нам, Тальвавтын сидел бледный, нахмуренный, как туча. В яранге наступила зловещая тишина. Где-то вдали непрестанно гудел самолет. Экельхут встал и пошел, шатаясь, к своему месту рядом с Вельвелем, застывшим как истукан. Костер освещал бесстрастные, непроницаемые лица старшин. Все взоры обратились к Тальвавтыну. — Слушай, безумный старик, — грозно воскликнул тот, — упрямая, твердая голова! Много тебе нашептывали злые кельчи. Гибели, крови людей Пустолежащей земли они хотят. Смотри, Экельхут!.. Тальвавтын встал во весь свой огромный рост и величественно поманил свою старуху. Та, согнувшись в три погибели, вынесла к очагу из полутьмы яранги какой-то сверток. Все с любопытством следили за движениями старухи. — Смотрите… — громко повторил Тальвавтын. Он неторопливо развернул сверток и, склонившись, положил у моих ног кипу чего-то яркого и блестящего… Что это?! На пестрой оленьей шкуре передо мной лежал аккуратно сложенный расшитый кафтан с малиновыми отворотами, эполеты, отливающие золотом, кортик в блестящих ножнах с ручкой, инкрустированной золотом, большие медали на ярких шелковых лентах, а сверху этой блестящей мишуры красовалось… костяное ожерелье Чаидары! Даже Экельхут опешил и недоумевающе смотрел то на Тальвавтына, то на старинные реликвии чукотских ерымов. — Вот главные знаки наших ерымов! — торжественно провозгласил Тальвавтын. — Вадим! Я даю тебе эти знаки. Теперь тебе будут подчиняться все стойбища Пустолежащей земли. Отныне ты будешь посредником в нашей торговле и сношениях с русскими. Мы подарим тебе самый большой табун и четырех самых красивых девушек нашей земли. Возьми их в жены. Пусть Геутваль будет первой твоей женой. Когда отведешь купленный табун на Омолон, возвращайся, живи и кочуй всегда с нами. — Го-ок! — изумился кто-то из старшин неожиданному повороту дела. — Никогда не слышал сразу так много интересного! — Прими эти знаки власти, будь нашим ерымом, “близким человеком”. И злые духи, — насмешливо прищурился старик, — потеряют твой след, не смогут просить твоей крови. Вэипп не согласился когда-то быть нашим ерымом, потому что воевал с русскими начальниками, — ты с ними в дружбе и будешь достойным ерымом. Экельхут едва сдерживал бешенство, желваки на скулах перекатывались. Он скрипнул зубами. Я был потрясен и растерянно оглядывал реликвии, покоившиеся у моих ног. Что я мог ответить на фантастическое предложение Тальвавтына? Когда-то ерымы обладали неограниченной властью, и в этой роли, опираясь на поддержку Тальвавтына, я мог предотвратить мятеж эрмэчынов и шаманов в Пустолежащей земле, спасти своих товарищей. Но и принять архаическое звание, почти монархическую власть я не мог, не предавая своих убеждений. “Нет, принять эти побрякушки нельзя, даже во имя жизни друзей…” Старшины, Тальвавтын, Экельхут ждали моего ответа с нетерпением. И я решился. — Спасибо, Тальвавтын, за уважение и почет… Я не могу быть вашим ерымом! Не хочу, потому что я и мои товарищи там, далеко отсюда, не признаем власти эрмэчынов и шаманов, боремся с ними там, где они еще остались. Но я согласен быть посредником в торговле с русскими. Потому что это нужно сейчас и нам и вам. Если хочешь, я отвезу ваши бесценные реликвии в большой город на берегу моря и сдам в музей, чтобы люди видели, какие важные вещи имели чукотские ерымы. Там очень довольны будут твоим подарком и пришлют тебе ответный дар. Речь свою я произнес по-чукотски, и она была куда более пространна, чем я передаю ее по-русски. Ведь я довольно плохо владел чукотским языком, мне приходилось употреблять много окольных оборотов. Но смысл ее отлично поняли все присутствующие. Тальвавтын насупился и покачал головой. Он сделал все, что было в его силах, чтобы спасти меня, а я отказывался от его помощи. Экельхут едва мог скрыть торжество. — И еще хочу сказать, — добавил я, — эрмэчынов Пустолежащей земли никто не будет трогать, если мирно торговать оленями будете. Но если с оружием в руках эрмэчыны и шаманы пойдут против Советской власти, оленей у них обязательно отберут! Заключительное слово мое пришлось многим совсем не по вкусу. Экельхут запальчиво крикнул: — Правильно говорят духи, убивать его надо! В настороженной тишине его голос прозвучал зло и решительно. В эту минуту где-то вдали поднялась отчаянная стрельба, как будто целая рота палила беглым огнем, вступая в долину. Стрельба не утихала и разгоралась пуще и пуще. Иногда бухали взрывы, и грозное эхо перекатывалось в горах. — Пушки? Откуда?! Потом ахнул взрыв словно взорвалась фугасная бомба. Горы откликнулись раскатистым рокотом. Все это было так неожиданно, что люди, находящиеся в яранге, словно окаменели. Сначала я подумал, что стреляют на перевале и что Костя попал в губительную засаду. Но выстрелы были так часты, а взрывы столь внушительны! Такой шум не могла поднять горстка людей, спрятавшаяся в засаде. Тальвавтын сидел неподвижно, закрыв глаза. Я окликнул его и спросил, где стреляют. Старик взмахнул ладонью, показывая на юг, в сторону сопки с “каменным чемоданом”… На лице Экельхута застыла гримаса. Склонив голову набок, он тревожно к чему-то прислушивался. И вдруг по стойбищу пронесся пронзительный крик: — Идут, идут! Таньги идут! Экельхут хрипло выругался и выхватил у остолбеневшего Вельвеля винчестер. Полотнище входа откинулось, в ярангу влетел, задыхаясь, молодой чукча с длинноствольной винтовкой в руках. — Вадим! — дико заорал юноша. Дальше все происходило как в полусне. Экельхут поднял винчестер, и я увидел, точно сквозь увеличительное стекло, черный беспощадный зрачок дула. Зрачок ходил ходуном и никак не мог остановиться — руки Экельхута дрожали. И снова мелькнула как молния мысль: “Почему не взял оружия, хоть пистолет?!” Я прощался с жизнью. Страха почему-то не было. И в это время… сбоку оглушительно прогремело. С глухим стоном шаман повалился набок, выронив винчестер. Сталь магазина звякнула о камни очага. Костер вспыхнул. Передо мной, точно в сказке, стоял взволнованный, возбужденный и растерянный Тынетэгин, сжимая дымящуюся длинноствольную винтовку.,ИЗБАВЛЕНИЕ
Я не верил глазам. Молодой чукча, ворвавшийся в ярангу, был действительно Тынетэгин, живой и невредимый. Он спас меня от верной гибели. Сраженный Экельхут молчаливо лежал на белой шкуре у очага. Вокруг застыли с побелевшими лицами старшины. Все так же неподвижно сидел, опустив голову, Тальвавтын. Выстрел Тынетэгина ошеломил всех. — Наши пришли… — проговорил юноша сдавленным от волнения голосом. — Хорошо, жив ты, Вадим… — Где Костя?! — Там, — махнул Тынетэгин на юг, — на сопке с каменной вершиной. — Ого! Снаружи послышался топот бегущих людей. В ярангу, задыхаясь, протискивались один за другим люди в телогрейках и резиновых сапогах. — Кто стрелял?! — грозно спросил по-чукотски высокий голубоглазый человек с удивительно знакомым лицом. И вдруг я узнал его. — Полковник?! Как вы здесь очутились? Это был тот молодцеватый полковник, который предостерегал нас на совещании в Певеке… — Так же, как и вы, Вадим, — улыбаясь ответил он, — по делам. — Ну и вовремя же вы подоспели! Если бы не Тынетэгин, Экельхут отправил бы меня кочевать к “верхним людям”. — Видно, под счастливой звездой вы родились, Вадим. Успел выстрелить первым? — спросил Тынетэгина полковник. Юноша испуганно кивнул: — Никогда в людей не стрелял… — Правильно сделал — плохой человек Экельхут! Весь этот разговор происходил по-чукотски, и сидящие в яранге понимали, о чем говорят. — А где Рыжий? — вдруг спохватился полковник. — Вы его знаете?! — удивился я. — Давно ищем. Из Воег от нас ушел. Проворный, гад… — На сопку с каменной вершиной утром ушел — свой вертолет встречать. — Опять улизнул… — зло процедил полковник. — Перестрелку слыхали? — тревожно спросил я. — Где-то там стреляли… Полковник снял шапку и сказал по-русски: — Да-а, не повезло вашему другу. Ведь он с Ильей пошел на сопку захватить оружие и патроны. Тынетэгина к вам на выручку послал. Неподалеку встретили — у самого стойбища в кустах притаился. — Неужели, гады, убили Костю! — воскликнул я. — Ваш товарищ — сорвиголова, видно, крепко столкнулся с непрошеными гостями. — Сколько у вас людей, полковник? — Да вот они все — пятеро нас в оперативной группе, — с мужественной иронией усмехнулся он, — прошу любить и жаловать: представители окружных организаций — милиция, комсомол, окружком, окрисполком… — Скорее на сопку! Если бежать — через час там будем. Полковник грустно покачал головой. — Поздно… улетели, мерзавцы. А нам дело срочное тут сделать надо. Но, впрочем… Гемелькот! — обратился он к одному из своих сотоварищей. — С Вадимом пойдешь как представитель милиции. — Есть! — по-военному отчеканил смуглолицый молодой чукча, выступив вперед. — Извините, сам не могу — служба, — тихо сказал полковник, — окрисполком вынес решение изъять лишнее оружие в кулацких стойбищах внутренней Чукотки. Пока сбегаете на сопку, разговаривать будем. А операцию начнем, когда вернетесь… Невольно я подумал, что для такой операции в стойбище Тальвавтына у полковника слишком мало людей. — Ну, Тальвавтын, принимай гостей из Анадыря, — громко сказал я, — а мы пошли на сопку с каменной вершиной — Костю искать. — Возьми мой винчестер, метко бьет. — вдруг сказал Тальвавтын, — может, Рыжего встретишь. — Спасибо, — искренне поблагодарил я. Полковник не мог скрыть удивления. — Какомей! — оторопев, воскликнул он. — Вы что же, друзья с королем Анадырских гор? — Вылечил я его, — умная голова. Потом все расскажу… Мы быстро собрались в поход и втроем — Тынетэгин, Гемелькот и я — устремились к синеющей вдали сопке с “каменным чемоданом”. Страшная тревога гнала нас. Мы бежали напрямик, не обращая внимания на торфяные бугры и болота, вброд пересекали бесчисленные рукава горной речки. Горячая вера в счастливый исход спасательной экспедиции несла нас на крыльях. Но горькая действительность скоро вернула нас на землю. В притаившейся долине повисла зловещая тишина. Молчаливая вершина с “каменным чемоданом” курилась дымками, словно вулкан после извержения. — Ягель там горит… — тихо сказал Тынетэгин. — Скорее, друзья! Мы понеслись сломя голову, перепрыгивая кочки. И вдруг Тынетэгин закричал: — Смотри, Вадим, люди идут! По зеленой речной террасе быстро двигались навстречу две черноватые фигурки. Неужто Рыжий возвращается в стойбище с прилетевшим своим начальством? А что они сделали с Костей?! Бежим с винтовками наперевес, точно в атаку. — Что за наваждение! Люди повторяют наши движения и несутся навстречу с ружьями в руках. — Мираж? Но их только двое. И вдруг Тынетэгин заорал: — Наши бегут! Теперь и я узнаю знакомые очертания фигур. Костя, размахивая винтовкой, что-то кричит. Но ветер относит голос. Разом подымаем винтовки и стреляем вверх. Друзья отвечают приветственным залпом. Бурная радость заполняет душу. Гемелькот в изумлении рассматривает бегущих навстречу людей. Друзей трудно узнать. Впереди тигровыми скачками несется Костя с черным, как у негра, лицом, с опаленными волосами. Одежда на нем тоже опалена. Перевязанная рука болтается на ремне, перекинутом через плечо. Алое пятно крови пропитало повязку. Не лучше вид и у Ильи. Все лицо в саже и копоти, точно у трубочиста. Одежда изорвана. От платка, покрывающего голову, остались обгоревшие лохмотья. Оба они сейчас похожи на танкистов, выбравшихся из горящего танка. — Наконец-то, пропавшие души! Обнимаемся, вопим что-то несусветное, хохочем. Гемелькот с удивлением разглядывает совершенно прокопченных Костю и Илью. — Вовремя подоспели? — спрашивает меня Костя, небрежно поправляя ворот обгоревшей штормовки. — Порядок, Костя! Тынетэгин Экельхута подстрелил — от верной пули меня спас! А вы откуда свалились, обугленные, как черти? — Из боя вышли! — торжественно изрек Костя. — А Рыжий где? Патроны, винчестеры? — Взорвали к чертовой бабушке! — блеснул он ослепительной улыбкой. — Сейчас расскажем все по порядку. Исцарапанной рукой Костя достал трубку. Гемелькот выхватил из-за пазухи кисет, ловко набил и зажег Костин запальник. Мы уселись прямо на кочки, положив у ног винтовки. — Постой, — спохватился Костя, — а Тальвавтын, старшины где? — В стойбище, разговаривают с полковником. — Каким еще полковником? — растерялся Костя. — Ну, помнишь с тем, что тогда был в Певеке? В стойбище сегодня пожаловал с оперативной группой. — Чудеса! Приятель выпустил из трубки синие кольца дыма — изгибаясь, они медленно поплыли в притихшем воздухе. — Мне и невдомек было, — начал свой рассказ Костя, — какая чехарда у вас с Тальвавтыном происходит. Но контрольный срок подходил к концу, и я стал подумывать о походе. Геутваль твоя мне проходу не давала — звала скорее идти тебя искать. Но уговор дороже денег, я честно ждал контрольного срока! Геутваль не находила себе места и каждый день тащила на перевал и смотрела, смотрела на молчаливые вершины Пустолежащей земли. Любит она тебя, Вадим, крепко. Мне тоже трудно было ждать контрольного срока. Как подумаешь, что вы с Ильей в капкан попали, — ноги сами бежали на перевал. Вскарабкаемся на седловину и смотрим, ждем вас, а у нее слезы в глазах. Вокруг сопки да пустое небо. Девчонка из себя выходит. Злится на меня. “Плохой ты друг Вадиму”, говорит. Приходило ли тебе в голову, Вадим, что так может любить не каждый человек? Сердце у нее горячее, верное. — Дальше, дальше, знаю я… — Не знаешь ты ничего! — рассердился Костя. — Твоя Мария в подметки ей не годится. Уж будь покоен — Геутваль каждый бы день тебе писала, с любого конца света. — Костя! — Все! Хватит, не буду, — поднял он руку с трубкой. — Сдаюсь, “все хорошо, прекрасная Мария”! В общем, однажды, когда мы переругивались с Геутваль на перевале, на соседней сопке появился Илья. Взлохмаченный, с воспаленными глазами, потный, в стоптанных ичигах, измотанный вконец. Бормочет спекшимися губами: “Живо… бегать надо, вниз в долину, Вадим велел: табун скорее дальше гонять… Экельхут, Рыжий отнимать хотят…” Все рассказал Илья: и о вертолете чужом, и о рыжем предателе, и о твоей дружбе с Тальвавтыном, и раздорах старика с Экельхутом. Приказ есть приказ. Вмиг спустились с перевала, в два счета сняли яранги, собрали табун и погнали по курсу, уходя от погони. Не хотела Геутваль отступать, да и я не прочь был засаду хорошенькую па перевале устроить. Но Илья твердил, что Рыжий хитрый, с большой погоней придет — не отбиться. Надо табун прежде спасать. Ну и гнали мы оленей! Впереди Гырюлькай с женщинами и грузом на нартах — дорогу показывают, потом табун бежит, а позади мы четверо с целой винтовочной батареей — в арьергарде. Двое суток как проклятые шпарили, не останавливаясь, далеко угнали табун. Лагерь поставили в широкой долине, словно приподнятой на ладони. Зелени уйма, воды полным полно — речки тихие, глубокие, как в тундре. Откуда только Гырюлькай такую долину выкопал! Точно для комариной поры создана! Поставили яранги, и тут главная баталия началась с Геутваль. Налетела как рысь, взъерошилась: “Пойду с вами Вадима спасать!” Едва уговорили остаться с Гырюлькаем и женщинами — табун беречь. Илью послушалась, сказал он: “Так Вадим велел: мужчинам на выручку к нему идти, а Геутваль и Гырюлькаю табун беречь”. Побледнела, губы искусала, но послушалась. Сказала: “Метко стреляю, умру, а табун не отдам”. Мне заявила, что, если без тебя вернусь, совсем чужим человеком буду и никогда, всю жизнь она не простит мне, что ее с собой не брал! Все это она выпалила единым духом, сверкнула глазищами, взяла винчестер, сумку с патронами и ушла к табуну, даже не попрощалась. Костя грустно опустил свою опаленную голову и притих. — Кремневая девчонка… — вздохнул он. — Такая до конца за тобой пойдет! В тот же день, — продолжал он, — мы с Ильей и Тынетэгином ушли выручать тебя. Илья думал, что преследователи, вероятно, будут “делать ловушку на перевалах”, и надо хитрить. Вот тогда я и вспомнил Багратиона. Помнишь, книжку о нем читали? И придумал фланговый марш! Мы с Ильей должны были ударить по складу патронов на сопке — там нас никто не ожидал, — а Тынетэгин в это время должен обойти стойбище с востока и в суматохе пробиваться к тебе на выручку. После разгрома склада мы должны были соединиться в стойбище Тальвавтына. У нас оставалось чертовски мало времени. Надо было поспеть на сопку до прилета чужого вертолета. Илья рассказал, когда он пожалует. Оставалось всего двое суток. Это неимоверно мало! Видно, на роду нам с тобой написано встревать в разные авантюры. Но фланговый марш к сопке избавлял нас от возможной засады по пути и — главное — позволял влепить сногсшибательный багратионовский удар… — Ну и ну, Костя, и фантазер же ты… — У тебя учусь, — усмехнулся приятель. — Наконец-то дорвался до настоящего дела! Как мы одолели этот путь в двое суток — не понимаю. Особенно трудно было Илье — ведь он совершил этот крестный путь дважды. Старик неутомимо шел впереди и вел нас точно по курсу, словно у него в голове был спрятан магнит. Мы вышли чуть правее сопки с “каменным чемоданом”, благополучно миновав засады. Когда увидели ее голубой шатер, расстались с Тынетэгином. Он пошел обходить стойбище с востока. А мы помчались с Ильей к заветной сопке. Наступало утро, и надо было поспеть вовремя… Ох и устали мы — едва волочили ноги. Стали подыматься по крутому склону сопки, тут и потеряли последние силы. Решили передохнуть. Расположились среди валунов и — черт нас усыпил! — моментально заснули. Ты ведь знаешь, как я сплю — пушкой не разбудишь. А Илья спал чутко, как охотник. Он нас и выручил. Проснулся я от толчков. Кто-то трясет меня, что-то кричит в ухо. А я не пойму, где я, что со мной. “Проснись, проснись, железная птица летит!” Оглушительный рев мотора привел меня в чувство. Над нами, как хищная птица, неслась странная машина. Окрашенная в белесый цвет, с разводами по бортам. Без опознавательных знаков, вместо колес — какие-то полозья. В общем, чужая машина. Пронеслась над нами и скрылась за гребнем скальной вершины. И тут я понял: прозевали — сядет эта чертова штука на вершину прежде нас! Ох и ругался я, колотил себя по башке, неудобно даже вспоминать… — Представляю себе, — рассмеялся я, глядя на разгоряченное лицо приятеля. — И вдруг рев мотора стих — села, стерва! Представляешь? Глубокое молчание кругом, раздолье гор, долины, залитые солнцем… А мы проспали жар-птицу! Просто всему конец, нитка оборвалась, и нет дальше хода… — Смотри, Рыжий бежит! — толкает меня в бок Илья. Глянул я и обомлел. Ползет, гад, спешит к своему вертолету, ничего кругом не замечает. Уже к скалам “каменного чемодана” подбирается. Тут я поспешил, не сдержал руки. Надо бы подождать, когда на скалы выползет. Поднял винчестер и — бац! — выстрелил. Ну и псих оказался Рыжий. Завопил благим матом, подпрыгнул на метр и упал за глыбу. Я вскочил. Илья кричит: хоронись! Куда там, несусь сломя голову вверх по склону. Уж очень хотелось Рыжего перехватить. И вдруг впереди грохнул выстрел. Струя теплого воздуха пронеслась у виска — и кепку мою снесло, точно ветром. “Гад! Метко стреляет, чисто сработано…” Я упал за каменную плиту, прижался к земле. Рыжий выскочил из-за своего валуна и понесся вверх, прыгая, как заяц. Грянула винтовка Ильи, Рыжий одновременно юркнул за глыбу. “Расторопный парень!” Я выстрелил и вдребезги разбил гребень валуна, где торчала котомка Рыжего. Пуля жикнула рикошетом. “Враки! Не уйдешь…” Надеясь на Илью, я помчался вверх по склону. Выстрел Рыжего опять прижал к земле. Укрытия не было, и я понимал, что следующей пулей он прикончит меня, как куропатку. И я расстанусь с этим миром на веки вечные. Но Илья не зевал и не давал высунуться ему, посылая пулю за пулей в гребень валуна. Мне удалось отползти за плиту песчаника. “Надежное укрытие! Сейчас я сведу с тобой счеты!” Теперь я был осторожнее. Целиться из-за высокой глыбы мне было неудобно. И Рыжий это заметил. Он пошел на риск. Обстрелял Илью и сделал стремительную перебежку к подножию “каменного чемодана”. Рыжий занял отличную позицию. У подножия каменной стены валялось множество глыб, сорвавшихся сверху, и он мог долго обороняться там. Но главное — в руках у него очутилась господствующая высота. Теперь взять его было труднее. Он сразу смекнул, в чем дело, и, постреливая, перебегал от укрытия к укрытию, продвигался к месту, где скала выступала углом, сворачивая к ступеням Кивающего Головой. Видно, Рыжий отлично знал этот ход на вершину и понимал, что там лежит единственный путь к спасению. Но в эту минуту замолкший вертолет снова затарахтел наверху мотором. Это встревожило Рыжего, и он помчался как ветер к спасительному выступу. Я выскочил из-за своего укрытия и ринулся к подножию скалы. Мой внезапный бросок помешал Илье укокошить Рыжего, и тот, сжавшись, юркнул за каменный выступ. Я представил себе, как рыжий плут скачет галопом вверх по ступеням, не опасаясь выстрелов (каменный выступ скрывал от нас ступени). Взмахнув винтовкой, я бросился вперед. Задыхаясь, выскочил к ступеням. Действительно, Рыжий улепетывал вверх и достиг уже половины пути — от кромки скалистой вершины его отделяло метров двести, не больше. С ходу я пальнул. Смелость Рыжего не прошла ему даром. Он словно споткнулся о невидимый порог и упал на широкую каменную ступень, край которой скрыл его от моих глаз. Не дожидаясь Ильи, пригнувшись, я прыгал вверх по ступеням. Но Рыжий ответил метким выстрелом, и я почувствовал, как пуля ударила в котомку на спине. Но, к счастью, Илья вышел к каменному выступу и не давал Рыжему высунуть дуло. Наверху ритмично работал мотор, раскручивая винт вертолета вполсилы, словно ожидая пассажира. Я открыл стрельбу, Илья перебежал и залег у кромки первой ступени. Стрелять нам снизу вверх, укрываясь за довольно высокими ступенями, было неудобно. И Рыжий воспользовался этим. После беглого огня он вскочил и, не обращая внимания на наши выстрелы, хромая, помчался вверх. “Что он, белены объелся?” — подумал я. Меня разбирал нервный смех, и я плохо целился. Рыжий с торжествующим воплем перемахнул через кромку вершины и скрылся из глаз. “Ушел, собака!” Я вскочил и, не обращая внимания на предостерегающие крики Ильи, побежал вверх по гигантской лестнице. Меня гнало какое-то дьявольское возбуждение. Позади я слышал выстрелы Ильи — онобстреливал кромку вершины, прикрывая мою безумную атаку. “Труби атаку, эскадрон!” — почему-то орал я во всю глотку и быстро подвигался к вершине, не ощущая ни страха, ни усталости. Вспомнил Кивающего Головой, который штурмовал эти же ступени триста лет назад. А его воины и “подмышечные” осыпали стрелами роковую кромку, не давая высунуться корякским воинам. Теперь Илья тоже был моим “подмышечным”. Вмиг я очутился на вершине. Рыжий шпарил к вертолету по ровной мелкокаменистой поверхности, словно преодолевая стометровку на стадионе. Раненая нога мешала ему бежать, и он продвигался довольно медленно. Вертолет стоял неподалеку от груды ящиков, накрытых брезентом. Тут же валялись какие-то железные бочки. Вертолет словно подпрыгивал от возбуждения на своих полозьях, ожидая Рыжего. На бегу я перезарядил винчестер и открыл бешеный огонь. Пули то и дело взметывали столбики пыли у ног Рыжего. Но беглец не отвечал на мои выстрелы: из последних сил рвался к спасительному вертолету. Я переборщил — взял крупную мушку, и пули, видимо, угодили в фюзеляж. Там прибавили газ, вертолет стал медленно подниматься. В ярости Рыжий обернулся и выстрелил. Цап-царап! Огненный бич хлестнул по руке. Я упал на теплую землю. Хлесткий ветер от крутящихся лопастей поднимающегося вертолета привел в сознание. Я увидел открытую дверь в фюзеляже, веревочную лестницу, свисающую вниз, и… Рыжего, вцепившегося, как кошка, в скрученные веревки. Какие-то люди в синих комбинезонах подтягивали веревочную лестницу к себе. Рыжий рискнул прыгнуть на лестницу потому, что некуда ему было податься, вдобавок он думал, что подстрелил меня. Превозмогая острую боль, я поднял винчестер, на секунду словил Рыжего на мушку и нажал курок. Грянул выстрел. “Получай, мистер!” Все совершилось, как в ковбойском кинофильме. Рыжий выпустил веревочную лестницу и, вместо того чтобы лететь кверху, кувырком полетел вниз. Я увидел бандитские рожи наверху, искаженные злобой. Бросив лестницу, они схватились за винтовки. Я еще раз спустил курок, но выстрела не последовало — Рыжий получил мою последнюю пулю… “Все, конец!” Я лежал перед ними, точно на тарелке, беззащитный, как младенец: Неутешительные мысли проносились в сознании… И тут, заглушая рев мотора, бухнул громобой Ильи. Трещины побежали по стеклу прозрачной летной кабины вертолета. Сквозь желтоватое стекло, словно во сне, я увидел оседающее на кресло, обмякшее тело второго пилота. Вертолет тряхнуло, накренившись, он косо понесся к краю пропасти. Промелькнула вздыбленная дверь, скрюченные фигуры в синих комбинезонах, барахтающиеся в полутьме фюзеляжа… Илья сделал свой королевский выстрел! Почти у самого склона сопки вертолет выровнялся и, косо прочертив воздух, стремглав понесся на восток, наполняя долину адским грохотом… Вот и все! — закончил Костя свой необычайный рассказ, поправляя окровавленную повязку. — Давай перевяжем… — предложил я ему. — Плевать! В стойбище перевяжемся, я тебе в аптечку йод положил. — А патроны? — спросил Тынетэгин. — Очень боялись, — ответил Костя, — что гады спохватятся и вернутся со своим вертолетом. Побежали к брезенту. А там полно цинковых ящиков, набитых винчестерными патронами. Да еще несколько длинных деревянных ящиков. Прикладами сбили крышки, а там винчестеры в промасленной бумаге. И на каждом стволе клеймо — представляешь! — этого гада. Новехонькие! А рядом три бочки с горючим лежат — видно, не успели весь бензин выгрузить: испугались выстрелов. Недолго думая подкатили бочки, сбили прикладами гайки, облили бензином весь груз да еще в гущу ящиков запихали одну бочку с бензином, из третьей пролили целую дорожку к ступеням Кивающего Головой и подожгли. Ну и полыхнуло! Едва ноги унесли. Патроны рвутся, тарахтят, как тысячи дьяволов, такая стрельба — ужас! Пули свистят во всех направлениях… А потом бочка с бензином как ахнет! Скалы посыпались. Копоть всю вершину заволокла. Бриопоген[304], земля кругом горят, едва потушили куртками! — А Рыжий? — Там, наверху… Последняя моя пуля сердце ему прошила. Обгорел, как головешка. Костя замолк. Молчаливо сидели и мы, покуривая трубки. — Хорошо воевали, — удовлетворенно погладил свой длинноствольный громобой Илья, — сильно чужую железную птицу пугали…ДИКОЕ СЕРДЦЕ
— Скорее в стойбище надо бежать, — спохватился Гемелькот, — полковник беспокоится: наши выстрелы слышал. Действительно, приветствуя друг друга, мы дали залп неподалеку от лагеря. Приближаясь к стойбищу, еще издали увидели большую островерхую палатку военного образца, поставленную рядом с ярангой бабушки Вааль. У палатки виднелись фигурки. Там блеснули стекла бинокля — видно, наш отряд заметили. Но странно — стойбище словно вымерло, ни один человек не вышел из яранг. — Не пойму, что у них стряслось, — удивился Костя. Вдруг люди у палатки зашевелились и побежали к нам навстречу. Это были спутники полковника. Целым отрядом вступаем в стойбище. Впереди шагает Костя в окровавленной повязке. От него не отстает Илья в развевающемся обгорелом платке. Из своей яранги выбежала бабушка Вааль. — Какомей! — воскликнула она. — Илья живой пришел! Полковник встретил нас у палатки. Серые глаза его смеялись. — А-а, вояки с того света пожаловали! Из яранги Тальвавтына высунулся Вельвель. Увидев Костю и Илью, растерялся, глаза его забегали, и он поспешно скрылся обратно. Расспросам не было конца. Костя слово в слово повторил свой необыкновенный рассказ. — Ну и нахальные, черти! — усмехнулся полковник. — Дали им прикурить! К награде представить вас нужно — ухлопали рыжего волка. Много бед у нас натворил. Мы без вас тут, Вадим, ультиматум предъявили… — Ультиматум? — нахмурился я. Полковник рассмеялся: — Не хмурься, добрый молодец. Просто предъявили твоему Тальвавтыну решение окрисполкома и предложили в 24 часа сдать все лишнее оружие. Тальвавтын старшин у себя собрал — обсуждают ультиматум. — А куда вы денете оружие? — поинтересовался Костя. — Здесь целый арсенал винчестеров наберется. — Распилим… — невозмутимо ответил полковник. — Во всех стойбищах Центральной Чукотки оперативные группы сейчас принимают оружие. — Чисто сработано! — восхитился Костя. — Еще не сработано… — покачал головой полковник. — Ждем ответа Тальвавтына. Теперь понятно, почему притихло стойбище, — все ждали решения короля Анадырских гор. — Может быть, мне пойти туда? — спросил я полковника. — Не стоит, пусть сами решают… Всю ночь Тальвавтын совещался со своими помощниками. Яранга его дымила, как паровоз, — ультиматум обсуждали за трапезой. Мы все собрались в палатке. Бабушка Вааль угощала гостей отварной олениной, поила бульоном и чаем. Тальвавтын поручил ей ухаживать за гостями. Я усадил старушку рядом и угощал печеньем. Полковник преподнес ей плитку армейского шоколада и совсем смутил нашу хозяйку. Робко поглядывая на гостей, она с удовольствием пила чай, закусывая невиданным лакомством. В эту тревожную ночь мы почти не смыкали глаз. Лишь Костя и Илья, растянувшись на шкурах, спали как убитые после тяжкого похода. У палатки полковник поставил часовых… Рано утром в палатку пришел Тальвавтын. После бессонной ночи он был бледен. Глаза глубоко запали. С олимпийским спокойствием он уселся на шкурах. — Где Рыжий? — спросил он меня, словно не замечая Костю с забинтованной рукой. — К “верхним людям” отправил Костя Рыжего, Илья чужую железную птицу прогнал — разбил ей стеклянный глаз. Патроны, пищу для железной птицы, потом палили… Тальвавтын внимательно слушал и вдруг сказал: — Хорошо делали! Все опешили. Костя так и застыл с разинутым ртом. — Как решили с оружием? — не вытерпел неторопливости северного разговора полковник. — Будем отдавать тебе, как солнце на юг встанет. Не надо нам так много винтовок… — Умная у тебя голова, — облегченно вздохнул полковник. — А как дальше жить будем, Тальвавтын? — спросил инструктор райкома. — Коо, — развел руками старик, — сам не знаю теперь… — Соединяйтесь в артель — сообща оленей держать будете, а доходы делить между всеми, кто трудится… Тальвавтын задумался. Мы с острым интересом ждали ответа короля Анадырских гор. — Наверно, людям хорошо будет, — тихо, словно про себя, проговорил старик. — Чайвуургин[305] правильно делал, очень умный человек был: дарил людям свой табун — Чуванский колхоз из его оленей получился. А себе немного оленей оставлю, все равно скоро помирать буду… Тут в разговор вмешался представитель окрисполкома: — Бумага есть брать оленей у эрмэчынов, выступавших с оружием против — Советской власти. — Эта бумага, — твердо заявил я, — к Тальвавтыну не относится… — Оленей Экельхута, — рявкнул Костя, — забирать надо и отдавать новой артели! — А мы с артелью, — добавил я, — заключим контракт на поставку оленей для совхозов Дальнего строительства, вмиг колхоз миллионером станет… Так закончился исторический разговор, взволновавший нас до глубины души. Стоит ли говорить, что это было началом новой эры Пустолежащей земли? Словно темная туча ушла за горизонт, освободив ясное, чистое небо. Все почувствовали освежающее веяние ветра свободы. Мы присутствовали при катаклизме: глыбы раздвинулись, открыв непроходимую пропасть между прошлым и настоящим. Нам посчастливилось стать свидетелями последних дней последнего “острова прошлого” на Чукотке… Через несколько дней пришлось распрощаться с полковником и его спутниками. Наступало жаркое время, появились комары, предвещая беспокойную комариную пору. Надо спешно возвращаться к нашим друзьям: ведь они не в состоянии удержать в жару многотысячный табун. Костина рана затянулась: бабушка Вааль все время поила Костю отваром из каких-то трав и смазывала рану медвежьим жиром. Лечение оказалось чудодейственным. Теперь мы шагали по знакомому пути, преодолевая перевал за перевалом. — Ну и жизнь, — ворчал Костя, — носимся туда-сюда как полоумные! — Ноги оленевода кормят… — глубокомысленно заметил Илья, неутомимо шагавший впереди нашего маленького отряда. На второй день пути появились бесчисленные рати комаров. Пришлось надеть накомарники. Долины погрузились в знойное марево. Мы шли, изнывая от жары, делая короткие передышки у дымокуров. — Откуда они взялись? — удивлялся Костя. — В горах комаров не должно быть. — Больно жарко стало, — заметил Илья. Охватывала тревога. В такие знойные комариные дни удержать многотысячный табун невероятно трудно. Как справляются там наши друзья одни-одинешеньки? Костя, не зная устали, часами шагал впереди отряда, проклиная невиданную в горах жару и освирепевших комаров… Заря багрила небо, когда мы спустились в долину, откуда я ушел в стойбище Тальвавтына. Истомленные, останавливаемся у кострищ нашего лагеря. Круги из булыжников отмечают место, где стояли яранги. К этим камням прикасалась Геутваль, а тут был натянут полог, где она спала. — Порядок! — хрипло проговорил Костя, устало опустившись на гальку, не остывшую еще от дневной жары. — Завтра настигнем табун в Приподнятой долине. Нам удалось спокойно поспать несколько часов, потом разбудили комары. Остаток ночи шли напрямик по гребням сопок. Наверху было меньше гнуса — обвевал прохладный ветерок. Мы быстро приближались к заветной долине, где Костя и Илья оставили табун. Возбуждение охватило даже всегда спокойного Илью. Просто удивительно, как быстро привыкает человек в северной пустыне к своему стойбищу! Солнце позолотило вершины. — Опять жарко будет… — встревожился Илья. — Смотри, Вадим, — махнул рукой Костя, — вон сопка с одиноким кичиляхом… там перевал в нашу долину! Не замечая усталости, устремляемся вперед, точно на крыльях. На последний перевал поднимаемся почти бегом. Задыхаясь, выбираемся на седловину… Диво, вот так диво! Внизу раскинулась широченная зеленая долина, словно приподнятая к небу. Гребнистые вершины поднимались прямо из зелени, образуя отдельные миниатюрные хребетики. Мы словно забрались на крышу Чукотки. Широкие просветы открывались между хребетиками, и там, вдали, тоже нежно зеленела высокогорная равнина. Глубокие тихие речки змеились по зеленому ложу. Там и тут блестели озера. И вся эта дивная долина, залитая светом, купалась в ослепительных лучах солнца. Видно, мы забрались на Главный водораздел, приподнятый над всем Анадырским плоскогорьем. — Дьявольщина! — вдруг заорал Костя. — Беда, скорее! Сбросив винчестер и котомку, он понесся вниз саженными скачками, орудуя посохом как тормозом. И тут я увидел оленей. События разворачивались будто на арене грандиозного цирка. Громадный табун, кружившийся на плоской речной террасе, волнуясь, как море, раскручивался тугой пружиной в длинную ленту. Передние олени с разбегу кидались в широкую речку и плыли к противоположному берегу. За ними всей массой напирал табун. Издали казалось, что живая плотина перехватила реку. В воде колебался лес коричневых рогов. Река бурлила, клочья пены плыли по течению… Что там случилось? Почему олени ушли под ветер? В комариную пору это грозное бедствие. Обезумевшие животные, если их не завернуть, долго будут бежать против ветра, а потом растекутся в горах бесчисленными табунами. Мы ничем уже не могли помочь беде. От перевала до переправы стада было не менее двух километров. И вдруг я заметил бегущую фигурку. Выхватив бинокль, прильнул к окулярам. — Геутваль! Стройная фигурка девушки ясно вырисовывалась на зеленом фоне тундры. Она бежала наперерез обезумевшему табуну и не успела повернуть оленей. Я знал легкость и быстроту ног Геутваль, ее никто не мог опередить в беге — любимом спорте чукотской молодежи. Но я понимал: дальше пути у Геутваль нет. Чукчи не умеют плавать — попадая в воду, они камнем идут на дно. Перед ней непреодолимая преграда — глубокая река. А за ней блестит еще широкая протока! И вдруг (безумная девчонка!) она выскользнула из своей одежды — керкер упал к ее ногам — и ринулась в воду. Девушка не умела плавать — хлопала по воде руками, как подстреленная чайка крыльями, взметая фонтаны брызг. Больше я ничего не видел. Сбросив походную амуницию, я понесся большими скачками вслед за Костей… Не помню, сколько времени бежал. Видно, летел как ветер — опомнился на берегу взбаламученной, еще не успокоившейся реки. Оленей не было, не было Геутваль и Кости. На берегу, у одинокого кустика карликовой березки, сиротливо лежал помятый керкер. Отбросив бесполезный бинокль, я схватил керкер и бросился в воду. Нерпичьи торбаса и одежда быстро намокли. Я с трудом выплыл к противоположному берегу, держа над головой комбинезон девушки. В том месте, где олени выскочили на берег, трава и кусты были примяты и смешаны с черной грязью. Я со страхом оглянулся на реку. Темная ее вода молчаливо струилась среди пустынных берегов. И вдруг чуть поодаль, на узкой полоске илистой отмели, увидел следы маленьких босых ног… Мигом взлетел на пригорок. Черная оленья тропа уходила напрямик к широкой протоке. Спустя несколько минут я очутился на ее берегу. Протока испугала меня шириной. Следов Геутваль не нашел. Переплыл протоку, но и здесь не нашел ее следов. Геутваль, видимо, погибла, бросившись следом за уходившим табуном. Я представил, как она плыла до тех пор, пока силы не оставили ее. В жестокую комариную пору стадо теперь не собрать. Но думать о гибели отважной девушки было еще тяжелее. Опустив голову, я брел по следам оленей. Поднялся на песчаную террасу, развеянную ветрами. То, что увидел, я никогда не забуду. Сверкая озерами, передо мной простиралась ярко-зеленая равнина. У подножия холма спокойно паслись наши олени. Рядом стояла Геутваль. Ее распущенные волосы развевались по ветру. Она протягивала руки к солнцу, как будто благодарила его. Девушка только что завернула оленей и спасла табун. Ее тоненькая фигурка светилась, окутанная голубоватым, прозрачным дымом. Только теперь я заметил Костю. Опустившись на колени, он торопливо разжигал дымокуры, защищая девушку от комаров. — Геутваль! — громко закричал я и понесся к ней, размахивая керкером. Через минуту я сжимал ее маленькие грязные ручки. — Жив ты?! Она осторожно гладила мою бороду, усы и тихо смеялась. Потом юркнула в свой керкер. Мы стояли втроем на мшистой тундре, освещенные солнцем, не обращая внимания на вьющихся комаров. Геутваль взяла наши руки. — Ой, как я вас люблю! — пылко воскликнула она. — Обоих?! — опешил Костя. — Да… — без колебания проговорила она. — Ты, Костя, очень храбрый, спас Вадима; Вадим тоже храбрый и очень добрый, совсем хороший. Всю жизнь вас буду любить… — Нельзя любить обоих одинаково, чудачка! — Нет, можно… — запальчиво ответила девушка. — Вадим невесту искать пойдет, а ты останешься со мной. А потом Вадим вернется с Марией, я встречу ее как сестру, и мы всю жизнь проживем вместе. Будем всегда любить друг друга. — Ну и дикое сердце! — изумился Костя. — Слава богам, хоть так меня полюбишь. — И он решительно привлек ее к себе и нежно поцеловал. — Краса моя… — Подруга… — тихо ответила девушка. Чукчи называют свою жену “моя подруга”… Оказывается, оленей пугнул громадный медведь. Он выскочил из кустов, когда измученные комарами животные мирно кружились на речной террасе. Олени шарахнулись. Паника мгновенно охватила многотысячное стадо. Вожаки ринулись под ветер, увлекая за собой обезумевший табун. Дежурили у табуна Гырюлькай и Геутваль. Гырюлькай вступил в единоборство с медведем, а девушка понеслась наперерез убегающему стаду и сумела завернуть его, рискуя жизнью. Так окончилось последнее наше испытание. Целый месяц мы пасли оленей в Приподнятой долине, с честью выдержав натиск комаров. Мы по-прежнему не разлучались с Геутваль ни на минуту. Нас соединяла верная дружба, закаленная испытаниями. И вот однажды, в ясный солнечный день, когда лёт комаров стал стихать, в небе послышался знакомый гул. Вдали мы увидели крошечный самолет, рыскавший над вершинами. Быстро развели дымовой костер, и скоро над нами закружила знакомая машина. Самолет стремительно спикировал, заложил головоломный вираж и выбросил вымпел с алой лентой. Чудесная машина молнией пронеслась над нами. За стеклами кабины мелькнула смеющаяся небритая физиономия Сашки. Самолет с оглушительным ревом круто взмыл к небу, дружески покачал крыльями и унесся на север, как призрак. Геутваль бросилась искать вымпел и вскоре принесла алюминиевый патрон с алой лентой. Я отвинтил крышку, развернул скрученную бумажку и громко прочел депешу:Поздравляем всех блестяще выполненной операцией. Сдай табун Косте — пусть продолжает перегон на Омолон. Спускайся на плоту с отчетом вниз по Большому Анюю в низовья Колымы. Разведай по пути, можно ли в верховьях Анюя разместить оленеводческий совхоз? Обнимаем диких оленеводов. Генерал ждет тебя с нетерпением.— Ого! — восхитился Костя. — Видно, Анюй пошел в гору! Такого крутого поворота в своей судьбе я не ожидал и растерянно смотрел на приятеля. — А Мария? Почему он ничего не пишет о Марии? — Не пропадет твоя суженая, из-под земли достанем, — сжимая огромные кулачищи, твердо сказал Костя. Втроем мы склонились над картой, рассматривая маршрут предстоящего похода. Верховья Большого Анюя отмечены на карте голубым пунктиром. Истоки его подбирались к Главному водоразделу и, судя по карте, лежали не так далеко от Приподнятой долины. — Пойдем к верховьям вместе, как комариная пора кончится… — говорит Костя, — построим тебе плот и поплывешь вниз по Анюю. — Я с тобой, Вадим, поплыву — буду варить тебе пищу, — заявила Геутваль, — нельзя одному на сейдуке кочевать. — Ну уж нет! — рявкнул Костя. — Вадим пойдет Марию искать, ты со мной останешься. У нас с тобой целый табунище на руках. Я погладил рассыпавшиеся волосы Геутваль. Было мучительно жаль расставаться с ней. — Утонешь ты, с Ильей поплыву. Марию найду, к вам приеду на Омолон, навсегда…Буранов.
ПЕРСТЕНЬ
— Такого еще не бывало, — ворчал Костя, разглядывая пустое пятно на карте. С безлесного кряжа, где мы стояли, открывалась долина Анюя, стиснутая синеватыми сопками. С птичьего полета бегущий по галечному дну поток казался неподвижным. Внизу, на анюйских террасах, нежно зеленели летней хвоей лиственницы. Деревья росли вдоль широкого русла. Давно мы не видели леса, и я жадно разглядывал в бинокль зеленеющие чащи, так красившие дикую долину. Вероятно, люди редко забредали сюда. — Ну и дыра… — пробормотал Костя, складывая бесполезную карту. — Что там переселение народов! Монголы шли по обжитым местам. В душе я соглашался с приятелем. Двигаться в безлюдных горах, в глубь тайги с полудикими тундровыми оленями казалось сущим безумием. Но комариная пора благополучно окончилась, телята подросли. С Омолона к нам явилась долгожданная помощь — бригада молодых пастухов во главе с Ромулом. Теперь я мог покинуть табун и отправиться с отчетом вниз по большому Анюю, оставив оленей в надежных руках… К верховьям Анюя мы выбрались с Костей, Ильей и Геутваль, совершив утомительный переход на вьючных оленях по каменистым гребням Главного водораздела. И вот мы разглядываем лежащую перед нами долину. Вдруг Илья хмыкнул. У невозмутимого охотника это означало крайнюю степень удивления. Он потянулся за биноклем и прильнул к окулярам. Я удивился. Дальнозоркий старик редко пользовался биноклем, предпочитая разглядывать дальние предметы из-под ладони. — Тьфу, пропасть! Зачем, анафема, тут стоит? Совсем дальний место… — говорил Илья, не отрываясь от бинокля. — Сохатого, старина, увидел, а? — усмехнулся Костя. Он разлегся на пушистом ковре ягельников около Геутваль, с наслаждением покуривая обгорелую трубочку. — Гык! Русская дом, однако… — растерянно моргая покрасневшими веками, сказал старик. — Дом?! Эвен плохо говорил по-русски и, видно, перепутал слово. Ближайшее поселение находилось в трехстах километрах ниже, почти у самого устья Анюя, и тут, в неизведанных его верховьях, не могло быть никакого дома. — А ну, дай-ка! — взял бинокль Костя. — Зачем не туда смотришь? Вон пестрый распадок… Видела?! Совсем густой деревья — дом маленький притаился… — Ну и номер! Всамделишная изба стоит. Посмотри… — Костя протянул мне “цейс”. Действительно, в глубоком боковом распадке среди вековых лиственниц приютилась крошечная бревенчатая избушка. Она стояла в укрытом месте — с реки не заметишь. Ее можно было обнаружить лишь в бинокль с высоты горного кряжа. В сильные восьмикратные линзы я различил обтесанные бревна, темные оконца, прикрытую дверь, груду каких-то вещей на плоской крыше. Кто же поселился в этих диких местах? — Однако, русский люди строила… — ответил на мои мысли Илья. — Ламут, юкагир, чукча в чуме, в шалаше, в яранге кочевала. Геутваль потянулась за биноклем и с любопытством стала разглядывать невиданное жилище. Русская избушка в глубине безлюдного Анадырского края поразила нас. Посоветовавшись, мы решили тотчас двигаться в распадок к одинокой хижине. Идти к Анюю все равно было нужно. Оленьи стада остались на попечении Ромула у Дальнего перевала. Костя и Геутваль провожали меня, я же собирался спуститься на плоту по Анюю к Нижне-Колымской крепости (так величали колымчане Нижне-Колымск), а оттуда добираться с отчетом в Магадан. Костя считал, что избушку в этой дьявольской глуши построил недобрый человек и надо быть готовыми ко всему. Он прибавил патронов в девятизарядный магазин винчестера и заявил, что берет на себя “лобовой удар” — спуск прямо к хижине, с сопки. — На мушку удобнее брать сверху, я у вас вроде артиллерийской батареи буду. — Я с тобой пойду, — заявила Геутваль, — твоим “подмышечным” буду, как Илья на сопке с каменной вершиной. — Ну и дьяволенок! — махнул рукой Костя. — Ладно, идем… Мы с Ильей но этой диспозиции совершали обходный маневр — спускались с вьючными оленями в долину Анюя и запирали выход из распадка. В долине мы оказались быстро. Где-то рядом, в камнях, посвистывали пищухи, у болотца, распушив синеватые перышки, наскакивали друг на друга турухтаны. Они не замечали людей. — Кыш, кыш… совсем ум теряла, лиса ловить будет, — взмахнул посохом Илья. Анюй, сделав излучину, вплотную прижимался к распадку, где скрывалась избушка. Река, пропуская воды недавних дождей, вздулась, взгорбилась пенными валами и несла мутные струи вровень с берегами. Быстрота течения смутила меня. Но Илья, посмотрев на взбаламученный поток, удовлетворенно чмокнул: — Совсем большая вода. Плот мино делать будем, быстро поедем. Плыть по Анюю я решил вместе с Ильей. Старик предлагал связать треугольный юкагирский плот — мино. На таких плотах юкагиры благополучно спускались по неспокойным колымским рекам. Оглушительный выстрел гулко раскатился в горах. — Аей-и! — подскочил эвен. — Беда. Костя палила. Бросив вьючных оленей, мы кинулись к распадку, щелкая затворами. Опередив Илью, я мчался по мшистой террасе, перепрыгивая кочки. Проломившись сквозь лесную чащу, выбежал на опушку и увидел Костю и Геутваль. Они прыжками спускались по черной осыпи, съезжая на языках щебня. Костя что-то кричал, показывая винчестером вниз на избушку. Она была рядом. Двумя зрачками чернели в светлых бревнах крошечные квадратные оконца, похожие на бойницы. Дверь была плотно закрыта. Избушку поставили ловкие руки. Она напоминала маленькую бревенчатую крепость. Обитатели ее могли долго отстреливаться из своего убежища. Учитывалась каждая мелочь. Даже с тыла к этому крошечному блокгаузу по рыхлой осыпи подобраться бесшумно невозможно. Эти немаловажные детали мгновенно слились в разгоряченном воображении в довольно правильную, как выяснилось потом, картину. Подбежал, задыхаясь, Илья. — Пус-то! — крикнул Костя, закидывая винтовку за спину. Но Геутваль на всякий случай держала свой винчестер наготове. Веточки голубики и багульника густо разрослись у порога избенки, мохом поросла притолока низкой двери, он зеленел и на плоской крыше, где кучей громоздились оленьи рога, совершенно выбеленные временем. Мы молча разглядывали мертвое жилище. Бревна, сухие, как телеграфные столбы, были вдвое толще росших поблизости лиственниц. Просто удивительно, откуда притащили сюда такие стволища. — Эх и жаль, пи души… — разочарованно протянул Костя. Он вытащил кисет и закурил трубочку. Пустая хижина его мало интересовала. Меня, наоборот, влекли молчаливые избушки Севера. Нередко они хранили память о таинственных полярных трагедиях. Дверь так обросла мхом, что мы едва отворили ее. Петли из сыромяти истлели, и дверь осталась у нас в руках. — Совсем не помнила, когда люди в дом ходила… — кивнул Илья на замшелый порог. Полутемная горенка оказалась небольшой — метра три на четыре. Светилось небольшое окошко без рам. Видно, сюда вставляли зимой лед вместо стекол. В бревенчатых стенах прорубили квадратные бойницы на высоте человеческого роста. Избушку, несомненно, приспосабливали к длительной осаде. В левом углу чернел полуразвалившийся камелек из прокопченных сланцевых плит. Зимой открытый очаг освещал и обогревал жилище. Теперь в обрушившийся дымоход просвечивало небо. Вдоль стены в самом теплом месте избушки помещались широкие нары, сгнившие доски осели под грудой истлевшего тряпья. Я принялся ворошить эту кучу. Илья разгребал мусор в углу. Геутваль замерла у порога, не решаясь идти дальше. Костя, посасывая трубку, насмешливо процедил: — Ну чего ищешь? Ясно: охотник тут жил, наколотил оленей и уплыл обратно на Колыму. Перебирая тряпье, я нащупал вдруг какой-то длинный и твердый предмет. Пыль от трухи поднималась столбом. Чихнув, я вытащил здоровенную кость совершенно бурого цвета. — Ого! — Костя поспешно затушил трубку. Он довольно хорошо разбирался в анатомии человека. — Большая берцовая! Вот так костище, а ну-ка встань. Он примерил кость к моей ноге. — Ух и детина! Ростом был метра два. И много шире тебя — посмотри, какая толстенная. Двухметровый обитатель хижины обладал, видно, недюжинной силой. — Это он сломал, — кивнул Костя на тяжелую скамью, переломленную надвое, точно спичка. Слом был давний… В углу хмыкнул Илья. Он сидел на корточках, с интересом рассматривая какой-то ржавый предмет странной формы, похожий на вилку. — Как попала сюда очень старая стрела? — качал он вихрастой головой. Раздвоенный ржавый наконечник походил на жало змеи, был туго прикручен к обломанному древку пыльной лентой бересты. Таких стрел мне не приходилось встречать ни в одном музее. — Где ты видел такие стрелы? — Дедушка говорила: давние юкагирские люди ленного гуся била. — У нас в стойбищах Пустолежащей земли такие стрелы у стариков еще остались — юкагиры им дарили, — вмешалась Геутваль. — Правы они, — усмехнулся Костя, — слыхивал я, в тундре и чукчи били ленных гусей вильчатыми копьями еще совсем недавно, до революции: берегли дробь. Говорю же, промышленник в избушке жил, на Колыму только не вернулся. Эвен покачал головой: — Чукча берестой вилку не вязала, очень старый стрела… Мы принялись опять ворошить тряпье и нашли два ребра, разбитую теменную кость, кусок полуистлевшего алого сукна, подбитого темным мехом. Илья долго рассматривал находку, щупал расползающееся сукно, нюхал мех, думал о чем-то, кряхтел, пощипывал редкие волоски на безбородом лице. — Однако, давно такой зверь помирала, соболь это. — Соболь?! — Костя не смог удержать восклицания. — Послушай, старина, это очень важно… Почему думаешь, что соболь? — Сам щупала такой шкурка, бабушка совсем старый душегрейка показывал, рукава соболем подбита, ей родной бабушка дарила. — Бабушка твоей бабушки?! Сколько же лет собольей душегрейке?! — удивился Костя. Эвен долго считал по пальцам. — Ламуты еще за Колымой кочевала, сюда не приходила, полтора, два сто лет… — Странно, старик считает точно, — задумчиво проговорил Костя, — соболя выбили на Колыме двести лет назад. А триста лет назад соболь был золотым руном Сибири, главной доходной статьей государевой казны, золотым эталоном торговли. В поисках новых соболиных угодий казаки и промышленники открывали в XVII веке одну за другой великие реки Сибири. За шестьдесят лет российские аргонавты прошли от Урала до берегов Тихого океана… Обитатель хижины носил одежду из алого сукна, подбитую соболем. В этих местах это мог быть только старинный казацкий кафтан. — Неужели мы нашли хижину с останками сибирского землепроходца?! — Ну, Вадим, ты уж хватил… Может быть, тут и жил казак, но занимался он промыслом. Нашли мы с тобой, брат, избушку колымского зверолова. — Звероловы, Костя, носили сермягу… — А-ё-и! — подскочил в своем углу Илья. Теперь он держал довольно странный предмет, похожий на маленькую булаву. На тонкое древко был насажен грушевидный костяной набалдашник величиной с луковицу. Я протер его рукавом. На пожелтевшей кости выступили глубокие борозды кольцевого орнамента. Набалдашник вырезали из мамонтовой кости, прочно насадили на древко и прикрутили ленточкой бересты таким же манером, как и двурогий наконечник стрелы. Костя дивился, прикидывая, для чего же служила такая штуковина. Удивлялась и Геутваль. — Еще пуще старинный стрела, — пробормотал эвен. — Томара прежде звали. Нюча на Колыму привезла. Такой тупой стрела соболь убивала, мех не портила, казну целый шкурка давала. — Нюча? Кто это? — Самая первый русский. В старинную пору ламуты крепко хотела бить юкагира, недруги били, а бородатые пришли, говорила: “Нюча, нюча — не надо, не надо воевать…” Так и звать русская люди стала: нюча, нюча — не надо, не надо. — В глазах эвена вспыхнули смешливые искорки. — И давно нючи на Колыму пожаловали? — спросил Костя, проверяя познания Ильи. Присев на корточки, старик опять принялся считать на пальцах поколения своих родичей. — Однако, три сто лет будет… — Вот так живая старина! Ну чем не академик! Эх, и золотая башка у тебя! — восхитился Костя. — А томара — дело ясное: нашли мы, Вадим, как ни верти, последнюю пристань старинного русского зверолова. Спорить не хотелось. Полуночное солнце ушло за сопки. В эту пору оно не опускается за черту горизонта. Но горы заслонили свет, и в хижине стало так темно, что раскопки пришлось отложить до утра. Да и надо было отдохнуть после длинного перехода по каменистым россыпям Анадырского плоскогорья. Бивак разбили рядом с избушкой на пестром ковре ягельников. Зажгли яркий костер из смолистых сучьев, пустили развьюченных оленей пастись на опушке. Поужинав копченой олениной, закутались в теплые спальные мешки. Дремали лиственницы в пушистом летнем убранстве. Светлое беззвездное небо мерцало над полусонной долиной. Где-то на близком перекате глухо шумел Анюй. Я долго не мог заснуть, раздумывая о судьбе обитателя старинной избушки. Как решился одинокий скиталец построить ее у порога неведомой страны, среди воинственных горных племен? Остатки дорогого кафтана, подбитого соболем, свидетельствовали, что здесь поселился не простой промышленник… Крепко спалось на свежем воздухе, утром Илья едва растолкал нас. Наскоро позавтракав, мы устремились к избушке, сгорая от нетерпения. Я читал, что археологи просеивают “культурный слой” сквозь сито в поисках мелких предметов. Костя связал арканом раму из лозняка и затянул ее тюлевым пологом. Полдня мы просеивали мусор из хижины, но нашли лишь пожелтевший костяной гребень, вырезанный из моржового бивня… Геутваль осторожно разгребала кучу перегнившего тряпья на обвалившихся нарах. Настил был засыпан трухой из сухого мха, свалявшейся оленьей шерсти и гусиных перьев, выпотрошенных, видно, из перин и подушек. Нары оказались сломанными так, будто сверху упал на доски тяжелый груз. Разбирая мусор на полу хижины, мы все время находили обломки самодельной мебели. Костя полагал, что обитатель избушки, застигнутый врасплох, отбивался чем попало до последнего и был убит в дальнем углу хижины на своем ложе. Илья поддержал Костю: — Видела? Очень крепкий скамья: здоровый человек ломала, сильно дрался, потом тут погибала, тяжелый, однако, была, падала, полати ломала. Пожалуй, так оно и было. Многое говорило о внезапной и трагической развязке. Имущество землепроходца нападавшие, видимо, разграбили: в хижине остались лишь случайно уцелевшие предметы. Почти целый день ушел на раскопки. Пора было строить плот. “Ловить живую воду”, как заметил Илья. Да и Косте с Геутваль следовало возвращаться к оленьему табуну. Он головой отвечал за многотысячное стадо. Но странно: у границы леса мы не находили сухих деревьев, подходящих для плота. Костя чертыхался. — Не век же тут канителиться! Куда, к дьяволу, запропастился сухостой? Лиственницы тут не хотели засыхать, пышно зеленели, пуская вверх по Анюю буйную молодую поросль. Я объяснял это потеплением арктического климата и наступлением леса на верхний пояс гор. — Откуда казак притащил кондовые бревна для своей хибары? Может быть, триста лет назад тут росли могучие деревья? — На Севере я привык размышлять вслух. Костя обернулся и хватил топором корявую лиственницу, — Идиоты… бестолочь! Бродим попусту, как лешие. Разберем, Вадим, избушку — вот тебе и плот. В два счета построим, да еще какой! Бревнища-то сухие, как порох, триста лет сушились. Плыви хоть на край света! Пронзительные вопли Ильи всполошили нас. Он махал нам платком и кричал тонким фальцетом: — А-яи-яи-и, а-яи-ян-и… Быстро беги… Русский люди хоронила! Старого следопыта мы нашли с Геутваль в густой поросли вейника недалеко от избушки. Согнувшись в три погибели, они рассматривали омытый дождями, покосившийся крест. Высокие травы совершенно скрывали одинокую могилу. На перекладине едва проступала надпись, вырезанная церковной вязью. Удалось разобрать лишь одно слово. — Голубка… — громко прочел Костя. — Имя, что ли? — Не думаю. Слово вырезано в середине строки с малой буквы. Могильный холм, кем-то давно разрытый, сровнялся с землей. На нем пышно разрослись травы. — Смотри: большая медведь давно копала, все украла. — Узловатыми пальцами эвен поглаживал старые царапины от когтей на основании креста. Я принес шанцевую лопатку и наше сито. Костя срезал ножом траву, и мы вчетвером снова принялись за раскопки. Крест устоял под натиском медвежьих лап потому, что его основание намертво врубили в колоду и щели залили свинцом. Медведь безжалостно расправился с погребением. В горизонте вечной мерзлоты мы откопали лишь лоскут старинного русского сарафана и длинные пряди русых женских волос. — Ну и дела! — почесал затылок Костя. — Откуда бабу сюда триста лет назад занесло? Чудилась романтическая история давних лет. Удалой казак любил эту женщину. В последней надписи он ласково назвал ее голубкой. Вместе они прошли всю Сибирь и сложили буйные головушки у подножия Главного водораздела, в ту пору не более известного русским людям, чем для нас с вами Марс или Венера. Геутваль терпеливо просеивала грунт через тюлевое сито и вдруг обнаружила в сетке потемневшую металлическую бляху, похожую на медаль. Вылили ее, по-видимому, из сплава серебра с бронзой. На выпуклой поверхности рельефно выступал рисунок: человеко-конь — кентавр пронзал копьем дракона. Меня поразил византийский характер изображения. Непонятно, как попала такая медаль на край света, в дебри Сибири, в могилу доблестной спутницы землепроходца?! Долго рассматривал эвен находку. — Совсем такой зверь люди не видела… — растерянно бормотал он. Больше мы ничего не нашли в могиле. Перевалило далеко за полдень. Костя предложил не отдыхать — разбирать избушку и скорее вязать плот. Не хотелось трогать историческое жилье. Но так сложились обстоятельства: ни сухостоя, ни плавника вокруг не оказалось, а терять время мы больше не могли. Полые воды Анюя пошли на убыль… Работа спорилась. Сняв прогнившую крышу, мы принялись разбирать стены венец за венцом. Скоро образовалась груда бревен, необычайно сухих и легких. — Эх и плот будет, как пробка, — восторгался Костя, — на крыльях полетите! Геутваль грустно смотрела на бревна, которые должны были унести нас навсегда… Седьмой от верха венец покоился на уровне нар. Топором я стукнул в угол сруба, у самого изголовья нар, и вдруг часть бревна отскочила, как крышка волшебного сундука, открыв выдолбленный в бревне тайник. В углублении, точно в дубовом ларце, покоился пыльный сверток бересты. Бросив топор, я поспешно извлек его. — Эй, старина! Что там ты выудил? — спросил Костя. — Клад нашел. Чур, на одного! В берестяном свертке оказался длинный замшевый мешочек, похожий на рукавицу, расшитый знакомым мне узором. — Поразительно… Посмотри, Костя, индейский кисет. Как он попал сюда? Год назад по делам Дальнего строительства я летал на Аляску и в Номе в магазине сувениров видел точно такой же узор на изделиях юконских индейцев. — Вот так российский землепроходец! — усмехнулся Костя. — А ну сыпь, — подставил он широкую ладонь, — покурим американского табачку. — Черт подери! Неужто в верховья Анюя забрел американский траппер или золотоискатель с Аляски? На Чукотке в самых глухих местах иногда находят заброшенные жилища американских контрабандистов и золотоискателей. В двадцатые годы, пользуясь отдаленностью и неустроенностью наших окраин, эмиссары американских компаний проникали на Чукотку, скупали у местного населения за бесценок пушнину, искали в чукотской земле золото. Но кошель с индейским узором имел слишком древний вид: замша ссохлась и затвердела, местами истлела. Илья протянул свой охотничий нож, острый как бритва: — Режь, пожалуйста… смотреть брюхо надо. Мы столпились вокруг находки. Я разрезал огрубевшую замшу. На ладонь выскользнул массивный золотой перстень с крупным рубином. Шлифованный камень мерцал таинственным кровавым сиянием. — Какомей! — воскликнула девушка. — Эко диво… — прошептал Илья. Дивный перстень был филигранной работы. Резчик вправил рубин в золотую корону, а по обручу перстня выточил тончайший орнамент: выпуклый жгут сплетенной девичьей косы. Я осторожно надел перстень на руку Геутваль и золотая коса обвилась вокруг смуглого пальца. Перстень был ей очень велик. — Красиво… — проговорила она, поглаживая золотое кольцо. — Хоть под венец… — сказал Костя по-русски. — Что он говорит? — спросила Геутваль. — Хочет навсегда брать тебя в жены. Геутваль смутилась и покраснела. Костя ощупал кошель и вытряхнул здоровенный ключ с узорчатой головкой, бурый от ржавчины. Такими ключами закрывали замки старинных русских ларцов. Я видел их под зеркальными витринами Оружейной палаты в Кремле. — А где сундук с брильянтами? — засмеялся он. — Эх и везет тебе, Вадим, на клады! Аи… Посмотри, бумага тут какая-то… Костя не решался тронуть ветхий документ. По счастливой случайности нож прошел мимо сложенного пергамента. Он сильно пострадал от сырости и плесени — слипся и пристал к истлевшей замше. Приятель вытащил из полевой сумки хирургические ножницы, скальпели, пинцеты. Ему приходилось делать хитроумные операции оленям. Теперь хирургическая практика пригодилась. С величайшей осторожностью он благополучно извлек и расправил пинцетом уцелевшие лоскутья документа. Пергамент был покрыт затейливой славянской вязью. Мы нашли фрагменты старинной русской грамоты… По характеру письма найденная грамота не отличалась от известных челобитных Якутского архива. Такой скорописью писали во времена сибирских землепроходцев. — Ничего неразберу, Вадим, что писал твой землепроходец! Действительно, буквы славянской вязи читались с большим трудом. Расшифровать удалось лишь обрывки разрозненных предложений. Я записал их в той же последовательности, что и в грамоте:В прошлом во 157[306] году июня в 20 день……. ……..Семен Дежнев с сотоварищи……. ……………………….. ………Ветры кручинны были……… ………………………раз- метало навечно………………… …………Мимо Большого Каменного носу пронесло, а тот нос промеж сивер и полуночник….. ……………………….. …………а люди к берегу плыли на досках чють живы………………….. …………А другой коч тем ветром бросило рядом на кошку………………… И с того погрому обнищали….. ………….А преж нас в тех местах замор- ских никакой человек с Руси не бывал………. …………….от крепости шли бечевой шесть недель…………………. ………..А Серебряная гора около Чюн-дона стоит, томарй руду отстреливают, а в дресьве серебро подбирают………………цынжали, голод и нужду принимали………… ……….хотим орлами летати……… ………Атаманская башня — око в землю, ход в заносье. О Русь, наша матушка, прости………Буквы прыгали и плясали перед глазами. Мы сделали потрясающее открытие! В одинокой хижине у истоков Большого Анюя жил спутник Семена Дежнева, испытавший все тяготы и лишения знаменитого похода вокруг Северо-Восточной оконечности Азии. Какими судьбами занесло его в сердце Анадырского края? Опытный историк, разумеется, прочел бы весь спасенный текст. Но вокруг на сотни километров вряд ли нашлась бы хоть одна живая душа. Плавание Дежнева всегда поражало меня размахом и удалью, драматизмом событий. Я не упускал случая собирать разные сведения о дежневцах и многое знал. Расшифрованные строки анюйской грамоты удивительно точно изображали события великого плавания. Флотилия русских аргонавтов, состоявшая из шести кочей Семена Дежнева и Федора Попова и коча Герасима Анкидинова, самовольно приставшего к походу, вышла из Нижне-Колымской крепости триста лет назад — 20 июня 1648 года. Флотилия отправилась искать морской путь на легендарную реку Погычу[307] имея на борту девяносто казаков и промышленников, довольно разных припасов, вооружения и товаров. Сильные встречные ветры мешали ходу парусных кочей, но льдов в море, к счастью, не было, и все корабли благополучно миновали Чаунскую губу. У мыса Шелагского, в ту пору неведомого, грянула первая буря. Здесь скалистый кряж Чукотского хребта обрывается в море мрачными стенами. Валы бьют в отвесные утесы, и высадиться на берег во время ветра невозможно. В этом месте два коча разбило о скалы, а два унесло от флотилии во тьму ненастья. Вероятно, отрывок строки в грамоте: “разметало навечно” — относится к этому событию. Оставшиеся три коча продолжали плавание по неспокойному морю, постоянно борясь с встречными ветрами. Через два с половиной месяца после выхода в плавание истомленные мореходы увидели крутой каменный мыс, обращенный на северо-восток. Этим мысом, далеко вдающимся в море, оканчивался неохватный материк Евразии. Русские кочи подошли к проливу, разделявшему Азию и Америку. В нашей, грамоте, без сомнения, говорилось именно об этом мысе: “Мимо Большого Каменного носу пронесло, а тот нос промеж сивер и полуночник”. В переводе со старинного поморского это означает: “обращенный к северо-восточному ветру”. Такую ориентировку имеет только мыс Дежнева. Но почему в грамоте написано: пронесло мимо носа? Из сохранившихся челобитных сотоварищей Дежнева известно, что у этого мыса разбило коч Герасима Анкидинова и он вместе со своими людьми перешел на коч Федота Попова. Двум оставшимся кочам удалось пристать к мысу, образующему оконечность Азии. Дежневцы долго отдыхали в прибрежном поселке эскимосов. О каком же бедствии повествовали последующие строки грамоты? Бедствии, постигшем мореходов после мыса Дежнева, с одновременной гибелью двух кочей и высадке людей на заморскую землю: “а люди к берегу плыли на досках чють живы… А другой коч тем ветром бросила рядом на кошку… И с того погрому обнищали… А преж пас в тех местах заморских никакой человек с Руси не бывал…” Ведь судьба двух дежневских кочей, прорвавшихся в пролив между Азией и Америкой, была иной. После отдыха у Каменного носа мореходы поплыли дальше искать желанную Погычу. У Чукотского мыса они встретили враждебно настроенных чукчей. В жаркой битве ранили Федота Попова. Фома Пермяк, казак из отряда Дежнева, взял в плен чукчанку, ставшую потом его женой. Она рассказала, что устье Погычи далеко — в глубине Анадырского залива. Сильная буря, застигшая мореходов в открытом море, южнее Чукотского мыса, навсегда разлучила кочи Дежнева и Попова. Арного дней носили волны коч Дежнева. Первого октября, на сто второй день исторического плавания, судно, потерявшее управление, выбросило на заснеженный пустынный берег, далеко за устьем Анадыря. С Дежневым на Корякское побережье высадилось всего двадцать четыре человека. Дежневцы оказались в бедственном положении. Наступила суровая полярная зима. Смастерив нарты, погрузив уцелевшие припасы, землепроходцы десять недель пробирались к Анадырю на лыжах по мертвым снежным долинам Корякского хребта. “И шли мы все в гору, сами пути себе не знали, холодны и голодны, наги и босы”, — написал в одной из челобитных участник необычного похода. С невероятными трудностями горсточка русских людей выбралась к устью замерзшего Анадыря и основала зимний стан. В пути от непосильных лишений погибло двенадцать путешественников. Из многолюдной экспедиции, вышедшей из Нижне-Колымской крепости искать Погычу, обосновались на новой реке двенадцать землепроходцев. Двенадцать лет Дежнев прожил на Анадыре, делил с товарищами “последнее одеялишко”, трудности и опасности беспокойной жизни, разведывая огромную реку и окрестные земли. Во время похода на Корякское побережье он “отгромил” у коряков якутку, бывшую жену Федота Попова. Она рассказала, что случилось с людьми второго коча. Бурей коч Федота Попова занесло на Камчатку. Белокожих бородатых людей i-ямчадалы приняли за богов, сошедших на землю. Зимовать мореходы устроились на реке Камчатке, где было много леса. Там они построили бревенчатые дома. На следующее лето предприимчивые Федот Попов и Герасим Анкидннов обошли с товарищами вокруг Камчатки и расположились па зимовку на речке Тпгль, на западном берегу полуострова. На реке Тигль оба смелых землепроходца умерли от цинги. Начавшиеся раздоры между оставшимися казаками и промышленниками привели к гибели буйную команду, оставшуюся без предводителей… — Кто же, черт побери, в твоей грамоте плыл к берегу на досках “чють жив” и откуда взялся в юрой коч, который “бросило рядом на кошку”? Отрывочные строки анюйской грамоты не объясняли этого. Как жаль, что мы не могли прочесть всего документа. — По-моему, Вадим, — продолжал Костя, — здесь пишется о других кочах, тех двух, что отбились у Шалагского мыса. Буря пронесла их мимо мыса Дежнева и прибила к заморской землице. Один коч разбили волны, и люди выбрались на берег кто как мог, другой выкинуло на мель… — Ого! Если эго действительно было так, нам посчастливилось отыскать документ величайшей важности. Пятьдесят лет спустя после похода Дежнева, когда русские новоселы окончательно утвердились на Анадыре, смутные слухи донесли удивительную весть: на той стороне пролива, открытого Дежневым, на берегу Кенайского залива, на неведомом материке живут в рубленых избах белокожие бородатые люди, говорящие по-русски. Неужто нам повезло добыть письменное свидетельство высадки русских мореходов на берега Северо-Западной Америки еще триста лет назад? Кисет с индейским орнаментом и грамота убеждали, что наш землепроходец был очевидцем этого исторического события… — Хуг! Восклицание Ильи опустило нас с облаков на землю. Пока мы обсуждали исторические проблемы, эвен обследовал неразобранные венцы и в щели между бревном и нарами обнаружил нож в полуистлевших ножнах. Рукоятку из потемневшею дуба украшала резьба, залитая оловом. Кое-где олово вывалилось, оставив глубокие канавки узора. Илья потянул за рукоятку и вытащил узкое лезвие, совершенно изъеденное ржавчиной. — Совсем дедушка, — сказал старик, придерживая пальцами рассыпающееся острие. Рукоятка, вырезанная из прочного дерева, хорошо сохранилась. По верхней и нижней се части двумя поясками врезались буквы славянской вязи. Мы с Костей довольно свободно прочли обе надписи: МАТВЕЙ КАРГОПОЛЕЦ Нашелся именной нож обитателя избушки. Резная рукоять сохранила в веках имя российского морехода, ступившего на берега Америки. Русские землепроходцы XVII века часто принимали прозвища по месту своего происхождения. Например, Федот Попов именовался во многих челобитных Колмогорцем — выходцем из Колмогор. Землепроходец, погибший в хижине у истоков Анюя, вышел в трудный жизненный путь из Каргополя. Бею важность этого открытия мы оценили позже. — А-ей-и! Другую бумагу прятала! — закричал вдруг Илья, ощупывая ножны. Старого следопыта охватил азарт, хорошо знакомый археологам и кладоискателям. Он потерял невозмутимость, подобающую северному охотнику. В старых ножнах было что-то спрятано. Костя взялся за скальпель и вскоре извлек небольшой свиток пергамента, пестрый от ржавчины. Мы развернули его. На побуревшем пергаменте явственно проступал полинявший рисунок. — Батюшки, да это Анюй! Гляди, Вадим, Нижне-Колымская крепость ещё на старом месте — на боковой колымской протоке, где Михаил Стадухин ее ставил. Рисунок Анюя Матвей Каргополец выполнил с поразительной точностью: верно изобразил изгибы главного русла, отмстил притоки, прижимы и перекаты, нарисовал приметные горы, мысы и даже Главный водораздел, именуемый на рисунке Камнем. В левом углу чертежа казак нарисовал компасные румбы, пометив юг полуденным солнцем, север — полярной звездой, путеводными светилами мореходов. В избушке у истоков Анюя жил не только грамотей, но и многоопытный путешественник, выполнивший с помощью компаса совершенную по тому времени “чертежную роспись” Анюя. — Вот тебе и лоцманская карта! Все перекаты и прижимы как на ладони. Приставай вовремя к берегу, осматривай опасные места. Костя был прав: чертеж землепроходца открыл нам Анюй с верховьев до устья, точно с птичьего полета. Костя призадумался, рассматривая рисунок: — Не пойму, куда он пер? Помнишь, в конце грамоты: “от крепости шли бечевой шесть недель”; вот и путь он свой обозначил. Выходит, Каргополец шел из Ннжне-Колымской крепости вверх по Анюю к Камню? Действительно, куда же пробирался он со своей смелой подругой? Вернувшись с Аляски в Нижне-Колымскую крепость, мореход повернул обратно на восток, по сухопутью. И почему высадка русских людей на новый материк не оставила следа в переписке целовальников[308] Нижне-Колымской крепости с якутскими воеводами? Ведь челобитные и “отписки” той эпохи чутко откликались на псе события, связанные с открытием новых “землиц”. Возникало много неясных вопросов. Илья, прищурившись, разглядывал па свет горящий рубин. Он вертел перстень и так и сяк, то приближая камень к глазу, то отдаляя его. — Чего ты суетишься? — Птица в красный озеро тонула, — ответил старик, — на дно буквы хоронила. — Какая птица, какие буквы?! Я взял перстень и вгляделся в драгоценный камень. — Что за дьявольщина! Смотри, Костя, рисунок какой-то. Костя повернул камень, и вдруг он отделился вместе с золотым ободком короны, открыв печать с выгравированным рисунком. Летящий орел нес в когтях три сплетенные буквы замысловатого вензеля: “И.П.Б.” — Ну и чудеса! — воскликнул Костя. — И перстень именной! Ни одна буква не совпадала с именем землепроходца. Владелец перстня с именной печатью был, очевидно, человеком знатным. В XVII веке по имени и отчеству величали лишь бояр, воевод и царей. В одинокой хижине у истоков Анюя нам досталась уникальная коллекция реликвий XVII века. Найденные вещи носили отпечаток не только глубокой старины, но роскоши и богатства…
ПРОЩАНИЕ
Походная жизнь полна неожиданностей. На Анюе мы искали оленьи пастбища, а нашли бесценные реликвии сибирских землепроходцев и превратились в археологов. Но и поиски пастбищ увенчались успехом. Пересекая с вьючными оленями Главный водораздел, мы обнаружили в верховьях Анюя высокогорный узел, вздымавшийся к небу ребристыми вершинами. Перед нами открылась благословенная страна нетронутых летних пастбищ. В широких корытообразных долинах ярко зеленели карликовые ивнячки, струились речки, полные прозрачной воды, там и тут блестели озера и голубоватые нетающие наледи. Забираясь на вершины, оглядывая с птичьего полета высокогорные долины, мы убедились, что верховья Анюя вместят в летнее время целый оленеводческий совхоз! Нас поразило обилие ягельников на склонах сопок. Можно было предполагать, что мы встретим в Анюйской тайге богатые ягельники. Утром Костя и Геутваль проводили нас в плавание. На обветренных лицах друзей мелькнула тень тревоги, когда быстрые струи подхватили и понесли шаткий плот. У меня тоже сжалось сердце: Костя и Геутваль оставались с горсткой пастухов в безжалостной северной пустыне. Вырвутся ли они из ее объятий? — Прощай, Геутваль! Крепче руль, старина! На глазах девушки блестели слезы. Костя сбросил с плеча винчестер и пальнул вверх. Выстрелила и Геутваль. Раскатисто откликнулось эхо. Ответить прощальным салютом мы не успели. Река круто повернула. Костя и Геутваль с дымящимися винчестерами скрылись за скалистым мысом с лысой вершиной… Вцепившись в ослабевшие ремни, Илья стягивал мертвым узлом поклажу. Я всей тяжестью наваливался на рулевое бревно, удерживая на стрежне наш треугольный плот, похожий на полураспущенный веер. Вокруг вздымались голые купола сопок. Анюй в этом месте стискивали каменные щеки, и взгорбившийся поток гнал плот с ошеломляющей быстротой. Сухие бревна почти не погружались в воду, и мы летели среди пенистых гребней точно на ковре-самолете. — Смотри, девка машет, — невозмутимо сказал Илья. Я обернулся. Рулевое бревно выскользнуло из рук. На лысой вершине скалистого мыса замерла Геутваль. Тонкая и стройная в своих лыжных брюках, резиновых сапожках и белой кофточке, она подняла над головой руки и взмахивала ладонями, точно птица крыльями. Черные волосы ее разметал ветер. Я схватил винчестер и выпалил в воздух. Геутваль вытянулась на носках, словно хотела взлететь над рекой белокрылой чайкой. Размахивая штормовкой, отвечаю ей до тех пор, пока высокий лесистый мыс не заслонил девушку. “Словно Кожаный Чулок, — невольно подумал я, — устраиваю чужое счастье, а сам ухожу неизвестно куда. Как перекати-поле…” Замечу мимоходом, что облик Геутваль совершенно переменился. Мы с Костей сшили ей из синей байки отличный спортивный костюм: Костя скроил лыжные брючки, а я смастерил спортивную курточку. У нас нашлись маленькие резиновые сапожки, и Геутваль стала совершенно неотразимой. Плутовка это понимала и носилась в своем костюмчике с необыкновенной природной грацией. Это была первая девушка Центральной Чукотки, сбросившая шкуры и облачившаяся в современный наряд… Полдня мы мчались вниз по Анюю без всяких приключений. Полая вода доверху наполнила русло, скрывая мели и перекаты. Не застигла врасплох и быстрина в скалистом проходе. Землепроходец разрисовал на своей карте “щеки” и прижимы, сдавливающие долину Анюя, и вязью написал: “Быстер матерая вода”. Колымчане до сих пор называют матерой водой глубокие, удобные для плавания места. Поэтому, не опасаясь порогов, мы вошли в быстрину и теперь неслись сломя голову у подножия каменной стены. С высоты скал наш плот, вероятно, казался спичечной коробкой, а люди, примостившиеся на нем, муравьишками. Продовольствие, спальные мешки, путевое снаряжение Илья завернул в палатку и притянул арканами к бревнам. Бесценные реликвии плавания Дежнева, добытые в хижине землепроходца, я сложил в рюкзак и надел его на себя. Золотой перстень с рубином красовался на моем исцарапанном пальце. Фрагменты грамоты и чертежную роспись Анюя спрятал в планшетку, накрепко зашил просмоленной бечевой и сунул за пазуху. В любую минуту можно было вытащить сумку — полюбоваться сквозь прозрачный целлофан редкой грамотой или посмотреть путеводный чертеж. Илья восседал на вьюке, невозмутимо покуривая костяную трубочку. Меня восхищало спокойствие старого охотника. Коренные жители Севера не умеют плавать, и любая передряга в стремительном потоке Анюя могла обернуться для него трагически. Приплясывая у рулевого бревна, я чувствовал себя заправским плотогоном. Впрочем, треугольный плот не особенно нуждался в управлении, он великолепно держался на самой стремнине. Внезапно речная долина расширилась. Русло разветвлялось здесь на несколько проток. Желтоватые песчаные острова заросли ивняками. Клейкие листочки совсем распустились, рощи как бы окутались зеленоватым облаком, источая душистый запах, нежный и горьковатый. Теперь я внимательно рассматривал чертеж Анюя. Выполнили его добросовестно, и спустя три столетия этот труд приносил практическую пользу. На своей карте землепроходец у крутого поворота Анюя черточками обозначил несколько порогов, рядом нарисовал крест. Вероятно, тут ждали нас основные неприятности. Известно, что в прошлом сибиряки у опасных порогов воздвигали рубленые кресты, вручая свою судьбу провидению. Течение влекло нас с большой скоростью. Часа через два плот должен был подойти к Крестовым порогам. Дальше землепроходец отметил еще три переката: Шивер, Долгий перекат, Гремячий. Крестов возле них на карте не было. Видно, быстрины были полегче. В нижнем течении Анюя на чертеже красовались две неразборчивые надписи: у островерхой сопки, около круглого озера, в стороне от Анюя, и у виски — протоки, соединяющей озеро с Анюем. Прочесть их удалось с большим трудом. “Серебряная гора” —значилось у нарисованной сопки “Курья” — называлась виска. Только сейчас мне представился важный смысл этих надписей. Ведь в грамоте тоже упоминалась Серебряная гора, но мы с Костей вначале не обратили внимания на странное название. Я вытащил планшетку и прочел загадочные строки: “а Серебряная гора около Чюн-дона стоит, томарой руду отстреливают, а в дресьве серебро подбирают…” — Послушай, Илья, где река Чюн-дон течет? Эвен перестал сосать трубочку. В его глазах мелькнули знакомые смешливые искорки. — Однако, с тобой верхом едем. Давно юкагир Анюй звали Чюн-дон, поняла? — Анюй — Чюн-дон?! Это было географическим откровением. Выходило, что мы плыли по реке, которая не раз упоминалась в челобитных землепроходцев, искавших неведомую Серебряную гору. Эта загадочная история всегда манила исследователей. В архивах сохранилось несколько интереснейших челобитных. Землепроходцы, открывшие за несколько лет до Дежнева Индигирку и Алазею, сообщали, что на какой-то реке, впадающей в море восточнее Колымы, есть гора, “в утесе руда серебряная, а висит де из яру соплями. И те нелоские мужики от той серебряной руды сопли отстреливают томарами и стрелами, а инако де они нелоские мужики и с Камени серебро добывать не умеют”. Сличая разные челобитные, историки пришли к выводу, что гора с самородным серебром, по-видимому, находится в долине реки Баранихи, впадающей в Полярное море, восточнее Колымы и верховьями сближающейся с Анюем. Геологи, изучавшие этот район, никакой Серебряной горы не обнаружили. В двадцатых годах нашего века на Анадыре записали рассказ чукчей о Серебряной сопке у озера, где-то за Главным водоразделом. Я рассказал обо всем этом Илье и спросил, не знает ли он, где находится такая гора? Старик молчал, о чем-то раздумывая, и наконец ответил: — Денежный сопка далеко кругом нету; есть, однако, Каменный яр, старики молодая была, белые камни стрелами отбивала… Бросив рулевое бревно, я схватился за планшетку. Неужели нам посчастливилось напасть на след легендарной сопки? Эвен между тем преспокойно изрек, что Каменный яр находится между Анюем и Омолоном у озера, соединяющегося с Анюем безымянной виской. Все приметы сходились с картой землепроходца! Сведения о Серебряном яре близ устья реки, впадающей в море восточнее Колымы, землепроходцы получили от плененного на Алазее колымского князька Порочи и юкагирского шамана, тоже выходца с Колымы. Может быть, ограждая свой край от вторжения иноземцев, аманаты, сговорившись, указали на допросах неверно местоположение Серебряной горы — из землях наттов, приморских зверобоев, издавна враждовавших с колымскими и ашойскими юкагирами? Что, если во время исследования пастбищ попытаться достигнуть Серебряной сопки, отмеченной на чертежной росписи Анюя у истоков Курьи… Далекий гул встревожил Илью. Он вскочил, склонил голову набок, прислушался: — Перекат близко… Тарабаганы ленивые, почему к берегу плот не чалили?! Мы так заговорились, что потеряли счет времени. Течение убыстрилось, мутная река мчалась теперь сплошным потоком, покрываясь мраморным рисунком пены. Впереди, за дальними островами, русло сужалось, сжатое скалами. Нельзя было терять ни секунды. Повиснув на мокром бревне, мы старались направить плот к берегу. Но все наши попытки оказались напрасными. Поток цепко держал треугольный плот и все быстрее гнал к ревущему порогу. — Совсем худо! — крикнул Илья. Старик засуетился, кинулся подтягивать вьюк, сунул мне конец ремня: — Хорошенько держи, совсем не пускай аркан! Река с клекотом втягивалась в теснину. Перед самым ущельем поток стремительно закручивался водоворотами. Мутные струи, вырываясь из водяной карусели, поднимали крутые гребнистые волны. Только сейчас я оценил преимущество юкагирского плота. Никакое течение не могло сбить со стрежня треугольный настил. Плот пронесся мимо водоворота, встречные волны захлестнули вьюк, окатили нас холодным душем. Впереди белели гладкие каменные лбы в воротниках пены. Громадные каменюги просвечивали и сквозь воду. Их беловатые спины проносились под бревенчатым настилом плота. Рев воды, густой и тяжелый, леденил душу. Лицо Ильи посерело. Вцепившись в ремни, он что-то кричал, указывая на камни. Бледные губы шевелились, но голос пропал в грохоте взбесившейся реки. Длинный плот то взлетал на водяные горбы, то проваливался между ними. Неумолимо надвигались черные глыбы в ослепительной пене. Наваливаясь изо всей мочи на скользкое бревно, я стремился пустить плот между гранитными лбами. Я видел каждую морщину обточенных водой утесов, матовые жилы кварца, пронизывающие серый камень. Острый бревенчатый нос скользнул по мокрому камню. На секунду плот выполз боком на глыбу и, страшно накренившись, ринулся куда-то вниз, в гремящее облако пены. Вода накрыла с головой… Дальше я почти ничего не помнил. Чувствовал: швыряет куда-то, обливает водой, ударяет о камни, бревна расходятся под ногами. Обжигающий холод на секунду вернул сознание. Цепляясь за аркан, я барахтался в кипящем потоке, глотая вспененную воду. Нависло синеватое лицо Ильи. Ухватившись за ворот штормовки, он вытаскивал меня на шаткие бревна… Когда очнулся, была тишина. Лишь где-то вдали глухо шумели пороги. Плот плавно несся по коричневой реке. Рядом ничком лежал на развороченном вьюке Илья. Окостеневшими пальцами он вцепился в мою штормовку, даже сжатые пальцы побелели. Старик не шевелился, воспаленные веки вздрагивали, на виске билась голубоватая жилка. С трудом разжав его скрюченные пальцы, сбросил со спины мокрый рюкзак, достал аварийную флягу со спиртом и влил старику порцию обжигающей жидкости. Это подействовало, Илья закашлялся и открыл глаза. — А-ей, жива, Вадим! Думала, совсем пропадала, на дно кочевала… — Как благодарить тебя, друг? — Больно прыгала ты, — улыбнулся эвен, — аркан забывала, бревно ломала, в реку падала, аркан тебе кидала. Я взглянул на часы: в пороги мы вошли всего девять мину г. назад. Вьюк наш опустел — порвались ремни, поток унес почти все снаряжение: переметные сумы с продовольствием, спальные мешки, винтовку Ильи, топор. Остались лишь палатка, мой карабин и закопченный котелок, запутавшийся в обрывках аркана. У меня уцелел рюкзак с найденными реликвиями, планшет за пазухой, на поясе сотня патронов и охотничий нож. — Страсть злой Анюй, жертва ему дарила, голова только целый уносила. — На морщинистую ладонь эвен вытряхнул из уцелевшего кисета мокрый табак. Русло разветвилось на протоки. Плот плыл теперь в одной из них. Течение ослабело. Отвязав запасное бревно, я принялся мастерить новый руль. Вдруг Илья замер, вглядываясь в прибрежные чащи. — Тихо сиди, — прошептал он, — смотри: много мяса стоит… У берега, в укромной заводи, расставив высокие ноги и вытянув морду, пил воду могучий лось. Громадные уши стояли торчком, ноздри раздувались. Зимняя шерсть вылиняла, и крутые бока в темных подпалинах сливались с шерстистой холкой и массивным, как у лошади, крупом. Я невольно залюбовался великолепным зверем. В колымской тайге водятся самые крупные в мире лоси — настоящие лесные великаны, не уступающие вымершему торфяному оленю. В холке эти гиганты достигают двух метров, а рога весят несколько пудов. Лось пил и пил, не замечая опасности. Старик медленно поднял вороненый ствол. Трудно целиться с плывущего плота. Да и расстояние было порядочным — метров двести. Эвен превратился в статую. Многое зависело от его меткости. Ведь мы остались без продовольствия в безлюдной тайге, в самом начале дальнего пути. Выстрел разорвал тишину. Лось вздрогнул, сделал громадный скачок и, ломая тонкие стволики ив, повалился в чащу. Илья опустил винтовку, капельки пота блестели на морщинистом лбу. — Совсем боялась промах делать, зверь больно крепкий — раненый далеко бегает… Старый охотник не промахнулся. Причалив к берегу, мы подошли к мертвому зверю. Пуля поразила сохатого в сердце. Несколько часов ушло на разделку громадной туши. Илья резал мясо длинными ломтями и развешивал на шестах вялиться. Я растянул на поляне огромную лосиную шкуру, поставил палатку, нарвал сухой травы и устроил пушистое ложе: ночевать приходилось без спальных мешков. Солнце ушло за сопки. Чозениевые рощи[309] окрасились нежно-фиолетовой синью. Протока стала перламутровой. Устроившись у костра, я вытащил заветную планшетку. Ох и приятно было после пережитых опасностей, наслаждаясь теплом, разгадывать ребус старинной грамоты, изучать чертежную роспись Анюя! Воспользовавшись стоянкой, мы проложим первый боковой маршрут и посмотрим ягельники анюйской тайги…СЕРЕБРЯНАЯ СОПКА
Целый день пришлось коптить сохатину на пустынном острове, а на следующее утро мы с Ильей сделали стремительный бросок в сопки — пересекли все террасы, лесистые склоны сопок и углубились в горнотаежные дебри анюйской тайги километров на пятьдесят. Результаты маршрута превзошли все ожидания. Повсюду мы встречали ковры нетронутых ягельников. Девственные леса Анюя почти не уступали по богатству зимних пастбищ омолонской тайге! Усталые и довольные, вернулись в лагерь на покинутый остров. Наши запасы были целы. Медведи не успели разграбить наш мясной склад на шестах. Умаявшись в тайге, мы спали в эту ночь как убитые. Рано утром позавтракали копченой сохатиной, хорошенько завернули в палатку объемистый вьюк продовольствия и не мешкая отчалили на своем треугольном ковчеге. Протока быстро вынесла нас в главное русло, и плот помчался вниз по Анюю с прежней скоростью. Долина раздвигалась шире и шире. Островерхие сопки уступали место сглаженным солкам, заросшим нежно-зеленой тайгой. Волнистые гряды иногда обрывались к воде диковинными скалами. Обернешься назад — и развертываются во всю ширь величественные перспективы. Уходят вдаль, кулисами, синеватые мысы, отсвечивают серебром пустынные плесы, малахитовыми ступенями поднимаются погорья к туманной полосе гор. Всматриваешься в расплывчатые очертания Камня и начинаешь понимать беспокойную душу землепроходца: дальние вершины манят человека, притягивают сильнее магнита… Не стану описывать наше плавание подробно, это будет неинтересно. Две недели мы плыли вниз по течению без всяких приключений. Долгий перекат и Гремячий, отмеченные погибшим казаком, представляли собой в высокую воду широкие стремнины. Лишь пенные гребни, вспахивающие поверхность реки, напоминали о коварстве перекатов, вероятно небезопасных в межень[310]. Впрочем, плавание наше отнюдь не казалось увеселительной прогулкой. Тут подстерегала опасность, более грозная, чем перекаты. Анюй часто принимался петлять. Струя течения ударяла в берег, нагромождая в излучинах штабеля плавника. Стремнина подмывала эти груды, уходила под нависающие бревна, затягивала туда все плывущее по воде. Бревна торчали над водой словно тараны. Попадись в такую пасть — крышка! Плот уйдет вниз, на дно пучины. К счастью, наш треугольный плот хорошо держался на стрежне и пока увертывался от бревенчатых пастей. Но все равно приходилось часами плясать на плоту у тяжелого рулевого бревна. После шестичасовой вахты ломило плечи, едва подымались руки, мы валились с ног и приставали к берегу на отдых. Илья с философским терпением принимал трудности плавания. Он умудрился высушить свой табак, часами посасывал трубочку, разговаривая с Анюем, как с живым существом: то ласково — хвалил быстрые струи, когда они плавно несли плот мимо лесистых берегов, то увещевая, когда брызги и пена летели через головы, то насмешливо, награждая обидными прозвищами, если сумасшедшее течение пыталось бросить плот на штабеля плавника или каменистые обрывы прижимов. На стоянках мы прокладывали свои сухопутные маршруты и пришли к выводу, что верхнее течение Анюя пересекает настоящее “пастбищное Эльдорадо”. Здесь можно было держать на зимних пастбищах многотысячные табуны оленей… Так мы двигались довольно быстро, проплывая за день километров пятьдесят. Приближались ворота в Серебряную страну — устье Курьинской виски. Она впадала в Анюй слева. И вот однажды вдали появился причудливый мыс, похожий на лосиную голову. Его силуэт удивительно точно нарисовал казак на своей карте. — Эге-гей! Вадим… Чалить плот Сохатиный нос надо… Напрямик ходить Серебряная сопка. Ближе и ближе к берегу подгонял я плот, надеясь воспользоваться обратным течением. Нам повезло: у Сохатиного носа плот вошел в поворотную струю, мы очутились в укромной заводи и пристали к берегу у подножия рыжеватых скал. В поход взяли самое необходимое: рюкзак вяленого мяса, котелок, палатку и карабин. Нетерпение охватило даже невозмутимого охотника. В дорогу пустились, не вскипятив традиционного чая, не позавтракав. Целый день мы шли на юго-запад, напрямик из распадка в распадок. Трудная это была дорога. Тайга выгорела. Приходилось перелезать через поваленные почерневшие стволы, обходить вывороченные корни, похожих на каких-то чудищ. Ноги проваливались в ямы, наполненные пеплом. Наконец выбрались на гребни сопок. Но и тут ягельники сгорели дотла. На голых щебенистых лысинах скрючились обугленные корни кедрового стланика. И все же здесь двигаться было легче. Илья брел впереди, поблескивая вороненым стволом карабина на сгорбленной спине. У ручья, в неглубоком распадке, он остановился: — Чай пить надо, силы прибавлять будем. Совсем сопка близко. — Откуда ты знаешь? — Далеко идем. Верст пятьдесят. Вскипятили чайник, подкрепились вяленым мясом и тронулись дальше. Когда поднялись на широкое каменистое плато, впереди вдруг замаячила одинокая вершина. Ровный край плато почти скрывал ее, выступала лишь макушка, похожая на островерхий чум. Илья ускорил шаг. Предчувствие открытия волновало. Да и все вокруг будоражило, казалось призрачным и нереальным: аспидно-черная каменистая пустыня, плоская, как сковородка, сгорбленные фигурки людей, бредущих с посохами к светлому конусу, восстающему из пепла. Плоскогорье медленно повышалось, и чем быстрее мы шли, тем выше и выше выползала сопка, молчаливая и загадочная. Я испытал странное ощущение, будто уже когда-то, в давние времена, может быть во сне, видел уже эту выжженную печальную пустыню и фантастический лунный конус. Мы почти бежали, не замечая усталости, и через час достигли края плато. Совсем близко торчала, как перст, одинокая гора, похожая на потухший вулкан. Дальше, до самого горизонта, простиралась низина, исчезавшая в голубой дымке. Там где-то текла Колыма. У подножия сопки петляла речка. Тысячелетиями подтачивая крутой бок горы, она образовала высокий каменный яр. Казалось, с обрыва ниспадают белые струи замерзшего водопада. Вся стена побелела от каких-то натеков и сосулек, тускло отсвечивавших в неярком свете полуночного солнца. — Видела? Тут старики белый камень стрелами отбивала… — тихо сказал Илья. Опершись на посох, он разглядывал Белый яр. Гарь, которую мы почти преодолели, упиралась в речку. Вода не пустила дальше огонь. На противоположном берегу, по склонам сопки, ярко зеленела тайга. Сквозь хвойный полог просвечивали серебристые поля ягельников. Пушистым ковром они одевали конус почти до вершины. Дальше, за озером, гарь занимала всю низменность, насколько хватает глаз, преграждай доступ к Серебряной сопке с Колымы. Клочок живой тайги уцелел под защитой извилистой виски и большого озера. Это был последний островок ягельных пастбищ Анюя. Каменный яр белой стеной возносился по ту сторону протоки. У подножия Белых скал широким пляжем рассыпалась голубоватая галька. Плато, где мы стояли, уступами ниспадало к реке. Только при спуске я почувствовал усталость. Колени болели, ноги не слушались. Пятидесятикилометровый марш по гарям и осыпям отнял силы. Спустившись к берегу, мы решили отложить на утро переправу через глубокую виску и поставили палатку на мшистой террасе, против Белого яра. Ужинать не стали. Забрались в палатку, растянулись на подстилке из трав и мгновенно заснули мертвым сном. Проснулся я от пронзительного жалобного рева. Палатка покосилась. Взъерошенный эвен сидел на корточках и сердито плевался: — Тьфу, тьфу, анафема! — Что с тобой, старина? — Медведь чесала палатку… — Какой медведь? Немногословный рассказ развеселил меня. Охотники спят чутко. Утром Илья внезапно проснулся: трясли палатку. Он вскочил и увидел: что-то большое, круглое, мохнатое терлось о кол, поставленный внутри палатки, у самого входа. Илья понял, что это такое, и возмутился. — Больно шлепал задница! — воскликнул он, оканчивая рассказ. Получив неожиданный шлепок, медведь с диким ревом пустился наутек. Озираясь, я выполз из палатки. Цепочка лепешек величиной с тарелку осталась на мшистой террасе. Зверь, удирая, оставил следы “медвежьей болезни”. Эта история здорово насмешила нас, но… непрошеный гост, прежде чем разбудить Илью, забрался на сухой ствол лиственницы, сбросил рюкзак, повешенный на сук, и съел все наше вяленое мясо. Эвен чертыхался, стучал кулаком по голове. — Старая башка. Зачем мешок палатка не убирала? — Успокойся, Илья, медведь слопал бы нас вместо мешка. Но старик не унимался: — Робкая медведь… Люди совсем не трогает. Словно рок преследовал нас. Потеря продовольствия путала все карты. Так хотелось облазить Серебряную сопку, поискать серебряный клад, составить кроки местности, а тут приходилось спешно возвращаться к Анюю, где оставался последний запас сохатины. Илья молча вернулся в палатку, вытащил свой нож и принялся сбивать рукоятку. Освободив лезвие, старик принес два булыжника и устроил целую кузницу. Хвост ножа отковал в острие, заточил на камне и согнул в крюк. Ремешком накрепко прикрутил лезвие к своему длинному посоху. Получилось нечто вроде багра. — Ну пойдем… продукты низать. Спустились на галечное русло. В первой же заводи в прозрачной воде плавали довольно крупные темноспинные хариусы. Они сошлись в круг, будто совещаясь о чем-то. Старик осторожно погрузил свой снаряд в голубоватую воду. Я видел каждый камешек на дне. Медленно-медленно он завел острие под рыбину, замер и молниеносно выхватил из воды трепещущего хариуса. Илья был великолепен — ловко выхватывал рыбину за рыбиной. Я тоже попробовал “низать”, но загарпунить добычи не смог — не хватило сноровки. Через полчаса вернулись к палатке с тяжелой связкой хариусов, сварили полный котелок ухи и плотно позавтракали. Курьинскую виску переплыли верхом на стволах сухостоя и вступили на неведомый берег у подножия Белого яра. Ноги, погружаясь в зеленовато-голубую гальку, оставляли глубокие ямки следов. Эвен поднял карабин и выстрелил. Пуля вдребезги разбила наверху белую сосульку. Мы бросились подбирать осколки. “Вероятно, — думал я, — это кальцит”. Довольно легкие куски белой мелкокристаллической породы напоминали кальцитовые эмали и натеки, которые довелось мне видеть когда-то в пещерах Таджикистана. — А-ей… Денежный жук, смотри! Илья протягивал горсть осколков и серебряно-белый кусочек величиной с горошину. — Серебро?! Я схватил самородок. Он был необычайно тяжелый. — Где нашел? — Сверху падала — белый камень разбивала, тут подбирала… Илья выстрелил и сбил еще сосульку. Мы собрали все кусочки кальцита, но больше ничего не нашли. По очереди стали обстреливать яр. Бум… бум… бум… — гремели выстрелы, отзываясь далеким эхом в горах. Кальцит брызгами летел сверху, едва успевали подбирать породу. Быстро опустошили половину патронташа, собрали кучу кальцита, но странно — металла больше не было ни кусочка. Серебро точно сквозь землю провалилось… И тут вспомнил я одну встречу. Ассоциация возникла сама собой, как забытый сон; вероятно, мозг иногда воскрешает давние впечатления автоматически, независимо от нашей воли. В студенческие годы мне довелось побывать в гостях у известного московского зоолога и путешественника Сергея Александровича Бутурлина. Тяжелый недуг приковал ученого к постели. Он лежал, как подкошенный дуб, мощный, крутолобый, с шевелюрой седых волос. Обложенный книгами, рукописями, Бутурлин работал. Преодолевая недуг, ученый создавал уникальный определитель птиц Советского Союза. В просторной и какой-то неустроенной квартире на диванах и креслах лежали винчестеры, карабины, ружья. На ковре дремали рыжие сеттеры. Охотничьи трофеи украшали стены. Полки в шкафах гнулись от книг. Долго длился наш разговор с ветераном Дальнего Севера. Вспоминая свой колымский поход, путешественник достал из письменного стола коробочку, открыл крышку и вытряхнул на широкую ладонь кусочек серебристо-белого металла. “Это… — загадочно усмехаясь, сказал он, — платиновая пуля, ее подарил мне в 1911 году старый ламут в устье Анюя, попробуйте, какая она тяжелая”. Окончив свой последний труд, Бутурлин вскоре умер. В сутолоке дел я, признаться, забыл о платиновой пуле. И вот теперь, на глухой виске между Анюем и Омолоном, держал слиток такой же тяжелый и светло-серебристый, как бутурлинская пуля… — Неужели платина, самый драгоценный металл на земле?! Впервые тяжелый металл, похожий на серебро, обнаружили в XVII веке испанцы в Южной Америке. Серебряно-белые самородки конкистадоры находили вместе с золотом в россыпях. Испанцы назвали редкий металл платиной (уменьшительное от испанского plata — серебро). В России платину нашли в начале XIX века на Урале, и тоже в золотоносных россыпях. — Черт побери! В россыпях, понимаешь, Илья, в россыпях! Не ищем ли мы с тобой жар-птицу там, где ее нет?! Видимо, юкагиры, исконные обитатели Анюя и Омолона, отбивая стрелами кальцитовые натеки с Белого яра, подбирали металл, издревле покоившийся в галечной россыпи, у его подножия. Я растолковал Илье все это. Теперь мы не обстреливали Белый яр, не собирали кальцита. Я сполоснул котелок и затарахтел галькой, промывая россыпь, как старатель в лотке. Эвен растянулся на голубой отмели и перебирал узловатыми пальцами приречную гальку. Удача пришла к нам одновременно. — А-ей-ей, Вадим, нашла! — закричал Илья. Из гальки он выудил серебряно-белую бусину, необычайно тяжелую. На дне моего котелка блеснули зерна и чешуйки драгоценного металла. Вероятно, мы ухватили сердце платиновой жилы. — Пла-ти-на! Пла-ти-на! Подхватив старого охотника, я пустился в пляс. Галька, перекатываясь, гремела под ногами, развевался клетчатый платок Ильи. — Тьфу, тьфу, пусти… не баба, — отбиваясь, смеялся эвен. Он тоже был рад, что экспедиция к Серебряной сопке окончилась успешно…ПРЕДСКАЗАНИЕ ЛЮБИЧА
— Вы забыли фиту, ижицу, кси, омегу — непременные буквы древнерусского письма, — улыбнулся Любич. — Читать славянскую вязь трудно. Как вы эти-то строки умудрились разгадать? Ученый-краевед с острым любопытством разглядывал в лупу найденные нами пергамента землепроходца. Накануне мы приплыли на расшатанном, полуразбитом плоту к устью Анюя. Старые бревна набухли, осели. Широченный плес разлившейся Колымы трепетал солнечными бликами, колыхался лениво и сонно, как море. Крошечные домики Нижне-Колымска едва виднелись на том берегу. Переплыть Колыму тонущий плот был уже не в состоянии. Мы выбрались на пустынный песчаный берег, обдутый ветрами. Природной дамбой он запирал двойное устье Анюя. Пришлось зажечь дымовой костер из плавника и ожидать выручки. Дым на пустынном Анюйском острове заметил Любич из окна школы. Он поспешил на пристань, завел свой глиссер и снял нас с необитаемого острова. Так судьба свела меня с этим необыкновенным человеком. Ясноглазый, рыжебородый великан, с копной огненных волос и удивительно доброй, застенчивой улыбкой, внушал невольную симпатию. В тридцать пять лет он сохранил пламенное воображение, чистоту чувств,неукротимое стремление к знанию. Бородатого мечтателя постоянно влекло необычайное, и, может быть, поэтому мы так быстро сблизились. Любич приехал на Колымский Север с экспедицией и снимал пастбищную карту оленеводческого совхоза. Растительность тундры он знал великолепно, но в рамках одной ботаники ему было слишком тесно. Ученый с увлечением исследовал историю и географию далекого Нижне-Колымского края. Много свободного времени он отдавал нумизматике. О старинных монетах и медалях, эмблемах и древних надписях, о весе и чистоте металла он, кажется, знал все. Сейчас на столе перед Любичем лежали реликвии, найденные в хижине землепроходца, и самородки серебряно-белого металла, добытые в галечной россыпи у Белого яра. В просторном классе, где устроил свою базу Любич, парты были сдвинуты в дальний угол. По стенам висели ботанические сетки с пачками гербарных листов, картонные папки, полевые сумки. Мы расположились вокруг стола на вьючных ящиках. Металлическая бляха с изображением византийского кентавра из могилы спутницы землепроходца почти не привлекла внимания ученого. Он показал точно такую же бляху, снятую с наряда последнего юкагирского шамана, умершего на речке Ясашной. Оказалось, что это вовсе и не медаль, а византийское металлическое зеркальце, которыми когда-то широко пользовались на Руси. В Сибирь их завезли триста лет назад землепроходцы. Особенно заинтересовал Любича перстень с именной печатью, эмблемой летящего орла и девичьей косой. Он долго рассматривал выгравированный орнамент, покачивая рыжей головой. — Редчайшая находка… Дивлюсь, как попала девичья коса на этот перстень? Вензель печати действительно свидетельствует о знатности и высоком положении владельца, и вдруг… плебейская коса… Просто необъяснимо! Знаете, кто гравировал сплетение косы на перстнях? Я развел руками. — Запорожцы, простые казаки Запорожской Сечи на Днепре! Сплетенная девичья коса — знак нерушимого казацкого братства. Как попала она на перстень вельможи? Вот загадка… Любич задумался, отложил кольцо и принялся за фрагменты грамоты. Переводил он почти без запинки:В прошлом во 157-м году июня в 20 день из Колымского устья мы, сироты Семен Дежнев с сотоварищи, поплыли семью кочами на правую сторону под восток. Ветры кручинны были. Дву дни да две ночи стояли под островом, что губу великую заслоняет. Тут погода сильная грянула. Того же дня на вечер выбились парусами в море пучинное. Тучи сгустилися, солнце померкло, наступила тьма темная, страшно нам добре стало и трепетно, и дивно. Крепко море било, ветры паруса рвали. Во мгле нас, сирот, разметало навечно. Неделю по черноморью металися, великую нужду терпели, души свои сквернили. Мимо Большого Каменного носу пронесло, а тот нос промеж сивер и полуночник. С того Каменного носу море затуманилось, и носило нас, сирот, еще дву дни, и землю гористу сквозь мглу высмотрели, горы высокие забелелися. Тут наш коч расступился, и учинили меж себя мы надгробное последнее прощание друг в другом. Товары да уметный запас море раскидало, а люди к берегу плыли на досках чють живы, и многих потопило, не чаяли, как выиесло. А другой коч тем ветром бросило рядом на кошку цел, и запасы повыметало вон, и коч замыло на той кошке песком, а люди наги и босы осталися. Ветер упал, тишина приправила назад, коч из песка выгребали, скудные запасы, товары подбирали. И с того погрому обнищали, обезлюдели. Всех нас, сирот, было на двух кочах с сорок человек, после морского разбою ссталося двадцать. А та дальняя земля матерая велика, многоречна, рыбна, звериста, и по рекам живут многие иноземцы разных родов, безоленные, пешие, безхлебные, рыбу и зверя промышляют, а рожи у них писаные, а ласки они не знают, потому что дикие и между собой дерутца. А преж нас в тех местах заморских никакой человек с Руси не бывал. Нечем нам, сиротам, обороняться, зелья и свинцу мало, а то зелье мокрое в бочках село и в стрельбу не годитца… …на куяках от крепости тли бечевой шесть недель без парусного погодья, еле с жонкой к вершине Онюя доволоклися. Слух наш дошел: жив Семен на Анадыре. А Серебряная гора около Чюн-дона стоит, томарой руду отстреливают, в дресьве серебро подбирают — ходынец ту сопку рисоввл. Одна беда привяжется — другой не миновати. Не посмел грамоту мимо послать, чтоб какая невзгода не учинилась, сам пошел. Стужа смертная настигла, цынжали, голод и нужду принимали… …сами отведали землицу заморскую, хотим орлами летати. А люди на той Новой Большой Земле за безлюдством, бесприпасьем ныне насилу от разных воинских иноземцев оберегаются, все переранены. Припасов, ружей огненного бою, мушкетов, карабинов надо, да вольных гулящих людей прибрати. Чтоб те заморские места стали впредь прочны и стоятельны силушкой да волей казаческой. Атаманская башня — око в землю, ход в заносье. О Русь, наша матушка, прости…“О Русь, наша матушка, прости…” — повторил Любич, глаза его блестели. — Не правда ли, странно? Мореходы, несомненно, высадились на берега Америки, совершили величайший географический подвиг — открыли новый материк и молят прощения? Ваша грамота, Вадим, полна загадок. — Однако, казак письмо Анадырь носила… — сказал вдруг Илья. Он устроился на полу у открытой дверцы печурки и, посасывая трубку, любовался игрой пламени. — Баба старинный цингой болела, помирала… — И нес он грамоту, — оживился Любич, — Семену Дежневу. — Но почему вкруговую, через Нижне-Колымскую крепость?. Не проще ли с Аляски явиться к Дежневу прямо на Анадырь через Берингов пролив? — Берингов?! — взъерошился Любич. — Сибирские казаки разведали пролив между Азией и Америкой за восемьдесят лет до Витуса Беринга, прошли его вдоль и поперек, высадились на берега Аляски… Любич стукнул кулачищем по столу, серебристые самородки подпрыгнули и покатились. — Довольно несправедливости! Приоритет так приоритет — Казацкий пролив, только Казацкий, и баста! Волнение Любича рассмешило меня. Не все ли равно, в конце концов, как называть пролив? Беринг тоже служил России и сложил голову на Тихом океане… Он развернул карту. — Поглядите… На берегу Кенайского залива, на Аляске, американские археологи откопали поселок трехсотлетней древности, целую улицу русских изб. Ваша грамота рассказывает, чей это поселок и чья это улица… — Не кажется ли вам странным одно обстоятельство, — прервал я Любима, — что мореход умолчал о факте государственной важности — открытии нового материка за проливом? Любич внимательно посмотрел на меня и усмехнулся: — Вы наблюдательны… Ни в одной челобитной колымских приказчиков и помина нет о заморском материке. Это, пожалуй, главная загадка анюйской грамоты. И разгадка скрыта, кажется, здесь… Любич взял грамоту и громогласно прочел предпоследние строки грамоты: Атаманская башня — око в землю, ход в заносье… Схватив перо, краевед быстро написал: “В Атаманской башне Нижне-Колымского острога в земле ход в тайник”. Нумизматам постоянно мерещатся подземные тайники и клады. Толкование последних строк грамоты показалось мне слишком фантастичным. — Только так… — тихо и твердо произнес Любич. — Атаманская башня стояла в бревенчатой ограде Нижне-Колымского острога, выстроенного Михаилом Стадухиным, рассказы о ней слышали старые колымчане от своих отцов и прадедов. — Ого! Прямые потомки первых колымских переселенцев ошибаться не могли. “Око в землю” Любич переводил “смотри в землю” или “в земле”, а непонятное словечко “заносье” заменял словом “тайник”, предполагая, что землепроходец упомянул о нем иносказательно. Стоит ли говорить о возбуждении, охватившем нас? Городище старинной крепости находилось на берегу Стадухинской протоки, всего в двадцати километрах от Нижне-Колымска. — Сомневаться тут не приходится… — рокотал Любич. — Отложите, Вадим, дела, раскопаем городище. Предложение было заманчивым. Но найдем ли там что-нибудь? В 1755 году восставшие чукчи разгромили крепость, и от старинного Нижне-Колымского острога остались, как говорится, рожки да ножки. — Валы сохранились, — заявил краевед, — найдем и основание Атаманской башни. Говорят, это была самая высокая — северо-западная башня. Да и казаки там больше не селились — построили новую крепость здесь, в Нижне-Колымске. Непременно откопаем ход в тайник! Любич потрогал слитки тяжелого серебристо-белого металла. — И в Магадане вас примут с распростертыми объятиями. Ведь это, Вадим, чистейшая ирридистая платина, переворот в судьбах Анюя. Будьте уверены: платина — вернейший признак золотых россыпей. Видимо, Большой Анюй так же богат золотом, как и родной брат его — Малый Анюй. А там геологи, кажется, нащупали большое золото. Пусть даже ваша платина окажется случайной жилой, но она укажет путь к Новому Клондайку… И ваши олени здесь пригодятся. Ваш пастбищный узел в верховьях Анюя окажется рядом с золотыми приисками. Последним могиканам Пустолежащей земли откроется дверь в новый мир! Любич воодушевился, глаза его горели. Он навалился могучей грудью на столик, и тот жалобно заскрипел. — Только так, Вадим… Вы привезете вашему генералу первый драгоценный дар Большого Анюя! Я и не предполагал тогда, как быстро сбудутся предсказания Любича…
АТАМАНСКАЯ БАШНЯ
Долго уговаривать меня не пришлось. Провожать нас сбежались к пристани все мальчишки Нижне-Колымска: пронесся слух, что экспедиция едет откапывать старинные пушки… Глиссер вошел в узкую, но глубокую Стадухинскую протоку. С гулом мчался он среди низких берегов, заросших ольховником. Кусты низко свисали над водой. Был полдень, сияло солнце. Эмалевое небо опрокинулось над нами голубой чашей. Высоко-высоко небесную лазурь пронзала белая стрела — след самолета, летящего в Магадан. У дальнего мыса в колеблющемся нагретом воздухе тундры двоились голубоватые столбики. — Хибары Стадухинской заимки! — крикнул Любич. — Там и городище крепости. Рев мотора стих, глиссер мягко уткнулся в непролазную чащу ольховника. Мы прорубились сквозь заросли и выбрались на плоскую террасу. Обветшалые избушки развалились, утонули в душистом багульнике и карликовых березках. Вот и холмы заветного городища! Вейником и ольховником зарос крепостной вал. Ковер мхов прикрыл улицы сгоревшего острога. Дальше, за торфяным болотом, поднималась пологая возвышенность с лиственничным редколесьем. Крепость Михаил Стадухин поставил на границе леса и тундры… Любич довольно легко обнаружил в северо-западном углу вала широкое основание Атаманской башни — холм, заросший багульником и ягелем. Мы принесли сюда палатку, рюкзаки с продовольствием, спальные мешки, лопаты, ломы и кирки. Ученый разметил площадку раскопок, и начались поиски. Целый день мы долбили мерзлую землю. Уже под тонким слоем торфа стали попадаться обгоревшие заостренные бревна крепостного палисада, обугленные стропила башни. Захватив крепость, чукчи сожгли ее, разобрали палисад и разрушили Атаманскую башню почти до основания. Лишь к концу дня, умаявшись, докопались к последним уцелевшим венцам башни. Толстенные бревна казаки обсыпали валом из крупной морской гальки. Бревна почти не пострадали от огня. Вероятно, пожар потушили поселенцы, подоспевшие на выручку из окружающих заимок. Между бревнами не оказалось и следа конопатки. Несомненно, это был нежилой сруб боевой башни. Любич вошел в раж — лом гнулся в его могучих руках. Мы разворотили глубокую квадратную траншею, подобрались к самому полу башни и, выбившись из сил, решили продолжать раскопки утром. Весело было у нас на биваке. Илья настрелял уток, развел яркий костер и варил в котле утиный гуляш. После ужина Любич поведал нам историю Стадухинской крепости. Окончив свой захватывающий рассказ, рыжебородый великан поднялся, вдохнул полной грудью пьянящий северный воздух, потянулся: — Ну, братцы, спать пора… Завтра подземелье откопаем… Когда я проснулся, мои товарищи были уже на раскопках. Пол башни был засыпан полуистлевшими обломками разбитых бочек. Лопаты постоянно натыкались на ч го-то твердое. Мы торопливо разбрасывали перегнивший мусор и, чертыхаясь, снова вытаскивали позеленевшую клепку. Первую находку сделал Илья. Он вытянул из мусора старинную пищаль. Ствол ее был согнут, приклад разбит вдребезги. Видно, последние защитники крепости вели в Атаманской башне жаркий рукопашный бой. Наконец расчистили утрамбованный земляной пол. Промерзшая земля не поддавалась. Любич ломом долго прощупывал почву. И вдруг лом ударился о железо. — Здесь… — тихо сказал Любич, сдерживая дыхание. Он принялся осторожно раскапывать землю шанцевой лопаткой. Уж слишком медленно и осторожно снимал ученый слои почвы. На дне ямы что-то звякнуло. Краевед отбросил лопатку и, расчищая взрыхленную землю ладонями, обнаружил литое кольцо. — Люк?! Любич лихорадочно разгребал почву. — Сундук! Кованая крышка почернела. Сундук был невелик и походил на старинный ларец. Мы с Любичем ухватились за кольцо и вытянули тяжелый сундучок. Ржавый висячий замок запирал ларец. — Ломом ударяй… — посоветовал Илья. Любич мотнул головой: — Давайте же, Вадим, ключ! Поспешно я выхватил из полевой сумки узорчатый ключ землепроходца. Любич сунул массивную бородку в скважину и повернул. Скрипнули петли, крышка поднялась. — Ух! — выдохнул Илья. В ларце лежал сверток алого сукна, перевязанный плетеным арканом. Истлевший ремень рвался, а тонкое сукно расползалось на мохнатые лоскутья. Из такого же сукна был сшит алый кафтан анюйского землепроходца. С величайшей осторожностью Любич развернул сукно. В свертке покоилась объемистая старинная книга, похожая на церковный молитвенник. Кожаный переплет ее запирали потемневшие серебряные застежки. В кожу врезался перламутровый крест необыкновенной формы: серебряное колесо корабельного штурвала охватывало скрещение перламутровых перекладин. — Светское оформление, — удивился Любич, — штурвалом изукрасили молитвенник мореходы… Он отстегнул застежки и раскрыл книгу. Переплет из тонких дубовых досок был обтянут кожей, титульный лист расписан замысловатыми заглавными буквами — киноварью и золотом. Любич свистнул: — Вот так молитвенник! — Он громко прочел заглавие: — “Ход в Заносье. Слово о подвиге казаческом”. — А тайник? — Нет тайника, — отмахнулся Любич. — Землепроходец спрятал в Атаманской башне клад драгоценнее платины… Мы перелистали старинную рукописную книгу. Написана она была скорописью XVII века с такими залихватскими завитушками, что даже Любич растерялся. Он разбирал лишь отдельные абзацы. Целые страницы неразборчивого текста, попорченные к тому же плесенью, требовали кропотливого изучения. Нам посчастливилось откопать уникальную воинскую казачью повесть XVII века. Из тьмы веков выступила необыкновенная история, полная драматизма и суровой поэзии. Повесть состояла из стихотворного пролога, названного “Разнобоярщина”, и трех частей: “Перстень”, “Вотчина Златокипящая” и “В Заносье”. В прологе автор поет торжественную песнь казачеству, вспоминает, откуда повелись на Руси вольные наездники, сравнивает казаков с “богатырями светорусскими”. Величает Дон отцом казачества. Певец рневно укоряет бояр и дворян государевых в междоусобицах, алчности, лихоимстве, утеснении холопов; уличает в измене государству Русскому в тяжкое Смутное время. В единстве и крепости государства он зрит силу, способную сломить “разнобоярщину”. Славя государство великое и пространное Московское, многолюдное, “сияющее посреди всех государств яко солнце”, он сокрушается, что казачество зародилось и умножается “отбегохом и с того государства Московского от холопства полного, в пустыни непроходные”. Песню грозную и величавую казачий певец поет о подвигах витязя отважного, орла степного, радетеля воли казаческой, “любомудрого” предводителя стотысячного войска — Ивана Болотникова, наводившего “страх и скорбь на бояр алчущих”. Певец плачет об участи смелейшего воина, изменнически ослепленного и убитого боярами в темницах Каргопольского монастыря, призывает к “отмщению нещадному, кровавому…” Пролог оканчивается эпическим раздумьем о Правде в государстве. Автор ищет Правду в казачьем укладе всеобщем, мечтает о государстве, где “любомудрием правит Круг казаческий”, а старшины и атаманы “волю Его сполняют”. Последняя строфа звенит призывом “беречь накрепко волю казацкую, искати Новую Сечь Вольную на дальних Украинах”. — Вот так стих — кованый… Любич даже побледнел от волнения и торжественно заявил, что найден превосходный образец поэзии древности. Вслед за прологом в первой части повести рассказывается история перстня. Эти страницы сильно повредила плесень, и Любич уловил лишь общий смысл текста… Смутно вырисовывалась драматическая судьба отрока монастырского “во сажень ростом, не вкусив мирской суеты, во иноческий чин вступившего”. Старый схимник Каргопольского монастыря, обучив отрока грамоте и любомудрию, открывает ему “чюдный мир” летописей, хроник византийских, былин и древнерусских воинских повестей. Сам того не ведая, наставник пробуждает в молодце жаркое стремление к ратному подвигу. На смертном одре схимник передает пестуну драгоценный перстень мученика за правду — Ивана Болотникова, убитого “кривдою боярской”, и успевает вымолвить, что “несчастный воин велел снесть перстень удалым молодцам, пусть де орлами вольными летают…”. — Перстень?! Послушайте Любич, не помните ли вы отчества Болотникова? — Исаевич… Иван Исаевич Болотников. Ваше кольцо с рубином, Вадим, принадлежало предводителю казацкого восстания. Летящий орел — именная печать знаменитого атамана. Любич долго рассматривал в лупу позеленевшие листы. — Черт побери, не пойму: откуда тут девица взялась?! Он продолжал пересказывать текст. Молодой чернец бежит в Сибирь с заветным перстнем и “красной девицей Авдотюшкой”. Беглянка скрывает девичество мужской одеждой и выглядит “отроком красоты несказанной”. В Тобольске — “стольном граде Сибирском” — их принимают в казаки. “Во казацком чине” они пускаются в трудный путь к Якутскому острогу. — Не славная ли это спутница анюйского землепроходца? — Не знаю… Для тех времен такой маскарад неудивителен. Въезд “жопок” в Якутск был запрещен тобольскими воеводами, и свою девицу удалец переодел отроком. Увеличительное стекло дрожало в руке краеведа, он рассматривал с необычайным волнением листы следующей части повести. — Не правда ли, здорово? “Вотчина златокипящая”! Ваш землепроходец, Вадим, не только великий грамотей, но и даровитый писатель. Иначе и не скажешь — в Якутском остроге скапливались бесценные пушные богатства… Удалец с “отроком” прибывают сюда вовремя. Якутский острог бурлит, готовый к “извержению огненному”. Здесь, на краю света, собрались самые отчаянные головушки — казаки, высланные из Тобольска, Мангазеи, Енисейска, непослушные, непокорные, “заводчики разных смут казаческих”. Недовольство накалилось злоупотреблениями якутских воевод, душивших новоселов повинностями. Появление удалого молодца с именным перстнем Болотникова (печать атамана помнили многие ссыльные казаки) приводит к вспышке. Объединившись, казаки и гулящие люди решают истребить воевод, стрельцов и ярыжек, захватить Якутский острог. Воеводам удается схватить одного из заговорщиков. Не стерпев пытки каленым железом, он выдает план восстания. Воеводы “оберегаютца”, верные им стрельцы ловят главного зачинщика мятежа — бывшего есаула Болотникова — Василия Бугра. Его бьют на площади кнутом и заковывают в кандалы. — Ух! Смелая люди была… — пробормотал Илья. Он слушал Любича так внимательно, что трубка его давно погасла. — Просто удивительно! — воскликнул ученый. — На Крайнем Севере нашелся документ, решающий давний спор… — Дальше? Что было дальше? Переводите же, Любич… Удалой молодец силушкой богатырской ломает решетку темницы в подвалах якутского приказа, освобождает Василия Бугра. Казаки захватывают ружья, пороховую и свинцовую казну, а у пристани струги и купеческий коч с хлебными и соляными запасами. На коче и в стругах “полета удальцов побежали на низ Леною рекой на море”. С того времени “Авдотюшка не скрывается, в сарафан девичий одеваетца”… — Представляете, Вадимище, что мы нашли?! Тут вся подноготная якутского казацкого восстания… — Казацкого восстания? — Вот именно. Историки так и не разгадали причин далекой якутской вспышки. Она казалась им случайной. А тут гремучим порохом послужили сподвижники Болотникова… Окончательно потрясла Любича последняя глава казачьей повести о перипетиях бурного плавания казаков — “в Заносье”. Восставшие казаки укрылись в протоках огромной дельты Лены. Они решают плыть морем студеным “на Колыму реку” и потом “уходить на Погычу, искати землицы дальние, вольные”. Удалой молодец разузнает от встречных мореходов о сборах Семена Дежнева в Нижне-Колымской крепости. С попутной оказией он плывет на Колыму “дозорным”, прежде сотоварищей, и успевает попасть вместе с Авдотюшкой на последний коч флотилии Дежнева. Силушкой славясь на весь караван, он помогает кормчему. Страшная буря отбила два коча от всей флотилии. Почти былинным языком живописуются злоключения мореходов в бурном “море-окияне”, высадка потерпевших кораблекрушение на суровые берега заморской “матерой землицы”. Удалой молодец выплывает на мачте, “выносит свою суженую из волн без памяти”. Мореходы, собрав уцелевшие пожитки, ставят на пустынном берегу зимовье, ограждаясь тыном, завязывают добрые отношения с воинственными соседями — “племенем квихпах — писаные рожи”. Любезный молодец строит дом. После долгих скитаний “удалец с голубушкой” обретают отдых, покой и счастье… — Эх и документик! — восхитился Любич. — Как ни верти, а первое поселение в Америке казаки поставили триста лет назад! …“Житие” в неведомой земле сплотило новоселов в крепкий казаческий Круг. “Второю весной” Круг решает “послати на Русь-матушку гонца надежного, верного, тайного… вольных казаков да охочих людей в Новую Сечь звати, припасы, оружие, снасти привозити”. Трудную миссию поручают удалому молодцу с Авдотюшкой неразлучною. Казаки доверяют гонцу призвать “имянным вещим перстнем” атаманить в Новую Вольную Сечь Семена Дежнева, а “Землю Матерую, что отведали за морем, в великия нерушимыя тайны держати”. — Странно. Почему Дежнева? — Ну, это понятно: Дежнев вышел из простых казаков, был умен, храбр, любознателен и по тому неспокойному времени добр. Делил все беды и радости с товарищами, предпочитая обходиться с народами Сибири “ласкою, а не жесточью”. Но посмотрите, что совершают удалой молодец с Авдотюшкой! На кожаной байдаре вместе с эскимосами переплывают они пролив между Азией и Америкой, минуют “Большой Каменный нос, что промеж сивер и полуночник” и, почти не приставая к опасным берегам, “идут морем” вдоль Чукотского побережья. В устье Колымы мореходы с грустью прощаются с друзьями и “на куяках” поднимаются вверх по Колыме, к Нижне-Колымской крепости, сказавшись там “ушлыми из Чюхочьего плену”. Удалец “припоздал” — не застал в крепости своих мятежных сотоварищей. Они благополучно достигли на коче Колымы, встретили Михаила Стадухина и, влившись в буйный его полк, ушли последним зимним путем “во след Степану Моторе” через Камень на Погычу. Неудача не смутила удалого молодца. Он решает на каяках подыматься вверх по Анюю с проводником — юкагирским атаманом — и через Камень достигнуть Анадыря. Надеясь вернуться обратно в крепость с Дежневым “сбирати припасы, снасти да вольные люди в ту Новую Сечь”, добрый молодец с Авдотюшкой закапывают тайно ларец с повестью в Атаманской башне. — Ай да баба! Такой жена, Вадим, ищи… все равно Геутваль — везде за мужиком ходить будет! Илья расстроился. На глазах старого эвена блестели слезы. Я вспомнил отважную чукотскую девушку. Сжалось сердце, было до слез жаль, что расстался с ней, может быть, навсегда… Заканчивалась повесть жаркими строками стихотворного диалога “удальца с голубушкой”. В постановлениях казаческого Круга оба зрят высший смысл “Чести и Правды казаческой”… Любич осторожно закрыл книгу. Молчаливо сидели мы, не решаясь спугнуть витающие образы. День окончился. Малиновое солнце тлело в фиолетовом сумраке. Мохнатые лиственницы на близком увале застыли, к чему-то прислушиваясь. Совсем близко, за кустами, в Стадухинской протоке, тихо крякали утки. — Удивительно… — наконец проговорил Любич, — удивительно и просто. Сорок лет спустя после этих событий, в 1690 году, казаки затеяли второе восстание в Якутском остроге. В заговоре участвовал один атаман, казачьи десятники и тридцать рядовых казаков. Они собрались “побить до смерти” якутского стольника и воеводу, захватить пороховую и свинцовую казну, оружие, припасы и бежать в “заносье”. Видно, американские робинзоны прислали на Русь второго гонца. — И чем же кончилось восстание? — Заговор раскрыли, зачинщиков казнили, а рядовых казаков в кандалах сослали в дальние остроги. Но о Вольной Сечи за проливом воеводы не допытались. Никто не выдал заветной тайны. Историкам и это восстание до сих пор кажется случайной вспышкой. Все это было необычайно интересно. Я спросил Любича, почему нигде в своей повести казачий певец не отождествляет себя с главным героем — “удалым молодцем”? — Такова особенность древнерусских повестей… В те времена жанра автобиографических повестей просто не существовало. — А казаческие повести? — Впервые появились в Запорожской Сечи, — ответил ученый краевед, — сочиняли их гусляры. На Руси первую казаческую повесть “О взятии царства Сибирского” написали сподвижники Ермака, в тридцатых годах XVII века. Десять лет спустя донской казак Федор Порошин окончил великолепные казачьи “Повести о взятии и сидении Азовском”, известные во многих списках. А Матвей Каргополец — “удалой молодец” — оставил нам ярчайшую антибоярскую казачью повесть, по-видимому уникальную, в единственном, вот этом экземпляре. Недаром он упрятал его в землю. Не только автор, но и переписчик или хранитель такой повести могли угодить на дыбу или виселицу… *** Прошло четыре месяца после находки уникальной рукописи на берегу Стадухинской протоки. Мы с Ильей давно прилетели в Магадан. Генерала в городе я не застал — он улетел в Москву по срочному вызову и должен был скоро вернуться. Буранов рассказал, что перед отъездом начальник строительства получил из Анадыря шифровку от нашего полковника. Он превозносил наши подвиги в Пустолежащей земле и ходатайствовал о правительственной награде. — Генерал был очень рад, — рассказывал Буранов, — написал собственной рукой приказ с благодарностью и велел тебе ждать его возвращения в Магадане… В отпуск поедешь, — улыбнулся Андрей, — Марию твою нашли — приедет сам расскажет… Образцы платины взбудоражили магаданских геологов. На Большой Анюй спешно собирались разведчики. Рукопись старинной повести и реликвии из хижины землепроходца произвели сенсацию в Историческом музее. Ученые принялись за полный перевод текста. Костя и Геутваль пропали с оленями в дебрях Северной тайги и не подавали о себе вестей. Наступила полярная стужа, тайга укуталась зимним покрывалом, и мы готовили аварийный самолет на поиски пропавших друзей… Однажды я сидел в кабинете начальника главного управления Дальнего строительства за громадным письменным столом, так хорошо мне знакомым. На улице гудела пурга, билась в высокие зеркальные окна. Магадан, утонувший в снежном вихре, спал глубоким сном. Я принял ночное дежурство и в это время замещал генерала. Передо мной висела все та же карта Золотого края с горными предприятиями. Далекие, иногда тревожные голоса сообщали о снежном обвале на индигирской трассе, о движении колонны машин по льду Индигирки с грузом для нового прииска, о зимнем наводнении на Тарын-Юряхе, вызывали самолет с хирургом к геологу, раненному в тайге, дежурные горных управлений передавали сводки о “металле”… После полуночи звонки стали реже, и к двум часам вовсе прекратились. Пурга не стихала, бесновалась и выла за окнами. В кабинете было тепло и уютно. Я вспомнил давний разговор с генералом и развернул книгу Сергея Маркова о Русской Америке, мне удалось отыскать ее в городской библиотеке. Сто пятьдесят лет спустя после первых казацких новоселов на берегах Аляски снова высадились наши мореходы. Основывались военно-торговые поселения. Аляска стала провинцией Российской империи. Парусные корабли Балтийского флота бороздили воды Тихого океана. Исследователи и промышленники того времени совершали на оснащенных ботах, на кожаных байдарах и каяках вместе с эскимосами и алеутами тысячеверстные походы вдоль берегов Аляски и Дальнего Запада Америки. Русские фактории, форты и гавани возникли по всему американскому побережью — от Аляски до испанских владений в Сан-Франциско. Самодержавие не сохранило эти земли за Россией. Кто знает, если бы укрепилась Новая Сечь казаческая на открытой дежневцами Матерой Земле, может быть, совсем иначе сложилась судьба Аляски? Зазвонил телефон. В трубке едва слышалось: — Магадан… Магадан… — Алло. Дежурный слушает. В чем дело? — Доложите оленеводческому управлению… Чертовски знакомый, родной, охрипший голос Кости, то пропадая, то вновь возникая из помех, докладывал, что чукотский табун благополучно вышел к Дальнему прииску и разместился на зимних пастбищах Омсукчана. — А Геутваль, где Геутваль? — Здесь я, с Костей, — зазвенел в трубке ее знакомый голос, — мы очень любим тебя, Вадим! Помехи прервали наш короткий телефонный разговор…
В.Мелентьев · ДОРОГА ЧЕРЕЗ СЕБЯ
Фантастический рассказ
УТОПИЯ
По пластиковому куполу балка при буровой хлестала пурга. Ее прозрачные, подсвечиваемые изнутри космы вспыхивали огоньками на сфере и пропадали в темноте полярной ночи. Бригада нервничала. Ее руководитель, известный художник и химик Жак Брауде, разработавший новые светящиеся краски для монументальной живописи, — рослый, седовласый, с грубоватыми, резкими чертами лица, — нервно бродил между грядками овощей, по-хозяйски поправляя подвешенные на растяжках ветви яблони с уже розовыми алма-атинскими апортами. Его свободные от смены друзья, усталые, с глубокими складками на лицах, тронутых мрачным полярным загаром, сидели в креслах под цветущими вишнями вместе с парнями, прилетевшими им на смену, и слегка насмешливо следили за своим бригадиром. Все они уже давно не меняли своей рабочей профессии заполярных буровиков и с удовольствием отрабатывали по две недели в этих местах. Здесь отлично отдыхалось, рождались великолепные идеи. Трудная, а порой и опасная работа закаляла тело и укрепляла нервы. Друзья понимали Жака. Каждый раз, когда над тундрой появлялись сполохи сияний, бригадир выскакивал на мороз, смотрел на их игру, пытаясь запомнить их полутона и переливы. После северных сияний он рвался в свою мастерскую, к мольберту, — сияния заряжали его частицами своей энергии, и он писал много и вдохновенно. Свои картины Жак переводил светящимися красками на стены домов и общественных сооружений. Их транслировали по кольцевому традевалу. Любоваться ими съезжались тысячи людей. У него появилась масса последователей, целая школа. Как водится, появились и противники. Они работали его же красками, но в совсем иной, более реалистической манере, которая игнорировала цветовую, мерцающую игру полутонов, и он считал это возмутительным: писал статьи, бушевал против недооценки возможностей новой живописи, искажения внутренней сущности изображаемого предмета и, главное, принижения прикладного значения картин. Иногда он выступал по радио и телевидению. Его знали, его ценили, но… многие делали все по-своему. После двух недель на буровой Жак рвался в бой с оппонентами, он дорожил каждым часом, а смена задерживалась уже на сутки. Бригадир остановился у грядки, вырвал ярко-алую, с длинным хвостиком редиску, вымыл ее в протекающем в желобе ручейке, похрустел острой мякотью, бросив ботву в перегнойник. Потом походил, подумал и опустил в ямку зернышко редиски — земля не должна пустовать. Заровнял ямку и, отряхнув руки, сердито сказал: — И все-таки это не оправдание… Держать ради всех одного — я этого не принимаю. Ему никто не ответил. И он взорвался: — Нет, в самом деле! У психоаналитика, видите ли, исключительный случай, так конструкторы, поэты, врачи и все прочие должны его ждать! Неужели он не понимает, что наше дело не то, что там. — Бригадир махнул куда-то в сторону. — За эти две недели мы выкладываемся до фундаментов. Это там. — Он опять махнул рукой. — Ты можешь идти на завод или, допустим, в шахту, а не захочешь, можешь и просидеть в лаборатории. Там все под руками и сколько угодно подсменных: позвони и любой не то что приедет, а прибежит. А тут, видите ли, из-за одного… Неужели в нашей бригаде нет подсменных? — обратился он к прилетевшим. Один из них, Альварес, с темной, как у мулата, кожей, со светлыми вьющимися волосами пожал плечами: — Я не понимаю вашего нетерпения. Психоаналитик предупредил — случай исключительный. Если можете — подождите. Если нет — вызывайте запасного. — Что может быть исключительного в наше время? И особенно у психоаналитика. Тесты его перепутались? Кибер взбунтовался? — Хорошо, — поднялся мулат, — я сейчас потребую запасного. Один из сменяемых поморщился и, обращаясь к бригадиру, протянул: — Жак, береги нейроны. У тебя впереди схватки с оппонентами. — Сбегай-ка лучше к вышке, — так же лениво предложил другой, — может быть, повезет, появится какое-нибудь заблудшее сияние, и ты успокоишься. У бригадира яростно вспыхнули темные глаза, но он перевел дух и скрылся в зарослях. Сменяемые поворочались в креслах, и один из них спросил у Альвареса: — Это в самом деле что-нибудь из ряда вон выходящее? — Пока мы еще не знаем. Перед самой перекличкой бригады психоаналитик Роу позвонил нашему бригадиру и взмолился: “Ребята, полдня задержки. Передайте той бригаде: если смогут, пусть подождут. В крайнем случае начинайте смену без меня, а я подлечу попозже”. Причин задержки он не объяснил, но умолял не заменять его запасным. Говорил, что дошел до предела и без нашей тяжелой работы свалится. Вид у него в самом деле неважный… — Влюбился, вероятно… — Не думаю… Он постоянен. — Вот как? А каков предел в этом вопросе? — Вам, чертям, после смены этого не понять. Лениво посмеялись. Заместитель бригадира новой бригады — светловолосый мулат Толя Альварес — решил: — Мне кажется, что дело даже не в нем. У вертолетчиков тоже смена, и пока примут машины… — А что их принимать? — Ну… просто поболтают… Тем более, пурга. Все-таки известный риск. И как там решит их начальство… — А кто там сегодня? — Сим Сато… — Этот японец? Он помешан на осторожности! — Слушай, а что, собственно, с ним произошло? Я имею в виду Сато. — Обыкновенная история. Он из дальнего космического отряда. Вылез на какой-то астероид, попал под облучение, теперь вот оттаивает в нашем Заполярье. — Такие сверхбдительны и суперосторожны. — Когда клюнет тебя как следует, невольно подумаешь о других. Разговор распадался и снова сливался, за ним стояло ожидание любимой работы для одних и встреч с любимыми для других, потому он казался неровным, взволнованным. Пурга за куполом балка набирала силу. Сменяемые изредка посматривали вверх, на вспыхивающие огоньками бело-розовые космы, и незаметно для себя вздыхали. Сменяющие стали беспокоиться — если пурга разыграется, то вертолеты могут задержаться на вполне законных основаниях. Внезапно по цветущему саду прошел холод, и все оглянулись. Холод вырвался из парадной, точнее, грузовой двери-ворот, которая открывалась лишь летом или в те редкие минуты, когда внутрь балка нужно было протащить нечто громоздкое, объемное. Оттуда, из-за вечно плодоносящих зарослей черной смородины, показался психоаналитик Эн Роу — как всегда, изысканно-изящный, чуть ироничный и печальный. За ним шел высокий седой человек — красивый мужественной, открытой красотой: голубые ясные глаза, слегка вьющиеся волосы, тяжеловатый подбородок и твердые, хорошего рисунка губы, в уголках которых жила улыбка, приветливая и добрая. И в то же время и в его лице и в плотной широкоплечей фигуре угадывались настороженность, некоторая скованность, словно у человека, неуверенного в том, что его встретят хорошо, поймут и примут. — Роу, ты не один? — спросил Альварес. — Как видишь. Знакомьтесь — наш новый запасной. Джулио, или Джек Петров. Запасной молча пошел от кресла к креслу, твердо пожимал протянутые руки и, когда вслушивался в имена, смотрел прямо в глаза представлявшемуся. Позднее все отметили, что выдержать этот взгляд оказалось нелегко. В нем сочетались интерес, доброжелательство и в то же время настороженность, какая-то скрытность. Но в целом эта привычка смотреть прямо в глаза во время знакомства мужчинам понравилась — они были крепкими ребятами и понимали толк в себе подобных. — Остальных сегодня не ждите, — сообщил Роу. — Сато оказался верным себе и машин не выпускает. — А как же ты? — Видишь ли… Я догонял, потому прилетел на резервной машине и решил рискнуть. — И Сато выпустил? — Он шипел на тридцати двух известных и стольких же неизвестных нам языках, но я сделал вид, что не понимаю его… — Лететь трудно? — Не скажу… Делал, как учили, — взлетел вертикально, до стратосферы, а потом пошел отвесно, на ваш маячок… — Да, ты ведь неудавшийся космонавт… — Почему неудавшийся? Скорее, разочаровавшийся. — Новостей нет? — Бригадир просил передать извинения и тысячу соболезнований. Советовал сразу размяться. — Разбавлять смену? — Именно. Кстати, сразу введем в курс Джулио. Он рвется на буровую. Как дела у вас? — Вступили в седьмую тысячу. Обсадные трубы есть, раствор запасен. Будем надеяться, что скважина задышит в вашу смену. — Есть надежда? — Если судить по структуре пластов — вполне вероятно. Все замолкли, потому что вошел бригадир Жак Брауде. Он увидел Роу и резко спросил: — Все прилетели? — Нет, только нас двое. Остальных не пустил Сато. Знакомьтесь — наш новый запасной. Петров протянул руку. Пожимая ее, бригадир назвался. Взгляд Петрова — прямой, настороженный — радостно вспыхнул. — Петро… Джулио, — промямлил он, тиская руку Броуде. — Вы… вы тот Броуде? — Что это значит — тот? — Ну, который… художник? — Да. И вам это не нравится? — Прекрасное не может не нравиться. Но я жду от вас большего. — Не понимаю, — выпрямился, словно готовясь к схватке, Жак. — Я вижу иные пути… — Когда кто-то что-то сделает впервые, следующие за ним видят совсем иные пути. Видят! Но не всегда идут по ним. Предпочитают подталкивать других. Чаще всего того, первого… — Нет. Я мыслю иначе. — Как? — Когда кто-то сделал нечто новое, всегда появятся люди, которые увидят в новом интересные возможности. И тому, первому, совсем не обязательно менять свой путь. Но не обязательно и зачеркивать пути других. Но в данном случае мне кажется, что на вашем пути есть неиспользованные возможности. — Вы художник? — Я? — смутился Джулио. Буровики переглянулись: Броуде дает волю своему несносному характеру. Кто человек по своей сегодняшней специальности — не имеет никакого значения. И если тебе не хочется слушать его возражений или пожеланий, скажи об этом или уклонись от разговора. Но не доверять компетенции человека, его искренности — нетактично. Пусть сегодня он не художник. Но, возможно, он как раз на пути к этому. Зачем же унижать его? — Я? — повторил Джулио и неуверенно пожал плечами. — Вероятнее всего — нет. — Так почему же… — Потому что мне нравится ваше творчество и я вижу в нем неиспользованные возможности. — Странно, вы не художник, а видите дальше и глубже художника. — Броуде разозлился всерьез. — Что же в этом удивительного? Ведь вы, надеюсь, рисуете не для себя, а для людей? — Разумеется, — буркнул Жак. — Ответ слишком быстр, чтобы поверить в его искренность, — усмехнулся Джулпо, и Броуде подтянулся: — Художник, по-моему, всегда творит и для себя. Может быть, вначале для себя, а когда остается удовлетворенным собой, своей работой хотя бы в малой степени, или понимает, что сегодня, в данном случае он не может сделать лучше — передает созданное людям. — Но он — художник. Он мыслит своими категориями. — Правильно. Но эти категории, в конечном счете, переходят на службу всем. Вначале для себя через себя, а потом из себя для всех и, наконец, от всех через себя в себя. Потом этот процесс повторяется. Не так ли? Броуде долго пристально смотрел на Джулио. Буровики окружили их. — Ну, допустим, схема верная. Ну и что? — Ничего… Просто в этой схеме есть отличное, вполне законное место для меня — человека, зрителя. Или читателя. В зависимости от рода искусства. И как звено всей цепи, я могу воспротивиться и не принять созданное художником. Тогда маленькая, но неудача. Когда не принимают многие — неудача разрастается. — Многие должны еще привыкнуть к новому. — И это имеет место. Но ведь ради того, чтобы неудач было меньше, новое не должно слишком отрываться от привычного. Некая постепенность и преемственность необходимы. Не так ли? — Ну… И это, в принципе, верно, хотя истинно новое может и отрываться. — Может. И даже, вероятно, должно. Но художник обязан сам позаботиться, чтобы этот разрыв оказался преодолимым. — Вы считаете, что я, оторвался? — Нет. Я этого не считаю. Я считаю, что вы не используете принципа преемственности. — Ого! Как категорично! Однако люди ездят любоваться… — Люди правы. То, что вы делаете, — прекрасно. И все-таки… — Давайте точнее. — Давайте. Я имею в виду фон. — Не понимаю… — несколько растерялся Броуде. — В каждой картине, каждой композиции вы создаете свой фон, но не используете естественный фон — фактуру материала. — Это моя манера. — Согласен. Вот потому и говорю, что, если бы вы использовали еще и фон-фактуру, могло получиться еще лучше. Мне так кажется. Учтите, так сказать, мнение одного из вечных звеньев цепочки искусства. Простите, если разговор получился неожиданно… напряженным. — Ну, в этом, пожалуй, виноват и я, — милостиво согласился Броуде и доверительно пояснил: — Надоедает отбиваться. Роу “выплыл” из-за цветущих вишен. Настолько он ритмичен. Особый, иногда капризный ритм, который невольно подчинял себе окружающих еще до того, как Роу начинал говорить. В детстве и юности он учился в университете йогов, разучил старинные ритуальные танцы. Владение ритмом движения, речи, даже, как утверждали некоторые, взгляда были доведены в нем до совершенства. — Джек, вы не все сказали. Получился явный перебив ритмов — скользящие, плавные движения Роу и его резкая, почти приказная фраза. Петров обернулся и очень внимательно, испытующе посмотрел на Роу. Глаза у него посуровели, но ответил он мягко: — Сказал-то я все, но не обосновал… Обосновать мне удается, к сожалению, не всегда. — Броуде, вас, конечно, не интересуют обоснования? Вы, разумеется, выше. Жесткий ритм фраз входил в противоречие со взглядом Роу — мягким, почти молящим. По-видимому, именно это синкопирование ритмов, их смешение подействовали на Жака. Он растерянно оглянулся по сторонам, встретился со взглядами товарищей по бригаде — тоже слегка растерянными, потому что происходящее выходило за рамки общепринятых норм поведения и пробормотал: — Нет, я что ж… Если ему угодно, Это словечко “угодно”, выпорхнувшее откуда-то из прошлого, покоробило буровиков, и они переглянулись. Но Джулио не увидел в нем ничего странного. Он приветливо улыбнулся. — Я не знаю, будет ли это интересно остальным. — Валяй! — одобрительно сказал Альварес и, поймав удивленные взгляды товарищей, пояснил: — Ну, если “угодно” — так “валяй”. И это тоже не удивило и не покоробило Джулио. — Я начну несколько издалека. Когда-то, во время татарского нашествия, иконописцы, мастеровые, золотошвеи бежали из Суздаля на рыбачью заимку на реке Тезе. Там ловили особенно жирных стерлядей с помощью перегораживавших реку плетей-заборов — холуев. Поэтому и заимка называлась Холуй. Оттуда часть художников перебралась в Мстеру и Палех, на юг и на север от Холуя. Государство Российское восстановилось, а художники остались на месте и создали то, что называется теперь суздальской школой иконописи. Холуй был главой этих поселений. На его ярмарках в иные годы продавались по полтора-два миллиона икон. Они шли по всей России и за границу. Именно в Холуе родилась профессия офень — бродячих продавцов икон, олеографий и книг. Кстати, Жак, вы любите Чехова? — Да, разумеется… — И вы, конечно, знаете, что основные способности и склонности детей передаются перекрестно, от матери к сыну, от отца к дочери? — Это элементарно. — Для нас… — Джулио внезапно запнулся и почему-то покраснел. — Для нашего времени нормально. Для людей, близких к чеховским временам, как раз наоборот. Исследователи Чехова искали секрет его таланта, впрочем, как и таланта его братьев, в родословной отца. Ведь в жизни и науке царили пережитки патриархата, и считалось, что способности и недостатки передает своим детям только отец. Но если вспомнить, что мать Антона Павловича происходила из коренных холуян, что ее отец, деды и прадеды были иконописцами, а позднее офенями, то мы уже можем не удивляться, что у мелкого торговца родились художественно-одаренные сыновья, но не родилось ни одного торговца, предпринимателя, человека с практической жилкой. Заметьте, единственным деловым человеком в семье была сестра Антона Павловича — Маша. Именно она вела издательские дела брата и семьи, а позднее дела по увековечиванию его памяти. — Мгм… — произнес один из буровиков, довольно известный литературовед, специалист по генетическому анализу художественных произведений. — Мне это никогда не приходило в голову. А это интересно. — Но при чем здесь фон? Фактура, как фон? — Одну минуту. Я предупредил, что начну издалека. Так вот, после революции Холуй последним перешел от иконописи к лаковой миниатюре — он дольше всех держался за былую, но уже никому не нужную славу. И вот что получилось. Наиболее известный — Палех. Палешане работали сказочные, стилизованные произведения. Золото, фейерверк красок — чистых, освобожденных. Почти полное отсутствие полутонов. Мстера — реализм даже в сказочных сюжетах. Холуй оказался посередине и в географическом и в творческом отношении. Если Палех и Мстера, особенно Мстера, в основном, строили фон, создавали его в своей манере и своими приемами, только изредка используя фактуру — лаковую поверхность, то Холуй пошел от этой поверхности, как от главного, основополагающего. Холуяне знали, что будет прекрасно именно на этом фоне, на этой фактуре. Вот почему они и пошли дальше и нравятся мне больше других. — Но ведь в такой же манере работали и работают миниатюристы Индии, Японии да и Китая, — возразил Броуде. — Нет. Бывают совпадения, но фон для этих мастеров, фактура изделия не самое главное. Они не украшают его, а на нем создают свои. Для Холуя же характерно уважение к предварительной работе мастеров — тех, кто сделал лаковую поверхность. Для остальных миниатюристов важна лишь их работа. Ваши росписи зданий и сооружений — прекрасны. Но вы не используете фон, фактуру. А ведь это дает дополнительные возможности. — Иными словами, я тоже не уважаю работу предшествующих мастеров — архитекторов и строителей? Броуде спросил сердито, подозрительно. Петров помолчал и ответил мягко: — В известном смысле и в известной мере. — И все-таки — вы сами рисовали? — Нет. Я всего лишь дилетант. Буровики переглянулись: откуда взялось это забытое слово “дилетант”? В их жизни каждый был и специалистом и дилетантом — ведь каждый занимался тем, чем хотел, и доводил степень своего мастерства в любой отрасли до пределов, которые он определял сам. Значит, дилетантов быть не могло. Могли быть люди, которые оставили одну специальность или увлечение и ушли к другой. Петров снова не почувствовал фальши слова. И это уже насторожило всех. Роу первый уловил эту настороженность. Он предложил: — Думается, Джулио, пора включаться в работу — этот художественный спор может затянуться. — Нет! — восстал Броуде. — Нет. Он мне нужен, этот спор. — Это не спор, — ответил Петров, — это всего лишь пожелание зрителя художнику. — Вы не зритель. В крайнем случае, вы историк. — Все мы немного зрители и немного дилетанты… — печально ответил Джулио и спросил у Роу: — На буровую пойдем вместе? — Нет. Вы пойдете с Броуде. Жак с недоумением посмотрел на необычно жесткое лицо Роу. Буровики опять переглянулись и поерзали — творилось что-то непонятное. Так не говорили уже многие десятилетия. Во всяком случае, никто из присутствующих не слышал таких, приказных ноток. Разве только в исторических игровых фильмах или пьесах. Приказывать равным себе — невозможно. Любой, кто становился в тот или иной момент старшим в какой-либо группе, в то же самое время бывал иногда самым младшим в какой-либо иной. Важны способности и желания. И если люди работали в этой группе или в другой, то делали это только по собственной воле, потому что им нравилось это дело, а не иное. И приказывать таким, одергивать их — бессмысленно. Поэтому и формы и тон приказов давным-давно отошли в прошлое. А Роу их восстанавливал. И не взбунтоваться против этого люди не могли. Не волновало это только Петрова. Он воспринял приказ как само собой разумеющееся. Хотя, впрочем, и он взглянул на психоаналитика с легким насмешливым удивлением. — Что ж… Я готов, — ответил Джулио и беспомощно огляделся — он не знал, куда идти и что делать. — Броуде, покажите ему дорогу на вышку. И проинструктируйте. — Роу, я не понимаю… — слишком тихо и медленно, чтобы скрыть назревающее бешенство, протянул Броуде. Но Роу властно остановил его: — Объяснения потом. Сейчас — действуйте. — Понимая, что Броуде не из тех, кто может оказаться смятым такой напористостью, добавил: — Так надо. Вероятно, Броуде кое-что понял, потому что он уловил полное несоответствие поступков и тона ритму речи Роу. И даже не понимая их причин, все-таки подчинился: очевидно, это требуется Роу. Зачем и почему — не так важно. Важно, что оно, такое поведение, видимо, кому-то требуется. И поскольку Роу умышленно — это было заметно — не сопровождает Петрова, а остается, он неминуемо должен был объяснить остальным свое поведение. Роу это понимает. Когда объяснит, возможно, они и поймут. И тогда товарищи растолкуют, что к чему, и Жаку. Броуде кивнул и, слегка хлопнув Джулио по спине, обогнал его и пошел к выходу в галерею, соединяющую жилой заполярный балок-двор с буровой. Оставшиеся некоторое время молчали. Роу сел в кресло и закрыл глаза. Он казался очень усталым, но чем-то довольным. — Ты можешь объяснить, в чем дело? — спросил Альварес. — Минутку, — кивнул Роу. — Соберусь с мыслями… Это не слишком легко. — Что?.. — Вот эта игра в железного командира прошлого века. — Она тебе удалась… — Еще бы. Я специально тренировался. Оказывается, это не так просто — командовать. — Но ты можешь объяснить, зачем это тебе нужно? — Послушай, Толя, не будь примитивен. Почему ты не спрашиваешь о другом? — Прежде всего нас интересует твое поведение. — Я же сказал — я упорно учился искусству командовать. — Искусству?! — Да. Именно так в прошлом называлась эта, в общем-то, скучная, и я не уверен, нужная ли даже в то время, наука. Но мне хочется обратить внимание на целый ряд несуразностей, которые вы, будь вы хоть немного наблюдательны, обязательно бы отметили. — Кое-что я заметил, — нерешительно произнес литературовед, исследовавший генетические особенности литературы. — Но… было бы очень мило с вашей стороны, если бы… — Люблю оказывать услуги. Даже в тех случаях, когда другим все ясно. Начнем, как сказал мой предшественник по лекции, издалека: как вы заметили, я опоздал. А ведь, в сущности, мог бы и не опаздывать — я же прилетел в одиночку… почти. А делал я это специально для того, чтобы свести Петрова и Броуде в необычной, накаленной обстановке. Это — раз. Во-вторых, вы заметили, но, конечно, не поняли странного поведения Петрова: строгая, четкая логика поведения, плюс анахроничные слова. Вам не кажется, что он человек из прошлого? — Вот именно это мне и показалось, но я искал подтверждения… — начал было литературовед, но его перебили. — Брось, Роу. Давай короче. — Ты, как всегда, подбрасываешь психологические тесты. Знаем тебя, как марсианина. — Ладно, — рассмеялся Роу. — Буду краток и точен, хотя дело чрезвычайно важное. Вы даже не представляете себе, какое важное. Так вот Петров — Джулио, Джек — действительно Петров, но в наше время носил имя Ива, Ивана. И он, конечно, не художник, не историк, а космонавт… — Послушай, Роу, это не тот ли Петров, который первым вышел на границу Галактики? — Именно тот Петров. Легендарный Петров. Великолепный Петров и т. д. и т. п. Вообще я только развожу руками — ведь его портреты в свое время не сходили с телевида, и, помнится, в ранних своих картинах, когда Жак мечтал воссоздать всю сложность человеческой психики через световое разложение реалистического портрета, он писал как раз Петрова! Разносторонняя личность при максимальной собранности в данный конкретный момент. Он умел как бы фокусировать нужные способности. — Ребята, — рассмеялся кто-то из буровиков, — а мы и в самом деле анабиозики. Заморозились и ничего не помним. — Но позволь, Роу, — вмешался Альварес. — Ведь Петров, сколько мне помнится, еще в экспедиции… — При замораживании в Заполярье тебе повезло, — ответил Роу, — кое-какие клетки мозга у тебя еще действуют. Но ты забыл, что именно Петров был командиром Сато. Правильно? — Да… Слушай, давай по порядку. Чтобы Петров вел себя так… архаично… — Ага! Начинает работать серое вещество. Ну так вот. Однажды спектограф показал, что встреченный экспедицией астероид сплошь или почти сплошь необиевый. Ив Петров не мог пропустить такую добычу: ниобий слишком необходим промышленности. Он решил обследовать его и попытаться приладить ракеты-ускорители, чтобы изменить траекторию астероида так, чтобы он, притягиваясь от планеты к планете, от звезды к звезде, полетел прямехонько в нашу систему. Ну, в общем, так, как он это делал с другими астероидами, чем и прославился, как инженер-космотранспортник. Он, помнится, назвал этот метод изменения траектории астероидов с помощью ракет-ускорителей плотогонным. Вы помните, что первый же его обракетенный астероид притащил за собой еще кучу метеоритов, целый плот. Заметьте, никто не обратил внимания на этот анахронизм, не стал давать нового термина. Петров взял его из прошлого. И это всем понравилось — поэтический образ, сближение эпох. Поскольку в этот раз очередь на вылазку была именно Ива, он облачился в скафандр-разведчик и благополучно высадился на ниобиевом астероиде и обследовал его. Пока киберы рассчитывали траекторию и режим ракет-ускорителей, сам Ив искал место для их крепления, а дежурные техники готовили ракеты, автономная связь передала странные волны Ива: “Анджелика… Анджелика”. Потом он стал передавать названия старинных городов, мелькали забытые, а то и древние мотивчики, и, наконец, Ив взмолился: “Господи, я ничего не понимаю. Это не ад, но и не рай…” Ну и все такое прочее. Дежурный спасательной команды Сато встревожился — командир явно бредил. Он стал запрашивать Ива. Но он отвечал не слишком вразумительно — казалось, он начисто забыл, кто он, откуда и зачем прибыл на астероид. В первые минуты решили, что в скафандре-разведчике что-то разладилось, в регенерирующую систему проник излишний азот и началось азотное сумасшествие. Сато немедленно собрался и высадился на астероид. Ив был цел и невредим, но он ничего не смыслил не то что в астронавтике, он не знал даже как управлять скафандром. Вся эта история настолько поразила Сато, что он поначалу стал уговаривать Ива прийти в себя, узнать его, Сато, а тот не узнавал. Тогда Сато понял, что дело совсем плохо, сгреб Ива и прибуксировал его на корабль. Заметьте, Ив пробыл на астероиде около четырех с половиной часов. Сато около получаса. Результат: Ив начисто забыл все, у Сато разладилась вся система космической подготовки. К его чести, он понял это и сам попросился к нам, в вертолетный отряд. Перед прилетом сюда я беседовал с ним. Он говорит, что его дела улучшились. Он восстановил знания и навыки, но желания быть космонавтом у него нет. Он мечтает о море. Он хочет плавать и ловить рыбу. Большего он не хочет. И еще ему мерещится какая-то смуглая девчонка. Он не помнит ее имени, но ее он помнит. Ив же забыл все или почти все — кое-что он уже вспоминает. Как видите, он совершенно нормальный человек и все-таки… — Так вот почему традевал ничего не сообщил о Петрове… — Да. Было бы негуманно сообщать о его трагедии — человек забыл себя. Но все дело в том, что за то время, когда мы с ним работали, я со всей очевидностью понял — он ничего не забыл. Просто он стал другим. Как видите, он помнит свои прошлые имена: Джулио, Джек. Я установил, что его предки по отцу жили в Италии. Там родился и тот, кто приехал в Россию. А его женой была русская. Кто она, кто он, я, естественно, не знаю: Ив молчит. Он, видимо, понял, что каким-то еще неизвестным ему путем он перенесся в иное, будущее для него, сегодняшнее время и осваивает его. Как видите, довольно успешно. Самое удивительное, что он, как-то выпив со мной во время поездок по Италии (я надеялся, что новая память подскажет ему место рождения: этого не произошло и это подтверждает, что он родился в России), он признался, что себя он помнит совсем другим и ему трудно привыкнуть к своему новому облику. — Какой вывод? — бесстрастно осведомился Альварес. — Выводов много. И все сложные. Сейчас мы убеждены, что Ив Петров и Сим Сато подверглись какому-то неизвестному и непонятному излучению. Оно нарушило генетические связи. Гены, их кислоты изменились. Но не вперед, а как бы назад. Перестроился мозг, сама память клеток, и человек, оставаясь внешне собой, стал совсем иным. Он как бы помолодел на несколько столетий или хотя бы десятилетий… Случай, согласитесь, уникальный. — Что решили на зональном ученом совете? — Решили, что, во-первых, ничем не выказывать Иву-Ивану, Джулио-Джеку, что мы замечаем его трагедию. Во-вторых, помочь ему поскорее пройти систему поколений, которые отложили в нем исчезнувшую память клеток. Часть ученых считает, что она не могла исчезнуть бесследно. Вот почему я познакомил его с Броуде. У Петрова выявились явные наклонности к живописи, причем очень своеобразные, и он намекнул, что когда-то был нефтяником. Вот это сочетание и заставило зональный ученый совет разрешить мне привезти Петрова сюда. — Вот видите! Вот видите! — вдруг вмешался литературовед. — А вы еще не верите и не придаете значения моим исследованиям! — Но ведь это совсем иное… — поморщился Роу. — Нет, не совсем иное! Это — тоже! Только вперед через… назад. Буровики расхохотались, а литературовед рассердился. — А самое главное — я ухожу из бригады, — вздохнул Роу. — Почему? — удивился Альварес. — Включен в экспедицию к тому самому проклятому астероиду. А скорее всего, в ту точку Галактики. Понимаете — это очень серьезно и опасно: излучения, возвращающие генетический код вспять. Этак мы начнем отправлять космонавтов, а получать… первобытных людей. И еще. По закону логики, если есть такие лучи, значит, есть и обратные. Тогда мы сможем убыстрять изменение и развитие генетического кода… — А нужно ли это? — Этого я еще не знаю. Впрочем, этого не знают и в ученом совете. На Глобальном традевале вопрос еще не обсуждали. Но важно знать, есть ли такие лучи или нет. Так что отдохну в эту смену и улетаю. Нужно спешить — возможно, такие лучи — лишь игра Галактики. Неповторимое совпадение. Все молчали. Пурга над сводом утихомирилась. Проступали звезды, и вдруг купол окрасился всполохами северного сияния. Литературовед, подойдя к Роу, доверительно сообщил: — Мне представляется крайне важным поиск именно положительных лучей, разумеется, если мы примем как отрицательные те, которые поставили Ива в такую странную коллизию. Как только такие лучи будут открыты, моя наука, которую я создаю, получит практическое применение. — Не совсем понимаю… — Объясню. Что будет с Евгением Онегиным в нашем обществе? Как он приспособится к нашему духу и системе мышления? Есть ли в нем подобные нам черты? Надо исследовать — глубоко и всесторонне — наиболее известных литературных героев и проследить их генетические связи. Тогда мы увидим тенденцию и, следовательно, наметим законы… — Законы чего? — Законы развития литературного героя. Тогда любой автор, работая сегодня, сможет заглянуть вперед и написать такого героя, который будет современен в… нужном ему обозримом будущем. — Возможно… — рассеянно ответил Роу. — Но я сейчас подумал о другом. — Петров в споре с Броуде прав. Краски Жака были бы прекрасней на фоне-фактуре. Как северное сияние на фоне неба. Темного неба. — Но это будет копирование! Организующая же сила искусства!.. — возмутился литературовед. — Может быть… Пусть они спорят сами — но мне так кажется, как, впрочем, мне кажется, что любой автор сегодня может создать героя, годного для будущего. Для этого нужно немного: брать для себя от всех и через себя отдать всем. — Роу, — спросил Альварес, — Петров встанет на твое место? — Да. — А ты надолго уйдешь в космонавты? — Не знаю. Но пока да… — Жаль. Я думал, ты заменишь меня. — Почему? — Потянуло в тропики… — Он вздохнул. — Пурга кончается. Думаю, что пора принимать смену. Собирайтесь, ребята. Сменяемые нехотя стали расходиться по своим комнатам, чтобы собрать свои вещи, а сменяющие потянулись к выходу на буровую. Сквозь посвисты пурги все явственнее пробивался ее резкий, иногда повизгивающий рабочий шум.
Владимир Караханов · ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ (Приключенческая повесть)
БУДНИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
Торчать на работе в воскресенье — мало радости. Выкрашенные в коричневую краску стены с уныло-аккуратным бордюром сжимают и без того небольшую комнату; сейф своими вдавленными в пол колесиками подчеркивает тяжеловесную неизменность твоей сегодняшней судьбы, и даже пустая корзина для мусора раздражает до того, что всерьез ловишь себя на желании специально в нее плюнуть. И пишущая машинка, на которой со сверхзвуковой скоростью (сперва буква прилипает к бумаге, а уж затем раздается характерное “чвок”) шлепаешь ориентировку, хандрит по-воскресному, то и дело кривя строку. Дома я лежал бы еще в постели с книжкой или журналом, а может быть, Муш-Мушта, сидя верхом на мне, плел бы какую-нибудь чепуху. Я попросил бы его принести мне пепельницу и сигареты, а он потребовал бы взамен рассказать сказку, и мы начали бы препираться, потому что, честно говоря, сказки мне давным-давно надоели, и, в конце концов, сошлись бы на чем-нибудь другом. К этому времени на кухне перестает греметь посуда, и нашему спокойствию приходит конец. В комнате мельтешит тряпка, а попутно нам разъясняют, что, раз уж от нас все равно не дождешься никакой помощи, мы можем валяться и дымить сколько угодно, но не мешало бы сперва умыться и позавтракать. Потом можно настроиться на передачу “С добрым утром” — и впереди целый день, не имеющий ничего общего с буднями инспектора уголовного розыска. А теперь вот сиди и вместо ансамбля “Виртуозов из Рима” слушай гулкий стук нард из дежурной комнаты. Правда, Кямиль, дружинник с химкомбината, тоже виртуоз в своем роде: у него, как у радиста, отстукивающего морзянку, свой неповторимый почерк. Еще полбеды, когда вызывают внезапно. Если хотите, вызовы в неурочное время пробуждают самоуважение: что-то произошло, и понадобился именно ты. Но сегодня меня не вызывали, и думать о самоуважении смешно: пять нераскрытых краж за две педели. Похожие, как близнецы, они посыпались одна за другой. Все — днем, все — из квартир и все — на моей территории. Самое обидное, что “моей” она стала только потому, что Эдик — тоже инспектор УР и мой сосед по кабинету- отправился повышать квалификацию. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Кражи нужно раскрыть, а остальное, как поет Герман, “лишь бред моей больной души”. Наш новый начальник отдела произвел выкладку по придуманной им шкале признаков, и получилось, что взбаламутил молодой город приезжий гастролер. Положим, и мы об этом догадывались, потому что перетрясли уже все свои архивы, старых знакомых потревожили, навели справки в Баку — все без толку. Гастролеров ловить всегда труднее: они не обрастают связями, их мало кто знает, они неожиданно появляются и стараются вовремя смыться. Вот и этот, быть может, сейчас, когда я выстукиваю эту “сверхзвуковую” ориентировку, катит себе куда-нибудь в Крым или Среднюю Азию. Повиснут на нас камнем нераскрытые кражи, и будут спрягать и склонять горотдел, пока “гость” не попадется в другом месте. “Подполковник милиции Шахинов”, — подбиваю в конце листа и не испытываю неприязни, какую испытывал раньше, проставляя другую фамилию. Дремучий был товарищ. Из тех, кто привык работать не умом, а глоткой. Что касается нетипичных отличий, то наш проявлял свою индивидуальность в беззаветном страхе перед уходом на пенсию. Где-то в глубине души он сознавал, что теперь органы внутренних дел в нем не нуждаются. Шаги в коридоре. Я не Холмс, но это идет товарищ Кунгаров, начальник отделения уголовного розыска, капитан милиции, мой непосредственный шеф, а попросту Рат. — Приветствую! — Появляясь, он закрывает высоченный дверной проем на две трети. — С добрым утром. Как спалось? Скоро полдень, а мы договорились приехать к девяти. — Мои сто в полном порядке. Это он о килограммах. Их у него действительно сто с гаком, но на отрезке в метр восемьдесят шесть они размещены в строгой пропорции и нигде не выпирают. — А подкалываешь ты меня зря. Я вез сюда Гурина. Натощак по телефону обрадовал: приспичило оказать нам практическую помощь. Мы бы раньше приехали, но он еще к себе заезжал. — А что ему в министерстве? — Начальству показаться. Иначе какой толк работать по выходным? Сейчас я его прямо к Шахинову сплавил. То-то, думаю, обрадуется. Рат скользнул взглядом но ориентировке и тут же спохватился: — А как насчет справки? — Уже отдал. Посмотри копию. Справку о проделанной нами работе по злополучным кражам он прочитал внимательно. — Ну, пошли. Шахинов ее, конечно, проанализировал и теперь, наверняка, чертит какую-нибудь схему. Вот уж тут Рат иронизирует зря и отлично сознает это. Шахинов действительно любит вычерчивать всевозможные графики и схемы, и поначалу его пристрастие вызывало улыбки. Первыми перестали улыбаться участковые инспектора. На большом листе ватмана выстроились столбики, по два над каждой фамилией. Первый, цветной, — предотвращенные участковым преступления, черный, в том же масштабе, — совершенные на участке. Оказалось, что обратная зависимость между предупреждением и уровнем преступности — правило без исключений. Я наблюдал, как некоторые участковые ежились от этой математической зависимости. Потом уроки графического анализа получали и мы, и ребята из ОБХСС, и службисты. Так что улыбки быстро потускнели. В кабинете у Шахинова сидел Гурин, пил чай и читал “Неделю”. — А где начальник? — удивился Рат. — Сказал, что будет через полчаса. Я выглянул в окно и сообщил, что машина здесь. Рат хлопнул себя по лбу, расхохотался и, бросив: “Я сейчас”, тоже исчез. Собственно, и я уже догадался, в чем дело. Гурин мешал Шахинову работать, но попросить его убраться было невозможно. Шахинов сунул ему термос и газету, а сам перешел в один из свободных кабинетов. Однако Гурин чувствовал себя обязанным приступить, наконец, к оказанию практической помощи. Поэтому он без промедления вцепился в мою ориентировку. Попутно он сообщил, что преступления, в том числе и кражи, необходимо раскрывать по горячим следам. — Да, конечно, — согласился я, — только у нас и холодных-то не было. И правда, вор действовал не по правилам: не оставлял отпечатков; крупных вещей, даже носильных, не трогал, их ведь еще вынести надо. Гурин стал объяснять, что следы остаются всегда и надо только уметь их обнаружить. В чем конкретно должно было выражаться наше умение в данном случае, он почему-то не сказал. Я смотрел на него и думал: “Не человек, сплошной вопросительный знак”. Почему он работает в МВД, а не в аптекоуправлении или институте по изучению метеоритной опасности, например? Почему в уголовном розыске, а не в госпожнадзоре? Почему, наконец, он решил оказывать помощь на местах именно в раскрытии краж, а не убийств или грабежей? Скорее всего, он и сам не знает. Зато глубоко убежден, что сумеет “обеспечить” порученный ему участок работы в любой известной человечеству области. Вошел Шахинов, следом — Рат с линейкой и набором карандашей. — Здесь многое, — Шахинов приподнял, словно взвешивая, нашу справку, — но, оказывается, не всё. Мы старались получить данные о самом преступнике, искали только его. Эта прямолинейность и завела нас в тупик. Гораздо меньше мы интересовались теми, кто приютил преступника и снабдил информацией. — Да, квартиры он выбирал без промаха, — согласился Рат. — Взгляните-ка, — из груды бумаг Шахинов извлекает обязательный чертеж, — вот район массовой застройки. Дома, где совершены кражи, помечены. А теперь… — Подумаем графически, — шепчет мне Рат. — Подумаем графически, — продолжает Шахинов. Любо смотреть, когда он работает линейкой и карандашом, в нем наверняка пропал конструктор. Линии, соединяющие дома с “крестами”, образовали пятиугольник. — Естественно предположить, что информатор живет в одном из соседних домов, но я внимательно изучил рапорты участковых, ваши данные, беседовал с председателями домовых комитетов — заподозрить кого-либо из жильцов в связях с преступником нет оснований. К тому же диапазон сведений для любого лица, проживающего в одном из домов, уж слишком велик. В то же время очевидно, что вор избегал краж за пределами строго ограниченного участка, идя на гораздо больший риск задержания. По-видимому, риск компенсировался осведомленностью. — А вот у оперативников ее не было, — вставляет Гурин. Шахинов косится на него, сам он никогда никого не перебивает. — Значит, источник информации находится где-то внутри жилого массива, но не в обычном доме. — Карандаш стремительно прочерчивает радиальные линии от крестиков к центру пятиугольника. В скрещении радиусов большое общежитие химкомбината. Рат возражает: — Общежитие я проверял, посторонних там не было. — Я имею в виду информатора. Ночевать вор мог и в другом месте. — Да, да, — решительно вмешивается Гурин, — соучастник проживает там, несомненно. Следовало с самого начала обратить на общежитие самое серьезное внимание. В февральской директиве об усилении профилактической работы как раз упоминаются общежития. Шахинов терпеливо слушает, потом говорит: — Соучастник в общежитии, скорее всего, не проживает, он там работает: уборщицы, кочегары, слесари. Некоторые из них наверняка работают по совместительству. Тщательно, быстро надо изучить обслуживающий персонал. Кстати, очень может быть, что гастролер скрывается в доме своего информатора, значит, надо поработать и в этом направлении. Мы поднимаемся. — Еще одно: очередная кража, если она произойдет… В общем, возьмите под оперативное наблюдение вот эти дома. — Он подчеркивает три квадратика на самой длинной стороне пятиугольника. — А теперь у меня прием граждан. Гурин сразу засуетился, подхватив свой портфель и фуражку, идет за нами. В кабинетике Рата Гурин уселся основательно и тут же взялся за копию нашей справки. В добросовестности ему не откажешь, не любит сидеть сложа руки. — Не будем мешать, пойдем к тебе, — предложил Рат. Стул Эдика заскрипел под его тяжестью. — Докапал меня Шахинов своими иллюстрированными умозаключениями. — Он предложил много дельного. — Ничего нового, просто кое-что мы действительно не успели. — Темир-бек, вам он тоже преподавал, однажды взял со стола чернильницу и спросил: “Что вы можете сказать об этом предмете?” Стеклянный, хрупкий, с откидной крышкой, янтарного цвета, квадратный снаружи, круглый внутри, на стекле узоры — чего только мы не выкрикивали, а он все требовал: “Еще, еще…”, пока не выдохлись окончательно. А потом одна из девчонок выпалила: “Это чернильница!” — “И в ней отсутствуют чернила”, — добавил он. А ты говоришь: ничего нового. — И тебя на рассуждения потянуло? — усмехается Рат. — А мне выслушивать всех на пустой желудок! Шуткой он пытается скрыть раздражение. Что ни говори, а Шахинов ткнул нас в общежитие, как котят в блюдце. — Эдик тоже хорош, — продолжал Рат, — нашел время учиться; у него-то наверняка зацепка среди персонала имеется. И этот еще сидит, строчит на нашу голову. Что бы Линько приехать, тот бы действительно помог. — А чем это Гурин занят? — Справку по нашей справке пишет. Потом у себя в министерстве приладит шапку и доложит руководству. — Какую еще шапку? — Первую страницу, где обо всем и ни о чем. У него в сейфе специальная папка с архивными документами по всевозможным вопросам, покопается в ней с полчаса, найдет что-нибудь подходящее, кое-что выкинет, кое-что добавит — и готово. Папка давно пожелтела, но хранит ее Гурин, как… — Гоголевский игрок свою чудесную колоду: Аделаиду Ивановну. — Это уж тебе виднее, — усмехнулся Рат. — Только не в шапке дело. Ее и читать никто не будет. А за нераскрытые кражи можем в приказ попасть. Испортив мою сигарету (Рат не затягивается, а только пыхтит), он заметно ожил: — Перекур закончен, приступаем к планированию. Во-первых, закатываемся обедать, во-вторых, топаем в общежитие и так далее, сообразуясь с обстановкой. Пройти по домам персонала лучше всего сегодня: воскресный вечер, больше шансов. Сам понимаешь, придется ночевать здесь. Муторно, конечно, но что делать? Гурин уже надевал фуражку, и мы нетерпеливо топтались в дверях, когда из дежурной в коридор выскочил Кямиль и крикнул: — Сигнал на пульте!С ПОЛИЧНЫМ
Дежурный загипнотизирован вспыхнувшей лампочкой, а мы косимся на телефон. В течение трех минут хозяева квартиры должны позвонить сюда и назвать шифр. Если не позвонят, значит… Не позвонили. Но Рат сказал: — Подождем еще. Это понятно: уж очень не хотелось обмануться, ведь сигнал тревоги всё из того же района. Неужели он? Молчим, словно боясь спугнуть светящуюся точку. Под ней табличка: “ул. Переработчиков, 12, блок 1, кв. 8, этаж 4, Рзакулиев М.Р.”. Я выучил ее наизусть. — Всё. Поехали! Рат в три шага проскакивает коридор; Кямиль, Гурин и я почти бежим следом. На улице Рат взглядом пересчитывает нас и, минуя “Волгу”, бросается к “хулиганке”. Так мы называем “газик” с крытым кузовом и синей полосой по бокам. В этой машине перебывало все городское хулиганье. Наверху здорово трясет, но, не будь Гурина, Рат из солидарности все равно не сел бы в кабину. Теперь, когда все остальное зависит уже не от нас, он начинает с голодухи дразнить Кямиля. — Кольцо есть, невеста есть, когда свадьба будет? — Невеста есть, квартиры нету. Новый год квартира дают, свадьба будет. — Не дадут, — отрезает Рат. — Зачем не дадут? Зачем не дадут? — кипятится Кямиль. — Лодырь нет, прогульщик нет, пьяница нет, жениться надо — зачем не дадут? — Вчера подполковник с вашим месткомом разговаривал по телефону, очень тебя хвалил: какой ты отличный дружинник, как нам помогаешь, преступников ловишь… — Молодец полковник, правильна хвалил. — …как после работы сразу в горотдел идешь, у нас вторую смену работаешь… — Правильна, правильна… — У нас чай пьешь, у нас в нарды играешь, у нас ночевать остаешься… Кямиль настораживается. Он чувствует какой-то подвох и перестает поддакивать, но уже поздно, и Рат наносит заключительный удар: — Тогда местком сказал: зачем ему квартира, пускай у вас живет. Кямиль в недавнем прошлом — сельский парень, а теперь передовик производства и наш верный товарищ. В горотделе к нему относятся как к штатному работнику, а Рат и вовсе по-братски. Кямиль это знает и сейчас, когда смех утих, беззлобно говорит: — Ай, Кунгаров, такой большой вырос, а шутишь как ребенок, …Одна за другой остаются позади улицы этого города-спутника, размером напоминающего любой из микрорайонов Баку, но в отличие от них имеющего свое собственное лицо. Здесь нет концентрированного нагромождения камня и бетона, здесь старые приземистые домики с уютными палисадниками стоят вперемешку с новыми, устремленными ввысь зданиями; здесь словно мудрая старость гордится своими рослыми внуками, но и строго приглядывает за ними, одергивая слишком резвых. Старый городок дал не только название новому — комсомольскому. Каспийск отдал свое прошлое. Поэтому здесь не безликий жилой массив, а город, имеющий свое лицо. Вот только ветров здесь своих нет. Ветры здесь бакинские. Сейчас моряна, в воздухе озон, соль — в общем, запах моря. Я люблю этот ласковый ветер, дующий словно из детства. Машина плавно тормозит, и я, взглянув в боковое оконце, сообщаю: — Вот эта улица, вот этот дом. Двор безлюден. До первого блока от ворот рукой подать. На лестничных площадках ни души, значит, вора никто не страхует. Впрочем, вор ли это? Хозяин забыл позвонить и сейчас обалдело уставится на нас и милицейскую форму Гурина. Да и вообще охрана квартир техническими средствами сигнализации — в зачаточном состоянии. У нас ее пробил Шахинов, но пятьдесят квартир на город — лотерея, и просто не верится, что мы уже выиграли. Последние ступеньки — и прямо перед нами дверь с “Рзакулиевым М.Р.” на аккуратной дощечке. Но Рат звонит направо, в “бесфамильную”, а нам делает знак оставаться на месте. Потом подзывает Гурина, тот позирует перед глазком, и дверь открывается. Я успеваю заметить только удивленное старушечье лицо, потому что Рат с Гуриным тут же скрываются в квартире. Возвращается только Рат и шепотом говорит: — Хозяева со вчерашнего дня в Баку. Старушка ничего подозрительного не слыхала. Кямиль, действуй! Сует ему бумажку с карандашом, а мы прижимаемся к простенку между дверьми. Кямиль несколько раз подряд вдавливает кнопку звонка Рзакулиевых. Потом, не дожидаясь ответа, дергает дверь. Она подается внутрь и наталкивается на цепочку. Кямиль приникает к щели, громко зовет: — Хозяин, получай телеграмма! Со щита на стене прямо в ухо жужжат счетчики. Наконец шаги и стук сброшенной цепочки. Все дальнейшее происходит в ускоренном темпе, как в кадрах немого кино. Лысоватый мужчина пятится в глубь квартиры, на лице не страх — удивление. Раскрыты шкафы, разбросаны вещи. В комнате на столе брошены друг на друга отрезы, горка блестящего металла: ложки и вилки, пара колец, золотая цепочка без часов, еще что-то из позолоченного серебра. — Уже собрал? — беззлобно спрашивает Рат. Старуха соседка всплескивает руками, прицеливается в мужчину колючим взглядом поверх очков, бормочет, кажется: “Паразит”. Тот по-прежнему в изумлении, как пациент при первом знакомстве с бормашиной. Еще бы, всего минут двадцать назад он бесшумно поднялся по лестнице, неуверенно позвонил сюда, в пустую квартиру, прислушался и под мерное жужжание электросчетчиков отжал дверь. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Старуха? Но он все время следил за глазком. И вдруг милиция. “Надо будет обязательно использовать его недоумение, — мелькает мысль, — потом, когда дело дойдет до соучастника”. Рядом с отобранными вещами порядком потертый коричневый портфель. Он широко распахнут, будто примеривается проглотить все лежащее на столе. Рат извлекает из него короткий ломик, связку отмычек и тонкие резиновые перчатки, в которых работают обычно хирурги. — Па-ра-зит, — на этот раз внятно произносит старуха. — Хватит ругаться, мамаша, — просит Рат, — вы лучше смотрите и запоминайте. Портфель твой? — обращается он к “паразиту”. — Мой. Шок кончился, удивление сменилось безразличием. Гражданин, видно, с основательным стажем, и вся предстоящая процедура уже не вызывает в нем особых эмоций. Рат обыскивает его. В карманах замусоленная трешка, штук пять картонных удостоверений и чистый, заглаженный конвертиком носовой платок. Зато из двух брючных “пистончиков” (“По спецзаказу шил”, — смеется Рат) он извлекает измятые денежные купюры самого разного достоинства и облигации трехпроцентного займа. — Ишь нахватал, бесстыдник, — не удерживается старуха, — а вам, — она обращается преимущественно к Гурину, потому что он в форме, — честные люди спасибо скажут! Рат садится за протокол задержания, а я иду осматривать дверь. Придется описывать место происшествия, но сегодня, когда виновник рядом, процедура эта меня не угнетает. Между тем Гурину всерьез понравилось “представлять и олицетворять”. Он завел со старушкой оживленную беседу. Я занялся поврежденными замками, и, когда опять прислушался, он с увлечением объяснял, каким образом нам удалось задержать преступника, и настоятельно рекомендовал старушке полезный опыт Рзакулиевых. Я рванулся было в комнату, но тут же понял: поздно. Абсурдность ситуации заключалась в том, что Гурин в данном случае добросовестно выполнял указание о проведении среди населения широкой разъяснительной работы по оборудованию квартир охранной сигнализацией. Указание совершенно правильное, но, к сожалению, практически невозможно составить перечень случаев, на которые приказы и указания не распространяются. — Ну, родной, сообщай свои фамилии, только сразу договоримся, не фантазировать, все равно проверим. Да ты садись!.. Настроение у Рата майское, даже про еду забыл. — А чего ж скрывать, раз попался? Все равно пятерку дадут. — Пять годов?! — Старушка опять всплескивает руками, но теперь ею движет жалость. — Да вы, мамаша, не волнуйтесь, ему не впервые пятерку получать, небось давно по этой линии в “отличниках” ходит. Засмеялись все, даже “отличник”, только старушечье лицо по-прежнему выражало сострадание. Люди остаются людьми. Сколько раз на моих глазах они готовы были разорвать преступника в клочья, а через пять минут с ними происходила такая же метаморфоза. Наверно, так и должно быть. Без этого парадокса просто немыслимы Человек и Человечность. — …Мамонов Николай Петрович, Плужкин Анатолий Сергеевич, Варенцов Петр Михайлович, Варенцов Михаил Михайлович, — продолжал перечислять он. А женщина все причитала: — Горемыка, горемыка, без роду, без племени… — Настоящая, как и возраст? — Настоящих две: Мамонов по отцу, Плужкин по матери. Тридцать семь под праздники стукнуло. Судимостей три, все за кражи. — Государственные были? — Зачем? Выше пятерки никогда не поднимался. — Слесарь-железнодорожник, моторист речного флота, наладчик, рабочий виноградарского совхоза… Это Гурин быстро просматривает картонные удостоверения, и тут Кямиль, солидно молчавший до сих пор, вскакивает со стула: — Вай, какой лодырь! Умел столько работа, пошел воровать. Вай, какой дурак! — И все-то это чужое, — с каким-то скорбным упреком говорит старуха, — сам-то что умеешь в свои тридцать семь? “А выглядит он гораздо старше, лет десять лишних по тюрьмам набрал, — опять отвлекаюсь я от протокола. — И что за чепуха все эти ложки, серьги да отрезы в сравнении с украденным у самого себя? Во имя чего крадет? Чтобы не работать? Но разве “солидно”подготовить кражу легко? Разве это не требует затрат энергии? Откуда же берутся вот такие человечьи “перекати-поле” в стране, где нет безработицы?” Я не спросил, откуда он взялся. — Сколько краж вы совершили у нас в гостях? — Не считал, гражданин следователь. — Я не следователь, а считать все равно придется. Мамонов задумался, потом, ухмыльнувшись, сказал: — Сколько есть — все мои. Я всегда признаюсь. Зачем зря время отнимать, вам других ловить надо… — Ну, ну, помалкивай, — обрывает его Рат, — видел таких сознательных. Когда формальности закончены, возникает проблема открытых дверей. — Кто испортил, тот пусть и чинит, — шутя предлагаю я, но Мамонов принимает это всерьез. За несколько минут без каких бы то ни было инструментов он приводит замки в порядок. — И зачем только эти руки тебе достались? Неподдельная горечь в словах старушки на несколько секунд меняет выражение мамоновского лица. Бог знает из какого душевного запасника вырывается наружу что-то необъяснимо детское. Дверь опечатана, и мы триумфальным маршем спускаемся по лестницам. Из непонятной стыдливости неизвестно перед кем у нас не применяются наручники, в которых не очень убежишь, и поэтому мне с Кямилем приходится до машины вести Мамонова под руки, как барышню. Во дворе горотдела полным-полно. Ребята из милицейского батальона рассаживаются по мотоциклам. Только что закончен развод, значит, уже шестой час. Основательно мы проваландались. — Ну, спасибо, Михеев, поймал, — говорит Рат дежурному. Тот с недоверием разглядывает Мамонова: с непривычки трудно осознать причинную связь между вспыхнувшей лампочкой и дядей, стоящим у барьера. — А ты пощупай, убедись, — предлагаю я. Мамонов понимает, что мы из-за него порядком натерпелись, и тоже улыбается. Кунгаров с Гурйным идут к Шахинову, а мы с Кямилем, пока дежурный оформляет задержанного в КПЗ[311], садимся за нарды. В конце концов, сегодня выходной! Нарды, конечно, не шахматы, где все зависит от тебя самого, но хорошее настроение примиряет меня с взбалмошными костями. Кямиль целиком отдается игре, а я механически переставляю шашки из лунки в лунку и думаю совсем о другом. О нашем милицейском счастье. Ведь со стороны может показаться: упрятали человека за решетку и счастливы. А истина в том, что никогда нельзя сказать наоборот: счастливы оттого, что упрятали за решетку. И это не софистика, потому что так оно и есть на самом деле. — Что Шахинов? — спрашиваю у Рата, еле поспевая за ним. Он так несется в столовую, что Гурин с Кямилем отстали на добрый десяток шагов. — Принял как должное. Будто после его сегодняшних выкладок Мамонову ничего другого не оставалось, как влезть в эту квартиру и ждать нас. — А ты обратил внимание, в каком доме находится эта квартира? — В пятиэтажном, а что? — В одном из трех, указанных Шахиновым на чертеже. — Миром правит случай, а… — …тобой желудок, — с удовольствием закончил я.ХОРОШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Рабочий день начинается с селектора. Еще недавно в радиусе его действия находились только райотделы Баку, а теперь и мы приобщились. Правда, качество связи пока неважное, иногда динамик выдает что-то нечленораздельное, напоминающее бурчание водопроводного крана. В таких случаях Шахинов пожимает плечами и шутит: “Опять действовать по собственной инициативе”. Но сегодня все в порядке, и вообще селектор — это здорово! По ходу совещания мы узнали, что за истекшие сутки спокойствие столицы не было нарушено тяжкими преступлениями, что в Наримановском районе разоблачена шайка расхитителей, что без происшествий протекала работа метрополитена, что дружинники вагоноремонтного завода задержали хулиганов, безобразничавших во Дворце культуры, что с помощью вертолета на Апшероне поймана группа морских браконьеров, и многое, многое другое. Мне вдруг захотелось очутиться в Баку. А все Рат. Из-за него я ежедневно тащусь сюда, за тридевять земель. Мы знакомы еще по юрфаку. Тогда, как и другие второкурсники, я с завистью смотрел на дипломников. Мы были массой, они — индивидуальностями. Они появлялись на факультете с большими портфелями, только начинавшими входить в моду, на равных болтали и шутили с преподавателями, косились на наших девочек и не замечали нас. Мы бы так и не познакомились, если бы меня вдруг не решили исключить из университета. Я был горячим сторонником свободного посещения лекций и пытался доказать его преимущества собственным примером. За меня вступилось факультетское бюро комсомола, и решающую роль в этом сыграл Рат. Он заявил, что я хорошо учусь, а все остальное — от молодости. То ли довод показался убедительным, то ли потому, что Рату симпатизировал даже декан, дело кончилось выговором. Рат поздравил меня и посоветовал взрослеть как можно дольше. Потом мы встречались просто в городе и по службе, а когда его выдвинули сюда, я потащился следом. … Очередь дошла до нас, голос из динамика спросил: “Что с кражами?” Шахинов придвинул микрофон: — Вчера задержан с поличным Мамонов, рецидивист без определенного местожительства, по-видимому гастролер. Признался в совершении шести краж. Продолжаем оперативно-следственные мероприятия. Совещание закончено, в опустевшем кабинете остаемся Рат, я и Асад-заде — следователь. — Вчера сработала техника, — улыбается Шахинов, — теперь предстоит поработать нам. Выявить соучастников и вернуть украденное. Думаю, что обе задачи взаимосвязаны. Есть одна деталь. Он запнулся, словно раздумывая, стоит ли говорить, потом махнул рукой: — Ладно, смейтесь. Носовой платок. Откуда он такой у Мамонова? Чистенький, свежеотутюженный, вспомнил я. Действительно, откуда? — Я обязательно спрошу его об этом, — сказал Асад-заде. Рат откровенно фыркнул: — И еще не забудь, спроси, где он остальные вещи держит. Парень покраснел и наверняка ответил бы резкостью, но вмешался Шахинов — удивительно обострено чувство такта у этого человека. — Спросить, конечно, надо, вопрос в протоколе может потом пригодиться. Покажите платок на всякий случай и потерпевшим, хотя всем понятно, что Мамонов воровал не носовые платки. И вообще, — Шахинов улыбнулся, — я ведь об этом платке к слову вспомнил, какой уж теперь из меня криминалист. Это как у одного главврача больницы поинтересовались специальностью, и он, перечислив с десяток, включая ассенизатора, добавил: “Был еще терапевтом, теперь так, любитель…” Сейчас смеялись уже все, и я подумал, что в отношениях между людьми не существует мелочей; как важно вот так, без нажима поддержать общее равновесие, не позволить чьему-либо преимуществу в опыте ли, в должностном ли положении, в сообразительности вылиться в обиду, ущемить чье-то самолюбие. Наука не обижать, пожалуй, самая доступная и одновременно самая сложная для всех нас. Где обучался этой науке Шахинов? В райкоме ли, где когда-то работал, или в бытность следователем? Скорее всего, везде, потому что понимал, как это важно, и хотел ею овладеть. И наверное, без нее никакие дипломы и должности не дают право называться интеллигентным человеком. От Шахинова мы пошли не в комнату следователей (кроме Асад-заде, там сидят еще двое: с помещением у нас туго), а к Рату. Следователю надо обстоятельно допросить Мамонова, а нам кое-что уточнить. Вчера мы были слишком возбуждены и выяснили немногое. Хорошо работается нашему брату в детективных кинофильмах. Нажал кнопку, буркнул: привести арестованного, приготовил папиросы, графин с водой, пригласил стенографистку. Теперь гуляй себе из угла в угол и задавай вопросы, конечно для проформы, потому что все-то ты про этого типа уже знаешь. За конандойлевским героем потянулась вереница бледных всезнающих копий, способных со всеми подробностями рассказать обалдевшему преступнику, чем он занимался с той самой минуты, как его мамаша осчастливила человечество. Под напором такой осведомленности обвиняемый падает в обморок, пьет воду, выкуривает предложенную тобой папиросу, потом называет сообщников, местонахождение похищенного и сообщает, каким транспортом туда удобнее всего доехать. Впрочем, последнее существенно только для нас, потому что его вечно не хватает. В фильме автомашины мгновенно срываются с места, торжествующе наигрывая сиренами. А ты, усталый, но гордый своей исключительностью, барабанишь пальцами по стеклу и с умилением любуешься солнечным закатом или восходом — это уже по вкусу режиссера. За Мамоновым мне пришлось идти самому. Дежурный возился с двумя задержанными за мелкую спекуляцию, его помощник пошел перекусить. Дело в том, что подменный заболел, а милиционеров у нас и так не хватает: некомплект. Мамонов прежде всего поинтересовался, когда его отправят в тюрьму. Для таких, как он, это естественно; хочется поскорее избавиться от бытовых неудобств и попасть в привычную обстановку колонии. — Это зависит от тебя, — сказал Рат, — ты садись, садись. Ариф старательно заполнял первую страничку протокола, а мы принялись обхаживать Мамонова, пытаясь выудить из него как можно больше. Падать в обморок он, конечно, не собирался, а вот сигареты наши курил с удовольствием. Словоохотливостью Мамонов не отличался. Да, кражи совершал. Нет, показать дома не может. Они все друг на друга похожи, забыл. Брал, конечно, вещи поценнее. И поменьше, чтоб в портфель уместились. Перечислить отказался: “Разве все упомнишь?” Асад-заде напомнил по заявлениям пострадавших. Мамонов не возражал: “Им лучше знать”. На вопрос о судьбе украденного ответил: — Разным людям на улице продал. А деньги были при мне, сами же отобрали. — Опишите внешность покупателей, — предлагает Асад-заде. С точки зрения нашей — оперативников, вопрос совершенно никчемный, но следователь обязан его задать и записать ответ, как бы смехотворно он ни выглядел. А что ему на практике делать? Не фиксировать заведомо ложных показаний вроде описания внешности несуществующих покупателей? Это было бы нарушением процессуальных прав обвиняемого. С другой стороны, над следователем тяготеет необходимость адаптации показаний, иначе в конце первого же месяца у него в остатке очутится половина дел, а через три ему объявят о служебном несоответствии. Но как знать заранее, какая именно часть показаний окажется впоследствии несущественной? Рату надоело слушать басни, и он перебил Мамонова: — У кого ночевал? Мамонов, не моргнув, ответил: — У знакомой девушки. — Что за девушка? — подхватывает Асад-заде. — Нормальная девушка, две руки, две ноги… Мы улыбаемся, но Ариф работает лишь около года. Он срывается на крик: — Брось кривляться! Где она живет, я спрашиваю?! — Не хочу я ее впутывать, гражданин следователь, — вежливо отвечает Мамонов и прочувствованно добавляет: — Очень уж она красивая… “Кричи не кричи, а хозяин положения я. Вы не знаете обо мне ничего, потому что поймали меня случайно. Что хочу — говорю, что хочу — утаиваю, что хочу — перевру, все от меня самого зависит”, — не надо быть психологом, чтобы прочитать все это на его физиономии. Но в том-то и штука, что психология эта, как говорил еще Порфирий Петрович у Достоевского, всегда “о двух концах”. Можно промолчать, можно переврать, но что утаил, что переврал, отчего растерялся — реакция нормального человека, которую не подошьешь к делу, все это уже работает на нас. Мы задавали вопросы и прислушивались к ответам, как в детской игре “Отыщи под музыку”. — У кого украли платок? — Я заранее вытащил его из сейфа и теперь кладу перед Мамоновым. — Так это ж мой, не краденный. — А кто выгладил? Он в замешательстве, но еще не понимает, что музыка для нас играет все громче. — Та девушка? — помогаю я. — Ну да, та самая, — обрадованно соглашается он. — Та самая из общежития? — уже по-настоящему ошарашиваю его. После долгой паузы он наконец сказал, что не знает никакого общежития. Его уже начали мучить сомнения. Эх, если б не Гурин! — А девушка та в мужских брюках ходит, а? — насмешливо спрашивает Рат. — Не знаю, ничего не знаю, — в раздражении Мамонов не напоминает прежнего: спокойного, уверенного в себе, — и никакой девушки не знаю, и ночевал на вокзале, и признался во всем, чего еще хотите! Рат протягивает ему пачку сигарет, хлопает по плечу: — Ну чего обижаешься? Нам же вещи найти надо. Умеет он ладить с людьми, ничего не скажешь. Его дружелюбная откровенность обескураживает Мамонова. — Да я ничего… понятное дело… мне воровать, вам искать. Только я ведь больше ничего не скажу… Одним словом, каждый за себя отвечает… такое у меня понятие. — Понимаем, что ничего не скажешь, иначе бы вокруг да около не крутили… — Рат подмигивает Мамонову, — а прямо бы спросили, как его фамилия и кем в общежитии работает? — Ну вот, опять… — Мамонов устало машет рукой. Асад-заде забирает Мамонова в свою комнату, ему еще писать и писать. — А ведь он уверен, что так ничего и не сказал нам, — смеясь, говорит Рат. — Да, нелепо получается. — Что нелепо? — Нелепо, что путь к правде иногда указывает ложь. — Тебя по понедельникам всегда на философию тянет. Я это давно заметил. Мне не жалко, только сегодня не стоит, потому что хороший понедельник. А насчет общежития никаких данных у нас нет. Придется… Я киваю: — “Топ, топ, топает малыш…” Все ясно, отправляюсь. В дверях сталкиваюсь с Гуриным. — Хотел пораньше, ничего не вышло, — сообщает он, пожимая руки и решительно раздеваясь. Мы про него забыли, а он после поимки Мамонова уже не отстанет надолго. Это ведь как удачно у него получилось: пришел, увидел, победил. — Давайте планировать дальнейшие мероприятия. Я уже кое-что набросал. — От него так и пышет бодростью. — Вы тоже присаживайтесь. Некоторые пункты Кунгаров, по-видимому, возложит на вас. Я продолжаю топтаться на месте, выжидательно посматривая на Рата. — Он в общежитие должен… — Пойдет немного позже. Или не терпит отлагательства? — Нет, почему же, — мнется Рат. — Вот и хорошо. Это же на пользу делу, что за работа без плана? Кураторы-дилетанты всегда говорят правильные вещи, в этом, вероятно, секрет их живучести. Примерно через полчаса мы уже знали, что предпринять по делу Мамонова. Во-первых, наши оперативные мероприятия должны носить наступательный характер; во-вторых, все имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства необходимо бросить на разоблачение возможного соучастника и обнаружение украденного; в-третьих, привлечь общественность к выявлению скупщиков краденого; в-четвертых, провести с Мамоновым разъяснительную работу по склонению его к выдаче соучастников и добровольному возврату украденного; в-пятых, используя возможности местной печати и радио, довести до сведения населения о задержании вора с помощью технических средств сигнализации; в-шестых, провести работу, которая по своему объему была бы под силу разве что всей милиции республики. Гурин читал взахлеб, застенчиво поглядывая на нас. Эта застенчивость разительно отличала его от Остапа Бендера, знакомившего васюкинских любителей со своей шахматной программой. Наконец он снял очки и предложил нам высказаться. Рат промямлил что-то насчет правильности общего направления, а я сказал, что сегодня все-таки понедельник. Рат понял, кисло улыбнулся, а Гурин удивленно покосился на меня, и я объяснил, что вся неделя еще впереди и для планирования сроков исполнения это очень удобно. Кажется, он не совсем мне поверил, потому что сразу сказал: — Ну, вы можете идти. Завистливый взгляд Рата жег мне затылок, но я не оглянулся. Умение ладить с людьми в некоторых случаях его подводило.ЛИЧНЫЙ СЫСК
До общежития можно добраться автобусом, но можно и пешком. Я решил, что пешком даже лучше. Появляться там в обеденный перерыв не хотелось, слишком много народу, а было только начало второго. Декабрь, а в небе ни облачка, и теплое солнце лениво дремлет на своей верхотуре. Я люблю быструю ходьбу и могу запросто отмахать в таком темпе с полтора десятка километров. В это время у меня возникает странное чувство двойственности, будто идет кто-то другой, а я лишь сижу в нем и могу заниматься чем угодно: смотреть по сторонам, думать или просто отдыхать. На этот раз я слушал музыку. Для этого мне даже транзистор не нужен. У меня все гораздо проще: стоит захотеть, и она уже звучит. Мысленно, конечно, зато по выбору, по настроению. Сейчас игралась вторая часть “Крейцеровой сонаты”. Сперва мелодию вел рояль, а скрипка аккомпанировала. Потом наступил момент перехода, которого всегда ждешь с наслаждением. Десятки раз слушал, и все равно мороз по коже, когда ту же мелодию начинает повторять скрипка. Точь-в-точь и совершенно по-своему. Это мое любимое место. Оно пробуждает уверенность в беспредельности прекрасного. И тогда легче быть сыщиком. Вот и общежитие. Я не планировал свой поход на бумаге, но это вовсе не значит, что иду сюда наобум. Все-таки я не Варнике, а обычный выпускник юрфака с пятилетним стажем работы. Во-первых, мне нужен основательный предлог для вторжения, позволяющий познакомиться со всеми работниками общежития. Этот предлог в виде отпечатанной типографским способом фотографии уже разысканного преступника лежит в моем кармане. Во-вторых, мне нужно выяснить, кто из персонала работает по совместительству в соседних жилых домах. Пунктов не так уж много, склероза у меня нет, поэтому незачем переводить бумагу, у нас с ней и так туго. Из каморки под лестницей высунулся дряхлый старик и спросил, куда я иду. — К коменданту, — ответил я. Он тут же исчез, потому что шипение чайника в каморке становилось угрожающим. Здание пятиэтажное, но коменданты выше первого этажа никогда не забираются. Откуда-то сверху доносится аккордеон, здесь же, внизу, звуки разнообразнее: бренчанье тара, стук домино и голоса, один громкий, другой приглушенный, в конце коридора. Подойдя к полуоткрытой двери с крупной надписью “КОМЕНДАНТ”, я различил слова: “Долго нам еще нюхать?! Я спрашиваю, долго нам еще нюхать?” — “Ну чего ты кричишь, Зюзин? Я ж заявку еще вчера послал”. Приглушенный голос принадлежал сидевшему за столом. По-видимому, это и был комендант. — Здравствуйте, — сказал я. И кричавший парень нехотя ретировался. Зато комендант взглянул на меня с благодарностью, облегченно вздохнув, сказал: — Собачья должность у меня, вот что. Туалет у них действительно засорился, только мне-то что делать, если слесаря сразу не присылают? — И давно вы на этой самой должности? Он улыбнулся. — Уже лет тридцать по хозяйству работаю, а здесь недавно. — И с обидой добавил: — Небось на прежнего не кричали, тот сам всех крыл. А я последнее время в интернатах работал, с детьми, ругаться разучился. Мы помолчали. Он не спрашивал, кто я и зачем явился, а мне тем более торопиться не к чему. — Ушел бы на пенсию, да хозяйства жаль. Кто его знает, кого взамен пришлют. Я вспомнил аккуратно выметенный коридор, чистые стекла в окнах, свежевыбеленные стены здания и поверил в искренность этого пожилого человека, так вкусно произносившего слово “хозяйство”. — Вид у вас усталый. Или с помощниками туго? — Помощников хватает, у меня и добровольные есть. Это они с туалетом принципиально возиться не хотят, а что-нибудь другое давно бы сами исправили. Шутка сказать, триста человек — всех специальностей мастера! Меня, конечно, интересовали помощники штатные, но повторять вопрос, не назвав себя, неудобно. Я представился и объяснил цель своего визита. Комендант повертел фотокарточку: — Нет, такой у нас не проживает. — Может быть, раньше, еще до вас или просто приходил сюда? Кто из персонала сейчас на работе? — Уборщицы уже ушли, нет, одна после перерыва должна скоро подойти. Сторож Гусейн-киши, да вы его, наверное, видали, Намик в кочегарке и прачка наша, Огерчук Валя. — У вас и прачечная своя? Мое удивление было ему приятно, и он с удовольствием рассказал, как пришлось пробивать эту идею и как здорово помогла Евдокия Семеновна Круглова — партком с комбината. — Она баба умная, в горкоммунхозе прямо заявила: “Я женщина, сама себе постираю, а мужчинам что делать? Или вы за то, чтобы грязь разводить?!” Круглову я знал в лицо, у горотдела с комбинатом давно установились союзнические отношения, и сейчас очень ясно представил себе, как она наступала на коммунхозовцев. Однако комендант увлекся, пора было возвращать его к интересующей меня теме. — Может быть, кто-нибудь из персонала работает по совместительству в соседних домах и мог видеть его там? — предположил я. Подумав, он отрицательно покачал головой: — Уборщицы Рахматуллина и Мирбабаева работают в школе, другие только здесь. Мне не хотелось расставаться с удобной версией. — А остальные? Сторожа, например… Сколько их у вас? — Сторожей трое: Гусейн-киши, сами видели; Асадов — инвалид, без ноги, хорошую пенсию имеет, от скуки работает; Гандрюшкин, тот помоложе и здоровьем крепок, но такого лентяя свет не видывал. Да и знал бы я, если б работали… Вот и все. Неужели мы на кофейной гуще гадали? Медленно прокрутил в памяти кадры мамоновского допроса. Нет, не похоже, чтобы мы с общежитием промазали. Может быть, из живущих? “Триста человек, — подумал с ужасом, — поди проверь… И кто из них мог быть связан с шестью домами? Нет, триста человек, слава богу, можно оставить в покое. Либо из персонала, либо общежитие вообще ни при чем”. — А вы точно знаете, что он в этом районе прячется? Вопрос коменданта — естественная реакция на мою настойчивость, но как же он близок к истине! — Видите ли, по данным милиции Борисоглебска (не знаю, почему мне пришел на ум именно этот город), он скрывается где-то здесь. — Для того чтобы как-то оправдать свою назойливость, я добавил: — Это опасный преступник, совершивший там тяжкое преступление. — А я думал, у нас. Оказывается, вон где… — Если б у нас, мы бы сами поймали. Прозвучавшая в моем голосе обида встретила у коменданта понимающую улыбку. Как человек, болеющий за свое хозяйство, он считал это чувство естественным и в других. Я встал. — Обойду ваших работников, может, кто и вспомнит. Сам я в этот обход уже не очень верил. Комендант вызвался проводить меня в кочегарку и прачечную, так что пошли вместе. Намик, парень с черными, будто вымазанными мазутом и затем вконец перепутанными волосами, возился около поставленного на попа огромного котла. Отблеск горящего газа и кипение пара придавали кочегарке сходство с паровозной кабиной, только паровоз этот был устремлен в небо. “Борисоглебской милиции” Намик, разумеется, помочь не сумел, и мы двинулись в прачечную. Она помещалась в дальнем конце двора, но уже на полпути стал ощущаться специфический запах сырого белья. Навстречу нам вышла женщина с большой дорожной сумкой в руках. Я было остановился, думая, что это и есть “прачка наша, Огерчук Валя”, но комендант не обратил на нее никакого внимания, и мне пришлось догонять его уже на лесенке. В опрятной, ухоженной комнате оживленно беседовали две женщины, одна была в белом халате. Такое ощущение, что попал в приемную больничного покоя; правда, гул машины в следующем, основном помещении тут же нарушал эту иллюзию. Молодая, со вкусом одетая женщина, судя по обрывку фразы, жаловалась на кого-то, мешавшего ей жить “по-современному”. При нашем появлении она сразу стала прощаться, называя женщину в халате Валей, а в дверях недовольно покосилась на нас: поговорить толком не дали. Бог с ними, с эмоциями, мое внимание привлек сверток в капроновой сетке, который она унесла с собой. Комендант перехватил мой заинтересованный взгляд и счел нужным пояснить: — Наша прачечная работает на хозрасчете, вот и приходится иметь дополнительную клиентуру со стороны. А качество у нашей Вали такое… — Ну уж и зря, — неожиданно для своей крупной фигуры певучим высоким голосом перебила женщина. — Из соседних домов несут, потому что в городскую далеко ехать, вот и все качество. Мой остолбенелый вид комендант истолковал по-своему. — Вы не думайте чего другого. У нас все законно, квитанции, счета. И разрешение имеется. Как ведомственные парикмахерские или столовые. Кому от этого плохо? — Нет, конечно, это разумно, — механически ответил я, потому что думал действительно о другом. Клиенты из соседних домов, женские откровения и пересуды, из месяца в месяц поддерживаемая связь с примерно постоянным кругом жильцов, и в результате — накопление обширной информации о достатке и образе жизни. Неужели передо мной соучастница мамоновских краж? Пока она рассматривала снимок, я разглядывал ее. Фигурой и большими доверчивыми глазами она по какой-то странной ассоциации напоминала мне крупного, добродушного кенгуру, каким его изображают на детских картинках. Ей было за сорок. Но, видимо, неизменное радушие в сочетании с детской непосредственностью — вернув фотографию, она брезгливо вытерла руки о фартук — вызывали в окружающих желание называть ее по имени. Нет, я оперативник и в отличие от следователя имею право на интуицию. Я ищу преступника. Мне не надо доказывать ни его вины, ни невиновности такой вот Вали. Просто я принял к сведению, что она не могла быть заодно с Мамоновым по извечной формуле: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Уже потом, когда мы шли по двору, я вспомнил о более существенном доводе: Мамонов говорил о женщине и стал нервничать после того, как Рат назвал его соучастником мужчину. Теоретически, конечно, можно предположить, что Мамонов умышленно сказал правду в надежде на обратную реакцию и, когда мы, по его мнению, клюнули на приманку, мастерски разыграл растерянность. В этом случае он большой актер, и нам надо немедленно прекратить уголовное дело, а его самого передать на поруки Бакинскому драматическому театру. Но если связь Мамонова с Валей отпадает и все-таки окажется, что Валя была невольным источником информации, то для кого же? Значит, нужно выяснить два вопроса: куда отдавали в стирку потерпевшие и кто составляет ближайшее Валино окружение. Где-то на заднем плане у меня в мыслях все время мельтешил еще платок, свежевыстиранный и аккуратно отутюженный. Может быть, от того, что я только что побывал в прачечной и видел стопки чистого белья, он стал наваждением. Надо показать его потерпевшим, не исключено, что Мамонов его все-таки украл. — Ваша Валя отличная хозяйка и, видно, добрая женщина. Для мужа, одним словом, клад. — Она и есть клад. Только чего там муж… Нет у нее никакого мужа, а если будет… — И комендант, не договорив, сердито сплюнул. — Да, таким не везет, — попытался я поддержать разговор, но он упорно молчал, думая о чем-то своем. К тому же мы вернулись в здание, и на коменданта налетел долгожданный слесарь. Я обрадовался, потому что сразу избавлялся от сопровождения, теперь оно меня совсем не устраивало. Я искренне поблагодарил коменданта и сказал, что уборщицу разыщу сам. На третьем этаже я разыскал не уборщицу, а комнату № 87, но она оказалась запертой. Из дверей торчала записка, в которой интересующий меня человек сообщал другим обитателям комнаты, что уехал в Баку и, когда вернется, не знает. Так мне и надо, на деловые свидания нужно приходить вовремя. Придется ловить его завтра до работы. А потерпевших удобнее всего обойти вечером: как сказал Рат, больше шансов застать дома. Зато у меня уже нет никаких шансов попасть сегодня домой, и надо звонить, чтоб не ждали. Мне хотелось быстрее рассказать Рату о своих предположениях, связанных с прачечной. Но его в горотделе не оказалось. Ткнулся к Шахинову, и тоже напрасно: на заседании в горисполкоме. Пошел к “беспризорникам” (так в связи с отсутствием болевшего начальника отделения Рат называл следователей). Двое прилежно писали какие-то заключения, но Арифа как раз и не было. “Он в экспертизе”, — и снова уткнулись: видно, срок поджал. Я вернулся к себе, и пустующий стол Эдика расстроил меня вконец. Вот кого мне сейчас особенно не хватало: Эдика Агабаляна с его житейской основательностью и сметкой. В Рате уживаются крайности: может ухватиться за какую-нибудь идею безоговорочно, но может и сразу насмешливо фыркнуть в лицо. Он и оптимист и скептик одновременно. Эдик же, о чем бы ни шла речь, внимательно выслушает собеседника обязательно до конца, подумает и выскажет свое мнение; выскажет серьезно, но не навязчиво, и почти всегда оно оказывается верным. Эдик как оселок, на котором легко проверить свои версии: их несостоятельность или, наоборот, практическая весомость всегда становится очевидной. Я решил заняться бумагами — у оперативников их всегда навалом, — даже заглянул в сейф, но дальше этого дело не пошло. Бывают же такие сумасшедшие минуты, когда оставаться наедине с собой невмоготу. “Надо выложить все Аллочке, — подумал я. — Ей, женщине, легче оценить мою фантазию о клиентах-потерпевших”. Я успел внушить себе, что эта консультация действительно необходима, и вошел в “детскую” по-деловому энергично. Добрая “фея Маренго” склонилась над мальчуганом лет десяти — одиннадцати и гладит по волосам. Он еще сопит, но голову не убирает. Нравится. Зато на меня Аллочка смотрит львицей, которой помешали облизывать своего детеныша. Да, горотделу явно не до меня, ему и без краж забот хватает. Тут мне сказали, что Мухаметдинов разыскивает кого-нибудь из оперативников. Фаиль — замполит. К нам он пришел с партийной работы на Нефтяных Камнях, а туда-с Тихоокеанского флота. Он до сих пор носит широкую, по-флотски, фуражку, фасонно надвигая ее на лоб, но, скорее, не этим, а какой-то внутренней открытостью удивительно напоминает парня из гриновского Зурбагана. У него сидит Леня Назаров, он же Н. Леонидов, из городской газеты. С прессой, как и с комбинатом, у нашего горотдела союзнические отношения. Выясняется, что Леня хочет сделать факт задержания Мамонова достоянием широкой общественности. — Понимаешь, старик, расползлись слухи, будто в городе орудует шайка, совершившая с десяток краж. А вор, оказывается, один, да и тот пойман. — Но вещи еще не найдены. — Видите, я же говорил, что пока писать неудобно, — подхватывает Фаиль. Леня озадаченно вертит приготовленный блокнот: — О самом-то факте сообщить можно? А потом, когда полностью разберетесь, дадим подробный материал. — Граждан, конечно, успокоить можно. Кунгаров не будет возражать? — Фаиль вопросительно смотрит на меня. — Против краткого сообщения, по-моему, нет. — Ну да, так и дадим, анонимно. Леня спохватился, но мы с Фаилем уже хохочем. Из-за газетного псевдонима Рат дразнит Леню анонимщиком, ему это, естественно, не нравится, а тут он сам полез под удар. Потом они возвращаются к прерванному моим приходом разговору. Оказывается, они начали с Мамонова и перешли к причинам преступности в целом. Эта тема — конек Мухаметдинова. — Под нами хлебный магазин, я несколько раз видел, как разгружается хлеб из машины. Шофер перебирает его рукавицами, в которых только что крутил баранку. Экспедитор влезает в кузов, чтобы дотянуться до верхней полки, к его ногам сваливаются одна-две буханки. Бывает и похуже. После этого ты можешь брать хлеб блестящими щипцами, нести домой обернутым в целлофан, грязи на нем от этого уже не уменьшится. От милиции, помимо борьбы с преступностью, требуют выявления и устранения ее причин. Но ведь к нам попадает “выпеченный” жизнью преступник. Поэтому нашими силами здесь не обойтись и требовать устранения причин только от нас абсурдно. Еще немного, и он схватится с Леней врукопашную, а тот сидит смирно, ничего не требует.“ГДЕ ВЫ СТИРАЕТЕ?”
В силу привычки придерживаться определенной системы я решил обойти потерпевших в хронологической, по времени совершения краж, последовательности. В данном случае не было необходимости петлять среди домов, затрачивая лишнее время, но стоит раз изменить хорошей привычке, как вместо нее тотчас возникает дурная, а их у меня и так хватает. Дверь первая. Только перед ней я вдруг вспомнил, что за термином “потерпевшие” стоят люди, которых обокрали. Странно, что такая очевидная мысль не приходила мне в течение двух недель, хотя все это время я только тем и занимался, что старался помочь им. Сперва они ассоциировались с неприятными сообщениями о кражах, потом я рассматривал их как бесполезных в розыске преступника свидетелей, теперь считаю носителями важной информации. Вот и получилось, что явления второго порядка заслонили то главное, ради чего существует милиция, ради чего мне придется сегодня ночевать здесь. Сейчас я позвоню и задам совершенно идиотский, с точки зрения потерпевших, вопрос: где вы стираете белье? И буду повторять его в пяти квартирах. Мои визиты могут вызвать недовольство, раздражение, даже насмешку, но я заранее должен признать естественной реакцию пострадавших людей. Дверь открылась, и я попал в знакомую обстановку часа “пик”. Мама переодевала в домашнее ребенка ясельного возраста, он слегка попискивал, скорее от удовольствия. Папа крутил мясорубку и, увидев незнакомого мужчину — они меня, конечно, не запомнили настолько, чтобы узнать сразу, — тоже двинулся к дверям. — Я из милиции по поводу той кражи… Оба закивали, в ожидающих взглядах — надежда. Когда я сообщил о поимке вора, надежда переросла в уверенность. Теперь бы пригласить в горотдел и возвратить молодоженам отрезы на платья, костюм, свадебные подарки из столового и чайного серебра. Вместо этого я показываю носовой платок. Нет, это не их платок, а на лицах — разочарование. Дело не только в стоимости украденного — в конце концов, у них все впереди, будут и костюмы и ложки, — обидно, когда обворовывают в самом начале самостоятельной жизни. — Где вы стираете? — спрашиваю я. Они удивленно переглядываются, а я смотрю на них с тем же ожиданием, с каким только что они смотрели на меня. — В прачечной, — отвечает она. — Это имеет значение? — раздраженно спрашивает он. — Да. В какой? — Здесь, за углом. В общежитии. Моя радостная улыбка передается им. Дверь за мной долго остается незахлопнутой. Неужели совпадение? И я невольно убыстряю шаги. Вторая дверь. Тут же после звонка па меня обрушился лай, значит, гражданин Сергеев принял меры предосторожности на будущее. Он узнал меня сразу, прикрикнул на мордастого боксера: — Булишь, на место! — Потом спокойно добавил: — Товарищ нас тоже охраняет. Меня передергивает, и лицо потерпевшего Сергеева растекается в довольной улыбке. Она охватывает щеки, уши, переплескивается через очки на кончик носа и, скользнув по подбородку, стекает за воротничок. Только глаза остаются не тронутые этим разливанным морем веселья. Странное дело, но мне показалось, что именно эта улыбка заставила пса возобновить ворчание. — Что же мы стоим, проходите же, проходите… Теперь хозяин — сама любезность, будто после нанесенного оскорбления у пего гора с плеч свалилась. — Вы думаете, я собаку из-за кражи взял? Нет, кража здесь пи при чем. Меня это совершенно не интересовало, но Сергеев с увлечением продолжал: — Собака — самое благородное существо на свете, сколько вложишь в нее внимания и любви, столько же взамен получишь, ничего не пропадет. Мой Граф умер за месяц до этой злополучной кражи. Я называл его Гришкой. Вот, взгляните… Он порылся в подсервантнике, протянул мне фотокарточку. — Симпатичная мордашка, — вежливо сказал я, — гораздо приятнее этой… Я выразительно посмотрел на слюнявого Булиша, а он вывалил свою красную лопату, прихлопнул ставни глаз и дремлет. — После Графа я не мог взять другую овчарку. — Сергеев вздыхает, и почему-то не глаза, а стекла очков становятся влажными. — А Булька еще дурачок, полная отдача будет не скоро. Я с детства люблю животных и испытываю недоверие к их “профессиональным” владельцам. До сих пор оно казалось мне необъяснимым, а теперь я понял, что меня неосознанно раздражало это эгоистичное желание получить стопроцентную отдачу, на которую не способны даже родные дети, не говоря о родственниках и просто знакомых. Я решительно, как заправский иллюзионист, вытащил платок и поинтересовался, не признает ли Сергеев его своим? — Нет, не мой. Но по соседству многих обворовали, покажите им. Впрочем, самое главное, что платок вы уже нашли, поздравляю. Он снова обдал меня своей безбрежной улыбкой, а пес приоткрыл в ставнях щели и глухо зарычал. Безропотно глотать вторую пилюлю я не собирался. — Простите, забыл ваше имя, отчество… — Сергей Сергеевич… — Так вот, Сергей Сергеевич, вы напрасно недовольны Булькиной отдачей. У него с вами поразительная синхронность: когда вы улыбаетесь, он рычит. По лицу Сергея Сергеевича пошли красные пятна, и он демонстративно посмотрел на часы. Зато вопрос о стирке уже не вызвал у него желания острить, но именно теперь он мог бы делать это совершенно безнаказанно, потому что ответ “в общежитии” целиком и полностью поглотил мои мысли. Видимо, он понял, насколько важным было его сообщение. — Жены нет дома: она могла бы подробно… Но я уже встал. Дверь третья. Ее открыл грузный седой мужчина в расцвеченной всеми цветами радуги пижаме. Черты лица были такими же броскими: крупный нос, еще не побежденные сединой брови вразлет, грива волос над массивным лбом и губы, которых с избытком хватило бы на три рта. Во время совершения кражи он был в командировке, и я видел его впервые, хотя знал о нем больше, чем о других потерпевших, вместе взятых. Он близоруко прищурился на меня, прислушался к чему-то и пробасил: — Кажется, опять дерутся… Я посмотрел на соседнюю дверь, но он замахал ручищами: — Нет, нет… Это у меня. Мерзавцы! Потом с неожиданной для грузного тела реакцией рванулся в комнаты, на ходу крикнув: — За мной! “Мерзавцы” сидели на ковре и действительно пихали друг друга кеглями. Но делали они это молча и “услышать” такую драку мог только любящий дедушка. Наше появление примирило воюющих, а после моего запоздалого объяснения, кто я и откуда, они дружно ретировались в другую комнату. Теперь их союз был нерушим. — Неужели и вы, профессор, пугаете их милицией? — пошутил я. — Представьте себе, молодой человек, я не только пугаю, я и сам боюсь. Да, да, я сам. Всю жизнь перехожу улицу в неположенных местах. Прямо патология, знаете ли, боюсь, а все равно срезаю угол. Вы, случаем, не оштрафовать меня пришли за все сразу? Сумма-то какая наберется, а? Рассрочки просить буду! Он уселся в кресло, кивком показал мне на соседнее. Это было уже приглашение к разговору по существу. — Вчера мы арестовали обокравшего вас… — Меня обокрасть невозможно, — серьезно перебил он. — Простите, обокравшего вашу квартиру преступника, но вещи пока не найдены, и нам важно знать… — Я замялся и, не найдя ничего подходящего, все-таки брякнул: — Где вы стираете белье? Мой коронный вопрос вызвал приступ необузданного смеха, который заразил и меня. — Так вы, молодой человек, полагаете, что вор отнес наши вещи в стирку? — едва отдышавшись, спросил он. И мы снова расхохотались. — Но если это действительно важно, мы наведем справки у жены. Лучше я сам спрошу, ладно? Она сегодня устала; весь день на меня работала — целую кучу с немецкого перевела, а тут еще мерзавцы давали жару. — Так она спит? — Нет, нет, читает. Просто подымать не хочется. “Дядя-симпатяга здорово напоминает нашего Темир-бека, — подумал я, — хотя похожесть эта скорее внутренняя, — им обоим как-то не подходит высокопарная приставка: профессор”. — Передаю дословно: у Вали, общежитие за углом, чудесная женщина. О чем-нибудь вам это говорит? — Он, прищурившись, внимательно смотрит на меня. — Вижу, что да. Можете не объяснять, ваши профессиональные тайны меня не интересуют. Давайте-ка лучше угостимся французским коньяком. Не отказывайтесь, аллах вам этого не простит. Коньяк был светло-каштанового цвета и чудесный на вкус. Хозяин с удовольствием причмокнул, пододвинул ко мне коробку с конфетами: — А я по заграницам отвык закусывать, порции мизерные, да и вкус лучше чувствуется. Кстати, о вещах. Жена, конечно, переживала; в женщинах много еще первобытного: блестящий металл, тряпки… Черт с ним, с барахлом. Мне по-настоящему жаль одну вещицу. Золотые швейцарские часы; отец их в жилетном кармане всегда носил, подарок Тагиева, был такой нефтепромышленник. Когда отца уже давно в живых не было, ко мне все близкие приставали, чтобы спрятал подальше, из-за той надписи дарственной. А я не прятал, ведь не в том дело, кто подарил, а за что подарили. Отец лечил детишек, а дети все равны. Ну, а потом и прятать незачем стало. Где бы мы ни жили, они всегда на видном месте лежали. Если крышку приоткрыть — тиканье слышно. Верите ли, оно возвращало мне детство; казалось, стоит зажмуриться, и на голову ляжет рука, большущая, как теперь у меня, но только очень добрая… Замечательное это дело — лечить “мерзавцев”, — вдруг мечтательно сказал он. — Я бы и сам педиатром стал, если б не химия. Он надолго задумался, и я молчал тоже. В казенных заверениях, что часы будут найдены, он, безусловно, не нуждался. Не знаю, о чем думал он, а я понял, что, во-первых, обязательно верну его “тикающее детство” и, во-вторых, злополучный платок останется лежать в кармане, потому что показать его теперь было выше моих сил. Видимо, “мерзавцев” озадачила внезапно наступившая тишина, и они просунули в открытую дверь свои физиономии. — Вот, полюбуйтесь, тут как тут и жаждут бури, спокойствие им не по носу. Удрали мы с женой от их родителей, оставили им в Баку квартиру, так и здесь достают… Честно говоря, мне не хотелось уходить, но, оказавшись на улице, я сразу вспомнил о прачечной и кражах, впервые по-настоящему осознал, что моя фантастическая гипотеза уже приобрела характер вполне реальной версии, и понесся дальше. Дверь четвертая распахнулась сразу и настежь. Так открывают, когда кого-то давно и с нетерпением ждут. В рамку дверного проема мне навстречу буквально метнулась женщина. Мы удивились оба, но я продолжал стоять, а она поспешно отступила. Вэтой и следующей кражах я не выезжал на место происшествия, поэтому обитателей квартиры знал только по допросам Асад-заде. Легкомысленная особа, подумал я и, назвавшись, сказал, что должен выяснить некоторые вопросы. — Пожалуйста, входите, я ждала мужа. Я позволил себе сдержанно улыбнуться, но на мой скепсис она не обратила никакого внимания. — Ваши вопросы… — Это ненадолго. Ваш? Она отрешенно глянула на платок, отрицательно покачала головой. Решив, что пускаться в объяснения не имеет смысла, я прямо спросил: — Где вы стираете? Звонок буквально сорвал ее со стула. Из прихожей донеслись возгласы и поцелуи. Это продолжалось долго, определенно, она про меня забыла. Наконец они появились в комнате. Одной рукой он обнимал ее за плечи, другой, тут же при входе, сделал движение, собираясь швырнуть чемоданчик в кресло, и увидел меня. Чемоданчик дернулся и вернулся в исходное положение. Она покраснела, мягко освободилась от его руки: — Простите, мы не виделись полгода. — И ему: — Товарищ из милиции, нас ведь обокрали… Как будто их можно обокрасть, ведь Мамонов воровал только вещи. Конечно, она забыла, о чем я ее спрашивал, и мне пришлось повторить вопрос. На этот раз я пустился в долгие и сбивчивые объяснения: я становлюсь косноязычен, когда испытываю неловкость. Вот тебе и “легкомысленная особа”. Почему презумпция невиновности в отношении к преступникам не стала для меня определяющей нормой в остальных, куда более безобидных жизненных ситуациях? — В основном, я стираю сама, а что покрупнее — в прачечной. — У Огерчук? — У Вали, в комбинатском общежитии. Мои пробежки от дома к дому становились все стремительнее. Я настолько поверил в несокрушимость своей версии, что перед пятой дверью почти не сомневался в стереотипности ответа потерпевших Саблипых: “У Вали, в общежитии”. Платок меня больше не интересовал: свою роль необходимой “ниточки” он, пожалуй, сыграл. — Где мы стираем? В стиральной машине. Если б не Игорь, я б, конечно, отдавала прачке, но он мне помогает. А вам некогда жене помогать, да? — Ну, Леля… — укоризненно тянет совсем еще юный Игорь. — Вы не обращайте внимания. Когда ребенок засыпает, у нее сразу поднимается настроение. Круглолицая скуластая Леля перестала резвиться и серьезно сказала: — Сейчас еще что, а первые дни после кражи она вообще не хотела ложиться: вынь да положь ей “усатика”, вот где было мучение. — Этот тип зачем-то прихватил тигренка, — пояснил Игорь. — Что за тигренок? — Я помнил, что в перечне такого не было. — Плюшевый, величиной с настоящую кошку. Мы хватились его вечером, когда укладывали ребенка. Мало мне стиральной машины, так появился еще плюшевый зверь. Я мужественно поблагодарил Игоря и Лелю, даже пообещал вернуть “усатика”. “И все-таки она вертится!” Рзакулиевы, последние у кого побывал Мамонов, тоже стирали у Вали, в общежитии.ТОЧКА ОПОРЫ
Почему я не взял раскладушку, а польстился на этот паршивый диванчик?! Вместо пружин он набит противотанковыми ежами. За окном темно, но в декабре веришь только часам. Без четверти шесть. “Аврора уж солнце встречала”, и так далее… А я думал, вчерашний понедельник никогда не кончится. Едва вернулся в горотдел, пришлось ехать к кинотеатру: передрались мальчишки из ремесленного. На ночь глядя прибежала женщина, оказывается, муж — шизофреник, недавно выписанный с “улучшением”, снова впал в буйство. С больным провозились очень долго, потому что “скорая” его не брала из-за отсутствия санитаров, а держать его в горотделе мы не могли. Наконец пришли к компромиссу: транспорт и врач их, санитары — наши. Снимать милиционеров с уличных постов нельзя, еле наскребли одного, вторым “санитаром” пришлось поехать самому. Уже совсем за полночь привезли дядю, дрыхнувшего в городском сквере. Сперва он не хотел вылезать из мотоциклетной люльки, а потом не хотел туда влезать, чтобы ехать в вытрезвитель. Обзывал нас нехристями и доказывал, что имеет “права” спать там, где ему больше нравится. Я таких прав не имел и заснул на этом диване, приспособленном разве только для сидения, да и то ненадолго. И все-таки хороший был понедельник. Я невольно улыбнулся: передо мной одно за другим всплывали лица потерпевших. Итак, я знаю, что Валина прачечная и выбор квартиры Мамоновым для совершения краж каким-то образом тесно взаимосвязаны. Но каким? Думать об этом не хочется. Моя голова совершенно не приспособлена к размышлениям. Я слово-то это “размышлять” не выношу, оно ассоциируется у меня с пустотой. Вот обдумывать полученную информацию — другое дело, но старая уже исчерпана выводом о наличии связующего звена между Валей и Мамоновым, а новой нет, за ней я только собираюсь идти. Информация, информация!.. Живи Архимед в двадцатом веке, ему не пришлось бы просить точку опоры! Остаток ночи, видно, прошел спокойно, дежурный приветствует меня “добрым утром”. — Ничего не доброе, — говорю я, — вся фигура болит. А утро было все-таки доброе. Я это почувствовал сразу, как только вышел на улицу. Прошел дождь, но такой короткий, как процесс умывания моего Муш-Мушты. И вообще я люблю этот час Спокойствия и Порядка, час, в который не совершается преступлений. Улицы наполнены звуками шагов весомых, знающих себе цену. Это выход рабочего класса, и он действительно полон величия! Мне кажется, людям с нечистой совестью становится не по себе от этого уверенного ритма шагов. А я? Имею я моральное право вот так же с достоинством оставлять свои следы на умытом, еще не успевшем запылиться, асфальте? Они — созидатели, а у тебя после пятиминутной работы молотком на ладони вскакивает волдырь. Готовых ответов, конечно, сколько угодно. Милиция охраняет от преступных посягательств созданные рабочими руками ценности и даже нечто неизмеримо большее: жизнь, здоровье, достоинство. Но в это утро мне хотелось не только охранять, но, главным образом, созидать, и я мысленно назвал себя рабочим социалистического правопорядка. Назвавшись так, я вдруг почувствовал, что эти люди, к чьей семье я только что приобщился, могут спросить с меня и за все наши промахи и недостатки. Готов ли я к такой ответственности? Как я ненавидел в эту минуту головотяпов и взяточников, беспринципных подхалимов и держиморд, которым удается иной раз напялить на себя мундир милиции и за которых я должен отвечать! Как я ненавидел? Наверно, так, как можно ненавидеть, невыспавшись и натощак. На автобусной остановке “Общежитие” людей еще мало: до комбината езды минут десять, а на часах — начало восьмого. Придется подождать, зато не разминусь, как вчера. С этим парнем меня познакомила работа в исправительно-трудовой колонии. Со студенческой скамьи я отправился туда, хотя были возможности получше. Тогда мне просто хотелось заглянуть за последнюю страничку детектива, ведь любой из них заканчивается изобличением преступника, а что потом? Теперь я убежден, что оперативники, следователи, судьи и адвокаты должны начинать работу там. Это вооружит их знанием тех, кого они будут потом преследовать или защищать. Парень был осужден за… Впрочем, какое это теперь имеет значение? Прошлое пусть остается в прошлом. Я что-то для него сделал, уж и не помню что. Скорее всего, просто поступил справедливо, а там это ой как ценится. Я не могу точно объяснить, почему воры, расхитители, хулиганы, попав туда, обретают прямо-таки обостренное чутье к справедливости, но могу поручиться, что это именно так. Помню, один почти до слез обиделся, когда его, действительно по ошибке, обвинили в незначительном проступке. А ведь раньше он совершил пакость, не шедшую ни в какое сравнение с нашей ошибкой. “Так то ж я, за это и посадили”, — заявил он, уверенный в непоколебимости своей логики. И, пожалуй, она верна — логика правонарушителей. “Ты поставлен сюда государством и обязан быть справедливым по характеру самой своей службы”. Что-то вроде этого, наверное. Ага, мой парень вышел из общежития. Мы случайно встретились месяца полтора назад, и первое, что бросилось в глаза, — походка. Она не имела ничего общего с той, которая была там. Мне было, конечно, приятно, что забыв о прошлом, он не забыл меня. Даже настоял, чтобы я записал номер комнаты и телефон общежития: вдруг понадобится его помощь. Теперь она действительно понадобилась. Я перешел улицу, и он заметил меня. — Я вас вчера не дождался и на всякий случай оставил записку. — Опоздал — сам виноват, не мог же ты меня ждать весь день. — Если б знал наверняка, что придете, ждал бы. Это мне понравилось, и все-таки перейти сразу к интересовавшим меня вопросам не так-то просто, а “темнить” не хотелось — парень мог обидеться. — Провожу тебя немного, не возражаешь? Мы пошли рядом, и тут он сам неожиданно помог мне: — Домушника-то поймали… Видать, из приезжих? — Из приезжих. — И, наконец решившись, спрашиваю: — Ты прачку вашу знаешь? — Кто ж Валю в общежитии не знает? Только не подумайте чего такого. Поначалу ребята к ней, конечно, лезли, хоть и в возрасте, а лицом приятная, фигуристая, да она всех поотшивала, не криком-шумом, а добром, по-хорошему. Валя — женщина правильная, а работает, словно мать выстирала и без всякой корысти, ни копейки без квитанции не возьмет. Некоторые ее за это ушибленной считают, мол, как можно за восемьдесят рублей ишачить, а у ней просто выкройка такая, ведь получают люди и поболе, а хапнуть все равно норовят. — Вот и отлично. Твое мнение о Вале совпало с моим. Я сказал это не без умысла, но вполне искренне. Действительно, радостно узнать о человеке, даже едва знакомом, хорошее, и неправильно представление, будто милиция имеет дело преимущественно с плохими людьми. По роду своей работы мы действительно чаще встречаемся с плохим в людях, но это не одно и то же. А умысел заключался в том, чтобы мой интерес к Вале не вызвал настороженности, будто милиция ее в чем-то подозревает. — У меня к тебе просьба. Я должен знать, с кем общается она вне работы. Даю честное слово, что это в ее интересах. — Я верю, — сказал он. — Только тут и узнавать нечего, с Гандрюшкиным она женихается, со сторожем нашим, на полном серьезе. Дура баба. Уж она его ухоживает, лентяя. Даже барахло его персонально вручную гладит. Так вот почему сердито сплюнул комендант на мой вопрос о Валином замужестве. У меня в груди что-то ёкнуло и оборвалось. Так бывает, когда самолет ночью с девятикилометровой высоты сползает на посадку, и кажется, ни за что на свете не разыскать ему затерянного в бескрайнем пространстве аэродрома, как вдруг толчок, и он уже катится по надежному бетону. — Это какой Гандрюшкин, Василь Захарыч? — уточняю я. — Не-ет… этого Михаилом Евлентьевичем, а ребята так просто Мишкой зовут. И до самой смерти своей Мишкой останется, потому что труха — не человек. — Чем же он Вале тогда приглянулся? — Да кто знает, по каким приметам она его оценила. Аккуратный он и чистенький, как мухомор после дождя. Одеколон употребляет. Судьбой обижен, потому как детки родные бросили. Он об этом всем и каждому рассказывает, а потом в глаза платком потычет и такое на физиономии изобразит, ни в жизнь не догадаться, что деток этих он уж лет пять как липок обдирает: целую бухгалтерию завел, кто сколько ему присылать должен, словно не отец, а фининспектор какой. “Детки тоже хороши”, — подумал я и еще подумал, что мне повезло: парень оказался на редкость наблюдательным. — Еще он слабым здоровьем хвастать любит: мол, трагедия семейная подорвала его организм, иначе не сидел бы теперь под лестницей. Тут он снова лезет за платком, потому что и сам не знает, чем бы таким мог заниматься. Ай да парень! Я живо представил себе большие Валины глаза, доверчиво впитывающие “трагизм” Гандрюшкина, глаза доброго кенгуру из детской книжки. Но эта картина быстро сменяется в моем воображении другой: Валя говорит о своих клиентах, пересказывает услышанное от них, по-женски, со всеми подробностями и мелочами, а этот прохвост жадно ловит каждое слово и задыхается от зависти к чужой, недоступной для него жизни среди дорогих и красивых вещей, с поездками на курорты и за границу и запоминает внешние приметы заманчивого мира материальной обеспеченности. Какая уж там радость труда, он привык испытывать одну радость — потребления. Но ведь ее тоже надо заработать, а он желает получить все, не вылезая из-под лестницы. И он совсем не оригинален, разве только лестницы бывают разные. А потом… потом появляется Мамонов, мало ли откуда они могли быть знакомы. Парень украдкой посмотрел на часы. — Извини, что не вовремя пристал. Последний вопрос, и сядешь в автобус, иначе влетит за опоздание. Когда работает Гандрюшкин? — Сейчас заступает, с восьми. Последний вопрос я задал на всякий случай, еще не имея никаких определенных намерений, просто мне нужно было знать, где в ближайшие сутки будет находиться Гандрюшкин. Я шел назад к общежитию, невольно убыстряя шаги, каждый нерв, казалось, вибрировал, требуя действия сейчас, сию минуту. Так напрягается хлебнувший ветра парусник после изнурительного штиля. Однако, помимо парусов, имеются, к счастью, компас и капитан. Когда позади осталось три квартала и я чуть было по инерции не влетел в общежитие, последовала команда зарифить паруса, сесть в автобус и ехать в горотдел. И это было самым разумным. Во-первых, мое логическое построение: клиенты — Валя — Гандрюшкин — Мамонов — потерпевшие — нуждалось в фактической проверке. Нельзя так, за здорово живешь, явиться с обыском к этому мухомору на том основании, что он — личность общественно непривлекательная и мог быть соучастником краж. От понятия “мог быть” до “был” огромная дистанция, и мы должны убедиться, прошел ли он ее. Во-вторых, Гандрюшкин уже наверняка знал о поимке Мамонова, и если он — преступник, то постарался избавиться от опасных улик, либо хорошенько спрятать их. Есть немаловажное обстоятельство: сумма денег, обнаруженная у Мамонова, немногим меньше украденной в целом у потерпевших. Значит, вещи и ценности ко времени последней кражи еще не были проданы. Нельзя же допустить, чтобы между компаньонами существовал кабальный для Мамонова договор, по которому все они доставались Гандрюшкину, — роль первой скрипки не для него. Скорее всего, Мамонов вообще не докладывал ему о наличных, а основную добычу они намеревались разделить пополам. Следовательно, для продажи всех этих колец, ложек и отрезов в распоряжении Гандрюшкина имелось два неполных дня, срок слишком маленький, чтобы найти подходящего покупателя. Значит, спрятал в надежде, что Мамонову выдавать его нет смысла. Прошло два дня, и эта надежда превратилась в уверенность. Теперь вообще торопиться незачем, и распродажей он займется потом, когда все успокоится. Спрятал он, конечно, хорошенько, но ведь и мы будем искать как следует. Я чувствовал, что меня подташнивает: не ел со вчерашнего дня и натощак накурился. Надо позавтракать, инспектор, уж это вы наверняка заслужили. Оказывается, не заслужил. Когда я, очень довольный собой, после слоеных пирожков и какао, явился в горотдел, Гурин посмотрел на часы и бросил Рату, что с дисциплиной у нас слабовато. Я посмотрел на него красными, не от злости, глазами, но промолчал, потому что возражаю, когда считаю себя в чем-то виноватым. Это нелогично, но большинство людей до тридцатилетнего возраста поступает точно таким образом. На следующем этапе: от тридцати до пятидесяти, большинство, по моим наблюдениям, уже не возражают начальству в обоих случаях, а старше — плетут в свое оправдание детские небылицы из-за боязни, что просто правды может оказаться недостаточно. Потом я заговорил, и, честное слово, они слушали меня с большим вниманием. Едва я закончил, Рат — человек действия, вскочил, а Гурин предложил мне написать подробный рапорт. В это время позвонил Шахинов и попросил всех нас к себе, так что мне пришлось повторить все сначала. — Вы убеждены, что Огерчук не имеет к этому отношения? — спросил Шахинов. — У меня это тоже вызвало сомнения, — подхватывает Гурин. — У меня нет никаких сомнений, поскольку я с ней не разговаривал. — Оказывается, Шахинов может быть резким, не повышая голоса. — Просто я хочу знать, уверены ли в этом вы сами? — Совершенно уверен, — сказал я и чуть было не добавил, что Валя — кенгуру, словно это могло объяснить мою уверенность. — А в отношении Гандрюшкина? Я замялся, и Рат недовольно покосился на меня. — Конечно же, он. И слепому ясно! — Ну, так как же? — Шахинов по-прежнему обращался ко мне. — Надо проверить, находился ли у него в доме посторонний. — Допустим, все подтвердилось. — Шахинов не продолжал, потому что вопрос был ясен и так. Рат заерзал и сказал, что после этого не видит никаких сложностей. — Гандрюшкин может признать, что Мамонов ночевал у него, но кражи… — А вещи? Куда он денется, когда мы найдем вещи? — А если не найдем? — Как то есть не найдем? Не в катакомбах же одесских живет этот сторож. Продать он их тоже не успел. Тут Рат, раздражаясь от ненужной, по его мнению, проволочки, быстренько привел мои собственные доводы, но то ли от того, что их высказал кто-то другой, то ли из-за запальчивости Рата, теперь они не казались мне столь убедительными, как прежде. На Шахинова они не произвели достаточно сильного впечатления, и Рат, ища поддержки, обернулся ко мне. — Вещи должны быть у него, — противным от неискренности голосом сказал я. Как раз сейчас мне пришла в голову мысль, что, узнав об аресте Мамонова, Гандрюшкин от испуга мог предпринять что-то в первый же момент. Но как отказаться от того, что я сам говорил Рату пятнадцать минут назад. И я продолжал мямлить об отсутствии у Гандрюшкина близких людей в городе, а Вале он тоже не мог довериться: могла догадаться, чьи это вещи. — Я думаю, мы слишком все усложняем, — веско сказал Гурин. — Это все-таки сторож, а не доктор юридических наук. Даже я на его месте не вел бы себя иначе. — Мне трудно представить себя на месте укрывателя краденого, — холодно улыбается Шахинов, — но подменять собой Гандрюшкина никому из нас не стоит. На своем месте он поступил так, и только так, как мог поступить именно он.МУХОМОР
Рат вернулся с пожилой домохозяйкой и дворником, подмигнул нам: порядок. Пока Асад-заде их допрашивал, я подготовил людей для опознания. Вместе с допросами эта процедура заняла часа полтора, но Рат до конца не выдержал и, бросив: “Я за Мухомором”, — умчался. Уже по предварительным описаниям соседей стало ясно, что речь идет о Мамонове. Опознание прошло без неожиданностей. Небольшое отличие в показаниях свидетелей касалось только времени пребывания Мамонова у Гандрюшкина: домохозяйка заметила постороннего на день раньше — на то и женщина. Перед уходом в камеру Мамонов попросил очередную порцию сигарет, задумчиво сказал: — Докопались все-таки, а… Прям как в кино. — В дверях опять остановился. — Неужель по платку определили? — Может быть, теперь все как следует расскажешь? — ответил я вопросом на вопрос. — Не, начальник. Я свое рассказал, теперь пусть хрыч рассказывает. Ввалился Рат, взял сигарету, значит, чем-то озабочен. — Где Гандрюшкин? — В КПЗ оформляется. С непривычки поперхнулся дымом, выругался. — Как ты думаешь, чем этот тип занимался, когда я влез к нему под лестницу? Ладно, не мучайся. С карандашом в руках штудировал УПК[312]. Как это тебе нравится? У него с детства интерес к юриспруденции. — Болезненный. — Я так и сказал. Потом прочитал ему про обыск, знаешь, где “предметы и ценности, добытые преступным путем, скрыты”, хотел сразу расколоть. — Ну и что? — механически спросил я, потому что догадался о результате и о том, что именно тревожит Рата. — Ты понимаешь, такое впечатление, что вещей у него уже нет. Именно об этой возможности я подумал утром и промолчал. Промолчал дважды: у Шахинова, потом — у Рата. Что мне помешало во второй раз? Ложное самолюбие? Пожалуй, нет, перед Ратом я не постеснялся бы отказаться от ошибочного мнения. Боязнь выглядеть “подпевалой” — вот что. Как же товарищ мог подумать: только что ты говорил одно, а побывав у начальства — другое. Смешно, по для компромисса с собственным разумом иногда бывает достаточно даже таких вот нелепых доводов. Рат смял окурок: — Поплакались, и ладно. Теперь поздно. Асад-заде уже приготовил протокол допроса подозреваемого и в ожидании Гандрюшкина заполнил верхушку. — Бери материалы, поехали за санкцией на обыск, — сказал Рат, — а ты, — он обернулся ко мне, — в порядке его поручения допроси Мухомора. — Я поручаю, — согласился Ариф. Рат хмыкнул и потащил его за собой. Всегда любопытно впервые увидеть человека, о котором уже сложилось определенное представление. В данном случае внешнее сходство между оригиналом и созданным в воображении образом оказалось настолько разительным, что я улыбнулся. И впрямь мухомор. Хилое туловище, еще более сужаясь в плечах, незаметно переходило в длинную шею и увенчивалось головкой-шляпкой с аккуратно зачесанным пробором в набриолиненных волосах. Он подошел к стулу, но не сел. Оперся на спинку рукой, взглянул на меня, как сфотографировал, и резко качнул “шляпкой”. — Унижен и оскорблен, но смеха вашего достоин. Пригрел перелетную птичку, а она змеей обернулась. Ужален я, ох как ужален. — Вытащил заглаженный конвертиком платок, промокнул глаза. “Пятистопное ископаемое какое-то”, — подумал я. Словно провинциальный актер-неудачник, замороженный в конце прошлого века, вдруг ожил во всей своей оттаявшей красе. Гандрюшкин снова произвел фотосъемку, на этот раз несколько увеличив выдержку, — хотел узнать впечатление. — А платочек вам Валя выстирала? — Валентина Степановна — моя невеста. Подробности эти… Он запнулся. Как у всякого невежды лексикон его был ограничен: слово “интимные” в нем отсутствовало. — …личные, — нашел все-таки синоним, — к делу не относятся. На его печально-осуждающий взгляд, установленный на предельно длительную выдержку, я отреагировал совсем уж неприличным вопросом: — Почему же вы невесте своей ничего из краденого не подарили: платочки вместе, а золото врозь? Или не про всех клиентов вам рассказала? Гандрюшкин сел и съежился, как мухомор на солнцепеке. — Вы можете выдать краденые вещи до производства обыска, тем самым облегчив свою вину. Я произнес эту официальную фразу бесстрастным тоном, втайне надеясь на успех. И ошибся. Меня обманул его подавленный вид, но как раз про обыск упоминать и не следовало. Наша догадка об истоках совершенных краж явилась для него обескураживающим откровением, а услышав про обыск, он снова почувствовал себя на прежних, заранее продуманных позициях. А позиции эти без обнаружения вещественных доказательств казались ему неприступными. И небезосновательно: при отсутствии вещей нет и укрывательства краденого, а пособничество путем снабжения информацией трудно доказуемо — ведь мог же он делиться с Мамоновым, как и Валя с ним самим, без всякого умысла. Теперь я окончательно уверился, что вещей в доме Гандрюшкина нет и найти их, когда игра пошла в открытую, будет нелегко. Гандрюшкин выпрямился и перешел в контратаку: — Я хочу прокурора. Я терпеливо разъяснил, что знакомство с прокурором состоится обязательно, но позже, когда придется выбирать меру пресечения, а может быть, в этом и вовсе не будет надобности, если наши вполне обоснованные подозрения не подтвердятся. Кроме того, прокурору сообщено о задержании Гандрюшкина, а жалобы можно подавать в письменном виде на бесплатной казенной бумаге, кстати, очень дефицитной. Потом я перешел к допросу по существу, и он тут же заявил: — На ваши вопросы я хочу изложить сам. Весь разворот протокола он заполнил на одном дыхании, будто по памяти шпарил. Мы явно с ним просчитались, вернее, недооценили. Он оказался не так прост, как думалось. А “изложено” им было вот что: “Ввиду бедственного материального положения и крайне одинокой старости в свободное время после работы я согласился на временное проживание упомянутого в вопросе гражданина по фамилии Мамонов который обманув мое доверие занялся преступными кражами и воровством тем навлек на меня тяжкое и обидное подозрение в присвоении вещей им украденных мною доселе невиденных и незнаемых как я предполагаю им то есть вором Мамоновым распроданных и пропитых…” Дальше, в том же высокопарном слоге и без знаков препинания он просил “для собственного очищения” произвести у него обыск и “со всем усердием” признавал себя виновным в нарушении паспортного режима. На обыск я не поехал. Рат предложил мне срочно допросить Огерчук: помимо всего прочего, ей могли быть известны неустановленные связи Гандрюшкина. Не знаю, кому было легче, им ли искать напрасно или мне “стрелять” в кенгуру. Во всяком случае, в горотдел вернулись все злые как черти. За исключением Гандрюшкина, конечно. Он заметно посвежел, и шляпка его, казалось, источала добродушие и любовь к ближним — отличная натура для изображения готового к вознесению Христа. Рат отвел меня в сторону, спросил: — Ну как? — Ничего нового: дети, дом, Валя. — Дом исключается, даже намека не нашли. А вдруг все-таки… — Нет, — перебиваю я, — она исключается тоже. — Ты что, телепат? Она его ближайшая связь, мы просто обязаны проверить. Ариф! Подошел Асад-заде. В его практике это первый серьезный обыск, и вид у него был совсем обескураженный. — Готовь постановление на обыск у Огерчук. — А заодно у коменданта и соседей Гандрюшкина. — Комендант и близкая знакомая не одно и то же. — Огерчук — порядочная женщина. Она хотела создать семью и обманулась, ее обокрали так же, как других потерпевших. Асад-заде писать постановление не торопился, словно ожидая, за кем останется последнее слово. Оно осталось за Ратом. — Зря мы спорим. И дело не в твоей психологии. Все равно прокурор не согласится. Он и про этого сказал, чтобы отпустили, если ничего не найдем, ты же слышал. Это уже относилось к Арифу, и он с облегчением кивнул. Еще бы! Ему не пришлось принимать решение, а я по себе знаю, как трудно это бывает и не только на первом году службы. Обыск — оскорбление, чтобы нанести его, надо быть уверенным в своей правоте. Но Ариф напрасно радуется. Как и я когда-то, он еще не понимает, что получил всего лишь отсрочку, что скоро он столкнется с необходимостью самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Может быть, в этом заключается один из признаков профессионального мастерства — милицейского или любого другого. Рат выглянул в коридор и пригласил Гандрюшкина. На столе уже лежала разная мелочь, отобранная у того при задержании. — Распишитесь в получении, — предложил Асад-заде, — и можете идти. Гандрюшкин не спеша вывел подпись, высморкался, произвел наш групповой снимок с максимально открытой диафрагмой. Он проделал все это молча, но с таким достоинством, будто сама оскорбленная добродетель выговаривала нам за него: “Вот видите, как обернулось, а вы сомневались… ая-яй вам, товарищи”. Но товарищи не сомневались ни раньше, ни теперь. Поэтому Рат сердито сказал: — За нарушение паспортного режима будете оштрафованы в административном порядке. Мухомор склонил шляпку набок: — С усердием прошу размер штрафа согласовать с крайне бедственным материальным положением. От такого наглого фарисейства Рат позеленел, повернулся ко мне: — Я тебя прошу, по-интеллигентному, вежливо объясни ему, что нам некогда. Меня не надо упрашивать, и я сурово произношу цитату из Купера: — Бери свое, гурон, и уходи! — Прошу не оскорблять, я буду жа… Рат посмотрел на него своим стокилограммовым взглядом, и жалоба застряла в горле. Гандрюшкин быстренько собрался и исчез. Теперь предстояло еще одно “приятное” дело: подробно доложить обо всем Шахинову. Да еще перед самым его отъездом на трехдневный семинар. Однако в кабинете мы застали Гурина и поняли, что от доклада он постарался нас избавить. Несколько минут стояла гнетущая тишина. В кабинете у Шахинова она была особенно неприятной. В присутствии кого бы то ни было он никогда не занимался, тем более не делал вида, что занимается другими делами. Рат поежился, неопределенно сказал: — Да, поторопились. В это время, по-строевому чеканя шаг, вошел и застыл по стойке “смирно” участковый Гандрюшкина, капитан Маилов. Шахинов пожал плечами. — Сядьте! Все остальное он говорил в обычном спокойном тоне. — Время шагистики прошло даже для армии. И там, и у нас нужны в первую очередь специалисты. Если ракетчик не сумеет быстро и точно выполнить приказ, грош цена его умению вытягиваться в струнку. Как бы вы передо мной сейчас ни маршировали, приказ о выявлении посторонних лиц вами не выполнен: в течение двух недель на вашем участке проживал преступник и совершал кражи. Государство доверило нам спокойствие города, в этой ответственности само по себе заключено уважение. Оно не прибавится, если подчиненные будут есть глазами начальство, по мы его лишимся вовсе, если, соблюдая формальную дисциплину, будем наплевательски относиться к служебной. И, пожалуйста, не поддакивайте. При обсуждении служебных вопросов вы можете соглашаться или спорить, а теперь в вашем одобрении нет необходимости. Шахинов никогда никого не распекал в присутствии третьего, тем паче третьих лиц; сегодня он изменил своему правилу. Я понял, что это сделано умышленно, когда без видимой связи с предыдущим он заключил: — Время бездушных исполнителей прошло. Регулировщики с дипломами — ненужная роскошь, их может заменить автомат. Только творческий подход к делу обеспечит рентабельность каждого из нас в обществе, строящем коммунизм. Когда участковый вышел, Шахинов без тени упрека, словно продолжая утренний разговор, сказал: — Надо думать, как поступил Гандрюшкин. Я подумаю в дороге, а вы — здесь. У вас фора, все под боком, даже потерпевшие, если понадобится вернуть вещи. В общем, порознь или вместе, но надо думать. Вместе у нас ничего не получилось. Рат, как это часто бывает, из состояния “оперативной горячки” впал в апатию; Гурин привык мыслить несоразмерными с ничтожным Гандрюшкиным категориями — все равно что из пушки по воробью палить, да еще холостыми зарядами; мы с Арифом попробовали, но ничего путного из этого не вышло. Ровно в шесть я сказал Рату, что Гандрюшкин мне антипатичен настолько, что я и думать о нем не хочу, а обедать и ночевать сегодня хочу дома, и даже очень.КАК ПОСТУПИЛ ОН?
Меня не встретили овациями, но и разводиться со мной не собирались, и проблема: работа или семья, прошу прощения у героев “милицейских романов”, — у нас начисто отсутствовала. На меня поворчали, зато тут же накормили горячим обедом, а домашний обед — это вам не столовая. Муш-Мушта выждал некоторое время и, убедившись, что я продолжаю занимать вертикальное положение, потащил меня играть в настольный футбол. Сначала я проигрывал, потом вспомнил, что игру удастся прекратить только при обратной ситуации, и стал забивать сам. Противник не подозревал, что моих футболистов вдохновляют мысли о недочитанных рассказах Бредбери и купленной еще позавчера стереопластинке. Работа в уголовном розыске развила во мне своеобразный инстинкт самосохранения: в свободное время полностью отключаться от всего, что занимало па службе. Мир, к счастью, состоит не только из преступников. Недаром Конан-Дойль вручил своему герою скрипку! Но сегодня мое серое вещество взбунтовалось: слишком велик объем полученной за день информации. Инстинкт был подавлен и место героев Бредбери прочно занял Гандрюшкин. Правда, сперва я думал не столько о нем, сколько о возможном местонахождении вещей. Мысленно перебирая различные варианты, я вдруг понял, что все время исхожу из возможностей абстрактного лица. Когда Муш-Мушта прячет от меня сигареты, я не задумываюсь, куда они могут быть спрятаны в квартире вообще, определяющим является, куда их мог спрятать именно он, и безошибочность обнаружения объясняется моим знанием Муштиной индивидуальности. Значит, ответить на вопрос о вещах безотносительно к самому Гандрюшкину невозможно, и поиск решения надо начинать с исходного: кто он? Пятьдесят два года, вдовец; дети разъехались по городам и весям, с папашей не переписываются, но деньги высылают аккуратно: дочь — добровольно, сын — алименты; в молодости болел туберкулезом, на фронте не был; в Закавказье приехал вскоре после войны, работал почтальоном, потом держал корову и продавал мацони — скорее всего, только продавал, потому что после смерти жены молочная коммерция лопнула; торговал уже на государственной службе газированной водой и пирожками, но недолго, то ли его интересы не совпали с государственными, то ли не обладал необходимой расторопностью; вот уж после этого он забрался под лестницу в общежитии. Это, так сказать, форма биографии, а каково внутреннее содержание? Я убежден в изначальности положительных задатков у любого человека, но что же превратило Мишу Гандрюшкина в Мухомора? Может быть, болезнь лишила уверенности в себе, а окружение в силу неизвестных мне обстоятельств усугубило его сознание собственной неполноценности? Обо всем этом можно только гадать. Прав Фаиль: мы начинаем со стадии “щипцов”, когда случай, совершенное. преступление, подсовывает нам уже “выпеченного” жизнью человека. Прощай, Миша Гандрюшкин, — пусть тобой займутся другие, и здравствуй, Мухомор, — ты уже по моей милицейской специальности. Внутреннее движение твоей Мухоморьей биографии обусловливалось неизбывным желанием получать, как можно меньше давая взамен. По этому принципу ты строил свои отношения с обществом, с родными, даже с Мамоновым. Крупного стяжателя из тебя не вышло, помешали лень, страх перед наказанием. Ты превратился в безнаказанного воришку, обкрадывающего, в рамках дозволенного законом, всех и вся, в том числе и собственную жизнь. Если бы не стечение обстоятельств, твоя воровская сущность так и не вылезла бы наружу. Впрочем, тут я, наверное, ошибаюсь: природа не терпит несоответствия формы и содержания, все равно приходится держать экзамен на однородность. Ты его выдержал, подтвердив, что форма все-таки определяется содержанием: воришка в рамках дозволенного превратился в преступника. По привычке ты начал с кражи внутренней, обокрал поверившего тебе человека. Потом сделал следующий шаг: залез в карман, уже охраняемый законом. Переход был чисто символическим, тебе не пришлось отказываться ни от лени, ни от трусости. Действовал и рисковал кто-то другой. Свой собственный риск ты свел до минимума. Стоп. С этого момента возникает основной вопрос: “Как, в соответствии с Мухоморьей индивидуальностью, ты должен был вести себя дальше?” Я допустил еще одну ошибку, подумал, что ты растерялся после поимки Мамонова и мог сгоряча избавиться от прямых улик первым попавшимся способом. Ошибка эта двойная. Улики представляют собой ценности на сумму до трех тысяч рублей, и расстаться с ними с бухты-барахты ты был просто не в состоянии. Во-вторых, ты вовсе не растерялся, когда Мамонов не пришел от Рзакулиевых. Сидя у себя под лестницей, ты обдумывал разные варианты и заранее был готов к этому. Арест сообщника, конечно, пугал, но страх и растерянность — разные понятия. К тому же Мамонову не имело смысла тебя выдавать, по крайней мере, сразу. Мы не пришли. Испуг сменился радостью, теперь все принадлежало тебе одному. Только нужно на время избавиться от вещей, чтобы они не стали уликами; кто знает, как поведет себя этот рецидивист в дальнейшем, да и милиция сейчас начеку. Куда ж ты их дел, соблюдая условия: не продавать, не оставлять в доме, надежно сохранить? Я по-шахиновски стал чертить на бумаге, так сказать, мыслить графически. Схемы не получилось, правда, не по моей вине. Связей Гандрюшкина с внешним миром едва хватило на изображение жалкого подобия треноги. Линии, соединяющие его с детьми и Валей, я решительно перечеркнул. Оставалась третья. Но разве мог Гандрюшкин довериться просто знакомым? Отдать три тысячи в таком подозрительном эквиваленте, да еще под честное слово. Порядочный догадался бы и не принял, а прохвост просто-напросто присвоил. Тренога развалилась. Мухомор мог рассчитывать только на себя. Закопал в поле за городом или спрятал на какой-нибудь стройке? Слишком легкомысленно. Как Корейко свои миллионы сдал в камеру хранения? Понадобился бы чемодан внушительных размеров. Я живо представил себе изумление соседей. Подобный торжественный выезд не мог не запомниться, и вся хитроумная комбинация, затеянная на случай нашего появления, теряла смысл. Вещи он вынес в сетках, частью в карманах и под пальто. Только так. А что же дальше? Телепортировал их на Эльбрус? И все-таки Гандрюшкин нашел что-то реальное и, судя по его уверенности, вполне надежное. Если про забытое слово говорят, что оно вертится на языке, то отгадка вертится на моих извилинах. Однако утомление от прошедших суток сказывалось все больше, и мысли, ускользая из-под контроля, вместо того чтобы сосредоточиться, разбегались черт знает по каким закоулкам. Я поборолся еще минут десять и провалился в небытие. Наутро мне сообщили, что я мычал, бросался, один раз даже сел. Выразили опасение, что если я опять явлюсь только послезавтра, начну спать стоя. Меня действительно замучили сны, и одни из них кошмаром врезался в память. На Землю обрушился ливень небывалой силы и превратил ее поверхность в сплошное месиво. Слой грязи, облепивший планету, погубил все живое. Только мухоморы и мухоморчики пробили эту толщу и, расплодившись в неимоверном количестве, стали безраздельными хозяевами Земли. Самое страшное заключалось в том, что от меня будто бы зависело предотвратить катастрофу, но, испугавшись непогоды, я остался дома. Вот что значит читать фантастику вперемежку с углублением в психологию гандрюшкиных. Наскоро запивая бутерброды горячим кофе — с утра он дает хороший заряд бодрости, — я мысленно составил прогноз “на сегодня”. Делать это по принципу “что день грядущий мне готовит” вошло у меня в такую привычку, как у некоторых прослушивать ежеутренние сообщения о погоде. Выяснилось, что ничего светлого не ожидается, наши умозрительные резервы иссякли, придется готовить оперативную комбинацию. Перед тем как выйти из подъезда, я сунул палец в нашу ячейку почтового ящика и в который раз подумал, что газеты лучше покупать в розницу: почтальоны упорно не желают приносить их с утра, недаром лентяй Гандрюшкин работал почтальоном. Именно в этот момент на меня свалилось легендарное яблоко. Вчерашний день не прошел даром, ведь яблоки откровения падают только на подготовленную почву. Почтовый ящик вызвал цепную реакцию ассоциаций: почтальон — Гандрюшкин — почта — посылки. Кому? На этот вопрос я ответил еще вчера: себе. Куда? Скорее всего, куда-нибудь поближе, в Баку, например, Главпочтамт, Гандрюшкину, до востребования. Снова, как после встречи с парнем из общежития, паруса наполнились ветром и мчат меня к затерянному в бескрайних просторах острову Истины. Правда, пока это всего лишь рейсовый автобус. — Нам придется… — едва поздоровавшись, начинает Рат. — Не придется. По-моему, не придется, — тут же поправляюсь я. — Что-нибудь новое? — Пока кибернетики не научатся создавать модели с ассоциативным мышлением, нам нечего бояться конкуренции роботов. — Ассоциации — это вещь, — улыбается Рат. Он привык, что за подобными выкладками у меня скрывается что-то существенное. Зато физиономия Гурина вспыхивает, как электрическое табло с таким примерно текстом: “Начхать мне на роботов и кибернетику, а несерьезных товарищей, вроде тебя, я бы гнал из милиции в три шеи, тоже мне юморист, а еще погоны носит”. К моей гипотезе Рат поначалу отнесся с недоверием. Я, горячась, приводил все новые доводы, даже изобразил Гандрюшкина, аккуратно, стежок за стежком, обшивающего посылку по всем почтовым правилам. Моим союзником неожиданно оказался Гурин. Когда Рат усомнился, что посылка может вместить такое количество вещей, он убежденно воскликнул: “Значит, их было две!” О количестве посылок в связи с ограниченностью вместимости я не задумывался. Осознав, что решение вопроса “Как поступил он?” может прийти через личность Мухомора, я впал в другую крайность, и вещи потеряли для меня свои конкретные материальные признаки. — Значит, отправил под вымышленной фамилией на свою собственную до востребования, — сдается Рат. — Можно спокойно подыскать покупателей… — Не боясь никакого обыска, а потом, когда шум уляжется или мы убедимся в его непричастности… — Заняться реализацией. Мы перебиваем друг друга, но логика поступков Гандрюшкина от этого не нарушается. — Как просто и надежно придумано, — искренне восхитился Гурин. — Какое образование у этого сторожа? — Статистика показывает, что образование и преступность находятся в обратно пропорциональной зависимости, — сказал я. — Просто он служил на почте. — Ну что ж, бери у Фаиля машину. Три почтовых отделения, может, в каком и повезет. Если, конечно, тебе все это не приснилось. — Меня смущает другое, — вдруг сказал Гурин, — как мы все это задокументируем? — Очень просто, — ответил Рат. — Асад-заде вынесет постановление о выемке, прокурор утвердит, возьмем Гандрюшкина… — Я имею в виду оформление по нашей, оперативной линии, — недовольно перебивает Гурин. — Ведь никаких мероприятий в связи с посылками не проводилось. Просто догадались, и все. Оказывается, его мучила невозможность увязать данный случай с исполнением требований, предъявляемых к работе уголовного розыска. — Ну ладно, я займусь этим сам, — словно освобождая нас от главной непосильной ноши, заявил он. Уже в машине я прыснул смехом: подумал, как Гурин бьется сейчас над документальным оформлением моей догадки. Да, он держится в центральном аппарате только потому, что непосредственное начальство не видит его в работе. Не повезло во всех почтовых отделениях. В последнем я просмотрел корешки квитанций два раза. Отправлений на имяГандрюшкина не было. Неужели действительно приснилось? — Теперь куда? — спросил шофер, но я опять вылез из машины. Вернувшись на почту, я стал смотреть документы на получение. И снова безрезультатно. Вот тебе и ассоциативное мышление, недаром его так трудно задокументировать. Но начатое надо доводить до конца, эта привычка тоже из моего актива. Сержант поворчал, шоферы начальства не очень считаются с субординацией, и повез меня в отделение, где мы побывали перед этим. “Гандрюшкину Михаилу Евлентьевичу, до востребования”. Черным по белому, наяву. Я держал карточку, и пальцы у меня дрожали. А каково было Ньютону? Успокоившись, я прочитал, что отправителем является Андрей Гандрюшкин, обратный адрес: Баку, проездом. На почте, с которой я начал проверку, Гандрюшкина ожидала вторая посылка, на этот раз от дочери Сони. Обе посылки были отправлены в воскресенье. Значит, Гандрюшкин уехал с вещами в Баку в первые же часы после задержания Мамонова. Вот с какой предусмотрительностью поступил он. Только с детками зря перестраховался, можно было и без них обойтись. Неожиданно я почувствовал к нему жалость. Нет, не к Мухомору, к Михаилу Евлентьевичу. От своих детей он получал только официальные денежные переводы. Кто знает, какой пустяк мог в свое время удержать его от превращения в Мухомора? Внутренний мир человека — та же вселенная, и ничтожного атома бывает достаточно, чтобы зажечь в нем новое светило.ШЕСТАЯ КРАЖА
Удивительно, до какой степени может дойти привычка к раз напяленной на себя маске. И расцветка давно поблекла, и многочисленные прорехи выдают настоящее лицо, а любитель маскарада по-прежнему дурачит окружающих. Гандрюшкин упорно не желал становиться самим собой. Его поэтапная реакция на происходящее в адаптированном варианте выглядела примерно так: “Посылка мне? От сына!” “Какое странное содержимое! На что все это старику?” “Как, еще одна? От дочери!” “И она насовала бог знает что? Они с ума посходили!” “Краденые? Те самые, мамоновские?! Да не может быть!!!” Рату на днях предстояло провести беседу о вежливом и культурном исполнении работниками милиции своих, не всегда приятных обязанностей. Фарисейство Гандрюшкина, казалось, вот-вот доведет его до приступа морской болезни, но ввиду предстоящей беседы, на которой мы с Арифом будем присутствовать в роли слушателей, он стоически сохранял спокойствие. Асад-заде был занят составлением протокола, и только я, лишенный отвлекающего стимула, наконец не выдержал: — Когда моему сыну было полтора годика, он закрывал лицо руками и требовал, чтобы его искали, но в вашем возрасте это выглядит просто глупо. — Зачем вы меня оскорбляете? — с мягкой укоризной спросил он. — В данном случае это не оскорбление, а просто констатация факта, — очень серьезно сказал один из понятых, пожилой почтовый служащий, с музейным интересом разглядывавший Гандрюшкина. После этого Мухомор умолк и до самой машины не произнес- ни слова. А по дороге в горотдел с ним, совершенно неожиданно для нас, случилась истерика. Он трясся, всхлипывая, тер лицо маленькими кулачками, видимо, платком он пользовался только для утирания символических слез. Мужской плач способен разжалобить страхового агента, а мы всего-навсего сотрудники милиции. Рат похлопывал Гандрюшкина по плечу, а я, как обычно в минуты сильного волнения, косноязычно мямлил: — Михаил Евлентьевич, ну же, мы, вы… — Если бы я знал… Если бы я знал… Никогда! Из дальнейшего стало понятно: если бы он знал, что все равно будет разоблачен, он никогда не связался бы с Мамоновым, никогда-никогда не совершил бы преступления. Вот он — главный мотив Мухоморьего раскаяния! Оказывается, превращение в Мухомора необратимо, и никаким сентиментальным мычаньем тут не поможешь. От того, как мы работаем, зависит иное: быть или не быть мухоморам преступниками. Только неизбежность разоблачения может удержать их. А рецидивистов типа Мамонова становится все меньше, и, лишившись питательной Мухоморьей среды, они, пожалуй, вымрут окончательно. Все это давным-давно заключено в гениально простой мысли о предупредительном значении неотвратимости наказания, но сейчас незаметно для меня самого она стала итогом моих собственных наблюдений. Происшедшая в настроении Гандрюшкина метаморфоза избавила нас от необходимости задавать вопросы. Он давал показания взахлеб, Асад-заде еле успевал их записывать. Мы узнали, как Мамонов зашел в общежитие в поисках давнего приятеля, но тот еще в прошлом году подался на целину; как, разговорившись с Гандрюшкиным, попросил пустить к себе квартирантом, как разбередил воображение хозяина, продемонстрировав свое непостижимое умение обращаться с замками; как, еще не сговариваясь, они поняли, чего не хватает каждому из них и какие сведения могли обеспечить Гандрюшкину получение своей доли в будущем. Мы выяснили многие подробности, в том числе и про платок, сыгравший в нашем поиске роль катализатора. Он действительно принадлежал Мамонову, но находился в таком состоянии, что хозяин, отчасти из желания угодить перспективному гостю, отчасти из присущей ему аккуратности, отдал его в стирку вместе со своими вещами. Только судьба похищенного в предпоследней краже у Саблиных осталась невыясненной. В посылках вещей не оказалось, а Гандрюшкин о них понятия не имел. — Эта кража, как ложка дегтя, — сердится Рат. — И хоть было бы что! Блузки-кофточки. — Там был еще тигр. Хозяева хватились его позже, когда укладывали ребенка спать, — сообщил я. Гурин снисходительно улыбнулся. После обнаружения посылок он стал относиться ко мне терпимее. — Я же говорю: чепуха. За каким дьяволом понадобилась Мамонову игрушка?! В общем, будь там целый зверинец, это дело меня больше не интересует, — заявил Рат, демонстративно вытаскивая из сейфа кипу документов. — Правильно. Остальное должен выяснить следователь, а мы, оперативники, свое сделали. И неплохо. — Гурин садится за приставной столик, тоже раскладывает какие-то бумажки, с удовольствием щелкает авторучкой. — Я уточню в ходе очной ставки, — сказал Ариф. Я бы с удовольствием пошел с ним, но Рат оставил меня помогать Гурину. — Хочу составить подробную справку для распространения в качестве положительного опыта. Борьбе с квартирными кражами руководство придает большое значение, — сказал тот. Делиться положительным опытом всегда приятно. Но последняя фраза Гурина меня покоробила. Все, к чему бы ни прикоснулись такие, как он, тут же переворачивается с ног на голову. Получается, будто мы разоблачаем воров не потому, что этого требует смысл нашей работы, а оттого, что этому придает большое значение руководство. Руководство превращается в отвлеченное понятие, существующее само по себе, а мы из сознательных исполнителей своего долга — в служителей этой абстракции. Я под руководством понимаю организаторское начало, обязательное при решении больших и малых жизненных задач, в равной степени близких в масштабе нашего горотдела, например, Шахинову — начальнику, и мне — подчиненному. Гурин писал быстро. Я подсказывал ему различные детали, фамилии, напоминал обстоятельства того или иного эпизода. Строка за строкой пересекали страницу и, как в эстафетном беге, приводили в движение новую. Умения следовать логике слов у Гурина не отнимешь, но как это не похоже на документы того же Шахинова, где слова подчинены логике поиска и эстафетой служит мысль. А ведь они оба любят перо и бумагу. Не возможность ли вкладывать в одни и те же понятия различное содержание иной раз приводит к тому, что любовь к работе над документами оборачивается канцелярщиной, уважение к руководителю — угодничеством, исполнение служебного долга — бюрократизмом и вообще благое начинание — своей противоположностью?.. Вот и сейчас меня не покидало ощущение, что, помогая Гурину, я принимаю участие в чем-то предосудительном. Что, казалось бы, может быть плохого в желании поделиться опытом с товарищами по профессии? Но дело в том, что сообщение о проведенной нами работе со всеми удачами и издержками под его пером превращалось в победную реляцию, читая которую, кажется, слышишь бой барабанов и крики “ура”. А ведь мы наделали кучу ошибок: не выяснили у потерпевших, кто, помимо близких, мог располагать сведениями об их образе жизни и наличии ценных вещей; долго упускали из виду обслуживающий персонал общежития; без необходимой подготовки провели обыск у Гандрюшкина. Обо всем этом здесь не упоминалось, и, собственно, за опыт выдавался не длительный и трудный процесс поиска с находками и неудачами, а лишь его конечный результат. Мне хотелось сказать Гурину, что “положительный опыт”, в котором нет ничего откровенно ложного и в то же время все неправдиво, никому не принесет практической пользы, что таким образом мы обкрадываем не только самих себя, но и своих товарищей. — Привет пинкертонам! — раздается за спиной голос Лени Назарова. — Салют! — гаркнул Рат. Мухаметдинов, вошедший вместе с Леней, усаживает гостя на диванчик. — Ну вот, товарищ Назаров, оперативники в сборе, а следователь, как освободится, подойдет. Они расскажут подробнее, я только знаю, что кражи раскрыты и вещи найдены. А что еще нужно замполиту? — Ты сейчас и.о. начальника, а товарищ, — Рат кивает на Леню, — не Назаров, а Н. Леонидов. В комнате становится тесно и шумно. Оказывается, за каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут, если дружно взяться, можно решить уйму всяких проблем — от футбольных до космических. Дошла очередь и до Гандрюшкина с его хитроумными посылками. Леня достал блокнот, сдвинул брови, и теперь это действительно был Н. Леонидов при исполнении служебных обязанностей. Закончив обстоятельный допрос, он подумал и сказал: — Опубликуем под рубрикой “Будни милиции”, название “Вернуть украденное”. — С восклицательным или без? — серьезно уточняю я. — Без. — И, спохватившись, что попался на розыгрыш: — Ну чего смеетесь? Хочется показать вашу работу в динамике. Это ж лучше, чем сухая информация. Против динамики мы не возражали, и Леня, пряча блокнот, с сожалением сказал: — Конечно, статья есть статья, особенно не развернешься. Вот документальный рассказ… Я бы вас изнутри высветил. — Не угрожай, — сказал Рат. — Нет, серьезно, ребята, у меня получилось бы. Только материал для читателя неинтересный, если б убийство… — Разве для пробуждения читательского интереса нужна обязательно кровь? — вмешивается Фаиль. А Рат обиделся не на шутку: — Убийства ему подавай… Леня, смеясь, поднимает руки: — Хватит, сдаюсь. В этой гимнастической позе его застает Асад-заде, которого Мухаметдинов с ходу представляет: — Наш молодой следователь. Это его первое серьезное дело. — Поэтому он ходит не иначе, как с протоколами в руках, — добавляет Рат, а сам тут же забирает у него исписанные страницы и жадно просматривает их. Дочитав протокол, Рат с раздражением бросил его на стол. — Врет он, все врет, — и, поскольку Леня с Мухаметдиновым уже ушли, добавил по адресу Мамонова пару непроцессуальных терминов. На очной ставке Мамонов повторил, что две шерстяные кофточки, нейлоновую блузку и свитер, о которых напомнил Асад-заде, продал на улице. — Почему врет? — растерянно спросил Ариф. — Да если бы он рискнул продавать вещи сам, зачем их тащить Гандрюшкину?! Были вещи подороже… — Золотые серьги, например, или отрез английской шерсти, — вставляю я. — Об этом я и сам подумал. Но на улице ценных вещей быстро не продать, а других возможностей у него не было. Так что я считаю… — Так и считай, — насмешливо перебивает Рат, — но если на суде он вздумает изменить показания, эпизод с этой кражей лопнет, как мыльный пузырь. Ариф сначала обиделся, но потом сообразил, что Рат прав: признание Мамонова не подтверждено другими доказательствами. — Ничего страшного, остальные пять пройдут как по маслу. Брака у тебя не будет, — удовлетворенный его смущением, успокаивает Рат. Тут я опять вспомнил об игрушке. — Правдивость Мамонова можно проверить на тигренке. Это предмет легко запоминающийся. К тому же он должен был броситься в глаза Мамонову дважды: во время кражи и после того, как остальные вещи были якобы проданы. — Не понимаю, зачем мудрить, — вмешался молчавший до сих пор Гурин. — Мы нашли украденные вещи, за исключением сущей ерунды; следователь, насколько это было возможно, обосновал обвинение; остальное — дело суда. Если Мамонов даже откажется, суд исключит один из шести эпизодов за недоказанностью. Вот и все. Очень удобно распределить ответственность между всеми понемногу, в конечном счете получается, что никто ее по-настоящему и не несет. На собраниях после такого обобщающего выступления обычно раздается возглас: “Прекратить прения!” — и присутствующие украдкой посматривают на дверь. Гурин аккуратно, через прокладку из кусочка толстой бумаги, скрепил “наш положительный опыт”, Рат уткнулся в разложенные на столе документы, Ариф забрал свой протокол. Для того чтобы осталось все как есть, надо было только промолчать. Заключить маленькую сделку с самим собой и промолчать. Всего-навсего. И можно выбросить “Мухоморье дело” из головы, пойти к себе не спеша после трехдневной гонки, привести в порядок скопившиеся бумаги и пятичасовым автобусом убраться домой. И никаких хлопот, по крайней мере, в ближайшее время. А там обзор по борьбе с кражами, и опять твоя фамилия в голубом сиянии. А там статья в газете об умелом разоблачении преступников. Одним словом — фонтан. Но, думая так, я уже знал, что ничего этого не будет. Я сказал, что Мамонов не вспомнит тигренка лишь в том случае, если кражи не совершал. Уж очень эта кража похожа на исключение, подтверждающее правило: вор лез только в те квартиры, о которых предварительно получал сведения от Гандрюшкина. Кроме того, уж очень не вязался облик рецидивиста с фантазией похитить игрушку: на что ему она? Мысли обо всем этом приходили мне и раньше, но на каком-то подсознательном уровне. Сегодня дополненные отсутствием вещей в посылках, неправдоподобностью мамоновских показаний и тем, что называют интуицией, они оформились окончательно. — Зачем же Мамонову оговаривать себя? — удивился Ариф. — Мы ж его не заставляли. — Такому, как Мамонов, в принципе безразлично, за пять или шесть краж получить очередной срок. Зато он с самого начала понял, как нам хочется, чтобы все кражи были совершены им, и использовал это с какой-то своей целью. — Решил оказать нам услугу, — съязвил Гурин. Ариф мялся, но не уходил. Рат молча перебирал документы. Я знаю, о чем он думал. Если кражу совершил кто-то другой, то этого другого надо найти и сделать это быстро едва ли удастся. А на носу конец года, кража, скорее всего, пройдет нераскрытой, и за это, в первую очередь, будут бить его — начальника уголовного розыска. — Ну так как же, оставишь суду или?.. Рат не перекладывает ответственность на менее опытного. В самой форме его вопроса уже заключался ответ. Просто, в данном случае, последнее слово было за Арифом. Он — следователь и должен принять решение. Закон мудр: чем больше прав, тем больше обязанностей. — Надо проверить, — сказал он. Я пошел с Арифом, заварил — так расхлебывать вместе. Прежде всего необходимо официально допросить потерпевших по поводу того же тигренка. Мы приехали рано, Саблиных дома не было. Моросил дождь, торчать в парадном неудобно, решили подождать их в машине и чуть не прозевали. Дождь усилился, и Игорь с ребенком на руках галопом проскочил в ворота, а видел-то я его один раз. Оригинальный это был допрос. Оказывается, Игорь работал в химической лаборатории и приходил значительно раньше жены. Поэтому на него возлагались дополнительные обязанности по дому, неисполнение которых, видно, грозило ему гораздо большими неприятностями, чем пропажа забытой всеми игрушки. “Мне бы ваши заботы”, — казалось, думал он, отвечая нам и носясь по квартире, как угорелый. А тут еще беби женского рода, но с ярко выраженными мальчишескими замашками, все время пыталась отнять у Арифа авторучку и под занавес, когда мы зазевались, дернула и с треском разорвала протокол. Папа ее отшлепал, но через пять минут она снова была в форме, так что мне, пока Ариф заполнял новый бланк, пришлось взять на себя роль отвлекающей жертвы. Потом появилась Леля, похвалила меня за умение обращаться с детьми, указала Игорю на суетливость, мешающую рационально использовать время, и сообщила Арифу, что почерк у него не ахти. Попутно она что-то подправляла, что-то убирала и успела придать комнате неузнаваемый вид; перед нами на столе оказалась даже вазочка с живыми цветами. Самое интересное, что все мы, включая беби, без видимых на то причин, дружно сияли, как, впрочем, и сама Леля. На улице Ариф глубоко вдохнул воздух, бодро сказал: — Отличная погода, даже в машину не хочется. Погода здесь, конечно, ни при чем. У меня самого было такое ощущение, будто мне только что вкатили изрядную порцию тонизирующих витаминов. — Думал, в тюрьму повезут, а вы опять допрашивать, — еще с порога проворчал Мамонов. Вопрос мы сформулировали так: из показаний потерпевших Саблиных усматривается, что, помимо двух шерстяных кофточек, нейлоновой блузки и свитера, у них похищена также детская игрушка, не указанная в первоначальном заявлении ввиду малозначительности; опишите ее. Он искренне удивился: — К чему вы это, не понимаю? Ведь если скажу правду, что в глаза не видел никакой игрушки и квартиры этих Саблиных — тоже, вы же все равно не поверите. И тут же по выражению наших лиц понял, что поверим. — Как хотите, мне так и так срок получать. — Испытующе посмотрел на нас: — Или думаете, на суде откажусь? Теперь уж нет. За пять ли шесть — полную катушку и опасного рецидивиста дадут. Если бы вещи не нашли, от всех, кроме поличной, отказался бы, факт. За одну суд бы еще подумал, как со мной обойтись. Мы с Арифом переглянулись. Вот зачем понадобилось ему брать на себя злополучную кражу. Он рассуждал примерно так: если отпираться от всех, кроме “поличной”, с самого начала, милиция волей-неволей весь город перевернет, чтобы вещи найти, а так поищет, сколько положено, и авось бросит; если не отпираться только от кражи, которую на самом деле не совершал, на суде это против него обернется, как объяснить, почему в остальных признался? Когда же Гандрюшкин был разоблачен и вещи найдены, отпирательство в одной краже ничего не меняло и привело бы только к проволочке, а ему хотелось побыстрее попасть в колонию. — Так все и запишем, — сказал Ариф. — Пишите. Для меня что в лоб, что по лбу, а вам, так вообще, по-моему, без пользы. — Это по-твоему, а по-нашему, только правда пользу приносит. Мамонов посмотрел на него, как умудренный опытом папаша на неразумное дитя, и веско изрек: — Правда, она самая невыгодная. Что там Мамонов, воры всех мастей любят считать остальных сограждан просто несмышленышами. Это всегда злит, но дискуссировать с мелким воришкой — роскошь, для него годится аргумент попроще: “Конечно. Куда как выгоднее всю жизнь по тюрьмам шляться”. — Эх, начальник, не будь той сигнальной штуки, зимовал бы я на воле с полным карманом. — И без штуки поймали бы, сам знаешь. Неужели не надоело зайцем жить? Ариф закончил, протянул Мамонову: — На, читай. Тот бегло просмотрел страницы протокола, привычно подписал каждую, вздохнул: — Вот бы других пяти не было. Дождь-то какой, аж стекла взмокли. За окном темно и действительно кажется, будто комнату от улицы отделяют лишь тонкие струи воды. — Может, и брошу на этот раз, — неожиданно говорит он, — если сам решу. Везде уже пусто, голоса слышны только у Мухаметдинова. — Ну? — едва мы входим, спрашивает Рат. — Этой кражи Мамонов не совершал. Завтра вынесу постановление о выделении в отдельное производство, — уверенно отвечает Ариф. Наверное, сегодня он впервые по-настоящему осознал себя следователем — лицом, чье решение обязательно, как обязателен для всех закон, в соответствии с которым оно принято. — Докопались, — невесело бросил Рат. — Мы его быстро найдем, вот увидишь. Меня действительно охватила какая-то веселая уверенность. Неспроста же он взял игрушку. Здесь кроется какая-то психологическая загадка. А чем это хуже платка? И вообще преступление — из исключений, не подтверждающих правил, а с ними всегда легче. — Придется с утра позвонить в газету, чтоб придержали материал, — сказал Фаиль. Он не очень силен в юриспруденции, но то, что называется социалистическим правосознанием, позволило ему верно оценить обстановку. — И справочку тоже под сукно, по вновь открывшимся обстоятельствам. К шутливому замечанию Рата Гурин отнесся с полным безразличием. Он уже потерял к нам всякий интерес и сидит, как посторонний. А может, он и есть посторонний? К машине идем по звенящим от крупных капель дождя лужам. Фонарик с надписью “Милиция” над входом в горотдел становится все меньше, превращается в светящуюся точку, сливается с другими огоньками Каспийска. Кажется, все они весело мне мигают: до свиданья, инспектор, до завтра!НЕОЖИДАННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
Хорошо знакомый бакинцам норд, воспетый в стихах и лирической прозе местных авторов, свирепствовал пятый день подряд. Впрочем, свирепствовал — сказано слишком громко. Это не тайфун или ураган, сметающий на своем пути материальные ценности. Наш бакинский норд сметает уличный сор, состоящий главным образом из окурков и рваных билетов денежно-вещевой лотереи и лишь изредка позволяет себе выбить пару-другую стекол в легкомысленно распахнутых окнах. И все-таки мне кажется, никому из бакинцев, включая поэтов, он никогда не доставлял удовольствия. Что может быть приятного в ветре, который набивает рот пылью До скрипа на зубах, или в том, что очередной порыв вдруг швырнет в лицо кучу бумажных обрывков, перемешанных с высохшими листьями. На днях я спросил об этом у Лени Назарова, прочитав в газете его очерк “Пусть всегда будет норд”. Он снисходительно объяснил мне, что норд — символ полнокровной жизни. “Но разве нельзя символизировать моряну?” Леня с удивлением посмотрел на меня и сказал, что в этом, пожалуй, что-то есть. Так вот, этот северный ветер непрерывно дул почти неделю, что по нашим бакинским представлениям означало приход зимы. Факт сам по себе рядовой и вполне естественный, но мне он напоминал О конце года и некоторых неприятных для инспектора уголовного розыска событиях, которые я с удовольствием оставил бы в уходящем году. Но нераскрытую кражу в старом году не оставишь. Конечно, гораздо легче было бы найти настоящего похитителя тигренка сразу после кражи, но время было упущено, пока возились с Мамоновым. Положа руку на сердце, убыток Саблиных от кражи невелик. “Блузки-кофточки” — как выражается Рат Кунгаров. Разумеется, палочка в графе “нераскрытые преступления” не станет от этого тоньше или короче. Она отразится па соответствующих показателях нашего отдела точно так же, как если бы у Саблиных украли подлинник Левитана или гитару Иванова-Крамского. И все-таки нераскрытых преступлений за весь год по нашему горотделу раз-два и обчелся. Что касается потерпевших, то они давно забыли о краже. Следовательно, дело совсем в другом. Статистика — объективная штука: в большинстве случаев неразоблаченный преступник не возвращается добровольно на стезю добродетели. Это означает, что любое из нераскрытых преступлений может обернуться новым и тут уж приходится переживать. Вот и эта кража, так сказать, стала “моей любимой мозолью”. Время от времени на нее наступает мое прямое и непосредственное начальство. Начальник горотдела Шахинов делает это со свойственной ему деликатностью. На очередном совещании он вкратце напоминает о задолженностях по линиям служб, в том числе: “Не все благополучно по линии УР с кражами из квартир”, и мне ясно, что имеются в виду злополучные “блузки-кофточки и плюшевый зверь”. Начальник уголовного розыска Кунгаров по-приятельски наваливается на “мою мозоль” всей своей стокилограммовой тяжестью. После очередного шахиновского напоминания он вваливается в мою комнату — от его появления она становится совсем крохотной — и интересуется: “Ну, что нового у тебя по тигру?” Он, конечно, отлично знает, что ничего нового у меня нет и поэтому в ответе не нуждается. В разыгрываемой миниатюре Рат сам и автор, и режиссер, а мне отведена роль статиста. “Значит, пока ничего нового?” — сокрушенно качает головой и вдруг, изображая на лице озарение в сто “юпитеров”, словно впервые узнал подробности, продолжает: “Это же надо, как ловко ты припер тогда Мамонова. Неужели он так и сказал: “В глаза не видел никакой игрушки и квартиры тоже?..” Я, естественно, молчу, и Рат традиционно заканчивает: “Вот радость-то…” Ветер стих, как будто его и не было. Норд всегда и появляется и исчезает внезапно, едва ли даже метеорологи могут достоверно предсказать его поведение. Конец рабочего дня. Я иду по центральной улице. Тротуары полны, идти не спеша становится все труднее. Растет наш спутник. Все-таки я типичный горожанин: всегда мечтаю о тишине и просторе, а свернуть в боковую улочку выше моих сил. Я возвращаюсь в горотдел после встречи со своим знакомым: мы помогаем ОБХСС в установлении клиентов одного матерого спекулянта. Мы — это сотрудники уголовного розыска, а если что-нибудь не ладится у нас, ребята из ОБХСС помогают нам своими возможностями. (В этом и заключается смысл таких понятий, как взаимодействие, взаимовыручка, взаимная информация и так далее, которые содержатся в служебных директивах и наставлениях.) Сотрудники милиции по долгу службы обязаны находить точки соприкосновения с самыми разными людьми. На практике это чертовски трудная вещь. Кто не верит, пусть попробует для начала установить мало-мальски терпимые отношения с соседями по новому многоквартирному дому. Если вам удастся в течение года хотя бы узнавать “своих” жильцов при встрече и добиться ответного раскланивания, не тратьте больше времени и поступайте “в сыщики”, у вас — призвание. В свое время я именно так и сделал: был убежден, что при желании мне удастся “разговорить” даже каменную статую. Поработав несколько лет, я понял, как сильно преувеличивал свои способности, и меня уже не удивляло, когда некоторые из моих собеседников реагировали на мое присутствие не более настоящих статуй. Однако мой сегодняшний поход был удачен. Так я шел по улице, мысленно перемежая приятное и неприятное, события давнопрошедшие и “прямо с печки”, и не подозревал, что вот сейчас, буквально через несколько шагов мне опять надавят на “любимую мозоль”, причем весом совершенно ничтожным по сравнению с кунгаровским и тем не менее гораздо более чувствительно. Размышления размышлениями, но я своевременно увидел выходившую из магазина мне наперерез Лелю Саблину — потерпевшую по злосчастной краже. Реакция у меня хорошая, я мгновенно свернул круто влево, перешел улицу и на противоположном тротуаре прямо уткнулся в поджидавших свою Лелю Игоря и беби. Едва я поздоровался с папой Саблиным, беби дернула меня за полу плаща — слава богу, плащ не протокол допроса, который в аналогичных обстоятельствах с треском разорвался, — и спросила: — Дядя, а хде мой Усатик? Одно дело, когда тебе на “мозоль” наступает начальство, и ты вынужден молчать, но в данном случае я просто не знал, что ответить. Выручила подошедшая мама Саблина. В ее присутствии остальные члены семьи всегда умолкали. Даже беби подсознательно понимала, что Лелю все равно не переговорить. Я хотел извиниться по поводу затянувшейся поимки вора, но пауза оказалась слишком короткой даже для моей реакции. Заговорила Леля: — Здравствуйте, здравствуйте… Вот это встреча… Мы только на днях о вас вспоминали, правда, Игорек? Как ваши дела? Все ловите? Ну и работка, хуже чем у Игоря в лаборатории. Я в смысле вредности. А молоко вам не дают? — Его заслужить надо. Юная гражданка требует своего Усатика, а… — Я беспомощно развел руками. — Одним словом: виноват. — Да что вы, что вы, она и думать о нем забыла. — Сиюминутный каприз, — вмешался солидно молчавший Игорь, — увидела вас и вспомнила своего тигра. — По ассоциации?.. Мы смеемся, и прохожие начинают на нас оглядываться. Едва ли кому-нибудь из них приходит в голову, что эта веселая компания составлена таким замысловатым образом. Просто счастье, что вор взял в квартире всего ничего. Симпатичные эти Саблины, но и они вели бы себя иначе — пропади у них что-то ценное. И это тоже было бы естественным. — А если всерьез, ребята, — продолжаю я, — то теперь вашего гостя быстро не найдешь. Так уж получилось, что мы его с самого начала за другого приняли. — И черт с ним. У Игоря на лице появилось знакомое по прежним встречам выражение: “Мне бы ваши заботы!” — Конечно, черт с ним, — повторяю я за Игорем, — не ангел. В этом — все дело. — Скажите, вам действительно важно его найти? Я ведь думала… — По-моему, важно и нам, и вам, всем, — мягко возражаю я. — Другое дело, кто не нашел. Не нашли мы — милиция. Тут уж вы ни при чем. — И мы тоже виноваты, — решительно заявляет Леля. — То есть я хочу сказать — Игорь виноват. Конечно. Это ты тогда твердил: “Дался тебе этот ворюга, скоро получу тринадцатую, и купишь себе тряпки”, как будто в тряпках дело. А теперь, наверное, поздно, но я все равно расскажу. Смысл сбивчивого Лелиного рассказа сводится к следующему. У них в подъезде на первом этаже живет старый инвалид Егор Тимофеевич. Он-то и видел вора или, точнее, слышал. Старик этот — слепой. Не от старости, не от болезни: в войну он был водителем “Т-34”. — Удивительный человек Егор Тимофеевич, — тараторила Леля. — Живет уже много лет один. Обходится совершенно без посторонней помощи, представляете? Говорят, у него что-то такое с семьей получилось. Еще тогда. То ли жена его после ранения бросила, то ли он сам не захотел инвалидом возвращаться. Одним словом — трагедия, но подробностей никто не знает. Так он очень общительный, любит, чтобы около него остановились, поговорили… — И знаете, что удивительно, — вмешивается Игорь, — он часто первым здоровается, словно по шагам узнает. И до последнего времени на авторемонтном работал, в сложных механизмах вслепую копался. Я пытаюсь наконец выяснить, при каких обстоятельствах Егор Тимофеевич слышал вора и откуда вообще уверенность, что это был вор. Леля с удовольствием принимается за объяснения, но я вовремя догадываюсь обратиться к первоисточнику. Особенных дел у меня в горотделе нет, надо только позвонить Рату, сообщить полученную информацию о клиентах спекулянта. — Данные в цвет, — говорит Рат; голос у него довольный. — Ты куда сейчас? Мне очень хотелось сообщить Рату о неожиданном свидетеле, но, во-первых, я пока знаю о нем лишь со слов Саблиных; во-вторых, свидетельство слепого уже само по себе — факт чрезвычайно сомнительный, и Рату, с его практической основательностью, ничего не стоит придушить мою затею в самом начале. — Домой, если не возражаешь, — отвечаю я и присоединяюсь к Саблиным.ПОХИТИТЕЛЬ ТИГРЕНКА
Дверь открывает мальчуган лет двенадцати. Детские голоса доносятся и из комнаты. — Дядя Егор! К вам! — кричит мальчуган, а нам радостно сообщает: — Я думал, мама за мной пришла. — Детей так любит, всегда возле него копошатся, — вполголоса поясняет Леля. В прихожую вышел хозяин. Есть старики и… старики. Одни старятся медленно, неохотно, по волоску, по морщинке, уступая возрасту. Потом наступает критический момент, и природа мстит за упорное сопротивление разом и сокрушительно. Человек, еще вчера казавшийся молодцем, вдруг превращается в дряхлого старца. Другие становятся пожилыми сразу и бесповоротно, даже вроде бы преждевременно. Зато они не дряхлеют уже до самой смерти. Они из тех, кто умирает на ногах. К этим последним я отнес мысленно и пожилого человека, стоявшего сейчас перед нами. В седых волосах не было ни одного просвета, но они оставались живыми, и седые брови жили над темными впадинами глаз. Шрамы давних ожогов иссечены морщинами, но кожа не кажется дряблой, словно огнемет времени лишь придал ей рисунок, не изменяя самой материи. — Егор Тимофеевич, вот гостя к вам привели… — начала Леля. — Прошу. — Брови шевельнулись над неподвижными глазами, большая рука потянулась навстречу. Приятная вещь — мужское рукопожатие, когда оно не дань условности с вежливым холодком или ничего на значащей кисельной теплотой. Я давно заметил: фронтовики особенно знают ему цену. Саблины ушли к себе, а я представился хозяину. Он провел меня в комнату, безошибочно ориентируясь в пространстве. Точные движения, внешне абсолютно лишенные “поискового импульса”, характерного для слепых, но в их выверенной четкости угадывается тяжелый опыт, пришедший эмпирическим путем. Ребята перестали галдеть, с любопытством глядят на меня. На раздвинутом иоле что-то невообразимое. Однако в хаотическом нагромождении металлических и пластмассовых деталей, пестрых клубков, расцвеченных всеми цветами радуги проводов, плоских и круглых батареек уже можно различить основы монтажа. Только чем все это должно стать в будущем, я не понял. — Как по-вашему, что это такое? — словно угадав мои мысли, спрашивает хозяин. Любопытство в ребячьих глазах сменяется напряженным ожиданием ответа. Я морщу лоб и отвечаю предельно серьезно: — Скорее всего, концертный рояль в разобранном виде. — И уже под общий хохот заканчиваю: — Но, по-моему, здесь не хватает струн. Егор Тимофеевич улыбается. Я догадываюсь об этом по излому бровей, по сбежавшимся к глазам морщинам. — Это будет модель электромобиля, не верите? — сообщает мальчуган, открывавший дверь. — Верю, — говорю я. — Но сам бы ни за что не догадался. — Поступайте в наш кружок, — снова улыбается Егор Тимофеевич. — А теперь, ребята, по домам. — II, будто извиняясь, добавляет: — Все равно пора, сами знаете. Дождавшись стука захлопнувшейся двери, Егор Тимофеевич говорит: — Иногда так увлечемся, что родители приходят о времени напомнить. Да иной раз сами застревают. Папы, конечно. Мужское дело — техника. — Теперь и женщины с этим делом не хуже управляются. — И напрасно, — отрезал старик. — Сколько женских ремесел есть… А техника, она разная бывает. Тяжести ворочать, да в бензине, да в копоти копаться? И детей вынянчи, и кирпичи кидай, и фигуру сохрани, чтоб, значит, муж к другой не сбежал. Думаю, далеко не всегда такое равноправие оправдано. Шрамы на лице Егора Тимофеевича побелели, то ли от напряжения натянулись, то ли от лица кровь отлила. Мы помолчали. Егор Тимофеевич сам заговорил о том, что интересовало меня в первую очередь. — Встретился я тогда с человеком, что обокрал Саблиных. О краже той я, правда, спустя много дней узнал. Я терпеливо жду продолжения, хотя главный для меня вопрос: “Откуда у вас, Егор Тимофеевич, уверенность, что человек тот и есть вор?” — так и просится с языка. — Было это в четверг, потому что Витя — мальчик, что здесь сидел, — пришел потом ко мне читать “Литературную газету”. Л когда я вышел подышать воздухом, как обычно перед обедом, в начале третьего, газета лежала в ящике. Значит, почтальон уже приходил. Это важно, потому что они часто меняются, и я мог его не знать. В дверях мы и столкнулись с тем человеком. Он что-то пробормотал, может, извинился, а может, наоборот, выругался, я не разобрал, но отступил, давая мне пройти. И тут же, так это быстро, словно на ходу придумал, спрашивает: “Зейналов Асад на каком этаже…” — и вдруг осекся, видно, понял, что я не вижу, рассмеялся и вошел в подъезд. Я даже и ответить не успел, что Зейналов в нашем доме не проживает. Когда он обратно вышел, я его по шагам узнал: мелким, торопливым. С полчаса прошло. Меня это удивило, я сказал ему: “Зейналов-то тут не живет, молодой человек”. А он мне: “Откуда ты знаешь, молодой я или старый?” Опять засмеялся и пошел со двора. “Кража действительно произошла между двумя и четырьмя часами дня, — думал я. — И, судя по поведению… Старик, пожалуй, прав: это — вор”. — Сколько вы пробыли еще во дворе, Егор Тимофеевич? — Да не меньше часу. — И за это время никто больше не появлялся? — Почему же… Роза Арменаковна повела внучку на музыку и… Впрочем, это все были знакомые. У меня возникло еще одно сомнение. — А не мог этот парень действительно прийти к кому-то из жильцов вашего подъезда, но не хотел его или ее называть? Отсюда и наивная маскировка. Егор Тимофеевич задумался, потом нерешительно сказал: — Такое, конечно, возможно… кто ж его знает. И вообще, — твердо продолжал он, — тут уж я вам не советчик. Жильцов наших я узнаю, это точно, а кто к кому ходит — не знаю, не интересуюсь. Обидел я старика своим вопросом, факт. Губы поджал, брови нахмурил и даже чуть в сторону от меня повернулся. “Ну и дурака же ты свалял, братец, — мысленно ругаю себя. — Сколько с людьми общался, а разговаривать толком не научился”. — Я, Егор Тимофеевич, вслух рассуждаю, по привычке. Этот вопрос я задал себе. И отвечаю на него сам: нет, тот человек приходил не к жильцам. И знаете почему? Если исходить от противного, то настоящему вору оставалось всего минут двадцать, не больше. Вы ушли домой, как минимум после половины четвертого, а ровно в четыре Игорь Саблин был уже в своей квартире. В течение двадцати минут вор должен был подняться на пятый этаж, убедиться в отсутствии хозяев, отжать дверь, отобрать вещи, спуститься вниз и через весь двор выйти на улицу, ведь Игорь никого во дворе не встретил. Нет, кража после вашего ухода практически исключается. Значит, человек, якобы искавший Зейналова, и был настоящим вором. Мой оппонент слушал внимательно, довольно кивая. И слава богу, что старик больше не сердится на меня. Вот уж кого бы мне совсем не хотелось обижать. — Теперь, Егор Тимофеевич, постараемся уточнить его личность. Я, конечно, понимаю, что вы обменялись всего несколькими фразами, но какое-то, пусть самое приблизительное представление. — Молодой он. По-русски говорит правильно, но с акцентом. Так говорят и азербайджанцы, и армяне, и даже русские, но только городские ребята. Да, именно городские ребята, не из районов. Ну конечно, не из шибко воспитанных, те старикам не “тыкают”. Вот, пожалуй, и все. Маловато, конечно, но кто же на слух мог бы определить большее? Я поблагодарил Егора Тимофеевича и, прощаясь, пожелал быстрейшего завершения модели. Чтоб уж даже такой профан, как я, не мог ее ни с чем перепутать. — Да, электромобиль — это будет здорово, — по-детски радостно ответил Егор Тимофеевич. — И он поедет, обязательно поедет, вот увидите. А гордость ребятам какая! Собственными руками создан. А потом подарим его — у меня уж с ребятами и договоренность имеется — детскому дому. Против такого автомобиля ведь никто возражать не будет: чистый и бесшумный. Представляете? Совсем бесшумный! Егор Тимофеевич говорил теперь совершенно иначе, чем прежде, когда речь шла о краже, говорил с подъемом, так, будто зримо видит свое детище в законченном, совершенном виде. Мне, зрячему, было сейчас гораздо труднее: я видел стол, заваленный деталями и… никакого намека на будущего красавца. Но мне очень хотелось хоть как-то разделить восторг хозяина, и я сказал: — Конечно! Ведь это не какой-нибудь мотоцикл. Электромобиль! — Постойте-ка, постойте-ка! — Егор Тимофеевич задумался и, вытянувшись, словно прислушивался к чему-то. — А знаете, он ведь приезжал на мотоцикле. Шум мотоциклетного мотора я услышал в подъезде, когда проверял, принесли ли газету. Мотор тут же стих, и я понял, что кто-то подъехал к нашему дому. А потом мотоцикл заработал тут же после его ухода. Помню, я еще подумал, что зажигание барахлит: двигатель долго не заводился. — Едва ли воровать на мотоцикле приехал, — усомнился я. — Скорее всего, просто совпадение. Улица все-таки… — Да нет, — перебил меня Егор Тимофеевич. — Запах! Я его, родимого, за версту узнаю, а тут нос к носу столкнулся. Запах… По дороге домой я думал не столько о воре-мотоциклисте, сколько о нежданно-негаданно объявившемся свидетеле. А если точнее, так просто о Егоре Тимофеевиче.ПОПОЛНЕНИЕ
После селекторного совещания Шахинов нас не распускает, а звонит Фаилю Мухаметдинову. Потом обращается к нам: — Хочу познакомить оперативный состав с новым пополнением. Что за пополнение? Вакантных единиц у нас нет, а увеличений штатной численности как будто не предвиделось. В кабинет во всем сиянии безукоризненно сшитого милицейского кителя — Фаиль по старой флотской привычке уделяет форме максимум внимания — входит замполит, а за ним не очень решительно пятеро незнакомых парней. Замыкает входящих Кямиль — его-то уж мы все хорошо знаем. Теперь ясно, что за пополнение. — Здравствуй, товарищ комсомол! — улыбается Шахинов, идет навстречу. Мы тоже встаем, и знакомство происходит церемонно, как на каком-нибудь дипломатическом приеме. Наверное, так и должно быть: торжественность обстановки запоминается надолго. Пусть ребята почувствуют, что всерьез, а не для “галочки” пришли они помогать своей милиции. Шахинов поочередно представляет нас, представляется сам. Потом Фаиль представляет новых нештатных сотрудников. Каждое представление товарища сопровождает рефрен Кямиля: “Чох яхшы комсомолчу”[313]. Дважды он добавил: “Эн яхши бизим фехлеим”[314]. — А это наш самый лучший работник, — кивает на Кямиля Шахинов. — У нас в нарды играет, у нас чай пьет, у нас скоро жениться будет, — не удержался Рат от всем уже известной шутки. Но на всякий случай, чтобы не обиделся, одновременно поглаживает Кямиля по плечу. — На химкомбинате каждый из вас выполняет определенную работу. Такого же принципа давайте придерживаться и здесь. Ведь любая работа приносит пользу, когда она конкретна, верно? Возражений не было, Шахинов продолжал: — Давайте все сядем и обсудим вопрос вашей специализации. Всерассаживаются за длинный стол, и Шахинов присаживается рядом. Может быть, ему просто приятно вот так, бок о бок посидеть со своей комсомольской юностью, а может быть, хочет подчеркнуть, что здесь сейчас нет разделения на старших и младших и просто пойдет товарищеская беседа. — Вот вы, — обращается он к смуглолицему, высокому парню, — какая милицейская специальность вас больше всего привлекает? — Насколько я понял, — отвечает за парня Фаиль, — Алеша Наджафов лихой мотоциклист, и его больше всего волнуют транспортные проблемы. — Алеша — настоящий гонщик. Не смотрите: такой длинный, откуда хочешь на мотоцикле проедет, — солидно добавляет Кямиль. — Ну, раз так, товарищ Наджафов, — говорит Шахинов, — ваше желание помогать автоинспекции вполне естественно. Вас сегодня же познакомят с начальником ГАИ майором Мурсаловым. Уверен, вы быстро найдете общий язык. — Уж это точно. Нашему Сеиду только самого шайтана[315] возить, — вставляет начальник ОБХСС Салех Исмайлович. Мы, сотрудники, переглядываемся и не можем удержаться от смеха. Только Салех Исмайлович не улыбается, старательно промокает лицо платком. — Вспотел от воспоминаний, — шепчет мне Рат. Эту историю в горотделе знали все. Как-то Сеид решил подвезти задержавшегося допоздна на работе Салеха Исмайловича. По пути они обратили внимание на стоявший с потушенными огнями “ГАЗ-69”. Причем Салеха Исмайловича взволновал не сам “газик” в качестве “нарушителя” правил движения, а то, что стоял он у запасного входа на местную базу “Азериттифака” и около него подозрительно копошилось несколько теней. Сеид остановился, но едва они вышли из машины, как тени задвигались в вихревом темпе, и “газик”, так и не осветившись, дал тягу. Они, естественно, начали преследование, однако вскоре “газик” свернул на проселочную дорогу и зайцем помчался в поле. Ночью по такой дороге не рискуешь свернуть себе шею, разве что на тракторе, а “Волга” ГАИ к ней совсем не приспособлена. Когда погоня все-таки завершилась удачно и ее участники на другой день делились своими впечатлениями. Сеид объяснял нам, что ничего не успел почувствовать: следил за дорогой и в мегафон крыл беглецов. Зато Салех Исмайлович думал только о том, что, если уцелеет, никогда в жизни не сядет в машину, где за рулем будет Сеид Мурсалов. В конце концов, он, Салех Исмайлович, все-таки человек, а с базы, как известно, воруют не людей, а вещи. В соответствии с личными пожеланиями распределились и другие ребята. Уголовному розыску вызвались помогать двое. Юра Саркисов — невысокий крепыш с агатово-черными глазами уже имел опыт борьбы с правонарушителями. Он два года был членом оперативного отряда городского комитета комсомола и имел на своем счету несколько задержаний. Измук Хабибов — стройный, красивый парень. Тонкие черты в сочетании с чуть раздвинутыми татарскими скулами придавали лицу привлекательное своеобразие. Хабибов среди дружинников новичок. Учитывая его производственную специальность оператора по учету, Шахинов предложил ему стать нештатным сотрудником ОБХСС. Однако тот мягко, но настойчиво отказался. — Меня очень интересует работа уголовного розыска, — сказал он. — Уголовный розыск, уголовный розыск… Всем нравится уголовный розыск, — неожиданно раскипятился Салех Исмайлович. — А что там особенно интересного? Ничего нет интересного. Одного лови, другого лови, все время лови… Посидеть, подумать некогда. А нам длинные ноги не нужны. Нам голова нужна. Вот я вас спрашиваю, молодой человек, чем интересней работать, ногами или головой? — Посидеть, подумать, конечно, неплохо, — вмешивается Рат, — но когда в это время обчищают базу, например, то лучше уж иметь длинные ноги. Шахинов прекращает дискуссию: — Ну, так как же, товарищ Хабибов? Тот поднимает миндалевидные, в паутинках глаза и, стараясь не смотреть в сторону Салеха Исмайловича, повторяет: — Мне бы очень хотелось помогать уголовному розыску. — Что ж, Салех Исмайлович, придется вам пока обойтись без новых помощников, — констатирует Шахинов. — Желаю всем успеха, и профессионалам, и любителям. Фаиль ведет новобранцев к себе знакомить с основами патрулирования, рейда, операции, а профессионалы расходятся по кабинетам. Трудно начинать какое-нибудь дело с нулевой отметки. Еще труднее — возвращаться к начатому неудачно. И совсем уж тяжело, если сделать это предстоит именно тебе. Вот она, тонюсенькая папка с несколькими бумажками, аккуратно подшитыми и пронумерованными следователем. Уголовное дело, приостановленное за нерозыском преступника. С появлением свидетеля и новых данных я уже обязан это сделать. Абстрактное понятие: “неизвестный преступник” материализовалось в конкретное лицо с целым рядом примет. Теперь я обязан его искать. Если бы наши желания совпадали, все было бы очень просто. Он позвонил бы мне по телефону: “Здравствуйте, товарищ, это вы интересуетесь кражей из квартиры Саблиных? Когда и где нам будет удобнее встретиться?” К сожалению, сыщику на взаимность рассчитывать не приходится и ему самому нужно изыскивать возможности ускорить встречу. И мы обязательно встретимся. Такая у нас профессия: рано или поздно встречаться с преступником. Я не успел еще ничего изыскать, как появился Рат и сунул мне под нос подколотые исписанные листы. — Срочно изучи материал и доложи свои соображения. Учти, возбудить январем уже не удастся, так что сам понимаешь… Конечно, понимаю. Если бы можно было возбудить уголовное дело в январе, Рат не стал бы так торопиться. Материал этот мне знаком: элементарное мошенничество. Вся сложность — в сроках. Тратить больше трех дней на доследственную проверку по такому делу мы не имеем права, значит, придется возбуждать декабрем. С другой стороны, до конца года — считанные дни, и без выставленной карточки на подозреваемого преступление будет значиться нераскрытым. Таким оно пройдет по всем годовым отчетам, начиная от нашего горотдела, до МВД республики включительно. А для того чтобы выставить заветную карточку, надо найти подозреваемого или, по крайней мере, установить его личность. А это опять-таки упирается в сроки. Как ни крути: все должно быть в ажуре именно к 1 января. В общем-то, ситуация знакомая всем производственникам. Вот только, честно говоря, до сих пор не пойму, почему и милиция должна ориентироваться на эти планово-годовые критерии? Судя по газетам, квартальные и годовые производственные авралы возникают из-за неритмичности в работе по причине, скажем, несвоевременных поставок необходимых материалов. Но поставщики в конце концов тоже несут ответственность и на них можно “нажать”, а тут попробуй договорись с мошенником, чтобы он не обмишуривал своих сограждан в последнюю декаду квартала или года. Ну ладно. Это у меня, как в старинных пьесах, реплика “в сторону” Придется изучить и срочно обзавестись соображениями. Примерно через полчаса изучил и обзавелся. Фабула предельно проста. Некий солидный гражданин в течение десяти дней умудрился договориться о продаже приморской дачи с четырьмя потенциальными покупателями. И даже получить у всех четырех задатки. И даже за чужую дачу. Потому что, как выяснили покупатели позже, принадлежала она совершенно другому солидному гражданину, даже не подозревавшему о существовании первого. Уяснив это обстоятельство, покупатели подали заявления в милицию и стали потерпевшими. А наш горотдел оказался тем самым конкретным органом, в обязанность которого входит восстановление нарушенных прав граждан и привлечение к ответственности нарушителя оных. За три дня горотдел сделал все, что положено сделать. По таким преступлениям сложных расследований, как правило, не требуется, это — типично сыскное дело. Ориентировка с приметами преступника разослана и, надо полагать, рано или поздно обязательно сработает. Однако такая неопределенность со сроками в силу объясненных причин горотдел не устраивает. Поэтому Кунгаров и потребовал дальнейших соображений. Пока я соображал, образовалась завеса из сигаретного дыма. Сквозь нее едва различим настенный плакат с изображением черепа и дымящейся сигареты, а уж о тексте и говорить нечего. А жаль, ведь он очень поучителен. И вообще — красочный плакат. Идея развесить его во всех кабинетах пришла нашему замполиту Фаилю Мухаметдинову. Хорошая идея. При первом рассмотрении плаката у меня мурашки по спине бегали, а потом ничего, привык. И обитатели других кабинетов, по-моему, тоже свыклись. Как-то вскоре после торжественного и одновременного расклеивания этих плакатов (“Наступать, так широким фронтом”, — сказал Фаиль) я застал его за любопытным занятием: он стоял нос к носу с черепом, и плакатная струйка дыма выглядела жалкой по сравнению с тем, что удавалось выпускать ему. — Соревнуемся? — ехидно спросил я. Фаиль смутился, а потом, рассмеявшись, сказал: — Вырабатываю иммунитет. Плакат, в общем-то, отличный. Разве нет? — Впечатляет, — осторожно согласился я, а он безнадежно махнул рукой: — Черта с два. Никто у нас курить, по-моему, не бросил. И все-таки определенную пользу плакат принес. Как выразился Шахинов, некурящим он доставил и продолжает доставлять много тихой радости. К ним относится и Агабалян, поэтому я десять минут продержал открытыми дверь и окно. Ну вот, совсем другое дело. Теперь со своими соображениями можно, пожалуй, и к Рату. В дверях кунгаровского кабинета сталкиваюсь с выходящим Эдиком. Впрочем, если быть точным, ударяюсь об него. И это, поверьте, чувствительно. Особенно после того, как он отдохнул на курсах повышения квалификации. Эдик — не гигант, но природа компенсировала рост чрезвычайно высоким удельным весом тела. Наверняка оно наряду с кальцием, фосфором, углеводами и белками содержит какую-нибудь разновидность скальных пород. Недаром он родом из Карабаха. А в лице у него никакой жесткости, оно всегда улыбчиво, и большие оленьи глаза взирают добродушно. — Ушибся? — участливо спрашивает он. — Разогнался, — ворчит Рат. — Или ты узнал, куда ехать за мошенником? — Я знаю, куда ехать, чтобы узнать это. — Небось накурил… — доносится реплика Эдика уже из коридора. Он вообще склонен к неожиданным, но прагматическим выводам. Наверное, поэтому в горах Карабаха так много долгожителей. Выслушав мои соображения, Рат машинально косится на листы календаря, кивает. Теперь я собираюсь наконец сообщить ему о новом свидетеле по “своему делу”. Однако по выражению лица вижу: он меня не слушает, тщательно собирает бумаги в папку “для доклада”. Шахинов аккуратист во всем. Начиная от собственной внешности — днем ли, ночью — всегда выбрит, форма или штатское будто из-под утюга, туфли сияют, как паркет, ухоженный полотером, — до отношения к любому, даже незначительному документу. В секретариате не знают так точно как он: где, у кого и зачем находится в данную минуту тот или иной документ. Незаметно для себя, и мы все под его влиянием стали намного аккуратнее. Даже Рат, скептически относившийся ко всему, что связано с бумагами. Теперь при случае он любит подчеркнуть: “Действие и документ — две стороны одной медали”. Ему, конечно, кажется, что он всю жизнь так думал. Поскольку я не ухожу, Рат на секунду поднимает голову: — Потом… Все остальное потом. Сам понимаешь… Конечно, понимаю. Он боится упустить Шахинова. Время начальника горотдела, как и директора крупного завода, по давно заведенной практике, меньше всего принадлежит собственному предприятию. Горком, исполком, прокуратура, совещания, депутатские обязанности, выступления перед коллективами трудящихся, увязка и утряска межведомственных вопросов и так далее, и так прочее без конца и края, а уж в конце года тем паче. Придется подождать с вором-мотоциклистом. Может быть, это и к лучшему: успею наметить что-нибудь конкретное, и Рат не станет недоверчиво хмыкать по поводу нового свидетеля. Вор на мотоцикле — этого еще не хватало! — О чем это ты задумался? — спрашивает Рат, вставляя в папку очередную порцию документов и вовсе не глядя на меня. — О техническом прогрессе. — Ну, ну… Такая реплика означает у Рата одобрительное ожидание, но в данном случае ситуация несколько меняет смысл: нечто вроде “любопытно, конечно, но как-нибудь в другой раз”. В обычный день, когда все течет мирно и спокойно, нет ЧП и экстренных заданий, в обеденный перерыв наш кабинет превращается в Мекку. Прежде всего сюда со всего горотдела направляются шахматисты. Два стола, две доски, четыре партнера, и невесть сколько болельщиков. В числе последних больше половины играют на уровне незабвенного Остапа Ибрагимовича, но это ничуть не мешает им принимать самое живое участие в обсуждении позиций, они не менее, а подчас даже более рьяно умеющих подсказывают немыслимые ходы, ожесточенно спорят, под носом у обалдевшего игрока в ажиотаже переставляют фигуры и, зевнув ферзя, скромно ретируются на задний план, чтобы уже через минуту вновь ринуться вперед, па худой конец, к другой доске. Бури негодования сменяются взрывами смеха. Гвалт стоит неимоверный. Прелесть таких шахматных баталий, разумеется, не в игре — какая уж тут игра, — а в эмоциональной атмосфере, ей сопутствующей. Честное слово, ни один цирк не способен вызвать столько восторгов, смеха и трагикомичного отчаяния! И все — за неполный час времени. Наверное, поэтому к нам идут и вовсе не умеющие играть. Они составляют вторую волну нашествия. Не спеша позавтракав в буфете, они являются к нам с сонными от сытости лицами, а к концу перерыва с них можно писать персонажей Вальпургиевой ночи. В два основную массу шахматистов будто ветром выметает из кабинета, и лишь самые заядлые продолжают радостно или огорченно — в зависимости от результатов — делиться впечатлениями. Потом наступает тишина, и мы с Эдиком возвращаемся к своим непосредственным обязанностям сыщиков. Начинаю с того, что зовется у нас делом техники, именно техники в буквальном смысле. В течение нескольких минут ИЦ[316] министерства внутренних дел республики в ответ на мой запрос сообщает: “8 ноября, днем, в поселке Восьмой километр г. Баку совершена кража из квартиры. По имеющимся сведениям преступник подъезжал к дому на мотоцикле с коляской, который затем использовал для транспортировки украденных вещей”. Перечень похищенного был небольшим, но туда входил японский транзисторный приемник, а он один стоит немалых денег. Если допустить, что в Баку “сработал наш мотоциклист”, то улов оказался побогаче, чем здесь, у Саблиных. Впрочем, оснований для такого допущения маловато: в городе с миллионным населением обстоятельства кражи могут совпадать, ничего не доказывая. Затем из нашего ГАИ получаю список лиц в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, имеющих мотоциклы или права на их вождение. Конечно, в списке ГАИ — только местные жители, но ведь в нашей работе иной раз приходится искать иголку и в том стоге сена, где ее и не могло быть вовсе, но зато наверняка исключить его из дальнейшего поиска. — Чем это ты занимаешься? Я так увлекся, что не заметил вошедшего Рата. А он возвышается надо мной и, усмехаясь, косится на папку: — …Топаем по следу тигра. Что новенького? — Свидетель, — отвечаю я. — Новый свидетель. И вспышка “юпитеров”, само собой, отменяется. Узнав, что старик слепой, Рат разочарованно хмыкает. Однако, выслушав все остальное, он говорит: — Здесь есть за что уцепиться: мотоцикл не паспорт, в карман не спрячешь. С завтрашнего дня приступай вплотную. Но впереди был еще вечер, и он сорвал все наши планы.УДАР БЕШБАРМАКОМ[317]
В 21.17 дежурному горотдела позвонил дружинник Измук Хабибов и, срываясь на крик, сообщил, что убит Кямиль. Произошло это только что возле магазина № 36 по Морской улице. Дежурный немедленно связался по рации с оперативным нарядом, патрулировавшим по городу на автомашине. В 21.23 наряд прибыл на место происшествия. Еще до прибытия наряда Хабибов обнаружил, что Кямиль жив, хотя и находится в бессознательном состоянии, и вызвал “скорую”. Опергруппа еще застала пострадавшего, поэтому в первые минуты по сути дела занималась Кямилем. После его отправки в больницу были выяснены подробности и предпринята попытка обнаружить преступника на близлежащих улицах. Вскоре приехал дежурный следователь прокуратуры, составил протокол осмотра места происшествия, уже по всей форме допросил очевидцев. Их было двое: напарник Кямиля по патрулированию — Хабибов и заведующая магазином № 36 Самедова. Сейчас начало двенадцатого ночи. Мы все — в шахиновском кабинете. Мы — это Кунгаров, Агабалян, старший наряда Сардаров, следователь прокуратуры Зонин, Мухаметдинов — вот уж кто мог не приезжать на ночь глядя, но не сообщи ему дежурный о происшествии, страшно обиделся бы, а уж сегодня, когда такое случилось с дружинником, да еще с “нашим” Кямилем, в век не простил бы — и я. Шахинов только что звонил в больницу. Ответили, как и прежде: “Осуществляются меры реанимационного характера”. Сухо щелкает клавиша магнитофона. Шуршание пленки, затем женский голос: “Совсем немного от магазина отошла, вдруг…” “Не волнуйтесь, — голос Сардарова, — давайте по порядку. Назовите себя”. “Самедова Азиза-ханум… Азиза Беюкага-кызы[318]. Завмаг — продавец магазин номер тридцать шесть, второй гастроном горпищеторга. В девять часов магазин закрыла, совсем немного отошла, вдруг он, на руке железо, бешбармак, да… говорит: “Убью…” “Кто он?” “Мужчина, да… Часы, кольцо отдала… Говорит: “Деньги давай!” Это время дружинник келди[319]. Он сразу убегал, потом видит: дружинник догонять будет, ударил железом по голове и совсем убегал”. “Откуда знаете, что преступник ударил Кямиля, то есть пострадавшего, железным предметом?” “Вай… Сразу упал, такой болшой рана был, кровь был. Железо да, бешбармак…” “Хорошо, продолжайте”. “Потом этот парень, дружинник, да… тоже подбегал… Я ему, кричала: “Убили, убили!” Он автомат ходил, милицию звонил… Потом “скорой помощь” звонил… Потом… и все”. “Объясните, как выглядит преступник, какой из себя?” “Я его не знаем… Молодой из себя… такой болшой… и на голове кепка болшой…” “Лицо запомнили?” “Темно был, как запомнить?” “Если увидите, узнаете?” “Может, узнаем… совсем рядом стоял… кольцо, часы взял… может, узнаем”. — Я неоднократно просил не перебивать очевидца, все вопросы задавать потом, когда свидетель полностью выскажется. — Побыстрее хотелось… — Куда ж торопиться? Вы ж, надеюсь, сперва преследование организовали, а уж потом занялись выяснением подробностей? — Конечно, потом. Кроме того, опрошены водители третьего автобусного маршрута. В двух кварталах остановка. — Это нам уже известно. Что добавите, товарищ Зонин? — Подробно описаны кольцо и часы. Преступник говорил по-русски, но с акцентом. Пожалуй, все. — Вы не пытались выяснить, о каких деньгах шла речь? — Нет, упустил, — вздохнул Сардаров. Мысль Шахинова ясна. Если бы Самедова была случайной прохожей, то требование преступника: “Деньги давай…” — не имело бы значения, но она вышла из магазина, где работает, и это обстоятельство существенно меняет дело. Преступник мог знать о каких-то конкретных деньгах, о которых пока не знаем мы, а это означало бы, что выбор его не случаен, что объект нападения определен заранее. А раз так, то и нам будет легче искать его. — Завтра допрошу директора гастронома о порядке инкассации выручки, — быстро отреагировал Зонин. Снова щелчок магнитофона. “Хабибов Измук, дружинник. Работаю на химкомбинате оператором по учету, Мы с Кямилем Алиевым начали патрулирование в двадцать часов. В десятом часу Кямиль предложил пройти по Морской, чтобы коротким путем выйти к Дому культуры; там в половине десятого кончается киносеанс. Не доходя немного до магазина, мы заметили мужчину и женщину. Я подумал, что просто парочка, а Кямиль, видно, сразу догадался, в чем дело, и бросился к ним. Мужчина побежал через проезжую часть к дому напротив, Кямиль за ним. В тот момент, когда я поравнялся с женщиной и она сказала: “Бандит, грабил меня…” — я увидел, что мужчина вдруг повернул навстречу Кямилю и Кямиль упал. Это произошло так неожиданно, что я даже не видел удара. Только слышал, как женщина закричала: “Убили, убили!” После этого преступник скрылся за углом дома, и я понял, что не сумею его догнать…” — Струсил, — резко вставил Рат. “Кямиль был как мертвый, голова в крови. Я из автомата позвонил дежурному, а потом, когда мы с женщиной поняли, что Кямиль жив, — в “скорую помощь”. Женщина мне объяснила, что является заведующей магазином, напавшего на нее мужчину не знает”. Голос Сардарова: “Опишите внешность преступника”. “На улице темно, все произошло очень быстро. Мне запомнилось, что он высокого роста…” “Как был одет?” “Да, на нем не было пальто. Какой-то короткий плащ или, может быть, куртка… На голове широкое кепи”. “Вы сумели бы узнать его при встрече?” “Сейчас мне трудно сказать. Может быть, узнаю… по внешнему виду…” — Я подробно зафиксировал показания Хабибова в части объяснений, данных ему Самедовой. Существенных расхождений нет, — сообщил Зонин. — С протоколом осмотра товарищи уже знакомы, но я тут схему набросал, для наглядности… Мы сгрудились вокруг стола, рассматривая исчерченный разноцветными карандашами лист бумаги. — Вот Морская, — пояснял Зонин. — Один фонарь горел в самом начале улицы, а здесь — освещенный магазинчик. До магазина идет забор стройки, у края тротуара — большое дерево. Здесь между деревом и забором преступник остановил женщину — это в десяти метрах от магазина. Как видите, выбор места нападения не случаен: с одной стороны — глухой деревянный забор, а проезжую часть закрывает дерево. Дружинники появились отсюда, а эта стрелка указывает направление, по которому первоначально побежал преступник. Синяя стрелка затем поворачивала назад, утыкаясь в преследовавшую — красную. В точке соприкосновения синей и красной стрелок — черный крестик, обозначавший место падения Кямиля, почти на середине проезжей части улицы. Потом острие синей стрелки вновь устремлялось в противоположном направлении и скрывалось за углом заштрихованного прямоугольника. — В этом двухэтажном доме несколько бытовых учреждений: прачечная, химчистка, ремонтное ателье. В двадцать часов все закрывается, дом вымирает. Это опять-таки подтверждение моей версии об обдуманности нападения, — продолжает Зонин. Я с ним не сталкивался раньше, знал только в лицо. Ему не меньше сорока, но он из “породы мальчишек”: светловолосый, ясноглазый и без единой морщинки; такие стареют сразу, но уже после шестидесяти. Судя по всему, он действительно опытный следователь, однако “моя версия” неприятно резанула слух. Тем более после невыясненной детали с деньгами. Хороша версия, по которой обдуманно и заранее готовятся напасть на случайного прохожего. — Значит, он скрылся за торцовой стороной дома, а что там, дальше? — Дальше жилая пятиэтажка. Впритык, — отвечает Кунгарову Сардаров. А ведь Рат, я знаю, уже побывал там сегодня. Значит, ему тоже не понравилась зонинская самоуверенность, и он задал свой вопрос потому, что на схеме на месте пятиэтажки — пустое место. Зонин морщится: — Моя схема — не план города. — По-моему, это важно, — вмешался Шахинов. — Не возражаете? Он забирает схему и аккуратно дочерчивает недостающее здание. В других обстоятельствах Рат обязательно шепнул бы мне что-нибудь вроде: “Дорвался…” — шахиновское пристрастие к схемам, графикам и вообще чертежам общеизвестно, но сейчас не до шуток. — В этом доме можно найти людей, видевших бежавшего преступника, как вы думаете? — И, не дожидаясь зонинского ответа, Сардарову: — Надо было обойти жильцов тут же. И неподчиненный Шахинову Зонин и подчиненный Сардаров — оба промолчали. Да и что тут возразишь? — Будем разбираться дальше, — сказал Шахинов. — Пожалуйста, товарищ Зонин… Зеленой стрелкой был обозначен путь Самедовой до встречи с преступником, а затем к упавшему Кямилю. Оранжевая — отражала движение Хабибова. Зонину удалось хорошо передать динамику происходившего. Сперва оранжевая линия солидно пролегала бок о бок с красной — Кямиля, затем пунктиром через кружок место нападения на Самедову, — и далее, минуя черный крестик, не дойдя до угла здания, поворачивала назад. — Все это в полном соответствии с объяснениями Самедовой и Хабибова на месте, — закончил Зонин. — Струсил, — повторил Рат. — Почему обязательно струсил? — вспылил Мухаметдинов. — Растерялся, с кем не бывает? — А ты посмотри на расстояние. — Рат поочередно тыкал пальцем в отрезки, дотошно измеренные Зониным. — Все произошло на пятачке, да еще тот повернул назад, к Кямилю. Конечно, струсил. — Может быть, испугался. Что же из этого следует? Каким-то подчеркнутым, свойственным только ему спокойствием, Шахинову всегда удается остудить самые горячие головы. — По-вашему, безоружный парень должен был, ни секунды не раздумывая, броситься на вооруженного бандита. Но ведь Хабибов — дружинник, а не штатный работник милиции. Он мог проявить мужество, а мог и не проявлять. Мог, но не обязан. Обязаны только мы, вы ведь, Кунгаров, не работаете еще и на химкомбинате. Какие будут вопросы по обстановке? Вопросов не было. Вопросы порождаются недостатком или избытком информации. В данном случае ее не хватало, но все понимали, что недостающую вопросами восполнить невозможно. Перед тем как мы разошлись, Шахинов опять звонил в больницу и опять получил неопределенный ответ: “В сознание не приходил, прогноз пока не ясен”. Оперативное совещание с ограниченным числом участников продолжалось у Кунгарова. Мы с ним лежали на раскладушках без матрацев. Эдику из-за роста повезло больше: под ним поскрипывал диванчик. В кабинете темно, только по углам три светящиеся точки. Даже Эдик сегодня курит. Рат чертыхнулся; никак не устроит ноги на приставленном к раскладушке стуле; поднялся, опрокинул его на торец. Потом сказал: — Судя по всему, тип наш. — Местный, — согласился я. — Я этого типа за Кямиля… — окончание фразы заняло у обычно невозмутимого Эдика много времени. — Кто же этот мерзавец? — продолжал Рат. — С утра — оба в пятиэтажку, всех обойдите, подряд, нужен свидетель. Как воздух нужен. Я тоже весь день промотаюсь, но завтра же выясню, кто из нашей шпаны орудует бешбармаком. — Думаешь, из шпаны?.. — полувопросительно сказал я. — А то кто же! — отрезал Рат. — Если б был посолидней, дружинника не тронул, удрать постарался бы. — Точно, — подтверждает Эдик. — На это мог пойти только “зеленый”. Им молоко в голову ударяет и море по колено. — Вообще-то мог убежать, — согласился я. — Темень, и район удобный. Рат прикуривает прямо от сигареты новую. Он не затягивается и может испортить подряд полпачки. — Трудно с молокососами. — То ли вздыхает, то ли просто выдувает дым — не поймешь. — Попробуй предупреди, когда он и сам-то, может, вчера еще толком не знал, что всерьез пойдет на грабеж. И все-таки, похоже, присматривался заранее. И “зеленые” в одиночку дела не делают. Нет, что-то я здесь не понимаю. Давайте спать. Тишина, но я долго еще не могу уснуть. Рат правильно сомневается, у шпаны только в стае страх пропадает. Друг перед другом выпендриваются, хорохорятся. Каждый в отдельности — трус, вместе — что угодно натворить могут. А этот действовал решительно и в одиночку. Может, не в одиночку? Хабибов же не завернул за угол. Может быть, того прикрывали?.. Первого, кого мы увидели с утра, был Измук Хабибов. Он стоял в коридоре, прислонившись спиной к стене. Рат молча прошел мимо. Я остановился, спросил: — Ты что это в такую рань? По-моему, он меня не услышал. Он смотрел вслед Кунгарову, и паутинки в глазах дрожали. Я тронул его за плечо: — Пойдем. В нашей комнате Эдик возился с электрическим чайником. Он кивнул Хабибову и снова принялся за упрямую спираль, которая, судя по всему, не хотела нагреваться. Рат демонстративно не поздоровался с Хабибовым, я задал ему фальшиво-дурацкий вопрос, и только Эдик оказался на уровне современной психологии. И парень вроде начал отходить. Уже не выглядит так, будто готов заплакать. Эдик где-то раздобывает недостающий стакан. Перед тем как приняться за чай, Измук, словно оправдывая свое присутствие, сообщает: — У меня — выходной, подумал, может, пригожусь. — Конечно, пригодишься. Теперь нам каждый человек дорог, — заглаживаю я свою прежнюю неловкость. — Чаи распиваете? В дверях Рат. Я давно не видел его таким колючим и злым. Измук, верно, принял это на свой счет, поднялся и, не поднимая на него глаз, повторил: — У меня — выходной, пришел помочь. — Ты уже помог вчера своему товарищу… Измук почти выбежал из комнаты. Мы укоризненно смотрели на Рата. — Добренькие вы. Из больницы сообщили: задета височная кость, до сих пор не ясно, будет ли жить.ПОДНЯТ ПО ТРЕВОГЕ…
Вчера, в связи с сообщением об убийстве, оперативный дежурный задействовал специальный план мероприятий по розыску особо опасного преступника. Это вовсе не означало воя сирен, спешного построения милицейских нарядов, выезда автомашин со светящимися вертушками. Горотдел милиции — не погранзастава. Он и сегодня оставался по-прежнему тихим, по-субботнему малолюдным. Патрульно-постовые наряды несли свою службу на привычных маршрутах, большинство сотрудников, оповещенных дежурным, уже делают все необходимое на заранее известных им объектах, остальные составили резерв Шахинова, который бросит их в незримый бой на самом трудоемком направлении. Пока неизвестно, каким оно будет — главное направление поиска. Может быть, придется опросить всех водителей автобусов и такси, работавших вчера вечером, может быть, сидеть в кабинетах, не разгибая спины много часов подряд, чтобы перелопатить огромный массив в поисках нужной информации. Внешне все в горотделе выглядело обычным. Но мы-то знаем, как обманчива такая обыденность, когда совершается тяжкое преступление. Кунгаров исчез раньше нас. Ровно в восемь выехали и мы с Эдиком. Он уверенно ведет мотоцикл, а подо мной мелко трясется синеполосая люлька. Морская улица безлюдна. Ну да, сегодня же выходной. Неужели Кямиль умрет? “Зачем ему квартира? — шутил Рат. — Он же у нас живет”. И умрет у нас?.. Вот и деревянный особнячок магазина. Эдик берет вправо, впритык к тротуару. Не хочет наезжать на т о место. Сворачиваем за угол, куда вчера убежал тот. Стоял ли кто-нибудь еще здесь, за углом, в темноте? Сейчас в это не верится. Тихий переулок, светло. Жилой пятиэтажный дом. Въезд во двор узкий, сразу за “бытовкой”, издали не заметишь. Двор как растянутое “П” или футбольные ворота. На противоположном конце — выход в следующий переулок, перпендикулярный Морской. Он мог пробежать туда. А может быть, прямо в дом? Едва ли. Хотя “зеленые” могут жить и здесь, в квартале от места преступления. Пригляделись к магазину и решились. С их точки зрения такая близость могла выглядеть заманчивой: далеко удирать не надо, напали — и в укрытие, к папе-маме. Может быть, поэтому и ударил Кямиля, чтобы успеть сюда скрыться?.. Лестницы, двери, лица… Много дверей, много лиц, как в калейдоскопе. Лица мужские, женские… Спокойные, озабоченные, приветливые, недовольные… молодые, пожилые, юные… Помогите нам, помогите себе… Кямилю ваша помощь уже не нужна, но еще вчера он как мог помогал вам… У меня — ничего. У Эдика — тоже. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Расстроенный, сажусь в седло за широкую Эдикину спину. В горотделе по-прежнему тихо. Только тишина иная, уже не субботняя. Идешь и за каждой дверью ощущаешь присутствие людей, своих товарищей, нет, больше, чем товарищей, — коллег. Машина поиска заработала на полную мощь. Пущен главный конвейер, собирающий информацию по всем линиям служб, и он не остановится до тех пор, пока преступник не будет обнаружен. На очередном совещании у Шахинова подведены итоги сделанного. Во-первых, Зонин совместно с работниками ОБХСС уточнил вопрос с деньгами. Магазин № 36 является одним из филиалов второго гастронома горпищеторга. Заведующий гастрономом признал, что им и Самедовой систематически нарушался порядок инкассации выручки филиала. В нарушение соответствующей инструкции Самедова после окончания работы сама доставляла выручку в гастроном, откуда деньги инкассировались в общем порядке. Ежедневная выручка по магазину № 36 колебалась в пределах 450–600 рублей. В момент нападения Самедова имела при себе 523 рубля казенных денег. Она призналась, что грабитель пытался отобрать у нее именно выручку, но появление дружинников помешало ему осуществить это намерение. Во-вторых, в числе состоящих на административном учете имеются двое, условно подпадающие под описанную Самедовой внешность преступника. В настоящее время проверяется возможность их причастности к преступлению. В-третьих, опрошены водители автобусов всех городских маршрутов, работавших вчера в период с двадцати часов до окончания движения. Опросы не дали положительных результатов. Завтра будет закончена аналогичная работа в отношении водителей автобусов и такси, следовавших в период после двадцати одного часа отсюда в Баку. На этом взаимный обмен информацией закончился. Совещание продолжалось ровно десять минут. Мухаметдинов спешит к себе. Его ожидает тесная группа ребят. Узнаю Юру Саркисова, Алешу Наджафова, других дружинников с химкомбината. Измука Хабибова среди них нет. Ну да, ведь он исчез еще утром. Мучается парень. А Шахинов сказал, что он имел право на нерешительность, даже на трусость… Имел ли?.. Ведь его никто не заставлял идти в дружинники, идти к нам. Здесь не играют в казаки-разбойники. Может быть, Рат и прав: не надо было лезть в эту игру, мальчик. И все-таки какая-то в этом несправедливость. Что же выходит, он хуже тех, что предпочитают отсиживаться по углам? Он-то ведь шел рядом с Кямилем по темной Морской улице. Струсил ли, растерялся, теперь уже неважно, но не обернись все трагедией… — Я же говорил: лжет Самедова! — едва войдя в кабинет, возмущается Рат. — Наверняка жульничала с выручкой. По-моему, он буквально возненавидел Самедову, главным образом, из-за Кямиля. Но ею занялись ребята из ОБХСС, в магазине идет ревизия, а нам сейчас не до эмоций. — Вот что, — говорю Рату, — не нравится мне эта “пятиэтажка”. Она вроде бы и не рядом с магазином, а рукой подать. Если это дело “зеленых”, их надо искать там в первую очередь. А наш официальный обход их только спугнул. — Спугнул не спугнул, а Шахинов прав: надо найти свидетеля. Свидетеля — в первую очередь. — Искали же. Все квартиры обошли. — Плохо искали. Вечер, тишина, вдруг шум, крики. Не может быть, чтобы никто не видел… Он же неминуемо пробежал мимо дома… — Или в дом. — Тем более. Свидетель должен быть. Чем быстрее его найдем… На автостанцию поехали, — кивает Рат в окно. По двору идет Фаиль с ребятами. Садятся в “уазик” — наверно, комбинатовский. У Алеши Наджафова что-то неладится с мотоциклом. Нервничает, понятно. Едут-то встречать родных Кямиля. Наконец стартер сработал, и мотоцикл почетным эскортом выезжает за автомашиной. — В общем, так, — продолжает Рат, — тебе конкретное задание: найти свидетеля. Можешь считать это приказом. Впервые за время нашей совместной работы Рат упомянул слово “приказ”. Разбой и тяжкое, может быть, смертельное ранение дружинника — такой букет для нашего городка — явление тоже экстраординарное. Обо всем этом я думал уже сидя за рулем резервной “оперативки” — переживающей вторую молодость “Победы” с новым двигателем “ГАЗ-51” под старым облупленным капотом. Сперва я поехал на Морскую. Там, в парикмахерской, напротив магазина, работает Минас Артемович; я стригусь у него раз в два — три месяца. Днем клиентов мало. Два мастера играли в шашки, третий неторопливыми движениями направлял бритву на висячем ремне. Над спинкой одною из кресел торчала голова с намыленными щеками. Пз репродуктора тихо лилась оркестровая музыка. — Минас, дядя сегодня во второй смене. При моем появлении сонные лица шашистов ожили, а теперь опять безразлично уткнулись в доску. На секунду на меня тоже нашло какое-то оцепенение. Неужели действительно в нескольких шагах отсюда лежал окровавленный Кямиль? Я объехал пятиэтажный дом и повернул назад, в центр. В управлении горкоммунхозом мне повезло: Анатолий Михайлович — бригадир “газовщиков” оказался на месте. Каких-нибудь три года назад соседи называли его не иначе как “Толян — проклятье двора”. Участковому он оказался не под силу, зато наша Аллочка — инспектор детской комнаты — пришла, увидела и победила. А после службы в армии “Проклятье двора” превратился в интересного, статного парня, за которым наверняка бегают, только уже не соседи, а девочки. А улыбка у него — прежняя: девять на двенадцать; именно из-за нее Алла Александровна тогда сразу сказала: мальчишка с такой улыбкой не может быть по натуре плохим. Я вкратце рассказал ему о происшедшем. Услышав об ударе бешбармаком, Анатолий нахмурился, от улыбки не осталось и следа. — Что нужно делать? Вечером соберу ребят. — Анатолий — командир отделения комсомольского оперативного отряда. — Помощь ребят, может быть, и понадобится, а сейчас нужна твоя, лично. Надо сегодня же побывать в “пятиэтажке”. Обойди квартиры в порядке внеплановой проверки газовых плит. Поговори с жильцами, кто-то из них наверняка видел убегающего преступника, может быть, даже двоих; второй мог стоять, за углом, прикрывать от случайных прохожих со стороны переулка. В общем, тут требуется не сила, а изобретательность, умение завязать беседу. Ты — парень коммуникабельный, я очень на тебя надеюсь. К тому же мы с Агабаляном утром беседовали с жильцами, так что почва подготовлена. — Считайте, что я уже там, — серьезно ответил Анатолий. Раньше там оказался я, точнее, рядом, в парикмахерской. Старый мастер только что приступил к работе. Пришлось подождать минут двадцать, кстати, я еще действительно сегодня не брился. Минас Артемович был в курсе дела. Парикмахерам удается узнавать новости в первую очередь. В данном случае, впрочем, не мудрено, можно сказать, на месте происшествия находимся. Ничего для себя нового я не узнал, зато теперь могу быть спокоен: все стоящее Минас Артемович немедленно сообщит мне. А поле деятельности у него широкое, субботним вечером в парикмахерской клиентов хоть отбавляй. Когда я вернулся в горотдел, по выражению лица дежурного понял: ничего существенного пока не добыто. Стали появляться участковые инспектора, один за другим проходили к Шахинову. — Докладывают результаты обходов, — сказал дежурный. Вчера, когда вопрос с деньгами был еще не выяснен, Зонин высказал предположение, что преступник мог приехать в город к кому-нибудь из своих приятелей на выходные дни. Сегодня эта версия уже не кажется реальной, но Шахинов не отменил своего указания инспекторам зафиксировать на участках всех посторонних, особенно молодежь. Ожидать немедленного результата, конечно, не приходится, но ведь из такой вот трудоемкой работы и складывается поиск опасного преступника и заранее не известно, что именно и когда принесет результат. Обстановка дежурной части с ее светящимся магнитопланом, строгими линиями пультов управления бодрит, и мне не хочется отсюда уходить. Тем более, что в дверях появляется Алла Александровна и вид у нее загадочный. Она пропускает угрюмого юношу лет шестнадцати и входит сама. Следом — незнакомый мужчина. Он сразу же берет юношу за руку, повыше локтя. Берет не по-приятельски, а как задержанного, когда есть основания думать, что он убежит или будет сопротивляться. Однако парень стоит не шелохнувшись, да и мужчина ограничился вскользь брошенным: “Доигрался”. Видимо, просто продолжает свою роль, начатую на улице. — Садитесь, Иван Кузьмич, — говорит Алла мужчине, и тот нехотя выпускает своего подопечного. Выясняется, что наш инспектор обходил неблагополучные, с точки зрения правонарушений, допускаемых несовершеннолетними объекты, и как раз сегодня в профтехучилище-интернате у этого воспитанника был обнаружен кастет. Во всяком случае, воспитатель — Иван Кузьмич — как раз занимался разбором этого инцидента. Чтобы не отвлекать дежурного, переходим в соседнюю комнату, и, поскольку в деле фигурирует бешбармак, я решил присутствовать при составлении протокола. В небольшом помещении мы все оказались, что называется, нос к носу. — Доигрался. — Одновременно Иван Кузьмич выдыхает легкий запах алкоголя. Держится он отлично, такое состояние и нетрезвым даже не назовешь, по всему видно: выпил человек самую малость. Но запах спиртного, исходящий, например, от врача может заставить меня отказаться от его помощи. Думаю, то же табу обязательно и для воспитателей несовершеннолетних. А то сразу пропадает уверенность, что перед тобой последователь Макаренко. Пока составляется протокол, я рассматриваю кусок железа с грубо пробитыми отверстиями для пальцев. Плохонькая самоделка. — Ну-ка, надень, — предлагаю я и перехватываю понимающий взгляд Ивана Кузьмича. По-видимому, ему кажется, что он участвует при совершении важного обличающего эксперимента. — Доигрался, — с удовлетворением снова повторяет он. Бешбармак на пальцах подростка “ходит”, еле держится. Нет, не эта рука нанесла Кямилю тяжкий удар. — Может быть, не твой? — Мой. — А взгляд с вызовом предназначен не мне, Ивану Кузьмичу. — Откуда он у тебя? — Сам сделал. — Для чего же ты его сделал? — Надо было, и… сделал. — Для чего же? Чтобы… кого-то ударить? В голосе Аллочки сострадание. Именно сострадание и к потенциальной жертве, и к самому виновнику. Это сострадание и вызывает на лице подростка жалкую улыбку, — чувствуют несовершеннолетние искреннее участиевзрослых. — Это мне против Сабира нужно было, если и ко мне, как к другим, сунется. Он у нас любого избить может; с ним и воспитатели связываться не хотят… — Врешь, все врешь. Думаешь, здесь каждому твоему слову поверят? — перебивает воспитанника Иван Кузьмич. — Сделал… ничего ты не мог сам сделать. У нас в производстве такой контроль, стружка и та под надзором. Из дома или от товарищей городских притащил, а теперь вот попался. Ишь ты, с три короба наплел. — Ничего не наплел, — оправдывался воспитанник, — вчера только и сделал. На перерыв в мастерской остался и выточил. — Вчера-а-а?! — срывается на дискант Иван Кузьмич. — В мастерской?! Агрессивность воспитателя не производит абсолютно никакого впечатления. Видно, и вправду не так страшен Иван Кузьмич, как неизвестный нам Сабир. Но Иван Кузьмич не на шутку разгорячился: — Здоров же ты фантазировать. Вчера сделал… для самозащиты, значит… Здоров гусь… По шее следует за такие фантазии… Это звучит уже как приглашение к действию, да еще с заранее выданной индульгенцией. — Спокойней, гражданин, — с холодной вежливостью вмешивается Алла Александровна. Погончики на ее узеньких плечах жестко топорщатся кверху, и, видимо, от того, что он назван не по имени-отчеству, а гражданином, Иван Кузьмич сразу остыл, сел на место. Наступила тягостная пауза. В искренности подростка сомнений нет: и кастет на днях сделан — отверстия в металле свежие и рваные, и если уж кто сфантазировал, так сам воспитатель насчет “поднадзорной стружки”, и “тиран” мальчишек Сабир наверняка существует, — однако все эти обстоятельства отнюдь не превращают владельца бешбармака в борца за независимость. Ни Алла, ни я не пришли в умиление от его личности. Кому-кому, а сотрудникам милиции хорошо известно, как быстро такие ребята теряют ориентацию в вопросах справедливости, допустимости применения силы в том или ином случае, в той или иной форме. Действительно, бывает так, что хватается парень за нож или такую вот железку, чтобы постоять за себя, дать отпор обидчику, на чьей стороне сила, либо — дружки. Бывает так, что и одной угрозы оказывается достаточно, чтобы отпугнуть сильнейшего. Но даже в таком безобидном, на первый взгляд, случае негативные последствия наступают неотвратимо. Защитивший себя незаконным способом всегда одерживает пиррову победу. Успешная защита переходит в сознание превосходства силы, вчерашняя жертва сама превращается в обидчика, а там потребность в новом самоутверждении, а там избиение абсолютно невинного, и вчерашний “справедливый борец” становится опасным для окружающих. — Придется составить акт и доложить о тебе в комиссию при горисполкоме, — говорит Алла. — С Сабиром мы разберемся, но постарайся понять: наказание ты заслужил. Верно? — Не знаю, — ответил он. Может быть, действительно не знает. Стреляют же из ружья иные дяди в незадачливых любителей чужих фруктов. А этому все-таки шестнадцать. Сабир для него наверняка пострашнее садовых воров. “Какой-никакой, а за обеденный перерыв выточил, — поднимаясь к себе, думал я. — Алла, конечно, сделает представление, но кому-нибудь из нас надо вплотную заняться интернатом”. Интернатом мы занялись основательно. Но это было потом, после… А сейчас мне позвонил Анатолий, и его сообщение круто изменило главное направление поиска.СООБЩНИК
Опять, уже в четвертый раз за сегодняшний день, я проезжал по Морской улице. “Колесов А.Н.” — на дверной табличке. Так и есть: именно здесь я побывал сегодня утром. Еще до того как мне открыли, я вспомнил высокого, аскетического типа мужчину средних лет. Он не проявил ни малейшего желания пропустить меня дальше прихожей, вежливо, но совершенно безразлично выслушал и отрицательно покачал головой. У меня осталось чувство, будто разговаривал с глухонемым, и еще: не нашедшего выход раздражения. Нажимая кнопку, ловлю себя на желании сделать это помягче, будто от силы звонка зависит: сообщит ли мне А.Н.Колесов что-нибудь стоящее или в последний момент передумает. В дверях знакомое лицо хозяина, и на этот раз приглашающий жест, сопровожденный коротким: — Прошу. В комнате меня встречает Анатолий, быстро вполголоса говорит: — Внучка тяжело больна, сейчас вроде лучше. Теперь понятно, откуда эта щемящая тишина в квартире, откуда безразличие к чужой беде. Мы, занятые своими профессиональными делами, часто упускаем из виду вот такие привходящие обстоятельства и поверхностно судим о людях, с которыми сталкиваемся в процессе сыска. Однако через несколько минут мне было уже не до отвлеченных рассуждений. Выслушав Колесова, я снова стал сыщиком, и только им. — Вчера вечером раздался треск мотоциклетного мотора. Это было очень громко. Прямо под балконом. Мотор не заводился, а буквально грохотал с короткими интервалами. Так продолжалось долго. Я потерял терпение, вышел на балкон. С мотоциклом возился какой-то парень. Я крикнул ему, чтобы он откатил мотоцикл подальше, здесь больная, но он и не услышал меня… Грохот стоял неимоверный. Наконец мотор завелся, и он уехал. Вот, собственно… Видимо, по моему выражению Колесов понял важность сказанного и добавил; — Я не думал, что этот эпизод может вас заинтересовать. Да и не до того утром было: всю ночь не спал. — Простите, Александр Николаевич, за беспокойство, но все это действительно очень важно. Какой был мотоцикл? — С коляской. А марки не знаю, — и, предваряя возможный вопрос, — номера тоже. — А парень? — Среднего роста, широкоплечий. В отношении возраста точно сказать затрудняюсь. Просто видно, что… одним словом — парень. — Не припомните время? Поточнее… — Ровно в девять сестра сделала укол… Да, тут же после ее ухода. Минут пятнадцать десятого. Ну, может быть, с небольшим отклонением. Чтобы сориентироваться, я вышел на балкон. Улица параллельна Морской, их разделяют здание с бытовым учреждением и этот дом. На улицу из дома нет ни одного выхода, значит, оставить здесь мотоцикл можно было только умышленно. Неужели все-таки он?.. Но тот высокого роста — это утверждали и Самедова и Хабибов. Рост… Колесов видел его отсюда, с третьего этажа. Высота не бог весть, а все-таки искажает… — Как он был одет? На голове… Что было у него на голове? — Вот этого не заметил. Нет, не помню. — Куда он уехал? Колесов указал в противоположном от центра направлении к бакинской магистрали. Ну что ж, спасибо свидетелю А.Н.Колесову, и внучке его — быстрейшего выздоровления. Я обошел еще квартиры, выходящие на улицу, оба переулка и двор теперь меня не интересовали. Я надеялся, что кто-нибудь из жильцов тоже выглянул на шум и случайно запомнил номер мотоцикла, хотя бы частично. Обход не дал ничего нового, хотя кое-кто из жильцов и обратил внимание на треск незаводившегося мотоциклетного двигателя. Возвращаюсь в горотдел, а голова — кругом, мысли обрывочные, противоречивые. Опять мотоциклист? Как наваждение какое-то. Мало ли кто мог оставить мотоцикл у дома. Совпадение во времени? Даже гениальные открытия не гарантированы от такого совпадения, а тут, подумаешь, приехал парень на мотоцикле, а в это время за квартал от него кто-то грабил Самедову… А если все же мотоциклист, так обязательно тот, что обокрал Саблина? Жалкий похититель тигренка и преступник, решившийся на вооруженное нападение? Что их связывает? Мотоцикл? Половина здешней молодежи имеет мотоциклы. Зажигание отказывает? А у кого оно не барахлит… Нет, зажигание — не след протектора. Так и не придя ни к какому определенному выводу, докладываю Кунгарову все подряд, включая собственные сомнения. — Запутался в трех соснах, — решительно сказал Рат. — Если тот, если этот… С тобой в детстве ребята не проделывали “карусель”? Я, например, оборачивался только один раз и лупил того, к кому стоял лицом, не обращая внимания на удары по затылку. Давай разберемся с одним мотоциклистом. Последним. “За” — возраст, время, место. “Против”… — …все остальное, — подсказал я. Моя реплика не смутила Рата. — Верно. Но все остальное нам не известно, а конкретно — ничего против нет. Значит, надо искать этого мотоциклиста, а там — увидим. И вдруг меня точно стукнули по голове. — Запах… Нужно сейчас же поговорить с Самедовой. Рат отреагировал моментально. Через полчаса: “Йолдаш Кунгаров?..” С протяжным “о” и такой же неестественно длящейся улыбкой. Чувствует кошка, чье мясо съела. — Азиза-ханум, мы пригласили вас… Рат недовольно фыркает, обрывает меня: — Значит, ты сама и продавец, и завмаг, и кассир, и даже инкассатор? Сама деньги получала, сама считала, сама сдавала, небось жалко такой шикарный порядок ломать? Ежедневно наличные суммы под рукой, можно левый баланс делать, а?.. — Йолдаш, начальник, мал-мала делал… — Много или мало — ревизия определит. — Йолдаш… — Я тебе не Йолдаш… поняла? Я товарищ Кямилю, который из-за тебя… — Рат не закончил и вдруг спросил: — А ну, вспомни, чем от того типа пахло? Оп с тобой нос к носу стоял. Ну? — Пьяный не был, начальник. Клянусь аллахом, не был. — Трезвый был. Хорошо, верю. А ты вспомни, как следует вспомни, может быть, другой запах был, не водки, а?.. Радостная, на этот раз искренняя, улыбка: — Вспомнил, начальник, вспомнил. Бензин запах. Когда он стоял рядом, как будто я в машину сидел. Я быстро оформил показания Самедовой специальным протоколом от имени Зонина. Рат уже докладывал Шахинову, связался с начальником ГАИ Мурсаловым. Так вот какой сообщник притаился за пятиэтажным домом. Не за углом, как можно было думать, а за вторым углом, с той стороны, где не было в доме ворот. Эх, если бы Хабибов продолжал преследование… Теперь понятно и другое: почему преступник, обычно не рискующий вступать в схватку с дружинником, вдруг повернул навстречу преследователю. Кямиль висел у него “на хвосте”, а удрать, бросив мотоцикл, равносильно саморазоблачению. Нет, это хорошо, что Хабибов вернулся к раненому товарищу. “Мотоциклисту” терять было нечего, он и с Измуком поступил бы так же. Все силы брошены на помощь ГАИ. Теперь предстоит опросить водителей автобусов, маршрутных и местных такси, следовавших вчера вечером по бакинской магистрали в обоих направлениях. К поиску подключен штаб народной дружины, общественные автоинспекторы, ребята из комсомольского оперативного отряда. Предмет опросов: мотоцикл с коляской, водитель — мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, высокий, спортивного телосложения, в куртке. Что касается личности разыскиваемого, приметы “не ахти”. Высокий, в сидячем положении может не показаться высоким, попробуй разбери на ходу. А в пальто молодежь на мотоциклах не ездит. Но суть пока не в личности преступника. Его сообщник — мотоцикл — помог ему вчера быстро скрыться, но с той же минуты стал работать и на нас: превратился в надежный ориентир поиска. Появлялся ли именно такой мотоциклист, именно в такое время на бакинской магистрали, в каком направлении по ней поехал? На эти вопросы должны ответить вероятные свидетели. Его не могли не видеть, но ведь и видевших его тоже нужно найти. Наши друзья из штаба дружины и общественные автоинспекторы были настроены оптимистически. По-моему, им казалось, что очевидец будет установлен на первой же стоянке такси. Сотрудники, взявшие на себя руководство поисковыми группами, наоборот, сомневались в успехе: время позднее, вот завтра, когда целый день впереди, — другое дело. Оно и шло к тому. Часы показывали начало одиннадцатого. Мы с Алешей Наджафовым сидели в диспетчерской таксомоторного парка, встречали оканчивающих смену. После беседы с очередным водителем в помещении снова воцарялась тишина до прибытия следующей автомашины. И вдруг на груди у меня щелкнул микропередатчик! “Всем, всем. Распустить поисковые группы. Сотрудникам возвращаться в горотдел”. До отдела меня подбросил на своем мотоцикле Алеша Наджафов. По дороге он все приставал ко мне: “Неужели нашли, как вы думаете?” Такой ладный парень, а голос тонкий, часто срывается на фальцет: “Неужели?” — Не знаю. Скорее всего, просто отбой на сегодня. — А сам, как в детстве, загадываю наоборот. Я приехал одним из последних. Эдик со свойственной ему обстоятельностью вводит меня в курс. — Значит, Юра Саркисов, дорнадзор и еще один из общественников поехали на автобусный круг, знаешь, где бакинские… Машины через каждые полчаса прибывают. Четвертый по счету шофер и видел мотоциклиста. “Я из-за него, сказал, вчера чуть на самосвал не наскочил”. И время совпадает: в половине десятого у него прибытие. Понимаешь? Понимаю. Оказывается, оптимизм оправдывается. Иной раз неделю без толку потеряешь, а тут за два часа все выяснилось. — Ну вот. Он, значит, ехал по магистрали, впереди — самосвал. Говорит, город уже начинался, поэтому не обгонял. “Аллах, говорит, спас”. Вдруг самосвал ка-ак тормознет у него под носом. “Хорошо, говорит, покрышки новые, а то бы в кузов ему въехал”. И тут же мимо, навстречу, значит, мотоцикл стреканул. Раньше его на дороге не было. Ребята, конечно, сразу: “Номер запомнил?” — “Конечно, говорит, запомнил, когда у меня в машине все стоячие полегли, а сидячие встали”. Но он запомнил номер самосвала. А сейчас Кунгарова с Мурсаловым ждем, — неожиданно закончил Эдик. Впрочем, что дальше — действительно нетрудно догадаться. Поехали в автоколонну, узнали адрес водителя грузовика. К себе я дойти не успел. Приехал Рат с Мурсаловым, и всех тут же — к Шахинову. По лицу Рата вижу: активных действий сегодня не предвидится. Мурсалов же весь светится. Он действительно может быть доволен оперативностью своих ребят. Сеид — любимец всего отдела, и это не удивительно. Удивительно, что такой же популярностью он пользуется среди работников ГАИ и шоферов далеко за пределами города. Про Сеида без преувеличения можно сказать: его знают на дорогах всей республики. Популярность, правда, бывает разная, а вот Сеида уважают. Может быть, потому, что он прошел путь от автослесаря до майора милиции и остался “своим” для шоферской братии. — Давайте запись! — едва мы вошли, приказал Шахинов. Кто-то нажал клавишу, кабинет заполнили неживые, металлического тембра голоса. В общие сведения можно не вслушиваться, не забивать себе голову. Ага, вот. “Мурсалов. Теперь, хала оглы[320], расскажи все по порядку. Волноваться не надо, стесняться не надо. Ты же меня знаешь? Водитель самосвала. Да, Сеид меллим[321], знаю. Вы — начальник ГАИ майор Мурсалов. Мурсалов. Так, правильно, хала оглы. Очень хорошо…” Несмотря на серьезность ситуации, все присутствующие улыбнулись. Сеид многословен и как-то по-детски, по-хорошему честолюбив; эти его слабости нам хорошо известны. Водитель самосвала. …Впереди никого не было, позади шел автобус. При въезде в город справа на магистраль вылетел мотоцикл. Прямо перед буфером. Я даже сообразить ничего не успел, нога сама тормознула на всю катушку. Машину занесло, хорошо, на автобусе шофер отличный, при торможении вправо взял, а то бы в меня врезался обязательно. Повезло, одним словом, даже не поцеловались. Вот и все. Мурсалов. А мотоцикл, хала оглы? Водитель. А мотоцикл, Сеид меллим, проскочил, и до свидания. Он на шоссе темным выскочил, как ишак сумасшедший. Там, справа, и улиц нет, пустырь какой-то. Кунгаров. Но мотоциклиста ты все-таки видел? Водитель. Обязательно видел. Если б не видел — не тормозил. Он темным был, а у меня ведь фары включенные. Кунгаров. Значит, ты осветил его? Водитель. Как в кино. Кунгаров. Какой он из себя? В лицо запомнил? Водитель. Лицо? Разве в такой момент в лицо смотришь? Нет, товарищ Кунгаров, лицо не видел. Кунгаров. Сам же сказал: как в кино. Водитель. Обязательно. Все вместе видел. Мотоцикл видел, его видел, лица не видел. Нет, э… лицо тоже видел, но… Кунгаров. Понятно. Тогда скажи, что запомнилось. Мурсалов. Хала оглы, спокойно… подумай… потом скажи. Чего не видел — не говори. Что видел — скажи, спокойно… Водитель. Молодой парень… Один… Вот, вспомнил: на голове шлема не было, кепка была. Кунгаров. Кепка? Точно помнишь? Водитель. Обязательно”. — Я думаю, шлем он в багажнике оставил, — первым высказался Рат. — Когда на грабеж шел, надел кепку, а потом времени не хватило. — А помчался он в сторону Баку, — добавил Мурсалов. — “Срочный запрос через ГАИ республики всем постам бакинской магистрали. — Это уже Шахинов диктует в трубку дежурному. — Просим немедленно сообщить обо всех случаях, включая самые незначительные, нарушений правил движения мотоциклистами в период с двадцати одного тридцати до двадцати трех часов двадцать девятого декабря. Одновременно просим опросить те же посты о возможной фиксации ими проезжавших мотоциклистов на машинах с колясками. Срочность задания объясняется расследованием тяжкого преступления”. Потом мы стоим у настенного плана города, и Мурсалов прокладывает предполагаемый маршрут мотоциклиста, на ходу поясняя: — Теперь понятно, почему мой дорнадзор на шоссе с ним не встретился. Когда дежурный сообщил о происшествии, дорнадзор сразу поехал в город, а мотоциклист в это время уже свернул на пустырь. На карте это очевидно. Дорнадзоровец двигался к Морской по катетам прямоугольного треугольника, а беглец — по гипотенузе, которая почти напрямую, вывела его к шоссе. Так они и разминулись. — Это ясно, — сказал Шахинов. — Смущает другое. Судя по всему, о н не “наш”, по крайней мере, живет не здесь, иначе скрылся бы в городе, а не на шоссе, где исчезнуть несравненно труднее. С другой стороны, ограбление завмага предполагает хорошее знание местных условий. Не говорю уже об удачно выбранном, видимо, заранее маршруте бегства. — Очень просто, живет в Баку, работает у нас, — сказал Рат. Широко распространено представление, будто жители “спутников” работают на своих “планетах”. В основном, оно верно. Но ведь спутник спутнику рознь. Есть “жилые” и есть “промышленные”; наш относится к последней категории, здесь работают тысячи бакинцев, а местных жителей, работающих в Баку, можно сосчитать по пальцам. Все это Шахинову, конечно, известно. Просто подход: девяносто девять против одного ему органически не приемлем. Он относится к тем, кто признает только абсолютные гарантии. Поэтому принятое им решение меня не удивляет. — Надо проверить всех владельцев мотоциклов с колясками. Создаем две оперативные группы. Первая, во главе с Сеидом, займется “нашими”, остальными — Кунгаров. Расходимся около полуночи. Сержант из дежурной части сообщает, что меня ждут. Выхожу во двор и вижу одиноко стоящий мотоцикл со съежившимся в седле Алешей Наджафовым. — Ты почему домой не поехал? — удивился я. — Хотел узнать… — Ты же замерз, как суслик… — Думал, вы ненадолго. И не холодно, ветра нет — а у самого зуб на зуб не попадает. Я предложил ему ночевать у нас, в комнате отдыха для дежурных, но он наотрез отказался. — Отец спать без меня не ляжет, всю ночь ждать будет. Отпустить его промерзшего, да еще верхом на мотоцикле, я не мог. Он послушно пересел в люльку, укутался брезентом. Мотоцикл легкой рысцой бежал по пустынным улицам. Ночь и на самом деле тихая, торжественная. Звезды словно впечатаны в чернь металла. Южное небо: никаких полутонов. — Куда вы их… с автостанции? Наджафов сразу понимает, о ком я: — В общежитие. Родители приехали, родственники. Много народу приехало. Все в одном селении живут. В больницу пока нельзя, в общежитии ждать будут. “Ждать в общежитии”. Слово какое подходящее. — Теперь как судьба скажет, — вздыхает Наджафов. — Ты что — фаталист? Он на мгновение поворачивается ко мне. “Не понял”, — догадываюсь я. Значит, не густо с образованием, а по-русски говорит хорошо, чисто. — Теперь куда?.. — С Апшеронской на Вторую Поперечную сверните… Там живем. Улица короткая и низкая, сплошь из мазанок и таких же белых заборов. Из-за тех, что повыше и поновее, доносится угрожающее рычание. Кавказские овчарки-волкодавы, приземистые, широкогрудые, с обрезанными ушами, их держат не для прогулок: не приведи господь встретиться с ними без хозяина. — Здесь мы живем, — останавливает меня Алеша у покосившегося заборчика. Через него и дворик, и дом — как на ладони. Застекленная веранда ярко освещена. Зато летом они наверняка скрыты зеленым шатром: множество деревьев. — В саду живете. — Это что… розы какие были. Теперь я вас не отпущу. Честное слово, очень обидите. И телефон есть. На веранде старик, на корточках, не обращая на нас внимания, что-то быстро-быстро бормочет, ритмично, как “китайский болванчик” раскачивает головой. — Больной отец, совсем больной! — громко объясняет Алеша. — Тише, — невольно прошу я. — Все равно не слышит. Своим делом занят. Часами вот так с кем-то разговаривает. Но старик услышал, только среагировал чудно. Не оборачиваясь к нам, крикнул: — Нури! Опять мне мешаешь. Приехал, иди в дом! — С братом меня путает. Видели, совсем больной. Проходите, пожалуйста. Пока Алеша возится на кухне, рассматриваю фотографии на степах. Их много, настоящий семейный альбом. Молодой мужчина, как в папахе из курчавых волос, усы, будто нарисованы тушью, рядом женщина с круглым лицом, круглыми глазами и круглым подбородком; оба строго в фас, оба смотрят куда-то в единую точку. Тот же мужчина уже в железнодорожной форме. Трое: мужчина и женщина с девочкой посередине. Пятеро: мужчина и женщина, девочка и два карапуза. Двое мальчишек на игрушечных лошадках и в настоящих папахах. Четверо: мужчина и женщина, и два подростка по бокам. Двое юношей обнялись за плечи. Алеша постарше, у второго еле заметен пушок над губой. Два молодых человека, уже отдельно. Похожи, но те же черты, резко очерченные у брата, — у Алеши словно размыты. А девочка исчезла… Неужели несчастье? Так и есть. Накрывая на стол, Алеша поясняет: — Гюли умерла, когда мы были совсем маленькие. От дизентерии. Не было тогда еще этих… — Антибиотиков. — Да. Потом у соседей сын болел, быстро вылечили. В больницу взяли, много уколов кололи, зато жив остался. А мы с Нуришкой вообще дизентерией не болели. Плохая болезнь, ядовитая. Отец совсем не старый, видите? Как заболел, стариком стал. Может быть, потом тоже лекарства придумают, сейчас нету. Вы не думайте, с ним можно разговаривать. Он все понимает, по-своему все понимает. Про мух, например, что говорит? “Мух, говорит, все ругают. Неправильно ругают. Муха — санинспектор: прилетит, посмотрит, где чисто, сразу улетает, где грязно, как ни гони, не улетит. Муха дает знать: человек — будь аккуратный, пока грязь не уберешь, буду тебе жужжать: уббери, уббери… Зачем мух ругать, говорит, себя надо ругать”. Интересно, правда? Я киваю на прикрытую дверь спальни: — Достается матери, наверное… — чуть не сказал “с таким мужем”, но вовремя исправился: — С тремя мужчинами. Вы-то хоть помогаете? — Ушла мать. — Сказал, как обиженный щенок взвизгнул. — Совсем ушла. Пять лет здесь не живет. Нури с ней ушел. Почему не пойти? Отчим — хороший человек, щедрый. Меня тоже звали. В Баку живут. Мать обижалась: “Квартира большая, всем места хватит, почему не идешь?” Теперь привыкла, раз-два в месяц к ним еду, не обижается. Шляпа я, шляпа. Он же только отца упоминал. Все мимо ушей пропустил и с благодушными вопросами лезу. — Извини, Алеша, не знал я… — И, чтобы как-то замять свою бестактность, перевожу разговор на другое: — У вас на комбинате ребята отличные, дружишь с кем-нибудь? — Со всеми дружу. Больше всех с Измуком. Жалко его, совсем похудел. Переживает очень. “Сам, говорит, его найду”. Зачем улыбаетесь? Он — твердый парень, сказал — сделает. Потом Алеша хлопочет с постелью, а я звоню Рату: предупредить, что останусь здесь до утра.ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Ночевать у Наджафова мне не пришлось. — Куда ты пропал?! — Рат буквально кричал в трубку. — Возвращайся немедленно! У входа в горотдел — патрульная автомашина с надписью “НМ”[322], во дворе — оживленная группа вокруг мотоцикла с коляской. Но главные события развивались в кабинете Кунгарова. Едва туда заглянув, я был поражен позой своего шефа. Он стоял посередине комнаты с ножом в руке. Такая активность в час ночи могла объясняться только магическим: “Пойман”. Молодой мужчина лет двадцати пяти чем-то напоминает свое бывшее оружие: сильно укороченный нож кинжального типа. Голова — округлая рукоятка, широкоплечий ограничитель, резко суживающееся туловище — лезвие воткнуто в стул. Он трусливо-враждебно смотрит на Рата. А тот говорит: — Значит, нашел на стройке и взял для консервов. Только сегодня и никогда при себе не носил? Сейчас посмотрим. Рат заставляет мужчину подняться и снять пиджак. Я еще не понял, что за этим последует, тот тем более, а Рат уже выдернул из его брюк рубашку и показал ему иссеченный подол. — А что на это скажешь? “На это” мужчина ничего не говорит, вид у него совсем ошарашенный, и Рат удовлетворенно заканчивает демонстрацию: — Бешбармак тоже найдем, а не найдем, сам покажешь, куда выбросил… — Нет, начальник., нож правда носил, а бешбармака нету, клянусь — нету. Стоило ему произнести несколько слов, сразу ударил запах перегара. — Фу-ты, — отшатывается Кунгаров, — закрой рот и дыши носом. — Значит, не помнишь, что делал вечером двадцать девятого? Мужчина отрицательно качает головой. — А как в женское общежитие сейчас ломился, сторожу ножом угрожал — тоже забыл? Или еще не успел? На этот раз никакой видимой реакции. А глаза смотрят трезво, и трусливая ненависть во взгляде — трезвая. Рат садится за стол. Там лежат шлем и широкое кепи. — Ну, вот что: до утра постарайся вспомнить все, что забыл. А нет — мы сами напомним. Задержанного уводят в КПЗ и я получаю наконец возможность навести справки. — Разнорабочий второго СМУ, — поясняет Рат. — Живет здесь в общежитии. Между прочим, на восьмом километре у него тетка имеется. Помнишь бакинскую ориентировку? Похоже, он туда челночный рейс совершил. Но вещей не нашли: ни тех, ни самедовских. Или продал, или у кого-нибудь из дружков прячет. Есть там у них, в СМУ, подходящая компания. Боюсь только не опознает его Самедова, а предъявить мы ей обязаны. Сегодня нам достали матрацы, но и без них мы бы тоже заснули как убитые. Утром состоялось опознание, им четко командовал Зонин, Сразу видно: чувствует себя в родной следовательской стихии. Вдоль стены стояли трое мужчин одинакового возраста, роста. Все — смуглые, на всех — низко нахлобученные кепи. И все-таки этот чем-то явственно отличается от остальных. Наверно, выражением лица, те-то спокойны. А может быть, мне все это кажется, потому что я его знаю. Входит Самедова, долго присматривается попеременно то к одному, то к другому. Иногда, словно за подсказкой, оглядывается на нас. Со стороны заметно: она не узнала грабителя, но догадалась, кто из троих подозревается нами. Теперь ее мучат сомнения: мысль о ревизии, идущей в магазине, требует угодить нам, с другой стороны — собственная догадка может быть ошибочной. Тонкая штука — опознание: здесь в равной мере опасны и укрывательство и оговор. А от свидетелей такого типа можно ожидать и того и другого, в зависимости от ситуации. Наконец Самедова принимает компромиссное решение: — Темно был, точно не знаю. Этот похожий. — Она указывает пальцем в задержанного и тут же, будто обжегшись, отдергивает руку, повторяет: — Темно был, точно не знаю. Рат хмурится: уверенности такое опознание не прибавило. А тут еще полуопознанный выскакивает вперед, от вчерашней ненависти и следа нет, только страх: — Вай, клянусь аллахом — не я. Знаю, что в магазине работает, больше ее не знаю. Вай, начальник, клянусь — не я! Зонин успокаивает его, обращается к Самедовой: — Значит, у вас нет уверенности, что именно этот человек вечером двадцать девятого декабря ограбил вас и причинил тяжкие телесные повреждения дружиннику? — Вай, что говорит! Внешние данные, наличие мотоцикла с коляской, ножа, невразумительность ответов насчет вечера двадцать девятого — сегодня на допросе Зонину он заявил, что долго “выпивал” с товарищами, а потом поехали куда-то в гости, — все это даст серьезные основания подозревать его не только в злостном хулиганстве, за что он, собственно, и задержан. Но, с другой стороны, его удивление как будто искренне. Во всяком случае, наигранным его поведение не назовешь. Зонин вынужден повторить вопрос, и Самедова отрицательно трясет головой: — Не знаем, не знаем. — Объясните тогда, что вы имели в виду, когда назвали этого человека похожим на ограбившего вас? — Похожий, да. Может, он был, может, другой. Не знаем, — и, довольная своим дипломатическим ответом, улыбается следователю так же, как вчера улыбалась Рату. Зонин занялся протоколом опознания, а нас вызвал Шахинов: с утра пораньше приехал, даром что воскресенье. Рат все еще не может успокоиться, говорит на ходу: — Вот проверим, с кем и где пил, и пил ли, и, главное, где мотоцикл в это время находился, посмотрим, что запоет. А ты думаешь, не он? — Может быть, он. Может быть, нет. — Ты как Самедова. — При чем тут Самедова? С самого начала было ясно, что она того не запомнила. Хорошо еще, сейчас ничего определенного не сказала. Ей правда — как рыбке зонтик. А расхлебывать нам. — Не вижу оснований для уныния, — сказал Шахинов. — Самедова никогда не указывала точных примет, следовательно, не может изменить отношение к задержанному. Мы его продолжаем подозревать? — Да, — подтвердил Рат. — Подозрения подозрениями, а сворачивать розыск из-за одного задержанного я не позволю. До тех пор пока его виновность не станет очевидной, розыск будет продолжаться по намеченному плану. Что у нас с мотоциклистами? Поиск документальный опережает фактический. Мы уже знали: по учету ГАИ числится 207 машин искомого типа и добрые три четверти владельцев — молодежь. Но ведь это еще не всё, точнее, не все. В город ежедневно приезжают на работу жители из близлежащих селений и, главным образом, из Баку. Только на стоянке химкомбината выстраиваются десятки мотоциклов, и многие из них учтены не у нас, а по месту жительства. Шахинова информирует Мурсалов, а Рат ерзает, ему не сидится. Еще бы, ведь если задержанный ночным патрулем тот, кого мы ищем, дальнейшая возня с “мотоциклистами” — пустая трата времени. И вот вместо того чтобы уделить подозреваемому максимум внимания, Шахинов занимается распределением обязанностей между оперативными группами, дотошно классифицирует “мотоциклистов”, обсуждает методы предстоящей проверки. В заключение Шахинов обязывает руководителей групп через час представить ему график проверки мотоциклистов на ближайшие два дня. Как будто со вчерашнего вечера ровным счетом ничего не изменилось. — Может быть, мне в первую очередь заняться проверкой причастности задержанного? — не выдерживает Рат. Шахинов и глазом не моргнул, словно и вопроса никакого не было. Начальство имеет то преимущество, а может, ту уязвимость, что окончательное решение остается за ним. — Мартышкина работа, — ворчит Рат, составляя график. Так я и думал: комбинат достанется мне. Без крайней необходимости Рат не покажется там до тех пор, пока ранивший Кямиля не будет найден. Он, конечно, мне этого не сказал. Он сказал: — Объект тебе хорошо известен. Действуй! Но действовать на комбинате мне придется только послезавтра: сегодня — воскресенье, а завтра первое — праздничный день. Вот это номер, только сию минуту я соображаю: ведь сегодня канун Нового года. “Заискались” до того, что потеряли представление о времени. — С наступающим! — неожиданно для самого себя, говорю я. — Милая работка, — варьирует Рат, продолжая корпеть над графиком. Оказывается, не варьирует, оказывается, это — ответ на мое поздравление. Об этом я догадываюсь по следующей тираде Рата: — А мой сосед удивляется, почему я получаю столько же, сколько он — врач с тридцатилетним стажем. “Квалификация у нас, говорит, разная”. И ведь видит, что дома почти не бываю, а понять не может, что с его квалификацией мне уже не зарплату, а компенсацию в виде вечного покоя получать придется. Потом весь день до позднего вечера ушел у нас на установление алиби задержанного. Конечно, не в части злостного хулиганства: с этим все оказалось в полном соответствии с актом, составленным патрульными. К нападению же на Самедову и ранению Кямиля он не имел никакого отношения. Зато вечером пришло и радостное известие из больницы: кризисное состояние миновало. Сообщение это пришло как нельзя вовремя, вроде бы мы получили моральное право на хорошее новогоднее настроение. “Ну, что, товарищи, уволимся на один год?” — пошутил Шахинов. Потом — дорога в Баку длиною в год. Автомашину вел Шахинов, спокойно, сосредоточенно, без всякого намека на риск. Шоссе сгорбилось, а когда побежало вниз, чудесным миражем возник город. Казалось, это его сияние отражается в небе россыпями звезд. С новым годом, родной, с новым счастьем! Потом за дверью радостный возглас Марфутика — имен у него больше прожитых лет. — Очень он соскучился, — сказали мне. — И я тоже… Хлопнуло шампанское, и мы постарели еще на год. “А ты разве умрешь?” — как-то спросил меня сын. Приятно, когда хоть один человек на земле считает тебя бессмертным. Новогодняя ночь — короткая ночь.МОТОЦИКЛИСТЫ ХИМКОМБИНАТА
Весь вчерашний день, первый день Нового года, мы потратили на обход транспортных хозяйств, имеющих мотоциклы. Я работал по бакинским хозяйствам, так или иначе связанным с предприятиями “спутника”. Но ни мне, ни тем, кто находился здесь, в Каспийске, не удалось выйти на след мотоцикла, умчавшегося по бакинской магистрали вечером двадцать девятого декабря. Теперь остаются только владельцы. Местными жителями должна заняться группа Мурсалова, остальными — мы. — На комбинате проверь всех: и местных и чужих, — напутствовал меня Рат. — Сеид — святой[323] человек, но мы ведь ищем не совершившего наезд. Управление комбината начинает работу в девять. В пять минут десятого я вошел к начальнику отдела кадров. Маленькая комната, узкое ассиметрично расположенное окно забрано металлической решеткой. Несмотря на размер, комната темная; высоко под потолком горит нагая двухсотсвечовка. Пока товарищ Белоцкий рассматривал мое удостоверение, я с тоской косился на стенку из четырех канцелярских шкафов. И, как выяснилось, совершенно напрасно. Выслушав меня, он достал из ящика образцы пропусков и молча протянул мне. В них стояли четкие оттиски силуэтов автомашины и мотоцикла. — Учет у нас поставлен хорошо. Без такого штампа на комбинат в машине или на мотоцикле не пропустят. А стоянка для личного транспорта у нас на территории оборудована. Про стоянку я знал и без него. А вот хороший учет меня обрадовал. Через полчаса я имел список работников комбината, приезжающих на своих мотоциклах. После отсева, который я произвел уже без помощи кадровика, в нем осталось двадцать девять человек. Все с подходящими возрастными данными, у всех — мотоциклы с колясками. Я снова листаю папки. Белые, одинаковые листки по учету кадров. Пятеро кончили техникумы, двое — инженеры. Многие приобрели специальность в армии, некоторые работали еще до службы; двенадцать продолжают учебу. Родился, учился, служил….. родился, учился, работал, призван… Почти половина сменила несколько мест работы. Ну и что ж из того? Когда и не поискать, как не в этом возрасте. Мелькают перед глазами фотокарточки, одна, другая, третья, десятая. Большинство ребят длинноволосы. Обыватели на таких косятся: чего же ждать от него с такими волосищами? А ребятам — ничего, не мешают: ни работать, ни учиться, ни водить мотоцикл. И нам, милиции, их волосы не мешают. Вон у Юры Саркисова какая шевелюра — Бобби Мур позавидует, — а ведь ни одному хулигану не спустит. Конечно, не всем они идут, некоторые просто утрируют моду, вот этот, например, обезьяной выглядит. Но ему-то самому нравится? Ну и носи на здоровье… Товарищ Белоцкий перестал обращать на меня внимание. Звонит, выходит, пишет — словом, занимается делом. Меня это устраивает. Не нужно притворяться, что углубленно изучаешь стопку трудовых книжек. Я давно их отложил в сторону. Ситуацию глупее для сыщика не придумаешь. Я хочу как можно скорее найти преступника. Я не хочу, чтобы он оказался одним из этих парней. Переворачиваю лист бумаги со списками и рисую завитушки. То ли дело хозяин кабинета: точно знает, как завести учетную карточку, оформить на работу, провести приказом перемещение по должности или повышение разряда. Все расписано, все четко обусловлено. Наверное, поэтому и почерк у него каллиграфический. Мысль, буква, слово, фраза… Всегда в строгой последовательности, ничего не прыгает: не обгоняет друг друга. Так и должно быть у хороших кадровиков, ведь они — бухгалтеры профессиональных возможностей. А мы — бухгалтеры человеческих душ. Запутанная бухгалтерия, редко в ней сходятся концы с концами. Я сижу и рисую завитушки. А ведь я тоже знаю, чем мне следует сейчас заняться. Мне следует поговорить с начальниками цехов, цехкомами, комсоргами. Я наверняка узнаю многое. Это не то, что официальные характеристики. Бывало, уже под стражей какой-нибудь дебошир, а ты про него читаешь: “Принимал активное участие в выпуске стенгазеты”. Здесь, на месте, в живых беседах, я, конечно, узнаю многое. Но в том и сложность нашей бухгалтерии, что даже это “многое” оказывается совершенно недостаточным. Допустим, кто-то лодырь и прогульщик. Можно подбивать сальдо? Черта с два. Лодырь и прогульщик, только в чужую квартиру, открой, не войдет. Легко сказать, проверь, способен ли на преступление? Для этого с человеком рядом пожить надо. Нет, не нравится мне такая проверка, не даст она ничего реального, только людей взбудоражит. Слухов и сплетен потом не оберешься. А нам нельзя от себя людей отталкивать. Но без широкой проверки, раз нет подозреваемого, не обойтись. Только что проверять, вот в чем дело. Выбрать фотокарточки и предъявить Самедовой? Все-таки фотокарточки- реальность. Объективно — да, но в данном случае получится проформы ради: она его и в натуре не запомнила. Ка-миль пришел в сознание, но, как выяснилось, нападавшего тоже не разглядел. Факт пребывания на работе — реальность. Значит, можно установить, кто из списка работал двадцать девятого во вторую смену. Это я сделаю. Стоп. Самому этого делать не следует. Товарищ Белоцкий… Подтянут, аккуратен, от него веет порядком и основательностью. Не подведет. — Сделаю, — сразу сказал он. — Хорошо бы, как со списком мотоциклистов, побыстрее. Не получится? Он задумался, потом так же жестко повторил: — Сделаю. По выражению его лица я понял: понадобись такая оперативность для меня лично, не сделал бы. Так прямо бы и ответил: не смогу. Но тут — не для меня. Я только что слышал, как он за стенкой разговаривал со своими инспекторами. Речь шла о самочувствии Кямиля. Ни о чем не спрашивая, он переписал фамилии и тут же ушел. Я остался наедине со своими завитушками. Их стало слишком много, теперь они мне мешают. Я переворачиваю лист, перед глазами опять список. Судя по специальностям, он уменьшится на пять-шесть фамилий, не больше. А что делать с оставшимися? Не знаю. Не ладится у меня с проверкой. Системы не получается. Такой, которая либо последовательно исключала непричастных, либо прямо привела к виновному. Только такая система проверки оправдана. В моей — нет внутренней связки. А у других она есть? Тоже нет. Мы все в равных условиях. Так ли уж в равных? Неизвестный мотоциклист действительно как с неба свалился, но только не для меня. После сообщения Колесова я словно о старом знакомом услышал. Вор-мотоциклист сидел в моем воображении со дня встречи с Егором Тимофеевичем. Как я собирался его разыскивать? Такой, казалось мне, обязательно будет хвастать перед приятелями, подбивать кого-нибудь в напарники. Полез-то он в первую попавшуюся квартиру. Поднялся до пятого, последнего этажа, — типичный прием случайного вора, вора “на час”, который, не зная обстановки, стремится обезопасить себя от нежелательных встреч, — позвонил и, убедившись в отсутствии хозяев, отжал дверь. В результате взял ерунду, да еще чудом разминулся с Игорем Саблиным, откуда ему было знать, что тот в лаборатории укороченный день работает? Я думал: не будет он больше рисковать один, начнет подыскивать дружков и… попадется. А если он решил продолжать в одиночку, только тактику изменил? Не наобум, а присмотревшись и хитро рассчитав и будущую выгоду, и вероятность риска. Маленький магазинчик, но ассортимент товаров в нем — универсамовский. Там можно купить сахар, масло, колбасу, халву, вино, консервы, чайную соду, мыло, зубную пасту и даже крем для обуви. В таких невзрачных с виду магазинах торговля бойкая, значит, и выручка солидная. А инкассаторы не приезжают, и напасть предстоит всего-навсего на женщину, да еще в идеальных для нападения условиях. Так оно и получилось, если бы не дружинники. Они ему все смешали. Тут не до денег, тут ноги унести. А преследователь не отстает, а до мотоцикла рукой подать, если им не воспользоваться, он выдаст быстрее любого соучастника. В такой ситуации третьего не дано: либо отсидеть за разбой, либо попытаться спастись, совершив новое преступление. Он выбрал второй вариант. Едва ли в ту секунду он думал о последствиях удара. Ему нужно было задержать дружинника, но ведь удар мог прийтись на сантиметр ниже. Квартирная кража, разбой, попытка убийства… Пусть не убийства, пусть решимость избежать наказания любой ценой, вплоть до убийства. Последствия удара для жертвы были ему безразличны, ему важен был результат для себя; остановить погоню наверняка. Поэтому он бил в голову. Вор “на час” оказался грабителем и потенциальным убийцей? “В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань…” Кража и разбой — составы преступлений, что и говорить, далеко отстоящие. А может быть, когда-то были далеко отстоящими, и мы продолжаем по инерции считать их таковыми? Давно уже канули в небытие все эти “домушники”,“медвежатники”, да и вообще исчезает тип преступника-профессионала. Нам все чаще приходится иметь дело с преступниками “на час”. Именно они как раз и способны сегодня нахулиганить, завтра взять то, что плохо лежит, а послезавтра… Послезавтра, если их не остановить, могут и на чужую жизнь посягнуть. И наряду с тем они где-то учатся, где-то работают, “состоят при деле”. В этой их внешней устроенности и заключается, по-моему, главная опасность. Они — “как все”, и эта способность к мимикрии одновременно и “защищает” и губит их. “Защищает” от контроля коллектива, наконец, общества в целом. Про таких обычно говорят: “Попал в дурную компанию”, или восклицают с недоверием, ахами, сожалениями… Но это уже на следующем этапе, когда отсутствие принципов, шарахание от одной цели к другой, незнание, да и нежелание соразмерить собственные возможности с потребностями, далеко не всегда только материальными, приводит их за черту, обозначенную уголовным кодексом. Случайно ли переходят они эту границу? Думаю, нет. Преступник “на час” — не случайный преступник по неосторожности или в силу какого-то исключительного стечения обстоятельств. Они знают, на что идут, знают, чего хотят, и умеют до поры до времени скрывать двойственность, полосатость своей жизни. Вот таким я и представляю себе его. Полосатым. Но чем это знание поможет наладить систему проверки? Ага, Белоцкий вернулся: я опять слышу его голос за стенкой. Его голос… А что, если?.. Сперва мысль кажется мне дикой. Но мой список уменьшился всего на пятерых, и мысль, как-то форсировать проверку не только этих двадцати трех, но и всех остальных местных владельцев мотоциклов, полностью завладела моим воображением. Первым моим намерением было посоветоваться с Кунгаровым. Однако еще до проходной я основательно поостыл. “Во-первых, — думал я, — нет уверенности, что Егор Тимофеевич помнит голос человека, с которым месяц назад обменялся несколькими фразами. Во-вторых, и так далее, сваливается куча вопросов, которые нужно заранее обдумать. Если я сам найду на них утвердительные ответы, мне удастся убедить Кун-гарова. Если нет… тогда и убеждать незачем”. Но прежде всего я решил поехать к Егору Тимофеевичу. До встречи с ним нет смысла не только с кем-то обсуждать, но даже обдумывать эту идею с голосом дальше. Егора Тимофеевича я застал во дворе. Он сидел на скамейке, недалеко от своего подъезда, в шинели с поднятым воротником и шапке-ушанке, скрывавшей добрую половину лица. Я и не узнал его, я догадался, что это он. Двор пустынен и тих. Ребятня в школе, а домохозяйки зимой на балкон не выходят, не то что на улицу. Ботинки на платформе скрадывают звук. Когда я заговорил, старик вздрогнул от неожиданности. — Здравствуйте, Егор Тимофеевич. Я умышленно не сказал ничего больше. Мы виделись, то есть разговаривали, неделю назад. Я замер, ожидая реакции. — Здравствуйте, здравствуйте… Вы ко мне или так, случайно? — К вам, Егор Тимофеевич. — Что-нибудь случилось? Какой-то вы сегодня озабоченный. “Радоваться рано, — подумал я. — Со мной была беседа, с ним — брошенные вскользь фразы”. — Случилось. Тот мотоциклист ограбил женщину, тяжело ранил дружинника. Оба мотоциклиста давно слились для меня в единый, цельный образ, но сейчас ловлю себя на том, что впервые сказал об этом вслух, да еще постороннему человеку. — Вот оно как… Раз ему судьба спустила, так он ее во все тяжкие испытывать. Закусил удила. Такой сам не остановится. Казалось, старик строго смотрит на меня. Я стоял перед ним как провинившийся новобранец. Наступила неловкая пауза. Верно, он угадал мое состояние, сказал: — Садитесь. Я послушно сел рядом. — Плохо вы воюете. Плохо. Не знаю, как я отнесся бы к такому замечанию, сделай его кто-нибудь другой. Не уверен, что оно показалось бы мне справедливым. — Як вам за помощью, Егор Тимофеевич. Не откажете? Шрамы сдвинулись: он улыбнулся. — Вы и сами знаете. Иначе бы не пришли. — Один неделикатный вопрос. Поверьте, не из любопытства. Вы меня сейчас сразу узнали или были какие-то сомнения? — Теперь понятно, какая вам нужна помощь. Я узнаю его по голосу. Вас ведь это интересует? Удивительный старик. “Но как объяснить свою уверенность другим. Тем, кто не знаком с Егором Тимофеевичем”, — думал я уже на улице. Прежде всего, какие сомнения могут возникнуть у третьего лица, не видевшего старика и не имеющего моей уверенности, скажем, у того же Кунгарова. Я старался быть предельно объективным, мысленно выдвигал самые каверзные возражения. “Узнавание по голосу убедительно, когда речь идет о близко знающих друг друга людях, — скажет Рат. — Как же можно доверять твоему свидетелю, вдобавок ко всему — инвалиду?” “Я всю жизнь прожил среди медиков, ты знаешь, — отвечу я. — Природа справедлива, она компенсирует порок высокой приспособляемостью организма. Глухие угадывают реплику по губам, их зрение намного острее нашего. Слепой живет в мире звуков, нам, зрячим, даже трудно представить себе — насколько высока чуткость его слуха. Это — общеизвестные факты”. “Расскажи о них Зонину, прокурору, судьям, может, и убедишь. Только согласятся они с тобой, как частные лица. Я ведь тоже с тобой не спорю. Но заметь: я, а не начальник уголовного розыска”. “Верно. Я и сам понимаю: с юридической точки зрения наше опознание не будет доказательством. Но нам важно найти виновника. Зонин может со мной не согласиться, а ты, именно как начальник уголовного розыска, обязан попробовать”. “Допустим, ты меня уговорил. Как ты все это представляешь осуществить практически?” “Очень просто. Сеид начнет проверять техническую исправность мотоциклов у всех, отобранных поисковыми группами”. “Откуда уверенность, что преступник обязательно окажется среди них? А если нет, сколько времени потратим даром?” “Не даром. Мы гораздо быстрее, чем всеми другими видами проверок, исключим большой контингент. Останутся случайные лица, Эпизодически приезжавшие сюда из селений и Баку”. “А если твой старик ошибется, и мы “исключим” преступника?” “Это — замечательный старик, Рат. Я уверен в нем”. И все вернулось на круги своя. Значит, по существу, основному возражению я могу противопоставить лишь свою субъективную уверенность в Егоре Тимофеевиче. — Ты что-то быстро закруглился с комбинатом, — удивился Par. — Еще быстрее, чем ты думаешь. Я — от Егора Тимофеевича. — Это еще кто? — Свидетель по краже у Саблиных. Тот, что первый “открыл” мотоциклиста. — Понимаю. Решил за ту нитку потянуть. Может быть, ты и прав, для таких совпадений наш город слишком мал. А что Егор Тимофеевич? — Замечательный старик. Сказал, что сумеет опознать вора по голосу. Рат задумался, однако убеждать его не пришлось. — Это легко осуществить в процессе технической проверки мотоциклов. В конце концов, с мотоциклистами нам так и так знакомиться поближе, — сказал он. Идею с новым опознавателем Шахинов встретил без энтузиазма, но возражать не стал.НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
К концу следующего дня ожидалась первая группа из числа отобранных мотоциклистов. За Егором Тимофеевичем я заехал заблаговременно. Встретил он меня по-деловому, сухо. Сборы его были недолгими. Он не спросил меня, куда мы едем, вообще ни о чем не спрашивал. В машине я пытался заговорить на отвлеченную тему, но понял: меня не слушают. За всю дорогу он только раз сказал: “Клапана подтянуть надо бы”. Мне открылось в Егоре Тимофеевиче новое качество, вернее, главное его качество, которое до сих пор проявлялось как бы завуалированно, подспудно. По моим наблюдениям, у каждого человека есть что-то главное, определяющее самую суть не характера даже, а личности в целом. Для Егора Тимофеевича это — глубинная, идущая не от форм проявления, а от органической потребности, серьезность к себе, к делу рук своих, в отношениях с людьми, во всем: от модели электромобиля до предстоящего свидетельства. Поэтому он сейчас так официален. Он выполняет не мою просьбу, он выполняет свой гражданский долг, таким, как понимал его всю свою жизнь. Такой не сболтнет наобум, не перешагнет через собственные сомнения. Такой свидетель не подведет. ГАИ расположена в автономном помещении, здесь же во дворе горотдела. Два сотрудника из команды Мурсалова будут проводить техосмотр, а он сам визировать результат. Таким образом, через его кабинет, в порядке очередности, пройдут все владельцы мотоциклов. Я еще раз попросил Сеида не увлекаться самому, насколько возможно “выговорить” собеседника. К началу техосмотра мы с Егором Тимофеевичем заняли позицию в смежной с мурсаловским кабинетом комнате. Здесь помещался учетный сектор, комната соединена с кабинетом дверью с окошечком. Оно и обычно остается открытым — простое, но надежное средство быстрого наведения необходимых справок. Так мы и работали, как говорят моряки, на параллельных курсах. В первый день проверки Сеидом, как и мной, по-видимому, руководило чувство настороженности. Ведь подсознательно мы подготовились в одном из посетителей вдруг обнаружить преступника. Сеид был сдержан и строг. Однако уже на другой день к нему вернулась обычная доброжелательность. Он не только журил нерадивых владельцев, но и давал практические советы по устранению неполадок, пускался в объяснения причин тех или иных неисправностей, приводил факты трагических последствий их несвоевременного устранения, в общем, стал самим собой — Сеид меллимом, начальником ГАИ, майором милиции Мурсаловым. Чтобы ему напомнить о существовании в моем лице уголовного розыска, мне приходилось иногда покашливать. Собственно, на третий день я и сам перестал избранно реагировать на голоса, звучавшие в кабинете, с удовольствием слушал комментарии Сеида к результатам каждого техосмотра. Только Егор Тимофеевич остался по-прежнему собранным и внимательным, а ведь тема застенных бесед куда ближе ему — автомеханику, нежели мне, водителю-дилетанту. По-моему, он ни разу не расслабился, ни на минуту не забыл, что за стеной в любой момент может появиться тот. Между тем наша проверка и для Кунгарова стала лишь одним из направлений поиска. В первый день работы с участием неофициального опознавателя Рат дважды появлялся в учетном секторе. Он смешно вытягивал шею, прислушиваясь к голосам в кабинете, довольно косился на неподвижно сидящего старика. А вчера вечером встретил меня в своей обычной манере: — Подслушиваешь? Ну, ну… Конечно, Рат и сейчас не перестал сомневаться в пользе нашей проверки. Просто вначале он, как и я, в глубине души надеялся на удачу, а она все не приходила. Впрочем, Рату не до абстрактных мечтаний. Он занимается “мотоциклистами-дикарями”. Так мы назвали тех, кто не живет и не работает в городе. Даже выявление их эпизодически здесь появлявшихся, представляло большую сложность. Это характерно для Рата. Он всегда берет на себя самую трудную задачу. Лишь бы она не ущемляла его самолюбия, как, например, появление на химкомбинате до поимки преступника. — Вот, — сказал Рат, — на рынке в числе других “не наших” по воскресеньям появлялся молодой высокий мужчина, продавал сапоги, куртки, шарфы. Скорее всего, спекулянт, но проверить надо… На Апшеронской улице несколько раз видели на мотоцикле с коляской высокого, чернявого парня в спортивной куртке. На него вышел Агабалян — он работает в контакте с участковыми, — теперь выясняет к кому и когда тот приезжал… Еще один, подходящий по возрасту и приметам бакинец систематически появляется у “Каспрыбстроя”: там у него девушка, по имени Надя, работает нормировщицей… По твоим каналам что-нибудь есть? По моим каналам ничего не было, хотя все эти дни я занимался не только “подслушиванием”. Я вспомнил о вчерашнем разговоре с Кунгаровым, потому что мне как раз и предстояло заняться этой Надей из “Каспрыбстроя”. Егор Тимофеевич, как обычно, сидел рядом с совершенно непроницаемым лицом. Я уже не думал об удаче здесь. “Удачно, — думал я, — что техосмотр начался с утра для работающих сегодня во вторую смену. Значит, вторая половина дня останется целиком в моем распоряжении. Недурно, если Надю и сегодня встретят на мотоцикле. Чем раньше я их увижу, тем меньше времени уйдет на эту парочку, и, если все в порядке, пусть амурничают на здоровье”. Вдруг я заметил, что Егор Тимофеевич поднялся. В следующее мгновение он положил руку на мое плечо, а другой указал в дверное окошко. — Он? — еще не веря, шепотом спросил я, и старик утвердительно кивнул. Техосмотр подходил к концу, мысли мои были заняты “Каспрыбстроем”, и я даже не слышал чужого голоса там, в кабинете. Теперь надо было действовать быстро, но осторожно, чтобы преждевременно его не спугнуть. Я решительно распахнул дверь, одновременно приготовившись сказать обусловленную фразу: “Как у тебя с транспортом, Сеид, нужно срочно?..” Но ничего такого не сказал, потому что в кабинете, помимо Мурсалова, находился только Алеша Наджафов.ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ…
— А ты что здесь делаешь? — вяло, чтобы что-то сказать, спросил я. Я знал, что здесь делает Алеша. — Мне в ночную, пришел помочь. — На сегодня закончили, — сказал Сеид. — Ты что, не выспался? Это не Наджафову, это мне. Верно заметил. У меня, когда я мысленно отвлекаюсь, почему-то сонный вид. Рухнула моя надежда на Егора Тимофеевича. Ошибся он. А ошибся сейчас — мог ошибиться и раньше. Это я виноват: переоценил возможности старого человека, взвалил на него непосильную ношу. Он и не выдержал. Как говорят в таких случаях: добросовестно заблуждался. Может показаться странным, почему я сразу ударился из одной крайности в другую, не поверил своему свидетелю. Ведь с точки зрения внешних обстоятельств Наджафов вполне отвечал нашему представлению о разыскиваемом. Значит, теоретически мог оказаться преступником. Однако между теоретически возможным и жизненно реальным существует такая же разница, как между детективом и милицейской практикой. Хороший детектив как блестящая математическая задача с неожиданным финалом: искомой величиной вдруг оказывается не X, а известная с самого начала С. Я люблю детектив, но в жизни мне не приходилось встречаться с “неожиданными” преступниками. В жизни мы боремся не с абстракциями, а с людьми. Тут уж самые прочные логические построения не убедят меня в том, что Алеша Наджафов мог пойти на воровство. И не только потому, что он хороший производственник и дружинник. И в ряды дружинников проникают правонарушители, и хорошая работа не гарантирует от злого умысла. Тогда почему же? А я не могу объяснить. Я могу только предполагать, что в этом — феномен человеческого восприятия. Когда-нибудь наука разложит его по атомам и точно объяснит физический смысл, а мне добавить нечего. Я вернулся к старику и прямо сообщил об ошибке. — Его голос. Уверен, его. — Бывают и очень похожие, Егор Тимофеевич. Тут легко ошибиться. Старик расстроился. Совестно, что я втянул его в этот эксперимент, но теперь уж ничего не поделаешь. “Уж лучше бы он и сегодня никого не узнавал, — думал я, глядя вслед удалявшейся автомашине. — С таким настроением и в “Каспрыбстрое” не много наработаешь”. Подошел Алеша Наджафов, улыбнулся — в глазах словно кофе разбавили молоком. — О чем задумались? — И сам же отвечает: — Знаю о чем. Что за работа? Тяжелая работа. Дома, наверное, с Нового года не были. — Ничего, Алеша, дом никуда не денется. — Конечно, дом — не человек, где стоял, там и будет стоять. На мгновение его лицо темнеет, но тут же опять освещается белозубой улыбкой — будто облачко пробежало. — Пойдемте к нам. Я утром такой бозбаш[324] сварил. Музыку послушаем. У вас же все равно перерыв. “Может, действительно, чем в столовую идти? Отвлекусь…” А он, видя, что я раздумываю, продолжал уговаривать: — Честное слово, пойдемте. Сегодня я, правда, без мотоцикла, но туда напрямик за семь минут дойти можно. При дневном освещении домик Наджафовых выглядит гораздо хуже. На всем — печать запустения, неухоженности; во дворе, видимо на месте бывшего розария, пожухшие кусты приткнулись вкривь и вкось. В них копошится старик, что-то стрижет большими садовыми ножницами. — Больной отец, совсем больной. Ножницы тупые, специально не точу. Не может без работы, пусть, думаю, возится. Совсем как ребенок. Потом мы ели янтарный бозбаш, а с кухни доносилось по-сапывание чайника. — А чай пойдемте сюда пить. — Алеша распахнул дверь в комнату поменьше, такую же уютную и чистенькую. — Музыку послушаем. — Он протянул мне транзисторный приемник: — Японский. Любую станцию чисто берет. Он ушел за стаканами и чайником, а я хотел присесть на кушетку и вдруг увидел на ней тигренка. Плюшевого, чернополосого тигренка с длинными не по возрасту усами. Наши головы забиты биотоками. Задолго до ученых этот факт установила народная мудрость, ведь говорят же: “Из глаз искры посыпались”. У меня ничего не сыпалось, но в голове словно электрические разряды, мыслями их, во всяком случае, не назовешь. Когда Алеша вернулся, я все еще стоял посередине комнаты с транзистором в руках. — Зачем не включили? Вот, смотрите, пустого места не будет. Чуть повернешь, музыка. Не любите? — Люблю, Алеша. Где ты такой достал? Это был уже не праздный вопрос. Я отчетливо вспомнил: японский транзистор фигурировал в списке украденных вещей: по бакинской краже на Восьмом километре. — Измук, как увидел, тоже сразу спросил. Где мне достать? Нуришка купил, в комиссионном, большие деньги стоит. Мне на время дал. Добрый он. Пока послушай, сказал, когда надоест, вернешь. — А тигренок тоже его? — Как догадались? — искренне удивляется Алеша. — А-а-а, просто шутите. Нури о машине мечтает. Когда будет, за стекло повесит. Игрушка есть, машины нету. В Алешиных глазах точно всплеск молока. Он заглядывает мне в лицо, приглашая посмеяться над причудами своего мечтателя-брата. Но мне не до смеха. Мне вспоминается: “Дядя, хде мой Усатик?” И еще возглас старика: “Нури! Приехал, иди в дом”. — Значит, игрушку тоже на время, пока машины нет? — Отчима стесняется. Смеяться будет: “Насос купил, на велосипед денег не хватило”. Вот оно как получилось! Не ошибся Егор Тимофеевич, голоса у братьев одинаковые. Без труда выясняю остальное. Мотоцикл Нури подарил отчим, а тот продал его брату, в рассрочку. Ему машина нужна, но пока пользуется и проданным мотоциклом. Редко, но берет, иногда на несколько дней. И вчера мотоцикл у Нури остался; Алеша ездил мать навещать. Восьмилетку Нури кончил, сейчас где-то работает. “Но вроде не каждый день. Не знаю, не поймешь его”, — сказал Алеша. Вот такие пироги. Я, обжигаясь, пью чай. Красивый чай, вишневого цвета. Что мне делать с тобой, Алеша? Как добавить к твоим несчастьям еще одно? Скоро все узнают, что вор и грабитель — твой брат. Не избежать и тебе злословия, каждому всего не объяснишь, рот не закроешь. А ты сидишь и доверчиво поглядываешь на меня своими кофейными глазищами. Если я промолчу, ты подумаешь потом, что я не поверил в твою честность, умышленно скрыл от тебя правду. Может быть, спросить напрямик: как бы ты поступил с человеком, который за кольцо и часы чуть не убил твоего товарища, который предал отца и родного брата, превратив отчий дом в место хранения краденого, который продал тебе мотоцикл и потом использовал его для преступлений? Я знаю, что ты ответишь, настоящий комсомолец, настоящий человек, не бросивший неизлечимо больного отца, не соблазнившийся материальными благами новой семьи. И все-таки он — твой родной брат, тот, кого ты называешь Нуришкой. Имею ли я моральное право подвергать тебя такому испытанию? Думай, Алеша, потом обо мне как угодно. Моя совесть чиста: я не поверил свидетельству Егора Тимофеевича, я не поверил своим глазам, но я никогда не скажу тебе об этом, как не скажу сейчас, что еду за твоим братом, и вещи, которые я случайно увидел здесь, сегодня же будут изъяты, станут уликами. Я — сыщик, Алеша, и для меня твой Нуришка — “полосатый”, тот, кого я искал. Все как будто правильно, но словно какая-то тяжесть придавила меня к стулу, и охотничий азарт пропал. Я понял, что так не уйду, что парень, сидевший рядом, для меня сейчас важнее сотни “полосатых”. Я — сыщик? Да нет, чего уж рядиться в чужие одежды. Я — сотрудник милиции, а если точнее — отдела внутренних дел Исполнительного комитета депутатов трудящихся. Теперь, когда преступник найден, главным нашим внутренним делом является судьба Алеши Наджафова. Я должен, я просто обязан помочь ему выстоять. А в чем сейчас может заключаться моя помощь, как не в правде? — Двадцать девятого декабря мотоцикл тоже находился у Нури? — спросил я. — Двадцать девятого?.. — удивленно повторил Алеша и, еще продолжая по инерции высчитывать дни, вдруг побледнел: уяснил смысл вопроса. А взглянув на меня, понял, что в ответе нет необходимости. Он не сказал ни слова. Только по глазам — они потемнели и от этого стали словно бездонными — можно было понять всю меру несчастья, так неожиданно свалившегося на него. Гнетущая пауза продолжалась долго, очень долго. Я мог бы многое сказать ему, но разве сейчас он нуждался в чьих бы то ни было словах? — Запишите адрес, — наконец сказал он. — Вы и без меня найдете, я знаю. Хочу, чтобы вы нашли его быстрее, чем я. Он вышел меня проводить. — Будь здоров, Алеша. Я тоже хочу, чтобы ты знал: всегда к тебе будут относиться с уважением и Кямиль, и другие товарищи с химкомбината, и мы все — твои друзья в милиции. И еще прошу: не предпринимай ничего сам. Сгоряча он может натворить все что угодно. Я миновал заборы и на первой же новой улице чуть не попал под мотоцикл. Родной мотоцикл с синей каймой по бокам и Эдиком в седле. — Своих не давлю! — кричит он, резко затормозив. Я с удовольствием плюхаюсь в люльку: — Куда это ты разогнался? — Вышел я на одного типа. Видели его на этой улице, но приезжал он, оказывается, на Вторую Поперечную. Сейчас я адрес раздобыл. Я взглянул на табличку: ну да, Апшеронская. Та улица, о которой говорил Рат. — Поехали в отдел, Эдик. По твоему адресу я только что побывал. — Да ну?! Старик сработал? — Не обижайся, дважды рассказывать сил не хватит. Потерпи до отдела. Потом мы ехали уже в машине по бакинской магистрали. Впереди ссутулился Рат. — Вот подлец, — кажется, пятый раз повторил он. — Дома не будет, весь город переверну, а возьму его сегодня. Переворачивать город не понадобилось. Все произошло неожиданно и быстро. Едва мы вылезли из машины у нового девятиэтажного дома на Советской улице и Эдик, окинув его оценивающим взглядом, одобрительно сказал: “Экспериментальный…” — с нами поравнялся выезжавший со двора на улицу мотоциклист. Я узнал его. И никаких погонь с глубокими виражами на поворотах. По нашему сигналу он тут же остановился, соскочил с мотоцикла: верно увидав синеполосую автомашину, принял нас за работников ГАИ. Когда же понял, кто перед ним, попробовал улизнуть на “своих двоих”, но… врезался в Эдика. Немедленный обыск принес поразительный результат. В кармане куртки: бешбармак и женские золотые часы. — Самедовой, — сказал Эдик. — Даже ремешок не снял. “Неужели и их хотел отдать на хранение брату? — подумал я. — Мол, для будущей жены купил, а пока пусть у тебя полежат, а то отчим смеяться будет”. — Опять к нам в гости навострился? — спросил Рат. Нури стоял с опущенной головой, а тут вскинулся, уколол ненавидящим взглядом: — Сами знаете, зачем еду. По телефону одно говорил, а сам продал. Вот этого мы как раз и не знаем. Абракадабра какая-то, но пусть думает, что и она нам понятна. Несколько наводящих вопросов, полунамеков, и, пока мы едем обратно, выясняется причина нашей неожиданной встречи. Нури позвонил Хабибов, сказал, что узнал его в грабителе, но пока никому не сообщил об этом. Нури, конечно, перепугался, предложил встретиться, “потолковать”. Место встречи — наш городской пляж. Туда Нури и спешил, приготовив для объяснений два аргумента: золотую подачку и кастет. По мысли этого негодяя, переговоры должны были показать, какой из аргументов придется пустить в ход. Всего этого, конечно, он нам не объяснял, но догадаться нетрудно. Значит, и Измуку, помимо меня и Эдика, каким-то образом удалось отыскать настоящего виновника. “Каким-то”, потому что узнать его он не мог. Скорее всего, с помощью все того же, ничего не подозревавшего Алеши. Тут Измуку было гораздо легче, чем мне: они с Алешей друзья, он знал о существовании Нури и раньше, оставалось сопоставить уже известные факты и уточнить детали. Наш торжественный въезд: автомашина с задержанным в сопровождении Эдика на наджафовском мотоцикле взбудоражил горотдел. В окнах и здесь, во дворе, — знакомые все лица. — Теперь Зонину работать, — сказал Рат, вернувшись от Шахинова. — Как насчет Алеши, не забыл? — Конечно, нет. Шахинов специально попросил Зонина, чтобы произвел обыск только в Баку; здесь Алеша сам передаст ему все вещи брата. — Я за Измуком. — Поедем вместе. Этого у Рата не отнимешь: когда чувствует себя виноватым, стремится загладить вину сам и как можно быстрее. У самой машины нас “перехватывает” Леня Назаров. — Ну и чутье у этих журналистов, позавидуешь, — усмехается Рат. — Ты мне позарез нужен, — сказал я. — Быть нужным — мое хобби, старик. Выкладывай. — Садись с нами, расскажу по дороге. Рат сразу понял, для чего мне понадобился Леня, и, едва я кончил, сказал ему: — Тут действительно нужен ты, точнее, Н. Леонидов. Не можем же мы кричать на каждом перекрестке о полной непричастности Алеши. — Да и не только в этом дело. (Леня по-менторски посматривал на нас сквозь толстые стекла очков.) Тут судьбы разные. Так сказать, дороги, которые мы выбираем. Если его не остановить, это будет надолго, а мне нужен конкретный ответ. — И разные судьбы, и дороги — все уже было. Ты-то что дашь? Леня задумался, по обыкновению, ненадолго: — Выдам очерк. Брат — однофамилец. При виде одинокой фигурки на огромном, пустынном пляже у меня щемит под ложечкой. Ведь он бы его убил. Не остановился бы и сегодня. Руки, вытянутые вдоль бедер, сжаты в кулаки. Мы подъехали так быстро, что Измук не успел изменить своей воинственной позы. Только отчаянная решимость в липе буквально на наших глазах сменяется напряженным удивлением. — Садись, мушкетер, Нури не приедет, — говорит Рат. — Ну вот, опять кипит. Перестань, а то шапка начнет подпрыгивать. Рат обнимает его за плечи, ведет к машине. Оказывается, у Измука не было окончательной уверенности, просто сильно его подозревал. — Если б он на меня бросился, значит… — Эх, Измук, Измук… Разве так можно: “Если б бросился”? Он и бросился бы, а что это для тебя означало бы, для… безоружного? Мысленно я добавил еще: “Такого щупленького, с маленькими смешными кулачками”. — Я самбо знаю. Среди ночи разбудите, любой прием сработаю. — И, понизив голос: — А в тот вечер я… когда Кямиль сразу упал… Я — Растерялся я… Сам не знаю, как получилось… Потом я… — Ну, раз и самбо знаешь, — перебил Рат, — поступай в милицейскую школу, сыщик из тебя наверняка получится. Рат развалился на сиденье огромным сытым котом: только что не мурлычет от удовольствия. Когда проезжаем но Морской, оборачивается всем корпусом к нам: — К Кямилю не сегодня-завтра пускать начнут. Хотите заранее знать, какой у нас с ним разговор получится? “Ну вот, Кямиль, ты жив, здоров, и скоро на свадьбе гулять будем. А мы уж думали, табличку на Морской менять придется”, — скажу я. “Какой такой табличку?” — удивится он. “С названием. На твое имя переделывать”. — “Ты мне такой вещь желаешь, да? Ты мне такой враг, да?” — “Ну не сердись, Кямиль, пошутил”. — “Ай, Кунгаров, совсем большой вырос, а шутишь, как ребенок”. Ты запиши, Леня, потом убедишься, слово в слово угадал. Ну что, по домам? Нет, я сейчас домой не поеду. За мной еще один долг. Мне надо к Егору Тимофеевичу. Сегодня же.
Альберт Валентинов · ЗАКОЛДОВАННАЯ ПЛАНЕТА (Фантастическая повесть)
БАЗА
— Ну, не пугайтесь, не пугайтесь, они вовсе не страшные. — А я и не пугаюсь, — независимо сказала Ирина, отчетливо сознавая, что лжет. У нее побледнели щеки и голос подозрительно дрожал. Они стояли в узком коридоре, стены которого резали глаз своей необычностью: были из настоящих деревянных досок. Грубо обструганные, со следами рубанка и вдавленными зрачками гвоздей, доски уходили в перспективу, в новый, незнакомый, таинственный мир. Сквозь дверь, тоже деревянную, со старинной ручкой в виде скобы и железными фигурными петлями, будто взятыми напрокат из музея древней культуры, просачивался невнятный рокот голосов, смех, всплеск музыки. Чувствовалось, что там большое помещение и много народу. Профессор Сергеев сделал приглашающий жест и отступил на шаг. Ирине ничего не оставалось, как открыть дверь. Непроизвольно сделав глубокий вдох, как ныряльщик перед прыжком, она схватилась за ручку и толкнула, потом еще, еще… У нее задрожали губы от сумасшедшей мысли, что дверь перед ней не откроется. — На себя, — тихонько подсказал Валерий Константинович. Ирина мысленно обругала себя за растерянность. Ведь так просто было догадаться, что эта дверь открывается только в одну сторону. Что подумает о ней начальник отряда? Надо немедленно взять себя е руки. Но брать себя в руки было уже некогда. Сергеев наступал сзади, и она волей-неволей шагнула вперед, растерянная и неподготовленная. Перед глазами замелькали какие-то темные полосы, голубые пятна свитеров, чьи-то удивленные лица. Твердая рука профессора подталкивала ее на середину, и Ирина двигалась почти не дыша, судорожно хватаясь за спасительную мысль, что пора, наконец, взять себя в руки. Их заметили, и шум постепенно стих. Цивилизаторы стягивались к середине зала, с интересом разглядывая незнакомку. В свою очередь, Ирина смотрела во все глаза, стремясь схватить главное — то, что отличало их от прочих смертных. — Рекомендую: Ирочка-астробиолог. Прибыла на Такрию со спецзаданием. Ирина покраснела. Такого “предательства” она от Сергеева не ожидала. Разумеется, она с детства усвоила, что отряд — это дружная семья героев, каждая секунда жизни которых — подвиг. В такой семье меньше всего отдают дань условностям. Так что ни о какой “Ирине Аркадьевне” не могло быть и речи. Но все же рекомендовать уменьшительным именем, как школьницу… Пусть это даже здесь принято. Но ничего не поделаешь. Пришлось и самой сконфуженно засмеяться, а то еще посчитают за обидчивую дуру. Все-таки цивилизаторы… Правда, улыбки вроде доброжелательные, но кто их знает… Как ни была Ирина растеряна, а может, именно поэтому, она успела мгновенным взглядом обежать клуб. Ну и ну, сплошной первобыт! То, что поражало еще в коридорах Базы, здесь было доведено до предела. Стены из огромных, небрежно ободранных стволов, даже сучки не заглажены. Низкий дощатый потолок распластан на могучих, почерневших от времени балках, с которых свисают допотопные электрические светильники. Небольшие окна с распахивающимися ставнями и даже, кажется, настоящим стеклом, судя по тому, как искажаются верхушки далекого леса. Стилизация на грани безвкусицы. Ирина вспомнила многочисленные фильмы о Такрии. Ясно, что режиссеры, создавая в павильонах здешнюю обстановку, щадили вкусы зрителей. А может, не имея возможности видеть натуру (сюда никого не пускают), они просто фантазировали и фантазия оказалась беднее действительности. Кстати, а где же грубая деревянная мебель? Где шершавые столы, скамейки без спинок, кособокие табуреты? Тут режиссеры явно переиграли. Повсюду вполне современные мягкие кресла и диваны, а столы так даже полированные. Видели бы это молодые энтузиасты! “Наверное, скамейки и табуреты отправили на Землю в утешение киношникам”, — насмешливо подумала Ирина, радуясь, что не потеряла способности подмечать мелочи. Это слегка успокаивало. И еще один предмет привлек ее внимание. На стене, среди раскрашенных диаграмм, висел прибор непонятного назначения — вытянутая шкала на сто делений со световой стрелкой-зайчиком. Зайчик уткнулся в цифру “четыре”. Шкала была очень большой и позволяла заметить, что белое пятнышко чуть вибрирует. Значит, прибор работал. Ирина вспомнила, что такой же прибор, только маленький, находится в отведенных ей комнатах, и второпях она приняла его за термометр необычной конструкции. Теперь она поняла, что ошиблась, но раздумывать, для чего это создано, было некогда. Вот сейчас кто-нибудь произнесет первое слово, и тогда… От бильярдного стола в дальнем углу оторвался цивилизатор гигантского роста и устрашающего размаха плеч. Его круглое, по-детски румяное лицо с чуть вздернутым носом было обрамлено квадратной рамкой темно-рыжей бороды, удивительно гармонировавшей со всей этой первобытно-современной обстановкой. Под густыми бровями искрились ярко-голубые озорные глаза. Слегка поводя плечами, он прошел через толпу, как раскаленный гвоздь сквозь комок снега. В левой руке гигант держал кий, потемневший от частого употребления, правая была испачкана мелом, и он небрежно протянул локоть, который Ирина, поколебавшись, осторожно пожала. — Василий Буслаев, в миру Шкипер или Пират, это уж на чей вкус, — просипел он штормовым басом. — Имею вопрос, девушка. — Да? — Ирина насторожилась. Такое вступление, а особенно тон, которым это было произнесено, не сулили ничего хорошего. — С какой стороны астробиология касается такриотов? Так и есть, вопрос был с подвохом, потому что по лицам окружающих пробежали иронические улыбки. Ирина мысленно собралась в комок. Заметив, как свирепо оглядывается верзила, подумала, что улыбки, возможно, относятся и не к ней, но не мешало быть наготове. Интуитивно, как всякая женщина, она понимала, что следует осадить здоровяка, поставить его на место холодной иронией, но, как назло, нужные слова не приходили. — Ни с какой, — ответила она, стараясь, чтобы хоть в голосе сквозил холодок. — Меня такриоты не интересуют. Я прилетела исследовать плюющихся пиявок. Сказала и чуть было не взмахнула рукой, чтобы поймать вырвавшуюся глупость. Произнести здесь такие кощунственные слова: “Меня такриоты не интересуют”! Ирина готова была проглотить язык. — Та-ак! — протянул Буслаев и помрачнел. — Разве на Земле забыли, что Такрия закрыта для исследователей и что каждый, чтобы прилететь сюда, должен получить наше разрешение? — Для нее сделано исключение, — сухо сообщил начальник отряда, — и я считаю это правильным. Нужно быть скромнее. Не к лицу цепляться за обветшалые традиции, раз наши успехи… Он замолчал и пожал плечами. На этот раз помрачнел не только Буслаев. По многим лицам скользнула тень. Ирина, не зная, что думать, совсем растерялась и с ужасом чувствовала, что вот-вот заплачет. — Ну что ты тянешь из нее душу, рыжий бандит! — закричала вдруг миниатюрная брюнетка с розовым личиком и черными, как переспелые вишни, глазами. Она растолкала столпившихся людей и протянула Ирине обе руки. — Мимико. Можете называть просто Ми. Мы все очень рады вас видеть. Л на него не обижайтесь. Он самый старый член отряда и очень дорожит нашими привилегиями, а их часто нарушают… в виде исключения. Вот он каждый раз и устраивает водевиль. — Однако реакция новичков у каждого своя, и иногда нравится нам, иногда нет, — добавил низенький пожилой цивилизатор с добродушным, совсем уж не героическим лицом. Ирина не решилась спросить, понравилась ли им ее реакция. Она мечтала только об одном: чтобы не заметили, как дрожат у нее колени. Со всех сторон к ней тянулись руки — большие и маленькие, мягкие и шероховатые, — и она торопливо поворачивалась, пожимала их, внутренне напрягаясь, чтобы в любой момент парировать ехидную шутку или язвительное замечание. Никто, однако, и не думал поддевать ее. Произносились самые обыденные при первом знакомстве слова, будто она находилась не среди легендарных героев, а на факультетском вечере в Академии Космических Работ. И это больше всего выводило ее из равновесия. Часть людей в разных концах зала по-прежнему занималась своими делами. Мимико поймала взгляд Ирины. — Это такриоты. Потом познакомитесь. — Нет, почему же, — вмешался стройный, на редкость красивый, даже слишком красивый, по мнению Ирины, цивилизатор. Таким идеальным сложением обладают разве только статуи спортсменов в парках. В отличие от других, одетых в спортивные брюки и голубые свитера, на нем был отличный черный костюм, да еще с галстуком. И относились к нему с каким-то особым почтением. Цивилизаторы даже называли его не уменьшительным именем, как друг друга, а полным — Георг. Он говорил неторопливо, спокойно, отчетливо выделяя каждое слово: — Я считаю, что новый товарищ должен именно сейчас познакомиться с аборигенами планеты. — Он помолчал, прищурился и невозмутимо добавил: — Для полноты контраста. Кто-то весело фыркнул. “Разыгрывает или нет?” — мучилась Ирина, шагая за ним в конец зала. Уголком глаза приметила, что с ними пошло всего несколько человек. Остальные вернулись к своим занятиям. Пожалуй, все-таки не разыгрывает. Только подойдя вплотную к такриоту, она поняла, что это существо с другой планеты. Внешних различий не было. Может быть, только руки — могучие широченные лапы. К ним так и просился каменный топор. Но лицо было великолепное — правильное, изящное, с тонкими изогнутыми бровями под высоким и гладким, будто из полированного камня, лбом. Такие лбы бывают у детей, еще не столкнувшихся со сложностями жизни. Под голубым, как и у цивилизаторов, свитером переливались холмики мускулов. Но они не уродовали фигуру. Он был красивее всех присутствующих, даже красивее Георга. Но глаза… Ирина содрогнулась, когда он поднял голову. Глаза были как хрустальные шарики, наполненные темной водой. Такриот сидел за столом и пил чай с лимоном. Пол-литровая пиала тонула в его руке. Ирина ахнула, когда он, мгновенно содрав зубами кожуру, отправил в рот плод целиком и с хрустом начал жевать. У Ирины, глядя на него, свело челюсти судорогой, а он истово поднес пиалу к лицу и стал дуть, сложив губы трубочкой. — Кик! — В голосе Георга лязгнули властные нотки. — Познакомься с новым человеком. — Обернувшись, он пояснил: — Это мой подопечный. Кик обрадованно отставил пиалу, больно сдавил руку Ирины волосатыми лапами и быстро-быстро заговорил по-такриотски. В глубине его мутных глаз появилось что-то живое. — Кик! Она же не понимает по-твоему. Поздоровайся, пожалуйста, как тебя учили. Кик поскучнел, вытянулся в струнку и с трудом произнес: — Здрстуте… — Здравствуйте, — растерянно сказала Ирина. — Как поживаете? А еще что-нибудь вы умеете? Но Кик, совсем растерявшись под строгим взглядом Георга, покраснел и от смущения потянулся за новым лимоном. — Этот еще молодой, — усмехнулся Буслаев. — Только-только начал приобщаться. Познакомьтесь лучше с моим. Его подопечный орудовал у бильярда. Шары, как пули, летели в лузы. — Меткость необыкновенная и твердость руки сверх всяких похвал, бывший лучший копьеметатель племени, — пояснил Буслаев. — Только никак не избавится от пережитков индивидуализма: терпеть не может проигрывать. Последнюю фразу он произнес с явным огорчением. “Кого они мне показывают? — думала Ирина. — Это полудикари какие-то, а где же цивилизованные такриоты? Или все легенды об успехах цивилизаторов не более как легенды? Может, поэтому они никого и не пускают к себе?” Она была в замешательстве и не сумела этого скрыть. Было стыдно, до боли, до слез, как бывает стыдно человеку, обнаружившему, что он стал жертвой глупого и жестокого розыгрыша. Все здесь казалось ей мистификацией — и этот зал, и такриоты, одетые в костюмы цивилизаторов, и даже сами цивилизаторы. И, не сдержавшись, она крепко зажмурилась, а из-под ресниц предательски выдавились слезинки. Буслаев и Георг растерянно переглянулись, а профессор Сергеев, начальник отряда, ободряюще улыбнулся: — Не расстраивайтесь. С высоты вашего интеллекта и наивных представлений о нашей работе на это, конечно, трудно смотреть. Но если вы спуститесь с высоты, а это вам волей-неволей придется сделать, то увидите, что все, в общем-то, обстоит совсем не так скверно. К сожалению, вы поздно прилетели. Утром было совещание — обсуждение итогов работы. Стоило бы поприсутствовать. А пока у вас совершенно естественная реакция для новичка. Вы еще молодец, держитесь. Некоторые девушки в первый день (Мимико густо покраснела) просто ревели. — Я не знаю, — сказала Ирина, — я думала… — Что такриоты за двадцать лет у-ух как выросли! — насмешливо перебил Буслаев, поводя рукой под самым потолком, но Мимико сурово ткнула его кулаком в бок. — Пойдемте лучше ко мне, я вам все объясню, — сказал профессор. У него было правильное матовое лицо с мягким, словно приглушенным блеском серых глаз, предназначенных скорее скрывать движение души, чем быть ее зеркалом. Вместе с Ириной пошла Мимико, явно взявшая ее под свое покровительство, и Буслаев, присутствие которого было ей неприятно. Кабинет начальника отряда оказался обставленным с неожиданной роскошью, разумно предупреждающей любое желание. Уютная мягкая мебель, автоматически принимающая форму тела; огромный книжный шкаф с зелеными бархатными шторками; современный письменный стол, на котором стояла машинка, печатающая с голоса; саморегулирующиеся гардины на окнах — все это создавало почти земной уют. У окна стояла кровать с биотронным регулятором сна. Над ней та же непонятная шкала со стрелкой. Противоположную стену занимала огромная карта планеты. Зеленым были покрашены материки, синим — океаны. — Не верьте ей! — вздохнул Валерий Константинович. — Все это для самоуспокоения. На самом деле здесь должны быть сплошные “белые пятна”. Мы находимся тут. — Черенком трубки он ткнул в центр одного материка. — Вот эту область, в радиусе двух тысяч километров от Базы, мы достаточно разведали. Вот здесь, где красные флажки, работают наши люди в племенах такриотов. Сюда, сюда и сюда мы когда-либодобирались, но не закрепились: не хватило сил. И все это, — он развел руками, — едва ли тысячная часть планеты. Те такриоты, что вы видели, — это для души. Чтобы остаться человеком. Настоящая работа проводится в племенах… — Он запнулся, обдумывая какую-то мысль, потом продолжал: — К сожалению, термин “настоящая” не вполне правомерен. Вы долго проживете с нами, поэтому должны знать все. Товарищи стараются изо всех сил, но результаты… Какая-то заколдованная планета! Наши предшественники довольно быстро наладили работу. Правда, действовали они другими средствами, и такриоты делали прямо-таки фантастические успехи. И вдруг стоп! Как отрезало. Очевидно, на этом этапе цивилизация должна сделать зигзаг, но мы никак не можем определить — какой. Ищем, экспериментируем, но за последние годы стрелка почти не сдвинулась. Он кивнул на шкалу. Ирина, воспользовавшись случаем, спросила, что это такое. — Вы еще не знаете? А придется пользоваться. Изобретение любопытное, только на Такрии и можно встретить. Это цивилиметр, сокращенно — циметр. Название неуклюжее, зато точное. Показывает уровень цивилизации относительно земной. В каждом племени стоят датчики, посылающие через спутники наблюдения информацию сюда, на Базу. Здесь машина суммирует данные, выводя средний уровень. Цифра “100” — уровень земной цивилизации, вернее, тот уровень, который был на Земле до нашего отлета. Двадцать лет назад, когда только начинали работу, стрелка была где-то около тройки… В вашем мобиле тоже установят такой прибор. Но он будет показывать только уровень той группы такриотов, в зоне которой вы находитесь. Так что, прилетая в племя и выходя из машины, обязательно взглядывайте на него. — Понятно, — сказала Ирина, хотя ей ничего не было понятно. — А где пиявки? — Пиявки тут, — черенок трубки обвел кружок, — в Голубом болоте. Мы туда не ходим, хотя некоторые племена живут неподалеку. Когда Земля просит добыть очередную партию, посылаем двух человек. Буслаев вот ходил… Живыми пиявки не даются, вы знаете. — Знаю, — сказала Ирина. — Я понимаю, это страшно опасно. Профессор усмехнулся: — Это ничуть не опасно! Пиявки не убивают землян. Ни землян, ни гарпий. Вот такриотов — это да. — Но простите! — воскликнула Ирина. — Я сама читала… Буслаев захлебнулся от хохота, даже Мимико улыбнулась, только профессор остался на этот раз невозмутим. — Не советую черпать информацию из несколько… э-э… ненадежных источников. Я не хочу сказать, что там все неверно. Просто авторы использовали свое право на вымысел. Он отошел к столу, закурил трубку. Электрическая зажигалка вспыхнула ослепительной звездочкой, резкий запах неприятно защекотал ноздри: в трубке профессора был настоящий табак, на Земле уже вышедший из употребления. Сейчас курили “Бодрость” — тонизирующую и ароматную смесь. Буслаев тоже сунул в рот трубку, длинную и толстую, как палка. Ирина злорадно подумала, что это ему совсем не идет. — Пока располагайтесь, осваивайтесь. Завтра Мимико свезет вас на болото. Посмотрите, как и что, подумаете, и через неделю прошу представить план работ. Надеюсь, вы знаете, что Земля назначила меня вашим научным руководителем на планете? По его тону Ирина поняла, что пора уходить. — Здесь мы почти не живем, — рассказывала Мимико, когда они возвращались в клуб, — в основном в племенах. А сюда прилетаем раз в неделю принять ионную ванну для успокоения нервов, вдохнуть воздух цивилизации и получить очередной разгон за плохую работу. Ты не поверишь, как тяжело с этими… — Она замялась, подбирая нужное слово. — Почему же, я понимаю, — сказала Ирина. — Да ничего вы не понимаете! — взорвался вдруг Буслаев, топавший сзади. — Привыкли там, на патриархальной Земле: ах, герои-цивилизаторы! Ах, подгоняют историю! В фильмах нас эдакими гладиаторами изображаете. Идущие на Такрию тебя приветствуют! И благодарные такриоты вперегонки напяливают смокинги. Зачем? Мы же, в общем, такие же люди, ничуть не хуже вас. А нас ничтоже сумняшеся запрашивают, на сколько процентов повысился культурный уровень такриотов за отчетный период. Честное слово, прислали однажды такую бумажку. Потом, правда, Земля извинилась… Мимико хихикнула и, привстав на цыпочки, зашептала Ирине на ухо: — Его сегодня опять прорабатывали, вот он и дуется. Не вздумай принимать его причитания всерьез. Хороший парень, только очень уж неорганизованный. Ирине сделалось грустно. Мечты рушились, как песочный домик под колесами грузовика. Разумеется, только глупец может надеяться, что в жизни будет все так, как мечтается. Воображение всегда искажает перспективу, и действительность неминуемо вносит поправки, подчас весьма болезненные. Но чтобы Такрия… Она усмехнулась, вспомнив, как еще ребенком играла в цивилизаторов, да и сейчас вся молодежь мечтает работать в этом прославленном отряде. Академия Космических Работ завалена заявлениями. Шутка ли — помочь первобытным людям создать и сохранить свою цивилизацию, не дать им рухнуть с того крохотного пьедестала, на который они сумели вскарабкаться. Планета объявлена заповедником. Никто, кроме цивилизаторов, не имеет права здесь находиться. И не докажи Ирина в своей статье, что пиявки не подходят ни под один из известных видов животных, нипочем бы ей не получить разрешения… Как рвалась она сюда! Как мечтала влиться в семью этих отважных рыцарей! Как трусила при мысли об испытаниях, которым, судя по фильмам, подвергаются здесь новички: на Такрии работают только железные люди! И что же? Смирив протестующее самолюбие, она была вынуждена признать, что, если ise считать Буслаева, никто никаким испытаниям ее не подвергал. Встретили обыкновенно и вежливо стараются не обращать на нее внимание, чтобы дать ей освоиться. А рыцари… Ну какие они рыцари? Производственные совещания, отчеты, диаграммы… Ирина тряхнула головой, прогоняя непрошеную тоску, и незаметно вышла из клуба. Было нужно, просто необходимо остаться одной, замкнуться в свою раковину. До жилого корпуса надо было пройти метров семьдесят по желтой пластиковой дорожке, огибающей стоянку мобилей. Она поколебалась, потом сняла туфли и пошла напрямик по холодной влажной траве. Это тоже было в мечтах — пройтись босиком по чужой планете. Прошлась — и никакого впечатления. Присела на деревянную скамейку, сунула ноги в туфли. Вздохнула грустно. Здешнее солнце быстро скатилось за дальние горы, оковав их вершины золотыми венчиками. С противоположной стороны, дыша вечерней сыростью, подкрадывались синие тени. Вот они перевалили через смутную полоску леса на горизонте, бесшумно полетели по полю все ближе, ближе. Ирина поежилась, ощущая их липкое прикосновение. Пахло травой и еще чем-то неприятным. На небе проступали первые звезды, постепенно, как на проявляемой фотографии. Спутников у Такрии нет. Ночи здесь всегда черные. Холодная чужая планета! Как это профессор сказал — заколдованная… Вот он — настоящий ученый, ведет работу невообразимой важности, а ты… Ну почему обязательно пиявки? Разве они самые интересные из инопланетных животных? Нет. Гигантские амфибии Эйры, например, не менее привлекательны. Но они более доступны, не обороняются, поэтому ты взялась за пиявок. Выбрала самое трудное… Ну, а если начистоту? Разве ты не учитывала, что здесь все незнаемое, любая мелочь уже открытие? Легко и просто. Первооткрывательница! Непроторенной дорожки возжаждала! То-то! Настоящий ученый всегда выше этого. И если уж быть честной, хотя бы перед собой, то надо непременно лететь обратно, благо корабль еще не ушел. И дома найдутся дела. Земля еще далеко не вся изучена. Сидеть бы сейчас в лаборатории и чтобы за окном, насколько хватает глаз, плескались огни… Тени захлестнули ее с головой. В черном небе, прямо над Базой, выделялось угольное пятно, будто разинутая пасть гиперпространства, где нет ни времени, ни расстояний. Нырнуть бы туда и… Ирина вздрогнула и испуганно огляделась. Что за наваждение! Никогда еще не бывало, чтобы она занималась самобичеванием. И это тогда, когда она должна считать себя величайшей счастливицей, раз попала на Такрию. Сколько исследователей, умных, талантливых, завидуют ей! Какое-то движение неподалеку привлекло ее внимание. Ирина вгляделась. Две темные фигуры копошились в траве. Доносился низкий женский голос, ему отвечал детский писклявый. Говорили по-такриотски. Фигуры то ныряли с головой в синий туман, то снова показывались на поверхности, и тогда казалось, что в призрачной реке плавают сказочные безногие существа. Они скрепляли какие-то палки. Что-то у них не ладилось, палки все время рассыпались, и фигуры терпеливо начинали все сначала. Когда стало совсем темно, они разогнулись и устало направились к дому. Впереди широким туристским шагом двигалась крепкая коренастая девушка. У нее было смуглое решительное лицо с густыми сросшимися бровями. Ирина вспомнила, что ее зовут Патрицией. За ней по-охотничьи, след в след, скользила такриотка. Патриция села на скамейку рядом с Ириной. — Иди домой, Кача, съешь апельсин — и в постель, — сказала она. Кача недовольно фыркнула, но направилась к дому, бесшумно растворясь в темноте. — Что вы делали? — спросила Ирина, не потому, что это ее интересовало, а просто чтобы не сидеть молча. — Дом. Ну, хижину для такриотов. Модель, разумеется. Здешние племена живут в пещерах, а мы хотим научить их строить дома. Небольшие, на одну семью, чтобы ускорить распад первобытной общины. Вот учу Качу, а там, может, остальные заинтересуются. — Ну и как, получается? — Если бы! — Патриция закурила сигарету, устало откинулась на спинку скамьи. — Понимаете, очень просто заставить механически вызубрить весь процесс. И будут действовать но раз навсегда заданной схеме, не отклоняясь ни на йоту. Именно таким способом наши предшественники добились успеха. На том этапе стремились к количеству, которое переходит в качество. А сейчас задача другая. Они должны отчетливо представлять причину и следствие, конечную цель и средства к ее достижению, а с этим туго. Может, нам такие племена достались… особо недоразвитые. — А есть и другие? — Были. На всех трех материках обитали люди, а сохранились только на этом. Остальные убиты, прямо-таки зверски уничтожены какими-то чудовищами. Ирина невольно поежилась. — А эти… чудовища, они сохранились? — Вымерли. И мы даже не знаем, кто это был. Есть предположение, что это были рептилии, хищные ящеры примерно двухметрового роста с вот такими зубищами. Мы нашли три скелета возле одного становища, уничтоженного особенно жестоко. Древние такриоты сбросили на них со скалы камни. Но вот что странно: больше, сколько ни искали, мы не обнаружили никаких останков рептилий. Впрочем, если говорить честно, не очень-то и искали. У нас были другие заботы. — А с пиявками вам не доводилось встречаться? — Нет, не интересуюсь. — Патриция встала. — Идемте спать, здесь вредно сидеть по вечерам. — Да, наверное, — сказала Ирина. — Какой-то неприятный запах. — Мускус, — объяснила Патриция. — А вообще здесь вечно пахнет какой-нибудь гадостью. Каждый ветер приносит свои ароматы. Сейчас дует северный. Так что в комнате лучше. — А почему у начальника только одна комната? — вспомнила вдруг Ирина. — Больше не положено: у него нет подопечного. Ни у него, ни у доктора, ни у завхоза. Кстати, вот хорошо, что напомнила. У тебя ведь две комнаты? — Она обняла Ирину за плечи. — Здесь почти каждый воспитывает такриота. Так я дам тебе одну девочку. Мать у нее погибла, а ребенку необходима ласка. Ладно? — Ладно, — вздохнула Ирина. — Давай.РАЗВЕДКА
Вкрадчивый приглушенный стук назойливо вторгался в сознание, выталкивая его из темных уютных глубин. Несколько секунд Ирина инстинктивно боролась со сном, потом, вдруг сообразив, что она на Такрии и что стучат в дверь, опрометью выскочила из-под одеяла, торопливо натянула халатик и, не нашарив впопыхах тапочки, зашлепала босыми ногами по холодному пластику. Спросонок ей почудился не то пожар, не то нападение такриотов на Базу. В коридоре, привалившись к косяку, стоял Буслаев, огромный и неуместный, как статуя Командора. Он еще не успел причесать бороду, и она топорщилась во все стороны. — Послушайте, девушка… — заговорщически прошептал он. — У меня есть имя, — холодно перебила Ирина, сразу разозлившись, что ее застали в таком виде. — Э, не будем мелочны. Тут ваш мобиль выгрузили, я как раз мимо проходил… случайно. Смотрю, и волосы дыбом. Ну, думаю, надо выручать красавицу… — Нельзя ли покороче? — нетерпеливо перебила Ирина, поднимая, как цапля, то одну, то другую босую ногу. — Вот я и говорю: мобилек-то у вас ерундовый. Игрушка. В гости летать над густонаселенной местностью, а здесь — ни-ни… — он устрашающе замотал бородой, — пропадете! Ирина уже все поняла: ее мобиль был самой последней модели. И холодная ярость захлестнула ее. Ну погоди, борода, ты сейчас получишь сполна! — Что вы говорите! — Она округлила глаза. — Как же мне теперь быть? Буслаев отступил на шаг, стукнул себя в грудь так, что с треском распахнулась магнитная застежка воротника. — Я рыцарь и талант! — зашептал он, воровато оглядываясь. — Не допущу, чтобы такая молодая и красивая пала жертвой. Иначе ваши любимые пиявки меня просто заплюют. Отдаю вам свой! Ирина раскрыла глаза как можно шире. — А какой у вас? — тоже шепотом спросила она. — “Ариэль-345”. Зверь машина… с запасными частями. Ирина восторженно всплеснула руками и вдруг хихикнула прямо в лицо остолбеневшему “коммерсанту”. — Не пойдет! Катайтесь сами. Тупой, как тюлень, запас хода ограничен, нет ни форсажа, ни наводки по карте… Буслаев не сразу сообразил, что над ним издеваются, и продолжал по инерции: — Тупой, зато надежный. Вам же не гонки устраивать. А я в придачу… Ирина откровенно захохотала. — Когда я была всего лишь курсанткой АКР, и то стыдилась летать на таких гробах! Такое “коварство” поразило Буслаева прямо в сердце. — Ну как же, как же, конечно, стыдно! — угрюмо рявкнул он, уже не заботясь о тишине. — Куда как приятнее припорхать эдакой модной пташкой, сорвать диссертацию — и тю-тю… бегом в родную цивилизацию. А мы вот не стыдимся. Летаем на этих гробах и дело делаем… Ирина сердито прищурилась: — Вы, видно, здорово разбираетесь в пернатых, чувствуется опыт в обращении с залетными пташками, — прошипела она. — Только ведь и я порядком поболталась в космосе и кое-чему научилась. И если уж на Такрии модно втирать очки, не откажу себе в удовольствии похвастаться… — Она запнулась, чувствуя, что сейчас будет выглядеть так же глупо, как Буслаев, но не смогла удержаться и продолжала: — Я вожу вездеходы, гравикары и мобили всех систем, владею любым видом оружия вплоть до бластера, и хотя я всего залетная пташка, но, если уж очень потребуется вас спасти, смогу вывести звездолет на околопланетную орбиту… — А так же поставить на место нахалов, — добавила незаметно подошедшая Мимико, и ее мелодичный голос сразу заставил съежиться могучего цивилизатора. — Подумаешь, герой! Дело делает! Хоть бы уж не врал, дела-то ведь никудышные. Думаешь, ты первая, к кому он пристает? — обратилась она к Ирине. — Как бы не так! Он уже во все двери стучался. Меняет свой драндулет и просто так и с придачей. А желающих нет… — Нет, почему же. Если в придачу он даст бороду… — мстительно ухмыльнулась Ирина. И, вонзив эту последнюю иголку, она втащила Мимико в комнату, захлопнула дверь, и оттуда раздался такой хохот, что щеки Буслаева сделались ярче его бороды. Ирина с тайным трепетом натянула форму цивилизаторов Такрии — серые спортивные брюки и синий свитер с завернутыми до локтей рукавами. Тяжелая кобура пистолета успокаивающе прижалась к бедру. В таком виде она чувствовала себя полноправным членом отряда. У нее даже изменилась походка — стала шире, уверенней. На стоянке мобилен царила предотлетная суматоха. Машины одна за другой срывались в небо и уходили в разных направлениях. Одни цивилизаторы возились у своих машин, другие торопились из столовой, третьи шли завтракать. Небольшая группа о чем-то спорила, загораживая дорожку. — Пытались объединить племена на совместной охоте, и ничего не получилось, — пояснила Мимико. — Вчера на собрании разбирались, да так и не поняли, в чем ошибка. У Ирины еще не выработался опыт сразу отличать такриотов, одетых так же, как и земляне, только без пистолетов. Впоследствии она безошибочно угадывала их по более плавной походке, всегда чуть настороженному выражению лица, по глазам, по многим мелочам, которые даже невозможно осознать. Но в то утро она невольно вздрагивала, когда человек вдруг отвечал на приветствие неуверенным жестом, или на ломаном языке, или испуганно шарахался от нее. Некоторых такриотов она уже знала в лицо. Ей понравилась Риса, подопечная Мимико, — худенькая изящная девочка с красивым, хотя и малоподвижным лицом, вприпрыжку бежавшая за ними. Но встречая других такриотов и приветствуя их, она испытывала невольное замешательство. Ей все казалось, что с ними нужно разговаривать как-то по-особому. Она даже иногда коверкала речь, пропуская предлоги и окончания, как говорили новички-подопечные. Позднее Ирина с удивлением заметила, что может почти безошибочно угадать, к кому прикреплен тот или иной такриот: цивилизаторы подбирали подопечных, похожих на себя по внешности или складу характера. Очевидно, в этом была своя логика. Мимо пробежала Кача с каким-то свертком в руках, а за ней Патриция, что-то пожевывая на ходу. Улыбнувшись Ирине, она сказала Мимико, чтобы та не задерживалась. — Не задержусь! — крикнула ей вслед Мимико и пояснила, что они работают вместе, в одном племени. — С ней спокойно работать, — объяснила она. Ирина еще на Земле знала, что цивилизаторы очень осмотрительно выбирают напарников. В дверях девушки столкнулись с Георгом. Сейчас он тоже был в свитере и с пистолетом и спешил к мобилю. — Ого, как вам идет форма! — воскликнул он, мгновенно догадавшись, что хотелось услышать Ирине. — Куда вы после завтрака? — К пиявкам! — вызывающе бросила она, вспомнив утреннюю сцену. — Вы уж не замыкайтесь там, на своем болоте. Полетайте по планете, увидите много интересного. Штурманские карты получили? — Сейчас получит, — сказала Мимико. — В таком случае жду в гости. Мое племя сорок седьмое, запомните. — Обязательно запомню, — пообещала Ирина. Из-за плеча Георга выдвинулась голова Буслаева. Увидев девушек, он отвернулся и стал внимательно изучать висевшую на стене диаграмму. Лицо его было мрачным. — Ничего, пусть помучается! — сурово шепнула Мимико. — Не обращай на него внимания и не принимай извинений. Проучим! Как ребенок, честное слово… Они прошли мимо Буслаева как будто он был роботом. Однако за столом Ирина, сдерживая улыбку, исподтишка поглядывала в его сторону. Гигант постоял у стены, шагнул было к ним, но внезапно, решительно распахнув дверь, выскочил из столовой. Девушки обменялись понимающими взглядами и расхохотались. Через час они покинули Базу. Мобиль Мимико мчался метрах в ста впереди, но ее голос непрерывно звучал в динамиках. Ее интересовало все, что касается Земли. Ирина рассеянно отвечала, думая совершенно о другом. От сегодняшней разведки Ирина ждала очень многого. Сейчас эти животные, которых она видела только на препарационном столе, предстанут в родной обстановке, живые, в сложном комплексе биосвязей со всем тем, что их окружает. И тогда станут понятны те уникальные особенности их строения, которые никто еще не смог объяснить. Поэтому Ирина заранее решила в первую очередь исследовать сферу их обитания — болото. Найти те особенности, которые отличают это болото от всех других. А что они должны быть, Ирина не сомневалась. По всем законам биологии особенности строения животных обусловлены свойствами местности, где они постоянно живут. Найти их, провести параллели, логически обосновать причинную связь — и еще одна разгаданная тайна обогатит науку. Сергеев мог бы не говорить вчера о плане работ: план был составлен еще на Земле. Ирина чуть прибавила скорость, чтобы не отставать от передней машины и удовлетворенно огляделась. Внизу, куда ни глянешь, дикие леса Такрии. Изумрудно-багровый шатер из сцепившихся мертвой хваткой ветвей и лиан беспощадно затянул поверхность планеты, не пропуская даже крохотного лучика света, создавая впечатление незыблемости и спокойствия. А под этой живой крышей, не прерываясь ни на мгновение, кипит борьба за существование. Ирине, привыкшей к аккуратным заповедникам родной планеты, дико было глядеть на это, никем не регулируемое буйство природы. Полоса леса круто завернула вправо, открывая огромную голубовато-зеленую равнину. Далеко впереди, почти у горизонта, вырастали желтые горы. Мимико сообщила, что равнина- это и есть болото пиявок, а в горах живут такриоты. С дальнего конца болота поднималась и летела навстречу пухлая стена тумана. — Что за проклятое место! — огорченно воскликнула Мимико. — Вечно здесь туман, будто его что-то притягивает. Между прочим, аборигены думают, что этот туман убивает все живое, что он дыхание пиявок. Разумеется, это чепуха: наши ребята, когда добывали пиявок, убедились, что в этом тумане дышится так же, как и в любом другом. Он только мешает наблюдениям. Но может, тебе еще повезет. Сейчас период ветров. Пока! Лечу к своим. Ее мобиль перепрыгнул завесу и, блеснув на солнце, ушел к горам. Ирина осталась одна. За прозрачным корпусом машины покачивались рваные грязно-серые хлопья. Пришлось включить электронный лот. Над пультом передней стенки вспыхнул овальный экран. Свет снаружи бросал на него бегающие блики, мешал смотреть. Ирина нажала кнопку. Двойные поляризованные стены кабины сместились относительно друг друга, потеряли прозрачность. Теперь в кабине стало темно и неуютно, зато на экране различалась каждая черточка. Болото как болото, заросшее травой типа осоки, судя по внешнему виду. Тут и там рябят под ветром озерца чистой воды. Ни деревца, ни кустика, ни звериной тропки. Лот не давал цветного изображения, и то, что проплывало по экрану, походило на старинные гравюры, где все либо белое, либо черное, без полутонов. Несколько поворотов верньера приближения, и машина будто рухнула вниз. Во весь экран — участок болота, утыканный пучками травы. Черной стрелкой мелькнула пиявка, раскидывая крохотные волны. За ней тянулся узкий белый след, прямой, как натянутая нитка. Мобиль описывал медленные круги. Вот еще след, и еще, и еще… Ирина деловито всматривалась в матовую глубину экрана, заставляя себя отсекать все лишние мысли. Этому их учили в академии: ничего постороннего во время эксперимента. Ведь порой крохотная деталь, которую и заметить-то трудно, а еще труднее осознать, приводит к открытию. Но пиявки пролетали так стремительно, что в сознании не запечатлевалось ничего, кроме непрерывного мелькания. Она снизилась почти до самой поверхности. Потом взлетела на прежнюю высоту и снова снизилась. Облетела болото по периметру, поднялась по питающему его ручью, вернулась обратно. Ничего! Не за что зацепиться. Такое болото могло быть и на Земле и на любой другой планете. Цаплям бы здесь жить да лягушкам… Может, лучше вернуться к пиявкам? И опять на экране замелькали их белые следы. А солнце здесь суровое! Достает даже сквозь поляризованные стены. Ирина включила вентилятор, чуть погодя стащила с себя свитер. Стало легче, но ненамного. Вот он, тернистый путь ученого! Прошло часа два, прежде чем она сообразила, что с высоты лот захватит большую площадь и, по законам перспективы, глаз сможет удержать стремительное движение животных. Мобиль подпрыгнул на триста метров. Стало лучше. Правда, пиявки потеряли объем, стали казаться просто бестелесными полосками. А главное, наблюдение с такой высоты потеряло смысл: не видно, как они взаимодействуют с родной биосферой. Что же делать? Ирина растерялась. Шаткая надежда одним махом разгадать тайну этих удивительных существ растаяла, как клок тумана. Знали бы преподаватели в академии, с какими легкомысленными намерениями она собиралась улетать на Такрию, вряд ли бы выдали ей диплом. А скорее всего, просто улыбнулись бы и все-таки выдали, потому что кто из выпускников не мечтает перевернуть науку, причем здесь же, не медля ни минуты! Конечно, Ирина понимала, как и все выпускники, что никакое открытие, даже самое крошечное, легко не дается. Но вдруг… Мечтать об этом гораздо приятнее, чем заранее готовить себя к кропотливой многолетней работе с подчас весьма и весьма проблематичными результатами. Нет, как ни жалко, но придется поставить крест на розовых мечтах и заняться делом всерьез. Иначе действительно превратишься из ученого в попутчицу. Придется оставить мобиль, за его прозрачным корпусом открытия не сделаешь. Пиявок нужно наблюдать самой в их среде. Ирина подосадовала, что не захватила гермоскафандр, без которого влезать в болото было противно. Впрочем, это все то же пресловутое “а вдруг”. Влезешь, и вдруг откроешь! Именно для таких торопыг в “Правилах проведения научных работ на неосвоенных планетах” сказано: “Исследователь не имеет права делать своими руками то, что могут сделать механизмы”. Это значит — думай и не трать время попусту. Правило великолепное, но как его применить в данном конкретном случае? Ведь через неделю надо выложить план работ, а с чего теперь начинать? Вон они, пиявки, под тобой, совсем близко, но все равно ничуть не ближе, чем тогда, когда она изучала их трупы на Земле… Пробыв в воздухе несколько часов, Ирина повернула на Базу, испытывая сильное разочарование и не менее сильный голод. Единственным ощутимым результатом сегодняшней разведки была головная боль, а таблеток в кабине не оказалось.ПОДОПЕЧНАЯ
Ирина вошла в столовую, изо всех сил стараясь быть невозмутимо спокойной, отчего лицо ее сделалось каменным. Не хватало еще, чтобы цивилизаторы подумали, будто она пала духом! В столовой почти никого не было. Цивилизаторы, находясь в племенах, не прилетали обедать — довольствовались туземной пищей или, в основном пожилые, брали “сухим пайком”. И сейчас длинные ряды столов одиноко поблескивали полированными поверхностями. Только экипаж звездолета, привезшего Ирину, что-то оживленно обсуждал за дальним столиком, да профессор Сергеев задумчиво попыхивал трубкой у окна. Казалось, он пристально всматривался куда-то за горизонт, однако тут же заметил Ирину и кивнул ей. Она поспешно села подальше от него, чтобы избежать вопросов. Но побыть одной не удалось. За ее стол подсел командир звездолета — молодой, но очень серьезный и деловой космопилот третьего класса в новенькой, с иголочки, форме. — Через два часа отчаливаем, — сообщил он. — Писать будете? Слегка рисуясь своей деловитостью перед симпатичной девушкой, он тряхнул синей сумкой необычной, “космической” формы, раздувшейся от писем цивилизаторов. Ирина знала, что эта сумка значится в “списке № 1” — перечне предметов, для которых отведено место в спасательной ракете. Сумка стояла в списке сразу вслед за бортовым журналом и аварийным запасом питания. — Так будете писать на Землю? — переспросил командир. Ирина покачала головой. — Нет, пока не о чем. Сообщите родным, что долетели благополучно, вот и все. — Об этом и без нас сообщит диспетчер порта, — проворчал командир и отошел. Он явно не одобрял ее отказа. Почему-то этот короткий разговор окончательно расстроил ее. Рассеянно нащупав панель сбоку стола, Ирина, не глядя, нажала несколько кнопок. В центре стола открылся люк, и серебряный подъемник, сделанный в виде изящной женской руки, поставил перед ней полные тарелки. Она съела все, не ощущая вкуса еды, думая совершенно о другом. Да, “наскоком” здесь не возьмешь, это ясно. Впрочем, это надо было понять еще на Земле. Сама виновата. Привыкла представлять научный поиск по занятиям в студенческом кружке, где так легко было делать “открытия”, давным-давно описанные в учебниках. А то, что не описано, тактично подсказывали благожелательные преподаватели. Здесь ничего этого нет — ни учебников, ни преподавателей. Здесь только ты — молодой ученый, соискатель на степень, взрослый человек среди взрослых и очень занятых людей. И будь любезна — соответствуй… А не соответствуешь — возвращайся на Землю без результатов. У нее даже голова закружилась от этой мысли. Нет, этого и на миг нельзя предположить. Результаты будут, обязаны быть. Надо только вести планомерные кропотливые наблюдения. Вопрос лишь в том, как их вести? Ирина вздохнула. Мобиль яено не годится. Влезать в болото самой? Но пиявки избегают людей. Это уже проверено. Проще разглядывать их с берега в бинокль. А может быть роботы?.. Она нажала крайнюю кнопку, и серебряная рука быстро убрала тарелки. Ирина посидела еще немного, глядя, как рука, вооруженная губкой и инфраизлучателем, вытирает и дезинфицирует стол, а потом направилась в клуб, хотя за минуту до этого собиралась лечь спать. Ее вдруг потянуло к этим огромным ободранным стволам, на которых, казалось, застыли капельки смолы, к массивным балкам, в чьей суровой простоте было что-то первобытное. Взбудораженным нервам требовалась необычная обстановка. Она уютно примостилась на диване, взяла журнал в яркой обложке и забыла его раскрыть. Совсем другие картины вставали перед глазами. Пыталась заставить себя не думать о пиявках… И в конце концов, безнадежно пожав плечами, стала в который уж раз перебирать все, что знала о них. На Земле она одна занималась ими. Так уж получилось, что открытая пятьдесят лет назад Такрия сразу и надолго приковала внимание ученых своими аборигенами. …Сначала были другие планеты. Унылая вереница планет в освоенном районе Галактики, хранящих на своей поверхности следы погибших цивилизаций. Ученые ничего не могли понять. Планеты обладали всем необходимым для жизни: атмосферой, водой, растительным и животным миром, и тем не менее разумная цивилизация, дойдя до какого-то уровня, погибала. Остатки жилищ, орудия труда, отдельные сохранившиеся скелеты — все это говорило о катастрофе, не давая ответа на проклятый вопрос: почему? Возникла даже теория, что разум развивается медленнее, чем увеличивается поток информации, который он обязан переработать. Изнемогая в неравной борьбе, разум погибает. “А Земля? — спрашивали авторов этой теории. — Мы-то ведь не погибли”. В ответ те красноречиво разводили руками, укрываясь за аксиомой, что нет правил без исключений. Теория эта была осмеяна и забыта, но кое-кто начинал серьезно склоняться к мысли, что Земля составляет счастливое исключение во Вселенной. И вдруг пошла серия обитаемых планет. Такрия была третьей. На двух других — Эйре и Эдеме — цивилизации, достигнув значительного развития, сделали неожиданный зигзаг и клонились к закату, подтверждая на первый взгляд забытую теорию. На Эдеме в этом были повинны исключительно благоприятные условия, не требующие от человечества повседневного целенаправленного труда для поддержания своего существования. Почему пришла в упадок цивилизация Эйры, ученые еще не разобрались. На Такрии цивилизация только зарождалась. Мечта землян- открыть планеты с разумными существами, стоящими на такой же или высшей ступени развития, — пока оставалась мечтой. Наоборот, и соседние цивилизации вот-вот готовы были исчезнуть. И тогда в Высший Совет Земли пришли первые добровольцы. Так родились цивилизаторские отряды. Самых отважных сыновей и дочерей Земля посылала в космос на помощь братьям по разуму. Задача оказалась совсем не такой простой. Дело было не в том, чтобы предоставить инопланетянам земную технику или обезвредить их многочисленных врагов. Надо было безошибочно угадать путь, по которому должно было развиваться общество, и направлять его по этому пути без насилия, с минимальным вмешательством, ни в коем случае не перенося механически привычные земные формы в чужой уклад. В противном случае цивилизация могла погибнуть быстрее, чем если бы она дошла до своего конца естественным путем. Особенно трудно было на Эйре, где культивировалась биологическая цивилизация, совершенно не знакомая землянам. На Такрии дело обстояло иначе. Разум относительно недавно занял место инстинкта у ее обитателей. Ни одного признака, указывающего на вырождение, еще не было. Здесь цивилизацию надо было создавать из ничего, как гончар создает свои изделия. Только его умелые руки могут выявить то совершенство, что скрыто в бесформенном куске глины. И, предугадывая каждый шаг, каждый зигзаг эволюции, можно было бы понять, почему гибнут другие цивилизации. Такрия наиболее типичная планета из обитаемых и, пожалуй, только на ней можно разгадать эту страшную загадку Вселенной. Неудивительно, что большинства энтузиастов рвались именно сюда. Первый отряд погиб полностью. От второго уцелело шесть человек, чудом вытащенных из страшных такрианских джунглей спасательной экспедицией. Но опасности только подхлестывали добровольцев. И разумеется, никто не обратил внимания на каких-то там пиявок! Итак, что же известно о них? Весьма немного, но и то, что известно, касается, в основном, их отличия от других живых существ. Пиявки не похожи ни на какое другое животное в первую очередь своим оборонительным аппаратом. Они обстреливают жертву комочками слюны, состоящей из отрицательного электричества — сгустками электронов. До ста метров летят эти электрические пули. Но несмотря на такое агрессивное оружие, пиявки никогда не нападают первыми. Жертва должна перейти некий рубеж вокруг болота — единственного места на Такрии, где они обитают, — и тогда ее поражает смерть. Пиявки переговариваются точечными радиоимпульсами, которые пока не удалось расшифровать: слишком редко они общаются и слишком большой объем информации заключен в каждом всплеске радиоволн. И наконец, это Ирина узнала уже здесь, пиявки нападают только на такриотов. Любой землянин может подойти к болоту без риска для жизни. Не трогают они также гарпий. Но все остальные животные и птицы избегают это проклятое место. Такая избирательность больше всего интересовала Ирину: пока это было единственное, за что можно зацепиться. Что еще известно? Ничего. Одни более или менее обоснованные предположения. Даже строение пиявок как следует не изучено, поскольку на Землю попадали настолько истерзанные трупы, что в этом хаотическом переплетении мышц и внутренностей невозможно было разобраться. Неизвестно, чем они питаются, как размножаются… За окном замурлыкал двигатель мобиля. Ирина повернула голову. Оказывается, уже стемнело. Здесь темнота наступает мгновенно, как в экваториальных областях Земли. В клуб влетела Мимико, возбужденная и улыбающаяся. За руку она тащила девочку-такриотку. Девочка отчаянно упиралась, почти волочась по полу, скалила зубы, вертела головой, как зверек, попавший в западню, и тихонько скулила. Ее худенькое тельце, прикрытое только узкой набедренной повязкой из шкуры животного, била дрожь. — Ты здесь? А мы тебя по всей Базе ищем. — Мимико свалилась в кресло, не выпуская руки такриотки. — Это тебе. Пат просила привезти. Уверяет, что вы договорились. — Да, правильно. — Ирина была ошарашена тем, как быстро здесь все делается. Она встала, с любопытством и некоторой опаской разглядывая свою подопечную. — До чего же она грязна! Девочка исподлобья косилась на нее дикими, испуганными глазами, стараясь спрятаться за спинкой кресла. Мимико звонко расхохоталась: — Что ты, это еще ничего! Чтобы тебя не испугать, я ее в мобиле полчаса платком оттирала. Видела бы ты их в родной обстановке! Ирина улыбнулась. Ей все больше и больше нравилась эта милая веселая девушка. Снаружи пробежала тень еще одного мобиля. Мимико повернула голову к окну. На ее виске белел кусочек пластыря. — Что это с тобой? Мимико беспечно махнула рукой. — Пустяки! Обычный психоз. К сожалению, у подающего самые большие надежды. — И так как Ирина ничего не понимала, объяснила: — На них иногда это находит. Вдруг теряют разум и начинают крушить все вокруг. Вот зрелище, скажу я тебе! Не дай бог приснится такая физиономия! Самое печальное, что это происходит у тех, кто обогнал своих сородичей в развитии. Будто разум действительно не в состоянии совладать с обилием информации, как думали когда-то. И тогда все наши труды летят прахом, потому что приступ отбрасывает аборигенов в самое что ни на есть первобытное состояние. Вот и сегодня один кинулся на меня с каменным топором… — Ну и… — взволнованно воскликнула Ирина. Мимико похлопала по кобуре пистолета. — Дело в том, что эти приступы очень интересны, как и вообще всякие аномалии. Ведь цивилизации гибнут в результате каких-то отклонений, и мы тщательно изучаем все, что выходит за рамки обычного. Поэтому я старалась не очень отдаляться от него, пока Пат бегала за мнемокамерой. А попробуй полавируй на тесной площадке, не выходя из сектора охвата объектива. Конечно, в конце концов я устала и споткнулась и страшно боялась промахнуться. Сама понимаешь: убить человека на глазах у племени… К счастью, все обошлось. Топор вдребезги, но осколок все-таки царапнул. — А дикарь? Мимико нахмурилась. — Такриот или абориген. У нас запрещено звать их дикарями. С ним как полагается: гром выстрела произвел нервный шок. Завтра очнется, как новорожденный, — одни инстинкты. И очень медленно к нему будет возвращаться разум. Она говорила об этом, как о чем-то обычном, и Ирина глядела на нее с благоговейным восторгом, забывая, что в Большой космос попадают только самые сильные духом, что сама она, прежде чем прилететь сюда, выдержала десять испытаний в Академии Космических Работ. — Пойду что-нибудь перекушу и ей принесу, — сказала Мимико. — Потом мы ее выкупаем, а вы пока постарайтесь подружиться. Она убежала, а Ирина с неожиданной нежностью привлекла юную такриотку к себе, потянулась пригладить черные спутанные волосы, крупными кольцами падающие, на плечи. Но это движение испугало девочку. Первобытные люди предпочитают оберегать голову от чужих рук. Дико вскрикнув, такриотка вырвалась и заметалась по залу, опрокидывая стулья. Она никак не могла найти отверстие, через которое ее сюда ввели: такриоты не знают дверей. Два цивилизатора, отдыхающие в клубе, потихоньку отошли в сторону, чтобы не мешать. Для них в этой сцене все было ясно. Они знаками дали понять, что не стоит гоняться за девочкой, и Ирина села на диван, натянуто улыбаясь. Ее невольно задело такое недоверие подопечной. Наконец девочка перестала метаться, забилась в. самый дальний угол и оттуда настороженно следила за всеми. Едва нежное лицо Мимико показалось в дверях, такриотка бросилась к ней и, спрятавшись за ее спиной, бросала сердитые взгляды на Ирину. В ее представлении маленькая ласковая Мимико была куда безопаснее, чем высокая Ирина со спокойным лицом и серьезными глазами. Оставив на время все заботы, девушки увлеченно занялись юной такриоткой. Сколько было пролито воды и слез! Какой скандал разразился из-за того, что мыло щиплет глаза! Но терпение и труд всегда приводят к желаемым результатам. Через два часа Буба, так звали девочку, сидела на кровати, стесняясь своего чистенького, розовато-смуглого тела, и, тихонько ахая, с любопытством разглядывала приготовленную для нее одежду — трусики, майку, спортивные брючки и свитерок. На первых порах решено было этим и ограничиться. Спать ее положили во второй комнате, и Мимико взяла с подруги страшную клятву не забывать запирать дверь на ключ. Это было выделено жирным шрифтом в правилах внутреннего распорядка. Хотя приступы бешенства у такриотов случались редко, осторожность была необходима. Как все аборигены, девочка уснула мгновенно, сжимая худенькими ручками мягкую ладонь Мимико. Заботливо укрыв ее одеялом, девушки опять пошли в клуб. Сейчас здесь было многолюднее. Некоторые цивилизаторы вернулись из племен и шумно веселились. Хотя бывать на Базе полагалось раз в неделю, не всем хватало одного дня отдыха, и начальник отряда закрывал глаза на это нарушение дисциплины. Около бильярда металась ярко-рыжая борода. — Шкипер, как всегда, на боевом посту! — рассмеялась Мимико. Кучка болельщиков окружила бильярд. Оттуда доносились звонкие удары и веселые возгласы. Девушки тоже подошли. Шкипер сражался со своим подопечным и… проигрывал. Две неодинаковые кучки забитых шаров на полочке свидетельствовали явно не в его пользу. Он горячился, нервничал, суетился… Такриот, напротив, вгонял шары в лузы самым хладнокровным образом. — Восемь! — объявил рефери. Болельщики зааплодировали. Шкипер отшвырнул кий, подлез под бильярд и закукарекал оттуда противным голосом. Победитель самодовольно принимал поздравления. Был он ниже Буслаева и не так широк в плечах, зато тоже отпустил бороденку и вообще со школьным старанием копировал все повадки своего патрона. Это была такая забавная карикатура на Буслаева, что Ирина, не удержавшись, прыснула. — Все-таки мужчины воспитывают своих подопечных гораздо рациональнее, — вздохнула Мимико, когда они отошли от бильярда. — Мы сюсюкаем над своими девчонками, трясемся за них, жалеем, потакаем их капризам, и они, пользуясь этим, делаются лживыми несносными тряпичницами, только и мечтающими, как бы утащить на кухне сладости. Правда, это тоже признак цивилизации, да и проходит этот период относительно быстро, но сколько они доставляют неприятностей! А у ребят совсем другое, суровое воспитание. Их подопечные очень скоро начинают чувствовать себя хозяевами планеты и становятся настоящими помощниками. — Глядя на некоторых, в это трудно поверить, — возразила Ирина. — Вон у Георга… Мимико жестом остановила ее: — Это совсем другое дело. У него новый. Старого пришлось… — Она вскинула руку, будто прицеливаясь. — За что? — То же самое — психоз. Только случилось это в мобиле, а за пультом был такриот… Вот чем тебе заниматься надо- психозом, а не какими-то… Ну, не обижайся, шучу, шучу!.. Припадок всегда начинается внезапно. Георг никак не мог добраться до пульта, потому что такриот крушил все в кабине и машину валило с борта на борт. Так они и врезались… У Георга оказались сломанными обе руки, нога и четыре ребра. А когда он очнулся, такриот,совершенно потерявший разум, навалился на него и вцепился зубами в горло. И он заставил себя сломанной рукой достать пистолет… Ирина содрогнулась, осознав, в каких условиях приходится работать цивилизаторам. — Кстати, почему Георга нет сегодня? — спросила она, оглядываясь. — А он никогда не прилетает, когда не положено. Такой уж человек, хотя кое-кто, — Мимико лукаво улыбнулась, — был бы очень не прочь видеть его почаще. Ирина невольно покраснела, хотя намек никак не мог относиться к ней. Девушки уютно устроились на диване и приготовились от души поболтать, но им помешал профессор Сергеев. — Каковы первые впечатления? — спросил он, садясь рядом с Мимико. Ирина развела руками: — Голова идет кругом, Валерий Константинович. А тут еще подсунули общественное поручение… в живом виде. Мимико хихикнула. — Ничего не поделаешь, таково правило, — без тени улыбки сказал начальник отряда. — Индивидуальная опека имеет глубокий смысл: не только мы даем такриотам, но и они нам. Впрочем, это вы поймете позже. Он вынул трубку, с удовольствием закурил. Девушки тоже взяли по сигарете. — Меня весь вечер преследует чувство, будто я совершила что-то нехорошее, — сказала Ирина краснея. — И только сейчас я поняла, что это из-за такриотов. Вчера они показались мне чуть ли не обезьянами, особенно когда Кик протянул свои лапы. Представляете: эдакий волосатый дядя строит тебе рожи! Кого угодно собьет с толку. А сейчас смотрю на других — ведь симпатичные ребята. Особенно вон тот товарищ с интересной бледностью на лице, который тычет пальцем в рояль. Чем он отличается от нас? За пять шагов ошибешься. И мне просто стыдно: будто я вчера предала их… — Вы бросаетесь из одной крайности в другую, — улыбнулся Сергеев. — Впрочем, все мы прошли через это. Парадоксальная вещь: слишком высокий интеллект искажает перспективу. Как перевернутый бинокль — все отдаляет, отбрасывает, так сказать, вниз. А сейчас вы посмотрели в бинокль с другой стороны и приблизили такриотов к себе вплотную. И в том и в другом случае проявляется своеобразный снобизм. К счастью, это быстро проходит. А истина, как водится, лежит где-то посредине. Присмотритесь внимательней, и поймете, что такриоты — это, конечно, люди, как вы и я, только на самой заре организованного общества. В некотором отношении их можно сравнить с детьми, которые по-своему, по-детски упрощают и преломляют все происходящее вокруг. И так же, как с детьми надо уметь разговаривать, никоим образом не показывая, что ты нисходишь до них, иначе они не раскроют вам свою душу, так и с аборигенами надо выбрать правильную линию поведения. Он выпустил густой клуб дыма, и во взгляде его, обращенном на Ирину, мелькнула ирония. — Ведь вы наверняка не представляете, какую обузу взвалили на свои плечи. Дело в том, что для подопечной вы — верховное божество. Я говорю “верховное” потому, что вы умеете делать такие вещи, обладаете таким могуществом, о котором и мечтать не смеют бедные здешние боги. Ну что они такое перед вами: они же могут всего лишь метать громы и молнии и подводить зверя под копье охотника. И эта девочка, которую из первобытной пещеры кинули в непонятный мир всемогущих, будет преклоняться перед вами, станет вашей рабой. Рабой фанатичной, преданной и абсолютно бездумной. И, допустив это, вы навсегда исковеркаете ее душу и принесете вред нашему общему делу. А если вы заставите ее преодолеть суеверие, сумеете разбудить ее ум, почувствовать себя в чем-то равной вам, то есть почувствовать себя человеком, — тогда у нас станет одним помощником больше. Но знали бы вы, какая это тяжелая задача! Ирина встрепенулась, осознав то, что подспудно мучило ее со вчерашнего дня. — Меня поражает явное несоответствие облика такриотов их умственному развитию, — сказала она. — Первобытные люди должны быть коренастыми, непропорционально сложенными, с длинными руками, огромными надбровными дугами и недоразвитым подбородком. По крайней мере так было на Земле. А здешние аборигены… Вот моя Буба. Какая у нее фигурка! Любая земная модница поменялась бы. Или у Шкипера… у товарища Буслаева. Его подопечный просто красавец мужчина, особенно если расстанется с бородой. Я уж не говорю про Кика, это вообще феномен. Почему же время, так отшлифовавшее внешний облик, едва задело мыслительный аппарат? Будто такриотов действительно заколдовали. Сергеев задумчиво попыхивал трубкой, морщась от кукареканья Буслаева, вторично пребывавшего под бильярдом. — Очень меткое наблюдение, — наконец сказал он. — Чувствуется глаз специалиста. А какая-нибудь теория у вас уже есть на этот счет? Ирина почувствовала в вопросе подвох, но не поняла его и потому ответила совершенно серьезно: — Нет, что вы! Я же только что прилетела. — Когда появится, обязательно поделитесь. Это будет двести сорок восьмая теория. Кстати, — он лукаво прищурился, — сейчас нас на планете ровно двести сорок восемь землян. Ну, а если без шуток, то это самая проклятая загадка Такрии. Я уверен, что она как-то связана с таинственными психозами такриотов. Понять бы только, какие причины вызывают эти психозы. Кстати, такриоты старше землян и по законам естественного развития должны были бы стоять на более высоком уровне… Так что если пиявки оставят вам немного свободного времени, подумайте над этим. Докурив, он спрятал трубку в карман и ушел, а Мимико облегченно вздохнула: — Я так боялась, что он спросит, где моя Риса. — А где она, в самом деле? Утром я ее видела. — Оставила в племени, хотя это не рекомендуется. У нее ведь есть мать. Вообще у такриотов родственные чувства весьма слабы. Это присуще древнему обществу. Матери, например, не признают своих детей, когда те достигают определенного возраста. Так и мать Рисы. У нее свои заботы, и дочь ей не нужна. И живи Риса в племени, для нее это было бы в порядке вещей. Но под влиянием нашего уклада в ее психике произошел перелом, тот самый, о котором говорил шеф. Она тоскует по матери, по общению с родным человеком, хотя и старается не показывать этого: боится, что такриоты не поймут. А ей так хочется передать дальше все, что получила от нас! Риса взрослеет. Понимает, что, как ни хорошо с нами, она дочь племени и ее место там. Но племенные законы для нее уже тесны… Впрочем, у тебя еще все впереди, сама убедишься. Расскажи лучше еще что-нибудь про Землю… Девушки долго болтали и ушли из клуба последними. Придя к себе, Ирина взяла большой чистый лист и написала: 1. Стреляют электронными “пулями”. 2. Переговариваются радиоволнами. 3. Убивают такриотов, но не трогают землян. Повертела в пальцах ручку и со вздохом положила ее на стол. В эти три пункта уложились все знания о пиявках. Она приколола лист под зеркалом, послушала спокойное дыхание Бубы и легла спать.ШАМАН
Утром Буба дичилась меньше. Даже заискивающе улыбнулась, когда Ирина вошла к ней. То ли покорилась судьбе, то ли вспомнила других девочек, которые жили в этой удивительной деревянной пещере, носили такие же странные шкуры, закрывающие все тело, и с великолепным презрением задирали нос перед прочими нецивилизованными сверстниками. Как бы то ни было, она безропотно дала себя одеть и пошла в столовую, шарахаясь от встречных. Хуже всего было с обувью. Даже в легких тапочках она тут же захромала. Мужчина, более консервативный по натуре, моментально сбросил бы их и зашлепал босиком. Женщины смотрят на эти вещи иначе, и Буба, хотя и морщилась, мужественно терпела. Увидев Мимико, она не кинулась к ней, однако старалась за столом держаться поближе и подражала ей во всем. Есть с тарелки и пить из чашки она научилась мгновенно, правда, ложку держала не пальцами, а всей ладонью. Сейчас для нее это была просто игра. Пройдет достаточно времени, прежде чем такриотка осознает, что новый способ еды удобнее и приятнее старого. — Куда бы мне ее деть? — вслух размышляла Ирина. — Не брать же с собой в мобиль. — Вот именно брать. Теперь она станет твоей тенью, — улыбнулась Мимико. — Да ты не волнуйся, машина — это для них не страшно. Они боятся того, что издает громкий шум. Выстрел из пистолета заставляет удирать самых храбрых охотников. Для них это чудо. Потому-то мы и таскаем эти допотопные пушки, у которых половина энергии идет на звук. А мобиль, бесшумный на нормальном режиме, они за чудо не считают. По-моему, они думают, что это какое-то прирученное животное. Но ради Вселенной, не оставляй подопечную одну за пультом… Ирина решила исчерпать все возможности мобиля, прежде чем перейти к другим формам исследования. Впрочем, это решение было вынужденным: только через несколько дней ей обещали привезти робота, который пойдет в болото. Буба довольно спокойно дошла до стоянки, оглядываясь, идет ли Мимико сзади. Мобили были ей не в диковинку, и она даже потрогала открытую дверцу. Но когда Ирина сделала приглашающий жест, девочка кинулась наутек, поняв, что ее хотят заставить лезть в утробу этого чудовища. Если бы не длинные ноги Буслаева, подвернувшегося весьма кстати, вряд ли бы удалось поймать ее. Очутившись в его стальных руках, она обмерла со страху, и только поэтому ее удалось впихнуть в кабину. Ирина довольно холодно поблагодарила цивилизатора за помощь, но и этого оказалось достаточно, чтобы он заговорил с ней как ни в чем не бывало. Решил, что мир восстановлен. На этот раз над болотом не было тумана. Сверху отлично просматривалась огромная унылая равнина, будто утрамбованная катком. По словам цивилизаторов, только здесь росла нежно-голубая осока, о которую можно порезаться даже в кожаных перчатках. Ирина вела машину по периметру болота, изредка взглядывая на свою спутницу. Девочка уже освоилась в тесной кабине, и страх уступил место любопытству. Она ерзала в кресле, все время порываясь высунуться через стекло наружу, и никак не могла понять, что это за невидимка бьет ее по голове. Когда пролетали мимо гор, Буба радостно задергала Ирину за рукав, показывая, что вон в той пещере живет ее племя. Но Ирина и сама увидела в седловине между двумя вершинами ярко-красные пятнышки мобилей Мимико и Патриции. — Ладно, ладно, к вечеру наведаемся в гости, — ласково сказала она. Болото питал только один горный ручей. Стока обнаружить не удалось. Очевидно, излишек воды просто испарялся. Остановив мобиль на высоте четырехсот метров, Ирина включила лот, подсоединила к нему блок памяти и, откинувшись на спинку кресла, закурила, к великому восторгу такриотки. Итак, прибавилась еще одна загадка — голубая трава. На Земле, изучая отчеты такрианского отряда, Ирина как-то пропустила мимо внимания его название — “Голубое болото”. Мало ли что изобретут досужие выдумщики, чтобы отличить одну местность от другой! Назвали же они мрачную каменную пустыню “Долиной радостных грез”! Какие же причины обусловили появление такой травы? Очевидно, дело не в воде. Ведь в горах по берегам того же ручья растут нормальные зеленые растения. Значит, надо искать эти причины на дне болота. Возможно, они же породили и такой удивительный вид животных. Ирина повеселела оттого, что наметилась определенная мысль, которую необходимо проверить. Чем больше новых загадок, тем шире круг вопросов, связанных с ними, и тем большая вероятность отыскать то единственное звено, которое послужит ключом к разгадке. Вчера Ирина чувствовала себя беспомощной, сейчас она достала блокнот и стала набрасывать программу исследований. И одновременно не отрывалась от экрана. Что бы она ни делала — писала, размышляла, присматривала за Бубой, — она все время видела экран. Будто он передавал изображение прямо в зрительные центры мозга. Пиявки, пиявки, пиявки… Кстати, почему их так назвали? Они же не питаются кровью. Впрочем, еще не известно, чем они вообще питаются. Правильнее было бы назвать их колбасками. Толстенькие, кругленькие, голову от хвоста не отличишь. Плюющиеся колбаски — это звучит! Ишь как резвятся под солнышком! А ведь в их движениях есть система. Ирина насторожилась. Несмотря на отсутствие ног или плавников, они довольно резво снуют по болоту, то скрываясь в траве, то выпрыгивая на чистую воду; Ирина нажала поочередно три кнопки, и счетно-решающее устройство определило скорость — до семидесяти километров в час. Великолепная скорость! Они двигаются по прямой, от края к краю, каждая на своем участке, никто не залезает в чужую зону. Любопытно, но не ново. У многих животных, особенно хищных, территория разделена, так сказать, на сферы влияния. И все же… Ирина повернула верньер настройки. Электронный луч цепко схватил одну пиявку, потянулся за ней. Животное стремительно пересекло болото, подплыло к берегу, замерло на мгновение и кинулось обратно… И так все время. Без остановок для отдыха или еды. Ирина снова повернула верньер, увеличивая угол охвата. Да, все пиявки движутся только так. Даже не огибают пучки жесткой травы, что было бы естественно. Продираются сквозь нее… Ну и кожа, должно быть, у них, куда там слону! Такое странное поведение, несомненно, обусловлено многими причинами. Может, это и есть один из ключей к разгадке? Оказывается, и с мобиля можно кое-что увидеть. Какое-то слово металось в памяти. Старинное, вышедшее из употребления, но необыкновенно емкое. Ирина наморщила лоб. Вот оно — глагол “барражировать”. Пиявки барражируют, прочесывают, стерегут… Какое еще значение имеет этот глагол и почему вспомнился именно он? Как бы то ни было, еще один пункт в программу… Случайно она взглянула на правое кресло. Буба нахохлилась, надула губы, на глазах слезы. — Что это с тобой? — спросила Ирина, забыв, что такриотка не понимает ее языка. Буба сердито отвернулась. Ей надоело столько времени болтаться в воздухе, особенно когда совсем рядом родные пещеры. Кроме того, она проголодалась. Ирина взглянула на часы и все поняла. — Так и быть, летим к тебе в гости. Мобиль, плавно развернувшись, поплыл к горам. Ирина взглянула на оживившуюся девочку, и в ее глазах блеснул озорной огонек. Выключив автопилот, она передвинула рычажок скорости до отказа. Корпус машины задрожал, контуры дальних гор потеряли четкость. Как и вся молодежь, особенно связанная с космосом, Ирина увлекалась воздушными гонками. Первое, что она сделала, прибыв на Такрию, — сорвала пломбу ограничителя. На Земле роботы-регулировщики не дали бы пролететь и тридцати секунд с такой скоростью. Здесь можно было порезвиться. Пальцы прыгали по кнопкам. Машина круто взмывала к солнцу, камнем падала вниз. Блок снятия перегрузок работал на полную мощность. Горы то угрожающе придвигались вплотную, то стремительно уносились вдаль. Изумрудный шатер лесов мотался, как на качелях. Солнце словно сумасшедшее плясало на небе. Буба визжала от восторга. Этот чертенок уже ничего не боялся: ее вера в могущество Ирины стала беспредельной. Заложив крутой вираж, Ирина заметила на горизонте три точки. Потом показалась еще одна. “Интересно, кто бы это?” — подумала она, устремляясь навстречу. Они быстро сближались, но Ирина никак не могла понять, что это за летательные аппараты. Совершенно незнакомые очертания. Четвертый, летевший несколько поодаль, несомненно, мобиль. Он синего цвета — значит, его ведет робот. А первые… Яркие искры вспыхивали вокруг них, обрисовывая конус, вершиной упирающийся в мобиль. Трое передних все время бросались в стороны, стремясь вырваться из этого конуса. Ирина видела извивающиеся тела, почти человеческие; острые, судорожно взмахивающие крылья, концы которых загибались при ударе о невидимое препятствие; слышала крики, полные страха и ярости. И тут она поняла. Это были гарпии — самые страшные обитатели планеты. Очевидно, они каким-то образом вырвались из заповедника, и теперь робот-сторож загонял их обратно. Вспыхивающие искры — это молнии на границах кси-поля. Они пролетели совсем близко. Ирина содрогнулась, увидев их лица. До жути похожие на человеческие, только рот как у акулы — огромная щель, набитая зубами. Под крыльями извивались лапы с толстыми трехгранными когтями. Буба потихоньку сползла на пол. Ирине и самой было страшновато: такой исступленной злобой горели круглые, ярко-желтые глаза животных. Она прижала девочку к себе, шепнула на ухо: — Не бойся, они нам ничего не сделают… Патрулирующий гарпий робот покачал своим мобилем. Ирина ответила на этот знак вежливости и повернула к горам. Ей расхотелось резвиться в воздухе. Она включила автопшют и воткнула стрелку наводки в нужную точку на карте. Племя Бубы жило в пещерах, вымытых в толще известняка подпочвенными водами. Огромные залы с причудливой бахромой сталактитов, соединенные неожиданными переходами, терялись в черной глубине горы. По преданию, там обитали страшные боги, зорко следящие за поступками людей и мгновенно карающие за любое отступление от древних канонов. Такриотам вход туда был закрыт. Только шаман изредка навещал богов и просил их о помощи в трудные времена. В первом зале на древних, священных камнях горел костер, едва разгоняя мрак. Его никогда не тушили, несмотря на то что с недавнего времени у каждого охотника появилось великолепное огниво. За исключением двух дежурных, племя почти не бывало в пещере, разве только в непогоду. Климат планеты позволял обитать под открытым небом, а хищные звери не осмеливались появляться там, где было много людей. Только гарпии могли бесшумно спланировать с какого-нибудь уступа, но их всех загнали в заповедник за невидимую стену кси-поля. Ирина посадила свой новенький лакированный мобиль между двумя порядком помятыми машинами девушек и, распахнув дверцу, растерянно озиралась, не решаясь спрыгнуть на землю. На обширной, утоптанной до гранитной твердости площадке колыхалась полуголая, коричневая от грязи масса орущих, суетящихся людей. “Будто коллективная разминка перед спортивными состязаниями в сумасшедшем доме”, — подумалось Ирине. Мужчины, потрясая странно изогнутым оружием, метались взад и вперед, толкая друг друга, пинками отшвыривая голых ребятишек. Женщины с пронзительными воплями таскали за мужчинами какие-то тонкие палки с птичьими перьями на концах и туго набитые травяные мешки и тоже отшвыривали ребятишек. Те шлепались на землю, поднимая отчаянный рев. Но видно было, что орут они не от боли, а просто от полноты впечатлений. Ветер, постоянно продувающий седловину, не мог унести тяжелый специфический запах первобытного становища. Буба с радостным воплем кинулась в родную стихию. Голубой свитерок мелькнул и пропал в толпе. Ирина, помедлив, тоже вылезла наружу, не отпуская раскрытую дверь машины — так было надежнее. Ее, привыкшую к четкой продуманной организации любых коллективных действий, инстинктивно возмущала эта суета и неразбериха. “А что же ты хотела от первобытного племени?” — насмешливо одернула она себя, с сожалением подумав, что если бы удалось каким-либо способом направить эту безрассудно растрачиваемую энергию в единое русло, дикий облик планеты был бы чудесно преображен. Ирина, пожалуй, не смогла бы объяснить, что побудило ее Кинуться в этот водоворот. Очевидно, укоренившаяся привычка все проверять опытом, а может, вид Мимико и Патриции, деловито разгуливающих среди толпы. Скорее же всего, воспоминание о “спектакле”, совсем недавно разыгранном на этой площадке: маленькая худенькая девушка медленно пятится от обезумевшего дикаря, а другая, сдерживая дрожь в руках, наводит визир мнемокамеры. Как бы то ни было, Ирина отпустила дверцу, сделала несколько шагов, и тут же ее сильно толкнули в плечо. Она отлетела в сторону, размахивая руками, чтобы удержать равновесие, получила второй толчок, третий… Спасительная дверца безнадежно отдалялась. Вокруг мелькали возбужденные лица, пронзительные крики взрывались в ушах… Ирина чувствовала, что еще немного, и ее собьют. Самое страшное, что ее просто не замечали. Аборигены были заняты своими делами, а она не могла попасть в общий ритм. Сообразив это, она кинулась за проносящимся мимо такриотом, стараясь укрыться за его спиной. Это был плотный приземистый крепыш, будто отлитый из бронзы. Он мчался, нагнув голову, расшвыривая встречных. Так пролетает сквозь кусты, ломая ветки, выпущенный из пращи камень. Ирина неслась за ним классическим спринтом, резко взмахивая согнутыми в локтях руками и регулируя дыхание. Но уже через несколько минут поняла, что этот “спорт” не для нее. Людские волны, разваливаемые такриотом, плотно смыкались за его спиной, и приходилось снова их расталкивать. Впечатление было такое, будто продираешься через летящий навстречу каменный водопад. К счастью, такриот выскочил на относительно свободное место, и здесь Ирина отстала от него, потирая синяки и облегченно вздыхая. Среди этой галдящей, мечущейся, толкающейся толпы расхаживали, распоряжались, наводили порядок две девушки в спортивных брюках и свитерах. Не решаясь снова лезть в толчею, Ирина отчаянно замахала, привлекая их внимание. — Молодец, что прилетела! — обрадовалась Патриция, по-мужски встряхивая ей руку. — Познакомься с доисторическим бытом. Красотища! История в живом виде. Может, бросишь своих слюнявых пиявок и займешься настоящим делом. — Спасибо, я уже познакомилась… Что тут у вас за аврал? — Где? — Патриция недоуменно оглянулась. — Ах, это… Ну, это тебе кажется с непривычки. Самая нормальная обстановка. Все при деле. Мужчины отправляются на охоту, и остальные обязаны помогать им собирать снаряжение. Они, как водится, капризничают: то не так, это не так, потому что ночная охота — дело трудное и опасное, и иждивенцы должны помнить об этом, чтобы в полной мере оценить труд кормильцев. Что делать, мужчины всегда немножко хвастуны и любят задирать нос. Женщины, хотя и видят их насквозь, подыгрывают им и усиленно демонстрируют рвение, чтобы не обидели при дележе. Дети получают очередную порцию подзатыльников, привыкают к будущим жизненным невзгодам. Это еще не шум. Вот когда охотники вернутся с добычей… — Как же вы выдерживаете? Патриция пожала плечами. — Приходится. Но мы хоть регулярно летаем на Базу, а они ведь всю жизнь… Представляешь, какие надо иметь нервы! Подбежала Мимико, веселая и оживленная, и кинулась обнимать Ирину, будто они не виделись сегодня утром. — Как хорошо, что ты здесь! Я сегодня не пойду на охоту и все-все тебе покажу! Патриция нахмурилась: — Милая моя, это не честно. Мимико умоляюще сложила руки. — Ну, Пат, ну один только раз! А знаешь что, давай вместе не пойдем. Проанализируем, какие результаты с нами и без нас. — Не спекулируй наукой в корыстных целях! — рассердилась Патриция. — “Проанализируем”! Скажи честно, что хочется еще поболтать про Землю… Ну так и быть, только из уважения к гостье, оставайся. Наконец, охотники двинулись через перевал, за ними гурьбой повалили женщины и дети. Впереди плясал и кривлялся высокий горбоносый старик в травяном балахоне, нелепо болтавшемся на его тощем теле. Он высоко поднимал какие-то каменные изображения, ударяя их друг о друга, и угрожающе вопил. В такт его выкрикам мужчины потрясали оружием, а женщины радостно визжали. — Шаман, — пояснила Мимико. — Поражает каменным топором изображение оленя, за что получит лучший кусок. Работа не пыльная, зато доходная. Кстати, вот тебе наглядный пример, как религия отстает от прогресса. Топоры уже не в моде, мы помогли им “изобрести” лук. — Мне непонятно, как вы работаете, — сказала Ирина. — Вот вас двое девчонок на всю эту орду… — Вдвое больше, чем полагается. Ребята живут в племенах поодиночке, а мы боимся. Так вот, как мы работаем… — Мимико задумчиво почесала бровь, — навряд ли смогу вразумительно объяснить, это надо прочувствовать. Мы должны заставить себя опуститься почти до их уровня. Подчеркиваю: почти, но не переходить последнюю грань. Это очень важно. Нужно раствориться в племени, ощущать себя плоть от плоти и кровь от крови его. Чтобы, так сказать, изнутри пережить проблемы, возникающие перед эволюцией. Но одновременно необходимо оставаться на высоте цивилизованного человека, видеть историческую перспективу, чтобы решать эти проблемы правильно, без ошибок. Ошибки всегда дорого обходятся. Поэтому надо жить как бы с раздвоенным сознанием, видеть одно и то же явление и изнутри и снаружи. А это безумно трудно, особенно когда долго не являешься на Базу. — Но это все теория, — сказала Ирина. — Конечно. — Мимико усмехнулась, — А практически мы руководим такриотами через любопытство. — То есть? — Любопытство. Они же как дети. Тянутся к каждой новой игрушке. Самое трудное — это заставить их понять, что игрушку можно рационально использовать. Ну например, каждый вечер мы разжигаем свой костер. Для них это чудо: огонь возникает из ничего. Мы навели их на “изобретение” огнива. С каким удовольствием они били кресалом о кремень! Искры летят — забавно! Но только через полгода до них дошло, что можно не брать на охоту угольки в обмазанной глиной корзинке. Теперь им не страшен никакой ливень, огниво не зальешь. Но… костер в пещере горит не переставая. Это не тот огонь. Они еще не умеют обобщать. Костер в пещере в их сознании не имеет ничего общего с костром, зажигаемым от огнива. Раньше они жарили мясо прямо на углях. Кошмарная вещь, одна сторона всегда обуглена. И ничего не поделаешь- давишься, а ешь. Понадобилось два года, чтобы научить женщин лепить из глины горшки для варки пищи. Однако на охоту они посуду не берут, на охоте положено закапывать мясо в угли. Положено — и хоть застрелись! Так делают боги, и попробуй им вдолбить, что боги просто отстали от жизни! А лук? Они кувыркались от восторга, когда мы с Пат за восемьдесят шагов поражали оленя… а сами топали за добычей с каменным топором. Больше года мы мучились, пока они стали употреблять топоры, только чтобы добить раненное стрелой животное. Трудно! Каждую мелочь повторяешь миллион раз, пока не осмыслят. Я уж не говорю про письменность… — Как! Вы учите их грамоте? — вскричала Ирина. Мимико, смеясь, покачала головой: — Узелковое письмо, один из поворотных пунктов цивилизации. Полсотни необходимых понятий, но и это для них… — Она махнула рукой. — Так и не освоили. Рано. Между прочим, дальние племена, где работают мальчишки, гораздо сообразительней. Не знаю, чем это объяснить, но то, на что нашим требуется год, те схватывают за восемь месяцев. — Но это же ужасные сроки! — возмутилась Ирина. — Жизни не хватит. Почему бы поактивней не подтолкнуть их? Мимико иронически прищурилась. — Даже рай опротивеет, если в него загонять кнутом. Это уж свойство человеческой натуры. Должна быть осознанная необходимость того или иного изменения жизненного уклада. Но и когда она наступит, нельзя давать готовеньким какое-либо орудие, облегчающее охоту, или другое техническое усовершенствование. Они должны сами “изобрести”. А потом обязательно усовершенствовать. В этом — суть. Главное, не открытие, главное — поиск, путь к нему. Чтобы мозги работали в нужном направлении. Иначе можно низвести человека до положения животного в зоопарке, ожидающего, когда механическая рука положит в его кормушку кусок мяса. Ирина хотела сказать, что в таком случае цивилизаторы просто герои, раз кладут, жизнь на дело, результатов которого не дождутся, но промолчала. “Герои” — это было не то слово. Проводив охотников, женщины и дети вернулись и подняли такой гомон, что Ирина схватилась за голову. Оказывается, раньше, в присутствии мужчин, они еще помалкивали. Теперь они были хозяевами. Одни, расстелив на гладких камнях сырые шкуры, остервенело соскребывали с них мездру кремневыми осколками, другие лепили глиняную посуду, используя гладко обструганные деревянные болванки вместо гончарного круга, третьи плели травяные мешки. И каждая поминутно бросала свою работу, чтобы вмешаться в действия соседки, поправить ее, поучить. Они метались по площадке, вырывали друг у друга примитивные орудия, ругались, злословили, хохотали… Орава ребятишек расшвыривала все, что попадалось под ноги, не обращая внимания на щедрые подзатыльники. Ирина несколько раз замечала среди них свою воспитанницу. Новенькая одежда девочки превратилась в лохмотья. Подопечные Мимико и Патриции вели себя сдержаннее: цивилизация пустила уже крепкие корни в их сознание. Свежее восприятие Ирины не могло не поразить это сосуществование двух разных цивилизаций. Присутствие землян совершенно не трогало такриотов, не мешало, не раздражало их. Дело тут было не в привычке. Они воспринимали появление незнакомых существ так же, как незаметно выросшее дерево или камень, скатившийся с горы. Главное, чтобы от нового не исходило угрозы. Дети природы — для них любое явление было само собой разумеющимся. От гомона у Ирины разболелась голова. Она вошла в палатку девушек, проглотила таблетку. — Покажи мне пещеры. Там, очевидно, спокойнее, — попросила она. Мимико охотно согласилась. Стены и потолок первого зала были так закопчены за тысячи лет, что свет терялся в саже, словно всасывался внутрь, и в пяти шагах от костра уже было темно. Две мрачные старухи застыли возле него, по очереди подбрасывая сухие ветки. Вспыхивающее пламя освещало их лица. Старухи зорко следили друг за другом, чтобы ни одна не пропустила очередь. На девушек они не обратили внимания. — Если костер погаснет, их бросят в муравейник, — сказала Мимико. — Только поэтому мы не решаемся “случайно” его погасить. А пора уже. Из поколения в поколение привыкли они связывать существование племени с этим костром. Это не просто костер, это фетиш — домашний бог. Огонь возвысил их над силами природы, но он же превратил их в рабов этих сил. Сейчас наступил момент, когда надо дать племени толчок. Пусть осознают, что боги не так уж всемогущи и не всегда ниспосылают ужасные наказания за людские проступки. Но эти старухи… Мы не считаем себя вправе поднимать человечество еще на одну ступень за счет жизни двух его членов, пусть даже существование их не имеет никакого значения для племени, да и вообще висит на волоске. — Это почему? — В голодные годы от лишних ртов избавляются. Под ногами глухо трещали кости. Колышущийся ковер из костей. Сотни поколений оленей, медведей, волков перемешали здесь свои останки — безмолвное свидетельство яростной борьбы, которую вел человек, чтобы стать гомо сапиенс. — Вот здесь они, собственно, и живут, — пояснила Мимико, подсвечивая фонариком. — В остальных пещерах хранится добыча да обитают боги. Не считая, разумеется, той, где обосновался шаман. — Вот это интересно! — оживилась Ирина. — Никогда не видела вблизи служителя культа. Впрочем, и издали-то лицезрела только сегодня. Мимико усмехнулась. — Пойдем, полюбуешься. Правда, в его апартаментах женщинам появляться запрещено, но нас он побаивается. Имел возможность убедиться, что с нами лучше не конфликтовать. Он как-то попытался испугать нас жалкими допотопными фокусами, так мы в пику ему такой спектакль устроили… Заставили деревья летать по воздуху, нагнали дождь и тут же прогнали тучи, соорудили роскошный фейерверк, входили в огонь и выходили невредимыми, организовали громовой “голос” богов и, наконец, “ниспослали” прямо с неба две жирные оленьи туши. Последнее, как ты понимаешь, доконало всех. Пришлось порядком повозиться с техникой, зато представление удалось на славу. Если бы женщинам разрешалось быть шаманами, тут бы старику и крышка, тем более что мы ему интимно намекнули, что ни с какими богами он не общается. Шаман занимал третью пещеру — небольшое помещение, вдоль стен которого, подпертые деревянными колышками, бежали, подкрадывались к добыче, яростно вставали на дыбы или тянулись друг к другу чучела различных животных. Ирина ахнула: это был готовый зоологический музей. В отличие от остальных пещер, здесь было окно — неровно пробитая щель в стенке горы. Шаман жил с удобствами. Он уже вернулся с проводов охотников и сидел у небольшого костра, латая свою травяную одежду. Несмотря на возраст, его худощавое тело топорщилось буграми мускулов. Девушек он встретил хмурым колючим взглядом. Мимико что-то властно сказала, и шаман покорно опустил голову, только жиденькая бороденка затряслась от злости. Ирина и не подозревала, что ее миловидная подруга обладает таким голосом. — Между прочим, он не боится гасить свой костер и с огнивом не расстается, — сказала Мимико. — Умный старик, хотя и зловредный. Ирина жадно разглядывала зверей, поражаясь мастерству первобытного чучельника. Неровный свет причудливыми пятнами выхватывал из полутьмы ветвистые рога оленей, оскаленные медвежьи пасти, страшные тигриные клыки, багровые в пламени костра. Казалось, с них капает свежая кровь. Были здесь и мелкие животные, и двухголовые змеи — второй, после пиявок, феномен этой планеты, — и даже гарпия распластала на стене острые крылья. В этом старике жил художник. Если бы он не умел препарировать зверей, он бы рисовал их на стенах. Ирина переходила от чучела к чучелу, трогала, вертела, гладила жесткую сухую шерсть, восхищалась. У шамана, исподтишка следившего за ней, смягчился взгляд. И вдруг… Она машинально оглянулась. Нет, все на месте. Горит костер, шуршит травинками шаман, Мимико задумчиво смотрит на перепархивающие по углям синие огоньки… А на колышках, вбитых в стену, разлеглись пиявки. Три высушенные черные колбаски. Ирина издала какой-то сдавленный неопределенный звук и схватила их обеими руками. Мимико тоже была поражена. — Я как-то не обращала раньше внимания, потому что не люблю к нему заходить, — виновато сказала она. — Но всех этих зверей он убил своими руками. Мужественный старикан, ничего не скажешь. Она что-то приказала, и шаман торжественно поднялся во весь свой огромный рост. Воздев руки, он заговорил нараспев, принимая монументальные позы. Мимико торопливо переводила. — Он говорит, что такого великого охотника еще не было с тех пор, как основоположник всего сущего Тхитик плюнул в океан и образовалась Такрия. Он, в смысле шаман, велик и могуществен, и с ним лучше жить в мире. Не только звери, но даже молнии и громы боятся его, и у богов он пользуется огромным уважением… Старый хвастун, долго он еще будет молоть чепуху!.. Ага, перешел к делу. Никто, кроме него, не может поймать изрыгающих гибель, потому что они не как все звери. Даже ужасные гарпии боятся их и потому заключили с изрыгающими договор о ненападении. Он узнал этот секрет от своего отца, великого шамана, которому в свою очередь рассказал его отец, тоже великий шаман. Только тот, кому подчиняются изрыгающие, может общаться с богами. Иногда находятся безрассудные, но огненная смерть не дает им даже подойти к болоту. А он подходит… Кандидат на должность шамана должен поймать пиявку, а когда он погибает, старик идет и приносит, утверждая свое могущество. Он говорит, что пиявок можно ловить только перед восходом солнца. Сейчас покажет, как это делается. Покажет только для тебя, поскольку ты любишь зверей. Но просит никому не открывать секрета. Я поручилась за нас обеих. Шаман снял с колышка и аккуратно натянул на себя одежду, сплетенную из травы и гибких веток. Это было что-то вроде комбинезона, на груди которого ветки образовывали сложный “волшебный” узор. Потом достал мелкосплетенный мешок и, высоко поднимая ноги, зашагал по пещере, сопровождая свои движения отрывистыми восклицаниями. — Подходит к болоту, — переводила Мимико. — Входит в воду… Пиявки лежат в воде. Они спят. Только солнце разбудит их. Но прикасаться к ним опасно. Он ловит их в мешок, не касаясь руками… Потом дважды столько дней, сколько пальцев на руках и ногах, держит мешок в темном месте. Только после этого пиявки умирают и их можно взять в руки. Окончив демонстрацию, шаман разделся, повесил комбинезон на колышек, аккуратно расправив складочки, и опять занялся починкой балахона. Очевидно, у него было две “спецовки” — одна для ловли пиявок, другая для “разговора” с богами. Ирина, торопливо запасав этот рассказ, выскочила из пещеры в полном смятении. Шаман одним махом перечеркнул все ее представления об этих животных. Опомнившись, она вернулась, чтобы забрать чучела пиявок, но шаман, в ужасе воздев руки, загородил их своим телом. Он трясся от страха, но твердо решил скорее лечь костьми, чем допустить такое святотатство. — Оставь его, — с досадой сказала Мимико. — Это Священный инвентарь. Пришлось подчиниться. — Возможно, я буду вынуждена еще раз обратиться к нему, — задумчиво сказала Ирина перед отлетом. — Очень интересные факты. — В любое время дня и ночи! — торжественно заверила Мимико. Ирина вернулась на Базу, не дождавшись охотников. Ей было не до этнографических наблюдений. Отмыла Бубу, уложила ее спать и неподвижно просидела у окна, пока над горами не посветлело небо. Тогда она завела мобиль и полетела к болоту. Шаман был прав: пиявки не шевелились. Ирина, включив мотор на форсаж, с ревом пролетала так низко, что трава застревала в амортизаторах. По воде метались беспорядочные волны. Пиявки никак не реагировали. Они болтались на поверхности, словно сухие сучья. На мгновение Ириной овладело отчаяние: а что, если все это просто недоразумение? Что, если нет никаких таинственных пиявок, а есть обыкновенные инопланетные животные, вокруг которых выросла красивая, но совершенно беспочвенная легенда? Оказались же ужасные драконы острова Комодо обыкновенными варанами. Что ж, и в этом случае дело надо доводить до конца. В науке знаки плюс и минус имеют одинаковое значение. А свои личные переживания… Кому до них дело? Вернувшись домой, она подошла к листу на стене и, жалобно усмехаясь, вычеркнула третий пункт: “Убивают такриотов, но не трогают землян”. Знания ее о пиявках уменьшились ровно на одну треть.ГИБЕЛЬ РОБОТА
Мобиль отчаянно трещал, подпрыгивая на воздушных ухабах. Прозрачные крылышки судорожно молотили по воздуху, мотор ревел, кашляя и захлебываясь. Эта легкая изящная машина не была рассчитана на такие перегрузки. Свет не мог проникнуть в кабину — так она была забита металлом. У задней стены громоздились контейнеры с пробирками, а все остальное пространство заполнил огромный робот. Ему пришлось поджать ноги и наклонить голову, и все равно его шарнирные колени нависали над Ириной, не давая ей откинуться на спинку кресла. Буба панически боялась этого металлического великана, от которого в машине сразу стало холодно. Ее еле удалось уговорить лететь. Выпросить робота оказалось нелегко. Их не так много было на Базе, и всех разобрали цивилизаторы, работающие в дальних племенах. Роботы охраняли племена от диких животных, выполняли тысячи мелких поручений, а главное, окружали цивилизаторов ореолом таинственности и могущества, что служило гарантией безопасности. К ним привыкали, как к собственной тени, и, естественно, никому не хотелось расставаться с ними хотя бы на короткое время. Выручил Георг. Ирина уже заметила, что этот спокойный, уравновешенный красавец мало говорит, но много делает. Его племя обогнало все остальные на пути прогресса. Он привез своего робота, но с условием, что тут же заберет его обратно. И сейчас его мобиль стрекотал сзади. Вместе с ним в экспедицию затесался неугомонный Буслаев. Разумеется, Ирина могла бы пренебречь всеми инструкциями и сама отобрать пробы воды, травы и грунта. Правила — не догма, и исследователь обязан поступать так, как подсказывает обстановка. Тем более, что еще не было случая нападения пиявок на землян. Но люди до сих пор приближались только к берегу, не входя в воду. А где гарантия, что животные потерпят присутствие посторонних в своей стихии? То, что это удавалось шаману, не проясняло, а наоборот, усложняло проблему. Поэтому профессор Сергеев категорически рекомендовал Ирине в болото не залезать. Мобили опустились в ста метрах от берега, и робот неуклюже выбрался наружу к великому удовольствию Бубы. Георг коротко объяснил задание: — Пройдешь болото вдоль и поперек по разу. Если глубина окажется больше твоего роста, не смущайся. Пробы воды и грунта будешь брать через каждые пять метров, травы- через десять. И обязательно засеки координаты мест заполнения каждой пробирки. Робот кивнул, взвалил на плечи контейнеры и шагом, от которого вздрагивала почва, направился к воде. Его черная тень бежала впереди. Ирина вскочила в машину — наблюдать сверху было удобнее. Мужчины разлеглись на траве. Мобиль легко запорхал над болотом. Сверху робот казался странно коротконогим, будто придавленным к земле. Его руки нелепо дергались в такт ходьбе. Ирина засмеялась и перевела взгляд на экран. Что это? Она поспешно схватилась за верньер. Нет, лот исправен. Но что случилось с пиявками? Со всех сторон несутся их черные тела к тому месту, куда приближается сверкающая металлическая громада. Серое зеркало воды сплошь испещрено белыми бурунчиками. Передние ряды животных почти вылезли на песок — так напирали на них остальные. Будто к берегу прибило плот из черных сучьев. Где-то в глубине подсознания взорвался сигнал опасности. Ирина вцепилась в пульт. Вытянутые в струнку, неотвратимо нацеливающиеся тела… А мужчины, ни о чем не подозревая, греются на солнышке. Их свитера так мирно голубеют в траве… Ирина рванула микрофон коротковолновки. Поздно! Робот сделал последний шаг… Розовое облачко распустилось в воздухе, словно гигантский бутон, пронизанный солнцем. Потом оно стянулось в плотную багровую сферу, из которой навстречу роботу с сухим потрескиванием понеслись тысячи раскаленных комочков. Робот остолбенел, вскинув руки. Будто вулкан дохнул из болота. Мобиль сдуло, как одуванчик, и если бы не автопилот, вряд ли Ирине удалось бы удержать его. Буба завизжала от ужаса, когда земля метнулась навстречу. Такой же вопль вырвался у Ирины, но совсем по другой причине. Светлое пламя, в котором взрывались синие молнии, окутало робота. Могучее тело осело, потекло ручьями, и через мгновение на землю свалилась бесформенная глыба металла. Трава вокруг нее вспыхивала злыми огоньками. Георг и Буслаев кинулись к месту катастрофы. — Назад! — закричала Ирина, будто они могли услышать. Но ничего не произошло. Уничтожив робота, пиявки уплыли. Люди их не интересовали. Ирине сверху было видно, как мужчины о чем-то спорят, размахивая руками. Потом они двинулись вперед и, закатав брюки, по колена вошли в воду. Пиявка, барражировавшая у берега, отплыла вглубь. Иринаторопливо повела мобиль на посадку. Она выпрыгнула из кабины, не дождавшись, пока амортизаторы коснутся земли. Буба побоялась покинуть машину. — Вот! — мрачно сказал Георг. — Все, чем мы можем вам помочь. Они протягивали шляпы, на дне которых, между пучками травы, растекался ил. — Вы с ума сошли! — тяжело дыша, сказала Ирина. Буслаев подмигнул ей. — Только, чур, шефу ни слова, не то нам… — Он выразительно провел ребром ладони по горлу. — Но как вы могли!.. — Ерунда! — небрежно сказал Георг. — Пиявки на землян не нападают, это проверено. Но почему они убили робота? Что за идиотская избирательность! — Честное слово, мне так неприятно… — Ну что вы! — Георг улыбнулся. — Земля пришлет еще. А пробы мы отберем сами. Не так квалифицированно, конечно, но как сможем. Вот только слетаем за контейнерами, и все будет в порядке. Но начальник отряда категорически запретил приближаться к болоту. — Дальнейшие эксперименты могут привести к дальнейшим потерям, — сказал он Ирине. — В вашем распоряжении достаточно фактов, связанных с этой загадкой. Больше пока не надо: множество фактов ограничивают исследователя тесными рамками, убивают фантазию. А только фантазия может вывести из этого сумасшедшего лабиринта. Фантазия и интуиция. Мы знаем, что пиявки не трогают землян, не трогают шамана, не трогают гарпий, но убивают остальных такриотов и, как ни странно, роботов. Между этими фактами должна быть логическая связь, и ее необходимо определить, чтобы сделать отправной точкой ваших исследований. Вот и думайте. Предложите гипотезу, пусть неверную, пусть самую что ни на есть абсурдную, но чтобы она хоть как-то объясняла поведение животных. При проверке ее вы что-то отбросите, что-то дополните, и, может быть, у вас останется рациональное зерно. Можете воспользоваться машиной. — Нет! — зло сказала Ирина. — Если машина начнет строить гипотезы, что тогда делать ученым? К тому же в алогичных задачах при недостаточности компонентов машина допускает полпроцента ошибок. Меня это не устраивает. Она выбежала из кабинета начальника и несколько часов бездумно слонялась по Базе. А потом, вопреки запрещению, все-таки полетела на болото. Бубу она не взяла с собой. Посадила мобиль там, где они были утром, и медленно пошла к берегу, задумчиво сшибая носками туфель белые головки цветов. Солнце уже клонилось к закату, поднялся ветер, и по траве бегали короткие серые тени. Ирина брела опустив голову, пока перед глазами не появилась бесформенная, уже начавшая покрываться ржавчиной металлическая глыба, как страшный памятник. Ирина осторожно погладила шершавый бок. Металл остыл и холодил ладонь. Она обошла вокруг, стараясь не ступать на выжженную землю, нарвала букет и положила на острую вершину, где торчали два крохотных волоска не успевшего оплавиться транзистора. Потом пошла дальше. Вода рябила у ее ног, невдалеке шуршали пиявки. Ирина выпрямилась и вызывающе скрестила руки на груди, хотя сердце тревожно вздрагивало. Пиявки равнодушно сновали мимо, хоть бы одна обратила внимание! Гипотеза! Она отдала бы полжизни, чтобы связать воедино эти взаимоисключающие факты. Ирина скинула туфли и побежала по воде, стараясь производить как можно больше шума. Никакого эффекта, только вымокла до пояса. Она чуть не открыла пальбу из пистолета, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, но вовремя передумала. Если животные ответят на огонь, их уже некому будет исследовать. Погрозив кулаком пиявкам, она повернулась и поплелась к мобилю. Ветер сдвинул букет с глыбы, и он висел на боку, зацепившись за волосок транзистора. Ирина поправила его, укрепила попрочней. Какая нелепая случайность! Впрочем, разве это случайность? Георг не бросил ей ни слова упрека, но Ирине казалось, что она прочла его мысли. Она виновата в гибели робота. Легкомысленно поверила сказкам, что пиявки убивают только такриотов, и не приняла никаких мер безопасности, даже тех минимальных, что диктуются инструкциями. А все из-за спешки. Все хочется поскорее сделать открытие. Но теперь это в прошлом. Хватит легкомыслия! Каждый опыт будет тщательно продуман во всех деталях. А пиявки… Ничто им не поможет. Их тайна будет разгадана. Без этого она с Такрии не улетит. Ирина подняла голову, огляделась. Как быстро изменилось все вокруг! Солнце скрывалось за горами, и яркие цвета сошли с равнины. Она стала сумрачнее, строже, суровее. А может, это только показалось Ирине? Уже в воздухе ей пришло в голову, что в поведении пиявок есть еще одна странность, отличающая их от других животных: они не разбираются, враг перед ними или нет. У цивилизаторов бытовало мнение, что такриоты подходят к болоту с агрессивными намерениями, поэтому пиявки и уничтожают их. Землян же животным бояться нечего. Предполагалось, что они чувствуют психический настрой приближающихся к болоту существ. Однако у робота были самые мирные намерения, но его уничтожили. А Ирина сейчас была врагом. Чуть не приступила к военным действиям. И ее не тронули. Не трогают и шамана, который их ловит и убивает. Значит, их избирательность основывается на чем-то внешнем. Что ж, этот факт пригодится. Если он и не объясняет ничего, то во всяком случае сужает круг поисков. Двое суток просидела она на Базе, размышляя, рассчитывая, сопоставляя. Лист за листом, испещренные схемами, уравнениями математической логики, неоконченными фразами летели в корзину. Буба, обиженная невниманием, бродила одна, надув губы беспрепятственно таскала конфеты из столовой. Ирине было не до нее. В первый день с ней сидели Георг и Буслаев, потом Ирина прогнала их. Они только мешали думать. Сергеев все-таки ввел в машину данные. Машина отказалась решать: для аналогичной задачи не хватало компонентов. На третий день Ирина полетела в горы. Опять она сидела у костра шамана, и объектив тщательно фиксировал на мнемокристалле каждое движение такриота. Шаман вошел в раж. Пораженный “непонятливостью” женщины с неба, заставляющей повторять одно и то же, он прыгал, размахивал руками, обливался потом… К сожалению, такриоты не знали календаря. Ирина дотошно расспрашивала, в какое время года он охотился на пиявок, был ли дождь или ясное небо. Выходило, что погода не имеет значения, времена года тоже. — Возможно, пиявки не трогают его только рано утром? — подсказала Мимико. Но шаман гордо заявил, что может безопасно подойти к болоту в любое время суток. — Идем! — решительно сказала Ирина. Патриция не удержалась от хохота, когда шаман в своем нелепом балахоне полез в мобиль. Более неподходящего пассажира для этой сверхсовременной машины трудно было представить. Он отчаянно трусил, но под взглядами всего племени держался стойко. Зато когда дверца машины захлопнулась, по становищу пронесся вопль восторга. Мобиль взлетел высоко, но авторитет шамана вознесся еще выше. Кроме подопечных, никто из племени еще не отваживался летать. В воздухе старик все-таки закрыл глаза и не открывал их, пока не приземлились. — Не вздумай выходить! — строго сказала Ирина Бубе. Девочка послушно кивнула. Ирина шла впереди, а Мимико и Патриция по бокам шамана, готовые прикрыть его, если пиявки обнаружат враждебные намерения. Но никакого геройства не потребовалось. Шаман беспрепятственно подошел к берегу и даже вошел в воду. Над головой светило солнце, а в мыслях Ирины была сплошная темнота. — Не иначе он знает какой-то секрет и скрывает, — сказала Мимико, с невольным уважением поглядывая на старика. — Ну, если так!.. — свирепо протянула Патриция и осеклась, вытаращив глаза: рядом стояла Буба. Непоседливая девочка решила, что рядом с могущественными небесными людьми ей ничего не грозит. Ирина, как наседка, бросилась на нее, загораживая от болота. — Не суетись, — сказала Патриция, — они же не реагируют. Эта загадка была похлеще, чем все остальные. Вековым опытом было проверено, что ни один такриот, кроме шаманов, не может безнаказанно приблизиться к болоту, и вот Буба спокойно стояла на берегу. Ирина застонала и схватилась за голову. Теперь вообще ничему нельзя было верить. Она так расстроилась, что даже не вернулась на Базу, заночевала в палатке девушек и на другой день пошла со всем племенем на охоту. — О пистолете забудь, — предупредила Патриция. — Вот тебе лук и развлекайся. Только постарайся не задеть своих. Но Ирина предпочла вооружиться мнемокамерой. Нырнув в душный полумрак леса, такриоты преобразились. Куда девались суетливая нервозность, бессмысленные выкрики, беготня! Теперь это были суровые настороженные воины, от умения и удачи которых зависит благополучие всего племени. Бесшумной вереницей скользили они между стволов, выбирая места, куда падала тень погуще. Ни один сучок не скрипнул под их босыми ногами. Патриция двигалась впереди, Мимико и Ирина замыкали колонну. Под ногами пружинил толстый ковер из прелых листьев, и идти было трудно, как по цирковому батуту. Вокруг, куда ни взгляни, качались зеленые канаты лиан, переплетаясь странными узорами. Будто чудовищный паук накинул на лес страшную паутину. Лианы приходилось раздвигать или рубить, чтобы пройти. Они были жирные и скользкие, и Ирина каждый раз брезгливо вытирала пальцы. На стволах, как волшебные печати, лепились цветы — огромные бледные бутоны с узкими нежными лепестками. Они были очень красивы, и Ирина решила, что на обратном пути обязательно сорвет несколько штук и поставит в вазу на письменный стол. Трех цветков вполне достаточно, чтобы образовать чудесный букет. Но тут большой с синеватым отливом жук прошелестел мимо нее и закружился над цветком. Желтая, вкусно пахнущая капелька в центре бутона привлекла насекомое. Жук сложил крылья, упал на лепесток и пополз по нему внутрь. Лепесток быстро стал подниматься. Жук понял опасность, но уже было поздно. Лепестки захлопнулись, и скоро внутри тугого шара смолкло предсмертное жужжание. После этого Ирина раздумала собирать в лесу букеты. Мимико тихонько толкнула ее и показала в сторону. Там, почти неразличимый среди лиан, раскачивался огромный двухголовый питон. По его зеленому в коричневых разводах телу пробегали судороги. Взгляд четырех крохотных глаз будто приклеился к людям. — Сейчас он не нападет, нас слишком много, — сказала Мимико, натягивая лук и меткой стрелой пригвождая змею к стволу, — а забреди сюда одна… Теперь каждая лиана казалась Ирине змеей, и она пристально вглядывалась в покрытые зеленой слизью каваты, прежде чем раздвинуть их. Все было ново, необычно. Она едва успевала вскидывать мнемокамеру. Впереди послышались возбужденные крики. — Медведь, — уверенно сказала Мимико. — Будь это олень, они бы гнались молча. Она не ошиблась… Обратно возвращались шумно и весело. Огромную тушу, привязанную к срубленному тут же стволу молодого дерева, несли несколько человек, постоянно меняясь. Охотники кричали, размахивали оружием, перебивая друг друга хвастались, кто сколько выпустил стрел и кто именно нанес смертельный удар. Девушки шли молча. — Мы понимаем, что это необходимо, — сказала Патриция в ответ на немой вопрос Ирины. — Цивилизация должна пройти все ступени, не минуя ни одной, и нам необходимо шагать рядом. Но после такого все-таки делается не по себе. Ты, разумеется, улетишь сейчас на Базу? Ирина кивнула. И опять она горбилась над столом, сжимая виски горячими ладонями. Ей казалось, что она давно разгадала бы загадку пиявок, если бы не бессмысленное убийство робота. Почему пиявки уничтожили его? По внешнему виду он мало походил на человека ростом и пропорциями, а пиявки могли судить только по внешнему виду, это уже доказано. Разгадка таилась где-то совсем близко. Имеющиеся факты были столь разноречивы, что могли давать только однозначное толкование, Было ясно одно: что-то есть такое во внешнем облике землян и такриотов, что служит ориентиром для животных. Что-то настолько привычное, что просто не задерживает их взгляд. Может, цвет кожи? Такриоты смуглее землян, потому что не моются. Буба сейчас беленькая, поэтому ее не тронули, а шаман… О нем лучше не думать, тут все загадка. Ирина полетела к девушкам и вместе с ними разработала план эксперимента. Девушки патрулировали на мобилях, а Ирина, вымазав лицо и руки грязью, пошла к болоту. Если животные станут собираться для атаки, девушки подадут сигнал, и тогда Ирина со всех ног кинется прочь. Но и грим не помог. Пиявки упорно не хотели нападать. Грязь пришлось смывать в том же болоте на виду у животных. И все-таки Ирина чувствовала, что приближается к цели. Методом исключения она отсекала все возможные варианты, подбираясь к тому, последнему, который и должен оказаться верным. И по мере того как протекали дни, она делалась все спокойнее и уверенней. Она и сама не понимала, откуда появилась эта уверенность. Возможно, оттого, что приняла все меры и загадка не могла не быть разгадана. Это произошло на двенадцатый день. Ирина вышла на минуту из комнаты, оставив дверь полуоткрытой, а когда вернулась, застала Бубу на месте преступления: девочка красила губы. Стоя перед зеркалом, она неумело, но решительно водила помадой, превращая рот в яркое пятно. Ирина застыла перед дверью, сдерживая смех. Как быстро перенимала чужую культуру эта юная такриотка! У нее был острый, любознательный ум, решительная действенная натура, волевой характер. Такие индивидуумы изредка попадались среди аборигенов. В рекордно короткий срок Буба настолько выучила язык землян, что могла кое-как объясняться с ними. Ирина поручала ей несложную домашнюю работу, и девочка отлично справлялась. Начала постигать она и принципы грамоты и уже выучила несколько букв. Мало того, она рвалась к управлению мобилем. Мимико теперь прилетала каждый день, чтобы подбодрить подругу. Рассказывая ей о Бубе, Ирина, смеясь, воскликнула: — Попробуй отличи эту такриоточку от любой земной девчонки! А ведь все, что надо было, — это одеть и… — Что с тобой? — испугалась Мимико. — Постой-постой, — забормотала Ирина, — так ведь… Она остановившимися глазами уставилась на подругу. — Да что случилось?! — Ну конечно, они же только по внешнему виду… С ликующим воплем Ирина вылетела в коридор. Перепуганная Мимико мчалась следом, но нагнала ее только у дверей начальника отряда. — Все ясно! — усмехнулся Сергеев, когда Ирина, красная и взбудораженная, ворвалась к нему. — Разгадали загадку? — Точно! — сказала сияющая Ирина. — Давайте робота! — А не убьют? — Ни в коем случае. — Это почему же? — А потому, что мы его оденем.ПЛЕМЯ БОЛЬШОГО ДУБА
Прозрачные, устало опущенные крылья мобиля почти скрывались в густой траве. Она доходила до люка, серебристые метелочки сыпали созревшие семена внутрь кабины. В этой траве мобиль походил на большого красного жука, набирающего сил перед взлетом. Справа начинался склон горы, слева равнина зелеными уступами спускалась к далекому прозрачному озеру, и все это накрывал ярко-синий небесный шатер. Был чудесный летний день, когда все сверкает под солнцем, а легкий ветерок смягчает жару. Ирина сидела на краю люка свесив ноги. Она сняла туфли, и метелочки, колыхаясь под ветром, приятно щекотали ступни. Буба, нахмурив брови, развалилась в пилотском кресле и воображала, что ведет машину. Все вокруг казалось вымершим. Только в воздухе изредка мелькали голубоватые молнии: полуптицы-полустрекозы гонялись за насекомыми, иной раз проносясь так близко, что в лицо ударяла легкая воздушная волна. Наверное, в траве сновали мелкие зверьки, возможно даже змеи, но пистолет на поясе придавал такую уверенность, какую Ирина в себе и не подозревала. До чего велика власть оружия! Ну что может сделать пистолет против стремительного змеиного броска? Кобуру не успеешь расстегнуть. И, однако, Ирина без колебаний высаживалась в самых глухих точках планеты, бродила по траве или между деревьев, отдыхала на берегах озер… Правда, не удаляясь далеко от мобиля и не выпуская оружия из рук. Нет, это была не трусость, а разумная предосторожность: все-таки чужая планета… Как-то незаметно Ирина “акклиматизировалась”. Здешний уклад, казавшийся таким суровым и непривычным вначале, органически вошел в ее жизнь. Впрочем, если быть честной, то надо признаться, что не так уж на Такрии и сурово. Ирина ожидала гораздо большего. Разумеется, первозданная природа, дикие звери, аборигены-все это было. Но кучка землян сумела в этих первобытных условиях с большой степенью приближения воссоздать привычную земную обстановку. Правда, только на Базе, но в первые дни Ирина считала и это излишним. Ее воображению, подогретому романтикой книг и фильмов, было тесно в такой “тепличной”, как она презрительно говорила, атмосфере. Тянуло к “бурной”, полной опасности жизни. Но, полетав по планете, она постепенно осознала ту истину, которая есть уже в учебниках для младших классов: человек — продукт своей эпохи, ее облика, ее условий, ее, наконец, условностей. Опасности и суровый уклад закаляют характер, это верно. Но отними минимальный комфорт, хотя бы мыло и зубную щетку, и человек что-то утеряет из того богатства, который приобрел в процессе эволюции. Заслуга создателей Базы и была в том, что они не расслабляли цивилизаторов комфортом, как вначале думала Ирина, а вносили в их жизнь те необходимые компоненты, без которых земляне в какой-то степени могли бы деградировать. Впрочем, сейчас Ирина рассуждала не об этом. Она прилетела на эту полюбившуюся ей равнину, чтобы спокойно обсудить итоги прошедших дней. Ирина чувствовала себя загнанной в тупик, она просто не знала, что делать дальше. И снова и снова она перебирала в памяти каждый свой шаг на этой планете. Нет, все было правильно. Ее научный руководитель академик Козлов мог быть доволен: она не сделала ни одной ошибки, в точности повторила методику, какой пользовались все знаменитые астробиологи на других планетах. Только там эта методика принесла великолепные результаты, а здесь… Профессор Сергеев отложил эксперимент с роботами на неделю. — Вы совершенно правы, — заявил он Ирине. — Я на сто процентов уверен, что пиявки действительно не трогают одетых существ. Этим же объясняется и их “либерализм” в отношении гарпий, окраска оперения которых очень напоминает мужской костюм с сорочкой и галстуком. Ну и что? Дает вам это что-нибудь? Отнюдь. Своей догадкой вы вызвали к жизни такие проблемы, что хоть впору приглашать сюда целый институт. А к решению этих проблем вы не готовы. До сих пор вы подходили к пиявкам так, будто это хоть и своеобразные, но обычные животные. А они необычные. Понимаете? НЕОБЫЧНЫЕ. Поэтому, прежде чем приступать к дальнейшим исследованиям, постарайтесь перестроиться сами. Эксперимент с роботом должен не завершать какую-то часть работы, а начинать новую. Вот почему Ирина в самый разгар рабочего времени сидела в проеме люка свесив ноги. Она, вздохнула и, прислонившись к обшивке, стала вспоминать все, слышанное на лекциях. Постепенно она перестала различать колышущийся зеленый ковер трав, синее небо и темные зубцы далекого леса. Все это вытеснили странные существа, проплывавшие перед ее мысленным взором. Каких только чудес не создала природа на других планетах! Шестиногие гиганты Ниобы, рядом с которыми слон, как котенок рядом с тигром. Ужасающие, поражающие воображение титаны, распахивающие пасти, огромные, как ковш экскаватора, и на поверку оказавшиеся безобиднейшими травоядными. Их туловище весило восемьдесят тонн, а головной мозг… двести граммов! Ларин, молодой, подававший большие надежды астробиолог, любил кататься на них верхом… и погиб, свалившись со спины великана под трехтонное копыто. И животное, задумчиво объедавшее верхушку дерева, даже не заметило, на кого наступило. Л карликовые носороги Эйры величиной с фокстерьера! Их вытянутый нос переходит в костяной, заостренный, как пика, наконечник, которым эти злобные гномы на скорости сто километров в час пропарывают любое животное, перешедшее им дорогу. А летающие ящеры Цереры! Они с такой силой бросаются на космолет, что своими телами, покрытыми костяными пластинками, отбивают куски жаропрочной обшивки, сами разбиваясь насмерть. И наконец, здесь же, на Такрии, двухголовые змеи и гарпии… Различное строение организма, различные условия обитания, поскольку эти планеты различаются притяжением, степенью солнечной радиации, составом атмосферы. И все же у этих животных и у всех остальных гораздо больше общего, чем различий: все они подчиняются основным законам жизни, которые везде одинаковы. А пиявки? Кто их знает, каким законам они подчиняются! В этот момент рассуждения Ирины были прерваны довольно невежливым толчком, выкинувшим ее из мобиля. Оказывается, трава вовсе не такая мягкая и ласковая, когда летишь в нее вниз лицом: жесткие ворсинки царапаются, как иголки. К тому же коленкой Ирина ударилась о землю и от острой боли, от неожиданности и испуга чуть не закричала. Инстинктивно она закрыла глаза и сжалась в комок… Через мгновение Ирина опомнилась. Рванув пистолет из кобуры, она приподнялась, опираясь на здоровое колено, и быстро огляделась. Вокруг никого не было. Никого и ничего, даже мобиля. Стоя на одном колене и выставив пистолет перед собой, Ирина ошеломленно оглядывалась во все стороны, вытягивая шею, чтобы лучше видеть поверх травы. Мобиль исчез, загадочно растворился. И только было Ирина всерьез подумала, не сошла ли она с ума, как сверху донесся отчаянный вопль. Ирина задрала голову и все поняла. Мобиль набирал высоту, а в черном провале люка виднелось искаженное ужасом лицо Бубы. Девочка нечаянно нажала кнопку подъема… Ирина вскочила на ноги и тут же упала: невыносимая боль в колене подкосила ее, как серпом. И эта боль мгновенно привела ее в чувство. Скрипнув зубами, она, превозмогая себя, встала. Мобиль уходил вертикально вверх. Мощные взмахи крыльев под яркими солнечными лучами образовывали сверкающий полукруг. Буба вопила, потеряв рассудок. Пятьдесят… восемьдесят… сто метров. Пока еще девочка держится за створки люка, но что будет, если машину качнет? Положение было критическим. Мобиль ушел уже так высоко, что кричать бесполезно: слова сливались бы в неразборчивый шорох. Да и как объяснить, что надо нажать другую кнопку, человеку, который едва знает сотню-другую земных слов? Ровно столько, сколько Ирина знала по-такриотски. А мобиль будет подниматься все выше и выше, пока хватит опоры крыльям. Мотор у него отличный. И скоро, очень скоро в разреженной атмосфере руки Бубы ослабнут… Вот тут Ирина не выдержала и зарыдала навзрыд. Она оплакивала не только Бубу, которая погибала сейчас по ее вине, она оплакивала и себя, такую невезучую… И сквозь слезы не сразу заметила, как из-за леса появился второй мобиль. Он шел низко, слегка покачиваясь, как всегда, когда автопилот выключен и машину ведет человек, и, поймав его взглядом, Ирина сначала не поверила: до того казалось нереальным это счастливое совпадение. А поверив, она торопливо вытянула руку с пистолетом, и выстрелы гулко раскатились по равнине. Три сплошных залпа, потом одиночный, снова три… Сигнал бедствия. Мобиль клюнул носом, камнем полетел вниз, ударился о землю так, что застонали амортизаторы. Из люка высунулось встревоженное лицо Буслаева. — В чем дело? — гаркнул он. Ирина не могла говорить, только показала рукой. Цивилизатор взглянул вверх и мгновенно все понял. — Забыла выключить зажигание? Рррастяпа! Чему вас только в академии учили! Да садись, садись же скорей! Он рывком втянул Ирину и включил мотор на форсаж. Задрав нос, мобиль ринулся в высоту. Буслаев ожесточенно манипулировал кнопками, выжимая из мотора невозможное. — Говорил ведь, давай сменяемся машинами! На твоем бы сразу догнали, — бурчал он в бороду. — Эти уж мне научные работнички с профессорской рассеянностью! Ну давай, старушка, давай, покажем на что мы способны… Надо было быть классным пилотом, чтобы за две минуты набрать такую высоту. Заложив сумасшедший вираж, Буслаев вывел свою машину над мобилем Ирины. — Эх, черт, и троса нет! Ну, попробуем без страховки. Садись за пульт. — Что ты задумал? — ужаснулась Ирина. — Увидишь. Слушай внимательно, да перестань хныкать. (Ирина торопливо вытерла глаза). Подведи ближе, еще ближе… Когда я крикну, дашь левый крен и тут же сложишь крылья вверх. Обязательно вверх, не перепутай, не то они невзначай хлопнут меня, а парашют здесь не предусмотрен. Это было безумие — то, что задумал Буслаев, но другого выхода не было. Ирина, сжав зубы, осторожно сводила машины так, чтобы люки оказались друг против друга. Надо было сократить расстояние хотя бы до трех метров. Она слегка наклонила машину, чтобы крылья оказались в разных плоскостях. — Чуть выше! — приказал Буслаев, примериваясь. Буба все так же стояла у люка, но теперь, видя помощь, несколько успокоилась. Прямо возле ее лица была та скоба на обшивке машины, за которую ухватится Буслаев… если, конечно, не попадет под удар крыльев. Ирина задержала дыхание и подвела мобиль еще на десяток сантиметров… Буслаев прыгнул. Его тело, вытянутое, как у ныряльщика, скользнуло под крылом, когда то шло вверх, и пальцы дотронулись до скобы… но не удержались на ней. Ирина ахнула. Цивилизатор изогнулся в последней отчаянной попытке и медленно начал сползать по корпусу… Мысли вихрем пронеслись в голове Ирины. До поверхности четыре километра. Если пустить мобиль в пике, то можно обогнать Буслаева и поймать его на корпус машины. Причем высота позволяет сделать и вторую попытку, если первая не удастся. Ее палец уже нащупал кнопку, но нажать не пришлось: Буслаев висел, зацепившись одной рукой за нижнюю планку люка. Вот он схватился второй рукой, подтянулся… Буба вцепилась в его волосы и изо всех сил тащила внутрь. После нескольких попыток Буслаеву удалось перекинуть ногу через люк, и, наконец, неуклюже перевалившись, он исчез в темном провале кабины. Ирина отерла пот со лба и повела машину на посадку. Буба первая вылетела из мобиля и опрометью кинулась прочь, а Буслаев растянулся на траве с видом человека, сделавшего тяжелую, но нужную работу. Покусывая травинку, он сказал самым непринужденным тоном: — А у меня есть ха-роший сюрприз. Будешь рада. Только надо слетать ко мне в гости. И ни слова упрека, будто не велась только что по вине Ирины сумасшедшая игра со смертью. Впрочем, все, что он мог сказать, Ирина уже сказала себе в самых беспощадных выражениях. “Черт его знает, что за человек! — думала девушка, в которой восхищение боролось с внезапно вспыхнувшим раздражением. — Ну обругал бы, для разрядки нервов, прочел мораль… это было бы только естественно. И правильно. А то ведет себя так, будто ничего не произошло. Сюрприз у него есть! И нахал: на “ты” перешел, понимает, что у меня нет морального права поставить его на место. Но предложение придется принять, хотя бы из любезности…” Она поднялась, отряхнулась, потрогала все еще болевшее колено и решительно сказала: — Летим. Против ожидания, Буба прибежала, как только ее позвали, и смело полезла в мобиль. Юная такриотка поняла, что эта красная птица всецело подчиняется людям с неба и не только им. Она сумела увязать нажатие кнопки с полетом машины. Значит, это она, Буба, подняла “птицу” в воздух. Дальнейшего логического вывода она пока не одолела, но это было уже делом времени. Племя, в котором работал Буслаев, считало себя потомком огромного дерева, росшего на утесе, над входом в пещеру. Земляне называли его дубом по внешним признакам, хотя, разумеется, это была совсем другая порода. Его огромные ветви, изогнувшиеся под собственной тяжестью, сплошь были усеяны звериными черепами и полусгнившими шкурами, а могучие корни, проникнув в глубь утеса, разорвали и выворотили наружу камни. Одно корневище пробило скалу насквозь и, изогнувшись дугой, ушло в землю, загораживая вход в пещеру, но никому и в голову не приходило срубить его. — Уж эти мне священные реликвии! — пожаловался Буслаев, протискиваясь между корнем и кромкой входа. — С моей ли фигурой, Ирина, которой самой пришлось пробираться боком, в душе посочувствовала гиганту. Здесь все было как и в племени девушек: неугасимый костер, который поддерживали два старика, закопченный потолок, звериные шкуры у стен для спанья, тяжелый, застоявшийся запах. Но Ирина обратила внимание на необычную для первобытного племени чистоту. Не то чтобы пол пещеры был тщательно выметен, но нигде не белело ни одной косточки, не валялись осколки кремня и палки для рукояток. Даже золу отгребали от костра и куда-то уносили, это было видно по следам на полу. — А ты, оказывается, аккуратист, — одобрительно сказала Ирина. Буслаев смущенно погладил бороду. — В том-то и дело, что я ни при чем. Такой порядок заведен издавна. Все лишнее из пещеры уносится и сваливается в расселину. И место ведь для свалки выбрали с умом: за скалой, чтобы не доносились запахи. Я как-то пытался прикинуть объем мусора, чтобы вычислить, сколько живет здесь племя. Получается сумасшедшая цифра: несколько тысячелетий. “Тысячи лет, и не подвинулись ни на шаг по спирали эволюции. Невероятно!” — Почему же племя девушек живет в такой грязи? — вслух подумала она. — Потому что это ближние племена. Они все такие. Чем дальше от Базы, тем аборигены культурнее, — простодушно ответил Буслаев. “От Базы ли дальше? — подумала Ирина. — При чем здесь База?” И опять она почувствовала, что прикоснулась к краешку великой тайны этой планеты. — Посмотрим жилище шамана, — сказала Ирина, направляясь в глубь пещеры. Буслаев схватил ее за руку: — Не туда. Здесь всего один зал без смежных комнат. У нас шаман живет в собственном замке, как феодал. Они направились к выходу, белевшему двумя слабыми полосками света. Буба держалась рядом, точно приклеенная. Она сразу уловила косые взгляды женщин племени и отлично знала, что сделают с чужаком, оторвись она от людей с неба. Только выйдя из пещеры, Ирина обратила внимание, что жизнь племени Большого Дуба протекает совсем в другом ритме, чем в племени девушек. Ни суеты, ни гомона, ни бесцельной беготни по площадке. Даже дети и те играли словно вполголоса, а взрослые спокойно занимались своими делами. Мужчины обрабатывали кремневые наконечники, привязывали их к стрелам звериными жилами, обстругивали каменными ножами гибкие стволы молодых деревьев и, сгибая их, прикидывали на глаз, хороший ли получится лук. Женщины сшивали шкуры, пробивая дырки тонким костяным шилом, разделывали мясо убитых зверей или толкли в каменных ступах съедобные коренья. И все это молча, сосредоточенно, не мешая друг другу. Ирина уже знала причину такой необычной сдержанности: неподалеку было большое становище гарпий, и за многие века у такриотов выработалась привычка не привлекать излишним шумом внимание этих страшных животных. И одевалось это племя не так, как ближние племена, которые ограничивались набедренной повязкой. Здесь мужчины и женщины носили короткие юбочки, переходившие спереди в широкий нагрудник, а на спине — в две лямки крест-накрест. “И все-таки дело не только в гарпиях, — подумала Ирина, поймав два-три четких, уверенных движения. — Тут явно военная выучка. Молодец Шкипер! Он, конечно, здорово перегибает, за что ему и достается на собраниях, но все равно молодец”. — О, нам повезло, шаман творит суд и расправу, — оживился Буслаев. — Это зрелище! К великому удивлению Ирины, шаман оказался совсем молодым мужчиной лет тридцати двух — тридцати пяти. Это был высокий, атлетически сложенный человек с бицепсами штангиста и стройными, сухими ногами бегуна на длинные дистанции. Его пышные, как у женщины, волосы были уложены в причудливую башню, покачивающуюся на голове. С такой прической невозможно продираться сквозь лесные заросли. Она служила кастовым признаком, так же как длинный, до пят, травяной балахон и массивная трость из кости какого-то животного. Глаза у него были острые и хитрые, а коротконосая ушастая круглая физиономия поражала богатством мимики, что было редкостью среди аборигенов. Шаман сидел в грубом подобии кресла, выбитом в скале, а перед ним стояли два взволнованных охотника. Буслаев потихоньку подвел Ирину поближе и стал переводить. Тяжба охотников была довольно обычной в первобытном обществе. Во время охоты один ранил оленя стрелой, а другой добил его топором. Кому по праву должна принадлежать добыча? Этот вопрос имел чисто этическое значение, поскольку убитое животное является собственностью всего племени. Но тот, кто убил больше зверей, считается великим охотником и может претендовать на пост шамана. — Понимаешь, — шепотом объяснил Буслаев, — сейчас заинтересованы все трое. Перевыборы шамана примерно через месяц, когда дуб начнет менять листву, и эти двое соискатели на должность. Они лучшие охотники племени и идут сейчас на равных: имеют одинаковое количество добычи. Так что шаман фактически должен выбрать своего возможного преемника, с которым будет бороться за место. Ему это, сама понимаешь, не хочется. Для него выгодно, чтобы претендентов было двое, тогда выборы переносятся на год: в племени не может быть двух лучших, шаманом становится только один, самый лучший. А любой из них вполне может отобрать у него должность — оба молодые, здоровые, ловкие… Как же он выкрутится? Охотники стояли перед шаманом напружинившись, с силой уперев пятки в землю и сжав кулаки, точно встречая нападение хищного зверя. Их взгляды, которые они бросали друг на друга и на судью, таили угрозу и недоверие. Ирину удивило, что никто из племени не подошел послушать, чем разрешится этот спор, хотя вопрос касался всех. — В этом отношении аборигены крайне щепетильны, — пояснил Буслаев. — Реакция зрителей, возгласы, явное одобрение и поддержка того или иного из жалобщиков может создать определенный настрой, повлиять на беспристрастность судьи. Поэтому посторонним подходить близко во время судопроизводства категорически запрещено. Нас терпят, потому что мы высшие существа, да и ведем себя прилично. Шаман выслушал обе стороны, скрестил руки на груди, так что пальцы коснулись плеч, поднял лицо вверх и застыл. Он совещался с богами. Проходили минуты, десятки минут, а шаман не шевелился, и постепенно напряжение начало покидать охотников. Обмякли мускулы, бессильно опустились руки, в глазах появилось уважение и даже страх, эдакий священный трепет перед нечеловеческой выдержкой общающегося с богами, сумевшим на столько времени превратиться в камень. Они непоколебимо верили, что в эти минуты шаман запросто советуется с богами, и в их души закралось сомнение, не напрасно ли они рвутся к этой должности, снизойдут ли боги до такого “запанибратского” общения с ними, сумеют ли они, простые охотники, так вознестись духом. Глядя на их движения, ставшие робкими и неуверенными, ловя их растерянные взгляды, Ирина как в раскрытой книге читала их мысли. Но еще лучше эти мысли читал шаман. Он знал, что именно так будут реагировать неопытные претенденты, и, дождавшись, когда сложная эволюция чувств вылилась в одно-единственное желание — отказаться от этого таинственного и непонятного дела, остаться тем, кем они были, и заниматься такой простой и понятной работой добывания пищи, — шаман внезапно встрепенулся, опустил руки, и на его лице разлилось блаженство от мудрого решения, подсказанного богами. Не торопясь, ясным и сильным голосом, который, несомненно, достигал до всех членов племени, шаман начал говорить. Внезапно Буслаев странно всхлипнул, согнулся пополам и мелко затрясся. — Ты чего? — Ой, не могу! — шепотом стонал он, захлебываясь от хохота. — Уморил! Ну хитрец, ну дипломат!.. Охотники были не меньше его поражены речью шамана. Они вытаращили глаза, недоуменно переглянулись и потом, видимо обрадованные, медленно и важно удалились. — Гениальный мужик! — сказал Буслаев, вытирая слезы. — Сказал, что оба они настолько великие охотники, что боги возлюбили обоих и не решились сделать выбора. Что они нарочно подстроили так, чтобы охотники убили одно животное. И теперь они должны всегда охотиться сообща и всю добычу делить пополам. Так что этот деятель застраховал себя на много лет, пока одного из этих претендентов не запорет зверь. II другим нельзя претендовать, потому что боги постановили, что лучшие — эти. Вот так: кнутом и пряником… Пойдем, познакомлю тебя с этим Макиавелли. Вход в жилище шамана оказался тут же, рядом с креслом, замаскированный густым кустарником. Пещера была явно искусственного происхождения — луч фонаря выхватывал на стенах и потолке грубые следы каменного долота. Кто здесь жил, для кого были вырублены эти две комнаты, соединявшиеся узким коридором? Ведь рядом совсем готовая большая, удобная пещера. Вероятно, давным-давно появился в племени могучий предводитель, который, желая подчеркнуть свою власть, велел сделать себе отдельное жилье. С тех пор и живут тут его воспреемники. Ирину в первую очередь интересовали чучела зверей. Она уже знала, что в каждом племени есть своеобразный зоологический музей. Но здесь ее постигло разочарование. Во второй комнате не было ничего, кроме гарпий. Несколько сотен шкур, неумело набитых травой. Самые древние из них сгнили, а остальные подверглись разрушению в большей или меньшей степени. В этом племени искусство таксидермиста не было в почете. Но кроме гарпий, Ирина обнаружила еще кое-что. В самом дальнем углу белела высокая пирамида из человеческих черепов. Под лучом фонаря пустые глазницы грозно глянули на непрошеных пришельцев, челюсти зловеще оскалились. От неожиданности Ирина попятилась. — Тут народец серьезный, — с усмешкой пояснил Буслаев. — Убить гарпию — это только первый тур испытаний. Не бог весть какой подвиг, хотя и выходят на нее почти с голыми руками: с сетью из лиан. Самое главное — битва претендента с шаманом. Тут уж без компромиссов, режутся насмерть, как гладиаторы. Вот почему шаманы у нас всегда молодые. Иной, постарев, рад бы уйти в отставку, да нельзя… “В племени у девушек этого нет, — торопливо размышляла Ирина. — Там только пиявки. В один тур. Значит, это настолько сложное дело, что его вполне хватает для испытаний. Интересно, умеют ли эти ловить пиявок?” Она спросила Буслаева. Тот пожал плечами, — Навряд ли, они ведь живут далеко от болота. Но на всякий случай уточним. Он переговорил с шаманом, несколько раз переспросил его, потом озадаченно обратился к Ирине: — Чепуху какую-то мелет. Говорит, что поймать пиявку — это пустяки, но не имеет смысла. К ней будто бы нельзя прикоснуться, даже если она пролежит в темноте много дней и ночей. Она обязательно убьет, причем не плевком — про это он даже не знает, — она убивает просто так, невидимо, если подойти на три шага. — Н-да! — сказала Ирина, поворачиваясь и выходя из пещеры. — Весело! Каждый врет по-своему. Легенда на легенде. Один говорит, что пиявки никогда не умирают, а другой демонстрирует чучела… Разберись тут! Впрочен, этому другу верить нельзя. Он пиявки-то живой небось в глаза не видал. Тот шаман хоть от своего отца тайны принял… — Тайны и здесь передаются. За два дня до боя шаман уводит претендента в эту пещеру и рассказывает ему все, что знает. Раньше, говорят, хватало одних суток. Так что мы все-таки принесли кое-что на эту планету: шаманы, как правило, умницы и схватывают все новое раньше рядовых верующих. А потом они выходят вон на ту площадку над утесом и устраивают дуэль на топорах. Так что, кто бы ни погиб, тайны не теряются. Кстати, поэтому шаманам запрещается ходить на охоту и вообще покидать становище: они носители тайн племени. — Ну тебя! — вдруг рассердилась Ирина. — Какое мне дело до твоих шаманов! Расстроил меня, рыжий Пират! Никому теперь верить нельзя. Она схватила Бубу за руку и быстро зашагала к мобилю. Буслаев, остолбенев на мгновение, кинулся вслед. — Стой, стой! Про сюрприз-то забыли! Это был действительно сюрприз: на крохотной делянке с южной стороны утеса рос картофель. — Это делается так, — объяснил Буслаев. — Выдергивается ботва, и на этом месте шаришь в земле, только обязательно голыми руками. II не бойся испачкаться, не то весь вкус пропадет. Кто еще на далекой Земле помнил, как неохотно расступается под пальцами влажная жестковатая земля, как одурманивает она таинственным первозданным ароматом, когда, торопясь, разгребаешь ее, чтобы достать холодные твердые клубни? Кто еще помнил горьковатый дымок лесного костра, когда перекидываешь с ладони на ладонь раскаленную картофелину, плача и смеясь сдирая с нее кожуру? Может, и остались еще старики, которые поняли бы этот восторг, да и то вряд ли: давным-давно машины заменили на полях человека. А какое это наслаждение — макать клубень в соль и осторожно откусывать от него маленькие кусочки, стараясь не обжечь губы, и перепачкаться донельзя золой и отмываться потом в ледяном ручье… — Подумать только, что мы потеряли! — вздохнула Ирина, падая на траву. — Вроде всем хороша цивилизация, а вот это она у нас отняла. Да разве заменят гимнастические залы гонки на необъезженных лошадях, отдых в душистом сене, запах теста, которое замешиваешь собственными руками! Завидую здешним аборигенам: все это у них впереди. — Да, правда, — задумчиво отозвался Буслаев, закуривая трубку. — Мы как-то не думаем об этом, когда пытаемся раскачать здешнюю цивилизацию, сдвинуть ее с мертвой точки. Представляем себе конечную цель: наш уровень. А до этого еще тысячи лет страшного труда, и рабы, и религиозные войны… Металл будут плавить почти вручную. Кстати, знали бы мои деятели, каким богатством обладают! Ведь эта гора — чистый железняк. Магнитный. На сто километров вокруг любой прибор с ума сходит. Робот и тот чувствует. Специально обследовал: потребление энергии падает наполовину. Как ты думаешь, может этот магнетизм влиять на психику? Ирина не ответила. Подложив руки под голову, она, не мигая, глядела в по-летнему глубокое небо, синева которого постепенно растворялась в вышине. Буба свернулась рядом клубочком. Откуда-то сбоку выдвинулся огромный робот и замер, будто охранял их. Было тихо. Такриоты, спасаясь от зноя, ушли в пещеру. Не хотелось шевелиться, не хотелось ни о чем думать. Ирина чувствовала пристальный взгляд Буслаева, но в такую жару и это не трогало. Так продолжалось до тех пор, пока не налетел ветерок и трава тихо зашумела. Ирина вдруг резковскочила на ноги, пригладила разлохматившиеся волосы. Разоспавшаяся Буба, кряхтя как старушка, недовольно поднялась. Пришлось встать и Буслаеву. — Только, чур, насчет картошки молчок! — спохватился он. — Шеф считает, что еще рано приучать их к земледелию. Я, правда, не приучаю, посадил для себя, но все же… “Ну и хитрюга же ты! — насмешливо подумала Ирина. — Делаешь поверенной своих тайн, связываешь нас одной ниточкой!” Вслух она, разумеется, ничего не сказала и с удовольствием приняла приглашение прилететь еще “на картошку”. Но возвращаясь на Базу, она подумала: а действительно ли шаман ошибается? Может, и впрямь пиявки здесь не умирают. Питает же робота энергия магнитного излучения… Ирина покачала головой и неожиданно расхохоталась. Академик Козлов говорил, что когда исследователь заходит в тупик, он начинает строить гипотезы одна абсурднее другой, пока не доходит до сплошного абсурда. После этого наступает отрезвление, и он начинает мыслить в правильном направлении. Кажется, и в ее работе наступил этот переломный момент.БИТВА
На этот раз робота привез Буслаев. — Даю с условием, — предупредил он. — Если и по этому придется справлять гражданскую панихиду, умыкну тебя. Не могу, знаешь ли, обойтись без обслуживающего персонала: утренний кофе в постель и так далее. — Согласна! — рассмеялась Ирина. — А если обойдется без эксцессов, сбреешь бороду. — Вот далась тебе моя борода! — с досадой сказал Буслаев, отворачиваясь. Мимико со свирепым видом оттащила Ирину в сторону. — Перестань издеваться над человеком! Он же не от хорошей жизни… У него шрамы. — Шрамы? — Он из второго отряда. Один из шести уцелевших. О нем еще писали: самый молодой цивилизатор. Ему топором раздробили челюсть. — Да я же шутки ради… — пролепетала Ирина, готовая провалиться в свое болото. Только спустя несколько минут она овладела собой настолько, что смогла разговаривать с Буслаевым нормальным тоном. Неожиданно вопрос экипировки вырос в сложную проблему. Сначала все казалось просто: одеть в старый комбинезон — и делу конец. Но на двухметрового великана ничто не лезло. Мешала ширина грудной клетки, раза в полтора превышавшая человеческую. Вариант Буслаева — галстук и трусики — Ирина отвергла с негодованием. Не хватало еще устраивать из эксперимента комедию! Для стопроцентной гарантии требовалось закрыть все туловище. После долгих примерок, после того, как перерыли всю кладовую Базы и уже прикидывали, нельзя ли из клубного занавеса соорудить нечто вроде тоги, Буслаев принес собственный костюм. — На вырост шил, — пояснил он, помогая роботу натянуть белоснежную шуршащую сорочку, которая тут же лопнула, черную пару и яркий галстук. Костюм угрожающе трещал, и владелец его театрально хватался за сердце. От обуви, разумеется, пришлось отказаться: никто в отряде не мог похвастаться подошвами пятьдесят пятого размера. — Рубашечку-то беленькую со значением пожертвовал? — тихо спросила Ирина, готовая отколотить неугомонного бородача, всеми силами старающегося устроить спектакль. Буслаев хитро прищурился: — Обычай. Товарищ идет на подвиг. Вернется ли… Робот ковылял не сгибая колен, нелепо растопырив руки. От его спокойной мощи не осталось и следа. Тесный костюм, даже не застегнутый, превратил его в нечто жалкое и беспомощное. Он даже не смог самостоятельно забраться в мобиль, три человека внесли его на руках. Перед тем как захлопнуть дверцу, Буслаев сорвал цветок, продел его роботу в петлицу и торжественно объявил: — Готов! Посмотреть на эксперимент прилетели все цивилизаторы. Вереница машин, как стая стрекоз, потянулась к болоту. Впереди летел Сергеев. Он и Ирина остались в воздухе, остальные приземлились на берегу. Буслаев, помогая себе жестами, объяснил роботу задачу. Потом, решив, что вокруг слишком серьезные лица, обнял его, изо всех сил шмыгая носом и растирая кулаками глаза. — Прощай, друг! Имя твое мы навечно внесем в списки… Никто не улыбнулся. — Клоун! — прошипела Ирина, к которой доносилось каждое слово. Рации всех мобилей работали, и между находящимися в воздухе и оставшимися на земле действовала прямая связь. Были учтены все ошибки предыдущего эксперимента. — Благодарю, — сказал робот. — Мой индекс стоит в инвентарной ведомости наиболее ценного оборудования. Не забудьте вычеркнуть его оттуда, прежде чем вносить в другой список, чтобы не произошло путаницы. — Не забуду, не забуду, — пробормотал Буслаев упавшим голосом. Буба, сидевшая, как всегда, в правом кресле, отчаянно вертела головой, разрываясь между экраном и прозрачной стенкой кабины. Она, кажется, отлично соображала, что происходит, и когда струйки взбаламученного ила обвили ногу гиганта, вся сжалась, вытаращив глаза и затаив дыхание. Робот сделал второй шаг, третий. Вот он уже по колено в воде, по грудь… Пиявки спокойно совершали свои рейсы, не обращая на него никакого внимания. Два часа он провел в болоте и когда пересекал путь какой-либо пиявке, та огибала его. Этим и ограничилась их реакция. Все это было настолько обыденно, что зрители вскоре перестали напряженно следить за ним и начали развлекаться кто как мог. Молодежь занялась волейболом, цивилизаторы постарше деловито обсуждали предстоящее прибытие рейсового звездолета. Буба уютно свернулась в кресле и достала крохотный магнитофон — подарок Ирины. Приступ суеверного ужаса от этого подарка у нее прошел меньше чем за четыре часа, и теперь она не расставалась с забавной игрушкой. Установив самый тихий звук, она часами прижимала к уху плоскую коробочку, и с ее лица не сходило изумление. А робот все бродил и бродил, то по колено в воде, то проваливаясь с головой. — Любопытная особенность, — прозвучал в динамиках голос Сергеева, — болото глубже всего по краям, а в середине совсем мелкое. Обычно бывает наоборот. — Возможно, в центре просто мель, — отозвалась Ирина. — Очевидно, хотя я предполагал здесь сброс в какую-нибудь подземную реку. Наружного стока ведь нет, а ручей несет столько воды, что излишек просто не в состоянии испариться. И однако… — Может, прикажем роботу поймать пиявку? — перебила Ирина, которую не волновали гидрологические проблемы. — Ни в коем случае. Потеряем еще одного робота, и весь эксперимент пойдет насмарку. Вы же знаете, живыми они не даются, по крайней мере днем. Чтобы выполнить заказ Земли, мы просто бросали с мобилей гранаты, а потом сачком вылавливали убитых. — А не боялись, что они окажутся разумными существами? — Нет, — отрезал Сергеев. — Да и вы этого не думаете. Это вам недавно пришло в голову с отчаяния, да и то сейчас вы уверены, что это — абсурд. — К сожалению, я еще ни в чем не уверена. Наконец робот вышел на берег. Все пробирки были заполнены. — Отлично! — сказал Сергеев. — Теперь можете определить биосферу, в которой обитают эти животные. Я бы советовал в первую очередь установить, чем они могут питаться. Потом беритесь за траву. Ирина не сказала, что траву она уже изучила, чтобы не выдавать товарищей. Трава оказалась обычной такрианской травой, видоизменившейся вследствие каких-то мутаций. Цивилизаторы между тем окружили Буслаева и хохотали, глядя, как он раздевает робота. — Единственный костюм! — орал Шкипер, хватаясь за голову в неподдельном отчаянии, — Отдавал, не жалко было. Плевать на мануфактуру, когда друга теряешь! А теперь что? И робот цел, и костюма нет. Не жизнь, а сплошные потери! Ирина вырвала у него жалкие тряпки, в которые превратился действительно отличный костюм. — Не верещи! Верну в лучшем виде. Она была возбуждена и радостна против воли, поддавшись всеобщему настроению. Все поздравляли ее, пожимали руки, целовали, пробовали даже качать. Как ни скромна была эта первая победа, все-таки это была победа. Кусочек одной загадки разгадан. И только Ирина да Сергеев понимали все значение сегодняшнего дня: поиски начинались в совершенно новом направлении, и дух захватывало, когда Ирина пыталась представить, куда они могут привести. — Внимание! — закричал начальник отряда. — Сегодня в честь успешного эксперимента состоится бал, Форма одежды — парадная. Ирина с благодарностью взглянула на него. Бал — это для всех, а для нее — веха на пути, памятная веха на крутом повороте. Ух какая буря восторгов разразилась на берегу! Праздниками цивилизаторы не были избалованы. Девушки бросились к своим мобилям. Надо ведь привести себя в порядок. И хотя впереди был целый день, им, как обычно, еле хватило времени. Что творилось в туалетной! Бытовой комбайн чуть не растащили по кусочкам. Ирине пришлось особенно трудно. Нужно было одеть не только себя и Бубу, но и вернуть к жизни костюм Буслаева. Зато Буба была на седьмом небе. Ее нарядили в голубое платье с кружевным воротничком, белые туфли. А когда Ирина перетянула голубой ленточкой ее черные волосы, девочка чуть не заплакала от счастья. Единственное, что на миг омрачило ее радость — это запрещение накрасить губы. К вечеру нагнало тучи. Черно-синяя пелена намертво затягивала небо, глотая звезды. Воздух сковала душная липкая тишина. Ирина опоздала, одевая Бубу. Когда они выскочили из дома, уже падали первые крупные капли. Они еле успели рвануть дверь клуба, и ее стук будто включил гигантскую молнию, раскинувшую свои пальцы по всему небу. Начиналась страшная такрианская гроза. Но сюда, в зал, раскаты грома почти не доносились. Это был чудесный бал. Наконец-то Ирина почувствовала себя совсем своей в этой дружной, отважной, веселой семье. Ведь это ее победу праздновали цивилизаторы, радуясь ей, как своей победе, хотя работа Ирины доставляла им только лишние хлопоты. В фильмах часто показывали балы цивилизаторов. Это уже сделалось своего рода штампом. Стремясь подчеркнуть суровость обстановки, постоянное ожидание опасности, до предела раскаленную атмосферу, режиссеры снимали эти сцены так, что становилось жалко веселящихся. Нервные, настороженные, с будто приросшими к бедрам пистолетами, они не столько веселились, сколько напряженно вслушивались в черную тревожную ночь… Бал непременно прерывался нападением кровожадных аборигенов. И хотя Ирина знала, что цивилизаторы нисколько не похожи на кинематографических героев, она не смогла сдержать изумленного восклицания, когда вбежала в клуб. В отличие от грандиозных земных празднеств, когда в толпе всегда чувствуешь себя чуть затерянным, даже если все вокруг знакомы, здесь было просто уютно. Уют — первое, что бросилось в глаза Ирине, как это понятие ни несовместимо с представлением о празднике. Мягкие переливы огней, сглаживающие первобытную суровость стен, тихая музыка и пары, скользящие в медленно-задумчивом танце… Здесь были все свои и все-таки не свои. Вон та высокая, изящная, так мило улыбающаяся девушка в красном платье, неужели это суровая решительная Патриция? А Буслаев?.. Его не узнать во внимательном, идеально вежливом кавалере, осторожно ведущем в танце свою даму. Даже его буйная борода и та приобрела благопристойный вид. Зато Мимико нисколько не изменилась. И в нарядном платье она такая же милая хохотушка. Ирина стояла у дверей, и напряжение последних дней покидало ее, уступая место покою. Это не бал, это вечер отдыха. Люди пришли сюда отдохнуть после дневных трудов. Пожалуй, она несколько поторопилась с выводами, потому что в этот момент грянула такая бурная музыка, что казалось, огромные бревна не выдержат и выскочат из пазов. Мужчины в строгих костюмах, женщины в вечерних туалетах танцевали модный быстрый танец, требующий спортивных навыков и отличного владения собственным телом. Они словно фехтовали вокруг какой-то общей оси, и каждая фигура танца была полна значения. Дразнящие, ускользающие движения женщин противостояли бурному, полному силы натиску мужчин. Увидев Ирину, Буслаев и Георг кинулись к ней. Бородач успел первым. Подмигнув приятелю, он увлек девушку в толпу танцующих. Георг, ничем не выдав разочарования, церемонно поклонился Бубе: — Разрешите… — Ах! — только и смогла вымолвить потрясенная девочка. Танцы были ей знакомы. Такриоты нередко празднуют окончание удачной охоты. Понадобилось несколько секунд, чтобы она приспособилась к новому ритму, восполнив фантазией незнание па, и Георг убедился, что у него отличная партнерша. Ирина заметила, что многие девушки охотно танцуют с такриотами, и сама ради любопытства прошлась с подопечным Буслаева. Да, это был танцор! Танец сменялся танцем: медленный — быстрым, быстрый — медленным. В перерывах играли в массовые игры, веселясь, как дети, поднимали бокалы за отряд, за Ирину, за такриотов и даже за пиявок. То и дело кто-нибудь выключал динамики, и то в одном, то в другом конце зала взлетала песня под аккомпанемент гитары, рояля или вовсе без аккомпанемента. Песни все были “земные”, в большинстве грустные. Ни разу не спели “цивилизаторских” песен, которые так часто звучат на Земле. Ирина была счастлива. Только сейчас, на этом балу, к ней пришла уверенность в успехе. Какие все-таки отличные ребята эти цивилизаторы! Почему они показались ей вначале сухими и колючими? Разумеется, у каждого бывают неудачи и каждый переживает их на свой лад. Человек остается человеком на любой планете. А она хотела в них видеть не живых людей, а киногероев, штампованных оптимистов, уверенно шагающих к великой цели. Какая чепуха! Ирина осушила бокал и, смеясь, рассказала о своих мыслях. — Нет, не чепуха, — неожиданно возразил Георг. — Он помолчал, потом заговорил, тщательно подбирая слова. — Мы сами виноваты в том, что кинематографическая Такрия так мало похожа на реальную: почти никого не пускаем к себе. Это отчасти вынуждено — несведущий человек, попав в племя и движимый самыми лучшими намерениями, может таких дров наломать… Но есть еще одно. Мы не любим, когда новички открыто выражают разочарование тем, что такриоты пока еще не такие, какими их представляет широкая публика. Это лишний раз напоминает… — Он кивнул на циметр. — Который уж год стрелка ни туда ни сюда. И невольно думаешь, что пока ты здесь — там, на Земле, такие дела делаются… Можно ведь не успеть ни там, ни здесь. — Жорочка! — насмешливо пропела Патриция. — Мы же все-таки на балу… Георг виновато улыбнулся. — Больше не буду. Просто со следующим астролетом лечу на Землю, в отпуск. А оттуда всегда возвращаешься расстроенным. Земляне ахают, расспрашивают, завидуют и никак не поймут, почему это мы завидуем им. Считают, что мы просто гордецы и снобы. — И правильно считают, — легкомысленно заявил Буслаев. — Что до меня, то я ух какой сноб! Не хотелось бы мне сейчас предстать перед землянами в таком виде: в лакированных ботинках и при галстуке. То-то было бы разочарование! Ну да ладно, простим их! Он схватил Ирину, закружил по залу, ловко лавируя между парами. — Вальс! — крикнул он так, что запнулись динамики. Все сливалось перед глазами. Стены, лица, рубиновые искры в бокалах с вином — все превратилось в цветные расплывающиеся полосы. Сильные, твердые руки несли Ирину на волнах музыки, почти отрывая от пола. И вдруг будто перерубили мелодию. Только какая-то запоздалая нота потянулась, как паутинка, за исчезнувшей музыкой и, жалобно звякнув, оборвалась. — Внимание! Передает седьмой спутник наблюдения, — закаркали динамики скрежещущим голосом робота. — Гроза разорвала кси-поле в заповеднике. Гарпии вырвались. Триста особей напали на группу охотников в пятьдесят восьмом квадрате. Имеются жертвы. В окаменелой тишине раздался звонкий шлепок. Это Буслаев хлопнул себя по лбу и кинулся к дверям. Охотники были из его племени. — Слушать команду! — закричал Сергеев, вскакивая на стол. — Мимико, Диане и Томасу остаться здесь с подшефными. Остальные в воздух. Ревущий водопад ударил в раскрытую дверь клуба, на миг остановив людей. Вода казалась голубой от непрерывно вспыхивающих молний. “Оказывается, в фильмах не все неправда”, — подумала Ирина, рывком поднимая свой мобиль. Она летела в середине колонны. Справа и слева тревожно перемигивались огоньки других машин. Мотор злобно ревел, задыхаясь на форсаже. Индикаторы автопилота готовы были расплавиться: даже он еле удерживал машину, трещавшую под ударами ливня. “Каково же Василию на старом драндулете?” — мелькнула неожиданная мысль. Только сегодня Буслаев жаловался, что автопилот его машины окончательно забастовал и приходится пилотировать вручную. Удержать мобиль в воздухе в такую грозу… Ирина выжала из мотора все, что он мог дать, и очутилась рядом с головной машиной, будто могла чем-то помочь. В блеске молний вспыхивала напряженная фигура цивилизатора, почти лежавшего на пульте. Взъерошенная борода упрямо торчала вперед. Облизывая пересохшие губы, Ирина пристегнула к поясу кобуру запасного пистолета, всегда висящего в кабине. Несмотря на серьезность положения, она не могла не подумать, как нелепо выглядит оружие на воздушном, нарядном платье. Гарпии напали неожиданно. Охотники, спасаясь от ливня, разбежались под большие деревья и уютно устроились там, беспечно побросав оружие. В такую непогоду ничто живое не осмелилось бы покинуть убежище. И вдруг из-под глухого свода листвы начали падать белые, похожие на привидения фигуры. Потеряв рассудок от ужаса, аборигены кинулись на поляну, вместо того чтобы спасаться в гуще леса… К прилету цивилизаторов на траве уже валялось несколько трупов. Мобили резко клевали носами, устремляясь на посадку. Ирина спрыгнула на скользкую траву и побежала за темными фигурами цивилизаторов, машинально отметив, что их стало как будто меньше. Она лихорадочно старалась сориентироваться, понять, что же надо сейчас делать. Кто-то налетел на нее в темноте, споткнулся и с досадой помянул нечистую силу. По голосу она узнала Буслаева. — Но, но, полегче на поворотах! — насмешливо сказала она. Буслаев ахнул и резко затормозил. — Ты? Какого черта! Твое место в воздухе. — Командуй своим роботом! — огрызнулась Ирина. Он так схватил ее за руку, что она вскрикнула. — А на циметр ты посмотрела? Стрелка на нуле. Цивилизации нет. Так что, девочка, брось разыгрывать героиню! Здесь по-всамделишному опасно, можно оставить сиротами своих друзей. Это массовый психоз, как в сумасшедшем доме, где клиенты за свои поступки не отвечают. К тому же гарпии… Они драться умеют! Так что уступи место суровым мужчинам и вознесись к дамам освещать поле боя. В воздухе, рассекая водяные струи, метались плотные столбы света. Когда они задевали человека, он невольно отшатывался, как от ударов. Мобили с ревом проносились над кустами, сшибая листья. Буслаев покачал головой: — Зря они мечутся. Стояли бы на месте, лучше было бы видно. Нервничают девочки. Гарпий шумом не испугаешь, а такриоты уже ни на что не реагируют. Он все еще не отпускал Ирину, и его ноги плясали от возбуждения. Со всех сторон раздавались крики, выстрелы и удары… Ирина заколебалась. Пожалуй, действительно лучше вернуться. Но, взглянув назад, увидела, что путь к мобилю отрезан. Из-за кустов вырвалась бесформенная куча и покатилась навстречу. Над ней белыми молниями вились узкие тела гарпий… — Бей влет! — взревел Буслаев, выхватывая пистолет. Одна гарпия, перевернувшись в воздухе, шлепнулась в кусты. Но больше стрелять ему не дали. Волна обезумевших аборигенов накатилась на них, и гигант согнулся под ее напором, а его пистолет отлетел куда-то в траву. — Стреляй, Ирка! — заорал он, расшвыривая такриотов. Ствол пистолета равнодушно выплевывал смерть. Раненые гарпии плакали, как обиженнь>е дети. Ирина, стиснув зубы, нажимала и нажимала на гашетку, ужасаясь тому, что совершает преступление. Ведь она убивала существа, которые должны были стать разумными хозяевами планеты. Они, а не такриоты, потому что имели больше прав на это. Объем их мозга в два раза превышал человеческий. Лапы были устроены так, что могли создавать орудия труда. Да еще умение летать… Ирония природы, слишком хорошо вооружившей их, помешала им занять достойное место. Не подвергаясь опасности, наводя ужас на все живое, они не нуждались в коллективе, чтобы обеспечить себе пропитание и защиту. И мозг, не понуждаемый к борьбе, не развился. Здесь, как и во многих других случаях, сила оказалась слабостью. Буслаев осмотрительно защищал Ирину, не подпуская к ней такриотов и стараясь образумить их. Он окликал их по имени, уговаривал, хохотал, потому что смех отрезвляюще действовал на туземцев. И все-таки упустил момент, когда из-за кустов выскочил еще один такриот и, размахивая топором, кинулся на него сзади. Ирина, почувствовав хриплое дыхание, обернулась в последнее мгновение. Гладко отесанное лезвие, искрясь в лучах прожекторов, описывало смертельную дугу. Не раздумывая, она прыгнула, вцепилась ногтями в безумца. Взревев от ужаса и боли, такриот кинулся прочь. — Молодец, девочка! — гаркнул Буслаев, точным ударом переламывая крыло гарпии. — А ну-ка, пальни вон в ту… И тут только Ирина почувствовала, что в руках ничего нет. — Пистолет! Я выронила пистолет! — Ищи! — закричал Буслаев. Будто поняв, что люди безоружны, с высоты спикировало еще несколько хищников. Ирина упала на колени, лихорадочно зашарила в траве, проклиная себя. Попробуй отыщи что-нибудь в темноте! — Не суетись, не нервничай! — сквозь зубы бросал Буслаев. Его страшные руки молотили воздух методично, как крылья ветряной мельницы, и обмякшие тела гарпий летели в кусты, сокрушая ветви. В бегающих лучах прожекторов он казался еще выше, еще массивнее. Ирина с благоговейным ужасом глядела снизу вверх на гиганта, похожего на разъяренного бога. Наконец ее ладонь наткнулась на рубчатую рукоятку. — Есть! — закричала она вскакивая. — Дай сюда! — Буслаев вырвал пистолет, и яркие вспышки разметили широкую дугу на черном покрывале неба. С этой группой было кончено. Буслаев схватил Ирину за руку, потащил вперед, в самый центр схватки. — На! — Он сунул ей пистолет. — Будешь меня подстраховывать. А я лучше этим… — Он потрясал вырванным у туземца топором. — Это же идиотизм! — сердито воскликнула Ирина, отворачиваясь от хлещущих струй. — Неужели у нас нет другого средства? Усыпляющий газ или кси-поле… Переменившийся ветер швырнул ей в лицо горсть брызг, и она закашлялась. Буслаев на мгновение притормозил, давая дорогу такриоту, несущемуся сломя голову, ловко подшиб топором преследующую его гарпию и потащил Ирину дальше. — Стихия! — объяснял он на ходу. — Всю технику с матушки-Земли не перетащишь. Усыпляющий газ неограниченно растворяется в воде, а ксн-поле… Оно и при спокойной атмосфере дает разряды. А сейчас мы стянули бы сюда все молнии ада. Представляешь, какой был бы костер! Они вбежали на пригорок и остановились. На поляне часть цивилизаторов, выстроившись цепочкой, оттесняла такриотов к лесу, под спасительный шатер ветвей. Другие шли следом, сбивая гарпий. Их белые трупы валялись вперемешку с темными телами такриотов. — За мной! — заорал Буслаев и кинулся вниз, размахивая топором. Ирина вприпрыжку бежала за ним. Это была страшная ночь. Крохотная кучка цивилизаторов отчаянно боролась с хищниками, не знающими страха и не привыкшими к сопротивлению. Даже смертельно раненные гарпии стремились подползти к противнику, вцепиться в него зубами. II одновременно надо было спасать обезумевших такриотов, нападавших на своих защитников и друг на друга. Ирине казалось, что этому ужасу не будет конца. Вспышки выстрелов слепили глаза, крики и вопли взрывались в голове крохотными фугасками, болели руки, ноги, все тело саднило от толчков и ударов. Но она с упорством отчаяния шла за Буслаевым, потому что другого пути не было. Только перед самым рассветом, когда кончилась гроза, прилетевшим патрульным роботам удалось загнать уцелевших гарпий за барьер кси-поля и водворить их обратно в заповедник. Постепенно и такриоты пришли в себя. Взошедшее солнце осветило большую поляну с вытоптанной травой и измученных, с трудом передвигающихся людей. Двадцать три такриота остались лежать на земле, полтораста было ранено. Среди цивилизаторов тоже оказались пострадавшие. У Ирины было поцарапано лицо и подбит левый глаз, не считая многочисленных синяков. Она так и не смогла вспомнить, когда ее били. Буслаеву острый коготь до кости рассек лоб. А нового костюма, так старательно отглаженного Ириной, вообще не существовало. Он отыскал Ирину в толпе, мокрую, дрожащую от холода, и, как она ни отбивалась, размашисто поцеловал. — За спасение моей драгоценной жизни! — Сумасшедший! — сказала Ирина, вытирая платком кровь на его лице. — И нахал! — добавила она, подумав. — Согласен! — ухмыльнулся Шкипер. — Но ты мне нравишься. — А ты мне нет. Иди на перевязку. — Сама перевяжешь, не маленькая. Ирина зашипела от возмущения. Но бородач нахально орал, что только ей доверяет свою нежную особу, и, чтобы не привлекать внимания, пришлось достать из мобиля сумку с медикаментами. — Садись, мучитель! — прошипела она. Она неумело наложила бинт, стараясь не причинить боли. Буслаев только щурился, будто эта процедура доставляла ему удовольствие. Куда ни кинь взгляд, женщины ловко орудовали бинтами и тюбиками с заживляющей биомассой. Такриоты, сидя на траве в ожидании перевязки, недоуменно переглядывались: они ничего не помнили. Девушки работали споро и четко. Видно было, что это дело им не в диковинку, Ирина тоже скоро приноровилась. Переходя от раненого к раненому, она столкнулась с Патрицией. Та была чем-то взволнована и все время оглядывалась, — Ты не видела Георга? Ирина покачала головой. — Ума не приложу, куда он делся, — тревожно сказала Патриция. Она спрашивала у всех, и все пожимали плечами. Многие вспоминали, когда в последний раз видели его. Вот здесь он вырвал топор у туземца, там обратил в бегство гарпий, у того куста пришел кому-то на помощь… Но перед концом схватки его не видел никто. Постепенно тревога Патриции передалась остальным. — Кто перевязан — на поиски! — скомандовал Сергеев, бережно поддерживая сломанную руку. …Его нашли за кустами на изрытой траве. Он лежал на боку, выбросив в последнем рывке руки. Неправдоподобно красивое лицо его застыло. Девушки плакали, мужчины стискивали кулаки. Буслаев опустился на колени перед телом друга, поднял его на руки и понес, прижимая к груди. Такриоты, взглянув в его лицо, разбегались с криками ужаса. …На маленьком кладбище в нескольких километрах от Базы прибавится еще одно скромное надгробие. Мимико, плача, кинулась на шею Ирине. Она уже все знала. Ирина судорожно обняла подругу, и тут ее нервы не выдержали. Сумасшедшее напряжение ночи, изуродованные безумием лица, белые крылья, в предсмертном трепетании хватающие воздух, и кровь, кровь, кровь — все вылилось в пронзительном истерическом вопле. Перепуганные Мимико и Буба вцепились в Ирину, которую неудержимо трясло. Потом Мимико принесла стакан воды и, разжав сведенные судорогой челюсти подруги, насильно напоила ее. Ирина вздохнула и сникла. — Уложи девочку спать, потом приходи, — попросила она. — Я умоюсь и прилягу. Только не оставляй меня. Они просидели всю ночь на диване, тоскливо вглядываясь в темноту. По временам Ирина трогала заплывший глаз и вздрагивала, не в силах отогнать страшные воспоминания, Мимико потихоньку плакала.ЭТО НЕ ПИЯВКИ
Мимико не появлялась две недели. После боя с гарпиями всем цивилизаторам было категорически запрещено без нужды являться на Базу, Начальник отряда, несмотря на сломанную руку, кочевал из племени в племя, проверяя, все ли в порядке. Он опасался новой вспышки безумия. Было замечено, что припадки, чем бы они ни были вызваны, никогда не бывают одиночными, а вспыхивают сериями, причем в различных племенах, будто микробы безумия разносятся по воздуху. Но пока все было тихо. Ирина осталась на Базе одна, если не считать Бубы. В эти дни она поняла, что обычай брать на воспитание такриотов является мудрой гарантией против несовершенства человеческой психики. Оторванные от родины, большую часть времени проводящие в специфических условиях первобытного племени, стараясь вжиться в психологию аборигенов, земляне могли незаметно для себя перешагнуть тот порог, ниже которого психические уровни совпадали. Для этого достаточно было потерять перспективу, сосредоточить все интересы на сиюминутных проблемах. Человек оставался в блаженной уверенности, что ничто не изменилось, а на самом деле у него пропадал интерес к работе, начинало казаться, что все идет так, как нужно, и, главное, возникала боязнь каких бы то ни было перемен. Подопечные, стоящие по своему развитию выше остальной массы, жадно впитывающие все новое, требующее этого нового, не давали опуститься ниже критического порога. Они были тем оселком, на котором оттачивалась стойкость психики. Сейчас Ирине просто необходима была ее воспитанница. Не будь Бубы, она наверняка махнула бы на все рукой и без дела валялась бы на диване. Работа не ладилась. Разгадка логики поведения пиявок ничуть не приблизила Ирину к цели. Они оставались такими же непонятными существами. Да и разгадана ли логика их поведения? Да, доказано, что пиявки убивают обнаженные существа. А почему? Какие внешние причины обусловили эту избирательность? Ведь ясно, что кто-то или что-то заложило в животных условный избирательный рефлекс. Таким образом, пиявки становились промежуточным объектом исследования. Ирина надеялась, что изучение биосферы болота наведет ее на правильный путь, но и здесь потерпела поражение. Болото было совершенно пустым. Не только личинок, червей, рыб — в теплой воде не оказалось ни одного микроба. Будто ничто живое не могло сосуществовать с пиявками. Выходило, что они ничем не питаются. Это было невероятно. Снова и снова бросалась она к микроскопу, на центрифуге профильтровывала образцы ила — результаты не менялись. Пусто! Но ведь должны же они чем-то питаться, чтобы жить. Должны! Прилетевший на одиннадцатый день Сергеев нашел Ирину в состоянии депрессии. — Я, наверное, страшная бездарь и зря полезла в науку, — вздохнула она. — Единственное, что у меня получается — это собирать идиотские факты. Здесь я достигла совершенства. Вот, полюбуйтесь. Сергеев подошел к листу на стене, внимательно прочел: …3. Убивают обнаженных людей, не трогают одетых. 4. Теряют энергию перед рассветом. 5. Ничего не жрут. — Смелое утверждение, — улыбнулся он. — А вы уверены, что они действительно ничего… э… не кушают? — Факты, — равнодушно промямлила Ирина. — Факты — это, конечно, серьезно, но ведь их нужно еще и объяснить. Что, если поймать несколько образцов и посмотреть, что у них в желудках? Дальнейшее топтание вокруг этих животных бессмысленно. Пора приниматься за них самих. Ирина пожала плечами. — Надо бы, конечно. Сергеев внезапно побагровел. — Встаньте! — рявкнул он. — Пойдите причешитесь, наденьте хорошее платье. Вы же женщина, черт побери! И перестаньте курить! Когда Ирина как ошпаренная вылетела в туалетную, он сердито сказал девочке: — Что же ты не смотришь за ней, Буба! Девочка захныкала: — Я боюсь… Она сидит, и смотрит, и как каменная. В нее вошли дьяволы болота. Нужно к общающемуся с богами. Он изгонит дьяволов. — Ну, это ты брось. С дьяволами мы не хуже шамана управимся. Через полчаса Ирина вернулась, красная от злости, всем своим видом показывая, что только дисциплина заставляет ее терпеть присутствие начальника в собственной комнате. Он и бровью не повел. — Завтра на рассвете отправитесь за пиявками. Я буду вас страховать… Они вылетели на одном мобиле, когда темноту только-только начала разряжать белесая дымка. Буба спала, не подозревая, что осталась на Базе совершенно одна. Болото было покрыто пухлой шапкой тумана, будто гигантское блюдо со взбитыми сливками. На экране отчетливо чернели пиявки, неподвижно лежавшие на воде. — По-видимому, они никогда не опускаются на дно, — сказал Сергеев, всматриваясь в экран. — Возможно, они получают питательные вещества из воздуха? — Отпадает! — угрюмо ответила Ирина. — Кожу их я еще на Земле исследовала. Совершенно непонятное строение. Почти без пор, под давлением не прошибешь. А другим путем получить необходимое количество бактерий из воздуха невозможно. — Ну конечно, факты! — пробурчал Сергеев, разматывая лестницу. Он привязал к поясу Ирины страховочный трос и придерживал его, пока она спускалась. Ему было трудно управляться одной рукой, и он морщился, а раз даже прерывисто вздохнул. Но Ирина была уже под мобилем, и, возможно, этот вздох ей только послышался. Туман сразу отсек ее от мира. Где-то вверху стрекотал мотор, скользкие ступеньки медленно уползали из-под рук и тут же растворялись. Не видно было собственных ног, и казалось, что спускаешься в белую бесконечность. Неожиданно совсем близко матово блеснула вода… Вот и пиявки. — Давайте сачок, — сказала Ирина в микрофон, укрепленный у рта. Сверху на тросе скользнул плотный мешок с металлическими запорами и сачок на длинной ручке. С непривычки Ирина никак не могла удержать вертикального положения, йоги упорно уходили куда-то вбок, и она висела почти параллельно воде. Утренний ветерок раскручивал ее в разные стороны. Несколько раз она промахнулась. Наконец одна пиявка мягко перевалилась через край сачка, за ней другая, третья… Они не делали ни малейшей попытки защититься, и это была еще одна загадка. Нормальные животные не спят таким глубоким сном. Выловив десяток, Ирина поднялась в мобиль. Всю дорогу до Базы она молчала, но в ее глазах Сергеев заметил злое упрямство. Он усмехнулся: эта девчонка ему положительно нравилась. В племенах было все спокойно, и постепенно цивилизаторы снова начали прилетать на Базу. Мимико явилась одной из первых. Она нашла Ирину в лаборатории. Та, заложив руки в карманы брюк, стояла у стола, на котором распласталась препарированная пиявка, и вся ее поза выражала изумление. — Не питаются и не дышат! — сказала Ирина вместо приветствия. — Как тебе это нравится? — А тебе? — ошарашенно спросила Мимико, не поняв сразу, о чем речь. — Я — в восторге! — Ирина пнула ногой валявшийся на полу скальпель, прошлась по комнате. — Настолько в восторге, что по возвращении на Землю потребую, чтобы у меня отняли диплом. — Она схватилась за голову. — Какую же ересь я напорола в статье! Мимико обняла ее: — Не надо терзаться. Ты очень нехорошо выглядишь. — Это да, выгляжу я довольно убого, — мрачно согласилась Ирина, подводя подругу к столу. — Взгляни: где ты видела такое строение? — Ирочка, я же в этом ничегошеньки не понимаю, — виновато сказала Мимико. — Я ведь астроном. — Все мы здесь такие! — вздохнула Ирина. — Неудачные астрономы, неудачные инженеры, неудачные астробиологи… Она надолго задумалась, потом заговорила более спокойно: — Я не нытик и не паникер. Я изучала животных Марса и Психеи. И все было понятно. На любой планете любое живое существо имеет систему дыхания, систему питания, систему кровообращения. Без этого нет жизни. На какой бы основе ни была построена живая ткань — углеводородной, кремнеорганической или еще какой-нибудь, — законы развития везде одинаковы. Это поняли еще в прошлом веке. Здесь же ничего подобного. — Она вздохнула. — Никогда не думала, что открытия даются так мучительно! А ведь я на пороге, понимаешь, на пороге… Это какой-то качественно новый вид живого организма, и такое впечатление, что существует он по совершенно новым для нас законам. Представляешь, если это подтвердится… Все прежние представления насмарку. Как только это выявить? — Но ведь у них что-то есть внутри, — робко заметила Мимико. Ирина фыркнула. — Еще бы! Они набиты до отказа, как только не лопаются! А вот я, дура эдакая, никак не могу сообразить, что значат все эти узлы и переплетения. Самое непонятное в их строении — это то, что совершенно одинаковые органы располагаются в различных частях тела. Все равно как если бы у человека было три сердца и одно находилось в голове, другое — в груди, а третье — в пятке. Не то они имеют запасные органы, не то одинаковые органы выполняют разные функции. А вот где у них мозг, неясно. И вообще все неясно. Например, за счет чего они движутся? И что это за труба, обвитая нервами — если это нервы, конечно, — которая проходит через все тело? Предположим, что это спинной мозг… — Это? — спросила Мныико, показывая пальцем. — Это похоже на соленоид или трансформатор. Может ведь так быть? — Может! — вздохнула Ирина. — И очень даже просто. Я вижу, мы обе равноправные кандидатки в сумасшедший дом. Займем соседние койки… Вечером прилетел Буслаев. Его громовой голос взорвал сонную тишину клуба. Заметив Ирину, он бросился к ней: — Родная моя, да на тебе лица нет! Где он, этот злодей, что довел тебя до такого печального состояния? — Лежит в лаборатории и издевается изо всех сил, — натянуто улыбаясь, ответила Ирина. — А ну идем! Мы сейчас ему покажем! И он почти насильно поволок Ирину в лабораторию. Его буйная грубоватая веселость обезоруживала, перед ней невозможно было устоять. И невольно на душе становилось легче. На это он и рассчитывал. Буслаев долго смотрел на пиявку, почесывая затылок и не скрывая брезгливости. — Бррр… какая гадость! Как ты можешь… Но вообще… Черт его знает, я в общем-то физик, но что-то эта штука мне напоминает. — Мимико уверяет, что это похоже на соленоид или трансформатор. — А что? Гипотеза не хуже любой другой. И довольно любопытная, особенно если учесть, что эти милые создания поплевывают электрончиками. Было бы очень здорово… Впрочем, это легко проверить. Найдется в этой лавочке кусок провода? — Что ты хочешь делать? Он искоса глянул на нее, высоко подняв брови. Поражал контраст между его шутовской гримасой и серьезными задумчивыми глазами. — Хочу тоже войти в науку. Чем я хуже других? Тем более, здесь мне все знакомо. Труба, обмотанная двойной спиралью, четыре конца которой замыкаются на коллектор в средней части механизма, — налицо элементарная электрическая схема. Ну, а тем, что органы живого организма могут вовсе не соответствовать частям электроагрегата, которые они напоминают, а так же этими непонятными кубиками, замыкающими витки спирали по длине трубы, можно, очевидно, пренебречь. Подведем питание… Он решительно подсоединил провода и включил рубильник. Распластанное тело пиявки быстро-быстро задергалось. По трубе побежали волны, будто внутри один за другим прокатывались твердые шарики. Потом наружный конец трубы раскрылся, как лесной цветок-хищник, из него вырвалось облако дыма, мгновенно заполнившего помещение. Наступила темнота. Внезапно ее пронзила стремительная серия раскаленных синих шаров, с сухим треском разбивавшихся о громоздкий нейтринный микроскоп, стоявший в углу. Нестерпимо защипало глаза. К счастью, это продолжалось всего несколько секунд, потом рванул взрыв и все прекратилось. — Как ты? — шепотом спросила Ирина. — Вроде жив, — неуверенно донеслось из-под стола. Сквозь дым можно было различить, как там что-то ворочалось. — Вот только никак не соображу, в какую сторону ползти. — Ползи сюда. — А ты подавай голос, а то воткнусь во что-нибудь. Они сидели на полу, держась за руки. Дым не рассеивался. — Надо открыть окно, — сказала Ирина. — В самый бы раз, — отозвался Василий без энтузиазма. — Л как оно, больше не будет плеваться? — Не знаю. Наверное, нет. Окно, кажется, вон в той стороне. Вскоре грохот и звон разбитого стекла показали, что на пути к окну стояла центрифуга. Дым постепенно рассеялся в соответствии с законами физики. Зато в дверях показался начальник отряда, что никакими законами не предусматривалось. Выслушав сбивчивый отчет Ирины, он саркастически покачал головой, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. — Так, так! Уничтожен великолепный микроскоп, разбита центрифуга, выбит фидер на подстанции… Можно вас поздравить, Буслаев, вы вступили в науку прямо-таки победным маршем. Смущенный гигант не знал, куда деваться. — Идите-ка оба в клуб. Потанцуйте, что ли, у вас это лучше получается. А я пока здесь подумаю. Незадачливые экспериментаторы выскочили из лаборатории с видом набедокуривших школьников. — Я так испугалась! Вдруг что-то затрещало и погас свет, — затараторила Мимико, подбегая к ним. — Думала, опять тревога. А это ты небось, Пират несчастный… Пират удрученно погладил бороду. Внезапно под потолком раздался сильный треск и лампочки погасли. В темноте раздавались возмущенные возгласы цивилизаторов. — А это уже шеф провел контрольный опыт, — спокойно сказала Ирина. — Интересно, куда он попал? — пробормотал Буслаев. — Вроде не осталось ничего, достойного внимания. — Пойдемте посмотрим, — предложила Мимико. — Пойдемте. — Ирина взяла рыжебородого за руку. — Иди за мной, не то всю мебель в темноте переломаешь. Придется на табуретках сидеть, как в фильмах. В этот момент вспыхнул свет. Они вошли в лабораторию как раз вовремя, чтобы вытащить Сергеева из-под стола. Хотя гипс со сломанной руки был уже снят, действовал он ею еще неуверенно. — Все там были, — не удержался Буслаев, помогая профессору подняться. — По-моему, я много дров не наломал, — неуверенно протянул Сергеев, вытирая слезящиеся от дыма глаза. — Если не считать пролома в стене, — безжалостно констатировала Ирина. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. — Ладно, друзья, — сказал профессор, обнимая всех троих. — Запасное оборудование у нас есть, завтра поставим, и вы сможете продолжать в том же духе. А сейчас — в клуб. Вот уж где Буслаев развернулся вовсю! Собрав вокруг себя цивилизаторов, он с потрясающими подробностями живописал, как ползал в темноте, уповая на то, что у пиявок перегорели предохранители. И как оказалось, что они все-таки не перегорели, потому что начальник отряда сделал запасной выход из лаборатории, до чего не додумались архитекторы. Выходило очень смешно. Профессор хохотал вместе со всеми. Только Ирина не смеялась. Уже передуходом из клуба она сказала Сергееву с неожиданной горечью: — Какая же я дура! Разглядывала эту проблему только под одним углом. Под прямым. В лоб. А можно ведь и с другой стороны. Хотя бы вот как Буслаев: предохранители… Меня загипнотизировало название. Пиявки, пиявки… И я не поверила шаману из племени Большого Дуба, что в магнитном поле они не умирают. А дело в том, что они вовсе и не пиявки… Очевидно, полезно иной раз взять исследователей за шиворот и хорошенько встряхнуть, чтобы помнили, что мозги даны для того, чтобы думать. Профессор не удержался от улыбки. — Девочка, в своей жизни я сделал пять неплохих работ, говорю это без ложной скромности. А знаете, сколько раз я обзывал себя дураком, бездарью, неучем, прошмыгнувшим в науку не по праву? — Сколько? — Вообще-то я не считал, но думаю, что миллион наберется. На другой день Ирина попросила подругу взять Бубу с собой в племя. — Это в интересах нас обеих, — пояснила она. — Девочка соскучилась по своим, она много раз говорила об этом, а мне необходимо засесть в лаборатории и не отвлекаться. — Мне тоже нельзя прилетать? — огорчилась Мимико. Ирина поцеловала ее: — Лучше не надо. Простившись с ними, она прошла в лабораторию и заперла дверь на ключ… Загадки пиявок больше не существовало. Ирина разгадала ее на рассвете, когда тайком от всех вылетела на болото. На этот раз ее мобиль, сверкнув красной капелькой в первых лучах, ушел в высоту. И внезапная догадка, превратившись в уверенность, сразу поставила все на свои места. Теперь надо было еще раз все проверить, обдумать, логически обосновать и заодно решить, как подать эту новость. Ибо тайна болота оказалась такой, что Ирина почти всерьез опасалась, как бы Сергеев тут же не отправил ее на Землю с сопровождающими в белых халатах. Просидев неделю взаперти, она накрасила губы, уложила волосы, надела самое красивое платье и пошла к Сергееву. — О, коллега! По вашему виду ясно, что дела у вас просто великолепны. — Такой фразой встретил ее профессор. — Неплохи, — согласилась Ирина, усаживаясь в кресло. — Теперь я знаю все. — Несколько самоуверенно, но отнюдь не лишено интереса. Что же вы открыли? — Пиявки — не животные. — Правильно, — невозмутимо согласился профессор. — Это киберы. Ирине показалось, что на нее что-то рухнуло. — Откуда вы… — Сидите, сидите! — замахал руками Сергеев. — Когда тебя неизвестно за что швыряют под стол, поневоле задумаешься. Тем более, что я в курсе ваших исследований. Но больше я не знаю ничего, честное слово. Ирина снова села, растерянно поправив волосы. — Но они уже не совсем киберы. Они на грани превращения в живое существо. Поэтому я не смогла разобраться сразу. За тысячи лет произошел сдвиг в их программе. Сначала изменилось поведение. Киберы стали копировать поведение живых существ. Очевидно, какая-то внешняя опасность толкнула их на это. Вот почему они не давались в руки. В первоначальной программе это не было заложено. От них требовалось только одно: просуществовать до определенного момента и убивать всех, кроме существ с определенными признаками. Одежда входит в число этих признаков. Кстати, только поэтому вы могли безнаказанно швырять в них гранаты. А поведение дало толчок всему организму. Искусственные механизмы стали превращаться в органы живого тела… — Вот радость-то для биоников! — Еще бы! В микроскоп можно проследить все стадии превращения кристаллов электронной памяти в нейроны мозга. Кроме того, я обнаружила зачатки пищеварительного аппарата. Они действительно начали питаться из воздуха, только не микробами. Они берут углекислоту и азот. Это им нужно для следующей стадии: производства себе подобных. И если бы в болоте была возможна жизнь… — А почему она невозможна? — В болоте скрыт источник совершенно незнакомого нам излучения. Оно стерилизует воду, делая ее непригодной для жизни обычных существ. А пиявкам излучение необходимо. Оно катализатор для процессов, происходящих в их организме. Без излучения они не смогли бы черпать энергию от солнца. У них в коже батареи. Энергии, накопленной за день, должно было хватать до следующего восхода солнца. Но, имитируя жизнь, они научились отключаться на ночь, — спать. — Так, так, убедительно. Это все? — Нет. Излучение болота влияет на всю планету. Первый отряд, сделавший физико-химические анализы, не смог его обнаружить, потому что не имел нужных приборов. Да и сейчас мы их не имеем. Я вывела существование излучения логически, по косвенным признакам. Но оно есть, за это я ручаюсь. Степень его, очевидно, слаба, однако длительное облучение многих поколений такриотов привело к затормаживанию их умственного развития. Механизмы этого воздействия придется еще изучать. Отсюда и диспропорция между вполне современным внешним видом аборигенов и их недоразвитым мозговым аппаратом. Приступы безумия тоже от этого. Землянам, разумеется, это излучение ничем особенным не грозит: несколько лет — ничтожный срок. Но тоже приятного мало. Кстати, не случайно дальние племена способнее живущих у болота: у них напряженность поля слабее. Вот вам и двести сорок восьмая теория. — Согласен! — сказал профессор. — Со всем согласен. Примем это за рабочую гипотезу. Но вы не раскрыли еще одно: кто и для чего привез киберы на эту планету? — Они охраняют что-то, что скрыто на дне болота. Это я тоже прочла в их программе. Там какая-то тайна… — Вы уверены в этом? И в том, что болото хранит тайну? — Вполне. В конце концов, я сделала то, с чего должна была начать. Я поднялась над болотом на три тысячи метров и посмотрела вниз. — И что же вы увидели? — Болото идеально круглой формы. Оно искусственного происхождения.ВЗРЫВЫ НАД ПЛАНЕТОЙ
Буба вернулась какой-то тихой, задумчивой и, кажется, повзрослевшей. В племени она сумела сохранить опрятным костюм и даже чистенькую ленточку в волосах. Войдя, она робко взглянула на Ирину, потупилась, не зная, куда девать руки от застенчивости, и вдруг бросилась к ней на шею. Ирина была растрогана. Она и сама успела соскучиться. — У них у всех так, — сказала Мимико, проскользнув в комнату вслед за девочкой. — К хорошему привыкают быстро, но и к своим тянет. Страшно быть окончательно вырванным из родной обстановки. И начинается душевный надлом, метания и бессонные ночи. Древний инстинкт зовет в племя, назад в привычный мир. Но жить первобытной жизнью они уже не могут. Человек добровольно не отказывается от лучшего, прогрессивного, завоеванного в борьбе, особенно если это борьба с самим собой. Кроме того, что ни говори, комфорт есть комфорт. Ванна — это не только приспособление для мытья, а еще и отличный пропагандист… Эти душевные переживания благотворно влияют на их развитие — человек рождается в муках. В конце концов все кончается благополучно. Они нащупывают золотую середину, начинают лавировать между Базой и племенем и вновь обретают душевное равновесие. А став взрослыми, все-таки возвращаются обратно. Мы никого не принуждаем. Они сами осознают свой долг перед соплеменниками. Одни раньше, другие позже, но возвращаются все и становятся лучшими нашими помощниками. Она сидела на диване, беспечно болтая ногами. — Кстати, не знаешь, зачем нас вызвали? — Знаю, — сказала Ирина. — Будет общее собрание. Мимико скорчила очаровательную гримаску: — Общее собрание! Замучили! Когда летела сюда, восторгалась: наконец-то романтика, приключения, жизнь, полная борьбы и тревог. В общем, сама знаешь… И как думаешь, с чего начали? Разумеется, с общего собрания. Опять небось будут тыкать носом в ошибки? — Нет, нет, успокойся! — засмеялась Ирина. — На этот раз на повестке совсем другой вопрос. Цивилизаторы, собравшиеся в клубе, начали уже ерзать на стульях и демонстративно покашливать, когда наконец появился профессор Сергеев. У него был озабоченный вид. Дождавшись тишины, он коротко рассказал об открытии, сделанном Ириной. — …Честно говоря, товарищи, не хочется верить в эту гипотезу. Сердце протестует. Ведь это значит, что мы столько лет шли по неверному пути и загадка гибели цивилизаций так же далека от решения, как и раньше. Но… гипотеза объясняет абсолютно все, и, хочешь не хочешь, придется ее принять. Наш отрядный врач, проведя комплекс исследований, подтвердил влияние силового поля на умственное развитие такриотов. Такой же ответ дала и машина, когда в нее ввели все данные. Таким образом, можно считать это доказанным, а следовательно, необходимо ликвидировать Голубое болото. Если Ирина права, цивилизация планеты начнет бурно развиваться. Она должна в кратчайшие сроки перекрыть долгий период вынужденной задержки. Так утверждают законы диалектики. И тогда, возможно, на каком-то этапе цивилизация сделает неожиданный зигзаг, и мы, проанализировав его причины, раскроем наконец эту проклятую тайну. Так что не все еще потеряно. Но это в будущем. А сейчас перед нами задача: как ликвидировать болото? Землеройных машин у нас нет, а вездеходами канавы не выкопаешь. Получить машину с Земли мы сможем в лучшем случае через три месяца. Вот я и прошу решить: будем ждать эти три месяца или найдем другой выход? Цивилизаторы молчали. Ирина с беспокойством вглядывалась в их озадаченные лица. Потом подняла руку Патриция. — Разумеется, ждать нельзя. Мы и так слишком долго работали вхолостую. Но, насколько я понимаю, для осушения болота необходимо отвести питающий его ручей. По эту сторону горы его отвести некуда, значит, только по ту сторону. Но ручей является единственным источником воды для пяти племен, живущих между горами и болотом. Прошу это учесть. — А конкретно что ты предлагаешь? — крикнул Буслаев, и у Ирины стало теплее на душе от его голоса. Этот по крайней мере был ее верным союзником. — Конкретно я предлагаю, чтобы ты подумал, как это сделать, — ответила Патриция под общий хохот. — Переселишь племена в другое место, — брякнул Буслаев. Профессор покачал головой. — Очевидно, излучение действует не только на такриотов, — вздохнул он, вызвав восторженное веселье присутствующих. — Будут ли другие предложения? Слово взял отрядный врач — немолодой худощавый человек. У него было доброе лицо и совершенно лысый череп. Как многие медики, он не стал выращивать себе новые волосы: считал это негигиеничным. — Излучения уже нет… пока нет, — поправился он. — Со вчерашнего дня патрульные роботы закрыли болото колпаком кси-поля. Планета лишилась одного из постоянных биофакторов. Но это до первой грозы. Если защита не выдержит, скопившееся излучение хлынет таким потоком, что… — Он развел руками. — Я считаю, что откладывать на три месяца просто опасно. — То-то мои такриоты сегодня занервничали, — протянул кто-то. — И мои, — отозвались в другом конце зала. После короткого молчания встал Олле, очень спокойный светловолосый цивилизатор, которого Ирина почти не знала: он редко бывал на Базе. Мимико рассказывала, что пять лет назад такриоты убили его жену. — Я думаю, есть способ. Ручей несет слишком мало воды, чтобы его серьезно принимать в расчет. Главное — спустить воду из болота. А это можно сделать, если устроить сток в восточной части со спадом в ущелье между горами. Потом, когда устраним источник поля и получим машины, можно будет сток закрыть, углубить дно и сделать отличное озеро. — С вышкой для прыжков, — подсказал Буслаев. — И даже с яхтами. Пора наконец устроить себе культурный отдых на воде. Вопрос лишь в том, как прорыть километровый канал? — Ну вот, дорогой, откуда начал, туда и пришел! — рассердился профессор. — Мы же об этом и толкуем. — И я о том же, — невозмутимо отозвался Олле. — Обойдемся и без машин. Взрывчатки у нас достаточно, а рабочая сила… такриоты. В конце концов, для кого мы стараемся? Вооружим их лопатами, и пусть трудятся на общее благо. Это было настолько неожиданно, что все на мгновение онемели. Первой опомнилась Мимико. — Правильно! Объединить племена на совместной работе! — возбужденно закричала она. Поднялся шум. Каждый кричал, не слушая других. Мгновенно образовалось два лагеря. Одни считали, что такриотов невозможно организовать на работу, не приносящую видимых благ, что они просто не доросли до этого. Другие были в восторге от этой идеи. С большим трудом Сергееву удалось восстановить тишину. — Спокойней, товарищи, спокойней! — заговорил он, вытирая вспотевший лоб. — Истина рождается в споре, но не в таком бурном. Предложение, несомненно, интереснейшее, но и опасения вполне обоснованны. Олле предлагает не более и не менее, как произвести революцию в психологии такриотов. Как это сделать, мы пока не знаем. Готовы ли они к этому, тоже еще неизвестно. Ясно одно: если уж решаться на этот эксперимент, то лучшего момента не подберешь. Исчезновение излучения изменило биосферу планеты, что не могло не отразиться на психике аборигенов. Сейчас она наиболее восприимчива к любому сдвигу. И мое мнение — проводить эксперимент. — А пиявки? — крикнул кто-то. — Пиявки? — внушительно сказал Буслаев с высоты своего огромного роста. — Все дипломатические переговоры по этому вопросу будет вести мой робот. Известно ведь: робот роботу глаз не вышибет. — Решено! — объявил Сергеев. — Назначаю комиссию в составе Олле, Ирины и Буслаева. Через два дня прошу представить план работ. Всем остальным — готовить племена. Через несколько минут мобили один за другим начали взмывать в небо. …Над планетой загремели взрывы. Вывороченная земля ложилась жирными отвалами, намечая трассу будущего капала. Ирина, Олле, Буслаев и еще несколько человек, веселые и перепачканные, таскали заряды, закладывали их по трассе и дружно падали в траву, когда сигнальная ракета прочерчивала над головой дымный след. На Базе срочно готовили огромный свинцовый бак, чтобы поместить туда пиявок и сохранить их для науки. А потом с гор потянулись племена. Это было необыкновенное зрелище. Первобытные люди размахивали новенькими лопатами. Впереди, кривляясь и выкрикивая заклинания, двигались шаманы. Лопат они, разумеется, не несли. Нелегко было убедить такриотов продать свой труд. Три племени так и не удалось уговорить, остальные сдались после долгой и упорной работы. Они никак не могли понять, зачем нужно копать землю за оленьи туши, когда эти туши можно добыть в лесу с гораздо меньшим трудом. Единственный козырь землян — бесперебойное снабжение пищей и ликвидация таким образом даже кратковременного голода — впечатления не производил. Такриотам не в диковинку было голодать, когда охота оказывалась неудачной. И вряд ли удалось бы их убедить, если бы не… женщины. Они раньше мужчин поняли все выгоды предложения “людей с неба”, тем более что на работу приглашали не их. И впервые голоса женщин зазвучали на советах племен. И вот теперь шаманы вели свои племена. — А вон и наш общающийся с богами, — тихонько сказала Буба, невольно отступая за спину Ирины. Удивительно, как этот старик сумел сохранить величавость даже во время кривляния. На всякий случай он надел свой плетеный комбинезон — шаман был предусмотрительным. Но он зря беспокоился. В опасную зону такриотов не пустили: здесь работали земляне. — Начнем? — спросил Сергеев, доставая пистолет. Буслаев придержал его руку: — Подождите, кто-то летит. Со стороны Базы вырастало красное пятнышко мобиля. Он опустился на траву, и из него выскочила Мимико, растрепанная и взволнованная. — Стрелка! — кричала она, махая руками. — Стрелка пошла! Она ожидала взрыва восторга, но все молчали, и она сама растерянно замолчала. И только вглядевшись в лица товарищей поняла, что это молчание красноречивее любых слов. Стрелка, столько лет примерзшая к одной цифре, двинулась по шкале. Ей сужден далекий путь. Из года в год, из века в век будет она завоевывать миллиметр за миллиметром. Иногда замирая, иногда откатываясь назад, а потом рывком возвращаясь, упорно будет она стремиться к дальнему концу шкалы, достичь который невозможно, потому что эта шкала не имеет конца. — Ну что ж, — сказал Сергеев, — мы выиграли первый Сой. Цивилизация вступила в товаро-обменную фазу, и теперь ей не грозит гибель, если, разумеется, не произойдет неожиданного зигзага. Впрочем, мы ведь останемся здесь. Он выстрелил из пистолета, и тысячи лопат, сверкнув на солнце, вонзились в землю. Свежий ветер погнал по планете строительную пыль. Цивилизаторы трудились наравне с такриотами, на ходу обучая их, как правильно держать лопату, как экономить силы. Ирина и Патриция работали рядом, Мимико хлопотала возле полевой кухни. — Глянь-ка! — кивнула Патриция. Ирина обернулась. Над головами работающих взлетали огромные куски земли и с гулом падали далеко в сторону. Это Буслаев орудовал лопатой, сделанной по собственным чертежам. Поймав взгляд Ирины, он задорно подмигнул ей. Остановившись передохнуть и выплюнуть пыль, скрипевшую на зубах, он заметил молодого такриота, задумчиво опершегося на лопату и будто не замечающего суеты вокруг. — Нук, ты чего это разнежился? До обеда еще далеко. Нук перевел на него напряженный взгляд: — Общающийся с богами не так спрашивал богов. Плохо спрашивал. А может, боги с ним и разговаривать не хотят. Молодой, а дурак. Нас с Ваком плохо судил, неправильно, и боги отвернули от него свое лицо. Не то говорить стал, не то делать стал. Земли ковырять много взял, еды мало. Другого надо. Умного. Такого боги любить будут. Такому боги скажут: еды много надо, земли — мало. — Так, так! — сказал Буслаев, озадаченно почесывая затылок. — Сомневаешься, значит, не продешевил ли шаман? Это хорошо. Это, брат, даже здорово! Сомнение — это критическое отношение к окружающей действительности. И честолюбие — это тоже хорошо. Может, стоит создать для тебя должность вождя племени? Пусть у нас будет не только духовная власть, но и светская. К его изумлению, такриот все понял. Он тут же отшвырнул лопату и стал покрикивать на сородичей. — Э, нет, так дело не пойдет. Предводитель должен быть всегда впереди и делать все лучше всех. Нук, схватив лопату, начал усердно копать. Буслаев усмехнулся и вдруг застыл с разинутым ртом. Он внезапно понял, что произошло на его глазах. Сначала племена держались обособленно, оставляя между собой участки “ничьей земли”. Потом постепенно перемешались, и уже шаманы обеспокоенно забегали по границам участков, пытаясь отделить своих от чужих. В конце концов, сорвав голос и извозившись в земле, они понуро отходили в стороны, безнадежно разводя руками. Только шаман из племени Бубы, мгновенно сориентировавшись, сбросил балахон и схватил лопату. Впоследствии он будет забирать тройную порцию пищи, и никому не придет в голову оспаривать его право. А излишки станет менять на выделанные шкуры, благо идея обмена будет завоевывать умы такриотов. Человеку не нужно много шкур — только чтобы защититься от холода, да сделать мягкую подстилку на ночь. Но шаман будет набирать и набирать шкуры, на удивление всего племени, сам не понимая, для чего ему это нужно. Ему будет казаться, что если довольствоваться тем же, что и остальные, его авторитет упадет. И, наконец, он произнесет историческую фразу: “Это мое”, после которой уже бессмысленно задумываться, зачем нужны человеку лишние вещи. Так начнется расслоение родового племени. Последняя перемычка взлетела в воздух, и вода стала уходить из Голубого болота. Каждое утро роботы кси-генераторами сворачивали защитное поле в невидимый шар, в котором билось скопившееся за сутки излучение, и выстреливали его в космос. Вслед за ними над болотом появлялись красные мобили. По веревочным лестницам спускались люди с сачками. И вот настал день, когда лоты не обнаружили ни одной пиявки. К этому времени в болоте не осталось и воды. Обнажилось дно — черный глянцевый ил, на котором, как скошенное сено, лежала трава. Любопытное дно, понижающееся от середины к краям. Когда разгребли ил в самом высоком месте, на солнце заблестел шар около десяти метров в поперечнике. Он был твердым и непрозрачным, но испускал откуда-то из глубины голубое сияние. Это и был источник силового поля. На дно спустился вездеход, обхватил шар механическими лапами и, проваливаясь в ил почти по крышу кабины, повез на Базу, в бак с пиявками. Там он уже не был страшен. — А теперь что? — спросил Буслаев, когда шар был герметически закупорен в свинцовой камере. — Копать! — ответила Ирина. Теперь уже несколько вездеходов, переваливаясь с боку на бок, сползли на дно. В их лапах были длинные широкие скребки. С натужным воем, буксуя и проваливаясь в ямы, сгребали они черный ил от центра к краям. За пультами вездеходов, как металлические тумбы, торчали роботы. По берегам бывшего болота воздвигались плавающие бастионы. На третий день под одним скребком что-то блеснуло. Это была серая плотная поверхность. По характерному блеску инженеры определили; перекристаллизованный металл. Но прошла еще целая неделя, прежде чем весь ил был убран. Снова взлетели мобили, и люди сверху увидели гигантский серый диск, свернутый из непрерывной, утолщающейся к центру спирали. — Астролет! — ахнула Ирина. — Дисковый астролет, — поправил Сергеев. — Очевидно, на аннигиляционной тяге. Мы пока еще не умеем делать такие. Цивилизаторы молчали, подавленные размерами чужого корабля. Только Буслаев воскликнул с досадой: — Эх, черт, не мы первые! — Ерунда! Мы все равно первые! — задорно крикнула в микрофон Мимико. Отчетливо был виден люк в том месте, где обрывался наружный конец спирали. Мобили заторопились на снижение. Ирина опустилась последней: ей почему-то было страшно. — Рвать будем или резак возьмет? — деловито осведомился Буслаев, закатывая рукава. Василий не знал никаких сомнений — впереди была цель, и он шел к ней напролом. Профессор усмехнулся, но тут же усмешка сбежала с его губ, и он с непонятным сожалением взглянул на цивилизатора. — Ни взрывчатка, ни плазма не понадобятся. Мы не войдем, даже если люк сам распахнется. И никто не должен близко подходить к кораблю. То, что мы сейчас здесь — уже нарушение… Объявляю местность радиусом сто метров вокруг запретной зоной. Это было так неожиданно и так непонятно, что Буслаев онемел, да и остальные были поражены не меньше. Ирина во все глаза глядела на начальника отряда, и в душу ее проникало предчувствие чего-то грозного. Так еле заметная прозрачная дымка на море предвещает бурю. Куда девался веселый, дружелюбный, сердечный человек? Этот суровый взгляд, плотно сжатые губы, резкая вертикальная складка, перерезавшая лоб… — Но почему? — рванулся к нему обретший голос Буслаев. Сергеев только взглянул на него, и великан замолчал и отступил в толпу цивилизаторов, озадаченно хлопая ресницами. Послышался ропот. Люди были недовольны: они не понимали действий начальника. Но Сергеев не стал объяснять. — Все, кто имеет роботов, самое позднее через три часа должны привезти их сюда. Остальные-на Базу. Отлучаться запрещаю. Я остаюсь здесь до прибытия роботов. Вместе со мной Олле, Томас, Патриция. И всё. Это было сказано тоном, не допускающим пререканий. Цивилизаторы нехотя потянулись к своим мобилям. Ирина взлетела одной из первых. Она была обижена. Ее задело, что Сергеев не объяснил ей, открывательнице, причин своего запрета и не оставил с собой. Уж кто-кто, а она имеет право на откровенность. Но где-то в глубине души она понимала, что действия начальника имеют под собой серьезные основания. Так велик был авторитет Сергеева, что ни у Ирины, ни у Буслаева, ни у любого другого не возникло и мысли оспорить его приказания. Даже выбор людей, которых он оставил с собой, свидетельствовал о скрупулезной продуманности: это были самые спокойные, самые хладнокровные, самые дисциплинированные цивилизаторы. Когда все улетели, четыре мобиля поднялись над болотом и патрулировали до прибытия роботов. Расставив их по периметру и дав задание не пропускать никого без кодированного пароля, Сергеев с помощниками вернулись на Базу. Там их поджидали взволнованные цивилизаторы. Избегая встречаться с кем-нибудь взглядом, Сергеев быстро прошел сквозь толпу и заперся в своем кабинете. Солнце уже клонилось к закату. Его лучи, как всегда по вечерам, высвечивали верхушки ближнего леса, делая их резкими и четкими, как на гравюре. Сергеев подошел к окну и прижался разгоряченным лбом к прохладной поверхности стекла. Надо было перевести спутник наблюдения на другую орбиту и остановить его над болотом. Надо было дать задание оставшимся на Базе роботам расставить вокруг астролета треножники с прожекторами. Надо было сделать еще много неотложных дел до общего собрания, на котором необходимо убедить цивилизаторов, что в их жизнь вошла грозная неизвестность. Именно убедить, приказаниями можно все испортить: до сих пор в отряде не приказывали. Только люди, осознавшие всю серьезность положения, не допустят ни одного, даже самого мелкого опрометчивого поступка. Для этого надо собрать всю волю, все силы. А сил не было. Он был потрясен тем, как точно сбылись его опасения и надежды. С того самого мгновения, когда он понял, что пиявки — это киберы, запрограммированные на охрану скрытого в болоте объекта, он знал, что это за объект. И неумолимая логика предсказала весь дальнейший ход событий, ход, который он не мог повернуть, если бы даже захотел. Сергеев распахнул окно, закурил трубку и сел на подоконник, не отрывая взгляда от четкого, словно нарисованного на розовом фоне зари леса, за которым лежал чужой астролет. Логика. Почему-то укоренилось глубоко ошибочное мнение, будто человеку свойственны алогичные поступки. Будто только роботы, исходя из определенной начальной посылки, действуют по логически обоснованной программе, определяемой либо изменением окружающей действительности, либо естественным развитием событий, либо конечной целью. И в этом-де основное отличие человека от машины, пусть даже наиболее совершенной, способной самосовершенствоваться, с неограниченными степенями свободы. Тот, кто утверждает это, не знает ни машин, ни человека. Люди так же не свободны в своих поступках, как и роботы. Все их поведение, взгляды, мысли обусловлены тысячевековым ходом эволюции, теми канонами мировоззрения, которые выработались за эти вереницы веков. Той общественной формацией, при которой они живут. И если каждый индивидуум в отдельности может отступать от “средней” линии в силу особенностей своего характера, то коллектив на любое внешнее отклонение реагирует однозначно. Человек — раб земной логики. Земной! Она определяет его мировоззрение и поступки. В этом его сила и слабость. Вот и цивилизаторами руководит именно земная, человеческая логика, когда они рвутся открыть люк чужого астролета. И забывают при этом, что корабль построен существами, живущими по совсем другим законам. А люди переносят на них свои, земные критерии. Корабль охранялся? Ну и что? Мы тоже оставляем роботов охранять наши корабли на чужих планетах. Но, наверное, у пришельцев эта охрана не ограничивается такими, в общем-то, примитивными приспособлениями, как пиявки. А куда девался излишек воды, которую ручей нес в болото? Раньше мы думали, что он испаряется или уходит в подземную реку. А если вода разлагается и потом синтезируется в корабле на вещества, питающие какие-то установки? Что произойдет теперь, когда питание прекратилось? Никто не подумал об этом. Потрясенные встречей пусть не с живыми представителями чужой высокоорганизованной цивилизации, но с продукцией ее технического прогресса, земляне, в силу своей неопытности, не задаются вопросом: какими они могут быть, хозяева этого корабля? Они полагают, что узнают это, побывав в корабле, не подозревая, чем чревато такое “знакомство”. Ведь даже на гуманоидной Земле технический прогресс всегда опережал общественное сознание. Сергеев слез с подоконника и, выбив о ладонь погасшую трубку, подошел к книжному шкафу. Отдернул бархатную шторку, раздвинул стекла. Из всей мебели в этом кабинете книжный шкаф — единственный — не имел никакой механизации. Ни автоматического каталога, ни подающего устройства, ни проекционного аппарата. Это был старинный бесхитростный книжный шкаф, сработанный где-то в конце двадцатого столетия, и устроен он был так, чтобы хозяин мог не только получить нужную книгу, но и просто полюбоваться на тесно прижавшиеся друг к другу корешки. На средней полке стояла одна из самых любимых серий профессора — “История человечества”: толстые тома в плотных зеленых переплетах; они вобрали в себя весь путь эволюции от пещерных костров до космических кораблей. Сергеев не стал вынимать книги. Он просто медленно прошелся вдоль шкафа, скользя ладонью по лакированным торцам. Древний Египет… Пирамиды, скрывающие в своих каменных недрах необъятные разумом сокровища. Зачем они мумиям, которые уже лишились желаний? А на земле столько еще обездоленных… Безлунной ночью человек пришел к пирамиде и дерзко ударил ломом в ее каменную броню. Пробит лаз в стене, найден ход в гробницу. Узкий, извилистый ход, наклонно падающий к центру. Еще несколько десятков локтей, и откроется усыпальница. Жадные, нетерпеливые руки уже предчувствуют, как они сбросят крышку саркофага, небрежно вывалят на пол мумию того, кто был воплощением бога на земле, сорвут золотые украшения… Грабитель, забыв осторожность, лихорадочно рвется вперед, благо ход очистился и не надо отбрасывать с пути камни и песок. И в этот момент тяжелая глыба, бесшумно скользнув по смазанным жиром деревянным полозьям, намертво придавливает к полу его пальцы. Только пальцы, так рассчитано. И не вырвешь их, не освободишь. С каждым рывком камень оседает все глубже, и хруст раздавливаемых костей заглушает крики боли. Все, попалась мышка. Человек не убит. Он жив, он может стонать, может кричать, может ругаться. Ему просто не уйти уже с этого места. И он стонет, кричит, ругается. У него только один выход: отгрызть собственные пальцы. И, осознав это, человек решительно пускает в ход зубы. Но древние строители предусмотрели всё. Они логически воспроизвели все поступки грабителя. И когда человек, истекая кровью, освобождается наконец из ловушки, сзади опускается еще одна глыба, отсекая обратный путь. Фараону нужны слуги и в том, другом мире. Позднее средневековье… Эпоха великих художников и мыслителей. Раскрепощенная мысль расколола хрустальную небесную твердь, вырвала золотые гвозди, что прибил сам господь, и пустила звезды по своим извечным путям. А результат — костер на площади цветов. Двадцатое столетие… Люди поднялись в воздух, овладели электроэнергией, скальпелем физических опытов рассекли на части атом… И две мировые войны, самые страшные за всю историю человечества. И все это на Земле, где доброта возведена в канон. Что же говорить о планетах, где в канон возведено зло? Есть же, наверное, такие планеты. И эта девочка, сама еще не понимающая, что она открыла, обижается, что ее не оставили дежурить у чужого корабля… Сергеев вздохнул, отошел от книг и, включив микрофон, приказал всем собраться в зале.КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ
Сергеев и сам не ожидал, что ему так трудно будет подняться на возвышение за председательский стол. Сотни глаз в напряженной тишине смотрели на него. Сотни глаз, выражающих одну мысль… Положив принесенные с собой предметы на стол, начальник отряда оглядел зал, намеренно затягивая паузу. Он так и не успел подготовиться к разговору, привести себя в то волевое состояние, когда чувствуешь, что добьешься своего, и поэтому начал резче, чем намеревался: — Давайте договоримся сразу: менять свое решение я не буду. Да это и не моя прихоть. Есть такая вещь, как “Инструкция по контактам”, — Сергеев поднял со стола небольшую книжку, — в которой прямо сказано, что общение с инопланетянами, а также осмотр всех принадлежащих им предметов может производиться только специальной комиссией, назначаемой Ученым Советом Академии Космических Работ… Что такое, Буслаев, вы опять чем-то недовольны? — Да, недоволен, — прогудел Василий, неуклюже вылезая из тесного кресла. — Вы упустили из виду, что мы тоже изучали эту инструкцию и даже сдавали по ней экзамены в АКР, прежде чем отправиться на Такрию. И я еще не забыл пятнадцатый параграф, в котором сказано, что первичный осмотр всех предметов неустановленного происхождения производится комиссией из членов отряда под председательством начальника. А уж потом эти предметы, если будет установлено их неземное происхождение или происхождение вообще не будет установлено, передаются в Ученый Совет АКР — Я понимаю, что делаю изрядную натяжку, поскольку астролет явно инопланетный, так что ничего неустановленного тут нет. Но формально-то мы имеем право… Тем более, что до рейсового звездолета еще десять дней. А пока он довезет рапорт в академию, пока явятся эти высокоученые мужи… В общем, я предлагаю осмотреть корабль самим и составить описание, чтобы комиссия еще на Земле могла подготовиться. — Правильно! — поддержал кто-то из зала. — Чепуха! — возразили в другом конце. — Мы в этом совершенно не компетентны. — Но ведь интересно же, ребята… — Да и что тут особенного? Ну, зайдем, посмотрим и уйдем… — Нельзя, поймите же вы наконец! Мы можем таких дров наломать… Сергеев с улыбкой наблюдал этот разнобой мнений. Все идет как надо. В конце концов коллектив придет к однозначному решению. Он перевел взгляд на все еще стоящего Буслаева и поднял руку, прекращая шум. — Что вы надеетесь увидеть на корабле и что собираетесь описывать? На это у цивилизатора оказался четко подготовленный ответ: — Наконец-то человечество столкнулось с цивилизацией, стоящей на равной, а то и высшей ступени развития. Жаль, конечно, что они давно погибли, но корабль-то остался. Вот он, рядом. Остались приборы, карты, книги или другие средства информации. Человечество почерпнет для себя много нового и полезного. И поскольку мы открыли этот астролет, нам по праву принадлежит честь первыми войти в него. Цивилизатор сел, и Сергеев почувствовал, что его слова убедили многих. Убедили не логикой, ее-то как раз не было, а той эмоциональностью, которая так часто в спорах побивает все остальные доводы. Сможет ли он найти слова прямо противоположные, но несущие не менее убедительный эмоциональный заряд? Нельзя же признаться, что он просто боится? А впрочем, почему нельзя? Если понадобится, он скажет. Даже больше, он обязан это сказать. Но пока он сказал другое. — Почерпнет много нового, говорите? А ну-ка подойдите сюда, Буслаев, покажите, как это делается. Василий пожал плечами, но поднялся к столу. — Представьте себе, что вы уже побывали в корабле и вынесли оттуда вот этот прибор. Определите, для чего он служит, какие принципы заложены в его работе, что мы можем почерпнуть. Предположим, что это изделие не стреляет и его можно безнаказанно вертеть в руках. Цивилизатор осторожно взял в руки прибор совершенно непонятного назначения. На одном конце бронзовой подставки была закреплена градуированная дуга, на другом — подвижная стрелка. Стрелка скользила по дуге. Ясно было, что прибор определяет углы… А может, что-то другое? Повертев прибор так и эдак, Василий взлохматил бороду и задумался. — Ну, ну? — торопил профессор. — Сложная штука… Углы находит, — неуверенно пробормотал Буслаев, чувствуя себя очень неуютно под пристальными взглядами всего зала. То, что казалось таким легким и интересным, оборачивалось совершенно неожиданной стороной. — А-а-а… понял. Вы все-таки побывали в астролете и захватили там это. Вот видите, а нам запрещаете. Сергеев рассмеялся и отобрал у него прибор. — Вот до чего можно договориться, когда не знаешь, что сказать, — добил он Буслаева при общем смехе. — Разумеется, мы не были в корабле. А этот прибор изготовлен на Земле, в семнадцатом веке. Это секстант. С его помощью древние мореплаватели определяли свое положение в океане. Вот видите, Буслаев, даже земное изделие, изготовленное людьми с родным вам складом мышления, вы не смогли определить. Что же вы поймете в инопланетном корабле, где все другое — и мышление, и логика, и математика? — Ну, математика, положим, везде одинакова. Дважды два на любой планете четыре, — бросила с места Патриция. — Ошибаешься, Пат. Это вовсе не обязательно. Хотя бы потому, что обитатели другой планеты могут не пользоваться умножением. У них могут быть совсем другие математические действия, совсем другие числа. И обязательно, я настоятельно подчеркиваю это, совсем другой строй мышления, совсем другая логика. Вдумайтесь в это: другая логика. Вы ожидаете, что, открыв люк звездолета, попадете в переходную камеру, а за ней в коридор, ведущий в жилые помещения, двигательные отсеки, рубку управления и так далее. А на самом деле люк может открываться прямо в атомный реактор. Ведь даже внешне этот корабль ничуть не напоминает наши. Поняли, чего я опасаюсь? Не реактора, разумеется, с этим мы еще справимся, но любой другой, гораздо более гибельной неожиданности. Неожиданности для нас, а для них это будет вполне логически обоснованно. — Но это значит, что мы никогда не сможем понять друг друга! — взволнованно крикнула Мимико. — Все может быть, — жестко ответил Сергеев и, заканчивая совещание, сказал: — Так что обследование корабля будет проводиться комиссией, присланной с Земли. Возможно, в нее будут включены и наши люди, но руководить доверят человеку опытному, специально к этому подготовленному. А вас, друзья мои, прошу возвратиться в племена и продолжать работу. Мы не должны забывать, что основная наша цель — такриоты. Сергеев и сам не знал, сумел ли убедить цивилизаторов. Во всяком случае, споров больше не возникало, люди спокойно направились к стоянке мобилей. Буслаева он попросил задержаться, увел в кабинет и долго с ним о чем-то беседовал. Цивилизатор вышел от него потрясенный, безжалостно теребя спутанную бороду. Странные дни наступили на Базе. Она словно вымерла. Цивилизаторы не показывались. Возможно, каждый интуитивно оберегал себя от соблазна лишний раз взглянуть на чужой корабль, а может, были и другие причины. Ирина знала, что в племенах возникли осложнения. Излучение исчезло, и освобожденный разум наверстывал упущенное. Поведение такриотов менялось, и землянам приходилось напряженно констатировать каждый неожиданный сдвиг, вовремя и правильно реагировать на него. Только один человек постоянно мелькал на Базе, прилетая туда в самые неожиданные моменты и так же неожиданно исчезая. Это был Буслаев. Какие-то таинственные дела связывали его с начальником отряда. Они постоянно запирались в кабинете, обменивались в столовой понимающими взглядами или произносили фразы, которые непосвященным невозможно было разгадать. Ирине запомнилась одна такая фраза. Буслаев только что прилетел и в поисках Сергеева ворвался в столовую, где в это время была и Ирина. — Вы правы: берега под сорок пять градусов! — еще с порога заорал он и осекся под предостерегающим взглядом. Ирина догадывалась, что вся эта тайная возня ведется вокруг астролета, но не могла понять, какие еще заботы могут волновать профессора. Сергеев не посвящал ее в свои секреты, и она из гордости не подходила к нему. Но Буслаев, Буслаев… Он тоже явно избегал ее, ограничиваясь короткими приветствиями, когда они нечаянно сталкивались. “Ладно, придет и мой черед! — мстительно думала Ирина. — Ты у меня еще попляшешь!” Снова, как перед разгадкой секрета пиявок, она часами сидела у себя на диване, уставившись в одну точку, или бродила по коридорам, натыкаясь на углы. Буба блаженствовала без присмотра, делая все, что вздумается. Теперь, когда База опустела, девочка чувствовала себя хозяйкой в этом огромном доме. Даже Сергеев, которого побаивались все, не внушал ей никакого почтения. Ирина и сама не понимала свое состояние. Ведь она сделала крупное открытие. Пусть нечаянно, пусть независимо от своих намерений, но имя ее теперь вписано в историю науки. А радости не было. Той ликующей радости ученого, созерцающего блистательные результаты своего труда. Но ученый ликует, когда его работа служит на благо людей. А ее открытие влекло за собой такие последствия, что у Ирины тревожно сжималось сердце. Там, за лесом, лежит чужой корабль, погибший много тысяч лет назад. Скоро люди войдут в него и узнают, на какой планете живет такая же высокоорганизованная цивилизация, с которой надо вступать в контакт. Надо! Логика человеческой эволюции определяет этот шаг. А какие последствия он принесет для землян? Найдем ли мы общий язык с чужими или натолкнемся на чужое, враждебное непонимание? И не врежутся ли в пространство астролеты-диски, мчась к Земле отнюдь не с добрыми намерениями? Только теперь Ирина начала понимать, как детски наивно было их стремление сейчас же забраться в чужой корабль. Теперь она чуть ли не жалела, что исследование пиявок привело к такому финалу. Куда было бы спокойнее, если бы чужой корабль остался лежать под толщей воды Голубого болота. А дни бежали за днями, и события следовали своим чередом. С Эйры пришел рейсовый грузовик и, побыв, как положено, два дня, ушел на Землю. Ничего не подозревающие пилоты везли рапорт Сергеева в обычном конверте, даже без грифа “секретно”. Только адрес был слегка изменен: не в Ученый Совет АКР, а лично председателю совета. Непосвященному это ни о чем не говорило, но Сергеев знал, что в академии его письмо будет доставлено адресату быстрее любых других бумаг. Все эти дни он исподтишка наблюдал за Ириной, за теми процессами, что преображали ее. И однажды, вызвав ее к себе, рассказал все. И чего ожидает, и чего боится, и чем занимается Буслаев. Ирина была потрясена, но профессор не дал ей времени на переживания. — Я запрещаю вам думать об этом, — сурово сказал он. — И знаю, что вы сможете управлять собой. Никому ни слова. Нам предстоят еще сложные дни, и незачем заранее волноваться и волновать остальных. Берегите себя для будущего. А сейчас вам необходимо заняться делом. Посторонним делом, вне обычной вашей сферы. Летите к девчонкам. Они затевают там что-то страшно революционное. Помогите им, и для дела будет польза и сами рассеетесь. Ирина послушалась и, захватив Бубу, улетела к Мимико и Патриции. Девушки решили провести опыт, к которому давно готовились: поселить своихвоспитанниц в отдельном доме. Патриция уже научила Качу делать шалаш. Теперь шесть женщин, пользуясь доступными такриотам инструментами, соорудили легкий деревянный домик на берегу ручья, и девочки перешли туда. Там было, разумеется, не так удобно, как на Базе, поскольку приходилось рубить дрова для печи и таскать воду ведрами, зато такой дом могли сделать такриоты сами, если… захотят поселиться в нем. — Мы не строим никаких иллюзий, — объяснила Патриция. — И это, и следующее, и еще несколько поколений будут продолжать жить в пещере. Разве что найдутся один — два особо бесстрашных последователя. Мы хотим просто создать прецедент. Дом будет стоять, возбуждая любопытство, и легенды будут рассказывать, что когда-то в нем жили такриоты. Не люди с неба, а такриоты… И в конце концов легенды сделают свое дело. А может, все это произойдет раньше. Кто знает… Девочки с удовольствием зажили маленькой коммуной. Скучать им не приходилось. Они целыми днями принимали гостей, а их было немало. Все жители пещеры побывали в доме, приходили даже из соседних племен. И странное дело, их не трогали. После совместной постройки канала племена перестали враждовать. Весть о том, что любое племя может сделать себе такие же деревянные пещеры, как у “людей с неба”, мгновенно облетела планету. Разумеется, для этого больше всего постарались цивилизаторы. Такриоты придирчиво и настороженно оглядывали непривычную обстановку. Особенно их поразила печь. Нехитрое устройство с дымоходом и плитой, на которой так удобно готовить и можно сделать такие вкусные вещи, наполняло такриоток непривычным сознанием собственной значимости. У этого каменного сооружения они не только не уступают мужчинам, но превосходят их. Здесь они хозяйки. А главное, мужчины целиком будут зависеть от них. Ведь если раньше любой такриот мог сунуть кусок мяса в уголья, то теперь только женщины владеют секретом вкусной стряпни на плите. А кто же, отведав раз эти блюда, согласится снова питаться полусгоревшим мясом! Кроме того, чистота… Какая это, оказывается, замечательная вещь! Каждая такриотка втайне представляла себя на месте девочек — беленьких, с уложенными волосами, в опрятных передничках, ловко орудующих ухватами и вениками. Мужчины были более сдержанны в своих эмоциях. Они опасливо поглядывали на деревянные кровати и отходили, разочарованно покачивая головами. С этих странных возвышений так легко свалиться во сне. Нет, не нравилось им здесь, и они угрюмо отмахивались от взволнованных женщин. Через несколько дней цивилизаторов, спавших в палатке, разбудил стук топора. Патриция приподняла полог и, ахнув, замахала подругам, приглашая их посмотреть. Шаман рубил деревья. Сбросив свой травяной балахон, он остервенело кромсал упругие стволы. Хитрый старик понимал, что все его могущество держится до тех пор, пока он окутан дымкой таинственности. Ведь необычное, непонятное всегда внушает если не уважение, то хотя бы страх. А теперь, когда осушено болото и страшных пиявок, как беспомощных рыб, побросали в большую корзину, когда простые девчонки живут так же, как могучие “люди с неба”, какое уж тут уважение! Эдак любой может стать “общающимся с богами”. Секрета тут никакого. А значит, все племя очень скоро узнает, что боги никогда не нисходят к людям. Что же тогда будет? И, злобно ухая при каждом взмахе, шаман сооружал себе жилище огромных размеров, не заботясь ни об удобствах, ни о каких-либо пропорциях. Лишь бы побольше, помассивней, чтобы один вид внушал почтение. Он валил деревья не каменным топором, а стальным, очевидно украденным у землян во время постройки канала. — Мне даже страшно! — тихонько сказала Мимико. — Такое бурное развитие с тех пор, как прекратилось излучение! Вот-вот они перескочат в феодальный строй, минуя рабовладельческий. По крайней мере первый замок возводится лет на сто раньше, чем мы рассчитывали. Патриция покачала головой: — Они не повторят нас, пойдут своим путем. Собственно, они шли им с самого начала. У них, например, нет вождей, одни шаманы. Так что это не феодализм, это что-то новое, такого у нас не было. Мы даже не знаем, как это называется. — Было бы явление, а название изобретут, — усмехнулась Ирина. Постепенно напряжение оставило ее. Эксперимент девушек оказался настолько увлекательным, что Ирина как-то незаметно забыла и страхи, и сомнения, и даже смогла не думать о тех неожиданных догадках, которыми поделился с нею профессор. Поэтому однажды утром она не сразу поняла, почему Сергеев так взволнованно кричит в микрофон, требуя ее немедленного возвращения на Базу. Впрочем, он звал не только ее, он звал всех. С Земли прилетел председатель комиссии по контактам. А членами комиссии, по рекомендации Сергеева, назначили, кроме него, Ирину, Буслаева, Патрицию и Олле.“СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ”
Солнце еще только поднялось над горизонтом и розовая заря еще сползала с неба, когда группа землян подошла к овальному люку чужого астролета. Впереди косолапо, выворачивая ступни, шагал председатель комиссии по контакту академик Козлов. Облачка пыли взлетали каждый раз, когда его ноги грузно вбивались в землю. Ирина давно знала Козлова. Он читал лекции в АКР, принимал экзамены. Но до сих пор она не переставала удивляться, сколь щедро природа наградила этого человека. Беспристрастная статистика вывела удивительную закономерность: восемьдесят процентов выдающихся людей не обладает ни крупными размерами, ни большой физической силой. Козлов в этом смысле составлял счастливое исключение. Огромного роста (даже Буслаев стушевывался перед ним), широченного размаха плечи, с громовым голосом и неуемной натурой он поражал воображение. На его массивном, шишковатом лице с толстым носом и пышными, спадающими вниз усами сверкали неожиданно маленькие, как светлые бусинки, глазки. И каждый, на кого падал взгляд академика, чувствовал себя будто перед рентгеновским аппаратом. Сам гигантских размеров, Козлов уважал крупных людей. Поэтому с Буслаевым они с первого же дня сделались большими приятелями. Обоих роднили бесшабашные характеры и отчаянная смелость. К тому же академик оказался завзятым бильярдистом, и каждый вечер в клубе раздавался громкий стук сшибающихся шаров. Сражались по всем правилам: проигравший лез под стол, невзирая на чины и звания. Зато Ирина в присутствии академика никак не могла подавить в себе чувства, будто не выучила урок. Козлов прилетел неделю назад, но только сегодня комиссия впервые подошла к астролету. Первым делом председатель захотел подробно ознакомиться с историей находки корабля. Он выслушал отчет Ирины, досконально изучил журнал и долго ругал ее за допущенные ошибки, нагромождение нелепости на нелепость, как он выразился. По его словам выходило, что понять, кто такие пиявки, можно было сразу, чуть ли не в первый же день. А кончил тем, что объявил, что Ирина все-таки молодец, что у нее аналитический ум, “только вам его еще шлифовать и шлифовать, дорогая”, и расцеловал ее. Слишком горячо, по мнению Буслаева. После этого Козлов слетал к астролету, обследовал ручей, который, как обнаружил Василий, был искусственно создан из выведенной на поверхность подземной реки, подсчитал баланс воды и объявил, что, пожалуй, профессор Сергеев прав: пятьдесят процентов за то, что корабль обитаем. Главным доводом было то, что излишек воды никак не мог испариться, а следовательно, использовался в астролете. — Друзья мои, мы ничего не можем утверждать с полной очевидностью и, к сожалению, не в состоянии абстрагироваться от наших, земных, канонов мышления. А по этим канонам ход событий ясен как на ладони. В самом деле, как поступили бы мы, земляне, если бы, скажем, произошла катастрофа и мы оказались не в состоянии взлететь с чужой планеты? Поставили бы корабль на консервацию и легли в анабиоз в надежде, что когда-нибудь нас отыщут. — Но мы не стали бы уничтожать аборигенов ни своими руками, ни с помощью дрессированных рептилий на других материках, а на своем подавлять их развитие излучением. Ведь за это время такриоты создали бы развитую цивилизацию и оказали помощь пришельцам, — возразила Патриция. Козлов энергично замахал руками. — Правильно, дорогая. Мы бы не стали. А они сделали… предположим. А может, никакой аварии и не было. Может, пустой корабль нарочно оставлен на этой планете, как перевалочная база. С тех пор как осушили болото и вода перестала поступать в машины, прошло достаточно времени, но никто же не показался. Но даже если на корабле нет хозяев, мы не имеем права считать его пустым. Механизмы могут действовать по многочисленным программам, в том числе и программам встречи непрошеных гостей. — Он засмеялся, довольный смятением на лицах слушателей, и его маленькие глазки скрылись в набежавших складках. — Послушайте, но так же нельзя! — решительно сказала Ирина, преодолевая в себе навязчивое ощущение невыученного урока. — И Сергеев и вы упорно подчеркиваете, что земной логикой не объяснить поведение инопланетных существ, что у них все другое и даже дважды два не четыре. Но не вы ли учили нас, что законы мироздания одинаковы для всех точек Вселенной и они должны осмысливаться единой логической цепью? На любой планете любое существо постигает, что камень всегда падает вниз, а когда заходит солнце, становится темно. И два яблока плюс два яблока всегда четыре яблока как ни считай: хоть на пальцах, хоть на щупальцах, хоть на электронно-счетной машине. Да, что говорить: разгадала же я тайну пиявок чисто логическими рассуждениями… Она запнулась, не в силах выносить дальше насмешливого взгляда Козлова, и сердито отвернулась. Тогда академик добродушно загудел: — Недавно вернувшаяся экспедиция обнаружила планету грушевидной формы в двойной звездной системе. Там камень падает не вниз, а вбок, — чем дальше от основного ядра, тем угол падения больше и в максимальном удалении составляет тридцать семь градусов. Передвигаться землянам по этой планете почти невозможно: почва под ногами всегда наклонена то в одну, то в другую сторону. И тем не менее там есть животная и растительная жизнь. А живи там Ньютон, он вывел бы совсем другой закон всемирного тяготения. Существа, имеющие щупальца неравной длины, могут создать математику скользящих чисел, недавно открытую профессором Лернером. По ней дважды два равно четырем только как частный случай из бесчисленного количества вероятностей. А если эти существа обладают к тому же инфракрасным зрением, то для них с заходом солнца темнота не наступит. Также должен разочаровать вас, дорогая, с пиявками. Боюсь, вы так и не поняли, как вам повезло. Не разгадали вы логику их поведения. Произошло простое совпадение, счастливая случайность. Не одежда спасала робота, шамана и вас. Что-то другое, гораздо более сложная цепь явлений, которую одежда только замыкала. Но выпади случайно из этой цепи одно звено… Впрочем, довольно об этом. У нас впереди много дел, а времени в обрез. Давайте распределим обязанности. После этого жизнь на Базе завертелась чертовым колесом, как пожаловалась однажды вконец измученная Мимико. Неугомонный академик заставил работать всех. Ирине с Буслаевым и десятком других цивилизаторов досталось оборудовать наблюдательные посты и подготовить площадку для земного звездолета. Козлов хотел, чтобы диск инопланетян был в прямой видимости противометеоритных пушек. За три дня был расчищен и выровнен “пятачок” в полукилометре от болота, поставлены приборы лучевой посадочной наводки, и вчера наконец все было готово. Поднявшись с космодрома, земной корабль обогнул планету по орбите и приземлился точно на обозначенное место. Теперь там лет десять не вырастет ни былинки, зато за спиной комиссии по контактам, приближающейся к диску, грозно торчали аннигиляционные жерла. “Нужно ли это? Мы же идем к братьям по разуму”, — сомневалась Ирина, но молчала. Даже Буслаев притих и за весь путь не проронил ни слова. Правда, ему было не до этого. Гигант тащил на плечах тяжеленный лингвистический блок, и чем ближе к кораблю, тем шаг его делался грузнее. Не дойдя до корабля пятьдесят метров, академик остановился и сделал знак Патриции и Олле. Те молча разошлись в сторону, так, чтобы просматривать люк сбоку. Кобуры бластеров были у них расстегнуты. Остальные не несли с собой оружия. Проверив и коротким кивком одобрив их расстановку, Козлов повернулся и решительно зашагал к люку. Серая бронированная пластина, закрывавшая вход в чужой астролет, стремительно надвигалась на них. По крайней мере так казалось Ирине. В этот момент, когда, чудилось, весь мир затаил дыхание, она никак не могла сосредоточиться на главном. Мысли путались, разлетались, как вспугнутые птицы. Почему-то внимание приковала тусклая желтая полоска по обводам люка. Зачем она? Имеет ли какое-нибудь значение? Они стояли перед люком, перед чужим, неведомым миром. Что скрывается за этой серой матовой поверхностью? — Никаких ручек, никаких углублений или запоров, — задумчиво проговорил Козлов, прикасаясь к металлу. — Или надо сказать просто: “Сезам, откройся”? Он вздрогнул и невольно попятился, потому что в этот момент люк беззвучно скользнул вбок, и перед землянами открылся темный провал. Буслаев, плечом оттерев председателя, подошел вплотную и заглянул внутрь. — Мда… хоть глаз выколи, — с деланным смешком сказал он. — Но ведь приглашают… — По-видимому, — согласился академик, в свою очередь отодвигая цивилизатора. — И мы войдем. Отступать мы уже не имеем права. Кстати, — обратился он к Ирине, — что вы можете сказать о тех, кто строил этот корабль? Она только пожала плечами в полном смятении. — Ну, ну, дорогая, приободритесь. Ничего страшного пока не произошло. К нам относятся, как видите, с определенным пиететом. А об обитателях можно сказать, что, во всяком случае, они не выше нас ростом. В моем доме дверь почти таких же размеров. Не входят же они к себе согнувшись. И, рассмеявшись, Козлов первым шагнул во мрак чужого корабля. За ним, тяжело ступая, двинулся Василий. Ирина чуть помедлила, бросила быстрый взгляд вокруг, поймав прощальные жесты оставшихся снаружи, и одним прыжком догнала товарищей. Крышка люка тут же скользнула обратно, отсекая отступление, а впереди зажегся свет.НА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ПУНКТЕ
— Всем постам доложить обстановку, — монотонно проговорил в микрофон Сергеев. Он уже устал произносить эту фразу. Солнце клонилось к закату, а корабль лежал перед ними все такой же мертвый и неподвижный. И, как тяжелые камни, из динамиков падали короткие фразы рапортов: “Пост три: без изменений… Пост восемь: без изменений… Пост семнадцать…” Патриция и Олле все так же дежурили на своих местах, только сели на траву, не сводя глаз с корабля. Сергеев уже дважды предлагал сменить их, они отказывались. И все остальные наблюдатели не покинули свои посты, хотя по расписанию предусматривалось сменное дежурство. Яростно грызя мундштук трубки, Сергеев непрестанно вышагивал из угла в угол, меряя тесное помещение по диагонали. Четырнадцать часов минуло с тех пор, как люк закрылся за тремя землянами. Что происходит в корабле? И что должен делать он, Сергеев? Среди всевозможных вариантов контакта, разработанных Козловым, был и такой, что люк обратно не откроется, а рация будет молчать. Тогда через тридцать шесть часов он отдаст приказ командиру земного корабля и надежда на контакт окончательно рухнет. Но до этого еще тридцать шесть часов. Что-то изменится за это время, не может не измениться. — Ой, как есть хочется, просто невыносимо! Он вздрогнул. Что это? Голос Ирины. Он схватил бинокль. Перед диском по-прежнему маячили только две фигуры наблюдателей. Но они вскочили на ноги, оглядываются. Значит, не померещилось. И тут же в динамике зазвенел возбужденный голос Мимико: — Вы слышали? Слышали? Это же Ирка! — Тихо! — Сергеев хлопнул ладонью по микрофону. — Всем молчать! И в наступившей тишине вновь прозвучал знакомый голос, интонация которого странно не соответствовала смыслу фразы. Будто Ирина насмешливо и дерзко бросала кому-то в лицо: “Ой, как есть хочется, просто невыносимо!” И снова, не выдержав, крикнула Мимико: — Смотрите, смотрите, у люка!.. Но профессор и сам увидел. Люк не открылся, но около него неведомо как появился большой оранжевый куб, ярко выделяясь на сером фоне. Дрожащей рукой Сергеев сдавил микрофон: — Дежурному по кухне. Срочно доставить обед на трех человек. Жаркое, фрукты, бутылку вина. Обед был доставлен быстро, но еще быстрее прибежала Мимико. Сергеев торопливо доканчивал записку, когда она влетела, раскатисто хлопнув дверью: — Я сама, сама отнесу! Ну разрешите, пожалуйста. — Ну и дисциплинка! Покинуть пост без разрешения… Ладно, пойдешь со мной. С таким помощником я уж наверняка не пропаду. Уложи все так, чтобы было удобно нести, и сообрази, как лучше спрятать это послание. Чтобы не заметили, на всякий случай. Может, разрежем яблоко… Мимико фыркнула: — Это же негигиенично, да и неразумно. Мы вот так… И она быстро запрятала бумагу между двумя сложенными тарелками. Часть взяла она, часть Сергеев. Он шагал к диску, хмурясь и улыбаясь одновременно. Итак, главное выяснено: корабль обитаем. И очевидно, контакт произошел, раз ОНИ передали земную фразу. Вероятно, самую необходимую в данный момент. Но почему эта фраза вырвана из текста, почему не предоставили землянам возможности связаться с товарищами, рассказать… Играй тут в детективщину, прячь записку в тарелки! Ох, видно, ни один из предусмотренных вариантов не сработал, и контакт происходит совсем не так… Перед кораблем к ним присоединились Патриция и Олле. Вчетвером они приблизились к люку и положили на оранжевый куб принесенные блюда. Через мгновение куб исчез, будто испарился, только тонкий пронзительный звук долго еще дрожал в воздухе. — Техника на высоте! — хмуро сказал Олле. Тут только Сергеев вспомнил, что ни он, ни товарищи тоже ничего не ели. Он отвел свою группу на прежнее расстояние и попросил по рации принести им поесть. А потом растянулся на траве. — Будем ждать. Ответ они получили через час с небольшим. Куб с пустой посудой снова возник у входа, и Мимико мгновенно отыскала так же спрятанный в тарелках лист бумаги. С трудом разбирая неровный почерк академика, Сергеев прочитал вслух: — “Судя по методам, которыми исследуют нашу психику, это не гуманоиды. Мы тоже еще никого не видели, так что можем только гадать. Но настроены к нам не положительно, и если мы дрогнем, дело может принять любой оборот. Очевидно, пробуждение в данный момент не входило в планы хозяев корабля. Ясно одно: мы пленники, и вы должны действовать, если представится случай, в соответствии с этим. Хорошо бы продемонстрировать им нашу силу; думаю, это будет не лишнее”. Сергеев сложил письмо, спрятал его в карман, сосредоточенно закурил трубку. — По-моему, на контакт они уже не надеются, — задумчиво проговорила Патриция, наморщив лоб. — Стремятся выбраться подобру-поздорову. — Ух, я бы их! — пылко воскликнула Мимико, топая ногой. И хотя она была всерьез разгневана, все невольно улыбнулись. У Сергеева возникла идея. Приказав всем оставаться на местах, он быстрым шагом направился к астролету. Немного помедлив, Олле догнал его и зашагал рядом. Начальник отряда покосился на цивилизатора, но ничего не сказал. Как Сергеев и ожидал, люк открылся сразу, после легкого прикосновения. Они постояли немного, вглядываясь в непроницаемую мглу, затем по знаку профессора отступили на несколько шагов. В корабле призывно вспыхнул свет. Разноцветные потоки струились со всех сторон, перекрещивались, завивались в спирали, совершенно скрывая форму и глубину помещения. — Зазывают! — рассмеялся Олле, поняв замысел профессора. — Зазывают! — весело подтвердил Сергеев. — Не выдержали. А мы не пойдем. Спутаем им карты. Пусть-ка они лучше попробуют к нам выйти. Мы сумеем поговорить… Он был уверен, что его слова записаны и расшифрованы. Что ж, это неплохое начало для демонстрации силы: дали понять инопланетянам, что их действия поддаются анализу. Но, несмотря на показное веселье, Сергееву было грустно. Не так он представлял первый контакт, не с демонстрации… Вызвав на смену Патриции и Олле десяток цивилизаторов, Сергеев увел группу обратно на центральный пост. Солнце уже зашло, и огромный диск растворился во мгле. Профессор отдал по радио приказ, и сотни прожекторов высветили астролет. Затем Сергеев связался с командиром земного корабля. — Можете вы задержать их, если вдруг вздумают взлететь? — Не знаю, товарищ начальник. У нас мощный генератор кси-поля, но хватит ли его… — На всякий случай накройте их пока полем малой мощности, а если вздумают прорваться, жмите до предела. Пусть генератор сгорит, но взлететь они не должны. — Есть! Успокоенный Сергеев еще раз предупредил посты о бдительности и позволил себе небольшой отдых, растянувшись прямо на полу. Единственный диван центрального поста был занят еле живой от усталости Патрицией. Профессора разбудили через три часа. Сразу несколько голосов ворвалось в динамики, и он бросился к окну, с трудом открывая слипающиеся веки. В центре астролета появилось какое-то сооружение или машина. Схватив бинокль, Сергеев различил расплывающиеся в свете прожекторов светлые контуры сложных переплетений, образующие косо состыкованные между собой короба — верхний побольше, нижний поменьше. Внутри них вращались не то диски, не то силовые поля. На дне нижнего диска вырисовывались смутные очертания двух человекообразных фигур. Но сколько Сергеев ни крутил бинокль, давая максимальное приближение, разглядеть их ему не удалось: мешали вращающиеся круги. Сергеев включил микрофон. — Внимание, корабль! — Корабль слушает, — тут же раздалось в ответ. — На вахте второй навигатор. Не беспокойтесь, товарищ начальник, мы уже засекли эту штуку и раскрутили генератор на всю силу. Взлететь ей не удастся. А машина пыталась взлететь. В бинокль профессор ясно видел, как изгибаются короба, стремясь оторваться от диска. Механизм внутри вращался бешеными смерчами, белые штанги переплетов гнулись от напряжения. Вот, не выдержав, лопнула одна, вторая… Потом вибрация прекратилась, смерчи успокоились, и стало видно, что это огромные металлические маховики, а машина медленно опустилась в глубь корабля. Больше происшествий не было. Сергеев до утра продремал у окна. Изредка, вскидывая тяжелую голову, он опрашивал посты наблюдения и каждый раз получал один и тот же ответ: “Без изменения… Без изменений…”В ЧУЖОМ КОРАБЛЕ
Они шли, заключенные в световой колодец. Иначе невозможно назвать этот крохотный участок пространства, окруженный световыми стенами. Свет отступал перед ними и смыкался сзади. Разноцветные слепящие потоки струились сверху вниз, и такие же потоки били снизу вверх. Потеки перекрещивались, завивались в спирали, раздвигались и складывались, будто гигантский веер, и казалось, что вокруг рушится бесконечный бесшумный водопад, и невозможно было разглядеть, что находится за ним. — Подготовились к нашему визиту, — проворчал академик. — Видимо, для них контакт — дело не новое. Он попробовал связаться по рации с Сергеевым, но из динамика доносилось лишь слабое потрескивание. Стены корабля намертво экранировали радиоволны. Световой колодец плавно сместился влево, следуя за спиралью диска, и внезапно остановился. Остановились и земляне, не переходя разноцветную границу. Тотчас пол под ними дрогнул, качнулся и понесся по широкой плавной дуге. Световая завеса замелькала еще интенсивнее, по-прежнему, не позволяя ничего разглядеть. — Комфортабельно живут, — сказал Буслаев, с облегчением снимая с плеч тяжелый блок. — На наших кораблях до сих пор только допотопные лифты. Ирина молчала. Ее била нервная дрожь, и она сжимала зубы и стискивала кулаки: больше всего боясь, что спутники заметят ее состояние. Вот сейчас, через несколько минут, откроется новая эра в истории Земли… Она даже пропустила момент, когда движение прекратилось и световая завеса вокруг начала тускнеть и исчезла. — Вот это масштабы! — ахнул Козлов, оглядывая овальный зал, в центре которого они оказались, размерами с хорошее футбольное поле. Он был совершенно пуст, без всякой обстановки, если не считать небольшого возвышения вдоль стен, опоясывающего помещение по периметру. Нары не нары, лежанка не лежанка, но сидеть здесь было можно. Гладкие стены зала плавно закруглялись в низкий для такой площади потолок. Мягкий рассеянный свет струился, казалось, отовсюду. Земляне оглядывались с напряженным ожиданием. Ни одного признака, указывающего отличительные особенности существ, обитающих здесь. Это помещение могло принадлежать любому типу разумных. — А где же блок? — вдруг спохватился Буслаев. Он растерянно топтался на месте, поворачиваясь во все стороны, и даже, будто не веря глазам, провел рукой по полу. Только что блок был здесь, у его ног… К счастью, в нем заложены только данные о структуре земной речи. Ни координат Солнечной системы, ни общественного устройства, ни физиологических особенностей, так что с этой стороны опасаться нечего, но все же… — Н-да, нехорошо поступают. Из-под носа украли. Эдак они могут любого из нас… — Должно быть, подумали, что это какое-то оружие, — предположила Ирина. Удивительно, но эта “нетактичность” хозяев корабля помогла Ирине овладеть собой. Она с радостью почувствовала себя собранной и сильной. Пришло ясное понимание, что теперь все зависит от нее, от ее силы воли, быстроты реакции, присутствия духа. Академик сосредоточенно вышагивал вдоль стен, пытаясь определить, где здесь вход, и найти хоть какие-нибудь признаки, указывающие на облик обитателей корабля. Чтобы обойти зал, ему понадобилось двадцать пять минут. Нетерпеливый Буслаев долго наблюдал за ним, потом махнул рукой и плюхнулся на возвышение. И тут же с криком вскочил: “нары” задвигались, вздыбились горбом. — Эта штука чуть не раздавила меня! — возмущался цивилизатор. — Или приняла форму твоего тела, чтобы было удобнее, — спокойно возразил Козлов, приближаясь и садясь на то же место. Действительно, вокруг его фигуры тотчас образовалось некое подобие кресла — изогнутая спинка и подлокотники. Он растянулся во весь рост, и “нары” опять задвигались, принимая новую форму. — Присаживайтесь, друзья, в ногах правды нет. Ирина опустилась рядом с ним, невольно отстраняясь от мягких прикосновений. Но ничего враждебного в них не чувствовалось. — По-моему, мы движемся, — после некоторого молчания сказала она. — А я думал, мне померещилось, — облегченно засмеялся академик. — Движемся по кругу. — Точно, — подтвердил и Василий. — Стены остаются на месте, а мы едем. Они замолчали, пытаясь точнее определить направление и скорость движения, но оно скоро закончилось. Теперь они находились в дальнем конце зала, и он расстилался перед ними, пустой и загадочный. — Нас переместили в положение, удобное для хозяев, — задумчиво констатировал Козлов. — Но зачем? И, словно в ответ на его слова, перед ними вспыхнуло изображение. Это была не Земля. Интуитивно люди поняли это. Но так похожий на земной, пейзаж играл легкими приглушенными красками. На невидимом экране метрах в десяти от них узкая речка, поросшая кустами, вилась между холмов. Поверхность ее то голубела, отражая небо, то становилась темной там, где густые кусты купали в ней свои ветви. Холмы пестрели крупными цветами. Изредка налетал ветер и по траве пробегала рябь, в которой цветы прятали головки. Наискось влево уходил лес. Белые стволы стояли стройными рядами, пышные зеленые кроны слегка раскачивались. И деревья и цветы были незнакомые, не земные. Но таким спокойствием, таким миром веяло от этого уголка, что у людей отлегло от сердца и напряжение оставило их. — Ну, теперь я спокоен: на такой планете могут жить только подобные нам, — заявил Василий, устраиваясь поудобнее. Это изображение длилось довольно долго и внезапно, без всякого перехода, сменилось другим. Сначала земляне даже не поняли, что случилось, так резок был контраст. Место было то же. Только от леса остались обугленные, страшные скелеты; кусты исчезли, и по реке, крутясь в омутах и переплетаясь на перекатах, плыли багровые полосы. На голом черном холме был врыт столб, спиной к нему стоял человек. Те же пропорции, что и у землян, только какая-то странная поза. Внезапно изображение придвинулось вплотную, и оказалось, что человек привязан к столбу. Он был мертв, толстые веревки глубоко врезались в тело, распоротое вдоль грудной клетки. Изображение повернулось в другой ракурс, стала видна гряда уходящих вдаль холмов, и на каждом столб с человеком… Потрясенные земляне молчали. Ирина, сидевшая между мужчинами, непроизвольно схватила их за руки, сильно сжала и ощутила, как их ладони тоже сжимаются в гневной судороге. Она взглянула на лица своих спутников, на их стиснутые губы, мрачные глаза, и в душе ее поднялась холодная злая волна. А кровавая картина снова сменилась идиллией. Теперь это была уже другая планета. На небе полыхали два солнца, и среди фиолетовой песчаной пустыни под странными безлистными не то растениями, не то ветвистыми кристаллами сиреневого цвета стояли легкие сооружения, напоминающие шалаши древних африканских племен. Черные существа, у которых шесть щупальцев росли из верхней части туловища, а под ними сверкали три огромных глаза, ползали у жилищ, из сиреневых деталей собирали орудия странной формы и уезжали на многоногих, извивающихся, как гусеницы, животных. Та же местность. От жилищ остались аккуратные холмики черного порошка, а жители… Разрубленные на куски, лежат они в лужах зеленой крови. И так картина за картиной. С жестокой последовательностью демонстрируются мирные уголки различных планет и те же уголки, залитые кровью, в пламени пожарищ, развороченные взрывами. Последняя картина погасла, но долго еще продолжалось тяжелое молчание. Потом Буслаев, словно очнувшись, крепко провел ладонями по лицу и вскочил на ноги. — Ну и мерзавцы! Вот тебе и контакт! Запугивать вздумали. Козлов, уперев подбородок в кулаки, смотрел на него невидящим взглядом, потом произнес, отвечая скорее на собственные мысли: — Они не запугивают. Они исследуют. Психику нашу исследуют, интеллект. Биотоки расшифровывают. Контакт получился и проходит нормально… для негуманоидов. — Негуманоидов? — растерянно переспросила Ирина. — Да, негуманоидов. А вы думали, девочка, во Вселенной живут только доброжелательные человеки земного типа? Вон сколько нам показали сегодня существ. Как видите, разум может существовать в любой оболочке, лишь бы имелись конечности для трудовых операций. Но интересная особенность: нам показали одни жертвы. А где же нападающие? Какие они? Откуда? С какой целью прилетают на другие планеты? Если завоевывают жизненное пространство, то сколько их и сколько земли им надо? Буслаев, прохаживающийся по залу, внимательно выслушал академика и криво усмехнулся. — Эх, попадись мне хоть один из них в руки! — мечтательно протянул он, сжимая мощные кулаки. — Я бы из него… Огромный столб пламени вырвался из-под его ног, отбросив цивилизатора в сторону. Ирина бросилась к нему, но ее опередил академик. С неожиданным для такой грузной фигуры проворством он подхватил скорчившегося на полу Буслаева и оттащил к стене. Василий не отрывал ладони от лица. — Глаза! — глухо пробормотал он. — Глаза обожгло… У них не было ни капли воды, никаких лекарств. Поэтому Ирина смогла использовать только чистый платок. Она насильно развела руки Буслаева. — Не три руками. На, промокни платком… Из-под плотно зажмуренных век цивилизатора сочились слезы. Несколько минут он сидел прижав платок к глазам, потом осторожно приоткрыл один, другой… — Вижу, — шепотом сказал он. — Вижу! — Ну и отлично, — успокоенно сказал Козлов. — А теперь, друзья… О черт! Что же это за безобразие! Уже полыхала половина зала. Струи пламени с силой рвались вверх из невидимых горелок, спрятанных в полу. Огонь наступал плотной стеной, медленно, но неотвратимо сокращая расстояние. Вот уже пять метров осталось, три, два… Злые языки тянулись к ним, дыша жаром, грозя испепелить, как на недавних изображениях. Земляне, взявшись за руки, стояли неподвижно. И огненная стена тоже остановилась, не переходя некий рубеж. Так продолжалось пять, десять, пятнадцать минут… — Скучно, товарищи, — неожиданно сказала Ирина, зло прищурив глаза. — Пугают нас сказками, как в детсадике. И она шагнула вперед. Дрогнув, степа отступила, вогнулась полукругом перед ней. Тогда двинулись мужчины. Шаг за шагом теснили они огонь на середину зала, где, зашипев, он внезапно исчез. — Ой, как есть хочется, просто невыносимо! — вздохнула Ирина, когда они вернулись на свои места, демонстрируя этим полное пренебрежение к столь негостеприимным хозяевам. Но, сказав это, она тут же почувствовала, что действительно страшно голодна. — А ведь и правда: то-то я чувствую, что мне чего-то не хватает, — подхватил Буслаев, на что Козлов сокрушенно покачал головой. — Моя вина, дорогие коллеги, моя! Не догадался прихватить десяток бутербродов, не думал, что все так обернется. А кормить нас здесь не будут. Нечем им нас кормить. — Ира, ты ведь биолог, сколько времени человек может обойтись без пищи и воды? — спросил Буслаев. Ирина не успела ответить, за нее это сделал Козлов. — Об этом не стоит беспокоиться: умереть с голоду не успеем. Если через, — он посмотрел на часы, — через тридцать восемь часов мы не вернемся, этот притон будет сожжен аннигиляторами. Буслаев и Ирина с изумлением уставились на него. Что он говорит? Ведь после долгих споров комиссия решила не применять мер, могущих повредить корабль, что бы ни случилось — не применять. У них есть другие способы устрашения, виброгенератор, в конце концов. Достаточно включить его, и хозяева корабля поползут наружу, как осы из облитого кипятком гнезда. Буслаев открыл было рот, чтобы поправить академика, но веселый блеск хитрых глазок Козлова заставил его прикусить язык. Подмигнув Ирине, цивилизатор радостно засопел: пусть эти негуманоиды знают, какая участь им готовится! Тем более, что даже с помощью лингвистического блока им не определить величину земного часа. Ирина устало улыбнулась товарищу и поудобнее устроилась на ложе. Голод затих, его вытеснила непреодолимая сонливость. Вслед за ней заснул Василий, выставив в потолок всклокоченную бороду. Только Козлов остался сидеть, подтянув колени к подбородку и закрыв глаза, невесело размышляя о бесконечности Вселенной и многообразии населяющих ее существ. Он уже понял, что контакта с инопланетянами не произойдет, что он не может, не должен произойти. Да и какую точку соприкосновения могут найти существа совершенно различного облика, с совершенно различным складом мышления? Раньше, лет двести назад, считали, что достаточно нарисовать атом — ядро с электронами, — и разумные сразу поймут друг друга. Был даже такой фантастический рассказ, где очень быстро и легко начинается контакт именно с демонстрации атома. Ну, а сейчас, когда известно, что атом вовсе не “кирпичик мироздания”, что рисовать? Квант? Как его нарисуешь? Какими символами, чтобы те поняли? Но предположим, что это удастся. Так, неужели же неясно, что существа, овладевшие космосом, знают и квант, и атом, и молекулу? И математику знают. Пифагоровы штаны рисовать, как тоже предлагали когда-то? Так у них своя математика, у них может не быть такой теоремы, а если и есть, она не послужит основой контакта. Элементарные знания есть у всех и демонстрировать их друг другу — занятие безнадежное. Психика, интеллект, общность мышления, порождаемая общностью эволюции или общностью биологического строения, — вот основа контакта. Только родственные по духу существа могут понять друг друга. Как земляне и такриоты, например. Но даже и таким существам будет невыносимо трудно. У них просто может не оказаться эквивалентных понятий… Уже довольно долго Козлова безотчетно раздражал какой-то очень знакомый аромат. Наконец он открыл глаза. На большом оранжевом кубе стояли тарелки с мясом, фрукты, бутылка вина. Академик наклонился, осторожно потянул воздух и окончательно убедился, что все это наяву. — Эй вы, сони, а ну, вставайте! — загремел он. Цивилизаторы кубарем скатились на пол. — Не может быть! Я сплю! — воскликнула Ирина, глядя во все глаза на это чудо. — Зато я не сплю! — Буслаев схватил кусок мяса. — Какой там сон! Только действительность может быть так прекрасна. Несколько минут они молча насыщались. — Постойте, где-то здесь должна быть записка, — спохватился академик. — Еда явно земная, вон и на тарелках герб отряда. Не мог же Сергеев не передать нам извещения. Смотрите, если кто-нибудь из вас впопыхах съел ее… — Не бойтесь, не съели, — сказала Ирина, отпивая глоток вина и переводя дух. — Она между этими тарелками. Видно же, что они сложены специально. Козлов схватил тарелки. — Верно! Вот что значит женщина! Он быстро пробежал послание и бросил его на стол. — Ничего особенного. Они тоже не вступили в контакт. Наши хозяева транслировали твой голодный призыв, девочка, но этим дело и ограничилось. Ну что ж, остатки еды мы прибережем на ужин, а ответ так же запрячем между тарелками. Когда куб с пустой посудой исчез, Козлов сладко потянулся, зевнул и растянулся во всю длину на ложе, заметив, что сон для них сейчас — единственная доступная полезная деятельность. Ирина и Василий последовали его примеру. На этот раз их разбудила вибрация. Слабая, почти незаметная, однако их обостренным нервам этого оказалось достаточным. Постепенно вибрация усиливалась, а свет померк, так что люди едва различали друг друга в полутьме. Земляне сидели рядом, касаясь плечами друг друга, готовые ко всему. Одна и та же мысль угнетала всех. Первым высказал ее Василий: — Кажется, улетают. Раскручивают двигатели. — Тогда будем драться, — отозвался Козлов. — Жаль, бластеры не захватили: нельзя было. Ну ничего. Наши их прижмут, а мы тут врукопашную… — Если будет с кем, — докончила Ирина. Потом вибрация прекратилась, но что-то изменилось в корабле. Они не могли понять, что именно, но каждой клеточкой чувствовали мятущееся вокруг беспокойство и тревогу. Исчезло прежнее монолитное спокойствие, за стенами что-то шуршало, поскрипывало, по залу пронеслась струя свежего, воздуха, свет ярко вспыхнул и снова ослабел до полумрака. Внезапно яркий треугольник расколол стену рядом с ними, и в зал, переваливаясь на коротких полусогнутых лапах и волоча длинный, с шипами на конце хвост, вбежал… ящер. Ирина вздрогнула, невольно отпрянула, плечи мужчин напряглись, затвердели. Ящер был страшен. Его плоское широкое тело было заключено в золотистый панцирь. Нижние лапы с длинными когтями и хвост были мощными, массивными, верхние лапы наоборот — тонкие и короткие, с тремя пальцами. В них он держал темный, глянцево поблескивающий ящик. На двухметровой высоте, опираясь на морщинистую шею, покачивалась зеленая плоская голова с острым костяным гребнем и огромными, вытянутыми, как у крокодила, зубастыми челюстями. Вывороченные ноздри, желтые без век змеиные глаза и глубокий шрам посреди морды дополняли этот омерзительный облик. Ящер остановился против землян и начал быстро что-то делать с ящиком, прикладывая пальцы то к одной, то к другой его плоскости. — Ну вот, есть с кем и потолковать, — удовлетворенно сказал Буслаев, выпрямляясь и делая шаг вперед. — Сначала я вышибу из него мозги, а потом посмотрим, что в этом ящ… Он не договорил. Его слова заглушил голос, сухой, скрипучий, механический голос из ящика. “Вы уходить. Очень скоро. Очень скоро. Мы не хотеть вам плохо. Не все не хотеть. Мы отпускать вас, вы отпускать нас. Вы уходить. Очень скоро”. Он отошел в сторону от треугольного провала в стене. Его хвост нервно метался, то обвиваясь вокруг лап, то со свистом рассекая воздух. Раздумывать было некогда. Совсем рядом, за стеной, нарастал зловещий шорох, мягкий топот, свистящее дыхание. Подтолкнув Ирину, Козлов бросился к проходу, жестом приказал Буслаеву бежать впереди. Они мчались длинным, суживающимся коридором, все время поворачивающим вправо. В памяти остались только серые колеблющиеся стены да черные дыры поперечных туннелей, в одном из которых внезапно вспыхнули желтые огоньки, а из другого выскочили и попытались преградить путь три белесые фигуры. С радостным воплем Буслаев обрушил на них кулаки. Два ящера остались лежать, третий вскочил на ноги, и тогда Козлов могучим пинком припечатал его к стене. В глубине следующего туннеля метались призрачные тени. Буслаев гаркнул на ходу, и тени замерли. Потом несколько минут сзади раздавался тяжелый, постепенно ослабевающий топот. В беге земляне явно выигрывали. Последний поворот и коридор уперся в люк. За несколько метров до приближающихся беглецов он стал открываться, медленно, толчками, словно тот, кто управлял им, не был до конца уверен, стоит ли выпускать пленников. Но с половины пути люк решительно и быстро убрался в стену. Восходящее солнце Такрии ударило в глаза, и свежий, напоенный запахами трав воздух ворвался в разрывающиеся от усталости легкие беглецов. Пошатываясь, они сделали еще десяток — другой шагов и упали на руки подбежавших товарищей. А у люка угрюмой кучкой сгрудились ящеры. Теперь, когда пленники были вне пределов досягаемости, они не проявляли враждебности, просто стояли и смотрели. Отдышавшись, Буслаев обернулся к ним, внушительно погрозил кулаком. Ящеры попятились, теснясь, втянулись в корабль, и серая пластина бесшумно отрезала их от людей.ПРОЩАЙ, ТАКРИЯ!
Голос прозвучал часа через три, когда солнце уже высоко поднялось в небо. Сухой, без интонаций, аналитически подбиравший слова, усиленный мощными динамиками голос несся над равниной, над лесом, над горами, заставляя цивилизаторов хмуриться, а аборигенов прятаться в пещеры. — Вы убирать силу, мы покидать планету… Вы убирать силу, мы покидать планету… Эта фраза непрестанно повторялась синтервалом в десять минут, будто на корабле включили пластинку с замкнутой дорожкой. Сергеев немедленно послал мобиль за членами комиссии, отдыхающими на Базе. Пока они собрались и прилетели, прошло полчаса. — Ваше мнение, коллеги? — спросил академик хриплым со сна голосом. Патриция решительно махнула рукой: — Пусть убираются! С такими нам не о чем говорить. Олле и Ирина поддержали ее. Сергеев молчал, напряженно обдумывая. — Не согласен! — угрюмо прогудел Буслаев. — Предлагаю держать поле, пока они не вылезут. — А дальше что? — спросил Сергеев. — А дальше… Дальше будем разговаривать. — О чем? И на каком языке? Если они не хотят вступать в контакт, остается одно — война. Значит, взорвем планету. Так не лучше ли разойтись мирно? — А где гарантия, что они не шарахнут по нас сверху? — не сдавался цивилизатор. Козлов легонько постучал ладонью по столу, привлекая внимание. — Гарантий, разумеется, нет, кроме пушек нашего корабля. Но, думаю, до этого не дойдет. Не забывайте, среди них нет единства. И хотя мы не знаем, кто сейчас говорит: те, кто выпустил нас, или те, кто пытался задержать, — мы обязаны принять это предложение. Потому что мы — гуманоиды. Кстати, исследовав наш психологический комплекс, они на это и рассчитывают. У нас не оказалось точек соприкосновения, но принять совместное благоразумное решение мы можем. Возможно, в этом и кроется основа для будущего контакта. Поэтому, как председатель комиссии, и учитывая мнение большинства, принимаю решение: создать им условия для отлета. Он связался по рации с командиром земного звездолета. — Дайте нам сорок минут, — отозвался тот. — Мы оснастим разведракеты индикаторами опасности, и они проводят “гостей” до входа в подпространство. — Даю час. Торопиться нам незачем. Ровно через час в небо унеслись ракеты, и генератор кси-поля прекратил работу. Путь для инопланетян был свободен. И тогда центральная часть диска медленно разошлась, открывая черный провал. Одна за другой поднимались оттуда тонкие пластины, как крылья огромных мельниц, и на каждой стояли ящеры. Четкими рядами маршировали они по астролету, располагаясь сначала у края, а потом все ближе и ближе к центру. Здесь были отряды в черных и белых панцирях и вообще без них. Сохраняя строгие интервалы, они уже покрыли весь диск, а пластины выносили на поверхность всё новые и новые шеренги. — Тысяч тридцать, — сказал Сергеев, водя биноклем. — У них, видимо, жесткая дисциплина и четко обозначенная роль каждого. Смотрите, одни вооружены какими-то ящиками, у других в лапах длинные трубки, третьи стоят без всего. Ему никто не ответил. Все напряженно вглядывались в экран локатора, на котором застывшие ряды ящеров были отчетливо видны. Тихо щелкнул динамик, и раздался голос пилота земного корабля: — Товарищ командир, экипаж в боевой готовности. В случае чего мы их сразу… — Хорошо, только не горячитесь и не предпринимайте ничего без команды, — не отрываясь от бинокля, отозвался Сергеев. Последней на диск поднялась группа из пятнадцати ящеров, все в золотистых панцирях. Они остановились у самого края отверстия двумя кучками по семь особей, а между ними встал рослый ящер, чей панцирь отливал особым багряным оттенком. Козлов закрутил верньеры локатора, давая максимальное приближение. Без сомнения это был командир. Его безобразную морду прорезали глубокие шрамы, покрывали рубцы, гребень на голове стерся почти до основания. Но круглые глаза горели желтс-багровым огнем, а вывороченные ноздри свирепо вздрагивали. И хотя ящер не открывал пасть, у землян создалось впечатление, что он кричит, произносит яростную речь. Сверкнув в последний раз глазами, командир повернулся к провалу, и из него медленно поднялась прямоугольная решетчатая башня, на вершине которой, стиснутые перекладинами, стояли еще четыре ящера. Они были без панцирей и стояли очень прямо и неподвижно, будто статуи. На экране ясно было видно, как глубоко впились перекладины в их серо-зеленые тела. — Ба, да там наш знакомый. Узнаю его по шраму! — воскликнул Буслаев. — Дорого же обошлось ему наше спасение, — сказал Козлов. — А ведь с ним, пожалуй, можно было бы договориться. — Так зачем дело стало! — рванулся Буслаев. — Сейчас организую ребят и… — Отставить! — Голос Козлова прогремел, как выстрел. — Мальчишка! Василий обиженно засопел, но любопытство пересилило, и через минуту цивилизатор угрюмо вглядывался в неторопливо развертывающуюся картину казни. Башня высоко вытянулась над кораблем и застыла, чуть покачивая вершиной. Повинуясь неслышимой команде, все отряды сделали полуоборот мордами к отступникам. Из диска стали вытягиваться четыре тонких шеста с черными шарами на концах. Медленно ползли они вверх, и в мертвой тишине следили за ними ящеры и цивилизаторы. Сергеев вздохнул, будто очнулся, и включил микрофон. — Всем постам. Всем цивилизаторам. Сохранять полное спокойствие. Ни во что не вмешиваться. Никто не ответил, кроме командира земного корабля. Это был молодой пилот, недавно начавший летать на этой линии, и ему бездействие в такую минуту казалось преступлением. — Товарищ начальник, но ведь так нельзя… Разрешите слегка придавить их полем. Сергеев даже заскрежетал зубами. — Ни в коем случае! Объявляю персональную ответственность за каждого. За необдуманные действия виновные понесут самое суровое наказание. “Глядите же, глядите! — думал он, до боли прижимая окуляры к глазам. — Глядите, милые мои мальчики и девочки. Окруженные с колыбели любовью и теплотой, воспитанные в гуманизме, с молоком матери всосавшие непреложную истину, что человек — это самая большая ценность, глядите и постигайте вашу недавнюю историю. О публичных казнях вы читали, как о чем-то далеком, варварском, но видеть не приходилось: в исторических фильмах эти кадры стыдливо заменяют облетающей листвой и траурной музыкой, чтобы не травмировать вашу нежную психику. Петля, гильотина, электрический стул — вы думаете, это исчезло, кануло? Да, кануло, но вот перед вами новое и, несомненно, совершенное орудие казни. Вы жаждали контакта с инопланетянами? Глядите, глядите во все глаза, вот он, контакт!” Он оторвался от бинокля и искоса взглянул на Буслаева. Цивилизатор, бледный и злой, яростно жевал кончик собственной бороды, его широкая грудь ходила ходуном. “Поняли вы теперь, ради чего ушли в космос, ради чего проводите вдали от Земли лучшие годы? Глядите же, и пусть это зрелище придаст вам силы и изгонит сомнения”. Шары остановились на уровне груди приговоренных, и тотчас их тела вздрогнули, забились в судорогах. На экране отчетливо было видно, как гнутся и шатаются перекладины. Двадцать минут продолжался этот кошмар. Бледные земляне застыли, не в силах оторваться от экрана. Перед ними был не просто кусок чужой жизни. Им давали урок, который надо было запомнить навсегда. И по-прежнему стояли не шелохнувшись отряды ящеров, глядя на сжигаемые тела. Потом башня втянулась обратно в корабль, ящеры в золотистых панцирях исчезли первыми, и пластины унесли отряды в черный провал, который немедленно после этого закрылся. А еще через несколько минут огромный диск оторвался от планеты. Он не разогревал реакторы, как земные звездолеты, не ревел, сотрясая землю. Медленно и плавно, без единого звука взмыл он в небо и, наклонившись, стремительно скользнул к солнцу. Очевидно, ящеры специально выбрали этот маршрут, чтобы затруднить наблюдение. Ракеты провожали корабль несколько часов. Он так и не вошел в подпространство, и через полтора миллиона километров ракеты оставили слежение и вернулись обратно. — Скатертью дорожка! — сказал Буслаев и в сердцах плюнул. — Хорошо бы сейчас под горячий душ. У всех было такое ощущение, будто они соприкоснулись с чем-то мерзким. — К сожалению, грязь с души так просто не смоешь, — вздохнул в ответ Козлов. А через два дня Такрия провожала Ирину. Она улетала вместе с Козловым. Здесь ей больше делать было нечего. Накануне Сергеев вызвал ее к себе. — Подведем итоги. Ирина молча опустилась в кресло. Профессор про себя отметил, как изменили ее эти дни. Лицо осунулось, глаза смотрели твердо и холодно, в уголках губ прорезались тоненькие морщинки. “Да, нелегко даются такие уроки”, — подумал он, выдвигая ящик стола и доставая большой конверт. — Здесь отзыв о вашей работе. Самый лестный. Своим открытием вы прославили себя. — Перестаньте! — почти крикнула Ирина. — Зачем вы так, будто я только что прилетела… Слава! За что? За неудавшийся контакт? Или за то, что столько времени не могла отличить живое существо от искусственно созданного механизма? Да, любой другой на моем месте сразу понял бы это. Академик нашел, что я все делала неправильно. Да и вам понадобился всего один опыт, а я… — А вы провели всю подготовительную работу, чтобы я это понял, — спокойно сказал профессор. — Да и академик ругал вас в чисто воспитательных целях, поскольку в его глазах вы все еще студентка, а на деле он гордится вами. Ведь как-никак вы его ученица. Впрочем, я даю отличный отзыв не за результаты вашей работы. Астробиологию они никак не обогатили. Есть кое-что интересное для биоников, но вы же не собираетесь заниматься этим в дальнейшем. Что ж, вас постигла неудача, с каждым может случиться. Но не каждый разглядит эту неудачу в… как это писали раньше?., в сияющих лучах славы. Не каждый поймет свою ответственность — ответственность ученого за результаты, к которым может привести его работа. А вы поняли. Я внимательно наблюдал за вами все эти дни и знаю, что говорю. Скоро ваше имя станет известно каждому жителю Земли. Вы будете слушать его по радио и телевидению, на каждом шагу наталкиваться на свои портреты. У вас не будет отбоя от почитателей. Ведь вы разрешили старинный спор, доказали, что разум во Вселенной не замыкается в человекообразной оболочке. Вы столкнули человечество с иным разумом, с иной психологией, с иными, не похожими на нас существами. Вы показали землянам те опасности, которые их ожидают в космосе. И если раньше эти опасности только предполагались с большей или меньшей степенью вероятности, если кое-кто легкомысленно отмахивался от них, считая, что высокоорганизованные существа обязательно должны договориться, то вы заставили людей повзрослеть. В этом смысле неудавшийся контакт послужил отличным уроком. Но вы и сами повзрослели, коллега. — Он смолк на мгновение, окинув ее добрым, понимающим взглядом. — Когда вы прилетели к нам, вы были просто девчонкой, помешанной на романтике. Теперь вы молодой серьезный ученый, которому можно доверить судьбы людей. И вот я пишу… — Он вытащил из конверта плотный лист, неторопливо развернул. — Где это?.. Ага, вот: “Достойна присуждения степени кандидата биологических наук за открытие превращения кибернетических механизмов в живые существа под влиянием изменения окружающих условий”. — Он помолчал, давая ей осознать услышанное, потом неожиданно спросил: — Кстати, каким это образом Буслаева укусила гарпия? Ирина смутилась: — Он очень неосторожный. Я попросила поймать детеныша, чтобы… чтобы проверить одну идею. — Вот-вот, поэтому я и пишу: “Прошу направить в распоряжение такрианского отряда для проведения биологических исследований”… Ну что вы, что вы! Товарищ ученый! Слезы-то зачем? Ну успокойтесь, успокойтесь… Он ласково погладил ее по голове. — Спасибо вам, Валерий Константинович, вы очень добры, — сказала Ирина, вытирая глаза. — Но я не вернусь на Такрию. У меня другая цель. Попрошу в академии подходящую планету и переселю туда гарпий. Хочу помочь им стать разумными… и гуманными. Несколько минут Сергеев молча смотрел на нее. — Не можете забыть? — Никогда не забуду. Я твердо уверена, что эти… чудовища просто жертвы неблагоприятно сложившихся условий. Ошибка природы. Высший разум не может быть антигуманным. И я докажу это, сделав из таких страшных хищников, как гарпии, разумных гуманоидов. Разумеется, они станут разумными уже после меня… но все равно. — Да, все равно, — задумчиво сказал профессор. — Мы бросаем семена, а пожинать придется другим. Но ведь от правильного посева зависит урожай. Он закурил трубку, положил бумагу в конверт, заклеил его, надписал адрес. — Не стану менять ни одного слова, но не стану и отговаривать вас. Вы взяли на себя страшно трудную задачу, хочу верить, что она окажется вам по плечу. А об этих забудьте. Они исчезли, и больше мы не встретимся. Космос велик. Так же думала и Ирина. И ни она, ни Сергеев не могли даже предположить, каким страшным образом им предстоит снова встретиться с ящерами на Планете Гарпий. …И вот он наступил, день отлета… Устремленная в небо сигара земного корабля окружена людьми. Здесь и цивилизаторы и аборигены. Ирине протягивают цветы, много цветов, она уже не может удержать их, и яркие бутоны сыплются под ноги. Буслаев сквозь толпу пробивается к ней. Он хочет что-то сказать, но только разводит руками. Впервые у него такой растерянный вид. — Не горюй, борода! — говорит Ирина. Она старается улыбнуться, но улыбка почему-то получается грустная. — Я еще вернусь сюда за гарпиями. А потом, кто знает, может, и ты прилетишь ко мне… в отпуск. — Никаких отпусков! — рычит цивилизатор, потрясая кулаками. — Я понял, в чем мое призвание: гарпии. Все равно такриоты больше в нас не нуждаются. А тут есть возможность сыграть роль господа бога: сотворить из животного человека по образу и подобию своему. Так что улетай куда хочешь, хоть на край света. Я все равно найду тебя, на любой планете, в любой точке Вселенной, клянусь своей бородой! — Ладно! Только не клянись бородой, не рискуй. Оставь для встречи. Почему-то в последнее время мне стало нравиться это… украшение. — Она смотрит на его растерянное от счастья лицо и невольно смеется. — И вот еще: когда-то ты неровно дышал к моему мобилю. Оставляю его взаймы. Вернешь, когда меня отыщешь. Новая волна с букетами разъединяет их. Ирина отмахивается от цветов, хочет еще что-то сказать Буслаеву, но что скажешь, когда вокруг люди! И, привстав на цыпочки, она кричит ему через головы провожающих: — До встречи! Мимико откровенно плачет. Патриция крепко жмет Ирине руку. — Не забывай, — говорит она. — Прилетай. Здесь тебя ждут. И показывает на трех девочек-такриоток. Они стоят рядышком, все трое в спортивных брючках и свитерах. Они смеются и машут руками. Ирина проглатывает горячий комок, подкативший к горлу. Буба отказалась лететь на Землю. Она остается на Такрии, здесь она нужнее. И это было последнее, что видела Ирина на Такрии, пока тяжелая крышка люка не захлопнулась за ней, — три тоненькие девичьи фигурки, приветливо машущие руками.В.Ревич · НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ
Заметки о советской фантастике 1973 года
В 1973 ГОДУ ВЫШЛО НЕМАЛО НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ КНИГ, хотя, пожалуй, ни одна из них не стала крупным художественным открытии. После весьма бурного развития фантастической литературы в 60-х годах жанр находится сейчас в некотором переходном периоде. Будем надеяться, что это затишье временное, разбег перед новым взлетом. Так как большинство произведений развивало наступление на уже завоеванных плацдармах, я позволю себе начать мой, не претендующий на исчерпывающую полноту, обзор с переизданий. Пусть эти книги, строго говоря, не относятся к 1973 году, однако в свое время они были незаслуженно обойдены вниманием критики (но отнюдь не читателей). В первую очередь речь пойдет о фантастической трилогии В.Мелентьева. Три его повести — “33 марта”, “Голубые люди Розовой земли” и “Черный свет”, ранее выходившие порознь, были собраны издательством “Детская литература” под одной обложкой и общим названием “Черный свет”. Книга В.Мелентьева предназначена детям младшего школьного возраста. Как правило, фантастика для такого круга читателей носит сказочный характер. Создать произведение подлинно научной фантастики для аудитории, у которой нет еще общего представления о науке, — дело довольно сложное. Однако очень нужное. Современные дети растут в обстановке научно-технической революции. С самых ранних лет они окунаются в стихию технического засилья, в стихию научной терминологии, что вызывает у них огромный интерес. Пусть им многое непонятно в занятиях взрослых, в радио- и телепередачах, но это интригующая непонятность. Конечно, влияние НТР сказывается и на школьных программах, но школьные программы не могут не быть достаточно консервативными, а вокруг сияет радуга цветных телевизоров, спутники подлетают к планете Марс, люди высаживаются на Луну… Попытка В.Мелентьева создать такую, отвечающую духу нашего времени фантастику для младших заслуживает пристального внимания. Как мне представляется, наибольшего успеха писатель достиг в первых двух повестях. “33 марта” рассказывает юному читателю о мире завтрашнего дня. Ребенку ведь нельзя дать представление о будущем, о тех целях, которые ставит перед собой наша страна, с помощью абстрактных формулировок, которые старшим школьникам уже доступны. Такое понятие, как “коммунизм”, может быть воспринято учениками начальной школы главным образом в образных, увлекательных картинах. Именно это и сделал В.Мелентьев в своей книге. Воспользовавшись фантастическим приемом, ведущим начало еще с рассказа американского писателя В.Ирвинга “Рип Ван Винкль”, автор — перенес современного школьника, заснувшего шестиклассника Васю Голубева, на пятьдесят лет вперед, в 2020 год. Полвека — еще не такой большой срок, чтобы то будущее, в которое попадает Вася, было совсем непохоже на сегодняшний день; герой застает в живых своих сверстников, конечно, постаревших. Многое из того, что делают люди вокруг него, понятно и знакомо мальчику, но, с другой стороны, за пятьдесят лет наше общество сделает, разумеется, трудно представимый рывок вперед в техническом оснащении, в отношениях между людьми, в условиях их жизни, в бережном — наконец-то! — обращении с природой… Перемены, поразившие Васю, поражают и читателей, его ровесников. Ведь и герой и его читатели — и есть строители того самого прекрасного, радостного мира, в который попадает мальчик. Воспитательное значение книжки трудно переоценить, я бы внес ее — если это еще не сделано — в рекомендательные списки для начальной школы. А такой, может быть, чрезмерно тяжелый для впечатлительных голов момент — мальчик замерз в лесу и был разморожен только спустя много лет — удачно снят в конце книги сообщением о том, что все это Васе просто приснилось, пока он в снежной яме ожидал помощи… Во второй повести В.Мелентьев берет еще один традиционный фантастический зачин — прибытие на Землю космического корабля с пришельцами — и поворачивает его совершенно необычно. Кажется, еще никто из фантастов всерьез не доверял звездолетов детям. А вот обитатели Розовой земли посчитали, что подрастающее поколение должно с ранних лет привыкать к ответственным, большим делам. Они доверяют своим ребятам корабль, в котором юные космонавты живут, путешествуют, учатся. Они вернутся на родину опытными звездоплавателями. Очень многое узнают в долгом полете четыре симпатичных маленьких голубых человечка, а вместе с ними и землянин Юра Бойцов, который был любезно приглашен на космическую прогулку вместе со своим неразлучным псом Шариком. По сравнению с “33 марта” “Голубые люди…” более, так сказать, научны, повесть насыщена сложными терминами и описаниями — атом, гравитация, биостимулятор… Речь даже заходит об относительности времени. Доступность изложения придает книжке несомненную информационную ценность, но все же не это в ней главное. Главное — ее идея: глядя на своих голубых коллег по разуму, Юра Бойцов учится быть настоящим человеком, он понимает, как много надо в жизни знать, уметь, сделать, он осознает, что такое ответственность и как нужно оправдывать доверие окружающих. Нельзя не отметить и еще одну особенность повестей В.Мелентьева. Они написаны весело — забавные приключения мамонта Тузика, размороженного вместе с Васей в “33 марта”, и трагикомическая эпопея разросшегося Шарика в “Голубых людях…” с лихвой компенсируют для читателя трудные “научные” рассуждения. К сожалению, третья повесть — “Черный свет”, в которой Вася Голубев и Юра Бойцов объединяются для новых приключений, не достигает естественности и цельности первых двух. Похождения мальчиков, заброшенных волей автора в джунгли Южной Америки, выглядят больно уж надуманными, если только такой упрек применим к фантастическому произведению. И их встреча с двухсотлетним инопланетником, и дрессированные крокодилы, и нападение солдат — во всем этом есть какое-то нарушение правил той увлекательной игры во “всамделишность” происходящего, которые установил сам автор в первых двух частях. Что же касается “повести в повести” — записей о гибели звездолета, который неугомонные мальчишки отыскали в пригородном карьере, то эта история, во-первых, предполагает все же более подготовленного читателя, чем те, для кого написаны чудесные приключения Васи Бойцова и Юры Голубева, а во-вторых, сама по себе не выходит за рамки обыденной научной фантастики. Поэтому лучшими страницами в “Черном свете” мне кажутся начало и конец, где действуют очаровательные юные герои и их умный пес Шарик… Но, конечно, не только дети хотели бы наглядно представить себе будущее. И более взрослые читатели не прочь побывать в том мире, строительством которого мы сейчас заняты. Фантастический прием, использованный уральским писателем Петром Ворониным в начале романа “Прыжок в послезавтра”, очень сходен с завязкой первой повести В.Мелентьева… У П.Воронина тоже замерзает человек, но уже не “понарошку”, а по-настоящему, застигнутый полярной метелью. И Валентина Селянина размораживают люди будущего, хотя значительно позже, чем через пятьдесят лет. Обычно в таких ситуациях “размороженный” становится экскурсантом, которого водят по музею будущего и наперебой показывают различные диковины. П.Воронин не останавливается на этом, он хочет прежде всего донести до нас душевное смятение человека, которому нежданно-негаданно подарена вторая жизнь, и трудности его “вживания” в новый мир. Как он ни хорош, этот мир, как ни доброжелательны люди, воскресившие Валентина, как ни интересно то, что происходит вокруг, герой долгое время чувствует себя одиноким, потерянным, тоскующим о тех, кого он оставил в первой жизни и кого уже давно нет. Конечно, воскрешение человека, пролежавшего века в ледяной могиле, — это беспримерный научный подвиг, но, может быть, не менее трудно “разморозить” и его душу. Жаль немного, что чисто фантастические ходы у П.Воронина получились слишком уж традиционными — опять прирученные дельфины, опять космические пришельцы. Если бы и здесь ему удалось проявить больше оригинальности, то книга стала бы еще лучше, ведь писателю во многом удалось создать живые образы, изобразить живые и непростые отношения между людьми. Влюбленность, неразделенное чувство, дружба, забота о ближнем и дальнем — как все это будет тогда, вот что волнует писателя. В послесловии к книге Г.Падерин совершенно справедливо пишет: “Сейчас стало модным — выспрашивать у футурологов, какими они представляют себе, скажем, XXI век, что, по их мнению, произойдет в физике, химии, биологии, в промышленном производстве. А что произойдет во взаимоотношениях людей? Почему об этом никто не спросит у футурологов? Какой будет, к примеру, любовь там, в далеком будущем, в пору материального изобилия, в окружении чудес, созданных могучей наукой и могучей техникой завтрашнего, а тем более послезавтрашнего дня?” Постепенно Валентин возвращается к жизни, начинает чувствовать себя нужным в кругу пробудивших его людей. Сначала его привлекли в те дни, когда Земля была охвачена тревогой, — к планете приближалось загадочное шарообразное тело с неизвестными и, возможно, враждебными намерениями. Валентин оказался единственным человеком, у которого сохранились не умозрительные представления о том, что такое разум, направленный на уничтожение себе подобных, ведь он был участником Великой Отечественной войны. Правда, писатель не стал доводить дело до схватки двух цивилизаций, это вообще не в традициях советских литераторов, исповедующих мысль, что разум, достигший космических высот, не может опуститься до такой дикости, как война. В повести П.Воронина соблюдено одно из важных требований к хорошему фантастическому произведению. Создатель его должен описать нигде не бывшую, никогда не виденную обстановку так, как будто он сам в ней побывал. Только тогда и читатель начинает верить автору. Оригинальную утопию опубликовал Г.Гуревич (сборник “В мареве атолла”, издательство “Мысль”). Она называется “Здарг” и представляет собой самостоятельную часть романа “Путешествие в зенит”. События, изложенные в “Здарге”, разворачиваются не на Земле, а на вымышленной планете Вдаг, где и вообще-то обитают не люди, а совершенно на нас непохожие существа, однако для “удобства” земного читателя рассказчик, так сказать, переводит свое повествование на земной язык, на земные понятия. Этот прием позволяет писателю создать модель человеческого общества без чрезмерной привязанности к нашей планете, к земной истории. Поначалу кажется, что Г.Гуревич задумал очередную научно-техническую фантазию о том, что такое гравитация и каковы возможные сферы применения побежденного тяготения. Однако во второй части Г.Гуревич уходит от технических проблем и рассказывает историю Астреллы, небольшого астероида, на котором великий ученый Здарг решил создать своего рода заповедник талантов. Оторванная от родной планеты, от своего народа, погрязшая в себялюбивых претензиях, астрельская колония спускается все ниже и ниже по социальной лестнице, доходя чуть ли не до первобытного состояния. Для развенчания космического “замка из слоновой кости”, для доказательства бессмысленности “чистой” науки писатель избрал стиль исторической хроники, в повествовании почти нет бытовых деталей, пейзажей, диалога и многих других примет “обычного” романа. Что ж, писателя следует судить по за конам его собственного замысла, хотя нельзя все же не отметить, что желание втиснуть в каждую страницу слишком большой объем информации приводит к тезисности, к беглости, к абзацам, над которыми нет возможности поразмышлять серьезно… ПОЛЕТЫ В КОСМОС И В 1973 ГОДУ остались главным сюжетным стержнем нашей фантастики. Конечно, описания путешествий к иным мирам — это тоже рассказы о будущем, и довольно далеком, но задачу такие произведения выполняют иную, нежели “утопии”, в которых, впрочем, космические полеты почти всегда присутствуют, как непременная, обязательная черта грядущих дней. Сергей Жемайтис в повести “Багряная планета” в очередной раз отправляет земных космонавтов на Марс. Писатель как бы воплотил в своем произведении затаенные мечты всей предшествующей марсианской фантастики. Экипаж советского планетолета “Земля” находит на, казалось бы, пустынной, вымершей планете не просто жизнь, даже не просто разумную жизнь, но следы высочайшей цивилизации, которая хотя и погибла, но имеет шансы возродиться, если земляне возьмут это дело в свои руки. (Не совсем, правда, понятно, почему столь высоко организованные роботы, которых марсиане — Вечно Идущие — оставили на миллионнолетнюю вахту, должны обязательно дожидаться прилета людей, чтобы выполнить свою Великую Миссию.) Планета погибла в результате неразумного хозяйствования, уничтожения окружающей среды, как бы мы сказали на современном газетном языке. Легко догадаться, описывая небывалую технику марсиан, их не всегда понятное людям искусство, картины их былой жизни, писатель думает о Земле, его волнуют ее, земные, тревоги. Но было бы неправильным утверждать, что Марс у С.Жемайтиса просто псевдоним Земли. Пафос произведения заключен в утверждении мысли: перед вышедшим в космос человечеством встанут новые, неслыханные задачи, оно должно будет принять на себя ответственность не только за судьбу своей родной планеты, но и других миров. Сейчас, когда наши автоматические станции все ближе и ближе подбираются к Багряной планете, очень, конечно, хочется, чтобы осуществилась хоть самая малая часть из того, что написано в многотомной “марсиане”. Сергей Павлов в повести “Корона Солнца” разместил своих межпланетчиков “немного” подальше от Земли, а именно на Меркурии. Именно отсюда стартует научно-исследовательский корабль, который должен стать спутником Солнца. С.Павлову удаются описания обстановки, он прекрасно видит место, где действуют его герои. И в этой повести антураж небывалого полета выстроен “правдиво” — физически ощущаешь близость грозного светила, пылающего ада, всей его протуберанцевой мощи. К несчастью, гораздо хуже у С.Павлова обстоит дело с человеческими характерами. Его герои отличаются друг от друга в лучшем случае по портретам и по фамилиям. Эта безликость человеческих образов и не дает фантастике С.Павлова подняться выше среднего уровня. (Сказанное относится и ко второй, переизданной в 1973 году повести — “Чердак Вселенной”.) Как бы чувствуя свою слабость и будучи не уверенным, что ему удастся удержать внимание читателей только на переживаниях космонавтов, С.Павлов вводит в повесть резко фантастический, но, увы, довольно избитый сюжетный ход. Двое из космонавтов, не выходя из корабля, каким-то таинственным образом попадают в иной мир, а один из них встречается там с этакой солнечной Аэлитой и даже завязывает с ней роман. Непонятные иноземцы по своему виду, образу мыслей, морали вполне сходны с людьми, например, они спасают жизнь погибшему космонавту, вернее, изготовляют неотличимую копию, о чем объект этого “мероприятия” и не догадывается, так как труп “оригинала” товарищам удается тайком выбросить в люк. Но все эти чудеса никакого объяснения не получают; когда автор их сочинял, у него не было никаких серьезных соображений по сему поводу, кроме желания немного развлечь читателя очередной фантастической небывальщиной. Еще дальше отправляются герои рассказов из книги Юрия Никитина “Человек, изменивший мир”. Они уже запросто бродят по звездным системам, не встречая никаких преград — ни временных, ни энергетических. И встречают их на открываемых планетах разнообразнейшие жители — от единорогов до дикарей. Но остается невыясненным вопрос: ради чего же собран весь этот весьма пестрый галактический маскарад, хотя- если внимательно в него вглядеться — новых масок в нем мы и не обнаружим? У автора, к сожалению, еще нет собственного, выстраданного предмета художественного исследования. Видимо, у него нет и достаточного жизненного опыта, крупицы которого он мог бы передать читателям. А может быть, такой опыт и есть, но Ю.Никитин не умеет им распорядиться. Пожалуй, во всей книге лишь один рассказ можно назвать по-настоящему удавшимся — “Однажды вечером”. Дело даже не в содержании, содержание рассказа довольно простое. Шел по улице легкомысленный парнишка, и вдруг его охватила непонятная для него самого тоска. Он неожиданно совершил благородный поступок — предложил себя для участия в опасном опыте, и вдруг почувствовал себя человеком. В рассказе есть движение характера; примитивный язык и не менее примитивное мышление парня схвачены автором весьма убедительно, и мы рады за героя, за пробуждение личности. Несомненно, этот рассказ идет от жизненных наблюдений Ю.Никитина и показывает его не реализованные в других случаях возможности. Но как верно заметил автор предисловия Р.Полонский, “Однажды вечером” — рассказ, в сущности, не фантастический. А вот в фантастических рассказах Ю.Никитина взрываются атомные пули, прыгают отвратительные сколопендры, барахтаются в тине разумные земноводные, человек вылезает из своей шкуры как бабочка из кокона, но соединить эту избыточную фантазию с общелитературными требованиями Ю. Никитину пока не удается. В его рассказах нет главного — свежей мысли. Видимо (и в этом Ю.Никитин далеко не одинок), научная фантастика представляется ему очень легким делом: достаточно перенести действие на другую планету (идут описания необычных растительных и животных форм), посадить корабль с небольшой аварией, вылезти из него с опаской, оглядеться из-под ладони и увидеть спешащую делегацию гуманоидов, которые в романах XIX века именовались без затей туземцами. Сюда же прикладывается несложная идея: с гуманоидами надо обращаться гуманно, и они воздадут вам сторицей. Временами, конечно, в рассказах Ю.Никитина можно отыскать и занятные приключения, и смешные реплики, но это не снимает ощущения неудовлетворенности. Несколько рассказов Ю.Никитина посвящено подвигам трех суперотважных космонавтов. Двое из них — Макивчук и Женька — фигуры “лица не имеющие”, они характеризуются лишь общими понятиями — невозмутимость, простодушие и т. д. Что же касается третьего друга, — Яна Тролля, то, пожалуй, некоторые зачатки характера у него есть, но при более пристальном рассмотрении его контуры начинают разительно напоминать контуры другого литературного героя, а именно Леонида Горбовского из повести братьев Стругацких. Горбовский упомянут здесь не всуе. Этот чрезвычайно симпатичный персонаж участвовал в нескольких повестях братьев Стругацких, но давно уже был погублен “безжалостными” авторами в романе “Далекая Радуга”. Теперь он, хотя и не в качестве главного героя, снова появился на страницах повести “Малыш”, включенной в сборник “Талисман” (издательство “Детская литература”). Тех, кто внимательно следит за творчеством Стругацких, эта повесть, пожалуй, удивит; очень уж она напоминает их самые ранние вещи. Возникает даже подозрение, что “Малыш” был написан лет 12–15 назад, но почему-то в свое время не был авторами опубликован. Новые произведения А. и Б.Стругацких насыщены сложной проблематикой, и на фоне, например, поистине драматической судьбы героя повести “Пикник на обочине”, не так давно напечатанной в журнале “Аврора”, несколько простоватыми выглядят заботы героев “Малыша”: удастся ли установить контакт с негуманоидной цивилизацией или не удастся? Впрочем, за повестью нельзя не признать и немалые достоинства. Как всегда у Стругацких, команда их звездолетчиков — это привлекательные, умные, интересные и очень разные люди. С ними можно дружить, за них можно переживать, радоваться, огорчаться. Запоминается также своеобразная фигурка Малыша, космического Маугли — ребенка, оставшегося на чужой планете и воспитанного какими-то нечеловеческими, но не безразличными к окружающему миру существами. ИЗ МЕЖЗВЕЗДНЫХ ДАЛЕЙ ВЕРНЕМСЯ СНОВА НА ЗЕМЛЮ, в ее сегодня. С разными целями писатели используют жанр фантастики, откликаясь на злобу дня. Одно из самых распространенных ее применений — политический памфлет. Правда, тут нельзя не вздохнуть — процент удач в этом виде фантастики у наших писателей невелик, возможно, сказывается слабое знание зарубежного материала, что приводит к неубедительности, к излишней прямолинейности. Начнем, впрочем, с положительного примера. Хотя свердловчанин В.Печенкин в романе “Два дня “Вериты” взял не слишком новый для фантастики сюжет, но разработал его тщательно и во многом по-своему. Действие романа происходит в некой латиноамериканской стране; автор, избегая излишней конкретности, сумел создать обобщающий образ “банановой” республики, находящейся в полной зависимости от влиятельного северного соседа. Ученый Богроуф, что означает Багров, так как он русский по происхождению, изобретает “Вериту” — передатчик, излучающий особые импульсы, в результате чего все население начинает говорить правду, только правду и одну только правду — от президента до нищего. Выявляются всевозможные махинации, разоблачают себя предатели, провокаторы, тайные агенты, выявляются подлинные намерения людей. Этого оказалось достаточно, чтобы привести страну в состояние полнейшего хаоса. Так, остроумно и образно писатель утвердил мысль о том, что эксплуататорское общество может существовать, только опираясь на фундамент лжи и обмана. Страницы, рассказывающие о том, что творилось в стране, пока была включена “Верита”, лучшие в романе. Что же касается оценки подобных методов политической борьбы, то их бесперспективность наглядно изображена в самом произведении. Досадно только, что и в этом романе автор слишком охотно использует знакомые по другим произведениям клише — например, изображая тайную лабораторию, где сотрудничают бывшие нацисты, занятые подготовкой смертоносного оружия… А вот еще одно произведение, в котором тоже действует психический излучатель. Но здесь автор, взявшись за зарубежную тематику, недостаточно продумал свою собственную посылку. Идея его рассказа вызывает некоторые сомнения. Я имею в виду рассказ Г.Чижевского “В мареве атолла” (из уже упоминавшегося одноименного сборника). Странные события происходят на одной океанической научно-исследовательской станции. Ее сотрудники внезапно впадают в гипнотический сон и начинают совершать поступки, отвечающие их сокровенным помыслам. А именно: один набил другому физиономию, второй взломал сейф, третий смешал у нелюбимого начальника химические растворы, четвертый украл шоколад у лаборанта и т. д. Когда они, очнувшись, начинают анализировать свои действия, один из героев говорит: “По-видимому, наш внешний лоск так же легко снимается, как радужная пленка с несвежего мясного бульона, в котором кишат смертоносные бактерии алчности, мелочного эгоизма, честолюбия, стяжательства, разъедающей зависти и пещерной ненависти к себе подобным! Вот наше подлинное “я”!” Солидаризируясь с этими словами и выведя на свет божий страшные пороки честной компании, автор, очевидно, думает, что он нанес жестокий удар по растленной западной интеллигенции и не замечает, что тем самым стал пропагандистом одной из вредных и антигуманных теориек, которая утверждает, что культура в человеке — это и вправду всего лишь тоненькая пленочка, прикрывающая звериное начало. С помощью этой теории оправдывается, в частности, воспевание жестокости и насилия в зарубежном кинематографе и литературе. В конце рассказа проясняется причина ночной вакханалии, виновником которой безосновательно подозревали кальмара. Оказалось, что один из ученых испытывал на своих коллегах (весьма маловероятный вариант!) некий излучатель биотоков, сконструированный по заданию Пентагона. Тут авторская позиция становится совсем расплывчатой. Можно думать, что он хотел заклеймить милитаристских агентов, провоцирующих людей на зверские или недостойные поступки. Но тогда, по логике вещей, он должен был выступить в защиту мирных и, в сущности, ни в чем не повинных обитателей станции. Но, как видим, он их тоже разоблачает вовсю, и это всеобщее разоблачительство начинает невольно восприниматься просто как клевета на людей. Хорошо известно, что даже в гипнотическом сне нормального человека нельзя заставить совершить аморальный поступок. А какие, собственно, есть основания подозревать целый коллектив ученых-гидрогеологов в том, что они все потенциальные мерзавцы? В повести Игоря Росоховатского “Пусть сеятель знает” (сборник “Талисман”) мы попадаем еще на одну морскую станцию. Наверно, не просто ответить на вопрос: за что фантасты оказывают такое предпочтение кальмарам и осьминогам? Дельфины — еще понятно, все-таки высокоразвитые существа, по чем кальмары или осьминоги лучше других морских животных? Моллюск — он моллюск и есть. Но тем не менее осьминожье-дельфиновая фантазия И.Росоховатского продолжает длинный ряд подобных произведений. Радиоактивные контейнеры, сброшенные в океан, вызвали к жизни разумную мутацию среди спрутов. Восьминогие красавцы незамедлительно обрели способность понимать человеческую речь и общаться с людьми, что не помешало им тут же начать строить всяческие козни против людей. Боясь конкуренции со стороны осьминожьего племени, люди уничтожают их логово, ничуть не сомневаясь, что они имеют право так поступать с разумными существами. Для автора это нечто само собой разумеющееся. Не было сделано даже попытки договориться с осьминогами. Мотив “разумного животного”, в том числе и враждебного человеку, опять-таки не впервые используется в литературе. Достаточно вспомнить “Войну с саламандрами” К.Чапека — страстную антифашистскую утопию. В “Разумном животном” Р.Мерля выведена, наоборот, дружественная людям порода, а общий смысл романа антимилитаристский. И. Росоховатский же никакого глубокого, социального смысла в свои занимательные приключения с осьминогами не вложил. И в этом главный недостаток повести. РАНО УМЕРШАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ЛИЛИАНА РОЗАНОВА занималась не только и даже не столько фантастикой. Тем не менее ее перу принадлежит несколько фантастических рассказов, и каждый из них — своего рода жемчужина. Может быть, ее опыты лучше всего и доказывают: чтобы писать хорошую фантастику (как, впрочем, и все иное), недостаточно иметь глубокие знания, недостаточно хорошо владеть литературной техникой (хотя не обойтись ни без того, ни без другого), нужно еще, чтобы у автора была душа, а за душой нечто такое, что необходимо сообщить людям. Л.Розанова была талантливым, интересным и душевным человеком; недаром ее дневник, опубликованный в “Комсомольской правде”, стал одним из ярких документов, свидетельствующих о богатстве внутреннего мира нашего молодого современника. Рассказ “Две истории из жизни изобретателя Евгения Баранцева”, вошедший в посмертную книгу Л.Розановой “Три дня отпуска”, может быть назван одним из лучших научно-фантастических рассказов года. Собственно, это даже не один, а два рассказа. Первый — “Весна — лето 2975-ого” — озорное повествование о том, как юный математический гений Женя Баранцев, отремонтировав в школьном подвале списанный компьютер, выполнил на нем задание одноклассницы-красавицы, к которой был неравнодушен: он предсказал ей моду, которая будет главенствовать через 1000 лет. Но в юмористическую эксцентриаду умело введена драматическая нотка, придающая рассказу совсем иное качество. Только сама щеголиха Ксана не поняла, какую злую шутку сыграло с ней необыкновенное платье, сшитое по моде наших далеких потомков. В нем оказалось заложенным чудесное свойство: платье к лицу только совершеннымлюдям, оно подчеркнуло, обнажило душевную пустоту, никчемность девушки, красавица стала выглядеть уродливой. Вот так вот, в одной точно выбранной детали можно очень много сказать и о настоящем, и о будущем, и об окружающих людях, и о самом авторе. В другой истории, названной “Предсказатель прошлого”, нет ничего смешного, это тревожный и волнующий рассказ. Тот же неугомонный Баранцев, теперь уже студент, сконструировал прибор, который показывает ответственные моменты из жизни подключенного к нему человека в двух вариантах — как могло бы быть и как было на самом деле. Если бы такой аппарат существовал в действительности, это был бы беспощадный судья. Ах, как часто мы делаем неверные шаги, неисправимые просчеты, выпускаем из рук близкое счастье, временами зная об этом, но иногда даже не догадываясь, что ты прозевал свой звездный час. Не стану здесь рассказывать, как прошло испытание прибора в комнате студенческого общежития, скажу лишь, что условный, фантастический прием дал возможность автору коротким, почти слепящим лучом высветить несколько совсем не условных, а настоящих человеческих судеб. Продолжая строить статью по принципу контраста, я хотел бы противопоставить изобретателю Л.Розановой изобретателя из рассказа Александра Хлебникова “Талисман” (в одноименном сборнике). Здесь автор, разрабатывая пришедший ему в голову фантастический ход, вряд ли хорошенько задумался над нравственной стороной дела. Некий изобретатель находит способ расшифровывать звукозапись человеческой речи, которая якобы навечно сохраняется в кристаллах, например в драгоценном камне того перстня, который носил на руке человек. В данном случае — перстня Пушкина. Не кажется ли вам, что подслушивание интимных разговоров граничит с заглядыванием в замочные скважины? Но автор не думает об этической стороне дела, наоборот, писатель, рассказчик и изобретатель с восторгом вслушиваются в те пошлости, которые они заставили произносить Александра Сергеевича: “Что делать? Драться?.. А если — меня? Как же Наташа, дети, долги?.. Простить? Нет! Выход один — дуэль”. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, о котором пойдет речь в этом обзоре, стоит немного особняком. Фантастических произведений о Великой Отечественной войне считанные единицы. Понятно почему. Победа над фашистами была одержана благодаря мужеству и самоотверженности нашего народа и других народов Европы, которые впоследствии установили в своих странах социалистический строй. В руках советских солдат была надежная боевая техника, но не было и не могло быть какого-то “сверсекретного” чудо-оружия, которое сделало бы нашу победу легкой и бескровной, хотя нет ничего проще, чем придумать задним числом такое оружие. От писателя-фантаста, который все-таки решил обратиться к теме Великой Отечественной войны, требуется исключительный такт. Думается, что Александр Ломм в повести “Ночной Орел” проявил именно такой такт и сумел внести фантастическую ноту, не нарушая существенно историческую правду. В повести действует человек-птица, Ночной Орел, он же советский десантник Иван Кожин. Хотя автор и потратил много сил, чтобы “научно” обосновать способность своего героя свободно летать в воздухе без дополнительных приспособлений, повествование в какой-то момент начинает восприниматься не буквально — Иван Кожин становится легендарным неуловимым мстителем. Но ведь о действиях партизан и вправду ходили легенды. Не было места на оккупированных землях, где бы захватчики чувствовали себя спокойно, ничто не спасало их от возмездия. Человек-птица становится символом партизанской отваги, дерзости, мобильности. Да и сам парень неплох, увлекающийся комсомолец, который думал только об одном, как бы свой внезапно открывшийся дар получше использовать для скорейшей победы над врагом. А.Ломм — писатель из Чехословакии, но пишет он свои произведения на русском языке, так что его можно смело причислить к нашей фантастике.СОДЕРЖАНИЕ
А.Бауэр. ЧЕТЫРЕ ЧАСА ВОЙНЫ. Героическая повесть-быль о пограничнике……. 3 Александр Шагинян. КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. Фантастический рассказ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59 Андрей Михайловский. ОДИНОКИЙ БОГАТЫРЬ. Приключенческая повесть 73 Кир. Булычев. БОГАТЫЙ СТАРИК. Фантастический рассказ………………………. 173 Виктор Болдырев. ДАР АНЮЯ. Приключенческая повесть………………………….. 201 В.Мелентьев. ДОРОГА ЧЕРЕЗ СЕБЯ. Фантастический рассказ…………………….. 295 Владимир Караханов. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ. Приключенческая повесть 311 Альберт Валентинов. ЗАКОЛДОВАННАЯ ПЛАНЕТА. Фантастическая повесть 427 В.Ревич. НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ. Заметки о советской фантастике 1973 года 547 ОФОРМЛЕНИЕ Н.ДВИГУБСКОГО
Для среднего и старшего возраста МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ Сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов · Ответственный редактор Н.М.Беркова. Художественный редактор Л.Д.Бирюков. Технические редакторы Н.Д.Лаукус и Н.Г.Мохова. Корректоры Е.А.Флорова и Е.И.Щербакова. Сдано в набор 12/II 1975 г. Подписано к печати 5/VIII 1975 г. Формат 60x901/16. Бум. типогр. № 2. Усл. печ. л. 35. Уч. — изд. л. 35,6. Тираж 100 000 экз. А03921. Заказ № 234. Цена 1 р. 25 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство “Детская литература”. Москва. Центр, М.Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика “Детская книга” № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49, М63 Мир приключений. Сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов. Оформл. Н.Д.Двигубского. М., “Дет. лит.”, 1975. 560 с. с ил. Ежегодный сборник приключенческих и научно-фантастических повестей и рассказов советских и зарубежных писателей.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1976


Рисунки О.Коровина

Евгений Татаренко ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ Повесть
У МЕРТВОЙ БУХТЫ
Отец не вернулся. Четыре раза его «охотник» уходил от причала и скрывался за Каменным мысом, чтобы через двое суток опять войти в бухту, принять горючее, пополнить боезапас. И дважды он возвращался раньше срока. Это случилось, когда «БО-327», или «большой охотник» с бортовым номером триста двадцать седьмым, или просто «Штормовой», под таким именем «охотник» значился в реестрах флота, атаковал в открытом море и уничтожил вражескую подводную лодку. Тогда весь экипаж отца встречали на базе, как именинников. Впервые «БО» не вернулся, хотя пошли уже четвертые сутки… До начала войны, то есть вплоть до 22 июня, городок, где жил Тимка, не имел никакого отношения к военно-морскому флоту. В неглубокой Оранжевой бухте теснились у деревянных причалов рыболовные сейнеры, а вдоль берега терлись бортами друг о друга многочисленные шлюпки, баркасы, ялики. В первых числах июля сейнеры уступили место дивизиону торпедных катеров, а у главного причала, близ фарватера, ошвартовались «БО-327» и «ТТЦ-18», или минный тральщик «Осмотрительный». Тимка думал тогда, что ему повезло. Раньше отец «наскакивал домой», как выражалась мама, раз в неделю — две, когда на сутки, когда и всего на ночь, а теперь он, думалось, будет всегда рядом. Потом все оказалось сложнее. Первой, оставив Тимку на попечение своей подруги, тети Розы, ушла из дому хирургом полевого госпиталя мать… А Тимка не согласился жить у тети Розы. Четыре раза он провожал корабль отца в открытое море, на свободный поиск, и четыре раза «охотник» возвращался вовремя. Теперь пошли уже четвертые сутки. И если днем еще Тимка не отрывал глаз от полосы фарватера близ Каменного мыса, ожидая, что с минуты на минуту появится у входа в бухту знакомый стремительный силуэт, ближе к вечеру надежды его почти рухнули. Но у Тимки не оставалось ничего другого, как ждать: а вдруг «Штормовой» вернется? Весь день в городке, то у самого берега, то ближе к центру и дальше — к окраинам, рвались снаряды. На случай эвакуации отец велел быть дома или, захватив уже собранный чемодан, бежать к причалу. Наверное, Тимка так бы и сделал, начнись эвакуация раньше, чем прошло двое суток. Теперь он видел, как поднимались на тральщик и на сейнеры женщины, ребятишки, знал, что это и есть эвакуация, но ни домой, ни ближе к причалу не пошел, потому что никто из моряков не мог сказать ему, куда пропал «Штормовой», и он думал: «А вдруг отец вернется?..» Видел, как матросы-катерники подожгли береговые сооружения, отойдя всей «разношерстной» эскадрой на середину бухты, взорвали главный причал, и, ощутив удар воздушной волны в лицо, думал, что не зря остался, что, если городок займут немцы, он любыми средствами предупредит об этом «БО-327», когда тот войдет в бухту… Потом видел, как под охраной торпедных катеров эскадра вышла в открытое море, а на фарватере, близ Каменного мыса, затопили две баржи и бело-голубой пассажирский дебаркадер. Теперь «Штормовой» не мог войти в бухту… И, чувствуя непривычную пустоту в груди, от которой предательски закружилась голова, Тимка вышел из своего укрытия… Это были развалины рыбоконсервного комбината, уничтоженного еще при первой бомбежке, почти месяц назад. Без малого сутки просидел здесь Тимка, вперив глаза в пустынный горизонт за скалистым Каменным мысом. Он не слышал, когда стихла канонада за городом, — там, где на дальних подступах к Оранжевой бухте вытянулись неровной линией Семеновские холмы. Тимка долго в одиночестве стоял у развалин бывшего рыбоконсервного комбината, по одну сторону которого лежало море, вдруг ставшее чужим, неприветливым, а по другую дымились пожарища опустевшего, уже незнакомого города… Впрочем, и городом-то его назвали, должно быть, сами жители. Десятка два кирпичных домов располагались в центре и ближе к морю, а у берега и дальше, к Семеновским холмам, теснились вдоль улиц деревянные домики частных владений и склонялись низко над тротуарами ветви по-летнему зеленых садов. При первых бомбежках пожары вспыхивали то там, то здесь. Теперь городок дымился весь, и заволакивала небо густая, едкая туча, Тимка знал, что Каменный мыс называется Каменным из-за скалистых уступов на берегу, Семеновские холмы получили свое название в честь кирасиров Семеновского полка, которые в давние-давние времена, как говорят, стояли здесь насмерть то ли против шведов, то ли против поляков. Но Тимка не знал, почему называется Оранжевой то зеленоватая, то серая, в ветреную погоду, бухта, и замер, когда вечернее солнце окунулось в дымовую тучу над городом: бухта вдруг засверкала мертвым оранжевым пламенем, пустынная и холодная.Ф.Н.КРАВЦОВ
Берег стал неузнаваем. Груды битого кирпича, искореженные остовы понтонов, тлеющие бревна, что недавно еще служили опорами настила, по которому въезжали на причал грузовые трехтонки. Клубки перепутанных проводов, стекло, телефонная трубка с разбитой чашечкой микрофона. Тимка оглянулся и увидел, как, надсадно проскулив над головой, пролетел в сторону моря и, взметнув огненный столб воды, разорвался посреди бухты случайный снаряд. Оранжевая гладь воды всколыхнулась разноцветными огнями и, плеснув накатной волной в берега, опять улеглась, холодная в своей мрачной яркости. Тимка перебрался через разрушенную стену бывшего такелажного склада и, машинально отряхнув брюки, вельветовую куртку, зашагал туда, где раньше был центр города. Ни растерянности, ни страха Тимка не испытывал: в трудных обстоятельствах он привык ставить на свое место отца, командира «БО-327», — как поступил бы тот в его положении?.. Отец наверняка не поддался бы панике. Но тишина в районе Семеновских холмов не предвещала ничего доброго. И что-то сжималось в Тимкиной груди, когда он представлял себе пустые окопы на холмах с брошенным как попало оружием, изуродованных солдат, каких за последнюю неделю много понавезли в госпиталь на Садовую. Госпиталь эвакуировался еще накануне, и тоже морем, потому что сухопутные дороги были отрезаны. Страха Тимка не испытывал, но, когда исчезли за Каменным мысом торпедные катера и выставился над поверхностью воды пустой короткий флагшток дебаркадера, когда стало ясно, что «БО-327» не войдет в бухту, Тимку охватило одиночество. Он еще не знал, что предпримет, шагая по усыпанной обломками кирпича улице к площади Свердлова, где утром еще возвышался их дом, но три первостепенные задачи он уже поставил перед собой. Прежде всего ему надо раздобыть какое-то оружие, чтобы не оказаться беззащитным, когда в город войдут ОНИ. Во вторых, необходимо подыскать убежище, где бы можно прятаться от НИХ. И наконец, в-третьих, следовало выяснить, остался ли в городе хоть один знакомый человек… Люди появлялись на улице только для того, чтобы, перебежав с одного тротуара на другой или из одной подворотни в другую, тут же скрыться. Это были в основном женщины, и никогда прежде не видел их Тимка такими испуганными. Со стороны холмов лишь время от времени доносились то короткая очередь, то, вразнобой, несколько винтовочных выстрелов, а на улице слышался чей-то сдавленный плач, кто-то встревоженно звал: «Катя!.. Катери-на!..», а из полуподвального окошка у самых ног Тимки, как из-под земли, вырвалось вдруг безнадежное, горестное: «Батюшки!.. Что творит-ся-то, ба-тюш-ки-и!..» — и потом стон, долгий, тоскливый. Двое пожилых мужчин пронесли на больничных носилках девушку. Глаза ее были закрыты, черные волосы растрепались, а бледное, без кровинки, лицо выглядело неживым. Но какая-то старушка бежала рядом с носилками и уговаривала девушку: «Потерпи, Лидушенька!.. Потерпи, родненькая!..» Тимка посторонился, пропуская их. Темно-красное солнце коснулось холмистого, в березовых лесах горизонта, и в пропахшем гарью воздухе словно бы сгустилось напряжение. Тимка не сразу узнал свой дом. Третьего этажа фактически не было — вместо него торчали неровные зубья кирпичной кладки с одинаковыми промежутками пустот в местах, где были оконные проемы. Угол, что одной стороной выходил на улицу Разина, другой — на площадь Свердлова, обвалился. На тротуаре, у запасного выхода из кинотеатра «Луч», догорала опрокинутая полуторка. Тимкина квартира на втором этаже была как раз угловая. Он вскочил в подъезд, чтобы с ходу взбежать по лестнице, и чуть не врезался головой в грудь своего соседа Федора Николаевича Кравцова… Кравцов работал мастером на рыбокомбинате. Было ему уже лет сорок, но жил он одиноко, с матерью-пенсионеркой. Поначалу, когда Нефедовы только поселились здесь, Тимке сосед нравился тем, что угощал его мороженым, конфетами. А однажды принес Тимкиной матери целую корзину винограда и отказался взять за него деньги. Мать велела Тимке отнести виноград Кравцовым, сказала, что это «скользкий человек». И в следующий раз, когда Федор Николаевич вдруг предложил ей «в подарок» заграничную кофточку, которую он «случайно» достал у моряков, мать попросту выгнала его. С тех пор Кравцов больше ничего не предлагал ни матери, ни Тимке. — Здорово, орел! — Он ухватил Тимку за голову и, слегка отодвинув, поставил перед собой. — Здравствуйте… — пробормотал Тимка. Кравцов держал под мышкой две пустые авоськи и слегка покачивался, глядя на Тимку из-под отяжелевших век. В нос ударило водочным перегаром, и Тимка невольно посмотрел в дверь, на улицу, где чернели выбитыми витринами окна магазина гастрономия-бакалея. — Ты почему в городе? — пьяно ухмыльнулся Кравцов, загораживая своим широченным телом проход на лестницу. — А вы?.. — невольно вопросом на вопрос ответил Тимка. Кравцов пригладил темные волосы на висках. Говорят, он красил их и смазывал подсолнечным маслом, поэтому они были гладкие и всегда блестели. — За нами курьеров не присылали… — нараспев ответил Кравцов. — А за нами еще пришлют! — зло сказал Тимка, догадываясь, что тот имеет в виду краснофлотцев-посыльных. Кравцов, глядя на него сверху вниз, громко, от души расхохотался: — За тобой пришлют, мальчик, но не тех, кого ты ждешь! Сними вот это! — Он ухватил Тимку за тельняшку, что выглядывала в отворотах куртки. — Это теперь будет не в моде! В другое время Тимка сдержался бы, но пьяный смех Кравцова в день, когда не вернулся к причалу «Штормовой» и легла на Семеновские холмы тишина, звучал издевательски. Ударив кулаком по его руке, Тимка отскочил к стене. — Только троньте! Кравцов перестал смеяться и, глянув на дверь, сделал рукой движение, чтобы поймать его. — Только троньте! — повторил Тимка. — Моряки еще в городе! — Щенок… — прошипел Кравцов. — Ну, погоди у меня… — И, круто повернувшись, зашагал прочь из подъезда, на выход.КОМАНДИР «БО-327» НЕФЕДОВ
Шаря в кармане ключ, Тимка взбежал по лестнице на второй этаж. Но ключ был не нужен, так как дверной замок был взломан. Тимка вошел в квартиру неуверенно, как в чужую, медленно прикрыл за собой дверь. Было жутковато и странно видеть рваный проем там, где прежде был угол, и стояла набитая книгами этажерка с его, Тимкиной, фотографией в рамке наверху. Этажерка и круглый, с инкрустацией столик провалились вниз, куда свисала теперь и никелированная кровать. На вещах, на полу лежал слой тяжелой цементной пыли, и вперемешку с разбросанными по комнате вещами валялись обломки кирпича, целые пласты штукатурки, осколки битой посуды. Сначала Тимка подумал, что дверь была взломана, когда разыскивали его, но без труда убедился, что в квартире побывали чужие, недобрые люди. Исчезли верблюжьи одеяла с кроватей, шелковое белье матери из шифоньера, ее беличья шуба, туфли. Тимка не стал проверять распахнутых чемоданов, но сразу обнаружил, что пропала голубая шкатулка, в которой мать хранила фотографии, деньги, старые лотерейные билеты и облигации. Он поднял одну за другой несколько валявшихся на полу фотографий, пока наконец не отыскал групповой снимок шести — семилетней давности, на котором была мать, но не было отца, потому что отец фотографировал своей «лейкой». Мать сидела в большой компании за столом и, совсем еще молодая, казалась не похожей на себя. Зато, наверно, здесь она больше чем где-нибудь походила на Тимку, который с головы до пят уродился в нее. Отец говорил: «Это к счастью». Но Тимка всеми силами старался, чтобы у него легла между бровями такая же, как у отца, складка, потихоньку ото всех трогал пальцем губу в ожидании усиков и очень досадовал, что его голубые глаза никогда не потемнеют, чтобы стать похожими на черные, живые и проницательные, то веселые, то жесткие, — отцовские. Чем был встревожен Виктор Сергеевич Нефедов перед последним выходом в море? Тогда Тимка не обратил на это внимания. Но, прячась в развалинах рыбокомбината, вспомнил и думал об этом, глядя на полосу горизонта за Каменным мысом, думал по дороге домой, думал сейчас… Он сидел тогда на стуле как раз около этажерки, а отец, повторив Тимке обычную инструкцию по поводу осторожности и послушания, одетый к походу, в застегнутой наглухо тужурке, с пистолетом на ремне, нервно ходил из угла в угол, опустив голову и время от времени кусая губы, словно был уже в каюте и мог не замечать сына. — Чего ты, пап? — спросил Тимка. Отец остановился и, вскинув голову, долго смотрел на него, как бы туго соображая, что сказал Тимка. — Ах, ты про меня!.. — И снова зашагал по комнате. — Есть одна неприятная загадка, Тимка… Третий раз мы меняем засаду и третий раз налетаем на крестоносца! — А вы смените еще раз! — посоветовал Тимка. — В том-то и дело, что сменим… — Отец посмотрел на часы. — Однако нынче у нас, Тимофей, особое задание — ошибиться нам нельзя… Ну! — И, пододвинув себе табурет, он присел, как садился перед каждым новым походом, чтобы рейс оказался удачным. — Какое задание, пап? — спросил Тимка, но отец лишь похлопал его по плечу и поднялся. — Пора, Тимка. Если будет письмо от мамы… Впрочем, ладно. — И, видя, что Тимка помрачнел, так как писем от мамы не было с того самого дня, когда она ушла на передовую, отец вздохнул, усмехнулся: — Задание это, Тимофей, касается главным образом не нас, не меня — я должен доставить по назначению одних людей… А потом, как всегда, затаимся где-нибудь под бережком… На ловца, ты это знаешь, зверь сам бежит! Они расстались у проходной. Отец, надвинув до бровей фуражку, зашагал по дощатому настилу к «БО-327» у причала, а Тимка остался у ворот проходной вместе с тетей Розой, женой штурмана Вагина с «БО-327», и ее дочкой Асей. Вагины, как и семья Нефедовых, жили в городке уже больше года. Отец каждый раз просил тетю Розу следить за беспризорным Тимкой, но той хватало своих забот, и Тимка благополучно избегал ее опеки. Тетя Роза была подругой Тимкиной матери, а вместе с Асей он проучился весь седьмой класс, но откровенно презирал ее за многие нетерпимые качества. Взбежав по трапу на корабль, отец приостановился и глянул в сторону проходной. Потом «охотник» привычно, без лишней суеты, как это делалось много раз, отошел, и тетя Роза, баюкая на руках шестимесячную Асину сестренку, увела Асю домой. А Тимка, по обыкновению, остался у ворот — ждать, пока «БО-327» не скроется вдалеке. И, хотя близ Каменного мыса он не мог разглядеть людей на палубе «охотника», ему казалось, что отец видит его до последней минуты. С тех пор пошли уже четвертые сутки. Задерживаться в своей квартире было теперь опасно. Тимка быстро оглядел вещи, которые, наверное, были дороги родителям, например бронзовая башенка, что хранилась матерью еще со дня ее свадьбы с отцом, но взять с собой эти вещи Тимка не мог. Он разыскал под кроватью рыболовные принадлежности отца, сунул в карман острый охотничий нож в отделанных чеканкой ножнах. Потом вытряхнул прямо на пол из чемодана, который готовился «на случай эвакуации», белье, носки, рубашки, свой праздничный костюм. Жуликам нечем было поживиться в этом чемодане. Чтобы скрыть тельняшку, расставаться с которой Тимка не собирался, надел вместо белой рубашки черный свитер. В кухне нашел кусок домашней колбасы, хлеб, завернул их в газету, сунул за пазуху под куртку. Взял с собой отцовский фонарик, натянул кепку и, больше не медля, шагнул к выходу. Солнце тем временем уже опустилось за горизонт, выставив над холмом неяркий багровый серпик, и сумерки в подъезде стали гуще. Веселый, шумный, когда-то наполненный голосами детей, перекличкою патефонов, дом казался неживым.МИЛЛИМЕТР
Беленькая, румяненькая, пухленькая Ася Вагина была на целую голову ниже Тимки. За этот игрушечный рост ей придумывали десятки прозвищ: и Молекула, и Кнопка, и Кара-пешка, и Миллиметр… Но Карапешка относилась к своим прозвищам совершенно равнодушно и, кажется, была страшно счастлива, что уродилась такой маленькой, словно это давало ей особые преимущества перед одноклассницами. Мало того, если другие, нормального роста девчонки вели себя, как положено девчонкам в четырнадцать лет, — Карапешка переняла у матери взрослые манеры, и, в то время как случайные люди принимали ее за второклассницу, она считала себя чуть ли не дамой. Даже косы Карапешка не носила, а подбирала волосы по-взрослому, валиком, что позаимствовала у Тимкиной матери. У нее была просто болезнь — перенимать все, что увидит или услышит. Одна эта взрослость ее при кукольной внешности была невыносима. Но Миллиметр ухитрилась нажить столько отрицательных привычек и качеств, что их с избытком хватило бы на три седьмых — «А», «Б» и «В» — класса. Тетя Роза была учительницей, преподавала старшеклассникам немецкий язык. А Карапешку свою начала обучать языку лет с шести, чем Кнопка, или Миллиметр, ужасно гордилась и никогда при встречах не говорила «здравствуй», а «гутен морген» или «гутен таг». Если ее спросишь, где Аня и Вера, не скажет по-человечески, что пошли купаться, а ответит буквально по учебнику немецкого языка: «Анна унд Вера баден». И к ее многочисленным прозвищам прибавилось еще три: Немка, Ундвера и Аннабаден. В одном подъезде с Аннабаден жила портниха Ангелина Васильевна. Ее всегда было слышно за квартал — Ангелина Васильевна вмешивалась в любое дело, касалось оно ее или не касалось: метет ли дворник улицу, везет ли мимо свою тележку мороженщица или кто-то вывесил для просушки белье во дворе. Начинала Ангелина Васильевна с того, что грозилась вырвать руки простофиле, который «так делает». Выяснялось, что делать все нужно наоборот… Особенно доставалось мужчинам. И когда скандал разгорался в полную силу, по мнению Ангелины Васильевны, зачинщиком скандала всегда был кто-то, а уж никак не она, и все всегда завершалось тем, что портниха грозилась привлечь своего соперника к ответственности, кричала: «Я тебе не жена! Ты свою жену иди называй так, а на меня не имеешь права!..» Муж у Ангелины Васильевны был, но жил он отдельно от нее, где-то в другом конце города. Раз в одну — две недели он с небольшим фибровым чемоданом возвращался к Ангелине Васильевне, — как правило, под вечер, после работы. Но с тем же самым чемоданом убегал на следующее утро под неуемные крики Ангелины Васильевны. Мужу она не могла сказать, что не жена ему, поэтому кричала немножко иначе: «Я тебе не какая-нибудь!.. Ты иди других называй так, а я тебе не какая-нибудь!..» Вот эта самая Ангелина почему-то влюбилась в Аннабаден, и в то время, как тетя Роза, отучив первую смену, задерживалась в школе на вторую, Ангелина Васильевна и Аннабаден вместе готовили себе ужин, вместе ходили в кино и на море купаться… Вполне естественно, что Аннабаден переняла вскоре ее самые худшие привычки и обзавелась еще одним прозвищем: «Я-тебе-не-жена». Тимка имел к Миллиметру особые претензии. Их отцы служили на одном корабле — хорошо, их матери были подругами еще до того, как родились Тимка и Миллиметр, — ладно… Зачем она подчеркивала в разговорах: «Мы с Тимой… У меня и Тимы…»? Или звала на весь класс: «Тимоша!» — все равно что «Тимулечка». Игорь Надеин, с которым сидел Тимка, дважды за эту зиму переболел гриппом, и оба раза Карапешка, взяв свой портфель, как ни в чем не бывало пересаживалась к Тимке, после чего за Тимкиной спиной ее называли Нефедовой. Отколотить Аннабаден было не то что боязно — перед родителями, например, — но как-то не солидно. Раз Тимка не выдержал и замахнулся на нее кулаком, а потом сам же и мучался: глаза у Миллиметра сделались при этом такие испуганные и так она сжалась вся, что Тимке показалось, он замахнулся не на взрослую девчонку, а на младенца. Вдобавок Миллиметр заплакала. Тимка шел к Вагиным без надежды увидеть кого-нибудь. Но это было последнее звено, которое так или иначе связывало его со «Штормовым». И, зная наверняка, что Вагины эвакуировались, Тимка не мог не заглянуть на улицу Челюскинцев, где они жили. Он издалека еще заметил непривычную брешь с той стороны улицы Челюскинцев, где недавно стоял красивый, с полукруглыми окнами и решетчатой аркой дом Вагиных. От развалин тянуло едким запахом гари. Багровый солнечный диск полностью скрылся за горизонтом, и быстро гасла робкая полоска зари над Семеновскими холмами. Тимка в полном одиночестве обошел развалины вагинского дома. Постоял на заваленной грудами кирпича и камня площадке, что служила когда-то внутренним двориком, прислушался, уловив откуда-то из темноты соседнего дома слабый, похожий на мяуканье писк. Подумал, что сейчас не время отыскивать заблудившегося в развалинах котенка. Но сделал шаг по направлению улицы и тут же снова остановился, потому что едва слышное мяуканье сразу перешло в неудержный, громкий плач. Тимка прошел назад и в углу, между полуразрушенной стеной соседнего дома и кирпичной оградой, увидел сидящую на кусках цемента Асю. Обратив к нему мокрое лицо и вздрагивая всем телом, она заплакала еще громче. Руки и ноги ее были в кровавых ссадинах. — Ты что… — Он чуть не сказал: Карапешка. — Ты что, Ася?! Хотел поднять ее. Она шевельнула губами, пытаясь что-то сказать, но у нее получалось только прерывистое, громкое: — А!.. а!.. а!.. — Ася! Перестань, Ася! Слышишь?! — прикрикнул Тимка и наконец поставил ее на ноги. — Пойдем! Нельзя нам тут оставаться! — Не пойду!.. — ответила она сквозь слезы. И перестала плакать в голос, но долго еще всхлипывала, судорожно глотая воздух. Тимка достал из кармана носовой платок, и сам, потому что руки ее не слушались, кое-как утер ей лицо. Потом с трудом выяснил, почему она осталась в городе, не уехала. Когда им сказали, что нужно бежать к причалу, тетя Роза сунула Асе хозяйственную сумку, сама в одну руку подхватила чемодан, на другую — шестимесячную Олю, и они побежали к площади Свердлова, чтобы захватить с собой Тимку. Но у самой площади тетя Роза вспомнила, что позабыла дома узелок с молоком и фруктовыми соками для ребенка. Оставила чемодан Асе, велела ждать, а сама побежала опять на улицу Челюскинцев. Ася ждала ее в чьем-то подъезде час, другой, а потом, бросив сумку и чемодан, побежала следом. И увидела вместо дома эти развалины… — Хорошо… — забормотал Тимка. — Может, вы разошлись… А где ты вся так ободралась? — Я копала!.. — Ася снова заплакала в голос. — Копала вот ту-у-т! — протяжно выкрикнула она, показывая на развалины своего дома. И Тимке сделалось жутко. Она своими слабыми руками пыталась разобрать завал, что не просто даже для взрослых спасателей. Сколько она провозилась тут? — Дурочка! — сказал Тимка. — Может, она забыла, где оставила тебя, и побежала к причалу другой улицей! Я видел, как уходили корабли, там были женщины с детьми, и тетя Роза уехала! Конечно, уехала! — повторил Тимка, хотя знал, что этого быть не может. Но слова его подействовали. Ася стала всхлипывать реже. — Пойдем, — сказал Тимка. — Скоро ночь, и надо торопиться. — А куда?! — спросила Ася. — Куда я теперь пойду?! — Ну, куда-нибудь! Поживешь пока у нас! — предложил Тимка. Сначала предложил, а потом спохватился, что его дома тоже больше не существует, что ему, как и Асе, ночевать негде. — Что-нибудь придумаем! — добавил он. — Пошли! — И, схватив ее за руку, потащил в обход развалин, на улицу. Быстрые сумерки черной тенью заволакивали развалины домов, улицу, и они с трудом узнали в набежавшей на них женщине Ангелину Васильевну. — Господи! Мармышка ты моя! — воскликнула та, прижимая к себе Асю. Этого прозвища Тимка еще не слышал. Видно, такой уж был Асин удел, что ей всегда давали прозвища. — Где мама?! Почему ты не уехала?! Тимка стоял в стороне, пока тетя Геля, как называла ее Ася, расспрашивала и охала, горестно зажимая ладонью рот. Ася повторила ей, что уже знал Тимка, и Ангелина Васильевна, как он, сказала, что Асина мать впопыхах могла забыть подъезд, где оставила ее. Потом ухватила обоих за руки. — Где же вам ночевать-то теперь?! Айдате со мной, к Ивану! (Так звали ее мужа). Нас там душ пятнадцать уже, но как-нибудь! Тимка уперся, когда она потащила его за собой, высвободил свою руку. — Вы Асю возьмите… а я не пойду, — сказал Тимка. — Я с тобой! — сразу испуганно перешла на его сторону Ася. — Да вы что?! — Портниха растерялась, — Чего это вы удумали?! — Ася пускай пойдет к вам, а мне нельзя, — сказал Тимка. — Я сын командира. — А я, Тим, дочь командира. — упрямо возразила ему Ася. — Мне тоже нельзя. Тетка Ангелина смотрела, смотрела на них и вдруг, обхватив ладонями лицо, заплакала: — Гос-по-ди! Гос-по-ди!.. Все видел Тимка: как она кричит, как ругается, как хохочет, а как плачет — увидел впервые. Кинулся утешать: — Не плачьте, тетя Геля! Мы найдем, где ночевать! У нас есть где! А вас там много, все из-за нас могут… — Он не договорил, потому что тетка Ангелина не слышала его сквозь плач. Повторил, когда она немножко успокоилась: — У нас есть где, мы найдем комнату! — Найдем, тетя Геля! — как эхо, повторила Ася, словно и вправду она была взрослой, а тетка Ангелина маленькой. — Ага! Вот где ты! — неожиданно раздалось над их головами. Тимка глянул через плечо тетки Ангелины и, схватив за руки ее, Асю, потащил их с улицы в чей-то двор. Но портниха удержала его.ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВРАГАМИ
Это был Кравцов. Непонятно радостный, он перехватил тяжелые авоськи в левую руку, а правой потянулся к Тимкиному воротнику. — Вот где ты попался мне, щенок! Тетка Ангелина вдруг оттолкнула его, так что он с трудом удержался на ногах, и, наступая грудью вперед, поднесла к его лицу хищно растопыренные пальцы. — А ты кто такой, паразит?! Кто ты такой, жлоб несчастный?! Высказать ему все, что она могла, тетка Ангелина не успела. Со стороны площади Свердлова послышался нарастающий треск мотоциклетных моторов. Кравцов захохотал. Тимка опять схватил Асю за руку, тетку Ангелину за джемпер и увлек их под арку. — Бежим! В темноте узкого прохода они повернули направо, потом налево и с разбегу налетели на решетчатые чугунные воротя. Концы толстых пик упирались почти в самую арку, а на щеколде висел тяжелый амбарный замок. Тимка в злости рванул ворота на себя, но при этом лишь слабо звякнула щеколда. До войны здесь были какие-то склады. И наверное, Кравцов знал об этом тупике, неторопливо следуя за ними. — Куда вы от меня?! Самое время покалякать! — Уходи, пьяная морда! — выкрикнула тетка Ангелина, делая шаг навстречу Кравцову. — Уходи, а то сейчас буркалы выдеру! Тимка сжал в кармане рукоятку охотничьего ножа, плечом оттесняя тетку Ангелину в сторону. — Спекулянт! — крикнул он пьяному Кравцову. — Это вы нашу квартиру обокрали?! Вы! Еще ответите за воровство! Жулик! Где-то неподалеку смолк мотоциклетный мотор, послышались чужие, резкие голоса. — Ах, ты вот как закукарекал?! — процедил сквозь зубы Кравцов и вдруг круто повернул назад, к выходу. — Ну, погоди у меня! На каких-нибудь несколько секунд Тимка растерялся. А портниха бросилась выламывать чугунные ворота, потом — к Асе: — Что же это такое?! Что же это такое будет, голубушка ты моя?! — Солдаты! Эй, солдаты! Хайль Гитлер! Солдаты! — послышался голос Кравцова от входа под арку. Тимка больно ухватил Асю за плечо: — Как сказать по-немецки «он коммунист»? (Ася растерялась.) Быстро! — дернул ее Тимка. — Эр ист коммунист… — отрапортовала Ася. — А бандит?! — Бандит! — испуганно выдохнула Ася; Тимка бросился к выходу. Приставив к стене авоськи, Кравцов орал во все горло: — Сюда! Солдаты, сюда! Немцы! Похоже, что его заметили. Когда Тимка вылетел из-под арки, он, призывно взмахивая руками, бросился кому-то навстречу: — Сюда! Хайль Гитлер! Тимка с ходу подставил ему ножку, и Кравцов, от неожиданности вскинув руки, всей тяжестью грохнулся на мостовую.
— Эр ист коммунист! — крикнул Тимка.
От перекрестка бежали два немецких солдата с короткими черными автоматами в руках. Кравцов вскочил на ноги, ругнулся, и в то время когда он схватил Тимку за плечо, мальчик вцепился в его пиджак.
— Стоять! Стоять! — закричали немцы.
От удара в грудь Тимка выпустил пиджак Кравцова и отлетел к стене, но тут же снова бросился на противника, не переставая кричать немцам:
— Эр ист коммунист! Эр ист коммунист!
Кравцов занес кулак, чтобы на этот раз ударить в лицо. Но передний немец уже взмахнул автоматом, и звука удара Тимка не слышал, но Кравцов опять грохнулся на мостовую.
— Эр ист коммунист! — снова повторил Тимка. — Бандит!
— Поганое отродье! — выкрикнул Кравцов, пытаясь вскочить на ноги.
Подбежавший вторым немец пнул его сапогом в лицо, ловко подхватил под руку и бегом поволок по мостовой назад, к перекрестку.
— Эр ист коммунист! — на всякий случай еще раз повторил Тимка первому солдату; тот одобрительно засмеялся, оглядывая его из-под надвинутой до бровей каски.
— Гутен кнабе! — Он погладил Тимку по голове. — Зер гутен! — И, грохоча тяжелыми сапогами, побежал догонять своего приятеля.
На перекрестке опять взревел мотоциклетный мотор.
Тимка вгляделся в темноту арки. Почти у выхода на тротуар стояли, испуганно прижавшись к стене, Ася и Ангелина Васильевна.
Тимка подобрал сбитую Кравцовым кепку.
— Чего это он сказал, Ася?
— Хороший мальчик, очень хороший, — перевела Ася.
— Вот гад! — выругался Тимка, очищая кепкой брюки и куртку.
— Чего ты ругаешься? — грустно упрекнула Ася.
— На гадов можно, — успокоил ее Тимка.
Они думали, что Ангелина Васильевна опять заплакала, но, когда хотели отнять ее руки от лица, увидели, что она беззвучно смеется.
— Как его, сударика нашего, приласкали! «Хайль Гитлер»!
Ася тоже неуверенно заулыбалась в ответ.
— Тетя Геля, вы идите, пока еще можно, — сказал Тимка. — А мы с Асей придумаем что-нибудь.
Звук мотоциклетных моторов раздавался уже где-то в другом конце города. Ангелина Васильевна перестала смеяться и неожиданно всхлипнула:
— Ох, господи! Нервушки мои… Пацаны вы мои несчастные…
— Бегите, тетя Геля, мы тоже, — повторил Тимка.
— Погоди! — Ангелина Васильевна быстро схватила кравцовские авоськи. — А ну, идемте куда-нибудь, посмотрим, что он тут…
Они забежали в соседний подъезд, где был проход на параллельную улицу. В авоськах оказались рыбные консервы. Ангелина Васильевна хотела все их оставить Асе и Тимке — они воспротивились. Набили ей через верх одну авоську и заставили взять еще несколько банок в руки.
— Вас там, теть Геля, много! — приговаривала Ася, стараясь втиснуть в карманы ее джемпера еще две банки. — А нам хватит…
Ангелина Васильевна опять заплакала и поцеловала обоих, что Тимка, в общем-то, впервые стерпел от чужого человека.
— Улица лейтенанта Шмидта, четырнадцать! — сказала Ангелина Васильевна на прощанье. — Вы, если что, приходите: Шмидта, четырнадцать! Горе мое, деточки!..
— Ладно, теть Геля, придем! — пообещал Тимка. И Ася повторила, как эхо:
— Придем, теть Геля…
Тимка с ходу подставил ему ножку, и Кравцов, от неожиданности вскинув руки, всей тяжестью грохнулся на мостовую.
— Эр ист коммунист! — крикнул Тимка.
От перекрестка бежали два немецких солдата с короткими черными автоматами в руках. Кравцов вскочил на ноги, ругнулся, и в то время когда он схватил Тимку за плечо, мальчик вцепился в его пиджак.
— Стоять! Стоять! — закричали немцы.
От удара в грудь Тимка выпустил пиджак Кравцова и отлетел к стене, но тут же снова бросился на противника, не переставая кричать немцам:
— Эр ист коммунист! Эр ист коммунист!
Кравцов занес кулак, чтобы на этот раз ударить в лицо. Но передний немец уже взмахнул автоматом, и звука удара Тимка не слышал, но Кравцов опять грохнулся на мостовую.
— Эр ист коммунист! — снова повторил Тимка. — Бандит!
— Поганое отродье! — выкрикнул Кравцов, пытаясь вскочить на ноги.
Подбежавший вторым немец пнул его сапогом в лицо, ловко подхватил под руку и бегом поволок по мостовой назад, к перекрестку.
— Эр ист коммунист! — на всякий случай еще раз повторил Тимка первому солдату; тот одобрительно засмеялся, оглядывая его из-под надвинутой до бровей каски.
— Гутен кнабе! — Он погладил Тимку по голове. — Зер гутен! — И, грохоча тяжелыми сапогами, побежал догонять своего приятеля.
На перекрестке опять взревел мотоциклетный мотор.
Тимка вгляделся в темноту арки. Почти у выхода на тротуар стояли, испуганно прижавшись к стене, Ася и Ангелина Васильевна.
Тимка подобрал сбитую Кравцовым кепку.
— Чего это он сказал, Ася?
— Хороший мальчик, очень хороший, — перевела Ася.
— Вот гад! — выругался Тимка, очищая кепкой брюки и куртку.
— Чего ты ругаешься? — грустно упрекнула Ася.
— На гадов можно, — успокоил ее Тимка.
Они думали, что Ангелина Васильевна опять заплакала, но, когда хотели отнять ее руки от лица, увидели, что она беззвучно смеется.
— Как его, сударика нашего, приласкали! «Хайль Гитлер»!
Ася тоже неуверенно заулыбалась в ответ.
— Тетя Геля, вы идите, пока еще можно, — сказал Тимка. — А мы с Асей придумаем что-нибудь.
Звук мотоциклетных моторов раздавался уже где-то в другом конце города. Ангелина Васильевна перестала смеяться и неожиданно всхлипнула:
— Ох, господи! Нервушки мои… Пацаны вы мои несчастные…
— Бегите, тетя Геля, мы тоже, — повторил Тимка.
— Погоди! — Ангелина Васильевна быстро схватила кравцовские авоськи. — А ну, идемте куда-нибудь, посмотрим, что он тут…
Они забежали в соседний подъезд, где был проход на параллельную улицу. В авоськах оказались рыбные консервы. Ангелина Васильевна хотела все их оставить Асе и Тимке — они воспротивились. Набили ей через верх одну авоську и заставили взять еще несколько банок в руки.
— Вас там, теть Геля, много! — приговаривала Ася, стараясь втиснуть в карманы ее джемпера еще две банки. — А нам хватит…
Ангелина Васильевна опять заплакала и поцеловала обоих, что Тимка, в общем-то, впервые стерпел от чужого человека.
— Улица лейтенанта Шмидта, четырнадцать! — сказала Ангелина Васильевна на прощанье. — Вы, если что, приходите: Шмидта, четырнадцать! Горе мое, деточки!..
— Ладно, теть Геля, придем! — пообещал Тимка. И Ася повторила, как эхо:
— Придем, теть Геля…
В СТАРОМ УБЕЖИЩЕ
Тимка огляделся, когда они остались вдвоем. Он мог предложить Асе только одно: пробираться к морю, в развалины рыбокомбината, где сам уже провел почти сутки. — Больно, Тимош! — пожаловалась Ася, когда он хотел увлечь ее вниз по улице Челюскинцев, к бухте. Пока делили консервы, он дал ей подержать авоську и только теперь спохватился, что кожаные ремешки тяжелой сумки режут и без того в кровь изодранные ладони Аси. Взял у нее сумку. Ася подула на ладонь, успокаивая боль. Надо было чем-то помочь ей. К тому же в одних сандалиях на босу ногу, в ситцевой кофточке без рукавов и короткой юбке ей не согреться в развалинах, особенно перед рассветом, когда выпадает роса. — Иди за мной! — Тимка шагнул в подъезд и через внутренний двор, через две сорванные с петель двери зашагал на параллельную улицу. Ася молча семенила сзади. У выхода на улицу Разина Тимка жестом велел ей остановиться. В проеме входной двери, опершись грудью на тяжелую, толстую палку и глядя куда-то вверх по-над разрушенными зданиями, стоял бородатый, седой и недвижный, как статуя, старик. Должно быть, он вышел из дому впервые за много месяцев: раньше Тимка никогда не видел его на своей улице. — Дедушка… — позвал он. (Тот медленно, тяжело оглянулся.) — Немцев там не видно? — спросил Тимка. — Не видать… — глухим, дрожащим голосом ответил старик. — Должно, разведка была… Ночью они не войдут… Ждите утром, внучата… Дожили!.. — сказал старик, и голова его затряслась. Никогда не видел Тимка, чтобы взрослые так вдруг, так открыто плакали. И Ася невольно прижалась к нему сбоку. Тимка не знал, что можно сказать этому седому, старому человеку. Что еще не все кончено? Что наши вернутся?.. Тот и без него наверняка знал это. — Ты подожди меня здесь, — шепотом предупредил он Асю, но та сразу крепко ухватилась за его рукав. — Не буду, Тима! Я уже раз осталась!.. — Из глаз ее опять могли брызнуть слезы, и Тимка понял, что оставлять ее одну нельзя. Старик опять глядел в неприветливое, темное небо над развалинами. Тимка незаметно положил на кирпичный приступок две банки консервов, чтобы, когда тот оглянется, увидел их, — больше он ничего не мог сделать для старика.
В подъезде своего дома Тимка снова передал сумку Асе, правой рукой стиснул в кармане рукоять ножа, левой включил фонарик и чуть не попятился, увидев перед собой мать Кравцова. В черной монашеской юбке до пят, в черной кофте и черном платке, повязанном низко на глаза, она выглядела колдуньей.
— Идем! — приободрил Асю Тимка, верно полагая, что Кравцов домой вернется не скоро. Если вернется.
— Федора не видел? — спросила старуха, когда они уже ступили на лестницу и отвели от нее луч фонарика.
Тимка остановился.
— Видели! — Он осветил ее. — Федор там с немцами целовался, «Хайль!» кричал! Он что у вас — подлец?
Лицо старухи перекосилось от злости. Что она хотела сказать — осталось тайной! Старуха увидела свою авоську.
— А это у вас откуда, а?!
— А это нам Федор Николаевич одолжил, — нахально соврал Тимка. — Его там фашисты на мотоцикле раскатывают — зачем она ему? — И они побежали вверх, на второй этаж.
— Ироды! — выкрикнула Кравцова.
— А ваш Федор — жлоб! — ответила ей сверху Ася, уже переняв у тетки Ангелины это новое выражение.
Кравцова что-то забормотала в ответ и побежала на улицу, искать сына.
Тимка заторопился. Дразнить Кравцову ему, конечно, не следовало. Но Тимка просто не удержался.
Время от времени подсвечивая себе фонариком, он вытряхнул из рюкзака рыболовные принадлежности, скомкав, сунул туда габардиновый плащ отца, вышитую подушечку с дивана. Верблюжьи одеяла украли, но два байковых сохранились. Тимка бросил их Асе, чтобы втолкала в рюкзак. Миллиметр слушалась беспрекословно.
Надо было одеть ее как-то потеплей. Но о материных платьях думать не приходилось. Даже Тимкины брюки волочились бы за ней по земле… Представив себе эту картину, Тимка спохватился, что брюки можно подвернуть. Бросил ей свои лучшие, от праздничного костюма, нашел клетчатую рубаху, серую шерстяную безрукавку.
— Переодевайся!
Миллиметр, сидя на корточках у рюкзака, боязливо съежилась.
— Чеготы, Тим?..
— Я сказал: переодевайся! — прикрикнул Тимка.
Ася взяла рубаху и стала натягивать поверх грязной кофточки.
— Кофту можно бы скинуть! — заметил Тимка.
— Я потом… — виновато всхлипнула Ася, запихивая брюки и шерстяную безрукавку в рюкзак.
Тимка хотел высказаться по поводу ее неуместной стыдливости, но нельзя было тратить время. Он отыскал в кухне аптечку: вату, бинты, йод — и, вскинув большой отцовский рюкзак за плечи, подхватил авоську с консервами.
— Идем!
Ася, нырнув за его спину, затолкала подол рубахи под юбку.
На лестнице и в подъезде никого не было.
А на улице уже темнела глухая, тревожная ночь. Ниточка догоревшей зари едва просматривалась над Семеновскими холмами, и где-то далеко-далеко мерцали над горизонтом неяркие всполохи. Слух улавливал чуть слышные отзвуки канонады с той стороны.
До самой бухты шли молча. Тимка вышагивал впереди. Ася, то чуть отставая, то бегом догоняя его, едва поспевала следом.
Около развалин рыбокомбината Тимка сбросил рюкзак на землю, немножко передохнул. Хорошо, что он отыскал это убежище…
Предупредив Асю, чтобы не разгибалась и не делала лишних движений, он втолкнул ее в низенький лаз под каменной плитой, сунул к ее ногам рюкзак, авоську с консервами, влез сам и передвинул деревянную балку над головой так, что она прикрыла вход.
Дальше передвигался, переставляя сначала рюкзак, потом авоську, потом за руку уводил вперед на полтора — два метра Асю.
Наконец они оказались под косо лежащей плитой, где хоть и нельзя было разогнуться, но хватало места, чтобы сесть и даже вытянуться на земле, когда придет время спать. Зажгли фонарик.
— Не обвалится?.. — тихо спросила Ася, тронув каменную плиту над головой.
Тимка пожал плечами:
— С какой стати… — Он вытащил из рюкзака плащ, одеяло, подушечку, велел расстелить на земле плащ и одно одеяло поверх него. Потом уселся лицом к темному проходу в развалинах. — Надень брюки, подверни. И надень безрукавку. Будет холодно. Грязное свое сними.
Минуту — другую не слышал за спиной никакого движения. Потом, что-то такое сглотнув, Ася зашуршала одеждой. Потом сказала:
— Все…
Когда он обернулся, она сидела в его широченных брюках, затянув кожаный ремень узлом на боку. И, обняв колени руками, глядела исподлобья, словно бы выжидая, как он воспримет ее новый наряд. Но с началом бомбежек многое переменилось, и то, отчего раньше он, может, хохотал бы до слез, теперь почти не вызывало веселья.
— Давай помажу… — отводя глаза в сторону, чтобы она не заподозрила насмешки, предложил Тимка и вытащил из рюкзака йод, бинты, вату.
Ася отказалась от его помощи. Тихо ойкая, сама прижгла ссадины, бинтовать, чтобы скорей зажило, не стала.
Пока шли сюда, пока устраивались, пока Миллиметр занималась царапинами — все так или иначе отвлекало обоих. Но когда Ася отдала Тимке йод и, обхватив руками колени, уставилась в каменную плиту перед собой, откуда-то навалилась гнетущая тишина.
Тимка подумал, что надо бы экономить энергию… Но выключить фонарик не решился. Окликнул:
— Ася…
Она посмотрела на него. И глаза у нее были мокрыми.
— Ты сегодня ела что-нибудь?
Она покачала головой:
— Я не хочу, Тима…
— Да ты через не хочу! — оживился Тимка. Сидеть и молчать в этом каменном мешке было тягостно. — Я тоже не хочу, но давай поедим. Еще неизвестно, что завтра, а нам нужны силы… — Он выложил из-за пазухи сверток с колбасой, хлебом, достал нож и принялся энергично вскрывать щуку в томате.
Утерев тыльной стороной ладони глаза, Ася развернула газету, вытряхнула из нее крошки и разложила на одеяле, так что получился вполне аккуратный стол. Этого у девчонок не отнимешь: хоть в походе, хоть на каком-нибудь пикнике в лесу, хоть даже в такой вот каменной западне — они все устраивают аккуратно.
Нарезав кружочками колбасу, Тимка вспомнил, что вовремя не подумал о ложках, обстругал для Аси какую-то щепку. Сам, чтобы подать пример, зачерпнул щуку ножом. Ася неприметно вздохнула, глядя на него.
— Не ешь с ножа. — Подала ему щепку. — Злой будешь…
— А ты? — удивился Тимка, увидев, что она, забрав у него нож, сама не следует своему правилу.
— Я не умею злиться, — сказала Ася. И добавила после паузы: — Даже когда меня обижают…
— Я тебя не обижаю… — зачем-то оправдался Тимка.
— Ты нет… — согласилась Ася. — Но раз ты хотел меня ударить.
Тимка заерзал на одеяле.
— Это я так, нечаянно, Ася… Я не хотел…
— А я ничего… — тихо сказала Ася.
Теперь в свою очередь неприметно вздохнул Тимка: оказывается, рано или поздно за все, в чем ты виноват, приходится отвечать.
Поели сколько смогли. Тимка объяснил Асе насчет фонарика. Ася уложила в головах подушку и свернутый вчетверо рюкзак, предварительно засунув его в свою вывернутую наизнанку кофточку. Когда легли и укрылись, Тимка пристроил возле себя нож и выключил фонарик.
Старик опять глядел в неприветливое, темное небо над развалинами. Тимка незаметно положил на кирпичный приступок две банки консервов, чтобы, когда тот оглянется, увидел их, — больше он ничего не мог сделать для старика.
В подъезде своего дома Тимка снова передал сумку Асе, правой рукой стиснул в кармане рукоять ножа, левой включил фонарик и чуть не попятился, увидев перед собой мать Кравцова. В черной монашеской юбке до пят, в черной кофте и черном платке, повязанном низко на глаза, она выглядела колдуньей.
— Идем! — приободрил Асю Тимка, верно полагая, что Кравцов домой вернется не скоро. Если вернется.
— Федора не видел? — спросила старуха, когда они уже ступили на лестницу и отвели от нее луч фонарика.
Тимка остановился.
— Видели! — Он осветил ее. — Федор там с немцами целовался, «Хайль!» кричал! Он что у вас — подлец?
Лицо старухи перекосилось от злости. Что она хотела сказать — осталось тайной! Старуха увидела свою авоську.
— А это у вас откуда, а?!
— А это нам Федор Николаевич одолжил, — нахально соврал Тимка. — Его там фашисты на мотоцикле раскатывают — зачем она ему? — И они побежали вверх, на второй этаж.
— Ироды! — выкрикнула Кравцова.
— А ваш Федор — жлоб! — ответила ей сверху Ася, уже переняв у тетки Ангелины это новое выражение.
Кравцова что-то забормотала в ответ и побежала на улицу, искать сына.
Тимка заторопился. Дразнить Кравцову ему, конечно, не следовало. Но Тимка просто не удержался.
Время от времени подсвечивая себе фонариком, он вытряхнул из рюкзака рыболовные принадлежности, скомкав, сунул туда габардиновый плащ отца, вышитую подушечку с дивана. Верблюжьи одеяла украли, но два байковых сохранились. Тимка бросил их Асе, чтобы втолкала в рюкзак. Миллиметр слушалась беспрекословно.
Надо было одеть ее как-то потеплей. Но о материных платьях думать не приходилось. Даже Тимкины брюки волочились бы за ней по земле… Представив себе эту картину, Тимка спохватился, что брюки можно подвернуть. Бросил ей свои лучшие, от праздничного костюма, нашел клетчатую рубаху, серую шерстяную безрукавку.
— Переодевайся!
Миллиметр, сидя на корточках у рюкзака, боязливо съежилась.
— Чеготы, Тим?..
— Я сказал: переодевайся! — прикрикнул Тимка.
Ася взяла рубаху и стала натягивать поверх грязной кофточки.
— Кофту можно бы скинуть! — заметил Тимка.
— Я потом… — виновато всхлипнула Ася, запихивая брюки и шерстяную безрукавку в рюкзак.
Тимка хотел высказаться по поводу ее неуместной стыдливости, но нельзя было тратить время. Он отыскал в кухне аптечку: вату, бинты, йод — и, вскинув большой отцовский рюкзак за плечи, подхватил авоську с консервами.
— Идем!
Ася, нырнув за его спину, затолкала подол рубахи под юбку.
На лестнице и в подъезде никого не было.
А на улице уже темнела глухая, тревожная ночь. Ниточка догоревшей зари едва просматривалась над Семеновскими холмами, и где-то далеко-далеко мерцали над горизонтом неяркие всполохи. Слух улавливал чуть слышные отзвуки канонады с той стороны.
До самой бухты шли молча. Тимка вышагивал впереди. Ася, то чуть отставая, то бегом догоняя его, едва поспевала следом.
Около развалин рыбокомбината Тимка сбросил рюкзак на землю, немножко передохнул. Хорошо, что он отыскал это убежище…
Предупредив Асю, чтобы не разгибалась и не делала лишних движений, он втолкнул ее в низенький лаз под каменной плитой, сунул к ее ногам рюкзак, авоську с консервами, влез сам и передвинул деревянную балку над головой так, что она прикрыла вход.
Дальше передвигался, переставляя сначала рюкзак, потом авоську, потом за руку уводил вперед на полтора — два метра Асю.
Наконец они оказались под косо лежащей плитой, где хоть и нельзя было разогнуться, но хватало места, чтобы сесть и даже вытянуться на земле, когда придет время спать. Зажгли фонарик.
— Не обвалится?.. — тихо спросила Ася, тронув каменную плиту над головой.
Тимка пожал плечами:
— С какой стати… — Он вытащил из рюкзака плащ, одеяло, подушечку, велел расстелить на земле плащ и одно одеяло поверх него. Потом уселся лицом к темному проходу в развалинах. — Надень брюки, подверни. И надень безрукавку. Будет холодно. Грязное свое сними.
Минуту — другую не слышал за спиной никакого движения. Потом, что-то такое сглотнув, Ася зашуршала одеждой. Потом сказала:
— Все…
Когда он обернулся, она сидела в его широченных брюках, затянув кожаный ремень узлом на боку. И, обняв колени руками, глядела исподлобья, словно бы выжидая, как он воспримет ее новый наряд. Но с началом бомбежек многое переменилось, и то, отчего раньше он, может, хохотал бы до слез, теперь почти не вызывало веселья.
— Давай помажу… — отводя глаза в сторону, чтобы она не заподозрила насмешки, предложил Тимка и вытащил из рюкзака йод, бинты, вату.
Ася отказалась от его помощи. Тихо ойкая, сама прижгла ссадины, бинтовать, чтобы скорей зажило, не стала.
Пока шли сюда, пока устраивались, пока Миллиметр занималась царапинами — все так или иначе отвлекало обоих. Но когда Ася отдала Тимке йод и, обхватив руками колени, уставилась в каменную плиту перед собой, откуда-то навалилась гнетущая тишина.
Тимка подумал, что надо бы экономить энергию… Но выключить фонарик не решился. Окликнул:
— Ася…
Она посмотрела на него. И глаза у нее были мокрыми.
— Ты сегодня ела что-нибудь?
Она покачала головой:
— Я не хочу, Тима…
— Да ты через не хочу! — оживился Тимка. Сидеть и молчать в этом каменном мешке было тягостно. — Я тоже не хочу, но давай поедим. Еще неизвестно, что завтра, а нам нужны силы… — Он выложил из-за пазухи сверток с колбасой, хлебом, достал нож и принялся энергично вскрывать щуку в томате.
Утерев тыльной стороной ладони глаза, Ася развернула газету, вытряхнула из нее крошки и разложила на одеяле, так что получился вполне аккуратный стол. Этого у девчонок не отнимешь: хоть в походе, хоть на каком-нибудь пикнике в лесу, хоть даже в такой вот каменной западне — они все устраивают аккуратно.
Нарезав кружочками колбасу, Тимка вспомнил, что вовремя не подумал о ложках, обстругал для Аси какую-то щепку. Сам, чтобы подать пример, зачерпнул щуку ножом. Ася неприметно вздохнула, глядя на него.
— Не ешь с ножа. — Подала ему щепку. — Злой будешь…
— А ты? — удивился Тимка, увидев, что она, забрав у него нож, сама не следует своему правилу.
— Я не умею злиться, — сказала Ася. И добавила после паузы: — Даже когда меня обижают…
— Я тебя не обижаю… — зачем-то оправдался Тимка.
— Ты нет… — согласилась Ася. — Но раз ты хотел меня ударить.
Тимка заерзал на одеяле.
— Это я так, нечаянно, Ася… Я не хотел…
— А я ничего… — тихо сказала Ася.
Теперь в свою очередь неприметно вздохнул Тимка: оказывается, рано или поздно за все, в чем ты виноват, приходится отвечать.
Поели сколько смогли. Тимка объяснил Асе насчет фонарика. Ася уложила в головах подушку и свернутый вчетверо рюкзак, предварительно засунув его в свою вывернутую наизнанку кофточку. Когда легли и укрылись, Тимка пристроил возле себя нож и выключил фонарик.
НОЧЬ
Он здорово устал за последние двое суток, но сон к нему не приходил. Мрак над головой сначала казался непроглядным, потом замерцал какими-то желтыми вытянутыми кругами и задвигался, то как бы удаляясь от него, то снова приближаясь вплотную. Когда грянула война, первый день ее показался Тимке радостным. Мать тогда заплакала. А Тимка завидовал отцу, что тот будет громить немецкие субмарины, добывая победу на море. И жалел, что сам будет вынужден глядеть на войну со стороны… Потом ушла на фронт мать, появились в госпитале раненые, появились первые красноармейские могилы на кладбище, и война как-то сразу, в несколько дней, приблизилась, Он думал, что Ася уже спит. А она вдруг спросила: — Кто такой крестоносец, Тимоша?.. Так отец называл немецкий эсминец, с которым ему. приходилось встречаться на заданиях. «Штормовой» не мог противостоять эсминцу и не искал боя с крестоносцем. И это про него говорил отец, что появляется он именно в тех местах, где выходит на поиск «Штормовой». Тимка объяснил в двух словах. — А где ты про него слышала? — Твой папа с моим разговаривали. — Когда? — Перед этим разом… Вот сейчас, когда не вернулись… — Мало ли что не вернулись! — возразил Тимка. — Может, ушли на другую базу. А что они еще говорили? — Они спорили, — рассказывала Ася. — Твой папа говорит: «Крестоносец появляется и уходит, как будто ему надо только увидеть нас…» Говорит: «Может, он этого рейса ждет?» — А дальше? — Тимка насторожился. — Папа говорит: «Не пойму». А твой папа: «Но ведь груз мы доставили раньше!» А мой папа тогда подумал и сказал: «Но ведь после этого мы сменили половину экипажа…» Так я говорю? — спросила Ася. — Так, так! — поспешил заверить ее Тимка. — А твой папа тогда, — продолжала Ася, — прямо вспылил, говорит: «Фантазия, бред! Чтобы из нашего экипажа?! Не может быть, не укладывается в голове, даже подумать стыдно!» — Так… — рассеянно повторил Тимка. — А мой папа отвечает: «У меня тоже не укладывается…» Они помолчали, и все. Тимке показалось, что в темноте слышно, как он думает. Чего боялся отец?.. Груз, который они доставили раньше, — об этом Тимка слышал впервые. Но тогда люди, которых они должны были, по словам отца, доставить на место в этом последнем рейсе, и тот груз имели какую-то связь между собой. А при чем тут был крестоносец и экипаж «охотника»?.. — Тимоша… — позвала Ася. Тимка шевельнул рукой, давая знать, что слушает. — Ты не зови меня Немкой… — жалобно попросила Ася. — Мне стыдно, что я учила немецкий. — Вот еще! — возразил Тимка. — Нам уже раз помогло, что ты учила! — Все равно, — сказала Ася. — И никак не зови, ладно? Зови Асей. — Ну вот… — Тимка заворочался. — Я тебя и не звал почти… Несколько раз, может. Но тогда и ты меня не зови Тимошей. — Почему? — удивилась Ася. — Ну, Тимка, да и все. Что я — маленький? Ася долго молчала, раздумывая над этим. И вдруг стала вздрагивать, потому что заплакала. — Чего ты, Ася? — У меня, Тима, теперь никого нет… — сказала Ася. — Ну вот! — Тимка рассердился. — Отцы у нас вместе! — А мама? — Ася плакала горестно, как плачут маленькие дети. — Ничего ты еще не знаешь про маму! — грубо сказал Тимка. — Она теперь где-нибудь в тылу! У нее же еще Оля. А моя мама на фронте и не написала ни разу… — Тимка не выдержал тона и закончил уже сорвавшимся голосом, чуть слышно. Ася уловила это и мало-помалу успокоилась. Потом сказала: — Мы теперь только вдвоем, Тима… Я тебя буду звать Тимой, ладно? Ты не бросай меня, хорошо? — Ладно, — сказал Тимка, — хорошо… Ты спи, Ася. И она вскоре уснула, время от времени вздрагивая спросонок. А Тимка долго еще думал, глядя в мерцающий, подвижный мрак над головой. Ася обхватила во сне его руку, и он старался не шевелиться, чтобы не разбудить ее. Планы, что складывались в его голове днем, рухнули. Он думал: где-нибудь раздобудет винтовку или автомат, патроны — стрелять отец его научил, — полоснет очередью по какому-нибудь главному их штабу в городе, потом отступит сюда, в развалины, и будет биться до последнего патрона… чтобы отец или мать, если они живы, услышали когда-нибудь, что Тимка их погиб с достоинством… Теперь на его ответственности была Ася, девчонка… Вдобавок, Миллиметр, хотя прозвище это, оказывается, обижало ее…ПЕРЕМЕНА СОБЫТИЙ
Он не заметил, когда уснул. А проснулся перед рассветом. Возможно, что его напряженные чувства уловили нечаянный всплеск весла или сказанное вслух слово… Но проснулся он от какого-то смутного беспокойства. Осторожно высвободил у Аси руку, вылез, чтобы не потревожить ее, из-под одеяла и, прихватив с собой нож, на ощупь пробрался к выходу. Неслышно передвинул деревянную балку над входом, выбрался наружу и сел, вглядываясь в темноту. Городок будто вымер — до того тихо было кругом. Легкий туман над бухтой он видеть не мог, но чувствовал его характерную влажную прохладу. Узенький лунный серп в небе трудно было отыскать, но вода близ правого берега бухты фосфорилась. И в этом едва уловимом свечении было что-то непонятное, что заставило Тимку до предела напрячь зрение. Минуту или чуть больше он не дышал, вглядываясь в прибрежную полосу бухты, и вздрогнул, различив на воде овальную, правильной формы тень. Сомнений быть не могло — это она привлекла его внимание. Тень медленно двигалась вдоль берега! Тимка нырнул в убежище. Ударяясь то плечом, то коленкой, прошмыгнул по лабиринту завала к Асе. Потряс ее за плечи. — Ася! Проснись, Ася! — И удержал ее, когда она, ойкнув, хотела вскочить на ноги. — Осторожно! Не шуми! — предупредил Тимка. — Там кто-то идет с моря! Вдоль берега! Ты поняла?.. Поняла Ася или нет, но уже торопливо, на ощупь сматывала одеяла, подушку, плащ. — Зачем?! — попытался удержать ее Тимка. — Я пойду посмотрю кто, и вернусь! — Я с тобой! — дрожа спросонок, пробормотала Ася, и Тимка подумал, что, в общем-то, ей будет страшно здесь одной… Подхватив одежду, постель, консервы, не зажигая фонаря, выбрались наружу. Тень приблизилась к самому берегу и стала едва различимой. Тимка усадил Асю на камень рядом с убежищем, откуда сам вглядывался в светящуюся полосу воды, шепнул, чтоб укуталась одеялом, и скользнул между развалин по направлению к бухте. Кто мог так осторожно красться в оставленный город? Немцы ворвались накануне, оглушая треском мотоциклетных моторов, криками. А если свои? Кто? Откуда? Зачем? Тимка оказался рядом с водой в ту минуту, когда нос шлюпки ткнулся в прибрежную гальку и кто-то неслышно спрыгнул на берег. Тимка замер. И те, что остались в шлюпке, и тот, что с концом фалиня[325] выскочил на прибрежную гальку, затаились на минуту, вглядываясь в темноту, словно чувствуя присутствие Тимки. Это были наши. Во всяком случае, если судить по форме… Тимка шагнул вперед. — Стой! — приглушенно окликнули его из шлюпки, и сразу щелкнул курок нагана. — Кто идет?! — Это я! — Тимка остановился. — Свой! — Один? А кто рядом?! Тимка невольно оглянулся по сторонам. — Я один, рядом никого нет! — Пацан! — удивленно проговорил кто-то на шлюпке. — А ну подойди ближе! — строго скомандовал первый голос. Тимка ступил на гальку, — Кто такой? Откуда? Почему здесь? — Тимка я! Нефедов! — Ба! Да это пацан командира! — опять удивленно вмешался второй голос. И только теперь Тимка спохватился, что голос первого принадлежал боцману со «Штормового», дядьке Василю. И в человеке, стоящем на берегу, он узнал краснофлотца, которого два или три раза видел на «охотнике». — Почему ты здесь? — не дал ему опомниться боцман. — Мне больше негде. Я прячусь… — сказал Тимка. — В городе гитлеровцы? — Кажется, нет. Залетали вечером на мотоциклах — разведка, ушли. Наверно, войдут утром… — А где наши? — Были на холмах. К вечеру там все стихло… — Так… В шлюпке тревожно замолчали. Кто-то выругался сквозь зубы. — Катера ушли? — Да, после обеда… — ответил Тимка. — Город окружен? — Наверно… — Тимка помедлил. — Берегом никто не эвакуировался. В шлюпке опять воцарилось короткое молчание. Краснофлотец на берегу переступил с ноги на ногу. — Что собираешься делать? — спросил боцман. — Не знаю… Возьмите меня с собой, — негромко попросил Тимка. Краснофлотец, что стоял, держа в руках фалинь, показал головой в сторону шлюпки: мол, забирайся… — Давай! — сказал боцман. — А я не один… — Тимка запнулся. — Как это?! Только что говорил… — Ася со мной! Она там, в развалинах! — Он показал в темноту за спиной. — Ася Вагина. Штурмана дочка! — А почему ее не увезли? Мать где? — Мама ее… Побежала с младшей за молоком… А дом разбомбили… Не вернулась… — Ясно… — угрюмо проговорил боцман. Кто-то опять выругался сквозь зубы. — Давай тащи свою Асю… — проворчал боцман. И, не сдержав раздражения, приказал: — Быстро! Тимка метнулся вверх по берегу. Ася, держа в руках пожитки, сразу пошла навстречу. Краснофлотец помог им забраться в шлюпку и, оттолкнув ее, впрыгнул сам. Вещи запихали под носовое сиденье. Боцман велел ребятам пройти на корму. На сиденьях, между краснофлотцами, лежал расчехленный рангоут: мачта и парус. — Весла! — негромко скомандовал боцман. — Обе табань![326] Кормой вперед отошли на глубину. — Обе — на воду! — скомандовал боцман. И, на секунду приостановив движение, шлюпка пошла носом вперед. Ася и Тимка устроились на кормовом сиденье, у ног боцмана. Тимка оглянулся. — Близко к берегу не держите, дядя Василь, вода светится, и шлюпку видно. — Ясно… — коротко ответил боцман и, переложив руль влево, круто взял прочь от берега, на середину бухты. Гребли четверо. Один краснофлотец остался впередсмотрящим, боцман командовал на руле. Два весла лежали вдоль бортов без применения. Тимка понимал, о чем хотела спросить, глядя на него, Ася. Но отводил глаза в сторону и сам не спрашивал ни о чем. Во-первых, потому, что не время было затевать посторонние разговоры. А во-вторых, потому, что краснофлотцы, будто сговорившись, ни одним словом не обмолвились об их отцах и сосредоточенно смотрели за борт, когда Ася пыталась поймать их взгляды… Весла опускались и выходили из воды без всплеска. Не звякнула на гребке ни одна уключина. Только негромко и однообразно журчала под форштевнем вода.БОЦМАН ГОВОРИТ
Когда прошли Каменный мыс, ощутимо потянул ветер. Боцман держал курс прямо — в открытое море. Скомандовал: — Грести ровней! Р-раз!.. Р-раз!.. — И надолго замолчал, глядя из-под нахмуренных бровей в грязно-серую мешанину предутреннего тумана. Мятая бескозырка его была натянута глубоко на лоб и затылок, обветренные губы потрескались, небритое лицо заросло жесткой рыжеватой щетиной. Он да еще краснофлотец, что был впередсмотрящим, сидели в теплых фланелевках. Гребцы побросали их на рангоут и, засучив рукава тельняшек, почти касались грудью колен, когда заносили весла, потом откидывались на спину. Небо заметно серело над головой. Звезды пропали, и крепчавший ветерок должен был вот-вот разогнать остатки тумана. — Грести ровно! — повторил боцман. — Я буду говорить. Он помолчал, шевельнув сдвинутыми к переносице бровями, и стало слышно, как журчит вода под форштевнем и вдоль бортов шлюпки. — Сначала я буду говорить для вас, пацаны! — глядя вперед, поверх голов Аси и Тимки, сказал боцман. Остальные, даже впередсмотрящий, как по команде, посмотрели на них. — Было это еще вчера… к закату… — начал боцман. И, втянув через нос воздух, продолжал отрывистыми, короткими фразами: — Прижал нас крестоносец под бережок! Словно из-под земли выскочил. И был бой… «Штормового», пацаны, уже нет. Погиб «Штормовой». — Боцман опять помолчал. — Штурман Павел Алексеевич Вагин был уже ранен, когда мы высаживались на берег… А там нас встретили снова. Оттерли к воде. Мы дрались, но у нас кончились патроны. И как стемнело, командир Виктор Сергеевич Нефедов приказал нам уходить. Сам и еще Гриша Макеев остались прикрыть нас… Вот. — Боцман, совсем как это делал Тимкин отец, куснул губы. — Не хочу обманывать, пацаны. Считаю: отцы ваши пали смертью храбрых в бою с захватчиками. — И он спросил у остальных: — Так я говорю? — Так… — глухо ответили краснофлотцы. Ася, белая как полотно, медленно сползла с сиденья на ребристое дно шлюпки и, уткнувшись лицом в кулаки, тихонько застонала, потом заплакала. — Это, сестренка, уже ни к чему! — резко сказал правый загребной, коричневый от загара, с выцветшими, почти белыми волосами. — Пусть поплачет! — возразил ему усатый левый загребной, шевельнув желваками на бугристых, туго обтянутых скулах. Тимка посмотрел в сторону горизонта, и хорошо, что с весла правого загребного сорвалась вода, плеснула Тимке в лицо. Он утер ее рукавом. — Помоги ей, — сказал боцман Тимке. Тимка поднял Асю и усадил рядом. Она ткнулась в его плечо и, задержав дыхание, судорожно проглотила слезы. — Я сейчас… — кривя непослушные губы, сказала она всем. — Я сейчас… перестану… — Ничего… — сказал боцман. — Твой батька был настоящим человеком… Как и Виктор Сергеевич, командир. Они оба были настоящими. Ася глотнула воздуха и снова задержала дыхание. Работая веслами, то наклоняясь вперед, почти до колен, то Откидываясь назад, на спины, краснофлотцы опять сосредоточенно глядели в воду. — Теперь слушайте все! — предупредил боцман. — Буду говорить еще. Оружия у нас, можно сказать, нет. — Он кивнул на дно шлюпки, где лежали четыре винтовки без патронов. — Догонять своих морем — нельзя. Верная крышка. Чем ближе мы будем к своим, тем больше шансов налететь на немецкие катера или попасть под пулемет «мессера». Считаю более верным идти в тыл к немцам. Земля все равно наша. Вернемся к Летучим скалам… Где погиб «Штормовой». Там близко лес, болота. Будем пробиваться через лес. Оружие, патроны добудем. Летучие скалы… Отец любил это место. Прошлым летом несколько раз уезжали туда на воскресенье: автобусом, попутными машинами… А однажды, когда к ним присоединились Вагины, и Ася тоже, — на глиссере… — Так я говорю?! — спросил боцман. И краснофлотцы ответили ему: — Так. — Тогда шабаш! — скомандовал боцман. Весла легли на сиденья, гребцы закрепили их вдоль бортов. — Поставить рангоут! Краснофлотцы впятером установили мачту. Боцман убрал кормовой флаг и сменил румпель.[327] Когда подняли паруса и уселись на дне шлюпки, как это положено, лицом к парусу, боцман скомандовал: — К повороту!.. Фок[328] заполоскал, потеряв ветер. Зато выброшенный влево кливер[329] напрягся, как тугой барабан, и, слегка кренясь на левый борт, шлюпка понеслась к далеким Летучим скалам… Краснофлотцы натянули фланелевки. Ася и Тимка пересели на дно шлюпки. Ася уже не плакала. Но глядела куда-то мимо Тимкиного плеча и время от времени судорожно поджимала губы, чтобы сдержать всхлип. — Боцман! — позвал костлявый и горбоносый, стриженный наголо краснофлотец, который сидел до этого на веслах справа. Из-под тельняшки на груди его выбивались черные волосы. — Плесни воды. Боцман вытащил из-под сиденья небольшой анкерок.[330] Тимка помог ему налить воды в черпак. — Жратвы нет — хоть попить, — сказал горбоносый. Ася всхлипнула: — А у нас есть жратва… — Что же ты скрывала, сестренка?! — уставился на нее черный, как негр, с белыми волосами краснофлотец, который был, пока шли на веслах, правым загребным. — Утаить хотела? Не по-флотски! — Она хотела от тебя утаить, а с нами поделиться, — сказал усатый. Ася улыбнулась непослушными губами, потом заплакала, потом обмахнула слезы и то ли тихонько засмеялась, то ли всхлипнула. — У нас много! — похвалилась она. Тимка показал: — Под сиденьем, в сумке! Выяснилось, что у них было пять банок щуки в томате, восемь банок сазана, четыре куска хлеба и несколько пластиков колбасы. — Тут и взаправду пировать можно! — обрадовался впередсмотрящий. Боцман кашлянул. — Пировать будем после. Два хлеба пацанам, два поделить. Открой четыре банки сазана, остальные спрячь, Нехода. Путь долгий. — Мы не будем! — сразу вмешалась Ася. — Мы не хотим есть. Тимка поддержал ее. В конце концов боцман велел два куска хлеба и четыре пластика колбасы спрятать для них. Впередсмотрящий Нехода аккуратно завернул еду в газету и велел открыть не четыре, а три банки сазана. — Перекусите потом, — сказал он Тимке и Асе. — Мы, признаться, вторые сутки без крохи во рту… Тимка и Ася хотели протестовать: было очень стыдно, что им оставили половину хлеба, но чернокожий правый загребной, подняв кверху указательный палец, напомнил: — В шлюпке командует боцман. — Ладно, вы хоть это захватили! — похвалил Нехода. — А это не мы, — сказала Ася. Плакать она уже не плакала, но спотыкалась на каждом слове и, глотая спазмы, делала неожиданные паузы. — Это один Кравцов там грабил для немцев, а Тима отнял… И все одобрительно посмотрели на Тимку. — Зря мы повернули! — сказал пятый краснофлотец, который был на веслах слева, самый молодой, улыбчивый, похожий на юнгу. — Надо было сходить в город! Там сейчас все эти кравцовы повылазили! Шлепнуть бы одного — двух, а уж тогда — в море! Боцман хмуро вздохнул и не ответил, глядя в светящийся горизонт. Когда разделили хлеб, колбасу (горбоносый отвернулся при этом, а Нехода, накрыв пайку ладонью, спрашивал его: «Кому?»), до блеска вычистили и выкинули за борт жестянки из-под сазана, боцман сказал: — Если нас перехватят в море — нам крышка, но если будем жаться к земле — засекут береговые посты, и крышка наверняка. Потому, решаю, будем двигаться открытым морем. Других предложении нет? Других предложений не было. Ветер туго напряг паруса, и шлюпка в стремительном крене ощутимо прибавила ходу, когда боцман переложил руль, забирая глубже в море.КРЕСТОНОСЕЦ
Взошло солнце, и длинные, пологие волны засверкали в его лучах переливчатыми холодными бликами. Ветер с рассветом ослабел, но шли в почти полный бейдевинд, то есть при попутном ветре, почти с кормы, и шлюпка ходко резала волну за волной, оставляя позади широкую полосу водоворотного следа, хотя, если смотреть в сторону горизонта или на кого-нибудь в шлюпке, она казалась недвижной. К этому времени Тимка уже как следует разглядел всех и знал, что фамилия усатого левого загребного — Корякин; правый, с белыми, выгоревшими волосами, — Леваев, горбоносый был по национальности азербайджанец, и его звали Сабиром. Тот, что сидел за спиной Корякина — Шавырин, — оказался не моложе других в шлюпке, но редкая светлая борода его была почти незаметной. А впередсмотрящий Нехода, с густым, темно-русым чубом из-под бескозырки, обрастал почему-то красной, даже розовой щетиной. Все отдыхали, перекусив консервами, молчали под мерное покачивание шлюпки. А боцман долго, тревожно вглядывался в горизонт и наконец объяснил причину своего беспокойства: — Нас видно миль за пятнадцать. Под парусами идти опасно. Враг обнаружит нас раньше, чем обнаружим его мы. Так я считаю? — Да, — сказали краснофлотцы. И боцман решительно скомандовал: — Паруса долой, руби рангоут! Краснофлотцы уложили мачту и паруса на середину шлюпки. Боцмац опять установил кормовой флаг, который убирал на время, пока шли под парусом, потому что был флаг на фоке. Опять сменил румпель, но не пересел выше, на сиденье рулевого, как должен был сделать, а спросил Тимку: — Править умеешь? — Д-да… — запнувшись, ответил Тимка. — Садись и командуй! — приказал боцман. — Дочь штурмана Вагина, смени краснофлотца Неходу, будешь впередсмотрящей. — Есть… — сглотнув комок, ответила Ася и пробралась в нос шлюпки. Тимка занял сиденье рулевого. Нехода и чернокожий Леваев устроились на средних сиденьях. А боцман занял место правого загребного. — Командуй, — повторил он. — Ориентироваться будешь по солнцу, чтобы оставалось за кормой слева. И Тимка негромко, но отчетливо, как много раз командовал при нем отец, сказал: — Уключины вставить, весла разобрать! — Потом: — Весла! На воду!.. И уже потерявшая ход шлюпка опять начала резать волны. Править шлюпкой в открытом море не так уж трудно. Краснофлотцы гребли размеренно, сильно, и прошли без передышек уже около часа, когда молчание нарушил звонкий, встревоженный голос Аси: — Вижу крест на горизонте! — Суши весла! — скомандовал Тимка.
Краснофлотцы перестали грести, установив весла перпендикулярно бортам шлюпки и развернув лопасти параллельно воде. Взгляды всех обратились прямо по курсу шлюпки. Но даже боцману не сразу удалось разглядеть верхушку мачты на горизонте с короткой поперечной реей
— Глаза у тебя штурманские… — похвалил Асю левый баковый Шавырин.
— Крестоносец… — сказал усатый Корякин.
— Идет прямо на нас… — добавил левый средний Нехода.
Боцман молча, хмуро глядел на горизонт. И Тимка скомандовал:
— Весла!
Краснофлотцы сразу передвинули руки на ребристых валиках весел, как их положено держать при гребле.
— Суши весла! — скомандовал Тимка.
Краснофлотцы перестали грести, установив весла перпендикулярно бортам шлюпки и развернув лопасти параллельно воде. Взгляды всех обратились прямо по курсу шлюпки. Но даже боцману не сразу удалось разглядеть верхушку мачты на горизонте с короткой поперечной реей
— Глаза у тебя штурманские… — похвалил Асю левый баковый Шавырин.
— Крестоносец… — сказал усатый Корякин.
— Идет прямо на нас… — добавил левый средний Нехода.
Боцман молча, хмуро глядел на горизонт. И Тимка скомандовал:
— Весла!
Краснофлотцы сразу передвинули руки на ребристых валиках весел, как их положено держать при гребле.
 — На воду! — скомандовал Тимка.
Весла, занесенные к носу шлюпки, одновременно забрали воду. Тимка привстал, переложив руль влево, чтобы уйти ближе к невидимому берегу.
Пот градом катил по лицам краснофлотцев, и шлюпка летела, как на гонках, но эсминец, постепенно вырастая на глазах, скоро оказался уже в нескольких кабельтовых[331] от нее. Стало ясно, что от преследования не уйти. Над палубой крестоносца взвилось облачко орудийного выстрела, и одиночный снаряд взметнул прямо по курсу шлюпки столб воды.
— Суши весла! — приказал Тимка, и не успел он вспомнить, какой должна быть команда, чтобы краснофлотцы приготовились к бою, как левый баковый Шавырин рванулся к винтовке у своих ног, и боцман взял командование шлюпкой на себя.
— Отставить! — приказал он.
Усатый левый загребной напомнил:
— У нас нет патронов.
— С нами дети… — сказал боцман и, не обращая внимания на возглас протеста, который вырвался у Тимки, приказал: — Оружие — за борт!
Винтовки полетели в воду. И сразу над головами, взбив за кормой фонтанчики воды, просвистела пулеметная очередь.
— Хэнде хох! — потребовал с эсминца усиленный мегафоном голос.
— Весла по борту! — машинально скомандовал Тимка. Весла заболтались вдоль бортов шлюпки.
— Руки вверх! — повторили с эсминца по-русски.
Боцман незаметно выдернул из кармана каган и, приподняв ногой кормовой решетчатый люк, бросил под него оружие.
Тимка хотел закричать на боцмана от обиды и злости, но тот рявкнул:
— Поднять руки!
Краснофлотцы подняли над головами тяжелые, натруженные веслами руки.
Душный спазм перехватил горло Тимки, и скорее машинально, чем сознательно, он крутнул руль вправо, Когда нос эсминца готов был перерезать шлюпку надвое. Борт ее затрещал, ударившись о скулу эсминца.
Крестоносец дал задний ход, гася скорость. Сверху, с палубы его, на шлюпку уставились автоматы.
В черном, расстегнутом на груди кителе офицер что-то сказал по-немецки.
Краснофлотцы его не поняли, но брошенный сверху штормтрап без слов говорил, что требуется от бывших краснофлотцев «Штормового».
— Поднимайся… — приказал боцман.
Никто из краснофлотцев не шевельнулся.
Офицер, выхватив из кобуры пистолет, негодующе повторил команду.
Тогда боцман поднялся и первым полез по штормтрапу на палубу эсминца. Тимку душили слезы. Но он не плакал, потому что с носа, тревожно распахнув глаза, смотрела на него Ася.
Вторым к штормтрапу подошел усатый Корякин, за ним — Нехода, потом Шавырин, Леваев и горбоносый Сабир…
Поторапливая его, офицер сунул пистолетом в скулу азербайджанца.
Тимка рванулся к нагану под решеткой, но сверху прозвучал яростный, как удар кнута, возглас:
— Краснофлотец Нефедов! Ты не один!
Тимка выпрямился. И когда офицер заорал на него, тыча пистолетом! «Циэн флагге айн!» — Тимка понял, чего он требует, но не шелохнулся, чтобы спустить бело-голубой флаг за спиной, на флагштоке.
— Циэн флагге айн! — повторил офицер и, подняв пистолет на уровень глаз, прицелился.
На палубе эсминца замерли, ожидая развязки этой неравной и непредвиденной схватки: замерли краснофлотцы со «Штормового» под наведенными на них дулами автоматов, замер экипаж крестоносца.
Первая пуля просвистела справа от Тимки, вторая над самой его головой, шевельнув русые Тимкины волосы. Флагшток треснул и упал на воду после третьего выстрела… Тимка не понял, кто крикнул вдруг: «Молодец, Тимоша! Отомсти за нас!» — потому что разъяренные фашисты кинулись на краснофлотцев, и под ударами прикладов первым упал правый баковый Сабир. Ася зарыдала в голос.
Офицер выстрелил еще дважды, почти не целясь, и тоненькая струйка воды забила из анкерка на дно шлюпки.
Одна за другой послышались какие-то команды.
Тимка не сразу догадался, что их оставляют на свободе, когда, взбурлив за кормой, эсминец дал полный вперед. Шлюпку, едва не перевернув, отбросило на сторону. Затрещали сломанные по правому борту весла.
Не шелохнулся Тимка и не сказал ни слова, но глядел и глядел вослед крестоносцу, навсегда запоминая силуэты его мачт, башен, корпуса, потому что клялся отомстить…
— На воду! — скомандовал Тимка.
Весла, занесенные к носу шлюпки, одновременно забрали воду. Тимка привстал, переложив руль влево, чтобы уйти ближе к невидимому берегу.
Пот градом катил по лицам краснофлотцев, и шлюпка летела, как на гонках, но эсминец, постепенно вырастая на глазах, скоро оказался уже в нескольких кабельтовых[331] от нее. Стало ясно, что от преследования не уйти. Над палубой крестоносца взвилось облачко орудийного выстрела, и одиночный снаряд взметнул прямо по курсу шлюпки столб воды.
— Суши весла! — приказал Тимка, и не успел он вспомнить, какой должна быть команда, чтобы краснофлотцы приготовились к бою, как левый баковый Шавырин рванулся к винтовке у своих ног, и боцман взял командование шлюпкой на себя.
— Отставить! — приказал он.
Усатый левый загребной напомнил:
— У нас нет патронов.
— С нами дети… — сказал боцман и, не обращая внимания на возглас протеста, который вырвался у Тимки, приказал: — Оружие — за борт!
Винтовки полетели в воду. И сразу над головами, взбив за кормой фонтанчики воды, просвистела пулеметная очередь.
— Хэнде хох! — потребовал с эсминца усиленный мегафоном голос.
— Весла по борту! — машинально скомандовал Тимка. Весла заболтались вдоль бортов шлюпки.
— Руки вверх! — повторили с эсминца по-русски.
Боцман незаметно выдернул из кармана каган и, приподняв ногой кормовой решетчатый люк, бросил под него оружие.
Тимка хотел закричать на боцмана от обиды и злости, но тот рявкнул:
— Поднять руки!
Краснофлотцы подняли над головами тяжелые, натруженные веслами руки.
Душный спазм перехватил горло Тимки, и скорее машинально, чем сознательно, он крутнул руль вправо, Когда нос эсминца готов был перерезать шлюпку надвое. Борт ее затрещал, ударившись о скулу эсминца.
Крестоносец дал задний ход, гася скорость. Сверху, с палубы его, на шлюпку уставились автоматы.
В черном, расстегнутом на груди кителе офицер что-то сказал по-немецки.
Краснофлотцы его не поняли, но брошенный сверху штормтрап без слов говорил, что требуется от бывших краснофлотцев «Штормового».
— Поднимайся… — приказал боцман.
Никто из краснофлотцев не шевельнулся.
Офицер, выхватив из кобуры пистолет, негодующе повторил команду.
Тогда боцман поднялся и первым полез по штормтрапу на палубу эсминца. Тимку душили слезы. Но он не плакал, потому что с носа, тревожно распахнув глаза, смотрела на него Ася.
Вторым к штормтрапу подошел усатый Корякин, за ним — Нехода, потом Шавырин, Леваев и горбоносый Сабир…
Поторапливая его, офицер сунул пистолетом в скулу азербайджанца.
Тимка рванулся к нагану под решеткой, но сверху прозвучал яростный, как удар кнута, возглас:
— Краснофлотец Нефедов! Ты не один!
Тимка выпрямился. И когда офицер заорал на него, тыча пистолетом! «Циэн флагге айн!» — Тимка понял, чего он требует, но не шелохнулся, чтобы спустить бело-голубой флаг за спиной, на флагштоке.
— Циэн флагге айн! — повторил офицер и, подняв пистолет на уровень глаз, прицелился.
На палубе эсминца замерли, ожидая развязки этой неравной и непредвиденной схватки: замерли краснофлотцы со «Штормового» под наведенными на них дулами автоматов, замер экипаж крестоносца.
Первая пуля просвистела справа от Тимки, вторая над самой его головой, шевельнув русые Тимкины волосы. Флагшток треснул и упал на воду после третьего выстрела… Тимка не понял, кто крикнул вдруг: «Молодец, Тимоша! Отомсти за нас!» — потому что разъяренные фашисты кинулись на краснофлотцев, и под ударами прикладов первым упал правый баковый Сабир. Ася зарыдала в голос.
Офицер выстрелил еще дважды, почти не целясь, и тоненькая струйка воды забила из анкерка на дно шлюпки.
Одна за другой послышались какие-то команды.
Тимка не сразу догадался, что их оставляют на свободе, когда, взбурлив за кормой, эсминец дал полный вперед. Шлюпку, едва не перевернув, отбросило на сторону. Затрещали сломанные по правому борту весла.
Не шелохнулся Тимка и не сказал ни слова, но глядел и глядел вослед крестоносцу, навсегда запоминая силуэты его мачт, башен, корпуса, потому что клялся отомстить…
ШЛЮПКА ИДЕТ ПРЕЖНИМ КУРСОМ
Когда крестоносец скрылся за горизонтом, Ася уже не плакала. — Что они кричали? — спросил Тимка. — Сначала: спустить флаг… Долой флаг! А потом, когда стали драться… Я таких слов не учила. Тимка кивнул. — Возьми черпак, Ася, и отливай воду, — приказал он. Ася сразу взялась за черпак. Тимка вытащил из-под кормовой деревянной решетки боцманский наган. В барабане оставалось еще целых четыре патрона. — Он должен был стрелять, Ася, — сказал Тимка. — Почему он не стрелял? Ася подняла на него глаза. — Да. И первым полез по трапу… Тимка согласно кивнул ей. — Я тебе не хотел говорить, Ася… Моего отца и твоего что-то беспокоило перед походом… Крестоносец все время ждал этого, последнего их рейса… Почему он ждал? Откуда он мог знать, что этот рейс ответственный? Кто предупреждал немцев?.. Ты меня поняла? Ася побледнела как мел. Она всегда бледнела, когда очень волновалась. — Да, Тима… — Мы должны добраться до Летучих скал и посмотреть, что произошло там… — Хорошо… — сказала Ася. И вдруг добавила: — Я обещаю, Тима, что больше не буду плакать. Ты командуй. — Потом глянула под ноги и сказала: — Смотри, Тима, вода прибывает… — Я знаю, — сказал Тимка. — Вычерпывай. Он убрал кормовую решетку. Пуля, что пробила анкерок, ушла в воду через днище. Тимка сунул наган за пазуху. Вынул пробку из анкерка, обстругал ее ножом и, пользуясь бочонком с остатками воды как тяжестью, законопатил пулевое отверстие. Вода перестала прибывать. В четыре руки быстро осушили шлюпку. Тимка выбросил за борт обломки правых весел, одно левое убрал в шлюпку. Убрал самое тяжелое, но, когда попробовал два других, распределив по бортам, понял, что Асе не справиться с этой работой. Грести шлюпочным веслом — это особое искусство, которое требует не только силы, но и умения, сноровки. Осторожно спросил: — Тебе когда-нибудь приходилось грести, Ася?.. — Нет, Тима, — сказала она. — Я тебя просила раз, чтоб ты научил, а ты сказал: некогда… Тимка посмотрел на воду, как смотрели, избегая Асиного взгляда, краснофлотцы. Он вспомнил случай, о котором говорила Ася. Он соврал ей тогда: у него было предостаточно времени, но он посчитал стыдным у всех на виду обучать серьезному искусству девчонку… — Ладно, — сказал Тимка, — давай попробуем установить мачту. Это удалось им довольно быстро. Но, когда Тимка поднимал фок, парус крутнуло ветром, и углом реи Асю ударило в бок, под ребра. Она согнулась, охнув от боли. — Это ничего… — сказала она Тимке. Он оглядел горизонт и принял новое решение: — Садись к рулю, Ася. Будешь держать так, чтобы солнце оставалось справа, немного за тобой. — Хорошо… — Ася прошла на корму и закрепила в гнезде руля на время убранный румпель. Обманчивая пустынность моря не успокаивала, а тревожила. Тимка достал нож, одним движением срезал с тяжелого паруса военно-морской флаг, ибо судно без флага — ничье судно, а шлюпка должна была принадлежать флоту, в рядах которого служили штурман Вагин — отец Аси и командир «БО-327» — Тимкин отец. Двумя шкертиками от уключин закрепил флаг в верхнем углу кливера, с помощью ножа освободил рею от основного паруса и поднял на мачту один кливер… Шлюпку накренило, потом ощутимо рвануло вперед. — Движемся, Тима! — неуверенно и радостно сообщила Ася. — Конечно, — ответил Тимка. — Держи, чтобы солнце было за тобой… — повторил он. И добавил: — Нам нельзя не двигаться, Ася… Раза два шлюпка рыскнула носом вправо, потом влево, но затем выровнялась и, заметно прибавляя ходу, опять начала резать волны. Тимка тщательно закрепил шкот[332] паруса, чтобы кливер не потерял ветра. — Пожалуйста, научи меня стрелять, — вдруг попросила Ася. Тимка подошел и опустился на сиденье рядом с нею. — У нас всего четыре патрона, Ася… — Я умею целиться, — предупредила она. — Ты только покажи, что мне делать, когда надо. Тимка вынул из-за пазухи наган. — Вот так взводишь курок, вот так проворачивается барабан после каждого выстрела… Ася взяла у него и подержала в руке оружие. — Хорошо, Тима. Если что — ты надейся на меня, ладно? Тимка кивнул. — Я ведь только кажусь такой маленькой, — сказала Ася. — И плаксивой кажусь, да? А я, Тим, сильная. Попробуй… — Она согнула руку, чтобы Тимка потрогал бицепс. Но Тимка сказал: — Я знаю, Ася, что ты сильная. Я ведь ничего… — Знай, — кивнула Ася. И показалось ему ужасной нелепостью, что кто-то мог называть Асю Карапешкой, Молекулой… Она была просто невысокого роста. Ниже других девчонок в классе, но зато и добрей, и умнее, и симпатичнее других… Она была даже очень красивой — Ася Вагина, и всегда хорошо относилась к Тимке.У ЛЕТУЧИХ СКАЛ
Весь день шли морем, вдоль невидимого за горизонтом берега. В одном боцман оказался прав: этот путь был наименее опасен. После крестоносца состоялись еще две встречи. Раз впереди, на курсе, показалось норвежское торговое судно, но, разглядев бело-голубой флаг, ушло мористей. В полдень шлюпку заметил самолет: наш, с алыми звездами на крыльях. Трижды низко прошел над шлюпкой, стараясь понять, куда идет ее странными экипаж. Ася и Тимка помахали ему руками, давая знать летчику, что все обстоит как надо, шлюпка держит правильное направление. Истребитель набрал высоту и, прежде чем уйти на восток, покачал крыльями, то ли прощаясь, то ли недоумевая. Когда солнце стало клониться к вечеру, открыли на двоих банку сазана и разделили пополам кусок хлеба, оставив другой на будущее. Запили этот нехитрый ужин сладковатой водой из анкерка. Можно было идти на сближение с берегом. Тимка велел Асе переложить руль влево, сам вытащил из-за пазухи наган и, проверив патроны, сунул его за пояс. В пяти — шести кабельтовых от полосы прибоя, настороженно вглядываясь в пустынную гористую местность, опять взяли курс параллельно береговой линии. Район Летучих скал оба могли узнать по четырем соснам, видимым далеко с моря; они выстроились рядышком на краю утеса, как четыре сестры-одногодки. Но Тимкин отец говорил, что это не сестры, а подруги-рыбачки. Их мужья ушли когда-то в море и не вернулись. А рыбачки превратились в стройные сосны и будут ждать их на берегу еще много десятков лет… Ася увидела сосны первой. Тимка перенял у нее румпель, велел для большей безопасности пересесть на дно шлюпки и взял курс на берег, около мили не доходя Летучих скал. Тимка не знал, что ждет их близ четырех сосен, решил высадиться на берег здесь, около скалистых уступов, где пока ни он сам, ни глазастая Ася не замечали признаков опасности. Шлюпка с ходу вылетела носом на прибрежную гальку. Тимка убрал кливер и, держа руку на холодной рукояти нагана, минуту — другую внимательно, метр за метром, оглядывал берег. Потом велел Асе собрать рюкзак. Вдвоем срубили мачту. Тимка переместил на середину шлюпки, ближе к рангоуту, весла, уложил на них руль, парусными шкотами надежно закрепил все это на сиденьях, выбросил рюкзак на берег и велел Асе подносить ему камни. Сам остался в шлюпке и, принимая у Аси булыжники, устлал ими все днище… Затем выбил пробку из пулевого отверстия, соскочил на берег и, спустив шлюпку на воду, отвел ее к двум выступающим из глубины камням. Подтолкнул ее вплотную к ним. И оба молча стояли на берегу, пока шлюпка не затонула, как-то горестно всхлипнув напоследок. Вскинул за плечи полупустой рюкзак — Ася туго скатала одеяла, плащ, и они стали занимать гораздо меньше места, — вытащил из кармана отцовский нож, протянул Асе. — Надень на пояс… Ася отвернулась, чтобы вдеть ремень в петлю ножен, и опять завязала его узлом на боку. — Пойдешь сзади, — сказал Тимка. — Оглядывайся. Я буду смотреть вперед и по сторонам. Шаг за шагом, то спускаясь к самой воде, то опять взбираясь по заросшим густым кустарником кручам, они осторожно приблизились к Летучим скалам. Около сосен Тимка сбросил рюкзак на землю. Ребята подошли к обрыву и остановились, глядя вниз, на воду. Море вдавалось в берег узким, но глубоким заливчиком. Скалы образовывали его ворота. Слегка наклоненные одна к другой, со стороны моря они казались легкими, стремительными, за что и были названы когда-то Летучими… Море сверкало под вечерним солнцем, а в заливчике между скал царили сумрак и тишина… До войны отца привлекали сюда многочисленные гроты на склоне вдоль берега, хороший клев на всегда спокойной воде залива, простор, тишина… А теперь нельзя было придумать более удобного места для засады: «Штормовой» мог войти в заливчик, выставить наблюдателя у сосен-рыбачек и, невидимый с моря, ждать появления лодок… — Пойдем? — тихо спросила Ася. Тимка кивнул, опять вскидывая рюкзак. Они еще не осмотрели берег по ту сторону залива, где в седловине сохранилась почерневшая от времени, но довольно крепкая избушка. Когда-то, говорят, близ каменистой гряды, что неподалеку от Летучих скал, были сигнальные буи с ацетиленовыми горелками, в избушке жил одинокий старик смотритель. Буи впоследствии ликвидировали, а избушка осталась. Осмотрев пустую хижину, спустились по крутому откосу к морю. Тимка резко наклонился, увидев желтую блестку в траве. — Наши, Ася… Тут были наши… — проговорил он, сжимая в руке еще пахнущую порохом винтовочную гильзу. Они присели на корточки и отыскали много таких гильз. Если экипаж отца окружили на этом плоском пятачке, где лишь несколько валунов могли служить укрытием, — судьба экипажа была решена заранее. Осмотрели иссеченные пулями валуны. Тимке хотелось еще раз напомнить Асе, что здесь всего двое суток назад, по существу обреченные, сражались их отцы… Ася вдруг громко вскрикнула за его спиной. Тимка одним движением рванул из-за пояса наган и щелкнул курком. Но Ася стояла одна на взгорке и, зажав ладонями рот, смотрела куда-то вниз, в землю перед собой. Тимка подошел к ней и замер на краю неглубокой ямы. — Отвернись… — сказал Тимка, но Ася будто одеревенела, бледная, с широко открытыми глазами. Трава по кромке ямы выгорела. На дне лежали останки сожженных трупов. Их было около пятнадцати-двадцати или даже больше — неузнаваемые. И валялась рядом пустая канистра из-под горючего. Тимка снял рюкзак, вынул из него одеяло, осторожно спустился в яму и накрыл одеялом трупы. Ася при этом стояла в той же позе и на том же месте, откуда разглядела свою жуткую находку. — Носи камни, Ася… — велел Тимка. Это вывело ее из оцепенения. Но движения ее долго еще оставались деревянными, когда она, точно манекен, стала подбирать и носить к яме разбросанные по склону камни. Тимка осторожно укладывал их поверх одеяла. Потом вылез наружу, и они вместе носили булыжники до тех пор, пока над ямой не вырос тяжелый каменный холм. Постояли рядом у могилы, притихшие, одинокие. Ветер улегся к вечеру, и желтое солнце опустилось на сверкающую кромку горизонта, обливая мягкими, желтыми лучами последнее пристанище моряков… Тимка вытащил из кармана и надел кепку, натянув козырек до бровей, когда Ася вдруг схватила его за локоть: — Крест, Тима! Смотри, опять крест!НА СКЛОНЕ
Над восточным горизонтом снова показалась верхушка мачты с короткой поперечиной реи. Настороженное чутье подсказало Тимке, что крестоносец держит курс именно сюда, на Летучие скалы. Что-то влекло фашиста в этот удобный, почти невидимый с моря залив. Надо было укрыться, пока их не разглядели с эсминца. Увлекая за собой Асю, Тимка побежал в обход залива. По ту сторону Летучих скал, на крутом, обращенном к морю откосе, в какие-то давние времена подземные воды намыли глубокие норы в скальном грунте. Склон густо зарос кустарником, подземные русла давно обрушились, но остались их выходы на поверхность, которые отец называл иногда пещерами, а чаще — гротами, не без основания утверждая, что слово «грот» звучит загадочней. Через кустарник на откосе шли низко пригнувшись, так как Летучие скалы уже просматривались с эсминца. Тимка без труда нашел одну из нор. Ася первой нырнула в этот подземный мешок и задержалась, присев на корточки у входа, чтобы глаза привыкли к сумраку. Их новое убежище очень напоминало то, в котором они скрывались в предыдущую ночь. Только и всего, что над головой вместо бетонной плиты нависала вся тысячетонная громада склона. Тимка показал ей на рюкзак. — Расстели одеяло. А я погляжу сверху. — Я с тобой, — решительно возразила Ася. — Ползком, — предупредил Тимка, чтобы не спорить, и, передвинув наган за спину, вышмыгнул на поверхность. Через несколько метров оглянулся. Ася уверенно пробиралась между кустами следом. Выбрались почти на гребень откоса. И залегли рядышком в кустах. Уже стали различимы люди на крестоносце. На юте[333] и вдоль бортов выстроились наготове матросы с кранцами.[334] Корабль круто развернулся в кабельтове от берега и задним ходом пошел в каменные ворота залива. Эсминец вел опытный моряк, так что заготовленные на случай удара о скалы кранцы не понадобились. Корабль прошел точно между Летучих скал, вплотную к склоненным над водой громадам. Орудийные расчеты на мостике даже невольно приспустили стволы пушек, чтобы случайно не врезаться ими в скалы, хотя опасности такой практически не существовало. Гася скорость, отработали на «полный вперед» машины, и загремела якорная цепь. Потом слышно было, как заводили на берег сходни. Ася время от времени шепотом переводила команды: — Выставить охрану… Или охранение?.. Подготовить операцию… — Какую операцию? — встревоженно спросил Тимка. Ася виновато пожала плечами. Оба уткнулись носами в землю, когда послышались приближающиеся шаги. Мимо них по гребню откоса прошли четверо вооруженных автоматами немцев. Один остался на берегу, рядом с откосом, остальные пошли прочь от моря, оцепляя залив со стороны берега. Тимка и Ася таким образом оказались внутри оцепления. Чтобы уйти подальше от часового, Тимка велел Асе двигаться за ним и уполз ближе к скалам. Послышался встревоженный возглас на палубе крестоносца. Ася, прильнув к Самому уху Тимки, перевела: — Здесь кто-то был! — Резкие голоса звучали несколько минут подряд. Ася переводила с пятого на десятое: — Убитые заложены камнями… Что слышно из тыла?.. Со стороны леса никакого движения… Черт… Черт побери, — поправилась Ася: вмешался третий голос — Нашли детские следы на берегу… Неужели эти?.. Выходит, что… ну, выкарабкались… А куда могли деться?.. Сбежали, конечно. Впрочем, это не так важно… Продолжайте действовать по плану… Тимка многое бы отдал за возможность узнать, о какой операции шла речь и что это значит: действовать по плану… Однако пришлось пролежать в кустах без движения еще минут двадцать, в течение которых не было слышно ничего нового. Потом, когда солнце скрылось за горизонтом и начали быстро густеть сумерки, на палубе эсминца опять зазвучали резкие голоса команд. — Выходи!.. Быстро!.. Ну, быстро!.. — переводила Ася. Тимка сжал ее руку, и она ответила тем же, давая понять, что догадалась о происходящем: на палубу эсминца выводили пленных краснофлотцев со «Штормового». Тимка вытащил из-за пояса наган. Как он смел плохо думать об этих людях?! Если их выводят, чтобы… Ася смотрела на него выжидающе: она поняла, о чем он думает. И не протестовала, хотя знала не хуже Тимки, что любая их попытка вмешаться в события ни к чему хорошему не приведет. Ну, убьет Тимка одного фашиста… Если еще успеет подобраться и выстрелить… — Запереть как следует! — торопливо перевела она команду с эсминца. — Поставить часового!.. За каждого отвечаете головой, ефрейтор!.. Ася радостно встряхнула Тимкину руку. Он понял ее. Краснофлотцев хотят запереть в избушке смотрителя. Это возрождало какую-то надежду: впереди была ночь. По трапу застучали шаги охранников, потом, вразнобой, — шаги пленных, и опять четкие шаги немцев. Тимка скользнул ближе к скалам. Ася догнала его. И они увидели, как по тропинке от залива к избушке прошагал вооруженный автоматом солдат, затем, опустив головы, со связанными за спиной руками все шесть краснофлотцев со «Штормового». Тимка показал головой Асе, чтобы ползла назад. И, вплотную припадая к земле, они медленно спустились к укрытию: ждать ночи.ПЕРЕПОЛОХ
Взяв у Аси нож, Тимка открыл, пока еще можно было разглядеть, две банки консервов, разделил хлеб и велел есть как следует: им понадобится ночью много сил… Потом, глядя сквозь кусты на сиреневый закат, он стал думать. Позвал шепотом: — Ася… — Что, Тима? — чуть слышно отозвалась она и, подсев к нему, поглядела тревожно: она обо всем догадывалась сразу. — Я попробую один, Ася, ладно?.. — спросил Тимка. — Ты останься тут… Вдвоем нам все равно делать там нечего… Ася медленно покачала головой и ответила с укором: — Пойдем вместе, Тима… Нам же будет легче, если что-нибудь случится с одним. Понимаешь? — Ладно… — сказал Тимка, возвращая ей нож. — Там, за избушкой, кусты, пойдем через них. Забинтуй руки, будем пробираться ползком. — Ничего, — сказала Ася. — Почти все зажило. Вдвоем оглядели свое нехитрое хозяйство. Взять с собой, кроме оружия, стоило разве только фонарик. Тимка сунул его в карман. Объяснил Асе: — Если нам удастся что-нибудь, дальше, за кустами, — сосняк, потом поле. Видела прошлый раз?.. Потом хлеба. Через восемь километров — лес. Если что — за ночь можно спокойно добраться до леса. Ася кивнула. Она отрезала угол байкового одеяла и сделала из него платок для себя, чтоб не мешали волосы. С эсминца долго не доносилось ни звука. Потом опять отстучали шаги по трапу. И слышно было, как фашисты прошли по гребню над их убежищем, сменяя посты. Тимка удовлетворенно отметил про себя, что теперь до новой смены часа на полтора не предвидится никаких перемещений внутри кольца охраны. Тишина обволокла землю, и загустела над морем короткая безлунная ночь. Тимка тронул Асю за локоть. Она кивнула ему в темноте. Осторожно выбрались наружу. Время остановилось, пока они добирались до вершины склона. Тимка уползал на два — три метра вперед и ждал, когда его догонит Ася. Потом уползал снова. И снова ждал, напряженно вслушиваясь в темноту. На звездном небе четко вырисовывался силуэт часового с автоматом, когда они перевалили гребень. Дальше, на пологом спуске в низину, кустарник постепенно редел. Зато попадалось много валунов, и темнота в низине была надежней, гуще. Отдышались как следует, уже почти обогнув бухту, возле кустарника, что неширокой полосой тянулся до самой избушки. Теперь было бы очень важно знать время. Знать, когда сменятся часовые. Но приходилось рассчитывать на удачу. Ася тихонько дула в ладони. Тимка зря не настоял, чтобы она забинтовала их. Движением руки дал ей понять, что надо двигаться дальше. Первым нырнул глубже в кустарник… и больно пнул ногой Асю, когда она догнала его. С этой минуты перевернулись все их дальнейшие планы, которые пусть во многом и рассчитывались на случай, но были хоть сколько-то логичными. А тут события приняли неожиданный и совершенно непонятный для них оборот… Тимка рывком подтянул к себе Асю и прижал ее к земле, чтобы она не вскрикнула, разглядев перед собой человеческое тело. Заметил его Тимка несколько минут назад или ему почудилось движение в этой стороне?.. Скользнув ладонью по груди человека, по небритому лицу, он ощутил под рукой что-то густое, липкое. Догадался: «Кровь!» — Он дышит! — шепотом проговорила над его ухом Ася. И вдруг ночную тишину распорола автоматная очередь со стороны избушки. Затем послышался непонятный возглас, и снова очередь. Тимка ухватил раненого за ремень, Ася уцепилась за фланелевку краснофлотца, под мышками, и, разбивая в кровь локти, колени, они поволокли его прочь от кустов назад, в низину. Упали между валунами. Подхватили и поволокли опять. А тишины уже не существовало. Под множеством ног загрохотала палуба крестоносца. Заработали автоматы часовых. Теперь надо было как можно быстрей попасть на склон, где гроты, уже не обращая внимания на треск ломаемых кустов, на стук осыпающихся под ногами булыжников. Услышать их не могли. На них могли наткнуться и увидеть… Когда перетаскивали раненого через гребень, часовой палил короткими очередями в сторону моря. Где-то за кустарником, что тянулся от избушки, взвилась над полем ракета. Потом еще одна. И автоматы захлебывались в той стороне, полосуя небо, ночь, хлеба за полем. Тимка задыхался, припав лицом к траве на склоне, обессиленный, разбитый. И можно представить, что испытывала при этом Ася. Минут пятнадцать — двадцать лежали они, скрытые кустарником. И, не подавая признаков жизни, раскинув руки по сторонам, как они бросили его, лежал раненый краснофлотец. Теперь их уже не могли заметить. Ракеты взмывали несколько раз. И, то удаляясь от моря, то приближаясь опять, долго еще тревожили тишину автоматы. — Двигаемся?.. — шепотом спросил Тимка. И Ася ответила ему неслышно, кивком, сглотнув комок в горле. Автоматы умолкли, но еще долго, после того когда ребята втащили раненого в свое укрытие и более или менее пришли в себя, перекликались гитлеровцы. Пользуясь где комьями земли, где камнями, обломками сухого хвороста, Тимка задрапировал выход из убежища сложенным вдвое одеялом, а сверху еще и черным плащом отца. Только после этого, сев спиной к выходу, включил фонарик.ТИМКИНЫ ДОГАДКИ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ
На земляном полу грота, босой, со слипшимися от крови волосами лежал перед ними боцман Василий. Тимка сунул фонарик Асе: «Держи!» Она хотела взять фонарь, но трясущиеся пальцы не слушались ее. Кое-как удержала его обеими руками. В пепельно-сером лице ее не было ни кровинки, а ссохшиеся губы кривились, точно от боли. — Потерпи, Ася! — сказал Тимка, хотя и у самого гудело от напряжения все тело, а руки и ноги слушались плохо. Ася благодарно кивнула в отвеет. Тимка вытряхнул из рюкзака бинты, йод, вату, У боцмана оказался пробитым затылок. Тимка слышал от матери, что прижигать йодом открытые раны нельзя. Кое-как продезинфицировал волосы вокруг пролома. Сделал мягкий тампон из ваты, как делала мать, и, приложив его к ране, туго забинтовал голову боцмана, потом опустил ее на согнутую пополам подушку. Надо было сделать что-то еще для Аси… Взял у нее нож и аккуратно, почти бесшумно вскрыл банку «Щука в томате». Руки у Аси продолжали трястись. Поднес банку к ее губам. — Пей! Не обрежься. Она сделала несколько жадных глотков. — Спасибо, Тима… — поперхнулась. Тимка высосал остатки томата, прибрал банку в сторону и открыл еще одну. Опять осушили ее вдвоем. Сладковатый томатный соус не мог заменить воды, и все же обоим стало легче. Выключив ненужный пока фонарь, отдышались, сидя бок о бок у ног боцмана. — Что случилось, Тима? — спросила Ася. Тот пожал плечами: — Не знаю… Не пойму, Ася. — Немцы кричали разные команды: прочесать поле… окружить… ракеты… тревога… Ну, и все такое… Почему он один? Может, там был еще кто-нибудь? — спросила Ася. Тимка щелкнул фонариком, потому что дядька Василь застонал. — Тише! — громким шепотом предупредил его Тимка. (Боцман медленно открыл глаза). — Тише, дядя Василь! — прижимая палец ко рту, повторил Тимка. Боцман шевельнул губами: — Тимофей?.. — Да! — радостно кивнул Тимка. Ася взяла банку, чтобы выцедить на губы раненого остатки влаги. Он движением руки остановил ее: — Где это я? Откуда вы? Почему я здесь? — Мы в пещере! Кругом немцы. Мы думали, они закрыли вас в избушке, и пробирались помочь. А нашли вас в кустах, — объяснил Тимка. — Так… — Боцман скользнул взглядом по своему телу и вдруг напрягся: — Где мои корочки?! — И хотел привстать. Подскочив к нему, Ася с трудом удержала его голову на подушке. Тимка тоже присел на корточках у самого его лица. «Корочками» моряки называли свои легкие парадные ботинки. — Вы были босиком, дядя Василь! На вас ничего не было! — объяснил Тимка. — Та-ак… — медленно, с непонятно изменившимся лицом повторил боцман. — Как вы подобрали меня? — Когда ползли к избушке. А вы лежали в кустах, — повторил Тимка. — Потом началась стрельба, и мы потащили вас сюда. — А до этого было тихо, когда вы меня нашли? — удивленно переспросил боцман. — Да… — кивнула, стараясь его понять, Ася. — Значит, меня трахнули по голове и разули без шума?! Стрельба, по-вашему, началась позже?! — Да, дядя Василь. Тревога поднялась потом, — подтвердил Тимка. Дядька Василь обхватил их за плечи, приблизил к себе: — Вы представляете, что вы говорите, пацаны?! Или не представляете?! Нет, Ася и Тимка ничего не представляли пока. Боцман отпустил их плечи: — Загаси фонарь, Тимоша, слепит… — Голос его прозвучал слабо, откуда-то издалека. — Вы отдохните, дядя Василь, — попросила Ася. — Вам сейчас надо лежать и не разговаривать. — Нельзя мне не разговаривать, пацаны… — ответил после паузы дядька Василь и, отыскав их плечи, опять обнял обоих. — Я буду говорить, а вы слушайте. И постарайтесь что-нибудь понять в этом! Нас держали весь день в румпельном отсеке. По одному водили на допрос к какому-то типу. Спрашивали: зачем «Штормовой» шел к Летучим скалам? Этого даже я не знаю. Да и спрашивали нас так, не очень, для порядка разве… Но было вот что: когда «Штормовой» потерял ход, когда мы открыли кингстоны и вместе с вашими батьками высадились сюда на шлюпке, с крестоносца тоже высадили человек пятьдесят. Они прижали нас к морю. Твой батька, Ася, был крепко ранен… Мы лежали за валунами, и, когда командир окликнул его, он уже не мог отозваться… Не плачь! — Боцман встряхнул Асю. — Я не плачу… — тихо ответила она. — Командир позвал меня. Я перескочил за его камень. Он выдернул из-за пазухи блокнот, ручку одной рукой, потому как в другой — винтовка, и черканул мне какую-то схему. Сунул этот листок, сказал: «Возьми всех, кто остался живой, и вдоль берега, по мелководью, уходите на шлюпке. Эту бумагу, сказал, если город наши уже сдали, как хочешь, живой или мертвый, доставь людям в Сорочьем лесу. Все, что им надо, сказал, — здесь!» Это я вам долго объясняю, пацаны. А под огнем говорилось короче. Бумага эта была у меня под стелькой. Ни одна живая душа не знала, кроме меня… — Боцман помолчал. — До сегодняшнего вечера, пацаны. Понимаете? До сегодняшнего, когда нас отвели в эту халупу и заперли, как телят. Это вы правильно прикинули. Нас посадили на ночь в избушку. Ну, зубастый Левай перегрыз веревку Неходе, тот распутал нас всех. Действуем, конечно, шепотком. Тыр-пыр — стены крепкие, за дверью — часовой. Тогда я признаюсь ребятам: в корочке у меня бумага, которую надо — тому, кто останется жив, — доставить своим, в лес. И тут, слушайте меня внимательно, кто-то нашел железку вроде ломика за стропилом. Хоп! Мы вскрыли одну половицу. Потом другую. И ну шуровать этим ломиком под стеной… Договорились пробираться через хлеба к лесу. Я, пацаны, уходил последним. Вы понимаете это?! Последним! И было тихо! Уходил по кустам. И тут меня что-то трахнуло по голове. Больше ничего не помню. А вы говорите, что, когда нашли меня, тоже было тихо. А корочек уже нет! Ты что-нибудь понимаешь, Тимофей?! — Да… — сказав Тимка. — Говори! — Боцман сжал его плечо. — С вами был на «Штормовом» кто-нибудь незнакомый? — Трое, из сухопутных! Все трое полегли — я видел своими глазами. — Папа хотел высадить их здесь, у Летучих… — Наверное! — согласился боцман. — Если бы не крестоносец. — Да, — сказал Тимка. — И папа говорил, что крестоносец будто следит за «Штормовым», будто ждет этого рейса… — Точно, Тимоша, точно! — Боцман слегка встряхнул его и Асю. — Он появлялся и уходил. А тут вылетел как из-под земли и сразу отрезал нам дорогу назад, к морю. — Папе казалось… — продолжал Тимка, — что крестоносец, ну… словно дожидается какого-то сигнала со «Штормового»… Так ему казалось в последнее время. Боцман заскрипел сомкнутыми зубами. — То-то и оно, ребятки! — Он вздохнул. — То-то и оно… Я еще тогда удивился: почему он бьет нас так осторожно — лишь бы не выпустить. И потом, когда мы уходили с «БО» на шлюпках, он обстреливал нас, как салага после пьянки: снаряд по курсу, снаряд за кормой, снаряд где-то сбоку. Он, значит, не хотел нас топить, пацаны! И на берегу они волынили, когда прижали нас. Три раза предлагали сдаться. Им нужен был живой командир или те трое! Ближе к делу, Тимоша. Что произошло сегодня ночью, ты понял? — Да, дядя Василь… — Говори! — Когда вам удалось бежать… — Нет, кажется, ты уже ошибся! Если все так, значит: не когда нам удалось, а когда нам разрешили бежать! Ты понял? Раз-ре-ши-ли! — по слогам повторил боцман. — Им не удалось взять живыми тех трех ребят, сухопутных, и что-то такое осталось для них невыясненным. Поэтому они решили дать нам уйти в лес. Понятно?! — Я так и хотел сказать, — подтвердил Тимка. — Перед тем как отвести вас в избушку, немцы командовали: подготовить операцию… Это Ася переводила, она понимает по-немецки. — Вот именно, ребятки: подготовить, — горестно согласился боцман. — Им надо было, чтобы мы разыскали своих в лесу. А я проболтался ночью об этой бумаге! Думал, перед смертью говорю! — Кто же он, дядя Василь?.. — тревожно спросила Ася. — Вся беда как раз в том, что мы не знаем! Эта падаль ела с нами из одного котелка, а потом наводила на нас крестоносец. И когда с этим ничего не получилось, дрянь эта, опять же в нашей компании, решила пробраться к лесу. В последний момент я ляпнул про бумагу! Оставалось еще много неясностей во всей этой странной истории. Но боцман вдруг застонал, руки его ослабли и соскользнули с плеч Аси и Тимки. Нужно было срочно достать воды или хотя бы вскрыть еще одну банку. Тимка включил фонарик, хотел передать его Асе. Боцман движением бровей остановил обоих. — Это сейчас… Сейчас пройдет… — сказал он чуть слышно. Потом, отдохнув, коротко подытожил их путаную беседу: — Если все так, пацаны, как у нас получается: бумага твоего батьки, Тимофей, попала к фашистам. Но спрашивается: почему этот сукин сын, который трахнул меня по голове, почему он тут же не поднял шум? Не решился? Ждал указаний? Или ему все же надо попасть в лес? Где он сейчас? Где другие ребята?! — А кто железку нашел, дядя Василь? — спросил Тимка. — Не помню. Да это и неважно. Тот, кто действовал среди нас, не такой глупый, чтобы лезть на глаза: вот, мол, я… Теперь слушайте дальше! Я с вами разбирался в этом деле, чтобы вы знали все не хуже меня! — Боцман сморщился, трогая рукой голову. — А выяснилось — вы даже кое-что добавили. Ну, так вот вам приказ… Пока ночь, пока еще не поздно… Сможете пробраться к лесу? — Да… — сказал Тимка. — Мы знаем эти места. — Значит, двигайте! И — немедленно! — Боцман приподнялся на локтях. — Вы должны разыскать в лесу наших и передать им все, о чем говорили только что! Пока тот, кто-то, кого мы еще не знаем, не натворил еще каких-нибудь пакостей! Вы поняли меня?! — яростно спросил боцман, видя, что они ждут, не двигаясь. Тимка невольно отстранился под его взглядом. — Дядя Василь… А как же вы? — спросила Ася. — Обо мне не думать! Приказываю не думать, понятно?! — Лицо дядьки Василя перекосилось от боли, и закончил он тихо: — Моя песенка, кажется, спета… Трогайте, пацаны… И живее… Оставь себе! — приказал он, видя, что Тимка хочет вернуть ему наган. — Уходите! Не поминайте меня лихом, ребятки… Прощайте… — Боцман обмяк, медленно закрывая глаза. Дыхание его стало чуть слышным. А губы нетерпеливо дрогнули: мол, вы еще здесь?! Чего вы медлите?!ДОРОГА К СВОИМ
Решили миновать часового низом, по склону. Но Тимка остановился раньше, чем должен был оказаться над ними часовой. Ася подползла к нему и тоже остановилась. Оба помолчали, не глядя друг на друга. Потом Ася позвала: — Тима… — Что, Ася? — спросил Тимка, словно не догадываясь, о чем она. — Ты иди, Тима… Ты быстрее меня… А я останусь около дяди Василя. Тимка не знал, что ей ответить. Нашел в темноте и сжал ее руку. Она осторожно высвободила ее: — Иди, Тимоша… Не обижайся: дядя Василь тебя тоже так звал… Иди, а я буду тебя ждать… — Ася… — Не умел Тимка говорить слова благодарности. И хвалить не умел: как-то не научился еще за свою жизнь. Выдернул из-за пояса наган и вложил его в раскрытую Асину ладонь: — Возьми! С ним не так страшно. — Тебе будет нужней!.. — запротестовала Ася. — Возьми, возьми, — сказал Тимка. — Если меня поймают — может, лучше безо всего. А вам будет спокойней. Жди меня, Ася, ладно? — Я буду ждать хоть сколько… — ответила Ася. — Пока придешь. — И она решительно повернула назад, к убежищу, чтобы Тимка не видел ее лица, потому что она обещала не плакать. Тимка куснул губы. Куснул, не думая, чтобы вышло, как у отца. Это получилось само собой, когда он провожал глазами Асю. Затянул потуже ремень и, уже не оглядываясь, пополз между кустами прочь от неприветливых Летучих скал, с которыми для него связывалось теперь слишком много утрат. Откос тянулся почти на километр вдоль береговой полосы. Но, отдалясь от часового на каких-нибудь сто, сто пятьдесят метров, Тимка выбрался наверх, огляделся, вслушиваясь в мерное шуршание волн внизу. Где-то уже начал просыпаться ветер, а Тимка должен был сделать много трудных километров до утра. Где пригибаясь, где ползком спустился в низину и зашагал вдоль моря, подальше от крестоносца, от Летучих скал, от холодных гротов на откосе. Решил на всякий случай не идти по следам бежавших краснофлотцев. Он не знал ни того, что произошло там во время тревоги, ни того, что задумали немцы в связи с операцией… Шагал быстро. Но когда пришло и установилось второе дыхание, еще прибавил шагу. Потом свернул вправо, оставив берег у себя за спиной. Лес длинным языком выдавался к морю, и самое короткое расстояние к нему было по прямой от Летучих скал. Тимка решил преодолеть два-четыре липших километра, чтобы войти в лес как бы из деревни, что лежала дальше, влево от него, а не со стороны моря. Эта деревня да еще широкое асфальтовое шоссе, что тянулось параллельно морю, по его расчетам, представляли главную опасность. И Тимка не ошибся, удвоив осторожность на подходе к шоссе. Чуткий слух его уловил гудение автомобильного мотора. Тимка припал к земле и видел, как, скользнув желтым светом по траве вдоль шоссе, в сторону деревни проехал автомобиль. Некоторое время Тимка выждал для верности и хотел подняться, но автомобиль появился опять и проехал в обратном направлении. Сообразив, что это может оказаться какой-нибудь дорожный патруль, которому ничего не стоит мотаться туда — обратно всю ночь, Тимка вскочил, едва машина проехала мимо, и, перебежав шоссе, упал на землю далеко с той стороны, где должно было начинаться хлебное поле. Как раз этим шоссе они ездили с отцом к заливу у Летучих скал, чтобы отдохнуть, половить рыбу… И только упав на землю, чтобы пропустить автомобиль в сторону деревни, Тимка понял, что хлебного поля нет, что запах гари, который он давно улавливал на подходе к шоссе, — это все, что осталось от хлебов. Неожиданное открытие это подстегнуло его: едва автомобиль проехал к деревне, Тимка вскочил на ноги и пошел, пошел мерять горелое поле, не оглядываясь, не останавливаясь, чтобы передохнуть… Когда забрезжила на востоке заря, он пересек жиденькую березовую рощу, что просматривалась из любой точки во всех направлениях, прошагал через поле с множеством воронок от бомб, с неглубокими окопчиками то там, то здесь, перебрался через овраг, на дне которого бежал тоненький ручеек. Припав к нему губами, Тимка долго, с перерывами, чтобы глотнуть воздуха, пил и пил, пока его не замутило от воды. Первый луч солнца застал его уже на опушке леса. Теперь он был вдвойне удовлетворен тем, что Ася не пошла с ним. Ей бы не выдержать этой дороги. Раньше Тимка не понимал поговорки: «Голова гудит как котел». Именно так, наверно, гудела она теперь у него, доводя до отупения. И глаза, которыми он смотрел перед собой, почти ничего не видели. И уши отказывали ему, оглушенные каким-то сумасшедшим звоном со всех сторон… Но Тимка все шел и шел, забираясь как можно глубже в лес. Краешком сознания отметил про себя, что солнце уже взошло… Потом — что уже, наверно, около семи часов утра… Но только в самой гуще леса, где корявые осины смыкались кронами над головой, не пропуская солнечных лучей на устланную прелыми листьями землю, Тимка решил, что теперь ему не угрожает преследование, блаженно улыбнулся и, раскинув руки, упал под кустом боярышника… Упал и мгновенно отключился, будто умер с того самого момента, как позволил расслабиться мускулам, нервам… И ничего не слышал, не видел, не знал, сколько часов прошло, когда в осиннике появился незнакомый человек. Неслышно ступая между деревьями, подошел и остановился над ним.ДЯДЯ ВЕЛОСИПЕД
Проснулся Тимка от сильной тряски. Неизвестный перевернул его на спину и, держа за плечи, встряхивал так, что голова Тимки болталась из стороны в сторону как у неживого. — Эй, парень! Эй! — повторял мужчина. — Заснул или окочурился?! Век не видел, чтобы человек так дрых! Эй! Тимка ошарашенно распахнул глаза и, забыв, что наган оставил Асе, первым делом рванулся к поясу. Незнакомец выпрямился: — Хорошие сны снились? Тимка сел, огляделся. Человек был один. В сапогах, в серой полотняной рубахе, подпоясанной широким командирским ремнем. Из-под засученных до локтей рукавов на тяжелых волосатых руках проглядывала татуировка. Мужчина был в кепке и насмешливо смотрел из-под козырька. Но при всем этом во взгляде его было что-то настороженное, пристальное. — Кто вы? — спросил Тимка. — Дед Пихто, — ответил незнакомец. — Как вас зовут? — Дядя Катя.
— Я серьезно спрашиваю! — рассердился Тимка.
— А я серьезно отвечаю. Не нравится дядя Катя — зови дядя Феня или дядя Велосипед, как понравится! — сказал мужчина.
— Откуда вы?.. — спросил Тимка после паузы.
— Оттуда! — мужчина усмехнулся.
Оба помолчали, выжидающе разглядывая друг друга.
— Если вы, дядя Велосипед, ничего мне не скажете — я ведь вам тоже ничего не скажу, — предупредил Тимка.
— Резонно! — Неизвестный присел на корточки перед ним. — Однако договоримся так: первым вопросы задаю я, а уж потом ты. Хотя бы потому, что не я, а ты пришел ко мне в гости. И еще потому, что я старше.
Тимка помедлил.
— Хорошо. Задавайте.
— Кто ты?
— Меня зовут Тимка.
— Это все?
— Да.
— Когда прибыл сюда?
— Утром. В семь или восемь. — Тимка глянул на солнце вверху: было уже около двенадцати.
— Откуда?.. — спросил дядька Велосипед.
— Этого я вам не скажу.
— Почему?
— Потому что не скажу.
— Так… Из деревни? Деревенский сам?
— Нет, городской.
— Случайно прибыл или по делу?
Тимка долго вглядывался в лицо мужчины.
— По делу…
— По какому? К кому?
— Этого я вам не скажу. Я не знаю, кто вы.
— Резонно, — повторил мужчина. — Ты мне начинаешь нравиться. Но как я могу доказать тебе, кто я? И кого тебе надо?
Тимка опять подумал, глядя на незнакомца.
— Мне надо советских людей… Настоящих, — добавил он.
Велосипед перестал усмехаться. Глаза его стали суровыми.
— Считаю себя настоящим. Но это все, что я могу привести тебе в доказательство. — Он вынул из кармана пистолет «ТТ». — Я здесь, чтобы бороться, а не прохлаждаться, малыш.
— Мне нужен самый главный из вас.
Незнакомец выпрямился над ним, спрятал пистолет в карман.
— Ты уверен, что только главный?
— Да! — сказал Тимка.
— Срочное дело?
— Очень! Я уснул, потому что бежал всю ночь. И утром. А дело очень важное, — повторил он.
— Ну, что ж… — Неизвестный пошевелил желваками на скулах. — Тогда идем. И вот что… — Он положил руку на Тимкино плечо, когда тот поднялся. — Держись точно за мной. Не слишком запоминай дорогу.
Он сделал движение, чтобы тронуться в путь, но снова задержался.
— Между нами… Не зови меня Велосипедом. А то услышат ребята, чего доброго, — так Велосипедом и останусь на всю жизнь.
Тимка невольно засмеялся. И дядька Феня тоже.
— Зови меня попроще. Дядькой Григорием. Лады? Тронулись.
— Дядя Катя.
— Я серьезно спрашиваю! — рассердился Тимка.
— А я серьезно отвечаю. Не нравится дядя Катя — зови дядя Феня или дядя Велосипед, как понравится! — сказал мужчина.
— Откуда вы?.. — спросил Тимка после паузы.
— Оттуда! — мужчина усмехнулся.
Оба помолчали, выжидающе разглядывая друг друга.
— Если вы, дядя Велосипед, ничего мне не скажете — я ведь вам тоже ничего не скажу, — предупредил Тимка.
— Резонно! — Неизвестный присел на корточки перед ним. — Однако договоримся так: первым вопросы задаю я, а уж потом ты. Хотя бы потому, что не я, а ты пришел ко мне в гости. И еще потому, что я старше.
Тимка помедлил.
— Хорошо. Задавайте.
— Кто ты?
— Меня зовут Тимка.
— Это все?
— Да.
— Когда прибыл сюда?
— Утром. В семь или восемь. — Тимка глянул на солнце вверху: было уже около двенадцати.
— Откуда?.. — спросил дядька Велосипед.
— Этого я вам не скажу.
— Почему?
— Потому что не скажу.
— Так… Из деревни? Деревенский сам?
— Нет, городской.
— Случайно прибыл или по делу?
Тимка долго вглядывался в лицо мужчины.
— По делу…
— По какому? К кому?
— Этого я вам не скажу. Я не знаю, кто вы.
— Резонно, — повторил мужчина. — Ты мне начинаешь нравиться. Но как я могу доказать тебе, кто я? И кого тебе надо?
Тимка опять подумал, глядя на незнакомца.
— Мне надо советских людей… Настоящих, — добавил он.
Велосипед перестал усмехаться. Глаза его стали суровыми.
— Считаю себя настоящим. Но это все, что я могу привести тебе в доказательство. — Он вынул из кармана пистолет «ТТ». — Я здесь, чтобы бороться, а не прохлаждаться, малыш.
— Мне нужен самый главный из вас.
Незнакомец выпрямился над ним, спрятал пистолет в карман.
— Ты уверен, что только главный?
— Да! — сказал Тимка.
— Срочное дело?
— Очень! Я уснул, потому что бежал всю ночь. И утром. А дело очень важное, — повторил он.
— Ну, что ж… — Неизвестный пошевелил желваками на скулах. — Тогда идем. И вот что… — Он положил руку на Тимкино плечо, когда тот поднялся. — Держись точно за мной. Не слишком запоминай дорогу.
Он сделал движение, чтобы тронуться в путь, но снова задержался.
— Между нами… Не зови меня Велосипедом. А то услышат ребята, чего доброго, — так Велосипедом и останусь на всю жизнь.
Тимка невольно засмеялся. И дядька Феня тоже.
— Зови меня попроще. Дядькой Григорием. Лады? Тронулись.
БОЛЬШОЙ
Шли около двух часов, пробираясь то напрямик через чашу, то желтыми от лютиков полянами, то глухими, прелыми балками, скользя на многолетних завалах гнилого валежника. Наконец, предупредив Тимку, чтобы ступал след в след, дядька Григорий повел его незримой для постороннего глаза тропинкой, вправо и влево от которой, затянутая зеленой ряской, лежала в зыбких островках камышей трясина. За болотом опять начинался лес, едва ступив под прикрытие которого дядька Григорий и Тимка были остановлены окриком: — Стой! Кто идет? — Выборг! — ответил дядька Григорий. — Проходи, — сказали из гущи тальника впереди. Навстречу вышел боец в гимнастерке, галифе, с винтовкой. — Пусть малый подождет здесь, — сказал ему дядька Григорий. — Я доложу. Боец кивнул, разглядывая Тимку: — Ладно… Дядька Григорий не оглядываясь ушел дальше. Тимка от нечего делать переступил с ноги на ногу. — Сядь здесь, — показал ему красноармеец на пенек в стороне, — чтоб я тебя видел. Тимка не стал перечить, присел. Эта строгость ему нравилась. Боец опять отшагнул к тальнику и, невидимый со стороны, продолжал наблюдать за тропинкой через болото, время от времени поглядывая на Тимку. Ждать пришлось минут десять. Снова появился дядька Григорий и показал Тимке головой: — Идем. Метров через двести опять увидели часового. Это был гражданский, но зато с автоматом. Вышли на небольшую поляну, с правой стороны которой пылал костер и дымилось ведро на перекладине. Несколько человек с оружием — кто сидел, кто лежал возле костра. Дядька Григорий повел Тимку прямо, где под двумя липами была, судя по всему, недавно вырытая землянка и опять стоял часовой. Ничего не сказав ему, дядька Григорий провел Тимку вниз по ступеням. На дощатом столе посреди землянки горела семилинейка. Два топчана — направо и налево от входа — были застланы байковыми одеялами. В углу, прикладами в землю, стояло несколько винтовок и автомат. За столом сидел в накинутой на плечи телогрейке мужчина лет сорока с глубокими, жесткими складками у рта, с проседью в темных волосах. Второй, бородатый, глазастый, со сросшимися у переносицы бровями, стоял у стены, за его спиной. — Вот. Этот самый, — сказал Григорий, адресуясь к сидящему за столом, видимо старшему здесь. — Хорошо, — сказал тот. — Можешь быть свободен. Поешь как следует, отдохни, если вдруг не понадобишься срочно… — Есть! — ответил Григорий и, повернувшись на каблуках, вышел. Тимка остался у входа. Бородатый своими чернющими глазами, казалось, просматривал его насквозь. Тот, что сидел за столом, кивнул Тимке на скамейку: — Проходи, садись. Говори, с чем пожаловал. Тимка сел напротив него, немного помедлил, собираясь с мыслями. Двое молча ждали, что он им скажет. — Кроме вас, в лесу еще есть кто-нибудь?.. — спросил Тимка. — Возможно, — коротко ответил сидящий за столом. — А вы кто? — спросил Тимка. — Григорий точно его обрисовал! — усмехнулся бородатый. Сидящий за столом не улыбнулся. А складки в уголках его губ даже стали как будто жестче. — Меня зовут Большой. Товарищ Большой. Это Николай Николаевич, — показал он через плечо на бородатого. — Если тебе нужен главный — это я. Но можно говорить при нем. Только сначала назовись: кто, откуда — как положено. Тимка кивнул. — Моя фамилия Нефедов. Тимофей. Я сын командира «БО-327» «Штормового». — Двое в землянке насторожились, когда он добавил: — Сейчас я от Летучих скал. Вы чего-нибудь ждете оттуда? Мне нужны люди, которые ждут оттуда сообщений. Николай Николаевич подошел и сел рядом с Большим. Теперь они оба строго уставились на Тимку. Заговорил Большой: — Ты осторожен — это хорошо… Мы не можем тебе сказать наверняка, что ждем вестей именно оттуда. Наша связь с городом оборвалась две недели назад, когда нас отрезали немцы. Четверо связных, посланные в город, не вернулись. Мы оказались отрезанными совершенно неожиданно. И ждем не столько вестей, сколько… — Он помедлил, ища нужное слово. — Короче говоря, мы не можем начать работу, не имея посылки, которую должны были нам передать, не зная даже о ее судьбе… — То, что вы ждете, — у Летучих скал! — неожиданно для себя сказал Тимка, припомнив слова отца, которые тот говорил боцману. Николай Николаевич и товарищ Большой слегка придвинулись к нему, так что огонек лампы заколебался в глазах обоих. — Ты принес радостную весть, малыш! — сказал Николай Николаевич. — Нет… — возразил Тимка, сразу ошеломив обоих. — Я принес вам плохие вести… И он рассказал им обо всем, что произошло за последние двое суток, об отце, о гибели «Штормового», о боцмане Василии, об Асе, о том, что на «БО-327», судя по всему, был предатель… Большой во время его рассказа поднялся и нервно заходил по землянке. Круто остановился возле стола, когда Тимка кончил. — Да, ты пришел по адресу, Тимофей. И принес нам, возможно, страшную весть. — Глянул на бородатого: — По-моему, ошибки быть не может. Так охотиться фашисты могли только за нашим грузом… Тимка невольно съежился, чувствуя себя в чем-то виноватым. Николай Николаевич встал и шагнул к двери. — Позовите Григория! — приказал он часовому наверху. И пока ждали Григория, в землянке царила тревожная тишина. — Товарищ Большой… — войдя в землянку, начал громко докладывать Григорий. Но Большой остановил его, и тот закончил скороговоркой: — Явился по вашему приказанию… — Есть какие-нибудь сообщения с постов? — Так точно. Прибыл посыльный с первого. На посту задержаны пять краснофлотцев. Тимка весь вытянулся от напряжения. Большой метнул на него короткий, выразительный взгляд. — Кто такие? Откуда? Как появились? Знали что-нибудь о нас? — Все пятеро служили на «БО-327» «Штромовом». Двое суток назад «охотник» был потоплен эсминцем, который они условно называют крестоносцем. Команда «охотника» высадилась на берег и приняла бой на берегу, у Летучих скал. Командир охотника Нефедов приказал оставшимся в живых уходить с темнотой на шлюпке. Сам решил прикрывать отход. Были взяты в плен тем же крестоносцем, когда возвращались из города под командой боцмана, ибо город наши уже оставили. Вчера их заперли на ночь в бывшей избе смотрителя, там же, у Летучих скал. Ночью удалось бежать. О нас им рассказал боцман. Он должен был доставить сюда какую-то бумагу. Какую — им неизвестно, потому что боцман подробностей не говорил. Из всех бежавших нет как раз его. Он должен был уходить последним. Все пятеро считают, что это ему удалось. Тревога была поднята немцами значительно позже. Но поиск в лесу пока не дал результатов. — Григорий выжидающе замолчал, взглядывая то на Большого, то на Николая Николаевича, то на Тимку. — Они явились все вместе? — спросил Большой. — Нет. Уходили вчера по одному и, чтобы не шуметь возле скал, договорились найти друг друга в лесу. Двое сегодня случайно встретились, трое других так по одному и были задержаны. — Понятно… — сказал Большой и повернулся так, чтобы Григорий обратил особое внимание на Тимку. — Отдыхать нам, Григорий, наверно, никому не придется сегодня… Отправьте посыльного назад. Пусть передаст, что краснофлотцев можно использовать для внутренних служб на посту. Боцмана во что бы то ни стало разыскать! Об этом юноше, — Большой повел глазами на Тимку, — никому ни слова. Посыльный его не мог видеть? — Никак нет, товарищ Большой. — Иди выполняй. Через двадцать минут зайдешь. — Есть. — Григорий круто повернулся на каблуках и вышел. Большой прошагал по землянке из угла в угол. Раз, потом еще. Остановился. — Как самочувствие, Тимофей? Тимка хотел вскочить. Почему они медлят?! Почему не велели доставить всех пятерых сюда для проверки?! — Товарищ Большой!.. Тот неожиданно засмеялся, удерживая Тимку на скамейке, и впервые лицо его стало добрым, как у школьного учителя. Но, едва оборвав смех, он опять стал самим собой: глаза похолодели, в уголках рта залегли жесткие складки. — Выходит, здесь твой приятель? — Почему вы не велели их арестовать?! Почему?! — не выдержал Тимка. — Их? — переспросил Большой. — Но ведь он, скорее всего, один. — Проверить! — подсказал Тимка. — Не спеши… — ответил Большой и опять заходил по землянке. — Очень странно все это… — проговорил Николай Николаевич. — Не очень… — возразил ему Большой. — Предатель, завладев чертежом, кинулся, конечно, к хозяевам… И что, если предположить… — Он задумался, глядя на лампу. — Если предположить, что посылки нашей у них еще нет пока!.. Почему? — спросил он у самого себя. — Например, план командира «БО-327» оказался неточным… Или неполным! Ведь он делался второпях, под пулями! Наконец, план мог быть рассчитан на человека, хорошо знающего район Летучих скал… — И они направляют своего агента к нам — проконсультироваться, — докончил за него Николай Николаевич. — Они здорово ошиблись при этом… — Он вздохнул. — Не совсем ошиблись. — Большой обернулся к Тимке: — У нас было два человека, которые хорошо знали местность. Но мы их одного за другим посылали в город, оба не вернулись. Вполне возможно, что кто-то из них был на «Штормовом», когда «охотнику» навязали бой… Тимка согласно кивнул, потому что Большой в раздумье долго, внимательно глядел на него. — С собой этого плана агенту, конечно, не дали… — медленно проговорил Большой. — Но то, что сам агент здесь, мы обязаны как-то использовать… Как? — А ты, говоришь, не раз бывал у Летучих скал? — вмешался, обращаясь к Тимке, Николай Николаевич. — Да, — подтвердил Тимка. — Папа любил эти места. — И ты уверен, что немцы решили, будто вы с Асей ушли от скал? — в свою очередь вмешался Большой. — Уверен, — подтвердил Тимка. — Ася слышала, они это говорили… — А она там никаких глупостей не натворит? Тимка резко поднялся: — Товарищ Большой, я ручаюсь за нее, как за самого себя! — Сядь! — успокоил его Большой. — И не обижайся. Мы в тылу врага. Когда ты проверял Григория, мы считали это справедливым. — Я не обижаюсь, — виновато сказал Тимка, опять усаживаясь на свое место. — Просто я хорошо знаю Асю… — А ты мог бы пойти на опасное задание?.. Один! — Взгляды обоих, Большого и Николая Николаевича, скрестились на Тимке. Он снова поднялся: — Приказывайте… Я готов. — Подожди. Я сказал: опасное задание… А надо бы сказать: очень опасное! — поправился Большой, сделав ударение на слове «очень». — Мой папа погиб у Летучих скал… — напомнил Тимка. Большой и Николай Николаевич переглянулись. — Вот что, Тимофей… — проговорил Большой и опять заходил из угла в угол. — Чтобы тебе ясней было положение, в котором мы находимся… — Он помедлил. — Мы неожиданно оказались отрезанными от Центра, без каких-либо возможностей связи… Короче говоря, в посылке, которую хотел доставить нам твой отец, должна быть рация. Но главное, от чего зависят многие судьбы, — посылка твоего отца, или груз, как он его называл, должна содержать адреса настоящих, честных людей, которые остались работать в тылу врага. Тебе понятна ценность этого груза? Тимка кивнул: «Да…» — Есть три выхода из положения. — Большой остановился над Тимкой, лицом к лицу с ним. — Идеальный выход: мы должны иметь этот груз у себя. Если такая возможность исключается — груз необходимо любой ценой уничтожить. Наконец, если и это исключено — мы должны хотя бы знать о судьбе груза… — Он помедлил, шевеля сомкнутыми губами. — Действовать придется самостоятельно: ты будешь ходить по лезвию ножа, одна ошибка — и провал со всеми вытекающими последствиями, по законам войны… — Я готов… — повторил Тимка. Большой кивнул: — Хорошо. Подождем Григория и вместе будем думать, как нам лучше сориентироваться в обстановке. Она такова: груз наш где-то в районе Летучих скал. План, сделанный рукой твоего отца, — наверняка у немцев. В расположении нашей группы пять краснофлотцев со «Штормового», один из которых — враг. Как можно использовать все эти обстоятельства?ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ
Первый пост прикрывал основную базу отряда со стороны моря. Здесь постоянно находилось двенадцать красноармейцев и были отрыты две небольшие землянки. В черном от копоти ведре дымился над костром подернутый пеплом кипяток. Когда появился Большой в сопровождении Николая Николаевича, красноармейцы и задержанные на посту моряки встали. Командир поста, невысокий рябой красноармеец, доложил, что шестеро отсутствующих бойцов разыскивают в лесу пропавшего боцмана. — Почему не все?! — удивился Большой. — Отправьте на поиск остальных! И предупредите, что живой или мертвый — боцман должен быть найден! Ясно?! — Так точно! — ответил рябой красноармеец. — Но у меня… — он замялся, — никого не останется здесь… — Здесь используйте моряков. — Большой показал головой на краснофлотцев. — Мы проверили их показания. Они действительно были взяты в плен со шлюпки. — И он обернулся к удивленным краснофлотцам: — Странно для меня только то, что они как по заказу теряют своих командиров — именно тех, кто нам больше всего нужен!Сначала потеряли командира корабля, потом боцмана! Не так? Краснофлотцы понурились. — Товарищ Большой! — не выдержал усатый Корякин. — Сначала мы выполняли приказ командира, а потом — приказ боцмана… — Слышал! — не глядя ни на кого, ответил Большой. И, делая шаг в сторону землянки, раздраженно повторил: — Все слышал… Рябой командир поста, чтобы не докучать начальству, шепотом отдавал приказания красноармейцам, когда из лесу на территорию поста вышел Григорий, ведя перед собой Тимку. При этом он крепко держал его за отведенную за спину руку. Глаза Тимки были красными, лицо — мокрым от слез. Увидев краснофлотцев на поляне, он рванулся. — Га-ады! — закричал он сквозь слезы. — Предатели! Григорий дернул его за руку. Прикрикнул: — Хватит! Псих несчастный! Они действовали по плану. И заплакал Тимка — тоже по плану. — Не крутите ему руки, Григорий! — потребовал Большой. — Отпустите его! Я же предупреждал: обращаться осторожней! — Не получается осторожно, товарищ командир… — оправдался Григорий, в то время как изумленные краснофлотцы, не веря своим глазам, наблюдали за происходящей сценой. Едва разведчик отпустил Тимкину руку — тот прыжком отскочил в сторону от него и бросился бежать в лес. Краснофлотцы растерялись, а Григорий, чертыхнувшись, рванул следом за Тимкой. Через две — три минуты после непродолжительной возни, вскриков, ругани Григорий опять выволок Тимку на поляну. Из носа его сочилась кровь, нижняя губа припухла. — Я же запрещал бить его! — прикрикнул на Григория Большой. — Не бил я его! — огрызнулся Григорий. — Сам в ольху врезался! А у меня вот! — Он показал укушенное запястье. Тимка рвался и аж стонал от бессилия. — Ты посмотри на краснофлотцев! Кого ты считаешь врагами: их, его, нас?! — негодующе спросил Большой, показывая ему то на краснофлотцев, то на Григория, то на себя и Николая Николаевича. — Все вы предатели и убийцы! — выкрикнул ему Тимка. — Тимоша… — позвал горбоносый азербайджанец. — Предатели! — яростно повторил Тимка. — Трусы! Николай Николаевич показал Григорию на землянку. — Давайте его сюда… — Григорий стащил Тимку вниз по жердяным ступеням. Большой и Николай Николаевич молча вошли следом. А краснофлотцы и рябой командир постатаки стояли, недоумевающе приоткрыв рты, пока к ним не присоединился Григорий. — Ну, звереныш… — мрачно проговорил он, затирая носовым платком укус на руке. — Что с ним такое, корешок?.. — осторожно поинтересовался Нехода. Григорий тихонько выругался сквозь зубы. — Йод у вас есть? — спросил он рябого командира поста. Тот нырнул во вторую землянку. — Что с ним? — переспросил Григорий, смазав йодом запястье. — А ты спроси его — что? С утра вот такая петрушка. Чуть старшого нынче не хлопнул… — Григорий вздохнул, показывая у виска. — Не выдержало у парня… Дайте закурить кто-нибудь. У краснофлотцев табака не было. Пустили по кругу кисет командира поста. Григорий присел на пенек в стороне от пышущего жаром огня. — Слишком много перепало вчера на долю парня… — объяснил он. — Вы вчера на крестоносце говорили ему — патронов нет. А он потом хапнул боцманский наган — там четыре заряда. Решил, что и винтовки вы побросали вчера с патронами… — А ты б ему объяснил, — вмешался левый баковый Шавырин, чья щетина подросла за сутки и сразу прибавила ему несколько лет, — что не мог боцман рисковать — нельзя ему было! — Иди попробуй объясни. — Григорий показал через плечо на землянку, откуда слышались Тимкины выкрики. — Сами думали, вас увидит — очухается. А он еще хуже. Считает, отца его все угробили. — Чокнутый — не иначе! — выругался загорелый до черноты Леваев. — Ну, пусть мы, а к вам-то он что? — удивился Корякин, грустно поглаживая усы. — То-то и оно, что к нам у него еще больше, чем к вам… — мрачно вздохнул Григорий и надолго замолчал, пыхая самокруткой. Все выжидающе курили, поглядывая на него. — Вы вчера на эсминец, — рассказал Григорий, — а он со штурманской дочкой поднял кливер — и дуй не стой на место вашего боя, к Летучим скалам. Район этот малый вдоль и поперек знает — рыбачить с отцом ездили. Ну и ну… — Григорий опять вздохнул. — Нашли они там сожженные трупы в яме… Представляете самочувствие? — Он оглядел краснофлотцев. — Н-да… — проговорил Сабир. — Закидали они яму булыжником, а у малого, видно, какое-то колесико уже соскочило. Подружку свою отправил в город, а сам — боцманский наган за пояс и к нам. Батька его, видать, неосторожный был… Рассказал перед рейсом, какая задача у него… Вот малый и взбеленился. Вы, говорит, сами в лесу отсиживаетесь, а отца предали?! Глазом никто не успел моргнуть, как он пушку из-за пояса — хап, и не шарахни я его по руке — влепил бы старшому как пить дать! — Отчаянный малый! — похвалил чернокожий Леваев. — Да, тут уж ничего не скажешь… — согласился Григорий. — Когда нас подгребли, — вспомнил Сабир, — фашист кричит: флаг убери, а он хоть бы глазом моргнул! И под выстрелами держался что надо… Отца его вы зря, отец у него правильный. — Может, и правильный, да нам-то от этого не легче. Теперь валандайся вот с мальчишкой. — Уши б нарвали да отпустили! — подсказал Нехода. Григорий посмотрел на него осуждающе: — Уже воевал ты вроде, а воевать не научился… Где наш груз? Боцмана вы прохлопали? Если боцмана не отыщем, только этот малый может помочь нам, а он и слушать ничего не хочет… Придавив каблуком недокуренную самокрутку, Григорий поднялся навстречу вышедшему из дальней землянки Большому. — Григорий, — окликнул тот, — останешься здесь. Пусть мальчонка отдохнет — может, образумится. Организуйте дежурство: одного его не оставляйте. Я с командиром поста пойду по секретам. Появится боцман со «Штормового» — немедленно ко мне! Пацана тогда отпустишь, — добавил он вполголоса, кивнув на землянку. А потом громко сказал в сторону двери: — По законам войны, Тимофей, я бы должен судить тебя за отказ помочь Родине! Я не хочу этого делать, ты подумай. — Мне нечего думать! — крикнул из-за двери Тимка. — Я не боюсь вас! Отца вы убили, теперь давайте меня! — Будьте с ним поласковей, — велел Большой краснофлотцам. — Не выдержали нервы у парня, я думаю — пройдет… И глаз с него не спускайте! Мальчишка нам очень нужен.ЕДИНОМЫШЛЕННИК
С Григорием Тимка не разговаривал. Забился в угол самодельного топчана и смотрел с ненавистью. А разведчик пытался его урезонить: — Взрослый парень, но смотрю я на тебя — мальчишка! Ты хотел командиру пулю всадить — он на тебя не злится. Меня всего вымотал, даже укусил вот, как барбос какой, — я тебе прощаю. А ты выдумал себе какую-то чепуху и глядишь зверем! Ребята вот за твоего отца умирать шли! А ты… Тимка молчал, упрямо кусая губы. Вконец расстроенные краснофлотцы тоже пытались как-то повлиять на него. Тимка угрюмо отмалчивался в ответ, потом лег, демонстративно отвернувшись к стене. И, утомленный переживаниями, скоро заснул. Григорий и краснофлотцы допоздна сидели возле него, шепотом переговариваясь о том о сем. Зажгли керосиновую лампу, и она уютно мерцала под потолком, бросая на них зыбкие черные тени. Наконец, когда вернулся с обхода секретов рябой командир поста, Григорий поднялся. — Спать нам тут малый не даст ночью. Я посижу с ним часов до двенадцати. А с двенадцати, — велел он рябому красноармейцу, — разбросьте на остальных до утра. — С двенадцати до часу Корякин, — сразу распорядился командир поста, — с часу до двух Сабир, потом Шавырин, Нехода, Леваев. Краснофлотцы ушли вместе с ним в другую землянку, а Григорий, устало опустив голову, просидел без движения до двенадцати часов ночи, глядя на спящего Тимку. Без пяти двенадцать подошел и тронул его за плечо. Тимка сразу вскинулся на топчане, сел. За дверью послышались шаги сменщика. Разглаживая перепутанные усы, Корякин глянул из-под бровей на Тимку, на Григория. Кивнул разведчику. — Все в порядке, я посижу… Григорий ушел. Корякин сел на его место и хмуро крякнул, разглядывая Тимку. Когда за разведчиком закрылась дверь противоположной землянки, Тимка заерзал на топчане. — Отпустите меня… — негромко попросил он. — Как же я тебя отпущу, если мне приказано не отпускать? — удивился Корякин. — Я человек военный. Тимка помедлил, исподлобья наблюдая за своим охранником. — Отпустите… — Гляжу я на тебя и не понимаю, — сказал Корякин. — Смелый парень, сын командира — и учудил такое. — А вы предали отца, вы сбежали, потом говорите — он приказал! — взъярился Тимка. — Настоящие бойцы в лесу не отсиживаются! — Ерунду говоришь, Тимофей… Оплошали мы, конечно, что попались так, не моя вина это… А если наша, то — общая… — Отпустите… — Тимка куснул губы. — Не могу, — ответил Корякин. И опять хмуро крякнул. — Меня охраняете, а фашистов боитесь! — выкрикнул ему Тимка. Корякин не ответил. — Отпустите… — снова повторил Тимка. — Нет, Тимофей, нет… — покачал головой Корякин. — Чего не могу — того не могу. Я приказы выполняю, как положено по уставу. Примерно в таком духе они говорили весь час. К приходу Сабира Тимку душили злые слезы, и на азербайджанца он глядел загнанным волком, хотя тот сам пытался наладить беседу. — Чего же ты, — говорил Сабир, почти повторяя Корякина, — подружку свою где-то бросил… Отца — такого отца! — позоришь? Боевого командира, моряка?.. — Отпустите меня… — процедил Тимка. — Не буду я с вами! — Да ты будь, как знаешь! — обозлился горбоносый Сабир. — Ты мне про отца отвечай: зачем позоришь отца?! — Это вы себя позорите, а не я! — в тон ему ответил Тимка. — Я знаю, зачем отец шел к Летучим скалам, кто его туда заманил — знаю! И вы его погубили там! — Ну, прямо дурной малый! — всплеснул руками азербайджанец. — Дурной и бестолковый прямо! — Отпустите меня, — повторил Тимка. — Все равно убегу. Сабир поднялся и закрыл дверь на крюк. — Не убежишь. У меня не убежишь! Командир говорит: будь ласковый… А какой тут будь ласковый, когда надо ремня всыпать!.. — Отпустите… — монотонно повторил Тимка. К двум часам ночи измотался он сам, но измотался и нервный азербайджанец, бегая по землянке так, что колебалась лампа под потолком. Негодовал он то по-русски, то по-азербайджански, так что Тимка не всегда понимал его. — Сиди, дежурь! — крикнул Сабир вошедшему сменить его Шавырину. — Тут бешеный станешь от такого человека! — И он пулей выскочил наружу. Шавырин усмехнулся, занимая его место на ящике из-под снарядов. — Бунтуешь мало-помалу? — Карие глаза левого бакового смотрели весело, на небритых щеках играли улыбчивые ямочки. — Отпустите меня… — как заведенный повторил Тимка. — Чудак человек, куда ты пойдешь? Радуйся, что к своим попал! — Отца погубили — это свои?! — взорвался Тимка. — По-твоему я погубил его? Тимка подумал. — Вы, может, и нет… Вы тогда один схватились за винтовку, а остальные — предатели! — Зря горячишься… — покачал головой Шавырин. — От тебя и требуется всего: сказать, что от тебя просят. Давно бы отпустили. — Ничего я вам не скажу! — выкрикнул Тимка. — Ну вот, опять горячишься… Не хочешь — обойдутся без тебя… — Без меня вы не обойдетесь! — зло поддел Тимка. — Один я могу все, что вам надо! Но хоть режьте меня — ничего не сделаю! — Резать тебя не собираются… Да и ничего ты, видно, не знаешь! — А вы не выпытывайте! — ответил Тимка. — Никто тебя не выпытывает… Помолчали. — Отпустите меня… — передохнув, опять начал Тимка. — Ну, выпушу я тебя — куда побежишь? — усмехнулся Шавырин. — Найду куда… — буркнул Тимка. — К немцам? — Что я — дурак? — Куда ж тебе тогда бежать? — засмеялся Шавырин. — Отпустите… — повторил Тимка. — Ну, скажи вот ты мне: куда побежишь, если я тебя отпущу?.. А может, и отпущу, если дело стоит того! Тимка недоверчиво помедлил, разглядывая его. — Отпустите… — Заладил одно и то же! — Я уеду! Совсем уеду от вас! Отпустите? Я за границу уеду! — Куда-куда? — по-настоящему удивился Шавырин. — На остров Пасхи уеду! Подальше от вас! — не выдержал Тимка. — Это где же такой? — В Тихом океане! Вы там не плавали! — Так… — Шавырин оглянулся на дверь. — Тебя я, допустим, отпущу, а сам — вместо тебя к стенке? Тимка не нашел что ответить на этот резонный вопрос. Повторил: — Отпустите… — Ну, а со мной-то что, как ты решишь? — А если вы не заодно с ними — уходите тоже! — объявил Тимка. Улыбка промелькнула и тут же погасла на губах Шавырина. — Вместе с тобой на остров Пасхи? — Если захотите! Шавырин встал, подошел к нему, вгляделся в лицо. Черты его заострились и уже не казались улыбчивыми. — Ты знаешь, на какое преступление меня толкаешь? — Если боитесь — не уходите! Сидите вот так, сторожите меня, пока вас самого не угробили! Шавырин отошел к двери. — Подожди! Не кричи ты!.. — Он выглянул за дверь, прислушался, а Тимка уже встал и пристроился рядышком, за его спиной. — Здесь все кругом — предатель на предателе! — шепотом сказал ему левый баковый. — И отцу твоему, я знаю, в спину пулю всадили! Ты понял? — Га-ды! — Тимка судорожно куснул губы. — Пасха там твоя или рождество — придумаем что-нибудь, а уходить нам надо! — тревожным шепотом сказал Шавырин. — Малый ты правильный. А этот, бородатый, так и приглядывается ко всем! Не заметил? В общем — ходу! Держаться будешь за мной. Чтобы — ни шороха! — Он приложил палец к губам и стал осторожно подниматься по жердяным ступеням на поверхность. Тимка двинулся с теми же предосторожностями следом.БЕГСТВО
Если бы не тянул над головой ветер, поляна и лес вокруг казались бы вымершими. К ночи небо заволокло бегучими облаками. И серпик луны продирался в них, как пловец в штормовом море: то исчезал, то ненадолго опять выскакивал на поверхность. Шавырин двигался впереди, придерживая Тимку за руку, чтобы не очень торопился и не мешкал. Бесшумно пересекли поляну. В их распоряжении до смены оставалось не менее сорока минут, когда в подземный Тимкин каземат явится дежурить Нехода. Этого времени было вполне достаточно, чтобы уйти от землянки на безопасное расстояние. Но Тимке казалось, что Шавырин идет слишком медленно. И сначала он дергал его за руку, поторапливая без слов, потом не выдержал: — Идемте быстрей! — Ты что — хочешь нарваться на пулю?! — прикрикнул на него Шавырин, стискивая Тимкину руку. Но шагу все-таки прибавил. Первые десять — пятнадцать минут он шел, оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в каждый шорох, потом удостоверился, что главная опасность позади, и зашагал спокойней, уверенней. — Вам надо переодеться, дядя Шавырин! — Тимка подергал его за краснофлотскую фланелевку. — Тихо ты! Нашел о чем беспокоиться… — Так ведь попадемся! — Ну, где я переоденусь?! — разозлился Шавырин. — В магазин зайдем? Где тут магазин? Да у нас и денег нет… Украсть разве? Помолчали несколько минут. — А куда мы, дядя Шавырин? — шепотом спросил Тимка. — Здоров! То сам тянул меня на какие-то острова, а то спрашивает — куда? — Так ведь сразу туда не попадешь! — объяснил Тимка. — Значит, надо попасть хотя бы в город! — ответил Шавырин. — Ты не вертись и помолчи, ради бога! А то влипну с тобой, как этот… Тимка помолчал. — А папу вы видели, как убили? Шавырин дернул его за руку. Тимка обиделся и больше ни о чем не спрашивал. На выходе из леса остановились. Выждали, чтобы удостовериться, что на опушке и впереди никого нет. Близился, а может, уже настал час пересмены в землянке. Когда лунный серп надолго зарылся в облака, быстрым шагом двинулись через поле. Тимка почти бежал рядом с Шавыриным, представляя, что сейчас творится в землянках, на первом посту, если Нехода пришел и обнаружил его исчезновение. Двигались перпендикулярно шоссе. И почти выбрались на него, когда из-за поворота вылетел автомобиль. Ударили в лицо яркие фары. Беглецы разом упали в траву. Но тут же коротко взревел автомобильный мотор, и машина остановилась где-то рядом.ПЛЕН
— Ауфштэйн! — скомандовали над самыми их головами. Яркий свет фар слепил обоих, когда они поднимались. Привстав на колено, Тимка неожиданно бросился в сторону от машины. Но за одну руку его держал Шавырин, за другую — больно ухватил немец. — Убьют! — прикрикнул на него Шавырин. Один из гитлеровцев ткнул Шавырина в бок автоматом: «Хенде хох!» — Дяденьки! Отпустите меня, дяденьки! — заканючил Тимка. Что сказал немец — Тимка не понял. Но тот при этом встряхнул его за плечо так, что Тимка прикусил язык, сплюнул и замолчал. — Мы с мальцом по своим делам… Мы не военные… — бормотал Шавырин, подняв над головой руки. Немец пощупал его под мышками, хлопнул по груди, проверяя, нет ли чего за пазухой, тронул карманы брюк и подтолкнул прикладом к машине. Тимку втолкнули на заднее сиденье, рядом с ним, так что по бокам у них оказались два солдата. А с переднего сиденья, что было рядом с шоферским, уставился на обоих еще один автомат. — Я не военный, камрады… — несколько раз еще прогнусавил Шавырин. — Дяденьки… — опять начал Тимка. — Замолчать! — судя по тону, прикрикнул на обоих автоматчик. Машина круто развернулась на обочине шоссе и понеслась в деревню. — Вот ведь как бывает… — грустно сказал Шавырин. Тимка всхлипнул. На них опять прикрикнули, и вплоть до деревни больше никто не проронил ни слова.
Замелькали в свете фар поваленные изгороди, черные пальцы труб над пепелищами сожженных изб, темные, будто неживые окошки уцелевших домов.
У здания бывшей деревенской школы машина остановилась. Автоматчик что-то сказал остальным и вышел, оставив пленников между конвоирами дожидаться решения своей судьбы.
Все гитлеровцы — может, из-за формы, из-за манеры нахально держать себя, из-за надвинутых на глаза касок — казались Тимке похожими друг на друга. На всякий случай поскулил еще немного:
— Дяденьки… Отпустите меня…
Но Шавырин подтолкнул его в бок локтем, что могло означать лишь: «Молчи! Не зли их!» И Тимка замолчал.
Автоматчик отсутствовал всего несколько минут. И вернулся не один, а с кем-то — видимо, старше себя по чину. Тот заглянул в машину, посветил на Тимку и Шавырина фонариком, что-то приказал, махнув рукой вдоль шоссе. Автоматчик опять влез на свое место, шофер дал газ, и в молчании понеслись на большой скорости, почти не притормаживая на поворотах, в сторону темного города, — по дороге, которой не один и не два, а много раз Тимка проезжал вместе с отцом.
Фары теперь не включали. И желтый свет подфарников освещал лишь небольшой пятачок в непосредственной близости от машины.
Тимка скорее чувствовал, нежели видел, как проехали сады, что находились в двадцати километрах от города. Потом начало заметно светлеть. И первые городские окраины уже без труда можно было видеть через ветровое стекло.
Проехали ипподром, стадион…
Город уже не горел. Но пепелища тянулись иногда чуть ли не по всей длине улиц. Тимка невольно съежился, подумав, что нет у него теперь в этом городе ни матери, ни отца… И чувство одиночества удесятерилось, когда он подумал, что Аси здесь тоже нет…
Ася ждала его у Летучих скал с тремя банками консервов на двоих, без капли пресной воды под рукой… А у него впереди была неизвестность.
И, когда остановились у здания тюрьмы, Тимку охватила апатия.
Он больше не просил отпустить его. Насупившись, мрачно молчал, всем своим видом подчеркивая, что если захочет — из него нельзя будет выдавить ни слова. «Выходи!» — жестом скомандовал один из автоматчиков.
Вышли. Первым Шавырин, за ним — Тимка.
Так, друг за другом, прошли под охраной автоматчиков через ворота, потом по крутой лестнице на второй этаж, потом по узкому коридору без окон….. Тюрьма была, пожалуй, единственным местом в городе, где Тимка ни разу не бывал до войны.
Перед железной дверью с круглым смотровым окошком их остановили.
Немец без оружия, надзиратель или кто там еще, громадным ключом открыл замок и втолкнул за дверь сначала Тимку, потом Шавырина.
Свет в камеру проникал через высокое окошко под потолком. Справа и слева были привинчены к полу две железные кровати без матрасов. Никакой другой мебели в камере не было…
Тимка всхлипнул. На них опять прикрикнули, и вплоть до деревни больше никто не проронил ни слова.
Замелькали в свете фар поваленные изгороди, черные пальцы труб над пепелищами сожженных изб, темные, будто неживые окошки уцелевших домов.
У здания бывшей деревенской школы машина остановилась. Автоматчик что-то сказал остальным и вышел, оставив пленников между конвоирами дожидаться решения своей судьбы.
Все гитлеровцы — может, из-за формы, из-за манеры нахально держать себя, из-за надвинутых на глаза касок — казались Тимке похожими друг на друга. На всякий случай поскулил еще немного:
— Дяденьки… Отпустите меня…
Но Шавырин подтолкнул его в бок локтем, что могло означать лишь: «Молчи! Не зли их!» И Тимка замолчал.
Автоматчик отсутствовал всего несколько минут. И вернулся не один, а с кем-то — видимо, старше себя по чину. Тот заглянул в машину, посветил на Тимку и Шавырина фонариком, что-то приказал, махнув рукой вдоль шоссе. Автоматчик опять влез на свое место, шофер дал газ, и в молчании понеслись на большой скорости, почти не притормаживая на поворотах, в сторону темного города, — по дороге, которой не один и не два, а много раз Тимка проезжал вместе с отцом.
Фары теперь не включали. И желтый свет подфарников освещал лишь небольшой пятачок в непосредственной близости от машины.
Тимка скорее чувствовал, нежели видел, как проехали сады, что находились в двадцати километрах от города. Потом начало заметно светлеть. И первые городские окраины уже без труда можно было видеть через ветровое стекло.
Проехали ипподром, стадион…
Город уже не горел. Но пепелища тянулись иногда чуть ли не по всей длине улиц. Тимка невольно съежился, подумав, что нет у него теперь в этом городе ни матери, ни отца… И чувство одиночества удесятерилось, когда он подумал, что Аси здесь тоже нет…
Ася ждала его у Летучих скал с тремя банками консервов на двоих, без капли пресной воды под рукой… А у него впереди была неизвестность.
И, когда остановились у здания тюрьмы, Тимку охватила апатия.
Он больше не просил отпустить его. Насупившись, мрачно молчал, всем своим видом подчеркивая, что если захочет — из него нельзя будет выдавить ни слова. «Выходи!» — жестом скомандовал один из автоматчиков.
Вышли. Первым Шавырин, за ним — Тимка.
Так, друг за другом, прошли под охраной автоматчиков через ворота, потом по крутой лестнице на второй этаж, потом по узкому коридору без окон….. Тюрьма была, пожалуй, единственным местом в городе, где Тимка ни разу не бывал до войны.
Перед железной дверью с круглым смотровым окошком их остановили.
Немец без оружия, надзиратель или кто там еще, громадным ключом открыл замок и втолкнул за дверь сначала Тимку, потом Шавырина.
Свет в камеру проникал через высокое окошко под потолком. Справа и слева были привинчены к полу две железные кровати без матрасов. Никакой другой мебели в камере не было…
УЗНИКИ
Дверь недолго оставалась закрытой. Но минут десять они пробыли в камере наедине. Тимка попытался дотянуться до решетки. Это ему не удалось. Шавырин лег на одну из железных коек и мрачно напомнил: — Второй этаж… Тимка зло поглядел на дверь и, отойдя от стены, под потолком которой светилось наружное окошко, сел напротив Шавырина. — Все равно убегу! — Отсюда не убегают… — вздохнул Шавырин. Тимка обозлился: — Говорил вам: надо переодеть форму! — А где бы я взял одежду? — в тон ему ответил Шавырин. — Лучше бы совсем без одежды… — проворчал Тимка, понимая, что довод Шавырина справедлив. — Или отсидеться в лесу! А теперь — хуже землянки! — Да ты не спеши. Везде есть люди… — «Люди»! — хмыкнул Тимка. — За папой моим не они охотились?! — Война есть война… — возразил Шавырин. — Они ж не из-за спины, как те? — Для меня теперь все одинаковы! — яростно отрубил Тимка, считая разговор на эту тему оконченным. — Но ты не зли их на допросе… — попросил Шавырин. — Мало ли… — Бить будут — перекусаю всех гадов! — пообещал Тимка. — Ну, зачем бить… Себе только хуже сделаешь… Ты и в лесу бы раньше сбежал — не начни скандалить… — Если хоть раз тронут, — пообещал Тимка, — язык проглочу, а говорить не буду! Я упрямый. — Это я знаю, — кивнул Шавырин. — А вы что — пыток боитесь? — вдруг спросил Тимка. — Это ты брось! — негодующе ответил Шавырин. — Одно дело тебе, мальцу, другое дело мне, краснофлотцу! Договорить они не успели. Загремел замок, дверь открылась, и надзиратель что-то коротко приказал, ткнув пальцем в Шавырина, потом прямо перед собой, вдоль коридора. Этот был не в каске и толстый, а все же чем-то очень походил на остальных гитлеровцев. Глянув на Тимку, Шавырин медленно побрел к двери. Тимка пристроился было следом, но жирный надзиратель затолкнул его назад, в камеру, и опять закрыл дверь. Тимка побарабанил в нее кулаками. Надзиратель прикрикнул из-за волчка. Тогда Тимка попытался опять добраться до решетки… Потом сел на койку и угрюмо ждал в одиночестве около часа. Он поднялся навстречу Шавырину, когда тот вошел и остановился перед ним, спиной к двери. Хорошо, что Тимка выспался накануне и голова его работала, как никогда, четко: ему нельзя было ошибаться. И, проверив свои предыдущие действия, пока сидел один, он не нашел в них ошибок. — Пытали?! — спросил Шавырина. Тот удивленно пожал плечами: — Сговорились они все, что ли?! — Он опять сел на койку, хмыкнул, и на щеках его появились улыбчивые ямочки. — Как в сказке! — Что такое? — нетерпеливо спросил Тимка, усаживаясь рядом. — Да опять эти проклятые скалы! — воскликнул Шавырин. — Летучие?! — изумился Тимка. — Ну! С ума они посходили, что ли?! — Они, может, посходили… А папа был при чем? — строго возразил Тимка. — Вот потому и отец твой погиб, что его зажали: отсюда эти, оттуда другие! Ничего не понимаю. Шавырин рассказал по порядку, как его привели в кабинет, как там оказался немец, который говорит по-русски, предложил сесть, дал сигарету… Ну, сначала: кто, откуда? Не поверил, что убежал от своих, что надоела война… — А мне не надоела! — вмешался в его рассказ Тимка. — Если бы у меня были силы, я бы всех перестрелял! — Ну вот… — обиделся Шавырин. — Это все ребячество твое… Лично мне сейчас, где бы поспокойней, потише… Ты гляди не рыпайся там! Тебе, может, и ничего, как мальцу, а меня в два счета спишут! — Ну, ладно… Что там еще они? — примирительно спросил Тимка. В конце концов немец поверил Шавырину и даже обещал отпустить при одном условии: что он покажет какой-то склад, или тайник, или что-то похожее — ну, в общем, что-то у Летучих скал. — Может, боцман им рассказал? — спросил Тимку Шавырин. — Ведь в лес он не явился… — Вчера не явился, а сегодня мог явиться, — возразил Тимка. — А может, и рассказал… Наган с патронами он тогда бросил. — Тимка взвинтился: — Если бы отец знал все это, сам бы перестрелял всех! — Ладно, ладно… — успокоил его Шавырин. — Так вот ведь я ничего не знаю об этих скалах! — А я знаю, что ли?! — огрызнулся Тимка. — Как… не знаешь?.. — Шавырин даже в лице переменился при этом. — Я район знаю! На десять километров кругом! — выкрикнул Тимка. — Все там облазил. А что им надо, откуда я… Это вчера меня из-за того и не расстреляли, что я проболтался: район знаю… Мы там с папой раз двадцать по целым суткам жили!.. — Голос Тимки сорвался. — А в землянках никого нет, кто места знает… Шавырин утер ладонью пот со лба и висков. — Ну, может, им как раз это и надо… А то прямо ты напугал меня… Ведь нам хана, если… — И пусть хана! — яростно ответил Тимка. — Мне теперь все равно. — Он пересел на другую койку и уставился в небо за решеткой. Над городом плыли серые облака. Недолгую тишину прервал звук открываемой двери.ДОПРОС
Его провели по каменному коридору, потом, через лестничную площадку, — в другой коридор, где стены были выкрашены, потолок белый, а полукруглые окна — как в любом другом учреждении, если не замечать, что и здесь на них были крепкие железные решетки. У большой двустворчатой двери надзиратель остановился и пропустил Тимку первым. В просторном кабинете стояли полупустые книжные шкафы вдоль стен, сейф в углу. От двери к черному письменному столу вела ковровая дорожка. А за столом в мягком кожаном кресле сидел офицер в черной форме, про которого говорил Шавырин. В ярко начищенных сапогах и с гладко прилизанными — не то серыми, не то седыми — волосами он казался молодым, хотя было ему наверняка за сорок. На столе тульей вниз лежала рядом с кожаными перчатками его фуражка. Офицер поднялся и что-то сказал надзирателю. Тот вышел. А Тимка сразу метнул взгляд на зарешеченные окна. — О! Мальчик опять хочет бежать! — заспешил к нему офицер. — Но здесь тюрьма! — Он взял Тимку под руку. — Здесь решетки, как в камере! Тимка выдернул у него руку, слегка отстранился. — Тебе странно, откуда я знаю про камеру? — весело рассмеялся офицер. — Там есть окошечко в двери! И те, кому положено, наблюдают! Тимка промолчал, переступив с ноги на ногу. — Будем вести мирную беседу или будем ссориться? — Офицер улыбнулся. Тимка подумал и буркнул, косясь на него исподлобья: — А я не знаю, какую беседу… — Это мы сейчас выясним между собой! — Офицер прошел за стол и указал ему на мягкое кресло. — Садись! Может, мы еще окажемся друзьями! Тимка медленно, спокойно подошел к столу и, прежде чем сесть, предупредил: — Друзьями мы не окажемся… Офицер опять засмеялся. И все время потом он то делался очень серьезным, то громко, весело хохотал вдруг. Оба сели. — Пусть не окажемся друзьями, но и враждовать нам с тобой не из-за чего! Тимка долго смотрел на него, но не ответил. — Давай будем говорить по порядку. — Офицер сделался серьезным. — Твой взрослый напарник рассказал, как вы с ним познакомились на шлюпке, как встретились опять в лесу, у этих… ну, бандитов. Решили вместе бежать от службы, от всего… Он что-нибудь наврал мне? — Откуда я знаю? — ответил Тимка. — Если наврал, значит, и мне наврал. Я ведь предавать его не буду. Офицер засмеялся: — Ты молодец! Давай не будем говорить о нем, будем говорить о тебе. Твой папа был командиром «охотника» и погиб, да? Тимка задержал дыхание и не мигая уставился на него так, что пришлось утереть ладонью защипавшие от слез глаза. — Ну, не волнуйся, не волнуйся! — успокоил его офицер. — Если разбираться в подробностях войны, виноваты бывают не всегда те, кто кажется… Командир «БО-327» был храбрым офицером — это тебе говорю я, свидетель его действий. Я был на эсминце, который у вас называют крестоносцем, когда он вступил в бой с «охотником». Твой папа — настоящий моряк. И его похоронили бы, как принято у нас хоронить отважных воинов, — с почестями. То, что ты видел у Летучих скал, по рассказам твоего старшего товарища, сделали бандиты из леса, а не немцы… Судорожно куснув губы, Тимка ответил сквозь слезы: — А я давно догадался! — Догадался?! Ну откуда ты мог догадаться… — засомневался офицер. — А от папы! — яростно ответил Тимка. — Когда папа уходил последний раз!.. Он сказал!.. — задыхаясь, отрывистыми фразами поведал Тимка. — Сказал: пойдет к Летучим! Что там будут из леса! Если не вернусь, сказал… значит, подвели меня! Его подвели, понятно?! Обойдя вокруг стола, офицер осторожно погладил Тимку по голове: — Успокойся. Его погубили твои враги. — А вы мне тоже не друзья! — выкрикнул Тимка, отодвигая от себя его руку. Офицер отошел на свое место. — Я и не говорю, что друзья. Ты очень нервный мальчик… Но мы умеем уважать храбрость в противнике. Мы были честными противниками с твоим папой и, если бы пришлось, встретились бы честно, как положено солдатам… Выпей! — Он протянул Тимке стакан воды. — Успокойся… Тимка отхлебнул воды. Всхлипнул, задержав дыхание. Потом успокоился, глядя на офицера. — Давай говорить по-деловому… — начал тот. — Другом ты меня признать не хочешь, враждовать нам не из-за чего. Попробуем извлечь из нашего знакомства какую-то выгоду для тебя и для меня… Твой старший товарищ сказал, что ты хочешь уехать на остров Пасхи… — А я ему не разрешал говорить за меня! — вспылил Тимка. — Но ведь он сказал правду, что здесь такого? — Ничего такого! — ответил Тимка. — Я не хочу, чтобы все знали, куда я, что… — Почему? — удивился офицер. — Потому… — сказал Тимка. И помедлил, торопливо раздумывая. — Я вырасту, узнаю, кто погубил папу, и всем отомщу потом! Эта его версия, кажется, понравилась офицеру. — Хорошо! — воскликнул он. — Но почему обязательно Пасхи? — А чтобы далеко! — сказал Тимка. — Есть острова дальше… Вся Антарктида, например! — Там холодно! — отрезал Тимка. — И мне надо, где одни негры! Чтобы меня не знал никто. — Хорошо… — Офицер кашлянул, сгоняя усмешку. — Если я помогу тебе уехать на этот остров, ты мне поможешь в одном деле? Тимка заколебался: — Я не могу помогать врагам… — Мы не враги! — возразил офицер. — Враждуют наши страны. — А вы были на крестоносце… — сказал Тимка. — Был! — согласился офицер. — И, возможно, буду снова. Но мы с твоим папой встречались в честном бою! Погубили его другие! — А зачем вы меня заперли в камеру? — придрался Тимка. Офицер нахмурился: — Вы были взяты в плен… К тому же ты не один. Служба есть служба, но, если мы договоримся, я похлопочу, чтоб вас поместили не здесь, а в нормальных комнатах… — Часового тоже не надо! — потребовал Тимка. — Я не люблю, когда меня охраняют. — Послушай… А впрочем, если мы договоримся и ты дашь слово… — А вы дадите слово, — перебил Тимка, — что отправите меня на остров? — Да. Но ты еще не слышал, что я хочу от тебя… — А я знаю что! — сказал Тимка. — Мне Шавырин говорил! Да и все пристают с этими скалами! Офицер наклонился к нему через стол. — Что тебе известно об этом деле? — Что в районе Летучих скал находится посылка, которая всем нужна! — раздраженно ответил Тимка. — Почему — посылка? — Откуда я знаю? — вопросом на вопрос ответил Тимка. — Так ее те называют, — он кивнул за стены кабинета, — бородатый там и еще один… Только я о них больше ничего не скажу. Я не доносчик, хоть они и трусы и предатели! — И ты знаешь, где эта посылка?.. — спросил после паузы офицер. — Откуда? Я же не волшебник! — удивился Тимка. — Если бы я был волшебником… Я только район тот знаю! И они пристали ко мне. Теперь, как недавно Шавырин, чуточку растерялся офицер. — Как же ты можешь помочь нам, если не знаешь, где эта посылка? Тимка уставился на него голубыми глазами, поморгал. — Н-не знаю… И вы… вы не поможете мне уехать? — встревоженно спросил он. Офицер откинулся в кресле, нервно повел бровями, как бы не слыша Тимкиного вопроса. Потом опять навалился на стол. — Но хоть где она может быть спрятана — ты предполагаешь? Тимка покачал головой: — Нет… Там тысяча мест… Я шлюпку свою спрятал — никому не найти! — обрадовался он. — А посылку там… — Какую шлюпку? Где спрятал? — уточнил офицер. — А ту, на которой мы с крестоносцем встретились. Там я, у Летучих, и спрятал ее. Наложил камней побольше, открыл дырку… — Где? — Да в море, у Летучих! — повторил Тимка. Офицер долго молчал, в раздумье глядя куда-то сквозь него, в противоположную стену. — А район тот, говоришь, тебе известен? — Да мы его тысячу раз с папой исходили весь, излазили! Снова пошевелив бровями, офицер встал. — Хорошо… Попробуем искать вместе… — Глаза его теперь так и смотрели сквозь Тимку. — Но учти, как говорят по-русски: уговор дороже денег. Так? Найдем посылку — я тебя посажу на корабль, не найдем… Сам понимаешь! — Он развел руками. Тимка насупился. Тоже встал и, не дожидаясь указания, медленно побрел к двери. — Да, насчет временной комнаты — я похлопочу для вас! — утешил, видя его растерянность, офицер. — И погулять нам будет можно?.. — осторожно спросил Тимка. — Не желательно, — ответил офицер. — Да скорее всего, и времени у вас не будет. В распахнувшейся двери, как злой дух, появился, чтобы сопровождать Тимку, надзиратель.ТИМКА УКРЕПЛЯЕТ АВТОРИТЕТ
Шавырин волновался и в ожидании Тимки расхаживал по камере из угла в угол. Тимку встретил нетерпеливым возгласом: — Н-ну! — Что «ну»? — буркнул Тимка. — Если бы я знал, где эта посылка дурацкая… А вы зачем передаете все, что я вам говорю? — напустился он на Шавырина. — Что я такое передал там? — неуверенно проговорил Шавырин. — Куда я собираюсь, как! Может, я не хочу, чтобы это знали? — Тимка отошел от него и демонстративно вытянулся на Железной кровати, лицом вверх. — Ты психованный. Я так и предупредил их, что ты психованный! — разозлился Шавырин. — Если я психованный — все вообще психи! — глядя в потолок, ответил Тимка. Шавырин подошел, остановился над ним. — Дурак, видно, я, что связался с тобой. Ведь добра тебе желал — бежать согласился… — А лучше б я один убежал, — не поворачивая головы, сказал Тимка. — Без вас не попался бы… Чего хорошего? — Он вдруг сел. — Знаете, нас обещают поселить в городе, а слова я так и не дал им, что буду сидеть… Удерем? Шавырин махнул на него рукой: — Глупость мелешь! Пока нас не отпустят, ни за что не удрать! — С вами, конечно… — отозвался Тимка, опять вытягиваясь на койке. — Так и будем попадаться от одних к другим… Пока надоест. Отругать его Шавырину не удалось. Появился надзиратель и, снова показав пальцем туда-сюда, увел Тимкиного сообщника. А Тимка остался лежать, припоминая весь разговор с офицером: реплику за репликой, вопрос за вопросом… Немец явно насторожился, когда узнал, что помощник из Тимки не очень надежный… Хорошо, что его оставили на время одного в камере. К возвращению Шавырина Тимке удалось привести свои чувства в порядок и даже отдохнуть немного. Дверь за Шавыриным прихлопнули, но на замок не закрыли. — Квартиры никакой не будет, — предупредил Шавырин. — Нас поведут пожрать куда-то, не вздумай чудить. Пока к нам по-человечески… Тимка не ответил, разглядывая потолок. Шавырин прошелся мимо него по камере раз, другой. — Неужели ты эту паршивую посылку найти не можешь?! — А вы можете? — приподнялся Тимка. — Ищите. Вон, под кроватью у меня. — Он показал ему под кровать. — Я, когда меня притесняют, даже если могу — и то ничего не сделаю! Из-под ружья я никогда ничего не делал! Так меня папа научил, — добавил он. — И я привык так. — Думаешь, будут с нами канителиться? — подступил Шавырин. — А пусть как хотят! — ответил Тимка, снова разглядывая потолок. — Мне это все равно. Я смерти не боюсь. — Хвастун ты!.. — фыркнул Шавырин. Однако отошел и больше не трогал его, пока обоих не окликнул все тот же надзиратель. Их опять провели по каменному коридору, потом вниз, на первый этаж. И через небольшую калитку — во двор. — Шнелль! — Немец показал автоматом в сторону ворот. И в эту минуту Тимка увидел, как в нескольких метрах слева от него Кравцов — тот самый Кравцов, его сосед по дому, — одетый в какую-то черную, с серыми выпушками форму, заломив Ангелине Васильевне руки, тащит через двор, Асину соседку, по прозвищу «Я-тебе-не-жена». Волосы ее растрепались, и она вскрикивала, изогнувшись, чтобы ослабить боль в руках, едва поспевая за широким шагом Кравцова. Всего на одно мгновение приостановился Тимка. Молнией промелькнула мысль в голове, что разведчик с особым заданием не имеет права рисковать, отвлекаясь на что-то второстепенное. И только мелькнула эта мысль, как в следующее мгновение Тимка бросился влево, наперерез Кравцову, не обращая внимания на окрик часового за спиной, и ударил с ходу головой в живот предателя, отчего тот, ухнув, сразу выпустил из рук Ангелину Васильевну и грохнулся на булыжную мостовую двора. С двух сторон бежали охранники. Но Тимка успел еще и заехать кулаком по губам Кравцова, которыми тот хватал воздух.«Разведчик с особым заданием не имеет права рисковать, отвлекаясь на что-то второстепенное… Но точно так будет рассуждать и враг, если он проверяет, наблюдая со стороны».Его схватили, кто-то что-то кричал. Шавырина Тимка не заметил, потому что его сразу поволокли назад: по лестнице на второй этаж, потом в коридор, где был знакомый кабинет с книжными шкафами у стен. От окна шагнул навстречу ему офицер. — Ты что это вытворяешь, а, негодник?! Было похоже, что он сейчас ударит. Тимка рванулся, но его крепко держали за руки. — А вы за что людей мучаете?! — крикнул он в лицо офицеру. — А говорили: воюете честно! Честные люди женщинам руки не ломают! — Замолчи! — рявкнул офицер над самой Тимкиной головой. — Я посажу тебя в карцер! Я буду держать тебя без воды, пока не высохнешь! Тимка все время пытался высвободиться, и лицо его, естественно, перекосилось от боли. — Сажайте! — ответил он со слезами на глазах. — Сажайте, мучайте! Все вы одинаковые, ненавижу всех! — А ну отпустите его! — приказал офицер. Тимку отпустили, он шевельнул затекшими кистями рук. — Ненавидишь, значит?! — почти вплотную приблизив к нему лицо, яростно переспросил офицер. — Да! — сказал Тимка. — А откуда ты знаешь эту женщину? — процедил офицер сквозь зубы, в упор глядя на Тимку. — Знаю! — вызывающе ответил Тимка. — Это Ангелина Васильевна, с улицы Челюскинцев! — И ты знаешь, на кого она работает? — На всех! — зло ответил Тимка. — Кто платья заказывает! Она на женщин работает! — Не мели чепуху! — Офицер выпрямился, отошел к окну. — Не прикидывайся дурачком. При чем здесь платья? — При том, что она портниха! — не снижая голоса, выкрикнул Тимка. — И ты не знаешь, что она шпионка?! — Офицер опять шагнул ближе к Тимке. — На одну разведку работаете?! — Ч-что?.. — Тимка даже рот приоткрыл, изобразив удивление. — Тетя Геля шпионка?! Это вы мелете чепуху! Тетю Гелю вся улица знает! Полгорода знает! Она любит поругаться, у нее даже прозвище есть: «Я-тебе-не-жена»! Но все равно она добрая! Офицер минуту — другую смотрел на него сверху вниз, потом по-немецки что-то приказал одному из автоматчиков. Солдат выбежал и явился в сопровождении другого офицера, который сразу вытянулся в струнку перед Тимкиным знакомым, будто хотел достать подбородком люстру, что свисала между ними с потолка, над ковровой дорожкой. Тимка мрачно ждал, переводя взгляд с одного на другого. Его знакомый о чем-то спросил подчиненного. Тот ответил несколькими словами, из которых Тимка отчетливо разобрал фамилию Кравцова. Знакомый Тимки что-то приказал вызванному офицеру. Тот, щелкнув каблуками, исчез. А несколько минут спустя, в течение которых допрашивающий Тимку офицер, глядя из-под сомкнутых бровей на Тимку, нервно барабанил пальцами по кожаной спинке кресла, в дверь вбежал и тоже вытянулся перед Тимкиным знакомым Кравцов. — Явился по вашему приказанию, господин штурмбанфюрер! — Полицай, кто та женщина, что вы привели только что? — Шпионка, господин штурмбанфюрер! — Врет он, врет! — крикнул Тимка. — Замолчи! — потребовал офицер. Автоматчики опять ухватили Тимку за руки, но он продолжал во весь голос: — Врет этот гад! Она не дала ему утащить консервы, когда он грабил, — вот он и злится! Нашу квартиру он тоже ограбил! Это вор! Вор! — Замолчи! — Офицер снова подступил к нему вплотную. — Я приказываю тебе молчать! Понимаешь? Тимка перестал вырываться и замолчал. — Отпустите его! — приказал офицер автоматчикам. Вторично приказал по-русски, но те, видимо, догадались и отпустили Тимку. Штурмбанфюрер отошел и остановился перед стоявшим навытяжку Кравцовым. — У вас есть доказательства, что она шпионка? Кравцов замялся, тараща глаза на офицера. — Я спрашиваю: у вас есть доказательства?! — повторил тот. — Она… — Кравцов оглянулся на Тимку. — Она коммунистам шила… и… защищала их… Нападала на меня… — Негодяй! — Офицер замахнулся, чтобы ударить, но не ударил. — Ты используешь немецкую армию, новый порядок, чтобы свести личные счеты?! Я прикажу тебя расстрелять, если узнаю, что это не первый случай! Пошел вон, свинья! — И, глянув на Тимку, добавил: — Немедленно отпустить эту женщину! Отпустить и извиниться перед ней! Задержавшись при последних словах у двери, Кравцов бормотнул скороговоркой: — Слушаюсь, господинштурмбанфюрер! — выскочил за дверь и бегом протопал по коридору на выход. Движением руки штурмбанфюрер велел автоматчикам удалиться. — Ты заставил меня нервничать, мальчик… — медленно проговорил он, когда они остались один на один с Тимкой. — Но ты слишком горяч… Разве ты не мог сказать мне, когда увидел эту женщину, что знаешь ее, что она простая портниха? Зачем ты кинулся на полицая? — Я люблю справедливость, — ответил Тимка, недоверчиво глядя на офицера. — А он ломал ей руки! Разве можно женщинам ломать руки? Офицер пригладил обеими ладонями и без того гладкие волосы. — С этим негодяем я еще разберусь! Это я тебе обещаю. Проходи, садись. Вы, кажется, еще не ели? (Тимка подошел и сел на краешек кресла). Будем считать все это досадным недоразумением! — сказал офицер. — Ты понимаешь, что такое недоразумение? (Тимка кивнул.) Ну, вот… Произошла ошибка, я накричал на тебя. Зато теперь ты нравишься мне даже больше, чем раньше. Ты отчаянный мальчик! Тимка шмыгнул носом. Офицер достал из ящика стола коробку конфет, открыл перед ним. — Угощайся! А пообедаешь — займемся делами. — Повторил: — Угощайся! Тимка встал, чтобы идти, неуверенно протянул руку за конфетами, взял одну, в синей обертке, и, подумав, спрятал ее в карман. Офицер засмеялся. Ловко захлопнув коробку, сунул ее под мышку Тимке целиком. — Бери все, Тима! Главное, не обижайся на меня. Служба есть служба, а ты кинулся выручать женщину, которая, мне сказали, разведчица! Не обижаешься? — А в камеру нас больше не посадят?.. — спросил Тимка, прижимая к себе тяжелую коробку незнакомых конфет. — В камеру — никогда! — весело заверил его офицер. — А ты даешь слово, что не будешь убегать? Тимка подумал. — Даю… А уговор остается? — Остров Пасхи?.. Конечно! Конечно, мальчик!.. — опять весело заверил офицер. — Много негров, старинные клады!.. Мы все-таки будем с тобой друзьями, Тима! — заключил он и, провожая Тимку до двери, похлопал его по плечу.
ЕЩЕ ОДНА ПРОВОКАЦИЯ
Ветер гнал со стороны моря низкие, рваные облака. И хоть солнце не проглядывало за ними, Тимка определил, что было уже часов десять — одиннадцать утра… Их посадили в легковую машину и на этот раз без охраны, с одним сопровождающим повезли в город. На улицах в одиночку, по двое, по трое, небольшими отрядами сновали гитлеровцы. Тимка припал к окну, когда выехали на улицу Челюскинцев. — Чего ты? — спросил Шавырин. — Ничего… — буркнул Тимка. — Асин дом здесь… — Показал, когда ехали мимо развалин: — Вот! — Какой Аси? — Которая со мной была, в шлюпке! Шавырин шевельнул губами, но промолчал. С улицы Челюскинцев повернули на Пионерскую, и когда выехали на площадь Свердлова, Тимка не узнал ее. Асфальтовое покрытие было изуродовано воронками, здания вокруг разрушены почти до фундамента, а над уцелевшим зданием госбанка трепетал на ветру флаг со свастикой. — Остановитесь, тут мой дом! — воскликнул Тимка, тронув за плечо сопровождающего, когда проезжали угол площади и улицы Разина. Нарочно или случайно везли его по этим местам? Сопровождающий что-то приказал шоферу, тот остановил машину. — Нельзя, — ответил он Тимке, глянув по направлению его руки. И с трудом выговорил еще одно русское слово: — За-прес-чша-этся… Тимка надулся, откидываясь на сиденье. — Ты брось это… — проворчал Шавырин, когда машина тронулась. — Чего ты командуешь? Тимка отодвинулся от него и не ответил. Все-все в городе было чужим, незнакомым. Трудно было поверить, что не так уж давно шли по этим улицам всей школой, под барабан, под звуки горна, в красных галстуках, и Тимка по очереди с Игорем Надеиным нес на демонстрации знамя дружины… Вдруг захотелось плакать, как малолетке. Он прислонился лбом к стеклу дверцы. — Чего ты? — опять проворчал Шавырин. — Ничего, — ответил Тимка. — Тут мы с папой гуляли. Они остановились у деревянного домика, сад вокруг которого не был вырублен, хотя во всех соседних оградах торчали одни пеньки вместо яблонь. Эту улицу Тимка знал плохо: центр города враждовал со здешними пацанами. — Идем! — пригласил их сопровождающий, широким жестом показывая на дверь. В горнице, когда они вошли, суетилась незнакомая женщина. — Домой! — приказал ей сопровождающий с короткими, как у Гитлера, усиками под носом. Женщина торопливо выскочила на улицу. Немец длинно объяснил что-то про господина штурмбанфюрера и тоже вышел наружу. Загудел отъезжающий от крыльца автомобиль. Шавырин и Тимка остались одни. Выдвинутый на середину горницы стол был в изобилии уставлен пищей. А два обеденных прибора и два кресла, придвинутые к столу, как бы свидетельствовали, что хозяйничать в доме предоставляется Шавырину и Тимке. Шавырин первым делом сунулся разглядывать салаты в продолговатых фарфоровых салатницах, куриное жаркое под соусом в тяжелой эмалированной жаровне, какие-то напитки в пузатых, не наших бутылках. А Тимка выглянул в окно на улицу, потом в другое, что выходило в сад, потом заглянул в кухню, где тоже никого не было, в пустую спальню и наконец осторожно высунулся на улицу. — Хочешь рвануть? — усмехнулся Шавырин, закончив первое знакомство с обедом. — Рвать мне пока незачем, — буркнул Тимка, в свою очередь подходя к столу, от которого тянуло аппетитным ароматом жаркого. — Думаешь, следят? — спросил Шавырин. — Мне плевать, что следят, — ответил Тимка. — Но я слово дал. — Я же говорил тебе: везде люди… — А мне что — люди? — сказал Тимка, нюхнув бутылку и сморщившись от запаха спиртного. — Мне главное — на пароход сесть. Чихал я потом на всех! Запах второй бутылки был приятным, и Тимка налил из нее в бокал. Напиток по вкусу напоминал крем-соду. — Ты смотри! — Шавырин вдруг отошел от стола и, слегка отодвинув гардину, что прикрывала темную, прямоугольной формы тумбочку, показал Тимке фотографию: — Наш знакомый! Выходит, это его изба? В резной рамке был портрет штурмбанфюрера с аккуратно приглаженными волосами и орденским крестом на груди. — Выходит, его! — ответил Тимка, усаживаясь в кресло, и решительно придвинул к себе жаркое. — Я хочу есть. Это ж для нас? Шавырин не ответил, разглядывая тумбочку, на которой стояла фотография. — Ты смотри: сейф! — удивился он и, ковырнув ногтями железную дверцу, чуть приоткрыл ее. Оглянулся на дверь, на окна. — Пошарим?.. — Я не вор — по сейфам лазить! — зло сказал Тимка. — И вы не лезьте в чужом доме! Как что, так боитесь, а как деньги… — Иди ты!.. — сказал Шавырин. Но тумбочку оставил в покое, подошел к столу. — Может, там не деньги, может, там получше что? — Все равно чужое! — заявил Тимка. — А пистолета он там не положит… Я попрошу у них пистолет! — решил он и, принялся с аппетитом уничтожать жаркое. — Бешеный ты какой-то парень! — раздраженно проговорил Шавырин, пинком отодвинув кресло и усаживаясь напротив Тимки. — Никогда не узнаешь: друг ты или нет? — Это вы насчет сейфа? — уточнил Тимка. — Ну, хотя бы! — Лезьте! — сказал Тимка и отодвинул от себя жаркое. — Доносить я на вас не пойду, но обедать вместе с вором не стану! — Такой уж ты прямо чистенький… — проворчал Шавырин и, нюхнув бутылку со спиртным, налил себе полный бокал вина. — Попробуешь? — Нет, — сказал Тимка. — Папа запретил. — И он опять придвинул к себе жаркое. — Чистенький ты, благородный… — поддразнил Шавырин, утерев губы после вина. — А девчонку, дочку штурманскую, где-то бросил! — Не бросил, — поправил его Тимка. («Что, если они схватили Асю?..») — Не бросил, а отправил в город, потому что идти со мной было опасно. — А что ей в городе?! — изумился Шавырин. — В развалинах жить? — В каких развалинах? — Тимка налил себе немецкой крем-соды. — Один город в стране, что ли? Тут у нее никого, а в Уфе бабушка. — Чего-чего? — Шавырин заморгал на него от удивления. — Отправил ее в Уфу?! — А что такого? — разозлился Тимка. — Думаете, не доберется? Вы ее не знаете! Она маленькая, будет говорить, что ей семь лет, — и никто не тронет. Придет к бабушке, а я потом найду ее. Аппетит у Шавырина был как будто плохой, зато жажда мучила, и он опять налил себе вина. Пожал плечами. — То ты на остров Пасхи собираешься, то ее искать!.. — Что вам объяснять? Вы хуже ребенка… — заявил Тимка. Потом растолковал: — Искать можно и через сто лет, если кто ждет тебя! Шавырин хмыкнул, хотел что-то сказать. — Не хмыкайте! — еще больше распалился Тимка. — Такой вы заботливый! За Асю переживаете! А когда там женщине руки крутили, я что-то не видел, чтоб вы вступились за нее! Шавырину нечего было сказать на это, и он снова мрачно выпил. Налил еще. Некоторое время ели молча. Тимкин «сообщник» внешне сильно изменился за эти несколько часов, что прошли с момента их побега. Теперь уж он вовсе не походил на молодого смешливого юнгу, каким выглядел на шлюпке: постарел, осунулся. И не только потому, что гуще стала его неопределенного цвета борода. Даже не потому, что он изголодался, изнервничался. Но каким-то усталым, а иногда тяжелым сделался взгляд Шавырина, и стали медленней движения. А в голосе, который был у него по-мальчишески звонким, появилась хрипота. — За ту бабу, что ты говоришь… — начал было он. — Не бабу, а женщину! — перебил его Тимка. — Ладно, женщину! — зло согласился Шавырин. — Что тебе до нее? — Все! — ответил Тимка. — Я не могу, когда зря обижают! — Обижают… — повторил Шавырин и, еще раз ковырнув салат, отбросил вилку. — Вот погоди, не найдешь эту посыпку проклятую, посмотришь, как тебя самого обидят! Ты о себе лучше подумай! — А может, я найду ее, — сказал Тимка. — Ты что — знаешь, где она? — Откуда! Будем вместе искать. Может, и найдем, — сказал Тимка. — Надо еще прикинуть, какая она… Как тарелка? Или как дом? Никто ничего не говорит, а если искать — надо знать, что ищешь. Шавырин резко поднялся, заходил по комнате. — Вот что… Если ты ее не найдешь… Я не знаю, как они, а я сам… вот этими руками… — он показал Тимке ладони, — удавлю тебя, как собачонку паршивую! — Вон вы какой… — удивленно проговорил Тимка и тоже поднялся. — Я не знал, что вы такой… — Он стал за кресло и, перегнувшись через него, заявил Шавырину: — Тогда я хлопотать за вас больше не буду! Если найду посылку, так один я, а не вы! И уеду, как задумал! Скажу им, что больше не хочу с вами! Пускай вас от меня заберут! — Подожди, подожди… — испуганно заговорил Шавырин, стараясь взять дружеский тон, хотя по лицу его ходили красные пятна злости. — Ты молодой, ты не понимаешь… Но если не будет этой посылки проклятой — нас обоих убьют! Повесят! Понимаешь?! Вот так! За горло! — Он показал. — Я не хочу умирать! А ты хочешь? — Меня там уже грозились расстрелять — я не испугался! — Тимка показал головой в сторону, где, по его мнению, должен был находиться лес. А вы трус, выходит! Я думал, вы со мной принципиально бежали, а вы из трусости! — Ты псих! Самый настоящий псих! — закричал Шавырин, схватившись руками за голову. — Я не был психом! — в тон ему ответил Тимка. — Это с Вами я стал психом! С вами станешь, со всеми! Пока у меня был папа… — Голос Тимки сорвался. Они так раскричались, что не заметили, как появился в дверях штурмбанфюрер. — Что здесь происходит?!И СНОВА — В МОРЕ
Офицер появился внезапно, хотя дверь Тимка нарочно оставлял приоткрытой, чтобы услышать звук автомобильного мотора. — Мы тут… — замялся Шавырин, поскольку офицер глядел на него. — Выпили малость! Штурмбанфюрер глянул на Тимку. — Это я папу вспомнил и расстроился, — объяснил Тимка, выразительно поглядев на Шавырина. — Да, я что-то не так сказал ему… — промямлил Шавырин. Замешательство его выглядело так искренне, будто и сейф, и вопрос про Асю, и угрозы его не были заранее обговорены со штурмбанфюрером. — Напрасно, — сухо ответил офицер, оглядывая стол, стены, тумбочку. — Я думал, вы ему — старший товарищ… — Да он нечаянно, — вступился за Шавырина Тимка. — Он выпил… — Хорошо. — Офицер подошел к столу, отвернул рукав, посмотрел на часы. — Почему ты так мало ел? — спросил он Тимку, словно Шавырин больше не интересовал его. — Не мало! — возразил Тимка. — И у меня еще конфеты ваши! — Он показал на коробку конфет, которые оставил на серванте у входа. Подошел, взял их. И сделал вид, что не заметил взглядов, которыми обменялись за его спиной Шавырин с господином штурмбанфюрером. А в лакированной стенке серванта их было хорошо видно. — Значит, можно заниматься делами? — спросил его офицер. — Конечно! — с готовностью ответил Тимка. — И так полдня пропало! Все же хорошо, что глаза у него были мамины: голубые, чистые. По глазам отца можно было в любую минуту увидеть, как меняется его настроение. А у мамы были всегда одинаковые: спокойные, ровные. — Тогда идемте… — Офицер тронул козырек фуражки, проверяя, как она сидит на голове, и первым шагнул к двери. Тимка на законных правах следом. А Шавырин замыкал выход. Кепку Тимка потерял во время бегства, и ветер свободно трепал его мягкие русые, тоже мамины, волосы. Отец говорил: быть похожим на мать — к счастью… Машины у дома не было. Она стояла на углу, через несколько дворов. Шофер возился в моторе. Однако, едва появились из дому офицер, Шавырин и Тимка, он захлопнул капот, сел в кабину, подъехал и остановился, подчиняясь движению руки штурмбанфюрера. Перчаток офицер не надевал, но держал их в руке, и это придавало ему какой-то особый франтоватый вид. — Садитесь… — Он кивнул на заднее сиденье. Тимка с готовностью влез первым. За ним — Шавырин. Офицер сел рядом с шофером, что-то сказал ему. Тимка думал, что их повезут назад, той же дорогой. Но машина двинулась дальше от центра, по пустынным улицам окраины. — Хороший был город? — обернувшись и взглядывая из-под черного лакированного козырька на Тимку, спросил офицер. Тимка утвердительно кивнул в ответ: — Хороший… — Война? — не сказал, а почему-то спросил офицер. Тимка шевельнул плечом и не ответил ему, глядя через ветровое стекло на улицу. — Жалко будет расставаться, а? — Офицер усмехнулся. — Чего жалко… — Тимка заерзал на сиденье. — У меня тут никого теперь… — Я понимаю, — согласился офицер. — А кем думаешь стать, когда вырастешь: летчиком или моряком, как отец? Тимка заколебался: — Я сначала, как решил… Сделаю все, а дальше — видно будет… Офицер одобрительно хлопнул его перчатками по плечу, отвернулся и стал глядеть на дорогу. Начался район, почти дотла сожженный артобстрелом, бомбежками, и по сторонам, над пепелищами, возвышались лишь печи, да и те были в основном разрушены. Пахнуло знакомым уже запахом гари. Сколько еще продержится он над городом? Шавырин тихо сидел в углу, привалясь боком к дверце, и, полузакрыв глаза, думал какую-то свою шавыринскую думу. Еще в тюрьме, лежа в одиночестве на койке, Тимка прикидывал про себя, легче или труднее было бы ему теперь, если бы Шавырин открылся вдруг и стал тем, что он есть на самом деле, не мыкался бы вместе с ним, прикидываясь то дурачком, то еще кем… Но трудно предугадать, что может оказаться легче, что сложнее… Надо использовать обстоятельства такими, какие они есть. Штурмбанфюрер повернул зеркальце над ветровым стеклом так, чтобы видеть Тимку, ободряюще кивнул ему. Тимка моргнул в ответ. Улыбки у него не получилось, да она и не нужна была. Он давно понял, что их везут к морю, и когда появился краешек бухты, приподнялся на сиденье, чтобы лучше разглядеть ее. Подъехали к ней со стороны, противоположной развалинам рыбокомбината, и увидеть убежище, где они прятались с Асей, Тимка не мог. К берегу одна за другой подъезжали машины: везли бревна, доски; и под перестук тяжестей, которыми загоняли в дно бухты сваи, топоров, молотов немецкие саперы начинали возводить причалы. Кораблей в Оранжевой бухте пока не было. Но у одинокого понтона покачивался на волне катер, и машина, лавируя между прибрежными развалинами, направилась к нему. Тимка не мог бы сказать, приближается он к цели или удаляется от нее. Ибо все пока оставалось предельно неясным… Под низкими, темными облаками Оранжевая бухта перестала быть оранжевой, но без шлюпок, баркасов, яликов она выглядела мрачной. На катере было всего два человека: рулевой и моторист. — Прошу! — сказал Тимке штурмбанфюрер, делая жест в сторону катера, когда машина остановилась. — Пойдем в море? — спросил Тимка, изобразив не то радость, не то удивление, и открыл дверцу. — А тебе хочется в море? — вопросом на вопрос ответил штурмбанфюрер, когда все трое вышли из машины. — Я люблю море… — сказал Тимка. — Я даже на яхте ходить умею. Офицер кивнул, показывая ему на трапы, что были перекинуты с берега на понтон и с понтона на катер. Тимка ступил на них первым. Двое на катере вытянулись, приветствуя офицера, когда он вслед за Шавыриным спустился по трапу. Штурмбанфюрер сказал им что-то. Матросы втолкнули трап на понтон и, запустив мотор, в медленном развороте отошли от берега. Офицер показал Шавырину и Тимке на скамеечку за спиной рулевого. Шавырин сел. А Тимка, тряхнув головой, остался стоять, держась за невысокие бортовые леера.[335] И штурмбанфюрер не сел, хотя была еще другая скамеечка. Матросы, будто невзначай, поглядывали на Шавырина, удивляясь странным попутчикам штурмбанфюрера… Катер быстро набрал ход. И, когда вылетели за Каменный мыс, Тимка увидел справа, у горизонта, крестоносец. Он дрейфовал в каких-нибудь двух-трех милях от Оранжевой бухты. Он будто вырос из грязных облаков, что ползли вплотную над его мачтой, такой же мрачный, холодный, серый… — Крестоносец! — воскликнул Тимка, тронув офицера за локоть. — Да, мы идем на него! — громко, чтобы перекричать мотор, ответил штурмбанфюрер. Тимка замолчал. Покосился на офицера и больше ничего не сказал. — Тебе не нравится корабль?! — спросил, наклонясь к нему, штурмбанфюрер. — Один из лучших кораблей в мире! Тимка помедлил, исподлобья разглядывая эсминец. — А мне можно будет походить, посмотреть?.. — Конечно! — пообещал тот и одобрительно похлопал его по плечу. — У папы я везде перелазил! — сообщил ему Тимка.СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Крестоносец дрейфовал носом к волне, и потому его лишь слегка покачивало, хотя ветер усилился и рвал пенные барашки с гребней волн, что, как помнил Тимка, бывало при ветре в шесть — семь баллов. Они обошли крестоносец и развернулись, чтобы пришвартоваться к его правому борту. Тимка думал, что предстоит избираться по штормтрапу, и не знал, куда деть злополучную коробку конфет, чтобы продемонстрировать немцам, как легко умеет взлетать по ненадежному, юркому трапу сын русского моряка. Но увидел, что на эсминце отдают парадный трап, подниматься по которому — все разно что подниматься по домашней лестнице… Впрочем, теперь ему не надо было заботиться о коробке, а то хоть выкинь ее, хоть бери в зубы… Подошли и пришвартовались довольно ловко. Первым на этот раз взошел по трапу немец. Шавырин и Тимка остались в катере. Штурмбанфюрера встречал тот самый офицер, что брал в плен краснофлотцев со «Штормового», а потом стрелял из пистолета, чтобы сбить военно-морской флаг за Тимкиной спиной. Только на этот раз китель его был застегнут доверху. После взаимных приветствий они минуты две о чем-то говорили между собой, при этом офицер поглядывал через плечо штурмбанфюрера вниз, на катер. Матросы находились по боевым постам, но тоже с любопытством таращились на катер от пушек, с прожекторного мостика, из рубки. Наконец штурмбанфюрер повернулся лицом к трапу и движением руки показал в сторону палубы. Тимка поднялся первым, глядя на морского офицера не то что вызывающе, но спокойно, даже безразлично. Шавырин поднялся и остановился у трапа, а Тимку штурмбанфюрер, дружески обняв за плечи, подвел к офицеру. — Тимофей Нефедов, — представил он Тимку. Затем представил офицера: — Командир корабля, наш хозяин. Тимка слегка наклонил голову, как это делал его отец, когда его знакомили с кем-нибудь, офицер двумя пальцами тронул козырек фуражки. Это было первое в жизни светское знакомство Тимки. Глядя на него, офицер о чем-то заговорил, может, на все лады проклинал Тимку, но прерывался время от времени, чтобы дать возможность штурмбанфюреру перевести его слова. — Командир говорит, что ты можешь чувствовать себя на его корабле как дома, — переводил штурмбанфюрер. — Говорит, что в первую вашу встречу ты держал себя с честью, как подобает моряку… говорит, что ты достойный сын своего отца. — Благодарю вас… — серьезно ответил Тимка и опять слегка наклонил голову. Штурмбанфюрер перевел его ответ. Морской офицер опять что-то сказал, глядя на Тимку. — Командир говорит, что, поскольку его корабль будет сейчас принимать груз, нельзя пока выходить на ют, чтобы не мешать работе, — перевел штурмбанфюрер. — Ты разбираешься в морской терминологии? — Да, конечно, — ответил Тимка. — Тогда все в порядке! — бодро сказал штурмбанфюрер и жестом подозвал к себе какого-то сержанта или капрала — немецких званий Тимка не знал. — Сейчас вам покажут вашу каюту. Можешь любоваться морем, можешь отдыхать, можешь есть конфеты — словом, можешь заниматься чем угодно. — И он отошел, предоставив Шавырина и Тимку в распоряжение моряка. Тот показал им вдоль шкафута,[336] предлагая следовать за ним. У этого немца на верхней губе, под носом, было черное родимое пятно, как блямба. Со стороны это делало его очень похожим на Гитлера. Катер тем временем отчалил, и матросы убрали трап.ПЛЕННЫЕ ИЛИ ГОСТИ!
Тимка боялся, что их поселят в одном из матросских кубриков. Но сопровождающий лишь провел их через носовой, матросский, люк и двинулся по коридору к офицерским каютам. Встречные матросы удивленно приостанавливались, увидев Шавырина, о чем-то спрашивали сопровождающего, тот отвечал сдержанно. Асина мать правильно говорила, что надо изучать язык с детства. Насколько легче было бы Тимке, знай он, что говорят немцы. Теперь он все внимание сосредоточил на окружающей обстановке, запоминая на всякий случай, как его наставляли, каждую мелочь, каждый поворот, каждую дверь. Не угадаешь, что тебе пригодится в дальнейшем. И он присматривался ко всем уже в машине, когда их забрали немцы, потом в тюрьме, в кабинете штурмбанфюрера, на его мнимой квартире… Фотографию хозяина он, между прочим, заметил раньше, чем Шавырин надумал показать ее. И что тумбочка — это сейф, заметил… На верхнюю палубу со средней было четыре выхода: носовой, иногда называемый в русском флоте матросским, кормовой, что вел на палубу где-то за орудийной башней, и, кроме того, было два выхода на шкафуты — один против другого. Оба оказались задраенными, но изнутри, так что при необходимости их можно было открыть. Сопровождающий с черной блямбой под носом распахнул для них дверь каюты слева, за поворотом, в подозрительной близости от выхода на левый шкафут. Тимка сразу определил это как приглашение воспользоваться левым выходом и решил, что пользоваться им, конечно, нельзя… Ему продолжали подсовывать открытые сейфы. Немец что-то лопотнул по-своему и удалился. В каюте было два удобных рундука, на которых предстояло спать, два шкафчика для одежды в переборке, что отделяла каюту от коридора, между рундуками — небольшой столик с настольной лампой. За круглым иллюминатором под грязно-серыми облаками шумело серое море. Тимка уселся на рундук и подпрыгнул на нем для пробы. Шавырин тяжело опустился напротив. Через иллюминатор можно было протиснуться наружу, но, когда Тимка попробовал открыть его, иллюминатор не поддался. — Опять хочешь бежать? — спросил Шавырин. — Пока нет, — сказал Тимка. — Вы бегайте, если хочется… Он открыл рундук, в котором был аккуратно свернутый матрац, постельное белье, одеяло, подушка. А кроме того, спасательный жилет и пробковый пояс. В шкафчике висело чистое полотенце. Каюта Тимке понравилась. Водрузив на стол коробку конфет, он открыл ее и одну конфету сунул в рот, а две, на запас, в карман. Кажется, они были с ромом. Это немножко портило вкус шоколада. — Угощайтесь, — предложил Тимка Шавырину. — А я пойду наверх. Шавырин поймал его, когда он хотел шмыгнуть за дверь. — Погоди! Куда ты? — На палубу! Вы что, не слышали? — удивленно ответил Тимка. Шавырин поморщился! — Мало ли что я слышал… Но мы все-таки пленные, а не гости. — Что?! — оскорбился Тимка. — Пленным я был только раз, когда с вами попал! А теперь в жизни не буду! В случае чего — сразу убегу! А нет — так махну головой в море: вы не знаете, как я плаваю! — Ладно, ладно… — опять настраиваясь на дружеский тон, проговорил Шавырин. — Плавать ты, может, и хорошо плаваешь… да не в открытом море, не при шторме. Я говорю: если к нам хорошо относятся — чего нарываться лишний раз? — А я не нарываюсь! — возразил Тимка. — Мне сказали, что везде можно лазить, кроме юта; пойду на мостик! — А я что — за тобой буду шлендать?! — не выдержал Шавырин. — А вам зачем? — опять удивился Тимка. — Сидите здесь! Что вы за мной, как маленький! Вон, угощайтесь конфетами! — И, не дожидаясь, что ответит Шавырин, Тимка вышел за дверь. Похоже, — что Шавырин негромко выругался при этом. Из четырех выходов Тимка решил пользоваться пока лишь носовым, сделав вид, что считает его единственно законным.АРТИЛЛЕРИСТ МАКС
В коридоре никого не было. На палубе матросы не только не задерживали Тимку, но даже улыбались, приветливо подмигивали ему или занимались своим делом, как будто его нет поблизости. Так, видимо, проинструктировали их, пока Тимка выяснял с Шавыриным, кто они: пленные или гости. Он полюбовался торпедными аппаратами, развернутыми по-походному вдоль бортов, и уже хотел взобраться по вертикальному трапу фок-мачты наверх, когда его догнал сопровождающий с блямбой. Он удержал Тимку за плечо и, показывая в улыбке все тридцать два зуба, протянул ему черную куртку. Где словами, где жестами объяснил, что это ему от офицера, с которым он прибыл на катере. Тимка поблагодарил. Облака еще больше потемнели к этому времени, и холодный ветер усилился, так что кожаная куртка-реглан была сейчас очень кстати. Правда, она оказалась великоватой Тимке, но сопровождающий одобрительно хохотнул, похлопав его по спине: мол, ничего, сойдет! И опять убежал куда-то. А Тимка полез наверх мимо бронированной рубки. Что-то влекло его на пулеметный мостик, где размещались три орудия, хотя мысль, которая появилась у него при взгляде на этот мостик, ускользала. Надо было прояснить ее. Стальную платформу вокруг мачты Тимка назвал «пулеметным мостиком» по аналогии. Однажды ему довелось побывать вместе с отцом на линкоре. А там мостик с очень похожими орудиями почему-то именовали пулеметным. Никто не препятствовал его вторжению на боевые посты. А Тимка даже говорил всем «гутен таг» и шел дальше. С тем же приветствием он появился и возле кормового орудия на мостике. Отозвался ему длинный, как мачта, немец с хитрыми зеленоватыми глазами, един из которых был постоянно прищурен, будто длинный все время целился во что-то. — Гутен таг! — отозвался он. И добавил еще много слов, которых Тимка ни понять, ни запомнить не мог. Другие матросы, что были у орудия, лишь поглядели на Тимку и криво усмехнулись при этом. Он сделал вид, что не заметил усмешек. Длинный, похоже, исполнял обязанности командира орудия. Кроме него, здесь было еще четыре человека: два наводчика, горизонтальный и вертикальный, заряжающий и, наверное, стрелок, или стреляющий, — как он там называется, который выполняет команду «Огонь!». А может, пятый был здесь случайно. Артиллеристов прикрывал высокий бронированный щит. Длинный поманил Тимку пальцем и что-то сказал, показывая на орудие. Потом ткнул себя кулаком в грудь: — Макс! — Тимка! — сказал Тимка и тоже ткнул себя кулаком в грудь. Немец протянул ему большущую ручищу со следами йода на мизинце. Тимка протянул свою, и знакомство состоялось. Артиллерист повел его вокруг орудия, к стволу, что высовывался из прорези в щите. Только набрав ход, эсминец опять сбавил его, чтобы встретить военный транспорт, идущий навстречу под фашистским флагом. Транспорт походил на самоходную баржу и шел, очевидно, с тем самым грузом на борту, который должен был принять эсминец. Длинный показал Тимке на море по правому борту и стал радостно объяснять что-то, показывая то на орудие, то на воду… Тимка понял его. Там, по правому борту, шло недавно какое-то судно. Макс развернул орудие и — бах! — недолет, бах! — перелет, когда Макс бахнул в третий раз — бу-бу-бу-бах! — осколки полетели аж до облаков, и судно, которое Макс назвал «русом», кувыркнулось носом в воду. Задрав голову, он даже показал, как это происходило: — Буль-буль-буль-буль!.. — А ты по-русски шурумбурумишь? — спросил Тимка. — Вас? — не понял его Макс. — Русский язык — шурумбурум? — повторил Тимка. — Найн! Руссиш нихт ферштейн! — Ну, и остолоп, значит, — сказал Тимка, чтобы его не слышно было за щитом. Хотел еще добавить, что Ася, например, запросто объясняется по-немецки, но в следующую секунду спохватился, что теряет контроль над собой, говорит глупости… — Вас? — опять переспросил немец. И Тимка показал ему на море, будто хотел сказать про самоходку, что она, мол, приближается, что будет швартоваться, и эсминец идет уже самым малым ходом. Макс радостно закивал в ответ: — Я! Я! Ферштейн! В эту минуту его окликнули из-за орудия. Тронув Тимку за локоть, что означало: «Я сейчас!» или «Подожди здесь!» — он убежал. Тимка облокотился на леера и стал наблюдать за швартовкой. Ничего не скажешь: оба экипажа действовали четко. Несмотря на ветер, волну, самоходка с первого захода подвалила вплотную к борту эсминца, концевые бросили на его палубу швартовы,[337] здесь их мгновенно приняли, и, сплющив кранцы по правому борту, самоходка оказалась как бы спаянной воедино с эсминцем. Развернулись ее крановые стрелы, и матросы начали принимать на крестоносец мины — тот самый груз, о котором говорил, со слов командира, штурмбанфюрер. Когда поднятая стрелой мина оказывалась над палубными рельсами крестоносца, один из матросов командовал на баржу «стоп» и, очевидно, «майна». Мину опускали, отсоединяли стропы и бегом откатывали по рельсам на левый борт и к корме, там их крепили чуть не вплотную одна к другой, стараясь вместить как можно больше. Мины были странные, каких Тимка еще не видел: якорные, но без рожек, и громоздкие, почти в рост Макса, по лицу которого Тимка догадался, зачем его отзывали: вернулся он, улыбаясь противной, ласковой улыбочкой. Должно быть, ему разъяснили заново, что с этим русским парнишкой надо быть осторожным. По крайней мере сейчас, сегодня, пока он еще нужен… Показывая на баржу, на мины, Макс что-то залопотал опять. Затем потащил Тимку внутрь щита, на металлический поворотный круг, что служил основанием лафета, стал показывать, как открывается орудийный замок, как берутся снаряды из специального снарядного ящика, как загоняются в ствол, как после этого закрывается замок; он, Макс, командует что-то вроде «огонь!» или «пли!», затем достаточно дернуть за этот стальной тросик, и — ба-бах! — снаряд летит далеко-далеко, так далеко, что отсюда даже не увидеть. Врал, конечно. Его орудие так далеко не могло стрелять. Но Макс увлекся и попросил вертикального наводчика уступить свое место Тимке, принялся объяснять ему, как берется прицел, как поворачивается орудие… Тимка видел в оптическом прицеле те же грязно-серые облака и, хотя отлично знал, как разворачивается орудие при наводке, делал вид, что слушает очень внимательно, с интересом. Встал и перешел на место горизонтального наводчика, когда его потащил туда Макс. И наконец поймал мысль, что промелькнула в его голове, когда он поднимался на эсминец. А родилась эта мысль почти двое суток назад, когда Тимка и Лея наблюдали заход крестоносца в бухту между Летучими скалами. Тогда орудийные расчеты опустили стволы вниз, чтобы случайно не задеть скалы, хотя угрозы такой фактически не было. Артиллеристы сделали это, руководствуясь убеждением, что береженого бог бережет. И тогда палуба эсминца была загружена, как теперь, минами… Существует вокруг корабля так называемая «мертвая зона», где орудия бессильны, потому что не могут склоняться ниже установленного для них предела. Но крестоносец набивал рельсы юта высоченными якорными минами так, что крайние из них крепились к рельсам чуть не у самого среза кормы… Теперь Тимка больше глядел не в прицелы, не на жестикуляцию Макса, а на зубчатый сектор подъема и спуска ствола, на градусную сетку его возвышения, пытаясь определить максимальный угол наклона… Восседая на месте горизонтального наводчика и наблюдая за перемещением ствола, он несколько раз, чтобы рука запомнила это движение, попробовал отводить ствол на три — четыре градуса в сторону… Если убрать ограничительные стопора, опустить ствол вниз до предела, а потом на три — четыре градуса отвести его вправо, в черных крестиках прицелов должна оказаться последняя или предпоследняя мина… Макс устал говорить. Это надоело и ему и его напарникам. Да и Тимке, между прочим, тоже. Поблагодарив кивком своего добровольного учителя, он опять ушел за щит и здесь еще раз прикинул направление ствола при максимальном спуске… Бронированные снарядные ящики внутри орудия закрывались на обыкновенный болтик… Погрузка тем временем приблизилась к завершению. Тимка прошел по мостику вокруг мачты, мимоходом полюбовался на бортовое орудие и отправился дальше, к площадке, где располагался пост сигнальщиков. Белобрысый матрос-сигнальщик единственный из экипажа не скрыл своей ненависти к Тимке. Сказать или сделать что-нибудь он не мог, зато поглядел так, что любой другой на Тимкином месте повернул бы обратно. Сам по себе матрос был никудышный, плюгавенький, но столько откровенной злости было во взгляде его, что хватило бы на три орудийных расчета. Похоже, что он надеялся на сообразительность Тимки: мол, только гляну — уйдет. А Тимка подошел, сказал «гутен таг» и стал ждать ответа. Матрос круто повернулся и куда-то исчез, шагнув за мачту. Тимка принципиально остался. Оглядел ячейки с сигнальными флажками, приоткрыл рундук, где лежали бухты запасных тросов, — крохотные блоки, разноцветные знаки флажковой азбуки. В переговорной трубке, когда он открыл ее, слышалась немецкая речь. Тимка снова пожалел, что не знает языка, и поставил пробку на место. Хотел подняться выше, на прожекторный мостик, но прибежал Макс и встревоженным голосом затараторил о чем-то, показывая на палубу. Тимка понял, что его зовут. И еще понял, что все самое ответственное начинается только теперь…СВИДАНИЕ С ОТЦОМ
Внизу его поджидал тот же сопровождающий с блямбой под носом. Жестами объяснил Тимке, что его ждут. Но Тимка, готовя себя к любым неожиданностям, не спешил, следуя за ним. Разгруженная самоходка отошла от борта эсминца и дрейфовала в сторонке, предоставляя эсминцу право уйти первым. Палуба ритмично подрагивала под ногами от работы машин. Крестоносец брал курс на Летучие скалы — в этом Тимка почти не сомневался. А может, ему только хотелось так… По-прежнему неслись над морем грязно-серые облака. Шел приблизительно второй час дня… Сопровождающий провел Тимку через кормовой люк на среднюю палубу и остановился перед дверью, за которой Тимка угадал кают-компанию. Он вошел и остался, а сопровождающий тут же исчез. В кают-компании сидели двое. За большим обеденным столом, напротив двери, — штурмбанфюрер, а в углу, — за маленьким столиком, — командир корабля. Перед обоими стояли бутылки с напитком. Командир курил и глядел без приязни. То ли ему не нравилась предоставленная Тимке свобода, то ли не нравилось это задание в целом, при котором он как бы переставал быть хозяином на корабле, уступая это законное право штурмбанфюреру. Китель его был опять расстегнут на горле. Тимка вошел и остановился у входа. — Вы меня звали? Штурмбанфюрер скользнул взглядом по его обновке, раздумывая, предложить мальчишке раздеться или обойдется без этого. — Нравится тебе куртка? — Немного великовата, но да, — сказал Тимка, показывая длинные полы. — Наверху сейчас прохладно. Спасибо. — Ничего, ничего. Пусть великовата, лишь бы не жала, так, что ли? — Он засмеялся своей неожиданной пословице и, чуть касаясь, провел рукой по гладким волосам. — Подойди ближе, Тима… Тимка подошел и остановился напротив. Левая рука штурмбанфюрера ладонью вниз небрежно лежала на столе. И Тимка не глядел на эту руку, глядел своими честными мамиными глазами в лицо штурмбанфюрера, но уже знал, догадывался, что находится под его рукой. — Мы с тобой говорили о посылке, Тима… — начал тот и спохватился: — Ты сядь, так тебе будет удобней. (Тимка сел, поблагодарил его.) Так вот, мы говорили об этой посылке… — продолжал штурмбанфюрер, глядя из-под приспущенных век на Тимку; тот слушал его, не вмешиваясь. — Многое зависит от того, найдем мы ее или не найдем… В частности, судьба твоего старшего товарища. Ты потерял отца и, наверное, успел привязаться к этому матросу? (Тимка не ответил, выжидая.) С другой стороны, как мы условились, — продолжал штурмбанфюрер, — от этого зависит твоя судьба. Если мы ее найдем — я выполняю любое твое желание. Хочешь, провожу на остров Пасхи, хочешь, другое что… Может, тебе понравилось здесь? Тимка ерзнул на стуле: — Я все равно… как решил… — Хорошо!.. — Штурмбанфюрер хотел что-то сказать еще, но Тимка невольно перебил его. Получилось это довольно естественно: — Вы вот говорите мне про посылку. Там меня вообще затуркали с ней! — Он показал через плечо в неопределенном направлении. — А я не знаю даже, какая она! Как танк или, ну… как бутылка?! Штурмбанфюрер усмехнулся: — Это небольшая посылка. Как обыкновенные почтовые. А искать ее… — Он помедлил, придвигая левую руку к Тимке. И тот впервые взглянул на стол. — Искать ее надо вот здесь! — Он убрал руку, и перед Тимкой оказался крохотный листок из карманного блокнота. Время теперь исчезло. Свои ответы, свои поступки, свои мысли Тимка должен был соизмерять с ударами сердца, чтобы, действуя незамедлительно, ни в чем не допустить ошибки… Он сразу понял, что означает скупая схема на листке перед ним. Теперь было бы проще всего сказать штурмбанфюреру: «Не знаю…» И может, сутки, может, неделю, месяц тот не найдет заветной посылки. Ну, а после?.. И будет ли у Тимки возможность предпринять хоть что-нибудь еще, когда он скажет: «Не знаю…» Тимка медленно поднялся со стула, не отрывая глаз от лежащего перед ним листка. Он давно был убежден, что, скорее всего, посылка спрятана в одном из гротов, но до последней минуты это было всего лишь предположение. К тому же на километровом склоне у моря их было много, похожих на стрижовые норы гротов… Вот что скрывал офицер на блокнотном листке под ладонью: — Кто это рисовал? — спросил Тимка.
— А почему это тебя взволновало? — вопросом на вопрос ответил штурмбанфюрер.
— Потому что так рисовал только мой папа! — дрожащим голосом ответил Тимка.
— Но это он и сделал, Тима… Он сам, понимаешь? — ответил штурмбанфюрер, стараясь говорить как можно мягче.
— Да! — воскликнул Тимка. — Но папа — моряк, и если бы он чертил план — он сообщил бы два пеленга, а здесь один!
— К тому же на одинокое дерево, каких тут много, — согласился штурмбанфюрер. — И все-таки это сделал он, мальчик.
— Тогда он не доделал его до конца! — заупрямился Тимка. — Он не мог так ошибиться!
— Ты опять прав, — кивнул ему штурмбанфюрер. — Успокойся. Он делал это под огнем, в бою. Понимаешь? И мог не дорисовать…
Тимка сник.
— Тогда… откуда это у вас? — Он сел.
— Это… — штурмбанфюрер неприметно вздохнул, — это нам передал один человек…
— Боцман?! — сразу напрягся Тимка.
— Откуда ты это знаешь? — удивился его покровитель.
— Там, — Тимка мотнул головой в сторону берега, — все говорили, что у него должно быть письмо! Шавырин знает — спросите! Но я думал, что это настоящее письмо… — растерянно проговорил Тимка, переводя взгляд на чертеж. И снова повысил голос: — Он предатель и трус, этот боцман! Его надо расстрелять, а вы его взяли к себе!
По лицу штурмбанфюрера скользнула досада.
— Нет… Мы думаем, что он погиб… Эта бумажка попала ко мне через десятые руки… Но почему ты сразу догадался, что это делал твой папа? Что здесь изображено?
— Грот! — воскликнул Тимка так неожиданно и решительно, что штурмбанфюрер невольно приподнялся, а командир крестоносца, который до этого мрачно курил в своем углу сигарету за сигаретой, встал и подошел ближе.
— Какой грот?.. Что за грот?.. — осторожно спросил штурмбанфюрер.
— Когда мы играли с папой в войну… — начал Тимка и зашарил глазами по столу в поисках карандаша, бумаги: он все обдумал, чтобы врать правдоподобно.
Командир эсминца догадался, что ему надо, сразу достал и положил перед Тимкой блокнот, а рядом — красивую, черную с позолотой авторучку, которой Тимка невольно залюбовался.
— Когда мы с папой играли в войну, — опять начал он, вооружившись пером и блокнотом, — мы искали друг друга. И папа придумывал разные обозначения! Ну, к примеру, кусты, отдельные кусты, которые выше других, мы обозначали треугольником. — И Тимка нарисовал треугольник. — А камни в воде — кружочком. — Он продемонстрировал, как это делалось. — Летучие скалы — буквой П: они ж как ворота. — И Тимка нарисовал букву П. — А ромбик — это значило грот! Но папа всегда сообщал два пеленга. И если дерево, то как-нибудь указывалось, какое дерево. Ну, что под ним, например, два куста рядом! — Тимка изобразил кусты.
Штурмбанфюрер заметно разволновался, наблюдая за его рисунками, и несколько раз безнадобности пригладил волосы.
Что ромбик на схеме действительно изображал грот, Тимка не сомневался и сказал правду. Но не потому, что отец обозначал гроты ромбиком; они никогда здесь не играли в войну: разве станет ползать по колючим кустам мама? Зато отец любил давать названия гротам, и где-то были на склоне грот «Пирамида», грот «Запятая», грот «Кристалл» и даже грот «Штанишки» — названия давались в зависимости от формы пещеры или от формы входа в нее. И прошлым летом отец разыскал грот, который внутри был правильной ромбической формы. Кажется, он показал его в тот раз, когда они отдыхали вместе с Вагиными. Но этого Тимка не запомнил, как не запоминал он и названия гротов, потому что во всем полагался на отца… А теперь мучительно пытался восстановить в памяти местонахождение «Ромба». Успех всего дела зависел теперь оттого, сумеет ли он найти его раньше немцев.
— Хорошо, ты молодец, Тима… — похвалил штурмбанфюрер. — Ну, а где он, этот грот, ты знаешь?
— Там! У Летучих скал! — с готовностью пояснил Тимка. — Но только их много, я не знаю какой!
Штурмбанфюрер волновался и не скрывал этого. Но привычка наблюдать за собеседником не оставляла его, и пристальные зеленоватые глаза неотрывно следили за Тимкой.
А Тимке хотелось взять с собой бумажку с чертежом, аккуратно разгладить ее… И хранить всю жизнь! Потому что это было завещание отца ему, Тимке, сыну. Отец незримо присутствовал в кают-компании. И покусывал губы, когда сын готов был сорваться. И ободряюще, весело смеялся глазами, когда Тимка находил выход из положения.
— Что значит — много? Пять, десять? — спросил штурмбанфюрер.
— Бо-ольше… — поведя головой, озадаченно сказал Тимка. И тут же приободрил штурмбанфюрера: — Но мы найдем! Мы их все найдем! Мне надо только посмотреть, вспомнить! С прошлого года мы там уже не были… — добавил он в свое оправдание.
Он знал, что может растянуть поиск на целый день, он растянет его до ночи, чтобы попытаться найти грот самому. А если это не удастся, у него ведь уже был один вариант в запасе, чтобы поставить точку…
— Ничего, вспомнишь! И мы займемся этим сегодня? — весело воскликнул штурмбанфюрер, откидываясь на спинку стула, что можно было понять как сигнал к тому, что разговор окончен.
Тимка встал.
— Мы идем к Летучим скалам?..
— Да! — сказал штурмбанфюрер. — Тебя это не радует?
Тимка потупился.
— Там… Там погиб мой папа, — сказал он, исподлобья взглядывая на штурмбанфюрера.
Тот в свою очередь тоже поднялся.
— Мы, Тима… Мы положим венок на его могилу! — нашелся он. И все же добавил: — После того, как найдем, хорошо?
— Хорошо… — сказал Тимка. — Благодарю вас. А это… — он показал головой на листок, — можно мне будет… после того, как найдем, — уточнил он, — взять это?..
— Разумеется, разумеется! — оживился штурмбанфюрер.
Тимка еще раз серьезно поблагодарил и направился к двери.
— Я могу уйти?
Штурмбанфюрер о чем-то быстро переговорил с командиром крестоносца. Тот взял блокнот и шелестнул страницами, проверяя, нет ли в нем каких записей.
— Подожди, Тима! — штурмбанфюрер поманил его к столу. — Командир корабля дарит тебе эту ручку и этот блокнот! Он видел, что они тебе понравились!
Тимка взял ручку и блокнот, сказал командиру эсминца «спасибо».
Тот что-то хмуро ответил. Ему определенно не нравилось все это дело.
— Не за что! Не за что! — весело ответил Тимке за хозяина авторучки штурмбанфюрер и махнул рукой на выход. — Сейчас вам принесут в каюту поесть, подзаправься — так у вас говорят? — и скоро приступим к делу!
Тимка вышел, прикидывая, что лучше, конечно, «подзаправиться» в каюте с Шавыриным, чем, например, здесь, под наблюдением ловкого, расчетливого штурмбанфюрера.
— Кто это рисовал? — спросил Тимка.
— А почему это тебя взволновало? — вопросом на вопрос ответил штурмбанфюрер.
— Потому что так рисовал только мой папа! — дрожащим голосом ответил Тимка.
— Но это он и сделал, Тима… Он сам, понимаешь? — ответил штурмбанфюрер, стараясь говорить как можно мягче.
— Да! — воскликнул Тимка. — Но папа — моряк, и если бы он чертил план — он сообщил бы два пеленга, а здесь один!
— К тому же на одинокое дерево, каких тут много, — согласился штурмбанфюрер. — И все-таки это сделал он, мальчик.
— Тогда он не доделал его до конца! — заупрямился Тимка. — Он не мог так ошибиться!
— Ты опять прав, — кивнул ему штурмбанфюрер. — Успокойся. Он делал это под огнем, в бою. Понимаешь? И мог не дорисовать…
Тимка сник.
— Тогда… откуда это у вас? — Он сел.
— Это… — штурмбанфюрер неприметно вздохнул, — это нам передал один человек…
— Боцман?! — сразу напрягся Тимка.
— Откуда ты это знаешь? — удивился его покровитель.
— Там, — Тимка мотнул головой в сторону берега, — все говорили, что у него должно быть письмо! Шавырин знает — спросите! Но я думал, что это настоящее письмо… — растерянно проговорил Тимка, переводя взгляд на чертеж. И снова повысил голос: — Он предатель и трус, этот боцман! Его надо расстрелять, а вы его взяли к себе!
По лицу штурмбанфюрера скользнула досада.
— Нет… Мы думаем, что он погиб… Эта бумажка попала ко мне через десятые руки… Но почему ты сразу догадался, что это делал твой папа? Что здесь изображено?
— Грот! — воскликнул Тимка так неожиданно и решительно, что штурмбанфюрер невольно приподнялся, а командир крестоносца, который до этого мрачно курил в своем углу сигарету за сигаретой, встал и подошел ближе.
— Какой грот?.. Что за грот?.. — осторожно спросил штурмбанфюрер.
— Когда мы играли с папой в войну… — начал Тимка и зашарил глазами по столу в поисках карандаша, бумаги: он все обдумал, чтобы врать правдоподобно.
Командир эсминца догадался, что ему надо, сразу достал и положил перед Тимкой блокнот, а рядом — красивую, черную с позолотой авторучку, которой Тимка невольно залюбовался.
— Когда мы с папой играли в войну, — опять начал он, вооружившись пером и блокнотом, — мы искали друг друга. И папа придумывал разные обозначения! Ну, к примеру, кусты, отдельные кусты, которые выше других, мы обозначали треугольником. — И Тимка нарисовал треугольник. — А камни в воде — кружочком. — Он продемонстрировал, как это делалось. — Летучие скалы — буквой П: они ж как ворота. — И Тимка нарисовал букву П. — А ромбик — это значило грот! Но папа всегда сообщал два пеленга. И если дерево, то как-нибудь указывалось, какое дерево. Ну, что под ним, например, два куста рядом! — Тимка изобразил кусты.
Штурмбанфюрер заметно разволновался, наблюдая за его рисунками, и несколько раз безнадобности пригладил волосы.
Что ромбик на схеме действительно изображал грот, Тимка не сомневался и сказал правду. Но не потому, что отец обозначал гроты ромбиком; они никогда здесь не играли в войну: разве станет ползать по колючим кустам мама? Зато отец любил давать названия гротам, и где-то были на склоне грот «Пирамида», грот «Запятая», грот «Кристалл» и даже грот «Штанишки» — названия давались в зависимости от формы пещеры или от формы входа в нее. И прошлым летом отец разыскал грот, который внутри был правильной ромбической формы. Кажется, он показал его в тот раз, когда они отдыхали вместе с Вагиными. Но этого Тимка не запомнил, как не запоминал он и названия гротов, потому что во всем полагался на отца… А теперь мучительно пытался восстановить в памяти местонахождение «Ромба». Успех всего дела зависел теперь оттого, сумеет ли он найти его раньше немцев.
— Хорошо, ты молодец, Тима… — похвалил штурмбанфюрер. — Ну, а где он, этот грот, ты знаешь?
— Там! У Летучих скал! — с готовностью пояснил Тимка. — Но только их много, я не знаю какой!
Штурмбанфюрер волновался и не скрывал этого. Но привычка наблюдать за собеседником не оставляла его, и пристальные зеленоватые глаза неотрывно следили за Тимкой.
А Тимке хотелось взять с собой бумажку с чертежом, аккуратно разгладить ее… И хранить всю жизнь! Потому что это было завещание отца ему, Тимке, сыну. Отец незримо присутствовал в кают-компании. И покусывал губы, когда сын готов был сорваться. И ободряюще, весело смеялся глазами, когда Тимка находил выход из положения.
— Что значит — много? Пять, десять? — спросил штурмбанфюрер.
— Бо-ольше… — поведя головой, озадаченно сказал Тимка. И тут же приободрил штурмбанфюрера: — Но мы найдем! Мы их все найдем! Мне надо только посмотреть, вспомнить! С прошлого года мы там уже не были… — добавил он в свое оправдание.
Он знал, что может растянуть поиск на целый день, он растянет его до ночи, чтобы попытаться найти грот самому. А если это не удастся, у него ведь уже был один вариант в запасе, чтобы поставить точку…
— Ничего, вспомнишь! И мы займемся этим сегодня? — весело воскликнул штурмбанфюрер, откидываясь на спинку стула, что можно было понять как сигнал к тому, что разговор окончен.
Тимка встал.
— Мы идем к Летучим скалам?..
— Да! — сказал штурмбанфюрер. — Тебя это не радует?
Тимка потупился.
— Там… Там погиб мой папа, — сказал он, исподлобья взглядывая на штурмбанфюрера.
Тот в свою очередь тоже поднялся.
— Мы, Тима… Мы положим венок на его могилу! — нашелся он. И все же добавил: — После того, как найдем, хорошо?
— Хорошо… — сказал Тимка. — Благодарю вас. А это… — он показал головой на листок, — можно мне будет… после того, как найдем, — уточнил он, — взять это?..
— Разумеется, разумеется! — оживился штурмбанфюрер.
Тимка еще раз серьезно поблагодарил и направился к двери.
— Я могу уйти?
Штурмбанфюрер о чем-то быстро переговорил с командиром крестоносца. Тот взял блокнот и шелестнул страницами, проверяя, нет ли в нем каких записей.
— Подожди, Тима! — штурмбанфюрер поманил его к столу. — Командир корабля дарит тебе эту ручку и этот блокнот! Он видел, что они тебе понравились!
Тимка взял ручку и блокнот, сказал командиру эсминца «спасибо».
Тот что-то хмуро ответил. Ему определенно не нравилось все это дело.
— Не за что! Не за что! — весело ответил Тимке за хозяина авторучки штурмбанфюрер и махнул рукой на выход. — Сейчас вам принесут в каюту поесть, подзаправься — так у вас говорят? — и скоро приступим к делу!
Тимка вышел, прикидывая, что лучше, конечно, «подзаправиться» в каюте с Шавыриным, чем, например, здесь, под наблюдением ловкого, расчетливого штурмбанфюрера.
«ПОКРОВИТЕЛИ»
Обед на двоих принес в каюту все тот же сопровождающий. Какой-то жиденький суп на первое, на второе — биточки. Опять появилась бутылка воды и полбутылки вина для Шавырина. Вода была запечатана, а вино открыто, и Тимка брезгливо подумал, что напарнику его собрали какие-нибудь ополоски с офицерского стола… Невольно отодвинулся от Шавырина. А чтобы тот не заметил его движения, занялся бутылкой с напитком. Шавырин ел неторопливо и приставал с разговорами. А Тимка думал об Асе, о боцмане Василе — что сейчас едят и пьют они?.. Время ожиданий кончилось, и ему надо было вообще о многом подумать, чтобы потом уж только действовать… Обстоятельства сложились так: он находится на крестоносце, имеет здесь относительную свободу передвижения, эсминец направляется к Летучим скалам, где в одном из гротов прячутся Ася и раненый дядька Василь. Где-то там же, в гроте, имеющем форму ромба, находится посылка… Тимка не знает, где искать грот, но должен использовать все эти обстоятельства. — Значит, ты думаешь, что вы найдете эту штуку? — в который раз переспросил Шавырин. Тимка в общих чертах рассказал ему, о чем шла речь в кают-компании, и Шавырин заметно повеселел. Вино еще больше подняло его настроение, опять он улыбался Тимке, опять играли ямочки на его щеках, и Тимка не собирался его разочаровывать. — Конечно, найдем! — Ну, тогда я вместе с тобой на Пасху закачусь! — радостно обещал Шавырин. — Если я вам рассказал свои планы, так вы не смейтесь, — строго предупредил Тимка. — И мне не надо, чтобы вы со мной ехали! Сидите тут, как этот… да пьянствуете еще! — Ладно, ладно! — дружески увещевал его Шавырин. — Я пошутил. Я и без тебя найду, куда податься. Было б на что! — Вот и подавайтесь! — раздраженно посоветовал Тимка. — А что ты так со мной разговариваешь? — обиделся Шавырин. — Отец тебя так учил? — Нет, как разговаривать с пьяными, он меня не учил! — отпарировал Тимка. — Он же не знал, что я с вами познакомлюсь. — Ну и зверюга ты! — выругался Шавырин. — Будете оскорблять — я на вас пожалуюсь, — предупредил Тимка и, пока тот не успел ответить, схватив подаренную ему кожанку, выскочил за дверь. Шавырин озадаченно ругнулся ему вслед. В коридоре Тимка надел кожанку и неторопливо двинулся к носовому люку, напряженно раздумывая, как, что получится у него. Постоял возле огнетушителей, заглянул в открытый кубрик, но заходить туда не стал; обнаружил большой железный ящик с боцманским хозяйством: новенькими швабрами, запасными кранцами, ветошью, с разнокалиберными кусками и целыми бухтами пенькового троса, поднялся через матросский люк наверх.
Он хорошо понимал, почему схему, что набросал отец, ему дали посмотреть только здесь, на корабле: он лишался малейшей возможности передать ее кому-нибудь…
На верхней палубе задерживаться не стал, а сразу полез на мостик, к своим новым знакомым. Длинный встретил его приветливо, похлопал по плечу, как бы поощряя Тимкино любопытство, проговорил несколько одобрительных по тону фраз, но рассказывать о том, как он «бабахнул руса» и как тот забулькал с третьего выстрела, не стал.
А Тимка в ответ покивал ему, что должно было означать: «Все понял, все хорошо!» И молча постоял, разглядывая орудие. Память его должна была точно зафиксировать местонахождение рукоятей, предохранителя, стопоров, расстояние от снарядного ящика до замка… И когда он, проверяя себя, ненадолго закрыл глаза, в памяти сохранилась фотография орудия. Он открыл глаза, и детали этой зрительной фотографии совпали с действительными деталями. Он отошел к леерам.
Где-то впереди по курсу ждали его Летучие скалы, и он сердцем чувствовал их приближение. Потому что в море он был один, а там находились его друзья, и тоненькая ниточка близости уже протянулась между ними через море. Это было какое-то странное щемящее чувство. Нельзя сказать, больше радостное или тревожное. Тимка не знал, что принесет серим друзьям. Если от них во многом зависела судьба операции, их личные судьбы зависели теперь от Тимки…
А еще у Летучих скал была могила…
Он думал о предстоящих событиях, когда внизу появился из рубки его высокий «покровитель». Штурмбанфюрер увидел на шкафуте сопровождающего, подозвал его к себе и, что-то приказав, опять скрылся в рубке.
Сопровождающий побежал на ют, нырнул через люк вниз. Тимка решил, что его разыскивают, и отошел от лееров, чтобы стать невидимым снизу. А когда сопровождающий опять выскочил на палубу, Тимка, двигаясь вокруг мачты, проводил его вдоль борта на бак, злорадствуя в душе, что тому приходится бегать.
Черная блямба скрылась за носовым орудием, а сигнальщика на месте не оказалось, к великому Тимкиному сожалению: он бы с удовольствием посмотрел еще раз, как молча бесится этот плюгавый фашистик. Но тот, видимо, ушел к правому орудию, поболтать с артиллеристами, куда убегал от Тимки в прошлый раз.
Сопровождающий, однако, искал не его. И Тимка еще дальше отодвинулся от лееров, когда тот появился рядом с Шавыриным — еще одним Тимкиным «покровителем». Подвел его к рубке и показал на вход. Шавырин легко, почти не держась за поручни, взбежал по низенькому трапу наверх.
Тимка метнул взгляд направо, налево, подскочил и выглянул из-за мачты в сторону одного бортового орудия, потом в сторону другого. Никакой мгновенной опасности не заметил. И хотя это было рискованно с его стороны — не удержался: подбежал к выходам переговорных труб на сигнальном посту. Взял в руки для отвода глаз, если его застанут, первый попавшийся флажок, выхватил заглушку из одной переговорной трубы, из другой… А Летучие скалы уже вырастали впереди, и крестоносец готовился к развороту.
Есть! Тимка развернул набок заглушку в раструбе и отодвинулся чуть в сторону, чтобы только слышать долетавшие до него голоса. Расправил перед собой флажок…
В коридоре Тимка надел кожанку и неторопливо двинулся к носовому люку, напряженно раздумывая, как, что получится у него. Постоял возле огнетушителей, заглянул в открытый кубрик, но заходить туда не стал; обнаружил большой железный ящик с боцманским хозяйством: новенькими швабрами, запасными кранцами, ветошью, с разнокалиберными кусками и целыми бухтами пенькового троса, поднялся через матросский люк наверх.
Он хорошо понимал, почему схему, что набросал отец, ему дали посмотреть только здесь, на корабле: он лишался малейшей возможности передать ее кому-нибудь…
На верхней палубе задерживаться не стал, а сразу полез на мостик, к своим новым знакомым. Длинный встретил его приветливо, похлопал по плечу, как бы поощряя Тимкино любопытство, проговорил несколько одобрительных по тону фраз, но рассказывать о том, как он «бабахнул руса» и как тот забулькал с третьего выстрела, не стал.
А Тимка в ответ покивал ему, что должно было означать: «Все понял, все хорошо!» И молча постоял, разглядывая орудие. Память его должна была точно зафиксировать местонахождение рукоятей, предохранителя, стопоров, расстояние от снарядного ящика до замка… И когда он, проверяя себя, ненадолго закрыл глаза, в памяти сохранилась фотография орудия. Он открыл глаза, и детали этой зрительной фотографии совпали с действительными деталями. Он отошел к леерам.
Где-то впереди по курсу ждали его Летучие скалы, и он сердцем чувствовал их приближение. Потому что в море он был один, а там находились его друзья, и тоненькая ниточка близости уже протянулась между ними через море. Это было какое-то странное щемящее чувство. Нельзя сказать, больше радостное или тревожное. Тимка не знал, что принесет серим друзьям. Если от них во многом зависела судьба операции, их личные судьбы зависели теперь от Тимки…
А еще у Летучих скал была могила…
Он думал о предстоящих событиях, когда внизу появился из рубки его высокий «покровитель». Штурмбанфюрер увидел на шкафуте сопровождающего, подозвал его к себе и, что-то приказав, опять скрылся в рубке.
Сопровождающий побежал на ют, нырнул через люк вниз. Тимка решил, что его разыскивают, и отошел от лееров, чтобы стать невидимым снизу. А когда сопровождающий опять выскочил на палубу, Тимка, двигаясь вокруг мачты, проводил его вдоль борта на бак, злорадствуя в душе, что тому приходится бегать.
Черная блямба скрылась за носовым орудием, а сигнальщика на месте не оказалось, к великому Тимкиному сожалению: он бы с удовольствием посмотрел еще раз, как молча бесится этот плюгавый фашистик. Но тот, видимо, ушел к правому орудию, поболтать с артиллеристами, куда убегал от Тимки в прошлый раз.
Сопровождающий, однако, искал не его. И Тимка еще дальше отодвинулся от лееров, когда тот появился рядом с Шавыриным — еще одним Тимкиным «покровителем». Подвел его к рубке и показал на вход. Шавырин легко, почти не держась за поручни, взбежал по низенькому трапу наверх.
Тимка метнул взгляд направо, налево, подскочил и выглянул из-за мачты в сторону одного бортового орудия, потом в сторону другого. Никакой мгновенной опасности не заметил. И хотя это было рискованно с его стороны — не удержался: подбежал к выходам переговорных труб на сигнальном посту. Взял в руки для отвода глаз, если его застанут, первый попавшийся флажок, выхватил заглушку из одной переговорной трубы, из другой… А Летучие скалы уже вырастали впереди, и крестоносец готовился к развороту.
Есть! Тимка развернул набок заглушку в раструбе и отодвинулся чуть в сторону, чтобы только слышать долетавшие до него голоса. Расправил перед собой флажок…
Штурмбанфюрер. Тревожит меня во всем этом одно: куда делся боцман… Ну, а на что он может надеяться, если лжет? Шавырин. Да рвануть — чего еще?! У него это первая мысль всегда: рвануть! Штурмбанфюрер. Я говорю не о том… А впрочем — да, о том. Вы полагаете, он может фальшивить? Шавырин. Выкобенивается он! Все время! Штурмбанфюрер. Что такое «выкобенивается»?.. Ах, да… Но если он выкобенивается, то это получается у него, надо признать, здорово! Шавырин. Нянькаетесь вы с ним! Штурмбанфюрер. А вы что предлагаете? Шавырин. Да ведь он голову мне скрутит, если так баловать! С ним не знаешь, как вести себя. Захочет — то, захочет — это! Штурмбанфюрер. Уметь вести себя — это и есть искусство разведчика. Тренируйтесь. Учитесь этому. Шавырин. Хорошо учиться с нормальными людьми. А это — псих! Самый настоящий псих! Ей-богу! Штурмбанфюрер. Лучше — дай бог, чтобы это было так… Мальчишка чрезвычайно умен… Шавырин. Не знаю. Ума его я не видел. Просто возомнил о себе, что он пуп земли, вот и все! Штурмбанфюрер. Он вас просто не уважает. Дети чувствуют ограниченность… Шавырин. Я бы не нянькался с ним, я бы — за горло… Штурмбанфюрер. Если он лжет — чем меньше выкажете вы подозрений к нему, то тем раньше он выдаст себя. На берегу оцепим район. Но вы приглядывайте за ним. Помните, что эта посылка прежде всего — ваша судьба. А если он зачем-то выдумал все эти гроты… Фальшивит он или нет — заставим работать на нас… Вечером, как освободитесь от него, зайдите. Придумаем новую систему воздействия…
Тимка развернул заглушку в нормальное положение, сунул на место флажок, выглянул из-за рубки — никто не обратил на него внимания. И, только подходя к орудию Макса, он испытал тяжелое волнение. Вторично за время своего пребывания на корабле он сделал глупость: этот подслушанный разговор, как и его ребяческая шутка с Максом, ничего ему не давали, а потому не следовало рисковать… От напряжения, от запоздалой тревоги глаза его замутилисъ влагой, и он как бы ослеп на время: глядел через леера и не замечал, как эсминец разворачивается, как дает задний ход… И вдруг увидел, что они уже вошли в бухту между Летучими скалами.
ПЛАН СКЛАДЫВАЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО
Впервые Тимка смотрел на Летучие скалы изнутри и так близко. В тот раз, когда заходили сюда на глиссере, впечатление было не таким сильным. Скалы тяжело нависали над самой головой, и не зря артиллеристы опять непроизвольно опустили стволы. Тимка проверил для себя: орудие Макса было развернуто точно в диаметральной плоскости корабля. Да и какой артиллерист бросит его развернутым как попало! Если теперь опустить ствол ниже, до упора, а затем развернуть на три — четыре градуса влево или вправо — все должно получиться как надо… Гремела якорная цепь. И где-то поблизости этот грохот слушали дядя Василь, Ася… Тимка опять глянул вверх, на скалы. В порыве неощутимого здесь, в затишье, ветра мелькнула на фоне серого неба зеленая ветвь сосны… И новая неожиданная идея осенила Тимкину голову. Будто невзначай, то задирая голову кверху, то поглядывая вниз, на палубу, он скользнул на мачту, к хозяйству сигнальщика. Но тот оказался на месте. И встретил его таким взглядом, что, не познакомься Тимка с ним раньше, подумал бы теперь, что сигнальщик видел, как он подслушивает у переговорных труб. Но сейчас Тимке было не до этого. Пока не дали отбой, пока весь экипаж находился на боевых постах, он метнулся по трапу вниз. Матросы взглядывали на него удивленно, когда он пробегал мимо. Но ему было все равно, как они смотрят. Пусть злятся, думая, что он разбаловался. На юте уже отдавали трап. Тимке во всех отношениях было удобней попасть на среднюю палубу через носовой люк. Там, почти под люком, находился ящик с боцманским хозяйством. И когда Тимка соскочил на среднюю палубу, возле ящика никого не было. Одно мгновение — чтобы оглянуться, одно — чтобы открыть ящик, два-три мгновения — на выбор из десятка тросовых бухт одной, компактной, но чтобы в ней было не менее двадцати — двадцати пяти метров, потом еще мгновение — чтобы сунуть трос под кожанку, и одно, последнее мгновение — чтобы закрыть ящик. Тимка огляделся. Никто не видел его во время операции. Стучали на палубе шаги, раздавались голоса команд. Теперь скорее в каюту, пока не вернулся Шавырин. У двери чуть не налетел на сопровождающего с блямбой. Извинился, огибая его. В каюте пока никого не было. Изнутри она не запиралась. Тимка заметил это еще при самом первом ознакомлении со своим новым жильем. Надо было действовать, не теряя ни секунды. Вытряхнув трос на рундук, Тимка бросил на него кожанку. Завернул куртку на животе, выдернул из-под брюк тельняшку… Уложив трос на левом боку и на животе так, чтобы не очень выпирал из-под одежды, одним движением заправил тельняшку под ремень, а когда набросил кожанку, уловил шорох за дверью. Распахнул коробку конфет и загреб их всей горстью. Штурмбанфюрер открыл дверь без стука. — Вот ты где, Тима! — Я только что пришел! — А почему запыхался? — Хочу артиллеристов угостить! Я там познакомился с одним — Максом зовут! — Тимка показал штурмбанфюреру конфеты. — Веселый… Штурмбанфюрер махнул рукой, опускаясь на рундук Шавырина, и закинул ногу на ногу. — Конфеты потом, Тима… Потом угостишь. Артиллеристы — взрослые люди, обойдутся… Тимка высыпал конфеты назад, в коробку. — Присядь… — штурмбанфюрер указал на противоположный рундук. Тимка сел, выжидающе глядя на него, и не спеша застегнул кожанку. — Что, ты считаешь, может понадобиться нам? — спросил штурмбанфюрер. — Люди? Инструмент? — Инструмент? — повторил Тимка и задумался. — Конечно! Ведь, наверно же, если что-нибудь прячут — зарывают, наверно? Лопаты и все, чем роют! Люди, конечно! Вы же не будете сами копать? — А как долго, по-твоему, нам придется искать? — перебил его штурмбанфюрер. Тимка замялся. — А я… н-не знаю… Может, сразу, а может… Ведь это и вы не знаете. А гроты мы найдем быстро!.. — заверил он. — Главное, найти их все! Я даже так помню некоторые! Это тут справа сейчас от вас, на склоне! И по всему склону! Если не найдем сегодня… — Тимка засомневался: — Если не сегодня, так завтра! Это ж как повезет! А может, повезет сразу! — Он радостно улыбнулся. И похоже, что убежденность его понравилась штурмбанфюреру. В ответ на улыбку он тоже улыбнулся и, дружески хлопнув Тимку по плечу, поднялся. — Разыщи своего товарища… Где он? Собирайтесь и выходите на ют, к трапу. Кстати, я разрешал тебе одному ходить по кораблю, о товарище твоем уговора не было… Ты напомни ему об этом. — Да он, наверно, где-нибудь здесь! — сказал Тимка, поднимаясь вслед за офицером. — Он выпил немножко, а так он не выходит! Штурмбанфюрер одобрительно кивнул, приоткрыв дверь на выход. — Нравится тебе каюта? — Удобная! Только иллюминатор не открывается. — Я поговорю насчет иллюминатора, — пообещал штурмбанфюрер и, еще раз кивнув на прощание, вышел. Шавырину, когда он вернулся, Тимка дал нагоняй: — Вы вот меня удерживали здесь, а сами ходите! Вам же не разрешали ходить! Мне сейчас из-за вас попало! Выпьете, а потом начинаете всякое! Вас еще заметят, а мне запретят! И я должен буду вот так сидеть здесь сложа руки! — Тимка показал, как сидеть. — Ладно, ладно… — ворчал Шавырин, не зная, что ему ответить на это. — Разрешили тебе, — значит, никто не запретит… — Никто! — повторил Тимка. — Я еще за вас вступился: здесь он, говорю! А вы, может, надумаете удрать без меня! А я вступайся! — Ну, ладно! Спасибо, что вступился, хватит! — не выдержал и взмолился Шавырин. — Собирайтесь, и выходим… — сбавив тон, приказал Тимка. Но поскольку собирать ни тому, ни другому было нечего, оглядели пустую каюту и друг за другом вышли на палубу. Летучие скалы ждали чего-то, склонясь над Тимкой, словно им очень нужно было что-то сказать или передать ему, их старому-старому другу, но они не могли наклониться ниже, чтобы шепнуть на ухо, а говорить громко было нельзя.НА ЛЕЗВИИ НОЖА
В распоряжении Тимки было очень мало времени. Сегодня ему еще удастся поводить за нос штурмбанфюрера в оставшиеся три — четыре часа до темноты. Но завтра все обернется против него, и Тимка не заблуждался на этот счет. По топоту ног на палубе во время его беседы со штурмбанфюрером он понял, что вокруг Летучих скал выставили охранение. На развернутых шлюпбалках правого борта уже покачивалась над водой приготовленная к спуску шлюпка, хотя при таком ветре даже отличному пловцу не уйти морем. Но если Тимка отважится на это — в шлюпку прыгнут гребцы, и через две-три минуты его вытащат на борт, как нашкодившего кутенка… Впрочем, там, на склоне, ему предоставят, конечно, видимость свободы; ни шлюпки, ни часовых… Только это ему и нужно. Шестеро матросов, вооруженных небольшими саперными лопаточками, уже поджидали на берегу, когда появился штурмбанфюрер. Кивнул Шавырину и Тимке в сторону трапа: «Прошу…» Тимка сошел на землю первым и, как воспитанный мальчик, подождал штурмбанфюрера. — Командуй, Тима… — разрешил тот. И Тимка двинулся по тропинке в обход залива. Следом за ним пошел, мягко ступая по гравийной дорожке, штурмбанфюрер, потом — Шавырин и, цепочкой, вооруженные лопатками матросы. Теперь каждое движение Тимки должно было стать предельно точным и рассчитанным заранее: он ступил на лезвие ножа… Нельзя допустить, чтобы немцы приблизились к укрытию боцмана Василя и Аси, но в то же время нельзя было уходить далеко, чтобы самому переговорить с друзьями. Шагая по гребню склона, Тимка будто чувствовал на себе их непонимающие, встревоженные взгляды. — Начнем оттуда, с середины, — развивал он свой план, оглядываясь на офицера. — Там я знаю самый большой грот. Они есть и дальше, по всему спуску, но ведь если что-то прятали, наверно, скорее где-то здесь? Штурмбанфюрер одобрительно улыбнулся ему, предоставляя полную свободу действий. И, отойдя метров на двести пятьдесят от убежища дядьки Василя с Асей, Тимка повел всех вниз. Район Летучих скал был мало известен по той причине, что люди избирали для отдыха, как правило, уютные песчаные пляжи, которых было в достатке на побережье, и никого не привлекал этот заросший колючим кустарником склон. Только отец в молодости открыл для себя его тайну. — Вот, — сказал Тимка, подводя свою разношерстную команду ко входу в самый большой изо всех гротов. Он был вместительный, как хорошая комната, и входить в него можно было почти не сгибаясь. Однако замаскированный кустарником зев грота даже вблизи оставался невидимым. Штурмбанфюрер кивнул, по достоинству оценивая удобство открывшегося перед ним убежища. — Да, Тима. Если б я стал что-нибудь прятать — я избрал бы что-то похожее… Так? — И он глянул на деревья по гребню склона: какое из них могло служить ориентиром? — Конечно! — подтвердил Тимка. И хорошо понял взгляд штурмбанфюрера, потому что сам давно уже лихорадочно отыскивал среди сосен ту, единственную, которую отец избрал для пеленга. Штурмбанфюрер отдал команду матросам, те включили фонарики и начали планомерно вскапывать дно грота от самых стен, выворачивая из-под ног целые каменные плиты. Тимка вышел наружу. Шавырин молча последовал за ним. Игра началась. Что-то похожее на кошки-мышки. К сожалению, силы были слишком неравны, и вся добрая сотня кошек с крестоносца охотилась на одну мышь — Тимку. Он должен был уйти от них на минуту, на две, на три, чтобы приблизиться к убежищу Аси. Но до этого еще он должен был найти «Ромб», иначе победа его оборачивалась половиной победы… Только половиной! Тимка сразу взял удобный для него быстрый темп. На его стороне было умение карабкаться по склону и знание гротов, поэтому он мог не тратить время на их розыск. Но с видом ищущего рыскал между кустами, поднимаясь наискосок по склону, чем уже сокращал расстояние между собой и Асей. — Еще есть! — Он подозвал Шавырина. В эту нору мог влезть только один человек, ползком. — Господин штурмбанфюрер! — окликнул Шавырин. (Не долго он усваивал это — «господин»…) Тот быстрым шагом приблизился, одобрительно улыбнулся Тимке: — Молодец! Очень похвально, Тима! — И что-то прокричал в сторону большого грота. Один из матросов отделился от группы. А Тимка, опять наискосок, уже спускался к морю (еще на два десятка метров ближе к Асе), опять зарыскал между кустами, оттягивая время, чтобы вспомнить, где же находится он, этот до зарезу необходимый ему «Ромб». Отец не мог так просто дать пеленг, даже под пулями, даже в бою. Но где было то странное дерево? И Тимка в бессилии кусал губы, начиная сознавать, что «Ромба» ему не найти, что вид заросшего кустарником склона не вызвал в его памяти никаких ассоциаций, хотя он сильно надеялся на это. С находкой «Ромба» в их последний или предпоследний приезд сюда было что-то связано. А что — он забыл и даже приблизительно не мог вспомнить… — Идите сюда! — махнул он рукой Шавырину, «отыскав» тот самый грот, что за свою странную форму получил неромантическое название «Штанишки». — Господин штурмбанфюрер! — опять подхватил его сигнал Шавырин, и они подошли вместе. Тимка понял вдруг, что игра, которую он затеял, которую надеялся завершить в сумерках, разворачивается в гораздо более быстром темпе и, если он хочет победить в ней, сбавлять скорость нельзя. Нельзя, пока радостно ухмыляется Шавырин, нельзя, пока одобрительно и доверчиво смотрит на него, Тимку, штурмбанфюрер. — Молодец, молодец, Тима! — Он похлопал его рукой с перчатками по плечу и отозвал из большого грота еще двух матросов. — А там, я знаю, еще один! — обрадованно воскликнул Тимка, указывая наискосок, вверх по склону. Теперь Шавырин и офицер последовали за ним сразу. Согнувшись пополам, Тимка вошел в новое убежище первым, штурмбанфюрер и Шавырин — за ним. Штурмбанфюрер осветил фонариком длинную, около шести метров, пещеру, похвалил, когда выбрались наружу: — Действуй, Тима! Я вижу, ты правда знаешь этот район! — Он оглянулся в сторону трех других нор, отзывать людей оттуда было уже нельзя. — Действуй, а я заберу еще матросов. — И, глянув на Шавырина, он стал карабкаться вверх. Именно теперь в распоряжении Тимки появились те несколько нужных ему минут. Он знал, что сможет без труда оторваться от Шавырина, который многое бы дал, чтобы отыскать загадочную посылку самостоятельно, без участия матросов. И Тимка повел его сначала параллельно берегу моря. Показал вниз: — Тут, я знаю, есть ямка, но неглубокая, а вон там — три, самые надежные! Вы запомните или стойте около них! — И он стал карабкаться, обдирая ладони, вверх, к трем узким, но длинным норам. Карабкался яростно, потому что горло душила обида: ему не найти «Ромба» уже потому, что в его распоряжении слишком мало времени! — Вот! — издалека показал он Шавырину. — Одна, вторая, третья! Эти особенно запомните! — И почти напрямую двинулся через кусты к убежищу Аси. Шавырин всего несколько минут колебался, глядя ему вслед. Но, во-первых, Шавырину было не угнаться за Тимкой на крутом склоне: он скользил и срывался уже несколько раз. Во-вторых, Тимка не уходил от крестоносца, а приближался к нему. В-третьих, Шавырину очень хотелось вытянуть счастливый билет… И, подобрав из-под ног обломок сухой жерди, он полез на четвереньках в нору. Возможно, Тимка ошибся, дав поискам сразу высокий темп. Но эти минуты могли исчерпать доверие штурмбанфюрера… Ведь стоило ему послать на корабль кого-нибудь из матросов, а самому остаться рядом с Тимкой — и все бы сразу намного осложнилось. Быстрота, с какой Тимка отыскивал грот за гротом, и ослабила бдительность шефа. — Ася! — громким шепотом позвал Тимка, обойдя ее убежище снизу. — Дядя Василь! Ася! — И холодок прошел по спине Тимки, потому что ни шороха не раздалось в ответ. У него не было времени на раздумья. Минуты, что отвоевал он у обстоятельств, истекали. Поскользнувшись, что было не так уж трудно здесь, на крутом склоне, Тимка упал и почти сразу вскочил на ноги. Но то, что он увидел при этом, сразило его надежней пули из автомата. Задыхаясь от обиды и горя, он стал карабкаться вверх по склону, чтобы случайно не навести немцев на это печальное убежище. Аси в нем не было: он увидел накрытое плащом и обложенное камнями тело боцмана. Дядька Василь умер, Ася ушла… Тимка доведет свое дело до конца, но некому будет рассказать об этом, и никто никогда не найдет посылку… — Тима! Он резко оглянулся и вздрогнул. Его окликнула Ася. Она скрывалась в каких-нибудь полутора — двух шагах от него. Но Тимку ошеломило еще и другое: Ася пряталась в «Ромбе»! Услышав ее оклик, он бросил взгляд в сторону Летучих скал и мгновенно вспомнил, что было связано с этим гротом, что означал странный пеленг отца. Именно с этого места, как ниоткуда больше, четыре сосны-рыбачки сливались в одну. И очертания ее сильно напоминали фигуру молодой женщины с развевающимся на ветру подолом юбки! Отец говорил: «Слабые не выдержали, ушли. Но одна, самая преданная, осталась…» Отец был страшным выдумщиком! Жаль, что Тимка частенько слушал его лишь краем уха… Все это молнией промелькнуло в его голове, пока он переводил взгляд сначала в сторону откоса, где рыли немцы, потом на Шавырина, который вылез наружу из первой щели и, удостоверившись, что Тимка здесь, уже вползал на четвереньках в следующую… — Молчи, Ася! Слушай внимательно и молчи! — приказал Тимка, не выпуская из-под наблюдения весь гребень склона, где вот-вот мог появиться штурмбанфюрер с матросами. Дернул тельняшку из-под ремня, чтобы веревка упала на землю. Ногой затолкнул ее под куст. — Слушай, Ася! Запоминай все до слова, повторить я не смогу! Как только стемнеет, привяжешь эту веревку к самой крайней сосне и спустишь на корабль! Если сможешь, Ася! Повторяю: если будет можно! А теперь главное! В левом углу этого грота… — Для отвода глаз он рвал и пихал в рот горькие волчьи ягоды. Выплевывал и рвал снова. — В левом углу твоего грота зарыт ящичек-рация и еще, наверно, пакет! Ночью, Ася, — ты слышишь меня? — возьми это все и пробирайся в лес, ты должна пробраться! Уходи сначала по склону, потом напрямую! Будь осторожна у шоссе! Тебя остановят в лесу: «Кто идет?» Спросишь: «Вы ждете кого-нибудь?» Тебе ответят: «Мы ждем Асю со «Штормового». Тогда скажешь: «Ее зовут Ася Вагина». Тебя проведут, куда надо. Запомни, Ася, это главное для тебя: уходи сразу! Если не увидимся, прощай!.. — Он сделал шаг прочь от Асиного убежища, но задержался, когда что-то слабо пискнуло в кустах. — Еще, Ася… Я тогда не хотел тебя ударить, честное слово!.. Это нечаянно… Прощай! И Тимка полез напропалую в сторону от Летучих скал. Глаза его заволокли слезы, оглушающе колотилось сердце и, ослепленный, полубезумный от хмельного счастья свершения, он рвался через кусты, полосуя на клочья брюки, обдирая кожанку, — подальше от Аси, в сторону от Шавырина. И яростно свистел в ушах ветер: «Все!» И ударяло о берег море внизу: «Все!» И стонали сосны на гребне: «Все!» А может, это его беззвучный крик — тот крик, что наполнял душу, мозг, сердце, — воплотился в свист ветра, в грохот прибоя, в пение сосен на гребне: «Все!» «Все, папа! Ты слышишь меня?! Я сделал то, что не успел доделать ты! Теперь я только отомщу за тебя! Ты слы-шишь?! Я люблю тебя, па-па!» Он видел уголком зрения, что появился на гребне в сопровождении двух десятков новых помощников штурмбанфюрер, знал, что его поведение может показаться странным, но знал и то, что уже вечерело, что скоро-скоро окутает Летучие скалы ночь… а кроме того, на ресницах его сверкали слезы — и он не мог остановиться. Ворвался в первый, самый большой грот и, чтобы скрыть возбуждение, забрал у одного из матросов лопатку, сказал по-русски: «Отдыхай!», а сам стал рыть, чтобы физическим напряжением ослабить, приглушить свою шальную детскую радость. И когда в пещеру заглянул штурмбанфюрер, Тимка готов был к продолжению уже выигранной им игры. — Зачем ты, Тима? — недовольно поморщился штурмбанфюрер, указывая на лопатку. — Оставь! (Тимка передал лопатку матросу.) Ты нашел что-нибудь? — Да, много! — Тимка повел его наружу. — Штук пятнадцать уже нашел! В одном там Шавырин копает палкой! — показал Тимка, а в глазах штурмбанфюрера мелькнули жесткие огоньки: Шавырину следовало бы внимательней исполнять свои главные обязанности. — Пошлите людей, я буду показывать, а вы их направляйте! — распорядился Тимка. — Если мы сегодня не найдем, завтра — ручаюсь! Тимка разыскал по гроту на каждого из матросов, предоставив каждому сделать открытие в одиночку. Шавырина Тимкин покровитель наградил весьма выразительным взглядом и заставил тоже копать, справедливо полагая, что его собственного наблюдения за Тимкой будет достаточно. А Тимка старался держаться ближе к нему, но, как и тот, наведывался то к одному, то к другому из матросов, то к Шавырину, проверяя, как идут дела. Попадались жестяные банки из-под консервов, пустые бутылки, попался даже старинный рубль, но все это не только не радовало, но, кажется, даже разочаровывало подтянутого штурмбанфюрера. В поздних сумерках, когда наблюдать за Тимкой со стороны стало трудно, он разыскал его в первом большом гроте, где энергичные землекопы углубились уже по грудь в глинистое, щедро напичканное камнями дно пещеры. Поманил Тимку за собой. — Что это ты ел такое? — поморщился штурмбанфюрер. — Накрасился, да? — уточнил Тимка, вытирая ладошкой губы. — Волчьи ягоды пробовал! — Эту гадость? — Я знаю, что гадость, а попробовать хочется! — Их тут, как стрижовых нор, я гляжу… — останавливаясь, проговорил штурмбанфюрер, — этих гротов. Не сосчитаешь. — А папа так и называл их: «Стрижовые норы»! — согласился Тимка. Штурмбанфюрер помедлил, глядя ему в глаза. — А что, Тима, если ромбик в плане означает форму грота? Они же тут все разные… Тимка не отвел от него голубых маминых глаз. Переспросил: — Форму?.. Я такого не помню… Ну да, разные! Папа даже названия им давал. Но человеческие! Есть мамин грот, есть мой, а этот, большой, папа называл семейным! Секунду — другую штурмбанфюрер думал о чем-то, не отрывая от его лица холодного, немигающего взгляда. И Тимка тоже смотрел на него, выжидая. — Ладно, — заключил офицер. — Завтра как-нибудь планомерней займемся этим… Копались почти до темноты. Штурмбанфюрер велел прекратить работу, когда совсем стемнело и свет в пещерах мог привлечь со стороны моря ненужное внимание. На корабль возвращались молча, занятые каждый своими думами. Один Тимка был не прочь поболтать, но у его приятелей явно испортилось настроение. Тимка предпочел не трогать их.РАСПЛАТА
Оцепление было снято, когда они поднимались на крестоносец, либо его сделали менее плотным, потому что вслед за матросами-рабочими на корабль вернулись шестнадцать матросов-автоматчиков. Зато у трапа поставили на ночь двух часовых, и по одному- на баке, на корме. Уйти с корабля нормальным путем было практически невозможно. Да Тимка и не рассчитывал на это. В лице штурмбанфюрера не мелькнуло даже следов приветливости при расставании. Он скользнул взглядом по Тимке, а на Шавырине задержал его. Тимка понял этот взгляд и уже не каялся, что подслушивал их разговор с мостика. Если Шавырин должен встретиться со своим покровителем, для Тимки это будет первая и последняя возможность привести к завершению дерзко задуманное дело. Уже завтра отношение к нему на корабле будет иным… — Ужинайте и спать… — сухо приказал штурмбанфюрер. — Вы же не спали прошлой ночью… — Спасибо, — поблагодарил Тимка, хотя этого и не требовалось. В каюте их ждал ужин. Ели без удовольствия, в натянутом молчании. Шавырин был мрачен и не выдержал в конце концов: — Тут пока облазишь все твои норы — месяца не хватит! — Месяца хватит, — возразил Тимка. — Даже меньше. Почему вы решили? Шавырин проворчал что-то невразумительное и принялся за чай. Вина ему на этот раз не дали. Тимка хотел съязвить по такому случаю, но вовремя одумался. А когда сопровождающий унес приборы, Тимка сообразил, что его одолевает дремота. — Будем ложиться? — спросил Шавырина. Ночь за иллюминатором, когда он глянул, на секунду отодвинув шторку, чернела такая, про какую говорят: «хоть глаз выколи» — хорошая, настоящая ночь. В ответ на его предложение Шавырин замялся. — В гальюн сходить, что ли… — Давайте сходим! — поддержал Тимка. Сходили и возвратились вместе. Шавырин понял, что ему не улизнуть от Тимки, пока тот не уснет, и, открыв рундук, стал первым готовить постель. Тимка последовал его примеру. Легли и погасили настольную лампу. Под потолком каюты замерцал синий плафон ночного освещения. — Спокойной ночи! — пожелал Тимка, натягивая на себя одеяло, и повернулся лицом к переборке. — Спокойной ночи… — глухо отозвался Шавырин. Теперь главное было не уснуть. Штурмбанфюрер прав: они провели на ногах без малого сутки. Но Тимка не случайно провалялся весь вечер накануне. Ощутимо бежали минуты. Одна, другая, пятая… Никто не мог бы сказать, сколько их прошло всего, когда наконец Шавырин негромко позвал: — Тимоха… Слышь?.. Тимка невнятно замычал в ответ, давая знать, что уснул не совсем, что надо еще подождать… Он выгадывал время для Аси. Удастся или не удастся ей сделать первое из того, о чем просил он, — она должна уйти. Ей нельзя находиться рядом со скалами, когда начнет действовать он… Только бы она ушла… И опять ощутимо побежали минуты… Наконец, когда, по всем Тимкиным расчетам, истекло достаточно много времени, он решил изобразить, что спит. Даже попробовал храпеть, как взрослые, но поперхнулся: храпеть ему еще ни разу не удавалось. Потом он думал уже, что Шавырин отказался от своего намерения, и утешал себя лишь мыслью, что сможет или не сможет он сделать свое — Ася в любом случае уйдет, как он велел ей… Должна уйти! На корабле воцарилась общая тишина, какая бывает после отбоя. И Тимка хотел оглянуться на Шавырина, когда тот позвал его: — Тимка… — Потом опять: — Слышь, Тимоха?.. — И осторожно тронул его за плечо. Тимка не шелохнулся. Тогда Шавырин, отогнув одеяло, осторожно спустил ноги на пол, быстренько натянул брюки, фланелевку, неслышно зашнуровал ботинки и, чуть помедлив, чтобы удостовериться в Тимкином сне, выскользнул за дверь. Тимка все свои дальнейшие действия рассчитал заранее. Он знал, что в его распоряжении, возможно, всего одна минута, какая нужна Шавырину, чтобы добраться до верхней палубы. И действовал с четкостью автомата. Главное теперь — чтобы успела уйти Ася! А ему почти все равно даже, поймают его или не поймают… Лишь бы Ася ушла! Одеяло полетело на сторону, и, едва соскочив босыми ногами на пол, Тимка натянул брюки, вельветовую куртку, затем выхватил из шкафчика кожанку, полотенце и, смяв их, чтобы придать форму тела, накрыл одеялом. В следующую секунду он уже был за дверью и метнулся по коридору к носовому люку, где был гальюн, чтобы при случае сослаться на эту необходимость, когда носовой трап заскрипел под чьим-то тяжелым телом. Тимка прыгнул за большой медный бак с питьевой водой, весь втиснулся между ним и переборкой. Если его обнаружат здесь — это, можно сказать, конец… А его нетрудно было разглядеть даже при синем ночном освещении… Но сопровождающий с черной блямбой под носом, а это был он, прокрался мимо бачка к каюте. Тимка рассчитал верно: его не оставили без присмотра, и на смену Шавырину явился этот… Осторожно приоткрыл каюту, глянул на Тимкину постель… Все пока шло, как надо: он так же осторожно закрыл дверь и (судьба шла навстречу Тимке!) не пошел назад, мимо бака с питьевой водой, а поднялся по трапу к выходу на левый шкафут. Либо он решил дежурить на шкафуте, либо остался на трапе — это было на руку Тимке в любом случае. Мимо открытого матросского кубрика внизу, где так же ровно горела синяя лампочка, он проскользнул тенью и взлетел по трапу на верхнюю палубу. Держался края ступеней, чтобы трап не скрипнул под ним. На палубе распластался и, пользуясь тем, что носовое орудие прикрывало его от часового на баке, ужом скользнул к надстройкам фок-мачты. Теперь море штормило где-то близко от него. И свистел над Летучими скалами ветер. Пролежал не дыша две или три минуты у самого трапа, что вел на мостик, когда мимо прошел, взглядывая то на торпедные аппараты, то на воду за бортом, вахтенный офицер… Тимка испугался, что замысел его рухнул, когда возле бортового орудия ему почудился в кромешной темноте лежащий человек… По боевой готовности могли часть экипажа оставить на постах. Но, к Тимкиной удаче, матросы, видимо, перетрудились на ненужных им земляных работах, поэтому в открытых надстройках никого не было, а испугался он обыкновенной кипы брезента… Ни возгласа тревоги не раздалось внизу, пока он добирался до цели своего путешествия. Напрягая обостренные чувства, метнулся вокруг мачты по пулеметному мостику… Все его действия были рассчитаны заранее. Все было рассчитано, кроме одного: он не мог приводить в исполнение свой замысел, не зная наверняка, где Ася… Если она у сосен — это будет гибелью для нее… Веревки над мостиком не оказалось. Значит, Ася могла вязать ее сейчас прямо над эсминцем!.. Мысли Тимки, быстрые, четкие, казались выпуклыми, словно бы их можно видеть или даже тронуть ладонью. Не теряя драгоценных мгновений, взбежал по трапу на прожекторный мостик и, перегнувшись через леера и щупая руками темноту, обежал по кругу чуть не весь его пятачок… Молодец, Ася! Он поймал в кулак жесткую плетку троса и, заметив его местонахождение, почти тут же выпустил. Теперь только бы одно — только бы Ася ушла, не ждала Тимку у сосен! Шансов подняться наверх у него было мало, и он уже каялся, что заставил ее оборудовать трос… Однако волнение, что испытал он, когда обнаружил веревку, быстро улеглось, к Тимке вернулась прежняя точность движений. Соскользнув опять на пулеметный мостик, он обогнул мачту и захватил в рундуке сигнальщика две бухты тонкого сигнального фала, метров по сорок каждая, затем вернулся к орудию Макса и, приподняв заднюю стенку парусинового чехла, нырнул к пушке. Здесь приходилось работать абсолютно вслепую. Присев на место вертикального наводчика, Тимка неслышно убрал стопор и мягко, даже, казалось бы, неторопливо опустил ствол орудия до упора. Чувствовал, как загудели при этом натянутые леера мостика. Пересел на место горизонтального наводчика… и коротким движением перевел орудие на три — четыре градуса вправо. Почти физически ощущал, что все правильно, что ствол лег, как надо… Теперь снять предохранитель, открыть казенную часть… Болт зарядного ящика оказался даже без гайки. Снаряд плотно занял свое место в стволе. Закрыв мягко щелкнувший при этом замок, Тимка привязал конец сигнального фала к тросику (за который «достаточно дернуть», как показывал Макс), надел бухту через плечо, сунул под ремень запасную и, отбрасывая через голову виток за витком, выбрался из-под чехла наружу. Осторожно, как было задумано днем, пропустил фал через рым в палубе мостика, чтобы рывок получился в нужном направлении, и взбежал опять на прожекторный мостик… Он понял, что переоценил свои возможности, лишь тогда, когда, зажав обеими руками сброшенный со скалы трос, оттолкнулся и, утратив опору, закачался, подобно маятнику, над черной бездной внизу… Четырежды он подтягивался и перехватывал руками, но тонкий трос нельзя было сравнить с тем, по которому лазают на уроках физкультуры в школе… Руки сразу же занемели от бесплодного напряжения, и Тимка понял, что на раз ему еще хватит сил, а если потом он сделает хоть малейшую попытку приподнять свое тело — руки его соскользнут с троса, и он грохнется мешком на палубу крестоносца… Сразу пришло спокойное решение: он подтянется еще раз, чтобы обхватить трос ногами, высвободит одну руку и потянет за фал… Ему оставалось только это, чтобы не погибнуть глупо, бессмысленно, не доведя своего замысла до конца. Все. Мелькнуло последнее желание, чтобы Ася оказалась далеко от скал. Тимка напряг мускулы… и, ошеломленный, не сразу понял, что за опору получила его вытянутая вверх рука. Он сжимал в кулаке узел! Настоящий узел, какие делают лазание по канату почти детским занятием. Не веря своей удаче, подтянулся еще раз и опять нащупал узел. Потом опять!.. Славная Ася! Она была настоящей дочерью моряка и знала, что такое лазание по канату, что такое морской шкентель: в тесноте своего убежища она разрезала на полоски последнее одеяло и вплела их узелками через каждые тридцать — сорок сантиметров троса! Это было спасение. Уже не чувствуя боли в горящих ладонях, Тимка сбросил через голову сразу несколько витков сигнального фала и легко вскарабкался по натянутому струной тросу до самого верха, до скалы. Теперь важно было упереться в отвесный камень ногами, перехватывая прижатый к скале трос. Но и это, благодаря узелкам, получилось у Тимки довольно просто. И когда он, быстро перебирая руками трос, уже почти перевалил гребень скалы, то скорее почувствовал, а не услышал чей-то встревоженный голос на эсминце. Его исчезновение обнаружилось. Но теперь Тимка и не думал спешить. Чтобы сориентироваться, найти верное решение, тем, что внизу, на крестоносце, нужны хоть две-три минуты, а Тимке хватит одной! И новый уже, громкий возглас раздался на палубе эсминца, когда Ася подхватила Тимку под мышки, помогая ему вскарабкаться наверх. — Бежим, Тима! Будто знал он, что не уйдет вредная девчонка! — Подожди! — Тимка бросил на землю остатки фала, выдернул из-за пояса вторую бухту, соединил их и, выбирая слабину, увлек Асю через кустарник вниз, к «Ромбу». — Где часовой? — Далеко! — Ася дышала так, словно бы не он, а она вскарабкалась на пятнадцатиметровую высоту. Впрочем, у нее был тяжелый рюкзак за плечами — с посылкой, как догадался Тимка. А внизу, под скалой, уже грохотала железная палуба топотом множества бегущих ног: объявили тревогу. Тимка втолкнул Асю в пещеру, заскочил сам и рванул фал на себя. Теперь секунды значили все. Но взрыва не последовало. Фал зацепился за куст или дал слишком большую слабину. Тимка навалился на него всей тяжестью, выбирая сантиметр за сантиметром. И Ася ухватилась руками рядом… Земля качнулась под ними и вокруг них, осыпалась тяжелыми комьями сверху. Они упали, оглушенные, и целая серия мощных взрывов слилась для них в один долгий, все нарастающий грохот… Оттолкнув загородившую проход породу, Тимка выскочил наружу и, отобрав у Аси рюкзак, вскинул его себе за спину. Летучих скал больше не существовало. Они рухнули, и, сослужив последнюю службу, погибли с ними четыре сосны-рыбачки. Огненный столб медленно опускался над заливом, окрашивая землю окрест горячим, трепещуще-алым цветом. — За мной! — крикнул Тимка. Но задержался в рывке, услышав позади выстрел, мгновенно обернулся. Длинный Макс, уронив вдоль тела раненую левую руку, правой пытался взвести затвор автомата. Ася, присев на корточки, испуганно глядела на него. Наган, вылетев при отдаче из ее руки, валялся рядом. Тимка подхватил его… И выстрел из нагана опередил автоматную очередь на долю секунды. — За мной, Ася! — повторил Тимка. И они выскочили на гребень склона, чтобы лицом к лицу столкнуться с Шавыриным, который, видимо, первым кинулся на берег в поисках Тимки. Вид его был страшен: грудь и лицо в крови, одежда тлела. — Тимошка?! — в ужасе воскликнул он. Тимка спустил курок и промахнулся. А Шавырин бросился в сторону от него. Но там, дальше, был обрыв… — Тимох… Тимошка!.. Я свой! Свой! Наш я, русский! — взмолился Шавырин, протягивая вперед и вверх руки. — Не убивай, Тимошка! Наш я, слышишь?! Тимка многое хотел бы сказать в ответ: «За папу! За Асиного папу! За дядю Василя! За других краснофлотцев со «Штормового»!» Но у него не было времени, и оставался всего один патрон в барабане. Поэтому он сделал два быстрых шага и выстрелил в упор, не целясь. Откуда-то с противоположной стороны залива раздавались автоматные очереди. Пули засвистели над Тимкиной головой. — Бежим, Ася! — опять позвал Тимка, и они кубарем скатились в низину. Зарево угасало над остывающим заливом. Сначала Тимка увлек Асю дорогой вдоль моря, как бежал в прошлый раз, потом одумался: пока не улеглась паника, можно было воспользоваться кратчайшей дорогой к лесу… И, когда они выбежали в поле, автоматы по-прежнему строчили у моря, за их спиной.ВОЗВРАЩЕНИЕ
Тимка очень каялся теперь, что мало ходил босиком: ноги его горели. Но по-настоящему давали знать о себе лишь первые ссадины, потом боль притупилась и стала как бы чужой, не его болью. Бежали прямиком, без передышек. Упали в невысокую траву и залегли уже близко от шоссе. Ася не жаловалась, но, лихорадочно дыша, то и дело облизывала пересохшие губы. Вылетели на шоссе и промчались по направлению к Летучим скалам десятка два грузовых автомобилей с солдатами. Крепко держа Асю за руку, Тимка заставил ее снова бежать: через шоссе, через выжженное хлебное поле… До леса добрались затемно. Разыскали какое-то озерцо, напились, отдышались немного. Тимка стал искать место для дневки, справедливо прикидывая, что с рассветом двигаться будет опасно. Хорошо, что Ася не ушла одна… Нашли неглубокую выемку под нависшим берегом влажной, пахнущей гнилью балки. Натаскали к выемке прелого хвороста и, едва небо посерело настолько, что стали видимы дальние, по ту сторону балки деревья, замаскировались хворостом в своем неуютном убежище… Обстоятельства меняли кровлю над ними, но всякий раз она чем-то была похожа на ту, первую, что в развалинах рыбокомбината. Ася достала из рюкзака и разорвала свою кофточку, чтобы Тимка обмотал ноги. Саднящая боль как будто немножко улеглась при этом. У них не оставалось ни одного патрона, и обоих окружал чужой пока, незнакомый лес… Тимкины предположения оправдались: едва над балкой забрезжил рассвет, где-то неподалеку раздались первые выстрелы — фашисты прочесывали Сорочий лес… И до обеда пальба уходила все дальше от опушки, потом начала стихать. Ася сберегла одну банку щуки в томате, и они немножко поели. Потом уснули, прижавшись плечом к плечу. А когда загустели поздние сумерки, вылезли из укрытия, продрогшие до костей, и шли всю ночь по прямой, удаляясь от шоссе, от Летучих скал, от моря… И с рассветом не остановились. По Тимкиным расчетам, они углубились в лес гораздо дальше территории первого поста, дальше центральной базы, прошли мимо одного болота, другого — лес будто вымер после прочесывания. И, лишь когда солнце поднялось над верхушками осин, их остановил короткий суровый окрик: — Стой! Кто идет? Тимка выхватил бесполезный наган и на всякий случай прикрыл Асю. — Вы ждете кого-нибудь? — спросил Тимка. — Мы ждем Асю со «Штормового»! — ответил изумленный мужской голос из глубины ивняка. — Ее зовут Ася Вагина, — сказал Тимка. На поляну перед ними выскочил незнакомый красноармеец с перевязанной головой. — Батюшки мои! — воскликнул он, ставя затвор винтовки на предохранитель. — Пацаны?! Такой кавардак немцы задали — я думал, фельдмаршал прибывает! А это — из-за вас?! — Красноармеец негромко, протяжно свистнул, обернувшись назад. — Идемте! — И он повел их неприметной тропкой между деревьями, не переставая удивляться: — Надо же! По всему лесу дежурим! А это, значит, вы?! — Все живы? — осторожно спросил Тимка. — Не… — сразу приумолк разговорчивый красноармеец. — Полегли некоторые… — А из краснофлотцев со «Штормового»?.. — Из этих?.. Двое полегли: горбоносый такой, кавказец, и еще один — коричневый, как чума, — эти полегли… Да ты не унывай! — вдруг утешил он Тимку. — Нас теперь все боле становится! Сам, пока вас ждал, двух задержал! — И он похвалился: — Меня, вишь, тоже опять задело вчера! — показал располосованную на плече гимнастерку. — Как в ефрейторы произвели! Это везучее у меня плечо, второй раз так: гимнастерку заденет, а кожу — нет! Я теперь, случай чего, буду левым вперед двигать! Тимка не успел улыбнуться в ответ, потому что вылетел из лесу Григорий, обнял его, потом вдруг схватил на руки Асю и стал целовать, как маленькую. А она спросила, когда вырвалась: — Почему вы плачете? — Да это я так… — сказал Григорий. — Бежал очень… Слышали мы салют вчера… ну, и всякое передумали… — Он утер глаза и не дал Тимке говорить: взяв у него рюкзак, повел быстрым шагом дальше. — Потом все, потом. Доложишь Большому… Поляна в глубине болот, на которой обосновался отряд после прочесывания, еще не была обжита. Сиротливо жался в сторонке единственный шалаш. Красноармейцы и краснофлотцы отдыхали на траве: курили, тихонько переговаривались между собой, бинтовали вчерашние раны. Леваева и Сабира среди них уже не было… Первыми, увидев на краю поляны Асю и Тимку, вскочили на ноги Нехода и усатый Корякин. За ними, как один, повскакивали остальные. Тимка был для них изменником, беглецом… Появился из шалаша и замер у входа, словно бы не веря своим глазам, Николай Николаевич, потом — Большой… Григорий вытащил из рюкзака и передал Тимке рацию. Асе — пакет. Сопровождаемые удивленным молчанием, они прошагали рядом через поляну: босой, оборванный Тимка и Ася в закатанных Тимкиных брюках. Остановились против командиров. — Товарищ Большой! — доложил Тимка. — Задание выполнено: посылка доставлена по назначению, эсминец под условным названием «крестоносец» уничтожен, предатель расстрелян по законам войны… — Тимка помедлил, сглотнув сухоту в горле, добавил после паузы: — Рядовые: Нефедов и Вагина. Ася протянула командиру пакет. Большой оглянулся на красноармейцев. — Построить отряд! Красноармейцы и краснофлотцы заняли свои места в шеренгах. Большой велел Асе и Тимке стать перед строем. И когда раздалась команда «Смирно!» — объявил: — За отличное выполнение особо важного боевого задания рядовым Тимофею Нефедову и Асе Вагиной объявляю благодарность! Комиссару, — он обернулся к Николаю Николаевичу, — представить обоих к правительственным наградам. Полагалось как-то ответить на благодарность, но Тимка замешкался от растерянности. А Большой сказал: — Вольно! Разойдись! — Потом обратился к Тимке и Асе: — Поедите, отдохнете как следует — тогда доложите все по порядку… И сразу зашуршали котомки, несколько красноармейцев побежали с котелками к костру. Асю и Тимку усадили на березовый обрубок и окружили со всех сторон, ни о чем не спрашивая — как положено, только глядя на них во все глаза. — А у нас еще немножко консервов есть… — похвалилась сквозь слезы Ася. — Щука!.. В томате… Но им уже сунули в руки по котелку дымящейся, залитой маслом каши, дали по алюминиевой ложке, и кто-то переливал чай из кружки в кружку, чтобы остудить, кто-то колол в широкой ладони сахар, пока они, обжигаясь, глотали пшенную кашу. Ася согнутым указательным пальцем смахивала при этом слезы то с одной щеки, то с другой, чтобы не падали в кашу. Она очень изголодалась там, в гроте, у летучих скал… А когда они наелись и вернули хозяевам пустые котелки, тихо-тихо стало на поляне… И тогда усатый Корякин присел рядом с Тимкой, вытащил из кармана кисет, пачку нарезанной для самокруток газеты и осторожно спросил: — Закурим, Тимофей Викторович?.. И то ли потому, что его впервые в жизни назвали по имени-отчеству, как называли отца, Тимка потянулся к листку бумаги. Но Ася вдруг заявила голосом тети Розы: — А я ему не разрешаю курить! И Тимка невольно отдернул руку. Штурман Вагин каждую неделю бросал курить, каждую неделю начинал снова, и тетя Роза все время «запрещала» ему… — Ну… Ну, если не разрешаешь… — проговорил Корякин. И растерянно спросил: — А после победы можно? — Одну? — уточнила Ася. — Одну… после победы… можно! — И она вдруг негромко засмеялась, размазывая по вискам слезы. И заулыбались, глядя на нее, потом стали смеяться красноармейцы. И засмеялся усатый Корякин. И засмеялся Тимка. Выскочили из шалаша, ничего не поняли, но тоже стали смеяться Николай Николаевич и товарищ Большой. Очень хорошо умела смеяться Ася; открыто, радостно — как никто не умел. …Был знойный август лета военного тысяча девятьсот сорок первого года. Солдаты войны уже знали о грядущей победе.
Евгений Гуляковский ПЛАНЕТА ДЛЯ КОНТАКТА Фантастическая повесть
ГЛАВА 1
Исследовательский звездолет второго класса шел в надпространстве. Экипаж спал в глубоком анабиозе, и кораблем управлял центральный автомат. Только его, лишенный эмоций мозг мог не замечать полную пустоту за бортом, которая, казалось, просачивалась сквозь стены корабля и наполняла его невидимым туманом. Ничто материальное не могло возникнуть в шестимерном надпространстве, отделенном от корабля мощными защитными полями. Там не было ни частиц, ни квантов энергии, ни магнитных полей. И когда в недрах корабля родился посторонний звук, вызванный внешними причинами, центральный автомат не сумел правильно оценить полученную информацию. Вибрация возникла в машинном отсеке звездолета в семь часов двадцать минут по корабельному времени. Захватив вначале ограниченный участок четвертого генератора, она быстро распространилась на все машинное отделение. Центральный автомат дважды запросил данные от всех приборов слежения и контроля. Проанализировав весь огромный объем информации за считанные доли секунды, автомат отключил датчики вибрации как неисправные и направил к ним ремонтные автоматы. На корабле не было обнаружено ни малейшей причины возникновения вибрации. Внешнее воздействие среды невозможно, так как она попросту не существовала для кусочка обычного пространства, которым был корабль с его защитными полями. Следствие не бывает без причины. Значит, вибрации нет. Значит, просто отказали приборы. Их надо исправить. Во всей этой стройной логической цепи не могло быть ошибки. До пробуждения экипажа по программе оставалось еще четверо суток. Автомат следовал программе. Программа никогда не нарушалась. Она была основным законом долгие месяцы полета. Программа предписывала в непредвиденных ею ситуациях выйти из надпространства и включить аппаратуру пробуждения для дежурного навигатора. Срочное пробуждение всему экипажу давалось лишь в случае опасности. Опасности не было. Непредвиденной ситуации тоже. Просто из строя вышли датчики машинного отсека. Ремонтный робот разобрал их, доложил о полной исправности центральному автомату и собрал вновь. Вибрация между тем захватила три соседних отсека и вошла в резонанс с плитами крепления генераторов. По всем отсекам корабля завыли сирены тревоги, вспыхнуло панно особой опасности. Аварийные блокираторы мгновенного единичного действия заблокировали и отключили двигатели. Вибрация продолжала расти. Она уже трясла лихорадкой весь огромный корабль. Лопались стекла приборов. Титаническая сила скручивала и рвала лестницы, корежила переборки. Центральный автомат боролся с неожиданной бедой как мог. Но он был всего лишь машиной. И слишком поздно вступил в борьбу. Никаких средств для подавления вибрации, возникшей без всяких причин, в программе не было. Центральный автомат, в исключительных случаях, имел возможность использовать резервные блоки для самопроизвольного программирования и дополнительного анализа. Огромная память машины хранила аналоги бесчисленных аварий всей истории звездоплавания. Тысячные доли секунды понадобились автомату для использования дополнительных блоков и выдачи готового решения. — Немедленно снизить скорость! Включить центральные двигатели на торможение! Но приборы не ответили подтверждением. Блокираторы мгновенного действия срабатывали в том случае, если дальнейшая работа двигателей грозила взрывом и гибелью всему кораблю. Их системы не подчинялись центральному автомату. Двигатели не включились. Вибрация гнула переборки, сдвигала с места многотонные блоки с ядерным топливом, рвала бесчисленные сети коммуникаций. Все ремонтные автоматы работали на пределе своих возможностей. Шла борьба за жизненно важные центры корабля, за жилые отсеки, где в анабиозных ваннах лежали неподвижные тела людей. Включились аварийные двигатели резерва с небольшим автономным запасом топлива. Но они не могли погасить чудовищную скорость звездолета. Отработав все топливо, двигатели встали и были сейчас же катапультированы в пространство. Вибрация несколько уменьшила амплитуду колебаний. Она теперь не сминала переборки и не корежила обшивку, зато разрушала микроструктуру кристаллов. Лопались и взрывались сегменты внутри самого центрального автомата, почти мгновенно отказали все приборы информации. Это был конец. Потеряв связь и управление, ремонтные роботы, обладающие дополнительным запасом прочности, метались по кораблю, все разрушая на своем пути. Наконец и они затихли. Хрипели разорванные магистрали. Из трещин внутреннего слоя обшивки кое-где сочился жидкий гелий. В желтом свете аварийных ламп с потолка падали хлопья снега, но вскоре и они исчезли. Мигнув в последний раз, отказало аварийное освещение. Практикант Райков видел сон. Это был странный сон, потому что в анабиозе не бывает никаких снов, а он точно знал, что находится в глубоком анабиозе. Тем не менее сон продолжался. Временами Практиканту казалось, что на полу отсека свернулся огромный белый удав. Он приподнимал свое свернутое пружиной тело и со страшным грохотом бил хвостом в переборки. Райков дернулся, стараясь освободиться от кошмара. Удав разлетелся по всему отсеку сотнями блестящих осколков. — Ну что он? — Приходит в себя. — Слишком долго. Мне нужен весь экипаж. Сделайте ему еще укол! — Не могу, Навигатор. Придется подождать или начать без него. Очень не хотелось открывать глаза. Лежать было удобно, почти приятно. Но сознание включилось в реальность помимо его воли, и он уже понимал, что Навигатор не станет говорить так о втором уколе без серьезной причины. Без причины, которая не сулила ничего хорошего. И рывком, словно прыгая с вышки в ледяную воду, Райков приказал себе открыть глаза. — Ну вот. Теперь все в сборе. У тебя были неполадки с автоматом пробуждения. Навигатор сказал это так, словно Практикант был виноват в плохой работе автомата. — Осталось тридцать минут, потом поздно будет начинать торможение. Если проскочим орбиту, нам уже не повернуть. — Какую орбиту? — одними губами спросил Практикант. Разгром, царящий в анабиозном отсеке, заставил его снова на секунду закрыть глаза. — Придется ему объяснить, — твердо сказал Физик. — Ты думаешь? Но время… — Он должен все знать. Он имеет на это право, так же как и каждый из нас. — Хорошо, — сдался Навигатор, — тогда объясняй сам. — Плохи наши дела. Физик взял руку Райкова и крепко сжал ее. Практикант обрадовался, что в отсеке горит тусклый аварийный свет и никто не может заметить, как ему сейчас нужна эта рука. Физик продолжал очень тихо, почти вплотную приблизив свое лицо к Практиканту: — От центрального автомата ничего не осталось, но он успел вывести корабль в обычное пространство. Не могу понять: как ему это удалось с резервными двигателями? Очевидно, главные вышли из строя раньше. Мы не знаем причины аварии и не знаем, в какой точке пространства вышел корабль. При незавершенном скачке координаты выхода неизвестны… Может быть, по рисунку созвездий? — вдруг спросил он, с надеждой посмотрев на Навигатора. Тот отрицательно покачал головой: — Слишком далеко. Десять светолет, расстояние можно установить почти точно по времени прокола… А координаты без приборов не вычислить. — Зачем вообще вам эти координаты? — зло спросил Энергетик. — Ну мне, например, приятно было бы знать, в какой стороне находится солнце, — ответил Доктор, осторожно укладывая в аптечку осколки разбитых ампул. — Вы так об этом говорите, как будто собираетесь… — Ничего я не собираюсь! — резко ответил Доктор. — Просто уточняю обстановку. И давайте, наконец, решать, садимся мы на эту планету или нет! — На какую планету? — спросил Практикант.ГЛАВА 2
Трудно сказать, что именно помогло им сесть: бешеная работа или везенье. То, что в пределах досягаемости искалеченного звездолета оказалась звезда с планетной системой, было, наверно, результатом слепого случая. Правда, потом, на планете, они уже не очень верили в случай. Обычные представления о вещах здесь просто теряли всякий смысл. Но это они узнали много позже, а сначала; была посадка. Если только можно назвать посадкой беспорядочное падение потерявшего ориентацию корабля. Четыре раза Навигатору удавалось его выпрямить, и тогда из кормовых дюз вырывался ослепительный синий луч. Все шестеро сидели за пультом в предохранительных скафандрах, туго перетянутые ремнями. Не работала антигравитация, локаторы обзора. Пульт представлял собой нелепое сооружение из наспех собранных панелей и рычагов управления генератором. Два месяца они гасили скорость и потом ползли к планете на этом единственном, восстановленном из обломков генераторе. По сравнению с теми перегрузками, сейчас от него требовалось совсем немного. Каждый раз, когда Навигатору удавалось направить ось кормовых дюз к центру планеты, скорость скачком падала до нуля, и корабль почти сразу начинал валиться набок. Сверхсветовые двигатели не были приспособлены для посадки на планеты, а планетарные восстановить не удалось. Как только Навигатор включал двигатели, Энергетик хриплым голосом отсчитывал количество билиэргов мощности, оставшейся в конденсаторах. Где-то образовалась утечка, а генератор еле тянул. Если конденсаторы разрядятся полностью, антипротонная плазма прорвет магнитную рубашку, вырвется на свободу и превратит корабль в облако радиоактивного газа. Последний раз Навигатору удалось совместить линию вертикали с указателем направления гравитационного поля планеты на высоте сорока тысяч метров. Кажется, он немного перестарался, и корабль подпрыгнул вверх от мощного толчка двигателей. Стиснув зубы, Навигатор вращал верньеры боковых рулей, стараясь выровнять валившийся набок корабль. Пол рубки вибрировал вместе со всем искалеченным корпусом от чудовищных перегрузок. Неожиданно раздался жалобный и какой-то сдавленный вой сирены. Энергетик сказал негромко, наклонившись к самому микрофону: — Капризничает рубашка. — Всем в шлюпку! — отрывисто приказал Навигатор. Позже Практикант уже не мог представить себе дальнейшие события как единое целое. Осталось только ощущение неизбежности катастрофы и отдельные детали, поразившие его больше всего. Энергетик почему-то не выполнил общей для всех команды. Он достал платок и стал вытирать руки, как будто совсем не спешил, как будто спешить ему теперь уже было некуда… Они бежали к люку. Обернувшись, Практикант увидел пустой коридор. Навигатор и Энергетик остались в рубке, он закричал об этом Физику. Но тот, ничего не ответив, втолкнул Райкова в раскрытый люк, и Доктор уже в шлюпке стал подробно объяснять про вторую шлюпку, забыв, что они сняли с нее все оставшиеся целыми детали. Практикант хотел ему возразить и не успел. Сердито рявкнули двигатели, их швырнуло в пространство, и когда он наконец пришел в себя от удара перегрузок, до корабля было не меньше сорока миль. Он закричал, отчаянно рванулся из кресла, но его никто не слушал. На кормовом обзорном экране распухал ослепительно белый шар. Потом шар лопнул как мыльный пузырь. Экраны погасли сразу все, и шлюпка затряслась так, как будто попала под паровой молот. Практиканту показалось, что они ударились о скалы и что теперь все кончилось, но шлюпка все-таки выровнялась, стало неожиданно тихо, и тогда Физик сказал, что Алексей с самого начала был против этой посадки. Практикант не сразу понял, что Алексей — это Навигатор, сухой и неразговорчивый человек, которого он так и не успел узнать как следует перед полетом и теперь уже не узнает никогда. — Сорок миль от эпицентра… Не понимаю, как им удалось? — мрачно сказал Кибернетик. — Когда включилась сирена, от рубашки уже ничего не осталось… — Вдвоем это было возможно, они отключили автоматику и вручную держали магнитные генераторы, отдав им всю энергию… Я даже думал, им удастся заглушить двигатель… — Вместе с мощностью падал энергетический поток, на магнитах долго это не могло продолжаться… Сели они очень спокойно. Даже парашютные двигатели, смягчающие толчок, сработали вовремя. Казалось, ничего особенного не случилось. Казалось, это рядовая разведочная экспедиция на поверхности новой планеты. Вот только не светились экраны кругового обзора, да на том месте, где всегда рубиновым огоньком тлела лампочка постоянной связи с кораблем, теперь ничего не было. — Сразу будем выходить? — спросил Кибернетик. Физик пожал плечами: — Собственно, это не имеет значения. Выбора у нас нет. — Подождите хотя бы, пока я закончу анализы, — ворчливо возразил Доктор. Больше всего Райкова поражала будничность происшедшего. То, как они об этом говорят; то, что Доктор, покраснев от натуги, ворочает тубус пробоотборника и никто не выражает желания ему помочь; то, что все они избегают говорить о происшедшем, как будто уже примирились с безнадежностью ситуации, только не хотят в этом признаться и поэтому продолжают бессмысленные и бесполезные автоматические действия по анализу проб, натягиванию скафандров, разборке планетного комплекса… Зачем все это? Что они собираются искать на планете? Что они собираются делать дальше? Почему-то неловко было задавать сейчас вопросы, и он молча включился в общую суету. Разрушая относительную тишину, установившуюся в рубке, в уши настойчиво лез непонятный шелест и шорох — первые звуки чужой планеты. Если раньше Райкову казалось, что планета ласково поглаживает шлюпку, снимая напряжение с остывающей обшивки, то сейчас, когда обшивка уже остыла, этот звук больше всего походил на шум трущейся о стекло наждачной бумаги. Физик приложил к переборке ухо. — Песок и ветер. По крайней мере, здесь есть атмосфера. — Двадцать процентов кислорода! — сразу же откликнулся Доктор. — И, кажется, нет вредных примесей! — А бактерии, вирусы? — Еще не знаю. Я же только начал анализы! Нужно ждать, пока прорастут культуры. — Ну уж нет! — сказал Кибернетик. — В этом железном гробу я ждать не намерен. — Если бы не шлюпка, ты бы сейчас не разговаривал, — спокойно возразил Физик. — Ждать действительно не имеет смысла. Анализы закончим снаружи. Люк открылся неожиданно легко, и они как-то сразу, вдруг, оказались за порогом переходного тамбура. Райков не помнил, кто из них первый шагнул на шероховатую, изъеденную рыжими пятнами окислов поверхность чужой планеты. Оттого что люк распахнулся так неожиданно, в первую минуту окружающий пейзаж показался им будничным. Невысокие серые холмы, освещенные ярким зеленоватым светом чужого солнца, не скрывали линии горизонта, так как шлюпка стояла на кургузой вершине одного из таких холмов. Постепенно понижаясь, цепочки холмов переходили в серую равнину. А еще дальше, у самого горизонта, цвет равнины менялся. Там смутно угадывалось какое-то движение, но с такого расстояния уже ничего нельзя было рассмотреть. Теперь они знали, откуда взялось поразившее их в первую минуту ощущение будничности. Виновником был ветер. Они чувствовали даже сквозь скафандры его упругое давление. Задумчиво, совсем по-земному ветер свистел в микрофонах. — Так и будем здесь торчать? — проворчал Кибернетик. Они послушно двинулись вниз, к подножию холма. Физик нагнулся и подобрал серый камень, попавшийся ему под ноги. Практикант напряженно следил за выражением его лица. Размахнувшись, Физик зашвырнул камень далеко в сторону. Практикант почувствовал, как этот простой жест отозвался в нем болезненным толчком. Он все же спросил, еще на что-то надеясь: — Базальты? — Место низкое. Дальше могут быть другие породы. Райков не принял его объяснения. Он знал, что выходы базальтов на равнине означали молодость планеты и вероятное отсутствие жизни. Рано делать выводы, слишком рано. Ведь есть же здесь кислород… Откуда он взялся?.. Но перед глазами упрямо вставали десятки отчетов экспедиций на чужие, мертвые планеты, где каждый раз знакомство начиналось с таких вот базальтов. Мертвая планета… Мертвая планета… Если так, то они проиграли и не нужна была эта посадка. Проще было там, всем вместе. Сорок мегатонн и один шар плазмы, общий для всех. Наверно, Физик понял, о чем он думает. — Видишь эти размывы? Эрозия. Значит, есть вода и атмосфера — это уже кое-что. — А где ее нет? На всех планетах этого типа есть атмосфера… — Да. Но не кислородная. Нам чудовищно повезло, просто чудовищно! Ты же знаешь: из десяти тысяч звезд только одна несет в своей системе планеты земного типа. И вот мы ее нашли. Я немного фаталист. Такой случай редко выпадает лишь для того… Ну, в общем, здесь что-то должно быть… А базальты… базальты и на Земле бывают… Доктор остановился и начал разворачивать треногу полевого экспресс-анализатора. Люди устало опустились на песок и стали ждать, пока будут закончены анализы. Физик, задрав голову, смотрел в небо. Что он там искал — облака или птиц? Там не было ни того, ни другого. Пустое, ослепительно изумрудного цвета небо. Солнце, казалось, замерло над горизонтом, словно приклеенное. Медленно вращается планета. Все можно объяснить, вот только ничего не изменяют самые подробные объяснения… Неделю они продержатся. Если воздух не пригоден для дыхания, они продержатся неделю. Земную неделю. Наверно, здесь это не больше четырех суток… — Сорок рентген в час! — Доктор, нахмурившись, смотрел на стрелки прибора. — Ничего не понимаю, откуда такая радиация? — Ты забываешь о нашем фоне. Сначала двигатели, потом… Наверняка это фон. — Нет. Какой-то радиоактивный изотоп аргона. Один из компонентов атмосферы. — Физик рывком встал и подошел к анализатору. — Никогда не слышал, чтобы у аргона был излучающий изотоп с такой активностью. — Это опасно? — Ну, в скафандрах, разумеется, нет, но если это действительно компонент атмосферы, а не результат нашего прибытия, скафандры снять не удастся. Здесь везде должна быть наведенная радиация… В атмосфере двадцать процентов кислорода, а остальное, почти целиком, этот странный аргон. После этого сообщения все, не сговариваясь, повернули обратно к шлюпке. Она была кусочком дома. Вот только, пожалуй, слишком маленьким… — Зачем нам шлюпка? — спросил Практикант. — Попробуем взять анализы в другом месте. Все-таки это может быть наведенная радиация. Это не было наведенной радиацией. Они отлетели километров на двадцать. На большее Физик не решился, потому что в аккумуляторах осталось очень мало анизатрона для гравидвигателей. Зарядить их снова им уже не удастся. Пейзаж планеты в этом месте почти не изменился, и результат анализов в точности соответствовал предыдущему. Атмосфера планеты оказалась радиоактивной. Шлюпка стояла чуть накренившись. Практикант сел в тени ее нависающей носовой части. Все разбрелись в разные стороны. Доктор соскабливал с камней серый налет. Физик бесцельно вертел ручки настройки экспресс-анализатора. Один Кибернетик, казалось, был занят делом. Он вытащил из шлюпки пластиковый ящик из планетного комплекта и теперь сдирал с него обшивку. Почему-то он начал с ящика под номером десять. Дышать становилось трудно, хотя чистый и свежий воздух по-прежнему поступал в трубопроводы скафандра. Сетрилоновая пленка казалась непомерно тяжелой, как доспехи древних воинов. Конечно, это просто психологические эффекты, но от этого не легче. Нельзя снять скафандр. Его вообще не удастся снять. Во всяком случае, в течение оставшегося у них времени нельзя будет снять скафандры… А почему, собственно? Практикант еще не успел додумать эту мысль до конца, как заговорил Доктор: — Мы можем сделать фильтры из актана. Они полностью погасят радиацию. — А воду ты тоже пропустишь через эти фильтры? — насмешливо спросил Физик. — Воду?.. Я об этом не подумал. Кибернетик наконец распаковал свой ящик и теперь пытался включить планетного робота. Райков никак не мог понять, для чего ему понадобился сейчас этот робот, и Кибернетик, словно угадав его мысли, вдруг сказал: — Ему, по крайней мере, не нужно будет воды, — и замолчал, словно эта фраза что-нибудь объясняла. Что-то у него не ладилось, робот дергался и корчился под высоковольтными разрядами, как живое существо. Да он и был, собственно, почти живым существом. У планетного робота не было самоуправляющегося крионового мозга, как у сложных корабельных автоматов, но зато был поразительный запас живучести, способность регенерировать собственные вышедшие из строя части, если только частями можно было назвать клубки синтетических мышц. Вдруг робот рванулся и стремительно пронесся мимо них, подняв целую тучу пыли. — Куда это он? — растерянно спросил Доктор. — Пусть побегает. Дополнительная информация нам сейчас не помешает. — Между прочим, воду мы могли бы синтезировать из атмосферы, — неожиданно сказал Физик. — Как это? — не понял Доктор. — Очень просто. Пропустить воздух через актановый фильтр, а потом через синтезатор. Если использовать всю оставшуюся в аккумуляторах энергию, получится около двух тысяч литров чистой воды. Кибернетик и Физик стали обсуждать детали этого проекта, чертили на песке какие-то формулы, но Райков их уже не слушал. Можно бороться с планетой до конца. Дышать через тряпку, а воду по капле цедить из синтезатора, с боем брать каждую лишнюю минуту отсрочки… Только сейчас все это не имело смысла. Не будет в этот район никаких экспедиций… Самое большое — запустят автоматический зонд, он принесет данные о мертвой планете. Не хватит и тысячи лет, чтобы дождаться… Кто станет их здесь искать… Корабль вышел в неизвестной точке пространства. Может быть, Навигатор смог бы определить их местонахождение? Но только зачем оно им без корабля? Почему здесь зеленое солнце? Какие-то испарения в атмосфере?.. Может быть, соли стронция?.. Смертоносная планета — и такой ласковый ветер, яркое солнце. Чуть ниже подножия холма совсем прозрачный ручей словно приглашает напиться… Отравленная радиацией вода течет вниз к реке… Сразу перед посадкой шлюпки на новом месте, километрах, в четырех отсюда, Райков заметил что-то очень похожее на береговую линию. Может быть, здесь даже есть море… Им некогда заниматься морем. Им надо готовить фильтры и делать десятки других бессмысленных, в сущности, дел, собирая, словно крошки со стола, остатки жизни, минуты, секунды, часы… Физик отбросил обломок, которым рисовал формулы, и решительно поднялся. — Мы долго не продержимся в таком пекле. Нужно искать укрытое место для постоянного лагеря. — А для чего, — лениво спросил Кибернетик, — какая разница? — Слишком дорогая цена заплачена за то, чтобы мы сейчас валялись на этом песочке. Хватит! — И что же ты предлагаешь? — все так же лениво спросил Кибернетик, но Практикант заметил, как под стеклом скафандра у него сердито сошлись брови. — Будем собирать данные о планете, искать выход. — Какой выход? — Когда я буду знать — я тебе скажу. А сейчас вы с Доктором отведете шлюпку к западной гряде, найдете укрытое место и обозначите его дымовой шашкой, а мы с Райковым исследуем восточный сектор, береговую линию, дождемся робота и к вечеру выйдем к лагерю. — Не слишком ли рискованно разделяться? — спросил Доктор. — А что не рискованно? У нас слишком мало времени. Разделившись, охватим больший район. — Да что ты собираешься искать? — почти закричал Кибернетик. — Что?! — Я не знаю. Какую-нибудь зацепку, шанс или хотя бы разгадку. Слишком уж странная планета. Откуда здесь кислород, если нет биосферы? Почему такая радиация? С чем мы столкнулись в надпространстве? А может быть, биосфера все-таки есть? Как там твои культуры? Доктор пожал плечами: — Ничего нет, даже вирусов. — Ну вот видишь. А кислород есть. В нашем положении не стоит пренебрегать противоречиями. И потом, я чувствую, что-то здесь не так… Мы ведь не вышли на круговую орбиту, нет снимков, абсолютно ничего не знаем о планете! Райков не стал дослушивать до конца. Он забрался в шлюпку и стал складывать в рюкзак необходимые для похода вещи. Под руку попался бластер с антипротоновыми капсулами, он задумчиво повертел его в руках и отложил в сторону. У него еще не пропала юношеская привязанность к оружию, но он знал, что Физик не одобрит лишний груз. Мелкие неприятности им здесь, по-видимому, не грозили, а от крупных эта игрушка не спасет. Когда все было наконец готово, он замешкался, привинчивая к скафандру запасной баллон, и догнал Физика только минуты через две. Отсюда, из-за вершины холма, уже не было видно шлюпки, но они услышали мягкое урчание ее двигателей, и оба одновременно повернулись. На фоне изумрудного неба диск шлюпки казался слишком чужеродным, даже грубым. И только когда окончательно затерялся, словно растворился в зеленой краске неба, ее силуэт, смолк последний отголосок металлического хриплого рокота двигателей, они по-настоящему почувствовали себя наедине с планетой. Похожее чувство охватывает человека в поле или в лесу, в те редкие минуты, когда он один, когда нет ни одной мысли, только ощущение запахов, красок и какого-то общего ритма жизни… Но здесь не было никакого ритма. Тишина, нарушаемая мертвыми звуками, мертвые краски… Тонкий слой песка под ногами иногда перемежался прослойками серой пыли, сквозь которую там и здесь торчали рыжеватые камни, покрытые желтыми пятнами пустынного загара. Жара становилась невыносимой. От нее уже не спасали и кондиционеры скафандров. Оба, не сговариваясь, свернули к ручью. — Слишком мелкое русло. На открытой местности при такой температуре… Почему он не пересыхает? — Может быть, подземные источники? — Сколько же их должно быть? К самому горизонту влево и вправо убегала серебристая змейка воды, словно клинком рассекая пустыню. Физик нагнулся, опустил в воду воронку полевого анализатора, внимательно посмотрел на выскочившие в окошечке символы элементов и цифры процентного содержания. — Почти земная вода. Чуть больше солей стронция и железа. — Радиация?.. — Меньше, чем в воздухе. Всего двести рентген. Физик зачерпнул полные пригоршни воды и плеснул ее на смотровое стекло шлема. Вода темным масляным пятном растеклась по скафандру. Что-то странное в этом пятне на секунду задержало внимание Практиканта. Какое-то необычное отражение света, словно скафандр под влажным пятном посыпали тонким слоем муки. И тут же нашлось объяснение — соли… Слишком много солей. Вода высыхает, и остается пленка этих солей. Вслед за Физиком он вошел по колено в ручей, отключил терморегуляторы и сразу почувствовал ледяное прикосновение воды к топкой коже скафандра.
— Всего пятнадцать градусов! Действительно похоже на глубинные источники. Смотри! Что это? — Практикант опустил в воду перчатку скафандра, на которой за минуту до этого образовалась уже знакомая мучнистая пленка солей, но теперь, под водой, пленка не исчезла! Она как будто становилась толще.
Практикант усиленно тер перчатку, сдирая со скрипучего синтрилона тонкие лохматые чешуйки.
— Выйди из воды! — крикнул Физик.
Но было уже поздно. Практикант услышал свист выходящего из скафандра воздуха. Прямо на глазах пленка синтрилона, которая могла выдержать прямой удар лазерного луча, превращалась в грязноватые лохмотья, расползалась и исчезала. Практикант инстинктивно задержал дыхание, но, взглянув на Физика и увидев, как тот сдирает с себя остатки скафандра, почти сразу же захлебнулся воздухом планеты. Вначале он закашлялся, скорее от неожиданности. Воздух был очень резким, но уже через минуту казался приятным, с каким-то едва уловимым ароматом сухой земли. От каждого вздоха изнутри по телу разливалось тепло, словно он пил очень горячий чай.
Физик подошел и встал с ним рядом. Без скафандра он казался меньше ростом.
— Что это было? — почему-то очень тихо, почти шепотом спросил Практикант. — Бактерии?
— В воде не было никакой органики. Ее анализатор показал бы в первую очередь. — Внезапно ожесточившись, Физик швырнул на землю башмак от скафандра, который машинально держал в руках. — Здесь вообще ничего не было! Ничего подозрительного! Ничего необычного! Ничего такого, что могло бы разрушить синтрилон. — Последнюю фразу он произнес очень спокойно, задумчиво, словно нащупал важную мысль.
— Сколько у нас теперь времени? — все так же тихо спросил Практикант.
— А?.. Ты о радиации… Часов шесть мы ничего не будем чувствовать.
— А потом?
— Потом у нас есть анестезин. — Физик нагнулся, пошарил в груде лохмотьев, оставшихся от скафандров, и достал из-под них совершенно целый рюкзак.
— Материя не разрушается. Вот, значит, как…
Дальше они пошли молча, каждый углубившись в свои мысли. Не хотелось спрашивать, почему Физик не повернул на запад, туда, где теперь находилась шлюпка. Наверно, он был прав. За шесть часов туда не добраться, да и незачем. Даже Доктор им уже не поможет. От этого просто нет средств. Медленно и неумолимо разрушаются клетки с каждым вздохом, с каждой секундой…
Почти физически ощущалось жаркое прикосновение зеленого солнца. Все его сорок градусов обрушились на незащищенную, отвыкшую от жары кожу людей. Через полчаса они немного привыкли к новым ощущениям. Дышалось легко. Только кружилась голова да резало глаза от непривычно яркого света.
Местность постепенно выравнивалась, холмы мельчали по мере того, как они приближались к морю. Обнаженная раньше базальтовая кость планеты теперь совершенно исчезла под плащом дресвы и песка. За ними тянулись две цепочки следов — первые человеческие следы на этой планете. Практикант старался ставить ноги потверже, чтобы след отпечатывался как можно четче. Дышать он тоже старался глубже, хоть и не мог не думать о том, что с каждым вздохом в его легкие врываются новые миллионы радиоактивных атомов. Они уже начали свою незаметную пока работу… Можно заставить себя не думать об этом, но нельзя забыть совсем.
Физик предложил устроить небольшой привал, и Практикант подумал о том, как хорошо, что они сейчас не спешат.Расстелили на плоском валуне бумажную салфетку, распечатали коробки с завтраком. Есть совсем не хотелось, наверно, от жары. Все же они пожевали немного, скорей по привычке, и сунули коробки с остатками завтрака обратно в рюкзак. Практиканту казалось, что Физик все время молчит оттого, что не может простить себе ошибки с этой сумасшедшей водой, которая питалась скафандрами случайно забравшихся в нее космонавтов… Что могло быть нелепее ситуации, в которой они оказались? И кто, собственно, смог бы предвидеть последствия, окажись он на месте Физика? Неужели здесь так везде? Неведомая опасность за каждым камнем? В каждом глотке воздуха и воды? Что же это за планета? Даже закрыв глаза, он смог бы определить ее тип, сопоставив данные анализов и тех немногих, уже известных им фактов. Кроме, пожалуй, радиации да вот этой истории с разъеденными скафандрами… Но может быть, как раз в этих фактах и кроется разгадка? Чтобы как-то разбить тягостное молчание, он стал многословно и путано уверять Физика в том, что случившееся пошло им на пользу, что все равно в скафандрах долго не выдержать и что теперь они по крайней мере могут чувствовать этот ветер и близкое дыхание моря.
Физик ничего не ответил, только посмотрел на него, иронически прищурившись, и пошел дальше.
Стало заметно свежее. Иногда перед ними, теперь уже совсем близко, мелькали за холмами синие пятна водной поверхности, и Райков старался не смотреть в ту сторону, словно боялся что-нибудь испортить в предстоящей встрече. Когда наконец за последним холмом открылась линия далекого горизонта, море буквально оглушило их. Нет, не шумом. Оно очень тихо лежало у самых ног, ослепительно синее в серых шершавых берегах, под ярко-зеленым небом. И даже не простором, от которого они отвыкли за долгие месяцы полета. Наверно, все-таки тем, что, пролетев миллионы километров, потеряв корабль и товарищей, в этот свой последний час они стояли на берегу обыкновенного, по-земному синего моря… Нет, все же не совсем обыкновенного. Поражали невысокие, необычно толстые валики волн, словно это была не вода, а ртуть, и еще прибой. Он не шипел, не набрасывался на берег, как на Земле, а осторожно, ласково лизал серые камни берега.
Практикант медленно пошел навстречу волне, вытянул вперед руки, но все же секунду помедлил, обернулся и вопросительно посмотрел на Физика. Тот молчал. Тогда Райков зачерпнул полные пригоршни синей воды и поднес их к самому лицу. Ничего не случилось. Не было ни ожога, ни боли. Вода как вода. Правда, она не стала прозрачней, эта частица моря у него в ладонях, не потеряла своего цвета. Казалось даже, потемнела еще больше, пропиталась синевой, словно кто-то растворил в ней хорошую порцию ультрамарина.
— Похоже на солевой расплав или пересыщенный раствор.
Он оглянулся на Физика. Тот наблюдал за ним с интересом, в котором по-прежнему чувствовалась неуместная сейчас ирония. Больше всего Практиканта поразила эта ирония. Что-то в ней было. Какая-то мысль, уже понятная Физику, но ускользнувшая от него. И, словно протестуя против иронического молчания Физика, он осторожно поднес ладони с синей водой к губам. «Не надо! — мелькнула мысль. — Это же глупо, в конце концов! — И тут же он возразил себе: — А что сейчас не глупо? Ждать, пока пройдет шесть часов, и потом глотать анестезин?»
Вода отдавала свежестью горного ручья, и она не была соленой… Странный привкус, словно шершавый комок, прокатился по горлу… Может быть, именно этого ждала от них планета? Доверия?
— Ну как, вкусно? — спросил Физик.
— Не знаю. Не соленая, немного похожа на… ни на что это не похоже.
Физик стянул через голову рубашку. Он тяжело дышал, по спине сбегали капли пота. Неуклюже разбежавшись, прыгнул в воду: Не было даже брызг. Просто волны чуть разошлись, как податливая резина, и вытолкнули человека наружу. Синяя пленка прогибалась под тяжестью его тела. Словно Физик был иголкой в школьном опыте по поверхностному натяжению жидкостей.
Физик зачерпнул воды и плеснул себе на грудь. Она разбежалась блестящими шариками.
— Странная жидкость, а? Похоже, не искупаться. Жаль. Но все равно лежать приятно, как в гамаке, а рука свободно проходит почти без сопротивления. Какая-то избирательная плотность, разная для разных предметов. Жалко, нет экспресс-анализатора, с полевым тут не разобраться. Ну ладно, лезь сюда.
Лежать на поверхности моря и в самом деле было приятно. Для того чтобы смочить голову и грудь, приходилось черпать воду пригоршнями. Потом они попробовали сесть. Это удалось не сразу. Зато теперь вода доходила им почти до пояса. Правда, она все равно не везде касалась тела. Под ними образовалась довольно глубокая воронка, стены которой, казалось, были выстланы резиной.
Наконец им надоело это странное купание, и оба вылезли на берег. Вытираться не пришлось: жидкость каким-то образом ухитрилась не пристать к телу.
Физик выбрал камень полегче и бросил его в воду. Камень скрылся без всплеска. На гладкой поверхности моря не было видно ни единого пятнышка или морщинки.
Часа два они молча брели по берегу без всякой видимой цели. От жары или от радиации кружилась голова, обоих клонило в сон. Наконец Физик остановился в тенистом месте под большим валуном. Разгребли мелкий сухой песок. Прежде чем лечь, Физик достал коробочку с красной полоской.
— Если станет плохо, прими одну таблетку.
— Как будто не все равно, сколько я их приму!
— Нет. Не все равно. Мы все время спешили, а теперь давай не будем этого делать.
…Все можно довести до абсурда. Даже это желание не спешить, показное, в сущности, желание… «Неужели он сможет уснуть? — подумал Райков. — Прошло не меньше четырех часов. Значит, осталось всего два». Физик отвернулся и дышит ровно и тихо… Наверно, так и нужно. Просто эти последние два часа человек должен быть наедине с собой. В этом что-то есть, в том, что они все последнее время слишком спешили, так, словно кто-то их подгонял, так подстраивал события, наслаивал их друг на друга, что не оставалось времени подумать, разобраться толком в том, что же, в сущности, произошло, почему все кончилось так нелепо в этой хорошо спланированной и безупречно организованной экспедиции к звездам…
В последние десятилетия процент гибели экспедиций измерялся сотыми долями процента. Какое-то фатальное невезение необходимо для того, чтобы попасть в число невозвратившихся, пропавших без вести… С чего же, собственно, началось? Автомат вел корабль строго по курсу — не мог не вести… Корабль отклонился… или нет, скорее, наткнулся на что-то… Но на что можно наткнуться в надпространстве, если нет материальной среды? Странность номер один. Бывает. Разладился автомат, допустим, хоть это и маловероятно. Авария по неизвестным причинам. Почти все аварии бывают по неизвестным причинам. В этом, во всяком случае, нет ничего странного. Хотя сам факт аварии, приведшей к катастрофе на современном корабле, обладающем почти неограниченным запасом живучести, сличай из ряда вон выходящий. Автомат не сумел справиться с аварией. Не сумел или не захотел? Нет, это опять абсурд, он не мог нарушить основную программу. Итак, странность номер два. Современный звездолет, набитый до предела самовосстанавливающейся автоматикой, получает необратимые разрушения. Отметим, кстати, что при этом он все-таки не гибнет, экипаж не получает ни малейшей царапины, зато полностью разрушен центральный автомат. От вибрации. Допустим. По крайней мере, теперь из игры выбывает один из важнейших элементов. Нет больше центрального автомата, некому выполнять программу. Зато теперь на сцене наконец появляется экипаж. В точке выхода из надпространства, в пределах досягаемости искалеченного звездолета, обнаружена неизвестная звезда…
Получается довольно длинная, но все еще приемлемая цепочка совпадений и случайностей. Посмотрим, что будет дальше.
Во время посадки выходит из строя магнитная рубашка генератора… Пожалуй, это уже следствие предыдущего. Звездолет так разбит, что в этой последней аварии нет уже ничего странного. Странно, правда, что они успели выброситься на шлюпке, обычно такие взрывы происходят мгновенно… Но, правда, выбрались не все… Кое-что Навигатор и Энергетик все-таки могли сделать…
Теперь планета. Давление, гравитация, состав атмосферы, кислород, диапазон температур, отсутствие враждебной биосферы, наконец, — все в пределах того узкого островка условий, в которых может существовать ничем не защищенный человек… Ничем не защищенный… Может быть, поэтому они лишились скафандров? И только радиация… Райков облизнул мгновенно пересохшие губы. Он боялся думать… Он понимал, что подошел к той самой черте, за которой вот сейчас, сию минуту поймет что-то очень важное, имеющее для них решающее значение…,
А что, если предположить, только предположить, что все это не случайно? Не может быть так много совпадающих случайностей, тогда только эта радиация выпадает из общей схемы. Ну, а если и она не выпадает? Если они просто чего-то еще не понимают в ней? Короче, если он прав, радиация для них безвредна.
Он вскочил на ноги и секунду смотрел на расплавленную синеву моря.
Красиво? Да, пожалуй, даже слишком красиво для дикой планеты. Нужно разбудить Физика. Вот только сказать ему будет нечего. Разве можно передать это глубокое убеждение, что все, что их окружает, и все, что с ними было до этого, все это не напрасно, не может быть напрасно. И значит, во всех событиях есть смысл. Смысл, которого они не заметили, события, которыми кто-то управляет? Но это же бред. «Ты принимаешь желаемое за действительное. У тебя же нет доказательств…» — вот что ему ответит Физик. Да, у него нет доказательств. Но они будут. Через два часа, через десять и через двадцать. Надо подождать. Совсем немного подождать…
По крайней мере, если он ошибается и проснуться не удастся, некому будет жалеть об этой последней ошибке.
Веки отяжелели от яркого непривычного света. Практикант все еще пытался бороться со сном. Но недолго. Сказалось нервное напряжение последних часов.
Снились ему сосны. Ласковые, земные, с длинными иглами, в которых свистит ветер. Смутно, сквозь сон он понимал, что здесь не может быть никаких сосен, и от этого даже во сне чувствовал невыносимую тоску и горечь. Он видел траву, растушую у их корней, гладил шершавую кору, на которой блестели смоляные слезы… Проснулся он от того, что Физик тряс его за плечо. Сел, открыл глаза.
Вокруг плотной стеной стоял сосновый лес. На коричневой коре деревьев блестели капли прозрачной смолы. Свет едва пробивался сквозь могучие кроны деревьев. В двух шагах от их песчаной постели цвели одуванчики. В густой зеленой траве они казались вспышками земного солнца…
Физик зачерпнул полные пригоршни воды и плеснул ее на смотровое стекло шлема. Вода темным масляным пятном растеклась по скафандру. Что-то странное в этом пятне на секунду задержало внимание Практиканта. Какое-то необычное отражение света, словно скафандр под влажным пятном посыпали тонким слоем муки. И тут же нашлось объяснение — соли… Слишком много солей. Вода высыхает, и остается пленка этих солей. Вслед за Физиком он вошел по колено в ручей, отключил терморегуляторы и сразу почувствовал ледяное прикосновение воды к топкой коже скафандра.
— Всего пятнадцать градусов! Действительно похоже на глубинные источники. Смотри! Что это? — Практикант опустил в воду перчатку скафандра, на которой за минуту до этого образовалась уже знакомая мучнистая пленка солей, но теперь, под водой, пленка не исчезла! Она как будто становилась толще.
Практикант усиленно тер перчатку, сдирая со скрипучего синтрилона тонкие лохматые чешуйки.
— Выйди из воды! — крикнул Физик.
Но было уже поздно. Практикант услышал свист выходящего из скафандра воздуха. Прямо на глазах пленка синтрилона, которая могла выдержать прямой удар лазерного луча, превращалась в грязноватые лохмотья, расползалась и исчезала. Практикант инстинктивно задержал дыхание, но, взглянув на Физика и увидев, как тот сдирает с себя остатки скафандра, почти сразу же захлебнулся воздухом планеты. Вначале он закашлялся, скорее от неожиданности. Воздух был очень резким, но уже через минуту казался приятным, с каким-то едва уловимым ароматом сухой земли. От каждого вздоха изнутри по телу разливалось тепло, словно он пил очень горячий чай.
Физик подошел и встал с ним рядом. Без скафандра он казался меньше ростом.
— Что это было? — почему-то очень тихо, почти шепотом спросил Практикант. — Бактерии?
— В воде не было никакой органики. Ее анализатор показал бы в первую очередь. — Внезапно ожесточившись, Физик швырнул на землю башмак от скафандра, который машинально держал в руках. — Здесь вообще ничего не было! Ничего подозрительного! Ничего необычного! Ничего такого, что могло бы разрушить синтрилон. — Последнюю фразу он произнес очень спокойно, задумчиво, словно нащупал важную мысль.
— Сколько у нас теперь времени? — все так же тихо спросил Практикант.
— А?.. Ты о радиации… Часов шесть мы ничего не будем чувствовать.
— А потом?
— Потом у нас есть анестезин. — Физик нагнулся, пошарил в груде лохмотьев, оставшихся от скафандров, и достал из-под них совершенно целый рюкзак.
— Материя не разрушается. Вот, значит, как…
Дальше они пошли молча, каждый углубившись в свои мысли. Не хотелось спрашивать, почему Физик не повернул на запад, туда, где теперь находилась шлюпка. Наверно, он был прав. За шесть часов туда не добраться, да и незачем. Даже Доктор им уже не поможет. От этого просто нет средств. Медленно и неумолимо разрушаются клетки с каждым вздохом, с каждой секундой…
Почти физически ощущалось жаркое прикосновение зеленого солнца. Все его сорок градусов обрушились на незащищенную, отвыкшую от жары кожу людей. Через полчаса они немного привыкли к новым ощущениям. Дышалось легко. Только кружилась голова да резало глаза от непривычно яркого света.
Местность постепенно выравнивалась, холмы мельчали по мере того, как они приближались к морю. Обнаженная раньше базальтовая кость планеты теперь совершенно исчезла под плащом дресвы и песка. За ними тянулись две цепочки следов — первые человеческие следы на этой планете. Практикант старался ставить ноги потверже, чтобы след отпечатывался как можно четче. Дышать он тоже старался глубже, хоть и не мог не думать о том, что с каждым вздохом в его легкие врываются новые миллионы радиоактивных атомов. Они уже начали свою незаметную пока работу… Можно заставить себя не думать об этом, но нельзя забыть совсем.
Физик предложил устроить небольшой привал, и Практикант подумал о том, как хорошо, что они сейчас не спешат.Расстелили на плоском валуне бумажную салфетку, распечатали коробки с завтраком. Есть совсем не хотелось, наверно, от жары. Все же они пожевали немного, скорей по привычке, и сунули коробки с остатками завтрака обратно в рюкзак. Практиканту казалось, что Физик все время молчит оттого, что не может простить себе ошибки с этой сумасшедшей водой, которая питалась скафандрами случайно забравшихся в нее космонавтов… Что могло быть нелепее ситуации, в которой они оказались? И кто, собственно, смог бы предвидеть последствия, окажись он на месте Физика? Неужели здесь так везде? Неведомая опасность за каждым камнем? В каждом глотке воздуха и воды? Что же это за планета? Даже закрыв глаза, он смог бы определить ее тип, сопоставив данные анализов и тех немногих, уже известных им фактов. Кроме, пожалуй, радиации да вот этой истории с разъеденными скафандрами… Но может быть, как раз в этих фактах и кроется разгадка? Чтобы как-то разбить тягостное молчание, он стал многословно и путано уверять Физика в том, что случившееся пошло им на пользу, что все равно в скафандрах долго не выдержать и что теперь они по крайней мере могут чувствовать этот ветер и близкое дыхание моря.
Физик ничего не ответил, только посмотрел на него, иронически прищурившись, и пошел дальше.
Стало заметно свежее. Иногда перед ними, теперь уже совсем близко, мелькали за холмами синие пятна водной поверхности, и Райков старался не смотреть в ту сторону, словно боялся что-нибудь испортить в предстоящей встрече. Когда наконец за последним холмом открылась линия далекого горизонта, море буквально оглушило их. Нет, не шумом. Оно очень тихо лежало у самых ног, ослепительно синее в серых шершавых берегах, под ярко-зеленым небом. И даже не простором, от которого они отвыкли за долгие месяцы полета. Наверно, все-таки тем, что, пролетев миллионы километров, потеряв корабль и товарищей, в этот свой последний час они стояли на берегу обыкновенного, по-земному синего моря… Нет, все же не совсем обыкновенного. Поражали невысокие, необычно толстые валики волн, словно это была не вода, а ртуть, и еще прибой. Он не шипел, не набрасывался на берег, как на Земле, а осторожно, ласково лизал серые камни берега.
Практикант медленно пошел навстречу волне, вытянул вперед руки, но все же секунду помедлил, обернулся и вопросительно посмотрел на Физика. Тот молчал. Тогда Райков зачерпнул полные пригоршни синей воды и поднес их к самому лицу. Ничего не случилось. Не было ни ожога, ни боли. Вода как вода. Правда, она не стала прозрачней, эта частица моря у него в ладонях, не потеряла своего цвета. Казалось даже, потемнела еще больше, пропиталась синевой, словно кто-то растворил в ней хорошую порцию ультрамарина.
— Похоже на солевой расплав или пересыщенный раствор.
Он оглянулся на Физика. Тот наблюдал за ним с интересом, в котором по-прежнему чувствовалась неуместная сейчас ирония. Больше всего Практиканта поразила эта ирония. Что-то в ней было. Какая-то мысль, уже понятная Физику, но ускользнувшая от него. И, словно протестуя против иронического молчания Физика, он осторожно поднес ладони с синей водой к губам. «Не надо! — мелькнула мысль. — Это же глупо, в конце концов! — И тут же он возразил себе: — А что сейчас не глупо? Ждать, пока пройдет шесть часов, и потом глотать анестезин?»
Вода отдавала свежестью горного ручья, и она не была соленой… Странный привкус, словно шершавый комок, прокатился по горлу… Может быть, именно этого ждала от них планета? Доверия?
— Ну как, вкусно? — спросил Физик.
— Не знаю. Не соленая, немного похожа на… ни на что это не похоже.
Физик стянул через голову рубашку. Он тяжело дышал, по спине сбегали капли пота. Неуклюже разбежавшись, прыгнул в воду: Не было даже брызг. Просто волны чуть разошлись, как податливая резина, и вытолкнули человека наружу. Синяя пленка прогибалась под тяжестью его тела. Словно Физик был иголкой в школьном опыте по поверхностному натяжению жидкостей.
Физик зачерпнул воды и плеснул себе на грудь. Она разбежалась блестящими шариками.
— Странная жидкость, а? Похоже, не искупаться. Жаль. Но все равно лежать приятно, как в гамаке, а рука свободно проходит почти без сопротивления. Какая-то избирательная плотность, разная для разных предметов. Жалко, нет экспресс-анализатора, с полевым тут не разобраться. Ну ладно, лезь сюда.
Лежать на поверхности моря и в самом деле было приятно. Для того чтобы смочить голову и грудь, приходилось черпать воду пригоршнями. Потом они попробовали сесть. Это удалось не сразу. Зато теперь вода доходила им почти до пояса. Правда, она все равно не везде касалась тела. Под ними образовалась довольно глубокая воронка, стены которой, казалось, были выстланы резиной.
Наконец им надоело это странное купание, и оба вылезли на берег. Вытираться не пришлось: жидкость каким-то образом ухитрилась не пристать к телу.
Физик выбрал камень полегче и бросил его в воду. Камень скрылся без всплеска. На гладкой поверхности моря не было видно ни единого пятнышка или морщинки.
Часа два они молча брели по берегу без всякой видимой цели. От жары или от радиации кружилась голова, обоих клонило в сон. Наконец Физик остановился в тенистом месте под большим валуном. Разгребли мелкий сухой песок. Прежде чем лечь, Физик достал коробочку с красной полоской.
— Если станет плохо, прими одну таблетку.
— Как будто не все равно, сколько я их приму!
— Нет. Не все равно. Мы все время спешили, а теперь давай не будем этого делать.
…Все можно довести до абсурда. Даже это желание не спешить, показное, в сущности, желание… «Неужели он сможет уснуть? — подумал Райков. — Прошло не меньше четырех часов. Значит, осталось всего два». Физик отвернулся и дышит ровно и тихо… Наверно, так и нужно. Просто эти последние два часа человек должен быть наедине с собой. В этом что-то есть, в том, что они все последнее время слишком спешили, так, словно кто-то их подгонял, так подстраивал события, наслаивал их друг на друга, что не оставалось времени подумать, разобраться толком в том, что же, в сущности, произошло, почему все кончилось так нелепо в этой хорошо спланированной и безупречно организованной экспедиции к звездам…
В последние десятилетия процент гибели экспедиций измерялся сотыми долями процента. Какое-то фатальное невезение необходимо для того, чтобы попасть в число невозвратившихся, пропавших без вести… С чего же, собственно, началось? Автомат вел корабль строго по курсу — не мог не вести… Корабль отклонился… или нет, скорее, наткнулся на что-то… Но на что можно наткнуться в надпространстве, если нет материальной среды? Странность номер один. Бывает. Разладился автомат, допустим, хоть это и маловероятно. Авария по неизвестным причинам. Почти все аварии бывают по неизвестным причинам. В этом, во всяком случае, нет ничего странного. Хотя сам факт аварии, приведшей к катастрофе на современном корабле, обладающем почти неограниченным запасом живучести, сличай из ряда вон выходящий. Автомат не сумел справиться с аварией. Не сумел или не захотел? Нет, это опять абсурд, он не мог нарушить основную программу. Итак, странность номер два. Современный звездолет, набитый до предела самовосстанавливающейся автоматикой, получает необратимые разрушения. Отметим, кстати, что при этом он все-таки не гибнет, экипаж не получает ни малейшей царапины, зато полностью разрушен центральный автомат. От вибрации. Допустим. По крайней мере, теперь из игры выбывает один из важнейших элементов. Нет больше центрального автомата, некому выполнять программу. Зато теперь на сцене наконец появляется экипаж. В точке выхода из надпространства, в пределах досягаемости искалеченного звездолета, обнаружена неизвестная звезда…
Получается довольно длинная, но все еще приемлемая цепочка совпадений и случайностей. Посмотрим, что будет дальше.
Во время посадки выходит из строя магнитная рубашка генератора… Пожалуй, это уже следствие предыдущего. Звездолет так разбит, что в этой последней аварии нет уже ничего странного. Странно, правда, что они успели выброситься на шлюпке, обычно такие взрывы происходят мгновенно… Но, правда, выбрались не все… Кое-что Навигатор и Энергетик все-таки могли сделать…
Теперь планета. Давление, гравитация, состав атмосферы, кислород, диапазон температур, отсутствие враждебной биосферы, наконец, — все в пределах того узкого островка условий, в которых может существовать ничем не защищенный человек… Ничем не защищенный… Может быть, поэтому они лишились скафандров? И только радиация… Райков облизнул мгновенно пересохшие губы. Он боялся думать… Он понимал, что подошел к той самой черте, за которой вот сейчас, сию минуту поймет что-то очень важное, имеющее для них решающее значение…,
А что, если предположить, только предположить, что все это не случайно? Не может быть так много совпадающих случайностей, тогда только эта радиация выпадает из общей схемы. Ну, а если и она не выпадает? Если они просто чего-то еще не понимают в ней? Короче, если он прав, радиация для них безвредна.
Он вскочил на ноги и секунду смотрел на расплавленную синеву моря.
Красиво? Да, пожалуй, даже слишком красиво для дикой планеты. Нужно разбудить Физика. Вот только сказать ему будет нечего. Разве можно передать это глубокое убеждение, что все, что их окружает, и все, что с ними было до этого, все это не напрасно, не может быть напрасно. И значит, во всех событиях есть смысл. Смысл, которого они не заметили, события, которыми кто-то управляет? Но это же бред. «Ты принимаешь желаемое за действительное. У тебя же нет доказательств…» — вот что ему ответит Физик. Да, у него нет доказательств. Но они будут. Через два часа, через десять и через двадцать. Надо подождать. Совсем немного подождать…
По крайней мере, если он ошибается и проснуться не удастся, некому будет жалеть об этой последней ошибке.
Веки отяжелели от яркого непривычного света. Практикант все еще пытался бороться со сном. Но недолго. Сказалось нервное напряжение последних часов.
Снились ему сосны. Ласковые, земные, с длинными иглами, в которых свистит ветер. Смутно, сквозь сон он понимал, что здесь не может быть никаких сосен, и от этого даже во сне чувствовал невыносимую тоску и горечь. Он видел траву, растушую у их корней, гладил шершавую кору, на которой блестели смоляные слезы… Проснулся он от того, что Физик тряс его за плечо. Сел, открыл глаза.
Вокруг плотной стеной стоял сосновый лес. На коричневой коре деревьев блестели капли прозрачной смолы. Свет едва пробивался сквозь могучие кроны деревьев. В двух шагах от их песчаной постели цвели одуванчики. В густой зеленой траве они казались вспышками земного солнца…
ГЛАВА 3
Если можно было доверять показаниям курсографа, шлюпка шла вверх почти вертикально. Не работал ни один обзорный экран. Кибернетик сердито передвигал рукоятки горизонтальных рулей. — Высота подходящая, и все-таки я не могу вести шлюпку вслепую. Кому-то придется корректировать. Ты сможешь заменить меня? — Я сдавал экзамены, но я мог бы… — Лучше не надо. Садись на мое место. Отдраить люк на ходу было не просто. Зато потом Кибернетик сразу увидел под собой рыжеватую поверхность планеты. Пропало ощущение слепоты в этой несущейся неизвестно куда железной клетке. Доктор вел шлюпку неровно, рывками, иногда он заваливал ее набок, и тогда Кибернетику приходилось изо всех сил держаться за поручни, чтобы не вывалиться. Он отключил рацию скафандра и теперь мог себе позволить громко проклинать Доктора, планету, шлюпку, жару и все остальное. Пейзаж внизу постепенно менялся. Холмистая пустыня превратилась в предгорье. Все чаще попадались острые пики отдельно стоящих скал. Наконец одна из них появилась прямо по курсу. Пришлось включить рацию и вежливо попросить Доктора снизить скорость и отвернуть в сторону. Вместо этого Доктор повысил скорость, и они просто чудом не врезались в скалу. На этот раз Кибернетик забыл выключить рацию. Доктор обиделся и отказался дальше вести шлюпку. Все равно нужно было садиться. В конденсаторах почти не осталось энергии. Кибернетик выбрал небольшое ущелье, и по его командам Доктор посадил шлюпку у самой стены. Место для лагеря оказалось очень удачным. Узкие стены ущелья закрывали шлюпку с трех сторон. По расчетам Кибернетика, солнце могло заглядывать сюда только на рассвете, и это означало, что теперь они избавлены от удушающей жары. Кроме того, стены ущелья представляли собой неплохую естественную преграду. В случае обороны защищать пришлось бы только одну сторону. Почему-то Кибернетик не очень верил в «полное отсутствие биосферы». Слишком поспешен был вывод Доктора, он по опыту знал, как много сюрпризов таят в себе новые, недостаточно исследованные планеты. Разбивку лагеря решили отложить до возвращения Физика и Практиканта. Точно в условленное время зажгли дымовую шашку. Истек первый контрольный срок. Постепенно тревога за товарищей вытеснила все другие мысли. Захватив бинокли, Кибернетик и Доктор пошли к выходу из ущелья. Метров через сто оно кончалось, открывая широкую панораму равнины, над которой совсем недавно летела шлюпка. Солнце плыло над самым горизонтом. Ветер стих, и теперь во всем этом мертвом пространстве не было даже намека на движение. Они прождали в полном молчании четыре часа. Становилось заметно темнее. Несмотря на медленное вращение планеты, солнце почти скрылось за горизонтом. Необходимо было дождаться второго контрольного срока, установленного Физиком через сутки. Начинать поиски до утра было бессмысленно. Пришлось вернуться в лагерь. Поужинали питательной пастой. Все тело зудело под толстой броней скафандров, капризничали регуляторы температуры. — Я чувствую, что постепенно превращаюсь в черепаху, — жалобно сказал Доктор. — Давай выйдем наружу, — попросил он. Ночь оказалась светлой и туманной. Наверное, в этом было виновато фиолетовое свечение атмосферы. Не просматривались даже звезды. Контуры скал казались нерезкими. Их тени над головой то и дело меняли очертания. Чудилось какое-то движение, слышались шорохи… Часа два оба честно пытались уснуть, потом Доктор предложил снова перейти в кабину шлюпки, но Кибернетик ему ничего на это не ответил. Неприятно было даже вспоминать тесное пространство рубки, набитое угловатыми приборами, пропахшее горелой резиной и пластмассой. Прошло еще несколько часов. Рассвет все не наступал. Кибернетик предложил начать разбивку лагеря. Несмотря на необходимость экономить энергию, решили зажечь прожектор. Голубой конус света выхватил из темноты зазубренную стену ущелья. Ночью в свете прожектора ущелье казалось совершенно незнакомым. Изменились тени скал, их очертания. Доктору показалось, что в момент, когда вспыхнул луч, в стороне от светового конуса у входа в ущелье что-то двинулось. Какая-то большая, едва различимая в боковом рассеянном свете масса. — Посвети-ка вон туда, к выходу, — попросил он Кибернетика. Едва луч скользнул в сторону, как Доктор сам схватился за рукоятку прожектора и довернул его еще больше. Прямо посреди ровного дна ущелья стояла какая-то странная гладкая скала. Доктор мог бы поклясться, что вчера здесь ничего не было. Никакой скалы. И тут оба заметили, что между дном ущелья и скалой проходит широкая, в полметра, полоса света… Скала словно бы неподвижно висела в воздухе. Они не успели прийти в себя от изумления, как вдруг скала вся заколыхалась сверху донизу, словно была целиком вырезана из огромного куска желе, и медленно, очень плавно двинулась к ним. — Вот оно, твое отсутствие биосферы! Прежде чем Доктор успел ответить, прежде чем он успел предотвратить несчастье, темноту вспорол малиновый луч бластера. Голубое облако шумно вздохнуло на том месте, где только что двигалось неизвестное, и вокруг них сомкнулась ночь. Прожектор почему-то погас. — Давай прожектор! — крикнул Кибернетик, не опуская бластера, но Доктор не ответил ему. Он лихорадочно шарил по поясу скафандра, наугад нажимая кнопки и уже понимая, что это бессмысленно: все энергетическое оборудование вышло из строя, не загорался даже аварийный нашлемный фонарь, и только рация почему-то продолжала работать. Он отчетливо слышал шумное дыхание Кибернетика, щелчки тумблеров и его проклятия. Кибернетик рванул затвор бластера, развернулся в сторону стены и, уже не надеясь ни на что, нажал спуск. Но бластер не подвел. Видимо, его автоматический реактор продолжал действовать, и хотя разряд оказался намного ниже нормы, в его желтоватой вспышке они успели увидеть, что вокруг уже ничего не было. Никаких движущихся скал. — Перестань, — сказал Доктор. — Вернемся в шлюпку. Может быть, там что-нибудь уцелело. Они повернулись и молча пошли к шлюпке. Тьма стояла такая, что хоть глаз выколи. Наверное, оттого, что их ослепила вспышка бластера. Они прошли десять шагов, пятнадцать — шлюпки не было. — Ты уверен, что мы идем правильно? — спросил Доктор. — Сейчас посмотрим! Кибернетик снова щелкнул затвором, но Доктор перехватил его руку. — По-моему, довольно. Твоя иллюминация только привлекает внимание к нам. В спину им ударил порыв ветра. Доктору показалось, что в воздухе пляшут какие-то огненные искорки. — У меня что-то с глазами… Ты видишь этих светляков? — Возможно, это разряды. Здесь чертова уйма энергии от радиации и от этого сумасшедшего зеленого солнца. Но где шлюпка? — Может, повернем обратно? — Тогда вообще потеряем направление. Почему они не нападают? Сейчас самый удобный случай, на открытом месте мы беззащитны, а ночные животные отлично видят в темноте. Если попробуют еще раз… я ударю протонными… — Что «еще раз»? — Ну, напасть на нас! — С чего ты взял, что они нападали? — А что же они, играли в пятнашки? Зачем им бежать прямо на нас? Мало здесь места? — Ты хоть знаешь, в кого стрелял? — В кого? Почему «в кого»? Это был какой-то зверь. Очень крупный зверь! — Хорошо, если так. А если нет? — Ну, знаешь… Было видно, что вопрос Доктора все же смутил Кибернетика. Доктору совсем не хотелось продолжать этот разговор, но надо было его продолжить, не было иного выхода. — Объявлять войну целой планете с нашими силами не очень-то разумно. А, как думаешь? — Очень ты любишь все преувеличивать, Петр Семенович. О какой войне идет речь? При чем здесь война? На нас напало неизвестное существо, я в него выстрелил, вот и все! — А если не просто существо? — Ты говоришь так, словно уже открыл на этой планете целую цивилизацию! Да еще не гуманоидную. Поделись, если это так! — Ничего я не открыл! Но я предпочитаю вести себя так, словно здесь может быть такая цивилизация, и по крайней мере не забывать, что здесь мы гости! Мне хочется, чтобы люди всегда были добрыми гостями. Достаточно зла мы успели натворить на собственной планете. Не надо хвататься за бластер без крайней необходимости. Я почти уверен, что у этой штуки не было никаких враждебных намерений. Иначе от нас ничего бы уже не осталось. Это нас здесь только двое, а разум и вообще жизнь, даже самая примитивная, способны к объединению в случае опасности. — Вот-вот! Ты говорил, что на этой планете отсутствует биосфера, ты делал анализы и не нашел даже вирусов! Доктор усмехнулся: — Так уж мы устроены. Всегда приятней обвинить в ошибке другого, особенно если чувствуешь, что виноват сам. А биосфера… Что ж, согласен. Слишком поспешный вывод. Хотя все это странно, Миша. Очень странно… Может быть, наши найдут что-нибудь новое? — Они даже не взяли оружие! — Оружие здесь не поможет. — Ну, это мы еще посмотрим! Лучше с самого начала показать не слабость, а силу. Доктор надолго замолчал. Ветер постепенно усиливался, стало трудно держаться на ногах, и было отчетливо слышно, как скрипит оболочка скафандра под хлещущими ударами песчаных струй. — Надо сесть и подождать, пока стихнет ветер, — предложил Доктор. — Верх стены непрочен. Если ветер усилится, начнутся обвалы. Нельзя останавливаться. Нужно найти шлюпку или хотя бы какое-нибудь укрытие. Подожди! Ветер дует вдоль ущелья, повернем так, чтобы он бил в бок, и дойдем до стены, там наверняка найдется какая-нибудь трещина. Если повезет, дождемся рассвета. Черт с ней, со шлюпкой! Сейчас неизвестно, где безопасней. Им повезло. Это была не трещина, а овальный вход в какую-то пещеру. — Я осматривал вчера всю местность — не было здесь никакой пещеры, — раздраженно сказал Кибернетик. — Не могли же мы уйти так далеко! Остановились у самого входа, с трудом переводя дыхание. Под сводами пещеры ветер сразу же стих. Глаза понемногу привыкали к темноте, и они уже различали смутные, уходящие вглубь своды каменного потолка и светлое пятно входа, перечеркнутое мелкой сеточкой пляшущих в воздухе огненных точек. — Из-за этой свистопляски совсем ничего не видно. — А ты вынь батарею бластера. Подключим ее к прожектору скафандра. — Тогда мы останемся безоружны. — Это глупо. Если бы там был хищник, мы не успели бы пройти и двух шагов. Хищники, тем более ночные, редко охотятся в одиночку. — Их распугал выстрел. — Ну да, такие пугливые звери. Гасят прожектора, переносят с места на место шлюпки, подсовывают пещеры… Что еще они умеют делать? Кибернетик ощупью нашел в темноте плечо Доктора. — Не надо, Петр Семенович. И без того тошно. — Хорошо, не буду. Но ты все же разряди бластер и зажги свет. Надоело сидеть в темноте. Неплохо было бы осмотреть помещение, в которое нас пригласили. Ты заметил? Стены как будто теплые. Даже сквозь перчатку. — Нагрелись за день. Сейчас я попробую подключить фонарь прямо к бластеру, не вынимая батареи. Синий конус света упал на стену пещеры. — Не пережечь бы излучатель, он не рассчитан на такое напряжение, — пробормотал Кибернетик, что-то подкручивая в коробке бластера. — Посвети в разные стороны. Я хочу посмотреть. — Пещера как пещера. Не на что тут смотреть. — Ну, ты не совсем прав… — Доктор подошел к стене. — Стены как будто оплавлены и теплые. Внутри они не могли так нагреться только от дневного тепла. И эти натеки… вот, посмотри, как будто пещеру выжгли в скале… — Ну да, специально к нашему приходу. С минуту Кибернетик молча ковырялся в поясе скафандра, а Доктор, держа на вытянутых руках бластер с мотком провода, все никак не мог оторвать глаз от стен пещеры. — А знаешь, она довольно глубокая. Надо будет посмотреть, что там дальше. — Днем посмотрим. Если со шлюпкой ничего не случилось… Очень странно. Сели только наружные батареи скафандров. Направленное излучение? Может, оно ионизировало узкий участок, как раз там, где были батареи? Но тогда почему ничего нет на дозиметрах? Тут одному не разобраться, вот вернутся наши… — Тихо! — прошептал Доктор. — Что-то мелькнуло в дальнем углу пещеры, что-то темное и не очень большое. Дай-ка мне бластер, — сказал он как мог спокойней. — Зачем? — Еще раз хочу осмотреть стены. Переключи его, пожалуйста, на мой фонарь. — Надо было свой брать! — проворчал Кибернетик, но батарею все же переключил. Поставив оружие на холостой взвод, Доктор осторожно повернул шлем в сторону, где только что видел движение, и резко нажал выключатель. Ярко блеснули желтым агатовым светом два глаза. Существо величиной с ягненка сидело, ослепленное светом. — Стой! — крикнул Кибернетик. — Не подходи к нему! Но Доктор даже не обернулся. — Наши скафандры выдерживают удар лазера. Чего ты, собственно, боишься? Есть все-таки биосфера! Есть… Нет, это потрясающе — у него же нет рта! И ног не видно! Как оно движется? Какой обмен веществ? Доктор сделал еще один шаг, чтобы лучше рассмотреть представителя этого неизвестного мира, и в ту же секунду раздался глухой, чавкающий звук, словно ударили ладонью по круто замешанному тесту. Существо съежилось, вжалось в стену и стало медленно исчезать. Сначала исчезла его задняя половина. С секунду оно казалось барельефом, высеченным в скале каким-то древним художником. Но барельеф становился все тоньше, линии постепенно стирались, и вот уже перед потрясенным Доктором не было ничего, кроме гладкой поверхности камня. — Ты видел? — все еще не отрывая глаз от того места, где только что сидело существо, спросил Доктор. — Видел… — почему-то шепотом ответил Кибернетик. — Похоже, оно нырнуло. Нырнуло прямо в камень… Чтобы проверить себя, Доктор прикоснулся перчаткой к тому месту, где исчезло существо. Камень оказался в этом месте мягким, податливым, как глина, и очень горячим. — Может, оно его расплавило? Какая-то высокотемпературная форма жизни? — Нет. У меня такое предчувствие, что здесь что-то совсем другое, что-то гораздо более сложное… Предчувствие не обмануло Доктора. Секунд через десять или пятнадцать после того, как исчезло неизвестное существо, снова раздался знакомый чавкающий звук. Стена вздрогнула и стала медленно уходить куда-то вглубь, словно ее всасывал изнутри огромный каменный рот. Сначала образовалась небольшая, но стремительно расширявшаяся воронка, или, скорее, неправильное, сферическое углубление. Оно вогнулось внутрь скалы, расширилось и, наконец, замерло, образовав длинный узкий коридор, отделенный от пола пещеры невысокой, в полметра, каменной ступенькой. Проход был таким, что в него свободно, не сгибаясь, мог пройти человек. Направленный внутрь луч фонаря ничего не объяснил им. Свет терялся в стенах длинного, ровного туннеля, конца которого нельзя было рассмотреть. — Кажется, нас приглашают войти… — И не подумаем! При таком энергетическом вооружении, как у них, нужна силовая защита, а мы… — А мы уже не экспедиция, Миша. Кажется, ты это забыл, так что войдем как есть и даже эту игрушку оставим. — Доктор выключил бластер. — Терять нам нечего, а доверие можно заслужить только доверием. Больше они не спорили. Даже когда Доктор повернулся и положил у порога бластер, предварительно вынув из него батарею, Кибернетик не стал возражать. Прошли метров двести, а может, больше. Очень трудно определялось расстояние в этом совершенно гладком коридоре, с тускло поблескивающими, словно лакированными, стенами. Идти было легко. Пол мягко пружинил под ногами. Чтобы скомпенсировать внешнюю температуру, пришлось включить охлаждение скафандров на полную мощность. — Ты заметил, перед тем как образовался проход, камень даже не светился, температура совсем небольшая, иначе никакое охлаждение не помогло бы. Если это не плавление, то что же? — Может, ослаблено сцепление между молекулами? — Молекулярное сцепление? Ну не знаю… Для этого нужна такая прорва энергии… — Меня другое беспокоит; этот проход что-то уж слишком длинный. Не понимаю, зачем им это понадобилось? — Вот, кажется, и конец. Но это был не конец. Просто коридор раздваивался на два одинаковых рукава. С минуту они стояли молча, раздумывая, куда повернуть. А метров через пятьдесят коридор снова раздвоился. Они вернулись и отметили первый поворот. Потом Кибернетик предложил более рациональный способ. — Будем все время поворачивать налево, чтобы не запутаться. Они еще раз повернули налево, и почти сразу же луч фонаря осветил новую развилку. — Не слишком прямая дорога, а? — Честно говоря, мне это не нравится, — сказал Доктор. — Может быть, попробуем разок повернуть направо? — Правые туннели должны заканчиваться тупиком. — Откуда ты знаешь? — Да уж знаю… Можно, конечно, проверить, только снова пометь поворот. Они проверили. Доктор оказался прав. Почему-то это открытие заставило его помрачнеть. Они вернулись к помеченной развилке и снова свернули налево. Доктор теперь почти не разговаривал. Его шаркающие шаги доносились все глуше. Прислушавшись к его затрудненному дыханию, Кибернетик остановился. — Барахлит фильтр? Чего ты все время отстаешь? — Просто забыл привернуть свежий баллон, когда выскакивали из шлюпки. — Интересно, как тебе удалось сдать экзамены в школе третьей ступени… — сказал Кибернетик, внимательно изучая свой распределитель. — Значит, воздуха у нас всего на полчаса. Придется поторопиться. — Он отвинтил запасной баллон и протянул Доктору. — Держите, Медицинский работник. Жаль, что я не Навигатор. Ты бы у меня одним нарядом не отделался за такие штучки! — Спасибо, — просто сказал Доктор. И Кибернетик почувствовал, как от этого знакомого земного слова улетучивается все его раздражение. Прошло минут десять, прежде чем они поняли — что-то изменилось. Появилось едва заметное движение воздуха. — Погаси свет, — попросил Кибернетик. В наступившей темноте увидели впереди светлое пятно. — Кажется, там выход! — Конечно, выход. Лабиринт всегда заканчивается выходом, если применить правило левой руки. — О чем ты? — не понял Кибернетик. — О земных лабиринтах. — Но здесь не Земля! — В том-то и дело! Это мне и не нравится. Слишком знакомый лабиринт. И слишком простой… Проход теперь расширился, перешел в длинный зал. Впереди тускло поблескивала какая-то лужа. А еще дальше за ней скала раздвигалась в стороны, и можно было увидеть знакомое дно ущелья. — Смотри-ка, уже рассвет, — сказал Кибернетик. — Долго мы проплутали. Доктор ему не ответил. Он остановился и стоял теперь, сжав кулаки, с ненавистью глядя на лужу, преградившую им путь. — Ну, чего ты застрял? Пойдем! Хорошо, что вышли в наше ущелье, успеем добраться до шлюпки. — Понимаешь, Миша… А ведь мы здесь не пойдем. — Не пройдем? — Нет. Я сказал, не пойдем. Сейчас я тебе все объясню. — Да что тут объяснять! Объяснишь, когда сменим баллоны! — Тогда уже будет поздно. Послушай, этот лабиринт… А теперь этот… этот… бассейн, доска… Вон там, видишь? — Какая доска? Я вижу каменную плиту, и прекрасно. С ее конца легко перепрыгнуть через лужу! — Вот именно. Именно перепрыгнуть… В этом все дело. — Да говори ты толком, наконец! — Помнишь, там, в лабиринте, я знал, что все время нужно поворачивать налево?.. И этот зал мне знаком. — Ну это ты, брат, загнул! Не мог ты этот зал видеть! — А я и не видел. Здесь не видел. Я его на Земле видел… У меня такое чувство, как будто я в чем-то виноват, как будто я эти опыты выдумал… — Какие опыты?! — Теперь уже Кибернетик окончательно вышел из себя. Он повернулся к Доктору, и его лицо покраснело от гнева. — Будешь ты говорить толком или мне тащить тебя к выходу?! Кислорода осталось на пятнадцать минут, хватит лирику разводить! — Ну так слушай. В таком зале мы показываем студентам опыты на крысах, ну… на простейшие инстинкты, понимаешь? Вон там — лабиринт. Здесь прыжковый стенд. В конце — приманка. Кусок сала или выход — разница небольшая. Конечно, все соответственно увеличено в масштабе. — Ты хочешь сказать, что теперь в роли крыс мы? Доктор молча кивнул и сел на пол. Он выбрал камень поудобнее и располагался основательно и совершенно спокойно. Видно было, что он уже принял окончательное решение и теперь никуда не спешил. Чтобы все время видеть его лицо, Кибернетику пришлось сесть рядом. — Значит, они простейшие инстинкты проверяют… А зря ты оставил бластер! Доктор ничего не ответил, только пристально посмотрел на него, и почему-то Кибернетик смутился, отвел взгляд. Но почти сразу жерновая мысль заставила его вскочить на ноги. — Черт возьми, но это нелепо! Не могли они не видеть шлюпки! — Конечно, они видели шлюпку и понимают, что мы не крысы. Вряд ли они вообще знают, что такое крысы, но наверняка знают, как мы к ним относимся. — Откуда? — Оттуда, откуда они узнали об этом стенде. Из моей памяти. Кибернетику показалось, что после этих слов дышать стало труднее, словно уже истекли оставшиеся у них пятнадцать минут… — Думаешь, они читают мысли?.. — Мысли — вряд ли. Человек мыслит символами, словами. А эта условная система не может быть сразу понята никаким другим разумом, тем более что не только способ информации, но и ее кодировка, как правило, всегда отличны. Помнишь бету Ориона? Сколько там бились над расшифровкой языка запахов? Нет. Не мысли, но вот память, пожалуй, им доступна. Память, прежде всего зрительные образы. Ну, и эмоциональная окраска какого-то определенного образа, наверное, им понятна… Впрочем, все это только догадки. Фактов пока очень мало. Не успели мы собрать достаточно фактов. — Еще успеем, — машинально сказал Кибернетик и вдруг понял все, что имел в виду Доктор. — То есть ты хочешь сказать, что у нас нет другого выхода, только отказ от участия во всем этом? — Кибернетик обвел рукой каменный мешок, в котором они сидели. — Я рад, что ты понял. Есть вещи, которые очень трудно объяснять. — Нет. Подожди. Можно обойти доску или вернуться! В конце концов, в лабиринте мог быть и другой ход. Мы же не все ответвления проверили. Не сидеть же так, пока кончится кислород? — Видишь ли, Миша, наверняка я знаю только одну вещь, отличающую человека от крысы… Они помолчали, слышно было, как где-то капает вода и шипит в респираторах воздух. Кибернетик так и не спросил, что это за вещь, и тогда Доктор закончил: — Чувство собственного достоинства. За секунду до этих слов Кибернетику еще казалось, что он сможет переубедить Доктора или, на худой конец, сбегать к шлюпке за новыми баллонами. И сейчас, уже признав для себя правоту Доктора, но все еще не находя сил принять ее до конца, он зло возразил: — Я ведь не стану ближе к крысе от того, что пройду по доске! — Конечно, нет. Но тогда ты примешь условия предложенной нам игры. Крысы всегда их принимали. Опять надолго наступило молчание. Свет от фонарей постепенно желтел, и Кибернетик отметил про себя, что, значит, и батарее от бластера досталось тоже, скоро они останутся в полной темноте. Может, это и лучше… Доктор отыскал его плечо. Рука Доктора казалась через скафандр очень легкой. — Думаешь, они поймут? — По крайней мере, узнают о нас кое-что… И потом, это ведь прежде всего для нас самих важно не превращаться в подопытных кроликов… Доктор не успел закончить фразу. За их спиной раздался громкий лопающийся звук. Оба резко обернулись. Стены не было. Исчез целый кусок в несколько квадратных метров. И совсем недалеко, у самого пролома, они увидели шлюпку.ГЛАВА 4
Одуванчики в траве казались вспышками земного солнца… На секунду мелькнула шальная надежда, что это Земля. Вот за этой знакомой сосной начинается тропинка к санаторию… Но тропинки там не было. Практикант увидел, что ее нет, сразу, как только поднялся на ноги. Он вдруг почувствовал, что трава под ногами слишком колюча, слишком крепка для земной травы. Физик вскочил и смотрел на Практиканта так, словно хотел проверить, видит ли и он этот лес. — По-моему, это не галлюцинация и не мираж, — сказал Практикант, с трудом проталкивая слова через спазму, сдавившую горло. Вспоминая позже, что они почувствовали в те первые минуты, они точно установили, что меньше всего в их чувствах было все-таки удивления. И не потому, что притупилось восприятие необычного на чужой планете. Просто они все время инстинктивно ждали чуда. И теперь, когда чудо действительно случилось, они восприняли его как должное. Само собой разумеющимся казалось даже отсутствие последствий радиации. Правда, Физик считал, что они могут проявиться позже, но на это Практикант возразил, что на планете, где растут каменные сосны, радиация тоже может быть особой. Физик не сразу понял, о каких каменных соснах он говорит. И тогда Практикант протянул ему обломок ветки, где в изломе вместо знакомой светлой древесины темнел камень. — Об этом я догадался раньше. Видишь, не шевелится ни одна ветка, несмотря на сильный ветер. Это не настоящие деревья. Очень детальные копии. — Для любой копии нужен оригинал. — Здесь использовано все, что можно было извлечь из моей памяти… Силуэты деревьев. На заднем плане они как будто расплылись. В этом месте нет ничего потому, что я не помню, что там стояло у нас в санатории: не то беседка, не то фонтан. Образовалась бесформенная глыба. В изломе ветки нет ни жилок, ни сосудов, видишь, структура базальта. Это не окаменевшие деревья. Это копии деревьев, искусно сделанные из камня. — Для чего? — Ну, я не знаю. Может, это у них такой способ общаться друг с другом. — Нуда! Мы рисуем на бумаге, а они вырубают послания из скал. Простой и дешевый способ. — А как иначе это объяснишь? — Пока не знаю. Давай посмотрим, что здесь есть еще. Каменные копии деревьев стояли полукругом ряда в четыре вокруг выемки, в которой они спали. За деревьями ничего не изменилось, в пустынной базальтовой равнине. Физик, защитив глаза от ветра ладонью, долго смотрел в ту сторону, куда улетела шлюпка. — Не пора ли нам возвратиться? Они, наверное, до сих пор не сняли скафандры. — Ты думаешь, Доктор тебе поверит? Приборы покажут, что мы схватили больше трех тысяч рентген. С покойниками врачи, как правило, не разговаривают. Хотелось шутить, улыбаться, жадно глотать воздух, горячий и терпкий, как вино. Все тревоги отошли на второй план. По сравнению с тем огромным и значительным фактом, что они чувствуют на лице прикосновение ветра, у них ноют ноги от усталости и очень хочется пить. Только к вечеру они отыскали холм со знакомыми очертаниями. Практиканту показалось, что это другое место. Он спорил с Физиком до тех пор, пока тот не разгреб песок и не нашел обломки досок от упаковки планетного робота. Прищурившись, Практикант смотрел, как ветер зализывает длинными струями лунку, только что вырытую Физиком в базальтовой пыли. Медленно ползущее солнце скрылось за горизонтом, и сразу потянуло холодным ветром. Физик обошел всю площадку, старательно подбирая силикетовые обломки ящика. — Зачем тебе они? — Ночью станет еще холоднее. Силикет трудно разжечь, но зато, если это удастся, будет неплохой костер. — Хочешь здесь ночевать? — Конечно, в темноте мы не найдем лагерь, и, кроме того, робот… Если он вернется, мы получим дополнительную информацию. — По программе он должен был дожидаться нас здесь несколько часов назад. — Возможны непредвиденные задержки… Конечно, я понимаю, что, раз его нет до сих пор, скорее всего, он уже не появится. Все же подождем. Это ведь наш единственный сохранившийся автомат… — А контрольный срок?.. — Я назначил дополнительный. Они будут волноваться, но другого решения быть не может. — Не думаю, что стоять на месте безопаснее, чем двигаться, вряд ли мы сможем уснуть. — Есть еще одна причина. О ней мне бы не хотелось говорить раньше времени. Давай подождем. Что-то ведь должно проясниться. Для чего-то были нужны там деревья и все остальное. Значит, Физик тоже все время ждет. Ждет следующего шага. Наверное, он прав. И наверное, так и нужно — ждать с открытым забралом. У них нет скафандров. Нет робота. Нет оружия. Два беззащитных человека на чужой планете, и этот костер… Словно они в туристском походе, устали после длинной дороги и сделали привал… Наверное, так и нужно — ждать… Зеленоватый закат погас, и холодная темнота обступила их со всех сторон. Ночью на открытом пространстве человек особенно остро чувствует свое одиночество даже на Земле. Здесь это чувство обострилось еще больше. На Земле ночи полны шорохов и звуков жизни. Космос нем, но даже к его однообразному, равнодушному молчанию легче привыкнуть, чем к тишине этой ночи, сквозь которую прорывался то какой-то отдаленный рокот, то тоскливый вой ветра, разрывающегося на части об острые зубцы скал, то шелест песчинок. Не было ни треска цикад, ни шороха крыльев, ни осторожных шагов ночного хищника. Ни одного живого звука. Когда темнота сомкнулась вокруг костра, она оставила маленький клочок освещенного пространства. Ночь затаилась у них за спиной, неторопливо поджидая своего часа… Не так уж и много было силикетовых досок… И когда сгорела последняя доска, когда остыли красные глаза углей и потухли последние искры, что-то случилось. Шагах в сорока от них лежал валун величиной с пятиэтажный дом. Днем Практикант забирался на него, чтобы лучше осмотреть окрестности, и хорошо запомнил изрезанные морщинами, шершавые каменные бока. Неожиданно лежащий в стороне валун чётко обозначился на фоне темного неба, с которым совершенно сливался за минуту до этого. Сначала оба подумали, что за горизонтом вспыхнуло какое-то зарево, но уже через секунду поняли, что это светится сам камень. Постепенно все его массивное тело наливалось светом, меняя оттенки от темно-красного до вишневого и светло-розового. Длинные волнообразные цветные сполохи пробегали по камню то сверху вниз, то снизу вверх. Одновременно цвет приобрел глубину. Камень становился прозрачным. Теперь он был похож на гигантский розовый кристалл турмалина, подсвеченный изнутри каким-то непонятным светом. Одновременно с почти полной прозрачностью внутри камня обрисовались неясные уплотнения, похожие на белесоватый туман, словно кто капнул в рюмку с водой каплю молока. Эти уплотнения все время двигались и постепенно сжимались, приобретая большую четкость и плотность. В то же время они как бы вытягивались и разветвлялись, образуя сложные, непонятные людям конструкции и абстрактные узоры, в которых нельзя было уловить ни ритма, ни симметрии. Через несколько секунд после образования рисунок белесых контуров внутри камня стал усложняться, ускорился и темп образования новых узоров. Неожиданно весь камень по диагонали пронизала какая-то невообразимая сложная игольчатая конструкция. Она на глазах разрасталась вширь и вглубь, потом неожиданно вспыхнула многочисленными искрами и распалась. Сразу свет внутри каменной глыбы стал меркнуть, а сама она осела, контуры ее поплыли, и прежде чем погасла последняя вспышка света, прежде чем все снова исчезло в ночной тьме, они успели заметить, как камень вытянулся вверх и в сторону, словно укладываясь поудобнее на своем вековом ложе. По его бокам вместе с золотистыми искрами пробежала короткая судорога. Потом все исчезло в полной темноте. Оба не смогли сомкнуть глаз до самого рассвета, но за ночь ничего больше не произошло. Солнце еще не успело взойти, как они уже стояли у подножия таинственного камня. Ничего необычного не могли отыскать их жадные взгляды на его выгнутых, потрескавшихся боках. Поверхность на ощупьказалась мертвой и совершенно холодной. С южной стороны на валуне сохранилась даже пленка пустынного загара. Физик выбил из края трещины несколько образцов, но и на свежем сколе структура камня ничем не отличалась от обычного базальта. Отбросив осколки камня, он недоуменно пожал плечами: — Просто ему неудобно стало лежать. Если бы у нас была кинокамера… — И корабельный мозг, в который можно отправить пленку для обработки данных… Нет. На этой планете до всего придется доходить своим собственным умом. Они долго спорили о том, что делать дальше. Физик настаивал на возвращении в лагерь. Практикант считал, что нельзя уходить, не разобравшись в ночном происшествии. — Да как ты в нем разберешься, как? Ну, допустим, сегодня ночью камень опять замерцает и мы увидим те же или, может быть, совсем другие структуры. Что ты сможешь понять во всем этом? — Тот, кто способен создавать такие сложные системы, наверняка сумеет найти способ общения. — Во-первых, если захочет. Во-вторых, для этого он прежде всего должен понимать нас. А в-третьих, вот посмотри. — Физик вывернул заплечный мешок, вытряхнул крошки. — Камни мы есть не умеем. И потом, почему ты думаешь, что эта система создана специально для нас? Что, если она существует сама по себе. Почему бы ей не быть самостоятельным гомеостатом, тем самым таинственным фактором, который занят своими собственными делами, а на наши влияет чисто случайно? — Именно поэтому мы не должны уходить. Если эта встреча случайна, мы можем потерять единственный шанс, провести годы на этой планете, забравшись в пещеры и питаясь хлорелловым супом, до конца наших дней смотреть на базальтовые скалы, ничего не замечая, и вспоминать упущенный шанс! — Да кто тебе не дает вернуться сюда, после того как мы найдем наших? — И увидеть камень? Просто глыбу базальта? То, что мы видели, приходит и уходит. Неизвестно, сколько времени пробудет оно здесь. Может, предстоящая ночь единственная и последняя, когда нам удастся что-то понять и объяснить. Может быть, сейчас самое главное — не уходить, показать, что нам интересно и нужно то, что мы видели. Показать, что мы хотя бы стараемся понять. Можно уйти, конечно. Только ведь это тоже будет ответом. И кто знает, станут ли нам еще раз навязывать объяснение, от которого мы однажды отказались. — Ну, хорошо, возможно, ты прав. Я не уверен, что еще один день голодовки пойдет нам на пользу, но в конце концов последние дни мы все время совершали не очень разумные поступки. Тем не менее нам пока не приходится жаловаться. День тянулся бесконечно долго. Измученные жарой и бессмысленным, по мнению Физика, ожиданием, к вечеру они уже почти не разговаривали, каждый уйдя в собственные мысли и воспоминания. Задолго до захода солнца оба почувствовали необычную сонливость. Наверное, это было реакцией организма на пересыщенный событиями день. Практикант, отгоняя непрошеную дремоту, то и дело приподнимался на локте. Он во все глаза глядел на этот валун. Скорее всего, ничего больше не случится, и ожидание напрасно. Тут они имеют дело с чужим разумом, с чужой волей… Вспомнились выпускные экзамены, прощальный институтский вечер. Сергин тогда сказал: «Тебе наверняка не повезет, слишком ты этого хочешь». Они понимали друг друга с полуслова, дружили не один год; сейчас Сергин далеко ушел с экспедицией на «Альфу». При их специальности очень трудно поддерживать старую дружбу. Контакты рвутся. Люди забывают сначала лица друзей, потом они не помнят, как выглядела скамейка в парке института, и на ее месте образуется просто глыба базальта… Ну полно, не стоит придавать этому такого значения! Если будет нужно, он вспомнит все. Вот именно: если «нужно», а просто так, для себя, можно, значит, и не помнить? Но ведь я жду именно потому, что помню, потому, что я сейчас уже не просто практикант… Ну конечно, «полномочный представитель цивилизации». А Ленка, между прочим, так и не подарила тебе свою видеографию. Не верила в него? Не хотела ждать? Или все у них было не очень серьезно? А как это «не очень» и как должно быть «очень»? Вопросы, вопросы… Преподаватель Горовский не любил его именно за многочисленные вопросы. «Рассуждать нужно самостоятельно, обо всем спрашивать просто неэтично, юноша…» В лицо ударил резкий, порывистый ветер, и, приподняв голову, в очередной раз Практикант увидел, что солнце наконец зашло. Камень возвышался перед ними молчаливой холодной стеной. Практикант повернулся к Физику и с удивлением обнаружил, что тот спит. Ну что ж, значит, нужно дежурить одному. Кто-то должен ждать, если понадобится, всю ночь. Но мысли путались. Очень трудно было сейчас все время помнить самое важное. А самым важным было сейчас не заснуть, не пропустить… Но он все-таки заснул. Он понял, что заснул, сразу, как только по закрытым глазам ударил резкий беловатый свет, и потому, что, открыв глаза, вдруг обнаружил себя в полукруглом, хорошо освещенном зале с ровным песчаным полом. И сразу же ужаснулся, потому что помнил, что засыпать не должен был, а вот заснул… Но, может быть, тогда и этот зал — часть его продолжающегося сна? Нет. Слишком четко и ясно работал мозг, и только сам переход в это новое для него положение остался неясным, словно на секунду выключилось сознание и вот он уже здесь, в этом зале… Так. А теперь спокойно, примем это как должное. В конце концов, были же каменные деревья, почему бы не быть залу? Может, так нужно. Но где Физик? Почему его нет? Подождем, что-то должно проясниться, просто так такие залы не снятся. Можно было нагнуться и пересчитать песчинки на ладони — сорок три… Можно считать и дальше, но это не обязательно. Он и так уже знает, что никакой это не сон. И сразу за этой мыслью волной прокатился страх. Замкнутое пространство вокруг, казалось, не имело выхода. Что может означать этот зал? И почему здесь так светло? Откуда свет? Свет шел отовсюду. Казалось, светится сам воздух. Стена крутым полушарием уходила от него в обе стороны и терялась в этом радужном сверкании. Что предпринять? И нужно ли? Может, лучше ждать? Нет, ждать в этом зале он не сможет. Он чувствовал, что еще минута — другая такого ожидания — и он начнет бить кулаками по стене и кричать, чтобы его выпустили. А делать этого не следовало. Делать нужно было что-то совсем другое. И прежде всего сосчитать до сорока, внутренне расслабиться, полностью отключиться. Представить себе яркий солнечный день в Крыму, ослепительную синеву неба и чайку… Так. Хорошо. Теперь можно открыть глаза и еще раз все спокойно обдумать. Если решить куда-то двигаться, то выбор, собственно, небольшой. Единственный ориентир — стена. Кстати, из чего она? Базальт. Похож на естественный, никаких следов обработки… Что ж, пойдем направо. Надо считать шаги, чтобы потом можно было вернуться к исходной точке. Сорок шагов, пятьдесят… И вот вам, пожалуйста, дверь. Самая обыкновенная, какие бывают в стандартных домах из стериклона на Земле… Ручка поблескивает. Очень аккуратная дверь, и очень нелепая на сплошной базальтовой стене, уходящей вверх и бесконечно в обе стороны. Ну что ж, дверь — это уже нечто вполне понятное, можно предположить, что она здесь специально для него. В таком случае — откроем. Практикант протянул руку и открыл дверь в корабельную рубку. Произошло мгновенное переключение памяти, и, открыв дверь, он уже не помнил о том, о чем думал минуту назад, стоя в зале. Но зато прекрасно помнил, зачем бежал к рубке и как за минуту до этого Физик пытался втолкнуть его в шлюпку. «Значит, все-таки удалось вырваться», — мелькнула запоздалая мысль. Навигатор и Энергетик молча стояли у пульта. Наверное, они только что выключили аварийную сигнализацию, и поэтому тишина казалась почти осязаемой. «В шлюпку! Скорее!» — крикнул он им. Или прошептал? Почему-то Практикант не услышал собственного голоса, но зато теперь он остался один у пульта. Навигатор и Энергетик исчезли, и у него нет времени об этом думать, нет времени анализировать, потому что самое главное сейчас — вот эта маленькая светлая точка на единственном уцелевшем экране; надо дать отойти ей как можно дальше, вытянуть ее за зону взрыва… Это самое главное. Выжать бы еще секунд десять, пятнадцать… Очень трудно, потому что магнитная рубашка реактора держалась теперь только на ручном управлении… Сумеет ли он один? Должен суметь, раз взялся. Регулятор распределителя поля очень далеко, и нельзя отойти от главного пульта… Неужели конец? Вот сейчас… Нет, этого не может быть! Вспыхнуло панно: «Готова вторая шлюпка!» Откуда она? Они сняли с нее все детали, не могла быть готова вторая шлюпка! Но панно горело, и, значит, он еще может успеть, вот только взрыв, пожалуй, еще может накрыть ту, первую шлюпку, в которой сидели сейчас Физик, Доктор и все другие. Все, кто доверил ему свою жизнь. Шлюпка почему-то все время шла по оси движения корабля. «С ума они, что ли, там все посходили?» Ему пришлось тормозить корабль, выворачивать его в сторону, и некогда было думать о второй шлюпке… Мир раскололся, сверкнуло белое пламя, и все перечеркнула невыносимая боль… Пришел в себя он уже в зале. Пот ручьями стекал по лицу, не хватало воздуха. И первой мыслью мелькнуло: вот, значит, как там все было… Вот каково было тем, кто на самом деле вывел тогда их шлюпку из-под удара, подарив им эти самые пятнадцать секунд… И сразу же он почувствовал возмущение. Лучше бы тогда помогли… А они вместо этого экспериментируют. Ну хватит! С него довольно! Сколько он прошел вдоль стены? Кажется, пятьдесят шагов… Вот только… Что «только»? Может быть, это и есть контакт?.. Какой контакт? Это же просто сон, кошмарный сон, надо проснуться или уйти… Ну да, уйти… Не слишком ли логично: уйти из сна, пройти налево именно пятьдесят шагов? Нет, здесь что-то не то, не бывает во сне такой логики, и не может человек анализировать во сне происшедшие события, управлять ими. В обычном сне события наслаиваются друг на друга, а здесь определенно была какая-то логика… Что-то они от него хотели, что-то хотели понять? Или объяснить. Придется все же вернуться к этой проклятой двери. Интересно, какой сюрприз приготовит она ему на этот раз? А помочь?.. Ну что ж, предположим, они не смогли, не успели… У двери ничего не изменилось. Все так же скрипел песок под ногами, так же поблескивала металлическая ручка. И можно было не спешить. Ничто не выдавало здесь течения времени. Казалось, все замерло, как в остановленном кадре. Тот же свет, тот же камень, песок и дверь… Практикант решительно повернул ручку. Теперь это был экзаменационный зал… Он огляделся. Копия институтского зала, вернее, его части. Там, где в институте амфитеатром поднимались ряды скамеек, здесь ничего не было. Гладкая, полированная стена из черного камня словно закрывала от него все лишнее, не имеющее отношения к делу. Оставались только кафедра преподавателя и пульт процессора, на котором во время экзамена можно было смоделировать любую сложную ситуацию. Рядом с пультом процессора был экран, на котором машина выдавала результаты предложенной ей задачи. Практикант осторожно, словно пол под ним был стеклянный, пошел к экрану. Однако на пульте процессора не нажималась ни одна кнопка. Это был лишь макет машины, такой же, как каменные деревья в лесу из его сна. Чтобы еще раз убедиться в этом, Практикант подошел к кафедре. Здесь было то же самое. Тумблеры экзаменационной машины составляли одно целое с пультом. Чего же от него хотят? Что это за экзамен, на котором некому задавать вопросов и неизвестно, кому отвечать? Отвечать, наверное, все же было кому. Он понимал, что не зря построен специально для него этот зал. Есть в нем свой смысл, уже почти понятный ему, и экзамен все-таки состоится, если он во всем до конца разберется. Если разберется… А если нет? За преподавательским пультом пестрая мозаика знакомых рычагов переключателей шкал бездействовала, и только сейчас, внимательно всмотревшись и прислушавшись, он понял, какая уплотненная тишина стоит в зале и как далеко все это от настоящей земли… Не распахнется дверь, не войдет опоздавший Калединцев и суровый, насмешливый Горовский, тот самый, который учил его когда-то мыслить самостоятельно, не спросит: «Что такое свобода выбора при недостаточной информации?..» Мертвый экран экзаменационной машины вдруг полыхнул рубиновым цветом. Всего на секунду. Вспышка была такой мимолетной, что он усомнился, была ли она вообще. Практикант подошел к экрану… Нет, здесь только камень. Нечему тут светиться, хотя, если вспомнить камень, у которого я уснул… Кажется, отвлекаюсь. Нужно думать о том, что показалось важным этому ящику… Почему бы им не предложить более простой способ общения? Что за странная манера подслушивать чужие мысли, обрывки слов… Впрочем, я не могу судить об этом. Может, они не знают другого способа общения, и уж наверняка многое из привычного для нас им вообще не может прийти в голову, если у них есть голова… Практикант несколько раз обошел вокруг кафедры, постоял задумчиво перед пультом. Зал все еще ждал чего-то… Может быть, он ждет, когда войдет преподаватель? Хорошо бы… Но Практикант знал, что этого не случится. Если бы они могли просто, по-человечески побеседовать, не нужен был бы ни этот зал, ни муляжи деревьев. В том-то и дело, что они не люди. То, с чем мы встретились, очень сложно и чуждо нам… И дело не в том, как они выглядят. Гораздо важнее, что они думают о нас… А если так, значит, нужен этот экзамен не только им, но и нам. Ну что ж… Любому студенту дается время подумать. Он сел на ступенечку кафедры, подпер голову руками и задумался. Прежде всего нужно решить, как отвечать. Нет сомнения, что они ждут. Не могут задать вопрос? Или, может, он сам должен решить, как и что отвечать? Допустим. Что же ему говорить со стенами? Кричать вслух? Это наверняка не годится. Им вообще может быть незнакомо само понятие — речь. Да и что говорить? Рассказать, какие мы хорошие, добрые и умные? Как хотим вернуться на Землю и как необходима нам помощь? Самая элементарная помощь? Но об этом и так не трудно догадаться при самом небольшом желании. Слова тут не нужны. И все же их интересует что-то важное… Но что? Что бы меня заинтересовало в таком вот случае? Есть у меня, допустим, планета, на которой ходят светящиеся камни. И вдруг на нее падает чужой звездолет, и такой вот симпатичный малый двадцати четырех лет не может закончить практику, потому что ему не на чем вернуться на Землю. Но разве самое важное — вернуться? Разве не ради такой встречи десятки земных звездолетов бороздят космос вот уже столько лет? Мы ищем братьев по разуму. Иногда находим разумные растения, или примитивных амеб с Арктура и вдруг впервые сталкиваемся с чем-то, что даже не сразу объяснишь… И это «что-то» затаскивает тебя в экзаменационный зал, задает невысказанные вопросы, ждет ответа… Ну не сдам я этого экзамена, подумаешь…
И вдруг понял, что экзамен он сдает не за себя, вернее, не только за себя, и сразу пришло такое знакомое, особенное предэкзаменационное волнение. Неважно, что нет преподавателя, нет товарищей, вообще никого нет. Он должен сдать этот экзамен. И он его сдаст.
Что мы знаем об их средствах информации? Моделирование. Может быть, они просто читают мысли — телепатия, которую так и не открыли у гомо сапиенсов? Тогда не нужно моделирование. Тогда вообще ничего не нужно. Заглянул в мозг — вот тебе и весь экзамен… Значит, все не так просто. А кроме того, человек чаще мыслит словами, то есть символами, которые для них могут быть китайской грамотой. Значит, моделирование… Тогда здесь не зря процессор. Он лучше всего подходит для такого рода общения. С помощью электронной машины на экране прибора можно смоделировать развитие почти любой ситуации, смоделировать в конкретных зрительных образах. Это должно быть для них понятно. Жаль, что не работает процессор… А может, все-таки работает? Надо посмотреть еще раз. Другого пути что-то не видно.
Практикант встал и снова подошел к экрану. Нет, это не экран. Полированная каменная поверхность. Муляж экрана. Жаль. Я бы им сейчас смоделировал… А собственно, что? Ну хотя бы ответ на вопрос, который был в билете на экзамене по космопсихологии в этом самом зале. Свобода выбора при недостаточной информации… Он тогда предложил Горовскому модель развития примитивной космической цивилизации. Очень стройную, логически законченную модель. Даже внешний вид придумал для своих гипотетических инопланетян. Симпатичные сумчатые жили у него на деревьях. Питались листьями. Засуха вынудила их спуститься на землю. Но, видимо, тогда он неточно ввел в машину дальнейшую информацию, потому что ходить они у него почему-то начали на руках и натирали ужасные мозоли на своих нежных передних лапах. Казалось, разумнее всего признать ошибку, потерять один балл и попытаться начать сначала. Вместо этого он продолжил борьбу, отрастил своим сумчатым в ходе эволюции глаза на хвосте, что значительно расширило поле обзора каждого индивидуума, а это, как следовало из учебника эволюции, решающий фактор в развитии умственных способностей.
Какое-то время машина, слопав эти исходные данные, сама, без его участия, моделировала развитие системы. Это там, в институтском зале… А здесь? Ему показалось, что экран едва заметно светится. Он пригнулся ближе, всмотрелся и увидел, как, постепенно приближаясь, растет шар придуманной им планеты, словно он смотрел на него через локаторы корабля. Именно так и было там, на Земле, когда машина закончила все расчеты и выдала ему конечный результат. Итог развития смоделированной цивилизации на определенном этапе. «Какой же я кретин!» — мысленно выругал он себя. Если эта машина и может действовать, то, конечно, именно так, непосредственным управлением его сознания. Прямой контакт, им не нужны никакие переключатели, ручки, вся эта наша бутафория… Значит, машина действует, и они ждут от него ответа, дальнейших действий. Экзамен повторяется…
Машина выдала ему тогда информацию о его цивилизации. Информация оказалась весьма скудной, неполной. Она и не могла быть полной о такой сложной системе, как чужая цивилизация. На основе этой информации он должен был задать машине дальнейшую программу, руководство к положительным воздействиям, помогающим росту цивилизации… Прежде всего помощь для тех, кто в ней нуждается… Только так они и представляли себе встречу с чужим разумом, и до сих пор это оправдывалось. Люди почти поверили в то, что они намного опередили в развитии другие цивилизации и, следовательно, обязаны им помогать, подтягивать до своего уровня. Снабжать материалами, инструментами, медикаментами, видя в этом свой человеческий долг. Так оно и было до этой встречи.
Практикант оборвал посторонние мысли. Пора было вводить в машину новые данные, принимать решение… Вся беда в том, что любое воздействие, любое вмешательство в такую сложную систему, как развивающаяся цивилизация, никогда не обладала только положительным эффектом. Здесь наглядно проявлялись законы диалектики. Каждое действие, событие всегда двусторонне… Казалось, что могло быть более гуманным, чем избавление общества от многочисленных болезней, уничтожение на планете болезнетворной фауны? Но это постепенно вело к вырождению. Прекращал действовать механизм естественного отбора. Выживали и активно размножались слабые, малоприспособленные особи. Только после того, как цивилизация научится управлять генетикой, возможно такое кардинальное изменение, а сейчас им было нужно помочь в лечении, в развитии медицины, чтобы затормозить угнетающие болезни, сбалансировать неблагоприятные факторы, мешающие развитию, не переходя той незримой грани, где начинался регресс и распад.
Вот уж действительно задачка со свободным выбором на основе неполной информации. Ничего себе — свободный выбор… Если там, в земном зале, от его решения ничего не зависело — ну, ошибется, машина выдаст ему длинный ряд нулей, потеряет зачетный балл, снова пройдет подготовку и опять придет на экзамен, — то здесь экзамен вряд ли повторится. Здесь он отвечает экзаменатору с нечеловеческой логикой, и совершенно неизвестно, как именно тут наказываются провалившиеся студенты…
Мешали посторонние мысли. Стоило отвлечься, как на экране появлялись полосы, муть, начиналась неразбериха. Управлять такой машиной было одновременно и легче и труднее. Он постарался сосредоточиться, выкинуть из головы все лишнее, постепенно накапливал опыт в обращении с машиной. Результаты его рассуждений появлялись на экране все более четкими. Он на ходу исправлял ошибки, вносил коррективы. Модель его цивилизации процветала, преодолевала кризисные состояния, развивалась. В конце концов, самым главным было желание помочь. Наличие той самой доброй воли. Передать бы это понятие тем, кто следил сейчас за его действиями. Пусть они знают наше главное правило: не оставаться равнодушным к чужой беде. Пусть знают, что мы специально учим наших людей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, оказывать ее разумно и осторожно, не требуя благодарности, не извлекая из этого никакой выгоды. И если бы к нам на Землю свалился чужой звездолет, мы бы не остались сторонними наблюдателями, мы бы наверняка помогли попавшим в беду.
Ну вот. Он ввел в машину последние данные. Закончил последние расчеты. В общем, все получилось неплохо. Наверное, земная машина выдала бы ему хороший балл. Здесь, очевидно, балла не будет. Он даже не узнает, дошло ли до них то, что он считал самым важным передать. Поняли ли они, смогли ли понять? Ну что ж, он сделал все, что мог. Экзамен окончен.
Практикант выпрямился и отошел от погасшего экрана. Зал молчал, все такой же холодный и равнодушный. Жаль, что здесь нет ни одного живого лица и он не видит тех, кому сдавал сейчас свой странный экзамен. Пора возвращаться. Практикант подошел к двери, нажал ручку. Она не открылась. Выхода из зала не было. Что бы это могло значить? Они не считают, что экзамен закончен? Есть еще вопросы? Или оценка неудовлетворительная и поэтому выход не открывается? Простой и надежный способ. Что-то происходило у него за спиной, какое-то движение.
Практикант резко обернулся, и зал замер, словно уличенный в недозволенных действиях. В том, что действовал именно сам зал, у него не оставалось ни малейших сомнений. Чуть искривились стены, изменились какие-то пропорции, нарушилась геометрическая правильность всех линий. Словно это он сам, силой своего воображения удерживал на местах все предметы и стены зала, а стоило отвернуться, как зал, освобожденный от его влияния, поплыл, смазался, начал превращаться в аморфную, бесформенную массу камня… «Что вам нужно?! — крикнул он. — Чего вы хотите?!» Никто не отозвался. Даже эхо. Зал как будто проглотил его слова.
«Спокойно, — сказал он сам себе. — Только спокойно». И вытер мгновенно вспотевший лоб. Пока он не вышел отсюда, экзамен продолжается. И незачем кричать. Все же он не смог сдержать возмущения. «Что за бесцеремонное обращение?! Хватит с меня экспериментов, довольно, я не хочу, слышите?!» Ему опять никто не ответил.
Практикант шагнул к кафедре. Может быть, там, за преподавательским пультом, он найдет какой-то ответ, какой-то выход из этой затянувшейся ситуации, из этого каменного мешка, который ему становилось все труднее удерживать в первоначальной форме. Сейчас за его спиной плыла и оползала дверь. На ней появились каменные натеки, и она уже мало чем напоминала ту дверь, через которую он вошел. Пока он занимался дверью, кафедра превратилась в простую глыбу камня. На ней уже не было никакого пульта. Стало труднее дышать. Очевидно, заклинились воздухопроводы, деформировалась система вентиляции. Хуже всего то, что изменения необратимы. Как только он отключал внимание, забывал о каком-то предмете, тот немедленно начинал деформироваться. Вернуть ему прежнее состояние было уже невозможно.
«Материя стремится к энтропии», — вспомнил почему-то он знакомую аксиому. «Только постоянное поступление энергии способно противостоять хаосу». Очевидно, энергия выключалась по его мысленной команде случайно, и теперь вряд ли долго продолжится эта борьба с расползавшимся залом. Вдруг промелькнула какая-то важная мысль. Ему показалось, что он нашел выход. Если система слишком сложна для управления, надо ее упростить. Сосредоточить внимание на самом главном, отбросить частности. Главное, стены — не давать им сдвигаться, не обращать внимания на остальное. Только стены и воздух… Сразу вместе с этим решением пришло облегчение. Зал словно вздохнул. Пронеслась волна свежего воздуха. Замерли в неподвижности прогнувшиеся стены.
Вдруг без всякого перехода на него навалилась тяжесть. Он по-прежнему мог легко двигаться, ничто не стесняло движения, но что-то сжало виски, сдавило затылок. Голова словно налилась чугуном. Появились чужие, не свойственные ему мысли…
«Успокойся. Незачем волноваться. Самое главное — покой. Расслабленность. Слияние с окружающим. Безмятежность», — словно нашептывал кто-то в самое ухо.
Да нет, никто не нашептывал. Это его мысли, его собственные. Стоило ослабить сопротивление, как отступала тяжесть, проходила боль в висках. Становилось легче дышать. «Прочь!» — крикнул он этому шепоту, и шепот затих, превратился в неразборчивое бормотание. Зато новой волной накатилась тяжесть и резкая боль в затылке.
Тогда он вспомнил все, чему его учили в школе последнего цикла, на тренажах психики и самоанализа, где главным было умение сосредоточиться, не поддаваться внешнему давлению. Не зря, наверное, учили: «Сначала расслабиться, потом рывком…»
«Подожди, — шелестел шепот, — зачем же так, сразу… Лучше отказаться от индивидуальности, слиться в единство… Видишь стену? Ей хорошо, она состоит из одинаковых кирпичиков. Или улей, видишь пчел? Они живут дружной семьей. Только интересы целого имеют значение. Личность — ничто. Откажись от борьбы, иди к нам. Сольемся в единое целое. Ты ничего не значишь сам по себе, только в единстве мыслей и мнений обретешь покой. Ты не должен принадлежать себе…»
«Прочь! Я человек! Человек — это личность. Индивидуальность — это и есть я. Прочь!»
Шепот постепенно затих, отдалился, но вдруг чужая воля навалилась на него так, что перед глазами замелькали красные круги, прервалось дыхание, он понял, что его силы на исходе, что еще секунда — и случится что-то непоправимое, страшное, он перейдет грань, из-за которой уже нет возврата. И тогда в последнем отчаянном усилии он заблокировал сознание, отключил его, провалился в беспамятство.
Медленно разгорался тусклый огонек. Сначала он видел очень немного через узкую щелку, открытую для обозрения, но постепенно пространство раздвинулось. И он увидел себя. Не поразился, не удивился. Холодное, нечеловеческое равнодушие сковало эмоции. Двое лежали у камня: Практикант и Физик. Лежали неподвижно, широко раскинув руки, то ли во сне, то ли в беспамятстве, а он стоял рядом и смотрел со стороны.
Но кто же он? Чьими глазами смотрит сейчас на мир, если видит самого себя и понимает это? Ответа не было. Мысли почти сразу же смешались, понеслись стремительным, пестрым вихрем. Чужие, совершенно непонятные для него мысли. И когда он, спасаясь от этого грозящего утопить его сознание половодья, окончательно проснулся и резко вскочил на ноги, то в памяти осталось ощущение чего-то непостижимо сложного, недоступного его логике и пониманию. И в то же время было ощущение потери, легкого сожаления от расставания… Никого не было на том месте, где, наверное, только что стояло неизвестное ему существо; это его глазами смотрел он сам на себя. Минуту назад, наверное, оно пыталось проникнуть в его сознание ради того самого контакта, к которому он так стремился, но в последний момент он отступил, испугался, выключил сознание, и тогда оно предприняло еще одну, последнюю и тоже неудачную попытку. Подключило его мозг к собственному сознанию, но и из этого ничего не вышло, он ничего не понял и ничего не запомнил…
Впрочем, нет, что-то все же осталось, даже не мысль, а так, ощущение, та самая эмоция, отсутствие которой так его поразило в самом начале. Сильное эмоциональное переживание. Но какое? Вспомнить это было важно, очень важно!.. Сожаление? Да, как будто это было сожаление. Но о чем? Это не было сожаление о неудавшемся контакте. Что-то гораздо более важное, более общее разобрал он за этим чувством. Словно что-то необходимо было сделать и одновременно невозможно. Ну ладно. Невозможно так невозможно. Не получилось с налета… Попробуем постепенно накапливать информацию друг о друге, разрабатывать взаимоприемлемые методы контакта. Главное — это было началом. В этом он не сомневался.
Желание поделиться своим открытием заставило его разбудить Физика. Тот проснулся сразу. Рывком поднялся и только потом, осмотревшись, расслабился.
— Что, и тебя беспокоили сны?
С минуту Физик внимательно смотрел на него.
— Это были не совсем сны… Ночью я просыпался, тебя не было, хотел искать, но что-то помешало. Как будто меня оглушили изрядной порцией снотворного. А голова легкая. Ладно. Рассказывай.
— Я думал, что все происходило только в моем воображении. Неужели они специально создавали все эти сложные вещи только для одного эксперимента? Каковы же возможности этой цивилизации?
— Не тяни. Рассказывай.
Когда Практикант закончил подробный рассказ, Физик долго сидел задумавшись.
— Со мной у них что-то не получилось. Возможно, мой мозг менее приспособлен для воздействия. Наверное, у них двойное моделирование: и на предметах, и в сознании человека. А я предпочитаю вещи реальные, зримые. Так сказать, дневные. В одном ты оказался бесспорно прав: контакт все-таки состоялся. Не зря мы остались.
Практикант сидел нахмурившись, уставившись на вмятину в песке, заменившую им ночью постель.
— У меня такое чувство, что все, что было, это только предварительные эксперименты, поиски подхода, а не сам контакт. Не может быть, чтобы этим все вот так кончилось… Расскажи, что произошло с тобой этой ночью?
Физик почему-то ответил уклончиво:
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты был прав. Но знаешь, из того, что уже известно, мне кажется, настоящий контакт вряд ли возможен.
— Почему?
— Очень отличные от нас системы сознания, восприятия мира. Боюсь, что они нас не понимают и даже чего-то боятся… Наверняка боятся…
— Боятся? Чего? У нас нет даже корабля, мы целиком зависим от них…
— Да. Конечно… И все же они определенно чего-то опасаются. Это, пожалуй, единственное, что не вызывает у меня сомнения, из той части ночных приключений, которые пришлись на мою долю. Все остальное — туман. Бред какой-то. У тебя все получилось гораздо определеннее. Может быть, подсознательно я оказался меньше подготовлен к такому роду воздействия. Не знаю. Слишком мало информации, а та, которая есть, не может быть подвергнута вторичной проверке и, следовательно, не обладает научной ценностью. Надеюсь, все же теперь ты удовлетворен. Не станем больше задерживаться. Истекли все сроки. Кибернетик и Доктор начнут поиски, если мы сегодня не вернемся. Так что собирайся, вот только наберем воды на дорогу, здесь недалеко источник.
— Источник на западе, а шлюпка на востоке, все равно придется возвращаться. Я подожду тебя здесь, хорошо?
Физик посмотрел на него с усмешкой:
— Конечно, подожди. Именно в эти оставшиеся у тебя минуты и произойдет все самое необыкновенное. Желаю успеха.
Примерно через минуту после ухода Физика камень снова стал прозрачным. На этот раз безо всяких переходов. Практикант смотрел на равнину, в ту сторону, куда ушел Физик, а когда перевел взгляд на камень, в его стеклянной глубине уже плясал хоровод знакомых белых хлопьев. Как только Райков посмотрел на них, танец прекратился, отвел взгляд — и снова все пришло в движение. Хлопья прекращали двигаться примерно через секунду после того, как он начинал смотреть на них. Это было первой реакцией камня на поведение человека.
Практикант подошел ближе, белые структуры внутри камня замедлили свое движение. Он протянул руку и прикоснулся к камню. Все структуры двинулись к точке соприкосновения, словно человеческая рука притягивала их. Образовался как бы конус из белых кружев, вершина которого упиралась в его ладонь. Камень на ощупь казался слегка тепловатым. Руку немного покалывало, словно от слабых разрядов электричества. На этот раз не было ни искр, ни переливчатой игры оттенков. Возможно, их было незаметно из-за солнечного света, но Практиканту казалось, что сегодня они просто не нужны. Внимание уже привлечено, контакт начался. Игра цветных огней только мешала бы пониманию главного. А главным было движение и строение структур. Теперь, благодаря возникшей во время ночных экспериментов обратной связи и наличия входа у системы, он уже не сомневался, что она несет в себе и старается передать людям какую-то важную информацию: собственную или полученную извне — это сейчас не имело значения. Самым главным было разобраться в предложенной ему системе символов, обозначавших неизвестные понятия и явления.
С горечью пришлось признать, что он совершенно ничего не понимает. Внутри конуса непрестанно шли сложные, едва уловимые зрением перемещения и перестройки. Он попробовал управлять их движением, как управлял ночью работой моделирующей машины — одним усилием мысли, но из этого ничего не вышло. Движение всех структур внутри камня совершенно не зависело от его сознания. Он уже хотел отвести руку, чтобы посмотреть, как на это отреагирует его странный собеседник, как вдруг в полуметре от первого конуса возникла как бы тень. В том месте, где вершина теневого конуса упиралась в поверхность камня, отчетливо обозначилось белое пятно, похожее на очертание ладони. Это уже было кое-что. По-видимому, его приглашали приложить сюда вторую руку. Для чего? Может быть, самоорганизующаяся система, расположенная в камне, получит от него таким образом какую-то нужную ей информацию? Неплохо показать, что человек не будет слепо следовать предложенному варианту.
Вместо того чтобы приложить вторую руку, он лишь поднес ее близко к пятну и сразу отдернул обе. Реакция всей системы на этот простой жест была очень бурной. Возник целый вихрь точек, смешавший все построенные раньше структуры. Тайфуны и смерчи крошили возникавшие вновь постройки. Неожиданно все замерло. В первую секунду Практикам ничего не понял в рисунке застывших линий и пятен, как вдруг заметил движущуюся человеческую фигурку с канистрой в руках. Она была намечена схематично, штрихами, но достаточно ясно. Сразу стал понятен и остальной рисунок. Перед ним была объемная карта окружающей местности. В центре, рядом с ярким пятном, еще одна фигурка. Это он сам; и если Физик действительно там, где он сейчас виден на схеме, то самое большее через минуту его голова покажется из-за гребня ближайшего холма. Ничего больше Практикант не успел рассмотреть, потому что вокруг движущейся фигурки Физика стал плясать какой-то странный хоровод длинных тонких игл. Фигурка человека стала нерезкой и через секунду исчезла совсем. На том месте, где она только что стояла, вспыхивало и гасло яркое пятно. Не пытаясь даже разобраться в том, что все это могло означать, Практикант уже бежал в ту сторону, куда ушел Физик. Не хватало воздуха, бешено колотилось сердце. С трудом удавалось сохранять равновесие на разъезжавшейся под ногами каменистой осыпи. В том месте, где на карте Практикант в последний раз видел фигурку Физика, валялась канистра с водой. Ее белый бок он увидел издалека, и уже не осталось сомнений в том, что несчастье произошло.
Практикант несколько раз обошел вокруг кафедры, постоял задумчиво перед пультом. Зал все еще ждал чего-то… Может быть, он ждет, когда войдет преподаватель? Хорошо бы… Но Практикант знал, что этого не случится. Если бы они могли просто, по-человечески побеседовать, не нужен был бы ни этот зал, ни муляжи деревьев. В том-то и дело, что они не люди. То, с чем мы встретились, очень сложно и чуждо нам… И дело не в том, как они выглядят. Гораздо важнее, что они думают о нас… А если так, значит, нужен этот экзамен не только им, но и нам. Ну что ж… Любому студенту дается время подумать. Он сел на ступенечку кафедры, подпер голову руками и задумался. Прежде всего нужно решить, как отвечать. Нет сомнения, что они ждут. Не могут задать вопрос? Или, может, он сам должен решить, как и что отвечать? Допустим. Что же ему говорить со стенами? Кричать вслух? Это наверняка не годится. Им вообще может быть незнакомо само понятие — речь. Да и что говорить? Рассказать, какие мы хорошие, добрые и умные? Как хотим вернуться на Землю и как необходима нам помощь? Самая элементарная помощь? Но об этом и так не трудно догадаться при самом небольшом желании. Слова тут не нужны. И все же их интересует что-то важное… Но что? Что бы меня заинтересовало в таком вот случае? Есть у меня, допустим, планета, на которой ходят светящиеся камни. И вдруг на нее падает чужой звездолет, и такой вот симпатичный малый двадцати четырех лет не может закончить практику, потому что ему не на чем вернуться на Землю. Но разве самое важное — вернуться? Разве не ради такой встречи десятки земных звездолетов бороздят космос вот уже столько лет? Мы ищем братьев по разуму. Иногда находим разумные растения, или примитивных амеб с Арктура и вдруг впервые сталкиваемся с чем-то, что даже не сразу объяснишь… И это «что-то» затаскивает тебя в экзаменационный зал, задает невысказанные вопросы, ждет ответа… Ну не сдам я этого экзамена, подумаешь…
И вдруг понял, что экзамен он сдает не за себя, вернее, не только за себя, и сразу пришло такое знакомое, особенное предэкзаменационное волнение. Неважно, что нет преподавателя, нет товарищей, вообще никого нет. Он должен сдать этот экзамен. И он его сдаст.
Что мы знаем об их средствах информации? Моделирование. Может быть, они просто читают мысли — телепатия, которую так и не открыли у гомо сапиенсов? Тогда не нужно моделирование. Тогда вообще ничего не нужно. Заглянул в мозг — вот тебе и весь экзамен… Значит, все не так просто. А кроме того, человек чаще мыслит словами, то есть символами, которые для них могут быть китайской грамотой. Значит, моделирование… Тогда здесь не зря процессор. Он лучше всего подходит для такого рода общения. С помощью электронной машины на экране прибора можно смоделировать развитие почти любой ситуации, смоделировать в конкретных зрительных образах. Это должно быть для них понятно. Жаль, что не работает процессор… А может, все-таки работает? Надо посмотреть еще раз. Другого пути что-то не видно.
Практикант встал и снова подошел к экрану. Нет, это не экран. Полированная каменная поверхность. Муляж экрана. Жаль. Я бы им сейчас смоделировал… А собственно, что? Ну хотя бы ответ на вопрос, который был в билете на экзамене по космопсихологии в этом самом зале. Свобода выбора при недостаточной информации… Он тогда предложил Горовскому модель развития примитивной космической цивилизации. Очень стройную, логически законченную модель. Даже внешний вид придумал для своих гипотетических инопланетян. Симпатичные сумчатые жили у него на деревьях. Питались листьями. Засуха вынудила их спуститься на землю. Но, видимо, тогда он неточно ввел в машину дальнейшую информацию, потому что ходить они у него почему-то начали на руках и натирали ужасные мозоли на своих нежных передних лапах. Казалось, разумнее всего признать ошибку, потерять один балл и попытаться начать сначала. Вместо этого он продолжил борьбу, отрастил своим сумчатым в ходе эволюции глаза на хвосте, что значительно расширило поле обзора каждого индивидуума, а это, как следовало из учебника эволюции, решающий фактор в развитии умственных способностей.
Какое-то время машина, слопав эти исходные данные, сама, без его участия, моделировала развитие системы. Это там, в институтском зале… А здесь? Ему показалось, что экран едва заметно светится. Он пригнулся ближе, всмотрелся и увидел, как, постепенно приближаясь, растет шар придуманной им планеты, словно он смотрел на него через локаторы корабля. Именно так и было там, на Земле, когда машина закончила все расчеты и выдала ему конечный результат. Итог развития смоделированной цивилизации на определенном этапе. «Какой же я кретин!» — мысленно выругал он себя. Если эта машина и может действовать, то, конечно, именно так, непосредственным управлением его сознания. Прямой контакт, им не нужны никакие переключатели, ручки, вся эта наша бутафория… Значит, машина действует, и они ждут от него ответа, дальнейших действий. Экзамен повторяется…
Машина выдала ему тогда информацию о его цивилизации. Информация оказалась весьма скудной, неполной. Она и не могла быть полной о такой сложной системе, как чужая цивилизация. На основе этой информации он должен был задать машине дальнейшую программу, руководство к положительным воздействиям, помогающим росту цивилизации… Прежде всего помощь для тех, кто в ней нуждается… Только так они и представляли себе встречу с чужим разумом, и до сих пор это оправдывалось. Люди почти поверили в то, что они намного опередили в развитии другие цивилизации и, следовательно, обязаны им помогать, подтягивать до своего уровня. Снабжать материалами, инструментами, медикаментами, видя в этом свой человеческий долг. Так оно и было до этой встречи.
Практикант оборвал посторонние мысли. Пора было вводить в машину новые данные, принимать решение… Вся беда в том, что любое воздействие, любое вмешательство в такую сложную систему, как развивающаяся цивилизация, никогда не обладала только положительным эффектом. Здесь наглядно проявлялись законы диалектики. Каждое действие, событие всегда двусторонне… Казалось, что могло быть более гуманным, чем избавление общества от многочисленных болезней, уничтожение на планете болезнетворной фауны? Но это постепенно вело к вырождению. Прекращал действовать механизм естественного отбора. Выживали и активно размножались слабые, малоприспособленные особи. Только после того, как цивилизация научится управлять генетикой, возможно такое кардинальное изменение, а сейчас им было нужно помочь в лечении, в развитии медицины, чтобы затормозить угнетающие болезни, сбалансировать неблагоприятные факторы, мешающие развитию, не переходя той незримой грани, где начинался регресс и распад.
Вот уж действительно задачка со свободным выбором на основе неполной информации. Ничего себе — свободный выбор… Если там, в земном зале, от его решения ничего не зависело — ну, ошибется, машина выдаст ему длинный ряд нулей, потеряет зачетный балл, снова пройдет подготовку и опять придет на экзамен, — то здесь экзамен вряд ли повторится. Здесь он отвечает экзаменатору с нечеловеческой логикой, и совершенно неизвестно, как именно тут наказываются провалившиеся студенты…
Мешали посторонние мысли. Стоило отвлечься, как на экране появлялись полосы, муть, начиналась неразбериха. Управлять такой машиной было одновременно и легче и труднее. Он постарался сосредоточиться, выкинуть из головы все лишнее, постепенно накапливал опыт в обращении с машиной. Результаты его рассуждений появлялись на экране все более четкими. Он на ходу исправлял ошибки, вносил коррективы. Модель его цивилизации процветала, преодолевала кризисные состояния, развивалась. В конце концов, самым главным было желание помочь. Наличие той самой доброй воли. Передать бы это понятие тем, кто следил сейчас за его действиями. Пусть они знают наше главное правило: не оставаться равнодушным к чужой беде. Пусть знают, что мы специально учим наших людей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, оказывать ее разумно и осторожно, не требуя благодарности, не извлекая из этого никакой выгоды. И если бы к нам на Землю свалился чужой звездолет, мы бы не остались сторонними наблюдателями, мы бы наверняка помогли попавшим в беду.
Ну вот. Он ввел в машину последние данные. Закончил последние расчеты. В общем, все получилось неплохо. Наверное, земная машина выдала бы ему хороший балл. Здесь, очевидно, балла не будет. Он даже не узнает, дошло ли до них то, что он считал самым важным передать. Поняли ли они, смогли ли понять? Ну что ж, он сделал все, что мог. Экзамен окончен.
Практикант выпрямился и отошел от погасшего экрана. Зал молчал, все такой же холодный и равнодушный. Жаль, что здесь нет ни одного живого лица и он не видит тех, кому сдавал сейчас свой странный экзамен. Пора возвращаться. Практикант подошел к двери, нажал ручку. Она не открылась. Выхода из зала не было. Что бы это могло значить? Они не считают, что экзамен закончен? Есть еще вопросы? Или оценка неудовлетворительная и поэтому выход не открывается? Простой и надежный способ. Что-то происходило у него за спиной, какое-то движение.
Практикант резко обернулся, и зал замер, словно уличенный в недозволенных действиях. В том, что действовал именно сам зал, у него не оставалось ни малейших сомнений. Чуть искривились стены, изменились какие-то пропорции, нарушилась геометрическая правильность всех линий. Словно это он сам, силой своего воображения удерживал на местах все предметы и стены зала, а стоило отвернуться, как зал, освобожденный от его влияния, поплыл, смазался, начал превращаться в аморфную, бесформенную массу камня… «Что вам нужно?! — крикнул он. — Чего вы хотите?!» Никто не отозвался. Даже эхо. Зал как будто проглотил его слова.
«Спокойно, — сказал он сам себе. — Только спокойно». И вытер мгновенно вспотевший лоб. Пока он не вышел отсюда, экзамен продолжается. И незачем кричать. Все же он не смог сдержать возмущения. «Что за бесцеремонное обращение?! Хватит с меня экспериментов, довольно, я не хочу, слышите?!» Ему опять никто не ответил.
Практикант шагнул к кафедре. Может быть, там, за преподавательским пультом, он найдет какой-то ответ, какой-то выход из этой затянувшейся ситуации, из этого каменного мешка, который ему становилось все труднее удерживать в первоначальной форме. Сейчас за его спиной плыла и оползала дверь. На ней появились каменные натеки, и она уже мало чем напоминала ту дверь, через которую он вошел. Пока он занимался дверью, кафедра превратилась в простую глыбу камня. На ней уже не было никакого пульта. Стало труднее дышать. Очевидно, заклинились воздухопроводы, деформировалась система вентиляции. Хуже всего то, что изменения необратимы. Как только он отключал внимание, забывал о каком-то предмете, тот немедленно начинал деформироваться. Вернуть ему прежнее состояние было уже невозможно.
«Материя стремится к энтропии», — вспомнил почему-то он знакомую аксиому. «Только постоянное поступление энергии способно противостоять хаосу». Очевидно, энергия выключалась по его мысленной команде случайно, и теперь вряд ли долго продолжится эта борьба с расползавшимся залом. Вдруг промелькнула какая-то важная мысль. Ему показалось, что он нашел выход. Если система слишком сложна для управления, надо ее упростить. Сосредоточить внимание на самом главном, отбросить частности. Главное, стены — не давать им сдвигаться, не обращать внимания на остальное. Только стены и воздух… Сразу вместе с этим решением пришло облегчение. Зал словно вздохнул. Пронеслась волна свежего воздуха. Замерли в неподвижности прогнувшиеся стены.
Вдруг без всякого перехода на него навалилась тяжесть. Он по-прежнему мог легко двигаться, ничто не стесняло движения, но что-то сжало виски, сдавило затылок. Голова словно налилась чугуном. Появились чужие, не свойственные ему мысли…
«Успокойся. Незачем волноваться. Самое главное — покой. Расслабленность. Слияние с окружающим. Безмятежность», — словно нашептывал кто-то в самое ухо.
Да нет, никто не нашептывал. Это его мысли, его собственные. Стоило ослабить сопротивление, как отступала тяжесть, проходила боль в висках. Становилось легче дышать. «Прочь!» — крикнул он этому шепоту, и шепот затих, превратился в неразборчивое бормотание. Зато новой волной накатилась тяжесть и резкая боль в затылке.
Тогда он вспомнил все, чему его учили в школе последнего цикла, на тренажах психики и самоанализа, где главным было умение сосредоточиться, не поддаваться внешнему давлению. Не зря, наверное, учили: «Сначала расслабиться, потом рывком…»
«Подожди, — шелестел шепот, — зачем же так, сразу… Лучше отказаться от индивидуальности, слиться в единство… Видишь стену? Ей хорошо, она состоит из одинаковых кирпичиков. Или улей, видишь пчел? Они живут дружной семьей. Только интересы целого имеют значение. Личность — ничто. Откажись от борьбы, иди к нам. Сольемся в единое целое. Ты ничего не значишь сам по себе, только в единстве мыслей и мнений обретешь покой. Ты не должен принадлежать себе…»
«Прочь! Я человек! Человек — это личность. Индивидуальность — это и есть я. Прочь!»
Шепот постепенно затих, отдалился, но вдруг чужая воля навалилась на него так, что перед глазами замелькали красные круги, прервалось дыхание, он понял, что его силы на исходе, что еще секунда — и случится что-то непоправимое, страшное, он перейдет грань, из-за которой уже нет возврата. И тогда в последнем отчаянном усилии он заблокировал сознание, отключил его, провалился в беспамятство.
Медленно разгорался тусклый огонек. Сначала он видел очень немного через узкую щелку, открытую для обозрения, но постепенно пространство раздвинулось. И он увидел себя. Не поразился, не удивился. Холодное, нечеловеческое равнодушие сковало эмоции. Двое лежали у камня: Практикант и Физик. Лежали неподвижно, широко раскинув руки, то ли во сне, то ли в беспамятстве, а он стоял рядом и смотрел со стороны.
Но кто же он? Чьими глазами смотрит сейчас на мир, если видит самого себя и понимает это? Ответа не было. Мысли почти сразу же смешались, понеслись стремительным, пестрым вихрем. Чужие, совершенно непонятные для него мысли. И когда он, спасаясь от этого грозящего утопить его сознание половодья, окончательно проснулся и резко вскочил на ноги, то в памяти осталось ощущение чего-то непостижимо сложного, недоступного его логике и пониманию. И в то же время было ощущение потери, легкого сожаления от расставания… Никого не было на том месте, где, наверное, только что стояло неизвестное ему существо; это его глазами смотрел он сам на себя. Минуту назад, наверное, оно пыталось проникнуть в его сознание ради того самого контакта, к которому он так стремился, но в последний момент он отступил, испугался, выключил сознание, и тогда оно предприняло еще одну, последнюю и тоже неудачную попытку. Подключило его мозг к собственному сознанию, но и из этого ничего не вышло, он ничего не понял и ничего не запомнил…
Впрочем, нет, что-то все же осталось, даже не мысль, а так, ощущение, та самая эмоция, отсутствие которой так его поразило в самом начале. Сильное эмоциональное переживание. Но какое? Вспомнить это было важно, очень важно!.. Сожаление? Да, как будто это было сожаление. Но о чем? Это не было сожаление о неудавшемся контакте. Что-то гораздо более важное, более общее разобрал он за этим чувством. Словно что-то необходимо было сделать и одновременно невозможно. Ну ладно. Невозможно так невозможно. Не получилось с налета… Попробуем постепенно накапливать информацию друг о друге, разрабатывать взаимоприемлемые методы контакта. Главное — это было началом. В этом он не сомневался.
Желание поделиться своим открытием заставило его разбудить Физика. Тот проснулся сразу. Рывком поднялся и только потом, осмотревшись, расслабился.
— Что, и тебя беспокоили сны?
С минуту Физик внимательно смотрел на него.
— Это были не совсем сны… Ночью я просыпался, тебя не было, хотел искать, но что-то помешало. Как будто меня оглушили изрядной порцией снотворного. А голова легкая. Ладно. Рассказывай.
— Я думал, что все происходило только в моем воображении. Неужели они специально создавали все эти сложные вещи только для одного эксперимента? Каковы же возможности этой цивилизации?
— Не тяни. Рассказывай.
Когда Практикант закончил подробный рассказ, Физик долго сидел задумавшись.
— Со мной у них что-то не получилось. Возможно, мой мозг менее приспособлен для воздействия. Наверное, у них двойное моделирование: и на предметах, и в сознании человека. А я предпочитаю вещи реальные, зримые. Так сказать, дневные. В одном ты оказался бесспорно прав: контакт все-таки состоялся. Не зря мы остались.
Практикант сидел нахмурившись, уставившись на вмятину в песке, заменившую им ночью постель.
— У меня такое чувство, что все, что было, это только предварительные эксперименты, поиски подхода, а не сам контакт. Не может быть, чтобы этим все вот так кончилось… Расскажи, что произошло с тобой этой ночью?
Физик почему-то ответил уклончиво:
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты был прав. Но знаешь, из того, что уже известно, мне кажется, настоящий контакт вряд ли возможен.
— Почему?
— Очень отличные от нас системы сознания, восприятия мира. Боюсь, что они нас не понимают и даже чего-то боятся… Наверняка боятся…
— Боятся? Чего? У нас нет даже корабля, мы целиком зависим от них…
— Да. Конечно… И все же они определенно чего-то опасаются. Это, пожалуй, единственное, что не вызывает у меня сомнения, из той части ночных приключений, которые пришлись на мою долю. Все остальное — туман. Бред какой-то. У тебя все получилось гораздо определеннее. Может быть, подсознательно я оказался меньше подготовлен к такому роду воздействия. Не знаю. Слишком мало информации, а та, которая есть, не может быть подвергнута вторичной проверке и, следовательно, не обладает научной ценностью. Надеюсь, все же теперь ты удовлетворен. Не станем больше задерживаться. Истекли все сроки. Кибернетик и Доктор начнут поиски, если мы сегодня не вернемся. Так что собирайся, вот только наберем воды на дорогу, здесь недалеко источник.
— Источник на западе, а шлюпка на востоке, все равно придется возвращаться. Я подожду тебя здесь, хорошо?
Физик посмотрел на него с усмешкой:
— Конечно, подожди. Именно в эти оставшиеся у тебя минуты и произойдет все самое необыкновенное. Желаю успеха.
Примерно через минуту после ухода Физика камень снова стал прозрачным. На этот раз безо всяких переходов. Практикант смотрел на равнину, в ту сторону, куда ушел Физик, а когда перевел взгляд на камень, в его стеклянной глубине уже плясал хоровод знакомых белых хлопьев. Как только Райков посмотрел на них, танец прекратился, отвел взгляд — и снова все пришло в движение. Хлопья прекращали двигаться примерно через секунду после того, как он начинал смотреть на них. Это было первой реакцией камня на поведение человека.
Практикант подошел ближе, белые структуры внутри камня замедлили свое движение. Он протянул руку и прикоснулся к камню. Все структуры двинулись к точке соприкосновения, словно человеческая рука притягивала их. Образовался как бы конус из белых кружев, вершина которого упиралась в его ладонь. Камень на ощупь казался слегка тепловатым. Руку немного покалывало, словно от слабых разрядов электричества. На этот раз не было ни искр, ни переливчатой игры оттенков. Возможно, их было незаметно из-за солнечного света, но Практиканту казалось, что сегодня они просто не нужны. Внимание уже привлечено, контакт начался. Игра цветных огней только мешала бы пониманию главного. А главным было движение и строение структур. Теперь, благодаря возникшей во время ночных экспериментов обратной связи и наличия входа у системы, он уже не сомневался, что она несет в себе и старается передать людям какую-то важную информацию: собственную или полученную извне — это сейчас не имело значения. Самым главным было разобраться в предложенной ему системе символов, обозначавших неизвестные понятия и явления.
С горечью пришлось признать, что он совершенно ничего не понимает. Внутри конуса непрестанно шли сложные, едва уловимые зрением перемещения и перестройки. Он попробовал управлять их движением, как управлял ночью работой моделирующей машины — одним усилием мысли, но из этого ничего не вышло. Движение всех структур внутри камня совершенно не зависело от его сознания. Он уже хотел отвести руку, чтобы посмотреть, как на это отреагирует его странный собеседник, как вдруг в полуметре от первого конуса возникла как бы тень. В том месте, где вершина теневого конуса упиралась в поверхность камня, отчетливо обозначилось белое пятно, похожее на очертание ладони. Это уже было кое-что. По-видимому, его приглашали приложить сюда вторую руку. Для чего? Может быть, самоорганизующаяся система, расположенная в камне, получит от него таким образом какую-то нужную ей информацию? Неплохо показать, что человек не будет слепо следовать предложенному варианту.
Вместо того чтобы приложить вторую руку, он лишь поднес ее близко к пятну и сразу отдернул обе. Реакция всей системы на этот простой жест была очень бурной. Возник целый вихрь точек, смешавший все построенные раньше структуры. Тайфуны и смерчи крошили возникавшие вновь постройки. Неожиданно все замерло. В первую секунду Практикам ничего не понял в рисунке застывших линий и пятен, как вдруг заметил движущуюся человеческую фигурку с канистрой в руках. Она была намечена схематично, штрихами, но достаточно ясно. Сразу стал понятен и остальной рисунок. Перед ним была объемная карта окружающей местности. В центре, рядом с ярким пятном, еще одна фигурка. Это он сам; и если Физик действительно там, где он сейчас виден на схеме, то самое большее через минуту его голова покажется из-за гребня ближайшего холма. Ничего больше Практикант не успел рассмотреть, потому что вокруг движущейся фигурки Физика стал плясать какой-то странный хоровод длинных тонких игл. Фигурка человека стала нерезкой и через секунду исчезла совсем. На том месте, где она только что стояла, вспыхивало и гасло яркое пятно. Не пытаясь даже разобраться в том, что все это могло означать, Практикант уже бежал в ту сторону, куда ушел Физик. Не хватало воздуха, бешено колотилось сердце. С трудом удавалось сохранять равновесие на разъезжавшейся под ногами каменистой осыпи. В том месте, где на карте Практикант в последний раз видел фигурку Физика, валялась канистра с водой. Ее белый бок он увидел издалека, и уже не осталось сомнений в том, что несчастье произошло.
 Он искал Физика весь день. Облазил все окрестные холмы, спускался в какие-то трещины — все напрасно. Не было никаких следов, ничего, кроме брошенной канистры. Казалось, ни малейшей опасности не скрывала в себе пустыня. Человека просто не стало. Он потерялся, исчез, растворился. От этой неопределенности, от неизвестности, от сознания собственного бессилия можно было сойти с ума. Временами ему слышался голос Физика, зовущего на помощь, но каждый раз это был только свист ветра. Тогда он пожалел, что у него с собой нет бластера. Если бы у него был бластер, он бы выпустил в валун всю обойму. Почему-то казалось, там была не только информация… Нет ничего ужаснее сознания собственной беспомощности. Он открыл это незнакомое чувство впервые. Впервые понял, что ничего не сможет противопоставить слепой и, по-видимому, могучей силе, хозяйничавшей на планете, где они были всего лишь непрошеными гостями, а может быть, даже подопытными кроликами. Он вернулся к валуну. Камень по-прежнему оставался прозрачным. В нем отчетливо виднелись два конуса с пятнами ладоней на поверхности. Словно все это время камень терпеливо ждал. Но если предположить, что его действия имели какое-то значение и показались нежелательными хозяевам планеты, то при чем здесь Физик? Если А совершает действие, неугодное В, то исчезает С? Не слишком ли это сложно для первого контакта? Что, если его хотели предупредить об опасности, в которую попал Физик? Но тогда, быть может, они знают, что случилось? Возможно, сумеют помочь?
Камень как будто обрадовался его возвращению. Белые звездочки в его глубине завертелись быстрее. Очевидно, ускорением внутренних процессов он реагировал на усложнявшуюся внешнюю обстановку. Как его спросить? Словами? Смешно. Все-таки он что-то прокричал, на всякий случай, и убедился, что система движений и структур никак не реагирует на звук. Пытался начертить на поверхности камня фигурку идущего с канистрой человека, но это тоже ни к чему не привело. За его рукой метался белый хвост звездочек, но и только. В конце концов они опять выстроились в два знакомых конуса с пятнами ладоней на поверхности. На этот раз Практикант не стал раздумывать. Он приложил к камню обе ладони и в ту же секунду получил разряд энергии колоссальной силы. Ему показалось, что в голове у него взорвалась бомба. Словно этого было недостаточно, к плечам и рукам человека из каждой трещины камня тянулись голубые ветви разрядов. С этого мгновения и до того момента, когда человек, пошатнувшись, упал, маятник его часов успел качнуться всего один раз. Но для него как будто остановилось время. За эту секунду он успел почувствовать и понять миллионы различных вещей. Его восприятие беспредельно расширилось. Лишь на секунду…
Человек упал к подножию камня, широко раскинув руки. А внутри камня продолжали кружиться белые звезды. Постепенно хоровод замедлил свое движение, глыбины камня помутнели, теперь он походил на огромный кристалл опала. Сразу же стали заметны на его поверхности шероховатости и трещины. А еще через минуту уже ничто не отличало валун, у подножия которого лежал человек, от тысячи других камней, заваливших поверхность мертвой планеты.
Он искал Физика весь день. Облазил все окрестные холмы, спускался в какие-то трещины — все напрасно. Не было никаких следов, ничего, кроме брошенной канистры. Казалось, ни малейшей опасности не скрывала в себе пустыня. Человека просто не стало. Он потерялся, исчез, растворился. От этой неопределенности, от неизвестности, от сознания собственного бессилия можно было сойти с ума. Временами ему слышался голос Физика, зовущего на помощь, но каждый раз это был только свист ветра. Тогда он пожалел, что у него с собой нет бластера. Если бы у него был бластер, он бы выпустил в валун всю обойму. Почему-то казалось, там была не только информация… Нет ничего ужаснее сознания собственной беспомощности. Он открыл это незнакомое чувство впервые. Впервые понял, что ничего не сможет противопоставить слепой и, по-видимому, могучей силе, хозяйничавшей на планете, где они были всего лишь непрошеными гостями, а может быть, даже подопытными кроликами. Он вернулся к валуну. Камень по-прежнему оставался прозрачным. В нем отчетливо виднелись два конуса с пятнами ладоней на поверхности. Словно все это время камень терпеливо ждал. Но если предположить, что его действия имели какое-то значение и показались нежелательными хозяевам планеты, то при чем здесь Физик? Если А совершает действие, неугодное В, то исчезает С? Не слишком ли это сложно для первого контакта? Что, если его хотели предупредить об опасности, в которую попал Физик? Но тогда, быть может, они знают, что случилось? Возможно, сумеют помочь?
Камень как будто обрадовался его возвращению. Белые звездочки в его глубине завертелись быстрее. Очевидно, ускорением внутренних процессов он реагировал на усложнявшуюся внешнюю обстановку. Как его спросить? Словами? Смешно. Все-таки он что-то прокричал, на всякий случай, и убедился, что система движений и структур никак не реагирует на звук. Пытался начертить на поверхности камня фигурку идущего с канистрой человека, но это тоже ни к чему не привело. За его рукой метался белый хвост звездочек, но и только. В конце концов они опять выстроились в два знакомых конуса с пятнами ладоней на поверхности. На этот раз Практикант не стал раздумывать. Он приложил к камню обе ладони и в ту же секунду получил разряд энергии колоссальной силы. Ему показалось, что в голове у него взорвалась бомба. Словно этого было недостаточно, к плечам и рукам человека из каждой трещины камня тянулись голубые ветви разрядов. С этого мгновения и до того момента, когда человек, пошатнувшись, упал, маятник его часов успел качнуться всего один раз. Но для него как будто остановилось время. За эту секунду он успел почувствовать и понять миллионы различных вещей. Его восприятие беспредельно расширилось. Лишь на секунду…
Человек упал к подножию камня, широко раскинув руки. А внутри камня продолжали кружиться белые звезды. Постепенно хоровод замедлил свое движение, глыбины камня помутнели, теперь он походил на огромный кристалл опала. Сразу же стали заметны на его поверхности шероховатости и трещины. А еще через минуту уже ничто не отличало валун, у подножия которого лежал человек, от тысячи других камней, заваливших поверхность мертвой планеты.
ГЛАВА 5
Из небольшой трещины выбивалась прохладная, чистая струйка. Канистра наполнилась за несколько минут. Обратно Физик шел не спеша, наслаждаясь жарой и любуясь живописным нагромождением обломков. Ленивую истому излучал каждый камень. В конце концов, они, наверное, сумеют привыкнуть к этому покою. Приспособятся к таинственной чужой жизни, умеющей выращивать каменные леса и перестраивать скалы. Вряд ли смогут ее понять. Слишком отличны организация, цели и пути развития этой субстанции от человеческой. Возможно, удастся существовать рядом, не мешая друг другу. Все успокоится, войдет в привычную колею, и тогда они медленно начнут забывать. Начнут забывать, кто они, откуда, как очутились здесь. Ежедневные заботы о воде, о хлорелловой похлебке, о создании комфортабельных пещер станут самыми главными в жизни просто потому, что у них не останется других. Потом начнется деградация… Постепенно они забудут все, что знали. Перестанут быть людьми под этим зеленым солнцем. Их слишком мало для того, чтобы создать жизнеспособную колонию… Одна надежда: наладить контакт с чужим разумом. Но как наладить, если неизвестно, к чему он стремится, что может, во имя чего живет? Знакомы ли ему понятия гуманности? Контакт — их единственная надежда. Если контакт не выйдет, если им не помогут — все тогда потеряет смысл. Физик не мог предположить, что в эту самую минуту уже началась вторая, и последняя, попытка контакта, окончившаяся неудачей. И он не мог знать, что всего один шаг отделяет его самого от участия в этой попытке и от необходимости ответить на вопрос: «Какие вы, люди?» — поставленный чужим разумом. «Знакомы ли вам понятия гуманности, доброты?» Он не знал, что на подобные вопросы уже ответили все его товарищи. Что незадолго до этого голубая вспышка от выстрела бластера перевела в самом начале попытку контакта с Доктором и Кибернетиком в крысиный лабиринт, что Практиканту показали, как с ним самим случилось несчастье, хотя никакого несчастья не было, а Практикант уже бросился его спасать. Ничего этого Физик не знал, а если бы и знал, то все равно не успел бы разобраться во всей сложности ситуации, потому что ему самому была уже предложена задача и надо было отвечать на заданный вопрос, хотя самого вопроса он не слышал и не предполагал даже, что он задан. Задача, предложенная ему, была предельно проста. Те, кто ее задумал, уже знали глубину и сложность человеческой психологии и потому не хотели рисковать. Условия задачи выглядели примерно так: если путник С идет из пункта А в пункт В и по дороге ему предложен выбор одного из двух совершенно равнозначных путей, то какой путь он выберет? Какой путь он выберет, если путь Л1 ничем не отличается от пути Л2? Ничем, кроме того, что, пройдя по пути Л2, человек принесет гибель колонии отличных от него и совершенно неизвестных ему живых существ? Ущелье, по которому шел Физик, разделилось на два рукава. Почему-то казалось, что раньше здесь был только один рукав, и теперь он не знал, куда повернуть. Оба рукава шли точно на север, к площадке, где его ждал Практикант. Он проверил их направление по схеме, которую успел набросать скорее по привычке, так как до воды прошел не больше километра И хорошо помнил дорогу. Ни на карте, ни в памяти не было правого рукава. Он свернул в него именно потому, что любопытство в человеке развито сильнее многих других чувств, этого не могли предположить те, кто ставил условия задачи. Под ногами, среди мелкого щебня, с сухим треском лопались какие-то шарики. Физик нагнулся. Округлые белые тельца упрямо карабкались с одного склона ущелья на другой. Живая лента трехметровой ширины, состоящая из этих странных насекомых, преградила ему путь. «Какие-то паучки; жизнь здесь все-таки есть, хотя бы в этих примитивных формах, и, значит, Доктор ошибался, — подумал он. —Слишком мы любим поспешные выводы. Эта колонна похожа на мигрирующих земных муравьев». Существа ловко карабкались на отвесные стены ущелья. У них было всего три гибкие лапы с коготками и не было глаз. Одна лапа впереди, две сзади. «Надо будет поймать двух — трех и засушить для Доктора…» Не было ни малейшей возможности обойти эту шевелящуюся живую ленту, и очень не хотелось возвращаться. Осторожно балансируя на камнях, Физик стал пробираться вперед, стараясь причинить как можно меньше вреда тем, кто полз у него под ногами. Собственные цели всегда казались человеку значительней целей тех, кого он съедал за обедом и на кого случайно наступал на лесной тропинке. Во всяком случае, к этому он привык на Земле и не предполагал, что у некоторых существ возможна собственная точка зрения на этот счет. Физик уже пересек почти всю ленту, раздавив не больше десятка насекомых, и занес ногу для последнего шага, но тут непрочный камень подвел его. Человек пошатнулся и выронил канистру в самую гущу живой ленты. Наверное, это переполнило чашу терпения. Мир раскололся. В ушах засвистел ветер. Физик почувствовал себя втиснутым в какое-то узкое пространство. Наверное, это была трещина. Точно разобраться в этом он не мог, так как кругом царил полнейший мрак. Сам переход в это новое для него состояние прошел довольно плавно, без резких толчков и настолько быстро, что он просто не успел понять, что произошло. С трудом выбравшись из расселины, Физик оказался на высокогорном плато, в совершенно незнакомой местности. Скалы здесь казались нагроможденными друг на друга без всякой видимой системы. Он даже не сумел определить границу главного водораздела, чтобы хоть приблизительно узнать, в какой стороне находится море. Дышалось гораздо труднее, чем на равнине, и это говорило о большой высоте. Почему-то его не очень беспокоило положение, в которое он попал, может быть, потому, что подсознательно он надеялся, что те, кто перенес его сюда, позаботятся и о возвращении. Однако прошел день, и ничего не случилось. Больше всего он удивлялся тому, что чувство голода почти притупилось, хотя последний раз они поужинали с Практикантом три дня назад. Даже пить не хотелось. Очевидно, в организме происходила какая-то перестройка, замедлившая все внутренние процессы. Возможно, это побочное влияние радиации. Ночью его мучили кошмары. Светящиеся скалы надвигались и давили его, каменная трава росла почему-то на голове у Доктора. Раза три он вскакивал и слушал, но ни единого звука не доносилось из ночной темноты. Небо было на редкость чистым. Огромные голубые звезды слагали искаженную картину созвездий. Десятки световых лет отделяли его от настоящего дома, и, может быть, поэтому не имело особого значения его теперешнее положение. Какая, собственно, разница, где ему находиться? У светящегося валуна рядом с Практикантом или здесь? Но разница была. Особенно остро он ощутил ее перед рассветом, когда, проснувшись, с ужасом подумал, что, возможно, остался один на этой планете, под равнодушными звездами. Он старался убедить себя в том, как нелепа эта мысль, просто расшатались нервы, угнетающе подействовала огромная и пустая ночь, неживые предрассветные тени скал. Но ничто не могло заглушить в нем первобытного ужаса. Это было чистым безумием карабкаться по камням в темноте. Каждую минуту он мог провалиться в какую-нибудь расселину. Но до рассвета с ним ничего не случилось. Весь день Физик двигался на юго-восток, стараясь выбирать дорогу в тени скал, чтобы хоть на время укрыться от жгучих лучей зеленого солнца. Вечером он заснул в какой-то расселине, совершенно измученный. А утром, не успев окончательно прийти в себя, упрямо побрел на юго-восток. Из всех следующих дней пути он помнил только стрелку компаса, изнуряющую жару и отчаянное желание прекратить бессмысленную борьбу. Иногда попадались ключи с холодной водой. И это была его единственная маленькая радость. Удавалось напиться, смочить голову. Сознание ненадолго прояснялось, но тогда начиналась мучительная борьба с самим собой. Ему казалось, что он идет совсем не в ту сторону, да и откуда ему знать, где здесь могла быть «та сторона»? Он кричал проклятия скалам и тем, кто сыграл с ним эту подлую шутку, но скалы оставались равнодушны, и никто не отзывался на его крики. Ночью, взобравшись на самую высокую скалу, он увидел далеко за горизонтом синеватое электрическое зарево. От радости едва не сорвался, но, видно, в голове уже совсем помутилось, потому что он не засек по компасу азимута и утром потерял направление. Весь день он пролежал, зарывшись в пыль среди камней, и дал себе слово, что если ночью не увидит опять этого зарева, то бросится со скалы вниз. Он даже выбрал с вечера подходящее место, где камни у подножия были особенно острыми. Ночью он опять видел зарево. На этот раз азимут выскоблил на плоском каменном осколке. К вечеру второго дня, спустившись по отвесной стене со следами выбоин и обрывками нейлонового троса, он очутился у поворота в ущелье, где Кибернетик и Доктор разбили лагерь. Прожектор Кибернетик зажег сразу, как только они с Доктором добрались до шлюпки, хотя в этом не было никакой надобности. Начинался день. Почему-то обоим показалось, что от желтого электрического света ночной кошмар развеется, уйдет от них навсегда. Сначала их удивило, что из двух прожекторов шлюпки загорелся один — аварийный, и только потом они вспомнили, что именно по прожектору пришелся ночью основной удар неизвестного им энергетического луча, разрядившего батареи скафандров. У них не было сил ни обсуждать происшедшие события, ни исследовать результат ночного сражения. Если то, что случилось, можно было назвать сражением. Задраив за собой люк и сменив кислородные баллоны, они едва добрались до подвесных коек и проспали до вечера. Поднялись по сигналу часов внутреннего корабельного цикла. Часы шлюпки, все еще настроенные на этот цикл, подавали бессмысленные теперь сигналы отбоя, подъема и времени приема пищи. От духоты, с которой не могли справиться никакие внутренние системы скафандров, не хотелось ни есть, ни пить. Больше всего хотелось умыться. Но красный огонек на пульте говорил о том, что радиация уже проникла внутрь шлюпки. Не глядя друг на друга, они проверили напряжение в батареях бластеров. После всех лабиринтов, крысиных полигонов и ночной стрельбы они не знали, что их ждет снаружи на этот раз. Люк открылся сразу, хотя Доктор почему-то опасался, что он может не открыться. На стенах ущелья тускло отсвечивали матовые блики низко стоящего солнца. Значит, проспали почти весь день и выйти сегодня на поиски товарищей вряд ли удастся… Больше всего их поразило, что на том месте, куда ночью стрелял Кибернетик, не было ничего. Совсем ничего. Темное пятно на желтой глине, в том месте, где разорвался заряд бластера, вот и все. — Что за дьявол! Попал же я во что-то! — Но если там, на земле, след от твоего заряда, значит, ты стрелял в пустоту. Галлюцинация от перенапряжения? Нет. Коллективные галлюцинации такого типа практически невозможны. Порассуждать на эту тему Доктору не пришлось. Темное пятно на земле не было следом от выстрела. Они увидели это сразу, как только подошли ближе. С десяток квадратных метров покрывал толстый слой темно-серой мучнистой пыли. Экспресс-анализатор быстро определил, что это измельченный до молекулярного состояния базальт. — Выходит, ночью я стрелял в скалу? — Раньше тут не было никакой скалы. У меня хорошая зрительная память. В той стороне не было ничего. И дно ущелья, как видишь, понижается, даже его ты не мог зацепить. — Ты хочешь сказать, что по ночам скалы на этой планете отправляются погулять? — Может быть. — Да. После того, что мы видели ночью, все, конечно, может быть. — Аксиомы, принятые на Земле, здесь не всегда обязательны. К тому же, если это была просто скала… Ты видел хоть один осколок? — Нет. — А ты слышал, чтобы выстрел бластера мог раздробить скалу до молекулярного состояния? — Что же это было? — Не знаю, но боюсь, что мы еще познакомимся с этим. И давай, наконец, посмотрим, что случилось с прожектором. На месте прожектора они увидели глубокую вмятину в обшивке. Поверхность металла казалась оплавленной и местами смятой так, что образовались трещины. Кибернетик подозрительно покосился на Доктора. — Ты не мог случайно выстрелить? — Мой бластер оставался в рубке. — Но ведь я стрелял только раз! И в этой стороне не было никаких вспышек. Откуда такая температура? — Ты думаешь, это след от выстрела бластера? — Очень похоже. — В таком случае, это еще раз подтверждает… — …что скалы на этой планете берут с собой на прогулку бластеры. Ладно. С меня на сегодня хватит загадок. Пора наконец заняться делом. Кибернетик решительно направился к входному люку, а Доктор пошел было за ним, но какое-то тревожное и еще смутное опасение заставило его вернуться. Вернувшись, он не обнаружил ничего нового, ничего подозрительного в этой вмятине на борту шлюпки, обшивка которой приняла и отразила прошедшей ночью неизвестный энергетический удар. Вот только странный беловатый налет покрывал теперь кое-где оплавленный металл… Но это могла быть пыль, принесенная ветром, просто пыль… Проверять не хотелось, может быть, оттого, что если даже это и не было пылью, а было чем-то гораздо более серьезным, у них наверняка не найдется средств для борьбы с новой неизвестной опасностью. Почему-то теперь Доктор не сомневался в том, что так и будет. Что ж, они первые открыли военные действия и не пожелали участвовать в мирных переговорах… Хотя, пожалуй, крысиный лабиринт вряд ли подходящее место для переговоров… К обеду удалось установить систему фильтров. Через час после того, как они ее запустили, в рубке можно было снять скафандры. Они устроили из этого маленького события настоящий праздник. Приняли душ, выпили по бокалу тонизирующего напитка и развалились на подвесных койках, испытывая неописуемое блаженство от прохладного воздуха. Во время работы тревога за товарищей казалась глуше, незаметнее. Зато сейчас они уже не могли думать ни о чем другом. — Когда начнем поиски? — спросил Доктор. Кибернетик растер ладонями заросшее щетиной лицо, выпрямился в своем гамаке и повернулся к Доктору. — Я думаю, нам есть смысл подождать до утра, хотя бы для того, чтобы не разминуться. — А как у них с кислородом? — Физик взял с собой режекторные фильтры. С ними время практически не ограничено. — Долго они в скафандрах не продержатся. — Я думаю, мы все тут долго не продержимся. Доктор внимательно посмотрел на Кибернетика. На секунду подумал, не ходил ли он вслед за ним к поврежденному участку обшивки, но потом вспомнил, что они не расставались весь день. — Видишь ли… — сказал Доктор и задумчиво пожевал губами. — Нам очень важно выиграть время, каждый лишний час. — Интересно, зачем? — Честно говоря, я и сам как следует не знаю. Но у меня такое ощущение, словно мы начали с планетой поединок, в котором каждый час играет решающее значение, хотя бы потому, что в течение этого часа мы получаем и перерабатываем информацию, а это увеличивает наши шансы. — Я не вижу никаких шансов. Сколько угодно новой информации и ни одного нового шанса. Вряд ли удастся использовать информацию, значение которой мы не понимаем. — Не тебе это говорить. Любая кибернетическая система насыщается информацией до определенного предела, и только потом, перейдя в новое качество, получает возможность пользоваться ею… — Характер информации обязательно должен быть в пределах возможностей данной системы, иначе… — Я это знаю. Но у нас есть планета, на которой есть жизнь, высокоорганизованная жизнь, это, по-моему, мы все же установили. — Но ведь ты всегда утверждал, что любая жизнь, и тем более сложноорганизованная, способна развиваться только в комплексе. — Возможно, здесь, на этой планете, нам придется еще не раз усомниться во многих земных аксиомах… Не станешь же ты отрицать, что вмятина на обшивке — это реальный факт, и попытка установить с нами контакт, получить какую-то информацию тоже факт… Кстати, об информации. Что, если они хотели убедиться в том, что мы можем оценивать сложные ситуации не только с помощью логики, но и эмоционально. Понимаешь, по-человечески нелогично! — А для чего им это? — Ну, не знаю… Надо бы еще раз осмотреть пещеру. — Что же, давай посмотрим, до темноты еще около часа, успеем. Они легко нашли овальный вход, совсем не похожий на естественную трещину в скале. Зато внутри пещера ничем не напоминала ночной лабиринт. В том месте, где ночью образовался коридор, теперь была глухая стена. Доктор провел по ней перчаткой скафандра. Пыли не было. В остальном же это был ничем не примечательный базальт. Бластер лежал на том самом месте, где его оставил Доктор. Они все время инстинктивно ждали каких-то новых событий, но ничего не произошло. И напряжение постепенно спадало. Поиски второго входа, через который их выпустили к шлюпке, ни к чему не привели — его попросту не было. Несколько разочарованные, вернулись к шлюпке. — Странно, что они так… Словно потеряли к нам всякий интерес. Я все время жду чего-то, и, кажется, напрасно. — Будем рассчитывать на себя, так вернее. Они работали до глубокой ночи. Привели в порядок остатки планетарного комплекса, составили опись всех имевшихся в их распоряжении механизмов и инструментов. На следующее утро, отправившись на поиски товарищей, не нашли ничего. Даже следов. Планета казалась совершенно пустынной. Со странным упорством Доктор разглядывал левый задний угол обшивки шлюпки, закрытый изнутри обивкой и потому невидимый. Именно здесь, снаружи, продолжало расползаться белое пятно, словно неведомая кислота медленно точила несокрушимый синтрилоновый панцирь… Никаких следов органики, ни малейших признаков органической или неорганической жизни… Что же тогда разрушает прочнейшие связи между молекулами кристаллической решетки? Откуда берется колоссальная энергия на разрушение этих связей? Может быть, он неправ и пора обо всем рассказать Кибернетику? Возможно, там, где биологические методы оказались бессильными, он найдет какое-то другое решение, другой метод борьбы? Но Доктор слишком хорошо понимал, что таких методов не существует, хотя бы потому, что сначала нужно было понять. Понять, кто или что? А главное — зачем? Синтрилон в качестве пищи для организмов, которые не может обнаружить даже электронный микроскоп? Это опять нелепость. Скорее всего, они лишатся шлюпки и останутся с этой непонятной враждебной планетой один на один с голыми руками… Какое значение будут тогда иметь те жалкие часы, о борьбе за которые он так агитировал Кибернетика? — Тебе не кажется, что у нас не так уж много времени? Доктор подозрительно посмотрел на Кибернетика. — Что ты имеешь в виду? — Не слишком ли долго мы прохлаждаемся? Может, продолжим работу? Что ты скажешь насчет установки датчиков системы защиты у входа в ущелье? Доктор не стал возражать и часа два они перетаскивали к выходу из ущелья тяжелые ящики и выполняли бессмысленную, с точки зрения Доктора, работу. В конце концов Кибернетику удалось остаться у шлюпки одному. Еще раз проверив издали, как идет у Доктора работа по установке датчиков, он передвинул к обшивке шлюпки анализатор. Пятно белого налета за это время значительно расширилось и углубилось. Самое неприятное состояло в том, что неизвестное излучение, поразившее материал обшивки, захватило сразу всю левую половину шлюпки. Наиболее четко разрушение проступило в центре, там, куда, по его первоначальному предположению, ударил заряд бластера. Теперь он понял, что тут был совсем не бластер, во всяком случае, не только бластер. Не удавалось даже замедлить разрушение обшивки. Он перепробовал все доступные методы, но так и не смог установить характер поражения. Материал обшивки еще держался, но разрушение прогрессировало в глубину. Часа через два в шлюпку начнет поступать наружный воздух, а еще через несколько часов от шлюпки останется один остов… То, что это не биологическая атака, он установил сразу. И все же придется сказать Доктору, надо спасать хотя бы снаряжение, если это еще имеет какой-то смысл… Сколько суток смогут они выдержать, не снимая скафандров? — А знаешь, Миша, — вдруг раздался в наушниках его скафандра голос Доктора, — наша пещера может нам еще пригодиться. Если попытаться расширить и загерметизировать вход… Резко обернувшись, Кибернетик увидел сутулую фигуру Доктора у себя за спиной. — Значит, ты знаешь?.. Доктор пожал плечами: — Я, собственно, тебя не хотел беспокоить… Одного не могу понять: зачем им это понадобилось? — Кому им? И вообще, разве вопрос «зачем» в этой ситуации имеет какой-то смысл? — С некоторых пор мне кажется, что все, что произошло с нами на этой планете, и все, что еще произойдет, имеет какой-то вполне определенный и кому-то понятный смысл. — Неплохо было бы и нам в нем разобраться, — проворчал Кибернетик. — Ну что ж, пошли еще раз смотреть пещеру. Но они не успели отойти от шлюпки. Один из датчиков, установленных Доктором, включил сирену, и, обернувшись на ее рев, оба увидели у входа в ущелье знакомую фигуру Физика.ГЛАВА 6
Практикант очнулся на рассвете, когда холодная роса собирается в тугие, упругие капли. Он нащупал обломок мокрого камня и приложил его к потрескавшимся губам. Камень напоминал леденец из далекого детства. Сознание вернулось к нему сразу резким толчком, и он вспомнил все, что произошло и где именно он лежит. Прямо от его щеки отвесно вверх вздымалась почерневшая от влаги поверхность камня. Он попробовал встать, но не смог. «Это пройдет, обязательно пройдет, — сказал он себе, — главное, не распускаться. Наверное, это электрический разряд, обыкновенный поток электронов. Четыреста — пятьсот вольт. Некоторые выдерживали больше. Подумаешь, пятьсот вольт! Даже руки не обожжены. Ловко они меня… Теперь вот валяюсь, а они смотрят…» Эта мысль заставила его рывком приподняться и сесть, привалившись спиной к камню. Бешено заколотилось сердце. Голова оставалась ясной, вот только тело плохо слушалось. Стараясь не делать лишних движений, он повернулся и через плечо посмотрел на камень. «Базальт. Просто базальт. Не поладили мы, значит. Это бывает… А я думал, когда встретимся, я вас сразу узнаю, успею приготовиться, придумаю какие-то важные слова… Успел, подготовился! Обыкновенный базальт и пятьсот вольт… Зачем вам это понадобилось? Молчите… Я бы многое отдал, чтобы узнать, зачем. Те же камни вокруг. То же небо. Все осталось прежним, все как было. Нет только Физика… И подумать только, что какая-то глыба…» Он сжал в кулаке осколок камня так, что побелели костяшки пальцев. «Если бы я мог, в порошок… Просто в порошок, и все…» Камень подался под его пальцами. Он разжал ладонь и поднес ее к глазам, близоруко прищурившись. На ладони лежала горстка серого порошка. Он не знал еще, что это значит, он даже удивился не сразу — странный камень. Дунул, серая пыль послушно слетела с ладони. Постарался вспомнить, каким был этот осколок, похожий на леденец из детства… Шершавый и колючий осколок весомо лег на ладонь, словно неведомая сила подчинилась его желанию… Но и тогда он еще ничего не понял. Разглядывая осколок широко открытыми глазами, он старался ни о чем не думать, словно боялся спугнуть своими мыслями это неожиданное маленькое чудо. «А собственно, чему удивляться? Если на этой планете камни умеют так много, почему бы им не летать? Вот только для чего ему понадобилось рассыпаться в порошок? Интересно, что будет, если его опять сжать?» Он сдавил камень изо всех сил, так что острые края глубоко врезались в ладонь. Камень как камень. Может, ему показалось? Или это другой камень? Но он хорошо помнил завитушку из трещинок, небольшую кварцевую жилку… Все камни здесь одинаково серые. На Земле есть голубые, как море, и красные, как кровь, белые, как платье невесты, розовые, как лепестки роз… Если бы Райков смотрел в это время на осколок, зажатый в его руке, он бы увидел, как по его поверхности прошла вся гамма цветов. Но он уже смотрел на далекие вершины гор и думал о том, что даже эти вершины не похожи на земных исполинов, покрытых ослепительными плащами ледников. Сквозь огромное расстояние, сквозь зеленоватый туман воздуха ему почудились на чужих вершинах белые шапки снега. Почудились так ясно, что он невольно отвел взгляд, не зная, что в это мгновение там, в клубах тумана, стал расти снежный покров. Он рос, несмотря на тридцатиградусную жару, и тут же превращался в веселые ручьи… Практикант посмотрел на камень, который держал в руке, на обыкновенный серый осколок базальта, вспомнил, что минуту назад он почудился ему горсточкой пыли. Вспомнил, улыбнулся над нелепой галлюцинацией, и тут же улыбка сбежала с его губ, потому что на ладони снова лежала щепотка праха… Камень, который читает мысли? Или это что-то другое? Практикант оперся о холодный бок валуна, попытался встать на ноги. С трудом ему это удалось. Порыв ветра сдул с ладони пыль. А что, очень даже может быть. На этой планете живут разумные камни. Они, правда, все перебесились от тоски и теперь рассыпаются в порошок. Здорово его тряхнуло. Рассыпающиеся камни мерещатся. Надо добраться до ручья. Холодная вода — вот что ему сейчас нужно больше всего. Глоток холодной воды. Ноги приходилось переставлять осторожно, точно они превратились в чужие и очень сложные сооружения. Пришла тревожная и нелепая мысль. На секунду показалось, что за время, пока он лежал здесь без сознания, с ним произошли какие-то странные, едва уловимые изменения. Тело стало чужим и чужими мысли. Слишком четкими, слишком резкими и плотными, как будто стальные шарики перекатываются в голове. Но тревога прошла, едва только он дошел до ручья. Так было всегда, стоило ему увидеть эту красивую, словно из сказки, воду. Добравшись до берега и напившись, он долго сидел, не двигаясь и слушая, как звенит вода. Вода здесь синяя, камни серые. Небо зеленое по утрам и фиолетовое в сумерках. Ничего здесь нет, кроме воды, воздуха и камней… Простая планета… Совсем простая планета… И ничего он не сумел им объяснить: ни радость встречи, которой ждал так долго; ни эту горечь разлуки, словно он точно знает, что расставание произошло, и никогда они не узнают, что у ручьев на Земле растут сосны, шумливые, зеленые, не похожие на каменные муляжи… Откуда эта странная уверенность, что ничего больше не повторится? Что контакт уже свершился. Что теперь они одни, совсем одни на этой чужой, безразличной планете, среди мертвых камней, которые рассыпаются в прах? Он встрепенулся: «Но если камни ведут себя так странно, значит, не все еще потеряно?» Он знал. Совершенно точно знал, что это не так. Что никого больше нет, Где-то в глубинах сознания медленно отступала пелена. Она еще что-то скрывала, что-то очень важное. Но об этом он еще успеет подумать позже. Теперь ему некуда торопиться. Вода плотная и синяя, как в море. Здесь везде одинаковая вода. В ней не растут зеленые усики водорослей, по ней не плывут лепестки цветов… И корабли никогда не опускаются на эту планету. Нечего им здесь делать. Дорога в одну сторону. Дорога без права на возвращение. С той минуты, когда они с Физиком увидели каменные деревья, Райков поверил, что им сумеют помочь, надеялся и ждал. Теперь ждать больше нечего, потому что те, кто вступил с ним в контакт, ушли. Ушли так, что он знает об этом. Одного не знал Практикант: не знал, что прежде чем уйти, они сделали для них все, что могли, все, что от них зависело. Сделали больше, чем мог он предполагать в самых смелых мечтах: что из четверых они выбрали лишь одного и ему передали свой дар; что этот единственный из десяти миллиардов людей сидит сейчас на берегу ручья и грустит о далекой планете, на которой растут зеленые, живые деревья. О планете, которую он любил так сильно, что покинул ее ради звезд. Ничего этого он не знал и о звездах не вспоминал. Он думал о том, что ботинки совсем изорвались за эти дни. Починить их не удастся, пока он не найдет Физика и они не вернутся в лагерь. Он старался не признаваться себе в том, что возвращаться, скорее всего, придется одному. Вода освежила его и успокоила. Немного кружилась голова. Практикант растер неподатливые, упругие капли в ладонях, смочил виски и стал решать, что теперь делать дальше. Стиснув зубы, медленно поднялся. Не было смысла возвращаться к валуну. Прежде всего следовало спуститься ниже по ручью к тому месту, где Физик набирал воду. Один раз он уже прошел весь его путь, но сейчас нужно было сделать это еще раз, внимательно осматривая каждую выбоину в камне, каждую царапину. Человек не может исчезнуть совершенно бесследно. Метров сто он прошел благополучно, только каждый шаг отдавался болезненными толчками в пояснице да в голове шумело. Напротив того места, где валялась канистра, Практикант решил взобраться по склону ущелья, чтобы сверху осмотреть все русло. Подниматься пришлось по очень крутой поверхности, покрытой толстым слоем каменных обломков. Они разъезжались под ногами при каждом шаге, и тут его подвели рваные ботинки. Отставшая подошва зацепилась за какой-то выступ. Райков потерял равновесие и упал всей тяжестью на каменную осыпь. Само падение сошло для него довольно благополучно, но удар его тела нарушил равновесие в каменной осыпи, с трудом державшейся до сих пор на крутом склоне. Вся масса обломков дрогнула и пришла в движение. Несколько тяжелых глыб наверху зашевелились, а потом с гулом и грохотом понеслись вниз. Они летели прямо на него. Практикант видел квадратный, похожий на утюг камень, который шел на него прыжками, как гигантская жаба. Не было уже ни малейшей возможности ни уклониться, ни избежать удара. Он закричал что-то этому камню, вытянул руку, точно хотел удержать многотонную глыбу. И хотя до нее было еще несколько метров, камень, словно уткнувшись в невидимую преграду, неожиданно остановился. Он был не тяжелее подушки. Практикант ощущал мягкое, упругое давление, словно у него выросла гигантская рука и в ее ладонь упиралась остановленная глыба. Еще не разобравшись в том, что произошло, Практикант мысленным приказом остановил и другие обломки. Ни на секунду не отпуская невидимой стены, поддерживая ее пружинящее давление усилием воли, Практикант вскочил и бросился по склону в сторону. Очутившись в безопасности, отпустил все обломки сразу. Там было, наверное, тонн двадцать, и теперь он смотрел, как вся эта лавина вдребезги разносила скалу, торчащую на ее пути. Чтобы еще раз проверить себя, чтобы понять, он сосредоточился и представил, как огромная глыба, метрах в ста от него, медленно поднимается вверх. Глыба послушно поднялась. Тогда он напрягся и швырнул ее вверх, словно это был обыкновенный булыжник. Обломок скалы, вращаясь, взвился в воздух и исчез из глаз. От его падения мягко дрогнула земля под ногами, а когда донесся тяжелый грохот, Практикант, сжав голову, спустился на землю. Так вот оно что, вот он каким был, этот первый контакт… Вот для чего был нужен тот экзамен, который он, кажется, выдержал… Он не мог бы словами описать изменившуюся остроту ощущений, словно между ним и окружающим миром протянулись вибрирующие струны. Эти невидимые связи казались сложнее и в то же время проще привычного закона причин и следствий. Результатом этих новых, непонятных пока связей с окружающим миром и была сила, которую он только что ощутил, сила осуществленного желания. Способность творить чудеса? Но чудо — это то, что противоречит законам природы; однако гораздо чаще чудом называют лишь то, что только кажется противоречащим этим законам. Наверное, то, что произошло с ним, опирается на какие-то новые, еще не известные людям законы… Он успокоился после этой мысли. Попытка анализа помогла справиться с ненужным, отвлекающим от главного волнением. Он вспомнил институтскую лабораторию, опыты по курсовой работе… «Перемещение масс под воздействием силовых полей». Так она называлась, его работа. Здесь почти то же самое. Правда, поля должно что-то вызывать и поддерживать, какое-то устройство… Но, может быть, это не обязательно? Материя и человеческий мозг находятся в прямой взаимной и постоянной связи. Что, если эту связь усилить и уточнить настройку? Что, если это возможно? Что, если возможно управление материей путем непосредственного воздействия мысли, мозговой энергии на ее поля, без всяких промежуточных устройств? Так, как он сделал тогда с разъезжавшимися стенами экзаменационного зала, одним усилием воли? Может быть, эффект резонанса? Если мост можно разрушить звуком шагов, то кто знает, на что способен резонанс энергетических полей человеческой мысли с полями окружающей материи… Вот камень… Его образ запечатлелся в сознании… А что это значит? Какие атомы пришли в движение, какие нейтринные поля сместились, для того чтобы возникло это внутреннее представление, мысленный отпечаток предмета? Как мало мы, в сущности, знаем об этом! И что случится, если теперь в его мозгу, только в его представлении, камень сдвинется в сторону, пусть немного, пусть на самую малость! Должно же это движение как-то отразиться в материальных формах! В конце концов, ничто в мире не существует вне этих форм. На эту мысленную работу он должен был затратить определенную энергию, пусть даже совсем незначительную. Понятие величины всегда относительно, а раз так, значит, в принципе возможно эту энергию уловить и усилить ее непосредственное воздействие на материю… Тогда она сыграет роль своеобразного выключателя и сможет привести в действие колоссальные энергетические ресурсы, скрытые в самой материи… Практикант почувствовал себя совершенно оглушенным, придавленным этим водопадом мыслей. Ему казалось, что он нащупал самое важное в происшедшем. Вон та скала, например, она очень далеко, несколько километров до ее вершины, но стоит представить стоящим себя на ней, стоит только очень сильно захотеть… Мир раскололся. В ушах свистнул ветер. Самого перемещения в пространстве он даже не успел заметить. Окружающие предметы вдруг размазались, исчезли, и в ту же секунду проступил, словно на фотоснимке, новый пейзаж. Далеко внизу, у самого горизонта, ниже ребристого горного хребта, распластавшегося у него под ногами, стелилась тоненькая струйке живого дыма…ГЛАВА 7
Костер медленно догорал. На него пошли последние силикетовые доски от упаковки планетарного комплекса. Сам комплекс, аккуратно разобранный и разложенный по полкам, лежал теперь в пещере, переоборудованной и загерметизированной Доктором и Кибернетиком. После возвращения Физика надобность в герметизации отпала, и они могли себе позволить сидеть у костра без скафандров. Доктор варил какую-то особенную похлебку из хлореллы, приправленную тушенкой из неприкосновенного запаса. Это был их первый маленький праздник со времени приземления на планету. Практикант сидел в дальнем углу, натянув до самых ушей свою старую куртку, и смотрел, как по потолку пещеры стелется дым костра. Его слегка знобило, скорее всего, от волнения, которое, несмотря на все старания, он не мог в себе подавить. В первые часы возвращения в лагерь, заполненные шумными приветствиями, потоком новостей, неожиданной встречей с Физиком, молчание о самом главном было почти естественным, но с каждым часом оно становилось для него все тяжелее, словно он все еще стоял на вершине водораздела. Перед ним раскинулась новая, незнакомая страна. Стоит сделать только шаг, и он попадет в эту страну, словно перейдет в другое измерение. Вот сейчас он молчит, слушает, как Доктор ворчит на Кибернетика за то, что тот отказался варить похлебку в свое дежурство, видит улыбку Физика, словно запутавшуюся в его густой рыжей бороде… Сейчас он с ними, один из них… Но как только они узнают все, каждый невольно задаст себе вопрос: «Кто он теперь, практикант Райков? Носитель странного могущественного дара иной цивилизации? Или, может быть, ее представитель?» Волей-неволей он должен будет говорить от имени хозяев планеты… Таким уж он был, этот первый контакт, не похожий на инструкции и учебники по контактам, не похожий вообще ни на что, знакомое человечеству… Информация, заложенная непосредственно в его память во время контакта, содержала ответы на многие вопросы, которые они хотели задать хозяевам планеты. Практикант не сразу узнал об этом. Очевидно, объем информации был слишком велик для человеческого мозга, сработали какие-то защитные механизмы, и в первые часы после возвращения сознания он еще не знал о том, что должен будет им сообщить сейчас… Слишком дорогая цена за этот дар… Чего-то они не учли, разумные и холодные создатели приютившей их планеты. В который раз он мысленно проигрывал в уме условия странной и жестокой игры, предложенной им. Игры, в которой одной из ставок становилась их жизнь, и не находил положительного решения. Возможно, именно поэтому было так трудно решиться рассказать все товарищам. Рассказать придется. Условия игры уже вступили в действие независимо от их желания, независимо от того, знают ли все ее участники о предложенной задаче… Что ж, пусть теперь думают остальные, он устал один тащить груз, пусть они решают, придумывают какие-то ответные ходы. Вот сейчас он начнет, еще минуту… Пусть сначала догорит костер… Физик потянулся к огню, помешал угли, внимательно посмотрел на Практиканта и тихо сказал: — Ну, что же… Пора, наверное, подвести кое-какие итоги. Кибернетик было оживился, но, взглянув на то место, где совсем недавно возвышался стройный сферический корпус шлюпки, а теперь торчали безобразные рваные шпангоуты бортов, поморщился и хрипло произнес: — Какие уж там итоги! Потерян корабль, потерян последний робот, уничтожена шлюпка. Все наши материалы в атмосфере планеты непонятным образом разрушаются. Пора заняться изготовлением каменных топоров. — Но есть и другая сторона. — Доктор аккуратно разливал в чашки дымящуюся похлебку. — Вы все, наверное, заметили почти полное отсутствие аппетита. Мне удалось провести ряд любопытнейших экспериментов. Конечно, это еще нуждается в проверке, тем не менее я пришел к парадоксальному выводу. Эта радиация… Вы знаете, по-моему, она каким-то образом непосредственно, на клеточном уровне, снабжает наши организмы энергией, минуя все сложнейшие, созданные эволюцией системы для приема и переработки пищи. — Ты хочешь сказать, что здесь можно обходиться вообще без пищи? — Вот именно, хотя мне самому трудно в это поверить… «Да… Конечно… Так и должно быть… — отметил про себя Райков. — Это тоже входит в условия задачи. Нас не должна отвлекать забота о хлебе насущном». — Еще одна случайность? Что ты на это скажешь? — спросил Физик, обращаясь к Практиканту. — Нет. Не случайность. — Я давно догадался, что ты кое-что знаешь. Может быть, пора рассказать? Была ли вторая попытка контакта? Ну что ты молчишь? Сейчас голос Физика звучал сухо, почти официально. После того как Навигатора не стало с ними, само собой разумелось, что в трудных ситуациях именно ему предоставлялось право принимать-окончательные решения. Практикант ответил коротко и сбивчиво, проглатывая окончания слов, точно спешил поскорее избавиться от них. — Контакт был. И, если говорить о взаимном обмене информацией, кажется, он удался. Не ожидавший такого ответа, Кибернетик обжегся похлебкой и выронил в костер всю чашку. Зашипели и погасли последние угли. Резко повернулся Доктор, и только на лице Физика не дрогнул ни один мускул. — Мы слушаем тебя. — Мне будет трудно изложить все связно, я сам многого не понимаю. Слишком сложная информация, необычен способ ее передачи… — Способ?! — почти закричал Кибернетик. — Ты что, разговаривал с ними? Тогда почему молчал до сих пор?! — Подожди, Миша, — остановил его Физик. — Каким образом передана информация? Ты стал понимать язык структурных формул? Или это опять ночные видения? — Нет. Информация была записана непосредственно в память, мощный энергетический поток, шоковое состояние, как во время удара электрическим разрядом большой мощности. Ну, и потом я вспомнил… Не все сразу… Райков растер виски обеими руками. Он сидел сгорбившись и угрюмо смотрел на погасшие угли. — Что ты вспомнил? — Лучше вы задавайте вопросы, иначе я запутаюсь. Я сам не все понимаю… — Так что же мы должны спрашивать? — Какие вопросы? — спросил Доктор. — То, о чем бы вы спросили хозяев планеты, может быть, я смогу… Во всяком случае, попробую ответить… — Почему погибли Навигатор и Энергетик?! — почти прокричал Доктор. — Причины аварии? — сухо добавил Физик. — Этого я не знаю. Вернее, они этого не знают. Они заметили нас только после взрыва корабля. Можно предположить, что случайно мы натолкнулись на какую-то их передачу в надпространстве. Ты сам говорил, что направленный модулированный пучок энергии большой интенсивности мог вызвать вибрацию… Но это только предположение. — Кому была адресована передача? — Это межзвездная цивилизация, в их федерацию входит несколько десятков звезд и около сотни планет. Между ними существует регулярная связь. — Бред какой-то! Может быть, тебе все же это приснилось? О какой цивилизации идет речь? Где ты нашел цивилизацию на этой пустынной планете? Для передачи такой мощности нужен Всепланетный энергетический комплекс, где он здесь?! — спросил Кибернетик. — Планета создана ими искусственно, несколько тысяч лет назад, специально для контактов с другой гуманоидной цивилизацией. Здесь они не живут. — Так, значит, отсутствие биосферы, наличие кислорода, радиоактивный аргон… — Искусственно созданная, почти идеальная среда для гуманоидов. Нам действительно повезло… — Но зачем им это понадобилось, создавать целую планету… Разве такое возможно? — Планета-гостиница, планета-полигон или университет специальных знаний, а может быть, планета-лаборатория с подопытными кроликами, смотря как это понимать. В общем, специальная планета для контактов. Они могут себе это позволить… — Искусственно создавать планеты? — В их распоряжении полный контроль над материей, возможность управлять любыми материальными процессами без посредников, без механизмов, за счет энергетических ресурсов самой материи. — Выходит, для них практически нет ничего невозможного? — спросил Доктор. — Об этом нет информации. — Практикант пожал плечами. — Я не знаю предела их возможностей. — Как они выглядят? — У них нет постоянной видимой формы. Насколько я понял, индивидуальные мыслящие и эмоциональные структуры зафиксированы в каких-то энергетических полях, это их обычная, так сказать, пассивная форма. Но в случае необходимости они могут воспользоваться любым материальным телом, перестроить его молекулярную структуру и создать из него нужный им организм. — Полный контроль над материей, — задумчиво сказал Физик. — Значит, они могут перемещать в пространстве любые массы без всяких кораблей… Ты говорил с ними о помощи? — Я вообще с ними ни о чем не говорил. В момент контакта я просто был без сознания. Они передали в мой мозг те сведения, которые сочли нужным. — Значит, придется повторить контакт! С завтрашнего дня мы организуем поиски, и как только… — Это бесполезно. Они покинули планету. — Как это покинули? Зачем? — Чтобы не вмешиваться, даже случайно. Я говорил, они здесь не живут. Планета предоставлена в наше полное распоряжение. — Это очень любезно с их стороны, — сказал Доктор, — только я не совсем понимаю: зачем им вообще понадобился этот контакт? Чтобы разбудить надежду, показать нам свое могущество, а потом уйти? Мы столько раз повторяли, что гуманность прогрессирует вместе с разумом! — По-моему, гуманность — это чисто человеческое гуманоидное понятие, — задумчиво произнес Физик. Практикант отрицательно покачал головой: — Много тысячелетий назад, путешествуя в космосе, они встретились с другим разумом. Это была молодая гуманоидная цивилизация, в чем-то похожая на нашу… Состоялся контакт. В обмен на информацию, накопленную этой цивилизацией, они передали ей свою способность непосредственного управления материей… Именно тогда, специально для целей контакта, была создана эта планета. — Кажется, я понимаю. Дар оказался слишком велик… — Да, цивилизация погибла. Противоречивые команды, схватка противоположных интересов, изменения материальных форм, исключающие друг друга. Незнание отдельными личностями основных законов преобразования материи, просто ошибки… — И в результате полная энтропия. — Да. Материя их системы распалась вместе с ними. — А какое отношение имеет это к нам? — с вызовом спросил Кибернетик. — От всего их могущества нам нужен был только корабль, чтобы вернуться… — А ты бы вернулся? — с неожиданным интересом спросил Физик. — Не понимаю? — Ты удовлетворишься возвращением, в случае если придется выбирать между контактом с этой цивилизацией и кораблем? Иными словами, что важнее: возвращение или попытка убедить их, что человечество способно принять такой дар? — А вы уверены, что способно? — задумчиво спросил Доктор. — Способно или нет, решит человечество, но я сам хочу выбирать между так называемым контактом и возвращением! — Видишь ли, Миша, для них мы — представители человечества, и, очевидно, они убеждены в том, что интересы человечества для нас важнее собственных. По-моему, им даже не приходит в голову, что может быть иначе. — И все же я не желаю, чтобы за меня что-то решали эти ходячие скалы, в конце концов… — Они не скалы. И ничего они за тебя не решали. Я даже думаю, что они не пришли в восторг от того, что мы свалились им на голову. — У них нет головы. — Это неважно. Гораздо важнее вопрос об этом гипотетическом даре. Нам что, его предлагали? — Судя по тому, что однажды они поделились своими способностями с другой цивилизацией, мы могли бы найти какой-то способ убедить… — Да подождите! — Райков вскочил на ноги. — Все обстоит совсем не так с этим даром. Дело в том… дело в том… Практикант почувствовал, что у него пересохло во рту от волнения, и он замолчал. Молчалии они, все трое. Смотрели и молчали. Даже Физик не пришел ему на помощь. И тогда охрипшим, прерывающимся голосом он сказал им сразу все. Все самое главное. Наверное, такое чувство испытывает человек, бросившись в ледяную прорубь. — Они уже сделали человечеству свой дар. С одним-единственным условием. Мы сами должны найти способ передать его на Землю. — Объясни, пожалуйста, яснее, — очень тихо попросил Физик. — Да, Дима, ты уж постарайся, — поддержал его Доктор. — Тянешь волынку? — не очень вежливо спросил Кибернетик. — Сейчас я попробую передать вам условия. На секунду он прикрыл глаза рукой, чтобы лучше сосредоточиться. И, начав говорить, невольно перешел на чужой, не свойственный человеческому голосу тембр, каким обычно разговаривают корабельные автоматы. — Они оставляют нас на планете одних. Передают одному из нас способность управлять материей и ждут, что из этого получится, ни во что больше не вмешиваясь. Если каким-то образом нам удастся вернуться и известить об этом Землю, тем самым мы им докажем… ну, что ли, способность землян разумно распоряжаться их даром. И тогда они не будут возражать против его передачи всему человечеству или отдельным его представителям — как решит наша цивилизация. Существует какой-то способ передачи таких способностей от одного индивидуума к другому. Как именно, я просто не понял. — Но для того, чтобы передать способность управлять материей одному из нас, они должны будут с нами встретиться! Нужно хорошо подготовиться, и, может быть, удастся убедить их в бессмысленности и жестокости подобного эксперимента. — При чем тут бессмысленность и жестокость? — Да потому, что такая задача не имеет положительного решения! — почти закричал Физик. Доктор и Кибернетик смотрели на него, ничего не понимая. И только Практикант утвердительно кивнул: — Значит, ты понял. Наверное, они тоже так считают… — Но почему, почему?! — закричал Кибернетик. — Потому, что управление материей возможно только в пределах ее законов, а раз так, человеческий разум никогда не сможет создать ничего сверх того, что он знает. Представьте себе, что нам подарят все автоматические заводы Земли, но без программы. Много мы на них построим? Не сможем сделать даже простейшую радиолампу! Не говоря уж о корабле… Чтобы построить корабль, необходимы знания, накопленные человечеством на протяжении всей истории развития цивилизации. Ни один отдельный человек не обладает такими знаниями, именно поэтому наша единственная надежда — убедить их отказаться от эксперимента, — закончил Физик. — Это невозможно, — тихо ответил ему Практикант. — Эксперимент уже начался. Они ушли с планеты и не вернутся до его конца. — Значит, по-прежнему мы можем рассчитывать только на себя. — На себя и вот на это… Практикант пристально посмотрел на погасший костер, его лицо напряглось, нахмурились и сошлись брови. Сначала появилась небольшая струйка дыма, потом камни вокруг костра засветились вишневым светом, и из остатков погасших углей вырвались первые языки пламени. Все сидели с окаменевшими лицами, не в силах поверить, не в силах понять до конца значение того, что произошло. Только Физик поднялся, подошел и положил руку на плечо Практиканту. — Осторожней, Дима. С этой штукой нужно обращаться очень осторожно. Представь, что у тебя за плечами ранец с атомной бомбой, только это еще опаснее.ГЛАВА 8
Лагерь сильно изменился за эти дни. В том месте, где начиналась пещера, с разрешения Физика Райков убрал часть скалы. Образовалась обширная веранда. Потом он соединил веранду с дном ущелья небольшим подъемником. На изготовление примитивного механизма ушло целых четыре дня. Пещера тоже была расширена, появилась кое-какая каменная мебель. Превращения одних материалов в другие Физик строго запретил, опасаясь начала неуправляемой цепной реакции. Проще всего удавались перемещения отдельных масс и изменение их формы. Прямо на веранде из остатков оборудования шлюпки и планетного комплекса выросла импровизированная лаборатория. Изменения сразу же подтвердили, что при любом воздействии телекинеза на материал исчезала часть его массы. За все «чудеса» материя расплачивалась своей внутренней энергией. Как именно происходило превращение массы в энергию, установить не удалось, не хватало точности измерений. Очевидно, преобразование шло на уровне внутриядерных процессов. Начались дни утомительных занятий по сложной, разработанной Физиком системе. Следовало очень осторожно выяснить границы возможностей Практиканта, только после этого можно было сделать какие-то окончательные выводы и разработать план дальнейших действий. Почти сразу стало ясно, что воспроизвести в материале возможно только то, что имело в мозгу Райкова совершенно четкую модель. Получался слепок с этой модели — и ничего больше. Чем сложнее модель, тем труднее было удержать в памяти все мельчайшие ее детали и тем хуже, грубее получалось изделие. С каждым днем становился яснее окончательный вывод и все более открыто, несдержанно проявлялся протест каждого участника эксперимента. — Значит, эта слизь все предусмотрела, — сказал однажды Кибернетик, — выбора у нас нет, и нет выхода. — Да. Похоже на то, что они решили убедить нас в бесполезности телекинеза для человечества. И они нас отсюда не выпустят. Слишком много мы уже знаем… Если бы сохранилась корабельная библиотека! Но нет, даже тогда… Человеческий мозг просто не в состоянии зафиксировать в памяти достаточно сложное устройство со всеми материалами на молекулярном уровне… Вечером, устав от бесплодных теоретических споров, Практикант улетел в горы, не спрося разрешения у Физика. Почти каждый его шаг требовал теперь специального разрешения. Того полного отчуждения, которого он так опасался вначале, не произошло, но и того, что было, в его теперешнем положении вполне хватало для потери душевного равновесия. В ущельях свистел холодный ветер. Вершины близлежащих гор чертили у ног Райкова странные, резкие тени. Практикант ничком повалился на маленькую каменную площадку, на которую только что опустился, и долго лежал неподвижно, слушая свист ветра. От этих заунывных звуков, словно подчеркивающих одиночество, он чувствовал себя особенно скверно. И потому вдруг встал, осмотрелся, нашел подходящую скалу и закрыл глаза… Мир вокруг него перестал существовать. На секунду показалось даже, что сознание сейчас выйдет из-под контроля. Но он взял себя в руки и с предельной четкостью представил, как скала исчезла и на ее месте появился земной звездолет, появился их старый «ИЗ-2», появился таким, каким запомнил его Практикант в земное холодное утро старта, с разводами краски на боках, с яркими сполохами сигнальных огней… Все у него получилось. И краска, и цветные пятна на месте сигнальных огней, и довольно точная скульптура звездолета в натуральную величину, неплохой памятник из базальта… Довольно детальный памятник с ажурными переплетениями антенн и хищными щелями дюз вспомогательных реакторов… Вот только люк не открылся… Он не стал разрушать звездолет. Накрыл каменным конусом огромной скалы, из которой перед этим убрал сердцевину. Скрытый памятник. Никто его не увидит и не узнает о нем, но он все же будет стоять, памятник его мечте и его глупости… Постепенно жизнь в лагере входила в определенную колею. Дни становились похожи друг на друга. Очевидно, планета израсходовала уже все свои сюрпризы, а то огромное, что содержал теперь в себе мозг Практиканта, оставалось для них бесполезным. Они все выжидали чего-то, осторожничали, повторяли одни и те же порядком надоевшие опыты. Словом, все усиленно делали вид, что еще ничего не потеряно, что основная работа лишь начата и что привычная систематика исследований, сотни чертежей, графиков, формул принесут им что-нибудь неожиданное. Практикант сидел в пещере вдвоем с Доктором, изо всех сил стараясь не нагрубить ему в ответ на его длинные и благодушные рассуждения о прекрасном будущем, которое ждет человечество, если им удастся вернуться. К счастью, Кибернетик с Физиком с утра куда-то ушли, и поэтому в лагере было относительно тихо. Чтобы как-то отвлечь Доктора от темы возвращения, Практикант попытался сделать по его структурным молекулярным формулам немного крахмала. Крахмал получился жидким и каким-то прозрачным. Доктор внимательно проверил его на экспресс-анализаторе и в конце концов мужественно решил попробовать, после чего ему стало не до Практиканта. Расстройство желудка было расплатой за эту смелость. В чем-то они ошибались, в чем-то очень важном… С самого начала. Может быть, нужно искать совершенно новый метод решения всей проблемы, а они идут привычным путем — ищут способы создания механизмов. Но ведь те, кто построил эту планету для контактов, наверняка передвигались в космосе без всяких механизмов. Впрочем, об этом они не оставили никакой информации, а кроме того, само устройство человеческого организма может стать непреодолимым препятствием. В космосе человеку нужны сложные приспособления, хотя бы для защиты. Так что, возможно, он не прав, а прав Кибернетик. И все же Райков не верил, что они пошли на этот контакт, только чтобы доказать людям их несостоятельность. В том, как проходил контакт, в его последствиях была какая-то неправильность, непонимание, но только не враждебность. Физик и Кибернетик вернулись поздно вечером. Оба пришли молчаливые, усталые и подавленные. Кибернетик сразу же ушел в пещеру. А Физик долго молча стоял рядом с Практикантом. Райкову хотелось избежать предстоящего разговора, но когда Физик спросил: «Может, пройдемся?»-он только молча кивнул. — Последнее время ты совсем забросил работу. — Да. — Я просил тебя вести дневник, но даже это ты делаешь не очень аккуратно. — Вчера я заполнил почти за весь месяц. — Я смотрел. Там совсем нет анализа твоего состояния и ощущений, которые ты испытываешь во время экспериментов. — Во время экспериментов я не испытываю никаких ощущений. — И совершенно напрасно. По крайней мере, напрасно не стараешься понять, что ты ощущаешь в момент, когда… — Дело не во мне. Уверяю тебя, я не ощущаю ничего необычного. Почти ничего. — Вот это самое «почти». — Не понимаю, зачем тебе… ну, в общем, сначала я должен представить себе это со всеми деталями, потом напрягаю волю, представляю, как этот мысленный слепок материализуется, и в какой-то момент что-то срабатывает. Это требует большого напряжения воли и внимания, поэтому случайные мыслеобразы не могут материализоваться. Они спускались по длинной, метров в сто, каменной лестнице, ведущей от их жилья до самого дна ущелья. Физик все время шаркал по ступенькам, словно ему трудно было поднимать ноги. Райков подумал, что Физику уже немало лет и что, наверное, это последняя его экспедиция. Но почти сразу же поправился. Для всех них это была последняя экспедиция. Он упрямо повторил: — Никому все это не нужно. Вы живете в каком-то сне. Придумали забавы. Надоело… Вдруг Физик взял его за руку. Практикант вздрогнул, так непривычен был этот простой жест. — Для Земли не так уж важно, вернемся мы или нет. Несколько секунд они молча стояли на последних ступеньках лестницы. Вечерние тени уже накрыли дно ущелья, лестницу, клеть подъемника. — Что же важно? — тихо спросил Практикант. — Что же тогда для нас важно? — Сохранить и передать людям то, что есть у тебя. — Но я ведь не знаю самого главного: как это получается. А если бы даже знал, все равно сначала надо вернуться… — Или передать. — Передать? — Ну да. Просто передать тем, кто когда-нибудь прилетит сюда, вслед за нами. Сохранить и передать. — Но что? Что передать?! — Вот это я и стараюсь понять. Ищу все время. И еще мне хотелось бы знать, для чего они все это затеяли. Не верю, что им так уж безразличен результат эксперимента. — А если прав Миша? Если они хотели доказать нам нашу беспомощность? — Нельзя забывать, что, решая этот вопрос, они оперировали не нашей, не человеческой логикой, поэтому вряд ли мы когда-нибудь сумеем до конца понять, почему они так решили. Но одно мне ясно: в этой странной игре мы должны выиграть хотя бы несколько очков. Мы с Мишей искали робота, но безуспешно. А сейчас он нам нужен как никогда. — Хочешь его использовать как хранилище информации для тех, кто прилетит сюда после нас? Физик кивнул. — Но может быть, его постигла участь шлюпки? — Не думаю. Вряд ли их интересуют наши механизмы. Кроме того, ты же сам сказал, что они покинули планету до конца эксперимента. А если мы заложим информацию в робота, эксперимент фактически будет продолжаться даже после того, как мы сойдем со сцены… — Пока что нечего в него закладывать! Нет у нас никакой серьезной информации. — Да… ты прав… Но ведь здесь, на планете, была гуманоидная цивилизация, по крайней мере ее представители. И если информация, которую тебе передали, верна, именно здесь они учились управлять материей. Должны же были остаться какие-то следы. Нам бы транспорт, хотя бы небольшой вездеход из планетного комплекса, но и его не удалось собрать… — Я бы мог тебе представить вездеход, даже звездолет, только это будет игрушка, макет. Я уже пробовал. — Я знаю. — Знаешь? — Да, я видел, как ты пытался одним махом справиться с нашим «ИЗом». — Может, ты знаешь, почему мне это не удалось? — Ты и сам это знаешь. — Но подожди! Тогда надо начинать с малого, с каких-то частей, деталей, все вместе мы могли бы вспомнить! Ведь мы же все знаем о его системах! Знаем, где расположен каждый винтик! Надо изготовлять отдельные части, а потом собирать их в более сложные! Вместо этого ты меня заставляешь делать какие-то дурацкие упражнения! — Даже если бы это было возможно, не хватило бы всей нашей жизни. Но это невозможно. Вот, например, генератор защитного поля, довольно простое устройство, в сущности, многослойный конденсатор, правда, слои расположены в пакетах через половину длины альфа-волн, чтобы получить интерференцию. Ты помнишь длины этих волн? — Ну, приблизительно… — А еще сдавал мне зачет. Я помню их с точностью до сотых долей ангстрема. Ты можешь вообразить в натуре величину, равную ангстрему? Нет, не можешь. Даже не пытайся, она для твоего сознания слишком абстрактна, потому что неуловима для человеческих органов чувств. — Делают же эти пакеты на земных заводах! — Да. Но даже контроль за такими процессами доступен только автоматам. Человек слишком грубое устройство. Послышался протяжный визг и металлический глухой стук. Прямо напротив них остановилась кабина подъемника. Распахнулась дверца, на площадку лестницы выпрыгнул Кибернетик. — Вот вы где!.. По-моему, мы никогда не найдем этого робота, и завтрашний поход не имеет смысла. — Почему ты так думаешь? Мы же только начали поиски! В конце концов, он мог просто застрять где-нибудь из-за мелкой неисправности. Кибернетик отрицательно покачал головой: — Ты прекрасно знаешь, что роботы этого типа сами восстанавливают вышедшие из строя детали. У них не может быть мелкой неисправности, и дело совсем не в этом. Задача, предложенная нам, не должна иметь решения. У нас не должно быть ни одного шанса, даже намека на решение. Никаких роботов с оставленной информацией. Ничего. — Откуда такой абсолютный пессимизм? — Только логика. Никакого пессимизма. У них уже был опыт передачи управления материей другой цивилизации. Слишком дорогой опыт. Вряд ли они захотят его повторить. Скорее всего, они решили, как и мы, между прочим, не вмешиваться в развитие других цивилизаций. Космическое право ограничивает контакты. Там есть пункт о невмешательстве в развитие. Цивилизация слишком сложная структура, и никто не может предвидеть последствий такого кардинального вмешательства. Ну, вот и все. А дальше уже ясно. Оставлять нас здесь без помощи и без всякой надежды было бы, с их точки зрения, неоправданной жестокостью. Почему бы не предложить нам развлечение в виде этой задачки? Мы будем ломать над ней головы, на что-то надеяться, искать решение — в общем, наша жизнь здесь наполнится несуществующим смыслом. — В том, что ты говоришь, почти все безупречно. — Что значит «почти все»? — Они могли бы ничего не сообщать нам о своих сверхспособностях и просто помочь вернуться. — Разве тогда человечество оставило бы их в покое? Вернувшись, мы принесли бы с собой известие о существовании в этом районе сверхцивилизации, способной к межзвездным контактам! Да после этого здесь началось бы вавилонское столпотворение. Все крейсеры федерации ринулись бы в этот район. — Я думаю, при их возможностях не так уж трудно пресечь любые нежелательные контакты… Но даже если ты прав, у нас остается шанс… Видишь ли, Миша, если все же мы найдем выход из тупика, найдем способ решения поставленной перед нами, пусть и неразрешимой, с их точки зрения, задачи, я уверен, они выполнят условия соглашения и разрешат человечеству использовать свои необычайные возможности. — В этом-то я как раз и не сомневаюсь; уверен в том, что, даже предложенное нам таким необычным способом, это соглашение имеет для них силу безусловного договора и будет выполнено. Вот именно поэтому они должны были предусмотреть все. И задача не должна иметь решения. Мы не сможем отсюда вырваться никогда. И человечество никогда не узнает, что с нами произошло. Вот вам единственно возможное решение. Другого не будет. Они надолго замолчали. По узкой горловине ущелья пронесся первый порыв ветра. Вечером здесь всегда поднимается ветер. Он несет с собой плотные облака пыли и, разбиваясь о каменные стены ущелья, оставляет на всем толстый серый слой пыли, скрывающей все следы… Когда их не станет, ветер очень быстро занесет все. Даже следы, даже память о них… Райков почему-то вспомнил две цепочки следов, оставленные им вместе с Физиком впервые на этой планете… Если Кибернетик прав, все тогда бессмысленно… У них не останется даже надежды. Он не мог с этим согласиться. Никогда бы не смог. Что-то здесь было не так. Кибернетик достал обрывки провода и, подбросив их на ладони, отшвырнул в сторону. — Доктору стало хуже. Появилась рвота. — Не надо было ему есть этот клейстер! Несколько секунд Райков, не понимая, смотрел на Физика. Что-то в нем происходило в этот миг, что-то очень важное… Смутно мелькала какая-то необходимая, самая главная для них мысль, он чувствовал это и никак не мог за нее ухватиться. — Доктор меня попросил сделать крахмал… Даже начертил структурную схему молекулы… Это было очень сложно — представить себе в пространстве такую схему… Мы все время ищем каких-то сложных решений: чем сложнее задача, тем сложнее решение… И этот путь никуда не ведет. Вот хотя бы крахмал… Мы синтезируем его на Земле с помощью сложнейших автоматов и поточных линий, а в природе какая-то несчастная клетка с помощью одного-единственного зерна хлорофилла и нескольких молекул углекислого газа запросто производит сложнейший синтез. А если еще больше усложнить задачу? Попробуйте заставить все автоматы, всю кибернетическую технику Земли собрать один-единственный зародыш растения! С этим они уже не справятся. А природа между тем конструирует сложнейшие и тончайшие системы с заранее заданными параметрами каким-то неуловимым простейшим способом! Берутся две клетки, сливаются вместе — и вот зародыш уже готов! — Для этого «простого» пути потребовались миллионы лет эволюции. — Ну и что же? Я говорю о результате, о самом процессе, он прост и предельно результативен. И значит, способ решения сложной проблемы не обязательно должен быть сложнее самой проблемы! Значит, есть какой-то другой, неожиданный и неизвестный нам путь… Физик с интересом смотрел на Практиканта. — И давно тебя стали посещать такие мудрые мысли? — Подожди… Это очень важно… Что, если именно это мы должны были понять сами, без подсказки с их стороны, прежде чем… Что, если именно в этом смысл эксперимента? Ведь все самое сложное всегда заложено в простейшем, это же диалектика! — Ты что, лекцию нам читаешь?! — возмутился Кибернетик, с изумлением слушавший этот длинный монолог обычно немногословного Практиканта. — Да нет же, нет! Я сейчас объясню! Это же… У тебя есть бластер? — Бластер? При чем тут бластер? Зачем тебе бластер? — Сейчас вы поймете. Поставь, пожалуйста, самую большую интенсивность. А теперь смотрите. Практикант отвернулся от них, и сейчас же прямо посреди песчаной плеши на дне ущелья стал медленно вспухать пропитанный вишневым жаром огромный пузырь расплавленного песка. Прежде чем рассеялись облака едкого дыма, они уже видели, что там образовалось какое-то гигантское яйцо из расплавленного кремня. Его стенки дрожали, меняя формуй очертания, повинуясь давлению полей, созданных волей Практиканта. Потом жар почти сразу спал, дым рассеялся, и они увидели совершенно прозрачное, пустое внутри яйцо, занимавшее потемневшую от копоти площадку метров десяти в поперечнике. Практикант махнул на него рукой: — Вот так. А теперь стреляйте. — Куда стрелять? — В него. — Но для чего? — Стреляйте, тогда поймете. Кибернетик пожал плечами и дал по хрустальному яйцу целую серию. Лиловые полосы зарядов понеслись вниз и почти тотчас лопнули ослепительными шарами плазмы. Казалось, в огненном аду, который бушевал внизу, испарятся стены ущелья. Едва спал жар и осели облака пыли, как они снова увидели хрустальное яйцо, которое плавало в луже расплавленного базальта. Оно даже не нагрелось, на стенках играли холодные ледяные отблески. — Может, повторишь? — На лице Практиканта было написано откровенное торжество, и только необычность и торжественность момента удерживали его от следующей мальчишеской выходки. — Но что ты с ним сделал? Как это удалось? — Я не могу создать генератор нейтринного поля, так? — Конечно, ты же с этим согласился. — Я не могу сделать ГЕНЕРАТОР, но не ПОЛЕ. Понятно?! Ведь мы все знаем про это поле! Это же очень простая функция от частицы! Генератор невероятно сложен, а поле есть поле. Вот я и одел в него кремневую капсулу. — Защитное нейтринное поле? Поле без генератора?! Но, значит, ты должен непрерывно его поддерживать? — Ничего подобного! Я связал его с материей самой капсулы. Атомы кремния при воздействии извне распадаются и превращаются в энергетическое нейтринное поле. Это все. Я могу уйти, и вы можете стрелять в него хоть до завтра. Физик вдруг побледнел, выпустил из рук бластер, который механически передал ему Кибернетик, и тот с глухим стуком упал на ступеньки лестницы. — Да объясните наконец, что тут произошло! — закричал Кибернетик. — Кажется, этот мальчишка все-таки сделал звездолет… — одними губами прошептал Физик. — Какой звездолет? Где ты видишь здесь звездолет? — Вот этот прозрачный пузырь… Эта штука может двигаться со скоростью, близкой к световой… — Что ты несешь? Где здесь двигатели? Где топливо?! — Там есть нейтринное поле… Достаточно один раз изменить направление полюсов… А топливом может стать любая материальная масса. — Вы просто сошли с ума! Оба! Что здесь будет летать? Этот стеклянный пузырь полетит? Да скорей уж я… — Смотри, — просто сказал Практикант. Стеклянное яйцо приподнялось и неподвижно повисло п воздухе метрах в четырех над землей. Неожиданно возник тонкий, звенящий звук, словно где-то далеко лопнула струна. Яйцо дрогнуло, размазалось в воздухе и исчезло, оставив после себя сверкающий след раскаленных частичек газа, отметивших его путь до самого горизонта.ГЛАВА 9
Постепенно, по мере того как они проходили атмосферу, небо меняло цвет. Сначала из темно-зеленого оно стало салатовым, потом бледно-синим, синим и почти черным. Появились первые точки звезд. Ослепительный шар солнца торчал у них с правого борта. Было очень странно висеть над планетой в этой совершенно прозрачной и почти невидимой кабине. Движение не ощущалось, только солнце всходило над горизонтом скорее обычного да под ногами стремительно клубилась зеленоватая дымка атмосферы. — Теперь можно быстрее, — сказал Физик. Практикант кивнул, и шлем его скафандра смешно качнулся, как у заводной куклы. Физик настоял, чтобы все они из предосторожности надели, скафандры, сохранившиеся в планетном комплексе, и взяли резервные баллоны с кислородом. Горизонт слегка повернулся, потому что Практикант приподнял нос кабины, и сразу же ускорение вдавило их в спинки сидений с такой силой, что затрещали суставы. — Осторожнее ты не можешь? — спросил Кибернетик. — Осторожнее я не могу, — сквозь зубы ответил Практикант. — Я и так дал всего триста метров в секунду. — Это почти десять «g»! — Ты не огорчайся, — тихо сказал Физик, — мы что-нибудь придумаем, в конце концов, перегрузка не самое главное, можно и потерпеть… Но Практикант не слышал утешений Физика, его мозг лихорадочно работал. Это было похоже на лабиринт. Едва удавалось найти выход, как за ним возникала новая стена! В ушах звенело от перегрузки, и кровь била в виски, как молот. Казалось, легкие лопнут, не было сил вдохнуть. Наконец он сдался и уменьшил ускорение. В корабле, который он построил, не было антиперегрузочных устройств. Их и не могло быть по той же самой причине, которая мешала построить генератор поля. Только в замороженном состоянии глубокого анабиоза могли перенести люди чудовищные перегрузки во время разгона до межзвездных скоростей. Практикант не мог построить сложный анабиозный комплекс и не мог отменить основных законов движения, а это означало, что разгон корабля затянется на долгие годы… — У нас есть корабль, — сказал Физик. — Самое главное ты уже сделал. Но Практикант знал, что это еще не самое главное. Если они сумеют как-то справиться с перегрузкой или даже пожертвуют десятками лет жизни, все равно этого окажется недостаточно… Люди учились летать к звездам тысячи лет, и планета так просто не отпустит свою добычу.
Все же он ведет сейчас корабль, и она у него под ногами, планета, отобравшая и подарившая так много.
— Мы на орбите спутника, — сказал он как мог спокойнее. — Что дальше?
— Подымись еще тысяч на десять, — попросил Физик.
Практикант усмехнулся, послушно перемещая ось и напряжение поля. Он знал, что Физик хотел проверить, будет ли его слушаться корабль там, где нет таинственной радиации.
Он поднялся на эти десять тысяч. Теперь планета казалась просто маленьким светлым мячиком, у которого не было имени.
— Почему мы ее до сих пор не назвали?
— Кого? — не понял Доктор.
— Она не была для нас домом, — сказал Физик, — а тюрьмы обычно безымянны.
Практикант развернул корабль так, что солнце, скрывшись за их спинами, погасло, и они как будто повисли среди звезд, ничем не защищенные комочки протоплазмы.
— Ты сможешь подойти ко второй планете этой системы?
— А ты сможешь решить без машины задачу на движение трех и более тел?
— А если направить корабль визуально и постепенно подходить к планете?
— Можно. Но слишком опасно. Мы не знаем ее массы. Гравитационное поле может оказаться таким мощным, что мне потом не вырвать корабль без смертельных для нас ускорений. Надо наблюдать и рассчитывать.
— Я говорил, не надо спешить! Слишком рано вышли в открытый космос, — пробормотал Кибернетик.
— Что вы собираетесь делать дальше? — спросил Доктор.
— Облетим планету по экватору, потом по меридиану, спустимся ниже. И домой.
— Я не об этом. — Доктор протер перчаткой запотевшее стекло скафандра.
— Ну, видишь ли… — начал Физик.
— Разреши, я сам… — попросил Практикант. — Это как наша лестница. Только длиннее. Может быть, без конца. Мы не знаем, где Земля. В какой она стороне. Но даже если бы знали, у нас нет машин, чтобы рассчитать курс. У нас нет антигравитаторов, чтобы снять перегрузки, у нас нет анабиозных ванн, чтобы ждать в них долгие годы, и у нас нет автоматов, которые могли бы управлять кораблем, пока мы будем спать.
— Автоматы нам не нужны, — твердо сказал Физик.
— Почему? — спросил Практикант. Физик пояснил:
— Достаточно вывести корабль на курс, придать ему нужное ускорение и создать защитное поле. Все дальнейшее пойдет само собой.
— И будет идти так лет двадцать.
— Может, и тридцать, не в этом дело.
— Я не понимаю! — вдруг закричал Доктор. — Можем мы или не можем лететь к Земле?!
Никто ничего не ответил. Практикант наклонил нос корабля и рванул с такой силой, что от перегрузки вновь перехватило дыхание. Они летели так несколько минут, пока не врезались в газовый шлейф планеты. Огненные протуберанцы вспыхнули и завернулись вокруг защитного поля. Пол и стенки капсулы мелко задрожали.
— Перестань, — попросил Физик.
Когда скорость упала, они вошли в стратосферные облака. Ничего не было видно в светящемся тумане. По границе защитного поля то и дело пробегали ветвистые искры. Иногда холодное пламя обволакивало всю капсулу.
— На какой мы высоте? — спросил Кибернетик.
— Может, пять тысяч метров, а может, десять. Завидная точность, а? Может, впереди скалы или астероид. Я же не локатор, в конце концов, я просто человек.
— У тебя есть поле.
— Если масса препятствия будет равна кораблю, он весь превратится в поле. Вместе с нами.
Облака неожиданно разошлись, и под ними открылся стремительно летящий навстречу ландшафт планеты. Практикант еще больше замедлил скорость. Стали заметны отдельные горные пики, потом промелькнула извилистая прибрежная линия, и целый час тянулась ровная синяя поверхность. Потом опять до самого горизонта раскинулась серая пустыня. Однообразие мертвого пейзажа действовало угнетающе. Они опустились совсем низко и шли теперь зигзагами всего в трех километрах над поверхностью планеты. Вдруг Доктор дернулся в своем кресле и замахал руками:
— Там что-то движется! Вон там, среди тех холмов!
Никто ничего не успел рассмотреть. Холмы мелькнули и пропали. Под ними расстилалось ровное, как стол, базальтовое плато.
Практикант заложил крутой вираж, и через минуту они уже неслись обратно.
По курсу не было никаких холмов. Перешли на поисковую спираль — холмы как в землю провалились. Кибернетик невольно шарил руками по несуществующему пульту в поисках координационных тумблеров, носовых локаторов дальнего обзора и сквозь зубы бормотал ругательства.
Плато пересекала длинная черная трещина.
Неожиданно на ее краю показалась длинная скачущая тень.
— Правее, на двадцать! — крикнул Физик. — Заходи со стороны трещины, не давай ему спрятаться!
Движущийся предмет, видимо, не собирался прятаться. Круто развернувшись, он понесся прочь от трещины, прямо в пустыню.
В облаках пыли нельзя было рассмотреть даже общих контуров того, что там двигалось со скоростью километров двести в час по заваленной обломками и изрытой выбоинами поверхности.
— Ну, теперь он не уйдет! Снижайся!
Это было похоже на охоту. Сверкающая вытянутая капсула то и дело окуналась в облака пыли. Ближе чем на сотню метров подойти не удавалось. Тот, кого они преследовали, очень резко менял направление движения. То и дело они теряли Неизвестный предмет из виду, и тогда приходилось подниматься, чтобы найти его вновь. Сверху это походило на гигантскую стрелу или плуг, вспарывающий пустыню. Плотные фонтаны пыли летели в обе стороны широкими литыми струями. Из-за них совершенно ничего не удавалось рассмотреть. Пылевая стрела резко повернула к северу, к гряде гор, над которой они пролетали час назад.
— Так мы его потеряем, — мрачно пообещал Кибернетик.
И тогда Практикант плавно пошел на посадку. Вначале они не поняли, что именно он собирается делать. Капсула мягко, как на салазках, проехала метров сто и резко остановилась. Движением руки Практикант вырубил люк в монолитной стенке и выпрыгнул.
Все еще ничего не понимая, они последовали за ним и, только увидев его сосредоточенное лицо и огромный клубок пыли, несущийся издалека к месту посадки, поняли, что он применил силовое поле.
Это был их собственный робот. Не обращая никакого внимания на людей, он рвался изо всех сил в сторону пустыни, туда, куда влекла его заданная программа.
— Выключи его, — попросил Практикант. — Мне тяжело держать.
— Еще бы, — с гордостью сказал Кибернетик. — Почти сорок тонн тяги. — Он бросился прямо под извивающиеся щупальца робота, куда-то ткнул пальцем, и все стихло.
— Не будем задерживаться, — предложил Физик, — тащите его в корабль, уже очень поздно, боюсь, что в темноте мы не найдем лагерь.
Все же они не успели долететь засветло. Темнота застигла их над берегом моря. Пришлось сесть и заночевать в капсуле. Среди ночи Практиканта разбудил Кибернетик.
— С роботом что-то неладно, вставай.
— Может, утром разберемся?
Но Кибернетик тряс его за плечо до тех пор, пока Практикант не приподнялся со своего ложа.
— Ну, что ты от меня хочешь?
— Робот ворочается.
— Как это он может ворочаться, если ты его выключил?
— Не знаю.
— У тебя что, бред?
— А ты сам послушай.
Из грузового отсека доносились какие-то вздохи и неясный шорох.
— Ну, значит, это он рехнулся. В такой обстановке не удивительно. Почти месяц бегал по пустыне.
— Я вынул у него батареи. Весь комплект, хотел проверить и вынул. У него нет батарей. — Даже в темноте было заметно, как у Кибернетика дрожат губы.
В грузовом отсеке среди развороченных ящиков и мешков робот царапал стену. Его длинные лапы поочередно медленно проходили вдоль одного и того же места в стене, словно старались ее продавить.
— Посмотри, что с ним!
Практикант приподнял фонарь повыше, но Кибернетик не двинулся с места.
— Я привык иметь дело с роботами, которым нужна энергия, чтобы двигаться.
— Может, это солнечные батареи?
— А где ты видишь здесь солнце?! Сейчас ночь, кроме того, я его выключил!
— Солнца действительно нет.
Практикант медленно подошел к роботу вплотную и, уклоняясь от ритмичных взмахов длинных могучих лап, стал разглядывать его днище.
— Хоть бы показал, где тут у тебя выключатель!
— Да говорю же тебе, он выключен! Видишь, справа тот рычажок стоит на «Стоп»! Я даже предохранительную коробку не завинтил!
— Если в этом положении он включен, то значит…
Прежде чем Кибернетик успел возразить, Практикант уже повернул выключатель в положение «Включено». В ту же минуту робот превратился в бешеную мельницу, крошащую все вокруг. Практикант едва успел отскочить в сторону. Для наведения защитного поля требовалось какое-то время, секунд пять примерно, и за эти пять секунд робот успел три раза, как таран, броситься на стенку капсулы.
Весь ее многотонный корпус гудел и раскачивался.
Кибернетик кричал хриплым, сорванным голосом одни и те же слова команды: «Полная остановка!», «Полная остановка!» Но на робота это не производило ни малейшего впечатления. Наконец Практиканту удалось захватить полями лапы робота, собрать их в единый узел. Робот продолжал дергаться и молотить корпусом в пол капсулы. В дверь отсека ворвались Физик и Доктор. Они что-то кричали, но советы вперемежку с ругательствами только увеличили общую суматоху.
Наконец Практикант приподнял робота, выбил другим полем часть стены корабля и вышвырнул робота наружу сквозь этот пролом. Робот сразу же вскочил и бросился в пустыню.
Не сходя с места, Практикант приподнял капсулу вверх. Теперь ему нужен был прожектор. Очень мощный прожектор. Лучше всего разряд в ртутных парах, это просто и не надо новых материалов…
В днище корпуса вспыхнула ослепительная лампа. Они сразу увидели робота. С этой высоты он походил на зайца, удиравшего от охотника длинными скачками. Капсула двинулась вслед за ним. В проломе засвистел ветер, и пришлось заткнуть его дополнительным силовым полем. Зато капсула уже висела над самым роботом.
Погоню облегчало то, что в этот раз робот не менял ни скорости, ни направления.
— Сделай что-нибудь, зачем эти ночные скачки, — попросил Физик.
— Не плохо узнать, куда он так торопится…
Погоня продолжалась всю ночь. Под утро, когда Практикант почувствовал, что он больше не в силах поддерживать капсулу в воздухе, пришлось приземлиться, поймать робота и заключить его в кокон из силового поля. За его прозрачными невидимыми стенами робот по-прежнему продолжал свой безостановочный бег на месте.
— Два часа отдыха, потом продолжим.
— Объясните, по крайней мере, как он может двигаться без батарей и с выключенной программой? — спросил Доктор.
— Пусть лучше Миша объяснит, это все-таки по его специальности.
— Теоретически это невозможно, — мрачно изрек Кибернетик.
— Может, ты поделишься с нами хотя бы предположениями на этот счет?
— Энергию он может получать только извне; если это не солнечные батареи, значит, он нашел какой-то новый источник. Что касается программы… Робот достаточно автономен и мог выработать собственную, которая, пока была включена основная программа, подавлялась ею, а сейчас, после выключения основной, собственная программа стала главной. Совершенно для меня непонятно, почему он перестал реагировать на словесные команды.
— Я же говорю, свихнулся от жары.
— В таком случае, мы тоже. Погоня за свихнувшимся роботом для изучения его внутреннего мира… В этом что-то есть, — спокойно заметил Доктор.
— Мы должны знать, куда он спешит!
Через два часа робот был отпущен, и капсула с завидной монотонностью понеслась вслед за ним по пустыне, а еще через четыре — на горизонте показалось море. Появился привычный ландшафт невысоких базальтовых холмов, покрытых толстым слоем пыли. Местность становилась все более пересеченной. Робот то и дело скрывался из виду. А после очередного поворота исчез совершенно. Они кружились над скалой, за которой он пропал, целый час, потом приземлились и прошли километра два по широкой дуге, прежде чем нашли след лап, хорошо заметный в пыли. Они прошли по следу еще километра три и вновь вернулись к скале, от которой начали поиски с другой стороны.
Здесь след обрывался, дальше шла твердая каменная поверхность, им не удалось найти на ней ни одной царапины. Со всех сторон скалу окружал толстый слой серого песка с примесью пыли. На нем был только один след. Робот как сквозь землю провалился.
— Тут его, голубчика, и слопали. Проглотили целиком со всеми металлическими потрохами. Ну, поскольку мы теперь это знаем, — продолжал Доктор, — самое время всем выспаться.
Заснуть удалось одному Кибернетику. Доктор и Физик стали подсчитывать, сколько лет понадобится на разгон при предельных перегрузках.
Практикант не стал дожидаться результатов. Он встал и медленно побрел прочь. В конце концов, какая разница — десять лет или двенадцать?.. Летали же так люди на заре звездоплавания! Почему бы им не попробовать?
Можно использовать тот ничтожный шанс, что у них есть. Разогнать капсулу в сторону… Вот только в какую сторону? В любую сторону. Что же им, весь остаток жизни проводить здесь, медленно превращаясь в дикарей? В один прекрасный день он сядет в капсулу, и он будет там не один; даже если Физик решит остаться, все равно с ним будет Доктор… Десять лет, пока будет длиться разгон, они будут жить в крошечном стеклянном мирке среди равнодушного света звезд, и еще двойное ускорение…
Потом, когда пройдут эти десять лет и еще десять на торможение, корабль остановится. Рядом не будет ни одной звезды, потому что невозможно двигаться в космосе без точных расчетов, звезды слишком далеки друг от друга. Океаны пустоты между ними и только одно солнце… Вот тогда они откроют корабль. Просто вспорют его стены, как консервную банку, и все кончится. Все же это лучше, чем жить без малейшей надежды… Все эти долгие десять лет, пока будет длиться разгон, и еще десять, пока они будут останавливать корабль, им будет казаться, что они летят к Земле. Они будут ее вспоминать…
На палубе глайдера в самом темном уголке сидела девушка… Около нее на пустом столике стоял бокал с каким-то напитком.
— Можно мне посидеть здесь с вами? — спросил он у нее тогда.
— Нет, нельзя.
Но он все-таки сел, и они познакомились. А потом через несколько дней он уже не вспоминал случайное дорожное знакомство, потому и ушел так легко в глубокий космос, что думал, будто нет у него никого на Земле… А вот теперь та встреча кажется ему важнее всех звезд. Наверное, это потому, что Ингрид осталась на Земле, и невольно, когда он вспоминает Землю, он вспоминает и ее. Чаще всего тот выпускной вечер в школе третьей ступени, когда она сказала все, что о нем думает: что он эгоист, что у него отвратительный характер и что она даже не будет ему писать. Он тогда долго смеялся: «Какие же могут быть письма в глубокий космос…»
Но сейчас это уже не казалось ему смешным. Чего стоит все его могущество, вся власть над материей, над полями и над движением огромных масс, если нельзя получить этого самого ненаписанного письма, и нельзя увидеть ее лицо, и нельзя, как раньше, промчаться на доске сквозь штормовой прибой… Здесь не бывает прибоев и не бывает штормов, здесь многого не бывает, зато здесь без всякой видимой причины исчезают металлические роботы, сорок тонн металла и пластмассы…
Сделав широкий круг незаметно для себя, он теперь вновь подошел к той скале, где исчез след робота.
Ну хорошо, он не может получить с Земли ненаписанное письмо, но что-то он все-таки может? Например, он может разобрать скалу на мелкие части, растереть ее в порошок, если только это поможет выяснить, куда девался робот и чьи это странные шуточки. Ведь они же обещали не вмешиваться…
Небольшое усилие воли, поле должно быть широким и острым, как нож. Сначала он подрежет скалу снизу, приподнимет и отбросит в сторону, чтобы проверить, нет ли в ней каких-нибудь пустот или трещин.
Широкий вал пыли, поднятый силовым полем, уперся в подошву скалы, уперся и остановился. Практикант знал, какая чудовищная сила действует сейчас на подножие скалы. И не мог не удивиться тому, что поле остановилось, наткнувшись на такое ничтожное препятствие, как эта базальтовая скала. Непопытавшись даже разобраться, почему это произошло, он сжал поле в круглый шар, размахнулся и ударил.
Огненный метеор пронесся над его головой и обрушился на скалу. Место, где стоял Практикант, качнулось от мощного подземного толчка.
Ни один, даже самый маленький, осколок не отлетел от странной скалы. Практикант погасил поле и пошел к скале. С другой стороны ему навстречу шли Физик и Кибернетик. Один Доктор не проявил ни малейшего интереса и остался стоять у капсулы.
— Сейчас посмотрим, что это за базальт, мне как-то не пришло в голову проверить. С виду скала ничем не отличается от остальных.
— С виду здесь все слишком обычно.
Пробоотборник сломался почти сразу. Все же в том месте, где ударило поле, им удалось найти кусочек чистой поверхности с легко различимой структурой. Базальт казался пропитанным каким-то стекловидным составом.
— Может, попробуем из бластера?
— Бесполезно. — Физик качнул головой. — Сюда ударил заряд в тысячу билиэргов мощности, не меньше, никакой бластер этого не может.
— Что вы там копаетесь? — крикнул Доктор. — Идите сюда. Здесь есть какая-то щель.
Сразу трудно было что-нибудь понять. Ничто не указывало на искусственное происхождение хода. Это могла быть самая обыкновенная расселина.
— Возможно, скала дала трещину после удара, — проворчал Физик.
Они спускались по наклонному дну и, судя по времени, были уже значительно ниже поверхности планеты.
Неожиданно лаз резко вильнул и оборвался. Перед ними открылось огромное пространство, слабо освещенное рассеянным дневным светом.
В полумраке нельзя было рассмотреть противоположных стен гигантской подземной выемки.
Прямо под ними раскинулась странная путаница огромных параллелепипедов, полусфер и усеченных пирамид. В сером неверном свете, пробивавшемся сверху в переплетении геометрических форм, чудилось какое-то движение.
— Это город… — прошептал Доктор.
Люди учились летать к звездам тысячи лет, и планета так просто не отпустит свою добычу.
Все же он ведет сейчас корабль, и она у него под ногами, планета, отобравшая и подарившая так много.
— Мы на орбите спутника, — сказал он как мог спокойнее. — Что дальше?
— Подымись еще тысяч на десять, — попросил Физик.
Практикант усмехнулся, послушно перемещая ось и напряжение поля. Он знал, что Физик хотел проверить, будет ли его слушаться корабль там, где нет таинственной радиации.
Он поднялся на эти десять тысяч. Теперь планета казалась просто маленьким светлым мячиком, у которого не было имени.
— Почему мы ее до сих пор не назвали?
— Кого? — не понял Доктор.
— Она не была для нас домом, — сказал Физик, — а тюрьмы обычно безымянны.
Практикант развернул корабль так, что солнце, скрывшись за их спинами, погасло, и они как будто повисли среди звезд, ничем не защищенные комочки протоплазмы.
— Ты сможешь подойти ко второй планете этой системы?
— А ты сможешь решить без машины задачу на движение трех и более тел?
— А если направить корабль визуально и постепенно подходить к планете?
— Можно. Но слишком опасно. Мы не знаем ее массы. Гравитационное поле может оказаться таким мощным, что мне потом не вырвать корабль без смертельных для нас ускорений. Надо наблюдать и рассчитывать.
— Я говорил, не надо спешить! Слишком рано вышли в открытый космос, — пробормотал Кибернетик.
— Что вы собираетесь делать дальше? — спросил Доктор.
— Облетим планету по экватору, потом по меридиану, спустимся ниже. И домой.
— Я не об этом. — Доктор протер перчаткой запотевшее стекло скафандра.
— Ну, видишь ли… — начал Физик.
— Разреши, я сам… — попросил Практикант. — Это как наша лестница. Только длиннее. Может быть, без конца. Мы не знаем, где Земля. В какой она стороне. Но даже если бы знали, у нас нет машин, чтобы рассчитать курс. У нас нет антигравитаторов, чтобы снять перегрузки, у нас нет анабиозных ванн, чтобы ждать в них долгие годы, и у нас нет автоматов, которые могли бы управлять кораблем, пока мы будем спать.
— Автоматы нам не нужны, — твердо сказал Физик.
— Почему? — спросил Практикант. Физик пояснил:
— Достаточно вывести корабль на курс, придать ему нужное ускорение и создать защитное поле. Все дальнейшее пойдет само собой.
— И будет идти так лет двадцать.
— Может, и тридцать, не в этом дело.
— Я не понимаю! — вдруг закричал Доктор. — Можем мы или не можем лететь к Земле?!
Никто ничего не ответил. Практикант наклонил нос корабля и рванул с такой силой, что от перегрузки вновь перехватило дыхание. Они летели так несколько минут, пока не врезались в газовый шлейф планеты. Огненные протуберанцы вспыхнули и завернулись вокруг защитного поля. Пол и стенки капсулы мелко задрожали.
— Перестань, — попросил Физик.
Когда скорость упала, они вошли в стратосферные облака. Ничего не было видно в светящемся тумане. По границе защитного поля то и дело пробегали ветвистые искры. Иногда холодное пламя обволакивало всю капсулу.
— На какой мы высоте? — спросил Кибернетик.
— Может, пять тысяч метров, а может, десять. Завидная точность, а? Может, впереди скалы или астероид. Я же не локатор, в конце концов, я просто человек.
— У тебя есть поле.
— Если масса препятствия будет равна кораблю, он весь превратится в поле. Вместе с нами.
Облака неожиданно разошлись, и под ними открылся стремительно летящий навстречу ландшафт планеты. Практикант еще больше замедлил скорость. Стали заметны отдельные горные пики, потом промелькнула извилистая прибрежная линия, и целый час тянулась ровная синяя поверхность. Потом опять до самого горизонта раскинулась серая пустыня. Однообразие мертвого пейзажа действовало угнетающе. Они опустились совсем низко и шли теперь зигзагами всего в трех километрах над поверхностью планеты. Вдруг Доктор дернулся в своем кресле и замахал руками:
— Там что-то движется! Вон там, среди тех холмов!
Никто ничего не успел рассмотреть. Холмы мелькнули и пропали. Под ними расстилалось ровное, как стол, базальтовое плато.
Практикант заложил крутой вираж, и через минуту они уже неслись обратно.
По курсу не было никаких холмов. Перешли на поисковую спираль — холмы как в землю провалились. Кибернетик невольно шарил руками по несуществующему пульту в поисках координационных тумблеров, носовых локаторов дальнего обзора и сквозь зубы бормотал ругательства.
Плато пересекала длинная черная трещина.
Неожиданно на ее краю показалась длинная скачущая тень.
— Правее, на двадцать! — крикнул Физик. — Заходи со стороны трещины, не давай ему спрятаться!
Движущийся предмет, видимо, не собирался прятаться. Круто развернувшись, он понесся прочь от трещины, прямо в пустыню.
В облаках пыли нельзя было рассмотреть даже общих контуров того, что там двигалось со скоростью километров двести в час по заваленной обломками и изрытой выбоинами поверхности.
— Ну, теперь он не уйдет! Снижайся!
Это было похоже на охоту. Сверкающая вытянутая капсула то и дело окуналась в облака пыли. Ближе чем на сотню метров подойти не удавалось. Тот, кого они преследовали, очень резко менял направление движения. То и дело они теряли Неизвестный предмет из виду, и тогда приходилось подниматься, чтобы найти его вновь. Сверху это походило на гигантскую стрелу или плуг, вспарывающий пустыню. Плотные фонтаны пыли летели в обе стороны широкими литыми струями. Из-за них совершенно ничего не удавалось рассмотреть. Пылевая стрела резко повернула к северу, к гряде гор, над которой они пролетали час назад.
— Так мы его потеряем, — мрачно пообещал Кибернетик.
И тогда Практикант плавно пошел на посадку. Вначале они не поняли, что именно он собирается делать. Капсула мягко, как на салазках, проехала метров сто и резко остановилась. Движением руки Практикант вырубил люк в монолитной стенке и выпрыгнул.
Все еще ничего не понимая, они последовали за ним и, только увидев его сосредоточенное лицо и огромный клубок пыли, несущийся издалека к месту посадки, поняли, что он применил силовое поле.
Это был их собственный робот. Не обращая никакого внимания на людей, он рвался изо всех сил в сторону пустыни, туда, куда влекла его заданная программа.
— Выключи его, — попросил Практикант. — Мне тяжело держать.
— Еще бы, — с гордостью сказал Кибернетик. — Почти сорок тонн тяги. — Он бросился прямо под извивающиеся щупальца робота, куда-то ткнул пальцем, и все стихло.
— Не будем задерживаться, — предложил Физик, — тащите его в корабль, уже очень поздно, боюсь, что в темноте мы не найдем лагерь.
Все же они не успели долететь засветло. Темнота застигла их над берегом моря. Пришлось сесть и заночевать в капсуле. Среди ночи Практиканта разбудил Кибернетик.
— С роботом что-то неладно, вставай.
— Может, утром разберемся?
Но Кибернетик тряс его за плечо до тех пор, пока Практикант не приподнялся со своего ложа.
— Ну, что ты от меня хочешь?
— Робот ворочается.
— Как это он может ворочаться, если ты его выключил?
— Не знаю.
— У тебя что, бред?
— А ты сам послушай.
Из грузового отсека доносились какие-то вздохи и неясный шорох.
— Ну, значит, это он рехнулся. В такой обстановке не удивительно. Почти месяц бегал по пустыне.
— Я вынул у него батареи. Весь комплект, хотел проверить и вынул. У него нет батарей. — Даже в темноте было заметно, как у Кибернетика дрожат губы.
В грузовом отсеке среди развороченных ящиков и мешков робот царапал стену. Его длинные лапы поочередно медленно проходили вдоль одного и того же места в стене, словно старались ее продавить.
— Посмотри, что с ним!
Практикант приподнял фонарь повыше, но Кибернетик не двинулся с места.
— Я привык иметь дело с роботами, которым нужна энергия, чтобы двигаться.
— Может, это солнечные батареи?
— А где ты видишь здесь солнце?! Сейчас ночь, кроме того, я его выключил!
— Солнца действительно нет.
Практикант медленно подошел к роботу вплотную и, уклоняясь от ритмичных взмахов длинных могучих лап, стал разглядывать его днище.
— Хоть бы показал, где тут у тебя выключатель!
— Да говорю же тебе, он выключен! Видишь, справа тот рычажок стоит на «Стоп»! Я даже предохранительную коробку не завинтил!
— Если в этом положении он включен, то значит…
Прежде чем Кибернетик успел возразить, Практикант уже повернул выключатель в положение «Включено». В ту же минуту робот превратился в бешеную мельницу, крошащую все вокруг. Практикант едва успел отскочить в сторону. Для наведения защитного поля требовалось какое-то время, секунд пять примерно, и за эти пять секунд робот успел три раза, как таран, броситься на стенку капсулы.
Весь ее многотонный корпус гудел и раскачивался.
Кибернетик кричал хриплым, сорванным голосом одни и те же слова команды: «Полная остановка!», «Полная остановка!» Но на робота это не производило ни малейшего впечатления. Наконец Практиканту удалось захватить полями лапы робота, собрать их в единый узел. Робот продолжал дергаться и молотить корпусом в пол капсулы. В дверь отсека ворвались Физик и Доктор. Они что-то кричали, но советы вперемежку с ругательствами только увеличили общую суматоху.
Наконец Практикант приподнял робота, выбил другим полем часть стены корабля и вышвырнул робота наружу сквозь этот пролом. Робот сразу же вскочил и бросился в пустыню.
Не сходя с места, Практикант приподнял капсулу вверх. Теперь ему нужен был прожектор. Очень мощный прожектор. Лучше всего разряд в ртутных парах, это просто и не надо новых материалов…
В днище корпуса вспыхнула ослепительная лампа. Они сразу увидели робота. С этой высоты он походил на зайца, удиравшего от охотника длинными скачками. Капсула двинулась вслед за ним. В проломе засвистел ветер, и пришлось заткнуть его дополнительным силовым полем. Зато капсула уже висела над самым роботом.
Погоню облегчало то, что в этот раз робот не менял ни скорости, ни направления.
— Сделай что-нибудь, зачем эти ночные скачки, — попросил Физик.
— Не плохо узнать, куда он так торопится…
Погоня продолжалась всю ночь. Под утро, когда Практикант почувствовал, что он больше не в силах поддерживать капсулу в воздухе, пришлось приземлиться, поймать робота и заключить его в кокон из силового поля. За его прозрачными невидимыми стенами робот по-прежнему продолжал свой безостановочный бег на месте.
— Два часа отдыха, потом продолжим.
— Объясните, по крайней мере, как он может двигаться без батарей и с выключенной программой? — спросил Доктор.
— Пусть лучше Миша объяснит, это все-таки по его специальности.
— Теоретически это невозможно, — мрачно изрек Кибернетик.
— Может, ты поделишься с нами хотя бы предположениями на этот счет?
— Энергию он может получать только извне; если это не солнечные батареи, значит, он нашел какой-то новый источник. Что касается программы… Робот достаточно автономен и мог выработать собственную, которая, пока была включена основная программа, подавлялась ею, а сейчас, после выключения основной, собственная программа стала главной. Совершенно для меня непонятно, почему он перестал реагировать на словесные команды.
— Я же говорю, свихнулся от жары.
— В таком случае, мы тоже. Погоня за свихнувшимся роботом для изучения его внутреннего мира… В этом что-то есть, — спокойно заметил Доктор.
— Мы должны знать, куда он спешит!
Через два часа робот был отпущен, и капсула с завидной монотонностью понеслась вслед за ним по пустыне, а еще через четыре — на горизонте показалось море. Появился привычный ландшафт невысоких базальтовых холмов, покрытых толстым слоем пыли. Местность становилась все более пересеченной. Робот то и дело скрывался из виду. А после очередного поворота исчез совершенно. Они кружились над скалой, за которой он пропал, целый час, потом приземлились и прошли километра два по широкой дуге, прежде чем нашли след лап, хорошо заметный в пыли. Они прошли по следу еще километра три и вновь вернулись к скале, от которой начали поиски с другой стороны.
Здесь след обрывался, дальше шла твердая каменная поверхность, им не удалось найти на ней ни одной царапины. Со всех сторон скалу окружал толстый слой серого песка с примесью пыли. На нем был только один след. Робот как сквозь землю провалился.
— Тут его, голубчика, и слопали. Проглотили целиком со всеми металлическими потрохами. Ну, поскольку мы теперь это знаем, — продолжал Доктор, — самое время всем выспаться.
Заснуть удалось одному Кибернетику. Доктор и Физик стали подсчитывать, сколько лет понадобится на разгон при предельных перегрузках.
Практикант не стал дожидаться результатов. Он встал и медленно побрел прочь. В конце концов, какая разница — десять лет или двенадцать?.. Летали же так люди на заре звездоплавания! Почему бы им не попробовать?
Можно использовать тот ничтожный шанс, что у них есть. Разогнать капсулу в сторону… Вот только в какую сторону? В любую сторону. Что же им, весь остаток жизни проводить здесь, медленно превращаясь в дикарей? В один прекрасный день он сядет в капсулу, и он будет там не один; даже если Физик решит остаться, все равно с ним будет Доктор… Десять лет, пока будет длиться разгон, они будут жить в крошечном стеклянном мирке среди равнодушного света звезд, и еще двойное ускорение…
Потом, когда пройдут эти десять лет и еще десять на торможение, корабль остановится. Рядом не будет ни одной звезды, потому что невозможно двигаться в космосе без точных расчетов, звезды слишком далеки друг от друга. Океаны пустоты между ними и только одно солнце… Вот тогда они откроют корабль. Просто вспорют его стены, как консервную банку, и все кончится. Все же это лучше, чем жить без малейшей надежды… Все эти долгие десять лет, пока будет длиться разгон, и еще десять, пока они будут останавливать корабль, им будет казаться, что они летят к Земле. Они будут ее вспоминать…
На палубе глайдера в самом темном уголке сидела девушка… Около нее на пустом столике стоял бокал с каким-то напитком.
— Можно мне посидеть здесь с вами? — спросил он у нее тогда.
— Нет, нельзя.
Но он все-таки сел, и они познакомились. А потом через несколько дней он уже не вспоминал случайное дорожное знакомство, потому и ушел так легко в глубокий космос, что думал, будто нет у него никого на Земле… А вот теперь та встреча кажется ему важнее всех звезд. Наверное, это потому, что Ингрид осталась на Земле, и невольно, когда он вспоминает Землю, он вспоминает и ее. Чаще всего тот выпускной вечер в школе третьей ступени, когда она сказала все, что о нем думает: что он эгоист, что у него отвратительный характер и что она даже не будет ему писать. Он тогда долго смеялся: «Какие же могут быть письма в глубокий космос…»
Но сейчас это уже не казалось ему смешным. Чего стоит все его могущество, вся власть над материей, над полями и над движением огромных масс, если нельзя получить этого самого ненаписанного письма, и нельзя увидеть ее лицо, и нельзя, как раньше, промчаться на доске сквозь штормовой прибой… Здесь не бывает прибоев и не бывает штормов, здесь многого не бывает, зато здесь без всякой видимой причины исчезают металлические роботы, сорок тонн металла и пластмассы…
Сделав широкий круг незаметно для себя, он теперь вновь подошел к той скале, где исчез след робота.
Ну хорошо, он не может получить с Земли ненаписанное письмо, но что-то он все-таки может? Например, он может разобрать скалу на мелкие части, растереть ее в порошок, если только это поможет выяснить, куда девался робот и чьи это странные шуточки. Ведь они же обещали не вмешиваться…
Небольшое усилие воли, поле должно быть широким и острым, как нож. Сначала он подрежет скалу снизу, приподнимет и отбросит в сторону, чтобы проверить, нет ли в ней каких-нибудь пустот или трещин.
Широкий вал пыли, поднятый силовым полем, уперся в подошву скалы, уперся и остановился. Практикант знал, какая чудовищная сила действует сейчас на подножие скалы. И не мог не удивиться тому, что поле остановилось, наткнувшись на такое ничтожное препятствие, как эта базальтовая скала. Непопытавшись даже разобраться, почему это произошло, он сжал поле в круглый шар, размахнулся и ударил.
Огненный метеор пронесся над его головой и обрушился на скалу. Место, где стоял Практикант, качнулось от мощного подземного толчка.
Ни один, даже самый маленький, осколок не отлетел от странной скалы. Практикант погасил поле и пошел к скале. С другой стороны ему навстречу шли Физик и Кибернетик. Один Доктор не проявил ни малейшего интереса и остался стоять у капсулы.
— Сейчас посмотрим, что это за базальт, мне как-то не пришло в голову проверить. С виду скала ничем не отличается от остальных.
— С виду здесь все слишком обычно.
Пробоотборник сломался почти сразу. Все же в том месте, где ударило поле, им удалось найти кусочек чистой поверхности с легко различимой структурой. Базальт казался пропитанным каким-то стекловидным составом.
— Может, попробуем из бластера?
— Бесполезно. — Физик качнул головой. — Сюда ударил заряд в тысячу билиэргов мощности, не меньше, никакой бластер этого не может.
— Что вы там копаетесь? — крикнул Доктор. — Идите сюда. Здесь есть какая-то щель.
Сразу трудно было что-нибудь понять. Ничто не указывало на искусственное происхождение хода. Это могла быть самая обыкновенная расселина.
— Возможно, скала дала трещину после удара, — проворчал Физик.
Они спускались по наклонному дну и, судя по времени, были уже значительно ниже поверхности планеты.
Неожиданно лаз резко вильнул и оборвался. Перед ними открылось огромное пространство, слабо освещенное рассеянным дневным светом.
В полумраке нельзя было рассмотреть противоположных стен гигантской подземной выемки.
Прямо под ними раскинулась странная путаница огромных параллелепипедов, полусфер и усеченных пирамид. В сером неверном свете, пробивавшемся сверху в переплетении геометрических форм, чудилось какое-то движение.
— Это город… — прошептал Доктор.
ГЛАВА 10
Это не было городом. Это не было ничем привычным. Геометрические конструкции, выглядевшие сверху не очень большими, оказались до тридцати метров в высоту. — Может, это минеральная жила? Скопище гигантских кристаллов? — спросил Физик. — А что? Очень похоже. Вон те полосатые, отливающие золотом кубы похожи на кристаллы пирита. Странно, что здесь совсем нет пыли и никаких обломков. — Кибернетик недовольно пожал плечами. — Очень чистое место, — согласился Доктор. Они обогнули очередную гигантскую пирамиду, загородившую и без того узкий проход. — Это плохо, что нет пыли, — пробурчал Кибернетик. — А зачем тебе пыль? — не понял Доктор. — Нет следов робота, как мы его найдем? — Мне кажется, он уже выполнил свою роль… — тихо сказал Практикант. — Ты думаешь, у него специально сменили программу? — По-моему, они решили, что нам уже можно показать это место. — Но зачем и что это такое? — Я не знаю, — удрученно сказал Практикант. — Но в переданной мне информации было упоминание о каком-то месте на планете, которое мы должны найти. Наверное, оно имеет отношение к эксперименту… Стену пирамиды, вдоль которой они шли, пересекала широкая неровная трещина. Они увидели ее не сразу, слишком маленькое пространство выхватывали из мрака их тусклые фонари. Зато теперь, остановившись около пролома, они обнаружили, что толщина стен пирамиды не превышает полуметра. — Пустые… Значит, внутри они пустые. Но тогда это не кристаллы… В желтоватых конусах света аккумуляторных фонарей внутренности расколотой пирамиды казались мозаикой темных и светлых пятен. — Похоже на здание со снятой передней стенкой. — Мне это напоминает срез живой ткани под микроскопом, — неожиданно твердо сказал Доктор. — Видите, это стенки клеток, а вон там — сосуды. — В такой клетке свободно поместится два слона. — Думаешь, это окаменелости? — спросил Физик. — Если бы не размеры, я бы в это поверил. Нижний ряд ячеек, разорванных трещиной, напоминал небольшие комнаты правильной геометрической формы. — Восьмигранные призмы. Не очень смахивает на клетку, а? — Да… — задумчиво сказал Доктор. — Живая клетка не в ладах с геометрией, а эти ячейки слишком похожи друг на друга. — Не совсем, — мрачно сказал Кибернетик. — Во второй от края есть ход. — Где? — Да вон там, левее. — Может быть, на сегодня хватит? — спросил Физик. — Давайте отложим на завтра дальнейшие исследования. Все валились с ног от усталости, и предложение Физика не вызвало возражений. Поздно ночью Райкова разбудил Доктор. — Не могу я спать, Дима, — пожаловался он. — Все время перед глазами этот «улей». Что-то в нем есть очень знакомое, а что, не могу понять. Давай еще раз посмотрим, ты не возражаешь? — Может быть, лучше завтра? — Ну какая тебе разница! Конечно, если не хочешь, я пойду один. Мне очень важно посмотреть на него именно сейчас. Мне кажется, я вспомню нечто важное, а до утра все забудется; кто знает, может быть, мы найдем разгадку этого нового сюрприза! — Небось Физика ты не стал будить, знал, что с ним этот номер не пройдет! Поворчав еще немного, Практикант вылез из мешка. Ночь здесь была очень светлой, гораздо светлее, чем в ущелье. Фиолетовое свечение атмосферы пропитало все предметы каким-то призрачным светом. Не было даже теней. До пирамиды они добрались без всяких приключений. Ватная тишина подземелья действовала угнетающе, и Практикант пожалел, что поддался на уговоры Доктора. Доктор отрешенно разглядывал каменные ячейки. — Ну что, — нетерпеливо спросил Практикант, — может быть, хватит? Пойдем обратно? — Ты заметил, от периферии к центру площади геометрия тел усложняется, с каждым рядом сингония на порядок выше. Сначала — это пирамиды и конусы, потом гексаэдры, октаэдры и так далее… — Ну и что? — Я никогда не любил математику. А здесь на меня это действует, неужели ты не чувствуешь? — В этом есть что-то грандиозное, какая-то застывшая мелодия. В этих фигурах, линиях есть стройность, логическая завершенность, словно кто-то решал неизвестное уравнение, а вместо графиков чертил пространственные объемные фигуры. Ошибался. Начинал сначала. Все ближе и ближе подходил к решению, но так и не смог довести до конца свою титаническую работу. Намечено, логично развито — и не закончено… Почти понятно, и все же невозможно ухватить суть. Словно гонишься за собственным хвостом, все время увеличивая скорость, кажется, что решение близко, совсем рядом… Геометрический лабиринт чем-то походит на живую материю, и в то же время он страшно чужой, даже враждебный ей… Живая материя хаотична и непоследовательна в своем развитии. Она имперична. Здесь все иначе… А если это оттого, что наш опыт не в состоянии подвести математический фундамент под биологию? Может быть, поэтому мы не можем понять? А, как ты думаешь? — Не знаю. Кроме каменных стен, я ничего здесь не вижу. Никакого смысла. — Жаль… Мне казалось, ты должен понимать лучше… — Думаешь, после контакта я стал другим? Что-то во мне изменилось? — Такое сильное воздействие не могло пройти бесследно. Их логика и разум должны были стать тебе понятней. Но, наверно, я ошибся. Ничего. Все равно мы в этом разберемся. Должны разобраться. Слишком это нужно Земле. — А ты все еще веришь, что мы сможем вернуться? — Ничего я не знаю, кроме того, что мы не остановимся. Будем до конца бороться за то, чтобы передать Земле все, что мы уже знаем и что еще узнаем на этой планете. Подожди меня здесь. Я хочу посмотреть, как выглядят эти ячейки изнутри. — Пойдем вместе. — У меня такое ощущение, что человек должен входить туда один. Доктор шагнул к пролому и почти сразу пропал в темноте. Практикант опустился на камень. В абсолютной неподвижности и тишине подземелья, казалось, остановилось даже время. Доктор уверенно свернул направо, словно кто-то позвал его. Прошел через длинную галерею одинаковых цилиндрических ячеек и еще раз повернул направо. Небольшая восьмигранная ячейка, в которую он вошел, почти ничем не отличалась от предыдущих. Но в центре стояло странное сооружение. Доктор направил на него луч фонаря. — Похоже на каменное кресло… А сидеть в нем должно быть удобно, только холодновато, наверное… Он приподнял фонарь и увидел, что потолок ячейки напоминает сферическое зеркало. Зеркало было совершенно черным и блестящим. Прикинув фокус сферической поверхности потолка, Доктор решил, что он должен оказаться как раз на уровне головы сидящего в кресле человека, если только там должен был сидеть человек… Ну что же, собственно, только это ему и осталось проверить, за этим он и пришел… Какой-то очень знакомый звук послышался Доктору. Звук из далекого детства. Он не сразу понял, не сразу узнал его, но, почему-то улыбнувшись, сел в кресло и, уже сидя, словно в тумане, вспомнил, что звук был похож на школьный звонок. Потом звук стал нотой выше, перешел в надоедливый комариный писк, будто в затылок человеку входило противно визжащее сверло. Доктор задвигался, усаживаясь поудобнее. Звук стал гораздо громче, пониже тоном. Теперь он больше всего походил на сердитое гудение большого шмеля, запутавшегося в траве… Одновременно Доктору показалось, что на потолке движется какая-то тень. Нет, не тень. Скорее, туманное светлое пятнышко, более светлое, чем общий фон потолка. И не одно. Вот еще, и следующее… Все бегут от периферии к центру, там гаснут, на смену им бегут новые. Контуры неясны, размыты, и ничтожен контраст, на пороге его зрения едва уловимая тень. Доктор повернул голову и сразу обнаружил, что тон непонятного звука связан с местоположением его головы, а еще через минуту установил, что звук становится наиболее громким, если голова находится точно в фокусе каменного зеркала потолка. Постепенно звук усиливался. Теперь он напоминал рев морской сирены. Светлые пятна на потолке обрели четкие реальные контуры, но не стали от этого понятнее. По-прежнему в их рисунке Доктор не мог уловить ни одной знакомой черты. Сейчас они шли ровными, ритмичными волнами от края к центру и обратно. Согласно с их движением то затихал, то поднимался во всю мощь рев корабельной сирены. Краешком сознания Доктор понимал, что никакого рева на самом деле нет, что это просто слуховая галлюцинация. Он слышал звук не ушами, а как будто всем черепом, но это не имело никакого значения; он словно попал в шторм в крошечной лодке, и огромные валы швыряют его то вверх, то вниз, то затихают, то нарастают вновь. Ритм постепенно ускорялся, менял амплитуду своих колебаний, первая серия становилась длиннее, вторая — короче. Сознание затягивала пелена. Доктор еще не совсем потерял контроль над собой и, наверное, мог бы усилием воли вернуть четкость мысли, но тогда он ничего не поймет и не узнает… Надо сидеть спокойно, не шевелиться, вслушиваться в могучий пульсирующий звук, всматриваться в картину бегущих теней на потолке и ни о чем постороннем не думать… Наверное, их альфа-ритм не совсем совпадает с нашим, и ему еще повезло… Это была его последняя мысль. Мир изменился, словно кто-то тронул наводку на резкость. Так бывает, если долго смотреть в одну точку на какой-нибудь рисунок в книге: сначала он расплывается, потом двоится. Так двоилось сейчас его сознание. Одной его частью он видел себя так, словно наблюдал за посторонним человеком в безжалостном ослепительном свете прожектора. Человек, сидящий в каменном кресле, смертельно устал и потерял надежду вернуться домой. Он маскировал от товарищей свою усталость за ежедневными шутками. Маленький, слабый человек. Рядом с ним были тайны громадной планеты, но ему не было до нее никакого дела. Что ему чужая планета?.. Равнодушен сидящий неподвижно человек. В его неопрятной одежде запутались каменные крошки. Он видел картины из своей жизни, далекие картины, о которых хотел когда-то забыть, чтобы простить себе невольные ошибки; но оказалось, что на самом деле он их не забывал, и именно эта скрытая память делала его сильнее. Картины вставали в памяти и тут же материализовались в зрительные четкие образы. Забавно… Прийти в кино просмотреть свою память… Нет, не всю память он просматривает. Только то, что нужно. Нужно? Но для чего? Вот этого пока не понять. Рано еще понимать. Сначала надо вспомнить раскаленный песок чужой планеты, чуть накренившуюся шлюпку, двух человек, страшно одиноких здесь… Он говорил Кибернетику разные правильные, нужные слова, а сам весь внутренне сжимался от страха за свою драгоценную жизнь. Ничего в этом не было плохого, а плохо было то, что простое желание жить он замаскировал очень серьезными и красивыми доводами о борьбе с планетой, о праве доказать свою способность выжить и еще многое… Сейчас он выметал из памяти весь этот сор, чтобы сделать ее яснее и чище, чтобы знать, что именно делало его сильным, а что унижало и угнетало его человеческое достоинство. Он обязан быть сильнее своих товарищей, поддерживать в них мужество… Нелегко? Конечно, нелегко, но раз уж он стал космическим врачом, значит, теперь он обязан стоять свою вахту до конца. Не очень хорошо он это делал, и не нравился ему сейчас неподвижно сидящий неряшливый человек, неуживчивый и колючий, ничего не умеющий толком, вот даже разобраться в том, для чего сделаны эти сооружения… Вместо того чтобы искать разгадку, он валяется в психическом трансе в этом классе… Почему класс? Ну да, на Земле это бы назвали классом или тренировочным стендом. Название не имеет значения, неважно. Важно лишь то, для чего все это сделано, и сумеет ли он понять, а потом сохранить рассудок и память… Впрочем, его сейчас мало трогала судьба Доктора, она стала для него просто символом в сложном уравнении, которое он решал и от решения которого зависело нечто большее, чем его судьба. В это уравнение каким-то образом входили и его теперешние раздумья и вторая внешняя сторона его раздвоившегося мира. Мысли получались выпуклыми и четкими, словно их гравировали на черном камне. При этом они оставались подконтрольны его сознанию. Похожее чувство возникает, вспомнил он, если надеть шлем машины, стимулирующей творческие процессы, только там это не доставляет радости и не порождает ощущения огромной ответственности, которое возникло здесь. Словно он строил наяву все эти воображаемые конструкции и отвечал за все, что происходило внутри их, и за конечный результат. Контакт с машиной не мог оставить после себя такого ощущения зрелости, приобретенного эмоционального опыта. Когда перед глазами рассеялись последние остатки смутных теней, его аккумуляторный фонарь почти совсем погас. Тлел только маленький красный огонек нити… Совсем разрядилась батарея, значит, все это продолжалось несколько часов… Это была первая его сознательная мысль. От пола тянуло пронзительным холодом. Странно, что он вообще еще может что-то ощущать, просидев неподвижно так долго на холодном камне. Ничто уже не двигалось на потолке ячейки и не было никакого звука. С удивлением он понял, что, пока он был без сознания, кресло приподнялось, ушло из фокуса потолка вместе с полом, если только все это не приснилось ему. Небольшая галлюцинация, маленький психический транс… Он знал, что это не так. И убедился в этом еще раз, когда обнаружил, что приподнявшийся пол закрывал теперь выход из ячейки. Почему-то это его нисколько не обеспокоило. Будет у него выход, раз он ему нужен. И действительно, как только он так подумал, пол очень медленно, плавно и совершенно беззвучно пошел вниз. Маленькую зеленую рощицу на берегу моря заметно потрепали ветры планеты. Она казалась взъерошенной и совсем не настоящей. По-прежнему нельзя было купаться и ловить рыбу в этом чужом море, и все же именно сюда они всегда прилетали, когда хотели обсудить что-то особенно важное. Доктор лепил из песка странные геометрические фигуры и неторопливо по порядку рассказывал. Только в самом конце он поднялся, чтобы швырнуть в море острый каменный осколок, на котором до этого лежал, но так и не успел, потому что вопрос Кибернетика заставил его задуматься. — Что же, под полом был какой-нибудь механизм, обеспечивший его движение, или ты не заметил? — спросил Кибернетик. — Не было там никакого механизма. Во всяком случае, мне так кажется, — тут же поправился Доктор. Почему-то теперь он избегал резких категорических суждений. — Не думаю, чтобы там был какой-нибудь механизм. Им, видимо, незнакомо само понятие механизма. Механизм — это только передатчик между нашим желанием и природой, в которой он помогает нам произвести нужное изменение, но требует за это слишком дорогую цену. — А с них природа, по-твоему, не требует никакой цены? — Они сумели обойтись без передатчиков. Проникли в самую сущность материи, научились управлять ее полями и преобразованиями без всяких механизмов. — Но ведь это ОНИ проникли. ОНИ умеют управлять, тихо возразил Физик. — А пол опустился по ТВОЕМУ желанию. Несколько секунд Доктор, не мигая, смотрел на Физика. И даже под загаром было видно, как побледнело его лицо. Вдруг он осторожно разжал руки, до сих пор сжимавшие острый тяжелый камень. Камень неподвижно повис в метре над землей, потом приподнялся, и Доктор взял его снова, — Вот это я и хотел сказать, — все так же тихо проговорил Физик, — Значит, и ты тоже. Значит, это вообще может каждый… каждый человек… Табак у них кончился давно, и Доктор курил сушеную хлореллу. Запах горелого сена заставлял его морщиться. Порывы ветра все время теребили его бороду, и, когда седые пряди выбивались наружу, Доктор казался совсем старым. Практикант отыскал его среди камней по запаху жженой хлореллы. Увидев Практиканта, Доктор внутренне сжался, потому что знал, что больше не удастся отложить предстоящий разговор. Практикант начал не сразу. С минуту он молча стоял рядом и разглядывал вершины далеких холмов, едва заметных с того места, где теперь был их лагерь. — Как ты думаешь, почему они прятались? — Куда прятались? — не сразу понял Доктор. — Почему они прятались под землю? — Может быль, они стремились сохранить естественность на этой планете? Красота — это прежде всего естественность. Наверное, она была важна для тех, кто здесь обучался. Вовсе они не прятались. Берегли планету. Берегли ее зеленое небо в шершавых каменных берегах… Берегли все таким, какое оно есть, потому что любили… — Наверное, ты прав. — С минуту Практикант молчал, словно собирался с силами; он даже смотрел сейчас не на Доктора, так ему было легче спросить. — Помнишь, там, в пустыне, ты говорил о старте… Ты не передумал? — Я не полечу. — Доктор ответил сразу одной фразой и невольно проглотил застрявший в горле комок. — Не полетишь?.. — Райкову показалось, что мир вокруг него потемнел и сомкнулся. — Ты сказал, не полетишь, да? — Я не могу. — Но ты же… ты же сам спрашивал, когда наконец будет старт, ты же так этого хотел! — Видишь ли, теперь это решение уже не принадлежит мне. Ты меня прости… — Кому же принадлежит твое решение? — одними губами спросил Практикант, и Доктор невольно отметил, какие у него сейчас мертвые губы. — Тем, кто там, на Земле. Я не могу рисковать. — Объясни, — тихо попросил Практикант. — Я попробую… Люди еще ничего не знают. Продолжают создавать миллионы ненужных вещей… О том, что можно по-другому, сегодня знаем только мы. Собственно, по-настоящему только я, потому что мне посчастливилось познакомиться не с результатом, не с подарком, как это было с тобой, а с процессом, с дорогой, по которой может пройти каждый. Человечество не может рассчитывать на подарки… Земля должна получить это знание, поверить в него, и поэтому я не могу рисковать. — Но от того, что ты сидишь здесь… — закричал Практикант, и Доктор остановил его, попросил подождать, потому что почувствовал, — что именно сейчас, сию секунду он найдет решение. Оно было уже совсем близко, рядом. Практикант что-то продолжал кричать, но Доктор не слышал его, потому что уже знал, что надо делать. Не до конца, не совсем ясно, но главное уже знал. И даже понимал, что именно отчаяние, от того, что он причинял этому мальчишке такую боль, помогло ему понять… — Да погоди ты минутку! — закричал Доктор, и Практикант наконец замолчал. — Погоди… — уже тихо попросил Доктор. — Мы прошибаем лбом стену, все время куда-то ломимся и почти забыли о Земле… Десяток световых лет изолировал наше сознание, создал иллюзию одиночества во Вселенной, но ведь это не так. У нас нет звездолетов, способных преодолеть эту бездну пространства, зато они есть на Земле… — Ты что, издеваешься надо мной?! — У нас есть выход! Совсем простой выход. Вместо того чтобы лететь к Земле, почти на верную гибель, надо позвать ее… — Позвать Землю?! — Вот именно, позвать Землю. А для этого послать сигнал. Всего лишь послать сигнал. Это проще, а главное — надежней, потому что сигнал можно посылать многократно, а лететь самим лишь однажды! — Но какой сигнал ты собираешься посылать и как?! — Этого я не знаю. Это вам с Физиком виднее. Но если ты уверен, что сможешь доставить в Солнечную систему целый корабль, то постарайся туда отправить сигнал. Это все-таки легче, хотя бы по весу. — Но у нас ведь нет передатчика! — А зачем тебе передатчик? Зачем тебе передатчик, если ты сумел сделать поле без генератора? Кто нам мешает превратить материю непосредственно в поток радиоволн или модулированное рентгеновское излучение, если оно надежнее?ГЛАВА 11
— Я запрещаю всякие эксперименты с превращением материи в энергию непосредственно на планете, — твердо сказал Физик. — Реакция может выйти из-под контроля, и тогда вы всю планету превратите в радиоизлучение. И я не уверен, что даже в этом случае хватит мощности. Слишком велико расстояние. Десять светолет… Можно попробовать. Возможно, какой-нибудь корабль случайно уловит наш сигнал, но шансы слишком малы, почти ничтожны… Конечно, придется попробовать, но только не на планете. Построим искусственный спутник за пределами атмосферы, рассчитаем орбиту и время… Мы даже не знаем, в какую сторону нужно направить сигнал. — Мы будем направлять его во все стороны, — стиснув зубы, ответил Кибернетик. — Мы построим десять спутников, сто, если понадобится, и мы будем звать Землю… Доктор и Практикант стояли на остроконечном выступе скалы, ставшей частью искусственного спутника планеты. — До сих пор не верю, что нам это удалось… — задумчиво проговорил Доктор. — Может быть, напрасно решили транспортировать сюда эти скалы отдельно друг от друга? Надо было попробовать вывести на орбиту сразу всю необходимую массу. — Чем массивней скала, тем труднее с ней справиться. У тебя разве не так? — Практикант пренебрежительно пожал плечами. — Для меня безразлична любая масса. Я ее просто не чувствую, волевое усилие в каждом случае одинаково. — Наверняка там были другие ступени… — О чем ты? — О школе… Иногда я чувствую себя студентом, не успевшим пройти полный курс. С минуту они молча смотрели на зеленое светило. Отсюда оно казалось лохматым и непривычно резким. На черном фоне лишенного атмосферы неба даже сквозь светофильтры можно было различить четкий силуэт короны. Доктор поежился. — Черт знает что за звезда! Я все время чувствую давление на поле, такой мощный поток… — Физик говорит, что она очень сильно излучает в жестоком рентгеновском диапазоне. Стоит ослабить поле, и не спасут никакие скафандры. — Очень трудно работать, когда одновременно приходится управлять полем. Вначале я думал, ничего не получится. — Все у тебя получилось. Никак не могу представить, что через час эти скалы превратятся в пучок радиоволн. Как ты думаешь, в расчетах нет ошибки? — Физик и Кибернетик считали отдельно. Потом сверились. Ширина радиолуча будет в два раза шире района, где может находиться Солнце. Жаль, что не удалось определить более точные границы. Излучение было бы сильнее. А так придется захватить лучевым конусом добрый десяток светолет. — Нам пора. Они уже заждались, наверное. — Сейчас. Видишь, еще не совсем погашено вращение. Нужна точная ориентация. Астероид качнулся. Планета с правой стороны небосклона перескочила на левую. Звезда над их головой выписывала сложные зигзаги. Наконец успокоилась и она. — Ну вот, так, кажется, в самый раз… Можно двигаться. Они одновременно оттолкнулись и унеслись в пространство. Обе фигуры на фоне гигантских скал спутника выглядели уродливыми карликами из-за огромных рюкзаков, набитых камнями. Камни служили топливом для индивидуальных защитных полей. Доктор перед каждой экспедицией придирчиво взвешивал эти рюкзаки. Капсула, висевшая километрах в двадцати над спутником, казалась небольшим светящимся веретеном. Доктор неточно направил силовую ось своего поля, и в середине пути их траектории стали расходиться. Пришлось догнать его и подать линь. Не хотелось дожидаться, пока он сам исправит ошибку. Через несколько минут они уже входили в центральный салон новой большой капсулы, построенной Практикантом специально для этих работ по сооружению спутника. Все так давно ждали последней минуты, что не было ни вопросов, ни разговоров. Практикант прошел в носовую часть капсулы, отделенную от остального корабля и затененную так, чтобы во время работы видеть только нужный сектор неба. Несколько секунд он сидел расслабившись, внимательно разглядывая угловатый ребристый обломок, на создание которого они потратили два месяца каторжной работы и который он должен был сейчас разрушить. Там вначале возникнет крошечная искорка, звездочка распада, затем всю энергию надо будет сдвинуть в невидимый спектр радиодиапазона, и скалы начнут таять, как сахар, превращаясь в биллионы мегаватт энергии, летящей к земному Солнцу… Если все пойдет хорошо, через десять лет земные радиотелескопы сквозь дикий треск и вой космических помех уловят это сообщение… Если уловят… Пора начинать… Он повторил себе это дважды, чтобы получше собраться и отключиться от всего лишнего. Во время операции ему одновременно придется регулировать сразу несколько параметров и помнить десятки различных вещей. Он представил себе летящую от корабля через космос невидимую пока искру. Вот она подошла вплотную к спутнику, опустилась на поверхность скал… Ничего не случилось, только вокруг защитного поля побежали радужные разводы. Значит, поле полностью экранирует космос от его воздействия… Надо попробовать еще раз. Остановил же он сорвавшуюся у доктора скалу, не снимая защитного поля! Снова и снова вспыхивали вокруг поля ослепительные сполохи, и все так же висела в двадцати километрах от них неизменная ребристая тень. Райков хотел было проделать в поле небольшое отверстие, но тут же вспомнил, что процесс будет продолжаться не меньше часа и на такое время нельзя раскрывать капсулу: они все погибнут от излучения… Значит, есть только один выход. Ему придется выйти наружу. Это намного сложней и опасней, но, если правильно отрегулировать поле и держаться так, чтобы скалы спутника экранировали его от излучения звезды в тот момент, когда он снимет защитное поле, ничего страшного не случится. Он встал и отодвинул непрозрачную дверцу отсека. По их лицам он понял, что объяснять ничего не нужно. Он даже думал, что молча удастся надеть скафандр и пройти в кормовой отсек, но Физик все-таки остановил его. — Интересно, что ты будешь делать, если излучение пробьется через астероид, особенно в конце реакции, когда ничего не останется от скал? — Там будет видно… — А если серьезно? — А если серьезно, то нам все-таки придется передать сообщение. — Тогда разрешите, я попробую, — сказал Доктор жалобным тоном. — Будет очень трудно управлять полем, и потребуется большая мощность воздействия. — Вот потому-то я и хочу попробовать. До сих пор я только помогал Райкову, а сейчас хочу сам. Вы уж мне разрешите. И Доктор решительно взял свой скафандр. — Никто туда не полезет, — твердо сказал Физик. — Мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь другое. — Нет, — сказал Практикант. — Больше мы уже ничего не придумаем. Сегодня к Земле пойдет сигнал. Он прошел мимо них и уже взялся за ручку дверцы отсека, когда Физик крикнул; — Вернись! Практикант повернулся и что-то хотел ответить, но в этот момент корабль резко тряхнуло, перед глазами у них все поплыло, а когда предметы обрели прежнюю четкость, в отсеке не было Доктора. Они не сразу поняли, что произошло, и даже потом, заметив у самого астероида летящую искорку, они все еще не понимали, как это Доктору удалось. — Ты сможешь его вернуть? — спросил Физик. — Не знаю. Мы никогда не пробовали противопоставить друг другу эти силы. Наверное, смогу. Но для этого придется снять поле. — Как он это сделал? — Ну, мгновенно выйти в пространство, не пользуясь дверями, для него не составило труда. А потом он толкнул капсулу своим полем. Было 8g, не меньше. Секунды на две мы потеряли контроль. — Практикант пожал плечами. — Сейчас я попробую его догнать и… Он не успел закончить. На одной из вершин астероида вдруг вспыхнула ослепительная синяя искорка, сейчас же погасла, и скала стала медленно исчезать у них на глазах. Кибернетик бросился к Практиканту и рванул тумблер рации на поясе его скафандра. Стены корабля вздрогнули от пронзительного, терзающего уши воя. — Я знал, что ему не справиться с частотой, — с горечью прошептал Практикант. — Только бы он не перешел на импульсную передачу, только бы не вздумал… Но он уже видел, как на месте астероида вспухает огненно-красный клубок огня совсем рядом с маленькой светлой точкой, которая в эту секунду все еще была Доктором. И прежде чем пришла другая секунда, когда Доктора уже не было, Практикант успел разорвать защитное поле. Он рванулся в космос так, как привык летать в небе зеленой планеты, даже не вспомнив о защитном поле. Все же какое-то поле, видимо, возникло просто потому, что он знал, что с ним ничего не случится. Не должно с ним сейчас ничего случиться, пока он не будет там, рядом с Доктором… А может, и не было никакого поля, наверное, можно было управлять летящими частицами материи без всякого поля. В этом еще предстояло разобраться физикам Земли, и ни о чем этом не думал Практикант, потому что важнее всего ему было увеличить скорость. И он ее, кажется, увеличил. Огненный шар перед ним стал распухать необычайно быстро, заполняя все пространство, весь его горизонт… Наверное, именно в этот момент он ощутил, как отчаяние переходит в ярость. В ярость на слепые, чудовищные силы, бушевавшие перед ним, опередившие его движение, его мысль. Вдруг он резко остановился, потому что верил, что мысль может быть быстрей и сильней атомного огня, охватившего горизонт. Он вытянул ему навстречу свои огромные сильные руки, и это было все равно что уголь взять в ладони; он даже почувствовал боль от ожога и не почувствовал слез, высыхающих на его щеках… Уголь можно раздавить, погасить между сжатыми ладонями… Это он знал… Это он просто знал и не удивился, когда впереди исчезли огненные сполохи и вместо них клубился теперь холодный туман каменной пыли… Среди ее пылинок в бесконечном круговороте атомов осталось все, что секунду назад было Доктором. И никогда уже он не услышит его спокойного голоса… Что-то он говорил ему, что-то важное про это сообщение, про то, что они не имеют права рисковать… Но главное — про сообщение, он очень хотел передать его Земле… Но теперь у них нет даже астероида, а есть эта звезда — огненный шар плазмы, рассеявший в космосе смертоносные лучи, которых так боялся Доктор, не за себя боялся… Практикант повернулся лицом к звезде. Он уже не видел мертвой холодной пыли, в которую только что превратил астероид. Видел огненный шар звезды, ее зеленую корону, ежесекундно выбрасывающую в космос потоки энергии, той самой энергии, которая так нужна была Доктору для его сообщения, которая убила его… И, еще не соображая в точности, что он делает, Практикант протянул к звезде руки, словно она была огненным мячиком, шариком плазмы, детской игрушкой, астероидом, взрывом, который он только что погасил… От страшного напряжения раскалывалась голова. Сколько это длилось? Секунду, вечность? Казалось, время вокруг него остановилось. Практикант чувствовал, что задыхается, что сейчас он не выдержит, ослабит поле и тогда гигантская мощь излучения звезды, сжатая им за эту секунду, обрушится на них, как обвал, неудержимым смертоносным потоком. В этот миг что-то изменилось. Словно дрогнули вокруг него в пространстве невидимые струны, словно невидимые руки протянулись к нему отовсюду… Словно неслышные голоса шептали: «Мы здесь, мы с тобой… Скажи, что надо сделать еще. Теперь ты не один на звездных дорогах, Человек…» Практикант стал управляющим центром какой-то огромной системы, к ней подключали все новые и новые звенья, наращивали мощность, чтобы справиться с грандиозной задачей, которую он уже решил за мгновение до этого, и вот только сил не хватило… Теперь эти силы были. Сквозь пространство и время, сквозь необозримые бездны космоса летели слова, деловые слова сообщения, которое не успел передать Доктор:«Всем радиостанциям! Всем кораблям! Экипаж звездолета «ИЗ-2» вызывает Землю. Получено согласие на контакт с межзвездной цивилизацией. Срочно высылайте корабли в район передачи».Дежурному оператору астрономических лунных станций показалось, что он сошел с ума: в шесть часов тридцать минут по Гринвичу безымянная звезда номер 412-бис из созвездия Водолея начала передавать свое сообщение обыкновенной земной морзянкой.7
Юрий Папоров КОНЕЦ «ЗЛОГО ДЖОНА»
 Подвиги сильных и мужественных, открывающих неведомые страны, сражающихся за правду, справедливо наказывающих зло, всегда привлекали внимание молодежи.
Романтика сражений, особенно морских: абордажный бой, крюк, сабля, пистолет и шпага; отвага, честность, настоящая дружба, борьба против подлости, обмана, предательства — все это всегда волновало, волнует и будет волновать воображение пытливых.
В наши дни, когда человек вырвался за земные пределы, ступил на Луну, покоряет глубины океана, рассказы о тех далеких временах, когда морские просторы бороздили загадочные парусники, на которых плавали отчаянные пираты, не могут не заинтересовать юного читателя. Тем более, что вряд ли многим известно о той борьбе, которую вели с пиратами благородные и отважные «рыцари морей» — корсары. Они боролись с теми, чьи имена служили символом разбоя, грабежа и насилия, боролись за справедливость, защищая интересы мирных людей, часто ценою собственной жизни. Имена многих корсаров вошли в историю. Один из них, выведенный автором под именем капитана Девото, и послужил прообразом героя повести «Конец «Злого Джона».
Повесть эта построена на подлинном материале, она рассказывает о борьбе испанских корсаров с жестоким и неуловимым английским пиратом, наводившим ужас на поселения островов Карибского моря на рубеже XVII и XVIII веков.
Отрывок из этой повести печатается в «Мире приключений».
Подвиги сильных и мужественных, открывающих неведомые страны, сражающихся за правду, справедливо наказывающих зло, всегда привлекали внимание молодежи.
Романтика сражений, особенно морских: абордажный бой, крюк, сабля, пистолет и шпага; отвага, честность, настоящая дружба, борьба против подлости, обмана, предательства — все это всегда волновало, волнует и будет волновать воображение пытливых.
В наши дни, когда человек вырвался за земные пределы, ступил на Луну, покоряет глубины океана, рассказы о тех далеких временах, когда морские просторы бороздили загадочные парусники, на которых плавали отчаянные пираты, не могут не заинтересовать юного читателя. Тем более, что вряд ли многим известно о той борьбе, которую вели с пиратами благородные и отважные «рыцари морей» — корсары. Они боролись с теми, чьи имена служили символом разбоя, грабежа и насилия, боролись за справедливость, защищая интересы мирных людей, часто ценою собственной жизни. Имена многих корсаров вошли в историю. Один из них, выведенный автором под именем капитана Девото, и послужил прообразом героя повести «Конец «Злого Джона».
Повесть эта построена на подлинном материале, она рассказывает о борьбе испанских корсаров с жестоким и неуловимым английским пиратом, наводившим ужас на поселения островов Карибского моря на рубеже XVII и XVIII веков.
Отрывок из этой повести печатается в «Мире приключений».
* * *
Корабль был готов к отплытию. С утра привезли на борт свежую воду и горячий хлеб. Капитан, уже в походном камзоле, стоял на мостике, а члены экипажа, еще вчера не знавшие покоя, сегодня без дела слонялись по палубе. Последнее обстоятельство весьма волновало сеньора Томаса Осуну де Кастро и Лара, барона де Фуэнтемайор гораздо больше, чем задержка с отходом корабля в море. Вообще непонятная проволочка устраивала сеньора Осуну. Но то, что молодые матросы настойчиво кружили вокруг портшеза его спутницы, выводило сеньора из равновесия. Финансовый инспектор Осуна, хотя и закончил свои дела в заморских колониях, домой не спешил. Для этого у него была важная причина: он влюбился в Долорес, дочь местного губернатора, и хотел сделать ей предложение. Обстоятельства сложились так, что губернатор Кано де Вальдеррама, отец девушки, неожиданно скончался и перед смертью вручил судьбу своей дочери сеньору Осуне: девушка осталась сиротой, ее мать умерла много лет назад. Осуна возлагал большие надежды на длительную совместную поездку в Испанию, во время которой он намеревался завоевать сердце полюбившейся ему Лолиты — так ласково называли Долорес. Именно сегодня он собирался признаться ей в любви, но мешали матросы. — В чем дело, капитан? — нервно спросил Осуна. — Почему мы не уходим в море? — И покосился в сторону матросов, которые тут же обступили оставленную им на полуюте спутницу. Капитан Дюгард посмотрел на барона, на матросов, окруживших девушку, и все понял. Он улыбнулся, но тут же спрятал улыбку в пышные усы. Ему самому не очень-то по сердцу была задержка. Этот рейс «Ласточки», торгово-пассажирского брига, вооруженного четырнадцатью бортовыми пушками, был последним под командованием капитана Дюгарда. В Марселе он навсегда сойдет на берег и посвятит остаток дней жене и уже взрослым детям. В его капитанской каюте стояли пять доверху набитых вместительных сундуков, а под койкой были спрятаны деньги и драгоценности, которые капитану удалось накопить за последние шесть лет плавания вдали от родных берегов. — Мы ждем пассажира, сеньор Осуна. И сколько бы «Ласточка» ни стояла на рейде, расходы несет он, — любезно объяснил он. «Кто же этот столь богатый пассажир?» — думал королевский инспектор, возвращаясь к своей спутнице. — Что же вам удалось выяснить, сеньор Осуна? — спросила девушка, закрывая книгу, лежащую у нее на коленях. Стараясь придать своему голосу как можно больше нежности, инспектор ответил: — Капитан ждет какого-то пассажира. Но, дорогая Лола, почему вы упорно не желаете называть меня Томасом или, еще проще, Томом? Ведь я, милая Лолита, отношусь к вам… Но девушка перебила говорившего: — Ну что же, я согласна. Вы будете мне дядей, дон Томас. — Девушка принялась обмахиваться ярко-алым, с зеленой кружевной отделкой веером. — А что касается Тома, то вы забыли, дон Томас, что времена изменились и все английское сейчас не в моде. Вы ведь сами служите французу, ставшему нашим королем. Сеньор Осуна в свое время был открытым сторонником Англии, но теперь стал не менее пылким сторонником Франции. Услышав упрек, инспектор насупился и замолчал. — Так что вам лучше бы, дон Томас, узнать, как ваше имя будет произноситься по-французски, — продолжала Лолита. — Хотите, я узнаю у капитана? Заодно спрошу, кто же этот знатный пассажир, который заставляет нас с вами ждать. Она встала, сделала несколько шагов по палубе. Более десятка пар глаз следило за каждым ее движением. Сеньор Осуна кинулся за ней. — Прошу вас, Лола, ради памяти вашего отца дайте мне слово больше никогда не называть меня доном, — зашептал он. — Зовите меня просто Томасом. Считайте меня вашим покорным слугой! — Даю слово, Томас! — серьезно сказала девушка. — Пожалуйста, не сердитесь, — и, гордо подняв голову, решительно направилась в каюту капитана.* * *
Пассажир, которого ждала «Ласточка», появился на корабле лишь к полудню следующего дня. Высокий, худой, крепкий брюнет средних лет, судя по всему, испанец. Богатое платье, украшенное серебряными застежками, говорило о его состоятельности. Длинное страусовое перо украшало его широкополую шляпу. Он сдернул с руки кожаную перчатку с внушительными крагами и, сняв шляпу, учтиво поздоровался с капитаном. Тот жестом приказал боцману распорядиться поднять вещи пассажира на борт. — На первый взгляд он кажется важной персоной, — заметил сеньор Осуна, — но его слуга… посмотрите, Лола, просто пират какой-то. Атлетического сложения негр лет тридцати, с кольцом в левом ухе, ставил на палубу рядом с другими вещами хозяина миниатюрный кованый сундучок и обтянутый ярко-зеленой кожей ящик с пистолетами. Расшитая и украшенная золотыми пряжками портупея с двумя боевыми шпагами свалилась с сундучка. Стоявший рядом матрос услужливо поднял ее, и негр широко улыбнулся. До слуха Осуны донесся разговор двух бомбардиров. — Узнаёшь? — Еще бы! И того и другого. — Ты слышал? Их с трудом разняли. Оба уже были ранены. — Мне до сих пор неясно, что могло сломать их дружбу? — Просто этот слишком жаден. Ему подавай добычу, а Де ла Крус честный корсар. Другой причины нет. — А что этот делал до «Каталины»? — Говорили разное. Был грандом, колонистом, наемным убийцей, флибустьером… — Но смел, как ягуар. Я видел его на дуэли… Пронзительный звук дудки боцмана заглушил последние слова бомбардира. Экипаж поспешил на свои места, и тут же послышался скрежет цепей о кабестан, свидетельствовавший о том, что «Ласточка» поднимала якоря. — Положительно, не нравится мне этот новый пассажир, — сказал сеньор Осуна, видя, с каким интересом его спутница поглядывает на незнакомца, непринужденно беседующего на шкафуте[338] с капитаном. — Отчего же, Томас? Мне он чем-то напоминает моего отца в молодости… — Побойтесь бога, дорогая! Ваш отец благородный человек, а этот неизвестно кто! — воскликнул королевский инспектор. — Посмотрите хорошенько на его слугу. Типичный пират. — Не забывайте, сеньор Осуна, что мы в колонии. Здесь вам не Европа, а Вест-Индия, — резко ответила Долорес и ушла в свою каюту. Осуна еще долго стоял и раздумывал над строптивым характером молодой испанки, получившей воспитание в колонии. Отец Долорес ни на минуту не забывал, что его единственная и горячо любимая дочь росла в суровых условиях. Поэтому, как только девушке исполнилось шестнадцать, отец обучил ее скакать верхом на лошади в мужском седле, стрелять из пистолета и даже фехтовать облегченной шпагой. За ужином капитан представил нового пассажира. — Педро Гонсалес, негоциант. В прошлом бывалый моряк. Мне приятно иметь на борту такого спутника. — Мне тоже приятно встретить такое общество, но было бы куда приятнее, мосье Дюгард, согласись вы доставить меня хотя в Санто-Доминго. — При всем уважении к вам, дон Педро, это не в моих силах! Я и так из-за вас отклоняюсь от курса. Вы хорошо знаете, мой сеньор, что меня уже давно ждут в Марселе дети и жена. Не заставляйте меня, мой друг, искать опасных приключений. Что вы! Эти три года…Гаити! Багамские острова! Нет, дон Педро, дальше пролива Мона ни на кабельтов! — взволнованно повторил капитан, а Долорес незаметно разглядывала нового знакомого. Его продолговатое лицо с живыми блестящими глазами, решительным подбородком, выдающимися скулами и тонкими усиками над выразительными губами вызывало симпатию. — Кто бы мог подумать, мосье Дюгард, что старость делает с храбрецами! — недобро усмехнулся дон Педро. — И не уговаривайте! Далее пролива Мона ни шагу. Кому нужны встречи с этими… Долорес быстро подняла глаза на капитана, и он осекся на полуслове. — Вы имеете в виду пиратов, капитан? — спросила девушка, спокойно вытирая пальцы о салфетку. — Уверен, что в присутствии сеньориты не следовало бы касаться подобных тем, — решительно вступил в разговор сеньор Осуна. — Тем более, что сегодня они — больше легенда, чем реальность. Хотя… — Инспектор внимательно поглядел на коммерсанта. — Ну, конечно! Нет сомнений! — засуетился капитан. — Сегодня можно плавать в этих местах так же спокойно, как по реке Эбро, например, или по Сене. — Так это из-за вас мы изменяем курс и удлиняем наше путешествие на целых десять дней? — обратился Осуна к Гонсалесу. — А можно полюбопытствовать, какие у вас в Сан-Хуане дела? — Ищу корабль, который через месяц мог бы перевезти мой груз в Испанию. По пути в Сан-Хуан мы зайдем в ряд портов, где я сделаю необходимые закупки.: — И таким образом «Ласточка» прибудет к месту назначения не на десять дней, а на две недели позже, сеньор Осуна, — заметил капитан. — А почему бы вам, мосье Дюгард, действительно не помочь дону Педро? — сказала Долорес — Сеньор Осуна не очень-то спешит, а я готова пожертвовать своим временем. Капитан вопросительно поглядел на девушку, как бы желая понять, не шутит ли она. Королевский чиновник закусил губу. Коммерсант бросил на Долорес взгляд, полный благодарности. — Мадемуазель, вы еще так молоды, что вам непонятно чувство женщины, которая не видела своего мужа полных шесть лет. Каждый день опоздания для нее пытка. А мои бедные дети… — Сеньорита, я признателен вам за ваше участие, — перебил капитана дон Педро, — но мосье Дюгард прав. Он и так сделал для меня много. Однако в жизни настоящих людей всегда находится выход из любого положения. — Гонсалес поднялся из-за стола, поправил рассыпавшиеся по плечам волосы блестящего черного парика и учтиво поклонился присутствующим: — Прошу меня извинить. Этот день был тяжелым, — и вышел из кают-компании. — Странный он все-таки, этот дон Педро, — сказал ему вдогонку Осуна. Капитан промолчал, он только еще ниже опустил голову и погрузился в свои невеселые мысли. По пути в Сан-Хуан «Ласточка» заходила во все без исключения порты. Педро Гонсалес каждый раз сходил на берег, но отсутствовал не более чем два — три часа. Как только он возвращался, капитан Дюгард тут же ставил полные паруса. Иногда королевский инспектор съезжал на берег вместе с коммерсантом, и тогда сеньор Осуна издали наблюдал за тем, как их элегантный пассажир общался в порту с явно подозрительными типами, которые, конечно, не могли иметь никакого отношения к коммерции. Однажды, подпоив бомбардира, сеньор Осуна попытался выяснить, что тот знал о загадочном коммерсанте. Но бомбардир от первого же вопроса сразу отрезвел и только сказал: — О! Он знает дело, как вы своего короля, сеньор. С ним шутки плохи! «Море, деньги, ром и девы Братьям берега милы…» — запел он одну из песен «Береговых братьев»,[339] хитро подмигнул, встал и, пошатываясь, пошел из таверны. Однако сеньору Осуне этого оказалось достаточно. Вечером того же дня в кают-компании он завел разговор с коммерсантом. — Скажите, сеньор Гонсалес, в Бас-Тере я видел вас с людьми, которые совсем еще недавно, как мне сообщил один мой знакомый, были пиратами. Что, разве теперь модно вести с ними торговлю? — Модно? Не скажу. А вот что это выгодно — бесспорно. Могу сообщить вам, что многие из светлейших грандов, ныне преуспевающих в Мадриде, составили свои богатства именно потому, что тайно торговали с ними. — Однако вы, как я вижу, еще и фантазер! — Осуна выпрямился и гордо вздернул голову. Не обращая внимания на его пренебрежительный тон, Педро Гонсалес спокойно продолжал: — А что касается слов «были пиратами», то здесь, сеньор Осуна, в этих землях, это не имеет никакого значения. И это хорошо! Вам, гостю, подобное не понять. — Где уж мне! — вспылил королевский инспектор. — Я ведь никогда не знал черного цвета их флага. Долорес хотела было что-то сказать, но Педро Гонсалес ее опередил: — Да! Чтобы удовлетворить ваше любопытство, скажу вам, я плавал под флагом славного Дюкасса,[340] когда он был флибустьером. Сейчас он французский адмирал и защищает от англичан владения вашего величества. — Вашего, вы хотели сказать, сеньор. — Пусть будет так! — Глаза Гонсалеса потускнели и на миг стали страшными, но Долорес не могла удержаться от вопроса. — Так вы плавали с Дюкассом? Он заходил к нам в порт. Отец меня знакомил с ним. Расскажите про него, дон Педро. Пожалуйста… — Так я и думал! — перебил ее сеньор Осуна. — Вы всего-навсего жалкий пират, выдающий себя за коммерсанта! — Томас! — гневно вскрикнула Долорес. — Сеньор Осуна! — Капитан поднялся со своего кресла. — Я бы попросил вас… — Не утруждайте себя, мосье Дюгард. — Педро Гонсалес улыбался. — Прошу прощения, сеньор Осуна, это старая привычка: улыбка сама появляется при виде страха в чужих глазах. Однако смею вас заверить, пиратом я все же не был. Я сказал флибустьером, а еще точнее — корсаром… — Какая разница? — Большая! И вам, королевскому инспектору заморских колоний, стыдно не знать разницы между буканьером, флибустьером, корсаром и пиратом. — Не сочтите за труд разъяснить. — Как-нибудь в другой раз! Сейчас, однако, вам не лишне напомнить, что если «Ласточка» свободно плавает в этих водах и капитан Дюгард ведет ее без опасений, так этим в значительной мере мы обязаны Дюкассу и подобным ему смельчакам. Не королевские адмиралы очистили от пиратов Карибы. — Очистили, да не совсем! — Капитан Дюгард перекрестился. — Еще разбойничают американец Боб Железная Рука, англичане Ганг и проклятый Злой Джон. — Этих троих вполне достаточно. Хватило бы, собственно, и одного, последнего, чтобы вмиг сбить с вас, сеньор Осуна, ненужную здесь спесь, — миролюбиво заметил Педро Гонсалес. — От Кампече до Тринидада и от Панамы до Багам не было более жестокого убийцы, лишенного жалости и всякого понятия о чести, — продолжал капитан. — Перед наживой его не останавливали ни мольба матери, ни просьба старика, ни заклинания девушки, ни даже взведенные пистолеты… — Однако не слишком ли много страшных слов мы произносим в присутствии женщины, капитан? — прервал Дюгард а бывший флибустьер. — О! Тысячу извинений, мадемуазель. Молю бога, пусть дьявол быстрее заберет Злого Джона в преисподнюю вместе со всеми его пиратами. — Не надо говорить о пиратах. Но, дон Педро, все-таки расскажите про Дюкасса, — снова попросила Долорес. Сеньор Осуна нервно кусал усы. — Даю вам слово, сеньорита, до Сан-Хуана вы все узнаете о нем. А сейчас прошу извинить — я вас покину. Большие фиолетовые звезды мерцали в глубоком черном небе. Гладь моря светилась блестками — то флюоресцировали морские водоросли, моллюски, планктон, поднявшиеся на поверхность. «Ласточка» из-за почти полного отсутствия ветра едва двигалась вперед к Виргинским островам. К полуночи потянет бриз, он надует паруса, и бриг на хорошей скорости устремится к Пуэрто-Рико. Педро Гонсалес любезно распрощался с капитаном, который вышел вслед за ним из кают-компании, сбежал по трапу на шкафут и пружинистой, чуть вразвалку походкой бывалого моряка направился на бак, где кто-то из матросов, свободных от вахты, играл на гитаре и пел прокуренным и пропитым басом. Долорес, сухо раскланявшись с сеньором Осуной, ушла к себе в каюту. Там, не зажигая света, она подошла к окну. До нее донеслись обрывки грустной песни. Теперь пел приятный баритон, и Лоле показалось, нет, она была уверена, что голос принадлежал Педро Гонсалесу. …Утро застало «Ласточку» в проливе Анегада. Солнце, жаркое уже с первых часов дня, поднималось над кормой. Кругом по горизонту не было видно земли. Педро Гонсалес и Долорес стояли у правого борта полуюта. Девушка внимательно слушала своего собеседника. Он рассказывал о знаменитом французском флибустьере Дюкассе. Тот, уже будучи на службе у короля, то есть став корсаром, сыграл значительную роль в борьбе с пиратами Карибского моря, при помощи которых правительства Англии и Голландии вели борьбу с Испанией в целях захвата ее заморских колоний. — Расскажите о себе, дон Педро, — попросила девушка. — Непременно, сеньорита, но не сейчас. Нас приглашают к завтраку. Завтрак еще не был окончен, когда в дверях каюты появился вахтенный. Он быстро подошел к капитану и что-то тихо ему доложил. Дюгард извинился и вышел. После завтрака Осуна, проводив Долорес до юта, поднялся на мостик. Капитан, не отводя от глаз подзорную трубу, внимательно наблюдал за неизвестным кораблем, который шел по левому борту в пяти-шести милях от «Ласточки», казалось, параллельным с ней курсом. Рядом с капитаном спокойно стоял Педро Гонсалес. Капитан опустил подзорную трубу. — Что это за корабль? — спросил сеньор Осуна. Дюгард вместо ответа посмотрел на Педро Гонсалеса и молча протянул ему трубу. Затем сложил руки на уже округлившемся животике и стал прикидывать: «Ласточка» находилась не менее чем в двадцати часах хода от Сан-Хуана. Ближе была гавань Шарлотта-Амалия на острове Сент-Томас. — Что вы скажете, дон Педро? — обратился он к коммерсанту. — Извините, сеньор Осуна, на ваш вопрос я ответить не могу. По лицу капитана было видно, что он весьма озабочен, и Осуна, который хотел было уже вспылить по поводу неуважительного отношения к его персоне, сдержался, ожидая, что бывший флибустьер объяснит, что так разволновало капитана. — Превосходный корабль, но… давно не стоял в доке. Капитану его некогда. Да он и боится зайти в хорошую гавань, — Неужели вы подтверждаете мои подозрения? — Дюгард нервно заходил по пастилу мостика. — К сожалению! И скажу больше: он идет вам наперерез. — Будь проклят день его рождения! Карамба![341] И надо же случиться этому в мой последний рейс! — Сеньор Осуна, нам предстоит опасная встреча. Вам благоразумнее всего пойти к вашей спутнице. Не пугайте ее, но не выходите с ней на палубу. — Бывший флибустьер не просил — он приказывал, еще внимательнее, чем прежде, разглядывая в подзорную трубу приближавшийся корабль. — Идите к ней! Своего слугу я поставлю у входа в каюту. Он знает свое дело. Педро Гонсалес сложил трубу, передал ее капитану и дружелюбно положил руку на плечо Осуне. — Умоляю вас, барон! Девото прав! Идите в каюту! — каким-то странным, чужим голосом заговорил Дюгард. — Как вы сказали? Кто прав? — Барон, это сейчас не имеет никакого значения. — Капитан сложил руки и поднес их к лицу. — Именно сейчас это как раз и может иметь значение! Что вы намерены предпринять, капитан? — Педро Гонсалес, которого Дюгард назвал Девото, улыбнулся. — Прошу вас, как друга, сеньор Осуна, будьте благоразумны. Спуститесь в каюту к девушке, зарядите свои пистолеты и ждите. Осуна пожал плечами и направился к трапу. — Так что вы намерены делать, капитан? — спросил бывший флибустьер и крикнул вниз: — Бартоло! Бартоло! Живо ко мне! — Неужели нет ни одного шанса, что вы ошибаетесь, Девото? — Капитан надеялся на чудо. — Вы же сами превосходно знаете, что это Злой Джон. — Что же делать? — Обороняться или уходить! — Четырнадцать пушек против сорока четырех! Вы, Девото, стоите много, но преимущество почти в сотню человек вам с моими людьми не одолеть. — Тогда… — Девото задрал голову и — поглядел в небо, где собирались кучевые облака, — тогда, будь я на вашем месте, я бы поставил полные паруса и круче взял бы бейдевинд. Джон не догонит вас. — Но этим румбом мы проскочим Пуэрто-Рико и бог весть когда увидим землю. — Оторветесь и, взяв на север, обойдете остров со стороны пролива Мона. — А если бриз спадет? — Голос капитана заметно дрожал. — Тогда сражаться! Иного быть не может. Ни я, ни вы, надеюсь, давно не верим в чудеса. — Поверну обратно. Укроемся в Шарлотте. На этом курсе, может, встретим кого… — За два часа? Я очень сомневаюсь, милейший Дюгард. А за это время Джон будет у вас на юте. — Типун вам на язык! Рулевой! Право руля! Курс на Сент-Томас. Девото отвернулся, чтобы скрыть от капитана радостную улыбку. Почувствовав, что «Ласточка» совершает крутой разворот, циркуляцию, как выражаются моряки, свободные от вахты члены экипажа высыпали на палубу. Они смотрели на корабль, от которого — ни у одного из них не было сомнений — «Ласточка» стремилась уйти как можно быстрее. Капитан отдал распоряжение поставить все паруса и принялся следить в трубу за «Злым Джоном». Через минуту Дюгард сложил трубу. На его лице была написана растерянность. — Да, Девото, вы были правы и на этот раз. Теперь надо обороняться. Но как? Как я стану это делать против его сорока четырех пушек крупного калибра? — Иной раз дело не в размере калибра, а… в размере храбрости. Вас покинула смекалка, милейший Дюгард. Надо сражаться. — Девото сбросил с себя камзол, снял парик — его собственные волосы были намного чернее и более блестящие. Он перекинул перевязь портупеи, принесенной ему Бартоло, через плечо, повязал пояс, за который заткнул оба пистолета и кинжал. Перчатки положил на сборку мостика. — Что теперь придется сражаться, мне ясно. Но как? Как, сеньор Девото? — Сколько у вас людей? — Тридцать восемь. С вами, инспектором и девушкой — сорок один! У «Злого Джона» не менее двухсот!.. — Чуть более и в чистом преимуществе… — О боже, спаси и помилуй! В последний раз! — забормотал капитан. Ему было стыдно своей растерянности перед Девото, для которого встреча с английским пиратом была несравненно опаснее. Бывший флибустьер держался хладнокровно и спокойно. — Дайте мне командование артиллерией, капитан, и мы славно сразимся с ними. Среди экипажа я видел отличных бомбардиров. Решайтесь же! — А может, сдаться? Так будет лучше. — Конечно! Но не без боя. Ну, решайтесь же, капитан! — повысил тон Девото, явно желая, чтобы его услышала команда. — Будь по-вашему… — Бартоло, к дверям каюты сеньориты! И чтоб ни одна живая душа туда не проникла. Негр выхватил из кожаных ножен длинный мачете и бросился к кормовому люку. Из-за его пояса торчали рукоятки пистолета и испанской даги. — Приготовить орудия к бою! — Девото перегнулся через перила мостика. Матросы не двигались. — Бомбардиры, исполнять приказания Девото! — распорядился капитан. — В его руках наша с вами судьба! Девото не без удовольствия отметил, как человек десять из экипажа сорвались с места и понеслись к своим боевым номерам. — Приготовить орудия к бою! Запалить фитили! — крикнул им вдогонку Девото. — Мосье Дюгард, спасибо за доверие! Но одни мои руки не решат сражение в нашу пользу. Я сделаю все, чтобы залп был прицельно точным. Однако ваш корабль и наши жизни в равной степени зависят и от ваших команд. Поставьте мне «Ласточку» так, чтобы я мог направить весь залп в ватерлинию «Злого Джона». Только тогда мы сможем праздновать победу! Спокойствие и смелость! Верьте в себя, а я не подведу! — с этими словами Девото пересек шканцы и скрылся в люке, ведущем в боевую рубку. Через четверть часа пушки уже были готовы. Почти у каждой стоял артиллерист с тлеющим фитилем в руках. Девото отдал нужные приказания и приник к амбразуре одной из кормовых бойниц. «Злой Джон» настигал их быстрее, чем можно было предположить. Когда фрегат и «Ласточку» разделяло не более четырех кабельтовых, Девото отдал приказ: — Раздуть фитили! Прямой наводкой по ватерлинии правым бортом! Товсь! Но «Ласточка» не ложилась на разворот. Девото закусил губу. «Неужели капитан струсил? — подумал он. — Нет, он ждет первого залпа, чтобы бригу было безопаснее сближение с фрегатом. Рискованно, но смело!» Его размышления были прерваны небольшим белым облачком, оторвавшимся от бушприта, словно носовое украшение — разверстая пасть дракона выпустила клуб дыма. Звук выстрела послышался одновременно с взметнувшимся не более чем в ста футах от «Ласточки» столбом воды. Девото перебежал к ближайшей амбразуре правого борта. Дальнейшее промедление капитана Дюгарда граничило с поражением. Теперь «Ласточка» могла стать легкой добычей пирата или отправиться на дно. Второй выстрел был более точным — водяные брызги обдали правый борт. — Капрал! — позвал Девото старшего бомбардира. — Передайте капитану Дюгарду, если он немедленно не уберет. Марсели и не положит право руля, через две минуты все будет напрасно. Капрал помчался наверх и принес неутешительный ответ капитан: — Это ничего не даст! Потом нам ни за что уже не лечь на прежний курс! Видя, что единственный шанс, который мог спасти «Ласточку», уже не может быть использован, Девото оставил артиллерийское помещение и поднялся на мостик. Марсель фок-мачты «Злого Джона» скользнул вниз и тут же был поставлен вновь, снова снят и опять поставлен. Командир фрегата приказывал бригу лечь в дрейф. — Превосходно! — прокричал Девото. — Капитан Дюгард, ради ваших детей, смените галс. Отдайте приказ, и «Злой Джон» не станет стрелять. Мы подпустим его, вы снова смените галс, а за остальное я отвечаю. Мы разнесем его борт в щепки! Капитан Дюгард, старый морской волк, растерялся. Он не отдал ни одного из распоряжений и тем самым лишил себя всякой надежды на спасение. — Капитан, ложитесь в дрейф или я проткну вас! — Девото выхватил шпагу из ножен. — Распорядитесь, а я одним залпом отправлю к дьяволу мачты фрегата, и мы уйдем! — Убрать марсели! Право руля! Дальнейшие команды капитана Девото уже не слышал. Он стремглав бросился к орудиям. Но было поздно. «Ласточка» вздрогнула, как если бы с ходу наскочила на риф. Третий выстрел со «Злого Джона» был точным — ядро угодило в корму брига. Он накренился и начал поворот. Однако Джон Мэтьюз был опытным моряком. Как только он увидел, что «Ласточка», перед тем как лечь в дрейф, меняет галс, тут же отдал нужную команду, и «Злой Джон» ушел из-под обстрела «Ласточки». Джон Мэтьюз, бывший английский капитан, поначалу исправно служивший корсаром королю Эдуарду, затем порвал с ним и стал грозным пиратом на Карибах. Его мало кто знал по имени. За свою жестокость и мстительность он был прозван Злым Джоном. Свое прозвище он дал фрегату и принялся совершать еще более дерзкие набеги и кровавые дела. Четвертый выстрел крупной картечью был направлен в оснастку «Ласточки». На палубу повалились обломки рей, обрывки вантов, фалов, падали дымящиеся куски парусины. «Злой Джон» убрал паруса и шел на абордаж. — Здесь больше нечего делать! Марселя вашему капитану не видать! — крикнул Девото, и, прежде чем капрал успел открыть рот, бывший флибустьер уже выскочил из галереи. Подбежав к каюте, у которой стоял Бартоло, он приказал: — Немедленно сюда мою одежду! — и толкнул дверь. Он вошел так неожиданно, что сеньор Осуна вскинул пистолет и выстрелил, но Девото вовремя отпрянул в сторону. — Браво! Сеньор инспектор! Только вам это оружие уже ни к чему. Бой проигран! Сопротивление бесполезно! — Я знал, что вы с ними заодно! — крикнул Осуна, лицо его налилось кровью и тут же побелело. — Приберегите вашу глупость для дворца! Единственный, кто сейчас может спасти вас, так это я! — спокойно ответил Девото, принимая, свою одежду из рук Бартоло. — Томас, зарядите мне пистолет! Я не отдамся им живой! — решительно сказала Долорес. — Доверьтесь мне, сеньорита! Я думаю, что смогу найти выход. — Девото, удивленный храбростью девушки, впервые пристально поглядел на нее и улыбнулся. — Чтобы дороже нас продать, — не унимался Осуна, продолжая перезаряжать пистолет. — Замолчите или я вас отправлю на тот свет! Прошу вас, сеньорита, доверьтесь мне. Слушайтесь меня во всем и делайте только то, что я скажу. — Томас! Возможно, сеньор Педро прав. Другого выхода у нас нет. — В голосе девушки прозвучала волевая интонация. — Какой он сеньор Педро! Он Девото — флибустьер и пират. — Да! Но, клянусь небом, сохраню вам жизнь! — Девото хотел сказать что-то еще, но ему помешал оглушительный треск. «Ласточку» качнуло, прозвучал мушкетный залп, послышались дикие вопли тех, кто шел на абордаж. Девото уже надел свой парадный камзол. Искусно расшитая нежно-голубая батистовая рубаха, рукава и ворот которой заканчивались пышными блондами, оттеняли его смуглые лицо и руки. Он был спокоен, взгляд его — торжествен, словно он собрался на званый обед, а не ждал появления разъяренных пиратов. С палубы неслись звуки пистолетных выстрелов, звон скрещивающихся шпаг, воинственные выкрики, стоны. Девото одернул портупею, натянул перчатку. — Итак! В последний раз прошу: доверьтесь мне! Вот вам, сеньорита, моя рука. Слово Девото никогда не пахло предательством и изменой! Вместо ответа Долорес подошла к Девото и доверчиво прижалась к нему. — Сеньор Осуна, теперь ваша жизнь и жизнь Долорес в ваших руках. Помните об этом! Королевский инспектор хотел было что-то сказать, но Девото сделал знак. Совсем рядом с каютой раздался сухой пистолетный выстрел и топот людей, мчавшихся по коридору. Дверь резко распахнулась, и в нее ввалились пираты. Осуна и стоявшая рядом с ним Долорес прижались к стене каюты, Бартоло сделал шаг к двери, загородив собой Девото. Увидев, как спокойно пассажиры встретили их появление, ворвавшиеся в каюту опешили.
Долорес окинула пиратов быстрым взглядом. Все они были полуобнажены, с яркими платками на головах, босые.
— Женщина! — крикнул кто-то из морских разбойников, и это слово прозвучало словно призыв.
Пираты рванулись вперед. Бартоло с мачете в руках отступил и принял боевую стойку. Девото, положив ладони на торчавшие из-за пояса пистолеты, громко, но спокойно произнес:
— Стойте! Продырявлю череп любому, кто сделает хоть шаг! Я — Девото! Пригласите сюда вашего капитана!
Оттолкнув маленького кривоногого пирата, вперед вышел здоровенный толстяк, из левого плеча которого струилась кровь, в правой руке он держал абордажную саблю.
— Девото был храбр! Знал многое, но чтобы он умел воскресать из мертвых? Я что-то об этом не слыхал. Ха-ха-ха!
— Не понимаю тебя. Объясни!
— Девото был убит на дуэли своим другом.
— Я был ранен, но не убит, как видишь.
— Что? Послушайте, он настаивает! Ха-ха! У Девото в венах текла голубая кровь. Давайте-ка, братья, пустим ему ее и посмотрим.
— Зачем же так? — Девото был спокоен, более того, он вел разговор с пиратом, как если бы был его другом. — Давай лучше поглядим, кто из нас первым выхватит пистолет.
— One, two… — Кто-то из пиратов принялся считать. — Three!
Толстяк только успел наполовину выдернуть из-за пояса штанов пистолет, как дуло, направленное на него, заплясало перед его глазами.
— Семь тысяч дьяволов! — Пират замер от удивления, а Девото не спеша отправил пистолет обратно за пояс.
— Здесь не очень-то удобно, но мы можем скрестить и шпаги. Я доставлю тебе удовольствие узнать, как фехтует Девото, возвратившийся с того света…
Кто-то из пиратов засмеялся.
— Если ни Девото, то скажите, кто спас вам жизнь на острове Пинос? — спросил пират, стоявший у самой двери каюты.
— Слуга моего друга.
— А что было с ним в Монтего-Бей?
— Он попал в плен, но я спас его от верной смерти, переодевшись в английского офицера.
— А как его зовут? — не сдавался пират, хотя по его тону чувствовалось, что этот вопрос был последним.
— Бартоло! Вот он! Он здесь, со мной… — Девото указал на негра. — Довольно! Лучше иди за своим капитаном.
— А что у вас произошло с Де ла Крусом? — Теперь вопрос задал кривоногий пират.
— Это не твоего ума дело. Расскажу капитану. Если он сочтет нужным, узнаете и вы.
— Идите! Ну! — Бартоло стал наступать на пиратов, и они попятились.
На палубе уже было тихо. Те, кто сопротивлялся, были перебиты. Бедный Дюгард лежал, приткнувшись к перилам мостика, с раскроенной головой. Пираты выносили из кают и трюмов вещи и сваливали их на палубе в кучу.
— Первое сражение выиграно. И неплохо! — Девото ласково поглядел на Долорес — Но помните, по-прежнему все зависит от вас. Вы должны делать все, что я скажу.
Посыльный Злого Джона появился через четверть часа. Очевидно, капитан пиратов пожелал вначале выслушать доклады своих главарей о захвате «Ласточки».
— Приказано вам пройти в кают-компанию, — пренебрежительно сказал здоровенный детина и уставился на Долорес.
Первым к выходу двинулся Бартоло, за ним Девото, но на палубе, под взглядом более чем двух сотен алчных глаз, он учтиво пропустил девушку с инспектором вперед.
В кают-компании, в кресле капитана Дюгарда, восседал Джон Мэтьюз собственной персоной.
Одного взгляда на этого человека было достаточно, чтоб почувствовать страх и отвращение.
Маленькие, темные, быстро бегающие глаза сидели глубоко под нависшими густыми бровями и низким, испещренным глубокими морщинами лбом. Темно-каштановые сальные волосы ниспадали до плеч, скрывая огромные уши и делая лоб Злого Джона еще более узким, чем он был на самом деле.
Когда он говорил, тонкие губы обнажали редкие, прокуренные до черноты зубы. Длинный нос был загнут и походил на клюв огромной хищной птицы. Под ним щетинились грязные рыжие усы.
Легкие туфли, ярко-синие панталоны и кремовая рубаха, расстегнутая от ворота до пояса, составляли его одежду.
Предводитель пиратов был с ног до головы забрызган кровью. Шпага, которой он мастерски владел, лежала у него на коленях.
— Вот это встреча! — Злой Джон растянул свои тонкие губы в подобие улыбки. Его маленькие глазки на миг остановились и впились в Долорес.
— Я рад этой встрече, Джон! Скажу больше, я ее искал. Во всех портах, куда заходила «Ласточка», я спрашивал, как найти тебя…
— Какое совладение! И я, с тех пор как поклялся рассчитаться с тобой за Веракрус, с нетерпением ждал того же…
— То было в честном бою, — спокойно продолжал Девото, не обращая внимания на то, что тон Злого Джона становился зловещим. — Теперь разговор пойдет о деле…
— Но на сей раз никакая уловка тебе не поможет, испанская гиена. Прибью гвоздями к палубе. На ней и высохнешь.
Девото почувствовал, как Долорес задрожала. Он положил руку ей на плечо и, чуть повысив голос, ответил:
— Мог бы найти более удачное сравнение. Но где уж тебе? Ты, Злой Джон, тем всегда и отличался, что запах крови мешал тебе разумно рассуждать. Я искал тебя и знаю, что это тебе хорошо известно. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, — и Девото, покосившись на Осуну, ибо минута была решающей, нежно привлек к себе девушку, — на сей раз речь пойдет о таком деле, которое могло бы быть по плечу твоему тезке Моргану, Олонесу или нам с тобою вместе. Дело твое… Последний раз говорю тебе, что я шел на «Ласточке» в Пуэрто-Рико только за тем, чтобы встретить тебя.
— Для того чтобы я сдержал свою клятву: отрезал тебе руки, ноги и высадил в Гаване?
— Заодно уж и язык, чтобы я никому не смог рассказать о том, какой ты кретин и как ты потерял несметные богатства из-за своей тупости, что ты из-за слепой мести не желаешь видеть счастья, которое само плывет к тебе в руки?..
— Довольно слов! О чем речь? — перебил его Злой Джон.
— О двух галеонах, полных серебра, драгоценностей и золота!
В кают-компании воцарилась такая тишина, что было слышно, как сеньор Осуна перевел дыхание. Пираты ждали, что скажет их предводитель. Злой Джон задержал свой взгляд на лице Девото. Тот понял смысл немого вопроса.
— Через месяц они поднимут паруса…
— И ты их поведешь… — В голосе Злого Джона звучала ирония. — Откуда тебе это известно?
— Поведу их не я, а Де ла Крус Поэтому я и знаю о дне и месте сбора каравана.
— Клянусь святым Патриком! С ним я тоже рано или поздно повстречаюсь.
— Но не в этот раз. Я позаботился, чтобы в нужном месте его «Каталина» сбилась с пути и отстала. Только так мы сможем проскочить к каравану…
— И твой друг заодно с нами?..
— Не делай вида, что ты не знаешь о нашем разрыве. Я решил покончить с морем. Но мне нужна последняя хорошая добыча. Настоящая! Чтобы до конца дней хватило. И этот караван я не упущу! — Девото говорил с таким вдохновением, что оно передавалось находившимся в каюте пиратам.
— Когда и где? — глухим голосом спросил Джон.
— Вот это другое дело. Но помни, никому, ни тебе, ни мне в одиночку не взять этой добычи… Там всего много… На всех хватит… С тобой вдвоем они у нас в руках. Ну, а насчет того, где и как?.. Не все сразу, дорогой Джон. Я доволен, что ты наконец понял… Я ведь не люблю дурацких шуток и если что-либо делаю, то делаю наверняка…
— Разорвал, говоришь… А доказательства? — глухо произнес Злой Джон.
Девото сделал быстрый шаг вперед. Джон положил руку на эфес шпаги. Все насторожились в ожидании того, что же сейчас произойдет. Девото распахнул камзол, одним движением руки расстегнул рубаху. Главарь пиратов и те, кто был рядом с ним, увидели почти под самым сердцем длинный свежий рубец.
— Если бы острие его шпаги не наткнулось на ребро и не скользнуло в сторону, ты никогда больше не видел бы меня и богатая добыча, которую теперь мы с тобой возьмем, уплыла бы в Испанию, — Девото говорил и застегивал рубаху.
— А это с тобой кто? — спросил Злой Джон, чтобы уйти от темы, так как знал, что Девото пока больше ничего не скажет — слишком много присутствовало в каюте людей.
— Моя жена, ее дядя и Бартоло. Не узнаешь «Черную скалу»? Кстати, вот тебе еще одно доказательство, что на «Каталине» вянут паруса, она гниет изнутри… — Но Девото не закончил.
— Жена?! — Злой Джон рассмеялся. — Что-то я не слышал, чтобы ты женился, а? Когда это она стала твоей женой?
— Недавно, когда осиротела. О ее отце ты, должно быть, слышал, губернатор Капо де Вальдеррама, — ответил Девото, голосом и всем споим видом давая понять, что сейчас его интересует совсем другое. — Об этом я тебе еще расскажу. Давай-ка решать, что делать дальше… У «Ласточки» ход быстрее, чем у тебя…
— Ну и что?
— А то, что у испанских кораблей он будет не меньше. К тому же они ждут попутного ветра…
— Погоди об этом… Вначале давай о деле. Где корабли? Сколько там золота? — Злой Джон заметил, как Девото обводит взглядом присутствующих. — Все на палубу! Том, ты садись рядом.
Пока пираты выходили из каюты, первый помощник Злого Джона — рыжебородый ирландец Том Гренвиль встал за спиной своего капитана. В руках Том держал медный корабельный гвоздь и занимался тем, что сгибал и разгибал его пальцами. Девото много слышал о храбрости и находчивости Тома, но никогда не думал, что самым заметным в его внешности будут голубые глаза. Они были чистыми и невинными, как у младенца, и могли ввести в заблуждение кого угодно.
— Бартоло! Проводи Долорес и сеньора Осуну в их каюты, — меж тем распорядился Девото.
— То есть как! — возмутился Злой Джон. — Кто распорядился, чтобы они не присутствовали при нашем разговоре?
— С твоего разрешения, капитан! — И Девото, подойдя к Долорес, ласково подтолкнул ее к выходу.
— Вот именно, а я разрешения не давал. — И, обращаясь к Тому, зло добавил: — Можно подумать, что он здесь капитан.
— Что касается моей жены, Джон, разреши все-таки мне самому решать, что ей делать. А потом, согласись, нам проще говорить о делах не в присутствии женщины. — Девото сказал это таким спокойным голосом, что Джон не нашел возражений.
— Хорошо! Так сколько там золота и откуда караван начнет свой путь? — спросил предводитель пиратов, когда они остались втроем.
— Золото и серебро в слитках, жемчуг, изумруды, другие драгоценные камни, всего на сумму не менее шестисот тысяч… на каждом. — Девото знал, какое впечатление эти его слова должны были произвести на пиратов, и поэтому сделал паузу.
Злой Джон, чтобы не дать своему собеседнику прочесть радость в его глазах, отвел их в сторону, Том от изумления открыл рот.
— Где они собираются? — спросил Джон, переведя дух.
— Оба галеона по двадцать восемь бортовых орудий охраняются двумя быстроходными фрегатами. Один из них — «Каталина» Де ла Круса. Он будет сопровождать караван до Санто-Доминго. Там, у губернатора, уже есть предписание: к каравану прикомандируют еще два боевых корабля. — Девото продолжал говорить, словно Джон и не задавал ему своего вопроса. — Сам понимаешь, что перехватить их следует до Санто-Доминго, или мы видели сокровище как упавшее в море ядро.
— Откуда они выходят? — Злой Джон начинал сердиться, но Девото, ничуть не смущаясь, ответил:
— Все в свое время, Джон. Все в свое время… Мы с тобой еще не договорились о главном. — И Девото, подойдя к шкафчику, раскрыл его, достал бутылку рома и три стаканчика.
— Прошу…
— Довольно! — Злой Джон с силой стукнул ладонью по столу. — Где собирается караван?
Девото спокойно разлил в стаканчики ром, поднял один, жестом руки дал понять, что пьет за здоровье присутствующих, и залпом отправил содержимое в рот.
— Зачем тебе, Джон, знать об этом, если мне все известно? Я проведу оба корабля к каравану. Мои люди задержат «Каталину» и дадут нам возможность незаметно приблизиться к галеонам. Остальное сделаешь ты со своими людьми. Таким образом, наше участие будет равным. Или ты хочешь действовать один?
Вопрос Девото застал врасплох пирата, и тот сдался:
— Ну хорошо! Твои условия?
— Вот это другой разговор. — Девото еще раз наполнил свой стаканчик: — Прошу за нашу встречу.
Том выпил, а Джон, не прикасаясь к стакану, спросил:
— Ну?
— На галеонах и фрегатах — «Каталина», сам понимаешь, будет выведена из игры — огневая мощь несколько больше нашей, но в общей сложности у них не должно быть более трехсот человек. Я думаю, что, пока «Каталина» подойдет, мы уже успеем выиграть бой.
— Ты что мне зубы заговариваешь? Чего ты тянешь? — неожиданно вспыхнул Джон и стукнул кулаком по столу. — Ида забыл, что я могу заставить говорить любого?
Девото с пренебрежением посмотрел на Злого Джона и медленно, растягивая слова, произнес:
— Будь я чуть глупее, за эти слова проткнул бы тебя, как индюшку, и выпустил на волю твою никчемную душонку…
— Что ты сказал? — Злой Джон схватил шпагу, а Девото спокойно сделал шаг назад.
— Только такой идиот, как ты, может подумать, что меня, Девото, можно силой заставить говорить. Ты хочешь потерять единственную возможность стать человеком? Золото, серебро и драгоценности, ты получаешь удовольствие от продажи вонючих камней по ценам в десять раз дешевле настоящей цены. Повтори еще раз, что ты сказал, и не видать тебе богатства, как своего затылка.
— Мой капитан, послушай! Ведь Девото не так уж несправедлив. В конце концов, он поступает, как поступал бы и ты на его месте. — Том понимал, что ссора не приведет к добру. Он подошел к Злому Джону и заискивающе посмотрел ему в глаза. — Он ведь Девото…
— Условия! Назови твои условия. — Злой Джон положил шпагу на стол.
— Пятая часть…
Том от удивления сел, а Злой Джон вскочил на ноги. Ни один мускул не дрогнул на лице Девото.
— Спокойно! Пятая часть мне и доля боцмана «Черной скале».
— Ну, знаешь! Тут и моему терпению приходит конец. — Том поднялся с кресла и выхватил из-за пояса пистолет.
— Твой выстрел вам обойдется в миллион, двести тысяч золотых дублонов.[342] — Девото скрестил руки на груди.
— Все это сказки, капитан. Одно твое слово, и он сейчас же закачается на рее. — Том распалялся все больше, но вовремя заметил, как Злой Джон застучал пальцами левой руки по подлокотнику кресла. Том и другие приближенные Злого Джона знали, что это был верный признак того, что их предводитель придумал нечто весьма забавное.
— Я уверен, что любой из вас потребовал бы ту же законную пятую часть. — Девото был непреклонен.
— Том, давай бумагу, чернила и перо. Послушаем, что дальше скажет сеньор Девото. — Злой Джон уселся поудобнее в мягком кресле капитана Дюгарда и выпил ром. — Позови Кейнса и двух матросов. Итак, твои условия…
Соглашение, которое подписали Злой Джон, Девото и в качестве свидетелей три представителя команды пиратов: боцман Кейнс и два матроса, было выработано в течение последующего часа. В результате Девото остался на «Ласточке» капитаном. Ему в помощники Злой Джон назначил Тома и боцмана Кейнса. Когда Девото отбирал девяносто человек в состав новой команды «Ласточки», Злой Джон, видя, как откровенно каждый из его людей стремился попасть под начало Девото, демонстративно покинул мостик и отправился на бак. Том догнал своего командира у грот-мачты.
— Джон, ты утратил здравый рассудок! Посмотри, что делается! Отдать ему под начало «Ласточку»! Он уйдет на ней…
— А ты зачем? Вместе с Кейнсом не спускайте, с него глаз.
— Но как ты мог согласиться на голую часть?
— Когда сокровища будут в наших трюмах, кто станет соблюдать условия этой бумаги?
Том с удивлением остановился.
— Что, не доходит? — На губах Злого Джона заиграла насмешливая улыбка. — Когда дело будет окончено, мы поговорим с ним другим языком. Тогда мы спросим с него за все… а сейчас выполняй его указания. Пусть он чувствует себя капитаном. Он сказал, что идем к острову Горда. Значит, караван должен собираться в Веракрусе или в Картахене.
— Да, но где?
— Что бы ни случилось, Том, встречаемся у западной стороны острова или в устье реки Коко. А если Девото не шутит, то нам всем хватит до конца нашей жизни. Игра стоит свеч.
Королевский инспектор хотел было что-то сказать, но Девото сделал знак. Совсем рядом с каютой раздался сухой пистолетный выстрел и топот людей, мчавшихся по коридору. Дверь резко распахнулась, и в нее ввалились пираты. Осуна и стоявшая рядом с ним Долорес прижались к стене каюты, Бартоло сделал шаг к двери, загородив собой Девото. Увидев, как спокойно пассажиры встретили их появление, ворвавшиеся в каюту опешили.
Долорес окинула пиратов быстрым взглядом. Все они были полуобнажены, с яркими платками на головах, босые.
— Женщина! — крикнул кто-то из морских разбойников, и это слово прозвучало словно призыв.
Пираты рванулись вперед. Бартоло с мачете в руках отступил и принял боевую стойку. Девото, положив ладони на торчавшие из-за пояса пистолеты, громко, но спокойно произнес:
— Стойте! Продырявлю череп любому, кто сделает хоть шаг! Я — Девото! Пригласите сюда вашего капитана!
Оттолкнув маленького кривоногого пирата, вперед вышел здоровенный толстяк, из левого плеча которого струилась кровь, в правой руке он держал абордажную саблю.
— Девото был храбр! Знал многое, но чтобы он умел воскресать из мертвых? Я что-то об этом не слыхал. Ха-ха-ха!
— Не понимаю тебя. Объясни!
— Девото был убит на дуэли своим другом.
— Я был ранен, но не убит, как видишь.
— Что? Послушайте, он настаивает! Ха-ха! У Девото в венах текла голубая кровь. Давайте-ка, братья, пустим ему ее и посмотрим.
— Зачем же так? — Девото был спокоен, более того, он вел разговор с пиратом, как если бы был его другом. — Давай лучше поглядим, кто из нас первым выхватит пистолет.
— One, two… — Кто-то из пиратов принялся считать. — Three!
Толстяк только успел наполовину выдернуть из-за пояса штанов пистолет, как дуло, направленное на него, заплясало перед его глазами.
— Семь тысяч дьяволов! — Пират замер от удивления, а Девото не спеша отправил пистолет обратно за пояс.
— Здесь не очень-то удобно, но мы можем скрестить и шпаги. Я доставлю тебе удовольствие узнать, как фехтует Девото, возвратившийся с того света…
Кто-то из пиратов засмеялся.
— Если ни Девото, то скажите, кто спас вам жизнь на острове Пинос? — спросил пират, стоявший у самой двери каюты.
— Слуга моего друга.
— А что было с ним в Монтего-Бей?
— Он попал в плен, но я спас его от верной смерти, переодевшись в английского офицера.
— А как его зовут? — не сдавался пират, хотя по его тону чувствовалось, что этот вопрос был последним.
— Бартоло! Вот он! Он здесь, со мной… — Девото указал на негра. — Довольно! Лучше иди за своим капитаном.
— А что у вас произошло с Де ла Крусом? — Теперь вопрос задал кривоногий пират.
— Это не твоего ума дело. Расскажу капитану. Если он сочтет нужным, узнаете и вы.
— Идите! Ну! — Бартоло стал наступать на пиратов, и они попятились.
На палубе уже было тихо. Те, кто сопротивлялся, были перебиты. Бедный Дюгард лежал, приткнувшись к перилам мостика, с раскроенной головой. Пираты выносили из кают и трюмов вещи и сваливали их на палубе в кучу.
— Первое сражение выиграно. И неплохо! — Девото ласково поглядел на Долорес — Но помните, по-прежнему все зависит от вас. Вы должны делать все, что я скажу.
Посыльный Злого Джона появился через четверть часа. Очевидно, капитан пиратов пожелал вначале выслушать доклады своих главарей о захвате «Ласточки».
— Приказано вам пройти в кают-компанию, — пренебрежительно сказал здоровенный детина и уставился на Долорес.
Первым к выходу двинулся Бартоло, за ним Девото, но на палубе, под взглядом более чем двух сотен алчных глаз, он учтиво пропустил девушку с инспектором вперед.
В кают-компании, в кресле капитана Дюгарда, восседал Джон Мэтьюз собственной персоной.
Одного взгляда на этого человека было достаточно, чтоб почувствовать страх и отвращение.
Маленькие, темные, быстро бегающие глаза сидели глубоко под нависшими густыми бровями и низким, испещренным глубокими морщинами лбом. Темно-каштановые сальные волосы ниспадали до плеч, скрывая огромные уши и делая лоб Злого Джона еще более узким, чем он был на самом деле.
Когда он говорил, тонкие губы обнажали редкие, прокуренные до черноты зубы. Длинный нос был загнут и походил на клюв огромной хищной птицы. Под ним щетинились грязные рыжие усы.
Легкие туфли, ярко-синие панталоны и кремовая рубаха, расстегнутая от ворота до пояса, составляли его одежду.
Предводитель пиратов был с ног до головы забрызган кровью. Шпага, которой он мастерски владел, лежала у него на коленях.
— Вот это встреча! — Злой Джон растянул свои тонкие губы в подобие улыбки. Его маленькие глазки на миг остановились и впились в Долорес.
— Я рад этой встрече, Джон! Скажу больше, я ее искал. Во всех портах, куда заходила «Ласточка», я спрашивал, как найти тебя…
— Какое совладение! И я, с тех пор как поклялся рассчитаться с тобой за Веракрус, с нетерпением ждал того же…
— То было в честном бою, — спокойно продолжал Девото, не обращая внимания на то, что тон Злого Джона становился зловещим. — Теперь разговор пойдет о деле…
— Но на сей раз никакая уловка тебе не поможет, испанская гиена. Прибью гвоздями к палубе. На ней и высохнешь.
Девото почувствовал, как Долорес задрожала. Он положил руку ей на плечо и, чуть повысив голос, ответил:
— Мог бы найти более удачное сравнение. Но где уж тебе? Ты, Злой Джон, тем всегда и отличался, что запах крови мешал тебе разумно рассуждать. Я искал тебя и знаю, что это тебе хорошо известно. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, — и Девото, покосившись на Осуну, ибо минута была решающей, нежно привлек к себе девушку, — на сей раз речь пойдет о таком деле, которое могло бы быть по плечу твоему тезке Моргану, Олонесу или нам с тобою вместе. Дело твое… Последний раз говорю тебе, что я шел на «Ласточке» в Пуэрто-Рико только за тем, чтобы встретить тебя.
— Для того чтобы я сдержал свою клятву: отрезал тебе руки, ноги и высадил в Гаване?
— Заодно уж и язык, чтобы я никому не смог рассказать о том, какой ты кретин и как ты потерял несметные богатства из-за своей тупости, что ты из-за слепой мести не желаешь видеть счастья, которое само плывет к тебе в руки?..
— Довольно слов! О чем речь? — перебил его Злой Джон.
— О двух галеонах, полных серебра, драгоценностей и золота!
В кают-компании воцарилась такая тишина, что было слышно, как сеньор Осуна перевел дыхание. Пираты ждали, что скажет их предводитель. Злой Джон задержал свой взгляд на лице Девото. Тот понял смысл немого вопроса.
— Через месяц они поднимут паруса…
— И ты их поведешь… — В голосе Злого Джона звучала ирония. — Откуда тебе это известно?
— Поведу их не я, а Де ла Крус Поэтому я и знаю о дне и месте сбора каравана.
— Клянусь святым Патриком! С ним я тоже рано или поздно повстречаюсь.
— Но не в этот раз. Я позаботился, чтобы в нужном месте его «Каталина» сбилась с пути и отстала. Только так мы сможем проскочить к каравану…
— И твой друг заодно с нами?..
— Не делай вида, что ты не знаешь о нашем разрыве. Я решил покончить с морем. Но мне нужна последняя хорошая добыча. Настоящая! Чтобы до конца дней хватило. И этот караван я не упущу! — Девото говорил с таким вдохновением, что оно передавалось находившимся в каюте пиратам.
— Когда и где? — глухим голосом спросил Джон.
— Вот это другое дело. Но помни, никому, ни тебе, ни мне в одиночку не взять этой добычи… Там всего много… На всех хватит… С тобой вдвоем они у нас в руках. Ну, а насчет того, где и как?.. Не все сразу, дорогой Джон. Я доволен, что ты наконец понял… Я ведь не люблю дурацких шуток и если что-либо делаю, то делаю наверняка…
— Разорвал, говоришь… А доказательства? — глухо произнес Злой Джон.
Девото сделал быстрый шаг вперед. Джон положил руку на эфес шпаги. Все насторожились в ожидании того, что же сейчас произойдет. Девото распахнул камзол, одним движением руки расстегнул рубаху. Главарь пиратов и те, кто был рядом с ним, увидели почти под самым сердцем длинный свежий рубец.
— Если бы острие его шпаги не наткнулось на ребро и не скользнуло в сторону, ты никогда больше не видел бы меня и богатая добыча, которую теперь мы с тобой возьмем, уплыла бы в Испанию, — Девото говорил и застегивал рубаху.
— А это с тобой кто? — спросил Злой Джон, чтобы уйти от темы, так как знал, что Девото пока больше ничего не скажет — слишком много присутствовало в каюте людей.
— Моя жена, ее дядя и Бартоло. Не узнаешь «Черную скалу»? Кстати, вот тебе еще одно доказательство, что на «Каталине» вянут паруса, она гниет изнутри… — Но Девото не закончил.
— Жена?! — Злой Джон рассмеялся. — Что-то я не слышал, чтобы ты женился, а? Когда это она стала твоей женой?
— Недавно, когда осиротела. О ее отце ты, должно быть, слышал, губернатор Капо де Вальдеррама, — ответил Девото, голосом и всем споим видом давая понять, что сейчас его интересует совсем другое. — Об этом я тебе еще расскажу. Давай-ка решать, что делать дальше… У «Ласточки» ход быстрее, чем у тебя…
— Ну и что?
— А то, что у испанских кораблей он будет не меньше. К тому же они ждут попутного ветра…
— Погоди об этом… Вначале давай о деле. Где корабли? Сколько там золота? — Злой Джон заметил, как Девото обводит взглядом присутствующих. — Все на палубу! Том, ты садись рядом.
Пока пираты выходили из каюты, первый помощник Злого Джона — рыжебородый ирландец Том Гренвиль встал за спиной своего капитана. В руках Том держал медный корабельный гвоздь и занимался тем, что сгибал и разгибал его пальцами. Девото много слышал о храбрости и находчивости Тома, но никогда не думал, что самым заметным в его внешности будут голубые глаза. Они были чистыми и невинными, как у младенца, и могли ввести в заблуждение кого угодно.
— Бартоло! Проводи Долорес и сеньора Осуну в их каюты, — меж тем распорядился Девото.
— То есть как! — возмутился Злой Джон. — Кто распорядился, чтобы они не присутствовали при нашем разговоре?
— С твоего разрешения, капитан! — И Девото, подойдя к Долорес, ласково подтолкнул ее к выходу.
— Вот именно, а я разрешения не давал. — И, обращаясь к Тому, зло добавил: — Можно подумать, что он здесь капитан.
— Что касается моей жены, Джон, разреши все-таки мне самому решать, что ей делать. А потом, согласись, нам проще говорить о делах не в присутствии женщины. — Девото сказал это таким спокойным голосом, что Джон не нашел возражений.
— Хорошо! Так сколько там золота и откуда караван начнет свой путь? — спросил предводитель пиратов, когда они остались втроем.
— Золото и серебро в слитках, жемчуг, изумруды, другие драгоценные камни, всего на сумму не менее шестисот тысяч… на каждом. — Девото знал, какое впечатление эти его слова должны были произвести на пиратов, и поэтому сделал паузу.
Злой Джон, чтобы не дать своему собеседнику прочесть радость в его глазах, отвел их в сторону, Том от изумления открыл рот.
— Где они собираются? — спросил Джон, переведя дух.
— Оба галеона по двадцать восемь бортовых орудий охраняются двумя быстроходными фрегатами. Один из них — «Каталина» Де ла Круса. Он будет сопровождать караван до Санто-Доминго. Там, у губернатора, уже есть предписание: к каравану прикомандируют еще два боевых корабля. — Девото продолжал говорить, словно Джон и не задавал ему своего вопроса. — Сам понимаешь, что перехватить их следует до Санто-Доминго, или мы видели сокровище как упавшее в море ядро.
— Откуда они выходят? — Злой Джон начинал сердиться, но Девото, ничуть не смущаясь, ответил:
— Все в свое время, Джон. Все в свое время… Мы с тобой еще не договорились о главном. — И Девото, подойдя к шкафчику, раскрыл его, достал бутылку рома и три стаканчика.
— Прошу…
— Довольно! — Злой Джон с силой стукнул ладонью по столу. — Где собирается караван?
Девото спокойно разлил в стаканчики ром, поднял один, жестом руки дал понять, что пьет за здоровье присутствующих, и залпом отправил содержимое в рот.
— Зачем тебе, Джон, знать об этом, если мне все известно? Я проведу оба корабля к каравану. Мои люди задержат «Каталину» и дадут нам возможность незаметно приблизиться к галеонам. Остальное сделаешь ты со своими людьми. Таким образом, наше участие будет равным. Или ты хочешь действовать один?
Вопрос Девото застал врасплох пирата, и тот сдался:
— Ну хорошо! Твои условия?
— Вот это другой разговор. — Девото еще раз наполнил свой стаканчик: — Прошу за нашу встречу.
Том выпил, а Джон, не прикасаясь к стакану, спросил:
— Ну?
— На галеонах и фрегатах — «Каталина», сам понимаешь, будет выведена из игры — огневая мощь несколько больше нашей, но в общей сложности у них не должно быть более трехсот человек. Я думаю, что, пока «Каталина» подойдет, мы уже успеем выиграть бой.
— Ты что мне зубы заговариваешь? Чего ты тянешь? — неожиданно вспыхнул Джон и стукнул кулаком по столу. — Ида забыл, что я могу заставить говорить любого?
Девото с пренебрежением посмотрел на Злого Джона и медленно, растягивая слова, произнес:
— Будь я чуть глупее, за эти слова проткнул бы тебя, как индюшку, и выпустил на волю твою никчемную душонку…
— Что ты сказал? — Злой Джон схватил шпагу, а Девото спокойно сделал шаг назад.
— Только такой идиот, как ты, может подумать, что меня, Девото, можно силой заставить говорить. Ты хочешь потерять единственную возможность стать человеком? Золото, серебро и драгоценности, ты получаешь удовольствие от продажи вонючих камней по ценам в десять раз дешевле настоящей цены. Повтори еще раз, что ты сказал, и не видать тебе богатства, как своего затылка.
— Мой капитан, послушай! Ведь Девото не так уж несправедлив. В конце концов, он поступает, как поступал бы и ты на его месте. — Том понимал, что ссора не приведет к добру. Он подошел к Злому Джону и заискивающе посмотрел ему в глаза. — Он ведь Девото…
— Условия! Назови твои условия. — Злой Джон положил шпагу на стол.
— Пятая часть…
Том от удивления сел, а Злой Джон вскочил на ноги. Ни один мускул не дрогнул на лице Девото.
— Спокойно! Пятая часть мне и доля боцмана «Черной скале».
— Ну, знаешь! Тут и моему терпению приходит конец. — Том поднялся с кресла и выхватил из-за пояса пистолет.
— Твой выстрел вам обойдется в миллион, двести тысяч золотых дублонов.[342] — Девото скрестил руки на груди.
— Все это сказки, капитан. Одно твое слово, и он сейчас же закачается на рее. — Том распалялся все больше, но вовремя заметил, как Злой Джон застучал пальцами левой руки по подлокотнику кресла. Том и другие приближенные Злого Джона знали, что это был верный признак того, что их предводитель придумал нечто весьма забавное.
— Я уверен, что любой из вас потребовал бы ту же законную пятую часть. — Девото был непреклонен.
— Том, давай бумагу, чернила и перо. Послушаем, что дальше скажет сеньор Девото. — Злой Джон уселся поудобнее в мягком кресле капитана Дюгарда и выпил ром. — Позови Кейнса и двух матросов. Итак, твои условия…
Соглашение, которое подписали Злой Джон, Девото и в качестве свидетелей три представителя команды пиратов: боцман Кейнс и два матроса, было выработано в течение последующего часа. В результате Девото остался на «Ласточке» капитаном. Ему в помощники Злой Джон назначил Тома и боцмана Кейнса. Когда Девото отбирал девяносто человек в состав новой команды «Ласточки», Злой Джон, видя, как откровенно каждый из его людей стремился попасть под начало Девото, демонстративно покинул мостик и отправился на бак. Том догнал своего командира у грот-мачты.
— Джон, ты утратил здравый рассудок! Посмотри, что делается! Отдать ему под начало «Ласточку»! Он уйдет на ней…
— А ты зачем? Вместе с Кейнсом не спускайте, с него глаз.
— Но как ты мог согласиться на голую часть?
— Когда сокровища будут в наших трюмах, кто станет соблюдать условия этой бумаги?
Том с удивлением остановился.
— Что, не доходит? — На губах Злого Джона заиграла насмешливая улыбка. — Когда дело будет окончено, мы поговорим с ним другим языком. Тогда мы спросим с него за все… а сейчас выполняй его указания. Пусть он чувствует себя капитаном. Он сказал, что идем к острову Горда. Значит, караван должен собираться в Веракрусе или в Картахене.
— Да, но где?
— Что бы ни случилось, Том, встречаемся у западной стороны острова или в устье реки Коко. А если Девото не шутит, то нам всем хватит до конца нашей жизни. Игра стоит свеч.
* * *
К вечеру этого же дня «Ласточка» и не более чем в кабельтове от нее «Злой Джон» под полными парусами шли строго на запад. Те из матросов, которые не знали Девото, лично смогли убедиться в правдивости слов своих товарищей, отзывавшихся о нем с восхищением. Точные команды и требование быстрого и беспрекословного их выполнения позволили «Ласточке» освободиться от абордажных крючьев и отойти от «Злого Джона», не повредив ни одной реи, ни единого ванта. Палуба корабля блестела, на ней уже не было заметно следов недавнего кровавого сражения. Впереди по курсу, над горизонтом быстро, словно поднимаясь из самого моря, росла плотная темная стена. По мере ее увеличения верхний край во многих местах разламывался на кучевые облака, к которым катилось становившееся пурпурным солнце. Начинался один из неповторимых по красоте карибских закатов — свидетельство скорого приближения осенних циклонов. Вначале кармин коснулся тяжелой синевы далеких туч, затем весь западный участок неба заполыхал красками от бледно-розовой до ультрафиолетовой. С наступлением сумерек ветер изменил направление и усилился. Девото переставил паруса. «Ласточка» увеличила ход, и сразу по палубе «Злого Джона» забегали матросы. Разрыв между кораблями заметно увеличивался, хотя пиратский фрегат тут же поставил все паруса, вплоть до кливеров и блинда. На мостике «Ласточки» появился Том. У грота на шкафуте стояли Кейнс с двумя десятками пиратов. — Что происходит? — недовольно спросил Том. — Гренвиль, примите командование кораблем. Мне надо было кое в чем убедиться, — распорядился Девото тоном, не допускавшим возражений, и подошел к трапу. — Хитрите… — Нет. Но теперь я знаю наверное: не струсь Дюгард, вы догоняли бы его до сих пор и мне, чтобы увидеть вас, пришлось бы применять силу. Курс зюйд-вест до пересечения с шестнадцатой, а потом строго по параллели. И на полных парусах, но так, чтобы не отрываться от них. Желаю успеха. Прикажите боцману поднять меня с рассветом. Внимательно проверив, как матросы несут вахту, Девото направился в кают-компанию. Там его с нетерпением ждали Долорес, королевский инспектор и Бартоло, спокойно сидевший у входа в каюту. В это время в каюте шел разговор. — Сегодня одному богу известно, что будет с нами. — Глаза Долорес блестели от слез. — Вижу, что наконец здравый смысл начинает брать верх над вашим легкомыслием. В следующий раз вы не будете столь легковесны в суждениях о таких, как этот Девото. — Осуна налил из графина воды. — В следующий раз… А будет ли он? — еще печальнее произнесла Долорес. — Я же сразу пытался убедить вас, что этот Девото… — А если будет… то лишь именно благодаря ему. — Девушка оживилась: — Да, если у нас и есть хоть один шанс, то он в руках Девото… — У Девото? Этого гнусного пирата! Так ловко обманувшего капитана Дюгарда и нас с вами. — В гибели капитана он не виноват, а нас с вами… Пока что он сохранил нам с вами жизнь… — Неизвестно, для чего. — Осуна Недвусмысленно посмотрел на Долорес. — Дон Томас! — вспыхнула девушка. — Для этого он прежде всего отправил бы вас на тот свет! А он сделал вас своим родственником… — Лола! Дорогая, что вы говорите! За что вы меня обижаете? Меня, который вас так любит, что готов свою жизнь отдать за вас… В этих словах была неподдельная искренность, и девушка в знак извинения протянула руку в сторону сеньора Осуны. — Простите меня, Томас. Я меньше всего хотела вас обидеть, но вы иногда бываете так несправедливы. — Несправедлив! Разве это то, что вы должны были увидеть во мне? — Осуна быстро приблизился к дивану, на котором сидела девушка, и взял ее руки в свои. — Никто другой на моем месте, любя вас так бескорыстно, не был бы столь незаслуженно осужден. Как можно мое беспокойство за вас принять за несправедливость по отношению к вам, дорогая Лола? — Извините еще раз, Томас — Девушка повернула голову к своему собеседнику, и в ее глазах засветилась нежность. — Разве мог я поступать иначе, когда смертельная опасность нависла над женщиной, которую я так люблю! — Голос астурийца перешел на шепот, и он попытался обнять девушку. Долорес сжалась в комочек, ее лицо стало пунцовым. — Что вы такое говорите, дон Томас? — Она резко оттолкнула сеньора Осуну. — Вы… вы… объясняетесь мне в любви? Сейчас? — Сеньорита! —Королевский чиновник поднялся с дивана, делая вид, что рассержен. В это время в дверь каюты постучали, и она распахнулась. — Что здесь происходит? Никак, мои гости ссорятся? — спросил вошедший Девото. Долорес сидела бледная, со сжатыми губами, а Осуна резко сказал: — Как это понимать — ваши гости? Можно подумать… — Можно подумать, что пока все идет, как я и предполагал. Я назначен капитаном «Ласточки», вы в относительной безопасности… — Какую безопасность может гарантировать нам человек, силой захвативший место убитого Дюгарда? — с негодованием произнес Осуна. Новый партнер Злого Джона смерил взглядом Осуну и медленно, чеканя каждое слово, произнес: — В моем присутствии вы, сеньор Томас Осуна де Кастро и Лара, барон де Фуэнтемайор, можете рассуждать как вам заблагорассудится и говорить все, что только вам взбредет в голову, но малейшая глупость в присутствии посторонних, и я не ручаюсь за то, что вам удастся еще раз в этой жизни что-либо сказать или даже подумать. А вас, — Девото с легким наклоном головы обратился к Долорес, — прошу поверить мне на слово и напрасно не терзать себя сомнениями. — Мы в вашей власти, — сказала она тихо. — Вы хотите сказать, под моей защитой… Что касается власти, то она едина для всех. Все мы находимся во власти обстоятельств, Долорес, и я еще раз прошу вас… — Нет, это я вас прошу обращаться к даме с большим уважением и не допускать подобной фамильярности. — Осуна вновь потерял над собой контроль. — Вы беспредельно глупы, Томас, так как забываете, что Долорес моя жена, а вы мой родственник. И возьмите себя в руки, или вы действительно полагаете, что рея «Ласточки» не выдержит тяжести тела знатного вельможи, королевского инспектора заморских колоний? — Девото резко повернулся на каблуках высоких сапог и направился к двери. — Через полчаса прошу вас ко мне в каюту на ужин. За столом будут мои помощники. Рекомендую помнить о нашем разговоре.* * *
Ближе к полуночи ветер утих. «Ласточка» медленно скользила по волне, и от этого на борту жара ощущалась с еще большей силой. Духота темной тропической ночи — звездной, но без луны — выгнала всех без исключения на палубу. Девото, который за прошедшие три дня сумел завоевать среди команды непререкаемый авторитет, находился с матросами на баке. Он рассказывал им очередную историю из жизни испанского королевского двора. Для подавляющего большинства матросов рассказы Девото казались сказками. Да и разве когда-нибудь какой другой капитан разговаривал так со своими матросами? Помощник предводителя пиратов Том Гренвиль и боцман Кейнс не могли не видеть, что превосходное знание морского дела и товарищеское отношение к экипажу корабля вызывали уважение матросов и желание служить новому капитану верой и правдой. Оба они, Гренвиль и Кейнс, сытно отужинав вместе с Долорес и сеньором Осуной, вышли на палубу и, прижавшись спинами к переборке, тихо беседовали. Уже последний матрос отправился отдыхать в свой гамак, а Гренвиль и Кейнс все продолжали разговор. Не спалось и Долорес, которая за последние дни немного успокоилась. Причин тому было достаточно. Пока ей никто и ничто не угрожало, сеньор Осуна изменил свое отношение ко всему, стал малоразговорчивым, Бартоло был внимателен и предупредителен, пытался угадать любое ее желание. Он всегда находился рядом с Лолой: спал в гамаке, растянутом в коридоре рядом с входом в ее каюту, и сопровождал ее в прогулках по палубе. В эту ночь, когда на корабле затихло, Долорес, изнемогая от жары, решила поискать прохлады на палубе. Но ей не хотелось тревожить Бартоло, и она проскользнула мимо него так осторожно, что он не проснулся. Оказавшись на палубе, она услышала приглушенные голоса и, чтобы ее не заметили, прижалась к борту. В это время потянул легкий бриз, и Долорес услышала обрывки фраз: — …посмеемся над ним… — …доля в двести сорок тысяч дублонов… — …сказал, что поделит между нами… — … Девото проиграет. Услышав имя Девото, Долорес сделала несколько шагов вперед. Теперь она видела спины Гренвиля и Кейнса, которые тихо разговаривали. Ветер доносил к Долорес их голоса. Чувство страха гнало ее обратно в каюту, но еще более сильное чувство, природу которого она не могла определить, удерживало ее на месте. — Однако знаешь, Кейнс, я все же думаю, Девото понимает, что Джону верить нельзя. Второго, как он, хитреца не сыскать на Карибах. Он или не нашел никого другого, с кем взять это богатство, или у него что-то свое на уме! — А отчего ему нам не верить? — Боцман концом расстегнутой рубахи вытер грудь. — Он ведь гранд, флибустьер из старых — они уважали слово, тем более есть подписанный контракт. Нам только надо ничем не показывать вида… — Да это уж точно. Он такая бестия… Пока сокровища не будут в трюмах «Джона», нам придется потерпеть, а уж потом… потом мы свое возьмем, Кейнс. Клянусь парусами «Джона», я сам лично попробую, насколько крепкие у этого испанца косточки. От таких слов Долорес стало холодно. Она тихо прокралась к своей каюте и разбудила Бартоло. Сначала тот никак не мог понять, что так разволновало девушку, но как только ему стало ясно, что она требует позвать Девото, он тут же пошел за ним. Внимательно слушая уже несколько успокоившуюся Долорес, Девото отметил ее бесстрашие и подумал, что, в отличие от королевского инспектора, она его союзница. У Девото было свое, особое отношение к женщинам — на то были веские причины, но, слушая Долорес и чувствуя ее неподдельное возмущение по поводу возможной измены, испанский моряк невольно поймал себя на мысли о том, что думает о девушке с уважением. Когда она закончила, он очень спокойно сказал: — Сеньорита, вы уж извините, но погоду, как бы я ни старался, мне не переделать. Жара действует на всех удручающе… Вам, сеньорита, следует побольше отдыхать. В подобную жару, да еще ночью, может почудиться любое. Я только что выходил на палубу, там абсолютно никого нет. Бартоло, приготовь сеньорите примочки из апельсинового цветка. — Но, сеньор… — попыталась возразить девушка. — Не спорьте. Мой вам совет: постарайтесь побыстрее заснуть. Мои друзья — вне подозрений. Спокойной ночи! Уходя, Девото сделал незаметный знак Бартоло. Этой же ночью в каюте капитана между ними состоялся разговор. — Ты видел что-нибудь подобное? Вот мерзавцы! Нет, времена настоящих пиратов ушли в прошлое. Остались воры и бандиты, г- говорил Девото, расхаживая по каюте. — Будь особенно осторожен. Постарайся завтра же утром успокоить Долорес и посоветуй ей ничего не говорить Осуне. Будь с ней поласковей, Бартоло. Рассвет встретил «Ласточку» неспокойным морем. Небо затянули рваные тучи. Налетевший внезапно ветер не принес ощутимой прохлады, но дул порывисто. Где-то, совсем близко, зарождался первый в этом году циклон. Девото, поднявшись на мостик, отдал команду. Боцман Кейнс повторил ее и тут же послал первого, кто оказался рядом, немедленно разбудить Гренвиля, который, очевидно, еще спал. Через три минуты, не более, паруса на «Ласточке» заработали все до единого. Бриг словно напружинился и помчался вперед, незаметно набирая скорость и увеличивая расстояние между ним и «Злым Джоном». Невооруженным глазом было видно, как на пиратском корабле забеспокоились. Матросы помчались на реи. Фрегат тоже поставил полные паруса, но «Ласточка» от него уходила. В тот момент, когда Гренвиль, бормоча ругательства, поднимался по трапу, Девото отнял от глаз подзорную трубу. Он видел, как на фрегате бомбардиры уже готовили носовые пушки. — Лево руля! Лечь в дрейф! Шлюпку на воду! Матросы поспешно исполняли команды Девото. На «Злом Джоне» не сразу разгадали маневр «Ласточки», и, пока сняли паруса, фрегат проскочил мимо брига. — Гренвиль, остаетесь за старшего! Я ухожу к Джону. Не корабль, а старое корыто… — Последние слова Девото уже произносил, приближаясь к штормтрапу. Озабоченный вид, решительный приказ и быстрота действий Девото не дали Гренвилю узнать, что, собственно, задумал его капитан. Когда Девото спрыгнул в шлюпку, Гренвиль проворчал: — Бесноватый! Кейнс, старина, следи за ним дальше, а я пойду догляжу сон. — И Том отправился в свою каюту. Через четверть часа Девото уже поднимался по трапу «Злого Джона». Его капитан в окружении старших по положению пиратов встретил Девото на шкафуте. — Какая муха укусила тебя, испанец голубых кровей? Что ты еще задумал? Или пятая доля показалась тебе малой? Смотри, мое терпение может лопнуть… — Я хочу обсудить детали наших общих действий и поговорить кое о чем серьезном, — ответил Девото, не обращая внимания на недружелюбный тон. В его голосе, спокойном и холодном, менее всего можно было услышать нотки страха. — А! Ну, это другое дело… Пойдем в каюту. Нед, Билл и ты, Фред, послушаем, что он нам сегодня скажет. На большом, давно не мытом дубовом столе кают-компании «Злого Джона» валялись пустые бутылки и остатки еды. Девото сел в кресло, оглядел присутствующих и, обращаясь к Джону, сказал: — Возможно, ты и сам понял, зачем я дважды на «Ласточке» ставил полные паруса. Командуй ею я вместо Дюгарда, ты бы по сей день догонял меня, если б, конечно, давно не был бы отправлен на дно морское. К грязному днищу твоего фрегата давно не прикасалась рука плотника. Джон сначала растерялся, но потом нагло расхохотался. Его поддержал молоденький шкипер. Второй помощник Билл и боцман Фред внимательно слушали, что еще скажет Девото. — Ты всегда казался мне хвастуном, чванливый испанец! Но это уже слишком! Ты станешь говорить о деле или… — Или ты прежде поглядишь на Билла и своего верного Фреда. Они не смеются, Джон. — Что?! — А то, что они умнее тебя и понимают, насколько в деле, которое мы с тобой задумали, важен ход твоего корабля. Внезапность! Быстрота в атаке! — Ты еще меня не знаешь! И что ты можешь сказать о «Злом Джоне»? — Предводитель пиратов был полон самоуверенности, но уже перестал смеяться. — Я твердо знаю одно: сегодня «Злой Джон» не способен принять участие в деле, которое нам предстоит. А проигрывать его я не желаю. И тебе не советовал бы рисковать и вести своих людей на заведомую гибель… — Но ты же сам говорил, что они лишь чуть сильнее нас. — Да, однако гораздо маневреннее. — Что ты предлагаешь? — Злой Джон начинал терять терпение. — Уравновесить шансы. — Как? — Почистить днище. — Сейчас предлагаешь килевать?.. — Губы Злого Джона побелели от бешенства, он медленно поднялся. — Да! Другого выхода у тебя нет! И это мое условие. — Что? Кто здесь капитан? Ты, никак, опять вздумал командовать! Клянусь святым Патриком, я отправлю тебя к праотцам и один разобью этих испанцев. Шкипер Нед больше не улыбался, второй помощник Билл опустил глаза, а на широком, покрытом шрамами лице боцмана Фреда зашевелились густые брови. — Встань! — заревел Джон. — Встань, и я выпущу твою голубую кровь из вен! — Вижу, ты не согласен, — не обращая внимания на ярость Джона, так же спокойно, как и прежде, сказал Девото. — Тогда поставим точку. Сражения не будет. Сокровищ тоже. Поворачивай на Ямайку. Высадишь меня в Кингстоне и делай что знаешь. — Как? — Теперь со своего места поднялся Билл, глаза его стали краснее тамаринда.[343] — Что это значит, Девото? — А то, что, если твой капитан заведомо намерен потопить фрегат и отправить тебя и еще три сотни душ в царство Нептуна, я в эту игру не играю. Джон сделал шаг в сторону и выхватил шпагу из ножен. — Повтори! — прорычал он. — Джон, а что подумают твои люди? Не выживаешь ли ты из ума! Что скажешь команде? Разделался со мной только за то, что я предлагал тебе лучше подготовиться к сражению, предлагал сделать самое необходимое, чтобы сохранить фрегат и жизнь людям. Дай мне поговорить с ними, и я погляжу, кто здесь станет главным. Если бы я к этому стремился, то давно принял твой вызов. Вместо этого я выслушиваю, как последний трус, твои угрозы, которые в другой раз не потерпел бы ни от кого на свете. — От меня стерпишь! Ты у меня на корабле. Выходи на палубу… Вздерну!.. — Но не раньше, чем ты ответишь за свои слова! — Девото встал и принялся стягивать перчатку. — Ну зачем, капитан, портить то, что так хорошо началось? — Боцман Фред приблизился к стоявшему у кресла Девото. — Тем более, клянусь нашей дружбой, на сей раз испанец прав. — И ты с ним заодно? — Злой Джон заскрежетал зубами. — И я, Джон! — Всегда рассудительный, второй помощник Билл положил руку на плечо Злого Джона: — Ты настаиваешь и идешь на риск. Девото прав. Вот только когда сделать? Нужно время… — Оно у нас есть. Месяц без малого. День встречи с караваном — 20 сентября. — Где? — Глаза Джона были полны ненависти. — А, нет! Я пришел к тебе, чтобы рассказать все, но после такой встречи ты у меня подождешь, Джон. Или ты думаешь, что у меня в венах течет не кровь, а вода? — Хорошо! — Джон опустился в свое кресло, схватил недопитую кем-то рюмку, осушил ее и, глядя на шкипера, забарабанил пальцами по грязному столу. — Хорошо! Я много о тебе слышал, но чтобы ты был… — Ну зачем ты опять начинаешь, Джон? — Фред взял бутылку, поставил перед Девото чистую рюмку и налил ему и Джону рома. — Поговорим о деле… — Ты прав, Фред. Поговорим. Так что ты предлагаешь, Девото? — Сейчас идем к островам Каратаска. С западной стороны там есть небольшой необитаемый островок с заливом. Залив, вход в него, обширный пляж скрыты высоким густым лесом, есть питьевая вода, необходимый строительный материал, птицы, черепахи. Но главное… — Девото несколько повысил голос, — главное — этот островок находится не более чем в двух — трех днях хорошего хода от места встречи. — Что скажешь, Билл? И ты, Фред, что думаешь по этому поводу? — Я однажды отсиживался на этих островах с полгода. Для нашей цели лучше не придумать, — ответил Билл. — Вокруг на много миль ни души, — заметил Фред. — Тогда будем считать, что договорились. — Вот видишь, Джон, когда ты начинаешь думать, с тобой приятно иметь дело. Девото поднял свою рюмку, Злой Джон свою, они выпили и мирно расстались. Когда шлюпка, увозившая Девото на «Ласточку», отвалила от борта «Злого Джона», его капитан процедил сквозь зубы: — При всей своей хитрости этот испанец не знает, что его ждет.* * *
Самый придирчивый осмотр бухты, пляжа, леса и всего побережья не дал Злому Джону возможности к чему-либо придраться. Место для скрытой стоянки двух кораблей и килевания одного из них было выбрано как нельзя удачнее. Узкий вход в чистый от кораллов, довольно глубокий и просторный залив изгибался, чем скрадывал бухту от взоров с моря. Створы бухты — левый, сплошь покрытый подступавшими вплотную к воде мангровыми зарослями и лесом, правый, обрывистый, с нависшим над водою утесом, — также надежно укрывали похожий на лапу гигантского якоря залив. Растянувшийся не менее чем на три четверти мили широкий песчаный пляж искрился под лучами солнца. На нем лежали огромные кагуамы — зеленые суповые черепахи, важно расхаживали розовые фламинго, отдыхали после утомительной охоты длинноклювые пеликаны, чистили свои перышки цапли. Все это пернатое царство насторожилось и пришло в движение, когда с шумом и плеском ушли на дно якорные цепи. За пляжем зеленой стеной стояли рощицы кокосовых пальм, за ними шли холмы, чередуясь с ложбинами, где буйствовала тропическая растительность. Злой Джон не желал терять ни часа. Как только корабли были поставлены на якоря, он половину своей команды немедленно отрядил на берег. Там началось строительство крепких плотов, на которые предстояло разгрузить пиратский фрегат. Вторая половина экипажа занялась подготовкой к разоружению корабля. К следующему вечеру на берегу были построены длинные бараки, навес для столовой и бунгало для Злого Джона. За три дня с фрегата сняли все, что можно было снять, и команда съехала на берег. Началась подготовка к самому сложному делу — вытягиванию корпуса на сушу. Предводитель пиратов созвал своих помощников на совет. Гренвиль и Кейнс прибыли первыми. Их беспокоило то, что Девото оставался на корабле и команда «Ласточки», принимавшая днем участие во всех работах, на ночь возвращалась на борт судна. Помощники Злого Джона, видя, как быстро Девото завоевал среди матросов уважение и любовь, боялись, что он в любую ночь может поднять мятеж, арестовать их, захватить «Ласточку» и безнаказанно уйти в море. Однако опасения Гренвиля и Кейнса были напрасны. Злой Джон встретил их словами: — Завтра рядом со вторым ручьем будет построено жилье, а здесь — еще один навес. Пригласите ко мне на завтрак Девото, а к вечеру он и вся команда «Ласточки» переселятся сюда! — Не перестаю удивляться твоему уму, Джон, — сказал, улыбаясь, Гренвиль. На следующий день, когда на «Ласточке» оставалось всего полдюжины матросов, Осуна, Долорес и Бартоло, на бриг прибыли Девото, Гренвиль и десять гребцов. Старший помощник немедленно направился на ют, где под тентом отдыхала Долорес. — По поручению капитана Джона, сеньора, я должен просить у вас извинения за причиняемое вам беспокойство. Капитан распорядился вместе с тем сделать все необходимое, чтобы сохранить те же удобства, которые вы имеете на корабле, — сказал Гренвиль, стараясь быть учтивым. Долорес удивленно поглядела на Девото. Тот улыбался. — Дорогая, я думаю, что на берегу вам с Томасом не будет хуже. — Это еще почему? — вспылил Осуна. — Ну, если так нужно… — Девушка опустила глаза, ей показалось, что она уловила в улыбке и словах Девото тревогу. — Но, может быть, все-таки… — Нет! Прошу, там будет тебе так же удобно. Пройдем, дорогая, в каюту. Там, когда Девото остался наедине с Долорес и Осуной, он нервно сказал: — Я был против, но оказался бессильным! Это очень плохо. Однако сейчас ничего иного сделать нельзя. Прошу вас подготовиться к отъезду. Долорес и Осуна впервые видели, как взволнован превосходно умевший держать себя в руках Девото. Вошел Бартоло. — Мой капитан, — обратился он к Девото, — мы должны собираться немедленно? — Да, Бартоло. И как можно быстрее. Сеньорита и сеньор Осуна оставят корабль к вечеру. Подготовь их и наши личные вещи, а я распоряжусь о том, что следует снять на берег, чтобы должным образом обставить новое жилье. Когда Долорес и Осуна подошли к месту их будущего жилья, их приятно удивило то, что они увидели. Легкий деревянный домик, построенный вплотную к песчаному откосу, по которому росли пальмы, стоял рядом с двумя добротными шалашами. Рядом журчал ручей, росли деревья, там были разбиты навесы под кухню и столовую. Не успела Долорес разложить свои вещи, как появился Злой Джон со свитой. Матросы бережно несли миниатюрный резной трельяж, несметное количество склянок, банок и пузырьков, содержимое которых неопровержимо доказывало, что прежде они принадлежали состоятельной моднице, и мягкие атласные подушки. Шкуру американского кагуара нес Гренвиль. Все это предводитель пиратов, многозначительно улыбаясь, преподнес девушке и просил ее обращаться к нему, если ей что-либо будет нужно. После ужина сеньор Осуна, не проронивший во время еды ни слова, отвел Девото в сторону и, нахмурившись, сказал: — Надеюсь, вы не намерены устраиваться на ночлег в доме, отведенном для сеньориты. — Не надейтесь, ибо я обязан по правилам, существующим в нашем с вами обществе, разделить если не ложе, то крышу с моей женой, — ответил Девото шутливо и тут же, приняв серьезный вид, продолжил: — Неужели вы не видели, сеньор королевский инспектор, какими глазами Злой Джон глядел сегодня на Долорес. Не хватает только, чтобы у него зародилось хоть малейшее сомнение. Довольно, сеньор Осуна, мне и без вас хватает неприятностей. Спокойной ночи. Девото вошел в шалаш за своим плащом, с тем чтобы лечь на песке перед входом в дом, где спала Долорес. Утром Девото вместе с предводителем пиратов наблюдал, как на пляже кипела работа, отмечая про себя ошибки, которые допускал пират. Злой Джон был груб с матросами, часто отдавал приказы, требовавшие от них излишнего напряжения сил. К середине дня повалившийся набок корпус лег на катки. К обеду уже обнажилось все днище. Оно сплошь, особенно киль и руль, било покрыто ракушками, моллюсками, разными переплетавшимися между собой водорослями. Картина, представшая перед взором главарей пиратов, красноречивее любых слов говорила, что Девото был прав, настаивая на необходимости откилевать «Злого Джона». Пока жаркое солнце делало свое дело, пираты отдыхали. Солнечные лучи должны были высушить водоросли и убить моллюсков, чтобы затем было легче их опалить и очистить днище. Пираты веселились, пили и играли в карты. Девото переходил от одной группы к другой. Везде его принимали с радостью. Вечерами он брал гитару и развлекал матросов песнями. Его рассказы о баснословных сокровищах, которые испанские галеоны собираются увезти в Европу, разжигали страсти и утверждали в каждом из пиратов мысль, что только он, Девото, сможет сделать так, что эти богатства окажутся в их руках. Злой Джон между тем стал каждый вечер наведываться к Долорес, и его приближенные замечали, что он норовит сделать это в отсутствие Девото. Явно назревал скандал, который мог лишить пиратов возможности напасть на испанские галеоны и завладеть деньгами и драгоценностями. Первым, в ком заговорил голос разума, был Фред. Его неожиданно и рьяно поддержал Нед — он сам был неравнодушен к молодой испанке. Гренвиль и Кейнс согласились с доводами Фреда, а второй’ помощник Билл предложил поговорить со Злым Джоном. Главарь пиратов пришел в неописуемую ярость, как только понял, о чем ведет с ним разговор его друг Билл. Но, почувствовав, что все его ближайшие помощники заодно с Биллом, немного остыл, хотя сдался лишь после того, как Гренвиль сказал: — Ты поразмысли хорошенько, Джон. Сам знаешь, модные тряпки и губернаторские манеры у Девото — все это пыль, которую он пускает всем в глаза. Он хитер, умен и бесстрашен. Думаешь, он не заметил то, что все мы увидели? Полагаешь, так просто он все дни проводит среди твоих людей? Лучше подумай об этом. А девчонку в тот же вечер, как мы уйдем в море с полным трюмом, я сам приведу к тебе. На следующий день Злой Джон пригласил к себе Девото: — Послушай, капитан, не поискать ли тебе лучше занятие более достойное, чем якшаться с матросами? И потом… к чему эти всякие разговоры? Мы с тобой знаем о конечной цели, а зачем им об этом знать? А? Учти, мне самому нравится командовать моими людьми. Девото пристально поглядел на Джона, потом на каждого из присутствовавших, словно бы говоря: «Вы слышали, что он говорит?» И спокойно ответил: — А мне, Джон, нравится самому делать комплименты моей жене. Джон раскусил зубочистку, подумал, насколько его друзья оказались более прозорливыми, чем он сам. Однако, не подавая вида, что смущен, ответил: — Не понимаю, о чем ты, но будем считать, что мы договорились. Ты занимайся молодой женой и ее именитым родственником, а я — кораблем. Ночи не проходит, чтобы я во сне не видел черную кошку, викария или похоронную процессию… Дьявол меня с тобой попутал…* * *
После этого разговора дни в маленьком лагере Девото потянулись еще монотоннее. Правда, каждый вечер капитан отлучался, чтобы тайно встречаться с теми из людей Злого Джона, которые верой и правдой стали ему служить, днем он не знал, чем ему заняться. Долорес помогала Бартоло. Они вместе уходили в лес в поисках съедобных фруктов, клубней дикого картофеля — ямса, земляного ореха. Бартоло всячески проявлял свое расположение к девушке: выбирал ей лучшую еду и фрукты, приносил цветы. Сеньор Осуна, первые дни мучившийся мыслью, что Девото может обидеть Долорес, теперь успокоился. Он настолько пополнел, что однажды Девото пригласил его поупражняться с ним на шпагах, чтобы быть в надлежащей настоящему мужчине форме. С той поры они не пропускали дня, чтобы не уйти в холмы и там на зеленой лужайке не пофехтовать часок — другой. Но все же особенности характера королевского инспектора нет-нет да и давали себя знать. Как-то вечером, после ужина, Осуна в присутствии Долорес неожиданно спросил Девото: — Скажите, а что вы намерены делать с нами после того, как совершите бандитский налет на испанские корабли? Даже невозмутимый Бартоло выронил из рук ложку. Долорес пожала плечами, а Девото в свою очередь спросил: — Вы не шутите? Нет! Ну, тогда, должно быть, вы или беспредельно глупы, или до безумия бесстрашны. Хотя последнего качества я что-то за вами не замечал. Вы просто провокатор, сеньор Осуна. Но и на сей раз у вас ничего не выйдет. Спокойной ночи! Девото встал тут же растворился в темноте. Долорес, ни слова не говоря, поднялась и ушла к себе. Этой ночью Девото, спавший, как и прежде, у самого входа в домик Долорес, был разбужен легким прикосновением чьей-то руки. Проворно вскочив на ноги, он выхватил из-за пояса пистолет. Но увидел перед собой девушку, которая прижимала палец к губам. — Что случилось? — Ничего, сеньор Девото. Я хочу поговорить с вами. — Долорес присела на лежавший у входа ствол дерева. — Сядьте рядом со мной, капитан. Мне так неловко за сеньора Осуну. Я с каждым днем все больше убеждаюсь, как вам трудно. А сеньор Осуна словно слепой. — Это бы еще хорошо, а то он глуп, как индюк, и я не могу быть ни минуты спокоен, что он не наделает большой беды. Вам часто приходилось встречать людей, которые делали только то, что приносило им радость, удовольствие, удовлетворение? — Не понимаю вас, сеньор Девото. — А это так просто. Большинство людей, да и мы тоже только и занимаемся тем, что решаем проблемы, продиктованные нам необходимостью: утоляем голод или жажду, ликвидируем неудобства, стремимся добыть средства к существованию, стараемся сохранить свою жизнь или близких нам людей… Возникла пауза, потом девушка сказала: — Вы не ответили Осуне на его вопрос, а мне, сеньор Девото, вы можете сказать, что же будет с нами? — И поскольку капитан молчал, девушка продолжила: — Зачем вы так со мною поступили тогда, на корабле, когда я случайно услышала разговор Гренвиля и боцмана? Вы же знали, что это не было галлюцинацией? И потом, как вы можете быть спокойным, верить им, зная, что они не сдержат данное вам слово? — Сеньорита, я вижу, вы не осуждаете меня за поступок, который я вместе с ними намерен совершить. Вы переживаете по поводу того, что потом будет со мной. Благодарю вас! Мне приятно сознавать, что вы связываете свое благополучное возвращение в ваш мир с моей судьбой. — Да! А между тем вы мне не доверяете. — Мне нечего от вас скрывать, сеньорита. — Не могу в это поверить, сеньор Девото! Если вы с ними не заодно, то, значит, чего-то ждете. Девото внимательно поглядел в глаза девушки. — Жду… Жду благоприятных для меня обстоятельств. — Откройте мне свой план, и я успокоюсь. Отчего вы мне не доверяете? — Это вы, сеньорита, не верите мне. — Да это единственное, что у меня осталось. — Вот и хорошо! Верьте мне, Долорес. Вы смелая. Ваша выдержка уже не раз помогала мне. Прошу вас, не тревожьтесь за свою судьбу. Девушка видела, что ее собеседник не понимал или делал вид, что не понимает ее, и поэтому продолжала настаивать: — Посвятите меня в свои планы, Девото, и вы не пожалеете об этом. — Но у меня нет никаких особых планов. Я лишь жду более удобного случая. Прошу вас об одном: не теряйте веры в меня. Клянусь, я вызволю вас отсюда невредимой, если, конечно, буду жив. — Боже мой! — еле слышно прошептала девушка и скрылась в доме. В ту ночь Девото долго не мог заснуть…* * *
На пятнадцатые сутки пребывания пиратов на островке, после того как с огромным усилием корпус фрегата был перевернут на другой борт, в отряде Злого Джона вспыхнула драка. Она возникла случайно, из-за места в тени, но между давнишними партнерами — соперниками в карточной игре. Тот, кого во время потасовки обвинили в постоянном шулерстве, выхватил нож и прирезал своего обидчика. Желая отомстить за смерть товарища, за оружие взялись его друзья. Нашлись и защитники убийцы. Отряд вмиг разделился на две враждующие, готовые броситься друг на друга партии. Ни Злой Джон, ни его помощники не могли остановить готовую начаться бойню. В этот момент на пляже появился Девото. Его предупредила Долорес, издали видевшая, что начинается драка. — Стойте! Смерть хотя бы десятка людей может лишить нас сокровищ! Кто из вас не желает легких денег? — Эти его слова мгновенно произвели необходимый эффект. — Пусть ваш капитан, как это и положено, вынесет приговор. Злой Джон ободрился: — Судьба уже решила, кто должен понести наказание. Вот он лежит… — Но он не мог закончить фразы. Вопль протеста заглушил его слова, и пираты вновь стали угрожающе приближаться друг к другу. — Стойте! — снова, с трудом перекрывая рев обезумевших людей, прокричал Девото. — Я знаю, как справедливо можно решить спор. Верьте мне! Девото всегда был с вами! — Капитан перевернул пустую бочку и вскочил на нее. — Пусть те, кто видели, как началась драка, выйдут сюда. (Человек десять приблизились к бочке). И те, кто знают, как играет в карты он, обнаживший нож против своего товарища. (Еще человек пятнадцать вышло из рядов.) Вот они пусть решат, кто был прав, а кто виноват. На пляже воцарилась мертвая тишина. Злой Джон, видимо, хотел что-то сказать и сделал шаг вперед, но Девото не терял времени. — Пусть те, кто считает погибшего виновным, поднимут руки. (Таких оказалось девять.) Кто считает, что убийца достоин наказания? В тот миг людьми не могло управлять ничто иное, кроме справедливости. Теперь в воздух взметнулось семнадцать рук. Еще через десять минут пират, который убил своего товарища, был повешен и мир восстановлен. Этой же ночью Долорес вновь разбудила Девото. Она извинилась, что мешает ему отдыхать, но просила понять ее переживания, вызванные печальными событиями дня. — Я не могу заснуть, сеньор Девото, от мысли, что люди могут так безжалостно поступать друг с другом, — говорила срывающимся голосом девушка, садясь на мешок с водорослями, который минуту назад служил капитану подушкой. — Для этих людей жизнь никогда не имела цены. И убийство одним другого мало кого волновало. Однако они не могли пройти мимо нарушения принципа. Это и было главной причиной, толкнувшей людей на кровавое столкновение. Капитан Джон плохо знает своих людей. — А если бы не вмешались вы? — Могло произойти непоправимое. В такие минуты пощады не бывает никому. От накала страстей, бывает, и море загорается. — И Злого Джона могли убить? — Могли… Но могло все обернуться и другой стороной. Поэтому я не должен был позволить случайности… — Лишить вас возможности завладеть испанским караваном? Девото пристально поглядел на Долорес, чье лицо было совсем близко от него. — Что бы вы ни говорили, Девото, мне с каждым днем все больше кажется, что вы не тот человек, кому по душе грабеж, насилия и жестокость. Девото ничего не ответил. Долорес негромко спросила: — А как случилось, что вы стали флибустьером или корсаром, сеньор Девото? Извините, я не знаю, что будет более соответствовать действительности. Моряк еще пристальнее поглядел на девушку и в свою очередь спросил: — Вас по-настоящему это интересует или вы спрашиваете так, чтобы о чем-то поговорить? — Разве я могла бы позволить себе подобную нетактичность? — Долорес опустила глаза. — Ну зачем же так строго себя судить, сеньорита? Мне понятно движение души вашей, ясен ход ваших мыслей. Ведь от того, что в конечном счете я собой представляю, во многом зависит и ваша судьба. — Девото умолк, глядя на вспыхивающую яркими бликами линию прибоя. — Все началось с Европы… В нашей с вами мрачной Испании я стал чувствовать себя лишним… В поисках свободы действий и мысли, в попытке найти возможность приложить себя, свою энергию, с ощутимой для меня и таких, как я, людей отдачей, я выехал в Новый Свет… Здесь тоже было не лучше… Правители — губернаторы, алькальды, альгуасилы — пользуются еще большей абсолютной и бесконтрольной властью. Разные проходимцы и дельцы, умеющие из любого положения извлекать выгоду, здесь, в колониях, процветают еще с большим успехом, чем в Испании. Правда, вскоре я встретил людей, близких мне по духу, и посвятил свою жизнь борьбе со злом… с теми, кто нарушал покой мирных селений и городов, кто враг моих соотечественников, стремящихся, как я потом понял, здесь, за океаном, на этой земле построить лучшую жизнь, чем та, которая существует в Испании… Долорес слушала и не понимала смысла слов ее собеседника. — Ну, а как же вы… — Девушка запнулась, но затем решительно закончила: — как же вы теперь идете с ними на грабеж… с англичанами против испанцев? Девото ответил не сразу. — В жизни человека бывают моменты, не всегда объяснимые на первый взгляд… — начал он, но спохватился и после небольшой паузы сказал: — Будет куда справедливее, если сокровища, которыми набиты трюмы галеонов, останутся здесь, а не отправятся в королевскую казну. Кто вора очистил обитель, тот не грабитель, сеньорита. Уже поздно. Идите спать, Долорес. Спокойной ночи! Следующей ночью Долорес снова вернулась к разговору о том, что жизнь флибустьера или корсара не может быть уготована судьбой капитану Девото. — Когда вы среди них, я смотрю и вижу или только этих людей, или вас одного. В моем представлении вы не можете быть единым целым. Я представляю вас среди грандов, в королевском дворе. Вы, Девото, могли бы столько сделать рядом с вице-королем Новой Испании. Капитана передернуло от этих слов, но он сдержался: — Я был при дворе вице-короля дона Гаспара Де ла Серда Сандоваля Сильва и Мендоса. Однако единственно достойной в его окружении была монахиня, которую вы, Долорес, мне очень напоминаете. Она была поэтессой. Звали ее Хуана Иннес Де ла Крус Вы читали ее стихи? Долорес отрицательно покачала головой. — Талант вознес ее на вершину славы… но чтобы честно жить… она ушла в монастырь. — Но неужели вы никогда не думали о семье? Вы могли бы принести счастье… — Долорес хотела сказать: любой женщине, но смутилась и замолчала. — Я? — быстро спросил Девото и тут же сказал: — Но для этого прежде что-то или ктоло должен возвратить мне веру в женскую чистоту, постоянство, бескорыстие… — Вас жестоко обманули? — Но теперь дело уже не только в том, что собой представляют женщины того мира, с которым я навеки порвал. Подумайте сами, кому я могу предложить эту руку, столько раз обагренную кровью? Какая женщина пожелает стать матерью детей, у отца которых такое прошлое, как у меня? Кто, наконец, поверит сердцу, состоящему из осколков? — Бедный! — еле слышно прошептала Долорес и убежала. Утром девушка не вышла к завтраку, за обедом не глядела на Девото и, как только закончили трапезу, встала и куда-то ушла. К обеду следующего дня Девото разыскал Долорес, сидевшую на одном из ближайших холмов под тенью пальмы и глядевшую, как пеликаны ловили рыбу на мелководье там, где ручей выносил свои воды в залив. — Сеньорита, вы огорчаете меня своим легкомыслием. Поступок ваш нельзя судить, но он, поверьте, не оправдывает риска, которому вы себя подвергаете. Все утро лагерь Злого Джона возмущался. Капитану пиратов и мне с трудом удалось уговорить людей, бросивших работу, не идти к вам. Эти ваши цветы на могиле двух несчастных… — Но я сделала это от чистого сердца. — Долорес поднялась на ноги, и свежий ветер взметнул ее длинные волосы. — Порыв ваш тронул и меня, но вы не подумали о последствиях. Во-первых, как вы сами оцените то, что вы ходили на могилы в одиночестве и об этом не знал ваш супруг? Злой Джон, сеньорита, человек, который не умеет руководить своими страстями. — Тень озабоченности не сходила с лица Девото. — Да, вчера он говорил мне такие слова, что я пригрозила сообщить о них вам. Он провожал меня и настойчиво требовал, чтобы я приняла в подарок драгоценное ожерелье. Вначале он говорил, что это в знак благодарности за память к погибшим, а потом стал объяснять, что он… — Вот именно! Зачем же тогда создавать ситуации, которые для нас с вами могут закончиться плачевно? — Извините, сеньор Девото. Обещаю вам впредь быть благоразумной. Верьте мне! Но как избавиться от притязаний Злого Джона, скажите? Я вчера так боялась, что он возвратится… — Что отказались от ужина… — Да! Прошу вас, Девото, сделайте что-нибудь! Оградите меня от Злого Джона. — В голосе и во взгляде девушки было столько мольбы, что капитан забыл о том, что еще хотел сказать ей. — Злой Джон, сеньорита, не самое страшное. Его мне не трудно обезопасить, но вот… — Что может быть еще? — испуганно спросила Долорес. — В этих местах, — Девото внимательно глядел в ее глаза, — в этих местах, Долорес, может появиться корабль без флага, и вот тогда… тогда трудно себе сейчас представить, что произойдет. — Чей корабль? Не отвечая на вопрос, Девото сказал: — Поэтому я хотел бы просить вас каждое утро после завтрака подниматься на холм, что в центре острова, и смотреть, не появился ли корабль с резной женской фигурой на носу. Если вы согласны, то подзорную трубу, чтобы вам лучше было видно, возьмете у Бартоло. Однако об этой моей просьбе никому ни слова, даже сеньору Осуне. Девушка с радостью согласилась.* * *
Теперь Долорес каждое утро уходила в глубь острова. Девото и Осуна после завтрака скрывались за холмами и там упражнялись на шпагах. Бартоло оставался в их маленьком лагере — у него было достаточно забот по хозяйству. Злой Джон тут же заметил, что Долорес вот уже несколько дней уходит одна и бродит по острову. «Наконец! Теперь я увижу ее без этого проклятого Девото, — решил пират. — Надо быть идиотом, чтобы не использовать такой момент». Заметив, что Долорес поднимается на холм, он тут же позабыл обо всем, о разговоре, который с ним имели его ближайшие сподвижники, о данном им слове и, крадучись, чтобы никто не заметил, последовал за ней. Он увидел девушку одиноко стоявшей на самом высоком холме у ветвистого дерева гванабана. — Сеньора изволит любоваться природой? — спросил Злой Джон из-за спины Долорес, дождавшись, когда та, внимательно осмотрев горизонт, отняла подзорную трубу от глаз. Долорес вздрогнула от неожиданности, но тут же взяла себя в руки. — Сеньор капитан ищет моего мужа?
— Совсем нет, прекрасная сеньора. — Пристальный взгляд Злого Джона не предвещал ничего хорошего. — Вы любуетесь природой, а я пришел полюбоваться вами. Неужели лес, долины, зеленые холмы, цветы вам дороже богатых украшений, а? — Он опустил руку в карман камзола. Перед глазами испуганной Долорес засверкало бриллиантовое колье. — Сегодня я принес вам кое-что еще забавнее. Берите! Это вам.
— Вряд ли моему мужу понравится, что я принимаю подарки от посторонних мужчин, — ответила Долорес, прислоняясь к широкому стволу дерева и собирая все силы, чтобы не проявить перед Злым Джоном охватившего ее чувства страха.
— В преисподнюю мужа! Святой Патрик! Эта женщина отказывается от таких бриллиантов! Да они принадлежали самому сиру Моргану, а теперь будут украшать вашу грудь, — с этими словами Злой Джон приблизился вплотную к девушке. Долорес задрожала.
— Сеньор, прошу вас не забываться! Я расскажу об этом мужу…
— Будет поздно!
Лицо пирата налилось кровью, он сделал еще шаг вперед и ловко защелкнул на шее Долорес замок колье. Потом обхватил обеими руками стан девушки и прижал ее к себе. Долорес рванулась, но Злой Джон крепко держал ее в своих объятиях.
— Отпустите! Слышите, капитан, отпустите! — закричала Долорес и стала отбиваться от пирата, который хотел ее поцеловать.
Вдруг за его спиной раздался негромкий голос Девото:
— Что здесь происходит?
Джон резко обернулся, а Долорес ловко выскользнула из его рук.
Злой Джон молниеносно отпрыгнул в сторону и положил руку на эфес шпаги. На тропке, ведущей на холм, показались королевский инспектор с обнаженной шпагой и еще несколько пиратов. Предупрежденный Долорес, Девото попросил одного из преданных ему людей следить за Злым Джоном. Увидев, что капитан последовал в холмы за Долорес, один из бомбардиров команды «Ласточки» немедленно сказал об этом Девото.
— Вижу, вы, капитан, чересчур откровенно выражаете сеньоре Девото чувства своего к ней уважения. — Лицо испанца было белым, на губах играла недобрая улыбка, глаза потускнели. — Однако это можно делать и на расстоянии. Прошу вас, впредь не сочтите за труд, если…
— Если? Что если?.. Клянусь богом, святым Патриком и «Злым Джоном»! Ты не знаешь, Девото, что случалось с теми, кто становился мне поперек дороги! — Глухой, перехваченный гневом голос пирата срывался и переходил на зловещий свист.
— В данном случае могу предвидеть. Один из нас должен будет уйти, и не думаю, что им буду я!
— Чтоб черти меня изжарили на медленном огне в аду! Сгори «Злой Джон», если я не уважаю твою смелость! Но запомни: ты единственный человек на земле, кто может пока… пока, говорю, похвастать, что угрожал Злому Джону.
— Лучше будет, если ты поведаешь эту сказку кому-либо другому, а заодно расскажешь Гренвилю, Кейнсу, Неду, Фреду и Биллу о том, что сейчас здесь произошло. Прошу тебя, оставь нас! Да и не забудь захватить и эту вещицу. — Девото снял с шеи Долорес колье и швырнул его Джону.
— Ну, я с тобой еще поговорю! — прорычал тот. — Я доставлю тебе счастье узнать, что такое ад, до того, как ты туда попадешь! — И стал спускаться с холма.
— Надеюсь, это животное не причинило вам боли? — спросил Девото, обращаясь к Долорес.
— Хвала всевышнему, что вы существуете! Если б мой отец был жив!..
— Возможности подсказал бы, что делать мне сейчас…
— Но вы не станете преследовать Злого Джона? — В голосе девушки звучало глубокое беспокойство.
— К сожалению, нет! Первый раз в жизни я должен поступить не так, как мне диктует сердце, а как повелевает разум.
— Дайте мне слово, Девото, никогда не оставлять меня одну!
Девото внимательно поглядел в глаза Долорес и покачал головой.
— Прошу вас, не ходите больше без заряженного пистолета. И если Джон еще раз появится на вашем пути, стреляйте без раздумья. Теперь вся команда будет на вашей стороне, а об остальном позабочусь я.
Долорес утвердительно кивнула.
— Сеньор капитан ищет моего мужа?
— Совсем нет, прекрасная сеньора. — Пристальный взгляд Злого Джона не предвещал ничего хорошего. — Вы любуетесь природой, а я пришел полюбоваться вами. Неужели лес, долины, зеленые холмы, цветы вам дороже богатых украшений, а? — Он опустил руку в карман камзола. Перед глазами испуганной Долорес засверкало бриллиантовое колье. — Сегодня я принес вам кое-что еще забавнее. Берите! Это вам.
— Вряд ли моему мужу понравится, что я принимаю подарки от посторонних мужчин, — ответила Долорес, прислоняясь к широкому стволу дерева и собирая все силы, чтобы не проявить перед Злым Джоном охватившего ее чувства страха.
— В преисподнюю мужа! Святой Патрик! Эта женщина отказывается от таких бриллиантов! Да они принадлежали самому сиру Моргану, а теперь будут украшать вашу грудь, — с этими словами Злой Джон приблизился вплотную к девушке. Долорес задрожала.
— Сеньор, прошу вас не забываться! Я расскажу об этом мужу…
— Будет поздно!
Лицо пирата налилось кровью, он сделал еще шаг вперед и ловко защелкнул на шее Долорес замок колье. Потом обхватил обеими руками стан девушки и прижал ее к себе. Долорес рванулась, но Злой Джон крепко держал ее в своих объятиях.
— Отпустите! Слышите, капитан, отпустите! — закричала Долорес и стала отбиваться от пирата, который хотел ее поцеловать.
Вдруг за его спиной раздался негромкий голос Девото:
— Что здесь происходит?
Джон резко обернулся, а Долорес ловко выскользнула из его рук.
Злой Джон молниеносно отпрыгнул в сторону и положил руку на эфес шпаги. На тропке, ведущей на холм, показались королевский инспектор с обнаженной шпагой и еще несколько пиратов. Предупрежденный Долорес, Девото попросил одного из преданных ему людей следить за Злым Джоном. Увидев, что капитан последовал в холмы за Долорес, один из бомбардиров команды «Ласточки» немедленно сказал об этом Девото.
— Вижу, вы, капитан, чересчур откровенно выражаете сеньоре Девото чувства своего к ней уважения. — Лицо испанца было белым, на губах играла недобрая улыбка, глаза потускнели. — Однако это можно делать и на расстоянии. Прошу вас, впредь не сочтите за труд, если…
— Если? Что если?.. Клянусь богом, святым Патриком и «Злым Джоном»! Ты не знаешь, Девото, что случалось с теми, кто становился мне поперек дороги! — Глухой, перехваченный гневом голос пирата срывался и переходил на зловещий свист.
— В данном случае могу предвидеть. Один из нас должен будет уйти, и не думаю, что им буду я!
— Чтоб черти меня изжарили на медленном огне в аду! Сгори «Злой Джон», если я не уважаю твою смелость! Но запомни: ты единственный человек на земле, кто может пока… пока, говорю, похвастать, что угрожал Злому Джону.
— Лучше будет, если ты поведаешь эту сказку кому-либо другому, а заодно расскажешь Гренвилю, Кейнсу, Неду, Фреду и Биллу о том, что сейчас здесь произошло. Прошу тебя, оставь нас! Да и не забудь захватить и эту вещицу. — Девото снял с шеи Долорес колье и швырнул его Джону.
— Ну, я с тобой еще поговорю! — прорычал тот. — Я доставлю тебе счастье узнать, что такое ад, до того, как ты туда попадешь! — И стал спускаться с холма.
— Надеюсь, это животное не причинило вам боли? — спросил Девото, обращаясь к Долорес.
— Хвала всевышнему, что вы существуете! Если б мой отец был жив!..
— Возможности подсказал бы, что делать мне сейчас…
— Но вы не станете преследовать Злого Джона? — В голосе девушки звучало глубокое беспокойство.
— К сожалению, нет! Первый раз в жизни я должен поступить не так, как мне диктует сердце, а как повелевает разум.
— Дайте мне слово, Девото, никогда не оставлять меня одну!
Девото внимательно поглядел в глаза Долорес и покачал головой.
— Прошу вас, не ходите больше без заряженного пистолета. И если Джон еще раз появится на вашем пути, стреляйте без раздумья. Теперь вся команда будет на вашей стороне, а об остальном позабочусь я.
Долорес утвердительно кивнула.
* * *
Завтрак — жареные черепашьи яйца, мясо, мармелад из плодов гванабана, свежие лепешки — так и остался нетронутым. Девото лишь отломил краешек печеного теста, запил глотком кокосового молока и ушел в сторону лагеря Злого Джона. Сегодня плотники закончат смолить последний участок днища, и завтра «Злого Джона» можно спускать на воду, а еще через два, максимум три дня фрегат будет полностью готов к плаванию. Девото не надо было посещать пиратский лагерь, чтобы знать, что там происходило и какие разговоры вел Злой Джон со своими приближенными. Среди его окружения у Девото появились друзья — мальчик-слуга, старший бомбардир крошка Майк и лекарь «сэр Грей», поэтому главной причиной тревоги капитана было то обстоятельство, что приближался день выхода в море, а Девото не знал, что ему делать. О себе он беспокоился меньше всего — его тревожила судьба Долорес. Впервые в жизни он почувствовал, что готов пожертвовать собой ради благополучия по сути дела почти незнакомой ему женщины. Пока Девото раздумывал над тем, каким же образом он сможет перехитрить Злого Джона и высадить Долорес и Осуну на одном из островов, где поблизости имелись испанские поселения, неожиданно появилась девушка. Она направлялась к Девото, в то время как должна была находиться в центре острова и наблюдать за морем. Долорес шла медленно, собирая по дороге раковины. Она останавливалась, рассматривала их и швыряла в море. Два слова, которые произнесла девушка, заставили Девото молниеносно вскочить на ноги. — Он там! Девото рывком привлек к себе растерявшуюся Долорес и прошептал: — Вы не ошиблись? — Нет! Носовое украшение — женская голова. Я хорошо рассмотрела ее в подзорную трубу. — Долорес! Молите бога, чтобы вы не ошиблись! — И Девото увлек девушку за собой. Когда они приблизились к лагерю, навстречу вышел Осуна. Увидев взволнованное лицо Долорес, он спросил: — Что происходит? Что-нибудь случилось? Долорес, взглянув на спокойного и улыбающегося Девото, вконец растерялась и молчала. — Сеньор, может, вы потрудитесь дать объяснение, что так встревожило нашу даму? — спросил Осуна Девото, который уже выходил из домика, неся в руке нарядную портупею с вложенной в ее ножны боевой шпагой. — Возможно. Однако, очевидно, не ранее, чем через час, если вы снова спросите меня об этом, — с прежней улыбкой сказал Девото, перекидывая портупею через плечо. — Долорес! — Лицо Девото стало серьезным. — Прошу вас, думайте обо мне… — Он оборвал самого себя и, подойдя вплотную к Бартоло, положил руку на плечо своему верному слуге и другу. — Если что, «Черная скала», не оставляй сеньориту. Сделай так, чтобы она добралась домой. Ты знаешь, кто тебе поможет… — И, резко повернувшись на каблуках, Девото быстро зашагал к лагерю пиратов. Долорес сделала было несколько шагов вслед, но Бартоло преградил ей путь. Пытаясь улыбнуться, он сказал: — Не надо! Значит, иначе он не мог поступить. Злой Джон беседовал с Гренвилем, развалившись на канатах, уложенных в бухты неподалеку от корпуса корабля, когда увидел идущею к ним Девото. — Доброе утро, Джон, — еще издали произнес капитан. — Зачем пожаловал, сеньор? — вместо приветствия грубо спросил главарь пиратов, не меняя вызывающей позы. — Хоть бы поздоровался прежде, капитан, — сказал Девото, остановившись в нескольких шагах от Джона и Гренвиля и всем своим видом показывая, что он требует к себе достойного его рангу отношения. — Не очень-то ты вежлив, Джон. — А с чего это я должен быть вежливым с тобой? Мы не в губернаторском дворце, и ты не губернатор, а… — Не надо, Джон! Ты хорошо знаешь, что и моему терпению есть конец! В последнее время ты не стеснялся говорить за моей спиной недостойные меня вещи. А вчера… вчера ты оскорбил мою честь… — О чем ты говоришь, вонючий испанец? Ха-ха-ха! Джон сделал вид, что от смеха свалился с канатов, и, когда он поднялся на ноги, Девото, сделав шаг в его сторону, спросил: — Над чем ты так смеешься, Злой Джон? — Над тем, что у тебя есть честь! В следующий миг звонкая пощечина чуть было не сбила Злого Джона с ног. Вокруг уже собирались свободные от работы пираты, и многие из них слышали, что зачинщиком ссоры, возникшей между капитанами, был Злой Джон. Англичанин отпрыгнул в сторону и стал расстегивать камзол. — Я тебе покажу! Ты сейчас узнаешь, что такое Злой Джон… Гренвиль, предчувствуя беду, закричал: — Билл, Фред! Скорее сюда! — Гренвиль и вы все! Я призываю вас в свидетели! Вы видели — иначе я не мог. Джон первым вызвал ссору. — Девото говорил громко, одновременно сдергивая с рук перчатки и проворно сбрасывая с себя портупею, камзол и рубаху. — Сейчас! Сейчас я выпушу твои внутренности, а сердце своими руками брошу в трюм на съедение крысам. — Злой Джон буквально ревел от злобы и ненависти. Девото еще не успел занять позиции, чтобы исполнить традиционное приветствие, как был, в нарушение самых элементарных правил дуэли, атакован пиратом. Конец стального клинка почти задел шею Девото. Он отпрянул, и второй удар Джона уже был встречен надежной защитой. Девото был лучше подготовлен к бою, он знал, на что шел, в то время как Злым Джоном владела слепая ярость. Поэтому вначале его атаки носили беспорядочный характер, что дало возможность Девото быстро разобраться в его технике. Злой Джон, отлично владевший приемами итальянской школы, был ловок, быстр, превосходно чувствовал дистанцию и предпочитал атаки снизу. Они следовали одна за другой. Многие из пиратов знали о мастерстве своего предводителя, знали, что он любил, прежде чем кончить бой смертельным ударом, вызывать у противника панический страх. Появившиеся Фред и Кейнс, а за ними Билл не смогли, как ни старались, пробиться сквозь плотную толпу трех сотен пиратов, окруживших глухим кольцом сражавшихся. Никто не хотел упустить ни одной детали. Отовсюду неслись советы, раздавались подбадривающие возгласы. Большинство, очевидно, ставило на своего капитана, но не раз раздавался и гул одобрения после умело взятой защиты и молниеносно организованной контратаки его противника. Шпаги скрестились, и бойцы сошлись. Звонко стукнулись одна о другую гарды. Англичанин был физически слабее и чуть ниже ростом. Он это знал и поэтому хватался за клинок левой рукой, отводил его в сторону и проворно отпрыгивал назад. Но Девото успел сделать выпад и послать свою шпагу на всю вытянутую руку. Воцарилась тишина. Злой Джон еще не почувствовал боли, а на его левом плече уже появилась кровь. — О-о-о!!! — взревели три сотни глоток. Придя в неописуемое бешенство, Злой Джон начал неистовую атаку. Между тем Девото хладнокровно, почти стоя на одном месте, ловко и верно защищался. Удивление зрителей сменилось шутками. Первым, видя, как Злой Джон прыгает и мечется вокруг спокойного Девото, начал смеяться тот самый бомбардир, который накануне предупредил Девото о том, что пират преследует Долорес. Испанец почувствовал настроение зрителей, поэтому он сделал два шага назад и громко произнес: — Так мы танцуем джигу или кому-то выпускаем внутренности? — Девото хорошо знал, что ярость плохой союзник в фехтовании. Однако Злой Джон неожиданно прореагировал совсем не так, как того ожидал Девото. Его перекошенное злобой лицо стало сосредоточенным, движения — осторожными. Теперь шпага Девото чаще рассекала воздух, ибо Злой Джон умело убирал оружие или отходил назад. Испанец, уже сам охваченный азартом боя, перешел к атакам. Искусство его нападения сразу вызвало восторженные возгласы зрителей. Острие его шпаги так часто оказывалось в опасной близости от Злого Джона и так молниеносно меняло места, что англичанину временами казалось, что у его противника две, три, множество шпаг. Пират начал понимать, что перед ним мастер лучше, чем он. Лицо предводителя пиратов стало серым, дыхание учащенным и тяжелым, пот застилал глаза. Рана на плече кровоточила, но Злой Джон не думал о ней, его охватил страх перед более сильным противником. То самое чувство, которое прежде он сам так просто мог вызывать у своих врагов. О нет! Страх надо побороть или это конец! И судьба улыбнулась пирату, он взял себя в руки, а Девото допускает ошибку. Англичанин резким ударом отвел клинок противника в сторону и нанес ему укол в бедро. Ободренный успехом, Злой Джон немедленно устремился в атаку. Тело его летело параллельно земле, затем англичанин, опираясь о землю левой рукой, молниеносно выбросил правую снизу вверх, туда, где, по его расчетам, должно было находиться сердце врага. Но… английский пират не знал, что наиболее сильной стороной Девото, как отличного мастера шпаги, было умение вовремя и совершенно точно предугадывать решающие действия противника. В ответ на эту блестящую, обычно неотразимую атаку Джона Девото резко отклонился вправо, упал на колено и, опуская руку сверху назад, вниз и вперед, сам послал шпагу в его грудь. Оба противника повалились на землю, но Девото тут же вскочил на ноги, а Злой Джон остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в песок. Подойдя к нему, Девото носком сапога перевернул бездыханное тело на спину, схватился за эфес и, выдернув клинок из тела, отер его о песок. — Ты сам этого хотел, Джон! — произнес Девото. — Святой Патрик тебе судья. — Испанец обвел стоявших в немом оцепенении пиратов взглядом победителя: — Я отстаивал мою честь, ты не сумел защитить свою жизнь… Хотя все присутствующие прекрасно знали, чем обычно кончаются подобные встречи, никто из них до самого последнего момента не мог и подумать, что их предводитель — храбрый, непобедимый Джон, выигравший не один десяток дуэлей, — будет убит. Теперь Билл, а за ним Фред и Кейнс без труда прошли через ранее непреодолимое кольцо и встали рядом с Гренвилем. Тот не мог оторвать взгляда от неподвижно лежавшего на земле Злого Джона. Первым молчание нарушил великан Билл. — Гренвиль, как ты мог это допустить? — спросил он с угрозой. — Меня вынудили защищать мою честь. Это видели не только Гренвиль, но и многие другие. — Девото поспешил дать нужное направление опасному разговору. Гренвиль поднял голову, посмотрел кругом, казалось, ничего не видящими глазами и тихо сказал: — Это верно! Капитан долго держался, но в конце концов не смог совладать с собой. Но подумайте только, как легко мы из-за его страсти, — Гренвиль покосился на Девото, — к чужой жене, из-за его дурацкой прихоти могли потерять возможность овладеть испанскими сокровищами. Не увернись вовремя Девото от клинка, и сейчас мы бы гадали, где нам искать галеоны. — Слова бывшей «правой руки» Злого Джона прозвучали как жестокая надгробная речь. Девото не верил своим ушам, но впереди еще предстояли выборы нового капитана. — Разве кто из вас станет жалеть капитана, который заботился только о самом себе? Вы, ваша судьба, ваше благополучие его нисколько не интересовали. Подумайте только, кто повел бы вас к каравану, если бы не он, а я лежал сейчас перед вами на песке? — Девото обрел прежнее спокойствие и умело развивал высказанную Гренвилем мысль. Общее молчание было немым приговором Злому Джону. Гренвиль и Девото смотрели на Билла. Теперь все ждали, что скажет он. — Вечером, после ужина, надо избрать нового капитана, — пробасил Билл и, опустив голову, пошел в сторону лагеря. Накидывая камзол на плечи, Девото прошептал так тихо, чтобы его расслышал только один Гренвиль: — Я выдвину тебя! — и затем, словно бы спохватившись, посмотрел в сторону входа в залив. По его расчетам, корабль должен был появиться в ближайшие минуты. Пираты группками расходились, обсуждая гибель Злого Джона и предстоящую встречу с испанскими галеонами. Девото, сказав Кейнсу и Фреду, что будет у них к ужину, поспешил в свой лагерь, где его с нетерпением ждали Бартоло, Долорес и Осуна. Долорес выбежала навстречу. — Я молилась за вас, Девото! — крикнула девушка еще издали, видя, как он хромает. — Вы не ранены? А что с ним? — Если вы молились за меня, то что же могло с ним произойти, сеньорита? Он мертв. — Девото остановился и шляпой, которую держал в руках, почтительно коснулся земли. — Сейчас его присутствие лишь усложнило бы и без того опасное положение. — Он снова посмотрел в сторону входа в бухту. Долорес закусила губу и, отвернувшись, спрятала лицо. Капитан помолчал немного, а затем, не обращая внимания на подошедших к ним Бартоло и Осуну, сказал: — Сеньорита, вижу, вы требуете от меня откровенности. Да, я сражался и убил его прежде всего за то, что он оскорбил вас и посмел думать… — Долорес резко повернулась и бросилась к Девото. — Спасибо! Я так боялась за вас, — быстро зашептала она. — Он мог ранить вас, наконец, его люди могли разделаться с вами. Вы были в такой опасности… — В поединке с ним мне ничто не угрожало. Но сейчас, как только появится корабль с изображением женщины под бушпритом, начнется невообразимое. — Девото говорил, стоя спиной к заливу, и, увидев, что брови Долорес сомкнулись у переносицы и с ее лица мгновенно сошел румянец, закончил: — Вижу, что они уже здесь. Девото отбросил в сторону шляпу, взял из рук Бартоло заряженные пистолеты, засунул их за пояс и поправил портупею шпаги. Боевой фрегат с выставленными из орудийных портов пушками входил в бухту, на его грот-мачте разворачивался испанский флаг. Многие пираты узнали в готовом к бою фрегате «Каталину», ведомую — в этом никто не сомневался — грозным корсаром Педро Де ла Крусом. В следующий миг без чьей-либо команды у носа «Злого Джона» образовалась толпа, которая двинулась в сторону лагеря Девото. Девото обнял Долорес за плечи, бережно отстранил, кивком подал знак Бартоло оставаться на месте и решительно зашагал навстречу бегущим. Длинные темные волосы его, подчеркивая бледность лица, развевались на ветру. Девото поднял правую руку и остановился всего в какой-нибудь полудюжине шагов от разъяренной толпы, возглавляемой Недом и Биллом. Долорес в отчаянии закрыла глаза. Бартоло приблизился к ней и прошептал: — Ваша милость, верьте в него! — С каждым из вас, будь на то моя воля, — говорил в это время полным упрека голосом Девото, — я поступил бы точно так, как с вашим капитаном! Каждый из вас только и думает о себе, о своей собственной шкуре. Несчастные трусы! Ни одна баранья голова не подумала, что теперь будет со мной… Я к вашим услугам! В конце концов, лучше умереть от ваших рук, чем снести насмешки и издевательства Де ла Круса и быть вздернутым на рее «Каталины». Никакие другие слова не смогли бы произвести столь сильного впечатления. Пираты молчали. Действительно, никто из них не подумал о том, что станет с Девото, если он попадет в руки своего бывшего друга, а ныне злейшего врага. Однако Нед, маленький хитрый шкипер Нед, у которого глаза не переставали бегать по сторонам, наверное, даже во сне, сделал шаг вперед и произнес: — Не верьте ему! Он обманул нас и продолжает хитрить! Многие из вас помнят встречу с Де ла Крусом. Мы тогда не только ушли, мы почти разгромили его корабль. А сейчас наш «Злой Джон» на берегу. По чьей вине? Отвечай! Несколько голосов из толпы поддержало Неда. Девото снова поднял руку, требуя тишины: — Я уже сказал. Вы можете прикончить меня. Только жалко умирать, когда даже не все шансы использованы. Я ведь хорошо знаю Де ла Круса и его людей… А что касается тебя, Нед, то ты всегда был предателем, подлой тенью Злого Джона. Отчего ты не скажешь всем, как в твоем присутствии я дважды говорил Злому Джону о необходимости выслать на внешние створы залива сторожевой дозор. Не я ли предлагал твоему капитану установить на утесе пушки, и тогда никакому Де ла Крусу с моря никогда бы не взять этой бухты? Нед часто заморгал и не нашел что ответить. Гнев толпы немедленно обратился на него, и Девото счел возможным действовать дальше. — Оставим его в покое, — сказал он. — Нед сам найдет свой конец! Лучше подумаем, как нам перехитрить Де ла Круса. Гренвиль отделился от толпы и торжественно произнес: — Девото, если ты вызволишь нас из этой истории, я первый назову тебя капитаном. Несколько голосов сразу поддержало старшего помощника. — У меня есть план… — Но Девото не договорил: ему помешал звук пушечного выстрела. Крупная шрапнель просвистела над головами пиратов, с пальм за пляжем, стоявших на холме, на землю повалились ветки. Когда облачко дыма рассеялось, все увидели, как нижний парус на бизань-мачте был трижды снят и поставлен. — Требуют парламентеров, — сказал Гренвиль вслух то, что у всех было на уме. — Нам следует выиграть время! — решительно заявил Девото. — Вы согласны со мной? — Он явно брал на себя роль предводителя и, получив молчаливое согласие присутствующих, распорядился: — Фред, отберите команду, чтобы она немедленно занялась подготовкой шлюпки, но не очень-то спешите. А вам, тебе, Гренвиль, и тебе, Билл, придется решать, кому идти на «Каталину». — Я не пойду! Однажды уже я встречался с Де ла Крусом. Больше этому не бывать! — решительно сказал Билл. Гренвиль также наотрез отказался. — Послушай, Билл! А ведь от того, кто пойдет на «Каталину», во многом зависит судьба каждого из нас. Не посылать же Неда? Между прочим, я придумал, как мы поступим. Де ла Крус ведь не знает, что Злой Джон мертв, а всем известно, что этот испанец вот уже два года только и делает, что ищет Джона. Мы предложим ему голову Злого Джона в обмен на нашу свободу. Отдадим «Ласточку», оставим на берегу пушки и боевое оружие — пусть они будут его трофеем, а сами уйдем на «Злом Джоне»… Пираты задумались, насколько это предложение может быть приемлемым для Де ла Круса. — В противном случае нас не так-то просто взять! — продолжал Девото. — Мы вооружены, у нас сколько угодно продовольствия. Мы скроемся в лесу, и Де ла Крусу нас оттуда не выкурить. Теперь по толпе прокатился гул одобрения. — Ты прав, Девото, — сказал Гренвиль, — но кто пойдет к нему с предложением? Я не пойду! Билл? (Боцман покачал головой.) Кейнс? — Ни за что на свете! — Обо мне и не думайте! — почти в истерике закричал Нед. — А ты пошли свою жену, капитан! Де ла Крус не воюет с женщинами. — Голос из толпы принадлежал тому самому пушкарю, который был тайным другом Девото. Воцарилась гробовая тишина. Действительно, лучшего выхода не было, и тогда Гренвиль предложил: — Ее дядя и твой слуга будут ей гребцами. Взгляды всех, полные надежды, устремились на Девото. Он выждал и, глубоко вздохнув, сказал: — Большего доказательства моей верности вы не могли от меня потребовать, — и отвернулся, чтобы не выдать своей радости. Его новый друг второй раз оказывает ему неоценимую услугу. Дело разворачивалось как нельзя лучше — отправка на «Каталину» Долорес и Осуны входила в намерения Девото. Когда шлюпка была готова, Осуну, Долорес и Бартоло пригласили в нее, и Девото объяснил Долорес смысл и цель ее миссии. Девушка, внимательно выслушав все до конца, наотрез отказалась войти в шлюпку, в которой уже сидели Осуна и Бартоло. Билл предложил было Долорес свои услуги, чтобы перенести ее на руках в шлюпку, но девушка отпрянула в сторону, выхватила миниатюрный пистолет, спрятанный у нее за корсажем, и, сверкнув глазами, заявила: — Первому, кто подойдет, продырявлю голову! Ни у кого не было сомнения, что Долорес выполнит свою угрозу. Все видели, как побледнел Девото, и те, кто стояли рядом, услышали скрежет его зубов. Но он промолчал. Гренвиль махнул рукой, и с десяток матросов ловко спихнули шлюпку на воду. — Осуна, вы знаете наши условия. Передайте их Де ла Крусу! Час ожидания был бесконечным. Долорес несколько раз пыталась заговорить с Девото, но тот уклонялся. Временами ей казалось, что он сердится, но тут же сердце подсказывало ей, что в душе Девото рад, что она осталась рядом с ним. Наконец от борта фрегата отвалил баркас с вооруженными людьми. На носу большой шлюпки стоял человек со шпагой в руке. Высокие сапоги, панталоны, просторная, раскрытая почти до пояса рубаха — все было черным. На солнце блестела совершенно бритая голова. — Это Хуан, сын гаванского палача, корабельный лекарь, которого все зовут Медико, — печально произнес Девото. — Гренвиль и ты, Билл, вы будете с ним говорить… Медико спрыгнул с уткнувшегося носом в песок баркаса и, стоя по колено в воде, спросил: — Кто из вас избран капитаном после смерти Злого Джона? (Пираты молчали, никто не шелохнулся.) Ну, кого вы считаете за старшего? Многие повернули голову в сторону Девото. — У нас нет старшего, — ответил Билл. — Сообщите, принял ли наши предложения Де ла Крус? — Не совсем! Но если вы докажете, что Злой Джон мертв, и выдадите Девото, он будет готов их рассмотреть. Вы знаете, что Де ла Крус умеет держать свое слово. — Этому не бывать! — Билл решительно выступил вперед. — Труп Злого Джона можете доставить на «Каталину», но Девото останется с нами! Мы будем сражаться! — Подумайте лучше! На борту «Каталины», помимо команды, батальон солдат. Мы прочешем лес и выловим всех до одного. Тогда уж вам не будет пощады, — заявил Медико. — Девото изменник и должен понести наказание согласно закону. Вас же Де ла Крус высадит на Ямайке или в Порт-о-Пренсе. Последние слова представителя грозного испанского корсара возымели свое действие. — Нечего думать! Чего вы молчите? — на высокой ноте закричал Нед. — Соглашайтесь, и делу конец! Что нам этот испанец! Билл и Гренвиль хотели было что-то сказать, но подавляющее большинство пиратов согласилось с Недом. Все смотрели на Девото. — И вы еще хотели, чтобы я стал вашим капитаном! Но Девото в отличие от вас не трус! Вы еще обо мне услышите! Долорес, иди сюда! У нас нет иного выхода. Девото вынул из ножен шпагу и передал ее лекарю «Каталины», который спросил: — Где Злой Джон? Покажите мне его труп… Но не успел Медико закончить фразы, как из толпы вышел пушкарь и быстро передал в руки Медико что-то завернутое в кусок серого брезента. Медико посмотрел на Девото, тот кивнул, поднял на руки Долорес и направился к баркасу. Первым по парадному трапу на борт «Каталины» поднялся Медико. Вслед за ним Девото. Де ла Крус, чуть выше среднего роста, атлетического телосложения, одетый в нарядный камзол, стоял на шкафуте в окружении своих приближенных. Рядом с ним пристроился ехидно улыбающийся сеньор Осуна. Как только Девото оказался на палубе, Медико шагнул к нему и крепко обнял. — Милый Андрес! Я так беспокоился за тебя! Я безумно счастлив. — Так вы говорили, барон Фуэтемайор, что этого мерзавца Девото следует немедленно повесить. — Де ла Крус с легким наклоном головы обратился к сеньору Осуне: — Однако при этом вы совершенно забыли, что никто другой, как он, сохранил вам жизнь, спас от верной смерти. Мне печально думать, что нашего короля окружают подобные люди. Вот совсем иное дело эта бесстрашная женщина. — И Де ла Крус, сняв шляпу, поспешил навстречу Долорес: — Позвольте, я поцелую вашу руку, Долорес! Мне искренне хотелось, чтобы у моей Каталины была такая сестра, как вы! За вашу доброту, чистую и верную душу, за вашу храбрость — надеюсь, теперь вы не станете отказываться, — прошу вас принять от нас всех этот подарок, — корсар дружески улыбался. Из-за спины Де ла Круса показался Бартоло. Он нес продолговатый ящичек, обтянутый тонкой голубой кожей. Де ла Крус взял из рук Бартоло футляр и открыл его. В солнечных лучах крупные бриллианты заискрились ослепительным светом. Долорес от неожиданности и изумления растерялась. Она перевела взгляд на Девото. Тот стоял, скрестив руки на груди, и ласково смотрел на девушку. — А ты, мой дорогой друг! Милый наш Девото, ты превзошел все ожидания! Корсар Де ла Крус и Девото, первый помощник капитана «Каталины», нежно обнялись. — Да, если учитывать то, что я пережил за три дня вашего опоздания, — ответил с дружеским упреком Девото. — Но об этом мы еще поговорим. К вечеру того же дня пираты были разоружены, хотя всем им была обещана свобода. Гренвиль, Билл, Нед, Кейнс и Фред получили ее под честное слово больше никогда не совершать набеги на территорию и города испанских колоний. Пушки, вооружение, боеприпасы к ним, равно как фрегат «Злой Джон» и все имущество его бывшего капитана, объявлялись трофеями. К исходу третьего дня общими усилиями фрегат был полностью вооружен и спущен на воду. Команды пиратов и «Каталины» были разбиты на три экипажа, во главе которых поставлены офицеры Де ла Круса, и небольшая флотилия взяла курс на Ямайку. Высадив там часть бывших пиратов, Де ла Крус зашел, как и обещал, в Порт-о-Пренс, а затем в Саптьяго-де-Куба. Там он сдал портовым властям «Ласточку» для возвращения брига родственникам погибшего капитана Дюгарда, а представителю генерал-губернатора острова Куба, мэру города, — голову Злого Джона. Королевский инспектор Осуна не ушел в Испанию на рейсовом пассажирском корабле, а остался в Сантьяго в надежде, что Долорес одумается и согласится стать его женой. Между тем Долорес де Вальдеррама решительно заявила, что она навсегда остается жить в колонии. За время плавания Долорес узнала печальную историю похищения английскими пиратами из Тринидада невесты Де ла Круса, девушки по имени Каталина. В поисках любимой, став корсаром, вот уже несколько лет отважный Де ла Крус ищет ее во всех портах Багамских, Больших и Малых Антильских островов и побережий Карибского моря и Мексиканского залива. Долорес заявила Де ла Крусу, что желает присоединиться к его экипажу и намерена плавать с ним до тех пор, пока они не найдут Каталины и она не станет ей сестрой. Девото сначала пытался убедить Долорес возвратиться в Испанию, но понял, что это бесполезно. Тогда он предложил ей стать его женой. Генерал-губернатор Кубы подписал указ, по которому ранее принадлежавший английскому пирату фрегат «Злой Джон», как военный трофей, становился собственностью капитана Девото. На следующий день на корме судна появилось его новое название — «Долорес».

Андрей Никитин СОКРОВИЩЕ ТОРСТЕЙНА РЫЖЕГО
I
…Потом, когда Мальцев стал припоминать, с чего, собственно, все началось, он уверял, что приближение самого удивительного события своей жизни почувствовал на Большой Кумжевой в то время, когда Петропавлов еще пил со своим шурином в деревне, а он, Мальцев, снимал оленей. И якобы произошло это именно между четвертым и пятым кадром последней пленки. В этот момент он стоял на старой, перевернутой лодке, приготовив фотоаппарат, олени переминались у сетей, где их сдерживали собаки, а со стороны берега, постепенно оттирая оленей к воде, не торопясь расхаживали пастухи, держа наготове свернутые петли кожаных арканов. Море слегка вздыхало, искрилось под солнцем, отлив забирал все больше воды, обнажая красноватую полосу мелкой гальки; над тундрой распевал жаворонок. Яркая и четкая картинка в видоискателе дышала идиллией и спокойствием. Не успел Мальцев об этом подумать, как разом все изменилось. Мимо него неслась всхрапывающая, обезумевшая масса серых, черных, коричнево-белых спин и боков, берег дрожал под ударами тысяч ног, порой взгляд выхватывал обезумевшую морду с оскаленными зубами и розовыми деснами, а над всем этим, словно мшистые связки хвороста, проплывали, качаясь, еще мягкие, бархатные рога. По бокам, осаживая порывавшихся уйти оленей, неслись с лаем собаки, впереди кричали двое пастухов, направляя оленей на песчаную косу, а там, где еще недавно переминалось стадо, схваченные петлей за основание рогов, бились три годовалых бычка. Второй день Мальцев смотрел, как пастухи выбраковывают и метят оленей. Вот сейчас освобожденный от аркана олень вскочил и, пофыркивая, спокойно потрусил в сторону стада. Вскоре следом за ним отправились два других. И опять три пастуха, свернув на руку кожаные арканы, начали обход с ада, выглядывая очередную жертву… Пастухи были невысокими, коренастыми, в старых подвернутых ушанках, в пиджаках или ватниках, перепоясанных широким кожаным ремнем с бронзовой пряжкой и бронзовым набором, на котором висел обязательный нож, оселок в футляре, сумка для спичек и табака, а иногда еще и медвежий клык, спускающийся сзади к пояснице. Клык надо было добыть самому — тогда, просверленный и подвешенный к пояснице, он спасал от ревматизма и от радикулита, самых опасных для пастухов болезней. Приезжая сюда из года в год в течение уже нескольких лет, Юрий ощущал себя своим среди рыбаков Терского берега. С оленными пастухами все было иначе. При всей своей наблюдательности, умении приспособиться к новым условиям перед пастухами Мальцев пасовал. Хороший ходок на длинные дистанции, он не мог угнаться за коренастым, вроде бы косолапым Валентином Лукиным, когда тот поспевал за стадом. Хуже всего, что память Юрия и цепкий на ориентир глаз при всем старании не удерживали примет оленей. И уже совершенным для него чудом было, что тот же Лукин или дед Филя могли не только назвать из стада в две с половиной тысячи голов, чей именно тот или иной олень — колхозный или личный, — но и сказать, от кого и когда он родился. Теперь Мальцев следил за работой пастухов с невольной завистью и восхищением. Казалось непостижимым, что вот так, мягко обойдя стадо, Лукин взмахивал рукой, стадо шарахалось в сторону и мимо, но в потоке голов и рогов уже бился, пытаясь освободиться от ременной петли, именно тот олень, который в данный момент был ему нужен! Переводя пленку, Мальцев заглянул в колодец видоискателя и подошел ближе. Лукин, коренастый и узкоплечий от бугров мышц, переходивших со спины прямо к голове, стоял не шелохнувшись, словно позируя, зарывшись в песок головками подвернутых резиновых сапог, подбирая плетеный ремень аркана на согнутый локоть и подтаскивая упиравшегося бычка. Дважды сфотографировав эту сцену и убедившись, что пленка кончилась, Мальцев повернулся, чтобы идти к тоневой избе, стоявшей чуть поодаль на бугре берега, над сетями, как мимо него опять промчалось вспугнутое стадо. — Лоскут, лоскут держи! — отчаянно закричал и засвистел Лукин. Обернувшись, Мальцев увидел, как через высокую, поросшую жесткой серебристой осокой дюну переваливают, уходя в тундру, два или три десятка оленей — лоскут, как называют пастухи такую оторвавшуюся от стада группу. За ней не с лаем, а с каким-то хриплым, истошным визгом, пытаясь отрезать оленей от просторов тундры, несся рыже-черный комок, в котором Мальцев не сразу признал спокойную и степенную собаку бригадира. Так было уже не в первый раз и означало, что на сегодня клейменье и выбраковка окончены; стадо устало метаться по песчаной кромке. Его надо было или уводить дальше, на восток, или просто пустить на отдых… Поднимаясь по склону к избе, Мальцев обошел сохнущие на сушилах сети, провел рукой по белым от непогоды и солнца устоям ворота, которым вытаскивали на берег тяжелый рыбацкий карбас, и на минуту остановился возле груды ржавых якорей — обязательной принадлежности каждой тоневой избы. На таких вот разлапистых железках растягивалась основа, протянувшаяся от берега в море и державшая ставные невода, отмеченные на воде прямоугольниками белых точек-поплавков. И снова, в который уже раз, Мальцев подумал, что мир этот — прекрасен. Август начался хорошо. Кончалась его первая неделя, темнели, растягиваясь, ночи; морошка на болотах наливалась янтарным соком и лопалась в неосторожных пальцах; олени уже поглядывали на лес, втягивая грибные запахи, а осенние штормы с дождями еще не завесили грязной пеленой северо-восточный угол. Море лежало спокойное, медленно переваливаясь в берегах, вздрагивая от невидимых течений и противотечений, возникающих в его глубинах, и наливаясь к полудню густой синевой. Лишь только солнце, скользя по белесому северному небу, перемещалось за полдень, кипящие искры вокруг сетей гасли, убегали к устью Большой Кумжевой, куда отошло сейчас стадо, и к далекому, поднятому маревом горизонту начинала распространяться и густеть синева. По ней беззвучно плыли белые черточки кораблей, над которыми зависали кусочки дыма из труб. Маленькая точеная избушка с тремя крохотными оконцами — два вдоль берега и одно в море, на сети, — стояла над самой водой, на второй, по счету Мальцева, морской террасе, переходившей когда-то в длинную высокую косу, отделявшую широкое устье речки от моря. Все вокруг показывало, что человек уже давно укрепился в этом маленьком оазисе, сделав его неотъемлемой частью берега. На песке лежали большие лодки; чуть выше стояли сушила с сетями, и такие же сети — белые, голубые, зеленоватые — сохли вокруг избы на траве. Под обрывом прятался маленький треугольник ледника, а рядом с тоневой избой, где жили рыбаки, стояли сарай и сетевка — избушка на курьих ножках, куда складывали осенью сети и прочий рыболовецкий припас. В обе стороны извилистой желтой лентой уходила песчаная кромка берега — к дальним мысам и бухтам, обнажающим при отливе то темный, убитый волнами песок с лужами, в которых мерцали оранжевые морские звезды и багрово-красные медузы, то плоские ступени каменных плит, покрытые пузырчатыми фукусами и мелкими ламинариями. За ними и над ними возвышались песчаные дюны, поросшие серебристой и острой, металлически жесткой осокой. В редкой траве бегали кулички, высиживали пятнистые яйца крачки, а на выдувах попадались полуразрушенные каменные очаги трех- или четырехтысячелетней давности, никем не тронутые лежали каменные скребки и наконечники стрел, как будто люди ушли отсюда не тысячелетия, а всего две недели назад. Дальше и выше от моря на плоскостях древних морских террас чередовались болота и тундры. Болота — зелено-ржавые, с белым пухом волнуемой ветром пушицы, голубыми блюдцами мочажин и озерков, где сновали юркие выводки утят. Тундры — сухие, ровные, с каменистой россыпью гальки под ковром глянцевых листочков воронихи, с краснеющей медвежьей ягодой, квохтаньем взлетающих куропаток, с зайцами, так и не приученными бояться здесь человека. «И все это принадлежит мне и будет принадлежать еще пять дней! — подумал Юрий со щемящим чувством восторга. — И никто не знает, где я, и некому меня разыскивать», — мелькнуло почему-то. Вот здесь и произошло первое невероятное событие. Не успела последняя мысль оформиться в сознании Мальцева, как в то же мгновение на пороге избы появился Степан Корехов и, поманив Мальцева, крикнул: — Лександрыч! Тебя там какой-то черт по телефону запрашивает, слышь? Вот это было невероятно и непостижимо. — А может, не меня, Степан Феоктистыч? — спросил Юрий, полагая, что ослышался. — Откуда меня? — Мальцев, Юрий Лександрыч, археолог: ты али не ты? — Так вот в Сосновке ты кому-то нужен. Оттуда звонили. Иди, там Фирсович трубку держит… И Степан Корехов, прикрыв ладонью глаза, повернулся в сторону стада, снова сбившегося на мыске перед Большой Кумжевой.II
После солнечного простора на берегу в избе казалось сумрачно. Три маленьких оконца, открывавшие вид на море и обозримую часть берега, не давали достаточно света. Широкие нары, построенные вдоль стен, застланные одеялами и подушками, оставляли не много места. Большую часть избы занимала печь у входа и стол, сдвинутый к среднему окну. Над плитой на тонких еловых шестах сушились носки, портянки и одежда рыбаков, а за столом, поглядывая в окно на море и на выметенные прямо перед избушкой сети, сидел скрюченный ревматизмом и старостью Василий Фирсович, прижимая к уху черную трубку полевого телефона. Сам телефон, подключенный к двум проводам, уходившим наружу, стоял тут же, на подоконнике, среди начатых пачек прессованного сахара, чая и мелких, насыпанных в стеклянную банку баранок. Увидев Мальцева, старик кивнул и протянул ему трубку: — Тебя, Лександрыч. В Сосновке ты кому-то нужен… Сейчас Тетрино отключится и с тобой говорить будут. Мальцев присел к окну и взял трубку. Среди обычных на линии шумов и писков он разобрал голос тетринского председателя сельсовета, который запрашивал Поной, когда, наконец, они отпустят сейнер рыбкооперации, стоящий у них уже вторые сутки? Похоже, ему позарез надо было в Мурманск, а до того требовалось снять груз, идущий на сейнере. Собеседник отговаривался обстоятельствами и уверял, что сейнер скоро придет. Пока собеседники перекрикивали друг друга, подключилась еще линия, где разговор шел то ли о детях, застрявших у какой-то бабушки, то ли, наоборот, о бабушке, никак не желавшей уезжать от внуков. Все было знакомо, но каждый раз вызывало у Мальцева ощущение нереальности этого невидимого, а лишь слышимого мира, существующего вне расстояний в треске телефонных мембран и в гудении раскачивающихся проводов, протянувшихся вдоль всего берега. Без телефона, казалось, здесь не могло быть и жизни. Радио имелось в каждом доме, на каждой тоне. Чуть ли не у каждого пастуха висел на шее транзисторный приемник. Радио слушали внимательно и охотно, начиная от программы передач и кончая сводкой погоды. Погоду не пропускали никогда — от нее зависела работа, а часто и жизнь многих из них. Но главным был все-таки телефон. Он связывал с домом, с жизнью всего берега, и, поднимая телефонную трубку за десять, пятнадцать, а то и за все тридцать километров от дома, слушая чужие разговоры, рыбаки жили в круговерти всех новостей: кто к кому приехал или уезжает, у кого какая беда или радость. Происходило это не от праздного любопытства, не от безделья, а потому что лишь так и можно было жить на пустынном берегу, где единственной дорогой ложатся узкие оленьи тропы, пробитые по ягоднику и мхам тундры над морем… В избу вошел Корехов и, стягивая с шеста портянки, кивнул старику: — Поедем-ка, Василий Фирсович, по сети! Алёха сегодня не спешит, а отлив поджимает: куйпога[344] скоро… — Почему не поехать, поедем! — охотно отозвался Василий Фирсович, слезая с нар и спуская с ног валенки. — Рыбка-то вроде есть, играет… Мальцев взглянул в окно, чтобы посмотреть на сети, но в трубке внезапно наступила тишина, потом послышался двойной треск вызова, и неожиданно близкий голос сосновской телефонистки спросил: — Кумжевая? Кумжевая? Слышите меня, Кумжевая? — Да, Кумжевая, слушаю! — ответил Юрий. — У телефона кто? — продолжала спрашивать телефонистка. — Мальцева нашли? Где он, ваш Мальцев? — Мальцев здесь. Я слушаю, — назвал себя Юрий, и почти тотчас же, перебивая слова телефонистки: «С вами говорить сейчас будут», — раздался удивительно знакомый, чуть хрипловатый голос: — Юра? Привет! Ты чего зайцем по берегу скачешь? Я уж и отбой хотел давать… В Чапоме сказали, что ты совсем уехал, в Пялице — вроде бы не уезжал, но где ты — тоже не знают… Хорошо, на Кумжевой кто-то трубку поднял, послушал, как я тебя ищу, и говорит: здесь он, Мальцев, у нас!.. Ну как, хорошо копалось? Только сейчас Мальцев осознал, что разговаривает с человеком, о котором совсем забыл в эти дни, хотя именно его-то он больше всего хотел бы видеть здесь и сейчас! Голос в телефонной трубке с несомненностью принадлежал Виктору Сергеевичу Кострову, впрочем, более известному под кличкой «Рыжий», — геологу и давнишнему приятелю Мальцева, с которым и познакомились они здесь, на Терском берегу, лет девять назад. И, зная, что линия может кому-то вот-вот понадобиться и разговор будет прерван, Юрий после первых же приветствий заспешил и спросил: — Ко мне-то приедешь теперь? — Если работать заставишь — не приеду! — засмеялся Костров. — Намаялись все — во! — И где-то там, на сосновской почте, он полоснул ладонью выше головы. — Лето сухое, жаркое, еле идешь… Завтра за нами самолет приходит, и я своих в Кировск отправляю. А сам думал здесь, в Сосновке, дня три посидеть, дневники в порядок привести… — Слушай, Рыжий, может, ты свои дневники в Пялице будешь дописывать, а? — заторопился Мальцев. — Не хочешь в Пялице — давай сюда, на тоню! А в Пялице у меня дом снят на месяц, живи сколько хочешь… Не бойся, работу я кончил и всех своих уже отправил. А то ведь опять с тобой не свидимся, черт!.. — «Наш викинг домом обзавелся»?! — хохотнул в трубке голос Кострова, припомнившего начало давней эпиграммы на Мальцева. — А комнат сколько? Две? А мне здесь знаешь какой дом дают: двенадцать комнат! Целый барак. И на сколько хочешь… Вот, говорят, два барака могут дать, оба пустуют! — Костров захохотал, осекся и посерьезнел. — Уговорил — прилечу. А то ведь прав ты — когда увидимся? Ну, а как варяги твои? Или опять вместо курганов каменные холмы ковырял? — намекнул он на одну из былых неудач Мальцева. — Кое-что есть, — спокойно ответил Мальцев. — Если не сам викинг, то хоть его лодка. — Настоящая? Из дерева? Где? — Ну что ты! На скале выбита… Ладно, до завтра вытерпишь! Если прилетишь раньше меня в Пялицу, спроси, где голубевский дом или где я живу, — тебе каждый покажет… Да, ключ — слышишь, Рыжий? — ключ с правой стороны под порогом на камне, понял? Впрочем, я еще сегодня, наверное, вернусь, чтобы тебя встретить… Ну, до завтра!.. — Что, Лександрыч, друг тебя нашел? — спросил, как подытожил, Корехов, придерживая дверь за вышедшим уже Василием Фирсовичем. — Ну, пойдем за рыбой тогда, чтоб было чем встретить его! Хороший человек, наверное? Переодеваясь, чтобы ехать к сетям, Мальцев на ходу объяснил Корехову, кто такой Костров, и тот, кивая, внимательно слушал. Деликатный интерес был не праздным. Сейчас на шестьдесят километров берега, тянувшегося в обе стороны от Большой Кумжевой, Корехов оказывался единственным депутатом сельского Совета, представителем власти, и обязан был знать каждого, кто появлялся в сфере его деятельности. …Лодку спустили легко и быстро по каткам, проложенным к воде Василием Фирсовичем и Юрием. На кольях, державших стенку, степенные и ожидающие, сидели чайки, лениво взлетая, когда лодка подходила слишком близко. Прозрачная, бутылочного цвета вода вскипала под веслами. В глубине, освещаемые бегущими солнечными бликами, высовывались из песка отдельные темные камни и светилась капроновая сеть. Идущая от берега стенка была поставлена с допуском, подвернута у дна, и на ее складках сидели большие темные крабы, иногда взбегавшие до полводы в поисках снулой и уже начавшей распадаться рыбы. Загребая тяжелыми веслами и откидываясь назад, пока шли к дальнему неводу, Мальцев размышлял, чтоотдых у него может получиться таким, о каком он не смел и мечтать. Нет, конечно, валяться в доме и смотреть в потолок они с Костровым не станут, — это все разговорчики. Слишком много всего накопилось, чтобы и по тундре по берегу походить, и по стоянкам полазить. А там и на Пулоныу можно сбегать или, наоборот, к Стрельне и на Чапому податься… — Правым, правым махай, Лександрыч! — прервал его мысли негромкий оклик Корехова, и Юрий притабанил левым веслом, чтобы лодку развернуло и к неводу они подошли боком. Легкий, как дыхание, ветерок донес слабый стук мотора. — Никак, Петропавел бежит, Степан, а? — спросил Василий Фирсович, сидевший на корме и готовый подхватить для перебора сеть. Мальцев обернулся. Вдали уже явственно видна была приподнятая миражем над морем лодка, идущая в сторону тони. Корехов кивнул: — Он. Ничего, Фирсович, успеем до прихода и рыбу взять, и уху сварить… Ну, Лександрыч, давай свой край! Мальцев уложил весла на дно, чтобы не мешали, потом оперся коленями в борт лодки и, ухватив сеть уже привычными полусогнутыми пальцами, начал ее поднимать, подтаскивать к борту, перехватывать дальше, — и белая капроновая сеть тянулась к нему из глубины, перекатывала возле борта в пальцах и опять уходила вниз, под лодку. То же самое делали и двое рыбаков. Лодка двигалась теперь боком, словно очищая две стенки и дно невода, так что вся рыба скатывалась к противоположной стороне. Иногда приходилось приостанавливаться, выпутывая из ячеи мелкую горбушу, камбалку, подбирая черного, раздутого, шипастого пиногора с выпученными глазами. Семга не попадалась. Но когда борт лодки прижался к последнему ряду поплавков, под ним зашевелился и затрепетал кошель, где ходила и билась уже настоящая рыба. Мальцев всегда с замиранием ждал этого момента. Сеть зацеплена за колки, чтобы лодка не отошла, рывок — и вот уже лодка наполняется прыгающими, сверкающими телами. Крупные серебряные рыбы с темными спинами, несущие в себе заряд удивительной энергии, достаточной, чтобы пройти еще десятки и сотни километров по горным рекам, через пороги и водопады, бились и плясали в лодке, разбрызгивая соленую воду и сверкающую чешую. Семга всегда поражала Мальцева и внешней красотой своей, и легким, не рыбным, а каким-то арбузным запахом, исходившим от нее, словно бы это и был истинный запах моря. Олени и семга — вот два столпа, на которых тысячелетия держался этот край! Менялось все: береговая линия, климат, растительность; на смену древним жителям этой земли пришли саамы; саамов стали теснить древние новгородцы, за ними потянулись другие обитатели средней России. Пришли люди с иной культурой, с иным хозяйством, но природа всякий раз оказывалась сильнее человека, и постепенно, не отдавая отчета в своем поражении, новые обитатели этих мест незаметно перерождались, перестраивались, перенимали знание, мудрость и быт побежденных, приспосабливались к новой пище, одежде, образу жизни — ко всему, что только и позволяло выстоять, выжить в борьбе с долгой полярной ночью, штормами, холодом, скудной землей, отказывавшей в повиновении человеку… Чайки недаром сидели на кольях — улов оказался хорошим. Освобожденная от колков сеть медленно пошла, расправляясь, на дно. Мальцев осмотрелся. Моторная лодка подошла уже совсем близко, видны были даже лица сидевших. Стадо покинуло берег и теперь двигалось по гребню берега на восток. Неожиданно для себя Мальцев решил, что ему нет никакого смысла возвращаться сегодня в Пялицу. Вернуться он успеет и завтра. Да, именно завтра, решил он, взявшись за весла. И никакой внутренний голос не подсказал Мальцеву, что от этого решения все его планы полетят кувырком уже через несколько часов…III
Петропавлов, начальник пялицкого рыбопункта, длинный, вроде Мальцева, а потому и оправдывавший не только свою фамилию, но и прозвище — «Два Мужика», задержался по причине пустой и необязательной. На Большую Кумжевую он должен был выйти гораздо раньше, чтобы не пропустить отлив, но Алексею почему-то втемяшилось во что бы то ни стало дождаться рейсового самолета, с которым собирался прилететь его шурин. Шурин жил в соседнем селе, виделись они всего три недели назад, событием прилет никаким не был, дома оставалась жена Петропавлова, которая превосходно могла встретить брата, но ежели Алёхе что западало в голову — хоть ты расшибись, а он на своем стоять будет! Шурин прилетел, пошли разговоры, а когда, спохватившись, что отлив вот-вот кончится и придется переть против прибылой воды, бросились к лодке, встретилась Катерина с почты и вручила Петропавлову пакет с газетами и журналами для рыбаков. Так и получилось, что свежие, только что прибывшие с самолетом журналы, вместо того чтобы спокойно пролежать до следующего дня в Пялице под замком, отправились на Большую Кумжевую к рыбакам, которые при долгом дне читали их истово, от корки до корки… После обеда все высыпали на берег. Неожиданно выяснилось, что с Петропавловым отправляется в село и Лукин, а на смену ушедшему в тундру пастуху остается дед Филя и другой пастух. Мальцева это только обрадовало. Все эти дни он пытался разговориться со стариком Митрохиным, самым старым и самым знающим из оленных пастухов, чтобы порасспросить его об оленях и пастьбе. …Дед Филя не обманул ожиданий Мальцева. Говорил он трудно, порой косноязычно, как человек, привыкший больше молчать, общаться с оленями и собаками. Но Мальцев ждал от старика не красноречия, а знаний практических, на которые Митрохин оказался неисчерпаем. Из года в год движение оленей здесь проходило по установленным путям и в определенные сроки. Весной из тайги и тундры олени начинали двигаться к морю, в самом начале лета выходили на морской берег, спасались в теплое время морскими ветрами от гнуса, оводов, слепней, а к осени снова поворачивали в тайгу, шли вдоль рек на лесные озера и там оставались на зимовье. Митрохин называл места летних и зимних стоянок, перечислял ручьи, реки, озера, которыми из года в год определялась жизнь оленных пастухов, — и Мальцев, представляя себе карту берега, видел, как неожиданно оживают для него древние поселения, которые он исследовал. На те же места, где еще недавно стояли тоневые избушки отдельных семей и ловили семгу, а летом с оленями выходили пастухи, — на тех же самых местах останавливались на лето древние рыболовы и оленеводы. За тысячелетия в хозяйстве почти ничего не изменилось — разве что поредели пастбища, выбитые более многочисленными стадами, да море отступило чуть дальше от прежней кромки прибоя. Мальцев знал, что на многих лесных озерах тоже есть остатки древних поселений, где найдены следы более основательных, зимних жилищ-землянок. Считалось, что в них жили люди четыре-пять тысяч лет назад. А по рассказам Митрохина выходило, что именно к этим озерам до сих пор приходят в начале зимы оленные пастухи, потому что зимой в лесу тепло, а рядом, на высоких холмах, лежат самые лучшие ягельники — оленные пастбища.
И здесь же, неподалеку or лесных озер, на кейвах, и в глубине полуострова таились древние саамские святилища-сейды, жилища духов.
Сейды располагались в самых различных местах. Одинокая скала среди болот, громадный камень на утесе, словно положенный чьей-то гигантской рукой, лежащие в ряд или по кругу обломки скал на ровной поверхности тундры — все это могло быть сейдом. Но что за духи жили в этих скалах, как они назывались, какую роль играли в жизни саамов — ничего этого не смогли узнать этнографы, потому что к их приходу старые боги лопарей оказались почти забыты. Саамы знали, что в этих местах надо говорить тихо, ходить осторожно; надо приносить духу жертву — рыбу, кусок мяса, олений рог, лоскут одежды… Но — кому? «Сейдушке, духу, черту», — пытались объяснить саамы настойчивым исследователям или проклинающим их богов миссионерам-священникам. Мальцев читал отчеты, расспрашивал сам и понемногу приходил к мысли, что эти боги были много древнее, чем саамы, которые донесли о них лишь смутную память; боги каких-то более древних народов, чей быт, чья культура и предания отразились в культуре саамов, как мелькнувшие блики в потускневшем зеркале. От саамов почитание этих мест перешло к оленным пастухам.
Митрохин подтвердил, что они с отцом, приходя на Бабье озеро, где был сейд, добавили не одну пару ветвистых рогов в большую кучу на скале и тоже привязывали цветные лоскутки от рубашек к стоящей неподалеку старой, засохшей лиственнице.
— А мне Макарыч говорил, что сейд был еще на Горелом озере, — добавил к рассказам Митрохина второй пастух, молчавший до того у окна.
— Это который тебе Макарыч говорил? — спросил у него дед Филя. — Не Заборщиков ли? Он в наши места, бывало, ходил…
— Он самый, — подтвердил пастух и перевернулся на живот. — Да только какой же там сейд? Я и у лопарей спрашивал — не помнят они…
— А может, не сказали тебе, Гаврилыч, не захотели? — предположил Митрохин и, обращаясь снова к Мальцеву, сказал: — Они не захотят что сказать — и не скажут. Такой народ! А что сейд на Горелом был — так это точно. Такое уж оно, Горелое озеро… Это и я скажу, что неладно там! Вот почему и стороной обходим его…
— А обходим потому, что делать там с оленем нечего, так скажи, Терентьич, — отозвался Корехов. — Рыбы, почитай, в озере нет, ягель поубавился давно, да и дикарь колхозных оленей из стада манит. Вот и не ходим. А что до чертовщины этой — болтовня одна!
По тону Митрохина Мальцев чувствовал, что старик о Горелом озере недоговорил, как будто ненароком затронул нечто запретное, а теперь, задетый пренебрежительной репликой Корехова, не знает, как быть — отстаивать ли свою правоту, или промолчать, признавая оплошность.
— А все же что там, на Горелом? — спросил Мальцев, решив добраться до истины. — Или люди пропадали?
— О людях не скажу, не слыхал, — после недолгой паузы отозвался дед Филя. — Дак ведь разное говорят, всего не проверить! Мало ли кому что мерещиться станет… Я с отцом раза три парнишкой бывал, да и потом случалось. Иной раз ничего: придешь, уйдешь — озеро как озеро. А в другой раз придешь — словно кто рядом с тобой все время ходит, за спиной стоит. Глянешь — нет никого! И оленя не удержать тогда: рвется от воды, в тундру бежит, как ты его ни держи. И рыбы настоящей нет. А один раз — сам видел, о себе говорю — ночью проснулся, смотрю: сполохи над озером играют! Что, думаю, осень еще, да не в небе, у самой воды пляшет… Только приглядываться стал, а оно как полыхнет — и вверх ушло…
— Да ты, Терентьич, с вечера к бутылке не прикладывался ли? — спросил со смехом второй пастух. — Тогда и не такое увидишь!
Митрохин обиженно промолчал.
— А далеко отсюда до Горелого? — спросил Мальцев, во время разговора записывавший в свой дневник названия и приметы мест, маршруты оленьих стад и все то, что вставало перед ним в рассказах пастуха. — Как туда добираться?
— Никак, Лександрыч, на Горелое бежать собрался? — поинтересовался со своих нар Корехов, читавший новый журнал. — Далеко!
— А с него станет. Ноги что у лося — знай меряет! Ему не в устаток и на Поной сбегать, — усмехнулся второй пастух. — Ты расскажи ему, Терентьич!
Дед Филя, казалось, колебался.
— Как тебе так объяснить? Тут тропу знать надо. Ежели по Чапоме пойдешь — вверх километров на восемьдесят поднимайся, а потом на восток, к Пурначу, прямо по Горелому ручью к озеру и выйдешь. Аккурат перед ручьем там плёсо большое, а за ручьем на угоре избушка стоит, Зайцев Иван ее ставил. Вот по ручью и иди. Да только зря проходишь — нет теперь там ничего! Была часовня Ильи-пророка, да и ту в войну спалили…
Мальцев уже раскрыл рот, чтобы подробнее расспросить о самом озере, его берегах, как в разговор вмешался снова Корехов.
— Вот и об истории здесь, Лександрыч, пишут, — сказал он, поправляя очки и перегибая пополам какой-то журнал. — Вишь, золото нашли! И почти в наших краях — в Норвегии, А ты вот одни камушки выкапываешь, и за что тебе только деньги дают?!
— Много ли золота, Степан Феоктистыч? — спросил вошедший в избу Василий Фирсович. — Я это золото в деньгах только раз и видел, когда с отцом в Архангельск ходили. Да потом у покойного Тарабарина был зуб золотой — вот, почитай, и все золото наше!..
— Тут не деньги, тут цацки, — протянул Корехов. — Вот слушай.
…Дед Филя не обманул ожиданий Мальцева. Говорил он трудно, порой косноязычно, как человек, привыкший больше молчать, общаться с оленями и собаками. Но Мальцев ждал от старика не красноречия, а знаний практических, на которые Митрохин оказался неисчерпаем. Из года в год движение оленей здесь проходило по установленным путям и в определенные сроки. Весной из тайги и тундры олени начинали двигаться к морю, в самом начале лета выходили на морской берег, спасались в теплое время морскими ветрами от гнуса, оводов, слепней, а к осени снова поворачивали в тайгу, шли вдоль рек на лесные озера и там оставались на зимовье. Митрохин называл места летних и зимних стоянок, перечислял ручьи, реки, озера, которыми из года в год определялась жизнь оленных пастухов, — и Мальцев, представляя себе карту берега, видел, как неожиданно оживают для него древние поселения, которые он исследовал. На те же места, где еще недавно стояли тоневые избушки отдельных семей и ловили семгу, а летом с оленями выходили пастухи, — на тех же самых местах останавливались на лето древние рыболовы и оленеводы. За тысячелетия в хозяйстве почти ничего не изменилось — разве что поредели пастбища, выбитые более многочисленными стадами, да море отступило чуть дальше от прежней кромки прибоя. Мальцев знал, что на многих лесных озерах тоже есть остатки древних поселений, где найдены следы более основательных, зимних жилищ-землянок. Считалось, что в них жили люди четыре-пять тысяч лет назад. А по рассказам Митрохина выходило, что именно к этим озерам до сих пор приходят в начале зимы оленные пастухи, потому что зимой в лесу тепло, а рядом, на высоких холмах, лежат самые лучшие ягельники — оленные пастбища.
И здесь же, неподалеку or лесных озер, на кейвах, и в глубине полуострова таились древние саамские святилища-сейды, жилища духов.
Сейды располагались в самых различных местах. Одинокая скала среди болот, громадный камень на утесе, словно положенный чьей-то гигантской рукой, лежащие в ряд или по кругу обломки скал на ровной поверхности тундры — все это могло быть сейдом. Но что за духи жили в этих скалах, как они назывались, какую роль играли в жизни саамов — ничего этого не смогли узнать этнографы, потому что к их приходу старые боги лопарей оказались почти забыты. Саамы знали, что в этих местах надо говорить тихо, ходить осторожно; надо приносить духу жертву — рыбу, кусок мяса, олений рог, лоскут одежды… Но — кому? «Сейдушке, духу, черту», — пытались объяснить саамы настойчивым исследователям или проклинающим их богов миссионерам-священникам. Мальцев читал отчеты, расспрашивал сам и понемногу приходил к мысли, что эти боги были много древнее, чем саамы, которые донесли о них лишь смутную память; боги каких-то более древних народов, чей быт, чья культура и предания отразились в культуре саамов, как мелькнувшие блики в потускневшем зеркале. От саамов почитание этих мест перешло к оленным пастухам.
Митрохин подтвердил, что они с отцом, приходя на Бабье озеро, где был сейд, добавили не одну пару ветвистых рогов в большую кучу на скале и тоже привязывали цветные лоскутки от рубашек к стоящей неподалеку старой, засохшей лиственнице.
— А мне Макарыч говорил, что сейд был еще на Горелом озере, — добавил к рассказам Митрохина второй пастух, молчавший до того у окна.
— Это который тебе Макарыч говорил? — спросил у него дед Филя. — Не Заборщиков ли? Он в наши места, бывало, ходил…
— Он самый, — подтвердил пастух и перевернулся на живот. — Да только какой же там сейд? Я и у лопарей спрашивал — не помнят они…
— А может, не сказали тебе, Гаврилыч, не захотели? — предположил Митрохин и, обращаясь снова к Мальцеву, сказал: — Они не захотят что сказать — и не скажут. Такой народ! А что сейд на Горелом был — так это точно. Такое уж оно, Горелое озеро… Это и я скажу, что неладно там! Вот почему и стороной обходим его…
— А обходим потому, что делать там с оленем нечего, так скажи, Терентьич, — отозвался Корехов. — Рыбы, почитай, в озере нет, ягель поубавился давно, да и дикарь колхозных оленей из стада манит. Вот и не ходим. А что до чертовщины этой — болтовня одна!
По тону Митрохина Мальцев чувствовал, что старик о Горелом озере недоговорил, как будто ненароком затронул нечто запретное, а теперь, задетый пренебрежительной репликой Корехова, не знает, как быть — отстаивать ли свою правоту, или промолчать, признавая оплошность.
— А все же что там, на Горелом? — спросил Мальцев, решив добраться до истины. — Или люди пропадали?
— О людях не скажу, не слыхал, — после недолгой паузы отозвался дед Филя. — Дак ведь разное говорят, всего не проверить! Мало ли кому что мерещиться станет… Я с отцом раза три парнишкой бывал, да и потом случалось. Иной раз ничего: придешь, уйдешь — озеро как озеро. А в другой раз придешь — словно кто рядом с тобой все время ходит, за спиной стоит. Глянешь — нет никого! И оленя не удержать тогда: рвется от воды, в тундру бежит, как ты его ни держи. И рыбы настоящей нет. А один раз — сам видел, о себе говорю — ночью проснулся, смотрю: сполохи над озером играют! Что, думаю, осень еще, да не в небе, у самой воды пляшет… Только приглядываться стал, а оно как полыхнет — и вверх ушло…
— Да ты, Терентьич, с вечера к бутылке не прикладывался ли? — спросил со смехом второй пастух. — Тогда и не такое увидишь!
Митрохин обиженно промолчал.
— А далеко отсюда до Горелого? — спросил Мальцев, во время разговора записывавший в свой дневник названия и приметы мест, маршруты оленьих стад и все то, что вставало перед ним в рассказах пастуха. — Как туда добираться?
— Никак, Лександрыч, на Горелое бежать собрался? — поинтересовался со своих нар Корехов, читавший новый журнал. — Далеко!
— А с него станет. Ноги что у лося — знай меряет! Ему не в устаток и на Поной сбегать, — усмехнулся второй пастух. — Ты расскажи ему, Терентьич!
Дед Филя, казалось, колебался.
— Как тебе так объяснить? Тут тропу знать надо. Ежели по Чапоме пойдешь — вверх километров на восемьдесят поднимайся, а потом на восток, к Пурначу, прямо по Горелому ручью к озеру и выйдешь. Аккурат перед ручьем там плёсо большое, а за ручьем на угоре избушка стоит, Зайцев Иван ее ставил. Вот по ручью и иди. Да только зря проходишь — нет теперь там ничего! Была часовня Ильи-пророка, да и ту в войну спалили…
Мальцев уже раскрыл рот, чтобы подробнее расспросить о самом озере, его берегах, как в разговор вмешался снова Корехов.
— Вот и об истории здесь, Лександрыч, пишут, — сказал он, поправляя очки и перегибая пополам какой-то журнал. — Вишь, золото нашли! И почти в наших краях — в Норвегии, А ты вот одни камушки выкапываешь, и за что тебе только деньги дают?!
— Много ли золота, Степан Феоктистыч? — спросил вошедший в избу Василий Фирсович. — Я это золото в деньгах только раз и видел, когда с отцом в Архангельск ходили. Да потом у покойного Тарабарина был зуб золотой — вот, почитай, и все золото наше!..
— Тут не деньги, тут цацки, — протянул Корехов. — Вот слушай.
«Захоронение эпохи викингов. Как сообщил недавно норвежский журнал… — он споткнулся на названии и продолжал, пропустив: — …возле города Тронгейма в Норвегии археологи раскопали большой курган, по преданию насыпанный над одним из древних королей…»Во как — королей! — прибавил от себя Корехов.
«Под земляной насыпью, укрепленной панцирем из камней, оказалось удивительно богатое погребение, датируемое временем короля Олава — десятым — одиннадцатым веком нашей эры».— Это когда же он жил, Лександрыч? — прервал чтение Корехов. — Круглым счетом — тысячу лет назад, — отозвался Юрий, слушавший чтение Корехова вполуха: курганов много, да все не здесь! — Тысячу лет, стало быть… Давненько! — вздохнул Корехов.
«Внимание привлекает богато украшенный золотом меч с именем владельца — «Торстейн», — крупная золотая фибула и золотой же поясной набор, являющиеся уникальными произведениями древнескандинавского ювелирного искусства. Можно думать, что этот знатный воин, может быть ярл, то есть князь, Тронгейма, участвовал в походах на восток или служил при дворе византийского императора, так как золотые предметы из погребения украшены прекрасными необработанными сапфирами. Такие сапфиры могли попасть в средневековую Европу из Индии…»— Подумай, из самой Индии везли, во как! — восхитился Корехов. — А что за камень такой, Лександрыч? У нас такого нет? — Драгоценный камень, — ответил Мальцев, и в этот момент в сознании его легкой тенью прошла и скрылась, не успев оформиться, какая-то мысль. — Значит, вроде наших аметистов, что за Кузоменью, — констатировал Василий Фирсович, внимательно прислушивавшийся к чтению. Корехов продолжал:
«Но самой интересной находкой явился небольшой бронзовый щит, украшенный традиционным орнаментом «плетенки», так как по его краю нанесен сложный рисунок, по мнению специалистов являющийся подробной картой берегов Северной Норвегии с обозначением заливов, якорных стоянок и пристанищ. Эта уникальнейшая карта дает перечень прибрежных поселений того времени вплоть до Святого Носа на Кольском полуострове. Она подтверждает известия древних саг о плавании скандинавов в Белое море. Первоначально карта не кончалась Святым Носом, а продолжалась дальше. Но именно этот участок щита еще до захоронения кем-то был вырублен…»— А жалко! — отметил Корехов. — Может, и к нам они сюда приплывали?
«Во всяком случае, в руках археологов теперь находится древнейшая карта Севера, изучение которой позволит ответить на многие спорные вопросы».— И все это напечатано в журнале… — Покажите-ка мне, Степан Феоктистович. — Мальцев протянул руку за журналом, и Корехов охотно передал ему журнал, проговорив: — Смотри, смотри… Насмотришься, может, и у нас такое найдешь! Он снял очки и сел на нарах, спустив ноги в толстых шерстяных носках домашней вязки. На цветной вклейке было несколько фотографий: золотая рукоятка норманнского меча с золотой обкладкой и явными рунами, насеченными золотом по лезвию и оттого четко выступавшими на черно-коричневой кипени ржавчины. Рядом лежала золотая фибула — пряжка для плаща. Она была как бы сплетена из тел змей, в головках которых были вставлены густо-синие камни. Такими же камнями была украшена рукоятка меча. Но Мальцева больше всего интересовал щит, сохранившийся прекрасно, как то порой бывает с древней бронзой. Вместо того чтобы превратиться в ярко-зеленую труху, щит Торстейна, сохранив прежнюю полировку своей поверхности, а с ней и гравированные рисунки, приобрел цвет вечернего зимнего неба, когда голубизна мешается с легкой малахитовой зеленью. Это был цвет благородной платины, при виде которой становятся излишними все свидетельства о подлинности предмета и секрет которой до сих пор остается неизвестен ни ученым, ни фабрикантам древностей. В центре щита сверкал золотой умбон — круглая, выпуклая бляха, похожая по узору на фибулу. Вокруг умбона кипела битва: гравер изобразил тяжелых, несколько неуклюжих воинов, рубивших друг друга мечами, коловших копьями, врывавшихся на корабли и лежавших под ногами победителей. Все это напоминало изображение знаменитой битвы при Гаскингсе. По краю же щита шел бесконечный, тоже гравированный фриз, где вдоль змеящейся линии побережья с мысами и бухтами плыли корабли, а на берегу стояли то воины, то звери, то какие-то загадочные знаки. С одного края щита фриз обрывался. На снимке было отчетливо видно, что недостающий кусок вырублен двумя резкими ударами топора, а затем отломан. Это тем более было досадно, что на отсутствующем куске — Мальцев готов был держать пари! — могла находиться и Пялица, и Чапома, но самое главное — тот неприметный маленький мыс, где он недавно нашел высеченное на камне изображение скандинавской ладьи! И не только изображение… А знаком корабля викинги метили места своих стоянок и постоянных пристанищ!.. И была еще какая-то мысль, скользнувшая в сознании Мальцева, пока он рассматривал фотографии, да так и сгинувшая без следа, не успев оформиться. Что-то эта мысль объясняла и даже вроде бы как-то затрагивала Кострова… Но как?
IV
Только вечером, перебравшись со своим спальным мешком из прокуренной рыбаками и пастухами избы в сарай, смотря сквозь дымку марлевого полога на темное небо в проеме прохода, усыпанное крупными звездами, слушая монотонное шуршание и вздохи моря, Мальцев вдруг вспомнил. …Звали его Торстейн Рауд — Торстейн Рыжий. Счастье не покидало его при жизни, но забыло после смерти: когда через двести лет ученый монах Саксон Грамматик писал историю Дании, все подвиги Торстейна он приписал его троюродному брату, Торстейну Бьярмагну, разукрасив такими подробностями, сквозь которые добраться до правды так же трудно, как пройти сквозь строй нападающих берсерков. Истина открылась лишь недавно, когда в Королевской библиотеке Швеции были найдены пожелтевшие, съежившиеся от времени и влаги три листка хорошо выделанной телячьей кожи. На них и сохранилась часть истории Торстейна Рауда, записанная на сто лет раньше, чем писал Саксон Грамматик. В свое последнее плавание Торстейн Рыжий отправился за четыре года до смерти Олафа Харальдссона, Олафа Святого, который умер в 1028 году. Возможно, кроме собственных нужд, Торстейн исполнял поручение Олафа — собирал дань с северных народов, которых норвежские короли благосклонно признавали своими подданными. Удача, как всегда, сопутствовала Торстейну. Он останавливался в известных ему местах, удачно избегал враждебных чар, торговал с «карликами», покупая у них меха и жемчуг. Сага подробно описывает его путь в Гандвик — Белое море, сохранившее древнее имя в звучании Кандалакшского залива. Но на сей раз именно в Кандалакшский залив Торстейну не суждено было попасть. Миновав Святой Нос, «когда ледяные великаны кончили свою игру и море перестало бросаться с открытой пастью», Торстейн повернул к югу. Два дня он плыл с попутным ветром на юг, все время имея берег по правому борту. По-видимому, так он делал уже не раз и хорошо знал юго-восточное побережье Кольского полуострова, потому что сага после этого сразу говорит, что «друг его Годмунд, ярл терфиннов», то есть князь терских саамов (?), просил его помощи. Между Годмундом и каким-то соседним «королем» велась война. В борьбе с врагами Годмунда Торстейн Рыжий и его дружина проявили чудеса храбрости. Сага описывает бой подробно, тем более что в этом бою Торстейн не только окончательно разбил врагов своего приятеля, но и спас Годмунду жизнь. И теперь, по мере того как Мальцев напрягал память, чувствуя, что именно здесь в точности слов можно найти разгадку охватившего его беспокойства, перед ним начали всплывать звонкие и точные, словно отлитые из металла, слова древней саги:«Сказал Годмунд Торстейну: — К рогу дракона поставь свое судно, и нужда не коснется твоих людей, и твоего богатства. Враги ищут на дне моря путь в страну мрака. Сказал Торстейн Годмунду: — Моя рука всегда готова помочь твоей. Куда поведет нас наша слава? Сказал Годмунд: — Твои боги сильны, они высокие (или «высоко»?), наши — внизу. Ты увидишь Око Земное, родившее первого Лосося, ты пройдешь через каменные врата, откуда вышел Первый (человек?) и вокруг (будет?) довольство и веселье. Я дам тебе лён бессмертных, и пламя не коснется твоего тела. Ты увидишь серебряную рану Йотуна и его синюю кровь. Капли (крови?) ты возьмешь сколько захочешь, и за них твои (соотечественники?) отдадут все (свое?) золото. Ты возвратил мне солнце, а людям моим вернул тишину моря… Тогда Торстейн приказал поставить свой корабль возле рога дракона и людям своим сказал ждать, потому что вернется на берег, когда тридцать раз сменится вода в море…»Именно так, высокопарно и несколько загадочно, рассказывала сага о приключениях Торстейна Рыжего. Но какие это были приключения! …Они поднимались вверх по реке. К вечеру первого дня они остановились на ночлег возле водопада. С помощью заклинаний Годмунд распахнул завесу водопада и провел Торстейна в пещеру, где обитал гигантский Лосось. Годмунд обратился к Лососю на неизвестном Торстейну языке, и тот предрек викингу долгую жизнь, неизменную удачу и богатство. В следующие два дня ничего особенного не произошло, а к концу четвертого они приблизились к жилищу Годмунда.
«Дворец стоял на равнине и блистал золотом, как сверкает восходящее солнце. Каждый его камень был гладок, как зеркало, в нем отражались небо и звезды, а сам дворец отражался в водах горного озера».Во дворце Годмунда было всегда светло и тепло, ибо там горел неугасимый огонь, «не требующий пищи». Годмунд рассказал Торстейну, что его дворец построили боги, спустившиеся с неба и принесшие ему этот вечный огонь. Они обещали, что и сам Годмунд будет жить вечно, если он не перестанет охранять этот огонь и их сон. Они и себе построили дворец, не похожий ни на что земное, после чего боги уснули. Услышав рассказ, Торстейн стал упрашивать своего друга, чтобы тот показал ему богов. Годмунд согласился, но предупредил, что должен его сначала подготовить. Как видно, подготовка состояла в пирах и состязаниях, обычных для саг, описывающих подвиги норвежских королей. Но наряду с этим Годмунд каждое утро поил Торстейна каким-то напитком, после которого у викинга прибавлялись силы. И вот наступил день, когда Годмунд принес Торстейну «рубашку ангела».
«Эта рубашка была и мягкой, и твердой; она была легкой и тяжелой; она была белой, как снег, упавший ночью на горы; она была сделана из небесного льна и из камня бездны» — так описывала рубашку сага. «Оставь свой меч, сними с шеи гривну и с рук запястья, — сказал Годмунд. — Пусть тело твое не знает тяжести железа, груза золота и холода меди. И оружием будет не твоя смелость, а мое слово».Так, одетые лишь в эти загадочные одеяния, они отправились к жилищу богов, которое издали было «похоже на сгустившийся дым или дымное облако, упавшее на землю». Но когда они в него вошли, Торстейн увидел скалы и каменные врата, охраняемые гигантскими змеями. Годмунд произнес заклинания, и змеи их пропустили. За вратами, «в чреве горы» Торстейн увидел поверженного йотуна — «гигантского ледяного великана, обгоревшего в пламени Муспелля». Но Годмунд повел его дальше, вниз, и, «хотя в толще земной царит мрак, чем ниже они спускались, тем становилось светлее, как будто бы свет шел из самых стен». Что это был за спуск и что на этом пути увидел Торстейн, сага не объясняет, упоминая лишь «великие чудеса и хитрости богов». Наконец они спустились в подземный дворец.
«Там в зале, где сразу могут сразиться сто воинов, вдоль стен сидели страшные чудовища. У них не было лиц, и каждый был похож на другого. Они спали, и их разделяли свинцовые перегородки. Они были как мертвые, но Торстейну казалось, что все они рассматривают его. И сказал Торстейн Годмунду: — Выйдем отсюда, потому что мне кажется, что я уже попал в царство Хель! (То есть в царство мертвых.) На это Годмунд ему возразил: — Не бойся и не спеши. Здесь ты под защитой и вечен: ни болезнь, ни смерть, ни старость не коснутся тебя, пока ты в этой одежде. Пойдем еще вперед. И они прошли в следующий зал, где висело оружие и множество всяких предметов, о которых Торстейн не знал, что и подумать. А в центре зала стояло сверкающее кресло. И Годмунд сказал Торстейну: — Сядь на это место богов, и ты увидишь нечто удивительное. Тогда Торстейн поднялся по ступенькам и сел в это кресло. Но лишь только его голова коснулась спинки, как он почувствовал, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, не может сказать слова и открыть глаза. Он словно умер и слышал непонятное, но это было не больно, не неприятно. И тогда он увидел снова всю свою жизнь — от самого детства до того, как вошел в этот зал. Он прожил ее еще раз, и еще раз убил своих врагов, которых убил, и любил тех женщин, которых любил, и опять помог Годмунду, и прошел весь этот путь от моря до жилища богов, и снова сел в это кресло. Тогда он очнулся и встал. Его никто не держал, а на коленях у него лежали синие камни. Годмунд ждал его в первом зале, где спали боги. И он сказал Торстейну, что все это — волшебство богов, которым открыто сокровенное, а синие камни — кровь йотуна, которую боги дарят храбрейшим. И так они вышли из жилища богов».Все последующие приключения Торстейна не выходили за пределы обычного набора фантастических саг, черпавших приключения героев из безбрежного океана волшебных сказок. Распростившись с Годмундом и получив от него в подарок волшебный перстень, делавший его владельца невидимым, а также кожаный мешок с попутным ветром, Торстейн возвратился к своему кораблю и отплыл на родину. Ему даже не особенно мешали традиционные столкновения с обитателями льдов и мрака, от которых он откупился волшебным перстнем, — главное приключение его жизни осталось позади. Вернувшись в Норвегию, Торстейн явился к королю Олаву, рассказал о своем плавании и вместе с несколькими синими камнями подарил королю «рубашку ангела», которую «не берет земное пламя», как все тотчас же могли убедиться. Один из камней Олав послал в подарок в Рим, папе, другие приказал вставить в свою корону, а самого Торстейна осыпал подарками и сделал ярлом Тронгейма. Что было в саге истиной, а что — сказкой? Откуда попало в глухое средневековье описание «дворца богов» — подземного святилища, словно взятое из современной космической фантастики? Да, гигантские птицы, хватавшие корабль Торстейна, змеи, заглатывающие оленей, призраки — все это позволяло сомневаться в истинности приключения, но это же все было обычным для сказки. А ведь было и другое: достоверное описание морского пути, стычка с какими-то местными племенами, наконец, «рубашка ангела» — одежда из асбеста, горного льна, известного уже в средние века, а теперь незаменимый материал для костюмов пожарных и все тех же космонавтов… Все это представлялось загадочным, запутанным, противоречило друг другу в те далекие студенческие годы, когда Мальцев вчитывался в перевод саги. Но разве он мог подумать, что в один действительно прекрасный день, каким был этот день на берегу Белого моря, известного ему тогда лишь по географической карте, отпадут все сложности и открытие понесет его вслед за Торстейном, на каждом шагу открывая новые и новые подтверждения словам саги! Сейчас, прислушиваясь то к вздохам моря, то к писку и шороху мышей под полом, к тонкому звону комаров над пологом, Мальцев остро и ясно, как на объемном экране, увидел крепкого, широкоплечего Торстейна с огненной бородой и шевелюрой, в кожаной куртке, украшенной накладными металлическими пластинами, закрывающими грудь от стрел; увидел вытащенный на песок его корабль и Годмунда — низкорослого, с черными живыми саамскими глазами, маленькими руками, держащими лук со стрелами. Теперь у Юрия не было и тени сомнения, что сага права: никого иного, а именно этого Торстейна Рыжего норвежские археологи раскопали в кургане возле Тронхейма; и сапфиры на фибуле и на рукояти его меча — те самые «капли крови йотуна», которые он привез из своего последнего плавания. Да, Торстейн был великим викингом! Он совершил то, что казалось невероятным даже его современникам, для которых не существовало ничего невероятного. Он был на Терском берегу, он был с Годмундом в каком-то святилище… «Но это же значит… — Мальцев даже задохнулся от своей мысли, — это значит, что на Кольском полуострове действительно есть сапфиры!» Он вспомнил: вот она, та самая ускользнувшая днем мысль, невероятная догадка, осенившая его и скрывшаяся бесследно, пока он рассматривал фотографии в журнале. Она пришла следом за звонком Кострова, потому что именно Костров когда-то рассказывал ему о поисках сапфиров в этих местах, в успехе которых он был так уверен, но которые ему так и не дали завершить…
V
Едва лодка Петропавлова обогнула песчаную косу, протянувшуюся со стороны берега к бару[345] и уже захлестываемую приливом, проскочила между камней и выровнялась, как глазам Мальцева открылась вся бухта в устье Пялицы — с кипящим порогом в глубине, высокими песчаными обрывами, над которыми темнели крыши редких домов, приплавленными бревнами, лежащими на песке возле лодок, и низким зданием рыбопункта, уходившим в обрыв своим обширным ледником. Вдоль воды по песку бродили и сидели собаки, а на пирсе, рядом с бочками и носилками, стояли рабочие рыбопункта, среди которых еще издали Мальцев заметил ослепительную шевелюру друга. Костров стоял в таких же резиновых сапогах, как рабочие, в застиранной и выгоревшей штормовке, над которой сияло все — лицо, морковное от северного загара, бездонно-голубые глаза, льняной ореол волос и, безусловно, шестьдесят четыре белоснежных зуба, хотя геолог уверял, что их у него вполовину меньше. По сравнению с худым и длинным Мальцевым жилистый и невысокий Костров мог показаться коротышкой, и, когда друзья обнялись, Виктору пришлось слегка откинуть голову, чтобы не уткнуться Мальцеву в плечо. Лодку разгружали без них. Выдержав неписаный северный этикет — перекинувшись с каждым присутствующим по слову, пожав протянутые руки и потоптавшись на пирсе, — Мальцев подхватил мешок с тремя рыбинами (пай артельный!) и вместе с Костровым направился к дому. Отобранный у рыбаков журнал лежал в сумке с фотоаппаратами, все продуманное за прошлый вечер рвалось с языка, Мальцев знал, что подобным же нетерпением рассказов и расспросов горит Виктор, но, подчиняясь все тому же этикету Севера, они шагали по тропе вдоль обрыва, перекидываясь ленивыми замечаниями о начавшей портиться погоде, о «Воровском», который запоздал сегодня к приливу, об уловах на Большой Кумжевой, которую Виктор видел с воздуха, успев разглядеть и Юрия в лодке, и сети, и даже костерок, над которым висело ведро с ухой… Лишь когда они вошли в дом и Юрий, положив мешок с рыбой в холодный чуланчик позади сеней, вошел в комнату и увидел уже сервированный стол, льняную скатерть, игравшие в солнечном луче хрустальные рюмки, он восхищенно прищелкнул языком и, не в силах сдержаться, хлопнул Кострова по плечу: — Ну, пижон! Не напрасно ты старался — смотри! — И, обрывая застревавшую, как обычно, застежку-«молнию», Мальцев вытащил из сумки и сунул в руки непонимающего Кострова журнал, открытый как раз на цветной вкладке. — Читай! Виктор чуть поднял белые брови и с удивлением взглянул на Мальцева: — Что, уже о тебе успели сочинить что-то? — Сначала прочти, спрашивать потом будешь… Костров читал спокойно, внимательно разглядывал фотографии, а когда кончил, то посмотрел на сидящего Мальцева с некоторым недоумением, в котором ясно читался вопрос: ну и что? И тогда, все еще не присев, только стянув отсыревшую от брызг куртку, Мальцев стал рассказывать — о Торстеине, о своих соображениях, и, по мере того как продвигался рассказ, выражение лица геолога менялось. Теперь взгляд его стал глубоким и острым, на лице появилась собранность, несколько раз он перебивал Мальцева вопросами. Особенно Кострова заинтересовало упоминание об асбестовой одежде. Но это, как оказалось позднее, вызвало и скепсис. Оказывается — Мальцев этого даже не подозревал, — геологам на Кольском полуострове месторождения асбеста до сих пор не были известны. — Подожди, Рыжий, а откуда же брали тогда асбест древние жители Терского берега? — спросил в свою очередь удивленный Мальцев. — Разве он был у них? — вопросом на вопрос отвечал не менее удивленный Костров. — Был, конечно! Они добавляли волокна асбеста в глину, из которой лепили свои сосуды. И черепки таких сосудов так у нас и называются — асбестовая керамика. Что же, выходит, что на весь Кольский полуостров везли асбест из Карелии? Своего рода «служба быта» была? — не мог не пошутить Мальцев. — Может быть, и везли, не скажу; тебе, Викинг, виднее. — Костров снова припомнил старое прозвище Мальцева. — Только, по моему мнению, ты слишком рано обрадовался, — попытался охладить восторг друга более рассудительный и осторожный геолог. — Ну почему ты решил, что следы твоего скандинава надо искать обязательно на Терском берегу, а не в Кандалакшском заливе? Или, скажем, в Карелии, в той же Чупской губе? Там и промышленные выходы слюды есть, не так далеко месторождения асбеста, да и пегматиты богаче… Ведь не на берегу моря он был, уходил вглубь, а как далеко? Где искать? «Тридцать раз сменится в море вода» — тридцать приливов-отливов, пятнадцать лунных суток, по два цикла в сутки… Туда-обратно — по неделе выходит, так? Значит, куда-то «туда» — неделя хорошего хода. А куда «туда»: прямо от моря, в сторону или по реке петлять? — Считай меньше, он ведь еще у Годмунда жил! Так что не больше пяти дней в одну сторону. А если представить, что они с остановками шли… — …то получится все, что угодно! — закончил за друга Костров. — Везде есть реки, везде на реках пороги и водопады… — От моря до водопада — день пути. Не забывай! — Это, конечно, больше подходит для Кольского полуострова, чем для Карелии. — И потом, ты не знаешь самого главного! — спохватился Мальцев. — Ведь я не рассказал о своих раскопках этого года, а в них, по-моему, и есть ключ к Торстейну. Так вот… Два года назад, ведя поиски древних поселений между устьями Стрельны и Чапомы, на мысу Остром Мальцев нашел стоянку каменного века, отличавшуюся от остальных обилием очагов и каменных орудий. По форме предметов и высоте поселений над уровнем моря археолог заключил, что поселение существовало здесь около трех с половиной тысяч лет назад. Но в этом году, при раскопках, возле одного очага Мальцев нашел маленькую бусину из зеленоватого стекла. Она принадлежала эпохе викингов и отстояла от очагов с каменными орудиями по меньшей мере на две с половиной тысячи лет. На нее можно было бы не обратить внимания, но еще через день, у другого очага, оказалось три такие бусины! Кроме того, что они являлись первыми вещественными свидетелями связей Скандинавии с Белым морем в эпоху викингов, они заставляли сделать выбор: или бусины попали сюда случайно, или же все прежние представления о древней истории этих мест никуда не годились! Чтобы выяснить все эти вопросы, Мальцев начал раскопки возле скалы, пытаясь найти древнюю береговую линию. В древности скала, выделяясь своим зубцом на фоне песка, служила естественным молом для небольшой бухты, предохраняя ее от разбега волн. Представить себе все это Мальцев моги раньше, но совершенной неожиданностью для него явилось четкое изображение скандинавского корабля, выбитое в основании зубца скалы и скрытое до времени песком! — О нем-то ты и говорил по телефону? — сверкнул глазами Костров. — Неплохо, неплохо получается! А дальше? — Что — дальше? — спросил Мальцев, несколько обескураженный вопросом геолога. — Разве ты не видишь, как удивительно накладывается сага на все находки? Здесь и могла быть битва… Костров прошелся по комнате, засунув ладони под пояс. Остановился против окна, посмотрел на вылизанный ветром береговой склон, на густо-синее, закипающее под ветром море, идущее к берегу приливом, промолчал. Потом повернулся к Мальцеву и спросил, как будто за эти минуты все уже было обговорено: — Так по какой реке ты полагаешь идти? По Стрельне или по Чапоме? И как далеко? — Значит, поверил? — улыбнулся Мальцев. — А по-моему, тут командование принимать тебе. Ты геолог. Вот и крепись! — Тогда повтори. От моря они шли по реке день? — Шли день и пришли к водопаду… — Так. Это уже что-то. На Стрельне только пороги. Водопад есть на Чапоме и на Югине, который еще ближе… — Югин — короток для таких странствий! — Да, пожалуй, — согласился Костров. — По Чапоме… А дальше куда? Он подошел к висевшей на стене сумке и вынул планшет с картой. И в этот момент Мальцев почувствовал, как в его мозгу произошло то самое замыкание, отсутствие которого не давало ему покоя все это время. Он словно бы знал, знал точно ответ какой-то задачи, но само решение испарилось, исчезло, и теперь задача повисала тяжелым и мучительным знаком вопроса. «Идти, идти… Но куда?» — билось в мозгу у Мальцева, и вдруг от этого слова «идти» замелькали кочки болот, заныли будто уставшие ноги, на Мальцева дохнул прохладный ветер с моря, пронеслось мимо него стадо испуганных оленей, и чуть насмешливый голос Корехова издали отчетливо прокричал: «Никак, Лександрыч, на Горелое бежать собрался? Далеко!..» — «Далеко, далеко!..» — откликнулось с другой стороны эхо, и Юрий вскочил. — Знаю, куда идти! По Чапоме. На Горелое озеро. — Ом тряхнул головой в ответ на недоуменный взгляд Кострова. — Там было когда-то древнее святилище, вот там и надо искать! Там и боги Годмунда. Вот и соединяется все, Рыжий: и сага, и путь, и святилище… А стало быть, именно там и надо искать месторождение сапфиров, которые увез отсюда Торстейн! Наконец, черепки с асбестом, которые я нашел на том же мысу, где был корабль Торстейна. А помнишь, ты говорил мне когда-то, что вот будет время, когда я приеду к тебе в экспедицию, ты расстелешь такую же скатерть, поставишь две хрустальные рюмки, нальешь их, а на дне будут сверкать и подмигивать нам синие камушки?! Ну что ж, выполняй обещание!.. — М-да, обещание… — пробормотал геолог, словно не слыша Мальцева. Пока тот излагал ему свои соображения о священном озере, сейдах, пастухах, Костров достал из планшета карту, развернул ее на скамье и прикидывал предстоящий маршрут. Наконец его палец уткнулся в голубую точку Горелого озера. — Здесь, — сказал он и посмотрел на Мальцева сосредоточенно и отчужденно, словно тот провинился в чем-то. — Горелое озеро. Пять дней пути. Впрочем… надо подумать. А теперь — за стол и ни слова о Торстейне. Твое здоровье, Викинг!VI
Озеро они увидели лишь к концу четвертого дня. А что было за эти дни? Когда кто-то спросил Мальцева об этом, он ответил кратко: шли. Они шли, спали и снова шли. Времени было в обрез. От заманчивой мысли повторить путь Торстейна, поднявшись по Чаломе вверх до Горелого ручья, пришлось отказаться. Все рассчитав, Костров предложил идти на Горелое озеро старыми оленьими тропами по карте, чтобы возвращаться вниз по реке. Выигрыш получался двойной — во времени, что было немаловажным обстоятельством в преддверье осени, и в раскладке сил. При нужде перегруженные образцами рюкзаки можно было сплавить вниз на плоту. …Они спустились с пригорка за деревней, перешли ручей, где обычно умывался Мальцев, вышли на берег реки. Порой на пути попадались болотистые долины с мелкими, широкими озерцами, которые приходилось обходить далеко стороной по змеящимся песчаным озам,[346] оставленным потоками ледника, взбираться на каменистые гребни гряд, где серые, заветренные выходы скал расцвечены розовыми, черными, светло-зелеными и ярко-золотыми разводами лишайников. Потерянная было тропа снова змеилась между камней, через них приходилось шагать, высоко поднимая ноющие, намятые сапогами ноги, и нельзя было сказать: та это тропа, по которой они шли два часа назад, потерянная в очередной ложбине на зеленом пуху болота, или совсем другая. Потому что справа и слева, выше и ниже, то опускаясь к самому краю болот, то упорно придерживаясь вершины гряды, всюду шли старые и новые оленьи тропы, а под ногами все так же оказывались то изгрызенный лисицами рог, то разбросанные перья незадачливой куропатки… К полудню четвертых суток путешественники выбрались на вершину очередной гряды. Вокруг, бескрайняя и безотрадная, лежала холмистая страна с мокрыми, заболоченными склонами, на которых рождались ниточки бесчисленных ручейков, с налитыми влагой болотами, блюдцами маленьких озерков в ложбинах, над синей гладью которых кружили редкие чайки. Каждый холм, каждая гряда являли собой здесь маленький водораздел, иногда увенчанный султаном корявого северного березняка с россыпью оранжево-красных упругих шляпок подосиновиков, или, как их называли на Севере, красноголовиков. Здесь не было леса, не было тундры, сухой и чистой, не было сплошных непроходимых болот, какие встречал Костров на водоразделе Поноя и Варзуги, но все присутствовало в той или иной пропорции, перемешивалось, создавая мозаику, сбивало с пути, и человек, не привыкший к Северу или забывший почаще сверяться с компасом, терял направление в прихотливых изгибах гряд, оказываясь в безысходной власти этого странного мира. Забравшись на вершину холма, Костров долго разглядывал горизонт и наконец протянул бинокль Мальцеву: — По-моему, там. Перед выходом геолог подверг пялицких старожилов тщательному допросу. Переспрашивая об одном и том же по нескольку раз, он заставлял их снова и снова описывать путь до Горелого озера со всеми дорожными приметами. Так же подробно он расспрашивал и о самом озере, хотя здесь показанияпутались: на озере мало кто бывал, а если и бывали, то давно. Особенно заинтересовало Кострова, что, по рассказам, скалы вокруг озера «острые» и светлые. «Ну, ровно зубы какого зверя торчат! — объяснял ему Григорьев, пенсионер, бывший на озере лет сорок назад. — А промеж ими сосна да береза, ну, вроде как у нас на Пялице…» С западной стороны озера, от скал, брал начало Горелый ручей, а с востока и с севера к озеру подходили отроги песчаных кейв и начиналась сухая тундра. И вот теперь, глядя в указанную Костровым сторону, Мальцев отчетливо различал на горизонте в поле бинокля группу светлых скал и деревьев между холмами. Теперь, когда вожделенная цель была близка, геолог с трудом сдерживал нетерпение. Он шел впереди Мальцева чуть вперевалку, успевая смотреть и под ноги, и по сторонам. Цепкая, натренированная память схватывала дорожные приметы, меняющийся цвет растительного ковра, под которым он угадывал смену подстилающих пород, обнажения на берегах ручьев, сверкающие слюдой и кристаллами турмалина свежие изломы камней, разбитые его геологическим молотком на остановках. И постепенно из всего этого в сознании Кострова возникал готовый разрез верхних слоев того участка земной толщи, по которой они прошли за эти дни. Чем ближе они подходили к Горелому озеру, тем больше он верил, что отправился в этот поход не зря. По валунам, целиком состоявшим из «письменного камня», где проросшие друг в друге кристаллы микроклина и кварца образовали клинописный рисунок, словно на древневавилонской глиняной табличке, по вкраплениям коричневато-красных зерен граната и серебристой чешуе мусковита он видел, что они вступили в зону гранитных пегматитов, где может оказаться голубой корунд, а если повезет — и прозрачный сапфир. Пока все виденное соответствовало его, Кострова, расчетам. Но будет ли удача? Заранее об этом не мог сказать никто. В поединке с человеком природа оказывалась не менее лукавым партнером. Поэтому в поисковой геологии, там, где это не касалось больших масс, крупных месторождений, всегда присутствовал элемент случайности и азарта. Природа разбрасывала на поверхности, к примеру, куски самородного серебра, превышавшие всякое воображение, но начинались работы, и здесь не оказывалось даже следов металла! Счастливец находил под выворотнем «карман», полный первоклассных, чистейшей воды изумрудов, а в штольне, заложенной на этом же самом месте, шла обычная пегматитовая жила с роговой обманкой, микроклином и серебряными елочками мусковита… То же происходило с расчетами, когда дело касалось редких минералов или драгоценных камней… К разочарованиям надо было всегда быть готовым. Но Костров чувствовал, что еще один провал мечты будет для него слишком тяжек. Он верил своим расчетам, сделанным еще двенадцать лет назад, когда приходилось вести изнуряющие «бои» перед каждым полевым сезоном, доказывая возможность сапфироносных пегматитов на Кольском полуострове и необходимость продолжения их поисков. Самое обидное, что доказывать, насколько такие поиски нужны и выгодны даже при возможности очередной неудачи, приходилось людям, которые хорошо знали нужду современной промышленности, обходившейся раньше искусственными сапфирами и рубинами, в сапфирах естественных, причем отнюдь не для ювелирторга. Сапфиры нужны были именно природные, потому что в их кристаллической решетке оказывалось нечто такое, что не удавалось воспроизвести в лабораторных условиях. Может быть, это «что-то» объяснялось присутствием в природных кристаллах тех самых «атомов отдачи», возникавших при радиоактивном распаде, которые впервые описал и исследовал в Советском Союзе Чердынцев, а потом, независимо от него, Адаме и Нгу Ван Чень, работавшие с бирманскими и цейлонскими кристаллами. Вот почему пять лет, с ранней весны до начала зимы, уходил Костров с маленьким отрядом на поиски того, что в тресте скоро стали называть «костровским фантомом». Сотни километров маршрута по долинам ручьев и речек, по болотам, по песчаным кейвам, где ветра тысячелетий раздувают древние пески; десятки, а то и сотни кубометров перемытого, пересмотренного за сезон аллювия — песков, щебня, речной гальки, осыпей. Конечно, эти годы окупились новыми месторождениями редкоземельных и радиоактивных минералов, новыми жилами аметистов, пригодных для ювелирной обработки гранатов или амазонитами. Но не было того основного, из-за чего разгорелись споры и что незаметно стало одним из главных направлений жизни Кострова. Вот почему ему было так тяжело и горько, когда, после сдачи очередного отчета и его защиты, из министерства вскоре пришло указание работы свернуть, а все материалы передать в новый, только что организованный трест, специализирующийся по драгоценным и полудрагоценным камням. Материалы передать, а разведку прекратить. Пришлось смириться. Сначала Кострова «перебросили» на редкоземельные минералы, потом стали поговаривать о тяжелых элементах, но кончилось тем, что последние шесть лет он занимался разведкой золота и даже кое-что нашел, хотя и мало для промышленной разработки. А параллельно, для себя, для души, которая не хотела смириться с гибелью самой яркой, еще юношеской мечты, Виктор продолжал поиски сапфиров. И по мере того как он обнаруживал сопровождающие сапфиры минералы, он все больше утверждался в мысли, что синие звезды где-то рядом, близко, они есть, но подойти к ним следует иначе, чем это представлялось раньше, во всяком случае, не через речные отложения! Особенностью Кольского полуострова была его «очищенность». При всей древности слагающих его пород, может быть, самых древних, из всех известных пока на земле, долины рек и речные отложения здесь оказывались очень молоды и «тощи». Каменный щит Кольского полуострова был вычищен и вылизан древними ледниками, омыт неоднократным погружением в воды океана. Вот почему все месторождения, которые здесь открывали, были коренными, а не в россыпях. Древний каменный щит Кольского полуострова хранил удивительные богатства, в нем можно было найти все, но ко всему надо было пробиваться, выцарапывать, вырывать из каменных недр. А их надежно скрывали болота, морены да и все «покрывало» поздних ледниковых и морских наносов. Через них надо было пробиться, дойти… И они дошли. С востока, по прерывающейся цепи невысоких холмов, окаймлявших широкую болотистую долину, которая как бы вползала в котловину, окруженную скалами, они подошли к Горелому озеру. Спускающееся солнце светило почти в глаза, озеро сверкало перед ними, отделенное кустарником, ступившим в воду. Скалы начинались чуть дальше, охватывая прерывистой каймой водяное зеркало с севера, с запада и с юга. «Действительно, эти серые и розовые глыбы с черными и белыми жилами, вставленные в зеленую оправу полярной березы и сосны, казались клыками каких-то неведомых чудищ, погибших при потопе и занесенных илом морей», — мелькнуло у Мальцева в голове. Костров видел другое. В хаосе глыб, поднятых к небу, разбросанных по окрестным холмам, в диком разгуле стихии, столь непривычном для глаза геолога на Кольском полуострове, где взгляд привык скользить по сглаженным очертаниям вершин, по плавной законченности замершего рельефа, геолог чувствовал какую-то извне приложенную силу. Был ли это взрыв, потрясший до основания каменную грудь полуострова, или какой-то гигантский плуг, взрезавший твердь земную, вывернувший эти скалы из ее глубин, — сказать сейчас было трудно.
Но что-то было. Была тайна. И глядя на зеркальную, без единой морщинки, сверкающую гладь Горелого озера, Костров почувствовал, что эта гладь не так проста, как кажется со стороны, и слишком серьезны ее тайны, чтобы отдать первому встречному!..
Озеро являло собой почти правильный, до полутора километров в длину овал, вытянутый с востока на запад и с трех сторон охваченный лесной порослью, из которой то там, то здесь вздымались голые и острые скалы. На западной стороне скалы выходили к воде, обрывались отвесными стенами в озеро, а между ними угадывался просвет, где должен был начинаться Горелый ручей. С северной стороны берега казались заросшими более густо. Там за небольшим мыском в озеро впадал второй ручей и виднелась редкая поросль тростника. Наоборот, южный берег был более гол, обрывист, под скалами отчетливо темнели небольшие осыпи, и Костров решил, что завтра они начнут работать именно там.
— Что же, начальничек, привел — командуй, где лагерь разбивать будем! — перебил мысли Кострова Юрий. Еще было радостно. Сквозь усталость он чувствовал растущее ликование: дошли!..
— А где понравится, там и разобьем! — в тон ему ответил Костров. — Вода — есть, озеро — есть, скалы — есть, дрова — есть… А где бы твои первобытные поселились, Викинг?
Мальцев обежал взглядом видимый участок берега и остановился на мыске за ручьем.
— Сдается мне, Рыжий, что на том мыске. С севера — берег и лесок от ветра закрывают, вода проточная, а стало быть, и рыба клевать будет… Да и не об этом ли ручье дед Филя говорил, что там часовня стояла?
— Согласен. Для начала лучше и придумать нельзя. Хотя я думаю, что потом мы с тобой, может, и перекочуем, например, поближе к скалам…
— Странно… Ты не находишь, что озеро какое-то уж очень пустое? — проговорил Юрий. — В такой глуши, такое озеро… Я думал, здесь птичий гомон стоит, а тут только несколько чаек, и все! А это кто ж такой?
Мальцев поднял к глазам бинокль. На противоположном берегу у воды, разглядывая то ли свое отражение, то ли рыбу, стоял небольшой бурый медведь.
— Что, хозяин? — спросил Костров, принимая от Юрия бинокль.
— Сейчас я его пугну, — Мальцев снял с плеча ружье.
— Не надо. — Костров положил руку на стволы. — Разве он нас пугает? Он — хозяин, мы — в гости пришли, зачем же сразу дебоширить?! Он же не глупый. Почует — сам уйдет. В прошлом сезоне мы целый месяц рядом жили, и ничего, не шалил… — Костров рассмеялся. — Головы мы ему рыбьи на определенное место клали, очень это он любил!.. — Зверь — ведь как человек. Зачем же зазря обижать его?
— Ты прав, — с легким стыдом за свое мальчишество согласился Мальцев и вскинул ружье на плечо.
Они спустились с холма и зашагали вниз. Прежде чем скрыться в кустах, Костров задержался и еще раз взглянул на озеро. Медведь вперевалку шел по берегу, удаляясь от них. Но геолог смотрел не на медведя. В самом озере что-то было. Но что?
С востока, по прерывающейся цепи невысоких холмов, окаймлявших широкую болотистую долину, которая как бы вползала в котловину, окруженную скалами, они подошли к Горелому озеру. Спускающееся солнце светило почти в глаза, озеро сверкало перед ними, отделенное кустарником, ступившим в воду. Скалы начинались чуть дальше, охватывая прерывистой каймой водяное зеркало с севера, с запада и с юга. «Действительно, эти серые и розовые глыбы с черными и белыми жилами, вставленные в зеленую оправу полярной березы и сосны, казались клыками каких-то неведомых чудищ, погибших при потопе и занесенных илом морей», — мелькнуло у Мальцева в голове. Костров видел другое. В хаосе глыб, поднятых к небу, разбросанных по окрестным холмам, в диком разгуле стихии, столь непривычном для глаза геолога на Кольском полуострове, где взгляд привык скользить по сглаженным очертаниям вершин, по плавной законченности замершего рельефа, геолог чувствовал какую-то извне приложенную силу. Был ли это взрыв, потрясший до основания каменную грудь полуострова, или какой-то гигантский плуг, взрезавший твердь земную, вывернувший эти скалы из ее глубин, — сказать сейчас было трудно.
Но что-то было. Была тайна. И глядя на зеркальную, без единой морщинки, сверкающую гладь Горелого озера, Костров почувствовал, что эта гладь не так проста, как кажется со стороны, и слишком серьезны ее тайны, чтобы отдать первому встречному!..
Озеро являло собой почти правильный, до полутора километров в длину овал, вытянутый с востока на запад и с трех сторон охваченный лесной порослью, из которой то там, то здесь вздымались голые и острые скалы. На западной стороне скалы выходили к воде, обрывались отвесными стенами в озеро, а между ними угадывался просвет, где должен был начинаться Горелый ручей. С северной стороны берега казались заросшими более густо. Там за небольшим мыском в озеро впадал второй ручей и виднелась редкая поросль тростника. Наоборот, южный берег был более гол, обрывист, под скалами отчетливо темнели небольшие осыпи, и Костров решил, что завтра они начнут работать именно там.
— Что же, начальничек, привел — командуй, где лагерь разбивать будем! — перебил мысли Кострова Юрий. Еще было радостно. Сквозь усталость он чувствовал растущее ликование: дошли!..
— А где понравится, там и разобьем! — в тон ему ответил Костров. — Вода — есть, озеро — есть, скалы — есть, дрова — есть… А где бы твои первобытные поселились, Викинг?
Мальцев обежал взглядом видимый участок берега и остановился на мыске за ручьем.
— Сдается мне, Рыжий, что на том мыске. С севера — берег и лесок от ветра закрывают, вода проточная, а стало быть, и рыба клевать будет… Да и не об этом ли ручье дед Филя говорил, что там часовня стояла?
— Согласен. Для начала лучше и придумать нельзя. Хотя я думаю, что потом мы с тобой, может, и перекочуем, например, поближе к скалам…
— Странно… Ты не находишь, что озеро какое-то уж очень пустое? — проговорил Юрий. — В такой глуши, такое озеро… Я думал, здесь птичий гомон стоит, а тут только несколько чаек, и все! А это кто ж такой?
Мальцев поднял к глазам бинокль. На противоположном берегу у воды, разглядывая то ли свое отражение, то ли рыбу, стоял небольшой бурый медведь.
— Что, хозяин? — спросил Костров, принимая от Юрия бинокль.
— Сейчас я его пугну, — Мальцев снял с плеча ружье.
— Не надо. — Костров положил руку на стволы. — Разве он нас пугает? Он — хозяин, мы — в гости пришли, зачем же сразу дебоширить?! Он же не глупый. Почует — сам уйдет. В прошлом сезоне мы целый месяц рядом жили, и ничего, не шалил… — Костров рассмеялся. — Головы мы ему рыбьи на определенное место клали, очень это он любил!.. — Зверь — ведь как человек. Зачем же зазря обижать его?
— Ты прав, — с легким стыдом за свое мальчишество согласился Мальцев и вскинул ружье на плечо.
Они спустились с холма и зашагали вниз. Прежде чем скрыться в кустах, Костров задержался и еще раз взглянул на озеро. Медведь вперевалку шел по берегу, удаляясь от них. Но геолог смотрел не на медведя. В самом озере что-то было. Но что?
VII
Началась ночь беспокойно. Едва лишь Мальцев стал засыпать, как вокруг палатки раздались легкие шаги, шорохи, писки. «На сцене духи собрались!..» — в полудреме подумал Мальцев. И тотчас кто-то звякнул консервной банкой, оставленной у костра, и геолог, хлопнув рукой по натянутому брезенту палатки, громко завопил: «Кыш, проклятая!» «Ага, лиса», — догадался Юрий и начал засыпать снова. На время все стихло. Потом раздалось сопение, шорох грузного тела в кустах. Это уже был медведь. Он вздыхал, лизал жестянку и вроде бы ушел, когда на него прикрикнул Костров. Однако скоро вернулся, и тогда, не стерпев, проклиная медведя и все палатки на свете, полуголый Мальцев вылез наружу и дважды выстрелил в луну. Невидимый в темноте медведь с треском откатился по кустам куда-то в лес, а Мальцев кинул пустые гильзы для запаха по обе стороны палатки и вернулся опять засыпать. Остальная часть ночи прошла благополучно, только однажды, словно жалуясь на обиду, вдалеке взревел их косматый гость, эхо откатилось от скал, и все стихло. Утром готовить завтрак выпало Кострову. Пока он разогревал тушенку и варил гречневую кашу из концентрата, Мальцев успел осмотреть довольно большую полосу берега по обе стороны ручья и пройти еще немного вверх. В лагерь он вернулся несколько обескураженный и заявил Кострову, что одно из трех: или они совершенные остолопы и прибыли на какое-то другое озеро, или Торстейн здесь никогда не был, или же — что лично он, Мальцев, поддерживает — тут чертовщина почище той, о которой рассказывали оленные пастухи. А причина всему — молодость озера. — С чего ты взял, что оно молодое? — с удивлением спросил Костров. — А ты пойди и сам погляди, — ответил ему Мальцев. — Геолог, называется! Берега у него еще не установились… Теперь пришла очередь беспокоиться Кострову. Отодвинув с огня котелок с кашей, он долго рассматривал берега, потом с ложкой в руке вошел в ручей, забрел по колено в озеро, но вернулся успокоенный. — Сам хорош! Не озеро новое, а берега подтоплены, вот и все. Уровень озера повысился, это верно, а котловина осталась прежней, в этом я не сомневаюсь! — Отчего же повысился уровень? — Да отчего угодно! Обвал произошел, закупорило сток, оползень — всего не перечислишь! Мне с этим часто приходилось сталкиваться. На первый взгляд нормальное озеро, а приглядишься — батюшки, да оно на полтора — два метра поднято плотиной километров за пятнадцать — двадцать, чтобы лес удобнее было транспортировать, а потом и сплавлять!.. — Костров еще раз обвел глазами озеро и добавил с уверенностью: — Подпружать здесь некому, разве самой природе, но за древность этой ямы я ручаюсь. Вот погоди, познакомимся поближе и все поймем… После завтрака, учитывая ночные визиты, друзья все же решили перенести лагерь на западный берег. По мере того как они двигались вдоль берега, останавливаясь, снимая рюкзаки, карабкаясь по скалам, копая осыпи, правота геолога становилась все очевидней. Белые издали, серые и зеленоватые вблизи, гранитные глыбы, покрытые разросшимися пленками лишайников, несли на себе явственную печать времени. Еще лучшим доказательством их древности были укоренившиеся в трещинах сосенки — кривые, кособокие, с узловатыми протянутыми к югу и солнцу ветками, так похожие на одинокие корявые сосны японских гравюр. Сбивая серую корку полярного выветривания, Костров показывал археологу таящиеся под ней сверкающие черные розы эгерина, сидящие в серебряной парче мусковита и сердита то малиновые, то кирпично-красные зерна спессартина. Иногда голубыми блестками на солнце вспыхивал игольчатый кристалл, Мальцев был готов радоваться находке, принимая его за долгожданный сапфир, но это оказывался всего-навсего кианит — частый спутник пегматитовых жил, тоже содержащий алюминий… Белые жилы кварца разрывали гранитные тела скал, расширяясь иногда пустотами, где тонкие и прозрачные столбики горного хрусталя делали полость похожей на вывернутую шкурку ежа. Они текли по скалам белыми змеями, и Юрий не раз подумал, что не с этими ли бесконечными змеями сражался в саге Торстейн, найдя в них достойных, стойких противников, при нужде всегда готовых замереть и окаменеть?.. За этот день он научился отличать черные столбчатые брызги турмалина от похожих иголок биотита, уже не путал розовые пятна эвдиалита, «лопарской крови», с более красными и сочными жилами мелкого спессартина, но однажды все-таки принял за турмалин матово-черные столбики ставролита, образующие правильные кресты их двойников. Эти ставролиты особенно заинтересовали Кострова. Друзья опять сбросили рюкзаки и надолго задержались возле тонкой, посверкивающей слюдой жилы. Мальцев, которому досталось расчищать саперной лопаткой основание скалы, решил, что все старания опять напрасны. Он видел только уже знакомые минералы, но в этот момент геолог издал сдержанное восклицание и протянул Юрию маленький серый столбик, чуть расширяющийся посредине. При желании в нем можно было заметить легкий оттенок голубизны, но больше всего он походил на столбик бракованного бледно-серого непрозрачного стекла, отлитого в форму со штрихами на стенках. Голубизна эта и ввела в заблуждение Мальцева, небрежно спросившего геолога: — Что, тоже разновидность кианита? — Нет, Вик, это уже шаг к удаче! — ответил просиявший Костров. — Это корунд, родной брат сапфира! Видишь, он даже чуть голубоват. А если бы был синим и прозрачным… Главное, что здесь он в кристаллах, а не в соединении с кварцем и окисью железа. А это значит, что здесь могут быть и чистые экземпляры!.. В доказательство, что это именно корунд, Костров продемонстрировал его твердость. Кристалл легко царапал сталь ножа и даже оставлял белые царапины на кристаллах кварца. Внимание было удвоено. Теперь они обшаривали каждый камень, осматривали каждую скалу, но других кристаллов корунда им больше не встретилось. Попадалась роговая обманка, кубики пирита с характерной штриховкой на гранях. В черном биотите, расщеплявшемся на темно-зеленые пластинки, Костров разглядел мелкие, светло-коричневые с золотистой искрой свободно растущие кристаллы циркона. Он называл и другие минералы, но из всей массы специальных названий Мальцев твердо запомнил только апатит — чуть ли не с детства знакомое слово, обозначавшее, как оказалось, красивый зеленый кристалл, принятый Юрием сначала за изумруд. Забыв о еде, отдыхе и медведе, который, быть может, наблюдал за ними с противоположного берега, они спохватились только к вечеру и поспешили к истоку ручья. Вблизи западная часть озера особенно контрастировала с восточной. Если та была низкой, приболоченной, с кустарниками, мочажинами, медленно текущими ручьями, то здесь прямо из воды поднимались высокие плиты серо-зеленых скал с розовыми, красными и сверкающими белыми жилами, в то время как коричневая вода казалась бездонной и черной. Державшие озеро как бы естественные створки шлюза были приоткрыты, оставляя щель в несколько метров шириной, куда устремлялась вода. Выбравшись на край площадки, нависающей над щелью, Мальцев инстинктивно прижался к скале: он не любил высоты, а сразу за скалой открывался высокий обрыв, куда неслась, дробясь о каменную осыпь, струя кипящей воды. Там, внизу, неожиданно спокойная, лежала просторная зеленая долина. На ее дне среди кустов извивался широкий ручей, питавшийся водопадом, еще дальше, примерно в полукилометре от скал, на пути ручья лежало небольшое, проточное озерко с зарослями камыша, утиными выводками и кружащимися над ним вечерними чайками. Их было много больше, чем за весь день видели друзья на Горелом озере. На холмах, окружавших озерцо, светлели песчаные выдувы, которые сейчас же отметил глаз археолога. — Теперь понимаешь, почему здесь нет птиц? — обернулся Мальцев к взобравшемуся следом Кострову. — Вот, оказывается, где они живут и кормятся! А здесь, на Горелом, и рыба мелкая — есть ей стало нечего, как уровень поднялся! — Экология изменилась? — полувопросом, полуутверждением ответил Костров и посмотрел на то и на другое озеро. — Похоже. А вот тебе и причина, о которой мы говорили! — Он показал вниз, под ноги, где в теснине бился и шумел поток. — Щель-то камнями завалило! — Вижу. Но как? — Вообще-то похоже на землетрясение, — ответил Костров и обвел рукой окружающие скалы. — Если представить, что скалы этой площадкой не кончались, а были выше, причем уже с трещинами, то даже не очень сильный подземный толчок мог сбросить все эти каменные массы вниз и завалить щель. Между прочим, если ты внимательно посмотришь на осыпь, по которой несется вода, то увидишь, что догадка моя правдоподобна: камни-то все дробленые, видишь, как их растрясло!.. Объяснение походило на истину, хотя казалось странным, каким образом развалившаяся скала так точно закрыла своими обломками щель. «Впрочем, — сказал себе Костров, — если она лежала сверху, ничего странного нет…» — Наверно, ты прав, — отозвался Мальцев. — В таком случае на Горелом искать святилище бесполезно — оно под водой. И сейд тоже… Послушай, — оживился он и даже забыл про высоту, — а не из-за этого ли землетрясения и перестало быть озеро священным, а? Сейд обвалился, вот лопари и перестали ходить сюда на поклонение! Утверждать не буду, но помнится, что в летописях где-то я читал о «трусе земном» на Севере… И не во времена ли Трифона Печенегского, просветителя лопарей?! Было бы любопытно! Теперь, когда хоть что-то стало проясняться в этом загадочном месте, надо было решать: оставаться им на Горелом озере или перебраться вниз, в долину? Кострову не хотелось уходить от скал, хотя он понимал, что теперь археологу на берегах самого озера делать нечего, а доводы Юрия — рыба, сухой песчаный склон, раскопки — разумны и основательны. Так и решили. Вариант удобен был тем, что можно было разделяться, но лагерь все равно оставался всегда под надзором. Путь в долину неожиданно оказался длинен. Пришлось обходить скалы, кустарник и крутой склон, поросший сосенками, по которому трудно было спускаться с нагруженными рюкзаками. Наконец они вышли значительно южнее водопада на одну из низких гряд, тянувшихся параллельно долине. Мальцев хотел разбить лагерь на северном берегу озерка, где приметил песчаные выдувы на террасе, вполне пригодной для места древнего поселка. Работая на побережье, он пришел к любопытному заключению, что большая часть береговых выдувов, образующих иногда небольшие, иногда совершенно необъятные котловины, своим возникновением обязаны древнему оленеводству. Человек нарушал естественный покров песчаной дюны, спасавшей ее от раздувания, выкапывая яму для очага, разбивая ногами слой дерна. Эти разрушения были не опасны. Но рядом с чумом стояли на привязи или паслись в изгороди одна — две упряжки домашних оленей. Их острые копыта за один летний месяц могли уничтожить дерновый покров на большом участке. Остальное довершали ветер, дожди, морозы и… новая упряжка оленей на привязи! Растительный покров здесь, в высоких широтах, с трудом создавался за тысячелетия, а ветер охотно подхватывал и продолжал дело разрушения, начатое человеком и его помощниками. Вот почему, увидев издалека песчаные проплешины на зеленом теле гряды возле озера или на морском берегу, Мальцев почти наверняка мог надеяться найти там остатки древней стоянки… — Красота-то какая, посмотри! — остановил Юрия голос геолога. Мальцев обернулся. Красное вечернее солнце заливало оранжевым пламенем долину и скалы с водопадом. Казалось, что огонь пожара лижет неприступные стены фантастического замка, с которых низвергается кипящая струя воды. Отсюда, из долины, рваные стены скал представали во всей своей мощи и величии. Центральные поднимались над остальными, как две башни, охраняющие проезд ворот. На минуту Юрий представил, как в такой же день, откуда-то издалека со стадами оленей двигались вверх по ручью к святилищу маленькие человечки, вооруженные копьями с каменными наконечниками, луками и стрелами. Он представил себе, как на очередном повороте долины возникает перед ними за озером это фантастическое видение — воистину обитель богов! — и священный трепет бросает их на землю… — Интересно, как все это выглядело во времена Торстейна? — прервал мысли Мальцева подошедший Костров. — Когда было святилище… — Думаю, что не менее величественно. И природа была богаче. В десятом веке климат был мягче, чем сейчас. Впрочем, рыбы и теперь здесь много. Смотри, как плещет форель! По всему ручью расходились круги. Форель выскакивала из воды, хватая кружившихся вечерних мошек…VIII
Опыт и интуиция не обманули Мальцева. Едва он вышел на облюбованную издали площадку над озером, как начали попадаться какие-то ямы, кучи камней, поросшие травой и мелкими кустиками вереска. Скоро он понял, что ходит по руинам древнего поселка. Именно по руинам. Кучи камней указывали направление когда-то поднимавшихся, пусть невысоких, но стен. Стены примыкали друг к другу, строились в прямоугольники. Наконец, Мальцев сообразил, что перед ним нечто совершенно новое, отличное от того, что было до сих пор известно археологам о жилищах древних северян. Кажется, только на севере Норвегии археологи находили нечто подобное, такие же прямоугольные жилища, но там были землянки, в то время как здесь жилища, судя по всему, были обширными и, безусловно, наземными. Получалось, что он поторопился, посмеиваясь над рассказом Торстейна о дворце Годмунда!.. Находка эта определила весь следующий день. Захватив рюкзак, молоток и банку тушенки, Костров отправился вокруг озера, предупредив, что вернется не раньше вечера, и Юрий некоторое время видел фигуру геолога, то появляющуюся, то пропадающую среди скал Горелого озера. Сам Мальцев занялся осмотром, обмерами руин и съемкой их на простейший геодезический план. Осмотрев всё, он решил, что пока благоразумнее отказаться от раскопок. Объект был слишком драгоценен, чтобы изучать его в одиночку, здесь требовались усилия хорошо оснащенной экспедиции. Позволить себе он мог только небольшие зачистки на уже имеющихся естественных обнажениях да сбор лежащего на поверхности материала. В стенках двух небольших котловин у юго-западного края площадки можно было видеть довольно толстый для этих мест слой почвы, насыщенный крупными углями, кусками пережженных костей и колотого кварца. Кварц попадался самого высшего качества — плотный, без трещин, полупрозрачный, сразу напомнив Мальцеву многочисленные кварцевые жилы, которые он видел накануне в окружающих озеро скалах. Среди отщепов и мелких осколков встречались и орудия из этого же материала — круглые маленькие скребки, массивные и хорошо ложащиеся в руку более крупные скрёбла, которыми жители поселка очищали шкуры от жира и мяса, острые, но неуклюжие наконечники стрел. Однако наконечники делали по большей части из кремня. И тут же Мальцев обнаружил остаток какого-то железного предмета, — каменный век рука об руку шел с веком железным… Особенно порадовали Юрия маленькие скребочки из горного хрусталя. Они были такие же, как те, что лежали возле очагов на Остром мысу. Особая их форма — слегка вытянутая по длинной оси кристалла, с высокой горбатой спинкой, притуплённой сколами, чтобы камень не резал пальцы, — выделяла подобные скребки из числа многих других видов. Но самым главным доказательством тождества обитателей этого стойбища и стоянки на Остром мысу служили черепки сосудов, в которых явственно проступали длинные серебристые волокна асбеста, не потерявшие в огне очага свою природную шелковистость. Вечером Костров особенно заинтересовался этими черепками, попросив выделить несколько штук и для него, чтобы провести петрографическое определение. За размышлениями, работой и кратким перерывом на обед время побежало опять быстрее, а после съемки плана Мальцев собрался идти к водопаду. Сверкающая струя воды в отдалении, откуда ветер приносил явственный шум идущего неподалеку поезда, влекла к себе Мальцева не только красотой. Если нельзя проникнуть в дом, то можно хотя бы осмотреть его двери, не так ли? Пусть они заколочены, завалены, но ведь осталось что-то, что заметит глаз археолога. Святилище затоплено, двери — щель между скалами — завалены глыбами, но сбоку или чуть в стороне могла остаться тропка, какие-то знаки… Пусть даже это будут остатки оленьих рогов, принесенных саамами в жертву сейду, — уже одно это позволило бы с большей, чем сейчас, уверенностью говорить о существовании здесь святилища. …Вблизи водопад производил совсем иное впечатление, чем вчера. Он казался больше, внушительнее, но в то же время и проще, представая в обнажении всех разъятых своих деталей, не слитых воедино пейзажем. Впрочем, виной могло быть иное, чем вчера, настроение археолога. Поток воды, коричневый от настоя болот, просвечивающий на фоне светлого неба, вырывался из щели между скалами и разбивался на множество каскадов. На глаз высота здесь немногим превышала десять — двенадцать метров. То, что издали представлялось единой струей, на самом деле состояло из множества маленьких водопадиков, умножавшихся сверху вниз с такой правильностью, что могло повергнуть в отчаяние самого изысканного паркового архитектора. С последней, самой широкой ступени струи падали сплошной белой завесой в уже упомянутый бассейн, откуда и начинался ручей. Рассматривая водопад, Юрий смог отметить два весьма существенных момента. Во-первых, края щели между скалами были стерты и сглажены водой только там, где она изливалась теперь, — ниже таких следов не было видно; во-вторых, что еще важнее, справа за кустами ольхи и березы он усмотрел наполовину занесенное камнями и заросшее кустарником старое русло. Возникнуть оно могло лишь в одном случае: если щель между скалами в прошлом была полностью открыта. Только тогда ручей мог вытекать в эту сторону, ударяясь и отражаясь от левой скалы. «Следовательно, — подвел итог своим наблюдениям Мальцев, — подходы к скалам, если они были, надо искать возле левой скалы, то бишь на правой стороне ручья. На той самой, где находится и поселение…» По камням он перебрался на другую сторону. Из-под ног с треском и кудахтаньем, словно ее уже схватили за хвост, вырвалась куропатка. Нервы у Юрия были напряжены, и он, вздрогнув от неожиданности, схватился за ружье. Не отдавая себе отчета, он поминутно прислушивался, ожидая услышать пистолетный выстрел. Медведям Мальцев не доверял и порой корил себя, что отпустил Виктора одного. И сейчас он приостановился и поправил висевшее на плече и заряженное пулями ружье. Какое-то основание для беспокойства у него было: на песке у заводи совсем недавно медведь оставил четкие когтистые следы… У подножия скалы ютился мелкий кустарник: ольха, можжевельник, кривобокие елочки, березки — чахлые произрастания полярных широт, которые в этом затишье украдкой ловили излучаемое скалами тепло и искали под ними защиту от ветров и мороза. Уже отцветшие зонтичные поднимали свои соцветия почти на двухметровую высоту, и на каменной осыпи Юрий отметил кусты диких пионов. Но искал он не их. Рядом со стрелками дикого лука и золотистыми звездочками калгана он разглядел кожистые листья подорожника и поднятые хлысты его соцветий. Уже не первый раз испытывал он благоговейное удивление перед растением, которое могло вот так, через несколько столетий, когда уже не оставалось и следа бывшей тропы, сохранять о ней явную и точную память. Почему-то на оленьих тропах подорожник не встречался. Может быть, ему были нужны какие-то иные условия и иные ноги, чтобы его разносили и топтали; может быть, он считал пастухов лишь разновидностью оленей, только он упорно вырастал там, где человек ходил долго и постоянно. Этому странному растению надо было, чтобы его топтали, мяли, рвали, и тогда он разрастался все упорнее и пышнее — в селениях, по берегу моря, вдоль рек, где тянулась выбитая поколениями тропа. Сейчас слабый, вырождающийся в густой траве подорожник с несомненностью указывал Мальцеву на площадку, облюбованную человеком в древности. На другой стороне ручья возле старого русла Юрий не нашел подорожника. А что могло быть здесь, перед входом в святилище? Подложив под себя плащ, археолог уселся на глыбу, сверкающую черными искрами эгирина, положил на колени ружье и принялся изучать скалу. Солнце то скрывалось, то снова выглядывало в просветы рваных облаков, пятна света и тени бежали по холмам, ветер сюда почти не долетал, и Юрий с наслаждением вдыхал свежий, пронзительный и чуть разреженный воздух тундры, в котором появился неуловимый запах наступающей осени. Мысль об осени принесла невольную грусть, какое-то сожаление. Невольно вспомнилась другая, очень похожая осень, такие же облака над озером с камышами, крики уток, шорох отсыревшего брезентового плаща и звон первых льдинок под ногами… Он смотрел на скалу, не видя ее, и на сером фоне перед ним двигались какие-то фигуры — то ли из настоящего, то ли из прошлого, — всплывали забытые слова… Давнопрошедшее вдруг вспомнилось столь ярко и четко, что Юрий в изумлении замотал головой и тут обнаружил, что действительно смотрит на какие-то фигуры, выступившие на стене под косыми солнечными лучами. Разноцветные пятна лишайников на серой щербатой стене мешали смотреть. Они образовывали собственные узоры и фигуры, но глаза Мальцева уже приспособились отбрасывать случайное, лишнее, и теперь он с удивлением вглядывался в возникшую перед ним процессию оленей. Первый, самый большой, высотой около метра, был выбит на высоте человеческого роста, слева от щели и водопада. Юрий хорошо различал его голову, увенчанную ветвистыми рогами, обращенную к потоку, спину и сохранившиеся гораздо хуже ноги. Следом за первым двигалось еще шесть оленей, причем замыкали процессию телята. Юрий мог поклясться, что перед первым оленем проглядывает фигура человека, словно заманивающего оленей в щель, но здесь скала была особенно сильно разрушена, и то, что археолог принимал за очертания фигуры, другой зритель вполне мог счесть игрой воображения. Оставив плащ и ружье, Мальцев подошел ближе и попытался подобраться к рисункам, но мало в этом успел. Голова его достигала всего лишь оленьих ног, зато теперь он рассмотрел под ними еще какие-то линии и мог убедиться, что они изображают рыб. В целом композиция очень напоминала широко известный рисунок на кости, найденный в одном из палеолитических гротов Франции: олени переходят реку, в волнах которой прыгают лососи. Открытие этого панно на скале представлялось настолько невероятным, что Юрий вцепился пальцами в камень и теперь проверял себя на ощупь. И при этом обнаружил нечто важное. Хотя камень стал щербатым и неровным от времени, контуры рисунков все-таки сохранились, потому что они были не выбиты в камне, как все известные наскальные изображения Карелии, а выполированы, врезаны в массив скалы! Полировка уплотнила камень, создала ему дополнительную защиту от воды и мороза, и контур рисунка сохранился лучше, чем то, что он заключал. Да, олени и рыбы… «Но ведь такая техника свойственна древним обитателям северной Норвегии! — мелькнула у Юрия мысль, и он попытался припомнить фотографии больших фигур, обведенных мелом, на гладких норвежских скалах. — Однако если обломки горшков с асбестом, относимые прежде к бронзовому веку, теперь приходится омолаживать чуть ли не на два тысячелетия, то эта техника говорит сама за себя. И уж она-то, безусловно, уходит в глухую древность, насчитывая не меньше восьми — десяти тысяч лет! Неужели святилище возникло так давно?..» Он стоял, пораженный очевидностью этой мысли. «…И первые люди на первом плоту!» — выплыло почему-то в памяти, и Мальцев ощутил огромность времени, отделявшего его от создателей этих рисунков, — времени, которое то растягивалось на тысячи беззвездных лет, то сжималось в ничто, когда он касался пальцами камня.IX
— Всё, — сказал наконец Костров. — Нагулялись. Пора и по домам! Как говорят, выше себя не прыгнешь! Случилось это на пятый день их жизни на озере. — Тебе все стало ясно? — спросил Мальцев, который давно ждал этой фразы. Геолог поднял голову и посмотрел на Юрия. — Нет. Если раньше мне казалось, что все ясно, то теперь — очень немногое. Но рассказать тебе кое-что смогу, если ты это ждешь. Иди, мой посуду, Викинг, сегодня твоя очередь, а я кое-что еще запишу. И тогда — расскажу… Последние дни они жили по естественно сложившемуся расписанию. После раннего завтрака Костров уходил — сначала на скалы, потом все дальше, по окрестным холмам, совершая все более широкие круги вокруг Горелого озера, как ястреб, выслеживающий добычу. Пистолет он оставил Юрию, сам брал ружье, рюкзак, молоток и скрывался до обеда, пока Мальцев производил зачистки обнажений, уточнял топографический план поселения, рисовал и описывал находки. Ближе к полудню Юрий слышал два или три выстрела — знак, что геолог возвращается и надо готовить обед. Когда на соседнем склоне появлялась фигура Кострова с двумя или тремя куропатками в руке, на костре уже фыркал чайник, а в неизменную уху из форелей оставалось только кинуть лавровый лист — в самый последний момент, чтобы вместе с запахом не появилась горечь от настоя… Принесенных Виктором куропаток они запекали в глине под костром. У водопада было удобнее работать именно во вторую половину дня. Тогда солнце освещало рисунки, их можно было рассматривать, фотографировать и копировать. Петроглифов оказалось гораздо больше, чем предполагал сначала Мальцев. Они находились с обеих сторон водопада на каменных стенах, попадались на отдельных глыбах, лежавших поодаль, даже в лесу. На правой скале, над старым ложем потока, Костров обнаружил две прекрасные фигуры медведей — одного с опущенной, другого с поднятой головой, — сделанных в той же манере, что и первое стадо оленей. Рядом с ними ближе к щели можно было угадать изображение огромной рыбы. Рисунок сохранился плохо, осыпался, от него остались лишь небольшие фрагменты, но Мальцев по ним довольно уверенно восстанавливал целое: узкое длинное тело, напоминающее скорее кумжу, чем семгу, более широкую и массивную, метнувшееся в прыжке вверх. Истолковывая рисунки, археолог утверждал, что это-то и есть изображение «первого Лосося», выпрыгивающего из «ока Земли». Оно, по его мнению, вполне объяснялось сопровождающими медведями, как олицетворением мирового зла, подстерегающего лосося, символа солнца и жизни. Из-за обилия рисунков Мальцев целый день ходил расстроенным. Он не предполагал их здесь найти, фотопленки не хватило, солнечный свет оказался слишком слаб и рассеян, а о бумаге, чтобы снять точные копии и эстампажи, он не позаботился. В конце концов Виктор предложил ему вместо бумаги использовать вкладыши от спальных мешков, предварительно распоров их, чтобы скопировать хоть самое важное, и тогда Мальцев повеселел. Теперь, сопоставляя всё открывшееся с рассказом саги, Мальцеву не хватало лишь одного знака для полной уверенности, что именно здесь побывал викинг. Нет, двух. Первый он нашел скоро. Под оленями и рыбами, наполовину скрытая каменной осыпью и брызгами водопада, была выбита фигурка человека с мечом и круглым щитом. А рядом, чуть выше, — такое же изображение скандинавского корабля, как на прибрежной скале почти в ста километрах отсюда! Второй знак он искал гораздо дольше и без особой на то надежды. Но это было связано уже с Костровым. Геологу везло значительно меньше. Виктор старался держаться как обычно. Он шутил, порой рассказывал забавные случаи, но Мальцев видел, как устал и осунулся его друг. Появились внезапные паузы в разговоре, сосредоточенный взгляд и несвойственная поспешность, с которой геолог неожиданно поднимался и уходил на скалы, откуда слышался стук его молотка. Новые образцы раскладывались перед палаткой, как бесконечный пасьянс, страницы дневника покрывались записями и схемами, но Мальцев чувствовал, что за словами удовлетворения скрывается напряженное ожидание главного, и никакие корунды, как бы ни были они хороши, не заменят одного-единственного синего кристалла, найденного на своем месте, в материнской породе. Туг он ничем помочь другу не мог. Оставалось ждать. И вот в предпоследний день у него появилась возможность немного приободрить Кострова, хотя Юрий решил не спешить, приберегая средство на крайний случай. А пока, вернувшись к палатке, Мальцев старательно вытер миски, уложил их в рюкзак и стал ждать, что скажет геолог. Костров кончил заворачивать образцы и писать, встал и потянулся так, что хрустнули суставы. — Ну, что? — спросил он. — Слушать готов? Или сразу собираться будем? — Рассказывай, Рыжий, — кивнул Юрий. — Нечего отлынивать! — Ну, сам напросился… Ладно, слушай. — Костров сел на обрубок дерева и посмотрел привычно на скалы, за которыми лежало Горелое озеро. — Сначала мне была непонятна только одна вещь: как возникло озеро? Почему стоят торчком скалы, вывернувшие наизнанку все земные здешние тайны? Но потом заинтересовало другое. И чем дальше я продвигался в своем понимании за эти дни, тем больше находил причин для недоумений. Чтобы их разрешить, я и бегал по окрестностям. За пределами озера все было в порядке: слои лежали горизонтально или западали ровно на столько, на сколько им было положено… Так что же здесь произошло? — ломал я голову. Гигантский взрыв? Я готов был поверить, что кто-то когда-то испытывал здесь образец какой-то сверхмощной бомбы, способной проникать чудовищно глубоко под землю. Но древность озера!.. А что еще? Прежде чем ты определил древность наскальных рисунков, по наносам, состоянию поверхности скал я пришел к похожим цифрам. Катастрофа — иначе чем катастрофой не назовешь то, что когда-то здесь произошло, — случилась в самом конце ледниковой эпохи, быть может, когда в данном месте льда уже не было, но край ледника еще был близок. А ты не знаешь, что случилось? Смутная догадка уже давно брезжила в сознании Мальцева, но, как обычно, он решил не перебивать Кострова: пусть все расскажет сам. И Мальцев покачал головой. Геолог продолжал, и в его голосе Юрию послышались явные нотки удовлетворения: — Метеорит. Громадный метеорит, врезавшийся по касательной в земную атмосферу и вспахавший этот кусок планеты! Вот почему на восток от Горелого озера нет скал; вот почему на западе они, наоборот, подняты стенкой; вот почему они раздроблены, вздыблены и разметаны на севере и на востоке… Жаль, что у нас с тобой нет резиновой лодки, — я хотел бы промерить глубины. И готов держать пари, что глубина озера увеличивается по оси с востока на запад! Это было бы неплохим доказательством, но теперь и оно не нужно. Вчера, пока ты срисовывал оленей у водопада, я ушел вверх. Пропадал я довольно долго, помнишь? Причина же была та, что стрелка компаса, служившего мне верой и правдой, на этот раз начала лгать и метаться, едва я выходил на скалы у водопада. Но в этих скалах нет и не может быть крупных рудных тел, металла нет в песках ручья — ни одна крупинка не пристала к намагниченному ножу! А магнитная аномалия настолько сильна, что стрелка чувствует ее даже с этой стороны скал, у рисунков! Остается единственная версия: там, глубоко внизу, лежат остатки железного ядра, запущенного из космоса в нашу планету. Ничего другого я придумать не смог. Но как эта катастрофа могла отразиться в современном названии озера — хоть убей, не понимаю! Впрочем, это уже по твоей части, Викинг, ты и ломай свою голову, — впервые улыбнулся Виктор. — Так удалось покончить с одной загадкой, и мне кажется, я разгадал ее верно. Но тогда я остановился перед другой, более сложной… Геолог замолчал, отрешенно смотря в прогоревший костер, потом пробормотал сквозь зубы что-то вроде «…ну ладно!..» и уже обычным голосом продолжал рассказ: — Ты, Викинг, догадываешься, чем были для меня эти сапфиры. Как ни глупо, но было время, что они стали чуть ли не целью и оправданием жизни. Смешно, но понять человека можно: хочется. Немножко — покрасоваться: вот я какой!.. Немножко — оправдаться: не верили, черти, а я… Но «хочется» — это одно.Надо знать: как? И вот за эти годы у меня возникла одна гипотеза. Сначала — предположение. Суть его в том, что кристаллическая, первозданная основа земной коры имеет определенную глобальную структуру. Такую, как имеет наша кожа, к примеру: концентрация определенных узлов, определенных свойств, правильное их чередование. В данном случае — определенная повторяемость концентраций определенных минералов. Не такой уж большой это домысел. Нечто похожее находят на земле при помощи космической геофизики: напряжение полей, связанных с геологическими структурами… Если знать законы, управляемые распределением таких концентраций, то можно точно прогнозировать определенные месторождения, заранее зная все входящие в это месторождение компоненты. В первую очередь это относится к редкоземельным пегматитам, образующим — как бы это тебе лучше сказать? — нечто вроде… — Геолог замялся. — Ну, скажем, условно образующие своего рода «нервные центры» коры планеты! За всю мою жизнь мне удалось столкнуться с тремя такими, до мельчайших подробностей повторяющими друг друга, структурами. Но они были слишком далеко друг от друга, чтобы я мог вывести из их расположения какую-то зависимость: один «центр» был на Среднем Урале, другой — в Приморье, Сихотэ-Алинь, третий — здесь, на Кольском, ближе к Рыбачьему. И вот теперь я узнаю четвертый — под нами… Он снова замолчал. — А в чем загадка, Рыжий! — осторожно спросил Мальцев. — В том, что метеорит врезался совершенно точно в самый центр структуры, да еще и углубился в нее! Здесь. Но то же самое, оказывается, было и на Урале, только тогда я ничего не знал, не понимал и лишь теперь вспомнил. А сихотэ-алинский метеоритный дождь? Ты согласен, что все это тоже выходит за предел случайности? Но почему и что происходит? Ты прости меня, Викинг, может, я спятил, но вопросы эти мне не дают покоя. Эти структуры — самое ценное, что у нас есть в качестве сырья не только современной промышленности, но и промышленности будущего! Конечно, мне хотелось, да и теперь еще хочется найти сапфиры, но по сравнению с тем, что представлено здесь, что удалось мне увидеть и выяснить, все сапфиры отступают на задний план. Вот оно, настоящее сокровище Торстейна! И в то же время — проклятая мысль — почему? Глупо, а отделаться не могу… Впрочем, черт с ней! Здесь открывается столько проблем, что не у одного меня голова пойдет кругом. И еще. Я хочу, чтобы мы с тобой вместе подали отчет об открытии. Согласен? Мальцев покачал головой. — Нет, Рыжий. Не согласен. Ну скажи, зачем мне в геологию лезть? Если тебе мои материалы и соображения нужны — они и так тебе всегда открыты… Не стоит! А что касается сапфиров… — Ты меня не понял, Викинг, — перебил его Костров. — Я не о геологическом отчете говорю. О докладной записке в президиум академии. Об исследовании Горелого озера. Может быть, о заповеднике или как там… — Ну, это мы с тобой еще успеем обсудить, — сказал Мальцев, вставая. — Итак, мы уходим? — Если ты все кончил, — ответил геолог. — Кончил. А что касается твоих сапфиров, — Мальцев поиграл пальцами в кармане, — не огорчайся, Рыжий! И пока, чтобы ты не разочаровался в Торстейне, — вот тебе один! И, вынув из кармана, Юрий протянул изумленному геологу маленький, гладкий, словно обсосанный, приплюснутый и скособоченный ярко-синий камешек, чуть больше ногтя мизинца. И пояснил: — Вчера нашел возле очага в развалинах… Постой, а почему ты так на него смотришь? Я ошибся? Это не сапфир? Вид у Кострова был странный. Он смотрел на синий сгусток света, лежащий у него на ладони, но оживленное еще минуту назад лицо его теперь осунулось и постарело. Он сжал, как бы машинально, руку, словно пробуя камень на плотность и вес, потом поглядел на археолога, и в его глазах Мальцев впервые прочел растерянность и усталость. — В том-то и дело, что это самый настоящий сапфир, Юра… (Впервые за всё время Костров назвал Мальцева по имени, и это прозвучало особенно тяжко.) В том-то и беда, что это настоящий сапфир, только… здесь он таким быть не может. Ни при каком условии. Даже при чуде. Значит, его сюда кто-то привез или принес. Значит, половина из того, что я тебе сказал, — бред, а я — самый заурядный неудачник, каких у нас пруд пруди… Видимо, в подобных ситуациях мозг Мальцева не только работал быстрее, но и оказывался более гибким и всеобъемлющим, чем у геолога. Если в первый момент Юрия поразила реакция Кострова на подарок, то уже в следующее мгновение все пережитое, передуманное, услышанное сложилось в четкую и ясную цепь причин и следствий, которую замкнули слова геолога: «Значит, его сюда кто-то привез». И, шагнув вперед, он хлопнул по плечу сгорбившегося друга и почти закричал: — Рыжий, да ты ли это?! Неужели после всего, что ты сам мне рассказал, ты не понимаешь, что мы нашли? Вспомни сагу, вспомни дворец богов, вспомни чудовищ Торстейна, спящих в свинцовых кабинах! Это же Пришельцы!! И если я не совсем осел, то стрелка твоего компаса говорит, что какие-то механизмы еще живут под дном озера! Понимаешь, ну?! Это не просто открытие, это…Владимир Михановский ДВОЙНИКИ Фантастическая повесть
 Детство свое, проведенное в доме Ньюморов, Линда Лоун вспоминала, словно длинный кошмарный сон. Кончившийся наконец, такой сон оставляет надолго тягостное чувство, хотя неприятные события подчас чередуются в нем с чем-то светлым, радостным, пусть и не поддающимся точному определению. Может быть, именно в этом чередовании притягательная власть снов?
Мать Ньюмора, впрочем, относилась к ней хорошо. Да и отец его, Ньюмор-старший, в редкие свои прилеты из дальнего космоса не делал никакого различия между нею и сыном.
И все-таки детство оставило в ее душе глубокую ссадину, которая не проходила с годами. Причиной тому был Ньюмор-младший, которого в семье звали Ньюм.
Как только девочка после катастрофы, постигшей их семью, поселилась в богатом доме Ньюморов, мальчишка стал для нее злым гением. Она часто плакала из-за него втихомолку, хотя Ньюм никогда не таскал ее за рыжие жидкие косички и вообще не занимался рукоприкладством. Но как-то так у него всегда выходило, что в любой детской шалости, в ненароком разбитой чашке саксонского фарфора, в сломанной розе на клумбе, в воде, налитой в шляпы гостей, оставленные в гардеробной, — во всем этом была виновата Линда.
Взять хоть ту же злополучную чашку. Хотя уже сколько лет прошло, впечатления детства были живы в памяти Линды, и она готова была «прокручивать» их до бесконечности. Особенно тот эпизод, врезавшийся как заноза.
…Они вдвоем играли в саду, потом вернулись в дом, и Ньюм стал показывать ей, как матросы танцуют джигу. У него танец получался хорошо.
— Теперь ты! — сказал он и, взяв Линду за руку, вывел ее на середину комнаты.
Поначалу дело не клеилось.
— Прыгай, прыгай повыше! — покрикивал Ньюмор, входя в роль учителя танцев и увлекаясь ею, как и всем, за что он брался. — Так, а теперь хлопок и прыжок в сторону.
Когда девочка подпрыгнула, исполняя рискованное па, Ньюмор подтолкнул ее. Паркет был скользок как лед, и она, не удержавшись, упала, задев за тумбочку…
На грохот в комнату вошла мать Ньюмора. Несколько секунд она молчала, оценивая ситуацию.
Линда и Ньюмор стояли рядом, виновато потупив глаза.
Мать Ньюма нарушила молчание:
— Опять подрались?
Мальчик покачал головой.
Женщина перевела испытующий взгляд на Линду:
— Это ты сделала?
— Я… — прошептала Линда.
Мать Ньюмора с сожалением посмотрела на осколки фарфора, усеявшие пол.
— Этой чашке, девочка, было четыреста лет… — вздохнула она. — Как это случилось?
— Я танцевала, мама… Вернее, училась танцевать джигу… А пол скользкий… — начала пояснять Линда и, не договорив, умолкла: она сама почувствовала, что ее слова звучат неубедительно, падают в пустоту.
Мать покачала головой.
— Линда права, пол скользкий, как каток, — неожиданно вступился за нее Ньюм. В доказательство своих слов он разбежался и проехался на ногах до самого окна.
— Трудный ребенок, — произнесла мать, неизвестно кого имея в виду.
Ньюм, облокотившись о подоконник, уставился в окно, словно все происходящее перестало его касаться.
Наконец, произнеся еще несколько приличествующих случаю сентенций, мать Ньюмора удалилась, чтобы отдать Робу приказание вымести из комнаты осколки.
Когда дверь закрылась, Линда с облегчением вздохнула. Ньюмор отвернулся от окна. Она исподлобья бросила взгляд на его плутоватые глаза, на губы, готовые, как ей показалось, растянуться в улыбке. Небрежным жестом Ньюмор взлохматил волосы, и без того торчавшие во все стороны.
— Тоже мне заступница выискалась, — протянул он. — А мне, может, не надо, чтобы за меня заступались.
— А что тебе надо, Ньюм? — тихонько спросила Линда.
— Мне нужно, Рыжик, чтобы ты всегда говорила правду. Разве я могу дружить с девчонкой, которая говорит неправду?
Линда шагнула к нему, отвернулась, пряча заблестевшие глаза. За слова о дружбе она могла простить ему все на свете… Но чем же он недоволен? Ведь она всю вину взяла на себя.
Ньюм заглянул ей в глаза.
— Трусиха, — процедил он.
— Нет, — вздрогнула она от оскорбления.
— А почему не сказала маме правду?
— Что я должна была сказать ей?
— Что я толкнул тебя.
— Я думала, ты не нарочно…
— Ах, ты думала, что я не нарочно!.. — протянул Ньюмор. — А я сделал это нарочно, нарочно, нарочно! — запрыгал он на одной ноге, разом утратив напускную серьезность.
— Неправда.
— Нет, правда.
— Зачем ты это сделал?
— Мне так захотелось. Ну, что же ты стоишь? Ступай, пожалуйся маме! — Он толкнул носком осколок драгоценной чашки. — А то накажут!
Она пожала плечами:
— Я не боюсь наказания.
— Все равно ты трусиха! — воскликнул Ньюмор. — Побоялась сказать маме правду.
Дверь отворилась, и их разговор оборвался. В комнату, неуклюже покачиваясь, вошел робот. Мать звала его «статуя командора», вероятно, за величественную осанку и высокий рост.
Линда знала, что иметь робота может позволить себе только очень состоятельная семья, настолько дорого обходилась робоприслуга. В семействе Лоунов, например, никаких роботов не было и в помине, даже когда отец — программист вычислительного центра — зарабатывал неплохо. А потом, когда дела пошли все хуже и хуже, стало вовсе не до роботов.
После того как родители Линды погибли в авиационной катастрофе, девочка осталась одна.
В семье Ньюморов Линда быстро привыкла к роботам, полумашинам-полусуществам, добродушнейшим созданиям, которые несмотря на кажущуюся неловкость, умело и четко выполняют команды по дому. Таким был и самый старый робот, Роб — «статуя командора», который неизвестно в силу каких причин пользовался особой нелюбовью Ньюмора-младшего.
Роб кивнул детям, затем, скрипнув, опустился на колени и принялся собирать осколки.
— Роб, а ты помнишь потоп? — спросил Ньюм.
— Потоп? — переспросил Роб, и его сильные руки-клешни застыли в воздухе. — Подобные непонятные вопросы, не связанные с конкретной командой — «Подай то, принеси это», — всегда выбивали его из колеи, и мальчишка знал это.
— Всемирный потоп, — невинно подтвердил Ньюм.
Робот честно пошарил по подвалам своего запоминающего устройства.
— Не помню, — признался он после паузы, длившейся добрых несколько минут.
— Странно, ты должен помнить его.
— Почему должен? — забеспокоилась «статуя командора».
— Да потому, что ты допотопный! — рассмеялся Ньюмор и фамильярно толкнул в крутое плечо Роба, который продолжал стоять на коленях.
— Перестань, Ньюм, — не выдержала Линда.
Поняв, что мальчик над ним, по обыкновению, посмеивается, робот снова принялся за работу.
Честно говоря, это была старая, очень старая конструкция. Однако отец настрого запретил менять старых роботов на новые модели, которые видоизменялись чуть ли не каждый месяц: конкурирующие фирмы страны наперебой предлагали их богатому потребителю.
Мать Ньюмора сетовала, что давно пора бы сменить механическую прислугу, что их роботы вконец обветшали и разладились: просто стыдно, когда приходят гости.
— Пойми, дорогая, я слишком редко бываю дома, — неизменно отвечал на это Ньюмор-старший. — И потому каждый раз, возвращаясь из Пространства, я мечтаю застать все, как было, — разумеется, в той мере, в какой это возможно пред ликом беспощадного времени. В полете я думаю о тебе, о Линде, о Ньюме и представляю всех вас такими, какими видел в предыдущий свой прилет на Землю. И мне не хочется, чтобы что-то менялось в доме по твоей воле. Я хочу, чтобы гнездо, в которое я возвращаюсь, оставалось прежним. До последнего цветка на клумбе, до последней скамейки, до последнего винтика.
— А Роб тут при чем?
— Роб — частица дома, почти частица семьи. Он вынянчил меня на своих клешнях. Как же я могу сдать его на слом?
— Ясно… — вздыхала жена и переводила разговор на другую тему.
Линда и Ньюм молчали, ожидая, пока «статуя командора» соберет осколки фарфора и уберется наконец из комнаты. Действовал робот медленно, временами застывал на несколько секунд в нелепой позе, однако — надо отдать ему должное — работал тщательно.
Закончив уборку, Роб повел глазами-фотоэлементами по просторной комнате, поднялся с колен и вдруг двинулся в угол. Ньюм попытался было преградить ему путь, но робот обманул мальчика. В углу робот подобрал последний осколок, заброшенный туда Ньюмором, и зашаркал к выходу, покачиваясь на ходу.
Ньюмор-младший придирчиво оглядел пол, но не обнаружил на нем ни крошки фарфора.
— Поздравляю тебя, Рыжик, — с некоторой торжественностью произнес Ньюм, когда дверь за роботом захлопнулась. — Ты выдержала испытание.
— Какое еще испытание? — недоверчиво переспросила Линда, все время ожидавшая от Ньюма подвоха.
— На верность!
— Тоже мне испытатель нашелся, — насмешливо протянула Линда, но слова Ньюма были ей приятны.
Он взял ее за руку, Линда мучительно, до корней волос покраснела.
— А знаешь, рыжим идет, когда они краснеют, — произнес Ньюм задумчиво.
Она вырвала руку и выбежала из комнаты…
…Это случилось в последний прилет на Землю Ньюмора-старшего.
Весь дом был наполнен весельем, даже старые стены его, казалось, помолодели.
Ньюмор-старший всем привез подарки.
Жене — удивительную одежду, которая сохраняет одинаковую температуру при любой погоде.
Ей, Линде, — коробку лакомств с далекой планеты, вкус их она помнит до сих пор: горьковатые, тающие во рту, они чем-то отдаленно напоминали миндаль.
Но больше всего ее потряс подарок Ньюму. Игрушка не игрушка, удивительный живой глаз, видящий все вокруг. Взгляд его, как пояснил Ньюмор-старший, проницает сквозь перегородки, непрозрачные для человеческого взгляда…
Шар был размером с обычный волейбольный мяч. Оболочка — ворсистая. Шар ритмически вибрировал.
— Он как будто дышит… — зачарованно прошептала Линда, глядя на шар.
— Он живой, папа? — деловито спросил Ньюм, небрежно держа подарок.
В ответ отец начал пояснять что-то долго и обстоятельно. Линда тогда ничего не поняла, ей запомнились только слова «фасеточный элемент» и еще какие-то, столь же непонятные. Что же касается Ньюма, то он, ясное дело, хорошо понял отца. Дотошно расспросил его, как обращаться с шаром, а потом утащил «живой глаз» в свою комнату.
А позже…
Позже произошел эпизод, о котором даже теперь, одиннадцать лет спустя, будучи двадцатипятилетней женщиной, Линде тяжело и неприятно было вспоминать.
Весь тот день прошел для нее в ожидании чего-то необычного.
И хотя никто не мог знать, что из нового рейса Ньюмор-старший не вернется, на всем лежал отблеск грусти. А может, это казалось Линде только теперь, много лет спустя?..
Ужин накрыли в гостиной, где было тесно от многочисленных гостей.
Медлительный Роб подал на стол жареную акулью печень — любимое блюдо отца. Ньюм ел поспешно, делая вид, что не замечает укоризненных взглядов матери: ему не терпелось вновь отправиться к подарку.
Едва закончился обед, Ньюм схватил Линду за руку и прошептал:
— Пойдем со мной, я покажу тебе чудо.
Тихонько прикрывая за собой дверь, Линда услышала фразу, которой капитан начал свое повествование:
— Представьте себе, мой киберштурман в полете научился сочинять музыку…
Не выпуская руки Линды, Ньюмор по длинному коридору торопливо вел ее в свою комнату.
На пороге комнаты девочка остановилась, завороженная. Свет Ньюм не включил, и в комнате царил полумрак. А в противоположном углу у окна, там, где у Ньюма стоял письменный стол, вечно заваленный учебниками по физике и математике и исчерканными листами писчей бумаги (Ньюм терпеть не мог тетрадей), — там, в дальнем углу, разливалось голубое сияние, ни с чем не сравнимое спокойное зарево.
Девочка подошла поближе.
Шар сверкал, но смотреть на него не было больно. Каждая коротенькая ворсинка казалась маленькой радугой, она слегка дрожала и переливалась всеми мыслимыми цветами.
— Можно его потрогать?
— Потрогай, — разрешил Ньюм.
— Ой, как будто кошку погладила! — удивилась Линда.
— Скажешь тоже — кошку, — усмехнулся Ньюм. — Это очень сложный аппарат, созданный из биоэлементов. Я изучу его строение и построю точно такой же.
— Для чего тебе?
— Это очень ценная штука, за нее могут много заплатить. Этот шар соединяет в себе свойства многих земных приборов и устройств — живого глаза, рентгеновского аппарата и так далее.
— Ньюм, а он правда видит насквозь?
— Не веришь, Рыжик? Сейчас убедишься, — загадочно улыбнулся Ньюм.
Он потрогал светящуюся сферу, нажал что-то — и тут шар заговорил!
Это было до того неожиданно, что девочка вздрогнула, по спине пробежал холодок.
Шар говорил о ней, о Линде!
Голос его был странен, лишен всякой выразительности, словно голос Роба, когда тот отвечает на чей-нибудь вопрос.
Линда и теперь помнит от слова до слова все, что произнесло, уставясь на нее, «всевидящее око» — так Ньюмор назвал шар. И то, что он говорил, показалось девочке до того обидным и нелепым, что она, не сдержавшись, крикнула:
— Замолчи!
Шар умолк.
Линда не смогла сдержать слезы. Она бросилась на Ньюмора, но тот со смехом увернулся. Вытирая глаза, она вышла из комнаты. Ньюм догнал ее уже в коридоре.
Когда они вернулись в гостиную, все были поглощены рассказом Ньюмора-старшего.
…Уже на другое утро шар погиб. Его погубил сам Ньюм, который пытался узнать его внутреннее строение… Конечно, это было чисто ребяческое желание — узнать, как устроена игрушка.
Через несколько дней в семье случилось несчастье: погиб космокапитан Ньюмор. Теперь все заботы легли на плечи Ньюма, а он полностью ушел в науку, и больше его ничто не интересовало.
Он даже не замечал, что Линда любит его, и своим невниманием часто обижал девушку.
Каждый раз Линда старалась найти оправдание его поведению. Ясно, голова юноши занята другим. Он такая умница, самостоятельно одолел курс высшей математики, дифференциальные уравнения щелкает, как орехи. Не обращает на нее, Линду, внимания? Понятное дело, его время уходит на гораздо более важные вещи. Толковал же он ей на днях, что природа человеческая слишком несовершенна, что в нем слишком много осталось от животного и что он, Ньюмор, задумал в будущем не более, не менее как… переделать природу человека.
— В каждом человеке есть плохое и хорошее, — заявил Ньюм, — не правда ли? Нельзя ведь сказать, что этот человек — абсолютный злодей: обязательно у него найдется хоть какое-нибудь светлое пятно. Беспросветно темные личности встречаются только в романах. И наоборот. Едва ли встретишь в жизни совершенно хорошего человека, без каких бы то ни было изъянов. Хоть что-нибудь у него, да не так… Вот я и задумал в каждом человеке отделить плохое от хорошего. Плохое — удалить, как дантист удаляет больной зуб, а хорошее оставить.
— Как же ты это сделаешь? — спросила Линда.
Ньюм пожал плечами:
— Еще толком не знаю… Есть у меня одна идейка, но она слишком сырая.
— А что за идея? — отважно спросила Линда, чтобы не дать угаснуть разговору.
Ньюм увлеченно начал ей рассказывать про полушария головного мозга, хромосомы, частицы и античастицы, пока бедняжка Линда не почувствовала, что голова ее решительно отказывается воспринимать что-либо.
Почувствовал это и Ньюмор. Он прервал свои объяснения и, улыбнувшись, произнес:
— Знаешь, Рыжик, твоя голова в этот момент, по-моему, напоминает камеру Вильсона.
— А что это за камера? — спросила Линда с недоумением.
— Ею пользуются физики-атомщики для изучения микрочастиц.
— А я тут при чем?
— Видишь ли… как бы тебе объяснить попроще… Дело в том, что когда камеру Вильсона включают, она наполняется туманом, — с ехидной обстоятельностью пояснил Ньюмор.
А Линда не обиделась. Ничуть! Ясно ведь, что Ньюм и не думал ее обидеть.
Девушка любила Ньюмора, сама себе не смея признаться в этом чувстве.
А Ньюм? Любил ли он ее? Безошибочное женское чутье, рано проснувшееся у нее, подсказывало, что и Ньюм к ней неравнодушен. Внешне, однако, он никак не выражал своих чувств. Всегда на первом плане у него была наука — физика, биология, математика.
Кроме того, у Ньюмора появилось много знакомых девушек, которые оказывали стремительно восходящему научному светилу всевозможные знаки внимания.
Линда впервые с горечью поняла, что в мире, в котором она живет, девушке, кроме красоты, нужно еще и богатство. Придя к такому выводу, она поняла, что дальнейшее пребывание в доме Ньюморов стало невозможным, и ушла, окунулась в самостоятельную жизнь.
Линде повезло — почти сразу же она нашла место продавщицы в универсальном торговом комплексе ВДВ — «Все для всех».
С Ньюмором они иногда встречались в городе, но крайне редко, и встречи эти носили случайный характер. Ньюм, теперь известный ученый, был ужасно занят. Он объяснил ей, что занят все той же задачей исправления природы человека, которой увлекся еще в отроческие годы. Линда узнала, что эксперименты его стоят чрезвычайно дорого, он тратит на них все деньги, и их не хватает. Несколько раз он повторил малопонятное словосочетание «ансамбль античастиц». Линда, однако, вспомнив про «камеру Вильсона», требовать объяснений не решилась.
Однажды они столкнулись на углу, близ закусочной-автомата, куда Линда решила забежать после работы. Услышав о денежных затруднениях Ньюмора, Линда робко предложила ему все свои скромные сбережения. Когда она назвала сумму, Ньюмор улыбнулся.
— Ты с работы? — спросил он.
— Да.
— Так пойдем-ка лучше в стерео, чем решать финансовые проблемы, — предложил он.
Линда, поколебавшись, согласилась.
Когда они направлялись к ближайшему куполу, девушка подумала, что внезапное предложение Ньюмора не отличается особой последовательностью. То он, видите ли, страшно занят — каждая минутка на счету, то вдруг выкраивает добрых полтора часа, чтобы посмотреть кривляний комика или очередную трогательную любовно-кинозвездную историю.
В сферозале, когда они уселись в кресла, Ньюмор взял Линду за руку.
Девушка безучастно смотрела на экран, мысли ее были заняты другим. Прежде она почла бы за счастье — сидеть вот так, в темном зале, рядом с Ньюмором, и чтобы он держал ее за руку. Но теперь прикосновение Ньюмора не взволновало ее. Как все меняется!
Теперь их дороги разошлись.
У Ньюмора своя жизнь, свои заботы.
А у нее есть Арбен.
Когда они вышли из сферозала на улицу, уже стемнело, и панели домов начали светиться.
— Мы не виделись целую вечность, Рыжик, — сказал Ньюмор.
— Не вечность, а чуточку меньше: четыре месяца, — уточнила Линда. Она обратила внимание, что со времени их последней встречи Ньюмор побледнел и осунулся.
«Ньюм, как всегда, не щадит себя в работе», — подумала девушка.
— Как тебе фильм? — спросила она.
— Ничего, — рассеянно ответил Ньюмор.
— Ты во время сеанса ни разу не улыбнулся…
— У меня горе, Линда. Большое горе, — сказал Ньюмор. — Мама умерла.
— Давно?
— Вскоре после того, как мы с тобой виделись. Она очень тосковала об отце, и это свело ее в могилу. Если бы можно было избавить ее от этой тоски, от воспоминаний, она могла бы еще долго жить…
— Разве это можно — избавить человека от воспоминаний? — спросила Линда.
— Надеюсь, что да. Такой опыт скоро будет проводиться, — ответил Ньюмор.
Они разговаривали, бесцельно переходя с одной ленты на другую. Вспоминали детство, погибшего капитана.
— Ньюм, ты напрасно отказываешься от моих сбережений, — сказала Линда. — Мне они ни к чему. Я здорова и зарабатываю себе на жизнь…
— Спасибо, Рыжик. Но мне досталось наследство — два с половиной миллиона жетонов.
— Два с половиной миллиона, — повторила Линда. В ее представлении это была сумма ни с чем не сообразная, совершенно фантастическая. Это сколько же ей надо жизней, чтобы сколотить такую сумму? Десять? Сто? Она пыталась было прикинуть, но тут же отказалась от этой затеи.
Впрочем, любовью к арифметике, как и к прочим точным (а равно и неточным, если можно так выразиться) наукам, Линда никогда не отличалась.
По предложению Ньюмора они зашли в кафе отдохнуть немного.
— Что же ты будешь делать с наследством? — спросила Линда, когда подали мороженое.
— Придумаю что-нибудь. — Он перехватил взгляд Линды и спросил: — Ты хочешь предложить, как распорядиться капиталом?
Девушка кивнула.
— Ну-ка, скажи. Это интересно, — оживился Ньюмор, слизывая с ложечки мороженое.
— Во-первых, можешь сразу бросить работу, она слишком изматывает тебя.
— Интересное предложение… — Ньюмор наморщил лоб, словно всерьез обдумывая слова Линды. — А на что же мне жить, ваша милость?
— На проценты.
— Верно, — согласился Ньюмор. — Я не подумал об этой возможности.
— У тебя появится масса свободного времени… Это такая прелесть — свободное время!
— А на что его употребить?
— Придумай что-нибудь сногсшибательное, — предложила Линда.
Ньюмор откинулся на спинку стула.
— Например?
— Женись, — сказала Линда.
Ньюмор пристально посмотрел на нее и улыбнулся.
— Мы с тобой не пара, — сказал он. — Разве можно придумать двух более несхожих людей? Согласись, что мы с тобой, связанные узами Гименея, представляли бы весьма забавное зрелище.
— Ты, как всегда, прав, — согласилась Линда. — Действительно, зрелище было бы забавное. Но дело в том, что, предлагая тебе жениться, я вовсе не себя имела в виду.
— А кого же?
— Мало ли девушек на свете?
Ньюмор бросил на стол мелочь.
— Я обручен, — сказал он.
— Что ж ты раньше не сказал?
— Думал, ты знаешь.
— Откуда мне знать? — пожала плечами Линда. — «Брачный курьер» я не выписываю.
— Да, я обручен, и навеки, как любят говорить поэты, вроде Арбена, о котором ты в прошлый раз столько рассказывала, — проговорил Ньюмор.
— Арбен не поэт, а импровизатор.
— Не все ли равно? — махнул рукой Ньюмор. — Главное, чтобы работа ладилась. Как у него дела в Уэстерне? Он, кажется, там работает?..
— Плохо по-прежнему, — вздохнула Линда. — Я просто в отчаянии. Если так пойдет и дальше, могут уволить. Уэстерн шутить не любит, ты знаешь.
— Неужели так обстоят дела?
— Хуже некуда.
— А в чем дело?
— Со здоровьем у него неладно. Ни с кем ужиться не может. Нервы.
— Нервы — болезнь века. Человечество должно воздвигнуть золотой памятник тому, кто избавит его от расстроенных нервов.
— Вот и у Арбена, видно, эта самая болезнь века.
— А в чем болезнь выражается у Арбена? — неожиданно заинтересовался Ньюмор.
— Его все время мучают какие-то кошмары, или сны, или видения, что-то в этом роде, — произнесла Линда. — А после бессонной ночи, сам знаешь, каково работать. Все валится из рук. Ну, а если бессонница систематическая…
Ньюм побарабанил пальцами по столу.
— Интересно, очень интересно. Ты узнала все это от самого Арбена?
Вместо ответа Линда раскрыла сумочку, вытащила растрепанную записную книжку, полистала и, раскрыв на нужном месте, протянула Ньюмору.
— Что это? — спросил Ньюмор, с недоумением глядя на исписанную страницу. Строчки были неодинаковой длины, к концу они неумолимо сползали вниз, слова были написаны кое-как, вкривь и вкось, хотя видно было, что тот, кто писал их, старался вовсю: заглавные буквы выделялись своей аккуратностью.
Ньюмор тут же представил себе, как тот, кто выводил их, склонил голову набок, высунув от усердия язык.
— Прочти, — сказала Линда.
— Можно вслух?
— Только негромко, — попросила Линда. Она оглянулась: каждый из немногочисленных посетителей кафе был занят своим делом, на них никто не обращал внимания.
Ньюмор пожал плечами, приблизил к глазам записную книжку — он был немного близорук, хотя и не носил контактных линз, — и медленно, запинаясь на малоразборчивых словах, прочел:
Детство свое, проведенное в доме Ньюморов, Линда Лоун вспоминала, словно длинный кошмарный сон. Кончившийся наконец, такой сон оставляет надолго тягостное чувство, хотя неприятные события подчас чередуются в нем с чем-то светлым, радостным, пусть и не поддающимся точному определению. Может быть, именно в этом чередовании притягательная власть снов?
Мать Ньюмора, впрочем, относилась к ней хорошо. Да и отец его, Ньюмор-старший, в редкие свои прилеты из дальнего космоса не делал никакого различия между нею и сыном.
И все-таки детство оставило в ее душе глубокую ссадину, которая не проходила с годами. Причиной тому был Ньюмор-младший, которого в семье звали Ньюм.
Как только девочка после катастрофы, постигшей их семью, поселилась в богатом доме Ньюморов, мальчишка стал для нее злым гением. Она часто плакала из-за него втихомолку, хотя Ньюм никогда не таскал ее за рыжие жидкие косички и вообще не занимался рукоприкладством. Но как-то так у него всегда выходило, что в любой детской шалости, в ненароком разбитой чашке саксонского фарфора, в сломанной розе на клумбе, в воде, налитой в шляпы гостей, оставленные в гардеробной, — во всем этом была виновата Линда.
Взять хоть ту же злополучную чашку. Хотя уже сколько лет прошло, впечатления детства были живы в памяти Линды, и она готова была «прокручивать» их до бесконечности. Особенно тот эпизод, врезавшийся как заноза.
…Они вдвоем играли в саду, потом вернулись в дом, и Ньюм стал показывать ей, как матросы танцуют джигу. У него танец получался хорошо.
— Теперь ты! — сказал он и, взяв Линду за руку, вывел ее на середину комнаты.
Поначалу дело не клеилось.
— Прыгай, прыгай повыше! — покрикивал Ньюмор, входя в роль учителя танцев и увлекаясь ею, как и всем, за что он брался. — Так, а теперь хлопок и прыжок в сторону.
Когда девочка подпрыгнула, исполняя рискованное па, Ньюмор подтолкнул ее. Паркет был скользок как лед, и она, не удержавшись, упала, задев за тумбочку…
На грохот в комнату вошла мать Ньюмора. Несколько секунд она молчала, оценивая ситуацию.
Линда и Ньюмор стояли рядом, виновато потупив глаза.
Мать Ньюма нарушила молчание:
— Опять подрались?
Мальчик покачал головой.
Женщина перевела испытующий взгляд на Линду:
— Это ты сделала?
— Я… — прошептала Линда.
Мать Ньюмора с сожалением посмотрела на осколки фарфора, усеявшие пол.
— Этой чашке, девочка, было четыреста лет… — вздохнула она. — Как это случилось?
— Я танцевала, мама… Вернее, училась танцевать джигу… А пол скользкий… — начала пояснять Линда и, не договорив, умолкла: она сама почувствовала, что ее слова звучат неубедительно, падают в пустоту.
Мать покачала головой.
— Линда права, пол скользкий, как каток, — неожиданно вступился за нее Ньюм. В доказательство своих слов он разбежался и проехался на ногах до самого окна.
— Трудный ребенок, — произнесла мать, неизвестно кого имея в виду.
Ньюм, облокотившись о подоконник, уставился в окно, словно все происходящее перестало его касаться.
Наконец, произнеся еще несколько приличествующих случаю сентенций, мать Ньюмора удалилась, чтобы отдать Робу приказание вымести из комнаты осколки.
Когда дверь закрылась, Линда с облегчением вздохнула. Ньюмор отвернулся от окна. Она исподлобья бросила взгляд на его плутоватые глаза, на губы, готовые, как ей показалось, растянуться в улыбке. Небрежным жестом Ньюмор взлохматил волосы, и без того торчавшие во все стороны.
— Тоже мне заступница выискалась, — протянул он. — А мне, может, не надо, чтобы за меня заступались.
— А что тебе надо, Ньюм? — тихонько спросила Линда.
— Мне нужно, Рыжик, чтобы ты всегда говорила правду. Разве я могу дружить с девчонкой, которая говорит неправду?
Линда шагнула к нему, отвернулась, пряча заблестевшие глаза. За слова о дружбе она могла простить ему все на свете… Но чем же он недоволен? Ведь она всю вину взяла на себя.
Ньюм заглянул ей в глаза.
— Трусиха, — процедил он.
— Нет, — вздрогнула она от оскорбления.
— А почему не сказала маме правду?
— Что я должна была сказать ей?
— Что я толкнул тебя.
— Я думала, ты не нарочно…
— Ах, ты думала, что я не нарочно!.. — протянул Ньюмор. — А я сделал это нарочно, нарочно, нарочно! — запрыгал он на одной ноге, разом утратив напускную серьезность.
— Неправда.
— Нет, правда.
— Зачем ты это сделал?
— Мне так захотелось. Ну, что же ты стоишь? Ступай, пожалуйся маме! — Он толкнул носком осколок драгоценной чашки. — А то накажут!
Она пожала плечами:
— Я не боюсь наказания.
— Все равно ты трусиха! — воскликнул Ньюмор. — Побоялась сказать маме правду.
Дверь отворилась, и их разговор оборвался. В комнату, неуклюже покачиваясь, вошел робот. Мать звала его «статуя командора», вероятно, за величественную осанку и высокий рост.
Линда знала, что иметь робота может позволить себе только очень состоятельная семья, настолько дорого обходилась робоприслуга. В семействе Лоунов, например, никаких роботов не было и в помине, даже когда отец — программист вычислительного центра — зарабатывал неплохо. А потом, когда дела пошли все хуже и хуже, стало вовсе не до роботов.
После того как родители Линды погибли в авиационной катастрофе, девочка осталась одна.
В семье Ньюморов Линда быстро привыкла к роботам, полумашинам-полусуществам, добродушнейшим созданиям, которые несмотря на кажущуюся неловкость, умело и четко выполняют команды по дому. Таким был и самый старый робот, Роб — «статуя командора», который неизвестно в силу каких причин пользовался особой нелюбовью Ньюмора-младшего.
Роб кивнул детям, затем, скрипнув, опустился на колени и принялся собирать осколки.
— Роб, а ты помнишь потоп? — спросил Ньюм.
— Потоп? — переспросил Роб, и его сильные руки-клешни застыли в воздухе. — Подобные непонятные вопросы, не связанные с конкретной командой — «Подай то, принеси это», — всегда выбивали его из колеи, и мальчишка знал это.
— Всемирный потоп, — невинно подтвердил Ньюм.
Робот честно пошарил по подвалам своего запоминающего устройства.
— Не помню, — признался он после паузы, длившейся добрых несколько минут.
— Странно, ты должен помнить его.
— Почему должен? — забеспокоилась «статуя командора».
— Да потому, что ты допотопный! — рассмеялся Ньюмор и фамильярно толкнул в крутое плечо Роба, который продолжал стоять на коленях.
— Перестань, Ньюм, — не выдержала Линда.
Поняв, что мальчик над ним, по обыкновению, посмеивается, робот снова принялся за работу.
Честно говоря, это была старая, очень старая конструкция. Однако отец настрого запретил менять старых роботов на новые модели, которые видоизменялись чуть ли не каждый месяц: конкурирующие фирмы страны наперебой предлагали их богатому потребителю.
Мать Ньюмора сетовала, что давно пора бы сменить механическую прислугу, что их роботы вконец обветшали и разладились: просто стыдно, когда приходят гости.
— Пойми, дорогая, я слишком редко бываю дома, — неизменно отвечал на это Ньюмор-старший. — И потому каждый раз, возвращаясь из Пространства, я мечтаю застать все, как было, — разумеется, в той мере, в какой это возможно пред ликом беспощадного времени. В полете я думаю о тебе, о Линде, о Ньюме и представляю всех вас такими, какими видел в предыдущий свой прилет на Землю. И мне не хочется, чтобы что-то менялось в доме по твоей воле. Я хочу, чтобы гнездо, в которое я возвращаюсь, оставалось прежним. До последнего цветка на клумбе, до последней скамейки, до последнего винтика.
— А Роб тут при чем?
— Роб — частица дома, почти частица семьи. Он вынянчил меня на своих клешнях. Как же я могу сдать его на слом?
— Ясно… — вздыхала жена и переводила разговор на другую тему.
Линда и Ньюм молчали, ожидая, пока «статуя командора» соберет осколки фарфора и уберется наконец из комнаты. Действовал робот медленно, временами застывал на несколько секунд в нелепой позе, однако — надо отдать ему должное — работал тщательно.
Закончив уборку, Роб повел глазами-фотоэлементами по просторной комнате, поднялся с колен и вдруг двинулся в угол. Ньюм попытался было преградить ему путь, но робот обманул мальчика. В углу робот подобрал последний осколок, заброшенный туда Ньюмором, и зашаркал к выходу, покачиваясь на ходу.
Ньюмор-младший придирчиво оглядел пол, но не обнаружил на нем ни крошки фарфора.
— Поздравляю тебя, Рыжик, — с некоторой торжественностью произнес Ньюм, когда дверь за роботом захлопнулась. — Ты выдержала испытание.
— Какое еще испытание? — недоверчиво переспросила Линда, все время ожидавшая от Ньюма подвоха.
— На верность!
— Тоже мне испытатель нашелся, — насмешливо протянула Линда, но слова Ньюма были ей приятны.
Он взял ее за руку, Линда мучительно, до корней волос покраснела.
— А знаешь, рыжим идет, когда они краснеют, — произнес Ньюм задумчиво.
Она вырвала руку и выбежала из комнаты…
…Это случилось в последний прилет на Землю Ньюмора-старшего.
Весь дом был наполнен весельем, даже старые стены его, казалось, помолодели.
Ньюмор-старший всем привез подарки.
Жене — удивительную одежду, которая сохраняет одинаковую температуру при любой погоде.
Ей, Линде, — коробку лакомств с далекой планеты, вкус их она помнит до сих пор: горьковатые, тающие во рту, они чем-то отдаленно напоминали миндаль.
Но больше всего ее потряс подарок Ньюму. Игрушка не игрушка, удивительный живой глаз, видящий все вокруг. Взгляд его, как пояснил Ньюмор-старший, проницает сквозь перегородки, непрозрачные для человеческого взгляда…
Шар был размером с обычный волейбольный мяч. Оболочка — ворсистая. Шар ритмически вибрировал.
— Он как будто дышит… — зачарованно прошептала Линда, глядя на шар.
— Он живой, папа? — деловито спросил Ньюм, небрежно держа подарок.
В ответ отец начал пояснять что-то долго и обстоятельно. Линда тогда ничего не поняла, ей запомнились только слова «фасеточный элемент» и еще какие-то, столь же непонятные. Что же касается Ньюма, то он, ясное дело, хорошо понял отца. Дотошно расспросил его, как обращаться с шаром, а потом утащил «живой глаз» в свою комнату.
А позже…
Позже произошел эпизод, о котором даже теперь, одиннадцать лет спустя, будучи двадцатипятилетней женщиной, Линде тяжело и неприятно было вспоминать.
Весь тот день прошел для нее в ожидании чего-то необычного.
И хотя никто не мог знать, что из нового рейса Ньюмор-старший не вернется, на всем лежал отблеск грусти. А может, это казалось Линде только теперь, много лет спустя?..
Ужин накрыли в гостиной, где было тесно от многочисленных гостей.
Медлительный Роб подал на стол жареную акулью печень — любимое блюдо отца. Ньюм ел поспешно, делая вид, что не замечает укоризненных взглядов матери: ему не терпелось вновь отправиться к подарку.
Едва закончился обед, Ньюм схватил Линду за руку и прошептал:
— Пойдем со мной, я покажу тебе чудо.
Тихонько прикрывая за собой дверь, Линда услышала фразу, которой капитан начал свое повествование:
— Представьте себе, мой киберштурман в полете научился сочинять музыку…
Не выпуская руки Линды, Ньюмор по длинному коридору торопливо вел ее в свою комнату.
На пороге комнаты девочка остановилась, завороженная. Свет Ньюм не включил, и в комнате царил полумрак. А в противоположном углу у окна, там, где у Ньюма стоял письменный стол, вечно заваленный учебниками по физике и математике и исчерканными листами писчей бумаги (Ньюм терпеть не мог тетрадей), — там, в дальнем углу, разливалось голубое сияние, ни с чем не сравнимое спокойное зарево.
Девочка подошла поближе.
Шар сверкал, но смотреть на него не было больно. Каждая коротенькая ворсинка казалась маленькой радугой, она слегка дрожала и переливалась всеми мыслимыми цветами.
— Можно его потрогать?
— Потрогай, — разрешил Ньюм.
— Ой, как будто кошку погладила! — удивилась Линда.
— Скажешь тоже — кошку, — усмехнулся Ньюм. — Это очень сложный аппарат, созданный из биоэлементов. Я изучу его строение и построю точно такой же.
— Для чего тебе?
— Это очень ценная штука, за нее могут много заплатить. Этот шар соединяет в себе свойства многих земных приборов и устройств — живого глаза, рентгеновского аппарата и так далее.
— Ньюм, а он правда видит насквозь?
— Не веришь, Рыжик? Сейчас убедишься, — загадочно улыбнулся Ньюм.
Он потрогал светящуюся сферу, нажал что-то — и тут шар заговорил!
Это было до того неожиданно, что девочка вздрогнула, по спине пробежал холодок.
Шар говорил о ней, о Линде!
Голос его был странен, лишен всякой выразительности, словно голос Роба, когда тот отвечает на чей-нибудь вопрос.
Линда и теперь помнит от слова до слова все, что произнесло, уставясь на нее, «всевидящее око» — так Ньюмор назвал шар. И то, что он говорил, показалось девочке до того обидным и нелепым, что она, не сдержавшись, крикнула:
— Замолчи!
Шар умолк.
Линда не смогла сдержать слезы. Она бросилась на Ньюмора, но тот со смехом увернулся. Вытирая глаза, она вышла из комнаты. Ньюм догнал ее уже в коридоре.
Когда они вернулись в гостиную, все были поглощены рассказом Ньюмора-старшего.
…Уже на другое утро шар погиб. Его погубил сам Ньюм, который пытался узнать его внутреннее строение… Конечно, это было чисто ребяческое желание — узнать, как устроена игрушка.
Через несколько дней в семье случилось несчастье: погиб космокапитан Ньюмор. Теперь все заботы легли на плечи Ньюма, а он полностью ушел в науку, и больше его ничто не интересовало.
Он даже не замечал, что Линда любит его, и своим невниманием часто обижал девушку.
Каждый раз Линда старалась найти оправдание его поведению. Ясно, голова юноши занята другим. Он такая умница, самостоятельно одолел курс высшей математики, дифференциальные уравнения щелкает, как орехи. Не обращает на нее, Линду, внимания? Понятное дело, его время уходит на гораздо более важные вещи. Толковал же он ей на днях, что природа человеческая слишком несовершенна, что в нем слишком много осталось от животного и что он, Ньюмор, задумал в будущем не более, не менее как… переделать природу человека.
— В каждом человеке есть плохое и хорошее, — заявил Ньюм, — не правда ли? Нельзя ведь сказать, что этот человек — абсолютный злодей: обязательно у него найдется хоть какое-нибудь светлое пятно. Беспросветно темные личности встречаются только в романах. И наоборот. Едва ли встретишь в жизни совершенно хорошего человека, без каких бы то ни было изъянов. Хоть что-нибудь у него, да не так… Вот я и задумал в каждом человеке отделить плохое от хорошего. Плохое — удалить, как дантист удаляет больной зуб, а хорошее оставить.
— Как же ты это сделаешь? — спросила Линда.
Ньюм пожал плечами:
— Еще толком не знаю… Есть у меня одна идейка, но она слишком сырая.
— А что за идея? — отважно спросила Линда, чтобы не дать угаснуть разговору.
Ньюм увлеченно начал ей рассказывать про полушария головного мозга, хромосомы, частицы и античастицы, пока бедняжка Линда не почувствовала, что голова ее решительно отказывается воспринимать что-либо.
Почувствовал это и Ньюмор. Он прервал свои объяснения и, улыбнувшись, произнес:
— Знаешь, Рыжик, твоя голова в этот момент, по-моему, напоминает камеру Вильсона.
— А что это за камера? — спросила Линда с недоумением.
— Ею пользуются физики-атомщики для изучения микрочастиц.
— А я тут при чем?
— Видишь ли… как бы тебе объяснить попроще… Дело в том, что когда камеру Вильсона включают, она наполняется туманом, — с ехидной обстоятельностью пояснил Ньюмор.
А Линда не обиделась. Ничуть! Ясно ведь, что Ньюм и не думал ее обидеть.
Девушка любила Ньюмора, сама себе не смея признаться в этом чувстве.
А Ньюм? Любил ли он ее? Безошибочное женское чутье, рано проснувшееся у нее, подсказывало, что и Ньюм к ней неравнодушен. Внешне, однако, он никак не выражал своих чувств. Всегда на первом плане у него была наука — физика, биология, математика.
Кроме того, у Ньюмора появилось много знакомых девушек, которые оказывали стремительно восходящему научному светилу всевозможные знаки внимания.
Линда впервые с горечью поняла, что в мире, в котором она живет, девушке, кроме красоты, нужно еще и богатство. Придя к такому выводу, она поняла, что дальнейшее пребывание в доме Ньюморов стало невозможным, и ушла, окунулась в самостоятельную жизнь.
Линде повезло — почти сразу же она нашла место продавщицы в универсальном торговом комплексе ВДВ — «Все для всех».
С Ньюмором они иногда встречались в городе, но крайне редко, и встречи эти носили случайный характер. Ньюм, теперь известный ученый, был ужасно занят. Он объяснил ей, что занят все той же задачей исправления природы человека, которой увлекся еще в отроческие годы. Линда узнала, что эксперименты его стоят чрезвычайно дорого, он тратит на них все деньги, и их не хватает. Несколько раз он повторил малопонятное словосочетание «ансамбль античастиц». Линда, однако, вспомнив про «камеру Вильсона», требовать объяснений не решилась.
Однажды они столкнулись на углу, близ закусочной-автомата, куда Линда решила забежать после работы. Услышав о денежных затруднениях Ньюмора, Линда робко предложила ему все свои скромные сбережения. Когда она назвала сумму, Ньюмор улыбнулся.
— Ты с работы? — спросил он.
— Да.
— Так пойдем-ка лучше в стерео, чем решать финансовые проблемы, — предложил он.
Линда, поколебавшись, согласилась.
Когда они направлялись к ближайшему куполу, девушка подумала, что внезапное предложение Ньюмора не отличается особой последовательностью. То он, видите ли, страшно занят — каждая минутка на счету, то вдруг выкраивает добрых полтора часа, чтобы посмотреть кривляний комика или очередную трогательную любовно-кинозвездную историю.
В сферозале, когда они уселись в кресла, Ньюмор взял Линду за руку.
Девушка безучастно смотрела на экран, мысли ее были заняты другим. Прежде она почла бы за счастье — сидеть вот так, в темном зале, рядом с Ньюмором, и чтобы он держал ее за руку. Но теперь прикосновение Ньюмора не взволновало ее. Как все меняется!
Теперь их дороги разошлись.
У Ньюмора своя жизнь, свои заботы.
А у нее есть Арбен.
Когда они вышли из сферозала на улицу, уже стемнело, и панели домов начали светиться.
— Мы не виделись целую вечность, Рыжик, — сказал Ньюмор.
— Не вечность, а чуточку меньше: четыре месяца, — уточнила Линда. Она обратила внимание, что со времени их последней встречи Ньюмор побледнел и осунулся.
«Ньюм, как всегда, не щадит себя в работе», — подумала девушка.
— Как тебе фильм? — спросила она.
— Ничего, — рассеянно ответил Ньюмор.
— Ты во время сеанса ни разу не улыбнулся…
— У меня горе, Линда. Большое горе, — сказал Ньюмор. — Мама умерла.
— Давно?
— Вскоре после того, как мы с тобой виделись. Она очень тосковала об отце, и это свело ее в могилу. Если бы можно было избавить ее от этой тоски, от воспоминаний, она могла бы еще долго жить…
— Разве это можно — избавить человека от воспоминаний? — спросила Линда.
— Надеюсь, что да. Такой опыт скоро будет проводиться, — ответил Ньюмор.
Они разговаривали, бесцельно переходя с одной ленты на другую. Вспоминали детство, погибшего капитана.
— Ньюм, ты напрасно отказываешься от моих сбережений, — сказала Линда. — Мне они ни к чему. Я здорова и зарабатываю себе на жизнь…
— Спасибо, Рыжик. Но мне досталось наследство — два с половиной миллиона жетонов.
— Два с половиной миллиона, — повторила Линда. В ее представлении это была сумма ни с чем не сообразная, совершенно фантастическая. Это сколько же ей надо жизней, чтобы сколотить такую сумму? Десять? Сто? Она пыталась было прикинуть, но тут же отказалась от этой затеи.
Впрочем, любовью к арифметике, как и к прочим точным (а равно и неточным, если можно так выразиться) наукам, Линда никогда не отличалась.
По предложению Ньюмора они зашли в кафе отдохнуть немного.
— Что же ты будешь делать с наследством? — спросила Линда, когда подали мороженое.
— Придумаю что-нибудь. — Он перехватил взгляд Линды и спросил: — Ты хочешь предложить, как распорядиться капиталом?
Девушка кивнула.
— Ну-ка, скажи. Это интересно, — оживился Ньюмор, слизывая с ложечки мороженое.
— Во-первых, можешь сразу бросить работу, она слишком изматывает тебя.
— Интересное предложение… — Ньюмор наморщил лоб, словно всерьез обдумывая слова Линды. — А на что же мне жить, ваша милость?
— На проценты.
— Верно, — согласился Ньюмор. — Я не подумал об этой возможности.
— У тебя появится масса свободного времени… Это такая прелесть — свободное время!
— А на что его употребить?
— Придумай что-нибудь сногсшибательное, — предложила Линда.
Ньюмор откинулся на спинку стула.
— Например?
— Женись, — сказала Линда.
Ньюмор пристально посмотрел на нее и улыбнулся.
— Мы с тобой не пара, — сказал он. — Разве можно придумать двух более несхожих людей? Согласись, что мы с тобой, связанные узами Гименея, представляли бы весьма забавное зрелище.
— Ты, как всегда, прав, — согласилась Линда. — Действительно, зрелище было бы забавное. Но дело в том, что, предлагая тебе жениться, я вовсе не себя имела в виду.
— А кого же?
— Мало ли девушек на свете?
Ньюмор бросил на стол мелочь.
— Я обручен, — сказал он.
— Что ж ты раньше не сказал?
— Думал, ты знаешь.
— Откуда мне знать? — пожала плечами Линда. — «Брачный курьер» я не выписываю.
— Да, я обручен, и навеки, как любят говорить поэты, вроде Арбена, о котором ты в прошлый раз столько рассказывала, — проговорил Ньюмор.
— Арбен не поэт, а импровизатор.
— Не все ли равно? — махнул рукой Ньюмор. — Главное, чтобы работа ладилась. Как у него дела в Уэстерне? Он, кажется, там работает?..
— Плохо по-прежнему, — вздохнула Линда. — Я просто в отчаянии. Если так пойдет и дальше, могут уволить. Уэстерн шутить не любит, ты знаешь.
— Неужели так обстоят дела?
— Хуже некуда.
— А в чем дело?
— Со здоровьем у него неладно. Ни с кем ужиться не может. Нервы.
— Нервы — болезнь века. Человечество должно воздвигнуть золотой памятник тому, кто избавит его от расстроенных нервов.
— Вот и у Арбена, видно, эта самая болезнь века.
— А в чем болезнь выражается у Арбена? — неожиданно заинтересовался Ньюмор.
— Его все время мучают какие-то кошмары, или сны, или видения, что-то в этом роде, — произнесла Линда. — А после бессонной ночи, сам знаешь, каково работать. Все валится из рук. Ну, а если бессонница систематическая…
Ньюм побарабанил пальцами по столу.
— Интересно, очень интересно. Ты узнала все это от самого Арбена?
Вместо ответа Линда раскрыла сумочку, вытащила растрепанную записную книжку, полистала и, раскрыв на нужном месте, протянула Ньюмору.
— Что это? — спросил Ньюмор, с недоумением глядя на исписанную страницу. Строчки были неодинаковой длины, к концу они неумолимо сползали вниз, слова были написаны кое-как, вкривь и вкось, хотя видно было, что тот, кто писал их, старался вовсю: заглавные буквы выделялись своей аккуратностью.
Ньюмор тут же представил себе, как тот, кто выводил их, склонил голову набок, высунув от усердия язык.
— Прочти, — сказала Линда.
— Можно вслух?
— Только негромко, — попросила Линда. Она оглянулась: каждый из немногочисленных посетителей кафе был занят своим делом, на них никто не обращал внимания.
Ньюмор пожал плечами, приблизил к глазам записную книжку — он был немного близорук, хотя и не носил контактных линз, — и медленно, запинаясь на малоразборчивых словах, прочел:
Музыка умолкла внезапно, словно оборвалась. Арбен медленно приходил в себя. Линда сидела рядом, равнодушная, скучающая. — Лучше бы ты не достал билетов, — сказала она, подавляя зевок. — Откровенно говоря, я ожидала большего от этой музыки будущего. Ну, что ты так смотришь? Бессмысленный набор звуков, и ничего более. Они продвигались к выходу, лавируя в толпе. Арбен старался ни на кого не глядеть, но те, на кого падал его взгляд, пытались уступать дорогу. К счастью, Линда, занятая собой, ничего не замечала. — Признайся, ты тоже ничего не понял, — шепнула она. Арбен усмехнулся. — Ньюмор говорил, что по-настоящему человек понимает музыку только при активном соучастии… — сказала Линда. — Как это? — То есть человек насыщает музыку, которую слушает, собственными образами, выстраданными мыслями и так далее. Ну, а космос — это твой конек. Не мудрено поэтому, что музыка, сочиненная в полете электронным штурманом, оказалась тебе созвучной… — Я вижу, что общение с Ньюмором пошло тебе на пользу, — заметил Арбен. Он оглядывался уже не так часто. Того, чего Арбен в душе боялся больше всего, не произошло, и страхи постепенно растаяли, уступив место горделивому ощущению собственного могущества. Он даже стал насвистывать какой-то мотивчик. В конце концов, он никому ничего не должен. Они миновали зеленую зону и углубились в лабиринт улиц, таких же тесных и пыльных, как сто лет назад. Казалось, будто на один день снова вернулось лето, потеснив глубокую осень. — Не хочу подземкой, там душно, — капризно сказала Линда и провела пальцем по зеркальной витрине. За переливающимся пластиком возвышалось чудовище, примеряющее скафандр, — реклама вездесущего Уэстерна. — Вечер чудесный. Может быть, пройдемся пешком? — Что-то не хочется, — безразлично произнес Арбен. Он припомнил слова своего благодетеля Ньюмора о том, что больше всего следует опасаться открытого пространства, и прежние страхи вновь нахлынули на него. — Тогда возьми такси, — сказала Линда, понимая, что в такое время ее требование равносильно просьбе достать луну с неба. — Попробуем. — Голос Арбена прозвучал весело. Они подошли к многолюдной стоянке. Ежесекундно сюда подкатывали сверкающие капли, бесшумно скользящие на воздушной подушке. Но машины не успевали поглощать людей. Толпа прибывала. Арбен окинул взглядом очередь, затем небрежной походкой подошел к стоящим впереди. Линда отстала на несколько шагов, ожидая, что вот-вот разразится скандал, но ничего подобного не произошло. Люди покорно расступались перед Арбеном. Линда не верила своим глазам. Перед ними мягко осадила машина. — Кто следующий? — заученно спросил автоводитель, когда дверца открылась. Они сели, Арбен бросил в щель счетчика задаток — два жетона, и аппарат резко взял с места, так что пассажиры вдавились в сиденье. — А я и не знала, что ты гипнотизер, — сказала девушка. — Оказывается, это не так сложно, — отшутился Арбен. — Так, может быть, сделаешь, чтобы он провез нас задаром, без жетонов? — Так далеко моя власть не простирается, — рассмеялся Арбен. — Электронная система не человек. — Подумаешь! И машина ошибается. — Да, но она не поддается гипнозу. Точно в названной точке машина остановилась. Арбен отсчитал шесть жетонов и сунул их в раскрытый зев счетчика, только после этого дверца отворилась. — Ваша милость становится таинственной, — сказала Линда. Она свято верила в гипноз, и поэтому фокус Арбена не очень удивил ее. — Вчерашнюю нашу встречу, которую ты отрицаешь, я расцениваю как милую шутку… Только не пойму: зачем так шутить? В дверях темного парадного Линда обернулась, улыбнувшись Арбену, и помахала на прощание рукой. Просмотрев содержимое тощего кошелька-пистолета, стреляющего жетонами, он быстро зашагал в сторону ближайшей станции подземки. Теперь он мог наконец свободно поразмышлять. Кого все-таки встретила вчера Линда близ автомата? Неужели Альву?
 В подъезде было полутемно. Парадное старинного дома скудно освещалось единственной лампочкой, покрытой толстым слоем пыли. Поднимаясь по лестнице, Линда, повинуясь необъяснимому чувству, обернулась. Снизу медленно поднималась вслед за ней фигура, контуры которой терялись в полумраке. Вглядевшись, Линда узнала Арбена, с которым только что рассталась. Девушка видела, как он дошел до угла и нырнул в подземку, в этом она могла бы поклясться. Арбен выглядел странно — совсем как вчера, когда они встретились в закусочной. Линда хотела что-то сказать, но голос не повиновался. Арбен с безучастным лицом продолжал подниматься по лестнице. Щеки его были бледны. Широко раскрытые глаза ничего не выражали. Линда замерла. Фигура двигалась прямо на нее.
— Арби!.. Что случилось? — наконец прошептала она, когда их разделяло не более десятка ступенек.
Не отвечая, Арбен продолжал свой путь. Он переставлял ноги механически, словно заведенная кукла.
Линда посторонилась, и Арбен, пройдя совсем рядом, сделал вдруг резкий поворот и исчез. Линде показалось, что он прошел сквозь стену. Или, может быть, вошел в дверь? Но никаких дверей здесь не было. Только грязная лестничная стена, изъеденная сыростью. Линда зачем-то потрогала пальцем серое пятно, похожее на краба. Прижала ко рту кулак, сдерживая готовый вырваться крик.
По-прежнему светила лампочка — символ обыденности, которая еще минуту назад казалась такой незыблемой…
За все свое двадцатипятилетнее существование Линда не сталкивалась ни с чем подобным. Потрясенная, она долго еще стояла на лестничной площадке, теряясь в догадках.
«Увижу Арби завтра и потребую: пусть прекратит свои дурацкие фокусы», — решила она, доставая из сумочки ключ.
В подъезде было полутемно. Парадное старинного дома скудно освещалось единственной лампочкой, покрытой толстым слоем пыли. Поднимаясь по лестнице, Линда, повинуясь необъяснимому чувству, обернулась. Снизу медленно поднималась вслед за ней фигура, контуры которой терялись в полумраке. Вглядевшись, Линда узнала Арбена, с которым только что рассталась. Девушка видела, как он дошел до угла и нырнул в подземку, в этом она могла бы поклясться. Арбен выглядел странно — совсем как вчера, когда они встретились в закусочной. Линда хотела что-то сказать, но голос не повиновался. Арбен с безучастным лицом продолжал подниматься по лестнице. Щеки его были бледны. Широко раскрытые глаза ничего не выражали. Линда замерла. Фигура двигалась прямо на нее.
— Арби!.. Что случилось? — наконец прошептала она, когда их разделяло не более десятка ступенек.
Не отвечая, Арбен продолжал свой путь. Он переставлял ноги механически, словно заведенная кукла.
Линда посторонилась, и Арбен, пройдя совсем рядом, сделал вдруг резкий поворот и исчез. Линде показалось, что он прошел сквозь стену. Или, может быть, вошел в дверь? Но никаких дверей здесь не было. Только грязная лестничная стена, изъеденная сыростью. Линда зачем-то потрогала пальцем серое пятно, похожее на краба. Прижала ко рту кулак, сдерживая готовый вырваться крик.
По-прежнему светила лампочка — символ обыденности, которая еще минуту назад казалась такой незыблемой…
За все свое двадцатипятилетнее существование Линда не сталкивалась ни с чем подобным. Потрясенная, она долго еще стояла на лестничной площадке, теряясь в догадках.
«Увижу Арби завтра и потребую: пусть прекратит свои дурацкие фокусы», — решила она, доставая из сумочки ключ.
Поначалу Арбен поднял на смех предложение Ньюмора. — Ты разыгрываешь меня, — сказал Арбен. Несмотря на молодость, Ньюмор был известен среди физиков своими фантастическими идеями. Честолюбивый и талантливый, он быстро выдвинулсясреди коллег. Арбен знал, что его новый приятель пользуется авторитетом. По то, что предложил он инженеру в этот вечер… — Решайся, — сказал Ньюмор, когда горка окурков сровнялась с краем пепельницы. — По крайней мере, ты вкусишь высшую радость — быть личностью, свободной от комплексов. — Но какой ценой? — Никакая цена не чрезмерна за такое счастье. — Предположим, я соглашусь. Сколько времени нужно, чтобы настроить Альву так, как ты говоришь? — Думаю, за месяц успею. Начать можно сегодня же. — Сразу? — А зачем откладывать? — Допустим, все будет так, как ты говоришь. — Арбен колебался. — Иметь власть над окружающими, конечно, неплохо. И от неприятных воспоминаний избавиться тоже. Но если все-таки Альва меня настигнет? — Альва глуп, запомни это. Его логическая схема примитивна, как дважды два. Собственно, и схемы-то никакой нет, только настроенность на резонанс. Поэтому тебе нетрудно будет избегать его. Старайся всегда быть в ровном настроении, тогда чутье Альвы притупляется. Чудак, да ты позабудешь о всех твоих заботах!.. — Но в случае встречи… — Должен же ты чем-то платить за то, что приобретаешь. Если встретитесь — тогда уж пеняй на себя. Арбен задумался. Воображение рисовало перед ним радужные картины. Предложение Ньюмора сулило райскую жизнь — по сравнению с нынешней. Издерганные нервы Арбена превратятся в стальные нити. Так обещал Ньюм, а Арбен верил ему. Неужели он не будет просыпаться по ночам в холодном поту, неужели не будет по пустякам доводить себя до белого каления, ссориться с товарищами, чуть не бросаясь на них с кулаками? Неужели не будет испытывать желания перегрызть глотку пассажиру, наступившему ему на ногу в переполненном вагоне подземки? Мыслимо ли подобное блаженство!.. Да за него и впрямь ничего не жалко! Забыть. Забыть, забыть, забыть!.. Не вспоминать никогда об Ангелочке Чарли! — А как все это выглядит с точки зрения физики? — спросил Арбен. — Только не пытайся разыграть меня. Я, как инженер, отметаю мистику. — Законченной теории я еще не придумал. Но это, в конце концов, не так уж важно. Суть в том, что в твоих нервных клетках, нейронах, как у всякого неврастеника, создались устойчивые вихревые биотоки. До сих пор эти токи не могли обнаружить — так они малы. Мне удалось это сделать. Тебя надо растормозить, снять эти токи, парализующие энергию. — Это возможно? — Мой Альва, как я говорил тебе, соткан из антивещества. Мне удалось сконструировать эту систему из античастиц, полученных на Брукхейвенском ускорителе. Плотность Альвы ничтожна. Грубо говоря, он состоит почти из вакуума. — Нечто вроде разреженного туманного облака? Ньюмор нетерпеливо кивнул. — Ты мне покажешь Альву? — Только когда согласишься передать ему свои изъяны. — Мы беседуем целый вечер, а для меня многое в таком же тумане, из которого состоит твой Альва. Почему, например, он не может столкнуться и аннигилировать с любым прохожим на улице? — Очень просто: Альва окружен защитным полем, — пояснил Ньюмор, пуская колечко. — Почему же я должен его избегать? — Арбен сделал на слове «я» ударение. — Ты — другое дело. Альва будет твоим двойником, вернее, антидвойником. А в результате… Видел, как магнит притягивает железо? Вот так Альву будет влечь к тебе. — Но защитное поле… — Оно при вашем сближении исчезнет, растает. Тут уж ничего не поделаешь. — Ньюмор развел руками. Инженер опустил голову. — Тебе нечего бояться, Арби! — воскликнул Ньюмор. — Ведь Альва — это тебе не человек, преследователь, враг и так далее. Это не больше чем облачко, которое испытывает к тебе безотчетное влечение. Альва как бы вберет в себя всю твою неуравновешенность. Это будет твой Санчо Панса, верный оруженосец, на зыбкие плечи которого ты возложишь багаж, угнетающий твой дух. Альва — это губка, которая впитает… — А нельзя ли его запереть? — с радостным лицом перебил Арбен. — Тогда мне нечего бояться случайной встречи… — Это все равно что запереть тебя самого, — пояснил Ньюмор. — Площадь, по которой ты можешь перемещаться, в точности равна площади, по которой имеет право свободно перемещаться Альва. Если Альва замкнут в камере, то и ты сможешь ходить только по площадке, равной площади этой камеры. Все остальное для тебя будет запретной зоной. И только если для Альвы открыт весь город — значит, город открыт и для тебя. Кстати, как это ты представляешь себе практически — запереть Альву в камеру? — спросил Ньюмор. — Как обычно. В точности так, как запирают в тюрьму преступника. — Должен тебя разочаровать: Альва, с его ничтожной плотностью, сможет проходить сквозь стены. Нет, не через любые, — добавил он, заметив движение Арбена. — Я дам тебе несколько листов ионизированного пластика, и ты обклеишь стены своей комнаты. Ну, а на улице… — Я придумал, — сказал Арбен, и лицо его просияло. — Сделаю из пластика костюм… — Он глянул на Ньюмора и осекся: тот медленно покачал головой. — Знаю, пластик прозрачный, — неуверенно продолжал Арбен, — но это не беда. На худой конец, можно сделать из пластика подкладку к костюму… — Ничего не выйдет, Арби, — сказал Ньюмор, и в его голосе Арбен явно уловил сожаление. — Пластик нельзя изгибать. Достаточно его чуть согнуть — и он потеряет защитные свойства. — Можно сделать подкладку из мелких пластинок, соединив их между собой. — Пластик нельзя дробить. — Почему? — Потому что каждая пластина по сути представляет собой единую цепную молекулу. — Ну и что? Молекулу можно расщепить… — Да пойми же ты наконец! — вспылил Ньюмор. — Сколько раз можно повторять? Человек за все должен платить. Ничто на этом свете не дается даром. Таков, если угодно, основной закон природы, который забыл открыть сэр Исаак Ньютон. Мне ничего не остается, как исправить его ошибку. — Ньюмор прошелся по комнате. — Ты что же, — продолжал он, как бы отвечая на собственные мысли, — хочешь быть счастливым просто так, задаром? Не получится, брат! Без сомнения, Ньюмор сам пошел бы на этот неслыханный опыт, если бы только для этого подходил альфа-ритм его головного мозга. Он не раз доказывал бесстрашие — и не только другим, но и самому себе (что гораздо существенней). Когда дело доходило до эксперимента, Ньюмор становился одержимым, и никакие соображения не могли остановить его. Да что, разве мало он на протяжении своей внешне блистательной, а на самом деле такой нелегкой карьеры по доброй воле рисковал собственной жизнью! В конце концов, выгода — дело десятое. Главное теперь — создать такую модель, которая могла бы впитывать в себя человеческие недуги, любые изъяны. Проблема необычайно трудна. Хорошо бы разрешить ее для начала в принципе. Ну, а потом можно будет подумать о том, как обезопасить счастливца, избавившегося от всех своих напастей, от его рокового двойника. Другими словами, как снизить плату за счастье. Ньюмор посмотрел на сникшего Арбена. Разведчик гибнет, прокладывая путь армии. Без риска нет победы. Должен же кто-то быть первым? Ньюмор подошел к Арбену и опустил ему руку на плечо. — Тебе представляется невероятный шанс, — горячо заговорил Ньюмор. — Ты будешь последним идиотом, если упустишь его. — Может, поищешь кого-нибудь другого? — неуверенно произнес Арбен. — Никто, кроме тебя, не подойдет, — замотал головой Ньюмор. — Ты знаешь, что такое биорезонанс? Арбен кивнул. — Так вот, ты находишься в резонансе с Альвой. Это редчайшее совпадение, одно на несколько миллионов, если не миллиардов… И то, что твои нервы расшатаны, — тоже плюс: ты легче поддашься биозаписи. А в общем, не хочешь — не надо, черт с тобой! — неожиданно выкрикнул Ньюмор. — Жаль только, что время пропало… — Ладно, я согласен, — отчаянным тоном произнес Арбен. — Давно бы так. Пошли. Они пересекли лабораторию и остановились перед узкой бронированной пластиной, почти сливавшейся со стеной. Арбен подумал, что пластина напоминает дверцу сейфа. — Для Альвы это все пустяки, — хлопнул Ньюмор по выпуклой поверхности. — Он проходит сквозь сталь, как нож сквозь масло. Просто не нашлось другого помещения, пришлось пока освободить склад радиологических инструментов. Да и чем меньше народу увидит его сейчас, тем лучше. — А если убежит? — Арбен дотронулся до дверцы, ощутив холодок металла. — Не убежит. Я уже сказал тебе, что изобрел на Альву управу — ионизированный пластик. Такая пленка — для него непреодолимая преграда. На всякий случай я обклеил пленкой все помещение изнутри. Сам увидишь. Да заходи, не бойся. Боишься взорваться? Пока вы с Альвой чужие, и он к тебе безразличен. Ньюмор и следом за ним Арбен вошли в маленькую клетушку без окон. Стены равномерно светились — прозрачная пленка пластика свет не задерживала. Арбен заметил, что ни один предмет в комнате не отбрасывает тени. Он быстро огляделся. Непонятная установка, обросшая проводами датчиков, словно старая лодка — водорослями. Старый катодный осциллограф на треножнике… На стене раковина — из никелевого крана каплет вода, звонкие серебряные шарики. Вафельное полотенце на гвоздике… Арбен смотрел во все глаза, но Альву обнаружить не мог. — Гляди получше, — сказал Ньюмор. — Да не туда! Видишь? — Он кивнул в противоположный угол. Только теперь, присмотревшись, Арбен заметил странный полупрозрачный предмет, нечто вроде вертикального облачка, высотой в человеческий рост. — Обычная киберсхема, — небрежно бросил Ньюмор, — только на основе антиматерии. Ньюмор легонько подтолкнул Арбена: — Не бойся, Альва окружен защитным полем. Должен же ты познакомиться со своим будущим двойником? Облачко отдаленно напоминало фигуру человека. Еле угадываемые руки безвольно свисали вдоль туловища, голова была опущена. Сквозь тело ясно просвечивалась стена комнаты. — Обычная имитация формы человека, не больше, — пояснил Ньюмор. — Дань условности. Я мог бы придать Альве любые контуры. Но в таком виде ему легче будет затеряться в толпе, а без этого ты будешь лишен свободы передвижения. Арбену показалось, что облачко вздрагивает всякий раз, когда Ньюмор произносит имя Альва. А может, ему почудилось: Арбен был взволнован. — Я думал, он не такой, — тихо произнес Арбен. — А, — догадался Ньюмор, — двойник должен быть похож на оригинал? — Он прикрутил кран и пояснил: — Альва станет на тебя похож, когда вы вступите в биологический радиоконтакт. О, через месяц, когда он, так сказать, выйдет в свет, вас не отличишь друг от друга. — Но он прозрачный. — Пустяки. Я покрою его непроницаемой пленкой. Снабжу костюмом от лучшего портного — разумеется, это будет только световой эффект. А еще лучше — мы оденем его точь-в-точь как тебя. Начиная от куртки и кончая измятыми брюками. Раз уж близнецы, так близнецы! — Как Альва сможет перемещаться? — С любой скоростью. Разумеется, не превышая световую константу Эйнштейна. Например, он легко смог бы обогнать машину или самолет. — Если Альва обгонит на улице машину, он сразу привлечет к себе внимание, — озабоченно сказал Арбен. — Умница. — Ньюмор похлопал его по плечу. — Я подумал об этом немного раньше. Поставим твоему братцу ограничитель скорости, чтобы не очень выделялся. Думаю, три мили в час достаточно, а? — Даже много, — сухо ответил Арбен, которому не понравилось словечко «братец». Смертоносный братец — сомнительное приобретение. Но что делать, если без Альвы заманчивый проект Ньюмора неосуществим? — Слишком ограничить скорость Альвы тоже нельзя. Ведь то же самое ограничение автоматически накладывается и на тебя… Я позаботился и о другом, — продолжал Ньюмор. — Передвигаясь вдоль улиц, Альва будет делать ногами движения, имитирующие шаги, чтобы ничем не отличаться от прохожих. — А вдруг он подымется вверх? И будет перебирать ногами, летая над тротуаром, а то и над крышами? — Положительно, ты кладезь премудрости! — умилился Ньюмор. — На пятки Альвы я решил поставить магнитные присоски, чтобы не отрывался от грешной земли. У меня как раз есть новенькая пара, капитан Лерс подарил. Между прочим, экспериментальный образчик твоего распрекрасного Уэстерна. Довольно удачный. Выдерживают нагрузку в тонну, а весят меньше четверти унции. — Каждая? — Обе. Пальчики оближешь! В комнате воцарилась пауза. — Смотри на него, смотри как следует, — нарушил молчание Ньюмор. — Ты Альву больше не увидишь, а увидишь — пеняй на себя. Арбен, и без того не отрывавший взгляда от удивительного облачка, посмотрел на Ньюмора, но тот ничего не добавил. Они уходили, а человекоподобное полупрозрачное облачко так и не изменило своих очертаний. — Почему ты говоришь, что я больше не увижу Альву? — спросил Арбен, когда они снова очутились в лаборатории. — Еще целый месяц я должен, как ты выразился, обучать его. Правда, ты толком не объяснил, что это значит… — Может, лучше сказать, что ты толком не понял моих объяснений? — Пусть так, — согласился Арбен. — Но как могут учитель и ученик не видеть друг друга? — Для Альвы достаточно, чтобы ты находился в радиусе двадцати миль, то есть практически не выезжал в это время из города. Как только я включу приемник Альвы на резонанс с тобой, инженер Арбен превратится для него в мощную радиостанцию, вернее — в целую колонию радиостанций-клеток, каждая из которых орет во всю глотку на своей волне. Арбен посмотрел в зеркальную плоскость биостата, мимо которого они проходили. Из глубины на него глянуло широкоскулое, со срезанным подбородком лицо. Глаза недоуменно моргали. «Ничего себе колония радиостанций», — подумал Арбен, отворачиваясь от собственного отражения. — Твой братец будет свободно считывать на расстоянии информацию, записанную в недрах клеток, — сказал Ньюмор, закуривая новую сигарету. — А я? — Ты спокойно будешь заниматься своими делами. Я подчеркиваю — спокойно, так спокойно, как никогда до этого. Потому что сразу же, как включится Альва, ты почувствуешь себя так, словно сбросил с плеч тяжелый груз. Альва постепенно снимет с тебя, как я обещал, нервное напряжение. Видел в зеркале, на кого ты стал похож? — Но зачем тебе нужно было добиваться моего согласия? Ты прекрасно мог бы обойтись без него. — Ошибаешься, — возразил Ньюмор. — Мне крайне важно, чтобы ты внутренне не сопротивлялся — это может исказить процесс считывания информации. Они подошли к двери. — Я как бы раздваиваю твое существо, — сказал на прощание Ньюмор, стоя в двери. — Разделяю его на две части. Лучшую половину оставляю тебе. Худшую — проектирую на Альву. Он будет носителем твоей неуравновешенности, твоей вечной нервозности, вспышек непонятной злобы, — впрочем, пока что ты лучше знаешь себя, чем я, и без труда можешь пополнить мое перечисление. Все то, от чего ты жаждешь избавиться, перейдет к Альве. Зато ты станешь наслаждаться жизнью в полной мере. Ложась в постель, засыпать будешь мгновенно, и сон твой станет глубок, словно Марианская впадина. Взгляд твой — проводник и отражение цельной воли — приобретет гипнотические свойства. Люди будут подчиняться тебе и выполнять то, что ты им прикажешь. Но счастье достанется тебе недаром. Ты будешь благоденствовать, между тем Альва, твой слепок, глухой, слепой, лишенный обоняния, будет метаться по городу, ища тебя, своего антипода. К счастью, когда Альва окончательно сформируется и внешне станет точно таким, как ты, его защитное поле усилится — сделать это в моих возможностях. Потому радиосигналы, излучаемые тобой, едва смогут проникать внутрь, под магнитный панцирь. Живя спокойно, можешь ничего не бояться. Но стоит тебе нарушить жизненный ритм — разволноваться или чем-нибудь увлечься, — и интенсивность сигналов, излучаемых клетками, резко возрастет, и Альва сможет их улавливать. Тогда ему, сам понимаешь, легче будет тебя разыскать. — Уже поздно, — сказал Арбен, взявшись за ручку двери. — Еще одно. — Ньюмор задержал в крепкой ладони руку Арбена. — Не исключено, что когда Альва выйдет на волю и будет бродить по городу, он будет иногда встречаться твоим знакомым — чаще, чем другим: они также в какой-то мере будут служить приманкой для Альвы, так как каждый знакомый принимает и отражает твои биоволны, как луна отражает чужой свет. — Значит, и они… — Нет, — перебил Ньюмор, — для них встреча с Альвой совершенно неопасна: он будет настроен на одного тебя. Запомни это.
Поздним вечером Арбен покинул Ньюмора. Тротуар, омытый дождем, блестел, словно черное зеркало. Редкие прохожие проносились мимо, придерживаясь за мокрые перила бегущих лент. Фигуры, закутанные в плащи, при скудном уличном свете казались одинаковыми. Арбен не ступил на движущуюся ленту, — он решил до станции подземки пройтись пешком. Инженер шагал осторожно, будто нес полный сосуд, который боялся расплескать. Он знал, что Ньюмор включил дешифратор сразу же, как только Арбен покинул лабораторию, и теперь, в этот самый момент, его, Арбена, наследственная и прочная информация тонкой струйкой вливается в биопамять Альвы. Широко шагая, Арбен расправил плечи. Ему показалось, что он чувствует себя значительно лучше, чем все последние дни. — Похоже, я впрямь начинаю раздваиваться на два полюса: один — со знаком плюс, другой — со знаком минус, — пробормотал под нос Арбен. Даже то далекое воспоминание, которое никогда не отпускало его, — даже и оно, кажется, потускнело… С некоторых пор сотрудники не узнавали Арбена. Не то чтобы инженер изменился внешне: разве что походка стала тверже да сутуловатость исчезла. Разговаривая, Арбен почему-то старался смотреть в сторону, чего раньше не замечалось. Взгляд его стал тяжелым и «пронзительным», по определению мисс Шеллы. Однако история, рассказанная ею, особого успеха не имела. — Он вошел вчера в приемную шефа, — без устали рассказывала она всем желающим. — Было уже около часа, а шеф велел мне перестукать отчет четвертого отдела до перерыва. Входит Арбен. «Добрый день», — говорит. Отвечаю, а сама пальцы с клавиш не снимаю — пусть видит, мол, что я занята, и не отнимает время пустым разговором. Знаете, я ведь ненавижу комплименты. «Вы бы не могли бы сделать мне сейчас небольшое одолжение?» — говорит Арбен. «Не могла бы», — отвечаю. «Понимаете, нужно сходить в лабораторию низких температур, — продолжает он, будто не слышит моих слов. — Нужно взять у Алана Жантильи новый журнал, он получил сегодня бандероль с континента». «Вот и ступайте», — говорю. «Не могу, — отвечает. — Я с ним крепко повздорил как-то, с месяц назад, а теперь неловко». Тут я подняла голову, а он как посмотрит на меня… Словно кипятком ошпарил. Чувствую, поднимаюсь со стула — против своей воли. «А если Алан не даст журнал?» — спрашиваю, как дурочка. «Даст», — улыбается Арбен. Поворачиваюсь и иду в нулевку, будто кто меня тащит туда, — представляете? А он еще кричит мне вслед: «Журнал называется «Ядро и космос», не забудьте. Жду вас здесь через десять минут». И что вы думаете? Все произошло в точности так, как сказал Арбен. — Этой фразой, округляя красивые глаза, мисс Шелла заканчивала свой рассказ. Но большинство слушателей сбивчивое повествование мисс Шеллы воспринимало скептически. Физики, да и не только они, знали, что в лаборатории низких температур, проще сказать — в нулевке, с недавнего времени работает молодой программист Чарли Макгроун, которому мисс Шелла отдает явное предпочтение перед прочими. Так что таинственная магнетическая сила, заставившая ее отложить в сторону срочное задание шефа, могла быть объяснена довольно просто. Но при чем же здесь Арбен? Работа у Арбена спорилась. Он сумел — без чьей бы то ни было помощи — проделать тонкие расчеты, которые оказались не по зубам ионному «Универсалу», и слепить затем в своем отделе аналоговое устройство, которого заказчик — военное ведомство — тщетно дожидался больше года. О подвигах отдела Арбена прочувствованно говорил в субботу сам шеф. Старик Вильнертон настолько разошелся, что наградил Арбена премией, равной трехмесячному окладу. И никто не знал, что Арбена одолевают приступы страха, что он ведет жизнь затворника (впрочем, он и раньше не отличался общительным характером), а стены комнаты неизвестно зачем тщательно обклеил дешевым пластиком… В тот вечер, расставшись с Линдой после концерта электронного штурмана, Арбен пришел домой в смятенном состоянии духа. По всей вероятности, Линда не ошиблась. Ей повстречался Альва. Значит, Ньюмор завершил свой труд и выпустил Альву на волю. Что же дальше? Как избежать встречи со своим отрицательным полюсом? Отсиживаться в комнате? Обклеить ионизированным пластиком лаборатории отдела? А как объяснишь, в чем дело? Немало толков вызвал его отказ переехать на новую квартиру, приличествующую должности начальника отдела. «На старой безопаснее», — рассудил Арбен. На всякий случай Арбен, придя к себе после концерта, выключил видеофон и с тех пор не подходил к нему. Так спокойнее. А ведь именно спокойствие рекомендовал ему поддерживать Ньюмор… Спал теперь Арбен превосходно — не то что прежде. На улице старался показываться как можно реже, лишь в случаях крайней необходимости. До сих пор Альва его не беспокоил, если не считать той его встречи с Линдой. Нет, не такой представлял себе Арбен «жизнь без нервов», безмятежное будущее. Как-то он, занятый своими мыслями, машинально вставил штепсель видеофона. Экран, похожий на огромное око, внезапно засветился. Кто вызывает его? Через несколько мгновений из глубины всплыло взволнованное лицо Линды. — Арби, я звоню тебе каждый день. Никто не отвечает. Что случилось? — Занят, — неохотно ответил Арбен. Больше всего он теперь боялся возмутить собственное спокойствие, как возмущают зеркальную поверхность пруда, швыряя в него камень. — Ты не пришел на следующий день. — Не мог. — Заболел? Арбен покачал головой. — Мы так давно не виделись… В душе Арбена происходила борьба. В нем сражались два желания: одно — отказаться от всего, что может волновать, другое — забыть обо всем и снова жить, как раньше. В такие минуты ему казалось, что с того момента, как Альва вышел в город, прошло не семь дней, а бог знает сколько времени. И пусть он проживет еще долго — что толку в такой жизни? — Прости, Линди. Так получилось… — Ах, не в этом дело. Скажи, Арби: куда ты пошел, когда мы расстались после концерта? — Домой. — Ты уверен, Арби? Это очень важно. — Я пошел к подземке, сел в вагон и поехал к себе. — Ты болен, Арби. — Ну, вот еще. С чего ты вдруг? — изумился Арбен. — Ты серьезно болен. И сам того не знаешь. — Что же у меня, доктор Линди? — У тебя… Ты лунатик!.. — выпалила Линда. — Придумай что-нибудь получше. С тех пор как на Луне сняли карантин, лунатики на Земле вывелись. — Оставь шутки. — Линда приблизила к нему лицо — оно, увеличившись, заняло почти весь экран. Арбену бросились в глаза дрожащие ресницы, старательно наведенные тушью. — В тот вечер… Ты только думал, что уехал на подземке… А на самом деле… ты вошел в подъезд следом за мной… поднялся по лестнице… — А потом? — Ты ничего не соображал… Будто спал. Арбен понял. — Что же я сделал? — Вопрос прозвучал отрывисто и резко. — Я остановилась на ступеньке. Ты догнал меня. — Коснулся?.. — Ты не видел ничего вокруг, хотя глаза были раскрыты. Двигался прямо на меня. — Ну? — Я посторонилась — ты прошел мимо… — И поднялся к тебе? — Нет, — прошептала Линда. — Куда же… Куда я делся? — Не знаю. — Не заметила? — В этот момент я, наверно, потеряла сознание… На несколько мгновений. А когда очнулась — ты исчез. Словно сквозь стену прошел. Наверно, успел быстро спуститься по лестнице и выйти. — Чудный сон, — попытался улыбнуться Арбен. — Если бы сон!.. Сначала я решила, что ты меня разыгрываешь. Потом поняла — это болезнь. Ночь не спала… Звонила тебе — видеозор не отвечает… Назавтра ты не пришел… А навестить тебя, сам знаешь, немыслимо, если заранее не заказан пропуск. Легче попасть в рай, чем на территорию Уэстерна, — процитировала она пословицу. — Столько дней мы не виделись… Я экран связи чуть не сожгла, пока вот… И еще. Странная вещь. У тебя совсем притупился самоконтроль. Ты не видишь, что надеваешь. На концерт вырядился в магнитные башмаки, будто не на прогулку, а в межпланетный рейс собрался. Но самое смешное — я и сама не заметила сразу, а только потом, когда ты возвратился и догнал меня на лестнице. Гляжу — ты в ботинках невесомости. И вообще ты был такой странный… Собирайся, — заключила Линда. — Да побыстрее!.. — Куда? — Поедем к врачу. У меня есть знакомый, он живет близ Гавани… — Не надо, Линда. — Не отказывайся. Это необходимо! — Врач не нужен. — А вдруг это повторится? — Доктор не поможет. — Не будь тряпкой, — произнесла Линда. И это она говорит ему, человеку со стальными нервами! Арбен усмехнулся. — Давай встретимся и все обсудим, — предложила Линда. — На той неделе… — неуверенно начал Арбен. — Сейчас, сию минуту. Нам необходимо поговорить. — Мы говорим. — Видеозор не годится. Сам знаешь. Так что? — Еду, — неожиданно для себя ответил Арбен. Он пробежал длинный коридор, миновал проходную и выскочил на проспект, по которому сновали редкие ночные машины. — Наконец-то!.. — Голос Линды был тих и вздрагивал. Арбен почувствовал, как горячая волна ударила в сердце. — Удачно поймал попутную машину, — сказал он. — Измучилась я без тебя. — Пойдем сядем. — Почему оглядываешься? Здесь нет никого, кроме нас. Они медленно пошли к своей беседке, темневшей поодаль. — Давно ты здесь? — Минут двадцать. Продрогла. Он нежно обнял ее за плечи. — Арби… Когда я увидела тебя тогда, на лестнице… Мне стало так страшно, как никогда в жизни… Арбен думал, как сказать Линде то, что он решил. Сделать это необходимо, и чем раньше, тем лучше. Для этого он и приехал сюда — покончить все разом. — Линда… — Что, милый? — Мы не можем больше встречаться. Она остановилась, будто натолкнулась на невидимую преграду. Отстранилась от Арбена. — Понимаю. Значит, ты… — Ничего ты не понимаешь, Линди, — с отчаянием произнес Арбен и снова оглянулся. Глухой уголок парка, и в более раннюю пору малолюдный, был сейчас пустынен. Арбену почудилось — впереди что-то забелело. Бежать? Поздно, Альва догонит: мышцы Арбена скованы страхом. Нет, это береза, ствол белеет в темноте. Арбен перевел дух. Он взял девушку за руку. Линда безвольно пошла за ним. Узкий серп луны слабо светился. Арбен ступил в кружевную тень, отбрасываемую резной стеной беседки. Пластиковая скамья была холодной и влажной от ночной росы. — Перестань говорить загадками. — Голос Линды звучал устало. — У меня хватит мужества. — Она подняла на него глаза. — Ну, скажи. Другая? — Ты у меня одна, — покачал головой Арбен. — Правда? — вырвалось у Линды. Однако Арбен в эту минуту не походил на человека, говорящего ложь. — Это правда, — горячо повторила Линда. — Так почему ты сказал, что мы должны расстаться? Из-за того, что ты болен? Да? Арбен не ответил. Линда, истолковавшая его молчание как подтверждение своей догадки, продолжала: — Глупый. Я ведь давно заметила это, больше месяца назад. Но не могла сразу понять, в чем дело. Сначала относила все за счет твоих странностей, затем решила, что ты вздумал подшутить надо мной. Только после того вечера, после концерта… Тогда мне стало ясно, что ты серьезно болен, но не знаешь об этом. — Девушка подставила ладонь под лунный луч, будто хотела поймать его. — Ничего, мы что-нибудь придумаем, Арби. Выглядишь ты неплохо. Даже поздоровел. Нет, Арби, нет! — вдруг вскрикнула она. — О чем ты? — не понял Арбен. — Перестань оглядываться! Арбен собрался что-то сказать, но Линда опередила его: — Переломи себя. Просто заставь не оборачиваться. Начни с малого. Нервы надо держать в кулаке, — добавила она с важным видом. — Ты вылечишься, я верю, и все будет хорошо. Сейчас отлично лечат любые нервные заболевания. Мне говорил один физик, который увлекся биологией… — Кто же это? Ньюмор? — Ньюмор, — поколебавшись, ответила Линда. — Он рассказал мне потрясающую вещь. Жаль, я не все поняла. В общем, он говорит, что изобрел, или почти изобрел, такую штуку, которая может впитывать нервные недуги, как губка. — Вот как? — выдавил изумленный Арбен. — А что еще говорил Ньюмор? — Только ты не проговорись ему, — спохватилась Линда. — Ньюм просил никому… Кажется, он здорово хватил лишнего и нес бог знает что, всякую ерунду. Но о тебе он самого высокого мнения… Так не скажешь? — Не скажу, — заверил Арбен. — Фантазии Ньюмора может позавидовать Гофман. Например, Ньюм уверял меня, что по мере того, как эта губка перекачивает в себя болезни какого-нибудь человека, она начинает все больше на него походить, так что в конце концов их вообще не отличишь друг от друга. По-моему, чепуха, правда? — Возможно, — промямлил Арбен. — И что же дальше, с этой губкой? — Она начинает жить своей жизнью — как бы отражением жизни хозяина, того, на кого она стала похожей. Так и существует этот призрак. Он вечно стремится разыскать свою половину, чтобы слиться с ней. Но человек должен избегать встречи. — Избегать? — Ну да, если они встретятся, будет плохо. Я не совсем поняла, потому что Ньюм к этому времени еле ворочал языком, — никогда до этого не видела его таким пьяным. Как он назвал эту штуку, которая произойдет при встрече… — Аннигиляция? — подсказал Арбен. — Вот-вот, — обрадовалась Линда. — Забавно. И что, он уже проделывал подобные опыты? — Нет. — Почему? — Говорил, нет желающих. Но сказал: не верю, чтобы в наш век таких не нашлось. Мне предлагал. — Линда засмеялась. — Хотя и не был уверен, что я подойду для этого эксперимента. — А ты? — Отказалась, конечно. Из-за дурацких затей рисковать жизнью? Очень нужно! — Из-за дурацких затей… — медленно повторил Арбен. — А если у человека нет другого выхода? Если он готов на что угодно, только чтобы избавиться от гнета воспоминаний… — Даже с риском для жизни? — Даже с риском для жизни! — Странно ты говоришь… — заметила Линда, видимо удивленная горячностью Арбена. — А может, Ньюмору и удастся чего-нибудь достичь. Кажется, он собирался для начала проделать свой опыт на собаке. Они помолчали. — Похоже, ты всерьез поверил в выдумку Ньюмора? — нарушила Линда паузу. — А почему бы нет? — От воспоминаний, от забот не убежишь, я знаю, — задумчиво произнесла Линда. — А наши заботы — это наши болезни. Разве можно убежать от себя?.. Когда они вышли из беседки, узкий серп луны миновал зенит и приметно склонялся к горизонту. — Дай слово, что будешь лечиться, — потребовала Линда. Арбен молча кивнул. На душе его было неспокойно. Только усилием воли он заставлял себя не оглядываться. Наверно, не следовало приезжать сюда. Несмотря на крепкие нервы, он все-таки вышел из равновесия, и, возможно, Альва — комок его прежних забот, радостей, огорчений — уже бродит где-то поблизости. Но что сделано — то сделано. Честно говоря, Арбен не думал, что отказаться от Линды будет так тяжело. Привычка оказалась более сильной, чем ему казалось. И все-таки надо разорвать и эту, последнюю привязанность, чтобы выполнить условия, поставленные Ньюмором. А Ньюмор-то — болтун! Вот уж не думал. Но что, собственно, стряслось? То, что он рассказал о своем проекте Линде, ничего, в сущности, не меняет. Рано или поздно бесплотный Альва станет секретом полишинеля. Ньюмор возьмет патент на свое изобретение, разбогатеет. От богатых клиентов не будет отбоя — простому человеку такая штука не по карману. За рекламой Ньюмор не постоит — парень хваткий. И неплохой, в общем-то, — с инженера он не взял ни одного жетона. Но почему у Ньюмора так бегали глаза, когда он уговаривал Арбена согласиться на опыт? Уж не играет ли он, Арбен, роль подопытного кролика?! Нет, это немыслимо. Ньюмор друг, друзья так не поступают. Запоздалой парочке повезло — когда они вышли из парка, мимо входа медленно катила свободная машина. Город спал нервно, неспокойно. Некоторые окна светились. Наверное, за ними были люди, чрезмерно обремененные заботами. Арбен откинулся на мягкую спинку с чувством превосходства. Нет, он не такой, как все. Пусть Арбен опасается встречи с Альвой — зато больше ему не о чем беспокоиться. Разве это не то, о чем мечтает каждый?.. — Боже, как поздно! — озабоченно пробормотала Линда, когда автоводитель притормозил машину у ее дома. Арбен расплатился, она выскочила, торопливо произнесла «до завтра» и нырнула в подъезд. В тот же самый момент Арбен заметил мужскую фигуру — она показалась из-за угла. Поздний прохожий деловито шел. Голова его была опущена, а шаги — совершенно беззвучны. Когда он ступил в желтый круг, отбрасываемый фонарем, Арбен узнал себя — узнал Альву. «Счастье, что Линда вошла уже в дом» — такова была первая мысль, мелькнувшая у Арбена. Но он тут же сообразил, что камень стен и дубовые двери — не преграда для Альвы. В странном оцепенении, сковавшем тело, Арбен готовился к худшему. Однако Альва не глядел в сторону машины. Он направлялся к дому, в котором минуту назад скрылась Линда. «Стой!» — мысленно крикнул Арбен. Альва уменьшил скорость — шаги его замедлились, и у самого подъезда он остановился, как бы повинуясь приказу. Затем медленно, словно во сне, повернулся к машине. Лицо его просветлело, на миг попав в освещенную полосу. Альву от Арбена отделяло несколько десятков шагов. — Поехали, — очнувшись, приказал Арбен. Но машина оставалась неподвижной. Между тем Альва приближался, с каждым шагом наращивая скорость. — Скорей! — выкрикнул Арбен и ударил кулаком по пульту. Автоводитель — плоский ящик, изукрашенный сигнальными лампочками, — был невозмутим. Еще два — три хороших прыжка… Выпрыгнуть? Он с силой ударился плечом в дверцу, боль на миг отрезвила Арбена. Ну конечно!.. Как это у него выскочило из головы? Задаток! Арбен выхватил из кармана горсть жетонов и, не считая, протолкнул их в жадную щель. Реле щелкнуло, и на панели вспыхнул глазок, означающий готовность. — Полный вперед! — выдохнул Арбен. Его вдавило в сиденье. Машина пулей проскочила старую улицу, чудом минуя углы допотопных чудищ-домов, и вылетела на проспект. Пунктирные огоньки вдоль шоссе убегали вдаль, теряясь в ночи. Арбен успел еще заметить, как Альва попытался бежать следом за машиной, но лишь медленно поплыл в воздухе, между тем как ноги его быстро задергались, словно у паяца, едва касаясь мостовой. «Ограничитель скорости, — понял Арбен. — Он не может превысить три мили в час». Дергающаяся фигура исчезла за поворотом. «Почему он преследует Линду? Вреда причинить он ей не может… Но ведь ищет-то он меня, и только меня, черт возьми! В чем же дело?» Бешеная езда немного успокоила Арбена, «Счастье, что Ньюмор поставил ограничитель. И счастье, что я оказался в машине», — подумал Арбен.
С некоторых пор Арбен почти перестал ходить пешком, хотя когда-то был ревностным сторонником этого странного нынче способа передвижения. Даже сто ярдов он предпочитал не пройти, а проехать. Теперь к его услугам был тупорылый «безан» последнего выпуска, недавно приобретенный. Его сослуживцы терялись в догадках, обсуждая его быстрое возвышение. Они старались избегать странного взгляда старшего инженера. Ходили слухи, что тот, кто встретится с ним взглядом, выполнит любой приказ Арбена. Поскольку объяснить этот факт было невозможно, оставалось только строить разные предположения или скептически пожимать плечами. Тем не менее и скептики вели себя с новым начальником сектора осторожно: уже одно его феерическое продвижение по службе что-нибудь да значило! Еще не разбогатев, но обзаведясь достаточным количеством жетонов, Арбен первым делом заказал себе машину. Модель, сделанная по его собственному чертежу, имела странный вид: вся она состояла из прямых углов и ровных, словно зеркало, плоскостей. Никакого намека на плавность, на обтекаемые, закругленные линии, характерные для новейшей автомобильной моды. Ее кузов представлял собой геометрически правильный параллелепипед. Работники автомобильной фирмы были заинтригованы столь необычным заказом, но, естественно, любопытство свое не проявляли: давно известно, желание клиента — закон. Тем более клиента, который на свои прихоти (а что это, как не прихоть?) не жалеет жетонов. Заказ был выполнен быстро, оставалось уточнить кое-какие детали. Арбен осматривал кубическую кабину машины, проверял, не искривлены ли плоскости, удовлетворенно хмыкал. — Какую желаете обивку на сиденья? — спросил у него техник по дизайну. — Все равно. — Сейчас в моде темно-вишневая… — Прекрасно. — Что касается внутренней поверхности кабины… — продолжал техник. — Кабиной я займусь сам, — живо перебил Арбен. Разговоры сослуживцев об Арбене и его карьере были лишены, как ни странно, оттенка зависти. «А ведь он, в сущности, неплохой парень» — так говорили теперь о нем те, кто какой-нибудь месяц назад терпеть его не мог. Если Арбен раньше отличался крайней вспыльчивостью и вздорностью характера, то теперь он был покладист и добр, и это отмечали — редкий случай! — все без исключения. Как-то незаметно к Арбену, бывшему раньше чуть ли не отщепенцем, люди стали обращаться со всевозможными просьбами, часто не связанными ни с проблемами, волнующими отдел, ни вообще с Уэстерном. Внешне это был тот же Арбен, разве что посвежевший и поздоровевший с виду, но как будто кто-то наделил его новой душой, щедрой и отзывчивой. Итак, инженер Арбен предстал перед всеми, с кем общался, в новом свете. Но и сам он все увидел по-новому. Мисс Шелла, к которой он раньше относился с неприязнью (надо сказать, это чувство было взаимным), казалась теперь Арбену совсем иной. Что общего было у той злюки с этой уже начавшей блекнуть женщиной? Трагическая складка, едва обозначенная в уголках ее губ, говорила Арбену куда больше, чем ее крикливая и в чем-то жалкая красота. И каждый человек, с его мелкими горестями и радостями, стал кровно близок и дорог Арбену. Он готов был помочь — и помогал любому, кто в этом нуждался. И удивительная вещь! Шеф, который терпеть не мог, как он неоднократно говорил, слюнтяев, испытывал, подобно другим, необъяснимую симпатию к преображенному Арбену. Сам шеф — олицетворение железной воли и удачи, которые позволили ему из рассыльных стать миллионером. Но сейчас Арбен видел шефа совсем другим. Какой же это счастливчик, избранник судьбы? В сущности, это несчастный старик, подавленный огромной ответственностью. Ежесекундно дрожать за свою шкуру — какое уж тут счастье? За начальственными окриками — Арбен это ясно видел — скрывается панический страх: один неверный ход — и дивиденды компании вылетят в трубу, и тогда подлинные, хотя и неизвестные простым смертным хозяева Уэстерна, а также конкуренты сожрут старика Вильнертона, как раненого волка его сотоварищи. Грозный олимпиец-шеф теперь стал ему так же близок и понятен, как и престарелый Дон Флеш, отставной космонавт, единственный из сотрудников охраны, которого невесть за какие заслуги перед компанией все еще не заменили стандартным роботом с фотоэлементом. Как-то Арбен столкнулся с лаборантом Грино. — Вы-то мне и нужны! — обрадовался Арбен. — Нужно подежурить ночь у нового прибора… Юноша сделал непроизвольный жест. — Не бойтесь, — улыбнулся Арбен, неправильно истолковавший его движение. — Я в вашем возрасте тоже мало что смыслил… Но тут не потребуется особой квалификации. Я все сейчас объясню. Да что с вами? — Я… не смогу остаться сегодня, — в отчаянии выпалил Грино. И тут же припомнил отрывок из устава Уэстерна, с которым его ознакомили во время долгой и унизительной процедуры оформления на секретную службу: «Неподчинение старшему по работе влечет за собой…» — А что случилось? — Семейные обстоятельства… Я говорил вам… Арбен нахмурился. Тень воспоминания пробежала по его лицу. Он явно силился припомнить что-то, но не мог. — Хорошо, Грино. Ступайте домой, — сказал он наконец. — И… когда прийти? — Когда сможете. — За расчетом? Арбен пожал плечами: — Я не собираюсь вас увольнять. — А кто же будет ночью дежурить? — Я, — сказал Арбен. Отчего не подежурить ночь, не тряхнуть стариной? А этому мальчишке, по всему видно, несладко приходится… То, что раньше Арбену казалось невозможным, теперь стало естественным. Теперь математический расчет Арбена был безошибочен, а его хладнокровие и смекалка стали нарицательными. Так что были, наверно, причины, по которым шеф проникся к нему безграничным доверием. Злые языки поговаривали, что тут не обошлось без гипноза, но мало ли у каждого из нас недоброжелателей? Некоторые, впрочем, всерьез верили в таинственную силу, излучаемую Арбеном. Мисс Шелла — та вообще закрывала ладонью глаза и отворачивалась, завидев Арбена. Правда, делала она это всякий раз с шутливой улыбкой. Арбен чувствовал себя сверхчеловеком и не уставал тешиться новой ролью. За что он ни брался — все удавалось. Приступая к тончайшему эксперименту, он сразу видел суть, схватывал главное, оставляя подчиненным второстепенные детали. Он шутя стал чемпионом Уэстерна по плаванию, ранее равнодушный к воде, а к спорту вообще относившийся с отвращением. Причем новый спортивный титул он получил без всяких тренировок. Просто зашел однажды в купол, где помещался спортивный комплекс. На водяных дорожках как раз проходили соревнования, и Арбен вдруг решил посостязаться. Шеф прощал своему новому любимцу любые причуды — например, то, что тот обклеил все стены в отделе бесцветным пластиком. Видеофон в своей комнате он снова отключил, и отчаянные звонки Линды его больше не беспокоили.
— Вот так встреча! — удивился Ньюмор. Удивился искренне: он не хотел этой встречи и сделал все, чтобы избежать ее. — Да, действительно, — криво улыбнулся Арбен, пожимая холодную руку. Он четыре часа прождал за углом дома, который называли мозговым центром республики. Сидеть в машине было не очень-то весело. Испортилось отопление, и он окоченел, а выйти не решался:Альва стал в последнее время дьявольски чуток. Кабина была обклеена пластиком, и здесь Арбен чувствовал себя в безопасности. Если бы можно было и костюм сделать из пластика!.. О том, что Ньюм бывает в этом доме, Арбен узнал случайно: шеф накануне вскользь упомянул, что физик Ньюмор стал вхож в высшие сферы, поскольку там заинтересовались каким-то его новым изобретением. Арбен давно уже хотел встретиться с Ньюмором, но последний был неуловим. Словно стена окружала знаменитого физика. Никто из тех, к кому обращался Арбен, не знал его нового местожительства. Что подумали бы коллеги, увидев самоуверенного Арбена, смиренно прячущего нос в воротник? Сидя в машине, Арбен время от времени оглядывался. Пока Альвы не было. Погруженный в свои мысли, Арбен едва не пропустил Ньюмора: его каплевидный «молек» на воздушной подушке плавно подплыл вплотную к входу. Только когда черная торпеда зашипела и плавно опустилась на асфальт, Арбен спохватился. Он выскочил из своей машины, в три прыжка покрыл расстояние и показался из-за колонны в тот самый момент, когда Ньюмор уже открывал бронированную дверь. По выражению лица своего клиента Ньюмор понял, что от разговора ему не уйти. Все же он сделал попытку: — У меня важное дело. Может быть, договоримся о встрече в более подходящее время? — Неизвестно, когда наступит такое время. Я больше ждать не могу. А тебя разыскать невозможно. — Ладно, — решился Ньюмор. — У меня есть несколько минут. — Он озабоченно глянул на часы. — Только здесь, пожалуй, неудобно… Арбен стоял рядом, казалось, готовый вцепиться в Ньюмора, если тот вздумает улизнуть. — Здесь через два дома есть неплохой ресторанчик… — сказал физик и взял Арбена под руку. Арбен спешил, стараясь побыстрее пройти открытое место. — Как ты разыскал меня? — спросил Ньюмор, когда они сели за столик. — Проезжал мимо, — небрежно бросил Арбен. — Вижу — знакомое лицо. Ньюмор покосился на его лицо, посиневшее от мороза, и ничего не сказал. — Как ведет себя Альва? — спросил Ньюмор. — Надеюсь, не очень беспокоит? — Поэтому я и искал тебя, — не совсем последовательно ответил Арбен. — Помнишь, о чем мы договорились? Эксперимент продлится год, больше — можно, но никак не меньше. А прошло только два месяца. — Сегодня шестьдесят четвертый день. — Это не меняет дела. Пойми, я вложил в эту штуку все свое состояние. Если прервать опыт — все погибло. А чем тебе плохо? Ты стал сверхчеловеком и не выложил за это ни одного жетона. — Альва ведет себя странно. Кстати, ты можешь объяснить мне, почему он сначала оказывал больше внимания Линде, чем мне — своей биологической половине? — Как это? — спросил заинтересованный Ньюмор, ставя на место недопитый стакан. Арбен рассказал. Ньюмор живо расспрашивал о подробностях, затем задумался. — Неужели Альва развивается не так, как я предполагал? — сказал он как бы про себя. — Нет. Дело в другом. — Он хлопнул по столу так, что бутылка подпрыгнула. — Понимаешь, она слишком много о тебе думает. Больше, чем ты сам о себе. Встревоженный Арбен смотрел на его помрачневшее лицо. — Линда ничего тебе не говорила? — неожиданно спросил Ньюмор, откинувшись на спинку стула. — О чем? — Обо мне, об Альве. — Мы не видимся. — А раньше? — Разве Линда в курсе?.. — Спрашиваю я, а не ты! — резко бросил Ньюмор. — Никогда мы об этом не говорили, — сказал Арбен, но голос его звучал неуверенно. — Ладно, — сказал Ньюмор. Казалось, он принял какое-то решение. — Чего ты хочешь от меня? — Ньюм, верни все, как было. Ньюмор хранил каменное молчание. — Я согласен: пусть вернутся мои прежние недостатки, — попробовал пошутить Арбен. — Как ты это представляешь? — ледяным тоном спросил Ньюмор. — Убей его. — Рассуждаешь, как младенец, — пожал плечами Ньюмор. — Я же объяснял тебе, когда подписывали контракт, что уничтожить Альву, после того как вы стали двойниками, — все равно что уничтожить половину тебя самого, сжечь половину каждой твоей клетки. Арбен опустил голову. — Проявляй элементарную осторожность, и все будет в порядке, — продолжал Ньюмор. — Альва преследует меня. Так жить немыслимо. — Не надо было соглашаться. — Я не думал, что так будет. И потом, ты говорил совсем другое… Ньюмор глянул на часы. — Ньюм, перепиши с него обратно на меня всю информации, — быстро заговорил Арбен. — Я заплачу тебе неустойку. Любую сумму… Всю жизнь буду работать на тебя. — Альва погибнет, — покачал головой физик. — Сделаешь другого. — Второго Альву мне не создать. — Значит, не хочешь? — Не могу. — Ньюмор приготовился встать. — Ах, так! — Арбен побагровел. — Знай же, негодяй, я выведу тебя на чистую воду. Подопытный кролик дорого тебе обойдется. Во всяком случае, дороже собаки. — Успокойся, — прошипел Ньюмор. Соседи начали обращать на них внимание. — Хватит! Ты меня достаточно успокоил. Разве я могу волноваться? Ты же сделал мои нервы железными. — Не будь идиотом. Накличешь Альву — пеняй на себя. — Ньюм… В память нашей дружбы… Почему ты решил воздвигнуть свой дворец именно на моих костях?
 — Ты не в своем уме. Поговорим, когда придешь в себя, — сказал Ньюмор и поднялся.
Арбен молниеносным движением опрокинул столик и вцепился ему в горло. Звон разбитого стекла смешался с криками посетителей. Официант с застывшей улыбкой мчался к ним через весь зал. Ньюмору с трудом удалось отодрать пальцы с горла, но долго состязаться с Арбеном в силе и ловкости он был не в состоянии, хотя считал себя неплохим самбистом. Через секунду Арбен подмял его под себя, пригвоздив коленом к полу.
— Согласен? — спокойно спросил он, не обращая внимания на крики людей, столпившихся вокруг.
— Пусти, — прохрипел Ньюмор.
— Я задушу тебя, как котенка. Силы, спасибо, у меня хватит.
— Где же полиция? — истерически выкрикнул женский голос — Он убьет его. Помогите же, мужчины!
Но никто не решался вступиться за поверженного Ньюмора. Каждый поглядывал с опаской на атлетическую фигуру Арбена. Казалось, она излучала силу, внушавшую страх. А может, это подействовал взгляд Арбена, которым он медленно обвел зрителей? Передние попятились назад, наступая на ноги тем, кто стоял сзади.
Сразу, словно по команде, толпа начала редеть. Люди торопливо расходились по своим местам, стараясь не смотреть друг на друга.
— Видишь? Кое-чем я тебе все-таки обязан. Ну?.. — Арбен снова протянул руку к горлу противника. — Я дал тебе достаточно времени подумать.
— Хорошо, — неожиданно сказал Ньюмор. — Черт с тобой. Возвратим тебя в прежнее состояние. Альву придется угробить.
— Гарантия? — коротко сказал Арбен. Он взглянул на мужчину, который только что вошел в зал и подошел поближе, заинтересованный скандалом. Глаза их встретились, и человек, охнув, попятился назад, опрокидывая стулья.
— Мое честное слово.
— Не пойдет.
— Пусти меня, и поговорим по-человечески, — взмолился Ньюмор. — Все равно я в твоих руках.
Арбен расплатился с перепуганным официантом, и они вышли. Ньюмор слегка прихрамывал.
— Вот сюда, — указал Арбен на уголок за пыльной пальмой.
— Можно завтра же начать, — сказал Ньюмор, не глядя на собеседника.
— Вот это разговор.
— У тебя машина обклеена пластиком?
— Конечно. Я бы и одежду сделал из пластика, если бы это было можно. Тогда бы и вашу милость не пришлось беспокоить.
— Гм, это называется беспокоить, — задумчиво произнес Ньюмор, касаясь пальцем здоровенного синяка на горле.
— Не придирайся к мелочам. Ты сам виноват, что заставил меня принять крайние меры.
— Лучше всего будет, если ты приедешь завтра прямо ко мне.
— К тебе, голубчик, не проникнешь.
— Я дам пропуск.
Ньюмор полез в карман, вынул узкий блокнот и, набросав несколько слов, вырвал листок и протянул его Арбену. Тот внимательно прочел текст и удовлетворенно кивнул. В углу листка красовался вензель, который — Арбен знал это — раскрывает почти любые двери.
— Сегодня ничего не пей, — сказал Ньюмор, глядя, как Арбен складывает бумажку. — И завтра с утра тоже.
— Даже воды?
— Я имею в виду виски, — пояснил Ньюмор.
— Два месяца уже не пробовал. И запах забыл.
— А раньше, до Альвы, ты, помню, увлекался.
— Потребность исчезла. Желаний никаких нет, все делаю лишь усилием воли. Вообще живу растительной жизнью, как эта вот пальма. — Он похлопал ладонью по шершавому стволу.
— Зато стал силен, как буйвол.
— Что толку? Я хочу жить, как все, радоваться и печалиться со всеми. А у меня ощущение рыбы в аквариуме, диковинной рыбы, которую от нечего делать рассматривают любопытные. Временами мне кажется, что и кровь у меня стала холодной, как у рыбы. Счастье, что этот кошмар наконец рассеется! Знаешь, — доверительно улыбнулся Арбен, — у меня за это время столько дел накопилось, и все неотложные… Линду не видел целую вечность…
— Ничего, теперь увидишь, — сказал Ньюмор, непонятно глядя на Арбена.
— Забудем прошлое, Ньюм, — сказал Арбен. — Ты мог увлечься, я понимаю и не виню. Я сам, когда ставлю эксперимент, забываю все на свете… И готов не щадить ни себя, ни других. А что касается убытка… Знай: все, что у меня есть, — твое.
— Я ничуть не увлекся. — Ньюмор глядел в одну точку. — Только по твоей вине срывается опыт.
— Опыт… — повторил Арбен. — Я знаю кое-что об этом опыте.
— Я и не скрывал от тебя. Раскрыл карты с самого начала. Ты мог тогда отказаться.
— Не все карты, Ньюмор, ты раскрыл, — покачал головой Арбен. — Линде ты рассказал немного больше, чем мне.
По тому, как окаменело лицо Ньюмора, Арбен понял, что сказал лишнее.
— Надеюсь, теперь я свободен? — сказал Ньюмор и отвел в сторону широкий лист пальмы.
— До завтра, — посторонился Арбен. — Стоп, а ты не удерешь? Куда-нибудь на континент, с попутным ветром?
— Не уеду, не бойся, — сказал Ньюмор, и Арбен понял, что он не лжет.
— Ты не в своем уме. Поговорим, когда придешь в себя, — сказал Ньюмор и поднялся.
Арбен молниеносным движением опрокинул столик и вцепился ему в горло. Звон разбитого стекла смешался с криками посетителей. Официант с застывшей улыбкой мчался к ним через весь зал. Ньюмору с трудом удалось отодрать пальцы с горла, но долго состязаться с Арбеном в силе и ловкости он был не в состоянии, хотя считал себя неплохим самбистом. Через секунду Арбен подмял его под себя, пригвоздив коленом к полу.
— Согласен? — спокойно спросил он, не обращая внимания на крики людей, столпившихся вокруг.
— Пусти, — прохрипел Ньюмор.
— Я задушу тебя, как котенка. Силы, спасибо, у меня хватит.
— Где же полиция? — истерически выкрикнул женский голос — Он убьет его. Помогите же, мужчины!
Но никто не решался вступиться за поверженного Ньюмора. Каждый поглядывал с опаской на атлетическую фигуру Арбена. Казалось, она излучала силу, внушавшую страх. А может, это подействовал взгляд Арбена, которым он медленно обвел зрителей? Передние попятились назад, наступая на ноги тем, кто стоял сзади.
Сразу, словно по команде, толпа начала редеть. Люди торопливо расходились по своим местам, стараясь не смотреть друг на друга.
— Видишь? Кое-чем я тебе все-таки обязан. Ну?.. — Арбен снова протянул руку к горлу противника. — Я дал тебе достаточно времени подумать.
— Хорошо, — неожиданно сказал Ньюмор. — Черт с тобой. Возвратим тебя в прежнее состояние. Альву придется угробить.
— Гарантия? — коротко сказал Арбен. Он взглянул на мужчину, который только что вошел в зал и подошел поближе, заинтересованный скандалом. Глаза их встретились, и человек, охнув, попятился назад, опрокидывая стулья.
— Мое честное слово.
— Не пойдет.
— Пусти меня, и поговорим по-человечески, — взмолился Ньюмор. — Все равно я в твоих руках.
Арбен расплатился с перепуганным официантом, и они вышли. Ньюмор слегка прихрамывал.
— Вот сюда, — указал Арбен на уголок за пыльной пальмой.
— Можно завтра же начать, — сказал Ньюмор, не глядя на собеседника.
— Вот это разговор.
— У тебя машина обклеена пластиком?
— Конечно. Я бы и одежду сделал из пластика, если бы это было можно. Тогда бы и вашу милость не пришлось беспокоить.
— Гм, это называется беспокоить, — задумчиво произнес Ньюмор, касаясь пальцем здоровенного синяка на горле.
— Не придирайся к мелочам. Ты сам виноват, что заставил меня принять крайние меры.
— Лучше всего будет, если ты приедешь завтра прямо ко мне.
— К тебе, голубчик, не проникнешь.
— Я дам пропуск.
Ньюмор полез в карман, вынул узкий блокнот и, набросав несколько слов, вырвал листок и протянул его Арбену. Тот внимательно прочел текст и удовлетворенно кивнул. В углу листка красовался вензель, который — Арбен знал это — раскрывает почти любые двери.
— Сегодня ничего не пей, — сказал Ньюмор, глядя, как Арбен складывает бумажку. — И завтра с утра тоже.
— Даже воды?
— Я имею в виду виски, — пояснил Ньюмор.
— Два месяца уже не пробовал. И запах забыл.
— А раньше, до Альвы, ты, помню, увлекался.
— Потребность исчезла. Желаний никаких нет, все делаю лишь усилием воли. Вообще живу растительной жизнью, как эта вот пальма. — Он похлопал ладонью по шершавому стволу.
— Зато стал силен, как буйвол.
— Что толку? Я хочу жить, как все, радоваться и печалиться со всеми. А у меня ощущение рыбы в аквариуме, диковинной рыбы, которую от нечего делать рассматривают любопытные. Временами мне кажется, что и кровь у меня стала холодной, как у рыбы. Счастье, что этот кошмар наконец рассеется! Знаешь, — доверительно улыбнулся Арбен, — у меня за это время столько дел накопилось, и все неотложные… Линду не видел целую вечность…
— Ничего, теперь увидишь, — сказал Ньюмор, непонятно глядя на Арбена.
— Забудем прошлое, Ньюм, — сказал Арбен. — Ты мог увлечься, я понимаю и не виню. Я сам, когда ставлю эксперимент, забываю все на свете… И готов не щадить ни себя, ни других. А что касается убытка… Знай: все, что у меня есть, — твое.
— Я ничуть не увлекся. — Ньюмор глядел в одну точку. — Только по твоей вине срывается опыт.
— Опыт… — повторил Арбен. — Я знаю кое-что об этом опыте.
— Я и не скрывал от тебя. Раскрыл карты с самого начала. Ты мог тогда отказаться.
— Не все карты, Ньюмор, ты раскрыл, — покачал головой Арбен. — Линде ты рассказал немного больше, чем мне.
По тому, как окаменело лицо Ньюмора, Арбен понял, что сказал лишнее.
— Надеюсь, теперь я свободен? — сказал Ньюмор и отвел в сторону широкий лист пальмы.
— До завтра, — посторонился Арбен. — Стоп, а ты не удерешь? Куда-нибудь на континент, с попутным ветром?
— Не уеду, не бойся, — сказал Ньюмор, и Арбен понял, что он не лжет.
Арбен вышел счастливый. До машины дошагал, ни разу не оглянувшись. С трудом сдерживал себя, чтобы не замедлить шаг, испытать судьбу. Машина резво взяла с места. Арбен отключил автоводитель и сам сел за руль. Хотелось действовать, дать выход бурлящей энергии. С завтрашнего утра начнет редеть пелена, отделяющая его от остальных людей. Занятый мыслями, Арбен вел автомобиль машинально, мало что видя. Впрочем, уличными жертвами это не грозило. Роль Арбена как водителя сводилась, пожалуй, только к вращению наполовину бутафорского штурвала. Это лишь считалось, что человек, да еще в городской черте, может самостоятельно вести машину. Так было когда-то. А теперь машину в любом случае вели приборы. Локатор нащупывал дорогу, выяснял, нет ли на дороге препятствий и не могут ли они появиться — будь то машина, выезжающая из переулка, или кошка, перебегающая улицу. Правда, Арбен отключил автоводитель, но это значило не много. Автоводителю задавалась конечная точка маршрута, место, куда желает попасть хозяин. Сев за руль, Арбен мог по собственному произволу выбирать улицу — но и только. Скорость машины, линия движения — все устанавливалось электронной аппаратурой. Этим достигалась безопасность уличного движения. Арбен не смог бы при всем желании задавить даже бродячую собаку: любое движущееся существо объезжалось, а если объект был неподвижен и преграждал путь — срабатывала тормозная система, и машина останавливалась. Хозяин мог тысячу раз спешить — это его дело. Он мог опаздывать на важное свидание — это опять-таки его дело. А дело инфраглаза было — предотвратить малейшую вероятность катастрофы. Улица сменяла улицу, новые здания-купола, будто парящие в невесомости, перемежались старыми каменными коробками-Арбен не замечал ничего. Он все еще был полон недавним разговором с Ньюмором. Победа досталась с трудом. Конечно, и Ньюмору не сладко — расстаться с Альвой, в которого он столько всего вложил. Когда Арбен заберет у него обратно свою информацию, Альва погибнет, это неизбежно. Жаль Ньюмора. Но, с другой стороны, почему Арбен должен рисковать жизнью? Ньюм во многом обманул его. Так друзья не поступают. Пусть теперь и расплачивается. Не доезжая нескольких шагов до универсального магазина «Все для всех», Арбен притормозил, подкатил к тротуару. Близился к концу рабочий день, и прохожих было много. Выйти из машины Арбен не решался: в толпе Альве легче затеряться — его можно не заметить до самого последнего момента. Другое дело, когда вокруг безлюдно — тогда опасность меньше. К Арбену снова вернулись прежние страхи. В каждом прохожем ему чудился Альва. Глупо погибнуть именно сейчас, накануне освобождения. Всего несколько шагов нужно сделать, но каждый может оказаться последним. Он всматривался в лица людей, идущих по тротуару. Вот торопится мужчина средних лет. Он обременен свертками, не говоря уже о чудовищно разбухшем портфеле. В глазах застыло выражение терпеливой скорби, верно, замучили заботы. Спроси его — наверное, ответит, что он самый несчастный на свете. И не знает, что человек, сидящий в этой роскошной машине, охотно поменялся бы с ним… Да, да, этот самый преуспевающий счастливчик с ровным румянцем во всю щеку. Десяток шагов — словно доска, переброшенная через пропасть. Внезапно Арбен заметил знакомое лицо. Вообще память у него уже два месяца была абсолютной. Он мог без труда припомнить малейшие детали двадцатилетней давности. Лицо, мельком увиденное когда-то, теперь всплывало в памяти, словно изображение на монете, с которой искусный нумизмат отмыл кислотой слой веков. Правда, это относилось только к приятным воспоминаниям. Что же до неприятных — они словно растворились… Девушка, равнодушно скользнув глазами по машине, прошла мимо. Арбен отчаянно забарабанил в толстое смотровое стекло. Она обернулась. Это ее зовут? Кажется, она не давала повода… Девушка пожала плечами и хотела продолжать свой путь, но в последний момент ей бросилось в глаза умоляющее выражение лица человека, сидящего за рулем. Она подошла к машине. Форма на девушке сидела ловко. На рукаве красовался фирменный знак «ВДВ», что означало «Все для всех». Арбен узнал девушку сразу — в прошлом году в парке Линда показала ее: — Работает в нашем отделе. Девушка тогда скользнула по нему взглядом, словно по неодушевленному предмету. Теперь она недоуменно смотрела на незнакомого человека, делавшего ей призывные знаки. — Вы из парфюмерного? — прокричал Арбен сквозь толстое стекло. Девушка кивнула. — С вами работает Линда Лоун? Она показала на уши, затем на дверцу, предлагая ее открыть. — Линда! — снова крикнул Арбен, делая вид, что не заметил знака. Расслышав имя подруги, девушка закивала. Кое-как Арбен сумел втолковать ей свою просьбу. — У нас строгий начальник. Вряд ли отпустит, — изловчился он прочесть по ее шевелящимся губам. — Вы только передайте ей, — попросил он. — Как ей сказать — кто зовет? — спросила девушка, скрывая в глазах любопытство. — Скажите — раб. — Что? — Ей показалось, она ослышалась. Арбен повторил. Девушка поспешно направилась к магазину. Перед тем как ступить на веселый ручеек ленты, бегущей внутрь от самой двери, она оглянулась на странного человека. Сердце Арбена тревожно забилось. Ощущение, от которого он успел уже отвыкнуть. Из дверей универмага вышла Линда. Фирменный чепчик сбился в сторону, открыв рыжий локон. Она сделала два шага и беспомощно оглянулась. Затем заметила Арбена и быстро подошла. Дорогая машина, видимо, удивила ее. Арбен протянул Линде руку. Затем поспешно захлопнул дверцу. Они перекинулись несколькими незначительными фразами, будто расстались только вчера. Между тем прошло уже… — Моя напарница уверяет, что ты не в себе. — Линда покрутила пальцем у лба и улыбнулась. — Может быть, она и права, — серьезно сказал Арбен. — Прости, — смешалась Линда. — Сболтнула не подумав. Как ты теперь себя чувствуешь? — Лучше. Гораздо лучше. Линда расцвела от слов Арбена. — И у врача был? Молодец, — продолжала она, не дождавшись ответа. — Что он назначил? — Так, всякие пустяки. — Но ты все выполняешь? — Само собой. Между прочим, завтра начнется решающая процедура. Арбен был благодарен Линде за то, что она не расспрашивала его. Он приготовил несколько фраз в оправдание своего отсутствия и был рад, что их не пришлось пустить в ход. — У нас долгий разговор? — озабоченно спросила Линда. — Что, начальник строгий? — Откуда ты знаешь? — удивилась Линда. — По-моему, я никогда тебе не жаловалась… — У нас серьезная беседа. Обойдутся без тебя, — посоветовал Арбен. — Хорошо, — сказала Линда, немного поколебавшись. Арбен нажал стартер. — Куда поедем? — За город, — предложила Линда. — Подышим. — Далеко, — покачал головой Арбен. — Ну, куда хочешь, — сказала Линда. Арбен все еще чувствовал себя виноватым перед Линдой. Время от времени он поглядывал на ее тонкий профиль, уже подсвеченный вечерним неоном. Она о чем-то думала, положив руку на баранку руля. Арбену вдруг захотелось прижаться щекой к смуглому запястью. — Цыганочка, — негромко сказал он. — Хорошо с тобой, — вспыхнув, сказала Линда. — Весь вечер — наш. Вволю покатаемся. Потом заедем куда-нибудь поужинать. Что ты скажешь, например, об Итальянском ресторане? Говорят, там бесподобные спагетти с сыром. — Он многозначительно похлопал себя по карману. — Арби, откуда у тебя появились деньги? И эта машина — чья она? — Моя. Вернее, наша. — Но раньше… — Не беспокойся, — перебил Арбен, — я заработал ее честным трудом. За последний месяц я получил кучу жетонов. — Он посмотрел на бегущие назад разноцветные купола — машина выехала на центральную улицу — и добавил: — В какой-то мере это связано было с моей болезнью. — Такая большая страховка? — удивилась Линда. — Не то. Видишь ли, болезнь вызвала обострение, что ли, мыслительных способностей. В общем, котелок стал лучше варить. Ну, а Уэстерн, если ему угодишь, за деньгами не постоит. Вот я и думаю: может, и лечиться не стоит? — Не болтай глупости, — резко сказала Линда. — Как ты можешь говорить такое? — Я пошутил, цыганочка. — Такие шутки жестоки. Дорогу Арбен выбирал наугад. Машина знала свое дело. Ловко и аккуратно поглощала она пространство. — Как хорошо, что завтра начинается твой курс лечения. А жетоны… бог с ними. И к таким игрушкам, — она погладила темно-вишневое сиденье машины, — я равнодушна. Ты только больше не исчезай, ладно? А то расстанемся опять… — Мы можем и не расставаться, — медленно произнес Арбен, не глядя на Линду. — Стоит лишь тебе пожелать. Видишь ли, есть на свете один дуралей, который готов повергнуть к твоим стопам… — Арбен запнулся, не зная, как закончить высокопарную фразу. Спасла положение Линда, звонко расхохотавшаяся. О многом говорили они в этот вечер. Но больше всего — о будущем. — Давай уедем, — сказал Арбен. — Далеко-далеко. — На побережье, — произнесла Линда, не открывая глаз. — На побережье, — согласился Арбен. — Я наймусь на какую-нибудь автостанцию. Механиком, ремонтником — кем угодно. Линда открыла глаза. — Видишь ли, я не уверен в том, что произойдет в результате завтрашней процедуры, — пояснил Арбен, отвечая на ее вопросительный взгляд. Линда кивнула. Город за стеклами машины казался призрачным, нереальным. То ли сон, то ли видение. Встряхнись — и он исчезнет… — Через неделю сможем уехать, — сказал Арбен, сворачивая в улицу, узкую, как ущелье. — Хоть завтра. Так надоело все… Линда умолкла. У губ ее обозначились две горькие складки. Арбен подумал, что ей не так легко и просто жить, как могло бы показаться со стороны. Но она была мужественна и никому не жаловалась. — Завтра не получится. Надо закончить кое-какие дела, — сказал Арбен. — Это связано с твоим лечением? — догадалась Линда. Арбен кивнул. Ньюмор, словно по уговору, ни разу не упоминался, и Арбену это почему-то было приятно. Линда не могла бы словами выразить то, что было у нее в душе. Странное лечение. Лечение, в результате которого тускнеют блестящие умственные способности и человек становится рядовым, заурядным. Может быть, и гениальность — не более чем психическое отклонение? Как знать, что возвышает гения над остальными? Не мысли, а тени подобных мыслей носились у Линды в голове, но выразить их она вряд ли сумела. — Несколько дней я буду очень занят, — сказал Арбен и потрогал в кармане вчетверо сложенный блокнотный листок. — Понимаю. Ничего, уедем позже. Ближе к весне. Машина резко тормознула. Стайка ребятишек выскочила из-под ее тупого носа. Опасности, конечно, никакой не было — все скорости и импульсы были рассчитаны, когда машина еще только свернула на эту улицу. — Скажи, ты думаешь обо мне? — неожиданно спросил Арбен. — Иногда, — улыбнулась Линда. — Часто? — Часто, наверно, ты не заслуживаешь….. — Прошу тебя, не думай обо мне, — серьезно сказал Арбен. — Скромность украшает человека. — Я не шучу. Не думай обо мне, не вспоминай меня… Хотя бы в течение нескольких дней. — Но почему? — изумилась Линда необычности просьбы. — Тебе неприятно сознание, что я о тебе думаю? — Не могу тебе объяснить, в чем дело. Позже… Когда мы будем вместе. Чему ты смеешься? Я кажусь тебе последним идиотом? — Нет, предпоследним! Не обижайся. — Она прижалась к нахмурившемуся Арбену. — Просто я вспомнила притчу об обезьяне. Волшебник сказал одному человеку: «Хочешь, я верну тебе молодость и красоту?» — «Хочу», — отвечал человек, который был стар и согбен. «Для этого ты должен выполнить одно условие», — сказал волшебник. «Я согласен на все». — «О, это простое условие: в течение пяти минут ты не должен думать об обезьяне, вот и все. Пять минут — это как раз время, необходимое для твоего превращения». — И что же? — Волшебник исчез. Он с горечью убедился, что его условие невыполнимо. — А человек? — Он остался таким же — старым и немощным… — Да, память неподвластна человеку, — глухо сказал Арбен. — Человека легче убить, чем отнять у него память. — Будто спохватившись, он посмотрел на часы. — Время ушло, как мартовский снег, — произнесла Линда. — Поедем ужинать? — Не хочется. — И мне, — признался Арбен. — Куда же тебя доставить? В универсальный? «Все для всех»? — Я хочу домой. Уже поздно. Арбен набрал на пульте нужные координаты и, включив автоводитель, отодвинулся от штурвала. Ближе к окраине освещенность падала. Громады домов еле угадывались во мраке. Исключение составляли купола, ярко светившиеся изнутри. Старые дома, лишенные окон, достались в наследство от того времени, когда люди панически — и не без оснований — боялись радиации, уровень которой неуклонно повышался. Теперь эти дома выглядели как уродливые коробки, но снести их все никак не могли. Реклама на окраине не так буйствовала, как в центре. — Помнишь, ты привозил меня домой на такси, — сказала Линда, когда машина остановилась. — А теперь у тебя своя машина. Арбен всматривался в темноту сквозь боковое стекло. — Неплохая лошадка. У меня просьба, Арби: когда мы сядем сюда, и выедем из города, и возьмем курс на побережье — включи машину на полную скорость. Ладно? Арбен кивнул, не отрываясь от окна. Но улица была пустынной. «Этой груше место в музее», — подумал Арбен, глядя на допотопный фонарь. Ветер раскачивал его, отчего желтый круг метался по земле. Давным-давно опавшие листья то попадали в освещенный круг, но снова уходили из него в небытие. Было очень холодно, со дня на день ожидался снег, но он все не выпадал. — Чудесная машина. Я не видела такой, — сказала Линда. — Нравится? — отвернулся от окна Арбен. — Кроме, пожалуй, одного: зачем кабину обклеили пластиком? — Она потрогала поблескивающую неровную поверхность. — Смотри, как бугрится. Можно подумать, что обклеивали вручную. О чем только конструктор думал? — Грубая работа, — согласился Арбен. — Может, снимем? — Линда сделала жест, как будто собралась сорвать наклейку. — Погоди. Ты же не видела других машин этого класса. Может, сейчас такая мода? — Все равно, это уродливо. — Линда передернула плечами. Фары машины бросали перед собой широкий сноп света. Арбен уменьшил освещение, и сноп превратился в луч, устало упавший на старый асфальт. — Я пойду, — сказала Линда после короткой паузы, во время которой она выжидательно поглядывала на Арбена. Арбен открыл дверцу и вышел первым. — Провожу, — сказал он. — Наконец-то ты решил не делать этого тайком, — весело заметила Линда, опираясь на протянутую руку. — А, ты об этом… — Арбен помрачнел. Каблучки Линды громко стучали, эхом отдаваясь в глухих закоулках. Арбен шел рядом, стараясь не уходить вперед. Он и сам не понимал, что заставило его выйти из машины. Желание побыть еще немного с Линдой? А может, стремление вновь почувствовать себя обычным человеком, который не должен бежать и прятаться от собственных желаний? «До дверей и обратно», — сказал себе Арбен. Две исполинские тени пересекли дорогу и вскарабкались на стену дома, слившись с темной поверхностью. Одна была тонкой, другая — мужественно-широкоплечей. — Смотри, наши тени не хотят расставаться, — тихо сказала Линда, замедляя шаги. Глаза ее блестели. — Вот мы уйдем, уедем отсюда, а они останутся. И всегда будут вместе. — Доброй ночи, — сказал Арбен, когда они подошли к входу. — Когда мы увидимся? — Надеюсь — скоро. — Буду ждать. — Я позвоню тебе. Линда помахала рукой и скрылась за поворотом. Арбен не успел сделать и трех шагов, как навстречу ему от стены отделилась фигура. Казалось, она появилась из небытия, и двигалась осторожно и бесшумно. Так шагать, не затрагивая опавших листьев, мог только Альва — его вторая половина, его горести и заботы, разреженное облако античастиц, как бы вобравшее в себя частицу Арбена. Фигура шагала медленно и неотвратимо, словно сама судьба. Но Арбен не был ни суеверным, ни фаталистом. Встретив наконец Альву, он обрел то спокойствие, к которому тщетно стремился, то спокойствие, которое обещал ему Ньюмор, уговаривая согласиться на неслыханный эксперимент. Мысль работала четко, словно на выпускном экзамене. Альва не может превысить скорость три мили в час. Это хорошо. Но той же величиной ограничена и скорость Арбена. Это плохо. Однако гораздо хуже то, что Альва находится в более выгодном положении: он движется наперерез Арбену, отрезая ему путь к машине. Способность Альвы к маневру явилась для Арбена неожиданностью. «Словно кто-то по радио управляет его действиями», — мелькнула и тотчас погасла мысль. Спасение — там, в машине, в кабине, которую он собственноручно обклеил изнутри ионизированным пластиком. Но как добраться до нее? Альва мог его успешно преследовать, даже при равенстве их скоростей. Ньюмор перед началом опыта уверял Арбена, что это не так, но обманул его. Да, бессовестно обманул. Говорят, тонущий человек за считанные доли секунды припоминает всю свою жизнь, начиная с детства. Может быть. Но перед Арбеном в эти мгновения не промелькнул калейдоскоп бытия. Память, словно прожектором, выхватила из недавнего прошлого разговор с Ньюмором. Это было накануне того дня, когда Арбен вступил в биорадиоконтакт с Альвой. …— Практически Альва тебе не опасен, — сказал Ньюмор. — При такой скорости… — Скорость моя тоже будет не больше. — В том-то и суть! — Ньюмор обнажил ровную подкову зубов. — Ты же инженер, сообрази-ка. «А» бежит за «Б». У обоих одинаковая скорость. Догонит ли когда-нибудь преследователь «А» свою жертву?.. Поначалу аргумент Ньюмора показался Арбену убедительным. Но чутье подсказывало: что-то здесь неладно. — Ты, пожалуй, прав, если дело происходит на ровном поле. А если в городе? — Это не меняет дела, — бросил Ньюмор. — Будешь улепетывать по улице, только и всего. Говоря «улепетывать», я, конечно, преувеличиваю: ты будешь чинно шагать как ни в чем не бывало. Альва будет бесшумно топать за тобой, и расстояние между вами при этом не будет сокращаться ни на шаг. — И куда же я буду чинно шагать? — Куда захочешь. У тебя будет миллион возможностей. Можешь дойти до ближайшей подвижной ленты и уехать на ней. Можешь добраться до станции подземки и сесть в поезд. Можешь, наконец, спокойным шагом дойти до своей квартиры, которую ты к тому времени обклеишь, надеюсь, вот этим. — Он протянул Арбену толстый рулон ионопластика. — Жаль, из этого нельзя сшить для тебя защитную оболочку. Тогда бы у нас вообще не было этого разговора. Этот разговор блеснул в памяти Арбена, пока он шел прочь от Альвы. Последний все еще двигался медленно. Арбен шел с наибольшей возможной скоростью, чтобы выиграть время. Когда Арбен пытался ускорить шаг, упругая волна толкала его в грудь. Собственное тормозящее поле было неумолимо. …Нельзя сказать, что инженер Арбен был в хороших отношениях с математикой. Он не жаловал эту науку, оставляя ее «сухарям-теоретикам». Себя Арбен с гордостью именовал практиком. Именно это обстоятельство, вроде бы не имеющее отношения к затее с Альвой, оказалось роковым. Арбен не был знаком с теорией преследования. Как абстрактная ветвь математики, она была, собственно, известна еще в прошлом веке. Приложение — в космической практике — получила только теперь. И пригодилась теорема, доказанная безвестным математиком сто лет назад. Она гласила, что если две точки движутся, имея одинаковую скорость, и одна из них преследует другую, то она ее обязательно нагонит. Для этого лишь необходимо, чтобы выполнялось одно-единственное условие: ограниченность пространства, в котором происходит погоня. Условие, надо сказать, почти очевидное: не будь его, преследуемый объект мог бы просто удаляться от преследователя по прямой линии, уводящей в бесконечность, и ввиду равенства скоростей встречи не произошло бы. Иное дело, если гонки с преследованием происходили на замкнутой площадке. Жертва рано или поздно должна была бы искривить свой путь, так как выходить за границы области ей запрещено. С каждым таким искривлением пути преследователь, соответственно меняя собственное движение, должен был сокращать расстояние до жертвы. Происходило это, наглядно говоря, за счет срезания преследователем углов, — а они неминуемо образуются, когда преследуемый начнет петлять. В общем, математическое доказательство теоремы было, к сожалению для Арбена, безукоризненным… Он узнал о теории преследования и бессовестном надувательстве Ньюмора в памятный вечер после концерта электронной музыки. Слова Линды о пьяной болтовне Ньюмора жгли его. В роли подопытного кролика он готов был подозревать что угодно. А поскольку больше всего, несмотря на успокаивания Ньюмора, его волновал вопрос о преследовании, он и заказал соответствующий раздел математики через Большой Информационный Центр. БИЦ знал свое дело. Через минуту на экране арбеновского видеозора показались первые формулы. — Быстрей, быстрей, — торопил Арбен. Быстрота схватывания у него была теперь такова, что он понимал идею доказательства еще до того, как длинные выкладки заканчивались. То, что он усваивал за секунду, раньше потребовало бы месячной кропотливой работы. Ну, а какой ценой досталось ему такое чудесное свойство, он окончательно узнал в этот вечер… Бесконечная вязь интегралов струилась по экрану, пока не дошла очередь до главной теоремы о преследовании. Догонит! Догонит! Остальное его не интересовало. Арбен в отчаянии ударил кулаком по пульту. Чуть картавый механический голос из БИЦа, читавший пояснительный текст к математической информации, умолк на полуслове, будто поперхнувшись. Голубой ручеек, выписывавший символы, бесследно растаял, растекся по выпуклой поверхности, и видеозор превратился в огромное незрячее око. «А он-то уверял…» — думал в тот вечер Арбен, уронив лицо в ладони. …В ушах его стоял вкрадчивый голос Ньюмора: — От тебя требуется только одно: будь осторожен. Это значит — не столкнись с Альвой нос к носу. Тогда уж действительно тебе несдобровать. Ну, а во всех других случаях тебе, поверь, ничего не грозит, как я объяснил. И еще сказал Ньюм: «Счастливчик, ты избавляешься от своих забот и недугов даром. Позже люди будут платить мне за это удовольствие столько, сколько я захочу». — Ты, значит, намерен поставить производство на конвейер? Стать избавителем человечества? — А почему бы нет? — И скоро это произойдет? — Надеюсь. Для этого мне остается только удешевить Альву. Стандартизиррвать его. Первый экземпляр обошелся мне невероятно дорого. В общем, ты не будешь одинок. — Так ты, наверное, приступил уже?.. — спросил Арбен, хорошо знавший скрытный характер приятеля. — Нет еще, к сожалению, — покачал головой Ньюмор. — Денег нет? — Деньги — пустяк, — пренебрежительно махнул рукой Ньюмор. — Но ты же все истратил? — Подумаешь! Толстосумы, жаждущие спокойной жизни, предоставят мне любой кредит. Посуди сам: вместо всех этих модных курортов, водолечебниц, всяких душей Шарко и прочего я предлагаю радикальное излечение. До сих пор от нервных болезней вряд ли умели избавляться… — Ну уж… — усомнился Арбен. — Не умели и не умеют, не спорь. В лучшем случае болезнь загоняют внутрь организма, а это еще хуже. Я же снимаю болезнь. Забираю ее целиком и полностью. В чем она состоит — я не знаю, да меня это, признаться, мало интересует. Я попросту стираю болезнь, как стирают тряпкой надпись мелом на школьной доске. — А вдруг кто-нибудь захочет восстановить эту самую надпись на школьной доске? — Вряд ли найдется такой оригинал. — А вдруг? — настаивал Арбен. — Я этим вопросом пока не занимался. — Но это несложно? — Надеюсь. Зная, что Ньюм любит прихвастнуть, Арбен критически воспринял его слова о возможных неограниченных кредитах. Откуда ему было знать, что на сей раз утверждение модного биофизика соответствует истине? Вслух же Арбен произнес: — Если ты можешь достать деньги, что ж тебе мешает приступить к созданию Альвы номер два, номер три и так далее? — Мне необходима как воздух информация. — Какая информация? — Информация о взаимодействии некоего инженера Арбена с Альвой номер один. Без этого я не могу двигаться дальше. — Что ж ты раньше не сказал? — А зачем? — пожал плечами Ньюмор. — Это тебя не касается, и точка. — Хорошенькое дело — не касается! Ненавижу писать медицинские реляции — все эти кровяные давления, температуры и прочее. Тебя же это интересует? — Это, но ты здесь, повторяю, ни при чем. Биоприемник, — пояснил Ньюмор, похлопав ладонью по черной панели огромного агрегата. — Он расскажет мне про тебя все, что надо. Больше, чем ты сам о себе сможешь рассказать…
…Альва чует его. Кажется, он привязан к Арбену невидимой нитью. Стоит сделать шаг в сторону — и Альва послушно повторяет маневр. Арбен все шел, оглядываясь на ходу. До боли знакомая сутуловатая фигура старательно вышагивала за ним. Лицо, бессчетное множество раз виденное в зеркале… «Бегу сам от себя. А разве это возможно — уйти от себя?» — обожгла мысль. Машина осталась поодаль. Ее черный прямолинейный корпус маслянисто поблескивал под качающимся от ветра фонарем, кинжальный луч средней фары бессильно лежал на грязной брусчатке мостовой. И ни души на ночной улице… Каждый шаг отдаляет его от спасительной кабины, обклеенной пластиком. Но повернуть к машине — значит столкнуться с Альвой. Тротуарные ленты уже выключены. Одна надежда — на подземку. Никогда раньше Арбен не думал, что улица, на которой живет Линда, такая длинная. А может, это так кажется оттого, что он отвык ходить пешком за последнее время? Арбен почувствовал, что замерзает, и сделал инстинктивную попытку пробежаться, но упругая волна тотчас ударила в лицо с такой силой, что он, задохнувшись, на мгновение остановился. Остановка обошлась ему в три-четыре драгоценных ярда. Расстояние сократилось, и Альва, войдя из тьмы в освещенный фонарный круг, теперь был виден до мельчайших подробностей. «Он бледен как смерть, — подумал Арбен. — Не мудрено, что Линда при встрече с Альвой так перепугалась. Видно, Ньюмор что-то не рассчитал…» Хорошо хоть, что улица прямая. Любой поворот — в пользу Альвы, который сможет срезать углы: каменные стены — не препятствие для этого легкого, невесомого облачка, имеющего человеческий облик. Так бы идти и идти… Но силы — он знал это — скоро иссякнут. Он заперт в каменных джунглях города. Он сам себя запер в ловушку, а ключ спрятал хитрый Ньюмор. Сердце билось медленными толчками, и каждый удар болезненно отдавался. Это было ощущение, о котором Арбен успел уже позабыть. Прошло некоторое время, прежде чем он догадался, в чем дело. Он волновался, волновался так, как ни разу еще за два прошедших месяца. Ньюмор и здесь его обманул!.. Арбен изо всех сил старался успокоиться: волнуясь, он помогал своему преследователю. Действительно, Альва за последние несколько минут заметно оживился. Быстрее задвигались его ноги, украшенные ботинками с магнитными присосками, незрячий взор был устремлен на Арбена, он даже руку вперед протянул, будто желая схватить ускользающую от него вторую половину своего «я». Арбену казалось, что погоня длится уже давно. Целую вечность бежит он по этой улице, до жути безмолвной (бежит — еле переставляя ноги от усталости), а его преследует клубок забот и огорчений, и никуда от них не скрыться, не уйти. Впереди неясно забелел купол, украшенный в вершине вензелем. Вензель горел в морозном мглистом воздухе, а над ним, совсем невысоко, мерцали равнодушные звезды. Станция подземки. Наконец-то! Сейчас он войдет в узкую дверь, опустит жетон в узкую щель автомата, и неуклюжий турникет вытолкнет его на бегущий вниз, к поездам, эскалатор… Арбен почувствовал даже нечто вроде жалости к Альве. Будто это было одушевленное существо, а не искусное материальное образование, имитирующее его, Арбена. Будто он обманул простодушного Альву, перехитрил его. Будто взялся перевести слепца через оживленную улицу и бросил его посреди мостовой. Странная вещь! Он жалел Альву, будто младшего брата, будто какую-то частицу собственного «я», пусть и не лучшую. И разве не так оно и было на самом деле?.. Ликующее чувство избавления от смертельной опасности наполнило все его существо. Ему показалось подозрительным, что у входа не видно ни одного человека. Обычно даже в самую глухую пору хотя бы два — три бродяги греются в теплом потоке кондиционированного воздуха, вырывающегося из отворяемых дверей. Он ощущал уже в ноздрях сухой нагретый воздух, еле заметно отдающий автолом и еще чем-то сладковатым, неприятным. Четыре гранитных ступени… Арбен толкнул дверь. Закрыто!.. Он изо всех сил двинул ее плечом, отлично сознавая, что это бесполезно. Затем ударил кулаком по ледяному пластику. Рука, разбитая в кровь, привела его в себя. Ремонт, что ли? Впрочем, какое это сейчас имеет значение. Только теперь он заметил маленький листок, косо приклеенный к колонне: «На станции проводится проба воздуха на радиоактивность. Ближайшая станция подземной дороги…» Арбен отвернулся. Ближайшая станция подземной дороги не интересовала его. Чтобы добраться до нее, необходимо было свернуть, а в этом случае шансы Арбена на спасение обращались в нуль. Только в гонках по прямой он мог еще надеяться уйти от своего преследователя. Альва неумолимо приближался. Теперь его скорость — Арбен определил на глаз — составляла предельные три мили в час, средняя скорость среднего пешехода. Арбену почудилось даже, что на щеках Альвы загорелся румянец. Нет, это, наверно, причуды случайного ночного освещения. Удивительно много мелочей можно заметить в считанные доли секунды. Не сродни ли это явление тому, что спичка, прежде чем погаснуть, вспыхивает ярче? Арбен безвольно прислонился к колонне. Глупый конец. А разве не глупой была вся эта затея с Альвой? Ну что ж, вот и расплата. Как говорил Ньюмор? «За все в жизни надо расплачиваться. Не жетонами, так собственной кровью. Это величайший закон, открытый мною». Альва шагнул на первую ступень. Именно шагнул — так сказал бы любой сторонний наблюдатель. Поддался иллюзии и Арбен. Он отлично знал, что Альва, обнаружив перед собой возвышение, просто приподнимается над ним, как поднимается пар над кипящим чайником, а ноги — те просто имитируют шаги. При этом диамагнитные присоски не дают Альве оторваться от земли и подняться слишком высоко. Как четко работает мысль. Сколько он мог еще сделать для Уэстерн-компании и всего человечества! И через три секунды этот субъект, идущий прогулочным шагом, приблизится к нему, и все будет кончено. От нечистой совести не уйдешь. И потом, это было так давно. Существует же, черт побери, какой-то срок давности?! Перед Арбеном мелькнуло бледное, искаженное смертельным страхом лицо Чарли. Вторая ступень. В сознании, вытесняя Чарли (целых два блаженных месяца он не появлялся, уже за одно это можно благодарить Альву), вспыхнула картина далекого детства. Отцовская ферма на Западе… Старая ветряная мельница… Арбен с такими же, как он, мальчишками бегает вокруг мельницы, играя в пятнашки. Поиграть и теперь, что ли, в пятнашки со смертью? Выиграть у костлявой несколько минут. Третья ступень… Пустые бредни. Эти несколько минут ему не суждены. Альва пройдет сквозь гранит, как прут сквозь влажную глину. Он пересечет купол по диаметру круга, лежащего в сечении купола, и преспокойно настигнет Арбена. Когда цыпленок, безмятежно разгуливающий по двору, видит косо мелькнувшую тень, он не знает, что приговор ему уже подписан тяжелым росчерком крыла стервятника. Арбен знал. В этом было единственное отличие его от беззащитного птенца. Только полимерные нити длинных молекул пластика могли бы послужить преградой Альве. Арбен подался назад, и рука его скользнула по выпуклой стенке купола. Ромбические плитки, устилающие купол. Холодные и скользкие, словно плитки льда. Последнее ощущение, которое суждено ему на этом свете. Если существует, кроме этого света, еще что-то, значит, он скоро предстанет перед Чарли. Но что он скажет ему?.. Альва наклонился вперед, как человек, идущий против ветра. Лишь в этот миг осознал Арбен, что облицовочные плитки сделаны из… пластика. …Человек прижался спиной кстене, раскинув руки. Второй, преодолев подъем, не спеша приближался к своему двойнику. Неожиданно человек, казалось, влипший в стену, оторвался от нее и, так же не спеша, двинулся вокруг купола. Картина напоминала замедленную съемку погони. Если увеличить скорость ленты, зритель увидел бы отчаянную гонку, ставкой в которой была жизнь. Но не было ленты, как не было и зрителей безмолвной сцены. Альва, словно ожидал этого, такой же деловитой походкой двинулся за своей половиной, нырнувшей за купол. Облако скользило вдоль стены, облицованной пластиком, не имея возможности пересечь ее и, продвинувшись напрямик, завершить затянувшуюся погоню. Несколько минут подарила ему судьба. Несколько минут, не больше. Арбен понимал это. В гонках по кругу Альва превосходил его. Казалось бы, при равной скорости преследователя и преследуемого последнему ничего не грозило, по крайней мере, до тех пор, пока он не свалится, выбившись из сил. Увы, Арбен знал, что это не так. Развязка должна наступить гораздо раньше. Это не гонка по прямой, где ему нужно уходить вперед, ни о чем не думая. При движении по кругу у Альвы появлялось значительное преимущество — возможность мгновенно менять направление движения на противоположное, тем самым идя на сближение с жертвой. Арбен, естественно, не мог проделать то же самое сразу, и расстояние между ними таяло. Да мог ли вообще Арбен тягаться в совершенстве стратегии со столь тонкой кибернетической системой, какую представлял собой Альва? А кроме того, Альва угадывал малейшее движение своего двойника, он рассчитывал каждый шаг Арбена, и в соответствии с этим строил план погони. Арбен боялся оглянуться. Ему чудилось на затылке тяжелое дыхание, хотя Альва, конечно, не дышал. Нервы. Мог ли он подумать, что стальные нервы — подарок Ньюмора — вдруг разладятся в последнюю минуту, перед самым финалом? Ему чудится всякая чертовщина, и даже Чарли выплыл из подсознания, красавчик Чарли. А он всю жизнь безуспешно пытался отделаться от этого видения, которое мучило его, жгло по ночам и не давало покоя. Но о Чарли он не мог рассказать никому, даже самому близкому другу, даже Линде. Может, поделись Арбен с кем-нибудь — и ему стало бы легче. А тут подвернулся Ньюмор с таким заманчивым предложением — переписать, перенести на бессловесного Альву все тревожные воспоминания, волнения, все, что мучает Арбена, не дает ему спокойно дышать. Ну как тут было не согласиться?.. Они сделали несколько кругов вокруг купола подземки. Только шаги Арбена нарушали ночной покой — Альва двигался бесшумно. С каждым кругом расстояние между ними сокращалось. Арбен чудом увернулся от протянутой к нему слабо светящейся, бесплотной руки Альвы. Куртка Арбена задымилась, запахло жженой шерстью. Арбен сбросил куртку на ходу. Дрожащим шагом идя вокруг купола, он отчаянным взглядом окинул расплывчатую, неясную перспективу длинной, ровной улицы, по которой он прошел сюда двадцать минут назад. В самом конце улицы скорее угадывался, чем виделся узкий луч средней фары машины. И мысль, простая и блестящая, озарила меркнущее сознание Арбена. Он может свернуть на эту улицу и двигаться к своей машине. Альва, конечно, пристроится сзади, но это уже не страшно: в гонках по прямой, да еще на таком сравнительно коротком расстоянии, Альва вряд ли догонит его. Отчаянный рывок — и вот уже Арбен оторвался от спасшего его купола и вновь зашагал по улице. Арбен старался не размахивать руками, чтобы не задеть Альву — тот шел за ним чуть не вплотную. Каждый шаг теперь приближал Арбена к спасению. Машина стояла в неприкосновенности там, где он оставил ее, провожая Линду. Она уже спит, наверно. А может, читает. «Зов бездны»? «Дорогу к наслаждению»? — она выписывала этот журнальчик. Или «Вечерние грезы» — пустую газетку, почему-то печатаемую на желтом пластике? Ему нужно время, чтобы открыть дверцу. Затем успеть сесть внутрь и захлопнуть ее, чтобы Альва не успел просочиться. До машины шагов пятнадцать… десять… два шага… Арбен рванул на себя дверцу и упал на пол кабины. Послышался звук, похожий на треск разрываемой материи, и белая вспышка озарила все вокруг. Боль в затылке пронзила и жаркими волнами растеклась по всему телу. Но пружина исправно сработала, и дверца захлопнулась сразу за Арбеном.
Придя в себя, Арбен слабо застонал. Голова раскалывалась на части. Онемевшее тело казалось мешком, набитым ватой. Он тотчас припомнил погоню и чудесное избавление. С трудом поднявшись на руках, он глянул в переднее стекло. Отшатнулся: на него глядело бледное привидение, прилипшее к стеклу. Неужели это он, Арбен?.. Нет, он смотрит не в зеркало. Альва с тупым упорством выбрал место, от которого расстояние до Арбена было наименьшим. Неподвижное лицо напоминало маску, руки жадно обхватили радиатор. Альва, пребывая в полной неподвижности, ждал, пока жертва выйдет наружу, — терпения ему было не занимать. Арбен вздохнул — так вздыхают, только избежав большой опасности, — и потрогал пальцем уголок отклеившегося пластика, старательно прижав его к стенке кабины. Дав себе немного отдохнуть, Арбен нажал стартер. Машина тронулась с места. Лицо Альвы соскользнуло со смотрового стекла. Туловище медленно съехало с радиатора. Когда Арбен развернул машину, он оглянулся. Фигура Альвы, слабо освещенная фонарем, быстро таяла. Арбен закурил, стало легче. Но все равно затылок страшно ныл. Итак, попытка избавиться от Чарли не удалась. Мертвый, он продолжал тревожить Арбена. Даже Альва сумел прекратить его посещения только на два месяца. Тревожное воспоминание вернулось…
Ньюмор вошел — в лабораторию и тяжко опустился на стул. Он был в скверном расположении духа. Итак, опыт, столь блестяще начатый, придется прервать, перечеркнуть. И Альва, его детище, погибнет. Рассыплется на элементарные частицы, исчезнет. А сколько бессонных ночей, сколько надежд, сколько денег, наконец, связано с Альвой! Все пойдет прахом. Ньюмор осторожно потрогал пальцем горло. После сегодняшней безобразной сцены в ресторане он сперва воспылал к Арбену гневом, но, к удивлению Ньюмора, злоба его быстро растаяла. Вместо нее возникла жалость. И еще — неясное предчувствие беды, навеянное сбивчивым рассказом инженера о злоключениях с Альвой. Что, если этот рассказ — не плод его фантазии? Значит, в расчеты Ньюмора вкралась какая-то ошибка и Альва ведет себя не совсем так, как он предполагал. А может, всему виной — сам Арбен? Не бережется. Ведь Альва глуп, как сорок тысяч роботов, и обмануть его ничего не стоит. Но теперь уже поздно разбираться, кто прав, кто виноват. Ньюмор дал слово, и он сдержит его. Альва погибнет, и Арбен возвратится в прежнее состояние — надо сказать, незавидное состояние. Ньюмор встал и прошелся по комнате. Пора было подойти к пульту и нажать кнопку вызова Альвы, но он бессознательно оттягивал этот момент. В голове теснились непривычные мысли. Они волновали Ньюмора, лишали привычного спокойствия, на поверку оказавшегося призрачным. Так, гладь озера кажется стальной. Ничто в мире не может возмутить ее. И медленно проплывают в глубине облака, и деревья у берега равнодушно вглядываются в свои отражения — поверхность незыблема. Но налетит ветер — и покой исчезает! Вот так и его мир, размеренный мир Ньюмора, надежно, казалось бы, закованный в броню непреложных законов. Формулы бесконечно сложны, верно. Но это ведь не перечеркивает их истинности? Они справедливы, Ньюмор мог бы голову дать на отсечение. В чем же дело? Почему так непонятно ведет себя Альва? Нет следствия без причины, как не бывает дыма без огня. В чем же он все-таки ошибся, если физические основы конструкции незыблемы? Пораженный внезапной мыслью, Ньюмор остановился посреди лаборатории. Наверно, так. Наверно, нельзя механически разделить человека на добро и зло, на пороки и добродетели. Лишь вместе все без исключения качества образуют тот таинственный сплав, который называем мы человеческой личностью. Ньюмор почему-то вспомнил игрушку, привезенную отцом из дальнего рейса. Небольшой шар — всевидящее око.
…В его комнате было полутемно. А в дальнем углу, там, где стоял письменный стол, разливалось голубое сияние. — Как красиво, — тихо сказала тогда Линда, остановившись в дверях. — Подойди, не бойся, — легонько подтолкнул ее Ньюмор. Глаз сверкал, как невиданная мохнатая драгоценность. — Всевидящее око, — произнес Ньюмор. На лице Линды было написано недоверие. — Не веришь? — разгорячился Ньюмор. — Так слушай. — Он протянул к сияющему шару руку и нажал что-то. И шар заговорил! Бесцветный голос начал сухо передавать информацию, которую у него затребовали. — …Род — человеческий, пол — женский… Примерный возраст в земных единицах — четырнадцать лет… Объем черепной коробки… (Близко за окном прогудел бас аэробуса, заглушивший конец фразы.) …зубов, все здоровые, — продолжал шар. Линда слушала, неподвижная, словно изваяние. — Волосы — светлые, золотистого оттенка… — Ясно, рыжая, — пояснил Ньюмор. — Сообщаю внутреннюю схему, — продолжал шар. — Длина пищевода… — Замолчи! — вдруг крикнула Линда, и шар послушно умолк. Порыв Линды угас так же внезапно, как вспыхнул. Всхлипывая, глотая слезы, она выбежала из комнаты. Ньюмор в ту ночь долго ворочался в постели, вставал, пил воду, поправлял подушку, но сон не приходил. Это была первая бессонница в его жизни. Ньюмор тогда впервые задумался о многих вещах, которые до этого проходили мимо его сознания. Как знать, может быть, именно тогда в голове Ньюмора зародилась еще неясная мысль об Альве — двойнике, который мог бы принять на себя все горести человека?.. Неожиданно мальчика осенило. Маленькое голубое зарево — вот что не дает ему уснуть. Как оно устроено, всевидящее око? Он обязан разгадать это чудо. Ньюмор опустил босые ноги на пол. Холодное слабое сияние притягивало его, как магнит. Ступая по холодному пластику, мальчик подошел к столу. Потрогал шар. Достаточно нажать этот бугорок — и шар тотчас расскажет, сколько у него, Ньюмора, ребер, какова упругая сила сердечной мышцы и все прочее. Жутковато. Кажется он понял, почему обиделась Линда. Извиниться? Пустяки. Все равно она до завтра забудет. Вообще у Линды глаза на мокром месте. Чуть задень — она сразу в слезы. Одно слово — девчонка. Непреодолимая сила заставила Ньюмора выдвинуть ящик стола и вытащить из него скальпель. Шар безмятежно сиял — посланец далекой планеты. Скальпель успел нагреться в руке. Ньюмор несколько раз протягивал к шару руку и тотчас отдергивал ее. В конце концов, он сделает только надрез оболочки. Это не должно повредить глаз. Он только посмотрит, что там внутри. А потом наживит разрез с помощью биопластика — даже шрама не останется. Прошлым летом он успешно провел подобный опыт с лягушкой. Решившись наконец, Ньюмор сделал надрез. Оболочка шара оказалась податливой, она резалась легко, почти без сопротивления. Больше всего Ньюмор опасался, что из образовавшегося отверстия хлынет жидкость, но этого не произошло. Шар по-прежнему продолжал сиять, и Ньюмор осмелел. «Врачи, когда нужно сделать операцию, разрезают человека, а потом накладывают швы как ни в чем не бывало, — подумал Ньюмор. — Главное — это осторожность. Ведь не сложнее же этот шар, чем человек, в конце концов?!» Бесчисленные прожилки, похожие на паутину, переплелись так, что их, кажется, не сумел бы распутать и самый терпеливый человек в мире. «Нейроны», — догадался Ньюмор. Обычные трубочки, мягкие сосуды… Честное слово, в них не было ничего таинственного. Уронив скальпель — он с глухим стуком упал на пол, — Ньюмор склонился над разрезанным шаром. Шар лежал перед ним, словно экзотический плод, неведомо как попавший в руки Ньюмора. Ньюму даже почудилось, что шар издает слабый аромат. Вдруг голубой свет начал медленно меркнуть. В комнату хлынула ночь. Дрожащий Ньюмор на ощупь включил панель. Ничего, он все сейчас поправит, не мог же он повредить глаз. Ведь он не порвал ни одной нити. Нужно только сложить кромки надреза как можно точнее, а затем смазать их биопластиком. Биопластик и впрямь помог — живительная пленка быстро затянула надрез. Шар теперь был целым, как прежде. Но он не светился. «Свет», — решил Ньюмор. Он выключил панель, и в комнате вновь воцарилась тьма, кромешная, бездонная… Напрасно нажимал он бугорок — шар безмолвствовал. Глаз был мертв, и убил его он, Ньюмор, убил собственными руками. Его утешали все: и отец, обещавший привезти из следующего рейса точно такой же шар, и мать, и Линда. Но Ньюмор был безутешен.
Только теперь, много лет спустя, он, кажется, понял, в чем дело. В ту далекую ночь, вооружившись скальпелем, он разрушил единство, которое воплощал в себе голубой шар. Так вот по какой ассоциации он вспомнил сейчас все это. Разве теперь он не пытался нарушить то единство, которое представляет собой всякий человек, и в частности инженер «Уэстерн-компани» Арбен? Ньюмор подошел к окну. В этом сумасшедшем мире безумно все, даже погода. Снова оттепель, хотя несколько часов назад, когда он встретился с Арбеном, был мороз. Прозрачная пленка окна была покрыта седой изморозью. По наружной стороне, оставляя извилистый след, прокатилась капля воды. Она двигалась толчками, точь-в-точь маленькая юркая ящерка. Прикосновение холодной поверхности окна к пылающему лбу было приятно. Капля, пройдя рядом с глазом Ньюмора, ушла вниз. «Да, это, если угодно, та самая капля, в которой можно увидеть отражение всего мира, — подумал Ньюмор. — Нужно только уметь правильно смотреть на вещи. Взять, например, эту юркую капельку, она — органическое единство двух элементов, водорода и кислорода. Отдели один из них — и вода как таковая исчезнет…» Лаборатория Ньюмора помещалась высоко, и кусок города, лежащий сразу за оградой, был виден отсюда как на ладони. Дальняя перспектива, в ясную погоду отчетливая, была мелко заштрихована неутомимо сочащимся дождем. На площади, прямо перед главным входом на территорию, производились работы — это было необычно. Ньюмор присмотрелся. Какая-то машина, похожая на кита, пускающего фонтан, медленно двигалась по кругу, оставляя за собой поблескивающую ленту нового покрытия. Зачем-то дорожникам понадобилось перекраивать площадь, да еще в такую неподходящую пору. Может быть, готовят искусственный каток для представления? На днях какой-то праздник, из тех, что приходится дюжина на месяц. Ньюмор подошел к пульту и нажал кнопку вызова. Где-то он сейчас, Альва, бесплотное создание, вызванное к жизни Ньюмором? Бродит ли Альва бесцельно по городу в надежде на встречу с Арбеном? Или притаился где-нибудь, поджидая свою половину? Засада — вот чего больше всего боится бедняга Арбен. А может, Альва слоняется в каком-нибудь совсем уж неподходящем месте — скажем, в музее, или фешенебельном Клубе пифагорейцев, куда вход его названому брату Арбену заказан, или где-то еще — ведь для Альвы любая дверь открыта, точнее, он и не нуждается в двери. Вот уж, должно быть, недоумевают знакомые Арбена, когда мимо них быстро скользит безмолвная фигура Альвы!.. Сейчас выяснится, где в эту минуту обретается Альва. Через несколько секунд он откликнется на радиосигнал, и в ответе будут две цифры — координаты местонахождения. Зная координаты, можно будет без труда, пользуясь стереокартой города, определить, где бродит худшая половина Арбена. Время шло — глазок связи не вспыхивал. Странно. Раньше этого никогда не было — Альва послушно шел на связь. Случайные помехи? Неисправность аппаратуры? Через пять минут Ньюмор убедился, что все блоки в порядке. И тогда смутное опасение перешло в уверенность. Альва вышел из повиновения! Фантом, лишенный воли, искусно слепленный ансамбль античастиц, имеющий лишь человеческую оболочку. Еще вчера послушный своему создателю, он ушел из-под его власти, затерялся в огромном городе, безопасный для всех его жителей, кроме одного… Дело осложнилось. Оставалось надеяться, что за ночь ничего не случится, а завтра, когда к нему приедет Арбен, Ньюмору удастся поймать Альву, использовав для этой цели мощные магнитные ловушки. Такие ловушки исстари применялись на пульсолетах для защиты от античастиц. Арбен будет служить для Альвы отличной приманкой. Надо только позвонить Арбену, чтобы он на всякий случай поберегся. Пусть в своей машине, обклеенной пластиком, подъедет к самому входу. Ньюмор его встретит. Арбену придется пробежать лишь небольшой участок открытого пространства. А уж здесь, в лаборатории, Арбен будет в безопасности — Ньюмор об этом позаботится. — Уэстерн, — бросил Ньюмор в мембрану. Но экран видеофона оставался темным. Ньюмор вытер внезапно вспотевший лоб. Похоже, все силы объединились против Арбена. Ньюмор резко сдвинул верньер красного цвета. — Слушаю, — пропел мелодичный голосок. — Я не могу связаться с Уэстерном, — сказал Ньюмор. (Хорошо, хоть справочный центр ответил!) — Не волнуйтесь, линия связи временно нарушена. («Робот или человек?» — подумал Ньюмор, вглядываясь в геометрически правильные черты блондинки.) — Надолго нарушена линия? — К утру наладят. («Пожалуй, все-таки человек».) — А в чем, собственно, дело? — поинтересовался Ньюмор. — Ремонтные и подготовительные работы на площади. («Так улыбаться может только женщина».) — Да, я вижу из окна. Создание выжидательно смотрело на Ньюмора. — Скажите, к чему это дурацкое покрытие на площади? — не сдержался Ньюмор. — Простите, я не могу входить в обсуждение распоряжений городских властей, — холодно сказала блондинка. Экран померк. «Конечно, робот», — решил Ньюмор. Ну что же, ситуация ясна. Ничего страшного. Позвоню в Уэстерн завтра утром и поговорю с Арбеном. Ньюмор оглядел еще раз огромную пустынную лабораторию, похожую на храм, и направился к выходу. Сотрудников Ньюмор терпел только по необходимости, предпочитая обходиться исполнительными, хотя и туповатыми роботами. Дел немало — вряд ли ему придется заснуть этой ночью. Неожиданный бунт Альвы — если можно назвать бунтом его непонятное поведение — спутал все карты. Прежде всего нужно отладить магнитную ловушку. Это дело капризное, и без участия Ньюмора здесь не обойтись. Кроме того, нужно обклеить защитным пластиком какую-нибудь из комнат, поменьше. В этой комнате Арбен будет жить до тех пор, пока Альва, привлеченный приманкой, не попадется в ловушку. Главное — поймать Альву. Тогда-то Ньюмор сумеет выяснить, что произошло, и слепить из двух половинок единое целое, имя коему — инженер Арбен. Обклеить комнату — дело, конечно, нехитрое, с этим справится любой лаборант. Но чем меньше людей будут посвящены в тайну Альвы, тем лучше. Времена теперь такие, что даже роботу доверять нельзя. Лучше уж сам он обклеит комнату пластиком. Да оно и надежнее — ведь малейшая щель сможет оказаться роковой. Ньюмор достал рулон ионопластика и принялся за работу, но предчувствие беды не покидало его. Ньюмор старался отвлечься, но мысль снова и снова возвращалась к двум блуждающим полюсам созданного им магнита, к Арбену и Альве, брошенным в каменный лабиринт огромного города.
Последние сутки, последняя ночь жизни Арбена в новом, «лучшем» качестве. Лучшем ли? Счет уже, собственно говоря, пошел на часы. После ресторана и решающего разговора с Ньюмором Арбен ехал домой по вечернему городу, предоставив машину автоводителю. Да, эксперимент Ньюмора не удался. Быть может, он был заранее обречен на неудачу — как знать? Разве под силу человеку изменить природу себе подобного? Бесплотный Альва в главном оказался несостоятельным: он не смог даже вытравить из памяти Арбена красавчика Чарли. «А как заманчиво обладать могуществом природы — конструировать жизнь по собственным чертежам!» — размечтался Арбен. Доведись ему по собственному разумению наново создавать то, что именуют жизнью, — о, уж он постарался бы, чтобы каждое, даже самое последнее существо на лестнице бытия было счастливо!.. «Безан» бесшумно мчался по улицам. Арбен рассеянно поглядывал по сторонам, думая о завтрашнем дне. …Почему в нашем мире жизнь неотделима от страдания? В душе Арбена шевельнулось давно забытое волнение: оно всегда предшествовало вольной импровизации, когда слова послушно выстраиваются в строки, а мысли облекаются в образы. Давно не посещало его это чувство — с тех самых пор, как Альва появился на улицах города… Выходит, и тут изобретение Ньюмора оказалось несостоятельным. Арбен закрыл глаза. В голове одна за другой вспыхивали, теснились, рождались строки. «Надо бы записать… Ладно, сделаю это завтра, когда вернусь от Ньюмора», — подумал Арбен. И тут он вспомнил о Чарли. …Это случилось давно, еще на втором курсе обучения. Они занимались в параллельных группах. Красавчик Чарли всех затмевал. Ловкий, подтянутый, всегда тщательно выбритый, даже в дни учебного поиска, когда чуть не каждый курсант обрастал бородой. Разумеется, Чарли пользовался наибольшим успехом среди представительниц прекрасного пола, — иначе и быть не могло. Но это была только одна сторона дела, пожалуй наименее важная. Куда удивительней было то, что при всех своих бесчисленных увлечениях Чарли ухитрялся оставаться первым среди первых. «Талант», — говорили одни. «Пройдоха», — пожимали плечами другие. Как бы там ни было, никто лучше Чарли Канцоне не мог решить комплексную инженерную задачу, а когда в училище приезжала инспекция с Базы или из Центра, начальство неизменно выставляло Чарли на переднюю линию огня. Арбен долго крепился, снедаемый завистью. Он понимал, что не ему, с его средними задатками, тягаться с блестящим Чарли. Арбен был старателен, очень старателен, но тот результат, которого он добивался упорным, многодневным трудом, давался баловню судьбы Чарли шутя. Притом инженерные решения его по изяществу и остроумию далеко превосходили любые проекты Арбена. «Сработано топором» — так однажды выразился экзаменатор, рассматривая проект городского подземного перехода, представленный Арбеном. Жизнь стала совсем невыносимой, когда на горизонте появилась Виннипег — эфирное создание, исполнявшее обязанности диспетчера учебной части. Сначала Арбену казалось, что он наконец понял смысл существования. И Винни ему оказывала знаки внимания. Она охотно щебетала с ним, а однажды даже разрешила сводить себя в кафе и угостить мороженым. Но в один прекрасный вечер Арбен увидел Винни в обществе Чарли, и свет для него померк. Он придумывал тысячи способов убрать с дороги соперника, но то, что казалось убедительным и удачным в ночной тиши, утром представлялось бессмысленным. Арбен подолгу с мрачным видом сидел у зеркала, изучая свое весьма заурядное лицо. Нет, не с такими данными вступать в единоборство с неотразимым Чарли. Откинувшись на спинку сиденья, Арбен невидящим взглядом скользнул по темным громадам домов, погруженных в сон. После беспокойного дня город засыпал рано. Светились лишь редкие купола ночных клубов. Зачем он вошел тогда в ангар? Разыскать масленку? Моток пермаллоевой проволоки? А может быть, просто отдохнуть в прохладе? Тысячи раз потом пытался Арбен восстановить до мельчайших штрихов детали происшествия. Но эта мелочь навсегда ускользнула из памяти. Стоял жаркий июльский полдень. Все изнывали от небывалого в этих широтах зноя. Арбен, уроженец севера, чувствовал себя отвратительно. Он, помнится, долго слонялся по учебному аэродрому, прежде чем войти в ангар. Постоял у дверей, пока глаза привыкли к полумраку. Здесь было прохладно, и Арбен решительно направился в ангар. Внезапно он остановился. Впереди, в самом центре золотистого солнечного конуса, льющегося с потолка, стоял Чарли. Его античное лицо было серьезно. Арбен присмотрелся. Чарли возился у катапульты. «Разве у него завтра полет?» — подумал Арбен. Инженеры проходили обязательную летную практику, которая — в зависимости от их специализации- занимала от одного-единственного полета в субпространство до солидных двухнедельных упражнений в открытом космосе. И Арбена и Чарли ждал в будущем единственный старт, — инженерам-наземникам большая космическая практика ни к чему. Катапульта в учебных полетах применялась чрезвычайно редко. Собственно, на памяти Арбена ни разу. Но на курсе ходила легенда, что когда-то ракета вспыхнула в полете, и катапульта вышвырнула практиканта, потерявшего сознание от перегрузки. Парашют опустил его в озеро, откуда добровольцы выловили незадачливого космонавта. Насколько эта легенда соответствовала истине, сказать никто не мог. Принцип действия катапульты был несложен. В случае опасности нажималась кнопка, верхушка корабля открывалась, и пилот выбрасывался вверх. Механизм был запрограммирован так, что в случае нужды мог сработать и автоматически, как и произошло в том легендарном случае. Видимо, Чарли интересовался автоматическим включением катапульты. Арбен знал, что в случае пожара замыкается химическая цепь, которая и включает взрывное устройство катапульты. Чарли, видимо, представлял это не очень ясно. А может, он хотел понять процесс во всех тонкостях? Арбен присмотрелся. Конечно, он возился с химическими реактивами. Наверно, желает самостоятельно составить включающую цепь. Наконец Чарли заметил Арбена. — Что, жарко? — громко сказал Чарли, разглядывая на свет пробирку ядовито-зеленого цвета. Арбен в ответ что-то буркнул и подошел поближе. Счастливый соперник притягивал его, как магнит. — Хочу выяснить, может ли эта штука сработать самостоятельно, — кивнул Чарли на кресло, похожее на трон. — Как самостоятельно? — не понял Арбен. — Я имею в виду — без причины, вернее, из-за какого-нибудь пустяка, — снисходительно пояснил Чарли. Чарли впервые удостаивал его серьезного разговора. До сих пор он отделывался лишь шутками. А может, сам Арбен виноват во всем? Он всегда был нелюдим. Чарли, наверное, в общем-то, неплохой парень. — По пустякам катапульта не срабатывает, — заявил убежденно Арбен. — Не уверен. Арбен подошел к испытательному стенду. Рубильник был выключен. Чарли хлопнул ладонью по потертому пластику сиденья, на котором не одно поколение будущих инженеров протирало форменные брюки. — Проблема — и самая важная — это надежность. Каждая деталь должна обладать запасом прочности, — сказал Чарли. — Ошибочная теория, — осмелился возразить Арбен. — Вы так думаете? — Чарли поставил пробирку в штатив и не спеша вытер руки белой тряпкой. — Лишний запас прочности перегружает конструкцию, — произнес Арбен. — А не кажется ли вам, что еще пагубнее недостаток прочности? — сощурился Чарли. — В таком случае контакты расходятся от малейшего дуновения ветерка. И в результате — автоматическая ракета сходит с курса, здание оседает набок после пустякового землетрясения, и девушка… — он выдержал паузу и с расстановкой произнес, — девушка уходит к другому. Кровь жаркой волной прихлынула к щекам. Арбен в полной растерянности отступил назад. Он чувствовал себя в положении собачонки, которую сначала приласкали, а затем ткнули ей в нос горящей сигаретой. Сколько лет прошло с тех пор, но до сих пор кажется, что все это произошло вчера. И улыбающийся Чарли стоит перед глазами, как живой… «Безан» равнодушно пожирал городское пространство. Машина миновала центр. Дома стали пониже, освещение — похуже. Окраина. Скоро начнется территория Уэстерна, и Арбен будет дома. Надо хорошенько отдохнуть перед завтрашним. Надо надеяться, он заснет: благо нервы пока крепкие. Чарли, Чарли… Не обращая больше внимания на уничтоженного Арбена, Чарли небрежным жестом опустил рубильник, затем подпрыгнул и ловким движением опустился в кресло учебной катапульты. Он решил испытать действие нового реактива, составленного им самим, как впоследствии установила комиссия. Сверху упал солнечный луч, и тонкая медная проволочка в пробирке ярко заблестела. Перед тем как сесть в кресло, Чарли поставил в штатив песочные часы, и золотистая струйка песка побежала в нижнее отделение пробирки, отсчитывая положенные ей пять минут. Чарли вздумал проверить, каким запасом прочности обладает придуманная им система. Он был уверен, что реактив не сумеет за пять минут разъесть проволочку и тем самым включить катапульту. Чтобы проверить это, достаточно было загрузить катапульту балластом, но Чарли, не задумываясь, сам вскочил в кресло. В чем, в чем, а в недостатке храбрости его нельзя было упрекнуть. Чарли сжал подлокотник, и сверху на него опустился прозрачный купол, выполненный из армированного пластика. Теперь он напоминал космонавта в кабине корабля — классическую картинку из детской книжки. Там со страниц на страницу кочевали именно такие конфетные красавчики. «Это он уж напрасно, — подумал Арбен, глядя на массивный купол. — Хвастун!..» Золотистая кучка песка медленно росла на дне пробирки. Медная проволочка истончилась настолько, что ее трудно было заметить простым глазом. «Слезай, хватит!» — хотелось крикнуть Арбену. Но он не крикнул. Может быть, потому, что купол, под которым сидел Чарли, был звуконепроницаемым? Как зачарованный смотрел Арбен на тоненькую песчаную струйку. Наконец-то! Струя иссякла. Пять минут прошло. Чарли улыбнулся Арбену и приветственно помахал рукой. Затем опустил руку на подлокотник… но прозрачный купол не поднялся. «Заело», — сообразил Арбен. Сквозь поблескивающую оболочку он видел, как побледнело красивое лицо Чарли. Он привстал и изо всех сил налег на препятствие, но герметический купол не поддавался. Купол служил для испытаний в ядовитой среде, и сорвать его вручную было почти невозможно. Чарли жестами показывал Арбену на пульт. Он что-то кричал, но слов не было слышно. Однако Арбен понимал, что от него требуется: подойти к пульту и включить аварийный стоп-сигнал. Тогда катапульта будет заблокирована. С минуту Арбен делал вид, что ничего не понимает. Он разводил руками, старательно изображая на лице сочувствие. Но жесты Чарли, великолепно владевшего собой, были настолько выразительны, что дольше тянуть не было никакой возможности. «Ангел в мышеловке», — подумал Арбен. И еще он подумал, что когда Чарли выберется из-под купола, он не простит ему проволочки. Между прочим, медный отрезок уже не виден. Арбен медленно протянул руку к стоп-сигналу, и в этот миг его оглушил резкий звук струны, лопнувшей над самым ухом. Мертвенное оранжевое пламя вырвалось аккуратным веером из-под катапультной установки. Капсула рванулась кверху. Метра через три прозрачный купол отвалился в сторону. Поздно!.. Кто это так тонко, по-заячьи закричал? Чарли или он сам? Высокий волнистый потолок ангара глухо охнул от многотонного удара. Дрогнули крестовины переплетений, не рассчитанные на такие нагрузки. Осколки оболочки посыпались вниз, один из них больно ударил Арбена в плечо. Арбен, задрав голову, глядел вверх, он окаменел, не в силах пошевелиться. Наверху расплывалось страшное пятно, сквозь которое пробивалось солнце. Сверху на рубашку Арбена упала тяжелая капля. Как завороженный он тронул ее пальцем, затем поспешно вытер руку тряпкой, которой десять минут назад пользовался Чарли, и опрометью бросился вон из ангара… …Два месяца не приходил к нему Чарли. Два месяца бесплотный Альва честно выполнял возложенную на него миссию — забрать к себе все призраки темных извилин совести Арбена. Однако преследование самого Альвы в конце концом стало невыносимым. Кто виноват? Арбен, который не выполнил всех условий жесткой инструкции Ньюмора? Или Альва оказался конструктивно недоработанным? Вероятно, Ньюм раньше времени пустил свое детище в ход, чтобы решить несколько неясных для него проблем биосвязи, а затем приступить к серийному производству и выкачиванию денег из богатых клиентов. «Он и других обманет, как меня, — размышлял Арбен, ставя машину в гараж. — Ни с чем не посчитается, лишь были бы жетоны. Ньюм — продавец иллюзий. Как только избавлюсь от Альвы, сделаю заявление в прессе…» Арбен вышел из гаража, остановился, вдыхая ночную прохладу. …Ангар был гораздо выше, чем гараж, — он напоминал модернистский храм, выстроенный недавно в родном городке Арбена на севере. Когда он выскочил из ангара, вокруг не было ни души — все попрятались от палящего солнца. На крик Арбена вышло несколько сонных курсантов, коротавших в тени сладкие часы учебного перерыва. — Чего орешь на весь аэродром? — осведомился кто-то. — Страшное приснилось? — предположил рыжий гигант с последнего курса. — Дайте ему платочек. — Приласкайте бедняжку, — со всех сторон посыпались предложения. Арбен обвел всех бессмысленным взглядом. — Э, да он, похоже, рехнулся! — В голосе рыжего зазвучала тревога. За четыре года пребывания на Базе ему пришлось насмотреться всякого: случалось, что нервы курсантов не выдерживали перегрузки. — Пойдем-ка, брат, в тень, — сочувственно сказал кто-то и крепко взял Арбена за руку. Арбен умоляюще глядел на обступивших его курсантов. Казалось, он хотел их о чем-то попросить, но не решался. Насмешливые и равнодушные лица сливались в одну страшную маску. — Что ж ты? Растревожил всех — и молчок? — Так не пойдет. — Он язык проглотил. — А где Чарли? — спохватился кто-то. — Он-то сразу поставит точный диагноз. — Он был со мной, а потом куда-то исчез. — Чарли! — Красавчик! — позвало сразу несколько голосов. — Ангелок! Арбен вздрогнул, как от удара. — Там… там… — проговорил он, указывая на ангар. — Ну, что там? — терпеливо, как у ребенка, спросил рыжий, делая жест, чтобы все замолчали. — Там… Чарли… — В ангаре? — На потолке… — Ясно, на потолке. Где же ему еще быть? — радостно подтвердил рыжий. — Потеря ориентации в пространстве, — вполголоса бросил он курсантам. Кто-то покачал головой. Если это так, бедняге не приходится завидовать. Шумная ватага со смехом и шутками вошла в ангар. Арбен остался один. Даже сквозь толстую подошву ощущался жар базальтовых плит, которыми был выстлан учебный малый аэродром. Отвесные солнечные лучи жгли и жалили. Грязный пот тек по лицу, Арбен не вытирал его. Он стоял неподвижно. …Он стоял неподвижно, наслаждаясь ночным холодом. Альвы пока можно не опасаться: он, наверно, бредет еще где-то в центре. Видно, никуда не деться от воспоминаний, особенно такого свойства. Он попытался. Не вышло. Значит, Чарли будет с ним до гроба. Только когда совсем закоченел, Арбен отправился к себе. «Утром зайду к медикам. Скажу — обычный ожог», — подумал он, запирая за собой дверь комнаты. Но идти к медикам не пришлось. К утру боль почти прошла. Весело насвистывая, он включил видеофон. Хорошенькая секретарша, увидев Арбена, поспешно отвела глаза в сторону: она до сих пор не научилась выносить его взгляда. — Я сегодня не буду в отделе, — небрежно сказал Арбен. — Что передать? — вскинула брови секретарша. — Еду к Ньюмору. Надо обсудить одну идею. — К Ньюмору? — переспросила она. — Да. — А он уже звонил сюда, — неожиданно сказала секретарша. — К вам? — Ну да, в компанию. «Странно», — подумал Арбен, — Доктор Ньюмор сказал, что у вас к нему важное дело. И просил, чтобы вас не задерживали. «Трогательная забота о будущем разоблачителе», — усмехнулся Арбен, выключая экран. Где-то сейчас Альва? Приблизился, наверно, за ночь к его дому? А может, бродит бесцельно по улицам, потеряв ориентир? Откуда бедняге знать, что жить ему остается совсем немного? И убьет его — какая ирония судьбы! — сам создатель. Скоро Арбен снова возвратится в прежнее состояние, а Альва исчезнет, растает, распадется на элементарные частицы. Интересно, как это произойдет: постепенно или сразу, в виде этакого фейерверка? Можно спросить у Ньюма. Впрочем, лучше не надо: вряд ли разговор на эту тему будет ему приятен. Голову Арбен старался не поворачивать — вчерашнее происшествие давало себя знать, но даже боль не могла испортить радужного настроения. …Чарли? Который? А, это тот, что влип в потолок ангара. Поделом. Хвастовство никогда не доводит до добра. Но при чем здесь он, Арбен? Вместе с рассветом исчезли ночные страхи, и к Арбену вернулась самоуверенность. Может быть, не ехать к Ньюмору? Оставить все, как есть? Но он отверг эту мысль. Слишком живо было воспоминание о ночной погоне по пустынной улице и вокруг подземки. А не подвернись ему этот купол, давший возможность перехитрить Альву? Подумать страшно… И потом Чарли, так неожиданно и грозно явившийся из небытия, прорвав толщу почти двухмесячного полного забвения. В таком случае грош цена ньюморовскому изобретению. Пусть Ньюмор поищет других дураков. Едва ли ему это удастся после такой неудачи, которая явилась, вероятно, плодом поспешности и едва не стоила Арбену жизни. Ньюмор обманул его. Так станет ли он, Арбен, молчать, набрав воды в рот? Раньше, до Альвы, он был больным, теперь стал здоровым. Неужели ему хочется возвратиться в прежнее состояние? Был больным… Никто из окружающих не знал, что все болезни, одолевающие Арбена, сводятся к одной, имя которой — Чарли. Кошмары измучили инженера, лишили сна, издергали нервы, заставили дрожать руки. Ньюмор тогда намекнул, что Альва может навсегда исцелить от дурных воспоминаний. Мог ли он отказаться от такого шанса?! …Но теперь-то он будет знать, как быть. Он прогонит Чарли, если тот придет к нему. Да, попросту прогонит. — …Ты убийца, — как всегда, произнесет Красавчик. — Ложь, — спокойно ответит Арбен. — Ложь? — удивится Чарли. — А кто же тогда убил меня? — Ты сам. Вернее, твоя гордыня. Спасение наше — в смирении. — Ах, так это, значит, моя гордыня промедлила включить сбрасыватель оболочки, когда я сидел в катапульте? …Ядовитый голос Чарли прозвучал так явственно, что Арбен вздрогнул и обернулся. Все в порядке. Машина миновала огромный купол политеатра и теперь мчалась по мосту, соединяющему восточную и западную части города. Автоводитель вел машину по кратчайшему пути в место, указанное Арбеном. Светящийся пунктир на стереокарте указывал, что пройдено уже больше половины расстояния. «Ньюмор уже ждет меня, наверно», — подумал Арбен, глядя сквозь ажурные мостовые пролеты на тяжелые свинцовые волны. Река, разделявшая город, никогда, даже в самые лютые морозы, не замерзала, — слишком обильно пополнял ее Уэстерн радиоактивными отбросами. Странно было видеть зимой, среди заснеженных берегов, дымящуюся черную воду, лениво идущую к заливу. Правда, компания уверяла, что отбросы абсолютно безвредны для жизни. И действительно, рыба в реке не переводилась. Но горожане все-таки избегали купаться в реке, и пляжи вечно пустовали. По мере того как светящаяся пунктирная линия на пульте удлинялась, в душе Арбена росло смутное беспокойство. Его начало волновать, что Ньюмор назначил встречу на биоцентре. Арбен бывал там несколько раз и знал, что въезд на биоцентр на машине воспрещен. Арбен войдет в нейтритовую дверь и поднесет к окошечку величиной с ладонь блокнотный листок с автографом Ньюмора. Там, за окошечком, электронный мозг быстро и безошибочно установит подлинность пропуска — возможность подделки исключена, — и луч фотоэлемента не спеша мигнет. Турникет сделает полный оборот, и путь к Ньюмору свободен. А там-то уж он будет под крылышком Ньюма. Если Альва проникнет и туда — значит, они погибнут все вместе. Надо надеяться, хитромудрый Ньюмор подумал об этом. Наверно, он подготовился к опасному визиту, обклеив стены ионопластиком. Машина затормозила так резко, что Арбен едва не ударился о щиток. Притупившаяся боль в затылке тотчас напомнила о себе. Арбен глянул вперед и выругался. Площадь перед входом в биоцентр была огорожена. «Подземные работы. Проезд временно закрыт» — извещала табличка. Ровный лед совсем по-зимнему блестел в лучах утреннего солнца. Арбен сидел в кабине, собираясь с духом. «Откуда быть здесь Альве? — успокаивал он себя, оглядываясь. — За два месяца у него, наверно, выработалось какое-то подобие рефлексов, и он знает, запомнил, что в это время я бываю не здесь, а на противоположном конце города, на территории Уэстерна. Ньюм звонил. Он ждет меня». Решившись, Арбен рывком открыл дверцу и выпрыгнул из машины. Сегодня было, пожалуй, еще холоднее, чем вчера. Ледяная поверхность площади сухо блестела. «Странный лед», — подумал Арбен. Он с первого же шага поскользнулся и едва не упал. Рука коснулась жесткой искрящейся поверхности. «Искусственный лед», — осенило Арбена. Так и есть. Какой идиот залил площадь? Кому понадобился лед? И почему не воспользоваться для этого обычной водой? Ах, да, температура вчера была около нуля, вода бы попросту не замерзла… Вспомнив детство, Арбен попытался было разбежаться, чтобы заскользить, но упругая волна ударила в лицо так, что он задохнулся и едва удержался на ногах. «Ничего, скоро уже не будет этого проклятого ограничителя скорости», — подумал он, осторожно продвигаясь вперед. Людей на площади почти не было. Только по краям двигалось несколько прохожих. Там было, наверно, не так скользко. Но Арбен решил пересечь площадь по кратчайшему пути. Занятый своими мыслями, Арбен не сразу заметил, как от памятника, возвышавшегося в центре площади, отделилась фигура и двинулась ему навстречу. — Чарли!.. Опять… — пробормотал Арбен, снова опуская взгляд. Но это был не Чарли. Когда Арбен понял, в чем дело, было поздно. Навстречу инженеру двигался его двойник, его вторая половина — Альва. Время было упущено. Кроме того, возможность маневра на скользкой поверхности для Арбена была ограничена. Что же касается Альвы, то ему было безразлично — лед под ним или асфальт. Арбен все же сделал попытку увернуться от встречи, но тут же остановился. Не лучше ли разом покончить со всем? И он, улыбнувшись, пошел навстречу призрачному двойнику… Навстречу тягостным воспоминаниям, навстречу Чарли, навстречу тайным угрызениям — навстречу собственной совести. «Как он все же смог узнать, что я буду на площади в это утро? Неужели Альва приобрел телепатические свойства?» Это было последнее, что успел подумать Арбен. Взрыв прозвучал приглушенно. На месте вспышки поднялся вверх бурый гриб средних размеров. Площадь, еще минуту назад выглядевшая почти пустынной, вдруг ожила. В любом городе в любое время дня всегда найдется достаточно людей, которые ни за что не упустят возможности поглазеть на уличное происшествие — будь то столкновение двух геликоптеров, упавших на дорогу, или внезапныйобморок прохожего. — Труба лопнула, — высказал кто-то предположение. — Ничего подобного. Петарду взорвали, я сам видел, — уверял другой. Кольцо вокруг бурого облака увеличивалось: подходили все новые и новые зеваки. Однако никто не решался приблизиться к непонятному феномену, все выдерживали почтительное расстояние. — Петарда дает только белый дым. — Дым может быть любым: все зависит от добавляемых солей, — заметил бас. — А вы откуда знаете? Сами взрывали? — Вчера в политеатре взорвали такую же, — перебил взволнованный голос. — Жена в обморок упала… Представляете? В середине представления вдруг в задних рядах что-то хлопает. Ну, мы сидим, не обращаем внимания: мало ли что? Может, это режиссер придумал какой-то новый шумовой эффект? Сейчас такие штуки в моде… Оборачиваюсь — прямо на нас ползет белое облако. Публика волнуется, кричит. Чувствую — в горле першит. Подступают слезы. «Слезоточивая» — кто-то кричит. Я жену на руки — и к выходу. А там толчея… Спектакль, конечно, сорвался. — На днях в Восточном храме такую же мерзость учинили, — сказала суровая старуха в черном. — Спектакль прервали? — Богохульник, — отрезала старуха. Облако странной формы, собравшее большую толпу, постепенно рассеивалось, вытягиваясь в высокий столб, расширявшийся кверху. — Я все видел с самого начала, — взволнованно говорил кто-то. — Вижу — человек идет по площади. Вернее, не идет, а скользит — чуть не падает. — Куда ж он идет? — А вон туда. — Рассказчик кивнул в сторону старого памятника. Идиллическая группа изображала пастуха и пастушку на отдыхе. — Ну, идет и идет. Тут из-за памятника навстречу ему выходит второй человек. Я глазам не верю: оба одинаковы, близнецы, да и только… — Ясно, — констатировал молодой человек. — Из одного получилось два, и оба одинаковые. В толпе понимающе заулыбались. — Дайте досказать, — продолжал рассказчик. — Они шли навстречу друг другу. Медленно этак, не спеша. Тот, что вышел из-за памятника, даже руки протянул навстречу другому. Сейчас, думаю, обнимутся. А они чуть коснулись друг друга — так сразу и взрыв… — Ай-яй-яй! — покачал головой молодой человек, добровольно принявший на себя роль увеселителя толпы. — Вот баловники-то! — А сами-то они… эти двое… куда они девались? — спросила старуха в черном. — Не знаю… не заметил… по-моему, они исчезли, — растерялся рассказчик. — Как это исчезли? — спросила старуха, словно рассказчик отвечал за все происшедшее. — Они исчезнуть не могли. Это были ангелы господни, и они теперь находятся среди нас, — торжественно заключила она. Со всех сторон посыпались насмешки. — Ангелы взорвались! — с восторгом завизжал мальчишка с красным от холода носом. — Реактивные ангелы, — пробасил мужчина. В разгар веселья из автоматических ворот вышел бледный человек. Толпа затихла. Человек шагал уверенно, не оскользаясь — подошвы его ботинок были снабжены антифрикционными шипами. — Это Ньюмор, — прошел шепоток. Знаменитого физика многие знали в лицо — он часто появлялся на экранах видеозоров. Кольцо расступилось, и Ньюмор подошел к самому газовому столбу, темная сердцевина которого к этому времени заметно посветлела. Ньюмор вынул карманный дозиметр и сунул его в дым. Только теперь люди подумали об опасности радиации. Передние пятились, тесня стоящих сзади. Ньюмор посмотрел на шкалу дозиметра и озабоченно покачал головой. — Объясните, что случилось? — спросил молодой человек. — Неужели это подземные трубы? — спросил кто-то. — Вы правы, — не глядя, хмуро бросил Ньюмор. — Лопнула подземная магистраль. — Вот видите! А я что говорил! Ньюмор достал пакетик, разорвал его и высыпал белый порошок прямо в медленно колеблющийся дым. Остатки дыма начали быстро рассеиваться, в нем образовывались провалы. Через минуту бурый столб улетучился. На его месте появилась глубокая воронка, на дне ее маслянисто поблескивала темная жидкость. Наиболее отважные, заглянувшие внутрь, ощутили грозовой запах озона. — Тех, кому жизнь дорога, прошу очистить площадь, — резко произнес Ньюмор. Толкаясь, зрители поспешно стали расходиться, осторожно ступая по искусственному льду, выстлавшему площадь.
Игорь Скорин КНИГОЛЮБЫ Приключенческая повесть
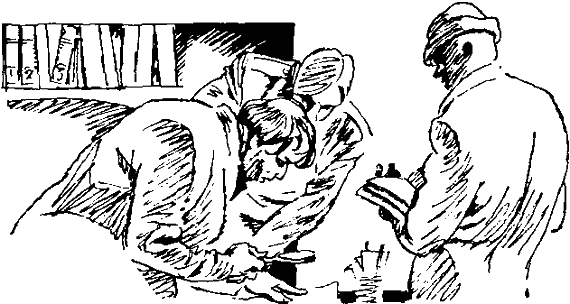 Маленькая женщина с испуганным лицом, поминутно поправляя очки и вытирая выступавшие слезы, начала рассказывать. Говорила она медленно, с недоумением переводя взгляд то на одного, то на другого работника уголовного розыска, словно никак не могла поверить в случившееся.
— Костя, мой муж, ушел рано утром и обещал вернуться часа через два — в девять или в начале десятого. Я убрала квартиру и стала готовить обед. Примерно в половине девятого или чуть позже пришел мальчик и принес мужу книжки. Я сказала, чтобы он подождал, и он сел на тот стул, где теперь вы сидите, а я там на табуретке чистила картошку. В передней зазвонил звонок, я решила, что это Костя, а руки у меня были мокрые, и попросила мальчика открыть дверь. Что, ключи? Нет, у мужа ключей не было. Я свои потеряла, и у нас остался один-единственный комплект. Так вот, я услышала, как Павлик повозился с замком, потом закричал: «Тетя Наташа! Тетя Наташа!» — вбежал в кухню, а за ним двое мужчин в масках. Высокие, прямо огромные, один с ножом, и ко мне. «Молчи», — говорит. Другой ударил мальчика по голове какой-то палкой, тот сразу упал. Они накинули мне на голову мешок, связали руки и ноги, перетащили в комнату и привязали к спинке дивана. В это время хлопнула дверь. Я подумала, что пришел Костя, и еще больше испугалась: решила, что они его сейчас убьют. Один бандит выскочил в коридор и стал кричать на второго, что он плохо пристукнул мальчишку и тот убежал и сейчас приведет милицию. Они очень торопились. Зашли в спальню, я слышала, как открыли шкаф. Вытащили магнитофон, что-то свалили, что-то разбили. В папином кабинете лазили в письменный стол. Мне все время говорили: «Молчи, молчи». Спросили, где деньги. Я сказала, что все наличные у меня в сумке, а она в прихожей на вешалке. Там немного было — около семидесяти рублей. Перед уходом бандиты предупредили, чтобы я не кричала, а то вернутся и убьют. — Женщина говорила и плакала, видимо, снова переживала то, что произошло совсем недавно — около часа назад. — Что украли? Не знаю. Видела, что нет двух магнитофонов.
Начальник уголовного розыска местного отделения милиции майор Афанасьев вместе с потерпевшей обошел большую трехкомнатную квартиру. Всюду царил беспорядок. Перед платяным шкафом валялся ворох одежды. У туалетного зеркала ящики были выдвинуты, по полу разбросаны пустые коробки от ювелирных изделий.
Хозяйка, рассматривая свою спальню, несколько успокоилась. Отпихнула ногой валявшуюся на полу плоскую коробку и даже улыбнулась:
— Арабские медяшки с бирюзой взяли, а папины запонки оставили. В них настоящие камни и платина.
В гостиной следователь и эксперт производили осмотр. Чтобы не мешать им, майор попросил женщину вернуться на кухню. Как он ни пытался выяснить более детально приметы грабителей, ему это не удалось. Женщине преступники казались высоченными, косой сажени в плечах и железной силищи в руках.
— Вы видели, как ударили мальчика?
— Да, кровь так и брызнула в разные стороны, он упал, застонал и замолк. Думала, что его убили. Он лежал вон там, у стола.
Майор нагнулся, тщательно осмотрел пол и на линолеуме отыскал едва засохшие капли крови.
Афанасьев попросил эксперта-криминалиста изъять кровь, а потом помочь потерпевшей выяснить, что же пропало. Эксперт сразу же предупредил хозяйку, чтобы она ни к чему не прикасалась.
Женщина ушла, и на кухне ее место занял муж. Молодой человек, бледный, растерянный, тоже явно нуждающийся в валерьянке, рассказывал:
— Я был в институте, один выпускник с нашего курса обещал принести кое-какую справочную литературу. Взял — и сразу же назад. Выхожу из лифта, смотрю: дверь в нашу квартиру приоткрыта. Я вошел, позвал Наташу и услышал плач. Бросился в комнату, а она лежит связанная! Я развязал веревку, стащил с нее мешок, а жена прямо не в себе. Я позвал соседку, она фельдшер, позвонил в «скорую» и в МУР.
— Когда вы возвращались домой, на улице, возле дома или в подъезде кого-нибудь встретили?
— Нет. Никого не встретил, я шел от улицы Горького пешком и, когда подходил к дому, видел, как от нашего подъезда отъехала машина, кто в ней сидел, не разглядел. Но мне думается, что это была «Волга» двадцать четвертой модели, и, наверное, такси. Светло-серая или беж. Шашечек не рассмотрел, но, когда она сворачивала на улицу Герцена, заметил антенну — торчала из багажника, как удочка, ну такая, как у таксистов.
— Скажите, а что за мальчик к вам приходил?
— Павел Тюрин. Живет за городом, по Киевской дороге. Вдвоем с бабушкой. Мы с ним знакомы довольно давно.
— Зачем он приходил?
Костя взглянул на холодильник, где лежали две толстые книги в красном сафьяновом переплете, несколько раз как-то судорожно вздохнул и еще больше растерялся.
— Видите ли, Павлик с бабушкой очень нуждаются и поэтому продают книги. Кое-какие я у него купил. Вот и сегодня он должен был принести, да вот и принес… Только я думал, что он придет попозже.
Костя взял книгу, склонился над ней и просто на глазах стал меняться. Взгляд его забегал по строчкам, а руки любовно разглаживали страницы. Он словно забыл все случившееся, забыл, о чем шла речь:
— Посмотрите, какая прелесть! Столько лет, а она как новая. Даже страницы не потемнели. — Сообразив, что говорит что-то не то, он отодвинул книгу и продолжал: — Жаль Павлика. Вы не знаете, что с ним? Как он себя чувствует?
Этого Афанасьев, к сожалению, не знал. Он взял с холодильника одну книгу, потом другую, машинально их полистал и снова положил на холодильник. Рассматривая кровавую лужицу в том месте, где лежал мальчик, выглянул в коридор. В открытой двери появилась серая морда с большими торчащими вверх ушами. Глаза собаки были настороженными. Она посмотрела на потерпевшего, искоса взглянула на Афанасьева и уселась возле порога, высунув мокрый розовый язык. Вслед за ней в дверях появился ее хозяин-проводник. Он виновато развел руками и доложил:
— Трижды применял от мешка Ладу, дойдет до асфальта против подъезда, и все. Последний раз даже заскулила.
Овчарка сидела возле проводника, уставившись на майора Афанасьева, и поворачивала голову то на один, то на другой бок, каждый раз выставляя вперед то одно, то другое ухо. Словно боялась пропустить ценные указания.
— Ну что же, ничего не поделаешь. У вас есть целлофановый контейнер?
— Есть. Я сейчас со следователем и понятыми все упакую.
— Попросите эксперта сначала тщательно осмотреть этот мешок.
— Осмотрели. Нет никаких маркировок, надписей, недавно стиранный.
Майор Афанасьев подошел к овчарке, хотел ее погладить, но собака, словно решила показать, что не нуждается в соболезновании, отвернулась. Тогда майор заискивающе заговорил:
— Как думаешь, Ладушка, пригодится нам этот мешок или нет?
Собака вильнула хвостом, посмотрела на Афанасьева, словно хотела сказать: все может быть.
Афанасьев приказал своим помощникам:
— Вы, товарищ Ильин, вместе с Киселевым останетесь здесь в помощь следователю. Постарайтесь выяснить, не видел ли кто из соседей грабителей. А я к себе.
На улице майор попросил шофера оперативной машины подвезти его и через несколько минут был в отделении. Проходя мимо дежурной части, он перехватил вопросительный взгляд дежурного и виновато пожал плечами.
Поднимаясь к себе на второй этаж, Афанасьев столкнулся с молодым лейтенантом, на котором сияла серебром и медью новая милицейская форма.
— Что это вы, товарищ Звягин, в такую жару вырядились? — удивился начальник уголовного розыска.
— Сегодня по графику поддежуривает Ильин, мы с ним поменялись, а вы сами говорили, чтобы в форме. — Помявшись, лейтенант одернул френч и спросил: — Александр Филиппович, ну как?
— Что как? Такие преступления за сорок минут не раскрывают! — взорвался Афанасьев.
— Да нет, я не про разбой. Как сидит? Шил на заказ и только вчера получил.
Майор оторопело посмотрел на инспектора, понял, что речь идет о его новенькой форме, и с усилием сдержался, чтобы не чертыхнуться.
— Сидит отлично. Не хватает только университетского значка для солидности.
— Будет значок. Будет через три года, — пообещал лейтенант и, перепрыгивая по две ступеньки, заспешил вниз.
— Минутку, Звягин! — остановил Афанасьев лейтенанта. — То, что вы в форме, даже отлично. Есть возможность блеснуть. Срочно поезжайте в центральную диспетчерскую такси и по радио выясните, была ли сегодня около девяти часов чья-нибудь машина на Суворовском бульваре. Возле дома, где произошло ограбление. Если найдется, водителя немедленно ко мне. Ясно?
— Ясно, товарищ майор! Разве у грабителей была машина?
— Этого я не знаю, а проверить нужно.
В кабинете майор снял серую спортивную куртку и повесил в шкаф. Открыл оба окна, включил вентилятор, а потом снял трубку прямого телефона и попросил дежурного по МУРу.
— Виктор Иванович? Доброе утро! Конечно, утро, раз без четверти одиннадцать. Только что вернулся, группа и ребята еще на месте. Собака? Дошла до асфальта и утеряла след, не исключена машина, видели у подъезда, кажется, такси. В диспетчерскую уже послал. Виктор Иванович, у меня две просьбы. Перед ограблением к потерпевшему пришел парнишка — Тюрин Павел, знакомый хозяина. Живет в Московской области по Киевской дороге. По просьбе хозяйки открыл дверь преступникам. Грабители на глазах у пострадавшей ударили его по голове. Он упал, а потом сбежал. В том месте, где лежал, есть кровь. Дай, пожалуйста, команду по городу, по селектору или телетайпу, всем отделениям: как только объявится, сразу сообщить нам. Пусть проверят поликлиники, «скорую», больницы, может, у него ранение тяжелое и убежал-то он сгоряча. Очень ценный свидетель. И второе. Как только приедет с места опергруппа, передай всем приметы вещей. Да, много. Что именно взяли, выясняют. У меня все.
Афанасьев уселся поглубже в кресло и закрыл глаза. Со стороны могло представиться, что майор задремал, настолько неподвижной и расслабленной казалась его фигура. Но он думал настойчиво, напряженно, стараясь собрать воедино какие-то отдельные, разрозненные факты. «Маски, мешок, нож… все эти детективные аксессуары любят дилетанты. Может быть, мальчишки? Однако хозяйка говорит, что они большие и сильные. Хотя и мой Петька в свои шестнадцать меня перерос. Акселерация… А потерпевшая-то маленькая, да и страх на нее напал. Ей преступники могли показаться огромными. Магнитофоны забрали — это тоже для юнцов характерно. Вон Петр все уши прожужжал: «Буду зарабатывать на маг…» И обязательно «Грюндик», другой не хочет. Да и в ценностях эти разбойнички ни черта не смыслят; стекляшки, что поцветистее, забрали, а настоящие камни оставили. Видимо, это группа новая. Несколько лет подобных налетов в Москве не было. Как они нашли эту квартиру? Кто-то навел. Знали точно, что женщина одна. Знали, что есть, чем поживиться. А что же все-таки с парнишкой? Неужели серьезное ранение? Но он же сумел убежать. Убежать-то убежал, но ведь известны случаи, когда люди в каких-то острых ситуациях почти мертвые поднимаются и идут и даже совершают героические поступки».
Телефонный звонок прервал размышления начальника уголовного розыска.
— Александр Филиппович! Лейтенант Звягин докладывает. Я его нашел, он их действительно вез.
— Где вы находитесь?
— У центральной диспетчерской.
— Подъезжайте к отделению, я выхожу.
Афанасьев встал, быстро надел куртку и направился к двери. На секунду остановился, вернулся к письменному столу, взял чистый лист бумаги и стал быстро писать. Затем сложил его пополам и, взяв с собой, вышел из кабинета. По-приятельски окликнул дежурного и попросил:
— Слушай, Леша! Срочно разыщи старшего инспектора Павлова, пусть все бросит и выполняет мое задание. Вот здесь я все ему написал. Нашелся таксист, что возил грабителей, только ты об этом пока никому. Добро?
На улице в потоке машин, пробегавших мимо отделения, Афанасьев издали заметил автомобиль, где рядом с шофером виднелась улыбающаяся, довольная физиономия Звягина. Едва водитель притормозил, Афанасьев вскочил в машину и попросил:
— Выберите место, где поудобнее, и остановитесь, поговорим.
Пожилой, степенный шофер повернулся к Звягину, а тот не мог спокойно сидеть на месте.
— Николай Митрофанович, это мой начальник, майор Афанасьев. Расскажите ему все, как было.
— Да, да, пожалуйста, — попросил Афанасьев.
Остановив машину, шофер взял сигарету у Звягина, не торопясь затянулся и начал рассказывать:
— Сегодня выехал из парка в семь утра, отвез до дому сменщика — он в ночь работал, — съездил на Белорусский вокзал и минут без двадцати девять подъехал на стоянку. На площади Пушкина. Там два молодых человека сели в машину. Один, что постарше, с белыми длинными волосами, говорит: «Заедем ко мне на Суворовский бульвар, заберем вещи и к Алику на дачу — в Серебряный бор». Я спрашиваю: «Что-нибудь громоздкое?» А он усмехнулся и говорит, чтобы я не беспокоился, мебель брать не будут, так как у его друга дача хорошо обставлена. Ну, я, конечно, согласился. Подъехали к дому, они указали подъезд. Второй парень, который все время молчал, записал номер, чтобы я не уехал, на пачке сигарет, а первый положил мне на сиденье червонец, чтобы я не думал, что они сбежали, и попросил несколько минут подождать. Минут через семь — восемь они вышли. Алик нес чемодан и магнитофон. У беловолосого были две большие дорожные сумки и радиоприемник. Я хотел положить вещи в багажник, но они все засунули на заднее сиденье и сказали, чтобы я ехал быстрее, а то у них времени в обрез, еще нужно на работу поспеть. Мы доехали до Серебряного бора, свернули с главной улицы в переулок, подъехали к даче. Я еще спросил, почему она такая заброшенная. Алик сказал, что родители уехали на юг, а он больше в городе. Вход в усадьбу с маленького тупика. Они выгрузились, дали мне еще пятерку, хотя на счетчике было всего четыре рубля двадцать копеек, и я уехал.
— О чем говорили по дороге? — спросил Афанасьев.
— Ни о чем. Молчали оба. Белый все время то пел, то насвистывал и назад оглядывался. А Алик курил сигарету за сигаретой.
— Вы хорошо их запомнили?
— Одного рассмотрел отменно. Белого. Он поменьше вас будет, но плотный такой парень. Я думаю, что он моему Лехе ровесник, а тому в августе девятнадцать будет. Когда сел, рукава у рубашки закатал, мускулы здоровые, руки большие, загорелые и все в рыжих волосах.
— А каких-нибудь наколок или шрамов не заметили? — вмешался Звягин.
— Чего не заметил, того не заметил.
— Что на нем было надето? — спросил Афанасьев, тщательно записывая в блокнот приметы.
— Серая рубашка с карманчиком на груди, я еще себе такую хотел купить, да размер не подошел. Она чешская, из хлопка, летом в ней не жарко. В джинсах, а на ногах босоножки, наверное, заграничные, спереди два широких ремня, темно-коричневые, и пряжка желтая. Алика я рассмотрел хуже. Он помоложе будет года на два или на три, голос грубый. Волосы черные, длинные и колечками на концах закручиваются. Я еще подумал, что на бигудях завивает. Теперь это у них модно. Расчесаны на пробор посредине. Брови широкие, а лицо узкое, бледное, усики пробиваются, еще бы бородку — на Христа бы смахивал. Только моложе, — усмехнулся шофер. — Рубашка на нем синяя, нейлоновая, а остальное не рассмотрел. Как будто в джинсах, а может, ошибаюсь.
— Вы помните то место, где их высадили?
— Конечно, помню. Если хотите, покажу.
Афанасьев насторожился. Уж больно все складно получалось: подъехать прямо на такси, задержать преступников — и разбойное нападение раскрыто. Так просто не бывает.
Звягин, слушая весь разговор, поворачивался то к Афанасьеву, то к водителю и, наконец, взмолился.
— Поедемте, Александр Филиппович, мы их там на даче тепленьких…
— Потерпи, друг. Вот что, Николай Митрофанович, едем-ка на Суворовский бульвар, а потом, как говорится, начнем от печки. Провезете нас тем самым маршрутом. Кстати, вы не заметили, Николай Митрофанович, что было в руках у ваших пассажиров, когда они к вам на площади Пушкина сели?
— У белого был лист плотной бумаги, скрученный в тонкую трубку. Ну знаете, такая бумага, на которой чертежи делают. А у Алика пакет небольшой, такой, если в газету завернуть, скажем, два батона.
— Когда вы ждали пассажиров, кто-нибудь заходил или выходил из подъезда?
— Вроде никто не заходил, а вот вышли пожилая женщина, затем мужчина в очках, да еще мальчишка выбежал небольшой, лет тринадцати или четырнадцати. Рукой все за голову держался. Он пробежал прямо перед моим радиатором, оглянулся на подъезд — и на проезжую часть. А там движение одностороннее, так он чуть под грузовик не угодил.
— Почему вы за ним наблюдали?
— Да я же вам говорю, он чуть под машину не попал. Вот я и думал, что шоферу из-за моей «Волги» парня этого не было видно, и он его легко мог сбить. Сбил, и все — тюрьма. Я наблюдал не за этим огольцом, а за своей шоферской судьбой. Тот водитель на грузовике так крутанул баранку, что я подумал, он в чугунную ограду врежется. Молодец, вывернул. Товарищ майор, вижу, вы со мной неспроста толкуете. Что эти двое наделали?
— Женщину связали и квартиру ограбили. В общем, вы, Николай Митрофанович, сегодня на чай с бандитов получили.
— Знать бы, так я завернул бы с ними на Петровку.
— Уж так бы и завернул! — усмехнулся Звягин.
— А ты думаешь, раз таксист, то шабашник? — рассердился водитель. — Я ведь мог и не сказать диспетчеру, что был на Суворовском, вот тогда бы вы меня и поискали. А то, как только диспетчер по радио спросила, кто в девять утра был на Суворовском, я сразу смекнул, что дело тут нечисто. Ну и сказал, потому что плевать мне на ихнюю десятку, приеду — сдам в кассу.
— Верно говорите, Николай Митрофанович. Видите милицейскую машину? Возле нее и остановитесь. Слушай, Звягин, это «Жигули» нашего Ильина. Сам он, наверное, в квартире у пострадавших. Поднимись на третий этаж, дверь справа. Вызови инспекторша сюда, а я пока позвоню. — И Афанасьев направился к стеклянной будке, прижавшейся к стене дома.
— Это опять я, Афанасьев. Нашелся таксист, он говорит, что увез бандитов в Серебряный бор на дачу. Но они почему-то выгрузились в каком-то тупике. Я съезжу, посмотрю. Одному не лезть? Со мной есть сыщик один. Еще прихватить? В помощь оперативной группе я оставил Ильина, думаю его взять с собой, тем более что он на своей машине.
Вскоре Звягин вернулся в сопровождении инспектора.
Майор быстро ввел его в курс событий.
— Ты знаешь кого-нибудь в местном ГАИ?
— Конечно, Александр Филиппович.
— Тогда нужно загнать к ним во двор такси, а мы с шофером съездим на твоей машине туда, где высадились эти типы. Неудобно нам на вашей машине ехать, — объяснил он водителю, — вы человек заметный, да и сами же говорите, что Алик номер ваш записал. Если они нас раньше времени заметят, потом их ищи-свищи. Вы не возражаете?
— Отчего же? Я согласился на все еще до того, как диспетчеру ответил, — пробурчал Николай Митрофанович.
— Ну тогда, Боря, вперед, а мы следом. Хотя постой. Возьми к себе нашего щеголя, и чтобы через пять минут он был в штатском.
— Как это в штатском, Александр Филиппович? — растерялся Звягин.
— Очень просто. Мундирчик сними, аккуратно сверни и Борису в багажник. У тебя, Боря, не найдется каких-нибудь брюк?
— Есть старенькие. Я в них машину мою. И рубашка найдется!
— Вот и одолжи их лейтенанту. Тогда мы его возьмем с собой и при случае даже представим возможность отличиться, может быть, позволим продемонстрировать успехи в изучении самбо, — посмеиваясь, говорил Афанасьев.
Маленькая женщина с испуганным лицом, поминутно поправляя очки и вытирая выступавшие слезы, начала рассказывать. Говорила она медленно, с недоумением переводя взгляд то на одного, то на другого работника уголовного розыска, словно никак не могла поверить в случившееся.
— Костя, мой муж, ушел рано утром и обещал вернуться часа через два — в девять или в начале десятого. Я убрала квартиру и стала готовить обед. Примерно в половине девятого или чуть позже пришел мальчик и принес мужу книжки. Я сказала, чтобы он подождал, и он сел на тот стул, где теперь вы сидите, а я там на табуретке чистила картошку. В передней зазвонил звонок, я решила, что это Костя, а руки у меня были мокрые, и попросила мальчика открыть дверь. Что, ключи? Нет, у мужа ключей не было. Я свои потеряла, и у нас остался один-единственный комплект. Так вот, я услышала, как Павлик повозился с замком, потом закричал: «Тетя Наташа! Тетя Наташа!» — вбежал в кухню, а за ним двое мужчин в масках. Высокие, прямо огромные, один с ножом, и ко мне. «Молчи», — говорит. Другой ударил мальчика по голове какой-то палкой, тот сразу упал. Они накинули мне на голову мешок, связали руки и ноги, перетащили в комнату и привязали к спинке дивана. В это время хлопнула дверь. Я подумала, что пришел Костя, и еще больше испугалась: решила, что они его сейчас убьют. Один бандит выскочил в коридор и стал кричать на второго, что он плохо пристукнул мальчишку и тот убежал и сейчас приведет милицию. Они очень торопились. Зашли в спальню, я слышала, как открыли шкаф. Вытащили магнитофон, что-то свалили, что-то разбили. В папином кабинете лазили в письменный стол. Мне все время говорили: «Молчи, молчи». Спросили, где деньги. Я сказала, что все наличные у меня в сумке, а она в прихожей на вешалке. Там немного было — около семидесяти рублей. Перед уходом бандиты предупредили, чтобы я не кричала, а то вернутся и убьют. — Женщина говорила и плакала, видимо, снова переживала то, что произошло совсем недавно — около часа назад. — Что украли? Не знаю. Видела, что нет двух магнитофонов.
Начальник уголовного розыска местного отделения милиции майор Афанасьев вместе с потерпевшей обошел большую трехкомнатную квартиру. Всюду царил беспорядок. Перед платяным шкафом валялся ворох одежды. У туалетного зеркала ящики были выдвинуты, по полу разбросаны пустые коробки от ювелирных изделий.
Хозяйка, рассматривая свою спальню, несколько успокоилась. Отпихнула ногой валявшуюся на полу плоскую коробку и даже улыбнулась:
— Арабские медяшки с бирюзой взяли, а папины запонки оставили. В них настоящие камни и платина.
В гостиной следователь и эксперт производили осмотр. Чтобы не мешать им, майор попросил женщину вернуться на кухню. Как он ни пытался выяснить более детально приметы грабителей, ему это не удалось. Женщине преступники казались высоченными, косой сажени в плечах и железной силищи в руках.
— Вы видели, как ударили мальчика?
— Да, кровь так и брызнула в разные стороны, он упал, застонал и замолк. Думала, что его убили. Он лежал вон там, у стола.
Майор нагнулся, тщательно осмотрел пол и на линолеуме отыскал едва засохшие капли крови.
Афанасьев попросил эксперта-криминалиста изъять кровь, а потом помочь потерпевшей выяснить, что же пропало. Эксперт сразу же предупредил хозяйку, чтобы она ни к чему не прикасалась.
Женщина ушла, и на кухне ее место занял муж. Молодой человек, бледный, растерянный, тоже явно нуждающийся в валерьянке, рассказывал:
— Я был в институте, один выпускник с нашего курса обещал принести кое-какую справочную литературу. Взял — и сразу же назад. Выхожу из лифта, смотрю: дверь в нашу квартиру приоткрыта. Я вошел, позвал Наташу и услышал плач. Бросился в комнату, а она лежит связанная! Я развязал веревку, стащил с нее мешок, а жена прямо не в себе. Я позвал соседку, она фельдшер, позвонил в «скорую» и в МУР.
— Когда вы возвращались домой, на улице, возле дома или в подъезде кого-нибудь встретили?
— Нет. Никого не встретил, я шел от улицы Горького пешком и, когда подходил к дому, видел, как от нашего подъезда отъехала машина, кто в ней сидел, не разглядел. Но мне думается, что это была «Волга» двадцать четвертой модели, и, наверное, такси. Светло-серая или беж. Шашечек не рассмотрел, но, когда она сворачивала на улицу Герцена, заметил антенну — торчала из багажника, как удочка, ну такая, как у таксистов.
— Скажите, а что за мальчик к вам приходил?
— Павел Тюрин. Живет за городом, по Киевской дороге. Вдвоем с бабушкой. Мы с ним знакомы довольно давно.
— Зачем он приходил?
Костя взглянул на холодильник, где лежали две толстые книги в красном сафьяновом переплете, несколько раз как-то судорожно вздохнул и еще больше растерялся.
— Видите ли, Павлик с бабушкой очень нуждаются и поэтому продают книги. Кое-какие я у него купил. Вот и сегодня он должен был принести, да вот и принес… Только я думал, что он придет попозже.
Костя взял книгу, склонился над ней и просто на глазах стал меняться. Взгляд его забегал по строчкам, а руки любовно разглаживали страницы. Он словно забыл все случившееся, забыл, о чем шла речь:
— Посмотрите, какая прелесть! Столько лет, а она как новая. Даже страницы не потемнели. — Сообразив, что говорит что-то не то, он отодвинул книгу и продолжал: — Жаль Павлика. Вы не знаете, что с ним? Как он себя чувствует?
Этого Афанасьев, к сожалению, не знал. Он взял с холодильника одну книгу, потом другую, машинально их полистал и снова положил на холодильник. Рассматривая кровавую лужицу в том месте, где лежал мальчик, выглянул в коридор. В открытой двери появилась серая морда с большими торчащими вверх ушами. Глаза собаки были настороженными. Она посмотрела на потерпевшего, искоса взглянула на Афанасьева и уселась возле порога, высунув мокрый розовый язык. Вслед за ней в дверях появился ее хозяин-проводник. Он виновато развел руками и доложил:
— Трижды применял от мешка Ладу, дойдет до асфальта против подъезда, и все. Последний раз даже заскулила.
Овчарка сидела возле проводника, уставившись на майора Афанасьева, и поворачивала голову то на один, то на другой бок, каждый раз выставляя вперед то одно, то другое ухо. Словно боялась пропустить ценные указания.
— Ну что же, ничего не поделаешь. У вас есть целлофановый контейнер?
— Есть. Я сейчас со следователем и понятыми все упакую.
— Попросите эксперта сначала тщательно осмотреть этот мешок.
— Осмотрели. Нет никаких маркировок, надписей, недавно стиранный.
Майор Афанасьев подошел к овчарке, хотел ее погладить, но собака, словно решила показать, что не нуждается в соболезновании, отвернулась. Тогда майор заискивающе заговорил:
— Как думаешь, Ладушка, пригодится нам этот мешок или нет?
Собака вильнула хвостом, посмотрела на Афанасьева, словно хотела сказать: все может быть.
Афанасьев приказал своим помощникам:
— Вы, товарищ Ильин, вместе с Киселевым останетесь здесь в помощь следователю. Постарайтесь выяснить, не видел ли кто из соседей грабителей. А я к себе.
На улице майор попросил шофера оперативной машины подвезти его и через несколько минут был в отделении. Проходя мимо дежурной части, он перехватил вопросительный взгляд дежурного и виновато пожал плечами.
Поднимаясь к себе на второй этаж, Афанасьев столкнулся с молодым лейтенантом, на котором сияла серебром и медью новая милицейская форма.
— Что это вы, товарищ Звягин, в такую жару вырядились? — удивился начальник уголовного розыска.
— Сегодня по графику поддежуривает Ильин, мы с ним поменялись, а вы сами говорили, чтобы в форме. — Помявшись, лейтенант одернул френч и спросил: — Александр Филиппович, ну как?
— Что как? Такие преступления за сорок минут не раскрывают! — взорвался Афанасьев.
— Да нет, я не про разбой. Как сидит? Шил на заказ и только вчера получил.
Майор оторопело посмотрел на инспектора, понял, что речь идет о его новенькой форме, и с усилием сдержался, чтобы не чертыхнуться.
— Сидит отлично. Не хватает только университетского значка для солидности.
— Будет значок. Будет через три года, — пообещал лейтенант и, перепрыгивая по две ступеньки, заспешил вниз.
— Минутку, Звягин! — остановил Афанасьев лейтенанта. — То, что вы в форме, даже отлично. Есть возможность блеснуть. Срочно поезжайте в центральную диспетчерскую такси и по радио выясните, была ли сегодня около девяти часов чья-нибудь машина на Суворовском бульваре. Возле дома, где произошло ограбление. Если найдется, водителя немедленно ко мне. Ясно?
— Ясно, товарищ майор! Разве у грабителей была машина?
— Этого я не знаю, а проверить нужно.
В кабинете майор снял серую спортивную куртку и повесил в шкаф. Открыл оба окна, включил вентилятор, а потом снял трубку прямого телефона и попросил дежурного по МУРу.
— Виктор Иванович? Доброе утро! Конечно, утро, раз без четверти одиннадцать. Только что вернулся, группа и ребята еще на месте. Собака? Дошла до асфальта и утеряла след, не исключена машина, видели у подъезда, кажется, такси. В диспетчерскую уже послал. Виктор Иванович, у меня две просьбы. Перед ограблением к потерпевшему пришел парнишка — Тюрин Павел, знакомый хозяина. Живет в Московской области по Киевской дороге. По просьбе хозяйки открыл дверь преступникам. Грабители на глазах у пострадавшей ударили его по голове. Он упал, а потом сбежал. В том месте, где лежал, есть кровь. Дай, пожалуйста, команду по городу, по селектору или телетайпу, всем отделениям: как только объявится, сразу сообщить нам. Пусть проверят поликлиники, «скорую», больницы, может, у него ранение тяжелое и убежал-то он сгоряча. Очень ценный свидетель. И второе. Как только приедет с места опергруппа, передай всем приметы вещей. Да, много. Что именно взяли, выясняют. У меня все.
Афанасьев уселся поглубже в кресло и закрыл глаза. Со стороны могло представиться, что майор задремал, настолько неподвижной и расслабленной казалась его фигура. Но он думал настойчиво, напряженно, стараясь собрать воедино какие-то отдельные, разрозненные факты. «Маски, мешок, нож… все эти детективные аксессуары любят дилетанты. Может быть, мальчишки? Однако хозяйка говорит, что они большие и сильные. Хотя и мой Петька в свои шестнадцать меня перерос. Акселерация… А потерпевшая-то маленькая, да и страх на нее напал. Ей преступники могли показаться огромными. Магнитофоны забрали — это тоже для юнцов характерно. Вон Петр все уши прожужжал: «Буду зарабатывать на маг…» И обязательно «Грюндик», другой не хочет. Да и в ценностях эти разбойнички ни черта не смыслят; стекляшки, что поцветистее, забрали, а настоящие камни оставили. Видимо, это группа новая. Несколько лет подобных налетов в Москве не было. Как они нашли эту квартиру? Кто-то навел. Знали точно, что женщина одна. Знали, что есть, чем поживиться. А что же все-таки с парнишкой? Неужели серьезное ранение? Но он же сумел убежать. Убежать-то убежал, но ведь известны случаи, когда люди в каких-то острых ситуациях почти мертвые поднимаются и идут и даже совершают героические поступки».
Телефонный звонок прервал размышления начальника уголовного розыска.
— Александр Филиппович! Лейтенант Звягин докладывает. Я его нашел, он их действительно вез.
— Где вы находитесь?
— У центральной диспетчерской.
— Подъезжайте к отделению, я выхожу.
Афанасьев встал, быстро надел куртку и направился к двери. На секунду остановился, вернулся к письменному столу, взял чистый лист бумаги и стал быстро писать. Затем сложил его пополам и, взяв с собой, вышел из кабинета. По-приятельски окликнул дежурного и попросил:
— Слушай, Леша! Срочно разыщи старшего инспектора Павлова, пусть все бросит и выполняет мое задание. Вот здесь я все ему написал. Нашелся таксист, что возил грабителей, только ты об этом пока никому. Добро?
На улице в потоке машин, пробегавших мимо отделения, Афанасьев издали заметил автомобиль, где рядом с шофером виднелась улыбающаяся, довольная физиономия Звягина. Едва водитель притормозил, Афанасьев вскочил в машину и попросил:
— Выберите место, где поудобнее, и остановитесь, поговорим.
Пожилой, степенный шофер повернулся к Звягину, а тот не мог спокойно сидеть на месте.
— Николай Митрофанович, это мой начальник, майор Афанасьев. Расскажите ему все, как было.
— Да, да, пожалуйста, — попросил Афанасьев.
Остановив машину, шофер взял сигарету у Звягина, не торопясь затянулся и начал рассказывать:
— Сегодня выехал из парка в семь утра, отвез до дому сменщика — он в ночь работал, — съездил на Белорусский вокзал и минут без двадцати девять подъехал на стоянку. На площади Пушкина. Там два молодых человека сели в машину. Один, что постарше, с белыми длинными волосами, говорит: «Заедем ко мне на Суворовский бульвар, заберем вещи и к Алику на дачу — в Серебряный бор». Я спрашиваю: «Что-нибудь громоздкое?» А он усмехнулся и говорит, чтобы я не беспокоился, мебель брать не будут, так как у его друга дача хорошо обставлена. Ну, я, конечно, согласился. Подъехали к дому, они указали подъезд. Второй парень, который все время молчал, записал номер, чтобы я не уехал, на пачке сигарет, а первый положил мне на сиденье червонец, чтобы я не думал, что они сбежали, и попросил несколько минут подождать. Минут через семь — восемь они вышли. Алик нес чемодан и магнитофон. У беловолосого были две большие дорожные сумки и радиоприемник. Я хотел положить вещи в багажник, но они все засунули на заднее сиденье и сказали, чтобы я ехал быстрее, а то у них времени в обрез, еще нужно на работу поспеть. Мы доехали до Серебряного бора, свернули с главной улицы в переулок, подъехали к даче. Я еще спросил, почему она такая заброшенная. Алик сказал, что родители уехали на юг, а он больше в городе. Вход в усадьбу с маленького тупика. Они выгрузились, дали мне еще пятерку, хотя на счетчике было всего четыре рубля двадцать копеек, и я уехал.
— О чем говорили по дороге? — спросил Афанасьев.
— Ни о чем. Молчали оба. Белый все время то пел, то насвистывал и назад оглядывался. А Алик курил сигарету за сигаретой.
— Вы хорошо их запомнили?
— Одного рассмотрел отменно. Белого. Он поменьше вас будет, но плотный такой парень. Я думаю, что он моему Лехе ровесник, а тому в августе девятнадцать будет. Когда сел, рукава у рубашки закатал, мускулы здоровые, руки большие, загорелые и все в рыжих волосах.
— А каких-нибудь наколок или шрамов не заметили? — вмешался Звягин.
— Чего не заметил, того не заметил.
— Что на нем было надето? — спросил Афанасьев, тщательно записывая в блокнот приметы.
— Серая рубашка с карманчиком на груди, я еще себе такую хотел купить, да размер не подошел. Она чешская, из хлопка, летом в ней не жарко. В джинсах, а на ногах босоножки, наверное, заграничные, спереди два широких ремня, темно-коричневые, и пряжка желтая. Алика я рассмотрел хуже. Он помоложе будет года на два или на три, голос грубый. Волосы черные, длинные и колечками на концах закручиваются. Я еще подумал, что на бигудях завивает. Теперь это у них модно. Расчесаны на пробор посредине. Брови широкие, а лицо узкое, бледное, усики пробиваются, еще бы бородку — на Христа бы смахивал. Только моложе, — усмехнулся шофер. — Рубашка на нем синяя, нейлоновая, а остальное не рассмотрел. Как будто в джинсах, а может, ошибаюсь.
— Вы помните то место, где их высадили?
— Конечно, помню. Если хотите, покажу.
Афанасьев насторожился. Уж больно все складно получалось: подъехать прямо на такси, задержать преступников — и разбойное нападение раскрыто. Так просто не бывает.
Звягин, слушая весь разговор, поворачивался то к Афанасьеву, то к водителю и, наконец, взмолился.
— Поедемте, Александр Филиппович, мы их там на даче тепленьких…
— Потерпи, друг. Вот что, Николай Митрофанович, едем-ка на Суворовский бульвар, а потом, как говорится, начнем от печки. Провезете нас тем самым маршрутом. Кстати, вы не заметили, Николай Митрофанович, что было в руках у ваших пассажиров, когда они к вам на площади Пушкина сели?
— У белого был лист плотной бумаги, скрученный в тонкую трубку. Ну знаете, такая бумага, на которой чертежи делают. А у Алика пакет небольшой, такой, если в газету завернуть, скажем, два батона.
— Когда вы ждали пассажиров, кто-нибудь заходил или выходил из подъезда?
— Вроде никто не заходил, а вот вышли пожилая женщина, затем мужчина в очках, да еще мальчишка выбежал небольшой, лет тринадцати или четырнадцати. Рукой все за голову держался. Он пробежал прямо перед моим радиатором, оглянулся на подъезд — и на проезжую часть. А там движение одностороннее, так он чуть под грузовик не угодил.
— Почему вы за ним наблюдали?
— Да я же вам говорю, он чуть под машину не попал. Вот я и думал, что шоферу из-за моей «Волги» парня этого не было видно, и он его легко мог сбить. Сбил, и все — тюрьма. Я наблюдал не за этим огольцом, а за своей шоферской судьбой. Тот водитель на грузовике так крутанул баранку, что я подумал, он в чугунную ограду врежется. Молодец, вывернул. Товарищ майор, вижу, вы со мной неспроста толкуете. Что эти двое наделали?
— Женщину связали и квартиру ограбили. В общем, вы, Николай Митрофанович, сегодня на чай с бандитов получили.
— Знать бы, так я завернул бы с ними на Петровку.
— Уж так бы и завернул! — усмехнулся Звягин.
— А ты думаешь, раз таксист, то шабашник? — рассердился водитель. — Я ведь мог и не сказать диспетчеру, что был на Суворовском, вот тогда бы вы меня и поискали. А то, как только диспетчер по радио спросила, кто в девять утра был на Суворовском, я сразу смекнул, что дело тут нечисто. Ну и сказал, потому что плевать мне на ихнюю десятку, приеду — сдам в кассу.
— Верно говорите, Николай Митрофанович. Видите милицейскую машину? Возле нее и остановитесь. Слушай, Звягин, это «Жигули» нашего Ильина. Сам он, наверное, в квартире у пострадавших. Поднимись на третий этаж, дверь справа. Вызови инспекторша сюда, а я пока позвоню. — И Афанасьев направился к стеклянной будке, прижавшейся к стене дома.
— Это опять я, Афанасьев. Нашелся таксист, он говорит, что увез бандитов в Серебряный бор на дачу. Но они почему-то выгрузились в каком-то тупике. Я съезжу, посмотрю. Одному не лезть? Со мной есть сыщик один. Еще прихватить? В помощь оперативной группе я оставил Ильина, думаю его взять с собой, тем более что он на своей машине.
Вскоре Звягин вернулся в сопровождении инспектора.
Майор быстро ввел его в курс событий.
— Ты знаешь кого-нибудь в местном ГАИ?
— Конечно, Александр Филиппович.
— Тогда нужно загнать к ним во двор такси, а мы с шофером съездим на твоей машине туда, где высадились эти типы. Неудобно нам на вашей машине ехать, — объяснил он водителю, — вы человек заметный, да и сами же говорите, что Алик номер ваш записал. Если они нас раньше времени заметят, потом их ищи-свищи. Вы не возражаете?
— Отчего же? Я согласился на все еще до того, как диспетчеру ответил, — пробурчал Николай Митрофанович.
— Ну тогда, Боря, вперед, а мы следом. Хотя постой. Возьми к себе нашего щеголя, и чтобы через пять минут он был в штатском.
— Как это в штатском, Александр Филиппович? — растерялся Звягин.
— Очень просто. Мундирчик сними, аккуратно сверни и Борису в багажник. У тебя, Боря, не найдется каких-нибудь брюк?
— Есть старенькие. Я в них машину мою. И рубашка найдется!
— Вот и одолжи их лейтенанту. Тогда мы его возьмем с собой и при случае даже представим возможность отличиться, может быть, позволим продемонстрировать успехи в изучении самбо, — посмеиваясь, говорил Афанасьев.
* * *
Николай Митрофанович тронул инспектора Ильина за плечо: — Здесь не гони. Вот за следующим столбом — направо. Поезжай медленнее, через метров двести и будет тот самый тупик. «Жигули» свернули на зеленую улицу, где с обеих сторон тянулись дачи, обнесенные штакетником. Все они спрятались в зелени деревьев, за заборами пестрели цветочные клумбы. На многих участках устремились в небо огромные сосны и серебристые ели. Афанасьев опустил стекло и полной грудью втянул чистый смолистый воздух. Он легонько отстранил к спинке сиденья Николая Митрофановича и объяснил: — Лучше, если вас не заметят. Между двумя заборами показалась неширокая полоска ничейной земли, заросшая зеленой травой. Машина, не останавливаясь, прошла дальше, таксист махнул рукой: — Стоп, на том прогоне я их и выгрузил. А вот и след, где я разворачивался. На песке обочины прямо против угрюмого двухэтажного деревянного дома были хорошо видны следы автомобильных колес. Если на каждом участке висели гамаки или стояла легкая мебель, то этот дом — серый, нуждавшийся в покраске — явно пустовал. Машина, не задерживаясь, прошла до конца улицы, завернула в переулок и опять оказалась на центральной магистрали Серебряного бора. — Останови, Борис, — попросил Афанасьев. — Ты, Звягин, отправляйся на ту улицу, найди себе наблюдательный пункт и смотри за дачей. Инспектор выбрался из машины. Теперь «блестящий лейтенант» был похож на бродягу. Старые, помятые брюки, застиранная рубашка и угрюмая физиономия. Афанасьев осмотрел его и посоветовал: — Модельные туфли хоть пылью посыпь, а то они в глаза бросаются, и веди себя тихо. Без всякой отсебятины. Наблюдай. Только в одном случае разрешаю действовать, и то осмотрительно: если преступники задумают перевезти куда-нибудь вещи. Афанасьев вышел из машины, перекинул на руку куртку, расстегнул несколько пуговиц на воротнике рубашки. — Вы посидите здесь, а я попробую кое-что выяснить, — и направился по улице, по которой только что проезжали на машине. Недалеко от пустого дома возле одной из дач на скамейке сидела женщина. Около нее стояла детская коляска, а чуть поодаль белокурая девочка лепила из песка куличи. Майор подошел к калитке, кашлянул, подождал, пока дачница обратила на него внимание. — Нельзя ли вас на минутку? — Заходите. У нас нет собак. Она взглянула на коляску, что-то там поправила и уже, наверное, не майору, а ребенку стала говорить: — А сами мы добрые, хорошие, вот какие мы… — У меня тоже двое таких, а в Москве сейчас жарко. Далеко уехать мы не можем, а хочется за город. Вы не могли бы сдать комнату? — Что вы? — удивилась женщина. — Здесь нас и так три семьи. Эти дачи выделили нашему заводу. — Скажите, а по соседству нет ли у кого-нибудь комнаты? — Вряд ли. Вчера вот так же приходила женщина, искала комнату или террасу, но, кажется, так и ушла ни с чем. — А вот в той даче нет случайно комнатушки? — Афанасьев указал на дом, видневшийся сквозь деревья. — А он пустой. Его еще весной отдали нашим конструкторам. Они уже собирались переехать, а там рухнуло перекрытие. В общем, аварийный. — Женщина извинилась, забрала ребенка, сказав, что им пора обедать, пожелала Афанасьеву удачи и ушла. Майор подумал, что и ему неплохо было бы перекусить, и отправился дальше. Зашел еще на два участка, поговорил со стариком, возившимся на грядках с цветами. Разговорился с пожилой женщиной, опекавшей целую стайку детей, и сумел узнать еще кое-что об угрюмом доме. Затем прошел до конца улицы, но Звягина нигде не было. Перешел на параллельную, такую же зеленую улицу, подошел к даче, примыкавшей к участку, где находился тот самый дом, и остановился в раздумье. В этот момент из дома вышла чистенькая, какая-то светлая старушка и заспешила к калитке. Шепотом, с оглядкой, проговорила: — Александр Филиппович, ваш помощник у нас и просит вас зайти. Появление старушки и ее осведомленность в планы майора явно не входили. «Узнала одна, через пятнадцать минут знает весь поселок, — подумал он, — а это уж совершенно ни к чему». Выругав про себя Звягина, Афанасьев изобразил улыбку и пошел со старушкой. Хозяйка пригласила майора в большую светлую комнату и, указав на лестницу, ведущую на второй этаж, кивнула: — Там ваш молодой человек. Не скрывая раздражения, Афанасьев поднялся в мансарду. Довольный Звягин сидел недалеко от окна и смотрел на пустой дом, который отсюда был виден весь как на ладони.
— Вы как сюда попали? — как можно тише и спокойнее спросил майор.
— Познакомился с Никитой Тихомировичем, он адмирал в отставке, а потом с Зинаидой Христофоровной — его женой — разговорился. Адмирал мне прямо: «Вы жулик?» Я ему: «Нет, офицер» — и удостоверение показал. Тогда говорит: «Если нужно, можем помочь». Вы ведь сами говорили, что следует доверять людям. Они мне рассказали, что дача пустая и там только мальчишки со всего Серебряного бора играют. Сейчас адмирал пошел на разведку — посмотреть, что там и как. Я его отговаривал, а он сказал, что в этом нет ничего страшного, подозрительного, он и раньше там бывал. И пошел.
В окно Афанасьев увидел появившегося из-за угла дома плотного старика в белом чесучовом костюме, с лопатой в руках и корзиной. Он нагибался к заросшим грядкам, что-то рассматривал, потом подошел к дому, покрутился возле дверей, заглянул в закрытые окна, осмотрел что-то возле стены и снова вернулся к грядкам. Теперь Афанасьев заметил, что у него в корзине вместе с землей торчали какие-то кустики.
Через несколько минут адмирал вернулся. Афанасьев спустился ему навстречу, все еще не решив, стоит ли наказать Звягина или он заслуживает благодарности. Отставной моряк после знакомства, раскуривая трубку, усмехнулся:
— Под старость переквалифицировался в детективы. По-моему, в дом никто не входил. Двери-то явно не открывались. Позавчера дождь был, так под окнами как прибило песок, так он и сейчас целехонький. А вот в заборе, за домом, отсюда это место не видно, оторвана доска, и там свеженькие следочки. — Адмирал взглянул на Афанасьева, внимательно слушавшего вновь испеченного сыщика, и сразу же добавил: — Вы не сомневайтесь в моих способностях. Я охотник и в следах разбираюсь не хуже вас. Думаю, те, кого вы ищите, на даче не задержались, а прошли на соседний с моим участок. А там по забору малинник густой, так что дачники их и не заметили. Объясните, в чем дело. А то я вашего переодетого помощника спрашиваю, а он все твердит: «секрет», «служебная тайна».
Афанасьев рассмеялся. Ему ничего не оставалось, как рассказать моряку вкратце, что произошло.
— Ну все правильно! — И адмирал поделился своими наблюдениями: — Возле забора, где доска оторвана и держится едва на верхнем гвозде, трава примята, и у меня сложилось впечатление, что там что-то лежало. Наверное, эти самые вещи. Но куда же они их смогли унести? Пойдемте посмотрим? Нет, не к пустому дому, а на улицу. Ведь с соседнего участка только один выход.
Они вышли и направились к участку, что расположился рядом. Еще издали заметили оторванную планку штакетника, прислоненную к перекладине. Она стояла на земле, ее остро заточенный конец был значительно ниже других. Не останавливаясь, они прошли дальше, вышли на перекресток.
Улицы были пустынны, солнце пекло неимоверно, и все дачники спрятались в тень или были на Москве-реке. Афанасьев попросил:
— Товарищ адмирал! Я не злоупотреблю вашей любезностью, если на час или два попрошу приютить и второго моего помощника? Из ваших окон хорошо просматривается окрестность, а наблюдателей не видно.
— Да, в этом отношении моя рубка что надо. Для пользы дела пожалуйста. Могу предложить и отличный бинокль.
— Тогда я его сейчас подошлю. — Афанасьев быстро зашагал к машине.
Он издали увидел «Жигули». Ильин, на переднем сиденье, дремал, прислонившись к двери, а Николая Митрофановича вообще не было видно: он улегся на заднем сиденье, да еще прикрылся газетой.
— Недурно устроились, помощнички, — усмехнулся Александр Филиппович.
— А мы замаскировались, — откинув газету, заулыбался шофер.
Ильин смотрел выжидательно. Афанасьев взял ключ от зажигания и сообщил инспектору координаты его наблюдательного пункта. Забрав сигареты и сверток, по всей вероятности с бутербродами, Ильин пошел разыскивать адмиральскую дачу.
Афанасьев уселся за руль, осмотрелся. К машине приближался молодой человек в синих тренировочных брюках и шелковой майке. Его тянула за поводок огромная черно-коричневая овчарка. Чуть дальше вышагивала пожилая дама с поджарым доберман-пинчером на металлической цепочке.
— Скажите, пожалуйста, где здесь милиция? — обратился майор к проходившему мимо машины молодому человеку.
— А вам, собственно, какая нужна? Речная налево, в конце улицы. А местное отделение примерно в километре, ближе к троллейбусному кругу.
— Что же вы, товарищ майор, расположение своих отделений не знаете, — усмехнулся шофер.
— А их в Москве побольше сотни. Я и в половине из них не был.
Афанасьев тронул машину, свернул налево и вскоре оказался в узкой аллее, заросшей сиренью. Сквозь кусты блеснула Москва-река, показались уткнувшиеся в причал милицейские катера. Вывеска на черном стекле сообщала, что в небольшом доме, выкрашенном в цвет морской волны, размещается линейное отделение московской речной милиции.
Афанасьев прижал машину к обочине и посоветовал своему спутнику:
— Если хотите, Николай Митрофанович, можете искупаться. Мне думается, мы проторчим здесь минут сорок, не меньше. Я загляну к дежурному, а потом составлю вам компанию.
В линейном отделении было прохладно и чисто. Афанасьев немедленно связался с центральным городским пультом управления, и сразу же его переключили на дежурного по Московскому уголовному розыску.
— Виктор Иванович! Это опять я, Афанасьев. Из Серебряного бора. Таксист высадил их у «сквозняка», и мне думается, они ушли задами, куда-то недалеко. У тебя Лада дома? Отлично. А ты не мог бы приказать переодеться ее хозяину в цивильное и приехать ко мне. Здесь собак полно, на каждой улице, и Лада сможет сойти за местную «дачницу». Пришлешь? Спасибо. Пусть не забудет захватить контейнер. Спасибо.
Майор вышел из дежурки и прямо с порога увидел шофера. Он плавал недалеко от причала, нырял, отфыркивался и снова погружался в воду. Лицо его помолодело, и казалось, он был очень доволен всей этой историей, что выбила его из обычной колеи. Афанасьев разделся, отдал кобуру с пистолетом дежурному, который вышел вслед за майором, и, разбежавшись по пирсу, без плеска ушел под воду.
Через несколько минут, выбравшись из воды, оба поняли, что проголодались. Выяснив у дежурного, что рядом на пляже несколько буфетов, шофер начал одеваться, но Афанасьев его остановил:
— Постойте, пойдемте-ка к буфету, как и все остальные купальщики.
Шофер оглядел его японские плавки и, решительно подтянув свои сатиновые трусы, прозванные кем-то семейными, направился к дощатому строению.
Проглотив несколько пирожков, Афанасьев предложил:
— Пройдемся, Николай Митрофанович, себя покажем, людей посмотрим. Может, и ваши пассажиры здесь загорают. — И уже серьезно добавил: — Сейчас, в жару, если они не празднуют удачу где-нибудь под крышей, то вполне могут быть здесь, на пляже.
Они шли не торопясь, внимательно присматриваясь к отдыхающим, то заходили в воду и брели по самой кромке берега, то выходили на тропинку, петлявшую среди цветастых тентов и шезлонгов. Шофер внимательно рассматривал парней, а Афанасьев вообще приглядывался к публике. Его внимание привлекла компания молодых людей, расположившихся в дальнем углу пляжа, возле проволочной сетки, отделявшей благоустроенный пляж от дикого. Четверо парней разлеглись на песке и играли в карты, по очереди потягивая какую-то фиолетовую жидкость из большой темной бутылки. У каждого, кто прикладывался к горлышку, на губах, словно от модной помады, оставалось пятно, которое потом они стирали тыльной стороной ладони.
Только один из четырех — с длинными, почти белыми от солнца волосами — вытирал губы на свой манер. Он забирал их в горсть, оттягивал вперед и отпускал чистыми. Парни играли на деньги. Беловолосый чаще других складывал выигрыш в карман джинсов, разложенных на песке. Это был красивый юноша лет восемнадцати, с хорошо развитой мускулатурой, загоревший до черноты. Двое других — тоже длинноволосые- по сравнению с ним казались худыми и слабосильными. Четвертым игроком был школьник восьмого, а может быть, даже седьмого класса.
Беловолосый, отбросив карты, осмотрелся. Достал из джинсов яркую коробку, ловко выдернул зубами сигарету и небрежно перекинул пачку соседу. Затем полюбовался блестевшей на солнце зажигалкой, прикурил и пустил зажигалку по кругу. Несколько раз затянувшись, он что-то с жаром начал говорить.
Эта группка очень заинтересовала майора.
— Не они? — спросил он шофера.
— Нет. Но похожи, особенно мальчишка. Тот, что выбежал из подъезда. Такой же, может быть, чуть постарше.
— Давайте искупаемся и полежим возле, послушаем.
Шофер согласился, и они, выйдя из воды, улеглись на песок неподалеку от картежников.
Один из игроков отхлебнул из бутылки, поднял ее, посмотрел сквозь стекло на солнце и, убедившись, что она пустая, бросил в реку. Подтянул к себе клетчатую спортивную сумку, достал бутылку. Тонким, с хищным лезвием, ножом срезал пластмассовый колпачок, отпил несколько глотков и передал бутылку блондину.
Блондин потянулся к бутылке, потом, видно, передумал, рывком выдернул куртку из-под одного из парней и бросил ему в лицо.
В компании картежников явно назревала ссора. Они, видимо, забыли, что кругом люди, стали говорить громко. Блондин потребовал:
— Гони деньги за трюзера. Два месяца жду. Вот сдеру их с тебя, и пойдешь отсюда голым.
Второй что-то виновато отвечал: по-видимому, оправдывался, а блондин распалялся все больше и больше.
— Никак не пойму, что они не поделили, из-за чего спор? — спросил шофер.
— Штаны делят, — усмехнулся Афанасьев. — Трюзера — это на их языке штаны, дорогой Митрофанович. Мои ребята недавно прихватили одного деятеля, он этими самыми трюзерами торговал. Сейчас, брат, у стиляг портки чуть ли не в культ возведены. Вот индийские джинсы в магазине восемь рублей стоят. Но уважающий себя модник такие джинсы и бесплатно не возьмет. Нужно, чтобы они были сшиты фирмой «Леви Страус» или «Блюдоллар», и тогда эти штаны из грубой, толстой материи, упакованные в запечатанный целлофановый пакет, стоят сто или сто двадцать рублей. Но запечатанный пакет еще не гарантия от подделки. Нужно, чтобы на джинсах был «Лебл» — фирменная этикетка. Обычно она вшивается в шов под поясом где-нибудь сзади и цветным украшением торчит наружу, оповещая всех любителей, что штаны сшиты знаменитой фирмой. Но одной этикетки мало. Фирменными должны быть пуговицы. Они теперь на ширинке сверху как украшение пришиваются. Но ловкачи и это обходят, такие подделки мастерят, что диву даешься.
— И где же берут такие деньги эти юнцы?
— Главным образом у добреньких родителей. Но некоторые ради заморских штанов всячески изворачиваются и даже совершают преступления.
— Мой ходит в восьмирублевых, — усмехнулся шофер. — Правда, отыскал старые сапоги, отрезал голенища, выкроил из них два кленовых листа и пришил сзади, а на каждую коленку поставил по круглой заплате. Ну ладно бы дыры были, а то прямо на целое место. Говорит, модно.
— Отстал ваш от моды, Николай Митрофанович. Хорошо хоть, сторублевых не просит.
Спор среди картежников стал общим. В нем приняли участие и те, кто до этого молчал. Люди, что находились поблизости, испуганно посматривали на них и начали расходиться. Высокий плотный мужчина вместо того, чтобы вмешаться и остановить расходившихся парней, быстро сложил свои вещи в портфель и отправился подальше. Перешли на другое место молодой, спортивного вида человек с девушкой. Поднялся и Афанасьев.
— Пойдем и мы, Митрофанович! Не досуг мне с ними заниматься, а жаль. Проводник, наверное, вот-вот подойдет. Пришлем сюда ребят из речной милиции, пусть посмотрят, что это за горлопаны.
— Всем недосуг. Вот тому, который с портфелем, недосуг! Спортсмену с девицей не хочется ввязываться, и нам некогда, а юнцы привыкают, наглеют и безобразничают, потому что никто из старших вовремя спесь не сбил. Раньше у нас в деревне скажи что-нибудь невпопад в присутствии старших, потом неделю будешь ходить с синяком под глазом, не то что теперь.
Николай Митрофанович еще долго ворчал, пробираясь среди лежащих на песке людей.
Возле пирса речной милиции Афанасьев сразу же увидел на берегу в высокой зеленой траве серую Ладу. Она узнала майора даже в этом непривычном виде и приветливо замахала хвостом. Собаку держал на поводке парень в кедах, тренировочных брюках и голубой шелковой безрукавке; в нем не сразу можно было признать давешнего проводника.
— Ну, вот подходяще. Такого же мы встретили на дачном проспекте, только овчарка у него была чепрачной окраски и не было у него в руках такого замечательного контейнера, — подытожил Афанасьев, рассматривая инспектора-кинолога, как теперь стали величать проводников служебно-розыскных собак.
Одеваясь, майор подозвал к себе дежурного отделения речной милиции и рассказал о картежниках, замеченных на пляже. Тот немедленно выслал катер с милиционерами и дружинниками и пообещал:
— Проверим и результаты сообщим в местное отделение.
Усаживаясь в «Жигули», Николай Митрофанович начал расспрашивать проводника:
— Ну, как Лада у тебя работает?
— Отлично. Если, конечно, следы есть. В городе-то трудно. Там знаете сколько запахов? А здесь другое дело.
— Как же она их след найдет? — усомнился шофер.
— Есть такая наука. Одорология называется, — оживился проводник. — Ученые доказали, что молекулы, из которых состоит запах, сохраняются очень долго, и если их законсервировать, то потом можно использовать этот запах через продолжительное время. Эти самые ученые сконструировали специальный локатор, «собачий нос». Но нам механический нос ни к чему. Верно, Лада? — Проводник обнял собаку, притянул к себе, и та, отлично понимая, что хозяин ею доволен, что он ей верит, улучив момент, лизнула его в щеку.
— Не целуйся, противная морда, — доставая платок, шутливо проворчал проводник и продолжил импровизированную лекцию. — Наши ученые-криминалисты изобрели специальный контейнер, куда помещают вещь, предмет или просто обогащенный нужным запахомвоздух. Вот приедем, на месте вы увидите. Лада знает, что от мешка пахнет преступниками. Она, прежде чем прорабатывать след, еще там, в квартире, обнюхала потерпевшую, выяснила, как пахнут в квартире другие вещи, и сейчас будет искать только запах владельцев мешка. Если они, конечно, снова не уехали на машине, то она их найдет. Отличная собака у меня Лада, — похвалил проводник свою любимицу.
Через несколько минут Афанасьев остановил машину в тупике возле пустого дома. Проводник раскрыл контейнер и вытряхнул из него мешок. Лада старательно, даже с какой-то показной внимательностью начала его обнюхивать.
— Пойдете за проводником. Вам нет смысла проходить через участок дачи, — инструктировал майор подошедших Ильина и Звягина. — Идите в обход и ждите. Лучше, если один пойдет поближе к собаке, а другой в стороне. Подстраховывая. Как только Лада проработает след, немедленно сообщите. Буду в местном отделении милиции. Там же оставлю, Борис, твои «Жигули», а ключи передам дежурному.
Афанасьев отправил своих помощников на соседнюю улицу, дождался, когда Лада взяла след, длинной щепкой, чтобы не прикасаться руками, запихнул мешок обратно в контейнер, закрыл его и положил в багажник. Уселся за руль, взглянул на дремавшего таксиста:
— Поехали, Николай Митрофанович. Есть у нас еще дома, то бишь в родной милиции, дела.
Не скрывая раздражения, Афанасьев поднялся в мансарду. Довольный Звягин сидел недалеко от окна и смотрел на пустой дом, который отсюда был виден весь как на ладони.
— Вы как сюда попали? — как можно тише и спокойнее спросил майор.
— Познакомился с Никитой Тихомировичем, он адмирал в отставке, а потом с Зинаидой Христофоровной — его женой — разговорился. Адмирал мне прямо: «Вы жулик?» Я ему: «Нет, офицер» — и удостоверение показал. Тогда говорит: «Если нужно, можем помочь». Вы ведь сами говорили, что следует доверять людям. Они мне рассказали, что дача пустая и там только мальчишки со всего Серебряного бора играют. Сейчас адмирал пошел на разведку — посмотреть, что там и как. Я его отговаривал, а он сказал, что в этом нет ничего страшного, подозрительного, он и раньше там бывал. И пошел.
В окно Афанасьев увидел появившегося из-за угла дома плотного старика в белом чесучовом костюме, с лопатой в руках и корзиной. Он нагибался к заросшим грядкам, что-то рассматривал, потом подошел к дому, покрутился возле дверей, заглянул в закрытые окна, осмотрел что-то возле стены и снова вернулся к грядкам. Теперь Афанасьев заметил, что у него в корзине вместе с землей торчали какие-то кустики.
Через несколько минут адмирал вернулся. Афанасьев спустился ему навстречу, все еще не решив, стоит ли наказать Звягина или он заслуживает благодарности. Отставной моряк после знакомства, раскуривая трубку, усмехнулся:
— Под старость переквалифицировался в детективы. По-моему, в дом никто не входил. Двери-то явно не открывались. Позавчера дождь был, так под окнами как прибило песок, так он и сейчас целехонький. А вот в заборе, за домом, отсюда это место не видно, оторвана доска, и там свеженькие следочки. — Адмирал взглянул на Афанасьева, внимательно слушавшего вновь испеченного сыщика, и сразу же добавил: — Вы не сомневайтесь в моих способностях. Я охотник и в следах разбираюсь не хуже вас. Думаю, те, кого вы ищите, на даче не задержались, а прошли на соседний с моим участок. А там по забору малинник густой, так что дачники их и не заметили. Объясните, в чем дело. А то я вашего переодетого помощника спрашиваю, а он все твердит: «секрет», «служебная тайна».
Афанасьев рассмеялся. Ему ничего не оставалось, как рассказать моряку вкратце, что произошло.
— Ну все правильно! — И адмирал поделился своими наблюдениями: — Возле забора, где доска оторвана и держится едва на верхнем гвозде, трава примята, и у меня сложилось впечатление, что там что-то лежало. Наверное, эти самые вещи. Но куда же они их смогли унести? Пойдемте посмотрим? Нет, не к пустому дому, а на улицу. Ведь с соседнего участка только один выход.
Они вышли и направились к участку, что расположился рядом. Еще издали заметили оторванную планку штакетника, прислоненную к перекладине. Она стояла на земле, ее остро заточенный конец был значительно ниже других. Не останавливаясь, они прошли дальше, вышли на перекресток.
Улицы были пустынны, солнце пекло неимоверно, и все дачники спрятались в тень или были на Москве-реке. Афанасьев попросил:
— Товарищ адмирал! Я не злоупотреблю вашей любезностью, если на час или два попрошу приютить и второго моего помощника? Из ваших окон хорошо просматривается окрестность, а наблюдателей не видно.
— Да, в этом отношении моя рубка что надо. Для пользы дела пожалуйста. Могу предложить и отличный бинокль.
— Тогда я его сейчас подошлю. — Афанасьев быстро зашагал к машине.
Он издали увидел «Жигули». Ильин, на переднем сиденье, дремал, прислонившись к двери, а Николая Митрофановича вообще не было видно: он улегся на заднем сиденье, да еще прикрылся газетой.
— Недурно устроились, помощнички, — усмехнулся Александр Филиппович.
— А мы замаскировались, — откинув газету, заулыбался шофер.
Ильин смотрел выжидательно. Афанасьев взял ключ от зажигания и сообщил инспектору координаты его наблюдательного пункта. Забрав сигареты и сверток, по всей вероятности с бутербродами, Ильин пошел разыскивать адмиральскую дачу.
Афанасьев уселся за руль, осмотрелся. К машине приближался молодой человек в синих тренировочных брюках и шелковой майке. Его тянула за поводок огромная черно-коричневая овчарка. Чуть дальше вышагивала пожилая дама с поджарым доберман-пинчером на металлической цепочке.
— Скажите, пожалуйста, где здесь милиция? — обратился майор к проходившему мимо машины молодому человеку.
— А вам, собственно, какая нужна? Речная налево, в конце улицы. А местное отделение примерно в километре, ближе к троллейбусному кругу.
— Что же вы, товарищ майор, расположение своих отделений не знаете, — усмехнулся шофер.
— А их в Москве побольше сотни. Я и в половине из них не был.
Афанасьев тронул машину, свернул налево и вскоре оказался в узкой аллее, заросшей сиренью. Сквозь кусты блеснула Москва-река, показались уткнувшиеся в причал милицейские катера. Вывеска на черном стекле сообщала, что в небольшом доме, выкрашенном в цвет морской волны, размещается линейное отделение московской речной милиции.
Афанасьев прижал машину к обочине и посоветовал своему спутнику:
— Если хотите, Николай Митрофанович, можете искупаться. Мне думается, мы проторчим здесь минут сорок, не меньше. Я загляну к дежурному, а потом составлю вам компанию.
В линейном отделении было прохладно и чисто. Афанасьев немедленно связался с центральным городским пультом управления, и сразу же его переключили на дежурного по Московскому уголовному розыску.
— Виктор Иванович! Это опять я, Афанасьев. Из Серебряного бора. Таксист высадил их у «сквозняка», и мне думается, они ушли задами, куда-то недалеко. У тебя Лада дома? Отлично. А ты не мог бы приказать переодеться ее хозяину в цивильное и приехать ко мне. Здесь собак полно, на каждой улице, и Лада сможет сойти за местную «дачницу». Пришлешь? Спасибо. Пусть не забудет захватить контейнер. Спасибо.
Майор вышел из дежурки и прямо с порога увидел шофера. Он плавал недалеко от причала, нырял, отфыркивался и снова погружался в воду. Лицо его помолодело, и казалось, он был очень доволен всей этой историей, что выбила его из обычной колеи. Афанасьев разделся, отдал кобуру с пистолетом дежурному, который вышел вслед за майором, и, разбежавшись по пирсу, без плеска ушел под воду.
Через несколько минут, выбравшись из воды, оба поняли, что проголодались. Выяснив у дежурного, что рядом на пляже несколько буфетов, шофер начал одеваться, но Афанасьев его остановил:
— Постойте, пойдемте-ка к буфету, как и все остальные купальщики.
Шофер оглядел его японские плавки и, решительно подтянув свои сатиновые трусы, прозванные кем-то семейными, направился к дощатому строению.
Проглотив несколько пирожков, Афанасьев предложил:
— Пройдемся, Николай Митрофанович, себя покажем, людей посмотрим. Может, и ваши пассажиры здесь загорают. — И уже серьезно добавил: — Сейчас, в жару, если они не празднуют удачу где-нибудь под крышей, то вполне могут быть здесь, на пляже.
Они шли не торопясь, внимательно присматриваясь к отдыхающим, то заходили в воду и брели по самой кромке берега, то выходили на тропинку, петлявшую среди цветастых тентов и шезлонгов. Шофер внимательно рассматривал парней, а Афанасьев вообще приглядывался к публике. Его внимание привлекла компания молодых людей, расположившихся в дальнем углу пляжа, возле проволочной сетки, отделявшей благоустроенный пляж от дикого. Четверо парней разлеглись на песке и играли в карты, по очереди потягивая какую-то фиолетовую жидкость из большой темной бутылки. У каждого, кто прикладывался к горлышку, на губах, словно от модной помады, оставалось пятно, которое потом они стирали тыльной стороной ладони.
Только один из четырех — с длинными, почти белыми от солнца волосами — вытирал губы на свой манер. Он забирал их в горсть, оттягивал вперед и отпускал чистыми. Парни играли на деньги. Беловолосый чаще других складывал выигрыш в карман джинсов, разложенных на песке. Это был красивый юноша лет восемнадцати, с хорошо развитой мускулатурой, загоревший до черноты. Двое других — тоже длинноволосые- по сравнению с ним казались худыми и слабосильными. Четвертым игроком был школьник восьмого, а может быть, даже седьмого класса.
Беловолосый, отбросив карты, осмотрелся. Достал из джинсов яркую коробку, ловко выдернул зубами сигарету и небрежно перекинул пачку соседу. Затем полюбовался блестевшей на солнце зажигалкой, прикурил и пустил зажигалку по кругу. Несколько раз затянувшись, он что-то с жаром начал говорить.
Эта группка очень заинтересовала майора.
— Не они? — спросил он шофера.
— Нет. Но похожи, особенно мальчишка. Тот, что выбежал из подъезда. Такой же, может быть, чуть постарше.
— Давайте искупаемся и полежим возле, послушаем.
Шофер согласился, и они, выйдя из воды, улеглись на песок неподалеку от картежников.
Один из игроков отхлебнул из бутылки, поднял ее, посмотрел сквозь стекло на солнце и, убедившись, что она пустая, бросил в реку. Подтянул к себе клетчатую спортивную сумку, достал бутылку. Тонким, с хищным лезвием, ножом срезал пластмассовый колпачок, отпил несколько глотков и передал бутылку блондину.
Блондин потянулся к бутылке, потом, видно, передумал, рывком выдернул куртку из-под одного из парней и бросил ему в лицо.
В компании картежников явно назревала ссора. Они, видимо, забыли, что кругом люди, стали говорить громко. Блондин потребовал:
— Гони деньги за трюзера. Два месяца жду. Вот сдеру их с тебя, и пойдешь отсюда голым.
Второй что-то виновато отвечал: по-видимому, оправдывался, а блондин распалялся все больше и больше.
— Никак не пойму, что они не поделили, из-за чего спор? — спросил шофер.
— Штаны делят, — усмехнулся Афанасьев. — Трюзера — это на их языке штаны, дорогой Митрофанович. Мои ребята недавно прихватили одного деятеля, он этими самыми трюзерами торговал. Сейчас, брат, у стиляг портки чуть ли не в культ возведены. Вот индийские джинсы в магазине восемь рублей стоят. Но уважающий себя модник такие джинсы и бесплатно не возьмет. Нужно, чтобы они были сшиты фирмой «Леви Страус» или «Блюдоллар», и тогда эти штаны из грубой, толстой материи, упакованные в запечатанный целлофановый пакет, стоят сто или сто двадцать рублей. Но запечатанный пакет еще не гарантия от подделки. Нужно, чтобы на джинсах был «Лебл» — фирменная этикетка. Обычно она вшивается в шов под поясом где-нибудь сзади и цветным украшением торчит наружу, оповещая всех любителей, что штаны сшиты знаменитой фирмой. Но одной этикетки мало. Фирменными должны быть пуговицы. Они теперь на ширинке сверху как украшение пришиваются. Но ловкачи и это обходят, такие подделки мастерят, что диву даешься.
— И где же берут такие деньги эти юнцы?
— Главным образом у добреньких родителей. Но некоторые ради заморских штанов всячески изворачиваются и даже совершают преступления.
— Мой ходит в восьмирублевых, — усмехнулся шофер. — Правда, отыскал старые сапоги, отрезал голенища, выкроил из них два кленовых листа и пришил сзади, а на каждую коленку поставил по круглой заплате. Ну ладно бы дыры были, а то прямо на целое место. Говорит, модно.
— Отстал ваш от моды, Николай Митрофанович. Хорошо хоть, сторублевых не просит.
Спор среди картежников стал общим. В нем приняли участие и те, кто до этого молчал. Люди, что находились поблизости, испуганно посматривали на них и начали расходиться. Высокий плотный мужчина вместо того, чтобы вмешаться и остановить расходившихся парней, быстро сложил свои вещи в портфель и отправился подальше. Перешли на другое место молодой, спортивного вида человек с девушкой. Поднялся и Афанасьев.
— Пойдем и мы, Митрофанович! Не досуг мне с ними заниматься, а жаль. Проводник, наверное, вот-вот подойдет. Пришлем сюда ребят из речной милиции, пусть посмотрят, что это за горлопаны.
— Всем недосуг. Вот тому, который с портфелем, недосуг! Спортсмену с девицей не хочется ввязываться, и нам некогда, а юнцы привыкают, наглеют и безобразничают, потому что никто из старших вовремя спесь не сбил. Раньше у нас в деревне скажи что-нибудь невпопад в присутствии старших, потом неделю будешь ходить с синяком под глазом, не то что теперь.
Николай Митрофанович еще долго ворчал, пробираясь среди лежащих на песке людей.
Возле пирса речной милиции Афанасьев сразу же увидел на берегу в высокой зеленой траве серую Ладу. Она узнала майора даже в этом непривычном виде и приветливо замахала хвостом. Собаку держал на поводке парень в кедах, тренировочных брюках и голубой шелковой безрукавке; в нем не сразу можно было признать давешнего проводника.
— Ну, вот подходяще. Такого же мы встретили на дачном проспекте, только овчарка у него была чепрачной окраски и не было у него в руках такого замечательного контейнера, — подытожил Афанасьев, рассматривая инспектора-кинолога, как теперь стали величать проводников служебно-розыскных собак.
Одеваясь, майор подозвал к себе дежурного отделения речной милиции и рассказал о картежниках, замеченных на пляже. Тот немедленно выслал катер с милиционерами и дружинниками и пообещал:
— Проверим и результаты сообщим в местное отделение.
Усаживаясь в «Жигули», Николай Митрофанович начал расспрашивать проводника:
— Ну, как Лада у тебя работает?
— Отлично. Если, конечно, следы есть. В городе-то трудно. Там знаете сколько запахов? А здесь другое дело.
— Как же она их след найдет? — усомнился шофер.
— Есть такая наука. Одорология называется, — оживился проводник. — Ученые доказали, что молекулы, из которых состоит запах, сохраняются очень долго, и если их законсервировать, то потом можно использовать этот запах через продолжительное время. Эти самые ученые сконструировали специальный локатор, «собачий нос». Но нам механический нос ни к чему. Верно, Лада? — Проводник обнял собаку, притянул к себе, и та, отлично понимая, что хозяин ею доволен, что он ей верит, улучив момент, лизнула его в щеку.
— Не целуйся, противная морда, — доставая платок, шутливо проворчал проводник и продолжил импровизированную лекцию. — Наши ученые-криминалисты изобрели специальный контейнер, куда помещают вещь, предмет или просто обогащенный нужным запахомвоздух. Вот приедем, на месте вы увидите. Лада знает, что от мешка пахнет преступниками. Она, прежде чем прорабатывать след, еще там, в квартире, обнюхала потерпевшую, выяснила, как пахнут в квартире другие вещи, и сейчас будет искать только запах владельцев мешка. Если они, конечно, снова не уехали на машине, то она их найдет. Отличная собака у меня Лада, — похвалил проводник свою любимицу.
Через несколько минут Афанасьев остановил машину в тупике возле пустого дома. Проводник раскрыл контейнер и вытряхнул из него мешок. Лада старательно, даже с какой-то показной внимательностью начала его обнюхивать.
— Пойдете за проводником. Вам нет смысла проходить через участок дачи, — инструктировал майор подошедших Ильина и Звягина. — Идите в обход и ждите. Лучше, если один пойдет поближе к собаке, а другой в стороне. Подстраховывая. Как только Лада проработает след, немедленно сообщите. Буду в местном отделении милиции. Там же оставлю, Борис, твои «Жигули», а ключи передам дежурному.
Афанасьев отправил своих помощников на соседнюю улицу, дождался, когда Лада взяла след, длинной щепкой, чтобы не прикасаться руками, запихнул мешок обратно в контейнер, закрыл его и положил в багажник. Уселся за руль, взглянул на дремавшего таксиста:
— Поехали, Николай Митрофанович. Есть у нас еще дома, то бишь в родной милиции, дела.
* * *
Майор загнал автомашину во двор отделения, поставил в сторону, чтобы не мешала. Взглянул на часы: было около трех часов дня. — Четыре часа я вас мучаю, Николай Митрофанович! И, если не будете возражать, еще часок — другой. — Чего уж там! Вы мне внеочередной день отдыха устроили. Справку-то дадите? — Дам, конечно. С печатью, все честь по чести. — Тогда ладно, мне главное, чтобы начальство не ругалось. Я вот там в тени на лавочке подожду. Шофер направился в тень, а Афанасьев к своему местному коллеге — Михаилу Трофимовичу. Едва Афанасьев переступил порог кабинета, ему навстречу вышел из-за письменного стола худощавый, лысеющий мужчина небольшого роста. Крепко пожал руку. — Уже звонили о твоей беде, Александр Филиппович. У меня на территории таких дел лет пятнадцать не было. Вот сижу, тебя жду. Думаю, без меня все равно не обойдешься. Я даже своих ребят задержал, чтобы тебе помочь. — Тогда одолжи ненадолго двух инспекторов, — улыбнулся Афанасьев. — Хоть трех, лишь бы толк был. Нужно, так я и сам к тебе в помощники пойду. Александр Филиппович коротко рассказал о поездке с шофером, о том, что на месте, где выгрузили награбленное, работает собака. — Боюсь, что это дело какие-то мои подлецы сообразили, — перебил его Михаил Трофимович и с надеждой вслух подумал: — А может, приезжие дачники? — А ты не знаешь плотного блондина лет девятнадцати-двадцати? — Они тут сейчас почти все блондины, — вздохнул Михаил Трофимович. — Посиди на таком солнце изо дня в день, не то что блондином, совсем седым станешь. Так что ты хотел от моих ребят? — Во дворе сидит шофер, что грабителей вез. Он их обоих отлично запомнил. Мы с ним по пляжу прошлись, их там нет. Может, твои посмотрят с ним закусочные и рестораны поблизости. А мы с тобой пока обсудим, что дальше делать. Два инспектора — спортивного вида молодые люди — внимательно выслушали наставления своего и чужого начальника и уехали вместе с таксистом. Коллеги закурили. Афанасьев подробно рассказал об ограблении. Разговор оборвал телефонный звонок. Докладывал Ильин. На пустыре возле Москвы-реки Лада нашла вещи. Тайник не тронули. За ним наблюдает Звягин, а он звонит с адмиральской дачи. Проводник с собакой ушел в отделение. — Вас заметили? — перебил Афанасьев. — По-моему, нет. Мы со Звягиным держались в стороне, а проводник у тайника почти не останавливался. Пошел сразу к реке, искупал собаку. В общем, если смотреть со стороны, это обычная прогулка. Людей на пустыре никаких нет, поблизости тоже. Вещи завернуты в полиэтиленовую пленку, такую, какой накрывают грядки. — Иди к Звягину, — приказал майор. — Загорайте, купайтесь, но чтобы у вас из-под носа ничего не ушло. Я сейчас подъеду. — Ну, теперь дело за нами, подождем, когда явятся… — Афанасьев довольно потирал руки. Дверь из коридора открылась, и в кабинет вихрем влетела Лада. Она была очень довольна собой и вела себя весьма свободно. В два прыжка оказалась возле Афанасьева, лизнула ему руку, хотела добраться и до лица, но ее окликнул проводник. Несколько сконфузясь, собака прошлась по кабинету, заглянула под стол, независимо обнюхала углы и улеглась у дверей. Проводник докладывал: — От пустой дачи мы прошли метров триста. Вышли на пустырь. Там когда-то была мусорная свалка. — Ага, понятно, поэтому и нет в этом месте отдыхающих, — решил Афанасьев. — Да, людей там совсем немного, и те на самом берегу, — продолжал проводник. — Знаю я это место, — вмешался Михаил Трофимович. — Местные жители там иногда берут песок. — Вот, вот. В одной такой яме Ладушка и отыскала все. Яма глубокая, метра полтора, а то и поглубже. Собака поняла, что разговор идет о ней, подошла к проводнику, села рядом, положила голову на колени своего друга и стала посматривать то на одного, то на другого. — Все лежит в углублении, вроде как в норе, в полиэтилен завернуто, я пощупал: сумки, магнитофон, еще что-то. Сверху песком завалено. Мы с Ильиным, возвращаясь, все свои следы заровняли. Любопытных никого не было, так что, думаю, мы не наследили. Придут они за вещами. Нужно ждать. Обязательно придут, — уверенно закончил проводник. — Если не заметили вас, то придут, — вздохнул Михаил Трофимович, — а если видели, как вы там с собакой шныряли, то просидим до морковкина заговенья. — Он подошел к шкафу, порывшись в связке ключей, открыл дверцу и вытащил две маленькие, портативные рации. — Возьми. Отдай своим сыщикам, отлично работают, а в засаде незаменимы. — А у тебя заряженной фотокамеры нет? — Ты, друг, как цыган. Попить нет? Поесть нет? Обуться нет? Одеться нет? А лошадки не найдется? — Ладно, не ворчи. — Хочешь фоторужье или «Зенит»? — Давай лучше «Зенит», а то с фоторужьем таскаться… Афанасьев подъехал к магазину, купил хлеб, колбасу, несколько бутылок нарзана и направился к дому адмирала. Зинаида Христофоровна сообщила, что ее муж забрал удочки и ушел. Афанасьев завернул в куртку продукты, рации, снял рубашку, повесил на шею фотоаппарат и не торопясь отправился к реке. Он сразу заметил на берегу одинокого рыбака. Берег и прилегающая к нему прибрежная полоса были пустынными. Видимо, не любили здесь купаться и загорать дачники. Возле трех хорошо оборудованных удочек колдовал адмирал. В целлофановом пакете, наполненном водой, плавали два ерша и окунишка. — Не велик улов, ухи явно не получится, — усмехнулся майор. — Да, не клюет, — пожаловался моряк. — А я сюда каждый день по ведру подкормки бросаю и ловлю. А сегодня как кто заколдовал. К непогоде, то ли? — Рыбак осмотрел горизонт, но небо было чистым. — Парит здорово. Ну ничего, может, рыбка покрупнее клюнет. Вот там возле кустов расположился ваш молодой человек, а второй пошел проводить одну компанию. Да вон он возвращается. Майор передал подошедшему Ильину сверток, объяснив, что в нем еда и рации — одна ему, вторая Звягину. Оглядевшись и не заметив посторонних, Афанасьев вытащил рацию и для проверки включил прием. Немедленно послышался зуммер вызова. Прибавил громкость и сразу же услышал: — Саша! Саша! Это я, Миша! Прием. Несмотря на искажение голоса, Афанасьев догадался, что это его вызывает Михаил Трофимович. Переключив тумблер на передачу, ответил: — Миша, я тебя слышу хорошо. Что ты хочешь? — Велено немедленно забрать все, что нашли. Понимаешь? Немедленно! Постарайся осторожно. — Миша, почему? — Идет грозовой фронт. Обещают ливень похлеще последнего, испортится чужое добро, не расплатишься. — А как же «наши друзья»? Ну, новые хозяева? — растерянно спросил Афанасьев. — Виктор Иванович и его «батя» сказали, что это потерпевших не касается. Им нужно все вернуть не испорченным, а «друзья» — это наша с тобой забота. У меня все, будь на приеме. Приказ начальства нарушил все планы, уничтожил надежду легко схватить преступников с поличным, когда они явятся за вещами. Ильин и Афанасьев молча смотрели друг на друга. Из оцепенения их вывел адмирал, слышавший весь разговор. Он раскурил трубку и проворчал: — Теперь мне ясно, почему рыба не клевала. Вы тут сматывайте мои удочки, а я к себе, у меня есть отличная садовая тачка. Мы на нее погрузим вещи, присыплем песком и домой. Так что комар носа не подточит. Едва вещи были привезены в дом адмирала, хлынул ливень. Дождь лил сплошной стеной. В окна было видно, как на улице все канавки, ямки и углубления мгновенно наполнились водой. Афанасьев, рассматривая заграничный магнитофон, представил, как тайник грабителей наполняется желтой жижей, представил, во что бы превратились вещи, которые сейчас переписывал в акте изъятия Звягин. Адмирал и его симпатичная жена, согласившись быть понятыми, понимали, что работники уголовного розыска, спасая имущество пострадавших, уничтожили ключ к розыску преступников и тем самым чрезвычайно усложнили свою работу.* * *
Дождь лил почти два часа и прекратился только к вечеру. На западе проглянул край солнца, небо очистилось. Ильин загнал машину во двор адмиральской дачи и вместе со Звягиным погрузил в багажник изъятые вещи. Пока они возились возле машины, хозяин дачи вытащил из сарая две пары резиновых сапог, откуда-то достал несколько длинных бамбуковых удилищ и подмигнул Ильину. — Надевайте сапоги, забирайте удочки. Теперь будет клевать обязательно. Посидим вечернюю зорьку да заодно и на бережок посмотрим. Звягину адмирал предложил брезентовую куртку, под которую тот пристроил рацию. Афанасьев все-таки решил оставить на берегу, возле тайника, засаду. Чем черт не шутит, вдруг придут! А сам поехал в отделение милиции. Михаил Трофимович встретил Афанасьева приветливо. В уголовном розыске часто так бывает, что рассчитываешь, прикидываешь, кажется, все учтено, все-все предусмотрено, а потом выясняется, что все не так, все не годится и нужно начинать сначала. — Тут тебе Павлов несколько раз звонил, не нашел он мальчишку. Говорит, в адресном по Москве и области несколько тысяч Тюриных. Да, может, он и не Тюрин вовсе? Кто его знает? — Думаешь, Михаил Трофимович, он из той же компании? — Не исключено. Больше того, думаю, что в этом деле кто-нибудь из моих подопечных замешан. Пустых дач сейчас в нашем Серебряном бору раз-два и обчелся, а они, видимо, знали, что дом пустой. Знали и заранее присмотрели яму. Я дал команду перепроверить всех местных парней, особенно тех, кто у нас уже побывал. Кстати, из речной милиции звонили, ту компанию, что тебе на пляже в глаза бросилась, они передали в Таганский район. У местного уголовного розыска есть кое-какие вопросы к этим картежникам. К нам, как лето, со всей Москвы едут, — вздохнул майор. — Ну, я тебя больше задерживать не буду. Поеду к себе. Афанасьев крепко пожал руку Михаилу Трофимовичу, и они расстались. Приехав к себе в отделение, майор увидел инспектора Киселева, который беседовал с потерпевшими. Он передал инспектору ключи от автомашины, забрал из багажника вещи, чтобы предъявить их молодым людям, а потом вернуть под расписку. Пострадавшие, видимо, никак не ожидали такой оперативности и настолько растерялись, что не знали, что им делать. Афанасьев застал Павлова над изучением каких-то книг. Он настолько увлекся, что даже не обратил внимания на приход начальника. Афанасьев постоял немного у двери и дважды спросил своего старшего инспектора, что тот выяснил по его заданию, но Павлов даже не поднял головы, и майор еле сдержался, чтобы не повысить голос. Он знал, что Павлов книголюб, знал, что у него интересная и ценная библиотека, но никак не мог предполагать, что такой серьезный и опытный работник вместо розыска мальчика будет изучать какие-то книги. Афанасьев подошел к столу, захлопнул книгу, которую в лупу рассматривал Павлов. — Нашел время, Кузьмич, книжками любоваться. Что с мальчишкой? Павлов взглянул на Афанасьева, встал, бережно взял со стола книгу. — Ты посмотри, Саша, что это такое! Просто невероятно. Это же уникальные издания. Слово «уникальные» Павлов произнес по слогам и с каким-то особым почтением. — Слушай, я у тебя про Павла Тюрина спрашиваю, а ты мне книжками голову морочишь. — Я тебе как раз и отвечаю. Эти книжки продал потерпевшему тот самый загадочный мальчишка, который ни в одну поликлинику или больницу не обращался. Кстати, он, видимо, по Киевской дороге не живет. Проверили четырнадцать семей Тюриных, но старушки, заметь, одинокой, с внуком Павликом, до Апрелевки не нашли. — Почему до Апрелевки? — Завтра будут проверять и дальше. Думаю сейчас сходить к потерпевшим и поподробнее побеседовать с ними об этом Павлике. Книжки мне отдала жена студента, его самого дома не было, он ездил к каким-то родственникам. — Не надо никуда ходить. Потерпевшие сейчас у Киселева. Пойдем посмотрим и поговорим. Кстати, объясни, пожалуйста, зачем ты забрал эти книги? — Очень просто. Книги настолько редкие, что их могут знать букинисты. Хочу кое-кому показать. — Ну что же, может быть, в этом есть резон. Пойдем к Киселеву. Павлов пошел было за Афанасьевым, но вернулся, открыл сейф, аккуратно уложил в него книги, потом захлопнул стальную дверь, закрыл замок и только тогда вышел из кабинета. Потерпевшие рассыпались в благодарностях и, казалось, были удивлены таким быстрым результатом. Женщина, торопливо осматривая вещи, подтвердила, что все возвращено. Вдруг лицо ее изменилось, и она несколько раз с опаской взглянула на дверь, словно ожидая, что вот-вот появится что-то страшное. Афанасьев перехватил ее взгляд. — Чего вы боитесь, Наташа? — Бандитов! Разве их не приведут? — шепотом спросила она. — К сожалению, их еще не поймали. Когда поймаем, обязательно вам покажем, да вы не бойтесь. Они у нас после задержания пай-мальчики, много я таких перевидел. Ищешь чуть ли не громилу, а задержишь — смотреть не на что. И ростом меньше, и голосок дрожит. Афанасьев распорядился предъявить вещи и вручить их хозяйке, а сам пригласил к себе в кабинет старшего инспектора и студента. — Расскажите нам, Костя, как и где вы познакомились с Павлом Тюриным? — А вы его нашли? Что с ним? — К сожалению, что с ним и где он, нам неизвестно, поэтому и прошу вас рассказать о нем все самым подробным образом. — Так вот, перед Маем я получил стипендию и зашел в «Находку» — это возле площади Дзержинского букинистический магазин. Посмотрел, что есть на прилавках, и вышел. Там, возле магазина, в сквере, постоянно толкутся люди с редкими книгами. Правда, их прогоняют милиция и директор магазина, но они отойдут, а потом возвращаются. Смотрю, в сторонке стоит мальчик, в руках книга, завернутая в газету. Я подошел, спросил, что у него. Он развернул. Я так и ахнул. География, изданная в 1718 году, еще при жизни Петра Великого. Книга старая, но довольно хорошо сохранилась. Я спросил, сколько стоит. А он мнется и в свою очередь спрашивает, сколько я дам. Знаю, что книга очень дорогая, и так, на всякий случай, предложил семьдесят пять рублей. Он сразу согласился. Я вспомнил, что у меня с собой и пятидесяти не наберется, и попросил пойти со мной домой, у Наташи деньги были: нам ее родители помогают. По дороге разговорились. Дома я рассчитался с Павлом. Поинтересовался, какие он книги намерен продать еще. Он сказал, что сам решать этого не может, а посоветуется с бабушкой. Потом я купил у него восьмитомник монографий Костомарова, изданный в 1908 году, все за сто рублей. Два томика Берсеньева «Московский Кремль в старину и теперь» на веленевой бумаге за пятьдесят рублей, и вот сегодня Павлик притащил две вот эти книги Шильдера — «История Александра Первого», их должно быть еще два тома, — озабоченно закончил Костя. Павлов внимательно слушал и перелистывал редкие книги, которые принес из своего кабинета. — А скажите, сколько они могут, по вашему мнению, стоить? А? — Точно не знаю, — смутился молодой человек. — Ну что же вы, а еще историк, книги-то по вашей специальности, — удивился Павлов. — Ну, примерно представляю, конечно… — Подороже, чем вы заплатили? — снова переспросил старший инспектор. — Ну, я думаю… — неопределенно ответил студент. — Допустим, знаете, тогда как же вы так, извините, «обжали» бедного мальчика с его бедной бабушкой? — съязвил Афанасьев. — Это уже слишком высокие материи, да если не я, так другой, — пожал плечами Костя. — Но вы-то еще и будущий педагог, — вздохнул Павлов. Разговор зашел в тупик. Приподнятое настроение у потерпевшего исчезло. Уходя, он задержался в дверях. — Может быть, можно забрать с собой книги? — Повремените, — лаконично ответил Афанасьев.* * *
Утро следующего дня не принесло новостей: засада не имела успеха, обход ресторанов и закусочных с шофером такси не дал результатов. Мало того, дежурному позвонила хозяйка ограбленной квартиры и «обрадовала» — оказывается, пропали еще облигации трехпроцентного займа на шестьсот рублей, принадлежащие ее родителям. Значит, преступники с деньгами и могли уехать куда-нибудь, например на юг. «В общем, ищи-свищи», — думал Афанасьев, усаживаясь с Павловым в машину, чтобы ехать к букинистам. По пути в «Находку» Павлов увлеченно рассказывал, вводил, так сказать, в курс дела неофита Афанасьева. — Директор «Находки» интереснейшая личность. Его отец, Иван Фадеев, — обычный владимирский крестьянин, рос в большой бедной семье. В конце прошлого века родители определили одиннадцатилетнего мальчика в книжный магазин в Харькове. Лет через пятнадцать он перебрался в Москву. Постепенно, понемногу открыл собственное дело и сына — Александра Ивановича — тоже заставил работать на побегушках в своей лавке. Сейчас Александру Ивановичу под семьдесят, а память у него феноменальная. Энциклопедическая. Он набит всевозможными историями о редких книгах. Иногда специально выбираю время и иду к нему. Часами слушаю невероятные вещи. При царе отцовскую лавку не раз закрывали, за распространение марксистской литературы штрафовали. Кстати, отец Александра Ивановича в канун первой мировой войны купил у князей Гончаровых две рукописные книги с миниатюрами в красках. Одна — пятнадцатого века Апостол, вторая — Евангелие шестнадцатого века. Чтобы приобрести их, продал свою лавку, заложил дом, залез в долги, а все-таки купил. Сейчас эти фолианты в библиотеке имени Владимира Ильича Ленина в Государственном фонде и записаны как фадеевские. Машина выехала с площади Дзержинского на улицу 25 Октября, медленно проползла сквозь длиннющую очередь за мороженым и подъехала к павильону, над которым стеклянной вязью было написано «Находка». В сквере стояли и сидели на скамейках молодые люди и пожилые мужчины с портфелями, папками или связками книг. Едва они заметили красную надпись на борту «Москвича», как стали разбегаться в разные стороны — точно тараканы на кухне после того, как включили свет. Афанасьев кивнул в их сторону: — Значит, здесь потерпевший познакомился с Павликом. В магазине, несмотря на раннее утро, было много покупателей. Павлов вежливо поздоровался с пожилой кассиршей, узнал, что директор у себя, и потащил Александра Филипповича по одному ему известным закоулкам. Кабинет директора был завален книгами. Несмотря на крутившиеся под потолком лопасти вентилятора, пахло здесь как-то особенно: бумагой, красками и, пожалуй, тленом. Увидев Павлова, пожилой, невысокий мужчина, улыбаясь, вышел из-за стола. — Давненько вы ко мне не заглядывали, Иван Кузьмич. Я уж думал, не заболели ли? — Он осмотрел Павлова и решил: — Хотя по вашему виду этого не скажешь, но загореть бы не мешало. Видно, на солнце мало бываете. Иван Кузьмич, дождавшись паузы, представил майора и сообщил, что на этот раз он пришел по делу. — Просьба, Александр Иванович! Оцените вот эти книги и скажите, не попадались ли они вам раньше. Старый книжник буквально ощупал каждый том и переспросил: — Вам как нужно их оценить, точно по каталогу или приблизительно? Хотя, в общем-то, и на память не ошибусь. — Он защелкал костяшками счетов и сообщил, что в общей стоимости книги могут быть куплены магазином за шестьсот двадцать пять рублей. — Сдаете? — Нет, Александр Иванович, мы не собираемся сдавать эти книги. Они чужие и фигурируют в уголовном деле, — ответил Афанасьев. — Нас очень интересует, не попадались ли они вам раньше? — Это другой вопрос, — развел руками директор. — Мне думается, что «Географию генеральную» я недавно видел. Минуточку погодите. — Он постучал в перегородку и попросил: — Зайдите, пожалуйста, Галина Ивановна. Сейчас же в кабинет вошла худенькая немолодая женщина, кивнула посетителям и подошла к столу. Фадеев протянул ей книгу и попросил: — Посмотрите, голубушка, не эту ли книгу нам приносил недавно молодой человек? Женщина тщательно осмотрела книгу, взглянула на последнюю страницу. — Эту самую, такой высокий юноша в заграничном замшевом пиджаке. Я тогда обратила внимание, что у этой редкой книги разорвана и даже не подклеена последняя страница. Он спрашивал, сколько она стоит, и мы вместе с вами оценили ее в сто пятьдесят рублей. Он у нас часто бывает, сказал, что сам заплатил за нее столько же и продавать не намерен. Если нужна его фамилия, я загляну в картотеку заказов, там есть его несколько открыток. — Женщина вышла и вскоре вернулась. — Этот юноша — студент, хочет приобрести любые книги Костомарова, Покровского, живет он на Суворовском бульваре. — Галина Ивановна назвала фамилию потерпевшего. — Скажите, Галина Ивановна, вы все время на приемке книг? — Да, постоянно, если не выезжаю по адресам. — Вы не помните вот такого парнишку. — И Афанасьев описал приметы Павла. — Нет, не помню. Подростки к нам заходят часто, но я механически, не рассматривая ни книг, ни юношей, объясняю, что книги покупаем только у взрослых. Женщина ушла, и Афанасьев, взяв одну из книг, показал директору магазина фиолетовый оттиск на титульном листе и попросил: — Посмотрите, пожалуйста, Александр Иванович, на эту печать, я еще вчера обратил внимание, да забыл спросить у нашего книголюба. — И Афанасьев кивнул в сторону Павлова, рассматривавшего книги, сложенные в углу кабинета. Александр Иванович достал из ящика большую лупу и, разглядывая оттиски, стал рассказывать: — Это экслибрис. Личный знак владельца, если так можно выразиться, их разновидностей много, самых различных, они выполняются на дереве, на металлических клише, печатаются типографским способом. Есть и такие, как здесь, выполненные в виде печати. «Экслибрис» с латыни дословно переводится: «из книг такого-то». Вообще этот знак весьма древний, у нас в России встречается чуть ли не со времен Ивана Грозного. Их обычно заказывали художникам или граверам, конечно, состоятельные люди, иногда и учреждения. Например, до революции Севастопольское военно-морское училище все книги своей библиотеки помечало экслибрисом. Вот здесь, на этих книгах, экслибрис владельца весьма символичен. На нем изображены высокие горы, река и расположившийся на отдых караван. Я бы сказал, что владелец библиотеки любил путешествия в горах, одинокий верблюд свидетельствует о том, что он побывал и в пустынях. Река здесь как символ отдыха, видно, манила к себе этого путешественника. Выполненный внизу вензель — это инициалы владельца. — Александра Ивановича вдруг осенила какая-то идея, и он попросил: — Можно, товарищ майор, я покажу эти книги нашим девушкам? Афанасьев сразу согласился. В кабинет одна за другой заходили совсем юные и постарше женщины и, посмотрев на книги, пожав плечами, уходили, и только одна из них — стройная, красивая женщина с пышной копной каштановых волос — сразу же воскликнула: — Знаю я этого верблюда, и горы помню, и библиотеку. В прошлом году вы послали меня на квартиру покупать книги, на набережную Москвы-реки, я еще оттуда вам несколько раз звонила, советовалась. В общем, насчитала примерно на четыре тысячи рублей. Сказала, что со скидкой они получат на руки три с лишним. Хозяева пообещали привезти к нам книги на следующий день и везут до сих пор. — Да, да, правильно, — припомнил Александр Иванович, — я еще вас туда посылал выяснить, почему не привезли. — Я приезжала во второй раз, а хозяева-наследники извинились, сказали, что решили не продавать библиотеку дедушки. Фадеев подошел к женщине и с некоторым опозданием представил ее: — Моя заместительница — Орлова Людмила Яковлевна. — Скажите, Людмила Яковлевна, — попросил майор, — у вас не сохранился адрес этого дома? — Нет, — сразу же ответила женщина. — Не сохранился, но тот дом я помню и, пожалуй, отыщу. Старинный, с колоннами, вход с переулка. Недалеко от Парка культуры имени Горького. — Вы не могли бы, Александр Иванович, разрешить Людмиле Яковлевне съездить к владельцам этих книг? — спросил Афанасьев. — Раз нужно, пусть едет, — согласился Фадеев. Орлова и Павлов, захватив с собой книги, уехали. Афанасьев, распрощавшись с Фадеевым, тоже вышел из магазина. Машину он отдал Павлову и остановился в раздумье, как лучше и быстрее добраться до Серебряного бора. Решил, что быстрее такси ничего не придумаешь, и мысленно рассмеялся. Ему припомнилось, как комиссар Мегрэ, усаживаясь в такси, всякий раз вспоминал своего сварливого бухгалтера, не соглашавшегося оплачивать его поездки. — Видно, все бухгалтеры одинаковые, — решил майор и остановил проходившую машину с шашечками.* * *
Михаил Трофимович вместо приветствия стал шутливо отчитывать Афанасьева. — Сейчас двенадцатый час, мы тут с самого утра твоих бандитов ищем, а ты отсыпаешься. Вот с Танюшей все ее кондуиты перебрали и, понимаешь, не нашли ни одного Тюрина. Подходящего, я имею в виду. Афанасьев взглянул на молодую женщину в ярком легком платье, которая при его появлении поднялась со стула и с достоинством поклонилась. — Татьяна Александровна Коробочкина, лейтенант милиции, наш инспектор по несовершеннолетним, — представил ее подполковник. — Ты не смотри на ее хрупкую внешность и миловидность. Ошибешься. Она куда старше, чем выглядит, у нее уже дочь на голову выше, а характер у нашего инспектора такой, что дай бог другому мужчине. — Что-то вы уж больно меня расписываете, Михаил Трофимович, перевести в его отделение решили? — Нет, Танечка. Никуда я тебя не отдам, но помочь коллегам придется… — Подполковник сделал паузу, подошел к окну, заглянул во двор и, рассматривая что-то, продолжал: — Разбуди, Татьяна Александровна, нашего шофера, а то он уже все бока отлежал, и пусть он тебя отвезет к соседям. Посмотри-ка хозяйским глазом, нет ли у них этого самого Тюрина. Как думаешь, Александр Филиппович, верно я говорю? — Верно, — согласился Афанасьев. — Только, Татьяна Александровна, не просто Тюрина ищите, ищите тройку, четверку парней, в которой могут оказаться похожие на него и двух грабителей. Всех приметы помните? — Наизусть изучила, — усмехнулась женщина. — Вчера двух подходящих блондинов задержала. Один художником оказался, а другой мотористом из Освода. Но, к сожалению или, скорее, к счастью, к разбою они не имеют никакого отношения, пришлось извиниться. Так я поехала? Михаил Трофимович согласно кивнул, женщина забрала свои папки и вышла. Афанасьев поинтересовался засадой и узнал, что пока никаких сведений оттуда не поступало. Михаил Трофимович взглянул на часы — было уже половина двенадцатого — и предложил: — Пойдемте, Саша, пообедаем? А то потом очередь будет, а я, откровенно сказать, не завтракал. — А где тут у вас поблизости? — Рядом, возле троллейбусного круга, пельменная. Там всегда отличная окрошка. Они вышли из отделения, предупредив дежурного, что через полчаса вернутся. Здание милиции ничем не отличалось от окружающих дач. Видно, и строилось оно для отдыха, а не для беспокойной милицейской службы. По участку возле милиции росли огромные сосны, а в палисаднике на молодых, хорошо ухоженных деревьях спели яблоки, кто-то из работников под этими яблонями расставил скамейки и круглый стол, на которых отлично бы смотрелся кипящий самовар. Он настолько отчетливо представился Афанасьеву, что ему даже почудился запах дыма от сосновых шишек, которыми он топится. — Хорошо ты живешь, Михаил Трофимович. Круглый год на даче. Не то что мы в центре. — Верно, тут хорошо. Но сам знаешь, уголовный розыск везде один и тот же, даже здесь, на даче, ребятам крепко достается. Разговаривая, они подошли к калитке и не успели выйти на улицу, как в ворота вкатился «Москвич». Афанасьев сразу же увидел в машине Павлова. Он поздоровался с Курилиным и направился к дому, но Афанасьев остановил: — Давай, Кузьмич, посидим вон там под яблоньками, и ты нам все расскажешь про книги. — Хорошо. Расскажу и про книги, и про Павла Тюрина. — Неужто нашел? — Нашел, Михаил Трофимович. Еду к вам и думаю, не потерять бы снова. — Не темни, Кузьмич, выкладывай все свои новости. Только по порядку. — Раз по порядку, то по порядку, — согласился Павлов. — Людмила Яковлевна нашла владельцев книг. Внучка этого собирателя книг была не очень-то разговорчивой, пришлось мне сообщить ей вчерашнюю историю, и она сразу заговорила. Продали они в прошлом году книги вам в Серебряный бор, инженеру Тюрину. — Какому Тюрину? — заерзал на скамье Михаил Трофимович. — Тюрину, что живет в новом доме, недалеко от вашего районного управления, в трехкомнатной квартире номер семнадцать. — Ты был там, что ли? — перебил Михаил Трофимович. — А где Павлик? — Был. Павлик дома, а вот почему не привез, расскажу подробно.* * *
Павлов подвез Людмилу Яковлевну к «Находке», а сам решил отправиться к Тюриным. У него не было никакого плана, он не представлял, как сложится разговор с Павлом, и поэтому решил сориентироваться на месте. Оставив машину в стороне, Иван Кузьмич подошел к дому. Возле подъезда, обсаженного сиренью, сидели две старушки и о чем-то оживленно беседовали. Павлов поздоровался, поговорил о погоде и, как ему казалось, очень ловко начал расспрашивать о жильцах и как бы между прочим спросил о Тюрине. Одна из женщин, полная, седая, подтвердила, что Тюрин живет в семнадцатой квартире вместе с женой и сыном Павлом. Она похвалила инженера, его жену, а затем стала рассказывать, какой замечательный мальчишка их сын Павлик. Иван Кузьмич едва удержался, чтобы не спросить, где он сейчас и не случилось ли с ним что-нибудь. И вовремя удержался, так как женщина вдруг насторожилась и, что называется, «приперла его к стене». — А зачем вам, в сущности, нужны Тюрины? Кстати, замужем за инженером Тюриным моя дочь. Старший инспектор не растерялся. Он достал из портфеля книги и объяснил, что они попали к нему случайно из того же самого собрания, что приобрел ее зять, и он хотел бы узнать, нет ли среди книг, купленных Тюриным, остальных томов, добавил, что такие редкие издания просто грех разъединять. Старушка пригласила Ивана Кузьмича в квартиру и провела в большую комнату, уставленную книжными шкафами старинной работы. За стеклами шкафов поблескивали потемневшей позолотой книги, под стать тем, что были у Ивана Кузьмича в портфеле. Против большого окна стоял резной письменный стол, а в углу приткнулась широкая софа. Старушка, показав комнату и шкафы с книгами, позвала Ивана Кузьмича на кухню, видимо служившую столовой. Надела очки и попросила показать книги. Она внимательно посмотрела одну, другую и, когда дошла до географии Петра Великого, тщательно перелистала страницы, рассмотрела разорванный лист и с уверенностью заявила, что это их книга, что она сама хотела подклеить этот лист и когда специально купила клеющуюся пленку, то книгу не нашла. — Как она к вам попала? — спросила старая женщина Ивана Кузьмича. Павлов был вынужден предъявить женщине свое удостоверение. Та внимательно его прочла и, возвращая документ, сердито сказала: — С этого нужно было и начинать, уважаемый Иван Кузьмич, а то несете какую-то околесицу, а я никак не пойму, кто же вам нужен: то ли мой зять, то ли мой внук. На жулика вы не похожи, книги действительно знаете. Но я должна вам сказать, кстати, меня зовут Тамара Николаевна, что, проработав тридцать с лишком лет в трибунале, а затем в Верховном Суде я сразу почувствовала, что ваш визит неспроста. Говорите толком, что вы от нас хотите? — Хорошо, Тамара Николаевна, скажу, но прежде ответьте мне на несколько вопросов. Старуха достала, из буфета пачку «Примы», закурила, пододвинула сигареты Павлову. — Спрашивайте. — Где ваш внук? — На лодочной станции, вот-вот явится, буду его обедом кормить. — А где он был вчера утром? — Дома. Валялся чуть ли не до одиннадцати часов. Он с двумя мальчишками с вечера рисовал газету для своего клуба, и закончили они под утро. Я их два раза приходила разгонять, а они: «Баб, имей совесть, дай дорисовать». Утром мне в поликлинику нужно было к одиннадцати часам, перед уходом я его едва подняла. — Скажите, Тамара Николаевна, а у Павлика с головой все в порядке? — Эх, милый Иван Кузьмич! С головой-то у него все в порядке. Восьмой класс в этом году закончил и за всю учебу ни одной тройки не было. Вот со зрением у него плохо. Минус четыре. — Вы меня не поняли, Тамара Николаевна. Травм у него каких-либо вчера не было? — Травм у него всегда хоть отбавляй, а вот вчера не было. Он весь день дома просидел. Лоцию учил. Отец пообещал ему купить лодочный мотор, как только он сдаст судовождение. — Ну что же, теперь очередь за мной. — решил Иван Кузьмич и рассказал о проданных книгах и о разбойном нападении. Тамара Николаевна внимательно слушала и качала головой. — Кое-кому Павлик дает книги. Отец разрешил. Но я вот думаю, перебираю их всех по одному, но никто по приметам под самозванца не подходит, да и мальчишки-то все хорошие. Не пойдут они на такую подлость. — Тогда у меня к вам просьба. Не говорите внуку о нашем разговоре, а я посоветуюсь и через часок вернусь. Если сможете, найдите предлог, чтобы Павлика попридержать дома. …— Вот так, товарищ начальник, с Павлом Тюриным получилось. — Иван Кузьмич взглянул на часы и сообщил: — Прошло уже тридцать минут из обусловленного часа, и Тамара Николаевна, наверное, волнуется. — Поезжайте, Александр Филиппович, с Иваном Кузьмичом. Поговорите с мальчишкой. А я тем временем попытаюсь выяснить, с кем этот парнишка водится. Жаль только, что Татьяны нет. Ну да я, может быть, ее разыщу. Она всю эту братию знает… Афанасьев и Павлов остановились перед квартирой номер семнадцать. Иван Кузьмич дважды нажал кнопку звонка, и дверь сразу же открылась. В темном проеме прихожей блестели толстые стекла очков и виднелись белые плавки. Афанасьев не сразу рассмотрел загоревшего до черноты маленького, щуплого мальчишку. На вид ему можно было дать лет одиннадцать, от силы двенадцать. Он стоял босиком, как-то по-цыплячьи поджав правую ногу. Видно, и Кузьмича обескуражил вид Павла Тюрина, которого с таким рвением разыскивали в клиниках и больницах. — Нам бы Тамару Николаевну, — почти прошептал старший инспектор. Мальчишка молча широко распахнул дверь, крикнул: — Баб, к тебе! — и юркнул в комнату напротив. Пока Афанасьев знакомился с Тамарой Николаевной, из комнаты мальчишки выплеснулась громогласная музыка. Майору даже послышалось шлепанье о паркет голых пяток в такт джазу. Тамара Николаевна несколько раз стукнула в дверь, и музыка сразу стала тише. Павлов и Афанасьев подождали, пока Тамара Николаевна представила им для разговора своего внука. В сопровождении бабушки в комнату чинно вошел Павлик, в светлых брючках, белой рубашке. Несмотря на старательно намоченные и причесанные волосы, коротко стриженные белесые вихры торчали у него в разные стороны. Павлик внимательно рассмотрел гостей и, остановившись посреди комнаты, объявил: — Я вас слушаю. — Мы из МУРа, — сообщил Афанасьев, — и хотели бы у тебя кое-что выяснить. — Уголовный розыск? У меня! — Белесые брови паренька удивленно вздернулись вверх. — Спрашивайте. — Ты часто даешь ребятам книги из домашней библиотеки? — Часто. Если просят. Но при чем здесь книги? Мне разрешил папа. Он говорит: «Книги не могут быть мертвым капиталом. Они должны помогать людям». — Дай-ка портфель, Иван Кузьмич. — Взгляни сюда, Павел, это ваши книги? — На всех наших книгах на двадцать первой странице внизу стоит буква «Т», я сам вырезал печатку и помечаю каждую книгу, как только она у нас появится. — Мальчишка подошел к портфелю, взял одну, другую книгу и явно удивился. — Как они к вам попали? — Это мы тебе, конечно, расскажем, но сначала ты вспомни, кому ты их давал? Павлик взял томик Костомарова, открыл двадцать первую страницу и с еще большим удивлением указал на серо-синий отпечаток. Чуть ли не по слогам произнес: — На-ша! Смотри-ка, баб! И петровская география здесь, а ты меня все ругала, куда дел! Куда засунул! — Эти книги наши, Павлуша. Книги попали к преступникам, и один из них назвался Павлом Тюриным, — не вытерпела до сих пор молчавшая Тамара Николаевна. — Как к преступникам? — Паренек подошел к Афанасьеву и как-то очень серьезно, по-взрослому попросил: — А вы мне их покажете? И того, который «Тюрин»? — Ладно, садись сюда поближе и слушай! — И Афанасьев рассказал Павлику историю продажи книг и последующего ограбления. Мальчишка не перебивая слушал и, видно, все время пытался что-то понять, в чем-то разобраться. Когда майор обрисовал ему приметы самозванца, Павлик уверенно заявил, что такого не знает. — Ты подумай! — попросил майор. — Перебери в памяти всех, кто к тебе приходил, ведь не могли книги сами по воздуху вылететь из дома, их кто-то унес. Унес человек, которого ты приглашал к себе, которому доверял. Павлик слушал, потом нагнулся над портфелем, в котором так и остались книги, и стал их перебирать. Быстро выхватил «Историю Александра Первого» и растерянно, совсем оторопело спросил: — А эта книга тоже была там? Ну, где ограбление случилось? — Да, тоже. Ты вспомнил, кому ее давал? — Там есть и второй том Шильдера, — подсказал Иван Кузьмич, и Павлик достал и его из портфеля. Прижав обе книги к себе, он отступил к двери, растерянно, с каким-то внутренним трепетом, что-то решая для себя и обдумывая, но все же сказал: — Нет. Этих книг я тоже никому не давал. И не знаю, как они очутились вместе с другими. — Скажи, Павлуша, — затянувшись сигаретой, попросила бабушка. — Не эти ли книги брал у тебя на прошлой неделе Борис? — Что ты, баб! Борис брал у меня совсем другие, — нервничая, ответил Павлик. — Все ли ты нам честно сказал, Павел! Тебе можно верить? — решил подвести черту Афанасьев. — Все! — потупился парнишка. Но в этом коротком слове прозвучала такая решительность, что было ясно — мальчишка больше ничего не скажет. Как бы в подтверждение этого предположения Павлик добавил: — Если я что-то узнаю, вернее, припомню, где вас найти? — В отделении милиции в Серебряном бору. — Майор вырвал из блокнота листок и написал несколько номеров телефонов. Тамара Николаевна проводила работников уголовного розыска до лестничной площадки и, оглядываясь на дверь, прошептала: — Спасибо вам за умный разговор. Правильно сделали, что не нажимали на мальчишку, он такой строптивый, если заупрямится, слова не вымолвит. Я сама, да отец приедет, вместе выясним. Отцу он все скажет, скорее, чем вам или мне. — Ну что ж, будем надеяться. Вы, конечно, понимаете, что книги ваши вернем попозже, — вздохнул Александр Филиппович. — Пойдем, Кузьмич! Нас там Михаил Трофимович, наверное, заждался. Павлик, услышав, что гости ушли, а бабушка хлопнула дверью своей комнаты, упал на кушетку и разревелся. Он плакал и приговаривал: «Друг, лучший друг, и такая пакость». Несколько минут от обиды и разочарования у него ручьем лились слезы. Павлик еще некоторое время лежал на кушетке, а затем решительно встал, прошел в ванную комнату, забрался под душ. Потом заглянул в комнату к бабушке. — Баб! Ты хоть бы окно открыла. Надымила, как пароход. Угоришь. Я уйду на полчасика? — Может, Павлуша, ты хоть мне что-нибудь расскажешь об этих книгах? — Мне, ба, нечего рассказывать. Бандитов я и правда не знаю. — Куда же ты идешь? — Тут недалеко. Я скоро. — Смотри глупостей не наделай. — Не наделаю. Не беспокойся. Мальчишка ушел, а Тамара Николаевна, закурив новую сигарету, в раздумье подошла к телефону, сняла трубку, а потом, положив ее на аппарат, направилась в комнату, где только что были работники МУРа, отыскала листок с записью Афанасьева и снова подошла к телефону. …Павел вышел из подъезда, остановился возле кустов сирени, схватил уже отцветающую гроздь и загадал: если найдется цветок с пятью лепестками, значит, Борька не виноват, с тремя — виноват. Павлик нашел сразу две пятерки, потом еще одну, и здесь же оказались соцветия с тремя лепестками. Он выпустил куст и горько усмехнулся — по пятеркам Борька тут ни при чем., а по тройкам самый лучший друг оказался обманщиком и подлецом. Нет, Борис не может связаться с преступниками, да и не похож он совсем на того самозванца. Но как же тогда два тома Шильдера, которые Борис взял у него на прошлой неделе, попали к бандитам? А впрочем, что тут гадать. Борис наверняка дома, ведь они вместе вернулись с водного стадиона и договорились встретиться попозже. Павел решительно перешел улицу и, поднявшись на второй этаж, позвонил. — Ты дома, Борька! Вот и хорошо. Есть разговор.* * *
— Ну, знаешь, Александр Филиппович, я тебя просто не понимаю. Ты меня извини, но упустить того мальчишку, не добившись истины, просто ни на что не похоже. Допустим, ты прав, и Павел Тюрин нам здесь ничего не сказал бы, раз он решил не говорить, но ты мог оставить там Ивана Кузьмича, мог позвонить мне, и я подослал бы тебе двух ребят, и они бы хоть понаблюдали за парнишкой. Стало бы ясно, к кому он пошел. Михаил Афанасьевич так распалился, что, отчитывая своего коллегу, даже перешел на начальственный тон. Кузьмич, слушая эту отповедь, уютно усевшись на диване, молчал. Афанасьев докурилсигарету, щелкнув зажигалкой, прикурил новую. — Ладно, Миша! У каждого из нас своя точка зрения. Во-первых, брать под наблюдение честного мальчишку, а в честности его мы убедились, просто не годится. Кстати, мне кажется, ходить по пятам и подсматривать за честным человеком унизительно. Для него в первую очередь, да и для нас тоже. В тот момент, когда оба были готовы серьезно поссориться, раздался телефонный звонок. Михаил Трофимович снял трубку, потом протянул ее Афанасьеву: — Тебя, Саша! Громко, на всю комнату был слышен голос Тамары Николаевны, она сказала, что Павлик следом за ними ушел, куда — не знает, обещал вскоре вернуться. Она хотела его не пускать, но потом раздумала: вдруг его уход в интересах уголовного розыска? — Да, как бы наши интересы Павлику боком не вышли, — проворчал Кузьмич. — Как боком? — забеспокоился Афанасьев. — Думаю, пошел он по собственному почину вести следствие, и не дай бог напорется на преступников, а те ведь по-всякому могут с ним обойтись. — Наверно, ты прав, Михаил Трофимович! Нужно было понаблюдать за парнишкой, в случае чего, мы могли бы ему помочь из беды выпутаться. Что же теперь делать будем? — Ничего. Ждать, — решил Курилин. — Ждать чего? Когда Тюрину в лучшем случае нос расквасят? — Нет, будем ждать инспектора Коробочкину, которую я послал со списком друзей Павлика. Она вот-вот появится или позвонит.* * *
Борис открыл дверь и, не дожидаясь, когда Павел войдет, вернулся в комнату, где на полу была разостлана большая географическая карта мира. Улегся прямо на карту и предложил Павлику расположиться рядом. — Вот смотри, здесь красным пунктиром я нанес путь Тура Хейердала на «Кон-Тики». Вот этот синий пунктир прошел «Ра».
— Мне сейчас не до путешествий. Где книги, что ты брал на прошлой неделе?
— В коридоре, возле тебя на третьей полке.
— Там их нет, — сразу же ответил Павел, даже не взглянув на полку.
— Как это нет? — недовольно поднялся Борис. Он оказался на голову выше приятеля и поплотнее. На вид старше, хотя мальчишки были ровесниками и учились в одном классе. Борис подошел к полкам, просмотрел их и, очень удивленный, заглянул в стенной шкаф. Зачем-то выскочил на кухню, вернулся в комнату и посмотрел в ящиках письменного стола. Борис метался по квартире, а Павлик молча наблюдал за ним. Борис набрал номер телефона и спросил Ольгу Александровну.
— Мама, ты не знаешь, где книги, что я взял у Павлика? Ну да, те самые, старинные, про Александра Первого. Не брала? Да, пообедал. У меня Павлик. Я буду дома. Ладно. Поищу.
— Не ищи, Борька. Не найдешь. Лучше скажи, кому ты их отдал?
— Как это отдал? Ты же сам говорил, что даешь с тем условием, чтобы никому не передавать.
— Где ты вчера был?
— Ты что, Пашка, спятил? Мы же с тобой вместе были на речке.
— Это днем, а вот ты скажи, где был утром?
— Ты что пристал? Вчера утром я спал. Мы еще с тобой вместе допоздна газету делали. Я пришел и как завалился, мама меня по телефону полдвенадцатого разбудила, я поел и на Москву-реку… Ты же сам там был!
— Это днем. А утром ты в центр ездил.
— В какой центр? Ты что, с ума сошел?
— Слушай, Борька, а ты не врешь? Дай слово, что спал, что никуда не ездил?
— Ну ты совсем того. Я же тебе говорю, что дома был.
— Честное слово?
— Честное слово!
— Тогда куда делись наши книги?
— Никуда они не делись. Тут где-нибудь. Мама засунула. Вот сейчас поищу получше, и найдем.
— Не найдешь ты книги, Борька! Нет их у тебя.
— Потихоньку забрал, а теперь требуешь? Паразит ты, Пашка.
— Кто из нас паразит, в уголовном розыске разберутся.
— При чем тут уголовный розыск?
— Поклянись, что никому ни слова не скажешь?
— Клянусь. Честное слово, никому.
— Кто-то украл у нас книги, одиннадцать штук, да еще те, что у тебя были, и продал их одному мужику, а квартиру этого покупателя ограбили. Пришли в масках, с пистолетами, ножами, связали хозяйку. Понимаешь, Боря, тот, кто продавал, сказал, что фамилия Тюрин, зовут Павел. Он принес книги, а потом впустил своих дружков.
— Ну и врать же ты, Паша, мастер. Сам придумал или где вычитал?
— Нет, Боря, не вру. Честное слово. Только что были у нас двое из самого МУРа. Пришли и спрашивают: «Ты Павел Тюрин?» — «Я!» — «Давал книги бандитам?» — «Нет». — «Кто у тебя друзья?» И давай меня допрашивать. Где был, кого знаю. Потом один раскрывает портфель и вытаскивает книги. Я смотрю и глазам не верю. Знаю, что эти самые книжки я во второй ряд третьего шкафа ставил. Взглянул на двадцать первую страницу — наши. Помнишь, я у тебя петровскую географию спрашивал? Ну ту, что потерялась? Она там. Перебираю дальше и чуть не закричал: вижу в портфеле оба томика, те самые, что я тебе давал. Ну, думаю, неужели мой друг с бандитами связался, а мне ни слова? Не верю я ничего не могу понять. Потом испугался, подумал, что заметили мою растерянность. Но ничего, пронесло. Они ушли, а я к тебе. Зашел к нашему домашнему юристу, говорю: «Ба! Я пойду ненадолго», а она хитро посмотрела на меня и говорит: «Расследование решил сам вести?» Предупредила, чтобы не лез на рожон. Как думаешь, кто у нас книги взял? Да еще моим именем воспользовался?
Борис растерянно слушал Пашкино повествование и первое время никак не мог ему поверить.
— Павлик, давай еще вместе поищем твои книжки, может, они все-таки здесь. А ты не ошибся?
— Нет, Боря, не мог я ошибиться. Это те самые книжки Шильдера, что я тебе давал, и искать их просто бессмысленно. Лучше давай подумаем, кто их мог взять у тебя и у нас.
Мальчишки прошли на кухню. Борис достал из холодильника бутылку молока, налил себе и приятелю по стакану и, отпив несколько глотков, предложил:
— Давай возьмем по листу бумаги, и каждый напишет всех ребят, кто к нему приходил.
— За какое же время?
— Когда «география» у вас исчезла?
— Не помню, Боря. Хотя подожди. Кажется, вскоре после Праздника Победы.
— Ну вот, давай с мая месяца и начинай. Мне-то проще, я сейчас всех переберу, кто у меня за неделю побывал. И ты пиши, Павел. Я тебе мешать не буду. Пиши всех, даже тех, в ком нисколько не сомневаешься, иди в комнату, садись за мой стол. Молока еще хочешь? Нет, ну иди.
Вскоре Борис со своим небольшим списком подошел к Павлу Тюрину. Тот показал ему свой листок.
— Закончил. Пытаюсь припомнить, не пропустил ли кого. С тобой вместе одиннадцать человек получилось. Вот смотри: Лелька раз семь — восемь приходила, я ей по физике помогал. Сема Бронштейн в шахматы выиграл у меня три партии, а проиграл две — значит, был у меня пять раз. Мы с ним в день только по одной партии играем. Жорка заходит часто, то стержень ему дай, то пилку от лобзика, то еще что-нибудь. Он ведь в нашем подъезде живет. Дамир заходил несколько раз. Остальные приходили кто два, кто три раза.
— У меня, Павлик, было ребят куда меньше. Ну-ка давай сверим. Так, Лелька ко мне не приходила. Она и не знает, где я живу. Бронштейн был еще зимой. Жорка заходил, но до того, как я у тебя взял книги. Постой, а Валька сколько раз у тебя был?
— Раза два или три, — припомнил Тюрин.
— Он у меня был на прошлой неделе. Все в книгах копался: дай да дай что-нибудь почитать.
— Валька и у нас книги рассматривал. Зимой он у меня Эдгара По брал, но вернул. Весной Сименона читал. Приходил в последнее время, но книг я ему не давал. Да он и не просил.
Борис наморщил лоб и что-то соображал.
— Сколько у вас всего книг пропало?
— Сколько пропало, не знаю, а показывали мне вместе с теми, что у тебя были, тринадцать штук.
— Давай рассуждать: одну книгу унести незаметно очень просто. Засунул за пазуху и уходи. Можно и две.
— Да нет, Боря! Незаметно унести восьмитомник Костомарова просто невозможно. Книги нужно куда-то сложить.
— Значит, вспоминай, кто заходил к тебе с портфелем.
— Ты приходил. Ленка — «балерина» тоже с маленьким таким портфелем синего цвета, у нее такие же босоножки и отделка на платье.
— Я твоих книг не брал. Про Лену потом. Кто еще приходил?
— Вроде бы никто, — неуверенно пожал плечами Павлик.
— А Валька с чем заходил? Что у него в руках было?
— Ты же знаешь, что он все время со спортивной сумкой ходит. На ней «Спартак» написано.
— Та-ак, — почесывая затылок, почти пропел Борис. — Ко мне он тоже с этой сумкой приходил. — Он быстро, почти бегом бросился в комнату, надел потрепанные джинсы, цветную рубашку и потянул за руку Павла.
— Идем к Вальке, это его работа. Он еще с осени со шпаной шляется. Придем и прямо спросим про книги.
— Может, не надо, Боря? Может, наша самодеятельность помешает тем, из МУРа?
— Чего там помешает! Мы же его прижмем, и он нам сам все выложит, а потом пойдем схватим тех бандитов — и в уголовный розыск. Читал в газете, как один дружинник задержал хулигана с ружьем? Ему сразу медаль дали. — Борис окинул взглядом свою прихожую, нагнулся и из-под книжных полок вытащил что-то похожее на выдвижной ящик, где аккуратно, рядком лежало несколько пар гантелей. Выбрав одну, поменьше, пятисотграммовую, опустил ее в карман, а другу объяснил:
— На всякий случай.
— Вот смотри, здесь красным пунктиром я нанес путь Тура Хейердала на «Кон-Тики». Вот этот синий пунктир прошел «Ра».
— Мне сейчас не до путешествий. Где книги, что ты брал на прошлой неделе?
— В коридоре, возле тебя на третьей полке.
— Там их нет, — сразу же ответил Павел, даже не взглянув на полку.
— Как это нет? — недовольно поднялся Борис. Он оказался на голову выше приятеля и поплотнее. На вид старше, хотя мальчишки были ровесниками и учились в одном классе. Борис подошел к полкам, просмотрел их и, очень удивленный, заглянул в стенной шкаф. Зачем-то выскочил на кухню, вернулся в комнату и посмотрел в ящиках письменного стола. Борис метался по квартире, а Павлик молча наблюдал за ним. Борис набрал номер телефона и спросил Ольгу Александровну.
— Мама, ты не знаешь, где книги, что я взял у Павлика? Ну да, те самые, старинные, про Александра Первого. Не брала? Да, пообедал. У меня Павлик. Я буду дома. Ладно. Поищу.
— Не ищи, Борька. Не найдешь. Лучше скажи, кому ты их отдал?
— Как это отдал? Ты же сам говорил, что даешь с тем условием, чтобы никому не передавать.
— Где ты вчера был?
— Ты что, Пашка, спятил? Мы же с тобой вместе были на речке.
— Это днем, а вот ты скажи, где был утром?
— Ты что пристал? Вчера утром я спал. Мы еще с тобой вместе допоздна газету делали. Я пришел и как завалился, мама меня по телефону полдвенадцатого разбудила, я поел и на Москву-реку… Ты же сам там был!
— Это днем. А утром ты в центр ездил.
— В какой центр? Ты что, с ума сошел?
— Слушай, Борька, а ты не врешь? Дай слово, что спал, что никуда не ездил?
— Ну ты совсем того. Я же тебе говорю, что дома был.
— Честное слово?
— Честное слово!
— Тогда куда делись наши книги?
— Никуда они не делись. Тут где-нибудь. Мама засунула. Вот сейчас поищу получше, и найдем.
— Не найдешь ты книги, Борька! Нет их у тебя.
— Потихоньку забрал, а теперь требуешь? Паразит ты, Пашка.
— Кто из нас паразит, в уголовном розыске разберутся.
— При чем тут уголовный розыск?
— Поклянись, что никому ни слова не скажешь?
— Клянусь. Честное слово, никому.
— Кто-то украл у нас книги, одиннадцать штук, да еще те, что у тебя были, и продал их одному мужику, а квартиру этого покупателя ограбили. Пришли в масках, с пистолетами, ножами, связали хозяйку. Понимаешь, Боря, тот, кто продавал, сказал, что фамилия Тюрин, зовут Павел. Он принес книги, а потом впустил своих дружков.
— Ну и врать же ты, Паша, мастер. Сам придумал или где вычитал?
— Нет, Боря, не вру. Честное слово. Только что были у нас двое из самого МУРа. Пришли и спрашивают: «Ты Павел Тюрин?» — «Я!» — «Давал книги бандитам?» — «Нет». — «Кто у тебя друзья?» И давай меня допрашивать. Где был, кого знаю. Потом один раскрывает портфель и вытаскивает книги. Я смотрю и глазам не верю. Знаю, что эти самые книжки я во второй ряд третьего шкафа ставил. Взглянул на двадцать первую страницу — наши. Помнишь, я у тебя петровскую географию спрашивал? Ну ту, что потерялась? Она там. Перебираю дальше и чуть не закричал: вижу в портфеле оба томика, те самые, что я тебе давал. Ну, думаю, неужели мой друг с бандитами связался, а мне ни слова? Не верю я ничего не могу понять. Потом испугался, подумал, что заметили мою растерянность. Но ничего, пронесло. Они ушли, а я к тебе. Зашел к нашему домашнему юристу, говорю: «Ба! Я пойду ненадолго», а она хитро посмотрела на меня и говорит: «Расследование решил сам вести?» Предупредила, чтобы не лез на рожон. Как думаешь, кто у нас книги взял? Да еще моим именем воспользовался?
Борис растерянно слушал Пашкино повествование и первое время никак не мог ему поверить.
— Павлик, давай еще вместе поищем твои книжки, может, они все-таки здесь. А ты не ошибся?
— Нет, Боря, не мог я ошибиться. Это те самые книжки Шильдера, что я тебе давал, и искать их просто бессмысленно. Лучше давай подумаем, кто их мог взять у тебя и у нас.
Мальчишки прошли на кухню. Борис достал из холодильника бутылку молока, налил себе и приятелю по стакану и, отпив несколько глотков, предложил:
— Давай возьмем по листу бумаги, и каждый напишет всех ребят, кто к нему приходил.
— За какое же время?
— Когда «география» у вас исчезла?
— Не помню, Боря. Хотя подожди. Кажется, вскоре после Праздника Победы.
— Ну вот, давай с мая месяца и начинай. Мне-то проще, я сейчас всех переберу, кто у меня за неделю побывал. И ты пиши, Павел. Я тебе мешать не буду. Пиши всех, даже тех, в ком нисколько не сомневаешься, иди в комнату, садись за мой стол. Молока еще хочешь? Нет, ну иди.
Вскоре Борис со своим небольшим списком подошел к Павлу Тюрину. Тот показал ему свой листок.
— Закончил. Пытаюсь припомнить, не пропустил ли кого. С тобой вместе одиннадцать человек получилось. Вот смотри: Лелька раз семь — восемь приходила, я ей по физике помогал. Сема Бронштейн в шахматы выиграл у меня три партии, а проиграл две — значит, был у меня пять раз. Мы с ним в день только по одной партии играем. Жорка заходит часто, то стержень ему дай, то пилку от лобзика, то еще что-нибудь. Он ведь в нашем подъезде живет. Дамир заходил несколько раз. Остальные приходили кто два, кто три раза.
— У меня, Павлик, было ребят куда меньше. Ну-ка давай сверим. Так, Лелька ко мне не приходила. Она и не знает, где я живу. Бронштейн был еще зимой. Жорка заходил, но до того, как я у тебя взял книги. Постой, а Валька сколько раз у тебя был?
— Раза два или три, — припомнил Тюрин.
— Он у меня был на прошлой неделе. Все в книгах копался: дай да дай что-нибудь почитать.
— Валька и у нас книги рассматривал. Зимой он у меня Эдгара По брал, но вернул. Весной Сименона читал. Приходил в последнее время, но книг я ему не давал. Да он и не просил.
Борис наморщил лоб и что-то соображал.
— Сколько у вас всего книг пропало?
— Сколько пропало, не знаю, а показывали мне вместе с теми, что у тебя были, тринадцать штук.
— Давай рассуждать: одну книгу унести незаметно очень просто. Засунул за пазуху и уходи. Можно и две.
— Да нет, Боря! Незаметно унести восьмитомник Костомарова просто невозможно. Книги нужно куда-то сложить.
— Значит, вспоминай, кто заходил к тебе с портфелем.
— Ты приходил. Ленка — «балерина» тоже с маленьким таким портфелем синего цвета, у нее такие же босоножки и отделка на платье.
— Я твоих книг не брал. Про Лену потом. Кто еще приходил?
— Вроде бы никто, — неуверенно пожал плечами Павлик.
— А Валька с чем заходил? Что у него в руках было?
— Ты же знаешь, что он все время со спортивной сумкой ходит. На ней «Спартак» написано.
— Та-ак, — почесывая затылок, почти пропел Борис. — Ко мне он тоже с этой сумкой приходил. — Он быстро, почти бегом бросился в комнату, надел потрепанные джинсы, цветную рубашку и потянул за руку Павла.
— Идем к Вальке, это его работа. Он еще с осени со шпаной шляется. Придем и прямо спросим про книги.
— Может, не надо, Боря? Может, наша самодеятельность помешает тем, из МУРа?
— Чего там помешает! Мы же его прижмем, и он нам сам все выложит, а потом пойдем схватим тех бандитов — и в уголовный розыск. Читал в газете, как один дружинник задержал хулигана с ружьем? Ему сразу медаль дали. — Борис окинул взглядом свою прихожую, нагнулся и из-под книжных полок вытащил что-то похожее на выдвижной ящик, где аккуратно, рядком лежало несколько пар гантелей. Выбрав одну, поменьше, пятисотграммовую, опустил ее в карман, а другу объяснил:
— На всякий случай.
* * *
Татьяна Александровна Коробочкина, устроившись за письменным столом своего начальника, ловко и быстро набрасывала на листе бумаги схему. Из-под карандаша, точно связки цветных воздушных шаров, появились сплетенные вместе кружки. В центре одного из них она написала фамилию Павла Тюрина, в других имена его приятелей и знакомых. От Тюрина инспектор провела в сторону стрелку и отдельно нарисовала несколько кружков. Подвинув схему на середину стола, Татьяна Александровна взглянула на Афанасьева, Павлова и, обращаясь к майору, объяснила: — Вот здесь я показала окружение Тюрина, это его знакомые и друзья. О них все говорят только хорошее. Конечно, кто-то из мальчишек склонен подраться, например, Борис Тиканов до прошлого года без синяков под глазами почти не ходил. Жоржик, что живет с Тюриным в одном подъезде, в соседнем доме выбил из рогатки два оконных стекла. Сема для какой-то девочки оборвал половину цветов с клумбы перед входом на речной стадион. И все, других неблаговидных поступков за этими ребятами никто не знает. — Да, но кто-то же бывал у Тюриных и сумел стащить книги, и бывал, видимо, не раз, — усомнился Павлов. — Не торопитесь, уважаемый коллега, — остановила его Коробочкина и указала карандашом на группу кружков, нарисованных отдельно. — С Тюриным знаком и иногда с ним встречается Валентин Цыплаков, видят его и со взрослыми парнями, поведение которых далеко не ангельское. Да и сам он… — Нельзя ли поподробнее! — попросил Афанасьев. — Цыплаков учится в техникуме, на третьем курсе. В прошлом году его исключили из комсомола за кражу шапок из раздевалки. Живет с родителями. Отец инженер, работает в каком-то транспортном управлении, мать медицинский работник — дежурная сестра или фельдшер на заводском медпункте. У Валентина есть еще старшие брат и сестра, о тех я ничего не знаю. Мне рассказывали, что родители Валентина довольно строгие, особенно отец. После комсомольского собрания он устроил сыночку такую взбучку, что вмешивался наш участковый инспектор. — Как выглядит этот Цыплаков? — поинтересовался Павлов. — Худой, длинный, в разговоре немного заикается. — На продавца книг не похож, — вздохнул Павлов. — Я все-таки послала нашего участкового инспектора к нему домой и велела узнать, где он был вчера утром — во время ограбления, и выяснить, кто к нему ходит в последнее время.* * *
В небольшом палисаднике, разбитом во дворе многоэтажного дома, было безлюдно. Жара разогнала жильцов с солнцепека. Только на скамье, что стояла в отдалении, три парня что-то обсуждали. Со стороны нельзя было понять, что разговор между ними шел не совсем дружелюбный. — Не брал я в-ваших книг, — заикаясь, в который раз повторял Валька Цыплаков. Он был на голову выше Бориса Тиканова, а Павел Тюрин даже не доставал ему и до плеча. Полчаса назад мальчишки вызвали Цыплакова из дома во двор и приступили к допросу. — Как это не брал? — горячился Борис. — Ты у меня на прошлой неделе был, рассматривал «Историю Александра Первого»? Ушел, и книг не стало. — Б-был. Смотрел. Но н-не брал. Наверно, кто-то д-д-дру-гой взял. — Никого, кроме тебя, у меня больше не было, — настаивал Борис. — А т-т-ты припомни. — У меня ты смотрел петровскую географию, и она пропала, — не вытерпел Тюрин. — И у т-т-тебя не брал. — Мы вот сейчас дадим тебе, как полагается, — решил припугнуть Цыплакова Борис, — и ты нам все расскажешь. — П-плевал я н-на вас! — Валентин встал, поднялись и Павлик с Борисом. Тиканов сунул руку в карман, где лежала гантель, и угрожающе подступил к Цыплакову. — Последний раз спрашиваю, куда дел книги, не скажешь — потом пожалеешь. — Т-ты не пугай. А то я кое-кому с-скажу, от тебя мокрое м-место останется. Разговор, на который по простоте душевной рассчитывали Борис и Павлик, не состоялся. Он просто зашел в тупик, и они оба мучительно искали выход из создавшегося положения. Оба понимали, что вот так, просто уйти от Цыплакова они не могут, но, как себя держать с ним, после того как открыли ему карты, и что дальше делать с этим Валькой, не знали. Наконец Тюрин решился. — Что с ним говорить, Боря. Ты, Валька, подлец! Мы к тебе по-дружески, а ты угрожаешь. Маленький, щуплый Пашка подошел к Цыплакову и взял его за руку. Тот, вкладывая весь вес своего тела, по-боксерски ударил Павла кулаком в челюсть. Началась общая драка. Борьба шла молча, трое мальчишек, вывалявшиеся в пыли, в разорванной одежде, не заметили, как к ним подошел лейтенант милиции. Он сначала понаблюдал за свалкой, потом решительно расшвырял в стороны всех троих и невозмутимо спросил: — Так о чем тут у вас спор? Тюрин пытался отряхнуть пыль со своих светлых брюк, заправил за пояс рубашку, носовым платком вытер лицо, но расплывающийся во всю левую щеку синяк причинил ему боль и вызвал на лице гримасу. — Да-да м-мы просто так. Р-решили по-побороться, — первым нашелся Цыплаков. — Хороша борьба! — усмехнулся лейтенант и оценивающе осмотрел всех троих. — Ты, Цыплаков, вечно с кем-нибудь «борешься». А твоя как фамилия? — обратился он к Павлу. — Тюрин? Тиканов? Интересно. Идемте-ка в отделение, там и разберемся.* * *
Афанасьев, сидевший у окна, где чувствовался легкий ветерок, увидел появившихся во дворе ребят и сразу подозвал к окну Коробочкину и остальных. — Одного я знаю. Наш книголюб Тюрин, живой и здоровый, но помятый и с синяком. А вот кто остальные? — Цыплаков и Тиканов, — объяснила Коробочкина. Перегнувшись через подоконник, она распорядилась: — Сажин, веди всю компанию к начальнику. — И, обращаясь к Павлову и Афанасьеву, закончила: — Это тот самый участковый, которого я отправила к Цыплакову. Трое ребят, переминаясь с ноги на ногу, молча стояли в кабинете Михаила Трофимовича. Цыплаков, тоже с синяком под глазом, исподлобья смотрел на работников милиции. Тюрин рассказывал: — Мы с Борисом спрашивали его про книги, он не говорит, стал нас пугать и полез драться. — Н-не брал я н-никаких книг. — Брал, брал, — наперебой объявили Тюрин и Тиканов, — мы по-хорошему, а он с кулаками. — Вот что, Иван Кузьмич, — приказал Афанасьев, — берите всю троицу и разберитесь, кто что у кого брал. Теперь в кабинете над только что нарисованной схемой склонились трое. Коробочкина как-то нехотя в одном кружке рядом с фамилией «Цыплаков» написала кличку «Американец», а чуть ниже фамилию «Жуков». Еще раз вздохнув, не скрывая того, что сильно расстроена, рассказала: — Не верила я, что Яшка снова за старое принялся. Думала, совпадение. Думала, что и Цыплаков тут ни при чем, но, видно, не случайно эти «частные сыщики» пришли именно к нему. Наверное, нашлись основания. Так вот, есть у Цыплакова приятель Яков Жуков по кличке «Американец». Он себе эту кличку присвоил после телефильма «Ждите моего звонка». Помните, был такой хороший фильм об уголовном розыске двадцатых годов. Этот Яшка действительно чем-то на артиста Кононова похож. Так вот, я с этим Жуковым четвертый год вожусь. То он хулиганит, то в школу не ходит, то ворует. В прошлом году мы его отца в профилакторий для- пьяниц определили. Этот Яшка за девять лет едва до восьмого класса добрался. Учиться не хочет, на завод не берут. — Подожди, Татьяна, — остановил ее Михаил Трофимович. — С кем он ходит? С кем дружит? — Сейчас все с Романом Климовым и с этим самым Цыплаковым водится. Да вы, Михаил Трофимович, отца Романа хорошо знаете. Помните историю с коровой? — Ну как же, у нас тут целая трагикомедия была. — припомнил Михаил Трофимович. — Недалеко от троллейбусного круга сохранились от старой деревни частные дома. К старушке Климовой вернулся сын. Он на Севере по договору лет пятнадцать проработал. Денег привез мешок. Заново отстроил дом, хозяйство развел и в довершение всего купил корову. Это в Москве-то. Пока заставили его корову продать, намучились. Он на жалобы, наверное, воз бумаги извел. И куда только не писал: в Моссовет, в народный контроль, в Совет Министров — «милиция издевается, милиция притесняет», а про корову ни слова. Но сын-то его вроде у нас не бывал? — Не был, — подтвердила Коробочкина. — Вот с Яшкой мы повозились. Я у Жукова дома была в прошлую пятницу. С его матерью говорила. Она все «спасибо», «спасибо». Четыре дня назад, в воскресенье, заходила в клуб. Сказали, что Жукова восстановили в секции и разрешили снова заниматься. Мотор для ремонта выделили… — Она помолчала. — Трудный он, конечно; те ребята, с которыми он в школу поступил, в этом году закончили, а его едва-едва в седьмой перевели, хотя ему уже пятнадцать лет стукнуло. Один раз он со мной разговорился, когда на завод ходила устраивать. «Я, говорит, тетя Таня, у школы, что бельмо на глазу». Вообще-то верно сказал. Пришли на завод, там говорят: «Что вы, законы не знаете? Пускай хоть паспорт получит, тогда подумаем». Знаю я законы, знаю. Но ему-то уже не до учебы. Он так отстал от программы, что теперь с любыми репетиторами не догонит. А Яшке кто поможет? Сначала он дома заниматься не мог — отец мешал. Теперь не мешает, но помочь некому — мать четыре класса окончила. Я на заводе говорю, что всеобуч не может стричь всех под одну гребенку. Для Яшки куда лучше было бы хорошо овладеть рабочей профессией. Пошла в роно, там: «Отправляйте его в специальную школу». За что же его в специальную школу? Ведь, в общем-то, он нормальный парнишка и не преступник, — вздохнула Татьяна Александровна. — Говорю, взяли бы и создали специальный класс для отставших в обычной нормальной школе. Чтобы Жукову на каждом уроке не напоминали, что он второгодник, что он двоечник, а помогли бы усвоить то, что он запустил. Мне отвечают: «Это дело спорное, и неизвестно еще, плохо или хорошо иметь такие классы». Узнала, что Яков увлекается моторными лодками, с боем, со скандалом записала его в наш речной клуб — в водно-моторную секцию. Всю зиму ходил. А тут захожу в клуб, говорят: «Выгнали вашего Жукова». — «Почему?» — «У него в дневнике двойки». Пошла к руководителям, поссорилась. В общем, решили восстановить его и взять над ним шефство. Горько, но должна сказать, что Жуков очень похож на двойника Павла Тюрина, — вздохнула Коробочкина. — Да эти ребята в Серебряном бору все знают и пустую дачу, и ямы, из которых берут песок, на пустыре. Они тут в Серебряном бору все тропинки облазили, — подтвердила Татьяна Александровна и расстроенная направилась к окну. — Так что же будем делать? — спросил Афанасьев. — Нужно ехать к Жукову и выяснить на месте, где он был вчера утром. Если надо, то показать его потерпевшим. — Правильно, Татьяна Александровна, — поддержал женщину Афанасьев. — Если правильно, то я отправлюсь к Жукову. Меня и мать знает, да и Яшка мне скорее правду расскажет. — Поезжай. Только на всякий случай прихвати с собой Афанасьева. Вдруг у Яшки дружки окажутся. А я с Иваном Кузьмичом разберусь.* * *
Болезненного вида женщина лет сорока распахнула дверь и застыла на пороге. — Что, Татьяна Александровна, Яшка опять что-нибудь натворил? Да вы заходите, заходите, — заторопилась Жукова. Пропуская Коробочкину и Афанасьева в квартиру, объяснила: — Как занятия кончились, я ему говорю: поезжай на Волгу к бабушке, поживешь, поможешь ей с огородом. Он все нет да нет, а вчера сам попросил: «Мам, можно я к бабусе поеду!» Ну, я собрала гостинцев, дала деньжонок и сама проводила. В полпервого ночи с рыбинским уехал. Теперь уж, поди, купается или рыбу ловит. Женщина говорила певуче, по-волжски окая, суетливо бегала по комнате, а в глазах ее затаилась тревога за непутевого сына. Не вытерпев спросила: — А что вы к нам? Случилось что или просто так? — Просто так. Шли мимо, вот я и говорю своему коллеге, зайдем к Жуковым, узнаем, что к чему. Посмотрим, что Яков Андреевич поделывает, — ответила Коробочкина. — Спасибо вам, Танюша, вы с моим Яшкой уж столько возитесь, столько возитесь, что другие с родными так не занимаются. Сейчас он получше стал. Не грубит. Из дому не уходит, что скажу помочь — всегда пожалуйста. Вчера пришла с дежурства часов в одиннадцать, он на реке был. К обеду явился такой тихий да ласковый. Можно я, говорит, в кино схожу. Дала полтинник. Сходил на дневной сеанс и стал собираться в Кимры. Я говорю, останься до получки, бабушке кое-что из одежонки купить надо, так он нет, поеду да поеду, а ты сама потом привезешь. Ну, думаю, ладно, пусть едет. Может, кваску хотите, холодный. — Яшкина мать вышла из комнаты и сразу же появилась с трехлитровой банкой, полной темно-бурой жидкости. Поставила ее на стол, а сама выбежала за стаканами. На ходу протерла их полотенцем, налила квас. Афанасьев с удовольствием отпил несколько глотков терпкого, игристого, как вино, кваса, наблюдая за банкой. Она быстро снаружи покрылась влагой, потемнела, образовались крупные капли и, как слезы, заскользили вниз. — Хорош у вас квасок, просто отличный… Бывал я в ваших Кимрах. В охотничьем обществе путевку получал. — Охотничий магазин у нас в центре, — вздохнула Жукова, — а мать у меня на низах живет, прямо на берегу реки — Южная, дом восемь. Если когда попадете еще в Кимры, у нее и остановиться можно, дом большой, а осталась одна. Поблагодарив Жукову, Александр Филиппович и Коробочкина ушли. Завернув за угол, майор спросил: — Ну что, Татьяна Александровна, будем делать? Придется ехать на Волгу. До Кимр часа два езды, от силы два с половиной. Если выехать немедленно, то к вечеру там будем. — Нехорошо мы поступили, Александр Филиппович, нужно было сказать Жуковой, что сын ее снова в беду попал. — Нельзя, Татьяна Александровна! По многим причинам нельзя. Во-первых, представьте себе, мать Якова пойдет искать виновных. Хватит нам частного расследования с Цыплаковым, а потом, может быть, Яшка ваш к этой истории и не причастен, что же мы раньше времени пугать ее будем? — Все это так. Вы, безусловно, правы. Но, откровенно говоря, нехорошо у меня на душе. Жалко мне ее, да Якова тоже. — Ладно, поживем — увидим. Они шли, обмениваясь мнениями, и, выйдя на троллейбусный круг, остановились. Коробочкина, указав на большое кирпичное здание, попросила: — Вы подождите, Александр Филиппович, я забегу к начальнику районного управления, может быть, машину даст. Ваша-то, наверное, здесь понадобится. — Идите. — Майор понял, что Татьяна Александровна решила доложить своему начальству результаты розыска и объяснить свое отсутствие. — Я подожду вас у магазина. Вы обедали? Нет? Я тоже. Тогда прихвачу чего-нибудь, и перекусим по дороге.* * *
Шоссе было забито машинами. Шофер ругался, когда приходилось плестись в хвосте длиннющей автомобильной колонны, глотая смрад отработанной солярки. Коробочкина погрузилась в какие-то свои мысли и, откинувшись на спинку сиденья, не обращала внимания ни на шофера, ни па Афанасьева. Александр Филиппович опустил боковое стекло и следил за мелькавшими дачами, поселками, перелесками. Шоссе шло вдоль канала имени Москвы, и от близкой воды доносилась прохлада. Канал то разливался и превращался в широченные заливы, блестевшие на солнце растопленным оловом, то тянулся узкой лентой, пропадая в высоких каменных берегах. Тогда казалось, что пароходы и баржи плетутся по суше, пробираясь сквозь кусты и деревья. Перед Дмитровой на высоком склоне открылся мемориал павшим в 1941 году защитникам Москвы. У Афанасьева сразу защемило сердце. Двадцать девять лет прошло после победы, а в их семье до сих пор живет горе. Ему, Сашке, было всего пять лет, когда началась война. Отца он помнит смутно, больше по фотографиям, а вот старшего брата Колю и совсем не помнит. Отец погиб где-то в Польше, а брат семнадцатилетним парнишкой ушел защищать Москву. Ушел и не вернулся. Остался где-то здесь с друзьями-комсомольцами. Александр часто приезжал сюда с матерью… Оторвавшись от раздумий, майор взглянул в окно. На последнем повороте к Савелову открылась Волга. В своем течении она выписывала латинскую «S» и с высоты правого берега была далеко видна. Там и тут по спокойной голубоватой воде мчались небольшие лодки, поднимая моторами высокие буруны. Медленно и степенно удалялся большой трехпалубный пароход. Александр Филиппович взглянул на часы. Прошло два часа, как они выехали из Москвы, и уже на Волге. Удивительно. В Москве, когда говорят о Волге, кажется, что это за тридевять земель, а на самом деле всего два часа, правда, быстрой езды. Еще несколько километров, и открылся старинный, чернеющий деревянными срубами город бывших кожевников и сапожников. Дожидаясь речного трамвая, Афанасьев и Коробочкина отпустили машину, решили сразу же отправиться в кимрскую милицию и через местных работников выяснить, прибыл ли Яшка к бабушке. В дежурной части было несколько офицеров. Среди них оказался участковый, знавший не только бабушку Лукерью Спиридоновну, но и ее внука — Якова, который в прошлом году летом увлекался катанием на чужих лодках и потому очень быстро познакомился с местным начальством. Участковый инспектор охотно вызвался проводить москвичей к Лукерье Спиридоновне и довел их почти до окраины города. — Вот это и есть ее апартаменты, — указал он на видневшийся внизу у самой Волги дом, спрятавшийся в саду. — Вы идите бережком, а я зайду побеседую со старушкой, между делом выясню, где ее внучек. Если дома, то вместе с ним выйду в палисадник. — Хорошо, — согласился Афанасьев. Они постояли с Коробочкиной, поджидая, пока участковый инспектор подойдет к дому. Едва скрылась его белая милицейская фуражка среди деревьев сада, как они стали спускаться к воде. На берегу виднелись лодки. Одни стояли, уткнувшись з песок, другие — пришвартованные к специальным поплавкам — качались на мелкой волне в нескольких метрах от берега. Были здесь и новенькие заводские дюралевые лодки, и грубые, но устойчивые, сшитые из дюймовых досок «волжанки». На некоторых висели моторы, прикрытые каким-то тряпьем. — Личный транспорт, — усмехнулся Афанасьев. — Уж больно их много, — удивилась Коробочкина. — Наверное, каждая семья имеет лодки, тут и прогулка, и рыбалка, поездка за грибами и ягодами. Куда удобнее, чем автомашина, да и дешевле. Я часто бываю в Белом городке, это здесь, пониже километров на двадцать. Так там по реке Хотче, что впадает в Волгу, куда ни глянь, сплошные гаражи для лодок. Прилепились к берегу, что ласточкины гнезда. Афанасьев и Коробочкина шли молча, обоих волновала предстоящая встреча с Яшкой. Они предупредили участкового инспектора, что парнишка им нужен в связи с опасным преступлением, и теперь с нетерпением ждали появления Яшки. Но участковый неожиданно появился в конце сада. Он перепрыгнул через невысокий забор, помахал им руками и почему-то побежал не к ним, а к реке. Майор и инспектор поспешили в ту же сторону. Обогнув дом, они увидели, как какой-то мальчишка, отвязав от поплавка-якоря металлическую лодку «казанку», быстрыми гребками отогнал ее от берега и, опустив в воду мотор, стал его заводить. Первым к берегу подбежал участковый, он что-то кричал, пытался столкнуть в воду другую лодку, но не сумел распутать цепь, на которой она была привязана. Коробочкина подоспела к участковому, когда мотор на лодке уже завелся. Напрасно работники милиции кричали Яшке, чтоб он вернулся. Жуков, как заправский моторист, прогоняв движок на холостых оборотах, перевел реверс на ход вперед и, прибавив газ, погнал лодку прочь от берега и с большой скоростью пошел вниз по течению. Участковый, несколько успокоившись, рассказал: — Я только что подошел к их дому, как мне Яшка навстречу. «Здравствуйте, Леонид Алексеевич! Это с вами тетя Таня была?» — «Какая тетя Таня?» Я ведь и впрямь не знаю, как вас зовут, товарищ старший лейтенант, а он мне: «Коробочкина из Москвы». Я говорю: «Нет. Какие-то дачники, спрашивали, не знаю ли, где им комнату снять». Мальчишка вроде поверил. Тут ко мне его бабушка подошла, Лукерья Спиридоновна, говорит: «Ноне в Кимрах полно дачников понаехало. Я вот тоже пустила мужа с женой, да все тебе, Лексеич, доложиться не смогла». Я разговариваю и все поглядываю, когда внучек из комнаты выйдет, а он не идет. Я заглянул в боковушку, а там его и след простыл, только окошко открытое. Остальное вы видели. Ну, что будем делать? Догонять этого дурака надо. — На чем? — встрепенулся Афанасьев. — На чем, мы тут найдем. Вы постойте. — И Леонид Алексеевич трусцой заспешил к соседнему дому. — Вот уж никак не думала, товарищ майор, что Яшка от меня убегать будет. Все, что угодно, могла допустить, но не это. Чью же он лодку угнал? Разговаривая, они и не заметили, как к ним тихо подошла маленькая сухонькая старушка. Из-под белого чистого головного платка, концы которого были связаны под подбородком и торчали в разные стороны, как заячьи уши, смотрели живые, пытливые глаза. — Здрасте! — вежливо поздоровалась она. — А где участковый милиционер? Да и мальчишечка тут, мой внучек, должно быть? Афанасьев объяснил, что участковый куда-то ушел, а мальчишка уплыл на лодке, и махнул рукой, показывая, куда скрылся Яшка. — Это каку ж таку он лодку угнал? — спросила старушка. — Никак, ту, что вон там была? Моих дачников лодочка. Они на ней в ночь на рыбалку собирались и его с собой звали, а он угнал. Ну погоди, только появится, уж я ему задам. А что он у вас натворил-то, в Москве? Приехал седни, нежданно-негаданно, и говорит: «Ты, бабуня, никому не сказывай, что я здесь». У дачников выпросил биноклю и все на город поглядывает. Я его спрашиваю: «Что, набедокурил, сынок?» А он говорит: «Так, подрался» — и шишку на голове показал. Здоровая такая. Вот неуемыш. Я ужо хотела дочке отписать, да вот не успела. Афанасьев услышал, как неподалеку взревел мотор, и сразу из-за дома выскочила лодка. Она была больше «казанки», и на корме у нее стояло два двигателя, но пока работал один. Лодка подошла к одной из «волжанок», уткнувшихся в берег, и из нее выскочил молодой человек. Он спрыгнул прямо в воду и, придерживаясь за корму, стал что-то объяснять сидевшему за рулем участковому инспектору. Тот, выслушав наставления, предложил Коробочкиной и Афанасьеву садиться. Они прыгнули в катер, на борту которого Афанасьев прочел надпись «Прогресс», и участковый инспектор, дав задний ход, отвел лодку от берега. — Сколько примерно прошло времени, как сбежал парнишка? — спросил Леонид Алексеевич. — Минут двадцать, от силы — двадцать пять, — взглянув на часы, решила Коробочкина. — Значит, Яшка где-то под Белым городком. У него двадцатисильный «Вихрь», под ним «казанка» в час идет километров тридцать пять, не больше. В лучшем случае он успел отмахать километров двенадцать-четырнадцать. До Белого городка свернуть ему некуда. У нас скоростишка побольше, так как оба «Вихря» модифицированные, по двадцать пять лошадиных сил. Ну, тронули, — объявил участковый и перевел реверс моторов на рабочий ход. Лодка, словно застоявшийся рысак, рванулась с места и, набирая скорость, вылетела на середину реки на самый стержень, направляясь к правому берегу. Участковый инспектор, видимо, хорошо знал реку и отлично справлялся с судовождением. Он быстро ушел с фарватера и, прижимаясь к белым бакенам правого берега, срезал изгибы. День был жарким, а как только лодка набрала полную скорость, стало прохладно. Афанасьев залюбовался открывавшимся видом. С каждым километром Волга становилась шире, просторнее. Лес на берегах расступился, то там, то тут открывая желтые пятна посевов. На правом берегу это были небольшие квадраты, на левом широкая лента пашни уходила за горизонт. Возле реки и проток стеной зеленел камыш, а за ним тянулись луга. Вдали, на высоком берегу, показалась церковь. Она белела на мысу, вдававшемся в Волгу, и как-то удивительно гармонично вписывалась в окружающую картину. Если Афанасьев любовался природой, то Коробочкина как одержимая всматривалась во все лодки, что виднелись впереди, с одинаковой тщательностью просматривая встречные и те, что им удавалось обходить. Проехав километров пятнадцать, участковый инспектор сбросил газ и погнал «Прогресс» наперерез встречной лодке и фуражкой, точно флажком, просигналил остановку. Лодка замедлила ход и остановилась. Участковый подвел свою почти вплотную. — На прогулку, Лексеич, собрался? — окликнул его тот, что управлял мотором. — Да нет, Григорьич, по делу! Вы тут «казанку» с парнишкой не встречали? — Видали. Шальной какой-то. У Белого городка ракета от причала отвалила и уже ход набирала, так он решил ей нос подрезать. — И что с ним? — испугалась Татьяна Александровна. — Ничего, — ухмыльнулся рассказчик, — капитан той ракеты обругал его как полагается в рупор и отвернул в сторону. — Куда же этот пацан направился, Григорьич? Вы, случайно, не заметили? — Да вроде он подался к Дунькиному ручью. — Это где же такой? — А под правым берегом, сразу за Хотчей. — Может, он в Хотчу свернул? — Нет, речку он проскочил. — Ну, спасибо, друг. Проскочив большой поселок с судоверфью и красивыми многоэтажными домами, участковый объяснил: — Это и есть Белый городок. Хороший поселок. Чистенький. И народ там приятный, все больше судостроители. Ну как, будем держаться правого берега? Или еще руслом пойдем? Здесь пока свернуть только по левой стороне можно. Просматривая оба берега, Коробочкина первая заметила впереди лодку с одиноким пассажиром. Она двигалась медленно, словно человек, управлявший мотором, что-то рассматривал на берегу. Неожиданно лодка свернула в протоку и скрылась за островом. Татьяна Александровна тронула за руку участкового инспектора и указала в ту сторону. Тот кивнул в знак того, что тоже ее заметил, и прибавил обороты движка. «Прогресс» рванулся вперед, но вместо того, чтобы идти следом за лодкой, участковый свернул к фарватеру. — Ты куда? — Афанасьев даже приподнялся на сиденье. — Упустим! — Нет. Я тут все протоки знаю. — И инспектор уверенно повел лодку вдоль острова, отделявшего неширокую протоку от основного русла реки. Остров был узкий, но длинный, весь заросший соснами. На каждой полянке ютились разноцветные палатки туристов. Они стояли группами, а кое-где в одиночку. Возле таких стоянок на причалах и прямо на прибрежном песке лежали лодки. Разные — большие и маленькие. Дорогие — такие же, как «Прогресс», и попроще. Почти над каждым табором вился дымок, кое-где виднелись синие языки пламени походных газовых плит. Туристы готовились к ужину. Афанасьев взглянул на ярко-оранжевый диск солнца, опускавшийся за лес на левом берегу, и определил, что до наступления темноты остался час, самое большее — полтора. «Успеют ли они до темноты найти Яшку или им тут придется рыскать всю ночь? Хватит ли бензина?» — думал Афанасьев. Остров заканчивался клином. На нем уже не было сосен, появились пышные ракитовые кусты, поднялся камыш, показались окна мелких болотин. Инспектор, приглушив моторы, повел лодку в небольшой пролив. Он снял и положил рядом с собой фуражку, попеременно поддерживая руль то одной, то другой рукой, стянул с себя форменную рубашку и, оказавшись в майке, улыбнулся своим спутникам, словно хотел объяснить, что так он будет менее заметным. Выведя лодку в протоку, они осмотрелись. Протока была видна от начала до самого конца, она, словно по нитке, протянулась вдоль берега и походила на большую речку, разрезавшую лес. Нигде, ни в начале, ни в середине, Яшкиной «казанки» не было видно. Не было ее видно и ниже их «Прогресса». Яшка вместе с угнанной лодкой исчез, словно нырнул под воду и решил отлежаться на дне. — Наверное, он вернулся, — решила Коробочкина. — Не думаю, — не очень уверенно проворчал участковый инспектор. — Вот что, вы, товарищ старший лейтенант, идите на заднее сиденье, а майор пусть сядет рядом со мной, хорошо, если бы вы еще тентом прикрылись, и мы на полном ходу пройдем по протоке, нас-то он, может, сразу и не узнает, если на остров выбрался. Ведь тут как: загони лодку в любой камыш, и ее не видно. Сам ложись под куст и наблюдай. Мимо проскочишь и не заметишь. Коробочкина устроилась на заднем сиденье, прикрывшись легким защитным тентом. Участковый, докурив сигарету, вывел лодку на середину протоки. Они прошли ее быстро, вышли в Волгу и, как ни осматривали прибрежные заводи и кусты, нигде «казанку» не заметили, не было ее видно и на спокойной глади большой реки. — Куда же он делся, — чертыхнулся Афанасьев, — может, успел уйти вниз? Инспектор развернул «Прогресс» и снова прошел по протоке к проливу, из которого они только что вышли. Теперь майор осматривал берег, а инспектор остров. Проскочив немного ниже, они заметили приткнувшуюся в маленький залив «казанку», свернули к ней и сразу же увидели совершенно другой номер. Они уже хотели было свернуть в сторону, но увидели на берегу трех мужчин, расположившихся на траве, и решили с ними поговорить. Участковый инспектор прибавил газ и, как только лодка пошла к берегу, мгновенно выключил оба мотора. Сразу наступила очень громкая, неестественная тишина. Час езды под рокот двух мощных моторов приучил слух к их реву. Теперь же слышался мелодичный плеск воды, шуршание песка. Участковый инспектор, выпрыгнув на берег, подтянул лодку и направился к трем мужчинам. Следом за ним вышел Афанасьев. Только Коробочкина по-прежнему сидела под тентом, не зная, можно ли ей показаться или нет. Афанасьев пришел ей на помощь. — Выходите, Татьяна Александровна, на бережок. Пока она выбиралась из лодки, участковый инспектор поздоровался за руку с каждым из мужчин и представил их Афанасьеву. — Мои дружки из Белого городка. Правда, мы с ними не всегда дружим, иногда ссоримся, а бывает, и до драки дело доходит, но это редко. Так они мужики хорошие, работящие. Вот, скажем, Каркунов отличный котельщик, сына Сашку хорошо воспитал. Среднего роста, загорелый до черноты, еще молодой мужчина поднялся и, улыбнувшись инспектору, проворчал, напирая на раскатистое «о»: — Ты, Лексеич, поговорки-то не забывай, как говорится, в огород ходи, да глупости не городи. Что это ты меня начальству как хулигана представляешь? — Никакой ты не хулиган, а прошлый раз, когда я твои сети снимал, так ты же хотел ко мне драться лезть. — Хотел. Ты же сам, как и мы, вырос на реке, и как же нам жить у воды и не намочиться? Мой дед тут рыбачил, отец рыбу ловил, а почему же мне на уху не поймать? — Лови удочкой. — Так на удочку за два дня на сковороду не натягаешь, а мне ведь работать надо, я не турист какой-нибудь, чтобы целый день на песке валяться. Прошлый раз мы с Сергеевной, жена моя, — объяснил Каркунов Афанасьеву, — поехали за ягодами, на обратном пути решили порыбачить, а он пристал к нам, обругал браконьерами, хотел сетчанку отнять, а я ее ползимы плел. И поймали-то мы всего десяток подершиков, на уху. — Ладно хныкать, — усмехнулся участковый инспектор, обошел куст, возле которого расположились рыбаки, и вернулся с большим целлофановым мешком, в котором на дне просвечивалось килограммов шесть-семь разной рыбы. — Не трогай наш улов, Лексеич! — попросил Каркунов. — Ты же знаешь, что разрешено ловить каждому рыбаку по пять килограммов на человека, а тут и до половины мы не дотянули. — Разрешено, — согласился участковый, — только вот как? Удочками, ясно? А я вашу удочку в клеточку знаю. Наверняка в лодке в таком же мешке спрятана. Ну да ладно, сейчас нам недосуг рыбой заниматься. Скажите-ка лучше: вы в этой протоке рыбалили? Не видали «казанку» под «Вихрем» с одним парнишкой? — Мы, Лексеич, снизу идем. Все протоками, и ни одного пацана нам ни на «казанке» ни на других лодках не попадалось. — Мы за ним следом от самых Кимр шли, — объяснил лейтенант, — видели, как в протоку свернул. Шел на малых оборотах. Мы остров на газу обошли, хотели ему путь обрезать, глянули в протоку, а его нет. — Значит, пристал где-нибудь, — решил молчавший все время рыбак. — Просьба у меня к вам, — сказал участковый, — вы переезжайте на остров и бережком пройдите вдвоем. Если увидите пацана, небольшого, рыжего, задержите его. — Только поаккуратнее, — попросила стоявшая в стороне Коробочкина. — И самое главное, не упустите, — добавил Александр Филиппович, — а мы с Татьяной Александровной этим берегом пройдем. — Ладно, — согласился Каркунов, — ты, Лексеич, на «Прогрессе» пойдешь? Тогда на песчаной косе в конце острова и встретимся. Обе лодки ушли, а Коробочкина, натянув широкую, не по плечу, куртку майора, сняла белые туфли и босиком медленно побрела по тропинке, тянувшейся вдоль берега. — Ноги наколете, Татьяна Александровна, — предупредил Афанасьев, шедший следом, но женщина только отмахнулась. Тропинка вела сквозь ельник, ныряла с бугра вниз, забегала в мелкий, недавно высаженный сосняк. В лесу было тихо. Внизу в протоке то и дело всплескивала крупная рыба, где-то в стороне кукушка всхлипывала по своим детям. Афанасьев и Коробочкина поднялись на высокий бугор и сразу же заметили большое озеро, отделенное от протоки узкой полоской берега, заросшей лесом. Оно было безлюдным и плохо просматривалось сквозь деревья. Сначала они хотели пройти к озеру прямо через чащу, потом решили не сворачивать с тропинки. Через два-три десятка шагов оба отчетливо почувствовали запах дыма, но костер еще не рассмотрели. Совершенно неожиданно тропка круто пошла вниз, и Александр Филиппович вместе с Татьяной Александровной увидели узенький, метра в полтора, ручей. Свернув влево, за кустами ониобнаружили исчезнувшую «казанку». Чуть в стороне в песок были воткнуты три коротких удилища, а под крутым берегом склонился над костром Яшка. Он пристраивал на рогульках закопченные чайник, деловито подкладывал сучья в костер и все время оборачивался к удочкам. На двух, поставленных на живца, клева не было, зато на третьей, той, что на червя, то и дело клевало. Яшка бросался, подсекал и вынимал то подлещика, то окунька. Опускал их в садок. Наконец рыболов ловким движением выбросил на песок довольно большую щуку. Он глянул на костер и обомлел, увидев рядом с собой незнакомого мужчину, а чуть дальше — Коробочкину. Их появление было настолько неожиданным, что мальчишка упал на песок рядом с пойманной рыбиной и, видно, был готов забиться в истерике. — Ну что ты, Яша, — подошла к нему женщина, опустилась рядом и стала ласково гладить его выгоревшие волосы. — Сбежал от меня, чуть под «Ракету» не угодил. Видно, сейчас Яшка особенно нуждался в теплых словах и в ласке. Он уткнулся лицом в траву и горько разрыдался, бормоча неразборчивые слова о том, что его заставили, хотели убить. Ночь накрыла Волгу. Афанасьев, выйдя на берег, увидел на косе обе лодки. Он несколько раз крикнул, но его не услышали. Фонаря у майора не было, и он, выбрав сухие ветки, разжег костер. Наконец обе лодки подплыли к нему. Участковый, увидев одного Афанасьева, удивился: — А где же Татьяна? — С Яшкой! — Нашли! Где же он был? — удивился участковый. Рыбаки тоже прислушались к разговору, и, когда узнали, что Яшка пробрался к озеру, один из них заметил: — Не озеро это, а старица. Рыбы там невпроворот. Но нашей снастью ее не возьмешь. Кругом коряги да выворотни. Там на дне этих сеток с полсотни, поди, затонуло. — А мальчишка при мне здоровенную щуку на живца вытащил, — уколол самолюбие рыбаков Афанасьев. Он забрался в лодку и на местный манер спросил: — Ну, что, Лексеич, заберем их — да в Кимры? — Не выйдет потемну, майор. Придется ждать, пока развиднеется. Как вторую-то лодку гнать? Своим ходом или на буксире? — Можно и своим ходом, — решил Афанасьев.-Я «Вихрь» знаю. Без света все равно рискованно. Правда, топляки у нас здесь по Волге редкость, но все равно можно на что-нибудь напороться. — Да, вам лучше свету дождаться, — подтвердил Каркунов. Он пошарил у себя в лодке, достал какой-то сверток и передал его участковому: — Возьми, Лексеич, там буханка хлеба и огурцы с помидорами. Может, рыбкой поделиться? Ушицу сварите. Ночь хоть и летняя, но на голодный желудок и она долга. — Спасибо. Дай парочку покрупней, — согласился лейтенант, и рыбаки быстро кинули в лодку несколько щурят и крупного мясистого линька. «Прогресс» в протоке застрял. Афанасьев и лейтенант разулись и как можно дальше втянули в мелкий ручей свою лодку. Участковый ворчал: — Надо же, мне и в голову не пришло, что здесь не пересохло. И как он только свою «казанку» проволок? Хотя ясно, она наполовину легче нашей, да и движок один. У нас-то на одной корме почти двести килограммов весу. Оба мотора точно центнер тянут, а четыре канистры с бензином еще столько же. Обогнув выступ крутого берега, Афанасьев сразу же успокоился. Возле костра сидели Татьяна Александровна и мальчишка. Они мирно потягивали чай из алюминиевых кружек. Женщина, пытаясь рассмотреть в темноте подошедших, приподнялась: — Это вы, Александр Филиппович? Идите чай пить! — Сейчас в ее голосе не было тревоги, что слышалась весь день. Обращаясь к мальчишке, велела: — Тащи, Яша, из лодки еще кружку и майонезную банку, только сполосни ее хорошенько. Все равно хозяева предъявят нам иск и за хлеб, за чай, и за сахар. — Ну, я думаю, мы этот ущерб возместим сразу же, как явимся в город, — отшутился Афанасьев, радуясь спокойному настроению своей спутницы. Он понимал, что это успокоение к ней пришло в результате разговора по душам со своим подопечным. И все-таки, пока Яшка копался в лодке, майор спросил: — Ну, как? — Все в порядке. Яша сам все расскажет. К костру подошел участковый инспектор. Он принес охапку одежды и большое закопченное ведро. Всю одежду он сложил ворохом поблизости от костра. — У наших рыбаков в лодках всегда найдется и что надеть и чем накрыться. Выбрав свернутый брезент, разостлал его и широким жестом пригласил Коробочкину присесть, положив возле нее телогрейку. Такую же телогрейку передал Афанасьеву и, разбирая остальное, отыскал пиджачишко и набросил на плечи Яшке. Тот смутился, что-то пробормотал в благодарность. Участковый снова ушел в темноту и вскоре вернулся с рыбой, нанизанной на прут. Он подошел к Якову: — Где у тебя улов-то? Говорят, ты рыбак удачливый. Мальчишка вытащил из воды садок и передал участковому. Тот опустил в плетеную сетку принесенную рыбу и, прикинув на руке, определил, что уха будет добрая. Отыскав две крупные луковицы среди помидоров и огурцов, обрадовался: — Все в порядке, а то уха без лука — не уха. Забрав ведро и рыбу, участковый инспектор отправился к «Прогрессу», что стоял метрах в пятидесяти от костра.* * *
Со стороны могло показаться, что группа, расположившаяся у костра, тихая, мирная семья. Отец, мать и сын. Лицо мальчишки, обращенное к огню, было серьезным, сосредоточенным, совсем взрослым. Говорил он медленно, часто поглядывая на Коробочкину. Словно искал в ее взгляде поддержку. — Ромку Климова и Вальку Цыплакова я давно знаю. К ним пристал еще зимой Жека Лидов. Он вместе с Цыплаковым в техникуме учится. И постарше их обоих. У него мать какой-то ответственный работник и все по заграницам ездит. У Лидова много книг, он, когда денег нет, потихоньку их продает. Один раз его поймали с книгами, и мать устроила ему бучу. Ну вот, он и Цыплаков попросили меня продать несколько штук старинных книг. Я в букинистический магазин, а там берут только у взрослых. Ну, потолкался возле магазина, подошел один парень, увидал у меня книгу и сразу пристал: продай да продай. Только, говорит, денег у меня с собой нету, поедем домой. Мне Женька велел просить за книгу 50 рублей, а парень сам предложил 75. Поехали к нему. Богато живет. Квартира огромная, а их всего двое: он да Наташа — жена его, родители ее где-то за границей живут. Наташа чаем меня угостила, а парень — Костя его зовут — завел маг. Сначала один, потом другой. Когда Лидов с Цыплаковым меня посылали тот учебник продавать, ну, по географии, это самый первый раз, то сказали, что, если кто спросит, свою фамилию не говорить. Велели наврать какую-нибудь. Женька кричит: «Скажи: Тюрин Яшка». «Не Яшка, а Пашка», — велел Валька. Дальше Женька посоветовал: «Наври, что с бабушкой за городом живешь, а то кто-нибудь из книжных спекулянтов навяжется библиотеку посмотреть». — Яшка замолчал, словно что-то припоминая, вздохнул и продолжал: — Второй раз я к этому студенту восемь книг понес. Одного писателя, только фамилию не помню. Со мной поехали и Валька и Женька. Они остались ждать на бульваре. Я, как вышел от студента, отдал им деньги. Женька разорался: «Почему мало, почему дешево продал?» Потом говорит, что, наверное, я часть денег себе заначил. И тут же они с Цыпленком стали меня обыскивать. Перед тем как идти последний раз, мы студенту позвонили. Я сказал, что продаются четыре книги про царей, и спросил, когда можно принести. Тот говорит, что с утра его дома не будет, и просил меня принести часам к одиннадцати. Ну, а Женька велел идти пораньше. Сказал, что у него нет времени ждать до одиннадцати, что он едет за город, и велел мне с Ромкой Климовым приехать к восьми часам утра на Маяковку. Мать у меня в ночную работала, так Ромка пришел ко мне — еще семи часов не было. Мы с ним сели на троллейбус и поехали. На остановке возле площади Маяковского нас встретил Женька, отдал мне две книги и велел отнести. Говорит: «Если студента дома нет, то сразу же уходи, а жене передай, что потом занесешь остальные книги». Я еще спросил, зачем мне ходить два раза и почему он все четыре сразу не принес. Женька выругался и сказал, что не мог он заткнуть за пояс все четыре. Мы договорились, что они будут ждать меня на Пушкинской площади, и я пошел. Дома была одна Наташа. Она на кухне еду готовила. Говорит: «Положи книги на холодильник». Я собрался уходить, а она: «Посиди да посиди… Сейчас Костя придет». Потом звонок в дверь, Наташа говорит: «Это Костя, пойди открой». Я открыл и опешил: «Женька с Ромкой в масках, с ножами, и Женька шипит: «Ну, гад, пикнешь — убью». И сразу к Наташе. Ромка хотел ее ножом, а я как закричу, и Женька меня чем-то по голове. Я пришел в себя, смотрю: лежу на кухне на полу, Наташи нет, а из комнаты ихние голоса. Потихоньку встал и бежать. Не помню, как домой добрался. Смыл кровь с волос, только хотел уходить, Валька Цыпленок пришел. Спрашивает: «Живой? Молись богу, что не убили». — Что же ты ко мне-то не пришел? — не вытерпела Коробочкина. — Как же, Татьяна Александровна, я пойду? Это выходит, я их в квартиру пустил? Потом Валька предупредил, что если кому пикну, то жить мне останется три минуты. — Парнишка тяжело вздохнул, достал из кармана мятую пачку сигарет и потянулся за угольком в костер. — Ты же давал слово, Яша, что курить бросишь! — Разве тут бросишь, Татьяна Александровна, — пробормотал Яшка, глубоко затягиваясь сигаретным дымом. — После этого ты Женьку и Ромку видел? — тоже закуривая, спросил Афанасьев. — Нет. Я маме сказал, что пойду в кино, а сам с Валькой ходил их искать, но нигде не нашел. У Климовых отец Ромки нас выгнал, а Женьке звонили-звонили по телефону, никто не ответил. — А где Цыплаков во время разбоя был? — Дома был, — ответил Жуков. — Он мне говорил, что на это дело не пошел, хотя они его и звали. — А почему? — Этого я не знаю. — У вас листка бумаги не найдется? — спросил майор участкового инспектора. — Нет. Я свой, портфель оставил в районном отделении, а у рыбаков в лодках можно найти и еду, и одежду, все, кроме бумаги. Она им ни к чему. — У меня есть, — пришла на помощь Татьяна Александровна и достала из сумки блокнот и шариковую ручку. Афанасьев тщательно записал все данные о Лидове и Климове, переспрашивая то номер телефона у Яшки, то название улиц, где они жили; еще довольно долго писал, потом вырвал исписанный листок и отозвал участкового инспектора: — Лексеич! Пойдем посоветуемся. — И оба скрылись в темноте. — Сколько здесь ходу до Белого городка? — Минут десять — двенадцать. — Там можно сейчас найти где-нибудь телефон и дозвониться в Москву? — Найдем. — Тогда нужно ехать и немедленно передать все данные об этих двух типах, чтобы их сразу взяли, пока они не скрылись. — Ну что ж, раз надо, так надо. Минут через сорок или через час вернусь. Вот жаль, что с ухой не управился. — Уху я и сам сварю. Такую, как надо. Участковый инспектор уплыл в темноту, а майор стал колдовать над ухой. Казалось, что в ночном воздухе на поляне возле костра жил один-единственный запах. Он перебил запах высохших водорослей, доносившийся откуда-то аромат скошенного сена, запах озерной воды, приправленной кувшинками, лилиями и камышом. Если хочется есть, то уха пахнет особенно приятно. Точно почувствовав, что она готова, из темноты появился участковый инспектор. Он сообщил Афанасьеву, что его задание выполнил, и принялся помогать «накрывать стол». Вскоре исчезла последняя ложка юшки, а от рыбы осталась груда на совесть очищенных костей. Небосвод посветлел. Потихоньку начала уходить ночь. Первыми появление дня почувствовали птицы. Сначала робко, а потом сильней и сильней они начали свой концерт. Афанасьеву казалось, что на лесистом пригорке каждый куст и дерево превратились в своеобразную эстраду, занятую пернатыми певцами. Участковый инспектор вместе с Яшкой старательно вымыли ведро и всю остальную посуду, свернули брезент и разложили все по лодкам. Проверили горючее в «казанке» и вывели ее в протоку. На «Прогрессе» подняли тент, и Татьяна Александровна, устроившись на заднем сиденье, позвала: — Иди, Яша, ко мне, тут теплее. Но мальчишка, вертевшийся возле угнанной им лодки, умоляюще смотрел на Афанасьева, не решаясь вслух высказать свою просьбу. И майор понял. — Нет, Татьяна Александровна, мы с Яковом поедем вместе. — И тихо добавил, так, чтобы слышал только мальчик: — Нам ведь лодку нужно на место поставить. Извиниться перед дачниками и возместить бензин, продукты, что ушли на ужин, так что ль? Яков ничего не ответил, только горестно вздохнул. Афанасьев оттолкнул лодку и перебрался на сиденье рядом с рулевым управлением. — Заводи, Яков! Пойдем вслед за «Прогрессом».* * *
В Кимрах, в районном отделе внутренних дел, дежурный выслушал майора Афанасьева и пообещал передать начальству точь-в-точь все слова благодарности, высказанные им и Коробочкиной в адрес участкового инспектора, и посоветовал: — Раз вам наш участковый так понравился, пусть он вас и проводит. На центральной площади наверняка есть московские машины. Вот он вас и усадит. Недалеко от Серебряного бора Афанасьев взглянул на часы. Было около восьми. Прошло почти двое суток с момента разбойного нападения. Татьяна Александровна как уселась в машину, так всю дорогу и проспала. Яшка свернулся калачиком рядом с Афанасьевым и тихо посапывал. Майор не смог даже задремать: одолевали всякие мысли. В первую очередь беспокоился он о Жукове. Если все было действительно так, как он рассказывал, то вроде и нет за Яшей прямой вины. Он оказался невольным соучастником преступления, к которому привела его неразборчивая дружба с Цыплаковым и другими. Возможно, что они и использовали мальчишку втемную, не посвящая в свои планы. А если он рассказал неправду? Тогда, значит, Коробочкина в нем ошиблась. Зря переживала, а жаль. Мальчишка и ему понравился. Интересно, как там дела у Михаила Трофимовича и Павлова. И, наконец, мучил извечный, беспокойный для работника уголовного розыска вопрос: не случилось ли еще чего-нибудь на территории отделения? Нет ли каких-либо новых событий, требующих экстренных мер? Едва подъехав к отделению милиции в Серебряном бору, Афанасьев увидел за столом под яблонями Павлова, Звягина и Ильина. Все трое оживленно беседовали, а заметив Афанасьева, поднялись и пошли ему навстречу. Вид у всех был довольный, какой обычно бывает у людей, хорошо справившихся со своими делами. Звягин заглянул в машину. — Это у вас Американец? А остальные у нас. Мы их утречком у Климова взяли. — Это хорошо. Ты, Яков, выходи, — разбудил Афанасьев мальчишку. — А старшего лейтенанта отвезите домой, — обратился он к шоферу. — Согласны, Татьяна Александровна? — Я только умоюсь, посмотрю, как у меня там дома, и приду. — Думаю, что сегодня вы можете на работе и не появляться. — Что вы, товарищ майор! — Коробочкина заботливо взглянула на Яшу и решительно объявила: — Обязательно приду, и как можно скорее. — Ну, как знаете. — И Афанасьев обратился к Павлову: — Как, Иван Кузьмич, сознались эти деятели? — Мы их не допрашивали. Куда им деваться? У них оказались некоторые вещественные доказательства и деньги. Наверное, облигации успели продать. — Давайте обсудим, что дальше делать с ними будем. Где Михаил Трофимович? — Ушел привести себя в порядок. Обещал сразу же вернуться. — Тогда у меня предложение: пусть Ильин и Звягин отвезут в наше отделение Лидова, оформят документы и сразу же на обыск к нему. Мы с тобой, Иван Кузьмич, захватим отсюда еще кого-нибудь. Климова не допрашивали? Ну, тогда с него и начнем. Да, Иван Кузьмич, что же нам с Яшей делать? — Сначала накормить, у нас тут кое-что от собственного завтрака осталось. Потом пусть посидит под яблоньками, пока не разберемся, что к чему, да и Татьяна Александровна появится, — предложил Павлов. — Согласен, — решил Афанасьев и приказал: — Ведите Климова. Роман Климов, высокий и худой парень, видно, уже освоился со своим новым положением. Он, сгорбившись, вошел в кабинет, уселся на стул и опустил голову. Рядом с ним расположился Павлов. Усаживаясь, он объяснил, что Климов намерен все рассказать. — А чего скрывать, — не поднимая головы, подтвердил тот. — Тогда объясни, почему ты, рабочий парень, решился на преступление? Климов задумался: уж больно трудный вопрос ему задали, и он не знал, с чего начать. Иван Кузьмич пришел ему на помощь: — Ты знал, Роман, что тебя ждет? Ну, если поймают? — Конечно, знал. Знал, что тюрьма, колония и срок большой. Думал, обойдется. Женька говорил, что не найдете. Раз так, будут деньги. — Роман поднял голову, зло сверкнул глазами и, видно, решился на полную откровенность: — Колонии я не боюсь. Привык. У меня дома своя колония: посмотрите на мать, в спичку превратилась. То нельзя, это не трогай, на ковровую дорожку не ступи. Книги не бери. Все денег стоит. С огорода по три урожая в лето снимаем. Сначала редиска, потом огурцы, а под осень укроп, салат и петрушка, и все на рынок. Убежать хотел. — А зачем тебе деньги? — спросил Афанасьев. — Как зачем? Меня угощают, а я ответить не могу. Надоело отцовские обноски донашивать. Все ребята в болоньевых куртках ходят, а мне суконное полупальто купили, говорят, теплее и дольше носится. А мне не надо теплее. — Ты куришь? — Прошлый год разрешили. Отец в получку на месяц полную авоську «Памира» приносит. Стыдно закурить, от них, кто близко стоит, чихать начинают. — Дома у вас пьют? — Только по праздникам. У нас с позапрошлого года своя наливка стоит в подвале. — Так, так, а чем же ты увлекаешься, чем занимаешься в свободное время? — спросил Афанасьев. — У меня нет свободного времени. Днем работаю, вечером учусь, а потом огород. — Когда же ты успел подружиться с Лидовым и Жуковым? — С Яшкой давно познакомился, — начал рассказывать Роман, — как приехал с Севера. С остальными в прошлом году. Мы с Американцем стали делать лодку у него в сарае и Вальку Цыплакова взяли в компанию. Он рядом живет. С ним стал приходить Женька Лидов. Он с Валькой в одном техникуме учится. Так и познакомились. — Вы у Климова спросите, товарищ майор, кто, он считает, их надоумил на это преступление, — не вытерпел Павлов. — Я ему этот вопрос уже задавал. — А я вам ответил, что Яшка. А он не верит, — кивнул парень в сторону Павлова. — Яшка поехал продавать книги в центр, мы у себя поблизости побоялись засыпаться. Привез деньги, рассказал, какая мировая квартира у того мужчины, что купил книгу. А когда другие книги возил, про магнитофоны рассказал. После этого мы с Женькой стали прикидывать, как нам в той квартире побывать, и придумали. — Кто придумал маски? — Не помню. Наверное, Женька. — Чем ударили Жукова? — Женька на всякий случай взял в сарае железку. С одной стороны расклепал. С другой заточил. Сказал, может, что открыть придется. Ну, а я завернул ее в кусок ватмана. Вот этой железкой он и стукнул Яшку. — Он же мог его убить. — Не думаю. Ведь тут как получилось? По нашим расчетам, Яшка должен был уже уйти и дома оставалась только хозяйка. Пришли, а нам дверь сам Американец открывает. Не уходить же обратно. — Почему вещи спрятали на пустыре? Их ведь могли найти. Заявить в милицию. — Нет, мы их хорошо закопали. Эту яму я подсказал. В прошлом году мы с отцом песок домой возили. Про пустую дачу Женька придумал. Потом мы все хотели перенести к нам в сарай. — Так кто же у вас главный? — Никого не было. Все главные. — Кто еще знал, что готовите это дело? — Валька Цыплаков. Ну тот, что с нами лодку делал. Как разговор всерьез об этой квартире зашел, он отказался. Говорит, одно дело книжки воровать, другое — квартиры грабить. Ведь все это началось с книг. Сначала он у одного парнишки взял почитать старую книгу, а Женька увидал, да и давай гудеть: «Это книга старая, книга редкая, давай загоним». Самим идти вроде бы и ни к чему, так он наладил Яшку. Тот пришел и семьдесят рублей принес. Ну, мы Вальку похвалили и отправили еще за книгами, а уж потом решили ограбить квартиру. Думали идти втроем, да Цыплаков отказался. Мы хотели его в такси оставить, чтобы шофер не уехал. — Значит, с точки зрения Цыплакова, книги воровать можно? — усмехнулся Афанасьев. — А ты как считаешь? Климов пожал плечами. — В старину была умная сказка, как кража пятачка довела Иванушку до каторги. А здесь в вашем деле прямо наглядный пример: начали с книг и докатились до разбойного нападения с покушением на убийство. — Мы никого не хотели убивать. — В это я не особенно верю. Представь себе, что бы получилось, если бы Лидов ударил Якова посильнее. Когда парня увели, Афанасьев спросил: — А как с отцом этого молодого человека, Иван Кузьмич? — Поговорили… — Ну и как он? — Интересный человек. Немного воевал, демобилизовался, окончил школу механизаторов, работал трактористом, шофером. Потом завербовался на Север. По договору имел право на возвращение в Москву. Работал как проклятый, без выходных, без отпусков, не пил, ну, сколотил деньгу. Со сверхурочными на лесоповале до тысячи рублей в месяц выгонял. Все хотел красивую жизнь в Москве создать. У него две дочери и сын. Говорит, ему самому ничего не надо. И там, в тайге, и здесь все о детях думал. Да, видно, что-то у него не додумалось. Взял у меня сигарету и просит: «Разрешите, на двор выйду, покурю». — Павлов подошел к окну, посмотрел. — Вот он на лавочке сидит и незажженную сигарету в руках вертит. В ярком утреннем свете хорошо была видна сгорбившаяся фигура с опущенной головой, словно человек пытался что-то рассмотреть под ногами. — Сколько ему лет? — С двадцать четвертого он. — А издали совсем старик! — Тут, дорогой Александр Филиппович, за какие-нибудь минуты стариком станешь, — вздохнул Павлов, — сын ведь.* * *
У себя в отделении Афанасьев выяснил, что никаких происшествий за его отсутствие не случилось. Зашел к начальнику, коротко доложил о результатах работы по делу и, вернувшись в свой кабинет, с удовольствием опустился в кресло за письменным столом. Машинально, по привычке заправил чернилами авторучку, достал из стола стопку бумаги, приготавливаясь написать отчет о только что раскрытом преступлении. Но его оторвал от размышлений настойчивый стук в дверь. Дважды повторив разрешение войти, Афанасьев хотел встать и распахнуть дверь нерешительному посетителю, но на пороге увидел незнакомую женщину. Прежде чем войти, она оглянулась, кого-то попросила подождать в коридоре и только потом переступила порог. — Я к вам. — Проходите, садитесь, — предложил Афанасьев. Бегло осматривая посетительницу, сразу же обратил внимание на фиолетовый костюм с длинным жакетом без рукавов и широченные брюки, яркую цветную блузку, туфли на платформе и в тон им коричневую лаковую сумку с плечевым ремнем. Коротко подстриженные волосы падали короткой челкой на лоб. Половина лица закрывали темные очки. «Иностранка, что ли? — мелькнула мысль. — Неужели обворовали?» — Пожалуйста, садитесь. Слушаю вас.
— Я мать Лидова, — взволнованно сообщила женщина. Села к приставному столику, достала из сумки пачку сигарет «Пел-Мел», носовой платок и свернутые в трубочку листки бумаги. Все разложила перед собой и, поднеся платок к лицу, продолжала: — Какое горе, какое горе, я просто не могу поверить. Мой сын — и такое преступление. Вы, товарищ майор, его не знаете. Он хороший мальчик, тихий, скромный, увлекается музыкой, пишет стихи. Отлично учится. Я, правда, воспитывала его одна, без мужского влияния. У нас, знаете, с мужем не сложилась жизнь. Но я сыну ни в чем не отказываю.
Афанасьев откинулся на спинку кресла, чтобы лучше наблюдать за посетительницей. Та, заметив его интерес, сняла очки. Сразу открылись морщинки, усталые глаза. Женщина говорила и говорила. Рассказывала о детстве сына, подробности школьных лет, иногда на ее лице мелькала угодливая улыбка, то появлялся страх, а глаза оставались внимательными, как бы посторонними.
Александр Филиппович остановил ее.
— Одну минуту, гражданка Лидова!
— Нет, нет, я не Лидова. Я Иванова — ношу фамилию второго мужа. Мы с ним, правда, тоже разошлись, но Евгению я сохранила фамилию отца. Меня зовут Ирина Владимировна, а вас?
Афанасьев назвал свое имя и отчество и спросил:
— Где вы работаете?
— Дорогой Александр Филиппович, разве это имеет значение? Сейчас для меня самое важное — судьба сына. Вот принесла вам заявление. Я и общественность нашего дома просим вас отдать мне сына на поруки.
Ирина Владимировна развернула бумагу: на двух страницах было пространное заявление с перечислением всех достоинств Евгения Лидова, третья была покрыта подписями.
— Со мной пришли члены домового комитета и ближайший сосед, — объяснила Лидова — Иванова. — Они подтвердят, что готовы поручиться за Женю.
Майор взял бумагу, от нее пахло тонкими духами.
«Где же все-таки она работает?» — подумал он и снова повторил свой вопрос.
— Вообще я окончила институт иностранных языков, работала в системе «Интуриста», а сейчас директор вагона-ресторана на международных линиях. Я очень часто в поездках, сегодня, к счастью, оказалась дома. Если моего заявления вам недостаточно, то я принесу письмо с работы, из техникума. Обещаю вам, что мой сын исправится и этого с ним больше никогда не повторится. — Женщина говорила уверенно, то вкрадчиво, то с искренней болью.
Афанасьев заглянул в заявление. Оно было отпечатано на машинке и адресовано ему.
— Когда у вас были мои сотрудники?
— Около девяти утра.
«Вот это оперативность, — подумал Афанасьев, — успела напечатать, обежать жильцов, упросить их подписать, да еще двух ходатаев привела сюда».
— Скажите, Ирина Владимировна, сами-то вы что думаете, почему это случилось? Раньше ваш сын судился?
— Что вы, что вы! Евгений даже близко возле суда не был. А что с ним произошло, понятия не имею. У нас дома все есть. Я каждый раз, возвращаясь из-за границы, привожу ему подарки. Может быть, не очень дорогие, так как валюты бывает немного, но я же вам говорила, что у него есть все.
Женщина достала сигарету.
Майор тоже открыл стол и потянулся за пачкой «Явы». Ирина Владимировна пододвинула ему пачку своих и с удовольствием сообщила:
— Курите — американские.
— Благодарю, я привык к «Яве».
— Я сама никак не пойму, что произошло с сыном. — И очень осторожно, словно прощупывая собеседника, спросила: — Может быть, Женю приятели увлекли? — Не получив ответа, продолжала: — Он добрый, ради друзей готов на все. Привезла ему в прошлом году техасский костюм, он его другу подарил. Привезла второй, он сейчас же отдал поносить кому-то куртку, и так все. Зажигалки, ручки, патефонные пластинки у него живут один — два дня, я уже к этому привыкла.
— Ирина Владимировна, пригласите ваших поручителей, я с ними познакомлюсь.
— Обоих?
— Можно обоих.
В кабинет вошла, подслеповато щурясь, полная, высокая женщина в старомодном полотняном плаще. Она независимо подошла к столу и села напротив майора. Следом за ней появился высокий мужчина, тоже преклонного возраста, в сильно поношенном костюме и несвежей рубашке. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, переминался с ноги на ногу. Настороженно осматривал кабинет. Ирина Владимировна их представила:
— Наталья Леонидовна — представительница нашего домового комитета, а это мой сосед, Леопольд Антонович.
Поручительница сразу же бойко заговорила:
— Наша общественность знает Женю… — И тут же поправилась: — Евгения и просит его на поруки. Мы всем коллективом будем его воспитывать. Общественность заверяет, что больше Лидов не позволит себе никаких плохих поступков.
От длинной речи Наталью Леонидовну бросило в жар, она достала цветной платок, стала вытирать лицо, искоса поглядывая на Лидову — Иванову. Майору показалось, что Ирина Владимировна одобрительно подмигнула своей поручительнице.
— Ну, а вы что скажете, Леопольд Анатольевич?
Присевший на край стула поручитель вскочил:
— Я как работник искусства присоединяюсь к просьбе и могу заверить вас, что Евгений ничего подобного не совершит.
— А вы где работаете?
— В театре… осветителем сцены.
— Значит, вы пришли спасать Женю Лидова по просьбе его матери? И не просто сами, а от имени общественности, так звучит ваше поручительство более весомо? Ну, а вы хоть знаете, что он совершил? — медленно, растягивая слова, говорил майор. — Так вот, позавчера утром он в маске и с оружием в руках ограбил квартиру. Связал хозяйку и похитил вещи, на пять тысяч рублей. По закону это преступление называется разбой, и суд может за него дать до пятнадцати лет лишения свободы. — Майор говорил и следил за поведением всех трех просителей. Мать побледнела, Наталья Леонидовна стала краснеть. «Представитель искусства» вскочил и хотел что-то сказать. — Нет, подождите. Давайте выясним все окончательно. Судя по заявлению, вы намерены взять на себя ответственность за поведение Евгения Лидова и согласны отвечать за все, что он может натворить в дальнейшем, скажем, за любое новое его преступление вас должны привлечь к уголовной ответственности вместе с ним, так?
— При чем тут уголовная ответственность? Мы общественность, — на этот раз не так уверенно заговорила представительница домкома. — Согласны Женю воспитывать.
— Подождите, — остановил ее Афанасьев. — Лидов приходил домой пьяным?
— А кто теперь не приходит? Вот Леопольд Анатольевич хороший человек, а тоже выпивает.
— Нет, поговорим сначала о Лидове. Вы видели, что он бывает пьяным?
— Видела, видела, все видели.
— Почему же в первый или второй раз вы не подняли тревогу, не вызвали на товарищеский суд мальчишку, его мать? Почему не обратились в детскую комнату милиции? Ведь пьяный подросток — это чрезвычайное происшествие для порядочного человека. Что же вы молчите? — Афанасьев достал «Яву», закурил и, уже успокоившись, спросил: — Как же быть с вашим поручительством? Согласны нести ответственность за Евгения Лидова?
— Отдайте наше заявление, — поднялась со стула Наталья Леонидовна.
— Я как работник искусства в уголовные дела вмешиваться не собираюсь. Озорство или даже драка — это другое дело, — проворчал мужчина.
— Заявление ваше я оставлю у себя, а вас не смею больше задерживать.
Поручители ушли, а мать медленно укладывала в сумку сигареты, платок, очки.
— Разрешите мне свидание с сыном, — попросила она.
— Нет, не разрешу, — быстро ответил Афанасьев.
— Вы еще пожалеете! — вспылила женщина. — Я пойду на Петровку к вашему начальству, к самому генералу, а своего добьюсь.
— Не думаю, — ответил Афанасьев, а когда остался в кабинете один, выкурил подряд две сигареты и снова принялся составлять документ.
Вошли Ильин и Звягин.
— Ну, этот Женька — тип, — радостно начал Звягин. — Когда из Серебряного бора ехали, поговорили. Он все овечкой прикидывался. Пригласили, уговорили, он не хотел… На самом деле его еще два года назад привлекали за кражи. Ограничились возмещением убытков. За драку из школы выгнали. Устроился в техникум, учится плохо, дома пьянствует, а мать все покрывает. Мамаша у него дай бог каждому… Мы пришли на обыск, а она сразу: «Кофе с лимоном или с коньяком? Есть французский, а может быть, завтрак на скорую руку?» Еле отвязались.
— С ней я уже п-ознакомился, — проворчал Афанасьев.
— Пожалуйста, садитесь. Слушаю вас.
— Я мать Лидова, — взволнованно сообщила женщина. Села к приставному столику, достала из сумки пачку сигарет «Пел-Мел», носовой платок и свернутые в трубочку листки бумаги. Все разложила перед собой и, поднеся платок к лицу, продолжала: — Какое горе, какое горе, я просто не могу поверить. Мой сын — и такое преступление. Вы, товарищ майор, его не знаете. Он хороший мальчик, тихий, скромный, увлекается музыкой, пишет стихи. Отлично учится. Я, правда, воспитывала его одна, без мужского влияния. У нас, знаете, с мужем не сложилась жизнь. Но я сыну ни в чем не отказываю.
Афанасьев откинулся на спинку кресла, чтобы лучше наблюдать за посетительницей. Та, заметив его интерес, сняла очки. Сразу открылись морщинки, усталые глаза. Женщина говорила и говорила. Рассказывала о детстве сына, подробности школьных лет, иногда на ее лице мелькала угодливая улыбка, то появлялся страх, а глаза оставались внимательными, как бы посторонними.
Александр Филиппович остановил ее.
— Одну минуту, гражданка Лидова!
— Нет, нет, я не Лидова. Я Иванова — ношу фамилию второго мужа. Мы с ним, правда, тоже разошлись, но Евгению я сохранила фамилию отца. Меня зовут Ирина Владимировна, а вас?
Афанасьев назвал свое имя и отчество и спросил:
— Где вы работаете?
— Дорогой Александр Филиппович, разве это имеет значение? Сейчас для меня самое важное — судьба сына. Вот принесла вам заявление. Я и общественность нашего дома просим вас отдать мне сына на поруки.
Ирина Владимировна развернула бумагу: на двух страницах было пространное заявление с перечислением всех достоинств Евгения Лидова, третья была покрыта подписями.
— Со мной пришли члены домового комитета и ближайший сосед, — объяснила Лидова — Иванова. — Они подтвердят, что готовы поручиться за Женю.
Майор взял бумагу, от нее пахло тонкими духами.
«Где же все-таки она работает?» — подумал он и снова повторил свой вопрос.
— Вообще я окончила институт иностранных языков, работала в системе «Интуриста», а сейчас директор вагона-ресторана на международных линиях. Я очень часто в поездках, сегодня, к счастью, оказалась дома. Если моего заявления вам недостаточно, то я принесу письмо с работы, из техникума. Обещаю вам, что мой сын исправится и этого с ним больше никогда не повторится. — Женщина говорила уверенно, то вкрадчиво, то с искренней болью.
Афанасьев заглянул в заявление. Оно было отпечатано на машинке и адресовано ему.
— Когда у вас были мои сотрудники?
— Около девяти утра.
«Вот это оперативность, — подумал Афанасьев, — успела напечатать, обежать жильцов, упросить их подписать, да еще двух ходатаев привела сюда».
— Скажите, Ирина Владимировна, сами-то вы что думаете, почему это случилось? Раньше ваш сын судился?
— Что вы, что вы! Евгений даже близко возле суда не был. А что с ним произошло, понятия не имею. У нас дома все есть. Я каждый раз, возвращаясь из-за границы, привожу ему подарки. Может быть, не очень дорогие, так как валюты бывает немного, но я же вам говорила, что у него есть все.
Женщина достала сигарету.
Майор тоже открыл стол и потянулся за пачкой «Явы». Ирина Владимировна пододвинула ему пачку своих и с удовольствием сообщила:
— Курите — американские.
— Благодарю, я привык к «Яве».
— Я сама никак не пойму, что произошло с сыном. — И очень осторожно, словно прощупывая собеседника, спросила: — Может быть, Женю приятели увлекли? — Не получив ответа, продолжала: — Он добрый, ради друзей готов на все. Привезла ему в прошлом году техасский костюм, он его другу подарил. Привезла второй, он сейчас же отдал поносить кому-то куртку, и так все. Зажигалки, ручки, патефонные пластинки у него живут один — два дня, я уже к этому привыкла.
— Ирина Владимировна, пригласите ваших поручителей, я с ними познакомлюсь.
— Обоих?
— Можно обоих.
В кабинет вошла, подслеповато щурясь, полная, высокая женщина в старомодном полотняном плаще. Она независимо подошла к столу и села напротив майора. Следом за ней появился высокий мужчина, тоже преклонного возраста, в сильно поношенном костюме и несвежей рубашке. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, переминался с ноги на ногу. Настороженно осматривал кабинет. Ирина Владимировна их представила:
— Наталья Леонидовна — представительница нашего домового комитета, а это мой сосед, Леопольд Антонович.
Поручительница сразу же бойко заговорила:
— Наша общественность знает Женю… — И тут же поправилась: — Евгения и просит его на поруки. Мы всем коллективом будем его воспитывать. Общественность заверяет, что больше Лидов не позволит себе никаких плохих поступков.
От длинной речи Наталью Леонидовну бросило в жар, она достала цветной платок, стала вытирать лицо, искоса поглядывая на Лидову — Иванову. Майору показалось, что Ирина Владимировна одобрительно подмигнула своей поручительнице.
— Ну, а вы что скажете, Леопольд Анатольевич?
Присевший на край стула поручитель вскочил:
— Я как работник искусства присоединяюсь к просьбе и могу заверить вас, что Евгений ничего подобного не совершит.
— А вы где работаете?
— В театре… осветителем сцены.
— Значит, вы пришли спасать Женю Лидова по просьбе его матери? И не просто сами, а от имени общественности, так звучит ваше поручительство более весомо? Ну, а вы хоть знаете, что он совершил? — медленно, растягивая слова, говорил майор. — Так вот, позавчера утром он в маске и с оружием в руках ограбил квартиру. Связал хозяйку и похитил вещи, на пять тысяч рублей. По закону это преступление называется разбой, и суд может за него дать до пятнадцати лет лишения свободы. — Майор говорил и следил за поведением всех трех просителей. Мать побледнела, Наталья Леонидовна стала краснеть. «Представитель искусства» вскочил и хотел что-то сказать. — Нет, подождите. Давайте выясним все окончательно. Судя по заявлению, вы намерены взять на себя ответственность за поведение Евгения Лидова и согласны отвечать за все, что он может натворить в дальнейшем, скажем, за любое новое его преступление вас должны привлечь к уголовной ответственности вместе с ним, так?
— При чем тут уголовная ответственность? Мы общественность, — на этот раз не так уверенно заговорила представительница домкома. — Согласны Женю воспитывать.
— Подождите, — остановил ее Афанасьев. — Лидов приходил домой пьяным?
— А кто теперь не приходит? Вот Леопольд Анатольевич хороший человек, а тоже выпивает.
— Нет, поговорим сначала о Лидове. Вы видели, что он бывает пьяным?
— Видела, видела, все видели.
— Почему же в первый или второй раз вы не подняли тревогу, не вызвали на товарищеский суд мальчишку, его мать? Почему не обратились в детскую комнату милиции? Ведь пьяный подросток — это чрезвычайное происшествие для порядочного человека. Что же вы молчите? — Афанасьев достал «Яву», закурил и, уже успокоившись, спросил: — Как же быть с вашим поручительством? Согласны нести ответственность за Евгения Лидова?
— Отдайте наше заявление, — поднялась со стула Наталья Леонидовна.
— Я как работник искусства в уголовные дела вмешиваться не собираюсь. Озорство или даже драка — это другое дело, — проворчал мужчина.
— Заявление ваше я оставлю у себя, а вас не смею больше задерживать.
Поручители ушли, а мать медленно укладывала в сумку сигареты, платок, очки.
— Разрешите мне свидание с сыном, — попросила она.
— Нет, не разрешу, — быстро ответил Афанасьев.
— Вы еще пожалеете! — вспылила женщина. — Я пойду на Петровку к вашему начальству, к самому генералу, а своего добьюсь.
— Не думаю, — ответил Афанасьев, а когда остался в кабинете один, выкурил подряд две сигареты и снова принялся составлять документ.
Вошли Ильин и Звягин.
— Ну, этот Женька — тип, — радостно начал Звягин. — Когда из Серебряного бора ехали, поговорили. Он все овечкой прикидывался. Пригласили, уговорили, он не хотел… На самом деле его еще два года назад привлекали за кражи. Ограничились возмещением убытков. За драку из школы выгнали. Устроился в техникум, учится плохо, дома пьянствует, а мать все покрывает. Мамаша у него дай бог каждому… Мы пришли на обыск, а она сразу: «Кофе с лимоном или с коньяком? Есть французский, а может быть, завтрак на скорую руку?» Еле отвязались.
— С ней я уже п-ознакомился, — проворчал Афанасьев.
* * *
Уже к вечеру в кабинет начальника уголовного розыска вошел Звягин. — Принес? — Да, вот, написали. — И он протянул лист бумаги. — Посмотрим, что думают о Валентине Цыплакове в его родном техникуме.«Характеристика на студента третьего курса… Цыплаков В. А. добросовестно относится к учебе, занятия посещает аккуратно. Активно участвует в жизни коллектива. Является членом редакционной коллегии стенной газеты «За высокую успеваемость». Был исключен из комсомола два года назад, но в настоящее время исправился, и теперь товарищи его уважают».Так, и это все? — Все, Александр Филиппович, я спрашивал в дирекции, сказали, что сейчас он их не беспокоит, у него все в порядке. — Ага, уважают, значит, и не беспокоит. Ты не рассказал им, в чем суть дела? — Нет, товарищ майор! Вы же пока не велели. Афанасьев задумчиво кивнул, отложил на край стола характеристику и скорее для себя, чем для Звягина, объявил: — Ладно, я там сам побываю, в этом техникуме. — Я что-нибудь сделал не так? — Нет, нет. Все так, — успокоил Звягина майор.
* * *
Через несколько дней, перед началом практики и летних каникул, в техникуме состоялось общее собрание студентов. Оно было необычным, так как на нем не подводились итоги учебы за год, не обсуждались другие повседневные дела, а рассматривался один-единственный вопрос: о дружбе, гражданском долге и преступлении студентов Лидова и Цыплакова. С докладом выступал майор милиции Афанасьев. Зал был полон, и те, кому не хватило мест, устроились на подоконниках и в проходах. После начала собрания председательствующий потребовал, чтобы студент Цыплаков, примостившийся где-то в задних рядах, сел на переднюю скамейку. …Афанасьев говорил долго, и в зале повисла тишина, которой позавидовал бы любой лектор. — …Бесспорно, что многие из вас виноваты, что Лидов стал преступником. Полтора десятка человек, сидящие здесь в зале, покупали у Лидова сигареты, рубашки, джинсы, заграничные пластинки и различные безделушки, а знали об этом, самое малое, еще столько же. Никто из вас не пресек эту торговлю. Никто не подумал остановить парня, стремившегося у своих же приятелей выманить деньги. Никто не заинтересовался тем, откуда Лидов достает свой товар, хотя к этому обязывал вас гражданский долг. Теперь о дружбе. Ваш студент Цыплаков. Вот он только что пересел сюда, ко мне поближе. — Афанасьев посмотрел на сидящего в первом ряду Валентина. Это был совсем другой парень. Не тот, что неделю назад дрался с Тюриным и Борисом Тикановым. Он как-то изменился, даже казалось, что и ростом стал ниже. — Так вот, на допросе Цыплаков мне сказал, что Лидов и остальные приглашали его участвовать в преступлении. Он отказался, посоветовал и им не ходить и ушел. Наутро они совершили разбой, а на другой день были уже у нас. Советские люди честно выполнили свой гражданский долг и помогли нам полностью найти награбленное и поймать преступников. Я спросил Цыплакова, почему он не заявил о готовящемся преступлении в милицию? Валентин ответил, что он не захотел предавать друзей… — Афанасьев уловил оживление в зале, сделал паузу. Ему даже удалось услышать чьи-то реплики: «Ну, это сложный вопрос», «трудно», «дурак». Майор придвинул к себе микрофон, пощелкал по мембране и продолжал: — Позвольте мне разобрать поступок вашего студента Цыплакова с двух сторон: сначала с моральной, а затем с юридической, хотя наша юриспруденция именно мораль и защищает. Так вот о дружбе. У нас, советских людей, дружба предполагает взаимную помощь, заботу о товарище, взаимную выручку из беды. Все это вошло в норму поведения и олицетворяет гражданственность. Я не буду приводить классические примеры, вы их знаете. Давайте посмотрим, в чем выразилось дружеское отношение Цыплакова к товарищам. Он сидит здесь в зале, а его друзья в тюрьме и, напрочь испортив свою биографию, станут отбывать наказание. Что же сделал Цыплаков, чтобы спасти своих друзей от беды? Почему равнодушно позволил им совершить преступление? Вот здесь были разные реплики: «трудно», «правильно». Как же правильно? С одним из его друзей, Яковом Жуковым, милиция три года носилась как с писаной торбой. Ловили, когда он убегал из дома, и привозили обратно. Уговаривали не воровать. Организовали шефство, когда он отставал в учебе, чуть не за уши тянули из класса в класс. Чтобы не болтался по улицам, милиция устроила его в клубную секцию. И вот той самой милиции Цыплаков не удосужился сказать, что Жукова двое его друзей тянут на преступление. Но это только первая часть вопроса; чтобы перейти ко второй, я позволю ознакомить вас с законом. Наш Уголовный кодекс в статье 190 предусматривает, что «Недонесение об известных, готовящихся или совершенных преступлениях наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами до одного года». Так что в поступке Цыплакова закон усматривает не «благородство», а законченное преступление, в результате которого потерпевшая подвергалась моральному и физическому насилию, его дружок Жуков — мы с ним тоже как следует разберемся — получил опасную травму, а двое приятелей стали преступниками. Всего этого могло бы и не быть, если бы Цыплаков поступил честно и смело. В зале опять воцарилась тишина, и не нашлось ни одного человека, который хотя бы репликой одобрил поступок Цыплакова. — Вторая часть вопроса, о которой я хотел бы с вами поговорить, — это критическая оценка поступков. Лидов и его компания начали с того, что похитили несколько книг из библиотеки своего знакомого. Кражу книг они считали настолько мелким преступлением, что даже предполагали, что за это их никто не будет судить. Но именно эти на первый взгляд незначительные преступления и привели Лидова и Климова к разбою. Именно кражи книг, которые прошли безнаказанно, объединили их и подтолкнули на дерзкое и опасное разбойное нападение. Афанасьев говорил еще долго; потом отвечал на вопросы, внимательно слушал выступления, резкие и горячие. Уходил майор из техникума довольный. Он знал наверняка, что этот разговор не пройдет даром для студентов.
Редьяр Киплинг ОТВАЖНЫЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ Приключенческая повесть
ГЛАВА I
Большой пассажирский пароход качался на волнах Северной Атлантики, свистом предупреждая рыбачьи суда о своем приближении. В распахнутую дверь курительного салона ворвался холодный морской туман. — Ну и противный мальчишка этот Чейн, — сказал человек в мохнатом пальто, со стуком захлопывая дверь. — Зелен еще среди взрослых толкаться. Седоволосый немец потянулся за бутербродом и проворчал с набитым ртом: — Знаем мы их. Ф Америка полно такой мальчишка. Фам надо верефка дешефый, чтобы их стегайть. — Куда хватили! Не так уж он плох. Жалеть его надо, а не бранить, — отозвался пассажир из Нью-Йорка, растянувшийся на диване под забрызганным иллюминатором. — Его с малых лет таскают по гостиницам. Сегодня утром я говорил с его матерью. Очень милая дама, но сладить с ним ей не по силам. Теперь он едет в Европу, чтобы закончить образование. — Учиться-то он и не начинал. — Это сказал пассажир из Филадельфии, примостившийся в углу. — Этот парнишка получает по две сотни в месяц на расходы. Сам мне сказал. А ему и шестнадцати не стукнуло. — Его отец имеет шелезный дорога, да? — спросил немец. — Точно. И еще шахты, и лес, и перевозки. Старик выстроил один дворец в Сан-Диего, другой — в Лос-Анджелесе. У него полдюжины железных дорог, половина всего леса на Тихоокеанском побережье, и он позволяет жене тратить денег, сколько та захочет, — лениво продолжал филадельфиец. — На Западе ей скучно. Вот она и ездит повсюду с мальчишкой да со своими нервами и все ищет, чем бы его подразвлечь. Сейчас-то у него знаний не больше, чем у клерка из второразрядной гостиницы. А вот закончит учение в Европе, тогда задаст всем жару. — Что же отец сам за него не возьмется? — раздался голос из мохнатого пальто. — Недосуг ему, наверно. Деньги делает. Через несколько лет спохватится… А жаль, в парнишке что-то есть, только надо найти к нему подход. — Стегайть его надо, стегайть, — проворчал немец. Дверь хлопнула еще раз, и за высоким порогом показался худощавый стройный мальчик лет пятнадцати. Недокуренная сигарета свисала у него из уголка рта. Одутловатое, с желтизной лицо как-то не вязалось с его возрастом; держался он развязно и в то же время нерешительно. На нем был вишневого цвета пиджак, бриджи, красные чулки и спортивные туфли. Красное фланелевое кепи он лихо сдвинул на затылок. Посвистывая сквозь зубы, мальчик осмотрел всю компанию и сказал громким и тонким голосом: — Ну и темнотища на море! А кругом кудахчут эти рыбацкие шхуны. Вот бы наскочить на одну, а? — Закройте дверь, Гарви, — сказал пассажир из Нью-Йорка. — Да с той стороны. Вам здесь не место. — А вам-то что? — ответил мальчик развязно. — Уж не вы ли оплатили мой билет, мистер Мартин? У меня такое же право сидеть здесь, как у любого из вас. Он взял с доски несколько пешек и стал перебрасывать их с руки на руку. — Тоска здесь смертная. Послушайте, джентльмены, а не сыграть ли нам в покер? Все промолчали, а мальчик, небрежно попыхивая сигаретой, стал барабанить по столу довольно грязными пальцами. Потом он вытащил пачку долларов, будто намереваясь их пересчитать. — Как ваша мама? — спросил кто-то. — Я что-то не видел ее за завтраком. — Наверно, у себя в каюте. На море ее всегда укачивает. Надо дать стюардессе долларов пятнадцать, чтобы присмотрела за ней. Сам-то я стараюсь как можно реже спускаться вниз. Не по себе становится, когда мимо буфета прохожу. Знаете, я ведь первый раз в океане. — Ну, ну, Гарви, не оправдывайтесь. — Я и не оправдываюсь. Это, джентльмены, мое первое плавание по океану, но меня ничуть не укачало, разве что в первый день. Вот так-то! Он торжествующе стукнул кулаком по столу, послюнявил палец и принялся пересчитывать деньги. — Да, вы из особого теста слеплены, это сразу видно, — зевнул пассажир из Филадельфии. — Глядишь, гордостью Америки станете. — Еще бы! Я американец с головы до ног. Вот доберусь до Европы, я им всем там покажу… Тьфу, сигарета погасла! Ну и дрянь продается на пароходе! Нет ли у кого-нибудь настоящей турецкой сигареты? В салон заглянул старший механик, раскрасневшийся, мокрый и улыбающийся. — Эй, парень, — крикнул Гарви бодрым голосом, — как наша посудина? — Как ей положено, — ответил механик сдержанно. — Молодежь, как всегда, вежлива со стариками, и старшие это ценят. В углу кто-то хихикнул. Немец открыл портсигар и протянул Гарви тонкую черную сигару. — Это тот, што фам надо, мой молодой друг, — сказал он. — Попробуйте, да? Будете ошень довольны. Гарви с важным видом принялся раскуривать сигару — он чувствовал себя взрослым. — Видали мы и не такие, — сказал он, не подозревая, что немец подсунул ему одну из самых крепких сигар. — Ну, это мы сейшас увидим, — сказал немец. — Где мы находимся, мистер Мактонал? — Там, где надо, или недалеко оттуда,мистер Шефер, — ответил механик. — Вечером подойдем к Большой Отмели; а вообще-то пробираемся сейчас через рыбачью флотилию. Едва не потопили три лодки, а у француза чуть не сорвали рей. Что ни говори, плавание рискованное. — Хороша сигара? — спросил немец у Гарви, глаза которого наполнились слезами. — Прелесть! Какой аромат! — ответил он, стиснув зубы. — Похоже, что мы замедлили ход? Пойду наверх, посмотрю. — И правильно сделаете, — сказал немец. Гарви вышел, пошатываясь, на мокрую палубу и ухватился за ближайший поручень. Ему было очень плохо. На палубе стюард связывал стулья, а так как Гарви раньше похвалялся перед ним, что никакая качка ему не страшна, он собрал все свои силы и стал пробираться на корму. Здесь не было никого. Он почти ползком пробрался в дальний ее конец, к самому флагштоку, и скорчился в три погибели. От крепкой сигары, качки и дрожавшей от винта палубы его стало выворачивать наизнанку. В голове гудело, искры плясали перед глазами, тело, казалось, стало невесомым, а ноги отказывались подчиняться. Он терял создание, и тут корабль накренился. Гарви перелетел через поручни и оказался на самом краю скользкой кормы. Затем из тумана поднялась серая, мрачная волна, подхватила его будто под руки и унесла прочь с парохода. Зеленая пучина поглотила его, и он потерял сознание.Он очнулся от звука рожка, каким в Адмирондэкской школе созывают учеников к обеду. Он понемногу приходил в себя и стал припоминать, что его зовут Гарви Чейн и что он утонул в открытом море; но он был еще слишком слаб, чтобы связать свои мысли. Какой-то незнакомый запах наполнил его ноздри, его слегка знобило, и весь он словно был пропитан соленой морской водой. Открыв глаза, он понял, что находится на поверхности, а не под водой, потому что вокруг него ходуном ходили серебристые холмы волн. Он лежал на груде полуживой рыбы, а перед ним маячила чья-то широкая спина в синей шерстяной куртке. «Плохи дела, — подумал мальчик. — Ведь я умер, а этот, как видно, за мной присматривает». Он застонал. Человек обернулся, и в его курчавых черных волосах блеснули маленькие золотые серьги. — Ага! Тебе малость получше? — сказал он. — Лежи спокойно, а то накренишь лодку. Резким движением он направил дрожащий нос лодки прямо на высокую, в двадцать футов, волну, лодка взобралась на нее, а потом скатилась с другой ее стороны прямо в блестящую яму. Совершая этот опасный маневр, человек в синем продолжал говорить. — Здорово, что я наскочил на тебя, а не на пароход, верно? Как это ты свалился? — Мне было плохо, — сказал Гарви, — вот и свалился. — Не дунь я в рожок, пароход подмял бы меня. Тут, вижу, летишь ты. А? Что? Я думал, винт разнесет тебя на кусочки. Но тебя вынесло наверх, прямо к лодке, и я тебя выудил, как большую рыбу. Видно, тебе еще не суждено умереть. — Где я? — спросил Гарви, который вовсе не чувствовал себя здесь в безопасности. — Ты в рыбачьей лодке. Зовут меня Мануэль. — Я со шхуны «Мы здесь» из Глостера. В Глостере я и живу. Скоро мы будем на шхуне… Что? Казалось, у него две пары рук, а голова отлита из чугуна: с трудом сохраняя равновесие, он то дул изо всех сил в большую раковину, заменявшую ему рожок, то посылал в туман громкий и пронзительный вопль. Гарви не помнит, сколько длился этот концерт. Он лежал на спине, с ужасом глядя на дымящиеся волны. Но вот послышался выстрел, и звук рожка, и чьи-то крики. Над лодкой навис борт какого-то судна, которое, несмотря на свои размеры, прыгало на волнах, как лодка. Несколько человек говорили одновременно. Его подхватили и опустили в какой-то люк, где люди в дождевиках напоили его чем-то горячим, сняли с него одежду, и он уснул. Когда мальчик проснулся, он ожидал услышать колокол, зовущий пассажиров парохода к завтраку, и не мог понять, почему его каюта стала такой маленькой. Повернувшись, он оглядел узкую треугольную каморку, освещенную фонарем, подвешенным к массивной квадратной балке. Совсем рядом стоял треугольный стол, а в дальнем конце кубрика за старой чугунной печкой сидел мальчик по виду одних с ним лет, с плоским, румяным лицом и блестящими серыми глазами. На нем была синяя куртка и высокие резиновые сапоги. На полу валялось несколько пар такой же обуви, старая кепка и несколько потертых шерстяных носков; черные и желтые дождевики раскачивались над койками. Каюта была битком набита разными запахами. Своеобразный густой запах дождевиков служил как бы фоном для запаха жареной рыбы, подгорелого машинного масла, краски, перца и табака. Но все это перекрывал и сливал воедино особый аромат корабля и соленой воды. Гарви с отвращением заметил, что на его койке не было простыни. Он лежал на каком-то грязном, очень неудобном матрасе. Да и ход судна был совсем не такой, как у пассажирского парохода. Оно не скользило, не катилось по волнам, а бессмысленно дергалось во все стороны, словно жеребенок на привязи. У самого уха слышался шум воды, а бимсы скрипели и стонали. От всего этого Гарви всхлипнул в отчаянии и вспомнил о матери. — Тебе лучше? — спросил мальчик, улыбаясь. — Хочешь кофе? Он налил кофе в оловянную кружку и подсластил его патокой. — А молока разве нет? — спросил Гарви, оглядывая каюту, словно надеялся увидеть здесь корову. — Нету, — сказал мальчик. — И, наверно, не будет до середины сентября. Кофе неплохой. Сам заваривал. Гарви молча принялся пить кофе, а мальчик протянул ему миску со свиными шкварками. Гарви с жадностью набросился на них. — Я высушил твою одежду. Она, наверно, немного села, — сказал мальчик. — Мы такую не носим, у нас одежда совсем другая. Ну-ка повертись немного, посмотрим, не ушибся ли ты. Гарви потянулся во все стороны, но никакой боли не почувствовал. — Вот и хорошо, — сказал мальчик с чувством. — Собирайся, пойдем на палубу. Отец потолковать с тобой хочет. Меня зовут Дэн. Я помогаю коку да делаю всякую черную работу за взрослых. У нас был еще один юнга, Отто, да за борт упал. Отто был голландец, и ему двадцать стукнуло. А как тебя угораздило свалиться в такой штиль? — Хорош штиль, — надулся Гарви. — Был настоящий шторм, и меня укачало. Наверно, через поручни свалился. — Вчера днем и ночью волны-то не было, — сказал Дэн. — И если ты это называешь штормом… — он присвистнул, — посмотрим, что ты скажешь потом. Пошевеливайся! Отец ждет. Как и многие балованные дети, Гарви не привык выслушивать приказания: ведь дома его всегда только просили или уговаривали что-нибудь сделать для его же пользы. Миссис Чейн жила в вечном страхе, как бы ее сын не вырос слишком покорным, и потому, наверное, довела себя до настоящего нервного истощения. Вот Гарви и не мог понять, почему он должен куда-то спешить, если кто-то хочет его видеть. Он прямо так и сказал: — Если твой отец хочет со мной поговорить, пусть сам сюда идет. Он должен немедленно доставить меня в Нью-Йорк. Я за это уплачу. Глаза Дэна широко раскрылись, когда до него дошел смысл этой отличной шутки. — Эй, пап, — крикнул он через люк, — он говорит, что если ты хочешь его повидать, спускайся сюда сам! Слышишь, отец? В ответ раздался такой бас, какого Гарви в жизни не доводилось слышать: — Не валяй дурака, Дэн. Пришли его ко мне. Дэн хихикнул и бросил Гарви его покоробившиеся спортивные туфли. В голосе с палубы было нечто такое, что заставило Гарви унять свою ярость. Он утешался тем, что по пути в Нью-Йорк еще успеет рассказать и о себе самом, и о богатстве своего отца. Это приключение навсегда сделает его героем в глазах приятелей. А пока он взобрался по отвесному трапу на палубу и, спотыкаясь о разные предметы, стал пробираться на корму. На лестнице, ведущей на шканцы, сидел небольшой человек с гладко выбритым лицом и седыми бровями. За ночь волнение прекратилось, и море стало маслянисто-гладким. По всей его глади, до самого горизонта, были разбросаны белые пятна парусов рыбачьих шхун. Между ними виднелись черные точки — плоскодонки рыбаков. Шхуна с треугольным парусом, на которой находился Гарви, слегка покачивалась на якоре. Кроме этого человека, сидевшего возле рубки — «дома», как ее здесь называли, на судне никого не было. — Доброе утро, вернее, добрый день. Вы почти сутки проспали, юноша, — поздоровался он с Гарви. — Здравствуйте, — ответил Гарви. Ему не понравилось, что его назвали «юноша», и как человек, едва избежавший смерти, он рассчитывал на большее сочувствие. Его мать сходила с ума, если ему случалось промочить ноги, а этому моряку, похоже, все безразлично. — Что ж, послушаем, как все случилось. Главное, что всем нам повезло. Так как вас зовут? Откуда вы — полагаем, из Нью-Йорка? Куда путь держите — полагаем, в Европу? Гарви назвал себя, дал название парохода и вкратце рассказал о случившемся, закончив требованием немедленно доставить его в Нью-Йорк, где его отец выложит за эту услугу любую сумму. — Гм, — отозвался бритый моряк, пропустив мимо ушей требование Гарви. — Хорош, нечего сказать, тот мужчина или даже юноша, которого угораздило упасть за борт такого судна, да еще при таком штиле. Если он к тому же сваливает все на морскую болезнь. — «Сваливает»! — воскликнул Гарви. — Уж не кажется ли вам, что я ради забавы прыгнул за борт, чтобы попасть на эту вашу грязную посудину? — Не могу сказать, юноша, потому что не знаю, что вы считаете забавой. Но на вашем месте я бы не стал обзывать лодку, которая благодаря провидению спасла вам жизнь. Во-первых, это неприлично; во-вторых, это обижает лично меня… А я — Диско Троп со шхуны «Мы здесь» из Глостера, что вам, видимо, невдомек. — Я этого не знаю и знать не хочу, — ответил Гарви. — Я благодарен за спасение и все такое прочее, но я хочу, чтобы вы поняли: чем скорее вы доставите меня в Нью-Йорк, тем больше получите. — Это как же так? — Лохматая бровь Тропа взлетела кверху, а в его светло — голубых глазах появилась настороженность. — Получите доллары и центы! — с восторгом ответил Гарви, полагая, что произвел наконец на него впечатление. — Настоящие доллары и центы. — Он сунул руку в карман и немного выпятил живот: он думал, что так выглядит солиднее. — Вы никогда в жизни не заработаете больше, чем в тот день, когда вытащили меня из воды. Я ведь единственный сын Гарви Чейна. — Ему здорово повезло, — сухо заметил Диско. — А если вы не знаете, кто такой Гарви Чейн, то вы невежда, вот и все. А теперь разворачивайте шхуну — и полный вперед. Гарви полагал, что большинство американцев только и говорят о деньгах его отца да завидуют ему. — Может, развернусь, а может, и нет. А пока распустите пояс, молодой человек. Не я ли набил вам живот? До Гарви донесся смешок Дэна, притворявшегося, будто он занимается чем-то возле фок-мачты. Гарви густо покраснел. — За это вам тоже заплатят, — сказал он. — Когда, по-вашему, мы прибудем в Нью-Йорк? — Мне Нью-Йорк ни к чему. Как и Бостон. А в Истерн-Пойнт мы придем где-нибудь в сентябре, а ваш папа — мне очень жаль, но я никогда о нем не слышал, — так он, может, и впрямь раскошелится долларов на десять. Правда, я в этом не уверен. — Десять долларов! Да поглядите сюда, я… — Гарви стал шарить по карманам в поисках денег. Но вынул лишь измятую пачку сигарет. — Странные у вас деньги, да к тому же они вредны для легких. За борт их, юноша, и поищите другие. — Меня обокрали! — закричал Гарви возбужденно. — Значит, вам придется подождать, пока ваш папочка не заплатит. — Сто тридцать четыре доллара… и все украли! — повторял Гарви, беспорядочно шаря по карманам. — Отдайте мои деньги! Суровое лицо старого Тропа приняло странное выражение. — На что вам, в ваши годы, сто тридцать долларов, юноша? — Это часть моих карманных денег… на месяц. — Гарви думал, что теперь-то он по-настоящему поразит старика, и поразил — только по-другому. — О, сто тридцать четыре доллара — это его деньги на расходы. И всего на один месяц! Вы, часом, не стукнулись головой о что-нибудь, когда свалились, а? Может, о пиллерс, а? А то старина Хескен с «Восточного ветра», — Троп, казалось, разговаривал сам с собой, — споткнулся у люка и здорово приложился головой о мачту. Через три недели старина Хескен стал твердить, что «Восточный ветер» — военный корабль, и он объявил войну острову Сейбл-Айленд, принадлежавшему Англии. Рыба, мол, слишком далеко выходит в море… Его упаковали в подматрасник, так что снаружи торчали только голова да ноги. Сейчас у себя дома он забавляется тряпичными куклами. Гарви задохнулся от ярости, а Троп продолжал успокаивающе: — Нам очень вас жаль… Очень жаль… Вы так молоды… Давайте не будем больше говорить о деньгах. — Вы-то не будете, конечно. Вы ведь их и украли. — Ну и ладно. Украли, если вам так угодно. А теперь о возвращении. Если бы мы могли вернуться, а мы вернуться не можем, вам в таком состоянии нельзя показываться дома. К тому же мы пришли сюда, чтобы заработать себе на хлеб. Что до денег, так у нас в месяц и полсотни долларов не бывает. Если нам повезет, то где-нибудь в середине сентября мы пришвартуемся к берегу. — Но… сейчас же только май! И я не могу бездельничать только потому, что вам хочется наловить рыбы. Не могу, слышите? — Вполне справедливо, вполне. А вас и не просят бездельничать. Здесь полно работы, особенно с тех пор, как Отто упал за борт. Это случилось во время шторма, и он не удержался на ногах. Во всяком случае, мы его больше не видели. А вы появились прямо с неба, будто вас само провидение направило. Здесь, скажу я вам, найдется, чем заняться. Ну так как? — Ну и достанется вам и вашей банде, как только мы причалим, — отозвался Гарви, бормоча какие-то угрозы о «пиратстве». А Троп в ответ на это лишь криво усмехнулся. — Только не надо болтать. Я б этого не делал. На борту «Мы здесь» много болтать не положено. Будьте внимательны и делайте все, что скажет вам Дэн, и тому подобное. Я кладу вам — хоть вы этого не стоите — десять с половиной в месяц; значит, тридцать долларов в конце плавания. От работы у вас немного в голове прояснится, а потом вы расскажете нам и о папе, и о маме, и о своих деньгах. — Она на пароходе, — сказал Гарви, и его глаза наполнились слезами. — Немедленно отвезите меня в Нью-Йорк! — Несчастная женщина, несчастная женщина! Но когда вы вернетесь, она все это забудет. Нас на борту восемь человек, и если б нам пришлось вернуться — значит, пройти больше тысячи миль, — мы бы потеряли весь сезон. Команда будет против, даже если бы я и согласился. — Но отец возместит вам убытки! — Может быть. Даже не сомневаюсь в этом, — ответил Троп, — но наш летний улов прокормит восемь человек. Да и вам работа на судне пойдет на пользу. Так что идите-ка и помогите Дэну Значит, десять с половиной долларов в месяц и, конечно, доля от улова наравне с остальными. — Это значит, я должен мыть за всеми посуду и убирать? — воскликнул Гарви. — И не только. Да не повышайте голос, юноша. — Не хочу! Мой отец заплатит вам в десять раз больше, чем стоит эта грязная посудина, — Гарви топнул ногой по палубе, — только ответите меня в Нью-Йорк… И… и… вы у меня и так взяли сто тридцать монет. — Что-о? — Железное лицо Тропа потемнело. — А то, что вам отлично известно. И вы еще хотите, чтобы я до самой осени гнул на вас спину? — Гарви был очень горд своим красноречием. — Нет — вот мое слово! Слышите? Троп некоторое время с пристальным вниманием рассматривал кончик грот-мачты, а Гарви в ярости вертелся вокруг него. — Цыц, — произнес он наконец. — Я соображаю, что беру на себя. Надо принять решение. Дэн подкрался к Гарви и тронул его за локоть. — Не надоедай больше отцу, — тихо попросил он. — Ты уже два или три раза обозвал его вором, а он такого никому не простит. — Отстань! — взвизгнул Гарви, не обращая внимания на совет. Троп все размышлял. — Не по-соседски получается, — сказал он наконец, переводя взгляд на Гарви. — Я вас не виню нисколечко, юноша. И вы не будете на меня в обиде, когда из вас выйдет злость. Поймите, что я вам сказал. Десять с половиной долларов второму юнге на шхуне и часть улова — за науку и за укрепление здоровья. Да или нет? — Нет! — ответил Гарви. — Отправьте меня в Нью-Йорк, или я сделаю так… Он не совсем хорошо помнит, как он растянулся на палубе и почему у него из носа шла кровь. Троп спокойно смотрел на него сверху вниз. — Дэн, — обратился он к сыну, — сначала я плохо подумал об этом юноше, потому что сделал поспешные выводы. Никогда не делай поспешные выводы, Дэн, иначе ошибешься. Сейчас мне его жаль. У него голова явно не в порядке. Не его вина, что он обзывал меня и всякую другую чушь нес и что за борт прыгнул, в чем я почти уверен. Будь с ним помягче, Дэн, иначе получишь больше, чем он. Эти кровопускания прочищают мозги. Троп с важным видом спустился в каюту, где находилась его койка и койки других членов экипажа. А Дэн остался утешать незадачливого наследника тридцати миллионов.
ГЛАВА II
— Я предупреждал тебя, — сказал Дэн. На потемневшую, промасленную обшивку палубы дождем падали тяжелые брызги. — Отец ничего не делает сгоряча, и ты получил по заслугам. Тьфу, да не расстраивайся ты так… Плечи Гарви сотрясались от рыданий. — Я тебя понимаю. Меня отец тоже однажды так уложил. Это случилось, когда я в первый раз вышел на промысел. Сейчас тебе больно и грустно, я — то знаю. — Правда, — простонал Гарви. — Он или спятил, или напился, а я… я ничего не могу поделать. — Не говори так об отце, — прошептал Дэн. — Он в рот не берет спиртного и… ну, в общем, он сказал, что спятил ты. С какой стати ты обозвал его вором? Он мой отец. Гарви сел, утер нос и рассказал о пропавшей пачке денег. — Я не сумасшедший, — закончил он свой рассказ. — Только… Твой отец в жизни не видел долларовой бумажки больше пяти долларов, а мой папа может раз в неделю покупать по такой шхуне, как ваша, и не поморщится. — А знаешь, сколько стоит «Мы здесь»? У твоего папаши, наверно, куча денег. Где он их взял? — В шахтах, где добывают золото, и в других местах на Западе. — Я об этом читал. Значит, на Западе? У него тоже есть пистоль и он ездит верхом, как в цирке? Это называется Дикий Запад, и я слышал, будто у них шпоры и уздечка из сплошного серебра. — Вот дурак! — невольно рассмеялся Гарви. — Моему отцу лошади не нужны. Он ездит в вагоне. — На чем? — В вагоне. Собственном, конечно. Ты хоть раз видел салон-вагон? — Да, у Слэтина Бимена, — сказал он осторожно. — Я видел его в Бостоне, когда три негра начищали его до блеска. — Но Слэтин Бимен, он же владелец почти всех железных дорог в Лонг-Айленде. Говорят, он скупил почти половину Нью-Гэмпшира и огородил его и напустил туда львов, и тигров, и медведей, и буйволов, и крокодилов, и всякого другого зверья. Но Слэтин Бимен — миллионер. Его вагон я видел. Ну? — Ну, а моего папу называют мультимиллионером, и у него два собственных вагона. Один назвали, как меня — «Гарви», а другой, как маму — «Констанс». — Постой, — сказал Дэн. — Отец не разрешает мне давать клятвы, но тебе, наверно, можно. Поклянись: «Умереть мне на месте, если я вру». — Конечно, — сказал Гарви. — Так не пойдет. Скажи: «Умереть мне на месте, если я вру». — Умереть мне на месте, — сказал Гарви, — если хоть одно слово из того, что я сказал — неправда. — И сто тридцать четыре доллара тоже? — спросил Дэн. — Я слышал, что ты говорил отцу. Гарви густо покраснел. Дэн был по-своему толковым парнем, и за эти десять минут он убедился, что Гарви ему не лгал, почти не лгал. К тому же он произнес самую страшную для мальчика клятву, и вот сидит перед ним живой и невредимый с покрасневшим носом и рассказывает о всяких чудесах. — Ух ты! — воскликнул изумленный Дэн, когда Гарви закончил перечислять всякие штучки, которыми набит вагон, названный в его честь. На его скуластом лице расплылась озорная, восторженная улыбка. — Я верю тебе, Гарви. А отец на сей раз ошибся. — Это уж точно, — заметил Гарви, подумывая о том, как бы ему отомстить. — Ну и взбесится же он! Страсть как не любит ошибаться. — Он лег на спину и хлопнул себя по бедрам. — Только смотри, Гарви, не выдай меня. — Я не хочу, чтобы меня снова поколотили, но я с ним рассчитаюсь. — Еще никому не удавалось рассчитаться с отцом. А тебе он еще задаст трепку. Чем больше он ошибся, тем хуже для тебя. Но эти золотые шахты и пистоли… — Я ничего не говорил о пистолетах, — прервал его Гарви: ведь он дал клятву. — Верно, не говорил. Значит, два собственных вагона, один назван, как ты, а другой — как она; двести долларов в месяц на расходы — и ты получил по носу за то, что не хочешь работать за десять с половиной долларов в месяц! Ну и улов у нас нынче! — И он залился беззвучным смехом. — Значит, я прав? — спросил Гарви, так как ему показалось, что Дэн на его стороне. — Ты неправ. Ты совсем по-настоящему неправ! Ты лучше держись ко мне поближе и не отставай, не то снова получишь, да и мне перепадет за то, что я — за тебя. Отец всегда выдает мне двойную порцию, потому что я его сын, и он терпеть не может поблажек. Ты, наверно, страсть как злишься на него. На меня тоже, бывало, находило такое. Но отец — самый справедливый человек на свете. Все рыбаки это знают. — И это, по-твоему, справедливо? Да? — указал Гарви на свой распухший нос. — Это ерунда. Из тебя выйдет сухопутная кровь. Это для твоей же пользы. Только послушай, я не хочу иметь дела с человеком, который считает меня, или отца, или кого другого на борту «Мы здесь» вором. Мы не из таких, кто бьет баклуши на пристани, ничего с ними общего. Мы — рыбаки и ходим вместе в море больше шести лет. Крепко-накрепко запомни это! Я говорил, что отец не разрешает мне божиться. Он говорит, что это богохульство, и лупцует меня. Но если бы я мог поклясться, как ты про своего папашу, я бы поклялся насчет твоих пропавших долларов. Не знаю, что у тебя было в карманах, я в них не рылся, когда сушил твою одежду. Но, поверь, ни я, ни мой отец — а с тех пор как тебя вытащили, только мы с ним и толковали с тобой — ничегошеньки не знаем о твоих деньгах. Вот и все, что я хотел сказать. Ну как? Кровопускание определенно прочистило Гарви мозги. А может, это пустынное море так подействовало на него. Во всяком случае, он смущенно сказал: — Ну ладно. Похоже, что я оказался не слишком благодарным за спасение, Дэн. — Ты был расстроен и вел себя глупо, — ответил Дэн. — Но, кроме нас с отцом, никто этого не видел. Кок не в счет. — Как это я не подумал, что деньги могли потеряться, — пробормотал Гарви как бы про себя, — а стал называть всех подряд ворами… Где твой отец? — В рубке. Что тебе теперь от него надо? — Увидишь, — сказал Гарви, встал и пошел, пошатываясь, к ступеням рубки, окрашенной изнутри в желто-шоколадный цвет. Недалеко от штурвала, над которым висели судовые часы, сидел Троп, держа в руках блокнот и огромный черный карандаш, который он время от времени усердно слюнявил. — Я не совсем хорошо себя вел, — сказал Гарви, удивляясь собственной робости. — Что еще стряслось? — спросил шкипер. — Стакнулся с Дэном? — Нет, я насчет вас. — Ну, слушаю. — Так вот, я… я хочу взять свои слова обратно, — быстро проговорил Гарви. — Тех, кто спасает тебя от смерти… — Он проглотил слюну. — А? Если так пойдет дальше, из вас получится человек. — …нельзя обзывать по-всякому, — закончил Гарви. — Правильно говорите, правильно. — Троп сдержанно улыбнулся. — Вот я и пришел извиниться. Троп медленно и тяжело поднялся с рундука, на котором сидел, и протянул ему ладонь в одиннадцать дюймов шириной. — Я полагал, что вам это очень пойдет на пользу, и вижу, что не ошибся. — С палубы донесся приглушенный смешок. — Я очень редко ошибаюсь в людях. — Огромная ладонь поглотила руку Гарви почти до локтя. — Мы малость поработаем над вами, прежде чем расстанемся, юноша. И я не держу против вас зла — что было, то прошло. Не ваша в том вина. Ну, а сейчас — за дело, и не обижайся. — Отец тебя признал, — сказал Дэн, когда Гарви выбрался на палубу. — Как это так? — удивился Гарви, щеки которого горели от возбуждения. — Ну, значит, он тебя оправдал. Но раз отец говорит, что не держит зла, значит, он попался. Страсть как не любит ошибаться. Хо, хо! Стоит отцу принять решение, и он скорее спустит флаг перед британцами, чем изменит решение. Я рад, что все уладилось. Отец прав, когда говорит, что не может отвезти тебя. Ведь мы одной рыбой и живем. Через полчаса весь экипаж будет мчаться сюда, как акулы к дохлому киту. — Почему? — спросил Гарви. — Чтобы поесть, конечно. Разве твой желудок не говорит, что пора ужинать? Тебе еще многому надо поучиться. — Это уж точно, — печально произнес Гарви, глядя на переплетение снастей над головой. — Шхуна у нас первый сорт, — с энтузиазмом отозвался Дэн, неправильно истолковав его взгляд. — Посмотришь, как она понесется с поднятым гротом, когда наполнится трюм. Правда, сначала нам придется изрядно потрудиться. — И он указал на люк, черневший между двумя мачтами. — А это для чего? Там же пусто, — отозвался Гарви. — Нам с тобой да еще кое-кому надо его наполнить, — ответил Дэн. — Туда сваливается рыба. — Живая? — удивился Гарви. — Ну, не совсем. Она к тому времени будет уже довольно мертвая, без внутренностей и соленая. У нас сто бочек соли, а мы еще и дна не покрыли. — А где же рыба? — Пока в воде, а лучше бы в лодке на дне, — ответил Дэн рыбацкой поговоркой. — Вместе с тобой вчера вечером выловили штук сорок. — Он указал на деревянный ларь на корме. — Когда рыбу разделают, нам с тобой придется его продраить. Сегодня лари, наверно, будут полные! Бывало, что шхуна оседала от рыбы на полфута! Мы с ног валились — так много ее привозили. А вот и они возвращаются. — Дэн поглядел поверх невысокого фальшборта туда, где по сверкающей глади океана к шхуне подгребали полдюжины лодок. — Я ни разу не был так близок от волн, — сказал Гарви. — Океан отсюда красивый. Заходящее солнце окрашивало воду в пурпурные и розоватые тона, и только на гребнях невысоких и длинных валов играли золотистые блики, а впадины между ними отдавали цветом сине-зеленой макрели. Шхуны, сколько их было, казалось, подтягивали к себе свои лодки невидимыми нитями, а крошечные темные фигурки в лодчонках двигались будто заводные. — Кажется, им повезло, — сказал Дэн, глядя на них прищуренными глазами. — У Мануэля рыбы столько, что он осел, как кувшинка в воде, правда? — А где Мануэль? Понять не могу, как ты различаешь их с такого расстояния. — Последняя лодка в южном направлении. Это он тебя спас вчера… — ответил Дэн, указывая на лодку. — Мануэль гребет по-португальски. Его ни с кем не спутаешь. Восточнее его — этот парень гребет куда лучше — идет пенсильванец. А еще восточнее — видишь, как красиво они вытянулись, — гребет Длинный Джек с мощными плечами. Он из Южного Бостона и, как все его жители, хороший гребец. А подальше к северу идет Том Плэтт. Сейчас услышишь, как он напевает. Он служил в военно-морском флоте на фрегате «Огайо». Говорит, что этот корабль первым у нас на флоте обогнул мыс Горн. Он только и знает, что рассказывать о службе — когда не поет, правда, — и ему сегодня улов привалил. Вот, слышишь? С лодки, что была севернее, через водный простор до них донеслась песня, в которой говорилось о чьих-то холодных руках и ногах. А потом шли такие слова:Достань карту, печальную карту, Посмотри, где сходятся эти горы! Их вершины затянуты тучами, А подножье окутано туманом.— У него полно рыбы! — радостно воскликнул Дэн. — Раз он поет «капитан», значит, его лодка полна. А громкий голос продолжал:
Я обращаюсь к тебе, капитан, Я умоляю тебя, Чтоб меня не схоронили Ни в церкви, ни в сером монастыре.— Ох уж этот Том Плэтт! Завтра он тебе порасскажет о старом «Огайо». Видишь синюю лодку позади него? Это мой дядя, родной брат отца. Дядя Солтерс ужасно невезучий. Посмотри, как осторожно он гребет. Готов заложить все, что заработаю, и свою долю в придачу, что его одного сегодня обложило сыпью. И, наверно, здорово. — Сыпью? От чего? — спросил с интересом Гарви. — Скорее всего, от клубники. А еще бывает от оладьев или от лимонов и огурцов. Его обложило с ног до головы. До того ему не везет, прямо жуть! Ну, а сейчас за дело: будем их поднимать. Это верно, что ты никогда в жизни ни к чему рук не прикладывал? Тебе, должно быть, страшно, да? — Я все равно попробую работать, — решительно ответил Гарви. — Только все это для меня новое. — Тогда возьми-ка вон ту снасть. Да позади тебя! Гарви схватил веревку с длинным металлическим крюком на конце, которая свисала с грот-мачты, а Дэн потянул за другую, висевшую на том, что Дэн называл «подъемником». Тем временем к шхуне подошла доверху нагруженная лодка Мануэля. Португалец улыбнулся своей яркой улыбкой, которую Гарви хорошо узнал позднее, и короткими вилами стал перебрасывать рыбу в стоявший на палубе ларь. — Подай ему крюк, — сказал Дэн, и Гарви сунул крюк Мануэлю в руки. Тот продел его в веревочную петлю на носу лодки, подхватил веревку Дэна, закрепил ее на корме и вскарабкался на шхуну. — Тяни! — закричал Дэн, и Гарви потянул, удивившись, как легко поднимается лодка. — Держи! Это тебе не птичка в гнезде, — рассмеялся Дэн. Гарви крепко уцепился за веревку, потому что лодка висела у него прямо над головой. — Опускай! — скомандовал Дэн. Гарви стал опускать лодку, а Дэн одной рукой отвел ее в сторону, и она мягко села позади грот-мачты. — Порожняя, она легче легкого. Это хорошо, когда она на шхуне. А вот в открытом море с ней не так легко сладить. — Ага! — произнес Мануэль, протягивая коричневую руку. — Ты уже совсем хорошо? Вчера в это время на тебя охотилась рыба. А сегодня за рыбой охотишься ты. А? Что? — Я… я вам очень благодарен, — запинаясь, сказал Гарви. Его рука невольно потянулась к карману, но он вовремя вспомнил, что денег у него нет. Позднее, когда он узнал Мануэля получше, от одной мысли, какую ошибку он мог совершить, он густо краснел, лежа на своей койке. — Ты меня не надо благодарить! — ответил Мануэль — Не мог же я допустить, чтобы тебя носило по всему морю. А теперь ты рыбак. А что? О-хо-хо! — Он стал сгибаться вперед и назад, чтобы размяться. — Я сегодня лодку не мыл. Слишком был занят. Рыба так и шла… Дэнни, сынок, помой за меня. Гарви туг же шагнул вперед: он хоть чем-то может помочь человеку, спасшему ему жизнь. Дэн бросил ему швабру, и он стал неловко, но старательно смывать грязь. — Вынь упоры для ног. Они ходят в этих прорезях, — подсказал ему Дэн. — Протри их и поставь на место. Они никогда не должны заедать. Когда-нибудь сам узнаешь почему. А вот и Длинный Джек. Из приставшей к шхуне лодки в ларь полетел поток сверкающей рыбы. — Мануэль, берись за снасть. Я поставлю столы. Гарви, почисть лодку Мануэля. В нее войдет лодка Длинного Джека. Гарви поднял голову и увидел над собой днище лодки Джека. — Прямо как в индейской игрушке, правда? — сказал Дэн, когда одна лодка вошла в другую. — Как рука в перчатку, — заметил ирландец Длинный Джек, сгибаясь вперед и назад, как до него это делал Мануэль. Из рубки послышалось ворчанье Диско, и он стал звучно слюнявить карандаш. — Сто сорок пять с половиной. Не везет тебе, Дискобол! — крикнул Длинный Джек. — Я из кожи вон лезу, чтобы набить твои карманы. Так и пиши — улов никудышный, португалец обошел меня. В борт ткнулась еще одна лодка, и снова в ларь полетела рыба. — Двести три! А ну-ка посмотрим на пассажира! — Это сказал рыбак роста еще большего, нежели ирландец. Розовый шрам, пересекавший его лицо наискосок от левого глаза до правого уголка рта, придавал ему странное выражение. Не зная, что еще делать, Гарви швабрил каждую новую лодку, вынимал упоры для ног и клал их на дно лодки. — Что ж, неплохо, — сказал человек со шрамом, которого звали Том Плэтт и который следил за работой Гарви. — Все можно делать двумя способами: по-рыбацки или… — …как мы это делали на старом «Огайо», — подхватил Дэн и двинулся на рыбаков, таща за собой длинную доску на ножках. — Посторонись, Том Плэтт, и дай мне установить столы. Он загнал один конец доски в прорези фальшборта, выпрямил ножку и едва увернулся от затрещины, которой хотел его наградить бывший военный моряк. — На «Огайо» это тоже умели делать, Дэнни. Понял? — рассмеялся Том Плэтт. — Но не очень-то ловко, потому что кое-кто промазал, и если он не оставит нас в покое, его башмаки окажутся на мачте. — Полный вперед! Не видишь, я занят? — Дэнни, да ты целыми днями дрыхнешь на канатах, — отозвался Длинный Джек. — И нахальнее тебя нет мальчишки на свете. Бьюсь об заклад, что ты испортишь нашего пассажира за неделю. — Его зовут Гарви, — сказал Дэн, размахивая двумя причудливо выгнутыми ножами, — и очень скоро он будет стоить пятерых салаг из Южного Бостона. — Он аккуратно положил ножи на стол, склонил голову набок и стал любоваться произведенным эффектом. — По-моему, сорок две, — раздался за бортом тонкий голос, и на шхуне все покатились со смеху, когда другой голос ответил: — Значит, мне наконец повезло, потому что у меня сорок пять, хоть меня опять всего обложило до невозможности. — Сорок две, а может, сорок пять. Я сбился со счета, — произнес тонкий голос. — Это Пенн и дядюшка Солтерс считают рыбу. С ними не соскучишься, — сказал Дэн. — Только погляди на них! — Поднимайтесь, поднимайтесь, детки! — проревел Длинный Джек. — Там ведь внизу сыро. — Ты сказал — сорок две. — Это говорил дядюшка Солтерс. — Тогда я пересчитаю снова, — робко ответил тонкий голос. Обе лодки сильно накренились и стукнулись о борт шхуны. — О господи! — воскликнул Солтерс, отгребая назад. — Понять не могу, что заставило этого фермера пойти в рыбаки… Ты чуть меня не перевернул. — Простите, мистер Солтерс. Я вышел в море из-за нервного расстройства. Причем по вашему же совету. — Ни дна тебе, ни покрышки с этим расстройством! — возмущенно вопил толстый коротышка дядюшка Солтерс — Ты опять на меня лезешь! Так сколько ты сказал: сорок две или сорок пять? — Забыл, мистер Солтерс. Давайте пересчитаем снова. — Сорока пяти быть не может. Это у меня сорок пять, — продолжал дядя Солтерс — Считай повнимательней, Пенн. Из рубки вышел Диско Троп. — Солтерс, немедленно перебрось рыбу на шхуну! — приказал он строго. — Пап, не мешай, — сказал тихо Дэн. — Они только начали. — Боже правый! Да он накалывает их по одной! — завопил Длинный Джек, когда дядюшка Солтерс энергично приступил к работе. Человек в другой лодке тщательно пересчитал зарубки на планшире. — Это за прошлую неделю, — сказал он, жалобно глядя вверх и держа палец там, где кончил считать. Мануэль подтолкнул Дэна, и тот бросился за снастью, перегнулся через борт и продел крюк в петлю на корме лодки, а в этот момент Мануэль резко подал ее вперед. Остальные поднатужились и вытащили лодку на борт вместе со всем ее содержимым. — Одна, две… четыре… девять, — быстро считал Том Плэтт. — Сорок семь. Молодец, Пенн! — Дэн отпустил свой конец, и незадачливый рыбак тут же оказался в ларе вместе со своей рыбой. — Держите! — ревел дядюшка Солтерс, неловко приседая. — Держите, я не успел сосчитать свою! Но с ним поступили точно так же, как с пенсильванцем. — Сорок одна, — произнес Том Плэтт. — Фермер обошел тебя, Солтерс. Такого моряка! — Ты неверно считал, — ворчал тот, выбираясь из ларя, — к тому же меня всего обложило сыпью. Его пухлые руки были все в волдырях. — Ради клубники кое-кто готов нырнуть на дно морское, — заметил Дэн, обращаясь к молодому месяцу. — А кое-кто, — отозвался дядя Солтерс, — бьет баклуши и насмешничает над своей родней. — По местам, по местам! — послышался незнакомый Гарви голос, и Диско Троп, Том Плэтт и Солтерс, не мешкая, отправились на бак. Маленький Пенн принялся распутывать свою рыболовную снасть, а Мануэль растянулся во весь рост на палубе. Дэн опустился в трюм, и Гарви услышал, как он колотит молотком по бочкам. — Соль, — сказал он, поднявшись на палубу. — Сразу после ужина примемся за разделку. Ты будешь помогать отцу. Отец работает на пару с Томом Плэттом, и ты услышишь, как они спорят. Мы поедим во вторую очередь: ты, я, Мануэль и Пенн — молодость и красота шхуны. — Это почему же? — возразил Гарви. — Я голоден. — Они закончат через минуту. Дух какой приятный. Отец хорошего кока держит, а вот с братцем ему морока. Хороший сегодня улов, правда? — Он показал на груды трески в ларях. — По какой воде ты шел, Мануэль? — Двадцать пять сажен, — ответил португалец сонным голосом. — Рыба шла хорошо и быстро. Когда-нибудь покажу тебе, Гарви. Луна уже начала свое шествие по спокойной воде, когда старшие члены экипажа вышли на корму. Коку не пришлось звать «вторую смену». Дэн и Мануэль оказались за столом прежде, чем Том Плэтт, последний и самый неторопливый из старших, успел обтереть губы тыльной стороной ладони. Гарви пришел вслед за Пенном и сел за стол. Перед ним стояла оловянная миска с языками и плавательными пузырями трески, перемешанными с кусочками свинины и жареным картофелем, черный и крепкий кофе и лежал ломоть еще горячего хлеба. Несмотря на голод, они подождали, пока пенсильванец произнесет короткую молитву. Затем все молча набросились на еду. Наконец Дэн перевел дух и поинтересовался, голоден ли еще Гарви. — Сыт по горло, но все же место еще для одного кусочка найдется. Коком на борту шхуны служил громадный иссиня-черный негр. В отличие от негров, которых знал Гарви, он большей частью молчал и жестами предлагал поесть еще. — Слушай, Гарви, — сказал Дэн, постукивая вилкой по столу, — вот я и говорю: молодые и красивые мужчины, как я, и Пенней, и ты, и Мануэль, мы вторая смена. Мы едим, когда закончит первая. Они, старые кашалоты, подлые и нудные, и им надо ублажать свои желудки. Вот они и едят первыми, чего не заслуживают. Верно ведь, доктор? Кок кивнул. — Он умеет разговаривать? — спросил Гарви шепотом. — По-нашему чуть-чуть. Говорит на каком-то чудном, непонятном языке. Там, где он живет, на острове Кейп-Бретон, фермеры разговаривают на самодельном шотландском. Там полно негров, родители которых сбежали во время войны, и они все говорят, будто чавкают. — Это не по-шотландски, — вмешался пенсильванец. — Это гаэльский. Так сказано в книжке. — Пенн много читает. И он почти всегда говорит правду…, когда дело не касается рыбы, а? — Твой отец верит им на слово и не пересчитывает улов? — Ну конечно. Стоит ли врать ради нескольких рыбок? — А я знал одного, который все время врал, — вставил Мануэль. — Каждый день врал. Прибавлял по пять, десять, а то и двадцать пять рыб в улов. — Где же это было? — удивился Дэн. — Среди наших такого не водится. — Француз. — А-а! Эти французы с западного берега, они и считать толком не умеют. Коль попадется тебе один из них, Гарви, сам узнаешь почему, — сказал Дэн с выражением крайнего презрения. Всегда больше, никогда меньше, Всякий раз, когда начинаем разделывать! Это Длинный Джек проревел в люк, и «вторая смена» тут же вскочила на ноги. В лунном свете тени мачт и снастей с никогда не убиравшимся новым парусом ходили взад и вперед по вздымавшейся палубе, а груда рыбы на корме блестела, как гора жидкого серебра. Из трюма, где Диско Троп и Том Плэтт расхаживали между соляных бочек, раздавался топот и громыханье. Дэн дал Гарви вилы и подвел его к грубому столу со стороны, ближней к борту, где дядюшка Солтерс нетерпеливо постукивал черенком ножа по столу. У его ног стояла бадья с соленой водой. — Ты подавай отцу и Тому Плэтту через люк и смотри, чтобы дядюшка Солтерс не выколол тебе ножом глаз, — сказал Дэн и полез в трюм. — Я буду подавать соль снизу. Пенн и Мануэль стояли в ларе по колено в рыбе, размахивая своими ножами. Длинный Джек в варежках и с корзиной, стоявшей у его ног, находился по другую сторону стола, напротив дядюшки Солтерса. Гарви же не сводил глаз со своих вил и бадьи с водой. — Эй! — воскликнул Мануэль, наклонился и подхватил рыбину, продев один палец в жабры, а другой — в глаз. Он положил ее на край ларя, сверкающее лезвие ножа со звуком рвущегося полотна рассекло ее вдоль, от головы до хвоста, и рыба с двумя зарубками с каждой стороны шеи шлепнулась к ногам Длинного Джека. — Эй! — воскликнул Длинный Джек, и его рука в варежке загребла печень трески и бросила ее в корзину. Еще один поворот и гребок, и в сторону полетели голова и потроха, а выпотрошенная рыба скользнула через стол к свирепо пыхтевшему дядюшке Солтерсу. Снова раздался звук рвущегося полотна, через борт полетел хребет, и рыба, без головы и внутренностей, плеснулась в бадью, обдав стоявшего рядом с открытым ртом Гарви брызгами соленой воды. Мужчины теперь работали молча. Треска двигалась будто живая, и не успел Гарви, пораженный этой удивительной ловкостью, прийти в себя, как бадья оказалась полной доверху. — Подавай! — прорычал дядюшка Солтерс, не поворачивая головы, и Гарви подхватил вилами две или три рыбины и бросил их в люк. — Эй! Подавай кучей! — закричал Дэн. — Не разбрасывай! Дядя Солтерс лучший потрошитель из всех. Смотри, он как книгу режет. И в самом деле, казалось, будто толстый дядюшка Солтерс соревнуется в скорости разрезания журнальных страниц. Согнувшийся в три погибели Мануэль стоял неподвижно, как статуя, только его длинные руки безостановочно хватали рыбу. Малышка Пенн трудился отважно, но было видно, что ему не хватало сил. Раз или два Мануэль ухитрялся выручать его, не переставая подбрасывать рыбу. А один раз он громко вскрикнул, когда наколол палец о французский крючок. Эти крючки делаются из мягкого металла, чтобы потом их можно было разогнуть. Но треска очень часто обрывает крючок и попадается на другой. Это одна из многих причин, по которой рыбаки презирают французов. Внизу в трюме скрежещущий звук от трения крупной соли о рыбью чешую напоминал жужжание точильного камня. На этом неумолчном фоне раздавались перестук ножей в ларе, звук отворачиваемых голов, шлепанье печени и потрохов, треск ножа дяди Солтерса, выдирающего хребты, и хлюпанье мокрых, разделанных рыбьих тушек, падающих в бадью. Час спустя Гарви отдал бывсе на свете за то, чтобы отдохнуть. Ведь мокрая треска весит больше, чем можно себе представить, и от непривычной работы у Гарви ужасно разболелась спина. Но он в первый раз в жизни почувствовал, что работает вместе с другими, стал гордиться собой и продолжал молча трудиться. — Нож! — закричал наконец дядя Солтерс. Пенн, задыхаясь, согнулся пополам среди рыбы, Мануэль стал наклоняться взад и вперед, чтобы размяться, а Длинный Джек перегнулся через фальшборт. Появился кок, бесшумный, как черная тень; он собрал массу костей и голов и удалился. — На завтрак потроха и похлебка из голов! — зачмокал Длинный Джек. — Нож! — повторил дядюшка Солтерс, размахивая плоским изогнутым оружием потрошителя. Гарви увидел несколько ножей, торчащих возле люка. Он принес их, а тупые убрал. — Воды! — потребовал Диско Троп. — Бачок с питьевой водой на носу, рядом ковшик. Поторопись, Гарв, — сказал Дэн. Гарви возвратился через минуту с полным ковшом застоявшейся коричневой воды, показавшейся ему вкуснее нектара и развязавшей языки Диско и Тома Плэтта. — Это — треска, — говорил Диско. — Это тебе не финики из Дамаска, Том Плэтт, и не бруски серебра. Я твержу это тебе с тех пор, как мы вместе вышли в море. — Значит, уже семь лет, — спокойно отозвался Том Плэтт. — Все равно укладывать груз в трюме надо правильно. Если бы ты когда-нибудь видел, как укладывают четыреста тонн железа в… — Эй! — раздался клич Мануэля, и работа закипела снова и продолжалась до тех пор, пока ларь не опустел. Как только последняя рыба отправилась вниз, Диско Троп со своим братом потопали на корму в рубку; Мануэль и Длинный Джек пошли на нос; Том Плэтт ждал лишь, пока можно будет задраить люк, и потом тоже исчез. Через полминуты из рубки донесся громкий храп, и, ничего не понимая, Гарви уставился на Дэна и Пенна. — На сей раз у меня вышло получше, Дэнни, — сказал Пенн, глаза которого слипались от сна. — Но мне кажется, мой долг — помочь с уборкой. — До чего же ты сознательный, прямо страсть, — ответил Дэн. — Отправляйся спать, Пэнн. Нечего тебе выполнять работу юнг. Набери в ведро воды, Гарви. О Пенн, пока ты не уснул, вывали это в бачок для потрохов. Столько-то ты сможешь продержаться? Пенн поднял тяжелую корзину с рыбьей печенью и вывалил ее содержимое в бачок с откидным верхом, прикрепленный у носового кубрика. Затем он тоже исчез в кубрике. — После разделки рыбы у нас на «Мы здесь» юнги занимаются уборкой, а если море спокойное, они же и несут первую вахту. Дэн стал энергично драить ларь; разобрал стол, поставил его сушиться при свете луны, начисто вытер красные лезвия ножей и начал точить их о небольшой камень. Под его руководством Гарви стал бросать за борт остатки потрохов и рыбьих костей. С первым всплеском из маслянистой воды выросло серебристо-белое чудище и издало жуткий свистящий вздох. Гарви вскрикнул и отпрянул назад, а Дэн лишь рассмеялся. — Дельфин, — пояснил он. — Просит рыбьих голов. Они всегда становятся стоймя, когда хотят есть. А пахнет от него, как от покойника, правда? Ужасным зловонием тухлой рыбы пахнуло на них, когда белый столб погрузился в забурлившую воду. — Неужто ты никогда не видел, как дельфины стоят? Здесь их тьма-тьмущая. Знаешь, здорово, что на борту есть еще один юнга! Отто был слишком стар, да к тому же он был голландец. Мы с ним часто воевали. Но это все ничего. Вот язык у него был не христианский… Спишь? — Страшно хочу, — ответил Гарви и клюнул носом. — На вахте спать нельзя. Встряхнись и погляди, ярко ли горит наш кормовой фонарь. Ты на вахте, Гарви. — Тьфу! Да кругом ни души. И светло как днем. Хррр… — Вот тогда-то и приходит беда, говорит отец. Стоит всем уснуть, и какой-нибудь пассажирский пароход в два счета рассечет тебя пополам, а потом семнадцать блестящих офицеров, все джентльмены, будут клясться, что огни твои не горели и что был густой туман… Гарв, ты неплохой парень, но если ты клюнешь носом еще; раз, тебе от меня перепадет концами! Луна, которой всякое доводилось видеть на Большой Отмели, взирала с высоты на стройного юношу в гольфах и красной куртке, который бродил по заставленной палубе семидесятитонной шхуны, а позади него, размахивая завязанной узлами веревкой, шел с видом палача другой мальчик, который отчаянно зевал и награждал первого хлесткими ударами. Привязанный штурвал стонал и мягко постукивал; косой парус едва слышно хлопал при перемене легкого ветерка, брашпиль поскрипывал, а странная процессия продолжала свое шествие. Гарви увещевал, угрожал, ныл и наконец откровенно разрыдался, а Дэн заплетающимся языком твердил о красоте несения вахты и щелкал концом веревки, попадая то по лодкам, то по Гарви. Наконец часы в кубрике пробили десять, и с десятым ударом на палубу выполз коротышка Пенн. Перед ним на главном люке, сжавшись двумя комочками рядом друг с другом, лежали оба юнги и так крепко спали, что ему пришлось тащить их на себе к койкам.
ГЛАВА III
Глубокий сон в сорок саженей очищает душу, взор и сердце, он к тому же развивает волчий аппетит. Они опустошили большую оловянную миску сочных кусочков рыбы, которые кок подобрал накануне вечером. Они вымыли посуду после старших, уже ушедших на рыбалку, порезали свинину на обед, продраили носовую часть шхуны, залили фонари, натаскали угля и воды для камбуза и разведали носовой трюм, где хранились судовые припасы. День был чудесный — тихий, мягкий и чистый, и Гарви полной грудью вдыхал морской воздух. За ночь подошли новые шхуны, и голубой простор был испещрен парусами и лодками. Далеко на горизонте невидимый пассажирский пароход смазывал голубизну своим дымом, а на востоке брамсели большого парусника высекли в ней белый квадрат. Диско Троп курил на крыше рубки, поглядывая то на рыбачьи суда, то на флажок на грот-мачте. — Когда отец такой, — прошептал Дэн, — значит, он задумал что-то важное. Готов заложить свои деньги и долю, что мы скоро выйдем на место. Отец знает треску, и всем рыбакам это известно. Видишь, как они подтягиваются один за другим, будто между прочим, а сами так и норовят оказаться возле нас. Вон «Принц Бебу» из Чатама; он прошлой ночью подкрался. А та большая шхуна с заплатой на фоке и с новым кливером? Это «Керри Питмен» из Западного Чатама. Если ей будет так же не везти, как в прошлом году, ее парус долго не продержится. Она все больше дрейфует. Ее никакой якорь не удержит… Когда отец пускает такие маленькие кольца — значит, он изучает рыбу. Если с ним сейчас заговорить, он разъярится. Как-то я попробовал, и он запустил в меня башмаком. Диско Троп уставился отсутствующим взглядом вперед, закусив трубку зубами. Как сказал его сын, он изучал рыбу: свои знания и опыт он ставил против инстинктов рыбы, ходившей косяками в родной морской среде. Присутствие любопытных шхун на горизонте он воспринимал как признание своих способностей. Получив этот комплимент, он хотел ото всех скрыться и бросить якорь в одиночестве, пока не придет время идти к отмели Вирджин и рыбачить на улицах шумного города, который раскинется на воде. Диско Троп размышлял о погоде, ветрах, течениях, пропитании и о других заботах, как если бы он сам был двадцатифунтовой рыбиной. На этот час он фактически сам превратился в треску и стал удивительно похож на нее. Затем он вынул трубку изо рта. — Пап, — сказал Дэн, — мы все сделали. Можно немного за борт? Рыбалка сейчас отличная. — Только не в вишневой куртке, да и не в этих коричневых башмаках. Дай ему что-нибудь подходящее. — Отец доволен — значит, все в порядке, — обрадовался Дэн, волоча Гарви за собой в кубрик. Он стал рыться в шкафчике, и не прошло и трех минут, как Гарви был одет в облачение рыбака: резиновые сапоги, достигавшие ему до половины бедра, толстую синюю шерстяную куртку, штопанную и перештопанную на локтях, пару «клещей» и зюйдвестку. — Ну вот, теперь ты на что-то похож, — сказал Дэн. — Пошевеливайся! — Далеко не уходите! — сказал Троп. — И не подходите к шхунам. Если вас спросят, что я замышляю, говорите правду, потому что вы действительно ничего не знаете. За кормой шхуны лежала небольшая красная лодка с названием «Хэтти С.» на борту. Дэн подтянулся на фалине и мягко опустился в лодку; за ним неуклюже последовал Гарви. — Так в лодку забираться нельзя, — поучал его Дэн. — При небольшой волне пойдешь прямехонько на дно. Расчет должен быть точный. Дэн наладил уключины, сел на переднюю банку и стал наблюдать за Гарви. Мальчику доводилось грести — по-женски — у себя дома на Адиронакских прудах. Но хорошо отлаженные уключины и легкие весла прогулочной лодки — это не то что скрипящие в своих гнездах восьмифутовые морские весла. Они застревали в легкой волне, и Гарви заворчал. — Короче! Греби короче! — командовал Дэн. — Если при волне весло у тебя застрянет, пиши пропало — лодка перевернется. Какая она прелесть, правда? Моя ведь. Лодчонка была безупречно чистой. На носу лежали небольшой якорь, два кувшина воды и около семидесяти саженей тонкого коричневого линя. За планкой ниже правой руки Гарви торчал оловянный рожок, которым созывают на обед; здесь же находился большой уродливый молот, короткая острога и еще более короткая деревянная палка. Возле планшира на квадратные бобины были аккуратно намотаны две лески с тяжелыми грузилами и двойными тресковыми крючками. — А где парус и мачта? — спросил Гарви, потому что на его руках стали появляться мозоли. Дэн усмехнулся. — Рыбацкие лодки не ходят под парусом. Тут приходится грести. Только не надо так стараться. Ты бы хотел иметь такую лодку? — Если я захочу, отец может подарить мне одну, а то и две, — ответил Гарви. До сих пор он был слишком занят, чтобы вспоминать о своей семье. — Верно. Я забыл, что твой отец миллионер. Ты ведешь себя сейчас не как миллионер. Но такая лодка, и оборудование, и снасть… — Дэн говорил так, будто речь шла о китобойном судне, — все это стоит уйму денег. Думаешь, он подарил бы тебе ее… ну просто так? — Не сомневаюсь. Это, наверно, единственное, чего я у него не просил. — Дороговато же ты обходишься семье… Не тяни весло, Гарви. Короче надо, в этом вся штука, а то море, оно всегда волнуется, и волна может… Трах! Валек весла ударил Гарви под подбородок, и он повалился навзничь. — Я как раз это и хотел сказать. Мне тоже пришлось учиться, но мне еще тогда восьми не было. Гарви снова забрался на банку. Челюсть у него болела, и он хмурился. — На вещи нечего сердиться, говорит отец. Твоя вина, если не умеешь с ними обращаться, говорит он. Давай попробуем здесь. Мануэль даст нам глубину. Лодка португальца раскачивалась в миле от них, но когда Дэн поднял кверху весло, он трижды взмахнул левой рукой. — Тридцать саженей, — сказал Дэн, насаживая на крючок моллюска. — Хватит о богачах! Насаживай, как я, Гарв, но смотри не запутай леску. Леска Дэна уже давно была в воде, а Гарви все старался постигнуть таинство насадки, и наконец он выбросил за борт грузило. Лодка перешла в плавный дрейф. Якорь они не бросили, пока не убедились, что место выбрано удачное. — Есть одна! — закричал Дэн.
Плечи Гарви обдало душем холодной воды, и рядом с ним забилась и затрепетала большая рыбина.
— Колотушку! Гарви, колотушку! У тебя под рукой! Быстро!
Гарви передал ему молот, а Дэн ловко оглушил рыбу, прежде чем втаскивать ее в лодку. Затем при помощи короткой палки, которую он назвал «выдиралка», он выдрал изо рта рыбы крючок. Тут Гарви почувствовал, что у него клюнуло, и сильно потянул за леску.
— Ой, смотри, клубника! — закричал он.
— Крючок запутался в гроздьях клубники, точно такой, как на грядках, один бочок красный, другой — белый, только без листьев и с толстыми скользкими стеблями.
— Не трогай! Стряхни ее. Не тро…
Но было слишком поздно. Гарви снял клубнику с крючка и любовался ею.
— Ай! — вдруг вскрикнул он, потому что его пальцы закололо так, будто он схватился за куст крапивы.
— Теперь ты знаешь, что такое клубничное дно. Отец говорит, что голыми руками нельзя брать ничего, кроме рыбы. Стряхни эту гадость и наживляй, Гарви. Слезами горю не поможешь. За рыбу тебе платят.
Гарви улыбнулся, вспомнив о своих десяти с половиной долларах в месяц и подумал: что сказала бы мать, увидев, как он свесился с рыбачьей лодки посреди океана? Ею овладевал смертельный ужас, когда он отправлялся на Саранакское озеро. Тут он, кстати, отчетливо вспомнил, как он смеялся над ее страхами. Вдруг леска рванулась у него из руки, сбжигая ладонь даже через шерстяные «клещи», которые должны были ее защищать.
— Здоровенная рыбина. Отпускай леску по натягу! — крикнул Дэн. — Я сейчас помогу.
— Нет, не надо, — остановил его Гарви, вцепившись в леску. — Это моя первая рыба. Это… это кит?
— Палтус, наверно. — Дэн вглядывался в воду и на всякий случай держал наготове большую колотушку. Сквозь зелень проглядывало что-то белое, овальной формы. — Готов заложить деньги и долю, что он весит больше сотни фунтов. Тебе все еще хочется вытащить его самому?
Костяшки пальцев у Гарви кровоточили оттого, что он ударялся ими о дно лодки, от возбуждения и натуги его лицо стало пунцово-красным, с него капал пот, солнечные блики вокруг бежавшей лески слепили ему глаза. Мальчики измучились гораздо раньше палтуса, который еще целых двадцать минут не давал покоя ни им, ни лодке. Но наконец им удалось оглушить и втащить его в лодку.
— Везет новичкам, — сказал Дэн, вытирая со лба пот. — Он фунтов на сто будет.
Гарви молча с гордостью глядел на громадное серое в крапинках существо. Ему не раз доводилось видеть палтуса на мраморных досках на берегу, но как-то не случалось поинтересоваться, как они сюда попадают. Теперь осознал: каждый дюйм его тела ломило от усталости.
— Мой отец знает все приметы, читает их как по книге, — сказал Дэн, выбирая леску. — Рыба все мельчает, и твой палтус будет, наверно, самый крупный за сезон. А вчера ты заметил — рыба была крупная, но ни одного палтуса? Это неспроста, и отец в этом разберется. На Отмелях, говорит отец, у всего есть свои приметы, только в них надо уметь разбираться. Очень толковый у меня отец.
Он еще не закончил говорить, как с борта «Мы здесь» послышался пистолетный выстрел и на мачте взвился флажок.
— Ну, что я говорил? Это сигнал для всех наших. Отец что-то задумал, иначе он не стал бы прерывать промысел в самый разгар. Полезай вперед, Гарв, мы погребем к шхуне.
Они находились с наветренной стороны от шхуны и уже было пошли к ней по спокойной глади, как с расстояния в полмили до них донеслись чьи-то стенания. Это был Пенн, лодка которого вертелась на одном месте, как огромный водяной жук. Маленький пенсильванец изо всех сил подавался то вперед, то назад, но всякий раз его лодка разворачивалась носом к державшему ее канату.
— Придется ему помочь, не то он застрянет здесь навечно, — сказал Дэн.
— А что случилось? — спросил Гарви. Он попал в новый для себя мир, где он не мог никем командовать, а мог лишь скромно задавать вопросы. Да и океан был ужасающе огромным и спокойным.
— Якорь запутался. Пенн всегда их теряет. В этот раз уже два потерял, да еще на песчаном дне. А отец сказал, что если потеряет еще один, то получит булыжник. Пенн этого не перенесет.
— А что такое «булыжник»? — спросил Гарви, вообразивший, что речь идет о какой-нибудь изощренной морской пытке вроде тех, что описываются в книжках.
— Вместо якоря кусок камня. Его издалека видно на носу лодки, и всем сразу ясно, в чем дело. Ну и потешаться над ним будут. Пенн этого не вынесет, все равно что собака, если ей привязать к хвосту кружку. Уж очень он чувствительный… Хэлло, Пенн! Опять застрял? Перестань дергаться. Перейди на нос, потяни канат вверх и вниз!
— Он ни с места, — пожаловался запыхавшийся коротышка. — Не подается ни на дюйм. Право, я все испробовал.
— А что это за кутерьма на носу? — спросил Дэн, показывая на дикую путаницу из запасных весел и канатов, соединенных неопытной рукой.
— А, это… — с гордостью произнес Пенн. — Это испанский брашпиль. Мистер Солтерс показал мне, как его делать. Но даже брашпиль не помогает.
Дэн перегнулся через борт, чтобы скрыть улыбку, дернул несколько раз за канат, и — вот так штука! — якорь тут же поднялся.
— Вытаскивай, Пенн, — сказал он со смехом, — не то он снова застрянет.
Они отплыли от Пенна, а тот стал рассматривать увешанные водорослями лапы маленького якоря своими трогательными большими голубыми глазами и без конца благодарил мальчиков за помощь.
— Да, слушай, пока я не забыл, Гарв, — сказал Дэн, когда они отплыли настолько, что Пенн не мог их услышать. — Пенн просто чудной и совсем не опасный. Просто у него с головой не в порядке. Понимаешь?
— Это действительно так или это придумал твой отец? — спросил Гарви, нагибаясь к своим веслам. Ему показалось, что он уже легче с ними справляется.
— На сей раз отец не ошибся. Пенн в самом деле тронутый. Нет, это не совсем так. Вот как это произошло — ты хорошо гребешь, Гарви, — и ты должен об этом знать. Когда-то он был моравским проповедником. И его звали Джэкоб Боллер, так говорит отец. И он с женой и четырьмя детьми жил где-то в штате Пенсильвания. Так вот, они всей семьей однажды поехали на встречу моравских братьев и всего на одну ночь становились в Джонстауне. Ты слышал о Джонстауне?
Гарви задумался.
— Да, слышал. Но не помню, в связи с чем. Помню этот город и еще Эштабула.
— Потому что в обоих произошли несчастья, Гарв. Вот в ту самую ночь, что они ночевали в гостинице, Джонстаун снесло начисто. Прорвало плотину, началось наводнение, дома понесло по воде, они сталкивались и тонули. Я видел картинки- это ужас какой-то! И вся семья Пенна утонула у него на глазах, и он даже не успел опомниться. С тех пор он и помешался. Он знает, что в Джонстауне что-то случилось, но не понимает, что именно. И вот он все ходил с места на место и улыбался и ничего не помнил. Он и сейчас не знает, кто он такой и кем он был. Как-то он случайно встретился с дядей Солтерсом, который навещал наших родственников с материнской стороны в городе Алфэни-сити в Пенсильвании. Дядя Солтерс наезжает туда зимой. И вот дядя Солтерс… он вроде усыновил Пенна, хоть знал, что с ним случилось; он отвез его на восток и дал ему работу на своей ферме.
— Верно, я слышал, как он назвал Пенна фермером, когда их лодки столкнулись. Твой дядюшка Солтерс фермер?
— Фермер! — воскликнул Дэн. — Во всем океане воды не хватит, чтобы смыть землю с его башмаков. Да, он вечный фермер. Слушай, Гарв, я видел, как этот человек берет перед заходом солнца ведро и начинает обмывать кран питьевого бачка так, будто это коровье вымя. Вот какой он фермер. В общем, они с Пенном управлялись на ферме где-то возле Эксетера. Прошлой весной дядя Солтерс продал ее какому-то типу из Бостона, который задумал построить там виллу, и получил за нее кучу денег. Так оба эти ненормальные и жили, пока однажды религиозная община Пенна, эти моравские братья, не узнали, где он дрейфует, и не написали дяде Солтерсу. Не знаю, что они ему написали, но дядя Солтерс рассвирепел. Он им наврал, что он баптист, и сказал, что не собирается отдавать Пенна никаким моравцам ни в Пенсильвании, ни в другом месте. Потом он пришел к отцу, таща на буксире Пенна, — это было две рыбалки назад, — и сказал, что им с Пенном для поправки здоровья надо рыбачить. Он, наверно, думал, что моравцы не станут искать Джэкоба Боллера на Отмелях. Отец согласился, потому что дядя Солтерс раньше лет тридцать рыбачил время от времени, когда не занимался изобретением патентованных удобрений. И он купил четвертую долю «Мы здесь». А Пенну рыбалка так помогла, что отец стал всегда брать его с собой. Когда-нибудь, говорит отец, он вспомнит свою жену и детишек и Джонстаун, конечно, и тогда, наверно, умрет, говорит отец. Не вздумай говорить Пенну о Джонстауне и обо всем этом, не то дядя Солтерс выбросит тебя за борт.
— Бедняга Пенн! — пробормотал Гарви. — А по виду не скажешь, что дядя Солтерс так о нем печется.
— А мне Пенн нравится, да и всем нам, — сказал Дэн. — Надо бы взять его на буксир, но я хотел сперва тебе рассказать.
Они уже подошли близко к шхуне, а за ними подтягивались остальные лодки.
— Лодки поднимем после обеда, — сказал им Троп с палубы. — Разделывать будем сейчас же. Приготовьте столы, ребята.
— Толковый у меня отец, — сказал Дэн, подмигивая и собирая все, что нужно для разделки. — Посмотри, сколько шхун подошло с утра. Все ждут отца. Видишь, Гарв?
— Для меня они все как одна.
И действительно, сухопутному человеку все шхуны вокруг казались похожими одна на другую.
— Это не так. Тот желтый, грязный пакетбот, бушприт которого повернут в ту сторону, называется «Надежда Праги». Его капитан, Ник Грэди, самый подлый человек на Отмелях. А вот там подальше «Око дня». Она принадлежит двум Джерольдам из Гарвича. Быстрая шхуна и везучая. Но отец, он и на кладбище найдет рыбу. А вон те три, сбоку: «Марджи Смит», «Роуз» и «Эдит С.Уэйлен» — все из наших мест… Завтра, наверно, увидим и «Эбби Д.Диринг», да, отец? Они все идут с отмели Квиро.
— Завтра их поубавится, Дэнни. — Когда Троп звал своего сына «Дэнни», это означало, что он в хорошем настроении. — Ребята, слишком много здесь шхун, — продолжал он, обращаясь к членам своего экипажа, которые взобрались на борт. — Пусть ловят здесь — дело хозяйское.
Он взглянул на улов. Просто удивительно, как мало рыбы оказалось и какая она мелкая; кроме палтуса Гарви, ее набралось не больше пятнадцати фунтов.
— Подождем перемены погоды, — добавил Троп.
— Похоже, тебе самому придется заняться погодой, Диско, — Сказал Длинный Джек, обводя глазами безоблачный горизонт, — по-моему, перемены не предвидится.
Но вот спустя полчаса, когда они еще потрошили рыбу, на шхуну опустился густой туман, «густой, как рыбья уха», по рыбацкой поговорке. Он надвигался упорно, клубами нависал над бесцветной водой. Рыбаки молча прекратили работу. Длинный Джек и дядюшка Солтерс наладили брашпиль и стали поднимать якорь. Мокрый пеньковый канат туго наматывался на барабан, издававший резкий, неприятный скрип. В последний момент им на помощь пришли Мануэль и Том Плэтт, и якорь с всплеском вышел из воды.
— Поднять кливер и фок! — приказал Троп.
— Ускользнем от них в тумане! — крикнул Длинный Джек, крепя кливер-шкот, пока остальные с шумом разворачивали фок. Заскрипел рангоут, и шхуна «Мы здесь» легла по ветру и нырнула в беспросветный клубящийся туман.
— Туман идет с ветром, — сказал Троп.
Гарви был в восторге, но больше всего его восхищало, что все делалось без команд, и лишь изредка слышалось ворчливое приказание Тропа, заканчивающееся словами: «Отлично, сынок!»
— Что, ни разу не видел, как снимаются с якоря? — спросил Том Плэтт у Гарви, уставившегося на мокрое полотнище фока.
— Ни разу. А куда мы идем?
— Рыбачить. Побудешь с нами с недельку и кое-чему научишься. Тут все для тебя новое, да мы сами порой не знаем, что нас ждет впереди. Вот, например, я, Том Плэтт, я бы и то никогда не подумал…
— Все лучше, чем получать четырнадцать долларов в месяц и пулю в живот, — прервал его стоявший у штурвала Диско Троп. — Отпусти малость свой конец.
— Доллары и центы — вещь неплохая, — отозвался бывший военный моряк, возившийся с большим кливером. Но нам было не до них, когда мы снимались с якоря у Бофорта, а из форта Масон на корму нашей «Мисс Джим Бак» градом сыпались ядра, да к тому же был сильный шторм. А ты, Диско, где был в то время?
— Здесь или где-то поблизости, — ответил Диско. — Зарабатывал себе на пропитание да старался не попадаться на глаза каперам. Жаль, что не могу порадовать тебя раскаленным ядром, Том Плэтт. Но думаю, что до Истерн-Пойнта ветер у нас будет попутный.
У носа шхуны раздавались непрерывные шлепки и всплески волн, сменявшиеся порой глухими ударами, и бак стало заливать водой. Со снастей падали на палубу тяжелые капли. Все, кроме дядюшки Солтерса, спрятались с подветренной стороны рубки, а дядюшка Солтерс неподвижно сидел на крышке люка и возился со своими обожженными руками.
— А не поставить ли нам стаксель? — сказал Диско, поглядывая на брата.
— А что толку-то, — ответил моряк-фермер. — Только парус переводить.
Штурвал едва заметно дрогнул в руках Диско. Еще секунда — и шипящий гребень волны хлынул на палубу и с ног до головы окатил дядюшку Солтерса. Он поднялся, отфыркиваясь, и пошел на нос, но здесь его настигла новая волна.
— Смотри, как отец будет гонять его по палубе, — сказал Дэн. — Дядюшка Солтерс дрожит за парус, потому что считает, что это его пай. В прошлый раз ему тоже досталось от отца. Смотри, смотри! Получил-таки по заслугам.
Дядюшка Солтерс укрылся за фок-мачтой, но волна настигла его и там.
Лицо Диско оставалось невозмутимым, как круг штурвала.
— Под стакселем шхуна пошла бы ровнее, а, Солтерс? — сказал Диско, будто не замечая, что происходит на палубе.
— Тогда запускай своего змея! — прокричал несчастный Солтерс сквозь облако водяной пыли. — Только если что случится, я ни при чем… Пенн, ступай вниз и попей кофе. Нечего в такую погоду торчать на палубе, сам соображать должен.
— А теперь они будут потягивать кофе и резаться в шашки, пока с пастбища не вернутся коровы, — сказал Дэн, глядя, как дядюшка Солтерс загоняет Пенна в каюту. — Похоже, что и нам придется заняться тем же. Нет на свете создания ленивее рыбака, когда он не занят промыслом.
— Хорошо, что ты вспомнил, Дэнни! — воскликнул Длинный Джек, который только и искал, чем бы развлечься. — Я начисто забыл, что у нас на борту пассажир. Тому, кто не знает корабельной оснастки, всегда работенка найдется. Ну-ка давай его сюда, Том Плэтт. Мы его поучим.
— Ну, я умываю руки, — усмехнулся Дэн, — в этом я тебе не помощник. Меня отец концами учил.
Целый час Длинный Джек водил свою жертву по палубе, обучая Гарви тому, что, по его словам, «на море должен знать всякий, будь, он слеп, пьян или во сне». У семидесятитонной шхуны с ксфоткой фок-мачтой не бог весть какая оснастка, но Длинный Джек обладал особым даром вразумлять своего подопечного: когда он хотел обратить внимание Гарви на дирик-фалы, он задирал ему голову и полминуты заставлял его смотреть вверх; объясняя разницу между баком и ютом, он проводил носом Гарви по рею, а назначение каждой снасти запечатлевал ударом веревочного конца.
Урок давался бы легче, будь палуба попросторней; но на ней хватало места для чего угодно, кроме человека. Нос шхуны занимал брашпиль с цепью и пеньковым канатом, которые так и лезли под ноги; там же торчала печная труба из камбуза, и у люка стояли бочонки для рыбьей печени. За ними, занимая все пространство до помп и ларей для рыбы, находился фор-бом и выступ главного люка, затем шли лодки, привязанные к рым-болтам у шканцев, рубка с прикрепленными вокруг нее кадками и другими предметами и, наконец, гик длиной в шестьдесят футов, под который все время приходилось подныривать.
Том Плэтт, конечно, постарался внести свою лепту в обучение. Он не отставал от них ни на шаг, то и дело встревая с бесконечными описаниями такелажа старого фрегата «Огайо».
— Ты его не слушай. Слушай, что я тебе говорю, новичок. А ты, Том Плэтт, помни, что это не «Огайо», и не забивай мальцу голову!
— Но так можно испортить его на всю жизнь, — возражал Том Плэтт. — Я ведь хочу научить его самому главному. Мореплавание — это искусство, Гарви. И ты бы это понял, если бы взобрался со мной на фок-мачту корабля…
— Знаем, знаем! Ты его насмерть заговоришь. Помолчи, Том Плэтт! Теперь, Гарв, скажи, как зарифить фок? Подумай, прежде чем отвечать.
— Потянуть это сюда, — сказал Гарви, указывая на подветренную сторону.
— Куда? В Атлантику?
— Нет, угле гарь. Потом протянуть этот конец туда…
— Неверно, — вмешался Том Плэтт.
— Тише! Он учится и еще не знает всех названий. Продолжай, Гарв.
— А это риф-штенкель. Надо прикрепить тали к риф-штенкелю, а потом отпустить…
— Отдать парус, дитя, отдать! — не выдержал Том Плэтт.
— Отпустить фал и дирик-фал, — продолжал Гарви. Эти названия ему запомнились.
— Покажи их, — приказал Длинный Джек.
Гарви повиновался:
— Опускать, пока эта веревочная петля… то есть… как ее… лик-трос, не дойдет до рея. Потом надо закрепить его, как вы объясняли, и снова подтянуть кверху фалы.
— Ты забыл про бензель, но ничего, со временем научишься. Да и мы поможем, — сказал Джек. — У каждой снасти на шхуне свое назначение. Иначе бы ее швырнули за борт, понимаешь? Ведь я сейчас набиваю твои карманы деньгами, тощий ты наш пассажир, а когда все выучишь, сможешь сам плыть из Бостона на Кубу и скажешь, что тебя учил Длинный Джек. А пока давайте-ка пройдемся еще разок. Я буду называть снасти, а ты дотрагивайся до них рукой.
Он назвал какую-то снасть, и Гарви, уже изрядно уставший, медленно поплелся к ней. От удара концом по ребрам у него перехватило дыхание.
— Когда у тебя будет свое судно, — сурово сказал Том Плэтт, — тогда и будешь по нему разгуливать. А до той поры выполняй приказы бегом. Еще раз, да пошевеливайся!
Гарви и так был вне себя от такого обучения, а этот последний урок еще больше подстегнул его. Но он был очень сметливый мальчишка, с очень решительным характером и довольно упрямый. Он оглядел всех и увидел, что теперь не улыбается даже Дэн. Значит, такая учеба здесь дело обычное, хоть и мучительное. Он молча со вздохом проглотил пилюлю и даже усмехнулся. Та же сметливость, что позволяла ему помыкать матерью, помогла ему понять, что никто на судне, кроме разве что Пенна, не станет потакать его прихотям. Даже по голосу можно понять многое. Длинный Джек назвал еще с полдюжины снастей, и Гарви прыгал по палубе, как выброшенный на берег угорь, и искоса поглядывал на Тома Плэтта.
— Очень хорошо. Хорошо получается, — сказал Мануэль. — После ужина я покажу тебе маленькую шхуну со всеми снастями. Я сам ее сделал, и мы будем учиться по ней.
— Отлично для… пассажира, — сказал Дэн. — Отец только что сказал, что из тебя выйдет толк, ежели ты не утонешь. От отца такое не часто услышишь. На следующей вахте я тебя еще подучу.
— Кидай «сало»! — прокричал Диско, вглядываясь в туман, клубившийся на реях.
В десяти футах от бушприта нельзя было ничего разглядеть. Бесконечной чередой катились тяжелые белесые волны, перешептывающиеся между собой и набегающие одна на другую.
— Теперь я обучу тебя такому, чего не знает Длинный Джек, — сказал Том Плэтт.
Он вынул из ящика на корме старый глубоководный лот, полый с одного конца, набил его бараньим жиром и пошел на нос.
— Я научу тебя запускать «сизаря».
Диско ловко повернул штурвал так, что шхуна приостановилась, а тем временем Мануэль с помощью Гарви, который очень этим гордился, быстро опустил кливер. Том Плэтт со свистом раскрутил над головой лот.
— Давай-давай, старина, — подгонял его Длинный Джек. — Мы ведь не к острову Файр-Айленд подходим в тумане. Нечего фокусничать!
— Ну и завистник ты, Джек.
Том Плэтт выпустил лот, и он шлепнулся в воду далеко впереди медленно идущей шхуны.
— Все же так запускать лот надо уметь, — заметил Дэн. — Ведь целую неделю только лот будет говорить нам, куда идти. Сколько, по-твоему, отец?
Лицо Диско разгладилось. Уйдя украдкой от остальных шхун, он рисковал своим мастерством и честью. К тому же он дорожил своей репутацией шкипера, знающего Отмели наизусть.
— Шестьдесят, если не ошибаюсь, — ответил он, мельком взглянув на маленький компас.
— Шестьдесят! — протяжно крикнул Том Плэтт, кольцами укладывая мокрый линь.
Шхуна снова набрала скорость.
— Бросай! — крикнул Диско через четверть часа.
— Сколько сейчас? — шепнул Дэн и гордо посмотрел на Гарви. Но на Гарви, поглощенного своими успехами, это не произвело впечатления.
— Пятьдесят! — сказал отец. — Думаю, мы над самой впадиной Зеленой отмели, где от шестидесяти до пятидесяти футов.
— Пятьдесят! — проревел. Том Плэтт, которого было едва видно сквозь туман.
— Живо приманку, Гарв! — сказал Дэн, хватая леску.
Шхуна пробивалась сквозь туман. Парус на носу отчаянно трепыхался.
Мальчики принялись ловить рыбу, а взрослые стояли и наблюдали за ними. Лески Дэна терлись со скрипом о старый, изрезанный поручень шхуны.
— И как только отец угадал?.. Помоги-ка, Гарв. Большая попалась. И дергается.
Совместными усилиями они вытащили пучеглазую треску фунтов на двадцать. Рыбина заглотнула наживку.
— Смотри, она вся покрыта маленькими крабами! — воскликнул Гарви, перевернув треску.
— Порази меня гром, если здесь не тьма рыбы, — отозвался Длинный Джек. — Диско, да у тебя не иначе как пара запасных глаз под килем!
В воду шлепнулся якорь, и рыбаки заняли свои места у фальшборта.
— А ее можно есть? — тяжело дыша, спросил Гарви, вытащив еще одну треску с крабами.
— Конечно. Раз на ней рачки, значит, рыбы здесь пропасть и она голодна, когда так хватает наживку. Наживляй как угодно. Она и пустой крючок возьмет.
— Ну и здорово! — радовался Гарви, глядя, как на палубу одна за другой шлепались рыбины. — Отчего всегда не ловят прямо со шхуны?
— Ловить-то можно, да только после разделки мы бросаем за борт головы и потроха. А это начисто распугает всю рыбу. И вообще с судна рыбачить могут только такие опытные моряки, как отец. Ночью, наверно, поставим перемет. Со шхуны труднее ловить, чем с лодки, спина болит, верно?
Работа и в самом деле была нелегкая. Ведь в лодке вода поддерживает рыбу почти до самых твоих рук. Шхуна же гораздо выше лодки, и рыбу приходится поднимать наверх, перегибаясь через борт. Так что от натуги начинает сводить живот. Но все с азартом занимались этим делом, и когда клев прекратился, на палубе высилась большая груда рыбы.
— А где Пенн и дядя Солтерс? — спросил Гарви, стряхивая с плаща рыбью чешую и старательно сматывая леску.
— Сходи-ка за кофе и увидишь.
При желтом свете подвешенной на шесте лампы, совершенно безразличные к тому, что происходит наверху, за столом сидели оба рыбака и играли в шашки, причем дядюшка Солтерс сопровождал язвительным смехом каждый ход Пенна.
— Что там стряслось? — спросил дядюшка Солтерс, когда Гарви, уцепившись за кожаную петлю в начале трапа, свесился вниз и окликнул кока.
— Крупная рыба, и вся в крабах, тьма-тьмущая, — ответил Гарви. — Как играется?
Крошка Пенн разинул рот.
— Пенн не виноват, — выпалил дядя Солтерс. — Он плохо слышит.
— В шашки режутся, да? — спросил Дэн, когда Гарви показался на корме с дымящимся кофе в судке. — Значит, сегодня убираться не нам. Отец человек справедливый. Он заставит это сделать их.
— А два моих знакомых молодых человека будут наживлять перемет, пока они убираются, — заметил Диско, закрепляя штурвал.
— Ну вот! Я бы лучше уборкой занялся, отец.
— Не сомневаюсь. Но тебе не придется. На разделку! На разделку! Пенн будет подавать, а вы наживляйте.
— Какого шута эти дрянные мальчишки не сказали, что ты напал на место? — проворчал дядюшка Солтерс, пробираясь к своему месту за разделочным столом. — Этот нож совсем тупой, Дэн.
— Если вы не очнулись, когда мы бросили якорь, то вам надо, наверно, нанять собственного боя, — сказал Дэн, копошась в сумерках возле бадей с лесой, стоящих с подветренной стороны рубки. — Эй, Гарв, сходи-ка вниз за наживкой!
— Мы будем разделывать рыбу, а вы наживляйте, — сказал Диско. — Так оно будет лучше.
Мальчики должны были насаживать на крючки потроха, оставшиеся от чистки трески, а это было легче, чем рыться голыми руками в бочонках для отбросов. В бадьях аккуратными кольцами была сложена леса с большими крючками на расстоянии нескольких футов один от другого.
Очень непростое это дело — проверить и наживить каждый крючок и уложить потом лесу так, чтобы она не запуталась, когда ее будут спускать с лодки. Дэн ловко, не глядя, справлялся с этим в темноте: крючки так и летали в его руках, как вязальные спицы в руках старой девы.
Гарви же то и дело цеплялся за крючки и проклинал свою судьбу.
— Я помогал делать это, когда только научился ходить, — сказал Дэн. — И все равно это противная работа. Отец! — прокричал он в трюм, где Диско и Том Плэтт солили рыбу. — Сколько бадей нам сегодня понадобится?
— Штуки три. Пошевеливайтесь!
— В каждой бадье триста саженей лесы, — пояснил Дэн, — более чем достаточно на сегодня. Ой, укололся! — Он сунул палец в рот. — Знаешь, Гарви, я бы ни за какие деньги не согласился работать на судне, где ловят только переметом. Пусть это выгоднее, но нет на свете работы противней и нудней, чем эта.
— А что, по-твоему, делаем мы? — мрачно отозвался Гарви. — Я исколол все руки.
— Тьфу, это одна из выдумок отца! Он перемет не будет ставить понапрасну. Уж он-то знает, что делает. Увидишь, сколько рыбы попадется.
Пенн и дядюшка Солтерс, как им и было велено, занимались уборкой, но мальчикам от этого не было легче. Как только они закончили наживлять, Том Плэтт и Длинный Джек осветили одну лодку фонарем, погрузили в нее бадьи и небольшие крашеные буйки и спустили лодку на воду.
— Они утонут! — закричал Гарви, которому море показалось ужасно бурным. — Ведь лодка нагружена, как товарный вагон!
— Ничего, вернемся, — сказал Длинный Джек, — но если перемет запутается, нам достанется на орехи.
Лодка взлетела на гребень волны. Казалось, она вот-вот разобьется о борт шхуны, но она скользнула вниз и исчезла среди волн.
— Стань здесь и все время звони, — сказал Дэн, передавая Гарви веревку от колокола, который висел за брашпилем.
Гарви усердно звонил, так как ему казалось, что от него зависит жизнь двух людей. Но Диско сидел в рубке, записывал что-то в судовой журнал и вовсе не был похож на убийцу. А когда он отправился ужинать, то даже слегка улыбнулся взволнованному Гарви.
— Разве это волна? — сказал Дэн. — Да перемет и мы с тобой могли бы поставить! Она совсем рядом, так что можно бы и не звонить.
Динь! Динь! Донг!.. Гарви звонил еще с полчаса, меняя для разнообразия ритм, а потом кто-то крикнул, и послышался глухой удар о борт. Мануэль и Дэн бросились к крюкам лодочных талей. Длинный Джек и Том Плэтт, мокрые с головы до ног, взобрались на палубу; за ними в воздух поднялась лодка и со стуком стала на место.
— Не запуталась, — сказал Том Плэтт, отряхиваясь. — Молодец, Дэнни.
— Прошу нынче пожаловать к нам на банкет, — сказал Длинный Джек, выплескивая воду из сапог. Он топтался на месте, как слон, и угодил Гарви в лицо рукой.
— Мы окажем честь второй смене своим присутствием.
Все четверо набросились на ужин. Гарви до отвала наелся рыбьей похлебки и жареных пирожков и тут же крепко гаснул. А в это время Мануэль вынул из рундука красивую модель «Люси Холмс» — первой шхуны, на которой он ходил. Он было начал объяснять Гарви ее оснастку, но тот даже пальцем не шевельнул, когда Пенн оттащил его на койку.
— Как, должно быть, тоскуют его мать и отец, — сказал Пенн, глядя на мальчика. — Ведь они уверены, что он погиб. Потерять ребенка… сына!
— Перестаньте, Пенн, — сказал Дэнни. — Идите и кончайте свою игру с дядей Солтерсом. Скажите отцу, что я могу отстоять вахту за Гарви. Он умаялся…
— Славный парень, — сказал Мануэль, снимая сапоги и скрываясь в темноте нижней койки. — Думаю, Дэнни, станет человеком твой друг. И вовсе не такой уж он помешанный, как говорит твой отец. А? Что?
Дэн хихикнул и тут же захрапел.
Было туманно, ветер усилился, и вахты стояли одни взрослые. Из рубки доносился четкий бой часов, волны с плеском разбивались о нос шхуны, дымовая труба шипела от попадавших на нее брызг; мальчики крепко спали, а Диско, Длинный Джек, Том Плэтт и дядюшка Солтерс по очереди обходили палубу, проверяли штурвал, смотрели, держит ли якорь, подтягивали снасти и посматривали на тусклый свет якорного фонаря.
— Есть одна! — закричал Дэн.
Плечи Гарви обдало душем холодной воды, и рядом с ним забилась и затрепетала большая рыбина.
— Колотушку! Гарви, колотушку! У тебя под рукой! Быстро!
Гарви передал ему молот, а Дэн ловко оглушил рыбу, прежде чем втаскивать ее в лодку. Затем при помощи короткой палки, которую он назвал «выдиралка», он выдрал изо рта рыбы крючок. Тут Гарви почувствовал, что у него клюнуло, и сильно потянул за леску.
— Ой, смотри, клубника! — закричал он.
— Крючок запутался в гроздьях клубники, точно такой, как на грядках, один бочок красный, другой — белый, только без листьев и с толстыми скользкими стеблями.
— Не трогай! Стряхни ее. Не тро…
Но было слишком поздно. Гарви снял клубнику с крючка и любовался ею.
— Ай! — вдруг вскрикнул он, потому что его пальцы закололо так, будто он схватился за куст крапивы.
— Теперь ты знаешь, что такое клубничное дно. Отец говорит, что голыми руками нельзя брать ничего, кроме рыбы. Стряхни эту гадость и наживляй, Гарви. Слезами горю не поможешь. За рыбу тебе платят.
Гарви улыбнулся, вспомнив о своих десяти с половиной долларах в месяц и подумал: что сказала бы мать, увидев, как он свесился с рыбачьей лодки посреди океана? Ею овладевал смертельный ужас, когда он отправлялся на Саранакское озеро. Тут он, кстати, отчетливо вспомнил, как он смеялся над ее страхами. Вдруг леска рванулась у него из руки, сбжигая ладонь даже через шерстяные «клещи», которые должны были ее защищать.
— Здоровенная рыбина. Отпускай леску по натягу! — крикнул Дэн. — Я сейчас помогу.
— Нет, не надо, — остановил его Гарви, вцепившись в леску. — Это моя первая рыба. Это… это кит?
— Палтус, наверно. — Дэн вглядывался в воду и на всякий случай держал наготове большую колотушку. Сквозь зелень проглядывало что-то белое, овальной формы. — Готов заложить деньги и долю, что он весит больше сотни фунтов. Тебе все еще хочется вытащить его самому?
Костяшки пальцев у Гарви кровоточили оттого, что он ударялся ими о дно лодки, от возбуждения и натуги его лицо стало пунцово-красным, с него капал пот, солнечные блики вокруг бежавшей лески слепили ему глаза. Мальчики измучились гораздо раньше палтуса, который еще целых двадцать минут не давал покоя ни им, ни лодке. Но наконец им удалось оглушить и втащить его в лодку.
— Везет новичкам, — сказал Дэн, вытирая со лба пот. — Он фунтов на сто будет.
Гарви молча с гордостью глядел на громадное серое в крапинках существо. Ему не раз доводилось видеть палтуса на мраморных досках на берегу, но как-то не случалось поинтересоваться, как они сюда попадают. Теперь осознал: каждый дюйм его тела ломило от усталости.
— Мой отец знает все приметы, читает их как по книге, — сказал Дэн, выбирая леску. — Рыба все мельчает, и твой палтус будет, наверно, самый крупный за сезон. А вчера ты заметил — рыба была крупная, но ни одного палтуса? Это неспроста, и отец в этом разберется. На Отмелях, говорит отец, у всего есть свои приметы, только в них надо уметь разбираться. Очень толковый у меня отец.
Он еще не закончил говорить, как с борта «Мы здесь» послышался пистолетный выстрел и на мачте взвился флажок.
— Ну, что я говорил? Это сигнал для всех наших. Отец что-то задумал, иначе он не стал бы прерывать промысел в самый разгар. Полезай вперед, Гарв, мы погребем к шхуне.
Они находились с наветренной стороны от шхуны и уже было пошли к ней по спокойной глади, как с расстояния в полмили до них донеслись чьи-то стенания. Это был Пенн, лодка которого вертелась на одном месте, как огромный водяной жук. Маленький пенсильванец изо всех сил подавался то вперед, то назад, но всякий раз его лодка разворачивалась носом к державшему ее канату.
— Придется ему помочь, не то он застрянет здесь навечно, — сказал Дэн.
— А что случилось? — спросил Гарви. Он попал в новый для себя мир, где он не мог никем командовать, а мог лишь скромно задавать вопросы. Да и океан был ужасающе огромным и спокойным.
— Якорь запутался. Пенн всегда их теряет. В этот раз уже два потерял, да еще на песчаном дне. А отец сказал, что если потеряет еще один, то получит булыжник. Пенн этого не перенесет.
— А что такое «булыжник»? — спросил Гарви, вообразивший, что речь идет о какой-нибудь изощренной морской пытке вроде тех, что описываются в книжках.
— Вместо якоря кусок камня. Его издалека видно на носу лодки, и всем сразу ясно, в чем дело. Ну и потешаться над ним будут. Пенн этого не вынесет, все равно что собака, если ей привязать к хвосту кружку. Уж очень он чувствительный… Хэлло, Пенн! Опять застрял? Перестань дергаться. Перейди на нос, потяни канат вверх и вниз!
— Он ни с места, — пожаловался запыхавшийся коротышка. — Не подается ни на дюйм. Право, я все испробовал.
— А что это за кутерьма на носу? — спросил Дэн, показывая на дикую путаницу из запасных весел и канатов, соединенных неопытной рукой.
— А, это… — с гордостью произнес Пенн. — Это испанский брашпиль. Мистер Солтерс показал мне, как его делать. Но даже брашпиль не помогает.
Дэн перегнулся через борт, чтобы скрыть улыбку, дернул несколько раз за канат, и — вот так штука! — якорь тут же поднялся.
— Вытаскивай, Пенн, — сказал он со смехом, — не то он снова застрянет.
Они отплыли от Пенна, а тот стал рассматривать увешанные водорослями лапы маленького якоря своими трогательными большими голубыми глазами и без конца благодарил мальчиков за помощь.
— Да, слушай, пока я не забыл, Гарв, — сказал Дэн, когда они отплыли настолько, что Пенн не мог их услышать. — Пенн просто чудной и совсем не опасный. Просто у него с головой не в порядке. Понимаешь?
— Это действительно так или это придумал твой отец? — спросил Гарви, нагибаясь к своим веслам. Ему показалось, что он уже легче с ними справляется.
— На сей раз отец не ошибся. Пенн в самом деле тронутый. Нет, это не совсем так. Вот как это произошло — ты хорошо гребешь, Гарви, — и ты должен об этом знать. Когда-то он был моравским проповедником. И его звали Джэкоб Боллер, так говорит отец. И он с женой и четырьмя детьми жил где-то в штате Пенсильвания. Так вот, они всей семьей однажды поехали на встречу моравских братьев и всего на одну ночь становились в Джонстауне. Ты слышал о Джонстауне?
Гарви задумался.
— Да, слышал. Но не помню, в связи с чем. Помню этот город и еще Эштабула.
— Потому что в обоих произошли несчастья, Гарв. Вот в ту самую ночь, что они ночевали в гостинице, Джонстаун снесло начисто. Прорвало плотину, началось наводнение, дома понесло по воде, они сталкивались и тонули. Я видел картинки- это ужас какой-то! И вся семья Пенна утонула у него на глазах, и он даже не успел опомниться. С тех пор он и помешался. Он знает, что в Джонстауне что-то случилось, но не понимает, что именно. И вот он все ходил с места на место и улыбался и ничего не помнил. Он и сейчас не знает, кто он такой и кем он был. Как-то он случайно встретился с дядей Солтерсом, который навещал наших родственников с материнской стороны в городе Алфэни-сити в Пенсильвании. Дядя Солтерс наезжает туда зимой. И вот дядя Солтерс… он вроде усыновил Пенна, хоть знал, что с ним случилось; он отвез его на восток и дал ему работу на своей ферме.
— Верно, я слышал, как он назвал Пенна фермером, когда их лодки столкнулись. Твой дядюшка Солтерс фермер?
— Фермер! — воскликнул Дэн. — Во всем океане воды не хватит, чтобы смыть землю с его башмаков. Да, он вечный фермер. Слушай, Гарв, я видел, как этот человек берет перед заходом солнца ведро и начинает обмывать кран питьевого бачка так, будто это коровье вымя. Вот какой он фермер. В общем, они с Пенном управлялись на ферме где-то возле Эксетера. Прошлой весной дядя Солтерс продал ее какому-то типу из Бостона, который задумал построить там виллу, и получил за нее кучу денег. Так оба эти ненормальные и жили, пока однажды религиозная община Пенна, эти моравские братья, не узнали, где он дрейфует, и не написали дяде Солтерсу. Не знаю, что они ему написали, но дядя Солтерс рассвирепел. Он им наврал, что он баптист, и сказал, что не собирается отдавать Пенна никаким моравцам ни в Пенсильвании, ни в другом месте. Потом он пришел к отцу, таща на буксире Пенна, — это было две рыбалки назад, — и сказал, что им с Пенном для поправки здоровья надо рыбачить. Он, наверно, думал, что моравцы не станут искать Джэкоба Боллера на Отмелях. Отец согласился, потому что дядя Солтерс раньше лет тридцать рыбачил время от времени, когда не занимался изобретением патентованных удобрений. И он купил четвертую долю «Мы здесь». А Пенну рыбалка так помогла, что отец стал всегда брать его с собой. Когда-нибудь, говорит отец, он вспомнит свою жену и детишек и Джонстаун, конечно, и тогда, наверно, умрет, говорит отец. Не вздумай говорить Пенну о Джонстауне и обо всем этом, не то дядя Солтерс выбросит тебя за борт.
— Бедняга Пенн! — пробормотал Гарви. — А по виду не скажешь, что дядя Солтерс так о нем печется.
— А мне Пенн нравится, да и всем нам, — сказал Дэн. — Надо бы взять его на буксир, но я хотел сперва тебе рассказать.
Они уже подошли близко к шхуне, а за ними подтягивались остальные лодки.
— Лодки поднимем после обеда, — сказал им Троп с палубы. — Разделывать будем сейчас же. Приготовьте столы, ребята.
— Толковый у меня отец, — сказал Дэн, подмигивая и собирая все, что нужно для разделки. — Посмотри, сколько шхун подошло с утра. Все ждут отца. Видишь, Гарв?
— Для меня они все как одна.
И действительно, сухопутному человеку все шхуны вокруг казались похожими одна на другую.
— Это не так. Тот желтый, грязный пакетбот, бушприт которого повернут в ту сторону, называется «Надежда Праги». Его капитан, Ник Грэди, самый подлый человек на Отмелях. А вот там подальше «Око дня». Она принадлежит двум Джерольдам из Гарвича. Быстрая шхуна и везучая. Но отец, он и на кладбище найдет рыбу. А вон те три, сбоку: «Марджи Смит», «Роуз» и «Эдит С.Уэйлен» — все из наших мест… Завтра, наверно, увидим и «Эбби Д.Диринг», да, отец? Они все идут с отмели Квиро.
— Завтра их поубавится, Дэнни. — Когда Троп звал своего сына «Дэнни», это означало, что он в хорошем настроении. — Ребята, слишком много здесь шхун, — продолжал он, обращаясь к членам своего экипажа, которые взобрались на борт. — Пусть ловят здесь — дело хозяйское.
Он взглянул на улов. Просто удивительно, как мало рыбы оказалось и какая она мелкая; кроме палтуса Гарви, ее набралось не больше пятнадцати фунтов.
— Подождем перемены погоды, — добавил Троп.
— Похоже, тебе самому придется заняться погодой, Диско, — Сказал Длинный Джек, обводя глазами безоблачный горизонт, — по-моему, перемены не предвидится.
Но вот спустя полчаса, когда они еще потрошили рыбу, на шхуну опустился густой туман, «густой, как рыбья уха», по рыбацкой поговорке. Он надвигался упорно, клубами нависал над бесцветной водой. Рыбаки молча прекратили работу. Длинный Джек и дядюшка Солтерс наладили брашпиль и стали поднимать якорь. Мокрый пеньковый канат туго наматывался на барабан, издававший резкий, неприятный скрип. В последний момент им на помощь пришли Мануэль и Том Плэтт, и якорь с всплеском вышел из воды.
— Поднять кливер и фок! — приказал Троп.
— Ускользнем от них в тумане! — крикнул Длинный Джек, крепя кливер-шкот, пока остальные с шумом разворачивали фок. Заскрипел рангоут, и шхуна «Мы здесь» легла по ветру и нырнула в беспросветный клубящийся туман.
— Туман идет с ветром, — сказал Троп.
Гарви был в восторге, но больше всего его восхищало, что все делалось без команд, и лишь изредка слышалось ворчливое приказание Тропа, заканчивающееся словами: «Отлично, сынок!»
— Что, ни разу не видел, как снимаются с якоря? — спросил Том Плэтт у Гарви, уставившегося на мокрое полотнище фока.
— Ни разу. А куда мы идем?
— Рыбачить. Побудешь с нами с недельку и кое-чему научишься. Тут все для тебя новое, да мы сами порой не знаем, что нас ждет впереди. Вот, например, я, Том Плэтт, я бы и то никогда не подумал…
— Все лучше, чем получать четырнадцать долларов в месяц и пулю в живот, — прервал его стоявший у штурвала Диско Троп. — Отпусти малость свой конец.
— Доллары и центы — вещь неплохая, — отозвался бывший военный моряк, возившийся с большим кливером. Но нам было не до них, когда мы снимались с якоря у Бофорта, а из форта Масон на корму нашей «Мисс Джим Бак» градом сыпались ядра, да к тому же был сильный шторм. А ты, Диско, где был в то время?
— Здесь или где-то поблизости, — ответил Диско. — Зарабатывал себе на пропитание да старался не попадаться на глаза каперам. Жаль, что не могу порадовать тебя раскаленным ядром, Том Плэтт. Но думаю, что до Истерн-Пойнта ветер у нас будет попутный.
У носа шхуны раздавались непрерывные шлепки и всплески волн, сменявшиеся порой глухими ударами, и бак стало заливать водой. Со снастей падали на палубу тяжелые капли. Все, кроме дядюшки Солтерса, спрятались с подветренной стороны рубки, а дядюшка Солтерс неподвижно сидел на крышке люка и возился со своими обожженными руками.
— А не поставить ли нам стаксель? — сказал Диско, поглядывая на брата.
— А что толку-то, — ответил моряк-фермер. — Только парус переводить.
Штурвал едва заметно дрогнул в руках Диско. Еще секунда — и шипящий гребень волны хлынул на палубу и с ног до головы окатил дядюшку Солтерса. Он поднялся, отфыркиваясь, и пошел на нос, но здесь его настигла новая волна.
— Смотри, как отец будет гонять его по палубе, — сказал Дэн. — Дядюшка Солтерс дрожит за парус, потому что считает, что это его пай. В прошлый раз ему тоже досталось от отца. Смотри, смотри! Получил-таки по заслугам.
Дядюшка Солтерс укрылся за фок-мачтой, но волна настигла его и там.
Лицо Диско оставалось невозмутимым, как круг штурвала.
— Под стакселем шхуна пошла бы ровнее, а, Солтерс? — сказал Диско, будто не замечая, что происходит на палубе.
— Тогда запускай своего змея! — прокричал несчастный Солтерс сквозь облако водяной пыли. — Только если что случится, я ни при чем… Пенн, ступай вниз и попей кофе. Нечего в такую погоду торчать на палубе, сам соображать должен.
— А теперь они будут потягивать кофе и резаться в шашки, пока с пастбища не вернутся коровы, — сказал Дэн, глядя, как дядюшка Солтерс загоняет Пенна в каюту. — Похоже, что и нам придется заняться тем же. Нет на свете создания ленивее рыбака, когда он не занят промыслом.
— Хорошо, что ты вспомнил, Дэнни! — воскликнул Длинный Джек, который только и искал, чем бы развлечься. — Я начисто забыл, что у нас на борту пассажир. Тому, кто не знает корабельной оснастки, всегда работенка найдется. Ну-ка давай его сюда, Том Плэтт. Мы его поучим.
— Ну, я умываю руки, — усмехнулся Дэн, — в этом я тебе не помощник. Меня отец концами учил.
Целый час Длинный Джек водил свою жертву по палубе, обучая Гарви тому, что, по его словам, «на море должен знать всякий, будь, он слеп, пьян или во сне». У семидесятитонной шхуны с ксфоткой фок-мачтой не бог весть какая оснастка, но Длинный Джек обладал особым даром вразумлять своего подопечного: когда он хотел обратить внимание Гарви на дирик-фалы, он задирал ему голову и полминуты заставлял его смотреть вверх; объясняя разницу между баком и ютом, он проводил носом Гарви по рею, а назначение каждой снасти запечатлевал ударом веревочного конца.
Урок давался бы легче, будь палуба попросторней; но на ней хватало места для чего угодно, кроме человека. Нос шхуны занимал брашпиль с цепью и пеньковым канатом, которые так и лезли под ноги; там же торчала печная труба из камбуза, и у люка стояли бочонки для рыбьей печени. За ними, занимая все пространство до помп и ларей для рыбы, находился фор-бом и выступ главного люка, затем шли лодки, привязанные к рым-болтам у шканцев, рубка с прикрепленными вокруг нее кадками и другими предметами и, наконец, гик длиной в шестьдесят футов, под который все время приходилось подныривать.
Том Плэтт, конечно, постарался внести свою лепту в обучение. Он не отставал от них ни на шаг, то и дело встревая с бесконечными описаниями такелажа старого фрегата «Огайо».
— Ты его не слушай. Слушай, что я тебе говорю, новичок. А ты, Том Плэтт, помни, что это не «Огайо», и не забивай мальцу голову!
— Но так можно испортить его на всю жизнь, — возражал Том Плэтт. — Я ведь хочу научить его самому главному. Мореплавание — это искусство, Гарви. И ты бы это понял, если бы взобрался со мной на фок-мачту корабля…
— Знаем, знаем! Ты его насмерть заговоришь. Помолчи, Том Плэтт! Теперь, Гарв, скажи, как зарифить фок? Подумай, прежде чем отвечать.
— Потянуть это сюда, — сказал Гарви, указывая на подветренную сторону.
— Куда? В Атлантику?
— Нет, угле гарь. Потом протянуть этот конец туда…
— Неверно, — вмешался Том Плэтт.
— Тише! Он учится и еще не знает всех названий. Продолжай, Гарв.
— А это риф-штенкель. Надо прикрепить тали к риф-штенкелю, а потом отпустить…
— Отдать парус, дитя, отдать! — не выдержал Том Плэтт.
— Отпустить фал и дирик-фал, — продолжал Гарви. Эти названия ему запомнились.
— Покажи их, — приказал Длинный Джек.
Гарви повиновался:
— Опускать, пока эта веревочная петля… то есть… как ее… лик-трос, не дойдет до рея. Потом надо закрепить его, как вы объясняли, и снова подтянуть кверху фалы.
— Ты забыл про бензель, но ничего, со временем научишься. Да и мы поможем, — сказал Джек. — У каждой снасти на шхуне свое назначение. Иначе бы ее швырнули за борт, понимаешь? Ведь я сейчас набиваю твои карманы деньгами, тощий ты наш пассажир, а когда все выучишь, сможешь сам плыть из Бостона на Кубу и скажешь, что тебя учил Длинный Джек. А пока давайте-ка пройдемся еще разок. Я буду называть снасти, а ты дотрагивайся до них рукой.
Он назвал какую-то снасть, и Гарви, уже изрядно уставший, медленно поплелся к ней. От удара концом по ребрам у него перехватило дыхание.
— Когда у тебя будет свое судно, — сурово сказал Том Плэтт, — тогда и будешь по нему разгуливать. А до той поры выполняй приказы бегом. Еще раз, да пошевеливайся!
Гарви и так был вне себя от такого обучения, а этот последний урок еще больше подстегнул его. Но он был очень сметливый мальчишка, с очень решительным характером и довольно упрямый. Он оглядел всех и увидел, что теперь не улыбается даже Дэн. Значит, такая учеба здесь дело обычное, хоть и мучительное. Он молча со вздохом проглотил пилюлю и даже усмехнулся. Та же сметливость, что позволяла ему помыкать матерью, помогла ему понять, что никто на судне, кроме разве что Пенна, не станет потакать его прихотям. Даже по голосу можно понять многое. Длинный Джек назвал еще с полдюжины снастей, и Гарви прыгал по палубе, как выброшенный на берег угорь, и искоса поглядывал на Тома Плэтта.
— Очень хорошо. Хорошо получается, — сказал Мануэль. — После ужина я покажу тебе маленькую шхуну со всеми снастями. Я сам ее сделал, и мы будем учиться по ней.
— Отлично для… пассажира, — сказал Дэн. — Отец только что сказал, что из тебя выйдет толк, ежели ты не утонешь. От отца такое не часто услышишь. На следующей вахте я тебя еще подучу.
— Кидай «сало»! — прокричал Диско, вглядываясь в туман, клубившийся на реях.
В десяти футах от бушприта нельзя было ничего разглядеть. Бесконечной чередой катились тяжелые белесые волны, перешептывающиеся между собой и набегающие одна на другую.
— Теперь я обучу тебя такому, чего не знает Длинный Джек, — сказал Том Плэтт.
Он вынул из ящика на корме старый глубоководный лот, полый с одного конца, набил его бараньим жиром и пошел на нос.
— Я научу тебя запускать «сизаря».
Диско ловко повернул штурвал так, что шхуна приостановилась, а тем временем Мануэль с помощью Гарви, который очень этим гордился, быстро опустил кливер. Том Плэтт со свистом раскрутил над головой лот.
— Давай-давай, старина, — подгонял его Длинный Джек. — Мы ведь не к острову Файр-Айленд подходим в тумане. Нечего фокусничать!
— Ну и завистник ты, Джек.
Том Плэтт выпустил лот, и он шлепнулся в воду далеко впереди медленно идущей шхуны.
— Все же так запускать лот надо уметь, — заметил Дэн. — Ведь целую неделю только лот будет говорить нам, куда идти. Сколько, по-твоему, отец?
Лицо Диско разгладилось. Уйдя украдкой от остальных шхун, он рисковал своим мастерством и честью. К тому же он дорожил своей репутацией шкипера, знающего Отмели наизусть.
— Шестьдесят, если не ошибаюсь, — ответил он, мельком взглянув на маленький компас.
— Шестьдесят! — протяжно крикнул Том Плэтт, кольцами укладывая мокрый линь.
Шхуна снова набрала скорость.
— Бросай! — крикнул Диско через четверть часа.
— Сколько сейчас? — шепнул Дэн и гордо посмотрел на Гарви. Но на Гарви, поглощенного своими успехами, это не произвело впечатления.
— Пятьдесят! — сказал отец. — Думаю, мы над самой впадиной Зеленой отмели, где от шестидесяти до пятидесяти футов.
— Пятьдесят! — проревел. Том Плэтт, которого было едва видно сквозь туман.
— Живо приманку, Гарв! — сказал Дэн, хватая леску.
Шхуна пробивалась сквозь туман. Парус на носу отчаянно трепыхался.
Мальчики принялись ловить рыбу, а взрослые стояли и наблюдали за ними. Лески Дэна терлись со скрипом о старый, изрезанный поручень шхуны.
— И как только отец угадал?.. Помоги-ка, Гарв. Большая попалась. И дергается.
Совместными усилиями они вытащили пучеглазую треску фунтов на двадцать. Рыбина заглотнула наживку.
— Смотри, она вся покрыта маленькими крабами! — воскликнул Гарви, перевернув треску.
— Порази меня гром, если здесь не тьма рыбы, — отозвался Длинный Джек. — Диско, да у тебя не иначе как пара запасных глаз под килем!
В воду шлепнулся якорь, и рыбаки заняли свои места у фальшборта.
— А ее можно есть? — тяжело дыша, спросил Гарви, вытащив еще одну треску с крабами.
— Конечно. Раз на ней рачки, значит, рыбы здесь пропасть и она голодна, когда так хватает наживку. Наживляй как угодно. Она и пустой крючок возьмет.
— Ну и здорово! — радовался Гарви, глядя, как на палубу одна за другой шлепались рыбины. — Отчего всегда не ловят прямо со шхуны?
— Ловить-то можно, да только после разделки мы бросаем за борт головы и потроха. А это начисто распугает всю рыбу. И вообще с судна рыбачить могут только такие опытные моряки, как отец. Ночью, наверно, поставим перемет. Со шхуны труднее ловить, чем с лодки, спина болит, верно?
Работа и в самом деле была нелегкая. Ведь в лодке вода поддерживает рыбу почти до самых твоих рук. Шхуна же гораздо выше лодки, и рыбу приходится поднимать наверх, перегибаясь через борт. Так что от натуги начинает сводить живот. Но все с азартом занимались этим делом, и когда клев прекратился, на палубе высилась большая груда рыбы.
— А где Пенн и дядя Солтерс? — спросил Гарви, стряхивая с плаща рыбью чешую и старательно сматывая леску.
— Сходи-ка за кофе и увидишь.
При желтом свете подвешенной на шесте лампы, совершенно безразличные к тому, что происходит наверху, за столом сидели оба рыбака и играли в шашки, причем дядюшка Солтерс сопровождал язвительным смехом каждый ход Пенна.
— Что там стряслось? — спросил дядюшка Солтерс, когда Гарви, уцепившись за кожаную петлю в начале трапа, свесился вниз и окликнул кока.
— Крупная рыба, и вся в крабах, тьма-тьмущая, — ответил Гарви. — Как играется?
Крошка Пенн разинул рот.
— Пенн не виноват, — выпалил дядя Солтерс. — Он плохо слышит.
— В шашки режутся, да? — спросил Дэн, когда Гарви показался на корме с дымящимся кофе в судке. — Значит, сегодня убираться не нам. Отец человек справедливый. Он заставит это сделать их.
— А два моих знакомых молодых человека будут наживлять перемет, пока они убираются, — заметил Диско, закрепляя штурвал.
— Ну вот! Я бы лучше уборкой занялся, отец.
— Не сомневаюсь. Но тебе не придется. На разделку! На разделку! Пенн будет подавать, а вы наживляйте.
— Какого шута эти дрянные мальчишки не сказали, что ты напал на место? — проворчал дядюшка Солтерс, пробираясь к своему месту за разделочным столом. — Этот нож совсем тупой, Дэн.
— Если вы не очнулись, когда мы бросили якорь, то вам надо, наверно, нанять собственного боя, — сказал Дэн, копошась в сумерках возле бадей с лесой, стоящих с подветренной стороны рубки. — Эй, Гарв, сходи-ка вниз за наживкой!
— Мы будем разделывать рыбу, а вы наживляйте, — сказал Диско. — Так оно будет лучше.
Мальчики должны были насаживать на крючки потроха, оставшиеся от чистки трески, а это было легче, чем рыться голыми руками в бочонках для отбросов. В бадьях аккуратными кольцами была сложена леса с большими крючками на расстоянии нескольких футов один от другого.
Очень непростое это дело — проверить и наживить каждый крючок и уложить потом лесу так, чтобы она не запуталась, когда ее будут спускать с лодки. Дэн ловко, не глядя, справлялся с этим в темноте: крючки так и летали в его руках, как вязальные спицы в руках старой девы.
Гарви же то и дело цеплялся за крючки и проклинал свою судьбу.
— Я помогал делать это, когда только научился ходить, — сказал Дэн. — И все равно это противная работа. Отец! — прокричал он в трюм, где Диско и Том Плэтт солили рыбу. — Сколько бадей нам сегодня понадобится?
— Штуки три. Пошевеливайтесь!
— В каждой бадье триста саженей лесы, — пояснил Дэн, — более чем достаточно на сегодня. Ой, укололся! — Он сунул палец в рот. — Знаешь, Гарви, я бы ни за какие деньги не согласился работать на судне, где ловят только переметом. Пусть это выгоднее, но нет на свете работы противней и нудней, чем эта.
— А что, по-твоему, делаем мы? — мрачно отозвался Гарви. — Я исколол все руки.
— Тьфу, это одна из выдумок отца! Он перемет не будет ставить понапрасну. Уж он-то знает, что делает. Увидишь, сколько рыбы попадется.
Пенн и дядюшка Солтерс, как им и было велено, занимались уборкой, но мальчикам от этого не было легче. Как только они закончили наживлять, Том Плэтт и Длинный Джек осветили одну лодку фонарем, погрузили в нее бадьи и небольшие крашеные буйки и спустили лодку на воду.
— Они утонут! — закричал Гарви, которому море показалось ужасно бурным. — Ведь лодка нагружена, как товарный вагон!
— Ничего, вернемся, — сказал Длинный Джек, — но если перемет запутается, нам достанется на орехи.
Лодка взлетела на гребень волны. Казалось, она вот-вот разобьется о борт шхуны, но она скользнула вниз и исчезла среди волн.
— Стань здесь и все время звони, — сказал Дэн, передавая Гарви веревку от колокола, который висел за брашпилем.
Гарви усердно звонил, так как ему казалось, что от него зависит жизнь двух людей. Но Диско сидел в рубке, записывал что-то в судовой журнал и вовсе не был похож на убийцу. А когда он отправился ужинать, то даже слегка улыбнулся взволнованному Гарви.
— Разве это волна? — сказал Дэн. — Да перемет и мы с тобой могли бы поставить! Она совсем рядом, так что можно бы и не звонить.
Динь! Динь! Донг!.. Гарви звонил еще с полчаса, меняя для разнообразия ритм, а потом кто-то крикнул, и послышался глухой удар о борт. Мануэль и Дэн бросились к крюкам лодочных талей. Длинный Джек и Том Плэтт, мокрые с головы до ног, взобрались на палубу; за ними в воздух поднялась лодка и со стуком стала на место.
— Не запуталась, — сказал Том Плэтт, отряхиваясь. — Молодец, Дэнни.
— Прошу нынче пожаловать к нам на банкет, — сказал Длинный Джек, выплескивая воду из сапог. Он топтался на месте, как слон, и угодил Гарви в лицо рукой.
— Мы окажем честь второй смене своим присутствием.
Все четверо набросились на ужин. Гарви до отвала наелся рыбьей похлебки и жареных пирожков и тут же крепко гаснул. А в это время Мануэль вынул из рундука красивую модель «Люси Холмс» — первой шхуны, на которой он ходил. Он было начал объяснять Гарви ее оснастку, но тот даже пальцем не шевельнул, когда Пенн оттащил его на койку.
— Как, должно быть, тоскуют его мать и отец, — сказал Пенн, глядя на мальчика. — Ведь они уверены, что он погиб. Потерять ребенка… сына!
— Перестаньте, Пенн, — сказал Дэнни. — Идите и кончайте свою игру с дядей Солтерсом. Скажите отцу, что я могу отстоять вахту за Гарви. Он умаялся…
— Славный парень, — сказал Мануэль, снимая сапоги и скрываясь в темноте нижней койки. — Думаю, Дэнни, станет человеком твой друг. И вовсе не такой уж он помешанный, как говорит твой отец. А? Что?
Дэн хихикнул и тут же захрапел.
Было туманно, ветер усилился, и вахты стояли одни взрослые. Из рубки доносился четкий бой часов, волны с плеском разбивались о нос шхуны, дымовая труба шипела от попадавших на нее брызг; мальчики крепко спали, а Диско, Длинный Джек, Том Плэтт и дядюшка Солтерс по очереди обходили палубу, проверяли штурвал, смотрели, держит ли якорь, подтягивали снасти и посматривали на тусклый свет якорного фонаря.
ГЛАВА IV
Когда Гарви проснулся, «первая смена» уже завтракала. Дверь кубрика была приоткрыта, и каждый квадратный дюйм шхуны пел свою собственную песню. Большая черная фигура кока, освещенная раскаленной печкой, плясала в крохотном камбузе, а горшки и кастрюли на деревянной полке с отверстиями дребезжали и гремели при каждом толчке. Нос шхуны, куда-то устремляясь и весь дрожа, карабкался все выше и выше, а потом плавным круговым движением нырял в бездну. Гарви слышал громкий шлепок, скрип рангоута, а потом наступала пауза, и разрезанная надвое волна обрушивалась на палубу с треском ружейного залпа. Затем доносились приглушенный скрип якорного каната в клюзе, стон и визг брашпиля, и, метнувшись в сторону и взбрыкнув, шхуна «Мы здесь» собиралась с силами, чтобы повторить все сначала. — Так вот, на берегу, — услышал Гарви голос Длинного Джека, — у тебя всегда есть дела и заниматься ими приходится в любую погоду. А здесь мы от всех скрылись, и, слава богу, дел у нас нет никаких. Спокойной вам ночи. Он, как большая змея, пробрался от стола к своей койке и закурил. Том Плэтт последовал его примеру; дядюшка Солтерс с Пенном с трудом взобрались на палубу по трапу, чтобы стать на вахту, а кок накрыл стол для «второй смены». Все они сползли со своих коек, потягиваясь и зевая. Когда «вторая смена» наелась до отвала, Мануэль набил трубку каким-то ужасным табаком, уселся между пал-постом и передней койкой, упершись ногами в край стола, и с нежной и беспечной улыбкой стал следить за клубами дыма. Дэн растянулся на своей койке, пытаясь справиться со старой разукрашенной гармошкой, мелодия которой прыгала вверх и вниз вместе с прыжками шхуны. Кок стоял, подпирая спиной шкаф, где хранились любимые пончики Дэна, и чистил картофель. Одним глазом он поглядывал на печку, следя, чтобы ее не залило водой через дымовую трубу. Чад и запах в каюте не поддавались описанию. Гарви с удивлением обнаружил, что его не так уж сильно мутит, и снова взобрался на свою койку, казавшуюся ему самым удобным и безопасным местом. Дэн в это время наигрывал «Не буду играть в твоем дворе», насколько это позволяла дикая качка. — Долго это будет продолжаться? — спросил Гарви у Мануэля. — Пока волна не уляжется. Тогда мы подгребем к перемету. Может, этой ночью, а может, через пару дней. Тебе не нравится? А? Что? — Неделю назад меня бы укачало до безумия, а сейчас вроде ничего. — Это потому, что мы из тебя рыбака делаем. На твоемместе я бы поставил на счастье две-три большие свечи в Глостере. — Кому бы поставил? — Понятно кому — святой деве в церкви на Холме. Она всегда добрая к морякам. Поэтому мы, португальцы, редко тонем. — Значит, вы католик? — Я — с острова Мадейра, я не пуэрториканец. Поэтому я не баптист. А? Что? Я всегда ставлю свечи две-три, а то и больше, когда бываю в Глостере. Святая дева меня не забывает. — А по мне, дело не в этом, — вмешался с койки Том Плэтт; его покрытое шрамами лицо осветилось спичкой, когда он раскурил свою трубку. — Море есть море, а что бы ты ни ставил, свечи или керосин, получишь по заслугам. — Все равно стоит иметь своего человека в нужном месте, — вступил Длинный Джек. — Я согласен с Мануэлем. Лет десять назад я служил на шхуне из Южного Бостона. В открытом море с северо-востока на нас налетел туман, густой, как овсянка. Старик шкипер был чертовски пьян, и я говорю себе: «Если только мне удастся вернуться в порт живым, я покажу святым, какую шхуну они спасли». Как видите, я жив-здоров, а модель этой шхуны, старой развалины «Кэтлин», на которую у меня ушел целый месяц, я подарил священнику. Он повесил ее над алтарем. Так что лучше дарить модель, чем свечку: как-никак это произведение искусства. Свечи можно купить в любой лавке, а модель показывает, что ты был в беде и благодарен за спасение. — Никак, ты веришь в это, ирландец? — спросил Том Плэтт, поднимаясь на локте. — Стал бы я возиться, если б не верил! — А вот Эмох Фуллер изготовил модель фрегата «Огайо», и она стоит в Сейлемском музее. Очень красивая модель, да только Фуллер сделал ее не задаром. И как понимаю это дело я… Эта увлекательная беседа, в которой один старался перекричать другого без надежды переубедить своих товарищей, длилась бы без конца, не затяни Дэн веселой песенки, которую подхватил Длинный Джек. Второй куплет, где говорилось о неловком малом, не умеющем забрасывать лот, Дэн запел громче, искоса поглядывая на Тома Плэтта. Тот в это время шарил рукой под койкой. Дэн пригнулся и продолжал петь. Вдруг через кубрик в него полетел громадный резиновый сапог Тома Плэтта. Между ними уже давно шла война. А началось это с тех пор, когда Дэн подметил, что эта мелодия просто бесит Тома Плэтта, считавшего себя специалистом по забрасыванию лота. — Я знал, что вам это понравится, — сказал Дэн, ловко посылая сапог обратно. — Если вам моя музыка не по душе, достаньте свою скрипку. Мне надоели ваши вечные споры о свечах. Скрипку, Том Плэтт, или Гарв тоже выучит эту песенку! Том Плэтт наклонился к своему рундуку и извлек оттуда старую, истертую добела скрипку. Глаза Мануэля заблестели, и он достал нечто похожее на маленькую гитару с проволочными струнами. — Да это настоящий концерт, — сказал Длинный Джек. Сквозь облако табачного дыма его лицо просияло от удовольствия. Люк распахнулся, и в дожде брызг в кубрик спустился Диско в своем желтом дождевике. — Как раз вовремя, Диско. Что там снаружи? — Все то же, — ответил Диско. Шхуну качнуло, и он грузно опустился на рундук. — Мы тут поем, а то переели за завтраком. Ты, конечно, будешь запевалой? — сказал Длинный Джек. — Да знаю-то я всего две старых песни, и слышали вы их сто раз. Том Плэтт прервал его, заиграв какую-то печальную мелодию, напоминавшую стон ветра и скрип мачт. Диско устремил глаза кверху и начал петь старинную морскую песню, а Том Плэтт подыгрывал ему, стараясь не отставать от поющего.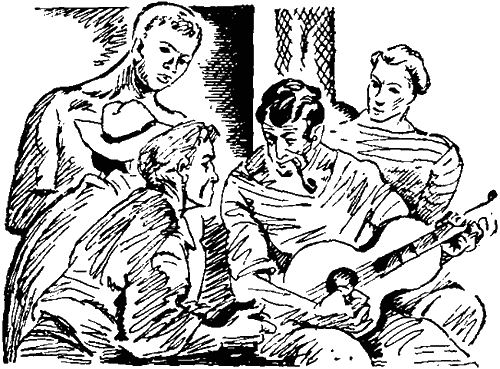 В песне говорилось о славном пакетботе «Дредноут», и в бесконечном количестве куплетов описывался каждый его маневр от Ливерпуля до Нью-Йорка. Диско пел, гармоника всхлипывала, а скрипка визжала. Потом Том Плэтт исполнил песню про «неустрашимого Макджина, который привел судно в гавань». Они попросили спеть и Гарви, который с радостью внес бы свою лепту, но, к сожалению, он смог только припомнить несколько строф из «Шкипера Айрсона» — песенки, которую разучивали в адирондакском лагере. Ему казалось, что она как раз подходила для этого концерта, но стоило ему лишь упомянуть ее название, как Диско топнул ногой и вскричал:
— Замолчи, юноша, все в ней неправда от начала до конца!
— Надо было предупредить тебя, — сказал Дэн. — Отец терпеть не может эту песенку.
— Что ж в ней дурного? — спросил Гарви с досадой.
— Все, — ответил Диско, — все, от начала до конца. И виноват в этом ее сочинитель. Мне ни к чему заступаться за Айрсона, но он ни в чем не виноват. Мне отец рассказывал, как все произошло. Вот как было дело.
— В сотый раз слышу это, — шепнул Длинный Джек.
— Бен Айрсон был шкипером на «Бетти», юноша, и возвращался домой с отмелей. Это было еще до войны 1812 года, но правда всегда есть правда. Им повстречался «Эктив» из Портленда, а шкипером там был Гиббоне из того же города. За маяком мыса Код «Эктив» дал течь. На море был страшный шторм, и «Бетти» изо всех сил торопилась домой. Ну, Айрсон сказал, что в такую погоду невозможно подойти к другому судну, да и экипаж был против этого, и он предложил оставаться неподалеку от «Эктива», пока шторм не утихнет. На это экипаж тоже не согласился, хоть «Эктив» мог попасть в беду. Они тут же подняли стаксель и ушли. Айрсон, понятно, был с ними. Когда они пришли в Марблхед, на него все накинулись за то, что он решил не рисковать, и еще потому, что на следующий день другая шхуна сняла часть команды «Эктива». Им было невдомек, что на другой день буря-то утихла. А спасенные стали твердить, что Айрсон опозорил свой родной город, и прочее и прочее. А матросы «Бетти», те перепугались и стали валить все на Айрсона, говоря, что он один во всем виноват. И вовсе не женщины измазали его дегтем и вываляли в перьях — в том городе женщины не такие. Это все было делом рук мужчин и мальчишек. Это они таскали его по всему Марблхеду в лодке, покуда у той не вывалилось днище. А Айрсон, он сказал, что они еще пожалеют об этом. Как всегда, правда-то выплыла наружу, да поздно для этого честного человека. А сочинитель Уитьер подобрал эту сплетню да измазал в дегте и вывалял в перьях уже самую память о Бене Айрсоне. Уитьер никогда не ошибался, а на сей раз дал маху. А Дэну досталось от меня на орехи, когда он принес эту песню из школы. Ты тоже ничего этого не знал, а теперь знаешь, как все было на самом деле. Так что помни: Бен Айрсон не был таким, каким его сделал Уитьер. Мой Отец хорошо его знал до и после этой истории. Берегись опрометчивых суждений, юноша. Ну так как?
Гарви ни разу не слышал, чтобы Диско говорил так долго. Он был готов сгореть со стыда. Дэн же быстро пришел ему на выручку и заявил, что, мол, чему в школе учат, тому он и верит и что жизнь слишком коротка, чтобы отличить все правдивые истории от сплетен, которых так много на берегу.
Туг Мануэль тронул дребезжавшие струны своей маленькой гитары и запел по-португальски незнакомую песню. Закончил он ее, круто оборвав пение и рванув струны всей пятерней.
Диско согласился спеть еще одну старинную песню, и все подпевали ему хором. Вот один ее куплет:
В песне говорилось о славном пакетботе «Дредноут», и в бесконечном количестве куплетов описывался каждый его маневр от Ливерпуля до Нью-Йорка. Диско пел, гармоника всхлипывала, а скрипка визжала. Потом Том Плэтт исполнил песню про «неустрашимого Макджина, который привел судно в гавань». Они попросили спеть и Гарви, который с радостью внес бы свою лепту, но, к сожалению, он смог только припомнить несколько строф из «Шкипера Айрсона» — песенки, которую разучивали в адирондакском лагере. Ему казалось, что она как раз подходила для этого концерта, но стоило ему лишь упомянуть ее название, как Диско топнул ногой и вскричал:
— Замолчи, юноша, все в ней неправда от начала до конца!
— Надо было предупредить тебя, — сказал Дэн. — Отец терпеть не может эту песенку.
— Что ж в ней дурного? — спросил Гарви с досадой.
— Все, — ответил Диско, — все, от начала до конца. И виноват в этом ее сочинитель. Мне ни к чему заступаться за Айрсона, но он ни в чем не виноват. Мне отец рассказывал, как все произошло. Вот как было дело.
— В сотый раз слышу это, — шепнул Длинный Джек.
— Бен Айрсон был шкипером на «Бетти», юноша, и возвращался домой с отмелей. Это было еще до войны 1812 года, но правда всегда есть правда. Им повстречался «Эктив» из Портленда, а шкипером там был Гиббоне из того же города. За маяком мыса Код «Эктив» дал течь. На море был страшный шторм, и «Бетти» изо всех сил торопилась домой. Ну, Айрсон сказал, что в такую погоду невозможно подойти к другому судну, да и экипаж был против этого, и он предложил оставаться неподалеку от «Эктива», пока шторм не утихнет. На это экипаж тоже не согласился, хоть «Эктив» мог попасть в беду. Они тут же подняли стаксель и ушли. Айрсон, понятно, был с ними. Когда они пришли в Марблхед, на него все накинулись за то, что он решил не рисковать, и еще потому, что на следующий день другая шхуна сняла часть команды «Эктива». Им было невдомек, что на другой день буря-то утихла. А спасенные стали твердить, что Айрсон опозорил свой родной город, и прочее и прочее. А матросы «Бетти», те перепугались и стали валить все на Айрсона, говоря, что он один во всем виноват. И вовсе не женщины измазали его дегтем и вываляли в перьях — в том городе женщины не такие. Это все было делом рук мужчин и мальчишек. Это они таскали его по всему Марблхеду в лодке, покуда у той не вывалилось днище. А Айрсон, он сказал, что они еще пожалеют об этом. Как всегда, правда-то выплыла наружу, да поздно для этого честного человека. А сочинитель Уитьер подобрал эту сплетню да измазал в дегте и вывалял в перьях уже самую память о Бене Айрсоне. Уитьер никогда не ошибался, а на сей раз дал маху. А Дэну досталось от меня на орехи, когда он принес эту песню из школы. Ты тоже ничего этого не знал, а теперь знаешь, как все было на самом деле. Так что помни: Бен Айрсон не был таким, каким его сделал Уитьер. Мой Отец хорошо его знал до и после этой истории. Берегись опрометчивых суждений, юноша. Ну так как?
Гарви ни разу не слышал, чтобы Диско говорил так долго. Он был готов сгореть со стыда. Дэн же быстро пришел ему на выручку и заявил, что, мол, чему в школе учат, тому он и верит и что жизнь слишком коротка, чтобы отличить все правдивые истории от сплетен, которых так много на берегу.
Туг Мануэль тронул дребезжавшие струны своей маленькой гитары и запел по-португальски незнакомую песню. Закончил он ее, круто оборвав пение и рванув струны всей пятерней.
Диско согласился спеть еще одну старинную песню, и все подпевали ему хором. Вот один ее куплет:
ГЛАВА V
То была первая из многочисленных бесед, во время которой Дэн рассказал Гарви, почему он перенес бы название своей лодки на судно своей мечты. Гарви уже многое знал о настоящей Хэтти из Глостера, даже видел локон ее волос — Дэн, считая обычные слова неподходящими, объяснил, что он отчекрыжил локон у нее зимой в школе, — и ее фотографию. Хэтти, девочка лет четырнадцати, терпеть не могла мальчишек, и всю ту зиму она топтала ногами сердце Дэна. Обо всем этом он под большим секретом рассказывал Гарви то на освещенной луной палубе, то в кромешной тьме, то в густом тумане, когда позади них стонало штурвальное колесо, а впереди вздымалась на беспокойных и шумных волнах палуба. Потом, когда мальчики стали знать друг друга получше, не обошлось и без драки, и они гонялись один за другим по всему судну, пока Пенн их не разнял и обещал не говорить ничего Диско. Ведь Диско считал, что драться во время вахты это еще хуже, чем заснуть. Гарви уступал Дэну в силе, но для его воспитания очень многое значило то, что он признал свое поражение и не пытался расквитаться с победителем недозволенными приемами. Это произошло после того, как ему излечили несколько волдырей на руках в том месте, где мокрый свитер и дождевик вгрызались в тело. От соленой воды неприятно пощипывало, и когда волдыри созрели, Дэн вскрыл их бритвой отца и сказал, что теперь Гарви «чистокровный банкир», потому что болезненные болячки — признак касты, к которой тот принадлежит. Поскольку Гарви был еще мальчиком и к тому же все время его заставляли работать, ему было не до размышлений. Он очень жалел свою мать и часто скучал по ней, а главное, хотел рассказать ей о своей новой жизни и как он к ней успешно привыкает. Но он предпочитал не задумываться над тем, как она перенесла известие о его предполагаемой гибели. Но однажды, когда он стоял на носовом трапе, подтрунивая над коком, который бранил их с Дэном за то, что они стащили жареные пончики, ему пришло в голову, насколько это лучше, чем выслушивать грубости от каких-то незнакомцев в курительном салоне пассажирского парохода. Он был полноправным членом экипажа «Мы здесь», у него было свое место за столом и своя койка; в штормовую погоду вся команда с удовольствием слушала небылицы о его жизни на берегу. Ему потребовалось всего два дня с четвертью, чтобы сообразить, что если бы он рассказал о себе самом, то никто, кроме Дэна (да и он не больно ему верил), не поверил бы ему. Поэтому он выдумал себе приятеля — мальчика, у которого, говорят, есть собственная маленькая коляска с четырьмя пони, в которой он разъезжает по Толедо в штате Огайо, которому в один раз заказывают по пять костюмов и который устраивает приемы для своих сверстников, мальчиков и девочек не старше пятнадцати лет, где еда подается на чистом серебре. Солтерс протестовал против этих совершенно безнравственных, даже откровенно кощунственных небылиц, но сам слушал их так же жадно, как и все остальные. А их издевки над героем рассказов Гарви совершенно не меняли его отношения к одежде, сигаретам с золочеными наконечниками, кольцам, часам, духам, приемам, шампанскому, игре в карты и жизни в отелях. Мало-помалу он стал в другом тоне говорить о своем «приятеле», которого Длинный Джек окрестил «ненормальным мальцом», «позолоченным ребенком» и другими столь же приятными именами; и чтобы опорочить своего «приятеля», Гарви, закинув на стол ноги, обутые в резиновые сапоги, стал сочинять всякие истории о шелковых пижамах и заказываемых за границей галстуках и воротничках. Гарви очень легко привыкал к новой обстановке, у него был острый глаз и чуткое ухо ко всему, что его касалось. Очень скоро он узнал, что у себя под матрасом Диско хранит свой старый, позеленевший квадрант, который рыбаки называли «бычьим ярмом». Когда Диско по солнцу и с помощью «Справочника для фермеров» определял широту, Гарви забирался в рубку и на ржавой печной трубе выцарапывал гвоздем местонахождение шхуны и дату. Так вот, ни один старший механик пассажирского лайнера не мог бы сделать большего, и ни один механик с тридцатилетним стажем не мог бы с таким видом бывалого моряка объявить команде местонахождение шхуны на сегодняшний день, с каким делал это Гарви, перед тем небрежно сплевывающий за борт и потом, только потом принимавший от Диско квадрант. Во всем этом деле есть свой ритуал. «Бычье ярмо», «Справочник для фермеров» и еще одна — две книги по мореходству — это все, чем пользовался Диско во время плавания, да еще глубоководным лотом, который служил ему дополнительным глазом. Гарви едва не покалечил им Пенна, когда Том Плэтт обучал его «запускать сизаря»; и хотя силенок у него было маловато, чтобы несколько раз подряд замерять глубину в штормовую погоду, Диско часто позволял Гарви забрасывать семифунтовый лот на мелководье и при спокойном море. «Отцу вовсе не глубина нужна, — говаривал Дэн. — Ему нужны образцы. Ну-ка смажь его как следует, Гарв». Гарви тщательно смазывал жиром чашку на конце лота и все, что в ней потом оказывалось — песок, ракушки, грязь, — тут же показывал Диско, который брал содержимое чашки в руки, нюхал его и принимал решение. Как мы уже говорили, когда Диско думал о треске, он думал, как треска, и, пользуясь своим многолетним опытом и особым инстинктом, он переводил «Мы здесь» с одного полного рыбы места на другое, подобно шахматисту с завязанными глазами, который передвигает фигуры по невидимой доске. Но доской Диско служили Большие Отмели — треугольник со стороной в двести пятьдесят миль, — безбрежье кочующих волн, окутанных влажным туманом, изводимых штормовым ветром, раздираемых плавучими льдами, разрезаемых безжалостными пароходами и испещренных парусами рыбачьих шхун. Несколько дней подряд они работали в тумане. Все это время Гарви стоял у колокола. Наконец и он вышел в море с Томом Плэттом, хоть сердце у него ушло в пятки. Туман все не рассеивался, клев был хороший, и шесть часов кряду невозможно испытывать чувство безнадежного страха. Гарви был поглощен своими лесками и выполнял все приказания Тома Плэтта. А потом они погребли на звук колокола шхуны, полагаясь больше на инстинкт Тома и вслушиваясь в тонкий и слабый голос раковины Мануэля. Впечатление было неземное, и впервые за месяц Гарви приснились волнующийся и дымящийся водяной настил вокруг лодки, пучок лесок, уходящих в ничто, а над лодкой воздух, таявший на воде, в десяти футах от его напряженных глаз. Через несколько дней он вышел с, Мануэлем на место глубиной в сорок саженей, но якорь так и не мог достать дна, и Гарви смертельно перепугался, потому что был потерян его последний контакт с землей. «Китовая дыра», — заметил Мануэль, вытягивая якорь. — Диско просчитался, пошли!» И он погреб к шхуне. Том Плэтт и его товарищи посмеивались над своим капитаном, который на сей раз привел их на край пустынной Китовой впадины, никчемной ямы Больших Отмелей. Шхуна перешла в тумане на другое место, и когда в этот раз Гарви снова вышел с Мануэлем на лодке, волосы у него встали дыбом. Что-то белое двигалось к ним в белизне тумана, на них пахнуло холодом, словно из могилы, послышался грохот разбивающихся волн, и лодку закачало и обдало брызгами. То было первое знакомство Гарви со страшными летними айсбергами Отмелей, и он под смех Мануэля от ужаса бросился на дно лодки. Однако бывали дни ясные, и мягкие, и теплые, когда, казалось, сам бог велел лениво поглядывать на лесу и шлепать веслом по солнечным зайчикам; бывали дни, когда воздух был чист и когда Гарви учили, как управлять шхуной при переходе с места на место. Его охватил восторг, когда, послушная его руке, лежащей на спицах штурвала, шхуна скользила над глубоководьем, а фок стал описывать плавные круги на фоне голубого неба. Это было прекрасно, хотя Диско заметил, что и змея свернула бы себе хребет, следуй она его курсом. Но, как всегда, гордыня до добра не доводит. Они шли по ветру под стакселем — к счастью, старым, — и Гарви тут же попал в беду, желая показать Дэну, каким прекрасным рулевым он стал. Фок со стуком развернулся, гик прорезал насквозь стаксель, который не свалился только лишь благодаря фок-мачте. В ужасном молчании они спустили изорванный парус, и в течение нескольких следующих дней все свое свободное время Гарви под наблюдением Тома Плэтта учился пользоваться швейной иглой. Дэн был вне себя от радости, так как он сам, по его словам, когда-то давно совершил ту же ошибку.
Как положено мальчишке, Гарви старался подражать всем мужчинам по очереди и наконец стал, как Диско, сутулиться над штурвалом; как Длинный Джек, размашистым движением вытаскивал из воды лесу; как Мануэль, ловко и быстро греб в лодке и, как Том Плэтт, широким шагом, будто по палубе «Огайо», научился расхаживать по шхуне.
— Здорово смотреть, как он все перенимает, — сказал как-то туманным утром Длинный Джек, когда Гарви выглядывал за борт возле брашпиля. — Готов заложить свое жалованье и долю, что для него это вроде как игра и он изображает из себя храброго и бывалого морехода. Посмотри только, как он держится!
— Да все мы так начинали, — ответил Том Плэтт. — Мальчишки, те все время играют да так незаметно и становятся взрослыми и до конца своих дней всё играют да играют. И я точно таким же был на старом «Огайо». На своей первой вахте — в гавани — я воображал себя храбрее Фаррагута. И у Дэна голова забита тем же. Только погляди на них: выступают, словно просмоленные морские волки: каждый волос из веревочной пеньки, а кровь — чистая смола. — И он крикнул по направлению к рубке: — А ты на сей раз ошибся, Диско! Какого лешего ты сказал, что мальчишка ненормальный?
— А он таким и был, — ответил Диско. — Чудной, как лунатик. Но с тех пор он малость поправился. Я его вылечил.
— Сочиняет он здорово, — заметил Том Плэтт. — Недавно рассказал нам про парнишку своих лет, который вроде бы ездит на упряжке из четырех пони в Толедо, штат Огайо, кажется, и устраивает приемы для таких же, как он, мальцов. Любопытная басня, но чертовски интересная. И он много таких басен знает.
— Похоже, он сам их и выдумывает, — отозвался Диско из рубки, где он возился с вахтенным журналом. — Совершенно ясно, что это всё выдумки. Один Дэн этому верит, да и то посмеивается. Я слышал, как он хихикал за моей спиной.
— А ты знаешь, что сказал Питер Саймон Кэлхаун, когда его сестра Хитти была помолвлена с Лореном Джеральдом и ребята придумали эту шутку? — протянул дядюшка Солтерс, мирно скрывавшийся от брызг под прикрытием лодок у правого борта.
Том Плэтт пыхтел своей трубкой в скорбном молчании: он ведь был с мыса Код и не меньше двадцати лет назад слышал эту историю. А дядюшка Солтерс издал дребезжащий смешок и продолжал:
— Так вот, этот Саймон Питер Кэлхаун совершенно справедливо сказал о Лорене: «Наполовину, говорит, светский щеголь, а наполовину полный дурак; а люди твердят, что она выходит замуж за богача». У Саймона Питера Кэлхауна язык без костей, вот он и болтал без конца.
— А вот на голландском, как говорят у нас в Пенсильвании, он ни слова не знал, — вставил Том Плэтт. — Ты уж лучше дай жителю мыса Код рассказать эту историю. Эти Кэлхауны по происхождению цыгане.
— А я вовсе не оратор какой, — сказал Солтерс. — Я хочу сказать о морали этой истории. Наш Гарви точь-в-точь такой же: наполовину городской паренек, наполовину набитый дурак; а кое-кто принимает его за богача. Вот и всё!
— Вам приходило в голову, как было бы здорово, если бы весь наш экипаж состоял из одних Солтерсов? — сказал Длинный Джек. — Наполовину он в борозде, наполовину в навозе — этого-то Кэлхаун не говорил, — а еще воображает себя рыбаком!
Все посмеялись над дядюшкой Солтерсом.
Диско с высунутым языком трудился над вахтенным журналом, который он держал в своей большой, как лопата, квадратной ладони; вот что было написано на замусоленных страницах:
Его охватил восторг, когда, послушная его руке, лежащей на спицах штурвала, шхуна скользила над глубоководьем, а фок стал описывать плавные круги на фоне голубого неба. Это было прекрасно, хотя Диско заметил, что и змея свернула бы себе хребет, следуй она его курсом. Но, как всегда, гордыня до добра не доводит. Они шли по ветру под стакселем — к счастью, старым, — и Гарви тут же попал в беду, желая показать Дэну, каким прекрасным рулевым он стал. Фок со стуком развернулся, гик прорезал насквозь стаксель, который не свалился только лишь благодаря фок-мачте. В ужасном молчании они спустили изорванный парус, и в течение нескольких следующих дней все свое свободное время Гарви под наблюдением Тома Плэтта учился пользоваться швейной иглой. Дэн был вне себя от радости, так как он сам, по его словам, когда-то давно совершил ту же ошибку.
Как положено мальчишке, Гарви старался подражать всем мужчинам по очереди и наконец стал, как Диско, сутулиться над штурвалом; как Длинный Джек, размашистым движением вытаскивал из воды лесу; как Мануэль, ловко и быстро греб в лодке и, как Том Плэтт, широким шагом, будто по палубе «Огайо», научился расхаживать по шхуне.
— Здорово смотреть, как он все перенимает, — сказал как-то туманным утром Длинный Джек, когда Гарви выглядывал за борт возле брашпиля. — Готов заложить свое жалованье и долю, что для него это вроде как игра и он изображает из себя храброго и бывалого морехода. Посмотри только, как он держится!
— Да все мы так начинали, — ответил Том Плэтт. — Мальчишки, те все время играют да так незаметно и становятся взрослыми и до конца своих дней всё играют да играют. И я точно таким же был на старом «Огайо». На своей первой вахте — в гавани — я воображал себя храбрее Фаррагута. И у Дэна голова забита тем же. Только погляди на них: выступают, словно просмоленные морские волки: каждый волос из веревочной пеньки, а кровь — чистая смола. — И он крикнул по направлению к рубке: — А ты на сей раз ошибся, Диско! Какого лешего ты сказал, что мальчишка ненормальный?
— А он таким и был, — ответил Диско. — Чудной, как лунатик. Но с тех пор он малость поправился. Я его вылечил.
— Сочиняет он здорово, — заметил Том Плэтт. — Недавно рассказал нам про парнишку своих лет, который вроде бы ездит на упряжке из четырех пони в Толедо, штат Огайо, кажется, и устраивает приемы для таких же, как он, мальцов. Любопытная басня, но чертовски интересная. И он много таких басен знает.
— Похоже, он сам их и выдумывает, — отозвался Диско из рубки, где он возился с вахтенным журналом. — Совершенно ясно, что это всё выдумки. Один Дэн этому верит, да и то посмеивается. Я слышал, как он хихикал за моей спиной.
— А ты знаешь, что сказал Питер Саймон Кэлхаун, когда его сестра Хитти была помолвлена с Лореном Джеральдом и ребята придумали эту шутку? — протянул дядюшка Солтерс, мирно скрывавшийся от брызг под прикрытием лодок у правого борта.
Том Плэтт пыхтел своей трубкой в скорбном молчании: он ведь был с мыса Код и не меньше двадцати лет назад слышал эту историю. А дядюшка Солтерс издал дребезжащий смешок и продолжал:
— Так вот, этот Саймон Питер Кэлхаун совершенно справедливо сказал о Лорене: «Наполовину, говорит, светский щеголь, а наполовину полный дурак; а люди твердят, что она выходит замуж за богача». У Саймона Питера Кэлхауна язык без костей, вот он и болтал без конца.
— А вот на голландском, как говорят у нас в Пенсильвании, он ни слова не знал, — вставил Том Плэтт. — Ты уж лучше дай жителю мыса Код рассказать эту историю. Эти Кэлхауны по происхождению цыгане.
— А я вовсе не оратор какой, — сказал Солтерс. — Я хочу сказать о морали этой истории. Наш Гарви точь-в-точь такой же: наполовину городской паренек, наполовину набитый дурак; а кое-кто принимает его за богача. Вот и всё!
— Вам приходило в голову, как было бы здорово, если бы весь наш экипаж состоял из одних Солтерсов? — сказал Длинный Джек. — Наполовину он в борозде, наполовину в навозе — этого-то Кэлхаун не говорил, — а еще воображает себя рыбаком!
Все посмеялись над дядюшкой Солтерсом.
Диско с высунутым языком трудился над вахтенным журналом, который он держал в своей большой, как лопата, квадратной ладони; вот что было написано на замусоленных страницах:
«17 июля. Сегодня густой туман и мало рыбы. Бросили якорь севернее. День закончился. 18 июля. День начался густым туманом. Рыбы поймали мало. 19 июля. С утра легкий с-з бриз, погода установилась. Бросили якорь восточнее. Поймали много рыбы. 20 июля. Сегодня в субботу туман и легкий ветер. Так день закончился. Всего за неделю наловили рыбы 3478 штук».По воскресеньям они никогда не работали, а брились и умывались, если погода была хорошая, а пенсильванец пел псалмы. А однажды или дважды он скромно предложил прочитать короткую проповедь. У дядюшки Солтерса аж дух захватило от негодования, и он напомнил ему, что он не проповедник и нечего, мол, и помышлять ни о чем подобном. «Он, чего доброго, так и Джонстаун вспомнит, — объяснял Солтерс, — а к чему это приведет?» Поэтому порешили, что Пенн прочтет вслух отрывок из книги под заглавием «Иосиф». То был старый, в кожаном переплете том с запахом тысячи путешествий, толстый и очень похожий на Библию, только поживее: в нем было много рассказов про битвы и осады. И они прочитали его от корки до корки. А вообще Пенна не было ни видно, ни слышно. Иной раз он по три дня кряду не промолвит и словечка, хоть и играет в шашки, слушает песни и смеется над шутками. А когда его пытаются расшевелить, он отвечает: «Я бы не хотел, чтобы меня считали нелюдимым. Просто мне нечего сказать. У меня, кажется, в голове совсем пусто. Я и имя-то свое почти позабыл». И он с вопросительной улыбкой поворачивается к дядюшке Солтерсу. «Ну и ну, Прэтт. Так, чего доброго, ты и меня позабудешь!» — возмущался Солтерс. «Нет, никогда, — отвечает тогда Пенн и плотно сжимает губы. — Конечно, конечно, Прэтт из Пенсильвании…» — повторяет он несколько раз. А иногда сам дядюшка Солтерс забывает и говорит, что того зовут Гаскинс, или Рич, или Макуитти; и Пенн всему этому одинаково рад — до следующего раза. Он всегда очень нежно обращался с Гарви и жалел его, потому что его потеряли родители и потому, что считал его ненормальным. И когда Солтерс увидел, что мальчик нравится Пенну, у него немного отлегло от души. Солтерс был не очень любезным человеком (он считал нужным держать мальчишек в узде), поэтому в тот первый раз, когда Гарви, весь дрожа от страха, сумел в штилевую погоду взобраться на клотик (Дэн был рядом, готовый прийти ему на помощь), он счел своим долгом подвесить на верхушке мачты большие резиновые сапоги Солтерса — на потеху всем окружающим. По отношению к Диско Гарви не допускал никаких вольностей, не делал этого, даже когда старый моряк стал относиться к нему как к рядовому члену экипажа, то и дело приказывая: «Сделай-ка то-то и то-то» или «Займись тем-то и тем-то». В чисто выбритых щеках и морщинистых уголках глаз Диско было нечто такое, что немедленно остужало молодую, горячую кровь. Диско научил Гарви понимать замусоленную и измятую карту, которая, по его словам, была лучшим из всего, что когда-либо издавало правительство; с карандашом в руке он провел его от стоянки к стоянке по всем отмелям: Ле Хейв, Уэстерн, Банкеро, Сент-Пьер, Грин и Грэнд, говоря все время на «языке» трески. Он объяснял ему также, как пользоваться «бычьим ярмом». В этом Гарви превзошел Дэна, так как унаследовал математические способности, и ему нравилось с одного взгляда угадывать, что принесет с собой тусклое солнце Отмелей. Начни он изучать морское дело лет в десять, говаривал Диско, он хорошо бы овладел и всем остальным. Дэн, например, в полной темноте умел наживлять перемет или мог найти любую снасть, а в случае нужды, когда, например, у дядюшки Солтерса вскакивал на ладони волдырь, умел разделывать рыбу на ощупь. Он мог удерживать шхуну при сильном волнении и давать» Мы здесь» волю именно тогда, когда ей это было нужно. Все это он проделывал не задумываясь, как лазал по снастям или сливался со своей лодкой в одно целое. Но передать свои навыки Гарви он был не в состоянии. В штормовую погоду, когда рыбаки валялись на койках в носовом кубрике или усаживались на рундуки в рубке, на шхуне можно было услышать очень много интересных и поучительных историй, звучавших под громыханье запасных рым-болтов, лотов и рымов. Диско рассказывал о китобойцах пятидесятых годов: как рядом со своими малышами погибали огромные самки китов; о предсмертной агонии на черных и бурых волнах, когда фонтан крови взлетал на сорок футов вверх; о том, как лодки разбивало в щепы; о патентованных ракетах, которые почему-то не хотели подниматься в воздух, а вместо этого попадали в перепуганную команду; о столкновениях и тонущих шхунах; о том ужасном урагане — «японце», — который за три дня оставил без крова больше тысячи человек… Все это были чудесные истории и, главное, правдивые. Но еще более чудесными были рассказы о рыбах и о том, как они спорят между собой и улаживают свои личные дела где-то глубоко под килем. У Длинного Джека был иной вкус: он предпочитал сверхъестественное. У всех дух замирал от его страшных рассказов о привидениях, которые дразнят и приводят в ужас одиноких собирателей моллюсков; об оборотнях, встающих из своих песчаных могил, о сокровищах острова Файр-Айленд, охраняемых духами пиратов; о парусниках, проплывавших в тумане над городом Труро; о гавани в Мэйне, где никто, кроме чужеземца, не бросит дважды якорь в определенном месте из-за экипажа мертвецов, которые подгребают в полночь с якорем на корме своей старомодной лодки и посвистывают — не зовут, а посвистывают, — чтобы выманить душу нарушившего их покой человека. Гарви всегда казалось, что восточное побережье его родины от горы Дезерт к югу служит летним местом отдыха и развлечений и что там стоят виллы с паркетом из ценных пород дерева, а у их входа дежурят портье. Он смеялся над этими историями о привидениях — не так, правда, как смеялся бы месяц назад, — а кончил тем, что умолк и слушал их с содроганием. Том Плэтт повествовал о своем нескончаемом путешествии вокруг мыса Горн на фрегате «Огайо» в дни, когда еще пороли розгами, когда военные суда попадались реже птицы дронт — суда военно-морского флота, погибшего во время войны. Он рассказывал, как в пушку закладывается раскаленное ядро, а между ним и гильзой кладется слой мокрой глины; как ядра кипят и дымятся, попадая в дерево, и как юнги с «Мисс Джим Бак» заливают их водой и дразнят пушкарей из форта. И еще он рассказывал о блокаде: о долгих неделях болтания на якоре, когда единственным развлечением были уходящие за топливом и возвращающиеся пароходы (парусники все время оставались на месте), о штормах и холоде, из-за которого двести человек день и ночь скалывали лед со снастей, а печная труба, подобно вражеским ядрам, раскалялась докрасна, потому что экипаж ведрами пил горячее какао. Том Плэтт паровые машины не уважал. Срок его службы кончился, когда пароходы только-только стали входить в моду. Он признавал, что для мирного времени это изобретение весьма пригодно, но с надеждой ждал того дня, когда фрегаты водоизмещением в десять тысяч тонн и с реями в сто девяносто футов снова оденутся в паруса. Рассказы Мануэля были неторопливыми и нежными: главным образом о девушках с острова Мадейра, стирающих белье в обмелевших ручьях при лунном свете под сенью банановых зарослей; он пересказывал легенды о святых, описывал странные танцы и драки в холодных портах Ньюфаундленда. Солтерс был целиком поглощен сельским хозяйством, и, хотя он с удовольствием читал и толковал книгу Иосифа Флавия, своей миссией в жизни он считал необходимость доказать преимущество правильного севооборота перед любыми фосфорными удобрениями. Онвсячески поносил фосфаты, вытаскивал из-под койки засаленные книжки и цитировал из них, грозя кому-то пальцем перед носом у Гарви, для которого это было китайской грамотой. Малыш Пенн так искренне расстраивался, когда Гарви смеялся над лекциями Солтерса, что мальчик прекратил насмешки и переносил страдания в Вежливом молчании. Все это шло Гарви на пользу. Кок, естественно, не принимал участия в этих беседах. Как правило, его голос можно было услышать только тогда, когда это было совершенно необходимо. Но временами на него нисходил дар речи, и он начинал говорить наполовину по-гаэльски, наполовину по-английски. Он был особенно разговорчив с мальчиками и никогда не отказывался от своего пророчества о том, что когда-нибудь Гарви будет хозяином Дэна. Он рассказывал им о доставке почты зимой на мысе Бретон, о собачьих упряжках, о ледоколе «Арктик», разбивающем лед между материком и островом Принца Эдварда. Потом он пересказывал истории его матери о жизни на далеком Юге, где никогда не бывает морозов; и он говорил, что, когда он умрет, его душа будет покоиться на теплом белом песке у моря, где растут пальмы. Мальчикам эта мысль показалась странной, потому что кок ни разу в жизни не видел пальмовых деревьев. Кроме того, во время еды он непременно спрашивал Гарви, одного только Гарви, нравится ли ему приготовленное, и это ужасно смешило «вторую смену». И все же они с большим уважением относились к пророчествам кока и поэтому считали Гарви чем-то вроде талисмана. И пока Гарви каждой порой впитывал что-то для себя новое, а с каждым глотком морского воздуха — порцию крепкого здоровья, шхуна «Мы здесь» шла своим курсом и занималась своим делом, а в ее трюме все выше и выше поднималась груда спрессованной серебряно-серой рыбы. Во время ловли никто особенно не отличался, но в среднем улов был хороший и у всех одинаковый. Естественно, что за человеком с репутацией Диско тщательно следили — «шпионили», по выражению Дэна, — соседние шхуны, но он умел очень ловко скрываться от них в клубящихся облаках тумана. Троп избегал общества по двум причинам: во-первых, он хотел проводить свои опыты без свидетелей; а во-вторых, ему не нравилось, когда вокруг собиралась разноперая публика. Большинство шхун были из Глостера, частично из Провинстауна, Гарвича и Чатама, а некоторые из портов Мэйна; команды же их набирались бог весть откуда. Риск порождает безрассудство, а если добавить к этому алчность, то получится, что при таком скоплении шхун может произойти любая неприятность: ведь шхуны, подобно стаду овец, собираются толпой вокруг какого-нибудь признанного вожака. — Пусть себе ходят за джерольдами, а мне это ни к чему, — говорил Диско. — Какое-то время придется потерпеть такое соседство, но, может, недолго. А место, где мы сейчас стоим, Гарв, считается не очень хорошим. — Правда? — удивился Гарви, уставший уже зачерпывать забортную воду ведрами после слишком затянувшейся разделки. — Я был бы не прочь попасть на место еще хуже этого. — Единственное место, которое хочу увидеть я — это Истерн Пойнт, — сказал Дэн. — Слушай, отец, похоже, что больше двух недель мы там не простоим… Вот тогда ты познакомишься со всей компанией. А работы будет тьма! И поесть-то вовремя не придется. Попьешь водички, и все тут, а спать будем, когда не останется сил работать. Хорошо, что тебя подобрали не месяцем позже, а то бы тебе не осилить старушку Вирджин. Глядя на карту, Гарви понял, что подводная скала Вирджин и другие участки мелководья с любопытными названиями были поворотным пунктом их путешествия и что, если им там повезет, они замочат оставшуюся в трюме соль. Но, увидев размеры отмели Вирджин, которая на карте обозначалась едва заметной точкой, Гарви не мог понять, как Диско даже при помощи «бычьего ярма» и лота сможет разыскать ее. Позднее он убедился, что Диско прекрасно справляется с этим и любым другим морским делом, да к тому же может оказать помощь другим. В его рубке висела большая, четыре на четыре фута, школьная доска, назначение которой было Гарви неизвестно, пока однажды после нескольких очень туманных дней до них не донесся довольно немелодичный голос сигнальной сирены, походивший на трубный вопль чахоточного слона. Они собирались сделать короткую стоянку и, чтобы сократить хлопоты, тащили якорь за собой. — Барк с прямыми парусами требует дороги, — сказал Длинный Джек. Из тумана выплыли мокрые красные паруса судна и, пользуясь морским кодом, «Мы здесь» трижды звякнула колоколом. На барке с воплями и криками подтянули топсель. — Француз, — недовольно проворчал дядюшка Солтерс. — Микелонская шхуна из Сент-Мало. — У фермера был зоркий глаз. — Кстати, у меня почти весь табак вышел, Диско. — У меня тоже, — заметил Том Плэтт. — Эй! Подай назад, подай назад! Осторожней, вы, головорезы, «мучо боно»! Откуда вы, из Сан-Мало, да? — Ага! Мучо боно! Уи! Уи! Кло Пуле — Сан-Мало! Сан Пьер Микелон! — кричали с парусника матросы, размахивая шерстяными кепками и смеясь. А потом они закричали хором: — Доска! Доска! — Принеси доску, Дэнни. В толк не возьму, как эти французики забираются так далеко. Сорок шесть — сорок девять им подойдет, к тому же так почти и есть на самом деле. Дэн написал цифры мелом на доске, и ее выставили на видном месте, а с барка донеслось многоголосое «мерси, мерси». — С их стороны не по-соседски так уходить, — проворчал Солтерс, шаря по карманам. — А ты французский с прошлого раза подучил? — спросил Диско. — А то нас опять камнями забросают, как тогда, когда ты их «сухопутными курицами» обозвал. — Хэрмон Раш сказал, что только так их можно расшевелить. Но мне и английского языка хватит… Табак у нас кончается, вот беда-то. А ты, юноша, часом, не говоришь по-французски? — Конечно, говорю, — ответил Гарви и с вызовом прокричал: — Эй! Слушайте! Аррете-ву! Аттанде! Табак, табак! — О, табак, табак! — закричали на судне и снова засмеялись. — Дошло наконец. Давайте спустим лодку, — предложил Том Плэтт. — Во французском-то я не очень силен, зато знаю другой подходящий язык. Пошли, Гарви, будешь переводить. Невозможно описать, какую сумятицу вызвало их появление на борту барка. Каюта судна была сплошь уставлена яркими цветными изображениями святой девы — святой девы Ньюфаундлендской, как они ее называли. Оказалось, что Гарви говорил по-французски иначе, чем было принято на Отмелях, и его общение в основном сводилось к кивкам и улыбкам. Что до Тома Плэтта, то он размахивал руками и «разговаривал» вовсю. Капитан угостил его каким-то невообразимым Джимом, а члены команды, похожие на персонажей комической оперы — волосатые, в красных колпаках, с длинными ножами, — приняли его совсем по-братски. Потом началась торговля. У них был табак, много табаку, американского, за который во Франции не была уплачена пошлина. Им нужны были шоколад и печенье. Гарви погреб назад, чтобы уладить это дело с коком и Диско, которому принадлежали все припасы. Возвратившись, он выложил у штурвала француза банки с какао и пакеты с печеньем. Эта сцена напоминала дележ добычи пиратами, из которого Том Плэтт вышел нагруженный разными сортами табака, включая свернутый в трубочку и жевательный. А затем под звуки жизнерадостной песни эти веселые мореходы скрылись в тумане. — Как это получилось, что мой французский язык они не понимали, а язык жестов был им понятен? — полюбопытствовал Гарви после того, как все, что они наменяли, было распределено между членами экипажа. — Какой там язык жестов! — загоготал Плэтт. — Впрочем, пожалуй, то был язык жестов, только он куда старше твоего французского, Гарв. На французских судах полным-полно масонов, вот в чем штука. — А вы знаете масон? — Получается, что знаю масон, а? — заявил бывший военный моряк, набивая трубку, и Гарви задумался над еще одной морской загадкой.
ГЛАВА VI
Больше всего Гарви поражала невероятная беспечность, с какой суда бороздили просторы Атлантики. Рыбацкие шхуны, объяснил Дэн, по понятным причинам зависят от любезности и мудрости своих соседей; от пароходов же можно бы ожидать большего. Незадолго до этого разговора произошла еще одна интересная встреча: три мили шхуну преследовало старое грузовое судно-скотовоз, верхняя палуба которого была огорожена, и оттуда несло, как из тысячи коровников. Весьма нервный офицер что-то кричал в рупор, а Диско спокойно прошел с подветренной стороны парохода, беспомощно болтающегося на волнах, и высказал его капитану все, что он о нем думает. — Хотите знать, где находитесь, а? Вы не заслуживаете находиться нигде. Ходите по открытому морю, как свинья по загону, и ничего вокруг не видите. Глаза у вас повылазили, что ли? От этих слов капитан подпрыгнул на мостике и прокричал что-то насчет глаз Диско. — Мы три дня не могли определить свои координаты. По-вашему, судно можно вести вслепую? — крикнул он. — Еще как можно, — отозвался Диско. — А что с вашим лотом? Съели? Не «можете дно унюхать или у вас скот слишком вонючий? — Чем вы его кормите? — вполне серьезно поинтересовался дядюшка Солтерс, в самую фермерскую душу которого проник запах из загонов. — Говорят, во время перевозки большой падеж. Хоть это и не мое дело, но мне кажется, что размельченный жмых, политый… — Проклятье! — проревел шкипер в красном свитере, глянув в его сторону. — Из какой больницы сбежал этот волосатый? — Молодой человек, — начал Солтерс, встав во весь рост на носу, — прежде чем я отвечу вам, позвольте сказать, что… Офицер на мостике с преувеличенной галантностью сдернул с головы кепку. — Простите, — сказал он, — но я просил дать мое местонахождение. Если волосатый человек с сельскохозяйственными наклонностями соблаговолит помолчать, быть может, старый морской волк с проницательными глазами снизойдет, чтобы просветить нас. — Ну и опозорил же ты меня, Солтерс, — рассердился Диско. Он терпеть не мог, когда к нему обращались именно таким вот образом, и тут же без лишних слов выпалил долготу н широту. — Не иначе как на этой шхуне одни ненормальные, — сказал капитан, подавая сигнал в машинное отделение и швырнув на шхуну пачку газет. — Кроме тебя, Солтерс, да этого типа с его командой нет на свете больших идиотов, — произнес Диско, когда «Мы здесь» отплыла от парохода. — Только я собирался выложить им, что они болтаются по этим водам, как заблудившиеся дети, как ты встреваешь со своими дурацкими фермерскими вопросами. Неужто нельзя на море держать одно в стороне от другого! Гарви, Дэн и все остальные стояли неподалеку, перемигиваясь и веселясь, а Диско и Солтерс препирались до самого вечера, причем Солтерс утверждал, что пароход тот — не что иное, как плавучий коровник, а Диско настаивал, что если это даже и так, то ради приличия и рыбацкой гордости он должен был держать одно в стороне от другого. Длинный Джек пока молча выслушивал все это: если капитан сердит, то и команде невесело, полагал он. Поэтому после ужина он обратился к Диско с такими словами: — Какой нам вред от их болтовни, Диско? — А такой, что эту историю они будут рассказывать до конца своих дней, — ответил Диско. — «Размельченный жмых, политый…»! — Солью, конечно, — упрямо вставил Солтерс, просматривающий сельскохозяйственные статьи в нью-йоркской газете недельной давности. — Такой позор, что дальше некуда, — продолжал возмущенный шкипер. — Ну, это вы слишком, — сказал Длинный Джек — миротворец. — Послушайте, Диско! Есть ли на свете еще одна шхуна, которая, повстречавшись в такую погоду с грузовым пароходом, дала ему координаты и сверх того завела беседу, притом ученую беседу, о содержании бычков и прочего скота в открытом море? Не беспокойтесь! Не станут они болтать. Разговор был самый что ни на есть приятельский. От этого мы не внакладе, а совсем наоборот. Дэн пнул Гарви под столом, и тот поперхнулся кофе. — Верно, — сказал Солтерс, чувствуя, что его честь спасена. — Прежде чем советовать, я ведь сказал, что дело это не мое. — И вот тут-то, — вмешался Том Плэтт, специалист по дисциплине и этикету, — вот тут-то, Диско, ты, по-моему, и должен был вмешаться, если, по-твоему, разговор заворачивал не в ту сторону. — Может быть, это и так, — сказал Диско, увидевший в этом путь к почетному отступлению. — Конечно, так, — подхватил Солтерс, — потому что ты — наш капитан. И стоило тебе лишь намекнуть, как я бы тут же остановился, не по приказу или убеждению, а чтобы подать пример этим двум несносным юнгам. — Видишь, Гарв, ведь я говорил, что рано или поздно дело дойдет до нас. Всегда эти «несносные юнги»… Но я и за долю улова палтуса не хотел бы пропустить это зрелище, — прошептал Дэн. — И все-таки надо одно держать в стороне от другого, — сказал Диско, и в глазах Солтерса, набивавшего себе трубку, загорелся огонек нового спора. — Есть большой смысл в том, чтобы одно не смешивать с другим, — сказал Длинный Джек, намеренный предотвратить шторм. — В этом убедился Стейнинг из фирмы «Стейнинг и Харо», когда назначил Кунахэма шкипером «Мариллы Д.Кун» вместо капитана Ньютона, которого прихватил ревматизм и он не смог выйти в море. Мы прозвали его «штурман Кунахэн». — Что до Ника Кунахэна, так он без бутылки рома на борту и не появлялся, — подхватил Том Плэтт, подыгрывая Джеку. — Все терся возле бостонского начальства, моля бога, чтоб его сделали капитаном какого-нибудь буксира. А Сэм Кой с Атлантик-авеню целый год, а то и больше бесплатно кормил его, чтобы только послушать его истории. Штурман Кунахэн… Ну и ну! Умер лет пятнадцать назад, верно? — Кажется, семнадцать. Он умер в тот год, когда построили «Каспар Мви». Вот он-то всегда мешал одно с другим. Стейнинг взял его по той же причине, по какой один вор украл раскаленную плиту: ничего лучшего под рукой не оказалось. Все рыбаки ушли на Отмели, и Кунахэн набрал команду из отъявленных негодяев. Ром!.. «Марилла» могла продержаться на плаву в том, что они нагрузили на борт. Из бостонской гавани они вышли при сильном норд-весте и все до одного были здорово навеселе. Провидение позаботилось о них, потому что они ни вахты не установили и не прикоснулись ни к одной снасти, пока не увидели днище бочонка в пятнадцать галлонов отвратительного зелья. По словам Кунахэна, это продолжалось неделю (если б только я мог рассказывать, как он!). Все это время ветер ревел не переставая, и «Марилла» ходко шла себе вперед. Тут Кунахэн берет дрожащими руками «бычье ярмо» и, несмотря на шум в голове, определяет по карте, что они находятся к юго-западу от острова Сейбл-Айленд и что идут они прекрасно, но никому об этом ни Слова. Они снова откупоривают бочонок, и опять начинается беззаботная жизнь. А «Марилла» как легла набок, выйдя за Бостонский маяк, так и продолжала себе шпарить вперед. Пока что им не повстречались ни водоросли, ни чайки, ни шхуны, а прошло уже четырнадцать дней, и тут они забеспокоились: уж не проскочили ли они Отмели. Тогда они решили промерить дно. Шестьдесят саженей. «Это все я, — говорил Кунахэн. — Я и никто больше довел вас до Отмелей; а вот как будет тридцать саженей, так мы малость соснем. Кунахэн — это настоящий парень, — говорил он. — Штурман Кунахэн!» Снова опустили лот: девяносто. Кунахэн и говорит: «Или линь растянулся, или Отмель осела». Они вытащили лот, находясь в том состоянии, когда всему веришь, и стали считать узлы, и линь запутался до невозможности. А «Марилла» все бежит, не сбавляя хода, пока им не повстречалось грузовое судно. «Эй, рыбаков поблизости не видели?» — спросил Кунахэн. «У ирландского берега их всегда полным-полно», — ответили с грузовика. «Эй, проспись! — возмутился Кунахэн. — Какое мне дело до ирландского берега». «Тогда что вы здесь делаете?» — спросили оттуда. «Страдаем за христианскую веру! — отвечает Кунахэн (он всегда так говорил, когда у него сосало под ложечкой и было не по себе). За веру страдаем, — повторил он. — А где я нахожусь?» «В тридцати милях к юго-западу от мыса Клир, — отвечают с судна, — если вам от этого легче». Тут Кунахэн подпрыгнул вверх на четыре фута семь дюймов — кок точно измерил. «Полегче! — проревел он. — Вы за кого меня принимаете? В тридцати пяти милях от мыса Клир и в четырнадцати днях пути от Бостонского маяка! Христианские страдальцы, да это ж рекорд! К тому же у меня мама в Скиберине!» Подумать только! Мамочка, видите ли! А все дело в том, что он не мог держать одно в стороне от другого. Его экипаж был почти весь из местных ирландских ребят, кроме разве одного парня из Мериленда, которому очень хотелось домой. Тогда команда объявила его мятежником и повела «Мариллу» в Скиберин. Они прекрасно провели там целую неделю со своими старыми друзьями. А потом поплыли обратно и через тридцать два дня достигли Отмелей. Дело близилось к осени, да и припасы были на исходе, так что Кунахэн порулил прямо в Бостон- и дело с концом. — А что сказали хозяева? — поинтересовался Гарви. — А что они могли сказать? Рыба где была, там и осталась — в море, а Кунахэн уши всем прожужжал о своем рекорде. Хоть в этом нашли утешение. И все случилось, во-первых, потому, что ром надо было держать подальше от команды; во-вторых, нельзя было путать Скиберин с Кверо. Штурман Кунахэн, упокой боже его душу, отчаянный был человек! — А когда я служил на «Люси Холмс», — своим мягким голосом проговорил Мануэль, — мы не могли продать улов в Глостере. А? Что? Хорошая цена не хотели давать. Тогда идем другое место. Поднимается ветер, мы плохо видим. А? Что? Поднимается ветер еще больше, мы ложимся и бежим очень быстро сами не знаем куда. Потом видим земля, и делается жарко. Видим, в длинный лодка идет два, три негра. А? Что? Спрашиваем, где мы есть, они говорят… А ну-ка угадайте все, где мы были. — На Больших Канарских, — ответил, подумав, Диско. Мануэль, улыбаясь, покачал головой. — Остров Бланко, — сказал Том Плэтт. — Нет. Еще дальше. Мы были ниже Безагос, а лодка пришла из Либерии! Там мы и продали рыбу. Неплохо, да? А? Что? — Неужто такая шхуна может дойти до Африки? — спросил Гарви. — Можно и мыс Горн обойти, было бы только зачем да хватило бы еды, — ответил Диско.-У моего отца был небольшой пакетбот, тонн эдак на пятьдесят, под названием «Руперт», и он ходил на нем к ледяным горам Гренландии в тот год, когда половина всех рыбаков пошла туда за треской. Больше того, он взял с собой мою мать — наверно, чтобы показать, как зарабатываются Деньги, — и они застряли во льдах; там же, в Диско, народился я. Конечно, я ничего из того не помню. Мы вернулись домой весной, когда льды растаяли, а меня назвали по тому месту. Плохую шутку сыграли с младенцем, но что поделаешь, все мы ошибаемся в жизни. — Верно! Верно! — прокричал Солтерс, энергично кивая. — Все мы ошибаемся. И вот что я вам скажу, молодые люди: сделав ошибку — а вы делаете их по сотне в день, — не бойтесь признаться в этом, как мужчины. Длинный Джек так здорово подмигнул, что это увидели все члены экипажа, кроме Диско и Солтерса, и инцидент был исчерпан. «Мы здесь» еще несколько раз бросала якорь севернее, лодки почти каждый день выходили в море и шли вдоль восточной кромки Большой Отмели над глубиной в тридцать — сорок саженей и все время ловили рыбу. Вот здесь-то Гарви впервые узнал, что такое каракатица — самая лучшая наживка для трески. Однажды темной ночью их всех разбудил громкий крик Солтерса: «Каракатица! Каракатица!» Рыбаки повскакали с мест, и часа полтора все до одного стояли, склонившись над своей снастью для ловли этого странного существа; снасть эта состояла из кусочка окрашенного в красный цвет свинца, на нижнем конце которого, как из полуоткрытого зонтика, торчат спицы. По какой-то непонятной причине каракатица обвивается вокруг этого устройства, и, прежде чем она успевает освободиться от спиц, ее вытаскивают наверх. Но прежде чем расстаться со своей родной стихией, она норовит попасть прямо в лицо рыбаку сначала струей воды, а потом чернилами. Было смешно смотреть, как рыбаки стараются увернуться от чернильного душа. Когда суматоха кончилась, все они были черные, как трубочисты, но на палубе лежала груда свежей отличной наживки. Уж больно треске нравится маленький блестящий кусочек щупальца каракатицы, насаженный на кончик крючка поверх тела моллюска. На следующий день они наловили много рыбы и встретили «Кэрри Питмен» и пожелали ей удачи. А те предложили им обменяться: семь рыбин за одну каракатицу приличных размеров. Диско счел цену низкой, и «Кэрри» недовольно отвалила и стала на якорь с подветренной стороны в полумиле от них, надеясь, что им тоже повезет. До ужина Диско не произнес ни слова, а потом послал Дэна с Мануэлем поставить якорный канат на поплавок и заметил, что будет держать топор наготове. Дэн, естественно, повторил все это слово в слово лодке с «Кэрри», с которой поинтересовались, с чего это они ставят канат на буй, коль дно не скалистое. — Отец говорит, что не решился бы и паром оставить в пяти милях от вас! — прокричал Дэн весело. — Чего же он тогда не убирается? Кто ему мешает? — крикнули с лодки. — А потому, что вы обошли его с подветренного борта, а он такого не терпит ни от кого, тем более от вашей посудины, которая на месте устоять не может. — Нас уже больше не уносит, — рассердился рыбак, потому что о «Кэрри Питмен» ходила дурная слава, что она все время срывается с якоря. — Как же вы тогда становитесь на якорь? — ехидничал Дэн. — Ведь она только этим и славится. А если она перестала срываться, для чего же вам новый углегарь? — попал он в точку. — Эй ты, португальский шарманщик, забирай свою мартышку в Глостер! А ты, Дэн Троп, лучше б пошел в школу. — Ком-би-не-зон! Ком-би-не-зон! — завопил Дэн, который знал, что кто-то из экипажа «Кэрри» прошлой зимой работал на швейной фабрике. — Креветка! Глостерская креветка! Убирайся прочь отсюда! На этом противники расстались. — Я знал, что так и будет, — сказал Диско. — Из-за нее и ветер переменился. Кто-то сглазил этот пакетбот. До ночи они будут дрыхнуть, а как только мы разоспимся, его понесет на нас. Хорошо еще, здесь судов мало. Но из-за них мы все-таки с якоря не снимаемся. Авось обойдется. Ветер, изменивший направление, к утру усилился и дул настойчиво. Волна же была такая слабая, что даже лодка могла удержаться на якоре, но у «Кэрри Питмен» были свои законы. Их вахта уже подходила к концу, когда мальчикам послышались странные приближавшиеся к ним звуки. — Слава, слава, аллилуйя! — пропел Дэн. — А вот и мы — идет кормой вперед, будто лунатик во сне, совсем как в тот раз в Кверсе. Будь это другое судно, Диско бы рискнул, а тут он немедля перерубил канат, видя, что «Кэрри Питмен», словно нарочно, дрейфует прямо на них. «Мы здесь» посторонилась ровно на столько, сколько было необходимо — Диско не хотел потом целую неделю разыскивать якорный канат, — и «Кэрри» проплыл так близко от них, хоть рукой дотянись, молчаливое, мрачное судно, на которое градом посыпались язвительные насмешки глостерских рыбаков. — Добрый вечер, — начал Диско, приподняв свой головной убор, — ваш огород, надеюсь, в порядке? — В Огайо отправляйтесь да мула себе купите, — сказал дядюшка Солтерс — Нам здесь фермеры ни к чему! — Эй, лодочный якорь вам, часом, не нужен? — крикнул Длинный Джек. — Снимите руль и воткните его в землю! — добавил Том Плэтт. — Эй! — пропищал Дэн, взобравшись на короб штурвала. — Эй, на швейной фабрике забастовка или туда девчонок набрали? — Вытравьте лини румпеля и прибейте их к днищу, — посоветовал Гарви. Как раз такой рыбацкий розыгрыш учинил над ним в свое время Том Плэтт. Мануэль же перегнулся через борт и крикнул: — Иона Морган, сыграй на орган! Ха-ха-ха! — Он сделал рукой жест, выразивший крайнее презрение и насмешку, а маленький Пенн покрыл себя славой, прокричав: — Цып-цып-цып! Иди сюда! Остаток ночи шхуна, к неудовольствию Гарви, дергалась и прыгала на якорной цепи, и почти все утро ушло на то, чтобы выловить канат. Однако мальчики согласились, что все эти хлопоты ничто по сравнению с их триумфом и славой, и горько сожалели, что не успели сказать столько прекрасных слов в адрес опозоренного «Кэрри».ГЛАВА VII
На следующий день им повстречались новые паруса, шедшие кругом с востока на запад. Они уж было добрались до отмелей Вирджин, как налетел густой туман и им пришлось стать на якорь в окружении звона невидимых колоколов. Ловля шла плохо, время от времени лодки встречались в тумане и обменивались последними новостями. В ту ночь, незадолго до рассвета, Дэн и Гарви, проспавшие накануне почти весь день, выбрались из своих коек, чтобы «подцепить» на камбузе жареных пирожков. Вообще никто не запрещал им брать пирожки открыто, но так они казались им вкуснее, да и кока подразнить хотелось. От жары и запахов камбуза они выбрались со своей добычей на палубу и увидели, что у колокола стоит Диско; тот передал колокол Гарви со словами: — Продолжай звонить, мне вроде что-то послышалось. Если это так, надо будет принять меры. Издалека донеслось легкое позвякивание; оно едва пробивалось сквозь плотный воздух, а когда оно замолкло, Гарви услышал приглушенный вопль сирены пассажирского парохода. Он уже хорошо был знаком с Отмелями, чтобы знать, что это означало. Он с ужасающей четкостью вспомнил, как мальчик в вишневом костюмчике — сейчас, как настоящий рыбак, он презирал всякие вычурные одежды, — как невежественный, грубый мальчишка однажды сказал: «Как здорово было бы, если бы пассажирский пароход наскочил на рыбацкую шхуну!» У этого мальчика была каюта высшего класса, с холодной и горячей водой, и каждое утро он по десять минут изучал меню с золотым обрезом. И этот самый мальчик — нет, его брат намного его старше — уже был на ногах, едва забрезжил мутный рассвет, и, одетый в развевающийся, хрустящий дождевик, колотил, в полном смысле спасая свою жизнь, в колокольчик, меньший, чем звонок стюарда на пароходе, а где-то совсем рядом с ним тридцатифутовый стальной нос бороздил воду со скоростью двадцать миль в час! Горше всего было сознавать, что в сухих комфортабельных каютах спят люди, которые даже не узнают, что перед завтраком они погубили рыбачье судно. Вот Гарви и старался изо всех сил. — Да, они замедляют свой чертов винт на один оборот, — сказал Дэн, прикладываясь к раковине Мануэля, — чтобы только не нарушать закон. Это будет для нас утешением, когда окажемся на дне. Будь ты неладен! Ну и громила!.. А-а-а-а-а-а-а-у-у-у! — завывала сирена. Динь-динь-динь! — звенел колокол. Гра-а-а-а-у-ух! — тянула раковина, а море и небо слились в одну молочно-белую массу. Тут Гарви почувствовал, что рядом движется что-то огромное. Он задирал голову все выше и выше, стараясь разглядеть мокрый край возвышающегося, как скала, носа, который, казалось, несется прямо на шхуну. Перед ним катилась невысокая резвая волна, временами обнажавшая длинную лестницу римских цифр — XV–XVI–XVII–XVIII и так далее — на блестящем, розового цвета борту. С холодящим душу шипением нос парохода качнулся вперед и вниз, лестница цифр исчезла, мимо пронеслась вереница отделанных бронзой иллюминаторов, беспомощно поднятые руки Гарви обдало струей горячего пара, вдоль фальшборта «Мы здесь» пронесся поток горячей воды, и маленькая шхуна запрыгала и закачалась на бурунах, поднятых винтом парохода, корма которого исчезла в тумане. Гарви думал, что он потеряет сознание, или что его стошнит, или произойдет и то и другое, как вдруг он услышал треск, похожий на звук брошенного наземь чемодана, и до него донесся слабый, как в телефонной трубке, вопль: «Спасите, спасите! Нас потопили!» — Это мы? — выдохнул он. — Нет, другая шхуна. Звони! Идем туда, — сказал Дэн и бросился к лодке. Спустя полминуты все, за исключением Гарви, Пенна и кока, были за бортом и шли к пострадавшим. Вскоре вдоль борта проплыли обломки фок-мачты погибшей шхуны. Затем в борт «Мы здесь» ткнулась пустая зеленая лодка, будто просившая, чтобы ее подобрали. Затем подплыло что-то другое в синей шерстяной куртке, лицом вниз, но… то была только часть человека. Пенн побледнел и затаил дыхание. Гарви продолжал отчаянно звонить, потому что боялся, что они могут затонуть в любое мгновенье, и подпрыгнул от радости при возгласе Дэна, возвращающегося вместе с командой. — «Дженни Кашмен»! — прокричал он возбужденно. — Разрубил ее пополам и истолок на куски! Меньше чем в четверти мили отсюда. Отец спас старика. Больше не осталось никого, а с ним был его сын… О Гарв, Гарв! Я больше не могу! Я такое видел… — Он опустил голову на руки и разрыдался. Остальные подняли на борт седовласого мужчину. — Зачем вы меня подобрали? — стенал незнакомец. — Диско, зачем ты меня подобрал? Диско положил ему на плечо свою тяжелую руку; губы старика дрожали, а его глаза дико уставились на молчаливую команду. Тут подал голос Прэтт из Пенсильвании, он же Хэскинс, или Рич, или Макуитти — как того пожелает забывчивый дядюшка Солтерс. Перед ними стоял не придурок Пенн, а мудрый старый человек, который твердо проговорил: — Бог дал, бог взял. Благословенно будь имя господне! Я был… я есмь слуга господа. Предоставьте его мне. — О, так ли это? — произнес несчастный. — Тогда помолитесь, чтоб ко мне вернулся мой сын! Возвратите мне шхуну, что стоила девять тысяч долларов, и тысячу центнеров рыбы. Если бы вы не выловили меня, моя вдова пошла бы работать за пропитание и никогда бы ничего не узнала… не узнала. А теперь я должен буду ей все рассказать… — Рассказывать нечего, — утешал его Диско. — Лучше приляг ненадолго, Джейсон Олли. Трудно утешить человека, который за тридцать секунд потерял единственного сына, весь свой летний улов и средства к существованию. — Пароход ведь из Глостера, верно? — сказал Том Плэтт, беспомощно вертя в руках лодочный штерт. — О, это все бесполезно, — отозвался Джейсон, выжимая воду из бороды, — осенью я буду возить на лодке отдыхающих в Восточном Глостере. — Он тяжело навалился на фальшборт и запел: До них доносились голоса Пенна и Джейсона, говоривших одновременно. Затем слышался только голос Пенна, и Солтерс снял с головы кепку, потому что Пенн читал молитву. Вскоре он показался на трапе. Его лицо было покрыто каплями пота. Он посмотрел на команду. Дэн все еще рыдал у штурвала.
— Он не узнаёт нас… — простонал Солтерс — Все начинать сначала — шашки и все прочее… А что он скажет мне?
Когда Пенн заговорил, было ясно, что он обращается к незнакомым людям.
— Я помолился, — сказал он. — Люди верят молитве. Я молился за жизнь сына этого человека. На моих глазах утонули мои близкие, жена, и старший сын, и все остальные. Может ли человек быть мудрее создателя? Я никогда не молился за своих, а за его сына помолился, и жизнь его будет спасена.
Солтерс умоляюще смотрел на Пенна: все ли он помнит?
— Как давно я потерял рассудок? — вдруг спросил Пенн. Рот его искривился.
— Что ты, Пенн! Да ты вовсе его не терял, — начал было Солтерс — Просто слегка расстроился, вот и все.
— Я видел, как дома налетели на мост, а потом начался пожар. Больше ничего не помню… Когда это было?
— Я не могу! Я не могу! — плакал Дэн, а Гарви всхлипывал от жалости.
— Лет пять назад, — сказал Диско дрожащим голосом.
— Значит, с тех пор я был кому-то обузой. Кто этот человек?
Диско показал на Солтерса.
— Не был!.. Не был!.. — вскричал фермер-моряк, ломая руки. — Ты более чем заслужил все это; к тому же тебе причитается половина моей доли в шхуне.
— Вы добрые люди. По вашим лицам видно. Но…
— Боже милостивый! — прошептал Длинный Джек. — И он все это время ходил с нами в море! Он околдован!
Невдалеке послышался колокол шхуны, и из тумана донесся чей-то крик:
— Эй, Диско, слышал насчет «Дженни Кашмен»?
— Они нашли его сына! — воскликнул Пенн. — Смотрите, сейчас произойдет спасение!
— Джейсон у меня на борту, — ответил Диско, но его голос дрогнул. — Еще кого не подобрали, часом?
— Выловили одного. Он держался на обломках. Голову ушиб немного.
— А кого?
У всех на борту «Мы здесь» замерли сердца.
— Кажется, молодого Олли, — протянул голос.
Пенн воздел кверху руки и сказал что-то по-немецки. Гарви мог поклясться, что в этот момент на его лицо упал луч солнца, а голос из тумана продолжал:
— Эй, ребята! Ну и поиздевались вы над нами прошлой ночью…
— Сейчас нам не до шуток.
— Я знаю. Но, сказать вам по правде, нас ведь опять вроде бы унесло. Вот мы и натолкнулись на молодого Олли!
То был неугомонный «Кэрри Питмен», и на палубе «Мы здесь» раздался громкий, хоть и не очень дружный взрыв смеха.
— Может, вы отдадите нам старика? Мы идем за наживкой и якорной снастью. Вам-то он не нужен, а у нас с этим чертовым брашпилем работы полно. Он у нас не пропадет. К тому же его жена — тетка моей жены.
— Берите все, что хотите, — ответил Троп.
— Ничего нам не надо, кроме разве что крепкого якоря… Эй… — молодой Олли тут заволновался. Присылайте старика.
Пенн вывел старика Олли из состояния тупого отчаяния, а Том Плэтт отвез его на шхуну. Он отбыл, не сказав ни слова благодарности, не зная, что его ждет впереди, и туман сомкнулся за ними.
— А теперь… — сказал Пенн, сделав глубокий вздох, будто перед проповедью. — А теперь… — Он, как меч, вдвинутый в ножны, сразу стал меньше ростом, его ярко горевшие глаза потускнели, а голос снова превратился в жалобное лепетание, — а теперь, — сказал Прэтт из Пенсильвании, — не сыграть ли нам партию в шашки, мистер Солтерс?
— Как раз это… как раз это я и хотел предложить, — быстро отозвался Солтерс — Просто ума не приложу, как это ты, Пенн, умеешь угадывать чужие мысли.
Маленький Пенн покраснел и покорно поплелся за Солтерсом.
— Поднять якорь! Живей! Подальше от этих проклятых волн! — прокричал Диско, и еще никогда его команда не выполнялась с такой быстротой.
— Как ты думаешь, чем можно объяснить всю эту чертовщину? — спросил Длинный Джек, когда они, обескураженные, пробивались сквозь влажный, моросящий туман.
— Я так понимаю, — начал Диско у штурвала, — эта история с «Дженни Кашмен» произошла на голодный желудок…
— Он… мы видели, как один из них проплыл мимо, — всхлипнул Гарви.
— …Вот Пенна из-за этого вроде бы и выбросило на берег, как судно, прямо на сушу, да так, что он вспомнил и Джонстаун, и Джекоба Боллера, и прочие вещи. Как лодку, пришвартованную к берегу, его малость поддержало то, что он утешал в каюте Джейсона. А потом этой поддержки стало не хватать, и его снова потащило в воду, и вот он на воде опять. Я так это понимаю.
— Если бы Пенн снова стал Джекобом Боллером, Солтерс бы не перенес, — сказал Длинный Джек. — Вы видели его лицо, когда Пенн спросил, кто с ним возился все эти годы? Как он там, Солтерс?
— Спит. Спит, как дитя, — ответил Солтерс, ступая на цыпочках. — Мы, конечно, поедим не раньше чем он проснется. Вы когда-нибудь видели, чтобы молитвы такие чудеса творили? Он прямо-таки из воды вытащил этого молодого Олли. Это уж точно. Джейсон, тот страсть как гордился своим сыном, и я с самого начала подумал, что это — наказание за сотворение себе кумира.
— Кое-кто тоже этим грешит, — заметил Диско.
— То дело другое, — быстро возразил ему Солтерс — Пенн вовсе не тронутый, а я просто выполняю по отношению к нему свой долг.
Эти проголодавшиеся люди ждали три часа пробуждения Пенна. А когда он проснулся, лицо его разгладилось, и ничто больше его не тревожило. Он сказал, что ему что-то приснилось, потом поинтересовался, почему все молчат, и никто не мог ему ответить.
В течение следующих трех или четырех дней Диско безжалостно гонял всю команду. Когда нельзя было спускать лодки, он заставлял их перекладывать судовые припасы в другое место, чтобы расчистить трюм для рыбы. Здесь он проявил свое умение так размещать груз, чтобы осадка шхуны была наилучшей. Таким образом, команда все время была чем-то занята, пока к ним не вернулось хорошее настроение. Гарви же время от времени доставалось веревочным концом за то, что, по словам Длинного Джека, он, «как большая кошка, грустит из-за того, чего нельзя изменить». За эти ужасные дни Гарви о многом передумал и поделился своими мыслями с Дэном, который согласился с ним, причем настолько, что уже не таскал жареные пирожки, а спрашивал разрешения у кока.
Неделю спустя, пытаясь загарпунить акулу старым штыком, привязанным к палке, мальчики едва не перевернули «Хэтти С». Акула терлась у самого борта лодки, выпрашивая мелкую рыбешку, и им здорово повезло, что они остались в живых.
Наконец, после долгой игры в жмурки в тумане, наступил день, когда Диско прокричал в носовой кубрик:
— Пошевеливайтесь, ребята! В город приехали!
До них доносились голоса Пенна и Джейсона, говоривших одновременно. Затем слышался только голос Пенна, и Солтерс снял с головы кепку, потому что Пенн читал молитву. Вскоре он показался на трапе. Его лицо было покрыто каплями пота. Он посмотрел на команду. Дэн все еще рыдал у штурвала.
— Он не узнаёт нас… — простонал Солтерс — Все начинать сначала — шашки и все прочее… А что он скажет мне?
Когда Пенн заговорил, было ясно, что он обращается к незнакомым людям.
— Я помолился, — сказал он. — Люди верят молитве. Я молился за жизнь сына этого человека. На моих глазах утонули мои близкие, жена, и старший сын, и все остальные. Может ли человек быть мудрее создателя? Я никогда не молился за своих, а за его сына помолился, и жизнь его будет спасена.
Солтерс умоляюще смотрел на Пенна: все ли он помнит?
— Как давно я потерял рассудок? — вдруг спросил Пенн. Рот его искривился.
— Что ты, Пенн! Да ты вовсе его не терял, — начал было Солтерс — Просто слегка расстроился, вот и все.
— Я видел, как дома налетели на мост, а потом начался пожар. Больше ничего не помню… Когда это было?
— Я не могу! Я не могу! — плакал Дэн, а Гарви всхлипывал от жалости.
— Лет пять назад, — сказал Диско дрожащим голосом.
— Значит, с тех пор я был кому-то обузой. Кто этот человек?
Диско показал на Солтерса.
— Не был!.. Не был!.. — вскричал фермер-моряк, ломая руки. — Ты более чем заслужил все это; к тому же тебе причитается половина моей доли в шхуне.
— Вы добрые люди. По вашим лицам видно. Но…
— Боже милостивый! — прошептал Длинный Джек. — И он все это время ходил с нами в море! Он околдован!
Невдалеке послышался колокол шхуны, и из тумана донесся чей-то крик:
— Эй, Диско, слышал насчет «Дженни Кашмен»?
— Они нашли его сына! — воскликнул Пенн. — Смотрите, сейчас произойдет спасение!
— Джейсон у меня на борту, — ответил Диско, но его голос дрогнул. — Еще кого не подобрали, часом?
— Выловили одного. Он держался на обломках. Голову ушиб немного.
— А кого?
У всех на борту «Мы здесь» замерли сердца.
— Кажется, молодого Олли, — протянул голос.
Пенн воздел кверху руки и сказал что-то по-немецки. Гарви мог поклясться, что в этот момент на его лицо упал луч солнца, а голос из тумана продолжал:
— Эй, ребята! Ну и поиздевались вы над нами прошлой ночью…
— Сейчас нам не до шуток.
— Я знаю. Но, сказать вам по правде, нас ведь опять вроде бы унесло. Вот мы и натолкнулись на молодого Олли!
То был неугомонный «Кэрри Питмен», и на палубе «Мы здесь» раздался громкий, хоть и не очень дружный взрыв смеха.
— Может, вы отдадите нам старика? Мы идем за наживкой и якорной снастью. Вам-то он не нужен, а у нас с этим чертовым брашпилем работы полно. Он у нас не пропадет. К тому же его жена — тетка моей жены.
— Берите все, что хотите, — ответил Троп.
— Ничего нам не надо, кроме разве что крепкого якоря… Эй… — молодой Олли тут заволновался. Присылайте старика.
Пенн вывел старика Олли из состояния тупого отчаяния, а Том Плэтт отвез его на шхуну. Он отбыл, не сказав ни слова благодарности, не зная, что его ждет впереди, и туман сомкнулся за ними.
— А теперь… — сказал Пенн, сделав глубокий вздох, будто перед проповедью. — А теперь… — Он, как меч, вдвинутый в ножны, сразу стал меньше ростом, его ярко горевшие глаза потускнели, а голос снова превратился в жалобное лепетание, — а теперь, — сказал Прэтт из Пенсильвании, — не сыграть ли нам партию в шашки, мистер Солтерс?
— Как раз это… как раз это я и хотел предложить, — быстро отозвался Солтерс — Просто ума не приложу, как это ты, Пенн, умеешь угадывать чужие мысли.
Маленький Пенн покраснел и покорно поплелся за Солтерсом.
— Поднять якорь! Живей! Подальше от этих проклятых волн! — прокричал Диско, и еще никогда его команда не выполнялась с такой быстротой.
— Как ты думаешь, чем можно объяснить всю эту чертовщину? — спросил Длинный Джек, когда они, обескураженные, пробивались сквозь влажный, моросящий туман.
— Я так понимаю, — начал Диско у штурвала, — эта история с «Дженни Кашмен» произошла на голодный желудок…
— Он… мы видели, как один из них проплыл мимо, — всхлипнул Гарви.
— …Вот Пенна из-за этого вроде бы и выбросило на берег, как судно, прямо на сушу, да так, что он вспомнил и Джонстаун, и Джекоба Боллера, и прочие вещи. Как лодку, пришвартованную к берегу, его малость поддержало то, что он утешал в каюте Джейсона. А потом этой поддержки стало не хватать, и его снова потащило в воду, и вот он на воде опять. Я так это понимаю.
— Если бы Пенн снова стал Джекобом Боллером, Солтерс бы не перенес, — сказал Длинный Джек. — Вы видели его лицо, когда Пенн спросил, кто с ним возился все эти годы? Как он там, Солтерс?
— Спит. Спит, как дитя, — ответил Солтерс, ступая на цыпочках. — Мы, конечно, поедим не раньше чем он проснется. Вы когда-нибудь видели, чтобы молитвы такие чудеса творили? Он прямо-таки из воды вытащил этого молодого Олли. Это уж точно. Джейсон, тот страсть как гордился своим сыном, и я с самого начала подумал, что это — наказание за сотворение себе кумира.
— Кое-кто тоже этим грешит, — заметил Диско.
— То дело другое, — быстро возразил ему Солтерс — Пенн вовсе не тронутый, а я просто выполняю по отношению к нему свой долг.
Эти проголодавшиеся люди ждали три часа пробуждения Пенна. А когда он проснулся, лицо его разгладилось, и ничто больше его не тревожило. Он сказал, что ему что-то приснилось, потом поинтересовался, почему все молчат, и никто не мог ему ответить.
В течение следующих трех или четырех дней Диско безжалостно гонял всю команду. Когда нельзя было спускать лодки, он заставлял их перекладывать судовые припасы в другое место, чтобы расчистить трюм для рыбы. Здесь он проявил свое умение так размещать груз, чтобы осадка шхуны была наилучшей. Таким образом, команда все время была чем-то занята, пока к ним не вернулось хорошее настроение. Гарви же время от времени доставалось веревочным концом за то, что, по словам Длинного Джека, он, «как большая кошка, грустит из-за того, чего нельзя изменить». За эти ужасные дни Гарви о многом передумал и поделился своими мыслями с Дэном, который согласился с ним, причем настолько, что уже не таскал жареные пирожки, а спрашивал разрешения у кока.
Неделю спустя, пытаясь загарпунить акулу старым штыком, привязанным к палке, мальчики едва не перевернули «Хэтти С». Акула терлась у самого борта лодки, выпрашивая мелкую рыбешку, и им здорово повезло, что они остались в живых.
Наконец, после долгой игры в жмурки в тумане, наступил день, когда Диско прокричал в носовой кубрик:
— Пошевеливайтесь, ребята! В город приехали!
ГЛАВА VIII
Этого зрелища Гарви не забудет до конца своих дней. Солнце только поднялось над горизонтом, которого они не видели уже почти неделю, и его низкие розовые лучи освещали паруса трех рыболовецких флотилий, бросивших здесь якорь: одну на севере, другую на западе, а третью на юге. Здесь собралось не меньше ста шхун самого разного происхождения и конструкций — вдалеке даже стоял француз с прямыми парусами, — и все они кланялись и вежливо приседали друг перед другом. От каждой шхуны, подобно пчелам, высыпавшим из улья, отваливали маленькие лодки, и на мили над волнующимися водами разносился гомон голосов, перестук талей и тросов и шлепанье весел. По мере того как поднималось солнце, паруса окрашивались в разные цвета: черный, жемчужно-серый и белый, и в утренней дымке к югу потянулось еще большее количество лодок. Лодки собирались группами, расходились, снова сходились и опять разъезжались; рыбаки перекрикивались, свистели, улюлюкали и пели; вода была усеяна выброшенным за борт мусором. — Это город, — сказал Гарви, — Диско прав. Это настоящий город. — Бывают города и поменьше, — сказал Диско. — Здесь тысяча человек собралось, а вон там — Вирджин. — Он показал на не занятый никем, без единой лодки, участок зеленоватой воды. Шхуна «Мы здесь» обогнула северную флотилию, и Диско то и дело взмахами руки приветствовал своих друзей; потом он чисто, как гоночная яхта в конце сезона, бросил якорь в облюбованном месте. Моряки с Отмелей всегда молча реагируют на отличное умение управлять шхуной; неудачникам же здорово достается от насмешек. — Самое время для каракатицы, а? — прокричали с «Мэри Хилтон». — Соль небось всю замочил? — спросили с «Кинга Филиппа». — Эй, Том Плэтт! Приходи сегодня на ужин, — раздалось с «Генри Клея». И так вопросы и ответы сыпались без конца. Рыбаки и до этого встречались в тумане, и нет больших сплетников, чем на рыбацких судах. Они, кажется, знали уже все о спасении Гарви и интересовались, оправдывает ли он уже свой хлеб. Кто помоложе, подшучивали над Дэном, который тоже не оставался в долгу и обзывал их всякими обидными прозвищами. Соотечественники Мануэля перекрикивались с ним на его языке, и даже молчаливый кок пришел в возбуждение и кричал что-то по-гаэльски своему приятелю, такому же черному, как и он сам. Подвесив к якорному канату буек — дно здесь скалистое, и канат могло перетереть и понести шхуну, — они спустили на воду лодки и подгребли к большой группе шхун, стоявших на якоре в миле от них. Шхуны покачивались на безопасном расстоянии, подобно уткам, наблюдавшим за своим выводком, а лодки вели себя так, будто были неразумными утятами. Когда они достигли большого скопления лодок, стукавшихся бортами друг об друга, в ушах Гарви зазвенело от замечаний о его манере грести. Вокруг него гомонили голоса на разных диалектах от Лабрадора до Лонг-Айленда, раздавалась речь на португальском, итальянском, французском, гаэльском, а то и на смеси некоторых из них, звучали песни, крики, проклятья, и все это, казалось, было обращено к нему одному. Гарви так долго находился в обществе небольшого экипажа «Мы здесь», что почувствовал себя страшно неловко среди десятков всевозможных лиц, поднимавшихся и опускавшихся вместе со своими утлыми суденышками. Нежный, дышащий вал, в несколько сот метров от подошвы до гребня, легко и спокойно поднимал на себе цепочку выкрашенных в разные цвета лодок. Какое-то мгновенье они вырисовывались чудесным контуром на фоне горизонта, а сидящие в них люди махали руками и кричали. В следующий момент открытые рты, машущие руки и обнаженные по пояс тела исчезали, а на другом вале возникала новая цепочка лиц, подобно бумажным фигуркам в игрушечном театре. Гарви не мог отвести глаз от этого удивительного зрелища. — Внимание! — крикнул Дэн, потрясая сачком. — Когда я скажу «давай», ты погружай сачок в воду. Рыба вот-вот начнет играть. Где мы станем, Том Плэтт? Отталкиваясь, протискиваясь и лавируя, приветствуя старых друзей и отпугивая давних недругов, коммодор Том Плэтт вел свою маленькую флотилию далеко в сторону от главного скопления лодок, и тут же три или четыре рыбака стали быстро поднимать якоря, намереваясь обойти команду «Мы здесь». Вдруг раздался взрыв смеха, когда одна из лодок с большой скоростью сорвалась с места, а сидевший в ней человек стал изо всех сил тянуть за якорный канат. — Отпусти его малость! — заревело двадцать глоток. — Дай ему порезвиться! — Что случилось? — спросил Гарви, когда эта лодка пронеслась мимо них к югу. — Разве он не на якоре стоял? — Конечно, на якоре, но удержаться-то не смог, — ответил Дэн со смехом. — Это все кит натворил… Давай, Гарв! Пошла! Пошла! Вода вокруг них заклубилась и потемнела, а потом вдруг зашипела от массы серебристых рыбешек, за которыми, как форель в мае, стала выпрыгивать из воды треска, а за треской, взбурлив воду, показались три или четыре широких серо-черных спины. Тутвсе закричали и стали поднимать якоря, чтобы попасть поближе к косяку; кто-то запутался в снасти соседа и высказал, что у него на душе; в воздухе суматошно замельтешили сачки, владельцы которых во весь голос давали советы друг другу, а вода все шипела, словно откупоренная бутылка газировки, и все — люди, треска и киты — набросились на несчастную рыбешку. Гарви чуть не свалился за борт от удара рукоятки сачка Дэна. Но среди всей этой суматохи он заметил и на всю жизнь запомнил злобный, внимательный взгляд маленьких глаз кита — как у слона в цирке, — который плыл по самой поверхности и, как утверждал потом Гарви, хитро подмигнул ему. Три лодки стали жертвой этих отчаянных морских охотников, которые оттащили их на полмили в сторону от косяка и только тогда отпустили якорные канаты. Вскоре косяк ушел с этого места, и через пять минут, кроме всплеска бросаемых за борт якорей, шлепков о воду трески и стука колотушек, которыми глушили рыбу, вокруг не было слышно ни звука. Рыбалка была чудесная. Гарви видел, как в глубине медленно, небольшими стайками проплывала мерцающая треска и брала, брала наживку без остановки. По закону Отмелей в районе скалы Вирджин или Восточной мели на одну лесу разрешалось ставить только один крючок, но лодки стояли здесь так близко друг к другу, что даже одинарные лесы ухитрялись запутываться, и скоро Гарви затеял из-за этого перебранку сразу с двумя рыбаками: тихим волосатым ньюфаундлендцем и буйным португальцем.
Но по-настоящему страсти накалялись, когда под водой запутывалась якорная снасть. Ведь рыбаки бросали якорь там, где им заблагорассудится, и кружились вокруг одной этой точки. Когда клев ослабевал, каждому хотелось перебраться на другое место, но тут он обнаруживал, что самым тесным образом связан с четырьмя или пятью своими соседями. Рубить чужую снасть — преступление неслыханное, однако в тот день произошло три или четыре таких случая. А потом Том Плэтт застал за черным делом одного рыбака из Мэйна и ударом весла свалил его в воду; точно так же поступил Мануэль с одним из своих соотечественников. И все-таки якорный канат Гарви был перерезан, и Пенна тоже, и их лодки использовали для переброски рыбы на «Мы здесь». Когда наступили сумерки, снова появился косяк мелкой рыбы и снова поднялся страшный шум и гам. А с темнотой все погребли на свои шхуны, чтобы разделывать треску при свете керосиновых ламп, установленных на краю ларей.
Рыбы было много, и рыбаки уснули прямо во время разделки. На следующий день несколько лодок рыбачили прямо под скалой Вирджин, и Гарви, оказавшийся среди них, с интересом разглядывал эту поросшую водорослями одинокую скалу, вершина которой отстояла от поверхности моря всего на двадцать футов.
Трески там было неимоверное количество, и она торжественно проплывала над коричневатыми, словно сделанными из кожи, водорослями. Когда треска клюет, она клюет всем косяком и точно так же прекращает клевать. В полдень работы стало меньше, и лодки начали искать, чем бы развлечься. Вот тут Дэн и заметил приближение «Надежды Праги», и когда ее лодки подошли поближе, их встретили вопросом:
— Кто самый подлый из всех рыбаков?
Три сотни голосов радостно ответили:
— Ник Брэди!
— Кто стащил фитили от ламп?
— Ник Брэди! — пропел хор.
Вообще-то Ник Брэди не был особенно подлым, но он пользовался такой репутацией, и рыбаки доводили его как могли. Потом обнаружили рыбака со шхуны из Труро, которого шесть лет назад уличили в том, что он надевал на леску пять, а то и шесть крючков — делал «жадину», по выражению рыбаков. Естественно, что его прозвали «Жадина Джим», и хотя он с тех пор здесь почти не рыбачил, теперь ему досталось за всё. Все, как один, закричали хором: «Джим! О Джим! О Джим! Жадина Джим!» Все были довольны. А когда один доморощенный поэт — он сочинял эту строчку весь день, а вспоминал о ней не одну неделю — пропел: «Кэрри Питмен» хороша, но не стоит и гроша!», все решили, что им здорово повезло. А потом досталось и самому поэту, так как даже поэтам нельзя прощать их ошибок. Так они перебрали каждую шхуну и едва ли не каждого рыбака. Если был где-нибудь плохой и неопрятный кок, лодки хором прославляли и его и его пищу. Если какая-нибудь шхуна взяла на борт мало припасов, об этом тут же становилось известно всему свету. Если кто-то стащил у приятеля табак, все выкрикивали хором его имя, и оно перекатывалось с волны на волну.
Безошибочные суждения Диско, судно Длинного Джека, которое он продал несколько лет назад, возлюбленная Дэна (о, как кипятился Дэн!), то, как Пенну не везло с лодочными якорями, взгляды Солтерса на удобрения, невинные похождение Мануэля и женская манера грести Гарви — все перебрали веселые рыбаки. А когда под лучами солнца лодки стало окутывать серебристым туманом, их голоса зазвучали будто голоса невидимых судей, выносящих приговор.
Лодки перемещались с места на место, рыбачили и перебранивались, покуда волна не заставила их отойти на безопасное расстояние друг от друга. И тут кто-то крикнул, что если так будет продолжаться и дальше, то при такой волне Вирджин, чего доброго, опрокинется. Какой-то отчаянный рыбак-ирландец со своим племянником решил показать свою удаль, подтянул якорь и погреб прямо на скалу. Одни голоса просили их не делать этого, другие подзадоривали. Большой, с гладкой спиной вал пронесся к югу, поднял лодку в туманную высь и бросил ее в страшную, затягивающую пучину, где она завертелась вокруг своего якоря в одном — двух футах от невидимой скалы. За свое хвастовство они могли поплатиться жизнью, и все затаив дыхание наблюдали за этой затеей. Длинный Джек не выдержал, с трудом подгреб к своему соотечественнику сзади и перерезал его якорный канат.
— Не слышишь, как бьет? — закричал он. — Убирайся отсюда, пока жив!
Те стали браниться и спорить, а лодку тем временем отнесло в сторону. В это же мгновенье следующий вал приостановился, как человек, споткнувшийся о ковер. Послышалось басовитое всхлипывание и нарастающий рев, и Вирджин взметнула вверх гору пенящейся воды, белой, бешеной и ужасной. Тут все лодки громко зааплодировали Джеку, а те двое замолкли, словно язык проглотили.
— Как красиво! — радовался Дэн, подпрыгивая, как молодой теленок. — Она теперь каждые полчаса будет такое выделывать, если только волна не станет побольше. Сколько времени проходит от удара до удара, Том Плэтт?
— Пятнадцать минут, секунда в секунду… Гарв, тебе довелось увидеть самую удивительную штуку на Отмелях. Правда, если бы не Длинный Джек, ты бы увидел, как тонут люди.
Оттуда, где туман был погуще, донеслись радостные возгласы, и шхуны стали позванивать в свои колокола. Из тумана осторожно выполз нос большой бригантины, и ирландцы встретили ее криками: «Не бойся, подплывай, дорогуша!»
— Еще один француз? — удивился Гарви.
— Где твои глаза? Это судно из Балтиморы. Видишь, идет и сама дрожит от страха, — ответил Дэн. — Ну и достанется ей от нас! Наверно, ее шкипер впервые оказался в такой толчее.
Это было черное, объемистое судно водоизмещением в восемьдесят тонн. Его грот был подвязан, а топсель нерешительно хлопал на небольшом ветру. Из всех дочерей моря бригантина самое «женственное существо», а это долговязое, нерешительное создание с белым позолоченным украшением на носу очень напоминало смущенную женщину, приподнявшую свои юбки, чтобы пересечь грязную улицу, и сопровождаемую насмешками озорных мальчишек. Примерно в таком положении оказалась и бригантина. Она знала, что находится где-то поблизости от скалы Вирджин, услышала рев и поэтому спрашивала, как пройти. Вот лишь небольшая часть того, что ей пришлось выслушать от рыбаков:
— Вирджин? Да что ты? Это Ле Хейв в воскресное утро. Иди-ка проспись.
— Возвращайся домой, салага! Возвращайся домой и передай, что скоро и мы придем.
Корма бригантины погрузилась в пузырящуюся воду, и хор из полдюжины голосов стройно пропел:
— Ну-ка, Вирджин, поддай ей жару!
— Ставь все паруса! Спасайся, пока не поздно! Ты как раз над ней.
— Спускай! Спускай паруса! Все до одного!
— Всем к помпам!
— Спускай кливер и действуй баграми!
Тут терпение шкипера лопнуло, и он дал волю своему красноречию. Мгновенно все побросали рыболовную снасть, чтобы достойно ему ответить, и шкипер узнал много любопытного о своем судне и о порте, куда оно шло. Его спросили, застраховался ли он, где он стащил этот якорь, потому что он-де принадлежал «Кэрри Питмен»; его шхуну обозвали мусорной шаландой и обвинили в том, что она засоряет море и распугивает рыбу; кто-то предложил взять его на буксир, а счет за услуги представить жене; а один нахальный юноша подгреб к самой корме бригантины, шлепнул по ней ладонью и прокричал:
— Встряхнись, лошадка!
Кок осыпал его золой из печки, а тот юноша ответил ему тресковыми головами. Команда бригантины стала швырять в лодки кусками угля, а рыбаки пригрозили взять судно на абордаж.
Если бы бригантине грозила настоящая опасность, то ее непременно бы предупредили, но, зная, что она находится далеко от скалы, рыбаки не упускали возможности повеселиться. Их веселью пришел конец, когда в полумиле от них Вирджин снова заговорила в полный голос, и несчастная бригантина поставила все паруса и пошла своей дорогой. Лодки же решили, что победа осталась за ними.
Всю ту ночь Вирджин хрипло ревела, а на следующее утро перед глазами Гарви предстал сердитый, клокочущий океан, на белоголовых волнах которого, мельтеша мачтами, качались шхуны, ждавшие, кто начнет рыбачить первым. До десяти часов на воду не спустилась ни одна лодка, и лишь потом пример подали братья Джерральды с «Дневного Светила», вообразившие, что стало потише. Через минуту к ним присоединились многие другие; Диско Троп, однако, заставил свою команду заниматься разделкой. Он не видел смысла в безрассудстве, и к вечеру, когда разыгрался шторм, они получили приятную возможность принимать у себя промокших незнакомцев, искавших любого убежища от шторма. Мальчики с лампами в руках стояли у блоков, а принимавшие лодки взрослые одним глазом косились на набегавшую волну, чтобы в случае нужды бросить все и спасать свою собственную жизнь. Из темноты то и дело доносился истошный крик: «Лодка, лодка!» Они подцепляли и вытаскивали сначала вымокшего человека, а потом полузатопленную лодку, и скоро палуба была уставлена горками лодок, а на койках уже не оставалось свободных мест. Пять раз за вахту Гарви с Дэном приходилось бросаться к гафелю, привязанному к гику, и цепляться руками, ногами, зубами за канаты, рангоут или промокшую парусину, чтобы не оказаться за бортом. Одну лодку разнесло в щепы, а ее седока волна швырнула на палубу, раскроив ему череп. На рассвете, когда уже можно было разглядеть несущиеся белогривые волны, на палубу взобрался посиневший страшный человек с переломанной рукой и спросил, не видели ли они его брата. Во время завтрака за столом оказалось семь лишних ртов.
Весь следующий день шхуны приводили себя в порядок, и капитаны один за другим сообщали, что их команды в полном составе. Погибли два португальца да один старый рыбак из Глостера, но раненых было много. Две шхуны потеряли якоря, и их унесло далеко на юг — на три дня плавания. На французском судне, у которого «Мы здесь» выменяла табак, умер один член экипажа. Сырым, мглистым утром она тихо снялась с якоря и с повисшими парусами отплыла на глубокое место. Пользуясь подзорной трубой, Гарви наблюдал за похоронами. Он увидел лишь, как за борт опустили продолговатый сверток.
Никакой службы они, по-видимому, не служили, и только ночью, когда они стали на якорь, над усеянной звездами черной водой зазвучала грустная, похожая на псалом, песня.
Том Плэтт побывал на французской шхуне, потому что, объяснил он, умерший был, как и он, масоном. Оказалось, что волна бросила несчастного на бушприт и переломила ему спину.
Весть о гибели матроса разнеслась вокруг с быстротой молнии, потому что, вопреки обычаю, француз объявил аукцион вещей погибшего — у того не было ни друзей, ни родных на берегу, — и все его пожитки были выставлены на крышке рубки: от красной шапки до кожаного пояса с ножом в чехле. Дэн и Гарви находились в это время в «Хэтти С.» над глубиной в двадцать саженей и, конечно, не могли пропустить такое зрелище. Они долго гребли к шхуне, и, немного потолкавшись среди толпы на борту шхуны, Дэн купил нож с любопытной бронзовой ручкой. Спрыгнув в лодку и оттолкнувшись в моросящий дождь и морскую зыбь, они вдруг сообразили, что позабыли о своих лесках.
— Нам совсем не помешает согреться, — сказал Дэн, дрожа в своем дождевике, и они погребли в гущу белого тумана, который, как обычно, спустился на них без предупреждения.
— Здесь чертовски много течений, чтобы полагаться на чутье, — продолжал Дэн. — Брось-ка якорь, Гарв; половим здесь, пока эта штука не поднимется. Нацепи самое большое грузило. На этой глубине и три фунта будет не много. Видишь, как канат натянулся.
Какое-то безответственное течение до отказа натянуло якорный канат лодки, а туман был такой, что на расстоянии корпуса лодки не было ничего видно. Гарви поднял воротник куртки и с видом бывалого моряка нахохлился над катушкой лесы. Туман уже особенно не пугал его. Они какое-то время рыбачили молча, и клев был хороший. Затем Дэн вынул свой нож и попробовал, хорошо ли он заточен, резанув им по борту.
— Отличная штука, — сказал Гарви. — А почему за него так мало запросили?
— Это все из-за их дурацких католических предрассудков, — ответил Дэн, вонзая в лодку блестящее лезвие. — Нельзя, мол, брать железные вещи покойника. Видел, как эти французы отступили, когда я предложил цену?
— Но ведь на аукционе покойника не было. Это же чистый бизнес.
— Мы-то это знаем, а у них в мозгах одни предрассудки. Вот что значит жить в прогрессивном городе. — Дэн стал насвистывать залихватскую песенку.
— А почему не торговался рыбак из Истпорта? Сапоги ведь он купил. Или Мэйн, по-твоему, тоже не прогрессивный?
— Мэйн? Тьфу! Люди там бестолковые или просто нищие. Даже дома у них в Мэйне некрашеные. Сам видел. А тот рыбак из Истпорта сказал мне, что в прошлом году этот нож побывал в деле.
— Неужто покойник пырнул им кого-то?.. Подай-ка колотушку. — Гарви втащил рыбину, наживил крючок и забросил леску.
— Человека зарезал! Я как узнал про это, еще больше захотел заполучить нож.
— Господи! А я и не знал, — повернулся к нему Гарви. — Даю за него доллар… когда получу деньги. Нет, два доллара.
— Честно? Неужто он тебе так нравится? — спросил Дэн, покраснев. — Сказать по правде, я купил нож для тебя. Я тебе сразу его не отдал, потому что не знал, захочешь ли ты или нет. Так что, бери, Гарв. Как-никак мы с тобой в одной лодке ходим и так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее… Эй, держи!
— Но послушай, Дэн, зачем…
— Бери, бери! Мне он ни к чему. Пусть он будет твоим.
Соблазн был слишком велик.
— Дэн, ты настоящий человек, — сказал Гарви. — Я буду его хранить, пока жив.
— Приятно слышать, — ответил Дэн, радостно рассмеявшись, и заметил, явно желая переменить тему: — Смотри, твоя леска за что-то зацепилась.
— Запуталась, верно, — сказал Гарви и дернул за лесу. Но сначала он надел на себя ремень и с восторгом вслушивался, как ножны постукивали по банке. — Проклятье! — воскликнул он. — Можно подумать, что она зацепилась за клубничные водоросли. Но ведь здесь дно песчаное…
Дэн дотянулся до лесы и глубокомысленно хмыкнул.
— Так может вести себя палтус, если он не в настроении. Дно здесь не клубничное. Ну-ка дерни еще раз! Смотри, поддается… Давай лучше вытащим и посмотрим, в чем дело.
Они потянули вдвоем, при каждом обороте крепя леску, и на поверхность грузно выплыло что-то тяжелое.
— Везет тебе! Тянем-потя…
Его крик перешел в вопль ужаса, который одновременно издали оба мальчика. Из моря показалось… тело французского рыбака, похороненного два дня назад. Крючок зацепил его под мышкой, и его голова и плечи стояли, покачиваясь над водой. Его руки были прижаты к бокам, а лицо… лица не было. Мальчики попадали на дно лодки и боялись двинуться с места, пока эта ужасная вещь покачивалась на укороченной леске рядом с лодкой.
— Течение… Это течение его пригнало, — дрожащими губами сказал Гарви, пытаясь расстегнуть пояс.
— О боже! О Гарв! — стонал Дэн. — Быстрее! Он за ним пришел… Отдай ему! Сними пояс…
— Не нужен он мне! Он мне не нужен! — закричал Гарви. — Я- я не могу найти пряжку…
— Быстрей, Гарв! Он на твоей леске…
Гарви сел, чтобы легче было расстегнуть пояс, глядя на голову без лица и со струящимися волосами.
— Он еще наверху… — прошептал он Дэну, а тот вытащил свой нож и перерезал леску. Гарви тут же швырнул пояс далеко за борт.
Покойник, булькнув, погрузился в воду, а Дэн с лицом белее тумана осторожно встал на колени.
— Он за ножом приходил. Это точно. Я видел, как одного такого вытащили сетью, но тогда мне было не так страшно. А этот ведь специально пришел…
— Зачем, зачем только я взял этот нож! Он тогда бы на твоей леске оказался…
— Какая разница… Мы оба так перепугались, что постарели лет на десять… О Гарв, ты видел его голову?
— Еще бы. И никогда этого не забуду… Но послушай, Дэн, все произошло случайно. Это течение виновато.
— Течение! Он за ножом приходил, Гарв. Сам посуди, его бросили в воду милях в шести к югу от флотилии, а мы сейчас в двух милях от той шхуны. Мне сказали, что его обмотали куском якорной цепи.
— Интересно, что он натворил этим ножом… там, на французском побережье.
— Что-нибудь плохое. Он, наверно, будет носить его до судного дня, а потом… Что ты делаешь с рыбой?
— Выбрасываю за борт, — ответил Гарви.
— Зачем? Нам же ее не есть.
— Все равно. Пока я снимал пояс, мне пришлось смотреть ему в лицо. Свой улов можешь оставить. А мой мне ни к чему.
Дэн промолчал, но рыбу свою все-таки выбросил.
— Пожалуй, лучше поостеречься, — пробормотал он наконец. — Отдал бы свои деньги за месяц, только бы этот туман поднялся. В тумане такое случается, чего в ясную погоду и не представишь — разные там привидения, водяные… Знаешь, а хорошо, что он приплыл, а не пришел по воде. А ведь мог и прийти…
— Перестань, Дэн! Он сейчас как раз под нами. Как бы я хотел быть на шхуне, пусть даже от дядюшки Солтерса попадет.
— Нас скоро начнут разыскивать. Дай-ка мне дудку. — Дэн взял оловянный рожок, но дуть в него не стал.
— Давай, давай! — торопил его Гарви. — Не оставаться же здесь на ночь.
— Ну да, а вдруг этот услышит… Мне один рыбак рассказывал, что он как-то ходил на шхуне, на которой боялись созывать лодки рожком, потому что ее бывший шкипер напился и утопил своего юнгу, и с тех пор этот юнга подплывает к самому борту и кричит вместе со всеми: «Лодка, лодка!»
— Лодка! Лодка! — раздался приглушенный туманом голос.
Ребята попадали на дно, а рожок вывалился у Дэна из рук.
— Постой! — воскликнул Гарви. — Да это же наш кок.
— И чего это меня угораздило вспомнить эту дурацкую басню, — проворчал Дэн. — Конечно, это доктор!
— Дэн! Дэнни! Ау-у-у, Дэн! Гарв! А-у-у, Гарви!
— Мы здесь! — закричали оба мальчика. Они услышали стук весел, но блестящее и вспотевшее лицо кока увидели, только когда он выплыл прямо на них.
— Что стряслось? — спросил он. — Дома вам попадет.
— Только этого нам не хватало. Мы тут мучаемся, а они… — сказал Дэн. — Домой бы добраться, а там будь что будет. Ну и в компанию мы попали, док.
И он рассказал коку, что с ними приключилось.
— Точно! Он за своим ножом приходил. — Это было все, что сказал потом кок.
Никогда прежде маленькая, качающаяся «Мы здесь» не казалась им такой по-домашнему уютной, как теперь, когда кок, родившийся и выросший в туманах, подвез их к ее борту. Из рубки лился теплый, приятный свет, а из камбуза до них донесся привлекательный запах еды; голоса Диско и всех о. стальных — все были живы и здоровы — звучали божественно, хоть все они обещали задать им основательную трепку. Но кок оказался великим мастером стратегии. Он не стал поднимать лодку на борт, пока не поведал им о приключениях мальчиков, а Гарви он отвел роль талисмана, который способен спасти от любых напастей. Так что в конце концов мальчиков приняли на борт как настоящих героев и вместо обещанной трепки их со всех сторон засыпали вопросами. Малыш Пенн произнес целую речь о вреде предрассудков; но общественное мнение выступило против него и за Длинного Джека, который почти до полуночи сыпал устрашающими историями о привидениях. Под их-то влиянием никто, кроме Солтерса и Пенна, и словом не обмолвился об «идолопоклонничестве», когда кок поставил на доску зажженную свечу, положил на нее кусок замешенного на воде теста, насыпал щепотку соли и опустил доску на воду со стороны кормы на случай, если француз не успокоился. Свечку зажег Дэн, потому что пояс купил он, а кок бормотал заклинания до тех пор, пока прыгающий язычок пламени не исчез вдали.
Когда они, отстояв вахту, улеглись на своих койках, Гарви спросил Дэна:
— Ну так как насчет прогресса и католических предрассудков?
— Ха! Будь спокоен, я прогрессивный не меньше других. Но когда дело доходит до того, что какой-то мертвый француз из-за тридцатицентового ножа до смерти пугает двух несчастных мальчиков, тогда, извини меня, я целиком полагаюсь на кока. Не доверяю я иностранцам — ни живым, ни мертвым.
На следующее утро всем, кроме кока, было неловко из-за вчерашнего, и они работали с удвоенной энергией, изредка ворча друг на друга.
«Мы здесь» шла нос к носу с «Пэрри Норман», соревнуясь, кто из них наловит больше рыбы. Дело дошло до того, что остальные шхуны разделились на два лагеря, заключая пари на табак за ту или другую. Экипаж обеих шхун работал от зари до зари, то вытаскивая из воды рыбу, то на разделке, и засыпал прямо на месте. Даже коку пришлось перебрасывать рыбу, а Гарви отправили в трюм подавать соль; Дэн же занимался разделкой.
Шхуне «Пэрри Норман» не повезло: один из членов ее экипажа растянул себе ногу, и «Мы здесь» победила. Гарви представить себе не мог, как в трюме поместится хоть еще одна рыбина, но Диско и Том Плэтт всё находили и находили для нее место и прессовали ее большими камнями из балласта, и каждый раз оставалось работы «еще на денек — другой». Диско скрыл от них, что соль кончилась. Он просто пошел в помещение рядом с рубкой и начал вытаскивать оттуда большой грот. Это было в десять утра. К двенадцати, когда они поставили грот и топсель, к шхуне стали подходить завидовавшие их удаче лодки с других шхун, чтобы передать домой письма. Наконец все было готово, на мачту взлетел флаг — право первой шхуны, отплывающей с Отмелей, — «Мы здесь» снялась с якоря и тронулась в путь. Притворяясь, будто он хочет услужить тем, кто не успел передать с ним письма. Диско аккуратно повел судно от одной шхуны к другой. На деле он совершал победное шествие, потому что пятый год подряд он доказывал, какой он хороший мореход. В сопровождении гармоники Дэна и скрипки Тома Плэтта они запели волшебную песню, которая исполняется только тогда, когда замочена вся соль:
Вскоре косяк ушел с этого места, и через пять минут, кроме всплеска бросаемых за борт якорей, шлепков о воду трески и стука колотушек, которыми глушили рыбу, вокруг не было слышно ни звука. Рыбалка была чудесная. Гарви видел, как в глубине медленно, небольшими стайками проплывала мерцающая треска и брала, брала наживку без остановки. По закону Отмелей в районе скалы Вирджин или Восточной мели на одну лесу разрешалось ставить только один крючок, но лодки стояли здесь так близко друг к другу, что даже одинарные лесы ухитрялись запутываться, и скоро Гарви затеял из-за этого перебранку сразу с двумя рыбаками: тихим волосатым ньюфаундлендцем и буйным португальцем.
Но по-настоящему страсти накалялись, когда под водой запутывалась якорная снасть. Ведь рыбаки бросали якорь там, где им заблагорассудится, и кружились вокруг одной этой точки. Когда клев ослабевал, каждому хотелось перебраться на другое место, но тут он обнаруживал, что самым тесным образом связан с четырьмя или пятью своими соседями. Рубить чужую снасть — преступление неслыханное, однако в тот день произошло три или четыре таких случая. А потом Том Плэтт застал за черным делом одного рыбака из Мэйна и ударом весла свалил его в воду; точно так же поступил Мануэль с одним из своих соотечественников. И все-таки якорный канат Гарви был перерезан, и Пенна тоже, и их лодки использовали для переброски рыбы на «Мы здесь». Когда наступили сумерки, снова появился косяк мелкой рыбы и снова поднялся страшный шум и гам. А с темнотой все погребли на свои шхуны, чтобы разделывать треску при свете керосиновых ламп, установленных на краю ларей.
Рыбы было много, и рыбаки уснули прямо во время разделки. На следующий день несколько лодок рыбачили прямо под скалой Вирджин, и Гарви, оказавшийся среди них, с интересом разглядывал эту поросшую водорослями одинокую скалу, вершина которой отстояла от поверхности моря всего на двадцать футов.
Трески там было неимоверное количество, и она торжественно проплывала над коричневатыми, словно сделанными из кожи, водорослями. Когда треска клюет, она клюет всем косяком и точно так же прекращает клевать. В полдень работы стало меньше, и лодки начали искать, чем бы развлечься. Вот тут Дэн и заметил приближение «Надежды Праги», и когда ее лодки подошли поближе, их встретили вопросом:
— Кто самый подлый из всех рыбаков?
Три сотни голосов радостно ответили:
— Ник Брэди!
— Кто стащил фитили от ламп?
— Ник Брэди! — пропел хор.
Вообще-то Ник Брэди не был особенно подлым, но он пользовался такой репутацией, и рыбаки доводили его как могли. Потом обнаружили рыбака со шхуны из Труро, которого шесть лет назад уличили в том, что он надевал на леску пять, а то и шесть крючков — делал «жадину», по выражению рыбаков. Естественно, что его прозвали «Жадина Джим», и хотя он с тех пор здесь почти не рыбачил, теперь ему досталось за всё. Все, как один, закричали хором: «Джим! О Джим! О Джим! Жадина Джим!» Все были довольны. А когда один доморощенный поэт — он сочинял эту строчку весь день, а вспоминал о ней не одну неделю — пропел: «Кэрри Питмен» хороша, но не стоит и гроша!», все решили, что им здорово повезло. А потом досталось и самому поэту, так как даже поэтам нельзя прощать их ошибок. Так они перебрали каждую шхуну и едва ли не каждого рыбака. Если был где-нибудь плохой и неопрятный кок, лодки хором прославляли и его и его пищу. Если какая-нибудь шхуна взяла на борт мало припасов, об этом тут же становилось известно всему свету. Если кто-то стащил у приятеля табак, все выкрикивали хором его имя, и оно перекатывалось с волны на волну.
Безошибочные суждения Диско, судно Длинного Джека, которое он продал несколько лет назад, возлюбленная Дэна (о, как кипятился Дэн!), то, как Пенну не везло с лодочными якорями, взгляды Солтерса на удобрения, невинные похождение Мануэля и женская манера грести Гарви — все перебрали веселые рыбаки. А когда под лучами солнца лодки стало окутывать серебристым туманом, их голоса зазвучали будто голоса невидимых судей, выносящих приговор.
Лодки перемещались с места на место, рыбачили и перебранивались, покуда волна не заставила их отойти на безопасное расстояние друг от друга. И тут кто-то крикнул, что если так будет продолжаться и дальше, то при такой волне Вирджин, чего доброго, опрокинется. Какой-то отчаянный рыбак-ирландец со своим племянником решил показать свою удаль, подтянул якорь и погреб прямо на скалу. Одни голоса просили их не делать этого, другие подзадоривали. Большой, с гладкой спиной вал пронесся к югу, поднял лодку в туманную высь и бросил ее в страшную, затягивающую пучину, где она завертелась вокруг своего якоря в одном — двух футах от невидимой скалы. За свое хвастовство они могли поплатиться жизнью, и все затаив дыхание наблюдали за этой затеей. Длинный Джек не выдержал, с трудом подгреб к своему соотечественнику сзади и перерезал его якорный канат.
— Не слышишь, как бьет? — закричал он. — Убирайся отсюда, пока жив!
Те стали браниться и спорить, а лодку тем временем отнесло в сторону. В это же мгновенье следующий вал приостановился, как человек, споткнувшийся о ковер. Послышалось басовитое всхлипывание и нарастающий рев, и Вирджин взметнула вверх гору пенящейся воды, белой, бешеной и ужасной. Тут все лодки громко зааплодировали Джеку, а те двое замолкли, словно язык проглотили.
— Как красиво! — радовался Дэн, подпрыгивая, как молодой теленок. — Она теперь каждые полчаса будет такое выделывать, если только волна не станет побольше. Сколько времени проходит от удара до удара, Том Плэтт?
— Пятнадцать минут, секунда в секунду… Гарв, тебе довелось увидеть самую удивительную штуку на Отмелях. Правда, если бы не Длинный Джек, ты бы увидел, как тонут люди.
Оттуда, где туман был погуще, донеслись радостные возгласы, и шхуны стали позванивать в свои колокола. Из тумана осторожно выполз нос большой бригантины, и ирландцы встретили ее криками: «Не бойся, подплывай, дорогуша!»
— Еще один француз? — удивился Гарви.
— Где твои глаза? Это судно из Балтиморы. Видишь, идет и сама дрожит от страха, — ответил Дэн. — Ну и достанется ей от нас! Наверно, ее шкипер впервые оказался в такой толчее.
Это было черное, объемистое судно водоизмещением в восемьдесят тонн. Его грот был подвязан, а топсель нерешительно хлопал на небольшом ветру. Из всех дочерей моря бригантина самое «женственное существо», а это долговязое, нерешительное создание с белым позолоченным украшением на носу очень напоминало смущенную женщину, приподнявшую свои юбки, чтобы пересечь грязную улицу, и сопровождаемую насмешками озорных мальчишек. Примерно в таком положении оказалась и бригантина. Она знала, что находится где-то поблизости от скалы Вирджин, услышала рев и поэтому спрашивала, как пройти. Вот лишь небольшая часть того, что ей пришлось выслушать от рыбаков:
— Вирджин? Да что ты? Это Ле Хейв в воскресное утро. Иди-ка проспись.
— Возвращайся домой, салага! Возвращайся домой и передай, что скоро и мы придем.
Корма бригантины погрузилась в пузырящуюся воду, и хор из полдюжины голосов стройно пропел:
— Ну-ка, Вирджин, поддай ей жару!
— Ставь все паруса! Спасайся, пока не поздно! Ты как раз над ней.
— Спускай! Спускай паруса! Все до одного!
— Всем к помпам!
— Спускай кливер и действуй баграми!
Тут терпение шкипера лопнуло, и он дал волю своему красноречию. Мгновенно все побросали рыболовную снасть, чтобы достойно ему ответить, и шкипер узнал много любопытного о своем судне и о порте, куда оно шло. Его спросили, застраховался ли он, где он стащил этот якорь, потому что он-де принадлежал «Кэрри Питмен»; его шхуну обозвали мусорной шаландой и обвинили в том, что она засоряет море и распугивает рыбу; кто-то предложил взять его на буксир, а счет за услуги представить жене; а один нахальный юноша подгреб к самой корме бригантины, шлепнул по ней ладонью и прокричал:
— Встряхнись, лошадка!
Кок осыпал его золой из печки, а тот юноша ответил ему тресковыми головами. Команда бригантины стала швырять в лодки кусками угля, а рыбаки пригрозили взять судно на абордаж.
Если бы бригантине грозила настоящая опасность, то ее непременно бы предупредили, но, зная, что она находится далеко от скалы, рыбаки не упускали возможности повеселиться. Их веселью пришел конец, когда в полумиле от них Вирджин снова заговорила в полный голос, и несчастная бригантина поставила все паруса и пошла своей дорогой. Лодки же решили, что победа осталась за ними.
Всю ту ночь Вирджин хрипло ревела, а на следующее утро перед глазами Гарви предстал сердитый, клокочущий океан, на белоголовых волнах которого, мельтеша мачтами, качались шхуны, ждавшие, кто начнет рыбачить первым. До десяти часов на воду не спустилась ни одна лодка, и лишь потом пример подали братья Джерральды с «Дневного Светила», вообразившие, что стало потише. Через минуту к ним присоединились многие другие; Диско Троп, однако, заставил свою команду заниматься разделкой. Он не видел смысла в безрассудстве, и к вечеру, когда разыгрался шторм, они получили приятную возможность принимать у себя промокших незнакомцев, искавших любого убежища от шторма. Мальчики с лампами в руках стояли у блоков, а принимавшие лодки взрослые одним глазом косились на набегавшую волну, чтобы в случае нужды бросить все и спасать свою собственную жизнь. Из темноты то и дело доносился истошный крик: «Лодка, лодка!» Они подцепляли и вытаскивали сначала вымокшего человека, а потом полузатопленную лодку, и скоро палуба была уставлена горками лодок, а на койках уже не оставалось свободных мест. Пять раз за вахту Гарви с Дэном приходилось бросаться к гафелю, привязанному к гику, и цепляться руками, ногами, зубами за канаты, рангоут или промокшую парусину, чтобы не оказаться за бортом. Одну лодку разнесло в щепы, а ее седока волна швырнула на палубу, раскроив ему череп. На рассвете, когда уже можно было разглядеть несущиеся белогривые волны, на палубу взобрался посиневший страшный человек с переломанной рукой и спросил, не видели ли они его брата. Во время завтрака за столом оказалось семь лишних ртов.
Весь следующий день шхуны приводили себя в порядок, и капитаны один за другим сообщали, что их команды в полном составе. Погибли два португальца да один старый рыбак из Глостера, но раненых было много. Две шхуны потеряли якоря, и их унесло далеко на юг — на три дня плавания. На французском судне, у которого «Мы здесь» выменяла табак, умер один член экипажа. Сырым, мглистым утром она тихо снялась с якоря и с повисшими парусами отплыла на глубокое место. Пользуясь подзорной трубой, Гарви наблюдал за похоронами. Он увидел лишь, как за борт опустили продолговатый сверток.
Никакой службы они, по-видимому, не служили, и только ночью, когда они стали на якорь, над усеянной звездами черной водой зазвучала грустная, похожая на псалом, песня.
Том Плэтт побывал на французской шхуне, потому что, объяснил он, умерший был, как и он, масоном. Оказалось, что волна бросила несчастного на бушприт и переломила ему спину.
Весть о гибели матроса разнеслась вокруг с быстротой молнии, потому что, вопреки обычаю, француз объявил аукцион вещей погибшего — у того не было ни друзей, ни родных на берегу, — и все его пожитки были выставлены на крышке рубки: от красной шапки до кожаного пояса с ножом в чехле. Дэн и Гарви находились в это время в «Хэтти С.» над глубиной в двадцать саженей и, конечно, не могли пропустить такое зрелище. Они долго гребли к шхуне, и, немного потолкавшись среди толпы на борту шхуны, Дэн купил нож с любопытной бронзовой ручкой. Спрыгнув в лодку и оттолкнувшись в моросящий дождь и морскую зыбь, они вдруг сообразили, что позабыли о своих лесках.
— Нам совсем не помешает согреться, — сказал Дэн, дрожа в своем дождевике, и они погребли в гущу белого тумана, который, как обычно, спустился на них без предупреждения.
— Здесь чертовски много течений, чтобы полагаться на чутье, — продолжал Дэн. — Брось-ка якорь, Гарв; половим здесь, пока эта штука не поднимется. Нацепи самое большое грузило. На этой глубине и три фунта будет не много. Видишь, как канат натянулся.
Какое-то безответственное течение до отказа натянуло якорный канат лодки, а туман был такой, что на расстоянии корпуса лодки не было ничего видно. Гарви поднял воротник куртки и с видом бывалого моряка нахохлился над катушкой лесы. Туман уже особенно не пугал его. Они какое-то время рыбачили молча, и клев был хороший. Затем Дэн вынул свой нож и попробовал, хорошо ли он заточен, резанув им по борту.
— Отличная штука, — сказал Гарви. — А почему за него так мало запросили?
— Это все из-за их дурацких католических предрассудков, — ответил Дэн, вонзая в лодку блестящее лезвие. — Нельзя, мол, брать железные вещи покойника. Видел, как эти французы отступили, когда я предложил цену?
— Но ведь на аукционе покойника не было. Это же чистый бизнес.
— Мы-то это знаем, а у них в мозгах одни предрассудки. Вот что значит жить в прогрессивном городе. — Дэн стал насвистывать залихватскую песенку.
— А почему не торговался рыбак из Истпорта? Сапоги ведь он купил. Или Мэйн, по-твоему, тоже не прогрессивный?
— Мэйн? Тьфу! Люди там бестолковые или просто нищие. Даже дома у них в Мэйне некрашеные. Сам видел. А тот рыбак из Истпорта сказал мне, что в прошлом году этот нож побывал в деле.
— Неужто покойник пырнул им кого-то?.. Подай-ка колотушку. — Гарви втащил рыбину, наживил крючок и забросил леску.
— Человека зарезал! Я как узнал про это, еще больше захотел заполучить нож.
— Господи! А я и не знал, — повернулся к нему Гарви. — Даю за него доллар… когда получу деньги. Нет, два доллара.
— Честно? Неужто он тебе так нравится? — спросил Дэн, покраснев. — Сказать по правде, я купил нож для тебя. Я тебе сразу его не отдал, потому что не знал, захочешь ли ты или нет. Так что, бери, Гарв. Как-никак мы с тобой в одной лодке ходим и так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее… Эй, держи!
— Но послушай, Дэн, зачем…
— Бери, бери! Мне он ни к чему. Пусть он будет твоим.
Соблазн был слишком велик.
— Дэн, ты настоящий человек, — сказал Гарви. — Я буду его хранить, пока жив.
— Приятно слышать, — ответил Дэн, радостно рассмеявшись, и заметил, явно желая переменить тему: — Смотри, твоя леска за что-то зацепилась.
— Запуталась, верно, — сказал Гарви и дернул за лесу. Но сначала он надел на себя ремень и с восторгом вслушивался, как ножны постукивали по банке. — Проклятье! — воскликнул он. — Можно подумать, что она зацепилась за клубничные водоросли. Но ведь здесь дно песчаное…
Дэн дотянулся до лесы и глубокомысленно хмыкнул.
— Так может вести себя палтус, если он не в настроении. Дно здесь не клубничное. Ну-ка дерни еще раз! Смотри, поддается… Давай лучше вытащим и посмотрим, в чем дело.
Они потянули вдвоем, при каждом обороте крепя леску, и на поверхность грузно выплыло что-то тяжелое.
— Везет тебе! Тянем-потя…
Его крик перешел в вопль ужаса, который одновременно издали оба мальчика. Из моря показалось… тело французского рыбака, похороненного два дня назад. Крючок зацепил его под мышкой, и его голова и плечи стояли, покачиваясь над водой. Его руки были прижаты к бокам, а лицо… лица не было. Мальчики попадали на дно лодки и боялись двинуться с места, пока эта ужасная вещь покачивалась на укороченной леске рядом с лодкой.
— Течение… Это течение его пригнало, — дрожащими губами сказал Гарви, пытаясь расстегнуть пояс.
— О боже! О Гарв! — стонал Дэн. — Быстрее! Он за ним пришел… Отдай ему! Сними пояс…
— Не нужен он мне! Он мне не нужен! — закричал Гарви. — Я- я не могу найти пряжку…
— Быстрей, Гарв! Он на твоей леске…
Гарви сел, чтобы легче было расстегнуть пояс, глядя на голову без лица и со струящимися волосами.
— Он еще наверху… — прошептал он Дэну, а тот вытащил свой нож и перерезал леску. Гарви тут же швырнул пояс далеко за борт.
Покойник, булькнув, погрузился в воду, а Дэн с лицом белее тумана осторожно встал на колени.
— Он за ножом приходил. Это точно. Я видел, как одного такого вытащили сетью, но тогда мне было не так страшно. А этот ведь специально пришел…
— Зачем, зачем только я взял этот нож! Он тогда бы на твоей леске оказался…
— Какая разница… Мы оба так перепугались, что постарели лет на десять… О Гарв, ты видел его голову?
— Еще бы. И никогда этого не забуду… Но послушай, Дэн, все произошло случайно. Это течение виновато.
— Течение! Он за ножом приходил, Гарв. Сам посуди, его бросили в воду милях в шести к югу от флотилии, а мы сейчас в двух милях от той шхуны. Мне сказали, что его обмотали куском якорной цепи.
— Интересно, что он натворил этим ножом… там, на французском побережье.
— Что-нибудь плохое. Он, наверно, будет носить его до судного дня, а потом… Что ты делаешь с рыбой?
— Выбрасываю за борт, — ответил Гарви.
— Зачем? Нам же ее не есть.
— Все равно. Пока я снимал пояс, мне пришлось смотреть ему в лицо. Свой улов можешь оставить. А мой мне ни к чему.
Дэн промолчал, но рыбу свою все-таки выбросил.
— Пожалуй, лучше поостеречься, — пробормотал он наконец. — Отдал бы свои деньги за месяц, только бы этот туман поднялся. В тумане такое случается, чего в ясную погоду и не представишь — разные там привидения, водяные… Знаешь, а хорошо, что он приплыл, а не пришел по воде. А ведь мог и прийти…
— Перестань, Дэн! Он сейчас как раз под нами. Как бы я хотел быть на шхуне, пусть даже от дядюшки Солтерса попадет.
— Нас скоро начнут разыскивать. Дай-ка мне дудку. — Дэн взял оловянный рожок, но дуть в него не стал.
— Давай, давай! — торопил его Гарви. — Не оставаться же здесь на ночь.
— Ну да, а вдруг этот услышит… Мне один рыбак рассказывал, что он как-то ходил на шхуне, на которой боялись созывать лодки рожком, потому что ее бывший шкипер напился и утопил своего юнгу, и с тех пор этот юнга подплывает к самому борту и кричит вместе со всеми: «Лодка, лодка!»
— Лодка! Лодка! — раздался приглушенный туманом голос.
Ребята попадали на дно, а рожок вывалился у Дэна из рук.
— Постой! — воскликнул Гарви. — Да это же наш кок.
— И чего это меня угораздило вспомнить эту дурацкую басню, — проворчал Дэн. — Конечно, это доктор!
— Дэн! Дэнни! Ау-у-у, Дэн! Гарв! А-у-у, Гарви!
— Мы здесь! — закричали оба мальчика. Они услышали стук весел, но блестящее и вспотевшее лицо кока увидели, только когда он выплыл прямо на них.
— Что стряслось? — спросил он. — Дома вам попадет.
— Только этого нам не хватало. Мы тут мучаемся, а они… — сказал Дэн. — Домой бы добраться, а там будь что будет. Ну и в компанию мы попали, док.
И он рассказал коку, что с ними приключилось.
— Точно! Он за своим ножом приходил. — Это было все, что сказал потом кок.
Никогда прежде маленькая, качающаяся «Мы здесь» не казалась им такой по-домашнему уютной, как теперь, когда кок, родившийся и выросший в туманах, подвез их к ее борту. Из рубки лился теплый, приятный свет, а из камбуза до них донесся привлекательный запах еды; голоса Диско и всех о. стальных — все были живы и здоровы — звучали божественно, хоть все они обещали задать им основательную трепку. Но кок оказался великим мастером стратегии. Он не стал поднимать лодку на борт, пока не поведал им о приключениях мальчиков, а Гарви он отвел роль талисмана, который способен спасти от любых напастей. Так что в конце концов мальчиков приняли на борт как настоящих героев и вместо обещанной трепки их со всех сторон засыпали вопросами. Малыш Пенн произнес целую речь о вреде предрассудков; но общественное мнение выступило против него и за Длинного Джека, который почти до полуночи сыпал устрашающими историями о привидениях. Под их-то влиянием никто, кроме Солтерса и Пенна, и словом не обмолвился об «идолопоклонничестве», когда кок поставил на доску зажженную свечу, положил на нее кусок замешенного на воде теста, насыпал щепотку соли и опустил доску на воду со стороны кормы на случай, если француз не успокоился. Свечку зажег Дэн, потому что пояс купил он, а кок бормотал заклинания до тех пор, пока прыгающий язычок пламени не исчез вдали.
Когда они, отстояв вахту, улеглись на своих койках, Гарви спросил Дэна:
— Ну так как насчет прогресса и католических предрассудков?
— Ха! Будь спокоен, я прогрессивный не меньше других. Но когда дело доходит до того, что какой-то мертвый француз из-за тридцатицентового ножа до смерти пугает двух несчастных мальчиков, тогда, извини меня, я целиком полагаюсь на кока. Не доверяю я иностранцам — ни живым, ни мертвым.
На следующее утро всем, кроме кока, было неловко из-за вчерашнего, и они работали с удвоенной энергией, изредка ворча друг на друга.
«Мы здесь» шла нос к носу с «Пэрри Норман», соревнуясь, кто из них наловит больше рыбы. Дело дошло до того, что остальные шхуны разделились на два лагеря, заключая пари на табак за ту или другую. Экипаж обеих шхун работал от зари до зари, то вытаскивая из воды рыбу, то на разделке, и засыпал прямо на месте. Даже коку пришлось перебрасывать рыбу, а Гарви отправили в трюм подавать соль; Дэн же занимался разделкой.
Шхуне «Пэрри Норман» не повезло: один из членов ее экипажа растянул себе ногу, и «Мы здесь» победила. Гарви представить себе не мог, как в трюме поместится хоть еще одна рыбина, но Диско и Том Плэтт всё находили и находили для нее место и прессовали ее большими камнями из балласта, и каждый раз оставалось работы «еще на денек — другой». Диско скрыл от них, что соль кончилась. Он просто пошел в помещение рядом с рубкой и начал вытаскивать оттуда большой грот. Это было в десять утра. К двенадцати, когда они поставили грот и топсель, к шхуне стали подходить завидовавшие их удаче лодки с других шхун, чтобы передать домой письма. Наконец все было готово, на мачту взлетел флаг — право первой шхуны, отплывающей с Отмелей, — «Мы здесь» снялась с якоря и тронулась в путь. Притворяясь, будто он хочет услужить тем, кто не успел передать с ним письма. Диско аккуратно повел судно от одной шхуны к другой. На деле он совершал победное шествие, потому что пятый год подряд он доказывал, какой он хороший мореход. В сопровождении гармоники Дэна и скрипки Тома Плэтта они запели волшебную песню, которая исполняется только тогда, когда замочена вся соль:
ГЛАВА IX
Какие бы у него ни были личные переживания, мультимиллионер, как и всякий деловой человек, должен прежде всего заниматься делами. Гарви Чейн-старший отправился на восток в конце июня и застал свою жену в полном расстройстве; она почти потеряла рассудок и днем и ночью вспоминала, как в серых волнах утонул ее сын. Муж окружил ее врачами, опытными сиделками, массажистками и даже знахарками, но все было бесполезно. Миссис Чейн все время лежала в постели и стонала или часами не переставая рассказывала о своем сыне, если было кому слушать. Надежды у нее не осталось никакой, да и кто теперь мог внушить ее? Сейчас ей нужно было знать лишь одно: больно ли человеку, когда он тонет. И ее мужу пришлось все время следить, как бы она не захотела испробовать это на себе. О своих переживаниях он говорил мало и даже не представлял их глубину, пока однажды не поймал себя на том, что обратился к календарю на письменном столе со словами: «Какой смысл в такой жизни?» Он, бывало, тешил себя приятной мыслью, что в один прекрасный день, когда он окончательно приведет в порядок свои дела и когда его сын окончит колледж, он допустит сына к своему сердцу и введет его в свои владения. Тогда этот мальчик, утверждал он, как все занятые отцы, мгновенно станет его компаньоном, партнером и союзником, и последуют великолепные годы великих проектов, которые они осуществят вместе — опыт и молодой задор. А теперь его сын мертв — пропал в море, как какой-нибудь матрос с одного из кораблей Чейна, перевозящих чай; его жена умирает, а его самого осаждают полчища женщин, врачей, сестер и слуг, его, доведенного до крайности капризами несчастной, больной жены. Из-за всего этого у него не было сил и желания бороться со своими многочисленными конкурентами. Он сидел на веранде своего нового дома в Сан-Диего между секретарем и машинисткой, которая выполняла также обязанности телеграфистки, и без всякой охоты занимался своими обычными делами. Чейн раздумывал, во что ему обойдется закрытие всех своих предприятий. У него было множество акций страховых компаний, он мог купить себе королевскую пожизненную ренту, проводя время то в одном из своих домов в Колорадо, то в узком кругу друзей где-нибудь в Вашингтоне или на островах Южной Каролины, мог забыть о проектах, из которых ничего не получилось. С другой стороны… Стук машинки прекратился. Девушка смотрела на секретаря, лицо которого побелело. Он протянул Чейну телеграмму, пришедшую из Сан-Франциско: «Подобран рыболовной шхуной «Мы здесь» когда упал с парохода очень хорошо рыбачил Отмелях все отлично жду денег или указаний в Глостере у Диско Тропа телеграфируй что делать и как мама Гарви Н. Чейн». Отец выронил телеграмму, опустил голову на крышку письменного стола и тяжело задышал. Секретарь побежал за врачом миссис Чейн, но когда тот пришел, Чейн расхаживал по веранде взад и вперед. — Что… что вы об этом думаете? Возможно ли такое? Что это значит? Я не могу себе этого представить, — допытывался он у врача. — А я могу, — ответил доктор. — Я теряю семь тысяч долларов в год… Вот и все. — Он подумал о своей нелегкой работе в Нью-Йорке, которую он оставил ради Чейна, и со вздохом возвратил ему телеграмму. — Значит, вы ей скажете? А вдруг это обман? — Чего ради? — спокойно возразил доктор. — Очень легко проверить. Несомненно, это ваш мальчик. Вошла горничная-француженка, уверенно, как незаменимый человек, услуги которого стоят больших денег. — Миссис Чейн просит вас немедленно прийти. Она думать, ви больной. Владелец тридцати миллионов покорно склонил голову и последовал за Сюзанной, а с верхней площадки широкой, белого дерева лестницы доносился высокий, тонкий голос: — В чем дело? Что случилось? Вопль эхом пролетел по всему дому, когда муж рассказал ей о телеграмме. — Ну, это не страшно, — спокойно сказал доктор машинистке. — Когда в романах пишут, что радость не убивает, это, пожалуй, единственное из области медицины, в чем они не ошибаются, мисс Кинзи. — Я знаю, но извините, у нас масса работы. Мисс Кинзи была родом из Милуоки и отличалась прямотой суждений, к тому же ее симпатии были на стороне секретаря. А секретарь внимательно рассматривал огромную карту Америки, висевшую на стене. — Милсом, мы немедленно отправляемся. Вагон доставить прямо в Бостон! Организуйте стыковки! — прокричал сверху Чейн. — Я так и думал. Секретарь повернулся к машинистке, и их глаза встретились (из этого родилась новая история, но к настоящей она отношения не имеет). Она глядела на него вопросительно, будто сомневалась, справится ли он с задачей. Он подал ей знак перейти к телеграфу Морзе, подобно генералу, вводящему войска в бой. Затем он артистично провел рукой по своим волосам, поглядел на потолок и приступил к работе, а белые пальцы мисс Кинзи легли на ключ телеграфного аппарата.«К.-Г. Уэйду, Лос-Анжелес…»— «Констанс» в Лос-Анджелесе, верно ведь, мисс Кинзи? — Да, — кивнула мисс Кинзи, а секретарь посмотрел на часы. — Готовы?
«Пришлите салон-вагон «Констанс» сюда и организуйте отправление специального отсюда в воскресенье, чтобы выйти на дорогу «Нью-Йорк лимитед» в следующий вторник».Пип-пип-пип! — стучал аппарат. — А быстрее нельзя? — Не по такой дороге. Отсюда до Чикаго им потребуется часов шестьдесят. Они ничего не выиграют, если поедут на специальном дальше на восток… Готовы?
«Организуйте транспортировку «Констанс» в Нью-Йорк, Олбани и Бостон. Мне необходимо быть в Бостоне вечером в среду. Обеспечьте сквозное движение. Телеграфировал также Каниффу, Туей и Барнсу».Мисс Кинзи кивнула, а секретарь продолжал: — Так вот. Теперь пошлем телеграммы Каниффу, Туей и Барнсу. Вы когда-нибудь бывали в Нью-Йорке, мисс Кинзи? Ничего, еще съездите… Готовы? — В Нью-Йорке я не была, но знаю, что это такое, — ответила мисс Кинзи, тряхнув прической. — Простите… Значит, так: мы дали знать в Бостон и Олбани. Прибытие в девять пять в среду. Итак, кажется, все. — Великолепно, — сказала мисс Кинзи, восхищенно глядя на него. Такого мужчину она понимала и ценила. — Да, неплохо, — скромно признался Милсом. — Другой бы на моем месте часов тридцать порастерял да еще неделю потратил, чтобы разработать маршрут. — Что верно, то верно, — сказала она, приходя в себя. — Но все-таки о мальчике вы позабыли. Не дать ли и ему телеграмму тоже? — Я спрошу. Когда он вернулся с телеграммой для Гарви, в которой отец просил встретить его в Бостоне в определенное время, он увидел, что мисс Кинзи заливается от смеха, склонившись над машинкой. Милсом тоже засмеялся, потому что из Лос-Анджелеса пришла паническая телеграмма такого содержания:Подпись: «Чейн».
«Сообщите в чем дело Все в полном недоумении и растерянности».Через десять минут пришло сообщение из Чикаго:
«Если раскрыто преступление века, не забудьте вовремя сообщить друзьям. Наши газеты готовы поместить материал».В довершение всего пришла телеграмма из города Топека (даже Милсом не мог сказать, какое отношение имел к этому Топека):
«Полковник не стреляйте. Мы к вашим услугам».Прочтя эти сообщения, Чейн мрачно усмехнулся, увидев, что его противники сбиты с толку. — Они решили, что мы ступили на тропу войны. Милсом, сообщите, что сейчас нам пока не до этого. Скажите им, в чем дело. Вам с мисс Кинзи тоже придется поехать, хоть я и не думаю, чтобы мы по пути занимались делами. Скажите им правду… на сей раз. Так и было сделано. Мисс Кинзи отстучала сообщение, а секретарь добавил историческую фразу: «Пусть наступит мир». И в двух тысячах миль отсюда представители различных железнодорожных компаний вздохнули свободнее. Чейн отправляется за сыном, который каким-то чудом отыскался. Медведь ищет своего медвежонка, а не рыщет за добычей. И суровые люди, вытащившие было ножи, чтобы защищать свое богатство, убрали оружие прочь, чтобы пожелать ему удачи, а полдюжины ударившихся в панику маленьких дорог подняли головы и заговорили о том, какие кары были уготованы Чейну, не реши он заключить мир. Теперь, когда все успокоились, наступила горячая пора для телеграфистов, потому что города и люди спешили на помощь Чейну. Из Лос-Анджелеса сообщили в Сан-Диего и Барстоу, что машинисты Южной Калифорнии поставлены в известность и находятся в полной готовности; из Барстоу послали телеграммы во все пункты по пути следования специального поезда до самого Чикаго. Локомотив, вагон для паровозной бригады и великолепный, с золотой отделкой салон-вагон «Констанс» будут без задержки «переправлены» через расстояние в две тысячи триста пятьдесят миль. Этот состав будут обслуживать раньше всех остальных ста семидесяти семи поездов; все их бригады и машинисты должны быть извещены об этом. Потребуется шестнадцать локомотивов, столько же машинистов и помощников, все самые опытные и надежные. На замену локомотива отводится две с половиной минуты, на заправку водой — три, на погрузку угля — две минуты.
Несколько лет спустя в другом конце Америки по извилистой улице, по обеим сторонам которой стояли богатые особняки, сделанные из дерева с имитацией под камень, шел сквозь липкий туман молодой человек. Он остановился у ворот из кованых железных прутьев, а в это время верхом на прекрасной лошади к нему подъехал другой молодой человек. — Привет, Дэн! — Привет, Гарв! — Ну, что из тебя получилось? — Из меня вышло то, что называется вторым помощником. Ну, а ты, наконец, разделался со своим распрекрасным колледжем? — К этому идет. Следующей осенью начинаю заниматься делом. — То есть нашими кораблями? — Совершенно верно. Смотри, доберусь я до тебя! Вы у меня там все попляшете! — Что ж, рискнем, — сказал Дэн, приветливо ухмыляясь, а Гарви слез с лошади и предложил зайти в дом. — Для этого я и приехал. Слушай, а где наш доктор? Когда-нибудь я утоплю этого черта со всеми его предсказаниями и прочим! Из тумана послышался тихий, торжествующий смех, и бывший кок шхуны «Мы здесь» подошел к лошади и взял ее под уздцы. Он никого не подпускал к Гарви и лично выполнял все его пожелания. — Темень как на Отмелях, верно, доктор? — милостиво сказал Дэн. Но черный, как уголь, кельт со способностями пророка не счел нужным отвечать, прежде чем не похлопал Дэна по плечу, и только тогда в двадцатый раз прокаркал ему в ухо свое старое, старое пророчество: — Хозяин — слуга, хозяин — слуга. Помнишь, Дэн Троп, что я сказал? Тогда, на «Мы здесь»? — Что ж, не стану отрицать, пока что дело обстоит именно так, — сказал Дэн. — Отличная была шхуна, и я так или иначе ей очень обязан… Ей и отцу… — И я тоже, — сказал Гарви Чейн.

Последние комментарии
1 день 21 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 10 часов назад